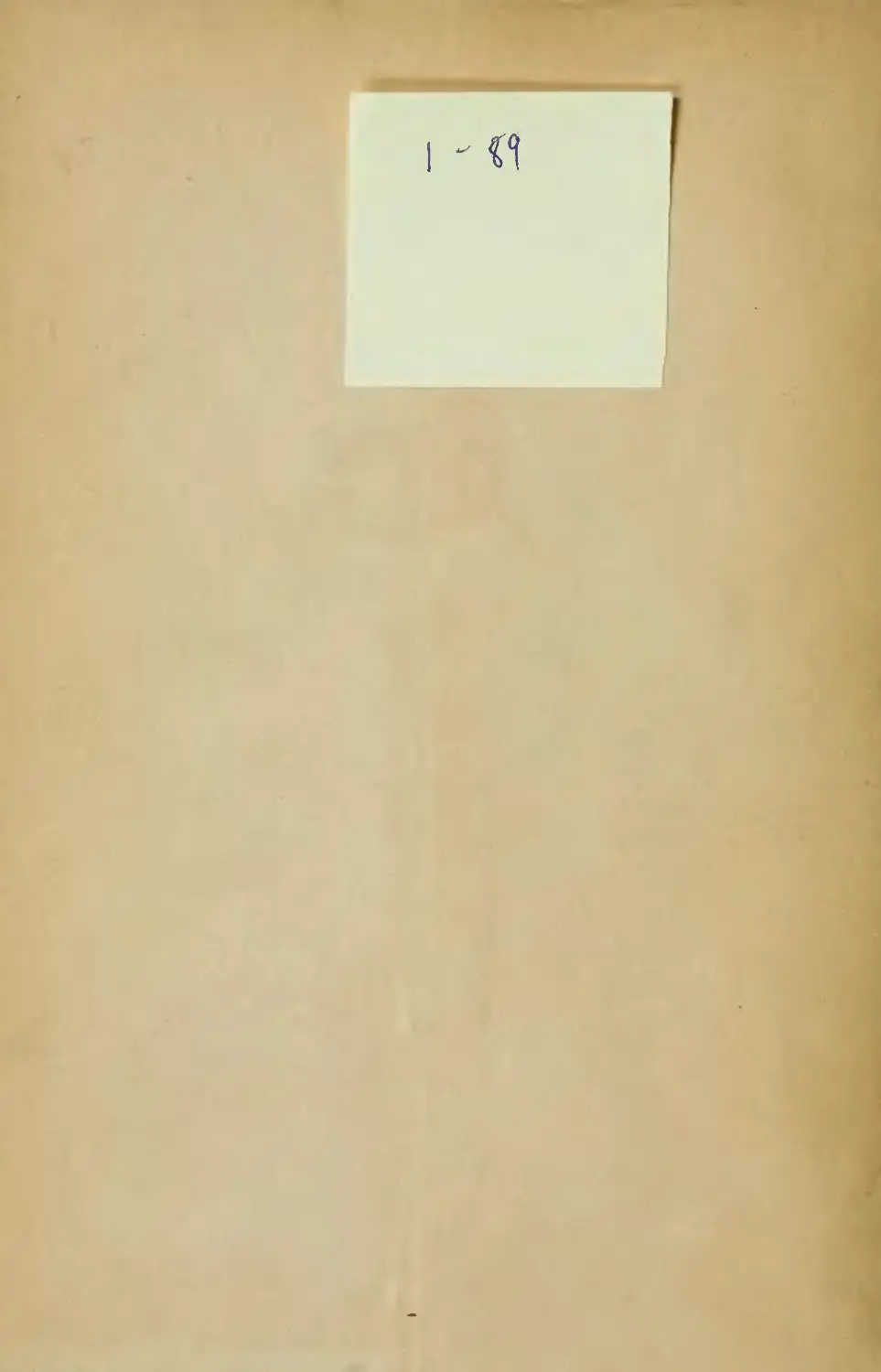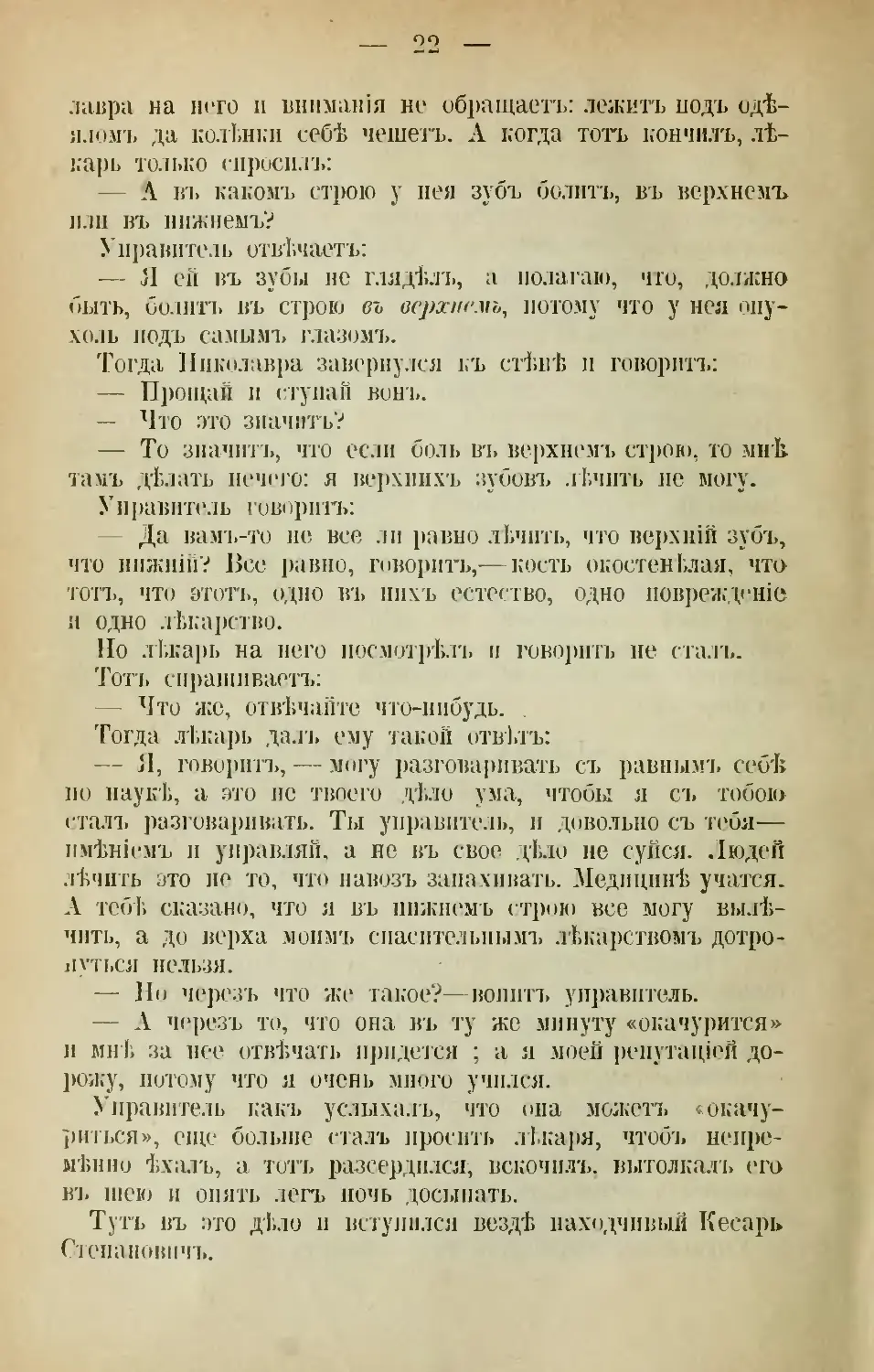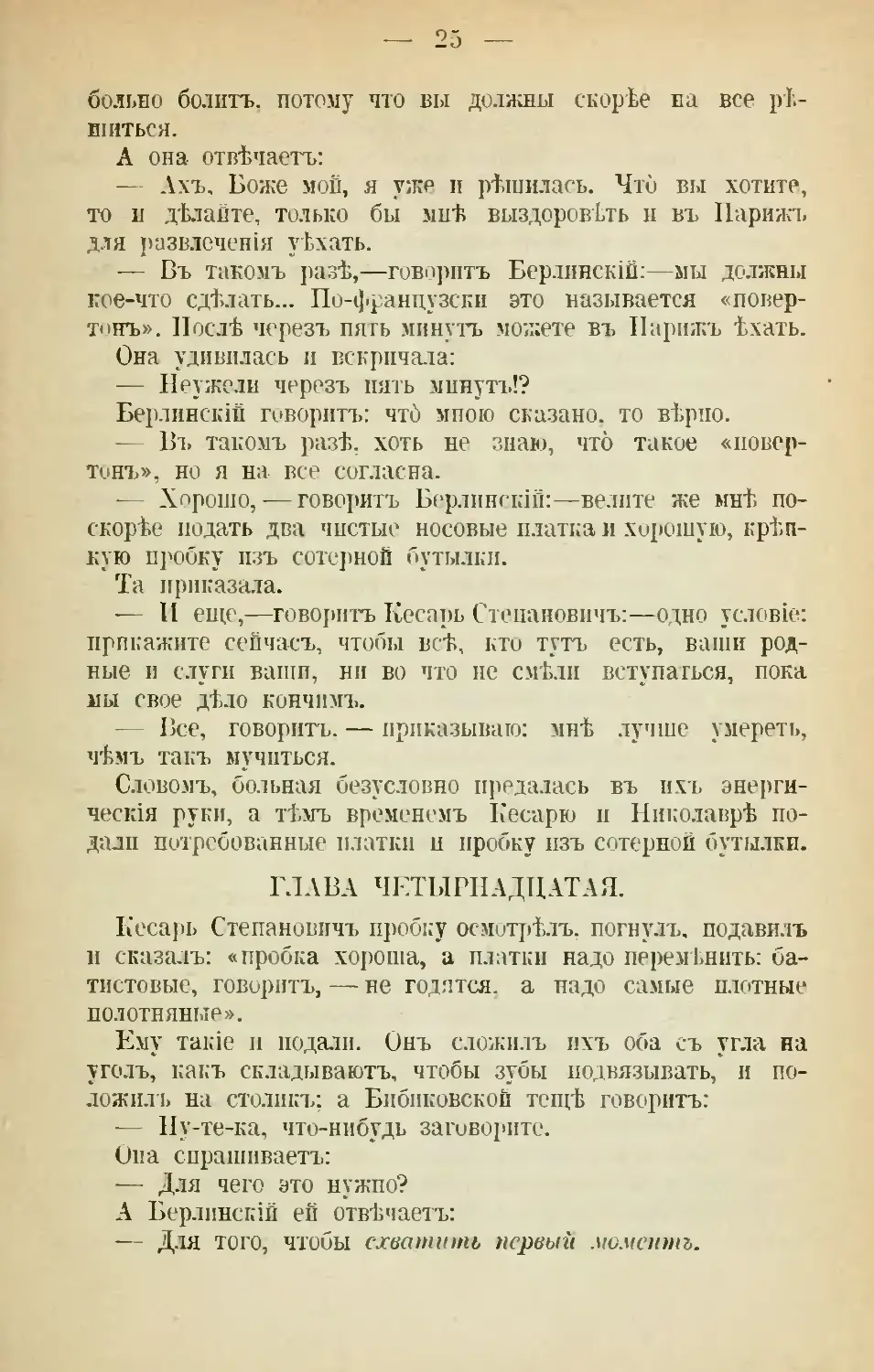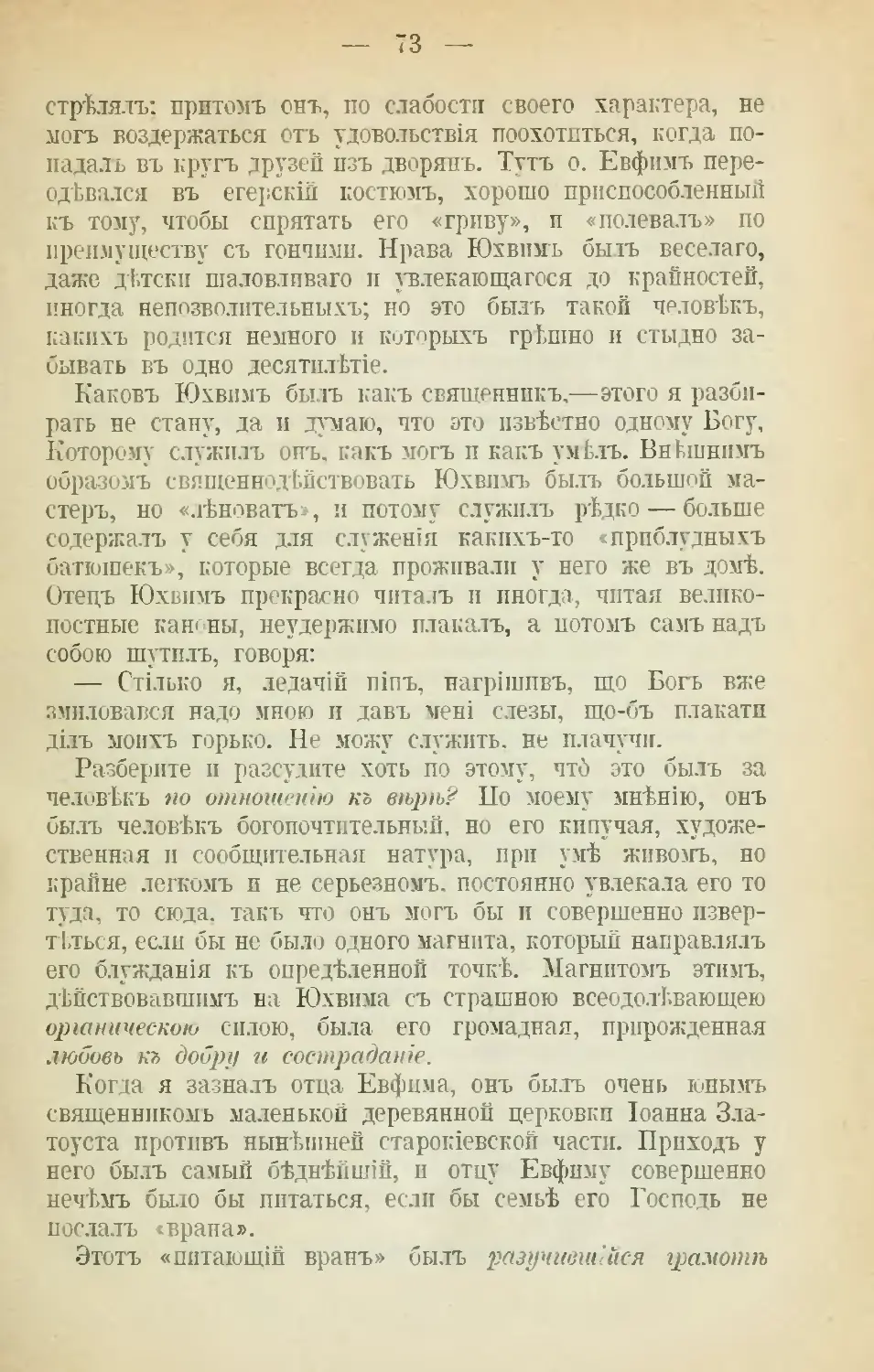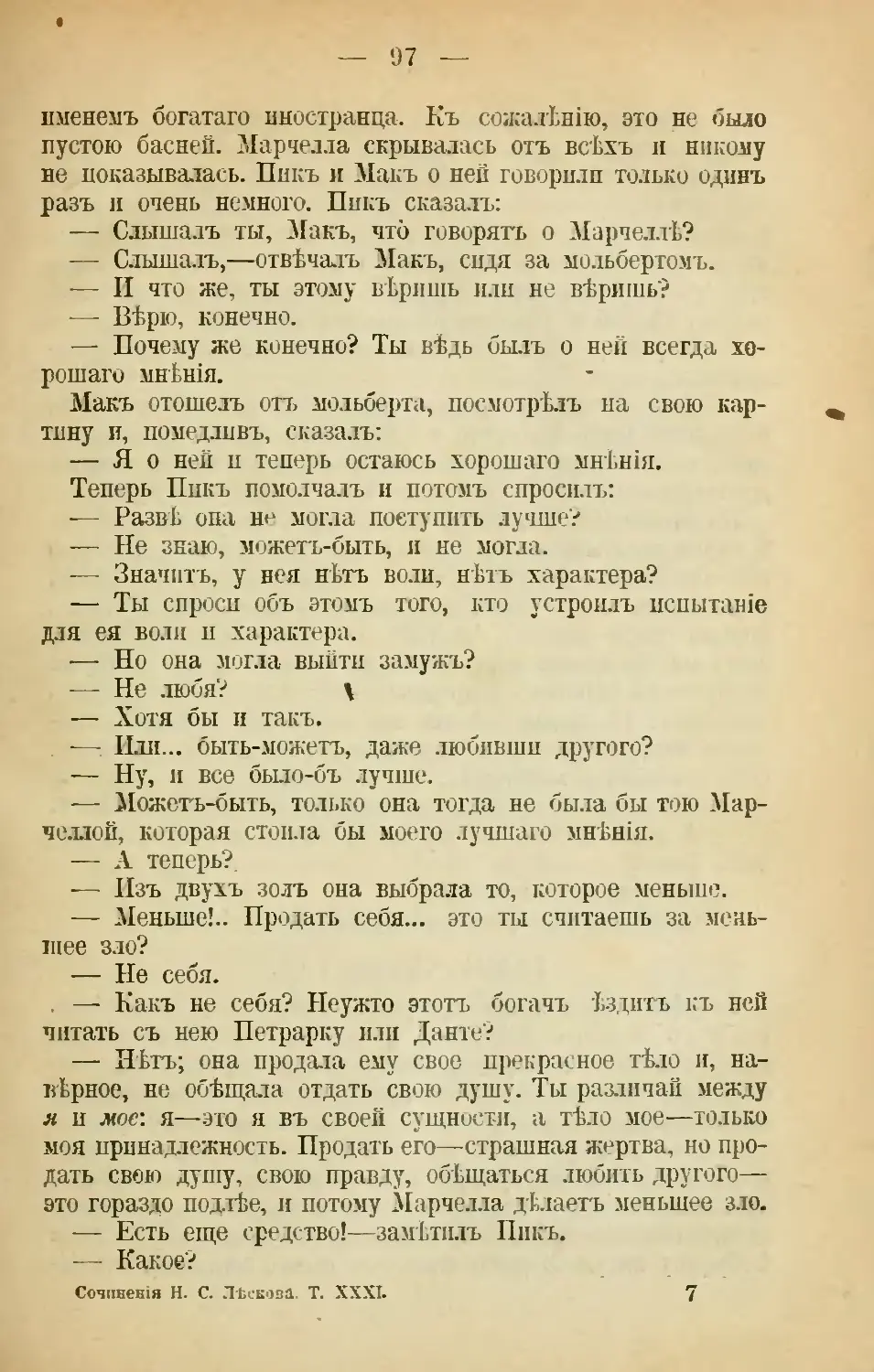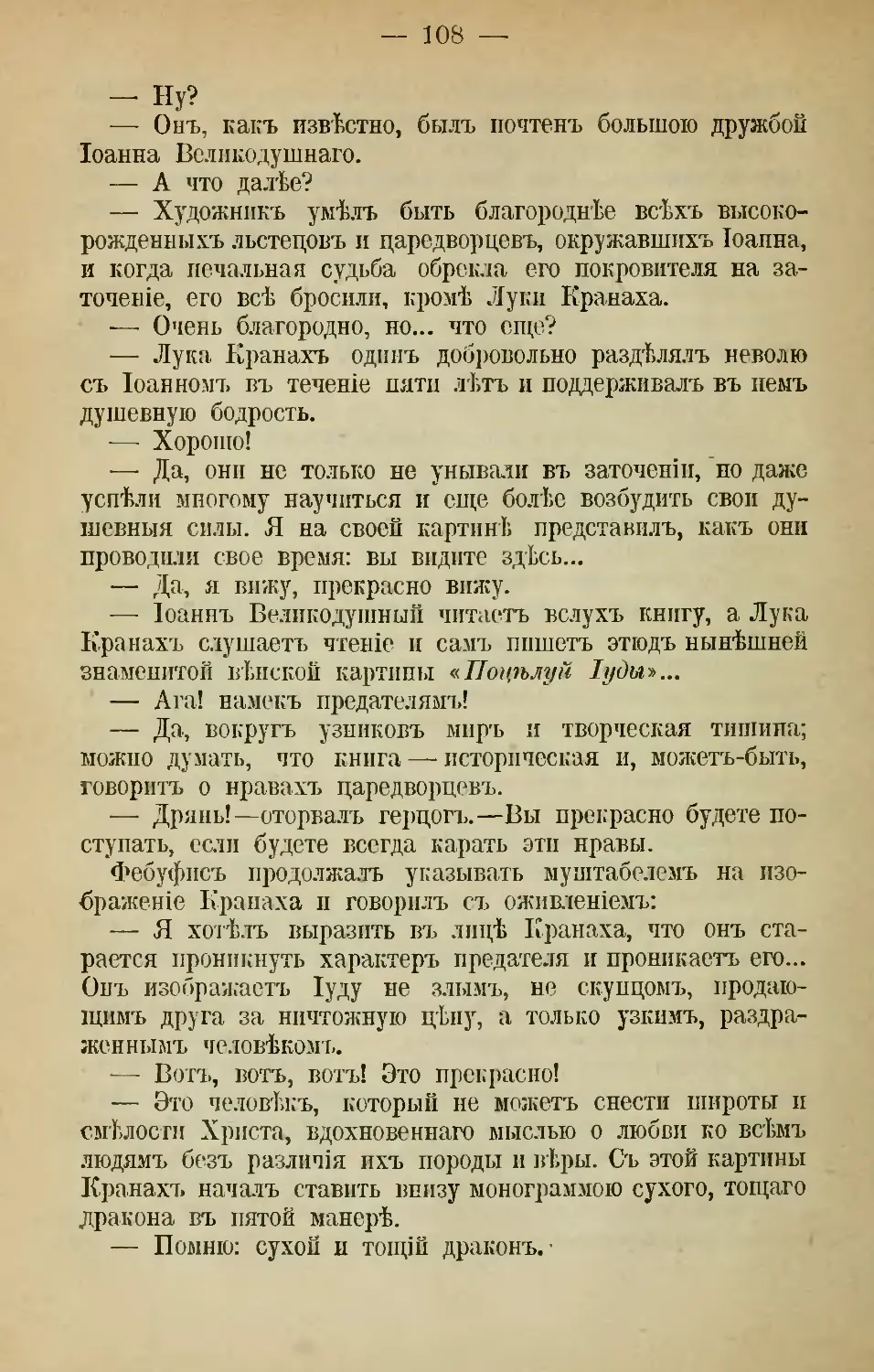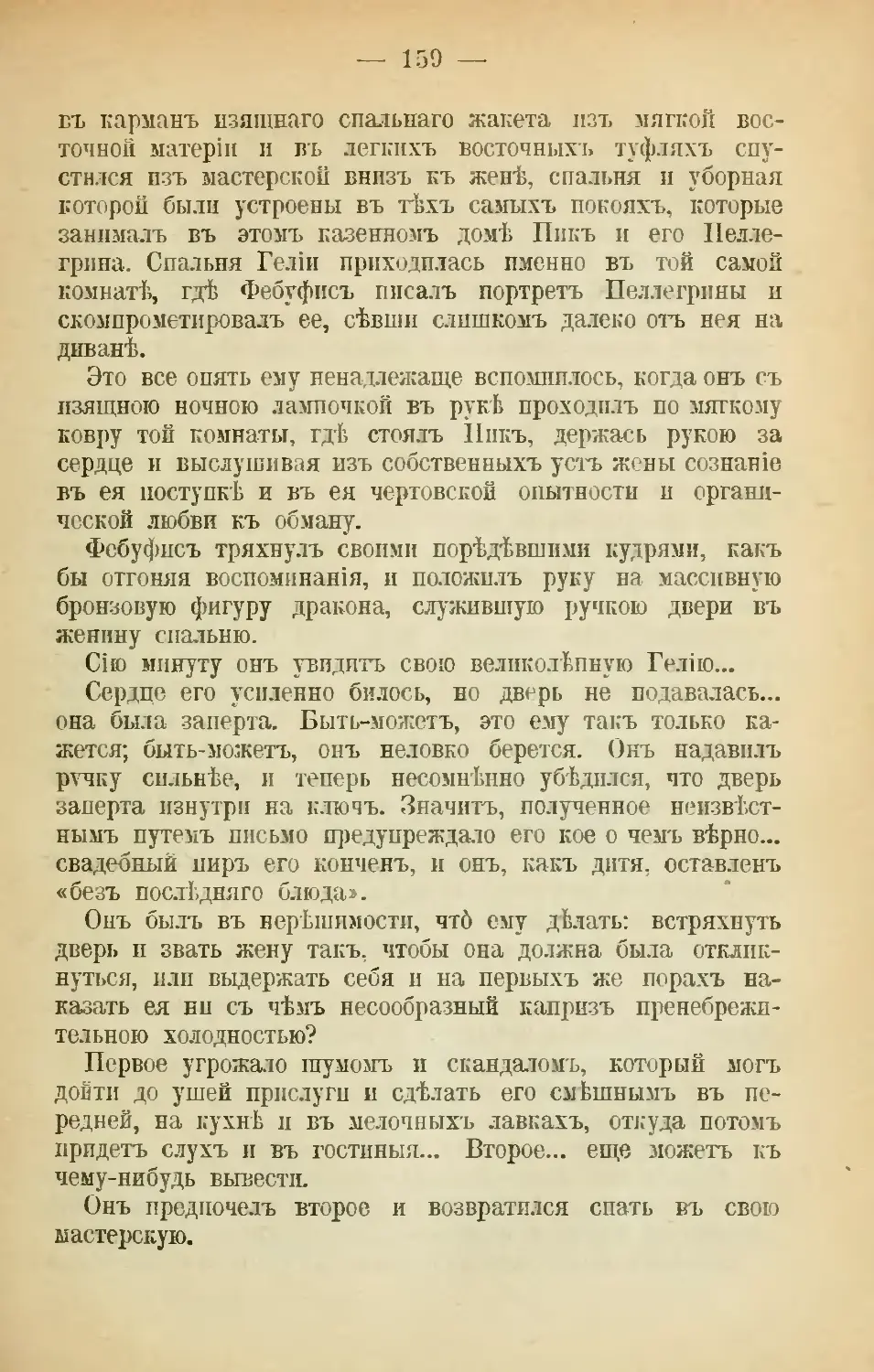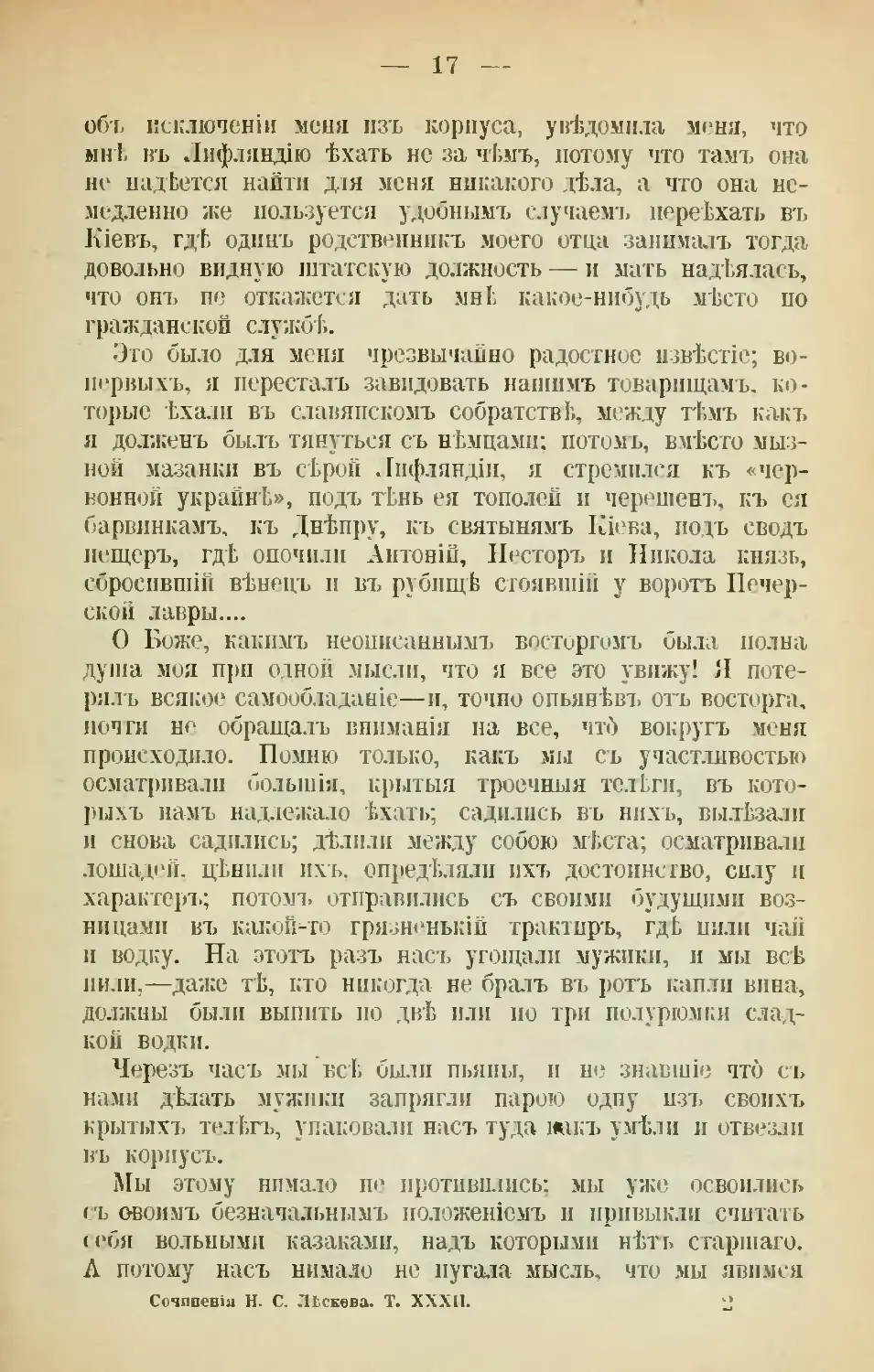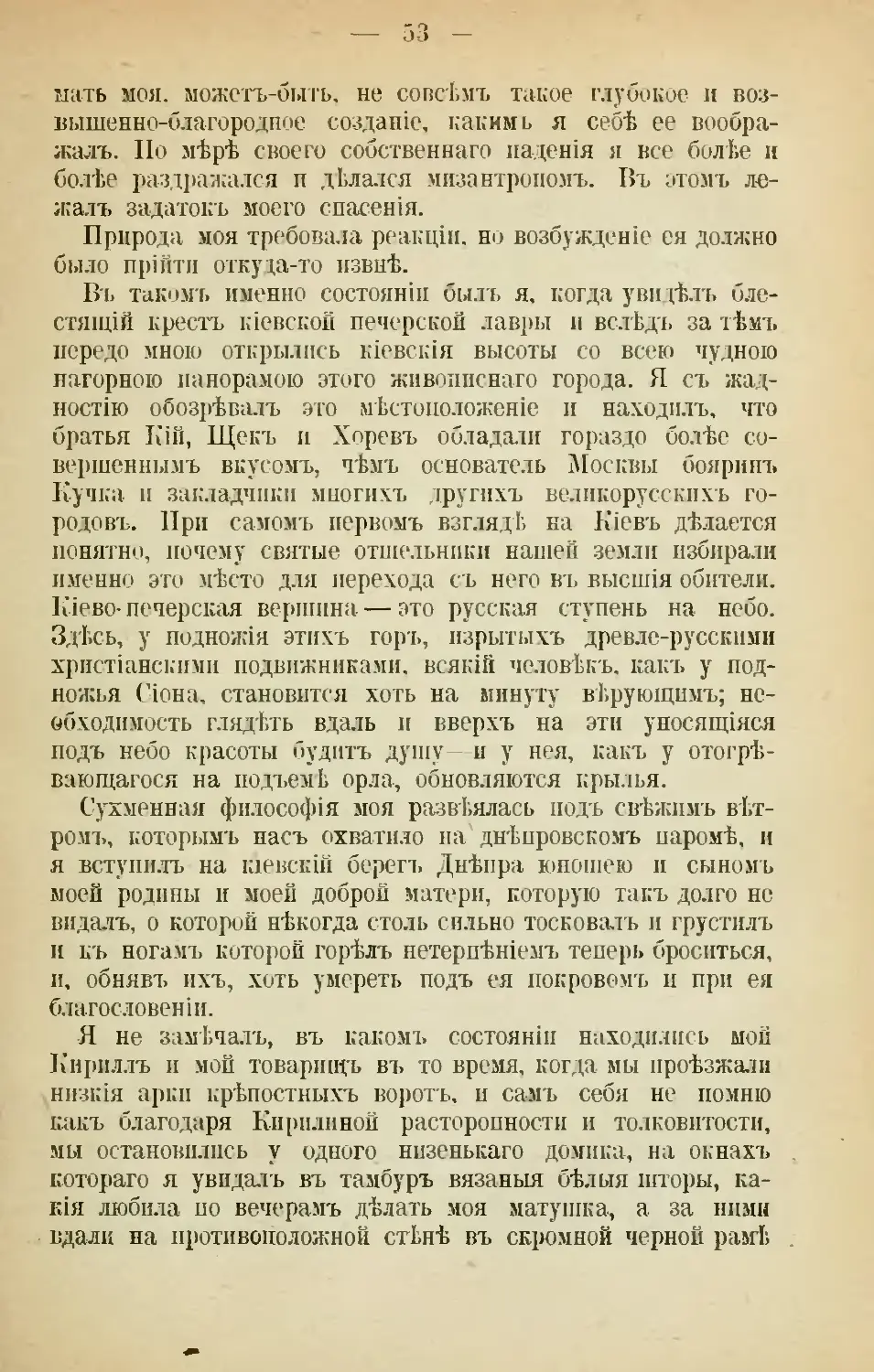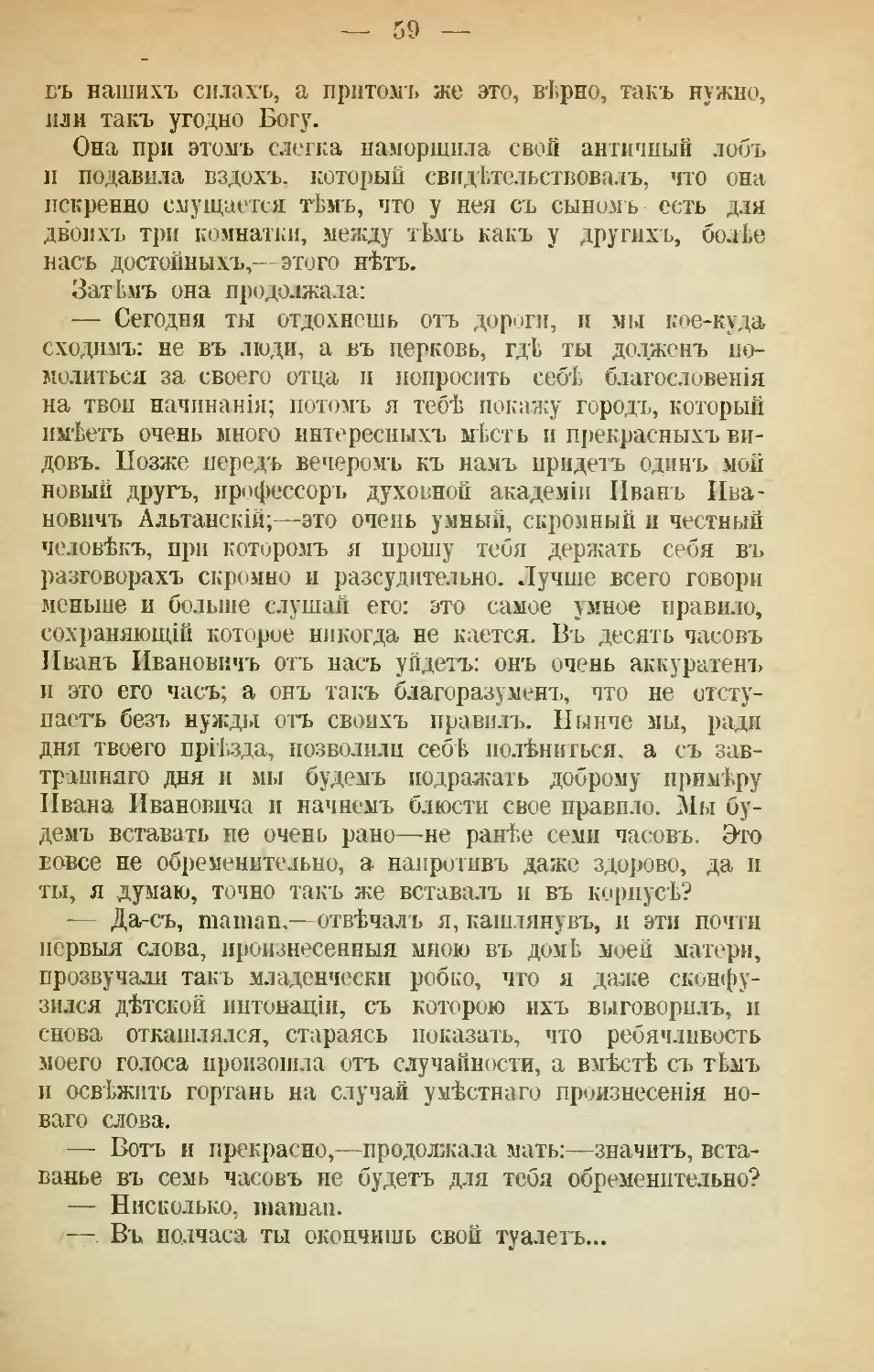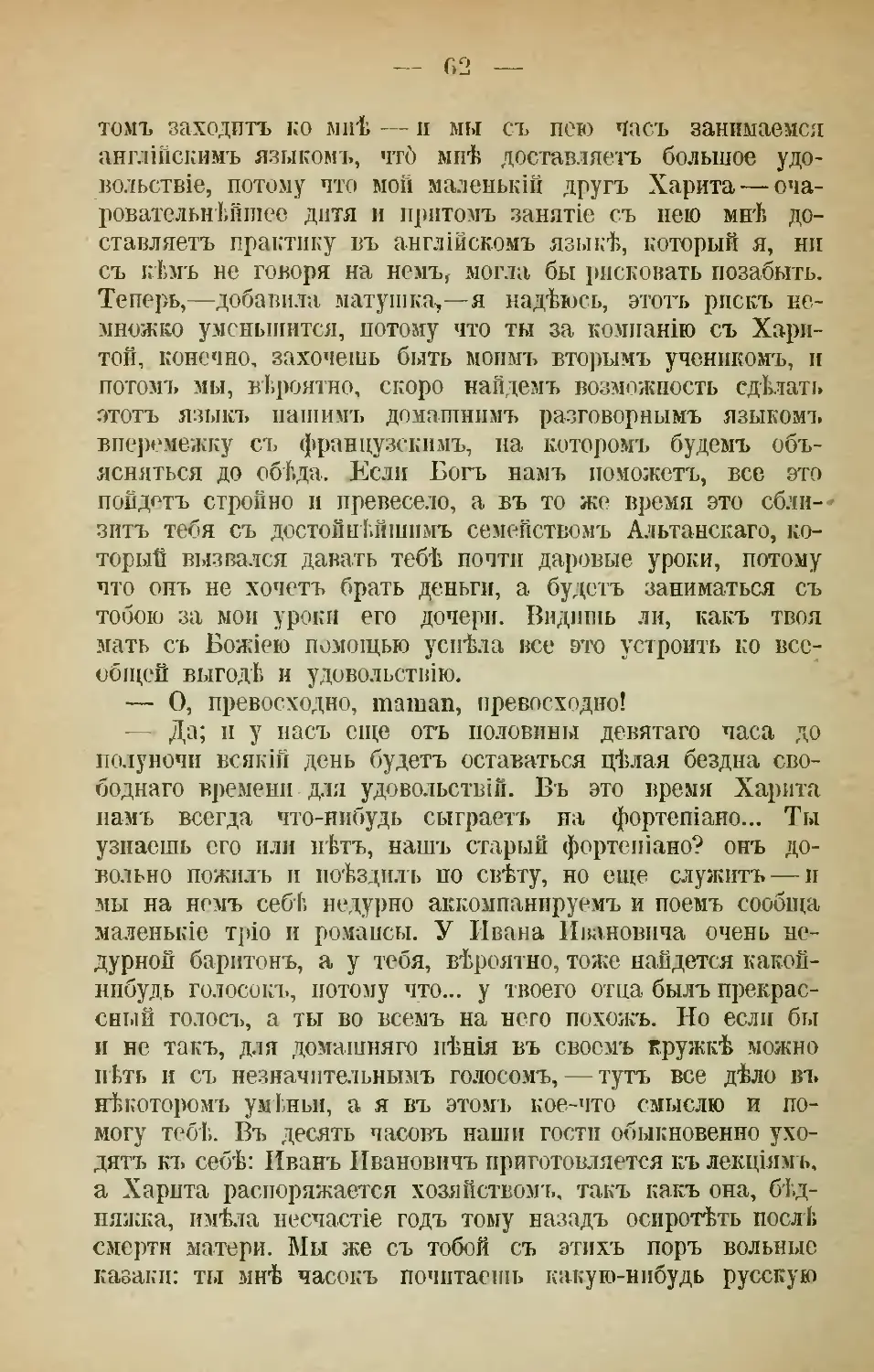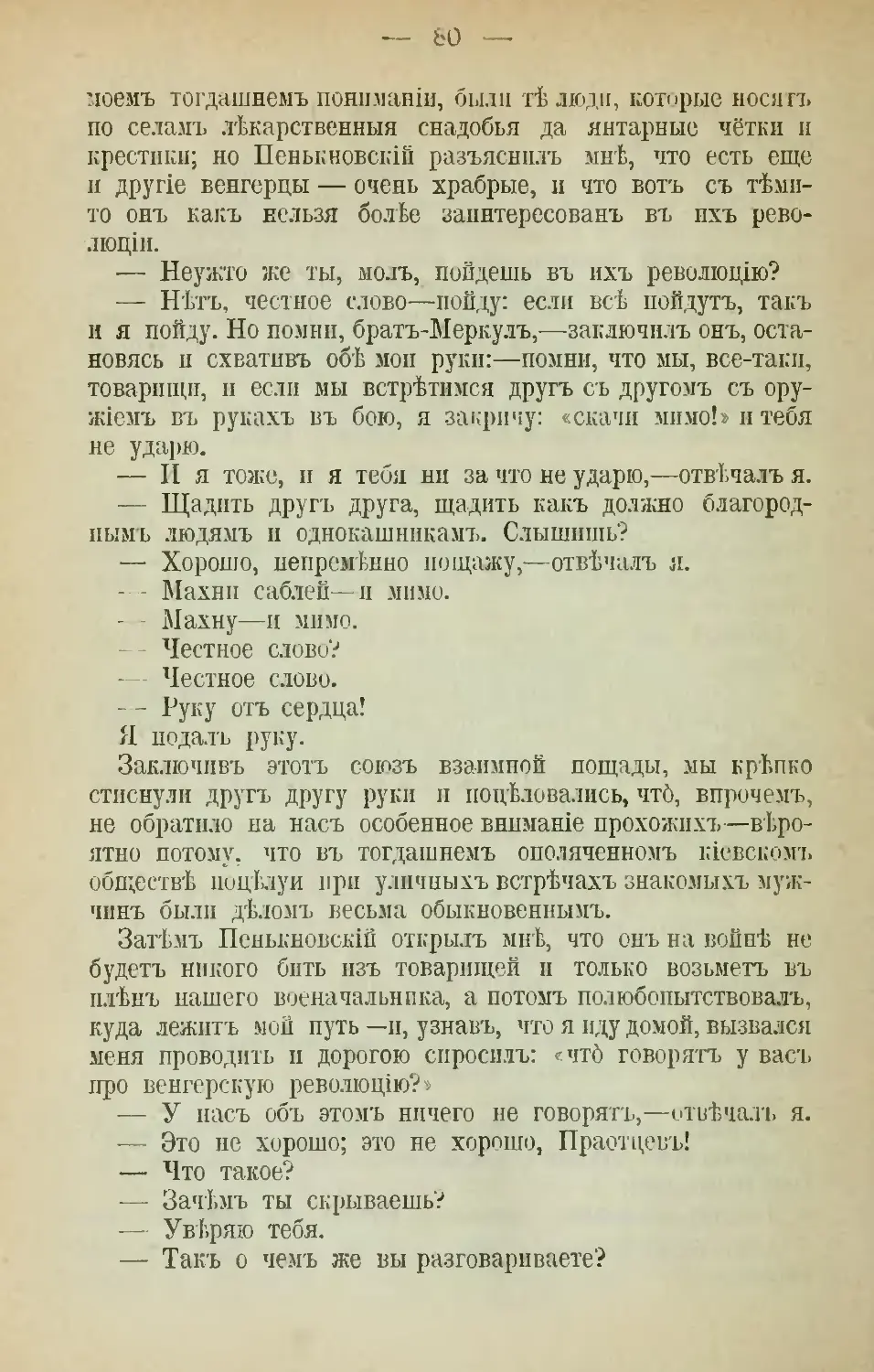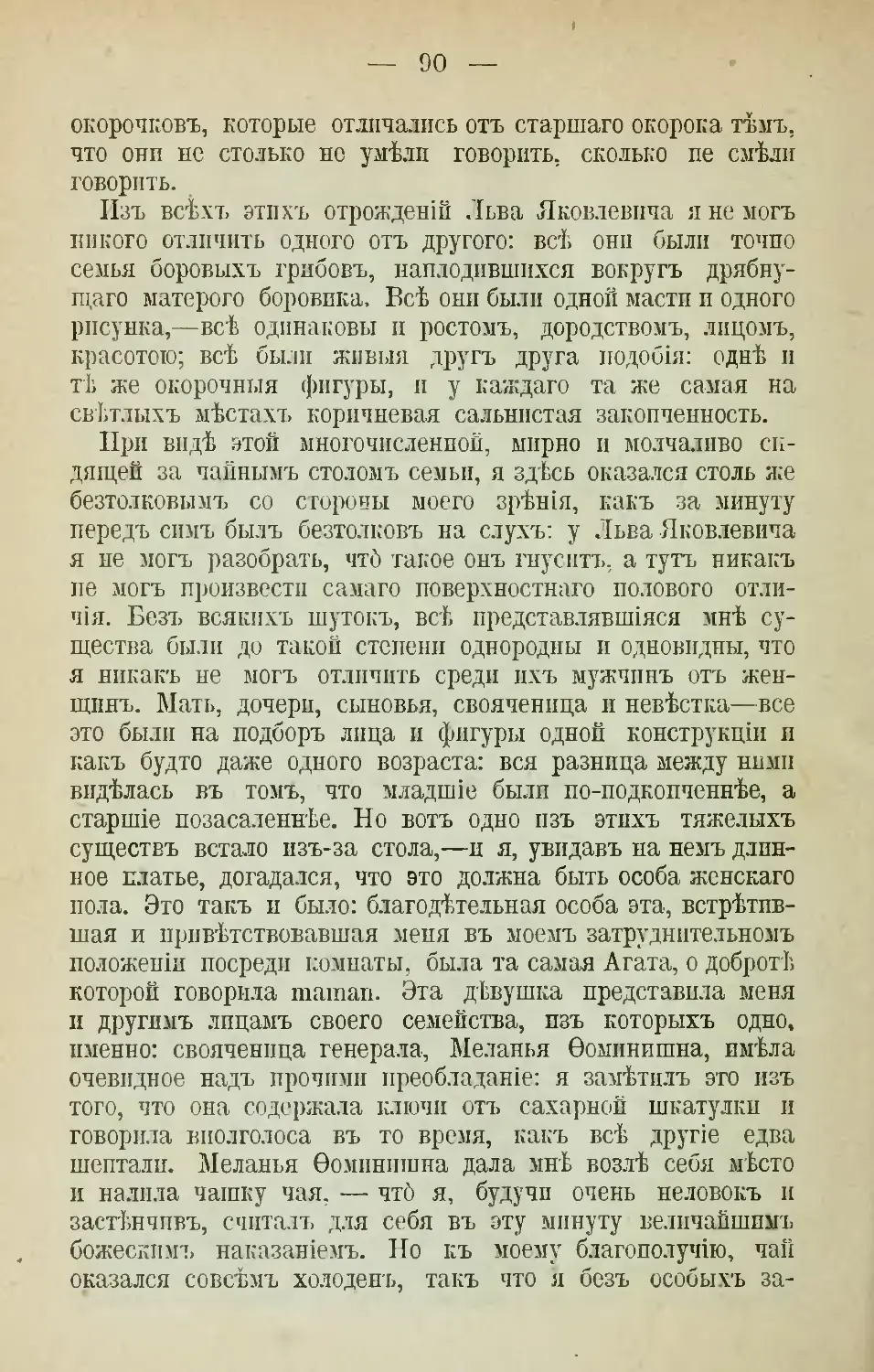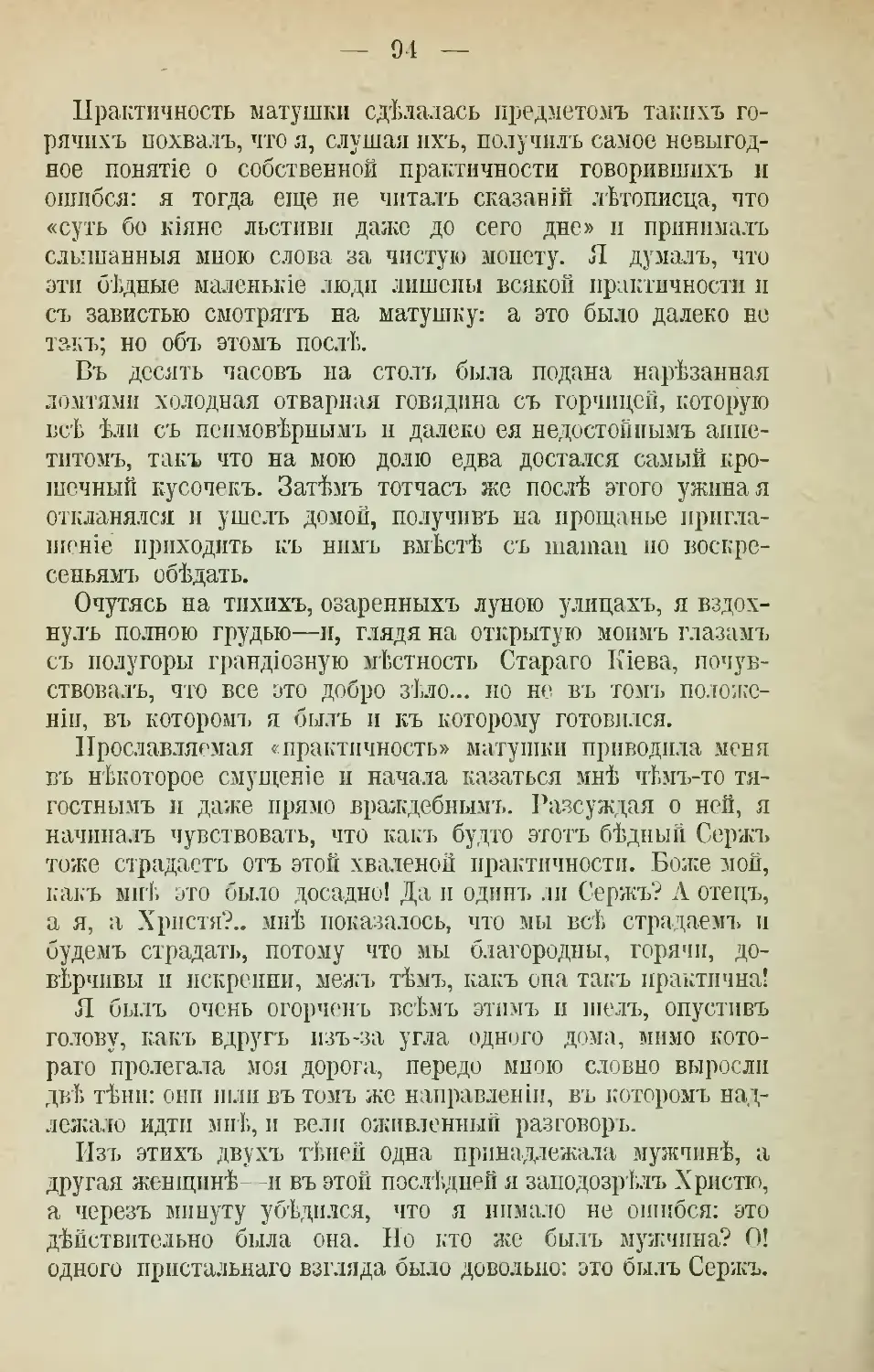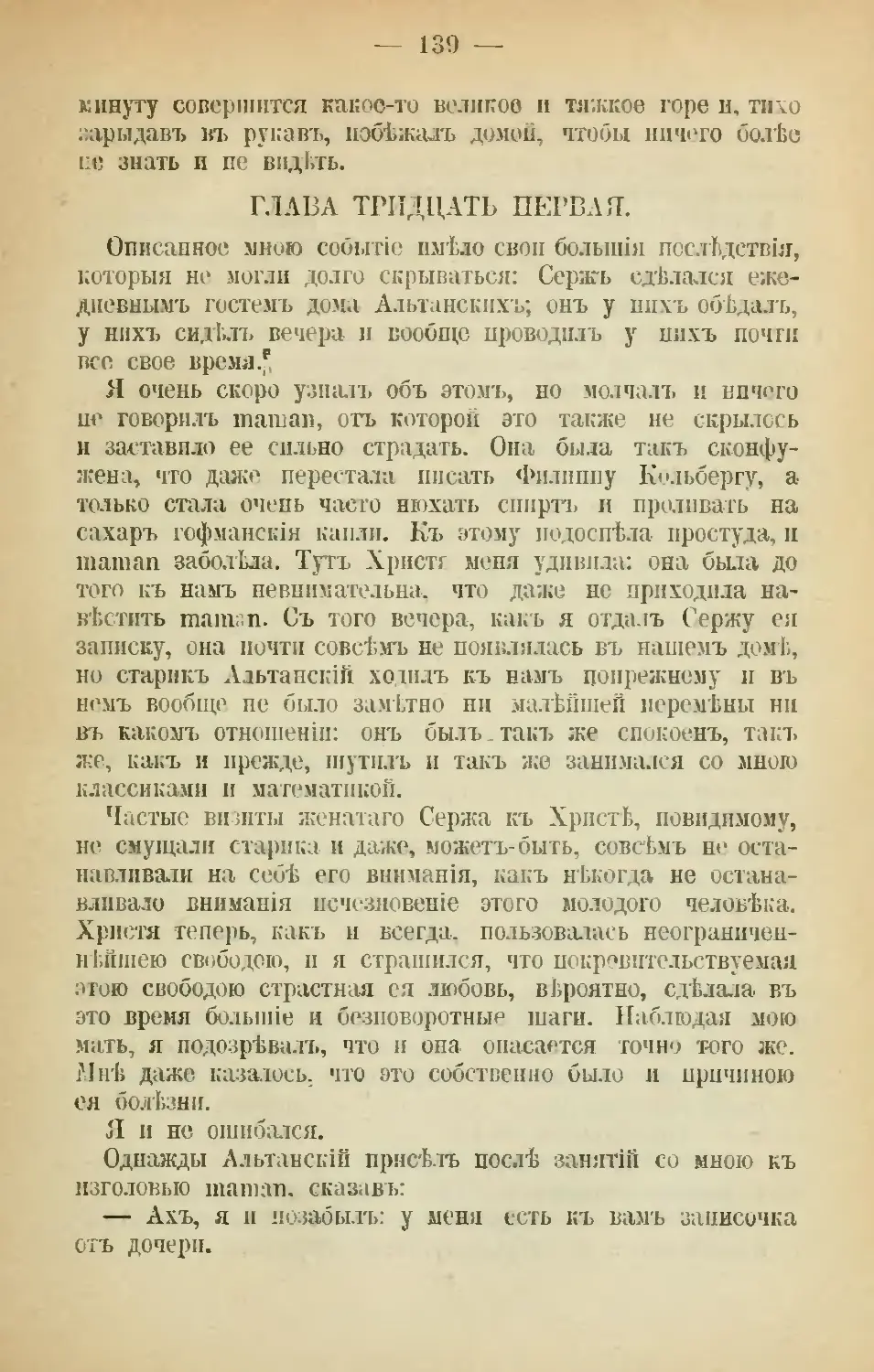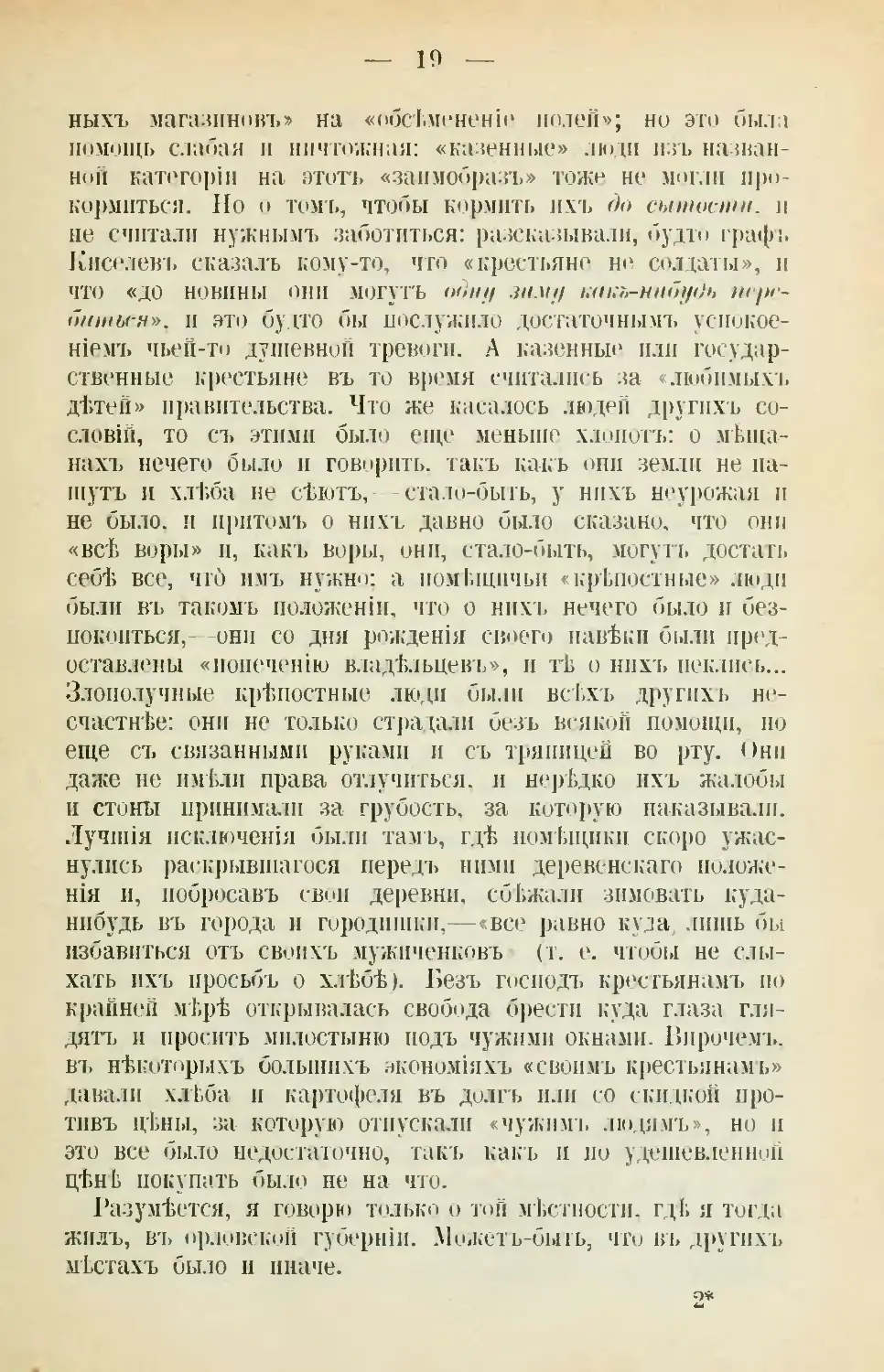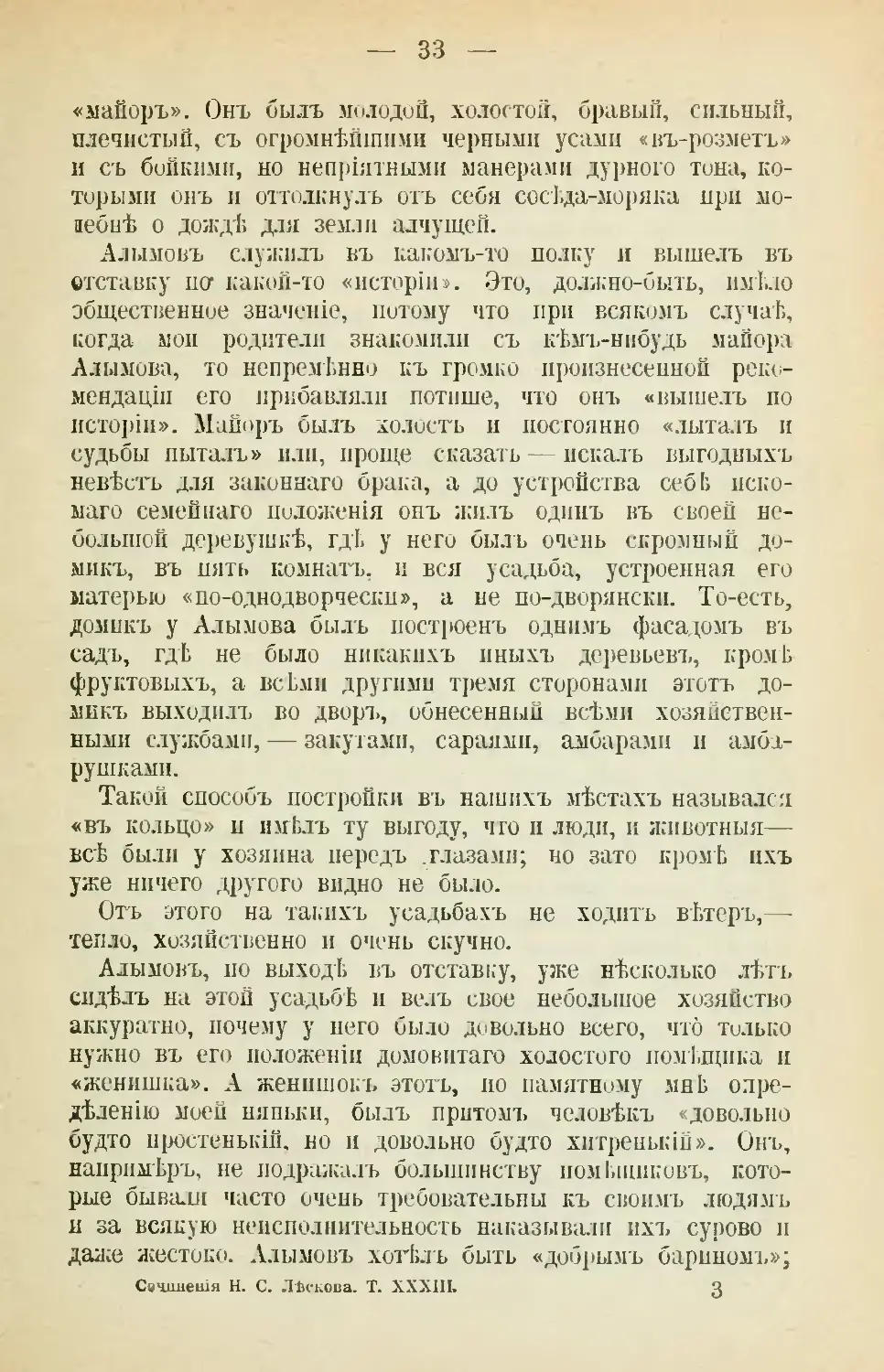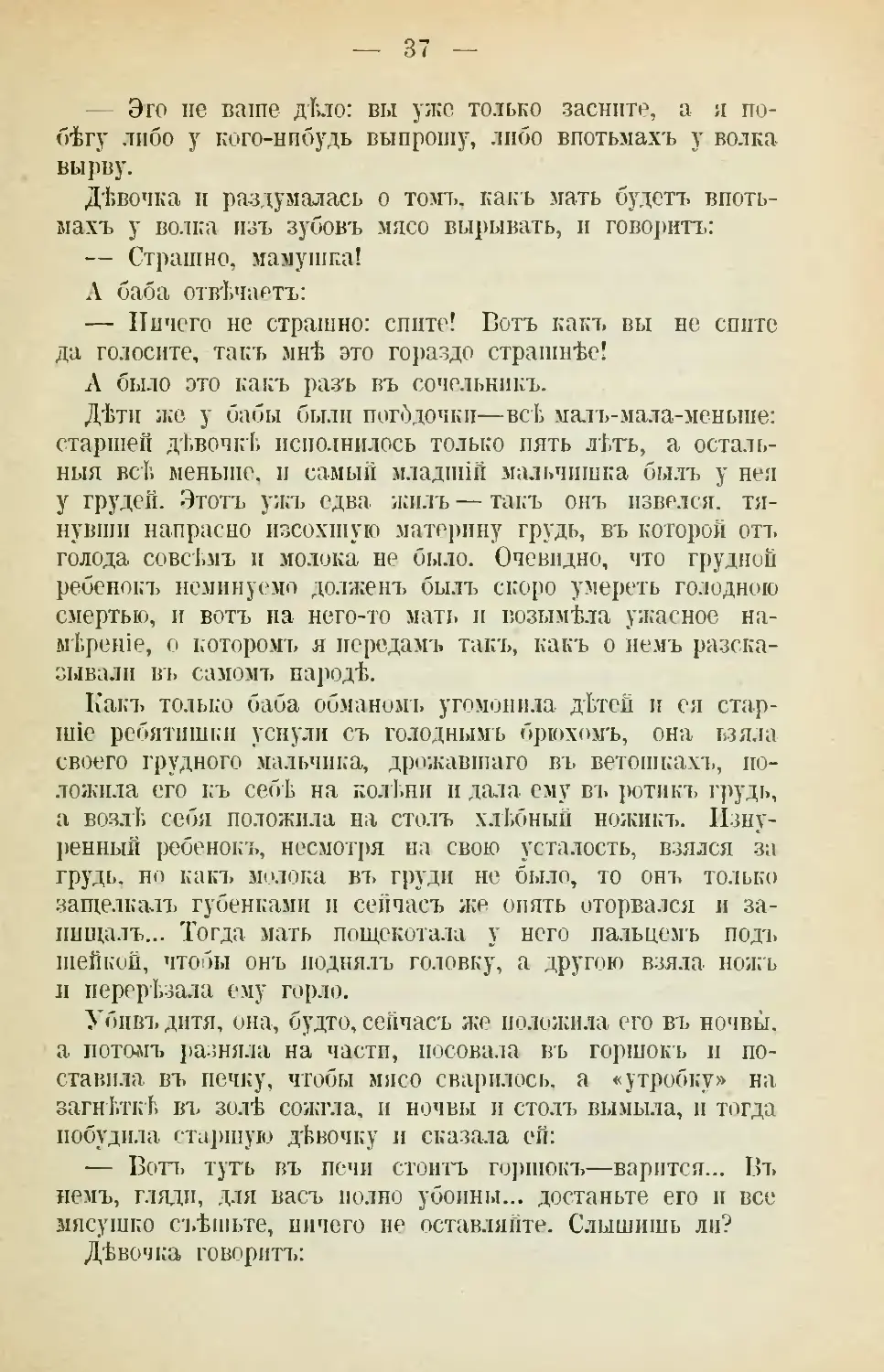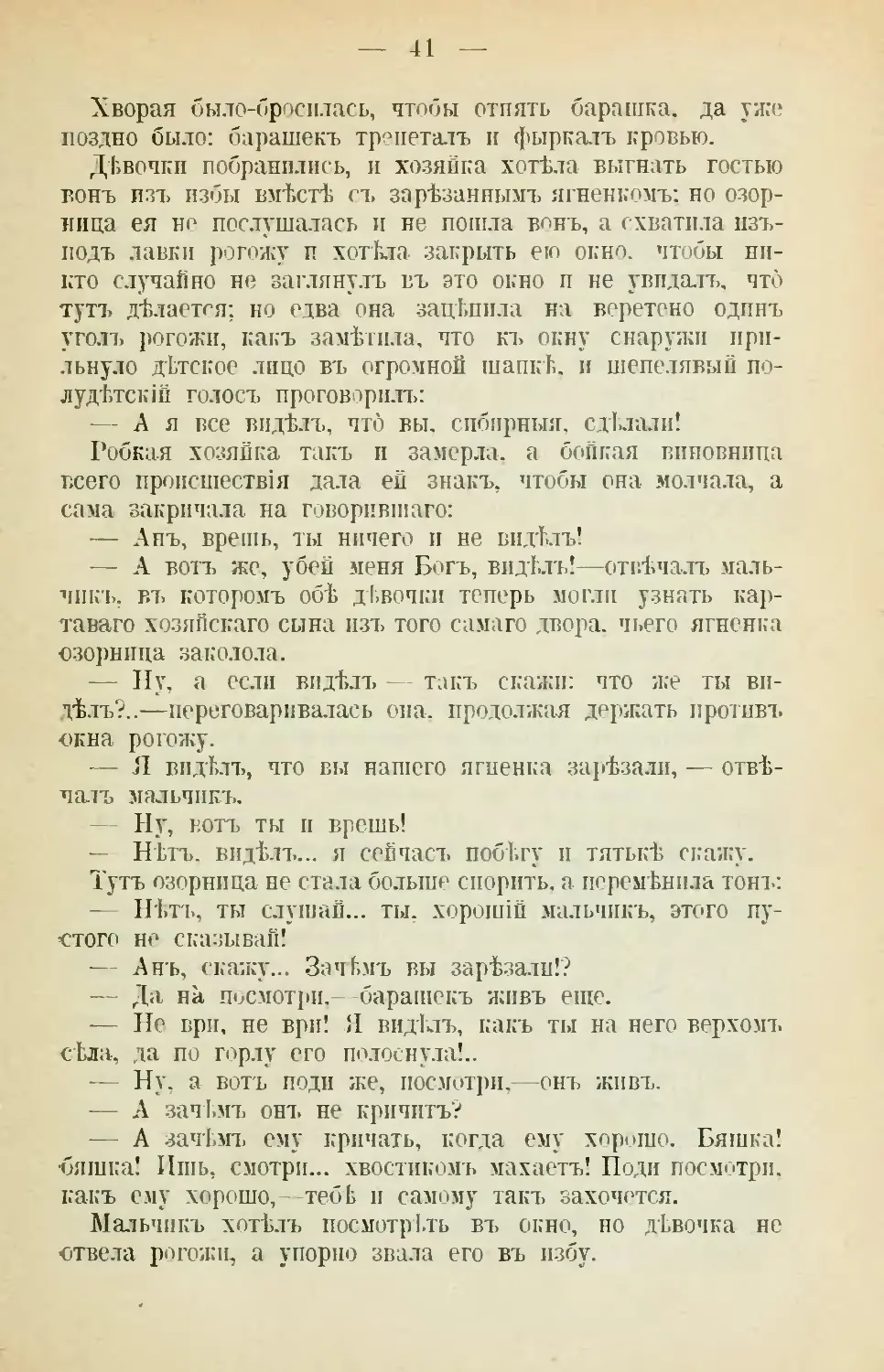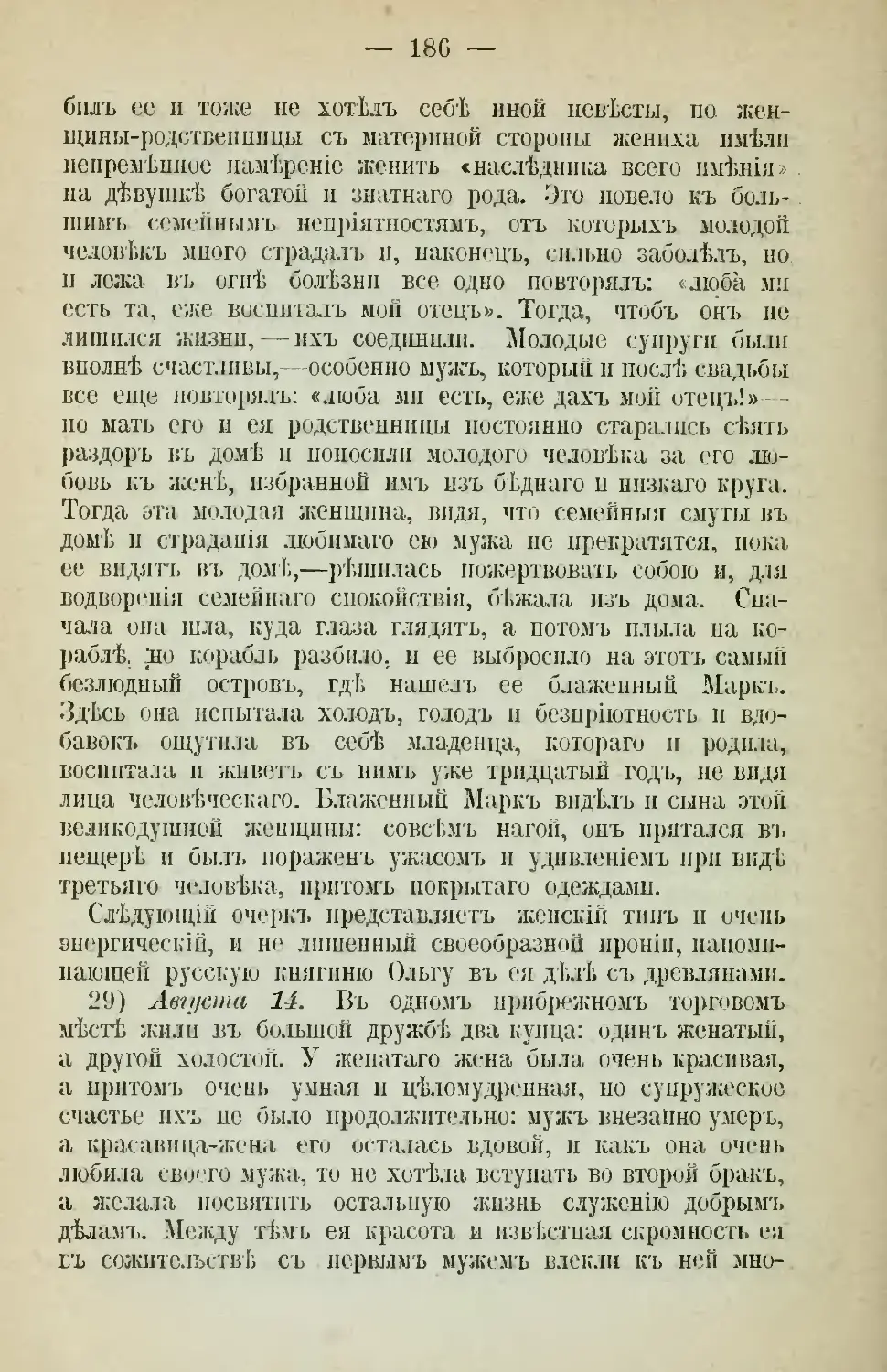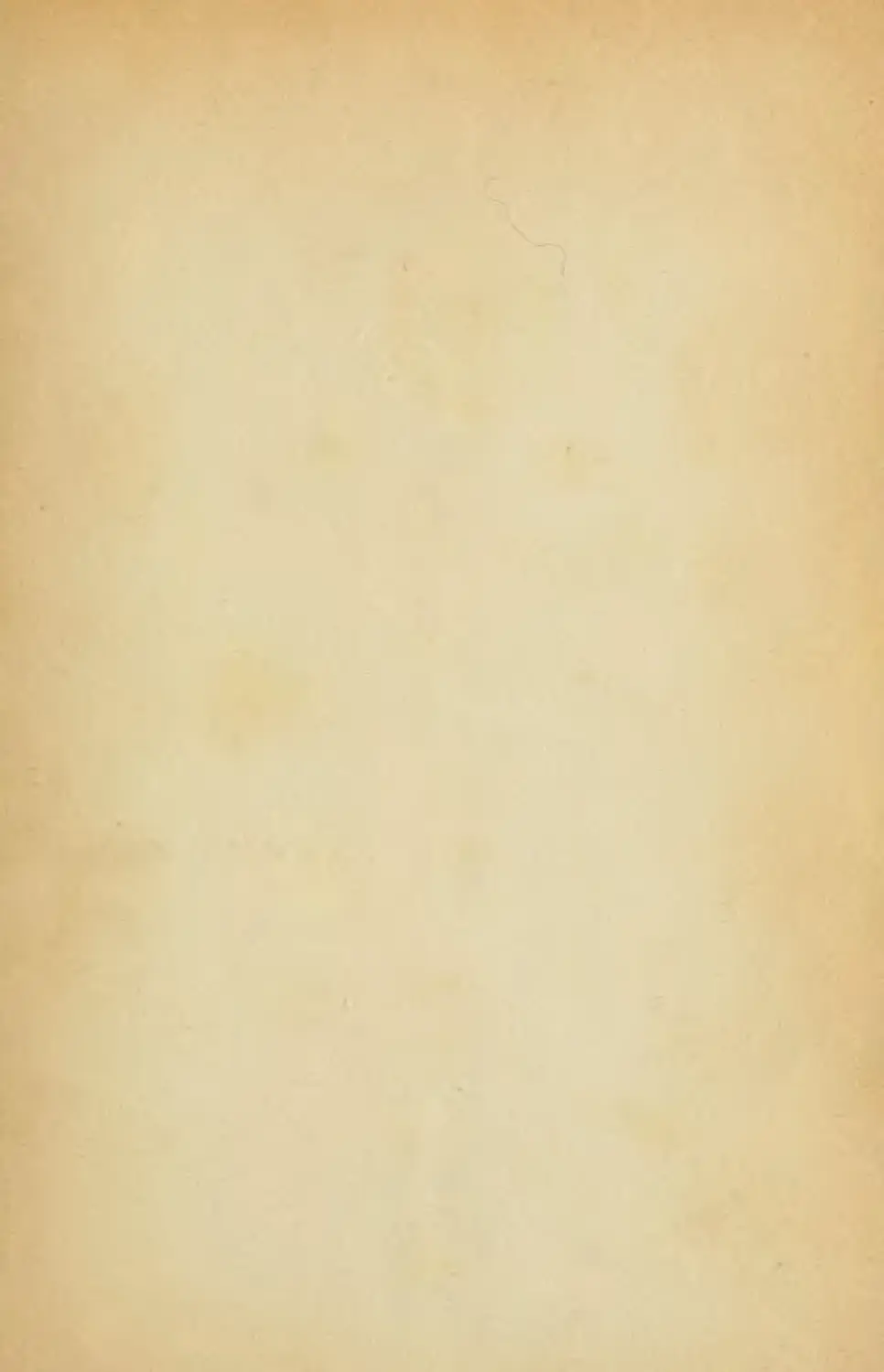Теги: художественная литература собрание сочинений
Год: 1903
Текст
С.ПЕТЕРБУРГЬ.
__ г<5 Аъ ѵ, < о '? //л
.хЭЛНОЕ СОБРАНІЕ
<7 о с Бгаг> і.
СОЧИНЕНІЙ
Н. С. ЛЕСКОВА.
А ' з
ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ
съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. II. Сементков-скаго и съ приложеніемъ портрета Лескова, гравированнаго на стали . Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.
-/ 3/^ 35
ТОМЪ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.
Приложеніе кі журналу „Нива" на 1903 г.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ІІздіхыіо А. Ф. ЛІАРКСА.
Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА,
ІІзмайл. пр-
ПЕЧЕРСКІЕ АНТИКИ.
(отрывки изъ юношескихъ воспоминаній).
Старинный характеръ и бпбиковскіл преобразованія.—Пѣчто о Кара-спвнѣ и Поднебесной и объ аиаѳнстѣ «уатери Кукурузѣ».—Печерскій Кесарь и его импровизаціи.—Стремленіе войска уйти въ походь противъ Вылезарія.—Легенда о бибиковской тещѣ п о вѵепомогающсмъ докторѣ.—Способъ обращать верхніе зубы въ нижніе.—Квартальный антикварій. Наѣздъ Виньеля.—Старецъ Малафей Ппмычъ и отрокъ Гіезій.—Порча отрока человѣчиной.—Открытіе моста.—Лсковенсмій въ поэтическомъ восторгѣ.— Альфредъ фонъ-ІОнгъ—его опечатки и его поэзія.—Анекдоты съ коннымъ нѣмцемъ и съ отцомъ Строфокамп-ломъ.—Мадафѳево стояніе.—Непсполнившееся откровеніе.—Сгарцева смерть—отрокова женитьба.—Миръ въ тропарѣ.—Два дворянина.— ІІсключптелыійй священникъ.—Тайна троицкой церкви.—Нѣчто о Запечатлѣнномъ Анголѣ».
«Мнѣ убо. возлюбленічи. желательно есть вспомянути доброе житіе крѣпкихъ мужей и предложити вашей любви слово нехитрорѣчивое, но истиною украшенное. Вамъ же любезно да будетъ слышати добрыя повѣсти о мужахъ благостныхъ».
Изъ предисловія къ повѣсти «.объ отцахъ и страдальцахъ».
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Разскажу нѣчто про кіевскихъ оригиналовъ, которыхъ я зналъ въ дни міей ранней юности и которые, мнѣ кажется, стоятъ вниманія, какъ личности очень характерныя и любопытныя. По, вначалѣ, та позволено мнѣ будетъ сказать два слова о себѣ. Они необходимы для того, чтобы покізагь, гдѣ и какъ я познакомился съ печерскимъ Кесаремъ», съ котораю я долженъ начать мою кіевскою галлерею антиковъ.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Меня въ литературѣ считаютъ «орловцемъ», но въ Орлѣ я только родился и провелъ мои дѣтскіе годы, а затѣмъ въ 184 9 г. переѣхалъ въ Кіевъ.
Кіевъ тогда, сильно отличался отъ нынѣшняго, и разница эта заключалась не въ одной внѣшности города. н<« и въ нравахъ его обитателей. Вні.шность измѣнилась къ лучшему, т. е. городъ наполнился хорошими зданіями и, гакъ сказать, оевропеился, но мнѣ лично жаль многаго изъ стараго, изъ того, что сглажено и уничтожено, можетъ-быть, нѣсколько торопливою п во всякомъ СЛ} чаѣ (-.ПИНКОМЪ безцеремонною рукою Бибикова. Мнѣ жаль, напримѣръ, лишеннаго жизни Печерска и облегавшихъ его урочищъ, которыя были застроены какъ попало, но очень живописно. Изъ нихъ нѣкоторыя имѣли также замѣчательно своеобразное и характерное населеніе, жившее неодобрительною и даже буйною жизнью въ стародавнемъ запорожскомъ духѣ Таковыя были, напримѣръ, удалые Кресты и Ямки, гдѣ «мѣшкали безсоромнія дівчата , составлявшія любопытное соединеніе городской, культурной проституціи съ казаче-скпмъ простоплгтствомъ и хлѣбосольствомъ. Къ этимъ дамамъ, носившимъ не европейскіе, а національные малороссійскіе уборы, или такъ называемое «простое платье , добрые люди хаживали въ гости съ своею «горілкою, съ ковбасами, съ саломъ и рыбицею», и «крестовскія дівчатки» изъ всей этой приносной провизіи искусно готовили смачныя снѣди и проводили съ своими посѣтителями часы удовольствій «по-фамильному».
Были изъ нихъ даже по-своему благочестивыя: зги открывали свои радушныя хаты для пировъ только до «благодатной», т. е. до второго утренняго звона въ лаврѣ. А какъ только раздавался этотъ звонъ, казачка крестилась, громко произносила: «радуйся, благодатная Господь сь тобою», п сейчасъ же всѣхъ гостей выгоняла, а. огни гасила.
Это называлося «досидѣть до благодатной».
II гости.—трезвые и пьяные,—этому подчинялися.
Теперь этого оригинальнаго типа непосредственной старожилой кіевской культуры съ запорожской заправкой уже. нѣтъ и слѣда. Онъ исчезъ, какъ въ Парижѣ исчезъ типа
мюзаровской гризеты, съ которою у кіевскихъ «крестовыхъ цвчатъ» было нѣчто сходственное въ ихь простосердечіи.
Жаль мнѣ тоже живописныхъ надбережныхъ хатокъ, которыя лѣпились по обрывамъ надъ днѣпровской кручей: онѣ придавали прекрасному кіевскому пейзажу особенный теплый характеръ и служили жилищемъ для большого числа бѣдняковъ. котврые хотя и получили какое-то вознагражденіе за свои поломанные дома», но не могли за эти деньги построить себѣ новыхъ домовъ въ городѣ и слѣпити себѣ гнѣзда надъ крѵчею. А м^жду тѣмъ эти живописныя хаточки никому и ничему не мѣшали. Ихъ потомъ опять разметала властная рука Бибикова. Жаль превосходи Ій-шей аллеи рослыхъ и стройныхъ тополей, которая вы-ръблена уже при Анненковѣ для устройства на ея мѣстѣ нынѣшняго увеселительнаго балагана, съ его дрянными развлеченіями. Но всего болѣо жаль тихихъ куртинъ верхняго сата, гдѣ у насъ былъ свой іпцей. Тутъ мы. молодыми ребятами, бывало, проводили цѣлыя ночи ю бѣла свѣта. слушая того, кто намъ казался умнѣе,—но обладалъ большими противъ другихъ свѣдѣніями п м< гъ разсказать намъ о Кантѣ, о Гегелѣ, о «чувствахъ высокаго и прекраснаго», и о многомъ другомъ, о чимъ теперь совсѣмъ и не слыхать рѣчей въ сатахъ нынѣшняго Кіева. Теперь, когда доводится бывать т імь, все чаще слышишь только что-то о банкахъ и о томъ, кого во сколько надо цѣнить на деньги Любопытно подумать, какъ это настроеніе отразится на нравахъ подрастающаго поколѣнія, когда настанетъ его время дѣйствовать...
Нравы, собственно говоря, измѣнились еще болѣе чѣмъ зданія, и тоже, можетъ-быть, не во всѣхъ отношеніяхъ къ тучшему. Перебирать и критиковать этого не будемъ, ибо «всякой вещи свое время подъ солнцемъ», но пожалѣть о томъ, что было мило намъ въ нашей юности, надѣюсь, простительно. и кто, подобно мнѣ, уже пережилъ лучшіе годы жизни, югъ. вѣроятно, не осудитъ меня за маленькое пристрастіе къ гомѵ старенькомъ, сѣрому Кіеву, въ которомъ было еще очень много простоты, нынѣ совершенно исчезнувшей.
Я зазналъ этотъ милый городъ въ его дореформенномъ видѣ съ изобиліемъ деревянныхъ домиковъ, на углахъ которыхъ горда, впрочемъ, были уже вывѣшены такъ пазы-
вашпіяся «бпбпковскія доски». На каждой такой доскѣ была суровая надпись: «сломать въ такомъ-то году».
Этпхі. несчастныхъ', обреченныхъ на сломку домик.Овъ было чрезвычайно много. Когда я пріѣхалъ въ Кіевъ и пошелъ его осматривать, то «бпбпковскія доски» навели на меня неожиданную грусть и уныніе. Смотришь — чистенькія окошечки, на иихъ горшочки съ краснымъ пернемъ и бальзаминами: по сторонамъ пришпилены білыя «фпранкп», на крышахъ воркуютъ голуби и въ глубинѣ двориковъ хлопотливо кудахчутъ куры, и вдругъ почему-то и зачѣмъ-то придутъ сюда какіе-то сторонніе люди и все это разломаютъ... Для чего это? И куда дѣнутся, куда тогда пойдутъ эти люди, которымъ, повидимому, довольно удобно п хорошо живется за ихъ бѣлыми «фиранками»? Можетъ статься, что все это было необходимо, но, тѣмъ не менѣе, отдавало какимъ-то непріятно-безцеремоннымъ п грубымъ самовластіемъ.
Бибиковъ, конечно, былъ человѣкъ твердаго характера и, можетъ быть, государственнаго ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этомъ немножко побольше сердца,—это не помѣшало бы ему вопти въ исторію съ болѣе пріятнымъ аттестатомъ
Старый городъ и Нечерскъ особенно щедро были изукрашены «бибиковекпмп досками», такъ какъ здѣсь должно было свершиться и въ весьма значительной степени и совершилось намѣченное Бибиковымъ капитальное «преобразованіе». А на Печерскѣ жилъ самып непосредственнѣйшій изъ кіевлянъ, про которыхъ я попробую здѣсь для начала разсказать, чтб удержала моя память.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Я съ пріѣзда поселится на Житомирской улицѣ, въ дпмѣ бывшаго секретаря комиссаріатской комиссіи Запорожскаго (тоже въ своемъ родѣ антика), но, совершенно одинокій и предоставленный самому себѣ, я постоянно тяготѣлъ къ Печерску, куда меня влекли Лавра и пещеры, а также и нѣкоторое еще въ Орлѣ образовавшееся знакомство.
Печерскіе знакомцы мои были молодые родственники нѣкогда чѣмъ-то знаменитаго въ Кіевѣ Николая Семеновича Пііянова.
Къ тому времени, когда я пріѣхалъ въ Кіевъ, старикъ
Шіяновъ уже не жидъ на свѣтѣ п даже о быломъ его значеніи ничего обсидите іьнаго не говорили, такъ я собственно и до сихъ поръ не знаю, чѣмъ и въ какомъ родѣ былъ зна-менпть Шіяновъ; ио что онъ былъ все-таки знаменитъ,— этому я всегда вірилт такъ же православно, какъ ітріл.гь это въ ОрлІ оть его ро хственнпковъ, увлекшихъ меня обольстительными разсказами о красотѣ Кіева и о поэтическихъ прелестяхъ малороссійской жизни.
Я остаюсь имъ за это всегда благодарнымъ ).
Наслі.днпки Шіянова были тогда уже въ разбродѣ и въ зах\ далости. Когда-то значительные капиталы Йгарпка были ими торопливо прожиты пли расхищены, о чемъ ходили интересныя сказанія въ духѣ французской исторіи наслѣдства Ренюпоновъ. Отъ всего богатства остались только дома.
Это были престранные дома.—большіе п малые, всѣ деревянные; они были настроены тутъ въ такомъ множествѣ, что образовали собою двѣ липы: Большую Шіяновсізю и Малую Шіяиовску ю.
Обѣ Шіяновскія улицы находились тамъ же. гдѣ, вѣроятно, находятся п теперь, т.-е. за печерскимъ базаромъ, и цу всен справедливости имѣли право считаться самыми скверными улицами въ городѣ. 061, онѣ были немощеныя,—каковыми, кажется, остаются и до настоящаго врем-ни, но. вѣроятно, теперь онѣ немножко выровнены и поправлены. Въ то же время, къ которому ітносягся мои воспоминанія, оні находились въ привплеіированн'-мь положеніи, которое дѣ-
*) Со временемъ потомство, можетъ-статься. не въ силахъ будетъ составить себѣ ясное понятіе даже и о такихъ достопріиіѣчательныхъ личностяхъ Кіева, какъ, напримѣръ. Карасивна и Ппднебесная. за знаменитымъ булками которыхъ бѣгалъ на Подолъ весь городъ. Все это происходитъ отъ аристократизма нашихъ хроникеровъ и лѣтописцевъ. Впрочемъ, этп полезныя дѣятельницы, помнится, названы въ одномъ изъ варіантовъ еакаѳпста матери Кукурузѣ". который былъ сложенъ студентами кіевской духовной академіи, какъ протестъ противъ дурного стола и ежедневнаго п<>чтп появленія на немъ кукурузы въ пору і-я созрѣванія. Акаѳистъ < Кукурузѣ> начинался такъ: ѵБыеть посланъ комиссаръ (пом щнпкъ эконома) на базаръ рыбы купити, узрѣвъ же тя кукурузу сушу, возопи гласомъ велимъ и рече: ; Радуйся, кукурузо. нище цре.,ѣ.іыіая п пресладкая. рад\йся. кукурузо. ппще ядомая и ни-коли же изъядаемая. радуйся, кукурузо, отцомъ ректоромъ нпколи же зримая, радуйся, и инспекторомъ николи же ядомая» и т. д. Гамъ гдѣ-то было п о Кгірасивнѣ съ Ппднебесною, п-.сдѣ которыхъ уже нѣтъ такихъ пекарокъ въ Кіевѣ.
яало ихъ во все влажное время гсца нрпроѣ жпмп. По какимъ-то геологическимъ причинамъ, онѣ были низменнѣе уровня базарной плоіца ці и служили просторнымъ вмѣстилищемъ для стока жидкой черноземной і*ряш, которая образовала здѣсь сплошное болото съ вонючими озерами. Въ этихъ озерахъ плавали піііяновскіе» гуси и утки, которымъ было здѣсь очень привольно, хотя, впрочемъ, они часто сильно страдали отъ вползавшихъ имъ въ носъ дрянныхъ зеленоватыхъ піявокъ. Чтобы защитить птицъ отъ этого бѣдствія, имъ смазывали клювы «свяченой оливой», но и это вірное сре іство не всегда и не всѣмь помогало. Утята и гусята отъ піявокъ дохли.
По вечерамъ здѣсь, выставивъ нарѵжу голову, пѣли свои антифоны очень крупныя и замѣчательно басистыя лягушки, а Тонкоголосыя молодячки канонархалп. Иногда он ѣ всѣ— молодыя и старыя всѣмъ соборомъ выходили на бережки и прыіа.іп по бугорочкамъ. Это замѣняло баре >метрпчег кое указаніе, ибо предвѣщало ясную погоду.
Словомъ, картіпдй была амая буколическая, а между тѣмъ въ двухъ шагахъ отскца былъ базаръ и притонъ базарь очень завозный и дешевый. Благо шря этому послѣд нему обстоятель'дву. здѣшняя мѣстность представая іа во-его рода удобства особенно для людей небогатыхъ и не-ирпхрт швыхъ.
Впрочемъ. <>нл также имѣла, евфи особенныя удобства для домохозяевъ еще въ отношеніи Нлнцейскомъ, которое въ Кіевѣ тогда см вшивали съ по ппичесжимъ.
І.1АВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Большіе и малые іома Пііянова, со множествомъ надворныхъ флигельковъ и хаточекъ, приспособленныхъ кое-какъ къ житью изъ старинныхъ служебныхъ построекъ, давно уже сдавались внаймы и. несмотря на стою ветхость, всѣ быти обитаемы.
Постройки всѣ подъ-рядъ были очень ветхи и стояли, повидимому, аридовы вѣки. Доски съ надписями, которыми «строго воспрещалось» чинить эти дома и были указаны сроки ихъ сломкѣ, красовались на ихъ углахъ, но дома упорно избѣгали опредѣленной имъ злой участи, и нѣкоторые изъ нихъ ина тп ш- уцѣлѣлп ю настоящаго времени.
Во мнѣніи жителей шіяновскіе дома охраняла отъ «би-
биковскаго разоренія» одна необычайная личность, созвавшая себѣ въ то время героическую репутацію, которая, казалось бы. непремьнно должна перейти въ легенду. Быстрое забвеніе иодобныхь вещей заставляетъ тотько поникнуть головою передъ непрочностію всякаго земного величія.
Легендарная личность былъ артиллеріи полковникъ Кесарь Степановичъ Берлинскій, на сестрѣ котораго, кажется Клавдіи Степановнѣ, былъ женатъ покойный III. яновъ.
Такихъ людей. какъ Кесарь Степановичъ, нѣтъ уже болѣе не только въ Кі?вѣ. но, можетъ-быть, и во всей Россіи. Пусть въ ней никогда не переводятся и. вѣроятно, впередъ не переведутся антики, но «печерскій Носарь» дважды повторенъ быть не можетъ.
Сказать, что Берлинскій «уир івлялъ» домами Шіянова было бы, кажется. не точно, потому что упр.ів іялъ ими, по выраженію Берлинскаго, «елмъ Господь Богъ и Николаи угодникъ», а деньги съ квартирантовъ собирала какая-то лама, въ конторскою часть которой к. вм І шивалпсь ни Господь Богъ, ни Ею угодникъ и даже ни самь Кесарь Степановичъ. Этотъ герои Печерска. какъ настоящій сКе-»арь», только господствовалъ надъ мѣстностью и надъ всѣми, кто, живучи здѣсь, обязанъ былъ его знать. Кесарь Степановичъ нравственно командовалъ жиіьцамч обѣихъ ІНіяновскпхъ улицъ и вообще встаю прилегающею областію за базаромъ. Всѣхъ онъ содержалъ въ решпектѣ и всѣмь умѣть давать чувствовать свое авторитетное военное зна-ч» ніе. Слово «.моментъ», виос.іѢ ц гвім основательно истасканное нашими военными ораторами, кажется, впервыѣ было пущено Берлинскимъ, и съ его легкой руки сдѣлалось необхо цімымь подспорьемъ русскаго военнаго краснорѣчія.
При случаѣ Берлинскій готовь былъ оказать и иногда, дѣйствительно, оказывая ь нуждающимся твое милостиво»1 отеческое заступленіе. Если за кого нужно было идти по-про» пть какое-либо начальство, печерскій Кесарь надѣвалъ свой военный сюртукъ безъ эполетъ. брать въ руки толстую трость, которѵю носилъ на правахъ раненаго, и шелт «хлопотать». Нерѣдко онъ что-нибудь п выпрашивалъ для своихъ ргоіедё, дѣйствуя въ сихъ случаяхъ на однихъ ласкою, а на другихъ угрозою. Существовало убѣжденіе, что онъ можетъ всегда * писаю къ государю», и этого мно
гіе очень боялись. Младшихъ же «чнноваловъ», говорили, будто онъ иногда убѣждалъ даже при содѣйствіи своей трости, рег агіііііпепііііі) Ьасиіілиш. Послѣднее онъ допускалъ, впрочемъ, не по свирѣпости нрава, а. >по долгу вѣрноподдан-ничества», единственно для того, чтобы не часто безпокоить государя письмами.
На базарѣ Берлинскаго всѣ знали и всѣ ему повиновались, не только за страхъ, но и за совѣсть, потому что молва громко прославляла «печерскаго Кесаря», и притомъ рисовала его весьма въ привлекательномъ народно-геропческамъ жанрѣ.
ГЛѢБА ПЯТАЯ.
Берлинскій смолоду былъ молодецъ и писанный красавецъ въ тогдашнемъ гвардейскомъ родѣ: такимъ же онъ оставался до старости, а можетъ быть и до самой кончины, которая послѣдовала, если не ошибаюсь, въ 1864 или 1865 г. Въ жизнь свою онъ видѣлъ не одни красные дни, а перенесъ не мало ир.ды, горя и несправедливостей, но, обладая удивительною упругостью души, никогда не унывалъ и выворачивался изъ положеній самыхъ трудныхъ средствами самыми смѣлыми, и подчасъ даже невѣроятными и отчаянными.
Сердца Кесарь Степановичъ былъ, кажется, добраго п въ свою мѣру благороднаго, а также онъ былъ несомнѣнно чувствителенъ къ чужому горю и даже нѣженъ къ несчастнымъ. Онъ не могъ видѣть равнодушно ничьего страданія, чтобъ тотчасъ же не возмущаться духомъ и не обнаруживать самыхъ горячихъ и искреннихъ порывовъ помочь страдающему. По мѣрѣ своихъ силъ и разумѣнія онъ это и дѣлалъ. Характеръ Берлинскій имѣлъ очень смѣлый, рѣшительный п откровенный, но нѣсколько съ хитринкой- Знавшіе его смолоду увѣряли, что ранѣе хитрѣстп въ немъ будто не было, но потомъ, впослѣдствіи, несправедливость и разныя суровыя обстоятельства заставили его понемножечку лукавивъ. Впрочемъ, въ его устахь и во лбу свѣтило нѣкоторое природное лукавство. Берлинскій былъ самый большой фадтаэсръ, какого мпѣ удавалось видѣть, но фантазировалъ онъ гсже не безъ расчета, иногда очень наивнаго и почти венда <езвреднаго для іругпхъ. СИооражалъ опь быстро п сочинялъ такія пестрыя фабулы, что если бы
онъ захотѣлъ заняться сочинительствомъ литературнымъ, то изъ него, конечно, вышелъ бы любопытный сочинитель. Вдобавокъ къ атому, все, чгб Кесарь разъ о себѣ сочинилъ. это становилось для самого его истиною, въ которую онъ глубоко и убѣжденно вѣрилъ. Вѣроятно, оттого анекдотическія импровизаціи «печерскаго Кесаря» производили на слушателей неотразимо сильное впечатлѣніе, подъ вліяніемъ котораго тѣ досочиняли еще большее. Кесарь Степановичъ умѣлъ вдохновлять п умѣлъ поставить себя такъ, что во всѣхъ отношеніяхъ,—и чиномъ, п значеніемъ стоялъ во мнѣніи Печерска несравненно выше настоящаго.
По моему мнѣнію, онъ былъ только храбрый и, вѣроятно, въ свое время очень способный артиллеріи полковникъ въ отставкѣ. По крайней мѣрѣ такимъ я его зазналъ въ Орлѣ, черезъ который онъ «везъ къ государю» за разъ восемь или десять (а можетъ-быть и болѣе) сыновей. Тогда онъ былъ во всей красѣ мужественнаго воина, съ георгіевскимъ крестомъ, и поразилъ меня смѣлостію своихъ намѣреній. < >нъ ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы «выставить» гдѣ-то всѣхъ своихъ ребятъ государю и сказать:
— Если хочешь, чтобы изъ нихъ тебѣ вѣрные слуги вышли, то бери ихъ п воспитай, а мнѣ ихъ кормить нечѣмъ.
Мы всѣ. т. е. я и его орловскіе племянники (сыновья его сестры Вѣтіи Степановны) недоумѣнно спрашивали:
— Неужели вы такъ и скажете: ты, государь?
А онъ отвѣчалъ:
— Разумѣется, такъ п скажу. - и потомъ прибавилъ, будто это непремѣнно такъ даже и слѣдуетъ говорить, и будто государь Николай Павловичъ «такъ .побитъ».
Насъ это просто поражало.
Кормить дѣтей Берлинскому дѣйствительно было нечѣмъ. Онъ очень нуждался, какъ говорили, будто бы по причинѣ его какой-то отмѣнной честности, за которую онъ, по его собственнымъ разсказамъ, имѣлъ «кучу враговъ около государя». По онь не унывалъ, ибо онъ очень ужъ смѣло разсчитывалъ па самого императора Николая Павловича. Смѣлость эта сто и не постыдила: съ небольшимъ черезъ мѣсяцъ. Кесарь Степановичъ опять прослѣдовалъ изъ Петербурга въ Кіевъ черезъ Орелъ уже совсѣмъ одинъ. Государь велѣлъ принять въ учебныя заведенія на казенный счетъ
«всю шеренгу» п увелич|лъ будто бы пенсію самого Берлинскаго, а также велѣлъ дать ему не въ зачетъ какое-то очень значительное пособіе. Кромѣ принятія дѣтей, все остальное было какъ-то въ туманѣ.
Въ разсказѣ объ упомянутомъ сейчасъ событіи я и познакомился впервые съ импровизаторствомъ .«того необыкновеннаго человѣка, которое потомъ мнѣ доставляло много интересныхъ минутъ въ Кіевѣ.
Многое множество изъ его грандіозныхъ разсказовъ я позабылъ, по кое-что помню, хотя теперь, къ сожалѣнію, никакъ не могу разсортировать, что слышали непосредственно отъ него самого, и что отъ людей, ему близкихъ и имъ вдохновенныхъ.
ГЛАВА ШЕ( ГАЯ.
По словамъ Кесаря Степановича, которымъ я, впрочемъ, не смѣю никого обязывать вѣрить безъ критики, онъ встрѣ тиль государя гдѣ-то на почтовой станціи.
— Сейчасъ же, говоритъ, — я упросили графа Орлова дозвочіть мнѣ стоять съ дѣтьми на крылечкѣ, и сталъ. Ребятъ построилъ въ шеренгу маль-мала-меныпе. а самъ сталъ на концѣ въ правомъ флангѣ.
Государь, какъ вышелъ изъ коляски на крыльцо, замѣтилъ мой взводъ и говоритъ:
•Это что за ребята?
А я ему отвѣчаю:
Это мои дѣти, а твои будущіе слуги, государь.
Тогда Николаи Павловичъ взглянулъ будто на Берлинскаго и сейчасъ же его узналъ.
- А-а! говоритъ, Берлинскій. Это гы, оратецъ?
— Точно такъ, говорю,- ваше ве.іичесіво, это я.
— Очень ради гебя видѣть. Какъ поживаешь?
Благословляю Провидѣніе, что имѣю счастіе видѣть ваше величество, а поживаніе мое очень плохо, если не будетъ ко мнѣ твоей милости.
Государь спросилъ.
— Отчего тебѣ плохо? Ты мнѣ хорошо служилъ.
— Овдовѣлъ, -отвѣчали Берлинскій:— и вотъ дѣтей у меня цѣлая куча: прикажи, государь, ихъ вскормить и выучить, а то мнѣ нечѣмъ я бѣденъ, въ чужомъ домѣ жиш и изъ того Бпоиковъ выгоняетъ.
Государь, говоритъ, сверкнулъ глазами и крикнулъ:
— Орловъ! опредѣлись всѣхъ дѣтей Берлинскаго на мой счетъ. Я его знаю: онъ храбрый офицеръ и честный.
\ потомъ,. будто, опяіь оборотился къ Кесарю Степановичу и добавилъ:
За что тебя Бибиковъ выгоняетъ?
— Домъ, говорю.—гдѣ я живу, подъ крѣпость разломать ' ОЧеТЪ.
Государь будто отвѣтилъ:
— Вздорь; домъ. гы. живетъ такой мой слуі і. какъ ты, долженъ быть сохраненъ вь крѣпости, а не разломанъ Я тебя хорошо знаю и у меня, кромѣ тебя и Орлова, нѣтъ вѣрныхъ людей. А Бибикову скажи отъ моего имени, чтобы онъ тебя ничѣмъ не смѣлъ безпокоить. Коли же онъ тебя не послушается, то напиши мнѣ страховое письмо.— я за тебя заступлюсь, потому что я тебя съ дѣтства знаю.
Цочему піеѵіарь Николай Павловичъ могъ знать Берлинскаго «съ дѣтства»,—этого я никогда не могъ дознаться: но выходило это у Кесаря Степановича какъ-то складно и слаточно. а притомъ и имѣло любопытное продолженіе.
Когда государь самъ, будто, напомнилъ о столь давнемъ знакомствѣ «съ дѣтства , то Б< рлинскій этимъ сейчасъ же воспользовался и сказалъ:
— Да. ваше величество. это справедливо: вмѣстѣ съ вами играли, а съ тѣхъ норъ какая разница: вы вотъ ка-к’ ю отмѣнную карьеру изволили совершить, что теперь всѣмъ міромъ повелѣваете і всѣ васъ трепещутъ, а я во всемъ нуж іаюсь.
А государь ему на это. будто, отвѣтилъ:
— Всякому, братецъ, свое назначеніе: мой перелетъ соколиный, а ты воробей не робѣй—приди ко мнѣ въ Петербургъ в“ дворецъ, я тебя хорошимъ пайкомъ устрою.
Берлинскій будто бы ходила, во дворець и результатомъ этого былъ тоіь паекъ пли «прибавокъ» |ъ пенсіи, которымъ «печерскій Кесарь» всѣхъ сосѣдей обрадовалъ и самъ очень гордился. Однако, и съ прибавкою Берлинскій часто не могъ покрывать многихъ, самыхъ вопіющихъ нуждъ своей крайне скромной жизни на Печерскѣ. Но такъ какъ всѣ знати, что онъ «имѣетъ пенсію съ прибавкамъ», то «Кесарь» не только никогда не жаловался на свои недостатки, а, напротивъ, скрывалъ ихъ съ большою трогательностію.
Порою, сказывали, дѣло доходило ;о того, что у него но бывало зимою дровъ, и онъ буквально стылъ въ своей холодной квартирѣ, но увѣрялъ, что это онъ «такъ любитъ для свѣжести головы».
Цифры своей пенсіи Берлинскій какъ-то ни за что не объявлялъ, а говорилъ, что получаетъ «много», но можетъ получать и еще больше.
— Стоитъ мнѣ написать страховое письмо государю,—говорилъ онъ: — и государь сейчасъ же прикажетъ давать мнѣ, сколько я захочу, но я пе прошу болѣе того, чтб пожаловано, потому что у государя другія серьезныя надобности есть.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Если вѣрить сказаніямъ, то государь Николай Павловичъ, будто, очень грустп.п» ио разлукѣ съ Берлинскимъ и даже неутѣшно жалѣлъ, что не можетъ оставить его при себѣ въ Петербургѣ. Но, по разсказамъ судя, пребываніе, Берлинскаго въ столицѣ и дѣйствительно было совершенно неудобно: этому мѣшала слишкомъ большая и страстная привязанность, которую питали къ печерскому Кесарю «всѣ солдаты».
Они такъ его любплп, что ему нигдѣ, будто, нельзя было показаться: какъ солдаты его увидятъ, сейчасъ перестаютъ слушать команду, и бѣгутъ за нимъ, и кричатъ:
— Пусть насъ ведетъ отецъ нашъ полковникъ Берлинскій,—мы съ нимъ и Константинополь возьмемъ, и самого побѣдоноснаго полководца Вылезарія на царскій смотръ въ цѣпяхъ приведемъ.
Доходило это, по разсказамъ, до такихъ ужасныхъ безпорядковъ, что нѣсколько человѣкъ за это были даже будто разстрѣляны, какъ нарушители дисциплины, и тогда Берлинскому самому уже не захотѣлось въ Петербургѣ оставаться, да и графъ Чернышевъ прямо, будто, сказалъ государю:
—- Какъ вашему величеству угодно, а это невозможно есть: или пусть Берлинскій въ Петербургѣ ие живетъ, или надо отсюда всѣ войска вывесть.
Государь, будто, призвалъ Кесаря Степановича и сказалъ:
— Такъ и такъ, братецъ, мнѣ съ тобою очень жаль разстаться, но ты самъ видишь, что въ такомъ случаѣ можно сдѣлать. Я тобою очень дорожу, но безъ войскъ столицу
тоже оставить нельзя, а поточу тобѣ жить здѣсь невозможно. ( гукай въ Кіевъ и сидл тамъ до военныхъ обстоятельствъ. Въ то время я про тебя непремѣнно вспомню и пошлю за тобоп.
А «лысый Чернышевъ» такъ его торопилъ выѣздом ь. что только нѣсколько дней дозволилъ ему пробыть въ Петербургѣ, но іі тѵть не обошлось безъ большихъ затрудненій, имѣвшихъ притомъ роковыя послѣдствія.
Это, по разсказамъ, было будто именно вь тотъ годъ, когда въ П«-терб\ргѣ. на Адмиралтейской площади, сгорѣлъ съ народомъ извѣстный балагань Лемана.
Балаганъ сгорѣлъ съ народомъ, стало-быть, во время предо явленія, но, по винѣ самого импровизатора пли благо вѣстниковъ его славы, на сей разъ выходило что-то немножко нескладно: дѣло будто происходило ночью.
Берлинскія, будто, тогда стоялъ на квартирѣ въ Гороховой улицѣ, у одной нѣмочки, и дожидался бритвеннаго прибора, который заказалъ по своему рисунку одному англичанину. У нихъ въ род. івѣ бы то много лицъ, отличавшихся необыкновеннымъ умомъ и изобрѣтательностью, и одинъ племянникъ Берлинскаго, б\ дто, такія бритвы вы ту-малъ, что онѣ могли брить превосходно, а обрѣзаться ими никакъ нельзя.
Англичанинъ взялся эти бритвы исполнить, да не хорошо по рпсѵнку сдѣталъ, и "пять сталъ передѣлывать. А лысый графъ Чернышевъ, которому непріятно было, что Берлинскій все еще въ Петербургъ живетъ, ничего этого въ расчетъ взять не хотѣть. Онъ уже нѣсколько разъ присылалъ дежурнаго офицера узнать, скоро ли онъ выѣдетъ.
Берлинскій, разумѣется, дежурнаго не боялся и отвѣчалъ: «Пусть вашъ лысый графъ не безпокоится и пусть, если умѣетъ, самъ Вылезарит въ плѣнъ беретъ, а я только моего особеннаго прибора дожидаюсь, и какъ англичанинъ мнѣ приборъ сдѣлаетъ, такь я сейчасъ же выѣдѵ и буду, і -ѣ государю угодно, вѣкъ доживать, да печерскихъ чудотворцевъ за него .молить, чтобы ему ничего непріятнаго не было. \ пока мои бритвы не готовы, я не поіду. Такъ лысому отъ меня и скажите*.
Чернышевъ не смѣлъ его насильно выслать, но опять прислалъ дежурнаго сказать, чтобы Берлинскій тпемъ н-могъ на улицѣ показываться, чтобы солдатъ не будоражить.
а выходилъ бы для прогулки на свѣжемъ воздухѣ только послѣ зари, когда изъ пушки выпалятъ и всѣхъ солдатъ въ казармахъ запрутъ.
Берлинскій отвѣчалъ:
— Я службу такъ уважаю, что и лысому повинуюсь.
Послѣ этого оиь будто жиль еще въ Петербургѣ, нѣсколько дней, выходя подышать воздухомъ только ночью, когда войска были въ казармахъ, и ни одинъ солдата не могъ его увидѣть и за нимъ бѣгалъ. Все шло прекрасно, но тутъ вдругъ неожиданно и подвернулся роковой случай, послѣ котораго дальнѣйшее пребываніе Кесаря въ столпцѣ сдѣлалось уже рѣшительно невозможнымъ.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Идетъ одинъ разъ Кцсарь Степановичъ, закрывъ лицо шинелью, отъ Краснаго моста къ Адмиралтейству, какъ вдругъ видитъ впереди себя на Адмиралтейской площади «огненное пламя». Берлинскій подумалъ: не Зимній ли дворецъ это горитъ и не дорожаетъ ли государю какая опасность... И тутъ, по весьма понятному чувству, забывъ все на свѣтѣ, Берлинскій бросился къ пожару.
Прибѣгаетъ онъ и видитъ, что щ дворца, слава Богу, далеки, а горитъ Лемановъ балагань и внутри его страшный вопль, а снаружи никого нѣтъ. Не было будто ни пожарныхъ, пи полиціи и ни одного человѣка. Словомъ, снаружи пустота, а внутри стоны и гибель, и только отъ іворца кто-то одинъ, видный, рослый человѣкъ, бѣжитъ и съ одышкою спотыкается.
Берлинскій воззрился въ бѣгущаго и узналъ, что это никто иной, какъ самъ государь Николай Павловичи.
Скрываться было некогда, и Кесарь Степановичъ сталъ ему во фронтъ какъ слѣдуетъ.
Государь ему будто закричал и:
— Ахъ. Берлинскій! тебя-то мнѣ и надобно. Полно вытягиваться. видишь -никого нѣть, бѣги за пожарными.
А Кесарь Степановичъ будто отвѣтилъ:
—- Пожарные тутъ, ваше императорское величество, никуда пе годятся, а дозвольте скорѣе призвать артиллерію.
Государь изволилъ его спросить:
— Зачѣмъ артиллерію?
А онъ, будто, отвѣтилъ:
— Затѣмъ, что тутъ надо схватитъ моментъ. Деревяннаго балагана залить трубами нельзя, а надо артиллеріей вь одинъ моментъ стѣну развалить, и тогда сто или двѣсти человѣкъ убьемъ, а зато остальной весь народъ сразу высыпется (вотъ еще когда и при какомъ случаѣ, значитъ, говорено военнымъ человѣкомъ о значеніи момента}.
Но государь его не послушался,—ужасно ему показалось сто человѣкъ убить; а потомъ, когда балаганъ сгорѣлъ, тогда изволилъ, будто, съ сожалѣніемъ сказать:
— А Берлинскій мнѣ. однако, правду говорилъ: все д ѣло было въ моментѣ и надо было его послушаться и артиллерію пустить. Но только все-таки лучше велѣть ему сейчасъ же выѣхать, а его бритвенный приборъ послать ему въ Кіевъ по почтѣ на казенный счетъ.
Сдѣлай»» это послѣднее распоряженіе было въ такомъ расчетѣ, что если бы при Берлинскомъ случился въ Петербургѣ другой подобный острый моментъ, то все равно нельзя было бы артиллерію вывесть потому, что всѣ солдаты и съ пушками за нимъ бы бросились, чтобы онъ велъ ихъ плѣнять Вылезарія.
Такъ этимъ и заключилась блестящая пора служебной карьеры Кесаря Степановича въ столицѣ, и онъ не видѣлъ государя до той лоры, когда посл ѣ выставилъ передъ его величествомъ «свою шеренгу», а потомъ вернулся въ Кіевъ съ пособіемъ п усиленною пенсіею, настоящую цифру которой, какъ выше сказано, онъ постоянно скрывалъ отъ непосвященныхъ и говорилъ коротко, «что беретъ много», а можетъ взять еще больше.
— Стоитъ только государю страховое письмо написать.
Мнѣ кажется, что онъ искренно вѣрилъ, что имѣетъ дозволеніе вести съ государемъ переписку, и. Богъ его знаетъ, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ ему что-нибудь въ этомъ родѣ было сказано, если не лично государемъ, то кѣмъ-нибудь изъ лицъ, черевъ которыхъ Кесарь Степановичъ устроилъ дѣтей ц получилъ свою прибавку.
Во всякомъ случаѣ это куражило старика п давало ему силу переносить весьма тяжелыя лишенія съ непоколебимымъ мужествомъ и внушающимъ достоинствомъ.
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. XXXI. °
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Такъ Берлинскій и старѣлся, отмѣнно преданный государю и вѣрный самому себѣ во всемъ и особенно въ импровизаторствѣ. А когда онъ сталъ очень старъ и во всѣхъ отношеніяхъ такъ поотсталъ отъ современности, что ему нечего было сочинять о себѣ, то онъ переносъ задачи своей цмпровнзаціи на своего племянника (моего школьнаго товарища) доктора, имя котораго было Николай, но такъ какъ онь былъ очень зиаменить, то итого имени ему было мало, и онъ назывался «Нцколпвра.». Здѣсь значеніе усиливалось звукомъ лавра. Николай ото было простое имя. какт. бываетъ простой монастырь. а Николавра—это то же самое, что лавра < |>еди простыхъ монастырей.
Косой. Степановичъ разска ывалъ удивительнѣйшія вещи о необычайныхъ метпцинскпхъ знаніяхъ и талантахъ этого очень много учившагося, но замѣчательно несчастливаго врача и человѣка съ отмѣнно добрыми и благороднымъ сердцемъ, но большого неудачника.
Опять и тутъ я не помню многаго п можетъ-быть, самаго замѣчательнаго, но, однако, могѵ записать одинъ анекдотъ, который обт.ясняеть, ВЪ КОКОМЪ духѣ и росѣ были другіе, пушенные въ обращеніе для прославленія ІІпколавры.
Шелъ одни и разч. разговори о зубныхъ бо.іяхч,, —объ иѵь жестокой неутолимости и о неизвѣстности такихъ медицинскихъ срет,ствь. которыя дѣйствовали бы въ этихъ бц-ляхъ такъ же вѣйо. какъ, напримѣръ. хининъ въ лихорадкахъ пли касторовое масло въ засореніяхъ желудка п кишокъ.
Вь обществѣ было нѣсколько молодыхъ, въ тогдашнее время, врачей, и всѣ согласно утверждали, что такихъ уці-версальяыхъ средствъ дѣйствительно нѣтъ,—что на одного больного дѣйствуетъ одно лѣкарство, на другого—другое, а есть такіе несчастные, на которыхъ ничто не дѣйствуетъ, «пока само пройіетъ...
Вопросъ очень спеціальный и не интересныя тлябесѣіы людей непосвященныхъ, но чуть къ нвму коснулся художественный геній Берлинскаго, — произошло чудо, напоминающее вмалѣ источеніе воды изъ камня въ пустынѣ. КрѢілатый ІІегасч.-импровпзаторч, ударили звонкимъ копытомъ и изъ сухой скучной м періи полилась сага,—живая,
сочная и полная преинтересныхъ положеній, надъ которыми люди въ свое время задумывались. улыбались и дай?, можетъ-быть. „лакали, а во всякомъ случаѣ тѣхъ, кого это сі.аз ініе касается, прославили.
Кесарь Степановичъ опротестовать медицинское мнѣні-* іі сказалъ будто, что Ьіивсрсальное средство противъ зубной боли есть и что оно изобр'тено именно его племянникомъ докторамъ Николаврщо, и одном* ему. Николаврѣ, только и извѣстно. Но средство эю было такое капризное, что, несмотря на всю его полезность, оно могло быть употребляемо не ВСЯКИМЪ II НС ВО ВСѢХЪ С.іучаЯХЬ. Метикаментъ этотъ, утолявшій будто всякую боль, можно было употреблять только въ размѣрѣ одной капли, котору ю нужно было очень осторожно капнуФь на больной зубъ. Е ли же эта капля хоть крошечку стечетъ съ зуба и косится щеки или де-сенъ, то въ то же самое время че.ювѣкь мгновенно умираетъ. Словомъ, опасность страшная! II выходило такъ, что нижніе зубы этимъ лѣкарствомъ можно было лѣчить, потому что на нижніе можно осторожно капнуть, посели заболѣли верхній, на которые капнуть нельзя, то тогда уже это лѣкарство безпо.іе пю.
Было ужасно слушать, что есть такое спасительное изобрѣтеніе н оно въ значительной долѣ случаевъ должно оставаты я „«приложимымъ. По Кесарь ( гепановичъ, владѣя острымъ умомъ іі рѣшительностью, нашелъ, однако, средство, какъ преодолѣть это затрудненіе, и усвоилъ для медицинской науки «ш ревертоіпный с пособъ', которымъ до тѣхъ поръ зубоврачебная практика не пользовалась. Этотъ этюдъ был ь извѣс генъ между нами подъ названіемъ тВФр-лннскаго анекдота о Бибнковской теіцѣ».
ГЛАВА ДЕБИТА И.
ІКпла-быіа, будто, «Бшшковская теща», дама «по.ініпцая и преогромная», и пріѣхала она, будто, на лѣто къ себѣ въ деревню, гдѣ-то неподалеку отъ Кіева. Въ Кіевъ ей Бибиковъ въѣзжать но позволяло «по своему характеру», потому что онъ «насчетъ женскаго сословія заблуждался и ектеніею хотѣлъ объ этомъ разговаривать, чтобы она его не стала стыдить лѣтами, чиномь и убожествомъ) (гакъ какъ у него одна рука была отнята).
Несчастная «полная дама» гакъ п жила, будто, въ де
о*
ревнѣ и пошла, будто, она одинъ разъ съ внучками въ лѣсъ гулять и нашла на кустѣ орѣшника орѣхъ-двопчатку и обрадовалась, что счастье удвоится, и захотѣла раскусить. Внучки говорятъ ей:
— Не кусай, бабушка, двойчатку,—у тебя зубки стары.
А Бибпковская теща отвѣчаетъ:
— Пѣтъ, раскушу,—-мнѣ счастья удвоится.
Оръхи она разгрызла, но только послѣ этого у нея сейчасъ же зубы заныіи, и до юго ее доняли, что она слала кричать: «лучше убейте меня, потому что это все удвои-вается и стало совсѣмъ невозможно вытерпйгь». ,4 у нея былъ управитель очень лукавый, и онъ ей говоритъ: «чѣмъ если убивать —за что отвѣчать придется, то лучше дозвольте я вамъ изъ Кіева всепомогающаго лѣкаря привезу: онъ изъ извѣстной Шіяновской родни — и всякую зубную боль въ олну минуту унять можетъ».
Бибпковская теща про Шіяновыхъ много хорошаго слыхала и отвѣчаетъ: «привези, но только какъ возможно скорѣй».
Управитель, чтобы не произошло никакой медленности, (ейчасъ же собрался и даже не Ѣвши уѣхалъ.
Вечеромъ онъ изъ имѣнія выѣхалъ* а рано на зарі; сталъ уже въ Кіевѣ на дымящихся и всігьні-нныхъ коняхъ посреди печерскаго базара, а. дальше тутъ уже не зналъ, куда, ѣхать: по Большой пли по Малой Шіяновской, и закричалъ во все горло:
— Гдѣ тутъ всеіюмогающій лѣіДрь Николавра, который во всякой зубной боли вылѣчиваетъ?
(По причинѣ большой извѣстное!п этого доктора, фамилія его никогда не произносилась, а довольно было одного его имени «Николавра», которое было лакъ же славно, какъ, напримѣръ, имя Абеляръ).
Чумаки, которые стали туть съ вечера и спали на своихъ возахъ съ пшеномъ и саломъ, и съ сухою таранью, сейчасъ оть этого крика проснулись и показали управителю:
— Годи тебѣ кричать, говорить,—вотъ туточка сей лѣкарь жпветь, тільки що вінъ теперь, якъ и усе христіанство, спочпвае.
Управитель побѣжалъ по указанію и заколотилъ о запертые ставни.
Оттуда ему кричатъ:
— Кто се такій и чого вамъ треба?
А онъ отвѣчаетъ:
— Отчиняйте скорѣй, або я всѣ окна побью,—мйь надо всепомогающаго лЬкаря Николавру, который всякую боль излѣчиваетъ. Здѣсь онъ, или н >тъ. а то я долженъ дальше скакать его разыскивать.
Управителю говорятъ:
— Никуда вамъ скакать дальше не треба, потому что всепомогающій докторъ Николавра здЬсь живетъ, но онь теперь, якъ и усе христіанство, спитъ. А вы майте собі трохи совістп и если въ Господа Бога вйруете, то не ко-лотайте такъ крѣпко, бо нашъ домъ старенькій, еще не за елхъ временъ, и шибки изъ оконъ повыскакують. а тутъ близко ни якого стекольщика нѣтъ, а теперь зима лютая и съ малыми дѣтьми смерзтп можно.
Разсказывалось именно такъ, что при этомъ переговорѣ было упоминаемо про «зиму» и про «холодъ», и читатель не долженъ смущаться, что дѣло происходило во время лѣтняго наѣзда Бибиковской тещи въ свое имѣніе. ВскорЕ мы опять увидимъ, вмѣсто скучной п лютой зимы, веселое знойное лѣто.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Управитель Бибиковской тещи быль человЕкъ горделивый, потому что, по необразованности своей, считать, какъ и другіе многіе, будто государь Бибикову Кіевъ все равно какъ въ подарокъ подарилъ, и что потому всЕ. кто туть живетъ, ему, будто, принадлежать въ родѣ крЕиостныхъ и должны все дѣлать.
— Велика важность, говоритъ. — ваши окн ! Я отъ Бибиковской тещи пріѣхалъ за лѣкаремъ и подавай мнѣ лѣкаря.
Еаіу отворили двери и привези его къ самому Николаврѣ.
Тотъ—лихой молодчина былъ и хотя такой ученый, что страшно все понималъ, но церемониться ни съ кѣмъ не любилъ.
Какъ ему сказали, что отъ Бибиковской тещи управитель пришелъ, онъ говоритъ:
— Приведите его ко мнѣ въ спальню. Если онъ во мнѣ надобность имѣетъ, то можетъ м«ня и безъ панталонъ во всякомъ видѣ разсматривать.
Управитель пришелъ и разсказываетъ, а лткарь Нико-
лавра на него и вниманія не обращаетъ: лежитъ подъ одѣяломъ да колѣнки себѣ чешетъ. А когда тотъ кончилъ, лѣкарь только спросилъ:
А въ какомъ строю у нея зубъ болитъ, въ верхнемъ или въ нижнемъ?
? правитель отвѣчаетъ:
— Я ей въ зубы не глядѣли, а полагаю, что, должно быть, долить въ строю въ ве])іік'.ѵъ, потому что у нея опухоль подъ самымъ глазомъ.
Тогда Николавра завернулся къ стѣнѣ и говорить:
— Прощай и ступай вонь.
Что это значатъ?
— То значитъ, что если боль въ верхнемъ строю, то мнѣ тамъ дѣлать нечего: я верхнихъ зубовъ лѣчили не могу.
У и ] ківптель гові >ріггъ:
Да вамъ-то не все ли равно лѣчить, что верхній зубъ, что нижині? Все равно, говоритъ,— кость окостенѣлая, что тогъ, что этотъ, одно въ нихъ естество, одно поврежденіе и одно лѣкарство.
Но лѣкарь на него посмотрѣлъ и говорить не сталъ.
Тотъ спрашиваетъ:
Что же, отвѣчайте что-нибудь.
Тогда лѣкарь даль ему тажой отвѣтъ:
Я, говорить,— могу разговаривать съ равнымъ себѣ по наукѣ., а это по твоего дѣло ума, чтобы я съ гобою сталл» разговаривать. Ты управиіе.іь, и довольно съ тебя— имѣніемъ п управляй, а не въ свое тѣло не суйся. Людей лѣчить это не то, что навозъ запахивать. Медицинѣ учатся. А тсбѣ сказано, что я въ нижнемъ строю все могу вылѣчить, а до верха моимъ спасительнымъ лѣкарствомъ дотронуться нельзя.
— Но черезъ что же такое?- вопитъ управитель.
— А черезъ то, что она въ ту же минуту «окачурится» и мнѣ за нее отвѣчать придете# ; а я моей репутаціей дорожу, потому что я очень много учился.
> правитель какъ услыхалъ, что опа можетл. «.окачу-ригься», еще больше слалъ просилъ лѣкаря, чтобл. непремѣнно ѣхалъ, а тотъ разсердился, вскочилъ, вытолкали его вл. шею и опять легъ ночь досыпать.
Тутъ въ это дѣло и вступился вездѣ находчивый Кесарь Степановичъ.
ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Увидалъ онъ, что племянникъ, хотя, по его словамъ, и уменъ, и въ своемъ медицинскомъ дѣлѣ очень свіідѵщъ, а недостаетъ ему еще насіоящей тактики и практики, и молодой его разсудокъ еще не очень находчивъ, какъ себѣ большую славу сдѣлать.
Ііесарь Степановичъ, прослушавъ весь ихъ разговоръ изъ своей комнаты, сейчасъ всталъ съ постели, надѣлъ туфли и тулупчикъ и съ трубкой вышелъ въ залу, по которой проходилъ изгнанный ліжар» мъ управитель. Увидалъ онъ его н остановилъ,—говоритъ:
— Остановись, прохожій, никуда не гожій, и объясни мнѣ своей рожей, не выходивши изъ прихожей: на чемъ ты сюда пріѣхалъ и есть ли гамъ третье сидѣніе1, чтобы еще одного человѣка повадить.
Управляющій очень радъ, чго съ нимъ такой извѣстный человѣкъ заговорилъ, и отвѣчаетъ, чго у него есть четверо-м Сетная коляска, и онъ можетъ не одного, а даже дві \ъ людей по мѣстъ г ь.
Кесарь Степановичъ далъ ему щелчка вь лобъ и говоритъ:
— Ты спасенъ и твое дЬ.ю сдѣлано: я сейчасъ къ племяннику взойду и совѣтъ ему дамъ. Николавра меня послушается, и мы переговоримъ и, можетъ-быть, всѣ вмѣстѣ поѣдемъ. Я ем одинъ способъ покажу, какъ можно верхніе зубы въ нижній рядъ поставить и тогда на нихъ чортъ знаетъ чѣмъ можно накапать.
— А ты, прибавляетъ, - только скажи мнѣ: очень ли она мучится?
Управитель отвѣчаетъ:
— 5 жъ совсѣмъ замучилась и на весь домъ визжитъ.
— То-то,—говоритъ Ііесарь Степановичъ:—мнѣ это знать надо, потому что моимъ способомъ съ ней круто придется об рап іаться по-военному.
Управитель отвѣчаетъ:
— Она военныхъ даже очі нь уважаетъ и па все согласи гея, потому что у нея очень болитъ.
— Хорошо, сказалъ Кесарь Степановичъ и пошр.ть къ племяннику. Тамъ у нихъ вышелъ споръ, но Кесарь Степановичъ все кричалъ: «не твое дѣло, за всю опасность я отвѣчаю , и переспорилъ.
— Ты, говоритъ,—бери только свое спасительно лѣкарство и употребляй его по своей наукѣ, какъ слѣдуетъ, а остальное, чтобы верхніе зубы снизу стали—это мое дѣло.
Лѣкарь говоритъ:
— Вы забываете, какого она званія,—она обидится.
А Кесарь Степановичъ отвѣчаетъ:
Ты молодъ, а и знаю, какъ съ дамами по-военному обращаться. Вѣрь мнѣ, мы ей на верхній зубъ капнемъ, и она намъ еще книксенъ присядетъ. ѣдемъ скорѣе, — она мучится.
Лѣкарь было сталъ еще предст івлять, что капнуть на верхній зубъ нельзя, а она можетъ послѣ Бибикову жаловаться, но тутъ Кесарь Степановичъ его даже постыдилъ.
— Ты вѣдь, говоритъ,—кажется, не простой докторъ, а училъ двѣ науки по фи :икѣ и попять не можешь, что тутъ надо только с.-ватіинь мояеіппъ, и тогда все можно. Не безпокойся. Это не твое дѣло: ты до нея не будешь нри-трогиваться, а мнѣ Бибиковъ ничего сдѣлать не смѣетъ. Ты, кажется, мнѣ можешь вѣрить.
Племянникъ повѣрилъ дядѣ и говоритъ:
— Въ самомъ дѣлѣ, при васъ я не боюсь, а между прочимъ мнѣ это впередъ для таковыхъ же случаевъ можетъ пригодиться.
Одѣлся, положилъ пузыречекъ со своимъ лѣкарствомъ въ жилетныя карманъ, и безъ дальнихъ разсужденій всѣ они втроемъ покатили на верхній зубъ капать.
Управитель все ѣхалъ и думалъ: непремѣнно она у нихъ окачурится!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Скакали путники безъ отдыха цѣлый день, и зато вечеромъ, въ самое то время, когда стадо гонятъ, пріѣхали на господскій дворъ, а зубы если когда разболятся, то къ вечеру еще хуже болятъ.
Бибпковская теша ходитъ по комнатамъ, и сама преогромная, а плачетъ какъ маленькая.
— Мнѣ очень стыдно, говоритъ, — этакъ плакать, но не могу удержаться, потому что очень черезъ силу болитъ.
Кесарь Степановичъ сейчасъ же съ ней заговорилъ по-военному, но ласково.
-— Это. говоритъ, — даже къ лучшему, что вамъ такъ
больно болтъ, потому что вы должны скорѣе на все рѣшиться.
А она отвѣчаетъ:
— Ахъ. Боже мой, я уже и рѣшилась. Чій вы хотите, то и дѣлайте, только бы мпѣ выздоровѣть н въ Парижъ для развлеченія уѣхать.
— Въ такомъ разѣ,—гов-.рптъ Берлинскій: —мы должны кое-что сдѣлать... По-французски это называется «повер-т-інъ». Послѣ черезъ пять минутъ можете въ Парижъ ѣхать.
Она удивилась и вскричала:
— - Неужели черезъ пять минутъ!?
Берлинскій говоритъ: чтй мною сказано, то вѣрно.
— Въ такомъ разѣ, хоть не знаю, что такое «повер-тінъ», но я на все согласна.
-— Хорошо, — говоритъ Берлинскій:— велите же мнѣ поскорѣе подать два чистые носовые платка и хорошую, крѣп-к* ю пробку изъ потерной бутылки.
Та приказала.
— II еще,—говоритъ Кесарь Степановичъ:—одно условіе: прикажите сейчасъ, чтобы всѣ, кто тутъ есть, ваши родные и слуги ваши, ни во что не смѣли вступаться, пока мы свое дѣло кончимъ.
Все, говорить. — приказываю: мнѣ лучше умереть, чѣмъ такъ мѵчпться.
Словомъ, больная безусловно предалась въ ихъ энергическія руки, а тѣмъ временемъ Кесарю п Николаврѣ подали потребованные платки и пробку пзъ сотернои бутылки.
ГЛ АВА ЧЕТЫРІІ АД ЦАТА Я.
Кесарь Степановичъ пробку осмотрѣлъ, погнулъ, подавилъ и сказалъ: «пробка хороша, а платки надо перемѣнить: батистовые, говоритъ, — не годятся, а надо самые плотные полотняные».
Ему такіе п подали. Онъ сложилъ ихъ оба съ угла на уголъ, какъ складываютъ, чтобы зубы подвязывать, и положилъ на столикъ: а Бибпковской тещѣ говоритъ:
— Н'-те-ка, что-нибудь заговорите.
<Ліа спрашиваетъ:
— Для чего это нужно?
А Берлинскій ей отвѣчаетъ:
— Для того, чтобы схватить первый моментъ.
А самъ ей въ эту самую секунду сотерпую пробку въ ротъ и вставилъ. Такъ ловко вставилъ ее между зубами, что Бибиковской тещѣ пи кричать и ни одного слова выговорить нельзя при такой распоркѣ.
Удивилась она и испугалась, и глазами хлопаетъ, а чѣмъ больше старается что-то спросить, тѣмъ только крѣпче зубами пробку напираетъ. А Кесарь Степановичъ, въ это же острое мгновеніе, улыбнулся и говоритъ ей:
Вотъ только всего и нужно, а самъ ей однимъ платкомъ руки назади связалъ, а другимъ внизу платье вокругъ ногъ обвязалъ, какъ дѣлаютъ простонародныя дѣвушки, когда садятся на качели качаться. А потомъ крикнулъ племяннику:
— Теперь лови второй моментъ!
И сейчасъ же ловко, по-военному, перевернулъ даму внизъ головою и поставилъ ее въ уголъ на подушку теменемъ. Отъ этого находчиваго оборота, разумѣется, вышло такъ, что у нея верхніе зубы стали нижними, а нижніе — верхними. Непріятно, конечно, было, но не надолго, — всего на одну секунду, потому что лѣкарь, какъ человѣкъ одной породы съ дядею гакой же какъ дядя ловкій и понятливый, сейчасъ же «схватилъ моментъ», капнулъ каплю дамѣ па верхній зубъ и сейчасъ же опять ее перевернулъ, и опа стала на ногахъ такая здоровая, что сотерную пробку перекусила и говоритъ:
— Ахъ, мерси, — мнѣ все прошло; теперь блаженство! чѣмъ я могу васъ отблагодарить?
Кесарь Степановичъ отвѣчалъ:
— Я не врачъ, а военный, а военные во всѣхъ несчастіяхъ дамамъ такъ помогаютъ, а денегъ не берутъ.
Бибпковская теща разспросила о Кесарѣ Степановичѣ: кто онъ такой и на какомъ положеніи у государя, и когда узнала, что онъ отставной, но при военныхъ дѣлахъ будетъ опять призванъ, подарила ему необыкновеннаго верхового коня. Конь былъ что-то въ родѣ Сампсона: необычайная сила и удаль заключались у него въ необычайныхъ волосахъ, и для того онъ былъ съ удивительнымъ хвостомъ. Гакой былъ огромный хвостъ, что если кінь скакалъ, то онъ сзади разстилался какъ облако, а если шагомъ пойдетъ, то концы его на двухъ маленькихъ колесцахъ укладывали и они ѣхали за конемъ, какъ шл< йфъ за дамой.
Только удивительнаго коня этого нельзя было ввести въ Кіевъ, а надо было его гдѣ-то скрывать, потому что онъ былъ самый лучшій на всемъ Орловскомъ заводѣ и Бибикову хотѣлось его имѣть, но благодарная теща сказала: «на что онъ ему? Какой онъ воинъ!» и подарила коня Берлинскому, съ однимъ честнымъ словомъ, чтобы его въ «Би-биковское царство» не вводить, а содержать «на чужой сторонѣ».
Кесарь Степановичъ ногою шаркнулъ, «въ ручку поцѣловалъ» и коня принялъ, и честное слово свое сдержалъ.
Объ этомъ конѣ въ свое время было много протолковано на печерскомъ базарѣ. Собственными глазами никто это прекрасное животное никогда не видалъ, но всѣ знали, что онъ вороной безъ отмѣтинъ, а ноздри огненныя и можетъ скакать черезъ самыя широкія рѣки.
Теперь, когда пересказываешь это. такъ все кажется такимъ вздоромъ, какъ сказка, которой ни минуты нельзя вѣрить, а тогда какъ-то одни смѣялись, другіе вБрили, и все было складно.
Печерскіе перекуйкп готовы были клясться, что этотъ конь жилъ въ таинственной глубокой пещерЬ въ бровар-скомъ бору, который тогда былъ до того густъ, что въ немъ еще водились дикіе кабаны. А стерегъ коня тамъ старый москаль, «хромой на одно око». Въ этомъ не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія, потому что москаль приходилъ иногда на базаръ и продавалъ въ горшкѣ табакъ «прочу-храй», отъ котораго, какъ понюхаешь, такъ и зачихаешь. Ввести же коня въ Кіевъ нельзя было по причинѣ Бибика».
Исцѣленіе тещи имѣло, однако, и свои невыгодныя послѣдствія, если не для Кесаря Степановича, то для всепо-могающаго врача, и виною тому была малообразованность публики. Когда дамы узнали объ этомъ исцѣленіи способомъ «повертона», такъ начали притворяться, что у нихъ верхній зубъ болитъ и стали осаждать доктора, чтобы и надъ ними былъ сдѣланъ ^повертонъ». Пнѣ готовы были злоупотреблять этимъ до чрезвычайности. Николавра имъ внушалъ, что это дѣло серьезное и научное, а не шутка, но онЬ все не отставали отъ него съ просьбами «перевернуть ихъ и вылѣчить». Происходило это болЬе оттого, что Николавра дамъ очень смѣшилъ, и онѣ въ него влюблялись
въ это время безъ памяти. А онъ, будучи очень честенъ, не хотѣлъ разстраивать семейную жизнь во всемъ городѣ и предпочелъ совсѣмъ оставить и Кіевъ, и медицинскую практику.
Такъ онъ и сдѣлалъ.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Разумѣется, вся «причина Бибика», о которой выше сказано, была чистѣйшій плодъ быстрой и сложной фантазіи самого печерскаго импровизатора или его восторженныхъ почитателей. На самомъ же дѣлѣ Бибиковъ не только не гналъ и ни за что не преслѣдовалъ занимательнаго полковника, но даже едва ли не благодѣтельствовалъ ему, насколько къ тому была склонна его жесткая и мало податливая на добро натура. Кажется, Бибиковъ былъ даже чѣмъ-то полезенъ Берлинскому въ устройствѣ его дѣтей и вообще никогда на него не нападалъ, хотя, по весьма странной любви къ сплетнямъ и наушничеству, онъ зналъ очень многое о томъ, что Берлинскій на его счетъ пмиро-визовалъ. Вполнѣ возможно, что иногда скучавшій Бибиковъ имъ даже немножко интересовался, конечно, только ради смѣха и потѣхи.
Въ Кіевѣ въ тѵ время проживалъ академикъ с.-петербургской академіи художествъ, акварелистъ Михаилъ Макаровичъ Сажинъ. Онъ составлялъ для Дмитрія Гавриловича акварельный альбомъ открытыхъ при немъ кіевскихъ древностей, и не разъ, бывало, сказывалъ, что Бибиковъ шутилъ надъ своею зависимостью отъ Берлинскаго. Особенно его забавляло, какъ Берлинскій увѣрялъ, что «безрукій» мимо его домовъ даже ѣздить бтітся.
Бибиковъ въ самомъ дѣлѣ, говорятъ., иногда не проѣзжалъ по Шіяновскимъ улицамъ, но, разумѣется, не потому, чтобы ему былъ страшенъ Берлинскій, а потому, что тутъ невозможно было проѣхать, не затонувъ или, по крайней мѣрѣ, не измаравшись. Кесарь Степановичъ пли вдохновенные имъ почитатели давали этому свое толкованіе, которое имъ гораздо болѣе нравилось, а для Кесаря имѣло притомъ свои выгоды. Всѣ эти легенды и басни значительно возвышали авторитетъ «галицкаго воина», который никого не боится, между тѣмъ какъ его всѣ боятся и «даже самъ Бибикъ».
Такъ какъ независимые люди всегда рѣдки и всякому интересны, то Кесарь Степановичъ пользовался у многихъ особенною любовью, и это выражалось своеобразнымъ къ нрмѵ поклоненіемъ. Дѵмали, что онъ очень много можетъ защитить; а .гго, въ свою очередь, благопріятно отражалось на дѣлахъ шіяновскихъ развалинъ, которыя Бибиковъ, по словамъ Сажина, называлъ «шіановскими нужниками», но зато ихъ не трогалъ,—можетъ въ самомъ дѣлѣ изъ какого-нибудь юбраго чувства къ Берлинскому. Людямъ робкимъ, равно какъ и людямъ оппозиціоннаго образа мыслей было лестно жить въ этихъ «нужникахъ» вмѣстѣ, или «въ одномъ кольцѣ» съ такимь вдохновительнымъ героемъ, какъ Кесарь Степановичъ. А какъ притомъ къ чистотѣ и благоустройству обиталищъ у насъ относятся еще довольно нетребовательно, то эти дрянныя развалины были постоянно обитаемы. Между невзыскательными жильцами здѣшнихъ мЬстъ встрѣчалось не мало тогдашнихъ «нелегальныхъ», т. е. такихъ, у которыхі. были плохи пашпортишки. Оки были увѣрены, что, будто, имѣютъ въ лицѣ Кесаря Степановича могущественнаго защитника. Думали, чуть, храни Богъ, встрѣтится какое-нибудь несчастіе или притѣсненіе отъ полиціи, то Кесарь Степановичъ заступится. А главное, что полиція сюда почему-то и дѣйствительно съ полицейскими цѣлями не ходила.
Вѣроятно не хотѣла, чтобы про нее было что-нибудь написано государю. Эго обыкновенно имѣлось въ виду при цаймѣ квартиръ, и нетребовательный жилецъ переѣзжалъ въ шіяновскія развалины съ пріятнымъ убѣжденіемъ, что здѣсь хоть и «худовато, да спокойно».
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Дорожа «спокойностью», въ шіяновскіе закутки набиралась всякая нищета и мелкота, иногда очень характерная и интересная.
Аристократію составляли захудалое армейское офицерство и студенты-медики пятаго курса, которымъ надо было ходить въ клиники военнаго госпиталя. Эти были менѣе всѣхъ искательны насчетъ покровительства и протекціи, но Кесарь Степановичъ, впрочемъ, и имъ иногда сулилъ свои услуги.
— Люблю молодежь.—говорилъ онъ, и сейчасъ же, вздох
нувъ, прибавлялъ:— но зато спасибо имъ, и оПи меня любятъ. Бѣдные ребятки понимаютъ, что безрукій совсЬмъ готовъ бы ихъ затѣснить, да но смѣетъ,—боится...
Боялся онъ, разумѣется, страхового письма.
Студенты, впрочемъ, къ полковнику за содѣйствіемъ не обращались и даже слегка надъ нимъ подтрунивали, или просто его избѣгали.
Иногда, встрѣчались такіе, которымт. и самъ Кесарь Степановичъ, и его защитительная предупредительность казались очень подозрительными. Думали, будто онъ можетъ служить Боговп и мамону... По «сѣрый жилецъ», т. е. публика изъ простолюдиновъ, и особенно старовѣры, которымт. въ тогдашнее сердитое время приходилось очень жутко, питали къ нему безграничное довѣріе.
Эти отношенія мнѣ представлялись тогда очень странными, и я никакъ не могъ понять, происходило ли это довѣріе къ Кесарю отъ большого практическаго ума пли отъ нпдоразумѣнія. Ко такъ или иначе, а, репутація кома все-таі.и на этомъ выигрывала, и теперь это вспоминается мило и живо, какъ веселая старая сказка, подъ которую сквозь какую-то теплую дрему свѣжо и ласково улыбается сердце...
Люди нынѣшняго банковаго періода должны намъ простить романтическую чепуху нашего молодого времени.
Явнымъ протпворьчіемь между словомъ и поступками Берлишт.аю было то, что безпредѣльно храбрый въ своихъ импровизаціяхъ, онъ въ практическихъ дѣлахъ съ властями былъ очень предусмотрителенъ и, можетъ-быть, даже искателенъ. Такъ, напримѣръ, считая Бибикова не только не выше себя, но даже нѣсколько ниже, по крайней мѣрѣ въ томь отношеніи, что онь могъ писать о немъ, что угодно, государю, Кесарь Стспановичъ иногт,а надѣвалъ мундиръ и являлся въ «Липки къ Бибикову. Политиканы, склонные къ обобщеніямъ, придавали этому большое значеніе и подозрительно истолковывали такіе визиты въ неблагопріятномъ смыслѣ: но всего вѣроятнѣе полковника заводила къ генералъ-губернатору просто нужда, въ которой Бибиковъ ему, можетъ-быть, помогалъ изъ обширныхъ средствъ, находившихся въ его безотчетномъ распоряженіи. Простолюдины же толковали это совсѣмъ иначе и получали выводы прекрасные; они говори пг
- Пншъ-то, батюшка, ві-инъ-то нашъ галицкій. Кесаріи Степановичъ, опять поиолозъ ругать Бибика. Пущай его проберетъ недобраго.
Сажинъ сказывалъ, что Бибиковъ даже и это зналъ, и очень надъ этимъ смѣялся. а отношеній своихъ юь Берлии-С’.ому все-таки нимало не измѣнялъ и пе отказывался бьпь гм у полезнымъ.
Такимъ образомъ Берлинскій, позабытый или незамечаемый въ высшихъ сферахъ кіевскаго общества, въ которомъ не было и нѣтъ дворянской зн«тн. въ среднемъ слоѣ слылъ чудакомъ, котораго потихоньку вышучивали, но зато въ низшихъ слояхъ былъ героемъ, съ фен менальною и грандіозною репутаціею, которая держалась чрезвычайно крѣпко и привлекла по ть шіян--вск:я текучія крыши два безподобнѣйшіе экземпляра самаго заматорѣлаго во тьмѣ «древляго благочестія», изъ разряда «опасныхъ немоляковъ^.
Впрочемъ. пока до нихъ, посмотримъ еще одно вводное лицо, это квартальный-классикъ.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Была оіпа стпья, которая, кажется, непремѣнно должна бы бросить тѣнь на независимость и отвагу Кесаря. — это операціи, имѣвшія цѣлію поддержаніе «шіянивскихъ нужниковъ .
Всѣ н ібктые сбродомъ домы и домишки, хлѣвушки и закуточки ІЧіяновскихь улицъ давно валились, а починять ихъ стр >го запрещалось суровымъ Бибиковскимь эдлктомь о преобразованіи . По о Берлинскомъ говорили такъ, что онъ этихъ эдиктовъ н-* признаетъ, и что Бкбі:к<-въ не смѣетъ ему воспретить дѣлать необходимыя почйнки. ибо самъ государь желалъ, чтобы домь. гдѣ животъ Кесарь Степановичъ, былъ сохраненъ въ крѣпости. Между тѣмъ, какъ думалъ объ эдемъ Бибикова,, было неизвѣстно, а починки были крайне нужны, особенно въ крышахъ, которыя прогнили. проросли и текли по всѣмъ швамъ. Н что же? наперекоръ всѣмъ Бпбпк'-вскичъ запрещеніямъ, крыши эти чинились, но какъ? Этотъ способъ достоинъ занесенія его вь і.іевскѵю хронику.
Къ Кесарю (. гепановпч былъ вхожа, п почему - то пользовался его расположеніемъ мѣстный квартальный, коте-рлго, помшгіея. какъ будто звали Діонисій Ивановичъ или
Иванъ Діонисовичъ. Онъ былъ полу-хохолъ, полу-полякъ, а по религіи «изъ тунеядскаго исповѣданія». Это былъ человѣкъ пожилой и очень неопрятный, а подчасъ и зашибавшійся хмелемъ, но службистъ, законовѣдъ и разнаг* мастерства художникъ. Притомъ, какъ человѣкъ, получившій воспитаніе въ какихъ-то іезуитскихъ школахъ, онъ зналъ отлично по-латыни и говорилъ на этомъ языкѣ съ какимъ-то престарѣлымъ уніатскимъ попомъ, который проживалъ гдѣ-то на Рыбальской улицѣ» за лужею. Латынь служила имъ для объясненій на базарѣ по преимуществу о дороговизнѣ продуктовъ и о другихъ предметахъ, о которыхъ они, какъ чистые аристократы ума, не хотѣли разговаривать на низкомъ нарѣчіи плебеевъ.
Въ служебномъ отношеніи, по части самовознаграж іенія классикъ придерживался старой доброй системы — натуральной повинности. Денежныхъ взятокъ классикъ не вымогалъ, а взималъ съ прибываюшчхъ на печерскій базаръ возовъ, «что кто привезъ съ того и по штучкѣ,—щобъ никому не було обиды». Если на возу дрова, то дровъ по полѣну, капуста— то по кочану капусты, зерна по пригоршнѣ и такъ все до мелочи, со всѣхъ поровну, «якъ отъ Бога показано».
Гдѣ именно было такое показаніе отъ Бога — это зналъ одинъ классикъ, въ памяти котораго жила огромная, но престранная текстуализація изъ «Божого писанія» и особенно изъ апостола Павла.
— Ось у писаніи правда сказано, що «хлопъ якъ бувъ собі дурень, такъ віиъ дурнемь и подохне».
Мужикъ слушалъ и, можетъ-быть, вЬри.іъ, что это о немъ писано. А въ другой разъ классикъ приводилъ уже другой текстъ:
-— Тоже, видать, правда, що каже апостолъ Павелъ: «бій хлопа по потылицѣ»,- и такъ какъ за этимь слѣдовала сама потылица, то вѣры тому было еще болѣе.
Натуральную подать принималъ ходившій за классикомъ нарочито учрежденный сшйоз. <>нъ все бралъ и сносилъ на шіяновскій дворъ, гдѣ у квартальнаго въ какомъ-то закоулочкѣ была ветхая, но помѣстительная амбарушка. Тутъ все получаемое складывали и отходили за дальнѣйшимъ сборомъ, а потомъ въ свободное время все это сортировали и нѣчто пригодное для домашняго обихода брали домой, а
другое пріуготовляли къ промѣну на вещи болѣе подходящія. Словомъ, тдъ былъ свой маленькій мѣновой дворъ, или каравав ь-с-ірай взяточныхъ продуктѵвъ, полученныхъ отъ хлоповъ, которыхъ апостолъ Павелъ «казавъ бить по потылицѣ -
Платилъ ли что Иванъ Діонисовичъ за этотъ караванъ-сарай — не знаю, но зато онъ дѣлалъ дому всякія льготы, значительно возвышавшія репутацію «покойности» здѣшнихъ, крайне плохихъ на взглядъ, но весьма богохранимыхъ жиліипъ.
Тутъ не бывало никакихъ обысковъ, тутъ, по разсказамъ, жило не мало людей съ плохими паспортами кромскаго, нежинскаго и мѣстнаго кіевскаго приготовленія. Обыкновенные сорта фальшивыхъ паспортовъ приготовлялись тогда по всему главному пути отъ Орла до Кіева, но самыми лучшими слыли тѣ, которые дѣлали въ Кромахъ и въ Дмитріевѣ на Сванѣ. Въ шіяновскихь домахъ, впрочемъ, можно было обходиться и вовсе безъ всякихъ паспортовъ, но главное, что тутъ моищо было дѣлать на полной свободѣ,—это молоться. Боіу, какъ хочешь, т. е. какимъ хочешь обычаемъ.
Послѣднее обстоятельство и было причиною, что на этотъ дворъ, подъ команду полковника Берлинскаго, приснастился оригинальнѣйшій богомоленъ. Сей бѣ именемъ Малахія, старецъ, прибывшій въ Кіевъ для совершенія тайныхъ трибъ у старовѣровъ, которые пришли строить каменный мосгъ съ англичаниномъ Виньёлсмь. Старецъ Малахія. въ просторѣ-чіп Малафей Пимычъ, былъ привезенъ своими единовѣрцами «изъ невѣдомаго ключа» и «сокрытъ» въ шіяновскихъ закоркахъ «подъ тайностію». Все это въ надеждѣ на Ке-саря ибо имя его громко звучало по простолюдью дальше Орла и Калуги.
При старцѣ былъ отрокъ лѣтъ двадцати трехъ, котораго звали Гіезій.
Было ли это его настоящее имя, пли только шуточная кличка теперь не знаю, а тогда не интересовался это разслѣдовать.
Имени Гіезій въ православныхъ мѣсяцесловахъ нѣтъ, а былъ такой отрокъ при пророкѣ Елисеѣ. Можетъ быть, это оттуда п взято.
Какъ старецъ Малафей, такъ п его отрокъ были чудаки первой степени и поселены они были въ шіяновской сто-
Сочішепія Н. С. Лъскова. Т. XXXI. 3
бодѣ бъ расчетахъ на защиту «печерскаго Кесаря». Но прежде, чѣмъ говорить о старцѣ и его .мужественномъ отрокѣ, окончу объ Иванѣ Діонисовичѣ и о его художествахъ.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
У латиниста квартальнаго было два искусства, пзъ ко-пхъ однимъ онъ хвастался, а о другомъ умалчивалъ, хотя собственно второе въ общественномъ смыслѣ имѣло гораздо большее значеніе.
Иванъ Діонисовичъ хвалился тѣмъ, что онъ «самъ себя стригъ». Это, можетъ-быть, покажется кому-нибудь пустяками, но пусть кто угодно на себѣ это попробуетъ, п тогда всякъ легко убѣдится, что остричь самому себя очень трудно и требуетъ большой ловкости и таланта. Второе же дѣло, которое еще болѣе артистически исполнялъ, по о которомъ умалчивалъ квартальный, относилось къ антикварному роду: онъ зналъ секретъ, какъ «старить» новыя доски для того, чтобы ими подшивать ночью прогнившія крыши. II дѣлалъ онъ это такъ, что никакой глазъ не могъ отличать отъ стараго новыхъ заплатъ его мастерского приготовленія.
Въ томъ самомъ караванъ-сараѣ, гдѣ складывались натуральныя подати съ базарныхъ торговцевъ и производилась мѣновая торговля, тутъ же у Ивана Діонпсовича была и антикварная мастерская. Здѣсь находились дрань, лубья и деготь или колесная смола, по-малороссійски «коломазь». Все это было набрано на базарЬ съ торговцевъ безданно, безпошлинно и назначалось въ дѣло, которое, при тогдашнихъ строгостяхъ, заключало въ себѣ много тайности и не мало выгодъ. Химія производилась въ огромномъ старомъ корытѣ съ разведеннымъ въ немъ коровьимъ пометомъ и другими элементами, образовывавшими новыя соединенія. Элементы все были простые: навозъ, песокъ, смола и зерна овса «для проросли». Въ этомъ корытѣ лежали пріуготовляемые для антикварныхъ работъ лубы и драницы. Они подвергались довольно сложному процессу, за которымъ классикъ наблюдалъ не хуже любого техника, и новому матеріалу придавался видъ древности изумительно хорошо и скоро. Квартальный самъ дошелъ до того, какъ составлять этотъ античный колоритъ и пускать по нему эту веселую зелененькую проросль отъ разнѣженныхъ овсяныхъ зеренъ. Стоило приготовленную такимъ способомъ доску приколотить
на мѣсто п какъ «Бибикъ» около нея ни разъѣзжай, ничего онъ не отличитъ.
Дошелъ до этого производства Иванъ Діонисовичъ, вѣроятно, изъ тѣхъ побужденій, чтобы у него не пропадали такіе продукты, какъ лубья п коломазь, для которыхъ нельзя было найти особенно хорошаго сбыта въ ихъ простомъ видѣ.
Кажется, квартальный иногда самъ и приколачивалъ приготовленныя имъ заплатки, а, впрочемъ, я достовѣрно этого не знаю. Знаю только, что онъ ихъ приготовлялъ и притомъ приготовлялъ въ совершенствѣ.
Способъ нанесенія этого матеріала на ветхія постройки былъ простъ: избиралась ночь потемнѣе, и къ утру дѣло было готово. На слѣдующій день Кесарь Степановичъ ходилъ, гулялъ, поглядывалъ и говорилъ, улыбаясь:
— Что? много взялъ, безрукій!
А ему отвѣчали:
— Что онъ противъ тебя можетъ!
Такъ и это все шло въ подтвержденіе, что Бибиковъ ничего будто противъ «Кесаря» сдѣлать не'можетъ, а тѣмъ временемъ пришла постройка моста и къ Виньё.тю притекла масса людей, изъ которыхъ много было раскольниковъ. Эти привели! съ собою образа и своихъ «молитвенниковъ», между которыми всѣхъ большей тайности и охранѣ подлежалъ уже разъ упомянутый старецъ ЗІалафей. Онъ былъ «пплипонъ» (т. е. филппповецъ) и «ндмолякъ, т. е. такой сектантъ, который ни въ домашней, ни за общественной молитвой о царѣ не молился. Такіе сектанты, при тогдашнемъ маломъ знаніи и пониманіи духа русскаго раскола, почитались опасными и особенно вредными ..
Большинство людей, даже очень умныхъ, смотрѣли на эгихъ наивныхъ буквоѣдовъ, какъ на политическихъ злоумышленниковъ и во вцякомъ с.тучаъ «недруговъ царскихъ».
Этого не избѣгали наши старинные законовіды и новѣйшіе тенденціозные фантазеры въ родѣ Щапова, который принесъ своими мечтательными изъясненіями старовѣрчества существенный вредъ нЬжно любимому имъ расколу.
Куда было дѣть въ Кіевѣ такого опаснаго старца, какъ Малахія? гдѣ его помѣстить такъ удобно, чтобы онъ самъ былъ нѣтъ и чтобы можно было у него «поначалиться» и
вкусить съ нимъ сладость молитвеннаго общенія? Христолюбцамъ предлежала серьезная забота, «гдѣ сохранить старичка отъ Бибика».
Но гдѣ же лучше можно было устроить такого особливаго богослова, какъ не въ «шіяновскихъ нужникахъ». Сюда его и привела подъ крыло печерскаго «Кесаря» громкая слава дѣлъ этого независимаго и безстрашнаго человѣка.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Старца Малафея съ его губатымъ отрокомъ въ гаіянов-скпхъ палестинахъ водворили два какіе-то каменщика. Эти люди приходили осматривать помѣщеніе съ большими предосторожностями. О цѣнѣ помѣщенія для старца они говорили съ барышней, которая вѣдала домовые счеты, а потомъ бесѣдовали съ Кесаррмъ Степановичемъ о чемъ-то гораздо болѣе важномъ.
Это тогда заинтересовало всѣхъ близкихъ людей.
Каменщики были люди вида очень степеннаго и внушительнаго, притомъ со всѣми признаками самаго высокопробнаго русскаго благочестія: чолочки на лобикахъ у нихъ были подстрижены, а на маковкахъ въ честь Господню гуменца пробриты; говоръ тихій, а взглядъ умѣренный и «понпкновенный».
О деньгахъ за квартиру для старца и его отрока раскольники не спорили. Очевидно, это было для нихъ послѣднимъ дѣломъ, а главное было то, о чемъ говорено съ Кесаремъ Степановичемъ.
Онъ ихъ «псповѣдывалъ во всѣхъ догматахъ» ихъ вѣры и — надо ему отдать честь — пришелъ къ заключеніямъ весьма правильнымъ и для этихъ добрыхъ людей благопріятнымъ.
На наши разспросы: что это за необыкновенные люди, онъ намъ чисто съ военною краткостію отвѣчалъ:
— Люди прекрасные и дураки.
Результатомъ такого быстраго, но правильнаго опредѣленія было то, что злосчастные раскольники получили разрѣшеніе устраиваться въ подлежащемъ отдѣленіи «шіяновскихъ нужниковъ», а квартальный-классикъ въ слѣдующую же ночь произвелъ надъ крышею отданнаго имъ помѣщенія надлежащія антикварныя поправки.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Подъ старца была зан.чта довольно обширная, но весьма убогая хоромина,—впрочемъ, въ самомъ излюбленномъ раскольничьемъ вкусѣ. Это была низенькая, полудеревянная, полумазанная, совершенно отдѣльная хибара. Она стояла гдѣ-то на задворкѣ и была ни откуда не видима. Точно она здѣсь нарочно построена въ такомъ сокрытіи, чтобы править въ ней нелегальныя богомольства.
Чтобы добраться до этого, буквально сказать, молитвеннаго хлѣва, надо было пропгп одинъ дворъ, потомъ другой, потомъ завернуть еще во дворикъ, потомъ пролѣзть въ закоулочекъ и оттуда пройти черезъ дверь съ блочкомъ въ дровяную закуточку. Въ этой закуточкѣ былъ сквозной ходъ еще на особый маленькій дворишко, весь закрытый пупомъ поднявшеюся высокою навозною кучею, за которою по сторонамъ ничего не видно. К^ча была такъ высока, что закрывала торчавшею изъ ея средины высокую шелковицу пли рябину почти по самыя вѣтви. .
Хатпна имѣла три окна и всѣ онп въ рядъ выходили на упомянутую навозную кучу, или, лучше сказать, навозный холмъ. При хатѣ имѣлись дощатыя сѣни, надъ дверями которыхъ новые наемщики тотчасъ же по водвореніи водрузили небольшой мѣдный литой крестъ изъ тѣхъ, что называютъ «корсунчпками».
Съ другей стороны на к)чу выходило еще одно маленькое окно. Это принадлежало другому, тоже секретному по-мыценію, въ которое входили со второго двора. Тутъ жили двѣ пли три «старицы», къ которымъ ходили молиться раскольники иного согласія — «гропарнпкп», т. е. пѣвшіе тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя». Я въ тогдашнее время плохо понималъ о расколѣ и не интересовался имъ, но какъ теперь соображаю, то это, должно быть, были поморцы, которые издавна уже «къ тропарю склонялпсь».
Молитвенная хата, занятая подъ старца Малафея, до настоящаго найма имѣла тру гія назначенія: она бы іа когда-то банею, потомъ птпчною, «пндѣечной разводкою», т. е. въ ней сиживали на гнѣздахъ индѣики-насѣдкп, а теперь, наконецъ, въ ней поселился святой мужъ и учредилась «мо-ленна», въ знакъ чего надъ приголками ея дощатыхъ сѣней и утвержденъ былъ мѣдный «корсунчикъ».
Въ противоположность большинству всѣхъ помѣщеній шіяновскаго подворья, эта хата была необыкновенно теплая.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Старца Малахію каменщики привезли позднимъ вечеромъ на парныхъ деревенскихъ саняхъ и прямо привели его во храмину и заключили тамъ на безысходное житье.
Убранства хатѣ никакого не полагалось, а что было необходимо, то сами же прихожане устроили безъ всякой посторонней помощи.
Мы ее однажды осматривали черезъ окно, при посредствѣ отрока Гіезія, въ тѣ часы, когда Малафей Ппмычъ, утомясь въ жаркій день, «держалъ опочивъ» въ сѣничкахъ. По одной стѣнѣ горенки тянулись въ два тябла старинныя иконы, передъ которыми стоялъ аналой съ поклонною «рогозинкою», въ углѣ простой деревянный столъ и предъ нимъ скамья, а въ другомъ углѣ двѣ скамьи, поставленныя рядомъ. Въ одномъ концѣ этихъ скамеекъ былъ положенъ толстый березовый обрубокъ, покрытый обрывками старой крестьянской свиты.
Это была постель старца, который почивалъ по правиламъ добляго житія, «не имѣя возглавицы мягкія».
Для отрока Гіезія совсѣмъ не полагалось никакой ни утвари, ни омеблировки. Онъ велъ житіе не только иноческое, но прямо спартанское: пилъ онъ изъ берестяного сверточка, а спалъ лѣто п зиму на печкѣ.
Старецъ «пбпилъ», т. е. полагалъ «началъ» чтенію и пѣнію, исповѣдалъ и крестилъ у своихъ раскольниковъ, а Гіезій состоялъ при немъ частію въ качествѣ дьячка, т. е. «аминилъ» и читалъ, а частію въ родѣ слуги и послушника. Послушаніе его было самое тяжкое, но онъ несъ его безропотно и съ терпѣніемъ неимовѣрнымъ. Старецъ его никуда почти не выпускалъ, «кромѣ торговой нужды», то-есть хожденія за покупками; томилъ его самымъ суровымъ постомъ и притомъ еще часто «начадилъ». За малыя прегрѣшенія «началенье» производилось ременною лѣстовн-цею, а за болѣе крупные грѣхи — концомъ веревки, на которой бѣдный Гіезій самъ же таскалъ для старца воду изъ колодца. Если же вина была «особливая», тогда веревка еще нарочно смачивалась л оттого удары, сю наносимые спинѣ отрока, были больнѣе.
Старца Малахію мы никогда вблизи не видали, кромѣ того единственнаго случая, о которомъ наступитъ разсказъ. Извѣстно было только одно общее очертаніе его облика, схваченное при одномъ рѣдкомъ случаѣ, когда онъ появился какой-то нужды ради передъ окномъ. Онъ былъ роста огромнаго, сѣдъ п бѣлобородъ и даже съ празеленью: очи имѣлъ понурыя и почти совсѣмъ невидныя за густыми, длинными и тяжело нависшими бровями. ЛІ>тъ старцу, по наружности судя, было близко къ восьмидесяти; онъ былъ сильно сутулъ и даже согбенъ, но плотенъ п несомнѣнно еще очень силенъ. Волосы на его головѣ были острижены не въ русскій кружокъ, а какими-то клоками: можетъ-быть, «постригало» на нихъ уже н «не восходило», а они сами не росли отъ старости. Одѣтъ онъ былъ всегда въ черный мухояръ и черезъ плечи его на грудь висѣла длинная связка какихъ-то шаровъ, похожихъ на толстые баранки. Связка эта спускалась до самаго пупа и на пупѣ приходился крестъ, вершка въ три величиною. Это были четки.
Голосъ старца былъ яко кимвалъ бряцаяп, хотя мы сподоблены были слышать въ его произношеніи только одно слово: «парень». Это случалось, когда старецъ кликалъ изъ двери Гіезія, выходившаго иногда посидѣть на гноищЬ у ілелковпцы или рябины.
Болѣе старецъ былъ не видимъ и не слышанъ, п судить о немъ было чрезвычайно трудно; по Кесарь Степановичъ и его характеризовалъ краткимъ опредѣленіемъ:
— Дуракъ присноблаженный.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Гіезія мы знали несравненно ближе, потому что этотъ, по молодости своей, самъ къ намъ бился, и, несмотря на то, что «дѣдушка» содержалъ его въ безмѣрной строгости и часто «началилъ» то лѣстовицей, то мокрой веревкой, отрокъ все-таки находилъ возможность убѣгать къ намъ, и велъ себя въ нашемъ растлѣнномъ кругѣ не совсѣмъ одобрительно. Зато, какъ ниже увидитъ читатель, съ нимъ однажды и воспослѣдовало такое бѣдствіе, какое навѣрное ни съ кѣмъ другимъ не случалось: онъ былъ окормленъ человѣчьимъ мясомъ.. Пли. точнѣе сказать, онъ имѣлъ не-счасгіе думать, будто надъ нимъ было совершено такое
коварство «учеными», въ которыхъ онъ видѣлъ прирожденныхъ враговъ душевнаго спасенія.
Впередъ объ этомъ ужасномъ случаѣ будетъ разсказано обстоятельно.
Отроку, какъ я выше сказалъ, было двадцать два года. «Отрокъ», по примѣненію къ нему, не выражало поры его возраста, а это было его званіе, или, лучше сказать, его санъ духовный. Онъ былъ ппірокорожаго великорусскаго обличья, мордатъ и губастъ, съ русыми волосами и голубыми глазами, имѣвшими странное, пытливое и въ то же время совершенно глупое выраженіе. Румянецъ пробивался на его лицѣ гдѣ только могъ, но нигдѣ просторно не распространялся, а проступалъ пятнами и отъ того молодое, едва опушавшееся мягкою бородкою, лицо отрока имѣло видъ п здоровый, и въ то же время нездоровый. Бываютъ такія собаки, которыя «въ щенкахъ заморены». Видно, что породиста, да отъ заморы во всю свою природу не достигаетъ.
По уму и многимъ свойствамъ своего характера, Гіезій былъ наисовершеннѣйшимъ выразителемъ того русскаго типа, который мѣтко и сильно рисуетъ въ своей превосходнѣйшей книгѣ профессоръ Ключевскій, т. о. «заматорѣлость въ преданіяхъ и никакой идеи». Сдѣлать что-нибудь иначе, какъ это заведено и какъ дѣлается, Гіезію никогда не приходило въ голову: это помогало ему и въ его отроческомъ служеніи, въ которое онъ, по его собственнымъ словамъ, «вданъ былъ родительницею до рожденія по оброку».
Это разъяснялось такъ, что у его матери была несносная болѣзнь, которую она, со словъ какихъ-то врачей, называла «азіятикъ»; болѣзнь эта происходила отъ какихъ-то происковъ злого духа. Бѣдная женщина долго мучилась и долго лѣчилась, но «азіятикъ» не проходилъ. Тогда она дала обѣтъ балыкинской Божіей Матери (въ Орлѣ), что если только «азіятикъ» пройдетъ и послѣ исцѣленія родится дитя мужескаго пола, то «вдастъ его въ услуженіе святому мужу, въ мѣру возраста Христова», т. е. до тридцати трехъ лѣтъ.
Послѣ такого обѣта больная, заступленіемъ балыкинской Божіей Матери, выздоровѣла и имѣла вторую радость—родила Гіезія, который съ восьми лѣтъ и началъ исполнять материнъ обѣтъ, проходя «отроческое послушаніе». А до 33 лѣтъ ему еще было далеко.
Старецъ на долю отрока Гіезія выпалъ, можетъ-быть, п весьма святой, п благочестивый, но очень суровый и, по словамъ Гіезія, «столько объ него мокрыхъ веревокъ обна-чалплъ, что можно бы по нимъ уже десяти человѣкамъ до веба взойти».
Но ученіе правиламъ благочестія Гіезію давалось плохо п не памятливо. Несмотря на свое рожденіе по священному обѣту, онъ, по собственному сознанію, былъ, «отъ природы блудливъ». То онъ сны нехорошіе видѣлъ, то кошкамъ хвосты щемилъ, то мирщплъ съ нпконіан імп, или «со иновѣрными спорился». А бѣсъ, всегда неравнодушный ко спасенію людей, стремительно восходящихъ на небо, безпрестанно подставлялъ Гіезію покушенія и тѣмъ опять подводилъ его подъ мокрую веревку.
На шіяновскомъ дворѣ, который былъ удаленъ отъ всякаго шума, Гіезій прежде всего впалъ въ распри съ тѣми поморами, окно которыхъ выходило па ихъ совмѣстную навозную кучу, раздѣлявшую «ихъ согласія».
Какъ поморы, бывало, начнутъ пѣть и молиться, Гіезій залѣзаетъ на рябину и дразнитъ ихъ оттуда, крича:
— Тропари—мытари.
А тѣ не выдержатъ и отвѣчаютъ:
— Немоляки—раскоряки.
Такъ обѣ вѣры были взаимно порицаемы, а послѣдствіемъ этого выходили стычки и «камнеметаніе», заканчивавшіяся иногда разбитіемъ оконъ съ обѣихъ сторонъ. Въ заключеніе же всей этой духовной распри, Гіезій, какъ непосредственный виновникъ столкновеній, былъ «началенъ» веревкою п иногда ходилъ дня по три согпувшпсь.
Затѣмъ, разумѣется, и Богъ, и старецъ его прощали, но онъ скоро впадалъ еще въ большія искушенія. Одно изъ таковыхъ ему едва не стоило потери разсудка и даже самой жизни.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
При полномъ типическомъ отсутствіи идей, у Гіезія была пытливость и притомъ самая странная. Онъ любилъ задавать такіе неожиданные вопросы, которые въ общемъ напоминали вопросы дѣтей.
Прибѣжитъ, бывало, подъ окно и спрашиваетъ:
— Отчего у льва грива растетъ?
Ему отвѣчаютъ:
— Пошелъ ты прочь — почему я знаю, отчего у льва грива растетъ?
— А какъ же, говорятъ, въ чемъ составляется паука свѣтская?
Его прогонятъ, а онъ при случаѣ опять пристаетъ съ чѣмъ-нибудь подобнымъ, и это безъ всякой задней мысли или ироніи, — а такъ какой-то рефлексъ его толкнетъ, онъ и спрашиваетъ:
— Отчего рябина супротивъ крыжовника горче?
Но больпіе всего его занимати вещи таинственныя, для которыхъ онъ искалъ разъясненія въ природѣ. Напримѣръ, ему хотѣлось знать: «какое бываетъ сердце у гркиника», и вотъ это-то любопытство его чуть не погубило.
Такъ какъ въ домѣ жило нѣсколько медицинскихъ студентовъ, между которыми бывали ребята веселые и шаловливые, то одинъ изъ нихъ пообѣщалъ разъ Гіезію «показать сердце грѣшника».
Для этого требовалось придти въ анатомическій театръ, который тогда былъ во временномъ помѣщеніи, на нынѣшней Владимірской улицѣ, въ домѣ Беретти.
Гіезій долго не рѣшался на такой рискованный шагъ, но страстное желаніе посмотрѣть сердце грѣшника его преодолѣло, онъ пришелъ разъ къ студентамъ и говоритъ:
— Есть теперь у васъ мертвый грѣшникъ?
— Есть, говорятъ,—да еще самый залихватскій.
— А что онъ сдѣлалъ?
— Отца продалъ, мать заложилъ и въ томъ руку приложилъ, а потомъ галку съѣлъ и зарѣзался.
Гіезій заинтересовался.
— Меня завтра дѣдушка къ Батухину въ лавку за оливой къ лампадамъ пошлетъ, а я къ вамъ въ анатомію при-бЬгу, покажите мнѣ сердце грѣшпиче.
— Приходи,—отвѣчаютъ,—покажемъ.
Онъ сдержалъ свое слово и явился блѣдный и смущенный, весь дрожа въ страхѣ несказанномъ.
Ему дали выпить мензулку препаровочнаго спирта для храбрости, подъ видомъ «осмѣлительныхъ капель», сказавъ притомъ, что безъ этого нельзя увидать сердце.
Онъ выпилъ и ошалѣлъ, сердце онъ нашелъ совсѣмъ неудовлетворительнымъ и вовсе не похожимъ на то, какъ
его себѣ представлялъ, судя по извѣстному лубочному листу: «сердце грѣшника — жилище сатаны». Чтобы увидѣть сатанх въ сердцѣ, его уговорили выпигь еще вторую мен-зулку, и онъ выпилъ п потомъ что-то ѣлъ. А. когда съѣлъ, то студенты ему сказали:
— Знаешь ли, что ты съѣлъ?
Онъ отвѣчалъ:
— Не знаю.
— А это ты. братецъ, съѣлъ котлету изъ человѣческаго мяса.
Гіезій поблѣднѣлъ и зашатался: съ нимъ совершенно неожиданно сдѣлался настоящій обморокъ.
Его насилу привели въ себя и ободрили, увѣряя, что котлета сжарена изъ мяса человѣка зарѣзавшагося, но отъ этого съ Гіезіемъ чуть не сдѣлался второй обморокъ и начались рвоты, такъ что его насилу привели въ порядокъ, п на этотъ разъ уже стали разувѣрять, что это было сказано въ шутку и что онъ ѣлъ мясо говяжье; но никакія слова на него уже не дѣйствовали. Онъ бѣгомъ побѣжалъ на Печерскъ къ своему старцу и самъ просилъ «сильно его поначалить», какъ слѣдуетъ огъ страшнаго прегрѣшенія.
Старецъ исполнилъ просьбу отрока.
II дорого это обошлось здоровью бѣднаго парня: дней десять послѣ этого происшествія мы его вовсе не видали, а потомъ, когда онъ показался съ ведромъ за плечами, то имѣлъ видъ человѣка, перенесшаго страшныя муки. Онъ былъ худъ, блѣденъ и самъ на себя не похожъ, а, вдобавокъ, долго в и за что ни съ кѣмъ не хотѣлъ говорить и не отвѣчалъ ни на одинъ вопросъ.
Послѣ, по особому къ одному изъ насъ довѣрію, онъ открылъ, что дѣдушка его «вдвойнѣ начадилъ», т. е. призвалъ къ сему дѣланію еще другого случившагося тутъ благовѣрнаго христіанина и оба имѣли въ рукахъ концы веревки, «свитые во двое*, и держали «ихъ оборічь». II началііли Гіезія въ углѣ въ сѣняхъ, уложивъ «мордою въ войлокъ, даже до топ совершенной степени, что у него отъ ьпзгу ротъ трубкой закостенѣлъ, п онъ всеп памяти лишился».
Но на дѣдушку отрокъ все-такп нимало не ропталъ, ибо сознавалъ, что «битъ былъ во славу Божію», и надѣялся черезъ это болѣе «съ мірскимп не сметіиь и исправиться».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Кажется, это и въ самомъ дѣлѣ произвело въ немъ такой сильный переломъ, къ какому только была способна его живая и увлекающаяся натура. Онъ рѣже показывался и вообще уже не заводилъ ни разговоровъ съ нами, ни пререканій съ бчагоневѣрными поморами, которые ^на тропарѣ повисли».
Къ тому же, обстоятельства попзмЬнились и поразмели пашу компанію въ разныя стороны, и старецъ съ отрокомъ па время вышли изъ вида.
Между тѣмъ, мостъ былъ оконченъ и къ открытію его въ Кіевъ ожидали государя Николая Павловича. Наконецъ и государь прибыль, и на другой день было назначено открытіе моста.
Теперь ничего такъ не торжествуютъ, какъ тогда торжествовали. Вечеръ наканунѣ былъ оживленный и веселый-всѣ ходили, гуляли, толковали, но были люди, которые проводили эти часы и иначе.
На темномъ задворкѣ шіяновскихъ закутокъ и поморы, и филппоны молились, одни съ тропаремъ, другіе безъ тропаря. Тѣ и другіе ждали необычайной для себя радости, которая ихъ благочестію была «возвѣщена во Псалтырѣ».
Около полуночи мпѣ довелось проводить одну дѣвицу, которая жила далеко за шіяновскимъ домомъ, а на возвратномъ пути у калитки я увидѣлъ темную фигуру, въ которой узналъ антропофага Гіезія.
— Что это, —говорю,—вы въ такую позднюю пору на улицѣ?
— Такъ,—отвѣчаетъ, — все равно, нонче надо не спать.
— Отчего надо не спать?
Гіезій промолчалъ.
— А какъ это вагъ дѣдушка такъ поздно отпустилъ на улицу?
— Дѣдушка самъ выслалъ. Мы вѣдь до самаго сего часа молитвовали, — почитай сію минуту только заампнилп. Дѣдушка говоритъ: «повыдь посмотри, чтд дѣется».
— Чего же смотрѣть?
— Како,—говоритъ,—«суетятъ никоніаны и чего для себя ожидаютъ».
— Да что такое, — спрашиваю, — случилось и чего особеннаго ожидаете?
Гіезій опять замялся. а я снова повторилъ мой вопросъ.
— Дѣдушка, говоритъ,—много ждутъ. Пмъ, дѣдушкѣ, вѣдь все изъ Псалтырп открыто.
— Что ему открыто?
— Съ завтрашняго числа одна вѣра будетъ.
- Ну-у!
— .5 видите сами, — до завтра это втайнѣ, а завтра всѣмъ царь объявитъ. II упроі явные (т. е. поморы) тоже ждутъ.
— Тоже объединенія вѣры?
— Да-съ; должно быть того же самаго. У насъ съ ними нынче, когда наши на сѣдальняхъ на дворикъ вышли, межь окно опять тегкая воина произошла.
— Изъ-за чего?
— Опять о тропарѣ заспорили. Наши имъ правпльно говорили: «подождать бы вамъ тропарь-то голосить въ осо-блну; завтра разомъ всѣ вообче запоемъ; столпомъ возды-мемъ до самаго до неба*. А тѣ несогласны и отвѣчаютъ: «мы давно на тропарѣ основались и съ своего не снпде>іъ». Слово по слову и въ окно плеваться стали.
Я полюбопытствовалъ, какъ именно это было.
— Очень просто,—говоритъ Гіезій:—наши пмъ въ окно кукиши казать стали, а тѣ оттуда плюнули, и наши не уступили,—пмъ то самое, наоборотъ. Хотѣли войну сдѣлать, да полковникъ увидѣлъ и закричалъ: «Цыть! всѣхъ изрублю». Перестали плеваться и опять запѣли, и всю службу до конца допраыілп и разошлись. А теперь дѣдушка одинъ остался и страсть какъ внѣ себя ходитъ. Онъ вѣдь завтра выходъ едълаетъ.
— Неужели,—говорю,—дѣдъ наружу вылѣзетъ?
— Какъ-же-съ,—дѣдушка завтра на улицу пойдетъ, чтобъ на государя смотрѣть. Скоро сорокъ лѣтъ, говорятъ, будетъ, какъ онъ по улицамъ не ходилъ, а завтра пойдетъ. Ему ужъ наши и шляпу принесли; онъ въ шляпѣ п съ костылемъ идти будетъ. Я его поведу.
— Вотъ какъ!—воскликнули я и простился съ Гіезіемъ, совсѣмъ не понявъ тѣхъ многозначительнѣйшпхъ намековъ, которые заключались въ его ма.тосвязномь, но таинственномъ разсказѣ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
День открытія «новаго моста», который нынче въ Кіевѣ называютъ уже «старымъ», былъ ясный, погожій п превосходный по впечатлѣніямъ.
Всѣ мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми п счастливыми, Богъ вѣсть отчего и почему. Никому и въ голову не приходило сомнѣваться въ силѣ и могуществѣ родины, историческій горизонтъ которой казался чистъ и ясенъ, какъ покрывавшее насъ безоблачное небо съ ярко горящимъ солнцемъ. Всѣ какъ-то смахивали тогда на воробьевъ послѣдняго тургеневскаго разсказа: прыгали, чиликали, наскакивали, и никому въ голову не приходило посмотрѣть, не рѣетъ ли гдѣ поверху ястребъ, а только бой-чились п чирикали:
— Мы еще повоюемъ, чортъ возьми!
Воевать тогда многимъ ужасно хотѣлось. Начитанные люди съ патріотическою гордостью повторяли фразу, что «Россія — юсуОиуство военное», и военные люди были въ большой модѣ и пользовались этимъ не всегда великодушно. Но главное — тогда мы были очень молода и каждый изъ насъ провожалъ кого-нибудь изъ существъ, заставлявшихъ скорѣе биться его сердце. Волокитство и ухаживанья тогда входили въ «росписаніе часовъ дня» благопристойнаго россіянина, чему и можетъ служить наилучшимъ выраженіемъ «дневникъ Виктора Аскоченскаго», напечатанный въ 1882 г. въ «Метрическомъ Вѣстникѣ». II самъ авторъ этого «дневника». тогда еще молодцоватый и задорный, былъ среди насъ и даже, можетъ быть, служилъ для многимъ образцомъ въ тонкой наукі, волокитства, которую онъ практиковалъ, впрочемъ, преимущественно «по купечеству». У женщинъ настоящаго свѣтскаго воспитанія онъ никакого успѣха не имѣлъ и даже не получалъ къ нимъ доступа. Аскоченскій одѣвался щеголемъ, но безъ вкуса, и не имѣлъ ни мягкости, пи воспитанности: онь былъ дерзокъ и грубъ въ разговорѣ, очень непріятенъ въ манерахъ.
По словамъ одного изъ его кіевскихъ современниковъ, впослѣдствіи профессора казанскаго университета, А. О. Яновича, онъ всегда напоминалъ «переодѣвшагося архіерея». Въ сіяющій день открытія моста Аскоченскій ходплъ въ панталонахъ рококо и въ свѣтлой шляпѣ на своей крутой го
ловѣ, а па каждой изъ его двухъ рукъ висѣло по одной подольской барышнѣ. Онъ в^лъ дѣвицъ и металъ встрѣчнымъ знакомымъ свои тупыя семинарскія остроты. Въ этотъ же день онъ, останавливаясь надъ кручею, декламировалъ:
... Вотъ онъ—Днѣпръ.
Тотъ самый Днѣпръ, гдѣ вся Русь крестилась II, по милости судебъ, гдѣ она омылась.
За этими стихами слѣдовало его командирское слово:
На молитву жр, друзья: Кіевъ передъ ваип!
Послѣ все это вошло въ какое-то большое его призывноэ стихотвореніе, по обыкновенію, съ тяжелою версификаціею и съ массою пеглагольныхъ риѳмъ. Его муза, подъ пару ему самому, была своенравна и очень неуклюжа.
О немъ хочется сказать еще два слова: дневникъ» этого довольно любопытнаго человѣка напечатанъ, но, по-моему, опъ не только не выяснилъ, но даже точно закуталъ эту личность. По-моему, дневникъ этотъ, который я прочелъ весь въ подлинникѣ, имѣетъ характеръ сочиненности. Тамъ даже есть пятна саазъ, оросившія страницы, гдѣ говорится о подольскихъ купеческихъ барышняхъ. Пли есть такія замѣтки: -я пьянъ и не могу держать пора въ рукахъ», а между тѣмъ, это написано совершенно трезвою и твердою рукою...
Вообще надо жалѣть, что никто изъ знавшихъ Аскоченскаго кіевлянъ не напишетъ хоропіей безпристрастной замѣтки о треволненной жизни и трудахъ этого человѣка съ замѣчательными способностями, изъ которыхъ онъ сдѣлалъ едва ли не самое худшее употребленіе, какое только могъ бы ему выбрать его злѣйшій вратъ. Праху его миръ и покой, но его жизненныя невзгоды и карьерная игра характерны и поучительны. Кромѣ Виктора Ипатьича, тогда въ Кіевѣ водились епде и другіе поэты, въ плоской части доживалъ свой маститый вѣкъ Подолпнскіи, а по городу ходили одна молодая дѣвица и одинъ молодой кавалеръ. Дѣвица, подражая польской іімпровпзаторшѣ Деотымѣ, написала много маленькихъ и очень плохихъ стихотвореній, которыя были ею изданы въ одной книжечкѣ подъ заглавіемъ: «Чувства патріотки». Складъ изданія находился въ
«аптекѣ для души.", т. е. въ подольской библіотекѣ Павла Петровича Должикова. Стихотворенія совсѣмъ не шли, и Должиковъ иногда очень грубо издѣвался надъ этою книгою, предлагая всѣмъ «вмѣсто хлѣба и водки—чувства патріотки». Въ день открытія моста стихотворенія эти раздавались безденежно. На чей счетъ было такое угощеніе— не знаю. Подолпнскій, кажется, еще жилъ, но не написалъ ничего, да про него тогда п позабыли, а Альфредъ фонъ-Юнгъ что-то пустилъ съ своего Олимпа, но что именно такое—не помню. Невозможно тоже не вспомнить объ этомъ добрѣйшемъ парнѣ, совершенно безграмотномъ и лишенномъ малѣйшей тѣни дарованія, но имѣвшемъ неодолимую и весьма разорительную страсть къ литературѣ. И онъ, мнѣ кажется, достоинъ благодарнаго воспоминанія отъ кіевлянъ, если не какъ поэтъ, то какъ самоотверженнѣйшіп піонеръ— періодическаго издательства въ Кіевѣ. До Юнга въ Кіевѣ не было газеты, и предпринять ее тогда значило навѣрное разориться. Юнга это не остановило: опъ завелъ газету и вмѣсто благодарности встрѣчалъ отовсюду страшныя насмѣшки. По правдѣ сказать, «Телеграфъ» юнговскаго изданія представлялъ собою не мало смѣшного, но все-таки онъ есть дѣдушка кіевскихъ газетъ. Денегъ у Юнга на изданіе долго не было, и чтобы начать газету, онъ прежде пошелъ (во время Крымской войны) «командовать волами», т. е. погонщикомъ. Тутъ онъ сдѣлалъ какія-то сбереженія и потомъ все это самоотверженно повергъ и сожегъ на алтарѣ литературы. Это былъ настоящій литературный маньякъ, котораго не могло остановить ничто; онъ все издавалъ, пока совсѣмъ не на что слало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кромѣ того, его и преслѣдовала какая-то злая судьба. Такъ, напримѣръ, съ «Телеграфомъ» на первыхъ порахъ случались такіе анекдоты, которымъ, пожалуй, трудно и повѣрить; напримѣръ, газету эту цензоръ -Іа ювъ считалъ полезнымъ запретить «за невозможныя опечатки». Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самыхъ ошибокъ: разъ, напримѣръ, у него появилась поправка, въ которой значилось дословно слѣдующее: «во вчерашнемъ №, на столбцѣ такомъ-то, у насъ напечатано: «пуговица», читай’ «Богородица*. Юнгъ былъ въ ужасѣ больше отъ того, что цензоръ ему выговаривалъ: «зачѣмъ-де поправлялся!»
•— Какъ же не поправиться?—вопрошалъ Юнгъ, п въ самомъ дѣлѣ надо было поправиться.
Но едва это сошло съ рукъ, какъ Юнгъ опять ходилъ по городу въ еще большемъ горѣ: онъ останавливалъ знакомыхъ и, вынимая изъ жилетнаго кармана маленькую бумажку, говорилъ:
— Посмотрите, пожалуйста, — хорошъ цензоръ! Что онъ со мною дѣлаетъ!—онъ мнѣ не разрѣшаетъ поправить вчерашнюю ошибку.
Поправка гласила слѣдующее: «вчера у насъ напечатано: кіевляне преимущественно всѣ онанисты, — читай Оптимисты».
— Каково положеніе!—восклицалъ Юнгъ.
Черезъ нѣкоторое время Алексѣи Алексѣевичъ Пазовъ, однако, кажется, разрѣшилъ эту, въ самомъ дѣлъ, необходимую поправку. Но былъ и такой случай цензорскаго произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось разъ, что въ статьѣ было сказано: «неудивительно, что при такомъ воспитаніи вырастаютъ неОоблудыъ. Пазовъ удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотѣли сказать «лизоблюды»; но когда вечеромъ принесли сводку номера, то тамъ стояло: «по ошибкѣ напечатано: недоблуды,— должно читать: п&рвблуды». Цензоръ пришелъ въ отчаяніе и совсѣмъ вычеркнулъ поправку, опасаясь, чтобы не напечаг тали чего еще худшаго.
Пора, однако, возвратиться отъ литераторовъ къ старцу Малахіи, который украсилъ этотъ торжественный день своимъ появленіемъ въ поднесенной ему необыкновенной ш ляпѣ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Густыя толпы людей покрывали все огромное пространство городского берега, откуда былъ виденъ мостъ, соединившій Кіевъ съ черниговскою стороною Днѣпра. Только болѣе страстные до зрѣлищъ и іи особенно патронируемые кѣмъ-нибудь изъ властныхъ нашлі возможность протѣсниться «за войска», расположенныя внизу у въѣзда на мостъ и, наконецъ, шпалерами вдоль самаго моста. Но такихъ счастливцевъ было немного, сравнительно съ огромными массами, покрывшими надбережные холмы, начиная отъ выдубицкаго монастыря и Аскольдовой могилы до террасъ, прилегающихъ къ монастыри? Михайловскому. Кажется, безъ ошибки можно
Сочиненія Н. С. ЛѣсЕОва. Т. ХХХЕ 4.
сказать, что въ этотъ день вышло изъ домовъ все кіевское населеніе, чѣмъ тогда и объясняли множество благоуспѣшно сдѣланныхъ въ этотъ день кражъ. И, несмотря на всю длину этой страшно растянутой береговой линіи, трудно было найти удобное мѣсто. Были люди, которые пришли сюда сиозаранка съ провизіей въ карманахъ и крѣпко заняли всѣ наплучшія позиціи. Оттого зрителямъ, которые пришли позже, нужно было перемѣнять множество мѣстъ, пока удавалось стать такъ, что была видна «церемонія».
Были люди, которые взлѣзли на деревья, были и такіе смѣльчаки, которые прилѣпились къ песчанымъ выступцамъ обрывовъ и иногда скатывались внизъ вмѣстѣ съ своимъ утлымъ подножьемъ. Случайности въ подобномъ родѣ вызывали веселый хохотъ и шутливыя замѣчанія. Было довольно неудовольствіи по поводу обиднаго обращенія господъ военныхъ съ цнвическимъ элементомъ, но все это до судовъ не доходило, военные люди тогда свободно угнетали «аршинниковъ, хамовъ и штафирокъ». Духовенство тоже претерпѣвало отъ этого заурядъ съ мірянами и тоже не жаловалось. Это было въ порядкѣ вещей. Военные, повторяю, чувствовали себя тогда въ большомъ авантажѣ и, по современному выраженію, «сильно форсили». Они имѣли странный успѣхъ въ кіевскомъ обществѣ и часто позволяли себѣ много совершенно неприличнаго. Особенно одно время (именно то, котораго я касаюсь) среди офицеровъ ожесточенно свирѣпствовало поголовное притворство въ остроуміи. Они осчастливили своимъ знакомствомъ и купеческіе дома, и здѣсь вели себя такъ развязно, что передъ ними спасовалъ даже самъ Аскоченскій.
Изъ военныхъ шутокъ при открытіи моста я помню двѣ: у самой ограды бывшаго зданія минеральныхъ водъ появился какой-то нѣмецъ верхомъ на рыжей лошади, которая безпрестанно махала хвостомъ. Его просили отъѣхать, но онъ не соглашался и отвѣчалъ: «не понимаю». Тогда какой-то рослый офицеръ сдернулъ его за ногу на землю, а лошадь его убѣжала. Нѣмецъ былъ въ отчаяніи и побѣжалъ за конемъ, а публика смѣялась и кричада вслѣдъ:
—- Что, братъ, понялъ, какъ по-военному!
Офицеръ прослушалъ это нѣсколько разъ и потомъ крикнулъ:
— Перестать, дураки!
Они и перестали
Должно-быть. не любилъ лести.
Это, впрочемъ, была болѣе отвага, чѣмъ остроуміе; настоящее же остроуміе случалось на мѣстѣ болѣе скрытомъ и тихомъ, именно за оградою монастыря Малаго Николая
На неширокой, но сорной и сильно вытоптанной площадкѣ здѣсь мѣстилось всякое печерское разночинство и нѣсколько человѣкъ монашествующей братіи.
Были маститые иноки съ внушительными сѣдинами и легкомысленные елпмаки съ ихъ дѣвственными гривами въ разметъ на какую угодно сторону.
Одинъ изъ иноковъ, повидимому, пзъ почетныхъ, сидѣлъ въ креслѣ, обитомъ просаленною черною кожею и похожемъ по фасону своему вела обыкновенное кресло, а на госпитальное судно.
Къ атому ыноку подходили простолюдины: онъ всѣхъ ихъ благословлялъ и каждаго спрашивалъ буква іьно одно и то же:
— Чьи вы и изъ какой губерніи?
По.ъ чивъ отвѣтъ, инокъ поднималъ руку и говорилъ: «Богу въ пріемъ». а потомъ, какъ бы чувствуя нѣкую силу, изъ себя исшедшую, зѣвалъ, жмурилъ глаза и преклонялъ главу. Замѣтно было, что общее оживленіе его какъ будто совсѣмъ не захватывало и емѵ, можетъ-быть, лучше было бы пути спать.
На него долго любовалися п пересмѣивались два молодыхъ офицера, а потомъ они оба вдругъ снялись съ мѣста, подошли къ иноку и довольно низко ему поклонились:
Онъ поднялъ голову и сейчасъ же спроситъ ихъ:
— Чыі вы и какой губерніи?
— Изъ Чревоматерняго,—отвѣчали офицеры.
— Богу въ пріемъ,—произнесъ инокъ и. преподавь благословеніе, снова зажмурился. Но офицеры его не хотѣли такъ скоро оставить.
— Позвольте, батюшка, побезпокоить васъ однимъ вопросомъ,—заговорили они.
- А что такое? какой будетъ вашъ вопросъ?
— Намъ очень хотѣлось бы отыскать здѣсь одного нашего земляка іеромонаха.
— А какой онъ такой и какъ его звать?
— Огецъ Строфокамиль.
— Строфокамилъ? не знаю. У насъ, кажется, такого нѣтъ. А впрочемъ, спросите братію.
Нѣсколько человѣкъ подвинулись къ офицерамъ, которые, не теряя ни малѣйшей тѣни серьезности, повторили свой вопросъ братіи, но никто изъ иноковъ тоже не зналъ «отца Строфокамила». Одинъ только сообразилъ, что онъ вѣрно грекъ и посовѣтовалъ разыскивать его въ греческомъ монастырѣ на Подолѣ.
Кадетскіе корпуса тогда въ изобиліи пекли и выпускали въ свѣтъ такихъ и симъ подобныхъ остроумцевъ, изъ которыхъ потомъ, однако, выходили «севастопольскіе герои» и не менѣе знаменитые и воспрославленные «крымскіе воры», и «полковые морелыцики».
До чего заносчиво тогда, передъ Крымскою войною, было офицерство и какія они себѣ позволяли иногда выходки, достойно вспомнить. Вскорѣ этому, вѣроятно, уже не будутъ вѣрить.
Разъ пріѣхалъ, напримѣръ, въ Кіевъ офицеръ Р. (впослѣдствіи весьма извѣстный человѣкъ) и ^вдругъ сдѣлалъ себѣ блестящую репутацію тѣмъ, «что умѣлъ говорить дерзости». Это многихъ очень интересовало п офицера нарасхватъ зазывали на всѣ балики и вечеринки. Онъ ошалѣлъ отъ успѣховъ и дошелъ до наглости невѣроятной. Одинъ разъ въ домѣ нѣкоего г. Г—ва онъ самымъ безцеремоннымъ образомъ обругалъ цѣлое сборище. Г. собралъ къ себѣ на вечеринку друзей и пригласилъ Ра—цкаго. Тотъ осчастливилъ, пріѣхалъ, но поздно и, не входя въ гостиную, остановился въ дверяхъ, оглянулъ всѣхъ въ лорнетъ, произнесъ: «какая, однако, сволочь!» и уѣхалъ... никѣмъ не побитый! Послѣднимъ финаломъ его пошлыхъ наглостей было то, что однажды въ Кинь-Грусти, стоя въ парѣ въ горѣлкахъ съ невѣстною въ свое время г-жею П—саревою, онъ не тронулся съ мѣста, когда его дача побѣжала; ту это смутило и она спросила его: «почему же вы не бѣжите?» Ра—цній отвѣчалъ: «потому, что я боюсь упаегь, какъ вы». Тогда его выпроводили, но только по особому вниманію Бибикова, который былъ особенно предупредителенъ къ этой дамѣ. Другой бѣдовый воитель былъ артиллеристъ Кле—аль. Этотъ больше всего поражалъ тѣмъ, что весьма простодушно являлся «въ лучшіе дома» на балы совершенно пьяный, хотя, впрочемъ, онъ и трезвый стоилъ пьянаго.
До чего онъ могъ довести свою безцеремонность, свидѣтельствуетъ слѣдующій случай: разъ, танцуя въ домѣ Я. И. Не—на, Кле—аль полетѣлъ вмѣстѣ съ сворю дамою подъ столъ. Его оттуда достали и начали оправлять. Хозяинъ быль смущенъ и замътплъ офицеру, что онъ уже слишкомъ веселъ, но тотъ не сконфузился.— Да. отвѣчалъ Кле—аль,—я весе.тъ. Это моя сфера. Впрочемъ, здѣсь такъ и слѣдуетъ’.—и сію же минуту, не ожидая возраженія, онъ добавилъ:
— Скажите, пожалуйста. мнѣ говорили, будто тутъ есть какой-то г. Бе—ти — всѣ говорятъ, что онъ. будто, ужасный дуракъ, но отлично, каналья, кормитъ. Вотъ я очень хотѣлъ бы сдѣлалъ ему честь у него поужинать.
Хозяинъ смѣщался, потому что Бе—ти стоятъ тутъ же возлѣ, но самъ Бе—ги сейчасъ же пригласилъ этого шалуна на свои вечера, и это служило къ ихъ оживленію. — Третій припоминается мнѣ офицеръ расформированнаго нынче жандармскаго полка, К—ій, котораго одна, очень юная п милая, подольская барышня имѣла неосторожность полюбить, а полюбя. поцѣловала и при какомъ-то случаѣ подарила емѵ свой бѣлокурый локонъ. Офицеръ сохранилъ эту галантерейщику и не отказывался отъ поцѣлуевъ, но съ предложеніемъ женитьбы медлилъ. Родители же дѣвушки находили это несоотвѣтственнымъ, и дѣвушка была помолвлена за другого. Ни барышня, ни женихъ ни въ чемь не были виноваты, но г. Е—іи пришелъ къ нимъ въ домъ на имевпнгое собраніе и съ грубымъ ругательствомъ бросилъ невѣстѣ въ лицо ея локонъ, а жениха ударилъ. Многимъ и этотъ, надѣлавшій шуму, поступокъ казался своего рода развеселымъ, но довольно позволительнымъ фарсомъ, и когда покойный чиновникъ генералъ-губернатора Дру-картъ, производя объ этомъ слѣдствіе, не поблажилъ К—му, то Друкарта осуждали за «грубость» къ интересному герою.
Впрочемъ, подобное ожесточенное свирѣпство милптеровъ тогда быю повсемѣстно въ Россіи, а не въ одномъ Кіевъ. Въ Орлѣ бывшій елпсаветградскіп гусарскій полкъ развѣшивалъ на окнахъ вмѣсто шторъ похабныя картины: въ Пензѣ, въ городскомъ скверѣ, взрослымъ барышнямъ завязывали надъ головами низы платьевъ, а въ самомъ Петербургѣ рвали снизу до верха шинели несчастныхъ <штафи-рокъ». Успокоила этихъ сорванцовъ одна изнанка Крым
ской войны. Но оставимъ ихъ будущему историку культуры русскаго общества и поспѣшимъ къ тѣмъ, непосредственность которыхъ гораздо интереснѣе.
Въ ту же минуту, какъ изъ глазъ м'оихъ скрылись офицеры, разспрашивавшіе монаховъ объ отцѣ Строфок амилѣ, я замѣтилъ невдалекѣ одного моего товарища, который такъ же, какъ я, зналъ Берлинскаго, Малахію и Гіезія.
Пріятель меня спрашиваетъ:
— Видѣлъ ли ты морское чучело?
— Какое? говорю.
— А старца Малахая (онъ имѣлъ привычку звать его Малахаемъ).
— А гдѣ онъ?
— Да вотъ сейчасъ, говоритъ,—недалеко здЬсь налѣво, за инженерскимъ домомъ на кирпичахъ стоитъ. Иди, смотри его,—онъ восхитителенъ!
— Неужели, говорю,—въ самомъ дѣлѣ хорошъ?
— Описать нельзя, и самъ хорошъ, и притомъ обставленъ удивительно! Вокругъ него всѣ столпы древняго благочестія «вообче» и нашъ губошлепый Гіезька, весь, подлецъ, деревяннымъ масломъ промасленъ... А на самого Малахая. увидишь, какую шляпу наложили.
— А чтб въ ней такого замѣчательнаго?
— Антикъ,—другой такой нѣтъ. Говорятъ, изъ Москвы, изъ Грановитой палаты выписали на подержаніе,—еще самт царь Горохъ носилъ.
Я не заставлялъ себя болѣе убѣждать и поспѣшилъ разыскивать старца.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
Надо вспомнить, что между монастыремъ Малаго Николая и крѣпостною башнею, подъ которой нынѣ проходятъ Никольскія ворота, былъ только одинъ старый, но преудобный домъ съ дворомъ, окруженнымъ тополями. Въ этомъ домѣ съ нѣкоторыхъ поръ жили кто-то изъ начальствующихъ инженеровъ. За это его, кажется, и не разломали. Стоило обойти усадьбу этого очень просторно расположившагося дома и сейчасъ же надо было упереться въ отгороженный временнымъ заборчикомъ затворочекъ, который пріютился между башнею и садомъ инженернаго дома. На этомъ задворочкѣ были свалены разные строительные остат
ки — доски, бревна, нѣсколько кулей съ известкой и нѣсколько кладокъ бѣлаго кіевскаго кирпича. Тутъ же стояла и маленькая, тоже временная, хатка, въ которой жилъ сторожъ. У воротъ экто загражденія была и надпись, объявлявшая, что «постороннимъ лицамъ сюда входить строго воспрещается». Въ день открытія моста запрещеніе слабо дъпствовало и дало сторожу возможность открыть сюда входъ за деньги. Сторожъ, рыжій унтеръ, съ серьгою въ ухѣ и вишневымъ пятномъ на щекѣ, стоялъ у этой двери п самъ приглашалъ благонадежныхъ ліщъ изъ публики вступить въ запрещенное мѣсто. По его словамъ, оттуда было «все видно», а плату за входъ онъ бралъ умѣренную, по «зло-дувкѣ», т. е. по 15 коп. съ персоны.
Взнеся входную цѣну и переступивъ за дощатую фортку, я увидалъ передъ собою такой «пейзажъ природы», который нельзя было принять иначе, какъ за символическое видѣніе.
Мусоръ всѣхъ сортовъ п названій, обломки всего, что можетъ значиться въ смѣтѣ матеріаловъ, нужныхъ для возведенія зданія съ подземнаю бута до кровли: доски, бревна, известковыя носилки и тачки, согнутые и проржавленные листы стараго кровельнаго желѣза, цѣлый ворохъ обломковъ водосточныхъ тр}бъ, а посреди всего этого хлама, надъ самымъ берегомъ шесть пли семь штабелей запасного кирпича. Сложены они былп столбиками неравной высоты, одни — пониже, другіе немного повыше, и наконецъ, на самомъ высокомъ мѣстѣ зрѣлися человѣчище прѵкрупное, вельмп древнее и дебелое. Эго стоялъ Малахія. Одѣянъ онъ былъ благочестивымъ предковскимъ обычаемъ, въ синей широкой суконной чуйкѣ, сшитой совсѣмъ, какъ старинный охабень, и отороченной по рукавамъ, по вороту п по правой полѣ какимъ-то дряннымъ подлѣз.іымъ мѣхомъ. Одеждѣ отвѣчала и обувь: на ногахъ у старца былп сепогп рыжіе съ мягкою козловою холявою, а въ рукахъ долгій крашеный костыль; но что у него было на годовѣ посажено, тому, дѣйствительно, и описанія не сдѣлаешь. Это была шляпа, но кто ее дълалъ и откуда она могла быть въ наши вѣкъ добыта, того никакой многобывалый человѣкъ . опредѣлить бы не могъ. Историческая полнота свѣдѣніи требуетъ, однако, сказать, что штука эта была добыта почитателями старца АІалахіп въ Кіевѣ, а до того содержалась
въ тайникахъ магазина Козловскаго, гдѣ и обрѣтена была случайно приказчикомъ его Скрипченкомъ при перевозѣ рѣдкостей моды съ Пгчерска на Крещатикъ.
Шляпа представляла собою превысокій плюшевый цилиндръ, съ самымъ смѣлымъ перехватомъ на серединѣ и съ широкими, совершенно ровными полями, бевъ маліійшаго загиба ни на бокахъ, пи сзади, ни спереди. Сидѣла она на головѣ словно рожонъ, точно, какъ-будто, она не хотѣла имѣть ни съ чѣмъ ничего общаго.
Величественная фигура Малафея Пимыча утвердилась здѣсь, вѣроятно, раньше всѣхъ, потому что позиція его была всѣ^ ь выгоднѣе: занимая самую высокую кладку кирпича, старецъ могъ видѣть дальше всѣхъ и самъ былъ всѣмъ виденъ.
Рядомъ съ Ппмычемъ на кладкѣ, которая была немножко пониже, помѣщался Гіезій. Онъ былъ въ бутылочномъ азямчикѣ съ тремя христіанскими сборами на кострепахъ и въ суконномъ штычкѣ безъ козырька. Онъ безпрестанно перемѣнялъ ноги и вчэ его покосившейся на одно плечо фпіурѣ чуялась несносная скука, лѣнь и томительное желаніе шевельнуть затекшими ногами и брызнуть въ ходъ.
Вокругъ нихъ было еще не мало людей, пропущенныхъ крѣпостнымъ заказникомъ, но эти, по своей безцвѣтности, не останавливали на себѣ особеннаго вниманія.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
Часто вращавшійся по сторонамъ Гіезій замѣтилъ мое желаніе поближе полюбоваться его дѣдушкой и показалъ глазами, что можетъ потѣсниться и дать мнѣ мйсто возлѣ себя.
У штабеля стоялъ опрокинутый известковый ящикъ, по которому я могъ подняться на такую высоту, что Гіезій подалъ мнѣ свою руку п поставилъ меня съ собою рядомъ.
Малафей Пимычъ не обратилъ на наше размѣшеніе никакого вниманія; онъ былъ похожъ на матерого волка, который на угрѣ вышелъ походить по насту; сѣрые глаза его горѣли дикимъ фанатическимъ огнемъ, но самъ онъ не шевелился. Онъ устремилъ взоры на мостъ, который отсюда виденъ былъ, какъ на ладони, и не смаргивалъ оттуда ни на мгновеніе. Но я забылъ и мостъ, и Днѣпръ, «гдѣ вся. Русъ крестилась», и даже всю церемонію, которая должна
сейчасъ начаться: всѣмъ моимъ чувствомъ овладѣлъ одинъ Пимычъ. Несмотря на свой чудной уборъ, онъ былъ не только поразительно и вдохновительно красивъ, но, если только простительно немного святотатственное слово, онъ былъ въ своемъ родѣ божественъ п притомъ характерно божественъ. -Это не Юпитеръ и не Лаокоонъ, не Уллпсъ и не Вейнелайненъ, вообще не герой какой бы то ни было саги, а это стоялъ олицетворенный символъ древляю блаючеспйя.
Если я долженъ его съ кѣмъ-нибудь сравнить, что всегда имѣетъ своего рода удобство для читателя, то я предпочелъ бы всему другому указать на извѣстную картину, изображающую урокъ стрѣльбы изъ орудія, даваемый Петру Лефортомъ. Отрокъ Петръ, горя восторгомъ, наводитъ пушечный прицѣлъ... Вся его огневая фигура выражаетъ страстное уносящее стремленіе. Лефортъ въ своемъ огромномъ парикѣ тихо любуется царственнымъ ученикомъ. Нѣсколько молодыхъ русскихъ лицъ смотрятъ съ сочувствіемъ, но вмѣстѣ и съ недоумѣніемъ. На нихъ, однако, видно, что они желаютъ царю «попасть въ цѣль». Но тутъ есть фигура, которая въ своемъ родѣ не менѣе образна, типична и характерна. Это сѣдой старикъ въ старорусскомъ охабнѣ съ высокимъ воротомъ и въ высокой собольей шапкѣ. Онъ одинъ изъ всѣхъ не на ногахъ, а сидитъ—и сидитъ крѣпко; въ правой рукѣ онъ держитъ костыль, а лѣвою оперся въ ногу и смотритъ на упражненія царя вкось, черезъ свой локоть. Въ его глазахъ нѣтъ ненависти къ Петру, но чѣмъ удачнѣе дѣлаетъ юноша то, за что взялся, тѣмъ рѣшительнѣе символическій старецъ не встанетъ съ мѣста. Зато, если Петръ не попадаетъ п отвернется отъ Лефорта, тогда... старичокъ встанетъ, скажетъ: «плюнь на нихъ, батюшка: они всѣ дураки», и, опираясь на свой старый костыль, уведетъ его, «своего прироженнаго» домой—мыться въ банѣ и молиться московскимъ угодникамъ, «одолѣвшимъ и новгородскихъ, и Владимірскихъ».
Этотъ старикъ, по мысли художника, представляетъ собою на картинѣ старую Русъ, и Малафей Пимычъ теперь на живой картинѣ кіевскаго торжества изображалъ то же самое. Моментъ, когда передъ нами является Пимычъ, въ его сознаніи имѣлъ тоже историческое значеніе. Старикъ, Богъ вѣсть почему, ждалъ въ этотъ день какого-то великаго событія, которое сдѣлаеть поворотъ во всемъ.
Такія торжественныя настроенія, безъ удобопонятныхъ причинъ, нерѣдко являются у аскетовъ, подобныхъ Ин-мычу, когда они, сидя въ спертой задухѣ своихъ про- -наглыхъ закутъ, начинаютъ считать себя центромъ вниманія Творца вселенной.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.
Могучая мысль, вызвавшая Малахію, побудила его явиться суетному міру во всеоружіи всей его изувѣрной святости и глупости. Сообразно обстоятельствамъ, онъ такъ пріубрался, что отъ него даже на всемъ просторѣ открытаго нагорнаго воздуха струился запахъ ладана и кипариса, а когда вѣтерокъ раскрывалъ его законный охабень съ звѣриной опу-шью, то внизу виденъ былъ новый мухояровый «рабскій азямчикъ» и во всю грудь черезъ шею висѣвшая нить крупныхъ деревянныхъ шаровъ. Связка, по обыкновенію, кончалась у пупа большимъ восьмиконечнымъ крестомъ изъ красноватаго рога.
Стоялъ онъ, какъ сказано, точно изваяніе — совершенно неподвижно, и такъ же неподвиженъ былъ его взглядъ, устремленный на мостъ, только желтобѣлые усы его изрѣдка шевелились; очевидно, отъ истомы и жажды онъ овлажалъ свои засохшія уста.
— Съ шестого часа тутъ стоимъ,— шепнулъ мнѣ Гіезій.
— Зачѣмъ такъ рано?
— Дѣдушка еще раньше хотѣлъ, никакъ стерпѣти не могли до утра. Все говорилъ: опоздаемъ, пропустимъ—царь раньше выѣдетъ на мостъ, потому этакое дѣло надо на тіцо сдѣлать.
— Да какое такое дѣло? О чемъ вы это толкуете?
Гіезій промолчалъ п покосилъ въ сторону дѣдушки глазами: дескать, нельзя говорить.
Вмѣсто отвѣта онь, вздохнувъ, молвилъ:
— Булычку бы надо сбѣгать купить.
— Зачѣмъ же дѣло стало? сбѣгайте.
— Разсердится. Три дня уже такъ говѣйно живемъ. Самъ-то даже и капли всѣ дни не принималъ. Тоже вѣдь и государю это не легко будетъ. Зато какъ нонѣ при всѣхъ едиными устнами тропарь за царя запоемъ, тогда и ѣсть будемъ.
— Отчего же нынѣ едиными «устнами» запоете?
Гіезіи скосилъ глаза на старца и, закрывъ ладонью ротъ, сталъ шептать мнѣ на ухо:
— Госѵдарь черезъ мостъ гѣшб пойдетъ...
- НуГ
— Только вѣдь до середины рѣки идти будетъ прямо.
— Ну, и что же такое? Что же дальше?
— А тутъ, гдѣ крещебиая струя отъ Владиміра князя пошла, онъ тугъ станетъ.
— Тагъ что же изъ этого?
— Тутъ онъ свое исповѣданіе объявитъ.
— Какое исповѣданіе? Развѣ неизвѣстно его исповѣданіе?
— Да, то пзвѣстное-то извѣстно, а намъ онъ покажетъ истинное.
Я и теперь еще ничего въявь не понялъ, но чувствовалъ уже, что въ нихъ дѣдушкою внушены какія-то чрезвычайныя надежды, которымъ, очевидно, нпкакь невозможно сбыться. II все это сейчасъ же, или даже сію минуту придетъ къ концу, потому что въ это самое мгновеніе открытіе началось.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
По мосту между шпалерами пѣхоты тронулась артиллерія. Пушки, отчищенныя съ неумолимою тщательностью, которою отличалось тогдашнее время, такъ ярко блестѣли на солнцѣ, что надо было зажмуриться; потомъ двигалось еще что-то (теперь хорошенько не пѵмню), и, наконецъ, вдругъ выдался просторный интервалъ, и вь немъ на сво-бодномъ просвѣтѣ показалась довольно большая и блестящая группа. Здѣсь все были лица, въ изобиліи украшенныя крестами п лентами, и впереди всѣхъ пхъ шелъ самъ императоръ Николай. По его спеціально военной походкѣ его можно было узнать очень издали: голова прямо, грудь впередъ, шагъ маршевой, крупный п съ наддачею, лѣвая рука прпгнута п держитъ пальцемъ за пуговицей мундира, а правая «или указываетъ что-нибудь повелительнымъ жестомъ, или тихо, мѣрнььмъ движеніемъ обозначаетъ тактъ, соотвѣтственно шагу ноги.
II теперь государь шелъ этою же самою своею отчетистою военною походкою, мѣрно, но такъ скоро подаваясь впередъ, что многіе изъ слѣдовавшихъ за нимъ въ свитѣ едва
поспѣвали за нимъ въ-прптруску. Когда старенькій генералъ съ опереніемъ на головѣ бѣжитъ, и опереніе это прыгаетъ, выходитъ забавно: точно какъ будто его кто встряхиваетъ и изъ него что-то сыплется.
Шествіе направлялось отъ городского гористаго берега кіевскаго къ пологому черниговскому, гдѣ тогда тотчасъ же у окончанія моста были «виньёлевскія постройки»: дома, службы и проч. Гораздо далѣе была слободка, а потомъ извѣстный «броварской лѣсъ», который тогда еще не былъ вырубленъ и разворованъ, а въ немъ еще охотплись на кабановъ и на козъ.
Въ свитѣ государя издали можно было узнать только старика Виньёля и одного его, необыкновенно красиваго, сына, и то потому, что оба они были въ своихъ яркихъ англійскихъ мундирахъ.
Разумѣется, взоры всѣхъ устремились на эту группу: всѣ слѣдили за государемъ, какъ онъ перейдетъ мостъ и куда потомъ направится. Думали: «не зайдетъ ли къ англичанамъ спссабо сказать», но вышло не такъ, какъ думали и гадали всѣ, а такъ, какъ открыто было благочестивому старцу Малахіп.
Да, какъ разъ на самой серединѣ моста государь вдругъ остановился, и это моментально отозвалось въ нашемъ пунктѣ разнообразными, но сильными отраженіями: во-первыхъ, Гіезій, совсѣмъ позабывъ себя, громко воскликнулъ: «сбывается!» а во-вторыхъ, всѣхъ насъ всколебало чѣмъ-то въ родѣ землетрясенія: такъ сильно встряхнуло кирпичи, на которыхъ мы стояли, что мы поневолѣ схватились другъ за друга. Пожелавъ найти этому объясненіе, я оглянулся и увидалъ, что это палъ на колѣни старецъ Малафей Пимычъ...
Съ этой поры я уже не зналъ, куда глядѣть, гт,ѣ ловить болѣе замѣчательное—тамъ ли, на обширномъ мосту, или тутъ у насъ, на сорномъ задворкѣ. Взоръ и вниманіе поневолѣ двоились и рвались то туда, то сюда.
Между тѣмъ государь, остановясь «противъ кфещебной струи», которую старецъ проводилъ по самой серединѣ Днѣпра, повернулся на минуту лицомъ къ городу, а потомъ взялъ правое плечо впередъ и пошелъ съ средины моста къ периламъ верхней стороны. Тутъ у насъ опять произошло свое дѣйство; Малахія крикнулъ:
— Глядя!
А Гіезіи подхватилъ:
— Видимъ, дѣдушка, видимъ!
Государь пошелъ съ середины влгво, то-есть къ той сторонѣ, откуда пдетъ Дпьпръ п гдѣ волны его встрѣчаютъ упоръ ледорѣзовъ, т. е. со стороны Подола. Вѣроятно, онъ захотѣлъ здѣсь взглянуть на то, какь выведены эти ледорѣзы и въ какомъ отношеніи находятся они къ главному теченію воды.
Государя, въ этомъ отклоненіи отъ прямого хода къ периламъ моста, сопровождалъ Влньёль и еще кто-то, одинъ или два человѣка, изъ свиты. Теперь я этого въ точности вспомнить не могу и о-сю пору изумляюсь, какъ я еще могъ тогда наблюдать, что происходило и тутъ, п тамъ. Впрочемъ, съ того мгновенія, какъ государь остановился на серединѣ моста «противъ крещебной струи»,—тамъ я видѣлъ очень мало. Помню только одинъ моментъ, какъ публика, стоявшая за войсками у перилъ, увидя подходившаго государя, смѣшалась и жалась вмѣсто того, чтобы разступиться и открыть видъ на воду. Государь подошелъ п самъ собственною рукою раздвинулъ двухъ человѣкъ, какъ бы приклеившихся къ периламъ.
Эги два человѣка оба были мои знакомые, очень скромные дворяне, но съ этого событія они вдругъ получилп всеобшіи пнтересъ, такъ какъ по городу пролетѣла вѣсть, что государь ихъ не только тронулъ рукою, но п что-то сказалъ имъ. Объ этомъ будетъ ниже. Съ того мгновенія, какъ государь отстранилъ двухъ оторопѣвшихъ дворянъ и сталъ лицомъ къ открытой рѣкѣ, вниманіе мое уже не разрывалось на-звое, а все было охвачено Пкмычемъ.
Первое, что отвлекло меня отъ торжественной сцены на мосту—было паденіе внизъ какого-то чернаго предмета. Точно будто черный Фаустовъ пудель вырвался изъ-подъ кирпичей, на которыхъ мы стояли, и быстро запрыгалъ огромными скачками книзу.
Если эю былъ звѣрь, то онъ, очевидно, кого-то преслѣдовалъ или отъ кого-то удиралъ. Разобрать этого я не могъ, такъ какъ черный предметъ скатился внизъ и совершенно неожиданно нырнулъ п исчезъ гдѣ-то подъ берегомъ. Но отрокъ Гіезій былъ глазастѣе меня п воскликнулъ:
— Ай, пропала дѣдушкина шляпа!
Я посмотрѣлъ на Пимыча п увидѣлъ, что онъ стоитъ на колѣняхъ п съ непокрытою головою. Онъ буквально былъ внѣ себя: «огонь горѣлъ въ его очахъ и шерсть на немъ щетиной зрплась». Правая рука его съ крѣпко стиснутымъ двуперстнымъ крестомъ была прямо поднята вверхъ надъ головою, и онъ кричалъ (да, не говорилъ, а во всю мочь громко кричалъ)-.
— Такъ, батюшка, такъ! Ботъ этакъ-вотъ, родненькій, совершай! Сложи, какъ надо, два пальчика! Дай всей землѣ одно небесное исповѣданіе.
И въ это время, какъ онъ кричалъ, горячія слезы обильными ручьями лились по его покрытымъ сѣдымъ мохомъ щекамъ и прятались въ бороду... Волненіе старца было такъ сильно, что онъ не выстоялъ на ногахъ, голосъ его оборвался, онъ зашатался п рухнулъ на лицо свое п замеръ... Можно бы подумать, что онъ даже умеръ, но тому мѣшала его правая рука, которую онъ все-таки выправилъ, поднялъ кверху п все мэха.ть ею государю двуперстнымъ сложеніемъ... Бѣднякъ, очевидно, опасался, чтобы государь не ошибся, какъ надо показать «небесное исповѣданіе».
Я не могу передать, какъ это выходило трогательно!.. Во всю мою жизнь послѣ этого я не видалъ серьезнаго и сильнаго духомъ человѣка въ положеніи болѣе трагическомъ, восторженномъ и въ то же время жалкомъ.
Я былъ до глубины души потрясенъ душевнымъ напряженіемъ этого алкателя единыя вѣры и не могъ себѣ представить, какъ онъ выйтетъ изъ своего затрудненія. Одно спасеніе, думалось: государь отъ насъ такъ далеко, что нѣтъ возможности увидѣть, двумя иіи тремя перстами онъ перекрестится, п, стало-быть, дѣдушку Пимыча можно будетъ обмануть, можно будетъ пустить ему «ложь во спасеніе». Но я мелко и недостойно понималъ о высокомъ старцѣ: онъ такъ окинулъ прозорливымъ окомъ ума своего всю вселенную, что не могло быть никого, кто бы могъ обмануть его въ двѣ вѣры.
II вотъ наступилъ, наконецъ, мигъ, рѣшительный и жесточайшій мигъ.
Шествіе на мосту, вѣроятно, кончилось, вокругъ насъ почувствовалось какое-то нервное движеніе, люди какъ бы хотѣли перемьнять мѣста и, наконецъ, зашумѣли: значитъ, кончено. Стали расходиться.
Гіезій позьадъ два раза: «д Г.душка! дѣдушка!»
У Пимыча шевельнулась сппна, и онъ сталъ приподниматься. Гіезій подхватилъ его подъ руги.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Старецъ поднимался медленно и тяжело, какъ поднимается осенью коченѣющій шмель съ тѣмь, чтобы переползти немножко и околѣть.
Гіезій изнемогалъ, вспирая старика вверхъ за оба локтя.
Я захотѣлъ ему помочь, и мы взялись одинъ за одну руку, а другой за другую и поставили старца на колеблющіяся ноги.
Онъ дрожалъ и имѣлъ видъ человѣка смертельно раненаго въ самое сердце. Ротъ у него былъ широко открытъ, глаза въ остолбенѣніи и съ тусклымъ остеклѣніемъ.
Столь недавній живой фанатическій блескъ ихъ исчезъ безъ слѣда.
Гіезій, если не понялъ, то почувствовалъ положеніе старца и съ робкпмъ участіемъ сказалъ:
— Пойдемъ домой, дѣдушка!
Малахія не отвѣчалъ. Медленно, тяжелымъ, сердитымъ взглядомъ повелъ онъ по небу, вздохнулъ, словно послѣ сна. и остановиіъ взоръ на Гіезіи.
Т(>тъ еще съ большимъ участіемъ произнесъ:
— Довольно, дѣдушка; нечего ждать, пойдемъ; государь уже, познаменовался.
Но при этомъ словѣ старика всего словно прожгло, п онъ вдругъ отвердѣлъ п закричалъ:
— Врешь, анаѳема! Врешь, не знаменовался государь двумя персты. Вижу я, еще не въ постыженіи остаются отступнпкп никоніаны. II за то, что ты солгалъ, Господь будетъ бить тебя по устамъ.
Съ этимъ онъ замахнулся и наотмашь такъ сильно ударилъ Гіезія по лицу, что уста отрока въ то же мгновеніе оросились кровью.
Кго-то вздумалъ было за него заступиться и заговорилъ: «какъ это можно?»—но Гіезій попросилъ участливаго человѣка пхъ оставить.
— Мы свои,—сказалъ онъ:—это мой дѣдушка,—и началъ бережно сводить перестоявшагося старца съ кирпича подъ руки.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Малахіп было видѣніе, мечта, фантазія, назовите какъ хотите, что государь станетъ среди моста «липомъ противъ крещебной струи» и передъ всѣми людьми перекрестится древлпмъ двуперстіемъ.
А тогда, разумѣется, настанетъ для Малахіи и иже съ нимъ торжество, а митрополитамъ и епископамъ, и всему чину церковному со всѣми нечестивыми никоніанами—посрамленіе до черноты лицъ ихъ. А тѣхъ, кои не покорятся, «Господь рукою вѣрныхъ своихъ будетъ бить по устамъ», и всѣ они окровенятся, какъ Гіезій. «Старая вѣра побьетъ новую». Вотъ чего желалъ и о чемъ, можетъ-быть, всю жизнь свою молился опасный немолякъ за власти.
Но не сбылося по его вѣрѣ и упованію и погибли вмигъ всѣ его радости. Старецъ былъ посрамленъ.
Я помню и никогда не забуду, какъ онъ шелъ. Это была грустная картина: тяжело и медленно передвигалъ онъ какъ будто не свои остарѣлыя ноги по мягкой пыли Никольской улицы. Руки его были опущены и растопырены; смотрѣлъ онъ безпомощно и даже повиновался Гіезію, который одною рукою обтиралъ кровь на своемъ лицѣ, а другою подвигалъ старца ладонью въ спину и, плача о немъ, умолялъ:
— Иди же, мой дѣдушка, Христа ради, иди... Ты безъ шляпы... на тебя всѣ смѣяться будутъ.
Старецъ понятъ это слово и прохрипѣлъ:
— Пусть смѣются.
Это было послѣдній разъ, чго я видѣлъ Малахію, но зато онъ удостоилъ меня вспомнить. На другой день, по отъѣздѣ государя изъ Кіева, старецъ присылалъ ко мнѣ своего отрока съ просьбою сходить «къ боярамъ» и узнать: «чтб царь двумъ господіямъ на мосту молвилъ, коихъ своими руками развелъ».
— Дѣдушка, — говорилъ Гіезій: — сомнѣваются насчетъ того: кія словеса рекъ государь. Нѣтъ ли чего отъ насъ утаеннаго?
Я могъ послать старцу отвѣтъ самый полный, безъ всякаго утаенія. Два господина, остолбенѣвшіе у перилъ на томъ мѣстѣ, гдѣ захотѣлъ взглянуть на Днѣпръ императоръ Николай Павловичъ, какъ я сказалъ, были мнЬ извѣстны. Эго были звенигородскіе помѣщики, братья Про-
топоповы. Опп мнѣ даже приходились въ отдаленномъ свойствѣ по теткѣ Натальѣ Ивановнѣ А лферьевой, которая была замужемъ за Михаиломъ Протопоповымъ. А потому мы въ тотъ же день узнали, что такое сказалъ имъ государь. Онъ отстранилъ ихъ рукою п проговорилъ только дьа слова:
-— Пошли прочь!
Впрочемъ, и въ кружкѣ знакомыхъ всѣ интересовались, чтб было сказано, п вечеромъ въ этотъ день въ кваргпрѣ Протопоповыхъ на Бульварѣ перебывало множество знакомыхъ, п всѣ приступали къ виновнику событія съ разспросами.
- - Правда ли, что съ вами государь разговаривалъ?
— Да-съ, разговаривалъ,—отвѣчалъ Протопоповъ.
— А о чемъ разговоръ былъ?
Протопоповъ съ удиви іельною терпѣливостію п точностію начиналъ излагать все по порядку: гдѣ опи стояли и какъ государь къ нимъ подошелъ, «раздвинулъ» жхъ п сказалъ: «пошли прочь».
— Ну, и вы отошли?
— Какъ же,—сію же минуту отошли.
Всѣ находили, чю братья поступили именно такъ, какъ слѣдовало, и съ этимъ, конечно, всякій долженъ согласиться, но нп къ старой, нп къ новей вѣрѣ это нимало не относилось, и чтобы не дать повода къ какпмъ-нибуть толкованіямъ, я просто сказалъ Гіезію, чю государь съ «го-сподіями» ничего не говорилъ.
Гіезій вздохнулъ н молвилъ:
— Плохо наше дѣло.
— Чѣмъ п отчего плохо?—полюбопытствовалъ я.
— Да, видите... дѣдушкѣ п всѣмъ намъ ужъ очень хочется тропарь пѣть, а невозможно!..
Среди безчисленныхъ и пошлыхъ клеветъ, которымъ я долговременно подвергался въ литературѣ за мою неспособность и нехотѣніе рабствовать презрѣнному и отвратительному деспотизму партій, меня сурово укоряли также за то, что я не раздѣлялъ неосновательныхъ мнѣній Афа-насья Прокофьевича Щапова, который б-ту пору прослылъ въ Петербургѣ псторпкомь и, вращаясь среди неповинныхъ въ знаніяхъ церковной исторіи литераторовъ, вѣщалъ о политическихъ задачахъ, которыя скрытно содерллітъ будто
Сочиненія Н. С. Лъск^ва. Т. XXXI. 5
нашъ русскій расколъ. Щаповъ стоялъ горой за то, что расколъ имѣетъ политическія задачи, и благоуспѣшно увѣрилъ въ этомъ Герцена, который потомъ уже не умѣлъ разобрать представившихся ему Пв. ІІв. Шебаева и бывшаго старовѣрскаго архіерея, умнаго п очень ловкаго человѣка, Пафнутія. Л тогда напечаталъ письмо о «людяхъ древняго благочестія», гдѣ старался снять съ несчастныхъ старовѣровъ вредный и глупыя поклепъ на нихъ въ революціонер-ствѣ. Меня за это ужасно порицали. Ппсалп, что я дѣла не знаю и умышленно его извращаю — что меня растлило въ этомъ отношеніи вредное вліяніе Павла Пв. Мельникова (Печерскаго), что я даже просто «подкупленъ правительствомъ». Дошло до того, что петербургскому профессору Пв. Ѳ. Нильскому печатно поставили въ непростительную вину: какъ онъ смѣлъ гдѣ-то ссылаться на мои наблюденія надъ нравами раскола и давать словамъ моимъ вѣру... А— увы и ахъ—вышло, что я правду говорилъ: раскольникамъ до политики дѣла нѣтъ и «тропарь» они не поютъ не за политику, которую хотѣли навязать имъ представители «крайней лѣвой фракціи». Г-нъ Нильскій давалъ писателямъ «лѣвой фракціи» отповѣдь, гдѣ говорилъ что-то въ пользу моихъ наблюденій. Въ самомъ же дѣлѣ, хороши они пли дурны, но они есть наблюденія того, чтб существовало и было, а не выдумка, не тенденціозное фантазерство фрак-ціонпстовъ, которымъ чуть не удалось оклеветать добрыхъ и спокойныхъ людей. Твердое и неизмѣнное убѣжденіе, что русскій расколъ не имѣетъ противоправительственныхъ «политическихъ» идей, получено мною не изъ книгъ и даже не отъ Павла Пв. Мельникова (знанія котораго я, конечно, высоко цѣню), а я пришелъ къ этому убѣжденію прямо путемъ личныхъ наблюденій, которымъ вѣрю болѣе, чѣмъ тенденціознымъ натяжкамъ Щапова и всякимъ инымъ ухищреніямъ теоретиковъ «крайней лѣвой фракціи», которые нынѣ «проложились въ сердцахъ своихъ» и заскакали па правый флангъ крайнѣе самаго правофланговаго...
Вѣрю имъ нынче столько же, сколько вѣрилъ тогда...
Во всякомъ случаѣ то, чтб я разсказалъ здѣсь о старцѣ Малахіп, было для меня едва ли не первыми урокомъ въ изученіи характера не сочиненнаго, а живого раскольника. Я не могу, да и не обязанъ забыть, какъ этому суровому
«немоляку за имя царево» хотѣлось «попѣти тропаря», и вся остановка была только за тѣмъ, чтобы императоръ «двумя персты» перекрестился. А тогда бы они позапечат-лѣлп всѣхъ ке-раскольнпковъ въ томъ самомь родѣ, какъ старецъ запечатлѣлъ Гіезьку, и горячѣе всѣхъ, пожалуй, приложили бы свои благочестивыя руки къ «крайней лѣвой фракціи».
Вотъ и вся раскольничья политика. А между тѣмъ было время, копа требовалось имѣть не малую отвагу, чтобы рѣшиться дагь пріютъ въ домѣ такому опасному сектанту, какъ старецъ Малахія... II это смѣшное и слѣпое время было не очень давно, а между тѣмъ оно уже такъ хорошо позабыто, что теперь «крайняя правая фракція» пружптся, чтобы Волга-матушка вспять побѣжала, а онп бы могли начать лгать сначала. Раки, которые «перешеичутся», приходятъ въ «пустотѣлъ", а люди, которые хотятъ пятиться, какъ раки, придутъ къ пусгомыслію.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Отрока Гіезія я видѣлъ еще одинъ разъ въ жизни. Это было много лѣтъ спустя въ Курскѣ, вскорѣ постъ постропкп кіевской желѣзной дороги.
Я ѣхалъ въ Кіевъ повидаться съ родными. Поѣзда ходили тогда еще не совсѣмъ аккуратно, и въ Курскѣ приходилась довольно долгая остановка. Я когда-то ѣзжалъ и ъ Орла въ Курскъ, и теперь мнѣ хотѣлось посмотрѣть на этотъ городъ, гдѣ сидятъ «моп-то-те кѵряне, вѣдомые кметп». которые до того дощівіілизова.іпсь, что потеряли цѣлую роіцу.
Я прошелъ черезъ вокзалъ, чтобы съ задняго крыльца посмотрѣть на соборъ и на прочее, чтб можно разглядѣть отсюда.
Дѣло было утромъ, погода прекрасная. Курскъ въ такомъ раннемъ освѣщеніи очень весело смотритъ съ своихъ горокъ, изъ-за своей сонной Тускари. Онъ напоминаетъ собою Кіевъ, разумѣется въ миніатюрѣ и еп ІаісІ. Но только теперь, въ ту минуту, когда я хотѣлъ любоваться, весь видъ пли, лучше сказать, все поле зрѣнія застилалось какими-то, во множествѣ летающими и безъ толку мечущимися въ воздухѣ безголовыми птичками... Престранное видѣніе въ іезекіилевскомь жанрѣ: на одной какой-то точкѣ
бьютъ фонтаномъ п носятся какими-то незаконченными, трепетными взмахами въ воздухѣ одни крылья; они описываютъ какіе-то незаконченные круги и зигзаги, и вдругъ падаютъ, упадетъ, встрепенутся, и опять взлетятъ снова, и опять посерединѣ подъема ослабѣютъ и снова упадутъ въ пыль...
Это что-то какъ будто апокалипсическое.
Въ довершеніе сходства характера, тутъ были и «жены»; онѣ подбираютъ обезглавленныхъ пташекъ и суютъ ихъ себѣ куда-то въ нѣдра или, по-просту говоря, за пазухп. Тамъ тепло.
Заинтересовало меня: что это такое?
Вотъ съ одной, пронесшейся надъ моею головою безголовой пташки что-то капнуло... Тяжелое... точно она на меня зерно гороху уронила, и притомъ попало это мнѣ прямо на руку...
Это была кровь и притомъ совершенно свѣжая, даже теплая.
Чтб за странность?
Оглядываюсь — на противуположной сторонѣ площадки, такъ же какъ и я, глазѣютъ на безголовыхъ летуновъ человѣкъ шесть городскихъ извозчиковъ и нѣсколько ребятишекъ...
Вотъ одна безголовая пташка со всего размаха шлепнулась о желѣзную крышу какой-то надворной постройки.
Летѣла—казалось птичка, а упала—словно стаяла.
Осталось только самое, маленькое пятнышко, которое надо было съ усиліемъ не потерять изъ глазъ,—до того стало оно ничтожно.
Зато теперь можно было разсмотрѣть, что это такое.
Я опустилъ руку въ дорожную сумку, гдѣ у меня былъ маленькій бинокль, и только - что сталъ наводить его на крышу, какъ кто-то сѣрымъ рукавомъ закрылъ мнѣ «поле зрѣнія».
У меня въ Курскѣ не могло быть знакомыхъ, которые бы имѣли право допустить такую короткую фамильярность, но прежде чѣмъ я успѣлъ отнять отъ глазъ бинокль, сѣрая завѣса уже снялась, и я увидалъ ворону, которая уносила въ клювѣ обезглавленную пташку.
Послышался хохотъ, свистъ; въ ворону съ добычею, безъ вреда для нихъ, полетѣли щапы п палки, и потомъ опять пошелъ фонтаномъ взлетъ обезглавленныхъ пташекъ.
Я захотѣлъ впдѣть источникъ этого необычайнаго явленія. и оно объяснилось: тутъ же за угломъ стояла низкая крестьянская телѣга, запряженная заморенною лохматою лошаденкою. Лошадь ѣла сѣнцо, которое было привязано къ запрягу ея оглобли: а на телѣгѣ стоялъ большой лубочный коробъ, по верху котораго затянута ніпяная сѣтка. Надъ коробомъ, окорячпвъ его ногами, упертыми въ те-лѣиныя грядки, сидѣлъ рослый поваръ въ бѣлыхъ панталонахъ. въ бѣлой курткѣ п въ бѣломъ колпакѣ, а передъ н.імъ на землѣ стоялъ, среднихъ лѣтъ, торговый крестьянинъ и держалъ въ рукахъ большое рѣшето, въ которое поваръ что-то сбрасывалъ, точно какъ будто орѣшки.
Прежде опуститъ руку въ коробъ, потомъ вынетъ ее точно чѣмъ-то обросшую, встряхнетъ ею и сей же моментъ всюду по воздуху полетятъ безголовыя п гички: а онъ сбро-сптъ въ рѣшето горсточку орѣшковъ. П все такъ далѣе.
Спросилъ, что это лѣлаютъ, и получплъ короткое объясненіе:
— Перепелокъ рвутъ.
— Какъ,—говорю,—странно.
— Отчего странно?—отвѣчаетъ продавецъ:—это у насъ завсегда такъ. Они теперь жирныя: какъ заберешь нхъ въ руку, между пальчиками по головешкѣ, и встряхнешь, у нихъ сейчасъ всѣ шейки милымъ дѣломъ и оборвутся. Полетаетъ безъ головки—изъ нее кровочка скапптъ, и скусъ тоньше. А по головешкамъ, кои въ рѣшетѣ сбросаны, считать очень способно. Сколько головешекъ, за столько штукъ и плата.
«Ахъ, вы,—думаю,—«вѣдомые кмети»! Съ этакимъ ли способнымъ народомъ не спрятать безъ слѣдовъ монастырскую рощѵ!»
Но мнѣ интереснѣе всего былъ самъ продавецъ, ибо— коротко сказать—это былъ не кто пной. какъ оный давній отрокъ Гіезій. Онъ обородатѣлъ п постарѣлъ, но видъ имѣлъ очень болѣзненный.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Какъ только я назвалъ себя, Гіезій узналъ меня сразу п подалъ свою уваленнѵю птичьимъ пухомъ руку. А между тѣмъ и перепелиная ка.нь была кончена; поваръ соскочилъ па землю и пошелъ къ бочкѣ съ водою мыть руки, а мы
съ старымъ знакомцемъ отправились пить чай. Сѣли уютненько, рѣшето съ птичьими головками подъ столъ спрятали и разговорились.
Гіезіи сообщилъ мнѣ, что онъ давно отбылъ годы обѣтованнаго отрочества и уже «живетъ со второю хозяйкою», т. е. женатъ на второй женѣ, имѣетъ дѣтей, а живетъ промысломъ— торгуетъ то косами и серпами, то пенькою и пшеномъ, иногда же, между дѣломъ, и живностію.
Спрашиваю: «счастливо ли живете?»
— Ничего бы,—отвѣчаетъ,—если бы не ракъ.
— Какой радъ?
— А какъ же, — говоритъ, — вѣдь у меня ракъ въ желудкѣ; я скоро умру.
— Да почему вы знаете, что у васъ ракъ?
— Много докторовъ видѣли, — всѣ одно сказали: ракъ. Да я и самъ вижу. Почти никакой ппщп принять не могу, отъ всего извергаетъ.
— Чѣмъ же вы лѣчитесь?
— Прежде лѣчиіся, а пынѣ бросилъ, одинъ морковный сокь натощакъ пыо. Все равно, пользы никакой быть не можетъ.
— Отчего вы такъ печально думаете?
— Помилуйте, развѣ я дитя, что не понимаю. Тридцать вѣдь, сударь, лѣтъ и три года этакое тиранство я соблюдалъ при дѣдушкѣ Малахіи! Вѣдь это вспомянуть страшно становится. Онъ говѣлъ въ лѣтѣхъ своихъ замоторѣлыхъ, а я одно и такое же мученіе съ нимъ претерпѣвать въ цвѣтущей моей младости.
— II кромѣ того онъ васъ, помнится, очень билъ.
— Да, разумѣется, «начали.іъ», да это ничего, безъ того и невозможно. А вотъ голодъ —- это ужасно. Бывало, въ госпожинъ постъ и оскребки изъ деревянной чашки всѣ со щепой переѣшь и, что въ землѣ случаемъ ногами втоптано, вездѣ выковыряешь, да проглотишь, а теперь вотъ черезъ это старовѣрское злое безуміе и умирай безъ временя, а дѣтей пусти по-міру.
— Вы,—говорю,—постъ называете безуміемъ?
— Да-съ. А что такое? Впрочемъ, не осудите, съ досады иной разъ, какъ о ребятишкахъ вздумаешь, очень что-нибудь скажешь. Дѣтей жалко.
•— А какъ теперь ваши религіозныя убѣжденія"-'
Онъ макнулъ рукою.
— Тропарь по старому не поете?
Гіезіи улыбнулся и отвѣчалъ:
— Что вспомнили!—пѣлъ да уже и позабылъ.
— Закъ позабыли?
- Ну, Господи мой, вѣдь я же вамъ говорю, какая у меня страшная боль въ животѣ. Ракь! Я теперь даже № токмо что среду пли пятокъ, а даже и великій постъ не могу никакой говѣипости соблюдать, потому меня отъ всего постнаго сейчасъ вытошнитъ. Сплошь теперь, какъ молоканъ, мясное и зачищаю, точно баринъ. При вѣрной церкви уже это нельзя, я и примазался...
— Ьъ единовѣрческой?
— Нѣтъ, чего! Тамъ тоже еще есть жизни правила, я къ простой, къ греко-россійской.
— Значитъ, даже тремя перстами креститесь?
— Все равно. Да и какое уже больному человѣку крещеніе. Почитай и о молитвѣ забылъ. Только бы пожить для ребятъ хочется. Для того и присталъ къ церковной вѣрѣ, что можно жить с.табже.
— А прочіе ъашд собрятія?
— Они тогда, какъ въ Кіевѣ дѣдушку схоронили, сейчасъ съ сосѣдями тропарь пѣть замоталпся, да такъ на тропарь п повисли. Нравится имъ, чтобъ «побѣды и одолѣнія», да и отчего не пйть?—заключилъ онъ:—еслп у кого силы живота постоянныя, то вѣдь можно какъ угодно вѣрить; но съ такимъ желудкомъ, какъ мой, какая ужъ тутъ вѣра! Тутъ одно искушеніе!
( ъ тѣмъ мы и разстались.
Обѣтованный отрокъ, не читая энциклопедистовъ и другихъ проклятыхъ писателей, своимъ умомъ дошелъ до теоріи Дидро и поставилъ вѣру въ зависимость отъ физіологіи.
Епископъ Амвросій Ключаревъ въ своихъ публичныхъ лекціяхъ, читанныхъ въ Москвѣ, напрасно порѣшилъ, что писателямъ «лучше бы не родиться». Тотъ, Кто призвалъ всякую тварь кь жизни, конечно, лучше почтеннаго архипастыря зналъ, кому лучше родиться, а кому не родиться, но случай съ Гіезіемъ не показываетъ ли, что простого человѣка иногда удаляютъ отъ вѣры не писатели, которыхъ простои народъ еще не знаетъ и не читаетъ, а тѣ, кто «возлагаетъ на человѣки бремена тяжкія п неудебоноспмыя».
Но мы смиренно вѣримъ, что въ большомъ хозяйствѣ Владыки вселенной даже и этотъ ассортиментъ людей пока еще на что-то нуженъ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Теперь рще хочется упомянуть объ о іномъ кіевскомъ событіи, которое прекрасно и трогательно само по себѣ и въ которомъ вырисовалась одна странная личность съ очень сложнымъ характеромъ. Я хочу сказать о священникѣ Ев-фпміи Ботвиновскомъ, котораго всѣ въ Кіевѣ знали просто подъ именемъ «попа Ефима», пли даже «Ю.хвима».
Усопшій епископъ рижскій Филаретъ Филаретовъ, въ бытность его ректоромъ духовной академіи въ Кіевѣ, 28 декабря 1873 г. писалъ мнѣ: «спрашиваете о Евфпмѣ,—Ев-фпмъ, другъ нашъ, умре 19 сентября. Оставилъ семейство изъ шести душъ, трехъ женскихъ и трехъ мужескихъ. Но, видно, Евфимъ при слабостяхъ своихъ имѣлъ въ себѣ много добраго. При его погребеніи было большое стеченіе народа, провожавшаго его съ большимъ плачемъ. Дѣти остались на чужомъ дворѣ, безъ гроша и безъ куска хлѣба; но добрыми людьми они обезпечены теперь такъ, что едва ли бы и при отцѣ могли имѣть то, что устроила для нихъ поие-чительность людская».
Съ тѣхъ поръ, когда мнѣ случалось быть въ Кіевѣ, я никогда и ни отъ кого не могъ получить никакихъ извѣстій о дѣтяхъ отца Евфима; но, чтб всего страннѣе, и о немъ самомъ память какъ будто совершенно исчезла, а если начнешь усиленно будить ее, то услышишь развѣ только что-то о его «слабостяхъ». Въ письмѣ своемъ пр. Филаретъ говоритъ: «не дивитеся сему — банковое направленіе все заѣло. Въ Кіевѣ ничѣмъ не интересуются, кромѣ картъ а денегъ».
Не знаю, совершенно ли это такъ, но думается, что довольно близко къ истинѣ.
Чтобы не вызывать недомолвками ложныхъ толкованій, лучше сказать, что «слабости» о. Евфима составляли просто кутежи, которые тогда были въ большой модѣ въ Кіевѣ. Отецъ Евфимъ оказался большимъ консерваторомъ п переносилъ эту моду немножко дольше, чѣмъ было можно. Отецъ Евфимъ любилъ хорошее впицо, компанію и охоту. Онъ былъ лучшій бильярдный игрокъ послѣ Нурдюмоза и отлично
стрѣлялъ: притомъ онъ, по слабости своего характера, не могъ воздержаться отъ удовольствія поохотиться, когда попадалъ въ крѵгъ друзей изъ дворянъ. Тутъ о. Евфимъ переодѣвался въ огерсйій костюмъ, хорошо приспособленный къ тому, чтобы спрятать его «грпву», п «полеватъ» по преимуществу съ гончими. Нрава Юхвимъ бытъ веселаго, даже дѣтски шаловливаго п увлекающагося до крайностей, иногда непозволительныхъ; но это былъ такой человѣкъ, какихъ родится немного и кът'’рыхъ грѣшно и стыдно забывать въ одно десятилѣтіе.
Каковъ Юхвимъ бытъ какъ священникъ,—этого я разбирать не стану, да и думаю, что это извѣстно одному Богу, Которому служилъ онъ. какъ могъ п какъ умѣлъ. Внѣшнимъ образомъ бвзшенно дѣйствовать Юхвимъ былъ большой мастеръ, но «лѣноватъ:, и потому служилъ рѣдко — больше содержалъ у себя для служенія какпхъ-то «приблудныхъ батюшекъ», которые всегда проживали у него же въ домѣ. Отецъ Юхьимъ прекрасно читалъ и иногда, чптая великопостные каноны, неудержимо плакалъ, а потомъ самъ надъ собою шутилъ, говоря:
— Стілько я. ледачій піпъ, нагрішпвъ, пдо Богъ вже змпловався надо мною и давъ мені слезы, що-бъ плакати ділъ моихъ горько. Не можу служить, не плачучіг.
Разберите и разсудите хоть по этому, чтб это быль за человѣкъ по опіношеіпю къ вѣрѣ? По моем: мнѣнію, онъ былъ человѣкъ богопочтительнын, но его кипучая, художественная и сообщительная натура, при умѣ живомъ, но крайне легкомъ и не серьезномъ, постоянно увлекала его то т?да, то сюда, такъ что онъ могъ бы и совершенно извертѣться, если бы не было одного магнита, который направлялъ его блужданія къ опредѣленной точкѣ. Магнитомъ этимъ, дѣйствовавшая! на Юхвима съ страшною всеодолѣваюшею органическою силою, была его громадная, прирожденная любовь къ добру и оосглраданіе.
Когда я зазналъ отца Евфима, онъ былъ очень юнымъ священникомъ маленькой деревянной церковки Іоанна Златоуста противъ нынѣшней старокіевской части. Приходъ у него былъ самый бѣднѣпш’й. и отцу Евфиму совершенно нечѣмъ было бы питаться, если бы семьѣ его Господь не послалъ сврапа».
Этотъ «питающій вранъ» былъ разучавш’йся грамотѣ
дьячокъ Константинъ, іпп Котинъ, длинный, худой, съ сло-манымъ и согнутымъ на сторону носомъ, за что и прозывался «Ломоносовымъ».
Онъ самъ о себѣ говаривалъ:
— Я вже часто не здужаю, бо ставъ старый; але що маю подіятп, якъ робптн треба.
«Треба» была именно потому, что Ломоносовъ имѣлъ «на своемъ воспитаніи» молодую, но быстро нараставшую семью своего молодого и совершенно беззаботнаго священника.
Дьячокъ Котинъ служилъ при его отцѣ, Егорѣ Ботви-новскомъ, зналъ Евфпма дитятею, а потомъ студентомъ академіи, и теперь, видя его крайнюю безпечность обо всѣхъ домашнихъ нуждахъ, принялъ домъ священника «на свое воспитаніе».
Трудъ Ломоносова состоялъ въ томъ, что все льгнее время, пока Кіевъ посѣщается богомольцами пли, по произношенію Котина, «богомуламіі», онъ вставалъ до зари, садился у церковной оградочкп съ деревяннымъ ящичкомъ, съ прорѣзкою въ крышкѣ, и «стерегъ богомуловъ».
Дѣло это очень заботное и требовало не малой сообразительности и остроты разума, а также смѣлости и такта, ибо, собственно говоря, Ломоносовъ «воспитывалъ семейство» на счетъ другихъ приходовъ и преимущественно на счетъ духовенства церквей Десятинной, Андреевский и всѣхъ вкупѣ святынь Подола.
Константинъ отпиралъ церковь, зажигалъ лампадочку и садился у дверей на маленькой скамеечкѣ; передъ собою онъ ставилъ мѣдную чашку съ водою и кропило, рядомъ ящичекъ іпп «карнавку», а въ руки бралъ шерстяной па-гленокъ. Онъ занимался надвязываніемъ чулокъ.
— Бо духовному лицу треба бути въ трудѣхъ бденныхъ.
Какъ большинство обстоятельныхъ и сильно озабоченныхъ людей, Котинъ былъ порядочный резонеръ и уважалъ декорумъ и благопристойность.
«Богомулъ» (въ собирательномъ смыслѣ) пдетъ по Кіеву опредѣленнымъ путемъ, какъ сельщ у береговъ Шотландіи, такъ что прежде «напоклоняется усімъ святымъ печерскимъ, потімъ того до Варвары, а потімъ Макарію софійскому, а потімъ вже геть просто милю Ивана до Андрея и Деся-тинного и на Подолъ».
Маршрутъ этогъ освященъ вѣками и до такой степени
I ) —
траднціоненъ, что его никто и не думалъ бы измѣнять. Церковь Іоанна Златоуста, или, въ просторѣчіи, кратко «Иванъ», была все равно, что пунктъ водораздѣла, откуда «богомулъ» принимаетъ наклонное направленіе, «лп/.мо Ивана».
Къ «Ивану» заходить было не принято, потому что Иванъ самъ по себѣ ничѣмъ не блестѣлъ, хотя и отворялъ радушно свои двери съ самыхъ сш-таранокъ. Ио нужда, изощряющая таланты сдѣлала умт Котина столь острымъ, что онъ изъ этого мимоходнаго положенія своего храма извлекалъ сугубую выгоду. Онъ сидѣль здѣсь на водораздѣлѣ теченія и «перелавливалъ богомуловъ», такъ что они не могли попадать къ святынямъ Десятинной и Подола, пока Котинъ ихъ «трохи не вытруситъ». Дѣлалъ онъ это съ превеликою простотою, тактомъ и съ такою отвагою, которою даже самъ хвалился:
— Тиі бргомулы, що у лавру до святыхъ поприходпли.— говорилъ онъ: — тихъ я до себе затягти не можу, не про те, що мій храмъ такій малешенькій, а про те, що лавра на такімъ пути, що іі скрізь видно. Одъ нихъ гже нехай лаврикові торгу к-тъ. А що до подольскихъ, або до Десятин-ного, то сіи вже нехап собі пальци поссуть, якъ я имъ дамъ що уторгувати и необібранкхъ богомулівъ спущу пмъ.
Онъ «обиралъ» богомуловъ вотъ какимъ образомъ: имѣя подлѣ себя «карнавку», Котинъ, ч\ть завидитъ или заслышитъ двигающихся тяжелыми ногами «богомуловъ», начиналъ «трясти грошъ» въ ящичкѣ и приговаривать:
— Богомутп! богомулп! Куды де вы? Жертвуйте, жертвуйте до церковці Ивана Золотоустого!
II чу ть мужички пріостанавливались, чтобы достать и положить по грошу, Котинъ вдругъ опутывалъ пхъ ласкою. То онъ спрашивалъ: «звіткиля се вы?», то «якъ у васъ сей годъ житечко зародило?», то предложитъ иному «ужить табаки», т. е. понюхать изъ его тавлинки, а затѣмъ и прямо звалъ въ церковь.
— Пдить-же, пдпть до храму святого... усходьте... я вамъ одну таку святыньку покажу, що ніде іі не побачпте.
Мужички просились:
— Мы, выбачайте. на Подолъ йдемо, та до князя Владиміра.
Но Котинъ уже не выпускалъ «богомула».
— Ну, та що тамъ таке у святого Владиміра?—начиналъ онъ съ неодолимою смѣлостію ученаго критика.—Бѵгъ зна, чп що тамъ есть, чи чого нема. Вінъ собі бувъ ничего, добрый князь; але, якъ усі чоловікп, мавт жінку, да ще не единую. Захлдьте до мене, я вамъ свячену штучку покажу, що святивъ той митрополитъ Евгеній, що підъ софійскимъ підъ поломъ лежитъ... Евгеній, то, бачпте, бувъ еній (Котинъ почему-то не говорилъ геніи).
А. во время такого убѣдительнаго разговора онъ уже волокъ мужика или бабу, которая ему казалась вліятельнѣе прочихъ въ группѣ, за руку и вводилъ всѣхъ въ церковь п подводилъ ихъ къ столу, гдѣ опять была другая чаша съ водой, крестъ, кропило п блюдо, а самъ шелъ въ алтарь и выносилъ оттуда старенькій парчевый воздухъ и начиналъ всѣхъ обильно кроппть водою и отирать этимъ перепачканнымъ воздухомъ, приговаривая:
-— Боже благослови, Боже благослови!.. Умыхся еси, отерся есп.. Вотъ такъ: умыхся и отерся... II сей умыхся... Якъ тебя звать?
«Богомулъ» отвѣчаегъ: «Петро» или «Мпхалъ».
— Ну, вотъ и добре, — п Петро умыхся, отерся... То нашъ еній Евгеній сей возіухъ святивъ... цілуйте его, хри-стіяне, собі на здоровье... души во спасеніе... во очищеніе очесъ... костей укріпіеніе...
11 потомъ вдругъ приглашалъ прилечь отдохнуіь на травкъ около церкьп. плп же идти «впростъ—до батюшки, до господы», т. е. на дворъ къ отцу Евфпму, который былъ тутъ же рядомъ.
Котину почти ежедневно удавалось заманить нѣсколькихъ «богомуловъ» на батюшкинъ дворъ, гдЬ имъ давали огурцовъ, квасу и хлѣба п мѣсто подъ сараемъ, а они «жертвовали» кто чтб можетъ.
Выходило это такъ, что и «богомуламъ» было безобидно, и «дома» хозяину выгодно. Каждый день былъ «свѣжій грошъ», а на другое утро «богомулы шли опустошенк», п Котинъ пхъ самъ напутствовалъ:
-— Пдігь теперички, христіане, кудп собі хочете, — хоть и до святого Владиміра.
Перехожая пошлина съ нихъ у Ивана была уже взята.
Таковъ былъ простодушный, но усердный печальникъ о семьѣ безпечальнаго отца Евфима въ первое время; но, по
і I
томъ, когда Евфима перевели на мѣсто усопшаго брата его Петра, въ Тропцкую церковь, его начали знать болѣе видные люди п стали доброхотствовать его семьѣ, о которой самъ Евфимъ всегда заботился мало.
— Нашъ батюшка,—говорилъ Котпнъ:—завждп въ рос-ході, бо ёго люди дуже люблять.
Это была п правда. Ни семейная радость, ни горе не обходилась безъ «Юхвима». Ему давали <за руки» спорныя деньги, его выбирали душеприказчикомъ, и онъ всѣ чужія дѣла исполнялъ превосходно. Но о своихъ не заботился нимало и довелъ это до того, что «самъ себя пз-шішилъ».
Вотъ событіе, которымъ онъ одно время удивилъ Кіевъ и далъ многимъ хорошій поводъ оклеветать его за добро самыми черными клеветами.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Былъ въ Кіевѣ уѣздный казначей Осипъ Семеновичъ Ту—скій. котораго привезъ съ собою пзъ Житомира предсѣдатель казенной палаты Ключаревъ. Мы этого чиновника знали мало, а отецъ Евфимъ насколько. Вдругъ при одной повѣркѣ казначейства новымъ предсѣдателемъ Кобылинымъ оказался прочетъ въ казенныхъ суммахъ, кажется, около 20,000 рублей, а можетъ быть и нѣсколько меньше. Казначей былъ извѣстенъ своею честностью и аккуратностію. Какъ образовался этотъ прочетъ,—я думаю, никто навѣрно не знаетъ, потому что дѣло было замято; не ранѣе того семьѣ казначея угрожала погпбель. Объ этомъ много говорили и очень сожалѣли маленькихъ дѣтей казначея.
Дошло это дѣло до Евфима и ужасно его тронуло. Онъ задумался, потомъ вдругъ заплакалъ и воскликнулъ:
— Тутъ надо помочь!
— Какъ же помочь? надо заплатить деньги.
— Да, конечно, надо заплатить.
— А кто ихъ заплатитъ?
— А вогь попробуемъ.
Отецъ Евфпмъ велѣлъ «запрячь игумена» (такъ называлъ онъ своего караго коня, купленнаго у какого-то игумена) п поѣхалъ къ Кобылину съ просьбою подержать дѣло въ секретѣ, два-три дня. пока онъ «попробуетъ»
Предсѣдателю такое предложеніе, разумѣется, было во
всѣхъ отношеніяхъ выгодно, и онъ согласился ожидать, а Евфимъ пошелъ гонять своего «игумена». Объѣздилъ онъ всѣхъ друзей и пріятелей и у всѣхъ, у кого только могъ, просилъ пособить — «спасти семейство». Собралъ онъ не мало, помнится, будто тысячъ около четырехъ, что-то далъ и Кобылинъ; но недоставало все-такп много. Не помню теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, кажется, тысячъ двѣнадцать, или даже болѣе.
У насъ были совѣты и рѣшено было «собранное сберечь для семьи», а казначея предоставить ого участп. Но предобрѣйшему Евфпму это не нравилось.
— Чтб тамъ за участь дѣтямъ безъ отца!—проговоритъ онъ, и на другой же день взнесъ всѣ деньги, сколько ихъ слѣдовало.
Откуда же онъ ихъ взялъ?
Онъ разорилъ свое собственное семеиство: онъ заложилъ домъ свой и домъ тещи своей, вдовы протоіерея Лободов-скаго, надавалъ векселей и сколотить сумму, чтобы выручить человѣка, котораго, опять повторяю, онъ не зналъ, а узналъ только о постигшемъ его бѣдствіи..
Разсудительнымъ или безразсуднымъ кому покажется этотъ поступокъ, но во всякомъ случаѣ онъ столь великодушенъ, что о немт стоитъ вспомнить, и если слова епископа Филарета справедливы, что дѣти Ботвиновскаго призрѣны, то понево.іѣ приходится повторить съ псалмопѣвцемъ: «не видѣхъ праведника оставлена, ниже сѣмени его просяща хлѣба».
Другого такого поступка, совершеннаго съ полнѣйшею простотою сверхъ ситъ и по одному порыву великодушія, я не вида іъ ни отъ кого, и когда при мнѣ говорятъ о пресловутой «поповской жадности», я всегда вспоминаю, что самый, до безразсудности, безкорыстный человѣкъ, какого я видѣлъ,—это былъ НОНЪ.
Поступокъ Евфима не только не былъ оцѣненъ, но даже былъ осмѣянъ и послужилъ поводомъ къ разнообразнымъ клеветамъ, имѣвшимъ дурное вліяніе на его расположеніе и положеніе.
Съ этихъ поръ онъ началъ снова захудЬвать, и все въ его дѣлахъ пошло въ разстройство: домъ его былъ проданъ, долгъ тещѣ ого тяготилъ и мучилъ; онъ переѣхалъ къ своей, перенесенной на Новое Строеше, Троицкой церкви и, вдо
бавокъ, овдовѣлъ, а во вдовствѣ такой человѣкъ, гакъ Евфим... былъ совершенно невозможенъ.
Жена его была прекрасная и даже очень миленькая женщина, веселаго и добраго нрава, терпѣливая, прощающая п тоже беззаботная. Лучшей пары о. Езфпму п на заказъ нельзя было подобрать, но когда въ дѣлахъ ихъ пошелъ упадокъ и она стала прихварывать, ей стало сяучно, что мужа никогда почти не было дома. Она умерла какъ-то особенно тихо п грустно, и это обстоятельство вызвало въ о. Евфпмѣ еще одинъ необыкновенный порывъ въ свойственномъ ему малоразсудительномъ, но весьма оригинальномъ родѣ. Мало удосуживаясь видѣть жену свою при ея жизни, онъ не могъ разстаться съ нею съ мертвою, и это побудило его рѣшиться на одинъ крайне рискованный поступокъ, еще разъ говорящій о его причудливой натурѣ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
Троицкая церковь, къ которой перешелъ о. Евфимъ послѣ смерти своего брата, находилась въ Старомъ Кіевѣ, противъ зданія присутственныхъ мѣстъ, гдѣ нынѣ начинается скверъ отъ стороны софійскаго собора. Церковь эта была маленькая, деревянная и, вдобавокъ, ветхая, какъ и церковь Іоанна Златоуста, находившаяся по другую сторону присутственныхъ мѣстъ, и съ постройкою этихъ послѣднихъ ее рѣшено было перенести на Новое Строеніе, гдѣ, конечно, надо было строить церковь вновь, сохранивши названіе прежней. О. Евфимъ самъ распоряжался постройкою церкви и осуществилъ при этомъ нѣкоторыя свои фантазіи. Такъ, напримѣръ, въ бытность его въ Петербургѣ, онъ мнЬ разсказывалъ, что устроилъ гдѣ-то въ боковой части алтаря маленькую «комору подъ землею»,—чтобы тамъ лѣтомъ, въ жары, хороши было отъ мухъ отдыхать.
Я не видѣлъ этой «коморы» и не знаю, какъ она была устроена, но знаю несомнѣнно, что она есть и что въ ней скрывается теперь ни для кого уже непроницаемая тайна.
— Гдѣ схоронена покойная Етена Семеновна?—спросилъ я о. Евфима, разсказывавшаго мнѣ тяжесть своего вдоваго положенія.
— Ау меня подъ церковью.—отвѣчаіъ онъ.
Я удивился.
-— Какъ, говорю,— подъ церковью? Какъ же вы это могли выхлопотать? Кто вамъ разрѣшилъ?
— Ну, вотъ, говоритъ,—«разрѣшилъ»! Чтб я за дуракъ, чтобы сталъ объ этомъ кого-нибудь спрашивать? Разумѣется, никто бы мнѣ этого не разрѣшилъ. А я такъ, чтобы она, моя гол}бонька, со мною не разставались,—я самъ ее закопалъ надъ поломъ въ коморѣ, и хожу туда и плачу надъ нею.
Это мнѣ казалось невѣроятнымъ, и я безъ ( тѣсненія сказалъ о. Евфиму, что ему не вѣрю, но онъ забожплся и разсказалъ исторію погребенія покойницы подъ церковью въ подробностяхъ и съ такою обстоятельностью, что основаніе къ недовѣрію исчезло.
По словамъ о. Евфима, какъ только Елена Семрновна скончалась, онъ и два преданные ему друга (а у него ихъ было много) разобрали въ нижней «коморѣ» полъ п сейчасъ же стали своими руками копать могилу. Къ отпѣванію покойной въ церкви— могила была готова. Прпі отселялась ли тоже, какъ слѣдовало, могила на кладбищѣ,—я не спросилъ. Затѣмъ покойную отпѣли въ большомъ собраньи духовенства и, кажется, въ предстояніи покойнаго Филарета Филаретова, который тогда былъ еще архимандритомъ и ректоромъ кіевской академіи. По отпѣваніи и запечатлѣніи гроба, выносъ былъ отложенъ до завтра, будто за неготовностью могильнаго склепа. Затѣмъ, когда отпѣвавшее духовенство удалялось, о. Евфпмъ съ преданными ему двумя друзьями (которыхъ онъ называлъ) пришли ночью въ церковь и похоронили покойницу въ моіалѣ, выкопанной въ коморіь подъ алтаремъ. (Одинъ изъ друзей-гробокопателей былъ знаменитый въ свое время въ Кіевѣ уголовный слѣдователь, чиновникъ особыхъ порученій генералъ-губернатора Андрей Ивановичъ Друкартъ, впослѣдствіи вице-губернаторъ въ Сѣдлецѣ, гдѣ п скончался. Потомъ полъ опять застлали и слѣдъ погребенія исчезъ навсегда, «до радостнаго утра» *).
Покойный епископъ Филаретъ Филаретовъ, кажется, зналъ
*) Собранныя мною по поводу предложеннаго разсказа свѣдѣнія подтвердили вполнѣ его достовѣрноегь: никто изъ людей, знавшихъ супруговъ Ботвиповсьихъ. не помнитъ факта провода на кладбище тѣла умершей жены о. Евфима, а помнятъ только фактъ совершеннаго надъ нею торжественнаго отпѣванія и предложенной затѣмъ изобильной поминальной трапезы.
объ этомъ. По крайней мѣрѣ, когда я его спрашивалъ: «гд, погребена Елена Семеновна?»—онъ, улыбаясь, махалъ рукою и отвѣчалъ:
— Богъ его знаегъ, гдѣ онъ ее похоронилъ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
Какъ же относились къ такому священнику люди?
Моралисты п фарисеи его порицали, но простецы и «мытари» любили «предобраго Евфима» и, какъ писалъ мнѣ преосвященный Филаретъ, «провожали его съ большимъ плачемъ».
Не каждаго такъ проводятъ даже и изъ тѣхъ, кои «посягай всѣ книги кожаны» и соблюли всѣ посты и «субботы».
II какъ было не плакать о такомъ простякѣ, который являть собою жпвое воплощеніе добра! Конечно, онъ не то, что пасторъ Оберлинъ; но онъ нашъ, простой русскій попъ, человѣкъ, можетъ-быть, 7и безалаберный, п грѣшный, но всепрощающій п безкорыстнѣйшія. А много ли такихъ добрыхъ людей на свѣтѣ?
А что думаю о немъ начальство?
Кажется, неодинаково. О. Евфимъ служилъ при трехъ митрополитахъ. Митрополитъ Вендоръ Никольскій былъ мало въ Кіевѣ и едва ли успѣть кого узнать. Преемникъ его Арсеніи Москвинъ не бтаговолигь къ Ботвпновскому, но покойный добрѣйшій старикъ Филаретъ Амфитеатровъ его очень любилъ п жалѣлъ и на всѣ навѣты о Бствинов-скомь говоритъ:
— Все, чай, пустяки... Онъ добрый.
Разъ, однако, и онь призывалъ Евфима по какой-то жалобѣ или какому-то слуху, о существѣ коего, впрочемъ, на митрополичьемъ разбирательствѣ ничего обстоятельно не выяснилось.
О разбирательствѣ этомъ разсказывали слѣдующее: когда Филарегу наговорити я го-то особенное объ излишней «свѣтскости» Богвиновскаго, митрополитъ произвелъ такси судъ:
— Ты Битвиневской?—спросилъ онъ обвиняемаго.
— Ботвиновск/й,—отвѣчалъ о. Евфимъ.
— Что-о-о?
Я Батвияовскш.
Влідыка сердито стукнѵлъ по столу ладонью и крикн'.лъ: — Врешь!.. Батвиневской!
Сочиненія Н. С. .Пскова. Т. XXXI. 0
Евфимъ молчалъ.
— Что-о-о?— спросилъ владыка. — Чего молчишь? повинись!
Тотъ подумалъ, въ чемъ ему повиниться? и благопокорно произнесъ:
— Я Блтвпнсвской.
Митрополитъ успокоился, съ добраго лица его радостно исчезла непривычная тѣнь напускной строгости, и онъ протянулъ своимъ беззвучнымъ баскомъ:
— То-то п есть... Бдтішнсвской!.. II хорошо, что повинился!.. Теперь иди къ своему мѣсту.
А «прогнавъ» такимъ образомъ Ботвишъскаго», онъ говорилъ намѣстнику лавры (тогда еще благочинному) о. Варлааму:
-— Добрый мужпченко этотъ Батвпневской.—очень добрый... II повинился... Скверно только, зачѣмъ онъ трубку изъ длиннаго чубука палитъ?
Инокъ отвѣчалъ, что онъ этого не знаетъ, а добрый владыка разворковался:
— Это, смотри, его протопопъ Крамаревъ обучилъ... Университетскій! Скажи ему, чтобы онъ университетскаго наученья не смущалъ, чтобы изъ длиннаго чубука не курилъ.
Очевидно, что вь доносѣ было что-то о куреніи. Отецъ Евфимъ и въ этомъ исправился,—онъ сталъ курить папиросы.
Къ сему развѣ остается добавить, что Ботвиновсі.ій былъ очень видный собою мужчина и, по мнѣнію знатоковъ, въ молодости превосходно танцовалъ мазурку, и... искусства этого никогда не оставлялъ, но послѣ нѣкоторыхъ случайностей танцовалъ «только на именинахъ» у прихожанъ, особенно его уважавшихъ.
Мнѣ думается, что такой непосредственный человѣкъ непремѣнно долженъ имѣть мѣсто среди кіевскихъ аптиковъ, и даже, можетъ-быть, воспоминаніе о немъ окажется самымъ симпатичнымъ - для кіевлянъ, между коими, вѣроятно, еще не мало тѣхъ, что «шли плача за его гробомъ».
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.
О кивскихъ боіатыряхъ я знаю мало. Видоизмѣняясь отъ облика Ильи и Чурилы до фигуры Осгапа Бульбы, къ
моему времени въ Кіевѣ они являлись бъ липахъ того же приснопамятнаго Аскоченскаго, студента Кол — ова и торговаго человѣка (приказчика к^пца Козловскаго) Ивана Филипповича Касселя (чистаго, безпримѣснаго хохла, наказаннаго за какой-то родительскій грѣхъ иноземною кличкою/
О силѣ Аскоченскаго говорили много, приводя примѣры, что будто ее иногда поневолѣ принимали въ соображеніе бывшій въ его время ректоромъ «русскій Златоустъ» Иннокентій Борисовъ и инспекторъ Іеремія. Достовѣрнаго въ этомъ кажется то, что когда инспекторъ отобралъ разъ у студентовъ чубуки п снесъ ихъ къ Иннокентію, то Аскоченскій, съ его «непобѣдимою дерзостію», явился кь Иннокентію «требовать свою собственностью. А когда Иннокентій назвалъ это нахальствомъ и приказалъ наглецу «выйтп вонъ», то Аскоченскій взялъ «весь пукъ чубуковъ» и сразу всѣ ихъ переломи іъ на колѣнѣ.
Все остальное, что касается его легентарной си.іы, выражалось въ такомъ ролѣ: онъ все «ломалъ >. Болѣе всего онъ ломаль, или, лучше сказать, гнутъ за столами металлическіе ножи, ложки, вилки, а иногда подсвѣчники. Дѣлалъ онъ это всегда сюрпризомъ для хозяевъ, но не всегда къ ихъ большому УДОВОЛЬСТВІЮ.
О «непобѣдимыхъ его дерзостяхъ» разсказывалось тоже много, но надъ всѣмъ предоминпровало сообщеніе о «стычкѣ его съ профессоромъ Серафимомъ» на лекціи церковной исторіи.
Дѣло было такъ, что профессоръ послѣ безпристрастнаго изложенія фактовъ, пришелъ научнымъ путемъ къ досто-вѣрномѵ выводу, который изложить въ слѣдующихъ словахъ:
— Итакъ, мы ясно видѣли, что мать наша, святая православная церковь въ Россіи, принявъ богоучрежденныя постановленія отъ апостоловъ, нынѣ управляется самимъ Дуломъ святымъ.
— Въ генеральскомъ мундирѣ!—отозвался съ своей парты Аскоченскій.
Профессоръ смутился и, какъ бы желая затушевать неумѣстное вмѣшательство студента, повторилъ:
— Самимъ Духомъ святымъ.
Но Аскоченскій снова не вьцержалъ и еще громче про-и шесъ:
— Да, въ генеральскомъ мундирѣ!
— Чтб іы подъ симъ разумѣешь?—спросилъ рго Серафимъ.
— Не юно, а нѣчто,—отвѣчалъ Аскоченскій, и пояснилъ, что онъ разумѣетъ военнаго оберъ-прокурора синода Н. Ал. Протасова.
Серафимъ пошелъ жаловаться къ Иннокентію, но тотъ какъ-то спустилъ это мягко.
Послѣдній фактъ «непобѣдимой дерзости» Аскоченскаго былъ не въ его пользу. Это случилось тогда, когда въ одно время сошлись на службѣ въ Каменцѣ Аскоченскій, занимавшій тамъ мѣсто совѣстнаго судьи, и бывшій его начальникъ по воронежской семинаріи Елшідифоръ, на эту пору архіепископъ подольскій.
Ап. Елшідифоръ былъ изрядно нетерпѣливъ и вспыльчивъ. но въ свою очередь онъ знаіъ продерзостную натѵрѵ Аскоченскаго, когда тотъ учился въ воронежской семинаріи. Однажды Iлпидифоръ служилъ обѣдню въ соборѣ, а Аскоченскій стоялъ въ алтарѣ (любимое дѣло ханжей, позволяющихъ себѣ нарушать церковное правило и стѣснять собою служащее духовенство).
Во время литургіи какой-то діаконъ пли иподіаконъ что-то напуталъ, и вспыльчивый владыка сказалъ ему за это «дурака».
Тѣмъ дѣло и кончилось бы, но послѣ обѣдни у епископа былъ пирогъ и къ пирогу явился Аскоченскій, а во время одной паузы онъ ядовито предложилъ такой вопросъ:
— Владыка святый! чтб долженъ пѣгь клиръ, когда архіерей возглашаетъ «дуракъ»?
— «Совѣстный судья»,—отвѣчалъ спокойно епископъ.
— А я думалъ: «и духови твоему»,—отвѣчалъ «непобѣдимый въ дерзости» Аскоченскій, но вскорѣ потерялъ мѣсто совѣстнаго судьи и навсегда лишился службы.
Другой богатырь Кѵл—овъ дѣйствительно обладалъ силою феноменальною и ночами ходилъ «переворачивать камни у Владиміра». Пдеаль его быль «снять крѣпостныя ворота и отнести ихъ-на себѣ на Лысую гору», которой тогда еще не угрожали переходъ въ собственность извѣстнаго въ Россіи рода бояръ Анненковыхъ. Тогда тамъ слетались простыя кіевскія вѣдьмы. Но воротъ Кол—овъ не снялъ, а погибъ инымь образомъ.
Третій, самый веселый богатырь моего времени былъ Иванъ Филипповичъ Кассель, имѣющій даже двойную пзвѣст-
ность въ русской арміи. Во-первыхъ, торгуя военными вещами, онъ обмундировалъ чуть ли не всѣхъ офицеровъ, переходившихъ въ Крымъ черезъ Кіевъ, а. во-вторыхъ, онъ положилъ конецъ большой войнѣ, не значащейся ни въ какихъ хроникахъ, но, тѣмь не менѣе. продолжительной и упорной.
Не знаю, съ какого именно ітовпді въ Кіевѣ установилась вражда не вражда. а традиціонное преданіе о необходимости боевыхъ отношеніи между студентами и вообще статскою молодежью съ одной оторопи и юнкерами съ другой. Особенно считалось необходимымъ «бить саперовъ», т. е. юнкеровъ сапернаго училища. Шло это съ замѣчательнымъ постоянствомъ и заманчивостью, которая увлекала даже такихъ умныхъ и прекрасныхъ людей, какъ Андрей Ивановичъ Друкартъ, бывшій въ то время уже чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ Фундлклеѣ.
Съ утра, бывало, сговариваются приходить въ трактиръ къ Кругу пли къ Бурхарду, гдѣ поджидались саперные юнкера, и тамъ «ихъ вить».
Ни за что, ни про что. а такъ просто «бить».
Но иногда для этого выѣзжали на дубу, иди пѣшкомъ отправлялись «за мостъ» къ Рязанову, или на Подолъ, къ Каткову, и тамъ «бились».
Порою съ обѣихъ сторонъ были жертвы, то-есть не убитые, но довольно сильно побитые, а война все упорствовала, не уставала и грозила быть такою же хроническою, какъ война кавказская. Но случилось, что въ одной стычкѣ юнкеровъ (сдѣлавшихъ вылазку изъ урочища Кожемяки) съ статскою партіею (спускавшеюся отъ церкви св. Андрея) находился Кассель. Будучи призванъ къ участію въ битвѣ, Иванъ Филиппинъ одинъ положилъ на землю всѣхъ непріятелей, а потомъ заодно и всѣхъ своихъ союзниковъ. Въ пылу битвы онъ не могъ успокоиться, пока не увидалъ вокругъ себя ві-ѣ.съ «полегшими». Это было такъ не по-сердцу для обѣихъ воюющихъ сторонъ, «то съ этимъ разомъ битвы прекратились.
Богатырей, прославленныхъ силою, болѣе уже не было. Эти, кажется, были послѣдніе.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ.
О кладахъ мнѣ только извѣстно въ смыслѣ литературномъ. Гдѣ-то и у кого-то въ Кіевѣ долженъ храниться одинъ
очень драгоцѣнный и интересный литературный кладъ, — это одно дѣйствительно мѣткое и устроумное сочиненіе В. И. Аскоченскаго, написанное въ формѣ рѣчи, произносимой кандидатомъ епископства прч нареченіи его въ архіереи. Рѣчь новонарекаемаго епископа, сочиненная Аскоченскимъ, не только нимало не похожа на тѣ рѣчи, какія обыкновенно при этихъ важныхъ случаяхъ произносятся, но она имъ діаметрально противоположна по направленію и духу, хотя сводится къ тѣмъ же результатамъ. Въ заправдашнихъ рѣчахъ кандидаты обыкновенно говорятъ о своихъ слабостяхъ и недостоинствахъ,—вообще сильно отпрашиваются отъ епископства, боясь, что не пронесутъ обязанностей этого сана, какъ слѣдуетъ. Потомъ едва только ьъ концу, и то лишь полагаясь на всемогущую благодать Божію и на воспособляющую силу молитвъ предсѣдящихъ святителей, они «пріемлятъ и нй что же вопреки глаголятъ». Но рѣчь Аскоченскаго идетъ изъ иного настроенія: его кан-дщатъ епископства, человѣкъ смѣлаго ума и откровенной прямой натуры, напоминаетъ «Племянника г-на Рамо». Онъ смотритъ на жизнь весело и не видитъ никакой надобности возводить на себя самообвиненія въ тяжкихъ недостоинствахъ. Напротивъ, нарекаемый епископъ Аскоченскаго признается, что санъ епископскій ему издавна весьма нравится и очень ему пріятенъ. Онъ разсказываетъ даже, какія мѣры и усилія онъ употребилъ для достиженія своей цѣли—быть епископомъ. Потомъ говоритъ и о своихъ «недостоинствахъ», но опять по-своему: онъ не ограничивается общимъ поверхностнымъ упоминаніемъ, что у него есть «недостоинства», а откровенно припоминаетъ ихъ, какъ добрый христіанинъ добраго времени, стоящій на открытой, всенародной исповѣди. Кандидатъ доводитъ свою откровенность до того, что «недостоинства» его въ самомъ дѣлѣ какъ-будто заставляютъ опасаться за его годность къ епископскому суженію и за него становится и страшно, и больно... Но вдругъ живая душа исповѣдника дѣлаетъ быстрый взмахъ надъ міромъ и зритъ оттуда съ высотъ, что и другіе, пріявшіе уже яремъ епископства, были не только не достойнѣе его, но даже и послѣ таковыми же остались. А онъ клянется, что когда ему на епископствѣ станетъ жить хорошо, то онъ, какъ умный человѣкъ, ни за что не станетъ искать никакихъ пустяковъ, не имѣющихъ прямой
цѣны для счастія, п «потому пріемлетъ п ші что же вопреки глаголетъ».
Аскоченскій мнѣ самъ читалъ эту рѣчь, замѣчательную какъ въ литературномъ, такъ и въ историческомъ отношеніи, и читалъ онъ ее многимъ другимъ, пока объ этомъ но узналъ покойный митрополитъ московскій Иннокентій Веніаминовъ. Онъ запретилъ Аскоченскому читать эту рѣчь и давать ее списывать, а Викторъ Ипатьичъ, часто прибѣгая къ Иннокентію по дѣламъ своего изнемогавшаго изданія и другимъ личнымъ нуждамъ, далъ слово митрополиту запретъ этотъ исполнить. Въ «Дневникѣ» Аскоченскаго, который я. по редакціонной обязанности, весь прочелъ прежде пріобрѣтенія его редакціею «Историческаго Вѣстника», нѣтъ этой рѣчи. Это тЬмъ болѣе удивительно, что въ «Дневникѣ» записано множество выходокъ, гораздо менѣе удачныхъ, и литературныхъ шалостей, несравненно болЬе непристойныхъ и дерзкихъ по отношенію къ предстоятелямъ церкви. Можетъ-быть, Аскоченскій вырвалъ эти листы, въ угоду митрополиту, который, по словамъ Виктора Ипатьича, «просто позволилъ ему обыскивать свой бумажникъ». Во всякомъ случаѣ этотъ литературный кіевскій кладъ *) очень
*) Указываютъ еще другой кладъ, оставленный В. II. Аскоченскимъ въ Кіевѣ п находящійся, вѣроятно, п теперь у кого-лпбо изъ его кіевскихъ знакомыхъ. Аго обширное его изслѣдованіе о тогдашнемъ состояніи русскихъ университетовъ, озаглавленное такъ: <Наши университеты». Ѳ. Г. Лебединцевъ читалъ эту толстую, листовъ въ 70. рукопись. написапную въ 1854 илп 1855 г. Въ ней Аскоченскій съ безпощадною рѣзкостію осуждаетъ весь строй университетскій и раскрываетъ недуги профессоровъ банковскаго направленія. Рукопись наполнена массою самыхъ неприглядныхъ фактовъ, обличавшихъ пустоту университетскихъ чтеніи, грошовое лпберальнпчество профессоровъ и поврежденность нравовъ студентовъ и пр.. п пр. Рукопись шибко ходила по рукамъ и произвела въ ученомъ и административномъ мірѣ бурю, кончившуюся тѣмъ, что безшабашнаго автора, какъ не служащаго дворянина, посадили на двѣ недѣли на гауптвахту при кіевскомъ ордонансъ-гаузѣ.
Разсказывали въ ту пору, что когда Аскоченскій былъ «приличнымъ образомъ» доставленъ къ тогдашнему кіевскому генералъ-губернатору кн. Васильчикову, послѣдній далъ Аскоченскому прочесть ту статью изъ Свода Законовъ, которая грозила ему чѣмъ-то въ родѣ высылки «въ мѣста отдаленныя). Аскоченскій нимало не сробѣлъ: онъ прочелъ статью, положилъ книгу и улыбнулся.
Васъ, стало, ото забавляетъ? спросилъ его добродушный князь Васильчиковъ
интересенъ, какъ идя характеристики самого Аскоченскаго, такъ и въ смыслѣ опредѣленія прозсрлпвости тѣхъ, которые чаяли видѣть въ Викторѣ ІІиатьевичѣ запіигнпка падающаго авторитета своего сана, съ дозволеніемъ иногда «обыскивать ихъ бумажники».
ГЛАВА сорокъ первая.
Затѣмъ еще «послѣднее сказаніе»,—тоже касающееся кіевскихъ преданій и литературы.
Когда въ «Русскомъ Вѣстникѣ» М. Н. Каткова былъ напечатанъ мой разсказъ «Запечатлѣнный Ангелъ», то въ нѣкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ, при снисходительныхъ похвалахъ моему маленькому литературному произведенію, было сказано, что «въ немъ передано событіе, случившееся при постройкѣ кіевскаго моста» (разумѣется, стараго). Въ разсказѣ идетъ дѣло объ иконѣ, которую чиновники «запечатлѣли» и отобрали въ монастырь, а старовѣры, которымъ та икона принадлежала, подмѣнили ее копіею во время служенія пасхальной заутреня. Для этого одинъ изъ старовѣровъ прошелъ съ одною борта рѣки на другой мри бурномъ .ледоходѣ но цѣпямъ.
Всѣмъ показалось, что мною въ этомъ разсказѣ описана кіевская мѣстность и «событіе, случившееся тоже въ Кіевѣ». Такъ это и остается до сей поры.
Позволю себѣ нынѣ замѣтить, что первое совершенно справедливо, а второе—пѣтъ. Мѣстность въ «Запечатлѣнномъ Ангелѣ», какъ и во многихъ иныхъ моихъ разсказахъ, дѣйствительно, похожа на Кіевъ,—что объясняется моими привычками і.ъ кіевскимъ картинамъ, но такою происшествія, какое передано въ разсказѣ, въ Кіевѣ никогда не происходило, т. е. никакой иконы старовѣръ не кралъ и по цѣпямъ черезъ Днѣпръ не переносилъ. А было, дѣйствительно, только
Аскоченскій пожалъ плечами и отвѣтилъ:
— Не думаю, чтобы кого-нибудь забавляла возможность прогуляться въ Сибирь. Мнѣ смѣшно другое.
Васильчиковъ не продолжалъ разговора и послалъ его подъ арестъ.
Въ этой запискѣ, по словамъ Лебединцсва, было много очень умнаго, дѣльнаго и справедливаго, такъ что автору было за что посидѣть подъ арестомъ.
Но гдѣ эти два едва ли не самыя лучшія произведенія ума и пера Аскоченскаго? Неужто онп пропали!
слѣдующее: однажды, когда цѣпи были уже натянуты, одинъ калужскій каменщикъ, по уполномочію отъ товарищей, сходилъ во время пасхальной заутрени съ кіевскаго берега на черниговскій по цѣпямъ, но не за пконою, а м водкою. которая на той сторонѣ Днѣпра продавалась тогда много дешевле. Наливъ боченокъ водкп. отважный ходокъ повысилъ его себѣ на шею п, имѣя въ рукахъ шрстъ, который служилъ ему балансомъ, благополучно возвратился на кіевскій берегъ съ своею корчемною ношею, которая и была здѣсь распита во славу св. Пасхи.
Отважный переходъ по пішямъ, дѣйствительно, послужилъ мнѣ темою для изображенія отчаянной русской удалп. но цѣлъ дѣйствія п вообще вся исторія «Запечатлѣннаго Ангела», конечно, иная, и она мною просто вымышлена.
20 декабря 1882 г.
С.-Петербургъ.
ЧОРТОВЫ КУКЛЫ.
ГЛАВЫ ИЗЪ НЕОКОНЧЕННАГО РОМАНА.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ началѣ истекающаго девятнадцатаго столѣтія въ одной семьѣ германскаго происхожденія родпіся мальчикъ необыкновенной красоты. Онъ былъ такъ хорошъ, что въ семьѣ его не звали его крестнымъ именемъ, а называли его Фебо-фисъ или Фебуфисъ, т. е. сынъ Феба. Это имя такъ ему пристало, что онъ удержалъ его за собою въ школѣ, а потомъ оно осталось при немъ во всю его жизнь. Съ возрастомъ оказалось, что при тѣлесной красотѣ ребенокъ былъ осчастливленъ замѣчательными способностями: онъ прекрасно учился наукамъ и рано обнаружилъ даръ и - страсть къ живописи.
Отецъ Фвбуфиса занимался крупными торговыми операціями и имѣлъ обезпеченное состояніе. Ояъ хотѣлъ, чтобы сынъ шелъ по его же дорогѣ, и потому не вылъ обрадованъ его художественными наклонностями, но мать ребенка, женшина очень чувствительная и поэтическая, не любила прозаическихъ, торговыхъ занятій мужа и настояла, чтобы Фебуфисъ получилъ возможность слѣдовать своимъ художественнымъ влеченіямъ.
Мать питала несомнѣнную увѣренность, что сына ея ожидаетъ слава, и она отчасти не ошиблась.
Отецъ уступилъ желаніямъ сына, поддерживаемымъ настойчивостью матери, и Фебуфисъ поступилъ въ высшую художественную школу, сначала въ томъ городѣ, гдѣ жили
его родители, а потомъ перешелъ для усовершенствованія въ Римъ, гдѣ на него вскорѣ же стали указывать, какъ на самаго замѣчательнаго изъ современныхъ живописцевъ.
Съ теченіемъ времени на него обращали внимав ія больше и больше, и онъ вскорѣ сталъ пользовагься такою извѣстностью, которая уже дово.іьно близко граничила со славою. Были основанія вѣрить, что невдалекѣ его ожидаетъ и настоящая слава. Характеръ у него былъ веселый, немножко заносчивый и дерзкій со старшими, но безпечный и общительный въ сношеніяхъ съ сверстниками, между которыми молодой человѣкъ имѣлъ друзей. Особенно дружны были съ нъмъ два молодыхъ живописца, прозванные въ своемъ кружкѣ Пикомъ и Макомъ. Оба эти молодые люди были разныхъ національностей и несходнаго нрава, но находились въ тѣснѣйшей пріязни и никогда почти не разлучались. За то ихъ и прозвали Пикъ и Макъ,—по дѣтской игрѣ: «гдѣ Пикъ, тамъ Макъ,— Пикъ здѣсь—Макъ здѣсь,—Пика нѣтъ и Мака нѣтъ». Макъ былъ крупный брюнетъ съ серьезнымъ, даже нѣсколько суровымъ и задумчивымъ лицомъ, а Пикъ—розовая, бѣлокурая крошка, съ личикомъ изъ тѣхъ, которыхъ зовутъ «овечьею мордочкой». Макъ былъ мыслитель,—его занимали общественные вопросы: онъ скорбѣлъ о человѣческихъ бѣдствіяхъ и задумывался надъ служебными цѣлями искусства, а Пикъ смотрѣлъ на жизнь въ розовыя стекла и отрицалъ въ искусствѣ всѣ постороннія цѣли, кромѣ самой красоты; притомъ Пикъ любилъ и покутить, но только, несмотря на его неразборчивость, онъ почти никогда не имѣлъ удачи, а Макъ былъ само цѣломудріе и обладалъ всѣми шансами на успѣхи, но онъ ихъ не тобивался; Пикъ находилъ почти всѣхъ женщинъ очень милыми, а Макъ смотрѣлъ на всѣхъ равнодушно и все надѣялся когда-нибудь увидѣть одну заповѣдную женщину по своимъ мыслямъ. Она должна была обладать красотою духовной болѣе, чѣмъ тѣлесною,—во всякомъ случаѣ, она непремѣнно должна была имѣть надъ ничъ многія нравственныя превосходства, особенно въ деликатности чувствъ, въ тонкомъ ощущеніи благородства, чести и добра. Она должна была не отдѣлять его отъ міра, какъ любятъ дѣлать многія женщины, а родни гь его съ высшимъ міромъ. Если случалось, что Пику и Маку нравилось одно и то же, то оно непремѣнно нравилось имъ съ разныхъ сторонъ.
Пмъ, напримѣръ, обоимъ нравился Донъ-Жуанъ, и они оба оправдывали байроновскаго героя, но совершенно съ различныхъ сторонъ: Пикъ находилъ, что перемѣнять привязанности очень весело, а Макъ любилъ Жуана за то, что онъ открывалъ во всѣхъ любившихъ его женщинахъ обманъ, п не хотѣлъ довольствоваться фальсификаціею чувства. Несмотря на такое несходство во взглядахъ, ІТихъ и Макъ были, однако, очень дружны: Пикъ уважалъ въ Макѣ его думы п даже заботы о служебнымъ задачахъ искусства, а Макъ любилъ въ Лигѣ искренность, съ какою онъ восхищался каждымъ дарованіемъ, кромѣ своего собственнаго. Оба они жили вмѣстѣ, не богато и не бѣдно, какъ жило въ то время множество людей ихъ среды.
Фебуфиса отыскалъ Пикъ и сказалъ нелюдимому Маку:
—• Пойдемъ, посмотримъ человѣка съ большимъ дарованіемъ.
— Въ чемъ же онъ проявилъ свои дарованія?
— Прекрасно пишетъ.
— Что же онъ пишетъ?—спросилъ Макъ.
— Все.
— Все?.. Это много. Пойдемъ и посмотримъ есе.
— Да, а вотъ ты можешь научить его выбирать лучшее. Они пошли п подружились сразу.
ГЛАВА ВТОРАЯ. *
У Фебуфиса не было недостатка въ фантазіи, онъ прекрасно сочинялъ большія и очень сложныя картины, рисунокъ его отличался правильностью и смѣлостью, а кисть его блистала яркою колоритностью. Ему почти въ одинаковой степени давались сюжеты религіозные и истерическіе, пейзажъ и жанръ, но особенно плѣняли вкусъ и чувство фигуры въ его любовныхъ сценахъ, которыхъ онъ писалъ много и которыя часто заходили у него за предѣлы скромности.
Въ послѣднемъ родѣ онъ позволялъ себѣ большія вольности. но грація его рисунка и живая прелесть колоритнаго письма отнимали у этихъ произведеніи впечатлѣніе скабрезности и на выставкахъ появлялись такіе сюжеты Фебуфиса, какіе отъ художника меньшихъ дарованій ни за что не были бы приняты. Съ другой же стороны, соблазнительная прелесть картинъ этого рода привлекала къ нимъ
вниманіе самой разнообразной публики и находила ему щедрыхъ покупателей, которые не скупились на деньги.
Такимъ образомъ росло его имя, и онъ получалъ такой значительный заработокъ, чго уже не только не требовалъ никакой поддержки отъ родителей, но когда отецъ его умеръ, и дѣла ихъ пошатнулись, то Фебуфисъ уступилъ свою долю отцовскаго наслѣдства брату и сестрѣ и сталъ присылать значительныя суммы нѣжно любимой матери.
Пикъ всему этому шумно радовался, а Макъ серьезно молчалъ или, когда Пикъ очень надоѣдалъ ему свокми восторгами п восклицалъ:
— О, до чего онъ можетъ достичь!
Макъ отвѣчалъ:
•— До всего; я боюсь, что онъ до чего хочешь достигнетъ.
— Нѣтъ, съ кѣмъ его можно сравнить?
— Съ Вань-деръ-Пуфомъ.—отвѣчалъ Макъ.
Ванъ-деръ-Пуфъ было шуточное прозваніе для тѣхъ, кто подавалъ большія надежды съ сомнительными послѣдствіями.
Пикъ за это сердился и находилъ, что Фебуфисъ похожъ на Луку Кранаха, котораго онъ очень любитъ и имѣетъ нѣкоторыя его свойства.
— Въ чемъ же это проявляется?—спрашивалъ Макъ.
— Въ дарованіи, въ смѣломъ характерѣ и въ умѣньѣ гордо держать себя съ великими міра.
Макъ отвѣчалъ, что лучшее умѣнье держать себя съ твми, кто почитаетъ себя великими міра, это — стараться де входить съ ними ни въ какія сношенія.
— А если это нельзя?
— Ну, тогда быть отъ нихъ какъ можно дальше.
— Э, братъ, это сочтутъ за робость и униженіе.
— Повѣрь, что въ этомъ только и есть настоящее величіе, которое и они сами чувствуютъ и которое одно можеть уязвлять ихъ пустую надменность.
— Ну, ты, Макъ, вѣдь аскетъ. Этакъ жить, такъ нельзя будетъ сдѣлать ничего достойнаго въ міръ.
А Макъ, наоборотъ, думалъ, что такъ только и можно что-нибудь сдѣлать самое достойное.
— А именно что?
— Прежде всего сберечь свое достоинство.
— Ты все о своемъ достоинствѣ,—все только о томъ, что для себя.
-— Нѣтъ, сохраненіе «достоинства» это не «только для себя», а это потомъ пригодится и для другихъ.
Студію Фебуфиса искали посѣщать самые разнообразные путешественники, но достигали этого не всѣ, кто хотѣлъ. Онъ допускалъ къ себѣ только или извѣстныхъ знатоковъ и цѣнителей искусства, или людей высокаго положенія, вниманіе которыхъ ему льстило и которымъ онъ по преимуществу продавалъ свои картины для ихъ музеевъ и палаццо, и всегда за дорогую цѣну. Но и при этомъ онъ давалъ еще много произвола своимъ художественнымъ прихотямъ и капризамъ, очень часто доводимымъ имъ щ непозволительной дерзости и пренебреженія къ сану и свѣтскому положенію своихъ важныхъ посѣтителей. Онъ продавалъ имъ часто не то, чтб они желали бы ' у него пріобрѣсть, а то, чтб онъ самъ соглашался уступить имъ, всегда съ затаеннымъ и мало-скрываемымъ намѣреніемъ заставить ихъ имѣть передъ собою сюжетъ, который могъ служить имъ намекомъ, попрекомъ или непріятнымъ воспоминаніемъ.
Пикъ находилъ это прекраснымъ и художественнымъ, а Макъ называлъ фиглярствомъ.
Произведенія Фебуфиса были въ модѣ, а притомъ же тогда было въ модѣ и потворство капризамъ художниковъ, и потому сколько-нибудь замѣчательнымъ изъ нихъ много позволяли. Люди, самые деспотичные и грозные, требовавшіе, чтобы самые ученые и заслуженные люди въ ихъ присутствіи трепетали, сносили отъ художниковъ весьма часто непозволительныя вольности. Художниковъ это баловало и не всѣ изъ нихъ умѣли держать себя въ предѣлахъ умѣренности п забывались, но, къ удивленію, все это имъ сходило съ рукъ въ размѣрахъ, непонятныхъ для нынѣшняго реальнаго времени.
Особенно они были избалованы женщинами, но еще больше, пожалуй, деспотами, которые отличались своею грозностью и недоступностью для людей всѣхъ ранговъ и положеній, а, между тѣмъ, даже какъ-будто находили удовольствіе въ томъ, что художники обращались съ ними безцеремонно.
Такое было время и направленіе.
Фебуфчсъ какъ первенствовалъ между собратіями въ искусствѣ, такъ же отличался смѣлостью и въ художественныхъ фарсахъ и шалопайствахъ. У него было много любов-
пыхъ приключеніе съ женщинами, принадлежавшими къ самымъ разнообразнымъ слоямъ въ Римѣ, но была и одна привязанность, болѣе прочная и глубокая, чімъ другія. Эта любовь была замѣчательно красивая, блѣдная дѣвушка-римлянка, по имени Марчелла. Она любила красавца-иностранца безъ памяти и безъ всякаго расчета, а онъ и ее цѣнилъ мало. Онъ былъ больпіе всего занятъ тѣмъ, что съ успѣхомъ соперничалъ съ моднымъ кардиналомь въ благорасположеніи великосвѣтскихъ римлянокъ и высокорожденныхъ путешественницъ. или. наскучивъ этимъ, охотно пилъ и дрался кулаками въ тавернахъ за мимолетное обладаніе тою и іи другою изъ тамошнихъ пос Чтительницъ. По первой категоріи подвиги его восходили до дуэлей, угрожавшихъ ему высылкою изъ тогдашней папской столпцы, а по второй дѣла кончались потасовками или полицейскимъ призывомъ къ порядку, что тоже тогда въ художественномъ мірѣ не почиталось за дурное и служило не въ укоръ, а, наоборотъ, слыло за молодечество.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Сказано, что между любовными исторіями Фебуфиса была одна, которая могла его кое-къ-чему обязывать. Это то самое, что касалось красивой и простосердечной римской дѣвушки, по имени Марчеллы. Она была безвѣі гнаго происхожденія и имѣла престарѣлую мать, которую съ большимъ трудомъ содержала своею работой, но замѣчательная красота Мар-челлы сдѣлала ей большую извѣстность. Не одинъ Фебуфпсъ былъ плѣненъ этою красотой, — молодой, тогда еще малоизвѣстный. патріотъ Гарибальди, на одномъ изъ римскихъ празднествъ, тоже подалъ Марчеллѣ цвѣтокъ, снявъ его со своей шляпы, но Марчелла взяла цвѣтокъ Гарибальди и весело перебросила рго Фебуфпсу, который поймалъ его и, поцѣловавъ, прикололъ къ своей шляпѣ. Гарибальди видѣлъ это, послалъ пмъ обоимъ поцѣлуй и крикнулъ: «счастливаго успѣха влюбленнымъ!» Сближеніе ихъ было очень близко и оригинально. Расположенія Марчеллы искали многіе и въ числѣ претендентовъ на ея руку бы іи и богатые люди: въ числѣ такихъ быль одинъ пармезанецъ. Марчелла его не любила, но мать ея, указывая на свое нездоровье и преклонные годы, требовала отъ дочери «маленькой жертвы». Марчелла согласилась на жертву и сдѣлалась невѣстой, но
подъ самый день свадьбы пошла помолиться Мадоннѣ и безотчетно постучалась въ дверь Фебуфиса. Сюда привела ее нестерпимая любовь, съ которою она напрасно боролась, и она вышла отсюда только черезъ нѣсколько дней и пошла къ пармезанцу сказать, что уже не можетъ быть его женою. Но Фебуфисъ, какъ многіе баловни женщинъ, не хотѣлъ оцѣнить лучше другихъ поступокъ Марчеллы и скоро охладѣлъ къ ней, какъ къ прочимъ. Эта побѣда только вплела новый листокъ въ его любовные лавры, а Марчеллу познакомила съ чувствами матери. Пикъ былъ этимъ смущенъ, а Макъ оскорбленъ и разгнѣванъ: онъ пересталъ говорить съ Фебуфисомъ и не сталъ давать ему руку.
— Это снішкомь ужь строго,—говорилъ Пикъ.
Макъ на это не отвѣчалъ, но, встрѣтивъ однажды Мар-челлу, сказалъ ей:
— Бакъ ты живешь нынче, добрая и честная Марчелла?
— Ты меня называешь доброю! *
— II честною.
— Спасибо; я живу не худо,—отвѣчала Марчелла.—Съ тѣхъ поръ, какъ у меня есть дитя, я работаю вдвое и, представь себѣ, на все чувствую новыя силы.
—Но ты исхудала.
— Это скоро пройдетъ.
— А ты мнѣ скажи... только скажи откровенно.
— О, все, чтб ты хочешь... Я знаю троя—въ тебѣ благородное сердце.
— Согласись быть моей женой.
— Женою?.. Спасибо. Я знаю, что ты благороденъ п добръ... Женою!.. Нѣтъ, милый Макъ, я уже никогда не буду ничьею женой.
— Почему?
— Почему?- -Марчелла покачала своею красивою головой и отвѣчала:—Я вѣдь люблю! Развѣ ты хочешь, чтобы между нами всегда былъ третій въ поминѣ? Нѣтъ, милый Макъ, я любила и это останется вѣчно. Полюби лучше другую.
Но благородство и гордость .Марчеллы были подвергнуты слишкомъ тяжелому испытанію: мать ее безпрестанно укоряла ихъ тяжкою бѣдностью,—ея престарѣлые годы требовали удобствъ и покоя,—дитя отрывало руки отъ занятій,— бѣдность всѣхъ ихъ душила. О Марчеллѣ пошли недобрые слухи, въ которыхъ имя доброй дѣвушки связывалось съ
именемъ богатаго иностранца. Къ сожалѣнію, это не было пустою басней. Марчолла скрывалась отъ всѣхъ и никому не показывалась. Пикъ и Макъ о ней говорили только единъ разъ и очень немного. Пикъ сказалъ:
— Слышалъ ты, Макъ, что говорятъ о Марчеллѣ?
— Слышалъ,—отвѣчалъ Макъ, сидя за мольбертомъ.
— И что же, ты этому вѣришь или не вѣришь?
-— Вѣрю, конечно.
— Почему ,же конечно? Ты вѣдь былъ о ней всегда хорошаго мнѣнія.
Макъ отошелъ отъ мольберта, посмотрѣлъ на свою картину и, помедливъ, сказалъ:
— Я о ней и теперь остаюсь хорошаго мнѣнія.
Теперь Пикъ помолчалъ и потомъ спрэсилъ:
— Развѣ она не могла поступить лучше?
— Не знаю, можетъ-быть, и не могла.
— Значитъ, у нея нѣтъ воли, нѣтъ характера?
— Ты спроси объ этомъ того, кто устроилъ испытаніе Для ея воли и характера.
•— Но она могла выііти замужъ?
— Не любя? \
— Хотя бы и такъ.
— Пли... быть-можегь, даже любивши другого?
— Ну, и все было-бъ лучше.
— Можеть-быть, только она тогда не была бы тою Марчелло й, которая стоила бы моего лучшаго мнѣнія.
— А теперь?.
-— Пзъ двухъ золъ она выбрала то, которое меньше.
— Меньше!.. Продать себя... это ты считаешь за меньшее зло?
— Не себя.
. — Какъ не себя? Неужто этотъ богачъ ѣздить къ ней читать съ нею Петрарку или Данте?
— Нѣтъ; она продала ему свое прекрасное тѣло и, навѣрное, не обѣщала отдать свою душу. Ты различай между я и мое: я—это я въ своей сущности, а тѣло мое—только моя принадлежность. Продать его—страшная жертва, но продать свою душу, свою правду, обѣщаться любить другого— это гораздо подлѣе, и потому Марчелла дѣлаетъ меньшее зло.
— Есть еще средство!—замѣтилъ Пикъ.
— Какое/
Сочиненія Н. С. Лѣекова. Т. XXXI. 7
— Прекратить свою жизнь. Смерть лучше позора.
Макъ сложилъ руки и сказалъ:
— Какъ, убить себя?!. Женщинѣ убить себя за то, что се бросили, и бросить на всѣ мученія нищеты свою мать и своего ребенка?.. И ты это называешь лучшимъ? Нѣтъ, это не лучше. Лучше перенести все па себѣ и... Впрочемъ, иди лучше, Пикъ, читай уроки о чести другому,—мы о ней больше съ тобою никогда не должны говорить.
— Хорошо,—отвѣчалъ Пикъ:—по ты мнѣ никогда не докажешь...
— Ахъ, оставь про доказательства! Я никогда тебѣ и не буду доказывать того, что для меня ясно, какъ солнце, а ты знай, что доказать можно все на свѣтѣ, а въ жизни вѣрныя доказательства часто стбятъ менѣе, чѣмъ вѣрныя чувства.
Въ отношеніи Марчеллы Макъ имѣлъ «вѣрныя чувства» и вѣрно отгадывалъ, чтб двигало ея поступками. Другіе о ней позабыли,—Фебуфпсъ ею не интересовался. Онъ съ той поры имѣлъ много другихъ успѣховъ у женщинъ, которыя, помимо своей красоты, льстили его самолюбію, и вообще шелъ на быстрыхъ парусіхъ при слабомъ рулѣ, который не правилъ судномъ, а предавалъ его во власть случайнымъ теченіямъ. Въ характерѣ его все болѣе обозначались признаки необузданности и своеволія. Успѣхи его туманили. Онъ становился капризенъ.
— Я хотѣлъ бы знать, чего онъ хочетъ?—говорилъ Пикъ.
— А я не хотѣть бы объ этомъ знать, но знаю,—отвѣчалъ Макъ.
— Чего же онъ хочетъ?
— Своей погибели,—и она будетъ его удѣломъ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Фебуфису было около тридцати лѣтъ, когда онъ сбылъ съ рукъ исторію Марчеллы и потомъ въ теченіе одного года сдѣлалъ два безумные поступка: во-первыхъ, онъ послалъ дерзкій отказъ своему правительству, которое, по его мнѣнію, недостаточно почтительно приглашало его возвратиться на родину, чтобы принять руководство художественными работами во дворцѣ его государя; а, во-вторыхъ, произвелъ выходку, скандализовавшую цѣлую столицу. Жена одного изъ иностранныхъ дипломатовъ при папѣ удѣлила Фебуфису какую-то долю какого-то своего вниманія и но-
томъ,—какъ ему показалось,—занялась кардкналомъ. Фс-буфисъ вскипѣлъ гнѣвомъ и выставилъ у себя въ мастерской самую неприличную картину вь родѣ извѣстной классической Рапсіога. На этомъ полотнѣ онъ изобразилъ упомянутую красивую даму въ объятіяхъ знаменитаго въ свое время кардинала, а себя поставилъ близъ нихъ вмѣсто сатира, котораго отводитъ старуха со свѣчкой.
Картина эта представлялась забавною и ѣдкою всѣмъ, кромѣ малоразговорчиваго Мака.
— Твое цѣломудріе оскорблено моею Пандорой?—спросить его однажды вечеромъ, сидя за виномъ, Фебуфисъ.
Макъ прервалъ свое долгое молчаніе и отвѣтилъ ему:
— Да, съ этой поры я не перестану жалѣть, чѣмъ ты способенъ заниматься.
— Способенъ!.. Какъ это глупо! Я способенъ заниматься всѣмъ... и я, наконецъ, не понимаю, почему иногда не позволить себѣ жалость.
— Ты называешь это шалостью?
— Конечно. А. ты?
— По-моему, это низость, это растлѣніе другихъ и самого себя.
— Такъ ты видишь здѣсь одинъ цинизмъ?
— Нѣтъ, я вижу все, чтб здѣсь есть.
— Что же, напримѣръ?
— Задоръ и вызовъ на борьбу людей, которыхъ не стдитъ трогать.
— Отчего? Они стоятъ довольно высоко и трогать ихъ не безопасно.
— А-га! такъ тебѣ это доставляетъ удовольствіе?
— И очень большое.
Макъ тихо двинулъ плечами п, улыбнувшись, сказалъ:
— Я предпочелъ бы беречь свои силы, чѣмъ ихъ такъ раскидывать.
— Вь такомъ случаѣ, всѣ тѣ, кто желаетъ заслужить себѣ одобреніе властей, имѣютъ теперь отличный случай достичь этого,—стбитъ только обнаруживать пренебреженіе Пандорѣ. Ты это дѣлаешь?
Макъ посмотрѣлъ на него пристальнымъ взглядомъ и ска залъ:
— Ты не задерешь меня! Я № ссорюсь изъ-за пустяковъ и нр люблю, когда ссорятся. Мнѣ нѣть дѣла до тѣхъ,
которые ищутъ для себя расположенія у властей, но мнѣ нравятся тѣ, которые не задираются съ ними.
— Ну, не хитри, Макъ, ты—скрытый аристократъ.
— Пожалуй, я—аристократъ въ томъ смыслѣ, что я не хочу подражать слугамъ, передразнивающимъ у себя на застольной своихъ господъ. Я совсѣмъ не интересуюсь этими... господами.
— Другими словами, ты бережешь себя для чего-то лучшаго.
— Очень быть можетъ.
Фебуфисъ ему насмѣшливо поклонился.
— Можешь мнѣ и не кланяться,—спокойно сказалъ ему Макъ.
И Макъ, заплативъ свои деньги, ушелъ ранѣе другихъ изъ таверны.
Обѣ выходки Фебуфиса, какъ и слѣдовало ожидать, не прошли даромъ: первая оскорбила правительство его страны и Фебуфпсу нельзя было возвратиться на родину, а вторая подняла противъ него страшную бурю въ самомъ Римѣ и угрожала художнику наемнымъ убійствомъ.
Фебуфисъ отнесся къ тому и къ другому съ полнымъ легкомысліемъ и даже бравировалъ своимъ положеніемъ: онъ пи съ того, ни съ сего написалъ своему государю, что очень радъ но возвращаться, ибо изъ всѣхъ формъ правленія предпочитаетъ республику, а насчетъ картины, компрометировавшей даму и кардинала, объявилъ, что это «мечта живописца», и позволялъ ее видѣть посѣтителямъ.
Въ это самое время по Европѣ путешествовалъ одинъ молодой герцогъ, о которомъ тогда говорили, будто онъ располагалъ несмѣтными богатствами. О немъ тоіда было очень много толковъ; увѣряли, будто онъ отличался необыкновенною смѣлостью, щедростью и непреклонностью какихъ-то своихъ совершенно особенныхч» и твердыхъ убѣжденій, съ которыми, долго ли, коротко ли, придется посчитаться очень многимъ. Это дѣлало его интереснымъ со стороны политической, а въ то же время герцогъ слылъ за большого знатока и цѣнителя разнообразныхъ произведеній искусства и особенно живописи.
Высоки! путешественникъ прибылъ въ Римъ полупнко-гнито изъ Неаполя, гдѣ всѣ имъ остались очень довольны. Папскій Римъ ему не поправился. Разсказывали, будто онъ
сказалъ какому-то дипломату, что «дѣло поповъ—молиться, но не ихъ дѣло править», и не только не хотѣлъ принимать здѣсь никакихъ офиціальныхъ визитовъ, но даже но хотѣлъ осматривать и многихъ замѣчательностей вѣчнаго города.
Властямъ, которыя надѣялись вступить съ герцогомъ въ нѣкоторыя сношенія, было крайне непріяіно, что онъ собирался уѣхать отсюда ранѣе, чѣмъ предполагалось по маршруту.
Говорили, будто одному изъ наиболѣе любимыхъ путешественникомъ лицъ въ его свитѣ былъ предложенъ богатый подарокъ за то, если оно сумѣетъ удержать герцога на опредѣленное по маршруту время. Это лицо,—кажется, адъютантъ,- любя деньги и будучи смѣло и находчиво, позаботилось о своихъ выгодахъ п сумѣло заинтересовать своего повелителя разсказомъ о скандалезномъ происшествіи съ картиною Фебуфиса, которая какъ разъ о ту пору оскорбила римскихъ монаховъ и о ней шелъ говоръ въ художественныхъ кружкахъ и въ свѣтскихъ гостиныхъ.
Хитрость молодого царедворца удалась вдвойнѣ: герцогъ заинтересовался разсказомъ и пожелалъ посѣтить мастерскую Фебуфиса. Этимъ предпочтеніемъ онъ могъ нанести уколъ властнымъ монахамъ, и отъ этого одного у него прошла хандра, но зато она слишкомъ рѣзко уступити мѣсто нетерпѣнію, составлявшему самую сильную черту характера герцога.
Фебуфисъ входилъ въ кругъ идей, для него постороннихъ, п неожиданно получилъ новое значеніе.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Тотъ же самый адъютантъ, которому удалось произвести перемѣну въ расположеніи высокаго путешесгвенника, былъ посланъ кь Фебуфису извѣстить его. что такая то особа, путешествующая подъ такимъ-то инкогнито, желаетъ завгра быть въ его мастерской. Фебуфису показалось, что это сдѣлано какъ будто надменно, и его характеръ нашелъ себѣ здѣсь чищу.
— Газвѣ вашъ герцогъ такъ любитъ художество? -спросилъ онъ небрежно у адъютанта.
-— Да, герцогъ любитъ искусство.
— II что-нибудь въ немъ понимаетъ?
— Какъ вы странно спрашиваете! Герцогъ прекрасный цѣнитель въ живописи.
— Я слыхалъ только, чтб онъ хорошій покупатель.
— Нѣтъ, я говорю вамъ именно то, что и хочу сказать: герцогъ— хорош ій цѣнитель.
— Быть цѣнителемъ, это значитъ не только внать технику, но имѣть понятія о благородныхъ задачахъ искусства.
— Мм... да!.. Онъ ихъ имѣетъ.
— Въ такомъ разѣ вы повезите его къ Маку.
— Кто это Макъ?
— Макъ? Это мой славный товарищъ и славный художникъ. У него превосходныя идеи, и я когда-то пользовался его совѣтомъ и даже началъ было картину «.Бросься внизъ-», но не могъ справиться съ этою идеей.
— Бросься внизъ?
— Да... «.Бросься внизъ».
Гостю показалось, что хозяинъ надъ нпмъ обидпо шутитъ, и онъ сухо отвѣтилъ:
Я не понимаю такого сюжета.
— Позвольте усомниться.
Я не имѣю привычки шутить съ незнакомыми. «Бросься внизъ»—это изъ Бваніелія.
— Я не знаю такого текста.
— Сатана говоритъ Христу: <бросься внизъ».
Адъютантъ сконфузился и сказалъ:
— Вы правы, я вспоминаю,—это сцена па кровлѣ храма?
— Вы называете это «сценою»? Ну, прекрасно, будь по-вашему: станемъ называть евангельскія событія «сценами», но, впрочемъ, все дѣло въ благородствѣ задачи. Обыкновенно вѣдь пишутъ сатану съ рожками, и онъ приглашаетъ Христа броситься за какія-то царства... По идеѣ Мака выходило совсѣмъ не то: его сатана очень внушительный и практическій господинъ, который убѣждаетъ вдохновеннаго правдолюбца только снизойти съ высотъ его духовнаго настроенія и немножко «броситься внизъ», придти отъ правды Бога къ правдѣ герцоговъ и королей, войти съ нимъ въ союзъ... а Христосъ, вы зпаете. этого не сдѣлалъ. Макъ думаетъ, что у нихъ шло дѣло объ этомъ, и что Христосъ на это не согласился.
— Да, конечно. Это тоже интересно... По герцогъ вообще хочетъ видѣть всѣ ваши работы.
— Двери леей студіи открыты и вашъ повелитель колетъ въ нихъ войти, какъ и всякій другой.
— Онъ непремѣнно желаетъ быть у васъ завіра.
— Непремѣнно завтра?
- Да.
Въ такомъ случаѣ, лучше пусть онъ придетъ послѣзавтра.
Позвольте!.. Но почему же послѣзавтра, а не завтра?
— А почему именно непремѣнно завтра, а не послѣ.>автра?
— Нѣтъ, ужъ позвольте завтра!
-—। Нѣтъ, послѣзавтра!
Адъютантъ молча хлопнулъ нѣсколько разъ главами, чтб составляло его привычку въ мину гы усиленныхъ соображены, и проговорилъ:
Что же это значитъ?
— Ничего, кромѣ того, чгб я вамъ сказалъ, — отвѣчалъ Фебуфисъ и, вспрыгнувъ па высокій табуретъ передъ большимъ холстомъ, который расписывалъ, взялъ въ руки кисти и палитру.
Все существо его ликовало и озарялось торжествомъ въ самомъ его любимомъ роды онъ могъ глядѣть свысока на стоявшаго около него свѣтскаго человѣка, присланнаго могущественнымъ лицомъ, и, такимъ образомъ, унижалъ и посла, и самого пославшаго.
Адъютантъ не скрывалъ своего непріятнаго положенія и сказалъ:
-— Я не могу передать герцогу такого отвѣта.
•— Отчего?
Онъ не терпитъ отказовъ.
-— Ну, нечего дѣлать, потерпитъ.
-- Онъ не согласится остаться здѣсь до послѣзавтра.
-— Человѣкъ, который такъ любитъ искусство, согласился.
— Онъ назначилъ завтра вечеромъ уѣхать.
-— Онъ самъ себ ѣ господинъ и всегда можетъ от срочнть.
Адъютантъ разсмѣялся и отвѣчалъ:
— Вы оригинальный человѣкъ.
— Да, я не рабская копія.
— Безъ сомнѣнія, герцогъ можетъ остаться вездѣ, сколько ему угодно; но поймите же, что съ нимъ не принято такъ обходиться. Ему нельзя диктовать.
— Значить, у него есть характеръ?
— II очень большой.
— Да, говорятъ, и я слышалъ — это интересно! Такъ вотъ мы его испробуемъ: вы скажите ему, что такъ п быть, пущу ого къ себѣ, но только послѣзавтра.
— Прошу васъ, оставьте это, маэстро!
— Не могу, господинъ адъютантъ, не могу,—я тоже,—-рекомендуюсь вамъ,—человѣкъ упрямый.
— Па что вамъ его сердить?
-— По совѣсти сказать, ни на что, но мнѣ теперь взошла въ голову такая фантазія, и вы со мною, съ позволенія вашего. ни чорта не подѣлаете ради всѣхъ герцоговъ вмѣстѣ и порознь.
— Вы дерзки.
— Хотите дуэль?
— Очень хотѣлъ бы, но, къ сожалѣнію, я теперь не могу принять дуэли.
— Почему?
-— Конечно, не потому, что я пе желаю васъ убить или страшусь быть убитымъ, но потому, что я состою въ свитѣ такого лица, путешествіе котораго пе должно сопровождаться никакими скандалами.
— Хорошо, не нужно дуэли, но я вамъ предлагаю пари.
— Какое? въ чемъ оно состоитъ?
— Оно состоитъ вотъ въ чемъ: мнѣ кажется, будто я знаю вашего герцога больше, чѣмъ вы.
— Это интересно.
— Да, п я это утверждаю и держу пари, что если вы передадите ему то, что я вамъ сказалъ, то онъ останется здѣсь еще па день.
— Ни за что па свѣтѣ!
—- Вы ошибаетесь.
. — Оставимъ этотъ разговоръ.
— А я вамъ ручаюсь, что я не ошибаюсь; онъ чудесно прождетъ до послѣзавтра, и я вамъ совѣтую принять пари, которое я предлагаю.
— Я желалъ бы знать, въ чемъ же будетъ заключаться самое пари?
— Въ томъ, что если вашъ повелитель останется здѣсь на три дня, то вы безъ всякихъ отговорокъ должны исполнить то, чтб я закажу вамъ; а если онъ не останется, то я исполню любое приказаніе, какое вы мнѣ дадите. Наши
шансы равны, п даже, если хотите знать, я рискую больше, чѣмъ вы.
— Чѣмъ?
— Я не буду знать, точно ли вы передадите мои слова, — Я передамъ ихъ въ точности; но, въ свою очередь, я могу принять ваше условіе только въ томъ случаѣ, если въ заказѣ, который вы мнѣ намѣрены сдѣлать въ случаѣ моего проигрыша, не будетъ ничего унизительнаго для моей чести.
— Безъ сомнѣнія.
— Въ такомъ случаѣ...
— Вы принимаете мое пари?
' * Да-
— Это прелестно: мы заключаемъ пари на герцога.
- - Мнѣ непріятно, что вы надъ этимъ смѣетесь.
— Я не буду смѣяться. Пари идетъ?
— Извольте.
-— Я подаю вамъ мою руку съ самыми серьезными намѣреніями.
— Я съ такими же ее принимаю.
Молодые лю ди ударили по р; камъ, и офицеръ откланялся п ушелъ, а Фебуфисъ, проводивъ его, отправился въ кафе, гдѣ провелъ нѣсколько часовъ съ своими знакомыми и весело шутилъ съ красивыми служанками, а когда возвратился вечеромъ домой, то нашелъ у себя записку, въ которой было написано:
*Онъ остается здѣсь съ тѣмъ, чтобы быть у васъ въ студіи послѣзавтра *.
Фебуфисъ небрежно смялъ записку и, улыбнувшись, написалъ и послалъ такой же короткій отвѣтъ. Въ отвѣтѣ этомъ значилось слѣдующее:
«Онъ пробудетъ здѣсь три дня».
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Слѣдующій день Фебуфисъ провелъ, по обыкновенію, за работой п принималъ нѣсколькихъ иностранцевъ, которые внимательно осматривали его талантливыя работы, а втайнѣ всего болѣе заглядывались на Мевяаііпе ііапя Іа Іоде сіе Іл8І8са. которая занимала большое и видное мѣсто. Картина во весь день не была задернута гобеленомъ, п ее видѣли всѣ, кто посѣтилъ студію.
Потомъ Фебуфисъ былъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, которы і
имѣлъ въ обычаѣ посѣщать ежедневно, но вернулся домой нѣсколько ранѣе и, запершись дома съ слугою, занялся приведеніемъ своей мастерской въ большой порядокъ.
Семейство желчнаго, больного скульптора, обитавшее въ нижнемъ жильѣ, которое находилось подъ ателье Фебуфиса, очень долго слышало шумъ и возню отъ передвиганія тяжелыхъ мольбертовъ. Можно было думать, что художникъ наскучилъ старымъ расположеніемъ своей мастерской, или ему, можетъ-быть, пришла фантазія исполнить какую-нибудь новую затѣю съ Меззаііне Лапа Іа Іоде ііе Ілаіаса.
Это такъ и было.
На слѣдующій день догадки нижняго семейства подтвердились и разъяснились: тотчасъ послѣ ранней сіесты мастерскую Фебуфиса посѣтилъ именитый путешественникъ въ сопровожденіи двухъ лицъ изъ своей свиты.
Одинъ изъ нихъ былъ престарѣлый, но молодящійся сановникъ, во фракѣ и съ значительнымъ количествомъ звѣздъ. Онъ былъ первый совѣтникъ герцога по всѣмъ дѣламъ, касающимся иностранныхъ сношеній, и занималъ должность начальника этого вѣдомства. Въ числѣ звѣздъ, украшавшихъ его лацкана, были и такія, которыхъ никто другой, кромѣ его, не имѣлъ. Старецъ носилъ превосходно взбитый на головѣ парикъ, блисталъ бѣлѣйшими зубами и былъ подрисованъ и зашнурованъ въ корсетъ. Лѣта его былп неизвѣстны, но онъ держался бодро, хотя и вздрагивалъ точно подъ ударами вольтова столба. Чтобы маскировать это непроизвольное движеніе, онъ отъ времени до времени дѣлать то же самое нарочно. Въ существѣ это была дипломатическая хартія, вся уже выцвѣтшая, но еще кое-какъ разбираемая при случаѣ. Въ немъ быіа смѣсь джентльмена, маркиза и дворецкаго, но утверждали, будто въ дѣлахъ онъ ловокъ и очень находчивъ. Другой при герцогѣ былъ тотъ самый молодой адъютантъ, съ которымъ Фебуфисъ держалъ свое пари о «завтра л послѣзавтра».
Самъ герцогъ и оба его провожатые были въ обыкновенномъ партикулярномъ платьѣ, въ которомъ, впрочемъ, герцогъ дцржался совсѣмъ по-военному. Онъ быль представительный и даже красивый мужчина, имѣлъ очень широкія манеры и глядѣлъ какъ человѣкъ, который не боится, что его кто-нибудь остановитъ; онъ поводилъ плечами, какъ-
будто на немъ были эполеты, и шелъ легко, словно только лишь изъ милости касался ногами земли.
Взойдя въ аіеііег, герщтъ окинулъ все помѣщеніе глазами и удивился. Онъ какъ-будю увидалъ совсѣмъ не то, чтб думалъ найти, и остановился посреди комнаты, насупивъ брови, и, оборѵтясь къ адъютанту, сказали:
— Это не то.
Адъютантъ покраснѣлъ.
— Это не то, — повторилъ громко герцогъ н, сдѣлавъ шагъ впередъ, подалъ художнику руку.
Фебуфпсъ ему поклонился.
— А гдѣ же это?
Фсбуфисъ смотрѣлъ съ недоумѣніемъ то па герцога, то па его провожатыхъ.
— Я спрашиваю это... то, чтб у васъ есть...
— Здѣсь рѣшительно все, чтб можетъ быть достойно вашего вниманія.
— Но было еще что-то?
-— Кое-какой хламъ... пустяки, недостойные вашего вниманія.
— Прекрасно... благодарю, но я не хочу, чтобы вы со мною чинились: не обращайте вниманія, что я здѣсь, и продолжайте работать, — я хочу не спѣша осмотрѣть все, чтб есть у васъ въ аіеііег.
И онъ началъ скоро ходить всадъ и впередъ и вдругъ опять сказалъ:
— Да гдѣ же, наконецъ, то?
— Чтб вы желаете впдѣть?—спросилъ Фебуфпсъ.
— Что?
Герцогъ гнѣвно метнулъ глазами и не отвѣчалъ, а его адъютантъ стоялъ переконфуженный, но статскій сановникъ шепнулъ:
— Герцогъ хочетъ видѣть ту картину... ту вашу картину... о которой всѣ говорятъ.
— Ахъ, я догадываюсь,—отвѣчалъ Фебуфпсъ и откатилъ подставку, на которой стояло обернутое лицомъ къ стѣнЬ полотно съ новымъ многоличнымъ историческимъ сюжетомъ.
— Не то! — вскричалъ герцогъ. — Чтб изображаетъ эта картина?
-— Она изображаетъ знаменитаго въ XVI вѣкѣ живописца Луку Кранаха.
- Ну?
— Онъ, какъ извѣстно, былъ почтенъ большою дружбой Іоанна Великодушнаго.
— А что далѣе?
— Художникъ умѣлъ быть благороднѣе всѣхъ высокорожденныхъ льстецовъ и царедворцевъ, окружавшихъ Іоанна, и когда печальная судьба обрекла его покровителя на заточеніе, его всѣ бросили, кромѣ Луки Кранаха.
—- Очень благородно, но... что еще?
— Лука Кранахъ одинъ добровольно раздѣлялъ неволю съ Іоанномъ въ теченіе пяти лѣтъ и поддерживалъ въ немъ душевную бодрость.
— Хорошо!
— Да, они не только не унывали въ заточеніи, по даже успѣли многому научиться и еще болѣе возбудить свои душевныя силы. Я на своей картинѣ представилъ, какъ они проводили свое время: вы видите здѣсь...
— Да, я вижу, прекрасно вижу.
— Іоаннъ Великодушный читаетъ вслухъ книгу, а Лука Кранахъ слушаетъ чтеніе и самъ пишетъ этюдъ нынѣшней знаменитой вѣнской картины «Поцѣлуй Іуды»...
— Ага! намекъ предателямъ!
— Да, вокругъ узниковъ миръ и творческая тишина; можно дріать, что книга — историческая и, можетъ-быть, говоритъ о нравахъ царедворцевъ.
— Дрянь!—оторвалъ герцогъ.—Вы прекрасно будете поступать, если будете всегда карать этп нравы.
Фебуфисъ продолжалъ указывать муштабелемъ на изображеніе Крана? а и говорилъ съ оживленіемъ:
— Я хотѣлъ выразить въ лицѣ Кранаха, что онъ старается проникнуть характеръ предателя и проникаетъ его... Онъ изображаетъ Іуду не злымъ, не скупцомъ, продающимъ друга за ничтожную цѣпу, а только узкимъ, раздраженнымъ человѣкомъ.
— Вотъ, вотъ, вотъ! Это прекрасно!
— Это человѣкъ, который не можетъ снести широты и смѣлости Христа, вдохновеннаго мыслью о любви ко всѣмъ людямъ безъ различія ихъ породы и вѣры. Съ этой картины Кранахъ началъ ставить внизу монограммою сухого, тощаго дракона въ пятой манерѣ.
— Помню: сухой и тощій драконъ.-
•— Есть преданіе, будто онъ растиралъ для этого краску съ настоящею драконовою кровью...
— Да... Но все это не то!—перебилъ его герцогъ.—Гдѣ же то?!. Я хочу видѣть вашу голую женщину!
— Голую женщину?
— Ну, да, голую женщину’—подсказалъ ему старый сановникъ.
— Ту голую женщину, которая вчера была на этомъ мольбертѣ,—подсказалъ съ другой стороны адъютантъ.
— Ахъ, вы это называете то?..
— Ну, да!
— Да, да.
— Но вы ошибаетесь, полковнпкъ, это вѣдь было го вчера, а позавчера.
— Оставьте споръ и покажите мнѣ, гдѣ голая женщина?— молвилъ герцогъ.
— Я думалъ, что она не стоитъ вашего вниманія, ваша свѣтлость, п убралъ ее.
— Достаньте.
— Она вынесена далеко и завалена хламомъ.
— Для чего же вы это сдѣлали?
Фебуфисъ улыбнулся п сказалъ:
— Я могу быть откровененъ?
— Конечно!
— Я такъ много слышалъ о вашей строгости, что про-раооталъ всю ночь за перестановкою моей мастерской, чтобы только убрать нескромную картину въ недоступное мѣсто.
— Не находчиво. Впрочемъ, меня любятъ представлять звѣремъ, но... я не таковъ.
Фебу фисъ поклонился.
— Я хочу видѣть ваіцу картину.
— Чтобы доставить вамъ удовольствіе, я готовъ проработать другую ночь, но едва могу ее достать развѣ только къ завтрашнему дню.
Посѣтителю понравилась веселая откровенность Фебу-фпса, а также и то, что онъ его будто боялся. Лицо герцога приняло смягченнѵе выраженіе.
— Хѵрошо,—сказалъ онъ:—достаньте. Я остаюсь здѣсь еще до завтра.
Онъ не сталъ ничего больше разсматривать и уѣхалъ съ своими провожатыми, а Фебуфисъ обернулъ опять лицомъ
къ стѣнѣ полотна съ Сатаной и 'Кранахомъ, а Пандору поставилъ па мольбертъ и закрылъ гобеленомъ, подвижно ходившимъ на вздержковыхъ кольцахъ.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Устроивъ у себя въ мастерской все опять какъ было, по-старому, Фебуфпсъ пошелъ, по обыкновенію, вечеромъ въ кафе, гдѣ сходились художники, и засталъ тамъ, въ числѣ прочихъ, скульптора, занимавшаго помѣщеніе подъ его мастерскою. Опи повидались дружески, какъ всегда было прежде; по скульпторъ скоро началъ подшучивать надъ демократическими убѣжденіями Фебуфиса и разсказалъ о вознѣ, которую онъ слышалъ у него въ мастерской.
— Я не могъ этого понять до тѣхъ поръ, — говорила» скульпторъ:—пока не увидалъ сегодня входившаго кь тебѣ іѵрцога.
— Да, и когда ты его увидалъ, ты тоже ничего не понялъ.
— Я понялъ, что ты тоже не прочь поддѣлываться-,
— Къ кому?
— Къ великимъ міра.
— Ну!
— Въ самомъ дѣлѣ! Да еще къ такимъ, какъ этотъ герцогъ, который, говорятъ, рычитъ, а но разговариваетъ съ людьми по-человѣчески.
— Это неправда.
— Ты за него заступаешься?
— А отчего бы нѣтъ?
—• Онъ тебя причаравалъ?
— Онъ держалъ себя со мною какъ бравый малый... немножко по-солдатски, но... онъ мнѣ понравился, и я даже по хотѣлъ бы, чтобы о немъ говорили неосновательно.
— Онъ купилъ чѣмъ-то твое расположеніе.
Фебуфисъ вспыхнулъ. Его горячій и вспыльчивый нравъ не дозволилъ ему ни отшутиться, ни разъяснить своего поведенія.—онъ увидѣлъ въ намекѣ скульптора нестерпимое оскорбленіе и въ безумной запальчивости отвѣтилъ ему еще ббльшчмъ оскорбленіемъ. Завязался споръ и дошелъ до тогѳ, что Фебуфисъ схватился за стилетъ. Скульпторъ сдѣлалъ то же, и они мгновенно напали одинъ на другого. Ихъ розняли, но Фебуфисъ, однако, успѣлъ нанести скульптору
легкую царапину, п самъ получилъ довольно серьезный уколъ въ правую руку.
Въ дѣло сейчасъ же вмѣшалась полиція,—римскія власти обрадовались случаю наказать художника, оскорбившаго своею нескромною картиной кардинала. Фебуфис ь, какъ зачинщикъ схватки, ночью же получилъ извѣщеніе, что онъ долженъ оставить Римъ до истеченія трехъ сутокъ.
Гнѣвъ овладѣлъ Фебуфисомъ въ такой степени, что онъ не заботился о послѣдствіяхъ и сидѣлъ въ своей мастерской, когда къ нему опять вошли герцогь-іпсо^пііо съ его молодымъ провожатымъ и старцемъ со звѣздою.
Фебуфисъ привсталъ при ихъ входѣ и, держа правую руку на перевязи, лѣвою открылъ картину.
Высокій гость сразу обнялъ взглядомъ < Пандору*, лри-щури іъ лѣвый глазъ и расхохотался,—столько было въ ной нескромнаго и въ нескромномъ смѣшного. Картина, видимо, доставаяіа зрителямъ величайшее наслажденіе и привела герцога въ самое доброе расположеніе. Онъ протяну ль художнику р/ку. Тотъ извинился, что подаетъ лѣвую руку.
— Принимаю се,—отвѣчалъ гость:—она ближе къ сердцу. А, кстати, я слышалъ, съ вами случилась непріятность?
— Я не обращаю на это вниманія. ваша свѣтлость.
— Однако, васъ высылаютъ изъ папскихъ владѣній?
--Да.
— Въ этой исторіи я оклзыв іюсь немножко причиненъ... Я былъ бы очень радъ быть вамъ полезенъ.
— Я на это не разсчитывалъ; но вы были мой гость, и я не хотѣлъ, чтобы о васъ говорили неуважительно.
— Вы поступили очень благородно. Сколько стбнтъ «Тиранахъ-»?
Фебуфисъ сказать цѣпу.
— Это дешево. Я ее покупаю и шачу вдвое.
— Это сверхъ мѣры и я...
— Ничего не сверхъ мѣры: благородная идея дорого стоить. И, кромѣ того, во всякомъ случаѣ, я еще вашъ должникъ. Скажите мнѣ, куда вы теперь намѣрены уѣхать и чтб намѣрены дѣлать?
— Я застигнутъ врасплохъ и ничего не знаю.
— Обдумайтесь скорѣе. Вы вѣдь не въ ладахъ съ вашимъ государемъ?
— ^а, ваша свѣтлость.
— Это не хорошо. Я могу просить за васъ.
— Покорно васъ благодарю. Я не желаю прощенія.
— Дурно. Впрочемъ, всѣ вы, художники, всегда съ фантазіями; но я, хотя и не художникъ, а мнѣ тоже иногда приходятъ фантазіи: не хотите ли вы ѣхать со мною?
— Какъ съ вами? Куда?
— Куда Богъ понесетъ. Со мною вы можете уѣхать ранѣе, чѣмъ вамъ назначено, и мы посѣтимъ много любопытныхъ мѣстъ... Кстати, вы мнѣ можете пригодиться при посѣщеніи галлерей; а я вамъ покажу дикія мѣстности и дикій воинственный народъ, бытъ котораго можетъ пред-стаъігіь много интереснаго для вашего искусства... Другими никакими соображеніями не стѣсняйтесь—это все дѣло товарища, который васъ съ собой приглашаетъ.
Фебуфисъ стоялъ молча.
— Значитъ, ѣдемъ?—продолжалъ гость.—Сдѣлаемъ вмѣстѣ путешествіе, а потомъ вы свободны. Рука ваша пройдетъ п вы опять будете въ состояніи взяться за кисти и за палитру. ѢІы разстанемся тамъ, гдѣ вы захотите меня оставить.
— Вы такъ ко мнѣ милостивы,—перебилъ Фебуфисъ:—я опасаюсь, какъ бы мысль о разлукѣ не пришла очень поздно.
Гость улыбнулся.
— Вы «опасаетесь», вы думаете, что можете пожелать разстаться со мною, когда будетъ «поздно»?
Фебуфпсъ сконфузился своей неясно выраженной мысли.
— Ничего, ничего! Я люблю чистосердечіе... Все, чтб чистосердечно, то все мнѣ нравится. Я приглашаю васъ быть моимь товарищемъ въ путешествіи, и если вы запоздаете разстаться со мною на дорогѣ, то я приглашаю васъ къ себѣ, и ручаюсь, что вамъ у меня будетъ не худо. Вы найдете у меня много дѣла, когорое можетъ дать просторъ вашей кисти, а я подыщу вамъ невѣсту, которая будетъ достойна васъ умомъ и красотою п дастъ вам-ь невозмутимое домашнее счастье. Наши женщины прекрасны.
— Я это знаю,—отвѣчалъ Фебуфисъ.
— Только онѣ прекрасныя жены, но позировать въ натурѣ не пойдутъ. Такъ это рѣшено: вы мой товарищъ?
— Я вашъ покорнѣйшій слуга.
— Прекрасно! И вы съ этой же секунды увидите, что это довольно удобно: берите шляпу и садитесь со мною.
Распоряженія и сборы объ устройствѣ вашей студіи не должны, васъ волновать. При ранѣ, хотя бы и не опасной, это вредно... Довѣрьте это ему.
Гость показалъ глазами на своего адъютанта и, оборотись слегка въ его сторону, добавилъ:
— Сказать въ посольствѣ, что они отвѣчаютъ за всякую мелочь, которая здѣсь есть. Все уложить и переслать на мой счетъ куда потребуется. Положитесь на него и берите вашу шляпу.
Фебуфисъ протянулъ руку провожатому и сказалъ:
— Мы квиты.
Тотъ вспыхнулъ.
Герцогъ посмотрѣлъ на молодыхъ людей и произнесъ:
— Чтб между вами было?
Пари,—отвѣтилъ Фебуфисъ, и коротко добавилъ, что графъ ему проигралъ маленькую услугу, и теперешнія его заботы онъ принимаетъ за сквитку.
И прекрасно! Честный человѣкъ всегда платитъ свои долги! А въ чемъ было пари?
Фебуфисъ опять взглянулъ въ лицо адъютанта и ему показалось, что этотъ человѣкъ умретъ сію минуту.
— Извините ваша свѣтлость, — сказалъ Фебуфпсъ: — въ это замѣшано имя третьяго лица.
— Ахъ, тайна! Чтб есть тайна, то и должно оставаться тайною. Я не хочу знать о вашемъ пари, ъдсмъ.
Фебуфисъ вышелъ вмЬстѣ съ герцогомъ и съ нимъ же вмѣстѣ уѣхалъ въ роскошное помѣщеніе его посла.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Извѣстіе о томъ, что Фебуфисъ такъ спѣшно покидаетъ Римъ, и притомъ въ сообществѣ могущественнаго лица, мгновенно облетѣло всѣ художественные кружки. Фебуфисъ теперь не удалялся изъ Рима какъ изгнанникъ, а онъ выступалъ какъ человѣкъ, который одержалъ блистательную побѣду надъ своими врагами. Никто не сомнѣвался, что Фебуфпсъ не испугался бы изгнанія изъ Рима, и, можетъ-быть, вышелъ бы отсюда еще съ какою-нибудь новою дерзостью; но выйти такъ величественно, какъ онъ теперь выходитъ съ могущественнымъ покровителемъ, который добровольно назвался его '«товарищемъ», это было настоящэе торжество. Всѣ говорили: «А герцогъ-то, значитъ, совсѣмъ
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. XXXI. 3
не такой грубый человѣкъ, какъ о немъ разсказываю! ъ. Вонъ онъ какъ простъ и какъ привѣтливъ! Что пи говори, а онъ достоинъ симпатій!»
II вотъ молодые художники,—всѣ, кто зналъ фрбуфиса, побросали работы и веселою гурьбою отправились на первую станцію, гдѣ надлежало перемѣнять лошадей въ экипажи путешественника и его свиты. Всѣ они хотѣли проводить товарища и даже привѣтствовать его великодушнаго покровителя. Въ числѣ провожатыхъ находились и Пикъ, и Макъ.
Здѣсь были цвѣты, вино, пѣсни и даже было сочинено наскоро величанье «покровителю художниковъ».
Герцогъ былъ очень доволенъ сюрпризомъ: онъ не спѣшилъ прерывать прощаніе товарищей, и даже самъ поднялъ бокалъ за «товарищей» и за процвѣтаніе «всего изящнаго и благороднаго въ мірѣ».
Это возбудило такой всеобщій восторгъ, что герцогъ уѣхалъ, сопровождаемый долго неумолкавшими кликами самаго непритворнаго и горячаго восторга.
Экипажъ, въ которомъ ѣхали Фебуфисъ и адъютантъ, съ разрѣшенія герцога, остался здѣсь до утра, когда оба путешественника былп уложены въ коляску и, удаляясь, должны были долго слышать вслѣдъ за собою нетрезвые крики друзей, смѣшивавшихъ имя Луки Кранаха съ именемъ Фебуфиса и имя герцога съ именемъ Іоанна Великодушнаго. Болѣе всѣхъ шумѣлъ Пикъ.
— Нѣтъ, каковъ герцогъ! Каковъ этотъ суровый, страшный герцогъ! — кричалъ онъ весь въ поту, съ раскраснѣвшимся лицомъ.
-— Смотри, будь счастливъ, Фебуфисъ! — вторили Пику Другіе. .. -
— О, онъ будетъ счастливъ! Онъ долженъ быть счастливъ съ такимъ покровителемъ!
—- Еще бы! такое покровительство хоть кого выведетъ къ всемірной славѣ, тѣмъ болѣе Фебуфиса. Но какъ онъ эю обдѣлалъ?
— А это штука; но чтб бы кто ни говорилъ, я ручаюсь за одно, что Феб)фисъ не. дозволилъ себѣ ничего такого, чтб бы могло бросить тѣнь униженнаго искательства на его поведеніе!
— Конечно, конечно!
•— Я тамъ не былъ, нѵ я это чувствую... и я за это ручаюсь,—настаивалъ Пикъ.
— Конечно, конечно!.. Изъ насъ никто тамъ не былъ, но мы всѣ ручаемся, что Фебуфисъ не сказалъ ни одного унизительнаго слова, что онъ не сдѣлалъ передъ герцогомъ ни одного поклона ниже, чѣмъ слѣдуетъ, и вообще... онъ... вообще...
— Да, вообще... вообще Фебуфисъ—благородный малый, и если скульпторъ имѣетъ объ этомъ иное мнѣніе, то онъ можетъ потребовать отъ каждаго пзъ насъ отдѣльныхъ доказательствъ въ залѣ фехтовальныхъ уроковъ, а Фебуфису мы пошлемъ общее письмо, въ которомъ напишемъ, какъ мы ему вѣримъ, какъ возлагаемъ на него самыя лучшія наши надежды и клянемся ему въ товарищеской любви и преданности до гроба.
— До гроба! до гроба!
Но въ это время кто-то крикнулъ:
— Вы поклянптесь на своихъ мечахъ!
Всѣ обернулись туда, откуда шелъ этотъ голосъ, и увидали Мака.
Одинъ Макъ до спхъ поръ упорно молчалъ, и это обижало Пика; теперь же. когда онъ прервалъ свое молчаніе фразой изъ Гамлета, Пикъ обидѣлся еще болѣе.
— Я не ожидалъ этого отъ тебя, Макъ,—сказалъ онъ и затѣмъ вспрыгнул ь на столъ п, снявъ съ себя шляпу, вскричалъ:
— Друзья, здѣсь шутки Мака неумѣстны! Восторгъ не должно опошлять! Восходитъ солнце, я гіяжу въ его огненное лицо: я вижу восходящее свѣтало, я кладу мою руку на мое сердце, въ которое я умѣстилъ мою горячую любовь къ Фебуфису. Я призываю тебя, великій въ дружбѣ Кранахт!.. Кладите, друзья, свои руки не на мечи, а на ваши сердца, и поклянемся доказать нашу дружбу Фебуфису всѣмъ и всегда... и всегда... и всегда... да... да... да!
II пришедшаго въ восторгъ Пика стало истерически дергать горло, и всѣ его поняли, схватили его со стола, подняли его и всѣ поклялись въ чемъ-то на своихъ сердцахъ.
II затѣмъ опять пили и пѣли всѣ, кромѣ Мака, который тихо встать и, выйдя въ садъ, нашелъ скрывавшуюся въ густой куртинѣ молодую женщину. Это было Мар'челла. Она стояла одиноко у дерева, какъ бы въ окаменѣніи. Макъ тронулъ ее за плечо и сказалъ ей:
Тебѣ пора домой, Марчелла. Пойдемъ, я провожу тобя.
Благодарю, — отвѣчала Марчелла и пошла съ нимъ рядомъ, но, пройдя недалеко по каменистой дорогѣ, остановилась и сказала:
Меня покидаютъ силы.
— Отдохнемъ.
Они сѣли. До нихъ долетали звуки пьяныхъ пѣсенъ.
— Какъ они противно поютъ!—уронила Марчелла.
— Да,—отвѣчалъ Макъ.
— Онъ пропадетъ?
Пе знаю, да и ты не можешь этого знать.
— Мое сердце это знаетъ.
Твое сердце и здѣсь его не спасало.
Ахъ, да, добрый Макъ, не спасало.
Что же будемъ дѣлать?
— Жалѣй его вмѣстѣ со мною!
И она братски поцѣловала Мака.
А тамъ все еще пѣли.
Такого взрыва восторженныхъ чувствъ друзья не видали давно, и, что всего лучше, ихъ пированье, начатое съ аффектаціей п поддержанное виномъ, не минуло безслѣдно. Художники на другой день не только послали Фебуфису общее и всѣми ими подписанное письмо, но продолжали интересоваться его судьбою, а его много 'обѣщавшая судьба и сама скоро начала усугублять икъ вниманіе и сразу же обѣщала сдѣлаться интересною, да и въ самомъ дѣлѣ скоро таковою сдѣлалась въ дѣйствительности.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Фебуфисъ вскорѣ же прислалъ первыя письма на имя Пика. Какъ въ жизни п въ искусствѣ, такъ и въ письмахъ своихъ онъ стремился быть болѣе красивымъ, чѣмъ натуральнымъ и искреннимъ; но, тѣмъ не менѣе, письма его чрезвычайно нравились Пику іі тѣмъ изъ ихъ товарищей, которые имѣли сродныя свойства самодовлѣющихъ художественныхъ натуръ воспоминаемаго времени. Стоило молодой буфетчицѣ кафе, куда адресовалась корреспонденція маленькаго Пика, показать конвертъ, надписанный на его имя, какъ всѣ вскричали:
— Не отъ Фебуфиса ли? Письмо отъ Фебуфиса!
II если письмо было дѣйствительно отъ Фебуфиса, то Пикъ кивалъ утвердительно головою и всѣ вдругъ кричали:
—= Друзья, письмо отъ Фебуфиса! Радость и вниманіе! Пишетъ товарищъ и другъ вѣнценосца! Читай, Пикъ!
Пикъ подчинялся общему желанію, раскрывалъ письмо, запечатанное всѣмъ знакомою камеей Фебуфиса, и читала.. Тотъ описывалъ видѣнныя имъ мѣстности, музеи, дворцы и палаты, а также свои личныя впечатлѣнія и особенно характеръ своего великодушнаго покровителя и свои взаимныя съ нимъ отношенія. По правдѣ сказать, это особенно всѣхъ интересовало. Ихъ отношенія часто приводили художниковъ въ такой восторгъ, что они всѣ чувствовали себя какъ бы объединенными съ высокимъ лицомъ чрезъ Фебуфиса. Въ ихъ дружескомъ кругѣ не упоминалось болѣе офиціальное величаніе этой особы, а вмѣсто всего громкаго титула ему дали отъ сердца исшедшее имя: «великодушный товарищъ».
Иначе его не называла, никто, кромѣ Мака, который, впрочемъ, имѣлъ отъ природы недовѣрчивый характеръ и былъ наклоненъ къ насмѣшкѣ надъ всякими шумными и надутыми чувствами и восторгами; но на него не обращали много вниманія: онъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ ворчунъ и, можетъ-быть, портилъ прямую линію самодовлѣющему искусству, наклоняя его къ «еретическому культу служенія идеямъ».
По поводу путевыхъ впечатлѣній Фебуфиса Макъ не ликовалъ: онъ не только не интересовался ими, но даже былъ рѣзокъ и удивлялся: чтб въ нихъ можетъ интересовать другихъ? Когда всѣ слушали, что описываетъ Фебуфисъ, Макъ пли лѣниво зѣвалъ, или слѣдилъ глазами по печатнымъ строчкамъ газеты, ища встрѣтить имя Джузепе Гарибальди, тогда еще извѣстное очень немногимъ, въ числѣ которыхъ, впрочемъ, были Марчелла и Макъ (Пикъ звалъ ихъ: «организмы изъ уксуснаго гнѣзда». Уксусное інѣздо тогда было въ заводѣ). Понятно, что человѣку такого духа было мало нужды до «путешествія съ герцогомъ».
По взглядамъ Мака, Фебуфисъ былъ талантливый человѣкъ, который пошелъ по дурной дорогѣ, и въ виду чего-нибудь болѣе достойнаго имъ не стбитъ заниматься.
— Ты—«черный воронъ», Макъ,—говорилъ ему съ обидою въ голосѣ Пикъ.—Завѣщай намъ, чтобы мы изъ тебя сдѣлали пугало.
— А ты, мой милый Пикъ, настоящій теленокъ, и изъ тебя безъ всякаго твоего завѣщанія когда-нибудь приготовятъ такой же шнель-клёпсъ, какъ изъ твоего Фебуфиса.
— А изъ Фебуфиса уже готовятъ шнель-клёпсъ?
— Ну, конечно.
Послѣ такихъ перемолвокъ Пикъ давалъ себѣ слово ничего не говорить о Фебуфисѣ въ присутствіи Мака, но, однако, не выдерживалъ и при всякомъ новомъ извѣстіи спѣшилъ возвѣстить его при Макѣ. Да и трудно было удержаться, потому что извѣстія приходили одно другого эффектнѣе. На шнель-клёпсъ не было ничего похожаго, — напротивъ, между Фебуфпсомъ и его покровителемъ образовалась такая настоящая, товарищеская дружба, что можно было опасаться: нѣтъ ли тутъ преувеличеній?
— Шнель-клёпса не будетъ!—говорилъ Пикъ, похлопывая Мака.
Но Макъ отвѣчалъ:
— Будетъ!
И вдругъ, въ самомъ дѣлѣ, запахло шнель-клёпсомъ: пришло письмо, въ которомъ Фебуфисъ описывалъ, какъ они сдѣлали большой переѣздъ верхами по горамъ, обитаемымъ дикимъ воинственнымъ племенемъ. Прекрасно были описаны виды неприступныхъ скалъ, паденіе гремящихъ потоковъ и удивительное освѣщеніе высей и дымящихся въ туманѣ ущеліи и долинъ; потомъ описывались живописныя одежды горцевъ, ихъ воинственный видъ, мужество, отвага и простота ихъ патріархальныхъ обычаевъ, при которой сохранилось полное равенство, и, въ то же время, дружественность и гостепріимство съ ласковостью, доходящею до готовности сділать пріягное гостю даже съ рискомъ собственной жизни.
«Въ одномъ ыѣстѣу—описывалъ Фебуфисъ:—я былъ чрезвычайно тронутъ этою благородною чертой и у насъ даже дошло дѣло до маленькой непріятности съ моимъ патрономъ. Впрочемъ, все это сейчасъ же было заглажено и отъ непріятнаго не осталось ни малѣйшаго слѣда,—напротивъ, мы еще болѣе сблизились, и я послѣ этого полюбилъ его еще болѣе».
— Начинается что-то любопытное,—вставилъ слово Макъ.
— Да, конечно, — отвѣчалъ Пикъ: —вѣдь ты слышишь: они «еще болѣе сблизились»; но слушайте, я продолжаю:
«Мы еще болѣе сблизились»... Да, вотъ гдѣ я остановился: «мы сблизились,—мы ѣхали вдоль узкой, покрытой кремнистою осыпью, тропинки, которая вилась на дъ обрывомъ горной рѣчки. По обѣимъ сторонамъ тропы возвышались совершенно отвѣсныя, точно какъ бы обрубленныя скалы гранита. Обогнувъ одинъ загибъ, мы стали лицомъ къ отвѣсной стѣнѣ, такъ сильно освѣщенной солнечнымъ блескомъ, что она вся казалась намъ огненною, а на ней, въ страшной высотѣ, надъ свѣсившимися нитями зеленаго діорита, мы увидали какой-то разсыпчатый огненный комъ, который то разлетался искрами, то вновь собирался въ кучу и становился густымъ. Мы всѣ недоумѣвали, чтб это за метеоръ; но наши проводники сказала намъ, что это просто рой дикихъ пчелъ. Горцы отлично знаютъ природу своего дикаго края и иміютъ преострое зрѣніе: они опредѣлити намъ, что этотъ рой только-что отроился отъ стараго інѣзда, когорое живетъ здѣсь же гдѣ-нибудь въ горной трещинѣ, и что тамъ у нихъ долженъ быть медъ. Герцогъ пошутилъ, что здѣшнія пчелы очень предусмотрительны, что, живучи между смѣлыхъ людей, онѣ нашли себѣ такой пріюгъ, гдѣ ихъ не можетъ потревожить человѣкъ самый безстрашный. Но старшій въ нашемъ эскортѣ, сѣдоволосый горецъ, со множествомъ ремешковъ у пояса, на которыхъ были нанизаны засохшіе носы, огрубленные у убитыхъ имъ непріятелей, покачалъ своей красивою, бѣлою головой н сказалъ:
<— Ты не правъ, господинъ,—въ нашихъ горахъ пѣтъ для насъ мѣстъ недоступныхъ».
«— Нѵ, этому я повѣрю только тогда, — отвѣчалъ герцогъ:—если мнѣ подадутъ отвѣдать ихъ меда.
«Услыхавъ это, старый горецъ взглянулъ въ глаза герцогу и спокойно отвѣтилъ:
<— Ты попробуешь этого меда».
«Съ этимъ онъ сейчасъ же произнесъ на своемъ языкѣ какое-то, нямъ непонятное, слово, п одинъ молодой красавецъ - наѣздникъ изъ отряда въ ту же минуту повернулъ своего коня, гикнръ и исчезъ въ ущельѣ. А старикъ молчаливымъ жестомъ руки далъ намъ знакъ остановиться.
«Мы остановились, п должны были это сдѣлать, потому что всѣ наши провожатые стали какъ вкопанные п не двигались съ мѣста... старецъ сидѣлъ на своемъ копѣ неподвижно, глядя вверхъ, гдѣ свивался и развивался золоти
стый рой. Герцогъ его спросилъ: «Что это будетъ?» — но онъ отвѣіплъ: «увидишь», и сталъ крутить въ грязныхъ пальцахъ свои сѣдые усы.
«Такъ прошло не болѣе времени, чѣмъ вы, можетъ-быть, употребите на то, чтобы прочесть мои строки, и вдругъ наверху скалы, надъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ вился рой, промелькнулъ отдѣлившійся отъ насъ всадникъ, а еще черезъ мгновеніе мы увидали его, какъ онъ спѣшился около гребня скалы и сталъ спускаться на тонкомъ, совсѣмъ незамѣтномъ издали, ремнѣ, и повисъ въ воздухѣ надъ страшной пропастью.
«Герцогъ вздрогнулъ, сказалъ: «Это чортъ знаетъ, чтб за люди!» и на минуту закрылъ руіой глаза.
«Мы всѣ замерли и затаили дыханіе, но горцы стояли спокойно и старикъ спокойно продолжалъ крутить свои сѣдые усы, а тотъ, межъ тѣмъ, снова поднялся наверхъ и черезъ пять минутъ былъ опять среди насъ и подалъ герцогу кусокъ сотоваго меда, воткнутый на остріѣ блестящаго кинжала.
«Герцогъ, къ удивленію моему, похвалилъ его холодпо; онъ приказалъ адъютанту взять медъ и дать горцу червонецъ, а самъ тронулъ поводъ п поѣхалъ далѣе. Во всемъ этомъ выражалась какъ будто вдругъ откуда-то вырвавшаяся противная, властительная надменность.
«Это было сдѣлано такъ грубо, что меня взбѣсило. Я но выдержалъ себя, торопливо снялъ съ руки тотъ мой доро-гой брильянтовый перстень, который подарила мнѣ извѣстная вамъ богатая англичанка, и, сжавъ руку молодого смѣльчака, надѣлъ ему этотъ перстень на палецъ, а горецъ отстранилъ отъ себя протянутую къ нему адъютантомъ руку съ червонцемъ п подалъ мнѣ медъ на кинжалѣ. И я его взялъ. Я не могъ его не взять отъ горца, который, отстранивъ герцогскій подарокъ, охотно принялъ мой перстень, и, взявъ мою руку, приложилъ ее къ своему сердцу; но далѣе я соблюлъ вѣжливость: я тотчасъ же подалъ медъ герцогу, только онъ не взялъ... онъ ѣхалъ, отворетясь въ сторону. Я подумалъ, что онъ обидѣлся; но это у меня промелькнуло въ головѣ и сейчасъ же исчезло, вытѣсненное живымъ ощущеніемъ, которое сообщало мнѣ вдохновляющее спокойствіе горца.
«Его сердце билось такъ же ровно, какъ бьется сердце
человѣка, справляющаго пріятную сіесту. Ни страхъ минувшей опасности, ни оскорбленіе, которое онъ долженъ былъ почувствовать, когда ему хотѣли заплатить червонецъ, какъ за акробатское представленіе, нп мой дорогой подарокъ, стоимость котораго далеко превосходила цѣнность трехсотъ червонцевъ,- ничто не заставило его чувствовать себя инымъ, чѣмъ создала его благородная природа. Я былъ въ такомъ восторгѣ, что совсѣмъ позабылъ о неудовольствіи герцога, п, вынувъ ивъ кармана мой дорожный альбомъ, сталъ наскоро срисовывать туда лицо горца и всю ату сцену. Художественное было мнѣ дорого до той степени, что я совсѣмъ имъ увлекся, п когда кончилъ мои кроки, молча подъѣхалъ къ герцогу и подалъ ему мою книжку; но, вообразите себѣ, онъ былъ такъ невѣжливъ. что отстранилъ ее рукой п рѣзко сказалъ: «Я не требовалъ, чтобы мнѣ это были подано. Чортъ возьми, вы знаете, я къ этому не привыкъ!» Я спокойно положилъ мою книжку въ карманъ и отвѣчалъ: «Я извиняюсь!» Но и это простое слово его такъ страшно уязвило, что онъ сжалъ въ рукѣ судорожно поводья и взглядъ его засверкалъ бѣшенствомъ, а между губъ выступила свинцовая полоска.
«Я помнилъ спокойствіе горца и на все это сверканіе обратилъ нуль вниманія и... я побѣдилъ грубость герцога. Мы поѣхали датыпе; я все прекрасно владѣлъ собою, но въ немъ кипѣла досада и онъ не могъ успокоиться: онъ оглянулся разъ, оглянулся два п потомъ сказалъ мнѣ:
«— Знаете ли вы, что я никогда не позволяю, чтобы кто-нибудь поправлялъ то, что я сдѣлалъ?
«— Нѣтъ, не знаю.—отвѣчалъ я п добавилъ, что я вовсе не для того и показывалъ ему мой рисунокъ, чтобы требовать отъ него замѣчаній, потому что я тоже не люблю постороннихъ поправокъ, и притомъ я увѣренъ, что съ этого наброска современрмъ выйдетъ прекрасная картина.
«Тогда онъ сказалъ мнѣ уже повелительно: «Покажите нпѣ сейчасъ вашъ рисунокъ».
«Я хотѣлъ отказать, но улыбнулся и молча подалъ ему альбомъ.
«Герцогъ долго разсматривалъ послѣдній листокъ: онъ былъ въ худо-скрываемомъ бореньи надъ самимъ собою и, повидимому, переламывалъ себя и потомъ взглянулъ мнѣ въ глаза съ холодною и злою улыбкой и произнесъ:
«— Вы хорошо рисуете, но не хорошо обдумываете ваши поступки.
«— Что такое?—спросилъ я спокойно.
«— Я чу гь-чуть не уронилъ вашъ альбомъ въ пропасть.
«— Что за бѣда?—отвѣчалъ я.—Этотъ смѣльчакъ, который сейчасъ досталъ медъ, вѣроятно, досталъ бы и мой альбомъ.
«— А если бы я вырвалъ отсюда листокъ, на которомъ вы зачертили меня съ такимъ особеннымъ выраженіемъ?
- Я передалъ то выраженіе, которое у васъ было.
«— Все равно, кто-нибудь на моемъ мѣстѣ очень могъ пожелать уничтожить такое свое изображеніе.
«Я былъ въ расположеніи отвѣчать дерзко на его дерзости и сказалъ, что я нарисовалъ бы то же самое во второй разъ и только прибавилъ бы еще одну новую сцену, какъ рвутъ довѣренный альбомъ,—но, добавилъ я,—я вѣдь зпалъ, что вы не «кто-нибудь» и что вы этого не сдѣлаете.
«— Почему?
«— Потому, что вы въ вашемъ положеніи должны умѣть владѣть собою и не позволять намъ, простымъ людямъ, превосходи ь васъ въ благородствѣ и великодушіи.
«Лицо герцога мгновенно измѣнилось: онъ позеленѣлъ и точно съ спазмами въ горлѣ прошипѣлъ:
«— Вы забылись’., мнѣ тоже нельзя дѣлать и наставленій, — и на губахъ его опять протянулась свинцовая полоска.
«Это все произошло изъ-за куска меду и изъ-за того, что онъ не сумѣлъ какъ должно поблагодарить полудикаго горца за его отвагу, а я это поправилъ... Это было для него несносное оскорбленіе; но я хотѣлъ, чтобы мнѣ не было до его фантазій никакого дѣла. Вмѣсто того, чтобы прекратить разговоръ сразу, я сказалъ ему, что никакихъ наставленій не думалъ дѣлать и о положеніи его имѣю такое уважительное мнѣніе, что не желаю допускать въ немъ никакихъ понижающихъ сближеніи.
«Онъ не отвѣчалъ мнѣ ни слова, и, вообразите, мнѣ показалось, что онъ угомонился; но—позоръ человѣчества!— въ это же время я вдругъ замѣтилъ, что изъ всѣхъ его окружающихъ на меня не смотритъ ни одинъ человѣкъ и всѣ они держатъ своихъ коней какъ можно плотнѣе къ нему, чтобы оттереть меня отъ него или оборонить отъ меня. Во
обще, не знаю, что такое онп хотѣли, но, во всякомъ случаѣ, что-то противное и глупое.
«Я осадилъ своего коня и, поровнявшись съ тѣмъ горцемъ, который доставалъ ледъ, поѣхалъ съ нимъ рядомъ.
«Только здѣсь, теперь, въ безмолвномъ сосѣдствѣ этого отважнаго дикаря, я почувствовалъ, какъ я самъ былъ потрясенъ и взволнованъ. Съ нимъ мнѣ было несравненно пріятнѣе, чѣмъ въ важной свитѣ, составленной изъ людей, которые сдѣлались мнѣ до того непріятны, что я не хотѣлъ дышать съ ними однимъ воздухомъ и рѣшился на первой же остановкѣ распроститься съ герцогомъ и уѣхать въ Испанію или хоть въ Америку»...
— Прекрасно!—перебплъ Макъ.
— Нѣтъ, ты подожди, чтб будетъ еще далѣе!—вставилъ Пикъ.
— Я всему предпочелъ бы, чтобы онъ сдержатъ это намѣреніе и этимъ кончилъ.
— Нѣтъ, ты услышишь!
Другіе вскричали:
— Да ну васъ къ чорту съ вашими переговорами! Письмо гораздо интереснѣе, чѣмъ ваши реплики!.. Читай, Пикъ, чиг ай!
Пикъ продолжалъ чтеніе.
ГЛАВѢ ДЕСЯТАЯ.
«Я былъ очень золъ на себя, что предпринялъ это путешествіе съ герцогомъ, на котораго, признаться сказать вамъ, я однако, не питалъ ни гнѣва, ни злобы. Все это у меня ушло почему-то на долю его окружающихъ. Настроеніе было препротивное: всѣ молчали. Такъ мы доѣхали до ночлега, гдѣ намъ было приготовлено сносное для здѣшней тикой страны помѣщеніе. Всѣ имѣли лица съ самымъ натянутымъ, а нѣкоторые съ смѣшнымъ и даже съ жалкимъ выраженіемъ. Если бы я не былъ очень недоволенъ собою, то я всего охотнѣе занялся бы занесеніемъ въ меп альбомъ эткхъ лицъ, разсматривая которыя, всякій порядочный человѣкъ, навѣрное, сказалъ бы: «вотъ та компінія, въ которой не пожелаешь себя увидѣть вь серьезное минуту жизни!» Но мнѣ было не до того, чтобы ихъ срисовывать. Притомъ же, это было бы уже крайне грубо. Я теперь
имѣлъ твердое намѣреніе немедленно же отстать отъ нихъ и ѣхать въ Америку.
«Не понижая своего тона и способа держаться, я не старался и скрывать своего раздраженія,-—я отдалился отъ компаніи и не хотѣлъ ни ѣсть, ни спать подъ одною съ ними кровлей. Я отошелъ въ сторону и легъ на травѣ надъ откосомъ и вдругъ захотѣлъ спать. Этимъ въ моей счастливой организаціи обыкновенно выражается кризисъ моихъ волненій: я хочу спать и сплю, и во снѣ мои досажденія проходятъ пли, по крайней мѣрѣ, смягчаются и представляются мнѣ послѣ въ болѣе сносномъ видѣ. Но я не успѣлъ разоспаться, какъ кто-то тронулъ меня за плечо; я открылъ глаза п увидалъ герцога, который сидѣлъ тутъ же, возлѣ меня, на травѣ, и, не дозволяя мнѣ встать, сказалъ:
«— Простите меня, что я васъ разбудилъ. Я не ожидалъ, чтобы вы такъ скоро уснули, а я отыскалъ васъ и хочу съ вами говорить.
«И сейчасъ же вслѣдъ за этимъ онъ сталъ горячо извиняться въ своей запальчивости. На меня это страшно подѣйствовало, и я старался его успокоить; но онъ съ негодованіемъ говорилъ о своей «проклятой привычкѣ» не удерживаться и о ничтожествѣ характеровъ окружающихъ его людей. Онъ былъ такъ искрененъ и такъ уменъ и милъ, что я забылъ ему все непріятное и зашелъ въ своемъ порывѣ дальше, чѣмъ думалъ. Можетъ-быть, я сдѣлалъ большую глупость, но это уже непоправимо. Я, навѣрное, удивлю васъ. Да! узнайте же, мои друзья, что я себѣ намѣтилъ мѣсто, и теперь приспѣло время выслать мнѣ мои вещи, но не на мое имя, а на имя герцога, такъ какъ я, какъ другъ его, отправляюсь съ нимъ въ его страну... Да, мои друзья, да, я называю его «другомъ» и ѣду къ нему. Это рѣшено и не можетъ быть перемѣнено, а рѣшено это тутъ же, на этомъ ночлегѣ, среди дикихъ скалъ, каплющихъ дикимъ медомъ. Не я просился къ нему и набивался съ моею дружбой, а онъ просилъ меня «не оставлять его» и ѣхать съ нимъ въ его страну, гдѣ я встрѣчу для себя большое поприще и, конечно, окажу услуги искусству, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ему. Герцогъ—испорченная, но крупная натура, и я хочу быть полезенъ ему; его стала любить моя душа за его искренніе порывы, свидѣтельствующіе о несомнѣнномъ благородствѣ его природы, испорченной болѣе всего
раболѣпною іі льстивою средой. Я могу внести и, конечно, внесу въ эту среду иное. А кстати еще объ этой природѣ и объ этой средѣ. Среда эта удивительна и вамъ трудно составить себѣ о ней живое понятіе. Я уже писалъ вамъ, какъ послѣ исторіи съ медомъ на кинжалѣ эти люди смѣшно отъ меня удалялись; но они еще смѣшнѣе опять со мною сблизились: это случилось за ужиномъ, къ которому онъ подвелъ мрпя подъ руку, а потомъ вскорѣ сказалъ:
«— Удивительно, какъ сильно вліяетъ на человѣка такой грубый приборъ, какъ его желудокъ: усталость и голодъ въ теченіе знойнаго дня довели меня до несправедливости передъ нашимъ художественнымъ другомъ, а теперь, когда я сытъ и отдохнулъ, я ощущаю полное счастье оттого, что умѣлъ заставить себя просить у него извиненія.
«Это произвело на всѣхъ дѣйствіе магическое, а когда герцогъ добавилъ, чго онъ увѣренъ, что кто любитъ его, тотъ будетъ любить и меня, то усиліямъ показать мнѣ любовь не стало предѣла: всѣ лица на меня просіяли и всѣ сердца, казалось, хотѣли выпрыгнуть ко мнѣ на тарелку и смѣшаться съ маленькими кусками особливымъ способомъ приготовленной молодой баранины. Мнѣ говорили:
«— Пе тужите о родинѣ, которая васъ отвергла! У насъ будетъ одинъ отецъ и одна родина, и мы всѣ будемъ любить васъ, какъ брата!
«Все это у нихъ дѣлается такъ примитивно и такъ просто, что не можетъ быть названо хитростью и неспособно обмануть никого насчетъ ихъ характеровъ, и мнѣ кажется, что я буду жить, по крайней мѣрѣ, съ самыми безхитростными людьми въ цѣломь свѣтѣ».
Письмо кончалось лаконическою припиской, что слѣдующія извѣстія будутъ присланы уже изъ владѣній герцога. И Пикъ, дочитавъ листъ, сталъ его многозначительно складывать и спросилъ Мака:
— Ну, какъ тебѣ это нравится?
-— Не дурно для начала,—процѣдилъ неохотно Макъ и сейчасъ же добавилъ, что это напоминаетъ ему разсказъ объ одномъ безпечномъ туркѣ.
— Какомъ туркѣ?—переспросилъ Пикъ.
Котораго однажды его падишахъ велѣлъ посадить на колъ.
— Я ничего не понимаю.
-— Все дѣло въ томъ, что когда этого турка посадили на колъ, онъ сказалъ: «это не дурно для начала» н сталъ опускаться.
— Чтб же тутъ сходнаго съ положеніемъ нашего товарища?
— Фебуфисъ сѣлъ на колъ и опускается.
— Ты отвратительно золъ, Макъ!
— Нѣтъ, я но золъ.
— Ну, завистливъ.
— Еще выдумай глупость!
— Тебѣ это письмо не нравится?
— Не нравится.
— Чтб же именно тебѣ въ немъ не нравится: медъ, кинжалъ, сцена у скалъ, сцена съ альбомомъ?
— Мнѣ не нравится сцена съ желудкомъ!
— То-есть?
— Я но люблю положеній, въ которыхъ человѣкъ можетъ чувствовать себя въ зависимости отъ расположенія желудка другого человѣка.
-— Ну, вотъ!
— Да, и въ особенности гадко зависѣть отъ расположенія желудка такого человѣка, по гримасамъ когораго къ тебѣ считаютъ долгомъ оборачиваться лицомъ или спиною другіе. Согласись жить съ ннмп, Фебуфисъ сѣлъ на колъ, и тотъ, кто сталъ бы ему завидовать, былъ бы слѣпой и глупый человѣкъ.
— Ты, кажется, назвалъ меня глупцомъ?
Макъ посмотрѣлъ на него и замѣтилъ:
-— Кажется, ты ко мнѣ хочешь придираться?
— А если бы и такъ.
Макъ промолчалъ.
— Ты, навѣрное, желаешь этимъ пренебречь.
Макъ молча повелъ плечами и хотѣлъ встать.
— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?—приставалъ къ нему Пикъ, слегка заграждая ему путь рукой.
Макъ тихо отвелъ его руку; но Пикъ сталъ ему на дорогѣ и, покраснѣвъ въ лицѣ, настоятельно сказалъ:
— Нѣтъ, ты не долженъ отсюда уходить!
— Отчего я не могу уходить?
— Я вызываю тебя на дуэль!
Макъ улыбнулся.
— За что на дуэль?—сказалъ онъ, тихо поднимая себѣ и*’ плечо свою альмавиву.
— За все!., за то, что ты мнѣ надоѣдалъ своими насмѣшками; за то, что ты издѣваешься надъ отсутствующимъ товаріцемъ, который... котораго... которому...
— Распутайся и скажи яснѣе...
— Лінѣ все ясно... который поднимаетъ имя и положеніе художника, котораго я люблю и хочу защищать, потому что онъ самъ здѣсь отсутствуетъ, и которому ты... которому ты, Макъ, положительно завидуешь.
— Теперь ты, въ самомъ дѣлѣ, гл^пъ.
— Что же съ этимъ дѣлать?
— Не знаю, но я ухожу.
— Уходишь?
- Да-
— Такъ ты трусъ, и вотъ тсбѣ оскорбленіе! —• и съ этимъ Пикъ бросилъ Маку въ лицо бутылочную пробку.
Макъ поблѣднѣлъ и, схвативъ Лика за шиворотъ, поднялъ его къ открытому окну на улицу и сказавъ:
— Ты можешь видѣть что мнѣ ничего не стдитъ вышвырнуть тебя на мостовую, по...
— Нѣтъ, идемъ сейчасъ въ фехтовальный залъ.
~ — Но вѣдь это глупо!
— Нѣтъ, идіомъ! Я тебя зову... я требую тебя въ фехтовальный залъ! — кричалъ Пикъ.
— Хорошо, дѣлать нечего, идемъ. Но ты знаешь что?
— Что?
— Я тамъ непремѣнно обрублю тебѣ носъ.
Пикъ отъ бѣшенства пе могъ даже отвѣтить, а черезъ часъ друзья, бывшіе въ за.іЬ свидѣтелями неосторожнаго фехтовальнаго урока, уводили его подъ руки» и Пикъ, въ самомъ дѣлѣ, держалъ носовой платокъ у своего носа. Макъ въ точности сдержалъ свое обѣщаніе и отрѣзалъ рапирой у Пика самый кончикъ носа, но не такой, какъ рѣжутъ дикари, надѣвающіе носы на вздержку, а только самый маленькій кончикъ, какъ самая маленькая золотая монета папскаго чекапа.
Честь обоихъ художниковъ была удовлетворена, какъ требовали ихъ понятія, и все это повело къ неожиданнымъ и прекраснымъ постѣдствічмъ. О событіи съ носомъ Пика никто не сообщалъ Фебуфису; но отъ него въ непродолжн-
тельномъ же времени было получено письмо, въ которомъ, къ общему удивленію, встрѣтилось и упоминаніе о носѣ. Въ этомъ письмѣ Фебуфисъ уже описывалъ столицу своего покровителя. Онъ очень сдержанно говорилъ о ея климатѣ и населеніи, не распространялся и объ условіяхъ жизни, но зато очень много и напыщенно сообщалъ объ открытой ему дѣятельности и о своихъ широкихъ планахъ.
Это должно было выражать и обхватывать что-то необъятное и свѣтлое какъ въ прямомъ, такъ и въ иносказательномъ смыслѣ: чувствовалось, что въ головѣ у Фебу-фпса какъ будто распустилъ хвостъ очень большой павлинъ, и художникъ уже положительно мечталъ направлять герцога и при его посредствѣ развить вкусъ въ его подданныхъ и быть для нихъ благодѣтелемъ: «расписать ихъ небо».
Ему были нужны помощники, и онъ звалъ къ себѣ товарищей. Онъ звалъ всѣхъ, кто не совсѣмъ доволенъ своимъ положеніемъ и хочетъ болѣе широкой дѣятельности (деньги на дорогу можно безъ всякихъ хлопотъ получать отъ гер-цогова представителя въ Римѣ).
Особенно онъ рекомендовалъ это для Пика, про котораго онъ какимъ-то удивительнымъ образомъ узналъ его исторію съ носомъ и имѣлъ слабость разсказать о ней герцогу (герцога все интересуетъ въ художественномъ мірѣ). Правда, что носъ заставилъ его немного посмѣяться, но зато самый характеръ добраго Пика очень расположилъ герцога въ его пользу. При этомъ Фебуфисъ присовокуплялъ, что для него самого пріѣздъ Пика былъ бы очень большимъ счастіемъ, «потому что, каіъ ему ни хорошо на чужбинѣ, но есть минуты...»
Пикъ скомкалъ письмо и вскрикнулъ:
— Вотъ это и есть самое главное! Я его узнаю и понимаю: какъ ему тамъ ни хорошо, но, тѣмъ не менѣе, онъ чувствуетъ, что «есть минуты», — я понимаю эти минуты... Это.—когда человѣку нужна родная, вполнѣ его понимающая душа... Я ему благодаренъ, что онъ въ этихъ размышленіяхъ вспомнилъ обо мнѣ, іі я къ нему ѣду.
Пику совѣтовали хорошенько подумать; но онъ отвѣчалъ, что ему не о чемъ думать.
— По крайней мѣрѣ, дай хорошенько зажить твоему носу.
Онъ вздохнулъ и отвѣчалъ;
— Да, хотя Макъ и оскоблилъ мнѣ кончикъ носа, и мнѣ непріятно, что мы съ нимъ въ ссорѣ, но я съ нимъ помирюсь передъ отъѣздомъ, и онь, навърное, скажетъ, что мнѣ тамъ приставятъ носъ.
Затѣмъ Пикъ безъ дальнѣйшихъ размышленій сталъ собираться, и прежде чѣмъ успѣлъ окончить свои несложные сборы, какъ предупредительно получилъ сумму денегъ на путешествіе.
Этимъ послѣднимъ вниманіемъ Пикъ былъ такъ растроганъ, что «хотѣлъ обнять міръ», и началъ это съ Мака.
ГТАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Онъ побѣжалъ къ Маку, кинулся ₽му на шею и заговорилъ со слезами:
- Что же это, милый Макъ, неужто мы все будемъ въ ссорѣ? Я пришелъ къ тебѣ, чтобы помириться съ тобою и прижать тебя къ моему сердцу.
— Радъ и я, и отвѣчаю тебѣ тѣмъ же.
— Вѣдь я люблю тебя попрежнему.
— И я тоже тебя люблю.
— Ты такъ жестокъ, что не хотѣлъ сдѣлать ко мнѣ шага, по все равно: я самъ сдѣлалъ этотъ шагъ. Для меня это даже отрадны?. Не правда ли? Я бѣгомъ бѣжалъ къ тебѣ, чтобы сказать тебѣ, что... тамъ... далеко... куда я ѣду...
— Ахъ, Пикъ, для чего ты туда ѣдешь?
— Между прочимъ, для того, чтобы ты могъ шутить, что мнѣ тамъ приставить носъ.
— Я вовсе не хочу теперь шутить п самымъ серьезный ь образомъ тебя спрашиваю: зачѣмъ ты ѣдешь?
— Это не мудрено понять: я ѣду, чтобы жить вмѣстѣ съ пашпмт другомъ Фебуфпсомъ и съ нимъ вмѣстѣ совершить службу искусству и вообще высокимъ идеямъ. Но ты опятъ улыбаешься. Не отрицай этого, я подстерегъ твою улыбку.
— Я улыбаюсь потому, что, во-первыхъ, не вѣрю въ возможность служить высокимъ идеямъ, состоя на службѣ у герцоговъ...
— А во-вторыхъ?.. Говори, говори все откровенно!
— Во-вторыхъ, я пи тебя, ни твоего тамошняго друга не считаю способными служить такимъ идеямъ.
— ПрекрасноІ Благодарю за откровенность, благодарю!—-
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. XXXI. 9
лепеталъ Пикъ:—и даже не спорю съ тобою: здѣсь мы пс велики птицы, но тамъ...
— Тамъ вы будете еще менѣе, и я боюсь, что васъ тамъ ощиплютъ и слопаютъ.
— Почему?
— О, чортъ возьми, — еще почему? Ну, потому, что у тамошнихъ птицъ и носы, и перья,—все здоровѣе вашего.
— Грубая сила не много значитъ.
— Ты думаешь?
— Я увѣренъ.
— Дитя! А я тсбѣ говорю: оіцип потъ и слопают» Это не можетъ быть иначе: грачъ и ворона всегда разорвутъ мягкоі.лювую птичку, и вдобавокъ еще эта ваша разнузданная художественность... Вамъ ли перевернуть людей упрямыхъ п крѣпкихъ въ своемъ невѣжествѣ, когда вы сами ежеминутно готовы сверпуться на всѣ стороны?
Я прошу тебя, Макъ, не разбивай меня: я рѣшился.
— Ты просишь, чтобы я замолчать?
- Да.
- Хорошо, я молчу.
— А теперь еще одна просьба: ты по богатъ и я но богатъ... мы оба равны въ томъ отношеніи, чго оба бѣдны...
— Это п прекрасно, зато до сихъ поръ мы оба были свободны и никому ничѣмъ пе обязаны.
— Не обязаны!.. Ага! Тутъ опять есть шпилька: хорошо, я ее чувствую... Ты и остаешься свободнымъ; по я теперь уже не свободенъ, — я обязанъ, я взялъ деньги и обя ;анъ тому, кто мнѣ далъ эти деньги, но я ихъ заработаю и отцамъ.
— Да: по крайней мѣрѣ, пе забывай объ этомъ и поспѣши отдать долгъ какъ можно скорѣе.
— Я тсбѣ даю мое слово: я буду спѣшить. Фебуфисъ пишетъ, что тамъ много дѣла.
— Какого?.. «Расписывать небо», или писать баталіи, пли голыхъ женщинъ па зеркалахъ въ чертогахъ герцога?
— Ну, все равно, ты всегіа найдешь, чѣмъ огорчить меня и надъ чѣмъ посмѣяться; по я къ тсбѣ съ такою просьбой, въ которой ты мнѣ пе долженъ отказать при разлу кѣ.
— Пожалуйста, говори ее скорѣе.
— Нѣть, ты дай іі] ежде слово, что ты мнѣ не откажешь.
— Я нс могу дать такого слова.
— Видишь, какъ ты упрямъ.
— Это пе упрямство: нельзя давать словъ п обі.щлиій, не зная, въ чемъ діло.
— Ты, какъ художникъ, любишь славу?
-— Любилъ.
-— А теперь развѣ уже по любишь?
— Теперь не люблю.
- — Что же это значитъ?
— Это значитъ, что я узналъ нѣчто лучшее, чѣмъ слава.
— II любишь теперь это «гнічто» лучшее болке, чѣмъ извѣстность и славу?.. Прекрасно! Я пень маю, о чемъ ты говоришь: это все про народныя страданія и прочее, въ чемъ ты согласенъ съ Джузене... А знаешь, есть мнѣніе... Ты пе обидишься?
- Бываютъ всякія мнѣнія.
— Говорятъ, что онъ авантюристъ.
— Это кто?
— Твой этотъ Гарибальди; но я знаю, что ты его любишь, и не буду сго разбирать.
Макъ въ это время тщательно обминалъ рукой стеариновый оплывъ около свѣтильни горѣвшей передъ нпмп свЬчп и ничего но отвѣтилъ. Пикъ продолжалъ:
— Я не понимаю только, какъ это честный человѣкъ можетъ желать н добиваться себѣ полной свободы дѣйствій и отрицать такое же право за другими? Если хочешь вредить другимъ, то не надо сердиться и на нкѵъ. когда онп защищаются и тоже тзбі, вредить...
• — Говори о чемъ-нибудь другомъ! — произнесъ Макъ.
— Да, да; правда: это не въ твоемъ ро іѣ и ты ужо сердишься, а я все это виляю оттого, что боюсь сказать тсбѣ прямо: мнѣ прислали на дорогу денегъ.
— Поздравляю.
— П я нахожу, что мнѣ много пристанныхъ денегъ... Макъ, осчастливь меня: вс ьыи собѣ изъ нихъ пеловину, чтобы имѣть во. можнесть написать свою большую картину.
— Отойди, сатана!—отвѣчалъ Макъ шутливо отстраняя отъ себя Пика, который вдругъ выхватилъ пзъ кармана бумажникъ н сталь совать ему деньги.
— Возьми!.. Умоляю! — приставалъ Пикъ.
- —- Ну, перестань, оставь это.
— Отчего же? Неужто тебѣ весь вѣкъ все откладывать произведеніе, которое сдѣлаетъ тебя славнымъ въ мірѣ, и мазикать на скорую руку для продажи твои маленькіе жанры?
— Я не вижу въ этомъ ни малѣйшаго горя: мои маленькіе жанры дѣлаютъ дѣло, которое лучше самой большой картины.
Ну, мой другъ, чтб обольщаться напрасно!
- Я не обольщаюсь.
Посмотри, сколько твоихъ жанровъ висятъ по тавернамъ: ихъ и не видитъ лучшее общество.
Лучшее общество! А чортъ его побери, это лучшее общество! Оно для меня ничего не дѣлаетъ, а мои жанры меня кормятъ и шевелятъ кое-чыо совѣсть. Особенно радуюсь, что они есть по тавсрнамь. Нѣтъ, мнѣ чужихъ денегъ не нужно, а если у тебя такъ много денегъ, что онѣ тебѣ въ тягость, то толкнись въ домикъ къ Марчеллѣ и спроси, нѣтъ ли ей въ нихъ надобности?
— Марчелла! Ахъ, добрый Макъ, это правда. Я ему, однако, напомню о ней... я заставлю его о ней подумать...
-—- Пѣтъ, не напоминай! Найдется такой, который напомнитъ! Пойдемъ въ таверну и будемъ лучше нить на прощанье. Ни о чемъ грустномъ больше не слова.
Друзья надѣли шляпы и пошли въ таверну, гдѣ собрались ихъ другіе товарищи и всю ночь шло пированье, а на другой день Пика усадили въ почтовую карету и проводили опять до той же станціи, до которой провожали Фебуфиса. Карета умчалась, и Пикъ йодъ звукъ почтаіьон-скаго рожка прокричалъ друзьямъ послѣднее обѣщаніе: «писать все и обо всемъ», но сдержалъ свое обѣщаніе только отчасти, и то въ теченіе очень непродолжительнаго времени.
Макъ видѣлъ въ этомъ дурной признакъ: наивный, но честный и прямодушный Пикъ, безъ сомнѣнія, въ чемъ-нибудь былъ серьезно разочарованъ, и, не умѣя лгать, онъ молчаль. Спустя нѣкоторое время, однако, Пикъ началъ писать, и письма его, въ одно и то же время, подкрѣпляли подозрѣнія Мака, и приносили вѣсти, сколько интересныя, столько же и забавныя.
ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Для начала онь, разумѣется, описывалъ въ нихъ только свою встрѣчу съ Фебуфисомъ и какъ они оба въ первую же ночь «напились по-старинному, вспоминая всѣхъ далекихъ, оставшихся въ Римѣ друзей", а потомъ писалъ о столпцѣ герцога, о ея дорого стоящихъ, но не очень важныхъ но монтировкѣ музеяхъ, о состояніи искусства, о его техникѣ и направленіи п о предъявляемыхъ къ нему здѣсь требованіяхъ. Все это, въ настоящемъ художественномъ смыслѣ, для .подои понимающихъ дѣло было жалко и ничтожно; но затѣмъ содержаніе писемъ измѣнялось и Пикъ скоро забредилъ о женщинахъ. Онъ неустанно распространялся о женщинахъ, въ изученіи которыхъ вдругъ обнаружилъ поразившіе Мака разносторонніе успѣхи. По его описаніямъ выходило, что въ этой странѣ всего лучше женщины. Особенно онъ превозносилъ пхъ мил\ю женственность п ихъ удивительною скромность. «Самый амуръ здѣсь совершаетъ свой полетъ не иначе, какъ благословись и въ тихомъ безмолвіи, на безшумныхъ крылышкахъ, — писалъ Пикъ. — Кто чувствуетъ склонность къ семейной жизни и желаетъ выбрать себѣ вѣрную и достойную подругу, тотъ долженъ 'ѣхать сюда и здѣсь онъ. навѣрное, найдетъ ее. Самъ герцогъ — образцовый супругъ и, любя семейную жизнь, онъ покровительствуетъ бракамъ. Это даетъ патріархальный тонъ и направленіе жизни. Случается, что герцогъ самъ даже бываетъ сватомъ и послѣ заботится о новобрачныхъ, которыхъ устроилъ. Дѣвушки въ хорошихъ семействахъ здѣсь такъ тщательно оберегаются отъ всего, чтб можетъ вредить ихъ цѣломудрію, что иногда не знаютъ самыхъ обыкновенныхъ вещей, — словомъ, онѣ наивны и милы, какъ дѣти. Очень скромны и взрослыя. Такова жизнь. Чтб вездѣ считается вполнѣ позволительнымъ, какъ, напримѣръ, обѣдать въ ресторанахъ пли ходить и ѣздить одной женщинѣ по городу, — здѣсь все это почитаютъ за неприличіе. Ни одной сколько-нибудь порядочной женщины не встрѣтишь въ наемномъ экипажѣ и не увидишь въ самомъ лучшемъ ресторанѣ. Если бы женщина пренебрегла этимъ, то ее сочлп бы падшею и передъ нею не только закрылись бы навсегда всѣ двери знакомыхъ домовъ, но и мужчины изъ прежнихъ знако
мыхъ позголплп бы себѣ съ нею раскланяться развѣ только въ густыя сумерки. О дѣвушка'ъ нечего и говорить: онѣ йодъ постоянною опекой. Я часто сравниваю все это съ тѣмъ, что видѣлъ раньше среди римлянокъ іі наѣзжихъ въ вашъ «вѣчный горохъ» вносграпокъ, и мнѣ здѣсь и странно, и нравится, я чувствую себя тутъ точно въ дѣвственномъ лѣсу, гдѣ все свѣжо, полно силъ а... странная вещь! — но я вспоминаю тебя, Макъ, и начинаю размышлять соціально п податнчеекп. А почему? А вотъ почему: ты все любишь размышлять объ упадкѣ нравовъ и объ общихъ бѣдствіяхъ и ищешь отъ нихъ спасенія.. Ахъ, другъ, можетъ-быть, спасеніе-то именно здѣсь, гдѣ стоитъ волѣ захотѣть, чтобы что-нибудь сдѣлалось, и оно сейчасъ же становится возможнымъ, а не захотѣть — все станетъ невозможно? И все это оттого, что жизнь удержана въ удобной формѣ».
Дочитавъ письмо до этого мѣста, Макъ положилъ листокъ н сталъ собирать на него мастихиномъ загустѣвшія на пали рѣ краски. Соображенія Инка его болѣе не интересовали, а на вопросы товарищей о томъ, чтб пишетъ Инкъ, онъ отвѣчалъ:
Пикъ пишетъ, что онъ живетъ въ такомъ любопытномъ городѣ, гдѣ женщины цѣломудренны до того, что но знаютъ, отчего у нихъ рождаются дѣти.
-— Вотъ такъ разъ!
— Что же? Этимъ вѣдь, пожалуй, моишо быть довольнымъ,—замѣтили другіе и стали дѣлать но этому случаю различныя предположенія.
— Да,—отвѣчалъ Макъ:—н онъ атпмъ очень доволенъ.
— По-моему, <шъ тамъ можетъ неожиданно и скоро жениться.
— А отчего и пѣтъ, если тамъ ото выгодно?
— Въ такихъ мѣстахъ что больше и дѣлать!—заключать Макъ:—илп учиться, или жениться. Учиться трудно — жениться за ня гнѣе.
На письмо же то, о которое АГаігь вытеръ свой мастихинъ, онъ вовсе не отвѣчалъ Пику, но, вспоминая иногда о пріятелѣ, въ самомь дѣлѣ, думалъ, что онъ можетъ жениться.
— Отчего, вь самомъ дѣлѣ, пѣгъ? Вѣдь несомнѣнно, что есть такой сортъ дѣятелей, которые прежде начала еспол-
ненія всякихъ своихъ плановъ надѣваютъ себѣ на шею эту расписанную колодку. Почему же не сдѣлать этого и Пику? пли даже они оба тамъ съ этого начнутъ п, пожалуй, на этомъ и кончатъ.
И подозрѣніе еще усиливалось тѣмъ, что въ новомъ письмѣ Пикъ писалъ уже не о женщинахъ вообще, а особенно объ одной избранницѣ, которую онъ въ шаловливомъ восторгѣ называлъ именемъ старинной повѣсти: ^Прелестная Пеллегрино, или несравненная жемчужина». Онъ о ней много разсказывалъ. Макъ долженъ былъ узнать изъ оТого письма, что «прелестная Пеллегрина» была дочь заслуженнаго воина, покрытаго самыми почтенными сѣдинами, ранами и орденами. Пеллегрина получила отъ природы милое, исполненное невинности лицо, осѣненное золотыми кудрями, а герцогъ далъ ей за заслуги отца на свой счетъ самое лучшее образованіе въ монастырѣ, укрывавшемъ ее отъ всякихъ соблазновъ во всѣ годы отрочества. Пикъ увидалъ се первый разъ на выпускномъ экзаменѣ, гдѣ она пѣла, какъ Пери, одѣтая въ бьлое платье, и, рыдая, прощалась съ подругами дѣтства, а потомъ произошла вторая, повидимому, очень значительная встрѣча на лѣтнемъ праздникѣ въ загородномъ герцогскомъ замкѣ, гдѣ Пеллегрина въ скромномъ уборѣ страдала отъ надменности богато-убр-ілныхъ подругъ, которыя какъ только переодѣлись дома такъ и перемѣнились другъ къ другу. Тутъ зато Пеллегрина показала умъ и характеръ: она все видѣла и поняла, но совсѣмъ не дала замѣтить, что страдяеіъ оть окружающей кичливости, и тѣмъ до того заинтересовала маленькаго Пика, что онъ познакомился съ пхъ домомъ и сталъ здѣсь какъ родственницы Онъ то играетъ въ шахматы съ воиномъ, покрытымъ сѣдинами, то ходитъ по лѣсамъ и полями съ Пеллегриною. Отецъ Пеллегрины, добродушный простякъ, безконечно ему вѣрилъ и только посылаетъ съ ними заслуженную и вѣрную служанку (онъ самь давп) іновъ и на войнѣ храбръ, но дома, въ нѣдрахъ своего семейства, кротче агнца). Впрочемъ, Инкъ и Пеллегрина пока только собираютъ бабочекъ и букашекъ, при чемъ наивность Пеллегрины доходитъ до того, что она иногда говорить Пику: «Послушайте, вы художникъ, посмотрите, пожалуйста, — вы должны знать—эго буканъ или букашка?»
Макъ не сіалъ отвѣчать п на это письмо, а затѣмъ отъ
Пика пришелъ только листочекъ съ описаніемъ маскарадовъ, которые ему казались верхомъ жизненнаго великолѣпіи, и съ возвѣщеніемъ о большомъ путешествіи, которое онъ и Фебуфисъ намѣревались сдѣлать лѣтомъ съ художественною цѣлью внутрь страны. На томъ переписка друзей оборвалась.
Въ Римѣ если не совсѣмъ позабыли о Фебуфпсѣ и о Пикѣ, то, во всякомъ случаѣ, къ нимъ охладѣли и весь случай съ Фебуфисомъ вспоминали какъ странность, какъ капризъ или аристократическую прихоть герцога.
— Въ самомъ дѣлѣ, для чего этому отдаленному властителю Фебуфисъ? Чего онъ съ нимъ возится? Неужто онъ, въ самомъ дѣлѣ, такъ страстно любитъ искусство, или онъ по видалъ лучшаго художника? Не слѣдуетъ ли видѣть въ этомъ сначала капризъ и желаніе сдѣлать колкость чернымъ королямъ Рима? Неужто, въ самомъ дѣлѣ, въ XIX вѣкѣ станутъ повторяться Іоаннъ съ Лукой Кранахомъ? Вздоръ! Совсѣмъ не тѣ времена, ничто не можетъ ихъ долго связывать и, безъ сомнѣнія, фаворъ скоро отойдетъ и герцогъ его броситъ.
— А, можетъ-быть, его немножко удержитъ трусость.
— Передъ кѣмъ и передъ чѣмъ?
Передъ талантливымъ художникомъ, который всегда можетъ найти средство отплатить за дурное съ собою обращеніе.
— Какія глупости! какія наивныя, дѣтскія глупости! Чтб вы о себѣ п о нихъ думаете? Какое это средство? спросилъ Макъ.
— Полотно, на которомъ можно все увѣковѣчить. А Фебуфисъ всегда останется талантомъ.
Макъ махнулъ рукою и сказалъ:
— Вы дѣти! Повѣрьте, что тому, кому ввѣрилъ себя упоминаемый вами «талантъ», никакой стыдъ нестрашенъ. Онъ, я думаю, почелъ бы за стыдъ знать, чтб такое есть боязнь стыда: а что касается «таланта», то съ нимъ расправа коротка: ничто не помѣшаетъ оставить этотъ талантъ и безъ полотна, и безъ красокъ, и даже безъ Божьяго свѣта. Да и безъ того... этотъ талантъ выцвѣтетъ... Не забывайте, что птицы съ ярко-цвѣтнымъ опереніемъ, перелинявъ разъ въ клѣткѣ, утрачиваютъ свою красивую окраску.
— Но зато "онѣ выигрываютъ въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ.
— Да, онѣ обыкновенно жирѣютъ, перестаютъ дичиться, утрачиваютъ легкость и подвижность, — вообще становятся, что называется, ручными.
Но намъ время оставить теперь этихъ пессимистовъ и оптимистовъ и послѣдовать за Фебуфисомь и Никомъ, съ которыми, въ ихъ новой обстановкѣ, произошли событія, имѣвшія для нихъ роковое значеніе.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
По прибытіи въ столпцу своего покровителя, Фебуфисъ не былъ имъ покинутъ и позабытъ. Напротивъ, онъ тотчасъ же былъ прекрасно устроенъ во всѣхъ отношеніяхъ и не лишался даже знаковъ дружбы и вниманія, которыми пользовался во время путешествія. Конечно, теперь они видѣлись рѣже и бесѣдовали при другихъ условіяхъ, но все-таки положеніе Фебуфиса было прекрасное и возбуждало зависть въ мѣстномъ обществѣ и особенно среди приближенныхъ герцога. Повелитель, котораго боялись и трепетали всѣ его подданные, дер.калъ себя съ привезенныя ь художникомъ запросто, и Фебуфисъ этой линіи не портилъ. Кь чести его, онъ значительно измѣнился и, вкусивъ мало меду на кинжалѣ, посбавилъ съ себя заносчивости, а держался такъ скромно, какъ этого требовало положеніе. Участіе въ придворной жизни его не тяготило: сначала это ему было любопытно само по себѣ, а потомъ стало интересно п начало втягивать какъ въ пучину... Еще позже это стало ему нравиться... Какъ-никакъ, но это была жизнь: здѣсь все-таки шла безпрестанная борьба и кипѣли страсти и шевелились умы, созидавшіе планы интригъ. Все это похоже на игру живыми шашками и при пустотѣ жизни дѣлаетъ интересъ. Фебуфисъ ста іъ чувствовать этотъ интересъ.
Такою вовсе не разсчитанною и не умышленною перемѣной въ своемъ поведеніи Фебуфисъ чрезвычайно утѣшилъ своего покровителя, и герцогъ сталъ изливать на него еще большія милости. Художнику дали отличное помѣщеніе, усвоили ему почетное званіе и учредили щя него особенную должность съ большимъ содержаніемъ и съ подчиненіемъ ему прямымъ или косвеннымъ образомъ всѣхъ художественныхъ учрежденій Положеніе Фебуфиса, въ са
номъ дѣлѣ, какъ-будто готовитесь напоминать нѣкоторымъ образомъ положеніе Муки Еранаха. Правда, не всѣ» смотрѣли на это серьезно, но, по мнѣнію многихъ, Фебуфисъ будто могъ уже оказывать вліяніе на отношенія своего могущественнаго протектора къ людямъ разнообразныхъ положеній, и у него явились ласкатели и искатели. Когда, іерцогь посѣщалъ его мастерскую, одъ, въ самомъ дѣлѣ, говорилъ не объ одномъ искусствѣ, а и о многомъ другомъ, о чемъ не всѣ» сміли падѣлтгся имѣть съ нимъ бесѣды. Человѣка съ такимъ положепіемь привѣчали лица, занимающія самыя высокія и почетныя должности. Фебуфисъ быстро очутился въ такъ-называемомъ лучшемъ обществѣ и здѣсь тоже держалъ себя съ большимъ достоинствомъ. Для пріобрѣтенія вѣса и значенія въ этомъ обществѣ» ему не нужно было упот] сблять никакихъ усилій, все давалось ему даромъ, по все это ему скоро ириску мило. Герцогъ тотчасъ замѣтилъ это и сказалъ ему: <ты не въ своей компаніи»— и предложилъ ему выписать къ себѣ» кого-нибудь пзъ его римскихъ друзей, при чемъ самъ же и назвалъ Пика.
Пикъ, сколь извѣстно, былъ выписанъ и представленъ герцогу, но онъ ему не понравился,—герцогъ нашелъ, что «онъ очень смѣшонъ», и велѣлъ назначить его преподавателемъ искусствъ въ избранномъ воспитательномъ женскомъ заведеніи, что и погубило Пика, сблизивъ его съ златокудрою дочерью покрытаго сѣ ушами война.
Съ прибытіемъ Пика Фебуфпсу стало веселѣе; опп работали и понемножку предавались кутежамъ, въ которыхъ, впрочемъ, находили здѣсь только хмельной чадъ, но по веселье. Оба опп чувствовали себя здѣсь не по себѣ и оба другъ отъ друга это скрывали. Иногда они собирались оказать какое-то большое вліяніе па что-то въ искусствѣ, по всякій разъ это кончалось пнчімъ. Обо всемъ надо спрашиваться у герцога, а онъ не любилъ не имъ задуманныхъ перемѣнъ. Фебуфисъ скоро понялъ, что шнурокъ, па которомъ онъ ходить, дополню коротокъ, а Пикь въ предѣлахъ своей дѣятс іыіости попробовалъ быть смѣлѣе: очъ дать дѣвицамъ рисовать торсы, вмѣстѣ рыцарей въ шлемахъ, и за это, совершенно дш него неожиданно, былъ посаженъ па. военную гауптвахту «безъ объясненій». Это его такъ обидѣло, что онъ тотчасъ же хотѣлъ бросить все и уѣхать въ Гвмъ; но, вмѣсто того, отечески прлщошіый гер-
догомъ, тоже «бс-эь объясненій», почелъ эту непріятность за неважное н осталсѣ.
— Чіб дѣлать, если это здѣсь бываетъ со всѣми.
Работать друзья могли только по заказамъ іерцога, п онъ же былъ и цѣнителемъ ихъ провзі едеиіп. Въ искусствѣ все зависѣло отъ него, какъ и во всемъ прочемъ: опъ осматривалъ всѣ произведенія учениковъ съ мѣломъ въ рукѣ и писалъ своею рукой на картинѣ свое безлісліяціонпос рѣшеніе. Фебуфисъ— пхъ главный р ководитсль—при этомъ только стоялъ и молчалъ. Пикъ говорилъ ему: «Для чего ты не возразишь?»—по тоть не возражалъ. Безъ сомнѣнія, онъ понималъ, что находится здѣсь только для вида и для парада. Программы допускались только старыя, совсѣмъ не отвѣчавшія новымъ живымъ стремленіямъ, обозначавшимся уже въ другихъ европейскихъ школахъ. Въ Римѣ слышали объ этомъ «академизмѣ» и смыілшь надъ нимъ. Фебуфису, по-н истой щепу, надо было сознаться, что его положеніе несносно, и уйти отъ него; но въ немъ жила фальшивая гордость: онъ пе хотѣлъ бытъ синицею, которая летала нагрѣвать шиломъ море. Опъ рѣшался лучше кое-что перенести н пошелъ по этой до|югѣ уступокъ, чувствуя, что она вьется куда-то, все понижаясь, по іъ гору, но раздражительно отрицалъ ото, коль скоро то же самое замѣчали лруііс. Въ такихъ бореніяхъ ему былъ тяжеЙь и Инкъ и с*це болѣе нѣкоторые умные люди изъ мѣстныхъ, и особенно главный начальникъ внутренняго управленія, по фамиліи Шеръ, который самъ слылъ за художника п. въ самомъ дѣлѣ, разумѣлъ въ искусствѣ больше, чѣмъ герцогъ. Этотъ, какъ сто называли, «внутренній Шеръ» быль уменъ, пьянъ п безстыденъ, и допускалъ со всѣмп очень странное, фамильярное обращеніе, близко граничившее съ наглостью. Фебуфиса онъ, повидимому, считалъ ниже, чѣмъ бы тому хотѣлось, и называлъ его «величайшимъ ы .етеромъ но ръержденноку герцогомъ образцу».
Это приводило Фебуфиса въ досаду, по, тѣмъ не менѣе, кличка плотію къ нему пристала.
И директоръ былъ че одинъ, который смотрѣть на при-гс-іепнаго герцогомъ фіворитнаго артиста, какъ на что-то по.іусмі шное, нолуимлкое, изъ чего, можетъ-быть, гдѣ-то, пожалуй, и едкіаіи бы что-нибудь цѣнное, но изъ чего здѣсь ничего выйти не долито н не пьыдегь. Все это,
однако, нимало по помѣшало Фебуфису прогремѣть въ странѣ, сдѣлавшейся его новымъ отечествомъ, за величайшаго мастера, который понялъ, что чистое искусство гибнетъ отъ тлетворнаго давленія соціальныхъ тенденцій, и чтобы сохранить святую чашу неприкосновенною, онъ принесъ ее и поставилъ къ ногамъ герцога. Герцогъ ее но оттолкнулъ, какъ онъ не отталкиваетъ ничего, чтб можно спасти. Пріѣзжіе мастера заставляли будто завидовать столицѣ герцога всѣ тѣ страны, гдѣ искусство падало, нисходя до служебной роли гражданскимъ и соціальнымъ идеямъ. И за то они отблагодарятъ герцога,—они въ угоду ему распишутъ небо. Пика эго не испортило, потому что, при ограниченности его дарованія, онъ оставался только тѣмъ, чѣмъ былъ; но Фебуфисъ скоро сталъ замѣчать свою отсталость въ виду произведеній художниковъ, трудившихся безъ покровителей, но на свободѣ, и онъ сталъ ревновать ихъ къ славѣ, а самъ поощрялъ въ своей школѣ «непосредственное творчество», изъ котораго, впрочемъ, выходило подъ-рядъ все-только одно очень посредственное. Общій европейскій восторгъ при появленіи картины Каульбаха «Сраженіе ?ун-новъ съ римлянами», наконецъ, былъ нестерпимымъ ударомъ для его самолюбія. Фебуфисъ почувствовалъ, что вотъ пришелъ въ міръ новый великій мастеръ, который повлечетъ за собою послѣдователей въ идейномъ служеніи искусству. Тогда Фебуфисъ рѣшительно сталъ на сторону противоположнаго направленія, а герцогъ это одобрилъ и поручилъ ему «произвести что-нибудь болѣе значительное, чѣмъ картина Каульбаха».
Внутренній Шеръ его расцѣловалъ и сказалъ ему за обѣдомъ въ клубѣ на «ты»:
— Пришло твое время прославиться!
По герцогскому приказу Фебуфисъ напалъ записывать огромное полотно, на которомъ хотѣлъ воспроизвести сюжетъ еще болѣе величественный и смѣлый, чѣмъ сюжетъ Каульбаха,—сюжетъ «гдѣ человѣческіе характеры были бы выражены въ борьбѣ съ силой стихіи»,—помѣстивъ тамъ и себя, и другихъ и, вмѣсто пораженія Каульбаху, воспроизвелъ какое-то смѣшеніе псевдо-классицизма съ псевдо-натурализмомъ. Въ Европѣ онъ этимъ не удивилъ никого, но герцогу угодилъ какъ нельзя болѣе.
— Тебѣ это удалось,—сказалъ герцогъ: — но всего бо
лѣе похвально твое усердіе, и оно должно быть награждено.
Ему отпустили большія деньги и велѣли газетамъ напечатать ему похвалы. Тѣ сдѣлали свое дѣло. Была попытка поддержать его и въ Римѣ, но она оказалась неудачною, и су ждете я Рима пришлось презирать.
-— Они не хотятъ видѣть ничего, чтб явитесь не у нихъ; чужое ихъ не трогаетъ,—объяснялъ герцогу Фебуфисъ.
Ты это прекрасно говоришь: да, ты имъ чужой. Съ тѣхъ поръ, какъ я уѣхалъ сюда...
— Ну, да!., ты мой!
Имъ кажется, что я здѣсь переродился.
— Это и прекрасно. Ты мой!
Нѣтъ, опи думаютъ, что я все позабылъ... Забылъ глупости!
— Нѣтъ,—разучился.
— А вотъ пусть они пріѣдутъ и посмотрятъ. Это все зависть!
— Не одна зависть,—я знаю, что они мнѣ не прощаютъ...
— Что же это такое?
Измѣну.
— Чему?
— Задачамъ искусства.
Герцогъ сѣлъ на высокій табуретъ противъ мольберта и произнесъ дидактически:
— Задача искусства — это героизмъ и пастораль, вѣра, семья и мирная буколика, безъ всякаго сованья носа въ общественные вопросы—вотъ ваша область, гдѣ вы цари и можете дѣлать, чтб хотите. Возможно и историческое, я не отрицаю историческаго; по только съ нашей, вѣрной точки зрѣнія, а не съ ихней. Общественные вопросы искусства не касаются. Художникъ долженъ стоять выше этого. Такіе намъ нужны! Пши такихъ людей, которые въ этомъ родѣ могутъ быть полезны для искусства, и зови ихъ. Обезпечить ихъ- мое дѣло. Можно будетъ даже дать имъ чины и форму. У меня они м-тутъ творишь, нпчъмъ не стѣсняясь, потому что у меня вѣдь нѣтъ никакихъ тревогъ, нл треволненій. Только трудись. Я хочу, чтобы наша школа сохранила настоящія, чистыя художественныя преданія и дала тонъ всѣмъ прочимъ. Обновить искусство — это наше призваніе.
Фебуфисъ понималъ, что все это несбыточный вздоръ, п ничего но хотѣлъ дѣлать, а, между тѣмъ, изъ-за границы ого уязвляла критика. Одинъ изъ лучшихъ тогдашнихъ судей искусства написалъ о помъ, что «во всей его картинѣ досіоішъ похвалы только правильный п твердый рисунокъ, но что ея мертвый сюжеть представляетъ что-то окаменѣвшее, что идея если и есть, то опа рутинна и безплодна, ибо она по поднимаетъ выше умъ и пе облагораживаетъ чувства зрителя, она но трогаетъ его души и но стыдитъ его за эгоизмъ и за холодность къ общему страданію. Художникъ будто спалъ гдѣ-то въ Жікомъ-то заколдованномъ царствѣ и по замѣтилъ, что въ искусствѣ уже началось живое вѣяніе, п здравый умъ просвѣщеннаго человѣка отказывается высоко цѣлить художественныя произведенія, ласкающія одно зрѣніе, пе имѣющія возвышающей пли порицающей идеи. Теперь, чѣмъ такія бѣдныя смысломъ произведенія совершеннѣе въ своемъ техническомъ исполненіи, тѣмъ они укоризненнѣе и тѣмъ большее негодованіе должны поднимать противъ художника». А потому критикъ рѣшительно по хотѣлъ признать никакихъ замѣчательныхъ достоинствъ въ произведеніи, которымъ Фебуфисъ долженъ былъ прославить свою школу, и, вдобавокъ, унизилъ его тѣмъ, что сталъ объяснять овладѣвшее имъ направленіе его несвободнымъ положеніемъ, всегда зависящимъ отъ страха п фавора; онъ называлъ дальнѣйшее служеніе искусству въ такомъ наира-влепііі «вреднымъ», «ставилъ надъ художникомъ крестъ» и давалъ ему совѣть, какъ самое лучшее по степени безвредности, «и юбражать по-старому голыхъ женщинъ, которыми опъ открылъ собѣ фортуну».
Фебуфисъ былъ страшно уязвленъ этимъ «артиклемъ». Опъ никакъ по ожидалъ видѣть себя смѣщеннымъ и развѣнчаннымъ такъ скоро и такъ рѣшительно. Опъ ощутилъ въ себѣ неудержимый позывъ дать горделивый отпоръ, въ которомъ не намѣренъ былъ вступаться за свое произведеніе, по хотѣлъ сказать критику, что по онъ можетъ укорять въ песвободіюстп художника за то, что опъ пе за-прягасть свою музу въ ярмо и по заставляетъ ее двигать топчакъ на молотилкѣ; что но имъ, слугамъ постороннихь искусству идей, судить о свободѣ, когда они не признаютъ свободы за каждымъ дѣлать, чтб ему угодно; что опъ, Фебуфисъ, по только вольнѣй ихъ, по что онъ совсѣмъ воленъ, какъ
птица, и свободенъ даже отъ пр?дра”судка, желающаго запрічь свободное искусство въ плугъ и подчинить музу служенію пользамъ того пли другого порядка водъ полн-цейскнмъ надзоромъ деспотической крілпки. И многое еіцс въ этомъ же задорпо-сконфуженнозгь родѣ цобралъ Фебуфпсъ, ье замѣчая, что сквозь каждое слово сго отповѣди звучало сознаніе, что онъ на чемъ-то пойманъ и въ спорѣ своемъ желаетъ только возбудить шуми <у словъ, чтобы запутать понятія ясныя, к къ солнце. У пего кстати оказался п сталь, благодаря чему въ отповѣди очень сносно доказывалось, что «для искусства безразличны учрежденія и порядки, м что оно можетъ процвѣтать и идти въ гору при всякомъ положеніи и при всякихъ порядкахъ».
Лучше написать это, какъ паиьсалъ Фебуфисъ, даже по требовалось, но Пикъ, которому онъ читалъ свои громы, говорилъ, что онъ все это ужо какъ-будто рапьше гдѣ-то читалъ илп гдѣ-то слышалъ. И Фебуфпсъ сердился, по сознавалъ. что это, однако, правда. Да вѣдь новаго и нѣтъ пл свѣтѣ... Все ужо когда-нибудь было сказано, но почему это же самое опять не повторить, котда это умѣстно? Впрочемъ, чтобы отвѣчать отъ лица школы цѣлой страны, надо, чтобы дѣло имѣло надлежащую санкцію, и потому авторъ рѣшилъ представить свой трутъ самому герцогу. Это ему внушало спокойствіе п дало всему, дѣйствительно, самое лучшее Направленіе.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Выбравъ удобный случаи, чтобы представить свою рукопись герцогу, Фебуфисъ волновался въ ожиданіи сто отвѣта, а игъ пе отвѣчалъ очень долго, по, наконецъ, въ одинъ преіранып день передъ наступленіемъ новаго года художникъ і о училъ приглашеніе отъ директора иностр ш-пыхъ енг'іш ні і,—того самаго искуси іго и ласковаго дипломата, который нѣкогда посѣтилъ вмѣстѣ съ герцогомъ его стутію въ Римѣ.
Годы пе измѣнили мягкихъ манеръ этого саповннка: онъ встрѣтилъ Фебуфиса чрезвычайно радушно п весело поздравилъ его съ большемъ успѣхомъ у герцога.
— Вашъ отвѣтъ вашимъ озлоблеппымъ завистникамъ привелъ въ совершенный восторгъ герцога, — началъ онъ, усаживая передъ собою художника. — Его свѣтлость нзво-
лилъ поручить мнѣ выразить вамъ его полное сочувствіе влшпмъ прекраснымъ мыслямъ, и если при этомъ могутъ имѣть какое-нибудь значеніе мои мнѣнія, то я позволю себѣ сказать, что и я вамъ вполнѣ сочувствую. Я прочиталъ ваше сочиненіе. Герцогъ желалъ этого, и я былъ долженъ прочесть, и исполнился радости за васъ и скорби за себя... Да, въ числѣ моихъ помощниковъ нѣтъ ни одного, который имѣлъ бы такіе ясные взгляды и умѣлъ бы такъ хорошо ихъ отстаивать.
Фебуфисъ поклонился, а сановникъ пожалъ его руку и сказалъ, что если бы онъ не былъ великимъ художникомъ, то онъ ни на кого бы смѣлѣе, чѣмъ на него, не рѣшился указать, какъ на способа ьпшаго дипломата.
•— Значитъ, я теперь могу выпустить написанное въ свѣтъ?
— Нѣтъ. И это не нужно. Это само по себѣ такъ свѣтло, что не нуждается во внѣшнемъ свѣтѣ. Герцогъ на вашей сторонѣ. Вамъ сейчасъ предстоитъ удовольствіе увидать, чтб именно его свѣтлость начерталъ наверху вашихъ вѣрноподданныхъ словъ своею собственною, безтрепетною*' рукой.
Произнеся съ горделивымъ достоинствомъ эти слова, сановникъ взялъ на колѣни малиновый бархатный портфель, съ золотымъ выпуклымъ вензелемъ и такимъ же золотымъ замкомъ, помѣщеннымъ въ полѣ орденской звѣзды. Зачѣмъ онъ бережно ввелъ внутрь портфеля длинную кисть своей старческой руки и еще бережнѣе извлекъ оттуда рукопись Фебуфиса, на верхнемъ краю которой шли три строки, написанныя карандашомъ довольно красивымъ, кругловатымъ почеркомъ, съ твердыми нажимами.
Положивъ бумагу на папку посреди стола, сановникъ поднялся съ своего мѣста и попросилъ художника сѣсть въ кресло, а самъ сталъ и поднялъ вверхъ лицо, какъ-будто онъ готовился слушать лично ему отдаваемое распоряженіе герцога.
Фебуфисъ прочиталъ: «Одобряю и вполнѣ согласенъ».
— Готъ! - -прошепталъ, при дыхангемъ и наклоняя голову, вельможа.
« По »,—продолжалъ Фебуфисъ.
Сановникъ опять поднялъ лицо и опять застылъ въ позѣ.
«Имѣя въ виду всеобщее растлѣніе, которое теперь господствуетъ въ умахъ, нахожу несообразнымъ говорить съ этими людьми словами вѣрноподданнаго убѣжденія^.
Фебуфисъ вспыхнулъ и взглянулъ вопросительно на вельможу.
Тотъ тоже посмотрѣлъ па него выразительнымъ взглядомъ и произнесъ:
— Онъ неотразимъ! — и затѣмъ протянулъ руку къ бумагѣ съ тѣмъ, чтобы взять и вложить ее снова бережно въ малиновый портфрль.
-— Развѣ вы мнѣ не возвратите и мою бумагу?
— Конечно, нѣтъ. Съ этимъ начертаніемъ герцога она отнынѣ составляетъ достояніе исторіи... Она историческій документъ, который переживетъ насъ и будетъ храниться вѣка въ архивѣ, но вы, вмѣсто этой бумаги, получите другую, и вотъ она.
Онъ далъ художнику небольшой листокъ бристоля, на которомъ назначалось дать ему высокій чинь и соединенныя съ нимъ потомственныя права и имѣніе въ живописномъ уголкѣ герцогства.
Пока Фебуфисъ смотрѣлъ удивленными глазами на эти строки, значеніе которыхъ ему казалось и невѣроятно, и непонятно, и, наконецъ, даже щекотливо и обидно, директоръ поправилъ свой носъ и, наконецъ, спросилъ:
— Мнѣ кажется, что вы какъ будто удивляетесь.
— Да, графь,—отвѣтилъ Фебуфисъ.
Графъ качнулъ головою, улыбнулся и отвѣтилъ:
— Да, это обыкновенно бываетъ съ тѣми, кто не привыкъ къ характеру герцога. Рѣдко кто знаетъ, какъ онъ щедръ и какъ онъ умѣетъ награждать.
— Да, герцогъ щедръ, но въ числѣ его наградъ есть одна, которая, мнѣ кажется, соединена съ перемѣною подданства... Я уважаю герцога, но я никогда не просилъ объ этомъ.
— Иеужто?.. Впрочемъ, я до вещей внутренняго управленія не касаюсь... на это у насъ есть господинъ Шеръ. Правда, чтб у него въ вѣдомствѣ все идетъ чортъ знаетъ какъ, но зато по вдохновенію... У насъ это .любятъ. Впрочемъ, если чтб неудобно, то вы сами можете говорить объ этомъ съ герцогомъ... Вамъ завтра надо ему представиться и благодарить его свѣтлость... Поцѣлуйте руку... Это такъ принято... Асііеп!
Графъ повернулся п послалъ рукою поцѣлуй Фебуфису.
Сочиненія Н. С. ЛЬскова. Т. XXXI.
10
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Фебуфисъ возвратился отъ обласкавшаго его дипломата въ самомъ дурномъ расположеніи духа: онъ переходилъ безпрестанно отъ угнетенности къ бѣшенству и не зналъ, чему дать болѣе хода. Дары, возвѣщенные ему маленькою записочкой на бристолѣ, бы іи очень щедры, но, при всемъ томъ, онъ чувствовалъ, что потерялъ нѣчто болѣе важное и существенное, чѣмъ то, чтб получаетъ. Во всякомъ случаѣ, онъ трактованъ слишкомъ ниже того, до чего положилъ себѣ предѣльною мѣгоп. и внутренній Шеръ имѣетъ основаніе шутить надъ его «головнымъ павлиномъ», а графъ внѣшнихъ сношеній можетъ посылать ему на прощаніе дѣтскіе поцѣлуи. Всѣ они, въ самомъ дѣлѣ, значительные канальи, но крѣпче его наступаютъ людямъ на ноги, межъ тѣмъ, какъ онъ колеблется и не умѣетъ быть притворщикомъ, тогда какъ, въ сущности, это неотразимо требуется. Онъ все .'(ышитъ и томится. А потокъ стекло, сквозь которое онъ смотритъ, какъ будто задышется и потемнѣетъ, и ничего не станетъ видно, и тогда онъ приметъ рѣшеніе, какого не думалъ. Такъ и теперь: простой и ясный смыслъ говоритъ ему, что онъ долженъ поблагодарить герцога сразу за все и сразу же отъ всего отказаться. Недаромъ духъ его возмущается и онъ чувствуетъ въ себѣ полный достатокъ спіъ все это сдѣлать, но какъ только онъ начинаетъ соображать, чтб для этого нужно разрушить и въ чемъ по-вшппься, такъ его практическій смыслъ угнетается цѣлою массой представленій, для успокоенія которыхъ выходитъ изъ завѣшеннаго угла на ходуляхъ софизмъ: «не все ли равно, такой или другой деспотизмъ?., іі этотъ, и тѣ—всѣ гнутъ—не парятъ, и сломятъ—не тужатъ... Этотъ, по крайней мѣрѣ... Да нѣтъ,'—все гадость, все несносно»...
Тутъ проходитъ какая-то полусонная глупость: одинъ получаетъ преимущество передъ другимъ, потому что онъ одинъ, а въ существѣ потому, что съ нимъ уже сдѣлка сдѣлана, а изъ одного закрома брать кормъ удобнѣе, чѣмъ собирать его по пустымъ токамъ. Головной павлинъ, дойдя досюда, складываетъ хвостъ и садится на насѣстъ.
Такъ это было и теперь. Фебуфисъ вздыхалъ, скребъ грудь и даже, отправляясь утромъ другого дня въ герцогскій замокъ для принесенія благодарности его свѣтлости,
еще не зналъ, чтб онъ сдѣлаетъ, но съ нимъ былъ его практическій геній, и органически въ немъ уже сложилось то, чтб надо дѣлать.
Увидавъ его издали, герцогъ кивнулъ ему головою и, прервавъ рѣчь съ тѣмъ, съ кі.мъ разговаривалъ, громко спросилъ:
— Ты доволенъ?
Это была пренеудобная форма для начала объясненій; художникъ почти столько же волею, сколько и неволею уронилъ тихо, что онъ доволенъ, но осмѣлится нѣчто объяснить.
Отвѣтъ показался герцогу невнятенъ, и онъ переспроси.гь: — Что?!
— Я благодарю вашу свѣтлость за ваши милости, но...
•— То-то!
Художникъ было почтительно началъ о своей отповѣди, котирую онъ желалъ сдѣлать гласною, по герцогъ нахмурился и сказалъ:
— Оставь это: искусство, какъ и все, должно быть національно. А чтобы различные толки не портіілп дѣла, я велѣлъ принять мѣры, чтобы сюда не доходили никакіе толки. Ты очень впечатлителенъ. Пора тебѣ перестать вести одинокую жизнь. Я тебѣ совѣтую выбрать хорошую, добрую дѣвушку по-сердцу и жениться.
Фебуфисъ благодарилъ за милостивое вшіманіе и заботливость, но не выразилъ желанія жениться.
Герцогъ сдвинулъ брови и сказалъ:
— А знаешь, мнѣ это очень противно! Семейная жизнь всего лучше успокаиваетъ, и ты это, навѣрное, увидишь на своемъ товарищѣ, котораго, кстати, поздравь отъ меня. Онъ сдѣлалъ превосходный выборъ и, вѣроятно, будетъ счастливъ.
— Мой товарищъ?.. О комъ, ваша свѣтлость, изволите говорить?
— Ну, разумѣется, о маленькомъ Пикѣ. Чтобы не забыть,—о немъ теперь надо лучше позаботиться, такъ какъ онъ женится, то я велю дать ему должность съ двойнымъ окладомъ. Его будушая жена—дочь очень достойнаго человѣка и моего вѣрнаго слуги. Храбръ... и гтупъ, какъ сто тысячъ братьевъ. Будто ты ничего объ этомъ не знаешь?
— Ничего, ьаша свѣтлость.
— Маленькій Пикъ, значитъ, въ любовныхъ дѣлахъ остороженъ. Это, впрочемъ, такъ н слѣдуетъ: дѣвушка очень молода и наивна, какъ настоящая монастырка, но онъ очень скоро побѣдилъ ея застѣнчивость. Представь, онъ нашелъ способъ разъяснить ей, чѣмъ отличается буканъ оіъ букашки... За это его тюкъ на крюкъ! Это довольно смѣшной случай, но пусть онъ самъ тебѣ о немъ разскажетъ. Кстати, онъ зоветъ ее «прелестная Пеллегрина». Ей это идетъ... Ты ея не видалъ?
— Нѣтъ.
— Очень интересна: она въ миньонномъ родѣ.
Фебуфисъ выслушалъ новость о Пикѣ какъ бы въ забытьѣ: его не интересовало теперь ничто, даже и то, что и съ самимъ съ нимъ происходило: все ему представлялось тяжелымъ сновидѣніемъ, отъ котораго онъ хотѣлъ бы отряхнуться. только это казалось невозможнымъ. Онъ чувствовалъ, что какъ будто ушелъ далеко въ какой-то дремучій лѣсъ, изъ котораго пе найти выхода. Да и куда выходить? II зачѣмъ? Здѣсь онъ все-таки значительная величина, хоть по герцогскому распоряженію, а во всякомъ другомъ мѣстѣ онъ станетъ наравнѣ со всѣми судимъ свободнымъ судомъ критики и... онъ знаетъ, какое она отведетъ ему мѣсто... Тяжкое униженіе! Здѣсь онъ ничего этого не испытаетъ... Сюда ничто ему непріятное не проникнетъ,—противъ этого велѣно принять мѣры. Онъ въ этомъ не виноватъ, а между тѣмъ ему отъ этого спокойно, и онъ легъ на диванъ, покрылъ ноги плэдомъ и сладко заснулъ до сумерекъ, когда Пикъ сталъ весело будить его къ обѣду.
Фебуфисъ всталъ нѣсколько мрачный и серьезный, молчалъ въ продолженіе всего стола, но при концѣ обѣда прямо, безъ всякихъ предисловій, спросилъ Пика:
Я слышалъ, ты женишься?
— Кто тебѣ это сказалъ?
— Герцогъ.
— На комъ же, смѣю спросить?
— Ну, что за глупость; будто ты не знаешь.
До сихъ поръ не знаю.
— На какой-то милой дѣвушкѣ, невинной монастыркѣ, которую ты прозвалъ «прелестною Пеллеіриной». Зачѣмъ ты покорилъ ея сердце и научилъ се, какъ узнавать бу-кана отъ букашки?
Пикъ расхохотался.
— II герцогъ это знаетъ?
— Онъ говорилъ мнѣ объ этомъ.
—- Боже мой, какая противность! Чего онъ только не знаетъ? Кажется все, кромѣ нуждъ своего народа!
— Такъ это правда или нѣтъ?
— Что я женюсь?.. Конечно, неправда!
II Пикъ опять расхохотался. Онъ, такая маленькая крошка, чья незамѣтная фигура во всѣхъ возбуждала смѣхъ и шутливость, макъ онъ могъ быть любимъ милою дЬвушкой, которая ему чрезвычайно нравилась! II онъ женится! Это самому ему только и могло казаться слишкомъ грубою и слишкомъ неотдѣланною насмѣшкой, но, тѣмъ не менѣе, черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ Фебуфису:
— Знаешь, я въ самомъ дѣлѣ, кажется, женюсь!
— Отчего же тебѣ это вдругъ стало казаться?
— Оттого, что я сдѣлалъ Пеллегриночкѣ предложеніе и объяснился съ ея отцомъ и отъ обоихъ отъ нихъ получилъ согласіе.
— Вотъ-те чортъ! Въ такомъ случаѣ, я поздравляю тебя,— ты, значитъ, навѣрное женишься.
— Да, вообрази, женюсь! Это случилось какъ-то внезапно... У нея есть кузенъ, молодой офицеръ, мерзкій шалунъ, который выдалъ мою тайну, и я былъ долженъ объяснить мои намѣренія... Конечно, не Богъ знаетъ чтб: мы съ нею, просто, ходили и гуляли, но этотъ достопочтенный старикъ, ея отецъ... онъ наивенъ такъ же, какъ сама Пел-легрина, и это неудивитеіьно, потому что онъ женился на матери Пеллегрины, когда ему было, всего двадцать лѣтъ, и его покойная жена держала его въ строгихъ рукахъ до самой смерти... Оиа умерла голъ тому назадъ.
— Онъ, вѣрно, радъ, что она умерла.
— М... ну—не знаю. Его племянникъ говорилъ, будто она ставила его на колѣни, и за то старичокъ теперь желаетъ будто компенсаціи и, какъ только выдастъ дочь замужъ, такъ самъ опять женится. Но этому хотятъ помѣшать.
Фебуфисъ уловилъ вполнѣ ясно только послѣднее слово и повторилъ вяло:
— Жениться! Это значительный рессурсъ при большой скукѣ.
— Такъ ты противъ женитьбы?
— Какъ можно! Особенно при настоящемъ случаѣ, когда кое-что можетъ перепасть и на мою холостецкую долю.
— Да, вѣдь, признайся, и тебѣ здѣсь скучно... Ты скучаешь?
— Очень скучаю, мой милый Пикъ, и потому я былъ бы очень счастливъ, если бы ты и твоя будущая жена не отогнали меня, старика, отъ своего обѣденнаго стола и отъ вашей вечерней лампы. А ужъ потомъ я буду желать вамъ спокойной ночи.
— О, конечно, это такъ и будетъ! Это непремѣнно такъ п будетъ! Мы съ тобой не разстанемся и будемъ жить всѣ вмѣстѣ. Мы уже объ этомъ говорили. Пеллегриночка тебя очень почитаетъ. Она пренаивное дитя: она сказала, что она меня «любитъ», а тебя «уважаетъ», и сейчасъ же вскрикнула: «Ахъ, Боже мой! я не знаю, что больше!» Я ей сказалъ, что уваженіе значитъ больше, потому что оно заслуживается, и указалъ на ея чувства къ отцу, но она пренаивно замахала руками и говоритъ: «Чтб вы, чтб вы, я папу и не люблю, и не уважаю!» Я удивился и говорю: «За что же?»—А она говоритъ: «Я къ нему никакъ не могу привыкнуть».—«Въ какомъ смыслѣ?»—«Я не могу переносить, для чего отъ него бобковою мазью пахнетъ».— «Какіе пустяки!»—«Нѣтъ, говоритъ, это не пустяки; мать тоже никакъ не могла привыкнуть: она правду ему говорила, что онъ «не мужчина».—«Что же онъ такое?»—«Мама его называла: губка! Фуй!»—«Чѣмъ же это порокъ?»—«Да фуй!.. мнѣ о немъ стыдно думать!» Ты вообрази себѣ этакую своего рода быстроту и бойкость въ нераздѣльномъ слитіи съ монастырскою наивностью... Это что-то дѣтское, что-то какъ будто игрушечное н чертопхайское... и, главное, эти неожиданные сюрпризы и переходы, начиная отъ бу-кана до мужчины и до не-мужчины... Вѣдь все это видѣть, все это самому вызвать и наблюдать всѣ эти переходы...
— Чтб и говорить! — перебилъ Фебуфисъ. — Во всемъ этомъ, безъ сомнѣнія, чувствуется біеніе жизненнаго пульса.
— Да, вотъ, именно біеніе жизненнаго пульса.
И ему было дано вволю испыта іь на себѣ въ разной степени біеніе жизненнаго пульса. Одно изъ высшихъ удовольствій въ этомъ родѣ онъ узналъ въ самый блаженный мигъ, когда послѣ свадебныхъ церемоній остался вдвоемъ съ прелестною Пеллегриной. Случай былъ такой, что Пикъ
совершенно потерялся, убѣжалъ въ холодный зать и, прислонясь лбомъ ьь покрытому изморосью оконному стеклу, проплакалъ всю ночь. Въ этомъ же положеніи спасла его утромъ его молоденькая жена: она подошла къ нему съ своимъ невчнпымь дѣтскимъ взглядомъ въ утреннемъ капотѣ новобрачной дамы, положила ему на плечи свои миніатюрныя ручки и, повернувъ къ себѣ этими ручками его лицо, сказала:
— Мой другъ, вѣдь я не раздѣвалась...
— Мнѣ все равно!—отвѣтилъ спѣшно Пакъ.
— Нѣтъ... не все равно.
У Пика кипѣла досада и онъ отвѣтилъ:
— Я говорю вамъ: это мнѣ все равно!
— А я... я себѣ этого даже и объяснить не могу...
— Себѣ.'
- Да.
— Даже себѣ не можете объяснить?!
— Вотъ именно!
— Это становится интересно.
— Я помню одно, что я дежурила въ комнатахъ у начальницы, и онъ неслышно взошелъ по мягкимъ коврамъ и... онъ взялъ меня очень сильно за поясъ...
— Чортъ бы васъ взялъ съ нимъ вмѣстѣ!
— Но я не рапѣватась п только была совсѣмъ измучена... и я больше ничего не знаю... я ничего не помню...
— Не помните!
— Да. я затрепетала...
— Затрепетала!
— Да, затрепетала... мы такъ воспитаны.
— Вы очень оригинально воспитаны... Ничего не понимаете...
— Да... не понимала, а теперь мнѣ дурно.
Пикъ хотѣлъ ее оттолкнуть, но, вмѣсто того, принялъ жену подь рукп, отвелъ ее въ спальню, помогъ ей раздѣться и сказалъ:
— Разъ что все было такъ, то это предается забвенію.
Опа въ полузабытьи, съ глазами, закрытыми вѣками, слабо пожала его руку.
— Но только мы уѣдемъ отсюда. Здѣсь имъ вездѣ ужъ слишкомъ полно.
— Какъ ты хочешь, буканъ,—прошептали милыя, дѣтскія уста Пеллегрины.
Пикъ улыбнулся и сталъ цѣловать ихъ и повторялъ:
— Мы отъ него уѣдемъ, уѣдемъ, букашка!
— Да, уѣдемъ, буканчикъ,—отвѣчала Псллегрпна:—только не надо ничѣмъ тревожить папу.
Пикъ все позабылъ и растаялъ въ объятіяхъ своей наивной жены.
Буканъ и букашка были счастливы. Равновѣсіе въ ихъ жи-ши нарушалось только однимъ стороннимъ обстоятельствомъ: отецъ Пеллегрины, съ двадцати лѣтъ состоявшій при своемъ семействѣ, съ выходомъ дочери замужъ вдругъ заскучалъ и началъ страстно молиться Богу, но онъ совсѣмъ не обнаруживалъ стремленія жениться, а показалъ другую удивительную слабость: онъ поддался вліянію своего племянника и съ особеннымъ удовольствіемъ началъ искать веселой компаніи; чего онъ не усиѣйъ сдѣлать въ юности, то все хоіЬлъ воспомнить теперь: онъ завилъ на головѣ остатокъ волосъ, купилъ трубку съ дамскимъ портретомъ, сталъ пить вино и началъ ѣздить смотрѣть, какъ танцуютъ веселыя женщины. Спустя малое время, онъ не выдержалъ п самъ принялъ участіе въ танцахъ.
По его значенію въ военномъ мірѣ, внутренній Шеръ довелъ объ этомъ до свѣдѣнія герцога, а герцогъ, встрЬгя ого въ паркѣ, спросилъ:
— Ты танцуешь?
— Виноватъ,—отвѣчалъ генералъ.
— Отчего ты это вздумалъ?
— Гано женился и ничего не испыталъ въ молодости, ваша свѣтлость.
— То-то! Смотри, чтобъ этого не было.
Почтенный воинъ далъ слово своему повелителю, но по въ силахъ былъ этого слова выдержать: молодая компанія опять увлекла его въ опасное сообщество, гдѣ онъ нарушилъ свое обѣщаніе: онъ пилъ и танцевалъ, и, дѣлая рондъ въ фигурѣ, вдругъ ) видалъ передъ собою внутренняго Шера... Генералъ сейчасъ же упалъ и переломилъ себѣ хребетъ, а когда пришелъ на мгновеніе въ себя и сообразилъ, что объ этомъ узнаетъ герцогъ, то тотчасъ же тутъ и умеръ на мЕстѣ преступленія. Внутренній Шеръ тихо перенесъ героя ночью въ его жилище и утромъ доложилъ герцогу. Герцогъ
слушалъ начало доклада въ гнѣвѣ, но потомъ былъ тронутъ поступкомъ генерала и сказалъ:
— Онъ хорошо кончилъ!
Затѣмъ вышло распоряженіе, чтобы молодыхъ людей посадить подъ арестъ, танцорокъ высѣчь, а усопшему сдѣлать погребальный церемоніалъ по его заслугамъ и произнести надъ его гробомъ глубоко-прочувствованное слово.
Все это было исполнено, и герцогъ самъ былъ тутъ, самъ окинулъ взоромъ церемонію, самъ выслушалъ слово и даже приткнулся рукою ко гробу нЬкогда храбраго человѣка, а потомъ съ чувствомъ пожалъ руку его дочери. Фактъ этотъ цѣликомъ перешелъ въ исторію народа.
ГЛ \Г>А ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Трауръ, который надѣла по отцѣ Пеллегрина, до того шелъ къ ея граціозной, легкой фигуркѣ и пепельной го-ловкіі, что Фебуфисъ, пребывавшій долгое время въ тяжелой п безпросвѣтной хавдрѣ, увидавъ ее, просвѣтлѣлъ и сказалъ:
— Знаете ли, я очень хочу написать вашъ портретъ.
Пеллегрина, какъ женщина, съ удовольствіемъ чувствовала обаяніе, которое ея красота произвела на знаменитаго, по общему мнѣнію, друга ея мужа, и ничего не имѣла противъ осуществленія его артистическаго желанія. Пикъ одобрялъ это еще болѣе.
— Эю тебѣ пришла счастливѣйшая мысль,—восклицалъ опъ:—это обоихъ васъ займетъ, и тебя, и ее заставитъ прогнать отъ себя тяжелыя мысли.
Портретъ былъ начатъ во весь ростъ на большомъ холстѣ, гдѣ нашли мѣсто для своего расположенія всѣ любимыя вещи въ будуарѣ Миньоны.
Фебуфисъ послѣ продолжительной апатіи и бездѣйствія взялся за работу съ большимъ рвеніемъ и портретъ Пеллегрины обѣщалъ превзойти портретъ, написанный Фебуфи-сомъ съ герцогини для кабинета герцога. Это обстоятельство заключало въ себѣ даже нѣчто щекотливое и заставляло Фебуфиса производить работу не въ мастерской, а въ будуарѣ Пеллегрины. Онъ приходилъ къ ней въ своемъ рабочемъ легкомъ костюмѣ—въ туфляхъ, сѣренькихъ широкихъ панталонахъ и коричневой бархатной курткѣ. Опа позировала передъ нимъ стоя и, утомясь, отдыхала на широкой оттоманкѣ, а онъ переносилъ ея дѣвственныя черты
ва полотно и нѣчто занесъ нечаянно въ свое сердце, начавшее гнать кровь въ присутствіи жены друга съ увеличенною силой. Опъ сталъ неровенъ и нервенъ,—она это, кажется, замѣчала, но оставалась во всегдашнемъ своемъ безпечномъ, младенческомъ настроеніи, и даже когда онъ однажды сказалъ ей, что не можетъ глядѣть на нее издали, она и тогда промолчала. Но ужъ тогда онъ бросилъ кисть и палитру и, кинувшись къ ней, обнялъ ея колѣни и овладѣлъ ею такъ бурно, что она совсѣмъ потерялась, закрыла лицо руками и прошептала не разъ, а два раза:
— Бога ради, Бога ради!
Опъ, кажется, не разобралъ, какъ это слѣдовало понять, и послѣдствія этого недоразумѣнія совершенно не отвѣчали программѣ сеанса.
Дѣла могли идти такимъ порядкомъ очень долго, но разъ Пикъ вошелъ домой не въ счастливый часъ и не въ урочное время и услыхалъ это же странно произнесенное «Бога ради!» Онъ понялъ это не такъ, какъ .слѣдовало: ему показалось, что его женѣ дурно, и онъ бросился къ ней на помощь, но, спѣшно войдя въ комнату, онъ застала. Нелле-грину и Фебуфиса сидящими на диванѣ слишкомъ тихими и въ слишкомъ далекомъ другъ отъ друга разстояніи.
Онъ посмотрѣнъ на нихъ, они на него, и всѣ трое не сказали другъ другу нп слова.
И Пикъ стоялъ, а тѣ двое продолжали сидѣть другъ отъ друга слишкомъ далеко, въ противоположныхъ концахъ дивана, и вездѣ, по всей комнатѣ, слышно было, какъ у нихъ у всѣхъ у трехъ въ груди бьются сердца, а Пикъ прошипѣлъ: «Какъ все глупо!»—и вышелъ вонъ, ошеломленный, быть-можетъ, одною мечтой своего воображенія, но зато онъ сію минуту опомнился и, сдѣлавъ два шага по ковру, покрывавшему полъ сосѣдней гостиной, остановился. Его такъ колыхало, что онъ схватился одною рукой за мебель, а другою за сердце... Вокругъ была нѣсколько минутъ жуткая тишина и только потомъ до слуха Пика долетѣлъ тихій шопотъ:
— Для чего вамъ было садиться такъ далеко?
Это говорила букашка и говорила съ укоризною... Фебу-фпсъ въ роли букана былъ сильнѣе потерянъ и молчалъ.
Ее это еще больше разсердило. Пикъ слышалъ, какъ она встала съ дивана и подошла къ столику, и какъ обручаль
ное колечко на миніатюрномъ пальцѣ ея руки тихо звякнуло о граненый флаконъ съ одеколономъ. Пикъ узнавалъ ее по всѣмъ этимь мелкимъ примѣтамъ.
Она, очевидно, входила въ себя и держала себя на уровнѣ своихъ привычекъ, между тѣмъ какъ ея сообщникъ былъ недвижимъ и едва могъ произнести:
— Было бы все равно.
— Совсѣмъ не равно,—отвѣчала наставительно Пелле-грина, уже повышая тонъ до полугодоса.—Люди, которые просто разговариваюгъ, никогда такъ далеко не сидятъ.
Онъ тоже хотѣлъ ободриться п съ у лыбкою, слышною въ шопотѣ, спросилъ:
— Здѣсь это не принято?
Но она совсѣмъ уже полнымъ голосомъ повторила:
— Не принято!.. Гораздо важнѣе—это не то, что здп& «не принято», а то, что это вездѣ негспіестві.нноі
II съ этимъ она поставила на уборный столъ флаконъ и. вьроятно, хотѣла идти вслѣдъ за мужемъ въ тѣ самыя двери, въ которыя онъ вышелъ, но Пикъ предупредилъ ее: онъ бросился впередъ, схватилъ въ передней свой плащъ и шляпу и выбѣжалъ на улицу. На дворѣ уже темнило и лилъ проливной дождь. Пикъ ничего этого не замѣчалъ; онъ шелъ и свисталъ, останавливался у угловъ, не зная, за который изъ пихь поворотить, и потомъ опять шель и свисталъ, и вдругъ расхохотался.
— II это я ей говорилъ. Я ей объяснялъ, чго букашка п что букані! II это она увѣряла меня, какъ она не понимала, чтб съ нею дѣлаютъ, и затрепетала! II это я шпалъ Маку о здѣшнихъ женщинахъ, какъ онѣ наивны!.. Чтб могъ я понять въ этомъ омутѣ, въ этой поголовной лжи?.. Что я могу понять даже теперь? Впрочемъ, теперь я понимаю то, чтб я не хочу здѣсь оставаться ни дня, ни часа, ни минуты!
11 съ этихъ поръ онъ исчезъ безслѣдно.
Внутренній Шеръ доложилъ герцогу объ исчезновеніи Ппка въ числь обыкновенныхъ полицейскихъ событій. Все, чтб предшествовало этому загадѵчному исчезновенію и чтб было его настоящею причиной, осталось для всѣхъ постороннихъ неизвѣстнымъ. Ко гда же всѣ розыски Пика въ предѣлахъ герцогства оказались безуспѣшными, герцогъ призвалъ Фебуфиса и спросилъ:
— Чтб ты знаешь о своемъ товарищѣ?
— Ничего, ваша свѣтлость.
— А въ какомъ положеніи его жена? Она, можетъ быть, уже вдова и у нея нѣтъ права на пенсію?
— Если, ваша свѣтлость, повелите,—вкрадчиво вставилъ Шеръ.
— Да, — отвѣчалъ герцогъ:—я повелѣваю. И, кстати, пусть ее тоже опредѣлятъ воспитательницей тамъ, гдѣ она сама училась. Это будетъ пріятно герцогинѣ.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Исчезновеніе Пика, однако, чувствительно ударило по сердцу Фебуфиса, и Пеллегрина перестала ему больше нравиться, а притомъ совершилось еще другое. Сопровождая герцога, онъ посѣтилъ одинъ богатый торговый городъ, въ ратушѣ котораго имъ былъ данъ роскошный балъ. На этомъ балѣ, въ числѣ многихъ красивыхъ женщинъ, появилась молодая дѣвушка классически строгой и поразительной красоты. Ее звали Гелія. Она была дочь мѣстнаго богатаго негоціанта, имѣвшаго дѣла со всею Европой. Красота ея бросилась всѣмъ въ глаза п сразу Фебуфиса плѣнила. Это замѣтилъ герцогъ, и тутъ же спросилъ его:
— Чтб ты о ней скажешь?
— Ваша свѣтлость,—отвѣчалъ Фебуфпсъ:—о ней можно сказать только, какъ говорятъ на Востокѣ: «глазъ смертнаго не можетъ видѣть такое совершенство безъ готовности умереть за него».
Герцогу понравилась восточная фраза: онъ, почитавшій себя покровителемъ вѣры, самъ любилъ иногда пустить въ ходъ что-нибудь въ библейскомъ родѣ, и въ данномъ случаѣ онъ тоже скомпоновалъ что могъ: онъ похлопалъ Фебуфиса по плечу и сказалъ:
— Эге, смертный, я вижу, ты еси уже уязвленъ сею красою. Бойся заболѣть, но, впрочемъ, при мнѣ и сія болѣзнь можетъ оборотиться не къ емерти, а къ славѣ... только сумѣй ей понравиться.
— Ваша свѣтлость, смертный не дерзаетъ и думать о томъ, чтобы понравиться такой красавицѣ.
—• Прекрасно сказано: можетъ-быть, ей даже и нельзя понравиться, потому что она, какъ единственная дочь богатаго отца, избалована и хватила хваленой цивилизаціи за границею. Говорятъ, она холодна, какъ Діана.
— Вотъ изволите видѣть!
— Да, да,—Діана, и даже ходитъ одна съ огромнымъ псомъ. II притомъ, она умна... и даже, кажется, что-то пишетъ... Іі вотъ именно объ искусствѣ... Она тоже живописецъ и училась у Каульбаха. Но, главное, отецъ въ ней не слышитъ души, и она очень своевольна. Но, надѣюсь, я здѣсь хозяинъ и могу кое-что сдѣлать. Хочешь, я ее за тебя посватаю?
Фебуфисъ, сложивъ руки на груди, съ улыбкою поклонился герцогу и произнесъ:
— Пощадите, ваша свѣтлость!
— А вотъ же посватаю и высватаю: это дѣло мое, а ты знай самъ средство, какъ съ нею обходиться.—и съ этимъ онъ прямо съ мѣста направился къ отцу красавицы, взялъ его подъ руку въ сторону и сталъ просить у него руки дочерн для жениха, котораго онъ рекомендуетъ.
Фебуфисъ былъ какъ на иголкахъ, но около него быль Шеръ; онъ его успокоивалъ и шепталъ ему:
Ничего не выйдетъ; у ея отца, у этого стараго Фрица въ головѣ преогромный павлинъ: онъ собитъ дочкѣ мужа милліонера или маркграфа.
Отецъ красавицы, которую звали Гелія, былъ сытый и рослый бюргеръ съ надменнымъ лицомъ, напоминающимъ лицо герцова Веллингтона, слыль за страшнаго богача и жилъ роскошно. Однако, обращаясь въ сторонѣ отъ дворскихъ обычаевъ и притомъ въ торговомъ кружкѣ, въ которомъ онъ имѣлъ первенствующее значеніе, онъ не отличался находчивостью и былъ взятъ врасплохъ; онъ слыхавъ, что такимъ сватамъ не отказываютъ, и не успѣлъ сказать ни да, ни ні>гъ, какъ «сватъ» уже помянулъ къ себѣ жениха. Это обѣщало дрянную игру: два головные павлина сшибались: отецъ отца Фебуфиса былъ приказчикомъ у отца стараго Фрица, Фрицъ не могъ желать себѣ такого зятя, но, тѣмъ не менѣе, сухое и даже немножко надменное согласіе было дано. Герцогъ поднялъ бокалъ за здоровье жениха и невЬсты, и они были помолвлены. Негоціанты порта были этимъ удивлены и обижены,—на всѣхъ лицахъ было замѣтно неудовольствіе, а Шеръ, принеся свое поздравленіе отцу невѣсты, отошелъ въ амбразуру окна и, доставъ изъ кармана агенду, написалъ поіа Ъепе, по которой тайной агряіурѣ слѣдовало пошарить вездѣ, гдѣ воз
можно: все ли благополучно въ дѣлахъ почитаемаго въ милліонерахъ Фрица? Его уступчивость казалась Шеру подозрительною. Дѣвушка не протестовала нимало, но съ первыхъ же минутъ показала своему женпху холодное презрѣніе, а, тѣмъ не менѣе, вскорѣ же съ царственною пышностью была отпразднована ихъ свадьба. Невѣсту, которая все продолжала держать себя въ строгомъ чинѣ, подвелъ къ алтарю самъ герцогъ и оставался первымъ гостемъ на пирѣ, гдѣ присутствовала вся знать столпцы, но присутствовала также незримо и Немезида...
Негоціантъ ничего не опредѣлилъ дочери, но можно было думать, что онъ дастъ большое приданое, а герцогъ, который «любилъ награждать», конечно, доставитъ многостороннія другія выгоды,—вышло, однако, такъ, что все это было в фугъ испорчено на первыхъ порахъ. Недобрымъ предвѣстіемъ всего было письмо, которое Фебуфисъ нашелъ у себя на столѣ въ то время, когда привезъ къ себѣ молодую супругу и оставилъ ее на короткое время въ ея художественно отдѣланной половинѣ. Письмо было написано какою-то злою и мстительною женщиной: въ немъ извѣщали Фебуфиса, что онъ великолѣпно надутъ, что онъ получилъ жену съ большими претензіями и безъ всякихъ средствъ- что тесть его, слывущій за мичліонера, на самомъ дѣлѣ готовый банкротъ, ищущій спасенія въ дорого цѣнимой имъ уступкѣ; что бракъ этотъ со стороны Геліи есть жертва для спасенія отца, а Фебуфисъ отъ всего этого получитъ право ужинать всегда безъ послѣдняго блюда.
Фебуфису показалось, что это писала Пеллегрина. Онъ зналъ, что букашка чертовски скрытна, ловка и мстительна, а притомъ она, кажется, успѣла стать слишкомъ знакома съ внутреннимъ Шеромъ и умѣла узнавать у него кое-что изъ его ежедневныхъ упражненій въ подпечатываніи и чтеніи писемъ, ввѣряемыхъ почтовой пересылкѣ.
Маленькая, изящная Пеллегрина могла знать тайности, но ей также ничто не мѣшало и лгать, и клеветать на людей. Эта женщина—живое и мерзкое воспоминаніе, при которомъ является уколъ въ сердцѣ и. мелькаетъ передъ глазами тѣнь маленькаго Пика.
Теперь это случилось какъ нельзя больше не вб-время. Теперь это надо рѣшительно прочь.
Онъ наскоро сунулъ смутившее его на минуту письмо
бъ карманъ изящнаго спальнаго жакета изъ мягкой восточной матеріи и въ легкихъ восточныхъ туфляхъ спустился пзъ мастерской внизъ къ женѣ, спальня и уборная которой были устроены въ тѣхъ самыхъ покояхъ, которые занималъ въ этомъ казенномъ домѣ Пикъ и его Пеллегрина.. Спальня Геліи приходилась именно въ той самой комнатѣ, гдѣ Фебуфисъ писалъ портретъ Пеллегрины и скомпрометировалъ ее, сѣвши слишкомъ далеко отъ нея на диванѣ.
Это все опять ему ненадлежаще вспомнилось, когда онъ съ изящною ночною лампочкой въ рукѣ проходилъ по мягкому ковру той комнаты, гдѣ стоялъ Пикъ, держась рукою за сердце и выслушивая изъ собственныхъ устъ жены сознаніе въ ея поступкѣ и въ ея чертовской опытности и органической любви къ обману.
Фебуфисъ тряхнулъ своими порѣдѣвшими кудрями, какъ бы отгоняя воспоминанія, и положилъ руку на массивную бронзовую фигуру дракона, служившую ручкою двери въ женину спальню.
Сію минуту енъ увидитъ свою великолѣпную Гелію...
Сердце его усиленно билось, но дверь не подавалась... она была заперта. Быть-можетъ, это ему такъ только кажется; быть-можетъ, онъ неловко берется. Онъ надавилъ ручку сильнѣе, и теперь несомнѣнно убѣдился, что дверь заперта изнутри на ключъ. Значитъ, полученное неизвѣстнымъ путемъ письмо предупреждало его кое о чемъ вѣрно... свадебный ниръ его конченъ, и онъ. какъ дитя, оставленъ «безъ послѣдняго блюда».
Онъ былъ въ нерѣшимости, чтб ему дѣлать: встряхнуть дверь и звать жену такъ, чтобы она должна была откликнуться, плп выдержать себя и на первыхъ же порахъ наказать ея ни съ чѣмъ несообразный капризъ пренебрежительною холодностью?
Первое угрожало шумомъ и скандаломъ, который могъ дойти до ушей прислуги и сдѣлать его смѣшнымъ въ передней, на кухнѣ н въ мелочныхъ лавкахъ, откуда потомъ придетъ слухъ и въ гостиныя... Второе... еще можетъ кь чему-нибудь вывести.
Онъ предпочелъ второе и возвратился спать въ свою мастерскую.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Утро второго дня было для Фебуфиса тяжело неимовѣрно. Начало семейной жизни его не радовало, и онъ всталъ, ощущая никогда ему до сихъ поръ неизвѣстный страхъ передъ женщиной... прекрасною, строгою и чертовски холодною женщиной, избалованности и капризамъ которой, очевидно, нѣтъ мѣры, точно такъ же, какъ не видно мѣры ея упорству и самообладанію, которыхъ совсѣмъ нѣтъ у Фебуфиса.
Но обстоятельства требовали, чтобы онъ показалъ нѣкоторое самообладаніе, и онъ рѣшился сдѣлать надъ собою твердыя усилія. Онъ сошелъ въ столовую, гдѣ имѣлъ привычку пить свой утренній кофе, и, къ удивленію своему, засталъ здѣсь, за столомъ, совершенно одѣтую жену, передъ которой была англійская книга, а у ногъ ея лежала ея огромная черная собака Рапб. Супруги повидались холодно, какъ знакомые. Гелія не обнаружила ни малѣйшаго замѣшательства и даже дала замѣтить мужу, что она его нѣкоторое время ожидала за кофе. Онъ хотѣлъ разразиться, но вмѣсто того извинился, сдѣлалъ нѣсколько незначительныхъ вопросовъ и нѣсколько разъ посмотрѣлъ на чернаго Рапб. Его занимало: когда и кто привелъ въ его домъ эту собаку, имѣвшую чрезвычайную привязанность къ Геліи, а къ нему—возымѣвшую съ первой встрѣчи глухое личное неудовольствіе, способное, при всякомъ удобномъ поводѣ, перейти въ открытую непріязненность? Фебуфисъ даже но вытерпѣлъ и полюбопытствовалъ:
— Когда сюда перебрался Рапб?
Гелія отвѣчала, что Рапб пришелъ вчера съ ея вѣрною служанкой.
«Рапб и вѣрная служанка!.. Недурнены ія штучки для начала», подумалъ Фебуфисъ п затѣмъ спросилъ:
— А гдѣ вы нашли для него здѣсь помѣщеніе?
— Его помѣщеніе, какъ всегда, при мнѣ.
- - Нѣтъ, гдѣ онъ спалъ?
—- На коврѣ, въ ногахъ у моей постели.
«Какова штучка!» подумалъ Фебуфисъ и всталъ, чтобы привѣтствовать двухъ близкихъ родныхъ жены, пріѣхавшихъ сдѣлать ей обычный визитъ на другое утро послѣ брака.
Фебуфисъ былъ радъ ихъ приходу, чтобы избавиться отъ
сообщества, въ которомъ ему становилось тяжело, и, въ то-же время, показать первое проявленіе и своего равнодушія, п своего самообладанія.
Онъ мало поговорилъ и, вставъ, направился къ себѣ въ мастерскую; но, при поворотѣ на коврѣ., наткнулся па Раш > и чуть не упалъ.
Онъ видѣлъ, что гости и его жена сдѣлали надъ собою усиліе, чтобы не засмѣяться его полету и смѣшному взмаху, который онъ сдѣлалъ руками.
Одинъ Рапб поглядѣлъ на него серьезно и грустно, безъ унизительной ироніи, и, звучно вздохнувъ изъ глубины своей собачьей души, точно хотѣлъ сказать: «Ахъ, уйди, тебѣ здѣсь не мѣсто!»
Фебуфисъ, съ своей стороны, подумалъ: <Я эту собаку непремѣнно убью», и затѣмъ онъ прошелъ къ себѣ въ мастерскую, одновременно чувствуя и бѣшенство, н неотразимую потребность удерживаться, п вдругъ онъ схватилъ кисти и началъ работать.
Съ этихъ поръ мастерская, этажомъ выше жилья, сдѣлалась его постояннымъ пріютомъ. Онъ точно вышелъ изъ дому безъ спора и безъ боя, самъ не замѣтивъ, какъ это СЛ) чи.іось.
Онъ дѣлалъ съ женой визиты; былъ съ нею на завтракѣ, ть замкѣ, у герцога, причемъ герцогъ, поздравляя Гелію, поцѣловалъ у ней руку въ присутствіи герцогини. Потомъ у нихъ былъ родственный обѣдъ, за когорымъ Фйбуфйсъ. убѣдился, что отецъ его жены не дастъ дочери ничего, а что всѣ прочіе ея родственники совсѣмъ даже и не намѣрены почитать его за замѣчательнаго человѣка. Они нимало не скрываютъ, что смотрятъ на него просто какъ на герцогскаго фаворита, до котораго они снизошли случайно,, по обстоятельствамъ, о которыхъ онъ пойметъ въ свое время и для которыхъ обязанъ будемъ поработать. Вообще современемъ ему скажутъ, что дѣлать. За обѣдомъ послѣдовалъ. балъ, на которомъ, въ блестящей свитѣ, прошелъ герцогъ, и опять уже не разъ, а два раза попѣловалъ руку Геліи.— здороваясь и прощаясь,—и сидѣлъ съ ной одной пять ми-путъ въ уединенной, маленькой гостиной, изъ которой, по принятому эіикету, въ эти минуты всѣ вышли. Потомъ онъ подарилъ, по старинѣ, вниманіемъ п Фебуфиса. Онъ сирость его:
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. XXXI.
11
— Счастливъ?
Фебуфисъ поблагодарилъ за вниманіе.
— То-то!—пошутилъ герцогъ и, улыбаясь, шепнулъ ему на ухо:- Будь териѣливъ и уповай на Бога.
«Что за дьявольщина’--поду малъ, провожая герцога, Фебуфисъ.—Во что, въ самомь дѣлѣ, онъ не вмѣшивается, чего онъ только не знаетъ и о чемъ онъ не говоритъ!.. Какъ его много! Какъ его вездѣ чертовски много!»
II вдругъ онъ остановился на мѣстѣ и зашатался. Онъ вдругъ ясно увидѣлъ, что его жена любовница герцога.
Съ Фебуфисомъ сдѣлался обморокъ, и довольно странный обморокъ, въ которомъ продолжалось сознаніе.
ГІАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Этого, можетъ-быть, только пе видятъ другіе, или. наоборотъ, это видѣли и видятъ всѣ, кромѣ его. Онъ настоящій, форменный мужъ, который узнаетъ о своемъ позорѣ самый послѣдній и потомъ смиряется и сноситъ это изъ ложнаго стыда или выгодъ, но вотъ тутъ ужъ ошибка,— этого одного ужъ ни за что не будетъ съ Фебуфисомъ. Этого онъ не снесетъ ни за какія выгоды въ мірѣ. Онъ это разъяснитъ и разрубитъ все сейчасъ, сію минуту. II всѣ условія емѵ благопріятствовали—обморокъ сокрылъ отъ него разъѣздъ гостей и окончаніе бала. Придя окончательно въ чувство, Фебуфисъ увидѣлъ себя въ полумракѣ, на кушеткѣ, въ будѵарѣ жены. Сюда перенесли его гости, при которыхъ онъ упалъ въ дурнотѣ, проводивши герцога. Гелія стояла передъ нимъ, возлѣ нея была ея «вѣрная служанка» и невдалекѣ отъ нея. глядя ей въ глаза, лежалъ не менѣе вѣрный Рапб. Огни во всѣхъ апартаментахъ были потушены и въ домѣ была тишина: сквозь складки оконныхъ занавѣсъ виднѣлась звѣзда, меркнувшая въ предразсвѣтной синевѣ неба.
Фебуфисъ остановилъ взглядъ на служанкѣ и сказалъ: — Зачѣмъ она здѣсь?
1 елія сдѣлала легкое движеніе головой, и женщина вышла.
— Могу ли я сдѣлать вамъ одинъ вопросъ? — сказалъ Фебуфисъ.
— Конечно,—отвѣчала Гелія.
— О чемъ съ вами говорилъ наединѣ герцогъ?
Гелія сдвинула брови и покраснѣла. Фебуфисъ мгновен.чо сорвался съ мѣста и вскрикнулъ:
— Я хочу это знать!
- Онъ говорилъ со мной объ одномъ дѣлѣ моего отца. — О какомъ дѣлѣ?
— Я не должна этого никому сказать.
— Ото неправда!., это ложь!.. Вы его любовница!
Краска мгновенно сбѣжала съ лица Геліи п замѣнилась болѣзненною блѣдностью.
— Да, — продолжалъ Фебуфисъ: я васъ поймалъ... я васъ открылъ, я теперь понимаю ваше поведеніе, н вотъ... вотъ...
— Что вы хотите?
— Ничего!.. Отъ васъ ничего... Пеняли?
— Поняла.
— Прекрасно!.. Мнѣ не нужна герцогская любовница!1
- Да!
— Да. Вы должны были, по крайней мѣрѣ, раньше мнѣ сознаіься въ этомъ.
— Пдпте-жъ вонъ отсюда!.. Сейчасъ же вонъ, или... эта собака перекусить вамъ горло!
-— Я вонъ... я?!
— Да, вы... В шъ, сынъ приказчика моего дѣда!
— О,—протянулъ Фебуфисъ, въ головѣ, котораго его собственный павлинъ вдругъ распустилъ всѣ свои перья:— такъ вы вотъ какъ на меня рмотркте! Я вамъ покажу, кто я!
И онъ, задыхаясь и колеблясь отъ гнѣва на ногахъ, пошелъ въ свою мастерскую, но онъ не легъ спать, — его пожирала простая физическая жажда мщенія,—онъ сошелъ опять внизъ, взялъ изъ буфета двѣ бутылки шампанскаго и обѣ ихъ выпилъ, во все время безпрестанно волнуясь и іо такъ, то иначе соображая свое положеніе. Онь непремѣнно хотѣлъ что-то сдѣлать, и не зна.іь, что ему дѣлать. Въ этомъ уплылъ остатокъ ночи п въ окнахъ сѣрѣлъ разсвѣтъ непогожаго дня.
Фебуфисъ сталъ приходить въ другое, мирное настроеніе: онъ чувствовалъ теперь потребность сказать женЕ,— холодно и не роняя своего достоинства,—что они навсегда будутъ чѴжды другъ другу, п рѣшить сообща съ нею, какъ имъ держать себя, пока они найдутъ наймете скандалезный выходъ. Это будетъ холодное, дѣловое объясненіе, но его надо сдѣлать немедленно, сейчасъ, чтобы ни онъ, ни
она не предприняли ничего несоотвѣтственнаго порознь п чтобы съ сердца разомъ скорѣе сбросить то. что такъ тяжело и гадко.
Но двери ея спальни, конечно, опять уже заперты, и если она ихъ опять не отопретъ?.. Ему надо было, просто, уходя, вынуть ключъ, по онъ не догадался. Но онъ ее заставитъ отпереться Онъ не будетъ стучать и ломиться, какъ ревнивый портной, а онъ ее убѣдитъ... онъ ее образумитъ. Такъ илы иначе, она ему отопретъ и его выслушаетъ... А иначе... онъ сдѣлаетъ чортъ знаетъ что!
Онъ выпилъ еще залпомъ, одинъ за другимъ, два стакана шампанскаго, взялъ съ камина флаконъ со скипидаромъ и сталъ спускаться съ лѣстницы. Онъ не чувствовалъ себя пьянымъ и, въ самомь дѣлѣ, онъ не былъ пьянъ. Онъ ни скоро, ни тихо подошелъ къ жениной спальнѣ, которая, дѣйствительно, оказалась запертою, спокойно тронулъ ручку двери и произнесъ спокойнымъ голосомъ:
—- Я прошу васъ меня извинить и не отказать мнѣ выйти ко мнѣ въ эту комнату: мы должны сейчасъ объясниться.
Гелія не отвѣчала.
— Я хочу знать, слышите ли вы. что я вамъ говорю?
— Слышу.
— Одѣньтесь и выйдите. -Это важно для моей и вашей жизни.
Молчаніе.
— Я вамъ даю слово, что вы пе услышите ни одного груба ю слова. Не бойтесь меня.
Ему слышалось, что она какъ-будто ходитъ п что-то дѣлаетъ, но па его слова не отвѣчаетъ.
— Я вамъ даю слово, что вамъ меня не должно бояться.
Она отвѣтила: «я не боюсь», и опять слышались ея шаги и движеніе.
«Она ждетъ служанку и хочетъ уйти діугимъ ходомъ!»
Это его взбѣсило.
— Вы не отворите?!—вскричалъ онл>, послѣ нѣсколькихъ словъ, оставленныхъ безъ отвѣта.
Гелія снова молчала.
— А, въ такомъ случаѣ, я сейчасъ сожгу васъ въ вашемъ затворѣ.
Съ этимъ онъ плеснулъ скипидаримъ на портьеры п зажегъ ихъ п въ полномъ безуміи бросился къ другому выходу изъ спальни, но въ это же мгновеніе осажденная повернула ключъ и, открывъ двери, предстала въ пылающей рамѣ горящихъ портьеръ. Она была въ мантильѣ и въ платьѣ, съ головой, покрытой кружевною косыню-й. Этого Фебуфпсъ не ожидалъ и вскрикнулъ:
— Куда вы?
Она только смѣрила его глазами п сдѣлала шагъ впередъ.
Тогда онъ, забывъ все, кинулся, чтобы остановить ее, но она на все это была готова: она вынула изъ-подъ мантильи руку и подняла прямо противъ его лица маленькій, щегольскій пистолетъ.
— Я этого не боюсь! вскричалъ Фебуфисъ.
-— А я требую только, чтобы вы до меня не касались.
Изъ одуманенной бѣшенствомъ и, можетъ быть, отчасти виномъ головы Фебуфиса выскочилъ сразу весь піанъ его мирныхъ и благородныхъ дѣйствій. Не успѣла его жена пройти черезъ залу, какъ онъ догналъ ее у второй двери и схватилъ ее сзади за мантилью. Гелія ударилась вискомъ о рѣзной шпингалетъ и, вскрикнувъ отъ боли, рванулась и убѣжала... Въ рукахъ Фебуфиса осталась только ея мантилья. Жена ущ.іа... стало пусто: на полу лежала большая золотая шпилька, вершка въ четыре длиной, какія носили по тогдашней модѣ, и на узорчатомъ шпингалетѣ двери вѣялись, тихо колеблясь, нѣсколько длинныхъ и тонкихъ, шелковистыхъ черныхъ волосъ.
Гелія выбѣжала изъ мужнина дома, какъ изъ разбойничьяго вертепа, въ одномъ платьѣ, и безотчетно пошла, какъ нѣкогда шелъ куда-то обиженный Пикъ. Она не замѣчала ни окружавшей ее стужи, ни вѣтра, который трепалъ ея прекрасные волосы и билъ въ ея красивое, негодующее лицо мелкими искрами леденистаго снѣга.
Въ умѣ Геліи быю идти прямо къ герцогу и сказать ему:
— Защитите меня отъ обиды и. если вы рыцарь,—какъ о васъ говорятъ, -скажите, что я не была вашею любовницей и отмстите за мою честь.
Она вѣрила, что она должна и можетъ это сказать, что она это непремѣнно скажетъ, и что одъ защититъ ее какъ рыцарь.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Не давая себѣ отчета, хорошо пли дурно она думаетъ, Гелія очутилась у герцогсьаго замка. Выросши въ торговомъ городѣ, жившемъ болѣе во внѣшнихъ политическихъ сношеніяхъ съ Европой, чѣмъ съ своимъ правительственнымъ центромъ, Гелія имѣла очень недостаточныя понятія о томъ, какъ можно и какъ нельзя говорить съ герцогомъ; но и это послужило ей въ пользу, пли, быть-можетъ, во вредъ, какъ мы увидимъ йотомъ, при развитіи нашего повѣствованія.
Въ збмкѣ и вокругъ замка герцога жизнь начиналась по-военному, то-есть очень рано, и въ тотъ ранній часъ, когда Гелія показалась у подъѣзда герцога, тамъ уже стояла, запряженная для него лошадь.
Гелія пошла прямо къ подъѣзду и стала у колонны. Дежурившій у подъѣзда офицеръ настоятельно просилъ ее удалиться и особенно указалъ ей на сопровождавшую ее собаку.
Гелія слабо понимала рѣчь того языка, па ксаоромъ говорили въ столицѣ герцогства, но поняла указанія на, Рапб и нетерпЕливо взглянула на него глазами.
Тяжелый и сильный звѣрь поднялся и пошелъ прочь за, уголъ главной площадки замка.
— И вы сами тоже должны удалиться,—сказалъ офицеръ, но прежде чѣмъ онъ успѣлъ настоять на этомъ, массивная дверь быстро распахнулась и появился герцогъ. Гелія къ нему бросилась, какъ дитя и, въ то же время, какъ увѣренная въ своемъ достоинствѣ женщина.
Герцогъ остановился: вѣтеръ сильно перебивалъ ея лепеть.
Она говорила, но онъ не понималъ ея и... не узнавалъ ея.
Она въ отчаяніи закрыла лицо руками.
Герцогъ еще отодвинулся и приложилъ ладонь надъ глазами.
Гелія упала на колѣни и на этотъ разъ твердо сказала:
— Молю васъ, спасите.
— Что нужно?—спросилъ грозно герцогъ.
11 въ этотъ же мигъ онъ узналъ Гелію и ужаснулся.
— Это вы, Гелія! Что сь вами случилось?
II онъ подался къ ней ближе и закрылъ ее отъ вѣтра и снѣга полою своего плаща.
— Ваша свѣтлость! — простонала она: — была лн я вашею любовницей?—и. зарыдавъ, оні не могла продолжать далѣе.
Герцогъ замѣтилъ, что она шатается, п подхватилъ ее подъ руки.
— Кто смѣлъ сказать это?
— Вы меня выдали замужъ,—произнесла Гелія.
— Ну, да!.. Что-жъ дальше?
Гелія протянула къ герцогу руку, въ которой былъ пп-столетъ, и сказала:
— Прикажите скоріе взять меня въ тюрьму.
— За что?
— Я сейчасъ хотѣла убить моего мужа.
— За что?
Она плакала.
— Говорите скорѣе, за что?
— Онъ хотѣлъ меня сжечь: онъ обращается со мною какъ разбойникъ!
И, произнося каждое слово, она колебалась на ногахъ п вдругъ совсѣмъ пошатнулась въ сторону.
Герцогъ плотнйе прикрылъ ее плащомъ и сказалъ:
— Смотрите... правда ли это?
Вмѣсто отвѣта, Гелія взяла холодною рукой руку герцога и приблизила ее къ своей головЬ.
На бѣлой замшевой перчаткѣ герцога остались капля крови и нѣсколько глянцовитыхъ и тонкихъ черныхъ волосъ.
Изъ груди его вырвался звукъ ужаса и негодованія.
— Злодіш!—вскричалъ герцогъ: — онъ будетъ страшно наказанъ!
Съ этими словами, задыхаясь п сверкая глазами, разгнѣванный герцогъ всхлипнулъ и йотомъ отечески обнялъ молодую красавицу, и, почу вствовавъ, что она падаетъ, поднялъ ее, какъ дитя на рукщ поцѣловалъ въ темя и съ этов? ношей возвратился назадъ въ двери замка.
Оглавленіе
XXXI ТОМА.
С1Г.
Печерскіе антики. (Отрывки изъ юношескихъ воспоминаній). . 3
Чортовы куклы. (Главы изъ неоконченнаго романа).................90
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Н. С. ЛЕСКОВА.
ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ
съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементков-скаго н съ приложеніемъ портрета Лескова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ ЛспіщпгЬ.
ТЭМ'Ь ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ.
—---
Приложеніе къ журналу „Нива" на 1803 г.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ІІздалхіо А. «X». ЭХАРКСА<
1903.
Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измі.ііл. пр., № 29.
БЛУЖДАЮЩІЕ ОГОНЬКИ.
(АВТОБІОГРАФІЯ ПРАОШЕВл).
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Я думаю, что я долженъ непремѣнно написать свою повѣсть, пли лучше сказать — свою исповѣдь. (Такъ начинается эда автобіографія.) Мнѣ ото кажется вовсе не потому, чтобы я находилъ свою жизнь особенно интересною и назидательною. Совсѣмъ нѣтъ: исторіи, подобныя моей, по частямъ встрѣчаются во множествѣ современныхъ романовъ—и я, можетъ-быть, въ значеніи интереса новизны, не разскажу ничего такого новаго, чего бы не зналъ пли даже не видалъ читатель, но я буду разсказывать все это не такъ, какъ разсказывается въ романахъ — и это. мнв кажется, можетъ составить нѣкоаорый интересъ и даже, пожалуй, новость, и даже назиданіе.
Я не стану усѣкать однихъ и раздувать значеніе другихъ событій: меня къ этому не вынуждаетъ искусственная и неестественная форма романа, требующая закругленія фабулы и сосредоточенія всего около главнаго центра. Въ жизни такъ не бываетъ. Жизнь человѣка идетъ какъ развивающаяся со скалки харіія, и я ее такъ просто п буду развивать лентою въ предлагаемыхъ мною запискахъ. Кромѣ того, здѣсь, можетъ-быть, представить нѣкоторый интересъ, что эти заппскп писаны человѣкомъ, который не будетъ жить въ то время, когда его записки могутъ быть доступны для чтенія. Авторъ уже теперь стоитъ выше всѣхъ предразсудковъ пли предвзятыхъ задачъ всякихъ партій и направленіи и ни съ кѣмъ не хочетъ заигрывать; а это, на
дѣюсь, встрѣчается пе часто. Я начну свою повѣсть съ дѣтства, съ самыхъ первыхъ своихъ воспоминаній: иначе нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для осязательнаго изображенія характеровъ и духа человѣка начинаютъ свои романы съ дѣтства героевъ и героинь. Ребенокъ есть тотъ же человѣкъ въ миніатюрѣ, которая все увеличивается.
«Дитя—это отецъ будущаго человѣка», говорятъ любящіе эффектъ французы, а здравый смыслъ нашихъ предковъ еще глубже и проще выразилъ это поговоркою: «каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку».
Итакъ, прежде чѣмъ вы наступите па мою отшельническую могилу, не откажитесь подойти къ моей дѣтской колыбели,—иначе, я боюсь, вы, какъ и другіе, будете недоумѣвать: зачѣмъ я очутился въ скитѣ?
Поэтъ Бенедиктовъ, произведеніями котораго я вдохновлялся въ дпи моей юности (я былъ юнъ тогда, когда еще юноши любили поэзію), однажды напугалъ меня. Вычитавъ у него, что «счастье наше» не что иное, какъ «перлъ, опущенный па дно», и что «кто лѣниво влагу тянетъ и боится что хмѣльна», то «слабый смертный, не достанетъ онъ жемчужнаго зерна», я плѣнился другимъ образцомъ, образцомъ человѣка, который, «согрѣвъ въ душѣ отвагу, вдругъ изъ чаши до чиста гонитъ жизненную брагу въ распален-пыя уста». Я съ дѣтства уже приспособлялся припасть—и безъ передышки, безъ удержа, выпить мою чашу, достать со дна ея завѣтный перлъ, и я ее выпилъ и—слышу падь собою:
Вотъ счастливецъ! дотянулся;
Чашу разомъ 6-зе.мь хлопъ...
Браво, браво! оглянулся, А за нимъ отверстый гробь.
Да, это такъ: за мной отверстый гробъ — и въ виду сг° я обращуся къ моей колыбели и попробую разставить легкія вѣхи для обозначенія моихъ скитальничествь между двумя крайними точками бытія.
Я былъ странный путникъ: бодрый, по неудержимо стремящійся впередъ, я безпрестанно терялъ тропу, путался, и когда я хотѣлъ поправиться, то выходило, что я не зналъ куда повернуть и еще хуже запутывался. Единственный поворотъ, сдѣлавъ который .я немножко оріентировался,
иго— тропа въ спятъ. Только усѣвшись зді'.сь, въ этой сгарой быііікі., гдѣ догораетъ моя лампада, послѣ думъ во тьміі одинокихъ ночей, я пріучилъ себя глядѣть па г>сс мое прошлое, какъ на тЬ блудящіе огоньки, мерцающіе порою надъ кладбищемъ и болотомъ, которые видны изъ моей келья. Поздно вижу я, что искалъ свѣта и тепла тамъ, гдѣ только былъ одинъ заводящій въ трясину блескъ, п что вмѣсто полной чаши, которую я хотѣлъ выпить, я <вкушая вкусили мало меду и се азъ умираю».
Но начнемъ аЪ оѵо, если не съ самой колыбели, то хоть съ той поры, какъ я себя помню. Эго тоже въ своемъ родѣ моментъ довольно оригинальный п, вѣроятно, пе совсѣмъ такой, какой сберегся у каждаго для перваго воспоминанія.
Я въ первый разъ созналъ свою индпвид; альпость съ довольно возвышенной точки: я держался обѣими руками за ппжніою планку рамы и висѣлъ надъ тротуаромъ за окномъ пятаго этажа.
Случай этотъ былъ нѣкогда предметомъ большихъ толковъ одного густонаселеннаго польскаго города, гдѣ тогда стеялъ кавалерійскій полкъ, которымъ командовалъ мой отецъ; руки мои ослабѣли и готовы были выпустить раму, вдругъ меня за нихъ кто-то схватилъ п втянулъ въ комнату.
Для моихъ родныхъ п домашнихъ навсегда осталось чайною: какъ я очутился за окномъ. Прислуга, смотрѣнію которой я былъ порученъ, увѣряла, что меня сманулъ и вытянулъ за окно бѣсъ; отецъ мой увѣрялъ, что виною всему мое (| антазерство и распущенность, за которыя моя мать терпѣла вѣчныя гоненія; а мать... она- ничего пе говорила п то. ьто плакала надо мпою и шептала:
— Чтб такое дѣлается въ твоемъ маленькомъ сердчишкѣ п въ твоей головенкѣ?
По все это уже было, разумѣется, послѣ, а я буду по-с.іѣдователенъ въ этомъ разсказѣ.
Я вылѣзъ за окно п повисъ на подоконникѣ, когда родителей моихъ пе было дома—и оттого доставленный мною вмъ сюрпризъ имѣлъ сугубый эффектъ: возвращаясь домой въ открытой коляскѣ, они при поворотѣ въ свою улмиу увпдалп массу народа, съ ужасомъ глядѣвшую на домъ, въ которомъ мы жилы,—п, взглянувъ сами по направленію, куда смотрѣли другіе, увядали меня впеящаго па высотѣ
восьми сажень и готоваго ежеминутно оборваться и упасть на тротуарныя шиты.
Съ матушкой сдѣлался тяжкій и глубокій обморокъ, изъ котораго ее едва могли вывесть, межъ тѣмъ какъ отецъ въ это время успѣлъ взбѣжать наверхъ въ свою квартиру и, схвативъ меня за руки, сласти отъ неминуемаго паденія.
Я лучше и яснѣе всего въ жизни помню вечеръ этого дня: я лежалъ въ дѣтской, вь своей кроваткѣ, задернутой голубымъ СІІГЦѵВЫМЪ ПОЛОГОМЪ. Послѣ своихъ эквилибристическихъ упражненій я уже соснулъ крѣпкимъ сномъ — и, проснувшись, слышалъ, какъ въ столовой, смежной съ моею дѣтскою комнатой, отецъ мои и нѣсколько гостей вели, касающуюся м* ня оживленную бесѣду, межъ тѣмъ какъ сквозь ткань полога мн!> быль виденъ силуэтъ матери, поникшей головой у моей кроватки.
— Этотъ мальчишка — какое-то замѣчательное явленіе въ природѣ, говорить мой отецъ, и при этомъ высказалъ опасеніе, что изъ меня современемъ непремѣнно выйдетъ какой-нибудь совершенно неспособный къ жизни фантазёръ.—Всмотритесь вы въ его глаза,—продолжалъ отецъ:— онъ все какъ будто что-то ловитъ взоромъ и къ чему-то стремится... II не забудьте, что этотъ взглядъ у него таковъ съ самой минуты его рожденія. Я помню, когда меня привели къ пеленальномѵ столику, на которомъ его управляла бабка,—он'ь не плакалъ, а превнпмаге.іьно разсматривалъ ея лицо п потомъ, переведя глаза еще выше, началъ еще внимательнѣе разглядывать пестрый трафаретъ комнатнаго карниза. Я тогда же сказалъ: «Э. да это, кажется, въ свЬтъ пришелъ новый верхо.іетъ, которыхъ и безъ него довольно».
— Однако, вы могли въ этомъ ошибиться,—отвѣчалъ ему одинъ изъ гостей и другъ нашего дома.
— Да,—отвѣчалъ отецъ:—но у меня вѣрный глазъ, и я не ошибся. Моя жена,- -даромъ, что она лютеранка,—она вѣрить въ русскаго Бога и привѣчаетъ разныхъ монаховъ и странниковъ, которыхъ я, между нами сказать, терпѣть не могу, но представьте вы себѣ, что одинъ изъ такихъ господъ, какой-то Павлинъ, до сихъ поръ иногда пишущій намъ непостижимыя письма, смыслъ которыхъ становится ясенъ послѣ какого-нибудь непредвидѣннаго событія, недѣли три тому назадъ прислалъ намъ письмо, въ которомъ, между
всякимъ вздоромъ. было оказано: «а плодъ Богу предназначенный Онъ ангеломъ заповѣстъ сохранить во всѣхъ путяхъ и на рукахъ его возьмутъ и не разбіется-. Повѣрьте, я далекъ отъ суевѣрій, п самъ недавно проучилъ одного ксендза, который показывалъ фальшивое чудо.— но я у вѣренъ, что моем; мальчишкГ., когда онъ остался одинъ, здѣсь въ комнатѣ непремѣнно что-нибудь померещилось — п онъ потяпу.кя за этимъ видѣніемъ и очутился за окномъ.
Услыхавъ этотъ разговоръ, я началъ припоминать, какъ это было--и. дѣйствительно. вспомнилъ, что передо мною неслось что-то легкое, тонкое и прекрасное: оно тянуло меня за собою, пли мнѣ только казалось, что оно меня тянетъ, но я бросился къ нему и... очутился въ описанномъ положеніи, между небомъ и землею откуда и начинается рядъ моихъ воспоминаніи.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Огцу, вѣроятно, очень не нравились и мои характеръ, и моя наружность, по крайней мірѣ я привыкъ такъ умозаключать, судя по немногимъ моимъ столкновеніямъ съ виновникомъ моего бытія. Если батюшкѣ приходилось видѣть меня, когда онъ былъ въ духѣ, онъ обыкновенно бралъ меня за ухо и говорил и:
— Учись, братецъ, всему полезному а то. если будешь безполезенъ, я тебя въ уланы отдамъ.
Я этого ѵжасно боялся и ревностно учился всему, чему меня учили.
Если батюшка былъ не въ духѣ. — чтб съ нимъ въ послѣдніе годы его жизни случалось довольно часто,—то тогда онъ просто былъ страшенъ: онъ красн1>лъ въ лицѣ, металъ ужасные взгляды, топоталъ ногами и рвалъ все, что ему попадалось подъ руку. Когда поднималась такая буря, всѣ въ домѣ проникались трепетомъ и старались, какъ птицы передъ грозою, спрятаться куда попало, пока эта буря пронесется. ’Съ отцомъ на это время оставались матушка и старый высокій деніцпкъ. Я не знаю, какъ они ладили съ безмѣрною раздражительностью и вспыльчивостью моего отца, но помню, что при всей моей тогдашней младенческой малосмысленности я постигалъ пхъ величіе—и съ благого-ві піемъ смотрѣлъ въ исполненные небесной кр< гости глаза
моей прекрасной матери и въ маленькое сморщенное лицо денщика, худенькаго солдата Окулова.
Я но знаю, какъ мать и Окуловъ управлялись со вспыльчивостью моего отца, но только онъ имъ повиновался и успокаивался.
Но, наконецъ, выдался случай, кѵіорый и ихъ вліяніе сдѣлалъ безполезнымъ; это было такимъ образомъ: отецъ мой получилъ полкъ, въ которомъ прежде служилъ и съ которымъ былъ во множествѣ сраженій. Полкъ этотъ тогда только-что возвратился изъ похода и находился въ сильномъ безпорядкѣ: люди были дурно одѣты, лошади искалѣчены; а между тѣмъ, ему черезъ мѣсяцъ назначенъ былъ смотръ отъ такого лица, отъ котораго всецѣло зависѣла вся отцова, карьера. Матушку это ужасно встревожило. По обычаю полковыхъ дамъ тогдашняго времени, она достаточно понимала требованія и условія военной службы и знала характеръ лица, которому отецъ мой долженъ былъ вывесть па смотръ свой разстроенный полкъ. Зто былъ человѣкъ но злой и даже, пожалуй, по-своему добрый, но, къ сожалѣніи», чрезвычайно схожій по характеру съ отцомъ моимъ: онъ былъ горячъ, вспыльчивъ и потому весьма часто несправедливъ. Матушка ждала большихъ непріятностей отъ встрѣчи этихъ двухъ характеровъ въ лицѣ подчиненнаго и начальника. Плохой, богадѣльный видъ полка долженъ былъ произвесть самое дурное впечатлѣніе, а никакихъ надеждъ нельзя было возлагать на. то, что осматривающее лицо войдетъ въ разборъ причинъ, поставившихъ полкъ въ такое положеніе. Отцу оставалось: пли отказаться отъ полка, или же обмундировать и ремонтировать его па свой счетъ. Считая первое знакомъ недостойной трусости, отецъ рѣшился на второе; по это требовало большихъ денегъ, которыхъ у моего отца не было и которыхъ опъ ни у кого по могъ занять въ странѣ, гдѣ къ намъ относились враждебно. Тогда мать, всегда бывшая утѣшителемъ ангс-ломь всѣхъ скорбящихъ и сѣтующихъ, поѣхала со мною въ Лифляндію къ бабушкѣ, вдовѣ барона, нѣкогда служившаго въ русский службѣ, — откуда мы и возвратились съ значительною суммою, которой было достаточно на то, чтобы привести нашъ полкъ въ сколько-нибудь приличный видъ. Деньги эти были выручены залогомъ довольно бога-, таю имѣнія, ссставдяви.аю сссс'іьспгость меей бабушки
матери и ея сестеръ. Спѣшный залогъ быль сдѣланъ па самыхъ невыгодныхъ и тяжкихъ условіяхъ, но тягость эта значительно уменьшалась несомнѣнною надеждою- скорой п легкой расплаты. Полкъ тогда давалъ командиру хорошія средства, которыми гнушаться было по въ духѣ времени, а къ тому же вскорѣ послѣ смотра предстояло полученіе ремонтныхъ денегъ, которыя могли съ излишкомъ погасить всю сумму займа. Однимъ словомъ, во всемъ атомъ не предвидѣлось пи малѣйшаго затрудненія—и отецъ мой принялся за дѣло съ свойственною ему неутомимою энергіею. Въ полковыхъ швальняхъ и мастерскихъ кипѣла горячая п безустанная работа, въ которой кромѣ своихъ людей участвовали наемные мастера, какихъ только гдѣ-нибудь могли отыскать въ окружной чертѣ. Подручные люди отца оказывали ему самую ревностную помощь: одни закупали коней, другіе занимались ихъ выѣздкою и обученіемъ, третьи—пригонкою вещей и амуниціи и т. п. Времени до смотра оставалось очень пе много, и потому многое дѣлалось иа-спѣхъ, неаккуратно; па о що затрачивалось болѣе чѣмъ слѣдовало, другое дѣлалось кое-какъ. Будучи самъ человѣкомъ очень честнымъ, отецъ моіі страдалъ излишнею довѣрчивостью и терпѣть по могъ никакой подозрительности; эго благородное свойство его души послужило ему немножко во вредъ: запятыхъ суммъ недостало, и матушка нашлась вынужденною занять еще нѣсколько тысячъ подъ вексель па покупку инструментовъ для полковой музыки. По зато теперь уже все было произведено на славу и притомъ поспѣло въ срокъ къ своему времени. Я помню, какъ, передъ самымъ смотровымъ днемъ, музыканты принесли къ намъ па дворъ старые, измятые и изломанные инструменты п вмѣсто нихъ взяли изъ высокой каменной кладовой блестящія новыя трубы, на которыхъ тутъ же и сыграли передъ .окнами матери «Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ».
Въ прелестныхъ глазахъ матери сіяла безпредѣльная радость и благодарность Небу, Которое помогло ей все это устроить для спокойствія мужа. Опа заплакала—и. выславъ музыкантамъ вина и ассигнацію, бросилась па колѣни и, прижавъ мепя къ своей груди, стала молиться...
Въ эту минуту въ ея комнату взошелъ мой отецъ: онъ былъ очень доволенъ, но озабоченъ и, повидимому, хоткті.
тотчасъ же выйти -назадч,,—но, увидавъ молящуюся мать, самъ сталъ на колѣни, положилъ молча земной поклонъ—-и, восклонясь, обнялъ матушку и меня и, поцѣловавъ насъ обоихъ, сказалъ:
— Каролина! ты самый лучшій ангелъ во всей вселенной, а на землѣ тебѣ нѣтъ подобной женщины.
— Не говори этого, Павелъ, — отвѣчала матушка: — это лесть или заблужденіе, но...—добавила она съ такими особенными слезами, какихъ я никогда прежде не видываіъ:— но объ одномъ тебя прошу: какъ бы ты нп увлекался всѣмъ тѣмъ, что тебѣ, покажется прекраснымъ, не отнимай ни одной капли твоей любви отъ сына.
Съ этпмь матушка пододвинула меня рукою къ отцу, а сама сѣла въ кресла и закрыла глаза своими нѣжными бѣлыми руками.
Отецъ мои показался мнѣ очень смущеннымъ: онъ какв будто застыдился чего-то по поводу приведенныхъ мною краткихъ словъ матери—и, небрежно обнявъ меня, поцѣловалъ въ голову и проговорилъ:
— Да, да; я, братъ Мержулъ, тебя очень люблю, но только ты не будь фантазеръ и учись всему полезному, а то я тебя въ гусары отдамъ.
Эта небольшая семейная сцена имѣла важное вліяніе вь моемъ развитіи, какъ потому, что я изъ нея смутно уразумѣлъ тщательно скрываемую отъ меня драму моихъ родителей, такъ и потому, что это единственная и послѣдняя сцена, въ которой я видѣлъ моихъ родителей въ такихъ задушевныхъ отношеніяхъ.
Я во всю жизнь мою не переставалъ грустить о томъ, что дѣтство мое не было обставлено иначе,— и думаю, что безудержная погоня за семейнымъ счастіемъ, которой я впослѣдствіи часто предавался съ такимъ безразсуднымъ 'азартомъ, имѣла первою своею причиною сожалѣніе о томъ, что мать моя не была счастливѣе,—что въ семьѣ моей не было того, что зовутъ «совѣтъ и .побовь». Я зналъ, что слово «увлеченіе» есть имя какого-то нашего врага.
Увлеченія! Боже мой, какъ печальны ваши слѣдствія и какъ поздно человѣкъ начинаетъ понимать, что, поддаваясь вамъ безъ у іержа, — онъ оскорбляетъ не ту узкую мораль, которая въ разныя времена послушна разнымъ велѣніямъ, а рушитъ вѣковѣчный завѣтъ въ разладѣ съ которымъ
нѣтъ мѣста для счастья*. Но объ этомъ рѣчь впереди; я могу себя утѣшить, что, занимаясь исторіей моей жпзнч, я еще не разъ встрѣчу удобный случай обратиться къ этимъ мыслямъ, -а теперь буду непрерывно продолжать мое повѣствованіе, дошедшее до событія, которое я долженъ назвать первою моею катастрофою.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Я не имѣлъ болѣе ни времени, ни случая наблюдать отношенія моихъ родителей, потому что отецъ мой скоропостижно умеръ на другой день послѣ описанной мною сцены. Съ этого и началась та катастрофа, о которой я сказалъ въ концѣ предыдущей главы.
На первый разъ самое ужасное въ этомъ несчастій была его неожиданность. Люди, которые всякій случай находятъ безразлично удобнымъ для остротъ и насмѣшекъ, говорили, что «полковникъ Праотцевъ зарѣзанъ на славу живой ниткой», но этотъ скверный каламбуръ имѣетъ очень точный смыслъ.
Дѣло было гакъ: полкъ отца вышегь къ смотру въ такомъ блестящемъ состоянія, что осматривающему его япцу не оставалось ничего, кромѣ какъ хвалить и благодарить. Все шло какъ нельзя лучше, по вдругъ... О, ужасъ! вдругъ высокая особа замѣтила, что на мундирѣ одного изъ солдатъ ослабѣла пуговица. Были ти тому виною поспѣшность работы, или прѣлая нпгка, но только, когда особа съ безмѣрною радостью сдѣланнаго открытія дернула этуг пуговицу, то злополучная оловяшка сію же минуту отвалилась. Особа вскипѣла и пошла дергать все ниже я ниже, шибче и шибче... За отнею пуговицею послѣдовала другая, третья: особа ихъ рвала, рвала съ солдатъ и, наконецъ, въ неистовѣйшемъ бѣшенствѣ бросилась на самого моего отца съ крикомъ:
— Можетъ-быть, у васъ и у самихъ все на живую нитку'-* — при чемъ особа схватила отца за пуговицу; но отецъ быстро далъ шпоры коню - и, отскочивъ въ сторону, весь побагровѣвъ, отвѣтилъ:
— Не тройьте меня, ваше-ство: я щекотливъ.
Особа повернула лошадь назадъ п понеслась, крича по рц тамъ:
— Скверно, мерзко!
Мать все это видѣла п слышала, стоя у открытаго окна въ залѣ, гдѣ былъ при готовлена обѣденный столъ для офицеровъ полка и для самой особы. Теперь этотъ столъ былъ какъ насмѣшка надъ нашей семейной бѣдой. Но это еще была не велика бѣда въ сравненіи съ тѣмъ, чтб ждало насъ впереди. Бѣды ревнивы и дружны— и не идутъ въ одиночку, а бродятъ толпами. Прежде чѣмъ матушка могла сообразить и обдумать какъ встрѣтить отца., который долженъ былъ возвратиться въ гнѣвѣ, — двери залы растворились и въ нихъ появился мой отецъ, поддерживаемый двумя денщиками. Онъ молча указалъ глазами на кресло— ц когда его посадили, сорвалъ съ себя галстукъ и прохрипѣлъ:
— Пона!
Матушка кинулась къ нему, а онъ іхватилъ ея руку, прижалъ ее къ лицу — п тотчасъ же умеръ подъ шопотъ оіходиоп, которую началъ читать надъ нимь прибѣжавшій священникъ.
Такъ умеръ мой храбрый и честный, шИіуЯлЯіный въ бояхь отецъ, котораго я мало зналъ и черты котораго вь настоящее время едва могу воскресить въ моей памяти. Едва помню ого бравую военную фигуру, коротко остриженную голову, усы п бакенбарды съ сѣдыми концами, горячій рубенсовскій цвѣтъ лица и синіе глаза: вотъ и все.
Совсѣмъ не то ъ лицомъ матери. Мн’. даже становится совѣстно, чго я пе умѣлъ поровну раздѣлить моихъ привязанностей между моими родите іямп,—по это уже такъ сложилось. Я беззавѣтно предалъ всю мою душу моей матери, небесный образъ которой безвыходно живетъ въ моей душѣ. Два раза въ жизни, когда я терялъ его, я былъ на краю пропасти и... тутъ снова являлся мнѣ онъ, этотъ священный ликъ съ свіл’.іыми кудрями Скіавонэ и съ глубокими очами познавшаго свѣтъ прови і,ца. Матушка была бы красавица, если бы она не была ангеломъ.
Приводя себѣ на память впечатлѣніе, какое производила моя мать на людей, которые ее видѣли въ ііеірвый разъ, я всегда припоминаю мнѣніе Сократа, что «сознаніе есть только воспоминаніе того, что мы нѣкогда знали». Виервые встрѣчая мою мать, всякій чувствовалъ, что <пъ ее будто когда-то уже встрѣчалъ, и притомъ встрѣчалъ въ необыкновенную для себя минуту; каждому мнилось, что она ему
іі.ііі уже когда-то сдѣлала, или еще сдѣлаетъ что-то доброе и хорошее. Однимъ словомъ, это было доброе, чу дное лицо, о которомъ я не буду гоьо]ить болѣе — какъ потому, что рискую никогда не кончить съ этимъ описаніемъ, такъ и потому, что вижу теперь передъ собою этотъ священный для меня ликъ, съ застѣнчивой скромностью запрещающій мнѣ слагать ему моя ничтожныя хвалы.
Послѣ смерти отца, мы съ матушкой остались не только нищими, но на пасъ лежала вина разоренія моей престарѣлой бабки п тетокъ, имЕпіе которыхъ, заложенное для моего отца, было продано съ молотка. Бѣды повисли надъ нами тучей: старух і-бабка не вынесл а своего горя—и когда ее стали выводить изъ ея родового баронскаго дома, она умерла на порогѣ. Мы этого пр видали: мы съ матерью тогда еще оставались въ томъ самомъ городкЬ, гдѣ скончался мой отецъ, и отку га мою мать теперь пе выпускали за ея долгъ по векселю, за деньги, взятыя ею на покупку новыхъ инструментовъ для полкового оркестра. Платить намъ было не изъ чего, такъ какъ все наше имущество заключалось въ небольшихъ походныхъ пожиткахъ, да тѣхъ старыхъ трубахъ, которыя были свалены въ амбарѣ взамѣнъ взятыхъ па мѣсто ихъ новыхъ. Кредиторы должны были убѣдиться въ несостоятельности матушки и разсрочить ей долгъ па мелкіе піагежи, какіе опа надѣялась производить изъ имѣвшагося въ виду пенсіона за отцову службу.
Я, впрочемъ, не помню, какъ шли всѣ эти переговоры и вдѣлки, потому что едва ли не первыя ь дѣломъ моей матери, послѣ того, какъ она овдовѣла, было отвезти меня въ Пс-тербургъ, гдѣ, при содѣйствіи нѣкоторыхъ доброжелателей, удалось пріютить меня въ существовавшее тогда отдѣленіе йалолѣтппхъ, откуда дѣтей, по достиженіи пми извѣстнаго возр іета, переводили въ кадетскіе корпуса. Зачисленіе въ кадеты въ тѣ времена считалось вожделѣнпѣишимъ устрой-сгвомъ судьбы мальчика—и матушка, стало-быгь. могла не безпокоиться, что ужъ я непремѣнно выйду въ люди. Пребываніе мое въ отдѣленіи малолѣтнихъ и потомъ въ одномъ изъ столичныхъ кадетскихъ корпусовъ преиодлнено для меня самыхъ разнообразныхъ воспоминаній, между которыми грустныхъ, конечно, болѣе, чѣмъ веселыхъ, но я пе стапу заносить ихъ въ свои записки. Мнѣ противно положить своею рукою лишній камень въ прибавку ко всей
тягости, въ тикомъ изобиліи набросанной на эти школы. Да и къ чему бы это послужило? Масса описаній темныхъ сторонъ нашей школьной жизни такъ велика, что я не вижу нужды увеличивать ее своими разсказами, тѣмъ болѣе, что я не мету сказать ничего новаго и... долженъ сознаться, что я все-таки чувствую благодарность къ этому завеценію, которое призрѣло и воспитало меня такъ, какъ оно могло и умѣло. Оставленный самому себѣ, на руки безпомощной матери моей, я бы, конечно, былъ еще несчастливѣе — и потому миръ тебѣ, мой дѣтскій пріюти, видѣвшій мои дѣтскія слезы!
Изо всей школьной жизни упомяну только объ одномъ событіи, вслѣдствіе котораго я неожиданно разстался съ стѣнами заведенія и вылетѣлъ въ жпзнь ранѣе положеннаго срока и не вь томъ направленіи, къ которому спеціально готовился.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Не знаю, какъ бы надлежало правильнѣе назвать проис-шеств:е, которое около двадцати пяти лѣтъ тому назадъ случилось въ одномъ изъ петербургскихъ корпусовъ, именно въ томъ, гдѣ я воспитывался. Я, впрочемъ, не буду разсказывать этой исторіи, малоинтересной для взрослыхъ. Достаточно сказать, что наиболѣе провинившихся (въ томъ числѣ п меня) исключили изъ корпуса для опредѣленія въ статскую службу.
Замывая этимъ періодъ моей жизни, протекшей подъ попечительной опекой, перехожу къ началу моего жплпъън на волѣ, которою я умѣлъ пользоваться не благоразумнѣе, какъ та птичка, которую выпустилъ изъ клѣтки ребенокъ, и которая на первой же кровлѣ попала въ лапы хшиной кошки.
Впрочемъ, изгнавъ насъ изъ залы, гді; мы были лишены кадетскаго званія, начальство еще не сразу покинуло насъ на произволъ судьбы. До этого еще долженъ былъ пройти одинъ небольшой интервальный актъ, въ продолженіе котораго мы чувствовали надъ собою руку пекшагося о насъ милосердія.
Насъ не прогнали изъ корпуснаго зданія, вѣроятно, принявъ во вниманіе, что намъ рѣшительно некуда было бы дѣться и всѣ мы въ первую же ночь непремѣнно попали бы подъ опеку ночного полицейскаго дозора. Но какъ мы
уже были не кадеты, то корпусъ находивъ невозможнымъ предоставить въ наше полъюваніс ни одною изъ помѣщеній, отведенныхъ кадетамъ. Самое оставленіе насъ въ кар-церь было признано неудобнымъ—и насъ отвели въ одинъ изъ дальнихъ корпусныхъ флигелей, гдѣ въ наше временное пользованіе были пре доставлены три большія комнаты нижняго этажа.
Мебели здѣсь рѣшительно никакой не было, но кь ночи солдаты притащили сюда нѣсколько старыхъ, отслужившихъ срокъ матрацоьъ и старый же, черный, изрѣзанный ножичками, небольшой столъ.
Оглядѣвшись вь своемъ новомъ жильѣ, мы тотчасъ же сдѣлали дальнѣйшую рекогносцировку и открыли, что находимся въ помѣщеніи совершенно изолированномъ и притомъ безъ всякаго контроля.
Это открытіе необыкновенно пасъ обрадовало. Мы почувствовали себя на свободѣ, запѣлп: Цыгане вольною толпой по Бессарабіи кочуютъ», потомъ собственными руками разложили матрацы рядомъ по полу и, улегшись на нихъ вт-покатку, какъ попало, уснули крѣпчайшимъ, сладчайшимъ п безмятежнѣйшимъ сномъ: Утромъ, когда мы еще спали, пришелъ къ намъ офицеръ съ извѣстіемъ, что мы будемъ пользоваться здѣшнимъ пріютомъ до тѣхъ поръ, пока начальство справитъ намъ штатское платье и устроитъ нашу разсылку къ родителямъ. Для послѣдняго распоряженія отъ насъ были потребованы свѣдѣнія о томъ, куда кто можетъ ѣхать, — и мы были расписаны группами по трактамъ.
Тутъ я впервые задумися надъ тѣмъ: куда я пріѣду? Матушка, которой я очень давно не видалъ, жила въ Лпф-ляндіи на маленькой мызѣ, оставшейся ей и теткамъ послѣ продажи ихъ имѣнія за отцовъ долгъ. Я началъ размышлять: какова можетъ быть жизнь моей матери въ этомъ положеніи и какъ се должно поразить мое появленіе? Разсуждая обо всемъ этомъ, я тихонько сплакнулъ и написалъ матушкѣ всю горькую правду о постигшей меня участи. Я утѣшалъ ее. что стану для нея жить и безъ устали работать, но овладѣвавшее мною при этомъ смущеніе еще болѣе усиливалось: я вспомнилъ, что я ровно ничего не умѣю (флатъ и вь шестнадцать лі.гъ ѣду къ матери не для обіег-чснія ея участи, а скорѣе для усиленія ея заботъ.
— Я ничему полезному не выучился—и даже въ гусары не гожусь,—размышлялъ я съ ужасомъ, припоминая- себѣ отцовы слова. Я видѣлъ, что роковое предчувствіе его надо мною уже начинаетъ сбываться, что я, дѣйствительно, того и гляди, буду фантазёромъ п ничего путнаго въ моей жизни не сдѣлаю.
По къ значительному облегченію, или, по крайней мѣрѣ, къ отсрочкѣ моихъ скорбей, я не могъ долго держать пити моихъ печальныхъ размышленій: жизнь, которую вели мы въ пашемъ карантинѣ, тому не благопріятствовала.
Пасъ, изгнанниковъ, было около сорока человѣкъ, изъ которыхъ кое у кого нашлись маленькія деньжонки, маленькія разумѣется по теперешнимъ нашимъ понятіямъ, по по-тогдашнему весьма достаточныя для того, чтобы ходить въ верхнія мѣста театровъ п покупать сообща другія недорогія удовольствія. Въ числѣ послѣднихъ было вино, которое солдаты безпрепятственно приносили намъ въ пашу казарму. Многимъ вино было еще не по вкусу, п нашлось между нами не мало такихъ, которые и вовсе не могли его пить, но положеніе дѣлъ было таково, что стало нужно пріучаться. Пспптущихъ, въ числѣ которыхъ былъ и я, прозвали «дѣвчонками»,—и за то тѣ, которые не хотѣли быть дѣвчонками, отличались, напиваясь до того, что мы нерѣдко должны былп отливать ихъ водою.
Межъ тѣмъ штатское обмундированье для насъ было готово п на завтра былъ назначенъ разъѣздъ буйной компаніи (она стала теперь достойна этого названія). Интересуясь способомъ пашей разсылки, мы узнали, что начальство подряди іо нѣсколько «протяжныхъ троечниковъ», распредѣливъ ихъ по трактамъ на большіе города, куда лежалъ путь разсортированнымъ па трактовые пункты пассажирамъ. Пользуясь полною свободою ходить куда хотимъ, мы, разумѣется, сейчасъ же отправились на указанный намъ постоялый .дворъ, который былъ гдѣ - то въ Гончарной улицѣ, -— и тамъ, подъ темными навѣсами сараевъ этого двора, мы дружески познакомились съ извозчиками, съ которыми должны былп ѣхать.
Тутъ я долженъ сказать, что я, къ величайшему моему удовольствію, освободился отъ лпфляпдекой группы, въ которую былъ сначала записанъ, — и переписался въ группу кіевскую, потому что матушка, въ отвѣтъ па мое письмо
объ ш клоченіи меня изъ корпуса, увѣдомила меня, что мнѣ въ Пифляндію ѣхать не за чѣмъ, потому что тамъ она не надѣется найти дія меня никакого дѣта, а что она немедленно же пользуется удобнымъ сіу чаемъ переѣхать въ Кіевъ. гдѣ одинъ родственникъ моего отца занималъ тогда довольно видна ю штатскую должность — и матъ надѣя іась, что онъ пе откажет* я дать мнѣ какое-нибудь мѣсто по гражданской службѣ.
Это было для меня чрезвычайно радостное извѣстіе; во-первыхъ, я пересталъ завидовать нашимъ товарищамъ, которые ѣхали въ славянскомъ собратствѣ, между тѣмъ какъ я долженъ былъ тянуться съ нѣмцами; потомъ, вмѣсто мызной мазанки въ сѣрой .Гпфіянііи, я стремился къ «червонной украйнѣ», подъ тѣнь ея тополей и черешенъ, къ ея барвинкамъ, къ Днѣпру, къ святынямъ Кіева, потъ сводъ ш щеръ, гдѣ опочили Антоній, Несторъ и Никола князь, сбросившій вѣнецъ и вт рубищѣ стоившій у воротъ Печерской лавры....
О Боже, какимъ неописаннымъ воете ргомъ была полна душа моя при одной мысли, что я все это увижу! Я потерялъ всякое* самообладаніе—и, точно опьянѣвъ отъ восторга, почти не обращалъ вниманія на все, чтб вокругъ меня происходило. Помню только, какъ мы сь участливостью осматривали большія, крытыя троечныя телѣги, ьъ кото-ряхъ намъ надлежало ѣхать; садились въ нихъ, вылѣзали и снова садились; дѣлили между собою мѣста; осматривали лошадей. цѣнили ихъ. опредѣляли ихъ достоинство, силу и характеръ; потомъ отправились съ своими будущими возницами въ какой-то грязненькій трактиръ, гдѣ пили чай и водку. На. этотъ разъ насъ угощали мужики, и мы всѣ пили.—даже тѣ, кто никогда не бралъ въ ротъ капіи вина, должны были выпить по двѣ пли по три полхрюмьи сладкой водки.
Черезъ часъ мы всѣ были пьяны, и не знавшіе что сь нами дѣлать мужики запрягли парою одну изъ своихъ крытыхъ телѣгъ, упаковали насъ туда инкъ умѣли и отвезли въ корпусъ.
Мы этому нимало пе противились: мы уже освоились <ъ обоимъ безначальнымъ положеніемъ и привыкли считать себя вольными казаками, надъ которыми нѣть старшаго. А потому насъ нимало не пугала мысль, что мы явимся
Сочпоевія Н. С ЛГскева. Т. XXXII. Д
въ корпусъ въ такомъ развращенномъ п омерзительномъ видѣ. Мы ѣхали, распѣвая военныя пѣсни, дрянные романсы, обнимались, барахтались, кривлялись, дѣлали ручки проѣзжавшимъ дамамъ и вообще вели себя какъ настоящіе пьяницы. Дома солдаты насъ едва уложили, а утромъ едва добудились. На дворѣ уже стояли, погромыхивая тяжелыми бубенцами, толстоногія тройки съ расписными дугами, и въ комнату къ намъ полозъ ѣдкій дымокъ тютюну, который курили ожидавшіе насъ у дверей извозчики.
Сердце ёкнуло: наше пришло до насъ.
— Господи, что-то будетъ?
Солдаты начали выносить наши пожити и размѣщать пхъ по телѣгамъ. кто къ которой былъ расписанъ. Шума», говоръ, бѣготня, движенье, все это, при моей больной съ похмелья головѣ, представлялось мнѣ какъ волны хаоса.
Пришелъ корпусный батюшка, покропилъ насъ водой; потомъ казначей далъ намъ* по двадцати семи рублей пятидесяти копеекъ денегъ на дорогу, п нагруженныя нами повозки, съѣхавъ съ казеннаго двора, тяжело застучали по мостовой, медлительно подвигаясь къ пестрымъ бревнамъ заставы.
Впереди былъ длинный, очень длинный путь, о которомъ не могутъ составить себѣ даже приблизительно вѣрнаго понятія люди, доѣзжающіе нынче отъ Петербурга до Кіева въ трое сутокъ и вдобавокъ безъ всякихъ приключеній. Тогда было по то, особенно съ такими солидными путешественниками, каковы были мы.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Намъ, по нашимъ расчетамъ, на этотъ переѣздъ требовалось не менѣе мѣсяца, а нашъ извозчикъ утѣшалъ, что, можетъ-быть, потребуется еще и поболѣе.
Извозчикъ, для ѣдущихъ на протяжныхъ, это совсѣмъ не то, что кондукторъ ція нынѣшняго путешественника, несущагося по желѣзной дорогѣ. Съ извозчикомъ сѣдоки непремѣнно сближались и даже сживались, потому что протяжная путина — это часть жизни, въ которой люди дѣлили вмѣстѣ и горе, и радость, п опасности, и всѣ его досады. «Вмѣстѣ мокли п всѣ сохли», какъ выражается извозный людъ. Нашъ извозчикъ, отправленный везти молодыхъ господчиковъ по кіевскому тракту, былъ небольшой, но очень крѣпкій, коренастый мужикъ пзъ новгородской
губерніи. Звали его Кириллъ. Онъ былъ раскольникъ, по, вѣроятно, очень плохой, потому что и пилъ, н курилъ, и самъ себя называлъ «попорченнымъ»: но онъ былъ очень веселый и. казалось, добрый малый, отъ сообщества котораго мы пророчили себѣ дорогой не мало удовольствій. Они тотчасъ и начались. Выѣхавъ съ па ми изъ Петербурга за московскую рогатку, Кириллъ остановилъ у какого-то домика лошадей и объявилъ, что здѣсь живетъ его пріятель Иванъ Ивановичъ Елкинъ, къ которому, если не заѣхать и ему какъ слѣдуетъ не поклониться, то намъ въ дороги не будетъ никакой одорыиыі.
Мы не прекословили и зашли, это былъ кабакъ, въ которомъ, разумѣется, никакого Ивана Ивановича не было, а сидѣлъ простой цѣловальникъ. Здѣсь мы, по настоянію Кнрилы, всѣ выпили: кто могъ—водки: а кто не могъ пить водки, тотъ пилъ пиво пли медъ.
С свершивъ такое возліяніе путевому божеству, всѣ мы охмслѣли, и, ѣдучи, сначала пѣли свои военныя пѣсни и романсы, а потомъ заснули.
Насъ вт повозкѣ помѣщалось восемь человѣкъ, но какъ мы были всѣ люди небольшіе и покладливые. а къ тому же и пожитками необремененные, то особаго стѣсненія не чувствовали. Но, несмотря на то, что мы соблюди обычай, указанный намъ Кприлою. и, войдя къ Ивану Ивановичу Елкину, совершили въ честь еп> возліяніе, путь нашъ не спорился: мы ѣхали, разумѣется, шагомъ, дѣлая пе болѣе пятидесяти верстъ въ день, съ п^редиевкамп черезъ два дня въ третій. Это всякому должно бы показагься чрезвычайно утомительнымъ п скучнымъ, но насъ все занимало: и новые люди, и новыя мѣста,—п мы не погоняли нашего возницу, а добивались только одного, чтобы передневки приходились въ городахъ пли по крайней мѣрѣ въ хорошихъ мѣстахъ, которые мы осматривали, купались и спали, — Къ Иванамъ Ивановичамъ Елкинымъ, которыхъ по дорогѣ было чрезвычайно много и которые всѣ оказывались добрыми пріятелями Кирилла, мы уже болѣе не заходили—потому ли, что многимъ изъ насъ пришіосъ дорогою порядочно переболѣть, послѣ петербургскихъ оргій, пли потому, что на насъ очень хорошо дѣйствовала природа и новость мѣста и людей, которыхъ мы «изучали» съ отмѣнною охотою и внимательностью.
Кириллъ, который ЛІфОИЛЪ выпить, но считалъ неумѣстнымъ дѣлать это па свои деньги, покрѣпившись дня два и видя, что изъ насъ ому нѣтъ сотоварищей и хлѣбосоловъ, поднялся на штуку: онъ отдѣлилъ у себя на козлахъ такъ-шьываемую «бесѣцочку», въ которую постоянно присаживали кого-нибудь изъ прохожихъ, п выручаемыя этимъ путемъ деньги считалъ позволите.іьвымч» вручать Ивану Ивановичу Елкину. Пассажировъ этихъ онъ набирать вездѣ: по дорогѣ и на ночлегахъ по- постоялымъ дворамъ, откуда мы обыкновенно съѣзжали чрезвычайно рано. Чтобы не тревожить» я утромъ, а также чтобы не платить особыхъ денегъ за ночлегъ, мы всѣ спали въ повозкЬ,—и Кириллъ, ст.ѣзжая со двора, не будиль на<ъ; а обѣденный покормъ, длившійся часа четыре, мы нерѣдко держали у дороги на лѣсныхъ опушкахъ, или гдѣ-нибудь надъ рѣкою, въ которой непремѣнно купались и иногда по нѣсколько раіъ въ самое короткое время.
Сколько-нибудь замѣчательныхъ происшествіи съ нами никакихъ не происходило, но только во всѣхъ въ пасъ въ теченіе нсмногпх'ь дней, проведенныхъ въ пути, какъ-то смѣдѣе и ріізче начала обозначаться паша индивидуальная разность. Вь корпусѣ мы всѣ вт. общихъ чертахъ характера и взглядовъ походили другь на друга^—всѣ мы были каі)<н‘ы; а теперь, хотя мы оставались въ своей же одно-кошнпчсской компаніи, въ насъ обозначались будущіе фаты, щеголи, которые будутъ пускать пыль въ глаза, и задумчивые философы съ зародышем'ь червя въ безпокойномъ вдаль-засматривающемь воображеніи. Вскорѣ эта разновидность обнаружилась въ весьма осязательной для пасъ формѣ.
Вь Твери штатъ нашъ должень былъ уменьшиться Здѣсь иамт, надлежало высадить одного товарища, по фамиліи Волосачи па, отецъ кѳиЬраго елужилъ предсѣдателемъ какой-то изъ тверскихъ палатъ.
По этому случаю мы сдѣлали въ Твери дневку — и высаженный здѣсь товарищъ нашъ пріѣхалъ къ намъ на постоялый дворъ въ дрожкахъ, запряженныхъ парою лошадей, и пригласить насъ всѣхъ отъ имени своего отца па вечерь.
Этотъ товарищи былъ изъ тѣхъ, которые подавали надежду сдѣлаться щеголями и франтами, — и два часа времени, проведенные имъ въ разлукѣ съ нами въ домѣ сво-
его отца, безмѣрно подвинули въ немъ впередъ эту наклонность. Онъ звалъ насъ привѣтливо, но съ замѣтною небрежностью, и говорилъ съ па ми не слѣзая съ дрожекъ, на которыхъ сидЬлъ въ щеголеватомъ новомъ платьѣ, съ тросточкою въ рукахъ, — тогда какъ мы толпились вокругъ пего всѣ запыленные и въ исі исканныхъ дорожныхъ курткамъ.
Онъ наслаждался своимъ превосходствомъ и безъ церемоніи сказалъ намъ:
— Только, приглашая васъ къ себѣ въ томъ, я надѣюсь, что вы понимаете, что вамъ надо буд< гъ привести себя въ порядокъ и хорошенько пріодѣться, а не валить толпою какъ попа ю; у пасъ будутъ гости и будутъ танцевать: вотъ я для этого даже сейчасъ и ѣду купить себѣ и сестрѣ, перчатки. Совѣтую всѣмъ вамъ, кто хочссь танцевать, тоже запастись хорошими перчатками,—иначе нельзя.
— Воже мои! какъ эго хорошо: будутъ танцевать!
— 11 у него есть сестра!
— Да одна ли сестра — вѣрно будетъ и еще много дачъ!—воскликнули разомь нѣсколько голосовъ посД. того, какъ товарищъ покатилъ, обдавъ насъ цѣлымъ облакомъ пыли, — п всі. мы кинулись къ своимъ узелкамъ, въ которыхъ былъ увязанъ нашъ штатскій гардеробъ, построенный военнымъ портнымъ.
Восторгъ былъ всеобщій, но непродолжительный, потому что одинъ изъ товарищей, имѣвшій въ задаткѣ червя самолюбія, объявилъ, что онъ не пойлртъ, потому что Волоса тинъ приглашалъ насъ очень обиднымъ тономъ.
Тонъ? мы, недавніе безцеремонные товарищи, вырывавшіе недавно изъ рукъ другъ у друга кусокъ пирога, или булки и не стыдившіеся выпрашивать одинъ у другого самыхъ ничтожныхъ мелочей, — уже теперь разбирали тонъ! Да и какъ еще разбирали? хоть бы какому записному дипломату или свѣтскому критику.
Вотъ свѣтъ! вотъ его первое наитіе, неизвѣстно откуда забравшееся въ нашу телѣгу, и тутъ же рядомъ несостоятельность его законовъ передъ шопотомъ жгучихъ силъ доброй, молодости.
— Да, — заговори ш мы:—мы всѣ согласны; Волосатинъ скотинка: онъ очень форситъ, обидѣлъ насъ, но все-таки онъ нашъ товарищъ и мы дурію сдѣлаемъ, если прснебре-
жемъ его приглашеніемъ. Онъ одинъ виноватъ; а мы, если не пойдемъ, — мы покажемъ, что и мы сами невѣжи и не знаемъ какъ должно свѣтскихъ приличій. Принявъ*приглашеніе, ладо идти.
— Мы оскорбимъ его отца, который насъ звалъ и который, можетъ-быть, очень заслуженный человѣкъ.
— Какой чортъ «заслуженный»! просто какой-нибудь приказный.
— Но мы теперь п сами пр..... То-есть мы всѣ теперь
статскіе,—отвѣчали мы со вздохомъ.
— И наконецъ, онъ говорилъ, тамъ есть у него сестра, а развѣ можно оказать невѣжливость женщинѣ.
Эта «сестра», мнѣ кажется, очень много значила для всѣхъ насъ: всѣмъ намъ было пріятно называть молодое женское лицо... стопки не устояли. Мы рѣшили перчатокъ
не покупать, потому что такой экстренный расходъ былъ намъ не по карману, — но, принарядясь въ свои сюртуки, отправились въ качествѣ нетанцующпхъ на вечеръ, который для меня имѣлъ очень серьезное значеніе съ довольно непрі ятны мп послѣдствія мп.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Къ немалой нашей досадѣ выходило, что в ѣ мы довольно поотвыкли отъ женскаго общества, которое видѣли еще дѣтьми и въ которое совсѣмъ не умѣли вступить теперь, находясь въ своей странной неопредѣленной лорѣ и въ своемъ неопредѣленномъ положеніи «нетанцующпхъ кавалеровъ».
Самый первый шагь вступленія въ освѣщенный залъ путалъ и сбивалъ всѣ наши свѣтскія соображенія, а къ тому же мы никого не знали въ томъ домѣ, куда намъ предстояло предстать, и вдобавокъ насъ некому было отрекомендовать п представить.
Положеніе было трудное, и оно еще усложнялось тѣмъ, что когда мы явились въ домъ—до нашего слуха долетѣли звуки вальса п сквозь неплотно-притворенныя двери передней, гдѣ мы стояли, ожидая Волосатпна, видны были мелькающія пары.
Волосатикъ, за тоторымъ мы послали человѣка, не выходилъ къ намъ и его невозможно было ждать, потому что, по словамъ лакея, онъ танцовалъ, невозможно было и
стоять безъ толку и движенья въ передней, тѣмъ болѣе что какой-то пожилой господинъ, котораго мы всѣ приняли за хозяина, проходя черезъ переднюю въ залъ, пригласилъ насъ войти и, взойдя самъ впереди насъ, поцѣловалъ руки двухъ дамъ, сіцЬвпшхъ ближе ко входу.
Мы длинною вереницею вступили за нимъ и, слѣдуя во всемъ его примѣру, начали по очереди подходить къ ручкамъ всѣхъ дамъ. Неумѣстный пріемъ этотъ, которымъ мы по неопытности своей подражали взошедшему передъ нами другу дбма, обратил ь на насъ всеобщее вниманіе, -— и я, шедшій впереди лобызающей руки шеренги, видя смущеніе дѣвицъ и наемники мужчинъ, не зпалъ, какъ мнѣ остановиться и куда вести за собой свой гусакъ. Я желалъ бы быть лучше поглощеннымъ землею, какъ вдругъ, приклонясь къ рукѣ одной молодой, блѣдной блондинки съ добрыми голубыми глазами, я почувствова іъ, что рука ея, ускользнувъ отъ моихъ губъ, легла на мое плечо, и сама она добрымъ дружескимъ шопотомъ проговорила, мнѣ:
— Давайте лучше вальсировать!
Я подхватилъ ее- н сначала неловко, а потомъ съ достаточною смѣлостію сдѣлалъ съ нею туръ и посадилъ ее па мѣсто.
Въ этой умѣренности мною, по счастію, руководило правило, по которому намъ на балахъ запрещалось дѣлать съ дамами болѣе одного тура вальса, — и то изо всей нашей компаніи зналъ это правило одинъ я, такъ какъ на кадетскихъ балахъ для танцевъ съ дамами отбирались лучшіе танцоры, въ числѣ которыхъ я всегда былъ первымъ. А не знай я этого, я, вѣроятно, закружился бы до новаго неприличія, или по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока моя дама сама бы меня оставила.
Но по счастію опытность спасла меня, а моему примѣру послѣдовали и другіе мои товарищи, которыхъ я увидѣть вальсирующими, когда опустилъ свою даму.
— Сядьте возлѣ меня,—пригласила меня моя дама.
Я млѣлъ: она мнѣ казалась прекрасною и такою доброю, что я ее уже безповоротно полюбилъ.
— Мой братъ говорилъ мнѣ, что вамъ далеко еще ѣхать...— начала она.
Ея братъ! Великій Боже! это ока и есть, она, сама опа, его сестра! О вы, души моей предчувствія, сбылись: не
даромъ меня влекло сюда; недаромъ... нѣтъ, недаромъ: я былъ влюбленъ н притомъ не только безповоротно, но и смертельно влюбленъ!
Я только хотѣлъ бы знать ея имя и... хотя приблизительно: на сколько лѣтъ она меня старше?
Желанія моп сбылись: ко мнѣ подошелъ нашъ блестящій товарищъ Викторъ Волосатинъ— и, отведя меня въ уголъ, гдѣ были сбиты въ кучу всѣ прочіе товарищи моего бѣдствія, сказалъ:
— Ладо же быть такимъ пошлымъ дуракомъ, какъ ты, чтобы, войдя въ залъ, начать прикладываться къ ручкамъ всѣхъ дамъ, и потомъ еще вальсировать въ три па и безъ перчатокъ... Это можно въ корпусѣ, по въ свѣтѣ такъ по поступаютъ.
Я. было, привелъ въ свое оправданіе примѣръ взошедшаго передо мною старичка, но Волосатинъ еще разъ назвала, меня дуракомъ и растолковалъ. что тотъ старичокъ — его дядя, который держитъ себя здѣсь по-родс гвенному, между тѣмъ какъ я...
ІІу да, я п самъ зналъ, что сдѣлалъ ужасный и непростительный поступокъ и достоинъ за то всякой кары, а потому и пе возражалъ и не обижался дружескимъ выговоромъ. тѣмъ болѣе, что все это была такая мелочь въ сравненіи съ любовью, которою я пламенѣлъ къ его прекрасной п доброй сестрѣ, которая (это, впрочемъ, очень большой секретъ) сама аніам провала меня на мазурку.
Отъ этой радосіиі я просто былъ какъ въ чаду и цѣлый вечеръ ни съ кѣмъ не танцовалъ пи одного танца, а все смотрѣлъ изъ-за мужчинъ на нее. II что же вы думаете? она, меня понимала: она тоже но танцовала и отказывала, всѣмъ, кто къ пей подходилъ. Это было мнѣ очень пріятно, и вѣрное сердце мое слало ей тысячу благословеній. Не сводя съ нея глазъ, я все находилъ ее прекра.-нѣе и прекраснѣе, и она, въ самомъ дѣлѣ, была недурна: у пея были прелестные бѣлокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большіе тоже добрые, ласковые сѣрые глаза, чудная шея и высокая, стройная фигура, а я съ дѣтства моего страстно любилъ женщинъ высокаго роста, чему, вѣроятно, не мало обязанъ стройной фпгурі; А. Паулы Монти, изображеніе которой висѣло на стѣнѣ въ моей дѣтской комнатѣ и дѣйствовало па развитіе моего эстетическаго вкуса. -Къ тому
же. сестра Волосатика мнѣ нравилась своимъ поведеніемъ: она не вертѣлась, какъ всѣ дѣвицы, а все болѣе сидѣла, со старушкішм и добродушно сносила тормошенія безпрестанно подбѣгавшей къ ней кучерявой брюнетки, кь которой нѣсколько изъ моихъ товарищей относились съ ангажементами и получали отказъ. Эта кичливая и вѣтреная особа все танцовала съ франтами, которые, по моему мнѣнію, не имѣли ровно никакихъ достоинствъ.
Вечеръ прошелъ и моя блондинка сама отыскала меня глазами и сама выбрала для насъ скромное мѣсто, устроивъ предварительно нѣсколько парь для моихъ товарищей, у которыхъ, все-таки, не оказалось ни одной такой красивой дамы, какъ моя, а что всего важнѣе: я не думаю, чтобы чья-нибудь другая дама умна вес.л такой оживленный разговоръ. Она все время мазурки проговорила со мною про корпусъ, интересовалась нашею исторіею, нашею прошлою жизнью и. наконецъ, заговоривъ о моихъ планахъ на будущее, сказала, что мнѣ еще необходимо много учиться.
Это меня немножечко обидѣло, но у меня былъ готовъ отвѣтъ, что условіемъ исключенія пасъ изъ корпуса быю воспрещеніе намъ поступать вь какія бы то ни было учебныя заведенія и обязательство вступить немедленно въ статскую службу. Но у нея тоже не стояло дѣло за отвѣтомъ.
— Учиться вездѣ можно, отвѣчала она: -даже и въ тюрьмѣ, и на службѣ-—и учиться непремѣнно должно не. для правъ и не для чиновъ, а для самого себя, для своего собственнаго развитія, Пониманіе есть высочайшее благо.
Мнѣ помнится, что я подъ копецъ мазурки даль ея слово, что буду учиться и именно такъ, какъ она мнѣ внушала, т. о. не для полученія привилегій и правъ, а для себя, для своего собственнаго усовершенствованія и ра '.витія.
Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая въ моей жпзнп какъ мимолетное видѣніе, а между тѣмъ мимоходомъ бросившая въ душу мнѣ свѣтлыя сѣмена: какъ много я тебѣ обязанъ и какъ часто я вспоминалъ тебя - предтечу всѣхъ моихъ грядущихъ увлеченіи, тебя, единственную пзъ женщинъ, которую я любилъ и не страдалъ, и не каялся за эту любовь! О. если бы ты знала, какъ іы была мнѣ довога, ие тогда, когда я былъ въ тебя
влюбленъ моей мальчишеской любовью, а когда я зрѣлыяь мужемъ глядѣлъ на женщинъ хваленаго, позднѣйшаго времени и... съ болѣзненною грустью видѣлъ полное исчезновеніе въ новой женщинѣ высокихъ воспитывающихъ молодого мужчину инстинктовъ и влеченій,- исчезновеніе, которое восполнятъ развѣ новѣйшія женщины, выступающія послѣ отошедшихъ новыхъ.
Возвратясь съ вечера, который намъ показался прекраснымъ баломъ, я во всю остальную ночь не могъ заснуть отъ любви, п утро застало меня сидящимъ у окна и мечтающимъ о ней. Я обдумывалъ планъ, какъ я -стану учиться безъ помощи учителей, сдѣлаюсь очень образованнымъ человѣкомъ и явлюсь къ ней вполнѣ достойный ея вниманія. А пока... пока я хотѣлъ ей написать объ этомъ, такъ какъ я былъ твердо увѣренъ, что одна подобная рѣшимость съ моей стороны непремѣнно должна быть ей очень пріятна.
Но Кириллъ уже запрягалъ своихъ лошадей—и товарищи встали и начали пить чай и собираться въ путь. Письмо надлежало отложить.
Мы сѣли—н я уѣзжалъ безъ малѣйшей надежды узнать даже имя своей дамы, какъ вдругъ недалеко около заставы насъ обогналъ Волосатинъ. Онъ ѣхалъ съ мальчикомъ купаться и везъ передъ собою на бѣговыхъ дрожкахъ закрытую салфеткою корзину.
— Эй, вы, путешественники!—крикнулъ онъ намъ:—вотъ моя старшая сестра шлетъ вамъ пироговъ, ватрушекъ и фруктовъ. Подѣлитесь, да не подеритесь, потому что она любитъ миръ и любовь. А тебѣ, Пра отцевъ, она, кромѣ того, посылаетъ вотъ эту какую-то книжицу: это, вѣроятно, за твою добродѣтель, что ты вчера съ нею отъ души отплясывалъ.
Я взялъ съ благоговѣніемъ поданную мнѣ имъ, запечатанную въ бумагу, книжечку, но былъ оскорбленъ тономъ, какимъ онъ говорилъ о сестрѣ.
Я даже не удержался и поставилъ ему это на видъ, но онъ нагло расхохотался и отвѣчалъ:
— Да ты ужъ не влюбленъ ли въ Аню? а? Сознавайся-ка, братъ, сознавайся! Вѣдь это съ вами, философами, оываетъ, но только жаль, что сестрѣ скоро тридцать лѣтъ, а тебѣ шестнадцать.
Тридцать!—подумалъ я:—это немноакко непріятно!»
'А Волосатинъ продолжалъ хвастать своею другою сестрою Юленькой, той самой кучерявой брюнеточкой, которая вчера безпрестанно подлетала къ старшей сестрѣ и тормошила ее,—и затѣмь онъ уѣхалъ, разсказавъ предварительно, что эта хваленая его сестра выходитъ замужъ за адъютанта и что онъсамь, вѣроятно, когда-нибудь женптся на красавицѣ.
Кто-то изъ насъ шутя назвался къ нему на свадьбу.
— Позови, молъ, насъ, когда будешь жениться.
Но Волосатикъ въ отвѣтъ на это съ оскорбительною практичностью замѣтилъ, что это будетъ видно, смотря по тому, кто изъ насъ какъ сумѣетъ себя устроить въ обществѣ.
Ему казалось, что онъ себя уже отлично устроилъ, и товарищи, вслѣдъ ему, назвали его «отвратительнымъ фа-тпшкою»,—но мнѣ до этого не было никакого дѣла, потому что я былъ влюбленъ и желалъ обращаться въ сферахъ по преимуществу близкихъ къ предмету моей любви. Я быстро распаковалъ привезенную Волосадппымь корзину и старался какъ, можно бѵлѣе съѣсть присланныхъ его сестрою пироговъ чтобы очп не доставались другимъ, а между этимъ занятіемъ распечаіаль подареншю ею мнѣ книгу: это былъ романъ Гольдсмпта—«Векфпльдскій священникъ».
Я въ первый разъ имѣлъ’ въ рукахъ это сочиненіе и прочелъ его съ величайшимъ удовольствіемъ, сократившимъ для меня время путешествія до Москвы.
Въ Москвѣ насъ ждалъ маленькій сюрпризъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ мы отказались заходить съ своимъ Кирилломъ къ Ивану Ивановичу Едкпну, возница нашъ значите іьно къ намъ охладѣлъ и даже сдѣлался нисколько сухъ и суровъ, изъ чего мы дерзнули заключить, что этотъ добрый человѣкъ не столько добръ, сколько лукавъ и лицемѣренъ. По ему самому мы ничѣмъ не обнаруживали нашего открытія, потому что всѣ мы, несмотря на воезное воспитаніе, кажется, его порядкомъ побаивались. Въ Москвѣ же онъ насъ напугалъ и довольно сильно.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Такъ какъ мы сами себѣ мѣстъ для остановокъ не выбирали, а подчинялись въ этомъ опытности и произволу Кирилла, то и въ Москвѣ намъ пришлось пристать тамъ,
гдѣ онъ хотѣлъ. Здѣсь намъ послужилъ пристанищемъ простой постоялый дворъ, гдѣ-то у Рогожской заставы. НаЖ, впрочемъ, это было все равно, потому что помѣщеніемъ для пасъ, какъ я выше сказалъ, во всю дорогу служила повозка, а разстоянія для насъ тогда не существовали, да и притомъ для насъ въ Москвѣ всякое мѣсто было свято и интересно. При одной мысли, что мы «въ Москвѣ», ни у одного нзд. насъ не было другого намѣренья, какъ бѣжать, смотрѣть, восторгаться и падать піщъ (безъ всякаго преувеличеній, мы непремѣнно хотѣли хоть нѣсколько раза. упасть ніпсь, но намъ удалось сдѣлать это только въ .соборахъ, потому что на площадяхъ и на улицахъ такое желаніе оказывалось совершенно неудобоисполнимымъ). Путешествовали мы по Москвѣ по образу пѣшаго хожденія и вообще очень экономничали, такъ какъ видѣли впереди еще очень большой путь, а денегъ у насъ было мало; какова же была наша досада, когда въ Москвѣ намъ пришлось прожить вмѣсто одного дня цѣлые четыре, потому что нашъ Кириллъ съ перваго же вечера пропалъ, и пропадалъ ров-пымъ-ровпехонько четверо сутокъ! Мы сами поили и кормили его лошадей и нетерпѣливо, поджидали его по цѣлыя ь днямъ, сидя за воротами на опрокинутой колодѣ, но Кириллъ какь въ воду канулъ. Въ отчаяніи отъ того, что съ нами будетъ, такъ какъ деньги казна, отдала Кирилѣ и никто другой насъ до Кіева не повезетъ, мы жестоко пріуныли. Самая Москва потерта дія насъ свою цѣну, всѣ наши обозрѣнія ограничились побѣгушками перваго дня, и затѣмъ мы не осмотрѣли великаго множества мѣстъ, къ которымъ влекли насъ прочитанные въ корпусѣ романы Лажечникова, Мосальскаго и Загоскина. Всѣ мы страшно упали духомъ, а нѣкоторые изъ насъ даже малодушно плакали, и тѣмъ наводили на другихъ еще большее уныніе, дошедшее наконецъ до всеобщаго отчаянія и страха. Къ кому мы пы обращались за свѣдѣніями о своемъ возницѣ, все это было напрасно: никто не давалъ намъ никакого опредЬ.іигельнаго отвѣта; но, наконецъ, какой-то извозчикъ сжалился и сообщилъ мамъ, стребовавъ сь насъ рубль за открытіе томившей пасъ тайны, что Кприл гь водитъ по Москвѣ медвѣдя.
Эта невѣроятная новость насъ обрадовала, и встревожила., и огорчила: какъ-до это не сіыдно Кириллу, человѣку столь обстоятельному и старовѣру, позабыть свое дѣло и предаться
такому пустому ліарда ганскому занятію, какъ вожденіе медвѣдя?
— Онъ можетъ погибнуть.—предполагали ш и съ минуты па минуту ожидали, что кто-нибудь привезетъ на дворь и броситъ его несчастный трупъ, растерзанный медвѣдемъ.
Но, наконецъ, къ ночи четвертаго дня Кириллъ явплся—-мрачный п тяжелый. неживой, хотя, впрочемъ, съ несомнѣнными знаками только-что перенесенной тягости-'й борьбы съ медвѣдемъ: армякъ и рубашка на одномъ плечѣ у него были прорваны насквозь н сквозь прорѣху виднѣлось голое тѣло съ страшнымъ спнякомъ, лицо возлѣ носа было расцарапано и покрыто черными струпьями, а на шеѣ подъ лѣвымъ ухомъ вь складкахъ кожи чернѣла засохшая кровь.
Взглянувъ на него, мы не стали укорять его и только полюбопытствовали: правда ли, что опъ все это время водиіъ медвѣдя?
— Водилъ, чтобъ его проклятаго чортъ ободралъ! отвѣчалъ Кчри.іа и, уткнувшись лицомъ въ сѣно, захрапѣлъ.
Мы тоже не стали его ни о чрмъ болѣе разспрашивать и поскорѣе улеглись спать ьъ своей повозкѣ, а утромъ были пробуждены зычнымъ крикомъ, который раздавался изъ хозяйскихъ комнатъ. Въ этомъ крикѣ среди многихъ другихъ голосовъ мы могли различать и голосъ нашего Кирилы.
— Не водить было тебѣ. подлецъ, медвѣдя! не молоденькій ты. чтобы баловствами заниматься’ выкрикалъ хозяинъ.
Что дѣлать: Господь попустилъ! отвѣчалъ Кпряла.
—- Такъ вотъ за то теперь и оставь намъ на прокормленіе пристяжную.
— П< милуй!—просилъ Кириллъ:—мнѣ безъ третьей лошади все равно, что пропасть!
— Ничего; пусть тебя палачъ плетью помилуетъ, а ты оставляй пристяжную да и все тузъ: я ужъ два года на тсбѣ сорокъ рублей жду. а ты в«якій разъ какъ пріѣдешь—-опять за свою привычку: по Москвѣ медвѣдя водить! Нѣіъ; иди, иди, запрягай пару, а лѣвую оставь; пе велики твои господчики парой ихъ довезешь.
Кириллъ жалостно просилъ пощады и клялся, что ему парой насъ не довезть, потому что блпже къ Кіеву пойдутъ большіе пески, и парой ни за чтотр.іѣгу не выволочь: но дворникъ былъ неумолимъ п настаивалъ на томъ, чтобы третью лошадь оставить ему: мы-де ею тутъ твоего медвѣдя покормимъ.
Все это насъ ужасно смутило: намъ представлялось и жалостное наше путешествіе на несчастной парѣ вмѣсто тройки, и потомъ намъ чрезвычайно жалко было обреченной на съѣденіе медвѣдю лошади, такъ какъ мы уже успѣли сильно сдружиться съ Кирилиными конями -и особенности лѣвымъ буланымъ мериномъ, у котораго былъ ире-веселый нравъ, дозволявшій ему со всѣхъ, кто къ нему подходилъ, срывать шапки, и толстая широкая спьна, на которой мы по очереди сиживали въ то время, когда буланый ѣлъ на покормѣ подъ сараями свой овесъ.
Межъ тѣмъ какъ мы волнова іпсь подобными чувствами—• до нашего слуха долетѣли другіе голоса, касавшіеся уже непосредственно насъ самихъ: кто-то давалъ Ь’прилЬ мысль прижать насъ и потребовать отъ насъ доплаты къ суммѣ, слѣдовавшей ему за нашъ провозъ; но Кириллъ энергически противъ этого протестовалъ п наотрѣзъ отказался насъ безпокоить, объявивъ, что онъ всю плату получилъ сполна и что это дѣло казенное — и онъ «мошештва» ни за что сдѣлать не хочетъ, а скорѣе пойдетъ куда-то къ начальству и скажетъ; такъ и такъ п т. д.
Мы далѣе не вслушивались—и тронутые благородствомъ Кирины, рѣшились скорѣе выручить его необходимою суммою, для чего съ каждаго изъ насъ семерыхъ нужно бы то около шести рублей ассигнаціями. Мы уже развязали свои мѣшки п складовалп эту значительную по нашимъ средствамъ сумму, какъ вдругъ она оказалась вовсе ненужною, потому что утихшій на мгновеніе крикъ снова раздался съ удвоенной силой, и Г при.пъ, слетѣвъ съ шумомъ п грохотомъ съ ярыльца, проворно схватилъ подъ-уздцы свою уже запряженную тройку и свелъ ее со двора, а потомъ вскочилъ па облучокъ и поѣхалъ рысью.
Считая такую скорую ѣзду дѣломъ совершенно необыкновеннымъ, мы выглянули ііоъ-подъ рогожъ нашей повозки на своего возницу — и, увидавъ его въ какой-то ажитаціи, снова попрятались.
Я, можетъ-быть, дурно дѣлаю, вдаваясь во всѣ мелочи нашего перваго путешествія, но, во-первыхъ, все это мпЬ чрезвычайно мило, какъ одно изъ самыхъ свѣтлыхъ моихъ юношескихъ воспоминаній, а во-вторыхъ, пока я дѣлалъ это путешествіе, оно, кажется, не знаю почему, дѣлало грунтъ д.ія образованія моего характера, развитіе котораго.
связано съ исторіею бѣдствіи и злоключеніи моей послѣдующей жизни.
Московскій медвѣдь, оставшійся для насъ мудреною загадкой, повидимому, произвелъ весьма сильное впечатлѣніе л на самого Кнриду, который совершенно утратилъ на время свою веселость и. сдѣлавшись чрезвычайно молчаливымъ, все выбиралъ пальцами подлинявшіе у нрго въ бородѣ волосы. На прорѣхи своего платья и раны своего лица онь не обращалъ никакого вниманія, несмотря на го, что количество поврежденіи на его іикЬ, кажется, нѣсколько усилилось послѣ его объясненіи съ московскимъ дворникомъ, отъ котораго онъ спасся какою-то неизвѣстною намъ находчивостью.
Три дня послѣ выѣзда нашего изъ Москвы опъ все спалъ: спалъ на стоянкахъ, спалъ и дорогою — и съ этою цѣлію, для доставленія большаго удобства себѣ, никого не подсаживалъ въ бесѣдку, а лежалъ, растянувшись вдоль обоихъ мѣстъ, на передкѣ. Лошадьми же правилъ кто-нибудь изъ насъ, но. впрочемъ, мы это дѣлали болѣе для своего удовольствія, такъ какъ привычные къ своему дѣлу кони сами знали, что имъ было нужно дѣлать, и шли своею мѣрною ходою.
Въ Тулѣ мы высадили ещ-- одного товарища, а въ Орлѣ двухъ—и остались вчетверомъ, изъ которыхъ одному надлежало остаться въ Глуховѣ, другому въ Нѣжинѣ, а мнѣ п нѣкоему поляку Краснопольскому вдвоемъ ѣхать до Кіева. Но, однакоже, нэ всѣ мы доѣхали до мѣстъ своего назначенія: намъ суждено было погубить дорогою своего нѣжин-скаго товарища, маленькаго Кнышенко. Это—небольшое, но очень трагическое происшествіе, которое чрезвычаино меня поразило, особенно своею краткою простотою и неожиданностію.
Я, конечно, зналъ, что всѣ люди смертны, но я... все-таки думалъ, что такое солидное дѣло, какъ умираніе, должно происходить съ нѣкоторою подготовкою, въ родѣ того какъ было съ отцомъ, апоплексическому удару котораго предшествовалъ нравственный ударъ.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Въ Тулѣ и Орлъ мы были безпокойны, какъ бы нашъ Кириллъ огягь не повелъ медвѣдя, такъ какъ онъ нэмь
уже разсказалъ, что это такое значило,—и мы изъ словъ его узнали, что въ вожденіи медвѣдя никакой настоящій звѣрь этой породы не участвовалъ, а чго это было не что иное, какъ то, что Кириллъ, встрѣтясь въ Москвѣ съ своими земляками, такъ сильно запилъ, что впалъ въ потемнѣніе разсудка п не помнитъ, гдѣ ходили и чтб дѣлалъ; пока его кто-то изъ тѣхъ же земляковъ отколотилъ и бросилъ у воротъ постоялаго двора, гдѣ мы его ждали въ такомъ ужасномъ перепугѣ п тоскѣ.
Однако, и въ Тулѣ, и въ Орлѣ Кириллъ показалъ характеръ п удержался, да и впередъ обѣщалъ быть воздерженъ и даже выражалъ твердое намѣреніе, довезя насъ до Кіева, оставить навсегда свой извозчичій промыселъ и ѣхать домой, гдѣ у него была жена, которая всегда могла его отъ всякихъ глупостей воздержать. Теперь онъ жилъ въ нѣкоторомъ умиленномъ состояніи и, воздыхая, повторялъ прекрасную пословицу, что «земляной рубль тонокъ да дологъ, а торговый широкъ да коротокъ».
Пословицу эту мы хвалили, но все-таки насъ пугала мысль: не пропилъ ли Кириллъ въ Москвѣ всѣ деньги, данныя ему за нашъ провозъ—и мы хотѣли узнать: будетъ ли ему съ чѣмъ доставить насъ до Кіева? Много церемониться было не изъ чего—и мы откровенно выразили ему наши опасенія; по Кириллъ насъ тотчасъ же благородно успокоили п притомъ сдѣлалъ самому себѣ нѣкоторый комплиментъ, сказавъ, чго онъ водилъ медвѣдя, держа разсудокъ въ сумкѣ, и пилъ только на чужой счетъ своихъ земляковъ, а всѣ деньги забилъ въ сапоги подъ стельку, — и потому когда товарищи захотѣли снять съ него и пропить тѣ сапоги, то онъ тутъ сейчасъ очувствовался и вскричалъ караулъ, но сапогъ снять не далъ, а лучше согласился претерпѣть неудовольствіе на самомъ себѣ, чго и воспослѣдовало.
Мы проѣхали всю орловскую губернію, встрѣтили въ Упороѣ у сада графа Гейдена первые тополи—и, налюбовавшись нмп, вскорѣ перевалили за широкую балку, посрединѣ которой текъ маленькій ручеекъ, служившій живымъ урочищемъ, составляющимъ границу Великой Россіи съ Малороссіей.
Теперь переѣздъ этотъ ничего не значитъ для путешественника, да и онъ совершается совсѣмъ не въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ мы перебирались изъ страны «неба, елей и песку» въ страну украинскихъ черешенъ. Желѣзная дорога оставила далеко въ бокъ характерную мѣстность тогдашней переправы, получившую очень характерное названіе: «Пьяная балка». Здѣсь на одномъ пологомъ скатѣ была великорусская, совершенно разоренная деревушка съ раскрытыми крышами и покосивши лися избами, а на другомъ, немножко болѣе крутомъ и возвышенномъ берегу чистенькій, какъ колпикъ, малороссійскій хуторокъ. Ихъ раздѣляла только одна Пьяная балка и соединялъ мостъ; затѣмъ у нихъ всѣ условія жизни были одни и тѣ же: одинъ климата, одна почва, однѣ перемѣны погоды;—но на орловской, т. е. на великорусской сторонѣ былп поражающіе нищета и голодъ, а на малорусской пли черниговской вѣяло инымъ. Малороссійскій хуторъ процвѣталъ, великорусская дер» вня извелась въ конецъ — и невозможно было рѣшить: чего еще она здѣсь держится? Въ этой деревнѣ ни одинъ проѣзжій или прохожій не осганавтивались—какъ потому, что здѣсь буквально не было жилья въ человѣческомъ смыслѣ, такъ и потому, что все населеніе этихъ разоренныхъ дворовъ пользовалось ужаснѣйшею репутаціею.
По одну сторону « Пьяной балки» была дорогая и скверная откупная видка, по другую—дешевая и хорошая. Па самомъ мосту стоялъ кордонъ, бдительно наблюдавшій, чтобы г.еліікоруссы не проносили къ себѣ каптп малороссійской водки; но проносить ее въ желудкѣ кордонъ не могъ возбранить—и вотъ почему баловники орловской губерніи были такъ отчаянно бѣдны: они постоянно все, чтб могли, тащили къ жидамъ на малороссійскую сторону и тамъ пропивали все до-чиста.
Въ самой балкѣ всегда стояли караваны телѣгъ: всѣ извозчики и не извозчики, всякая христіанская душа считала необходимостью, сдѣлавъ шагъ за малороссійскій рубежъ, сейчасъ же здѣсь намертво напиться дешевою водкою.—и отъ того здѣсь постоянно бывали ссоры, храки и даже нерѣдко убійства, о которыхъ мы много наслышались отъ Кирплы, говорившаго о «.Пьяной балочкѣ» съ восторгомъ, но меныней мѣрѣ приличествовавшимъ развѣ, напримѣръ, приближенію вѣрующаго къ Палестинѣ.
— Ахъ!—восклицалъ онъ, осклабляясь и простирая руки ъъ томъ направленіи, гдѣ была «Пьяная балка». Восхваляя
Сочиненіи Н. С. Лѣекова. Т. XXXII. 3
это мѣсто, опъ въ восторгѣ своемъ называлъ его не мѣстомъ. а ыѣстилищемъ, и говорилъ, что «тамь идетъ постоянно шумъ, грохотъ, п что тамъ кто нп проѣзжаетъ— сейчасъ начинаетъ пить, и стоятъ подъ горой мужики и купцы и все водку носятъ, а потомъ часто бьются, такъ что даже за версту бываетъ слышенъ стонъ точно въ отраженіи. А когда между собою надоѣстъ драться, то кордонщиковъ бьютъ и даже нерѣдко убиваютъ».
Зга картина, повидимому, совершенно плѣнила нашего Ііирилла, у котораго на лицѣ уже проходили слѣды московскаго вожденія медвѣдя, и мы опасались не разрѣшилъ бы онъ въ Пьяной балкѣ снова; но онъ категорически отвѣчалъ, что хотя бы и желалъ, такъ не можетъ, потому что онъ далъ самому Богу зарока» водки не пить, а развѣ только попробуетъ наливки, что и исполнилъ тотчасъ же, какъ мы перетащились за логовипу на черниговскую сторону.
Всего безобразія этой Пьяной балки я рѣшительно не могу описать: это одно бы составило ужаснѣйшую картину отвратительнѣйшаго жанра. Вездѣ стояли и бродили омерзительно-пьяные мужики; торчали опрокинутые возы, раздавались хриплые голоса; довелось намъ даже слышать и тѣ стоны, которые въ восторгѣ описывалъ Кириллъ, учинившійся здѣсь пьянымъ какъ стелька.
Мы были этимъ несказанно удивлены, но онъ намъ самымъ обстояте льнымъ образомъ разъяснилъ, какъ случилось, что данный Богу зарокъ не помѣшалъ ему натянуться. Выходило, что, давая зарокъ, оііъ умышленно разумѣлъ одну лишь водку настоящаго бѣлаго цвѣта, а ни о какихъ иныхъ напиткахъ пе упоминалъ, и потому всякимъ пнымъ напиткомъ съ чистою совѣстью могъ напиваться.
Путешествуя далѣе до ночлега, опъ останавливался уже у всякой корчмы и все пилъ «чвертку красненькой», при чемъ нѣсколько разъ снова начиналъ намъ объяснять, какъ онъ ум’-нь и предусмотрителенъ въ томъ отношеніи, что далъ зарокъ Богу не пить простои бѣлой водки, а насчетъ «цвѣтной или красненькой ничего касаюіцаго не обѣщалъ». Зто его такъ утѣшило и придавало ему такую отвагу, что онъ даже утверждалъ, что Богъ съ него «никакой правы не имѣетъ взыскивать насчетъ того, о чемъ у нихъ договора не было».
Пропивъ одинъ день, опъ продолжалъ то же самое и на
другой, п все болѣе и болѣе входилъ г.ъ стихъ—и, досадуя, что его никто не потчуетъ, возымѣлъ намѣреніе «хорошо проучить чортовыхъ хохловъ», которые, по его мнѣнію, были до жалости глупы.
Скоро къ тому представился случаи: мы проѣзжали какое-то село въ большой праздникъ. Въ корчмѣ была масса народа. Кириллъ остановилъ лошадей, зашелъ въ корчму и пропалъ тамъ.
Подождавъ его около четверти часа, двое изъ нашихъ пошли его вызвать, по возвратились съ извѣстіемъ, что нашъ возница затѣялъ какую-то штуку съ хохлами и ни за что не хотѣлъ выходить изъ корчмы.
Штука эта состояла въ томъ, что .Кириллъ спросилъ у шинкарки чвѳртку водки — и не выпивъ самъ ни одной капли, распотчивалъ ее на трехъ ближайшихъ малороссійскихъ мужиковъ. Тѣ, ничего не подозрѣвая, выпили, а теперь Кириллъ объявилъ имъ, что и они, въ свою очередь, каждый долженъ его попотчивать. Мужики почесавшись затребовали каждый по чверткѣ, а нашъ Кириллъ, сливъ все это въ одну посуду, поблагодарилъ и выпилъ, уже на сей разъ совсѣмъ позабывъ свой зарокъ не пить бѣлей.
При безобразномъ пьянствЬ нашего провожатаго мы кое-какъ добрались до Королевца. маленькаго грязнаго городишки, гдѣ тогда шла ярмарка и гдѣ Кириллъ снова «надулъ проклятыхъ хохловъ», но уже на этотъ разъ его находчивость избрала орудіемъ для обмана насъ самихъ. Онъ устроилъ все зто такъ обдуманно, смѣло и тонко, что мы ничего не могли попять до гѣхъ поръ, пока онъ выполнилъ весь свой коварный умыселъ, чрезвычайно насъ тогда обидѣвшій и опечалившій, а нынче, когда я пишу эти строки, заставляющій меня невольно улыбаться.
Надо сказать, что между нами тремя, которыхъ везъ теперь Кириллъ, былъ нѣкто, котораго я назову Станиславомъ Пенькновскимъ. Этоть молодой полякъ былъ годами двумя насъ постарше, высокъ ростомъ, довольно мужествененъ, красивъ собою, при этомъ большой франтъ—и но польскому обычаю франтъ довольно безвкусный.
Подчиняясь своей страсти къ щегольству, онъ въ Москвѣ купилъ у какого-то своего земляка венгерку съ шнурами и кутасами, яркоцвѣтныя широкія шаровары и красную турецкую ермолку съ синею шелковою кистью: въ этомъ стран-
ломъ нарядѣ онъ и ѣхалъ, постоянно высовываясь изъ повозки.
Кириллъ, какъ только его голова немножко поправилась послѣ московскаго пьянства, обратилъ вниманіе на этотъ нарядъ, и многократно его одобрялъ, а потомъ, вѣроятно вслѣдствіе долгихъ соображеній, нашелъ случай его утилизировать. Началось это съ того, что чуть гдѣ-нибудь па мосту случалась безпорядица и давка — Кириллъ просилъ Пенькновскаго высунуться и покричать, что тотъ съ удо-вольстьіемь п исполнялъ, дѣлая нерѣдко и даже нѣсколько болѣе того, о чемъ просилъ его Кириллъ. Такъ, Пенькнов-скігі зачастую, не ограничиваясь крикомъ изъ телѣги, выскакивалъ вонъ- п, выхвативъ у Кирилла его длинный троеч-ипческій кнута, хлесталъ имъ встрѣчныхъ мужиковъ и ихъ лошадей, отчего послѣднія метались въ стороны и нерѣдко валили и опрокидывали возы, мимо которыхъ мы потомъ съ торжествомъ проѣзжали среди мужиковъ, снимавшпхч» въ страхѣ свои шапки п, вѣроятно, славшихъ намъ тысячи проклятій. Но какъ бы тамъ ни было, а Ненькновскій вездѣ но дорогѣ производилъ очень большой эффекта»—и Кириллъ, находя въ этомъ не малую для себя выгоду, очень часто его хвалилъ и даже, угощалъ пивомъ и водкою.
Такъ было во все время путешествія по Великой Россіи.
Въѣхавъ въ Малороссію, Кириллъ началъ еще болію льстить пану Пены,невскому и урѣрялъ, что ему стбитъ показаться, такъ дураки-хохлы для него же съ себя поскидаютъ.
Пенькновскому необыкновенно нравилось, что онъ играетъ такую замѣтную роль, и онъ по приглашенію Кприлы началъ съ нимъ заходить во всякую корчму. II что же выходило? Дѣйствительно, чуть, бывало, Ненькновскій взойдетъ и сядетъ, а Кириллъ шепнетъ одно слово шинкарю или шпнкаркЬ, какъ тѣ тотчасъ подаютъ имъ обоимъ наливки, сколько они хотятъ, а также давали и закусокъ, и ни за что не требовали ни іроша, а только, выпроваживая ихъ,— тихонько вслѣдъ пмъ плевали.
Я и мой другой товарищъ понять не могли, за кого это пасъ принимаютъ? Ненькновскій же увѣрялъ насъ, что все это, вѣроятно, происходитъ отъ того, что онъ, будто бы, похожъ на казацкаго атамана, въ чемъ его, въ свою очередь, увѣрилъ льстивый и коварный Кириллъ. Такъ мы доѣхали
до Королевца, гдѣ суждено бы іо произойти развязкѣ этого пошлаго и смѣшного анекдота.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Ярмарка въ Ііоролевцѣ стояла па единственной немощеной и чрезвычайно грязной городской площади. Я уже теперь не помню, около какихъ это было чиселъ, но знаю, что время было осеннее. Постоя іые дворы вокругъ площади всѣ были заняты — и Кириллъ, не въѣзжая никуда па дворъ, остановился за угломъ одного дома у самой площади, выпрягъ здѣсь своихъ коней и. растянувъ хрсптугъ, поставилъ ихъ къ корму, а самъ приступись къ Пенькнов-скому съ просьбою пройтись по базару. 'Кириллъ сказалъ, что ему надо купить для себя пару бубенчиковъ, и что будто бы ему гораздо сподручнѣе сдѣлать это пріобрѣтеніе вмѣстѣ съ Пенькновскимъ.
Пеиькновскій пе отказался, и они пошли; а я и другой мой товарищъ, маленькій Ьпыпіенко. заинтересованные тѣмъ, неужели имъ и бубенчики достанутся щромъ,—слѣдили за ними издали.
Пенькновскій въ своемъ пестромь, въ глаза кидающемся нарядѣ шелъ впереди, — а Кириллъ, обыкновенно обращавшійся съ нами за панибрата, здѣсь вдругъ какъ-будто проникся къ Пенькновскому крайнимъ и самымъ подобострастнымъ почтеніемъ. Онъ шелъ сзади и тщательно оберегалъ, чтобы его кто не толкнулъ, а между тѣмъ постоянно шепталъ что-то на стороны встрѣчнымъ людямъ, которые тотчасъ же со страхомъ разступались, и, крестясь, совали Кирилѣ кто грошъ, кто бубликъ, и потомъ, собираясь толпою, издали тянулись за ними со страхомъ, смѣшаннымъ съ неодолимымъ любопытствомъ.
До нашего слуха долетало какое-то чуждое слово, значенья котораго мы не понимали, но видѣли, что вереница, слѣдовавшая за Панькноввкимъ, все увеличивалась. Посреди торга толпа сгустилась до невозможности, и сидѣвшія тутъ на землѣ торговки, съ яблоками, булками и плоскою коро-левецкою колбасою, начали подавать сопровождавшему Псныі-новскаго К.ирилѣ каждая отъ своихъ щедротъ: кто булку, кто пару яицъ, кто еще чтб было подъ рукою; притомъ опять каждая, подавъ эту жертву, набожно крестилась и съ отвращеніемъ плевала въ сторону.
Па площади внятнѣе прогудѣло опять то же слово чуждое и незнакомое намъ; слово это было: «катъ*.
— Ката везутъ, московскаго ката въ Кіевъ везутъ: жертвуйте кату іцо-бы мплостпвѣйпіе билъ!—шептали со всѣхъ сторонъ—и жертвы до того увеличились, что Кириллъ уже былъ значительно ими обремененъ и, замѣтивъ насъ, передалъ намъ доли» своего сбора, послѣ чего и отъ пасъ тоже всѣ отшатнулись, и пронеслось:
— А се его ученики. Они еще бити не можутъ, а ти.іьки привязуіоіъ.
И намъ пошла особая, добавочная жертва!
Положеніе выходило престранное и, какъ мы понимали, пе совсѣмъ ладное; но Пенькновскій, обаянный своимъ великолѣпіемъ, идучи впереди, ничего этого не слыхалъ.
Онъ зашелъ въ балаганъ и купилъ, или даромъ взялъ, бубенчики, положилъ ихъ въ карманъ и, погромыхивая ими, пошелъ еще съ большимъ эффектомъ; зашелъ вь палатку, гдѣ продавали вино и гдѣ былп разные пьяные люди. Однако, несмотря на то, что всѣ эти люди были пьяны, чуть только они взошли и Кириллъ кивнулъ имъ ГОЛОВОЮ па Пенькновскаго — они перестали шумѣть и потребовали для него непокупного вина. Кириллъ оставилъ здѣсь Пенькновскаго, а самъ, изрядно пьяный, вернулся къ телѣгѣ съ цѣлымъ ворохомъ разныхъ закупокъ и гостинцевъ. Онъ живой рукой заложилъ лошадей — и мы подъѣхали къ куреню, гдѣ оставался великолѣпный Пенькновскій.
Услышавъ звонъ нашихъ новыхъ бубенчиковъ, онъ вылѣзъ изъ-подъ грязной палатки—п мы поѣхали.
У насъ былъ цѣлый сборъ ппроговъ, рыбы, колбасъ, яицъ, вина, рѣпы, табаку и моркови, которую немилосердно хрясталъ подгулявшій Кириллъ; но тутъ вдругъ случилось неожиданнѣй шее и казуснѣйшее происшествіе: не успѣли мы отъѣхать и трехъ верстъ отъ города, какъ насъ обогналъ тарантасъ, запряженный тройкою лошадей. Намъ было велѣно остановиться — и краснолицый господинъ съ военною осанкою потребовалъ отъ насъ наши паспорта.
ѣіы развязали сумочки и предъявили наши бумаги. Военный господинъ просмотрѣлъ ихъ — и непосредственно за тѣмъ, сбивъ съ Кнрилы шапку, началъ таскать его за вихры н бить по щекамъ.
Кто былъ этотъ быстрый на руку коро.іевецкій начали-
пикъ—это такъ и осталось намъ неизвѣстно, но мы ему былп очень благодарны, что онъ проучилъ Кирилу, а главное—открылъ намъ, что коварный м;жпчснко выдавалъ нашего великолѣпнаго товарища за московскаго палача, котораго онъ. будто бы, везетъ въ Кіевъ польскую графиню наказывать, а насъ двухъ выдавалъ за его учениковъ.
Всѣ мы этимъ очень обидѣлись, а Пенькновскіи потребовалъ отъ Кирилла объясненій: неужто онъ смѣлъ называть его палачомъ? Но жестоко выпоротый Кириллъ, хрустя во рту оставшеюся у него морковью, отвѣчалъ:
-— Ну, такъ что же тебѣ изъ того за бѣда?
— Какъ что за бѣда? Я не хочу быть палачомъ.
— Ну, не хочешь, такъ п не будешь.
— А какъ же смѣлъ ты меня называть палачомъ?
-—- Эко важность какая: какъ смѣлъ? Антпресуются: чтб такого за пестраго чорта везешь? Я и сказалъ, что везу палача въ Кіевъ; за то же тебѣ вездѣ почтенье было, а меня ототралп.
Пенькновскіи пожать плечами — и, быстро сбросивъ съ себя своп яркія шаровары, сказалъ намъ:
— Господа, мы одурачены.
Мы согласились; но нашли, что всс-такп Кирплѣ досталось хуже всѣхъ, потому что у насъ пострадала репутація, а у него спина, отъ которой онъ жестоко кряхтѣлъ и нѣсколько дней не могъ разогнуться. Мы же съ своей стороны дали іругъ Д'РУГУ слово, что эта исторія останется между нами. Нынѣ я впорвые нарушаю это слово, но дѣлаю это, впрочемъ, съ совершенно покойной совѣстью, потому что оба лица, которымъ я обязался мотчаніемъ, уже давно погибли отъ двухъ случайностей: Енышенко утонулъ въ рѣкѣ Сеймѣ, а погибель послѣдняго, т. е. Пенькновскаго, дѣло позднѣйшей эпохи; по маленькія Кнышенко утонулъ на третій же день послѣ описаннаго королевецкаго событія—и утонулъ этотъ бѣдный ребенокъ неожиданно, весело и граціозно, какъ жилъ, но, однако, его смерть была для меня ужаснымъ, потрясающимъ событіемъ. Она дала мнѣ первый поводъ къ нѣсколько рановременнымъ размышленіямъ о непрочности всего земного, и о тщетѣ и несбыв-чивости самыхъ ближайшихъ надеждъ. Это сдѣлалось потомъ моей болѣзнью, которая мнѣ во многомъ вредила и во многомъ была полезна.
Кпышенко былъ добрый и очень нѣжный мальчикъ: онъ пламенно любилъ свою мать, говорилъ о ней съ восторгомъ и стремился къ пей съ какою-то болѣзненною страстностію. У него была тетрадка, въ которой онъ ежедневно зачеркивалъ дни разлуки — и, пе зачеркнувъ только трехъ дней, разстался съ нею навѣки. Я видѣлъ въ этомъ злую насмѣшку рока.
Кпышенко умеръ такимъ образомъ: мы пріѣхали въ красивое мѣстечко Батуринъ, бывшую столпцу Мазепы, гдѣ есть развалины гетманскаго дома и опустЬлый дворецъ Разумовскаго. Обѣжавъ всѣ достопримѣчательности этого мѣстечка, мы, не смотря на позднее время года, вздумали сами половить въ рѣкѣ Сеймѣ здѣшнихъ знаменитыхъ раковъ. Раздѣвшись, мы спустились въ воду и стали шарить подъ корчами и береговыми уступами. Кнышснко при этомъ трувиль надъ «катомъ» Пспькновскимъ, который оказывался чрезвычайно неловкимъ въ ловлѣ, между тѣмъ какъ Кны-шепко оказывался очень ловокъ въ труненьи — и такъ допекъ Пенькновскаго своими насмѣшками, что тотъ бросился на него съ поднятымъ кулакомъ. Кнышснко началъ отбивать его, поднимая въ лицо его тучу брызги и... вдругъ исчезъ въ облакѣ этихъ брызгъ и болѣе не показался. Онъ, вѣроятно, оступился и попалъ въ одинъ изъ глубокихъ, тинистыхъ омутковъ, которыхъ въ этой рѣкѣ чрезвычайно много; а можетъ-быть, съ нимъ случился ударъ, такъ какъ всѣ мы послѣ королевецкой оргіи все-таки были еще немножко пьяны.
Исторія эта надѣлала намъ множество тяжелыхъ и самыхъ непріятныхъ хлопотъ и продержала насъ въ Батуринѣ около четырехъ сутокъ, пока утопленника достали, вскрыли и похоронили.
Въ эти дни мы, разумѣется, совсѣмъ протрезвились, и бѣдная душа моя, открывъ всю бездну своего глубокаго паденія, терзалась немилосердно. Въ погибели Кньпиенко я видѣлъ песчастіс, которое ниспослано намъ въ наказаніе за наше безчинное поведеніе: за питье сладкой водки и наливокъ, п въ особенности за оскорбленіе нравственности вольнымъ обхожденіемъ съ королевецкими ярмарочными красавицами. Разстроенные кутежами, нервы мои помогли моему страданію, а вдобавокъ Кириллъ въ это время вѣроятію вспомнилъ совѣты, данные ему въ Москвѣ, чтобы опъ по
прижалъ насъ, — п вотъ онъ вздумалъ теперь воспользоваться сдѣланною намъ задержкою и, придравшись къ ней, потребовалъ съ насъ возмѣщенія его убытковъ въ размѣрѣ цѣлыхъ ста рублей (разумѣется ассигнаціями).
Не знаю: какъ бы я отнесся къ такому нечестному и наглому требованію при другихъ обстоятельствахъ, но въ эту пору я былъ радъ всякой новой карѣ — и съ удовольствіемъ отдалъ всѣ свои деньги до послѣдней копейки, такъ что «кату» уже пришлось дополнить очень немного.
Ѣхали мы послѣ этого скучно: въ повозкѣ для насъ двухъ открылся просторъ, пользуясь которымъ Пенькновскій все спалъ въ-растяжку, а я вздыхалъ и размышлялъ о томъ, какъ поразитъ вѣсть о смерти Кнышснко его родителей, которые, вѣроятно, насъ встрѣтятъ въ Нѣжинѣ. Я часто плакалъ и молился, чтобы Богъ далъ мнѣ благодать слова, способнаго хотя немного облегчить скорбь бѣдныхъ родителей моего товарища. Я все подыскивалъ удобныхъ изреченій для выраженія той моей мысли, что ихъ сыну, можотъ-быть, совсѣмъ не худо, потому что мы не знаемъ, чтб такое смерть: можетъ-быть опа вовсе не несчастіе, а счастіе.
Впослѣдствіи, встрѣгивъ эту самую мысль у Сократа въ его отвѣтной рѣчи судьямъ, приговорившимъ его къ смерти, я былъ пораженъ: откуда могъ взять эту мысль я, будучи мальчикомъ и невѣждою. Но, тѣмъ не менѣе, какъ бы тамъ ни было, а мы сошлись съ Сократомъ въ то время, когда я зналъ о «великомъ старцѣ» только то, что, судя по видѣннымъ нѣкогда бюстамъ этого мудреца, онъ былъ очень некрасивъ и очевидно не имѣлъ военной выправки, безъ которой человѣку трудно держать себя съ достоинствомъ въ хорошемъ обществѣ.
Со мной происходилъ ужасно тяжелый нравственный переворотъ, достигшій, наконецъ, до такого экстаза, что я не вядѣлъ средствъ оставаться въ живыхъ— никому не открывъ сей мрачной бездны моего паденія. Я хотѣлъ бы написать объ этомъ матушкѣ, по мпѣ показалось, что она, какъ близкое лицо, не перенесетъ всего ужаса, какимъ должна была объять ея чистую душу моя исповѣдь. Я рѣшилъ подождать пока пріѣду и тогда лично открыть матери снѣдающую меня скорбь, не иначе, какъ съ немедленнымъ же обѣтомъ посвятить всю мою остальную жизнь исправленію
моихъ недостопнствъ и загладить ихъ подвигами добра п самопожертвованія.
ІІодьим -это была моя всегдашняя мечта; самоотрѣченіе и самопожертвованіе—это идея, въ которую болѣе или менѣе ясно огформировалось это упоительное и нетерпѣливое мечтаніе.
Смѣшио; но ютъ сдѣлаетъ мнѣ большое одолженіе, кто не станетъ смѣяться надъ этими смѣшными порывами,, такъ какъ я не знаю ничего лучше ихъ.—н горе тому, кто не вкушалъ сладостнаго желанія страданія за другихъ!. Онъ не зналъ лучшаго и чистѣйшаго удовольствія, какое возможно человѣку испытать на землѣ.
Но возвращаюсь къ тогдашнимъ моимь затрудненіямъ въ потребности исповѣди и вь обрѣтеніи благодатныхъ словъ, которыя могли бы облегчить скорбь родителей, потерявшихъ сына.
Я этимъ былъ такъ занятъ, чго, молясь о помощи свыше, началъ ощущать вблизи себя въ повозкѣ чье-то присутствіе,— присутствіе многихъ, очень многихъ существъ, которыя ѣхали со мною и понимали мои думы, въ глубочайшей тайнѣ хранимыя отъ моего возніщы и оскверненнаго товарища.
Мы пріѣхали въ городокъ Борзпу, па который теперь болѣе тоже не лежитъ главный н}ть къ Кі&ву. Эта Борзна— до жалости ничтожный и маленыйй городокъ, при первомъ взглядѣ на который становится понятенъ крайній предѣлъ, того, до чего можетъ быть мелка жизнь и глубока отчаянная скука. Не тоска,—чувство тяжелое, но живое, сочное и подвижное, имѣющее свои фазы и переходы, — а сухая скука, раздражающая человѣка и побуждающая его дѣлать то, чего бы онъ ни за что не хотѣлъ сдѣлать.
Мнѣ казалось, что эта скука точно здѣсь виситъ въ воздухѣ: и не успѣлъ я стать на ноги, какъ она уже охватила меня точно спрутъ или піявка и неодолимо начала присасываться къ моему сердцу. Я вышелъ за ворота иостоя-лаю двора — и, взглянувъ на пустую площадь и на украшавшую ее тюрьму, ощутилъ неодолимую потребность бѣжать и скрыться. Мой извозчикъ, мой товарищъ, самая телѣга, въ которой я путешествовалъ,—были мнѣ противны, они служили мнѣ напоминаніемъ тягостныхъ и отвратительныхъ событій. У меня уже была испорченная чеизчъ—-
и мнѣ хотѣлось оплакать и сбрсюпть ее. Я увидалъ гдѣ-то за соломенными крышами стройные конусы зеленыхъ, въ рядъ вытянутыхъ тополей—и бросился къ нимъ, надѣясь найти тутъ отдыхъ отъ сжимавшей мое сердце тоски, и я бѣжалъ не напрасно. Видѣнныя мною деревья стояли въ рядъ, окаймляя заборъ, за которымъ ютился довольно чистенькій домикъ съ надписью, возвѣщавшею, что здѣсь ио-мьщается городская больница.
Эю было претихое мксто, какъ разъ идущее подъ стать тому, чего я искать. Между тополями и темнымъ заборомъ была довольно глубокая, заросшая травою канавка, въ которую я юркнулъ какъ хорь—и, упавъ на ея дно. легъ лпцомъ ницъ къ землѣ п .«анлакалъ.
Я оплакивалъ свою погибшую жизнь, івое глубокое, нравственное паденіе, страшно разстроившее мое воображеніе и нервы и доведшее меня до отчаянія, что я, сопричастясь безднѣ і разныхъ пороковъ, уже недостоинъ и не могу взглянуть въ свѣтлые глаза моей матери,—что я лишилъ себя права обнять ее н принять ея поцѣіуи на мое скверное лицо, которое дѣйствительно осунулось и жестоко измСнилось. Это произошло отъ большого нравственнаго страданія и мѵкъ, которыя я испытывалъ, казня себя за всю развращенность, столь быстро усвоенную мною съ тѣхъ норъ, какъ я очутился на волѣ. Оплакивая въ канавѣ свое паденіе, я проникался духомъ смиренія: я порицалъ свободу (п это такъ рано!) и жаждалъ какой-то сладкой неволи и тосковать о какомъ-то рабствѣ, — рабство сладкомъ, добромъ, смирномъ, покорномъ и покойномъ.—словомъ: о рабствѣ пріязни п попечительной дружбы, которая бы потребовала отъ меня отчета и нанесла бы мнѣ заслуженные мною укоры, нанесла бы тономъ глубокимъ и сильнымъ, но такимъ, который бы неизбѣжно смягчался и открывалъ мнѣ будущее въ спокойномъ свйгѣ. Но гдѣ же такой др\гъ? передъ которымъ бы я могъ подвергнуть себя такому сладостному самобичеванію?—ГдІ>? Великій Боже! Меня словно осыпало горячимъ пескомъ: какъ же я смѣю роптать, что у меня пѣгъ друга’ Какъ могъ я въ эги минуты позабыть о ней, о той доброй сестрѣ моего тверского товарища, которая ум.ла такъ ловко поправить мою ошибку на вечерѣ у ихъ отца и такъ великодушно меня обласкала и прислала мнѣ па дорогу книгу н пироговъ? Развѣ это еще не дружба, и
притомъ болѣе чѣмъ обыкновенная дружба—.дружба сг. женщиной!
О, какое это было сладостное воспоминаніе! Я иоч)в-ствова.іЪ въ сердцѣ болѣзненно сладкій уколъ, который, подыскивая сравненіе, могу приравнять къ прикосновенію гальваническаго тока; свѣжая, я лучше бы хотѣлъ сказать: глупая молодая кровь ртутью пробѣжала по моимъ жиламъ, я почувствовалъ, что я люблю и по всей вѣроятности самъ взаимно любимъ... Иначе это не могло быть! Я вскочилъ па ноги, схватился руками за грудь и зашатался. Мйѣ показалось, что въ этой сорной канавѣ я какъ будто снова нашелъ мою потерянную чистоту,—и вотъ я, упершись руками въ края канавы, выскочилъ и бросился бѣжать со всѣхъ ногъ въ городъ. Здѣсь я купилъ въ лавкѣ бумаги и конвертъ и сѣлъ за столомъ въ кухнѣ писать письмо къ моей пафосской богинѣ, въ которой женщина для меня ни мало не затмевала божественный, мною созданный образъ; я любилъ ее, но не иначе, какъ смертный можетъ любигь богиню,—и не предполагалъ, чтобы несомнѣнная ея любовь ко мнѣ имѣла другой характеръ, несоотвѣтствующій разницѣ нашихъ отношеній.
Я хотѣлъ бы слушать ее, по слушать какъ внушеніе; я хотѣлъ бы даже прикоснуться къ пей, но не иначе, какъ прикоснуться устами къ краю ея одежды.
То, что я танцовалъ съ нею, представлялось мнѣ ужаснымъ оскорбленіемъ ея величія—и я съ этого началъ мое весьма почтительное, но безмѣрію глупое письмо.
Совершая этотъ безумный поступокъ, я находилъ его прекраснымъ и не видалъ никакой неловкости въ томъ, что пишу въ неизвѣстный мнѣ домъ, къ совершенно почти незнакомой мнѣ дѣвушкѣ.
Но тѣмъ хуже было для меня--по всѣмъ ужаснымъ послѣдствіями въ бреду совершеннаго поступка.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Письмо выходило чрезвычайно пространное и, какъ мнѣ тогда казалось, необыкновенно трогательное и задушевное. Въ послѣднемъ, я думаю, я нимало но ошибался, потому что искреннѣе меня тогда не могла быть и сама отвлеченная искренность. Начавъ, какъ я сказалъ выше, съ того, что возвелъ ИаНіаІіе Волосатику въ санъ богини, я про
силъ у нея прощенія въ томъ, что огорчилъ ее моею невоспитанностію, — н далѣе пространно описывалъ ей мое душевное состояніе и объяснялъ причины, отъ которыхъ оно произошло, т. е. я выисповѣдался. что пилъ вино и вообще налъ; но, однако, ко счастію, я еще какъ-то удержался и скорбя о своемъ паденіи, ничего не открылъ насчетъ королевецкпхъ ярмарочныхъ дамъ подъ шатрами, а объяснялъ ужасъ и низость своего паденія экивоками. Я просилъ сестру Волос агина обдумать мое ужасное положеніе и примѣнить ея нѣжность—если не ко мнѣ, то, по крайней мѣрѣ, къ ея брату, моему товарищу, который по его лѣтамъ и неопытности могъ подвергнуться тѣмъ же искушеніямъ, какими былъ искушенъ и я, и потомъ подпасть подъ тѣ же муки раскаянія, какими я страдаю. Все, чего я хотѣлъ отъ нея для себя, я выпрашивалъ у нея для ея брата и потому считать его въ это время моимъ лучшимъ другомъ и такъ къ нему и относился въ письмѣ, которое передъ выѣздомъ своимъ изъ Ворзпы сдалъ на почту.
По зачѣмъ я все это сдѣлалъ? Этотъ поздній вопросъ возникъ во мнѣ почти немедленно же послѣ того, какъ соломенныя борзснскія кровли утонули въ туманной чертѣ горизонта и я остался самі со своими думами. Мадо-по-малу мною начали овладѣвать сомнѣнія: позволительно ли было съ моей стороны такое письменное обращеніе къ дѣвушкѣ, которую я видѣть всего одинъ вечеръ? Послѣ нѣкоторыхъ соображеній мнѣ начало казаться, что это не совсѣмъ позволительно,— и чѣмъ я болѣе размышлялъ, тѣмъ эта непозволительность становилась все яснѣе и возмутительнѣе. Къ тому же я теперь не могъ отвѣчать за каждое выраженіе моего письма, потому что хотя у меня и было черновое, но я, переписывая на-бѣло, кое-что измѣнилъ и— какъ мнѣ теперь казалось- во многихъ мѣстахъ весьма прозрачно обнаруживалъ свою возвышеннѣйшую любовь къ моей корреспонденткѣ. А что, если это письмо попадется кому-нибудь изъ ея семейныхъ, или она сама покажетъ его своему брату? О, какой стыдъ и ужасъ! Какъ они будутъ надо мной смѣяться? Пли вдругъ ея отецъ напишетъ объ этомъ моей матери и, пожа іуи, приложитъ въ подлинникѣ мое письмо?.. Великій Господи! мнѣ показалось, что я этого пе вынесу—и для спасенія своей чести мнѣ тогда по меньшей мѣрѣ долило будетъ застрѣлиться.
,Я умолялъ Кирилла вернуться назадъ въ Борзну, съ тою цѣлію, чтобы выпросить у почтмейстера назадъ мое письмо; но Кириллъ, сдѣлавшійся послѣ постигшей его подъ Коро-левцемъ непріятности чрезвычайно мрачнымъ, не хотѣлъ меня слушать. Вообще теперь при выѣздѣ изъ городовъ онъ обнаруживалъ большую торопливость п безпокойство и ни за что не хотѣлъ остановиться: да къ тому же я и самъ скоро понялъ, что возвращеніе было бы теперь безполезно, потому что я подалъ письмо передъ самымъ отправленіемъ почты, ноторця теперь мчитъ мое письмо на сѣверъ,—межъ тѣмъ, какъ я, злополучный, самъ неуклонно тянусь на ютъ, гдѣ, однако, меня найдетъ и постигнетъ какое-то роковое и неотразимое послѣдствіе посланной корреспонденціи.
Никакая помощь, никакая поправка были невозможны, -н я, упавъ на дно телѣги, сгоралъ со стыда и не видѣлъ никакого спасенія отъ неминуемаго позора, въ неотразимости котораго меня совершенно увѣрило мое безпокойное возраженіе.
Но, впрочемъ, какъ застрѣлиться мнѣ очень не хотѣлось, то я скоро занялся подыскиваніемъ другого подходящаго - родства, обратясь къ которому, я только умеръ бы для людей, а для самого себя былъ бы живъ.
Передо мной мелькнулъ монастырь—и я счелъ эту мысль за благодѣтельное наитіе свыше.
«Кто же,—думалъ я,—мнѣ дѣйствительно остается одно: скрыться навсегда въ стѣнахъ какого-нибудь монастыря и посвятить всю будущую мою жизнь искупленію безразсудство моей глупой молодости.»
Въ святой простотѣ ума и сертца, я, находясь въ преддверіи лабиринта, думалъ, что я уже прошелъ его и что мнѣ пора въ тотъ затонъ, куда я, какъ сказочный ершъ, попалъ, исходивъ всѣ океаны и рѣки и обивъ всѣ свои мышцы и перья въ борьбѣ съ волнами моря житейскаго. Я думалъ, что я дошелъ до края моихъ безразсудствъ, когда только еще начиналъ і.ъ нпмь получать смутное влеченіе. Но какъ бы тамъ ни было, а желаніе мое удалиться оть міра было непреложно—и я рѣшилъ немедленно же приводить его въ дѣйствіе.
«Постригусь,—думать я,—п тогда извѣщу матушку, что я уже не отъ міра сего, а причина этого навсегда останется моею глубокою тайною.»
Бъ Нѣжинѣ я убѣжалъ къ какой-то городской монастырь и потребовалъ, чтобы меня проводили къ настоятелю; но настоятель бы-гь въ отлучкѣ и въ его отсутствіи монастыремъ правилъ монахъ, котораго я назову отцомъ Діодоромъ.
Мнѣ было нѣкогда ждать — и я потребовалъ, чтобы обо мнѣ доложили отцу Діодору; а самь остался въ монастырскомъ дворикѣ. Я хотѣлъ избѣжать встрѣчи съ родными покойнаго Кнышенкп, для которыхъ не выдумалъ никакого упиштельнаго слова, потому что мою саратовскую мысль о томъ, что смерть, моік©тъ-бы«ь, есть блаю. всядчѣ разъ перебивали слова переведенной на русскій языкъ греческой пѣсенки, которую мпѣ пѣвала матушка. Въ этой пѣснь поется, какь одинъ маленькій мальчикъ освѣдомляется у матери: зачѣмъ она груститъ объ умершей его сестрицѣ, маленькой Зоѣ, которая, по собственнымъ же словамъ матеря, теперь «уже въ лучшемъ мірѣ, гдѣ Божьи ангелы живутъ и ходятъ розовыя зори». II что же? бѣдная малъ, зная такія хорошія слова утѣшенія для друрнхт., сама, не утѣшается ни свѣтомъ зорь, нп міромъ апгеяовь, и груститъ, что
У бѣдной нѣтъ тамъ мамы, Кто ейотрѣтй бы изъ окна, Какъ съ цвѣткомъ и могылъказы Забавляется она.
Я чувствовалъ, что па такую грусть рѣшительно ничего не отвѣтишь, и бѣжалъ огъ разрывающей душу тоски. Потомъ, во-вторыхъ, я былъ увѣренъ въ живой для себя потребности бесіды съ духовными лицомъ насчетъ своею намѣренія поступить въ монастырь.
Но представьте, же себѣ, что случилось здѣсь сь этимъ мопмт. намѣреніемъ! Холодный осепній вѣтеръ, юлою вертѣвшійся на небольшомъ монастырской ь дворѣ, привелъ меня въ отвратительнѣйшее безпокойное состоя и е Невольно наблюдая мятущееся безпокойство внѣ ке.іій, я проникать моимъ воображеніемъ внутрь ихъ и убѣждался, что здѣсь вездѣ неіюкой и смятенье,— что за всякою этой стѣною, переть каждой трепещущею лампадой трепещетъ, мятется и ноетъ человѣческій духъ, подражая смятенію^ вою и досаждающему шуму этего вѣтра.
Одну Діодору было лучше бы не принимать меня, по
обстоятельства такъ благопріятствовали моему ходатайству, что я былъ допущенъ въ очень большую и довольно хорошо убранную келью, гдѣ во второй — сл Ьдовавшей за залой — комнатѣ увидавъ на диванѣ свѣжаго, здороваго и очень полнаго грека, въ черной полубархатной рясѣ съ желтымъ фуляровымъ подбоемъ и съ глазами яркими, какъ вспрыснутыя прованскимъ масломъ маслины. Передъ почтеннымъ инокомъ стояла старинная бронзовая чернильница и такой же бронзовый колокольчикъ, а сбоку его въ креслѣ сидѣла розовая дама, передъ которою на столѣ были разставлены четыре тарелки, изъ коихъ на одной былп фиги, на другой фундуки, на третьей розовый рахатъ-лукумъ, а на четвертой какое-то миндальное печенье и рюмка съ санторинскимъ виномъ, распространявшимъ по комнатѣ свой непріятный аптечный запахъ.
Эта обстановка немножко не совсѣмъ шла подъ стать моему аскетическому настроенію, для собесѣдованія о которомъ я сюда явился.
Отецъ Діодоръ (это былъ онъ), встрѣтя меня, показалъ па кресло ѵів-й-ѵіз съ угощавшейся у нсто дамой и спроси чъ меня съ сильнымъ греческимъ акцентомъ, чтб мнѣ отъ него нужно.
Я весьма не смѣло объяснилъ съ замѣшательствомъ зачѣмъ пришелъ. Инокъ слушалъ меня, какъ мнѣ показалось съ первыхъ же моихъ словъ, безъ всякаго вниманія, и во все время — пока я разъяснялъ мрачное настроеніе души моей, требующей уединенія и покоя, — молча подвигалъ то одну, то другую тарелку къ своей гостьѣ, которая была гораздо внимательнѣе къ моему горю: она не сводила съ меня глазъ, преглупо улыбаясь п чавкая крахмалистый рахатъ-лукумъ, который липъ къ ея розовымъ деснамъ.
Когда рѣчь моя была кончена, великолѣпный отецъ Діодоръ позвонилъ въ колокольчикъ и велѣлъ вошедшему служкѣ подать «цаекумъ на кофе».
— Съ молокомъ, или безъ молокомъ? - вопросилъ молодой вертлявый греческій служка.
Безъ никому,—отвѣчалъ инокъ Діодоръ и опять началъ угощать свою гостью, не обращая никакого вниманія ни на самого меня, ни на мои остающіеся безъ разрѣшенія вопросы, о которыхъ я п самъ въ эти минуты пересталъ думать и разсуждалъ: зачѣмъ эти два грека говорятъ
между собою по-русски, когда имъ очевидно гораздо удобнѣе было бы объясняться по-гречески?
Межъ тѣмъ служка подалъ чашку кофе и графинчикъ рому, выражавшій собою какъ видно то «безъ никому», о которомъ сказалъ ему монахъ.
Я кофе выпилъ, но отъ рому отказался, несмотря на то, что меня имъ сильно погнивали и сямъ отецъ Діодоръ, и его гостья, говорившая очень мягкимъ добрымъ голоскомъ на чистомъ малороссійскомъ нарѣчіи, которое мнѣ очень нравилось всегда и нравится понынѣ. Но мнѣ нужно было не угощеніе, а отвѣтъ на мои скорбящіе з іпросы, — а его-то и не было. Монахъ и дама молчали, я ждалъ отвѣга—-и ждалъ его втуне. Тогда я рѣшился повторить свой вопросъ и предложилъ его въ прямой формѣ, требующей прямого же отвѣта.
— Это вы наю прсзде спросить съ паппныйкмъ, сь мамин ькомъ.
Я сказалъ, что мой отьцъ уже умеръ.
— Спросить съ мамкнькомъ,—отвѣчалъ отецъ Діодоръ и сейчасъ же вышелъ въ другую комнату, откуда, впрочемъ, черезъ минуту снова появился и пригіасилъ туда и меня, и свою даму.
Здѣсь намъ открылся довольно хоропю сервированный сголъ, уставленный разными вкусными блюдами, между которыми я обратилъ особенное вниманіе на жареную курицу, начиненную густой манной кашей, яйнами и изюмомъ. Она мнѣ очень понравилась—и я непритворно оказалъ ей усердную честь, запивая по настоянію хозяина каждый кусокъ то сладкимъ люнелемъ, то санторинскимъ, которое мало-помалу все теряло свой вначалѣ столь непріятный для меня запахъ, а подъ конецъ даже- начало мнѣ очень нравиться.
Я приходилъ въ прекрасное настроепіе духа, совсѣмъ не похожее на то, въ какомъ я явился въ греческую обитель,— и замѣчалъ, что то же самое происходило и съ моимъ хозяиномъ, который сначала молчалъ и какъ будто тяготился мною, а теперь сдѣлался очень привѣтливъ и даже очень говорливъ.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Достопочтенный отецъ Діодоръ вообще очень плохо выражался по-русски, но говорилъ охотно. Подыскивая слова,
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. ХХХП. 4
онъ бъ интервалахъ причмокивали и присасывалъ, сласти П. глазами, помогалъ себѣ мимическими движеніями лица и изображалъ руками все то, что, по его мнѣнію, было недостаточно ясно выражено его словомъ.
— Пцю, пцю, пцю,—зачмокалъ онъ вдругъ, самъ начиная говорить о моемъ желаніи поступить въ монастырь,— желаніи, которое онъ ни одобрялъ, ни порицалъ, но проводилъ ту мысль, что мнѣ въ монастырь собираться рано: что прежде надо «всего пспитать». «Всего, пцю, пню, пцю, всего, всего», смаковалъ опъ. показывая руками во всѣ стороны.
Присутствовавшая при этомъ гостья, однако, улыбаясь, замѣтила, что если все испытать, то тогда, пожалуй, въ монастырь «и не захочется»; но отецъ Діодоръ утверждалъ, что человѣку есть опредѣленіе, котораго онъ никакъ не избѣгнетъ, п при этомъ ставилъ себя въ примѣръ. Онъ разсказалъ слѣдующее.
— Насъ было цетыре братьп,—началъ онъ:—-п ми всѣ, воѣ какъ есть, послп на царскій слузба и били воины Старсій братъ Костяки посолъ митосъ пѣхотосъ пцццю... вотъ такъ! (монахъ, сжавъ кулакъ, выпустилъ средній и указательный пальцы, промаркировалъ имп по столу и опять произнесъ: «вотъ такъ». Этимъ опъ наглядно изобразилъ, чтб такое пѣхота, и потомъ продолжалъ): Другой братъ Дмитраки посолъ въ кавалерія ('при чемъ отецъ Діодоръ посадилъ два пальца своей правой руки на указательный лѣвой—и, сдѣлавъ на нихъ маленькій объѣздъ вокругъ тарелки, пояснилъ: «вотъ такъ, кавалерія». Затѣмъ снова разсказъ): третій Мануэлёсъ посолъ митосъ артилеріосъ (при этомъ правый кулакъ отца Діодора быстро вскочилъ на лѣвый п поѣхалъ на немъ по столу, какъ на лафегЬ, а третій палецъ опъ выставилъ впередъ и очень наглядпо изобразилъ пмъ сидящую на лафетѣ пушку). Пуски, пуски!— заговорилъ, указывая на этотъ палецъ, отецъ Діодоръ: — вотъ такъ: пуски!—I] вслѣдъ за симъ онъ, весь сугубо оживившись, воскликнулъ. — а я, самый маленькій, самый ми-зннцпкъ, посолъ митосъ флётосъ,—вотъ такъ.
Т'гъ разсказчикъ эффектно положилъ кисть одной руки па другую, такъ что большіе пальцы приходились съ двухъ противоположныхъ сторонъ—и, подвигая ладонями по воздуху, гребъ большими пальцами точно веслами и приговаривалъ:
— Флотъ, вотъ такъ: флёгъ! II,—продолжалъ Діодоръ:— когда я просолъ насквозь весь цѣлый свѣтъ, то у меня били всѣ разные ордены и кресты, дазе съ этой сторона (онъ указалъ рукою отъ одного своего плеча на другое), и одна сача я больсая крастъ не умѣстился и тутъ повисъ,— заключилъ онъ, показавъ, чю орденскій крестъ, для котораго уже не было мѣста у него на груди, кое-какъ долженъ былъ помѣститься на шеѣ.
Но не смотря на всю эту массу, почтенныя отецъ Діодоръ, однако, попалъ въ монахи и указывалъ мнѣ на это, какъ на знакъ воли Промысла, а потомъ пошелъ еіце храбрѣе и храбрѣе: онъ разсказывалъ намъ о храбрости давнихъ и недавнихъ греческихъ грековъ въ родѣ .Колоко-трони, Ботцарнса и Бобелины, а отъ нихъ непосредственно переносился къ нашему балаклавскому баталіону, героизмъ котораго выходитъ еще грандіознѣе.
— О, наса балаклавской баталіонъ, великая баталіонъ, опа никому не спигался,—восторженно говорилъ Діодоръ п при этомъ разсказалъ, что будто бы этотъ славный баталіонъ греческихъ героевъ когда-то однаж іы на смотру одному лицу показалъ, что такое значитъ греки. Это было такъ, что будто бы лицо, осматривая разныя войска, привѣтствовало всѣхъ словами: «здорово, ребята!» п всѣ русскія войска на это привѣтствіе, конечно, отвѣчали радостнымъ крикомъ: «здравія желаемъ, вашество». Но когда лицо крикнуло то же «здорово, ребята» баталіону, то греки будто только посмотрѣли одинъ на другого, почмокали и, покачавь головами, перешепнулись: «Что мы за ребята? мы греки, а не ребята», и промолчали. Видя это, начальникъ снова повторилъ: «здорово, ребята», но мудрые греки снова переглянулись и снова нашли, что они не ребята, и потому опять не откликнулись. Тогда будто бы начальникъ этотъ «билъ пе глупый въ своя голова» и, догадавшись, сказалъ «злас-ковымъ» голосомь:
— Еалисперосъ, греки!
А тѣ вдругъ, какъ одинъ полозплп:
— Калякаізтрумъ, вашество! такъ вотъ что значить гре-цескій целовѣкъ! Грецескій целовѣкъ самая умный цело-въкъ! — похваливалъ мнѣ своихъ соотчичей подгулявшій отецъ Діодоръ—и я не знаю, про какія бы еще греческія чудеса онъ мнѣ не разсказалъ, если бы служка не доложилъ,
что къ монастырю подъѣхала наша повозка и мои спутники зовутъ меня ѣхать.
Въ самомъ дѣлѣ на дворѣ уже вечерѣло, и я простился съ хлѣбосольнымъ Діодоромъ и уѣхалъ, напутствованный его благословеніемъ, просфорою, бутылкою санюринскаго вина и увѣреніемъ, что всякому человѣку положенъ свой Предѣлъ, котораго онъ не обѣжитъ.
— Если будетъ предѣлъ, то п зенисся и будетъ у тебя орденъ съ энта сторона до энта. сторона, а одна не помѣстится и тутъ на шеѣ повиснетъ, а все церный клобукъ иопадесъ,—увѣрялъ онъ меня напосл Ьдяхъ, и увѣрялъ, какъ я теперь вижу, чрезвычайно прозорливо и обстоятельно; но тогда я его словамъ не повѣрилъ и самого его счелъ не за что иное, какъ за гуляку, попавшаго не па свое мѣсто.
Полагаю, что причина подобнаго легкомыслія съ моей стороны должна была заключаться въ крайней сжатости и небрежности преподаванія священной исторіи въ нашемъ корпусѣ.
Но вь тѣ юные годы и при тогдашней моей невѣжественности и неопытности я ничего этого не понималъ, и пророчества отца Діодора пустилъ по вѣтру вмѣстѣ со всѣми его нескладными разсказа ни о его братьяхъ, отличавшихся въ пѣхотѣ, при пускахъ и во флотѣ, и о всеп греческой храбрости, и о находчивой политичности знаменитаго, но уже болѣе несуществующаго въ Россіи греческаго балаклавскаго баталіона.
По какъ бы то ни было, внутренній голосъ внутренняго чувства обманулъ меня уже два раза: разъ въ канавѣ, когда я почувствовалъ возрожденіе къ новой жизни и тотчасъ же сдѣлалъ новую глупость, написалъ письмо въ Тверь, — второ! разъ теперь въ монастырѣ, гдѣ я мечтагь встрѣтить успокоеніе п нашелъ рахатъ-лукумъ п прочее, что мною описано.
— Гдѣ же, гдѣ же покой?—допрашивалъ я себя, докапчивая свое путешествіе грустный и унылый. Я былъ въ отчаяніи, что только лишь ѣдучи къ мѣсту своего назначенія я уже перепортилъ всю свою жизнь: я находилъ, что эта жизнь жестоко меня обманула; что я не нашелъ въ ней и ужъ, конечно, не найду той правды и того добра, для которыхъ считалъ себя призваннымъ. Я боялся какъ бы послѣ всего этого мнѣ не довелось еще открыть, что и
мать моя. можегъ-быгь. не совсѣмъ такое глубокое и возвышенно-благородное созданіе, какнмь я себѣ ее воображалъ. По мѣрѣ своего собственнаго паденія я все болѣе и болѣе раздражался п дѣлался мизантропомъ. Вь этомъ лежалъ задатокъ моего спасенія.
Природа моя требовала реакціи, но возбужденіе ея должно было прійти откуха-то извнѣ.
Въ такомъ именно состояніи былъ я, когда увидѣлъ блестящій крестъ кіевской печерской лавры и вслѣдъ за тѣмъ передо мною открылись кіевскія высоты со всею чудною нагорною панорамою этого живописнаго города. Я съ жадностію обозрѣвалъ это мѣстоположеніе, и находилъ, что братья Кій, Щекъ и Хоревъ обладали гораздо болѣе совершеннымъ вкусомъ, чѣмъ основатель Москвы бояринъ Кучка и закладчики многихъ другихъ великорусскихъ городовъ. При самомъ первомъ взглядѣ на Кіевъ дѣлается понятно, почему святые отшельники нашей земли избирали именно это мѣсто для перехода съ н»то въ высшія обители. Кіево-печерская вершина — это русская ступень на небо. Злѣсь, у подножія этихъ горъ, изрытыхъ древле-русскпми христіанскими подвижниками, всякій человѣкъ, какъ у подножья ( іона, становится хоть на минуту вѣрующимъ; необходимость глядѣть вдаль и вверхъ на эти уносящіяся подъ небо красоты будитъ Д)іиѵ и у нея, какъ у отогрѣвающагося на подъемѣ орла, обновляются крылья.
Сухменная философія моя развѣялась подъ свѣжимъ вѣтромъ, которымъ насъ охватило на днѣпровскомъ паромѣ, и я вступи.гь на кіевскій берегъ Днѣпра юношею и сыномь моей родины и моей доброй матери, которую такъ долго не видалъ, о которой нѣкогда столь сильно тосковалъ и грустилъ и къ ногамъ которой горѣлъ нетерпѣніемъ теперь броситься, и, обнявъ ихъ, хоть умереть подъ ея покровомъ и при ея благословеніи.
Я не замѣчалъ, въ какомъ состоянія находились мой Кириллъ и мой товарищъ въ то время, ког щ мы проѣзжали низкія арки крѣпостныхъ воротъ, и самь себя не помню какъ благодаря Кирилиной расторопности и толковитости, мы остановились у одного низенькаго домика, на окнахъ котораго я увидалъ въ тамбуръ вязаныя бѣлыя шторы, какія любила по вечерамъ дѣлагь моя матушка, а за ними вдали на противоположной стѣнѣ въ скромной черной рамѣ
давно знакомую мнѣ гравюру, изображавшую Фридриха Великаго съ его штабомъ.
Не было никакого сомнѣнія, что здѣсь, именно здѣсь, живетъ моя прелестная мать.
Я взвизгнулъ, затрясся и, свалившись съ телѣги, бросился къ низенькимъ желтымъ дверямъ, но онѣ были заперты. Еле держась на дрожавшихъ ногахъ, я сталъ отчаянно стучать въ нихъ и... мнѣ сначала показалось въ ближайшемъ окнѣ блѣдное, какъ бы испуганное лицо; затѣмъ послышался шумъ, за дверью пронеслись быстрые легкіе шаги, задвижка щелкнула — и я упалъ на грудь высокой доброй старушки, черты которой только могли напомнитъ мою мать.
ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Я не помню, какъ исчезли съ моихъ глазъ Кириллъ и мой Ненькновскій,—но они во всякомъ случаѣ сдѣлали это какъ-то такъ хорошо и деликатно, что ни одной минуты не помѣшали мнѣ любоваться священными чертами лица моей неимовѣрно-постарѣвшей матери.
Тому, кто не зналъ ее шесть лѣтъ назадъ, въ ед нынѣшнемъ благородномъ, полномъ возвышеннѣйшаго выраженія лицѣ все-таки было бы трудно угадать ту очаровательную, неземную красавицу, какою она была въ роковой годъ смерти отца. Нѣжно-прозрачное лицо ея теперь было желто—и его робко оживлялъ лихорадочный румянецъ, вызванный тревогою чувствъ, возбужденныхъ моимъ прибытіемъ; злато-кудрые ея волосы, какихъ я не видалъ ни у кого кромѣ путеводнаго ангела Товіи, на картинѣ Арп Шефера,—волосы легкіе, нѣжные и въ то же время какіе-то смиренномудрые, подернулись сѣдиною, которая покрыла ихъ точно прозрачною дымкой; они были по-старому зачесаны въ локоны, но этихъ локоновъ было уже не много,— они уже не волновались вокругъ всей головы, какъ это было встарь, а только напоминали прежнюю прическу спереди, вокругъ висковъ и лба, межъ тѣмъ какъ всю остальную часть головы покрывала черная кружевная косынка, красиво завязанная двумя широкими лопастями у подбородка. Ростъ и фигура, превосходной формы руки и строгій поставъ головы на античной, слегка лишь пожелтѣвшей шеѣ—были все тѣ же; но губы поблѣднѣли, и въ голубыхъ,
полныхъ ласки и привѣта, глазахъ блуждалъ какой-то тре’ вожный огонь.
Не свода глазъ съ матушкинаго лица, я-созерцалъ ее въ безмолвномъ благоговѣніи, стой передъ нею на .кол ѣняхъ и держа въ своихъ рукахъ ея руки. Матушка сидѣла въ креслѣ и также молча смотрѣла то на меня, то на небольшой акварельный портретъ. который стоялъ возлѣ нея на крышкѣ ея открытой рабочей шкатулки.
Это былъ портретъ моего покойнаго отца, на котораго я теперь былъ поразительно похожъ, и хотя въ этомъ обстоятельствѣ не было ничего удивительнаго, но матушка была этимъ видимо сильно занята. Высвободивъ изъ моихъ рукъ свои руки, она въ одну изъ нихъ взяла этотъ портретъ. а другою приподняла волоса съ моего лба — и, еще пристальнѣе взглянувъ мнѣ въ лицо, отодвинулась и прошептала:
— Какое полное повтореніе во всемъ!
Въ этомъ восклицаніи мнѣ послышалось что-то болѣзненное, что-то такое, чему мать моя, какъ будто, въ одно и то же время и радовалась, и ужасалась. Она, должно-быть, н сама это замѣтила и, вѣроятно, сочтя неумѣстнымъ обнаруженіе передо мною подобнаго чувства, тотчасъ же подавила его въ себѣ—и, придавъ своему лицу простое выраженіе, договорила съ улыбкою:
— Если замѣнить этотъ пушокъ на твоей губѣ густыми усами, бросить нѣсколько сѣдыхъ волосъ въ голову и немножко постарить лицо, ты былъ бы настоящій двойникъ твоего отца. Это обѣщаетъ, что ты будешь имѣть недурную наружность.
Желая блеснуть умомъ и серьезностью, я кашлянулъ и хотѣлъ сказать, что наружность не много значитъ; но матушка точно прочла мою мысль и отвѣтила на нее, продолжая рѣчь свою:
— Хорошая форма имѣетъ много привлекательнаго,—сказала она:—въ хорошей формѣ надо стараться имѣть и хорошее содержаніе,—-иначе она красивая надпись на дурномъ товарѣ. Ты, впрочемъ, очень счастливъ—рано испытавъ несчастіе: я увѣрена, что оно дало тсбѣ хорошій урокъ.
Это меня ужасно тронуло, и я еще жарче припалъ къ матушкинымъ рукамъ и па нихъ изъ глазъ моихъ полились обильныя слезы.
— Ты не плачь,—продолжала матушка нѣжнымъ п ласковымъ, по какъ будто нѣсколько дѣловымъ тономъ:—тебѣ теперь нужны не слезы, а душевная бодрость. Ты лишенъ самаго величайшаго блага — правильнаго образованія, но Богъ милосердъ: можетъ-быть, мы не только ничего не потеряемъ, а даже выиграемъ. А о томъ, что ты потерялъ нѣсколько правъ пли служебныхъ привилегій—не стоитъ и думать. Все дѣло въ облагороженіи чувствъ и просвѣщеніи ума и сердца, чего мы съ тобою и станемъ достигать, сынъ мой, и въ чемъ намъ, надѣюсь, никто не помѣшаетъ.
Я вздрогнулъ: это были почти тѣ же самыя слова, какія я слышалъ въ Твери отъ сестры Волосатика, которой я написалъ и послалъ свое глупое письмо. Ненавистное воспоминаніе объ этомъ письмѣ снова бросило меня въ краску, и я, продолжая стоять съ поникшею головою передъ моей матерью, долженъ былъ дѣлать надъ собою усиліе, чтобы понимать ея—сначала безъ всякаго труда до глубины души моей проникавшія—рѣчи.
А матушка все продолжала ласкать меня своею рукою по лицу п по головѣ—и въ то же время излагала мнѣ, что ею уже предпринято для того, чтобы прерванное образованіе мое не остановилось на этомъ перерывѣ, и чтб опа еще намѣрена сдѣлать въ этихъ же цѣляхъ. Передо мною открывался обширный и обстоятельно обдуманный планъ, который показывалъ мнѣ, что я жестоко ошибался, почитая себя уже совсѣмъ вырвавшимся на волю,—и въ то же самое время этотъ планъ знакомилъ меня съ такою стороною ума и характера моей матери, какихъ я не видалъ до сихъ поръ ни въ одномъ человѣкѣ и уже никакъ не подозрѣвалъ въ моей іпашап, при мечтахъ и размышленіяхъ о которой передо мною до сихъ поръ обыкновенно стояли только нѣжная заботливость и доброта, ѣдучи къ ней изъ корпуса, я хотя и не былъ намѣренъ отвергать ея материнскаго авторитета, по все-таки въ сокровеннѣйшихъ обоихъ мечтахъ я лелѣялъ мысль, что мы съ нею встрѣтимся и станемъ жить на равной ногѣ, даже пожалуй съ нѣкоторымъ перевѣсомъ на мою сторону, такъ какъ я мужчина. Теперь на дѣлѣ, на первыхъ же порахъ, выходило совсѣмъ другое: я видѣлъ, что я еще мальчикъ, судьбою котораго намѣрена властно распоряжаться хотя очень добрая и попечительная, но въ то же время неуклонно-твердая воля.
Матушка сообщила мнѣ, что. пріѣхавъ мѣсяцъ тому назадъ въ Кіевъ, она ужа устроила, что дядя дастъ мнѣ мѣсто въ своей канцеляріи, но что это мѣсто будетъ, разумѣется, самое незначительное и по моимъ обязанностямъ, и по вознагражденію, которое я буду получать за мою службу.
— Но это п справедливо, и прекрасно, — говорила она, поднявъ меня съ полу и занявшись приготовленіемъ для меня чая изъ чистенькаго томпаковаго походнаго самовара моего отца—самовара, который я очень хорошо помнилъ и который теперь принесла очень опрятно одѣтая пожилая женщина въ темномъ платьѣ п въ бѣломъ чепцѣ. — Это справедливо.—продолжала шашап:—потому что ты, не будучи подготовленъ пи къ какой полезной дѣятельности, не можешь претендовать на лучшія мѣста, которыя должны принадлежать достойнѣйшимъ; и это прекрасно, потому что при незначительныхъ обязанностяхъ по службѣ у тебя будеть оставаться много времени на полезныя занятія для обогащенія свѣдѣніями твоего ума и развитія твоего сердца.
Въ способахъ достиженія этого развитія и обогащенія матушка явилась такою же основательною, какъ и во всемъ томъ, чтб я отъ нея уже слышалъ. Усадивъ меня сбоку отъ себя за столъ, къ корзинкѣ съ булками и стакану чаю, она сообшила мнЬ, что, уладивъ мое поступленіе на службу (къ чему я былъ обязанъ при моемъ исключеніи изъ корпуса), она обратилась къ свѣдущимъ людямъ, съ помощью которыхъ такъ же тихо и благонадежно устроила для меня возможность заниматься науками. Она сказала мнѣ. что и самый городъ Кіевъ она выбрала для напіего житья, во-первыхъ, потому, что не хотѣла, чтобы я проводилъ юность между чужеземнымъ населеніемъ въ .Іифляндін, которая хотя и была ея родиной, но для меня не годится. Матеи высказала, что, будучи сыномъ русскаго человѣка, я долженъ взрасти и воспитаться въ преданіяхъ и симпатіяхъ русскаго края; а потомъ опа указала вторую причину выбора Кіева: эта причина заключалась въ томъ, что здѣсь есть университетъ, который она назвала источникомъ свѣта, проливающимъ свои лучи на все, что становится въ возможной къ нему близости.
Я все это слушалъ съ напряженными вниманіемъ, хотя п пе совсѣмъ ясно понималъ, какое просвѣтитетьное вліяніе можетъ имѣть университетъ чрезъ одно пребываніе съ
нимъ въ боліе или мэкЬе близкомъ сосѣдствѣ.. Но матушка и это точи© сейчасъ же прозрѣла и какъ бы въ скобкахъ разъяснила мні распространеніе въ обществѣ добрыхъ и высокихъ идеи посредствомъ обращенія съ просвѣщенными людьми, руководящими образованіемъ университетскаго юношества.
Меня поражала и эта простота и ясность ея взгляда, и ея спокойное еаѵоіг Гаіге, съ которымъ она все располагала,. какъ будто иі рала по ногамъ. Особенно же меня удивила ея прозорливость, съ какою она словно читала въ умѣ моемъ п тотчасъ спѣшила разъяснить все, что мнѣ было неясно. Но чтб всего боліе на меня дѣйствовало — и дѣйствовало благотворнѣйшимъ образомъ — это опредѣленность ея сужденій, полныхъ, точныхъ, основательныхъ, такъ что къ нимъ не нужно было просить у пея никакихъ прибавлі ній. точно такъ же, какъ отъ нихъ ничего нельзя было бы отнять безъ ущерба ихъ полнотѣ и положительное! и.
Самыя мельчайшія детали составленнаго ею для меня плана уложены были въ такой незыблемый кодексъ, что совершеннъе его въ этомъ родѣ}же, кажется,ничего нельзя было придумать.
Да проститъ мнѣ читатель (если таковой будетъ у моихъ записокъ'і, да проститъ онъ мнѣ, что я ниже этихъ строкъ сейчасъ приведу въ дословной низложеніи разговоръ, послѣдовавшій между МН'іо п моей матерью.
Нѣтъ нужды, что въ немъ не будетъ эффектныхъ сгез-сешіо и і'огіо, а все просто и плавно, какъ безстрастный діалогъ. Я его упомнилъ весь, отъ слова до слова, въ теченіе очень многихъ лѣтъ, а это несомнѣнное ручательство, что въ немъ есть нѣчто способное врѣзаться въ память.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
— Ты будешь спать вотъ гамъ,—сказала матушка, указавъ мнѣ на небольшую комнату влѣво отъ гостиной, гдѣ мы пили чай:—а воті. здѣсь направо—точно такая же моя комната. Тутъ все наше помѣщеніе, какимъ мы можемъ располагать, и намъ большаго не нужно,—милліоны людей, гораздо болѣе насъ имѣющіе права на большія удобства, лишены н такихъ. Это очень жалко, но пособить этому не
еъ нашихъ силахъ, а притомъ же это, вѣрно, такъ нужно, пли такъ угодно Богу.
Она при этомъ слегка наморщила свой античный лобъ п подавила вздохъ, который свидѣтельствовалъ, что она искренно смущается тѣмъ, что у нея съ сыномъ есть для двоихъ три комнатки, между тѣмъ какъ у другихь, болѣе насъ достойныхъ,— этого нѣтъ.
Затѣмъ она продолжала:
— Сегодня ты отдохнешь отъ дороги, и мы кое-куда сходимъ: не въ люди, а въ церковь, гдѣ ты долженъ помолиться за своего отца и попросить себѣ благословенія на твои начинанія; потомъ я тебѣ покажу городъ, который имѣетъ очень много интересныхъ мѣстъ и прекрасныхъ видовъ. Позже передъ вечеромъ къ намъ придетъ одинъ мой новый другъ, профессоръ духовной академіи Иванъ Ивановичъ Альтанскій;—это очень умный, скромный и честный человѣкъ, при которомъ я прошу тебя держать себя въ разговорахъ скромно и разсудительно. Лучше всего говори меньше и больше слушай его: это самое умное правило, сохраняющій которое никогда не кается. Въ десять часовъ Иванъ Ивановичъ отъ васъ уйдетъ: онъ очень аккуратенъ и это его часъ; а онъ такъ благоразуменъ, что не отступаетъ безъ нужды отъ своихъ правилъ. Нынче мы, ради дня твоего пріѣзда, позволили себѣ полѣниться, а съ завтрашняго дня и мы будемъ подражать доброму примѣру Ивана Ивановича и начнемъ блюсти свое правило. Мы будемъ вставать не очень рано—не ранѣе семи часовъ. Это вовсе не обременительно, а напротивъ даже здорово, да и ты, я думаю, точно такъ же вставалъ и въ корпусѣ?
— Да-съ, шатай,—отвѣчали я, кашлянувъ, и эти почтя первыя слова, произнесенныя мпою въ домЬ моей матери, прозвучали такъ младенчески робко, чго я даже сконфузился дѣтской интонаціи, съ которою ихъ выговорилъ, и снова откашлялся, стараясь показать, что ребячливость моего голоса произошла отъ случайности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и освѣжить гортань на случай умѣстнаго произнесенія новаго слова.
— Вотъ и прекрасно,—продолжала мать:—значитъ, вставанье въ семь часовъ не будетъ для тебя обременительно?
— Нисколько, таіиап.
— Въ полчаса ты окончишь свой туалетъ...
— О, шашап, даже гораздо скорѣе.
— Въ излишней поспѣшности нѣтъ нужды, да и въ пей мало толку. Нужно дѣлать все въ свое время, тогда у человѣка достанетъ времени все сдѣлать умно и спокойно. Въ половинѣ восьмого мы, стоя вмѣстѣ, прочтемъ главу изъ нѣмецкой библіи. Это моя всегдашняя лютеранская привычка съ дѣтства, которую я удержала и принявъ православіе. Къ тому же это будетъ тебѣ нѣкоторою практикою въ нѣмецкомъ языкѣ, который ты долженъ знать какъ изъ уваженія къ національности твоей матери, такъ и потому, что онъ имѣетъ обширную и едва ли не лучшую лнтера-П’РУ-
— Но, шашап,—перебилъ я. покраснѣвъ отъ своей смѣлости:— развѣ вы православная? (Я зналъ, что мать моя при жизни отца была лютеранкой —и дѣйствительно очень изумился, когда она упомянула вскользь о своемъ православіи ).
—• Да,—отвѣчала матушка:—Богъ одинъ и христіанство полно и совершенно въ ученіи всѣхъ церквей, — по крайней мѣрѣ, я имѣю такое мнѣніе объ этомъ предметъ, — но я нашла, что матери все-таки гораздо удобнѣе исповѣды-вать ту вѣру, въ ученіи которой она должна воспитать своихъ дѣтей. Я православная потому, что такимъ долженъ быть ты. Но это мое дѣло, а мы будемъ знакомиться съ нашимъ уставомъ, которому я положила слѣдовать. Окончивъ чтеніе библіи, мы будемъ пить нашъ чай; потомъ девятый часъ пройдетъ въ занятіяхъ греческимъ языкомъ, который очень интересенъ и изученіе котораго тебя, конечно, чрезвычайно займетъ. Отъ девяти до десяти мы будемъ заниматься исторіей,- я хочу провѣрить твои знанія, и за этимъ же легкимъ предметомъ ты немножко отдохнешь отъ перваго урока. Затѣмъ одиннадцатый часъ отдадимъ латинскому языку и потомъ будемъ завтракать, послѣ чего ты будешь ходить на службу. Чтб ты тамъ будешь дѣлать въ канцеляріи—я этого, конечно, не знаю, но старайся, разумѣется, все, что тебѣ поручатъ, дѣлать усердно и аккуратно. Я думаю, что ты будешь просто переписывать какія-нибудь бумаги. Ничего, не пренебрегай и этимъ; все, что человѣкъ себѣ усвоилъ, ему на что-нибудь пригодится, особенно же тебѣ практика въ письмѣ можетъ быть очень полезна. Сколько я могла замі.тиѵь по твоимъ письмамъ, у
тебя довольно неразборчивый почеркъ, а это очень дурію и невѣжливо: благовоспитанный человѣкъ всегда долженъ писать такъ, чтобы чтеніе его письма не затрудняло читающаго. Пли ты, можетъ-быть, только ко мнѣ. такъ небрежно писалъ?
— Мапіап, какъ вы это можете думать?!
— Нѣтъ, я этого и не думаю, а я только провѣряю тебя. Извини меня: вѣдь давно не видались. Но я продолжаю: въ три часа ты будешь возвращаться'—и это будетъ часъ нашего обѣда; потомъ ты имѣешь цѣлый часъ въ твое собственное распоряженіе. Въ пять часовъ будетъ приходить Иванъ Иванычъ, и у васъ съ нимъ начнется урокъ по математикѣ и по всѣмъ другимъ наукамъ, въ которыхъ я не могу быть тебѣ полезна. По его словамъ, тебѣ не тяжело будетъ заниматься два часа, а онъ такой знатокъ въ этомъ дѣлѣ, что его во всемъ надо слушаться. Притомъ же онъ такъ талантливо преподаетъ, что мнѣ будетъ большимъ удовольствіемъ присутствовать при вашемъ урокѣ.
— О, ташап, вы такъ милостивы!—пролепеталъ я. чувствуя, что у меня горячъ уши и заплетается языкъ отъ страха передъ этой строгой программой ожидающей меня размѣренной и развѣшенной жизни.
Но матушка отклонила отъ себя мою благодарность п сказала, что она намѣрена это дѣлать для себя самой, потому что не знаетъ лучшаго удовольствія, какъ учиться.
Впослѣдствіи я узналъ, что въ этомъ случаѣ она говорила мнѣ правду только отчасти: то-есть, она дѣйствительно любила учиться, но главная ея цѣль присутствовать при всѣхъ моихъ занятіяхъ заключалась въ поощреніи меня къ тймъ довольно утомительнымъ трудамъ, на которые она меня обрекала.
А труды эти были еще не всѣ исчислены: у нея еще былъ впрріётепі моего дня. который она оставляла ропг Іа Ьоипе Ьоисііе. Зирріёшепі этотъ заключался въ томъ, чго въ восьмомъ часу къ намъ будетъ ежедневно заходить дочь моего профессора Ивана Ивановича, молодая дѣвушка Харпточка, о которой ташап отозвалась съ необыкновенною теплотою, какъ о прелестнѣйшемъ во всѣхъ отношеніяхъ созданіи.
— Она здѣсь по сосѣдству беретъ огь семи до восьми часовъ урокъ музыки и пѣнія, объяснила ташап:— а по
томъ заходитъ ко мнѣ — и мы съ пою часъ занимаемся англійскимъ языкомъ, чтб мнѣ доставляетъ большое удовольствіе, потому что мой маленькій другъ Харита— очаровательнѣйшее дитя и притомъ занятіе съ нею мнѣ доставляетъ практику въ англійскомъ языкѣ, который я, ни съ кѣмъ не говоря на немъ, могла бы рисковать позабыть. Теперь,— добавила матушка,—я надѣюсь, этотъ рискъ немножко уменьшится, потому что ты за компанію съ Харп-той, конечно, захочешь быть мопмъ вторымъ ученикомъ, и потомъ мы, вьроятно, скоро найдемъ возможность сдѣлать этотъ языкъ машинъ домашнимъ разговорнымъ языкомъ вперемежку съ французскимъ, на которомъ будемъ объясняться до обѣда. Если Богъ намъ поможетъ, все это пойдетъ стройно и превесело, а ъъ то же время это сблизитъ тебя съ достойнѣйшимъ семействомъ Астанскаго, который вызвался давать тебѣ почти даровые уроки, потому что онъ не хочетъ брать деньги, а будетъ заниматься съ тобою за мои уроки его дочери. Видишь ли, какъ твоя мать съ Божіею помощью успѣла все это устроить ко всеобщей выгодѣ и удовольствію.
— О, превосходно, ташап, превосходно!
Да; и у насъ еще отъ половины девятаго часа до полуночи всякій день будетъ оставаться цѣлая бездна свободнаго времени для удовольствій. Вь это время Харита намъ всегда что-нибудь сыграетъ на фортепіано... Ты узнаешь его или пѣтъ, нашъ старый фортепіано? онъ довольно пожилъ и поѣздилъ по свѣту, но еще служитъ — и мы на немъ себѣ недурно аккомпанируемъ и поемъ сообща маленькіе тріо и романсы. У Ивана Ивановича очень недурной баритонъ, а у тебя, вѣроятно, тоже найдется какой-нибудь голосокъ, потому что... у твоего отца былъ прекрас-сный голосъ, а ты во всемъ на него похожъ. Но если бы и не такъ, для домашняго пѣнія въ своемъ кружкѣ можно пѣть и съ незначительнымъ голосомъ, -тутъ все дѣло въ нѣкоторомъ умѣньи, а я въ этомъ кое-что смыслю и помогу тебѣ. Въ десять часовъ наши гости обыкновенно уходятъ къ себѣ: Иванъ Ивановичъ приготовляется къ лекціямъ, а Харита распоряжается хозяйствомъ, такъ какъ она, бѣдняжка, имѣла несчастіе годъ тому назадъ осиротѣть послѣ смерти матери. Мы же съ тобой съ этихъ поръ вольные казаки: ты мнѣ часокъ почитаешь какую-нибудь русскую
повѣсть пли романъ, а въ отиннадцать мы разойдемся по своимъ комнатамъ, чтобы часъ передъ сномъ имѣть время обдумать проведенный день п написать, если нужно, какія-нибудь письма нашимъ далекимъ друзьямъ, которыхъ но можемъ видѣть. Вѣдь у тебя, надѣюсь, завязаны какія-нибудь связи съ лицами, переписка съ которыми можетъ доставить тебѣ удовольствіе?
Это былъ ужасный вопросъ, при которомъ я. разумѣется, сію же минуту вспомнилъ мое борзенское посланіе къ тверской барышнѣ, и хотѣлъ бы провалиться сквозь землю.
— Маі» опі, гоаіз соштапі йопс. тага 8ЛП8 (Іоиіе. шатай... то-ость нѣтъ, шашап... я никому не обѣщалъ,—пролепеталъ я. краснѣя п тупя въ столъ глаза, со страхомъ, что моя мать прочтетъ въ нихъ безпощадный мой позоръ и безчестіе.
Но—увы! весь этотъ маневръ был' совершенію напрасенъ: чѣмъ я тщательнѣе старался быть скрытныяь, тѣмъ легче и яснѣе читала мать сокровенную тайну души моей.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Матушка, разумѣется, не могла точно отгадать характера мопхъ корреспонрентныхъ чудотвореній любовнаго характера, но ясно видѣла, что простой вопросъ ея смутилъ меня.—и я чувствовалъ, какъ ея умный, проницательный взглядъ упалъ на мов лицо и пронзилъ моня до самаго сердца, занывшаго и затрепетавшаго отъ страха: что если моя пошлая выходка какъ-нибудь откроется... Чтб если матушка узнаетъ, что я влюбленъ... или былъ влюбленъ, потому что теперь уже во чнѣ не оставалось и слѣда моей любви къ трпдцатплѣтней тверской барышнѣ, а все существо мое было поглощено и проникнуто страхомъ и благоговѣніемъ къ другой женщинѣ, которая шестнадцать лѣтъ тому назадъ дала мнѣ бытіе и теперь давала мнѣ жшпѵъ.
Олнако безмѣрное материнское милосердіе смилостивилось надо мною,—и матушка, не предлагая мнѣ. никакого новаго вопроса о корреспонденціяхъ, замѣтила только, что переписка—очень важная вещь и притомъ вещь очень полезная, ибо ею под херживаются отношенія съ людьми и, кромѣ того, она лучше всего способствуетъ къ пріобрѣтенію навыка къ хорошему изложенію своихъ мыслей.
Съ этимъ татап встала изъ-за стола, за которымъ поила меня чаемъ; а я, чтобы оторвать разговоръ отъ тягостной для меня темы о перепискѣ, поспѣшилъ вильнуть въ сторону и освѣдомиться: чего же будутъ стоить мои уроки латинскаго и греческаго языка?
— А ничего, кромѣ одного нашего добраго желанія,— отвѣчала мать, покрывая полотенцемъ чайную шкатулку, въ которую замкнула ложечки.
—- Какъ ничего, ташап? кто же будетъ меня даромь учить по-латыни и по-гречески?
— Пока ты не выучишься этимъ языкамъ больше меня, я сама буду съ тобою ими заниматься.
— Вы, сііёге татап!
— Маіз опі, тоі-тёте, топ ііІ8. Что же это тебя такъ удивляетъ?
— Матап... простите меня... но развѣ дамы знаютъ по-латыни и по-гречески?
— Да, которыя учились—тѣ, я думаю, зпаютъ.
— А вы развѣ учились, татап?
•— Навѣрно.
— Я этого не думалъ... я не помню, чтобы вы знали по-латыни и по-гречески.
— Ты и не можешь этого помнить, потому что я училась имъ въ самые послѣдніе годы въГЛифляндіи. У меня тамъ почти не было никакого дѣла,—и я, чтобы не скучать. нашла удовольствіе заниматься двумя этими языками, которые теперь, кромѣ удовольствія знать ихъ, доставляютъ мнѣ и пользу: я могу имъ выучить тебя, а это не шутка-такъ какъ безъ нихъ передъ тобою никогда бы не о'ікрылся во всей полнотѣ прелестный классическій міръ съ его нерушимыми образами и величавымъ характеромъ его жизни.
— Но, татап, вѣдь это такая ученость!
— Совсѣмъ нѣтъ: знаніе языковъ отнюдь еще не ученость, а только средство къ достиженію учености, которую, если мнѣ поможетъ Богъ и твое усердіе, я хочу дать тебѣ въ неизмѣнное утѣшеніе твоей жизни.
И съ этими словами матушка удалилась въ свою комнату, чтобы надѣть шляпу, а я подошелъ къ окну и сталъ, отуманенный и оглушенный всѣмъ тѣмъ, чтб видѣлъ, слышалъ, понималъ и предчувствовалъ.
ждѣ этотъ корпусъ, его казарма. Кириллъ, моя тверская любовь, «Пьяная балочка», утопленникъ Іінышенко и палачъ Пенькновскіи и отецъ Діодоръ съ его дамою и рахагъ-лу-кумомъ?—Всс это точно было уже Богъ знаетъ какъ давно, да даже всего этого какъ будто бы и совсѣмъ не было. Трезвая рѣчь моей доброй матери, каждое слово которой дышало такою возвышенною и разумною обо мнѣ попечи-тельностію и заботою, была- сплоамскою купелью, въ которой я окунулся и сталъ здоровъ, и бодръ, и чистъ, какъ будто только слетѣлъ въ этотъ міръ изъ горнихъ міровъ, гдѣ не водятъ медвѣдей и не говорятъ о хлѣбѣ, ни о винѣ, ни о палачахъ, ни о домахъ, для счастія которыхъ нуженъ рахатъ-лукумъ, или «рогатый кумъ», какъ мы его называли въ своемъ корпусѣ. На меня отовсюду вѣяло здоровымъ стремленіемъ къ неутомимой, энергической дѣятельности и любовью къ созерцательной мудрости, и чистый источникъ всего этого было столь близкое мнѣ существо, какъ моя мать. Боже мой. какъ я ею гордился! О, какъ я ее буду любить и лелѣять! Она была несчастлива: я это помню; но зато теперь... Душа моя вскипѣла- высочайшимъ восторгомъ, въ горлѣ какъ клубокъ шевельнулись спазмы,—и я, не удержавшись, громко зарыдалъ и, услых івъ за собою шаги моей матери, бросился передъ нею на полъ—и, обнявъ ея колѣни, облилъ ноги ея моими чистыми покаянными слезами, какихъ не могъ добыть ни въ борзенской канавѣ, ни въ нѣжинскомъ монастырѣ.
Матушка поднята меня съ полу, заставила выпить стаканъ воды, потомъ нѣжно прижала меня къ груди и, поцѣловавъ въ лобъ, сказала:
} тебя есть сердце: это меня радуетъ: но этого еще мало, чтобы не дѣлать зла.
— Что же нужно, шатап? Дайте мнѣ все то, чтб н жно, чтобы не сдѣлать никому никакого зла.
— Проси объ этомъ Его!—отвѣчала мать и указавъ на небо, велѣла подать себѣ руку.
Мы вышли подъ руку, какъ пара совершенно равныхъ другъ другу людей. Мой ростъ уже совершенно позволили мнѣ вести ее иодь руку: я былъ кавалеръ, она моя дама,— и вспоминая теперь всю прошедшую жпзнь мою, я 1 вѣренъ, что рука моя. на которую впослѣдствіи опиралось не мало дамъ, никогда уже не вела женшины столь возвышенной и
Сочиненія Н. С. Лѣекова. Т. XXXII.
со
прекрасной—несмотря на тогдашнія тридцать шесть лѣтъ, которыя имѣла моя превосходная мать.
Начавъ мое цѣленіе на кол дняхъ передъ нею, съ глазами опущенными внизъ, я тепррь шелъ съ нею успокоенный и твердый, устремляя очищенный слезами взглядъ на небо съ непоколебимою вѣрою, что для меня будутъ отверсты сферы наивысшаго и папчистѣйшаго счастія, потому что со мною, какъ съ Товіемъ, идетъ мой Рафаилъ, который научитъ меня достать желчь, нужную для просвѣтленія мысленныхъ глазъ моихъ.
Но было уже одно проклятое, ненавистное обстоятельство, которое и въ эти минуты смущало, томило и даже просто угнетало меня: это обстоятельство опять-таки заключалось въ томъ же роковомъ борзенскомъ письмѣ, котораго неотвязное предчувствіе заставляло меня страшно бояться и, какъ ниже увидимъ, совершенно справедливо.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Когда мы съ матушкой вышли для первой прогулки моей но Кіеву, день былъ пасмурный, но очень тихій и пріятный. На зданіяхъ и на всѣхъ предметахъ лежалъ мягкій и теплый сѣрожелтоватый колоритъ. Все имѣло свой цвѣлъ, но, какъ говорятъ живописцы, все по колерамъ было точно слегка протерто умброю.
Мы зашли въ Софійскій соборъ, гдѣ я впервые увидѣлъ мощи и приложился къ нимъ вмѣстѣ съ матерью. Тутъ же мы осмотрѣли гробъ Ярослава и древніе фрески, которые только тогда очищали оіъ слоя штукал рки и реставрировали. Изъ Софійскаго собора мы прошли на террасу Андреевской церкви. Я пришелъ въ безумный восторгъ отъ легкаго фасада этого граціознаго храма, и особенно отъ вида, который отсюда открывается на Подолъ и пологую часть заднѣпровья. 01 сюда мы зашли въ Трехсвятитедьскую церковь, по преданіямъ строенную еще до принятія Владиміромъ христіанской вѣры, и потомъ перешли въ Михайловскій монастырь.
Здѣсь матушка направилась въ очень темный уединенный уголокъ подъ арками и, вставъ на колѣни, сказала мнѣ:
— Помолись о твоемъ отцѣ.
'Мы помолились тихо, но, мнѣ кажется, очень усердно, хотя намъ никто не пѣлъ ни панихиды, ни молебновъ.
Я замѣтилъ это, но не подалъ матери никакого знака— и хорошо сдѣлалъ: впослѣдствіи я скоро убѣдился, что, принявъ православіе, она удержала въ себѣ очень много лютеранскаго духа. Но о вѣрованіяхъ матушки еще придется говорить гораздо пространнѣе, а потому на этомъ остановимся.
Окончивъ свое паломничество, мы отправились къ католической горѣ, откѵда открылся новый превосходный видъ на другею часть города п Днѣпра.
Матушка безпрестанно разсказывала мнѣ значеніе каждой мѣстности п каждаго предмета, при чемь я могъ убѣдиться въ большомъ и весьма пріятномъ, живомъ знаніи ею исторі :і, чтб меня, впрочемъ, уже не удивляло, потому что я. проведя съ нею два часа, получилъ непоколебимое убѣжденіе, чго она говоритъ только о томъ, что основательно зпаетъ.
Поворачивая съ площадки къ небольшому спуску, который велъ къ стоявшему тогда на Крещатпкѣ театру, мы на полугорѣ повстрѣчали молодую дѣвушку въ сѣромъ платьѣ, завернутую въ большой мягкій пушистый платокъ. На темнорусой головкѣ ея была скромная шляпочка, а въ рукѣ длинный черный шелковый зонтикъ, на который опа опираюсь и шла тихо и какъ будто съ усталостью.
Не знавц почему она обратила на себя мое большое вниманіе, но это вниманіе еще болѣе увеличивалось, когда я замѣтилъ, чго она намъ улыбается и что на ея улыбку такою же улыбкою отвъчаетъ моя мать.
Наконецъ мы встрѣтились—и дѣвѵшка не кланяясь матери и не говоря ей никакого привѣтствія, прямо спросила:
— Дождались?
— Какъ видишь, май другъ,—отвѣчала, кивнувъ на меня головою, магушка, и онѣ обѣ подали другъ другу руки, при чемъ дѣвушка поднесла руку матери къ своимъ губамъ и поцѣловала ее, а потомъ протянула свою ручку мнѣ п сь прелестной, ласковой улыбкой молвила:
— Мы съ вами непремѣнно должны подружиться, я люблю вашу ташап, какъ родная дочь, и хочу, чтобы вы любили меня, какъ сестру.
Я очень неловко поклонился и еще неловче пожалъ поданную мнѣ ручку въ темной перчаткѣ.
— Это мой молодой другъ, дочь профессора Ивана Ива-й*
новича Альтанскаго, о которой я тебѣ говорила, — сказала мать.
— А вы уже успѣли обо мнѣ говорить?—подхвати іа, улыбаясь, дѣвушка, п тотчасъ же, оборотясь ко мнѣ, добавила:—Катерина Васильевна такъ меня избаловала, что я боюсь забыться и начать думать,' что я въ самомъ дѣлѣ достойна ея вниманія; но вы, какъ мой непремѣнный другъ и нареченный братъ, пожалуйста, спасайте меня отъ самообольщенія и іцуняйте за мои пороки, которыхъ во мнѣ ужасная бездна.
— Напримѣръ?— спросила, нѣжно и съ наслажденіемъ на нее глядя, мать.
Дѣвушка разсмѣялась и, сдвинувъ почти нрямолпнейно-лежавшія густыя темныя брови, проговорила:
— За примѣромъ ли дѣло? вотъ первый примѣръ: моя невоздержность: я хожу по воздуху, когда мнѣ позволено выходить только въ солнечные дни. Это гадко
— А зачѣмъ ты это дѣлаешь, Харита?
— Ужасно скучно,- отвѣчала опа, н по молодому лицу ея точно пробѣжало облако, но сейчасъ же развѣялось, и дѣвушка, улыбаясь, отнеслась ко мнѣ со словами:—видите, какая я пустая: жалуюсь на скуку и сама смѣюсь. Вы, однако, не торопитесь дѣлать заключенія, что я сумасшедшая. Когда вы познакомитесь съ нашей прекрасной малороссійской поэзіей, на чемъ я по праву дружбы буду непремѣнно настаивать, то вы увидите, что тутъ нѣтъ необходимости: у насъ воспѣваютъ такъ «лихо», которое «смѣется». А впрочемъ, я не задерживаю васъ,- -прощайте до вечера.
Она пожала намъ руки и иош іа въ гору, къ монастырю, а мы внизъ къ Креіцатику, но матушка, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, остановилась и оборотилась назадъ.
А.'ьтанская была отъ насъ въ нѣсколькихъ шагахъ, и тоже, словно по какому-то предчувствію, оборотилась—и онѣ перемолвились съ моею матерью молчаливыми взглядами, изъ которыхъ я тогда не понялъ ничего.
Лицо матери выразило неудовольствіе и даже гнѣвливость.
— Неужто ничего?—спросила съ негодованіемь мать.
— Ни-ч-е-го, — отвѣчала, растягивая слово, дѣвушка и. улыбнувшись, добавила:—ничего, Катерина Васильевна, ничего, да и не будетъ ничего.
Послѣднія слова она проговоршіа скоро и, кивнувъ намъ
головкой, быстро завернулась и пошла торопливой походкой дальше.
По мѣрѣ того, какъ она поднималась на гору, легкій, (два замѣтный вѣтерокъ обхватывалъ ее крѣпче и, приминая покрывавшую ее сѣрую пушистую шаль къ ея молодому, стройному тѣлу, обрисовывалъ ея Фигуру мягкими плавны ми линіями, благодаря которымъ контуръ точно сливался съ воздухомъ и исчезалъ въ этомъ сліяніи.
— Это она, шашап?—спросилъ я. когда мы пошли во-(й дорогой.
— Да, она,—отвѣчала, съ нѣкоторой сухости^ мать.
— Харит... то-есть, однако, какъ же это, н ашап. ея настоя шее имя?
— Харптина... Харптина Ивановна.
— Харптина!
~ Да.
-— Возможно ли это, шашап?
— А почему же нѣтъ?
— Такая прекрасная дѣвушка...
— Ну—и чго далѣе?
- И между тѣмъ... такое имя!
— Какое же? чѣмъ оно тебѣ не нравится?
— Оно тривіально.
— Тривіально? Нимало; ты, вѣрно, вето хотѣлъ сказіть.
-— Нѣтъ, шашап, я именно хотѣлъ сказать это самое.
— Ну, тогда мнѣ должно будетъ пожалѣть, что ты употребляешь слова, не понимая ихъ значенія. Объясни мнѣ, что выражается словомъ «тривіально».
Я не могъ этого объяснить и молчалъ. «Не хорошо, гадко, простонародно, неблагозвучно,—думай ь я,—но все это было не то. что я разумѣлъ подъ словомъ «тривіально», значенія котораго, дѣйствительно, не понималъ.
— Вотъ видишь ли, какъ опасно говорить о томъ, чего обстоятельно не знаешь.—сказала матушка, и, объяснивъ мнѣ происхожденіе латинскаго слова «ѣгіѵіаііз» въ смыслѣ чего-то пошлаго и безпрестанно встрѣчающагося, добавила что имя Харптина въ этомъ смыслѣ гораздо менѣе тривіально, чѣмъ множество другихъ безпрестанно намъ встрѣчающихся именъ.
Тогда я. желая поправиться и точнѣе выразить свою мысль, сказалъ, что имя Харптина, по моему мнѣнію, небла
гозвучно, но матушка доказала мнІ>, что это имя хорошо п по смыслу, который въ себѣ заключаетъ, и пріятно по звучности.
— Ѵа-р-п-т-іі-н-а!- -произнесла она эллинскимъ произношеніемъ, такъ что буква и послѣ слилась въ ея устахъ въ гортанный эн:—прекрасный звукъ, а значеніе еще лучшее; Харптина значитъ полна благос/атн. Для такой ие-оцЬн» нной дѣвушки, какъ та, которую мы встрѣтили, я бы затру інилась выбрать лучшее имя, способное полнѣе выражать ея свойства. Въ уменьшительной же и въ ласкательной формѣ здѣсь въ Малороссія изъ этого имени дѣлаютъ Христя,—это ужъ просто прелестно.
— Да, это въ самомъ дѣлѣ хорошо,—отвѣчалъ я, начиная чувствовать, что имя Харіппна въ самомъ дѣлѣ получило для меня съ материныхъ словъ совсѣмъ другой вкусъ и ароматъ.
— Эге! да ты уступчивъ, это прекрасно, спорливость— черта удаляющая человѣка отъ истины. Но сознавшись, спѣши же брать назадъ слово, а то это сознаніе будетъ мало полезно.
— Беру, ташап, и даже охотно беру, но только позвольте мнѣ еще предложить вамъ одинъ вопросъ—опять объ именахъ же. Она... эта дѣвушка назвала васъ два раза Катериной Васильевной. Что это значитъ, татап?
— Не все ли равно, что Катерина Васильевна, или Каролина-Внльгельмина?—перебила матушка: — для тебя мое имя просто мать.
И послѣ этихъ словъ она заговорила со мною опять о городѣ. Оріентируя меня по отношенію къ болѣе интереснымъ мѣстамъ, она показала мнѣ гдѣ садъ, гдѣ лежитъ мой путь въ канцелярію, гдѣ почта—п при послѣднемъ у казаніи добавила:
— Ндучи на службу, ты будешь заходить на почту отдавать мои письма—это немножко облегчитъ нашу Брпгиту, у которой съ твоимъ пріѣздомъ прибавляется дѣла.
Я. разумѣется, изъявилъ радостное согласіе править эту почтовую службу- и мы, завершивъ бо.гьшую прогулку, возвратились домой, гдѣ пасъ ждалъ въ средней комнатѣ накрытый на два прибора столъ. Обѣдъ состоялъ изъ двухъ скромныхъ, но вкусныхъ блюдъ, и яблока вмѣсто десерта. За столомъ намъ служила та же Брпгита, то-есть та же
женщина въ темномъ платьѣ п бѣломъ чепцѣ, которая принесла самоваръ въ минуту моего пріѣзда и которая была нашей кухаркой и горничной.
Послѣ обѣда матушка удали іась въ свою комнату и, сѣвъ въ старое глубокое кресло, закрыла пальцами рукъ глаза,— я не могъ понять, погрузилась лп она въ тихій сонъ, или въ глубокую д; му; но поспѣшпл ь воспользоваться минутою свободы, чтобы удовлетворить образовавшейся за дорогу страстишкѣ покурить. Я тихонько зажегъ папироску и долго простоялъ съ нею у открытой форточки, а потомъ почувствовалъ неодолимый позывъ ко сну п, прислонясь къ подушкѣ, мгновенно уснтлъ. Я спалъ глубоко и крѣпко, на. казалось, сквозь сонъ слышалъ, какъ мать входила въ мою комнату и, притворявъ форточку, разгоняла что-то по воздуху носовымъ платкомъ. Отъ этого представленія ко мнѣ привязалось какое-то безпокойное сновидѣніе, подъ наитіемъ котораго я и проснулся. На дворѣ было уже темно, но въ мою комнату по полу ползло откуда-то густое, желто-пунцовое освѣщеніе. Сначала я не могъ понять, что это за свѣтъ, но потомъ отгадалъ, что это, вѣроятно, гдь-нибудь топится печка.
Тишина была мертвая: ни шелеста, ни звука,—такъ что мнѣ даже стало страшно, и я, осторожно спустившись съ постели, началъ осматриваться.
Въ простимъ кирпичномъ каминѣ, который былъ устроенъ въ матушкиной комнатѣ, ярко горѣли дрова—и отъ нихъ-то п шло то пунцовое пламя, которое, пробѣгая черезъ всю нашу зальцу, тушевалось конпомь свѣта по полу моей комнаты. На этотъ счетъ я не ошибся, но что касается самаго характера окружающаго меня безмолвія, то я не разгадалъ его: это не была мертвая тишина, а напротивъ это было безмолвіе глубокаго чувства и живой грусти, которыхъ я. однако, не мугъ понять, хотя п видѣлъ ихъ въ образѣ очень граціозной и одухотворенной группы.
Матушка сидѣла передъ огнемъ въ своемъ креслѣ п, опустивъ книзу глаза, грустно смотрѣла на ярко освѣщенную огнемъ голову Харпты, которая полулежала на разостланной у ногъ матери на полу козьей шкурѣ, и, обхвативъ руками магушкпны колѣна, прислонилась къ нимъ головою. Мнѣ было какъ нельзя лучше видно все ея лицо, обращенное въ іу сторону, откуда я наблюдалъ се. Свѣтъ падалъ
на обѣ эти фигуры неровно: опущенное книзу лицо ма-тупіки было въ мягкомъ спокойномъ полутонѣ, межъ тѣмъ какъ голова и вся фигура Альтанской точно горѣли въ огнй. Однѣ ея ноги, уходя къ рампѣ камина, терялись и точно будто исчезали въ тѣни.
Не было ли это освѣщеніе преобразованіемъ того, чтб происходило тогда въ сердпахъ этихъ двухъ существъ, одного уже полуотстрадавшаго п гаснущаго, а другого полнаго жизненнаго разгара, но уже во всю мочь сердца вкушающаго священную сладость стра щнія.
Онѣ ничего между собой не. говорили: но, какъ мнѣ показалось, обѣ онѣ вмѣстѣ думали объ одномъ и томъ же. Стоя въ молчаніи у своей двери, я хорошо видѣть ''ихъ лица,— п былъ пораженъ тѣмъ, что при первой встрѣчѣ съ Ѵльтанскою не замѣтилъ ея прекрасной, характерной красоты. ТІзо всего ея лица я тогда разсмотрѣлъ только большіе сѣрые глаза съ длинными чернымп рѣсницами п черныя же прямолинейныя брови. Теперь я видѣлъ весь овалъ ея немножко продолговатаго лица и пораженъ былъ строгою гармоничностью его линіи п горячо-блѣднымъ матовымъ цвѣтомъ щекъ, по которымъ, какъ брильянтъ, искрились и играли передъ огнемъ двѣ слезинки.
'«Какъ она прекрасна п о чемъ сна можетъ такъ грустить и плакать? Зіатушка непремѣнно должна все это знать»,—думалъ я и тоже во что бы то нп стало хоті.іъ это узнать, съ тѣмъ, чтобы, если можно, сдѣлаться другомъ этой дѣвушки. ІИ.дь она сама же просила меня объ этомъ. А я хотѣлъ умереть за нее. лишь бы она такъ не грустила и не плакала.
«Но кто же могъ быть виновникомъ этихъ ея страданій? О, съ какимъ бы удовольствіемъ я сдѣлалъ ему теперь самую невозможную дерзость! Но чтб опъ и гдѣ онь?»
Среди этихъ мечтаній, въ продолженіе которыхъ я былъ какъ бы въ легкомъ бреду подъ обаяніемъ темныхъ бровей Хариты, входная дверь въ залу изъ передней отворилась— и на порогѣ ея показалась высокая, немножко сгорбленная мягкая фйгура въ длиннополомъ сю рту кѣ и огромномъ высокомъ галстукѣ, высоко подпиравшемъ продолговатую сѣдую голову съ такими же прямолинейными бровями, какъ у Харпты.
<Это ея отецъ!—воскликнулъ я въ себѣ, пораженный
большимъ сходствомъ лица взошедшаго старика съ лицомъ только-что разсмотрѣнной мною дѣвушки.—Не съ нимъ ли мнѣ и придется за нее сражаться? Досадно! это будетъ не совсѣмъ удобно, потому что матушка прп мнѣ наговорила этому старику бездну самыхъ лестныхъ похвалъ и избрала егс быть моимъ просвѣтителемъ. Однако, посмотримъ. Чтобы быть благороднымъ—не надо ничѣмъ дорожить, громѣ чести. Семья съ раннихъ лѣтъ зародила во мнѣ эту склонность, корпусное сотоварищество ее воспитало; раннее пзгнаніе закрѣпило, а что сдѣлали изъ него послѣдующія обстоятельства -о томъ рѣчь впереди.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Я жестоко ошибся насчетъ старика Альтанскаго, котораго узналъ съ перваго на него взгляда. Эготъ человѣкъ нпкого не обижалъ и не могъ нп для кого быть причиною ни малѣйшихъ несчастій.
Матушка зажгла одну изъ стоявшихъ у нея на каминѣ свѣчъ, а Харта, воскликнувъ: «.вотъ и мой старенькій тату пришелъ», кпнулась къ нему на шею—и, нагнувъ къ себѣ его голову за затылокъ, поцѣловала его два раза въ лобъ и въ высокую свѣтлую лысппѵ.
Профессоръ былъ человѣкъ рослый и широкій, но не полный, а скорѣе худой и костистый. При своей нѣсколько высокой и продолговатой головѣ, онъ пмѣлъ длинный прямой носъ, немного отвисшую нижнюю губу и очень большіе сѣрые глаза, сильно напоминавшіе глаза дочери. Но что всего болѣе дѣлало ихъ похожими другъ на друга—это та же прямолинейная бровь. Я говорю не брови, а именно бровь, потому что обѣ брови у профессора соединялись надъ глазами въ одну непрерывную линію. Обыкновенно такія брови придаютъ лицу выраженіе твердое, энергическое и рѣшительное,—и такое выраженіе было у отца и у дочери А.іь-танскихъ, но только у обоихъ у нихъ оно смягчалось безконечною добротою, которая въ лицѣ отца дышала совершеннымъ младенчествомъ. Въ его глазахъ были даже тѣ свѣтлые блики, которые бываютъ въ глазахъ у младенцевъ и которые въ глазахъ его дочери перешли въ проницающую лучистость. Ей словно дано было читать въ глубинѣ души другихъ людей, тогда какъ са тъ профессоръ смотрѣлъ
только внутрь самого себя, гдѣ у него былъ богатый складъ наблюденій, опыта и знаній.
Въ обхожденіи старикъ Алътаискій былъ простъ и удивительно открытъ и привѣтливъ. Не успѣла матушка меня ему представить, какъ онъ сію же минуту заговорилъ со мною, точно со стариннымъ другомъ, и притомъ съ такимъ, который во всемъ былъ ему по всему равенъ. Въ разговорѣ, начатомъ непосредственно за его приходомъ и продолжавшемся около полутора часа, я не ощути іъ никакой разницы между его многоученостію и моимъ круглымъ невѣжествомъ. Онъ никого не оспаривалъ и не проводилъ никакихъ идей, по все, что при немъ говорилось,- невольно какъ-то выравнивалось и округлялось, по превосходной и совершеннѣйшей формѣ. О предстоящихъ моихъ съ нимъ занятіяхъ онъ не сказалъ ни слова и даже когда матушка отрекомендовала меня, сказавъ:
— Вотъ вашъ ученикъ.
Онъ, ласково пожавъ мнѣ руку, тихо отвѣтили*
— Другъ, а не ученикъ.
Затѣмъ весь остальной разговоръ, сверхъ всякаго моего ожиданія, шелъ о предметахъ, о которыхъ я не имѣлъ тогда никакого понятія; но это Альтанскаго, повидимому, нисколько не смущало. Онъ говорилъ съ матушкою о правительствѣ, къ чему начальный поводъ дало мое исключеніе. Въ словахъ матушки я успѣлъ уловить въ этомъ разговорѣ не мало желчной ироніи, съ которой она отзывалась о правительственной системѣ того времени, а Иванъ Ивановичъ, точно Тацитъ, облегчалъ ея сужденія.
.Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я полуребенкомъ слышали эту первую политическую бесѣду, и я бы, кажется, легко могъ про нее позабыть,—но вѣщее пророчество ея, такъ поразительно сбывшееся на моемъ вѣку, не обмину ло и мою голову—и тогда-то, при тягостнѣйшихъ обстоятельствахъ моей жизни, я вспомнилъ слова Альтанскаго, и какъ еще вспомнилъ!
Уходя домой. Альтанскіе упросили матушку дать мнѣ два дня льготы отъ ученія, а съ меня взяли слово завтра утромъ придти къ нимъ. Матушка согласилась и, проводивъ ихъ, спросила меня:
— ,Мой сынъ! ты, кажется, куришь?
Я сконфузился и потупилъ глаза.
— Къ чему это такъ рано'—продолжала матушка:—я не думаю, чтобы эта бездѣльная привычка портить воздухъ, необходимый для нашего дыханія,—могла приносить очень много удовольствія: по если уже ты хочешь курить, то, пожалуйста. не скрывайся и кури при мнѣ. Эго по крайней мѣрѣ не будетъ тебя пріучать имъть отъ матери тайпы.
«Ужасная вещь!—думалъ я:—бѣдная матушка и въ помышленіи не содержитъ, какія я имѣю отъ нея тайности.»
Я чувствовалъ порядочную усталость, но, улегшись въ постель, не могъ уснуть и все обдумывалъ какой-нибудь планъ, какъ бы загарантировать себя отъ полученія отвѣта на мое посланіе въ Тверь. Я придумалъ идти завтра на почту и подкупить почтальона, чтобы, въ случаѣ полученія письма на мое имя. онъ не приносилъ его мнѣ домой, а оставилъ у себя, пока я не приду за нимъ. Это меня очень успокоило—и я уже хотѣлъ повернуться къ стѣнѣ и заснуть, какъ вдругъ въ это время замьтилъ, что свѣтъ въ матушкиной комнатѣ еще не погасъ. Сначала мн!> показалось, что это горитъ лампада, но, привставъ п поглядѣвъ въ дверь, я увидалъ, что то горѣла подъ абажуромъ свѣча, передъ которою матушка сидѣла за столикомъ. какъ была одѣтая днемъ, и писала. Прошелъ часъ, огонь не гасъ и писаніе матери не прекращалось. Теперь, настороживъ ухо, я даже слышалъ, какъ быстро скрипѣло въ ея рукѣ перо, — и по непонятному предчувствію это позднее писаніе получило въ моихъ глазахъ какое-то особенно важное значеніе. Я былъ убѣжденъ, что она пишетъ что-нибудь касающееся до меня; но что это могло быть такое и къ кому она могла писать? Размышляя объ этомъ и не придя ни къ какому выводу, я заснулъ все при томъ же свѣтѣ, а утромъ, когда матушка, напившись чаю. посовѣтовала мнѣ сходить засвидѣтельствовать свое почтеніе Альтанскому, я получилъ отъ нея довольно тяжелый запечатанный конвертъ, съ тѣмъ чтобы я зашелъ и отдалъ его на почту.
Порученіе это было маѣ очень кстати, потому что я. какъ выше сказано, намѣренъ былъ обдѣлать на почтѣ свое собственное дѣло; но мнѣ. однако, это не удалось, потому что. зайдя по дорогѣ къ Альтанскпмъ на почту, я на самомъ крыльцѣ почтоваго дома столкнулся съ Хари-тиною Адыгейской. Она тоже пришла сюда отправпіь письм--.
— 76 — которое мнѣ очень хотѣлось виді.ть для того, чтобы узнать, кому оно посылается По тѣмъ же предчувствіямъ мнѣ казалось, что письмо, которое было теперь въ рукахъ Аль-танской, содержало развязку ея тайны, какъ письмо матери хранило другія тайны,—п я, вынувъ изъ кармана матушкино письмо, прежде чѣмъ отдать его пріемщику, прочелъ: «Филиппу Кольбергу въ Петербургъ*.
Чтб необыкновеннаго можно найти въ такомъ простомъ имени какъ Филиппу Кольбергу въ Петербургъ*, гдѣ такое множество всякихъ берговъ?'.—но вы не можете себѣ представить, какъ меня поразило ото имя и какъ оно мнѣ понравилось. Читая впослѣдствіи письмо Гейне къ автору Лалла Гукъ, гдѣ поэтъ говоритъ, что, не знавъ самаго сочиненія, готовъ признать его превосходнымъ, потому что у него такое прекрасное названіе.—я вспомнитъ, что то же самое было со меою, когда я въ первый разъ узналъ сладостное имя Филиппа Кольберга. Кто могъ быть этотъ человѣкъ, которому не ставятъ на письмо никакого титула, а просто пишутъ одно его короткое имя: «Филиппъ Кольбергъ», тогда какъ всякому человѣку прибавляется хоть «благородіе» или хоть 'милостивое государство»? Неужто онъ не имѣетъ никакого права даже па самый скромнѣйшій изъ нихъ? Неужто онъ просто какой-нибудь ремесленникъ? Но не можетъ быть, чтобы мать моя писала такія большія письма какому-то простому ремесленнику и притомъ... и притомъ я былъ увѣренъ, что имя «Филиппъ Кольбергъ» не можетъ принадлежать человѣку малообразованному. Я получилъ неодолимою и притомъ чѵждую всякихъ сомнѣній вѣру, что человѣкъ, носящій это имя, долженъ быть какой-то превосходнѣйшій человѣкъ, которому нѣтъ никого подобнаго на свѣтѣ.
Но зато эти размышленія надъ письмомъ, а частію и присутствіе здѣсь дѣвицы Аіьтанской были причиною, что я не успѣлъ не только переговорить съ почтальономъ насчетъ ожидаемаго мною отвѣта на мое посланіе въ Тверь, а даже совсѣмъ позабылъ объ этомъ непріятномъ обстоятельствѣ п не тревожился имъ, пока оно дало мнѣ себя по-чѵвстЕовать.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Всего болЬе въ эту пору меня занимало, что я по глу
бокому п, какъ послѣ оказалось, совершенно безошибочному предчувствію попалъ въ самый центръ сокровеннѣйшихъ тайнъ двухъ милыхъ мнѣ женщинъ, изъ которыхъ притомъ одна была моя мать.
Правда, что вмѣстѣ съ этимъ открытіемъ (предчувствія мои я могу считать и не предчувствіями, а проницатель ностію, и потому выводы этой проницательности принимать за открытія)—п этимъ именно открытіемъ я наносилъ своему сердцу небольшую рану, потому что послѣ вчерашняго вечерняго созерцанія Харитины Альтанской я уже снова начиналъ чувствовать, что во мнѣ зашевелилось нѣчто подобное тѣмъ возвышеннымъ, конечно, любовнымъ тревогамъ, какія я испыталъ въ Твери. Теперь, когда обнаружилось, что на свѣтѣ несомнѣнно существуетъ кто-то, которому она пишетъ, и притомъ сама собственноручно отправляетъ на почту свои письма,—я видѣлъ необходимость перемѣнить позицію и ужъ строго держаться роли друга, чего мнѣ, при-знагься сказать, не особенно хотѣлось, гакь какъ Харита была не то что тверская барышня: той было тридцать лѣтъ и она приходилась наполовину меня старше, между тѣмъ какъ этой шелъ девятнадцатый годъ и, стало-быть, я былъ моложе ея только тремя годами. Но, однако, я утѣшался тѣмъ, что буду хранить ея тайну.
Что же относится до тайны матери, то тутъ я предчувствовалъ одно, что тутъ пылаетъ какая-то купина, пламень которой долженъ быть для меня вят ь, и сказалъ своему пытливому уму: «не касайся семо».
Все это я обдумалъ, пдучи рядомъ съ Альтанской, которая, овладѣвъ мною, вела къ отцу. Мы шли съ нею вь полномъ молчаніи и не мѣшали другъ другу. Это былъ для меня первый опытъ пріятнаго молчанія, и онъ мнѣ чрезвычайно удался и полюбился.
Онп жили въ небольшомъ сѣренькомъ домикѣ съ стеклянною галлереею, въ концѣ которой была дверь съ небольшою мѣдною дощечкою, на которой вмѣсто имени профессора значилась слѣдующая странная латинская надпись: «Хізі Іег рп1»аіа арегіеѣнг ѣіЬі роіѣа, Ьопезіиа аѴеаз», то-есть: «Если по троекратномъ стукѣ дверь тебѣ не отворится, то знай честь п отходи прочь».
Харптпна постучала трижды въ эту дверь, она намъ отворилась, и мы вош ш въ очень скромное помѣщеніе.
Старый профессоръ собирался на лекцію, но встрѣтилъ меня очень ласково, наскоро закусилъ съ нами и ушелъ, поручивъ меня попеченіямъ дочери; но бѣдной дѣвушкѣ было, кажется, совсѣмъ не до заботъ обо мнѣ. Она, видимо, перемогалась и старалась улыбаться отцу и мнѣ, но отъ меня пе скрылось, что у нея подергивало губы и лицо ея то покрывалось смертною блѣдностью, то по немъ выступали вымученныя синерозовыя пятна.
Простодушный младенческій взглядъ старика, кажется, ничего этого не замѣчалъ въ то время, когда онъ навязывалъ меня на руки дочери, но я былъ гораздо прозорливѣе и практичнѣе и поспѣшилъ какъ можно скорѣе оставить ее въ покой.
Не помню, какой я именно выбралъ предлогъ для того, чтобы ей откланяться,—но. она сдѣлала эту выдумку совершенно излишнею. Вмѣсто отвѣта на мое прощанье, она взглянула на меня полными слезъ глазами и, крѣпко стиснувъ мою руку, произнесла по-малороссійски:
— Спасибо вамъ, сердце! Маму вашу поцЬлуйте.
Я понялъ, что Харптина уразумѣла мою деликатность и, оцѣнивъ ее, платитъ мнѣ трогательнішшею откровенностью,—и съ гордымъ спокойствіемъ держалъ мою роіь, сказавъ ей прежнимъ спокойнымъ тономъ:
- Прощайте, Харптина Ивановна.
— Ивановна!—отвѣчала она, удерживая мою руку въ своей рукѣ.—Не зовите меня ХаритиноЙ Ивановной: нехай я буду для васъ просто ваша Христя.
— Нзволые.
— Ну, такъ скажите мнѣ: помилуй тебя Боже, моя ми.гая Христя.
Я повторилъ ея задушевныя слова и поцѣловали ея руку.
— Вотъ это такъ—по-нашему,—отвѣчала она и, выпустивъ мою руку, сама дала мнѣ знакъ скорѣе уходить, что я немедленно и исполнилъ, но сейчасъ же снова очутился въ большомъ затрудненіи. Проходя по стеклянной галлереѣ, я по какому-то невольному побужденію взглянулъ въ окно комнаты, въ которой оставилъ Хрпстю,—и увидалъ, что бЬдная дѣвушка лежала ницъ на полу и, вытянувъ крѣпко схваченныя руки, съ такимъ усиліемъ удерживала свои рыданія, что ея спину п плечи судорожно вело и коробило,
межъ тѣмъ какъ тонкіе бѣлые пальцы нѣжныхъ рукъ посинѣли и корчились.
Первая мысль моя была вернуться къ ней и помочь еп встать и перейти на постель: потомъ я это отмѣнилъ и хотѣлъ послать къ ней изъ кухни ихъ прислугу; но еіцс черезъ минуту нашелъ, что и это вѣроятно бы.то-бы ой непріятно. Мнѣ показалось, что ея невѣдомое мнѣ, гордое, молчаливое горе должно ожесточаться отъ всякаго непрошеннаго п—увы! —всегда безсильнаго участія. Я готовъ былъ самъ зарыдать и, надвинувъ шапку, опрометью выбѣжалъ па улицу, по ко горой не успѣлъ сдѣлать п десяти шаговъ, какъ меня нагналъ мой пріятель Пенькновскій.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Мой грандіозный коллега былъ теперь въ повой, слишкомъ для него просторной, поношенной венгеркѣ съ шнурами, въ четырехугольной польской шапочкѣ и съ хлыстомъ въ рукахъ.
Полный своей скорби за Хрпстю, я хотѣлъ отъ него убѣжать, но это было нфюзможно.
— Здравствуй, Праотцевъ!—вскричалъ онъ, хватая меня за руку.—Вотъ я думалъ, что мы съ тобой уже совсѣмъ разстались, а между тѣмъ опять привелось...
— Отчего же совсѣмъ разстаться?--отвѣчалъ я, стараясь скрыть свое волненіе.
— А такъ, братъ... знаешь, у насъ того... 3, да ты, кажется, чего-то плакалъ? Ты—вѣчная плакса.
— Вовсе я не плакалъ п не плакса, -отвѣчалъ я и начало разспрашивать его, что такое у нихъ «того ...
— Тсссъ! говори тише! у насъ въ домѣ говорятъ про страшныя дѣла: въ Австріи революція.
— Ну, а вамъ что за дѣло до Австріи?
— Да это тебѣ нѣтъ дѣла, потому что ты русскій, а тамъ, братецъ, венгерцы воюютъ.
— Такъ что же такое?
— Какъ что? -это старые наши польскіе союзники: роіак 2 дѵцгет сЬѵа Ьгаѣапкі, з’ак сіо вгаЪИ, Іак сіе згкіапкі ( ). Они намъ свои.
Я этому нѣсколько удпвплся, потому что венгерцы, въ
*) Полякъ съ венгромъ — братья, какъ но оружію, такъ п за бутылкой.
юемъ тогдашнемъ пониманіи, были гѣлюди, которые носятъ по селамъ лѣкарственныя снадобья да янтарные чётки и крестики; но Пенькновскій разъяснилъ мнЬ, что есть еще и другіе венгерцы — очень храбрые, и что вотъ съ тѣми-то онъ какъ нельзя болѣе заинтересованъ въ ихъ рево-люці II.
-— Неужто же ты, молъ, пойдешь въ ихъ революцію?
— Нѣтъ, честное слово—пойду: если всѣ пой тутъ, такъ и я пойду. Но помни, братъ-Меркуль,—заключилъ онъ, остановись и схваіивъ обѣ моп руки:—помни, что мы, все-таки, товарищи, и если мы встрѣтимся другъ съ другомъ съ оружіемъ въ рукахъ въ бою, я закричу: «скачи мимо!» и тебя не ударю.
— II я тоже, и я тебя ни за что не ударю,—отвѣчалъ я.
— Щадить другъ друга, щадить какъ должно благороднымъ людямъ и однокашникамъ. Сіышпшь?
— Хорошо, непремѣнно пощажу,—отвѣчалъ я.
Махни саблей— и мимо.
Махну—и мимо.
Честное слово?
— Честное слово.
- - Руку отъ сердца!
Я подалъ руку.
Заключивъ этотъ союзъ взаимной пощады, мы крѣпко стиснули другъ другу руки и поцѣловались, чтб, впрочемъ, не обратило иа насъ особенное вниманіе прохожихъ—ві.ро-ятно потому, что въ тогдашнемъ ополяченномъ кіовсіомъ обществѣ поцЬлуи при уличныхъ встрѣчахъ знакомыхъ мужчинъ былп дѣломъ весьма обыкновеннымъ.
Затѣмъ Пенькновскій открылъ мнѣ, что онъ на воинѣ не будетъ никого бить изъ товарищей и только возьметъ въ плѣнъ нашего военачальника, а потомъ полюбопытствовалъ, куда лежитъ мой путь —и, узнавъ, что я иду домой, вызвался меня проводить и дорогою спроси іь: «чтб говорятъ у васъ про венгерскую революцію?»
— У пасъ объ этомъ ничего не говорятъ,—отвѣчалъ я.
— Это не хорошо; это не хорошо, Праотцевъ!
— Что такое?
— Зачѣмъ ты скрываешь/
— Увѣряю тебя.
— Такъ о чемъ же вы разговариваете?
— Ну, богъ! Будто только и разговора, что про революцію?... у матери бываютъ разные ученые люди п профессора, и она сама знаетъ по-латыни и по-гречески...
— Фуй, какая скука!
— Нимало; напротивъ, мы вчера обсуждали правительство и очень пріятно провели время. Я .тюблю такіе разговоры.
— Ну, -.жъ я думаю! Не притворяйся, братъ, умнпкомъ-то! Что тамъ можетъ быть пріятнаго съ профессорами? А къ намъ къ отцу вчера пришли гости, молодые чиновники изъ дворянскаго собранія и пзъ гражданской палаты, и все говорили какъ устроить республику.
Я удивился и спросилъ, про какую онъ говоритъ республику.
— Извѣстно, какая бываетъ республика! всѣмъ вмѣстѣ будетъ править и король, и публика;—отвѣчалъ весело ТІеньк-новскій. и такъ какъ въ это время мы не только дошли до нашей квартиры, но вступили въ самыя сѣни, то онъ снова потребовалъ мою руку и, прощаясь, сказалъ:
— Ты приходи какъ-нибудь ко мнѣ: я тебя познакомлю съ моимъ отцомъ, у меня отличный отецъ; онъ тптулярный совѣтникъ и у него есть сѣдло и двѣ винтовки, и сабля — и представь себѣ, что онъ служитъ въ гражданской палатѣ и какъ двѣ капли воды похожъ на Кошута. Когда начнется ррволюшя. онъ непремѣнно хочетъ быть нашимъ полководцемъ, и всѣ чиновники на это согласны, но ты, сдѣлай милость, пока нпкому своимъ объ этомъ не говори.
Я далъ слово Держать это дѣло въ большомъ секретѣ— и мы благополучно разстались бы на этомъ, еслп бы матушка, встрѣтивъ меня у порога залы, не спросила: съ кѣмъ я говорилъ,—и, узнавъ, что это былъ мой корпусный товарищъ, не послала меня немедленно воротить его и привести къ ней.
Исполняя это приказаніе безъ особенной радости, я, однако, ведучп подъ руку Пенькновскаго, успѣлъ ему шепнуть, чтобы онъ не открывался прп матушкѣ, что онъ революціонеръ.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Пенькновскій обѣщалъ мнѣ быть скромнымъ насчетъ Венгріи и прекрасно исполнилъ свое обѣщаніе, но зато во
Сочиненія Н. С. ЛЬскоза. Т. XXXII. 5
всемъ другомъ обличилъ передъ шатай такую игривую развязность, какой я отъ него никакъ не ожигалъ: онъ пустился въ разсказы о нашемъ прошломъ и представлялъ еп не только корпусное начальство, но и директоршу, н офицерскихъ женъ; дѣлая при этомъ для большей наглядности выходы изъ открытыхъ дверей маминой спальни, онъ вдругъ появился оттуда въ матушкиномъ спальномъ чепцѣ п ночномъ пеньюарѣ.
Серьезная мать моя чрезвычайно оживилась и много смѣялась; но лукавый дернулъ Пенькновскаго вспомнить про извозчика Карилу п разсказать, какъ онъ заѣзжалъ къ Ивану Ивановичу Елкину п какъ королевецкое «начальство» отпороло его на большой дорогѣ нагайкою.
Зіатушка встревожилась, что я былъ свидѣтелемъ такой грубой сцены.
— За что же это съ нимъ такъ поступили?—спросила татап.
— А—а, не безпокойтесь сударыня, онъ этого слишкомъ стоитъ,—воскликнулъ мой Пенькновскій. Я такъ и замеръ отъ страха, что онъ, увлекшись, самъ не замѣтитъ, какъ разскажетъ, что Кириллъ предательски выдавалъ его за палача, который будетъ въ Кіевѣ наказывать жестоко-обраіцавшуюся съ крестьянами польскою графиню; но мой рѣчистый товарищъ быстро спохватился и разсказалъ, что Кириллъ, будто бы, напившись пьянъ, зацѣпилъ колесомъ за полицмейстерскую коляску.
Я былъ необыкновенно удивленъ этою смѣтою и находчивою ложью Пенькновскаго, а матушка, наморш.пвъ брови, проговорила, что она просто представить себѣ не можетъ, какъ эго можно было отправить насъ, дѣтей, съ однимъ пьянымъ мужикомъ.
— Какъ же, это просто ужасно!—поддерживалъ Пенькновскій.—Этотъ мужикъ былъ совершенно ужасный пьяніша и притомъ... п притомъ... онъ постоянно пилъ водку II говорилъ всякій вздоръ.
— Вы могли Богъ віеть чего наслушаться!
— Помилуйте, да онъ насъ водку училъ пить...
— И неужто же изъ васъ кто-нибудь его въ этомъ слушался?—воскликнула въ сдержанномъ ужасѣ мать, но Пенькновскій пресмЬло ее на этотъ счетъ успокоилъ.
— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ:—нѣтъ; то-есть, я и вашъ сынъ—
мы его по слушались, потому что я самъ не пилъ и удерживалъ вашего сына, но другіе... Положимъ, что это не совсѣмъ хорошо выдавать товарищей, но. презирая ложь, я не могу отрицать, что другіе, которые меня не слушались, тѣ пили.
При этомъ онъ подмигнулъ мнѣ — и такъ неловко подмигнулъ, что матушка это замѣтила. Впрочемъ, научась въ одинъ день наблюдать ея страшную проницательность, я видѣлъ, что опа еще во время самаго разсказа Пенькновскаго ему уже не вѣрила и читала истину въ моихъ потупленныхъ глазахъ;—но она. разумѣется, прекрасно совладала собою—и съ спокойствіемъ, которое могло бы ввести въ заблужденіе п не такого дипломата, какъ Пенькновскій, сказала:
— Я вамъ очень благодарна за вашъпрекрасный примѣръ п совѣтъ, которыми вы сберегли моего сына отъ порока, одна мысль о которомъ должна быть противна честному человѣку.
— Какъ же: я его всегда оберегалъ,—отвѣчалъ Пенькновскій: а матушка сказала, что она. будто бы. очень рада, что я имѣлъ себѣ такого благоразумнаго и строгаго товарища.
Пенькновскому эти слова были все равно, что обольстительный ѳиміамъ, въ сладкомъ дыму котораго онъ ошалѣлъ до того, что вдругъ, принявъ вѣроятно свою ложь за истину, возмнилъ себя въ самомъ дѣлЬ моимъ нравственнымъ руководителемъ,—началъ разсказывать, будто бы онъ всегда за мною наблюдалъ и въ дорогѣ, и въ корпусѣ, и тогда-то говорилъ мнѣ то-то, а въ другой разъ это-то, и т. п. Самая хвастливая и наглая ложь лилась у него рѣкою и приводила меня въ такое смущеніе, что я молчалъ и не перебилъ его ни однимъ словомъ даже тогда, когда онъ, истощивъ потокъ своего краснорѣчія насчетъ своихъ превосходствъ, вдругъ перешелъ къ исчисленію моихъ пороковъ. которые, по его словамъ, параліізпровалп его вліяніе и часто мѣшали мнѣ усвоить ту безмѣрную пользу, какую могли мнЬ преподать его совѣгы.
— Хорошо его зная, я могу сказать, что онъ еще не совсѣмъ дурной мальчикъ,—говорилъ онъ, указывая на меня искоса глазами:—но у него есть этакое, какъ бы вамъ сказать... упрямство. Да, именно упрямство! Я ему всегда го-
ворплъ: слушай мена во всемъ, потому что ты долженъ меня слушать! Но онъ одинъ разъ послушается, а другой разъ нѣтъ.—Что, братъ?—отнесся онъ непосредственно ко мнѣ:—я тебѣ говорилъ, что я ничего не скрою и все это со временемъ разскажу твоей шашап! Да; родители о насъ должны все знать—л ужъ ты сердись или не сердись на меня, а я теперь это дѣлаю для твоей же пользы.
— Вы знаете,—продолжалъ онъ, снова обращаясь къ шашап:—въ Твери одинъ нашъ товарищъ...
— Послушай!—вскричалъ я, не вытерпѣвъ и сквозь слезы.
— Что, братъ? Нѣіъ, ужъ извини: разскажу. Въ Твери одинъ нашъ товарищъ Волосатинъ пригласилъ насъ къ себѣ на вечеръ, который давалъ его отецъ, и вашъ сынъ тамъ такъ неприлично повелъ себя.... просто такъ неприлично, что будь это въ другомъ мѣстѣ—я не знаю, чтб бы могло вышн!
Машап вся вспыхнула и кинула на меня молніеносный взглядъ, но, вѣроятно, встрѣтивъ мой взглядъ, потерянный, перепуганный и умоляющій, сейчасъ же успокоилась. А безпощадный Пенькновскій продолжалъ и благополучно окончилъ свой разсказъ о томъ, какъ я, войдя впереди всѣхъ товарищей въ большую залу, «.какъ сумасшедшій бросился цѣловать руки у всѣхъ женщинъ».
— Это очень просто, шашап,—отвѣчалъ я: — я никогда не бывалъ на балахъ и думалъ, что это такъ принято.
— Ну, да,—тихо уронила матушка совсѣмъ успокоеннымъ голосомъ—и, какъ я былъ несомнѣнно убѣжденъ, въ знакъ своего неосужденія меня за разсказанную неловкость, подала мнѣ ключикъ отъ своего туалета и велѣла подать ей оттуда батистовый носовой платокъ.
Въ этомь незначительномъ порученіи я увидалъ знакъ снисходительнаго ея ко мнѣ благоволенія (гакъ умѣла она выражать все однимъ тономъ своего прекраснаго голоса, что слова ея, кромѣ своего банальнаго прямого выраженія, имѣли еще иное, тайное иносказательное- -и именно такое, какое она хотѣла передать ими тому, кто долженъ былъ уразумѣть въ нихъ смыслъ непонятный для другихъ). Я именно внялъ этому смыслу и, выйдя въ ея комнату за ея платкомъ, вздохнулъ отъ радости, что дѣло мое поправлено и что матушка на моей сторонѣ, а не на сторонѣ доносившаго на меня Пенькновскаго.
Между тѣмъ сей послѣ іній, пока я возился у матушкинаго комода, вспомнилъ, чго ему пора домой. Къ неописанному моему удовольствію, онъ началъ прощаться съ матушкой и опять отѣнплъ меня особеннымъ образомъ, попросивъ матушку отпускать меня изрѣдка къ нему, на его отвѣтственность, на что матушка и согласилась,—а Пены.-новскій принялъ это согласіе за чистую монету и, поблагодаривъ матушку за довѣріе, закончилъ обѣщаніемъ приводить меня назадъ домой подъ его собственнымъ наі-зоромъ.
Тутъ я уже просто сробѣлъ передъ этою его выходкой и мысленно далъ себѣ слово никогда къ нему не ходить, хотя мать моя выразила мысль совершенно противную, сказавъ, что она будетъ очень рада этому, потому что эти проводы, конечно, доставятъ ой удовольствіе часто видѣть Пенькновскаго и ближе съ нимъ познакомиться.
Это я счелъ уже со стороны татап за непонятную для меня неискренность, которая мрня очень покоробила, межъ тѣмъ какъ Пенькновскій былъ въ восторгѣ—и надѣвая въ передней свое пальто, весело прошепталъ мнѣ:
— А что же ты мнѣ не показалъ: гдѣ ваши ученые? Нѣтъ п хъ, что ли?
— Нѣтъ.—отвѣчалъ я сухо.
-— А когда они приходятъ?
— Вечеромъ.
— Вечеромъ. Ну, пускай ихъ ходятъ вечеромъ! а ты теперь кажется ясно можешь видѣть, что все дьло заключается не въ учености, а ьъ практикѣ.
«Провалился бы ты куда-нибудь со всей твоей практикой!-— подумалъ я и едва удержался отъ желанія сказать ему, что требую назадъ свое слово не сражаться съ нимъ, когда встрѣтимся на войнѣ, и махать саблей мимо. Энергически захлопнувъ за нимъ двери, я вернулся въ комнаты и почувствовалъ, что я даже совсѣмъ нездоровъ: меня знобило и въ лѣвомъ ухѣ стояль болѣзненно-отзывавшійся въ мозгу звонъ.
Лицо мое вѣроятно такъ ясно передавало мое состояніе, что матушка, взглянувъ на мрня. сказала:
— Ты. кажется, не совсѣмъ здоровъ, дитя мое?
— Да, ташап:—отвѣчалъ я:- мнѣ что-то холодно, и я чувствую звонъ въ ушахъ.
— Это тебЬ надуло въ голову, когда ты вчера курилъ у форточки. Поди лягъ въ свою постель и постарайся успокоиться: сегодня вечеромъ ты долженъ идти къ твоему дядѣ, а завтра подашь ему просьбу о принятіи тебя на службу въ его канцелярію.
— Какъ, татап. я долженъ идти къ нему безъ васъ?!— воскликнулъ я, почувствовавъ нѣкоторый страхъ при мысли о свиданіи съ статскимъ генераломъ, занимавшимъ, по тогдашнимъ моимъ понятіямъ, чрезвычайно важнѵю должность.
— Да; ты долженъ идти одинъ,—отвѣчала матушка и разсказала мнѣ, что когда я утромъ ходилъ къ Альтанскпмъ, мой двоюродный дядя, этотъ важный статскій генералъ, былъ у нея и передалъ свое желаніе немедленно со мною познакомиться.- Ознакомиться съ нимъ,—добавилататап:— тебѣ гораздо лучше одпнъ-на-одннъ, чѣмъ бы ты выглядывалъ какъ цыпленокъ изъ-подъ крыла матери. Притомъ же тебѣ надо привыкать къ обхожденію съ людьми и умѣть самому ставить себя на настоящую ногу; а это пріобрѣтается только навыкомъ и практикой.
«Опять практика! -подумалъ я, упавъ въ постель съ тревожною мыслію, что вокругъ меня что-то тяжело и совсѣмъ не такъ, какъ бы мнѣ хотѣлось. А отчего мнѣ было тяжело и какъ бы я хотѣлъ учредить по-иному — этого я не зналъ; но только воображеніе несмѣло и робко, словно откуда-то издалека, нашептывало мнѣ, что моя татап, безъ сомнѣнія, строгая, нравственная п въ высшей степени благородная, но сухая женщина,—п я вдругъ вспомнилъ объ отцѣ п, кусая концы носового платка, который держалъ у лица, тихо заплакалъ о покойномъ. Мнѣ показалось, что мы съ отцомъ «терпимъ одинакую участь» отъ тяжести жпво нами сознаваемаго высокаго, но ужъ слишкомъ авторитетнаго превосходства матерп, мгжду тѣмъ, какъ есть же на свѣтѣ кто-нибудь, къ кому она мягче п снисходительнѣе. Письмо къ Филиппу Кольбергу, которое я отдалъ утромъ на почту, мелькнуло передъ моими глазами,—псамъ Филиппъ Кольбергъ, котораго я никогда не видѣлъ, вдругъ нарисовался въ моихъ мысленныхъ очахъ такъ ярко и отчетливо, что я склоненъ былъ принять это за видѣніе — п затѣмъ начался сонъ, который во всякомъ случаѣ былъ пріятнѣе описаннаго бдішія. Мнѣ спилось, будто Филиппъ Кольбергъ, высокій, чрезвычайно стройный и сильный чело
вѣкъ, съ длинными темпорусыми кудрями, огромными густыми усами и густой же длинной эспаньолеткой, смотрѣлъ на меня умными, энергическими, какъ небо голубыми глазами и. сжимая мою руку, говорилъ:
— Да; ты отгадалъ: я люблю твою мать, я люблю ее, люблю, люблю, какъ херувимъ любитъ Бога, потому что видѣть Его благость и величіе и не любить Его невозможно, и мы съ тобою сольемся въ этой любви и полетимъ за пею въ ея сферѣ. Гляди!
Онъ указалъ мпѣ па плывущую въ эѳирѣ, яркую, свѣтлымъ теплымъ пламенемъ горящую звѣзду, въ сферѣ которой мы неслись невѣдомо куда, и вокругъ пасъ не было ничего, пи надъ нами, ни подъ нами, — только тихая лазурь и тихое чувство въ сердцахъ, стремящихся за нашею звѣздою.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Проснувшись я услыхалъ, что матушка гбыла не одна: съ нею былъ профессоръ Альтанскій, и они вели между собою тихую, спокойную бесѣду.
Я былъ нѣсколько удивленъ этому спокойствію и подумалъ: неужто профессоръ ничего не знаетъ о томъ, какъ страдаетъ его дочь и въ какомъ она нынче была положеніи. Да и прошло ли это еще? Пли, можетъ-быть, это имъ ничего?
II затѣмъ у меня пошелъ рядъ самыхъ пустыхъ мыслей, съ которыми я дѣлалъ свой туалетъ, вовсе не думая о томъ, куда я собираюсь н кйкъ буду себя тамъ держать.
Когда я былъ совсѣмъ готовъ, матушка позвала меня къ себѣ—и, не трогаясь съ мѣста, сказала мнѣ:
— Ну-ка, покажись, какъ гы одѣтъ...
Я сталъ.
— Перевернись.
Я повернулся спиной.
— Молодецъ!—замѣтилъ, глядя на меня, Альтанскій.
— Молодецъ-то онъ молодецъ,—отвѣтила, какъ мнЬ показалось, не безъ гордости шатай:—но я вижу, что у этого молодца скверно сшито платье.
II съ этимъ она. вздохнувъ, встала и своими руками перевязала на моей шеѣ галстукъ, иначе чѣмъ онъ былъ завязанъ. поправила воротнички моей рубашки и, перекрестивъ меня, велѣла идти.
— Не сиди долго,—сказала она въ напутствіе.
— Нѣтъ, татап.
— Однако и не сйъшм: это надо соображать по пріему— кйкъ держатъ себя хозяева. Да говори почаще Льву Яковлевичу «ваше превосходительство».
При этомъ губы матушки сложились въ нѣсколько презрительную улыбку, а профессоръ громко откашлялся п плюну іъ.
Я никакъ не могу утверждать, что этотъ плевокъ относился непосредственно къ «его превосходительству», но татап, вѣроятно, въ виду этой случайности, сейчасъ же нашла нужнымъ добавить, что Левъ Яковлевичъ очень но зл@і человѣкъ и имѣетъ своп заслуги и достоинства, а жена его Ольга Ѳоминишпа положительно очень добрая женщина, и дъги ихъ т- же очень добрыя, особенно старшая дочь Агата, которую татап назвала даже натурою превосходною, благородною и любящею.
Путь мий былъ не великь—и я черезъ десять минутъ очутился на большомъ дворѣ- по которому бродили молча какія-то необыкновенно смирныя, или привычныя къ незнакомымъ посѣтителямъ, собаки. Ихъ что-то было много, п всѣ онѣ откуда-то вставали, переходили черезъ свѣтлую полосу, которая падала отъ одного пѵъ освѣщенныхъ оконъ, п исчезали во тьмѣ. По дворѣ стоялъ большой, даже очень большой одноэтажный домъ и множество флигелей, построенныхъ углами и зигзагами. Все это, несмотря на сумракъ, представляло очень оживленную массу: во флигелевыхъ окнахъ свѣтились огни, а за углами, во всѣхъ темныхъ впадинахъ шевелились какія-то тѣни — и ихъ было такъ много, что онѣ становились для меня гораздо страшнѣе, чѣмъ собаки, на добродушіе которыхъ я началъ довѣрчиво полагаться. Всѣ эти тѣни, населяющія дворъ моего родственника и покровителя, были жиды, которые каждый день по і,ъ сѣнію сумерекъ еъ обиліи стекались сюда, неся съ собой разновидные дары для пріобрѣтенія себѣ дядиной благосклонности. Они-то- эти всевѣдущіе потомки Израиля— и указали мнѣ путь, какимъ я долженъ былъ проникнуть въ святили ще, куда ихъ по очереди и лишь за деньги впускалъ дядинъ камердинеръ.
Хотя генерала Льва Яковлевича мнѣ никто не рекомендовалъ съ особенно дурной стороны, но я не былъ распо-
ложенъ составлять о немъ хорошее мнѣніе: его домъ съ какимъ-то огненнымъ трясеніемъ во всѣхъ окнахъ, его псы, сумрачные жпдтл, а особенно его низенькій камертпнеръ Пванъ съ узкимъ лисьимъ липомъ и широкимъ алчнымъ затылкомъ — все это производило во мнѣ отталкивающее впечатлѣніе. Несмотря на свою тогдашнюю молодость п неопытность, я во всемъ этомъ обонялъ какой-то противный букетъ взятки, ВмѣшанноД съ кичливой заносчивостью и внутреннимъ ничтожествомъ. Левъ Яковлевичъ съ виду не похожъ былъ на человѣка, а напоминалъ запеченный свиной окорокъ: что-то такое огромное, жирное, кожистое, мел-кощетинпстое, въ свѣтлыхъ мѣстахъ коричневое, а въ темныхъ подпаленное въ видѣ жженой пробки. Вся эта жирная массивная глыба мяса и жиру была кичлива, натменна, раздражительна и непроходимо глупа. Левъ Яковлевичъ былъ до того самообольщенъ, что онъ даже не говорилъ почеловѣчески, а только какъ-то отпырхпвался и отдувался, напоминая то свинью, то лошадь.
При моемъ вступленіи въ его кабинетъ, онъ сидѣлъ въ глубокомъ креслѣ за сголомъ и, продувъ что-то себѣ въ носъ, заппірхалъ:
— А?., какъ?., что такое?..
Я ничего не понималъ, но замѣтилъ, что у этого окорока засверкали подъ бровями его гаденькіе глазки, а камердинеръ, подскочивъ ко мнѣ. строго проговорилъ;
— Отвѣчайте же, сударь. Развѣ вы не видите, что генералъ сердятся?
— Я нпчего не понялъ... вы мнь разскажите,—началъ-было я, но этогь гордый холопъ, махнувъ презрительно рукой и пробурчавъ: «да ужъ молчите, когда не умѣете , подошелъ ко Льву Яковлевичу.
Ставъ за его кресломъ, Иванъ фамильярно поправилъ сзади гребешочкомъ его прическу и молвилъ съ улыбкой:
— Они боятся передъ вашимъ превосходительствомъ.
— А .. какъ?., что?., мм.,. да... чѣмъ?., чѣмъ?., зачѣмъ ко мнѣ?., зачѣмъ?., чѣмъ... ѣмъ... мъ?..
— Къ генеральшѣ проводить прикажете?
— А?., да... м... мм... къ Ольгѣ Ѳоминпшнѣ... да.
— Птите!—скомандовалъ мнѣ лакей, п выведя меня черезъ двѣ застланныя коврами комнаты, ткнулъ въ третью, гдѣ за круглымъ чайнымъ столомъ сидѣло нѣсколько меньшихъ
окорочковъ, которые отличались отъ старшаго окорока тѣмъ, что онп не столько не умѣли говорить, сколько пе смѣли говорить.
Изъ всѣхъ этпхъ отрожденій Льва Яковлевича я не могъ никого отличить одного отъ другого: всѣ онп были точно семья боровыхъ грибовъ, наплодившихся вокругъ дрябнущаго матерого боровика. Всѣ оші были одной мастп и одного рисунка,—всѣ одинаковы и ростомъ, дородствомъ, лицомъ, красотою; всѣ были живыя другъ друга подобія: однѣ и тѣ же окорочныя фигуры, и у каждаго та же самая на свѣтлыхъ мѣстахъ коричневая сальнпстая законченность.
При видѣ этой многочисленной, мирно и молчаливо сидящей за чайнымъ столомъ семьи, я здѣсь оказался столь же безтолковымъ со схроны моего зрѣнія, какъ за минуту передъ симъ былъ безтолковъ на слухъ: у Льва Яковлевича я не могъ разобрать, чтб такое онъ гнуситъ а тутъ никакъ пе могъ произвести самаго поверхностнаго полового отличія. Безъ всякпхь шутокъ, всѣ представлявшіяся мнъ существа были до такой степени однородны и одновпдны, что я никакъ не могъ отлпчпгь среди пхъ мужчинъ отъ женщинъ. Мать, дочери, сыновья, свояченица и невѣстка—все это были на подборъ лица и фигуры одной конструкціи и какъ будто даже одного возраста: вся разница между ними видѣлась въ томъ, что младшіе были по-подкопченнѣе, а старшіе позасаленнѣе. Но вотъ одно изъ этпхъ тяжелыхъ существъ встало изъ-за стола,—и я, увидавъ на немъ длинное платье, догадался, что это должна быть особа женскаго пола. Это такъ и было: благодѣтельная особа эта, встрѣтившая и привѣтствовавшая меня въ моемъ затруднительномъ положеніи посреди комнаты, была та самая Агата, о добротѣ которой говорила шашап. Эта дѣвушка представила меня іі другимъ лпцамъ своего семейства, пзъ которыхъ одно, именно: свояченица генерала, Меланья Ѳомпнишна, имѣла очевидное надъ прочими преобладаніе: я замѣтилъ это пзъ того, что она содержала ключи отъ сахарной шкатулки и говорила вполголоса въ то время, какъ всѣ другіе едва шептали. Меланья Ѳомпнишна дала мнѣ возлѣ себя мѣсто и налила чашку чая — чтб я, будучи очень неловокъ и застѣнчивъ, считалъ для себя въ эту минуту величайшимъ божескимъ наказаніемъ. Но къ моему благополучію, чай оказался совсѣмъ холоденъ, такъ что я безъ особыхъ за
трудненій проглотилъ всю чашку однимъ духомъ — и, на предложенный мнѣ затѣмъ вопросъ о моей татап, отвѣ-чалъ, что она, слава Богу, здорова. Но, вѣроятно, какъ я ни тихо далъ этотъ отвѣтъ, онъ по обычаямъ дома все-таки показался неумѣстно громкимъ, потому что Меланья Ѳоми-пишна тотчасъ же притворила дверь въ кабинетъ и потомъ торопливо выпроводила меня со всѣми прочими въ комнату дѣвицъ, какъ выпроваживаютъ дѣтей «поиграть». Здѣсь мнѣ показывали какіе-то рисунки, разсматривая которые я мимоходомъ замѣтилъ, что у второй дочери генерала на одной рукѣ было вмѣсто пяти пальцевъ цѣлыхъ шесть.
Но вниманіе мое отъ этого шестого пальца вскорѣ бы іо отвлечено появленіемъ въ комнатѣ молодого, очень стройнаго и пріятнаго молодого человѣка, которому всѣ подавали руки съ какимъ-то худо-скрываемымъ страхомъ.
— Ахъ, Сержъ! здравствуйте, Сержъ! — привѣтствовали его дамы и дѣвицы и тотчасъ же искали случая отъ него отвернуться, чѣмъ онъ повидимому нимало не сгі снялся и обращаіся съ ними съ какимъ-то добродушнымъ и снисходительнымъ презрѣніемъ.
Онъ маѣ очень понравился—и я, продолжая разсматривать картинки, съ удовольствіемъ поглядывалъ на этого новаго посѣтителя, совсѣмъ не похожаго ни на кого пзъ сѣрыхъ членовъ генеральской семьи. Въ его миломъ лицѣ и пріятной фигурѣ было что-то избалованное п женственное.
Сержъ сѣлъ въ уголокъ дивана—и, красиво сложивъ на груди руки, закрылъ глаза пли притворился спящимъ.
Во все это время мы и здѣсь все продолжали шептать, но тутъ вдругъ вошелъ камердинеръ Иванъ и объявилъ, что генералъ велѣлъ мнѣ завтра явиться въ палату.
Это извѣстіе подѣйствовало на всѣхъ самымъ ободряющимъ образомъ, и обѣ дочерп генерала сразу спросили:
— Папа уѣхалъ?
— Уѣхали,—небрежно отвьчалъ камердинеръ—и, доба,-вивъ, что лошадей велѣно присылать только въ двѣнадцатомъ часу, хотѣлъ уже уходить, какъ вдругъ Сержъ возвысилъ голосъ и громко велѣлъ подать себѣ стаканъ воды.
Повелительное обращеніе Сержа произвело самое радостное впечатл ѣніе: всѣ лица оживились; голоса стали громч и смѣлѣе - и шестипалая дѣвица сѣла за рояль и начала играть, а другая запѣла. Сыновья ходили вдоль по ком
натѣ, а сама генбральша, усадивъ меня ьъ уголь большого дивана, начала разспрашивать: какъ мы съ матушкою устроились п чтб дріасмъ дѣлать? Я со всею откровенностію разсказалъ ей извѣстныя уже мнѣ матушкины соображенія — и генеральша, а вслѣдъ за н₽й и всѣ другіе члены ея семьи находили все это необыкновенно умнымъ и прекраснымъ п въ одинъ голосъ твердили, что моя татап— необыкновенно умная п практичная женщина. Я замѣтилъ, что ничего не говорившій и повидимому безучастный Сержъ, при первыхъ словахъ о моей татап, точно встрепенулся и потомъ началъ внимательно слушать все, чтб о ней говорили, а при послѣднихъ похвалахъ ея практичности — всталъ порывисто съ мѣста и, взглянувъ на часы, пошелъ къ двери.
— Сержъ, вы будете закусывать?—спросила его вслѣдъ Меланья Ѳоминіі шна.
— Нѣтъ, — отвѣчалъ онъ голосомъ, который мнѣ тоже очень понравился.
•— Оставить вамъ?
— Нѣгъ, та ѣапіе, нѣтъ,— не оставлять.
— Но вы придете ночевать?
Сержъ остановился, улыбнулся и, низко поклонясь Меланьѣ Ѳомпниіпнѣ, произнесъ:
— Приду, та іапіе, на сонъ грядущій получить ваше святое благословеніе.
Съ этимъ онъ вышелъ.
— Шутъ,—молвила ему вослѣдъ Меланья.
— А зачѣмъ вы его разспрашиваете?—прошептала одна изъ дѣвицъ.
— Отчего же?
— Развѣ вы не знаете, какой онъ?
— Чтб мнѣ за дѣло, какъ онъ отвѣчасть: я исполняю свой долгъ.
— А я—чтб вы хотите—я очень люблю Сережу,—протянула генеральша:—когда онъ пріѣдетъ изъ своей Рппа-товки на одинъ денекъ, у насъ немножко жизнью пахнетъ, а то точно заиндпвѣли.
Генеральша мнѣ показалась очень жалкою и добродушною, и я въ глубинѣ души очень расположился къ ней за ея сочувствіе къ Сержу, насчетъ котораго она тотчасъ же объяснила мнѣ, что онъ ея племянникъ по сестрѣ Вѣрѣ
Ѳомпнишнѣ п фамилія его Крутовичъ, что онъ учился бъ университетѣ, но, къ сожалѣнію, не хочетъ сложить и живетъ въ имѣніи, въ двадцати верстахъ отъ Кіева. Хозяйничаетъ и покоить мать.
Меланья Ѳомпнишна, очевидно, пначе была настроена къ Сержу п по поводу послѣднихъ словъ сестры замѣтила:
— Да; не дай только Богъ, чтобы всѣ сыновья такъ покоили своихъ матерей!
— Отчего же, Меіаиіе?
— Такъ; будто вы не знаете?
Меіаніе говорила генеральшѣ ем, хютя видимо и ставила ее ни во чтб.
— Я, право, пе знаю,—отвѣчала генеральша: —по-моему, онъ—добрый сынъ, очень добрый и почтительный, а ужъ какъ онъ въ субордпнапіп держитъ этого дерзкаго негодяя нашего Ваньку, такъ никто такъ не умѣетъ. Видѣли: не смѣтъ ему прислать воды съ Васплькою, а небось самъ подалъ и не расплескалъ по подносу, какъ мнѣ плещетъ. Я всегда такъ рада, что онъ у насъ останавливается. А что касается до Сережиныхъ влеченій... кто же молодой не увлекался? Ему всего двадцать пять лѣтъ.
— Пора жениться.
— II не безпокойтесь такъ много, онъ, Богъ дастъ, па ней и не женится!
— Почему вы это знаете?
— Пе женится. Меіаиіе, не женится. Сержъ упрямъ, какъ всѣ нынѣшніе университетскіе молодые люди, и потому онъ васъ съ сестрой Вѣрой не слушался. Что же, въ самомъ дѣлѣ: какъ гы съ нимъ обращались?—сестра Вѣра хотѣла его проклинать и наслѣдства лишить, но вѣдь молодые люди Богу не вѣрятъ, да и батюшка отецъ Илья говоритъ, что на зло молящему Богъ не внемлетъ, а наслѣдство у Сережи—отцовское—онъ и такъ получитъ.
— Какія вы мысли проповѣдуете. Ольга, и еще при дѣтяхъ!
— Что же я такое проповѣдую. Меіаиіе: я говорю правду, что вы не такъ дѣйствовали, чтобы ихъ разъединить — и Сержь упрямился; а Каролина Васильевна практическая, и ужъ если сестра Вѣра поручила ей устроить это дѣло, такъ она устроитъ. Каролина Васильевна дѣйствуетъ на нее, а не на него: это п умно, и практично.
Практичность матушки сдѣлалась предметомъ такихъ горячихъ похвалъ, что я, слушая ихъ, полу чплъ самое невыгодное понятіе о собственной практичности говорившихъ и ошибся: я тогда еще не читалъ сказаній лѣтописца, что «суть бо кіянс льстпвп даже до сего дне» и принималъ слышанныя мною слова за чистую монету. Я дріадъ, что эти бѣдные маленькіе люди лишены всякой практичности и съ завистью смотрятъ на матушку: а это было далеко не такъ; но объ этомъ послѣ.
Въ десять часовъ на столъ бы іа подана нарѣзанная ломтями холодная отварная говядина съ горчицей, которую всѣ ѣли съ неимовѣрнымъ и далеко ея недостойнымъ аппетитомъ, такъ что на мою долю едва достался самый крошечный кусочекъ. Затѣмъ тотчасъ же послѣ этого ужиная откланялся и ушелъ домой, получивъ на прощанье приглашеніе приходить къ нимъ вмѣстѣ съ шатай но воскресеньямъ обѣдать.
Очутясь на тихихъ, озаренныхъ луною улицахъ, я вздохнулъ полною грудью—и, глядя на открытую моимъ глазамъ съ полугоры грандіозную мѣстность Стараго Кіева, почувствовавъ, что все это добро зѣло... но не въ томъ положеніи, въ которомъ я былъ и къ которому готовился.
Прославляемая «практичность» матушки приводила меня въ нѣкоторое смущеніе и начала казаться мнѣ чѣмъ-то тягостнымъ и даже прямо враждебнымъ. Разсуж щя о ней, я начиналъ чувствовать, что какъ будто этотъ бѣдный Сержъ тоже страдаетъ отъ этой хваленой практичности. Боже мой, какъ мнѣ это было досадно! Да и одинъ ли Сержъ? А отецъ, а я, а Хріістя?.. мнѣ показались, что мы всѣ стратаемъ и будемъ страдать, потому что мы благородны, горячи, довѣрчивы п искренни, межъ тѣмъ, какъ она такъ практична!
Я былъ очень огорченъ всѣмъ этимъ и шелъ, опустивъ голову, какъ вдругъ изъ-за угла одного дома, мимо котораго пролегала моя дорога, передо мною словно выросли двѣ тѣни: они шли въ томъ же направленіи, въ которомъ надлежало идти мпй, и вели оживленный разговори.
Изъ этихъ двухъ тѣней одна принадлежала мужчинѣ, а другая женщинѣ и въ этой послѣдней я заподозрѣлъ Христю, а черезъ минуту убѣдился, что я нимало не ошибся: это дѣйствительно была она. Но кто же былъ мужчина? О! одного пристальнаго взгляда были довольно: это былъ Сержъ.
Убѣдись въ этомъ, я почувствовалъ, что у меня ёкнуло сердце, п уменьшилъ шагъ. Я сдѣлалъ это вовсе не съ цѣлью ихъ подслушивать, а для того, чтобы не сконфузить ихъ своимъ появленіемъ, но вышло все-таки, что я мимо-вольно учинился ближайшимъ свидѣтелемъ ихъ сокровеннѣйшей тайны,—тайны, въ которой я подозрѣва ть суровое, жестокое, неумолимое участіе моей матери и... желалъ ей неуспѣха... Нѣтъ; этого мало: я желалъ еп болѣе чъмъ неуспѣха и почувствовалъ въ душѣ злое стремленіе стать къ ней въ оппозицію и соединиться съ партіею, которая должна разстроить и низвергнуть всѣ систематическіе планы, сочиненные ея угнетающею практичностью.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Первые звуки разговора, которые долетѣли до меня отъ этой пары, были какія-то неясныя слова, перемѣшанныя не то съ насмѣшкою, не то съ укоризной. Слова эти принадлежали Сержу, который въ чемъ-то укорялъ Христю и въ то же время самъ надъ нею смѣялся. Онъ, какъ мнѣ показалось, держалъ по отношенію къ ней тонъ нѣсколько покривитеіьственнып. но въ то же время не совсѣмъ увѣренный и смѣлый: онъ укорялъ ее какъ будто для того, чтобы не вспылить и не выдать своей душевной тревоги.
Христя отвѣчала совсѣмъ иначе: въ голосѣ ея звучала тревога, но рѣчь ея шла съ полнымъ самообладаніемъ и увѣренностію, которыя дѣлали всякое ея слово отчетливымъ, несмотря на то, что она произносила ихъ гораздо тише. Начавъ вслушиваться, я х<>рпшо разобралъ, что она увѣряла своего собесѣдника, будто не имѣетъ ни на кого ни въ чемъ никакой претензіи; что она довольна всѣми и сама собсй, потому чю поступила такъ, какъ ей должно было поступить.
Сержъ опять искусственно разсмѣялся.
— Что же? я ралуюсь, что ты такъ веселъ, — молвила въ отвѣтъ на это Христя. но мнѣ показалось, что эта неумѣстная веселость ее обпдѣла, и она тихо сняла руку съ его локтя.
— Зачъмъ же ты отнимаешь у меня свою руку?—спр -силъ Сержъ.
Христя промолчала.
— Слышите ли вы, Харитпна Ивановна?—повторилъ онъ
шутливо:—я васъ спрашиваю: зачѣмъ вы отнимаете у меня свою руку?
— Такъ намъ обоимъ удобнѣе идти, чтобы не сбить другъ друга въ грязь.
— 9то острота, плп каламбуръ?
— Право, ни то, ни другое, Сержъ, и вы бы, мнѣ кажется, могли повѣрить, что мнѣ едва ли до остротъ.
— Но кто же, кто всему этому виноватъ?—вскричалъ нетерпѣливо Сержъ.
— Никто не виноватъ! все это идотъ само собою такъ, какъ ему должно быть.
— Мать моя, наконецъ, вѣдь согласна на нашу свадьбу. Что же еще тебѣ нужно?
Хрпетя молчала.
— Неужто тебя могутъ останавливать пти стѣснять глупые толки этого кабана моего дяди пли моихъ дуръ тетушекъ? Гдѣ же твои увѣренія, что тебя не можетъ стѣснять ничье постороннее мнѣніе? Ты, значитъ, солгала, когда говорила, что любишь меня и тебѣ все равно хоть бы весь міръ тебя за это возненавидѣлъ...
Христя снова промолчала и ступала тихо п потерянно глядя себѣ подъ ноги.
— Между тѣмъ, мнѣ кажется, я сдѣлалъ все, — продолжалъ Сержъ: — ты желала, чтобы я помирился съ тетками и я для тебя помирился съ этими сплетницами... II даже болѣе: ты хотѣла, чтобы въ теченіе года, какъ мы любимъ другъ друга, съ моей стороны не было никакой рѣчи о нашей свадьбѣ. Я зналъ, что это фантазія; вамъ угодно было меня испытывать, удостовѣряться: люблю ли я васъ съ такою прочностію, какой вы требуете?
— Да, Сержъ.
•— II что же? какъ это мнѣ ни казалось вздорнымъ...
— Нѣтъ, это не вздоръ,—перебила тихо Христя.
— Ну, п прекрасно, что не вздоръ,—п я все это исполнилъ: цѣлый годъ я не говорилъ тебѣ объ этомъ нп одного слова (Христя вздрогнула). Наконецъ,—продолжавъ Сержъ:— когда по прошествіи этого года моего испытанія, мать моя по своимъ барскимъ предразсудкамъ косо смотрѣла намою любовь и не соглашалась на пашу свадьбу, ты сказала, что нп за что не пойдешь за меня противъ ея воли; я и это устроилъ по-твоему: мать моя согласна. Ты теперь не мо-
жсшь сказать, чго это не вѣрно, потому что она сама тебѣ объ этомъ писала, даже болѣе: она лично говорила обь этомъ твоему отцу; и, наконецъ, еще болѣе: я настоялъ, чтобы она сама была у васъ, и она одолѣла свою гордость и была, у васъ, и была съ тобою какъ нельзя болѣе ласкова...
Христя перебила его—и, протянувъ ему руку, произнесла:
— Да, благодарю тебя, Сержъ, это все правая: ты очень добрь ко мчѣ, и я не заслужила того, чтб ты для меня дѣлалъ.
— Нечего про то говорить: заслуживаешь ли ты плп не заслуживаешь; когда люди любятъ другъ друга, тогда нѣтъ мѣста никакимъ счетамъ; — но рѣчь о томъ, что всему же на свѣтѣ должна быгь мѣра и свой конецъ.
— Ахъ, да, и они для насъ уже пополнились.
— Ну, я этого не вижу, ты не идешь къ концу, а напротивъ, все только осложняешь.
— Нѣгь, Сержъ.
— Какъ же нѣтъ? когда я уѣзжалъ отсюда недѣлю тому назадъ, ты просила меня вѣрить, что теперь уже все кончено и рѣшено, что я долженъ быіь покоенъ, а тебѣ нужно только нѣсколько дн< и, чтобы выбрать день для нашей свадьбы; но прошелъ одинъ день — и я получаю отъ тебя письмо съ просьбою не пріѣзжать недѣлю сюда. Привыкнувъ къ твоимъ капризамъ, я смѣялся надъ этимъ требованіемъ, но, однако, и его исполнилъ. Въ эгп восемь дней ты что-то писала татап... Чтб ты такое ей писала?
— Оставь это, Сержъ.
— Нѣтъ: я хотѣлъ бы это знать, чгб у тебя зд тайны отъ меня съ моей матерью?
— Я ей кое ьь чемъ открылась.
— Открылась.-' въ чемъ?
— Это моя тайна. Сержъ!
— Открылась...» «тайна»... Господи, что за таинственность!
— Оставь это, Бога ради; я открыла ей мои душевные пороки.
— Изволь. Я не знаю, чго заключалось въ твоемъ письмѣ; ты лжешь, что ты открыла какіе-то пороки, потому что твое письмо привело мать въ совершенный восторгъ. Я думалъ, какъ бы она съ ума не сошла; она цѣловала твое письмо, прятала его у себя на груди; потомъ обнимала
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. XXXII. 7
меня, плакала отъ радости и называла тебя благороднѣйшею дівушкои и своимъ ангеломъ-хранителемъ. Неужто это все отъ открытія тобою твоихъ пороковъ?
Христа молча пошатнулась и схватилась рукою за стѣпу.
— Что съ тобою,—спросилъ Сержъ.
— Ничего; я поскользнулась. Не обращай на это вниманія. продолжай, — меня очень интересуетъ, что говорила обо мнѣ твоя мать?
— Ничего болѣе, какъ она отъ тебя въ восторгѣ, п пи за что не хотѣла показать мнѣ твоего письма.
— Вотъ видишь ли. какъ хорошо я умѣю утѣшить!
— Да оно и должно бы быть все хорошо; но что же значитъ твое вчерашнее письмо, чтобы я не пріѣзжалъ еще двѣ недѣли, и твоя записка, которую я нашелъ у тетушки Ольги Ѳоміінпппіы: что еще за капризъ пли тайна, что ты не хочешь пускать меня къ себѣ въ домъ?
—- Да, это таііна, Сержъ.
— Опять тайнаі—новая, или все та же самая, чтб сообщалась матери?
— Почти та же самая.
— II ты ее, вѣроятно, рѣшилась мнѣ открыть?
— Да; я рѣшилась. Я хотѣла сдѣлать это, но не такъ <коро. Л хотѣла собраться съ силами, — но ты не послушалъ меня, пріѣхалъ—и мнѣ ничего не остается какъ сказать тебѣ все. Я знала, что ты пойдешь къ намъ и рѣшилась ждать тебя здѣсь... на дорогѣ.
Онь пожалъ плечами и съ неудовольствіемъ произнесъ:
— Тайна съ открытіемъ на уличномъ тротуарѣ... Я і'ригинально!
— Да, Сержъ, да: оригинально, глупо, все что ты хочешь,—но здѣсь я открою се, здѣсь или гдѣ попало, но не тамъ, не въ нашемъ домѣ, гдѣ меня оставляютъ силы, когда я подумаю о томъ, чтб я должна тебѣ сказать.
Сержъ остановился и выпустилъ ея руку.
— Нѣгъ, будемъ идти, -настояла Христя и, потянувъ его за руку, заговорила часто и скороговоркой: — между нами, Сержъ, все должно быть кончено... все... все... все... надежды. свиданія... любовь... Все и навсегда.
— Такъ ты это серьезно говоришь?
— Серьезно. Сержъ, серьезно; я не могу быть твоею женою...
я не могу поступить противъ твоеіі совѣсти... Да: противъ совѣсти, Сержъ, потому что я... я люблю другого, 5егде.
II она вдругъ схватила обѣ его руки, жарко ихъ поцѣловала—и, поднявъ къ небу лицо, на которомъ лупа освѣтила полные слезъ глаза, воск ткнула: «Прости! прости меня!»—и бросилась бѣгомъ къ своему дому.
Молодой человѣкъ кинулся за нею--и, нагнавъ, ее остановилъ на калиткѣ.
Я не слыхалъ первыхъ словъ ихъ объясненія на этомъ пунктѣ, а когда я подошелъ, онп уже снова разставались.
— II вы запрещаете мнѣ встрѣчаться съ вами.-'—спрашивалъ Сержъ.
— Да; я прошу... я не могу этого запретить, но я прошу объ этомъ, — отвѣчала Хрпетя голосомъ, въ которомъ уже н° было слышно недавняго волненія.
Онъ нѣсколько патетически произнесъ: «прощайте»—и, встряхнувъ ея руку, пошелъ назадъ.
Я прислонился за темный выступъ забора—и, пропустивъ его мпмо себя, видѣлъ, какъ онъ остановился и, вздохнувъ, словно свалилъ гору, пошелъ бодрымъ шагомъ.
Христя еще стояла на порогѣ и все смотрѣла ему вслѣдъ. Мнѣ касалось, что она тихо и неутѣшно плакала, и я все хотѣлъ къ ней подоити и не рѣшался; а въ это время невдалекѣ за угломъ послышашсь голоса какой-то большой шумной компаніи, и на улицѣ показалось нѣсколько молодыхъ людей, въ числѣ которыхъ я съ перваго же раза узналъ Пенькновскаіо. Онъ былъ очень веселъ и, замѣтивъ въ калиткѣ женское платье Христи, кинулся къ нѵи со словамп:
— Позвольте васъ одинъ разъ поцѣловать!
Калитка въ ту же минуту захлопнулась, и опомнившаяся Христя исчезла какъ разъ въ тотъ моментъ, когда я подскочилъ, чтобы защищать ее отъ наглости Пенышовскаго, который, увидя меня, весело схватилъ меня за рзку и вскричалъ:
— Ага! а гы это, братъ, что тутъ по ночамъ дѣлаешь?
— Я провожалъ мою мать, — отвѣчалъ я, боясь, чтобы самое пмя Хрпсти не стало ему извѣстно.
— А-а! магь... Такъ это здѣсь была твоя мать?
— Да, моя мать.
— Да куда же это она шла? ѣ’азвѣ это вашъ домь?
— Нѣгъ не нашъ, а тугъ одна наша знакомая больна. Фу, чортъ возьми, какая глупость! II чего же это однако твоя мать стояла на калиткѣ?
— Она меня крестила.
— Крестила тебя! Это какіе пустяки! Му, зачѣмъ... зачѣмъ она тебя крестила?
— На ночь. Она всегда зіеня креститъ.
— Ахъ, чортъ возьми! Но ты ради Бога же не говори ей, что это я къ ней подлетѣлъ.
Я далъ слово не говорить.
— А ты какъ думаешь: узнала онэ меля или -пѣтъ? — безпокойно запиталъ Пенькновскій.
— Нѣтъ, отвѣчалъ я:—я думаю, что она не узнала.
— II мнѣ кажется не узнала... довольно темно, да и я немножко пьянъ, а вѣдь я ей наговорилъ, что въ ротъ ничего не беру. Ты, однако, смотри: это поддерживай.
— Какъ же, непремѣнно!
— Да, а то это выйдетъ не по-товарищески. А у насъ, братъ, сейчасъ были какія ужасныя веши! — и Пенькнов-оьій, поотставъ со мною еще на нѣсколько шаговъ отъ своихъ товарищей, сказалъ о нихь, что это все чиновники гражданской іжлаты и что у нихъ сейчасъ былъ военный совѣтъ, на которомъ открылась измѣна?
— Какъ измѣна? кто же ва.ігь измѣнилъ.
— Одинъ подлецъ дворянскій засѣдатель. Онъ подписалъ на революцію сто рублей и на этомъ основаніи захотѣлъ всѣми командовать. Мы его высвистали, и отецъ часъ тому назадъ выгналъ его. каналью. Даже деньги его выбросили изъ кассы, и мы ихъ сейчасъ спустимъ. Хочешь, пойдемъ съ нами въ цукерню: я угощу тебя сладкимъ тѣстомъ и глинтвейномъ.
Я поблагодарилъ его и отказался.
— Ну, какъ хочешь!—сказалъ Пенькновскіи:—а то бы пошелъ и оілично бы накатились. По все равно, иди домой и непремѣнно развѣдай завтра, узнала ли меня твоя мать — и если узнала, то побожись, что это не я.
— Пожалуй.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Такъ, въ такой обстановкѣ и среди такихъ элементовъ я оріентировался въ живописномъ городѣ, который почн-
тается колыбелью просвѣщенія для всего русскаго народа, —-и по стеченію обстоятельствъ, и по избранію моей матери въ теченіе десятп лі.тъ кряду былъ моею житейскою школою.
Это десять многознаменательныхъ для меня лѣтъ, окончательно сформировавшія мой характеръ.
Послѣ того, что я описалъ, я пепосредгтвенно заболѣлъ; поводомъ къ этому недугу, какъ матушка отгадала, дѣйствительно, была простуда, полученная мною во время куренія у форточки.
У меня сдѣлалась лихорадка и колотье въ ушахъ,—болѣзнь, конечно, не важная, но, однако, опа мѣшала моимъ и служебнымъ, и учебнымъ занятіямъ. Первый блинъ шелъ комомъ: я только началъ уроки, только подалъ просьбу обь опредѣленіи меня на службу и сейчасъ же слегъ.
Въ это время, помимо болѣзни, со мною случилось еше двѣ непріятности: во-первыхъ, Кириллъ явился ко мнѣ прощаться. а какъ я тотчасъ не вставалъ съ постели, то его приняла матушка и дала ему рубль, и этимъ бы все могло благополучно и кончиться, но, тронутый этою благодатью, Кириллъ захотѣлъ блеснутъ умомъ и, возмнпвъ себя чѣмъ-то въ родѣ многоопытнаго Улисса, пустился въ повѣствованіе о томъ, какъ мы дорогой страждовалп, и какъ онъ послѣ многихъ мелкихъ злоключеній былъ наконецъ подъ Королевцемъ крупно выпоронъ.
Услыхавъ изъ своей комнаты, что дѣло дошло до коро-левецкихъ происшествій, я чрезвычайно оробѣлъ, а когда матушка вдобавокъ къ этому еще спросила: за что же именно его такъ обидѣли,—страхъ мой уже не зпалъ предѣловъ; но коварный мужиченко отлично нашелся. Немножко помям.іивь и почесавшись, онъ съ достоинствомъ отвѣчалъ:
— Эхъ. государыня-матушка, если всю правду говорить, какъ передъ Богомъ, то, вздохнувъ ко Всевышнему, ничего я больше за собою не знаю, какъ это Господь наказалъ меня за мое лакомство.
— За какое лакомство? сказала ташап.
— А что я о ту пору, лба не перекрестя, морковь ѣлъ.
Послѣ такого объясненія Кириллъ былъ отпущенъ, и эта бѣда сплыла, но зато, на мѣсто ея близилась другая: черезъ нѣсколько дней, во время самаго жестокаго пароксизма
лихорадки въ домѣ получилось на мое имя письмо. Находясь въ нестерпимомъ жару болѣзни, я ничего не понялъ: ни адреса, на конвертѣ, ни того, что стояло на вынутомъ мною листкѣ: бумага трепетала въ моей рукѣ и строки тряслись п путались, а глаза ничего не видали. Тогда ма-туші.а, вынувъ изъ моихъ дрожащихъ рдкъ это письмо, взглянула на первыя его строки и вся измѣнилась въ лицѣ, воскликнувъ:
Боже мой! ъто эго смѣетъ тебѣ писать такое письмо?
— Что тамъ такое, шашап?—освѣдомился я, едва шевеля своими смягнущими губами.
— Письмо начинается со словъ: «Праотцовъ, ты дуракъ!»
«Плохо!»—подумалъ я, заключая, по слогу, что это вѣрно энергическая Тверь сносится съ вѣжливымъ Кіевомъ!
— Тебя бранятъ,—продолжала матушка, показывая мнѣ листокъ, на которомъ я теперь при новомъ толчкѣ, данномъ всѣмъ моимъ нервачъ, прочелъ нѣсколько болѣе того, что было сказано: «Праотцевъ! ты дуракъ и подлецъ»... Дальше нечего было и читать: я узналъ руку Виктора Во-лосатпна и понялъ, что это откликъ на мою борзенскую корреспонденцію къ его сестрѣ, потому что вслѣдъ за приведеннымъ привѣтствіемъ стояли слова: «Какъ смѣлъ ты, мерзавецъ, писать къ моей сестрѣ». Читая эти слова, я вспомнилъ, что ихъ точно такъ же читаетъ теперь и моя мать, и потому быстро разорвалъ письмо и, отвернувшись къ стѣнѣ, проспалъ пѣлыя сутки.
Когда я проснулся опять, былъ день въ той же передобѣденной порѣ, около которой вчера было получено тверское бранное посланіе. Къ этой порѣ у меня обыкновенно начинался лихорадочный пароксизмъ; но. однако, проснувшись теперь, я этого не ощущалъ. Тверская встрепка меня вылѣчила: я съ горя переспалъ болѣзнь.
Осмотрѣвшись, я увидалъ, что со мною въ комнатѣ никого нѣтъ, но невдалекѣ въ матушкинмн комнатѣ шелъ тихій разговоръ. Этотъ разговоръ, который, впрочемъ, гораздо удобнѣе назвать медицинскимъ разсужденіемъ, пропсходилъ между шашап и однимъ—въ то время очень молодымъ— университетскимъ профессоромъ и касался меня.
Матушка жаловалась, что я на ея взглядъ очень нервенъ и впечатлителенъ, и что она этого боится, а медикъ отвѣчалъ:
— Да нѣтъ, онъ довольно хорошо построенъ, но онъ на длинныхъ ножкахъ, а ужъ этакі ?, разумѣемся, всегда немножко валки.
— То-то, мнѣ кажется, онъ слабъ,—шепталі шатай.
— Да я вамъ и говорю: люди на длинныхъ ножкахъ всегда нѣсколько кволы. Корэтеножки гораздо прочнѣе, но ужъ этого не передѣлаешь: кто на какихъ поискахъ заведенъ и пущенъ, теть на такпхъ и ходитъ. Впрочемъ, будьте пскопны: все хзрсшо, а я спѣшу заѣхать къ Льву Яковлевичу.
Мегаан спросила:—кто у нихъ боленъ?
— Кажется, всѣ вдругъ.—отвѣчалъ докторь и добавилъ, что онъ былъ у нихъ ночью и теперь снова спѣшить, потому что тамъ весь домъ въ тревогѣ.
— Боже мой! что же это такое? а я не мету за болѣ нію сына ихъ навѣстить.
— Да п не спѣшіпе: тревога пустая и ничего опаснаго нътт; вчера къ нимъ пріѣхалъ ихъ племянникъ Сержъ и разртгалт ихъ за что-то по правамъ родства.
— Ахъ, какая досада! они и такъ его не жалуютъ.
— Да, даже самого Льва Яковлевича назвалъ дикой свиньей, а съ тѣмъ отъ этого сдѣлался обморокъ; но то не важно: снъ на коротенькихъ ножкахъ п скоро поправится.
Съ этимъ докторъ взошелъ на прощанье взглянуть н.. меня—и какъ я притворился спящимъ, то онъ только указалъ матери на мсп закрытыя одѣяломъ негп— и, прошептавъ, что лучше было бы, если бы снѣ были покірдче. уѣхалъ.
Между тѣмъ я во вое это вр^мя съ напряженнымъ вниманіемъ разсматривалъ изъ-подъ своихъ рѣсницъ собственныя ногп врача я нашель. что онѣ у него чрезвычайно пропорціональны.
Освебсдясь отъ этого визита, я снова открылъ глаза п сталъ размышлять: дѣйствительно ли большая пли меньшія длина ногъ м жегъ имѣть такое важное вліяніе на судьбу человѣка, или же господинъ докторъ напираетъ на это только потому, что у самого у ней- прекрасныя ноги и ему выгодно обращать на нихъ косвеннымъ образомъ всеобщее вниманіе.
Въ эту самую мингту къ моему изголовью присѣла съ вязаньемъ въ рукахъ матушка и, взглянувъ па мое задумчивое лицо, спросила:
— О чемъ ты размышляешь, дитя м<»е?
Я сконфузился и покраснѣлъ.
— Если это секретъ, то не говори.
— Нѣтъ, ташап. какой же секретъ!..
II я разсказалъ ей. чтб мнѣ пришло въ голову по поводу докторскаго разсужденія о ногахъ.
- Зачѣмъ же такъ думать?—отвѣчала шатай:—нашъ докторъ очень хорошій и умный человѣкъ.
— Да; онъ мнѣ кажется слишкомъ практичный, ташап.
— «Слишкомъ практичный»... что ты подъ этимъ раз-у яѣешь?
— Онь... онъ изъ тѣхъ людей, которые ді лаютъ только то, что имъ пріятно или выгодно.
— Значитъ, по-твоему, быть практичнымъ все равно, что быть эгоистомъ?
— Да, татап... То-есть позвольте, я это хорошенько не обдумалъ.
—- Такъ обдумай.
Матушка, не переставая работать шинными деревянными спицами своего филейнаго вязанья, сосчитала рядъ петель— и потомъ, не ожидая моего отвѣта, заговорила, что я сужу чрезвычайно односторонне и неправиіьно: что быть практичнымъ—это еще отнюдь не значитъ быть себялюбивымъ эгоистомъ; но что, кромѣ того, въ свѣтѣ часто безъ разбора ' называютъ практическими людей, которые просто разумны и поступаютъ умно не вслѣдствіе большой практики, а вслѣдствіе хорошей обдуманности и яснаго пониманія дѣла. Она мнѣ, какъ профессоръ, разъяснила, что практически можно знагь опредѣленное число тѣхъ вещей, въ которыхъ человѣку прежде уже довелось имѣть опытъ, а разумно постигать можно все доступное разумѣнію всестороннихъ свойствъ предмета, среды дѣйствія и условій времени и мѣста. II вслѣдъ затѣмъ ташап, какъ будто пожелавъ еще болѣе пояснить сказанное мнѣ живымъ примѣромъ, улыбнулась и добавила:
— Вотъ, напримѣръ, когда ты шелъ въ головѣ цѣловавшихъ дамамъ ручки кадетъ пли писалъ письмо о своемъ душевномъ состояніи, ты былъ непрактиченъ^—ты это сдѣлалъ потому, что не зналъ, что это не принято и пе дѣлается.
— Да. ташап, да.—увѣряю васъ, что потому.
— Ну да, и вотъ потому-то это, ве заключая въ себѣ ничего особенно дурного и глупаго, только непрактично; а твой тверской товарищъ, который прислалъ тебѣ обпдное письмо за твою ласковость, сдѣлалъ гораздо худшій поступокъ—уже непрактпческііі. а неблагоразумный: онъ тебя обижаетъ за то, что гы ласкаешься... Это обозначаетъ плохую голову и нехорошее сердце...
— Опъ свьтскій. шашап.
— Не дріаю; свѣтскіе люди стараются быть сдержанными; а люди практическіе- -если хотятъ кого обидѣть, то не бранятся съ первыхъ строкъ, потому что тогда благоразумные люди далѣе не читаютъ. Кстати, извини меня: я бросп.іа это глупое ппсьмо въ печку.
Я обнялъ матушку и припалъ головою къ ея п.іечх.
Аірня обуревали самыя смѣшанныя чувства: я былъ радъ, что ненавистное письмо, котораго я такъ долго ждалъ и опасался -теперь мнѣ уже болѣе не страшно: я чувствовалъ приливъ самыхъ теплыхъ и благодарныхъ чувствъ къ матери за деликатность, съ которою она освободила меня отъ тяжкихъ самобичеваній за это письмо, представивъ все дѣло совсѣмъ не въ томъ свѣтѣ, какъ оно мнѣ представлялось,— а главное: я ощущалъ неодолимые укоры совѣсти за тѣ недостойныя мысли, какія я, было, началъ питать насчетъ материнаго сарактера. Я видѣлъ, что она добрая и благоразумная, а совсѣмъ не практическая, какъ о ней толкуютъ,—-и мнѣ ее стало безконечно жалко. Я прижался къ ней еще тГ.снѣе п прошепталъ:
— Простите меня, шашап!
Она взя.іа мое лицо въ обѣ свои руки и спросила:
— Въ чемь, дитя мое?
— Машап, мнѣ это страшно сказать гамъ,
Матушка, видимо, встревожилась, а когда я къ этому прибавилъ. что вина моя заключается въ моемъ легкомысліи, <ъ которымъ я позволилъ себѣ осуждать ее въ своемъ умѣ,—она даже поблѣднѣла и не могла произнесть ни одного слова.
Въ моихъ мысляхъ мелькнулъ Филиппъ Кольбергъ, и я увидадъ, что началъ пренеловкую рѣчь и поспѣшилъ поправиться.
— Маш.іп, я ропталъ на васъ: вы мнѣ казались очень практичными,—проговорилъ я. потупивъ глаза.
— Вотъ что!
II матушка приподняла мою голову, посмотрѣла мнѣ въ глаза—п, спокойно улыбнувшись, обняла меня и прижала къ сердцу.
Я слышалъ, какъ это сердце билось, и чувствовалъ, что оно бьеая для меня, межъ тѣмъ какъ если бы оно было практичнѣе—ему никто не смѣлъ бы помЬшать воспользоваться своимъ правомъ биться еще для кого-нибудь другого, п при этой мысли я опять почувствовалъ Филиппа Кольберга,—онъ вдругъ изъ кокого-то далека насторожилъ на меня свои смѣлые открытые глаза, которыхъ я не могъ ничѣмъ прогнать—п только въ ревнивомъ страхѣ сжалъ матушку и въ отвѣтъ на ея ласки шепталъ ей:
— Машап. другъ мой! вы моя самая умная, самая добрая мать. Скажите же мнѣ, что вы меня простили.
— Ото всего сердца прощаю и извиняю.
— «Прощаю п извиняю», подумалъ я... Отчего не просто прощаю?
— О чемь ты задумался?—спросила ташап.
Я не вытерпѣлъ п отвѣчалъ:
— Я думаю о томъ, ташап, зачѣмъ вы прибавили, что пе только прощаете, по и извиняете .меня. 1’азвЬ это не все равно?
Она опять улыбнулась и сказала:
— Нѣтъ, это не все равно: прошеніе дается даромъ по снисходительности того, кто прощаетъ; а извиненіе вызывается причинами, которыя заставляютъ не считать впдѵ виною. По ты, однако, очень пытливъ—это хорошее качество, оно можетъ вести къ широкому разумѣнію; но надо чтобы при этомъ пе было безпокойнаго воображенія, которое всегда ведетъ къ напраснымъ тревогамъ и ошибкамъ.
Все это для меня было чрезвычайно ново—и я съ восторгомъ чувствовалъ, что матушка вводитъ меня въ сознаніе простыхъ, по важныхъ житейскихъ истинъ, и гордился ею самою и ея умомъ. Въ самомъ дѣлѣ, каждое изъ ея словъ раскрывало передо мною въ самой малой вещи весьма сложныя идеи, объясненіе которыхъ было мнѣ чрезвычайно пріятно: я вкушалъ въ эти минуты священную сладость просвѣщенія ума и сердца. Относясь еще вчера весьма пассивно къ матушкиному проекту моихъ усиленныхъ научныхъ занятій, я теперь уже осуждалъ себя за это равнодушіе—
п теперь самь страстно желалъ учиться и учиться не для чего-нибудь корыстнаго, не для чиновъ, не для званій пли денежныхъ выгодъ, а именно для самихъ знаній, для постиганія всего того, что при незнаніи и необразованности проходитъ у человѣка незамѣченнымъ п ничтожнымъ, межъ тѣмъ какъ при глубокомъ разумѣніи жизни въ ней все такъ осмысленно, такъ послѣдовательно, причинно и условно, что .можно властвовать жизнью, а не подчиняться ей. Однимъ словомъ: затушенный, хотя какъ всегда Одержанный, разго-воръ. который я имѣлъ съ матушкою въ этотъ вечеръ, оставилъ своимъ слѣдствіемъ то, что во мнѣ вспыхнула жажда знаній—и я съ этихъ поръ безъ перерыва много лѣтъ сряду рыскалъ п шарилъ вездѣ, гдѣ надѣялся найти какое-нибудь новое знаніе.
Я не дожидался полнаго моего выздоровленія и прежде чѣмъ недовольный моими ногами докторъ разрѣшилъ мнѣ. выходить изъ моей комнаты, я доставилъ татап и Ивану Ивановичу Альтанскому случаи не разъ повторить мнѣ. тіо оба они мною очень довольны. Мое прилежаніе и быстрота, (ъ которою я одолѣвалъ самимъ мною выпрашиваемые и удвопваемые себѣ уроки, приводили и таіп т. и профессора въ удивленіе. О напоминаніяхъ учиться не бывало и рѣчи, и я уже слышалъ только одни удерживанья.
— Не спѣши, мой другъ, не спѣши,—говорилъ мнѣ, самодовольно улыбаясь, Альтапскій,—Не опережай времени. Успѣемъ: ты еще молодъ для серьезныхъ занятій.
— У тебя ноги длпнны, всего вдругъ не поднимешь,— шутп.іа на ту же тему татап.
Но я ничему этому не внималъ п погрузился въ книги и ученье какъ мышь въ кадку съ мукою, откуда выглядывалъ на сььтъ Божій робко, изрѣдка, съ застѣнчивою дикостью и большою неохотою. Притомъ же, удерживая сравненіе себя съ утонувшею въ мѵкѣ мышью, я долженъ сказать, что, найдя вкусъ и удово.іьсівіе въ занятіяхъ науками. я и наружу выглядывалъ какъ бы обсыпанная мукою мышь, и уже въ столь ранніе мои годы началъ казаться изряднымъ чудакомъ. Но буду по возможности держаться въ своемъ повѣствованіи порядка.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Выздоровѣвъ, я немедленно опретѣ.пілся на службу. по о
службѣ моей 'я но стану распространяться: это была канцелярская служба, какъ большинство службъ этого рода, то-ссть служба весьма необременительная—и для меня, какъ тля «генеральскаго родственника», даже совсѣмь легкая. (Гамъ генералъ не обращалъ на меня нп малѣйшаго вниманія. а ближайшее мое начальство (купно до столоначальника) всячески мнѣ вольготило, конечно не потому, чтобы тѣмъ хотѣли сберечь мнѣ мое время для другихъ болѣе пріятныхъ и полезныхъ занятій, а съ другою цѣлію, которой я тогда не понималъ. Чиновники, мѣряя меня на свой аршинъ, предполагали во мнѣ опаснаго конкурента на должности и потому заботились не допускать меня до ближайшаго изученія тайнъ канцелярской науки. Я обыкновенно переписывалъ каждый день на-бѣло двѣ-грп бумаги и затѣмъ всегда съ большимъ удовольствіемъ уходилъ домой, гдѣ меня ожидали добрые друзья и научныя занятія, которымъ я, какъ выше сказано, неустанно предавался съ страстнымъ увлеченіемъ, и. разумѣется, сцержалъ это въ полнѣйшемъ секретѣ оть моихъ служебныхъ товарищей, съ которыми, гпрочемъ, вообще я не имѣлъ ничего общаго кромѣ встрѣчъ въ канцеляріи.
Генералъ Левъ Яковлевичъ, въ началѣ моего служебнаго поприща, раза два оспѣ (омлялся обо мнѣ. что я дѣлаю: но потомъ такая внимательность ему, вѣроятно, надоѣла—и онъ уже болѣе никогда не интересовался моими служебными успѣхами. Мату шка эго видѣла, по зная, что мнѣ еще рано служить и что я служу, только подчиняясь моей суровой долѣ, она даже радовалась, что я пребывалъ внѣ всякихъ надеждъ на повышеніе по службѣ, но зато ничего и не заимствовалъ и не усвопвалъ себѣ пзъ той чиновничьей среды, въ которую меня довольно надолго забросила житейская волна.
Знакомствъ мы никакихъ не дѣлали, какъ потому, что жили на весьма ограниченныя средства, такъ и потому, что не чувствовали въ нихъ ни малѣйшей надобности. Пзъ дома мы выходили чрезвычайно рѣдко—и то только разъь къ генералу Льву Яковлевичу, который имѣя нѣкоторыя фамусовскія черты, требовалъ, чтобы я у него по праздникамъ обѣдалъ, чтб мнѣ, впрочемъ, всегда было сущимъ наказаніемъ. Матушку же туда довольно часто вызывала, но это тоже дѣлалось не по любви и расположенности къ ней.
а въ цѣляхъ весьма практическихъ, такъ какъ вопнствеп-ный статскій генераіь, зная, что матушка была дружественно знакома съ домомъ барона К, у котораго Левъ Яковлевичъ служилъ въ маленькомъ чинѣ, конфузился ея и прп ней не позволялъ себѣ дебетировать въ той степени, до коті-рой онъ порой доходилъ въ своей семьѣ, находясь на свободѣ безъ постороннихъ свидѣтелей. При этомъ я хочу замѣтить, что онъ однако никогда не дрался, а только шумѣлъ, гремѣлъ, стучалъ кулаками, источая потоки самой находчивой брани, называя больную жену < мокробіо-тикрй», старшую дочь «уродомъ», а свояченицу «чортовой перечницей» и другими сему подобными лестными кличками. При ъ.ашап онъ такъ не ругался!
Матушка очень тяготилась необходимостью посѣщать этотъ домъ, но, однако, не отказывалась сколько по своей добротѣ п миролюбію, столько же и потому, что считала нужнымъ удерживать эти отношенія для моей пользы. Другой долгъ, гдѣ мы бывали, быль домь А іьтанекпхъ: сюда мы ходили съ удовольствіемъ, но гораздо рѣже, потому что и профессоръ, и его дочь (романъ которой и до сихъ поръ остается неразъясненнымъ въ моихъ запискахъ) были ежедневно у насъ. Совмѣстныя занятія науками, совмѣстная за.г шейная, умная п пріятная бесѣда у камина и совмѣстный чай, а потомъ легкій ужинъ ломтемъ холоднаго мяса—были нашимъ режимомъ, въ которомъ мы сблизились и слились до неразрывнаго душевнаго согласія, взаимной привязанности и единства.
Въ этомъ тгсномъ кружкѣ намъ не нужно было никакого болѣе просторнаго міра, хотя мы отсюда часто обозрѣвали весь міръ и передвигали передъ собою его картины прп различныхъ освѣщеніяхъ. Въ характерѣ нашихъ бесѣдованій было замѣчательно то, что лица въ нашихъ разговорахъ играли относительно очень небольшую роль; мы почти никогда не говорили о но ѵо-нибудь, а всегда о че.ѵд-нп-будь—п потому разговоръ нашъ получалъ форму не осужденія, а разсужденія, и черезъ это бесѣдѣ сообщался спокойный, философскій характеръ, незамѣтно, но быст| > давшій моему уму склонность ьъ изслѣдованію и анализу.
Отправленіе ьъ каждой бесѣдѣ отъ живыхъ и часто повидимому ничтожныхъ явленій частной жизни къ вопросамъ общаго значенія—дѣлало эту бесѣду столь легкою п досту п-
ною, что я—самый младшій и невоспитанный членъ нашего кружка,—самь не замѣтилъ, какъ началъ свободно понимать все, чтб мнѣ доводилось слышать, и чувствовалъ себя въ силахъ ставить иногда болѣе пли менѣе умѣстно свое слово. Если мнѣніе мое не служило къ разъясненію вопроса, го оно нерѣдко было поводомъ къ указанію небывшаго до тѣхъ поръ на виду возраженія со стороны непросвѣщеннаго разума.
Голосъ мой въ своемъ родѣ былъ нѣчто въ родѣ голоса изъ толпы. на который всегда давался терпѣливый п разумный отвѣтъ, всегда шедшій мнь - представителю толпы— на добрую потребу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Первое что мнѣ припоминается — это бесѣда въ тотъ самый вечеръ, когда между мною и матушкою произошло сердечное примиреніе послѣ моихъ мысленныхъ противъ нея раздраженій.
Мы сидѣли въ полномъ сборѣ всѣ вчетверомъ, то-есть я, еще немножко больной и помѣщавшійся въ глубокомъ креслѣ, .моя татап, профессоръ и его дочь, которая появилась къ вечеру съ нѣсколько блѣднымъ, но твердымъ лицомъ.
Матушка, паливъ всѣмъ намъ чаю. молвила, что у нея сегодня очень радостный день, — что она сегодня сдѣлала дорогую находку или пріобрѣтеніе.
—• Развѣ вы выходи іи сегодня?—спросила ее Христя.
— Нѣтъ, не выходила: я нашла мою находку у себя дома. — Что же это такое?
.Матушка отвѣчала, что она нашла сердце своего сына и пріобрѣла его довѣріе.
Я покраснѣлъ.
— Но развѣ его сердце не всегда вамъ принадлежало?— продолжала Христя.
— Да; онъ меня любитъ и онъ былъ увіщаіъ въ моей любви, но съ сегодняшняго дня все. что мнѣ принадлежало отъ него по (пьрѣ, онъ отдалъ мнѣ по убѣжденію. Это мнѣ очень дорого — и я высоко буду цѣнить этотъ день. Это мой праздникъ.
Я покраснѣлъ еще болѣе.
— Не стыдись, пожалуйста, моеіі благодарности,—продолжала татап: — я знаю, что присутствовать на своей соб
ственной цензурѣ очень непріятно, особенно когда насъ въ глаза хвтлятъ; но я все это говорю не въ похвалу тебѣ, а просто ( гкрываю тебѣ мою высшую радость. Пріобрѣсти твою откровенность—это все, чего я могла желать и молить у Бога, и Онъ все это далъ мнѣ.
Я смутился: на душѣ моей лежала цѣлая тьма тайнъ, которыхъ я не открылъ м не рѣшился бы открыть моей матери; но эти ея слова, послуживъ мнѣ укоромъ, возбудили во мнѣ такой азартъ покаянія, что я заговорилъ:
— Нѣтъ шашап. я вамъ еще не все открылъ! II затѣмъ я началъ порывисто и страстію при всъхъ приносить подробное покаяніе во всѣхь моихъ путевыхъ проступкахъ, не умолчавъ даже о томъ, что встрѣтилъ подъ ярмарочными шатрами въ Королевцѣ женщинъ и послѣ того пе могъ помыслить: какъ я предстану матери и обниму се.
Это сдѣлалось такъ внезапно, что неприготовленные къ тому Атьтанскіе скромно потупили глаза, а Христя даже хотѣла выйти; но шашап остановила ее за руку п, склонивъ голову, внимательно и, казалось, покойно слу шала мою исповѣдь.
Когда я кончилъ и заключилъ словами:
— Маіван. прошу васъ, перемѣните обо мнѣ ваше доброе мнѣніе,—я его не стою...
Матушка помолчала минуту, а потомъ начала спокойнымъ и ровнымъ голосомъ:
— Нѣтъ, если ты открылъ все это съ тѣмъ, чтобы не возвращаться къ тому, въ чемъ ты осудилъ себя, то ты стоишь добраго мнѣнія.
— О да, піаіпап, я гнушаюсь зримъ прошлымъ!
— Поди же и обними зюня.
Эго быль такой краснорѣчивый отвѣтъ на мое сомнѣніе о правѣ обнять ее, что я ыінзлся сй на шею и, обнявъ ее, зарыдалъ.
— Перестаньте: вамъ еще вредно такъ сильно волноваться! — прозвучалъ въ это время надо мною нѣжный голосъ Хрпсти, и когда я, услыхавъ этотъ голосъ, поднялъ свое лицо, добрая дѣвушка и мать обняли маня и обѣ поочередно поцѣловати.
Эти чистые поцѣлуи были цѣленіемъ отъ моей коро-левепкой проказы—и притомъ какимъ святымъ и плодотворнымъ цѣленіемъ! Ими одинъ порокъ былъ навсегда опозоренъ передо мною и вырванъ изъ моего сердца.
— Еще, татап,- продоіжалъ я въ своемъ покаянномъ азартѣ:—я долженъ васъ предостеречь: я скрылъ отъ васъ, что мой товарищъ Пенькновскій совсѣмъ пе такой, какимъ онъ себя вамъ представилъ: онъ меня ни отъ чего не удерживалъ.
По матушка остановила, меня знакомъ и не позвошла болѣе разсказывать.
— Я все эю считала возможнымъ,— сказала она: --но твоего товарища осуждать нельзя — этотъ бѣдный молодой человѣкъ живетъ безъ добраго руководства.
— Колеблемая вѣтромъ трость,—тихо поддержалъ Аль-танскій и, вынувъ изъ кармана круглую табакерку, отошелъ съ нею къ окну, добавивъ:—панское сердечко шляхетски кровь.
— Да; къ тому же онъ имѣетъ несчастіе быть полякомъ и потому заслуживаетъ извиненія,—подсказала татап.
Помня недавній разговоръ о значеніи словъ нрвщшпъ и 'извинятъ, я тотчасъ же поспѣшилъ вдуматься: почему польское происхожденіе можетъ заставить не только прощать пороки по милости, но даже извинять ихъ по какому-то праву на снисхожденіе, и я рѣшительно недоумѣвалъ, но матушка мнѣ это тотчасъ разъяснила.
— Поляки потеряли свою самостоятельность, — продолжала она:—а выше этого несчастія пѣтъ; всѣ народы, теряя свою государственную самостоятельность, обыкновенно теряютъ доблести духа и свойства къ его возвышенію. Такъ было съ великими греками, римлянами и евреями и теперь то же самое на нашихъ глазахъ происходитъ съ поляками. Это ужасный урокъ.
— Да; сей урокъ учитъ любить свой народъ, дабы не видать сто въ униженномъ удѣлѣ побѣжденныхъ,—вмѣшался Альтанскій.
— Вы прекрасно сказали,—отозвалась мать и добавила: но мнѣ кажется, что этотъ урокъ тоже учитъ и снисхожденію, какое вызываетъ участь побѣждённыхъ?
— Да, да; тоже и этому. Гоіѣипа Ьеііі аіѣеш хіеіаь <уио-еріе сіосеі.
— Но позвольте, ш.іт. и, — заговорилъ я:—я, право, не знаю, какъ мнѣ быть; но мнѣ кажется, что я не долженъ отъ васъ скрывать, что Пенькновскій сказали мнѣ, будто они хотятъ дѣлать революцію.
Машан сдвинула брови и переспросила мена, такъ ли я ей выразился: а когда я повторилъ ей мои слова, она сухо отвѣтила, что это непремѣнно вздоръ.
— II на что имъ революція?
— Не знаю, говорю, татап: они, кажется, хотятъ сдѣлать республику.
— Республика!.. Какая можетъ бытъ республика у пустыхъ и глупыхъ людей?
— Не знаю, татап, но онъ мнѣ говорилъ, что будетъ такая республика, гдѣ король и публика.
Мать промолчала, но профессоръ, сильно зарядивъ носъ табакомъ, проговорилъ съ легкою насмѣшкою:
— Республика — гдЬ король п публика, а республикан-ція—гдѣ нѣтъ королю ваканціи.
Мнѣ показалось, что профессоръ слегка шутилъ не надъ однимъ Пенькповскшіъ, .но и надъ словами матери, которая тоже сдѣлалась съ нимъ на нѣсколько минутъ суше, чѣмъ обыкновенно, и сказала, что, обращая все въ шутку, можно довести до того, будто польская республика была не чтч иное, какъ котлета съ горошкомъ, которую скушали и ея какъ не бывало.
— Нѣтъ, доказать чго ея какъ не бывало, невозможно,— отвѣчалъ профессоръ: потому что кто ее скушалъ, тѣ отъ этого располнѣли; но можно доказать, что пустые люди, принимаясь за хорошую пдею, всегда ее роняютъ и портятъ.
Съ этимъ профессоръ простился, оставивъ матушку примиренною съ его мнѣніемъ, а меня съ открытіемъ, что и онъ, и мать моя въ Д) шѣ республиканцы и притомъ гораздо большіе, чѣмъ Пенькновскій, но совсѣмъ не такіе, какъ онъ и его заговорщики.
Я не понималъ, чтб бы такое моя мать и А.іьтанскіа могли сдѣлать для великое идеи, но былъ увѣренъ, что они бы ее ни за что «не уронили н не испортили^.
Впослѣдствіи я убѣдился, что соображенія мои вѣрны, и притомъ, изучая характеры и взгляды этихъ ліщь, я открылъ, что у матушки былп передъ профессоромъ значительныя преимущества возвышеннаго, но пылкаго духа, тогда какъ профессоръ относился ко всему съ спокойнымъ величіемъ мудреца. Эта разность въ характерахъ порождала между ними легкія столкновенія, разрѣшавшіяся чрезвычайно своеобычно. Когда матушка высказывала мысли, подобныя тѣмъ,
Сочиненія И. С. Лескова. Т. XXXII.
какія мною приведены выше по поводу разговора о Ченьк-новскомъ, профессоръ обыкновенно отходилъ съ своею табакеркою къ окну и, казалось, думалъ совсѣмъ о другомъ, но, уловивъ какое-нибудь одно слово, вдругъ подбиралъ къ ному болѣе или менѣе удачную риѳму и отзывался шутливо въ стихотворной формѣ, въ родѣ:
«Въ республиканпіп, нѣтъ королю ваканціи»
Такъ какъ онъ употреблялъ этотъ пріемъ, очевидно, съ добродушною проніею надъ всѣмъ слышаннымъ, то матушкѣ это не очень нравилось — и она, при всемъ своемъ самообладаніи въ подобныхъ случаяхъ, обнаруживала легкое раздраженіе. Вообще же, хотя шашап отзывалась объ Альтап-скомъ не иначе какъ съ величайшею похвалою, я чувствовалъ, что всѣ ея похвалы относятся только къ ея свѣтлому уму. непререкаемой честности и большимъ свѣдѣніямъ, но что въ немъ было нѣчто такое, что ей не совсѣмъ нравилось, и что если бы отъ нея зависѣло отлить человѣка въ идеальную форму, то этой формой не во всемъ послужилъ бы избранный ею мнѣ наставникъ.
Альтанскій былъ ученый бурсакъ, матушка—просвѣщенная баронесса: эта разница лежала между нимл всегда при всемъ видимомъ сходствѣ ихъ убѣжденій и при несомнѣнномъ другъ къ другу уваженіи. Старый ученый считалъ мою мать женщиною выходящею далеко вонъ пзъ ряда, но... все-таки иногда давалъ ей свои риѳмованные отвѣты, смыслъ которыхъ обозначалъ, что онъ считаетъ то пли другое ея положеніе недостойнымъ отвѣта болѣе серьезнаго.
Между тѣмъ, они были друзьями -и это меня чрезвычайно удивляло, такъ какъ я имѣлъ совсѣмъ иное понятіе о взаимномъ отношеніи дружественныхъ между собою людей.
Совсѣмъ не то установилось въ отношеніяхъ Альтанскаго ко мнѣ и въ отношеніяхъ моей мцте,ри кь Христѣ. Профессоръ, окончивъ со мною урокъ, часто и подолгу еще оставался за тѣмъ же столомъ п бесѣдовалъ со мною. Окончивъ занятія въ формѣ строго-научной, онъ давалъ мнѣ сладчайшую умственную пищу, продолжая разговоръ о томъ же предметѣ въ формѣ легкой и пріятной, всегда вызывающей на размышленія и дающей для нихъ обильную пищу. И здѣсь уже не. было никакого мѣста риѳмоплетенію, если только піаіпап не вмѣшивалась въ дѣло; но всякое болѣе пли менѣе продолжительное вмѣшательство съ ея стороны—
тотчасъ же вызывало у профессора наружу п его стихи, и его табакерку.
Машап это замѣтила—и въ противность своему обѣщанію перестала присутствовать прп нашихъ урокахъ, а потомъ предложила, чтобы я для большаго удобства Альтанскаго самъ ходилъ къ нему на домъ, что и .чнЬ самому было чрезвычайно пріятно, такъ какъ дома у себя старикъ былъ еще дружественнѣе н сообщитсльнѣс. Уроки шли долго, но мнѣ казалось, что время за ними летѣло на крыльяхъ; а бесѣды, которыми Альтанскій заключалъ эти ур<-ки, портили все расписаніе часовъ, сдѣіанное для меня матушкою. Французскому и англійскому языку оставалось очень немного часовъ, потому что почтп все вечернее время, послі. занятій съ Альтанскимъ классиками, я проводилъ у нрго, уносясь восторженными мечтаніями во времена давно минувшія. въ міръ великимъ мудрецовъ и доблестныхъ героевъ. Хрпстя въ эти самые часы обыкновенно брала свои музыкальные уроки п потомъ занималась съ ташап по-англійски, а мы съ старикомъ оставались двое въ его оригинальномъ большомъ кабинетѣ, куда не допускался никто изъ непосвященныхъ, хотя бы даже для того, чтобы обместь пыль, которая лежала на всемъ густыми слоями пли висѣла космами. Альтанскій никому не дозволялъ нарушать тотъ безпорядокъ, въ которомъ онъ одпнъ, кь неописанному моему удивленію, всегда быстра )мЬ.іъ находить все, что ему было нужно.
Я позволю собѣ, въ виду сверкающихъ сѣдинъ, еще на минѵгу завернуть въ этотъ задумчивый и пыльный кабинетъ, куда я прятался отъ людей, чтобы лучше ихъ видѣть и понимать.
Мы садились здѣсь за свои занятія часъ спустя послѣ обѣда п выходили отсюда, когда Богъ полагалъ на сердце.
Заходило солнце, спускались сумерки, восходила .іуна и серебристый свьтъ ея тихо ложился на пыльный, до полу покрытый толстымъ фризомъ и заваленный фоліантами столъ, а мы все бесѣдовали. Я гдЬ-ниб\дь сидѣлъ въ углу, а сухой старикъ ходилъ—и ровною благородною ораторскою рѣчью повѣствовалъ мнѣ о дѣяніяхъ великихъ людей Греціи, Рима п Карѳагена. II я все это слушалъ—н слушалъ часто весь дрожа и замирая отъ страстнаго волненія.
Однажды, весь взволнованный разсказомъ Альганскаго о
судѣ надъ Сократимъ и весь преисполненный гнѣва и досады, я сорвался съ мѣста и схватилъ Альтанскаго за руку, какъ бы желая его остановить, но онъ спокойно обнялъ меня своею другою рукою и увлекъ впередъ. Мы ходили обнявшись — и бесѣда не прекращаясь лилась и лилась своей чередою.
— Ты дрожишь, — сказалъ опъ въ заключеніе, обратясь ко мнѣ и впервые заговоривъ со мною на ты. — Ты дрожишь отъ негодованія на людскую несправедливость: слагай это въ своемъ сердцѣ.
— Я этого не позабуду.—отвѣчалъ я, сжимая до крови ногтями ірудь подъ сорочкой.
Старикъ остановится и, посмотрѣвъ на меня, спросилъ:
— Какого духа ты теперь исполненъ?
— Я умереть хочу за справедливость,—прошепталъ я.
— О, добрый юноша!—воскликнулъ старикъ: — справедливость покуда лишь хорошая идея, осуществленія которой въ толпѣ нѣтъ точно такъ же, какъ не можетъ ея быть у тирана. Смирись передъ этимъ—и поди въ кухпю и поставь самоваръ.
ІІ когда я пошелъ буквально исполнить то, что мнѣ сказано, старикъ уснулъ—и я засталъ его спящимъ на диванѣ, всего озареннаго янтарными лучами заходящаго солнца.
«Такъ-то миренъ закатъ твой! — подумалъ я: — каковъ-то задастся онъ мнѣ?»—и при этомъ мнѣ вдругъ чудилось, что мнѣ еще куда-то надо сбѣжать отсюда до заката; вь открытую форточку врывалась свѣжая струя и куда-то манила... Куда?.. Но я отвращался отъ этой взманы и учился, учился все больше и служилъ моему учителю все покоррѣц и смиреннѣй. Я съ какимъ-то сладкимъ раболѣпствомъ исполнялъ при немъ разныя послуги: ходилъ покупать ему нюхательнаго табаку, бѣгалъ на Подолъ за особыми булками, которыя ввечеру выносили на базаръ двѣ извѣстныя въ то время кіевскія пекарни, Поднебесная и Кера-совна, и аккуратно чистилъ клѣтку его сѣдого берДичев-скаго соловья.
Зато и самъ Альтанскій не чинился со мною — и въ то время, какъ употреблялъ меня вмѣсто отдыха на побѣгушки и ставленья самовара, онъ самъ садился къ окну и при свѣтѣ сумерекъ или при слабомъ блескѣ луны царапалъ въ моей тетради мысли, которыя хотѣлъ водворить въ душѣ
моей, чтобы поставить меня господиномъ. а не рабомъ жизни».
Успѣхи я дѣлалъ невѣроятно быстрые, но вліяніе ихъ на мрня были нѣсколько странно: я чувствовалъ себя очень слабымъ на моихъ длинныхъ ножкахъ.
Однако объ этомъ невдалекѣ рѣчь впереди.
ПІАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Отношенія шатай и Хрпсти являли дртгую картину: по моимъ замѣчаніямъ, шашап не безъ нѣкоторой горечи видѣла мое исключительное пристрастіе къ Альтанскому, но нѣжно любила его дочь. Однако, какъ онѣ ни были другъ къ другу нѣжны, казалось, что между ними нѣтъ той тѣсноты духовнаго единенія, какая образовалась у насъ съ Иваномъ Ивановичемъ. Чтобы характеризовать ихъ отношенія, я могу сказать, что матушка любила Христю, а та ее... тоже любила, но гораздо менѣе, чѣмъ уважала.
Я это замѣчали, и очень сожалѣлъ мою бѣдную шашап у которой была какая-то несчастная привилегія, при всѣхъ правахъ на всеобщую любовь, внушать людямъ всевозможныя возвышенныя чувства кромѣ одной любви. Ей безусловно вѣрили, на нее полагались, ее уважали и всѣ отъ нея ждали поступковъ самыхъ благородныхъ и прекрасныхъ, но я никогда не зналъ тѣхъ, кто бы ее беззавѣтно любилъ н (стоящею любовью туне-пріемлемою и ту не-даваемою,—единою, какъ мнѣ кажется, истинною любовью... Инѣ сдавалось, что матушка это знаетъ, —- да и могло ли это быть иначе при той проницательности, ‘ ь которою она читала въ сердцахъ людей? Я увѣренъ, что это было такъ— и этому болѣе всего приписываю ея постоянною тихую грусть, отражавшуюся въ ея взглядѣ.
Прекрасный и въ то же время мучительныя взглядъ этотъ сталъ мнѣ особенно чувствителенъ въ то время, когда между мною и Алтайскимъ началось дружеское сердечное сліяніе, — и я началъ до такой степени страдать отъ этого взгляда, что однажды, когда мы сидѣли съ шашап вдвоемъ, я вдругъ кинулся къ ней, схватилъ ее за руки—и, покрывая ихъ поцѣлуями, воскликнетъ:
— Чашан, другъ мой, отчего вы такъ грустно смотрите?
Но описаннаго мною взгляда уже какъ бы не было: ма-ѵ.шка смотрѣла на меня прямыми, добрыми и спокойными
глазами и, поправивъ мои волосы, поцѣловала меня вь лобъ и сказала:
— О, дитя мое, я совсѣмъ по грущу, я знаю, что ты меня много любишь, и я очень счастлива; но ты самъ очень много трудишься—и я прошу тебя, оставь книгу и пройдись къ Алтайскимъ: посиди съ Иваномъ Ивановичемъ — это тебя успокоитъ.
— Нѣтъ; я ни за что на свѣтѣ не. пойду отъ васъ, ша-шап, я хочу быть съ вами.
По, други мой, мнѣ нужно сходить посіцѣть веч“рокъ у твоего дяди, а какъ тебѣ тамъ нечего дѣлать, то ты - можешь съ большимъ удовольствіемъ провести это время у А.іьтаискпхъ, а йотомъ, если хочешь, можешь попозже зайти за мною.
Я хотѣлъ возражать, но матушка, закрывъ мнѣ съ улыбкою ротъ своею ладонью, поцѣловала меня въ голову и вышла въ свою комнату, чтобы надЕть шляпу. Потомъ я проводилъ ее до дому дяди, а самъ, отправясь къ Алтайскому, и не замѣтилъ, какъ время ушло за полночь, и я не поспѣлъ проводить татап.
Матушка не сдѣлала мнѣ ни малѣйшаго упрека за это; напротивъ, спросивъ: весело ли мнѣ было, и получивъ отъ меня утвердительный отвѣтъ, опа сказала, что очень рада, что я умѣю находить удовольствіе въ бесѣдахъ съ такимъ разсудительнымъ человѣкомъ, какъ старикъ Алыанскіп.
Все это у нея выходило такъ невозмутимо ровно, но во всемъ этомъ я чувствовалъ жгучія мученія ревности и святыя, беззавѣтныя уступки любви. Обо всемъ этомъ я скорбѣлъ и влекся силою неодолимаго тяготѣнія по усвоенному направленію—и не могъ восполнить потребности любви въ благородномъ и великодушнѣйшемъ сердцѣ моей матери.
Мучась тѣмъ, что я не могу полюбить ее болѣе, чѣмъ умѣю, я чувствовалъ безмѣрную радость, когда бралъ изъ рукъ почталіона и подавалъ ей въ недѣлю разъ письмо изъ Петербурга, надписанное по-русски, но высоко-нѣмецкимъ почеркомъ: я по предчувствію и по наведенію зналъ, что эти письма приходятъ отъ Филиппа Кольберга,—и мудрено было, чтобы я въ этомъ ошибался, потому что при появленіи каждаго такого письма, приходившаго съ нѣмецкою аккуратностію въ воскресный день разъ въ недѣлю, татап теряла свою внѣшнюю спокойность—и, перечитывая напп-
санное по нѣскольку разъ, погружалась въ тихое, но восторженное созерцаніе или воспоминаніе чего-то чудно-прекраснаго п... была счастлива.
Я выводить, что когда татап чувствовала себя счастливою—это значитъ, что она чувствовала себя любимою, и непремѣнно любимою возвышенно, искренно, прекрасно, однимъ словомъ—любимою гораздо болѣе, чѣмъ любили ее всѣ мы, здѣсь ее окружающіе, и я за это безмѣрно любилъ тогда неизвѣстнаго мнѣ Филиппа Кольберга.
Но, тѣмъ не менѣе, я жилъ все-таки тѣмъ же порядкомъ и не умѣлъ стать въ лучшія отношенія къ татап. Впрочемъ, мнѣ ничего иного и не оставалось, потому что матушка сама утверждала этотъ порядокъ, столь далеко отступающій отъ порядка, продиктованнаго для меня ею въ первый день моего прибытія. Я дѣлалъ усилія измѣнить это, но безуспѣшно — ибо хотя я просилъ ее возстановить именно тотъ порядокъ, который она сочинила и который пе практиковался, а съ самыхъ же первыхъ дней уступилъ мѣсто другому, но матушка рѣшительно отвергла мои представленія п отвѣчала, что это не возможно и не должно быть, потому что нынѣшній, органически возникшій порядокъ жизни ей кажется гораздо лучше п цѣлесообразнѣе.
— Къ тому же,—добавила она:—если бы ты теперь былъ болѣе со мною, а менье съ Иваномъ Ивановичемъ, то помимо того, что я не могу принести для твоего развитія той пользы, какую приноситъ онъ, но мы съ тобой поступили бы неблагодарно по отношенію къ такому достойному старику, какъ Альтанскій. п огорчили бы его.
— Какое же огорченіе, ташап! — я у него только отнимаю время.
— Нѣтъ, мое дитя, это не совсѣмъ такъ,—отвѣчала матушка: — ты Ивана Ивановича не обременяешь. Повѣрь мнѣ, что я въ этомъ кое-что понимаю: Иванъ Иванычъ это то. что въ какой-то баснѣ представлено подъ видомъ лани, которая, лиіпась своихъ дѣтей и имѣя полное вымя молока, искала какого-нпб) дь звѣреныша, чтобы онъ отдоилъ это отягощающее ее молоко,—ты для него этотъ звѣренышъ, п притомъ очень добрый, а со временемъ будешь и благодарный.
— Машап. другъ мой, но я боюсь, что вы ошибаетесь: у него и безъ меня такая бездна слушателей въ его духовной академіи.
— Это ничего не значитъ. Тамъ у него с.і)шатели, которымъ онъ говоритъ только то, чтб обязанъ говорить по требованіямъ службы; а тебя онъ учитъ, какъ внушаетъ ему его любовь къ просвѣщенію и истинѣ. Ты—счастливецъ, сынъ мой: ты имѣешь рѣдкаго образователя, трудовъ котораго нельзя оплатить никакими деньгами. Дорожи имъ и уважай его, потому что это такой честный и свободомыслящій человѣкъ, значеніе котораго ты поймешь только со временемъ.
Чтб мнѣ оставалось дѣлать, какъ не продолжать катить мою жизнь по тѣмъ колеямъ, на которыя она стала, сама собою сорвавшись съ колей, намѣченныхъ для меня матушкой.
Я такъ и дѣлалъ: я, если такъ можно выразиться, все больше и больше прилѣплялся къ моему наставнику, учился у што съ чрезвычайно быстрыми и прочными успѣхами и заправлялся въ бесѣдахъ съ нимъ пг особый ладъ, который впослѣдствіи привелъ меня къ большому разладью.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Слова матушки были справедливы: любя Альтапскаго, я въ ту пору все-таки еще не понималъ, коего духа онъ былъ человѣкъ, — это пришло ко мнѣ гораздо позже, когда его уже не стало. Въ тѣ же юные мои годы, къ которымъ относится эта часть моихъ воспоминаній, я ощущалъ одни, что онъ былъ для меня какой-то сосудъ, заключающій цѣлебную смѣсь, которую, однако, надо было пить умѣючи, потому что малѣйшее усиленіе пріема, вмѣсто пользы, покоя, здоровья, развивало во мнѣ мучительный душевный недугъ.
Легкая форма его бесѣдъ, съ тонкою критикою исторіи культуры, зароняла во мнѣ мысль, что жизнь современнаго общества, которая дѣлалась доступною моему вѣдѣнію, идетъ не по тому теченію, которое можетъ вывесть человѣчество къ идеалу. Идеалъ этотъ представляло мнѣ христіанство, которое всѣ будто бы уважаютъ, но къ которому, однако, никто сильно п искренно не стремится. Чтб это за ложь? какъ повернуть, чтобы это пошло иначе?
Альтанскій мн ѣ объ этомъ пока еще ничего не говорилъ, но я изъ наведеній заключалъ, что выплыть къ этому идеалу можно только гребя противъ уноспстаго теченія себялюбивыхъ, низменныхъ страстей.
Это—образецъ тревоги отъ бесѣдъ; но злополучная натура моя разыгрывалась такъ, что ее преисполняли тревогой даже самыя строгія запятія точными науками. Что бы я ни постигалъ, въ головѣ моей вдругъ мгновенно зарождалась безпокойная мысль: а что еслп къ этимъ уже извѣстнымъ мнѣ положеніямъ возникнетъ такое или иное неизвѣстное? II я начиналъ объ этомъ думать и на яву, и въ сновидѣніяхъ. Иныя изъ этихъ безпокойствъ занимали мрня такъ сильно, что задумчивый видъ мой. который я принимали подъ ихъ неотступнымъ давленіемъ, обращалъ на себя вниманіе матушки,—и она, вся блѣдная п встревоженная, говорила:
— Боже мой! что такое дѣлается съ тобою, дитя мое?
— Ничего, ташап,—отвѣчалъ я: —я не могу себѣ кое-чего рѣшить.
— Чего? скажи мнѣ, чтб ты хочешь себѣ рѣдшть?
Я конфузился, но большею частію открывалъ, чтб меня тревожитъ.
Это всегда былъ болѣе или менѣе вздоръ, но порою довольно оригинальныя.
Такъ, я помню, что вскорѣ же послѣ начала моихъ занятій съ Альтапскимъ, когда онъ поправлялъ мои познанія въ географіи, я впалъ въ задумчивость отъ того, что никакъ не могъ себѣ представить: какъ привести.въ соотношеніе съ дѣйствительнымъ временемъ часы въ карманѣ путешественника, если этотъ путешественникъ поѣдетъ вокругъ свѣта по дорогѣ, которую проложить прямо вдоль по равноденственной линіи? Какъ: тогда сколько ни уходи время, а все долженъ быть полдень... все двѣнадцать часовъ...
Мой черепъ ломило отъ этого цѣлый день—и я едва могъ успокоиться и позабыть эту головоломную, по тогдашнему моему состоянію, дилемму.
Позже, когда мы начали заниматься исторіею и все опять шло какъ нельзя лучше, мпѣ опять пришло въ голову:
«Ну, прекрасно, — думалъ я:—теперь, когда свѣтъ простоялъ вотъ такое-то количество лѣтъ, человѣкъ въ теченіе своей жизни можетъ изучить исторію человѣчества и передавать ее другому. Но ежели же сегодняшній моментъ жизни есть только утро существованія нашего рода и впереди стоятъ милліоны милліоновъ лѣтъ... Какая же голова въ концѣ этого долгаго вѣка будетъ въ силахъ выучить п удег>-
жать въ памяти все, чтб слупилось отъ доисторическихъ временъ? Къ чему тогда весь лѣтописный трудъ, архивы, къ чему сама исторія и жажда, знаніи, когда всего этого позднѣйшій человѣкъ не въ состояніи будетъ усвоивать? а что онъ будетъ не въ состояніи—это вѣрно и...»—опять головная боль, досада и безпокойное томленіе до полнаго упадка духа.
Наконецъ, однажды, я окончательно испугалъ мать: это случилось тотчасъ, чуть я только коснулся логики и философіи. Я опять зафантазировался—и копа матушка умоляла меня разсѣяться, я, послѣ продолжительной потери аппетита и глубочайшей сосредоточенности въ себѣ, открылся ей. что терзаюсь неотвязною мыслію: отчего всѣ умные люди не соберутся въ одно мѣсто и не устроятъ такого государства, гдЬ бы или государь философствовалъ, или же бы гдѣ философъ царствовалъ.
Выслушавъ эти слова, шатай посмотрѣла мнѣ въ глаза и сказала, что мнѣ рѣшительно надо отдохнуть отъ наукъ.
Я выразилъ недоумѣніе и замѣтилъ ей, что я не усталъ.
— Не усталъ, но у тебя слишкомъ безпокойно разыгрывается воображеніе.
— Чего же вы боитесь, татап, моего воображенія?
— Я боюсь... Да, я кое-чего боюсь.
— Но Бога ради- чего именно? скажите мнь, изъясните мнѣ вредъ моего безпокойнаго воображенія,—можетъ-быть мнѣ это поможетъ.
— Вредъ безпокойнаго воображенія заключается въ темъ, что оно создаетъ призраки и съ нимъ ничего нельзя знать основательно.
— О. вы правы, татап!
И я схьатплъ обѣими руками свою голову, и, обдекотясь на столъ, залился горькими слезами.
Матушка встревож илась.
— Какая причина твоего отчаянія?—запытала она, отнимая руки мои отъ лица.
— Магаап, вы вѣрно сказали: я никогда не буду ничего знать основательно—я это чувствую и это меня убиваетъ.
Она старалась меня успокоить тѣмъ, что знанія не даются вдругъ, а на пріобрѣтеніе пхъ нужно продолжительное время; по я не внялъ симъ утѣшеніямъ: я чуялъ правду.
— Нѣтъ, пѣтъ,—отвѣчалъ я, давяся слезами:—не утѣ-
шантс меля, шашап: я никогда этого не достигну... Высями сказали, что у згеЖя безпокойное воображеніе, и я никогда... никогда... не буду ничего понимать ясно.
II тутъ уже я такъ разрыдался, что матушка бросилась попть п брызгать меня водою, меня раздѣли п положи ди въ постель, въ которой я опомнился черезъ полтора мѣсяца, изнеможенный, блѣдный, худой, съ обритымъ теменемъ и растравленными ранами на спинѣ и на затылкѣ.
У меня было воспаленіе мозга, и я нѣсколько дней находился на краю гроба; молодая натура .моя вынесла эту опасную болѣзнь—п я послѣ кризиса очнулся, но неблагонадежны# тонкія ноги не въ силахъ были держать .моего исхудалаго тѣла и распаленная страстною жаждою знаній голова моя была не въ силахъ работать.
Я лежалъ въ постели, пользуясь безотходнымъ вниманіемъ матери и Хрпсги, которыя поочередно не оставляли меня ни на минуту,—и въ это-то время, освобожденный отъ всякихъ стороннихъ думъ и заботъ, я имѣлъ полную возможность анализировать взаимныя отношенія этпхъ дв’ хъ женщинъ и уяснить себѣ Христинъ романъ, на который натолкнулся въ первое время моего пріѣзда и о которомъ позабылъ въ жару разсказа о своихъ ученыхъ успѣхахъ.
Теперь время это поправить и разсказать кстати о дѣятельности моего интереснаго пріятеля, пана Пенькновскаго, съ которымъ тоже этою порою стряслись немалыя бѣды.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
Я начну не по порядку, то-есть съ Пенькновскаго.
Напоминаю читателю, что мы въ пос.тіднігі разъ видѣли этого находчиваго юнопг на улицѣ, тотчасъ послѣ того, какъ извѣстный ему дворянскій засѣдатель, пожертвовавъ сто рублей, хотѣлъ быть королемъ публики и потрясенный этимъ открытіямъ Пены.новскій возымѣлъ намѣреніе поцѣловать Христю Альтанскую, а потомъ напиться глинтвейну.
Съ тѣхъ пиръ ІІенькновскіп бывалъ у пасъ нерѣдко; но я, при своихъ постоянныхъ увлеченіяхъ то романами, то ученостію, рѣшительно не могу дать отчета: какъ онъ появился въ нашемъ домѣ, несмотря на то, что оставался при убѣжденіи, бѵдто онъ предлагалъ поцѣлуй шашап. Кажется мнѣ, однако, что шашап сама облегчила ему его затруднительное положепіе: дѣлая однажды свою послѣобѣден-
пую прогулку вблизи дома, (-на встрѣппа Пенькновскаго, и попенявъ ему, что онъ насъ позабылъ, зазвала его напиться чаю. Мнѣ помнится, будто онъ разсказывалъ что-то въ этомъ родѣ, но навѣрное помню только то, что однажды мы съ Иваномъ Ивановичемъ, окончивъ свои занятія, пришли вмѣстѣ къ намъ и, снимая въ сѣняхъ калоши, услыхали чей-то громкій голосъ. Альтанскій, который терпѣть не могъ встрѣчи съ новыми людьми, хотѣлъ-было сейчасъ же уйти, но, къ счастью, я, прислушавшись, узналъ голосъ Пенькновскаго, и мы вошли.
Когда я отворилъ дверь, Пенькновскій стоялъ посреди комнаты и старался въ одномъ лицѣ изображать нѣсколько лицъ, соединенныхъ въ одной общей сценѣ.
Онъ помѣщался спиною къ щерп, въ которпо взошли мы, и, обращаясь къ сидѣвшимъ на диванѣ матушкѣ п Христѣ, говорилъ:
— Вотъ такъ, смотрите: отецъ шелъ вотъ такъ по той дорожкѣ, а Е... вотъ такъ по этой... Тутъ они встрѣтились, поговорили, п Б... его взялъ за усы и повелъ... Вотъ по аллеѣ, вотъ точно такимъ образомъ.
При этомъ Пенькновскій взялъ себя лѣвою р\кою за губу- и подвигая передъ собою впередъ эту руку, тянулся за нею какъ бы нехотя по комнатѣ.
— Вотъ,—картавилъ онъ по ирпчннь зажатой въ рукѣ губы:—вотъ какъ онъ велъ: но тутъ мои отецъ вдругъ вотъ такъ...
Пенькновскій освободилъ губу, поцѣловалъ свою руку и весело расхохотался.
Христя тоже смѣялась, но ташап казалась смущенною п, ничего пе отвѣтивъ, заговорила о чемъ-то съ Альтан-скнмъ. Еи, кажется, очень не хотѣлось, чтобы Пенькновскій продолжалъ свой разсказъ, и тѣмъ болѣе, чтобы онъ повторялъ его при Альтанскомъ: но мой другъ былъ не изъ таковскихъ, чтобы его удержать,—п чуть только я успѣлъ ому замѣтить, что давно ого не вида.іь, какъ онъ сейчасъ же захохоталъ и понесъ:
— Когда тутъ, любезный другъ, видѣться! Я вотъ сейчасъ только разсказывалъ, чтб съ нами было...
Машап встала и вышла въ свою спальню, а Пенькновскій весело продолжалъ:
— Ты, вѣдь, помнишь, о чемъ я тебя просилъ никому не сказывать?
— Помню.
— Ну, такъ это теперь болѣе не секретъ, потому что съ такпмп негодяями, какъ дворянскій засѣдатель, ничего нельзя дѣлать. Ты помнишь, что снъ за свои сто рублей хотѣлъ быть королемъ?
— Помню.
— Вообрази же. что онъ, мерзавецъ, выдумалъ: пользуясь тѣмъ, что онъ имѣетъ деревню, онъ составилъ противъ насъ аристократическую партію, чтобы осмѣять отца,— и когда мои отецъ выходить изъ костела, ихъ нѣсколько человѣкъ подскочили къ жандарму, который зоветъ экипажи, и говорятъ:—«Зови Войницкаго кочь!»—это засѣдателя. Тотъ позваль, а они опя.ы — «Зови пана Кошута калоши!»—Тотъ, разумѣется, и пси дтъ во всю глотку орать: «пана Кошута калошп под-д-да-2 ва-а-ай,» а отецъ соскочилъ съ крыльца да хлопъ засѣдателя въ морду. А тотъ къ полицеймейстеру и разсказалъ, чго мой отецъ похожъ на Кошута, а полицеймейстеръ Б..., а Б... встрѣтилъ отца на гуляньи въ саду, взялъ рукой вотъ такъ за усы: «пане Кошутъ, говоритъ, чтб это у васъ такое? - а отецъ мои—онъ ужасно какой находчивый —онъ нимало не смѣнился и говоритъ: «Это вата», а тотъ его прямо за усы и повелъ передъ всей публикой по аллеѣ.
— Будто такъ прямо за усы и повелъ?—переспросить удивленный Альтанскіп.
— Честное слово вамь даю, совершенно взялъ вотъ такъ за усы, но отецъ его въ руку...
-- УкуСИЛЪ ПЛИ ПЛІОН'.ІЪ?
— Поцѣловалъ!—съ гордостью воскликнулъ Пенькновскій.
Альтанс-гйй отошелъ къ окну и громко щелкнулъ по табакеркѣ.
— О, онъ ужасно находчивъ: онъ поставилъ Б... въ самое мудреное положеніе—тотъ его сейчасъ и выпустилъ.
— Вашъ отецъ молодецъ,—протянулъ Альтанскіп и забурчалъ: «нашъ отецъ, молодецъ, сѣлъ въ конецъ, взялъ ларецъэ, п вдругъ, повернувшись лицомъ, добавитъ: «прощайте».
Съ этимъ онъ всѣмъ намъ подалъ руку п торопливо, и наскоро, кромѣ одного Пенькновскаго, руку котораго онъ пожалъ теплѣе и съ видимымъ участіемъ. II странное дѣло: это участіе, которое, разумѣется, не скрылось отъ взошед
шей къ минуту прощанія шашап, было какъ бы поводомъ къ тому, что она влругъ сдѣлалась гораздо суше въ обращеніи съ Пенькновскимъ іт во все остальное время, пока онъ тутъ вертѣлся, даже избѣгала вести съ пимъ разговоръ.
Таковы были эти два липа: моя мать и Альтанскій, на которыхъ я смотрьль, какъ на образцы. Пмѣя однѣ и тѣ же симпатіи и антипатіи, они, однако, ни въ чемъ не могли сойтись, какъ скоро доходило до дѣла, и при горячей любви другъ къ другу и взаимномъ уваженія къ однимъ и тѣмъ же принципамъ и идеямъ, они отврашалпсь отъ всякаго взаимодѣйствія въ духѣ этихъ идей.
Мать моя не одна была возмущена тѣмъ, что Б. провелъ за усы кіевскаго Кошута —Альтанскому это было еще болѣе противно: но какъ матушка этимъ возмущалась, то Альтанскій скрывалъ свое негсщвапіе и риомовалъ «отецъ молодецъ. наконецъ и ларецъ». Съ другой стороны, матушка, презирая ничтожный польскій характеръ, отразившійся, между прочимъ, въ поступкахъ стараго Пенькновскаго, всегда считала обязанностью относиться къ полякамъ съ безконечною снисходительностію, «какъ къ жалкому народу, потерявшему національную самостоятельность», что, по ея мнѣнію, влекло за собою и потерю лучшихъ духовныхъ доблестей; но чуть только Альтанскій, питавшій тѣ же самыя чувства, но скрывавшій ихъ, далъ волю своему великодушію и съ состраданіемъ пожалъ руку молодому Пенькновскому, который кичился позоромъ своего отца,—матери это стало противно, и она не могла скрывать своего презрѣнія къ молодому Кошуту.
Христя, когда мы съ нею были одни, часто смѣялась надъ этою страстью нашихъ стариковъ протворѣчить другъ ДРУГУ-
Впрочемъ, и мы съ Христю были въ нѣкоторомъ смыслѣ то же самое, что ея отецъ съ моею матерью: я дружески полюбилъ ее съ первой же встрѣчп съ пею и очень высоко чтилъ ее, но мы не сходились тѣснѣе, чѣмъ мною описано. Эта малороссійская дѣвушка, съ характеромъ глубокимъ, с ильнымъ и сосредоточеннымъ, была со мной очень ласкова и, какъ вѣроятно читатели помнятъ, она даже сама предложила мнѣ свою дружбу; но я пользовался ея дружелюбіемъ, а никакими правами дружбы отъ нея не пользовался— и это незамѣтно, но скоро меня отъ нея отодвинуло. Мы съ
нею встрѣчались всегда искренно и даже съ радостью—и говорили обо всемъ, кромѣ того, о чемъ мнѣ сначала очень бы хотѣлось съ нею поговорить, то-есть о ней самой и о ея іюбвл къ Сержу. Но этого никогда не случалось.—сначала я нр смѣлъ къ этому приблизиться, а потомъ у меня явилось опытное заключеніе, что Христя, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, о которыхъ говорила моя мать и которыя я самъ признавалъ въ ней, была страшно горда и ни подъ какимъ виломъ никому не позволила бы прикоснуться къ ея горю. Въ этомъ заключалась разъединявшая насъ разница: я любить высказаться и искалъ сочувствія: она любила молчать и ничьего сочувствія не требовала. Та откровенность, которую я могъ замѣтить у нея въ отношеніи къ татап въ первые дни моеро пріѣзда, была короткимъ, временнымъ явленіемъ, вызваннымъ роковымъ значеніемъ тогдашней критической минуты,—но и то это была не откровенность. а совсѣмъ другое. Рѣшась по особымъ, достойнымъ вниманія причинамъ разорвать свою условленную свадьбу съ Сержемъ, Христя искала въ татап даже не повѣрки свопхь мыслей, а орудія; но разъ что она. терзаясь и мучась, какъ я описалъ, все это исполни та. въ обхожденіи ея съ татап произошла быстрая перемѣна: Христя безцеремонно замкнѵлась въ самой себѣ. Было время, было нѣсколько такихъ дней, когда мнѣ казалось, что Христя даже избѣгала свиданіи съ матушкой и переносила ихъ съ большими для себя принужденіемъ: татап, несомнѣнно, это замѣчала и казалась огорченною. Однакоже, это прошло — и у моей постели обѣ онѣ снова между собою сблизились. ѢІе знаю, было ли у нихъ какое-нибудь объясненіе, п) я засталъ между ними полнѣйшую Ьоппе іпіеііідепсе, хотя мой ілазъ. ши. вѣрнѣе сказать, мое чувство, пріученное ужо во всемъ вщѣть недостатокъ гармоніи, открывало мнѣ и здѣсь что-то не то, что бы мнѣ хотѣлось видѣть въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Мнѣ сдавалось, что Христя позволяла себя ласкать шатай и сама была съ нею ласкова —не по потребности сердца, а только какъ бы изъ снисхожденія къ обычаю п потому что это ей ничему не мѣшало.
Скоро явилась возможность убѣдиться, что я не ошибаюсь на этотъ счетъ и я запишу здѣсь открытія, какія являлъ мнѣ сложный характеръ этой дѣвушкй, втихомолку разыгравшей свой страстный романъ въ то время, когда всѣ
мы считали сто безвозвратно поконченнымъ й даже позабытымъ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
Много ли, мало ли прошло съ тѣхъ поръ, какъ я былъ свидѣтелемъ разлуки Христи съ Сержемъ, но у насъ въ домѣ никогда не говорили объ этомъ человѣкѣ и я ни разу не слыхалъ, чтобы сама Христя произносила его имя. Прошелъ годъ и половина другого, какъ вдругъ я однажды неожиданно услыхалъ въ канцеляріи, что племянникъ моего генерала жешпся на одной очень бога гой дѣвушкѣ изъ довольно знатной фамилія.
Меня это заинтересовало, и я, пустясь въ разспросы, узналъ, что предполагаемая невѣста Сержа считается очень высокою и даже лестною для него партіею, котброп этотъ молодецъ ни за что бы не сдѣлали, если бы въ устройствѣ этого брака не принимало участіе самое высшее лицо въ городѣ, имѣвшее особое попеченіе о матери Сержа. Все это я не преминулъ, возвратясь домой, сообщить моей матушкѣ и бы гь не .мало у щвленъ, что она выслушала мое донесеніе какъ вѣсть непріятную, по давно еіі извѣстную; она сдвинула съ неудовольствіемъ брови и сказала:
— Только будь, сдѣлай милость, остороженъ п не говори объ этомъ нч одного слова при Христѣ.
Машап, однако, сдѣлалась очень озабочена: вечеромъ этого дня она куда-то ходила и не возвращалась довольно долго, такъ что пришедшая оезъ нея Христя не дождалась ея. Мы пили съ Хрпстей чай двое и напрасно искали нашего серебрянаго сливочника и сухарницы, которыя стояли на горкѣ, но которыхъ теперь тамъ не было. Затѣмъ Христя такъ и ушла, пе дождавшись татап, а татап, возвратясь около одиннадцати часовъ, показалась мнѣ еще болѣе взволнованною и сказала:
— Знаешь, сынъ мой, мнѣ псооходимо съѣздить по нашимъ дѣламъ въ Одессу.
— Надолго, ташап?
—• Нѣтъ, недѣли на двѣ, или на три, во мнѣ немножко нездоровится, и я боюсь ѣхать одна, а тебя мн і> жаль отрывать отъ твоихъ занятій; я хочу просить Хрпстю: вѣрно она не откажется со мной прокатиться.
— Да. я думаю, что она не откажется, -отвѣчалъ я:—она васъ здѣсь ждала, и мы съ нею пили чаи.
— Ахъ, вы уже пили чай!..
— Да, пили: но только никакъ не могли найти сливочника и сухарницы. Гдѣ вы тамъ ихъ поставили?
Машап какъ будто немножко смѣшаласьи, отвѣтивъ скорой шоркою:
-— Все равно: они отыщутся,—поцѣловала меня въ лобъ и ушла въ свою комнату.
Я не сомнѣвался, что она пишетъ письмо къ Филиппу Кольбергу—и по обыкновенію заснулъ прежде, чѣмь у нея погасъ огонь. Утромъ я подучилъ для отправленія письмо, надписанное тому. кому я догадывался.
Все время, приведенное мною въ этотт. день на службѣ, я продумалъ объ этомъ моемь знакомомъ незнакомцѣ, объ этомъ Филиппѣ Кольбергѣ, безъ огчеід которому моя шатай н- проводила ни одного дня и регулярно полу чаемыя письма котораго всегда брала трепещущею рукою и читала по нѣсколько разъ съ глубокимъ и страстнымъ вниманіемъ, а иногда даже и со слезами на своихъ прекрасныхъ глазахъ. Характеръ этихъ отношеній никогда не переставалъ интересовать меня, а въ этотъ день я былъ почему-то особенно ими занятъ и въ гакомъ настроеніи прямо со службы зашель къ Альтанскимь. Христя была ѵ»ма одна и шила.
Мнѣ она съ перваго взгляда показалась очень спокойною и іаже веселою, но чуть я полюбопыіствова.іь: знаегь ли она, что шашап хочеть просить ее съѣздить съ нею въ Одессу, въ ней произошла самая непріятная перемѣна: она двинула своими прямыми бровями и рѣзко отвѣтила:
— Да. я это знаю: Катерина Васильевна уже приходила ко мнѣ съ этимъ великодушнымъ предложеніемъ.
— Что же: вы. конечно, ѣдете? •
Но Хрпетя вдругъ вся вспыхнула отъ этого невиннаго вопроса и проговорила:
Съ какой же .но стати?.. Напротивъ, я вовсе не Ѣду: па мнѣ еще не лежитъ крѣпостной обязанности исполнять все. что нравится вашей шашап.
Этотъ топъ н грубая форма отвѣта до того смутили меня, что я началъ извиняться за мой вопросъ и потомъ не і вер іо проговорилъ:
— Повѣрьте. Христя, шашап, вѣроятно, никакъ не ду-Сочіінеиія Н. С. Лѣскпва. Т- XXXII. •
мала. васъ огорчить этимъ предложеніемъ: я думаю, что ей только хотѣлось соединить своо удовольствіе съ удовольствіемъ, которое эта поѣздка могла принести вамъ... Вы со извините: она добрая.
— Очень добрая, только обо вспмъ у Филиппа Кольберга спрашивается,- перебила Христя съ тѣмъ же худо-сдержп васмымъ азартомъ.
Это имя прозвучало для моего слуха какимъ-то страшнымъ глаголомъ и мучительно отозвалась въ моемъ сердцѣ: я хотѣлъ броситься на Христю... и но знаю, что сдѣлать съ нею, но потомъ сдержалъ себя и только взілянулъ на нее съ укоризною. Христя, конечно, поняла мое состояніе п поспѣшила поправити я.
•— У Катерины Васильевны самое главное дѣло во всемъ гномъ поступить великодушно и написать объ этомъ Филиппу Кольбергу.
Я молчалъ п нетерпѣливо мялъ вт рукахъ мою фуражку.
Христя продолжала тономъ, который зазвучалъ еще мягче:
— Вы развѣ не знаете, что все, чтб дѣлается съ людьми, которые имѣютъ счастіе пользоваться какимъ-нибудь вниманіемъ вашей татап, должно быть во всѣхъ подробностяхъ извѣстно какому-го господину Филиппу Кольбѳрру? Вы его знаніе?
— Не знаю.
-— И я не знаю; а между тѣмъ опъ есть, онъ существуетъ—іі править и вами, и мною.
— Я знаю только то, что моя мать въ перепискѣ съ человѣкомъ, носящимъ имя, которое вы сейчасъ назвали... но чтб мнѣ за дѣло до того, о чемъ эта лереимска? Я моей матери не судья.
— О. Боже! Да ее не въ чемъ и судить!.. Успокойте»», другъ мой: я понимаю, что я говорю съ сыномъ о матери! И пдтому-то я такъ и говорю, что я знаю, что Катерина Васильевна не можетъ быть судима: она превыше всякаго человѣческаго суда, но...
Христя развела руками п, вздохнувъ, добавила’
— Но не слушайте меня пожалуйста., я говорю вздоръ, потому что мнѣ тяжело.
— Что же васъ тяготить?
Христя пожала плечами и, вновь схвативъ свою, на минуту отброшенную работу, тихо уронила:
— Талъ... сама не знаю... Людямъ, пока они живы, тяжко съ ангелами.
П она. прилегши лицомъ кт. шитью, начала откусывать нитку, а сама плакала и горѣла.
Я глядѣлъ на нее и пересталъ сердиться.
— Что же.—думалось мнѣ:—она говоритъ то самое, что не разъ претивъ воли вертѣлось въ моей сюбствопной головѣ: моя татап превосходная женщина, но она такъ высока и благородна» что ст. нею именно тяжело—стоять рядомъ.
— Ея превосходство какъ-то давитъ меня.—проговорила въ это время, славно иодслуіпавь мою мысль. Христя.
Я встрепенулся.
— Меня, меня, одну меня'. —повторила съ удареніемъ, стянувъ узелокъ Христя, —Это не можетъ касаться никого другого, кромѣ меня, потому что я... презлая и прескверная.
(Дна вздрогнула и замолчала.
— Машап вовсе вась не считаетъ такою и очень васъ любитъ. Христя.
— Знаю.
— II потом1 она къ вамд> участлива, можеть-быть, болѣе, чѣмъ вы хотите.
— Знаю, все знаю, и я совсѣмъ не участіемъ тягощусь: оно мнѣ дорого, и я люблю ее... но...
— Въ чемъ же тѣло?
Христя вся вспыхнула и, быстро сбросивъ на полъ работу, вскочила съ мѣста — и. ставъ посреди комнаты, закрыла глаза, не ладонями, а пульсами рукъ, какъ ото дѣлаютъ плача простонародныя малороссійскія дѣвушки.
— Все тѣло въ томъ,—воскликнула она: чго я люблю, люблю безъ разума, безъ памяти люблю!..
Этп слова были вмѣстѣ вопль, стонъ и негодованіе души, пе одолѣвающей силы своей страсти.
— АЬеня надо не жалѣть, а... прок.іясть меня! — заключила она, терну въ себя за волосы, и упала головою въ уголъ крес іа.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Я, разумѣется, понявъ, что рѣчь, сдѣлавъ такой рикошатъ -противъ воли автора, касается не любви Христи къ моей ташап, а чувствъ ея къ другому лицу, сказалъ:
— Христя! милая Хрпетя!.. прошу васъ—успокойтесь! Можетъ-быть, все устроятся.
Съ этимъ я подалъ ей воды, которой она выпила нѣсколько глотковъ, и, возвративъ мнѣ стаканъ, поникла головою на руку и, крѣпко почесавъ лобъ, проговорила:
— Ничто не можетъ устроиться: я сама все разстроила.
— Зачѣмъ же вы разстроили?
— Такъ было надо: ваша піаіпап все-шаетъ. Такъ было надо... и я о томъ не жалѣю; но когда мнѣ по нотамъ расписываютъ: какъ это надо терпѣть.— въ М‘ ня входитъ бѣсъ, и я ненавижу всѣхъ, кто Можетъ ТО, чего я не могу... Это низко, но что съ этимъ дѣлать, когда я не могу! Я имъ завидую, чго они дошли до того, что (цинь пишетъ: «С1пае<1і"о Егап», а другая утѣшаясь, отвѣчаетъ: Ісѣ веііе, 8іе ѢаЬеп вісіі іи Міеііі эеііг ѵеіѣоіікоіппіеі».
Хрштя произнесла обѣ эти нѣмецкія фразы съ напыщенною декламаціею, съ какою говоря! ь нѣмецкіе пасторы и актеры, и, нстерпіливо топнувъ ногой, докончила:
А я родомъ не така! Да, я не такая, я этого не могу: я оторвала отъ серща все, что могла оторвать: а что не могу, такь не могу. Отказаться молше, а перестать любить нельзя, когда любиті я.
— Эю правда.
—- Ага! вотъ то-то и есть, что правда! А любишь, гакъ никакъ себя и по усмиришь.
— Да и не усмиряйте.
— Да я и пе стану. (>, вы мнѣ повѣрьте! — добавила Христя, неожиданно улыбнувшись и протягивая мий руку: — вы непремѣнно будете несчастный человѣкъ, да чго же!--эго и прекрасно.
Я разсмѣялся.
— Да такъ - продолжала Христя.—Да и о чемъ хлопотать: все равно и онп несча< іяы. Онп прекрасные люди, только немножко трусы: ямъ все Епѵіщііп" снится, а все это вздоръ; мы будемъ смѣлѣе и пусть нлеь не уважаютъ. Не правда ли? Если мы нпкому не дѣлаемъ зла, пусть насъ пе уважаютъ, а мы все будемъ- любить то, что любили. Такъ или нѣтъ?
— Право, Христя, не знаю.
Вздоръ; убе.й меня Вотъ, -шаетъ! отнеслась она безлично съ веселыми, вверхъ устремленными глазами, которые
Вслѣдъ за тЬмь быстро впарила въ мой взглядъ и съ комическою настойчивостью произнесла:
— Ьііез тоі іоиі се дие ѵои8 аішех.
— Тоиі 1е шопсіе.—отвѣчали я.
— Ну, а я этотъ іоиі 1е іпопсіе терпѣть не могу: лживый, гнусный, лицемѣрный — ни во что не вѣритъ, и все притворяется... Фуй, гадость! Я люблю, знаешь, кого?
Я кивнулъ головой.
— Да,—отвѣчала на этотъ знакъ Христя:—я его люблю,— очень, очень люблю: а онъ скверный человѣкъ, пе хорошій, чепур'ной, ему деньги нужны, онъ за деньги п женится, но со мною бы никогда не былъ счастливъ, потому что я простая. бѣдная... Да. да, да... онъ только не зналъ, какъ отъ меня отвязаться... Что же, я ему помогла!
— Я это знаю, какъ вы сдѣлали.
— Знаешь?!
— Да.
Я разсказалъ ей, какъ ппдемогрктъ и подслушалъ сл разговоръ съ Сержемъ.
— Ну, да,—отвѣчала она спокойно: я все ем\ соврала на себя. Никого я кромѣ его не люблю, но это гакъ нужно, пусть его с. вѣсти полегчаетъ. Ему н* жно... Онъ не можетъ не жить паномъ—и пусть живетъ: пусть его всѣ ро тые за это хвалятъ, что онъ меня бр-чилъ. V они вругь, бо онь меня не броситъ: бо я хороша, я честная женщина, а его невѣста поганая, дрянная, злая... тпфу! Онъ не ее, а меня любитъ: да, меня, меня, и я это знаю, и хоть онъ какой ни будь, а я все-таки ого люблю, и но. могу не любить, и буду любить. II что мнѣ. до всякаго Тпфу!.. я
надъ собой вольна, и что хочу, то и сдѣлаю.
Я несмѣло спросилъ: что такое она хочетъ сдѣлать? По Христя молча улыбнулась и. сдѣлавъ гримаску, сказала:
— Вотъ я яка!..
Она обращалась со мною странно: впо.товпн\ какъ съ ребенкомъ. лепету котораго не придаютъ большого значенія; вполовину какъ съ другомъ, отъ котораго ждала сочувствія и отзыва.
Эта откровенность послѣ' пасмурной рѣчи, которою начался нашъ разговоръ, увлекала меня за Хрпстею въ ея внутренній міръ, гдѣ она жила теперь вольная, свободная
и чѣліъ-то тамъ поли-» счастливая, чго а не могъ попять этого счастья.
Полно же; слышите вы: годи налъ журитися пусть лихо смѣется!.. Онб женится... онъ женится.—повторила она какъ бы съ угрозой) и, стукнувъ рукою, добавила: а ко мнѣ вернется.
Этотъ вѣчно памятный мяѣ разговоръ съ Хрпстед, ко-торыіі опа вела со мігно подъ тягостнѣйшими впечатлѣніями своей неласковой доли и притомъ незадолго до катастрофы, которро пророчески иазнаменовала себѣ, произвелъ на меня такое сильное віи-чаглѣпіе, что когда я пришелъ домой, матушка, сіц ѣвшая за писаніемъ, взглянувъ на меня, спросила:
— ТЫ ВИДѢЛЪ ХрИСТЮ?
Да, шатай.
Что съ пею/
- Кажется, ничего.
Машап вздохнула, хрустнула топкими на..ьцамп своихъ рукъ и приказала подавать мнѣ обѣдать, сама не сѣла за столъ, но продолжала писать.
«Конечно, къ Филиппу Кольбсргу,- подумалъ я, вперйые сидя одинъ за обѣденнымъ столомъ.- Вѣрно Христя съ матушкою говорила еще откровеннѣе, чѣмъ со мной,—и вотъ эта теперь все описываетъ. Чтб это, въ самомъ дѣлѣ, за странная переписка?»
Я уже въ глубинѣ души словно смѣялся надъ этою шрейнскою—и, получивъ на, другой день конвертъ со знакомою надписью, подумалъ. что если въ самомъ дѣлѣ матушка заботится о томъ, чтобы всѣхъ, кого она любитъ, воспитывать и укрѣплять въ своемъ духѣ, то она едва ли въ этомъ успѣваетъ. По крайней мѣрѣ, Христя серьезно ш га бунтомъ противъ ея морали, да и я чувствовалъ, что я... тоже склоненъ взбунтоваться.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.
Такъ какъ Христя рѣшительно отказалась ѣхать въ Одессу, то и матушка туда не поѣхала—и нашъ серебряный молочникъ съ сухарницею, отправлявшіеся гостить къ занимавшемуся ростомъ помощнику письмоводителя рекрутскаго присутствія, черезъ мѣсяцъ возвратились назадъ; а къ Ьтому времени подоспѣла и свадьба Сержа, которой шапіЗ’іі, кащется, совершенно напрасно опаса іась для Хрпстп.
Э а мудреная дѣвушка болѣе уже не впадала въ такую раздражительность, какую я описалъ въ предшествовавшей главѣ. Напротивъ, Христя вела себя чрезвычайно ровно и даже казалась очень спокойною, но только она, какъ-б"іто, бѣжала изъ своего дома и все старалась оставаться какъ можно болѣе у насъ.
Матап, разумѣется, была съ пей въ крайней степени предупредительна и ласкова—и въ это время сдѣлала шагъ къ инымъ отношеніямъ со мною. Однажды, когда Христя ушла съ отцомъ домой, ташап сказала мнѣ:
Ты уже въ такихъ лѣтахъ, дитя мое, что я тебѣ разсказать исторію нашей бѣдной Христи. Опа превосходная, благороднѣйшая и очень гордая дѣвушка.
— Я это знаю, татап.
— Да: она когда-то, до твоего пріѣзда, часто бывала у твоего дяди и тамъ встрѣчалась съ Сержемъ. Ты видишь, что она почти красавица,—и Сержъ не мотъ ее не замѣтить...
Еще бы, татап!
Да, онъ оцѣнилъ ея достоинства и полюбилъ со.
Я все это знаю, -ташап.
— Знаешь? Ну, прекрасно! Но этотъ бракъ не могъ состояться, потому что и мать Сержа, и твой дядя желали ему другой партіи, которую онъ теперь и дѣлаетъ. Это такъ выходило нужно іш ихъ соображенію.
Да,—отвѣчалъ я:—имъ нужно взять богатую невѣсту и породниться съ большими домами.
— Маяеой’Ъ-бы’вь; но я должна сказать, что Сержъ былъ довольно благороденъ и онъ не хотѣлъ этого брака, а уступилъ только настояніямъ и обстоятельствамъ...
— То-есть это такъ, татап, что Христя сама «то обманула.
АІапіап взглянула на меня сь удивленіемъ и послѣ маленькой паузы отвѣчала:
- Да; но ты, однако, знаешь болѣе, чѣмъ я предполай гала. Христя поступила возвышенно, великодушно п благоразумно, потому что матъ Сержа считала бы бракъ сына съ нею семейнымъ несчастіемъ... У нихъ запуганы д Ста и его мать... она черезъ это лишилась бы возможности поправитъ іп ъ разстроенныя дѣла.
IІо позвольте, шатая, вѣдь это низко?
-— Да, мое дитя, это не высоко; но зато Христя поступила очень благоразумно и великодушно, что отказалась отъ Сержа.
— Почему, шашап? онъ се любитъ.
— Потому что у него натура похожа па придорожную землю въ притчѣ: онъ ее любитъ, и теперь онъ ее можетъ любить какъ недосягаемое и Прекрасное; но если бы она была его, онъ началъ бы сожалѣй, о выгодамъ, пріобрѣтаемыхъ его нынѣшней женитьбой.
Такъ онъ пустой человѣкъ?
•— Да: онъ ея не стоилъ.
— Но она не перестаетъ и не перестанетъ его любить.
Матап опять пріостановилась и, сіцс болѣе удивляясь, сказала:
— Мой сынъ! но откуда тебі. это все извѣстно?
— Отъ самой Христя, шашап.
— Отъ самой Хрпсти? Я і мала, что ты такъ проницателенъ, и хотѣла сказать, что ты. можетъ-быть, ошибаешься, но если Хрпетя тебѣ сама сказала...
— Да: она мнѣ это сказала.
Ну, въ такомъ случаѣ ты знаешь гораздо болѣе, чѣмъ я, отозвалась шашап, и она мнѣ показалась въ эту минуту чрезвычайно жалкою, какъ-будто для нея въ жизни все кончено, и она отрѣшена отъ нея. Такъ она была чутка и такъ немного надо было, чтобы причинять еп чувствительнѣйшія раны.
Тутъ вскорі. была («ржева свадьба, на которой шашап не была по причинѣ ея весьма основательной болѣзни: но, однако, мы объ этой свадьбѣ имѣли самыя подробныя свѣдѣнія отъ друга моего Пенькновскаго: онъ попалъ туда какъ-то въ качествѣ ловкаго танцора и оказался большимъ наблюдателемъ, а также талантливымъ и притомъ весьма правдивымъ разсказчикомъ. Принесенный имъ къ намъ отчетъ былъ такъ полонъ, что мы знали г.се, начиная от ь мелочей столоваго меню до путешествія Пенькновскаго подъ столь, что случилось съ нимъ, будто бы въ жару танцевъ п не по его, конечно, волѣ, а потому что онъ разлетался п у него лопнула штрипка и онъ упалъ. О женпхѣ и невѣстѣ онъ не говорилъ нп слова и это было очень удобно: Христя, слушавшая разсказъ Пенькновскаго о его паденіи подъ столъ, помирала со смѣха, точно всс это было не па
Сержевой свадьбѣ. Такъ все это прекрасно разыгрывалось, что лучше и желать было невозможно. Молодые уѣхали въ деревню. потомъ переѣхали въ городъ и сновгі откочевали на лѣто въ деревню, и опять появились на зиму въ городъ. Ушли два года, въ теченіе которыхъ утекло не мало во щі: Христя постарѣла, пожелтѣла и поблекла; ѵ меня вокругъ всего лица засѣлъ мягкій, но густой іупіокъ, довольно красиво оттѣнявшій мои смуглыя щеки: а кто болѣе В'ѣхь и выгоднѣе всѣхъ измѣнился вт эти года, такъ лго Пепькнов-скій: онъ сталъ аглетъ и красавецъ, пріобрѣлъ йебѣ мвсоу знакомствъ и усвоилъ большую обходительность. Моня онъ считалъ самымъ жалкимъ ничтожествомъ п. обращаясь со мною свысока, обыкновенно подавалъ мнѣ два пальца. Христю не только не тревожили, но даже, повидимому, вовсе не занимали странныя извѣстія, которыя началъ доставлять намъ изъ дома. Сержа Пенькновскіи. имѣвшій счастіе обратить на себя вниманіе Сержт-вой матери и учинившійся у нея какимъ-то секретаремъ фактотумомъ. ІІеиьк-новскій доносилъ, что дѣла у молодыхъ пошли не ла іно, что супруга Сержа своевольна, зла, капризна и самовластна.
— А йо Теро \Ѵ8С2\ гТкіо&о іг/еЬа маіи ботіас, хе опа ізі і Ьапіхо діпре, говорилъ Пенькновскій. привыкшій уже считать себя полякомъ.
Это были обшія характеристики, но вслѣдъ затѣя ь Пеньк-новскій появлялся къ намъ отъ времени до времени, никѣмъ не прошенный, сообщалъ намъ скандалы и частнаго свойства, между которыми пные были весьма возмутительны и представляли положеніе Сержа очень жалкимъ: но самъ Сержъ, кажется, никому ни на что не жаловался и тщательно скрывалъ отъ всѣхъ свое горе.
Современномъ онъ, вѣроятно, нѣсколько попривыкъ къ своему положенію, а чужіе люди перестали имъ интересоваться. Такъ ушли еще два года, какъ опять внезапно къ намъ появился Пенькновскіи и сообщилъ при Христѣ, что жена Сержа, заплативъ какой-то значительный долгъ за него, пли за его мать, сдѣлала ему столь сильную непріятность, что опъ схватилъ шапку, выбѣжалъ вонъ изъ дома н не возвращался до угра.
— П это у нихъ теперь часто будетъ повторяться,— заключилъ Пенькновскій и заключилъ не опрометчиво, потому что олппъ разъ вскорѣ послѣ того, и тучи вм ѣстѣ съ Хрп-
стой, мы замѣтили впереди себя одинокую фигуру, въ которой Христа пе замедлила узнать Сержа и, сжавъ .мою руку, дала знакъ идти тише.
Мы прошли за нимъ въ небольшомъ отъ него разстояніи нѣсколько улицъ. На дворѣ былъ поздній сѣрый вечеръ, покрапывалъ дождь и улицы были почти пусты. Сержъ шелъ тихо, понуривъ голову, и часто останавливался;—мы все издали за нимъ слѣдовали, и я не замѣтилъ, какъ очутились въ улицѣ, гдѣ была квартира Альтанскихъ.
И что же? Сержъ взойдя въ эту улицу, тихо пошелъ по противоположной сторонѣ и наконецъ остановился подъ темнымъ заборомъ.
Христя вздрогнула, и черезъ минуту, схвативъ меня за руку, тихо скользнула въ свою калитку, вбѣжала въ комнату и, схвативъ карандашъ и бумагу, написала дрожащею рукою нѣсколько строкъ и подала ихъ мнѣ съ словами;
- Идите и отдайте это ему.
То-есть Сержу?— переспросилъ я.
— Да; то-есть ему,—повторила она, снова меня передразнивая: подите и отдайте! Или нѣтъ, стойте: вы не слуга мой, а другъ, и потому вы должны знать, что вы несете.
Она вырвала изъ моихъ рукъ записку, развернула ее и сказала:
— Прочтите.
Я прочелъ слѣдующее:
«Если вы несчастливы, и я могу что-нибудь для васъ сдѣлать, то я пи передъ чѣмъ не остановлюсь. Я хочу гасъ видѣть.»
— Да, пусть онъ ко мнѣ придетъ. Что вы на меня такъ смотрите?
— Я, ничего...
— А ѣнчего, такъ идите и скажите, чтобы онъ къ намъ пришелъ... по-старому... завтра... я его ждать буду.
И съ этимъ ома повернула меня п почти насильно выпроводила за двери.
Сержъ поирежнему стоялъ на улицѣ, но когда я сталь приближаться, онъ тронулся съ мѣста и хотѣлъ уйти. Я ускорилъ шагъ и, нагнавъ его, слегка тронулъ его за руку и подалъ письмо, которое онъ взялъ молча и нетерпѣливо бросился съ нимъ къ фонарю.
Моня душили слезы; я чувствовалъ, что сейчасъ, сію
минуту совершится каклс-то великое и тяжкое горе и. тихо зарыдавъ въ рукавъ, побѣжалъ домой, чтобы ничего болѣе не знать и пе видѣть.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Описанное мною событіе имѣло своп большія послѣдствія, которыя не могли долго скрываться: Сержъ сдѣлался ежедневнымъ гостемъ дома А.іьтанскихъ; онъ у плхъ обѣдалъ, у нихъ сидѣлъ вечера и вообще проводилъ у нихъ почти все свое время*
Я очень скоро узналъ объ этомъ, но молчалъ и ничего не говорилъ шашап, отъ которой это также не скрылось и заставило ее сильно страдать. Она была такъ сконфужена, что даже перестала писать Филиппу Кольбергу, а только стала очень часю нюхать спиртъ п пролива гь на сахаръ гофманскія капли. Къ этому подоспѣла простуда, и шашап заболѣла. Тутъ Христг моня удивила: она была до того къ намъ невнимательна, что даже не приходила навѣстить шашап. Съ того вечера, какъ я отдалъ Сержу ея записку, она почти совсѣмъ не появлялась въ нашемъ домѣ, но старикъ Альтанскій ходилъ къ нимъ попрежнему и въ н< мъ вообще пе было замѣтно нп малѣйшей перемѣны ни въ какомъ отношеніи: онъ былъ такъ же спокошъ, такъ же. какъ и прежде, шутилъ и такъ же занимался со мною классиками и математикой.
Частые винты женатаго Сержа къ Христѣ, повидимому, не смущали старика и даже, можетъ-быть, совсѣмъ но останавливали на себѣ его вниманія, какъ нѣкогда не останавливало вниманія исчезновеніе этсго молодого человѣка. Христя теперь, какъ и всегда, пользовалась неограничен-нѣйшею свободою, п я страшился, что покровительствуемая згою свободою страсти ля ея любовь, вѣроятно, сдѣлала. въ это время большіе и безповоротные шаги. Наблюдая мою мать, я подозрѣвалъ, что и она опасается точно того же. ?.І нѣ даже казалось, что это собственно было и причиною ея болѣзни.
Я и не ошибался.
Однажды Альтанскій присѣлъ послѣ занятій со мною къ изголовью шашлп, сказавъ:
— Ахъ, я и позабылъ: у меня есть къ вамъ записочка отъ дочери.
по —
И онъ подалъ татап распечатанную записку, которую та взяла дрожащими руками и, пробѣжавъ ее, потребовала у меня свой бюваръ, сунула туда полученную записку и, написавъ отвѣтъ, велѣла мнѣ его запечатать.
Я взялъ бюваръ въ свою комнату и имѣлъ нескромность прочесть и Христину записку, и материнъ отвѣтъ. Христя писала слѣдующее:
«Катерина Васильевна! Вы должны имѣть обо мнѣ самое дурное мнѣніе и мнѣ хочется сказать вами. что я его вполнѣ стою: я пропала! Мое послѣднее поведеніе всякому даетъ право думать обо мнѣ каю. о самой недостойной женщинѣ— и я сама прежде всего считаю себя недостойною добраго расположенія и сообщества такой почтенной и горячо мною любимой женщины, какъ вы. Вотъ почему я но иду къ вамъ—и зная, что вы больны по причинѣ, которую боюсь отгадать, рѣшилась просить васъ объ одномъ: не считайте меня холодною и неблагодарною, нсумѣющею понимать и цѣнить вашей расположенности,.
Машап на это отвѣчала короткимъ словомъ: «Пряди ко мнѣ, другъ мой, моя милая Христя, я люблю тебя, я жду тебя со всѣмъ нетерпѣніемъ и встрѣчу тебя съ вѣрными тебѣ сердцемъ».
Я запечаталъ это письмо и отдалъ его Алтайскому, а не болѣе какъ спустя одинъ часъ въ сѣняхъ нашихь две-вей послышался стукъ щеколды, и въ дверяхъ залы появилась Христя.
Она была одѣта очень небрежно, въ какомъ-то старой ь черномъ изношенномъ пла тьѣ, и покрыта съ головы такпм ь же чернымъ платкомъ; но лицо ея, хотя и было блѣднѣе обыкновеннаго, казалось спокойными п даже счастливымъ.
Заставъ меня одного въ залѣ, она, ни слова не говоря, подала мнѣ руку, улыбнулась п поцѣловала меня въ лобъ; я ей хотѣлъ что-то сказа іь, но она закрыла мнѣ ротъ и пошла скорыми шагами къ матушкиной комнатѣ, но вдругъ на самомъ порогѣ двери остан-шилась, закрыла ладонями глаза и опустилась па колѣни.
— Боже мой! другъ мой! Христя! Ты ли это? -воскликнула, быстро вскочивъ и сѣвши въ кровати, татап.
— Да; это я... посмотрите на меня Бога ради!—отвѣчала, по поднимаясь и не откйрая глазъ, дѣвушка.
-— Зачѣмъ же ты тамъ стала? О, Господи! Н ці, иди ко мнѣ, или я нс выдержу...
— Вы меня нс презираете?
— Нѣтъ, нѣтъ; я жалѣю тебя, я люблю троя, я хочу плакать съ тобою!
Христя вскочила и бросившись къ ташап, обняла ее. а я поспѣшилъ ) йти въ свою комнату и заперъ за собою двери.
Я долго сидѣлъ у себя, тяжело облокотись головою на руки, и думалъ, что это за свѣтъ, что его за законы, ради которыхъ лучшее гибнетъ, принося себя въ жертву худшему,—п въ душѣ моей возставало смутное недовольство жизнью, которой я не понималъ, но уже былъ во враждѣ съ нею за эту Хріістю. </ іюнн.иа.іъ. что она и
она мнѣ казалась героинею -и притомъ такою искреннею, такою прекрасною, что я готовъ былъ за нее умереть; а когда я пересталъ философствовать и сдѣлался снова свидѣтелемъ разговора, который она вела съ м&туиікою, добрыя чувства мои къ ней еше болѣе усилились.
Христя не приводи іа никакихъ аргументовъ въ с-вое оправданіе: она все брала на себя и говорила только одно, что она «не могла совлаіѣн» съ собою».
— Какъ же ты думаешь теперь жить?
— Никакъ. Зачѣмъ думать: ничего не выдумаешь.
— Но твой отець?
— Отець мои меня любитъ.
— Но его голы, его взгля іы..
— Не смущайте меня: я теперь счастлива, я любима, и вы меня не отвергаете— а болѣе мнѣ ни до кого нѣтъ дѣла.
— А общество, а свѣтъ?
— А что они мнѣ дали? чѣмъ я имъ обязана? Не говорите мнѣ о нихъ: ихъ судъ мнѣ не нгженъ; я чувствую-наслажденіе презирать его.
— Мой другъ, это не такъ легко.
— Легко ли. трудно ли, мнѣ обь этомъ теперь уже поздно іумать.
— А собственная совѣсть?
— (овѣггь? она чиста Я никого не погубила и пе погублю: я отреклась отъ правъ на почетъ и уваженіе и взяла себѣ безславіе—и я снесу его.
— Зачѣмъ?
— Чтобы сді лать хоть немного счастливѣе того, кого я люблю и кто свыше- мѣры несчастливъ.
— А Богъ! а Богъ! ты забыла о Немъ, мое бѣдное дитя?
— Чой Богъ?
— Мой, твой, Богъ твоего отца.
— Богъ вашъ меня простить, потому что вы, будучи Его твореніемъ, меня простили.
— Словомъ, гы но чувствуешь въ своемъ сердцѣ на себя никакой грозы?
— Никакой.
-— И ничего не боишься?
— Ничего ровно. Я счастлива.
О, Боже! — воскликнула шашап. — Какъ правъ, качъ правъ мой другъ, который предрекалъ мнѣ все это!
-— О комъ вы говорите?
-— Ты его не знаешь: ого здѣсь пѣгъ.
— Его здѣсь нѣтъ; но я все равно его знаю: это тотъ, кого 'зовутъ Филиппъ Кольбергъ?
— Да: это онъ.
-— Что онъ вамъ предрекалъ на мой счетъ?
— Когда мы познакомились съ тобой и я писала о? у объ этомъ и описывала твое положеніе и твой характеръ, онъ отвѣчалъ, мнѣ: «остерегайтесь поддерживать гордость этой дѣвушки: такіе характеры способны къ неудержимымъ жертвамъ- и въ этой Жертвѣ все ихъ оправданіе». Я его не послушалась, я укрѣпляла въ тебѣ двою рѣшимость отказать Сержу, потому что я предвидѣла твое положеніе въ этой напыщенной семьѣ...
— И не жалѣйте объ этомъ, — перебила Хрпетя: —вы укрѣпили меня въ самую важную минуту и спасли меня отъ положенія тяжкаго, котораго я бы не снесла—и умерла бы ненавистною себѣ и ему; межъ тѣмъ какъ теперь я счастлива и умру счастливою.
— Къ чему же рѣчь о смерти?
— О! я скоро, очень скоро умру!
— - Зачѣмъ такая мысль?
— Она меня радуетъ: я хочу умереть скорѣй, скорѣй... — Зачѣмъ?
— Зачѣмъ? О, вы ли объ -этомъ спрашиваете? затѣмъ, чт<»бы не надоѣсть и... умереть любимою! Неужто вы не чувствуете какое это блаженство? <
Машап промолчала.
— О. я жалѣю васъ, сели вы этого пе знаете.—продолжала дѣвушка.
— Нѣтъ, я это знаю,-—отвѣтила тихо тдапап:—но...
— Но, я знаю чтб вы скажете,—перебила Христя:—вы скажете, что можно умереіь любимою, сохранивъ себѣ уваг жевіе, то-ость не сдѣлавшись любовницею?
- Да.
— Отвѣчу вамъ: пускай это вмѣститъ, кто можетъ; я же по могла- и спросите этого добраго Кольберга... Я думаю, что онъ добрый?
— Какъ ангелъ.
— II онъ, конечно, уменъ?
— О. очень уменъ.
- Ну, такъ спросите его: осудилъ ли онъ меия или пѣтъ, что я пожертвовала собою, зная все... зная даже то, что меня долго любить не будутъ. Но я вамь говорю: я предуярежду это несчастіе и умру любимая.
— Какая ты славная и какая несчастная, Христя!
Она засмѣялась и проговорила:
— Славная ? да, я прославилась: молчите обо мнѣ: прячьте мою славу, пока ее не выдастъ всѣмъ мое открытое безславіе.
Вышла, пауза—и я понималъ, что онѣ въ это время должны были молча глядѣть другъ на друга: мать моя съ ужасомъ, а Христя со спокойствіемъ, которое вызывало итогъ ужасъ.
Я сталъ тихонько на колѣни передъ висѣвшимъ въ моей комнатѣ изображеніемъ Христа и, горько рыдая, іфо-скль Его:
— Омой, омой гр'і хъ ея Твоею кровію!
Волѣе я ничего объ этомъ днѣ не помню.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Романъ Христи скоро получилъ огласку. Это и пе могло быть иначе, потому что поведеніе страстно-влюбленнаго въ нее Сержа обличало его ежеминутно—и въ глазахъ его домашнихъ, и въ глазахъ постороннихъ, которымъ была охота что-нибудь видѣть. Я не знаю, было ли Христѣ что-нибудь извѣстно о томъ, чго о ней толковали, но полагаю, что нѣтъ, потому что она рѣшительно умерла и догреблась для всего міра. Кромѣ ея собственнаго дома, ее нигдѣ нельзя было
видѣть: къ намъ она приходила, в< я закутанная, поздно вечеромъ и уходила ночью, да и то это продолжалось только до тѣхъ поръ, пока ташап была больна; но какъ только ташап начала выходить, Христя съ тѣхъ поръ ігь намъ уже не -показывалась. Еще оставалась у нея церковь, такъ какъ Христя. несмотря на свое своеволіе; была очень набожна; но она избрала для своего моленія самую уединенную церковь и тамъ пряталась отъ всѣхъ взоровъ. Вообще прятанье сдѣлалось у Христи какою-то страстью и наводило на меня лично очень непріятное впечачлѣніе: укрывающая», я Христя была точно олицетвореніе Н(*чіістой совѣсти, что вовсе не шло къ ней, тѣмъ болѣе, что она. судя по ея недавнему объясненію съ ташап. считала свою совѣсть совершенно ччстою.
1 время все шло своимъ чередомъ дни уходили за дня- и; Хрисл я все такъ же старалась быі ь невидимой, и мы видѣлись съ нею очень рѣдко, а съ Сержемъ никогда: но укрѣпившійся въ фаворѣ женской половины этого дома Пенькновскій ретиво доносилъ намъ, чго тамъ идутъ ужасныя сцены и чіо жена, и мать Сержа задумали какой-то планъ мщенія Планъ этотъ, какъ вскорѣ обнаружилось. состоялъ въ томъ, что высокій покровитель (смыі Сержа, прп которомъ сей послѣдній былъ записанъ на службѣ, далъ ему порученіе въ Петербургъ. Сержъ было возсталъ противъ этого и подавалъ просьбу въ отставку, но просьбы этой отъ него не приняли, а Христа убѣдила его но поднимать спора и ѣхать. Онъ ее послуша ч-я и у ѣхалъ, кажется, точно такъ же легко, какъ прежде послушался ее и женился на другой. П въ томъ, и въ кругомъ случаѣ, слушая ее, онъ слушался собственныхъ своихь задушевныхъ и тайныхъ желаній, которыя Христя только умѣла отгадывать и предлагать въ видѣ своихъ просьбъ.
Итакъ, онъ уѣхалъ въ Петербургъ, а мы придвинулись къ Христѣ, котцрая была очень спокойна и даже какъ бы довольна, что осталась одна,—обстоятельство, которое меня еіце сильні-е навело на мысль, что Христя только бодрится, а вь существѣ очень страдаетъ отъ невыносимой тяжести положенія, которое себѣ устроила очертя умъ и волю. Она внутренно подобрала себя къ рукамъ,—стала гораздо перя-дочнѣе и спокойнѣе въ поступкахъ и въ мысляхъ, и даже во внѣшности: ея костюмъ и ея комнаты,- -все это приняло
прежній стройный характеръ, который было совершенно утратился п исчезъ во дни ея безумныхъ увлеченій.
Такъ прошло болѣе мѣсяца, какъ вдругъ случились у насъ два происшествія: первое заключалось въ томъ, что къ роднымъ Сержа пришла, будто бы, вѣсть, что онъ въ Петербургѣ имѣлъ непріятную исторію съ братомъ своей жены и опасно занемогъ. При разсказахъ объ эломъ чего-то очевидно умышленно не договаривали и въ городѣ отъ этпхъ недомолвокъ пошли толки, что у Сержа была дуэль п что онъ опасно раненъ. Жена его немедленно поскакала въ Петербургъ.
Христя, до которой дошла эта новость, сначала-было очень испугалась, но потомъ подумала, успокоилась и сказала, что все это неправда.
Еще мѣсяцъ спустя получилось извѣстіе, что Сержъ уѣхалъ съ женою для пользованія за границу.
Христя, услыхавъ объ этомъ, сказала:
— Ну, вотъ это правда!
II вслѣдъ затѣмъ она получила отъ Сержа письмо, въ которомъ тотъ каялся, что роковая судьба заставляетъ ого подчиниться тяжелымъ обстоятельствамъ; что онъ два года долженъ прожить съ женою за границею, потому что иначе теща лшшітъ его значительной доли наслѣдства, но что онъ за всѣмъ тѣмъ останется вѣренъ своему чувству къ Христѣ п будетъ любить ее до гроба.
Христя все это приняла съ улыбкою и перенесла съ такимъ спокойствіемъ, что казалось, будто она вовсе даже нимало и не страдала. А вслѣдъ затѣмь вскорѣ произошло событіе въ другомъ родѣ, которое ее даже заставило хохо-хать и долго было у насъ причиною немалаго смѣха.
Виновникомъ этого веселаго событія былъ мой добрый другъ Пенькновскій.
Я уже сказалъ, что онъ пользовался большимъ фаворомъ на женской половинѣ Сержева дома. Какъ, началось пхъ знакомство п дружество — я не знаю; но когда мы стали обращать на это вниманіе, то дѣла уже стояли такъ, что Пенышовскій былъ въ пхъ домѣ своимъ человѣкомъ и притомъ человѣкомъ самымъ необходимымъ. Теща, мать и жена Сержа, до самаго своего отъѣзда къ мужу, безъ церемоніи употребляли моего друга на разныя посылки и послуги и удостаивали при этомъ своей особой довѣренности, которою
Сочиненія Н. С. Л Ьскова. Т. XXXII. 20
онъ п умѣлъ пользоваться съ дѣлающимъ ему часть тактомъ. Посѣщая насъ и принося намъ разныя непрошенныя вѣсти изъ дома Сержа, овъ выуживалъ, гдѣ могъ, разныя сплет-пшпки о Христѣ—и, снабжая ихъ своими комментаріями, сносилъ іуда. Онъ же оказывалъ самое ревностное п въ то же время самое осторожное содѣйствіе въ устройствѣ спасительной высылки Сержа за границу и потомъ остался ; тѣшать двухъ старухъ: родную мать Сержа — здоровую, толстую п чернобровую старуху Анну Ивановну, и ею тешѵ Марью И.іыішіінпѵ, старуху менѣе старую, высокую, стройную п сохранившею слѣды нѣкогда весьма, замѣчательной КраСОТЫ.
Эта послѣдняя была женшина свѣтская,—по-своему очень неглупая, щедрая, даже расточительная; она занялась Пеньк-новскиыъ съ знаніемъ дѣла: экипировала его со вкусомъ и такъ выдержала въ отношеніи всей его внѣшности, что въ одно прекрасное утро, всѣ мы, невзначай взглянувъ на моего друга, почувствовали, что онъ имѣетъ неоешфимое право называться замѣчательнымъ красавцемъ.
Вь самомъ дѣлѣ, сю высокій ростъ, крупная, но строенія и представительная фигура, прекрасные свѣтлорусые, слегка вьющіеся волосы, открытое высокое чело, полное, яблоко голубыхъ, завѣшанныхъ густыми рѣсницами глазъ и удивительнѣйшей, античной формы большая бѣлая рука, при мягкости п въ то же время развязности манеръ, быстро имъ усвоенныхъ подъ руководствомъ изящной и любившей изяшеі гво тещи Сержа, обратили его въ какого-то Ганн-мсда, затмевавшаго своей весенней красотой все, что могло сколько-нибудь спорить о красотѣ.
Опъ это чувствовалъ и сознавалъ—и необыкновенно легко обучился держать себя съ большою важностью. Состоя на однихъ со мною правахъ и потому будучи обязанъ служить приказнымъ, опъ, однако, бросилъ свою гражданскую палату— и, перемѣстись въ аристократическую канцелярію къ начальнику, ведшему за усы его отца., взиралъ свысока на всѣхъ засѣдателей и надсмотрщиковъ, которыхъ могь обогнать однимъ шагомъ. Ему теперь все улыбалось—и онъ полнѣлъ, добрѣлъ и ликовалъ, и отнюдь не подозрѣвалъ, чго въ это самое время ему готовился урокъ непрочности земного счастія. Среди самыхъ цвѣтущихъ дѣлъ овъ получилъ смертельный ударъ, заключавшійся въ томъ, что убогенькея
жена моего дяди внезапно подавилась куриною косточкою и умерла,,—а дядя мой. отъ котораго—по выраженію лица, у котораго с.г жилъ Пенькновскій,—-взятками пахло», чтобы отбить отъ себя этотъ дурной запахъ, сдѣлалъ предложеніе ІХІарьЕ Пльпнишпѣ и получилъ ея руку быстро и безповоротно. Этимъ политическимъ фортелемъ дядюшка, сб.іизясь съ главнымъ начальникомъ края, укрѣпилъ себя па своемъ креслѣ, такъ какъ оно подъ нимъ довольно шаталось,—а бѣдный Пінькновскій очутился безъ шпаги. Бъ домъ дяди его не пускали, а тайно благодѣтельствовать ему Марья Плы.нпшна или не хотѣла, или онъ самъ считалъ неудобнымъ участвовать въ этой тройной игрѣ. Словомъ, дѣла его приняли вдругъ самый дурной оборотъ: аристократическая канцелярія не давала ему ничего, кромѣ какихъ-то весьма отдаленныхъ видовъ: но какъ было ихъ дождаться, когда скупой отець не давалъ ему ни гроша, а самъ опъ не умѣлъ добыть трудомъ н:і копейки.
Всякій бы на мѣстѣ Пенькновскаго сталъ втуппяъ, и съ нимъ случилось то же самое, но только съ тою разницею, что онъ скоро нашелся какъ поправить свои обстоятельства и притомъ способомъ самымъ прочнымъ и капитальнымъ.
Разъ, ьъ праздничный день, онъ приходитъ къ намъ по обыкновенію развязнымъ щеголемъ и франтомъ, и, предложивъ шашап руку, просилъ ее его выслушать. Они вдвоемъ вышли въ залъ, а я остался въ матушкиной комнатѣ, гдѣ грѣлся передъ каминомъ; но не прошіа п десяти минутъ, какъ матушка, вдругъ вошла торопливой походкой назадъ. Она имѣла видъ встревоженный и смущенный и, плотно затворивъ за собою дверь, сказала мнѣ:
— Выйди, сдѣлай милость, къ нему и скажи, что я почувствовала себя дурно и легла въ постель.
Я смотрѣлъ на шашап молча, изумленными глазами, но она еще настойчивѣе повторила мнЬ свое порученіе и закопалась въ мелкихъ вещицахъ на своемъ туалетѣ, что у нея всегда выражало большое волненіе.
Я вышелъ въ залъ и, увидѣвъ передъ собою представительнаго Пенькновскаго, ощутилъ всю трудность возложеннаго на меня порученія, тѣмъ болѣе, что пе зналъ, чѣмъ оно вызвано. Одну минуту мнѣ пришто въ голову, ужъ не сдѣлалъ ли онъ предложенія моей шашап, но, вспомнивъ, что онъ въ послѣднее время усвоилъ себѣ привычку гово-10*
рмть съ женщинами съ особенной тихой развязностью, я счелъ свою догадку преждевременной и просто попросилъ его въ свою комнату.
— Въ твою комнату? зачѣмъ это?—спросилъ онъ меня съ легкою гримаской; но, услыхавъ отъ меня то, чтб я долженъ былъ ему передать по порученію інатан, онъ вдругъ смялся и на выхоленномъ лицѣ его мелькнули черты, которыя я видѣлъ на немъ, когда обнаружилось, что Кириллъ водилъ его подъ видомъ палача по королевецкой ярмаркѣ.
— Послушай,—сказалъ онъ мнѣ въ одно и то же время и разсѣянно, и строго:—я въ правѣ отъ тебя, однако, потребовать одного, чтобы ты сказалъ: понимаешь ли ты, что это обида...
— Ей-Богу, ничего я не понимаю,—отвѣчалъ я поистинѣ.
— Я объявляю твоей матери, что я женюсь на ея знакомой,—н такъ или иначе, дѣлаю ей все-таки честь: прошу ее быть моею посаженою матерью; а она, вдругъ, представь себѣ: молча смотритъ на меня цѣлыя пять минутъ... замѣть, все молча! Потомъ извиняется, быстро уходитъ и высылаетъ ко мнѣ тебя съ этимъ глупымъ отвѣтомъ, что она нездорова... Знаешь, милый другъ, что если бы я не уважалъ ее, и если бы это не въ такое время, что я женюсь...
— Па комъ же, на комъ ты женишься?—перебилъ я.
— А я, любезный другъ, женюсь на Аннѣ Ивановнѣ.
— На какой Аннѣ Ивановнѣ?
— На Довбпчъ.
— На вдовѣ?!
— Ну да, на вдовѣ.
— На матери Сержа?
— Ну да; на его матери.
— И Сержъ долженъ будетъ называть тебя шоп рёге?
У меня задергало щеки, и я не выдержалъ и расхохотался.
— Вотъ сейчасъ п видно, что ты еще дуракъ!—сказалъ Пенькновскій, которому и самому было и смѣшно, п конфузно; но онъ, однако, на меня не разсердился и ушелъ, удостоивъ меня чести приглашеніемъ въ шаферы.
Когда мы вечеромъ пришли къ Христѣ и я разсказалъ ей эту исторію, она смѣялась до упаду и до истерики, сколько надъ сііёге рара, какъ стали мы называть Пенькновскаго, столько же и надъ шатай, которая сама шутила
надъ замѣшательствомъ, въ которое поставилъ ее Пенькновскій этою, по ея словамъ, «противною свадьбой».
Мы по этому случаю такъ много смѣялись и были такъ веселы, что и не думали ни о положеніи Христи, ни о томъ, что надъ самими надъ нами, можетъ-быть, тоже виситъ какая-нибудь внезапность, способная переконфузить насъ бо. ѣе, чѣмъ замужество одной старухи сконфузило ІТеньк-новскаго и въ то же время дало ему счастливую мысль самому скорѣе жениться на другой.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Ночью отъ этого усиленнаго смѣха Христи сдѣлалось внезапно такъ худо, что она присылала за шашап—и я не слыхалъ, какъ шашап къ ней ходила и возвратилась,—да собственно я не зналъ даже, что такое и было съ Хрпстею, и не видалъ ее послѣ того въ теченіе довольно продолжительнаго времени. Это случилось главнымъ образомъ отъ ъ>го, что я ѣздилъ по службѣ въ одинъ довольно-далекій великороссійскій городъ за принятіемъ мѣдной монеты. Порученіе это было пустое и весьма не лестное, такъ какъ его могъ бы исполнить всякій солдатъ; но шашап оно очень нравилось—и даже, я увѣренъ, что она сама и схлопотала мнѣ эту посылку.
Впрочемъ, выѣхавъ изъ Кіева послѣ продолжительнаго здѣсь сидѣнія, я и самъ былъ очень доволенъ случаю провѣтриться. Новыя мѣста и новые люди всегда меня интересовали—и на этотъ разъ я ими очень занялся и провелъ нѣсколько времени въ дорогѣ и при пріемѣ денегъ очень пріятно. Поневолѣ освободясь отъ книгъ, я сопрпчащался къ жизни чужихъ мнѣ людей и нашелъ это очень пріятнымъ, тѣмъ болѣе, что куда я ни появлялся и съ кѣмъ ни сходился. мнѣ казалось, что всѣ меня очень ласкали и любили. Словомъ: я былъ очень счастливъ—и этимъ счастьемъ дышали всѣ письма, которыя я писалъ матушкѣ, описывая въ нихъ въ подробности всѣ моп лумы и впечатлѣнія. Отпускомъ меня отсюда не торопились: денегъ, за которыми я пріѣхалъ, не было въ сборѣ, — ихъ свозили въ губернскій городъ изъ разныхъ уѣздовъ: все это шло довольно медленно, и я этимъ временемъ свелъ здѣсь нѣсколько очень пріятныхъ знакомствъ; во главѣ ихъ было семейство хозяина, у котораго я присталъ съ моими двумя присяжными солдатами, п
йотомъ чрезвычайно живой и веселый живописецъ Лаптевъ, который занимался въ это время распискою стѣнъ и купола мѣстнаго собора и жилъ тутъ же рядомъ со мною въ комнатѣ у того же самаго небогатаго дворянина Нестерова. Живописецъ Лаптевъ былъ человѣкъ маленькаго роста, съ веселыми карими глазками, широкой чистой лысиной, черезъ которую лежала одна длинная прядь черныхъ волосъ, ш> открытымъ лицомъ и курносымъ носомъ, нѣсколько вздернутымъ и какъ бы смѣющимся. Однимъ словомъ: физіономія презамѣчатсльная и очень располагающая. Онъ имѣлъ отъ роду лѣтъ тридцать пять, происходилъ откуда-то изъ мѣщанъ; провелъ всю свою жизнь въ занятіяхъ церковною живописью, былъ очень уменъ и наблюдателенъ; любилъ кутнуть и считалъ себя знатокомъ церковнаго пѣнія, постоянно распѣвалъ разныя херувимскія и концерты, но пѣлъ ихъ не сплошь, а только однѣ басовыя партіи, отчего, если его слушать изъ-за стѣны, выходило похоже на пѣніе сумасшедшаго. Онъ то вырабатывалъ свою ноту, то вдругъ останавливался, воображая мысленно какъ поютъ въ это время другіе голоса, считалъ въ умѣ тактъ—и дождавшись времени, вдругъ опять хваталъ свою ноту и оралъ часто весьма немилосердно.
На этомъ мы съ нимъ и познакомились; онъ, встрѣтивъ меня однажды, спросилъ: не мѣшаетъ ли онъ мнѣ заниматься? на что я ему и отвѣчалъ, что онъ мнѣ не мѣшаетъ, но что я удивляюсь, какъ ему не мѣшаетъ сумасшедшій, который у насъ гдѣ-то кричитъ.
— А-а! этотъ сумасшедшій? Ну, я къ нему уже привыкъ,—отвѣчалъ, добродушно смѣясь, Лаптевъ.
— Развѣ вы давно здѣсь живете?
— Нѣтъ, я то здѣсь недавно, но онъ-то со мною уже давно; однимъ словомъ, этотъ сумасшедшій я самъ. Хе-хе-хе-хе!—засмѣялся онъ, какъ засыпалъ мелкимъ горошкомъ, и, обнявъ меня съ искренней дружбой, добавилъ:—не конфузьтесь, пріятель дорогой, пе конфузьтесь! вы не первый сочли меня за сумасшедшаго; почитайте меня такимъ, ибо я и въ самомъ дѣлѣ таковъ: пою и пью, священные лики изображаю и ежечасно грѣшу: чѣмъ не сумасшедшій...
Вечеромъ этотъ веселый человѣкъ, придя съ работы изъ церкви, взманилъ меня иттп съ нимъ въ театръ, гдѣ очень плохая провинціальная труппа разыгрывала Каменнаго юстя.
II представленіе, и обстановка были крайне незамысловаты, но меня они, однако, удовлетворяли или по крайней мѣрѣ приводили въ нѣкоторый трепелъ; а Лаптевъ, который оказался большимъ театраломъ, по возвращеніи домой необыкновенно заинтересовалъ меня разсказами о столичныхъ театрахъ и актерахъ, пзъ которыхъ онъ очень мштихъ близко зналъ. Отъ актеровъ онъ перескочилъ къ пѣвцамъ, отъ пѣвцовъ къ живописцамъ и скульпторамъ — и. рисуя одну за другою картины артистическихъ нравовъ, увлекъ меня этимъ бытомъ до восхищенія и восторга, выразившагося тѣмъ, что я вскочилъ съ мѣста и расцѣловілъ его.
Онъ мнѣ казался уменъ и прекрасенъ: чуя въ немъ біеніе пульса, присущее художественной натѵрѣ, я ошѵтплъ въ своей душѣ ближайшее родство съ нимъ, — родство и согласіе, какихъ не ощущать до сихъ перъ ни съ кѣмъ, не исключая шашап, Христи и профессора Альтанскаго.
— Гармонія—вотъ жизнь; постиженіе прекраснаго душою и сердцемъ—вотъ что лучше всего на свѣтѣ!—повторялъ я его послѣднія слова, съ которыми онь вышеть изъ моей комнаты — и съ этпмъ заснулъ. и спалъ, видя себя во снй чуть не Апеллесомъ или Праксителемъ, передъ которымъ всѣ дѣвы п юныя жены стыдливо < нимали покрывала, обнажая красы своего тѣла; онѣ были обвиты плющемъ п гирляндами свѣжихъ цвѣтовъ и держали кто на головѣ, кто на у пругахъ плечахъ храмовыя амфоры, чтобы подъ тяжестью пхъ отч -тливѣе обозначатися линіи стройнаго стана—и все это затѣмъ, чтобы я. величайшій художникъ, увѣнчанный миртомъ и розой, лучше бы м<»гъ передать полотну ихъ чарс-вничью пре.: сть.
О, юность! о, юность благая? зачѣмъ твои сны уходятъ вмѣстѣ съ тобою? Зачѣмъ не повторяются они такіе чистые и прекрасные, вдохновляющіе, какъ этотъ сонъ, послѣ котораго я уже не могъ уснуть въ эту ночь, всталъ рано и, выйдя на коридоръ, увидалъ моего Лаптева. Онъ стоялъ и умывался ш редъ глинянымъ умывальникомъ, и, кивнувъ мнѣ головою, спросиль:
— Пли не поспалссь?
— Да, не доспалось,—отвѣчалъ я:— мнѣ приснился хорошій сонъ и заспать его ре хочется.
— А что за сонъ такой снился? Пойдемтс-ка ко мнѣ чай пить, да разскажите про него, протобестію.
Мы взошли въ комнату, и я разсказалъ мой сонъ.
—- Важно!—отвѣчалъ, выслушавъ меня, Лаптевъ:—сонъ хоть куда: хоть заправскому Рафаэлю. А знаете ли чтб сей сонъ обозначаетъ?
— Нѣтъ, не знаю.
—г А я знаю и сейчасъ разскажу: онъ значитъ, что, во-первыхъ, у васъ художественная жилка есть и ей надо дать пожить: пусть оиа, каналья, немножечко побьется; а, во-вторыхъ... который вамъ годъ?
— Девятнадцать.
— Гм! возрастъ бѣдовый: тоже своихъ правъ требуетъ. Мнѣ въ эти годы тоже чортъ возьми вдохновенныя штучки снились, и я такихъ-то Лурлей у отца въ лавкѣ на стѣнахъ углемъ производилъ, что ай .поли. Только меня за это батька потягомъ по спинѣ каталъ!
— За что же?
— Чтобы стѣнъ, говорили, но портилъ. Эхъ, да, сударь, да: искусство—это такая вещь, что не дается пока за него пе пострадаешь. М}зы ревнивы, проклятыя: пока ото всего не отвернешься, да не кинешься имъ въ ноги, дескать «примите къ себѣ въ неволю», до тѣхъ поръ все отворачиваются.
— II съ вами такъ было?
— Да, и со мною такъ было: отецъ мой въ городѣ лавчонку имѣлъ и меня къ этому же промыслу пріучалъ, а я все рожи по стѣнамъ чертилъ,— онъ меня, покойникъ, за это и дралъ, дай ему Богъ царствіе небесное. А потомъ онъ умеръ, матушка меня къ чужому лавочнику въ такую же науку отдала: я опять рожи чертить, да къ звукамъ прислушиваться Хозяинъ } идетъ изъ лавки пообѣдать, а я стаканы на полкѣ разставлю, подберу ихъ подъ тонъ да и валяю на нихъ палочкой «Всемірную славу». Да разъ, эту «Всемірную славу» исполняя, въ такой азартъ пришелъ, что забпралъ-забпралъ все Гогіо Гог&йзіто, да всѣ этп стаканы и поколотилъ. Бросилъ ихъ въ корзинку, а они, дьяволы, такъ сладостно зазвенѣли, что я сгребъ одинъ пя-гпфунтовпкъ да еще въ корзинку... Ахъ, хорошо!.. Я еще десятпфунтовикъ,— еще лучше дребезгъ: точно изъ ораторіи какой-нибудь на разрушеніе міра... Я и ну катать,—да потомъ, какъ опомнился, что такое натворилъ,—шапку въ охапку да маршъ большою дорогою черезъ заборъ въ Москву, разгонять тоску.
— Ну-съ?
— Ну-съ, и поступилъ къ живописцу, да лучше его писать сталъ онъ меня выгналъ: я въ Петербургъ, чуть въ академію не попалъ.
II отчего же вы не попали?—воскликнулъ я съ глубокимъ сожалѣніемъ.
-— Дуракъ былъ,—отвѣчалъ Лаптевъ:—слюбился да женился,—муза сейчасъ и взревновала, и наплевала мнѣ ві. голову, а баба ребятъ нарожала—и вотъ я лысый нынче лажу по лѣсамъ, да купоны расписываю и тѣмъ свой гаремъ питаю.
Лаптевъ замолчалъ и сталъ собираться на работу.
Я ушелъ отъ него и мнѣ сдѣлалось невыразимо скучно.— точно я разстался съ какимъ-то ближайшимъ и драгоцѣннѣйшимъ мнѣ существомъ. Повторяю опять, что хотя я въ этомъ влеченіи и узнавалъ знакомыя черты пылкости и восторженности моей натуры, но это было совсѣмъ не то, что я чувствовалъ нѣкогда къ магери или Альтанскомѵ. Все то было сухо, строго и подчинялось разуму, межьтімъ какъ тугъ меня охватывало что-то неодолимое и неодолимою же тайною властью влекло къ Лаптеву. Въ немъ я видѣлъ, или лучше сказать, чувствовалъ посланца по мою душу изъ того чуднаго, завѣтнаго міра искусства, который вдругъ сталъ мнѣ своимъ -и манилъ, и звалъ меня къ себѣ, привѣчая и ластя... и я стремился къ нему, дрожа и млѣя, и замирая отъ сладостной мысли быіь въ немь извѣстнымъ, знаменитымъ... слаьнымь...
Бѣдный Лаптевъ уже представлялся мнѣ чѣмъ-то жалкимъ, добрымъ, но мизернымъ: крохотною козявочкой, которую я опережу однимъ взмахомъ крыла, крыла молодого, повыщипаннаго, бодраго и самонадѣяннаго.
Я отъ природы имѣлъ способность къ музыкѣ, какъ и къ живописи. Еще въ корпусѣ, находясь въ числѣ пѣвчихъ, я выучилъ вокальныя ноты подъ руководствомъ регента и самоучкою приспособился къ пониманію музыкальныхъ нотъ, но не умѣлъ играть ни на одномъ инструментѣ, кромѣ сигнальнаго рожка, на которомъ при удобныхъ случаяхъ вырабатывалъ кусочки едва удобные на этомъ бѣдномъ инструментѣ. Рисовалъ же я хорошо и карандашомъ, и красками, то есть, разумѣется, хорошо для кадета, а не для живописца, но я наді идея быстро усовершенствоваться. При
достаточной скромности я все-таки былъ такъ самонадѣянъ, что считалъ себя способнымъ сразу сдѣлать громадные успѣхи, на которые позволяли мнѣ разсчитывать мое относительно ужъ неузкое развитіе, вкусъ и знанія, какихъ не было у Лаптева.
Долговременное неупражненіе себя въ искусствахъ стало передо мною живымъ и нестерпимымъ укоромъ, и я страстію рванулся наверстать все это,—и, ни минуты болѣе не размышляя. бросился бѣгомъ въ церковь, гдѣ работалъ со своими подмастерьями Лаптевъ.
Живописецъ сидѣлъ высоко въ люлькѣ и писалъ въ парусѣ купола евангелиста.
Увидѣвъ меня, онъ захохоталъ опять чѣмъ же своимъ, какъ горохъ, дробнымъ смѣхомъ и крикнулъ:
— А что: но сидится, кортптъ?
Скучно,—отвѣчалъ я:—пришелъ посмотрѣть.
— Чего же даромъ смотрѣть: полѣзайте. работу дадимъ. Эй, Архипъ!—крикнулъ онъ живописцу, писавшему драпировки другого евангелиста:—дай-ка этому барину горшокъ съ брамротомъ,—пусть его фонъ затираетъ.
— Испорти съ,—отвѣчалъ изъ-подъ паруса угрюмымъ басомъ Архипъ, большой человѣкъ, чрезвычайно похожій на отставного солдата.
— Нѣтъ, но испорчу,—отвѣчалъ я.
— Кусковъ наваляете—послѣ сбивай ихъ мастихиномъ.
— Ничего, ничего: дай ему краски,—отозвался Лаптевъ и снова захохоталъ.
Я взлѣзъ, взялъ кисть и пошелъ затирать ({юпъ вокругъ подмалеваннаго контура евангелиста Іоанна и исполнилъ это немудреное дѣло прекрасно.
Лаптевъ, очевидно дави.ій мнѣ эту работу дія шутки, взглянувъ на нее. улыбнулся и не безъ удивленія сказалъ:
— Хорошо.
На другой день я сдѣлалъ ту же работу въ другомъ парусѣ и украдкою позволилъ себѣ положить небольшіе блики на спускающейся внизъ рукѣ евангелиста, которая казалась мнѣ неестественно освѣщенною.
Лаптевъ это замѣтилъ и, еще болѣе удивляясь, сказалъ:
— Вонъ оно, Архипъ, баринъ-то какъ мажетъ. Ему можно дать въ твоемъ парусѣ драпировки подмалевать.
Въ этомъ парусѣ былъ изображенъ евангелистъ Іоаннъ,
какъ онъ обыкновенно пишется,—съ орломъ у плеча, но сь перстомъ уставленнымъ въ лобъ.
Я не видалъ ровно никакого смысла въ этомъ упертомъ въ лобъ п.ыьцѣ у евангелиста, который писалъ вдохновеніемъ, для выраженія котораго здѣсь и представленъ орелъ. Такое сложное и натянутое сочетаніе мнѣ очень пе нравилось—и я не преминулъ сообщить Лаптеву мою мысль.
Онъ задумался—и потомъ, сог.тасясь со мною, крикнулъ:
— Архипъ! слышь, баринъ-то дѣло говоритъ: зачѣмъ евангелистъ палецъ въ лобъ уперъ?
— А куда же прпкіжете ему его упереть?—сррдясь отвѣчалъ Архипъ.
Лаптевъ разсмѣялся и проговорилъ:
— Вамъ насъ уже не переучить.
II съ этимъ мы съ нимъ ушли, а когда я на другей день пришелъ въ церковь, то онъ, предупретительно встрѣтивъ меня, сказалъ:
— С?дитесь-ко вотъ тутъ со мною, а то они сердятся.
Я помогалъ Лаптеву недѣли двѣ и во все это время онъ какъ на зло не говорилъ со мною ни одного слова объ искусствѣ, а между тѣмъ, я видѣлъ, что онъ считаетъ меня далеко не чуждымъ этому призванію.
Меня это немножко досадовало, тѣмъ болѣе, что я. со свойственною мнѣ страстностью, весь предался работѣ и не замѣтилъ, какъ словно тать въ нощи подкрался день моего отъѣзда назадъ, вь великолѣпно-скучающій Кіевъ, къ моей чинной и страдающей матери, невозмутимому и тоже, кажется. страдающему профессору Альтанскому и несомнѣнно страдающей, хотя и смѣющейся, Христѣ.
У меня сжалось сердце: мнѣ стало необыкновенно жалко всѣхъ ихъ и въ то же самое время мнѣ было страшно возвращаться въ этотъ кружокъ, который мнѣ казался теперь такимъ унылымъ и скучнымъ... Я представилъ себѣ еп сіе-іаіі свой домъ, домъ Альталскихъ. всѣ эти милыя мчѣ, но какъ бы не м<>его письма лица и потомъ... служба ., канцелярія съ ея стертыми какъ старые пятиалтынные лицами и запахомъ спертаго воздуха и папиросъ... и мнѣ хотѣлось куда-то бѣжать. Куда? Да не все ли равно: хоть подъ паруса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра въ тогѣ командора, словомъ, куда бы ни было, но только туда, гдѣ бы встрѣтить жизнь, ошибки и тревоги, а не мо
раль, вѣчную мораль добродѣтели и заботъ о своемъ совершенствѣ... Это все мнѣ ужасно надоѣло и... я къ стыду моему понялъ, чтб это значитъ: я не могъ лукавить съ самимъ собою, я долженъ былъ сознаться себѣ, что мнѣ наскучило быть съ матерью, что мнѣ не хочется уже къ ней возвращаться, и я заплакалъ... отъ стыда своей неблагодарности п отъ досады, что я бѣденъ, ничтоженъ, что я не могу обезпечить мою мать всѣмъ нужнымъ и самъ броситься вь какую-то иную жизнь... Я не зналъ, какую именно, но зналъ, что она должна быть совсѣмъ не похожа на ту, которую я проводилъ до сихъ поръ и которую уважалъ... Я хотѣлъ попробовать жизни уваженія недостойной: я чувствовалъ, что это влеченіе во мнѣ становится неодолимо.
Лаптевъ былъ человѣкъ очень умный и при всей своей малообразованности онъ былъ настоящій «художникъ вь душѣ» (что я считаю гораздо понятнѣе, чѣмъ, напримѣръ, «гусаръ въ душѣ»). Онъ понялъ, какой червякъ забрался въ мою душу, и поръшилъ помочь мнѣ его выкурить; но ошибся въ расчетѣ и вмѣсто одного горя отпустилъ со мною на дорогу два, изъ коихъ одно было злѣе другого, хотя оба они выводили меня на одну торную дорогу, къ глубочайшему раздору съ собою и съ міромъ, отъ котораго скрыла меня черная мантія и воскрылія клобука—моего духовнаго шлема.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧШВЕРТАЯ.
Вскорѣ- же послѣ описанной мною сцены и незадолго до моего отправленія, Лаптевъ зашелъ ко мнѣ утромъ въ субботу и говоритъ:
— Вотъ что-съ, мой милостивый государь, не вамъ однимъ плохо спится, а и мнѣ тоже стало нс спаться—и въ атомъ виноваты вы.
Я удивился.
— Да такъ-съ,—продолжалъ Лаптевъ:—глядя на вашу страсть, я чувствую, что у меня старые пульсы заколотились. Что проку скрывать и молчать: я вамъ долженъ сказать, что вы мнѣ напомнили мои юные годы, когда я на стѣнахъ углемъ рисовалъ и стаканы билъ. Это, знаете, штука не безстрастная, да и не безстрашная, —потому я съ вами нѣсколько дней п не говорилъ объ искусствѣ.
-— Я васъ не понимаю,—отвѣчалъ я:—чего же вы испугались?
— II не удивляюсь-съ, и не удивляюсь, что вы меня не поняли! Искусство... искусство, ухъ. какая мудреная штука! Это вѣдь то же. чго монашество: оставь человѣкъ отца своего и матерь и бери этотъ крестъ служенія да иди на жертву—и то ничего не будетъ, пли будетъ вотъ такой богомазъ, какъ я, пли самодовольный малярпшка, который чтб ни сдѣлаетъ всѣмъ доволенъ. Художнику надо вѣчно хранить въ себѣ святое недовольство собою, а это мука, это страданіе, и я вижу, что вы уже къ нему немножко со-ирпчастплись... Хе-хе-хе! я все вижу!
— Отчего же, говорю,—вы это видите? я вѣдь вамъ, кажется, ничего такого не говорилъ, да и по правдѣ сказать. никакихъ особенныхъ намѣреній не имѣю. Я поучился у васъ и очень вамп благодаренъ — это дастъ мнѣ возможность доставлять себѣ въ свободные часы очень пріятное занятіе.
Лаптевъ замоталъ головой.
— Нѣтъ,—закричалъ онъ:—нѣтъ, атанде-съ; не гово-рить-то вы мнѣ о своихъ намѣреніяхъ не говорили, это точно—и, можетъ-быть, ихъ у васъ пока еще и нѣтъ; но ужъ я искушенъ—и вы мнѣ повѣрьте, что они будутъ, и будутъ совсѣмъ не такія, какъ вы думаете. Гдѣ вамъ въ свободные часы заниматься! На этомъ никакъ не можетъ кончиться.
Меня очень заняла эта заботливость обо мнѣ веселаго живописца—и я, испытуя его пророческій духъ, спросилъ:
— А какъ же это кончится?
— А такъ кончится, что либо вы должны сейчасъ дать себѣ слово не брать въ руки кистей и палитры, либо васъ такой чортъ укуситъ, что вы скажете «прощай» всему міру п департаменту,—а это пресладостно, и прегадостно, и пре-вредно.
Я разсмѣялся.
— Тсс! тсс!—остановилъ мепя серьезно Лаптевъ:—я съ вами дружески говорю... потому что я васъ полюбилъ и считаю обязанностью спасти васъ отъ опасности. Вы не смѣйтесь надъ этимъ: я, вѣдь, рукомесломъ богомазъ, а у меня внутри художественный чертенокъ все-таки живъ... Я по-люблпваю людей... такъ, ни за что. Взгляну въ харицу—и
если замѣчу, что на ней зракъ божественный отсіяваетъ.. я и пропалъ: пристращусь, полюблю и иногда чоргъ знаетъ до чего люблю. Вотъ такъ и съ вами: ишь у васъ мордо-илясія-то какая. Ахъ ты, каналья, какой онъ прекрасный!
И находившійся въ своемь удивительномъ художественномъ восторгѣ Лаптевъ вдругъ вскочилъ съ мьста, пребольно ущипнулъ меня съ обѣихъ сторонъ подъ челюстями и. нѣжно поцѣловавъ въ лобъ, договорилъ:
— Какъ же ты не художникъ, когда душа у тебя—вся душа наружу—и ты все это понимаешь, чтб со мною дѣлается? Нѣтъ; тебя непремѣнно надо спасти и поставить на настоящую дорогу.
— Сдѣлайте милость —отвѣчалъ я:—я не. прочь, только дорога-то для меня уже выбрана: я долженъ служить и сидѣть въ канцеляріи.
И при этомъ я разсказалъ ему о тѣхъ привилегіяхъ, которыя я получилъ въ напутственное благословеніе при исключеніи меня изъ корпуса съ обязательствомъ служить восемь лѣтъ до перваго чипа.
Лаптевъ пзрыінулъ цѣлый потокъ самой злой брани, но потомъ успокоился и сказалъ, что и это ничего; что восемь лѣтъ пройдутъ какъ уже часть пхь прошла—и тогда только настанетъ для меня пора настоящаго выбора.
•— Вамъ будетъ двадцать пять лѣтъ,—заговорилъ онъ:— и вы будете чиномъ коллежскій регистраторъ, это еще чуть-чуть не китайскій императоръ: съ этакими началами чортъ бы ее побралъ, госпожу службу! Вотъ тогда-то вы п шатнетесь, а куда шатнуться -это надо знать. Надо дѣлать славу или деньги: это большой расчетъ. Мой вамъ совѣтъ: дѣлайте деньги.
— Покорно васъ благодарю.
— Нѣтъ, кромѣ всякихъ шутокъ. Тогда и поэзія, и искусство, все въ мірѣ мило будетъ, а иначе бѣда. Я объ этомъ и хлопочу: васъ надо отучить отъ искусства.
— Какъ же вы это сдѣлаете?
— А уже я сдѣлаю! Не безпокоитесь: я мужъ искушенный; у меня есть на это вѣрное средство. Я затѣмъ къ вамъ и пришелъ. Вы скоро уѣзжаете; я не хочу, чтобы вы уѣхали съ тѣмъ, какъ теперь заправились. Вы вѣдь, небось, думаете, что вы видѣли искусство и искусника. Э, нѣтъ, отецъ родной, вы видѣли не искусника, а чорта въ сіулѣ!
А воть я вамъ покажу настоящее искусство и настоящаго искусника, такъ вы и поймете, что до него ухъ какъ далеко ѣхать! Да-съ, всякая охотишка отпадетъ какъ посмотришь. сколько нужно грабаться на верхушку, съ которой все видно станетъ. Маѣ счастливая мысль пришла: сегодня суббота, завтра воскресенье, а послѣзавтра праздникъ, а потомъ именинница Борисоглѣбская гостиница: мои молодцы попируютъ, а потомъ станутъ зубы располаскивать и работать дня четыре не будръ. Здѣсь въ городѣ и мнѣ, и вамъ страшно скучно—и я хочу вамъ предложить небольшую прогу дойку за городъ, но только ручаюсь вамъ, что прогулка будетъ первый сортъ, съ сопряженіемъ пользы и удовольствіи.
Я пожелалъ что-ннбудь подробнѣе зпать объ этой прогулкѣ, на которую звалъ меня Лаптевъ.
— Видите,—отвѣчалъ онъ:—тутъ, въ восемнадцати верстахъ отъ города, есть село Кротово. Кличка у него ничего особеннаго нс обѣщаетъ, но само оно чрезвычайно красиво: раскинуто на берегу Оки и все въ садахъ и паркахъ. а что самое главное—такъ тамъ такая господская усадьба, что передъ нею куда твой Петергофъ! Да, именно Петергофъ, потому что тамъ въ Кротовѣ даже есть такія собранія произведеній искусства, что всѣ пальчики оближешь: вотъ пхъ-то я вамъ и хочу показать. Самъ Павелъ Дмитричъ Кроговъ—антикъ, который надо продавать на золотники: онъ разссорплся со всѣмъ Петербургомъ, уѣхалъ къ себѣ въ Кротово и никого видѣть не хочетъ, да намъ до него и дѣла нѣтъ; а у него есть галлерея.—дивная галлерея, картины всѣхъ школъ и едва ли не въ наилучшихъ образцахъ, и вдобавокъ въ куполѣ надъ библіотекою теперь у него пишетъ что-то аі Ггезсо одинъ извѣстнѣйшій ньмец-кій художникъ: мнѣ страсть хочется это видЬть, да и вамъ совѣтую- во-первыхъ, огромное наслажденіе, п притомъ несмѣтная польза.
— Бакая же?
— А вотъ тамъ увидите. Такъ значитъ ѣдемь?
— Извольте.
Лаптевъ выб икалъ и черезъ нѣсколько минутъ забарабанилъ пальцами по стекламъ моего окна, и закричалъ:
— Подвода готова!
Я бросился къ окну и увидалъ у воротъ настланную со
домою крестьянскую телѣжонку, въ которой были запряжены худой, рослый, караковый міринъ и толстоногая буланая кобылочка, подъ выменемъ которой сосалъ пѣгій жеребенокъ.
«Такъ вотъ экипажъ, на которомъ мы поѣдемъ въ кротовскіп храмъ искусства—не важно!»—подумалъ я, находя эту телѣгу н сбрую, а особенно пристяжную кобылку съ жеребенкомъ, не особенно изящными; но дѣлать было нечего: «важнѣе» намъ не на чемъ было ѣхать, да и къ тому же я скоро сообразилъ, что по-деревенски это ничего не значитъ. И съ этимъ я не только радостный, но даже торжествующій, вскочилъ въ телѣжку рядомъ съ моимъ Лаптевымъ, и мы поѣхали, конвоируемые сзади жеребенкомъ, который, чувствуя впереди вольный воздухъ полей, заливался тонкимъ и веселымъ жеребячьимъ ржаніемъ.
Ліи ну ты этого отъѣзда, равно какъ и всего этого путешествія я никогда не позабуду. По самымъ страннымъ стеченіямъ обстоятельствъ этотъ выѣздъ былъ моимъ исходомъ изъ отрочества въ иной періодъ жизни, который я опишу когда-нибудь, болѣе собравшись съ силами, а теперь, подходя къ этому рубежу, намѣчу только ту странную встрѣчу въ Кротовѣ., которая была для меня вѣхою, указавшею мнѣ новый путь и новыя страданія.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Село Кротово дѣйствительно было, что называется, «прелестный уголокъ»: оно очаровало меня еще издали его далеко открывшимися видами, и я находилъ, что мой Лаптевъ не только ничего не преувеличилъ, подмалевывая мнѣ картины Кротова, но даже былъ немножко излишне скроменъ въ своихъ похвалахъ. Село лежало въ удольѣ вдоль быстраго ручья, вливавшагося въ русло Йки подъ прямымъ угломъ, а барская усадьба была въ сторонѣ, надъ самыми берегами рѣки, по которой ползли струга съ своими разноцвѣтными значками. Издали виднѣлся большой каменный домъ съ куполомъ и флагштокомъ, на которомъ, впрочемъ, флага не было, хотя владѣлецъ жилъ тутъ. Половина дома была не отдѣлана и, повидимому, заброшена, что придавало въ моихъ глазахъ всему зданію свою особенную поэзію. Домъ въ самомъ дѣлѣ похожъ былъ на замокъ, вокругъ котораго вѣяло чѣмь-то мрачнымъ, таинственнымъ.
Рѣка подходила подъ самый паркъ и такъ терялась въ темной тѣни отражавшихся въ ней деревьевъ, что казалось, будто деревья эти осунулись въ воду. Я не зналъ, какъ мы переберемся черезъ эту рѣку: моста нигдѣ не было видно и ни живой души нигдѣ не шевелилось; но пока я размышлялъ объ этомъ затрудненіи, нашъ извозчикъ сложилъ у рта трубкой свои ладоши и протрубилъ какой-то гулкій звукъ, въ отвѣтъ на который на томъ берегу что-то щелкнуло и изъ темени густыхъ тѣней пополозъ на шестахъ небольшой паромъ, сколоченный изъ двухъ плоскодонныхъ лодокъ.
Мы переѣхали и, очуіясь подъ самымъ паркомъ, хотѣли подниматься на гору, какъ одинъ изъ нашихъ перевозчиковъ остановилъ насъ и велѣлъ подвязать колокольчикъ.
-— Зачѣмъ это?
— Баринъ не любитъ: у насъ для того больше и моста нѣтъ п съ того конца тоже человѣкъ приставленъ... наблюдаетъ.
Мы сняли колокольчикъ и стали подыматься по довольно крутому взвозу, который шелъ въ огибъ парка п постоянно держатъ насъ въ какомъ-то секретѣ отъ замка и другихь строеній, такъ что мы чѣмъ ближе къ нимъ приближались, тѣмъ меньше ихъ видѣли. Все это на меня дѣйствовало какимъ-то подготовляющимъ образомъ; мнѣ, невѣдомо почему, начало казаться, что я потерялъ въ моемъ сознаніи мѣру временя п связь событій: я никакъ не могъ себя увѣрить, чго мое имя есть точно мое, что я имѣю мать, которой имя и лицо такое, какое оно есть, и что я ее покинулъ въ томъ, а не въ другомъ мѣстѣ, и что этому прошло уже нѣсколько времени, а все это случилось не сейчасъ, не сію минуту... Меня это даже испугало: мнѣ показалось, что нѣчто подобное долженъ чувствовать человѣкъ, когда онъ начинаетъ терять разсудокъ, и между тѣмъ я не могъ искать на все это отвѣта у моего Лаптева, потому что я не могъ бы разсказать ему моего состоянія- и я съ прозорливостью провидца сознавалъ, что онъ меня не пойметъ и ничего мнѣ не въ силахъ будетъ отвѣтить.
Я взглянулъ на него и увидѣлъ, что онъ сидѣлъ въ своемъ камлотовомъ пл іщѣ—и, высоко задравъ голову, что-то въ себя тянулъ носомъ.
— Что вы дѣлаете?—спросилъ я.
— А воздухець кушаю: вы развѣ не ч вствуете, какой Сочиненія Н. С. Лѣскова Т. XXXII. Ц
воздухъ? Вѣдь это, батенька, почкой пахнетъ, а въ почкѣ весь эликсиръ жизни: мнѣ, знаете, даже спать захотѣлось.
— Вотъ какъ!
— Да что же: я всегда возобновляюсь этимъ и вамъ то же совѣтую, а вотъ мы и въѣзжаемъ на дворъ.
Я взглянулъ впередъ и удивился: обогнувъ паркъ и взъѣхавъ на террасу, мы вдругъ очутились у двухъ каменныхъ столбовъ, замѣнявшихъ ворота, и затѣмъ намъ открывался дворъ не дворъ — скорѣе цѣлая площадь, размѣры которой въ моихъ глазахъ показались чудовищными, вѣроятно отъ страннаго фокуснаго освѣщенія. Солнце совсѣмъ уже сѣло и западъ, облитый багровымъ свѣтомъ, гасъ, но, угасая, онъ еще освѣщалъ неотдѣланную половину дома и свѣтилъ черезъ незарамленныя окна этой части на дворъ, тогда какъ во всѣхъ другихъ окнахъ было темнешенько... Престранный это имѣло видъ: точно домъ этотъ — словно многоглазое чудовище, у котораго когда одни глаза спятъ, то другіе смотрятъ. Я былъ тогда очень молодъ, очень мечтателенъ и склоненъ къ фантастическому, а къ тому же въ этотъ день чувствовалъ себя въ особенномъ настроеніи п очень легко предался мечтамъ, которыя осѣтили меня, чуть только я коснулся головою подушки, которую подкинула мнѣ вмѣстѣ съ простынею и одѣяломъ какая-то женщина.
Мы, кажется, пріѣхали не вб-вреаія: въ домѣ что-то такое происходило, что пріятелю Лаптева было недосужно принять насъ, а вдобавокъ ко всему для насъ не оказалось и особаго помѣщенія—и мы должны были довольствоваться комнатою въ неоконченной части дома. Здѣсь намъ сдѣлали на сѣнѣ постель, на которую я и бросился, межъ тѣмъ какъ Лаптевъ пошелъ любоваться какими-то видами, представлявшими, по его словамъ, большей эффектъ при лунномъ освѣщеніи. Я за нимъ не послѣдовалъ, тѣмъ охотнѣе, что никакой луны не было—и я считалъ затѣю Лаптева о прогулкѣ пустою фантазіею, а потому, проводивъ его, я уснулъ глубокимъ и сладкимъ сномъ, но... вдругъ совершенно неожиданно проснулся, — точно меня кто въ бокъ толкнулъ; я открылъ глаза: луна свѣтила въ окно, обливая длинную анфиладу огромныхъ опустѣлыхъ палатъ блѣднымъ дрожащимъ свѣтомъ. Сонъ мой былъ такъ крѣпокъ, что, и проснувшись, я еще никакъ не могъ прійти
въ себя и понять, гдѣ я и что передъ собою вижу. Я только оглянулся на постели—и увидавъ, что Лаптева нѣтъ возлѣ меня, подумалъ, что его со мною и не было; все дѣйствительное мнѣ представлялось сномъ и одинъ сонъ былъ какъ будто дѣйствительностію. Безсиліе разобрать что-нибудь въ этомъ дѣйствовало на пеня самымъ угнетающимъ образомъ—и я лежалъ точно въ какой летаргіп, тяжело устремивъ свой усталый, пристальный взглядъ въ одно мѣсто передъ собою. Какое это было мѣсто, — спросите меня: я не знаю: надо полагать, что это была стѣна подъ высокою аркою, куда свѣтъ луны попадалъ какимъ-то рефлексомъ и печально обливалъ изображеніе... какое это было изображеніе? Это были какія-то фигуры, изъ которыхъ я не узнавалъ ни одной, кромѣ той, которой не могъ не узнать, потому что это... была моя мать. Чіліъ я пристальнѣе въ нее вглядывался, тѣмъ она становилась яснье: это была она, я теперь ясно видѣлъ ея стройную фигуру, ея небесныя черты п эти ея превосходные золотистые волосы, въ которыхъ только не было нынѣшнихъ бѣлыхъ нитей. Что это такое было: сонъ, видѣніе, пли картина? Кто могъ изобразить эту імртину, для которой моя мать послужила идеаломъ, и наконецъ, чтб представляетъ вся эта сцена, въ которой все казалось живымъ и движется, опять кромѣ ея, кромѣ этой святой для меня фигуры, которая стояла неподвижно, склонивъ подъ чѣмъ-то свою головку,— знакомое, прелестное движеніе, къ которому я такъ привыкъ, наблюдая ее въ тѣ минуты, когда она слу шала о чьемъ-нибудь горѣ и соображала: какъ ему помочь и не остаться къ нему безучастнымъ...
Я боялся не только встать, но даже пошевельнуться, а мржт, тѣмъ лунный свѣтъ все становился слабЬе и видѣніе темнѣло и меркло, и словно переносилось со стѣны внутрь души моей: я сталъ припоминать, какъ я былъ неправъ противъ матери; какъ я тяготился даже ея чистотою и неотступнымъ ко мнѣ вниманіемъ,—словомъ, какъ мнѣ .хотѣлось выйти изъ-подъ ея опеки, и... мнѣ вдругъ показалось, что я изъ-подъ нея вышелъ, что матери моей болѣе нѣтъ во всемъ ея существь, а она остается только въ моей памяти, въ моемъ сознангі и въ моемь сердцѣ.
Я повернулся къ стѣнѣ и заплакалъ: спалъ или не спалъ я послѣ этого — не знаю, но только я слышалъ, какъ при
шелъ Лаптевъ, какъ онъ долго зажигалъ свѣчу отсырѣвшими спичками и все шопотомъ на что-то ворчалъ, и очрнь долго укладывался, и потомъ опять всталъ, скрипѣлъ что-то дверями, ві.роятно запиралъ ихъ, и снова ложился. Все это мнѣ ужасно надоѣло. Утромъ я всталъ очень рано: часовъ съ нами не было, онп остались съ прочими нашими вещами внизу, въ жилыхъ покояхъ управителя, — но по солнцу я видѣлъ, что еще очень рано, и, вскочивъ, тотчасъ же наскоро одѣлся и вышелъ на цыпочкахъ, чтобы найти мое ночное видѣніе.
Пріотворивъ съ усиліемъ двери, съ которыми такъ долго возился ночью Лаптевъ, я пролѣзъ въ нихъ и остановился; передо мною былъ огромный круглый залъ недостроенный, но скорѣе заброшенный и теперь, повидимому, вновь реставрируемый, — по крайней мѣрѣ я такъ заключилъ по загромождавшимъ его подмосткамъ, изъ-за которыхъ выгіяды-ва.іи на меня поблѣднѣвшія головы фрескъ. Я повелъ глазами вокругъ, боясь найти п боясь потерять обликъ, котораго искалъ,—и вотъ онъ: я увидалъ его тамъ же, вверху ниши Ійгрѣльчап’ой арки, и не помня себя, побѣжалъ вверхъ по зыбкимъ подмосткамъ. Я былъ уже почти наверху, почти у самаго изображенія моей матери, какъ вдругъ вздумалъ взглянуть внизъ... земля подо мною верткіась, прямыя доски косили и выгибались подъ моими ногами, — я какъ-то повернулся су-бочь на одной ногѣ и почувствовалъ, что меня какъ будто что-то пріятно щелкнуло по темени и затѣмъ вдругъ встряхнуло и вытянуло... Это было такъ неиріяіно, что я открылъ глаза—и увидалъ какого-то высокаго брюнета съ прекраснымъ чужеземнымъ лицомъ и сейчасъ же позабылъ и себя, и его, и въ предѣлахъ земныхъ все земное. Когда я пришелъ въ себя, быта теплая синяя ночь; комната, въ которой я дожалъ, была не высока, но воздухъ въ ней былъ необыкновенно легокъ и пропитанъ какимъ-то тонкимъ, живительнымъ ароматомъ. Я по всей строгой пстпнѣ рѣшительно не могъ сказать, гдѣ я нахожусь. Всѣ мои чувства были въ совершенномъ разбродѣ, но я ощущалъ какую-то невыразимо-пріятную тишину и разлитый въ воздухѣ запахъ сирени—и, тихо приподнявшись, сѣлъ на ноете іи. Въ открытое окно глядѣлъ мѣсяцъ и мерцали съ синяго неба яркія звѣзды, а внизу на подоконникѣ лежали сиреневыя грозди. Что же это: гдѣ
я наконецъ?.. Я никакъ ничего не могъ вспомнить, но въ это время за ковромъ, которымъ была завѣшана стѣна у моей постели, послышался вздохъ, глубокій, теплый, куда-то рвущійся вздохъ и раздались щиплющіе за сердце металлическіе звуки шітры. Опытная и искусная рука играла хорошо знакомый мнЬ мотивъ псалма изъ старой гугенотской библіи, которая не сходила со стола моей Матери.
— Все она, и все она! Кто же это здѣсь ею занятъ? Мнѣ показалось необходимостью узнать это теперь же, сейчасъ, сію минуту, и я тронулся и пошелъ нетвердыми шагами, держась рукою сті ны. Мнѣ что-то попадалось подъ руку — я что-то обходилъ, за что-то зацѣплялся и снова освобождался и, наконецъ, очутился въ совершенно-тѣсномъ пространствѣ, которое, вѣроятно, должно было быть коридоромъ. Но что это за коридоръ? Я чувствовалъ подъ ногами обіпыіі ковромъ полъ и обтянутыя какою-то матеріею стѣны и ничего болѣе. Куда ни двинешься—все то же самое. Но вотъ снова щипнула цитра, и еще. и еше, и сві.жій, крѣпкій. мужественный баритонъ запѣлъ: *Еіегпе1, аіе рігіё сіе шоі, саг ]е зиіз вапв аисппе Гогсе! Еіегиеі. гегоигпе іоі, ^агаиііе іноп ате . Это было опять ея пѣніе, ея манера; я не выдержалъ и куда-то подвинулъ впередъ руки и остановился; тяжелый коверъ, преграждавшій мнѣ путь, поднялся и открылъ обширную комнату, меблированную въ старинномъ франщ зекомъ вкусѣ. Всѣ окна ея также выходили въ садъ и были растворены: свѣтъ и ароматъ въ нее лилъ еще раздражительнѣе и чуть на длинной софѣ съ золоченымъ загибомъ сидѣлъ у небольшого легкаго столика... тотъ, кого я видѣлъ въ послідній разъ, когда потерялъ сознаніе: высокій мужчина съ полусѣтою головою—и онъ пѣлъ этотъ чудный псаломъ.
Коверъ, которымъ я двинулъ, заставилъ его оглянуться, и глаза наши встрѣтились.
— Богу хвала: вы живы! — воскликнулъ онъ по-французски и, вскочивъ съ мѣста, заключилъ МеНЯ въ свои объятія, и, посадивъ въ кресло, подалъ мнѣ стаканъ воды съ каплей какого-то вина.
— Живъ?—спросилъ я:—развѣ я былъ боленъ?
— Да; вы лежали долго.
— Долго?
— Да; объ этомъ послѣ...
— 1СС —
— Что же было со мною?
— Вы оступились съ высокаго мЬста.
— Помню. Что же, я расшибся?
— Нѣтъ; вы только получили большое сотрясеніе.
— Кто спасъ мнѣ жизнь?
— Конечно Тотъ, Кто вамъ далъ ее.
— Но я помню ваше лицо...
— Я былъ тамъ.
- - Кто же вы?.. Какъ ваше имя?
— Мое имя Филиппъ.
— О, вы Кольбергъ!
— Я Кольбергъ, я тотъ, котораго мать ваша считаетъ своимъ другомъ; но теперь пока это все: пока болѣе ни слова. Слушайте меня: мы здѣсь одни, во всемъ имѣніи нѣтъ ни хозяина, ни управителя, ни Лаптева, который привелъ васъ; всѣ они разъЬхались кто куда: я одинъ ждалъ васъ и дождался. За все это я попрошу у васъ по-виновен'Л.
— Я долженъ повиноваться.
— Да; п ѵна такъ хочетъ... она этого даже просила.
— Вы получи іи письмо огъ матушки?
— Да.
— Нельзя ли его видѣть?
— Нѣтъ; его нельзя видѣть, — отвѣчалъ Кольбергъ: — п вы должны не повторять этой просьбы до тѣхъ поръ, когда я самъ найду нужнымъ это исполнить.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Онъ не скоро это исполнилъ - и зачѣмъ онъ пополнилъ это? О, сколько было бы л)чше, если бы я никогда но узналъ того, чтб сдѣлалось съ тѣмн, кого любилъ я, въ мое отсутствіе.
Съ этой поуіы я видѣлъ Кольберга всякій день и, глядя на его вдохновенное лицо, думалъ:
«Что за тайна связываетъ этого человѣка съ моею матерью: можетъ-быть, опа его любила, когда еще не была женою моего отца; можетъ - быть, онъ о-сю пору ее любитъ».
— Господинъ Кольбергъ! — спросилъ я его однажды, когда мы сидіілн вдвоемъ: я читалъ книгу, а онъ рисовалъ карандашомъ эскизъ будущей картины.
Онъ обернутся.
— Знаете, что я хочу васъ спросить?
— Нѣтъ, не знаю.
— Не будетъ ли на этой картинѣ, которую вы сочиняете, лицо моей матери?
— Будетъ.
— Зачѣмъ вы его такъ часто рисуете?
-—- Питому, что оно прекрасно.
II онъ положили, карандашъ и закрылъ руками глаза.
— Г. Кольбергъ!- -продолжалъ я.
— Спрашивайте.
— Какъ это было?
— Что?
— Машап и вы...
Онъ разсказа іъ мнѣ странную исторію, въ которой самъ игралъ роль жалкую, а моя мать по обыкновенію святую и миссіонерскую: онъ былъ дерптскій студентъ, буршъ, кутила и демократъ; мать — христіанка. Онъ былъ происхожденія ничтожнаго; она -баронесса. Онъ за нее сватался ему отказали, — онъ не переставалъ ее любить, искалъ забвенія въ искусствѣ, искалъ смерти на барпкадахъ и остался живъ, для того, чтобы встрѣтить ее вдовою. Онь снова предложилъ ей руку и снова получилъ отказъ, но на этотъ разъ уже не отъ ея родителей, а отъ нея самой.
— II вы знаете, кто этому былъ виноватъ?—заключилъ онъ: - виновникъ всего этого вы.
— Я!
— Да: она отвѣчала мнѣ: <и половина сердца не можетъ отвѣчать цѣлому, а мое цѣлое принадлежитъ все моему сыну». Взамѣнъ любвп она предложила мнѣ свою дружбу, и я жилъ ею, но когда ея не стало, я буду жить любовью къ вамъ!
— Кого не стало?—вскрикнулъ я.
— Кого?., Дружбы, — отвѣчалъ Кольбор^ъ, повидимому совершенно спокойно, но я видѣлъ, чго онъ лжетъ, и спросилъ:
— Развѣ вы поссорились съ шашап?
— Да, мы разладили.
— На чемъ?
-— Я вамъ это скажу завтра.
Я съ нетерпѣніемъ ждалъ этого завтра и не зналъ какъ
начать, но Кольбергъ предупредилъ меня самъ и довольно грубо; онъ сказалъ мнѣ:
— Вы теперь достаточно сильны, чтобы узнать о томъ, чтб случилось...
— Съ татап!
— Нѣтъ; съ дѣвушкою, которую зовутъ...
— Христя!
- Да.
— Чтб съ нею?
— Ровно ничего.
— Какъ это?
— Ея больше нѣтъ.
— Она умерла?
— Умерла. Хотите прочесть объ этомъ?
— Очень хочу.
II я взялъ изъ его рукъ письмо татап отъ довольно давней уже даты и прочелъ вѣсть, которая меня ошеломила. Маіпап, послѣ краткихъ выраженій согласія съ Кольбергомъ, что «не все въ жизни можно подчинить себѣ», справедливость этого вывода примѣняетъ къ Христѣ, которая просто захотѣла погибицть и погибла. Суть дѣла была въ томъ, что у Христа явилось дитя, рожденіе его было не благополучно—и мать, и ребенокъ отдали Богу свои чистыя души.
«Я у коряю себя за эту дѣвушку, — писала татап: — я слишкомъ высоко подняла въ ней тонъ —и это ее сгубило. Принимая вещи обыденнѣе, она была бы счастливѣе, и»...
Тутъ что-то было далѣе, но Кольбергъ, слѣдившій за моимъ чтеніемъ, вынулъ на этомъ мѣстѣ изъ моихъ рукъ письмо и сказалъ:
— Остальное къ дѣлу не идетъ.
Я совсѣмъ оправился и сталъ собираться домой. Кольбергъ возвращался въ Петербургъ. Мы разстались въ городѣ очень дружно — и на прощаньѣ онъ взялъ съ меня слово, что если мнѣ когда-нибудь понадобится другъ, то я не стану искать ніікого другого кромѣ его. Я далъ ему это слово.
— А на дорогу совѣтъ,—добавилъ онъ:—не поднимайте очень высоко тона...
— Пе понимаю, говорю.
— Берите жизнь попроще, а то спутаетесь и другихъ
спутаете. Я пострадалъ отъ этого. — смотрите вы не пострадайте,—зато и выработать себѣ крнсррвъ.
— Какой консервъ?
— Морали: я согласенъ, что не дѣлать того другому, чего себѣ не желаешь мало; слова нѣтъ, что мало, потому что это одно отрицаніе зла. но не добро, - а вотъ какъ: ГаіЬе> се цие ѵоп8 ѵоиіег ци'оп ѵои.8 ѣиье и больше этого ничего не нужно... Прощайте.
Я ѣхалъ благополучно до самаго Кіева и уже перемѣнялъ лошадей на послѣдней станціи, какъ вдругъ смотритель мнѣ подалъ пакетъ. Я взглян лъ на адресъ и узналъ руку Кольберга, а распечатавъ, нашелъ то же материно письмо, которое уже было въ моихъ рукахъ и не дочитано на буквѣ «и».
-— «Дочитайте!»—подписалъ на немъ Кольбергъ.
— «Принимая вепіи обыденнѣе, она могла бы быть счастливѣе, и это приложимо ко многимъ. Я часто думаю, что въ христіанскомъ мірѣ -становился нѣсколько неправильный взглядъ на нашу собственную жизнь: отчего, изводи себя по мелочамъ, ради той или другой идеи, мы не въ правѣ дѣлать того же самаго еп ,цго§? Я этого рѣшительно не понимаю: тѣ, которые клали подъ топоръ свою голову за какую-нибудь высокую идею, ра вѣ въ сщности не тѣ же самоубійцы? Если сохраненіе жизни важнѣе всего, то они должны былп ее сохранить, и тогда у насъ не было бы тѣхъ идеалистовъ, которыми хвалится и ими живетъ, не доходя до крайней низости, весь родъ человѣческій. Не укоряйте меня, мой дрѵгъ, что всѣ эти мыли приходятъ мнѣ, когда я думаю о моемъ сынѣ: онъ теперь прожилъ уже срокъ своего наказанія, получаетъ чинъ и былъ бы свободенъ: онъ бы уѣхалъ къ вамь, вы бы открыли дорогу его художественному развитію, между тѣмъ, какъ со мною онъ погибнетъ здѣсь среди удушливой атмосферы канцелярской, но почемъ знагь можетъ-быть, со временемъ сживется съ нею и позабудетъ все, что я старалась въ него вдохнуть... Эта мысль не даеть мнѣ покоя и я чувствую, что я съ нею не справлюсь: мое счастье развязать ему крылья и благословить его полетъ, искупивъ свое самовластіе надъ собою карою, какой буду заслуживать».
Внизу этого рукою Кольбера было отмѣчено: «Съ тѣхъ поръ писемъ не было».
Сочиненія Н. Г. Лѣскчва. Т. ХХХП. Цд
Вы можете вообразить, въ какое состояніе пришелъ я, прочитавъ это письмо! Вообразите же другое мое состояніе, когда я, входя въ свою квартиру, не встрѣтилъ моей матери... Я не спросилъ никакого объясненія у нашей служанки и бросился къ Альтанскому.
Это былъ вечеръ: старикъ сидѣлъ дома, все въ томъ же креслѣ и въ томъ же халатѣ, и за тѣми же классиками.
— А, другь мой! Это ты! Ну что же: ты пріѣхалъ все-таки не поздно, чтобы узнать вое горе.
— Моя мазь... могч, я только проговорить.
— Твоя мать кончила съ собою (онъ не сказалъ мнѣ, какъ опа отравилась). Она увлеклась своимъ самоотвсржс-ніем ь...
— О. я знаю это! Знаю! II это я во всемъ виноватъ.
— Чѣмъ же?
— Я не умѣлъ скрыть, что мнѣ скучно, что меня манитъ что-то иное, — и я потеря іъ ее, а съ ней все, чтб было мнГ. мило.
— Что же, опа значитъ своего достигла: теперь она для тебя никогда не умретъ.
Онъ болѣе не утѣшалъ меня, да я и не требовалъ утѣшенія: я провелъ нѣсколько дней, молясь на могилѣ матери, и уѣхалъ отсюда навсегда, къ Кольбергу. Болѣе мнѣ ничего не оставалось дѣлать: я былъ выбитъ изъ старой колеи и долженъ былъ искать новой.
— Я не могу быть ученымъ, какъ вы,—сказалъ я Альтанскому:—въ душѣ моей горитъ другой огонь: огонь жизни; я хочу служить искусству.
—- И служи ему, отвѣчалъ онъ въ часъ нашей разлуки, когда я въ послѣдній разъ поцѣловалъ его въ блѣдныя уста.
Онъ остался на берегу Днѣпра, а я уѣхалъ къ Кольбергу. Съ тЬхъ поръ я уже не вилялъ старика, онь умеръ— не отъ грусти, не отъ печали одиночества, а просто отъ смерти, и прислать мнѣ въ наслѣдіе своихъ классиковъ; а я... я вступилъ въ новую жизнь—въ новую колею ошибокъ, которыя запишу когда-нибудь, конечно уже не въ эту тетрадь, заключающую дни моего дѣтства и юношества, проведенные между людьми, которымъ да будетъ мирный сонъ и вѣчная память.
Оглавленіе
XXXII ТОЧА.
Блуждающіе огоньки. (Автобіографія Праотцсва.
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧПНЕНІІГ
Н. С. ЛЕСКОВА.
ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ
съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. II. Сементков-скаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А Брокгаузомъ вь Лейпцигѣ.
ТОМЪ ТРИДЦАТЬ ТРЕТІЙ.
Положеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.
-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА,
1903.
Арін> гпчеекое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измиіл. пр., № 29.
юдоль.
РАПСО II Я.
«Совѣща Богъ смпрптпея горѣ п юдоліямъ пспьлшпися въ । а-вень земную;.
Варцлъ. Т‘. 7.
Теперь (съ наступленіемъ весны 189й года) мы можемъ сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опасное положеніе, какое подготовили намъ наше плохое хозяйство и неурожай прошлаго лѣта!.. Бѣда сошла съ рукъ сравнительно легко. Страданія поселянъ, описываемыя корреспондентами современныхъ изданій, конечно бы.ш велики и. какь говорятъ,—«вопіютъ къ ІЬ-бу»: но «ужасъ» впечатлѣнія. какое этп описанія производятъ, очень слабъ въ сравненіи съ тѣмъ, чтб сохраняетъ въ несвязныхъ отрывкахъ память о прошлыхъ голодовкахъ, когда не было никакой гласности п никакой общественной помощи людямъ «избывавшимъ отъ глада».
О томъ, что было при историческихъ голодовкахъ, упоминаемыхъ въ лѣтописяхъ п исторіи. то болѣе плп менѣе извѣстно по тѣмъ описаніямъ, но у насъ были голодовки въ позднѣйшей порѣ, которую въ лптературі принято именовать «глухою порою». — и онѣ нр описывались, а потому воспоминанія объ этихъ голодовкахъ. хотя и не очень обстояіельныя. думается, были бы не излишни.
Сотрудникъ одной изъ нынѣшнихъ петербургскихъ газеть, посѣгивши неурожайныя мѣстности Россіи зимою 1>92 года,
имѣлъ случай бесѣдовать о той порѣ съ извѣстнымъ старожиломъ орловской губерніи, — помѣщикомъ и владѣльцемъ знаменитаго хрустальнаго завода генераломъ С. И. Мальцевымъ, и «генералъ, помнящій старинныя голодовки», въ разговорахъ съ упомянутымъ писателемъ «удивлялся, какъ мы далеко ушли впередъ». Въ удивленіи этомъ онъ отмѣчалъ то, что «теперь о голодѣ говоритъ вся Россія, и раньше всѣхъ на него указало само правительство». Не то было 10—50 лѣтъ тому назадъ. Тогда также случались неурожаи, но о нихъ могли знать лишь министры да развѣ сама голодающая масса. 'Я тогда, говорилъ генералъ Мальцевъ,— представилъ проектъ обезпеченія народнаго продовольствія. Императоръ Николай Павловичъ весьма сочувственно отнесся къ проекту, и я рѣшилъ напечатать его, но ни одна ніниографія не согласилась взять мою рукопись для набора...» Генералу «удалось напечатать свой проектъ только благодаря покровительству принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго». (См. Недѣля 19-го апрѣля 1892 г., .V 16).
Съ такими необыкновенными усиліями могъ быть напечатанъ сорокъ лѣтъ тому назадъ «проектъ» о мѣрахъ противъ голода въ народѣ; но описаніи, какъ люди переживали этотъ голодъ, совсѣмъ не могло появиться въ печати, и, чтб еще удивительнѣе,—ихъ вѣроятно никто и не писалъ, потому что они не появлялись даже и въ послѣдующіе за тѣмъ годы, когда положеніе русской печати стало сравнительно немножко свободнѣе.
Во время страшнаго по своимъ ужасамъ «голоднаго (1840) года» я былъ ребенкомъ, но, однако, я кое-что помню,- по крайней мѣрѣ по отношенію къ той мѣстности, гдѣ была деревенька моихъ родителей—въ орловскомъ уѣздѣ орловской же губерніи. Значительно болѣе того, что я помню изъ тогдашняго времени, какъ непосредственный свидѣтель событій, я слышалъ многое послѣ отъ старшихъ, которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались къ этому ужасному времени со своими воспоминаніями въ разсказахъ по тому или другому подходившему случаю.
Разумѣется, всѣ эти нынѣшнія мои воспоминанія охватываютъ одинъ небольшой районъ нашей ближайшей мѣстности (орловскій, мценскій и малоархангельскій уѣзды) и отражаются въ моей памяти только въ той форм Г., въ какой они могли быть доступны «барчуку», жившему подъ роди-
ТРЛЬСКИМЪ І.ры.ючъ, ВЪ заіЦІІШеННоМЪ отъ бѣдствія господской ь домѣ, -и питомъ воспоминанія эти такъ неполны, безсвязны, отрывочны и поверхностны, что онп отнюдь не могутъ представить многостороннюю картину ніроднаго бѣдствія, но въ нихъ все-таки, можетъ-быть, найдется нѣчт<« пригодное къ тому, чтобы представить хоть кое-что изъ тѣхъ обстоятельствъ, какпмп сопровождалась )жасная зима въ глухой, безхлѣбной деревенькѣ сороковыхъ годовъ.
Словомъ, я рѣшился набросать на бумагу то, что уцѣ-лѣло въ моей памяти о давней голодовкѣ, относящейся къ той порѣ, о которой упомянулъ генералъ Мальцевъ, и, приступая къ этому, я впередъ прошу у моихъ читателей снисхожденія къ скудости и отрывочности моего описанія. Я предлагаю только то, чтб могу вспомнить и о чемь теперь можно говорить безстрастно и даже съ отрадою, къ которой даетъ возможность нашъ нынѣшній благополучный выходъ изъ угрожавшей намъ бѣды.
Воспоминанія мои будутъ не столько воспоминанія объ общей голодовкѣ 1840 года, сколько частныя замѣтки о томъ, чтб случалось голодною зимою этого года въ нашей деревенькѣ и по сосѣдств).
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Первыми предвозвѣстительницами горя — какъ это ни странно бы іи старухи, которыя видѣли нехорошіе сны. Это началось съ половины Велпкаго поста. Самою страшною сновидицею была наша птичница, гордая женщина изъ вольныхъ однодворокъ, по имени Аграфена Петровна. Я помню, какъ отецъ одинъ разъ, придя къ столу, за которымъ всѣ мы сидѣли у вечерняго чая. сказалъ матери, что сейчасъ, когда онъ распоряжался работами, староста Дементій объявилъ ему, чго мужики боятся сѣять ‘^яровые», потому что птичница Аграфена и друггя старухи на деревнѣ «прорекаютъ голодъи поэтому страшно, что сѣмена въ землѣ пропадутъ.
— Но вѣдь это глупо!—возразила мать.
Отецъ пожалъ плечами и отвѣтилъ:
— Да; это не разумно, но я не могу, однако, забыть, что во время большого неурожая въ мое дѣтство у насъ объ этомъ тоже заговорили еще передъ весною и притомъ также съ бабьяго голоса, а потомъ и въ самом ь дѣлѣ вышелъ не-
урожа|. Мужикамъ я, разумѣется. не позволю не сѣять ярового, и если онп не захотятъ, то я засѣю пхъ поля собственными сѣменами п потомъ пзъ будущаго урожая отберу у нпхъ сѣмена назадъ. Я ужъ это объявилъ Дементію п приказалъ ему, чтобы повЬстплъ сн<»видящимъ стіру-хамъ, которыя станутъ прорекать о голодномъ годѣ, что я эіихъ пророчицъ отряжу на всю весну индѣятъ и утятъ отъ коршуновъ караулить. А тебѣ совѣтую о томъ же самомъ построже сказать Аграфенѣ, такъ какъ она всѣмъ этимъ пророчествамъ, говорятъ. самая главная заводчица..
Матипка была характера скораго и нетерпѣливаго: она сейчасъ же велѣла позвать къ себѣ Аграфену съ тѣмъ, чтобы вопросить се: отчего она нач тла пророчествовать голодный годъ, и потомъ указать ей. чтобы болѣе не пророчила.
А какъ я и братъ мои, и старшая сестра были въ это время уже просвѣщены грамотою и знали по «ста-четыремъ священнымъ исторіямъ», что пророчество есть «свыше спо-сылаемый даръ дивный и таиысів'шный», то намъ, разумѣется. была въ высшей степени любопытно знать, какт. этотъ даръ спустился на и.ниу Аграфену, и какъ паша мать возбранитъ въ ней этому дару.
Аграфена же и сама по себѣ была шчность интересная и пользовалась во дворѣ особыми правами, присвоенными ей превосходствомъ рожденія, возвышавшаго ее среди совершенно безправныхъ крѣпостныхъ людей. Аграфена. какт. сказано, была пзъ людей вольныхъ и вышла заму жъ за нашего крѣпостного сапожника Абрама. который вскорѣ умеръ, оставивъ ей двухъ дѣтей: сына Егорку и дочь Василису пли Васёнку. копрой теперь только исполнилось четыре года. Оба они, какъ рожденные отъ крыюстного отца, были «крѣпки своему владѣлыіѵ». Со смертью мѵжа Аграфена могла отъ насъ удалиться, но ради любви къ своимъ «крѣ-постнымт.» дѣтямъ оставалась при нихъ и служила какт. Крѣпостная. НО. ВЪ отличіе ОТЪ Крі постныхъ «понёвніщъ». она носила красную юбку, какія въ нашемъ мѣстѣ носити однодворки. а .крѣпостныя не носили. Кромѣ того, Аграфена была честна и горда, она не сносила нп малѣйшаго подо-•4>1нія и считала себя въ правѣ вступаться за свою честь.
Ее надо было все «гладить п<> головкѣ»,—иначе она грубила.
Такъ с.г'чиюсь и тутъ, когда матушка позвала ее нев;, урочное время изъ ея жаркой птпчной избы въ покои.
Аграфена пришла недовольная и нехотя отвѣчала на вопросы. предложенные еіі тля претекста о ско.тотпяхъ и пахтаньѣ, а когда матушка спросила ее: «Какіе гы видній-Й сны?»— Аграфена отвѣчала еіі:
— Какіе приснятся.
— А зачѣмъ же ты голодъ пророчищь?
А отчего же не пророчить? Вѣстимо ужъ, что когда хлѣба не будетъ, такъ голодъ будетъ.
— Да почему?.. Что тебѣ снится... что дѣлается?
Чго ни снится п что ни дѣлается. а все теперь будетъ къ голоду, и я съ дѣтьми пропаду... упду отселена. II слава-те, Господи! отвѣчала Аграфена и ничего болѣе не пояснила, а между тѣмъ слова ея тугъ же были поддержаны обс і ояте.іьс гвамп.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Приближалось Благовѣщеніе, когда у насъ было въ обычаѣ печь при церквахъ «черныя просвиры» изъ ржаноп муки, подсѣянной на чистое сито. Муку эту приходское духовенство собйралр съ прихода и за сборомъ этимъ разъѣзжалъ на своой лошади высокій, старый дьячокъ, имя котораго я теперь позабылъ, но его всѣ называли «Аллилуй». Онъ во всемъ причтѣ пользовался авторш етомъ по церковному хозяйству и обыкновенно передъ праздниками обметалъ вѣникомъ иконостасъ и собственноручно мылъ ноль въ алтарѣ и чистилъ лампады, и потъ <*го же надзоромъ усердныя бабы по обп>щанік> вымывали полы въ остальной церкви; онъ же и «отстрѣливалъ голубей», которые прилетали на колокольню и марали колокола; а его дьячиха престарѣлая «Аллилуева жена», пекла «благовѣщенскія просвиры», о которыхъ надо сказать два слова въ объясненіе.
«Б.іаювѣщеискія просвиры»—это совсѣмъ не то же самое, чю обыкновенныя просфоры, которыя изготовлялись для проскомидіи. Проскомидійныя Просфоры изготовлялись изъ пшеничной муки «нарочитою просфорнею» (вдовицею) и дѣлались высокенькія, столбушками, по общепринятому образцу, и печатались «пменословною печатью» на верхней коркѣ, а эти,—благовѣщенскія,— дѣлалпсыіросто «ку.ъібуш-і.ами» или «катышками» изъ «черной», сборной муки и уподоблятпсь настоящимъ просфорамъ только тѣмъ, что наверху у нихъ тоже оттискивалась именословная печать.
Онѣ пе требовались какимъ-либо церковнымъ правиломъ, а только допцска икь. или, точнѣе сказать, были терпимы во уваженіе «-крѣпкой привычки народа».
.Іюдй требовали, чтобы ати просфоры сыпали въ толпу (•В(‘рху СЪ КОЛОКОЛЬНИ. II ВЪ толпѣ ихъ ловили руками,— кто толыіо схватитъ.
При этомъ разгуливалась сила и удаль: просвиры не «по чести», а «силомъ» брали,—«кто сколько вырветъ», а оттого людямъ этотъ обычай нравился.
Просфорня-вдовица «благовѣщенскихъ просвиръ» печь’не могла, потому что она была старушка слабенькая, и вымѣсить въ дежѣ большой растворъ была не въ состояніи. А потому она ѣздила только собирать на просвиры и при-хоіпла съ печатью ихъ «знаменитъ», но ставита ихъ и выдѣлывала Аллилуева жена.
Никакимъ обычаямъ и правиламъ это было ие противно.
Въ этотъ годъ Аллилуй ио обыкновенію объѣхалъ съ просфорнею прихожанъ и собралъ муки и промѣнялъ ее у мельника на муку одинаковаго раздоила (такъ какъ изъ сборной муки разнаго поля и неровнаго размола печь неудобно, потому что она неровно закисаетъ и трудно подходитъ і, а затѣмъ Аллилуева жена растворила въ дежѣ муку и ночью по ібьла тѣсто, которое всходило прекрасно, какъ слѣдуетъ, а еще іюслі. затопила печь и передч» тѣмъ, какъ наступила пора разваливать тЬсто и «знаменагь просвиры печатью», пошла звать учрежденную вдовицу, у которой была печать; но едва она вышла со своего двора, какъ увидала мужа , безпокойно бѣжавшаго къ дому священника, съ лицомъ до неузнаваемости измѣненнымъ отъ ужаса. Дьячиха оь ткнула мужа и хотѣла его разспросить, но онъ сердито замахалъ на нее обѣими руками и еще сильнѣе напрягся бѣжать къ Ипполитову дому. Но такъ какъ Аллилуева жена бы іа родомъ изъ сѣвскаго уѣзда, гдѣ уже есть «глуховсьііі духъ поведенціи», то-есть уже ощущается малороссійскій обычай женскаго господства въ семействѣ, то она забыла, зачѣмъ шла, а переняла А.ілилуя на пути и сказала:
— Это еще что за новой и! Пли я тебѣ не законная жена’-* Говори, чтб случилось!..
Аллилуи отвѣчалъ, что случилась бѣда.
— А какая?
— А такая, что баба Дулеба стала, вымывши амвонъ, начисто воду спускать, да раскатилась и вся до половины сквозь двери въ алтарь просунулась...
— Кто же это видѣлъ?
Никто кромѣ .меня не видалъ.
— Ну. такъ и иди съ Господомъ Богомъ.—отпусти бабъ и займпся самъ одинъ какимъ-нибудь дѣломъ посерьезнѣе, а на это и языкъ прикуси.
Хорошо.—отвѣчалъ Аллилуй: дай мнѣ чепурушечку выпить, и я взаправду послушаю тебя — прикушу языкъ.
Дьячиха налила ему чепурушечку, и Аллилуй подкрѣпился п пошелъ опять къ храму, а жена его тоже, поправясь маленькой чашечкой, вышла вмѣстѣ съ нимъ п отправилась къ учрежденной вдовппѣ.—звать ее «знаменитъ». Тутъ онѣ тоже между собою покалякали, и когда вышли вдвоемъ, имѣя при себѣ печать на знаменованія, то Аллилуева жена на половинѣ дороги къ дому вдругъ услыхала ни на что не похожій ударъ въ нѣсколько младшихъ колоколовъ, и тотчасъ же увидала людей, которые бѣжали къ колокольнѣ и кричали: «Аллилуй разбился!»
Несчастная женщина бросилась туда и нашла своего мужа простертымъ на землѣ и при послѣднемъ издыханіи: онъ лежалъ не дыша, съ закатившимися подъ лобъ глазами и съ окровавленнымъ ртомъ, изъ котораго торчалъ синій кусочекъ закушеннаго зубами языка.
Дѣло произошло такъ, что Аллилуй, не желая болѣе видѣть неловкихъ деревенскихъ бабъ, пошелъ исполни!ь другую работу и хотѣлъ очистить засиженные птицами колокола; онъ дѣлалъ это. держась за веревочки и стоя сапогами на перилахъ, съ котовыхъ онъ покачнулся, упалъ и разбился до смерти. Пришелъ священникъ отецъ Ипполитъ, по фамиліи Мирдаровъ,—далъ Аллплую такъ-называемую «глухую исповѣдь», а потомъ положилъ ему въ ротъ причастіе п тутъ же сразу прочелъ ему и отходную.
Все эго было дѣломъ непродолжительнымъ, но и химическій законъ въ дежѣ съ растворенною мукою тоже не медлилъ и совершалъ безостановочно свое дѣло: назначенное для благовѣщенскихъ просфоръ тѣсто ушло изъ дежи и расползлось на полу. Въ него только ноги перепачкали люди, принесшіе Іллилуево тѣло. а просфоръ печь было не изъ чего... Весь приходъ остался безъ просфоръ, а это соста
вляло случай въ жизни крестьянъ небывалый, потому что у насъ все были люди набожные и ни одинъ крестьянинъ не выходилъ сѣять безъ того, чтобы у него въ «ейвалкѣ», т.-е. вь круглой лубочной кораблѣ съ зернами, не было благовѣщенской просфоры.
Теперь же первый разъ приходилось сѣять безъ просфоръ. а это доора не обѣщало. Притомъ сличай съ бабон-дулебой, которая просунулась въ алтарь, тоже огласился: Аллилуева жена, когда стала въ голосъ «причитать» надъ мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего пагубнаго самовластія и раскричала на весь крещеный міръ, что мужъ ея Аллилуй былъ человѣкъ праведный и пе хотѣлъ утаить, что «дулеба» въ алтарь просунулась, а она его отвела отъ этого, и за то Господь покаралъ ее праведно: взялъ отъ пея совсѣмъ къ себѣ на тотъ свѣтъ Алліпуя.
Тутъ, узнавъ этакую вещь отъ Аллилуевой жены, ахнуло и все приходское христіанство, и были такія мнѣнія, что бабу-дулеоу надлежитъ убить за то, что она «въ е.ітарь сунулась»; но дулеба, къ счастію, скоро объ этомъ услыхала и хороню собою распоридилася, потому что пристала къ бѣглымъ, проходившими «въ вольный Николаевъ градъ», бывшій тогда для многихъ русскихъ людей «градомъ убѣжища». Этимъ дулеба спасла людей отъ ірѣха, а себя отъ преждевременной смерти. Во всякомъ же случай люди были окончательно обезкуражены какъ тѣмъ, что у нихъ въ приходѣ «баба въ елтарь вскочила», такъ и тѣмъ, что послѣ этого пришлось сѣять безъ просвиръ, — даромь это въ судьбахъ міра пройти не могло, — и предчувствія, что годъ предстоитъ «голодный», стали переходить въ увѣренность.
О томъ, чю предстоящее лѣто можетъ принести хорошій урожай, съ мужиками нельзя было и спорить: они вѣровали. что годъ будетъ голодный, и не хотѣли сѣять нп овса, ни гречи, ни проса.
— Для чего сѣять, когда все пропадетъ, и сѣмянъ не < берешь!
Въ нѣсколькихъ го< лодскихъ имѣніяхъ такое упорство крестьянъ было строго наказано: но мужики претерпѣвали, во не сѣялись; кое-гдѣ онп «скры іи сѣмена», побросавъ ихъ въ мішкахъ въ картофельныя ямы или овины, или спустили въ подполья избъ и въ другія скрыіныя мѣста.
Мой отецъ къ крутымъ, понудительнымъ мѣрамъ не фра-щался, т.-е. «людей не стегалъ», какъ говорили мужики, но оні. настоялъ на. томъ, что крестьяне должны были вспахать свои участки земли въ яровыхъ кликахъ и зас 1;яли ихъ выданными имъ заимообразными сИменами, съ обязательствомъ возвратить сѣмена изъ урожая. Но возвращать было не. изъ чего: просфорное тѣсто ушло нр даромъ.—никакого урожая не было. Все посѣянное припало.
11 какъ пропало! съ какою-то злою ироніею пли съ на-смішкшо, «точно шутъ сшутилъ>.
Взоііпо все г, сто и сильно, всклочилось такъ, что уже на Юрьевъ день (23 апрѣля), когда- скотъ выгнали первый разъ съ образами въ поле, земля была укрыта, сплошною, рослою зеленью.—и зел&нь была такая ядреная, чго ею не только наѣдались до-сыта тонкогубыя овцы, но и коровы прибавили отъ себя удоя. Къ Вознесоньеву дню грань въ темно-синихъ озимыхъ зеленяхъ прятался, и сообразно тому «княземъ восходилъ» брошенный «въ грязь» овесъ, и поднимались изъ земли посѣянные злаки, какъ вдругъ, въ то время, когда наступи іа пора разсаживать на грядахъ вырощенную въ разсадникахъ капусту, стали слышаться жалобы. что встало сушить-. Разсаду и другія огородины «отливали водой», которую таскали на себѣ въ худыхъ ведрахъ бабы, а ребятишки въ кувшинчикахъ: по чбыле не отлпться», — сушь «лубенпла землю», и послышалось ужасное слово:
— ('ожгло!..
Тутъ, увидѣвъ бѣду, «ударились къ Богу», начали «звать поповъ и служить на поляхъ молебны-.
Каждый день молебствова іп и выноси пі образа, то на озимые хлѣба, то на яровые, но засуха стояла безотмѣппо.
Стали обращаться къ колтунамъ п знахарямъ--къ доморощеннымъ мастерамъ черной и бѣлой маііи, изъ которыхъ одни «наводили» что-то наговорами и ворожбою на листъ глухой крапивы и дули пылью по вѣтру, а і рѵгіе выносили откуда-то свои обглоданныя пзбенными прусаками пі. лп.в въ лѣсъ п тамъ передъ ними шептали. об.тпва ш ихъ водою и оставляли ночевать на деревѣ, — но дождя все-таки не оыло и даже прекратились росы.
Бѣда становилась неминѵчею... Провозглашено было «покаяніе» и объявленъ запретъ на всякія удовольствія и радости.
Вер<-ві.и нл вислыхъ качеляхъ, на улицѣ, закинули вверхъ, чтобы не качалпся; не позволяли дѣвкамъ «водить танки» и «играть (пѣть) пѣсни»: били ребятъ, которые играли въ казанки и въ свайку. Только одинъ пастухъ, «косолапый Ѳонька», имѣлъ право «вызывать на дудкѣ , но и его самодѣльная липовая дудка, выбывая коровъ, издавала слишкомъ унылые и непріятные звуки: это замѣтили, должность, сами коровы и не шли на вызовъ косолапаго Ѳонькп, потому что онч> уже давно ихъ обманывалъ, и выгонялъ ихъ на поле, на которомъ имъ нечего было взять.
Въ народѣ стало усиливаться мрачное озлобленіе: мужья ни за-что и ни про-что били женъ, старики обижали ребятъ и невѣстокъ, и всѣ другъ друга укоряли хлѣбомъ и одинъ на другого все призывали «пропасть»:—«О, нѣтъ на васъ пропасти!»
Явилась и она, явилась «пропасть»—совершилось общественное преступленіи.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Пришелъ отід да-то «нознамып человѣкъ»; переночевавъ у млжичка, онъ послушалъ разсказовъ о горѣ-злосчастіи отъ бездождія и сказалъ, что онъ это дѣло знаетъ, — что вт. этой бѣдѣ попы не помогать, а надо выйти въ поле ст. зажженной свѣчой, сдѣланной изъ сала опившагося человѣка, «схороненнаго на распутьѣ дорогъ, безт. креста и безъ пастыря».
«Пезнамый человѣкъ» былъ запасливъ, и въ сумкѣ у него какъ разъ оказался огарокъ такой свѣчи, какая требовалась. Прежде она была у него длинная, но онъ ее уже «пожегъ во многихъ мѣстахъ», гдЕ было такое же бездождіе, и вездѣ будто тамъ «дожди пролилы».
Захожему собрали съ міра яицъ и шесть гривенъ денегъ и пошли съ нимъ «мо.іитвпть на поле ночью.
Онъ «читалъ Отчу» и еще какую-то молитву и «махалъ навкрестъ» зажженной свѣчой изъ человѣчьяго сала, и велѣлъ къ утру ждать росы, а «со полденъ тучи»,—но только чтобы «ей не мѣшать», а то она можетъ поворотить въ Другую сторону.
ЗатІ.мъ этотъ человѣкъ тутъ же п ушелъ темной ночью.
Росы къ утру не было, но о полдняхъ небо потемнѣло и начало будто тучиться. Вскорѣ и въ самомъ дѣлѣ за До.і-
гпмъ лѣсомъ, принадлежавшимъ сосѣднему имѣнію, стало густѣть и появилась туча, но какая-то удивительная: вышла п стала на о гномъ мѣстѣ и дальше не двигалась.
Три мужика, бывшіе на іюлѣ, долго не могли понять причину, по’іечѵ туча не шла далѣе, по наконецъ—доглядѣлись и поняли.
Этомх виноватъ былъ Егоръ Ііожіёнъ. — шорникъ, который ходилъ по деревнямъ со своею работою. Онъ былъ хорошій мастеръ и отлично шилъ шлеи и хомуты, но человѣкъ былъ необстоятельный, и на выработанныя деньги пьянствовалъ иногда съ такимъ великимъ усердіемъ, что пропивалъ съ себя все и внутри себя утрачивалъ весь раз-мъ и тогда страдалъ отъ разнообразныхъ страховъ, безпокойно разыгрывавшихся въ его воспаленномъ мозгу.
Болѣе всего пьянаго КожіёИ преслѣдовалъ «черный быкъ», который обыкновенно стремился па него откуда-то издалеча и все хотѣлъ поднять его на рога и перекинуть черезъ свою сипну въ таріарары.
Уцидавъ этого хронически преслѣдовавшаго врага, Егоръ Кожи нъ сейчасъ же отъ него бѣжалъ куда глаза глядятъ, но быкъ вдругъ неожиданно опять появлялся передъ нимъ впереди, и тогда Кожинъ останавливался въ ужасѣ, тря-сяся, махалъ руками и кричалъ: «Тпружй! тпружіі!» Если ему у іавалось увернуться, то онъ бросался въ противоположную сторону, а какъ и тамъ толю появлялся тотъ же самый призракъ его больного воображенія, то шорникъ метался по полямъ пзъ стороны въ сторону до тѣхъ поръ, пока гдѣ-нибу і.ь быкъ его настигалъ, и тогда Кожіснъ старался ужъ только о томъ, чтобы пасть ему между рогами и обхватить руками его за шею.
Это было отчаянное, но един- гіюнное средство спасенія, которое уже не разъ избавляло Кожіёна отъ смерти на рогахъ чудовища. Какъ онъ, бывало, заляжетъ у быка между рогъ, такъ готъ его носитъ на головѣ пока измается, и тоі да сброситъ его на землю, а самъ убѣжитъ, а Іѵ-жіёнъ послѣ вькпптся, чувствуетъ себя какъ послѣ качки на морѣ и ку нѣжится» ищетъ, чтобы его пожалѣли. «Проставьте,—проситъ,- -мЬря либо къ Матери Божіей—(Дна мнѣ за-ступніща, либо пойдемте въ кабакь—мнѣ цѣловальникъ въ долгъ дастъ».
Его находили недостойнымъ вести къ образу и обыкно-
веяно отводили въ кабакъ, гдѣ онъ оиохмелялся у знакомаго цѣловальника и поправляіся.
То же самое заходило у него п теперь, когда его примѣтили въ іюлѣ три мужика, наблюдавшіе тучу за Долгимъ лѣсомъ. Егоръ въ ужасѣ бѣжалъ отъ своего быка и махалъ на него руками, крича: «Тпружи! тпружйі»
Онъ бѣжалъ теперь какъ разъ противъ тучи, и пи къ кому прямѣе, какъ къ ней, относились его отгоняющіе крики и жесты, и... его нс стало.
О ту пору какъ съ Кожісіюмъ это въ послѣдній разъ сдѣлалось, на томь же іюлѣ, гдѣ былъ опъ и три мужика, случились еще двѣ небольшія крестьянскія дѣвочки, которыя пришли на за росшую межу ломать полынь для вѣниковъ. Завидѣвъ скакавшаго и кричавшаго Кожіёна, дѣвочки испугались и залегли въ полынь, и видѣли, какъ Кожіёнъ упадъ на межу, и какъ къ нему тутъ же вскорѣ подошли три мужика и подняли его и старались поставить его на ноги, но онъ не становился, а плакалъ и голосилъ: «Ведите меня къ Божіей Матери!» Тогда третій мужикъ взялъ Кожіёна за ноги, и всѣ вгроемь они шибко пронесли ого въ лѣсъ, гдѣ есть густо заросшій оврагъ, и тамъ сразу произошло какое-то несогласіе, и Кожіёнъ «навздрыхъ закричалъ: за что меня лобаните?.. «II съ тѣмъ все утихло, а потомъ мужички къ ручейку спустились и у того ручья мыться стали.
Перепутанныя же дѣвчонки все на межѣ въ полыни сидѣли до вечера, притаившись какъ зайчики, и сами себѣ ие могли сказать —чего онѣ испугались: а когда солнце стало заходить за тотъ самый льсъ, куда унесли Кожіёна «лобанить»,—дѣвчонкамъ сдѣлалось «еще больше ужасно», п онѣ выскочили и бросились бѣжать въ деревню безъ вѣниковъ,—за чтб ихъ встрѣтили съ (трогостыо,—оттрепали за косы и пообѣщали еще «выдрать крапивою». — отчего онѣ и । молкли, чтобы ие навлечь на себя чего-нибудь еще ху дшаго.
Такъ Кожіёна быкъ забодалъ и па рогахъ забросилъ.
Съ той норы уже никто и нигдѣ пе вп щлъ шатающагося шорника Егора.- и какъ не нуженъ былъ ему паспортъ, такъ не в.жна была ему и могила: но въ память его были совершены нѣкоторыя немаловажныя дѣла.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
У нагъ на чпщобѣ, недалеко за гуменникомъ. снялъ дрянной сараишко, который называли «старымъ подобномъ», хотя онъ никогда никакого «гуменнаго» назначенія не исполнялъ и даже тля него не годился.
Сараишко этотъ сгорпдилп для себя смоленскіе «копачи >, или «грабари», приходившіе выкорчевывать пни отъ сведеннаго на этомъ мѣстѣ лѣса. Копачи, окончивъ свою работу, ушли, а сгороженный ими трянной сараишко оставался ш разобраннымъ, можетъ быть потому, что дрянной матеріалъ, изъ котораго онъ бы іъ сколоченъ, не стоилъ и разбора.
Крыша сарая давно вся сотлѣла п просѣтплась, воротища упали п висѣли на одной «пяткѣ», и никто въ этотъ сараи не ходилъ, кромѣ солдатки Наташки. котовую впрочемъ, велѣно было гонять отовсюду. II вдругъ въ одну ночь этотъ такъ-н ізываемый «старый половень» сюрѣлъ какъ свібчг.а!
Было тихо и темно, и вдругъ въ то самое время, когда мы поужинали, шачигь, часу вь одиннадцатомъ,— небо озарилось теплымъ и очень пріятнымъ желтовато-розовымъ свѣтомъ.
Сначала всѣмъ показалось, что это будто такъ восходитъ «рыжая луна»: но оказалось, что это старый половень горитъ.
На пожаръ успѣти сбѣжаться многіе, но половня не растаскивали и но заливали. такь какъ отецъ считалъ его ничего не стоящимъ: но хозяпы однако, былъ интересъ узнать: отчего могла загорѣться ага необитаемая и шікому не нужная пос тройка?
Думали сначала на цыгань, пли на поляковъ, но нп цыганъ, ни поляковъ нигдѣ не видали; потомъ падала мысль на поводырей слѣпого Нефеда, котссрые курили трубку, но Нефедъ и его слѣпой товарищъ и ихъ поводыри, оказалось. «пѣти Лазаря», гдѣ-то далеко у Чудотворца на праздникѣ, и тогда староста Дементій—старовѣръ и врагъ куренія подалъ мысль, что не виновенъ ли въ этомъ кто-нибудь изъ МОЛОДЫХЪ «трубоку ровъ», И эТО первое подозрѣніе Дементій обобщилъ съ другими извѣстными ему подозрѣніями насчетъ маленькой солтатки Наташки,—шустрой
бабенки съ огромнымъ грпоттёе всесвѣтной куртизанки, изъ-за. которой въ деревнѣ было много безпорядка не только между молодыми людьми, но и между старыми
Дементій Васильичъ непремѣнно хотѣлъ по этому случаю «кое-кого взбрызнуть» или «пострекать», до чего онъ, какъ коренной «начальникъ» стараго фасона, былъ большой лю-бптель: но когда овь захотѣлъ «пострекать» кучеряваго сиротинку Вукола. то, отколь нп возьмись, появилась сама солдатка Наташка и закричала:
Не смѣй трогать Вукошку это не онъ... я видѣла, кто половень сжегъ.
П Наташка вдругъ, не обинуясь, назвала трехъ самыхъ обстоятельныхъ хозяевъ въ деревнѣ...
И тѣ были призваны и повинились, что они дѣйствительно были въ «старомъ половнѣ» со свѣчой изъ Кожіё-пова с(ца, и, вѣроятно, какъ-нибудь по неосторожности, и проч.
Дѣло было уже не въ томъ, какъ онп заронили огонь въ половнѣ, а въ томъ: отчего было произнесено упоминовеніе о «свѣчѣ изъ Кожіёнова сала»?
Все это сейчасъ же окуталъ густой мракъ самой тщательно скрываемой тайны: отецъ взялъ всѣхъ трехъ мужиковъ къ себѣ въ кабинетъ и заперся съ ними на ключъ вмѣстѣ со старостою Дементіемъ. II о чемь они тамъ говорили—никто не слыша гь; но, конечно, всѣ отлично знали, въ чемъ это дѣло, и обстоятельнѣе всѣхъ изслѣдовали его именно женщины, имѣвшія смѣлость спуститься на самое дно глубокаго оврага въ Долгомъ лѣсу, и тамъ подъ хворостомъ п сухою листвою прошлогодняго іистопада разсмотрѣли сильно разложившійся трупъ, который вся деревня единогласно признала за трупъ шорника Кбжіййа. Пзъ Кожіёнова тука все «нутреное сало было уже «соскоблено», и изъ него, по всѣмъ вѣроятіямъ, надѣлано достаточное количество свѣчъ, сожженныхъ въ разныхъ мѣстахъ, можетъ-быть, съ подобнымъ же результатомъ, какъ случилось и у насъ въ половнѣ.
Тогда отецъ увидѣлъ, что дѣло можетъ принять очень серьезный оборотъ, и поѣхалъ къ сосѣду, которому принадлежалъ Долгій лѣсъ. Помѣщикъ этотъ, старикъ, бывшій когда-то моряки и капитанъ 2-го ранга, жилъ нелюдимо въ сообществѣ трехъ крѣпостныхъ женщинъ, вмѣстѣ съ
которыми и самъ состоялъ подъ надзоромъ четвертой, которая дирижировала весь кругъ его жизни. Событіе въ Долгомъ лѣсу вывело моряка и-.ъ его зависимаго состоянія и подвигло къ собственной иниціативѣ, по которой онъ условился съ отцомъ такъ, чтобы: есть пли нѣтъ въ лѣсу убитый — о томъ имъ обоимъ благородно и чинно ничего не знать, и кто такой тамъ есть—этого не разыскивать, а для осв.-женія чувства въ людяхъ, которые, очевидно, очень набожны, но только не знаютъ, чтб имъ дѣлать, — пригласить изъ трехъ селъ трехъ священниковъ... и сдѣлать это какъ бы... прп опасно больномъ консиліумъ... Отслужить соборнѣ три молебна въ саду, на лугу и на полѣ, и быть всѣмъ вмѣстѣ. дворянамъ и мужикамъ... и потомъ—угощеніе.
Отецъ на это согласился и все предположенное къ исполненію «для освѣженія чувство въ народѣ» должно было происходить «на общихъ межахъ», по-сосѣдски, но выходъ» долженъ былъ быть отъ насъ, и у насъ же быть «консиліуму» и угощенію.
— Такъ какъ у васъ,—сказалъ отцу морякъ:—есть дома законная супруга, а у меня на этотъ счетъ одно беззаконіе.
II торжество было отправлено у насъ. Приглашенъ былъ еще одинъ сосѣдъ, маноръ Алымовъ, тоже холостякъ и съ репутаціей», но молодой по лѣтамъ, говорунъ и щеголь довольно дурного тона. Капитанъ 2-го ранга, вѣроятно, нехорошо былъ о немъ наслышанъ и не хотѣлъ съ нимъ сближаться, — ему даже непріятно было стоять рядомъ съ майоромъ за молебномъ, и Алымовъ это замѣтилъ и «начихалъ на него»: онъ отошегь отъ горделиваго моряка п, пересгупя поближе къ дьячкамъ, сталь задувать съ ними вмѣстѣ не въ тактъ, но очень громкимъ и звонкимъ голосомъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе!» Разъ отъ раза онъ все хваталъ это смѣлѣе и громче, и очень этимъ угодилъ и крестьянамъ, и духовенству. съ представителями котораго онъ еще болѣе сошелся за столомъ, гдѣ опять нѣсколько разъ поднимался и пѣлъ: «Даждь дождь землѣ алчущей, Спасе! Этимъ Алымовъ ввелъ у насъ прошеніе о дож ;ѣ въ такое распространеніе, что послѣ у насъ въ домѣ всѣ по цѣлымъ днямъ пѣли: «Даждь дождь землѣ. ( пасе! > Но больше всѢхь вь этомъ упражнялись мы, дѣти: мы въ своемъ молитвенномъ напряженіи даже превзошли старшихъ тѣмъ, что устроили себѣ изъ няниныхъ фартуковъ ризы, а изъ
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. XXXIII. 9
свивальниковъ орари, и все облачались да пѣли: «Даждь дождь?. Намъ это “іень нравилось, но прислугѣ мы надоѣли, и служеніе наше было разстроено тѣмъ, что нянька отобрала. у насъ облаченія и сказала;
— Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не нуженъ: настала пора убирать, а убирать нечего: юлодныіі іодъ пришелъ рисе!
Это было для насъ ужасное открытіе! Мы и но замѣтили, что онъ цже пришелъ. Когда же это случилось? Аіы все еще просили «отвратить праведный гнІ;въ, на ны движимый?, и напитать людей, «яко же птицѣми онѣми», а. тугъ уже все кончено: готово созрѣвшее поле, на которомъ < стоитъ колосъ отъ колоса такъ, что не слыхать человѣческаго голоса, а сжатый снопъ отъ снопа—день ѣзды»...
Пришелъ голодный годъ' «Съѣдимъ, чтб зародилось, и умремъ». — говорили мужики и иекди еще изъ новины лепешки и наварили къ Успенью браги, а съ Богородичнаго Рождества нѣкоторые несмѣло стали отлучаться... Спросите — куда? Сначала былъ еще стыдъ въ этомъ сознаваться—отлучки эти скрывались: люди уходили изъ села и возвращались домой въ потемочкахъ, чтобы сумы не было видно , но голодъ и нужда возрастали, и къ Покрову всѣ другъ о другѣ стали знать, что всѣмъ ѣсть нечего, п что «всѣмъ надо идти побираться».
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Кго хотѣлъ бы составлять себѣ предстанл- ніе о деревенскомъ голодГ», бывшемъ въ сороковомъ году, по тѣмъ явленіямъ, какія можно было наблюдать прошлой зимою. 1^92 года, когда народныя страданія были облегчаемы дру к-ныміі усиліями разумныхъ и добрыхъ людей, тотъ получилъ бы очень невѣрное понятіе о томъ, какъ страдалъ народъ при тЬхъ порядкахъ безпомощія. о которыхъ вспомянулъ генералъ Мальцевъ. Такихъ заботъ, какія прила-га пп ъ Т'чіерь частными лицами, чтобы помочь голодающимъ крестьянамъ по одному человѣколюбія) и состраданію, тоі щ и въ поминѣ ни у кого не было, да никакое оказа-тельство въ смыслѣ общей помощи было и невозможно; а само правительство, разумѣется. не могло прокормить всѣхъ голодныхъ. .Казеннымъ» пли такъ-иа дываемымъ государственнымъ крестьянамъ» тогда дали что-то изъ «заиас-
ныхъ магазиновъ» на «обсѣмененіе полей*; но это был і помощь слабая и ничтожная: «казенные» лини изъ названной категоріи на этотъ «заимобразъ» тоже не могли прокормиться. По о томъ, чтобы кормить ихъ (ІО СЫПІОСНІПІ. и не считали нужнымъ заботиться: разсказывали, будіп графъ Киселевъ сказалъ кому-то, что «крестьяне не солдаіы», и ЧТО «то НОВИНЫ они могутъ оо//у/ ЗНМІ/ Пірс-
оцшы-я». и это бу іто бы послуи.иіо достаточнымъ ^покоеніемъ чьей-то душевной тревоги. А казенные пли государственные крестьяне въ то время считались за «ліебимыхъ дѣтей» правительства. Что же касалось людей др\гихъ сословіи, то съ этими было еще меньше хлопотъ: о мѣщанахъ нечего было и говорить, такъ какъ они земли не па-шуть и хлѣба не сѣюгъ, стало-быіь, у нихъ неурожая и не было, и притомъ о нихъ давно было сказано, что онп «всѣ воры» и, какъ воры, они, стало-быть, могутъ достать себѣ все, что имъ нужно: а помѣщичьи «-крѣпостные» люди были въ такойь положеніи, что о нихъ нечего было и безпокоиться,- они со дня рожденія своего навѣки были предоставлены «попеченію владѣльцевъ», и тѣ о нихъ пеклись... Злополучные крѣпостные люди были всѣхъ другихь несчастнѣе: они не только стратали безъ всякой помощи, но еще съ связанными руками и съ тряпицей во рту. Они щже не имѣли права отлучиться, и нерѣдко ихь жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшія исключенія были тамъ, гдѣ помѣщики скоро ужаснулись раскрывшагося передъ ними дереві нскаго положенія и, побросавъ свои деревни, сбѣжали зимовать куда-нибудь въ города и городишки,—«все равно куда лишь бы избавиться отъ своихъ мужиченковь (г. е. чтобы не слыхать ихъ просьбъ о хлѣбѣ). Безъ господъ крестьянамъ по крайней мѣрѣ открывалась свобода брести куда глаза глядятъ и просить милостыню йодъ чужими окнами. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ большихъ экономіяхъ «своимъ крестьянамъ» давали хлѣба и картофеля въ долгъ или со скиткой противъ цѣны, за которую отпускали чужимъ людямъ», но и это все было недостаточно, такъ какъ и по удешевленной цѣнѣ покупать было не на что.
Разумѣется, я говорю только о той мѣстности, г тѣ я тогда жилъ, въ Орловской губерніи. Можеть-быіъ, что въ другихъ мѣстахъ было и иначе.
Я говорю только о томъ, что самъ видѣлъ пли о чемъ слышалъ въ тогдашнее время.
Самыми ужаснымъ тогда казалось, что люди въ нашемъ мѣстѣ были связаны крѣпостною неволею: черезъ это онп не могли никуда отлучиться и ничего себѣ промыслить. Среди мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ въ курской и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ орловской губерніи по мѣстамъ проыс-ходило такъ, что дѣти и старики «ходили въ-поборъ», а взрослые работали на барщинѣ, и работали работы неспѣшныя. какъ-то: сѣкли про запасъ хворостъ или рыли канавы,—съ чѣмъ со всѣмъ можно было подождать, а ѣли «сборное», т. е. то, что старики или ребятишки гдѣ-нибудь «напросятъ Христа ради». Въ большихъ экономіяхъ крестьянамъ было гораздо лучше, уже по тому о гному. что тамъ по крайней мѣрѣ не сіЬсьяіи людей, и мужики поползли «съ топорами» (т. е. плотничать) въ Кіевъ, въ Харьковъ и въ Нѣжинъ, и «съ лошадёмъ» подряжались везти «лагуны» (съ саломъ) пли «бунты» (съ пенькою) въ Таганрогъ и въ Одестъ. II въ первомь, и во второмъ отходѣ заработокъ ихъ былъ самыя ничтожнѣйшій, или лучше сказать— никакого. Работали онп больше только изъ одного прокорма», п то считалось еще хорошо, если работникъ прокормится и назадъ домой вернется «съ лошадёмъ», а не съ однимъ «кнутикомъ». А то случалось, что онъ придетъ да обрадуетъ домашнихъ, что «кобылу» или «мерина ободралъ въ ухабѣ». Крестьяне, которые «нашли ряду» п успѣли ѵѣхать ранѣе, пока лошади ихъ еще не обезсидѣліі отъ изнурительной безкормицы, кое-какъ справлялись, и на дорогѣ, въ самомъ пути отъѣдаіись сами и откармливали лошадей: эти и возвращались благополучно; но которые не нашли рано работы, а іронушсь тогда, когда давно ѵже сталъ санный путь и лошади давно заморены на безкормицѣ,— у этихъ все «рушилось»: лошади у нихъ запрокидывались кверху ногами въ первомъ раскатѣ п «падали». Какъ безио [рѣзныя сани пойдутъ въ раскатъ и ударятъ клячу но исхудалыми булдыжкамъ. -она тотчасъ же и упадетъ, и лежтпъ. Ее поднимаютъ» мужики, кто за хвостъ, кто за плечи. Поднимутъ, установятъ и поддерживаютъ, а потомъ тронутъ: «ну, магу шка! Но она пройдетъ нѣсколько шаговъ, и опять хлопнется, ноги вверхъ задеретъ и даже не бьется. Чуть только не проситъ, чтобы ее ужъ и не тро
гали.—что «мніѣ-де уже все равно какъ околѣть, лишь бы только поскорѣе!.
Иногда, бывало, видишь, что какъ только лошадь поднимутъ, такъ она тутъ же сію минуту опять и падаетъ. Мужики, даже самые жестокіе, тутъ плакали какъ дѣти и жалѣли лошадей, — не били ихъ, а все, бывало, уговариваютъ лошадку: «ну, матушка! ну, кормилицу!»— да сами во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтятъ и подсобляютъ, а сами все плачутъ.
Страшное это представляло зрѣлище, какъ они, бывало, плетутся по дорогамъ длинными вереницами, и сами взъеро-шенны", истощенные и ободранные, а лошади уже совсѣмъ одни скелеты, обтянутые кожей...
И не разберешь даже кто кого жалче.
Во всякомъ случаѣ извѣстная художественная группа Рѣпина, изображающая поволжскихъ бурлаковъ, представляетъ гораздо болѣе легкое зрѣлище, чѣмъ тѣ мужичьи обозы, которые я видѣла. въ голодный годъ, во время моего дѣтства.
Въ глубокихъ ухабахъ иш подъ раскатами столбовыхь дорогъ то-и-дѣло, бывало, валяются ободранныя «падла» и надъ ними стаями вѣются черныя птицы, выема ірпваю-щія — какъ бы имъ ухватить что-нибудь изъ того, что можетъ остаться послѣ зубовъ страшно освирѣпѣвшихъ отъ голода собакъ. Собаки тогда рыскали очень далеко отъ домовъ и дичати совершенно какъ волки. Крестьяне, какъ извѣстно, и въ «довольное время» не любятъ кормить Своихъ сторожевыхъ собакъ, и держатся того взгляда, что «песъ самъ о себѣ промыслитель», а въ голодный годъ собакъ и нечѣмъ было кормить. Па ихъ собачье счастье іошадеіі околѣвало множество и тр’пы ихъ, или, по-мд-жичыі. «коневое падло», валялись безъ перевода и по потамъ, и по задворкамъ. Псамъ только надо было имѣть чутье да ноги, чтобы не пропасть съ голода. Но удивительно было, какъ они далеко узнавали о каждой павшей скотинѣ! Бывало, гдѣ ни выволокутъ падло, собаки ужъ знаютъ, и черезъ чась-два собачьи слѣды такъ и наплетутъ черезъ всѣ поля сѣть по сньгу. .Ію ш удивлялись этому и предполагали, что у собакъ непремѣнно есть какое-то свое имъ свой-ственнос средство сообща ГЬ другъ другу новости о событіяхъ, совершающихся за предѣлами ихъ слуха, зрѣнія и
обонянія. і>і. самомъ дѣлѣ, чутье едва. лп могло достигать на іакія далекія разстоянія, откуда сбѣгались собаки терзать па іа.ль! Прихо ці.іось видѣть знаемыхь деревенскихъ собакъ, прибѣгавшихъ верслъ за Двѣнадцать и за пятнадцать. Въ началѣ иімы, когда юшадегі дохло много, собаки такъ хорошо отъѣлись, что волки ихъ боялись, и онѣ не подпускали волковъ къ ппрѵ; но потомъ, когда, всѣ лота ці пер- колѣли, .голодъ собакь сталъ ужасенъ, и волки пошли рвать ихъ. Впрочемъ, псамъ все-таки было лучше, чѣмъ травой ідшчъ. Коровъ своихъ крестьяне «до послѣдняго бе-регліь п «воспитывали крышами». Сгребетъ, бывало, съ крышъ давно почернѣвшую солому и иногда «попарятъ ее въ корчажкѣ»—вотъ и кормъ. Солить было печѣмь: тогда соль составляла «правительственную регалію», и была такъ дорога., что плоховатые мужики и въ «ровные»-то года часто ѣли сныть несоленую. (У Тургенева мужикъ говоритъ, что надобно осиротѣлую дъвчонку взять. Баба отвѣчаетъ: «намъ самимъ сныть посолить нечѣмъ». А мужикъ говоритъ: «А мы ее несоленую!»— и дѣвчонку взяли). Коровъ «ходячихъ» не рѣзали. Станетъ она «падать» пли «заваливаться», пдучп на водопои — ее все еще поднимаютъ и ведутъ до дому, «поддерживаютъ» и ••пять «крышей воспитываютъ». II такъ водятся съ ней до тѣхъ поръ, пока у нея «титьки высохнуть». Тутъ уже, значить, ждать отъ нея бм тыие нечего — «воспитаніе» ея кончено п остается ей ножъ воткнуть». Зарѣзанную ио.іуиздохшѵю корову поскорѣе «требушіпп» и потомь волокли «въ копоіь», т. е. ра .ніімуть ея трупъ па ч іетпчкп и іювѣсяіъ эти разсѣченныя часги «нарь дымомъ», чтобы ихъ «прокурило» и «духъ отшибло», потому ЧТО у .иого мяса цг.ке до посмертнаго разложенія быль какой-то особенный, вѣроятно болѣзненный іапахъ, котораго «утроба человѣческая не принимала». А потомъ. когда дымъ все это «прокуритъ» — вонь нѣсколько измѣняла • вой характеръ и мясо воняло иначе,— менѣе противно: тогда ею. бывало, варить и ѣдятъ.
По все это еще было сравнительно благополучное время, когда было что «дымить», а впере (іі я; тало положеніе гораздо болѣе тяжкое.
Здѣсь, однако, мнѣ припоминается, какое горе оывало въ крес іьяж комъ дворѣ, когда дѣлалась очевидною немпнуе-?• ія надооность немедленно предать смеріи «кормилицу».
Какъ, бывало, доходитъ послѣдній кормъ, такъ «безкормной коровѣ» отъ мужиковъ выходитъ рѣшеніи, что ее надо «приколоть»... Тогда всѣ бабы принимаются «выть , а на пнхь глядя. завоютъ всѣ дѣти, и всѣ стараются «коровушку покрыть», т. е. увѣряютъ мужиковъ, будто она еще можетъ жить; но мужики этому не внемлютъ, и какъ замѣтятъ, что подойникъ пустъ, такъ сейчасъ же и берутся исполнять свое рѣшеніе
Эго ужасныя минуты въ крестьянской избь, которыхъ нѣтъ средствъ описать а пхъ надо видѣть.
Послѣ ссоры и спора изъ-за коровы между бабами и мужиками въ избѣ вдругъ пропадаетъ хлѣбный ножъ!..
Пѣтъ его, да и только! Бабы говорятъ: «ребята затащили»,- мужики дерутъ ребятъ за виски; ребята говорятъ: «мамка скрала», мужики мнутъ мамкѣ потылицу... Всѣмъ дѣла много, а ножъ все-таки не отыскивается.
Идутъ занимать ножъ къ сосѣду, но и у сосѣда ножъ пропалъ! Бабы рѣжутъ хлѣбъ какими попало н- живыми «аскретками». а настоящіе хлѣбные ножи всѣ «пропали . Пхъ пщутъ-пщутъ я не находятъ. Мужики понимаютъ, что •то значитъ, и долго не разговариваютъ, а идутъ за но-жемъ на другой конецъ деревни и тамъ гдѣ-нибудь пригодный ножъ находятъ. Тутъ же дѣлаютъ и уговоръ еще о живой коровѣ: какь дѣлить ея «тушу», кому передъ, кому задь, кому нутро или студни. Объ этомъ уговариваются, чтобы не пропадала «убоина», и за разъ нѣсколько коровъ въ деревнѣ не рѣжуть. Сегодня рг.жетъ одинъ сосѣдъ, а другой поджидаетъ, если есть чѣмъ издыхающую «воспитывать».
Когда мужикъ добудетъ ножъ и возвращается въ избу, онъ молча начинаетъ водить ножъ по жедѣзистЙму кпр личу на загнеткѣ. Видъ у него тогда мрачный, и бабы начинаютъ его бояіься и уже не воюгъ, а тихо плачутъ: но мужика п это выводить изъ терпѣнія. Къ тому же мать или другая старуха, которая не боится тукманки, гдѣ-нибудь за угломъ причитаетъ. Мужикъ спѣшитъ ючпть ножі. и, иощ-,лавъ его на ладони, уходить звіть на помощь сосѣда. Съ «уборкой» буренки наю спѣшить, потому что она того и гляди околѣетъ, и тогда выйдетъ не «убоина», а «падло.»
Потомъ наста» тъ въ избѣ жуткая тишина... Со двора все СЛЫШНО, КаКЬ МуЖІІКИ ІіуГаЮТЪ КОрОВу В,ЖЖаМИ и потомъ
бьютъ ее долбней по головѣ. Безъ этого они убить боль-нню скотину не умѣютъ. А потомъ, когда этотъ ужасный стукъ долбни по черепу прекратится, — мужикъ перекрестится и всунетъ коровѣ ножъ въ горло... Н всѣ стоятъ вокругъ въ тишинѣ и смотрятъ, какъ кровь бьетъ и зарѣзанная еще дрыгаетъ связанными ногами и смотритъ. Потомъ тишина кончена и закричатъ: «давай ночвы!» Тутъ всему дѣлу развязка: бабы уже работаютъ спокойно: носятъ разрубленныя части своей бурёнки по избамъ п вѣшаютъ ихъ на деревянныхъ крючьяхъ и на лыковыхъ веревкахъ подъ потолками и надъ дверями черныхъ избъ (гдѣ дымъ идетъф Т;тъ это мясо коптилось пли капъ будто бы коптилось. На самомъ же дѣлѣ орловскіе мужики мяса коптить не умѣли, да и негдѣ было имъ его коптить какъ надобно; а они только добивались, 'чтобы отъ него «не дюжо смердѣло».
Такъ пріѣли весь рогатый скотъ, и ко Срѣтенью (2 февраля) во всемъ селѣ, о которомъ разсказываю, осталась только огна корова у старосты, да двѣ у дворовыхъ: но лошадей еще оставалось па сорокъ дворовъ штукъ восемь, и то не у крестьянъ, а у однодворцевъ, которые жили въ одномъ порядкѣ съ крѣпостными. Однако, всѣ эти лошади содержались на одной соломѣ и ни для какой работы не годились. Пхь даже нельзя было гонять на водопои къ колодцу, потому что онѣ завязали въ сугробахъ и лада іи, и люди должны были ихъ вытаскивать и волочь домой— что было очень трудно.
Но не будемъ болѣе говорить о скотахъ, а посмотримъ чтб случалося съ самими сынами человѣческими, отбывавшими здѣсь же безпомощно и безропотно всѣ выпавшія на ихъ долю злоключенія «голоднаго года».
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Изобразить въ общихъ чертахъ состояніе духа, деревенскихъ лицей за все время ужасной зимы сорокового года— я не умѣю. Была и унылость, и отчаяніе, п стоны, и неимовѣрное мужество... все это «человѣкомъ) и «часомъ», т.-е. каждый человѣкъ переносилъ свое мученіе сообразно своему характеру и не во всякую минуту одинаково. Съ виду даже, пожалуй, незамѣтно было, что люди переживаютъ особенное страда ніа. жизнь въ і.ресіьянсі.ихъ избахъ
плелась почтѣ такая же безотрадная, какъ и всегда. Тѣ же станы и кряхтѣнье стариковъ, не слѣзающпхь съ остылыхъ печей: тотъ же дымъ и вонь, а часто и снѣгъ, пролѣзающій по угламъ, съ наружи >й стороны избъ во внутреннюю; тѣ же слабые писки голыхъ, и еле живыхъ ребятъ со вспухшими животами и красными отъ дыма глазами: но зимняя картина въ орловской деревнѣ никогда и не была другою... Я ее всегда видѣлъ именно этакою. Мнѣ гораздо легче вспомнить и удобнѣе, кажется, передать нѣкоторые, особенные случаи, которые уцѣлѣли въ памяти н которые я изложу одинъ отъ другого въ отдѣльности.
Прежде всего вспоминается мнѣ хилая дѣвочка Басенка, которую «Гхть взялъ , и я съ этого начну мои рапсодіи, но такъ какъ мать Ва- йнкп жила на дворовомъ положеніи, то преждѵ я скажу коротко о положеніи людей дворовыхъ, которое отличалось отъ крестьянскаго. Дворовымъ людямъ, которые въ обыкновенное время почитали себя несчастнѣе крестьянъ, въ голодовку выходило лучше, чѣмъ крестьянамъ, потому что дворовыхъ, пе имівшпхъ земли и состоявшихъ на работѣ при Л'-мѣщпчыіхъ дворахъ, помѣщики должны были кормить и кое-какъ кормили. Въ обыкновенное время имъ отпускали на мужчину 1 п. Во ф. въ мѣсяцъ, а на женщину 1 п. 20 ф. и на дѣтей (съ 5 до 15 лѣтъ) по 20 ф. ржаной муки. Болѣе не давали ничего: приварокъ и соль они должны были припасти себѣ сами, и гдѣ-то онп этимъ дѣйствительно раздобывались. Вь голодный годъ во многихъ мѣстахъ этимъ людямъ сдѣлали страшную обиду: «сняли пхъ съ мучной мѣсячины на печеный отвѣсъ', т.-е. стали давать имъ по 3 ф. хлѣба въ день на мужчпнѵ и по 2 ф. на женщину, а мальчикамъ и дѣвочкамъ по полтора фунта. Притомъ, если вари іи щи или кашу, то въ эти дни хлѣбный отвѣсъ уменьшался на половину. Эіпмд, уже дворовые люди были страшно недовольны, ПОТОМУ что онп своимъ «отвѣсными хлѣбомъ» дѣлились со своими родственниками, голодавшими на деревнѣ, и это составляло ихъ священное право «помогать на деревню».
Дворовымъ и комнатной прислугѣ съ Введенія (21 ноября) мѣсячину и отвѣсъ тоже стали выда іать не «чистымъ хлѣбомъ», а съ примѣсью, но ст> піимѣч.ю очень съѣдобною, по преимуществу сь картофелемъ, н только въ случаѣ не
достатка картофеля,— съ коноплянымъ жмыхомъ, который если свѣжъ и не горекъ, то вкусъ хлѣба не очень портитъ. Во всемъ хозяйствѣ теперь только намъ къ столу подавали чистый п притомъ «обрушенный» сіпный хлѣбъ, муку для котораго содержали въ кади, въ кладовой подъ замкомъ, и отпускали ее въ кухню для выпечки.
Хлѣбъ этотъ быль, конечно, гораздо лучше крестьянскаго пирога, и мы, дѣти, это знали и, ѣвши такой хлѣбъ, чувствовали что-то въ родѣ стыда по тому случаю, что мы пресыщались вкуснымъ хлѣбомъ и даже кормили имъ нашу собачку Фидельку, тогда какъ на деревнѣ цііти сосали жмыхъ...
Въ дѣтскихъ сердцахъ нашихъ какъ будто раздавался голоса. Бога, вопрошающаго о братѣ...
Пекла нашъ «господскій хлѣбъ» та птичница Аграфена, изъ однодворокъ, о которой упоминалось выше,—іа, которая видѣла сны и первая запророчпла быть голодному году. Она—напоминаю опять имѣла право уйти отъ насъ, но жила на положеніи крѣпостной, потому что у нея были дѣти, прижитыя съ крѣпостнымъ мужемъ, и въ числѣ ихъ была та Басенка, которую «Богъ взялъ», о чемъ сейчасъ и будетъ предложено, какъ это случилось.
Испеченный Аграфеною ситный хлѣбъ опять принимали отъ нея по вѣсу, требуя на каждый пудъ муки опредѣленное по опыту количество припеку, на что пекаркп-бабы очень жаловались и находили это требованіе несправедливымъ. потому что «всякая мука даетъ свой припекъ неровно». Но имъ не вѣрили и усчитывали ихъ на золотники, точно дѣло шло о золотѣ. II «свой братъ» и «своя сестра», такіе же дворовые и крѣпостные, поддерживали въ господахъ это недовѣріе, постоянно донося на пекарокъ, будто тѣ «отнпмають тѣста отъ господскихъ хлѣбовъ, своимъ дѣтямъ на лепешки». По такимъ доносамъ ключницею дѣлались внезапные обыски, и одинъ разъ у птичницы Аграфены, которая имѣла четырехлѣтнюю дочь Басенку, страдавшую «кишкою», дѣйствительно нашли «шматокъ тѣста съ ладонь», спрятанный между грязными подушками постели, на которой стонала ея больная іфвочка. 51 помню, какъ объ этомъ «довела» дѣвочка, бывшая въ «впносуіи-кахъ», но имени Агашка, и передъ матушкою стояли разомъ эта Агашка и ключница, производившая обыскъ, и
Аграфена. а на столѣ въ видѣ поличья лежалъ «шматокъ лі.сга», которое она отняла отъ барскихъ х і!.б«и ь и хотѣла спечь изъ него лепешк) ВасёнкЬ. Аграфену уличали Анна и Агашка. и Аграфена не отпиралась, а стояла гордая и «грубила». А грубость (я выражалась тѣмъ. что он.і очень страшно кляла свою дѣвочку Васёні.',. Это зашло такъ далеко, что матушка забыла о дѣлѣ но с)іце<.твѵ и начала серлиться на Аграфену за то, что она проклинала дитя. Матушка говорила еп, что она не имѣетъ права такъ клясть і Квочку и желать ея смерти! Но Аграфена этому кощунственно не вѣрила и, скре(5я ногтями свои локти, отвѣчала:
Что еще за право надо, когда я ей родительница’ Возьму ее да и убью!
— II судиться будешь.
— Ну. такъ и что жъ такое!
— Тебя не помилуютъ.
— Да п не надобно!.. II такч.-то ужъ у васъ надоѣло!
II проговоривъ это съ дерзостью, Аірафена нетерпѣливо повернулась и мила.
Ее не останавливали: ея однодворчество было для нея все равно, что «римское гражланство».
АІатушка сказала, чтобы ей простили шматокъ тѣста и не попрекали ее этпмь, и тѣмъ дѣло о шматкѣ въ господскомъ домѣ было окончено, но въ пличной избѣ, гдѣ пекли хлѣбы, оно продолжалось и окончилось только наканунѣ Николаи і дня (3 декабря), когда чстырі хлѣтняя Васёнка была найдена н ідъ птпчною избой возлѣ трубы, въ гнѣз-дп.іьнпй плетушкѣ, и совершенно закоченѣвшая. А нашла Васёнку опять та же Агашка, которая въ этотъ разъ была послана ключницею наверхъ пличной избы обдирать въ покинутыхъ галочьихъ гні здахъ забытыя «подкладухи» (каменныя яички). Тутъ Агашка. шаря въ полутьмѣ руками подъ застрѣхою, нащупала въ запн швѣвшемъ хворослѣ чте-то такое, что инстинктивно показалось еп чрезвычайно Страшнымъ. Агашка вскрикнула п. не попавъ на приставною лѣстницу, свалилась прямо съ потолка избы на полъ сѣней, а когда прибѣжала въ горницу, то заговорила, что «на птичной избѣ подъ застрѣхой въ хворостинахъ, близко къ трубѣ, сидитъ что-ло « трашное.. Тогда послали на верхл. взросл)ю дѣвушку съ фонаремъ — и та нашла тамь Ва-
сёнку... Дѣвочка была въ одной рубашкѣ п босая. по ножки обвертѣла хлопочками, которые наппа въ выставленномъ сюда изъ пзбы плетеномъ гнѣздѣ, па, которомъ въ свое время сидѣли на япцахъ насѣдки. Басенка подвинула одно изъ такихъ гн 1>здъ подъ застрѣху, усѣлась въ него, а головкою прислонилась къ запн інвѣвшимъ хворостиннымъ рѣшетинамъ соломенной кровли и такъ закоченѣла. но она еще была жива, и когда ее принесли въ избу, она даже какъ будто бы смотрѣла, но только глазки у нея были «какъ сонные».
Когда ее принесли въ избу, то сейчасъ же прибѣжали въ господскій домъ сказать объ этомъ случ іѣ барынѣ. Это, разумѣется! произвело смятеніе, въ которомъ всякій по-своему обнаруживалъ свою находчивость. А такъ какъ это произошло въ то время, когда мы только отпили утренній чай и матушка перемывала въ полоскательницѣ чайныя чашки, посерединѣ которыхъ стоялъ чайникъ со спитымъ чаемъ и съ двумя кусочками сахару, составлявшими ліо-іоженье» для няни и ключницы, то матушка велѣла отнести .•тотъ чай въ шпчіью и сама поспѣшила туда же, а за нею, вь общей суматохѣ, проникли туда и мы.
Гамъ мы увидѣли, что наша мать и нѣсколько женщинъ стояли вокругъ Аннушки. которая сидѣла на скамейкѣ и держала на колѣнях ь застывшую дѣвоч&у, а матушка, нагнувшись къ ней. старалась влить Басенкѣ въ ротикъ съ ложечки чаю.
Стоя близко къ самому центру дѣйствія, я видѣлъ, какъ маіушка достигла чего хотѣла,— она влила въ ротикъ Басенки чайную ложечку тепловатаго чаю. и дѣвочка этотъ чаи какъ будто проглотила, но вдругъ на гу бкахъ у дитяти что-то запѣнилось и затѣмъ все вылилось вонъ, а въ горлышкѣ что-то щелкнуло и въ животикѣ забурчало.
Аннушка ослабила рдки, которыми держала ребенка, и, вскинувъ на матушку испуганными глазами, прошептала:
— Отходитъ!
Послали какъ можно скорѣе принести изъ матушкина образинка плисовую шапочку угодника Митрофанія, но когда стали се надввать на головку Басенки, увпд; ли, что она уже умерла.
Шапочку, однако, все-таки надѣли, и Анна въ этой же шапочкѣ положила дѣвочку на лавку подь образъ, а возлѣ нея
поставили ковшикъ съ водою, чтобы «душка ея обмылась'».
Это для меня было трогательно и занимательно, потому что до этоп поры я еще не былъ при разлученіи человѣческой души съ тѣломъ, и я не ожидалъ, чтобы это происходило т ікъ просто.
Аграфены во все это время дома не было: она ходпла па деревню къ своей бѣдной сестрѣ-солдаткѣ, котарая тоже умирала»
Матушка послала за Аграфеной, а сама ушла, но я притаился п остался въ птичной
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Этотъ первый случай, «какъ духъ уходилъ, и никто не видѣли. куда онъ идетъ», врѣзался у меня въ памяти на всю мою жизнь, и тихая «смірточка» тихой Васёнкп тогда вдругъ показалась мнѣ страшнымъ укоримъ, вставшимъ противъ самыхъ близкихъ и дорогихъ мнѣ людей, до которыхъ сердце мое не желало бы допустить никакой укоризны. Я бросился въ уголъ, гдѣ стояли гусиныя гнѣзда, и горько заплакалъ о Васёнкѣ... Я все вспоминалъ, какь, бывало, зайдешь въ эту избу, среди дня. когда она жарко натоплена и въ неп стоитъ іи топ запахъ свѣже-псиече-наго хлѣба, — караваи хлѣба лежатъ на столѣ, покрытые бѣлымъ закатникомъ, вь кошелкахъ гогочутъ гуси и тн-каютъ цыплятки, а Аргафевы нѣтъ, и только одна терпѣвшая Васёнка, лежпть на гря іноп постели подъ грубымъ веретьемъ и смотритъ тихо и безропотно или вдругъ скажетъ:
— Ма яки нѣтъ... она упюдцы! -п сама снова у молкнетъ, и опять лежитъ тпхо-претпхо.
Теперь она уже совсѣмъ умолкла и затихла навѣки. Ей теперь хорошо: но сколько она должна была перестрадать и перемучиться, пока застыла подъ застрѣхой! Какой ужасъ! II чтб такое могло ее побудить оставить постельку, на которой она всегда такъ терпѣливо лежала. и лѣзть на холодный чердакъ, чтобы тамъ закоченѣть въ страшной стужѣ?
Я былъ твердо увѣренъ, что тутъ есть какая-то тайна, которую отгадать страшно, и получилъ въ этомъ еще большее удостовѣреніе. когда въ избу съ нацюрья. въ облакѣ морознаго пара, вошла вдова Ѵграфена.
Она посмотрѣла на свою умершую дѣвочку и на всѣхъ, которые ее укладывали «подъ святые», и молча, съ совер
шенно безчувственнымъ лицомъ, пошла въ противоположную сторону къ печп и стала грѣть возлѣ нея руки.
Въ это время опять вошла м.ігушка, неся въ рукахл. дѣтскую рубашечку съ голубою тентою. Увидя Аграфену, матушка тшнула ее за плечо и серціто показала ей на мертваго ребенка.
Аграфена посмотрѣла и опять ни слова не отвѣчала.
— Видишь или нѣгь?—строго спросила матушка., и только тутъ Аграфена отвѣтила ей дерзко:
— Что впдѣгь-то?.. Ну, и вижу!
— Это твой вѣдь ребенокъ?
Ну, и мои! Что жъ такое? Вылъ мой, а теперь пускай будетъ Божій! Господь его приняли, и слава Богу.
— Гы безчувственная’
— Ну, такъ что жъ такое, хоть и безчувственная!.. Боги взялъ диія -что тутъ еще чувствовать! Г’го воля.
Матушка покачала головою и. погрозивъ Аграфенѣ пальцемъ, вышла и уй'ейяа съ собою натруди шапочку Митрофанія; а какъ только барыня ушла Аграфена подошла къ дѣвушкамъ и. обхвативъ ихъ всѣхъ трехъ сразу ощой охапкой, толкнула къ дверямъ и сказала:
Станьте, доносчицы!
Я не трогался и не шевелился.
Аграфена меня не замѣчала: она стала возлѣ Басенки, послюнила пальцы и этими пальцами разгладила ей на лобикѣ ея льняные волоса, потомъ іругъ икнула, опустилась на лавку, и у нея полились слезы; но это было не долго: она вытерла лино гряшой тряпкой и подошла къ стоявшей вь углу коробьѣ.
Здѣсь она увидала меня и, казалось, нетного удивилась, но, однако, не сказала мнѣ ни слова, а, порывшись въ коробьѣ, достала оттуда конецъ полотна, нитки и наперстокъ и пошла къ столу, чтобы что-то кроить, но въ это время въ избу воI жала дѣвочка Агашка и сказала, что мать моя сама пришлетъ Басёнкѣ саванъ и покровецъ.
Аграфена ничего не отвѣтила, но завернула нитки и ножницы опять въ полотно и снова все. это положила въ коробью, и тутъ, нагнувшись надъ коробкою, вдругъ за-ры тала.
Я робко приблизился къ ней и, самъ плавучи, обвилъ руками ея шею, но она меня отодвинула и сказала:
— Не замай! не замай!—и опять заголосила.
Мнѣ показалось страшно съ нею оставаться, и я пошелъ домой, гіѣ теперь всѣ были занято! судьбою I »ас»‘*ні.іі и притомъ всякій по-своему: м ітушка отрѣзала холстъ на саванъ ВасенкІ», а дѣвушки шили эту никогда до той поры мною невиданную вещь «на. живую нигку». Маіѵшк.і каждой изъ нихъ напоминала, чтобы непремѣнно шить «на живую нигку».
Я очень интересовался, почему дѣвушки должны были шить на живѵю нит..ѵ, когда имт» въ другихъ случаяхъ такое шитье ставилось въ вину, и мнй обт.ясни іи. что это такое правило, что « н і мертвыхъ всегда надо шить на живую нитку»»
Я тогда былъ въ такомъ возрастѣ, когда дѣти «наби-раются впечатлI ній», и все новое меня очень интересовало.
Я давно слыхалъ слово «саванъ» и привыкъ чувствовать въ его звукѣ что-то- зловѣщее, но никогда савана не видалъ, п теперь напрасно всматривался, какъ его шили, потому что ничего не могъ разобрать въ кучкѣ полотна, которая вертй.іась ѵ швеи на колі.няхъ; но потомъ мнГ. удалось его увидать. Когда большія дѣвушки пошли обѣдать. рѣзвая дѣвчонка І’оська, оставившая'я дежурной по дѣвичьей комнатѣ, наложила Васёнкпнъ савань на себя п стала перецъ отворенными дверями вд. нашу дѣтскую, такъ что мы ее ѵвпдалп. и сначала мнѣ показалось, будто я вижу < козу», которая ходитъ плясать съ медвѣдями, но потомъ я понялъ, что это и есть саванъ... Я испугался п. закричавъ отчаяннымъ голосомъ, бокалъ къ старшимъ.
Васёнку я не вща.ть въ ея погребальномъ уборѣ, приготовленномъ для нея на живую нитку; но когда я легъ спагь, то, прежде чѣмъ заснуть, мнй привелось услыхать разъясненіе, какъ она попала на чердакъ. Всему дѣлу виновницею оказалась ея мать. Аграфена, или. точнѣе сказать, ея «сибирнЕій к.ірахтеръ» (такъ доносила матушкѣ старостиха Домна). «Аграфена ѵзгоріп.іась. чіеоы никто на нее не смѣлъ думать, что она дочкѣ шматокъ тѣста отъ господской дежки беретъ . II она будто Васёнку взяла и выгнала, чтобы та шла въ общую людскую избу, пока хлЬбъ высидится. а сама Аграфена къ сестрѣ, на деревню пошла и тамъ задержалась, потому что сестрѣ горшокъ накидывала:
а Васёнка побоялась идти въ людскро избу, потому что тамъ въ сѣняхъ бѣлая телка, которая бодалась, и спряталась на чердакъ въ гнѣзда и тамъ застыла.
II Васёнку схоронили, а на Аграфену не сердились, и даже, когда подходилъ Васёнкѣ девятый день, Аграфенѣ велѣли выдать полпуда муки на блины и приказали дать ей лошадь, чтобы она могла поѣхать съ сыномъ своимъ, девятплѣгнпмъ Еюркою, на кладбище; по Аграфена муку взяла и отнесла ее на деревню къ сестрѣ, а на лошади не поѣхала, а пош та съ Егоркою пѣшкомъ, хотя д< нь былъ прескверный: холодъ п метель.
Пошли они утромъ, но не возвратились засвѣтло, а метель разыгралась, и думали, что вдова съ сыномъ остались переждать погоду у кого-нибущ изъ дьячковъ. Но на другой день ее не нашли на Поповкѣ, а потомъ и ее, и сына отыскали въ овражкѣ—мать съ сыномъ сидѣли обнявшись, и оба замерзли.
Повидимому, они шли домой и сбились съ дороги; но нѣкоторые думали, что Аграфена нарочно заморозила сына, чтобы его «ослобоніпь».
Истину въ этомь дѣлѣ открыть было невозможно, и дьячокъ Меркуріи, которому заказывали дѣлать н.цписи па крестахъ, написали, на крестѣ, покрывшемъ семейство горделивой Аграфены: «Боговинися душа».
Никто не могъ понять въ точности, что такое это значило, но всѣ находили, что это «что-то значить».
А дьячокъ Меркуріи только кивалъ значительно головою п произносилъ: «гмъ!» — а внятнѣе ничего не сказывалъ.
Смерть Васёнкп, Аграфены п Егорки была первымъ трагическимъ случаемъ изъ всѣхъ событій голодной зимы въ нашей деревнѣ, но драма эта совершилась втайнѣ и «предана волѣ Божіей».
Дрѵгія событія, которыя я припоминаю, случи іись позже и не такъ близко, какъ это. Но здѣсь еще надо вставить отрывокъ о хи громъ помѣщикѣ.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Хитрый помѣщикъ былъ не кто иной, какъ майоръ Алымовъ, о которомъ вскользь уже упомянуто. Его ночему-то не называли но имени и отчеству, а титуловали но чину.
«майоръ». Онъ быль молодой, холостой, бравый, сильный, плечистый, съ огромнѣйшими черными усами «въ-розметъ» и съ бойкими, но непріятными манерами дурного тона, которыми онъ и оттолкнулъ отъ себя сосъда-моряка при мо-пебнѣ о дождѣ для земли алчущей.
Алымовъ служилъ въ какомъ-то полку и вышелъ въ отставку шг какой-то «исторіи». Это, должно-быть, имѣло общественное значеніе, потому что при всякомъ случаѣ, когда мои родители знакомили съ кѣмъ-нибудь майора Алымова, то непремѣнно къ громко произнесенной рекомендаціи его прибавляли потише, что онъ «вышелъ по исторіи». Майоръ былъ яолостъ и постоянно «лыталъ и судьбы пыталъ» или, проще сказать искалъ выгодныхъ невѣстъ для законнаго брака, а до устройства себѣ искомаго семейнаго положенія онъ жилъ одинъ въ своей небольшой деревушкѣ, гдѣ у него быль очень скромный домикъ, въ мять комнаты и вся усадьба, устроенная его матерью «по-однодворчески», а не по-дворянски. То-есть, домикъ у Алымова быль построенъ однимъ фасадомъ въ садъ, гдѣ не было никакихъ иныхъ деревьевъ, кромѣ фруктовыхъ, а всѣми другими тремя сторонами этотъ домывъ выходилъ во дворъ, обнесенный всѣми хозяйственными службами, — закутами, сараями, амбарами и амба-рушками.
Такой способъ постройки въ нашихъ мѣстахъ назывался «въ кольцо» и имѣлъ ту выгоду, что II люди, и животныя-----
всѣ были у хозяина передъ .глазами; но зато кромѣ ихъ уже ничего другого видно не было.
Отъ этого на такихъ усадьбахъ не ходитъ вѣтеръ,--тепло, хозяйственно и очень скучно.
Алымовъ, по выходѣ въ отставку, уже нѣсколько лѣтъ сидѣлъ на этой усадьбѣ и валъ свое небольшое хозяйство аккуратно, почему у него было довольно всего, что только нужно въ его положеніи домовитаго холостого помѣщика и «женишка». А женишокъ этотъ, по памятному мнѣ опредѣленію моей няньки, былъ притомъ человѣкъ «довольно будто простенькій, но и довольно будто хитренькій». Онъ, напримѣръ, не подражалъ большинству помѣщиковъ, которые бываші часто очень требовательны къ своимъ людямъ и за всякую неисполнительность наказывали ихъ сурово и даже жестоко. Алымовъ хотѣлъ быть «добрымъ бариномъ»;
Сочиненія Н. С. Лѣснова. Т. XXXIII. 3
онъ хот ѣлъ «жить такъ, чтобы въ деревнѣ ему своихъ людей нечего было бояться», и «чтобы люди его хвалили». Но онъ достигъ только одной половины этой программы, т. е. онъ у себя въ домѣ своихъ людей нимало не боялся, но похвалъ себѣ отъ нихъ не дождался, а люди сто говорили о немъ, что онъ «шишимора».
Алымовъ былъ очень скупъ и изъ-за скуйости будто бы и не яіенился, а только все сватался и на жениховскомъ положеніи ѣздилъ изъ одного помѣщичьяго дома въ другой, заставляя принимавшихъ его хозяевъ кормить сто, съ кучеромъ, казачкомъ «Палеткой», тройкою лошадей и легавою собакою, которая называлась Интендантъ». Она была замѣчательна тѣмъ, что вездѣ 5 мѣла отыскивать съѣстные припасы и вездѣ ихъ очень ловко крала.
У Алымова, также какъ и у насъ, въ этотъ годъ не \родилось въ поляхъ ничего, и надо было купить ржи, чтобы засіять озимыя поля—свои и крестьянскія.
Это требовало большихъ расходовъ, и притомъ это была такая надобность, которой нельзя было отвести: но Алымовъ, однако, съ этимъ справился: опь уѣхалъ изъ дома въ самый сѣвъ и возвратился домой «по грудкамъ», когда земля уже замерзла и была запорошена мелкимъ снѣгомъ. А чтобы не нести покосъ на своей душѣ, что онъ бросилъ крестьянъ на жертву безкормицы, онъ ихъ утѣшилъ:
— Братцы!—сказалъ онъ «своимъ людишкамъ» по возвращеніи:—я объ васъ хлопоталъ,—хотѣлъ найти озимыхъ сѣмянъ, да не нашелъ; но вы какъ-нибудь перебьетесь... ѢІе правда ли? Я нашелъ отличныя сѣмена яровой ржи и купилъ цѣлыхъ десять четвертей. По осени ихъ везти неспособно было изъ Дмитровки, а теперь готовьтесь: какъ санный путь встанетъ -поѣзжайте на пяти подводахъ, берите по двѣ четверти на лошадь и привозите домой, ссыплемъ въ одинъ мой амбаръ, а по веснѣ, чтб Богъ дастъ,— запашемъ и засѣемъ всѣ земли мои и ваши, и будетъ чудесно... не правда ли?
Мужики отвѣчали:—Можетъ, и правда! А сами подумали: «Вѣрно, брешетъ,—вѣрно, что-нибудь крутитъ, шишимора!»-однако поѣхали и яровую рожь привезли.
А какая она такая будетъ и годится ли—то имъ было не вѣдомо, и потому они дѣлали все это съ неудовольствіемъ.
Прибыли на дворъ, выпрягли лошадей и оставили роясь па санкахъ, ссыпать было поздно.
А когда пришли ссыпать на дрѵгой день, то увидали нѣчто необыкновенное: господинъ ихъ захотѣлъ Божье зерно все перепортись.
Алыповъ начиталъ въ «Трудахъ Экономическаго Общества» чго-то необыкновенное о «навозной жижѣ», в'ь которой рекомендовалось мочить сѣмена и потомъ пхъ высушить. и отъ посѣва такихъ ( Ьіянъ урожай бываетъ отм Г.нный.
«Шишимора» сейчасъ же устроилъ у себя на скотной избѣ ящикъ, величиною въ два большихъ корыта, навелъ тамъ жижицы на мѣшаномъ конскомъ и иномъ пометѣ и велѣлъ въ немъ «зерно макать да просушивать», и тогда только въ амбаръ ссыпать.
Затѣя эта мужикамъ очень не понравилась и показалась глупою, а оттого и руки у нихъ не поднимались, чтобы «добро не знамо въ чемъ мочить»; но дѣлать было нечего— власть господская выше, и мужики своему «шишііморѣ» повиновались, все помочили, обсушили и ссыпали,—амбаръ заперли и ключъ ему принесли и у самыхъ образовъ на стѣнку повѣсили. А «шишимора» сейчасъ же опять велѣлъ заложить свою тройку въ сани, взялъ казачка Балетку и собаку «Интенданта» и поѣхалъ свататься на цѣлую зиму. II выѣздъ этотъ онъ производилъ съ повсемѣстнымъ успѣхомъ, которому очень помогала его «продувная штука», «какъ онъ оплёлъ мужиковъ».
Оплетаніе ж заключалось въ томь, что яровая рожь, припасенная на сѣмя, была -припоганена» посредствомъ замачиванья ея въ навозной жижѣ, и что теперь за эту рожь уже бояться нечего, такъ какъ мужики ее. < поганую» отъ мочки въ навозѣ, на снѣдь уже не украдутъ.
А что же онп зимой будутъ ѣсть?—спрашивали майора.
— Сдѣлайте вашу ми гость!—отвѣчалъ Алымовъ: — объ нихъ, пожалуйста, не безпокойтесь! Онп свое дѣло знаютъ. Но я ихъ, впрочемъ, такъ не оставляю: я имъ сказалъ: «Братцы! вѣдь это всего только до весны... вы до весны какъ-нибудь перебейтесь!» Они, не безпокойтесь: они перебьются1
II всімъ это казалось очень забавнымъ: люди съ воображеніемъ представляли себѣ—какъ гамъ у него мужики прп-
дутъ къ амбару, гдѣ ссыпана рожь, маканная въ навозной жижЬ, п понюхаютъ они, чѣмъ пахнетъ, и увидятъ, что рожь есть, а ѣсть ее нельзя... Вотъ и смѣхъ! Пе правда ли?—вотъ они и пойдутъ прочь іі «какъ-нибудь перебьются».
Этого человѣка не презирали и не порицали, а напротивъ находили его шишиморскій поступокъ очень забавнымъ. и продолжали всюду принимать Алымова и кормить его. Но мы теперь оставимъ майора путешествовать изъ дома въ домъ, а сами посмотримъ, какъ обходились и что выдумывали тѣ, кому было предоставлено: «какъ-нибудь перебиваться .
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Передъ Рождествомъ Христовымъ прошла молва, что началось людоѣдство. Извѣстно, что и въ 1892 году въ деревняхъ объ этомъ пробовали говорить; но теперь писаря и старшины читаютъ газеты и знаютъ, что о такихъ событіяхъ пишется, а потому ложь скоро опровергается; но тогда было другое дѣло. Пришелъ кто-то откуда-то и сталъ сказывать, будто бы съ отчаянія и съ голоду люди убиваютъ другихъ людей и варятъ ихъ въ золовыхъ корчагахъ и съѣдаютъ. По преимуществу такія продѣлки приписывали матерямъ, которыя будто бы дѣлали это изъ состраданія. Глядитъ-глядитъ, будто бы, мать на своихъ дѣтей, какъ они мучатся голодомъ, и заманить къ себѣ чьего-нибудь чужого ребенка, и зарѣжетъ его, и сваритъ, и накормитъ своихъ дѣтей «убоиной». Указывали даже очень недалекія селенія, гдѣ, будто, навѣрное совершились всѣ такія происшествія, и описывали подробности этихъ случаевъ. Такъ, въ одномъ селѣ, которое было отъ насъ въ десяти верстахъ, одна баба, будто бы, долго терзалась, глядя па томленіе умиравшихъ отъ голода четырехъ дѣтей, да и говорить имъ съ вечера въ потемочкахъ (огня въ деревняхъ тогда многіе по бѣдности «не свѣтили»):
— Спите, дѣтки мои, голубяточки, и если вы спать будете, то я вамъ завтра сварю убоинки.
Старшая изъ дѣтей этой бабы уже понимала нужду своего бѣднаго житья и говоритъ:
— Гдѣ же ты, мамка, возьмешь намъ убоинки?
А мать отвѣчаетъ:
Эго не ваше дѣло: вы уже только засните, а я побѣгу либо у кого-нибудь выпрошу, либо впотьмахъ у волка, вырву.
Дѣвочка п раздумалась о томъ. какъ мать будетъ впотьмахъ у волка изъ зубовъ мясо вырывать, и говоритъ:
— Страшно, мамушка?
А баба отвѣчаетъ:
— Ничего не страшно: спите? Вотъ какъ вы не спите да голосите, такъ мнѣ это гораздо страшнѣе!
А было это какъ разъ въ сочельникъ.
Дѣти же у бабы были погбдочки—всЕ маль-мала-меньше: сгаршей дѣвочкѣ исполнилось только пять лѣть, а остальныя всѣ меньше, п самый младшій мальчишка былъ у нея у грудей. Этотъ ужіі едва жилъ — такъ онъ извелся, тянувши напрасно изсохшую материну грудь, въ которой отъ голода совсЕмъ и молока н* было. Очевидно, что грудной ребенокъ неминуемо долженъ былъ скоро умереть голодною смертью, и вотъ на него-то мать и возымѣла ужасное намѣреніе, о которомъ я передамі. такъ, какъ о немъ разсказывали въ самомъ народѣ.
Какъ только баба обманомъ угомонила дѣтей и ея старшіе ребятишки уснули съ голоднымъ брюхомъ, она взяла своего грудного мальчика, дрожавшаго въ ветошкахъ, положила его къ себѣ на колѣни и дала ему въ ротикъ грудь, а возлі. себя положила на столъ хлѣбный ножикъ. Изнуренный ребенокъ, несмотря на свою усталость, взялся за грудь, но какъ молока въ груди не было, то онъ только защелкалъ губенками и сейчасъ же опять оторвался и запищалъ... Тогда мать пощекотала у него пальцемъ подъ шейкой, чтобы онъ поднялъ головку, а другою взяла ножь и перерѣзала ему горло.
У бивъ дитя, она, будто, сейчасъ же положила его въ ночвы. а потомъ разняла на части, посовала въ горшокь и поставила въ печку, чтобы мясо сварилось, а «утробку» на загнѣткѣ въ золѣ сожгла, и ночвы и столъ вымыла, и тогда побудила старшую дѣвочку и сказала ей:
-— Вотъ тутъ въ печи стоитъ горнякъ—варится... Въ нрмъ, гляди, іля васъ полно убоины... достаньте его и все мясушко съѣшьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?
Дѣвочка говоритъ:
-— Мамушка родная! ты зачѣмъ же одна въ кусочки пойдешь, когда у насъ убоинка варена! Съѣшь убоинки!
Но мать только поблѣднѣла и руками замахала:
— Пѣтъ,—говоритъ.—я не хочу—вы одни ѣшьте!—и съ этимъ толкнула дверь ногой и ушла.
А дѣвочка сейчасъ же высунула емкамп горшокъ изъ печи, перебудила своихъ младшихъ, сѣли за столь и начали ѣсть.
II всего своего братца они съѣли бы безъ остаіъчк і, но только кому-то изъ нихъ къ концу стола попалась нераскинувшаяся въ кипяткѣ ручка или ножка ребенка, и они по этой ножкѣ или ручкѣ узнали, что ѣдятъ «человѣчину»...
Тутъ они бросились бѣжать вонъ изъ избы, но только-что отворили дверь, какъ смотрятъ- мать ихъ въ сѣнцахъ виситъ удавившись, подцѣпивъ веревку за рѣшетину въ снятой крышѣ.
Въ другомъ же селѣ вышло будто дѣло еще страшнѣе: тамъ будто бы «внучки съѣли свою бабушку».
061. эти новости принесъ въ деревню и разсказывали всѣмъ на удивленье и на страхъ сухорукій Ефимъ, у котораго было особенное, очень пріятное положеніе. Его называли «нроіценникъ», потому что онъ когда-то, еще при прежнихъ господахъ, сдѣлалъ очень большой грѣхъ: украла» и одинъ, ни съ кѣмъ не подѣлись, съѣлъ цѣлый артосъ, и за это онъ былъ три іода скорченъ, но потомъ госпожа ѣздила куда-то къ святынѣ и возила этого Ефима съ собой, и онь тамъ исцѣлился. «Богъ его простилъ»: корча отъ него была отнята, но для памяти о его грѣхѣ у него рука усохла, такъ что работать ему было невозможно. Съ тѣхъ поръ Ефимъ не жилъ осѣдло, а все ходилъ по святыми мѣстамъ, «молился и ирезвиіцалъ». Ефимъ былъ мастеръ разсказывать, но въ основѣ его разсказовъ часто бывало много вздора и вралъ онъ, ничѣмъ не стѣсняясь, какъ будто ему и не было прощенія. Точно такъ же онъ навралъ и о сваренномъ ребенкѣ, и о старухѣ, которую съѣли внучки. Но навралъ онъ не все оть своего ума, а взялъ нѣчто и отъ другихъ людей, среди которыхъ оба эти разсказа сложились эпически, и въ основу ихъ фабулы легли нѣкоторыя дѣйствительныя происшествія, которыя въ ихъ натуральной простотѣ были гораздо болѣе ужасны, чѣмъ весь приведенный вымыселъ съ Ефимовой раскраской.
Г.ІАВк ДЕСЯТАЯ.
Въ дѣйствительности было вотъ чтб: довольно далеко отъ насъ.—верстъ болѣе чѣмъ за сто, — была деревня, гдѣ крестьяне такь же голодали, какъ и у насъ, и тоже всѣ Ходили побираться кто куда попало. А такъ какъ въ ближнихъ къ нимъ окрестныхъ селеніяхъ нигдѣ хлѣба не было, то многіе крестьяне отбивались отъ дома въ дальнія міста и разбредались цѣлыми семьями, оставляя при избѣ какую-нибудь старѵхѵ пли дѣвчонку, которой «покидали ні пропитаніе» ранѣе собранныхъ «кусочковъ».
Одна изъ такихъ крестьянски\ь семей, удалившись въ поборъ, оставила въ избѣ дѣвочку лѣтъ тринадцати, которую съ собою нельзя было в-'ягь, потому что она недомогала, и притомъ у нея совсѣмъ не было ни обуви, ни одежи.
[Ей «покинули» сколько могли корочекъ и охапки три хворосту, чтобы она могла имъ понемножку тошпь избу, и оставили ее на волю Божью. Несчастная абандона коротала ДНИ ОДИНОКаЯ ВЪ П)СТОЙ и почти холодной мвбѣ, для согрѣванія которой было очень мало топлива. Она сидѣлі днемъ подъ окошечкомъ, пряла какую-то посконь и томилась и отъ голода, и отъ стужи, и отъ немощи, и оть одиночества, и въ этомъ положеніи ее навѣщала только одна подруга,—такихъ же лѣтъ дѣвочка изъ сосѣдней избы. Разумѣется, и эта дѣвочка была такая же бѣдная, но та, первая -была тихая и покорная, а эта, вторая.—очень бойкая и, какъ увидимъ, слишкомъ предпріимчивая.
Она и надѣлала бѣдъ, игъ которыхь сложились потомъ разнообразныя легенды, ходившія по округу и еще сохраняемыя. можетъ-быгь, и доселѣ.
этой, второй дѣвочки-«озорницы» недавно умерла мать, и отецъ ея отложилъ новую женитьбу «до урожая», а иска онъ самъ уходилъ побираться съ двумя мальчиками, а «озорницу» онъ жа.тѣль таскать, потому что ей было не вз что одѣться.
Еп іакже «покидали кусочковъ и топ.іивца», и она оставалась «при избѣ». А какъ одной въ избѣ сидѣть скучно, то «озорницаѵ приходила скучать къ смирной сосѣдкѣ.
Вдвоемъ имъ было веселѣе и теплѣе и дни коротать, и ночь спать.
Дѣвочки ладили между собою, несмотря на то, что рѣзная, приходя къ тихой, не давала ей покоя и не разъ ее заряжала; но это все было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, чтб она одинъ разъ устроила.
Однажды, въ холодный и солнечный день, утромъ, когда обѣ дѣвочки встали,—хворая хозяйка начала набивать хворостомъ печь, а озорница убѣжала «свою избу провѣдать» и долго не возвращалась; но потомъ хворая слышитъ, что кто-то отворилъ дверь, которая вела съ надворья въ сѣни, и сейчасъ же въ сѣняхъ послышалось блеяніе ягненка.
Немощная дѣвочка удивилась, потому что во всемъ ихъ копцѣ деревни давно уже ни ноги овечьей въ живыхъ не осталось, и ягненку взяться было неоткуда. Уцѣлѣао же нѣсколько овецъ только у двухъ «Ногатѣевъ». но это было въ дворахъ на противоположномъ концѣ деревни. Оттуда сюда забѣжать ягненку было далеко, да п иезачѣмъ.
Но, однако, больной ясно было, что у нея въ сѣняхъ есть ягненокъ, и что онъ прйщелъ туда не своею охотою, а его кто-то тащитъ и въ то же время за пираетъ за собою дверь съ надворья.
Больная стоитъ у печи и смотритъ на дверь, а дверь вдругъ распахнулась и съ клубомъ холоднаго облака врывается въ избу сосѣдняя озорница, а передъ собою толкаетъ маленькаго черненькаго ягненочка.
Больная спросила ее.
— Чой это баранчикъ?
А озорница ей отвѣчаетъ:
— Развѣ не видишь, что мой’?
—- Нѣтъ, исиравди чей?
— Да вотъ исиравди и есть, что мой.
— Чего ты врешь!
— Ничего не вру: въ моихъ рукахъ, такъ, стало-быть, мой. Давай мнѣ, дѣвушка, поскорѣй ножъ—я его зарѣжу!
Та удивилась.
— Что ты,- говоритъ,—выдумала!.. У иди ты:
-— Ну, какъ же, такъ я сейчасъ и ушла!—поддразнила озорница, и добавила:—Мы эту барашку сейчасъ обдеремъ и спечемъ, и ѣсть будемъ.
А сама увидала въ эту минуту на столѣ хлѣбный ножъ, схватила его, зажала барашка въ колѣни и перерѣзала ему горло.
Хворая бы.то-бросилась, чтобы отпять барашка, да уже поздно было: барашекъ трппеталъ и фыркалъ кровью.
Діівочки побранились, и хозяйка хотѣла выгнать гостью вонъ изъ избы вмѣстѣ съ зарѣзаннымъ ягненкомъ: но озорница ея не послгша.тась и не пошла вонъ, а схватила изъ-подъ лавки рогожу и хотѣла закрыть ею окно, чтобы никто случайно не заглянулъ вь это окно п не увидалъ. что тутъ дѣлается; но едва она зацѣпила ні веретено одпнъ уголъ рогожи, какъ замѣтила, что къ окну снаружи прильнуло дѣтское лицо въ огромной шапкѣ, и шепелявый полудѣтскій голосъ проговорилъ:
-— А я все видѣлъ, что вы. спбнрныя, сдѣлали!
Робкая хозяйка такъ и замерла, а бойкая виновница всего происшествія дала ей знакъ, чтобы она молчала, а сама закричала на говорившаго:
— Анъ, врешь, ты ничего и не видѣлъ!
— А вотъ же, убей меня Богъ, видѣлъ!—отвѣчалъ мальчикъ, въ которомъ обѣ дѣвочки теперь могли узнать картаваго хозяйскаго сына изъ того самаго двора, чьего ягненка озорница заколола.
— - Нѵ. а если видѣлъ 1-акъ скажи: что же ты видѣлъ?..—переговаривалась опа. продолжая держать противъ окна рогожу.
Я видѣлъ, что вы нашего ягненка зарѣзали, — отвѣ-чадъ мальчикъ.
Ну, вотъ ты и врешь!
— Нѣтъ. видѣлъ... я сейчасъ побѣгу и тятькѣ скажу.
Тутъ озорница не стала больше спорить, а перемѣнила тонъ:
Нѣтъ, ты слушай... ты. хорошій мальчикъ, этого пустого не сказывай!
— Анъ, скажу... Зачѣмъ вы зарѣзали!?
Да на посмотри,- барашекъ живъ еще.
— Не ври, не ври! Я видѣлъ, какъ ты на него в°рхомъ сѣла, та по горлу его подогнула!..
-— Ну. а вотъ поди же, посмотри, -онъ живъ.
— А зачѣмъ онъ не кричитъ?
— А зачѣмъ ему кричать, когда ему хорошо. Бяшка! •бяшка! Ишь, смотри... хвостикомъ махаетъ! Поди посмотри, какъ ему хорошо, тебѣ и самому такъ захочется.
Мальчикъ хотѣлъ посмотрѣть въ окно, но дѣвочка не отвела рогожи, а упорно звала его въ избу.
— Поди,—говорила она:—поди сюда въ избу... Ишь ты, какой молодчикъ! II чья это только на тебѣ такая шапка ухастая?
— Шапка дѣдкіша.
То то, ты въ ней ишь... какъ купецъ пригожій. Она у тебя, гляди, въ середкѣ-то еще, должно-быть, пуховая?
Съ перьями.
— То-то я и вижу, что изъ нея изъ середки перо куриное лѣзетъ... Поди, я тебѣ эту дырку въ шапкѣ иглой зашью.
Не надобно.
Отчего жъ такъ пе надобно? Иди, дурачокъ, я зашью.
— Свои бабы зашьютъ.
Дѣвчонка бойко его передразнила:
— «Свои бабы зашьютъ»... .Ісгко ли радость какая въ своихъ бабахъ! Къ намъ иди у насъ лучше.
Пе надобно.
— Зарядилъ одно: «не надобно»! Иди, говорю тебѣ,— увидишь, ч'і о надобно будетъ.
Мальчикъ сталъ водить по снѣгу хворое гни-по и, заминаясь, ПОВТори.ГЬ:
А чго будетъ?
Хорошо поиграемъ съ тобою... Иди скорѣе!
Мальчики еще больше заколебался и глухо протянули:
—- Пе надо было барана рѣзать... Зачѣмъ зарѣзала?
— Да полно тебі. все про одно, дуракъ!.. Иди... я за тебя замужъ выйду, а она будетъ свахою, а потомъ я тебя на ней женю... Иди... хорошо поиграемся.
Маленькая сирена восторжествовала, и еіце меныпій сатиръ, въ дѣдкпногі шайкѣ на куриномъ перѣ, будто нехотя, поползъ въ двери избы, куда сто поманили на обѣщанныя забавы, а чуть только онъ отворили дверь и перелѣзъ черезъ порогъ въ дѣдкиномъ треухѣ и съ огромною хворостиною, озорная дѣвочка сейчасъ же схватила его за руку и говоритъ:
— На-ка, игру нокъ, смотри-ка, гдѣ вашъ ягненокъ-то!
— А гдѣ. же онъ?
— Вонъ, вонъ, гляди, онъ сигаетъ вверху на полочкѣ!
Мальчикъ этотъ былъ моложе обѣихъ дѣвочекъ, — ему всего было лѣтъ десять, но онъ понималъ, что барашекъ не птица и что ему на полицѣ быть не пристало; однако, мальчикъ поднялъ вверхъ голову, а дѣвочка въ ту же се-
кѵнду нахлобучила ему шапку до подбородка, воткнула ему въ горло ножикъ н толкнула его колѣномъ въ спину такъ сильно, что онъ упалъ ницъ, и ножикъ еще глубже вонзился въ его горло.
Мальчикъ лежалъ ницъ, замирая въ тихихъ, но сильныхъ содроганіяхъ и захлебываясь собственною горячею кровью, которая лилась изъ раны прямо въ шапку и, наполняя ее, быстро задушила его черезъ ротъ и ноздри. Онъ не вскрикнулъ и даже не подалъ стона, и можно сказать —- былъ убитъ мастерски, да и самъ себя велъ молодецки: придя оюда поиграть въ мужья, онъ въ самомъ дѣлѣ велъ себя мужественно--не плакалъ и не жаловался на женское предательство, а лежалъ какъ жертва коварства и любви, распластавъ руки въ-размётъ въ разныя стороны и не выпуская изъ крѣпко сжатой ладони орѣховой хворостины.
Какъ шелъ на свиданіе, такъ и умеръ во всей своей пышной представительности.
Больная дѣвочка, видя такое происшествіе, заголосила, и хотѣла выбѣжать изъ избы, но гостья погрозила и ей ножомъ и сказала:
Чего ты боишься?.. Онъ самъ натки улся. Хотѣлъ играть вотъ и поигралъ... Слушай меня, а то и тебъ то же будетъ. Пихай больше хворосту въ печь... Мы этого мальчонку сожжемъ — и знать ничего не будутъ, а барашка « печемъ и поѣдимъ убоины.
Больная дѣвочка, дрожа оть страха, стала исполнять распоряженія своей гостьи: онѣ съ очень большимъ трудомъ запихали убитаго мальчика въ печь, потому что растопыренныя руки ребенка и хворостина, которую дѣвочки никакъ не могли вырвать изъ окоченѣвшей руки, давали мальчику самооборону; онъ растопырился въ самомъ устьѣ печи и не хотѣлъ лѣзть, такъ что съ нимъ съ мертвымъ пришлось бороться и драться. Только послѣ многихъ трудовъ и усилій его, наконецъ, одолѣли и пропихали въ печь, и завалили его хворостомъ, и зажгли этотъ хворость, а потомъ принялись свѣжевать барана; но дѣло это тоже пришлось имъ не по силамъ.
Чтобы снять кожу съ сотаго животнаго, для этого нужно извѣстное умѣнье, котораго у дѣвочекъ не было, и притомъ онѣ сдѣлали упущеніе, давъ трупу барашка закоченѣть, послѣ чего освѣжевать его стало еще труднѣе. А потому'
опѣ все перепортили и бросили, а откромсали кое-какъ, вмѣстѣ со шкурою, одну ляжку и принялись ее печь безъ всякой приправы и въ той же самой печи, гдѣ теперь сожигался убитый мальчикъ.
Мальчикъ горѣлъ запихнутый въ печь подальше, а баранья ляжка пеклась въ той же печи, только поближе къ устью, и у загнѣтки стояла робкая дѣвочка-хозяйка, подбивая къ огню хворостъ, а озорная гостья убирала хату, т.-е. засыпала сорома, и золою кровь, пролитую на земляной полъ, и металась, не зная куда сбыть съ глазъ долей выпущенную изъ барана утробу.
Въ копцѣ она рѣшила закопать се подъ лавкою, и принялась за это дѣло.
Простота всѣхъ побужденій и пріемовъ этого двойного и прогрессивно восходившаго преступленія двухъ малолѣтнихъ была изумительна! Обѣ дѣвочки убивали и прятали слѣды своего преступленія чисто по-дѣтски, — точно будто играючи... II пока на дворѣ былъ свѣтъ, онѣ чувствовали себя бодро; но когда короткій зимній день померкнулъ, на нихъ тотчасъ же напалъ страхъ, и онѣ, стали соображать, что печку пора бы закрыть и избу «укутать», но этого нельзя было сдѣлать, потому что мальчикъ еще далеко не сгорѣлъ, и казалось, что онъ будто даже и не горитъ, а словно онъ еще живъ, п въ пылавшемъ хворостѣ «ёжится». Дѣвочки старались избавиться отъ него какъ можно скорѣе и спѣшили набивать въ печь новаго топлива, и не замѣтили, какъ сожгли весь бывшій у нихъ запаса, хвороста, и печь угрожала потухнуть; а между тѣмъ въ домѣ, гдѣ пропали баранчикъ и мальчикъ, къ ночи хватились того и другого и начали ихъ искать по дворамъ, при чемъ искавшіе пришли и въ избу, гдѣ были дѣвчонки, и преступленіе ихъ было открыто: убитаго мальчика отыскали «по гари», т.-е. по пригорѣлому запаху изъ печи.
Барашекъ былъ еще цѣлъ подъ лавкою, а въ печи пода, пепломъ нашли обгорѣлое туловище ребенка, отъ котораго даже не отпали ни голова, ни оконечности. Дѣвочки во всемъ признались и были отправлены въ острогъ, а изъ того, что онѣ сдѣлали, посредствомъ пересказа изъ устъ въ уста, составилась та басня, которую принесъ къ намъ въ деревню исцѣленный Ефимка.
Г. ІА ВА ОДІ1II ПА Д ЦАТА Я.
Другой изъ разсказовъ Ефимки о томъ, будто «внучки живую бабку съѣли», имѣлъ въ основѣ своей иное, трогательное происшествіе: въ вольномъ селѣ Мотыляхъ доживала вѣкъ одинокая старушка, которая много лѣтъ провела въ господскихъ и купеческихъ домахъ, въ нянюшкахъ, и «нажила капиталъ»—цѣлую тысячу рублей ассигнаціями (г.-е. па. нынѣшнія деньги около 280 руб.).
Подъ старость ей стало тяжело няньчпть хозяйскихъ дѣтей, и она захотѣла уйти «па покой», для чего и рѣшила уѣхать изъ города въ то село, откуда была родомъ, и гдѣ у нея оставались еще какіе-то родственники.
Опытные люди отговаривали се отъ этого: онп представляли ей давно извѣстную опасность,—что тѣмъ, кто жизнь прожилъ въ городѣ», въ старыхъ лѣтахъ возвращаться въ село не безопасно. Про такого человѣка сейчасъ прославятъ, что онъ богачъ или она «богатѣя», и тогда, того и гляди, что кто-нибудь изъ родныхъ «соскучится дожидаться» и «приспѣшить смерти»; но старуху предупреждали напрасно— она этого дѣльнаго предостереженія не послушалась.
— Легкое ли дѣло, что у меня за богатство!—разсуждала она.—Мѣстечко у міра выпрошу, сколько-нибудь денегъ на вино для старичковъ испою, а потомъ избенку себѣ поставлю, да коровенку куплю,—вотъ всего ничего у меня и останется на овсяный кисель да на еловую домовину... За чтб меня и убить-то?.. II грѣха взять не отбилъ!
Такъ она и съѣхала изъ Орла, отъ своихъ почтенныхъ купцовъ, па деревню, пропоила старичкамъ три ведерка вина, получила мѣсто для хаты, построила избу, завела коровенку и стала жить.
Старушка была хорошая и добрая; она привѣчала всѣхъ и давала отъ своей коровки молочка безкоровнымъ ребятишкамъ, а особенно ласкала дочерей своей племянницы, ихъ которыхъ одна, самая младшая, была ея любимицею.
Эгу дѣвочку старушка совсѣмъ забрала къ себѣ жить и обѣщала отказалъ ей по смерти своей и избу, и корову, и «все богатѣпство».
А сколько было того «всего богатѣйства», —то было не считано п «не смѣтно».
Когда насталъ голодный годъ, къ старушкѣ ста. о при
ходить такъ, много ребятишекъ, что она не могла уже всѣмъ имъ дать молока отъ своей коровы. Тремъ-четыремъ дастъ, а больше и нѣтъ, —- и самой похлебать ничего не оставалось. Не привыкла старушка отказывать, да дѣлать нечего— нонево.іѣ отказываетъ, и бѣдные ребятишки отходятъ съ пустыми плошками .. А такіе они все жалкіе, испитые, даже и не плачутъ, а только глядятъ жадно... Думать о нихъ больно. II не. знаетъ старушка, какъ ей быть и кйкъ между всѣмя молочко дѣлить...
Но вдругъ все это ея затрудненіе сразу докончилось: въ одну изъ темныхъ зимнихъ ночей, передъ праздникомъ, кто-то увелъ изъ сѣней ея корову, и слѣды ея на улицѣ съ другими такими же слѣдами попутались, и стало негдѣ искать коровы.
Старуха не согласилась и явку подавать,—сказала: Ьоюся я, не поклепать бы невиннаго!
Говорили ей, будто коровка ея по частямъ разнята и солится въ корчагахъ на большой дорогѣ у постоялаго дворика, но старуха, таки - выдержала себя — не жаловалась.
ІЦуня.іи ее и племянники, и попъ при встрѣчѣ ей выговаривалъ, что нехорошо не заявлять,- что «кто вору потакаетъ, тотъ самъ если и не тать, то на ту же стать»; по старушка все отвела тѣмъ, что «Богъ все знаетъ,—-а она не письменная!»
Теперь она осталась при одномъ киселѣ и не уставала кпселемч, дѣлиться, но и это по тогдашней всеобщей нуждѣ, много значило, и стало это безпокоить старушкину племянницу.
— Кормитъ-де опа мою дѣвочку и обѣщала ей отказать избу и корову, а вотъ коровы уже и нѣтути. Того гляди, 'го же самое выйдетъ и со всѣмъ ея богачествомъ. Все она потравитъ на чужихъ ребятъ, а тогда мнѣ съ моими дѣ-тями ужъ ничего и не останется... Лучше бы она, старушка, сдѣлала, если бы теперь поскорѣй померла!.. Чего ей?., вѣдь ужъ пожила! А то все буіетъ жить да раздавать, и раздастъ все такъ, что послѣ, какъ помретъ, то и попу за похороны дать будетъ нечего, — еще съ нею съ мертвою-то тогда и наплачешься.
II стала племянпинька о своей теткѣ все больше печалиться и даже начала говорить ей:
— Ты тб вздумай-ка, бадпька, что ты вІ>дь уже старъ-человѣкъ...
Стара, дитятко!
— Гляди, ужъ тебѣ еще немного на свѣгі; маяться.
День мой—вЕкъ мой, касатка.
— То-то и есть, а осталось бы, на что тебя схоронить и чі.мь помянуть.
А старуха вдругъ оказалась невозмутимо беззаботною.
ІІ-ихъ-ма! говоритъ: есть про что стадывать! Умру, такъ похоронятъ, наверху земли валяться не оставятъ’
Такъ солдаткѣ и не ' далось )няіь старуху отъ того, чтобы она никого чужихъ дѣтей не привѣчала, а благодѣтельствовала киселемь только однимъ ся солдаткинымь дѣтямъ, и задумала солдатка поправить это на другой манеръ,- пришла къ старѵхѣ въ сумерки и стала опять плакаться:
— Ходила, говоритъ, — я нынче весь день, - страсть какъ иззябла вся: въ трехъ деревняхъ была, а трехъ ломтей жмыховаго хлѣба не выпросила... Вездѣ говорятъ: «Богъ нодасті..—сами втроемъ въ поборъ ушли...»
Тяжко, бол Езная! отозвалась «тарушка.- Всѣмъ равно с -слано нонѣ тяжко отъ Господа!
А солдатка отвѣчаетъ:
Пѣтъ, баунька, не всѣмъ равно,- вотъ 1 тебя еще есть!
— Да; пока еще малость есть... да ужъ теперь... осталось немножечко.
— Что это?.. Денежекъ, что ль, остается-то у тебя немножечко?
— Да-а... денежекъ!.. Немножечко!
— А что же ты будешь дѣлать, когда все сойдетъ? Когда все сойдетъ-то, что буду тогда дѣлать?
- Да.
А не знаю еще... не думала.
— Какъ же такъ!.. Надо думать... смеріь-то вѣдь за плечами!
— А знамо дѣло, что за плечами: да что думать-то... думать-то нечего! Ничего, касатка моя, не выдумаешь... Только и есть на свѣтѣ всѣхъ помогаевъ, что одинъ Господь-Батюшка... Онъ же вѣдь зато и милостивъ!.. ІІ-и-ихь сколь милостивъ!.. Можетъ, Онъ дастъ... по своей милости, еще и такъ со мною сотворитъ, что я еще всего и что
есть, и того не доѣмъ, а Опъ и но мою по душу пошлетъ,— вотъ ничего думать тогда и не стоитъ.
— Это хорошо, бабушка, какъ помрешь!
- А то что жъ!.. Я то и говорю... Богъ съ милостью! Опъ создаетъ хорошо: помру, и ничего мнѣ не надобно!
— А если какъ все изведешь да не помрешь?
— Ну, такъ что жъ такое: я тогда себѣ средство найду.
— А какое же теперь средство, когда изо всякаго двора всѣ сами въ поборъ тронулись, и не знать, у кого можно корку выпросить.
- Ну, это такъ только въ деревняхъ въ однѣхъ... изды-хаютъ-то!.. да!., въ деревняхъ въ однѣхъ... А въ горо-дахъ-то, касатка, не такъ... тамъ хлѣбъ-то есть у купцовъ... Тамь припасено у купцовъ-то... всего... гляди-ко сколько! .
— Что жъ ты, въ городъ, что ли, хочешь?
— А что жъ! въ городъ сойду... Къ хозяевамъ-то къ старымъ приду, да и попрошусь на кухнѣ жить... Пустятъ!.. Неужлп-такіі выгонятъ?!. Чай, не выгонятъ... Проживу, пока на юбно.
— То-то,—отвѣчаетъ солдатка:—вотъ оттого ты такая и щедрая, что тебѣ хорошо.
— Да, говоритъ старуха:—мнѣ, касатка, всю жизнь мою все жилось хорошо. Я не щедрая, а... хорошо мнѣ.
— А намъ-то вотъ худо, а не хорошо.
— Потерпѣть надо, касатушка! Нонче всѣ терпятъ... Голодный гидъ насталъ!
— Поди-ко ребята-то воютъ, такъ не утерпишь... и самому ѣсть хочется... въ животѣ какъ веретеномъ сучитъ... Намъ хуже собакъ... тѣ падло лопаютъ, да еще насъ за лытки рвутъ... Бонъ меня искусали всю!
Надо съ палочкой.
Тугъ нетерпѣливая племянница на тетку и осердилась, что та все ей совѣты даетъ, когда той такъ горько жиіъ!
— Перестань,—говоритъ,—ты мнѣ тоску отводить; черезъ эти твои слова еще хуже мнѣ; вѣдь у насъ знакомыхъ купцовъ нѣтъ, намъ идти не къ кому, а ты вонъ еще мою дѣвчонку всю избаловала.
— Ну, зачѣмъ пустое говорить: чѣмъ я ее избаловала?
— Какъ же чѣмъ?., все ее чистымъ хлѣбомъ кормила п побираться не пущала!
Что-жъ, гдѣ ей побираться, когда она махонькая!..
А ты ее отпусти со мной: я и ее съ собой въ городъ сведу... у меня есть тамъ хозяева добрые... мои выняньченные; они ъелягъ намъ съ ной и вдвоемъ жить... будемъ вдвоемъ садиться съ прислугами.
— А другія-то мои дѣтушки мнѣ, думаешь, развй не жалобны?—говоритъ солдатка.
Тутъ старушка и задумалась.
—Другія!— говоритъ: — Ді... вотъ то-то п есть... Еще и другія есть!
Развела рукп и опять задумалась, и стала сама къ себЕ втишь приговаривать:
— Охъ, охъ-охъ-охъ!.. Одни да и другія есть... да и много ихъ... Вотъ и горюшко! А что сдЬлать-то?
А солдатка, не долго думая, отвѣчаетъ ей:
— А ты не знаешь, баунька, гіто сдѣлать?
— Не знаю, касатынька.
-— Вотъ то-то и оно.
— А ты развѣ знаешь что-нибудь?
— Я знаю.
— Такъ ты скажи.
Солдатка задумалась, словъ нея не находилось для выраженія того, чтб она придумала.
И старушка молчитъ.
Тягостно-тягостно стало въ темной избѣ, какъ будто сатана взошелъ.
Старушка вздохнула и сказала:
— Встань-ка. касатка, подойти къ печкѣ, вздуй огня.
А племянница ей грубо отвѣтила:
— А на что тебѣ огонь.—вовсе не надобно.
— Какъ же не надобно... темно совсѣмъ.
— Ну, такъ что жъ. что темно?... Нонче... всѣ безъ огня... Ложися спать, баунька!
— Да зачѣмъ же такъ... впотьмахъ... Наго стать Воту помолиться.
— Ну, и помолись, баунька.
Та не поняла или не разслышала и переспросила:
— Что, матушка?
- Помолись, говорю, баунька.
Да что ты меня торопишь — придетъ часъ, такъ и помолюсь.
— ПЕтъ, баунька, часъ ужь пришелъ—скорѣй молись.
Сочииеиія И- С. .ТЬсеоел Т. XXXII'. 1
— Да что ты пристала!.. Я стану ложиться спать—помолюсь... Ступай-ка домой, а ко мнѣ дѣвку ночевать посылай, мы съ нею станомъ ложиться спать и помолимся.
Тогда солдатка видитъ, что бабушка безтолкова, п потому еп еще менѣе причины оставаться въ живыхъ, и сказала ей на чистоту:
— Нѣтъ, ты къ себѣ мою дѣвку не жди, она не придетъ.
— Отчего не придетъ?
— А оттого, баунька, что къ тебѣ твой конецъ пришелъ. Если не хочешь молиться — такъ и такъ будь тебѣ легкая смёртушка.
Старуха стала приподниматься и спросила:
— Что?..
Прощай, баунька!—Солдатка всхлипнула, обняла ста-р,ху, поцѣловала ее и сказала:
— Теперь помираи!
Что ты это... я не хочу! — и старушка безсильно замахала руками.
— Н1>тъ. ужъ все одно... помирай!
II съ этими словами солдатка опрокинула «бауньку» на ея же кроватку, накрыла ей лицо подушкою, да надавила своей грудью полегонечку, но потомъ сама вдругъ громко вскрикнула и начала тискать старуху безъ милосердія, а руками ее за руки держала, «чтобы трепетанія не было».
(Такъ это все съ большою подробностью сама солдатка разсказала при слѣдствіи).
«Баунька» послѣ этого почила скоро, а убійцею сейчасъ же былъ сдѣланъ въ имуществѣ убитой самый внимательный розыскъ; но «всѣхъ денегъ-» у богачи хи въ шерстяномъ пагленкЬ въ коробьѣ найдено полтора рубля, и больше ничего у этой богачихи не было.
Въ этомъ и заключались ея «всѣ деньги», о которыхъ она съ обстоятельностью разсуждала за пару минутъ до опредѣленной ей «легкой смёртушки».
Но смёртушка бауньки, какъ ни старалась ее облегчить добрая племянница, — все-таки, видно, трудновата пришлась ей.
Когда разсвѣло на другой день, солдатка взяла съ собою любимую внучку покойной и пошла вмѣстѣ съ нею навѣстить бабушку, и нашли ее, разумістся, мертвою, а лицо у
нея синее и рѵки въ пятнахъ, а глаза выпучены и языкъ наружу, длиннѣй Аллилуева
Дѣвчонка какъ увидала это, такъ сейчасъ затряслася и замерла, а мать говоритъ рй «не своимъ голосомъ»:
— Ничего не шкни... убыо!. Говори, гдѣ у нея были ножницы?
Дѣвчоночка, дрожа, показала молча ручонкою на коребыо, въ которую уже вчера еще лазила солдатка за деньгами.
Теперь она опять открыла эгу коробыо, въ которой было все перерыто, и перебросавъ еще больше лежавшія тамъ ветошки и тряпочки, нашла на днѣ коробыі безручныя ножницы, которыми стригутъ овецъ, и, схвативъ ихъ въ дрожащія руки, подошла къ мертвой и отрѣзала у нея выдающійся конецъ языка; но отъ этого языкъ наружЬ какт. будто нимало не уменьшился, а только сталъ еще безобразнѣе.
Солдатка взглянула на свою работу, взяла за руку дѣвочку и пошла къ сотскому, — вошла тихи, помолилась на образъ и сказала:
—- Вяжи мнѣ руки’
— Чтб тебѣ, дура, попритчилось, что ли? — спросить сотскіп.
— Нѣтъ, вяжи ргки: я бабку убила.
— Врешь на себя!
— Нѣтъ, не вру,—отвѣчала сол іатка и. сѣвши на лавку, раскрыла свою грудь и сказала: На-ко-сь. глядите-ка — вотъ онѣ тапочки... Это когда я ее вчера душить стала, такъ она меня зубами за титьку тяпнула.
Тогда пошли п удостовѣрились, и увидали, что солдатка говорила правду, и связали ей руки, и увезли ее въ станъ, а оттуда -«куца дѣла требуютъ».
Черезъ годъ ее били кнутомъ въ Орлѣ на Ильинской площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сложенная. Ей дали пятнадцать .даровъ и растерзали ей до кости всѣ бока и спину, но она не потеряла чувствъ и за каждымъ ударомъ вскрикивала: «Понапрасно страдаю!» А когда ее сняли съ деревянной кобылы и она увидала на своей свіпкѣ набросанныя мѣдныя деньги, то заплакала и сказала:
Не надо мнѣ ничего, сошлите все въ деревню на церковь.
О дѣтяхъ своихъ она, можетъ-быть, позабыла.
И такихъ преступленій, поразительныхъ по несложности ихъ замысловъ и по простотѣ и холодности пхъ выполненія, было слышно очень много, и очень значительное число ихъ осталось неизслѣдованнымъ и даже неизвѣстнымъ далѣе своего околотка. Становые пристава за всѣмъ услѣдить не могли; «корреспондентовъ» тогда еще не водилось, а въ губернскихъ вѣдомостяхъ всѣ новости состояли изъ распоряженій начальства о перемѣщеніи и увольненіи чиновниковъ и, въ видѣ особенно интересныхъ рту чаевъ, объ отдачѣ ихъ подъ судъ.
Особенно поразительна была холодность и какая-то легкомысленная жестокость въ дѣйствіяхъ, затѣвавшихся съ голода. Вь сосѣднемъ съ нами селѣ пастухъ Пгнашка съ подпаскомъ, напримѣръ, захотѣли «ѣсть убоину», и съ этой цѣлью сами, вдвоемъ, отлучили одну исправную тѣломъ овцу отъ стада и сволокли ее въ лѣсной оврагъ, чтобы тутъ зарѣзать и начать се 'ѣсть; а на деревнѣ сказать, что ее волкъ съѣлъ. Но, спустись въ оврагъ, они вздумали, что всей овцы имъ за одинъ день не съѣсть, а недоѣденное мясо протухнетъ и пропадетъ даромъ. Тогда они порѣшили овцу не зарѣзывать, а связать ее и оінріьзатъ у нея у живой столько мяса, сколько имъ на день нужно, а остальная овца пусть лежитъ и дожидается. Они такъ и начали, — отрѣзали у живой овцы «четверть», спекли ее и съѣли, а остальное оставили въ оврагѣ, — а сюда пришелъ въ самомъ дѣлѣ волкъ и прекратилъ терзательныя мученія овцы, и сволокъ п сожралъ ее всю безъ остатка, а пастухи, не найдя овцы на другой день, заподозрили другъ друга въ кражѣ, подрались и другъ друга выдали. Пгнашку про-з вал и « живор ѣзодъ».
гКенсъій полъ, какъ замужнія, такъ и незамужнія, продавали свои труды ни по чемъ: въ услуги и іи на работу поденно охотно набивались «изъ-за прокорму», по и на этихъ условіяхъ въ деревняхъ міета нельзя было найти. Духовенство набрало себѣ безплатныхъ батраковъ и батрачекъ, но только въ потребномъ числѣ, а предложеніе услугъ было безмѣрно. Цѣна же женскихъ издѣлій была невѣроятная: «копецъ холста» продавали за полтину мѣдью (7 аршинъ за 11 копѣекъ), «початокъ пряжи» — за мѣдную гривну (3 коп.), и фунтъ хлѣба стоилъ 3 кои. Покупали все это грабительскимъ образомъ торгаши, которыхъ пазы-
взютъ «кошатниками» пли -кошкодраламп». Они покупаютъ кошекъ и тутъ же ихъ убиваютъ о колесную шину телѣги или о головашку саней. ЦІна кошки черной и сѣрой -гривна, а пестрой- -пятакъ мѣди. Этимъ же кошкодраламъ бабы и дѣвки тогда продавали «свою дѣвичью красу», т. е. свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цѣна на которую, за обиліемъ предложенія, пала до того, что женшины п дѣвочки, иногда самыя молоденькія, предлагали себя сами, безъ особой припіаты, «въ придачу кь кошкѣ». Если кошатникъ не хотѣлъ брать дрянную кошку, то продавщица стонала: «купи, дяденька, хорошій мои: я къ тебѣ въ сумерки къ колодцу выйду». По кошатники были этимъ добромъ изобильны, и не на всякую «придачу» льстились; они цинически разсказывали, что имъ теперь хорошо, потому что «кошка стдигъ грошъ в.ѵѣстѣ съ хозяйкою». Ко-шачья шкура была товаръ, а хозяйка — придачею. II этотъ взглядъ на женщину уже не обижалъ ее: обижаться было некогда; мученья голода были слишкомъ страшны. Съ этимъ же взглядомъ освоивалпсь и подросткп-д Квочки, которыя отдавали себя въ такемь возрастѣ, когда еще не переставали быть дѣтьми... Вообще крестьянскія женщины тогда продавали свою честь въ нашихъ м Кетахъ за всякую предложенную цѣну, начиная съ мѣдной гривны, но покупатели въ деревняхъ были рг.уки. Болѣе предпріимчивыя и прпглятныя бабы ухолили въ города «къ колодцамъ». II себя въ деревняхъ молодыя бабы выходили вечерами постоять у колодцевъ, — особенно у такихъ, на которые под-ворачиваюгь проѣздомъ напоить коней обратные ямщики, прасолы пли кошкодралы, и тутъ въ сѣрой мглѣ, повторялось все то, чтб было и въ оны дни у колодца Ливанова. Здѣсь взаимно омрачала другъ друга и старость, и юность, п все это буквально за то, чтобы «не околѣть съ голода»... Не могу теперь ясно отвѣтить, почему сельскія женщины и въ городахъ мѣстами своихъ жертвоприношеніи избирали «колодцы», у которыхъ онѣ и собирались, и стояли кучками съ сумерекъ. Можетъ-быть, въ другихъ пунктахъ ихъ прогоняли горожанки. Особенно въ этомъ отношеніи въ Оп.тѣ прославились крыгые колодцы у Михаила Архангела и Плаутинъ. Крбм'ѣ того, множество женщинъ ютилось по пустымъ баркамъ, зазимовавшимъ во льду между Баннымъ мостомъ и мужскимъ монастыремъ и его слобод
кою. Срамъ это былъ открытый, но его какъ-то не вмѣняли въ преступленіе. Старшія семьянинки не только отпускали молодыхъ на вѣдомое дѣло, но еще склоняли къ тому, говоря: «чего такъ-то сидѣть: надо сойти въ городъ у колодца раздобыться». А молодыхъ не нужно было много уговаривать,: правила ихъ всегда были шатки, а голодъ — плохой другъ добродѣтели. Молодайки уходили, мало таясь въ томѣ, на что онѣ надѣются, и бойкія изъ нихъ часто прямо говорили: «чѣмъ голодать — лучше срамъ принять». Когда онѣ возвращались отъ колодцевъ, ихъ не осмѣивали и не укоряли, а просто разсказывали: «такая-то пришла... въ городу у колодца стояла... разъѣлась—стала гладкая!» *)
*) Чтобы имѣть ясное понятіе, какъ относился къ этому -міръ», стоитъ припомнить какъ относились къ своему «стоянію» тѣ. кто претерпѣлъ его ближайшимъ п непосредственнымъ образомъ. Когда я посѣтилъ родныя мѣста года черезъ трп послѣ благословеннаго дня «освобожденія», мнѣ привелось посѣтить съ однпмь изъ мировыхъ посредниковъ прекрасную сельскую больницу, въ которой «по усердію» трудилась въ черныхъ работахъ пожпэая женщина, очень ^руннаго роста, по имени Стеха. Она же ходила и на деревню «обмывать мертвыхъ», тоже не по нуждѣ и не за плату, а «по усердію». Ей было уже лѣтъ за пятьдесятъ и она была сильна, велика и смахивала немножко на мужика. У нея на деревнѣ было свое хозяйство—дворъ, скотина, земля, дѣти и внуки, и даже, кажется, правнуки. Пользовалась опа у всѣхъ почетомъ.—говорили о ней: «Стеха души не убьетъ.—Стеха не совретъ.—Стеха справедливая». И всѣ знали, что она «угождаетъ больнымъ» и «покойниковъ убираетъ только для Господа, а ея душа чиста, какъ стаканъ свѣтится . А эта самая Стеха.—несомнѣнно имѣвшая всѣ тѣ добрыя качества, которыя ей приписывали.—разсказывала мнѣ о голодномъ годѣ при своей пожплой уже дочери и при взрослой дѣвушкѣ и внучкѣ, «ничего не прибавляючп и не отбавляючп», и въ этомъ разсказѣ прямо о всѣхъ свопхъ сверстницахъ и о себѣ говорила: «всѣхъ насъ, милый, восемь бабенковъ молоденькихъ было, и всѣхъ насъ кошкодралы у колодца уговорили: «поѣдемте, говорятъ, мы васъ въ Орелъ свеземъ, тамъ у колодцевъ лучше здѣшняго». — «Мы всѣ, дуры, и повѣрили, и пошли, а хоровіаго только и было, что прокормилися; ну. да вѣдь тогда ббльшадо-то грѣхъ было и спрашивать^. О нравственной сторонѣ «инцидента» Стеха будто вовсе не думала, а когда я наклонилъ вопросъ въ эту сторону и побудилъ ее выразить свое мнѣніе, — она покопала веретеномъ йодъ головною повязкой) и сказала: «Что говорпть-то! Вѣдь голодная смерть страшнѣй сраму... Все же лучше было шкуру свою продать, чѣмъ душу».
А ужъ что она разумѣла подъ продажей души—этого я не знаю.
О достоинствѣ взглядовъ этой женщины я вообще но могу п не хочу судить, потому что боюсь какъ бы не согрѣшить передъ Стехой и другими ей подобными грѣшницами болѣе тяжело, чѣмъ вѣсятъ всѣ ихъ согрѣшенія передъ < Могущимъ спасти всѣхъ (Іак. IV).
Кромѣ «гладкости» и іи сытости тѣла, ничто другое не принималось и въ соображеніе. Всѣ высшія цѣли бытія человѣческаго словно перестали существовать.
У насъ была молодая баба Кадерка или Холерка (настоящее имя -Калерія). У нея была прегнусная свекровь, которая «ее сбила въ городъ», и она пошла «у колодцевъ стоять», но ей такъ не посчастливилось, что она ни добычи домой не принесла и сама не «послажѣла», а напротивъ «гнить стала» и сидѣла всѣмъ на ужасъ въ погожіе ’іни на пыльной дорогѣ, безъ языка, издавая страшную вонь и шипѣніе вмѣсто крика... Ей бросали корки издали, какъ злой собакѣ, и отбѣгали, закрывая себѣ носъ. А сказу о ней было только, что она «въ голодный годъ у колодца стояла». Эта Холерка наконецъ задавила себя поясомъ.
О такихъ дѣлахъ. бывало, все «доводятъ господамъ», но больше только для новости и пріятнаго развлеченія,—какъ фельетоны.
Въ большомъ напряженіи чувства мы пврежіцы рождественскіе праздники и, зайдя за Крещеньевъ день, стали чувствовать, что нашей унылости какъ будто брезжится край. И почувствовалось это по весьма неважному и даже незначительному обстоятельству: отецъ спросилъ старосту.
— Что, Дементій, не слыхать ли чего новаго?
А староста, который давно давалъ мрачно одинъ отрицательный отвѣтъ, на этотъ разъ отвѣчалъ:
Да вотъ на Поповкѣ есть будго новость!
— А чтб тамъ такое случилось?
— Да вотъ Меркуль оттуда заѣзжалъ и сказывалъ, что къ нимъ новый дьячокъ присланъ.
— Это на Аллплуево мѣсто?
— Да, во его званіе... И еще не совсѣмъ придѣленъ, а только пріукаженъ, для просмотрѣнія, отъ отца Ипполита.
(Имя «Ипполитъ» для крестьянскаго произношенія было трудно, п они находили адобнѣе приставлять И.).
Отецъ спросилъ:—хорошъ ли новый дьячокъ?
А Дементій отвѣчаетъ:
— Ничего; Меркулъ сказывалъ — свпстудой поетъ, но вопче, по благословію надо полагать, что не важный.
—- А почему?
— Да ужъ если не сразу придѣленъ, а на время пріука-
-женъ, для присмотрѣнія должности, такъ стало-быть подъ владычнымъ с\ млѣніемъ.
Л черезъ нѣсколько дней тотъ же Дементіи уже по собственному почину сообщи .ъ:
— Новый духовенный-то... я в імъ сказывалъ?
-— Что же такое?
Ничего не стбяіцій.
Отчего?
Совсѣмъ пустоплясъ!
- Да отчего?.. Что значитъ пустоплясъ?., очень проворенъ, что ли?..
— Точно такъ. Пашкой звать.
— Отчего же ты его зовешь Пашкой, а но Павломъ?
— Не стоилъ онъ по інаго званія.
Да чѣмъ же онъ такъ плохъ?
-- Совсѣмъ никуда не годится
Обстоятельство было не важное, а стало интересно, чіб за молодецъ къ намъ прибылъ «во мѣсто Аллил'уя» н какое онъ займетъ у наіъ «прндѣленіе»?
Г.ІАВА ДЕЫІА, ЩАТАЯ
Прибывшій «во мѣсто Аллилуя» Павлу шка-дьякъ былъ оригиналъ и всего менѣе человѣкъ «туховеннын», — оттого онъ по свойствамъ своимъ такъ скоро и получилъ соотвѣтственное прозваніе «Пустоплясъ». Онь былъ столь бѣденъ, что казался бѣднѣе всѣхъ людей на свѣтѣ, и по словамъ мужиковъ—пришелъ «не токма что голый, но ажно синій», и еще онъ привелъ съ собою мать, а въ рукахъ принесъ .лубяной туезокъ да гармонію, на которой играли такъ, что у всѣхъ, кто его слушалъ, — ноги сами поднимались въ плясъ.
Имущества у него не было никакого и денегъ пн гроша. Причтъ не зналъ, куда его дѣть, п помѣстили Павла и его мать въ тѣсной сторожевой избушкѣ, вмѣстѣ со сторожемъ.
Мѣітными дознаніями было открыіо, что Павлушкина мать была когда-то дьячихою, а потомъ ходила въ городѣ по стиркамъ, а иногда просила милостыни. Павелъ былъ ею воспитанъ въ тйжйой долѣ и могъ бы, кажется, постичь жизнь, но не удался, -«все клонилъ къ легкомысленности» и за то быть исключенъ изъ третьяго класса и долго болтался «безъ пріідѣленія», и теперь онь ощо не былъ совсЕмь
опредѣленъ «во мѣсто Аллилуя», а пока только былъ еще временно пріукаженъ, чтб выходило въ родѣ испытанія.
У насъ, впрочемъ, всѣ сразу стали увѣрять, что изъ этого пріукаженья ничего и не выйдетъ, потому что за очевидныя Пашкины малодушества отецъ Ипполитъ непремѣнно «въ отзывѣ его опорочитъ».
Павлуша и въ самомъ дѣлѣ «не потрафлялъ»: онъ читалъ скверно, невнятно и «скорохватомъ», и все «поспѣшалъ на .1 укапаю*. Начнетъ «Отче нашъ» и зачаститъ такъ, что ничего нельзя разобрать, пока придетъ «отъ лукаваго». Такъ же и «Пже па всякое время» и прочее— все онъ «читала безъ понятія», но пѣть могъ, только гораздо охотнѣе пѣлъ свѣтское пѣніе, чѣмъ «духовное», и любилъ шутки строить надъ старшими.
На эго сторожъ жаловался его матери, но та отвѣчала, что у него такой же быль и отецъ, который былъ на хорошемъ мѣстѣ, а зашутился и пропалъ безъ вѣсти—слѣдовательно Павлу ужъ нечего и думать, чтобъ удержаться.
Павлушина мать была стара и имѣла пляску св. Витта, отчего она дергала лицомъ и при каждомъ судорожномъ движеніи издавала звукъ «фпт! фпт!».
За это ее назвали «Фаптея».
О Павлушѣ скоро дошли до насъ вѣсти, что онъ очень веселый, и вслѣдъ затѣмъ мы очень скоро убѣдились, что это правда.
Между нашею деревнею и деревнею майора Алымова (въ верстѣ отъ алымовскоп усадьбы) стояль одинокій дворъ однодворца Луки ІСромсаева, или попросту Кромсая. Кромсай этотъ подъ нѣкоторою личиною степенства и скромности былъ настоящій «шельма мужикъ» пли «воръ-мужикъ»: онъ умѣлъ изъ всякаго положенія извлекать себѣ выгоды и жилъ скупо и одиноко, содержа свое семейство въ «страхѣ Божіемъ», т. е. колотилъ всѣхъ чѣмъ ни попало.
Онъ шинковалъ водочкой и бралъ йодъ залогъ разныя вещи, отчего у него можно было найти кое-что такое, чего въ деревнѣ у друѵіго не встрѣтишь. Такъ, между прочимъ, у него оказалась гитара, которая пришла къ нему давни и неизвѣстно откуда, и которую онъ давно не могъ никому «придѣлать»: но съ того момента, какъ Кромсай увидѣлъ Павла-дьячка, гитара нашла себѣ «прицѣленіе».
Кромсай послушалъ игру Павла на гармоніи и сказалъ, что эта игра пристала кучерамъ, либо наемшпкамъ, а что у него есть «струментъ»—гитара,—такъ вотъ это ужъ можно сказать что струментъ благородный—и притомъ онъ отда< тъ его Павлу въ долгъ и зй-дешсво.
Пустоплясъ сейчасъ же этимъ соблазнился —пошелъ къ Кромсаю и взялъ пітару, на которой еще уцѣлѣлп четыре струны. Павлуша подстрой іъ, какъ зналъ, эти четыре струны и заигралъ сначала у Кромсая, а. потомъ, проходя мимо насъ, зашелъ въ людскую и тамъ привелъ всѣхъ въ восторгъ своею игрой и подпѣваньями.
Дѣвушки донесли матушкѣ, что онъ «такія штуки дѣлаетъ, что и сметрі.ть нельзя».
А какъ мы тогда всѣ уже очень наскучатися, то вѣсть о веселомъ человѣкѣ показалась намъ заманчивою, и Па-влуша-дьячокъ былъ приглашенъ въ комнаты, гдѣ, дѣйствительно, произвелъ очень значительныя вещи, которыя должны были свид Етельствовать о его большихъ дарованіяхъ.
Онъ пѣлъ много веселаго и заунывнаго, и наконецъ далъ цѣлое представленіе во вкусѣ братьевъ Давенпортовъ, славу которыхъ онъ могъ бы упредить за цѣлыя сорокъ лѣтъ.
Павлуша, между прочимъ, представилъ у насъ съ гитарой комическую сцену, имѣвшую соотношеніе съ претерпѣваемымъ бѣдствіемъ, т. е. съ голодомъ,- и тѣмъ «заставилъ самое горе смѣяться». Для этого онъ сѣлъ въ темноватомъ концѣ комнаты на стулъ, взялъ свою гитару о четырехъ струнахъ и велѣлъ покрыть себя простын&ю.
И чуть только его укрыли, какъ анъ требовалъ, такъ сейчасъ же изъ-подъ простыни запѣли два человѣка: сначала пѣла очень слабая и печальная старушка, а ей сразу бойко отвѣчалъ веселый старичокъ.
Старушка выпѣвала йодъ грустный аккомпанементъ:
«Дѣдушка-а, Сп-пдоръ Карпови-ичъ!
Да когда-жъ ты буде-ешь уми-ирать?»
А дѣдъ превесело отвѣчалъ совсѣмъ другимъ голосомъ:
«Въ середу, бабушка,—въ середу, Въ середу, Пахомьевна,—въ середу!»
II дѣдъ не только пѣлъ, но онъ присвистывалъ и при
щелкивалъ перстами, а бабка начинала хныкать и опять заводила:
«Чѣмъ тебя помпна-ать?»
Дѣть отхватывалъ:
'Блинками, бабушка,—блинками. Блинками, Пахомьевна.—блинками!» ,
II тутъ дѣдъ притопывалъ и соловьемъ свистѣлъ, а баба со слезами спрашивала:
«ГДѢ мучицы взять?»
Дѣдъ училъ:
«По-міру, бабушка,—по-міру.
По-міру, Пахомьевна,—по-міру».
II, разрѣшивъ эту задачу, дѣдъ хохоталъ и заливался, а когда старуха пропѣла съ ужасомъ, что «по міру собаки злы», то дѣдъ уже выбивалъ по гитарѣ трепака, а самъ пѣлъ:
«Съ палочкой, бабушка.—съ палочкой,
Съ палочкой. Пахомьевна.—сь палочкой!..»
Это Павлушино представленіе всѣхъ разутѣшило и сразу же завоевало ему у насъ всеобщее благорасположеніе, въ силу котораго съ этихъ поръ въ нашемъ домѣ начали Павломъ интересоваться п угощать его.
А онъ къ намъ «на привѣтъ» заходилъ и принесъ съ собою нѣсколько веселыхъ минутъ, съ которыми мы, сидя въ сугробахъ п слыша однѣ жалобы на голодъ, совсѣмъ было-раззнакоми.іись.
Павелъ принесъ первое обновленіе въ замершую жизнь, и бывалъ онъ у насъ нерѣдко, потому что съ того случая, какъ пріобрѣлъ гитару, онъ сталъ все ходить къ Кромсаю, и это моему отцу показалось не хорошо, и онъ сказалъ Павлѵшѣ:
Ты, Кромсая, смотри, берегись!.. Кромсай — воръ-мужикъ!
Но Павлуша за Кромсая заступался и говорилъ, что онъ его «дурному не научаетъ*. II у нихъ съ Кромсаемъ завязалась тѣсная дру-жба, а къ тому же въ посту на Кромсая нашло благочестіе и рачительство: онъ пришелъ къ священнику и сказалъ, что вотъ у нихъ дома ни у кого хлѣба нѣтъ и муки къ БлаговѣіцЗныо собрать не у кого, и того гляди опять въ этотъ годъ придется безъ просвиръ сѣять; а потому Кромсай надумалъ—ѣхать на своей ло-
шадн къ роднымъ, въ сытыя мѣста, п тамъ муки напросить, а кстати самому въ городѣ отъ куричьей слѣпоты и отъ вередовъ лѣкарства попросить. Но какъ собирать муку на просфоры есть дѣло церковное, то Кромсай просилъ отпустить съ нимъ «во свидѣтеляхъ» дьячка Павла. Священникъ на это согласился, и они поѣхали вдвоемъ «въ сытыя мѣста» на четвертой недѣлѣ Великаго поста, но къ Благовѣщенію не возвратились. Ждали пхъ нетерпѣливо, но напрасно.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Ждали ихъ попустому до самаго праздника, но зато, какъ только отпѣли святую заутреню и попы стали въ рядъ посреди церкви съ лукошками, чтобы всѣ люди подходили къ нимъ христосоваться и класть яйца, то вдругъ подошелъ съ желтымъ, въ лукѣ крашеннымъ яйцомъ и Кромсай.
—- Христосъ воскресе, — говоритъ, — батюшка; держи яичко.
— Воистину воскресе! — отвѣчаетъ священникъ, и отъ радости, по выдержавъ, тутъ же сталъ его спрашивать:— Когда явился?
— А вотъ въ самую въ заутреню: когда ты звонить зачалъ, такъ я еще за лощиной былъ... Путался... Чуть, братъ, не залился.
— Ну-}! А Павелъ гдѣ-жъ?
— Ей-же ты Богу! Меринъ-то мой, насилу, братъ, выскочилъ!
— Скажи пожалуй!.. Ну, а Павелъ гдѣ-жъ?
— Его, братъ, ужъ нѣтути!
— А гдѣ же онъ?
— Опъ не пріѣхалъ.
Дальше говорить было нельзя, потому что это задерживало движеніе подходящихъ христосоваться крестьянъ, и дьяконъ, замѣтивъ непорядокъ, сказалъ: «не препятствуйте», а Кромсаю добавилъ: «Удались!» Тогда священникъ велѣлъ Кромсаю войти въ алтарь и подождать, пока онъ съ народомъ «отцѣлуется». II когда всѣ люди отцѣловатися и священникъ сталъ въ алтарѣ разоблачаться, то Кромсай повѣдать ему, что «Павелъ въ городу остался».
— Для чего же онь остался?
— Да вотъ... сказалъ миѣ: «ты, говоритъ, прѣзжай, — а я, говоритъ, останусь».
— А зачѣмъ?
— Потому, говоритъ, что мнѣ надо себѣ... другое придѣланіе.
— II1, и ты его иридѣлплъ?
— Не я. а онъ самъ придКлился.
Священникъ подвелъ Кромсая къ окну, изъ котораго видны были могилки, и говоритъ:
Всмотрись-ка да «помяни гробы -они вѣчны дбмы»: долго ли намъ жить-то остается.-'.. Куда ты Павлушку дѣлъ?
Кромсай понялъ, какое смущеніе запало въ душу священника, п отвѣчалъ ему съ широкой улыбкой:
— Что ты... Полни, батяЕ Неужели ты думаешь, что я Павлуньку загубилъ? Живъ Павлу нька!
-- Ты подумай: у него мать Фаптея древняя. Если ей о сынѣ что-нибудь ужасное сказать -она помретъ!..
Но ужаснаго ничего не было.
Кромсай разсказалъ только слѣдующее: когда они съ Пу-стоилясомь выѣхали, то Пустоплясъ будто «все на самого себя обижался». Что, говоритъ, дядя Кромсай, разсуди ты, какой я неахтительныи, что никто меня очень не обожаетъ! II всего у меня средства только одна стапушка есть, только къ ней къ одной у меня есть и жалость на землѣ,—лакъ что ни для кого, какъ для нея. я бы даже и въ солдаты... Вѣдь я могу на Кавказъ пойти и въ офицеры выйти». А Кромсай ему и помогъ начать всю :ггу карьеру: онъ свелъ его къ Николаю Андреевичу Воробью, старинному орловскому маклеру, или «сводчику», а тотъ его какъ въ хороводъ завелъ и «опредѣлилъ идти по найму за бака-лейщпкова сына».
Священникъ, услыхавъ неожитанно такую развязку, молча присѣль на сундучокъ и только глаза на Кромсая выставилъ.
— Ну ты, говоритъ, брать, жиганъ! не даромъ, видно, тебя воромъ кличутъ!
— А что же «кличутъ»!.. Кличугъ-то меня разно кличутъ, а у кого я что-нибудь укралъ? Анъ я ничего не укралъ, а живу честно и благородно. Павлунька не такъ пошелъ, а семьсотъ серебра получить деньгами, да что еще.
братъ, гульбы было... Вотъ бы ты посмотрѣлъ! А онъ еще сто рублей прислалъ матери.
— Ну, лучше бы ужъ ты у него все послѣднее съ плечъ укралъ, чѣмъ этакое добро ему- сдѣлалъ.
— Чего онъ хотѣлъ, то ему и сдѣлано... Чего ты на меня!..
— Ты, Кромсай, жиганъ, ты нехорошій, дурной человѣкъ!
— Что ты это?., за чго?.. Развѣ пропалъ Павлушка? Онъ пошелъ служить Богу и великому государю... Ты, сдѣлай милость, въ этомъ оставь меня!
— А сто рублей матери-то его... цѣлы у тебя?
— А ты почемъ знаешь?
— Вѣрно не цѣлы?
— ѢІу, если тебѣ открыто, то что же спорить... Не цѣлы!
— Вотъ вѣдь какая твоя совѣсть!
— Что же совѣсть!.. Я ихъ везъ и довезъ до самой лощины. А тутъ звонъ услыхалъ и въ зажоръ сѣлъ... Сдѣлай милость—это хоть и на тебя доведись: провались хоть и ты подъ снѣгъ, такъ, небось, все покинешь, а одну свою душу начнешь спасать! Меринъ биться сталъ... Я, братъ, весь растерялся: и два куля хлѣба при мнѣ были,—везъ на просвиры,—и тѣ оба тамъ въ зажорѣ погубилъ.
— Тамъ и деньги пропали?
— Все тамъ осталось. Тридцать рублей, которые везъ бумажками, тѣ какъ на крестѣ были привязаны, такъ они и уцѣлѣли, а семьдесятъ, которые были серебряными монетами: рубли и полтинники—съ сапогомъ вмѣстѣ снялись и изъ-за голенища потонули.
Священникъ выслушалъ, поднялся съ мѣста и сказалъ Кромсаю:
— Ну, да и подлецъ же ты!
-— Хорошо, что хоть ты честный! — вздохнулъ Кромсай.
— Ну, смотри же: вспомни мое слово—за это разразитъ тебя Богъ!
Это надъ Кромсаемъ очень скоро и исполнилось *).
*) Наемный замѣститель рекрута, которому слѣдовало идти въ службу по очереди или по жребью, почитался въ народѣ за человѣка не только «пропащаго , по и презрѣтиио-. о наемщикѣ никогда не говорили съ жалостью, а всегда, какъ о палачѣ, говорили съ омерзѣніемъ, п отъ солдатъ ему не было иной клички, какъ «продажная шкура». Имѣть общеніе съ наемщикомъ считалось такъ же противно, какъ имѣть общеніе съ палачомъ, которому, по мнѣнію простолюдиновъ, будто даже но
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Во вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ, никому не въ примѣту, съ какой стороны, взялась на небѣ сѣрая тучка и віругъ начала темнѣть, расти и пучиться и расползлась страшно. Принявъ такія очертанія, какъ баснословный пардъ или переносный змѣй съ лапами, и полѣзло это чу1пщ& прямо-прямешенько на Ііромсаовъ творъ. Это всѣ видѣли. И какъ только туча надошла надъ Кромсаемъ, такъ она сейчасъ же сверкнула огнемъ и ударила прямо въ чуланъ, въ то мѣсто, гдѣ у Кромсая была примощена короватка, на которой онь спалъ, а подъ короваткой стояла у него завѣт-
даютъ причастія . А какъ таково было всеобщее презрительное отношеніе къ этимъ людямъ, то, разумѣется, объ этомъ знали и сами тѣ. кто нанимался въ солдаты, п потому, за весьма рѣдкими исключеніями, это были люди отчаянные —зашалившіеся, загулявшіе, сбившіеся съ пути пли чѣмъ-нибудь особливо несчастные, по какому-нибудь роковому стеченію семейныхъ обстоятельствъ стремившіеся къ погибели. Эти послѣдніе и составляли жалостное исключеніе, да къ ихъ числу можно еще придать крѣпостныхъ , которые, впрочемъ, могли наниматься только съ согласія свопхъ владѣльцевъ, и то послѣ рискованной процедуры съ освобожденіемъ ихъ на волю. Случалось, что вольный человѣкъ «выкупалъ крѣпостного» съ тѣмъ, чтобы онъ поглѣ пошелъ въ рекруты за дѣтей этого капиталиста, и выкупаемый крѣпостной обѣщался это исполнить, но, получпвъ отпускную въ своп руки, отказывался отъ «охотни-чанія» и предлагалъ выкупщику отработать заплаченныя за него деньги, пли — еще проще — благодарилъ его и уходилъ иногда съ обѣщаніемъ «помолить Бога», а еще чаще съ бранью и насмѣшкою. Нанявшійся же «распутникъ» съ распутства начиналъ и въ распутствѣ продолжалъ все время своего «сговора > съ хозяиномъ. Зачиналъ это въ Орлѣ пропащій парень съ того, что появлялся въ безобразномъ п всего вѣроятнѣе въ безумномъ состоянія, въ торговый день (въ пятницу), на Ильинской площади и, остановясь у вѣсовъ, крпчалъ громкимъ голосомъ: ,Кару!ъ Его «схватывали хватыъ и сейчасъ же «мчали» его въ блпз-стоявшій «Подиіпваловск.и трактиръ- и сразу же «поддавали ему жару», то-есть поили его водкою и приглашали для «кураженія» его подходящаго свойства женщинъ, іпп «короводницъэ. имѣвшихъ вблизи свое становище у мостика на Переставкѣ. Хороводницы, пли «короводнпцы >, являлись скоро и не одна, а двѣ или три. изъ самыхъ отчаянныхъ и самыхъ безстыжихъ—«согласныхъ съ охотникомъ гѵлять». Онѣ сейчасъ же брали пьянаго парпя въ своп раздольныя объятія н. обласкавъ его «до воли*, начинали его «вывозить». Обвязавъ его красными платками, его везли «катать» на извозчикѣ, при чемъ « короводнипы держали охотника на сидѣньѣ извозчичьихъ дрожекъ или саней, а сами лѣпились вокругъ ніго. обнимали его п громко пѣли безстыжія пѣсни и говорили въ народъ сальности, и дергались, и приплясывали; а окураженный ими охотникъ сидѣлъ осовѣлыГі, какъ ду ракъ, или по временамъ безумно вскрп-
пая к* .рыбья, раскрашенная цвѣтами и п-ць лакомъ. Все это такъ «феваркомъ и загорКюся». По при этомъ еще показалось удивительно, что изъ всего добра, которое тутъ было и которое сгорѣло,—выкинуло вверхъ только одну доску отъ цвѣтной коробыі, п когда она упала на землю и ее осмотрѣли, то увидали, что къ неп прилипло нѣсколько штукъ коиеечіч.ъ и всѣ ихъ раскинуло треугольникомъ, а какъ разъ посрединѣ угла сидѣлъ серебряный рубль,—будто глазъ глядѣлъ.
Какъ > видали это люди, то всѣ удивилися и заговорили: «Это чудо! надо это показать священнику». И показали. А священникъ посмотрѣлъ и Кромсаю перстомъ погрозилъ.
Тогда Кромсай поблѣдпілъ и сталъ каяться, что онъ утаилъ у Фантой семьдесятъ рублей и что они были цѣлы и береглись въ узелкѣ подъ подушкою, да вотъ это ихъ-то молоньей и раскинуло, и эти монетки, которыя влипли въ доску, дѣйствительно были изъ тѣхъ утаенныхъ денегъ.
А когда послѣ пожара стали разгребать пепелъ, то нашли слитокъ серебра и возлѣ него другое чудо: деньги сплавится, а возлѣ нихъ лежала остывшая «громовая стрѣла» пли «чортовъ палецъ-.
Кромсай отъ этого пришелъ въ такой ужасъ, что сейчасъ же сталъ жертвовать этотъ слитокъ на церковь, но священникъ недоумѣвалъ: можно ли брать эти деньги, такъ какъ «наемщикъ», или замѣститель въ солдатахъ, почитался тогда въ народѣ за что-то очень гадкое и приравнивался ко «псу продажному» (хотя псы себя никогда не продаютъ).
кивалъ п вопилъ: «еще жару'.-у Такимъ образомъ парень уже былъ афишированъ иа весь городъ. А въ это время, какъ одни хваты его такъ «окручивали», другіе уже пріискивали хозяина, которому наемщикъ нуженъ, и сдавали его ему съ вознагражденіемъ ссбя за труды и за расходы по всей первоначальной обстановкѣ дѣла. Такая безобразная гульба продолжалась все время до сдачи наемщика въ рекруты, и онъ «давалъ себя знать» своему хозяину, который вынужденъ былъ исполнять всѣ выдумки и капризы пропащаго парня, и тотчасъ же бросалъ его. когда тому забривали лобъ и опъ дѣлался «продажною шкурою», которую на службѣ очень любили «выколачивать». До этого «погибельнаго состоянія" человѣка доводили всегда при необходимомъ и неизбѣжномъ участіи женщинъ, именно сихъ выше названныхъ «короводницъ», которыя чаще всего сами и наводили слабыхъ людей «на эту путь», т.-е. научали ихъ кричать: (жару!*. Склоннаго къ загулу дьячка Нашу очень не трудно было провести этимъ путемъ, что Кромсай, вѣроятно, и обдѣлалъ.
А во Второзаконіи (23, 18) есть запрещеніе: «да не принесеніи въ храмъ мзды блудничи и цѣны песій»: но благочинный это разрѣшилъ. Онъ сказалъ, чго «Второзаконіе дѣйствовало при Ветхомъ Завѣтѣ, а теперь, при Новомъ,— все новое».
Страшная гроза, спалившая Кромсаевъ дворъ, оживила нашъ воздухъ. Предчувствовалось уже въ тѣ дни, что голоду наступаетъ конецъ и близятся «времена отрады». Городскіе жители начинали вспоминать о своихъ деревенскихъ друзьяхъ и родственникахъ и посѣщать ихъ. Мы снова входили въ общеніе съ міромъ.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Передъ тѣмъ какъ растаяіь рѣчкѣ, къ намъ пріѣхала тетушка Пелагея Дмитріевна, которую, въ ранніе ея годы, въ родствѣ всѣ называли «проказница». Впрочемъ, у нея была репутація очень многосторонняя и сложная, и сообразно различнымъ ея фазисамъ и переходамъ ей давалось «новое имя».
Пелагея Дмитріевна или, по-домашнему, «тетя Полли-, была княгиня п годь тому назалъ выдала старшею дочь замужъ за очень именитаго князя.
Тетушка всегда была прекрасный человѣкъ, но въ молодости, когда на нее сердились, и потомъ, помирясь съ нею, называли ее «проказницей», — она «страдала самор-даками». Самордаки»— это такая болѣзнь, совмѣщавшая фантазію и упрямство. Своего рола «блажь». Самордаки у тетп совсѣмъ никогда и не прошли, а только «переблажи-лпсь». Въ голодный годъ она заблажила тѣмъ, что не продала ни пуда муки, а все искормила на дѣтскихъ мужиковъ, надъ которыми она была опекуншею, и завела такое баловство, что всѣ мужики и бабы приводили съ собою къ ней на дв-фъ своихъ дЬтгй и всѣ у нея наѣдались.
На это двое ея сосѣдей обращали вниманіе предволителя и указывали, что онэ, какъ опекунша, такихъ расходовъ допускать не смьеть,—тѣмъ болЬе, что своимъ примѣромъ она другихъ подводилъ къ опасности; и предводитель ей дѣлалъ замѣчаніе, но «не могъ запретить». Тетя отвѣчала, что она «хочетъ идти подъ судъ».
Вообще тетя Полли была особа живая, смѣлая п интересная, и одолѣть ее —была не шутка...
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. ХХХШ.
Суда она не боялась, потому что держала въ своей совѣсти судъ надъ собою.
Теперь ей было уже лѣтъ за сорокъ, но она была еще очень красива: высокая, стройная, — что называется «король-баба»,—съ черными какъ смоль густыми волосами, которые вились у лба и у пробора на темени, и съ большими сѣрыми глазами, которые у нея «умѣли говорить все, что она хотѣла».
Недавно умершій Николай Антоновичъ Ратынскій, который былъ значительно меня старше и зналъ наше орловское родство, говорилъ мнѣ, будто Тургеневъ съ тети Полли нарисовалъ въ своемъ «Помѣщикѣ» ту барыню, о которпп сказалъ, что она «была не вздоръ въ нашъ вѣкъ болѣзненный и хилый».
Разумѣется, описанное въ «Помѣщикѣ» лицо имѣло сходство съ тетей Полли только во внѣшности, а въ свойствахъ духа у нихъ была схожесть развѣ въ «побѣдоносности» и въ неукротимой энергіи и настойчивости.
«Побѣдоносный, «-вѣтіый взоръ,— Все въ ней дышало древней силой».
Впрочемъ, какъ тетя Полли была оригинальное и характерное лицо дворянскаго круга глухой поры (тридцатыхъ годовъ) и такъ какъ ея «блажь» составляла въ голодный годъ нѣішторое исключительное явленіе, то мнѣ кажется, что о ней стоитъ разсказать поподробнѣе.
Выше уже сказано, что она пользовалась репутаціей «проказницы», но слава ея въ этомъ родѣ была сильно раздута. Танта (какъ мы ее тоже называли) по положенію своему принадлежала къ губернской знати, но по живости своего ума и характера была лицо всесословное. Она держалась со всѣми какъ нельзя болѣе просто, «зна іа всѣ обстоятельства» и даже очень любила подшутить надъ родовитымъ невѣжествомъ. Первый мужъ ея былъ богатъ, скученъ и тученъ, но не именитъ, и никакимъ особеннымъ вниманіемъ и вліяніемъ не пользовался, но рокъ, однако, судилъ такъ, что онъ цѣлые полгода исправлялъ «по случаю, предводительскую должность и съ достоинствомъ умеръ въ этомъ почтенномъ званіи
Тетушка овдовѣла очень молодою, она имѣла всего не болѣе двадцати трехъ или четырехъ лѣтъ и уже была матерью трехъ дочерей.
Если бы не дѣти, то очень могло статься, что тетушка пошла бы въ монастырь, такъ какъ у насъ въ Ор.іь это тогда было въ модѣ между дворянствомъ (съ чего и написана Лиза у Тургенева); но дѣти этому помѣшали. Они же дали чувствамъ тети и другое направленіе, а это послѣдовало вскорѣ послѣ смерти отца, когда всѣ дѣти вдругь опасно заболѣли.
Болѣзнь быта изъ «прилипчивыхъ;, и родные молодой вдовы вей ее покинули. Это въ благородномъ сословіи и тогда уже было въ модѣ и практиковалось безъ зазрѣнія совѣсти. I) положеніи тетушки дошла вѣсть въ ІІослово. гдѣ жила въ замкнутомъ одиночествѣ именитая г-жа княгиня Д , знатная дама, занимавшая передъ тѣмъ видную «позицію», но вдругъ чѣмъ-то кому-то не угодившая и удаленная.
Говорили, будто она живетъ въ Пословѣ поневолѣ и «пребываетъ» тутъ однимъ лишь тѣломь, а что «туша ея не тутъ»—она живетъ «въ недосягаемыхъ сферахъ». Сама же княгиня Д не считала себя равною ни съ кѣмъ и не допускала къ себѣ никого. У нея была собственная церковь, собственный попъ н собственный врачъ, которому она не позволяла, лѣчить никого, кромѣ ея особы.
Этотъ врачъ былъ французъ, съ качествами извѣстнаго по пьесѣ Дьяченко французскаго гувернера іп-г Дорси: онъ былъ и пустъ, и вѣтренъ, и хорошъ собой, и великодушенъ.
Узнавъ черезъ людей, что въ сосѣднемъ селѣ такъ безжалостно всѣми брошена молодая и притомъ очень интересная вдова съ больными дѣтьми, онь «взбунтовался» и объявилъ своей важной дамѣ, что онъ ѣдетъ лѣчить сосѣдкиныхъ дѣтей».
Дама объ этомъ п слышать не хотѣла, но онъ продолжалъ настаивать, и когда люди не стали ему запрягать лошадей, то онъ завязалъ шею шарфомъ, надѣлъ теплые сапоги съ мѣхомъ и пришелъ къ тетѣ но снЬгу четыре или пять верстъ пѣшкомъ.
Разумѣется, онъ былъ встрѣченъ тетей какъ ангелъ-утѣшитель и оказался вііо.інЬ достойнымъ такой встрѣчи.
Онъ «воскресилъ дЬтей» и тѣмъ, понятно, произвелъ неотразимое вліяніе на сердце молодой матери. Княгиня Д* была поставлена этимъ случаемъ въ очень большія затрудненія. Сначала она сердилась и три дня не обращала вниманія, а потомъ позвала управителя и велѣла ему подать
объявленіе, что «пропалъ французъ»... Докторъ и тетя объ этомъ узнали, и оба смѣялись... Имъ было хорошо и радостно, потому что дѣти выздоравливали, а они были поглощены такимъ увлеченіемъ, которое дѣлало для нихъ чужія сердечныя страданія смѣшными... Это вызвало со стороны княгини Д рядъ мѣропріятій, изъ которыхъ одно было очень рѣшительное и имѣло успѣхъ; она сначала прислала сказать доктору, чтобы онъ не смѣлъ къ ней возвращаться изъ заразнаго дома; а потомъ, когда увидала, что онъ и въ самомъ дѣлѣ не возвращается, — она прислала его звать, такъ какъ съ нею случился припадокъ какой-то жестокой болѣзни, и наконецъ, черезъ полтора мѣсяца, когда пришла весна и природа, одѣвшаяся въ зелень, выманила француза въ лѣсъ, пострѣлять куропатокъ для завтрака тети, на него внезапно напали четыре человѣка въ маскахъ, отняли у него ружье, завернули его въ коверъ и отнесли на рукахъ въ скрытую на лѣсной дорогѣ коляску и такимъ образомъ доставили его княгинѣ,. 3 (ѣсь съ нимъ было или только ему угрожало происшествіе смѣшное и тяжкое, изъ котораго онъ вышелъ благополучно только благодаря тому, что изъявилъ согласіе сію же минуту, немедленно, сочетаться съ княгинею Д* законнымъ бракомъ, что и было исполнено въ ея собственной церкви, ея священникомъ и при ея людяхъ...
Тетушка узнала объ этомъ только на другой день и горько плакала—участь бѣднаго француза казалась ей необыкновенно трогательною, и она укоряла себя, зачѣмъ она сама была такъ увлечена обаятельностью своего положенія, что не оформила всего по образцу княгини. Вѣдь это было такъ просто и такъ возможно, и даже не нужно было этихъ низкихъ угрозъ, которыми и его, и себя унизила Д*... Онъ бы самъ охотно на все согласился... Но ужъ дѣло было потеряно и вдобавокъ требовался коррективъ, и тетушка, какъ думали, запылала мщеніемъ и «не снесла обиды , а отомстила княгинѣ какъ настоящая «проказница»: она, совершенно ни съ кѣмъ но посовѣтовавшись и для всѣхъ неожиданно, вышла замужъ за князя С—ва, въ которомъ только то и было, что онъ былъ молодъ и холостъ, но совсѣмъ необразованъ п вдобавокъ, по совершенной бѣдности, служилъ квартальнымъ...
ГЛАВА ШЕ» ТНА'ДЦАТАЯ.
МёзаПіапсе быль самый полнѣйшій, но мшеніе все-таки было совершено: Д—родовая княгиня—черезъ замужество съ французскимъ лѣкаришкой потеряла княжескую корону, а наша милая тетя возложила ее на себя и на свое нисходящее потомство, такъ какъ князь С—въ былъ дѣйствительный. настоящій князь, пзъ «Рюриковичей*', и въ гербѣ у него стояли много значительныя слова «не *о грамотѣ*.
Словомъ — какой это ни былъ опрометчивый поступокъ, но тетушка о немъ не сожалѣла, такъ какъ она и вообще не сожалѣла никогда о томъ, что уже случилось, а держалась того правила: «что укоротишь —того не воротишь: надо съ другого конца надшивать или надвязывать".
Впрочемъ, ея князь не былъ совсѣмъ особенно плохъ: въ немъ было что-то «породистое» и самую < форму квартальнаго" онъ носилъ съ военнымъ шикомъ. Съ этой стороны онъ былъ замѣтенъ и ради того по представительности своей былъ отличенъ начальствомъ и употреблялся для сношеніи съ благородными лицами города. А потому, когда представилась надобность объявить тетушкѣ бумагу, присланную изъ московскаго опекунскаго совѣта, о какихъ-то ея опекунскихъ дѣлахь, то по распоряженію полицеймейстера къ ней былъ посланъ съ этою бумагою квартальный-князь, п онъ былъ принятъ тетушкою не такъ, какъ принимали обыкновенныхъ квартальныхъ. Телушка велѣла позвать его къ себѣ въ залъ, гдѣ она сидѣла въ это время въ распашномъ пеньюарѣ за утреннимъ чаемъ, и, посмотрѣвъ на него, пригласила его сѣсть.—что было тоже необычайностью для лицъ его сана.
Князь сѣлъ, и пока тетушка пробѣжала прішесенкзю ей бумагу и потомъ потребовала себѣ перо и чернпльницу для того, чтобы расписаться «о прочтеніи оной», она успѣла «бросить на него взглядъ ока», п сейчасъ же сообразила: на что находящійся передь нею человѣкъ можетъ быть годенъ и какъ за это дѣло надо взяться.
А дѣло не допускало промедленія.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
С—бъ тутъ же получилъ отъ тотѵшки порученіе по какому-то частному ея дѣлу — по поводу каккхъ-то ея хло
потъ съ принадлежащимъ ей пустопорожнимъ мѣстомъ па берегу, ідѣ производилась погрузка хлѣба на барки, — и князь исполнилъ данное ему порученіе охотно, быстро и съ блестящимъ успѣхомъ.
За ,то онъ былъ вознагражденъ денежнымъ подаркомъ сверхъ мѣры заслугъ и кромѣ того удостоился разговора, вхожаго въ его положеніе, которое тетушка находила не-соотвѣтствовавшпмъ его родовому званію, такъ какъ князья С—вы въ самомъ дѣлѣ принадлежали къ «Рюриковичамъ» и были князья «не по грамотѣ».
С—въ былъ не глупъ и не уменъ, а то. что называется «человѣкъ средній», и участіе довольно именитой и весьма интересной дамы его такъ тронуло и согрѣло, что онъ расчувствовался и осмѣлился поцѣловать поданную ему на прощанье руку. Тогда это, впрочемъ, было въ обычаѣ, п тетушка этимъ не обидѣлась п даже обѣшала ему принять въ немъ участіе и о немъ подумать.
Князь былъ въ восторгѣ и провелъ нѣсколько дней въ размышленіи: какъ бы настроить ее такъ, чтобы она выпросила ему у губернатора мѣсто і мотрителя тюремнаго замка или гдѣ-нибудь городничаго.
Но тетушка имѣла на нрго гораздо болѣе важные виды: черезъ нѣсколько дней она позвала его къ себѣ и спросила, не хочетъ ли онъ «измѣнить свой карьеръ».
Князь былъ готовъ на все и несказанно обрадовался, когда услыхалъ, что тетушка желаетъ принять его къ себѣ .правителемъ. Онъ сеіічасъ же пода.іь въ отставку, снялъ квартальницкую форму и переселился въ тетушкино имѣніе, гдѣ пріучался къ хозяйству подъ ея непосредственнымъ руководствомъ, и для того ѣздилъ съ ней вдвоемъ въ кабріолетѣ безъ кучера, а жилъ во флигелѣ, но потомъ въ одинъ прекрасный день переведенъ въ домъ и обвѣнчанъ съ хозяйкою въ пхъ деревенской церкви, точно такъ же скромно, какъ Д* обвѣнчалась у себя съ французомъ.
Бывшая Д*, не будучи нимало знакома съ тантою, прислала ее поздравить «отъ себя и отъ мужа». Это была дерзость, но тетя была умна и не обратила на это вниманія, а въ вознагражденіе за то французъ прислалъ ей двусмысленное утѣшеніе, состоявшее изъ олной фразы: «Бе пошЬге тіев 80І8 еві іпйпі».
Тетушку и это уже не занимало: она усиленно хозягінп-
чала, и одинъ разъ, поѣхавъ на поле, такъ растряслась по кочкамъ, что въ тотъ же день Богъ далъ ей дочь— прехорошенькую йняжну. Къ счастію, ребенокъ хотя пришелъ на свѣтъ немножко и рановременно, но это ему не повредило.
Маленькая неудача сказалась вь другомъ: тихіе и благопристойный Рюриковичъ, послѣ того, какъ тетушка къ нему поближе присмотрѣлась, не выдержалъ самой енпеходптель-нон критики и оказался еще скучнѣе перваго ея мужа, предводителя.
Кромѣ того, тетѣ непріятно было, что князь все болтался п ничего не дѣлалъ и вдобавокъ,—какъ она убѣдилась,— ничего и не умѣлъ дѣлать, кромѣ клеенья коробочекъ изъ картона и цвѣтной бумаги съ золотыми бордюрами.
По мнънію родныхъ, тетя сама была во многомъ виновата, потому что она была со своимъ княземъ очень суха-. но потомъ это перемѣнилось, и она сдѣлалась къ нему матерински нѣжна п неожиданно устроила его вполнѣ по его вкусу: какъ онъ когда-то мечталъ, такъ и получилъ вдругъ мѣсто городничаго въ отдаленномъ городѣ, куда отбылъ одинъ, и его лѣтъ шесть не видали. Во все это время про князя никто и не говорилъ, а тетя-княгиня заперлась отъ всѣхъ и «предалась книгамъ». Дѣли, книги и хозяйство ее поглотили, и о ней стали говорить, что она «вознеслась надъ жизнью». Но вдругъ князь потерялъ мѣсто п снова прибылъ въ деревню. Танта отвела ему помѣщеніе въ мезонинѣ, даже пожертвовала ему свой письменный столъ для кабинета, но сама осталась при дочеряхъ, изъ когорыхъ старшая, Сусан на, не - княжна, имѣла въ это время уже шестнадцать лѣтъ и смотрѣла невѣстою.
Она и двѣ ея младшія, единокровныя и единоутробныя сестры, очень любити мать и ея младшую дочку, княжну Вйдю, но самого князя не могти переносить.
II въ самомъ дѣлѣ, всѣ онѣ были въ мать — «ужасныя читалки и игралки»,—т.-е. вѣчно были за книгой пли за музыкальными занятіями, и ихъ занимали живые бытовые вопросы и литература, а князя не занимало ничто. Если онъ не клеилъ коробокъ, то онъ только могъ ходить да свистать, иди сидѣлъ въ своихъ комнатахъ у окна и переговаривался съ проходящими мимо бабами и мужиками — и всегда о пѵстякахъ. Всякое обращеніе съ книгою ему
было противно, и хотя онъ зналъ, что онъ невѣжда и что это не хорошо, но преодолѣть свою вражду къ книгѣ не могъ.
Онъ понималъ, что онъ своей женѣ не пара и что «попалъ въ честь по случаю», и терпѣлъ это, и не нахальничалъ. Онъ только завидовалъ, что жена его, при ея запасѣ врожденнаго ума и начитанности, всегда занята и всегда ей вездѣ весело, а ему вездѣ скучно,—и единственное ему спасеніе—быть городничимъ, — ходить, свистать и покрикивать.
Въ семьѣ изъ этого ничего строіінаго не выходило, и благодаря тому, что падчерицы его не всегда умѣли скрыть, что онъ имъ непріятенъ и что онѣ страдаютъ за свою умную и образованную мать, видя ее женою такого остолопа,—князь страдалъ отъ своего положенія и даже сталъ возбуждать къ себѣ состраданіе въ сердцѣ очень чувствительной и доброй танты.
Тетя стала за него заступаться и говорила дочерямъ:
— Чтб онъ вамъ мѣшаетъ? Онъ очень простой человѣкъ, но что же онъ дѣлаетъ вреднаго?.. Онъ проводитъ время, какъ умѣетъ, и его можно оставить въ покоѣ. Онъ и безъ того всѣхъ избѣгаетъ и вѣчно одинъ.
II княгиня стала навѣщать бѣднаго князя въ его уединеніи, и чтобы это не имѣло видъ сентиментальности, она писала письма на письменномъ столѣ, перенесенномъ въ его кабинетъ. Такъ шли дѣла въ теченіе всей зимы, а по веснѣ Сусанна одинъ разъ окинула мать испытующимъ взглядомъ и сказала:
— Однако, что же это, мама?!
— Что такое?—спросила тетя и покраснѣла.
— То-то и есть, мама... вы краснѣете!.. II должно краснѣть!
— Чего же мнѣ краснѣть?—отозвалась, оправясь, тетя.
— Того, что мы уже взрослыя, а вы... ходите письма писать... Мы перенесемъ вашъ письменный столъ въ вашу комнату.
Но дѣло было уже не поправимо, и у Сусанны съ ея сестрами явился еще маленькій братецъ. Ребенка опять всѣ любили и ласкали, кромѣ самого князя, у котораго это удовольствіе было отнято, и на этотъ разъ — увы! — навсегда. Князю снова достали соотвѣтственное городничеству мѣсто на Кавказѣ, и онъ тамъ ходилъ, курилъ, свисталъ и по-
крикивалъ. п тамъ же п умеръ, выкупавшись посіѣ жирнаго обѣда въ холодномъ Терекѣ.
Смерть мужа, взятаго точно напрокатъ и поставленнаго ни вѣсть на какую позицію, уязвила сердце тети сознаніемъ своего грѣха передъ этимъ человѣкомъ, который былъ принесенъ ею въ жертву самынъ эгоистическимъ соображеніямъ, весьма ничтожнаго свойства. Онъ, живой человѣкъ, пришедшій въ міръ, чтобы свободно исполнить на землѣ какое-то свое назначеніе, былъ обращено ею въ метелку, которою она замахнула сорньш слѣдъ своего колоброда, и потомъ смыла его съ рукъ и сбросила въ Терекъ...
Еп было і’жасно стыдно и ужасно его жаль,—и она заперлась въ спальнѣ и плакала о немъ много и долго; и тутъ же, запершись, въ уединеніи отъ дочерей, которыя не могли сдерживать своего презрѣнія къ захудалому глуповатому «Рюриковичу», исполнявшему и г.пповатую роль въ жизни, — она обдумала себя. Дѣвицъ и теперь раздражало и обижало, что мать была такъ потрясена событіемъ и относилась къ князю съ «чувствомъ»... Онѣ были въ томъ «счастливомъ» возрастѣ, которыі даетъ возможность разсуждать обо всемъ не только очень эгоистично, но и очень ошибочно, и имъ было стыдно за то, что «она, значилъ, все-таки его любила»... Имъ, для ихъ семейнаго достоинства, не хотѣлось, чтобы это было такъ; но онѣ не понимали, что это именно такъ и не было! Тетя Полли не оплакивала въ князѣ человѣка, котораго бы она предпочитала всѣмъ другимъ людямъ, — что выражаетъ банальное требованіе такъ-называемоіі «любви»,—но она оплакивала въ немъ человѣка-брата. котораго она встрѣтила случайно, заставила его продѣлать все, что хотѣла, и кь которому не оказала благоволенія. Какіе бы доводы ей ни представляли, что она ни въ чемъ передъ нимь не виновата, она чувствовала свою вину и хотѣла утолить ее. Тетя сдѣлала трауръ двумъ младшимъ дѣтямъ и сама надѣла черное платье,—отстояла на колѣняхъ заупокойную обѣдню и панихиду, и еще рядъ другихъ панихидъ, но утоленія не было: покой къ ней не приходилъ. Она находила, что это все не то... II вотъ она вдругъ уѣхала' куда-то парою, въ маленькой бриченкѣ съ однимъ кучеренкомъ, и, возвратясь черезъ десять дней, сказала, что она была въ Оптііной пустыни у «старца», но на разспросы о томъ: чтб тамъ
такое? — съ странною разсѣянностью отвѣчала: «Опять все Это не то». II подаренныя ей старцемъ маленькія книжечки она прочла разъ и болѣе ихъ не открывала: опять было «не то». Она послала къ приходскому священнику, чтобы тотъ далъ еп Бпблію. Но Библіи въ церковномъ обиходѣ не было. За нею послали въ Орелъ, но и въ Орлѣ продажной Библіи нр нашли, а достали ее «почитать» у семинарскаго ректора, и то съ предвареніемъ отъ своего священника, что «это книга мірская и читать ее небезпечно».
И другіе тоже пробовали отговаривать тетю, «чтобы не сошла съ ума, прочитавъ Библію»; но она была «неимовѣрная»: она таки - прочитала всю Бпблію и, разумѣется, какъ слѣдуетъ,—сошла съ ума п начала дѣлать явныя несообразности.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Такъ, напримѣръ, окончивъ чтеніе Библіи, тезя не задала себѣ труда повторять это, какъ дѣлаютъ многіе одолѣвшіе названную книгу, а она отложила ее въ сторону разъ и навсегда и «понесла фантазіи» въ родѣ того, что «хорошихъ временъ еще не было», пли что «лучшая жизнь на землѣ будетъ впереди насъ, а не та, которая осталась позади насъ»... II она въ это не только вѣрила, но говорила, что «въ такой вѣрѣ только и находитъ силу жить и трудиться для того, чтобы равнять путь лучшему, которое идетъ и непремѣнно придетъ — когда «горы и юдоли сравняются и левъ ляжетъ съ яіненкомъ и не запретитъ ему».
Этп «глупости» танты основательные люди передавали другъ другу и, весело смѣясь, называли ее лицемѣрной фантазеркой и даже дурой. Прежнее игривое наименованіе «проказницы» было уже теперь для нея слабо, такъ какъ оно не выражало опаснаго характера ея нынѣшняго настроенія, и то. старое названіе было у нея отнято.
— Была проказница.—говорили о ней:—но тогда была зато хоть живая и преинтересная, а теперь стала Богъ знаетъ на что похожая—противная, скучная фантазерка, съ которой сзарпкамъ нечего дѣлать, потому что она ихъ не слушаетъ, а молодежь... даже страшно оставлять съ нею!
Одинъ изъ основательныхъ дворянъ, имѣвшихъ «голосъ въ собраніи и въ обществѣ», во время выборовъ сдѣлалъ
Заявленіе, что слѣдовало бы обратить вниманіе на то, въ какомъ духѣ танта воспитываетъ своихъ дочерей. Но предводитель, очень добрый и мягкій человѣкъ, нашелъ, что какъ у княгини всѣ ея дочери—дѣвочки, то какъ бы она ихъ нп воспитывала—это не важно.
Воспитывала же она пхъ странно—безъ учителей,—всему обучая ихъ сама, при содѣйствіи выписанной пзъ Англіи квакерши, Гильдегарлы Васильевны, котэрая была бы чрезвычайно красива, если бы «совершаю себя не безобразила*, нося постоянно сѣрое платье вь складкахъ и лѣтомъ широкую соломенную шляпу, а ямою маленькую теплую черную шапочку «съ затылкомъ и <_ъ ушками, безъ всякаго фасона*.
Притомъ танта съ этою квакершею сдѣлались неразрывными друзьями и ни съ кѣмъ не церемонились.
Къ нимъ можно было заѣхать, и онь всякаго гостя встрѣчали очень привѣтливо, но всегда прямо желали узнавать: чѣмъ онѣ ему могутъ быть полезными. II затѣмъ сію же минуту дѣлали для него все, что могли, но потомъ, сдѣлавши это, тотчасъ же къ нему, пли къ ней, охладѣвали и держали себя съ гостями — какъ будто «занимать» его пли ее совсѣмъ не ихъ обязанность. Онѣ оставляли пріѣзжихъ въ покоѣ и сами обращались къ свіпімь обыденнымъ занятіямъ, въ которыхъ наблюдали строгій порядокъ,—очень противный для людей съ истинной «широкой натурой».
Кончилось это тѣмъ, что стали находить, будто у бывшей «милой проказницы» огрубѣли манеры и пропала женственность. Она стала носить безсмѣнно однообразнаго, самаго простого фасона черное шерстяное платье зимою и такое же свѣтлое ситцевое платье лѣтомъ: лѣчила у крестьянъ самыя неопрятныя болѣзни, сама своими руками обмывала ихъ раны и дѣлала кровавые разрѣзы и другія простыя операціи, и при этомъ ни за что не хотѣла поручить присмотръ за больнымъ горничнымъ дѣвушкамъ, ибо она находила, что горничныя слишкомъ деликатны и «носъ воротятъ». Вообще тетя Полли стала будто рѣзка и даже иногда употребляла «Антошпны словечки». Оно такъ и было: тетя выражалась порою немножко во вкусѣ Антона Антоновича Сквозника-Дмухановскаго, называя вещи пхъ прямыми именами, чтб, впрочемъ, вь ея устахъ не было ни плоско, нп грубо, а только прямо п образно. Такъ же
рѣзки казались и ея чувства, въ которыхъ не находили самаго необходимаго—раскаянія и сожалѣнія о прошломъ,— что ей очень бы и очень не мѣшало... На это даже и обращали иногда ея вниманіе, и говорили: кто хочетъ показать другимъ лучшій образъ жизни, тотъ не долженъ никогда забывать своего худшаго. «Врачу, исцѣлнся самъ!»
Тетя за эти намеки нимало не сердилась и отъ нихъ не конфузилась: она, безъ сомнѣнія, понимала, во что люди мѣтили, но все слушала спокойно и, выслушавъ, отвѣчала:
— По отношенію ко мнѣ все это совершенно справедливо, и я постоянно чувствую, какъ не хорошо имѣть неопрятное прошлое, — чистыхъ не въ чемъ упрекать и на нихъ выдумываютъ, а о насъ можно говорить правду, которая тяжелѣе всякой лжи,—но то дурное, что я дѣлала, я уже оставила.
Маппш разъ замѣтила ей, что, «переставъ грѣшить, надо начать каяться», но тетя отвѣтила ей:
— Насчетъ раскаяній мнѣнія различны; но я не нахожу никакой пользы въ томъ, чтобы порочный человѣкъ, сознавъ свои дурныя дѣла, сидѣлъ бы и все смотрѣлъ на свой животъ, какъ это дѣлаютъ какіе-то чудаки въ Индіи. У очень многихъ людей въ ихъ прошедшемъ есть порядочное болото, но что же пользы возиться въ этомъ болотѣ? Лучше поскорѣе встать да отряхнуться и идти доброй дорогой.
Такъ она и жила, «отряхнувшись», и не хотѣла жить иначе, и. несмотря на все ея «порядочное болото въ прошломъ», личность ея стала казаться свѣтлою и получила такую привлекательность, что къ ней широко запылала любовь во множествѣ сердецъ.
Ея дочери, которыя унаслѣдовали не всѣ ея свойства, напрасно боялись, что ея пассажъ со вторымъ бракомъ повредитъ ихъ карьерѣ: одна изъ этихъ дочерей очень скоро и очень пріятно разочаровалась въ этомъ потому, что прибывшій въ ихъ міютность, для принятія наслѣдства, молодой сынъ именитаго вельможи, князь одинъ разъ побывавъ у тети Полли, такъ полюбилъ ее и ея Гпльде-гарду, и все ихъ семейство, что не захотѣлъ оставаться чужимъ этой семьѣ и твердо настоялъ на. томъ, чтобы ему былъ разрѣшенъ бракъ съ ея старшею дочерью, съ тою самою Сусанной, которая была груба къ матери, стыдилась
ея беременности. — а потомъ еще болѣе стыдилась этой своей выходки и -сдѣлалась образцомъ дочерней любви и уваженія къ матери.
Это было наградою тетѣ Полли, которая сама себя почитала «во всѣхъ статьяхъ неисправною» и никого не бралась исправлять, но до самозабвенія восторгалась, когда видѣла, что люди «ни отъ чего исправляются .
Ни отъ чего!..
Она была бы до слезъ смущена, если бы ей доказали, что это «ничто- была сама она, ушедшая «отъ своего болота».
Такъ преобразилъ ее Тотъ, Кіо жалѣетъ объ угратЬ одной овцы, и, хватавшись ея, оставляетъ девяносто девять овецъ, идущихъ своею дорогою, и ищетъ въ кустахъ п терніп потерявшую путь одну овцу, и находитъ ее, беретъ ее на Свои священныя руки, и несетъ, и радуется, и даетъ радость всѣмъ, кому понятна и дорога радость, что ожилъ человѣкъ!
Личныхъ утѣшеній тетя Полли съ іѣхъ поръ не искала, но они ее иногда находили, и одно такое прекрасное утѣшеніе освѣтило ея закатъ: ея зять, мужъ Сусанны, отличился благороднѣйшею дѣятельностью при «освободи тельныхъ работахъ» въ царствованіе Александра II. II тетя, при полученіи извѣстія объ этомъ. плакала радостными слезами на груди у своей Гильдегарды и сама себя перебивала словами:
— Нѣтъ, за что же?.. За чтб мнѣ такъ много дано, когда я такъ мало стою!
Но, увлекаясь воспоминаніями о тетѣ Полли, я отступаю отъ порядка повѣствованія, съ которымъ здѣсь пора кончить.
Возвращаюсь къ тому, когда тетушка пріѣхала къ намъ въ деревню, измученную голодомъ, которому уже былъ виденъ предѣлъ, но къ которому теперь присоединились повальныя болѣзни: онѣ сложили на землю половину живущихъ и навели уныніе и страхъ на другую половину.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Тетя Полли собственно была вызвана къ намъ отцомъ, который описалъ ей наше унылое состояніе, и она сейчасъ же пріѣхала вмѣстѣ съ Гильдегардою и привезла успокоеніе и радости.
Эта женщина всегда привозила съ собою, во-первыхъ,
свою непобѣдимую и никогда ее не оставлявшую благородную веселость, а потомъ непремѣнно всѣмъ людямъ и дѣтямъ по подарку. Дарить— это была ея слабость и ея радость, и она имѣла удивительную способность всѣхъ помнить и всякому подобрать подарокъ, подходящій по ого потребности и по вкусу.
Женщинамъ дарились головные платки, горничнымъ — ситцы на платья, лакею — «отрѣзъ на жилетъ», кучеру — «касандрійская рубаха», скотинку — рукавицы, но болѣе всего привозилось дешевыхъ алыхъ лентъ — деревенскимъ дѣвчонкамъ на «косоплетки».
Эти косоплетки, нарѣзанныя кусочками соотвѣтственнаго размѣра, тетя всегда имѣла у себя въ запасѣ въ карманѣ платья, п гдѣ бы ни встрѣтила дѣвчонку, она подзывала ее къ себѣ и дарила, всегда съ шуткою:
— Дѣвки! дѣвки! подите ко мнЬ, я васъ осчастливлю!.. На-те вамъ—въ косы заплетите... Ты чернуха — тебѣ вотъ ленточка алая, а ты бѣлый тараканъ — тебѣ лучше будетъ синенькую...
«Осчастливленныя» просіявали отъ счастія и съ разгорѣвшимися глазенками бѣжали за тетей и просили, чтобы къ алой была прибавлена синенькая, а къ синенькой — аленькая, и тетя увлекалась радостью дѣтей и имъ не отказывала, а иногда брала дѣвочекъ и цѣловала ихъ не совсѣмъ чистыя лица, приговаривая:
— Ахъ вы, рожицы!.. Тоже щеголихи!.. На-те вамъ, чумазыя! на-те!
11 ленты летѣли въ толпу, и деревня расцвѣчалась пестротою дѣвичьихъ косоплетокъ.
Видно было, что «баловница пріѣхала».
Было ли послѣ этого чему удивляться, что эта «баловница» (сколько у нея было прфрачііі!..') была въ то же время и общая любимица и что такое лицо, какъ она, въ лихую годину, сразу однимъ своимь появленіемъ наполняла сердца людей довѣріемъ и упованіемъ, облегчающими въ значительной мѣрѣ всякое юре и «всякую язю въ людѣхъ»?!
А тетя Полли и Гпльдегарда теперь и пришли къ намъ съ нарочитою цѣлью—принести облегченіе больнымъ, которыхъ было полдеревни и которые валялись и мерли въ своихъ промзглыхъ избахъ безъ всякой помощи.
Какая это была болѣзнь—я не помню, но знаю, что надь
распознаваніемъ ея по правиламъ науки никто не трудился. Уѣздные врачи (которыхъ тогда было по одному на уѣздъ) дѣлали только судебныя «вскрытія», а лѣчить больныхъ времени не имѣли: отецъ мой обладалъ «Лѣчебникомъ штабъ-доктора Егора Каменецкаго», но не имѣлъ дара лѣчить; матушка боялась заразы, а французъ-докторъ, женатый на нашей богатой сосѣдкѣ, бывшей княгинѣ Д , еще въ самомъ началѣ голоднаго года покинулъ жену и уѣхалъ отъ снѣжныхъ сугробовъ Россіи на свою цвѣтущую родину, а оттуда въ палящія степи Африки, гдѣ охотился на львовъ вмѣстЬ съ І’лодомъ Жераромъ.
Мы были совершенно безпомощны и знали о болѣзни, убивавшей крестьянъ, только такіе симптомы, что у нихъ сначала «заболитъ голова, а потомъ на нутрѣ сверлитъ, а потомъ весь человѣкъ слабъ сдѣлается» и валяется, пока «потмптся въ лицѣ п духъ вонъ».
У тетушки и Гильде гарды Васильевны былъ талантъ къ лѣченію больныхъ крестьянъ, п имъ это было ни почемъ, такъ какъ онѣ не боялись заразиться. Болѣзнь, которою умирали наши крестьяне, началась-было на деревнѣ и у тети Полли, но тамъ ей не дали развиться. Тетя и Гп.іьде-гарда тотчасъ же отдѣляли больныхъ изъ семьи п клали ихъ въ просторную столярную мастерскую, гдѣ и лѣчили ихъ, чѣмъ знали, съ хорошими успѣхомъ.
Теперь у нихъ все было благополучно, и онѣ явились на помощь къ намъ во всеоружіи своей духовной мощи и знаній и съ запасомъ погребныхъ лЬкарствъ. Но болѣе всего полезенъ былъ ихъ мощный духъ, присутствіе котораго сразу измѣняло весь ходъ и настроеніе нашей жизни.
Тетя Полли не успѣла еще снять съ себя въ передней свой темно-зеленый шелковый ватошникъ, какъ уже давала тонъ и направленіе.
Первыя слова ея были къ отцу:
— Ну, что это за стыдъ!., мы проѣхали всю вашу деревню и не слыхали ни какъ гусь гогочетъ, ни какъ корова мычитъ. Здравствуй, братъ!.. Пли у васъ у же совсѣмъ нѣтъ коровъ?
Отецъ поцѣловалъ у нея обѣ руки и отвѣчалъ, что на деревнѣ осталась всего одна корова у старосты.
— Ахъ, да!.. II правда!.. Я ее, до.іжно-быть, видѣла... Бурая?.. Но мнѣ показалось, что это неживое чучело.
Такой разговоръ произошелъ еще на самомъ порогѣ, и затѣмъ это такъ и продолжалось въ живомъ и энергичномъ тонѣ и съ однимъ и тѣмъ же надъ всъмъ преобладающимъ стремленіемъ поставить все ниже заботъ о деревнѣ.
Тетя ласката насъ—болѣе руками и взглядами— и въ то же время задавала отцу вопросы, требовавшіе немедленнаго исполненія ея просьбъ пли приказаній, которыя вытекали изъ каждаго обстоятельства и шли одно за другимъ въ быстромъ, но стройномъ порядкѣ.
Тетя спрашивала: «сколько больныхъ на деревнѣ?» И віця, что отецъ затрудняется точнымъ отвѣтомъ, сейчасъ же сама за него отвѣчала:
— Ты не знаешь?.. Это не дурно для начала со стороны христіанина и помѣщика средней руки!.> А могу ли я видѣть твоего старосту или кого-нибудь, кто у тебя есть поумнѣе и у кого меньше упрямства и предразсудковъ?.. У тебя былъ, я помню, гдь-то за усадьбой пустой половень.
— Онь сгорѣлъ,—отвѣчалъ отецъ.
— Вотъ какъ!.. Вѣрно отъ грозы?
— Нѣтъ,—моп дураки тамъ колдовали съ человѣчьимъ саломъ.
— Какъ это?
Отецъ разсказалъ ей извѣстную исторію со свѣчой изъ Кожіёнова сала, отъ которой сгорѣлъ половень.
Тетя пила чай и слушала исторію безъ улыбки, безъ ужаса и безъ гримасъ, и только посмотрѣла въ бокъ на Гильдегаріу, которая гоже окинула ее отвѣтнымъ взглядомъ, п было ясно, что имъ не надо было говорить боліе, чтобы понимать другъ друга.
Когда былъ конченъ разсказъ о свѣчѣ и о всемъ томъ, что записано выше въ этихъ воспоминаніяхъ, тетя Полли вздохнула и сказала:
— Да!.. здѣсь юдоль плача... Голодъ ума, голодъ сердца и голодъ души. Богъ мотокъ, въ которомъ не знаешь, за какую нить хвататься!.. Дмитрій Ростовскій, впрочемъ, говорилъ въ дворцовой церкви, что онъ извиняетъ, когда люди «за нуждою и утѣсненіями забываютъ о Высшемъ». II теперь ужъ надо помогать одной низшей, грубой нуждѣ. Лучшее сдѣлаютъ когда-нибудь послѣ другіе, а не мы. Если половень сгорѣлъ, я прошу ригу п помѣшу въ ней больныхъ. Это первое дѣло. — ихъ нащ сейчасъ отдѣлить. Мы
уже отдохнули и теперь обойденъ съ Гильдегардой всъ избы и сосчитаемъ всѣхъ больныхъ— и потомъ ихъ сейчасъ же перевезть...
— Больные не пойдутъ со своихъ печей и лавокъ.—замѣтилъ отецъ.
— Ну, мы постараемся убѣдить ихъ, чтобъ они пошли, въ крайнемъ случаѣ... мы пхъ возьмемъ и унесемъ.
— Насильно?
Тетя посмотрѣла въ глаза отцу и, помолчавъ минуту, отвѣтила:
— А хотя бы п насильно!.. Какъ странно! Развы ты и я—мы всѣ ими владѣемъ по ихъ добрей волѣ? Пустяки! Того, кто тонетъ, берзтъ за волосы и вытаскиваютъ посильно... Это очень грубо, но совершенно необходимо. Соломы вѣрно нѣтъ у васъ, чтобы настлать кучами постелей но всеь ригѣ?.. Эю очень жаль, но, можетъ-быть, есть конопляная костра? Есть? Ну, вотъ и прекрасно,—обойдемся съ ней... Пока мы съ Гильдегардой будемъ на деревнѣ, возьми на себя трудъ наблюсти, чтобы здоровые натаскали въ ригу сухой костры и наклали ее для больныхъ кучками... Вели дѣлать этакъ... какъ большія котлеты, въ ростъ человѣка,—и въ головахъ—повыше, а къ ногамъ—пониже. Черезъ часъ тамъ уже будутъ больные... Твоя жена не можетъ намъ помогать?
Отецъ тихо отвѣтилъ:
— Она боится.
— Ну, п не нужно ея... Кто боится, тѣмъ это и вредно. А мы сейчасъ же идемъ!
Проговоривъ это, она уже стояла и покрывала свою кучерявую голову мягкимъ платкомъ, а Гпльдегарда Васильевна надѣвала свою высокую, съ широчайшими полями, соломенную штяиу.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Тетя и Гпльдегарда взяли въ карманы крошечный карманный фонарики съ рефлекторомъ (для осмотра горла), флаконъ съ какой-то жидкостью и записную книжку, и ушли.
Оіецъ предлагалъ имъ провожатаго, по ецѣ не взяли, и сказали, что надо зайти подъ-рядь въ каждую избу.
— На васъ могутъ напасть собаки.
— Полно, пожалуйста! Собаки такія почленныя жнвот-Сочипевія Н. С. Лѣскова. Т. XXXIII. (}
ныя,—онѣ знають, кто идетъ не съ дурнымъ намѣреніемъ, и будутъ съ начи вѣжливы.
И дѣйствительно, собаки повсемѣстно отнеслись къ нимъ превосходно, но все-таки экспедиція ихъ не обошлась безъ приключенія: бурая корова Деменіія, которую тетя оскорбила, назвавъ ее «неживымъ чучеломъ», доказала, что она еще жива, и когда Гпльдегэрда, проходя мимо №я, остановилась, чтобы поощрить ее ласкою, тощая буренка немедленно подняла голову, сдернула съ англичанки ея соло-мрнн)ю шляпу и быстро удалилась съ нею на середину самой глубокой и непроходимой лужи, гдѣ со вкусомъ и съѣла шляпу, къ неописанному удовольствію тети Полли, которая надъ этимъ очень смѣялась, а англичанка, потерявъ шляпу, повязалась своимъ носовымъ платкомъ и окончила обходъ въ этомъ уборѣ.
До вечера было сдѣлано множество вещей: въ ригѣ было настлано двадцать семь постелей изъ сухой костры и на нихъ уложили соотвѣтственное число людей, освободивъ отъ производимаго ими смрада тѣсныя избы, въ которыхъ мѣ-стплись ихъ семейства. При этой «эвакуаціи» насиліи не было, но имѣли свое мѣсто энергія и настойчивость обѣихъ женщинъ, которыя сами при этомъ работали до изнеможенія и не пришли обѣдать до темнаго вечера.
Матушка долго и напрасно ждала ихъ и серди іась. Обѣдь весь перестоялся и былъ испорченъ. Отецъ стыдился покинуть тетю и англичанку однѣхъ съ больными мужиками и бабами, и тоже оставался вт ригѣ: онъ помогалъ имъ раскладывать больныхъ и защищать ихъ отъ сквозного вѣтра въ импровизированномъ для нихъ баранѣ.
Имъ тамъ было холодновато, но они тотчасъ же стали легче дышать, а въ то же время безопаснѣе и легче дышалось и тѣмъ, которые остались у себя въ избахъ.
Отецъ, тетя и Гильдегарда пришли въ домъ, когда уже былъ вечеръ, и ѣли скоро и съ аппетитомъ, а говорили мало. На лицахъ у обѣихъ женщинъ какъ будто отпечаталось то выраженіе, какое онѣ получили въ ту минуту, когда тетя проговорила:
— Это ужасно: круглый голодъ, — голодъ ума, сердца и души... II тогда уже—всякій голодъ!
Ни тетя, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы и даже отвѣчали суховато и какъ бы неохотно.
Мать имъ сказала:
— Извините за обѣдъ... Онъ весь перешелъ, — - вы сами виноваты, что дотянули обѣдъ до звѣзды.
Гильдргарда ее, кажется, не поняла: но тетя разумѣется, поняла, но небрежно отвѣтила:
— До звѣзды!.. Ахъ, да... и ты права: мы въ самомъ дѣлѣ очень любимъ звѣзды.,, ихъ видѣть такъ отрадно. Тамъ вЬдь, безъ сомнѣнія, живутъ другія существа, у которыхъ. МОЖРТЪ-быТЬ, ньтъ столько грубыхъ нуждъ, какь у насъ, и потому они, должно-быть, противъ насъ лучше, чище... меньше самолюбивы и больше сострадательны и добры...
— Но вѣдь это фантазія —замѣтила мама.
Тетя ей не отвѣчала.
— II притомъ, мы всѣ очень грѣшны, — зачѣмъ намъ мечтать такъ высоко! — молвила магь, конечно, орзъ всякаго намека для тети.
Тетя ее слышала и произнесла тихо:
— Надо подниматься.
— Да вѣдь какъ это сказать...
Матушка, кажется, побоялась сбиться съ линіи, а тетя ничего болѣе не говорила: она озабоченно копошилась, ища что-то въ своемъ дорожномь баулѣ, а Гильдегарда въ это время достала изъ темнаго кожанаго фѵгляра что-то такое, что я принялъ за ручную аптечку, и перешла съ этимъ къ окну, въ которое смотрѣлось небо, усѣянное звѣздами.
Мама вышла. Тетя закрыла баѵлъ, подошла къ сто.г', на которомь горѣли двѣ свѣчки, и обѣ ихъ потушила, а потомъ подошла къ англичанкѣ и тихо ее обняла. Онѣ минуту стояли молча, и вдругъ по комнатѣ понеслись какіе-то прекрасные и до сен поры никому изъ насъ незнакомые звуки. То, что я принялъ за ручную аптечку, была кон-цертинл, въ ея тогдашней, примитивной формѣ, но звуки ея были полны п гармоничны, и подъ ихъ аккомпанементъ Гильдегарда и тетя запѣли тихую пѣснь — англичанка пѣла густымъ контральто, а тетя Полли — высокимъ фальцетомъ.
Онѣ пѣли «сапгіцпе» на текстъ «Приходящаго ко МнЬ не изгоню вонъ» (Іоан. VI. 37), и слова ихъ пі.сни передъ звѣздами (въ русскомъ переводѣ) были таковы:
«Таковъ какъ есть,—во имя крови.
За насъ пролитой на крестѣ,
За вѣрой, зрѣньемъ и прощеньемъ, Христосъ, я прихожу къ Тебѣ.»
Я былъ пораженъ и тихой гармоніей этпхъ стройныхъ звуковъ, такъ неожиданно наполнившихъ домъ нашъ, а простой смыслъ дружественныхъ словъ пѣсни плѣнилъ мое пониманіе. Я почувствовалъ необыкновенно полную радость оттого, что всякій человѣкъ сейчасъ же, «таковъ какъ есть», можетъ вступить въ настроеніе, для котораго нѣтъ расторгающаго значенія времени и пространства. II мнѣ казалось, что какъ будто, когда онѣ тронулись къ Нему «за вѣрой, зрѣньемъ и прощеньемъ», и Онъ тоже шелъ къ нимъ навстрѣчу, Онъ подавалъ имъ то, чтб дѣлаетъ иго Его благимъ и бремя Его легкимъ...
О, какая это была минута! я уткнулся лицомъ въ спинку мягкаго кресла и плакалъ впервые слезами невѣдомаго мнѣ до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбужденія, что мнѣ казалось, будто комната наполняется удивительнымъ тихимъ свѣтомъ, и свѣтъ этотъ плыветъ сюда прямо со звѣздъ, пролетаетъ въ окно, у котораго поютъ двѣ пожилыя женщины, и затѣмъ озаряетъ внутри меня мое сердце, а въ то же время всѣ мы- и голодные мужики, и вся земля—несемся куда-то навстрѣчу мірамъ...
О, если бы за всѣ скорби жизни земной еще разъ получить такую минуту при уходѣ изъ тѣла!
Этотъ вечеръ, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снѣгомъ житейской зимы, кажется, имѣлъ для меня значеніе на всю мою жизнь.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
На другой день передъ обѣдомъ, когда тетя Полли и Гпльдегарда, съ помощью отца и двухъ дворовыхъ, перекладывали въ ригѣ больныхъ на свѣжія подстилки изъ кострики, на которую разостлали рогожи, въ ригу неожиданно вошелъ исчезнувшій по осени съ нашего горизонта майоръ Алымовъ, а за нимъ шли его легавый «Интендантъ» и мальчикъ съ табачнымъ кисетомъ и съ трубкой.
Я почему-то сразу понялъ, что майоръ напрасно вошелъ сюда, что ему здѣсь не мѣсто, и точно то же самое, очевидно, подумалъ мой отецъ, который, увидавъ майора, слегка
покраснѣлъ, передалъ мнѣ въ руки полоскательницу съ уксусомъ п губкой, а самъ пошелъ скорымъ шагомъ навстрѣчу Алымову п, здороваясь съ нимъ одною рукою, другою далъ знакъ мальчику, чтобы онъ удалилъ отсюда собаку.
— Ахъ, да!., здѣсь гошппталь! — замѣтилъ Алымовъ.— Это интересно. Я еще теперь только ѣду домой... Я всю зиму леталъ и своимъ мужикамъ не мѣшалъ жить какъ имъ угодно.. Вѣдь мы имъ. право, только мѣшаемъ... Они сами — чудесный народъ и всегда какъ-нибудь обойдутся... А вы представьте меня, пожалуйста, вашей сестрицѣ: я объ ней много наслышанъ.
Отецъ представилъ его обѣимъ дамамъ, но тѣ поклонились ему черезъ плечо, не отрываясь отъ своего дѣла, и отецъ увелъ его въ домъ, а одинъ изъ дворовыхъ, подавая тетѣ дегтярное мыло и воду, чтобы вымыть руки, доложилъ ей вкратцѣ, что это за человѣкъ г. Алымовъ п какую онъ штукѵ сдѣлалъ, вымочивъ въ навозной жижѣ рожь, чтобы сдѣлать ее несъѣдобной.
Тетя перевела это по-англійски Гпльдегардѣ, а та прошептала: «О. Сосіі» п сконфузилась какъ ребенокъ.
Алымовъ уже не могъ ожидать встрѣтить у этихъ женщинъ симпатіи п за обѣдомъ напрасно старался втянуть тетю въ разговоры: она пли молчата, или говорила съ нами, т. е. съ дѣтьми, а Гпльдргарда вовсе не вышла къ столу, потому что у нея разболѣлась голова.
Новый гость могъ бесѣдовать только съ моими родителями, да и го отецъ, повидимому, не радъ былъ ни его визиту, нп говорливости, но мама въ этотъ разъ была къ нему внимательна...
Она въ душѣ не долюблпвала тетю Полли, которая всегда «брага все не въ мѣру»: то была «проказнпца», а потомъ стала «фантазерка», и теперь развела у насъ въ домѣ близкое и опасное сношеніе съ больными людьми, чего шагаап никогда бы не допустила!
ІМатап умѣла говорить немножко «въ пику» тѣмъ, чьи «правила'' ей не нравились, и присутствіе майора Алымова давало ей прекрасный поводъ попронпзпровать надъ причудами и выдумками «филантропокъ?, затѣи которыхъ буіто нимало не полезны для нашего народа, такъ какъ нашъ народъ превосходно вѣритъ въ Бога, и Богъ спасетъ его отъ всякихъ бѣдствій.
АІымовъ былъ совершенно тѣхъ же мнѣній и при концѣ обѣда резюмировалъ разговоръ:
— Вотъ я ни во что не мѣшался... II прекрасно!.. Къ чему?.. Я знаю, что всѣхъ спасти нельзя, и нечего пробовать! Не правда ли?.. А если нельзя помочь всѣмъ, то какое право мы имѣемъ дѣлагь однимъ людямъ предпочтеніе передъ другими!.. Не правда ли? Если уже спасать, то спасать всзъгъ людей!.. Это я понимаю... Не правда ли? Но если я этого не могу, то я не мѣшаюсь... Я отхожу въ сторону и ничего не порчу, и... по крайней мѣрѣ я не посѣ-ваю зависти однихъ і.ъ другимъ, какъ это на Западѣ, гдѣ все гніетъ, а не понимаютъ, отчего гніетъ? Не правда, ли?.. Но у насъ этого нѣтъ... II вотъ, когда я могу сдѣлать серьезное и существенное дѣло, которое я, какъ хозяинъ, давно задумалъ, я его и дѣлаю — я возвращаюсь на мои постъ и всѣ мои крестьяне получатъ ровно!., п если онп не свиньи,—я оговариваюсь: если только они не свиньи,— то онп навѣрно теперь поймутъ, что я для нихъ сдѣлалъ хорошее, а не дурное, и онп благословятъ меня и отдадутъ мнѣ долгъ изъ новаго урожая!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Алымовъ уѣхалъ веселый и вдохновленный насквозь своимъ монологомъ, а ввечеру этого же дня къ намъ пріѣхалъ изъ Послова старикъ крѣпостной кондитеръ «бывшей княгини Д*», — очень почтенный человѣкъ, обучавшійся своему рукомеслу въ Парижѣ. Онъ желалъ быть «допущенъ на очи» ьъ пріѣзжимъ дамамъ и въ витіевато сложенной рѣчи изложилъ пмъ, что онъ рабъ своей госпожи, бывшей княгини Д », и быль за границей съ покойнымъ княземъ и служилъ «у него при дворѣ» въ Петербуріѣ, а теперь прибылъ отъ своей госпожи, которая «больна мнѣніемъ»: она уже всю зиму не выходитъ изъ одной комнаты... въ друпю переступить боится... а если переступитъ, то сейчасъ забезпокоптся и говоритъ: «Я, вѣрно, что-то забыла?.. Скажите мнѣ, что я такое забыла? Боже мой!., какая я несчастная! Отчего мнѣ никто не хочетъ напомнить? А если сдѣлаетъ какое-нибудь распоряженіе, то очень странное. «Богъ и теперь она прислала меня вамъ доложить, чтб отъ графа пришли въ посылкѣ двѣ шкуры отъ львовъ, которыхъ онъ убилъ, и она желаетъ подарить эти шкуры
бѣдственнымъ людямъ для ихъ постелей...» Поэтому его госпожа проситъ тетю іі Гильдегарду, если онѣ позволятъ, привезти къ нимъ эти шкуры, и очень желали бы еще отдать что-нибудь, «что можетъ годиться»...
Наши дамы выслушали этотъ докладъ обѣ вмѣстѣ, но такъ какъ Гпльдегарда говорила по-русски очень дурно, то отвѣчала за себя и за нее тетя Полли.
Она сказала:
— БГшымъ людямъ можетъ годиться все, что имъ захотятъ дать, и даже львиныя шкуры годятся, — мы пхъ охотно возьмемъ и за нихъ очень благодаримъ, но постилать пхь мужикамъ мы не будемъ.
— Конечно, (лдарыня! — съ почтигельнымь поклономъ отвѣчалъ кондитеръ.
— Да. мы ихъ отошлемъ въ городъ и продадимъ пхъ, а на эти деньги купимъ, что понужнѣе.
— Разумѣется, сударыня! К ікъ же можно иначе-съ! Я это и говорилъ компаньонкѣ... Львиныя шкуры мужикамъ!.. II много ли это... всего на двухъ человѣкъ... но вѣдь наша княгиня... онѣ... больны мнѣніемъ и,—извините,—по-русски я не см ѣлъ бы сказать о своей госпожѣ, а скажу по-французски,— онѣ совсѣмъ какъ... реітоциеі... Отъ горя своего въ послѣдней разлукѣ съ супругомъ онѣ стали совсѣмъ въ дѣтствѣ. Если бы вы осчастливили ихъ видѣть и ска-залн бы пмь, что надо сдѣлать... онѣ бы рады... II даже, можетъ-быть, большія благодѣянія могли бы людямъ сдѣлать... Супругу пхъ мы не можемъ достаться, потому что онъ здѣшнихъ правъ не имѣетъ владѣть живыми людьми, но мы можемъ поступить послѣ ея смерти въ раздѣлъ пхъ дальнимъ родственникамъ, въ жестокія руки... Вы извините меня, чго я, какъ рабъ, и притомъ смѣю такъ говорить: но пхъ племянники и племянницы пишуть къ ихъ компаньонкѣ и къ іерею... и эти имъ отвѣчаютъ... Все это на нашу бѣду!.. Если бъ госпожа понимала, что можно сдѣлать.— онѣ бы сдѣлали.. Онѣ теперь двухъ картофелинъ въ мундирахъ не докушиваютъ — пднуг ссылаютъ на подачку бѣдственнымъ... Я ихъ мньніе понимаю: они алкаютъ добродѣтели... и не умѣютъ... Онѣ сказали про васъ компаньонкѣ: «Какія это дамы пріѣхали? Говорятъ, добрыя... Ахъ, когда бы были на свѣтѣ гдѣ-нибудь добрые люди!.. Я даже не вѣрю: говорятъ—эти дамы всюду самя ходятъ и не боятся...
Зачѣмъ я такъ не могу?..» Ихъ, вѣдь, такъ воспитали и... графъ (мы ихъ супруга называемъ для пхъ удовольствія графомъ—они французъ)... графъ ихъ робковатъ п онъ имъ сказалъ, что надо опасаться голодныхъ людей, — и самъ уѣхалъ,—и княгиня все боятся, и затомили себя въ одной комнатѣ въ домѣ... Но если бы кто пхъ посѣтилъ, къ кому онѣ, какъ къ вамъ, расположились своею мечтою...
II старикъ вдругъ упалъ на колѣни, воздѣлъ руки вверхъ и зашепталъ придыханьемъ, рыдая:
— Рабыни Господни!.. Умилосердитесь... Разрушьте совѣтъ нечестивыхъ!.. Придите!.. Вложите ей мысль... Опа вѣдь добра... Быть-можетъ, она завѣщаетъ отпустить насъ на волю!
А пока онъ рыдалъ и это высказывалъ, тетя и Гпльде-гарда переслались другъ съ другомъ своими говорящими глазами, и отвѣтъ нхъ былъ готовъ.
— Онъ есть тутъ лошадъ?— спросила Гильдегарда, касаясь своимъ пальцемъ до груди слуги.
Какъ квакерша, она никому не говорила «вы», и не желая говорить «ты» тѣмъ, съ кѣмъ это было неудобно, употребляла мѣстоименія въ третьемъ лицѣ, касаясь при этомъ рукою того человѣка, къ которому относились ея слова.
Кондитеръ былъ присланъ съ кучеромъ въ рессорной разсыльной телѣжкѣ, и когда Гильдегарда получила отвѣтъ, что еегь на чемъ ѣхать, — она сейчасъ же встала и взяла со стола импровизированную шляпу, сшитую ей вчера тетею изъ сѣраго коленкора.
Тетя сказала ей одно только слово:
— Конечно!
Имъ было достаточно этого слова, чтобы понять въ немъ все, чтб было нужно.
Ни этотъ день, о которомъ я разсказываю, приведя къ концу мои воспоминанія о нашихъ домашнихъ событіяхъ при проводахъ голоднаго года,—былъ днемъ удивительныхъ сюрпризовъ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Гильдегарда, уѣхавшая въ сумерки, т/е возвратилась къ ночи.
Для разстоянія въ четыре или въ пять верстъ, которое отдѣляло нашу деревушку отъ богатаго села Послова, было довольно времени, чтобы съѣздить въ два конца и имѣть достаточно времени для дѣлового разговора или для перваго знакомственнаго визита, къ избалованной и одичавшей
капризницѣ и недотрогѣ, какою всѣ и не безъ основанія считали «бывшую княгиню» Д . Но Гильдегарда не возвращалась.
Огца это обезпокоило, и онъ хотѣлъ непремѣнно послать за ней свои дрожки въ Послово,—даже и ташап находила это необходимымъ, но тетя настойчиво потребовала, чтобы этого не дѣлали.
Тетя сказала о Гпльдегардѣ:
— Она безъ надобности нигдѣ тратить время не станетъ, а если она находитъ, что ей тамъ есть дѣло, то для чего ее отрывать оттуга по нашимъ соображеніямъ, когда она пошла туда по волѣ Бога?
Маміап было непріятно, что тетя такъ безцеремонно думаетъ, будто ихъ туда и сюда посылаетъ Богъ.
Она это еп п сказала, конечно, съ смягчающей шуткой, но та ей отвѣтила совершенно серьезно:
— Я не возьму моихъ словъ назадъ: Богъ дѣйствительно посылаеть туда и сюда всѣхъ тѣхъ, кто ищетъ вездѣ исполнить не свою волю, а послужить другимъ.
Тетя согласилась только на то, чтобы отецъ послалъ верхового—проѣхать до Послова и посмотрѣть: не случилось ли съ Гкгьдегардой и ея кондитеромъ что-нибуть въ дорогѣ? А негласно посланному велѣно было какъ-нибудь разузнать: отчего не возвращается англичанка?
Посланный скоро возвратился и привезъ извѣстіе, что путники доѣхали благополучно, и что англичанка у госпожи Д* и выходила съ ней на балконъ.
Тетя улыбнулась и сказала:
— Вотъ видите: опа ее уже выводитъ на чистый воздухъ.
Утромъ Гильдегарда вернулась и сказала что-то тетѣ очень тихо,—въ отвѣтъ ні что та покраснѣла и отвѣтила:
— Для чего ей это дѣлать? Я сама сейчасъ къ ней поѣду. Братъ! дай мнѣ лошадь въ Послово.
Такой оборотъ былъ неожиданъ и невѣроятенъ: эти двѣ женщины, соперничество которыхъ когда-то было такимъ непримиримымъ, что никто не могъ думать объ ихъ встрѣчѣ, шли нынче навстрѣчу другъ другу, и даже спѣшили одна другую предупредить въ этомъ движеніи!..
Д..я чего это имъ было нужно?
Но тетя уѣхала и цьль ея поѣздки оставалась загадкою, а прежде чѣмъ она успѣла вернуться къ нимъ, прискакалъ самъ на себя не похожій Алымовъ.
Онъ былъ блѣденъ, разстроенъ и растрепанъ, его кокъ упалъ и повисъ, галстукъ сбился на бокъ и венгерка разстегнута...
— А что я вамъ говорилъ!—началъ онъ, входя въ залу и ни съ кѣмъ не здороваясь.
Отецъ посмотрѣлъ на него и сказалъ:
— Я не помню, чтб такое вы мнѣ говорили?
— Я говорилъ вамъ вчера... и вашей сестрѣ», что наши люди—это не люди, а это скоты!
— Ну, хорошо... я этого что-то не помню; но, впрочемъ, что жъ дальше?
— Моя яровая рожь вся тю-тю!
— Какъ?
— Тю-тю вся до послѣдняго зерна!
— Но вѣдь она была у васъ подъ замкомъ?
— Подъ большимъ американскимъ замкомъ, котораго невозможно нп отпереть безъ ключа, ни сбить, не разоривъ двери.
— Ну, и что же?
— Просверлили дыры въ доскахъ въ полу и все выпустили! — Когда же это?
—- Почему же я могу это знать! Меня всю зиму не было дома... А Кромсай, подлецъ, которому я, какъ вольному человѣку, поручалъ наблюдать и обѣщалъ дать ему за это теленка, говоритъ: «должно-быть, зимой помаленьку цѣдили». А куда же, спрашиваю, они ее дѣли? — «Должно-быть, говоритъ, слопали»... Ну, не скоты ли!.. Вѣдь она, говорю, была вонючая!., я ее нарочно припоганилъ! «Такъ, говоритъ, поганковатую, вѣрно, и слопали». А чего «вѣрно», когда онъ самъ же, подлецъ, ее и лопалъ!
— Почему же вы это узнали?
Алымовъ закашлялся, покраснѣлъ и, вытащивъ изъ кармана венгерки мужичью трубку съ мѣдной крышкой, швырнулъ ее на столъ и закричалъ:
— Смотрите ее!.. Вотъ почему!.. Это его, подлеца, трубка... Не правда ли? ее подъ амбаромъ нашли... Онъ еще и всю усадьбу сжечь могъ. Я пхъ теперь всѣхъ, подлецовъ, разнесу... Я имъ сказалъ: «Я прямо поѣду къ исправнику и потребую сюда временное отдѣленіе земскаго суда... Пусть васъ всѣхъ заберутъ и заморятъ!..» А онъ еще, этотъ Кромсайка... вообразите, даетъ мнѣ въ родѣ родительскаго наставленія... «Погоди, — говоритъ, — ты еще младъ чело
вѣкъ, тебѣ еще много вѣку надо на землѣ жить да радоваться... а ты себя укорочать хочешь... -Это моя трубка, ничего что она моя... ' меня ее. братъ, украли да тебѣ подкинули... Это все вороги... народъ воровской —шельмы... А ты ихъ не замай... прости... Богъ съ ними... Ты ужъ того, что пропало, не воротишь, а потерпи—оно само вѣрнѣе въ другой оборотъ придетъ... А то укоротятъ тебѣ вѣку г... Вообразите, краевымъ пѣтухомъ меня пугать сталъ!.. •-Спалятъ,—говоритъ,- -дѣло сусѣдское: развѣ какому-нибудь жпгуну огонька сунуть долго! > тебя постройка хозяйственная— весь дворъ въ кольцѣ— запылаетъ, и живой не выпрыгнешь». Стращать меня!.. Не правда ли? Но это неправда!.. Я не французъ изъ города Борю... я не поѣду въ Африку львовъ стрѣлять, а сейчасъ прямо къ губернатору.
Отецъ сталъ его уговаривать и увелъ къ себѣ въ кабинетъ. потому что въ это время возвратилась тетя и отецъ не хотѣлъ ей показывать А іымова, положеніе котораго было и крайне смѣшно, и жалостно.
Впрочемъ, на этотъ разъ отецъ мой имѣлъ удачу: онъ успокоилъ майора и уговорилъ его побывать у губернатора, но не сильно жаловаться, и лучше простить мужиковъ, не разыскивая, кто изъ нихъ «полопалъ» припога-ненную рожь.
Губернаторъ далъ ему тотъ же самый совѣтъ, которому Алымовъ и внялъ, и смилостивился надъ му жіікамл, — онъ «простилъ ихъ». А зато его Богъ простиль и пропажа его «возвратклася другимъ оборотомъ»: дивный урожай, слѣдовавшій за голоднымъ сороковымъ годомъ,—обсѣменилъ его поля самосѣвомъ, п Алымовъ «сжалъ, гдѣ не сѣялъ».
ГЛАВА ДВАЩАТЬ ЧЕТВЕРТКИ.
Свиданіе же тети Полли съ бывшей княгиней Д , вѣроятно, имѣло что-то неудобопередаваемое. Тетя вернулась домой въ сумерки, когда всѣ мы, дѣти, сидѣли вокругъ Гильдегарды Васильевны въ отведенной для нпхь комнатѣ. Англичанка показывала сестрѣ моей, какъ надо дѣлать «куадратный шнурокъ» на рогулькѣ и въ то же время разсказывала всѣмъ намъ по-французски «о несчастномъ Іудѣ изъ Керіота». Мы въ первый разъ слышали, что это былъ человѣкъ, который имѣлъ разнообразныя свойства: онъ любилъ свою родинѵ, любилъ отеческій обрядъ и испытывалъ
страхъ, что все это мажетъ погибнуть при перемѣнѣ понятій, и онь сдѣлалъ ужасное дѣло, «предавъ кровь неповинную».
Въ это время въ комнату вошла тетя Полли и, сказавъ всѣмъ намъ общее привѣтное слово, опустилась на стоявшее въ углу кресло.
— Что жъ вы замолкли?—сказала она:—продолжайте говорить, о чемъ вы говорили.
Гильдегарда Васильевна мелькомъ взглянула на нее и продолжала объ Іудѣ, и закончила, что если бы онъ былъ безъ чувствъ, то онъ бы не убилъ себя, а жилъ бы какъ живутъ многіе, погубивши другого.
Тетя прошептала:—Правда-
Англичанка спустила паузу и сказала:
— Ты довольна собой пли нѣтъ?
Тетя Полли хрустнула пальцами руки и отвѣчала:
— Не знаю, но... она такъ трогательна, она переноситъ на ыѵкя такія чувства, что мнѣ хочется плакать.
Въ голосѣ у нея въ самомъ дЬлѣ звучали слезы. Англичанка опять дала паузу п потомъ тихо сказала:
— Тптанія...
Но тетя перебила скороговоркою:
— Ахъ, конечно, конечно!.. Титанія, доразсвѣтная Тптанія, которая еще не видитъ, что она впотьмахъ цѣловала... осла!..
— Я этого не сказала,—замѣтила, смутясь, Гильдегарда.
— Ничего, мой другъ! Ничего! я знаю, ты не хочешь, чтобы я «предавалась воспоминаніямъ», ну, и карай меня!
Тетя ласково кинула на плечи англичанкѣ свои руки и сказала:
— Ты Петръ, и это значитъ: «камень»; и ты блаженна,— но прости насъ, грѣшныхъ!
II она, кажется, хотѣла спуститься и стать на колѣни, только Гильдегарда успѣла схватить ее подъ плечи и воскликнула:
— Полли! Полли! Неужели я тебя оскорбила!?
— Нѣтъ,—отвѣчала тетя:—мнѣ просто... хочется плакать.
ОнЬ обнялись, и тетя два раза всхлипнула, потомъ утерла слезы и, улыбнувшись, сказала:
— Вотъ когда аминь!
Свиданіе это имѣло также и другія разнообразныя добрыя послѣдствія, изъ числа которыхъ два были очень замѣчательны. Первое состояло въ томъ, что больныхъ въ нашей мѣстности съ этихъ поръ уже не приходилось болѣе
класть на кострикѣ въ холодной ригѣ, потому что «бывшая княгиня» построила «для всей мѣстности» прекрасною больницу и обезпечила ее «на вѣчныя времена» достаточнымъ содержаніемъ; и второе: слезы кондитера, рыдавшаго и воздымавшаго руки къ «рабынямъ Господнимъ», были стерты: въ Послевѣ было нашісано завѣщаніе, дававшее послѣ смерти Д* «всѣмъ волю».
Это было величайшее событіе во всей губерніи, которая такого примѣра даже немножко исптгалась.
А кромѣ того, въ день отъѣзда отъ насъ тетп и Гл.тьде-гарды, -.бывшая» Д сама пріѣхала къ намъ, чтобы еще разъ видъть обѣихъ этихъ женщинъ.
Я ее помню, эту «Титанію»,—какая она была «нетлѣн-пая и жалкая»: вся въ лиловомъ бархатномъ капотѣ на мягчайшемъ міхѣ шеншела.—дробненькая, миніатюрная, съ крошечными руками, но припухлая, и на всѣхъ смотрѣла съ какимъ-то страхомъ п недовѣріемъ. Ея лицо имѣю выраженіе совы, которую вдругъ освѣтило солнце: ей было и непріятно, и больно, п въ то же время она чувствовала, что не можетъ теперь сморгнуть въ сторону.
АінУ показалось, что вотъ это и есть онъ самъ—воплощенный голодъ ума, сердца, чувствъ и всѣхъ понятій.
Тетѣ некогда было съ нею теперь заниматься, потому чго, ) навъ объ ихь отъѣздѣ, пришло множество больныхъ и всѣ ожидали у балкона, на которомъ тетя и Гпльдегарда ихъ осматривали, обмывали и гдѣ было необходимо — дѣлали проколы и надрѣзы.
« Бывшую» Д посадили въ кресло на этомъ же балконѣ. Она сама не хотѣла отсюда удалиться и смотрѣла съ величайшимъ вниманіемъ на все, чтб дѣлала тетя, и наконецъ даже сама захотѣла принять хоть какое-нибудь непосредственное участіе и сказать человѣку хоть теплое слово.
Къ этому и представился поводъ въ томъ случаѣ, который іеобенно поразилъ вниманіе ея голоднаго ума.
Вл числѣ женщинъ, пришедшихъ съ больными дѣтьми, стояла баба неопредѣленныхъ лѣтъ, худая, съ почернѣвшей кожей; она была беременна и имѣла при себѣ трехъ дѣтей, изъ которыхъ двое тянулись за материну юбку, а третье безпомощно пищало у ея изможденной груди.
У всѣхъ дѣтей лица были въ красныхъ отмёткахъ наружной болѣзни, которую въ крестьянствѣ называютъ «огникъ».
Это поразило даму, и она устремила на бабу пристальный взоръ и, не умѣя соразмѣрять голоса, сказала ей строго:
— Это зачѣмъ столько!?
— Что матушка?
— Зачѣмъ столько... дѣтей?
— Да вѣдь какъ же мнѣ быть-то? замужемъ я... сударынька!
— Ну, и что же такое!.. И я замужемъ... Дѣтей нѣтъ.
— Ваше дѣло иное, сударынька...
— Отчего дѣло иное? Пустяки!
— Какъ пустяки, болѣзпая: вы живете въ такихъ-то широкихъ хоромахъ... Накось какое мѣсто... займаете... просторъ вамъ... разойдетесь и не сустрѣтитесь; а у насъ избы тѣсныя, все мы вмѣстяхъ да вмѣстяхъ...
— Ну, п не надо!
— Да не на іо, а приключается.
Тутъ сразу и баба, и дама остановились, и тетя расхохоталась, а Гильдегарда сконфузилась. Тогда и «бывшая» Д* что-то поняла и, осмотрѣвъ бабу въ лорнетъ, проговорила:
— Йаѵез-ѵоиз: еііе еЛ шащге, шаіз...
Дама вдругъ вздрогнула, нѣсколько разъ перекрестиіась п прошептала:
— Веііге-іоі, 8а1ап!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Прощаясь съ тртей, дама еще выкинула претрогате.іьную штуку, которая была бы въ состояніи очень сконфузить тетю, если бы та не была находчива.
Когда тетя простилась и съ этою дамою, и со всѣми нами, и перецѣловала всѣхъ окружавшихъ ее дворовыхъ женщинъ и горничныхъ дѣвушекъ, и уже занесла ногу на спускную ступеньку коляски,— «бывшая» Д;: ринулась къ ней, какъ дитя къ страстно-любимой нянькѣ, и закричала:
— Аітёіег! Аггёіех!
— Что вамъ угодно, ргіпсѵзье?
— Вотъ именно... вотъ и объ этомъ... Если можно... я могу буду вамъ это отдать?
Она держала вынутый изъ кармана капота конвертъ.
— Чтб это такое?
— Мой Дезіашепѣ... я всѣхъ на волю.
— Ахъ, это надо послать въ опекунскій совѣтъ!
— Да, вотъ, ужъ это именно вы... Я боюсь сдѣлать именно такъ, какъ не надо.
Тетя взяла конвертъ.
— II еще... мнѣ скажите.— проговорила и запнулась Д*:— что я могу буду или нѣтъ къ вамъ написать?
— Пожалуйста!
— II вы мнѣ будетъ писать отвѣтъ?
— Непремѣнно!
— Тогда... еще одно... Я могу буду васъ попросить...
- - Все, что угодно.
— Не пишите мнѣ ргіпсеззе. а... напишите мнѣ...
— Просто ваше имя?
— Нѣтъ!., наппшпте мнѣ просто: ты!
ТртѢ, вѣроятно, показалось, что она ослышалась, и она нрдоумѣло и тихо спросила:
— Что?
А та еи робко и краснѣя прошептала: — ты»! я хочу: «ты^>!
Тогда тетя вдругъ вся вспыхнула, нагнулась къ ней, п-цѣловала ее и сказала ей твердо и громко:
— Хорошо: я тебѣ напишу «ты» и буду о тебѣ думать Съ любовью, которой «ты стоишь.
Тутъ и произошло для финала нѣчто смутившее тетю, потому что бывшая ея соперница и «бывшая» Д вдругъ сжала въ своихъ рукахъ п поцѣловала ея руку!..
Но тетя Полли, я говорю, была находчива: она успѣла взять обѣ ея руки и обѣ ихъ поцѣловала, п сказала:
— Будь счастлива—п прощай, а то я, пожалуй, при всѣхъ разревусь здѣсь, какъ дура!
Подозрѣвали тогда, что въ мозгу Д въ это время была уже такая путаница. что она не узнавала въ тегѣ Полли лицо, нѣкогда ее сильно уязвившее; но это была неправда. Компаньонка этой дамы разсказывала, что, сдѣлавъ знакомство съ тетею. Д постоянно ею бредила и искала случая говорить о ней, и всякій разговоръ заключала словами:
— Что жъ... ее вѣдь не любить нельзя... Я ею понимаю... Нельзя!.
А когда Д вскорѣ послѣ этого умерла, то въ мелкихъ вещахъ, завѣщанныхъ ею разнымъ лицамъ, нашли конвертикъ, ею самою надписанныя на имя тети По.ъ ш. Онъ былъ
тщательно-претщательно обвязанъ шелковымъ шнурочкомъ и припечатанъ два раза, и въ немъ оказался миніатюрный портретъ «робковатаго» стрѣлка львовъ, за котораго онѣ когда-то взаимно ненавидѣли другъ друга, и потомъ, вѣроятно, обѣ почувствовали, что ненавидѣть другъ др}га ни за что на сьЬтѣ—не стоитъ!
Чувствительные люди, которымъ сдѣлалось извѣстно объ этомъ подаркѣ, были этимъ очень тронуты, и поняли дѣло такъ, что миніатюра подарена тетѣ Полли, безъ сомнѣнія, съ тѣмъ, чтобы она перешла княжнѣ Ралѣ, которая приходилась слишкомъ сродни тому, чьи черты передавала миніатюра; но тетя какъ-то всю эту тонкость проманкировала и о миніатюрѣ не осталось ни памяти, ни слѣда.
Эта Титанія, очевидно, уже не придавала никакого значенія миніатюрамъ прошлыхъ увлеченіи, которыя померкли въ лучахъ озарившаго ее великаго Соінца Любви, свѣтящаго въ ВѢЧНОСТЬ-
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Голодный годъ прошелъ: злаки взошли, и люди, п животныя стали сыты. Хлѣбъ созрѣлъ необыкновенно рано. Въ половинѣ іюня мужики уже парили въ горшкахъ рожь и ѣли ее немолотую, а къ Петрову дню пекли «новый хлѣбъ».
Петровъ день—это былъ «нашъ престолъ» и «нашъ праздникъ». Духовенство обходило съ образами приходъ, пѣло молебны и собирало «новину». На улицѣ опять «шла гульба», было «сыто и пьяно»; высоко «подмахивали качели», и молодые люди, стѣной наступая дрдгъ на друга, пѣли. «А мы просо сѣяли!» А другіе отвѣчали: «А мы просо вытопчемъ. Ой, дпдъ Ладо, вытопчемъ!» А за ручьемъ на косогорѣ, тдѣ былъ кабакъ, разливаю: «Наваримте, братцы, пива МОЛОДОГО»... •
Пошла (/пять знакомая струя, но эти звуки, долетавшіе въ нашу дѣтскую, мнѣ уже не были милы. Я уже разсуждалъ, чтб это за «дидъ», что за «Ладо»? Зачѣмъ одни хотятъ вытоптать» то, что «посѣяли» д]>угіе? Я былъ тронутъ съ стараго мѣста... Я ощущалъ голодъ ума и мнѣ были милы тѣ звуки, которые я слышалъ, когда тетя и Гпльдегарда пѣли, глядя на звЬздное небо, давшее имъ «зрѣніе», при которомъ можно все простить и все въ себѣ и въ другихъ успокоить.
О „КВАК ЕРЕЯХЪ“.
(Ро5Г-5сгіріит къ «Ютолті».)
Ш>ПІіу 80Й ЦПІ шаі у рвП8С->.
Мои ретроспективные разсказы, напечатанные подъ заглавіемъ «Юдо.іы>, вызвали у нѣкоторыхъ лицъ недоумѣнія: нѣкоторымъ изъ читателей показалось странно, откуда взялась квакерша въ русскомъ домѣ 31) — 40-хъ годовъ?! Этимъ читателямъ помнится, что тогда въ дворянскую жизнь скорѣе врѣзывалось романтическое вѣяніе римскаго католичества, къ которому покровительственно относились оберъ-прокуроръ синода кп. Голицынъ и другія вліятельныя особы тогдашней поры, но что тогда, будто бы, отнюдь неизвѣстно было «суровое — квакерское, религіозное резонерство». А потому упомянутымъ читателямъ думается, что эпизодъ съ выведенной у меня квакершей Гпльдегардой какъ будто бы не подходитъ къ тому времени и отдаетъ свѣтомъ питій, позднѣйшей поры, наступившей послѣ появленія въ русскомъ обществѣ англичанина, лорда Редстока. При чемъ мнѣ дѣлаютъ указанія на сочиненія протоіерея Михаилу Як. Морошкина и гр. Дм. Андр. Толстого о іезуитахъ, а также и на то, что пивали о Редстокѣ кн. Мещерскій и другіе, «невоспитанные ему». Нѣкто же, болѣе прочихъ увѣренный въ основательности своихъ свѣдѣній по исторіи «постороннихъ религіозныхъ вліяній», утверж таетъ, будто «квакеровъ даже и не вищли въ Россіи до нынѣшняго (1892) года, когда они прибыли сюда
Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. ХХХШ. 7
йодъ именемъ Друзей и привезли въ Россію денежную помощь для голодныхъ».
Такія замѣчанія очень многозначительны для писателя, и на всѣ эти, съ разныхъ сторонъ доходящія до меня замѣчанія я считаю необходимостью дать читателямъ моихъ воспоминаніи объясненіе.
Вначалѣ скажу, что я, конечно, читалъ и знаю, что писали о католичествѣ въ Россіи протоіерей Морошкинъ и графъ Дм. Толстой, а о Редстокѣ есть книга, написанная мною самимъ, и за свѣдѣніями объ этомъ англичанинѣ мнѣ нѣтъ никакой надобности обращаться къ сочиненіямъ кн. Мещерскаго,—а затѣмъ перехожу къ объясненіямъ но самому существу выраженныхъ «недоумѣній».
Совершенію справедливо и въ историческихъ изысканіяхъ послѣдняго времени съ достовѣрностыо доказано, что въ тридцатыхъ годахъ среди русской знати имѣло значительный успѣхъ стороннее вліяніе римскаго католичества, а не протестантство, но это отнюдь не доказываетъ, что тогда совсѣмъ не имѣли участія въ русской жизни и другія религіозныя вѣянія, исходившія отъ людей, извѣстныхъ подъ общимъ наименованіемъ «піетистовъ» (отъ ріеѣаз—благочестіе), въ числѣ которыхъ были и квакеры.
Такъ какъ въ «Юдоли» я сообщаю воспоминанія, касающіяся только моего родственнаго круга, то для оправданія себя лично я почелъ бы достаточнымъ сказать, что по отношенію къ протестантамъ мы въ своемъ родственномъ кругу были въ особливыхъ, сближающихъ условіяхъ, такъ какъ одна изъ моихъ тетокъ была замужемъ за англичаниномъ, и всѣ мы (тогдашняя молодежь) выросли въ уваженіи къ вѣрованіямъ и благочестію родственнаго намъ англійскаго семейства, въ которомъ наши старшіе нерѣдко ставили намъ, молодымъ, на видъ образцы дѣятельной христіанской жизни, послужившіе намъ во многомъ примѣрами. Мнѣ кажется, одной этой ссылки было бы довольно, чтобы читателю стало ясно, какъ въ семью нашу проникалъ немножко духъ англійской религіозности, и почему живая душа тети Полли послѣ своихъ хромыхъ движеній туда и сюда— на оба колѣна — нашла облегченіе и попутный ходъ къ свѣту въ содружествѣ такой женщины, какъ описанная мною молодая и очень красивая квакерша Гильдегарда Ва-
спльевна, кодирую тетя Полли встрѣтила случайно, быстро ее поняла п оцѣнила, а потомъ страстно кь ней привязалась и часто называла ее своею «крестною матерью», хотя безъ всякаго сомнѣнія Гпльдегарда надъ моею тетушкою воднаго крещенія н<* повторяла.
Московскіе старожилы. которымъ сколько-нибудь памятно англійское населеніе Шкотовскаго дома» въ Леонтьевскомъ переулкѣ, конечно знаютъ, что тамъ, въ этомъ старомъ домѣ, пока онъ принадлежалъ г-ёкѣ Шкотъ (мачихЬ мужа моей тетки). всегда былъ выборъ англичаН'-къ. занимавшихъ мѣста воспитательницъ. II это всегда были особы нравственныя, иногда очень образованныя и всегда строго религіозныя.
Отсюда онѣ разъѣзжались «на мѣста» по Россіи, и п<» преимуществу въ тѣ пберніи, гдѣ четыре сына «стараго Шкота» (Якова Яковлевича) занимались д правленіемъ большими помѣщичьими имѣніями Нарышкиныхъ и Перовскихъ.
Сосѣди просили ихъ рекомендовать «англичанокъ» благонадежныхъ и получали какъ разъ такихъ, какихъ просили.
Изъ этпхъ воспитательницъ очень многія «приросли» къ своимъ воспитанницамъ и остались друзьями ихъ на всю жизнь. V между нимл бывали и методистки, и квдкеркп. Нп рекомендатели, ни наниматели въ этомъ никакой разницы не полагати ).
*) Теперь мнѣ приходитъ на память одинъ не важный, ію характерный случай. Дополняющій картину отношеніи родственниковъ моихъ къ квакерскимь женщинамъ. Изъ числа моихъ двоюродныхъ братьевъ '•динъ овдовѣлъ въ очень молодыхъ годахъ и у него осталось трое дѣтей, съ которыми онъ не зналъ какъ управиться, и очень тосковалъ по своей прекрасной скончавшейся женѣ. Тетка наша, бывшая за англичаниномъ. очень сожалѣла этого своего племянника, но раздѣляла его опасенія, что жениться во второй разъ очень рискованно, ибо первобрачнымъ дѣтямъ при мачихѣ будетъ х\до. (Дни перебирали на совѣтѣ множество извѣстныхъ имъ дѣвушекъ и все находили, что (.ненадежно и 'страшно»: жена можетъ выпги изрядная, а для того, чтобы вышла добрая мачмха,—ни однгі этому не отвѣчала. Тогда тетка и сказала племянниі у: «Ра, вѣ вотъ что: если ты дѣйствительно чесі ный человѣкъ и хочешь жс-ниться для счастья семьи, а не для одной своей хгѣхп, то поѣзжай въ Англію, найди тамъ себѣ расположеніе въ квакерской семьѣ и женись на квакершъ. Онѣ умѣютъ приводить миръ въ домъ . Родственникъ нашъ такъ и сдѣлалъ.—онъ уѣхалъ въ Шотландію на цѣлый годъ и возвратился оттуда съ молодою женою, которая въ первый же день своего пріѣзда въ домъ мужа собственноручно вымыла ЬаЪу*оар*ѵмъ ущи его дѣтямъ и повела ихъ такъ, что ничьи глупыя наученія не по-
Т
Слѣдовательно, квакеркѣ придти въ орловское дворянское селеиство тогда было очень просто, и она для этого не имѣла надобности прибѣгать пи къ какимъ хитростямъ. На этомъ, я думаю, можно бы и кончить, ибо ясно, что въ нашъ родственный кругъ было откуда придти квакершѣ; но такимъ образомъ выяснился бы только частный случай, касающійся нашего родства; да и ьъ томъ читатель долженъ бы былъ принимать мои слова на-вѣру, чего я не желаю. А я хочу и долженъ основательно удостовѣрить читателя, что квакеры впервые появились въ Россіи не въ 1892 году, «съ пособіемъ», а что они были здѣсь гораздо ранѣе, не только «до Гедстока», но даже и до нашего рожденія,—и что присутствіе ихъ (мужчинъ п женщинъ, и даже особенно женщинъ) у насъ тогда уже очень чувствовалось и даже вызывало правительственныя мѣры. Къ этому теперь и прошу вниманія.
Я не знаю, по какому случаю въ Сибирь были сосланы изъ Россіи «послѣдователи квакерской ереси квакеры и квакереи» (§іс), но въ числѣ нѣсколькихъ бумагъ о «сибирской старинѣ , подаренныхь мнѣ покойнымъ сибирскимъ уроженцемъ, извѣстнымъ золотопромышленникомъ и русскимъ генералъ-маіоромъ Веніаминомъ Ивановичемъ Асташевымъ, есть обстоятельная записка именно «о квакереяхъ» (т.-е. женщинахъ), и въ этой интересной записк ѣ, составленной со ссылками на года н на ліща. значится слѣдующее:
мѣшали ей овладѣть ихъ почтеніемъ и любовью. А когда это такъ пошло, то другой братъ этого родственника, холостой, тоже пожелалъ жениться на англичанкѣ и притомъ па такой, которую ему посовѣтуетъ взять свояченица. Та это обдумала и исполнила: она дала ему письмо въ свою родную семью, гдѣ онъ нашелъ себѣ суженую въ младшей сестрѣ жены своего брата, и по избѣгъ этой судьбы: онъ женился на ней и остался навсегда въ Англіи, въ семьѣ престарѣлаго тестя своего, а свое имѣніе въ Россіи передалъ брату и съ нимъ разсчитался. Не возвращался онъ въ Россію, какъ говорили, потому, что здѣсь бракъ двухъ братьевъ съ двумя сестрами могъ быть признанъ незаконнымъ, а также п потому, что очень полюбилъ семейство жены и не хотѣлъ огорчать ее разлукою съ ея отцомъ. Итакъ, этотъ нашъ чистосердечный родственникъ съ очень милою, поэтическою натурою навсегда отчуж-дилея отъ родины и мы его совсѣмъ потеряли изъ вида, но слыхали, что онъ пользовался въ общинѣ прекрасною репутаціею и видѣлъ на себѣ и на семьѣ своей «благословеніе Божіе», — что по ихъ манерѣ выражаться замѣняетъ понятіе, усвояемое словомъ: онъ «былъ счастливъ».
ГКыікереялні въ преданіяхъ томскихъ старожиловъ называются носліъдовательничьі квакерской ереси, сосланныя въ томскій дѣвпчь-монастырь. въ послушаніе и тяжкія монастырскія работы. Колодницы эти, числомъ двадцать двѣ, имѣли большое вліяніе на религіозныя понятія токнпини.гъ томскихъ обывателей. Сс\ жденныя за богомерзк) ю ересь, эти женщины прибыли въ томскій дѣвлчь-монастырь въ 1*744 году и оставались въ немъ даже и тогда, копа самый монастырѣ быль уже упраздненъ и церковь его обращена въ приходскую. О нихъ въ памяти томскихъ старожиловъ сохраняется много разнообразныхъ преданій». Преданія эти довольно обширны и излагать пхъ вь подробностяхъ для нашей цѣли нѣгъ надобности, но изъ в^ѣхъ изъ нихъ вытекаетъ прямой выводъ, что въ Сибири о «квакереяхъ» знали и сначала судили о нихъ различно. —кто хорошо, а кто худо: одни почитали «квакерой» за добрыхъ, благочестивыхъ женщинъ и относились къ нимъ съ большимъ уваженіемъ. а другіе видѣли въ нихъ вредныхъ «еретицъ и пренебрегали ими. Эди послѣдніе обходились съ квакереями недружелюбно и желали вызывать противъ нпхъ обшее недовѣріе и строгости. Авторъ Асташевской записки (духовное лицо одной изъ сибирскихъ епархій), на основаніи извѣстныхъ ему соображеній, предполагаетъ, что не всѣ .2 томскія колодницы содержали квакерскую ересь, и что между ними были и друіія сектантки: но во мнѣніи томскихъ обывателей всѣ онѣ неправильно почитались подъ одну стать «квакереями-. Изъ нихъ, по разсказу этого очень обстоятельно освѣдомленнаго автора, особенно извѣстна была нѣкая «.лштсрая Наиежа Григорьевна*. По описанію, это была очень дородная женщина «огромнаго роста., которая прославилась «благочестивою жизнью», и томскіе любители благочестія ходили і»ь ной молиться и «еоьѣговаться въ семейныхъ дѣлахъ, а .особенно въ горестяхъ:: а по сосѣдству съ матерою Надёжею Григорьевною жиль ея братъ «и другія квакереи*. прожившія въ Томскѣ болѣе пятидесяти лѣтъ и оставившія по себѣ воспитанниковъ, подобныхъ по духу самой Надёжѣ Григорьевнѣ- р Но въ чемъ
*) О братѣ Надежи Григорьевны нѣтъ объясненія: былъ ли и онъ тоже квакеръ, п были ли съ нимъ сосланы тоже другія липа мужескаго пола, пли онъ одинъ попалъ сюда при сестрѣ и другихъ ква-керояхъ.
именно и какъ выражался духъ «матерой квакереи Надёжи Григорьевны*—авторъ записки не разъясняетъ, но зато въ запискѣ встрѣчается отдѣльное упоминаніе о другой ква-кереѣ. по имени Маріи Матасовой, при которой значится, что ей ставили въ вину. Пзъ отмѣтки о Матвеевой видно, что въ 1826 году священникъ томскаго Благовѣщенскаго собора, Никифоръ Болыпанинъ. сдѣлалъ въ томское духовное правленіе «доносъ», въ которомъ притомъ прописалъ и общую характеристику дѣятельности « квакереи» (Указъ тобольской консисторіи 1826 г., за № 3067). Пзъ доноса видно, что названный сибирскій духовный, надо полагать, имѣлъ что-то непріязненное противъ священника того монастыря, въ которомъ были заключены квакереи, и сочинилъ доносъ такъ, что значительная тягость помѣщенныхъ въ немъ обвиненій падала на монастырское духовенство. Соборный священникъ Болыпанинъ писалъ, что «хитрыя квакереи учили своихъ почитателей строго соблюдать всѣ внѣшніе обряды православія, казаться наружно православными и задабривать, сколько возможно, приходскихъ священниковъ, чтобы онп нр имѣли на нихъ никакого подозрѣнія. Эти наставленія онѣ прежде всего исполняли сами, и въ глазахъ своихъ монастырскихъ священниковъ въ теченіе сорока лѣтъ казались строю православными, такъ что эти священники, обязанные ежегодно доносить объ ихъ поведеніи, постоянно отзывались, что присланныя квакерской ереси растрши-Оѣвки житіемъ пребываютъ исправно и вѣру христіанскую содержатъ во всемъ, какъ христіанская должность повелѣваетъ: до церкви святой для слушанія славословія Божія всегда ходятъ нелѣностно, у исповѣди и св. причастія бываютъ, иныя по дважды, а другія по вся посты неотмѣнно, и прежтяю за ними злодѣйства нынѣ не оказывается» («Репорты священника Шихова 1760 г. и Дулѣиова 1775 г.»).
Пзъ вышесказаннаго ясно видно, что священники, которые должны были умѣть различать духъ ересей, разумѣли «присланныхъ» за послѣдовательницъ «квакерской ереси* и исправляли пхъ отъ «прежняго злодѣйства», которое, безъ сомнѣнія, заключалось въ квакерскомъ понятіи объ обрядахъ, о власти и о прочемъ, что отличаетъ религіозныя мнѣнія этихъ людей, ставящихъ выше всего личное духовное возрожденіе.
Такимъ образомъ записка, сохранившаяся въ бумагахъ извѣстнаго сибиряка, генерала. Асташева, даетъ несомнѣнное удостовѣреніе, что «квакереп» у насъ дѣйствительно были. а далѣе,—эта же записка представляетъ п любопытныя свѣдѣнія о томъ, какъ эти квакереи дожили вѣкъ свой въ Томскѣ.
Настоятель томскаго мужского монастыря, архимандритъ Лаврентій, въ промеморіи», поданной имъ посѣтившему Сибирь исторіографу Миллеру, объяснилъ, что въ дѣвичьемъ монастырѣ, въ которомъ жили присланныя двадцать двѣ дѣвкп-ьвакерсп. «положеніе бѣдственное: церковь одна, деревянная и весьма ветхая, та такова-жъ и ограда, колій шесть—вси ветхія: вкладчиковъ, служителей и крестьянъ нѣтъ и земель и угодій не имѣется А послі; архимандрита Лаврентія самъ причтъ монастыря, гдѣ томились квакереп. жаловался митрополиту Сильвестру, что у нихъ церковь уже «въ развалинахъ д «въ монастырѣ монахинь нйтъ. а ссыльныя растрпги бѣвкн-квиксрен .живутъ на мірскомъ нодаятн» :).
*) Хотя и пѣтъ никакой причины сомнѣваться въ справедливости объясненіи, поданныхъ причтомъ митрополиту о томъ, что «квакереи живутъ мірскимъ подаяніемъ», но есть, однако, данныя, по которымъ можно предполагать, что п въ старости своей «квакереи» искали средствъ жить трудами рукъ своихъ и дѣлали что могли и что умѣли. Въ числѣ тѣхъ же самыхъ бумагъ, подаренныхъ мнѣ покойнымъ генераломъ Асташевымъ, есть разрозненные листки приходныхъ и расходныхъ тетрадей, пзъ которыхъ видно, что старушки жили какъ-будто общиною.—сообща покупали ппсчую бумагу, свѣчи, чернила и краски и «писали заказы», т.-е. занимались списываніемъ книгъ. за что получали плату и вносили ее общею статьею на приходѣ. Такъ же общимъ расходомъ показываны издержки на крупу, соль, масло, холстину и проч. обиходныя вещп. Есть у меня и три листка ихъ письменныхъ работъ, совершенно схожихъ съ такими же работами инокинь старовѣрческихъ скитовъ. Письмо мелкимъ и очень красивымъ полууставомъ, и очень кра. игыя заставицы съ пестрою орнаментовкою, раздѣланной лазоремъ, киноварью и золотомъ, и въ коймахъ цвѣты, птпцы и травы со тщаніемъ. На одномъ листкѣ поздравительное письмо къ благодѣтельницѣ, на другомъ—отрывокъ какого-то «утѣшенія», а третій—самаго изящнаго письма и тонкаго, красиваго рисунка съ золотомъ — «Стишокъ» или «пѣснь».—весьма мигая и особенно трогательная по положенію трудившихся надъ ея воспропзведеніемъ. Это «пѣснь къ Оршѣ*. начинающаяся словами:
Авторъ записки, дошедшей до насъ черезъ руки генерала Асташева, доискивался и гого, кто были эти томскія квакереп, и пршпелі къ убѣжденію, что «это былираскольницы, приставиѵя къ немногимъ подлиннымъ русскимъ ква-керамъ*.
Слѣдовательно, квакеры и «квакерей» были извѣстны отцамъ нашимъ.
Любопытная судьба сосланныхъ въ Сибирь квакерей. по запискѣ, дошедшей отъ генерала Асташева, кончилась тѣмъ, что двадцать изъ нихъ перемерли до 1784 года, но двЕ—Марія Дмитріевна и Анна Васильевна — жили очень долго, и когда монастырь развалится, онѣ сдѣлались предметомъ немалыхъ заботъ для начальства. Явился вопросъ о томъ, куда ихъ пристроить. «По закрытіи томскаго монастыря», который совсѣмъ обѣднялъ и разрушился, уіо того, что жить въ немъ стало невозможно, — квакерей Марью Дмитрову и Анну Васильеву «слѣдовало перенесть въ енисейскій монастырь». Почему опять это гакъ «слѣдовало»— изъ записки не видно, но видно, что тутъ вздумали посмотрѣть на этихъ двухъ остальныхъ квакерей: каковы онѣ были въ это время, и тутъ увидали, что время пхъ не пощадило, и что онѣ уже такъ слабы и встхп, что пхъ совсѣмъ -нельзя переводить", и «того ра цг» ихъ тогда рѣшились подвести подъ манифестъ «къ освобожденію изъ содержанія ». Объ этомъ началась новая переписка и «продолжалась годъ», а въ апрѣлѣ 1781 года послѣдовало распоряженіе: «такъ какъ колодницы-кв.ікереи Марія Дмитрова и Анна Васильева находятся въ Сибири чрезъ 39 лѣтъ, п весьма престарѣлыя, и черезъ такіе многіе годы отъ нихъ противности церкви святой не оказывается, то по старости ихъ, не переводя изъ онаго мѣста по отдаленности въ содержаніе, въ енисейскій штатный дѣьичь
«Душа моя—странница, Не здѣшняго міра ты. Къ чему прилѣпляешься И чѣмъ очаруешься? Ты птичка залетная. Пурхая (чс) по радостямъ, Пришла въ дебри страшныя, Невѣдѣнья дикаго..
монастырь, оставить по смерть пхъ при той же въ городѣ Томскѣ церкви (гдѣ былъ монастырь), при коей онЬ нынѣ находятся на мірскомъ подаяніи, подъ смоіпргьніемъ духовною правленія, и при гадскаго священника, и нгамошняю городничаго, а впередъ ихъ въ числѣ колодниковъ уже не показывать .
О смерти этихъ дв^хъ послѣднихъ изъ «квакереи» въ запискѣ, дошедшей ко мнѣ отъ генерала Асташева, ничего не сказано, но надо думать, что старушки-квакереи и въ послѣдніе своп дни на землѣ никакихъ «противностей и «злодѣйствъ» не оказали и ничѣмъ не испортили той доброй репутаціи, послѣдствіем ь которой было распоряженіе не посылать пхъ въ Енисейскъ, а оставить умереть тамъ, гдѣ онь прожили 40 лѣтъ. не причина никакого вреда никакимъ ЛВіДЯМЬ.
Такого же духа была и ^сердечный другъ' тети Полли— англичанка Гпльдегарда.
Да будетъ легка какъ пухъ надъ ихъ костЫмі земля русская и.—* Нонну яаіі дні гнаі у реняе».
Лѣто ІЬУ2 г.
ДІерекюль.
ПУСТОПЛЯСЫ.
СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.
На одномъ дорожномъ ночлегѣ по старому тракту сбилось такъ много людей, что всѣ мѣста въ просторной избѣ были заняты. Случились тутъ люди и конные, и пѣшіе, и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочіе, которые ходили дорогу чистить. На дворѣ было студено и всѣ, съ надворья входя, лѣзли погрѣться у припечка, а потомъ раскладывались, гдѣ кто мѣсто засталъ, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такія дѣла, какъ неурожай да подати, а потомъ дошли и до «судьбы божества». Стали говорить — отчего это Богъ Іосифу за семь лѣтъ открылъ, что въ Египтѣ «неурожай сойдетъ», а вотъ теперь такъ не дѣлаетъ: теперь живутъ люди и бѣды надъ собою не ожидаютъ, а она тутъ и вотъ она! И начали говорить объ этомъ всякій по-своему, но только одинъ кто-то съ печки откликнулся и сразу всѣхъ занялъ; онъ такъ сказалъ:
— А вы думаете, что если бы намъ было явлено, когда бѣда придетъ, такъ развѣ бы мы отвели бѣду?
— А разумѣется.
— Ну, напрасно! Мало, что ли, у всѣхъ въ виду сэмаго яснаго, чею отвести надо, а однако не отводимъ.
— А что, напримѣръ?
— Да вотъ, напримѣръ, чего еще яснѣй того, что бѣдныхъ и несчастныхъ людей есть великое множество, и что пока ихъ такъ много, до тѣхъ поръ никому спокойно жить нельзя; а вѣдь вотъ про это никто и не думаетъ.
— Вотъ то-то и есть! А если бъ предвѣщеніе объ этомъ было—небось бы поправились.
А тотъ съ печи отвѣчаетъ:
— Ничего бъ не поправились: не въ предвѣщеніи дѣло, а въ хорошемъ разумѣ. А разума-то и не слушаютъ; ну. а какъ предвѣщенія придутъ, такъ они не обрадуютъ.
Ею н стали просить разсказать про какой-нибуть такой примѣръ предвѣщенія. и онъ началъ сразу сказывать.
— Я вѣдь уже старикъ, мнѣ седьмой десятокъ идетъ. Первый большой голодъ я помню за шесть лѣтъ передъ тѣмъ, какъ нашп на венгра шли, и вышла тогда у насъ въ селѣ удивительность.
Тутъ его перебили излишнимъ вопросомъ: откуда онъ?
Разсказчикъ быстро, но нехотя оторвалъ:
— Изъ села Пустоплясова. Знаешь, что-ль?
— II не слышали.
— Ну, такъ услышишь, что у н.къ въ Пустоплясахъ случилось-то: смотри, чтобы и у васъ въ своемъ селѣ чего-нибудь на такой манеръ не состроилось. А теперь помолчите, пока я докончу вамъ: моя сказка не длинная.
Стало въ томъ у насъ удивительно, что вокругъ насъ у всѣхъ хлѣба совсѣмъ не родило, а у насъ поле какъ-то такъ островкомъ вышло заданное,—у рожай Богъ далъ средственный. Люди плачутъ, а мы Бога благодаримъ, — говоримъ: слава тебѣ, Господи! А что намъ отъ сосѣдей тѣснота придетъ, о тойъ понимать не хочемъ. А сосѣди намъ всѣ завидуютъ; такъ п говорятъ про насъ: < Божьи любимчики: мы у Господа въ наказаніи, а вы въ милости». «II какпмъ-де вы святителямъ молились и которымъ чудо-творцамъ обьщались?» А наши ужъ и чванятся, что въ самомъ дѣлѣ они въ Любови у Господа: убираемъ, жнемъ, копны домой возимъ и снопы на овины сажаемь да на токахъ молотимъ... Такая трескотня идетъ, что лтоба-два! II сейчасъ послѣ этого сряду пошло баловство: накололи убоины, свезли попамъ новины, наварили бражки, а потомъ мужики норовятъ винца попить, а бабы съ утра за-тьваютъ: <аль натнрушковъ натирить! аль лепешечекъ спечь!» II ѣдимъ да пьемь во вредъ себѣ больше, чѣмъ надобно. По другимъ деревнямъ вокругъ мякиною и жмыхомъ давятся, а мы въ утѣху себѣ говоримъ: вѣдь мы не
причинны въ томъ, что у другихъ голодно. Мы вѣдь имъ вреда на поляхъ не дѣлали и даже вмѣстѣ съ ними по веснѣ на іюляхъ молптвова ди, а водъ нашу молитву Господь услыхалъ и намъ урожай сослалъ, а имъ не пожаловалъ. Все въ Его волѣ: Господь праведенъ: а мы своихъ сосѣдовъ не покидаемъ и передъ ними не горжаемся: мы имъ помогаемъ кусочками. А сосѣди-то къ намъ и взаправду повадились кажиденъ да и безперечь, и все идутъ да идутъ и что дальше, то больше, и стали они намъ очень надокучпсты. Такъ пришло, что не .токмо не кажись на улицѣ, а и въ избѣ-іо стало посидѣть нельзя, потому что слышно, какъ все тянутъ голодные свою скорбпнкѵ «Б-о-ж-ь-п л-ю-б-п-м-ч-и-к-и! сотворите святую милостыньку Христа ради!» Ну, разъ дашь, и два дашь, а потомъ ужъ дальше постучишь въ окно да скажешь: «Богъ подастъ, милые! Не прогнѣвайся!» Что же дѣлать-то! Хорошо, что мы «Божьи любимчики», а имъ хоть и пять ковригъ изрѣжь ихъ все равно не накормишь всѣхъ! А когда отошлешь его отъ окошка, другая бѣда: самому стыдно дѣлается себѣ, хлѣбъ рѣзать... То-есть ясно, какъ не надо яснѣе, Господь тебЬ въ сердце кладетъ, что надо не отсылать, а надо иначе сдѣлать, а пока чего должно не сдѣлаешь — нельзя и надѣяться жить во спокойствіи.
II надо бы, кажет< я, это понять, а вотъ, однако, нр поняли: тогда и провозвѣстникъ пришелъ,—его прогнали.
Тутъ по избѣ шепоткомъ пронеслось:
— Слушайте, братцы, слушайте!
Запечный гость продолжалъ:
— Такъ доняли насъ голодные сосѣди, что намъ совсѣмъ стало жить нельзя, а какъ помочь бѣдѣ—не вѣдаемъ. А у насъ лѣсникъ быль Ѳедосъ Ивановъ, большой грамотникъ и умѣлъ хорошо всѣ дѣта разбирать. Онъ и сталъ говорить:
— А вѣдь это не хорошо, братцы, что мы живс чъ какъ безчувственные! Что ни суди, а живемъ мы всѣ при жестокости: бѣдственнымъ людямъ норовимъ корочку бросить,—нетто это добродѣтель есть? — а сами для себя все вѣдь съ затѣями: то лепешечекъ намъ, то натйрушковъ. Ахъ. не такъ-то совсѣмъ бы надо по-Божьи жить! Ахъ, по-Божьи-то надо бы намъ жить теперь въ строгости, чтобы сабѣ какъ м<-жно меньше известь, а больше дать бѣдегвен-
нымъ. Тогда, можртъ-оыть, легкость бы въ душѣ освѣти-лася. а то прямо сказать — продыханья нѣтъ! Въ безраз-судкѣ-то омраченіе, а чі,ть станешь думать и въ свѣтъ себя приводить—такое предстанетъ терзательство, что не знаешь, гдѣ легче мучиться, и готовъ мелить: убей меня. Господи, отъ разу'
Ѳедосъ, говорю, начитавшись былъ и бралъ ото всего къ размышленію человѣчному. какъ, то-есть, чтб человѣку показано... въ обчествѣ... То-есть, какъ вотъ одинъ перстъ болитъ — и все тѣло неспокойно. Ни не нравилось это Ѳрдосово слово игрунамъ и забавникамъ во всемъ Пусто-п.іясовѣ. Онъ, бывало, говоритъ:
— Вы, почтенные старички, и вы. молодой народъ, на моп слова не сердитеся: мои слова—это не, самъ я выдумалъ, а отъ другого взялъ; сами думайте: эти люди, которые хотятъ веселиться, когда за порогомъ другіе люди бѣдствуютъ. оніі напрасно такъ думаютъ, бѵдто помѣхи нр дѣлаютъ,—они сѣютъ зависть и тѣмъ суть Богу противники. Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, а не праздновать—не вино пить да лепешкой закусывать.
Старики за это на Ѳедоса кривитися, а молодые ему стрекотали въ отвѣтъ:
— Чего ты тутъ, дядя Ѳедосъ, очень развякался! Что ты попъ, что ли, какой непострпженып.-' Намъ и попъ такихъ рѣчей нр уставлпвалъ. Если намъ Богъ милость сослалъ, что намъ есть что ѣсть, то отчего нямъ и не радоваться? IIьемъ-ѣдпчъ тоже вѣдь все въ славу Божію: съѣдимъ и запьемъ и отойдемъ—перекрестимся: с.іава-те, Господи! А тебѣ-то чтб надобно?
Ѳедосъ не сердился а только зналъ, чтб отвѣтить.
— Несмысленные! чтб тутъ за слава-* Никакой славы нѣтъ, что вы будете лепешки жевать до отвалу, когда люди кожурой давятся! А вы вотъ такую славу вознесите Христу, чтобы видѣли всѣ, что вы у Него въ послушаніи... Вѣдь Его же есть слово къ намъ: «шсть знаютъ всѣ. что вы Моп ученики, если имѣете любовь между собою!»
Но только ничего Ѳедосъ но успѣвать, и вей ему наотрѣзъ грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Мавруіка. - одна только она у него и осталась отъ всего поколѣнія, и онъ съ нею съ одною и жилъ въ избѣ, а была она съ нимъ несогласная: такая-то
была вертеница и Ѳедоса не сіушалась, и даже озорничала съ нимъ.
— Ты,—бывало, скажетъ,—очень ужъ старъ сталъ, такъ вотъ и пужаешь всѣхъ и нѣтъ совсѣмъ при тебѣ никакой веселости. Чего ты пристаешь ко всѣмъ: Богъ» да «Богъ»! Это мы и въ церкви слышали, и крести шсь, и кланялись, а теперь надо веселаго!
Онъ ей, бывало, скажетъ:—«Эй, не хорошо, Мавра! Бога надо постоянно видѣть передъ собою, на всѣхъ мѣстахъ ходящаго и къ тебѣ понятно глаголющаго, что тебѣ хорошо, а чего ненадобь».— А дѣвка на эти слова отъ себя зача-ститъ-зачастптъ и всякій разъ кончитъ тѣмъ, что:—«Ты простой мужикъ, а не попъ, и я не хочу тебя слушаться».
А онъ ей:
— Я простой мужикъ—я въ попы и не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только мое слово: оно вѣдь идетъ на добро и отъ жалости.
А внучка отвѣчаетъ:
— Ну, ладно: въ молодомъ-то вѣку не до жалости; въ молодомъ вѣку надо счастье попробовать.
А Ѳедосъ ей и сказалъ:
— Ну, чтб дѣлать — испробуешь, только вѣдь не насытишься.
Итакъ, гдѣ, бывало, съ дѣдомъ Ѳедосомь люди ни сойдутся -сейчасъ всѣ противъ него; а онъ все толкуетъ, что надо жить въ тихости, безъ шума и грохота, да только никакъ съ людьми не столкуется, и съ Мйвруткою къ празднику нелады у него но домашеству; пристаетъ она:
— Дай, дѣдко, мучицы просѣять, спечь лепешечекъ!
А онъ этого не хочетъ, говоритъ:
— Ѣшь рѣпютный хлѣбъ, отъ другихъ не отличай себя.
Мавра и злится:—«Насъ,—говоритъ,— Богъ отличилъ, а іы морыть хочешь!»
Ѳедосъ отвѣчаетъ:—«Эхъ, гіупая! еще невѣдомо, для чего вы отличены; можетъ-быть, и не для радости, а въ поученіе».
И когда разъ одинъ Мавруіка такъ на Ѳедоса разсердилась, такъ взяла да и сказала ему:
— Не дай Богъ съ тобой долго жить, хоть бы померъ ты.
Но Ѳедосъ и тутъ не разсердился.—«Что же такое!.. Ни
чего! Погоди, вотъ скоро похороните; можетъ-быть, потомъ поішнать станете».
А молодые-то и расхохотатися-
— Еще. молъ, чего! Тебя, стараго ворчѵна, вспоминать б' ддагь!
Да и старички-то. которыхъ звалъ онъ «почкенные», ни на его сторонѣ становилися. а тоже, бывало, говорятъ: — Что онъ презвышаетсч—лучше всѣхъ хочетъ быть во всемъ въ Пустоплясовѣ! Довольно знаемъ мы всѣ его: вмѣстѣ и волку съ нимъ пити, и съ бабами пѣсни играли -чего ве-ликатится!
Молодые это слышатъ и рады, и иной озорной подойдетъ къ ному и говоритъ:
— Дѣдъ Ѳедосъ!
— А что тако?
— А вонъ чтб про тебя старики-то сказываютъ!
— Да! Ну-ка, давай, послухаемъ.
— Говсрятъ... будто ты... Стыдно сказывать!
— Ну что?., ну что? Не тебѣ это стыдво-то!
— Когда молодой-то былъ...
— У, былъ пакостникъ!.. Школы намъ, орагцы. не было! Бойло было, а школы не было.
— Говорятъ, ты солдаткѣ въ половень гостинцы носилъ!
— Да и хуже того, братцы мои, дѣлывалъ. Слава Богу, многое уже позабылося... Видно, Богъ простиль, а вотъ... людямъ-то все еще помнится. Не живите, братцы, какъ я прожилъ, живите по-лучшему: чтобъ худого про вагъ людямъ вспоминать было нечего.
А мы, разъ оть раза больше все ошибаючпсь. попали, брагцы. передъ святками въ такое безстыжество, что мало намъ стало натйруховъ да лепешекъ, а захотѣли мы зависти забавы и игрища. Сговорилися мы, потапмя отъ своихъ стариковъ, нарядиться какъ можно чуднѣе, медвѣдями да чертями, а дѣвки — цыганками, и махнуть за рѣку на постоялый дворъ шутки шутить. А Ѳедосъ какъ-то у.налъ про это и пошелъ ворчать:
Ахъ, вы,—говоритъ,—безстыжіе! Это вы мимо голод-ныхъ-то, дразнить ихъ пойдете, что ли, съ пѣснями? Слушай. Мавра, нѣгъ тебѣ моего позволенія!
Мы всѣ ее у Ѳедоса отпрашиваемъ:
— Пусти, молъ, ее, Ѳедосъ Ивановичъ, что тебѣ ея вѣкъ томить!
А онъ отвѣчаетъ:
— Пошли вы, пустошни! Какое въ этомъ утомленіе, чтобы не пустить человѣка изъ себя дурака строить!
— Ну, да ты, молъ, ужъ всегда такой: ото всѣхъ все премудрости требуешь!
— Не премудрости,—говоритъ,—а требую, что Господь велитъ,—на ближнія разумѣнія: ближній въ скорбѣхъ, и ты не попрыгивай.
— Да развѣ ближнему-то хуже отъ этого?
— А разумѣется,—не вводи его въ искушеніе, а въ себѣ не погубляй доброту ума.
— Ну, вотъ, молъ, ты опягь все про вумственность! Это надокучило! Небось, когда молодъ былъ самъ, такъ не разсуживалъ, а игралъ, какъ и прочіе.
— Ну, и что же такое, — отвѣчаетъ дѣдъ Ѳедосъ. — Я вѣдь ужъ не разъ сознавался вамъ, что въ молодыхъ годахъ я много худого дѣлалъ, такъ неужели же и вамъ теперь долженъ тоже совѣтовать дѣлать худое, а не доброе! Эхъ, неразумные! Съ пьянымъ-то, чай, вѣдь надо говорить не тогда, когда онъ пьянъ, а когда выспится. Молодой я пьянъ былъ всякой хмелиною, а теперь, слава Богу, повы-спался. А если бы я былъ человѣкъ не грѣшный, а праведный, такъ я бы и говорилъ-то съ вами совсѣмъ на другой манеръ: я бы вамъ, можетъ, прямо сказалъ: Богъ это вамъ запрещаетъ, и можетъ за это придти на васъ наказаніе!
Тутъ за это слово всѣ на Ѳедоса поднялись.
— Нѣтъ, нѣтъ!—закричали.—Что ты, какъ воронъ, все каркаешь! Это все ты самъ повыдумывалъ! Веселье и въ церквахъ поминается. Давыдъ-царь и игралъ, и плясалъ, и на свадьбѣ-то мало ли вина было попито. Ты своего не уставляй,—это намъ не запретное. Если бы іюхотѣлъ Господь, чтобы поворотить народъ на другую путь, Онъ бы не тебя послалъ, а особаго посла-благовѣстнпка.
Ѳедосъ имъ желалъ внушить, что не намъ судить, какого посла куда посылаетъ Богъ, а что слово Господне—духовное и черезъ кого оно доходитъ, черезъ того все равно и засѣменяется: кто въ божьихъ смыслахъ говоритъ, того и
послушайся а нірсчныхь пословъ не жди. Нарочный-го. бываетъ, такъ придетъ, что и не поймешь его.
Ну, а все же хоть и всѣ съ дѣдомъ спорили, а въ открытость супротивъ его дѣлать стыдилися, потому что когда вспомянется намъ то, что старики про половень говорили, мы Ѳедора будто и не уважаемъ, а. йотомъ вздумаемъ, что онъ давно уже человѣкъ справедливый сталъ, а тѣ, «почвенные--то, все еще вокругъ половня ходятъ—намъ Ѳедоса и совѣстно. Грѣшникъ-то онъ, правда, что грѣшникъ былъ, да вѣдь онъ отстоялся ужъ и повернулъ себя на хорошее! Свое-то намъ справить хочется, а его все-таки стыдно. И стали мы съ своими намѣреньями крыться и сдѣлали сговоръ вечеромъ на рсжествснъ день собираться всѣ въ ригу и ждать другъ дружку въ углу, въ колосѣ, а потомъ идти всей гѵрьбой переряженнымъ къ дворнику. А мы знати, чго у дворника праздникъ какъ слѣдуетъ: быка залобанили, ірехь свиней зарѣзали и двѣ бочки браги наварено. Пойдемъ, молъ, налопаемся, а на обрати- мъ п\ ги -ѣвкп пусть себѣ гдѣ знаютъ хоронятся.
Такія зашли затѣи хорошія'
Пошли у насъ хлопоты: равныя мы одежи припасаемъ да прячемъ въ потайныхъ мѣстахъ. Боимся только, чтобы не подсмотрѣли за нами сосѣди н°пмущіе да наши похоронки не украли бы.
Мы имъ до сочельника все подавали кусочки, а подъ сочельникъ бабы и дѣвки сказали имъ:
— Слушайте, вы, неимущіе! вы чтобы завіра не смѣть приходить сюда, потому что мы завіра будемъ сами въ печкахъ мыгься и топорами лавки скресть. Завтра намъ не до васъ. Обходитесь какъ знаете.
Мавру гка захотѣла свои уборы вынесть въ ригу, когда дѣдъ Ѳедосъ въ лѣсь пойдетъ, и вотъ, когда все, что надо было, у себя въ избѣ отмыла и отскребла, да поглядѣла въ окно, а на улицѣ, видитъ.—мятель и сиверка, такъ что лышать трудно. Маврутка думаетъ: «дай скорѣе сомчу, а то дѣдъ вороти гея!'> и только-что отворила дверь, какъ сдушило ее сиверкой, а передъ самымь ея лицомъ на жерновомъ камнѣ у порожка нищенское дитя стоитъ, и какое-то будто особенное: обликъ нѣжный, а одежи на немъ только одна рваная евпточка и въ той на обоихъ плачахъ
Сочиненія Н. С. Лвсі.ова. Т. ХХХІІС ч
дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны да въ соломку завернуты и тутъ же приткнуты.
Маврутка на него осердилася.
— Чего тебѣ,—говоритъ,—тля чего въ такой день пришелъ! Ишь ты. нѣтъ на вась пропасти!
А диля стоитъ п на нее большими очами смотритъ.
Дѣвка говоритъ:— «Что же ты бѣльма выпучилъ! Прочь пошелъ!»
А онъ и еще стоитъ.
Маврутка его повернула и сунула:
— Пошелъ въ болото!
А сама побѣжала, и никакого ей безпокоя на душѣ не было, потому что вѣдь сказано всѣмъ имъ было, чтобы не ходить въ этотъ день—чего же таскается!
Прибѣжала Мавра въ ригу да прямо въ дальній уголъ и тамъ въ сухомъ колосѣ все свое убранье и закопала, а когда восклонплася, чтобы назадъ идти—вшитъ, что этоіъ лупоглазый ребенокъ въ воротахъ стпптъ.
Маврутка на него опалплася.
— Ты шелудивый.—говоритъ,—подслѣжаешь меня, чтобы скрасть мое доброе! Такъ я оіучѵ тебя’—Да и швырнула въ него тяжелый и 1шт, а цѣпъ-то такой былъ, что дитя убить сразу могъ, да Богъ далъ—она промахнулася, п съ того еще больше осердилась, и погналася за нимъ. А онъ не то за уголъ забѣжалъ, не то со страху въ какой-нибудь о винъ нырнулъ, только Мавра не нашла его и домой пошла, и поспѣшаетъ, чтобы придти прежде, чЬмъ дѣдъ Ѳедосъ воротится пзъ лѣсу, а на самоё на нее сталъ страхъ нападать, будто какъ какая-то бѣда впереди ея стоитъ или позади вельдъ за ней гонится.
II все чѣмъ она шибче бѣжитъ, тѣмъ сильнѣе въ ней д'хъ занимается, а тутъ еще видитъ, что у нихъ на зава-ленкѣ будто кто-то сидитъ...
Маврутка втругь стала смотрѣть: что это, неужели опять лупоглазый тамъ?..
Дѣвка-ровесница съ ве іромъ шла и спрашиваетъ:
— Что у тебя, нога, что ли, подвихнулася?
А Маврутка машетъ ей и гофритъ:—«Послушай-ка. что тебъ нашу избу видно?»
Та отвѣчаетъ:—«Видно».
— А чю ло такие тамъ у насъ подъ окномъ на за-валенкѣ?
— Это твой дѣдъ Ѳедосъ сидитъ...
— У тебя, можетъ-быть, курья слѣпота въ глазахъ?
— Чего еще! Ярко его вижу, вонъ онъ руки въ рукавицахъ на костыль положилъ, а нѣдромъ носитъ. Тяжело его удушье бь°тъ...
— А робенка лупоглазаго не видишь тамъ?
— Лупоглазое дитя-то нонѣ по всему селу ходило, а теперь его нЬтутп...
А Маврутка ей говоритъ, что она сейчасъ лупоглазое дитя видѣла п что онъ подсмотрѣлъ, гдѣ она свои уборъ ЗЭ.ІхОПЭ.Л<1.
— Теперь.—говоритъ,—то и думаю, что онъ, стылый, откопаетъ да и выкрадетъ..
— Пойди перепрячь скорѣй!
-— II то сбѣгаю!
А сама чуетъ, что теперь ужъ ей въ ригѣ было бы боязно.
II тутъ Мавра съ дѣдомъ опять не въ ладъ сдѣлала, такъ что онъ сказалъ еп:
— Ты, должно-быть. задумала что-нибѵдь на своемъ ио-<га вить. Смотри, бѣды бь не вышло!
Она отвѣчаетъ:—«Не удержишь мрня!»
— Чего силомъ держать... и не надобно... А тебѣ. слышь, чего же тамъ понравилось?... Назадъ-то пойдете, ребята чтобъ васъ не обидѣли.
— Закаркалъ, закарка іъ опять! Никого не боимся мы, а тамъ праздникъ какъ слѣдуетъ,—тамъ били бычка и трехъ свиней, и съ солодомъ брага варена...
— Вона что наготовлено изступленія! II пьяно, и убопсто...
— А тебѣ п сыіней-то жаль!
— Воробья-то мнѣ и того-то жалъ, и о его-то головенкѣ вѣдь есть вышнее усмотрѣніе...
— О воробьиной головкѣ-то?
- Да!
— 5 смотрѣніе?
- Да!
— Тьфу!
Мавра враскагъ громко плюнула.
Дѣдъ сказалъ:—IЧего-жъ плюешься ?»
— На слова твои плюнула.
— На мои-то наплюй,—не груби только Хозяину.
— Онъ мнЬ и ненадобенъ.
— Вона какъ!
— Разумѣется!.. Пѵсть его не любымъ конямъ гривы мнетъ.
— Чго городяшь-то, неразумная! Я тебѣ говорю про Того, Кому мы всѣ работать должны.
— Ну, а я не разумѣю и не хочу.
— Что это,—работать-то?
- Да.
— Поработаешь. Не всЬ, вѣдь, вольною волей работаютъ,—другіе неволею. II ты поработаешь.
Мавра черезъ гнѣвъ просмьялася и говоритъ:
— Полно тебѣ, дѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, видно, правда, чго іы съ ума сошелъ!
А дѣдъ посмотрѣлъ и отвѣтилъ ей:
— Господь съ тобой, уирая! и самъ на печь поіѣзъ. а она схватита подъ полу его фонарь со свѣчой и побѣжала въ ригу свой нарядъ перепрятывать.
А въ рпгѣ-то уже темно, и страхъ на нее тугъ такъ и налетѣлъ со всѣхъ сторонъ вмѣстѣ съ ужастью: такъ ее и за плечо беретъ, и ноги ей путаетъ. Думаетъ: «дай скорѣй огонь зажгу—смѣлѣй станетъ». Черкнула спичкою разъ и два—что-то у самаго лица будто пролетѣло. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла въ уголъ къ колосу, какъ вдругъ съ одной стороны къ ней пташка, а съ другой другая,—точно не хотятъ допустить ее!
II видитъ она. что это ей не кажется, а взаправду есть: откуда-то слетЬли воробушки и пали на колосъ въ свѣтъ и сидятъ-глядятъ на нее, натопорщившись...
«Давай скорѣе выхвачу да и убѣгу»,- думаетъ Мавра, и стала скорѣй руками колосъ разворашивать, а тамъ подъ рукой у нея что-то двпгнулось и закс-палося... Она—цапъ посильнѣй, а ей откуда ни спади еще воробей, и трепещется, и чирикаетъ... «Тьфу, молъ, что тебѣ надобно? Проклятый іы!» Взяла его да и сорвала съ него головеночку, а сама не замѣтила, какъ съ сердцемъ въ злости фонарь бросила и отъ него въ-разъ солома вся всколыхнула; а отту-дова-то, изъ кучи-то—что вы скажете! — возстаетъ оное дитя лупоглазое и на челушкй у него роситъ кровь.
Тутъ ужъ Мавра забыла все и бросилась бѣжать, а огонь потекъ съ бурею въ повсемѣстности и петлилъ за единый часъ все, чѣмъ мы жили и куражились...
II стало налъ хуже всѣхъ тѣхъ, которые докучали намъ, потому что не только у насъ весь хлѣбъ погорѣлъ, а и жпть-то не въ чемъ было, и пошлп мы всѣ къ своимъ нп-щпмъ проситься пожить у нихъ до теплыхъ дней.
А дѣдъ-то Ѳедосъ на пожарѣ опекой весь и вставать нр сталъ; нѵ, а все ладилъ въ ту же стать и говорилъ другимъ съ утѣшеніемъ:
— Ничего,- говоритъ,—хорошо все отъ Господа посылается. Вотъ какъ жили мы въ Божьихъ въ любимчикахъ— совсѣмъ, было, мы позабылись.—хотѣли все справлять своп дурости, а теперь Господь опять насъ наставитъ на лучшее.
Такъ и померъ съ тѣмъ.—съ этой вѣрой-то!
А какое это было дитя, п откудова, и куда оно въ пожаръ дѣлося—такъ никогда потомъ и не дозналпся, а только стали говорить, будто это былъ ангелъ и за нечувствительность нашу къ нему мы будто были наказаны.
— Все равно,—говорилъ Ѳедосъ:—кто бы ни былъ онъ,— бѣдное дитя всегда Божій посолъ»: черезъ него Господь наше сердце пробуетъ... Вы всѣ стерргитеся, потому что съ каждымъ вѣдь такой посолъ можетъ встрѣтиться!
ДУРАЧОКЪ
(разсказъ.)
Кого надо считать дуракомъ? Кажется, будто это всякій знаетъ, а если начать свѣрять, какъ кто это понимаетъ, то и выйдетъ, что всѣ понимаютъ о дуракѣ не одинаково. По академическому словарю, гдѣ каждое слово растолковано въ его значеніи, изъяснено такъ, что <<дуракъ—слабоумный человѣкъ, глупый, лишенный разсудка, безумный, шутъ»... Въ подкрѣпленіе такого толкованія приведенъ словесный примѣръ: «Онъ былъ и будетъ дуракъ-дуракомъ... «Дурачокъ—смягченіе слова дуракъ». Ученѣе этого объясненія уже и искать нечего, а между тѣмъ въ жизни случается встрѣчать такихъ дураковъ или дурачковъ, которымъ эта кличка дана, но они, между тѣмъ, не безумны, не глупы п ничего шутовского изъ себя не представляютъ... Это люди любопытные, и про одного такого я здѣсь и разскажу.
Былъ у насъ въ деревнѣ безродный крѣпостной мальчикъ Панька. Росъ онъ при господскомъ дворѣ, ходилъ въ томъ, что ему давали, а ѣлъ на застольщинѣ вмѣстѣ съ коровницею и съ ея дѣтьми. Должность у него была такая, чтобы «всѣмъ помогать»; это значило, что всѣ должностные люди въ усадьбѣ имѣли право заставлять Паньку дѣлать за нихъ всякую работу, и онъ, бывало, безпрестанно работаетъ. Какъ сейчасъ его помню: бывало, зимою,—у насъ зимы бываютъ люгыя,—когда мы встанемъ и подбѣжимъ къ окнамъ, Панька ѵжр везетъ на себѣ, изогнувшись, большія салазки съ вязанками сѣна, соломы и съ плетушками
колоса и другого мелкаго корма для скотины и птицъ. Мы встаемъ, а онъ уже наработался, и рѣдко увидишь его, что онъ присядетъ въ скотной избѣ и ѣстъ краюшку хлѣбца, а запиваетъ водою пзъ деревяннаго ковшика.
Спросишь его, бывало:
— Что ты, Паня, одинъ сухой хлѣбъ жуешь?
А онъ шутя отвѣчаетъ:
— Какъ такъ «съ ухой»?—онъ, гляди-ко, съ чистой водицею.
— А ты бы еше чего-нибудь попросилъ: капустки, огурца пли картошечки!
А Панл головой мотнетъ и отвѣчаетъ:
— Ну, вотъ еще чего!.. Я и такъ наѣлся,—слава-те, Господи!
Подпояшется и опять на дворъ идетъ таскать то одно, • то другое. Работа у него никогда не переводплагя. потому что всѣ его заставляли, помогать себѣ. Онъ и конюшни, и хлѣва чистилъ, и скоту кормъ задавалъ, и овецъ на водопой гоняль, а вечеромъ, бывало, еще себѣ и другимъ лапти плететъ, и ложился онъ, бывало, позже всѣхъ, а вставалъ раньше всѣхъ дб-свѣта и одѣтъ былъ всегда очень плохо и скаредно. II его, бывало, никто и не жалѣетъ, а всѣ говорятъ:
— Ему вѣдь ничего,—онъ дурачокъ.
— А чѣмъ же онъ дурачокъ?
— Да всѣмъ...
— А напримѣръ?
— Да что за примѣръ!—вонъ коровница-то всѣ огурцы и картошки своимъ дѣтямъ отдаетъ, а онъ, хоть бы чтб ему... и не проситъ у нихъ, и на нихъ не жалуется. Дуракъ!
Мы, дѣти, не могли хорошо въ этомъ разобраться, и хоть глупостей отъ Пзньки не слыхали, и даже видѣли отъ него ласку, потому что онъ дѣлалъ намъ игрушечныя мельницы и туезочки пзъ бересты,—однако и мы, какъ всѣ въ домѣ, одинаково говорили, что Панька дурачокъ, и никто противъ этого не спорилъ, а скоро вышелъ гакой случай, что объ этомъ уже и нельзя стало спорить.
Былъ у насъ нанятъ сгрогій-престрогій управитель, и любилъ онъ за всякую вину человѣка наказывать, ѣдетъ,
бывало, на бѣговыхъ дрожкахъ и по всѣ чъ сторонамъ смотритъ: нѣтъ ли гдѣ какой неисправности? II сели замѣтитъ что-нибудь въ безпорядкѣ—сейчасъ же остановится, подзоветъ виноватаго и приказываетъ:
— Ступай сейчасъ въ контору и скажи моимъ именемъ старостѣ, чтобы дали тебѣ двадцать-пять розогъ; а если слукавишь—я тебѣ вечеромъ при себѣ велю вдвое дать.
Прошенья у него ужъ и не смѣли просить, потому что онъ этого терпѣть не могъ и еще прибавлялъ наказаніе.
Вотъ разъ, лѣтомъ, ѣдетъ этотъ управляющій и видитъ, что въ молодыхъ хлѣбахъ жеребята ходятъ п не столько зелени рвутъ, сколько ее тошпгъ и копытами съ корнями выколупываютъ...
Управитель и расшумится.
А жеребятъ въ этотъ годъ былъ приставленъ стеречь мальчикъ Петруша.—сынъ той самой Арины-коровницы, которая Папькѣ картошекъ жалѣла, а все своимъ дѣтямъ отдавала. Петруіпа этотъ имѣлъ въ ту пору лѣтъ двѣнадцать и былъ тѣломъ много помельче Панькп и понѣжнѣе, за это его п дразнили «творожничкомъ'—словомъ, онъ былъ мальчикъ у матерп избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкій. Выгналъ онъ жеребятъ рано утромъ <на-росу». и стало его знобить, а онъ силъ да укрылся свиткою, и какъ согрѣлся, то на него нашелъ сонъ—онъ и заснулъ, а жеребятки въ это время въ хлѣбъ и взошли.
Управитель, какъ увидалъ это. такъ сейчасъ стегнулъ Петю и говорилъ:
— Пусть Панька пока и за свопмъ, и за твоимл, дѣломъ посмотритъ, а ты сейчасъ иди въ разрядную контору и скажи выборному, чтобы онъ тебѣ двадцать розогъ далъ; а если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себѣ тогда тебѣ вдвое Дамъ.
Сказалъ это и уѣхалъ.
А Петруша такъ и залплся слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говоритъ онъ Папькѣ:
— Братъ милый. ПАнюшка, очень страшно мнѣ... скажи, какъ мнѣ быть?
А Панька его по головкѣ погладплъ и говоритъ:
— II мнѣ тоже страшно было... Чтд съ этпмъ дѣлать-то... Христа били...
А Петруша еще горче плачетъ п говоритъ:
— Боюсь я идти и биіось не идти... Лучше я въ вок кннуся.
А Панька его уговарпвалъ-угов іривалъ, а потомъ сказалъ:
— Ну. постой же ты: оставайся зді сь п смотри за моимъ и за своимъ дѣломъ, а я скорѣй сбѣгаю, за тебя поста-раюся, —авось тебя Богъ помилуетъ. Впдпіиь. ты трусъ какой.
Петрупга спрашиваетъ:
— А какъ же ты, Панюшка. постараешься?
— Да ужъ я штуку выдумалъ—посгараюся!
II поб Вжалъ Панька черезъ поле къ усадьбѣ рѣзвенько, а черезъ часъ назадъ пдетъ. улыбается.
— Не робѣй,—говоритъ,—Петька, в^е сдѣлано: и не ходи шікуда—съ тебя наказанье пзбавлено.
П?тъка думаетъ:
^Все равно: надо вѣрить нму>,— и не пошелъ; а вечеромъ управляющій спрашиваетъ у выборнаго въ разрятной пзбѣ:
— Что, пастушонокъ утромъ приходилъ сѣчься?
— Какъ же,—говоритъ.—приходилъ, ваша милость.
— Взбрызнѵтп его?
— Да.—говоритъ.—взбрызнули.
— И хорошо?
— Хорошо,—поста раліия.
Дѣю п у-’покоплось, а потомъ узнати, что высѣклн-то пастушонка, да не того, котораго было назначено, не Петра, а Паньку, п пошло это по усадьбѣ и по деревнѣ, п всѣ надъ Нянькой смѣялись. а Петю уже не стали сѣчь.
— Что же,- - говорили,—уже если дуракъ его выручилъ.— нехорошо двухъ за одну вину разомъ наказывать.
Ну, не дуракъ ли. взаправду, нашъ Панька былъ?
II такъ онъ все и дальше жилъ.
Сдѣлалась черезъ нѣсколько лѣтъ въ Крымѣ война и начали набирать рекрутъ. Плачъ по деревнѣ пошелъ: никому на войнѣ страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьяхъ убиваются—всякой своего сына жалко.
А Панькѣ въ это время уже совершенные годы исполнились, н онъ вдругъ приходитъ къ помѣщику и самъ просится:
— Велите, говоритъ.—меня отвести въ городъ—въ солдаты отдать.
— Что же тебѣ за охота?
— Да такъ, — отвѣчаетъ. — очень мнѣ вдругъ охота пришла.
— Да отчего? Ты обдумайся.
— Нѣтъ,—говоритъ,—некогда думать-то.
— Отчего некогда?
— Да нешто не слышно вамъ, что вокругъ плачутъ, а я вѣдь любимый у Господа,—обо мнѣ плакать некому,—я и хочу идти.
Его отговаривали.
— Посмотри-ка, молъ, какой ты неуклюжій-то: надъ тобой на войнѣ-то, пожалуй, всѣ расхохочутся.
А онъ отвѣчаетъ:
— То и радостнѣй: хохотать-то вѣдь веселѣе, чѣмъ ссориться; если всѣмъ весело станетъ, такъ тогда всѣ и замирятся.
Еще разъ сказали ему:
Утѣшаи-ка лучше самъ себя да живи дома!
Но онъ на своемъ твердо стоялъ.
— Нѣтъ, мнѣ,—говоритъ,—это будетъ утѣшнѣе.
Его и утѣшили,—отвезли въ городъ и отдали въ рекруты, а Когда сдатчики возвратились,—съ любопытствомъ ихъ стали разспрашивать:
— Ну, какъ нашъ дуракъ остался тамъ? Не видали ли вы его послѣ сдачи-то?
— какъ же,—говорятъ,—видѣли.
— Небось, смъются всѣ надъ нимъ,—какой увалень?
— Да,—говорятъ.—на самыхъ первыхъ порахъ-то было смѣняйся, да онъ на всѣ на два рубля, которые мы дали ему награжденія, на базарѣ цѣлыя ночвы пироговъ съ горохомъ и съ кашей купилъ и всѣмъ по одному роздалъ, а себя позабылъ... Всѣ стали головами качать и стали ломать ему по половиночкѣ. А онъ застыдился и говоритъ:
— Что вы. братцы, я вѣдь безъ хитрости! Кушайте.
Рекрута его стали дружно похлопывать:
-— Гакой, молъ, ты ласковый’
А на утро онъ раньше всѣхъ въ казармЬ всталъ, да все убралъ и старымъ солдатамъ всѣмъ сапоги вычпстплъ. Стали хвалить его и старики у насъ спрашивали: «что онъ у васъ дурачокъ, что ли?»
Сдатчики отвѣчали:
— Не дуракъ, а... малость сроду такъ.
Такъ Панька и пошелъ сложить со своимъ дурачествомъ и провелъ всю воину въ «профосахъ *—за всѣми позади рвы копалъ да пакость закапывалъ, а какъ вышелъ въ отставку, такъ, по привычкѣ къ пастушеству, нанялся у степныхъ татаръ конскіе табуны пасти.
Отправился онъ къ татарамъ изъ Пензы и не бывалъ назадъ много лѣтъ, а скитался, гоняя коней, гдѣ-то вдали, около безводныхъ Рынъ-Песковъ, гдѣ тогда кочевалъ большой мѣстный богачъ Ханъ-Джангаръ. А Ханъ-Джангаръ, когда пріѣзжалъ на Суру лошадей продавать, то на тотъ часъ дрржалъ себя будто и покорно, но у себя въ степи чтб хотѣлъ, то и дѣлалъ; кого хотѣлъ—казнилъ, кого хотѣлъ—того миловалъ.
За отдаленностью дикой пустыни слЬдпть за нимъ было невозможно, и онъ, какъ хотѣлъ, такъ и своевольничалъ. Но расправлялся онъ такъ не одинъ: находились и другіе такіе же самоуправцы, и въ числѣ ихъ появился одинъ лихой воръ, по имени Хабпб- іа, и сталъ онъ угонять у Хана-Джаргара много самыхъ лучшихъ лошадей, и долго никакъ его не могли поймать. Но вотъ разъ сдѣлалась у однихъ и другихъ татаръ свалка, и Хабпбулу ранили и схватили. А время было такое, что Ханъ-Джангаръ спѣшилъ въ Пензу, п ему никакъ нельзя было остановиться и сдѣлать надъ Хабибулою судъ и казнить его такою страшною казнью, чтобы навести страхъ и ужасъ на другихъ воровъ.
Чтобы не опоздать въ Понзу на ярмарку п не показаться съ Хабпбулой въ такихъ мѣстахъ, гдѣ русскія власти ость. Ханъ-Джангарь и рѣшилъ оставить при маломъ и скудномъ источникѣ Паньку съ однимъ конемъ п раненаго Хабпбулу, окованнаго въ конскихъ желѣзахъ. II оставилъ имъ пшена и бурдюкъ воды и наказалъ Панькѣ настрого:
Береги этого человѣка, какъ свою душу! Понялъ?
Панька говоритъ:
— Чего-жъ не понять-то! Вполнѣ понялъ, и какъ ты сказалъ, я такъ точно и сдѣлаю.
Ханъ-Джангаръ со всей своей ордой и уѣхалъ, а Панька сталъ говорить Хабибулѣ:
— Вотъ до чего тебя твое воровство довело! Такой ты
большой молодецъ, а все твое молбдечествѳ не къ добру, а ко злу. Ты бы лучше понравится.
А Хабпбула ему отвѣчаетъ:
— Если я до сихъ поръ не исправился, такъ теперь ужъ и некогда.
— Какъ это <-никогда»! Только въ томъ вѣдь и дЬло все, чтобы хорошо захотѣть человѣку исправиться, а остальное все само придетъ... Въ тебѣ вѣдь душа такая же. какъ и во всѣхъ людяхъ: брось дурное, а Бегъ тебѣ сейчасъ зачнетъ помогать дѣлать хорошее, вотъ п пойдетъ все хорошее.
А Хабпбула слушаетъ п вздыхаетъ.
— Нѣтъ.—говоритъ,—уже про это некстати и думать теперь!
— Да отчего же некстагп-то?
— Да оттого, чго я окованъ и смерти жду.
— А я тебя возьму да и выпущу.
Хабпбула ушамъ своимъ не повЕрплъ. а Панька ему улыбается ласково и говоритъ:
— Я тебѣ не шучу, а правду говорю. Ханъ мнѣ сказалъ, чтобы я тебя «какъ свою душу берегъ», а вѣдь знаешь ли, какъ надо сберечь душу-то? Надо, братъ, ее не жалѣть, а пусть ее за другого пострадаетъ—вотъ мнѣ теперь это и надобпо, потому чю я терпѣть не могу, когда другихъ мучаютъ. Я тебя раскую п на коня посажу и ступай, спасай себя, гдѣ надѣешься, а еслп станешь опять зло твориіь— ну, ужъ тогда не меня обманешь, а Господа.
II съ этпмъ присѣлъ и сломалъ на Хабпбулѣ конскія желѣзныя путы, и посадилъ его на коня, и сказалъ:
— Ступай съ миромъ на всѣ стороны.
А самъ остался ожидать здѣсь возвращенія Хана-Джан-гара,—и ждалъ его очень долго, пока ручеекъ высохъ и въ бурдюкѣ воды осталось очень немножечко.
Тогда и прибылъ Ханъ-Джангаръ со своей свитой.
Осмотрѣлся Ханъ и спрашиваетъ:
— А гдѣ Хабпбула?
Панька отвѣчаетъ:
— Я отпустилъ его.
— Какъ отпустилъ? Что ты такое разсказываешь?
-— Я тебѣ говорю то, что взправду сдѣлалъ по твоему
велѣнію и по своему хотѣнію. Ты мнѣ велѣлъ беречь его какъ свою душу, а я свою душу такъ берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближняго... Ты вѣдь хотѣлъ замучить Хабпбулу, а я терпѣть не могу, чтобы другихъ мучили'—вотъ возьми меня и вели меня вмѣсто его мучить, — пусть моя душа будетъ счастливая и отъ всѣхъ страховъ свободная, потому чго вѣдь я нп тебя, ни другихъ никого не боюся ни капельки.
Тутъ Ханъ-Джангаръ сталъ водить глаза во всѣ стороны, а потомъ на головѣ тюбетейку поправилъ и говоритъ своимъ:
— Подойдите-і.а вей поближе ко мнѣ: я вамъ скажѵ, что мнѣ кажется.
Татары вокругъ Хана-Джангара стѣснилися. А онь сказалъ имъ потихонечку:
— А вѣдь ІІлпьку, сдается, нельзя казнить, потому что въ душѣ его, можегъ-быіь, ангелъ быль...
— Да. —отвѣчали татары всѣ однимъ тихимъ голосомъ:— нельзя намъ ему вредить: мы его не поняли за много лѣтъ, а теперь онъ въ одно мгновенье всѣмъ намъ ясенъ сталъ: онъ вѣдь, можегъ-быть, праведный.
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХАРАКТЕРЫ.
ОПЫТЪ СИСТЕМАТИЧЕСКАГО ОБОЗРѢНІЯ *).
<. Народъ непремѣнно долженъ имѣть ясное понятіе о литературныхъ памятникахъ и источникахъ, которые вліяли на образованіе его идей и представленій».
Чт. въ Общ. Люб. Чрсвн. Россійскихъ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Тридцать лѣтъ назадъ, когда у насъ много писали о женскомъ вопросѣ, не разъ было упоминаемо, будто въ Россіи репутаціи женщинъ былъ нанесенъ большой вредъ житійными сказаніями, которымъ вѣрили наши предки. Тамъ, будто, женщины постоянно выставляются соблазнительницами, стремившимися удалить мужчинъ отъ возвышенныхъ задачъ жизни и погрузить ихъ въ жизнь чувственную и безразсудную. Нѣкоторыми, болѣе горячими, чѣмъ основательными друзьями женскаго вопроса было выхвачено нѣсколько примѣровъ въ этомъ родѣ, и тѣ примѣры, принятые безъ критики, до сей поры остаются въ непререкаемомъ значеніи убѣдительныхъ фактовъ. Между тѣмъ, на самомъ
*) Обозрѣніе это составлено по дрсв.іс-нсчаніному. переводному Прологу, редакція котораго не соотвѣтствуетъ тому, который издаетвя послѣ Петра Велпкаго. Древле-печатный, переводный Прологъ, содержащій въ себѣ приводимые здѣсь «прилоги», пе входитъ въ кругъ церковныхъ книгъ и не только не пользуется церковнымъ авторитетомъ, но представляетъ книгу «отреченную», п сказанья его, по выраженію Ѳеофана Прокоповича, относятся къ разряду «пустыхъ и смѣху достойныхъ басенъъ. Интересъ, имъ представляемый, есть собственно интересъ литературный п историческій.
дѣлѣ, это есть лѵжь. и въ этомъ можетъ } бѣдиться всякій, кто пожелаетъ познакомиться съ женскими типами Пролога.
•Это здѣсь и предлагается.
Разбирая Прологъ, какъ повѣствовательный источникъ, я нашелъ въ немъ ровно сто темъ или «прилоговъ», которые даютъ болѣе или менѣе пригодный матеріалъ для воспроизведенія въ повѣствовательномъ или пластическомъ искусствѣ, а изъ этихъ ста исторій—въ тридцати пяти уча-стіуютъ женшины.
Годъ по Прологу начинался съ 1 сентября, и первое соблазнительное дѣло описано подъ 5-мъ числомъ сентября.
1) «По діаволю злохитрству, впаде въ блудъ нѣкій епископъ». Объ этомъ никто не зналъ въ его паствѣ; но епископъ былъ человѣкъ искренній и самъ не могъ снести своего ірѣха; онъ пришелъ въ церковь, снялъ съ себя омофоръ и, ставъ предо всѣми на колѣни, началъ каяться «глаголя: отселѣ не могу быти вамъ епископъ».
Словомъ—онъ принесъ публпчное покаяніе въ блудномъ грѣхѣ, послѣ чего его надо было «извергнуть»: но какъ этотъ епископъ былъ человѣкъ очень добрый и люди его любили, то имъ стало жаль потерять его, и потому < возопиша всп люди съ плачемъ: грѣхъ твои на насъ буди».
Епископъ отговаривался, но народъ настаивалъ на своемъ. Тогда растроганный епископъ, заливаясь слезами, потребовалъ себѣ отъ людей наказанія, а тѣ на это согласились, лишь бы онъ у нихъ остался. Но вотъ епископъ л°гъ на полъ у дверного порога и просилъ, чтобы каждый мірянинъ, выходя изъ церкви, толкнулъ его презрительно ногой. Люди его послушались и стали его толкать, и когда послѣдній человѣкъ, выходя изъ церкви, наступилъ на согрѣшившаго архіерея, тогда только еппскопъ всталъ, поклонился вышедшимъ чрезъ двери .тютямъ и остался служить у нихъ епископомъ, п люди не чувствовали въ этомъ смущенія, пбо всѣ были увѣрены, что грѣхъ его прощенъ ради его искренности и смиренія. «Зане запну его ногой своею» и та. которая была его соучастницей въ грѣхѣ.
2) Сентября 15. Одного молодого пустынника страшно мучили любовныя мечтанія. Онъ пришелъ къ старщ Пахому и просилъ у него совѣта: какъ ему отъ этого избавиться. «Онъ же (то-ѳеть старецъ) рече: не дивпея дѣлу сему: азъ бо многажды обрѣтахся в: сицевыхъ. Се бо видяши мя
человѣка уже стара суща и дряхла, яко уже четыредесять лѣгъ сижу въ хижинѣ и токмо н пекуся о единомъ своемъ спасеніи, и уже тольмп встхъ сый, а и до днешняго дне еще не свободенъ».
3) Октября 29. Старецъ Авраамій «сочетался съ женой», но потомъ, когда вникъ въ семейную жизнь, то она ему не Понравилась—онъ нашелъ, что домомъ жить очень хлопотно и безпокойно, и вообще это гораздо труднѣе отшельничества, къ которому онъ уже привыкъ. Тогда Авраамій опять оставилъ жену и, «отшедъ, затворился въ налѣ хлевинѣ».. Теперь ему не о комъ было заботиться; но когда Авраамій просидѣлъ вь затворѣ девять лѣтъ, уморъ его брать и оставилъ семилѣтнюю дочку. Волей-неволей Авраамію пришлось взять племянницу на свое попеченіе. Авраамій вышелъ изъ «хлевипы», сдѣлалъ тутъ же рядомъ другую такую же «хле-винку» и замуровалъ туда дитя. Дѣвочка прожила замурованная въ затворѣ на і лазахъ у дяди тринадцать лѣгъ и никакихъ д\рныхь примѣровъ не видала, но когда иошелъ еп двадцатый годъ, «она завистію бѣсовскою впала въ паденіе». Неизвѣстно, какъ она, замурованная, чрезъ оконце «познакомилась съ блудницами», выкарабкалась изъ затвора и ушла съ этими своими знакомками въ такую «гостиницу», гдѣ собирались въ досужное время военные люди. Военные же люди въ гой странѣ такъ любили женское общество, что вездѣ подманивали къ себѣ дѣвицъ, а обратно получить отъ нихъ дѣвушку было уже очень трудно. Они отпускали женщину развѣ только тогда, когда она пмъ надокучптъ и они самн ее прогонятъ. Старецъ пхъ усовѣщивалъ, п кричалъ на нихъ, и угрожалъ пмъ изъ своего затвора; но военные смѣялись, и его молоденькой затворницы ему не отдали, а увели ее и не возвращали. Зная это, старецъ Авраамій обратился къ хитрости, которою и достигъ желаннаго успЬха. Въ одинъ день онъ самъ вышелъ изъ своего затвора, досталъ себѣ верхового коня, добылъ воинскіе доспѣхи, «во образъ воинскій оболкся» и поѣхалъ верхомъ въ ту же самую гостиницу, гдѣ веселились съ женщинами военные, къ которымъ ушла изъ затвора его племянница. Переодѣтый воиномъ, затворникъ держалъ себя въ гостиницѣ такъ искусно, что никто его не узналъ, и даже не заподозрилъ, что это затворникъ, а всѣ сочли его за настоящаго военнаго. Даже и племянница его не узнала, а
опъ, увидя это, самъ притворился разбитнымъ гулякой и сталъ зьсіть неузнающую его дѣвушку, чтобъ она шла съ нимъ отсюда препроводить дальнѣйшее время, за что Ав-раамій обѣщалъ еи дать по обычаю «даръ». Молодая дѣвушка, еще недавно только пустившаяся въ гулевую жизнь, ничего хитростнаго не подозрѣвала и ушла съ Аврааміемъ пзъ гостиницы, въ полномъ убѣжденіи, что ей сопутствуетъ настоящій воинъ. А когда онп остались влвоемъ, тогда Авраамій ей себя обнаружилъ и укорилъ ее. и ужъ на свободу не выпустилъ, а посадилъ опять «въ малу хлевинуэ, гдѣ она, послѣ долгихъ стенаніи и плача, «покаялась, а послѣжди, чудеса творяше, скоро почила».
4) Октября х9. Была женщина Анна, которой хотѣлось спасти себя, живучи въ мужскихъ монастыряхъ. Она назвала себя Ефичьяномъ и стала жить съ монахами. Бороды у нея не росло, но эго никого не соблазняло: монахи все думали, что Ефимьянъ—скопецъ, и нимало этимъ не смущались. Но одинъ изъ монаховъ того монастыря на свое несчасгіе былъ «воображенникъ . Ему непремѣнно хотѣлось дознаться: отчего у Ёфимьянп не растетъ борода? Къ этому еще прибавилось и искушеніе: невдалекѣ отъ пхъ монастыря жила женщина, которая знала тайну Ефнмьяна и притомъ была болтлива: она сказала «воображеннпку»:
— Это не скопецъ, а жена-белтраспініща\ (Сказавшая сама сейчасъ же и исчезла).
А «воображеннику» съ этой поры вступило въ голову во что бы то ни было «подсмотрѣть Ефпмьяна».
Онъ объ этомъ и началъ стараться, «тщашася низринути Ефимьяна» и «соівири сіе, но бысть божественною силой до полу-сухъ». Анна же «бѣжаше отъ соблазненія, имѣя съ собой точію два монаха».
5) Февраля 9. Братъ нѣкій жилъ въ скитѣ, не видя ни одной женщины, но врагъ .вложи ему въ память нѣкія жены прекрасны». Боспоминаніе о женской красотѣ жасно безпокоило скитника. Одинъ разъ пришелъ къ нему дру гой брата и началъ разсказывать, что случилось въ мірѣ новаго, и упомянулъ, чго красавица, которая нравилась брату, умерла. Тогда этотъ несчастный, какъ дождался ночи, взялъ свой «лентій» и побѣжалъ къ тому мѣсту, гдѣ. по разсказу, похоронили красавицу. Тутъ онъ разрылъ ея могилу, открылъ гробъ и «иотре гной ея лентіомъ и возвратная, имѣя
Сочиненія Н. С. Л Тенона. Т. XX ХШ. 9
при себѣ смрадъ топ». II это его исцѣлило. Когда ему приходили на умъ, какъ эта женщина была прекрасна, онъ доставалъ этотъ «смрадъ* и, «полагая его предъ собой», говорилъ: «вотъ то, что отъ всякой красоты остается».
6) Марта IX. Данило Египтянинъ исцѣлялъ женщинъ отъ неплодства. Одинъ молодой мужъ пришелъ къ ному съ просьбой, чтобъ онъ посѣтилъ его дочъ и помолился надъ его женой, которая не рождаетъ. Сгарець пошелъ по приглашенію мзжа, п съ того случая молодая женщина «Богу пзволившу зачатъ во чревѣ». Мужъ былъ очень радъ и доволенъ, но сосѣди стали смѣяться ему и говорить, будто все чудо въ томъ заключается, что жена его естественно затяжелѣла отъ старца Данилы. Когда это дошло до Данилы, онъ позвалъ къ себѣ смущеннаго мало,того супруга п сказалъ ему: «когда у тебя родится дитя, собери всѣхъ родственниковъ на обѣдъ, п я тогда тоже приду кь тебѣ, п все дѣло разъяснится». Молодой человѣкъ такъ п сдѣлалъ, какъ сказалъ ему помога гельныи Старецъ: па двадцатый день по разрѣшеніи беременности его жены, онъ собралъ къ себѣ |сѣхъ родпыхь и знакомыхъ. Прпшелъ и Даніила., и когда всѣ сі.ли за столъ, старецъ взялъ на руки новорожденное дитя и спросилъ его: «кто твой отецъ?» Дваѵ цатидневпос дігія протянуло ручку и, указывая пальчикомъ на молодого супруга, проговорило: «вотъ кто».
7) Марта 17. Два брата жили въ пустынѣ и, сильно между собою подружившись, дали обѣтъ никогда не оставлять другъ друга, «не точію въ жизни, но и по смерти».
Но вдругъ одинъ изъ нихъ «нача ратоваты-я отъ бѣса». Бѣсъ навелъ на него такую неодолимую скуку, что обуе-ваемый «не возмогъ стерпѣть» и сказалъ брату своему: «Отпусти меня въ людное мѣсто: я не могу здѣсь терпѣть,— хочу жить, какъ всѣ, и веселиться».
Благоразумный брать употребилъ всѣ усилія уговорить несчастнаго, чтобъ онъ возобладалъ надъ страстью и не губилъ столькихъ лѣтъ прожитой въ чистотѣ жизни; по тотъ никакъ но могъ совладать съ собою и стоялъ на своемъ, что ему надо уйти веселиться.
— Но какъ же мнѣ быть въ такомъ случаѣ?—спросилъ благоразумный брать. — Вѣдь вотъ ты помнишь, я далъ эбѣтъ никогда съ тобою не разставаться!.. Какъ же мнѣ
быть теперь, когда ты стремишься къ распутству, въ которое я себя допустить не желаю?
— А ужъ мнѣ до этого теперь никакой заботы нѣтъ, отвѣчалъ страстью уязвленный братъ. — Поступай. какъ знаешь, но я ни для чего остановиться пе могу: я, какъ сказалъ, такъ и пойлу искать утѣшительной жизни, а ты оставайся въ пустынѣ: но, впрочемъ,—добавилъ онъ,—если ты хочешь при мнѣ быть, то. пожалуй, иди со мною въ городъ и повеселимся вмѣстѣ. А можетъ-быть, мнѣ тамъ и не долго понравится, и я скоро очувствуюсь—тогда, можетъ-быть, я и возвращусь съ тобой? опять сюда же.
Благоразумный братъ подумалъ' «что за несчастій съ человѣкомъ содѣялось? Совсѣмъ омраченъ онъ, и можно ли отпустить его одного въ такомъ омраченіи? Одинъ онъ непремѣнно попадетъ въ компанію распутниковъ, сродную нынѣшнему его одержимому настроенію, и онь къ нимъ такъ прилѣпится, что погибнетъ невозвратно, а надо лучше пе выпускать его изъ гла.іъ и ждать въ немъ перемѣны отъ времени».
«Да. — разсудилъ благоразумный, — несть лучше я самъ приближусь къ соблазну, но не оставлю человѣка совсѣмъ ослабѣвшаго. Нѣтъ, пе покину его.—пойду съ нимъ и буду ждать, когда умъ и чувства его опять придутъ въ свѣтлое состояніе».
Всталъ благоразумный братъ п пошелъ въ городъ вмѣстѣ съ страстнымъ братомъ.
Идти пмъ было трудно, ибо нѵть былъ не малъ, а страстный «бѣ'ка скоро», и какъ пришелъ въ городъ. — сейчасъ же «скочп въ огражденіе садовное», откуда нес.іисл «плесканья и пѣсни», п видѣлись женскія лица и плещи. А благоразумный брагъ сѣлъ на пыльной дорожкѣ предъ этимъ «огражденіемъ», набравъ горстями земляной ныли, зарыдалъ и сталъ насыпать себѣ пыль на голову.
Люди, проходя, спрашивали его: о чемъ онъ плачетъ? А онъ пмъ отвѣчалъ по правдѣ: «Любимый братъ мой, долго жившій чистою жизнью, вошелъ воть туда, въ садовное огражденіе». Люди надъ ним > смѣялись, говорили: «Что же тебѣ? Иди и ты туда же и повеселись тамъ вмѣстѣ со всѣми съ нами». II сами туда же входили, а благоразумный братъ все сидѣлъ въ пыли п все плакалъ.
Такъ прошла цкдая ночь, а братъ, «вскочившій въ огра
жденіе», все еще не выходилъ оттуда, пока на небЬ засвѣтился новый день, и тогда вывалила изъ «огражденія» большая толпа мужчинъ и всѣ шумѣли и ссорились, и въ ихъ-то безпорядочномъ обществѣ находился страстный братъ, съ блѣднымъ лицомъ, помятыми волосами и угасшимъ взоромъ. II чуть только страстный братъ вышелъ,—олагора. -умный братъ вскочилъ и бросился къ нему съ радостію и заговорилъ:
— Для чего ты такъ долго тамъ оставался! насилу я тебя дождался' хорошо, что ты наконецъ вышелъ: конечно, ты видишь теперь, какъ это гадко и можетъ тебя погубить. Пойдемъ скорѣе отсюда назадъ въ нашу пустыню!
— Ахъ, отстань ты, пожалуйста! -отвѣчалъ страстны:! брать. Зго совсѣмъ не такъ гадко, какъ ты воображаешь. Мнѣ тамъ, напротивъ, очень понравилось, и я ни за что теперь не пойду въ пустыню, а ты, если хочешь, уходи. Я тебѣ не препятствую.
Какъ благоразумный брагъ ни уісваривалъ страстнаго — все оказалось безуспѣшно: страстному такъ понравилось въ «огражденіи садовнѣмъ», что онъ совсЕмь пришелъ въ изступленіе и уже не боялся ни суда Божія, ни вѣчныхъ мукъ, и ни за что не хотѣлъ возвращать я съ благоразумнымъ въ пустыню. Онъ слушалъ благоразумнаго молча, а самъ въ себѣ только и помышлялъ о томъ, чтобы какъ-нибудь поскорѣе скоротать день, а лотомъ опять попасть въ огражденіе, объ удовольствіяхъ котораго онъ чѣмъ больше думалъ, тѣмъ большую къ нимъ чувствова.іь несытость.
Вчдя такое страшное изступленіе несчастнаго, благоразумный брагъ иерестал ь его и уговаривать идти въ пустыню, но опять сталь вопрошать самого себя: можно ли ему оставить друга и брата въ такомъ неистов< гвѣ? п, обдумавъ дѣло съ разныхъ сторонъ, благоразумный братъ увидалъ, что тогъ безъ иего тутъ и погибнетъ въ безпутствѣ, и рѣшилъ самъ съ нимъ оставаться, пока надъ тЕмъ пройдетъ эю «обладаніе^.
Но чтобы жить въ городѣ п притомъ еще веселиться въ «огражденіи», надо было имѣть деньги, а у пустынныхъ братьевъ запасныхъ денегъ не было, и вотъ они стали оба наниматься на работы. II оба работали во всю силу, какъ благоразумный, такъ и страстный, а Ічеромъ страстный братъ забираяь себѣ и свой заработокъ, и заработокъ сво-
сто благоразумнаго брата. и ночью все это истрачивалъ па свои удовольствія въ «огражденіи». Благоразумный же братъ не жалѣлъ этого и о деньгахъ своихъ со страстнымъ не спорилъ; по онъ жалѣлъ его, что тотъ такъ нравственно паль п всякій день все глубже и глубже погружается въ смрадное болото порока, о которомь благоразумный братъ самъ не имѣлъ никакого познанія, и изумля ;ся силѣ грѣха, такъ страшно возобладавшаго надъ братомъ. По прч всемъ этомъ онъ вѣрилъ, что любовь его какъ-нибудь спасетъ одержимаго, и когда страстный входилъ въ «огражденіе*, благоразумный садился при дорожкѣ противъ этого «огражденія», насыпалъ себѣ на голову дорожной пыли и горестно плакалъ. Страстный .тго видѣлъ, но не останавливался и скорой стопою уходилъ внутрь «огражденія».
Такъ каждую ночь—одинъ гулялъ, а другой оплакивалъ его безуміе.
Днемъ братья между собою \же не говорили, а становились на работу молча и уходили молча, и благоразумный братъ никогда болѣе не укорялъ страстнаго. II это, ніко-иецъ, такъ тропуло страстника, что тотъ однажды бросился благоразумному въ ноги и воскликнулъ:
— Братъ мой любимый! Ты уяяшлъ своимъ терпѣніемъ М'чо душу! возьми меня въ свою власть и сдѣлай со мною, что хочешь! Я не хочу оставаться такимъ, какимъ сдѣлался, но не могу собой править.
Тогда благоразумный братъ сейчасъ жо поступилъ какъ почиталъ за лучшее: онь взя*.іъ страстнаго прямо отъ воротъ «огражденія», гдѣ съ тѣмъ произошелъ спасительный переломъ, и увалъ его изъ города въ пустыню и «тако пріобрѣлъ себѣ брата своего».
Видѣвъ же безумную страстность несчастнаго, благоразумный брать и въ пустынѣ не оставилъ его на жертву его собственной волѣ, а заключилъ его въ тѣсну ю пещерку, гдѣ тотъ черезъ малое время много преуспѣлъ и скончался».
Я) Апрѣля І5. Два монаха, живя вмѣстѣ, вдругъ оба наскучили одиночествомъ и пошли въ городъ. Тамъ они сейчасъ же взяли себѣ двухъ женшинъ и встроились такъ, чтобы жить съ этими подружіями, а обѣты свои оставили. Но скоро онп увидали, что жить съ женщинами совсѣмъ не такъ легко, какъ они ожидали, а что это довольно хлопотливо, что женщины требуютъ себѣ того и другого, и
по добру хорошихъ внушеній ео слушаются, а надо ихъ много усовѣщивать и понуждат къ покорности, а черезъ го отъ совмѣстнаго сожительства съ ними получается но столько удовольствія и радостей, сколько безпрестанныхъ досажденіи. Монахи нашли, что имь не совладать съ семейнымъ житьемъ, и опять сговорились другъ съ другомъ покинуть взятыхъ женщинъ и убѣжали отъ нихъ назадъ въ монастырь, п тамъ разсказали про все, чтб съ ними было во время ихъ б.іужденія, и принесли покаяніе. Старшіе ихъ приняли и посадили въ затворъ п оставили каяться, а когда минуло время ихъ наказанія, то пришли на нихъ посмотрѣть, п увидѣли, что заключеніе оказало на нихъ совершенно различное вліяніе: одинъ согрѣшившій монахъ весь исхудалъ и истомился, а другой, напротивъ, былъ тѣломъ бодръ и лицомъ веселъ. Спросили исхудавшаго: «что тебѣ оыйть?» Онъ отвѣчалъ: «Кость моя при.тьпе къ гортани, егда вспоминаю, чтб сотворитъ». Тогда спросили о томъ же бодраго, а тотъ отвѣчалъ: «я все радуюсь, оть какой бѣды меня Господь спасъ
Старцы обсудили оба отвѣта и нашли, чго «оба брата пришли равно въ хоропше понятіе».
9) Мая 1. Два брата, живучи въ скитѣ, .занимались искуснымъ рукодѣліемъ, и одинъ разъ, наготовивъ работъ, пошли оба въ городъ, чтобы продать своп произведенія. Тутъ онп. какъ только вступили въ городскія ворота, сейчасъ же и разошлись въ разныя стороны: одинъ пошелъ въ улицу, которая шла отъ ворогъ направо, а другой—въ улицу, которая шла влѣво. II весь день онп другъ друга пе видѣли. Когда же настало уговоренное время, чтобъ имъ сойтись въ условленномъ міегѣ и идти назадъ въ скитъ, братъ, пошедшій влѣво, сказалъ другому, пошедшему вправо:
— Знаешь ли, со мною случилось нѣчто такое, послѣ чего я уже но могу идти назадъ въ скитъ.
— Что же такое съ тобою случилось? — вопросилъ второй братъ.
— А то, что когда мы съ тобою разстались, то я встрѣ-тизъ очень красивую женщину и поддался соблазнительному влеченію, п вотъ мой обѣтъ цѣломудрія мною нарушенъ.
— Это очень дурно,—отвѣчалъ другой братъ:- -но ужъ, если ото случилось, то тѣмъ скорѣе должно тебѣ спѣшить отсюда въ пашу пустыню.
— Пѣтъ, братъ возлюбленный, — отвѣчалъ падшій: — я уже не рѣшусь теперь оскорбить наше чистое житище своимъ присутствіемъ.
Братъ же, ходившій въ улицу направо, еще настойчивѣе звалъ его скорѣе идти въ пустыню и самъ тянулъ его за руку: но падшій не шелъ и отвѣчалъ:
—- Нѣтъ, тебѣ самому будетъ тяжело со мною. Ты — чистый.
Тогда второй братъ «помысли мало и отвѣта»:
— Не сокрушайся о томъ, что мнѣ будетъ тяжело въ твоемъ присутствіи, ибо когда мы съ тобою сегодня разстались и ты пошелъ налѣво, а я понесъ свои рукодѣлья направо, то со мною въ правой сторонѣ города случилось какъ разъ то же самое, что случилось съ тобой въ лѣвой.
Тогда первый братъ ободри іея и воскликнулъ:
— Значитъ, мы равны!
—I Да. оба мы равны, ибо оба пали.
— Чго же мы теперь сотворимъ далѣе?
— Пойдемъ оба, какъ равные, вмѣстѣ ьъ свой скитъ и оба вмѣстѣ покаемся старцамъ.
А что же намъ будетъ огъ старцевъ?
— А ужъ что будетъ, то будетъ одинаково, что одному, то и другому. Не робѣй—перенесемъ вмѣстѣ по заслугамъ нашимъ, а какъ я старше тебя, то вѣрно мнѣ сдѣлаютъ наказаніе строжайшее, а тебя, младшаго,--накажутъ полегче.
Браіь, ходившій влѣво, «умилился и пошилъ въ скитъ. Тамъ съ ними вышло, какъ говорилъ второй братъ, который собственно не былъ грѣшенъ, но только сказалъ на себя грѣхъ для того, чтобы поддержать духъ падшаго брата, и тѣмъ не допустилъ его до отчаянія.
10) Мая 21. Одинъ братъ пыш-мь пзъ скита на рѣку, чтобы почерпнуть воды, и вдругъ замѣтилъ тамъ на берегу «жену иерущу ризы», то-есть прачку, моющую одежды, и «прплучися брату пасти сь нею». По совершеніи же этого грѣха, братъ зачерпнулъ воды и понесъ водоносъ въ скитъ свои: но его облѣнили бѣсы и стали кричать ему въ уши: «Чего идешь въ скитъ! Тебѣ тамъ теперь ужъ ие мѣсто; оставайся теперь съ прачкой!»
Братъ этимъ очень смутился, но сейчасъ же п-шяль, что бѣсы этакъ хотятъ совсѣмъ отбить его отъ пути спасенія, и сказалъ:
— Чего вы ко мнѣ вяжетесь и для чего мнѣ досаждаете! Я не хочу отчаиваться.
II съ тѣмъ онъ пришелъ въ свою келью и «безмолвствовалъ», но согрѣшеніе его открылось одному старцу. Тогда братъ покаялся и разсказалъ, что онъ скрывалъ свой грѣхъ, боясь, какъ бы не впасть въ отчаяніе.-Старецъ похвалилъ его «разсужденіе».
11) Мая /?1. Одинъ старецъ, проведя всю жизнь въ скитѣ. пошелъ разъ въ Александрію продать свое рукодѣліе и гамъ увплѣлъ. какъ одплъ монахъ входитъ въ корчму. Пустынникъ сѣлъ противъ двери, въ которую вошелъ александрійскій іонахъ, и сталъ дожидаться, пока тотъ выйдетъ. Когда же монахъ черезъ нѣкоторое время показался на порогѣ, скіпникъ бросился къ нему, обхватилъ его руками и, удерживая его, сталъ говорить:
— Чтб ты, несчастный, дѣлаешь? Пли ты не вѣдаешь, что носишь ангельскій чинъ? Зачѣмъ же ты лѣзешь во вражьи сѣти, для чего входишь въ корчемницу, гдѣ сходятся неподобные мужи и женщины? Молю тебя, бѣги къ намъ въ пустыню,—тамъ ты спасешься.
Молодой же городской монахъ отвелъ і>уки скитника и сказалъ ему:
-— Піи себѣ, калугере,— Богъ ничего не ищетъ кровь чистаго сорта.
Старецъ «воздвигъ руки къ небу» и сказалъ:
«— Я въ пустынѣ не стяжалъ чистаго сердца, а сей ходящій въ корчемницы стяжалъ».
12) Іюня 3. Встрѣтилъ отецъ Пафнутія въ пустынѣ нагого человѣка, закрывавшагося своими волосами, п сталъ его разспрашивать объ его прежнемъ житьѣ. Нагой человѣкъ сказалъ, что онъ жилъ сначала въ монастырѣ и быль ткачомъ, но наконецъ ему не понравилось жить въ монастырѣ, а вздумалось, что лучше жить одному: «я такъ и сдѣлалъ, и сталъ работать и жить очень хорогиа»: но это шло только «пока позавидовалъ мнѣ дьяволъ. Попросила меня одна чернорпзница устрой гь ей полотно. Я сдѣлать. Она попросила устроить другое. Я сдѣлалъ и другое, и яко уже свычай ми бысть съ нею и часъ съ часу дерзновеніе большое, то она заченши родила беззаконіе». ТФгда нашло на него раскаяніе, и онъ, бросивъ черноризицу, бѣжалъ въ пустыни', гдѣ Пафнуіій и встрѣтилъ его нагого.
Пафнутій съ нимъ разговорился и спросилъ:
- - Что же. я думаю, сначала-то тебѣ здѣсь и тяжело было?
-— Ве.іьми изнемогахъ, — отвѣчалъ нагой, — и лежачъ въ пещерѣ, въ тузѣ и въ страсти». Опять хотѣлось ему возвратиться къ черноризицѣ», но «пришелъ нѣкій мужч., какъ бы ножомъ изрѣзалъ всю мою утробу, очистилъ ее и спять вложилъ, и руками замазалъ, — и съ тоіі поры туга и страсть остависта мя».
13) Іюня. 20. Жилъ въ дальней пустынѣ одинъ благо-честігвый старецъ и имѣлъ близкую родственницу, оставшуюся въ мірѣ. Долго они не видались, по вдругъ этой женщинѣ какъ-то соскучилось и захотѣлось сходить навѣстить своего родственника. При этомъ женщина не имѣла никакого дурного смысла. а только хотѣла узнать чисто по родственному: живъ ли пустынникъ, или онъ уже у меръ: если же онъ живъ, то она хотѣла побесѣдовать съ нимъ о божественномъ и чѣмъ-нибудь послужить ему по силамъ своимъ. Плутала она долго по пустынѣ, пока встрѣтила «кампларя». или пастуха, который пасъ верблюдовъ. Женщина разсказала ему. кого она ищетъ. Пастухъ верблюжій зналъ пустынника и показавъ е:\ какъ найти сто пещерку, которая была туть же неподалеку. Женщина разыскала своего родственника. Онъ ее уже не могъ узнать, но она сказала ему. что «сродница твоя есмь». Тогда пустынникъ ее принялъ. Потомъ они стали съ нимъ бесѣдовать; но 'егда пріиде ночь», то старецъ «преступи съ ней свой обѣтъ цѣломудрія». Это сейчасъ сдѣлалось извѣстно необычайнымъ случаемъ. Вь этой же самой пѵстынѣ, на нѣкоторомъ разстояніи жилъ другой старецъ, который нимало не интересовался тѣмъ, что произошло у сосѣдняго старца: но онъ пошелъ почерпнуть воды, и только-что погрузилъ свою чашу въ воду, какъ «чаша перевернулась». Старецъ іивился, потому что до этого случая чаша у него никогда не переворачивалась. Онъ второй разъ зачерпнулъ чашу, но чуть ее поставилъ, какъ она опять перевернулась.
Тогда пустынникъ подумалъ:
«Вѣрно это по усмотрѣнію Божію».
А такъ какъ онъ въ одиночествѣ никакъ не могъ собѣ разъяснить, къ чемѵ ему давалось такое знаменіе, то онъ,
не теряя времени, пошелъ къ другому пустыннику, спасавшемуся въ той же пустынѣ, но въ другомъ мѣстѣ.
«Пойду и разскажу ему,—думалъ старенъ, — и вдвоемъ съ нимъ мы это лучше обсудимъ».
А старецъ, къ которому онъ собирался идти, какъ разъ и былъ тотъ самый, у котораго въ это время гостила родственница.
Пошелъ къ нему пустынникъ па совѣщаніе, но въ одинъ день не дошелъ, а заночевалъ дорогой подъ стѣнами идольскаго катила и туіъ обо всемъ узналъ. Случилось такъ, что въ этомъ капищѣ именно въ ту ночь собрались бѣсы и въ чрезвычайной радости завели шумное торжество, и стали хвастать, что соблазнили одного извѣстнаго и опытнаго пустынника, ври чемъ не разъ называли соблазненнаго и по имени.
Это былъ какъ разъ тотъ, къ кому шелъ путешествующій. Но путникъ хотя и смутился этимъ, однако все-таки пришелъ къ тому, который палъ во грѣхъ съ родственницей, п, поздоровавшись, спросилъ у него:
«— Чтб убо соіворю, отче, — егда наполню чашу мою водой и она во время снѣденія превращается?»
А толъ посмотрѣлъ на него п вмѣсто отвѣта самъ предложилъ вопросъ:
«— А члб убо азъ сотворю, яко азъ впадохъ въ блудъ?»
— Да, я это уже знаю,—отвѣчалъ гость: — я слышалъ объ этомъ «въ церкви идольстей».
Тогда преступившій обѣтъ цѣломудрія старецъ, какъ только услыхалъ, что о немъ даже дьяволы говорятъ, вскочилъ и отчаянно закричалъ:
— Ну, если это такъ, то тогда ужъ все равно—я брошу пустыню и пой іу въ міръ!
Но тотъ братъ, у котораго чаша переворачивалась, отговорили его отъ этого, а присовѣтовалъ прогнать только отъ себя родственницу.
«Старецъ послушался и исправилъ житіе свое».
14) Іюня 27. Отцы Даніилъ и Палладіи, придя въ Александрію, встрѣтили молодого монаха, выходящаго изъ бань. Имъ это показалось подозрительно и непристойно, и оии ему это сказали, а тотъ, вмѣсто того, чтобы покаяться, отвѣчалъ имъ: «не судите и не судимы будете». Старцы попросили у него прощенія, но скорбѣли о немъ, потому
что видѣли, какъ около пего вертятся два шурина. Спустя же нѣкоторое время они узнали, что этотъ молодой красавецъ-монахъ пришелъ въ Александрію пзъ Константинополя п вступилъ въ связь съ «женой епарха», а слуги епарха изловили его и, желая сдѣлать евнухомъ, такъ его изуродовали, что онъ чрезъ три дня умеръ, «и бысть всѣмъ мнихомъ поруганіе и урокъ».
15) Іюля 22. Жилъ въ одномъ скитѣ многолѣтній старецъ и ослабѣлъ силами. Тр^дъ, который онъ до сего времени исполнялъ, пришлось разложить на другихъ. Это старика очень стѣсняло, и, чтобы не ѣсть даромъ хлѣба, опъ рѣшился уйти въ Египетъ. Тамъ же жилъ съ нимъ въ скитѣ другой старецъ, Моисей, который ранѣе бывалъ въ Египтѣ и вообще былъ человѣкъ очень опытный; онъ сказалъ старцу: «не ходи въ Египетъ, -тамъ много женщинъ, и ты соблазнишься».
А старецъ этому не повѣрилъ и даже обидѣлся.
— Что ты мнѣ несообразное говоришь!—возразили оиъ Моисею.—Ты бы долженъ постыдиться даже вспоминать мнѣ объ этомъ! Пли ты не видишь, какъ я старъ, и все тѣло мое уже одряхлѣю и умерло!
Моисей же все стоялъ на своемъ п говорилъ, что какъ человѣкъ ни будь старъ, но, пока онъ живъ, ему. все равно, не безопасно побывать въ Египтѣ.
Старецъ такъ разсердился, что назвалъ Моисея нескромнымъ и соблазнительнымъ, а самъ сейчасъ же всталъ и ушелъ отъ него въ Египетъ. Слава же этого старца была столь велика, что его уже и въ Египтѣ знали, и объ его замѣчательной жизни разсказывали др\гъ другу. А потому, какъ только старецъ появился въ Египтѣ, такъ и стали приходить къ нему разные люди за духовными наставленіями и исцѣленіями. II сначала все шло очень хорошо, но одинъ разъ «иріиде также по вѣрѣ Божіи послужити ему и нѣкая дѣва». Она была чѣмъ-то неисцѣлимо больна, «но по лѣтѣ единемъ старецъ исцѣли ее и впадъ съ нею въ грѣхъ и она явися непраздна». Люди, приходящіе къ старцу, стали замѣчать особенное положеніе дѣвушки и начали говорить объ этомъ различно. «А простая же чадь прямо вопроси ее: откуду се иманіи?» Дѣвушка отвѣчала имъ: «отъ старца». Одни ей вѣрили, а другіе не вѣрили, ибо «бѣ той старецъ вельмп многодѣтенъ». Но старецъ,
— по —
услыхавъ эти разногласія, самъ подтвердилъ слова дѣвушки. Онъ сказалъ: «се азъ сотворпхъ сіе, и вы сохраните отроча рождаюшр<‘ся». «И ради просьбы его бысть родшее-ся отроча отдоено». Спустя же нѣкоторое время въ скитѣ была» праздникъ и собралось много народа, и тогда посреди толпы вдругъ появился оный старецъ, «нося на рамѣ своемъ «проча отдоенное», и вошелъ ьъ церковь и, оборотись къ скитникамъ, сказалъ: «Видите ли это дитя? Это есть плодъ моего непослушанія. Берегите себя отъ этого, потому что ежели такое дѣло могло ступиться со мною, при моей старости, то тѣмъ легче это можетъ случиться со всякимъ і;ь молодости».
«II видѣвшіе это всЬ заплакали».
16) Іюля 2~>. Въ одномъ египетскомъ монастырѣ былъ знаменитый «славный» дьяконъ. Случилось, что мѣстный князь той страны преслѣдовалъ одного простолюдина, у котораго бьпа очень красивая жена. Преслѣдуемый, укрываясь отъ князя, прибѣжалъ съ семьей въ монастырь, чтобы здѣсь сохранили его жену отъ страстныхъ преслѣдованій неистоваго князя. Монахи пріютили супруговъ, но мужъ отъ этого ничего не выигралъ, ибо тутъ «удариста во дьякона непріязненныя силы вражія», и съ женой простолюдина таки-случплось то самое, чѣмъ угрожало ей неистовство князя. Дьяконъ, замѣнившій князя, былъ изобличенъ и пристыженъ, и его опредѣлили «погребсти живаго въ темницу», и такъ и сдѣлали. Дьяконъ долго оставался замурованный; но въ краѣ томъ настала продолжительная засуха, п сколько ни м< лились о ниспосланіи съ неба дождя,—дождя все не было. Тогда явлено было одному старцу, что н.і і,о «извести наружу и поставить къ служенію сокрытаго славнаго дьякона*, ('дѣлали по этому внушенію. и когда размуровали затворъ «и дьяконъ, пзшедъ и вземшп санъ свои», началъ молебствовать — «сошелъ дождь на землю*.
17) Аыуспіа 12. Въ царствованіе Леона, царя ксп тан-типопольскаго, жилъ одинъ очень славный и богатый человѣкъ, который притомъ былъ и чрезвычайно добръ, н» въ то же время быдъ и большой грѣшникъ. Онъ имѣлъ неодолимое влеченіе къ красѣ женщинъ и находился въ постоянномъ съ ними обращеніи, и такъ къ этому привыкъ, что каковъ былъ смолоду — точно такимъ же оставался и въ
старости,—«занеже устарѣся въ немъ той злой обычай». Въ такомъ страстномъ обдержаніи этотъ именитый и добрый человѣкъ и умеръ. При погребеніи его, у патріарха Гермогена и епископовъ, а также и у мірскихъ знатныхъ лицъ въ Византіи возникло огромное недоумѣніе: какъ почитать этого усопшаго, за праведника или за грѣшника, и въ какомъ мѣстѣ онъ долженъ быть помѣщенъ послѣ смерти, то-есіь въ раю ли с ь праведниками,—чего онъ былъ достоинъ по свойствами своей доброй души, или въ аду съ грВшивками, куда ему слѣдовало идти за свои любострастный «обычай». Долго объ этомъ разсуждали важнѣйшій духовные люди въ Византіи и никакъ не могли придти къ рѣшенію. Тогда захотѣли вопросить Небо, и патріархъ Гермогенъ повелѣлъ всѣмъ монастырямъ и затворникамъ молиться, чтобы «явлено было о чЙіовѣііѣ семъ пользы ради человѣческія >. И Небо отвѣтило: открыто было нѣкоторому за-. норнику слѣдующее: «видѣлъ онъ .мѣсто нѣкоі имущее одесную рай, а ошую озеро огненное, и между ближняго рая и страшнаго пламени стояніе привязанъ умершій мужь и злѣ стенашо, позпрая па рай. А ангелъ Господень говорилъ ему: «напрасно, человѣче, стонеши, ибо ради милосердія твоего избавленъ еси отъ муки,—за скверну же любострастія лишенъ рая».
Прослѣдованное нами въ семнадцати «прилогахъ» ясно показываетъ, что изъ тридцати пяти случаевъ, гдѣ имѣетъ мѣсто любовный соблазнъ,—въ семнадцати случаяхь женщины Пролога не обнаруживаютъ никакого обольстительнаго ковлр' тва для совращенія мужчинь, а напротивъ, мужчины сами увлекаются въ эту сторону съ чрезвычайною неразборчивостью и легкостью.
Этимъ кончается первая категорія женскихъ лицъ, за которою слѣдуютъ другія, представляющія собою характеры болѣе сложные и болѣе интересные.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Прямыми соблазнительницами женщины Пролога являются въ слѣдующихъ исторіяхъ:
1<ч) (1) Окіняоря 7. Въ Александріи быль славный художникъ, дѣлавшій необыкновенно изящныя вещи изъ серебра и золота. Его звали Зенонъ (въ Прологѣ онъ назы
вается «златокузнецъ»). Онъ былъ потаенный христіанинъ. По художеству его ему нигдѣ не было равнаго. Самыя именитыя женщины роскошнаго города наперебой непремѣнно хотѣли имѣть украшенія, сдѣланныя этпмъ искуснымъ мастеромъ, а Зенонъ не успѣвалъ исполнять всѣхъ дѣлаемыхъ ему заказовъ. Богатыя щеголихи Александріи шли наперебой одна передъ другой и платили очень дорого, чтобы перещеголять другъ друга, но только и это не помогало. Тогда въ Александрію пріѣхала изъ Антіохіи одна молодая красавица, необычайно своенравнаго и настойчиваго характера. Она имѣла привычку ни предъ чѣмъ нр останавливаться для достиженія своей самомалѣйшей цѣли, а цѣль ея въ Александріи была превзойти здѣсь своею пышностью всѣхъ александрійскихъ женщинъ. Имя ея было Иефорисъ или ІІефора. Вся Антіохія знала се, какъ самую первую красавицу, затмевавшую собою всѣхъ иныхъ въ рощѣ Дафны. Она захотѣла во что бы то ни стало имѣть «головную утварь на красоту своего тѣла» и не послала звать къ себѣ художника, потому что знала, что Зенонъ откажется, а она взяла золото и драгоцѣнные камни и сама пошла къ нему и стала его «умолять»—сдѣлать для нея такое головное украшеніе, которое какъ можно болѣе шло бы къ ней и еще сильнѣе возвысило «красоту ея изящнаго тѣла».
Зенонъ, удаляясь отъ шума, жилъ за городомъ въ красивой мѣстности, до которой было довольно далеко. ІІефора шла сначала тѣнистою аллеей, по которой ей встрѣчались рабы, несшіе въ паланкинахъ женщинъ, и съ грохотомъ проѣзжали колесницы на коняхъ съ подстриженными грива чп; потомъ путь становился безлюднѣе и тише. Отъ аллеи начинались мелкіе свертки по тропинкамъ въ удолья, утонувшія въ рощахъ. У одного изъ этихъ свертковъ подъ вѣтвистымъ деревомъ сидѣлъ старикъ и кормилъ своего верблюда. Лефора спросила его, гдѣ живетъ Зенонъ злагокуз-пецъ. Онъ ея указалъ на потяну, гдѣ зрѣли ароматныя дыни, межъ сирени, жасминовъ и розъ, а сзади катился ручей и за нимъ въ чащѣ кустовъ стоялъ бѣлый домикъ. Вокругъ было тихо- только черные дрозды сидѣли на бѣломъ карнизѣ и пѣли. Двррѳй не было видно. ІІефора ударила три раза въ стѣну—и передъ пей раздвинулась панель п ее встрѣтилъ Зенонъ.
Онъ былъ пораженъ и недоволенъ ея посѣщеніемъ, по принялъ ее въ свою мастерскую. Это была большая квадратная комната безъ оконъ,—свѣтъ проникалъ въ нее черезъ потолокъ, сквозь фіолетовую слюду, отчего всѣ вещи казались обвитыми какою-то тонкою дымкой. По серединѣ комнаты стоялъ бронзовый ибисъ и изъ его клюва струилась свѣжая вода: въ углахъ помѣшались обширные тазы, въ которыхъ росъ златоглавый мускусъ и напоилъ всю атмосферу своимъ запахомъ. Всѣ стѣны были покрыты худо-жсствснны.ми произведеніями искусства. 3 і,ѣсь были п Анисъ, и фараоновы кони, и шесты, и посуда.
Застигнутый дома, врасплохъ, «златокузнецъ» не могъ отдѣлаться отъ этой бойкой и настойчивой гостьи н сталъ съ ней разговаривать, невольно замѣчая, что она чрезвычайно красива и одѣта къ лиц/, такъ чго красота ея выдается еще ярче. Чернокудрая голова ея была покрыта широкимъ и тонкимъ полосатымъ кефьс, мягкія складки котораго облегали, какъ воздухъ, ея черноспнія ку ірп. Кефье перевязано было желтымъ шнуромъ. Ея уши, р к.и и пальцы были ткрашены серьгами, кольцами и браслетами, а па шеѣ было золотое ожерелье изъ множества- тонкихъ цѣпочекъ и на концѣ каждой изъ нихъ дрожали жемчужные перлы. Рѣсницы ея были подведены, а концы пальцевъ подрумянены и тонкіе ногти отливали радужнымъ перламутромъ. Па иоцсЬ ея, который обхватывалъ пріятнаго сѣраго цвѣта тѵнику съ красною каймой, висѣло маленькое зеркальце и такой же маленькій сосудъ съ пахучею индійскою эссенціей.
Она сѣла, не ожидая приглашенія хозяина, погляділась въ свое зеркало, прыснула на себя и передъ собью дух і ми и пригласила художника, чтобъ онъ помогъ ей обсуждать: какъ ей можно еще «пріумножить ея красоту». П когда увидала, что онъ растерялся, то, дабы не дать ему опомниться и сразу преклони гь его па свою сторону и получить отъ него такѵю изящную «утварь», какой нѣтъ пи у какой другой именитой женщины во всей Александріи, она стала прелйщать его своею красотой, съ намѣреніемъ довести это до крайняго результата. «Тогда,—думала она,— онъ, какъ любовницѣ своей, сдѣлаетъ для меня уборъ всѣхъ лучше, а вреда моей чести отъ этого никакого не будетъ, ибо никто даже и не ш> думаетъ, чт*> я. будучи столь знатна
и богата, согласи іась бы такою цѣною златокузню его купить». Подходы щеголихи были такъ ясны, что художникъ не могъ ихъ не понять; но она еще ихъ усилила, — она сказала ему:
— Здѣсь жарко, и ты долженъ виді.ть гѣло мое безъ постороннихъ прикрасъ: сѣрый и красный цвѣтъ оттѣняюсь цвѣтъ моей кожи. Я должна сбросить тунику.—II она ее сбросила, и въ это же время вилась передъ нимъ, перемѣняя прически, а онъ примѣривалъ къ ея лицу и головѣ то тѣ, то другія снизи и пронизи и безпрестанно имѣлъ въ своихъ объятіяхъ ея тѣло. покрытое одною сорочкой, которая держалась застежкой на правомъ плечѣ и шла внизъ йодъ лѣву> руку, такъ что въ глаза ему била прелесть ея ті іа, и это его туманило... Художникъ «б.іазняшася на ню», а она ему «подаяніе номизаіре очима и неподобенъ смѣхъ». Онь опускалъ своп вѣки, чтобъ ея не видѣть, но она, смѣясь, насильно открыва іа ихъ своими тонкими пальцами,—онъ опять ее видѣлъ и д\ша его играла и прыгала, какъ молодая лань бъ горахъ пли какъ годный потокъ въ сіремнинахъ Ливана. Зеновъ просилъ се удалиться. Нефора смѣялась и тихо шептала: «зачѣмъ?»
Я хочу быть царемъ моей совѣсті
— 3! оставь это! Повѣрь, веселѣе быть червемъ, гложущимъ тутовый листъ въ рощѣ Дайны, чѣмъ томиться въ царственной скукѣ. Дай мнѣ вина и лобзанье въ память нагого ребенка!
Зенонъ ей подалъ фіалъ; она. отпила половину, а другую половину, смѣясь, влила ему во уста и держала его все это время въ (‘вопхъ объятіяхъ, а потомъ, бросивъ пустой фіалъ, поцѣловала Зенона въ честь Вакх і...
Страсть, какъ темная гора, покрыла сердце Зенона.
Случай йогъ быть чрезвычайно опаснымъ для обоихъ, по златокузнецъ а.шкеан іріискій был ь тайный христіанинъ, и это спасло обоихъ. Въ самую безумную минуту, «егда устремися уже грѣху, — помянуся художному мужу слово евангельское: аще соблазняетъ тебя рука твоя или нога — отсѣцы ее, или око—избоди е». II онъ, воззрѣвъ на жену, рече: «мало ми отступи» (отойди немножко) и изсмі. ножъ у дари ся въ око десное и рече: «Виждь, Господи, яко сохранитель заповѣди Твоя семь,—да егда и азъ востребую
помощи отъ 1 ’ебя — Гы но удалися». Соблазнительница ужаснулась и убѣжала.
Вскорѣ въ Александріи случилось гоненіе на христіанъ. Гонитель ихъ былъ человѣкъ не тоіько жестокій, но и насмѣшливый, — ішъ хотѣлъ издѣваться надъ христіанами и, призвавъ ихъ епископа, сказалъ ему: «Не нахожу въ вашей вѣрѣ ничего основательнаго и твердаго, да не вѣрю, чтобы вы и сами могли вѣрить въ то, о чомь разсказываете. Вотъ я задамъ вамъ рѣшительное испытаніе: если вы его выдержите, то вы останетесь цѣлы, и все, что у васъ есть,-ваше будетъ; а если не выдержите, тогда я поступлю съ вами, какъ съ обманщиками, и оберу у васъ все, что вы имѣете, на государя. Испытаніе же вѣрѣ вашей назначаю вамъ по вашимъ книгамъ; тамъ написано: если кто имѣетъ вѣру и скажетъ горѣ—-«стронься съ мѣста и иди въ воду», то будто гора непремѣнно тронется и пойдетъ. Вонъ, видите, тамъ недалеко отъ берега Нила есть гора Адеръ. Она стоитъ .амъ много лѣтъ, огнемь земнымъ выдвинутая еще въ началѣ созданія земли, когда не было ни пирамидъ, ни сфинксовъ, ни праотневъ нашихъ, трудившихся надъ этими постройками. Выберите изъ себя такого истинно вѣрующаго, который могъ бы едьлать надъ «Одеромъ то, что представляется за возможное въ вашихъ книгахъ; если гора Ад»-рь стронется еъ мѣста и пойдетъ, то я повѣрю, что въ вашихъ книгахъ писана правда, а если вы ничего этого не сдѣлаете, то вы тѣмъ докажете, что всѣ вы лгуны, и тогда я поступлю съ вами какъ съ недостойными \ важенія обманщиками, а всѣ ваши имущества возьму у васъ на государя,
Христіане пришли въ ужасъ. Онп знали, что ихъ правитель жестокъ и пощады имъ отъ него не будетъ: если гора Адеръ не тронется ед, своего мѣста и не пойдетъ въ Нилъ, тогда всѣмъ имъ доведется погибнуть съ позоромъ, а все добро, которое онп собрали трудами въ теченіе всей своей жизни, будетъ расхватано или поверстано въ казну, а дѣти ихъ останутся нищими и съ осмѣянною религіей и безъ руководства родителей перейду гь въ вѣру торжествующихъ отцовскихъ мучителей...
Въ такомъ ужасномъ положеніи всѣ христіане, жившіе въ сосѣдствѣ горы А дера, надѣли на себя ненодрубленныя одежды печали, постились, молилпсь и плакали, а между тѣмъ время шло и приближался уже срокъ, назначенныя
Сочиненія Н. С. Лескова. Т. ХХХПІ. ДО
правителемъ. Пикто,—пи одинъ изъ христіанъ не чувствовалъ въ себѣ той увѣренности, чтобы сказать горѣ при лю -дяхъ: «стронься съ мѣста и иди въ воду».
Скорбь христіанъ сдѣлалась извѣстна и иновѣрнымъ людямъ въ городѣ, и тогда къ христіанскому епископу пришла тайно та самая египетская красавица, которая ранѣе приходила соблазнять «златокузнеца», и она сказала епископу:
— Я узнала о вашемъ горѣ и мнѣ васъ жалко; но вы, можетъ - быть, напрасно приходите въ отчаяніе, ибо если только вѣрѣ все возможно, то у васъ есть такой человѣкъ, который имѣетъ настоящую вѣру, и его вѣра можетъ выдержать всякое испытаніе.
— Какъ! — воскликнулъ епископъ: — неужели ты, нс-христіанка, увѣрена, что гора можетъ сдвинуться?
— Да, я вѣрю въ это потому, что я видѣла вѣру, которая преодолѣла закопы естества; по меня очень удивляетъ, что этого-то одного человѣка я и не вижу между тѣми, когорыми ты себя здѣсь окружаешь и съ которыми совѣтуешься!
•— Скажи же скорѣе, сострадательная госпожа,—кто опъ такой?
— Онъ златок} знецъ, художникъ.
— Неужто Зенонъ окривѣлый, который дѣлаетъ кумиры
и утварь для женскихъ уборовъ?
— Да, это Зенонъ.
— Помилуй!—воскликнулъ христіанскій епископъ: — ты
говоришь невозможную вещь.
— Почему?
— Зенонъ искусный художникъ, ни слова объ этомъ; по онъ вь вѣрѣ нашей не крѣпокъ, онъ въ постоянномъ общрпьѣ съ людьми разныхъ вѣръ, и ты имя его можешь ^видѣть на исподахъ различныхъ кумировъ, — крокодиловъ мерзостныхъ, страстнаго ибиса и быка съ чернымъ пятномъ и копен фараона; притомъ Зенонъ часто бываетъ лѣнивъ: онъ не поспйваетъ къ общей со всѣми молитвѣ; въ день недѣльный, когда много заказовъ, опъ одинаково трудится, будто какъ въ будень; онъ живетъ безъ жены и нимало не занятъ тою мыслію, чтобъ учредить себѣ семью или удалиться въ пустыню, а онъ охотно разговариваетъ съ посторонними женщинами, которымъ онъ пужснь, и угождаетъ пхъ суетности.
-— Можетъ-быть, все это правда,—отвѣчала гостья:—по, быть можетъ и то, что все это пе такъ важно, какъ тебѣ кажется.
— Зхъ, пЕтъ, госпожа,--что ужъ касается степени важности въ вѣрѣ, то ты повѣрь, что намъ это ближе извѣстно.
—• Я и не спорю,—отвѣчала Нефорисъ:—такъ и должно быть, чтобы вамъ все было лучше извѣстно; по услышите и то, чтб я знаю о вѣрѣ Зенона.
— Что же тебѣ стало извѣстно?
— Мнѣ извѣстно, чго Зенонъ покорилъ себя волѣ Учителя вашего, котораго всѣ вы зовете Сыномъ вашего Бога, и при мнѣ показалъ такую силу любви къ Его слову, какой, можетъ-быть, никто пзъ васъ не видѣлъ.
Епископъ попросилъ ее, чтобъ она разсказала, что такое опа видѣла, и Нефорисъ съ полною откровенностью разсказала ему всю соблазнительную сцену, которую опа устроила художнику изъ желанія имѣть отъ него искусный уборъ на голову.
Старецъ всплеснулъ руками. Ему было извѣстно, что златокузнецъ недавно окривѣлъ па одинъ пазъ; но онъ не зналъ, отчего это случилось съ Зенонамъ. Услыхавъ разсказъ красивой ІІефоры, епископъ понялъ всю трудность борьбы, которую одолѣлъ художникъ, и далъ цѣну его поступку. Онъ благодарилъ гостью и сказалъ ей:
— Вѣрь, прекрасная госпожа, это никогта не позабудется въ нашемъ народѣ, что ты пожалѣла о насъ и не скрыла этого происшествія, которое при совершеннѣйшей красотѣ твоей для всякаго должно быть удивительно, и я согласенъ съ тобой, что Зенонъ доказалъ свою вѣру своимъ послушаніемъ: я сейчасъ пошлю звать его, чтобъ онъ сдвинулъ гору.
Въ тотъ же часъ отъ епископа пошли за Зенономъ послы, чтобы онъ немедленно явился, а антіохійская модница. разсказавъ свою тайну и тайну Зенона, ушла, чтобы съ нимъ тутъ но встрЕтигься. Ни епископъ, ни бывшіе при немъ люди не уразумѣли настоящихъ намѣреній гостьи. Египтянка Н<*фора, растлившая ужъ свой въ Антіохіи на безумныхъ пирахъ въ рощѣ Дафны, не знакома была съ состраданіемъ, но мстила Зенону за его равнодушіе и нарочно выставляла его на самио отвѣтственную роль, въ которой онъ дилжень быть народомъ осмѣянъ.
Кривой златоіпзнецъ не скоро пришелъ изъ своего заю-
роднаго дома, а когда пришелъ п епископъ разсказалъ ему, что отъ него требуется, чтобъ онъ сдвинулъ гору, то онь этому очень удивился и отвѣчалъ:
— Господи, Боже мой! Чтб только я слышу! Піи вы это вздумали въ шутку, чтобы посмѣяться надо мной!
— Какъ!—отвѣчали ему:—да ты развѣ не знаешь, какое надъ нами случилось бѣдствіе?
— Скажите скорѣе! я живу далеко и отъ молвы городской въ сторонѣ, и ничего не знаю.
— Нашъ правитель велѣлъ намъ для испытанія вѣры нашей, чтобы мы сдвинули съ мѣста гору Адеръ.
— О, Боже великій! кто жъ это долженъ исполнить?
Па это всѣ вдругъ ему отвѣтили:
— Ты!
Художникъ подумалъ, что онъ ослышался, и воскликнулъ:
— Что? Я не слышу, что вы сказали?
По народъ еще громче вскричалъ въ одно слово:
— Ты, Зенонъ, ты сдвинешь гору!
Зенонъ закрылъ себѣ ладонями уши и стоялъ въ молчаніи минуту, а когда открылъ слухъ, — опять оглушилъ его тотъ же самый крикъ-
— Ты, Зенонъ, сдвинешь гору!
— Такъ это не въ шутку на. меня возложили?
— Да, Зенонъ, да' Ты это сдѣлай. Мы всѣ тебя просимъ.
Зенонъ покачалъ головой и сказалъ:
— Кто научилъ васъ задавать мнѣ такую задачу? П -ужели я во всей общинѣ всѣхъ лучше вѣрю, и нѣтъ человѣка, котораго смѣлѣе можно бы выставить на такое великое дѣло—испытаніе вѣры.
А епископъ ому отвѣчала.:
— Напрасно, Зенонъ, ты стараешься спрятаться за свое смиреніе! Мы сами считали тебя въ вѣрѣ некрѣпкимъ, на узнали одну твою тайпу и тепеЕь перемѣнили свое мнѣніе. Ты напрасно будешь отговариваться: ты одинъ можешь сдвинуть гору.
— Но объясните мнѣ... о какой такой моей тайнѣ вы говорите?
— А отчего ты потерялъ глазъ?
— Глазъ?
- Да!
Зенонъ смутился и поникъ головой.
— То-то и дѣло,—сказалъ ему, ударяя его по плечу рукой, епископъ: — сюда приходила красивая госпожа и все про тебя разсказала. Въ тебѣ природа повинуется Богу. Мы знаемъ теперь, какъ ты освободилъ себя отъ соблазновъ, входившихъ въ сердце твое черезъ глазъ: ты его выкололъ. Не марай себя ложью, скажи намъ: такъ это было?
—• Такъ,—уронилъ тихо Зенонъ.
— Я старъ, но не даромъ я избранъ въ епископ®: п понимаю, какое ты сильное одолѣлъ искушеніе. Вѣрѣ твоей больше нельзя да и не должно таиться; какъ старшій въ общинѣ нашей, я совлекаю съ тебя темный хитонъ твоего смиренія. Отселѣ ты, Зоной ь, долженъ просіять всему міру и спасти насъ передъ издѣвающимся гонителемъ.
Кривой художникъ очень долго отказывался; но епископъ не освобождалъ его отъ труднаго послушанія, а видя его непреклонность, сказало людямъ, чтобы всЬ люди Зенона просили, и тѣ всѣ стали плакать, бить себя вг. груди и громко кричать:
— II іи ты, строя крокодиловъ изъ золота, и самъ уже сталъ крокодилъ, а не человѣкъ, и не имѣешь состраданія? Отчего же ты умѣлъ спасти себя одного, а теперь все множество людей хочешь оставить въ жесточайшемъ бѣдствіи? Устыдись своего жестокосердія, испробуй свою вѣру, повели горѣ Адеру двигаться н идти въ воду, чтобы всѣ мы оста-лися цѣлы въ нашихъ жилищахъ!
Такого общаго жалостнаго вопля художникъ не выдержалъ.
— Братья мои, — сказалъ онъ: — не укоряйте меня въ томъ, что я мастерствомъ моимъ произвожу изъ камней и изъ золота подобія созданныхъ въ природѣ твореній. Отъ этого нѣгь никакого зла, и самъ я не сдѣлался черезъ то ни камнемъ, ни золотомъ, и скорбь ваша жжетъ мое сердце. Повѣрьіе, что если бы для спасенія вашего нужно вамъ было, чтобъ я выкололъ себѣ второй глазъ, то я бы это сдѣлалъ сейчасъ же и не искалъ бы себѣ за то ни возмездья. ни славы; но повелѣть горѣ, чтобъ она двинулась съ мѣста и поверглась въ Нилъ—я не могу, потому что я не вѣрю, чтобы слабая вѣра моя на это годилась. Не себѣ, а всііыч» вамъ, всѣмъ христіанамъ, я боюсь сдѣлать укоръ и ученію Христа постыжденье, ибо не мнѣ ту вмѣнятъ неудачу, а Его станутъ укорять безразсудно.
А тѣ отвѣчали:
•— Оставь, Зенопъ, оставь! И мы, и списковъ, всѣ тебѣ вѣримъ, что крѣпка твоя вѣра., и потому по медли, спѣши прославить всеобщее упованіе па вѣру твою: помолись и повели горѣ идти съ мѣста!
Кривой златокузнецъ воздвпгну.іъ плечами и воскликнулъ:
— Всемогущій и Вѣчный Отецъ! Ты видишь скорби этихъ людей, которымъ Ты далъ уразумѣть Тебя черезъ Іисуса, Отрока Твоего! Передъ Тобою открыта безконечность вселенной и всѣ глубины бездны, ио Ты же видишь и терзаніе моего сердца, которое не можетъ сносить слезъ моихъ братьевъ. Прости мнѣ., что смѣю Тебя умолять,—не постыди насъ всѣхъ, оживившихся вѣрою, и соверши невозможное, какъ возможное, ибо Твоя есть сила п слава во вѣки!
Всѣ алсксандріыскйу христіане повторили эту краткую молитву кривого художника и всѣ сразу, поднявшись, запѣли псаломъ и пошли изъ города въ смиреньѣ толпой къ горѣ А деру, а впереди ихъ шелъ, тихо молясь, ихъ епископъ.
О движеніи христіанъ въ тотъ же часъ дали знать градоправителю, у котораго въ ту пору было много именитыхъ гостей, п онъ, и всѣ ого гости захотѣли поѣхать къ горѣ, гдѣ надѣялись видѣть, какъ будутъ смѣшны христіане. Градоправитель, въ пурпуровой съ золотомъ тогѣ, ѣхалъ впереди всѣхъ въ колесницѣ, выложенной серебромъ и слоновою костью, съ львиными головами на ганкахъ, гдѣ колеса были привернуты къ оси. Вороные кони его были прямые потомки коней фараона; ихъ челки п остриженныя гривы покрыты золотою тяжелою сѣткой работы Зенона, поводья изъ золотистаго желтаго шелка съ золотой бахромою. Въ другихъ колесницахъ также парадно ѣхали гости. Къ шімъ приставали по пути прохожіе на убранныхъ ослахъ п дорого стоившихъ бѣлыхъ верблюдахъ съ пушистою шерстью. Пѣшіе люди въ большомъ изобиліи ихъ окружали несмѣтной толпою. Явились крестьянки съ кувшинами свѣжей воды и съ корзинами фруктовъ. Толпа становилась все больше и больше, и псѣ шутили п смѣялись, ожидая, что когда гора не пойдетъ, то правитель дастъ знакъ отряду слѣдовавшихъ за ними воиновъ, и они сгонятъ христіанъ къ Пилу и всѣхъ ихъ помечутъ съ берега въ воду. Появились на старыхъ ослахъ и закладчики съ мѣшками монетъ п съ таблицами, на которыхъ писали заклады. Пикто
ни секина не хотѣлъ держать за то, что гора сдвинется, но держали за то: всѣхъ ли утопитъ правитель, или только немногихъ, а другихъ отдастъ въ рабство.
Между тѣмъ христіане съ епископомъ, не спѣша, подошли къ подошвѣ горы, опять помолились и пошли обходить гору вокругъ. Со смиренной молитвой онп обошли «все основанье горы*, и когда возвратились на то мѣсто, откуда начали обходъ, то епископъ сказалъ кривому художнику, чтобъ онъ еще помолился. II чуть художникъ преклонилъ колѣно, какъ подъ землей послышался гулъ, и гора Адеръ колыхнулась, какъ шапка на сонномъ феллахѣ.
Толпа горожанъ, забывъ смѣхъ и заклады, шарахнулась назадъ и испугала коней и верблюдовъ; вышло смятеніе, колесницы одна зацѣпляла другую, верблюды зафыркали и подняли шеи, а ослы закричали и начали биться...
Напрасно трубили въ рожокъ и напрасно кричалъ градоправитель: «Уймитесь, безумцы! Это не больше, какъ грохотъ колесъ, пли простои гулъ отъ волнъ Нила!»
Всякій чувствовалъ, что земля подъ нимъ колебалась, и замѣтили всѣ, какъ кремнистыя ребра горы впали, потомъ вдругъ напряглись, вышли наружу и стали крошиться. Осколки острыхъ камней и песокъ сыпались внизъ, и норой, какъ изъ пращи, разлетались въ стороны съ трескомъ: внизу же необъятнымъ пластомъ ползли оползни глины... Казалось, какъ будто разрушалось созданье горы, а разстояніе, которое отдѣляло Адеръ отъ Нила, на виду у всѣхъ начало убавляться сь обѣихъ сторонъ, ибо вода въ рѣкѣ также шумѣла, билась на берегъ и затопляла пространство...
Тутъ не только тѣ, которые были на мѣстѣ, но всѣ, кто оставался въ Александріи, такъ испугались, что потеряли всякое обладанье собой; всѣ бросились скорѣе вонъ изъ своихъ колебавшихся домовъ и устремились бѣгомъ къ подножію Адера. Среди нихъ, то мілпаясь въ толпѣ, то выдвигаясь впередъ, шла въ волненіи Нефорисъ и говорила всѣмъ о своемъ поведеніи, и о стыдѣ, и о страхѣ, которые испытывала она у Зенона, и этотъ Зенонъ теперь по ея винѣ погибаетъ. На нее смотрѣли какъ на сумасшетшую. Гдѣ спокойно стояли одни христіане со своимъ епископомъ и кривымъ художникомъ.—всѣ тѣ, которые пришли сюда съ торжествомъ и насмѣшками, метались, рыдали и, хватаясь одинъ за другого, другъ друга отталкивали, чтобы не стать
тяжелѣй отъ того, что другой человѣкъ держится, и не провалиться съ нимъ вмѣстѣ въ трсіцины, которыя, къ вящшему ужасу, стали обозначаться подъ осѣдавшею глиной.
Тогда прибѣжавшіе александрійцы издали закричали христіанамъ:
— Безчинные люди! вотъ до чего довело насъ милосердіе, съ которымъ мы васъ терпѣли! Чтб вамъ за польза дѣлать намъ зло? Для чего вы ведете недвижную Адеръ-гору съ ея вѣковѣчнаго мѣста? Для чего хотите завалить нашу рѣку? Пилъ орошаетъ всѣ наши поля и дынныя гряды; черезъ его мѣрный разливъ земля всѣхъ насъ кормитъ, а вы хотите сдѣлать такъ, чтобы гора запрудила сразу всю воду и чтобы Пилъ выступилъ вдругъ и началось по всѣмъ полямъ п по дыннымъ грядамъ потопленіе! О, проклятый народъ! о, жестокіе люди! И вы еще смѣете уничтожать крокодиловъ! Пѣтъ людей хуже васъ во вселенной! Вы злѣй гальскпхъ друидовъ и вашъ Богъ — Арп-мана персидскаго злѣе!
Тогда христіанскій епископъ поднялъ руку и отвѣчалъ александрійцамъ:
— Богъ христіанскій проститъ и въ вину не поставить вамъ то, чтб вы, не зная Его, о Немъ говорите. Онъ есть Отецъ всѣхъ и Отецъ милосердія. Вы въ заблужденіи. Не мы, христіане, хотѣли, чтобы нарушенъ былъ священный покой мірозданія. Если же гору ведемъ, то не своею мы это дѣлаемъ волей.
— Кто же могъ вамъ это велѣть?
— Спросите о томъ своего градоправителя: это онъ повелѣлъ намъ, а мы, христіане, повинуемся власти.
Въ это время проносили въ носилкахъ градоправителя, которому въ суматохѣ переѣхало колесницею ноги, и онъ услыхалъ это и, тяжко стоная отъ мучительной боли, воскликнулъ:
— О, какъ я наказанъ, п какъ о безумствѣ моемъ сожалѣю! Но довольно: я вѣрю вамъ, вѣрю, великъ Боіъ христіанскій, и я пе хочу впередъ съ Нимъ состязаться! Если вы въ самомъ дѣлѣ не противитесь власти, то теперь я повелѣваю вамъ: сейчасъ же остановите гору!
— Господинъ, — отвѣчалъ ему христіанскій епископъ:— мы власти покорны, но мы не знаемъ, можемъ ли мы исполнить второе твое повелѣніе. Ты вѣдь самъ перечиталъ наши
книги и ихъ знаешь: тамъ точно сказано, что можно велѣть горѣ двинуться и идти въ воощ но припомни—тамъ вѣдь ничего нѣтъ о томъ, можн< ли остановить гору, ког іа она уже тронулась и пошла со своего мѣста.
Земли же между горою и Ниломъ въ это время все убавлялось; ползучая глина тѣснила народъ съ одной стороны, а. вода хлестала съ другой, и песокъ въ промежуткѣ засыпалъ людей по колѣно.
— Земля поглощаетъ насъ!—воскликнули люди. — Проклятіе правителю! Смерть ему, ненавистнику! Великъ Богъ христіанскій!
Тогда правитель остановилъ носилки и сталъ просить александрійцевъ простить ему его дерзость; но тѣ его не слушали, а сами упали предъ христіанами на колѣни и завопили:
— Святая ві.ра ваша, и всѣ мы хотимъ принять эту вѣру. Возьмите нашего правителя; мы отдаемъ вамъ его и даже сами сейчасъ бросимъ его въ Нилъ предъ вами, только спасите насъ.—пусть гора станеть.
Епископъ сказалъ имъ:
— Пѣгъ. Вы не знаете, какого мы духа. Намъ не желанна погибель ничья. Богъ не хонгтъ смерти грѣшныхъ. Со смертью кончается путь къ исправленію. Всякій же здѣсь себя обязанъ исправить. И правитель нашъ тоже жизнь имѣетъ отъ Бога. Пусть живетъ, пока дни ого совершатся. Злое отвергши, въ сердцѣ съ одною любовью воскликнемъ всѣ безъ различія:
— Помилуй, Владыко!
Помилуй! помилуй!—прокатило въ и ірот,ѣ, и всѣ пали лицами въ землю.
Все стало стихать; вѣтеръ умчался, осыпи крѣпля, сухіе камни перестали лопаться и крошиться, влажные оползни огустѣвали и твердѣли. Епископъ все тихо молился. Порядокъ возстанавился. Гора, которая двинулась но вѣрѣ художника, стала на своемъ мѣстѣ по молитвѣ епископа. Люди и животныя какъ бы пробуждались отъ сна. Всѣ наслаждались покоемъ, кони трясли головами, а верблюды лежали, поджавъ подъ себя широко-копытныя лапы и жевали свою безконечную жвачку. 11а деревьяхъ показались глиноцвѣтные голуби и заворкова.пі. Нефорисъ благов Ьствовала: опа
незамѣтно подошла тихо къ Зенону и, держа рго за руку, говорила:
—• О, если бы ты зналъ, какъ мнѣ тебя жаль, и какь я чту и люблю твоего Бога и какъ укоряю себя!
— Въ чемъ ты себя укоряешь?
Око... твое гдѣ, твое око, бѣдный Зенонъ!
— Оставь это. Зенонъ блаженъ, а не бѣденъ. Я счастливъ, Нефора, что вижу въ тебѣ однимъ окомъ теперь тихую мысль христіанки, и ты сама мнѣ милѣй, чѣмъ тогда... когда я въ два глаза смотрѣлъ, какъ лицо твое рдѣло безстыдствомъ порока.
— О, замолчи!.. Я призналась во всемъ передъ всѣми... Ты очень достойно поступила, Лефора.
-—- Да, теперь я удаляюсь... въ пустыню.
— Въ пустыню!.. Помедли, на тебѣ есть мой долгъ.
•— Долгъ мой!.. Чѣмъ должна я тебѣ?—удивилась Нефора.
— Чтобы исполнить совѣтъ моего Учителя, я отдалъ мой глазъ; ты была въ этомъ отчасти причинна; но когда ты не пожалѣла себя и обнажила передъ людьми свой сокровенный грѣхъ — ты себя исправила и привлекла меня къ себѣ. Мы теперь одного духа и можемъ быть подпорой другъ другу... Для чего намъ теперь разставаться? Нефора! будь ты женою Зенона!
И онп сдѣлались супругами.
Отсюда видимъ, что соблазнъ, устроенный художнику модницей III вѣка, не имѣла, успѣха. Египетская красавица по только не могла соблазнить нравственнаго человѣка, но еше сама была поражена твердостью христіанскихъ правилъ, п вся эта исторія послужила къ обращенію въ христіанство множества людей, не признававшихъ до тѣхъ поръ ничего выше соблазновъ чувственности.
Кривой художникъ «сдвинулъ» эту гору *).
Второй случай соблазна.
19) (2) Дкабря 24. Былъ монахъ Никола, который прежде служилъ въ войскѣ. Когда при Никифорѣ царѣ случилась война, онъ не утерпѣлъ, чтобы оставаться при мирныхъ запятіяхъ въ монастырѣ, и опять пошелъ воевать.
*) Нельзя по подивиться, какъ это сказаніе могло оставаться до сихъ поръ незамѣченнымъ тѣми, которые держатся буквальнаго пониманія словъ: «отсѣки и брось!».
Никола былъ родомъ грекъ и находился въ цвѣтущей порѣ возраста. Онъ былъ высокій ростомъ, статный, сильный и красивый и съ молодецкою, военною выправкой.
Когда Никола проходилъ по Болгаріи, на него постоянно обращали вниманіе женщины, а онъ не замѣчалъ ихъ; по вотъ случилось ему разъ зайги переночевать въ одну болгарскую гостиницу, и тутъ случилось съ нимъ пѣчто опасное.
Пока онъ ходилъ, вечерялъ п потомъ укладывался спать, «примѣтила его юная болгарыня, лѣвица вельми младая, дочь гостинника болгарскаго, и плѣнилась его красотой». Инокъ же, воинственный Никола, ничего этого но подозрѣвалъ; онь спокойно поужиналъ, помолился Богу и легъ спать, п какъ онъ отъ дороги очень усталъ, то сейчасъ же и заснулъ очень крѣпко. Но только-что онъ разоспался «ко второй стражѣ нощи», неожиданно почувствовалъ, что его кто-то тихо, но неотступно потрогпваетъ. Монахъ простеръ руки и ощутилъ горячее человѣческое тѣло п встрѣтилъ молодыя, тонкія руки, которыя страстно сплелись съ его руками, и въ то же время чьи-то страстныя уста во тьмѣ стала покрывать лицо его поцѣлуями. А при этомъ всѣ прочіе люди, ночевавшіе въ гостиницѣ, спали крѣпкимъ сномъ и никто не магъ бы Помѣшать страстной сценѣ, по инокъ самъ освободился отъ искушенія.
ІІыкола «воспряну», отстранилъ оть себя ласкающую его прелестницу и «вопроси се: кто есп и чесо хощешк?»
«Она же отвѣща ему: дщерь есмь гостинникова. — раченіемъ любви къ тебѣ уязвленна и притскоша влеку іцнея страсти ради неисцѣльныя».
Монахъ началъ останавливать страстную болгарку, и попомнилъ ей, какъ она еще молода, и что ей должно стараться соблюсти свою дѣвичью чистоту, чтобы вступить честно въ бракъ или сдѣлаться инокиней; но дѣвушка такъ имъ увлеклась, что не слушала его нравственныхъ увѣшаній и совѣтовъ, а обратилась къ хитростямъ, чтобы выиграть время и опяіь напасть на него, пе надѣлавъ шума. Она «отползла отъ него», улеглась потихоньку на своей постели и притворилась—какъ будто заснула, но «къ третьей стражѣ нощи паки припадс къ нему влекущій. Тогда Пи-кола опять заговорилъ съ нею уже строго и притомъ громко. Этого дѣвушка испугалась, чтобы другіе отъ ихъ переговоровъ не проснулись, п она «сего ради отступи мало» отъ
Николы, но тяжело дышала и «клегцающе», какъ клегчатъ бъ гнѣздахъ молодыя орлицы, опять кинулась цѣловать Николу. Это уже переполнило «мѣру терпѣнія инока». Монахъ Никола плюнулъ, сказалъ: «ты бѣсъ, а не дѣвушка'-,— и, вставъ, ушелъ ночью изъ гостиницы. Тѣмъ дѣло и кончилось.
Слѣдовательно, и вторая соблазнительница тоже не могла соблазнить нравственнаго мужчину. Теперь увидимъ, какой успѣхъ ждалъ третью, — женщину самую смѣлую и самую настойчивую въ искусствѣ соблазна.
20) (3) Декабря 27. Въ одной нижне - египетской пустынѣ жилъ очень воздержный отшельникъ, о которомъ разсказывали много необычайнаго, и особенно хвалили его за то, что онъ не поддается никакимъ соблазнамъ. Соблазнись его считалось невозможнымъ. Одни этому вѣрили, а другіе нѣтъ. Разъ знатные люди, пировавшіе съ городскими гетерами, переходя отъ одного соблазни гольнаго разговора къ другому, заговорили объ этомъ пустынникѣ, и кто-то изъ нихъ — шутникъ и затѣйникъ—сказалъ одной изъ самыхъ славныхъ гетеръ:
— Вотъ этотъ человѣкъ — не то, чтб мы, — онъ васъ, женщинъ, презираетъ, и никакая красавица его не соблазнитъ.
Гетера же отвѣчала:
— Это пустяки: я никогда не повѣрю, чтобы какой-нибудь мужчина могъ устоять передъ женщиной, если она хороша изъ себя и хочетъ его привлечь къ своимъ ласкамъ.
Съ этихъ словъ завязался оживленный разговоръ, въ которомъ приняли участіе всѣ пировавшія вмѣстѣ гетеры и угощавшія ихъ знатныя лица, и, будучи распалены виномъ и взаимнымъ сближеніемъ половъ, всѣ они стали спорить: возможно или нѣтъ, чтобы мужчина, хоть и благочестивый и постникъ, устоялъ передъ соблазномъ, который поставитъ ему красивая женщина, если она рѣшится ни передъ чѣмъ но останавливаться для достиженія своей цѣли. И гетеры, и знатные богачи высказывали на этотъ счетъ разныя предположенія, и спору ихъ не предвидѣлось конца; но тогда одна самая красивая изо всѣхъ тутъ бывшихъ гетеръ сказала: «Чтобы намъ не толковать объ этомъ долго безъ доказательствъ, я предлагаю вамъ рѣшить споръ нашъ опы
томъ; положимъ сейчасъ же закладъ: могу ли я соблазнить вашего отшельника или нѣтъ. Это больше докажетъ, чѣмъ споръ на словахъ, и будетъ гораздо интереснѣе. А потомъ я пойду и попробую силу моей красоты надъ его благочестіемъ, п мы увидимъ на дѣлѣ, кто пзъ насъ правѣе: вы ли, которые думаете, что на свѣтѣ есть твердые мужи, не-іоступные силѣ женской красоты, пли правы мы, женщины, которыя стояли за силу нашей власти надъ природой муж-члны? Но только я не стану дѣлать этого задаромъ: я хочу знать, что вы мнѣ за это дадите болѣе противъ того заклада, какой я сама за себя положу вамъ?
Пировавшіе же друзья пообѣщали дать ей «очень дорогу ь> вещь».
— Хорошо, — сказала гетера: — я у вѣрена, что низложу вашего старца, и, не теряя времени, сейчасъ къ нему отправлюсь въ пустыню, а вы вставайте за-втра утромъ раньше породъ тѣмъ. когда изъ-за горъ поднимется солнце: возьмите съ собою цвѣтовъ и вѣгвей со смолистыми шишками кедра, пусть за вами несуть кошницы съ сочными гроздями и пусть будетъ все какъ надо идти къ новобрачнымъ, а подъ одежды себѣ сокройте свирѣль и пектпду; когда же прилеге къ пустынной пещерѣ, то приближайтесь безъ шума и тихо туда черезъ тынъ загляните: я вамъ ручаюсь, что анахоретъ вашъ въ утомленіи страсти будетъ лежать въ крѣпкомъ снѣ, преклонясь къ моимъ ногамъ, — и вотъ это будетъ отвѣтъ вамь на вей ваши споры со мною!
Собесѣдники весело согласились такъ сдѣлать. Тогда го-тора безъ малѣйшаго промедленія переодѣлась въ сѣрую одежду съ неподрубленнымп краями и, имѣя видъ скромной странницы, вышла изъ города, а къ вечерх дошла до пещеры отшельника. Придя же кь самой двери отшельника, она притворилась утомленною до совершеннаго изнеможенія п стала просить, чтобъ онъ шсталъ ее къ себѣ переночевать. Старецъ былъ остороженъ и нп за что не хотѣлъ и слышать о томъ, чтобы пустить къ себѣ женщин : опъ отгонятъ ее прочь всякій разъ, какъ она къ нему «вопіяла»; но она не отставала и была очень искусна въ при-тво]ствѣ. Послѣ того, какъ старецъ отгонялъ ее нѣсколько разъ, она начала прежалобно плакать и предеіявлять ему, какимъ страшнымъ опасностямъ она вскорѣ подвергнется, если онъ не пуститъ ее хоть за ограду, окружающую его
пещерку, и она должна будетъ остаться па всю ночь въ неогражденномъ мѣстѣ.
— Разсуди, отче, — говорила она. — вѣдь и я человѣкъ, подобный тебѣ...
—• Въ томъ-то и дѣло, что—«подобный», отвѣчалъ тихо, какъ бы про себя старецъ.
— Такъ куса же мнѣ дѣться?
— А развѣ мала пустыня и пЬть въ пей пещерокъ? Иди и поищи себѣ пріюта.
Но переодьтая притворщица отвѣчала:
— Аѵь, я не знаю, г дѣ искать, и къ тому же я сегодня такъ много прошла, что мои ноги болѣе уже не носятъ моего усталаго тѣла; я не могу дальше идти и бродить впотьмахъ въ пустынѣ.
Старецъ молчалъ.
Гетера выдержала нѣсколько минутъ п продолжала со скорбною рѣшимостью:
— Ну, пусть будетъ такъ: если ты не открываешь мнѣ двери, такъ я, все равно, лягу здѣсь на голыхъ камняхъ, у кольевъ твоей загородки, и тутъ наскочатъ на меня титръ пли левъ, и пусть они здѣсь же меня растерзаютъ.
Старецъ опять не отвѣчалъ, а она продолжала:
— Вотъ пусть здѣсь и найдетъ мои кости у пещеры христіанскаго отшельника. Это будетъ тебГ. похвала за то, какъ ты соблюдалъ свою славу, что согласился, чтобы женщину разорвали у твоего порога, лишь бы о тебѣ какой-нибудь болтунъ не сказалъ пустого слова въ корчмѣ и іи на торжищѣ, или не посмѣялись бы тідъ тобой глупыя бабы, полоская бѣлье у запруды.
Старца начало уязвлять это, но онъ все-таки не подавалъ голоса, а та еще продолжала:
— Муки и смерть моя навсегда останутся тебѣ укоризной. Оставляй меня на съѣденіе звѣрю — и будешь самъ одного достоинства со звѣремъ.
Рѣчь эта тронула пустынника. Онъ слушалъ ее, держась рукою за подножье деревяннаго распятія, которое было у него въ пещерѣ во впадинкѣ, и все сильнѣе и спльнѣе сжималъ его въ рукахъ своихъ; но когда женщина представила въ словахъ, какъ звѣри будутъ терзать се за его частоколомъ, сердце старца стало смягчаться сострадапемъ, руки, ослабѣвая, освобождались и самъ онъ, обращаясь по
немногу лицомъ къ двери, чрезъ которую у нихъ шелъ разговоръ, сказалъ пришедшей:
— Окаянница! Чтб за напасть ты мнѣ несешь, и откуда ты мнѣ навязалась?
— О. старое Божій! — отвѣчала искусительница. — Не все ли это равно для тебя, откуда я пришла? Стыдись объ этомъ вопрошать! сДще богобоепъ и человѣколюбивъ еси», то довольно съ тебя того, что я человѣкъ, что я изнемогаю и что жиэ|ь моя въ смертной опасности; а ты можешь избавить меня отъ этой опасности и ничего не дѣлаешь, да даже, кажется, еще думаешь угодить своимъ безчувствіемъ Богу, Который создалъ людей и слышитъ всѣ ихъ стоны и жалобы. О’ какъ ты удаляешь себя отъ Бога! Бѣдственно теперешнее мое положена, но, знай, я ни за что не согласилась бы промѣнять его на твое! Оставайся въ затворѣ, жестокій старикъ! — я не хочу болѣе отягчать мученіями твою совѣсть, я не хочу, чтобы люди укоряли тебя за твою жестокость. Пусть никто, кромѣ Бога и меня, не знаетъ, какое у тебя безсострадательное сердце, — я удаляюсь вь пустыню, и пусть звѣри меня растерзаютъ.
Пустыннику сдѣлалось жалко ее, сердце его сжалось отъ представленія объ ожидающемъ ее ужасѣ, и онъ воскликнулъ:
— Не уходи, окаянница,—такъ и быть, я впущу тебя.
— Ну. я благодарю Бога, что Онъ послалъ состраданіе ко Мнѣ въ твое сердце,—скромно отозвалась гетера.
— Да; но только я все-таки не введу тебя въ мою пещерку, а впущу тебя только войти въ огорощчкѵ.
Все равно,—для меня бутетъ довольно и этого: лишь бы не съѣли меня звѣри.
Пустыпнпкъ вытащилъ изъ частокола двѣ плахи и, открывъ лазъ, впустилъ гетеру, не глятя въ лицо ей, и опять задвинулъ лазъ плахами, а ей сказалъ, чтобъ она. пріютилась тутъ въ этой загородкѣ и не просилась бы далѣе въ самую пещеру.
Гетера согласилась и дала ему обѣщаніе болѣе его по безпокоить до утра; но едва прошло малое время и старецъ сталъ на ночную молитву, какъ она начала потихоньку постукивать въ его дверь тонкимъ паіьчикѵмъ, а голосомъ нъжно жаловалась, что ея одежды слишкомъ легки, а ночь становится будто очень холодна, и вотъ'опа сильно зябнетъ.
.Старецъ выпросилъ ей черезъ оконце свое ветхое рубище и сказалъ:
— Ботъ тебЬ, окаянница, все, что у меня есть! Возьми это себѣ и помни, что больше теперь уже ничего для тебя нѣтъ! Укрой этимъ свою смрадную плоть и не мѣшай мнѣ молиться.
Гетера его благодарила, и, отбросивъ отъ себя прочь рубище пустынника, которое казалось ей столь же смраднымъ, какъ тому была смрадна ея плоть,—обѣщала. быть спокой-н но и ничѣмъ болѣе не нарушать его моленій.
Но обѣщаніе это, разумѣется, опять было неискренно, и спустя небольшое время, какъ только старецъ, начавшій продолжать прерванную молитву, «устремилъ свой умъ на высокая», безпокойная гетера опять начала къ нему тихо стучаться и царапаться, напирая легкимъ тѣломъ свокмъ на узкую дверку его пещеры.
Старецъ смутился, потому что дверка, сколоченная его неискусными рѣками, была непрочна и во многихъ мѣстахъ • ввозилась.
— Что же еще цужно тебѣ, окаянница? — спросилъ старецъ.
— Ахъ, я ужасно претерпѣваю!— отозвалась гетера.--Здѣсь на меня прыгаютъ съ земли аспиды! Ахъ, я несчастная! Это ужасно!
— Не бойся ихъ: я помолюсь за тебя, и аспиды тебѣ ничего не сдѣлаютъ.
Но гетера горько расплакалась и говорила, что уже теперь страшно страдаетъ, чувствуя опасный зудъ отъ уяз-т?леній, сдѣланныхъ ей аспидами.
— Я буду молиться и объ этомъ,- -сказалъ старецъ; но ошц какъ бы не внимая сему, ити не довѣряя таинственной силѣ, молитвъ, вскричала съ болью и гнѣвомъ:
— Нѣтъ, ты мнѣ не то говоришь!.. Ты злой и гордый старикъ, пли ты трусъ, надъ которымъ насмѣется врагъ твои, дьяволъ, за то, что ты боишься бѣдной, слабой женщины и не хочешь прикоснуться своею святою рукой къ моему страждущему тѣлу и исцѣлить меня отъ укушенія аспидовъ!
Старецъ ей отвѣтилъ:
— Не прикоснуся!—и вложивъ въ уши своп персты, началъ качать головой и громко молиться.
Но какъ только гетера увидала, чго онъ заткнулъ уши, то она такъ сильно застучала въ дверь, что «сее всколебалось», и старецъ невольно обратился къ ней сь вопросомъ:
— Теперь еще чтб тебѣ, окаянница?
— *І слышу, какъ ползутъ огромныя змѣи; вѵгъ онѣ шуршать по травѣ, — вотъ изгибаются, чтобы приникнуть межъ кольевъ, — сейчасъ опѣ меня уязвятъ п обольюгь < мертоносньиъ ядомъ.
— О, если бы ты. окаянная, знала, колнко ты сама для меня хуже всякой змЕи! Но вогь на тебѣ мой посохъ,— онг изъ такого дерева, котораго змѣи боятся. Возьми его и положи возлѣ себя и спи. Когда посохъ мои будетъ возлѣ тебя, змѣи отъ тебя удалятся.
II подумалъ старецъ, что теперь уже всЕ опасности для ночующей въ оградѣ женщины предотвращены, и хозяину, и гостьѣ—обоимъ можно мирно уснуть, каждому на своемъ м !.стЕ.
Онъ уже хотѣлъ загасить мерцавшій пр< дъ нимъ свіг-іильникь и лечь на свое жесткое, гр. станковое ложе, какъ женщина вдругъ бросилась на его дверь съ страшнымъ воплемъ и вь неописуемомъ ужасѣ закричала:
— О, старецъ! старецъ! впусти меня скорѣе къ себѣ! Я погибаю!
— Да что же еще тебѣ приключилось?—вскричатъ разгнѣванный старецъ.
— Ахъ, псужелм же ты столько глухъ, сколь и жестокосердъ, что ие с шшалъ, какъ страшные звѣри рыщутъ вокругъ твоей огорожи!
— Я ничего особеннаго не слышу. — отвѣтилъ старецъ.
— Это оттого, что ты затворилъ свое сердце, и вотъ затворяется слухъ твой и скоро затворятся очи. Но отпирай мнѣ сейчасъ!—вотъ уже одинъ левъ съ палящею пастью поднялся иа лапы, вотъ онъ бьетъ себя хвостомъ по бокамъ и уже перевѣсилъ сюда голову... О. скорѣй скорѣй*— вотъ онъ уже трогаетъ мое тЕло своимъ языкомъ... Твои ь- тхіе колья сейчасъ обломятся, и кости мои затрещатъ вь его пасти...
Пустынникъ отодвинулъ трепещущаго отъ страха рукой задвижку двери, чтобъ удостойЕрпться въ томъ, справедливо ли сказывала ему лукавая женщина, а она и»' дала
Сочиненіи Н. С Л икона. Т. ХХХШ. Ц
ему опомниться и сейчасъ же «впала» і.ъ нему «въ его затворецъ», и съ тѣмъ вмѣстѣ и дверь за собою захлопнула, и вырвала изъ рукъ старца деревянный ключъ и бросила за оконце...
— А-га, окаянница, такъ вотъ ты вскочила!—произнесъ, увидя себя обманутымъ, старецъ.
Она же посмотрѣла «безстудно» и отвѣтила:
— Да, ты теперь въ моон власти!
II затѣмъ она сейчасъ же сѣла въ уголъ н, глядя съ безстыдною улыбкой на старца, начала снимать съ себя одежды одну за другою, и съ страшною быстротой сняла съ себя все, даже до послѣднихъ покрововъ...
Цѣломудренный отшельникъ былъ такъ пораженъ этимъ, что не успѣлъ ничѣмъ помѣшать поступку своей наглой гостьи; но, увидя ее уже раздѣтою, всплеснулъ руками и бросился лицомъ ницъ на землю, степя и моля гетеру:
— О, жестокая! о, окаянная! О, пощади меня... Скройся!
Она же ему отвѣтила:
— Что тебѣ до меня? Я тебя и не касаюсь! Ты во власти у Бога, и обладаешь собой, а я вольпа надъ собой; мнѣ тяжелы мои ризы, и для того я сняла ихъ.
Пустынникъ ей что-то хотѣлъ отвѣчать, но вдругъ ощутилъ, что въ немъ побѣжало «адово пламя», и впало ему въ мысль «повлеклись» къ этой женщинѣ. II тутъ онъ одолѣлъ п себя, и ее, и любителя всякой нечистоты—діавола. Онъ вскочилъ съ земли, быстро расправилъ огонь въ своемъ свѣтильникѣ какъ можно пылче, и, вложивъ въ пламя свою руку, началъ жечь ее...
Кожа его затрещала н по пещ- рѣ поползъ острый смрадъ горящаго тѣла.
Гетера ужаснулась и хотѣла вырвать у него фитиль, по онъ не далъ н оттолкнулъ ее. Тогда опа отошла отъ него и заговорила:
—- Оставь это безумство!—я лучше уйду отъ тебя, ибо мнѣ противно обонять запахъ твоего горящаго тѣла!
Но—увы!—ей выйти изъ пещеры было невозможно, потому что двери ея же хитростію были заперты и поневолѣ она и пустынникъ должны были ночевать вмѣстѣ. И напрасно она во всю ночь молила его перестать жечь себя—пустынникъ оставался непреклоненъ и все продолжалъ свою муку, а самъ смотрѣлъ въ сторону, ибо и при терзаніи себя
сгнсмъ онъ все-таки еще боялся смотрѣть на обнаженную соблазнительницу, а она, оцѣпенѣвъ оть страха, но могла собрать свои платья и оставалась нагою.
Такъ прошла цѣлая ночь, и къ утру рука у пустынника была вся обуглена, а гетера «окаменѣша отъ ужаса».
Когда стала заниматься заря, то, по условію между гетерой и ея пріятелямп, къ пещерѣ пришли юноши и съ ппмп подруги этой несчастной. которая взялась соблазнить отшельника; всѣ онп были еще въ пьяномъ загулѣ и приближались къ пещерѣ съ виноградными гроздями и жаренымъ мясомъ и мѣхомъ впіга, а также съ пахучими шишками смолистыхъ деревъ, и, ставъ у дверей частокола, заиграли па своихъ свирѣляхъ. по гетера имъ пе отвѣчала. Тогда они поднялись и заглянули черезъ оконце въ пещеру и увидали, что отшеіьпиі.ъ продолжаетъ жечь ообя на огнѣ, а. обнаженная гетера «ті.днть. окаменѣвши отъ ужаса.
Тутъ они выломали дверь и выпеслп на свѣжій воздухъ свою лишившуюся чувствъ сообщницу, п когда она пришла въ чувство, то созналась, что не могла соблазнить старца, и горько въ своемъ намѣреніи каялась.
Такимъ образомь выходитъ, что и третья соблазнительница тоже не имѣла успѣха, какъ п двѣ первыя, напавшія па такихъ людей, которые не искали любовныхъ забавъ. Теперь остается четвертая, которую приходится ставить въ :»ту гр; пну.
21) (ѣ) Апрѣли 1. Житіе преподобной Маріи Египетский въ первомъ періодѣ ея жизни описываетъ цѣлый рядъ грѣхопаденій все противъ одной п топ же заповѣди о цѣломудріи. Эта, дѣйствительно, успѣвала въ соблазнѣ молодыхъ людей; но какъ она причислена кь інку святыхъ, и притомъ житіе ея весьма общеизвѣстно, то здѣсь никакихъ извлеченій изъ него дѣлать не будемъ. По для своихъ систематическихъ выводовъ замѣтимъ. однако, что въ первомъ періодѣ жизни Маріи Египтянки соблазнительное поведеніе составляло ея профессію, такъ чго и она тоже отнюдь не прилагала заботъ къ тому, чтобы соблазнять людей цѣломудренныхъ и удалявшихся отъ сближенія съ непостоянными женщинами, а она обращалась съ безпорядочными и развратными мужчинами просто потому, что жида, въ такомъ кругу, гдѣ она иначе и не могла жить, пока ей открылось, чю такая жизнь уннжаегъ человѣка, и она.—опять къ
чести ея женской природы, — сіма эту позорную жизнь оставила.
Соблазнительницъ или прелестницъ па. 35 женщинъ, описанныхъ вь древнемъ, отреченномъ Ирологіц оказывается всею три, и то изъ пнхъ одна гетера, для которой это дѣло было <*я ремесломъ. Стало-быть, оть ноя никакой высшей нравственности невозможно и требовать. Другая соблазните іьница, пристававшая ночью къ монаху, Николѣ въ болгарской гостиницѣ, песоверніеннолѣтняя дѣвочка, была очевидно больная, всего вѣроятнѣе нервно-разстроенная. И затѣмъ, значить, въ настоящей, соблазнительной роли остается только одна., египетская щеголиха, употребившая чары своей красоты на то, чтобы соблазнить художника, дѣлавшаго красивые женскіе убары. Эта красавица изъ высшаго круга александрійскихъ горожанокъ дѣйствовала какъ настоящая соблазнительница изъ-за того, что хотѣла пріобрѣсти себѣ цѣной своей красоты уборъ на голову. Сл Г.дователыіо, по разсмотрѣніи всей этой галлереи, мы находимъ всего только однц соблазнительницу па тридцаіь пять женщинъ... Надо признаться, что эта доля чрезвычайно малая, по притомъ и эта изящная женщина, равно какъ и истерическая болгарская дѣвчонка и гетера- всѣ въ своихъ искательствахъ на мужчинъ не имѣли успѣха..
Послѣ этого позволительно спросить: изъ чего же можно вывесть, будто житійная литература приставляетъ женщинъ въ особенно худомъ видѣ сравнительно съ мужчинами? Систематическое обозрѣніе нашего источника не показываетъ основаній для такого вывода.
Продолжая нашъ обзоръ, увндимъ нѣчто еще болѣе интересное и епц сильнѣе противорѣчаще^ старому повѣрью.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
22) Сентября д'д «Былъ монахъ Конинъ попъ саномь и устроенъ бѣ на крещеніе». Когда онъ крестилъ дѣтей пли мужчинъ, все дѣло шло у него благополучно; но когда Іі’онону приходилось крестить взрослыхъ женщинъ — ему были искушенія: «егда мазаша жены—люто соблазняшеся». Какъ пи огарадвя іюнь Кононъ возобладать надъ этимъ искушеніемъ -оно оть него не отступало, и, терзаясь такимъ образомъ при всякой новокрещсшшцѣ, попъ Копенъ
рѣшился оставить свое соблазнительное послушаніе и бѣжать изъ монастыря. Онъ уже и привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, горесть вышелъ твъ монастыря и пошелъ куда глаза глядятъ, только чтобъ удалиться отъ монастыря и никогда болѣе не крестить взрослыхъ женщинъ; но не. успктъ Кононъ далеко отойти изъ монастыря, какъ ему въ степи «явился Іоаннъ Креститель'» и сказалъ ему: «ге ходи, — я тебя облегчу отъ этой брани». Попъ К‘»НоНЪ повѣрилъ словамъ Крестителя и воротился опять къ своему дѣлу въ монастырь. II нѣкоторое время не жалѣлъ объ этомъ. Теперь попу Коноіп въ самомъ дѣлѣ какъ будто было сноснѣе, такъ что онъ уже могъ помазывать новокре-іШ'кницъ безъ особеннаго для себя мученія; но вдругъ отъ одного незначительнаго, повидимому, случая все испортилось. Пришла въ монаглѣірь креститься одна молодая персіянка, и Кононъ ее окрестилъ въ водЬ, но никакъ не моп» помазать своими руками тѣло ея освященнымъ масломъ, — «бѣ бо толпко красна лицемъ персіяныня. яко но мощи понови помазати ногу ея». Дѣлалось съ нимъ что-то такое, что передо всѣми обнаруживало въ немъ большое страданіе, котораго оиъ ни скрыть, ни преодолѣть не могъ. Что такое именно было съ Кенономъ и какими припадкііми выражалось—въ древнемъ сказаніи не объяснено. Цѣлый день мучился съ этпм ь искушеніемъ попъ К’ононъ п все-таки никакъ не могъ помазать персіянку. О происшествіи этомъ сообщили епископу Петру, и епископъ вслѣдъ сея-часъ же привести персіянку къ себѣ; но отъ этого сдѣлалось ие лучше, а х же, ибо и самъ епископъ П-трь, «увидавъ персіянку, удивши добродію ея и восхотс поити ее къ себѣ за діакона»». Молодая же персіянка, хотя еще и мало была наставлена въ истинахъ христіанской вѣры и даже была еще не совсѣмъ докрипент, однако, она не за\о-г1.ла согласиться па предложеніе епископа Петра,—чтобы жить при немъ подъ видомъ діакона, и, несмотря на всѣ убѣжденія епископа, «не сотвори с»го»». Такъ она и осталась съ непомазанными ногами, потому что когда персіянку повели къ епископу, попъ Кононъ «разгнѣвася, вземъ ризы св*»я и отыіде въ горы». Теперь онъ уже ни за что не хотѣлъ идти назадъ въ монастырь и мѵропомазывать персіянку. По когда попъ К’ононъ, разсердись на. своего епископа, блуждалъ по пустынѣ, его опять встрѣтитъ Іоаннъ
Креститель и сказалъ ему: «вззвратися, поле, въ монастырь, уже азь облегчу тебя теперь отъ брани».
««Тогда Конокъ рече съ гпЬвомъ: не обращуся, многажды бо обѣщался облегчити ми п не сотвори».
«Емъ же его св. Іоаннъ ііофди и откры разы его и знаменіемъ крестнымъ перекрести и глаголя: хотѣлъ, дабы ты имѣлъ мзду брани, но понеже не хощеіпп, се уже облег-чііхъ тя, но мзды уже не иманіи отъ вещи сел».
«II позвратиея въ монастырь пресвитеръ, на утро же крестивь помаза персіянку. даже яко бы не разумѣвъ яко жена есть естествомъ..
Вниманіе читателя не должно проскользнуть безъ замі-чанія мимо гого, что оба мужчины, то-есть попъ Канонъ и епископъ Негръ, страдали, и Кенонъ даже не могъ справиться съ собой безъ особаго чуда со стороны Іоанна Крестителя, а персіянка, дѣвушка, безъ особыхъ усилій охраняла себя и ноздержала отъ паденія обоііхъ священнослужителей *).
23) Аиріьля 29. Нѣкоторый монахъ, жившій въ недостаточномъ монастырь, былъ посланъ во время рабочей поры въ міръ, чтобы поработалъ на людей п, прокормивъ себя, принесъ бы такж»л что-нибудь въ обитель. Моняхъ этотъ зналъ одного очень честнаго и довѣрчиваго поселянина и пришелі къ нему предложить свои услуги. Поселянинъ принялъ его съ полнымъ довѣріемъ и, встрѣтивъ
*) Въ тѣ времена, къ которымъ относится разсказъ, крестильный обязанности соединены были для прощающаго съ довольно значительными трудами. Въ знаменитомъ «Ученіи двѣнадцати аиоетоловъх»,.открытомъ Бріеніемъ, встрѣчаемъ слѣдующее, (ем. переводъ журнала Д.Ьйлексул Помощь, М. 1885 г.. Л" 8): «Что касается до омовеніи (по кіевскому переводу < крещенія»), то омывайте (кіевск. «крестите») такъ: напередъ скажите тому, кого вы омываете, все, что тутъ сказано (о пути жизни и о нуги смерти) и потомъ омывайте во имя Отца и Сына и Св. Духа, въ водѣ проточной. Вели л;е не имЬешь проточной воды, то омывая въ другой водід если пѣтъ ни той, ни другой, то облей три раза водой голову. Предъ омовеніемъ же пусть постится пи»пъ, кото-рто буоитъ омывать. и- тотъ, который будетъ омывать,, и другіе, есті мотупгъъ. «Попъ, учрежденный на крещенв-а. прежде чѣмъ омывать крещаемую,. имѣлъ обязанность, поститься съ ней и. внушать ей: «берегись тѣлесныхъ и мірскихъ побужденій, не прелюбодѣйствуй, не распутничай, не умерщвляй младенца въ утробѣ и рожденнаго не-убивай, не скверное ювь, не скв?| помысли и пе озирайся на то. чего тебѣ. не надо видѣть—это ведетъ къ распутствуй (етр. 4*2$%
надобность отлучиться изъ дома, оставилъ монаха на хозяйствѣ «доыоглядѣльцемъ», поручивъ ому также1, свою очень молодую дочь, которая была за чужемъ всего только одинъ годъ и овдовѣла.
Суда по тому, въ какіе ранніе годы выдавали тогда дѣвочекъ замужъ на Востокѣ. надо полагать, что эта молодая вдовица, сь которою мопіхь остался «домовладѣльцемъ», имѣла что-ніклдь около 12-13 лілъ, то-есть, по нашимъ нынѣшнимъ представленіямъ, она сама была еще почти днгя.
Оставшись съ этою юпицей, монахъ, которому было поручено охранять ее. вдругъ самъ началъ чувствовать, что «онъ побуждается ею-. Но сказано, какъ «побѣждаемый^ боролся: но сказано, что онъ сразу же сталъ вести себя такъ странно, что и побѣдительница его стала это замѣчать, и побѣда ея надъ нимъ была сй нежелательною. Она испугалась своего положенія, которое п въ самомъ дѣлѣ было небезопасно, такъ какъ она оставалась съ монахомъ съ глазу на глазъ одна, и даже возлѣ дома ихъ не было близко сосѣдей. которые могли бы еп подать помощь. Молодая женщина все это сообразила и поняла, что она пп откуда не могла надѣяться получить себѣ защиту въ томь случаѣ, если «побѣждаемый ею» монахъ совсѣмъ побѣдптся и, утративъ самообладаніе, обратится къ дерзкимъ мѣрамъ насилія. Она не могла разсчитывать па свою силу, чтобы отразить его. А къ несчастій), <коро въ этомъ оказалась надобность. Монахъ однажды, «прншедь по обычаю, нача смущатпся и къ ней подвизатися». Приступъ его былъ столь рѣшителенъ, что молодицѣ казалось уже невозможно въ этотъ разъ снастіиь отъ него; но она, однако, отыскала средство къ спасенію. «Бывъ смышлена и благоразсудна», молодица не стала сопротивляться иноку силой и даже не подняла никакого безполезнаго шума, гакъ какъ она понимала, что при всякомъ сопротивленіи «побѣжденному» перевѣсъ оказался бы пе на ея побѣдной сторонѣ, п вотъ она не захотѣла сопротивляться ему какъ животному, а отважилась повліять на лучшую сторону его духовной природы,- пе па его взбунтовавшіяся физическія силы, а па его совѣстлпвосбь.
— О, отче!— сказала она монаху:—для чего ты такъ усиленно на меня нападаешь! Развѣ я и безъ того не въ твоей вла«тп! Мы съ тобой вдвоемъ въ цѣломъ домѣ, и я
слишкомъ слаба, чтобы тебѣ сопротивляться. Не загораживай же напрасно всѣ двери и окна: я не птица и не муха и по могу отсюда ни улетѣть, пи выйти. Сейчасъ я буду г.ся въ твоей власти, но только оставь мнѣ покуда еще одно малое мгновеніе, чтобъ я могла сдѣлать то, что желаю.
Монахъ сказалъ:—Сдѣлай!
А опа попросила, чтобъ п онъ, «аще милосердъ», сдѣлалъ то жо самое, что опа будетъ дѣлать.
«—Чго же ты хочешь сотворить?»—спросилъ монахъ.
«- Хощу реніи глаголъ нѣкій Богу», — отвѣчала молодица:—а такъ какъ сіе и твое дѣло, то потому давай оіа вмѣстѣ помолимся, п потомъ ты, помолясь Богу, поступай со мной какъ пожелаешь.
Монахъ лантелъ, что это ему совершенно нежелательно, и не только не сталъ молиться, а еще болѣе «побѣждался, мятошэся отъ бр.іпн». Тогда молодица стала, умолять его, чтобъ онь хоть ей далъ время помолиться. Па. это монахъ согласи к-я, и она сейчасъ же начала молиться и молилась вслухъ, выражая въ словахъ, относимыхъ къ Богу, свою беззащитность и свою покорность предъ несчастіемъ, которое можетъ падъ ней совершиться; а притомъ излила и свое горячее сожалѣніе о несчастномъ человѣкѣ, который хочеть оскорбить ея чистоту, и просила простить ему грѣхъ его, потому что опъ далъ надъ собой такую власть страсти, что стал'ь хуже всякаго животнаго, ибо посягаетъ па цѣломудріе женщины, которая сама довѣрилась его защитѣ... Монахъ все ее слушалъ—и совѣсть его стала пробуждаться, и, наконецъ, дГ»ло дошло до того, что онъ прослезился, и вдругь увидалъ, что молящуюся женщину окружаютъ какіе-то свьглые духи, и онъ испугался и убѣжала» отъ ноя.
Можно подумать, что этотъ легепдМиіый случай быль извѣстенъ Мильтону и что онъ вызвалъ у него прекрасныя строфы:
-Такъ свято предъ очамп псба дѣвство, Что если псі.репно душа блюдетъ его завілы— Тьмы ангеловъ па службу сй готовы *.
Послѣ такихъ юныхъ, нѣжныхъ и граціозныхч. женскихъ лицъ, какъ эта молодица и персіянка, встрѣчаемъ опять цѣломудренную и энергическую женщину степеннаго воз-
раста, которая, сообразно своей житейской опытности, не только себя оберегла отъ соблазна, но еще дала прекрасный урокъ соблазнителю. Зга степенная женщипа тоже обррзоннваетъ и спасаетъ монаха, но совсѣмъ инымъ пріемомъ.
21) Іюня 13. «Братъ нѣкій посланъ бысть изъ монастыря по службѣ» и, пдучи дорогою, «пришелъ на. мѣсто нѣкое, имущее воду». Здѣсь ему понравилось положеніе, и онъ присѣлъ, чтобъ отдохнуть и подкрѣпить себя пищей; по едва расположился, какъ примѣтилъ женщину, которая, стоя на берегу, мыла «платно». Разстояніе мѣшало брату опретктить возрастъ н разсмотрѣть черты лица женщины, но, тѣмъ пе менѣе, братъ засмогрктся, какъ она моетъ и нагибается, и на него сейчасъ же «пріидв брань»: братъ былъ неопытный и не могъ долго боротыя; онъ сейчасъ же подошелъ къ этой жепшчнѣ близко и, не стѣсняясь тѣмъ, что женщина была значительно старше его, стѣлалъ ей предложеніе, чтобъ она раздѣлити съ нимъ удовольствіе загорѣвшейся въ печь страсти.
А женщина, надо полагать, была разсудительная и спокойная; она посмотрѣла на взволнованнаго инока безо-вся-каго страха и отвѣчала ему съ ироніей:
— Мнѣ пе трудно тебя послушаться, но только смотр», пе пришла бы тебЬ иослі; отъ этого скорбь?
— А какая мнѣ можетъ бьпь скорбь?
— Не стала бы тебя мучить совѣсть и не впалъ бы гы въ отчаяніе?
— Нѣтъ, я этого ничего пе боюсь,—отвѣчалъ монахъ.
— Ну, смотри: многіе послѣ каются.
Да нѣть, ужъ я себя знаю.
— НЬгъ, ты хорошенько подумай: не сталъ бы іы сильно жалѣть!
— Да нѣтъ же, не безпокойся: ип о чемъ я жалѣть не буду! — А ты сколько гіггъ ьрожилъ уже вь монастырѣ?
— Семнадцать.
11 неужели гебѣ пе жаль пхъ?
—• Нимало.
- А ты знаешь ли еще («имапш іп искусъ»,—то-есть п< пыталъ ли?), чтб есть жена?
— Нѣтъ, пе знаю.
— Ну, такъ какъ же ты, по зп ія, чіпб сонъ, согла
шаешься бросить за это невѣдомое то, въ чемъ наставленъ и чего добивался цѣлыхъ семнадцать лѣтъ? Ты знай, что взять женщину — это значить взять па себя большое обязательство. Я, изволь, соглашусь, на что ты манишь меня, и пусть это будетъ по-твоему; но почни, что потомъ я отъ тебя не отстану, и можетъ случиться, что тебѣ придется принять на себя еще и большую тягость.
— Какую же еще большую тягость?
— А такую, что есть ли у тебя гдѣ содержать меня и дѣтей, и чѣмъ кормить пасъ?
— Нѣтъ, у меня жилья нѣтъ и кормить васъ нечѣмъ.
— Такъ какъ же ты смѣешь меня звать?
Я объ этомъ не думалъ.
— Ты, вѣрно, думалъ, что послѣ можешь удалиться?
— Да, я вотъ именно такъ намѣревался.
— Ну, такъ ты очень глупъ, а ты впередъ знай, чго женщины не для того только созданы, чтобъ угашать въ васъ огонь вашей страсти, а что онѣ имѣютъ стыдъ и любовь къ дѣтямъ, п себя и своихъ дѣтей оберегаютъ и за виновникомъ пхъ рожденія всюду готовы слѣдовать. Осмѣлься-ка, тронь меня, я посмотрю, куда ты отъ меня дѣнешься? Я пойду къ твоему аввѣ и скажу: авва! но давай ему ни хлѣба, ни сочива и прогони его вонъ: я черезъ него • іала тяжелою и не могу больше гнуться,—пусть онъ идетъ со мною и кормить меня, и вмѣстѣ со мною питаетъ и дитя, которое имѣетъ родиться, Авва твой тебя и выгонитъ, а я тогда заставай, тебя полоскать вмѣсто меля въ водѣ портомойню.
Ты меня вельми просвѣтила,—отвѣчалъ монахъ.
— То-то и есть. Образумься. Если ты ужъ посвятился въ монахи, то иди скорѣй въ свой монастырь, а не стой но такимъ мѣстамъ, гдГ> женщины моютъ па рѣчкѣ.
Братъ почувствовалъ себя пристыженнымъ п, испугавшись того, чѣмъ пристрашила его прачка, возвратился бѣломъ въ монастырь п никогда больше пе засматривался на женщинъ, ибо всегда помнилъ эту прачку и со встрѣчи съ пою шпалъ опасеніе къ рѣшительности женскихъ характеровъ.
Трогательны и способны вызывать живое сочувствіе выведенные вслѣдъ за симъ типы профессіональныхъ «блудницъ» и «блудницъ нищеты ради уготованныхъ».
25) Лвіуспіа 3. Въ городъ Тиръ пришли разъ два черноризца, и когда они проходили по уединенному мѣсту, гдѣ притаивались городскія блудницы, то одна изъ этпхь несчастнымъ женщинъ, по имени По}«ріц«ія, томимая голодомъ, бросилась къ одному изъ братія ы, рыдая, восклицала: «Отче! снасп меня, какъ Хриедосъ спасъ блудницу!» Тутъ же были проходящіе люди и все эго видѣли.
Черноризецъ зналъ, что тогдашніе люди имѣли самое невысокое мнѣніе о монаіш скс-мъ цъломудр'и и тенерь, увидя его съ блудницей, навѣрное станутъ смѣяться надъ нимъ и осуждать его,—ос< бенноесли онь исполнигь просьбу блудницы и станетъ о н*і заботиться: по, съ другой стороны, онъ разсудилъ,-—что же важнѣе: внести ли напрасное осужденіе отъ толпы, пли явно отвергнуть человѣка, который умоляетъ «спасти его во имя Христово? Выбрать правильное рѣшеніе, разумѣется, было не трудно, и черноризецъ отвѣтилъ блудницѣ: «иди за мною» и, - взявъ ее за руки, повелъ ее сквозь народъ изъ города».
Тогда по всему городу и по окрестностямъ быстро распространилась молва, чго «черноризецъ поятъ себѣ блудницу Порфирію», п всѣ видѣли въ этомъ большой соблазнъ; но ни черноризецъ, ни его игумі-нъ не обращали па это никакого вниманія, а спасенная отъ позорнаго промысла блудница Порфирія, отдохнувъ и понравясь у брата, обнаружила въ себѣ большую сердечную доброту и нѣжность. Она нашла у какого-то уединеннаго бѣднаго храма брошенное дитя и, исполнившись къ нему жа гости, взяіа его п стала его воспитывать. «По лѣгѣ же единомъ простая чадь (то-есть простолюдины) изъ Тира» пришли дія молитвеннымъ цѣлей въ обитель, куда укрыта была Порфирія, и узнали ее, а увидавъ при ной годовое дитя, заговорили: «добре черниіце-черншпіща оси породила!» Люди эти разсказали въ Тирѣ, что видѣли у черноризца Порфирію и при ней годового ребенка, какъ разъ будто похожаго па того брата, который взялъ ее п провелъ съ (о-бою черезъ весь городъ. Черноризецъ слышалъ объ этомъ и семь лѣгъ молчалъ, а въ это время пріемышъ Порфиріи выросъ, а она сама сдѣлалась монахиней. Тогда чернецъ, чувствуя приближеніе смерти, гзялъ эту женщину п ея пріемыша н пошли всѣ трое вмѣстѣ въ Тиръ. Здѣсь инокъ собралъ въ одно мѣсто сто человѣкъ и велѣлъ принести
полную кадильницу жарко горящихъ угольевъ, и при всѣхъ ссыпалъ эти пламенѣющіе уголья въ свой Стихарь. Стихарь пе загорѣлся и даже по чадилъ. ВсІ. это видѣли и удивлялись. а черноризецъ сказалъ:— Вотъ и смотрите: въ этомъ есть знаменіе, что я отъ рожденія своего никогда не зналъ грѣха жешкаго». Раздѣлявшая же съ нимъ напраслину Порфирія, прежде бывшая тирская блудница, а потомъ благочестивая отшельница, посвятила остатокъ своей жизни спасенію другихъ женщинъ, переносившихъ въ Тирѣ такое же самое унизительное положеніе, изъ котораго она вырвалась при состраданіи монаха, котораго опа никогда пе склоняла къ любовному сближенію со собою, а хранила къ нему только высокое чувство благодарности и уваженія.
Другая блудница къ самому паденію своему приводи гея такимъ трога сельнымъ путемъ, какому не представляетъ равнаго никакой художественный вымыселъ.
26) Апрѣля 8. Въ Александріи жила одна очень молодая и очень красивая дѣвушка, египтянка. Опа была круглая сирота. Родители ея умерли, едва только она вышла изъ дѣвства, и оставили ей хорошій достатокъ. Дѣвица имѣла благоустроенный домъ и обширный виноградный садъ но скату къ рѣкѣ Нилу. Наслѣдства, которое она получила, достаточно было бы, чтобъ ей прожить цѣлую жизнь въ довольсівѣ; но молодая египтянка была чрезвычайно участлива ко всякому человѣческому горю и ничего пе жалѣла для того, чтобы помочь людямъ, впадающимъ въ бѣдствіе. Черезъ .»то съ нею пропзоіпеіъ слѣдующій роковой случай.
Разъ передъ вечеромъ, когда, схлынулъ палящій египетскій жа}ъ, египтянка пошла со своими служанками купаться къ Пилу. Она выкупалась п. освѣженная, покрывшись легкимъ покрываломъ, тихо возвращалась къ себѣ назадъ черезъ свой виноградникъ. Служанки ея этимъ временемъ оставались еще на рѣкѣ, чтобъ убрать купальныя вещи.
Вечерь послѣ знойнаго дня быть прелестный; работники, окончи въ свое дѣло, ушли, и виноградникъ былъ пустъ. Египтянка могла быть увѣрена, что она одна въ своемъ саду; но вдругъ, къ удивленію своему, опа замѣтила въ одной куртинѣ присутствіе какого-то пезнікомаго ей чело-вѣжа. Опъ какъ-будто скрывался и въ то же время торопливо дѣлалъ что-то у одного плодовитаго дерева. Можетъ-
быть, опъ рвалъ плоды и оглядывался, боясь, что его поймаютъ вертоградарн.
Египтянкѣ пришло па мысль подойти ближе къ незнакомцу съ ті.мъ, чтобы помочь ему скорѣе нарвать больше плодовъ п потомъ тихо проводить его черезъ ходъ, выводившій на берегъ Нила, къ купальнѣ. Съ этою цѣлью опа и пошла къ незнакомцу.
По когда египтянка подошла ближе, то опа увидала, что этотъ незнакомецъ но срывалъ плоды, а дѣлалъ ч го-то совсѣмъ другое: онь закрѣплялъ для чего-то шнуръ къ суку стараго дерева. Это показалось ей непонятно, и она притаилась, чтобы видѣть, чгб будетъ дальше, а незнакомецъ сдѣлалъ изъ шнура петлю и вложилъ въ нее свою голову... Еще одно мгновеніе—и онъ удавился бы въ . топ петлѣ, изъ которой слабой дѣвушкѣ не по силамъ было бы его вынуть, а пока опа успѣла бы позвать па помощь людей, удавленникъ успѣлъ бы умереть... Надо было іюмі.шать этому немедленно.
Египтянка закричала: «остановись!» и, бросаясь къ самоубійцѣ, схватилась руками за петлю веревки.
Незнакомецъ былъ пожилой человѣкъ, эллинъ, съ печальнымъ лицомъ и въ печальной одеждѣ, съ неподрублеи-нымъ краемъ. Увидавъ египтянку, онъ не столько испугался. сколько пришелъ въ досаду, и сказалъ ей:
— Какое несчастіе! Злой демонъ, что ли. выслалъ тебя сюда, чтобъ остановить мою рѣшимость?
— Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь.такъ прекрасна?—отвѣчала ему египтянка.
— Можетъ-быть, жизнь и прекрасна для тебя и для надобныхъ тебѣ, которыя живутъ въ полномъ довольствѣ. Раньше п я находилъ въ ней хорошее, но нынче судьба отъ меня отвернулась и жизнь моя составляетъ мнѣ несли сное бремя: ты не права, что мѣшаешь мнѣ умереть. Иди отсюда своею дорогою в оставь мнѣ возможность вылѣзть по моей веревкѣ вонъ изъ этой житейской ямы, гдѣ я не хочу болѣе терзаться между грязью и калеными угольями.
Дѣвушка не соглашалась его оставить и сказала:
— Я не позволю тебѣ удавиться: я закричу—и сейчасъ прибѣгутъ мои люди. Лучше возьми свой шнурокъ йодъ одежду п поди за мною въ мой домъ: разскажи мнѣ тамъ
твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я это сдѣлаю, а если оно въ самомъ дѣлѣ такъ безпомощно, какъ ты думаешь, тогда... выходи отъ меня со своимъ шнуромъ куда хочешь: я тебѣ ни въ чемъ не помѣшаю, и ты еще цр опоздаешь тогда повиснуть на деревѣ.
-— Хорошо,—отвѣчалъ незнакомецъ:— и какъ мнѣ ни тяжело медлить на землѣ, но . ты мнѣ кажешься такою участливою, въ глазахъ твоихъ столько ума, а въ голосѣ ласки, что я тебѣ хочу повиноваться. Вотъ уже шнуръ мой спрятанъ подъ моею одеждой, и я готовъ идти за тобою.
Египтянка привела отчаяннаго въ свой благоустроенный домъ, приказала служанкѣ подать фрукты и прохладительное питье и, усадивъ гостя среди мягкихъ подушекъ на пышномъ коврѣ, вышла, чтобы перемѣнить свое купальное платье на другое. Когда же она возвратилась, то тѣла тутъ же рядомъ съ гостемъ, а за ними стали двѣ черныя служанки и легкимъ движеніемъ шелковыхъ кистей начали приводить въ колебаніе спускавшееся съ потолка огромное, напитанное ароматами, опахало изъ большихъ пестрыхъ перьевъ.
Египтянка желала какъ можно скорѣе узнать горестную исторію незнакомца, чтб онъ и исполнилъ. Разсказъ его былъ простъ и немногосложенъ. Покусившійся на самоубійство эллинъ недавно епц имѣлъ большое состояніе, но потерп ѣлъ неудачи въ дѣлахъ и до того задолжалъ, что не могъ разсчитаться со своимъ заимодавцемъ. Въ этомъ затрудненіи онъ прибѣгнулъ къ его состраданію; но это было напрасно: богачъ соглашался оказать ему снисхожденіе, но не иначе, какъ па одномъ ужасномъ условіи.
Въ чемъ же заключается это условіе? -— спросила египтянка.
— Я не могу сказать т<-бѣ этого при твопхъ слугахъ.
Она велѣла служанкамъ удаляться.
— У меня есть дочь, дѣвушка твоихъ лѣтъ. Она такъ же, какъ ты, стройна станомъ п прекрасна лицомъ, а о сердцѣ ея суди какъ можешь по слѣдующему. Заимодавецъ мой, большой и безнравственный сластолюбецъ, сказалъ мпѣ: «отдай мігѣ твою дочь на ложе, и тогда я освобожу тебя отъ темницы,—иначе ты задохнешься въ колодкѣ». Я оскорбился и пе хотѣлъ слышать объ этомъ. Это было мнѣ тѣмъ болѣе тяжко, что у моей бѣдной дочери всть женихъ.
Онъ бѣденъ. но имѣетъ возвышенный умъ, и дочь моя горячо .побитъ его съ самаго дѣтства; кромѣ того, и жена моя но снесетъ такого безчестья, чтобы дочь наша стала наложницей. Но бѣда настигаетъ бѣду: представь себѣ новое горе: дочь моя все это узнала и сегодня сказала мнѣ тихо:
«— Огецъ, я все знаю... я уже не ребенокъ... я рѣшилась, отецъ... Чтобы на твою старую шею не набили колодку... Прости мнѣ, отецъ... я рѣшилась...*
Опа зарыдала, и я вмѣстѣ съ нею рыдалъ еще больше и сталь ее отговаривать, но она отвѣчала:
«— Любовь къ тебѣ и къ матери, которая не снесетъ твоего униженія, во мнѣ теперь говоритъ сильнѣе любви къ моему жениху: онъ молодъ, — продолжала она, глотая бѣжавшія слезы:—онъ полюбить другую и съ ней пусть узнаетъ счастье супружеской жизни; а я... я твоя дочь... я дочь моей матери... вы меня воспитали... вы стары... Не говори мпѣ больше пи слова, отецъ, потому что я твердо рѣшилась».
Притомъ она пригрозила, что если я буду ой иротиг.о-рѣчить, то она не станетъ ждать завтрашняго дня, когда заимодавецъ назначилъ мпѣ срокъ, а уйдетъ къ нему сію же минуту.
Незнакомецъ отеръ набѣжавшія ні лицо его слезы и кончилъ:
— Чгб еще скажу тебѣ дальше? Моя дочь имѣетъ рѣшительный нравъ и нѣжно насъ съ матерью любитъ... Чтб <>на порѣшила, противъ того напрасно съ ней спорить... Я упросилъ ее только подождать до завтра, и солгалъ ей, будто имѣю еще на кого-то надежду... День цѣлый я хо-шлъ какъ безумный, потомъ возвратился домой, обнялъ жену и дочь и оставилъ ихъ вмѣстѣ, а самъ взялъ ти-хонысо шнурокь и побѣжалъ искать уединеннаго мѣста, гдѣ могъ бы окончить мои страданія. Ты мнѣ помѣшала, но зато облегчила горе мое своимъ сердобольны чъ участіемъ Мнѣ мило видѣіь лицо твое, прекрасное и доброе, какъ лицо моей дочери. Пусть благословитъ тебя Небо, а теперь прощай п не мѣшай мнѣ: я пойду и покончу съ собой. Когда я не буду въ живыхъ, дочь моя не станетъ бояться колодки, которую могутъ набить на шею отцу, и опа выйдетъ замужъ за своего жеппха, а не продастъ себя, ради огца. богачу на безчестное, ложе.
Египтянка внимательно выслушала весь разсказъ незнакомца, а потомъ сказала, глядя ему твердо въ лицо:
— Я понимаю во всемъ твою милую дочь — она добрая дѣвушка.
— Тѣмъ это тяжелѣй для меня,— отвѣчалъ незнакомецъ.
— Я понимаю и это; но скажи мнѣ: сколько ты дол-жень заимодавцу і
— О, очень много, — отвѣчалъ незнакомецъ и назвалъ очень знатную сумму.
Это равнялось всему состоянію египтянки.
— Приди ко мнѣ завтра—я дамъ тебѣ эту сумму.
Незнакомецъ изумился: онъ и радовался, и не могъ вѣрить тому, что слышитъ, а потомъ сталъ ей говорить, что онъ даже не смѣетъ принять отъ нея такую великую помощь. Онъ напомнилъ ей, что долгъ его составляетъ слишкомъ значительную сумму, и просилъ ее подумать, не подвергаетъ ли она себя слишкомъ большой жертвѣ, которой онъ дажф не въ состояніи и обѣщать возвратить ей.
- Это не твое дѣло,—отвѣчала египтянка.
— Притомъ же,— сказалъ онъ:—припомни и то, что я и.зъ другого народа—я эллинъ, и другой съ тобой вѣры.
Египтянка опустила рѣсницы своихъ длинныхъ, какъ миндалины, г.іа-гь и отвѣчала ему:
— Я не знаю, вь чемъ твоя вѣра: ато ка- ается нашихъ жрецовъ; но я вѣрю, что грязь такъ же мараетъ ногу гречанки, какъ и ноіи всякой ишш, и одинаково каждую жжетъ уголь каленый. Не смущай меня, грокъ; твоя дочь покорила себѣ мое серщс, — иди, обними твою дочь и жену и приди ко мнѣ завтра.
А когда незнакомецъ ушелъ, дѣвушка тотчасъ же опять взяла свое покрывало и пошла къ богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цѣну все свое имущество и взятое золото отдала на другой день незнакомцу.
Черезъ малое же время, когда прошелъ срокъ сдѣланнаго заклада, ростовшіікъ пришелъ съ закладной и взялъ за себя все имущество египтянки, а опа должна была оставить свой домъ и виноградникъ и выйти въ одномъ бѣдномъ носильной ь платьѣ. Теперь у нея не было ни средствъ, ни пріюта.
Скоро увидѣли ее въ этомъ положеніи прежніе знакомые ея родителей и стали говорить ей:
— Ты безумная дѣвушка и сама виновата въ томъ, до чего тебя довела твоя безразсудная доброта!
Она же имъ отвѣчала, что ея доброта но была безразсудна, потому что теперь она лишь одна потерпитъ несчастье. а безъ этого погибало цѣлое семейство. Она разсказала имъ все о несчастьѣ эллина.
Такъ ты вдвое безумна, если сдѣлала это все для людей чужой вѣры!
Да вѣть не порода и вѣра страдали, а люди, отвѣтила она.
Услыхавъ таіюй отвѣтъ, знакомые почувствовали прочивъ нея еще большее раздраженіе.
Ты хочешь блистать своей добротою і.ъ чужевѣрнымъ пришельцамъ, ну, такъ живи же, какъ знаешь! и всѣ предоставили <е судьбѣ', а судьба приготовила ей жестокое испытаніе.
Великодушная дѣвушка не могла избѣжать тяжкихъ бѣд-сівій по причинамъ, которыя крыіпсь въ ея воспитаніи: она совсѣмъ не была приготовлена къ тому, чтобы добывать себѣ средства своими трудами. Дна имѣла молодость, красоту и свѣтлый, раже проницающій умъ п возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное, дѣвственное тѣло ея было сіабо для того, чтобъ исполнять грлбыя работы—береговыя поденщицы ее отгоняли; она не могла носить ни корзины <ъ плодами, пи кирпичи на постройки, и когда она хотѣла мыть бѣлье на рѣкѣ, то зола изъ сгорѣвшаго нильскаго тростника разъѣдала ея нѣжныя руки, а текучая года производила у нея головокруженіе, такъ что она упала въ воду и ее, полуживую, безъ чувствъ вытащили изъ Пила.
Она очутилась въ отчаянномъ положеніи: въ мокромь платьѣ и гоночная. Съ ней подѣлилась су хою ячменною лепешкой береговая блудница, одна изъ тѣхъ, которыя во множествѣ бродили по берегу Пила, поджидая проходившихъ здѣсь вечеромь чужеземныхъ матросовъ (навклировъг, одна эта женщина подѣлилась съ нею и на ночь своею цыновкой, она же прикрыла ее и отъ стужи ночной своею сухою одежлой. а потомъ... прекрасная египтянка стала такою же, какъ эта, прибрежной блудницею.
Всѣ знавшіе Азу отъ нея отвратились она погибала. Иногда она приходила въ свой бывшій виноградникъ, подъ Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. XXXIII. 12
то самое дерево, на вѣтвяхъ котораго хотѣлъ удавиться избавленный ею незнакомецъ, и вспоминала его разсказъ, н всегда находила, что не могла поступить иначе, какъ поступила: пусть страдаетъ она. по другіе спасены!.. Это радбвало египтянку и давало ей силу терпѣть ея униженіе; но случались минуты слабости, когда она была близка къ отчаянію п готова была броситься въ Пилъ. Тогда она саіпіась надъ кручей па красномъ, какъ сгустѣлый комъ крови, песчаномъ холмѣ и размышляла о томъ: неизбѣжно ли такъ должно быть, чтобы добрый всегда былъ между грязью и калеными угольями?
Пли будь безучастенъ къ горю людскому, или утони въ горѣ самъ? Третій выбора плетись между грязью и углемъ. Для чего же тогда нашимъ сердцамъ дано знать состраданіе? Пли Небо жестоко? Зачѣмъ оттуда никто не сойдетъ и не укажетъ какъ людямъ сдѣлать жизнь свою лучше, чтобъ отверженныхъ не было, и чтобы но было гордыхъ, пресыщенныхъ и нищихъ? О, если бы снизошелъ оттуда такой великій учитель, если бы былъ такой человѣкъ, -г-і.акъ бы она хотѣла рыдатй у ѵГо ногъ и во всю жизнь исполнять все, что онъ ой прикажи п>!
Въ такомъ настроеніи она. однажды тихо брела вдоль берега Нила, по уединенному мѣсту, и не встрѣчала въ этотъ день даже буйныхъ мореходцевъ. Она уже два дня не ѣла и чувствовала мучительный голодъ. Въ глазахъ у пея мутилось. Она подошла къ рѣкѣ и нагнулась, чтобы напиться, но сейчасъ же отскочила въ испугѣ: такъ самой ей показалось страшно ея изнуренное лицо съ померкнув-шимъ взглядомъ. А такъ недавно еіц<‘ се всѣ называли «прекрасной».
О. я понимаю теперь, что это значитъ. Я уже больше не «прекрасная», - я страшна даже самымь потеряннымъ людямъ!.. Голодъ приблизился, мучительный голодъ... но я по роіпцу... Я посылаю послѣдній привѣтъ мой Небу, которое внушило мпѣ рѣшенье любитъ другихъ больше себя, п съ тѣмъ умираю!
’ Опа бросилась къ рѣкѣ, чтобъ утонуть, п непремѣнно бы исполнила эго, но ее неожиданно кто-то удержалъ За плечо, и она, оглянувшись, увидала передъ собой пожилого человѣка, скромнаго вида и въ чужестранной оді ждѣ.
Египтянка приняла его за одного изъ чужестранцевъ,
приходящихъ па это мѣсто съ цѣлями, о которыхъ ой было извѣстно, п сказала ему:
— Оставь меня въ покоѣ: я пе хочу идти сегодня съ тобой.
Но чужеземецъ не отошелъ, а взглянулъ на нео ласково и сказалъ ей:
— Напрасно думаешь, сестра моя. что я былъ намѣренъ сказать тебѣ что-либо дурное. Мнѣ показалось, что ты въ какомъ-то бореньѣ. съ собой.
— Да; я вынимаю ноги мои изь грязи п хочу ступить па горячіе уголья. -)то треб}еть силы.
•— Ты очень слаба.
— Я два дня не ѣла.
-— Такъ ѣшь же скорѣе: со мной есть хлѣбъ п печеная рыба.
Чужеземецъ поспѣшно перебросилъ изъ-за спины холщевую сумку и подалъ дѣвушкѣ рыбу и хлѣбъ и флягу воды ст. виномъ.
Египтянка стала ѣсть, запивая глотками воды, а когда первый мучительный голодъ ея былъ утоленъ, она повела глазами па незнакомца и тихо сказала:
— Но хорошо, что я І.мъ твою пищу: ты путешествуешь и тебѣ нуженъ запасъ для себя.
— Не безпокойся, сестра. я могу потерпѣть, п повѣрь, что терпѣть гораздо отраднѣй, чѣмъ видѣть терпящихъ.
Египтянка вздрогнула.
— Чужестранецъ!—сказала опа:—ты меня накормилъ и хорошо говоришь... по зачѣмъ ты два раза уже назвалъ меня своею сеЬмцюй'' Развѣ не понимаешь ты, кто я такая?
— Ты такое же созданіе Бога, какъ я. п сестра мнѣ. Какое мнѣ дѣло, чѣмъ житейское горе и жестокость людей тебя теперь сдѣлали.
Дѣвушка вперила въ него своп глаза, опять засверкавшіе бывалымъ огнемъ, и вскричала:
—- Ты жжешь меня своими словами! Ты. быть-можетъ, посланникъ боговъ?
— Нѣть, я такой же. какъ ты, простой человѣкъ.
— Но кто научилъ тебя такъ говорить, что сердце мое горитъ п трепещетъ?
— Сядемъ здѣсь вмѣстѣ., и я разскажу тебѣ, кто научилъ меня такъ говорить.
Несчастная еще больше смутилась.
— Какъ,—сказала она:—ты хочешь сидѣть со мной рядомъ! Тебя могутъ увидѣть съ блудницей почтенные люди, и что ты имъ скажешь тогда въ свое оправданіе?
— Я скажу имъ, что Тоть, Кто всѣхъ ихъ почтеннѣе, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.
— Кто жъ это былъ онъ?.. Я о такомъ не слыхала... по ты о немъ говоришь, и слова твои льютъ новую жизнь въ мое сердце... Можетъ-быть, онъ-то и есть твой учитель?!
— Ты не ошиблась. Это Онъ—мой Учитель.
Египтянка заплакала.
— Какъ ты счастливъ, какъ ты счастливъ, чужестранецъ! Гдѣ. же онъ, гдѣ. этотъ небесный посланникъ?!
— Онъ съ нами.
— Съ нами!., со мной!.. Не смѣйся падь бѣдною блудницей!.. я несчастна... Скажи мнѣ, гдѣ онъ. и я побѣгу... Я стану его умолять... быть-можетъ, и мнѣ онъ дастъ новую жизнь!
Чужеземецъ самъ взволновался.
—- Успокойся,—сказалъ онъ: -ты ее будешь имѣть—новую жизнь,—развяжись только со старой,- развяжись скорѣй съ тѣмъ, что гнететъ тебя въ прошломъ.
— Слушай же, кто я такая! — воскликнула съ оживленіемъ дѣвушка, и разсказала все, что съ пей было, и когда повѣсть ея была кончена, она добавила вь свое оправданіе:
— Говорятъ, будто мнѣ надлежало иначе размыслить, но я не могла: мое сердце тогда одолѣло разсудокъ.
— Кто кладетъ руку на плугъ и самъ озирается вспять, тоть не пахарь. Не жалѣй о томъ, какъ ты поступила.
Она потупила взоръ и сказала:
— Я не о томъ сожалѣю... но мнѣ тягостно думать о томъ, что было послѣ...
— Послѣ того, когда ты совершила святѣйшее дѣло любви,—прервалъ ее чужестранецъ: послѣ, того, когда ты позабыла себя для спасенія другихъ... Оставь сокрушенія эти!.. Когда каленое уголье жжетъ ноги, ноги ползутъ въ холодную грязь, но любовь покрываетъ много грѣховъ и багро-
— Т81 —
выя пятна бѣлпгъ, какъ волну на ягненкѣ... Подними лицо твое вверхъ... Прими отъ меня привѣтъ христіанскій и знай, что Онъ, къ Кому дѵша твоя рвется. перстомъ на сыпучемъ пескѣ твой грр.хъ написалъ и оставилъ смести его вѣтру.
Египтянка подняла лицо свое и плакала, а христіанинъ глядѣлъ на нее, колѣни его незамѣтно согнулись, онъ поклонился ей въ ноги и тихо промолвилъ:
— Ты была мертвая и стала живая!
Утѣшеніе совершилось,- пришла новая жизнь въ смущенную душу египтянки. Христіанинъ разсказалъ ей, въ чемъ состоитъ ученіе Христово, и египтянка непремѣнно захотѣла узнать: есть іи люди. котовые живутъ по этому ученію, во взаимной любви, и у которыхъ нѣть ни осажденія, ни зла, ни нищеты.
— Они были,—отвѣчалъ христіанинъ.
— Отчего же не всѣ таковы и теперь-*
— Это труіно, сестра.
— Въ чемъ же тутъ трудность?
— Слушай, какъ они жили.
Христіанинъ прочелъ си на память мѣсто изъ Дімиіііі:
«У множества увѣровавшихъ въ спасительность Его а че-пія было одно сердце и одна душа. — никто пзъ имѣнія своего ничего не называлъ своимъ, но все у нихъ было общее и все, что у нихъ было, они раздѣли..и по нуждѣ каждаго и каждый день собирались вмѣстѣ и вмѣстѣ принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца» (1,ѣян. IV, 32).
-- Такъ вѣдь это прекрасно!—воскликнула А,?а.
— По для иныхъ это трудно!
«Такъ Іоссія, прозванныя отъ апостоловъ Варнавою, что значитъ «сынъ утѣшенія*—левитъ, родомъ изъ Кипра, у котораго было свое помѣстье, продалъ его и принесъ деньги къ ногамъ апостоловъ» (37).
Послѣ многихъ сумрачныхъ дней лицо египтянки освѣтилось отрадной улАбЮю: Варнава отдалъ помѣстье, и назвали его: «сынъ утѣшенія»...
Она выше подняла лицо и сказала:
— Это вовсе не трудно. Это только шокъ должно]
— Такъ и щ же отсюда, куда я тебя научу, и разскажи тѣмъ людямъ, къ которымъ придешь, все, чтб ты мнЬ разсказала.
Чужеземецъ назвалъ еп мѣсто, гдѣ сходятся христіане Александріи и кто ихъ епископъ.
Египтянка, ни минусы не медля, встала и пошла по его указані ю.
Когда она пришла, ее сейчасъ же узналъ одинъ клирикъ и сказалъ сіі:
— Красотка! мнѣ очень знакомо твое лицо: ты похожа па блудницу, которая часто ходила по берегу Пила.
- Я самЛ и есть та блудница, -отвѣчала египтянка:—-но то уже кончено: я хочу быіь христіанкой.
— Ну, это не сразу: ты доля на прежде очистить себя лостомъ и раскаяніемъ.
— Я все готова исполнить, что нужно.
Еп сказали, какъ надо поститься; она пошла п долго постилась, писаясь тѣмъ, что ей давали изъ состраданія. Наконецъ, она изнемогла и пришла снова съ просьбой, чтобы се крестили и приняли со всѣми въ общенье. Клирики сказали ей: «Ты гакъ мерзко жила у всѣхъ на виду, что должна принести при всѣхъ покаяніе*.
— Да, я затѣмъ и пришла, чтобы сказать всѣмъ, какъ дурна моя жизнь, но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. Прошу васъ- скажите епископу, что я прошу скорѣе Припять меня въ общеніе.
Клирики сказали епшкоиу, и топ. скоро велѣлъ назначить ей катехизатора, который долженъ былъ протолковать ей символъ и всѣ догматы вѣры и потомъ удостовѣрить ея познанія, и тогда египтянку положили крестить.
Но она этого не дождалась; нетерпѣливое желаніе ея получить христіанское имя и жить съ христіанами вмѣстѣ снѣдало се; она жаловалась и плакала, «а всѣ пренебрегали сю».
Тогда совершилось чудо: когда отверженная египтянка лежала больная «въ малой хлевннѣ», туда къ ней среди ночи вошли «два свѣтлые мужа» и одѣли ее въ бѣлыя, «крестильныя ризы». Въ нихъ и осталось на землѣ ея мертвое тѣло, а живой духъ ея отлетѣлъ въ обитель живыхъ.
Гѵцнчина египтянки, одѣтой въ крестильныя ризы, сдѣлала затрудненіе кіирикамъ: они недоумѣвали, по какому обряду надо похоронить эту женщину, но неожиданно пріь . шелъ топ. чужестранецъ, который говори.!ь съ усопшею у
берега Пила. Онъ былъ философъ и пресвитеръ сирійскій, другъ Псаака-Сиріица. — онъ вернулся сюда съ дороги но внхшепію духа. Оно наклонился къ усопшей и сталъ читать христіанскія молитвы, а пока онъ молился, тѣло ея зарыли въ землю, но сиріецъ еще долго стоялъ и смоірѣлъ вдаль—онъ ч го-го д; налъ, онъ былъ въ восторгѣ и двигалъ устами.
Его спросили:
— Вѣрно ты видишь чудное что-нибудь?
— Да, — отвѣчалъ онъ: — я вижу какъ будто бы небо отверсто... и туда... кто-то входить...
— Неужто блудница?
О, нѣтъ!.. блудницу вы закопали въ грязи: я вижу., какъ легкая струйка съ каленаго угля сливается съ свѣтомъ; мнЬ кажется. эго восходитъ іючъ утѣшенія
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Слѣдующее женское лицо является въ иной, но не менѣе трогательной обстановкѣ, также ярко рисующей и общую картину нравовъ А вѣка.
27) Іюня 14. Евсевіи изъ Аскалоіта разсказывалъ, что у нихъ въ городЬ быть купецъ, имѣвшій свои корабли, на которыхъ онъ возилъ дорогіе товары въ Африку. Газъ сдѣлалось кораблекрушеніе, и купецъ этотъ сразу обѣднѣлъ: корабли его потонули, а выкину гые на берегъ товары были расхищены. Тогда заимодавцы посадили этого купца въ тюрьму, а его молодая и очень красивая жена ходила па поденщину и что успѣвала зарабатывать, на то приготовляла пищу и приносила ее мужу въ темницу. При этихъ посѣщеніяхъ она иногда долго засиживалась съ заключеннымъ. стараясь об.іегчіііь его несносное томленіе. Въ Аска-лонѣ же у знатныхъ людей было обыкновеніе, чтобы но особливымъ днямъ ходить посѣщать содержащихся въ тюрьмахъ и подавать имъ милостыню. Одинъ изъ такихъ знат-ныхь людей пришелъ разъ въ темницу, когда жена разорившагося купца сидѣла у своего мужа, и какъ только взглянули на нее, такъ и плішился етѳ. «Уязвпся вельможа сердцемъ. видя красоту ея, бѣ бо ио исіннѣ красна зѣло-'. Вельможа сейчасъ же. «іюдосла къ ней нѣкоего странника , чтобъ она подошла къ нему «пріяти милостыню'.
Женщина, не подозрѣвая ничего дурного со стороны
вельможи, встала и подошла къ нему, чтобы «пріять его милосердіе», а. онъ сталъ ее спрашивать: за чтб опа сидитъ въ темницѣ? Женщина отвѣчала, что заключенъ здѣсь ея мужъ, а она только приходитъ посѣщать его и остается съ нимъ по любви и состраданію, чтобъ облегчать его участь. Тогда вельможа сказалъ ей прямо: «я тебѣ помогу: приходи нынче вечеромъ и пробудь со мной ночь, а я завтра выкуплю твоего мужа пзъ темницы».
Женщина не обнаружила ни гнѣва, ни досады и не слала устыжать вельможу за то, какъ оиъ пользуется затрудненіями бѣдности, а сказала ему:
— Я должна спросить обь этомъ своего мужа, и какъ онъ скажетъ, такъ я и сдѣлаю. Хочешь — я пойду и спрошу его?
Вельможа не стѣснялся и отвѣтилъ ей: Спроси».
Она подошла къ мужу и передала ему съ совершенною простотой предложеніе, сдѣланное ей вельможей.
Купецъ заплакалъ и, глубоко вздохнувши, сказалъ:
— Да, не даромъ сказано: «не надѣйтесь на князи и сыны человѣческіе». Пусть простить ему Богъ обиду, которою онъ хотѣлъ насъ унизить еще болѣе, чѣмъ мы унижены. Подойди къ нему и скажи, что мы не хотимъ купить свободу такою цѣной.
Жена подошла и въ той же самой простотѣ передала слова мужа вельможѣ. Вельможа разсердился и вышелъ. Сидѣлъ же тутъ неподалеку отъ купца въ другомъ углѣ темницы одинъ дорожный разбойникъ, который все это видѣлъ п слышалъ. Взаимная любовь и вѣрность супруговъ его тронули, и онъ «поману къ себѣ жену и рече ей: азъ умн-лихся, видя цѣломудріе ваше. Азъ разбойникъ есмь и имамъ злато сокровенно въ заданіи граднѣмъ. Иди на мѣсто, имя рекъ, раскопай и возьми злато тамъ сокровенное на воздаяніе долга мужа твоего и иныя потребы ваши».
Женщина пошла и нашла золото и искупила мужа мило-сср ііемъ разбойника.
За симъ наступаетъ типъ возвышеннѣйшей деликатности.
28) Мая 30. Блаженный отецъ Маркъ плылъ однажды на кораблѣ въ Константинополь, но поднялась буря и загнала его «кораблецъ» къ «нѣкоторому пустынному острову». Пока корабельщики справлялись съ поврежденными
снастями, Слаженный Маркъ сошелъ походить на безлюдный островъ и. къ удивленію своему, вдругъ замѣтилъ на пескѣ слѣдъ ноги человѣческой. Онъ пошелъ дальше по этому слѣду п вскорѣ увидѣлъ въ отдаленіи человѣка, который, впрочемъ, былъ въ очень странномъ и непонятномъ видѣ и, замѣтивъ Марка, видимо старался отъ него скрыться. Блаженный Маркъ, заинтересованный неожиданною встрѣчей, погнался за удалявшимся жильцомъ необитаемаго острова и скоро сталъ его настигать. Тогда, преслѣдуемый имъ дикій или по.и дикій человѣкъ, видя, что ему уже не < крыться отъ настигающаго пришельца, сталъ передъ нимъ сприсѣдать», сгибаясь къ землѣ, и что-то говорилъ ему неразборчивымъ и жалобнымъ голосомъ. Бл. Маркъ, слыша этотъ жалкій и слабый стонъ пли мольбы, пріостановился и сказалъ:
— Не убѣгай отъ меня: я христіанинъ и не намѣренъ сдѣлать тебѣ никакого зла.
А присѣдавшій дикарь еще ниже пригнулся и отвѣчаетъ:
Я не боюсь тебя: но стыжусь, пбо я нагая женщина, а ты мужъ, и потому я ухожу отъ твоего взгляда. Если же ты милостивъ и хочешь со мной говорить. — то брось мнѣ что-нпбудь изъ твоей одежды, чтобъ я могла хоть немножко закрыться.—тогда я стану къ тебѣ лицомъ, и мы можемъ поговорить.
Бл. Маркъ имѣлъ на себѣ въ ту пору двѣ ризы. Одну онъ оставилъ на себѣ, а другую свернулъ комкомъ и бросилъ нагой женщин ѣ, а самъ отворотился. Женщина подхватила одежду, покрылась ею и подошла къ б.т. Марку. Они сѣли, и когда разговорились, то бл. Маркъ узналъ отъ нея слѣдующее: женщина эта родилась въ простомъ и бѣдномъ семействѣ и притомъ родители ея скоро умерли, а она осталась совершенно безпомощною сиротой. Попалась она какъ-то разъ на глаза одному именитому и богатому человѣку, который тронулся ея положеніемъ, изъ жалости взялъ ее къ себѣ въ домъ и сталь воспитывать вмѣстѣ Со своими дѣтьми. У него ода выросла и стала красива, и обнаружила умъ и добрый характеръ, и этимъ нашла себѣ такое благорасположеніе у своего воспитателя, что онъ не хотѣлъ искать для своего сына лучшей жены, какъ эта сиротка. Молодой человѣкъ тоже лю
билъ ес іі тоже не хотѣлъ себѣ иной невѣсты, по. женщины-родственницы съ материной стороны жениха имѣли непремѣнное намѣреніе женить «наслѣдника всего имѣнія» па дѣвушкѣ богатой и знатнаго рода. Это повело къ большимъ семейнымъ непріятностямъ, отъ которыхъ молодой человѣкъ много страдалъ и, наконецъ, сильно заболѣлъ, но и лежа въ огнѣ болѣзни все одно повторялъ: «люба ми есть та, еже воспиталъ мой отецъ». Тогда, чтобъ онъ не лишился жизни,--ихъ соединили. Молодые супруги были вполнѣ счастливы, особенно мужъ, который и послѣ свадьбы все еще повторялъ: «люба мп есть, еже дахъ мой отецъ!» --но мать его и ея родственницы постоянно старались сѣять раздоръ въ домѣ и поносили молодого человѣка за его лю-бовь къ женѣ, избранной имъ изъ бѣднаго п низкаго крута. Тогда 0та молодая женщина, видя, что семейныя смуты въ домѣ и страданія любимаго ею мужа не прекратятся, пока ее видятъ въ домѣ,—рѣшилась пожертвовать собою и, для водворенія семейнаго спокойствія, бѣжала изъ дома. Сначала она шла, куда глаза глядятъ, а потомъ плыла на ко-раблѣ. ;но корабль разбило, и ее выбросило на этотъ самый безлюдный островъ, гдѣ нашелъ се блаженный Маркъ. Здѣсь она испытала холодъ, голодь и безпріютность и вдобавокъ ощутила въ себѣ младенца, котораго п родила, воспитала и живетъ съ нимъ уже тридцатый годъ, не видя лица человѣческаго. Блаженный Маркъ видѣлъ и сына атой великодушной женщины: совсѣмъ нагой, онъ прятался въ пещерѣ и былъ пораженъ ужасомъ п удивленіемъ при видѣ третьяго человѣка, притомъ покрытаго одеждами.
Слѣдующій очеркъ представляетъ женскій типъ п очень энергическій, и не лишенный своеобразной ироніи, напоминающей русскую княгиню Ольгу въ ея дѣлѣ съ древлянами.
29) Августа 11. Въ одномъ прибрежномъ торговомъ мѣстѣ жили въ большой дружбѣ два купца: одинъ женатый, а другой холостой». 1 женатаго жена была очень красивая, а притомъ очень умная и цѣломудренная, но супружеское счастье ихъ но было продолжительно: му жъ внезапно умеръ, а красавица-жена его осталась вдовой, и какъ она. очень любила своего мужа, то не хотѣла вступать во второй бракъ, а желала посвятить остальную жизнь служенію добрымъ дѣламъ. Между тѣмъ ея красота и извѣстная скромность ея въ сожительствѣ съ первымъ мужемъ влекли къ ней мно
гихъ жениховъ, которымъ она всѣмъ спокойно отказывала, совѣтуя имъ брагъ себѣ въ жены дѣвушекъ. Многихъ она такъ отводила; но явился одинъ такой пылкій соискатель, съ которымъ ей нелегко было раздѣлаться. Это былъ тотъ самый искренній другъ ея перваго мужа, въ которо,.ъ она и не подозрѣвала, что и онъ увлеченъ ея красивой, а онъ такъ «уязвплся къ ней страстію неисцѣльною, что мало не изгиба».
Тогда эта красавица, какъ женщина уже опытная и по разъ видавшая передъ собою влюбленныхъ, замѣтила топленія друга своего покойнаго мужа и безъ ошибки разгадала, какого они свойства. Она признала за лучшее вывесть дѣло на чистоту и потомъ оказать этому человѣку помощь.
— Друже!—сказала она. ему:- я вижу, что ты самъ не въ себѣ, когда говоришь со мною. Не должна ли я изъ этого заключить, что ты вѣрно имѣешь ко мнѣ что-нибудь особенное, но стѣсняешься сказать это. Прошу тебя, не продолжай далѣе такого для тебя вреднаго, да и для меня безпокоипаю состоянія, потому что я не хочу видѣть тебя страдающимъ. Скажи мнѣ, что тебѣ отъ меня надобно, и будь увѣренъ, что я сдѣлаю все, какъ .могу лучше, и надъ твоимъ признаніемъ не носмѣюся.
Онъ же, услыхавъ такое поощреніе, очень обрадовался и съ откровенностію ей сказалъ, что плѣненъ ея красотой, почитаетъ извѣстныя ему ея душевныя качесіва и желаетъ взять ее стой въ жены.
Разсудительная вдова поблагодарила его за ураженіе, но отвѣчала ему, что. испытавъ радости брака съ мужемъ любимымъ, она уже не желаетъ второй разъ испытывать того же самаго съ другимъ человѣкомъ, ибо думаетъ, что лучшее время жизни уже не повторится, а худшее родитъ только сожалѣнья о Прежнемъ и не составитъ ни для той, ни для іругой стороны счастія. А потому она предпочитаетъ не вступать въ новый союзъ ни съ кѣмъ, а будетъ жить для дѣтей и для общественныхъ заботъ, которыя всегда достойны вниманія и поглощаютъ досугъ съ пользой для ближняго. Молодому же человѣку она указывала на молодыхъ, только дошедшихъ до брачнаго возраста дѣвушекъ, съ которыми и совѣтовала ему вступить въ бракъ, ибо съ такою онъ можетъ жить въ любви, свободной ОГЪ ВОСПОМИ-папіи о прошломъ.
Но молодой человѣкъ «толпко уя 5ВИСЯ любовью ко вдовицѣ, иже вся иныя ни за что вмѣняя»,- -онъ не слушалъ никакихъ доводовъ и указаній на дѣвушекъ, а нетерпѣливо «припадать ко вдовѣ и мочилъ ее быть его женой», причемъ онъ «люте истаивалъ», былъ унылъ и «ко гробу скло-няся, ходиль неистовъ яко бы бѣсенъ».
Такая докучная неотвязчивость п непріятное приставаніе нестерпимо надоѣли вдовицѣ, которая разсуждала, такъ, что не можетъ же она «ради влеченія его исполнить все, елико онъ хоіцетъ"!.. И тогда, чтобы покончить съ нимъ, она ему сказала:
— Что ты терзаешь себя и меня? Долго ли эіо еще будетъ?
Онъ же отвѣчалъ ей:
— Такъ будетъ до вѣку, пока я или ты живемъ на свѣтѣ, потому что душа моя и сер ще все (гремятся къ тебѣ, и ты напрасно говоришь мнѣ о юныхъ дѣвахъ. Я ихъ видя не вижу и онѣ чужды желаніямъ моего сердца, а по тебѣ пстаеваютъ всѣ силы моего тѣла и мозгъ костей моихъ сворачивается. Исцѣли меня, уязвленнаго твоею красотой: стань женой моею, или я иначе умру.
— Горе мнѣ съ тобою! — отвѣчала вдова и, замысливъ нѣчто въ умѣ своемъ, сказала:—Да не обманываешься ли еще ты, будто такъ меня любишь, что и жить не можешь? Неужели въ самомъ дѣлѣ для счастья твоего нѣтъ ничего драгоцѣннѣе моей взаимности?
Купецъ клялся въ этомъ, а она ему отвѣчала какъ бы въ недовѣріи
— Остановись клясться предо мною, такъ какъ я уже пе дѣвица и страстными мужскимъ словамъ не довѣряю. Всѣ вы таковы, что когда плѣняетесь женщиной, то становитесь безразсудны, и въ ту пору уста у васъ черезъ мѣру полны восхищеніи, но послѣ бываетъ иное. Я потребую отъ тебя доказательствъ, что для твоего счастія всего потребнѣе обладаніе мною и ничто иное тебя привлечь къ себѣ не можетъ.
ІуупсцІ съ радостію воскликнулъ:
— «О, я вельми готовь, и аще мнѣ міръ весь предложатъ -не взгляну на него, а къ тебѣ устремлюся».
Вдова улыбнулась и отвѣчала:
— Міръ весь не нашъ, а божій, и такой великой об
ласти для искушенія твоего я предложить не могу, но я поставлю тебѣ нѣчто меньшое, и увидимъ: не устремишься ли къ этому неважному, а .меня, столь тебѣ необходимую, отринешь.
Никогда итого не случится! - воскликнулъ влюбленный.
— Иди же сейчасъ отсюда домой, затворись въ своей верхней комнатѣ, выкинь мнѣ ключъ въ окно и оставайся тамъ, пока я пришлю за тобой. Обѣщаешь іи мнѣ это исполнить?
— О, что говорить о такихъ пустякахъ!
— Хорошо, и если потомъ твое стремленіе будетъ все ю же. то я даю тебѣ слово, что перестану вспоминать объ умершемъ мужѣ и отдамъ себя въ твое угожденіе. Теперь, съ этой минуты, все. чему быть и чему не быть--игъ тебя зависитъ.
Купецъ побѣжалъ д*-мой весело, потому что почиталъ свое дѣло выиграннымъ. Онъ взошелъ въ домь свой и веселою рукой затворился у себя въ верхней горницѣ, а ключъ выбросилъ въ окно и велѣлъ отнести его вдовѣ въ доказательство, что онъ свой урокъ уже началъ. Вдова же приняла ключъ, но ничего больше жениху не заказала.
Купецъ пробылъ въ горницѣ день, провожая часы ожиданія въ любовныхъ мечтаніяхъ и ожидая, въ чемъ будетъ дальше его испытаніе; но сутки прошли, а вдова ни о чемъ новомъ ему не сообщала. Па другой день онъ опять думалъ о вдовѣ, но вспомнило также нѣсколько разъ и о своемъ желудкѣ, который былъ пусть и требовалъ пищи, а на третіи день голодъ сталъ такъ напоминать ему о себѣ, что купецъ не обращался въ сладкихъ мгчтахъ ко вдовѣ, а гнѣвался на нее и все думалъ о пищѣ, а въ ночи онъ не могъ спать, потому что и сонъ его наполнялся уже не видѣніями обольстительной вдовы, а запахомъ яствъ. Утро жі четвертаго дня купецъ встрѣтилъ въ мучительныхъ боляхъ желудка и послалъ преданнаго ему человѣка ко вдовѣ Опросить: не забыла ли она о немъ? Вдова отвѣчала, что она не забыла.
— Но онъ умираетъ! сказалъ ей посланецъ.
— Не пугай меня этимъ, — отвѣчала вдова сквозь улыбку: до смерти еще далеко. По, впрочемъ, я не хочу томить его дольше. Пусть онъ теперь одѣвается въ госгиное
платье, я за нимъ скоро пришлю, и онъ получитъ все, чего пожелаетъ.
Въ предобѣденный же часъ въ домъ купца пришла довѣренная отъ вдовы и, имѣя ключъ отъ жениховой двери, открыла се п сказала:
— Радуйся, господинъ! ты вполнѣ сдержалъ свое обѣщаніе, иди же теперь къ моей госпожѣ: она тебя ожидаетъ п, со своеп стороны, свое обѣщаніе сдержитъ.
Но купецъ, одѣтыя въ гостиное1 платье, смотрѣлъ на посланницу впавшими глазами и уныло, слабымъ голосомъ, отвѣчалъ, что готовъ за ней слѣдов іть. Онъ былъ такъ изнуренъ, что надо было позвать люц-й, которые взяли его подъ руки и помогли ему идти.
Вдова встрѣтила гостя въ Дворахъ своего жилища. Опа была во всемъ блескѣ своей красоты, ибо и она тоже смѣнила одежду вдовства и надѣла лсткоткаппую одежду, державшуюся на ея плечахъ самоцвѣтными стяжками и открывавшую шею и руки, съ которыхъ неслось благоуханіе амбры.
Принявъ входившаго гостя подъ руки, вдова ввела его въ большую горницу, которая была раздѣлена на-двос повѣшеннымъ на кольцахъ ковромъ. Въ одной половинѣ, ближайшей ко входу, былъ накрыть столъ, установленный прозрічными кувшинами съ искрометнымъ питьемъ и блюдами, изъ которыхъ одно было покрыто; а па другой половинѣ возвышалось пышное ложе съ двойнымъ из-головьсмъ.
—• Ты теперь господинъ въ моемъ домѣ, сказала вдова:— и я тебѣ повинуюсь. Вотъ здѣсь тр-аиеіа, здѣсь ложе. Избирай, что ты хочешь; я готова раздѣлить съ тобой то н Другое.
Купецъ же оівЬчалъ ей:
— Ахъ, помилуй меня,—«азъ воль пи пстощэхъ, дай мпѣ впередъ насытиться!»- и онъ потянулся къ столу н возлегъ, озирая посуду.
— Мы имѣемъ достаточно время, такъ какъ яства въ прік пѣшнѣ еще пе поспѣли, сказала вщва.
— А это здѣсь что же покрыто на блюдѣ?
— Это пшено,-—оно безвкусно, пока къ пому не поспТ-етъ облива.
— Мнѣ все теперь вкусно! воскликнулъ купецъ п,
открывъ блюдо, сталъ насыщаться пшеномъ, безъ отливы, а вдова сказала ему:
— Вотъ ты теперь видишь: потреба потребѣ есть розпь: безъ одного жить человѣку нельзя, а безъ другого жить можно!—п съ этимъ она велѣла подавать кушанья и опустила коверъ, который навсегда закрылъ огъ купца ея ложе.
3<»і Ащьъля 5. Стремясь возвышаться надъ силой страстей. женщины Пролога представляютъ еще одинъ такой высокія характеръ, которому удачи и безмятежное счастье были даже въ тягость.
Оптъ пзъ александрійскихъ отцовъ увидѣлъ разъ женщину, которая чрезвычайно усердно молилась и притомъ горько плакала. Это его тронуло, и оиъ спросилъ молившеюся: какое у нея горе? Она же отвѣчала ему: «ахъ, я очень счастлива, и у меня нѣтъ никакого г.»ря, но я живу среди людей и вижѵ много огорченныхъ, и теперь молю Бога, чтобъ Онъ отдѣлилъ на мою долю часть ихъ страданія, дабы я не пристрастилась къ здѣшней жизни». Александрійскій отецъ подивился эт'ѳй благоразумной женщинѣ, которая лучше мноГпхд. знала, въ чемъ заключается высшая опасность для человѣка.
Эпімъ оканчивается группа женскихъ лпцъ. которыя то удивляютъ мужчинъ высотой своихъ порывовъ, то исправляютъ ихъ, отвлекая отд> чувственной грубости, то прямо спасаютъ людей съ полнымъ самоотверженіемд. и потомъ безт» малѣйшаго ропота сами несутъ отверженіе, нищету и всевозможныя униженія. Въ лакомъ санѣ превосходной чистоты мы насчитываемъ по Прологу девять женщинъ.
ГЛАВѢ ПЯТАЯ.
Систематическая схема наша являетъ намд> теперь такую пропорцію: изъ 36 женщинъ, составляюіипѵь цѣлую треть лпці>, представляющихъ интересъ въ повѣствовательномъ родѣ, 17 не соблазняли мужчинъ, а пострадали оть яхъ соблазновъ и насилій: 4 соблазни іи -одна съ успѣхомъ, а три безъ успѣха, прячемъ изъ нихъ безъ успѣха остались: одна свѣтская дама пзъ Александріи, одна гетера, нанядая знатными богачами, и одна припадочная болгарская дѣвчонка. Успѣвала въ своихъ намѣреніяхъ только Марія изъ Египта, но и опа, впрочемъ, держала себя какъ простая
«блудница», какою она была до возвышеннаго поворота во второй половинѣ ея жизни. Девять же не только останавливали мужчинъ отъ ихъ грубыхъ страстей, но даже научили ихъ обуздывать свою природу и жить і.ля болѣе возвышенныхъ цѣлей.
Въ дурномъ видѣ Прологъ представляетъ только двухъ женщинъ, изъ которыхъ одна обнаруживаетъ жестокое сердце, омраченное страстью къ мужчинѣ, а исторія другой такъ мало понятна, что ее, слѣдуя опредѣленію Ѳеофана Прокоповича, очевидно, остается только отнести къ разряду «пустыхъ басенъ».
31) Марта 7.9. Молодая вдова, по имени Марія, имѣя двухъ маленькихъ дѣтей, влюбилась въ одного «воина» и захотѣла выйти за што замужъ. Воинъ же, хотя и быль близокъ съ ней, но не хотѣлъ брать ее въ замужество. Онъ нагло выставлялъ на видъ свои эгоизмъ и отказывался тѣмъ, что не желаетъ «пещися о іѣтяхъ перваго мужа». Тогда влюбленная Марія, подъ наитіемъ сграсти, «заколола обоихъ дѣтей и послала вѣсть воину, что у нея уже нѣтъ дѣтей». Воинъ, когда получилъ эту «вѣсть», тотчасъ же догадался, вь чемъ дѣло, и поправился на другой ладъ: онъ «поклялся не брать дѣтоубійцы». Онъ остался правь, а женщина погибла. Случаи въ этомъ родѣ, съ замѣчательнымъ тождествомъ мотивовъ и частностей, повторяются въ изобиліи даже и до сего дня.
32) Мая Одна «постница» тщательно берегла себя: она много постилась и молилась и избѣгала всякаго сообщества мірскихъ людей, а держалась только съ клириками, но и тутъ по неосторожности сблизилась съ однимъ пѣвчимъ, который, по сказанію, самъ не былъ ни въ чемъ повиненъ передъ ней, а она сама «растлилась и зачала». Увидѣвъ такое серьезное и, какъ видно, нежеланное послѣдствіе отъ своего сближенія, постница опять обратилась къ Богу и начала пламенно молиться, «чтобы зачатое сю вь беззаконіи родихаеъ мертво», и это такъ и случилось.
Два эли сейчасъ приведенные случая (31 и 32) представляютъ самое худшее, что есть въ ряду всѣхъ исторій съ женщинами, описанными въ Прологѣ: но если и на эти два самые худшіе «прилога» смотрѣть безпристрастно, что отъ критики безусловно и требуется, то нельзя не видѣть, что обѣ здѣсь представленныя женщины тоже отнюдь не
являютъ собою особеннаго коварства къ погубленію мужчинъ, а напротивъ, окѣ по своему безразсудству и страстности губятъ только себя п своихъ дЬтей.
Слѣдуетъ также замѣтить и то, что у всѣхъ прологовыхъ женщинъ высшаго настроенія, при большой примитивности ихъ пріемовъ, постоянно видна ясность въ ихъ цѣляхъ и отчетливость въ дѣйствіяхъ, чего нЬтъ въ описаніяхъ, изображающихъ мужчинъ, желавшихъ исправлять женщинъ. У женщинъ (кромѣ двухъ дѣтоубійцъ) совсѣмъ нѣтъ грубости. а у мужчинъ безъ нея не обходится никакое дѣло.
33) Нѣкто Виталій изъ Каира послужилъ при кельЬ старца Спиридона шестьдесятъ лѣтъ и ушелъ въ Александрію, потому что не захотѣлъ болѣе аскетической славы, а «нача жить на соблазнъ», то-есгь юродовать. Самое соблазнительное въ юродствѣ этого старика, которому не могло быть менѣе какъ лѣтъ семьдесятъ, было то. что Виталій всякую ночь шелъ туда, гдѣ собирались блудницы. Онъ это затѣялъ, какъ ниже увидимъ, не съ дурною, а съ доброю цѣлью, и это ему стоило не мало хлопотъ и трудовъ, ибо для такого рода жизни нужно было постоянно имѣть съ собол изрядныя деньги. Виталіи и старался доставать нуж ныя ему средства: онъ вставалъ рано утромъ, выходилъ на поденщину и цѣлые день работалъ, получая серебренникъ за день, а пошабашивъ, тотчасъ же несъ этотъ серебренникъ въ блудный домъ, нанималъ себѣ за эту цѣну блудницу, и когда оставался съ нею наединѣ, то передавалъ ей серебренникъ и говорилъ: «вотъ, дочь моя, я за эту монету цѣлый день проработали, а ты теперь возьми ее себѣ и цѣлую ночь за нее проспи спокойно».
Женщина, которой Виталіи, такимъ образомъ, покупалъ возможность спокойно провести ночь, ложилась и спала, а Виталій становился тамъ же возлѣ нея, какъ возлѣ ребенка, и не смущаясь ни ея присутствіемъ, ни чѣмъ, что достигало до его слуха изъ-за утлыхъ перегородокъ и завѣсь переполненнаго буйными гостями олуди.іища, возносилъ въ молитвахъ за міръ духъ свой къ Богу, а утромъ опять поспѣвалъ на работу. 11 такъ юродивый Виталій дѣлалъ всякій день, причемъ онъ всегда упрашивалъ бывшихъ съ нимъ женщинъ, чтобъ онѣ никому не разсказывали, какъ онъ съ ними обходится, а говорили бы, что онъ точно такой же
Сеіпненія Н. Г. ЛЬскова. Т. XXXIII. 13
блудникъ, какъ и всѣ другіе, вхожіе въ ихъ жилище. Многія женщины такъ и говорили, и тайна Виталія долго оставалась неизвЬстною; но вдругъ одна изъ женщинъ разсказала, что она любитъ Виталія за то, что онъ, оставаясь съ нею, не безпокоитъ ее, а только молится во всю ночь. Другія же женщины оспаривали эту свою подругу и говорили, какъ научилъ ихъ Виталій, то-есть. что онъ бываетъ у нихъ за тѣмъ же самымъ, за чѣмъ и всѣ прочіе ихъ посѣщающіе мужчины.
Услыхавъ обь этомъ спорѣ, Виталій и огорчился, что одна женщина выдала тайну его юродства, — тогда онъ «помолился и женщина взбісплась». Это отвѣчало дальнѣйшимъ цѣлямъ юродиваго Витанія, потому что слова «бѣшеной» уже не пользовались ничьимъ довѣріемъ, а онъ хотѣлъ, чтобъ о добродѣтели его не знали, а считали бы сто блудникомъ.
Такъ цѣлая группа открыто промышлявшихъ собой блудницъ оберегали тайну юродиваго, оказывавшаго имъ трогательное участіе.
34 и 35) Въ заключеніе видимъ сразу двухъ женщинъ: мать и дочь — въ ужасномъ положеніи. У одной матери было двое дѣтей, — сынъ и дочь. Сынъ не захотѣлъ работать для поддержанія жизни матери н сестры, а покинулъ ихъ и ушелъ въ монахи. Онъ постригся и сталъ жить въ монастырѣ очень строго. Старуха же осталась на рукахъ одинокой дочери, которая никакъ не могла честнымъ трудомъ заработать столько, чтобы прокормить и одѣть себя и старуху. «Отъ нищеты она попо.тзнулася и впала въ напасть во огражденіи баннѣмъ» (то-есть на банномъ дворѣ). Въ странѣ той, гдѣ это было, женщинъ строго карали за распутство, и эту дѣвушку «взялъ князь» и «по закону хотяше убить ю». По строгости такого рѣшенія надо думать, что «напасть во огражденіи баннѣмъ» заключалась въ какомъ-нибудь особенномъ развратномъ дѣяніи, за которое «по закопу» полагалось убивать для устрашенія другихъ. Тлкіе случаи бывали, но разсказывать о нихъ неудобно. Мать осужденной на смерть дйвушкп пришла къ князю и просила его не казнить ея дочь, потому что послѣ этого не будетъ кому напоить ее, старуху, водой. А если уже дочь за ея беззаконіе нельзя помиловать, то старуха умоляла князя, чтобы повелѣлъ и ее самоё тоже убить одно
временно вмѣстѣ съ дочерью. Князь спросилъ: «Газвѣ у тебя нІ;гъ больше дѣтей?»
— У меня есть сынъ, — отвѣчала старуха:—но онъ монахъ и не живетъ съ нами.
Пусть придетъ ко мнѣ этотъ монахъ и поговоритъ о сестрѣ,—сказалъ князь.
Старуха отправилась въ монастырь къ сыну, но она потрудилась напрасно: монахъ не пошелъ къ князю говорить о сестрѣ, а сказалъ ешг:
« 1И>рѵ ими ми, мати, аще п тебя побіютъ съ нею азъ и о томъ орудія не имамъ. мрохъ бо міру».
Стар; ха пересказала зто князю, и князь помиловалъ дочь старухи безъ разговора съ монахомъ.
Этими тридцатью пятью женскими лицами представлено полное обозрѣніе женскихъ типовъ Пролога, какъ древняго житійнаго источника, отреченнаго церковною критикой, но до сихъ поръ уважаемаго русскимъ простонародіемъ. Держась самой сжатой краткости, мы имѣли цѣлью показать, что вь этомъ житійномъ сборникѣ женщины проставлены отнюдь не такъ дурно, какъ это думаютъ и утверждаютъ люди, не потрудившіеся обозрѣвать подобные сборники обстоятельно и безпристрастно. Если мы этого хоть мало достигли, то весьма тому радуемся.
МАЛАНЬЯ—ГОЛОВА БАРАНЬЯ.
(с к А 3 К А.)
Въ одномъ глухомъ и отдаленномъ отъ городовъ мѣстѣ была большая гора, поросшая дремучимъ лѣсомъ. У подошвы этой горы текла рѣка, и тутъ стояло селеніе, гдѣ жили зажиточные рыболовы и хлѣбопашцы. ()тъ этого селенья шла черезъ лѣсъ дорожка въ другую деревню, а па этой дорожкѣ въ сторонѣ на полянкѣ стояла избушка, въ которой жила бѣдная женщина по имени Маланья, а по прозванію «Голова баранья». Такъ прозвали ее потому, что считали ее глупою, а глупою ее почитали за то,- что она о другихъ больше, чѣмъ о себѣ, чмала. Если, бывало, кто-нибудь попроситъ о такомъ, что нельзя сдѣлать безъ того, чтобы лишить себя какихъ-нибудь выгодъ, то такому человѣку говори іи:
— Оставь меня въ покоѣ; мнѣ это не выгодно вонь гамъ на пригоркѣ живетъ Маланья— голова баранья: она не разбираетъ, что еп выгодно и что не выгодно, ее и попроси, она. небось, сдѣлаетъ.
II человѣкъ шелъ на пригорокъ и просилъ у Маланья, и если она могла ему сдѣлать, о чемъ онъ просилъ, -то она дѣлала, а если не могла, то привѣт’чъ, да приласкаетъ и добрымъ словомъ утѣшитъ, скажетъ:
— Потерпи,—Христосъ терпѣлъ и намъ велѣлъ.
У Маланьи избушка была крошечная, такъ что только можно было повернуться около печечки, а жили здѣсь съ н*-ю сухорукій мальчикъ Ерашка, да безногая дѣвочка Жпвулечка сидѣла на хромомъ стуличкЬ.
Оба онп были не родня Маланьѣ — головѣ бараньей, а ч^жіе,- родныхъ ихъ разбойники въ лѣсу закололи, а ихъ бросили; поселяне ихъ* нашли и стали судить—кому бы ихъ взять? Никому не хотѣлось брать безрукаго, да безногую, никогда отъ нихъ никакой пользы не дождешься, а .Маланья услыхала и говоритъ:
— Это вы правду, добрые мужички, говорите: безъ рукъ, безъ ногъ ничего не обработаешь, а пить-Есть надобно: давайте мнѣ Ерашку съ Живулечкой. Случается, что мнѣ одной ѣсть нечего - тогда намъ втроемъ веселѣй терпѣть булетъ.
Мужички захохотали.
—- Беззаботная. говорятъ,—Маланья,—прямая ты голова баранья,—и отдали ей и Ерашку, и дѣвочку Живулечку.
А Маланья ихъ привела н оставила у себя жить.
Живутъ часомъ съ квасомъ, а порою съ водою. Маланья ночь не спитъ: то богатымъ бабамъ пряжу прядеть. то мужикамъ вязенки изъ шерсти вяжегь, и мучицы п соль заработаетъ, и хворосту по лѣсу наберетъ—печку затопитъ и хлѣба спечетъ, и сама поѣстъ, и Ерашку съ Жпвулечкол покормитъ.
Сошлись передъ вечеромъ у колодца домовитыя бабы и спрашиваютъ Маланью:
— Какъ ты. Маланы голова баранья, съ ребятишками прокуратнячаешь.
А все хорошо, слава Богу.—отвѣчаетъ Діаланья.
— Чѣмъ же хорошо? вѣдь они у тебя безсчастные!
— А тѣмь, бабоньки и хорошо, что они безсчастные,-что на ихъ долю немного нгжно. Если бы они были посчастливѣе, да позадачливѣй, мнѣ бы не послужить ими Господу Богу, а какъ они плохіе да бездомные, то что я имъ нп доспѣю—все ото для нихъ лучше того, кикъ если бы я ихъ не приняла, да объ нихъ не подумала.
Покивали бабы головами и говорятъ:
— А 'іы еще впередъ-то подумала ли: чіб съ ними будетъ?
— НЬтъ,—говоритъ Маланья:—я объ зюмъ не думала.
— Да какъ же такъ можно? Надо всегда о переду думать!
А Маланья отвѣчаетъ:
— Чтб пользы думать о томъ, чего знать невозможно, дастъ Богъ день — дастъ и пишу на день, а ночью намъ всѣмъ есть покой на печечкѣ.
— II то правда,—сказали бабы:—они—плохіе,—можетъ-быть, ы умрутъ скоро на твое счастье!
А Маланья руками замотала.
— Что вы! что вы!—говоритъ,—зачѣмъ смерть звать: я ее къ себѣ на порогъ не хочу—пусть она за дверьми присохнетъ.
Домовитыя бабы распотѣшились и разсмѣялись:
— Ну, Маланья,—говорятъ,-—голова баранья,—да какая же ты удалая да смѣшная: саму смерть у порога засушить хочетъ.
Пошла Маланья къ Ерашкѣ съ Живулечкой— понесла имъ водицы напиться дать и ее согрѣть въ горшкѣ, да головенки вымыть у припечка, а бабы стоятъ у колодца, — вслѣдъ ей смотрятъ и пересмѣиваются. А къ нимъ изъ лѣсу выходитъ старый старичокъ, на двѣ клюки опирается:
— Бабоньки,- говоритъ:—кто у васъ тутъ есть на селѣ живъ человѣкъ, что пущаетъ къ себѣ неимущаго нутника?
А бабы ему отвѣчаютъ:
— А ты чей человѣкъ и какъ тебя звать по имени и по отчеству?
Старикъ отвѣчаетъ:
— Странникъ я свѣта Божьяго, и имя мнѣ Живая Душа на костылькахъ; пріусталъ въ пути да уснуть хочу.
Мы не знаемъ тебя,— отвѣчали бабы:- и пустить къ себѣ безъ мужиковъ не смѣемъ, а мужики у насъ строгіе да грозные—придутъ, заругаютъ насъ.
— Что же, вы, видно, своихъ мужиковъ больше Бога боитесь. Богъ-то, вѣдь, велѣлъ принять и покормить неимущаго. •
Бабы отвѣчаютъ:
II то правда твоя, страннн чекъ: Божье слово помнимъ, а человѣческаго боимся.
Живая Душа покачала головой и говоритъ:
— А вѣдь это, бабоньки, по худу быть — такъ бы вѣдь вовсе не надобно. Пойду къ самимъ мужикамъ: у нихъ попрошусь.
Пошелъ къ мужикамъ, и мужики его пе пустили.
— Кто тебя знаетъ,—сказали:—можетъ-быть, ты слабымъ прикинулся и самъ разузнать хочешь, гдѣ у насъ дорогое добро лежигь, да ворамъ открыть, а можетъ-быть, у тебя
на тѣлѣ прыщи да вереды, а у насъ пабы чистыя и полы стланые—иди-ка по, тропиночкѣ въ гору, тамъ есть бѣдная избушка — въ ней живетъ Маланья — голова баранья, она всѣхъ пущаетъ и тебя пуститъ.
— Спасибо ва.мъ, добрые хозяева,—отвѣчалъ старичокъ Живая Душа и пошелъ къ М.іланьѣ.
А Маланья увидѣла его изъ окна и послала безрукаго Ерашку, чтобы звать его ужинать.
Ерашка добѣжалъ къ старику и кричигь:
ІІди-ко-сь, дѣдко: тетушка Маланья наварпла горшокъ снытки, сольцой посолила, зоветъ тебя ужинать.
Старикъ Кивая Душа погладилъ Ерашіг, по головѣ.
— II то,—говоритъ:—къ вамъ иду. Другіе-ю не пускаютъ.
II только влѣзъ въ избу,—тѣсно стало и сѣсть не на чемъ, а Маланья говоритъ:
— Садись, дѣдушка, со ребятками ѣшь, а я постою.
Сѣть дѣдко и поужиналъ, и заговорилъ по-учтивому и по-ласковому.
— Спасибо, -говоритъ:- тебѣ, что не спросилъ откуда я и какъ меня звать по имени, а посадила хлѣба ѣсть. Я теперь пойду въ лѣсъ—у тебя тѣсно—всѣмъ намъ лечь негдѣ.
— Что ты! что ты! Живая Душа Божія! Въ лѣсу медвѣди и волки ходятъ — развѣ я тебя ночью туда выпущ\! Здѣсь намъ всѣмъ мѣсто будетъ. Вотъ Ерашка на печку, а Жмвульѣа за печку, а ты тѵгъ протянись, гдѣ просторъ опростается, а мнѣ мое мѣсто найдется.
— Ну, будь по-твоему, — сказалъ старикъ, а самъ думаетъ: «гдѣ-же это ей-го самой мѣсто будетъ?»
Легъ, покрылся своей ветошью, да и уснулъ съ одного вздоха отъ усталости, а посл ѣ третьихъ пѣтуховъ проснулся— и видитъ: Маланья стоитъ на ногахъ и прядетъ кудель, которая у нея на колочекъ подъ потолкомъ приткнута.
Носмотрѣл ь на нее старикъ однимъ глазкомъ и говоритъ:
—- А вѣдь это ты, тетка, должно-быть. и пе ложилась.
А Маланья отвѣчаетъ:
Да мнѣ, Живая Душа, и не хотѣлсся.
Старикъ покачалъ головой и говоритъ:
— Ну-ну-ну! Водилъ, водилъ меня Господь долго но свѣту; думалъ я, что позабылъ Онъ меня и покинулъ, а Онъ привелъ мі-пя въ отрадпое мѣсто и сподобилъ узрѣть любовь чистую.
Скажи теперь мнѣ за то въ одно слово: что у тебя есть въ желаніи—я тебѣ то у Бога и выпрошу.
А Маланья говоритъ:
— Что мнѣ недостаетъ? я и такъ всегда радостна, а желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, а если придетъ, такъ чтобы за дверью присохла.
Старикъ отвѣчаетъ:
— Что-жъ,—такъ и будетъ.
Ушелъ старикъ, а смерть вотъ же тутъ и жаіуетъ; наряжена богатой казачкой въ парчевомъ шугаѣ съ золотой никою, юбка штофная, на боку стальная коса на золотой цѣпочкѣ, чеканной на манеръ мертвыхъ костей человѣческихъ, вся рожа накрашена, черные зубы во рту бѣлымъ платочкамъ въ рукѣ заслоняетъ и въ избу просится.
Покажи,— говоритъ:—мнѣ дѣтушекъ-голубятушекъ, я имъ принесла по медовому груздочку и по точеному яблочку.
А Маланья какъ взглянула па нее, такъ и признала ее, что это смерть, вскричала ей:
Хорошо имъ со мной и безъ яблочекъ, а тебя бы лучше не было и присохни ты на одномъ мѣстѣ.
Та и присохла и не можетъ оторвать ногъ отъ того мѣста, гдѣ пристала. а Маланья ее сухимъ хворостомъ заслонила, чтобы не видать ея было.
И славно бы дѣло сдѣлалось, да пошли отъ селенія ужасные стоны и слезы: сильный слабаго тѣснитъ и бьетъ безъ милости, и нѣтъ на злодѣя въ жестокомъ сердцѣ его никакой угрозы, и какъ были люди жестоки, то стали еще жесточе того, и приходятъ къ Маланьѣ всякій день столько несчастныхъ, сколько она во всю свою жизнь не видала, и она уже не можетъ помогать имъ, и слышитъ, какъ они плачутъ и смерть кличутъ: «Смертюшка-матушка, гдѣ ты завѣялась! зачѣмъ міръ покинула! приди, укрой насъ отъ злодѣевъ нашихъ немилостивыхъ— безъ тебя они зазнались безъ памяти!»
Тутъ Маланья ума хватилась.
— Это я, говоритъ:—дура, все лихо надѣлала, захотѣла поправлять дѣла Божіи—чему быть, а чему не быть сотворенному. И завяла смерть, а заслонена у меня кучкой хвороста.
— Ахъ, спусти ее, матушка, умилосердися! Вѣдь вотъ
уже сто лѣтъ у насъ ни однѣхъ похоронъ не было, и обез-сердечили люди жестокіе, а мы состарѣлись, измаялись. Спусти ее и ихъ убраяъ отъ большихъ грѣховъ, и насъ — отъ страданія.
II пошла Маланья, развалила хворостъ, а смерть-то такъ ужъ но румяною казачкой глядитъ, а какъ паутиночка, и коса у ней вся заржавѣла.
— Иди. куда тебя Богъ послалъ! — сказала Маланья смертіг п та колыхнулась и поплыла къ селу паутинкою по сжатому полю, и послышался вскорѣ погребальный звонъ, и перекрестились бѣдняки и встрепенулись богатые мужики.
— Мы, было, думали,—она навсегда кончилась, а вотъ она. какъ змѣя, изъ хворосту выскочила. Нельзя вѣкъ лютовать и властвовать.
А убогіе крестились и сами въ гробы ложились:
— Устали. — говорятъ:—наши косточки насилу дождались земли горсточки.
II обошла смерть все село за лѣсомъ и і брала все, что было нужно убрать. — а съ другими вмѣстѣ и Ершику, и Жнву.течку, потом? что было уже и безрукому, и безногой болѣе, чѣмъ по сту лѣтъ, а Маланья осталась жить и все живетъ, какъ прежде жила, и все то же дѣлаетъ, что и прежде дѣлала, и всѣ тѣ умерли, кто звалъ ее «Маланьей— головой бараньей', и сама она это имя позабыла. II какъ смерть обойдетъ весь свѣтъ да придетъ къ ней и спроситъ:
— Какъ тебя звать?
Она старается вспомнить и никакъ вспомнить не можетъ и говоритъ:
— Не знаю—вѣрно, мое пмя'перемѣнилося.
Смерть стала вопрошать: «какъ имя этой женшпнѣ?» А ей въ отвѣтъ и упалъ съ неба бѣлый, какъ снѣгъ, чистый камень, какъ сердце обточенный, и на ш мъ огнистымъ золотомъ горитъ имя: «Любовь».
Увидѣла это смерть и сказала:
— Ты не моя. — нѣтъ твоего имени въ моемъ приказѣ: любовь не умираетъ: ты доживешь до тѣхъ поръ, когда правда и милосердіе встрѣтятся, и волкъ ляжетъ съ ягненкомъ и не обиліи ь его.
Сочиненія Н. С. Лѣекова. Т. ХХХІИ.
13а
Оглавленіе
XXXIII ТОМА.
СТР.
Юдоль. (Рапсодія).................................... 3
О «квакереяхъ». (Ро«1-₽сгір1пш къ «Юдоли»)...........97
Пустопля' ы. (Святочный разсказъ)...................106
Дурачокъ. (Разсказъ)................................118
Легендарные характеры. (Опытъ систематическаго обозрѣнія). 126
Маланья—голова баранья. (Сказка)....................196
Ііпіѵегеііу о( Тогопіо ІіЬгагу
ВО МОТ
КЕМОѴЕ
ТНЕ
САМ)
ГКОМ
ТНІ5
РОСКЕТ
Асте ЫЬгагу Сагсі Роскек
ІХ>\ѴЕ-МАКТІЫ СО. ЫМІТЕО
Переплетная „НИВЫ”, СПБ.