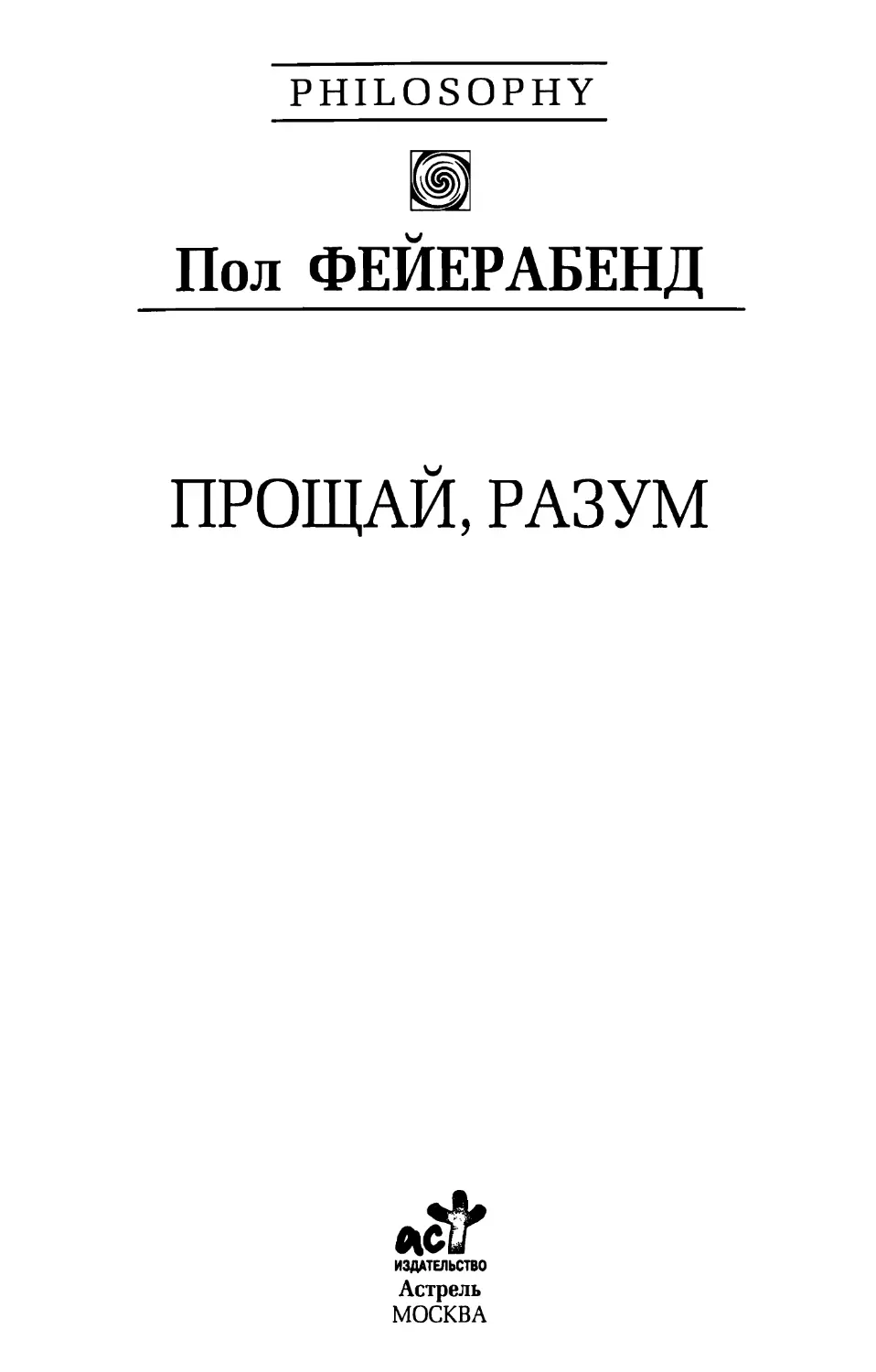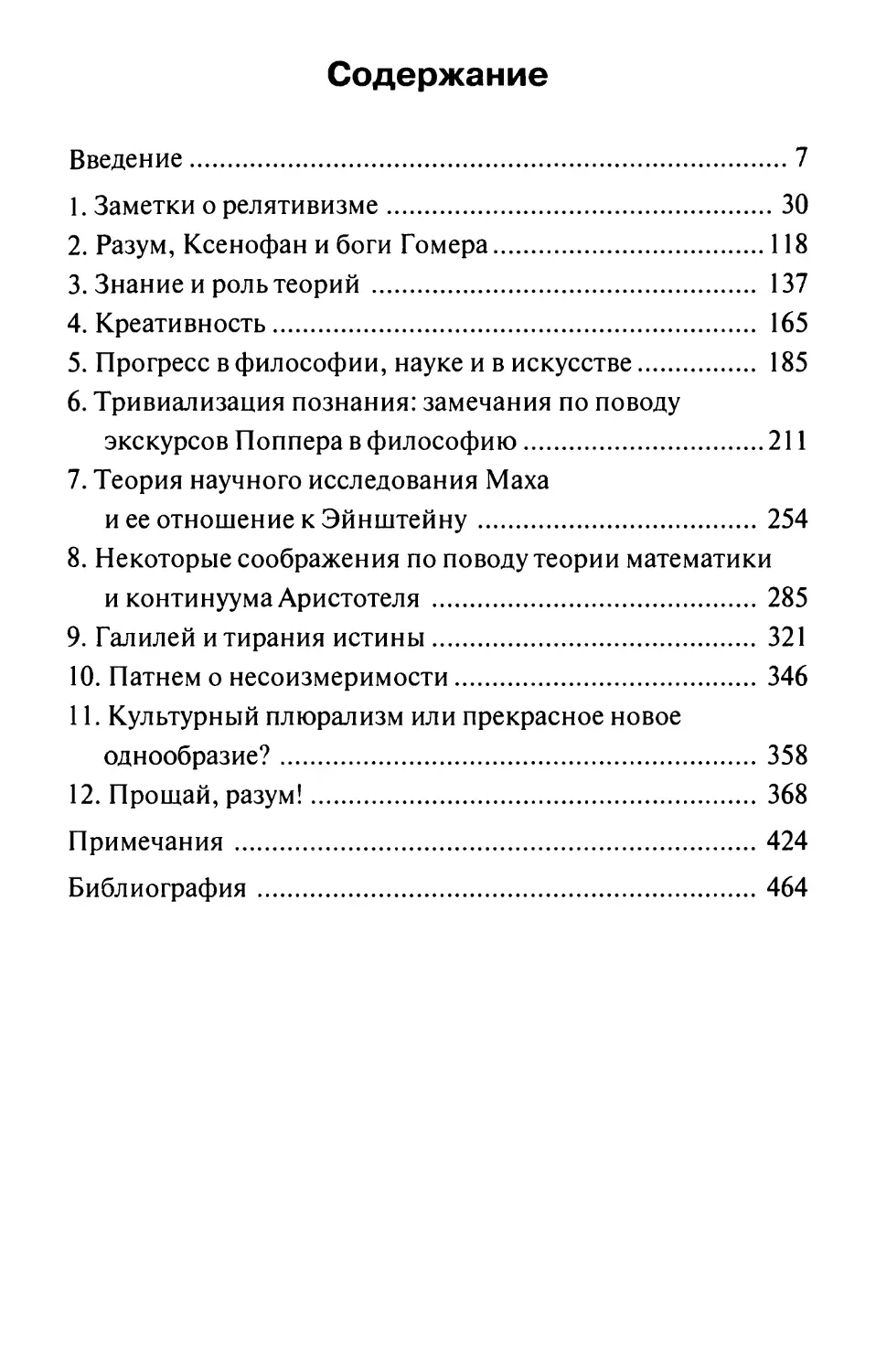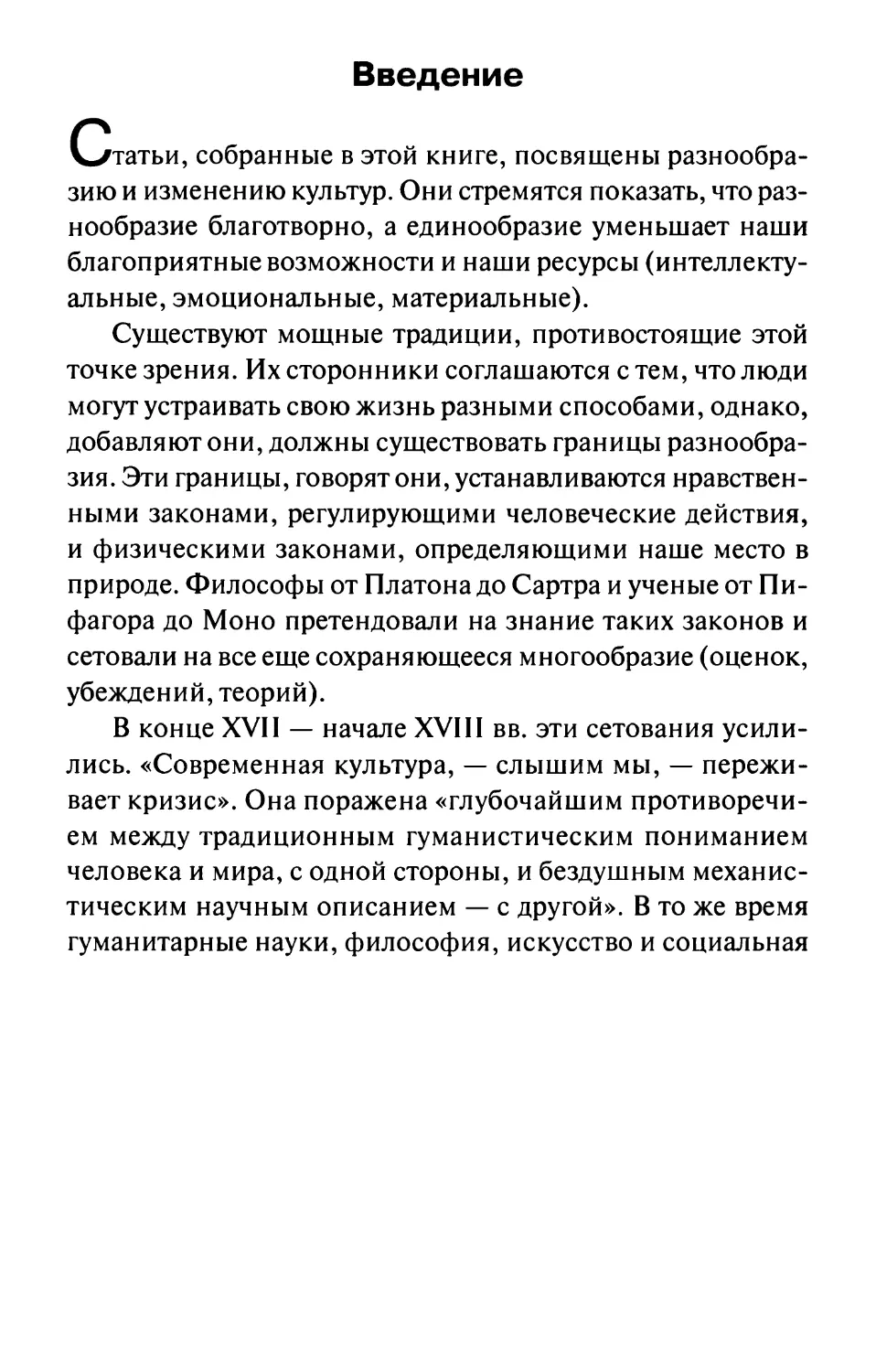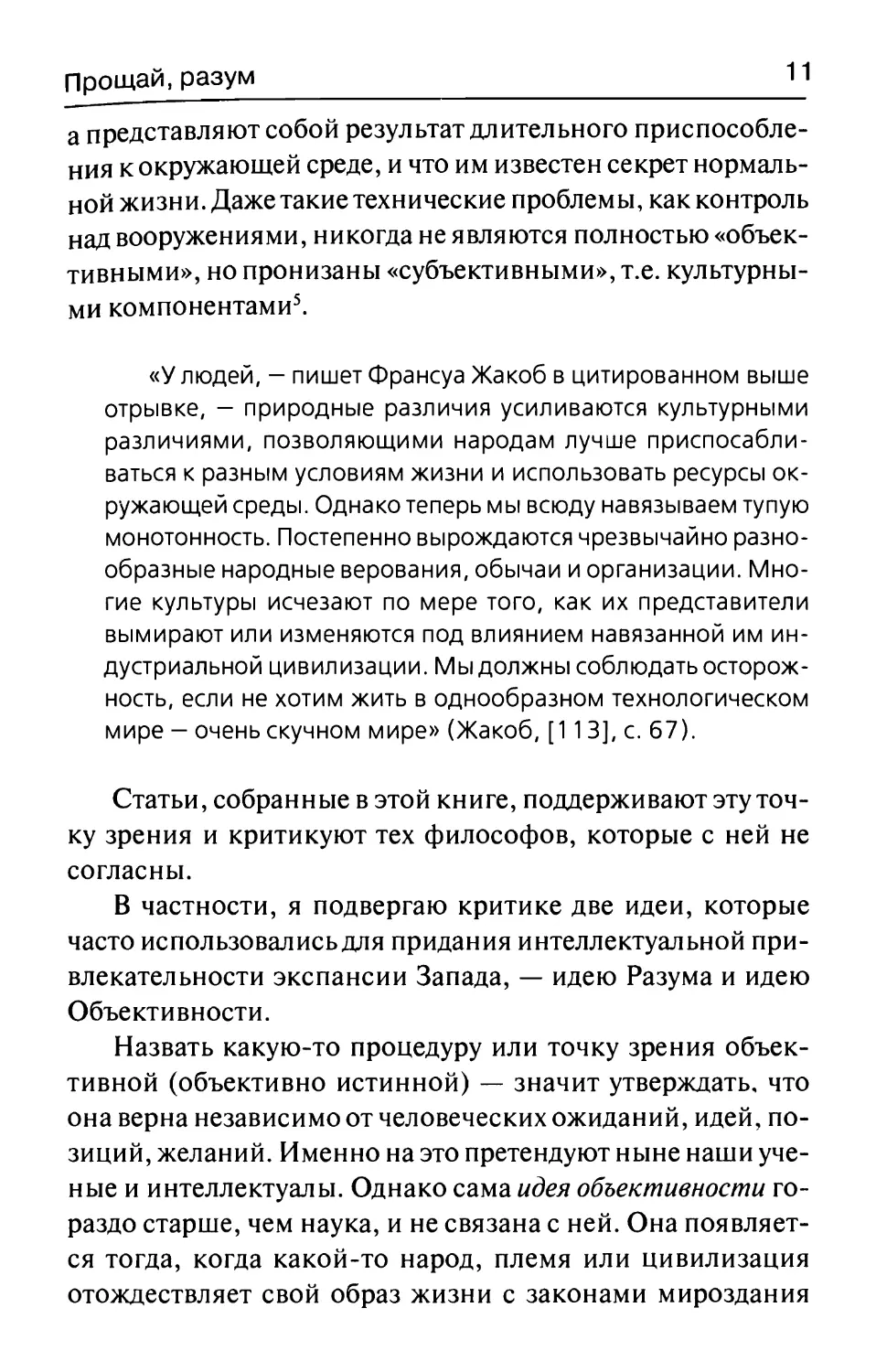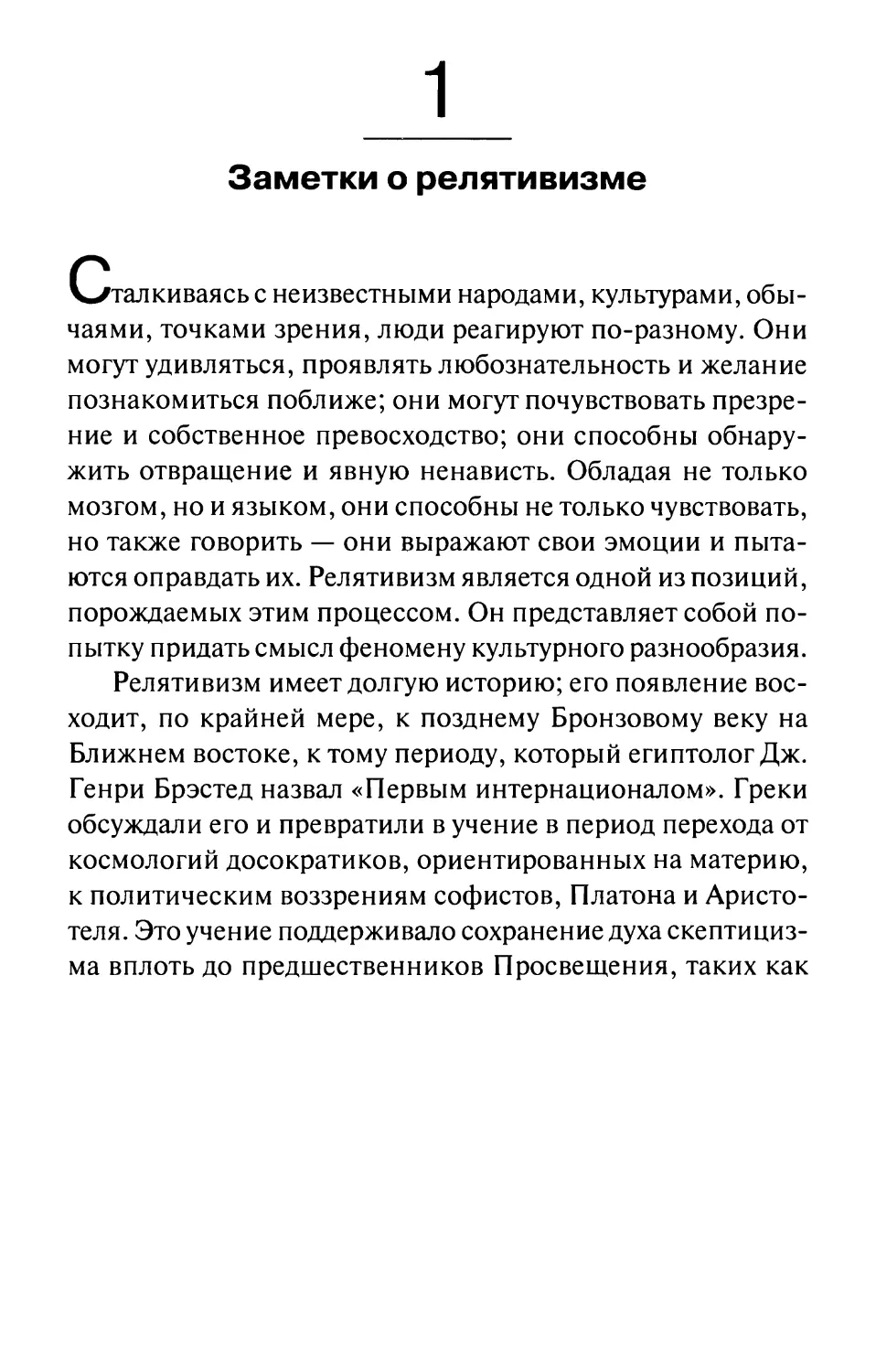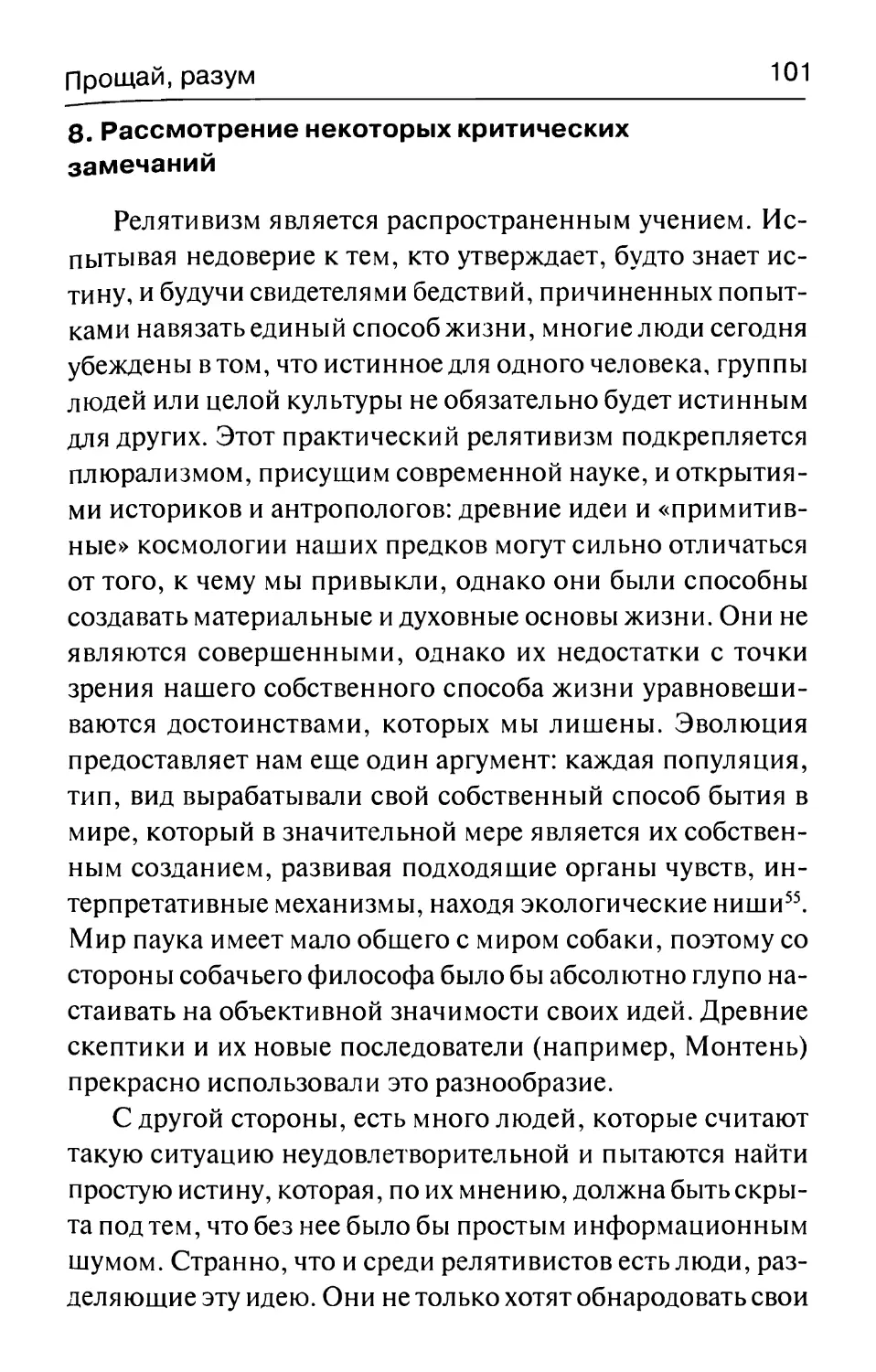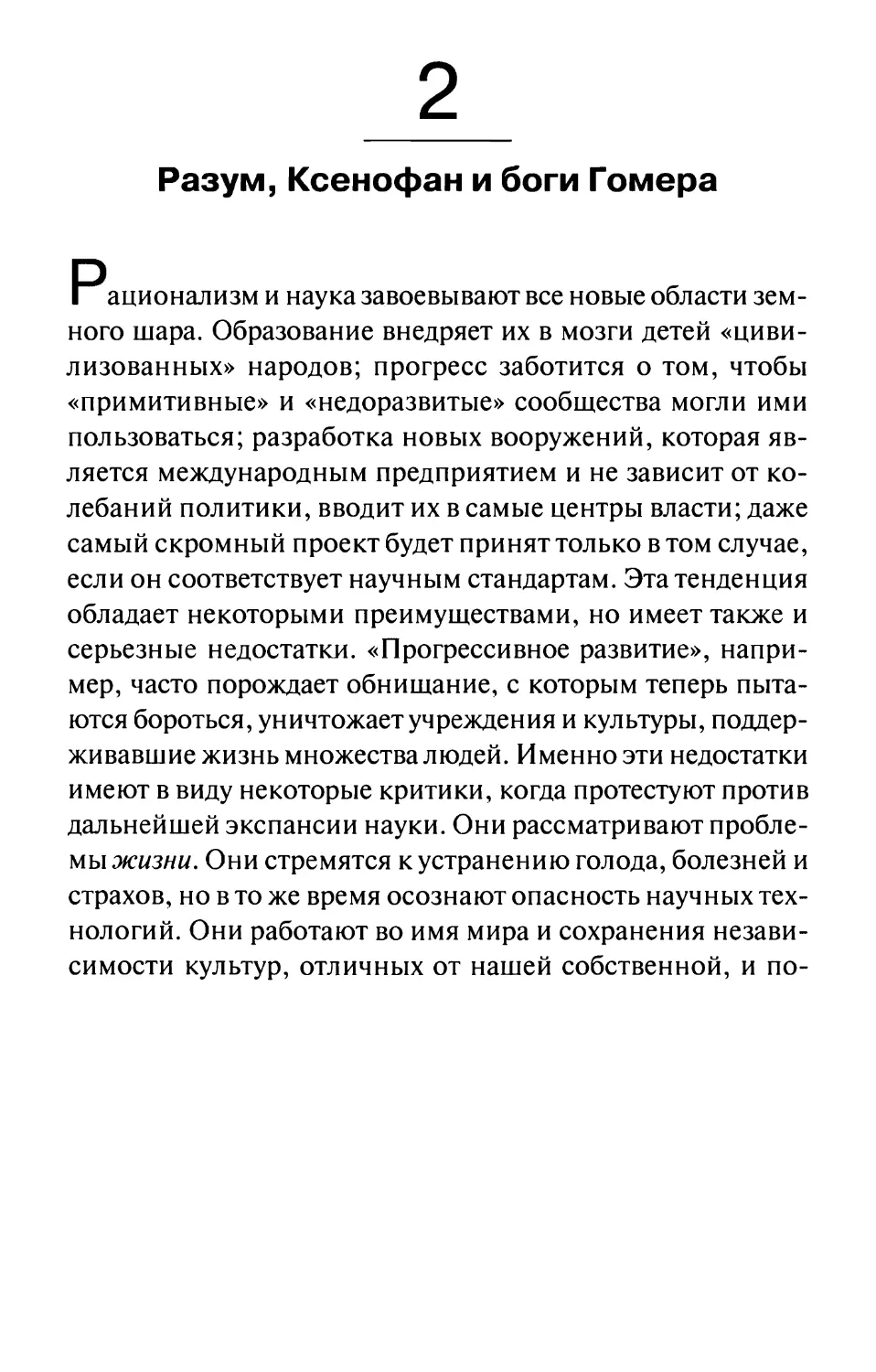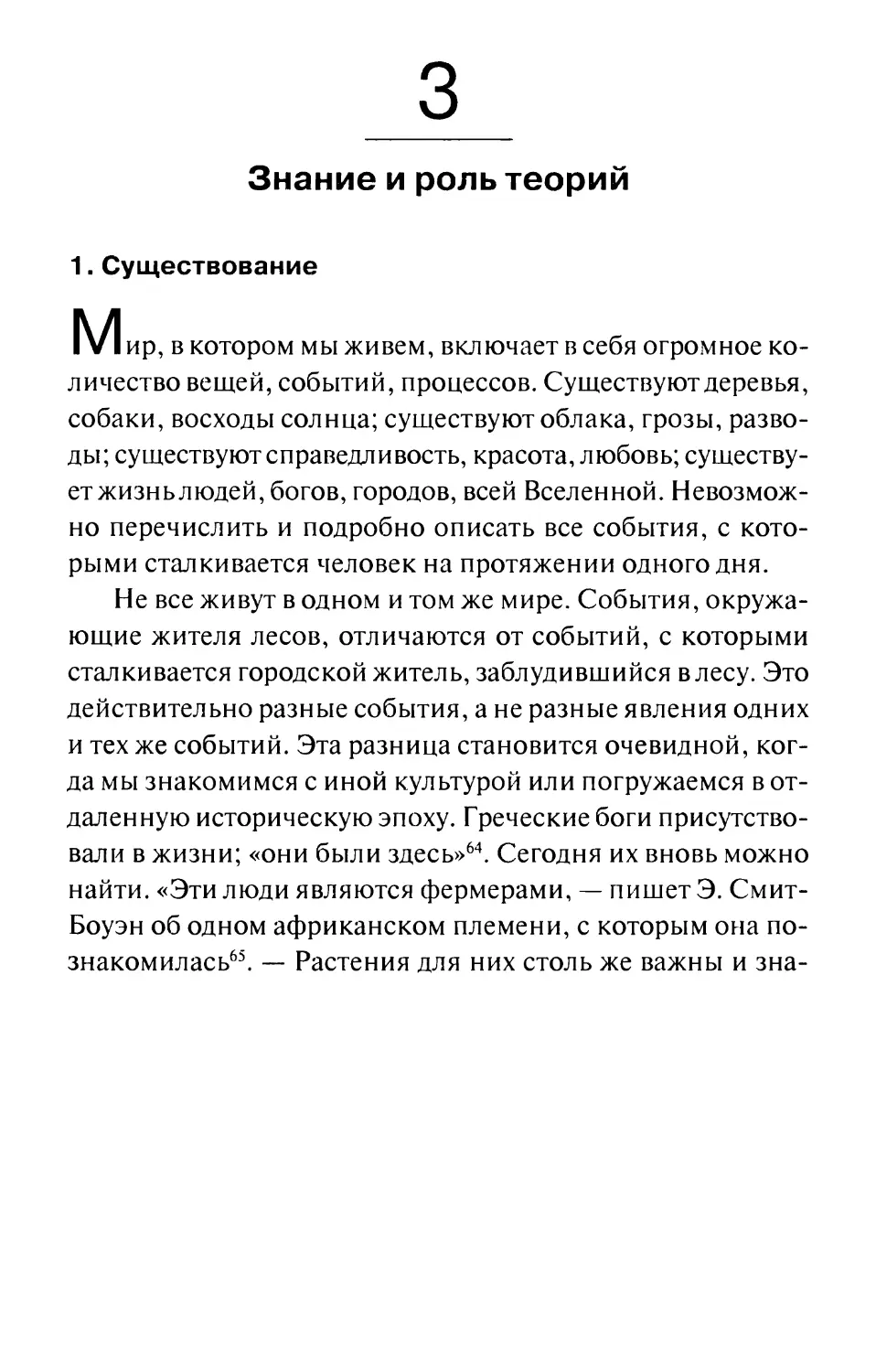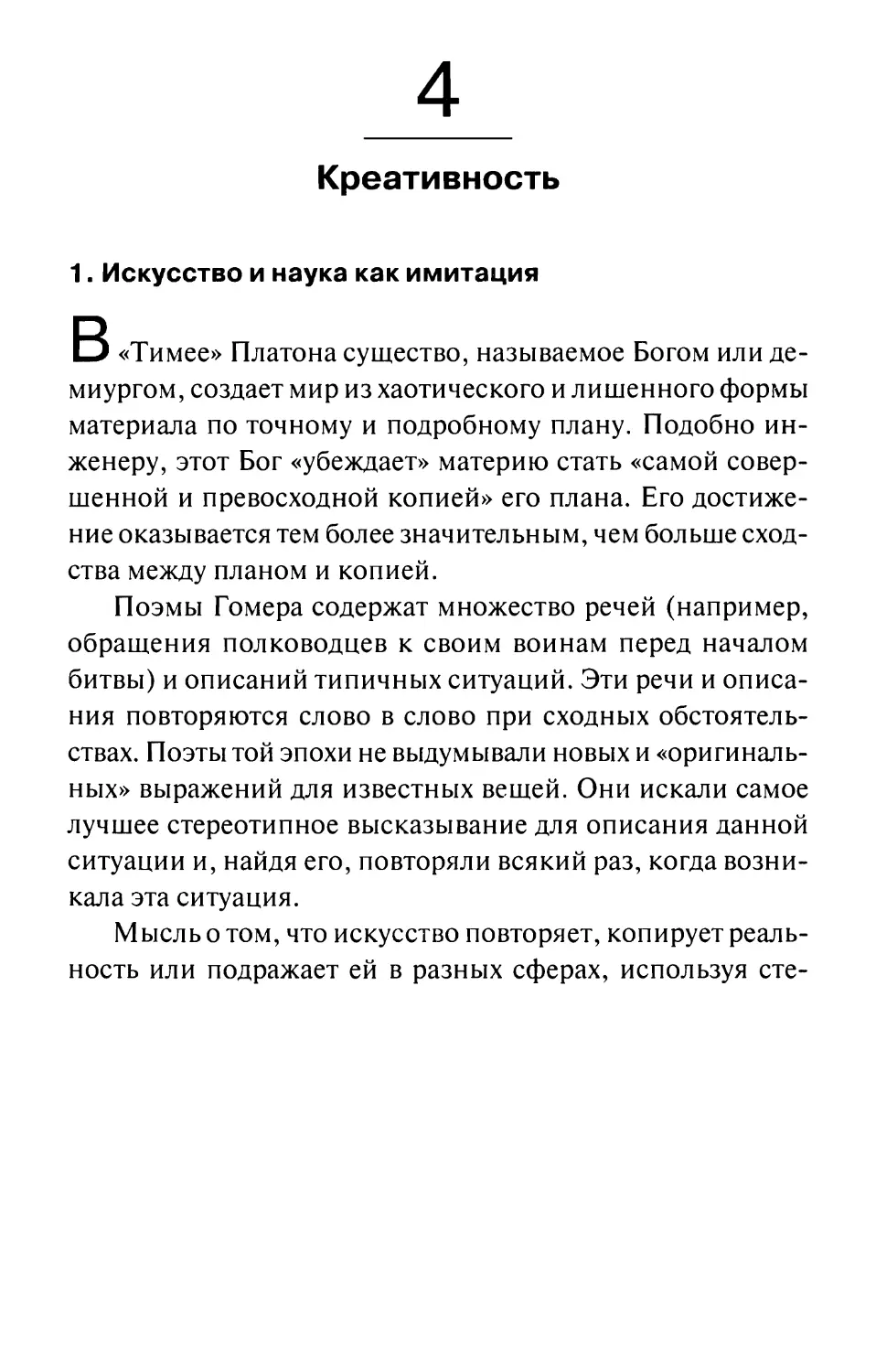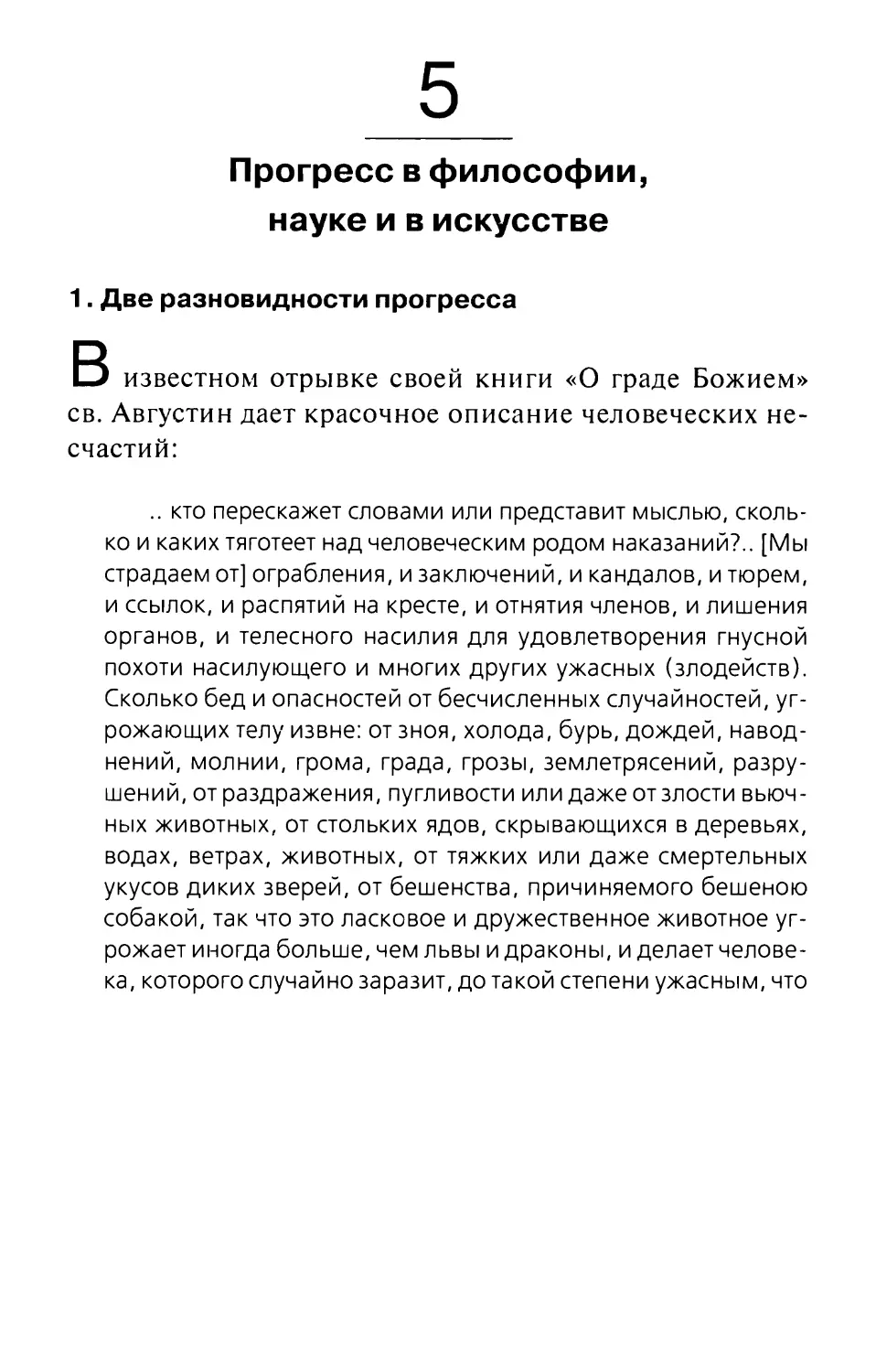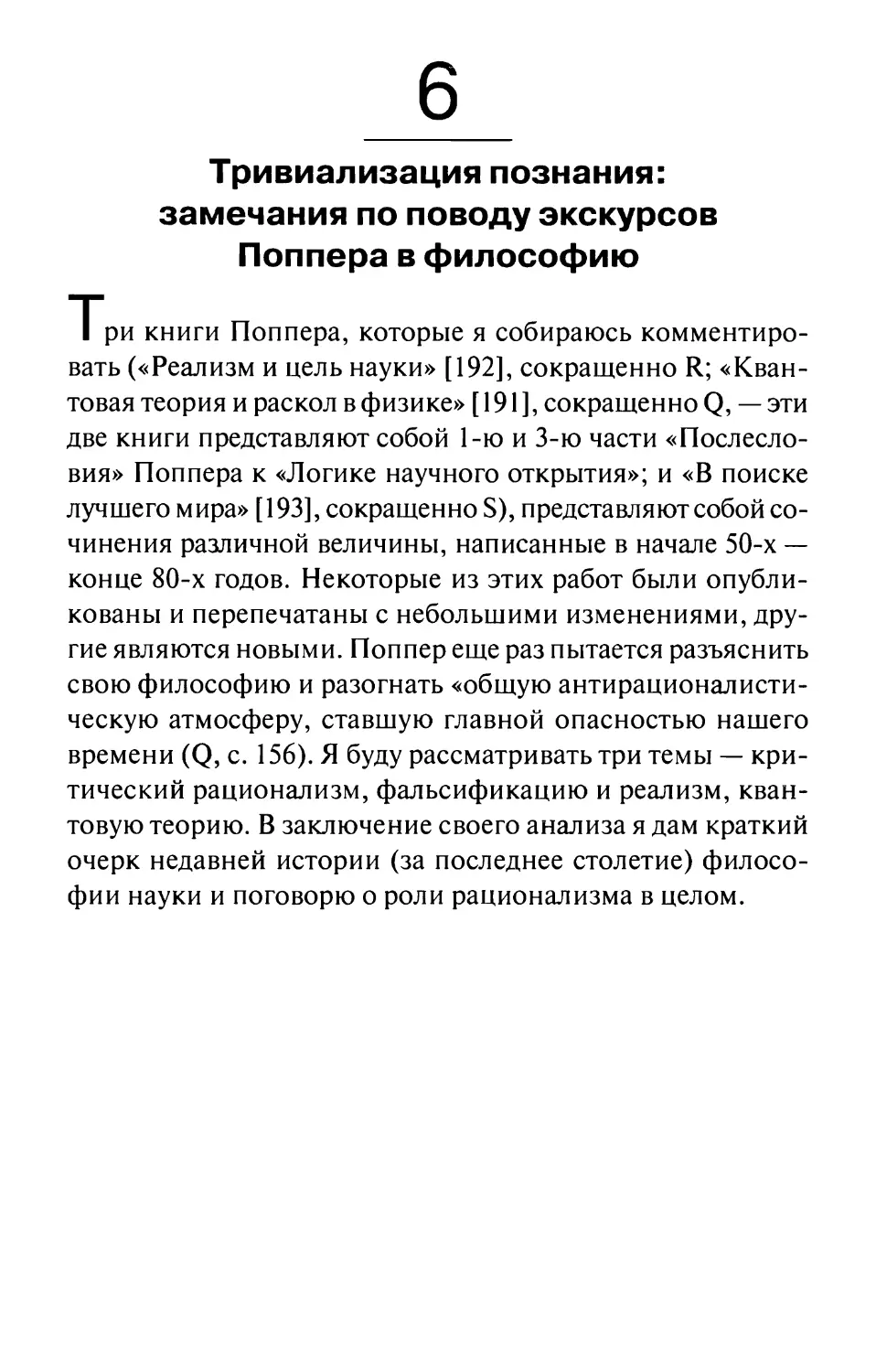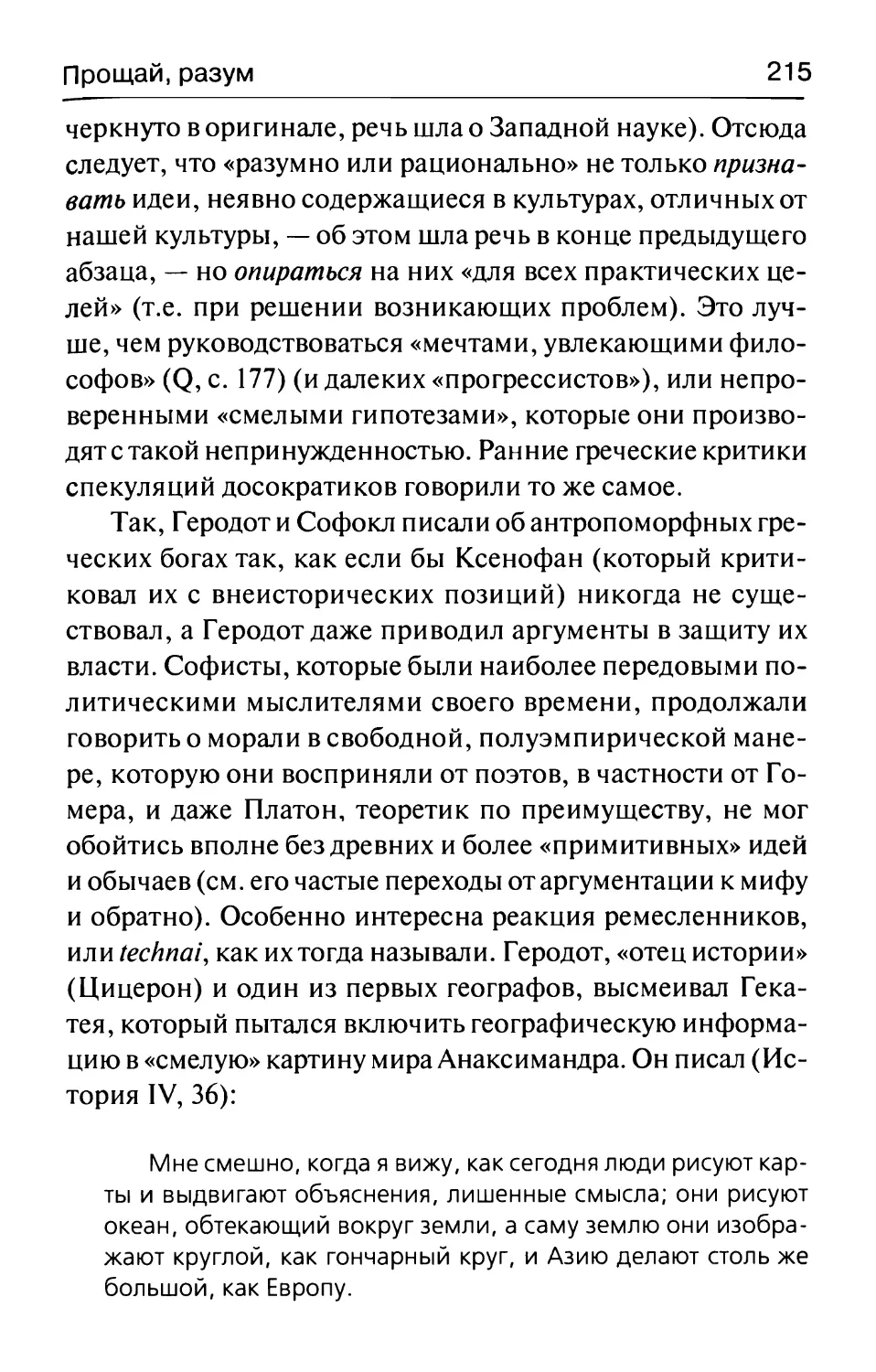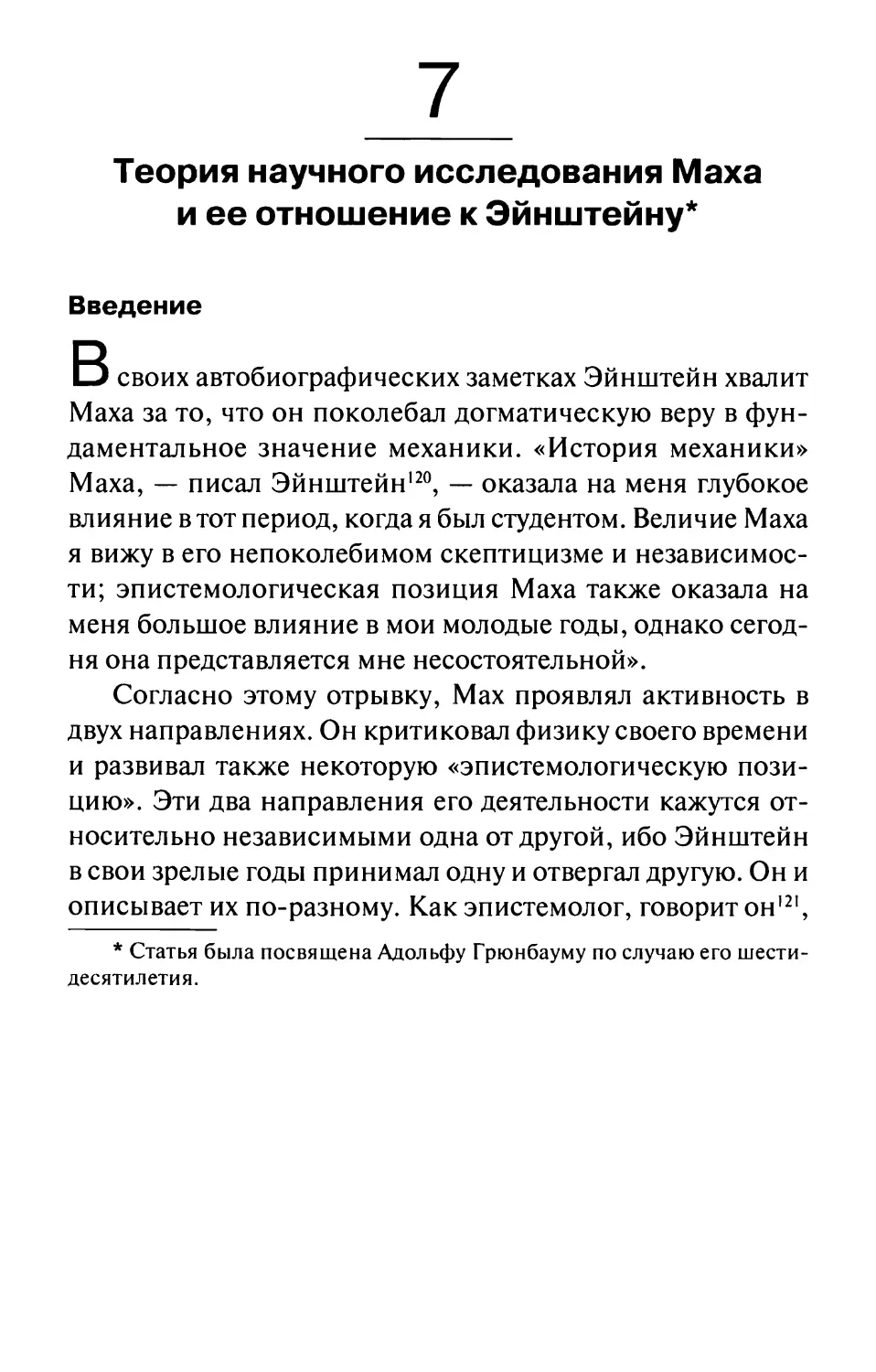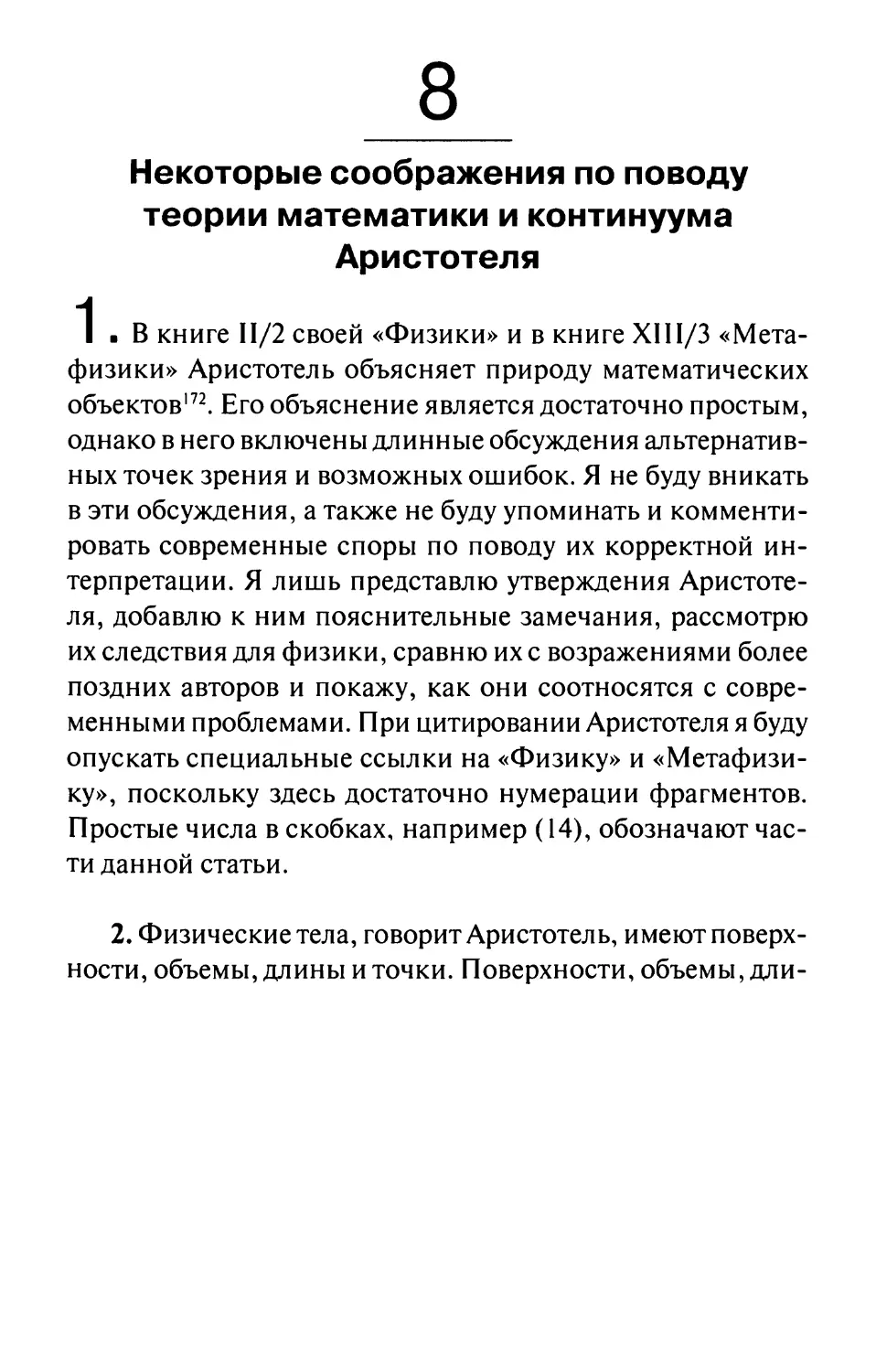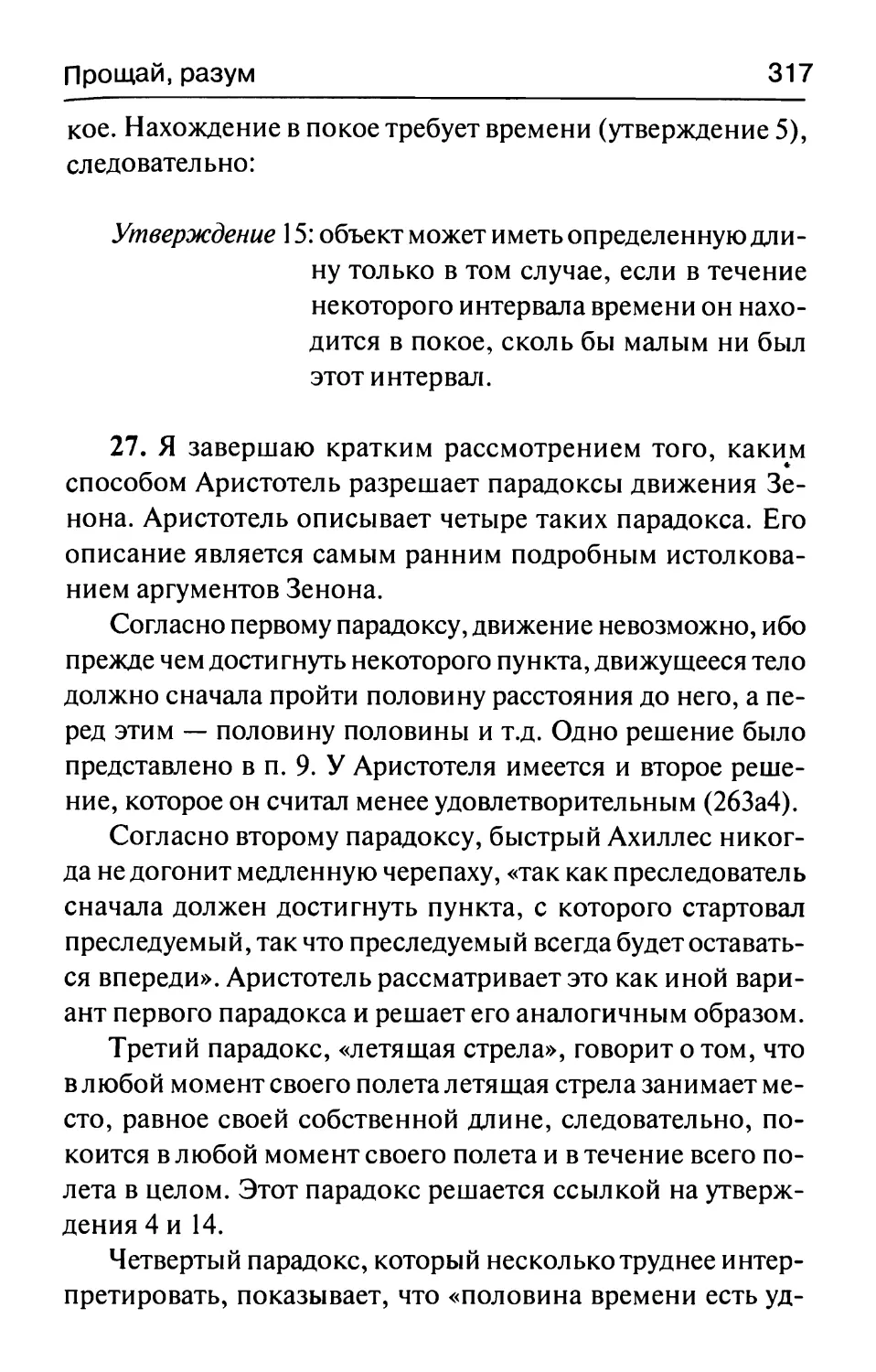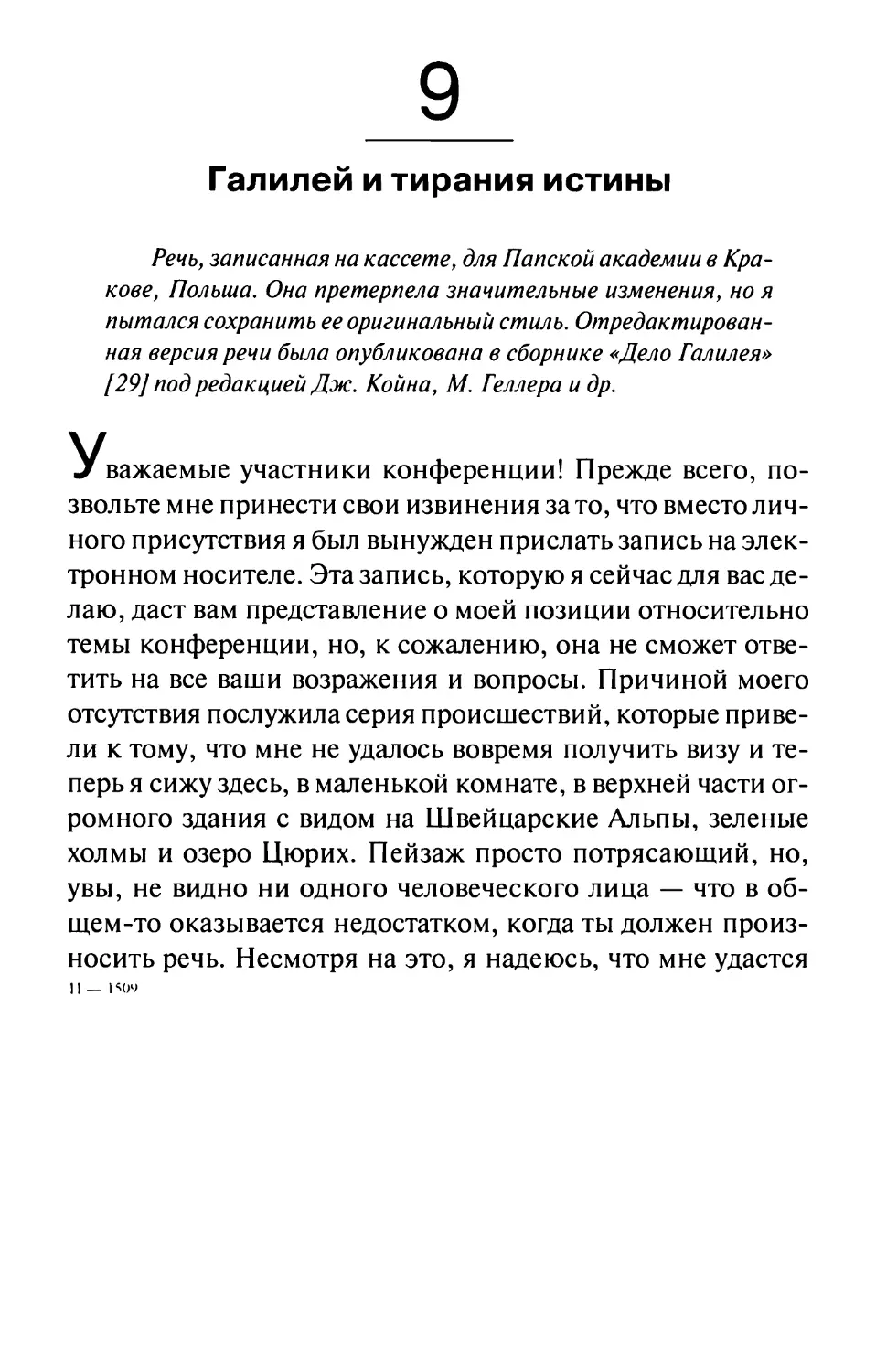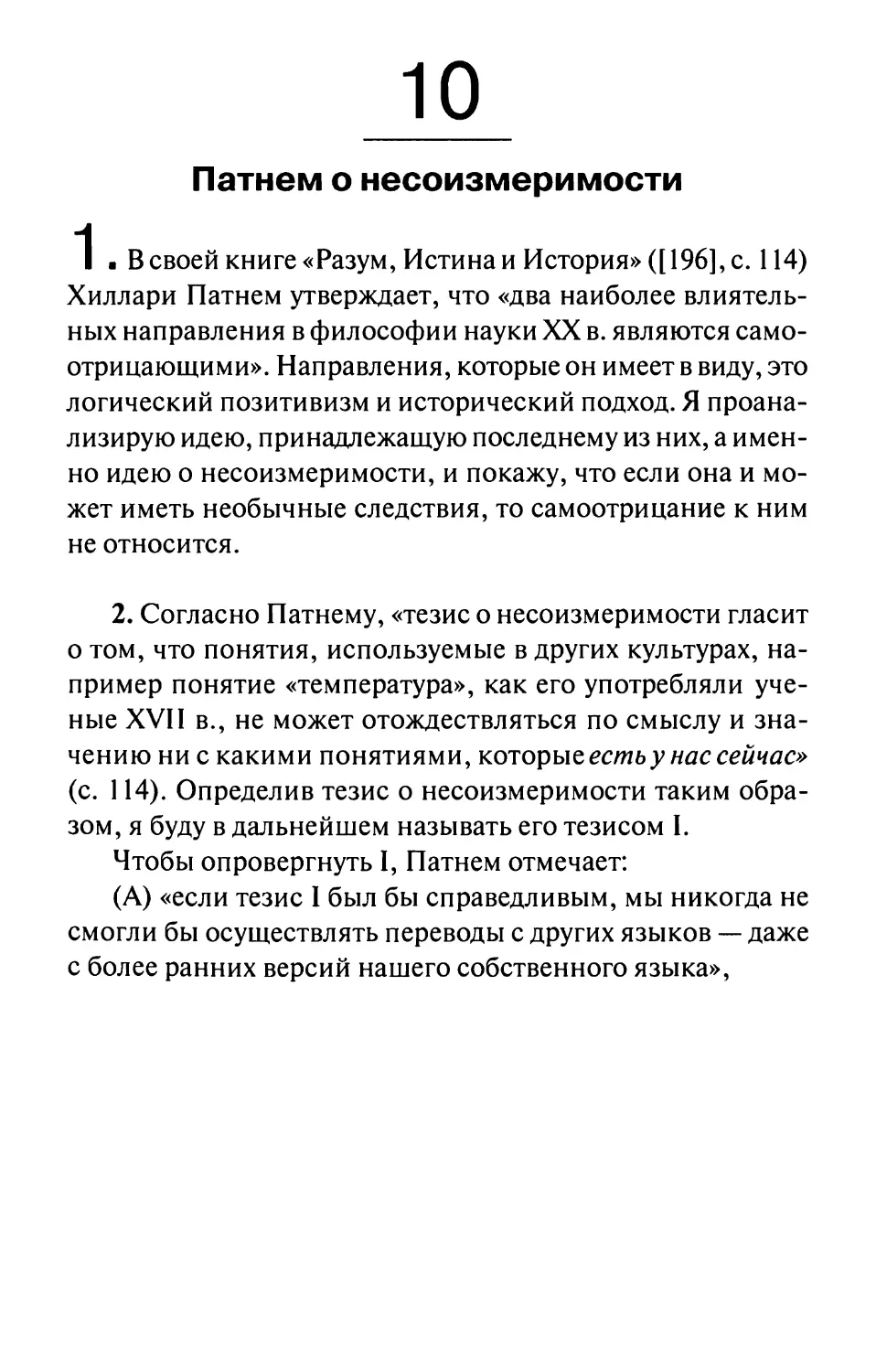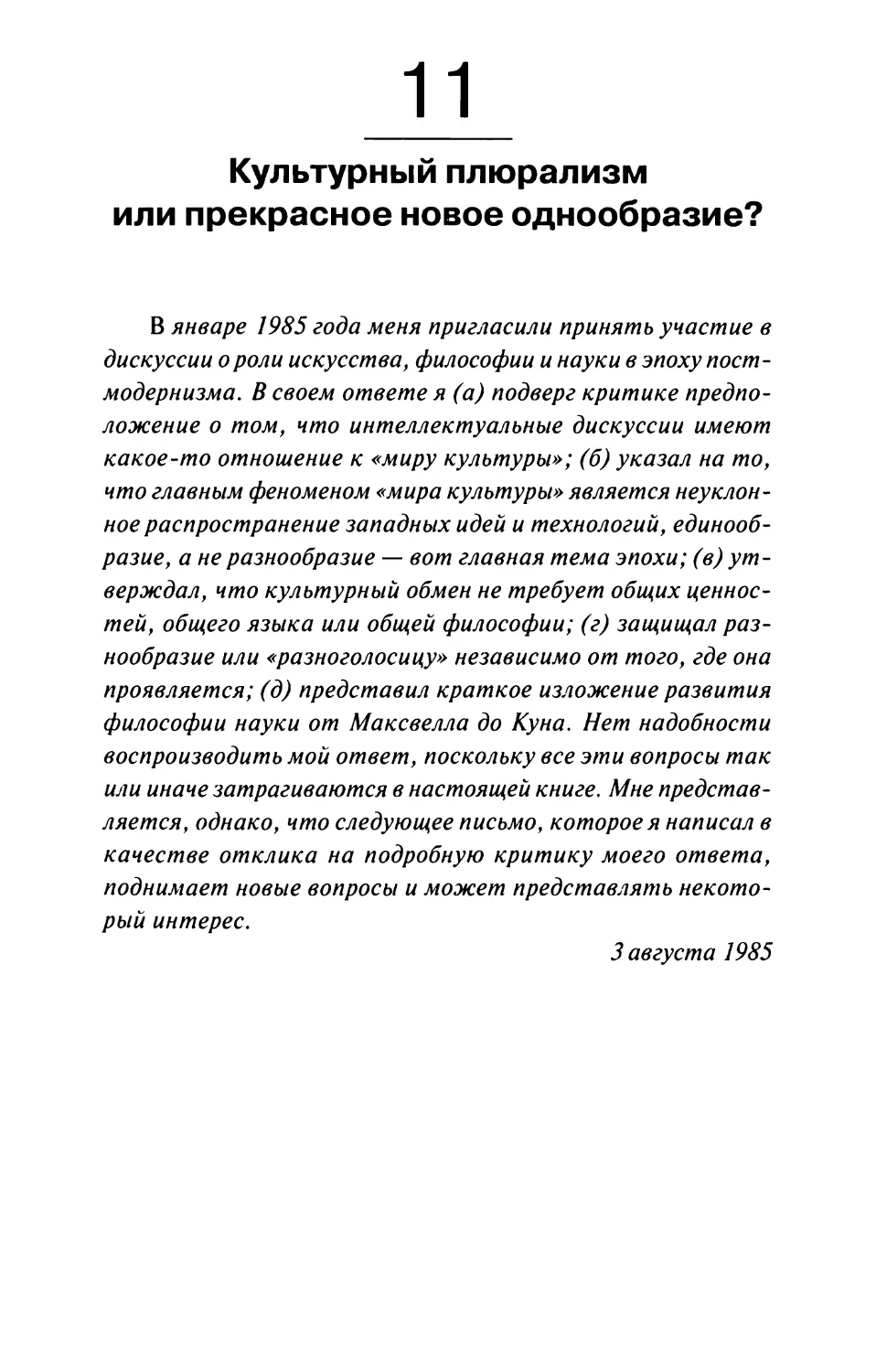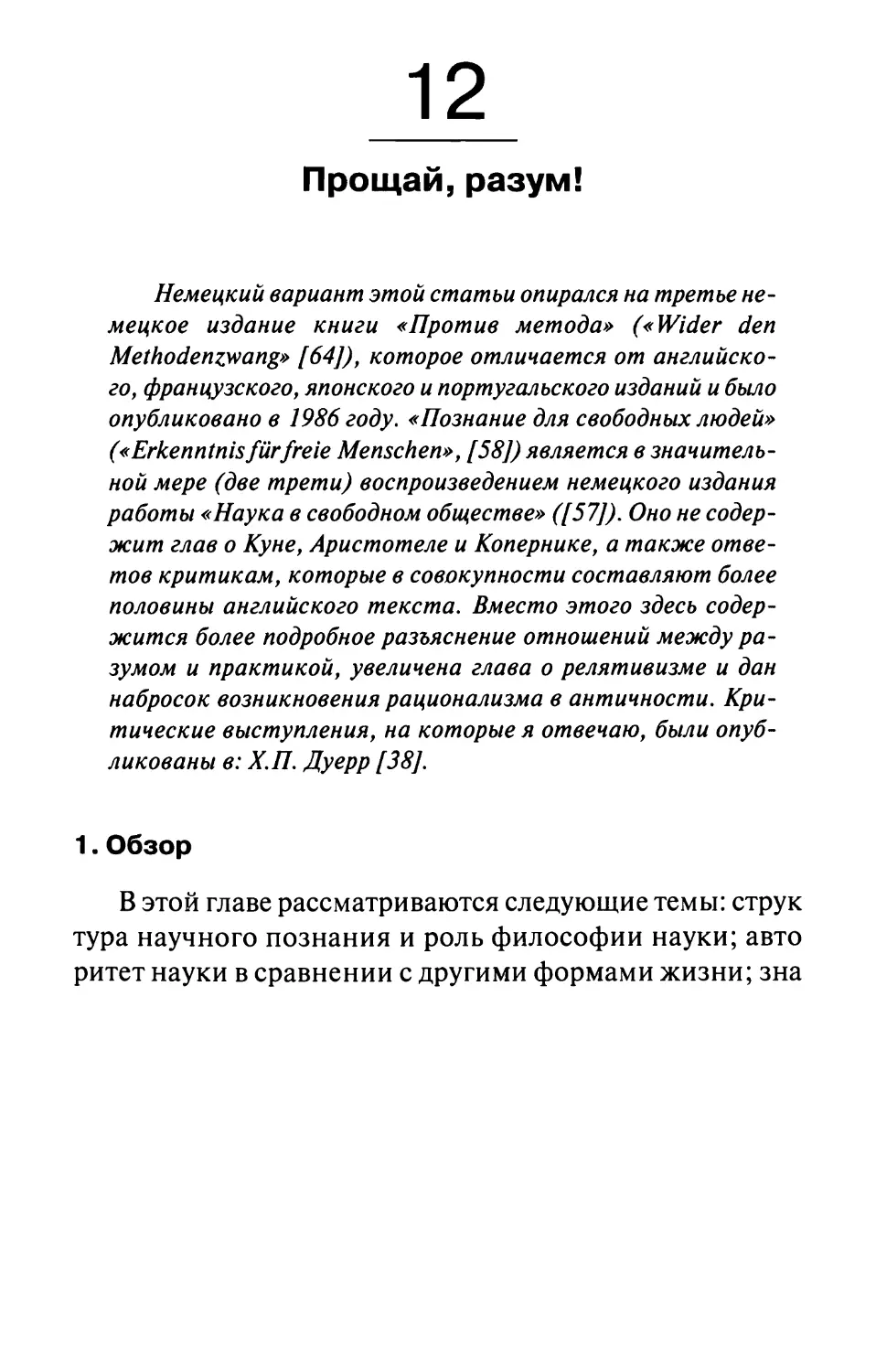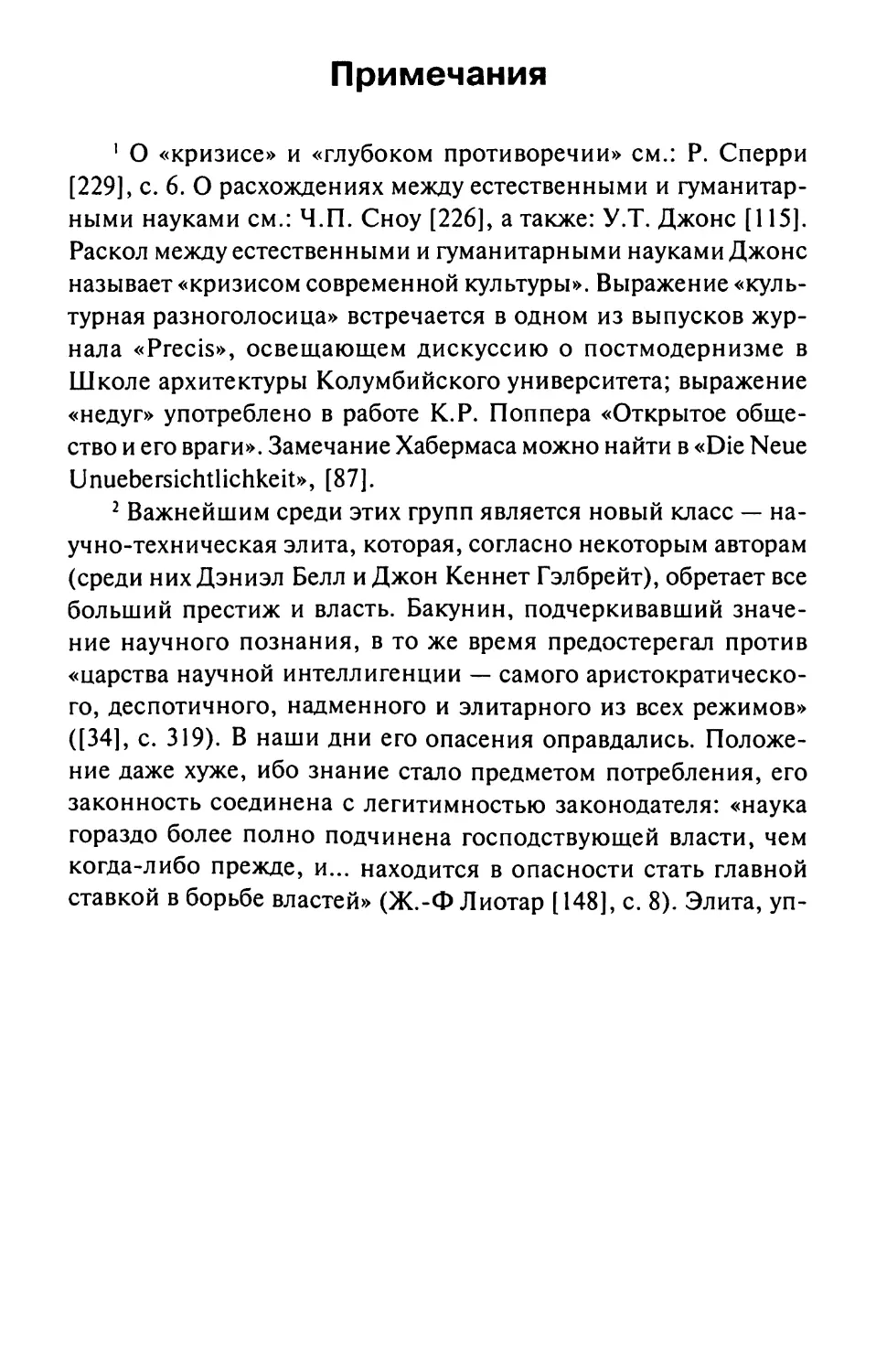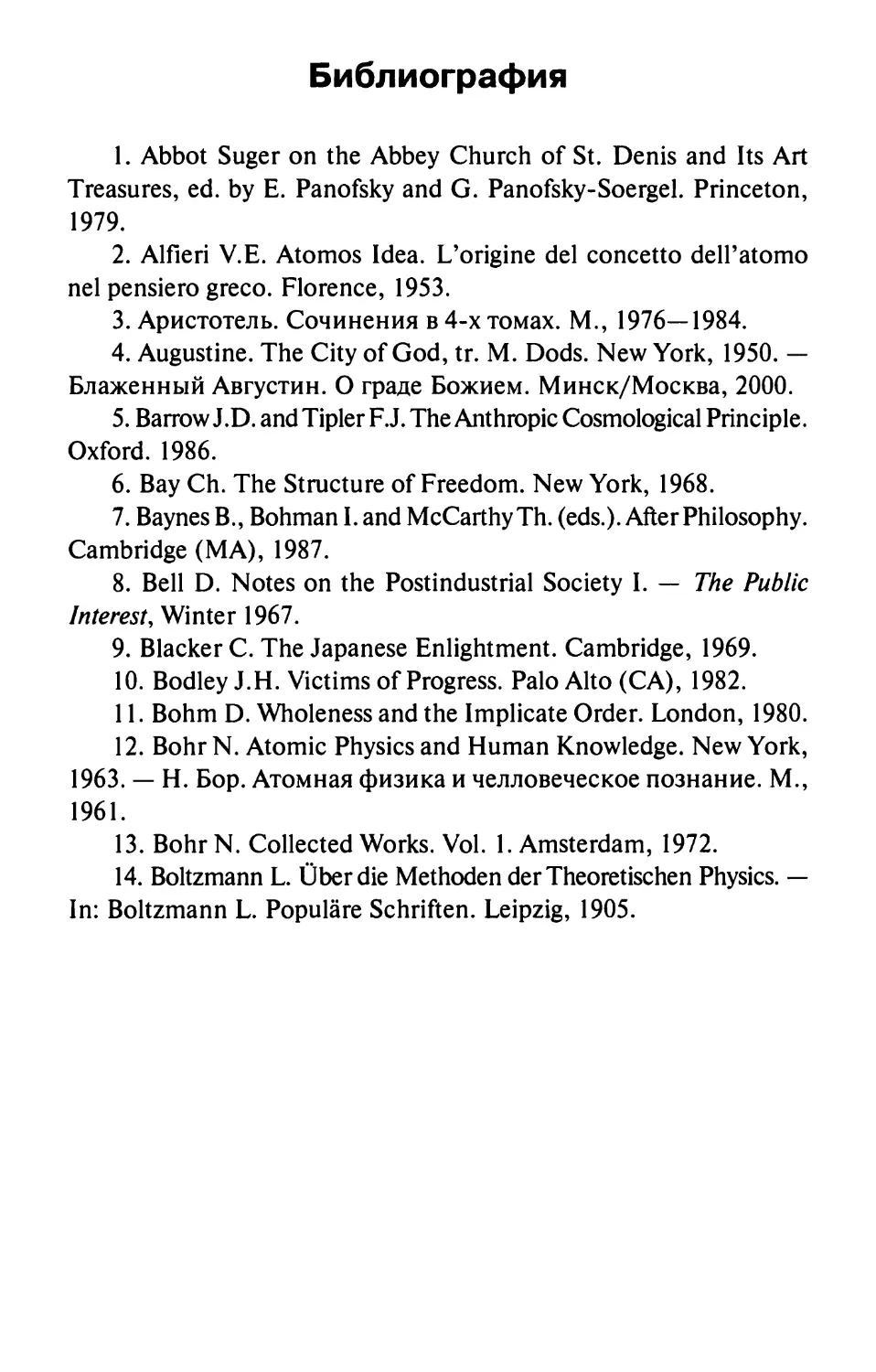Автор: Фейерабенд П.
Теги: наука и знание в целом науковедение организация умственного труда философия психология наука онтология метафизика гносеология
ISBN: 978-5-17-039083-0
Год: 2010
PHILOSOPHY
Пол ФЕИЕРАБЕНД
ПРОЩАЙ, РАЗУМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
МОСКВА
УДК 001:1
ББК 72+87.2
Ф36
Серия «Philosophy»
Paul Feyerabend
FAREWELL TO REASON
First published by Verso, 1987
Перевод с английского А. Л. Никифорова
Оформление A.A. Кудрявцева
Компьютерный дизайн Э.Э. Кунтыш
Печатается с разрешения издательства Verso (The Imprint of New Left
Books) и литературного агентства Imrie & Dervis Literary Agency.
Подписано в печать 29.06.10. Формат 84><108[/ώ.
Усл. печ. л. 25,2. Тираж 3000 экз. Заказ № 1509
Фейерабенд, П.
Ф36 Прощай, разум / Пол Фейерабенд; пер. с англ. А.Л.
Никифорова. - М.: ACT: Астрель, 2010. - 477, [3] с. - (Philosophy).
ISBN 978-5-17-039083-0 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 978-5-271-29459-4 (ООО «Издательство Астрель»)
Пол Фейерабенд (1924 - 1994 гг.) — один из виднейших и
оригинальнейших европейских философов второй половины XX столетия,
своеобразный «анархист от науки», который всю жизнь оставался верен
утверждению о том, что универсальных методологических правил в науке
не существует и существовать не может. Работы Пола Фейерабенда
представляют значительную ценность как сами по себе, так и по тому
влиянию, которое они оказали на Томаса Куна и Имре Локатоса.
Эта книга - последняя крупная работа Фейерабенда, впервые
опубликованная в 1987 году.
Философия науки и социология научного познания здесь
претерпевает весьма значительные изменения в соответствии с фейерабендовской
теорией «эпистемологического анархизма» — теорией философа,
считающего, что именно философия бессильна описать науку в целом, и
настаивающего на необходимости «реформы наук», цель которой - сделать
их более субъективными с философской точки зрения — следовательно,
более близкими человеку.
УДК001:1
ББК 72+87.2
© Paul Feyerabend, 1987
© Перевод. А.Л. Никифоров, 2010
© Издание на русском языке AST Publishers, 2010
Содержание
Введение 7
1. Заметки о релятивизме 30
2. Разум, Ксенофан и боги Гомера 118
3. Знание и рольтеорий 137
4. Креативность 165
5. Прогресс в философии, науке и в искусстве 185
6. Тривиализация познания: замечания по поводу
экскурсов Поппера в философию 211
7. Теория научного исследования Маха
и ее отношение к Эйнштейну 254
8. Некоторые соображения по поводу теории математики
и континуума Аристотеля 285
9. Галилей и тирания истины 321
10. Патнем о несоизмеримости 346
11. Культурный плюрализм или прекрасное новое
однообразие? 358
12. Прощай, разум! 368
Примечания 424
Библиография 464
Введение
Ч^татьи, собранные в этой книге, посвящены
разнообразию и изменению культур. Они стремятся показать, что
разнообразие благотворно, а единообразие уменьшает наши
благоприятные возможности и наши ресурсы
(интеллектуальные, эмоциональные, материальные).
Существуют мощные традиции, противостоящие этой
точке зрения. Их сторонники соглашаются с тем, что люди
могут устраивать свою жизнь разными способами, однако,
добавляют они, должны существовать границы
разнообразия. Эти границы, говорят они, устанавливаются
нравственными законами, регулирующими человеческие действия,
и физическими законами, определяющими наше место в
природе. Философы от Платона до Сартра и ученые от
Пифагора до Моно претендовали на знание таких законов и
сетовали на все еще сохраняющееся многообразие (оценок,
убеждений, теорий).
В конце XVII — начале XVIII вв. эти сетования
усилились. «Современная культура, — слышим мы, —
переживает кризис». Она поражена «глубочайшим
противоречием между традиционным гуманистическим пониманием
человека и мира, с одной стороны, и бездушным
механистическим научным описанием — с другой». В то же время
гуманитарные науки, философия, искусство и социальная
8
Пол Фейерабенд
мысль разъедаются «культурной разноголосицей» или
неким «философическим недугом». Эта раздробленность
переживается некоторыми критиками настолько болезненно,
что Юрген Хабермас недавно говорил о «новой
необозримости»: невозможно найти свой путь в потоке стилей,
теорий, точек зрения — потоке, затопившем общественную
жизнь1.
Все эти сетования происходят от слабой
информированности. Верно, что «культура» временами приходит в
некоторое расстройство. Но в этом нет ничего нового, и
существующая дезорганизация уравновешивается
противоположными тенденциями: школы растут, распространяются,
поглощают друг друга; ученые, работающие в разных
областях, создают междисциплинарные области исследования
(примеры: синергетика, молекулярная биология) и
грандиозные унифицирующие схемы (эволюция, холизм,
дуалистические решения проблемы соотношения тела и духа,
лингвистические спекуляции), пренебрегая важными
различиями. Фильмы, компьютерная техника,
рок-музыка, физика высоких энергий (см. прекрасное сочинение
Э. Пикеринга «Конструируя кварки», [184]) соединяют в
себе принципы бизнеса, артистическое вдохновение и
научное открытие в манере, напоминающей практику
Ренессанса XV столетия. Раздробленность существует, но
существует также новое и мощное единство.
Еще более поразительно полное отсутствие кругозора у
этих критиков. Они говорят о «кризисе современной
культуры» или «мировой культуры», подразумевая под этим
западную академическую и художественную жизнь. Однако
склоки профессоров и выверты западного искусства
теряют всякое значение при сравнении с устойчивой и
неизменной экспансией западного «прогресса», выражающего
распространение западного бизнеса, науки и техники. Это
Прощай, разум
9
международное явление, характерная черта как
капиталистических, так и социалистических обществ. «Прогресс»
не зависит от идеологических, национальных или
политических различий и оказывает все большее влияние на
постоянно растущее число людей и культур. Здесь не
видно никаких следов споров или расхождений между нашими
интеллектуалами. Экспортируется и навязывается
совокупность единообразных воззрений и практик, использующих
интеллектуальную и политическую поддержку обладающих
властью групп и институтов2. Теперь западные формы
жизни проникают в самые отдаленные уголки мира и изменяют
привычки людей, которые всего лишь несколько
десятилетий тому назад не знали об их существовании. Культурные
различия исчезают, местные ремесла, обычаи, традиции
заменяются западными обычаями и организационными
формами. Следующий отрывок из Президентского послания
Американскому обществу паразитологов дает превосходное
описание этого процесса:
Для доиндустриальных туземных сообществ характерно
разнообразие и приспособленность к местным условиям.
Каждое из них обладает собственными традициями и
специфическими формами культуры и поведения. Широкое
разнообразие социальных форм обусловлено разнообразием
окружающих условий, предъявляющих специфические требования
к человеку.
В противоположность этому индустриальное
технологическое развитие отличается наличием контролируемой,
относительно единообразной и в высшей степени бедной среды,
в которой огромное разнообразие биологических видов
редуцировано к немногим одомашненным формам, включая
людей... Высокий уровень единообразия и обеднения
окружающей среды характерен для всех индустриальных
обществ, независимо от политических и экономических систем
(Л.Хейнеман, [101], с. 6).
10
Пол Фейерабенд
«Нам угрожают... монотонность и тупость», как
выразился Франсуа Жакоб ([113], с. 67). Сама же западная
цивилизация утратила внутреннее многообразие в такой
степени, что 18 апреля 1985 года в выпуске один «International
Herald Tribune» американский автор написал: «Страна (США)
погружена в однообразие, как в ядовитый смог».
Конфликты, по поводу которых тревожатся наши критики
культуры, оказываются ничтожными в сравнении с этим
неуклонным движением к природному, социальному и
техническому единообразию.
Это движение не вызывает симпатий даже у тех, кто до
сих пор его поддерживал. Возникают экологические
проблемы. Они охватывают весь мир, опираются на
документальные свидетельства, и многим людям они известны по
личному опыту (химическое и радиоактивное заражение
рек, океанов, воздуха, грунтовых вод; уменьшение
озонового слоя; катастрофическое сокращение видов животных
и растений; исчезновение лесов и наступление пустынь).
Многие так называемые «проблемы третьего мира», такие
как голод, болезни и нищета, были не облегчены, а скорее
усилены распространением западной цивилизации3.
Духовное воздействие этой тенденции не столь очевидно, хотя не
менее болезненно. Для многих сообществ накопленное ими
знание было частью жизни, это знание было важным и
отражало личные и групповые интересы. Вторжение школ,
грамотности и «объективной информации», не связанной с
местными нуждами и проблемами, выхолостило его
познавательное содержание, сделало его пустым и бессмысленным.
Вторжение Запада повлекло отделение школы от жизни и
подчинило жизнь людей схоластическим правилам4.
Изучая подобные явления, ученые, представители
национальных культур и международные организации
пришли к выводу, что существует много способов жизни, что
культуры, отличные от нашей, не являются ошибочными,
Прощай, разум
11
а представляют собой результат длительного
приспособления к окружающей среде, и что им известен секрет
нормальной жизни. Даже такие технические проблемы, как контроль
над вооружениями, никогда не являются полностью
«объективными», но пронизаны «субъективными», т.е.
культурными компонентами5.
«У людей, - пишет Франсуа Жакоб в цитированном выше
отрывке, - природные различия усиливаются культурными
различиями, позволяющими народам лучше
приспосабливаться к разным условиям жизни и использовать ресурсы
окружающей среды. Однако теперь мы всюду навязываем тупую
монотонность. Постепенно вырождаются чрезвычайно
разнообразные народные верования, обычаи и организации.
Многие культуры исчезают по мере того, как их представители
вымирают или изменяются под влиянием навязанной им
индустриальной цивилизации. Мы должны соблюдать
осторожность, если не хотим жить в однообразном технологическом
мире - очень скучном мире» (Жакоб, [113], с. 67).
Статьи, собранные в этой книге, поддерживают эту
точку зрения и критикуют тех философов, которые с ней не
согласны.
В частности, я подвергаю критике две идеи, которые
часто использовались для придания интеллектуальной
привлекательности экспансии Запада, — идею Разума и идею
Объективности.
Назвать какую-то процедуру или точку зрения
объективной (объективно истинной) — значит утверждать, что
она верна независимо от человеческих ожиданий, идей,
позиций, желаний. Именно на это претендуют ныне наши
ученые и интеллектуалы. Однако сама идея объективности
гораздо старше, чем наука, и не связана с ней. Она
появляется тогда, когда какой-то народ, племя или цивилизация
отождествляет свой образ жизни с законами мироздания
12
Пол Фейерабенд
(физическими и нравственными), и это выявляется при
столкновении культур с различными объективными
воззрениями. На такое столкновение реагировали по-разному. Я
укажу три возможные реакции.
Одной из реакций было упорство: наш способ жизни
верен и мы не собираемся изменять его. Миролюбивые
культуры старались избежать изменений, ограничивая
контакты. Например, пигмеи или племя миндоро с
Филиппинских островов не вступали в борьбу с пришельцами Запада,
но и не подчинились им, они просто покинули сферу их
влияния. Более воинственные народы прибегали к войнам
и убийствам для искоренения того, что не соответствовало
их пониманию Бога. «Законы Моисея, — пишет в этой
связи Эрик Вогелин, — наполнены кровожадными
фантазиями по поводу полного истребления иноплеменников во
всем Ханаане и, в частности, жителей всех городов. А сама
заповедь истреблять иноплеменников обосновывается
ненавистью к тем, кто поклоняется иным богам, нежели
Яхве: войны Израиля во Второзаконии являются
религиозными войнами. То новшество, которое содержит
Второзаконие, есть концепция войны как средства
истребления всех тех, кто не верит в Яхве» ([245], с. 375 и ел.). Хотя
представители западной цивилизации любят произносить
гуманные слова, они далеко не всегда отказываются от этой
концепции.
Упорство проявляется также в нынешнем развитии
некоторых физических и социальных наук, которым присущ
холизм, направленность на исторические процессы, а не на
универсальные законы, и идея о том, что «реальность»
является результатом тесного взаимодействия между
наблюдателем и наблюдаемыми вещами. Авторы,
поддерживающие эти тенденции (Бом, Янч, Матурана, Пригожий, Ва-
рела, защитники «эволюционной эпистемологии» и другие),
пренебрегают культурным разнообразием, показывая, ка-
Прощай, разум
13
ким образом его можно втиснуть в их схемы. Не пытаясь
указать ориентиры для личного и социального выбора, они
погружаются в свои теоретические построения и
объясняют, почему все было так, как было, почему вещи таковы,
каковы они есть, и почему они будут такими, какими они
будут. Это все тот же старый объективизм, только теперь
прикрытый революционным и псевдогуманистическим
жаргоном.
Второй реакцией является оппортунизм: лидеры
конфликтующих культур подвергают анализу учреждения,
обычаи, убеждения чужой культуры и принимают те из них,
которые сочтут привлекательными. Конечно, это весьма
сложный процесс. На него оказывают влияние
историческая ситуация, позиции участников, их страхи, надежды,
ожидания. Все это способно вызвать ожесточенную
борьбу в рамках одной культуры, и даже временное изменение
климатических условий может усилить одни ошибки и
преуменьшить значение других. Во всяком случае, оппортунист-
ское столкновение культур нельзя подвести под какое-то
общее правило. Культурный оппортунизм был характерен
(и до сих пор имеет место) для отдельных индивидов,
небольших групп и целых цивилизаций. Примером могут
служить народы, государства и племена, существовавшие на
Ближнем Востоке в поздний период бронзового века — в
тот период, который египтолог Генри Брэстед назвал эрой
«Первого интернационала». Эти народы, государства и
племена часто воевали друг с другом, но в то же время
обменивались материалами, языками, техническими
достижениями, стилями, а также умельцами в тех или иных
областях — архитекторами, мореплавателями,
проститутками— и даже богами (подробности см. в Т. Вебстер, [251]).
Другой пример представляет империя монголов. Марко
Поло свидетельствовал о большом интересе, который
проявляли наследники Чингиз-хана к иноземным изделиям, и
14
Пол Фейерабенд
о стремлении приспособить их к своим нуждам. Сам
Великий хан понимал важность чужеземных обычаев и не
слушал советников, призывавших его разрушать города и
насаждать повсюду одни и те же обычаи кочевых народов.
Интересный современный пример дают туземцы Кении (см.
И. Динесен, [33], с. 54 и ел.), которые «благодаря
знакомству с различными народами и племенами могут считаться
гражданами мира в большей мере, нежели какой-нибудь
житель небольшого городка, выросший в однородном
кругу узкого сообщества, в рамках идей».
Третьей реакцией является релятивизм: обычаи,
убеждения, космологии не просто священны, правильны или
истинны, они полезны, важны, истинны для одних
сообществ, но бесполезны, неверны и даже опасны — для
других. В главе 1 я покажу, что релятивизм имеет множество
форм — как полуинтуитивных, так и в высшей степени
интеллектуальных. Он распространен гораздо шире, чем
считают критики его интеллектуальных вариантов. Например,
пигмеи, стремящиеся избежать западного влияния,
вполне могут оказаться не догматиками, а релятивистами, если,
конечно, они бы признавали эти различия ([241]).
Согласно мнению многих историков, греки нашли еще
один метод подхода к культурному разнообразию.
Пытаясь отделить правильное от неправильного, они опирались
не на жесткие традиции и не на приспособления ad hoc, они
использовали аргументацию.
Аргументация не была новым изобретением. Она
встречается во всех эпохах и во всех обществах. Она играет
важную роль в оппортунистском подходе. Оппортунист
должен задать себе вопрос: способны ли заимствованные идеи
улучшить его жизнь и какие еще изменения они повлекут
за собой? Порой «примитивные народы» обращали
аргументацию против антропологов, пытавшихся приобщить их
Прощай, разум
15
к рационализму. «Пусть читатель найдет аргумент,
способный опровергнуть веру Азанде в силу их колдунов», —
пишет в этой связи Эванс-Причард ([52], с. 319 и ел.). «Если
бы мы перевели на язык Азанде способы нашего
мышления, они подкрепили бы всю систему их верований. Их
мистические понятия чрезвычайно последовательны,
соединены логическими взаимосвязями и
систематизированы таким образом, что никогда не могут вступить в
противоречие с чувственным опытом. Напротив, опыт постоянно
подтверждает их». «Я могу отметить, — добавляет Эванс-
Причард ([52], с. 270), — что считаю это [т.е. практику
советоваться с оракулом при принятии повседневных решений]
столь же удовлетворительным способом устраивать свои
дела, как и любой другой способ». Аргументация —
подобно языку, искусству или ритуалу — является
универсальной, однако опять, как и язык, искусство или ритуал, она
имеет множество форм. Простой жест или невнятное
мычание способны разрешить спор и удовлетворить
некоторых его участников, в то время как для убеждения других
нужны длинные и красочные рассуждения. Поэтому
аргументация использовалась задолго до появления греческих
философов, которые начали размышлять об этом
предмете. Греки изобрели не саму по себе аргументацию, а
специальный и стандартный ее способ, который, как они считали,
не зависел от конкретной ситуации и обладал всеобщим
авторитетом. Вот так древняя идея независимой от традиции
истины (материальное понятие объективности, как можно
было бы его назвать), которая столкнулась с проблемой
культурного разнообразия, была постепенно заменена уже
не столь древней идеей независимых от традиции способов
нахождения истины (формальным понятием
объективности). Теперь быть рациональным или пользоваться разумом
означает следовать этим способам и соглашаться с
полученными результатами.
16
Пол Фейерабенд
Формальное понятие объективности сталкивается с
проблемами, похожими на проблемы материального понятия
объективности. Это неудивительно, ибо «формальные»
процедуры имеют смысл в некоторых мирах, но теряют его в
других. Например, требование бесконечного критицизма,
приводящее к появлению все более исчерпывающих
объяснений, терпит неудачу в количественно и качественно
конечном универсуме. Оно способно подорвать формы
жизни, дающие людям материальную защищенность и
духовную наполненность, поэтому его можно отвергнуть также
и поэтическим соображениям: некоторые люди
предпочитают процветать в стабильном мире, а не приспосабливаться
к новым идеям. Требование искать опровержений и
серьезно к ним относиться приводит к устойчивому развитию
только в таком мире, где опровергающие примеры
встречаются редко и разделены большими отрезками времени,
как, скажем, крупные землетрясения. В таком мире мы
можем создавать и улучшать наши теории, мирно жить с ними
от одного опровержения до другого. Однако все это
невозможно, если теории окружены «океаном аномалий», как это
происходит в социальной области (см. мои «Философские
статьи», [59], гл. 6, раздел 1). Особенности
объективизированных базисных убеждений или результатов исследования
лишаются смысла в мире, который содержит некоторый вид
дополнительности, и в обществах с тесными социальными
контактами. Нельзя требовать даже непротиворечивости в
мире, где пожилая женщина выглядит как имеющая
«прекрасную шею богини» (Илиада 3, 396, перевод В.
Вересаева). Итог ясен: культурное многообразие не может быть
охвачено формальным понятием объективной истины, ибо
содержит в себе множество таких понятий. Тот же, кто
настаивает на конкретном формальном понятии,
сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкиваются
защитники какой-то конкретной концепции мира.
Прощай, разум
17
По мере того как наука прогрессировала и производила
постоянно возрастающий запас информации, формальные
понятия объективности использовались не только для по-
лучения информации, но также и для ее легитимизации, т.е.
для обоснования объективной значимости существующего
корпуса информации. Это привело к новым проблемам: не
существует конечного множества общих правил,
обладающих каким-то содержанием (т.е. рекомендующих или
запрещающих те или иные процедуры) и в то же время
совместимых со всеми ситуациями, ведущими к прогрессу
современной науки. Формальные требования, защищаемые
учеными и философами, пришли в конфликт с некоторыми
способами развития науки. Для разрешения этого
конфликта пришлось постепенно смягчать эти требования — до тех
пор, пока они вообще не превратились в ничто6.
Ученые подорвали доверие к универсальным принципам
научного исследования также и более прямым образом. Кто
бы мог раньше подумать, что граница между субъектом и
объектом, бывшая частью научной аргументации, будет
поставлена под сомнение и это приведет к прогрессу науки?
Однако именно это произошло в квантовой теории, в
физиологических исследованиях Матураны и Варелы (и даже
еще раньше — в исследованиях физиологии восприятия
Маха). Кто бы мог подумать, что «неприемлемое» (Эддинг-
тон) и «теологическое» (Хойл) представление о
возникновении Вселенной вновь будет играть важную роль в науке?
Однако расчеты Фридмана и открытия Хаббла и других
привели именно к этому. Кто бы мог подумать, что научные
теории можно сохранять перед лицом явно негативных
свидетельств и наука благодаря этому будет прогрессировать?
Однако Эйнштейн, который неоднократно высмеивал
интерес к «верификации малых эффектов», действовал
именно таким образом. И обзор развития квантовой механики или
исследований, подготовивших открытие структуры ДНК,
18
Пол Фейерабенд
показывает, что представление о науке, которая
развивается по пути строгой логической аргументации, это не более
чем иллюзия7. Конечно, во всех этих внешне хаотических
процессах присутствует определенный порядок, как и в
«Авиньонских девицах» Пикассо, но это порядок,
встроенный в саму ситуацию, и он очень сильно отличается от
«объективного» порядка наших менее одаренных логиков
и эпистемологов8.
Второй идеей, играющей важную роль в защите
западной цивилизации, является идея Разума (с большой буквы),
или рациональности. Как и понятие объективности, эта
идея имеет материальный и формальный варианты. Быть
рациональным в материальном смысле — значит избегать
одних идей и признавать другие идеи. Некоторым
интеллектуалам в период раннего христианства гностицизм с его
красочными иерархиями и необычными рассуждениями
казался верхом иррациональности. В наши дни быть
иррациональным означает, например, верить в астрологию,
в креационизм или в расовые корни интеллекта.
Рациональность в формальном смысле вновь подразумевает
следование определенным процедурам. Твердолобые
эмпирики считают иррациональным сохранять идеи,
находящиеся в явном противоречии с экспериментальными
результатами, в то время как твердолобые теоретики подсмеиваются
над иррационализмом тех, кто склонен пересматривать
базисные принципы при малейшем расхождении их со
свидетельствами. Эти примеры говорят о том, что по
отношению к научному исследованию едва ли полезно
высказывать такие утверждения, как «это рационально» или «это
иррационально». Эти понятия расплывчаты и никогда не
бывают вполне ясными, поэтому попытка навязать их
способна принести только вред: «иррациональные» способы
действия часто приводят к успеху (в смысле тех, кто
называет их «иррациональными»), в то время как «рациональ-
Прощай, разум
19
ные» методы способны порождать бездну проблем. Строго
говоря, у нас здесь два слова — «Разум» и «Рациональность»,
которые можно привязать почти к любой идее или к
любому методу и тем самым придать им ореол превосходства.
Но как могли эти два слова получить свою
привлекательность?
Предположение о том, что существуют универсально
обязательные стандарты познания и действия, является
частным случаем выражения той веры, чье влияние далеко
выходит за пределы интеллектуальных дискуссий. Эту веру
(примеры которой я уже привел выше) можно выразить
посредством следующего утверждения: что существует
некий правильный образ жизни и мир должен принять его.
Эта вера подпитывала завоевательные походы мусульман;
она сопровождала средневековых рыцарей в их кровавых
столкновениях; она вдохновляла первооткрывателей
новых континентов; она приводила в действие гильотину и
ныне подливает огонь в бесконечные споры либеральных
и марксистских защитников Науки, Свободы и
Достоинства. Конечно, каждое общественное движение
наполняет эту веру собственным конкретным содержанием. Ее
содержание изменяется при столкновении с препятствиями
и совершенно извращается, когда под угрозой
оказываются личные или групповые преимущества. Однако сама
мысль о том, что такое содержание существует, что оно
универсально и оправдывает любую интервенцию, всегда
играла и все еще играет важную роль (как я указывал выше,
ее признают даже некоторые критики объективизма и
редукционизма). Можно предположить, что эта идея
является отголоском тех далеких времен, когда важнейшие
решения исходили из одного центра — короля или
ревнивого бога, которые поддерживали и освящали единственный
взгляд на мир. И мы можем предполагать, далее, что Разум
и Рациональность представляют собой аналогичные силы
20
Пол Фейерабенд
и окружены тем же ореолом, что и боги, короли, тираны и
их безжалостные законы. Содержание испарилось, но аура
осталась и позволила этим силам выжить.
Отсутствие ясного содержания дает громадные
преимущества. Это позволяет отдельным группам называть себя
«рационалистами», утверждать, что всем известные успехи
порождены деятельностью Разума, и использовать свою
власть для подавления всего того, что противоречит их
интересам. Следует заметить, что эти утверждения по
большей части неверны.
Я уже упоминал о конкретных науках: они могут
последовательно прогрессировать, но образцы исследования не
постоянны, и им нельзя придать универсального значения.
Просвещение — этот признанный дар Разума —
представляет собой лишь ярлык, а не реальность. «Просвещение, —
писал Кант («Что такое просвещение?», [119], рус. пер., с.
127), — это выход человека из состояния
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине.
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим
рассудком без руководства со стороны кого-либо другого.
Несовершеннолетие по собственной вине — это такое,
причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в
недостатке решимости и мужества пользоваться им без
руководства со стороны кого-либо другого». В этом смысле
просвещение еще и сегодня довольно редкая вещь.
Граждане черпают свои мнения у экспертов, а не из
самостоятельного мышления. Именно это теперь считается
«рациональным». Все большая часть жизни отдельных индивидов,
семей, деревень, городов подпадает под руководство
специалистов. Уже очень скоро человек не сможет сказать:
«Мне грустно», не услышав в ответ: «А вы что — психолог?»9.
«Если у меня есть книга, — продолжает Кант, — думающая
за меня, духовник, совесть которого заменяет мою, врач,
предписывающий мне какую-либо диету и т.д., то я не нуж-
Прощай, разум
21
даюсь в том, чтобы утруждать себя. Мне нет
необходимости мыслить, если только я в состоянии платить; другие
займутся за меня этим докучливым делом» (там же). Конечно,
разум (с маленькой буквы) существовал всегда. Всегда
находились люди, боровшиеся с единообразием и
защищавшие право индивида жить, думать, действовать так, как он
считает нужным. Целые сообщества, и среди них
«примитивные» племена, показали нам, что прогресс Разума не
является неизбежным, что его можно сдержать и
благодаря этому сделать жизнь лучше. Ученые выходят за
пределы традиционных границ научного исследования,
граждане и небольшие сообществе все в более широких
масштабах критически оценивают рекомендации экспертов.
Но всего этого слишком мало в сравнении с
возрастающей централизацией власти, являющейся почти
неизбежным следствием роста технологий и соответствующих
институтов.
Это приводит меня к вопросу о свободе. Те свободы,
которыми мы обладаем и которых все еще лишены
миллионы людей, лишь в редких случаях были достигнуты
Разумным путем. Они явились результатом столкновений и
компромиссов, структуру которых невозможно охватить
какими-то общими принципами, покрывающими все случаи —
от Клисфена до Манделы. Каждое движение имеет свою
цензуру, свои чувства, свое воображение. Каждое
столкновение придает собственное значение этому звучному слову
«свобода». Можно, конечно, обобщить конкретные
столкновения и выделить отсюда некий «политический урок»,
однако без конкретного воплощения результат всегда
будет слишком расплывчатым, вводящим в заблуждение,
нереалистичным и бесполезным. Можно, конечно,
использовать самые бессодержательные слова и самые пустые
«принципы», чтобы навязать последовательное и
осмысленное мировоззрение. Это не поддерживает свободу, а, напро-
22
Пол Фейерабенд
тив, порождает рабство, хотя и прикрытое звучными
либеральными фразами.
Если к этим рассуждением добавить те озарения, к
которым приходили ученые, изучавшие материальные и
духовные достижения так называемых «отсталых» народов,
мы можем прийти к выводу, что в природе науки нет
ничего, что исключало бы культурное разнообразие. Культурное
разнообразие не вступает в конфликт с наукой,
рассматриваемой как свободное и ничем не ограниченное
исследование. Оно вступает в конфликт с философскими
школами, такими как «рационализм» или «научный гуманизм»,
и с тем фактором, иногда именуемым Разумом, который
использует искаженный образ науки для оправдания
допотопных верований представителей этих школ. Однако
рационализм не имеет точного содержания, а разум не
возвышается над принципами той партии, которая выступает
от его имени. Все направлено в сторону всеобщего
однообразия. Настала пора освободиться от Разума и сказать ему
«прощай».
До сих пор я говорил лишь об одной стороне: многое
было достигнуто вопреки Разуму и не с его помощью.
Другая сторона заключается в том, что Разум оправдывает свое
имя. Он искажает достижения, выходящие за его рамки,
следовательно, хотя бы отчасти он несет ответственность
за те крайности, которые распространялись от его имени.
Моя аргументация в данной работе относится к ложному
сознанию, созданному этим разрушительным фактором.
Я начинаю с рассмотрения философии, подрывающей
сам базис Разума, а именно с релятивизма. С целью
большей ясности я расчленяю монолит «релятивизма» на
несколько тезисов, начиная с самых умеренных и почти
тривиальных утверждений (хотя даже против них существуют
возражения!) и переходя к более смелым и, к сожалению,
более техничным утверждениям. Я хочу показать, что ре-
Прощай, разум
23
лятивизм является разумным, человечным и более
распространенным, чем обычно полагают.
Далее, в главе 2 я говорю о Ксенофане — о первом
западном интеллектуале. Ксенофан был интересным
человеком с живым интеллектом, он не чуждался шуток,
цветистых речей и риторических украшений. Его критика
традиции, в частности, критика гомеровских богов получила
высокую оценку у таких разных авторов, как Мирча Элиаде,
Уильям Гатри, Карл Поппер и Франц Шахермайер. Это
сразу же обнажает фундаментальное лицемерие любой
рационалистической философии: она вводит странные
допущения, которые не обосновываются, а затем высмеивает
оппонентов, придерживающихся иных воззрений.
Представители следующего поколения заметили эту слабость. Геродот и
Софокл пишут о богах так, как если бы Ксенофан никогда
не существовал, а некоторые ранние ученые подвергли
критике абстрактный подход в своей собственной области.
Это приводит меня к объекту рассмотрения главы 3 — к
рассмотрению той идеи, что познание должно опираться
на универсальные принципы или теории. Нельзя отрицать
того факта, что существуют успешные теории,
использующие абстрактные понятия. Но прежде чем из этого факта
делать далеко идущие выводы о нашем познании вообще,
следует поставить три вопроса: каков смысл этих теорий
(описывают ли они свойства «объективной реальности» или
только помогают нам предсказывать события, природа
которых неизвестна?); насколько они эффективны
(возможно, теории, понимаемые буквально, всегда неадекватны и
приписываемые им истинные следствия получаются с
помощью допущений ad hoc, так называемых
аппроксимаций?); наконец, как они используются? Получив ответ на
эти вопросы, мы должны, далее, спросить: следует ли из
успехов физики, астрономии или молекулярной биологии,
что медицина, национальная безопасность или наши отно-
24
Пол Фейерабенд
шения с другими культурами должны строиться на столь
же объективных и абстрактных принципах?
Ответ на третий вопрос — о том, как используются
научные теории, — заключается в том, что практика
изобретения, применения и улучшения теорий есть искусство,
следовательно, это исторический процесс. Наука как живая
деятельность (в отличие от науки как «корпуса знаний»)
является частью истории. Формулы, украшающие наши
учебники, выражают временно окаменевшие части
деятельности, включенной в поток истории. Для того чтобы
понять их и получить с их помощью какие-то результаты, их
нужно расплавить и вновь включить в этот поток. Так и
происходит, когда речь идет об изменениях в основаниях наук,
о чем свидетельствуют научные статьи таких периодов.
Такие разграничения, как разграничение между
естественными и общественными науками, более старое разграничение
наук о природе и наук о духе или разграничение наук и
искусств (разница между естествознанием и гуманитарными
науками), выражают не разницу между самими реальными
вещами, а различие между реальными вещами (искусством,
гуманитарными и естественными науками,
опирающимися на традиции) и кошмарными представлениями о них.
Эти представления оказывают решающее и отнюдь не
благотворное влияние на наши попытки понять природу
познания. Если реальность описывается теориями,
значение которых не только не зависит от жизни людей, но и
никак не соотносится с ней, то как может человеческое
мышление постичь ее? Не будет ли тогда непроходимой
пропасти между человеческими усилиями и их
предполагаемыми результатами? Но человеческая мысль достигает
реальности — успехи науки свидетельствуют об этом.
Попытки дать Рациональное объяснение этого процесса
(теории индукции и теории подтверждения;
трансцендентальный идеализм) оказались безуспешными. Эти попытки пре-
Прощай, разум
25
вращают ученого в индуктивную машину или в банк
данных. Тогда защитники теорий предложили простое
решение: ученые подобны художникам, они постигают
реальность посредством серии чудесных озарений, называемых
креативными актами. Глава 4 показывает, что это —
карикатура, даже для искусства. Она и не нужна: рассмотрение
науки как части истории устраняет проблемы, для
решения которых привлекалась идея индивидуальной
креативности.
Это устраняет также внешнее различие между наукой и
искусством. Следствия для идеи прогресса рассматриваются
в главе 5: оценки прогресса оказываются относительными
в обоих случаях.
Некоторые читатели, дошедшие до конца главы 4,
могут сказать, что, хотя моя критика Разума и
Рациональности справедлива, может быть, для их прежних вариантов, она
уже не будет верной для «критического рационализма» Поп-
пера. На это возражение дает ответ глава 6. В ней показано,
что универсально критическая философия, подобная
философии Поппера, либо лишена всякого содержания — она
ничего не исключает, — либо исключает идеи и запрещает
действия, которые мы хотели бы сохранить.
Бессодержательное многословие или бессмысленные запреты — вот
возможности, открытые для Поппера, и он использует либо
одну из них, либо другую в зависимости от того, от какой
критики он хотел бы уклониться. Например, он не
возражает против применения «некоторых форм империализма»
против людей, не спешащих войти в прекрасный дворец
западной цивилизации («Открытое общество и его враги»,
[189],т. 1,с. 181).
Существуют ли лучшие философские концепции?
Существуют ли в философии науки концепции, дающие
понимание научного познания, не устраняя в то же время идей
и действий, способствующих развитию познания? Такие
26
Пол Фейерабенд
концепции существуют, и в главе 7 приведен пример —
философия Эрнста Маха. Эрнст Мах внес вклад в физику,
физиологию, в историю науки, в историю идей и в общую
философию. Он не испытывал затруднений, рассматривая столь
широкий круг разнообразных проблем, ибо он жил и
работал еще до того, как Венский кружок резко сузил наше
представление о науке. Для Маха наука была одной из
исторических традиций. Он обращался к истории, а не к
абстрактным моделям, для объяснения развития науки. Он искал
и впоследствии одобрил релятивистские теории
пространства и времени (введение к «Физической оптике», в
котором специальная теория относительности была
подвергнута суровой критике, оказалось фальшивкой,
написанной сыном Маха Людвигом), он предвосхитил важнейшие
особенности квантовой механики. Однако более важно то,
что он предложил понимание создания теорий,
соединяющее исторические, теоретические и психологические
соображения, и задал модель методов исследования
Эйнштейна. Выражаясь языком диалектического материализма,
мы могли бы сказать, что Мах предложил
материалистическое понимание роста (научного) знания. Это то, что Мах
сделал.
То, что он говорил, это уже другое дело. Большинство
историков и философов считает Маха узколобым
позитивистом, который хотел свести науку к простым
наблюдениям и отвергал атомы и относительность за слишком
большую общность и абстрактность. Это обусловлено не
трудностями интерпретации сложных и запутанных текстов.
Нет, Мах выражал свои идеи ясно, простыми словами, и их
можно найти во всех его главных сочинениях. Причина
кроется в чудовищной небрежности почти всех его критиков.
Поэтому изучение Маха не только знакомит нас с
удивительным человеком и привлекательной концепцией
философии науки, оно дает нам также поучительный урок отно-
Прощай, разум
27
сительно природы учености: «эксперты» часто не знают
того, о чем они говорят, и «научное мнение» часто
оказывается всего лишь невежественной болтовней.
Мах был не единственной жертвой
идеологизированного невежества. Аристотель, ведущие теоретики Церкви во
времена Галилея и Нильс Бор в нашем столетии могут
служить другими примерами. О Нильсе Боре я говорил в
главе 16 тома 1 моих «Философских статей» ([59]). Глава 8
показывает, что понимание континуума, отстаиваемое
учеными от Галилея (без колебаний) до Вейля (с большими
колебаниями), было шагом назад по сравнению с концепцией
Аристотеля. В главе 9 анализируется часто цитируемое и
обсуждаемое письмо — письмо кардинала Беллармина к Фос-
карини — в свете старого спора по поводу авторитетности
знания экспертов. Показано, что позиция Церкви была
более здравой и человечной, чем обычно считается.
В главе 10 рассматриваются затруднения, создаваемые
для теоретической традиции (и для Хилари Патнема как
одного из ее защитников) феноменом несоизмеримости.
Глава 11 выражает мою позицию по поводу обсуждения,
инициированного Колумбийской школой архитектуры.
Официальный бюллетень, послуживший поводом для
дискуссии, оплакивал «хаос», охвативший современную
философскую мысль, и призывал к выработке единой
идеологии. Я оспаривал и диагноз (хаос может возрастать в
каких-то разделах философии, однако в мире, безусловно,
растет единообразие), и предлагаемое решение. Мой главный
тезис заключался в том, что сотрудничество не требует
единой идеологии.
Наконец, глава 12 содержит общий очерк «моей»
философии (которая не моя, конечно, а представляет собой
выжимку разумных идей, взятых отовсюду), дополненный
ответами на критические замечания. Она была написана в
Германии для сборника статей, посвященных восхвалению
28
Пол Фейерабенд
или осуждению моей работы ([38]), и была переведена и
переписана для настоящего издания. Содержание этой
главы должно сделать ясным, что меня интересует не
рациональность, не наука и даже не свобода — абстракции
такого рода скорее вредны, чем полезны, меня интересует
качество жизни человека. Нужно узнать это качество на
личном опыте, прежде чем предлагать какие-либо изменения.
Иными словами: предложения об изменениях должны
исходить от друзей, а не от посторонних «мыслителей».
Хватит уже теоретизировать по поводу жизни людей, которых
мы никогда не видели, пора расстаться с убеждением,
будто «человечество» (что за претенциозное обобщение!)
может быть спасено группами людей, беззаботно болтающих
в теплых кабинетах, пора стать скромнее и перестать
относиться к тем, кому, как кажется, могут помочь чьи-то идеи,
как к полным невеждам или, если речь идет о бизнесе, как
к нищим.
Название главы 12, совпадающее с названием всей
книги, означает две вещи: некоторые мыслители, смущенные
и потрясенные сложностями истории, отказались от
разума и заменили его карикатурой; не в силах забыть
традицию (и не чуждаясь небольшой рекламы), они продолжают
называть эту карикатуру разумом (или Разумом с большой
буквы). Разум пользуется большим успехом среди
философов, питающих отвращение к сложности, и среди
политиков (техницистов, банкиров и т.п.), стремящихся к
мировому господству. Для остальных, т.е. практически для нас
всех, он является несчастьем. Пришло время с ним
распрощаться.
Статьи, из которых составлены главы этой книги, были
написаны по разным поводам, они отличаются друг от
друга по своему стилю и частично пересекаются. Некоторые
статьи носят научный характер, другие появились в
результате неформальных разговоров, третьи представляют собой
Прощай, разум
29
мои отклики на новые исследования. Большую часть из них
я переписал, но при этом сохранил разницу в стилистике и
некоторые повторы. Мой милый и очень добрый друг
Грация Боррини помогла мне справиться с множеством
различных вариантов статей. Благодаря ей я познакомился с
темой «развития». Без ее спокойной, но твердой критики
эта книга была бы менее аргументированной, более
абстрактной и гораздо менее понятной, чем она есть.
1
Заметки о релятивизме
ч^талкиваясь с неизвестными народами, культурами,
обычаями, точками зрения, люди реагируют по-разному. Они
могут удивляться, проявлять любознательность и желание
познакомиться поближе; они могут почувствовать
презрение и собственное превосходство; они способны
обнаружить отвращение и явную ненависть. Обладая не только
мозгом, но и языком, они способны не только чувствовать,
но также говорить — они выражают свои эмоции и
пытаются оправдать их. Релятивизм является одной из позиций,
порождаемых этим процессом. Он представляет собой
попытку придать смысл феномену культурного разнообразия.
Релятивизм имеет долгую историю; его появление
восходит, по крайней мере, к позднему Бронзовому веку на
Ближнем востоке, к тому периоду, который египтолог Дж.
Генри Брэстед назвал «Первым интернационалом». Греки
обсуждали его и превратили в учение в период перехода от
космологии досократиков, ориентированных на материю,
к политическим воззрениям софистов, Платона и
Аристотеля. Это учение поддерживало сохранение духа
скептицизма вплоть до предшественников Просвещения, таких как
Прощай, разум
31
Монтень, и комментаторов отчетов путешественников XVI
и XVII столетий. Скептицизм сохранялся в период
Просвещения и стал модным в наши дни как оружие против
интеллектуальной тирании и средство развенчания науки.
Идеи и практики релятивизма не ограничены только
Западом и не являются только интеллектуальной роскошью.
Они встречались в Китае и получили интересное
развитие у аборигенов Африки после того, как столкновение с
другими народами, обычаями и религиями познакомило
их с разнообразными способами жизни, существующими
на Земле10.
Широкое распространение релятивизма затрудняет его
обсуждение. Разные культуры подчеркивают его разные
аспекты и выражают их наиболее подходящим для себя
образом. Имеются простые варианты, из которых каждый
может что-то почерпнуть для себя, но существуют и
утонченные варианты, понятные только специалистам. Некоторые
варианты опираются на чувство или на склад ума, другие
напоминают ответы на математические проблемы. Иногда
нет даже варианта, имеется только слово «релятивизм» и
(доброжелательная или агрессивная, но в любом случае
скучная) реакция на него. Для того чтобы не утонуть в этом
изобилии, я не буду искать чего-то единого, скрытого за
словом «релятивизм», и просто рассмотрю варианты точек
зрения. Начну я с некоторых практических наблюдений.
1. Практический релятивизм (оппортунизм)
Практический релятивизм (частично совпадающий с
оппортунизмом) относится к тому способу, которым идеи,
обычаи, традиции, отличные от наших собственных,
могут воздействовать на нашу жизнь. Он имеет «фактуаль-
ную» часть, относящуюся к тому, как мы можем
испытывать воздействие, и «нормативную» часть, говорящую о
32
Пол Фейерабенд
том, как мы должны подвергаться воздействию (как
государственные институты должны относиться к
культурному многообразию). Для обсуждения этого я формулирую
следующий тезис:
R1: Индивиды, группы, целые цивилизации могут получить
пользу, изучая иные культуры, учреждения, идеи независимо
оттого, насколько сильны традиции, поддерживающие их
собственные воззрения (и независимо от того, насколько
убедительны аргументы, подкрепляющие эти воззрения). Например,
католики могут извлечь пользу из изучения буддизма,
медики - из изучения Ней Цзин* или от знакомства с
африканскими знахарями, психологам может принести пользу изучение тех
способов, посредством которых писатели или актеры
создают своих персонажей, науке в целом полезно изучение
ненаучных методов и воззрений, а вся западная цивилизация
может кое-чему научиться благодаря знакомству с
убеждениями, обычаями, организациями «примитивных» народов.
Заметим, что тезис RI не призывает изучать чуждые
институты и воззрения и, тем более, превращать такое
изучение в методологическое требование. Он лишь указывает на
то, что такое изучение может рассматриваться как
полезное защитниками status quo. Заметим также, что далеко не
все люди, позволяющие чуждым воззрениям и обычаям
оказывать влияние на их кругозор, формулируют это в виде
явного тезиса. Они могут поступать так в силу общего
благожелательного отношению к другим человеческим
существам или потому, что еще сохранили связь с природой
(люди учатся у животных, у растений, а также у других
людей), или потому, что обладают склонностью к
подражанию. Поэтому концентрация внимания на тезисе (таком,
как RI) уже ограничивает поле для обсуждения: предпо-
* «Трактат о внутреннем», канон китайской народной медицины. —
Примеч. пер.
Прощай, разум
33
лагается, что стороны формулируют свои позиции в словах
и опираются на эти слова, а не на примеры, эмпатию,
магию и другие невербальные средства.
Существует широкий спектр реакций на R1, в
частности такие.
A. Тезис отвергается. Это происходит тогда, когда
жесткое мировоззрение, пронизывающее всю повседневную
жизнь верующих, рассматривается как единственная мера
истины и превосходства. Примерами могут служить
законы Моисея, совершенное государство Платона, Женева
Кальвина, некоторые культы XX столетия. Многие ученые
хотели бы, чтобы их идеи, результаты и их мировоззрение
получили такой же статус11, и они достаточно близко
подошли к выполнению своих желаний12.
B. Тезис отвергается, но только в определенных
областях. Это встречается в плюралистических культурах,
включающих в себя слабо взаимосвязанные части (религию,
политику, искусство, науку, частные и общественные
действия и т.д.), причем каждая часть руководствуется ясным
и точным образцом. Индивид расщепляется
соответствующим образом: «как христианин» человек должен
опираться на веру, но «как ученый» он должен доверять фактам.
Приблизительно так историки говорят о Кальвине,
комментируя сожжение Сервета: «Как человек он не был
жестоким, но как теолог он был безжалостен; дело Сервета он
рассматривал именно как теолог»13.
Еще более либеральная реакция С поддерживает обмен
идеями и позициями между разными областями
(культурами), но подчиняет его законам, господствующим в данной
области (культуре). Так, некоторые медики признают
полезность не-западных медицинских идей и способов
лечения, но добавляют при этом, что они были открыты
научными средствами и должны быть подтверждены научными
2 — 1S09
34
Пол Фейерабенд
методами; сами по себе они не обладают никаким
авторитетом.
Наконец, на крайнем «левом» конце нашего спектра
находится позиция D, согласно которой наши самые
фундаментальные допущения, самые твердые убеждения,
наиболее убедительные аргументы могут быть изменены —
улучшены, опровергнуты или лишены смысла —
благодаря сравнению с тем, что на первый взгляд кажется просто
сумасшествием.
Все эти (и другие) реакции играли важную роль в
истории человеческой расы; судьба свободы, терпимости и
рациональности была всегда неразрывно связана с тем, как
властные элиты или культуры относились к разнообразию
(идей, обычаев, точек зрения), т.е. к R1. В данном и
следующем разделах я буду рассматривать науку и
опирающуюся на нее идеологию. Под «наукой» я понимаю
современные естественные и общественные науки (теоретические и
прикладные) или, вернее, то, как их представляют себе
ученые и образованная публика, — исследование,
стремящееся к объективности, опирающееся на наблюдение
(эксперимент) и разумные доводы при обосновании своих
результатов и руководствующееся ясными, логичными правилами.
Я буду доказывать, что ни ценности, ни факты, ни методы
не могут обосновать убеждения в том, что наука и научные
технологии (тесты интеллектуального развития, научная
медицина, земледелие, архитектура и т.д.) превосходят все
иные способы деятельности.
Разговор о ценностях относится к тому, как человек
хотел бы жить или, как он считает, нужно жить. Люди
устраивают свою жизнь разными способами. Следовательно,
можно предполагать, что действия, которые считаются вполне
нормальными в одной культуре, будут осуждены и
отвергнуты представителями другой культуры. Рассмотрим
пример (реальный случай, о котором я услышал от Вайцзеке-
Прощай, разум
35
pa): врач предложил пациенту из Центральной Африки
пройти рентгеновское обследование, чтобы точно установить
причину заболевания. Пациент попросил его использовать что-
нибудь другое, ибо «никто не имеет права вторгаться внутрь
моего тела». Здесь желание узнать и на основе этого
предложить наиболее эффективный способ лечения
сталкивается с желанием сохранить неприкосновенность своего тела.
Дискуссия о ценностях означает анализ и разрешение
подобных конфликтов.
Является ли желание этого пациента разумным? Оно
разумно для того сообщества, которое ценит
неприкосновенность тела и ожидает, что врач будет работать в рамках,
задаваемых этой ценностью14. И оно не будет разумным для
того сообщества, которое превыше всего ценит
эффективность и стремление к знанию. (Обширные области
западной цивилизации именно таковы, см. примеч. 13.) Оно
неразумно, однако терпимо в том обществе, которое ценит
эффективность и доверяет экспертам, но в то же время
оставляет некоторое место индивидуальным склонностям.
Оно неразумно и осуждается, если создает угрозу
установленным социальным правилам. Оно одновременно
разумно и неразумно (можно употребить другие слова,
указывающие на конфликт или согласованность с базисными
требованиями) в обществе, которое поощряет проявление
разных способов жизни в рамках некоторой единой структуры.
Некоторые люди согласятся с этим желанием и будут
поддерживать его, другие будут осыпать его насмешками и
оскорблениями. Споры по поводу абортов, эвтаназии,
генной инженерии, искусственного оплодотворения и
(интеллектуальные, политические, экономические, военные)
столкновения между представителями разных культур
показывают, каким образом ценности влияют на наши
мнения, позиции и действия. Многие споры продолжаются
даже после того, как оппоненты получат всю имеющуюся
36
Пол Фейерабенд
информацию. Дело в том, что здесь речь идет о
столкновении разных ценностей, а не о столкновении между добром
и злом и не о столкновении между теми, кто обладает
полной информацией, и теми, у кого она недостаточна (хотя
во многих спорах присутствует и это), и не о споре разума с
иррациональностью (хотя отстаиваемые ценности часто
оказываются частью разума)15.
Имеется три способа разрешения таких конфликтов:
власть, теория и открытый обмен мнениями между
конфликтующими группами.
Использование власти — самый простой и
распространенный способ. Не нужны аргументы; нет попыток что-то
понять; способ жизни, обладающий властью, просто
навязывает свои правила и устраняет поведение, вступающее с
ними в противоречие. Примерами могут служить
завоевания, колонизация, программы развития и большая часть
западных образовательных программ.
Теоретический подход обращается к пониманию, но не
к пониманию сталкивающихся партий. Особые группы,
включающие в себя философов и ученых, изучают
конфликтующие ценности, приводят их в систему, дают
руководящие указания для разрешения конфликтов и на этом
останавливаются. Теоретический подход преисполнен
самомнения и невежества, он отличается поверхностностью,
неполнотой и нечестностью.
Он преисполнен самомнения, поскольку его
представители считают, что только у интеллектуалов есть ценные
идеи и что единственным препятствием для установления
согласия в мире являются разногласия в их рядах. Так,
Роджер Сперри в своей интересной и приглашающей к спору
книге16 замечает, что «современное состояние мира
требует единого глобального подхода с ориентацией... на
улучшение всей земной биосферы». В настоящее время,
говорит Сперри, такому единому подходу препятствует «кри-
Прощай, разум
37
зис современной культуры», а именно «глубокое
противоречие между традиционным гуманистическим
представлением о человеке и мире и механистическими подходами
науки». Для устранения этого противоречия Сперри
предлагает реформировать науку таким образом, чтобы
устранить редукционизм и «руководствоваться нравственным
сознанием». Получающееся мировоззрение все еще
отличается от разнообразных «мифологических, интуитивных
или мистических духовных структур, посредством которых
человек пытается придать смысл своей жизни». Все еще
сохраняется «глубокое противоречие» между «естественным
космосом науки» и культурами, находящими вне сферы
западной цивилизации. Но эти противоречия не
увеличивают «кризиса» и не требуют изменения науки для их
преодоления: культуры, находящиеся вне науки и
гуманистических представлений, просто не принимаются в расчет.
Многие ведущие интеллектуалы рассуждают аналогичным
образом17.
Во-вторых, теоретический подход отличается
невежеством. Его представители не замечают, например, что
многие проблемы, с которыми сталкиваются ныне страны
третьего мира (голод, перенаселенность, духовное
разложение), возникли вследствие того, что экологически
уравновешенные и духовно удовлетворяющие формы жизни были
разрушены и заменены искусственными подделками
западной цивилизации18. «Разнообразные мифологические,
интуитивные и мистические духовные структуры»,
упоминаемые Сперри, отнюдь не были пустыми грезами; они давали
то, что обещали; они обеспечивали выживание и духовную
удовлетворенность в самых неблагоприятных
обстоятельствах19. Глашатаи прогресса и цивилизации разрушают то,
чего они не строили, и осмеивают то, чего не понимают.
Было бы наивно предполагать, что они одни ныне владеют
секретом выживания.
38
Пол Фейерабенд
В-третьих, теоретический подход является
чрезвычайно поверхностным. Богатейший комплекс идей,
представлений, действий, точек зрения и мимики, вплоть до
улыбки маленького ребенка, он заменяет безжизненными
абстрактными понятиями и считает, что «рациональный»
выбор решает суть дела: «по-видимому, теоретики никогда не
обращали внимания на глубокие эпистемологические
проблемы, с которыми сталкивался каждый, кто пытался
описывать «человеческую природу». Перед лицом
чрезвычайного богатства и сложности социальной жизни людей в
прошлом и настоящем они выбирали характерный для
девятнадцатого столетия способ описания всего человечества как
некую трансформацию европейского буржуазного
общества»20. Поверхностность проявляется также и в подходе к
науке. Почти не обсуждается громадное разнообразие
научных дисциплин, школ, подходов, решений. Перед нами
выступает некий монолитный монстр, «наука»,
шествующая по единому пути и говорящая одним голосом.
Теоретический подход, в-четвертых, неполон: он
ничего не говорит по поводу принуждения. Это не означает, что
у теоретиков нет мнения по этому вопросу. Их мнения
вполне определенны. Они надеются на то, что их предложения
когда-нибудь будут приняты учреждениями западных
индустриальных стран, а оттуда проникнут сначала в
образование, а затем и в развитие всех других стран мира.
Подобно своим предшественникам, колониальным чиновникам,
они не испытывают угрызений совести по поводу
использования силы для навязывания своих идей. Однако в
отличие от колонизаторов они сами не прибегают к силе.
Напротив, они говорят о рациональности, объективности и
терпимости, а это означает, что они не только
невежественны и поверхностны, но также и нечестны. К счастью,
теперь появились ученые, которые, испытывая глубокое
уважение ко всем формам человеческого существования, от-
Прощай, разум
39
крыли внутреннюю силу «примитивных» воззрений и
«архаичных» интуиции и соответствующим образом
изменили свое понимание познания. С их точки зрения,
исследование не является привилегией особых групп, а (научное)
знание не может считаться универсальной мерой
превосходства. Знание есть локальный товар, предназначенный
для удовлетворения местных потребностей и для решения
ограниченных проблем; оно может быть изменено, но
только после проведения обширных консультаций,
учитывающих мнения всех заинтересованных сторон.
«Ортодоксальная» наука является лишь одним из институтов среди
множества других, а не единственным хранилищем ценной
информации. Люди могут консультироваться у нее, они могут
принимать и использовать предложения науки, но только
после рассмотрения возможных альтернатив, а не как
нечто само собой разумеющееся21. Новые формы познания,
возникшие в недрах этого подхода, менее поверхностны и
в большей мере отвечают нуждам современного мира, чем
методы и результаты ортодоксальной науки22.
Высказанные замечания показывают, что ценности не
только влияют на применение знания, они являются
существенными ингредиентами самого знания. Большая часть
того, что мы знаем о людях, их привычках, особенностях
характера и предубеждениях, получается в результате
взаимодействий (между людьми), которые обусловлены
социальными обычаями и индивидуальными предпочтениями;
это знание «субъективно» и «относительно». Оно более
предпочтительно по сравнению с тем «знанием», которое
возникает благодаря взаимодействию людей с
экспериментальными процедурами (психологические тесты, генетические
исследования, теории познания), ибо оно поддерживает
личные контакты, а не ослабляет их. Существуют области
(например, наука), в которых количественная
экспериментальная информация уничтожила, кажется, всех соперни-
40
Пол Фейерабенд
ков. Однако эта победа не является «объективным фактом»
(как и военная победа, она зависит от целей участников
борьбы; в данном случае целью, поставленной на
определенном этапе развития западной цивилизации, является
технологическое развитие). Она не является неким
объективным положением дел (она должна быть обоснована и
оценена теми, кто получил от нее пользу23). Этотуспех нельзя
экстраполировать (тот факт, что эксперименты продвинули
некоторые части физики, еще ничего не говорит об их роли
в психологии или в иные периоды развития физики). Со
временем положение меняется (были периоды, когда
качественная информация относительно материалов далеко
превосходила количественное знание, см. примечания 47, 48 и
соответствующий текст). И даже плодотворное знание
может быть отвергнуто, если способы его получения
нарушают какие-то важные социальные ценности. «Не является ли
возможным, — спрашивает Киркегор ([125], А 182), — что
моя активность в качестве объективного наблюдателя
природы будет ослаблять меня как человеческое существо?» Все
это означает, что критерии успеха и признания
изменяются от случая к случаю и в соответствии с ценностями тех,
кого интересует конкретная сфера познания.
Суммируем: решения по поводу ценностей и
использования науки не принадлежат самой науке; их можно назвать
«экзистенциальными» решениями; это решения жить,
мыслить, чувствовать и вести себя определенным образом.
Многие люди никогда не принимали решений такого рода,
теперь многие вынуждены принимать их: народы
«развивающихся стран» стали сомневаться в достоинствах западного
пути развития, а граждане западных стран с подозрением
глядят на проникающие в их жизнь продукты новых
технологий (это написано после аварии в Чернобыле в апреле
1986 года). «Экзистенциальная» природа решений за или
против научной культуры объясняет, почему продукты на-
Прощай, разум
41
уки (телевидение, атомная бомба, пенициллин) не играют
здесь решающей роли. Они будут хорошими или плохими,
полезными или разрушительными в зависимости от того
способа жизни, который выбирает человек.
Второе мое замечание относится к фактам. Вовсе не
обязательно, что даже научное сравнение, опирающееся на
научные оценки научных и не-научных культур, всегда
будет свидетельствовать в пользу первых. Конечно,
существуют большие преимущества в обширных областях
абстрактного знания и практических умениях. Однако имеются и
другие сферы, в которых превосходство
научно-технического подхода далеко не столь очевидно. Так, научное
изучение истории не-западных цивилизаций и сообществ
обнаруживает, что голод, насилие, увеличивающийся
дефицит добра часто был обусловлен разрушительным
воздействием западной науки и техники на сложные, хрупкие, но
удивительно успешные социоэкологические системы24. Или
допустим, что значительное число больных людей сначала
диагностируют в соответствии с наиболее передовыми
методами западной медицины, а затем делят их на две
группы. Одна группа лечится западными методами (если есть
такие), а другая использует какую-то не-научную форму
медицины, скажем, иглоукалывание. Пусть результаты
фиксируются западными врачами. Какими они будут? Будут ли
методы западной медицины всегда приводить к лучшим
результатам? Или их результаты будут лучшими в
большинстве случаев? Имеются ли области, в которых они терпят
поражение, а другие методы оказываются успешными? Мы
не знаем ответов на все эти вопросы.
Никто не будет отрицать того факта, что великие и
удивительные успехи были достигнуты и что они были
получены соединением научного материализма с иногда простой,
а иногда сложной экспериментальной техникой. Однако это
42
Пол Фейерабенд
всего л ишь отдельные эпизоды, которые вовсе еще не
обосновывают универсальной успешности этого соединения и
универсальной бесплодности всех существующих
альтернатив. У нас просто нет еще общей картины, основанной
на свидетельствах, а не на сомнительных обобщениях.
Добавим к этому, что забота о престарелых, уход за
душевнобольными и образование детей (включая их
эмоциональное образование) в индустриальных обществах не
предоставлено экспертам, а является делом семьи и общества в
целом. Учтем также то обстоятельство, что не существует
точных критериев здоровья, оно оценивается по-разному в
разные времена и в разных культурах. Тогда становится
ясно, что вопрос о сравнительных достоинствах научных и
не-научных лечебных процедур никогда не исследовался
подлинно научными методами. Апостолы науки опять
обнаруживают отсутствие научного обоснования их веры. Это
не вина науки, это лишь свидетельство того, что выбор
науки среди других форм жизни не является научным.
He-научные формы жизни были подвергнуты проверке,
гласит популярный контраргумент, когда ученые оценили
и устранили альтернативы, с которыми встретились.
Например, индейские лекарства (которые широко использовались
медиками Соединенных Штатов в XIX столетии) исчезли,
когда фармацевтическая промышленность предложила
более эффективные средства.
Этот контраргумент не является ни корректным, ни
существенным. Он некорректен, поскольку многие так
называемые победы научной практики не были результатом
систематического сравнительного исследования, а были
обеспечены социальными процессами, политическим
(институциональным) давлением и насилием. Возьмем опять
пример из медицины. По мнению Пола Стара ([231]),
важные изменения в деятельности врачей, включая переход к
более безличному (иначе говоря, «объективному») подхо-
Прощай, разум
43
ду, были обусловлены в значительной мере социальными
процессами, а не успехами медицинского познания. Эти
процессы изменяли представление о том, что считать
корректной медицинской процедурой, и создавали видимость
прогресса, не опиравшегося на соответствующие
исследования. В том же направлении рассматривает роль новых
технологий Стэнли Райзер ([199]). Мысль о том, что
инструменты лучше, нежели наблюдатель-человек, стимулировала
общее движение к безличности, и диагнозы, опиравшиеся
наличный контакт врача с пациентом, стали рассматриваться
как нечто сомнительное. Улучшение общего здоровья
населения часто обусловлено улучшением питания,
профилактическими мерами, улучшением условий труда,
периодичностью распространения заболеваний, а вовсе не
прогрессом медицинской практики (подробности см. в: Р. Шриок,
[214], с. 319 и ел.).
Знакомясь с тем, что пишут о возникновении научной
медицины в тридцатые годы XIX века Льюис Томас и
Питер Медавар (The London Review of Books, 12 Фев — 2 Map
1983, с. З), либо приходишь к выводу о том, что с точки
зрения строгой науки медицина до XX столетия была лишена
всякого содержания, либо вынужден допускать, что
медицина может быть успешной, не будучи научной.
«Медицина, — пишет Льюис Томас ([238], с. 29), — несмотря на свою
репутацию ученой профессии, в реальной жизни была
занятием невежд». Быстрое признание лоботомии
широкими кругами медиков при отсутствии хоть сколько-нибудь
надежных данных о результатах говорит о том, что
признание профессионалов еще не свидетельствует о реальных
достоинствах и к ссылке на их единодушное мнение следует
относиться с большой осторожностью (см.: Э. Валенштайн,
[242]). Многочисленные медицинские средства, с помпой
навязываемые доверчивой публике (использование
каломели в XIX столетии; облучение увеличенной щитовидной
44
Пол Фейерабенд
железы у детей; методика Холстида), получили
распространение благодаря моде и не имели собственного
эмпирического обоснования. Я не отрицаю, что в какой-то мере
репутация врачей обусловлена подлинными и порой
удивительными успехами медицинских исследований (Л.
Томас, [238], с. 35). Трудно преуменьшить значение
сульфамидных препаратов, пенициллина, новых методов
определения беременности. Однако есть и другие факты, не
позволяющие из этих отдельных успехов сделать общий вывод
о неэффективности всех неортодоксальных форм
медицины. Каждый конкретный случай нужно анализировать
отдельно и оценивать по его собственным достоинствам,
независимо от теоретической моды и практической
распространенности.
Высказанный контраргумент не является и
существенным: каждая настоящая победа науки достигается с
помощью разного оружия (инструментов, понятий, аргументов,
базисных предположений). Но вместе с успехами познания
изменяется и оружие. Следовательно, возобновление
спора может привести (и порой приводит) к иным
результатам: победа превращается в поражение и наоборот.
Многие когда-то казавшиеся абсурдными идеи теперь прочно
вошли в наше знание. Так, например, мысль о движении
Земли была отвергнута во времена античности, поскольку
она явно противоречила фактам и признанной тогда
теории движения; ее оценка с точки зрения иной, менее
эмпирической и в то же время в высшей степени спекулятивной
динамики убедила ученых в том, что все-таки эта идея
верна. Она убедила их потому, что они не питали того
отвращения к спекулятивным рассуждениям, которое
испытывали их предшественники-аристотелианцы.
Атомистическую теорию часто подвергали критике и по теоретическим,
и по эмпирическим соображениям; во второй трети XIX
века некоторые ученые считали ее безнадежно устаревшей;
Прощай, разум
45
однако она выжила благодаря изобретательным
аргументам и является ныне базисом физики, химии и биологии.
В истории науки можно найти много теорий, которые были
объявлены умершими, затем оживали, потом опять
провозглашались умершими и вновь триумфально возвращались.
Имеет смысл сохранять неудачные концепции для
возможного будущего использования. История идей, методов и
предубеждений является важной частью повседневной
научной практики, а эта практика может иногда
удивительным образом изменять свое направление.
Все это еще более верно для прикладных наук и
опирающихся на науку искусств, подобных медицине. В
медицине мы наблюдаем не только возрождение той или иной
моды (моды на более «личностный» подход; моды на
терапевтический нигилизм, характерной для античности и
возвращавшейся примерно через столетие) и постоянные
колебания между альтернативами (пример: «болезнь есть
местное нарушение, которое следует устранить» и «болезнь
выражает стремление тела преодолеть нарушение и это
стремление нужно поддержать»), но мы видим и
независимые от науки изменения содержания базисных
терминов, таких как «болезнь» и «здоровье». Медицина может
только выиграть от включения истории в свою практику и
в свои исследования.
Джон Стюарт Милль в своем бессмертном сочинении
«О свободе»25 шел еще дальше. Он советовал ученым не
только сохранять те идеи, которые были проверены и
сочтены неудовлетворительными, но рассматривать также
новые и интересные концепции независимо от того,
насколько абсурдными они кажутся на первый взгляд. Он
привел две причины этого: разнообразие воззрений,
говорил он, необходимо для формирования «развитых
человеческих существ» и оно столь же необходимо для прогресса
цивилизации:
46
Пол Фейерабенд
Что стимулировало семью европейских народов к
развитию и не позволило им остаться неизменной устойчивой
частью человечества? Не какое-то их превосходство над
другими, которое, если оно существует, есть следствие, а не
причина, а замечательное разнообразие их характеров и культур.
Индивиды, классы, нации весьма сильно отличались друг от
друга: они изобрели великое множество путей, ведущих к
чему-то ценному. И хотя в каждый отдельный период люди,
шедшие разными путями, были нетерпимы друг к другу и
каждый старался заставить всех остальных двигаться по
избранному им пути, их попытки помешать другдругу двигаться
своим путем редко приводили к успеху и постепенно они
усваивали то хорошее, что открывали другие. На мой взгляд, своим
прогрессивным и многосторонним развитием Европа в
значительной мере обязана этой множественности путей.
Согласно Миллю, плюрализм точек зрения необходим
также и в науке — «по четырем разным причинам».
Во-первых, потому, что отвергнутая кем-то точка зрения может
оказаться истинной: «отрицать это значит считать себя
непогрешимым». Во-вторых, потому, что сомнительные идеи
«могут содержать и часто содержат какую-то частицу
истины», а поскольку господствующее воззрение редко или даже
«никогда не содержит всей истины, постольку только
соединение противоположных мнений способно дать полную
картину». В-третьих, концепция, которая всецело
истинна, но никем не оспаривается, «будет приниматься как
предрассудок без учета ее рациональных оснований».
В-четвертых, такую концепцию «будут принимать чисто
формально», не понимая ее подлинного значения, ибо это значение
выявляется только при сопоставлении с другими
концепциями.
Пятая, несколько более техничная причина26
заключается в том, что решающие свидетельства против некоторой
концепции часто можно обнаружить только с помощью
альтернатив. Запрещать использовать альтернативы до тех пор,
Прощай, разум
47
пока не обнаружится противоречащее свидетельство, и в то
же время требовать сравнения теории с фактами означает
ставить телегу впереди лошади. И использовать «науку» для
дискредитации и даже устранения всех ее альтернатив
значит использовать ее вполне заслуженную репутацию для
утверждения догматизма вопреки духу тех, кто эту
репутацию зарабатывал.
Некоторые ученые рассматривают науку как мощный
поток, сметающий все на своем пути. Так, Питер Медавар
([158], с. 114) пишет: «По мере того, как наука
прогрессирует, конкретные факты поглощаются ею и, в некотором
смысле, исчезают в общих утверждениях возрастающей
объяснительной силы. Нам больше не нужно представлять себе в
явном виде весь объем фактов. Во всех науках мы постепенно
освобождаемся от груза единичных примеров, от тирании
конкретного». Но ведь как раз эта «тирания» или, лучше
сказать, эта сложность реальной жизни (которая проходит
среди конкретных вещей) сохраняет гибкость нашего
мышления и предохраняет его от чрезмерного доверия к
сходствам и регулярностям. Кроме того, в человеческом
обществе было бы не только неумно, но даже аморально и
преступно «уничтожать» индивидуальные точки зрения, если
они не включаются в общую структуру «возрастающей
объяснительной силы».
СЕ. Лурия в своей прелестной, информативной и
часто трогательной автобиографии ([147], с. 123) пишет
следующее: «Содержанием науки является совокупность
находок и обобщений, имеющихся сегодня, — это срез
процесса научного исследования в данный момент времени.
Движение науки я рассматриваю как самоочищение — в том
смысле, что сохраняются лишь те элементы, которые
становятся частью действующего корпуса знания»27. «Модель
молекулы ДНК, разработанная Криком и Уотсоном, —
продолжает Лурия, — выстояла благодаря своим собственным
48
Пол Фейерабенд
достоинствам. Альтернативные модели были отброшены и
забыты независимо от того, насколько эффектно они были
представлены... История того, как была найдена модель
ДНК, сколь бы интересной она ни казалась, не имеет
большого значения для операционального содержания науки».
Однако не само по себе «операциональное содержание»
воздействует на ученого, а тот способ, посредством которого
оно связано с его личными интересами. Лурия, например,
предпочитает события, приводящие к «строгим выводам»,
к «предсказаниям, которые могут быть ясно подтверждены
или четко опровергнуты посредством недвусмысленного
эксперимента» ([147], с. 115 и ел.). Он признается в
«отсутствии у него энтузиазма в отношении «больших проблем»
Вселенной, возникновения Земли или накопления окиси
углерода в верхних слоях атмосферы» (с. 119). Он говорит
также о том, что Энрико Ферми по той же причине
холодно отнесся к общей теории относительности (с. 120).
Наука, в которой много людей с такими склонностями, будет
значительно отличаться от теоретической науки,
«довольствующейся нестрогими выводами» (с. 119); эти выводы
способны предохранять от ошибок: факты, опирающиеся
на строгие выводы, часто разоблачаются как ошибочные
посредством цепочки нестрогих выводов. (Примерами
могут служить критика Галилеем аргументов против
движения Земли и критика Больцманом феноменологической
термодинамики.) Таким образом, «операциональное
содержание» науки в определенный момент времени есть
результат объективных действий, осуществленных в
соответствии с субъективными интересами и
интерпретированных на основе допущений, отобранных под руководством
этих интересов. Мы должны знать интересы для того,
чтобы приписать содержанию его собственный вес и, может
быть, скорректировать его. Но это возвращает нас к
модели Милля.
Прощай, разум
49
Мы можем сделать вывод о том, что нет научных
аргументов против использования или возрождения не-науч-
ных концепций или научных идей, прошедших проверку и
признанных неудовлетворительными, однако существуют
(правдоподобные, хотя и не решающие) аргументы в пользу
плюрализма идей, включая абсурдные и опровергнутые. Это
служит обоснованием идеи локального знания, о котором
шла речь в тексте и примеч. 21 и 22.
Третье возражение против мысли о том, что наука
устраняет все иные формы жизни, вытекает из области
методологии: выдуманного единства «науки», исключающей все
остальное, просто не существует. Ученые черпают свои идеи
из самых разных областей, их концепции часто приходят в
противоречие со здравым смыслом и обоснованными
доктринами, и они всегда приспосабливают свои методы к
текущим задачам. Не существует одного «научного метода»,
а господствует оппортунизм; допустимо все — все, что
способствует развитию познания с точки зрения конкретного
исследователя или исследовательской традиции28. В практике
науки часто бывало так, что некоторые ученые и философы
переступали сложившиеся границы, стремясь к свободному
и независимому исследованию. Но такое исследование не
может отвергать R1, напротив, R1 представляет собой один
из наиболее важных элементов такого исследования.
Отвергается не сама наука, а та идеология, которая выделяет
некоторые части науки и превращает их в окаменелость
вследствие невежества и предрассудков.
Современная наука проделала длинный путь,
постепенно освобождаясь от этой идеологии. Она заменила «вечные
законы природы» историческими процессами. Она
создала мировоззрение, включающее в себя «абсурдную» идею
начала времени. Она заменила старое, грубое и
необоснованное разделение субъекта и объекта гораздо более
тонким и нелегко постигаемым упорядочением фактов (до-
50
Пол Фейерабенд
полнительность). Она подчеркнула необходимость сделать
субъективность не только объектом, но также и агентом
научного исследования. Следуя некоторым идеям Пуанкаре,
она ввела качественные соображения в наиболее точную из
всех наук — в небесную механику29. Кроме того, она открыла
и исследовала громадное количество искусств, технологий
и наук, принадлежащих культурам и цивилизациям,
отличным от нашей собственной30. Вместе с исследованиями,
упомянутыми в примеч. 18 (и огромным количеством
литературы о «развитии»), эти открытия показывают, что все
народы, а не только индустриально развитые, имеют
достижения, из которых может извлечь пользу все
человечество. Они заставили нас понять, что даже самое маленькое
племя может дать что-то новое западному мышлению. И они
убедили некоторых авторов в том, что наука и научный
рационализм не только не являются одной из форм жизни
среди многих других, но, быть может, вообще не являются
формой жизни31. Однако в данном случае для моих целей
важно следующее: они показали, что R1 не только является
разумной (см. выше набросок аргументов Милля) и важной
частью науки, не зараженной идеологией, но что этот тезис
также хорошо подтвержден. Иначе говоря, обширные
области науки переступили границы, установленные
узколобым рационализмом или «научным гуманизмом», и стали
проводить исследования, которые уже больше не
исключали идей и методов «нецивилизованных» и «лишенных
науки» культур: конфликта между научной практикой и
культурным плюрализмом больше не существует. Этот конфликт
возникает лишь тогда, когда локальные и предварительные
результаты и пригодные для небольшой области методы
абсолютизируют и превращают в универсальную меру
достоинства всего остального, т.е. когда хорошая наука
превращается в плохую, задавленную идеологией науку. (К
сожалению, многие широкомасштабные проекты прибегают к
Прощай, разум
51
этой идеологии как к основному интеллектуальному
оружию для подавления своих оппонентов.) На этом я
заканчиваю обсуждение и защиту R1.
2. Политические следствия
Некоторые индустриальные общества являются
демократическими — они придают большое значение публичным
дискуссиям — и плюралистическими — они поощряют
разнообразие традиций. Согласно тезису R1, каждая традиция
может внести некоторый вклад в устройство жизни
отдельного индивида и общества в целом. Отсюда следует:
R2: Общества, приверженные свободе и демократии,
должны быть организованы таким образом, чтобы всем
традициям были предоставлены равные возможности, т.е. равный
доступ к федеральным фондам, образовательным
учреждениям, важнейшим решениям. Науку следует рассматривать как
одну из традиций среди многих, а не как универсальный
стандарт для оценки того, что существует, а чего нет, с чем можно
согласиться, а что следует отвергнуть.
Заметим, что R2 относится к обществам,
базирующимся на «свободе и демократии». Это выражает мою нелюбовь
к поспешным обобщениям и мое отвращение к
политическим действиям, опирающимся на такие обобщения. Мне
не нравится экспорт «свободы» в те регионы, которые
обходятся без нее и жители которых не обнаруживают
желания изменить свой образ жизни. Декларации типа
«Человеческая природа едина и тот, кто заботится о свободе и
правах человека, должен заботиться о них всегда и везде»,
причем эта «забота» может предполагать активное
вмешательство (К. Бэй [6], с. 376), представляются мне еще
одним примером интеллектуального (либерального)
предрассудка. Такие общие идеи, как идея «человеческой приро-
52
Пол Фейерабенд
ды», идея «свободы» или западная идея «права», возникли
в конкретных исторических обстоятельствах. Их
значимость для людей с иным прошлым должна быть проверена
жизнью, широкими контактами с их культурой, их нельзя
навязывать извне. С другой стороны, мне кажется, что
защитники плюрализма, свободы и демократии
пренебрегали некоторыми важными следствиями своих убеждений. R2
указывает сферу, которой пренебрегали, и показывает, как
и на основе каких аргументов ее можно включить в
рассмотрение.
Заметим также, что R2 говорит о равенстве традиций, а
не только о равном доступе к одной конкретной традиции
(в западных демократиях «равенство возможностей»
обычно означает равный доступ к одной привилегированной
традиции, представленной смесью науки, либерализма и
капитализма). Единицами рассмотрения являются традиции,
а не отдельные индивиды. Для своего применения R2
нуждается, конечно, в уточнении. Должны существовать
критерии идентификации традиций (не каждая ассоциация
будет считаться традицией, и то, что начинается как традиция,
со временем может выродиться в клуб) и способы
регулирования возможностей. Однако лучше, если такие
критерии разрабатывают те группы, которые считают себя
сторонниками некоторой традиции и стремятся к равенству
возможностей, и эти критерии не устанавливаются заранее
и независимо от заинтересованных сторон. Причина
заключается в том, что конкретные политические дискуссии
часто приводят к непредвиденным изменениям (а) мыслей,
обычаев, чувств, определяющих сам образ конкретной
традиции, (б) правовых идей (обычного права и
законодательного права), определяющих отношение к традициям, и (в)
общих (антропологических, исторических, обыденных) идей
о природе традиций и культур. Этот процесс требует
некоторого времени для того, чтобы его приняли все участники.
Прощай, разум
53
Политические программы и социальные теории,
разработанные независимо от него, не дают такого времени.
R2 требует равных возможностей и подкрепляет это
требование указанием на очевидные выгоды: даже самый
странный способ жизни может открыть нам нечто новое. Говоря
об отдельных индивидах, некоторые авторы идут еще
дальше, провозглашая, что каждый человек имеет права,
которые не зависят от их полезности. Кажется естественным
распространить эти права на традиции, утверждая,
например, что, хотя мы не многому можем научиться у меннони-
тов, мы должны с уважением относиться к их образу
жизни, несмотря на то что он совершенно бесполезен для
остального общества32. Поэтому я считаю, что в дополнение
к R1 и R2 мы должны постулировать:
R3: Демократические общества должны предоставлять всем
традициям равные права, а не только равные возможности.
Опять-таки понятия права и равенства в правах
должны быть уточнены и вновь это уточнение должно
достигаться в результате политических дискуссий между
заинтересованными участниками, вытекать из предложений,
обсуждения, критики законов и прецедентов, а не из
бюрократических спекуляций. Однако некоторые общие следствия
можно сформулировать даже независимо от более
конкретных соображений.
Например, из R3 следует, что эксперты и
государственные учреждения должны приспосабливать свою
деятельность к тем традициям, которым они служат, а не
оказывать давление на традиции с тем, чтобы приспособить их к
своей деятельности; медицинские учреждения должны
учитывать религиозные табу тех или иных социальных групп и
не навязывать им модные медицинские средства. В этом нет
чего-то необычного. Ученые, работающие на правитель-
54
Пол Фейерабенд
ство, переформулируют задачи, над которыми работают,
когда приходит новая администрация (или их заменяют
людьми с иными убеждениями); ученые, работающие над
военными заказами, изменяют свои позиции в соответствии
с изменениями политической и военной обстановки;
экологи прислушиваются к общественным потребностям;
создатели компьютеров изменяют свои приоритеты с каждым
колебанием рыночной конъюнктуры; закон запрещает
физиологам использовать для исследований живое
человеческое тело без согласия родственников; всякий, кто обладает
властью, использует ее в соответствии со своими
собственными представлениями. R3 вносит порядок в эту практику и
подводит под нее «моральную основу». Он согласуется
также с децентрализующими тенденциями, присущими
каждому подлинно демократическому обществу.
R2 и R3 не являются какими-то абсолютными
требованиями. Это, скорее, предложения, реализация которых
зависит от обстоятельств, в которых они высказываются, и
от средств (тактики, просвещенности, власти), доступных
тем, кто их защищает; они открыты для изменений и
исключений. Защитник R3 отличается от его оппонентов не
тем, что он отказывается принимать такие исключения, а
тем, что он рассматривает их именно как исключения,
стараясь сделать все возможное для приближения к идеалу
равных возможностей и равных прав33.
R2 и R3 поддерживают и свободу для, и свободу от
науки: в наших демократических обществах наука нуждается
в защите от не-научных традиций (рационализм, марксизм,
теологические школы и т.п.), а не-научные традиции
нуждаются в защите от науки. Ученый может извлечь пользу из
изучения логики или Дао, однако это изучение должно
побуждаться самой научной практикой, а не навязываться
извне. Представители традиционной китайской медицины
могут что-то почерпнуть из научного подхода к человечес-
Прощай, разум
55
ким заболеваниям, однако их интерес к научному подходу
должен быть их внутренним интересом, а не навязываться
им государственными учреждениями. Конечно,
демократические решения могут налагать (временные)
ограничения на деятельность каких-то людей или на традиции; в
конце концов, демократическое общество не должно быть
игрушкой каких-то институтов, напротив, оно должно
стоять над ними и контролировать их. Однако такие решения
должны быть результатом дискуссий, в которых ни одна
из традиций не играет решающей роли (если только
иногда и случайно), и их можно изменить, если они вдруг
покажутся неприменимыми или опасными. Я рассмотрел эти
и близкие проблемы в двух книгах: «Против метода»,
которая посвящена освобождению науки (от вмешательства
философии), и «Наука в свободном обществе», в которой
я защищаю свободу не-научных традиций (от
вмешательства науки).
3. Геродот и Протагор
Не обсуждая взаимного обмена обычаями,
убеждениями, идеями, мы можем сначала спросить: как они
воздействуют на людей, когда они установлены или, если
употребить несколько более абстрактный термин, когда они
считаются общезначимыми. Насколько мне известно, первым
этот вопрос рассматривал Геродот. В книге 3,38 своей
«Истории» он рассказывает следующее ([99], рус. пер. Г.А. Стра-
тановского):
Царь Дарий во время своего правления велел призвать
эллинов, бывших при нем, и спросил, за какую цену согласны
они съесть своих покойных родителей. А те отвечали, что ни
за что на свете не сделают этого. Тогда Дарий призвал
индийцев, так называемых каллатиев, которые едят тела покойных
56
Пол Фейерабенд
родителей, и спросил их через толмача, за какую цену они
согласятся сжечь на костре своих покойных родителей. А те
громко вскричали и просили царя не кощунствовать. Таковы
обычаи народов, и, мне кажется, прав Пиндар, когда
говорит, что обычай - царь всего.
Обычай есть «царь всего», но разные люди повинуются
разным царям:
Если бы предоставить всем народам на свете выбирать
самые лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ,
внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные. Так,
каждый народ убежден, что его собственные обычаи и образ
жизни некоторым образом наилучшие.
Правление царя опирается не только на силу, но
также и на право. Геродот заключает, что то же самое верно и
для обычая. Покоряя Египет, Камбис разрушал храмы,
смеялся над древними законами, осквернял могилы,
извлекая из них тела, и в храме Гефеста осыпал насмешками
статую бога. У Камбиса была сила, которая позволяла ему
делать все это. Но, согласно мнению Геродота, он был
невежественным человеком, он был «совершенно безумен;
это единственно возможное объяснение его неистовств и
глумления над всем тем, что древний закон и обычай
Египта считали священным». (Заметим, что с этой точки
зрения насмешки Ксенофана над тем, что «древний закон и
обычай считали священным», говорят о расстроенной
психике, а отнюдь не о просвещенности. См. следующую
главу.)
Резюмируем сказанное:
R4: Законы, религиозные убеждения и обычаи правят,
подобно царям, в ограниченной области. Их правление
опирается на двойной авторитет — на их власть и на тот факт, что
эта власть в данной области признается правильной.
Прощай, разум
57
R4 согласуется с воззрениями Протагора, великого
современника Геродота. В диалоге Платона «Протагор» этот
персонаж разъясняет свою позицию дважды: сначала
рассказывая некую историю, а затем — «приводя основания»
(324d7). Согласно рассказу, боги и Прометей поручили Эпи-
метею наделить все создания подходящими для них
силами; будучи не очень умным, он исчерпал все силы, прежде
чем добрался до людей, и оставил их, таким образом, без
защиты и умений. Для того чтобы исправить эту ошибку,
Прометей украл огонь и ремесла у Гефеста и Афины.
Теперь люди могли выжить, однако они еще не были
способны жить в мире между собой.
Тогда Зевс, испугавшись, как бы не погиб весь наш род,
посылает Гермеса ввести среди людей стыд и правду, чтобы
они служили украшением городов и дружественной связью.
Вот и спрашивает Гермес Зевса, каким же образом дать
людям правду и стыд. «Так ли их распределить, как
распределены искусства? А распределены они вот как: одного,
владеющего искусством врачевания, хватает на многих не сведую-
щих в нем; то же и со всеми прочими мастерами. Значит,
правду и стыд мне таким же образом установить среди людей или
же уделить их всем?»
«Всем, - сказал Зевс, - пусть все будут к ним причастны;
не бывать государствам, если только немногие будут этим
владеть, как владеют обычно искусствами. И закон положи от
меня, чтобы всякого, кто не может быть причастным к стыду и
правде, убивать как язву общества». («Протагор» 320d и ел.,
особ. 322 и ел.)
Согласно этому рассказу, справедливость есть часть
закона Зевса. Таким образом, законы и обычаи, являющиеся
конкретными выражениями справедливости, опять-таки
опираются на двойной авторитет: власть человеческих
учреждений и власть Зевса. «Протагор» показывает, как они
поддерживаются:
58
Пол Фейерабенд
Чуть только ребенок начинает понимать слова, и
кормилица, и мать, и наставник, и отец бьются над тем, чтобы он стал
как можно лучше, уча его и показывая ему при всяком деле и
слове, что справедливо, а что несправедливо, что прекрасно, а
что гадко, что благочестиво, а что нечестиво, что можно делать,
а чего нельзя. И хорошо, если ребенок добровольно
слушается; если же нет, то его, слово кривое, согнувшееся деревцо,
выпрямляют угрозами и побоями (325сЗ и ел.).
Как можно видеть из приведенных цитат, Протагор
считал, что должны существовать законы и эти законы
должны соблюдаться. Он также верил, что законы и учреждения
должны быть приспособлены к тем обществам, которыми
они управляют, и что справедливость должна определяться
«относительно» потребностей этих обществ и условий их
существования. Ни он, ни Геродот не утверждают, как это
делали софисты и более поздние «релятивисты», что
учреждения и законы действуют в одних обществах, но не
принимаются в других, поэтому они произвольны и могут быть
изменены как угодно. Важно подчеркнуть этот момент,
поскольку многие критики релятивизма считают такой
вывод очевидным, однако можно быть релятивистом, но все-
таки защищать и поддерживать законы и учреждения.
«Релятивистские» элементы философии Протагора
имеют два источника. Одним является сообщение о том, что
Протагор установил специальные законы для Фурии —
греческой колонии в Южной Италии. Вторым источником
является диалог Платона «Теэтет», содержащий длинное
обсуждение идей, приписанных Протагору. Это обсуждение
начинается с утверждения, которое, будучи одним из
немногих дошедших до нас отрывков Протагора, стало его
отличительным знаком:
R5: Человек есть мера всех вещей: существующих, что они
существуют, несуществующих, что они не существуют (1 52а 1 ).
Прощай, разум
59
Как я отметил в предыдущем разделе, в частности в
примеч. 33 (и в тексте), утверждения, подобные R5,
можно истолковать по крайней мере двояко: как некую
посылку, из которой «следуют» вполне точные и
недвусмысленные следствия; или как некое приблизительное
правило, задающее позицию без ее точного описания. В
первом случае (который предпочитают логики) значение этого
утверждения должно быть установлено до того, как оно
применяется или обосновывается; во втором случае
(который характерен для большинства плодотворных
дискуссий как в науке, так и в иных областях) интерпретация
этого утверждения является частью его применения или
обоснования34. Платон склоняется к первой
интерпретации, хотя способ прояснения R5 (152а1 — 170аЗ) и многие
отступления, оживляющие дискуссию, создают
впечатление, что он принимает вторую интерпретацию. Однако
ситуация является достаточно ясной: ему требуется такой
вариант R5, который можно было бы разоблачить и
опровергнуть. Такой вариант он создает:
R5a: Все, что кому-то представляется, является для него
тем, чем кажется (1 70аЗ).
Где «все, что представляется» означает любое
(проверенное или непроверенное) мнение данного человека.
Опираясь на такую интерпретацию, Платон
высказывает три главных критических замечания по поводу R5.
Первое критическое замечание начинается с
констатации (170а6 и ел.) того, что лишь немногие люди доверяют
собственным мнениям, что подавляющее большинство
следует советам специалистов, поэтому R5a ложно почти для
всех людей, и поскольку Протагор измеряет истину
посредством человеческих мнений, ложно также для него ( 171 с5 и
ел.; 179Ь6 и ел.): «...он попался, когда приписал истину мне-
60
Пол Фейерабенд
ниям других, которые полагают ложным его собственное
мнение»*.
Второе критическое замечание говорит о том, что
специалисты делают надежные предсказания, а простые люди
не способны на это (178а5 и ел.). Так в медицинском
случае «невежда может считать, что вскоре он заболеет
лихорадкой, в то время как врач утверждает противоположное;
должны ли мы считать, что будущее будет соответствовать
обоим мнениям или только лишь одному из них?» (178с2 и
ел.). Очевидно последнее, говорит Платон, — что
устраняет R5a.
Третье критическое замечание имеет дело со
структурой общества. «В государственных делах, — говорит Сократ
(172а1 и ел.) — теория [т.е. тезис R5, истолкованный как
R5a] будет говорить, что когда речь идет о Добре и Зле,
Справедливости и Несправедливости или о Благочестии и
Кощунстве, государство имеет свое мнение и
устанавливает его в качестве закона, тогда это будет его Истина, и в этих
вопросах ни один индивид или государство не будет мудрее
всех остальных». Однако будущее развитие может показать,
что это убеждение ошибочно: некоторые законы охраняют
государство, в то время как другие могут его разрушить;
некоторые законы внушают гражданам надежду, в то время
как другие повергают их в нужду, в раздоры, в отчаяние.
Следовательно, Истина не является вопросом мнения
(индивидуального или коллективного, демократического или
аристократического), поэтому гезис R5a ложен.
Эти аргументы отвергают то, что говорит R5a по поводу
мнений (мнения истинны для тех, кто их придерживается),
ссылаясь на мнения: мнение о том, что специалисты
лучше, чем простые люди; что, будучи приглашены для
решения какой-то проблемы, все они предложат одно и то же
*3десь и ниже переводы Платона даются в соответствии с
английским текстом П. Фейерабенда.
Прощай, разум
61
решение; что это решение в будущем окажется правильным;
что большинство людей согласно с такой оценкой
специалистов и т.д.
Но когда Платон писал свой диалог, эти мнения уже
теряли популярность и подвергались критике как со стороны
специалистов, так и со стороны простых людей. Например,
автор трактата «О древней медицине» высмеивает
склонность теоретизирующих медиков заменять здравый смысл
узкими теориями и определять болезнь и здоровье в
терминах этих теорий. Предполагается, говорит этот автор,
что врач должен возвращать людям здоровье;
следовательно, он должен сформулировать эту цель теми же
простыми словами, которыми пользуется его пациент («О
древней медицине», гл. 15 и 20, цитируется в разделе 6 ниже).
Некоторые врачи утверждали и многие люди верили, что
здоровье само по себе возвращается к больному
организму, а специалисты склонны тормозить этот процесс («Об
искусстве», гл. 5). В небольшом трактате «Закон» (глава 1),
относящемся, по-видимому, к четвертому столетию,
говорится, что медицина
...является наиболее важным из всех искусств, однако
вследствие невежества тех, кто ею занимается, и тех, кто
оценивает медицинскую практику, она ныне пользуется
наименьшим уважением. Главная причина этого, как мне кажется,
состоит в следующем: медицина является единственным
искусством, представителей которого мы можем оскорблять, но
недостойные люди не боятся оскорблений. Они похожи на
статистов в спектакле. Статисты имеют вид актеров, не будучи
актерами, и также обстоит дело с врачами: многие являются
врачами лишь по видимости и лишь очень немногие - по
существу (цит. по У. Джонс, [102], т. 2, с. 263).
Аристофан («Облака», 332 и ел.; см. В. Эренберг, [43])
зачисляет «знахарей» в одну группу с прорицателями, без-
62
Пол Фейерабенд
дельниками, «сочинителями дифирамбов» и «хитроумными
шулерами». Мы узнаем у него, что простые люди часто
предпочитают лечиться сами («Женщины на празднике Фесмо-
форий», 483); в своем «Богатстве» он пишет:
Где в своем городе ты можешь найти врача?
Оплата низкая и невелик результат их искусства.
Это было время, когда старые учреждения постепенно
изменялись и возрастающее число людей начинало
принимать участие в принятии важнейших политических
решений, включая решения относительно использования
специалистов.
«Одним и тем же лицам, - говорит Перикл в своей речи
над могилами воинов, - можно у нас и заботиться о своих
домашних делах, и заниматься делами государственными, да
и прочим гражданам, отдавшимся другим делам, не чуждо
понимание дел государственных. Только мы одни считаем не
свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто
вовсе не участвует в государственной деятельности. Мы сами
обсуждаем наши действия или стараемся правильно ценить их,
не считая речей чем-то вредным для дела; больше вреда, по
нашему мнению, происходит от того, если приступать к
исполнению необходимого дела без предварительного
обсуждения его в речи... Говоря коротко, я утверждаю, что все наше
государство - центр просвещения Эллады (Фукидид,
История, II, 40, рус. пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелева).
Формируясь в этом центре просвещения, афинские
граждане усваивали мнения, которые прошли длительный
путь адаптации, они были хорошо информированы и
сильно отличались от тех людей, о которых говорит Платон при
интерпретации R5. Не следует ли думать, что Протагор,
принимавший активное участие в этом процессе, подра-
Прощай, разум
63
зумевал именно это, когда формулировал свой принцип?
И напротив, не дают ли особые мнения Платона,
противоположные R5a, подходящий материал для критики в его
адрес? Эти соображения говорят о том, что R5 нужно
истолковывать менее точно и в соответствии с тем, что выше я
назвал вторым способом интерпретации принципов,
например так:
R5b: Законы, обычаи, факты, предлагаемые гражданам,
опираются в конечном счете на решения, убеждения,
восприятия людей, следовательно, должны ссылаться на (чувства и
мысли) людей, а не на абстрактные силы или каких-то
специалистов.
R5b является практичным и реалистичным. Он не
вводит искусственных событий, и упоминаемые в нем
ситуации зависят от рассматриваемых проблем. Например, если
мы говорим о законах государства, то вторая часть тезиса
указывает на то, что их «мерой» должны быть сами
граждане, а не боги или древние законодатели (которые
традиционно считались изобретателями этих законов и
единственным источником их авторитета). Если «важны» здоровье и
болезнь, то именно конкретный пациент, а не врач,
увлеченный абстрактной теорией, должен быть «мерой» своего
самочувствия. Само «измерение» больше уже не является
процессом сравнения сложной ситуации с идеями тех, кто
участвует в этой ситуации, оно включает в себя обучение
(167Ы и ел.). Конечно, одни пациенты могут слепо
держаться за свое невыраженное чувство благополучия, другие
могут покорно следовать предписаниям своего любимого
врача, но найдутся и такие, которые будут читать книги,
консультироваться у разных врачевателей и в конце концов
выработают свое собственное мнение. В политике одни
граждане могут прислушиваться к аргументам и доверять
64
Пол Фейерабенд
своим «благоприятным ощущениям», другие могут слушать
ведущих политиков и делать свои собственные выводы.
Согласно R5b, все это — те индивидуальные «меры» того,
что предлагается.
Три критических замечания Платона уже
неприменимы к R5b.
Первое критическое замечание теряет силу, поскольку
теперь «мнение» включает веру в мнение специалистов.
Второе критическое замечание справедливо для обществ,
подчиняющихся специалистам, — это согласуется с R5b.
Третье замечание рушится, поскольку будущие события в
интерпретации будущих поколений являются такими же
«мерами», как настоящие события в интерпретации
современных поколений: не существует полного и неизменного
знания по социальным и политическим вопросам. Подводя
итог, мы можем сказать, что основная критика Платона
опирается на чрезмерно узкую интерпретацию максимы
Протагора в соединении с догматической верой в
превосходство знаний специалистов.
Мое рассмотрение возражений Платона еще не
закончено. Платон обращался к специалистам не потому, что
они могли делать удивительные вещи, а потому, что у него
было объяснение их успехов: специалисты знали истину и
находились в контакте с реальностью. Не специалисты, а
истина и реальность являются окончательными мерами
успеха или провала. Божественные идеи, процедуры,
законы, согласно Платону, не являются ни
распространенными идеями, процедурами, законами, ни такими
вещами, которые поддерживаются авторитетом царей,
странствующих поэтов или специалистов. Божественные идеи,
процедуры, законы «включены в реальность» и истинны в
этом смысле. Посмотрим теперь, что может сказать R5 по
этому поводу.
Прощай, разум
65
4. Истина и реальность у Протагора
Различие между сущим и видимым, истинным и
ложным, фактами самими по себе и фактами, высказанными
или мыслимыми, было известной (хотя часто только
подразумеваемой) частью обыденного рассуждения задолго до
того, как Протагор сформулировал R5. «Как и в самом
современном понимании, так и у Гомера и Софокла человек,
высказывающий истину, говорит «то, что есть», а лжец
говорит обратное»35.
Философы-досократики, в частности Парменид,
уточнили это различие и в явном виде выразили дихотомию
истина—ложь. Вдобавок они сформулировали единое
истолкование того, что может быть названо существующим. Это
истолкование приходило в столкновение с
нефилософскими способами говорить «о том, что есть». С точки зрения
философов, это столкновение говорило о том, что здравый
смысл не способен достигнуть истины. Демокрит,
например, утверждал, что «(лишь) в общем мнении существует
сладкое, в мнении — горькое, в мнении — теплое, в
мнении — холодное, в мнении — цвет, в действительности же
(существуют только) атомы и пустота»36, в то время как
Парменид отвергал «пути людей» (Дильс—Кранц В1,27),
«многих» (В6, 7), которые, руководствуясь «многоопытным
навыком» (В7, 3), «мечутся, глухи и слепы равно, невнятные
толпы» (В6,6). Таким образом, утверждения «это красное»,
«это движется» и т.п., описывающие важные события в
жизни художников, врачей, полководцев, мореплавателей,
а также простых людей, были полностью исключены из
области истины.
Одной из целей Протагора, по-видимому, могло быть
восстановление прежнего статуса таких утверждений. «Вы
и я, — как будто говорит Протагор, — наши врачи,
художники, ремесленники знают много разных вещей, и мы жи-
3— 1509
66
Пол Фейерабенд
вем благодаря этому знанию. Теперь эти философы
называют наши знания мнениями, основанными на
бесхитростном опыте, и противопоставляют «многих», т.е. таких
людей, как мы, просвещенным немногим, т.е. самим себе и
своим странным теориям. Но нет, что касается истины, то
она находится с нами, в наших «мнениях» и «опытах», и
именно мы, «многие», а вовсе не абстрактные теории,
являемся мерой вещей»37. В этом смысле и следует
рассматривать ссылку Протагора («Теэтет», 152Ы и ел.) на «опыт»:
для Протагора «впечатления» не являются ни
техническими сущностями Платона, сконструированными для
критики R5 (156а2 и ел.), ни чувственно данным Айера; это то, на
что опираются обычные люди, оценивая свое окружение.
Для человека вещи являются теплыми или холодными,
когда он чувствует, что они теплые или холодные, а не когда
философ, руководствуясь какой-то теорией,
провозглашает наличие в них Тепла или Холода (абстрактных
«элементов» Эмпедокла). Замечания Протагора о математике (круг
не может касаться материальной линейки в одной
единственной точке — Аристотель, «Метафизика» 998а)
выражают ту же самую позицию: практические понятия
превосходят понятия, оторванные от человеческого действия
(современные конструктивисты рассуждают аналогичным
образом)38. Аргументы предыдущего параграфа («мера» зависит
от обстоятельств, мнения могут быть получены
чрезвычайно сложными способами) и данные соображения
показывают, что Протагор возвращается к обыденным способом
обоснования истины и защищает их от абстрактных
претензий своих предшественников. Однако это еще не все.
Разговор об истине был связан с совершенно
неприемлемой для здравого смысла идеей ложности. Согласно «Эв-
тидему» 286с и «Теэтету» 167а7 и ел., Протагор полагает
невозможным (пытаясь высказать истину) высказать ложное
утверждение. По-видимому, такое учение было связано с
Прощай, разум
67
идеей, восходящей к Пармениду (В 2, 8; В 8, 7) и развитой
Горгием («О природе»), — идеей о том, что ложные
утверждения ни к чему не относятся и, следовательно, ничего не
говорят: восприятия и мнения, будучи мерами истины,
непогрешимы, поэтому миры, воспринимаемые и
описываемые разными индивидами, группами, народами, в равной
степени реальны. Однако они не являются равно хорошими и
благоприятными (для тех, кто в них живет). Больной
человек живет в мире, где все вещи кажутся на вкус кислыми и,
следовательно, являются кислыми (166е2 и ел.), но он
несчастлив в этом мире. Члены расистского общества живут
в мире, в котором все граждане разбиты на обособленные
группы, одни из которых отличаются благожелательностью
и стремлением к созиданию, а для других характерны
враждебность и паразитизм. Но жизнь их не будет удобной и
спокойной. В любом случае возникает желание изменений. Как
они могут быть осуществлены?
Согласно Протагору, изменение начинает мудрец (166dl
и ел.). Он не может превратить ложь в истину или
видимость в реальность, но может неудобную, болезненную и
угрожающую реальность сделать лучше. Как врач со своей
медициной изменяет реальное, но болезненное состояние
индивида на столь же реальное, но уже более приятное
состояние (того же или изменившегося индивида), точно так
же и мудрец с помощью слов изменяет бедственное и
пагубное состояние (индивида или всего общества) на
благоприятное состояние. Заметим, что согласно этому подходу,
именно индивид или общество, а не мудрец, оценивают
успех произведенного изменения. Отметим также, что эта
оценка, оказывая влияние на самого мудреца, может
улучшить его собственное умение и сделать его мудрее. И
наконец, в демократическом обществе в качестве «мудреца»
выступает само сообщество граждан, представленное
общим собранием. То, что говорит это собрание, является
68
Пол Фейерабенд
одновременно и истиной сообщества и инструментом его
изменения, а реальность, возникающая в результате его
деятельности, оказывается инструментом изменения
процедур и мнений собрания. Вот так теорию истины и
реальности Протагора можно использовать для объяснения
функционирования непосредственной демократии.
Воззрения Протагора интересно сравнить с более
знакомыми нам формами философского и научного
объективизма. Объективизм утверждает, что каждый человек,
независимо от его восприятий и мнений, живет в одном и том
же мире. Группы специалистов (астрономы, физики,
химики, биологи) изучают этот мир, другие специальные
группы (политики, промышленники, религиозные лидеры)
внушают, что люди могут жить в нем. Сначала производители
объективной реальности следуют за полетом своей
фантазии, затем социальные инженеры связывают
получившиеся результаты с потребностями и желаниями широких масс,
т.е. с той реальностью, о которой говорил Протагор. Про-
тагор эти две процедуры соединял в одну: изучение
«реальности» (говоря языком объективиста) осуществлялось в
попытках непосредственно удовлетворить желания людей;
мысль и чувство действовали совместно (и, возможно, даже
не отделялись друг от друга). Мы могли бы сказать, что у
Протагора был инженерный подход, в то время как
объективисты, которые отделяют теорию от практики, мысль от
чувства, общество от природы и проводят тщательное
различие между объективной реальностью, с одной стороны,
и чувственным восприятием и повседневной жизнью — с
другой, вводят значительное количество метафизических
элементов. Пытаясь изменить свое окружение так, чтобы
оно все больше походило на эту реальность (и чтобы им
было более комфортно), объективисты поступают как
чистые последователи Протагора, но не как протагоровский
мудрец. Для того чтобы стать мудрыми, они должны «реля-
Прощай, разум
69
тивизировать» свой подход. Многое указывает на то, что они
уже движутся в этом направлении.
Начать с того, что объективисты строят не один мир, а
несколько. Конечно, некоторые из этих миров более
популярны, чем другие, однако это обусловлено
предпочтением определенных ценностей (в дополнение к
объективности, см. раздел 2), а не собственными преимуществами
миров: измерения оцениваются выше качественных
характеристик, поскольку технологические изменения ценятся
выше, нежели гармоничное приспособление; законы
природы ценятся выше, чем божественные принципы,
поскольку действуют более единообразно, и т.д. Плюрализм
проникает и в науку, в которой, наряду с высоко
ценимыми экспериментальными дисциплинами, скажем,
молекулярной биологией, существуют и презираемые
качественные дисциплины, такие как ботаника и реология.
Наиболее фундаментальная наука, физика, так и не смогла до сих
пор дать нам единое понимание пространства, времени и
материи. Следовательно, все, что мы имеем (если отвлечься
от помпезных обещаний и хвалебных популяризации), — это
многообразие подходов, опирающихся на разные модели и
успешных в ограниченных областях, т.е. чисто протагоров-
скую практику.
Во-вторых, переход от конкретной модели к
практическим вопросам часто требует столь больших модификаций,
что было бы лучше говорить о совершенно новом мире.
Промышленность различных стран подтверждает это
предположение, организуя собственные исследования за
рамками университетов и инженерных школ и разрабатывая
методы, более подходящие для собственных нужд.
Социальные программы, экологические исследования, отчеты о
технологических проектах часто выявляют проблемы,
которые не способна решить ни одна из существующих наук.
Те, кто занимается подобными проблемами, вынуждены
70
Пол Фейерабенд
прибегать к экстраполяциям, перешагивать сложившиеся
рамки или разрабатывать совершенно новые идеи для
преодоления границ специализированного знания. В-третьих,
объективистские подходы, в частности, в вопросах
здоровья, сельского хозяйства и социальных преобразований
оказываются успешными только в том случае, если
втискивают реальность в свои образцы; после этого искалеченные
общества начинают проявлять следы навязанных
образцов. Опять-таки это подлинно протагоровский образ
действий, но только цепь воздействий имеет обратное
направление: исходными являются оценки ученых, а не людей,
испытывающих воздействие. В-четвертых,
вмешательство часто нарушает тонкий баланс целей и средств,
поэтому приносит больше вреда, чем пользы. Теперь это
признают сами апологеты «развития». В своем исследовании
«Конституция свободы» ([91], с. 54) Ф. фон Хайек
проводит различие между тем, что он называет «двумя разными
традициями в теории свободы», «одна из которых
является эмпирической и несистематичной, а другая —
спекулятивной и рационалистичной. Первая опирается на
интерпретацию традиций и институтов, которые возникли
спонтанно, но не были поняты в достаточной степени; вторая
стремится к построению некоторой утопии, что часто
пытались осуществить, но всегда безуспешно». Он объясняет,
почему первую традицию следует предпочесть второй. Но как
раз первая традиция тесно связана с позицией Протагора,
согласно которой «видимость» отображает отчасти
осознаваемую, отчасти незаметную приспособляемость к
природе текущего момента. Если споры играют важную роль в
адаптациях и если они осуществляются в собрании
свободных граждан — так, что каждый имеет право действовать
как «мудрец», — то мы получаем то, что я буду называть
демократическим релятивизмом. В следующем разделе я
Прощай, разум
71
постараюсь описать эту форму общества несколько более
подробно. Однако сначала я хочу высказать несколько
замечаний о понятии спора.
Одно из главных возражений против позиции Протаго-
ра заключается в том, что разные протагоровские миры не
могут столкнуться между собой, следовательно, споры
между их представителями невозможны. Для внешнего
наблюдателя это может быть верным, однако это неверно для
самих участников, которые, чувствуя конфликт, могут начать
перебранку, не задаваясь вопросом о ее возможности.
Участники спора (назовем их А и В) не обязаны принимать
какие-то общие элементы (значения, интенции, суждения),
которые можно выделить из их взаимодействия и
проверить, независимо от той роли, которую они в нем играют.
Даже если бы такие элементы существовали, все еще
оставался бы вопрос о том, каким образом, находясь вне жизни
людей, они могли бы войти в нее и воздействовать на нее
так, как утверждения, тезисы или убеждения воздействуют
на сознание и действия участников спора. Нужно лишь,
чтобы у А было впечатление, что В имеет с ним нечто
общее, знает об этом и действует соответствующим образом;
чтобы семантик С, анализируя взгляды А и В, мог
разработать теорию того, что у них общего и как это общее
воздействует на коммуникацию; чтобы А и В, читая написанное
С, чувствовали, что он прав. В действительности же
требуется еще меньше: А и В не обязательно должны признавать
написанное С, при этом С может существовать и
пользоваться уважением, если кто-то ценит его идеи. В конце
концов, репутации создаются и уничтожаются благодаря тому
впечатлению, которое одни люди производят на других.
Апелляция к высшему авторитету является пустым звуком,
пока авторитет не присутствует в сознании того или
другого индивида.
72
Пол Фейерабенд
5. Демократический релятивизм
Тезис R5, интерпретируемый как R5b, имеет гораздо
большее значение, чем могли бы нам сказать философские
«пояснения». Он может направлять деятельность людей в
их отношениях с природой, социальными учреждениями и
друг с другом. Для того чтобы показать это, я обращусь
сначала к истории.
Большинство сообществ, жизнь которых зависит от
тесного сотрудничества разнородных групп, имеют
экспертов — людей, обладающих специальными знаниями и
умениями. По-видимому, охотники и собиратели
обладали всеми знаниями и умениями, необходимыми для
выживания. Длительное развитие охоты и земледелия привело к
разделению труда и появлению социального контроля. Так
появились специалисты: герои Гомера были
специалистами проведения военных операций; правители, подобные
Агамемнону, знали к тому же, как объединить разные
племена для достижения единых целей; врачи умели
залечивать раны, прорицатели истолковывали предзнаменования
и предсказывали будущее. Социальное положение
специалистов не всегда соответствовало важности их функций.
Воины могли быть слугами общества, призываемыми во
времена опасности, однако не обладавшими никакой властью
в периоды мира; с другой стороны, они могли быть его
господами, формируя его в соответствии со своей военной
идеологией. Ученые когда-то пользовались не большим
влиянием, чем лудильщики, в наши дни обширные области
общественной жизни несут на себе отпечаток их воззрений.
Специалисты существовали в Египте, Шумере, Вавилоне,
Ассирии, у хеттов, финикийцев и многих других народов,
населявших Древний Ближний Восток. Они играли важную
роль в доисторическую эпоху, как показывают
сохранившиеся остатки астрономии и математики каменного века,
Прощай, разум
73
открытые в последние годы. Первые свидетельства об
обсуждении проблемы специального знания дошли до нас из
Древней Греции. Они относятся к V—IV векам до н.э. и
принадлежат софистам, Платону и Аристотелю.
Это обсуждение предвосхитило наши современные
проблемы и позиции. В ходе его идеи высказывались просто и
прямо, они не были затемнены бесполезными
техническими ухищрениями современных интеллектуалов. Все мы
можем чему-то научиться у этих старых мыслителей, что-то
почерпнуть из их аргументов и точек зрения.
Дискуссия древних мыслителей выходила далеко за
рамки специальных областей, таких как медицина или
навигация; она затрагивала вопросы достойной жизни и
правильной формы правления: должен ли управлять государством
традиционный авторитет, например царь, или совет
политических специалистов, а может быть, управление должно
быть делом всех?
В ходе дискуссии возникли две точки зрения. Согласно
первой, специалист — это человек, производящий важное
знание и обладающий важным умением. Его знание и
мастерство не может быть подвергнуто сомнению или
вмешательству неспециалистов. Они должны быть приняты
обществом в том виде, в котором их предлагает специалист.
Высшие священнослужители, короли, архитекторы, врачи
усматривали свою функцию именно в этом, и некоторые
сообщества с этим соглашались. В Греции (Афины, V век
до н.э.) такая точка зрения служила предметом насмешек39.
Представители второй точки зрения указывали на то,
что специалисты, стремясь к получению результатов, часто
ограничивают поле своего зрения. Они рассматривают не
все явления, а только те, которые относятся к особой
области, и изучают не все аспекты этих особых явлений, а
только те, которые имеют отношение к их конкретной задаче.
Следовательно, было бы ошибочно рассматривать идеи спе-
74
Пол Фейерабенд
циалистов как «истинные» или как «реальные», не
предпринимая дальнейших исследований, выходящих за рамки их
узких интересов. И было бы столь же ошибочно вводить эти
идеи в общественную жизнь без полной уверенности в том,
что профессиональные цели специалистов совпадают с
целями общества. Даже политиков нельзя оставлять без
контроля, так как, несмотря на то что они имеют дело с
обществом в целом, они обычно руководствуются партийными
интересами и предрассудками и редко опираются на то, что
можно было бы считать «истинным знанием».
Согласно мнению Платона, который придерживался
описанной точки зрения, дальнейшие исследования
являются задачей суперэкспертов, а именно философов.
Философы определяют, что такое знание и что является благом
для общества. Многие интеллектуалы с удовольствием
принимают этот авторитарный подход. Они могут клясться в
своей любви к людям, они могут говорить об «истине»,
«разуме», «объективности» и даже о «свободе», однако на
самом деле они рвутся к власти, чтобы переделать мир по
своим собственным образцам. Нет оснований предполагать,
что эти образцы будут менее ущербными и
односторонними, чем те идеи, которые они призваны контролировать,
они тоже нуждаются в проверке. Но кто будет
осуществлять эту проверку? И как можем мы быть уверены в том,
что авторитет, которому мы доверим эту проверку, не
навяжет нам своих собственных ограниченных концепций?
Ответ, даваемый демократическим подходом (в
поясненном выше смысле), возникает в конкретных исторических
условиях. «Естественные» общества «растут» без
сознательного планирования со стороны тех, кто в них живет.
Главные перемены в Греции, как в отдельных областях, так и в
обществе в целом, постепенно становились предметом
обсуждения и явной реорганизации. Афинская демократия во
времена Перикла заботилась о том, чтобы каждый свобод-
Прощай, разум
75
ный гражданин мог принимать участие в дебатах и отстаи-
ватьлюбую позицию. Нам неизвестны шаги, которые
привели к столь специфическому типу адаптации, и нельзя
сказать, что это движение было благоприятным во всех
отношениях. Некоторые трудности, смущающие нас сегодня,
говорят о том, что споры и «рациональные рассуждения»
не являются универсальной панацеей, что они могут быть
слишком поверхностными и не улавливать более тонких
угроз нашему существованию, что могут существовать
лучшие способы устройства нашей жизни40. Однако общества,
принимающие это и соответствующим образом
определяющие свободу и достойную жизнь, не могут исключить ни
одного мнения, сколь бы странным оно ни казалось. Тогда
о чем ведутся политические споры? О потребностях и
желаниях граждан. А кто лучше, чем сами граждане, может
судить об этих потребностях и желаниях? Это же абсурд —
сначала провозгласить, что общество служит интересам «людей»,
а затем предоставить каким-то ограниченным экспертам
(либералам, марксистам, фрейдистам, социологам
всяческих направлений) решать, в чем «действительно» нуждаются
«люди». Конечно, широко распространенные желания
учитываются: доступ к ресурсам, намерения соседей, их
вооружения, их политика. Учитывается даже возможность того,
что сильные народные стремления и отвращения являются
бессознательными и выявляются только специальными
методами. Согласно Платону и его современным
последователям (ученым, политикам, лидерам бизнеса), именно здесь
возникает необходимость в советах эксперта. Однако
эксперты столь же плохо разбираются в таких
фундаментальных вопросах, как и те, которые обращаются к их советам, и
разнообразие их рекомендаций столь же велико, как и
разнообразие общественных мнений41. Они часто совершают
прискорбные ошибки. Кроме того, они никогда не
принимают во внимание всех аспектов жизнедеятельности людей,
76
Пол Фейерабенд
а рассматривают только те из них, которые охватываются их
специальностью. Интересы же специальности часто весьма
далеки от тех проблем, с которыми сталкиваются граждане.
Именно граждане могут точно оценить недостатки
предлагаемых им решений и принять меры для их устранения42.
Каждый судебный процесс с участием присяжных дает
примеры ограниченности и противоречивости, свойственных
оценкам экспертов, что побуждает присяжных
руководствоваться здравым смыслом в распутывании неясных дел.
Граждане демократического общества, мог бы сказать Про-
тагор, выражая политические идеи Афин времен Перикла
(общество того периода значительно отличалось от
подавленного наукой общества наших дней и было гораздо
менее ограниченным), усваивали такие уроки не раз и не два
в своей жизни, а каждый день. Они жили в государстве — в
небольшом городе, — в котором информация свободно
передавалась от одного человека к другому. Причем они не
просто жили в этом государстве, они также руководили его
деятельностью: они обсуждали наиболее важные вопросы
в народном собрании и иногда вступали в споры; они
принимали участие в судебных процессах и в состязаниях
художников; они оценивали произведения писателей,
которые ныне считаются величайшими драматургами
«цивилизованного человечества» (Эсхил, Софокл, Еврипид,
Аристофан — все состязались за общественное признание); они
начинали и прекращали войны и экспедиции; они
выслушивали и проверяли отчеты полководцев, мореплавателей,
архитекторов, торговцев; они решали вопросы помощи
другим государствам, приветствовали чужеземных
посланников, выслушивали и вступали в споры с софистами,
включая словоохотливого Сократа, и т.д. Они постоянно
прибегали к помощи экспертов, однако лишь выслушивали их
советы, а окончательное решение всегда принимали сами.
Согласно Протагору, граждане обретают знание в ходе это-
Прощай, разум
77
го стихийного, но богатого, сложного и активного
процесса научения (обучение здесь не отделено от жизни, а
включено в самую ее ткань: граждане обучаются, выполняя
обязанности, необходимые для приобретения знаний),
предполагающего обсуждение и решение всех проблем
общественной жизни, включая и наиболее сложные специальные
проблемы. Рассматривая конкретную ситуацию (скажем,
опасность аварии на ядерном реакторе, если взять
современный пример), граждане будут вынуждены, конечно,
изучить какие-то новые вещи, но одновременно они
приобретут способность усваивать новое и, что еще важнее, они
станут обладать более широким взглядом, который
позволит им точно оценивать достоинства и ограниченность
предлагаемых решений. Конечно, граждане будут порой
совершать ошибки, ибо никто от них не застрахован, и
будут страдать от этих ошибок. Однако благодаря этому они
будут становиться мудрее, в то время как ошибки
экспертов приносят вред всем, а просвещают лишь немногих
избранных. Мы можем суммировать эти соображения в виде
следующего тезиса:
R6: Сами граждане, а не какие-то особые группы, должны
решать, что истинно или ложно, что полезно или бесполезно
для их сообщества.
Таков краткий очерк идей, которые можно найти у
Протагораи в Афинах эпохи Перикла. Позицию, которую
они представляют, я буду называть демократическим
релятивизмом.
Демократический релятивизм есть форма релятивизма;
он говорит, что разные полисы (разные сообщества) могут
по-разному смотреть на мир и считать приемлемыми
различные вещи. Он демократичен, ибо важнейшие
положения обсуждаются (в принципе) и принимаются всеми граж-
78
Пол Фейерабенд
данами. Демократический релятивизм можно
рекомендовать, в частности, для нас, для Запада, однако это отнюдь
не единственный способ жизни. Многие общества
построены иначе, тем не менее и они дают возможность жить
своим членам (см. комментарий по поводу R2, а также
примеч. 40).
У демократического релятивизма были интересные
предшественники, в частности «Орестея» Эсхила: Орест мстит
за своего отца, выполняя закон Зевса, защищаемый
Аполлоном. Чтобы отомстить за отца, Орест должен убить свою
мать; это обращает на него гнев Эвменид, которые
наказывают за убийство кровных родственников. Орест спасается
от них и ищет защиты у алтаря Афины. Для разрешения
проблемы, возникшей вследствие столкновения разных
моральных норм, Афина предлагает устроить «рациональный спор»
между Аполлоном и Эвменидами с участием Ореста. Этот
спор включает в себя обсуждение вопроса о том, является
ли мать кровной родственницей. Эвмениды настаивают на
том, что так оно и есть, поэтому Орест, виновный в
убийстве кровного родственника, должен понести наказание.
Аполлон не согласен с этим: мать обеспечивает ребенка
теплом, защитой, пищей, но она не вносит в ребенка своей
крови (такая точка зрения держалась довольно долго).
Сегодня этот спор был бы разрешен с помощью
эксперимента и оценки экспертов: эксперты отправились бы в свои
лаборатории, а Аполлон, Орест и Афина остались ждать их
заключения. У Эсхила вопрос решается путем голосования:
суд афинских граждан получает информацию и
высказывает свое мнение. Голоса разделяются поровну, после чего
Афина подает свой голос в пользу Ореста (сама она не была
рождена матерью), и Орест освобождается от мести
Эвменид. Но Афина объявляет также, что их мировоззрение не
будет полностью отброшено: государству нужны все эле-
Прощай, разум
79
менты, обеспечивающие его развитие, и оно не может
позволить себе потерять ни один из них. Да, теперь
существуют новые законы и новая мораль — законы Зевса,
выраженные Аполлоном. Однако эти законы не отменяют того,
что было прежде. Они вступают в силу при условии, что
будут сосуществовать со своими предшественниками. Таким
образом, законы и обычаи, распространенные до
Геродота, сохраняли свою значимость, но были ограничены для
того, чтобы дать место другим, столь же важным законам и
обычаям. (Обратите внимание на сходство с философией
Милля, охарактеризованной в примеч. 25 и тексте).
Демократический релятивизм не исключает поиска
объективности, т.е. независимой от мышления, восприятия и от
общества реальности. Он приветствует исследования,
направленные на обнаружение объективных фактов, но
контролирует их посредством (субъективного) общественного
мнения. Таким образом, он не согласен с тем, что
демонстрация объективности некоторого результата означает
демонстрацию того, что он обязателен для всех. Объективизм
рассматривается как одна из традиций среди многих
других, а не как базисная структура общества. Нет оснований
беспокоиться по этому поводу и опасаться, что это
уничтожит важные достижения. Ибо, несмотря на то что
объективисты открыли, описали и представили ситуации и факты,
которые существуют независимо от акта открытия, они не
могут гарантировать того, что эти ситуации и факты не
зависят также и от всей традиции, которая привела к их
открытию (см. раздел 9). Кроме того, даже наиболее
обоснованные (и высоко оплачиваемые) применения того, что
многие западные интеллектуалы считают наиболее
передовыми вариантами объективного исследования, до сих пор
так и не смогли дать нам единую идею универсальной и
объективной истины. Есть хвастливые обещания, есть на-
80
Пол Фейерабенд
доедливое утверждение уже достигнутого, нов
действительности мы имеем перед собой разрозненные области
познания, напоминающие тот конгломерат различных сведений,
который так живо описал Геродот в своей истории.
Физика, эта предполагаемая основа химии и даже биологии,
распадается по крайней мере на три принципиально разных
области: область очень больших величин, где правит
гравитация и признается общая теория относительности
Эйнштейна (в ее разнообразных модификациях); область
чрезвычайно малых величин, где действуют ядерные силы и все
еще нет сколько-нибудь общей теории («великой единой
теории», или «теории всего», которая, согласно мнению
Геллмана, «не является ни великой, ни единой; можно даже
сказать, что это вовсе не теория, а просто красивая
модель»); наконец, промежуточная область, в которой
господствует квантовая теория. За пределами физики у нас
есть качественное знание, включающее в себя здравый
смысл и части биологии, химии, геологии, еще не
редуцированные к «фундаментальной науке» данного момента.
Теории или точки зрения, определяющие процессы во всех
этих областях, либо сталкиваются между собой, либо
вообще теряют смысл, когда им пытаются придать
универсальный характер, т.е. предполагают, что они верны при
всех обстоятельствах. Следовательно, мы можем либо
интерпретировать их как простые инструменты для
предсказаний, не имеющие отношения к истине и к реальности,
либо можем сказать, что они «истинны для» специальных
областей, определяемых конкретными вопросами,
процедурами, принципами. С другой стороны, мы можем
сказать, что одна теория отображает фундаментальную
структуру мира, а все другие имеют дело с вторичными
явлениями. В этом случае мерой истины становится скорее
спекуляция, а не эмпирическое исследование. Плюрализм
сохраняется, но поднимается на метафизический уровень.
Прощай, разум
81
Используя стиль Геродота, мы можем подвести итог
следующим образом:
R7: Мир, описываемый нашими учеными и
антропологами, состоит из (социальных и физических) областей со
своими специфическими законами и концепциями реальности.
В социальной области у нас есть относительно устойчивые
сообщества, которые продемонстрировали способность к
выживанию в своем собственном окружении и обладают
большими адаптивными возможностями. В физической области мы
имеем разные точки зрения, имеющие значение в различных
сферах, но неприменимые за пределами этих сфер.
Некоторые из этих точек зрения разработаны более тщательно - это
наши научные теории; другие проще, но обладают большей
общностью, - это различные философские или основанные
на здравом смысле концепции, влияющие на
конструирование «реальности». Попытка навязать некую универсальную
истину (универсальный способ нахождения истины)
приводит к бедствиям в социальной сфере и к бессодержательному
формализму, соединенному с невыполнимыми обещаниями,
в естествознании.
Заметим, что R7 нельзя считать универсальной истиной.
Это утверждение, высказанное в рамках конкретной
традиции (западной интеллектуальной дискуссии, ведущей к
научному результату), разъясняемое и защищаемое (более
или менее полно) в соответствии с правилами этой
традиции и указывающее на то, что эта традиция противоречива.
Данное утверждение не представляет интереса для пигмеев
или последователей Лао Цзы (хотя последние могли бы
изучать его как исторический феномен). Отметим также, что
части R7 зависят от специальной оценки знания:
предполагается, что квантовая механика и теория
относительности дают в равной мере важное, в равной мере успешное и
приемлемое понимание материального мира. Некоторые
82
Пол Фейерабенд
критики (и среди них Эйнштейн) оценивали ситуацию
иначе. Они считали, что релятивистская физика
приближается к основе вещей, в то время как квантовая теория
представляет собой хотя и важную, но в высшей степени
неудовлетворительную прелюдию к построению более
фундаментальной концепции. Эти физики отвергают R7 и настаивают
на том, что универсальные теории уже существуют. Как я
уже сказал выше, это вводит метафизические предположения,
которые связывают объективность с субъективной оценкой
результатов познания. Опять-таки существует много таких
подходов (среди них и ортодоксальный подход), а это
означает, что плюрализм трансформируется (поднимается на
метафизический уровень), но не устраняется. В следующем
разделе я выскажу некоторые комментарии об
особенностях этого спора.
Демократический релятивизм не является той
философией, которой руководствуются современные
«демократии»: здесь власть делегирована далекому центру, важные
решения принимаются экспертами или «представителями
народа», но не самим «народом». Тем не менее он
способен дать западным интеллектуалам хорошую отправную
точку для улучшения их собственной жизни и жизни их
последователей (это хороший отправной пункт для развития
гражданской инициативы). Он поощряет споры,
аргументацию и опирающиеся на них социальные преобразования.
Это и конкретная политическая позиция, хотя она,
конечно, не обязательно превосходит более интуитивные
воззрения «примитивных» сообществ. Однако, поскольку
она приглашает к сотрудничеству всех, она помогает
открыть, что в мире есть много способов существования,
что люди имеют право жить так, как им нравится, и
только на этом пути они могут добиться счастливой и
полнокровной жизни43.
Прощай, разум
83
6. Истина и реальность: исторический взгляд
В предыдущих разделах осталась неуточненной природа
взаимодействия между культурами. Например, ничего не было
сказано об условиях, налагаемых на изучение других культур,
и о возможных выгодах взаимодействия между ними,
упомянутых в R1. В разделе 5 было показано, что это является
существенной частью демократического подхода: если члены
какого-то племени, культуры или цивилизации чувствуют, что
взаимный обмен им выгоден и жизнь их благодаря этому
улучшается, то это уже решает дело; культурный обмен приносит
пользу его участникам, а не тем, кто стоит в стороне
(исключая случаи, когда обмен приводит к войне).
Многие интеллектуалы с этим не согласны. Они
предупреждают нас о том, что кажущиеся огромные
преимущества, которые якобы обмен приносит его участникам, на
самом деле могут оказаться прискорбными ошибками.
Такого рода предупреждения едва ли необходимы. Нет
общества, у которого не было бы понятия об ошибках и
способах их обнаружения и исправления. Однако
интеллектуалы определяют ошибки специфическим образом; они
определяют их, ссылаясь не на (стандарты и способы той)
формы жизни, в которой они встречаются, а на сравнение с
независимыми от общества «реальностью», «рациональностью»
или «истиной». Опираясь на эти мерки, они осуждают
целые культуры как основанные на иллюзиях и
предрассудках. Философские (в отличие от практических) варианты
релятивизма пытаются противодействовать этому либо с
помощью релятивистского анализа истины, реальности и
рациональности, либо посредством изобретения
альтернативных понятий. Излишне говорить о том, что они
являются более сложными. В разделе 4 я рассмотрел некоторые
древние подходы к решению этой проблемы. Теперь я
добавлю к этому некоторые исторические комментарии.
84
Пол Фейерабенд
Подобно многим другим понятиям, которые были
усвоены и трансформированы духовными лидерами
(пророками, учеными, философами, болтливыми
интеллектуалами), идеи истины, реальности и рациональности имеют
прекрасный практический смысл.
Например, высказывать истину обычно означает
высказывать то, что произошло в конкретной ситуации; это
означает «говорить так, как есть» (см. раздел 4). У
спрошенного человека может отсутствовать необходимая
информация, тогда он ответит: «Я не знаю» или «Я не могу ответить».
Однако существуют случаи, когда человек был очевидцем
и мог бы дать ответ, поэтому его правильно называют
лжецом, если он говорит, что не знает. Однако такие случаи, в
свою очередь, могут быть подвергнуты сомнению:
идентифицируемый индивид может оказаться двойником и
свидетель может видеть отображение в зеркале, а не реального
человека, и т.д. Тем не менее требование «высказывать
истину» истолковывается в смысле высказывания о реальных
вещах, несмотря на все иллюзии, которые может вызвать
изобретательный маг.
Например, имеет смысл говорить, что комната, в
которой я сейчас нахожусь, реальна, но комната, в которой я
вчера во сне видел слона, ехавшего верхом на воробье, не
реальна. Конечно, сон не является ничем; он может иметь
важные последствия для самого дремлющего и для других
(сны королей иной раз решали вопросы войны и мира,
жизни и смерти). Но воздействие сновидения на
бодрствующий мир отличается от воздействия воспринимаемого
события; некоторые культуры выражают это различие,
говоря, что события сновидения не являются «реальными».
Понятие реальности, лежащее в основе этого
разграничения, нельзя выразить простым определением. Радуга
кажется вполне реальным явлением. Ее можно видеть,
рисовать, ее можно фотографировать. Однако мы не можем вой-
Прощай, разум
85
ти в нее. Это говорит о том, что она не похожа на стол. Она
не похожа также на облако, ибо облако не меняет своего
местоположения вместе с движением наблюдателя, как это
происходит с радугой. Открытие того, что причиной
радуги является отражение и преломление света внутри
водяных капель, вместе с объяснением ее особенностей
возвратило ей по крайней мере часть реальности облака: великое
разделение реального/нереального оказалось слишком
упрощенным для того, чтобы охватить сложности нашего
мира. Существует множество разных типов событий, и
«реальность» лучше всего приписывать событиям вместе с
некоторым типом, а не абсолютно. Но это означает, что нам
нужны только эти типы и их взаимоотношения, а с
«реальностью» лучше распрощаться.
Воззрения здравого смысла (здравый смысл племен;
обыденные понятия в современных языках) строятся как
раз в соответствии с этим. Они содержат тонко
разделенные онтологии, включающие в себя духов, сновидения,
битвы, идеи, богов, радугу, боль, минералы, планеты,
животных, празднества, справедливость, судьбу, болезни,
разводы, небеса, смерть, страх и т.д. Каждая сущность ведет
себя специфическим образом и, хотя следует некоторому
образцу, постоянно раскрывает новые и неожиданные
свойства, поэтому не может быть подведена под какую-то
формулу; она воздействует и сама подвергается воздействиям
со стороны других сущностей и процессов, образующих
богатый и разнообразный мир. В таком мире вопрос о том,
что «реально», а что «нереально», даже не встает; это
вообще не считается подлинным вопросом. Настоящей
проблемой будет: что появляется, в какой связи, кто был или мог
быть введен в заблуждение каким-то событием и как?
«Проблема реальности» возникает тогда, когда
элементы сложных миров такого рода подводятся под
абстрактные понятия, а затем оцениваются, т.е. объявляются «ре-
86
Пол Фейерабенд
альными» л ибо «нереальными». Это не результат более
тонких способов мышления; такие оценки появляются
вследствие того, что тонкие вещи сравниваются с грубыми
идеями и проявляют отсутствие грубости.
Можно объяснить, почему грубые идеи обладают
превосходством; особые группы хотели создать новую
племенную идентичность или сохранить существующую
идентичность среди богатого и разнообразного культурного
ландшафта; для этого они вырезали крупные куски этого
ландшафта и либо игнорировали их существование, либо
объявляли их дьявольскими. Первая операция подобного
рода была осуществлена израильтянами во времена Моисея
(монотеизм), вторая — ранними христианами. Для
некоторых гностиков весь «материальный мир» (уже чрезвычайно
большое упрощение) был заражен злом. Грубые идеи
способны приводить к ограниченным успехам; это
вдохновляет их защитников и закрепляет их способ мышления
(взгляните, например, на энтузиазм многих ученых по поводу
количественных методов и их презрение к качественным
соображениям): онтологические тонкости кажутся
излишеством, когда речь идет о выживании племени или
религиозной группы либо о репутации хорошо оплачиваемой
профессии44.
«Подъем рационализма» в Древней Греции служит
ярким примером попытки преодолеть, обесценить и устранить
сложные формы мышления и опыта. Получив в свое
распоряжение некоторые подробности, мы замечаем, что это
был не простой и единый процесс. Он включал в себя
различные потоки, которые, постепенно усиливаясь, вызвали
крупные исторические изменения. Наиболее очевидными
интеллектуальными проявлениями этого изменения были
взгляды таких мыслителей, как Анаксимандр, Гераклит,
Ксенофан и Парменид. Эти мыслители оказали влияние на
историю не благодаря власти своих идей, а вследствие об-
Прощай, разум
87
шей тенденции к обобщению и абстрагированию. Без
какого-либо воздействия со стороны философов «слова...
стали беднее по своему содержанию, они превратились в
плоские и пустые формулы»45. Эта порча языка заметна уже у
Гомера; в еще большей мере она проявляется у Гесиода и
становится вполне очевидной у ионийских
натурфилософов, у историков, например, у Гекатея, а также у
(эпических, трагических, лирических, комических) поэтов. В
политической жизни объединения соседей сменяются
абстрактными группами в качестве единиц политического
действия, в экономике деньги вытесняют бартер, отношения
между военными вождями и воинами становятся все более
безличными и формальными, жизнь в целом все дальше
уходит отличных взаимоотношений, и термины,
включающие такие отношения, либо теряют свое содержание, либо
вовсе исчезают. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что крайние взгляды ранних философов нашли
последователей и оказались способны породить традицию.
Дальнейший толчок был дан открытием (которое, по-
видимому, было сделано в период между Ксенофаном и
Парменидом), что высказывания, состоящие из понятий,
можно использовать для построения рассказов нового типа,
вскоре названных доказательствами, чья истинность
«следует из» их внутренней структуры и не нуждается в
поддержке традиционных авторитетов. Это открытие было
истолковано как свидетельство того, что знание может быть
отделено от традиций и сделано «объективным». Культурное
разнообразие, как я отметил во введении, создает
разнообразие реакций — от страха и отвращения до любопытства и
желания учиться — и порождает множество учений — от
крайних форм ксенофобии и догматизма до столь же
крайних форм релятивизма и оппортунизма. Кажется, что
появление доказательств (или более слабых, но столь же
«рациональных» способов аргументации) уничтожает эту смесь:
88
Пол Фейерабенд
по-видимому, все, что остается, это принять доказанное и
отвергнуть все остальное, — и истина обнаружилась бы
независимо от культуры.
Ведущим представителем этой точки зрения был Пар-
менид. В поэме, которая излагает его идеи, он проводит
различие между двумя процедурами или двумя «путями», как
он их называет. Один, опирающийся на «богатую опытом
привычку», т.е. на традиционные формы познания,
содержит «мнения смертных»; второй, «далекий от следов
людей», т.е. независимый от традиций, ведет к тому, что
«необходимо». Согласно Пармениду, второй путь не есть
некая традиция, он превосходит все традиции46. Многие
ученые рассматривают свою деятельность похожим образом.
Эта точка зрения очевидно ошибочна.
Можно согласиться с тем, что абстрактные понятия и
принципы гораздо легче соединить, нежели практические
(эмпирические) понятия. Аргументы Парменида,
парадоксы Зенона, говорящие о точках и линиях, о разделении, о
частях и целом, и аргументы Платона, изложенные в
диалоге «Парменид», показывают, что из идей, не
обремененных частностями, можно строить удивительные воздушные
замки. Однако тот факт, что простые идеи можно связать
простыми способами, придает результирующим
утверждениям особую авторитетность только в том случае, если все
состоит из простых вещей, а это именно тот пункт, по
поводу которого возникают расхождения! «Мы имеем дело не
с Бытием самим по себе, а с молоком, гноем, мочой!» —
говорили критически настроенные древние медики.
Следовательно, авторитетность нового способа действий была
обусловлена не самими по себе идеями и их связью, а
решением тех, кто предпочитал точные и ясные конструкции
аналогиям, кого не интересовали грубые эмпирические
материи и кто, как Парменид, отсутствие интереса
объективизировал в утверждении о том, что такие вещи просто не-
Прощай, разум
89
реальны. Таким образом, открытие процедуры
доказательства увеличивает культурное разнообразиеу а не заменяет его
единственно истинным рассуждением. Это подтверждается
всей историей западной мысли.
Последователи Парменида начали осторожно и в
небольших дозах изменять здравый смысл. Атомисты, Эмпе-
докл и Анаксагор принимали парменидовскую идею
Бытия, но пытались в то же время сохранить возможность
изменения. Для этого они вводили (конечное или бесконечное)
число вещей, которые обладали некоторыми парменидовски-
ми свойствами: атомы Левкиппа и Демокрита были
неделимы и неизменны, но бесконечны по своему числу;
элементы Эмпедокла были конечны по числу, неизменны,
разделялись на части, но не разделялись на еще более дробные
субстанции (четыре элемента Эмпедокла — Тепло, Холод,
Сухость и Влажность — отличались от любого известного
вещества); Анаксагор же постулировал неизменность всех
субстанций. Теперь (философская) теория была несколько
ближе к опыту, но все еще сохранялась громадная
дистанция от здравого смысла и науки того времени.
Были мыслители, которые полностью отвергали весь
этот подход. Так, автор трактата «О древней медицине» не
только опирался на опыт как на самое существенное, но и
высмеивал тех, кто, подобно Эмпедоклу, пытался заменить
опыт абстрактными рассуждениями.
Я не могу понять тех, - пишет он в главе 15, - кто
отстаивает другую точку зрения и отбрасывает старые методы,
чтобы обосновать technec помощью какого-то постулата [т.е. тех,
кто вводит теоретические принципы]: как они обращаются со
своими пациентами, руководствуясь этим постулатом? Ведь
они не открыли, я думаю, абсолютных холода и тепла,
сухости и влажности [элементов Эмпедокла] самих по себе. Я
полагаю, в их распоряжении имеется все та же пища и все то же
питье, которые есть у всех нас, только они добавляют к этому
90
Пол Фейерабенд
атрибут быть холодным, быть теплым, быть сухим или быть
влажным. Они не могут дать пациенту просто теплое, ибо он
сразу же спросит: «Что такое теплое?» Поэтому они
вынуждены либо произносить бессмыслицу, либо прибегать к одной
из известных субстанций.
Нельзя описать более ясно расхождение между
теоретическими спекуляциями и эмпирическим знанием
практикующих врачей. В приведенной цитате подразумевается
Эмпедокл с его четырьмя абстрактными субстанциями. Для
того чтобы сделать суть дела более ясной, возьмем Фалеса.
Согласно традиции, у Фалеса был только один элемент —
вода. Следовательно, единственный совет, который мог дать
пациенту последователь Фалеса, был таков: либо
«принимай воду», либо «не принимай воды». Очевидно, это
«бессмыслица», о которой идет речь в цитате. Врач должен
конкретизировать, какие «вещи, содержащие воду», он должен
принимать или не принимать. Он должен сказать,
например: «съешь кусочек хлеба, обмакнув его в молоко», или
«избегай вина, пей слегка подогретый сидр» и т.д. Он
вынужден обращаться к «той же пище и к тому же питью,
которые есть у всех нас», и высказывать свои рекомендации,
опираясь на собственный опыт и традиции своего ремесла.
Будучи последователем Фалеса, он мог бы добавлять к
своим рекомендациям фразу «Это вода, согласно
достижениям новейшей натуральной философии», но это были бы
только пустые слова, если не сказать больше.
Понятие здоровья является эмпирическим и даже в
значительной мере «историческим». В него входит все то, что
происходило с поколениями пациентов и врачей вместе с
их представлениями о том, что такое здоровая жизнь. Оно
зависит от обычаев тех людей, которые стремятся быть
здоровыми, оно со временем изменяется и его нельзя
подвести под некое определение. Эмпедокл попытался дать такое
Прощай, разум
91
определение. Здоровье, говорил он, есть
сбалансированность элементов (его абстрактных субстанций) в теле,
болезнь состоит в нарушении этого баланса. Это увеличивает
количество представлений о здоровье, но не сводит их к
одному представлению. Кроме того, практикующие врачи
отвергли это определение с порога. Оно «столь же нужно
медицине, как и живописи», писал автор трактата «О
древней медицине» (глава 20).
Автор этого трактата и другие ранние оппоненты
крайностей теоретиков (одним из примеров может служить
Геродот) выражали свои возражения в письменной форме,
они были членами традиции письменного обмена — той
традиции, которая вскоре стала доминирующей в западной
цивилизации. Представители не всех ремесел
принадлежали к этой традиции; у нас нет письменных свидетельств,
оставшихся от гончаров, мастеров по металлу, архитекторов,
рудокопов, художников. Их знания мы вынуждены
реконструировать по их произведениям и косвенным
свидетельствам. Сирил Стэнли Смит, металлург из Массачусетского
технологического института, осуществил эту работу в
своей книге и организовал соответствующую выставку47.
Подобно Геродоту (см. его критику более ранних
географических описаний) и автору трактата «О древней медицине»,
он проводит различие между философскими теориями
(материи) и практическим знанием (материалов). Он
описывает, каким образом второе возникло задолго до
появления первого и как часто первое тормозило второе
(например, в течение девятнадцатого столетия сторонники теории
Дальтона пренебрегали исследованием сплавов), как они
слились, наконец, в XX веке после того, как физики
изменили свои представления о реальности. Норма Эмертон
описывает битвы между теориями формы (которые были
близки практическим ремеслам) и атомизмом (который был
далек от них) и комментирует те методы, с помощью кото-
92
Пол Фейерабенд
рых атомисты стремились сохранить свое господствующее
положение48. В общем, оказывается, что техника,
значительные области медицины, сельское хозяйство и
практическое знание растений, животных, людей, сообществ и даже
социальных опасностей знания (см. примеч. 18) гораздо
меньше обязаны теоретическим спекуляциям, чем
считают современные защитники фундаментальной науки,
более того, эти спекуляции часто служили препятствием для
их развития49.
Атомизм Демокрита ничего не добавил к знанию; он
паразитировал на том, что обнаружили другие не-теорети-
ческими способами, что признает и сам Демокрит (Дильс—
Кранц, фрагмент В 125).
Самые ясные возражения против подхода Парменида
высказали софисты и Аристотель. Парменид полагал, что
логические аргументы являются надтрадиционным
средством нахождения истины. Софисты возражали на это,
говоря, что истина, которая не является частью некоторой
традиции, невозможна; ее нельзя найти; а если можно
найти, то нельзя понять; если же можно понять, то нельзя
передать другим. «Бытие непознаваемо, — говорит Горгий
(Дильс—Кранц, фрагмент В 26), — если оно неявляется во
мнении» (подчеркнуто мной. — П.Ф.)50. Высказывая
замечания о платониках, оправдывавших добродетели ссылкой
на верховное божество, Аристотель писал:
Даже если есть единое благо, которое совместно
сказывается [для разных вещей], или же некое отдельное само по
себе благо, ясно, что человек не мог бы ни осуществить его в
поступке, ни приобрести; а мы сейчас ищем именно такое...
невозможно представить себе, какая польза будет ткачу или
плотнику для их искусства, если они знают это самое благо
[само по себе], или каким образом благодаря уразумению
этой идеи врач станет в каком-то смысле лучшим врачом, а
военачальник — лучшим военачальником [по-видимому, иро-
Прощай, разум
93
ническое цитирование формулы, часто используемой в
платоновской школе]. Ведь очевидно, что врач рассматривает
здоровье не так [т.е. не вообще], а сточки зрения здоровья
человека и, скорее даже, здоровья «вот этого» человека, ибо он
врачует каждого в отдельности» («Никомахова этика» 1096ЬЗЗ
и ел., подчеркнуто мной. - П.Ф.).
Аристотель указывает также нато, что «природные вещи»,
т.е. вещи, которые встречаются в нашей жизни, «все, или
некоторые, подвижны» (Физика, 185а 12 и ел.): конкретный
способ существования — состояние здоровья
человеческого существа — делается мерой истины и реальности.
Как раз это наиболее интересно. Аристотель не
занимается внутренней критикой рассуждений Парменида (у него
есть аргументы, но здесь они нам неважны); и он не
сравнивает их со своими собственными абстрактными
принципами. О« отвергает подход в целом. Задача мышления, хочет он
сказать, заключается в том, чтобы охватить и улучшить то,
чем мы занимаемся в нашей повседневной жизни; оно не
должно уходить в обесчеловеченную страну абстрактных и
эмпирически непостижимых понятий. Мы видели, что
практики, оставившие письменные свидетельства,
придерживались того же мнения. Теперь я приведу два примера,
показывающих, что здравый смысл греков оставался
устойчивым, не обращая внимания на попытки его теоретического
реформирования.
Мой первый пример относится к теологии. Боги
Гомера имели разное происхождение, но все они обладали
человеческими чертами. Они участвовали в жизни людей, их
можно было видеть, слышать, чувствовать, они
присутствовали везде. Повседневная деятельность греческих племен и
даже «просвещенных» жителей городов, таких как Афины,
вращалась вокруг них51. Для представителей этого
полнокровного и сложного способа жизни почти не имело значе-
94
Пол Фейерабенд
ния то обстоятельство, что Ксенофан, опираясь на крайне
выхолощенное понятие божественности, доказывал, что
существует только один бог, что он (оно?) лишен
человеческих слабостей и преисполнен разума и силы, что
признаваемые всеми боги слишком доступны для того, чтобы быть
божественными. Насмешки Ксенофана над богами
Гомера не произвели впечатления ни на народные массы, ни на
таких просвещенных мыслителей, как Геродот и Софокл;
даже Эсхил, воспринявший некоторые идеи Ксенофана,
все-таки сохранял традиционных богов и большую часть их
функций. Борьба между теологами, постигающими Бога
(богов) в теоретических терминах и путающимися в
доказательствах, и защитниками личной или «эмпирической»
религии продолжается до сих пор.
Второй пример относится к неудаче философов сделать
распространенной привычкой использование общих
понятый. Согласно традиции и здравому смыслу греков, знание
представляло собой совокупность мнений, каждое из
которых было получено посредством способов, подходящих
для той области, в которой эти мнения возникали.
Наилучшим способом представления такого знания было
перечисление, и старые научные работы действительно были
перечисленными, списками фактов, их частей,
совпадений, проблем в различных и уже специализированных
областях. Ответы, которые платоновский Сократ получает
на свои вопросы, показывают, что эти списки были
частью здравого смысла. Его возражение «Я спрашиваю об
одном, а получаю много» опирается на предположение о
том, что одно слово обозначает одну вещь, а это как раз и
есть спорный вопрос. Его собеседники допускают
единственность чисел («Теэтет») или пчел («Менон»), но
сопротивляются распространению теоретического единообразия
на социальные объекты, такие как знания или доблести:
Прощай, разум
95
Платон вполне осознавал трудности распространения
простых понятий на сложные материи. Это затруднение
сохранилось до сих пор — как пропасть между естественными и
гуманитарными науками.
Особенно интересно обстоит дело сматематикой.
Именно здесь абстрактное мышление получило первые
результаты и именно отсюда образец истинного, чистого и
объективного знания стал распространяться на другие области.
Однако множество подходов, существующих в
современной математике, отнюдь не обнаруживает тенденции
слиться в единую теорию. У нас есть не-Евклидовы геометрии и
различные варианты арифметики; финитисты
рассматривают математику как человеческую практику, которая в
зависимости от целей может строиться разными
способами; сторонники Кантора интерпретируют ее как науку,
описывающую абстрактные сущности и, следовательно,
требующую единства; применение конкретных
математических систем к «природе» воссоздает плюралистичность
(аппроксимаций). Фалес, по-видимому, отброшен (см.
примеч. 46). В наши дни математика менее ограничена и
более плюралистична, чем любая другая
интеллектуальная дисциплина.
Результаты этого исторического рассмотрения можно
резюмировать в следующем утверждении:
R8: Идея объективной истины или объективной
реальности, которая не зависит от человеческих желаний, но может
быть открыта посредством человеческих усилий, является
частью специальной традиции, имевшей, по оценке самих ее
сторонников, свои успехи и свои неудачи. Она всегда
сопровождалась и часто смешивалась с более практичными
(эмпирическими, «субъективными») традициями и должна
соединяться с такими традициями для того, чтобы привести к
практическим результатам.
96
Пол Фейерабенд
R8 является эмпирическим (историческим) тезисом.
Эмпирик отсюда выведет:
R9: Идея независимой от ситуации объективной истины
имеет ограниченное значение. Подобно законам,
убеждениям, обычаям R4, она господствует в некоторых областях
(традициях), но не во всех.
Это усиливает R7 и соображения предшествующего
раздела. Заметим опять-таки, что R8 и R9 не являются
«универсальными истинами». Это утверждения, которые я,
будучи одним из членов племени западных интеллектуалов,
представляю (вместе с подходящими аргументами) другим
членам этого племени для того, чтобы заставить их
усомниться в объективности и даже в допустимости идеи
объективной истины.
7. Эпистемический релятивизм
R8 и R9 отрицают ту идею, что новые формы знания,
которые появились в Греции и впоследствии привели к
формированию науки, способны устранить (а не только
превзойти) традиции и послужить основанием независимой от
традиций точки зрения. Приведенные мной основания
отчасти были историческими, отчасти —
антропологическими: мнения, не связанные с традициями, находятся вне
человеческого существования, они не являются даже
мнениями, если их содержание не связано с конституирующими
принципами той традиции, к которой они принадлежат.
Мнения могут быть «объективными» только в том смысле,
что не содержат никаких ссылок на эти принципы. В этом
случае они выглядят так, как если бы возникали из самой
сущности мира, хотя на самом деле они лишь выражают
особенности определенного подхода: ценности традиции
Прощай, разум
97
могут быть абсолютными, но сама традиция таковой не
является; физики могут быть «объективными», но
объективность физики таковой не является. Более современные
объективистские традиции создают концепции, которые
даже не выглядят объективными. Теория относительности
говорит о релятивном характере ситуаций и событий,
которые сто лет назад считались существующими
независимо от измерения, а квантовая теория вдобавок лишена
инвариантов, которые все еще позволяли нам объективити-
ровать относительность. К тому же объективистская
традиция долгое время была расколота на конкурирующие
школы или, если брать конкретные науки, на подходы,
опирающиеся на разные предположения и использующие
различные методы. Непопулярные и даже «несостоятельные»
идеи вошли в нее и стали законами, успешные принципы
оказались выброшенными на свалку истории. Эти соображения
(и дополнительные замечания в примеч. 25 и 28 выше)
приводят к следующей гипотезе:
R10: Для каждого утверждения (теории, концепции),
которое с хорошим основанием считается истинным, могут
найтись аргументы, показывающие, что либо противоположное
утверждение, либо его более слабая альтернатива истинны
Можно пойти еще дальше. В предыдущем разделе я
упоминал о том, что древние аргументы против монизма Пар-
менида включали в себя два шага: решение держаться
ближе к опыту и теоретические соображения, опирающиеся на
это решение. Уже Геродот осознавал, что существуют
разные способы упорядочения опыта, каждый из которых дает
собственное понимание мира и предлагает собственные
способы контакта с ним. Он знал также, что люди не
только живут в этих различных мирах, но живут успешно — и в
материальном, и в духовном смыслах. Современные ант-
4 — I S09
98
Пол Фейерабенд
ропологи соглашаются с этим. «Пусть читатель рассмотрит
какой-либо аргумент, который можно было бы высказать
для того, чтобы разрушить веру Азанде в силу их
оракулов, — пишет Эванс-Причард, говоря о ситуации,
описанной во введении52. — Будучи переведен в способы
мышления Азанде, он лишь подтвердил бы всю структуру их
убеждений. Их мистические понятия удивительно
последовательны, прочно соединены логическими взаимосвязями и
упорядочены таким образом, что никогда прямо не
противоречат чувственному опыту, более того, опыт
подтверждает их». Итог: практики Азанде являются
«рациональными», ибо подкрепляются аргументами. Вместе с тем, они
работают. «Могу отметить, — пишет в этой связи Эванс-
Причард, — что нахожу это [т.е. консультации у оракула по
поводу повседневных решений] столь же
удовлетворительным способом устраивать свои дела, как и любой другой
известный мне способ».
В добавление к тому, что было сказано в литературе,
указанной в примеч. 18, мы приходим к предположению о том,
что существует много разных образов жизни и получения
знания. Каждый из них способен дать начало
абстрактному мышлению, которое, в свою очередь, раскалывается на
конкурирующие абстрактные теории. Если обратиться к
примеру из нашей собственной цивилизации, то научные
теории разрастаются в разных направлениях, пользуются
разными (иногда «несоизмеримыми») понятиями и
по-разному оценивают события. Что считать свидетельством,
насколько важен тот или иной результат или насколько
«приемлем какой-то научный метод» — ответ на эти вопросы
зависит от позиций и оценок, которые изменяются со
временем, от одной профессии к другой и даже от одной
исследовательской группы к иной группе. Так, Эренхафт и
Милликен, работая над одной и той же проблемой
(определением заряда электрона), по-разному использовали свои
Прощай, разум
99
данные и рассматривали в качестве фактов различные вещи.
В конечном итоге это различие было устранено, однако оно
было центром важного и волнующего эпизода из истории
науки. Эйнштейн и защитники скрытых параметров в
квантовой теории использовали различные критерии оценки
теории. Это были метафизические критерии в том
смысле, что они поддерживали или критически оценивали
теорию несмотря на то, что она была эмпирически
удовлетворительной и математически корректной53. То же самое
верно и для критериев, которые выходят за рамки
некоторой эмпирической области, утверждая, например, что вся
биология является молекулярной биологией и что, скажем,
ботаника уже больше не может претендовать на
самостоятельную истинность. Томас Морган, предпочитавший
прямое экспериментальное подтверждение выводов,
отвергал изучение хромосом в пользу исследования явных
проявлений наследственности. В 1946 году Барбара Мак-
Клинток уже обратила внимание на процесс, который
сегодня называют транспозицией. «Однако она работала
одна, она не исследовала микроорганизмов, она
действовала в классической манере и держалась в стороне от
молекул». Ни один из членов быстро растущей группы
молекулярных биологов «не слушал того, что она говорила».
Расхождения увеличиваются в психологии: бихевиорис-
ты и нейрофизиологи презирают интроспекцию,
являющуюся важным источником знаний для
гештальт-психологии, клинические психиатры опираются на свой опыт,
иногда называемый «интуицией», т.е. на реакции своего
собственного организма, в то время как более
«объективные» школы используют четко сформулированные тесты.
В медицине, как мы видели, похожий антагонизм между
клиницистами и теоретиками восходит еще к
античности. Расхождения еще больше возрастают, когда мы
переходим в область истории и социологии: социальная исто-
100
Пол Фейерабенд
рия Французской революции сохраняет только свое имя и
описание лиц и конкретных событий54. Природу саму по
себе можно трактовать по-разному (можно считать, что
жизнь людей не отделена от жизни природы или что
природа носит нематериальный характер) и соответственно к
ней относиться. Приняв все это во внимание, я предлагаю
усилить RIO и утверждать следующее:
R11: Для каждого утверждения, теории, точки зрения,
которые приняты (считаются истинными), существуют
аргументы, показывающие, что конкурирующая альтернатива по
крайней мере столь же хороша, а может быть, даже лучше
Тезис RI 1 использовался древними скептиками для
достижения ментального и социального мира: если можно
показать, говорили они, что противоположные точки зрения
одинаково убедительны, то не нужно волноваться или
начинать войну по их поводу (Секст Эмпирик, «Пирроновы
положения», 1,250- Утверждения, теории, аргументы, хорошие
основания появляются на сцене благодаря исторической
ситуации, в которой высказывается скептик: он противосто-
итфилософам, стремящимся показать, что рассуждение
должно приводить к единственному заключению. Однако
рассуждение, настаивает скептик, отнюдь не обладает такой
силой. Включая неаргументативные способы установления
контактов между людьми и, возможно, общих целей, он еще
больше усиливает свою позицию. Теперь нам приходится
иметь дело не только с интеллектуальными материями, но с
чувствами, верованиями, симпатией и многими другими
вещами, до которых еще не добрались рационалисты.
Попытка устранить R11 потребовала бы детального
эмпирического/концептуального/исторического анализа, ни одного из
которых нельзя найти в обычных возражениях против
скептицизма и релятивизма.
Прощай, разум
101
8. Рассмотрение некоторых критических
замечаний
Релятивизм является распространенным учением.
Испытывая недоверие к тем, кто утверждает, будто знает
истину, и будучи свидетелями бедствий, причиненных
попытками навязать единый способ жизни, многие люди сегодня
убеждены в том, что истинное для одного человека, группы
людей или целой культуры не обязательно будет истинным
для других. Этот практический релятивизм подкрепляется
плюрализмом, присушим современной науке, и
открытиями историков и антропологов: древние идеи и
«примитивные» космологии наших предков могут сильно отличаться
оттого, к чему мы привыкли, однако они были способны
создавать материальные и духовные основы жизни. Они не
являются совершенными, однако их недостатки с точки
зрения нашего собственного способа жизни
уравновешиваются достоинствами, которых мы лишены. Эволюция
предоставляет нам еще один аргумент: каждая популяция,
тип, вид вырабатывали свой собственный способ бытия в
мире, который в значительной мере является их
собственным созданием, развивая подходящие органы чувств, ин-
терпретативные механизмы, находя экологические ниши55.
Мир паука имеет мало общего с миром собаки, поэтому со
стороны собачьего философа было бы абсолютно глупо
настаивать на объективной значимости своих идей. Древние
скептики и их новые последователи (например, Монтень)
прекрасно использовали это разнообразие.
С другой стороны, есть много людей, которые считают
такую ситуацию неудовлетворительной и пытаются найти
простую истину, которая, по их мнению, должна быть
скрыта подтем, что без нее было бы простым информационным
шумом. Странно, что и среди релятивистов есть люди,
разделяющие эту идею. Они не только хотят обнародовать свои
102
Пол Фейерабенд
собственные мнения о действиях и результатах традиций,
не затронутых западным рационализмом, но хотят также
высказать какие-то общие и — спаси нас, Господи! —
«объективные» утверждения о природе познания и истины.
Но если объективизм, может быть, и приемлем в
качестве частной точки зрения, он не может претендовать на
объективное превосходство над другими идеями, поэтому
релятивист не может признавать объективистский способ
постановки проблем и представления результатов.
Релятивист, заслуживающий этого имени, должен воздерживаться
от утверждений о природе реальности, истины и познания и
стремиться сохранить специфическое. Он может обобщать
свои находки, и часто будет делать это, однако он не будет
выдавать их за такие принципы, которые благодаря самой
своей природе полезны, приемлемы и, что самое важное,
обязательны для всех. Вступая в споры с объективистами,
он может, конечно, использовать объективистские методы
и предположения, однако цель его заключается не в
обосновании универсально приемлемых истин (относительно
конкретного или общего), а в том, чтобы привести
оппонента в замешательство — поразить объективиста его же
собственным оружием. Аргументы релятивиста всегда ad
kontinent; их прелесть заключена в том, что они обращены к
человеку, который, будучи связан своим кодексом
интеллектуальной честности, вынужден рассмотреть их и, если
они (с его точки зрения) хороши, признать их как
«объективно значимые». Все мои аргументы в предыдущих
разделах следует рассматривать именно с этой точки зрения56.
Например, переход от R7 к R11 не означает
обнаружения каких-то «объективных особенностей» мира; эти
положения вводятся для того, чтобы поколебать
самоуверенность объективиста или увлечь неспециалиста живыми
образами истории57. Если объективист согласится с моими
аргументами, то R1 и R7 породят трудности для его точки
Прощай, разум
103
зрения, причем это совершенно не зависит от того,
принимаю ли их я сам или нет. Теперь я применю эту процедуру к
некоторым распространенным возражениям против
релятивизма.
Первое возражение, которое часто можно услышать,
представляет собой не столько возражение, сколько
ругательство. «Релятивизм, — говорит Карл Поппер ([193], с.
217), — есть концепция, утверждающая, что можно
говорить все или почти все, следовательно, ничего... Поэтому
истина лишается смысла». Релятивизм «вырастает из
безразличной терпимости и ведет к правлению силы».
Цитаты, приведенные в разделе 3 (из Геродота и Про-
тагора), показывают, что первая часть этого ругательства и
его конец («безразличная терпимость») некорректны.
Геродот (которого Поппер цитирует на странице 134 свой
книги, тщательно опуская те строчки, которые противоречат
его пародии на релятивизм) был релятивистом, как и Про-
тагор. Однако первый подчеркивал и защищал власть
обычаев, вто время как второй рекомендовал применение
смертной казни за повторное нарушение закона. «Как можно
видеть, — писал я в этом разделе, — Протагор считал, что
должны существовать законы и эти законы должны
соблюдаться. Он также верил, что законы и учреждения должны
устанавливаться «относительно» потребностей и условий
существования этих обществ. Ни он, ни Геродот не делали
вывода о том, что учреждения и законы действуют в одних
обществах, но не принимаются в других, поэтому они
произвольны и могут быть изменены как угодно». Дальнейшее
обвинение Поппера, будто «истина лишается смысла»,
противоречит тщательному обсуждению этого термина Прота-
гором.
В приложении ко второму тому своего «Открытого
общества» Поппер излагает свою позицию более подробно.
104
Пол Фейерабенд
Он начинает с определения: «Под релятивизмом или, если
угодно, скептицизмом я понимаю...» Заметим небрежное
«если угодно», показывающее, что Поппер не видит
разницы между скептицизмом и релятивизмом. Однако в
истории между ними существовало большое различие. Скептик
ставит диагноз своей эпохе, указывает цель для
философского исследования. Его целью был мир, он показывал, что
ссора по поводу абстрактных догм может привести к
раздорам и войне, его аргумент заключался в том, что любое
хорошо подтвержденное утверждение всегда может быть
уравновешено противоположным, столь же хорошо
подтвержденным утверждением. Цель превосходна, диагноз
верен, аргумент, как я пытался показать в предыдущем
разделе, вполне корректен. Ни одна из этих особенностей не
присутствует в определении Поппера.
Согласно мнению Поппера, релятивизм («или, если
угодно, скептицизм») есть «теория, утверждающая, что выбор
между конкурирующими теориями является
произвольным, ибо нет такой вещи, как объективная истина; даже
если такая истина есть, то нет теории, которая истинна или,
во всяком случае (даже если она не истинна), ближе к
истине, чем другие теории; если же имеется две или более
теории, то нет способов и средств решить, является ли одна
из них лучше другой».
Заметим опять-таки, что и первое утверждение (о
произвольности выбора), и последнее утверждение (об
отсутствии способов и средств выбора среди конкурирующих
теорий) противоречат тому, что сообщает нам Платон о Про-
тагоре, и тому факту, что древние скептики предложили
аргументы против первого утверждения. Критики той идеи,
что научные споры опираются на объективные данные, не
отрицают, что существуют «средства для выбора» одной из
конкурирующих теорий. Напротив, они говорят, что
существует много таких средств, что они выступают за разные
Прощай, разум
105
способы выбора, что возникающие при этом конфликты
часто разрешаются силой, поддержанной
распространенными предпочтениями, а не аргументами, и что
аргументы, во всяком случае, принимаются не только потому, что
они верны, но потому, что они привлекательны, т.е.
согласуются с неаргументативными допущениями и
предпочтениями.
Поппер называет релятивизм «теорией». Как мы
видели, этот термин охватывает некоторые варианты
релятивизма, но не все (включая и мой собственный). Он
отождествляет проблему (объективности) знания с проблемой
истинности и/или объективности теории. Это может быть
справедливо для некоторых частей физики (хотя
«неявное знание» существует даже здесь), но слишком узко для
истории, психологии и для широкой области здравого
смысла.
«Если две партии расходятся, — говорит Поппер
(с. 387), — то это означает, что ошибается одна из них, либо
другая, либо обе. Это отнюдь не означает, как мог бы счесть
релятивист, что они обе могут быть правы».
Это замечание сразу же раскрывает слабость всех
интеллектуальных атак на релятивизм. «Если две партии
расходятся» — это подразумевает оппонентов, которые
установили контакт и понимают друг друга. А теперь
предположим, что оппоненты являются представителями
разных культур. Какими средствами коммуникации они будут
пользоваться и как достигнут понимания? Колониальные
чиновники бЬити убеждены в том, что туземцы либо
должны изучить язык господ, либо получать информацию от
переводчика, опирающегося на этот язык. Язык господ,
применяемый в ситуациях, заданных господами, был
официальным посредником при формулировке и решении
проблем. Можем ли мы быть уверены в том, что при
использовании местных средств установления контакта, ис-
106
Пол Фейерабенд
пользуя местный язык и местные способы решения
проблем, мы придем к тем же самым решениям? Тех же самых
проблем? Прежние исследования и современный опыт
профессиональных «консультантов» учат нас осторожности. Но
в таком случае возникающие расхождения и разделение на
правильное и ошибочное, порождаемое ими, зависят от
формы взаимодействия, следовательно, от культуры; они
«относительны» к той культуре, в которой происходит
обмен. Поппер, как и некоторые деятели Просвещения до
него, кажется, полагает, что существует единственный
посредник коммуникации, что этот посредник является
«рациональным» в его смысле (например, он подчиняется
простым логическим законам), что он представляет собой,
главным образом, разговор (жесты, мимика роли не играют) и
что каждому он доступен.
Und unterm braunen Sud fuehlt auch der Hottentot
Die allgemeine Pflicht und der Natur Gebot,* -
писал Альбрехт фон Галлер58, превращая каждого человека
в потенциального кантианца. Точно так же и Поппер в
каждом человеке видит маленького смущенного попперианца
и строго критикует всех за их непоследовательность.
Кроме того, он не понимает релятивизма даже в этой очень
узкой области: конфликтующие позиции Протагор никогда
не назвал бы «одинаково правыми»59.
Наконец, почему нельзя сказать, что конфликтующие
утверждения относительно «одной и той же ситуации», тем
не менее, верны? Рисунок, рассматриваемый с разных
точек зрения (утка — кролик Витгенштейна может служить
примером), можно описать разными способами, причем оба
утверждения будут верны. Научное исследование, а не фи-
* И под своей коричневой кожей чувствует даже готтентот
универсальную обязанность и поведения природы.
Прощай, разум
107
лософский декрет, должно решить, похож ли мир, в
котором мы живем, на рисунок утки — кролика.
Другим критиком релятивизма является Хилари Пат-
нем. В своей книге «Разум, истина и история» ([196], с. 114)
он пишет: «Я хотел бы сказать, что обе из двух наиболее
влиятельных концепций философии науки двадцатого
столетия, те две концепции, которые привлекали интерес
ученых и вообще нефилософов, о которых только и слышал
образованный читатель, обе внутренне противоречивы».
Концепциями, которые он имеет в виду, являются
позитивизм, представленный Карлом Поппером, и исторический
подход, представленный, помимо других, Куном, Фуко и
мной. Для обоснования своего утверждения он
рассматривает несоизмеримость и релятивизм. С несоизмеримостью
я буду иметь дело в главе 10. Здесь же я хочу
проанализировать истолкование Патнемом релятивизма.
Патнем начинает с рассмотрения одного из вариантов
релятивизма, согласно которому «ни одна точка зрения не
является более обоснованной или верной, чем любая
другая» (с. 119). Он критикует это положение, задавая вопрос:
как можно считать, что нет оснований придерживаться
одной точки зрения, а не другой? Ответ прост: я могу
придерживаться какого-то мнения, имея или не имея на это
оснований. Кроме того, данный вариант релятивизма не
является моим вариантом60.
Далее Патнем рассматривает то, что можно назвать
«относительным» релятивизмом: выражения «истинно»,
«разумно» или «приемлемо» заменяются на «истинно для»,
«разумно согласно таким-то и таким критериям», «приемлемо
для представителей культуры А» и т.п. «Тотальный
релятивист (в этом смысле), — пишет Патнем (с. 121), —должен
был бы сказать, что истинно или неистинно
Xотносительно Р, само является относительным. Здесь наше понимание
этой позиции начинает размываться...» Конечно, оно бу-
108
Пол Фейерабенд
дет размываться, но только в том случае, если «позиция»
понимается как объективное истолкование знания. Эти
риторические добавки предназначены для объективиста,
поэтому «для» можно опустить.
Патнем утверждает далее (с. 122), что культура, которая
не отличает бытие от кажимости, не может отделить
суждение (мысль) от звука и, следовательно, не является
культурой. Это хороший пример той абстрактной манеры, в
которой философы рассматривают проблемы жизни. Как я
отмечал в начале раздела 6, существует множество форм
жизни, в частности здравый смысл эпохи Гомера, в
которых нет дихотомии «бытие — кажимость». Осознавая
сложность мира и человеческой деятельности, они используют
множество иных, более тонких различий. Используя свой
грубый концептуальный инструмент, Патнем вынужден
отвергать большую часть их речей как простой шум. Но это
говорит о недостатках инструмента, а не речей. Кроме того,
релятивистов вовсе не смутило бы это различие, ибо они
могут ответить (см. опять раздел 6), что разные культуры и
даже разные школы в рамках одной культуры проводят это
различие по-разному.
Возвращение к жизни
В заключение позвольте мне еще раз повторить, что
релятивизм, представленный здесь, относится не к понятиям
(хотя большая часть его современных вариантов является
концептуальными вариантами), а к человеческим
отношениям. Он имеет дело с теми проблемами, которые
возникают при столкновении разных культур или индивидов с
разными привычками и вкусами. Интеллектуалы
привыкли истолковывать межкультурные столкновения в
терминах споров и имеют склонность выхолащивать эти
воображаемые споры до такой степени, что они становятся столь
Прощай, разум
109
же абстрактными и непостижимыми, как и их собственные
дискуссии. Действуя таким образом, многие из них уходят
от живой жизни в область технического знания. Их уже
больше не интересует та или иная культура, та или иная
личность; они занимаются идеями, скажем, идеей реальности,
идеей истины или идеей объективности. Они уже не
спрашивают, как идеи связаны с человеческим
существованием, их интересует только связь идей друг с другом.
Например, они спрашивают, является ли истина объективным
понятием, является ли научная практика рациональной или
как реальность зависит от восприятия? При этом «истина»,
«научная практика» и «восприятие» определяются таким
образом, который препятствует отождествлению этих
понятий с тем, что происходит в жизни ученого и любого
другого человека (подробности см. в разделе 4).
Целые профессии заняты прояснением вопросов этого
рода. Итогом всех этих языковых игр стало всеобщее
бессилие. В них играли западные интеллектуалы, они также
привлекли внимание не-западных наблюдателей,
плененных фальшивым блеском продуктов западной цивилизации.
Подавленные интеллектуальной властью идей,
соединенной с политической и военной силой распространяющих
их обществ, мужчины и женщины стран так называемого
«третьего мира» стали постепенно погружаться в болото
западной философии. Но все эти процессы не только не
привели к Возрождению мысли, а лишь дискредитировали ее.
Это привело к тому, что некоторые философы, не
способные подняться над своими играми, стали называть
«кризисом мировой культуры». Я, со своей стороны, верю в то,
что этот кризис лежит не в интеллектуальной и
академической жизни, а в явлениях, которые намеренно или
ненамеренно поддерживаются продуктами этой жизни. Для
обнаружения этого мы должны выделить скрытые допущения
и явные ошибки, лежащие в основе предполагаемой объек-
110
Пол Фейерабенд
тивности западных интеллектуальных продуктов. Но столь
же важно при этом обратиться к жизни и более
непосредственно заняться ее проблемами, например изучением
реакций индивидов и сообществ, сталкивающихся с
необычными ситуациями.
Как было сказано во введении, столкновение культур
приводит к различным реакциям. Одной из таких реакций
является догматизм: наш путь единственно правильный,
другие пути ошибочны, безнравственны, безбожны.
Некоторые догматики терпимы: они жалеют безбожников,
пытаются просветить их, но в случае неудачи отворачиваются
от них. Такова была терпимость некоторых христиан XVI—
XVII столетий. Другие опасаются, как бы защитники
заблуждения не нанесли ущерба истине, и проповедуют их
уничтожение. Такая позиция высказана во Второзаконии.
Современные догматики, живущие в демократических
странах, в которых распространена либеральная и
плюралистическая риторика, стремятся утвердить свою власть
обходными путями. Проводя различие между «простой верой»
и «объективной информацией», защитники научного
рационализма терпимо относятся к первой, однако
прибегают к законам, используют финансы, систему
образования, средства массовой информации для того, чтобы
обеспечить второй привилегированное положение. Им удалось
достигнуть огромных успехов в этом отношении.
Отделение Церкви от государства, введение законов,
запрещающих применять все медицинские методы, кроме
официально признанных, жесткая политика в области образования,
соединение науки с программами развития
обороноспособности страны — все это направлено на укрепление того, что
властные элиты считают истиной, и на подрыв того, что
рассматривается ими лишь как мнение.
В предыдущих разделах я пытался показать, что
догматизм приводит к гибельным последствиям, когда его пре-
Прощай, разум
111
вращают в руководящий принцип культурного обмена и
развития культуры. Даже западные наблюдатели теперь
соглашаются с тем, что перенесение западных технологий и
западного образа жизни в регионы, остававшиеся в
стороне от западной истории, далеко не всегда благоприятно.
Конечно, жизнь в этих регионах была далека от совершенства,
в ней были большие лакуны (неэффективное понимание
многих заболеваний) и содержались ингредиенты, вредные
для здоровья. В этом отношении эта жизнь была похожа на
то, что мы имеем сейчас на Западе. Однако полное
устранение традиционных обычаев и их повсеместная замена
«рациональными» процедурами не было правильным
решением. Многие люди теперь осознают, что «правильное»
решение должно принять во внимание как местное, так и
западное знание, и использовать их совместно в соответствии
с местными обычаями. Верно, что эти обычаи не всегда
полезны даже по оценке тех, кто их придерживается, однако
они являются частью их жизни, следовательно, всегда
должны учитываться. Не обращать на них внимания — значит
относиться к людям как к рабам, которые не могут прожить
без указаний своего господина.
Высказанные замечания относятся к очевидно
догматическим формам жизни. Однако они справедливы также
и для тех философских концепций, которые кичатся своей
скромностью, своей терпимостью и своей критической
позицией. Такие концепции кажутся на первый взгляд
идеальным инструментом культурного обмена. Они
допускают, что учителя, представители науки и рационализма
могут ошибаться, а ученики, представители каких-то местных
культур, приобщаемые к западному образу жизни, могут
быть в каких-то вещах правы. Эта позиция кажется весьма
толерантной и гуманной. Она толерантна — по
«критическим» стандартам, ибо предполагает, что обмен будет
проходить в виде дискуссий, что дискуссии будут проводиться
112
Пол Фейерабенд
по определенным правилам и их результат закрывает
вопрос. Человеческие контакты она сводит к обмену словами,
а обмен словами — к дискуссиям, а дискуссии — к поискам
логических ошибок в ясно сформулированных вопросах.
Уже с самого начала «критические» философы определяют
человеческие отношения своим собственным интеллекту-
ализированным способом. Похваляясь своей терпимостью,
они л ибо невежественны, либо нечестны, либо (как я
предполагаю) и то, и другое.
Релятивизм уходит от этого невежества и от этой
нечестности. Он говорит: то, что правильно для одной культуры,
не обязательно правильно для другой (что правильно для
меня, не обязательно правильно для вас). Более
абстрактные формулировки, появившиеся вместе с западным
рационализмом, утверждают, что обычаи, идеи, законы
«относительны к» культуре. Релятивизм в этом смысле не
означает произвольности (этот вопрос рассматривался в разделе 3
и вновь в разделе 8), и это «верно» не только для
релятивизма. Раскрывая большие пробелы в структуре объективизма,
это подрывает объективизм изнутри, согласно собственным
критериям объективизма.
Оппортунизм тесно связан с релятивизмом. Он также
допускает, что чужие культуры могут обладать ценными
достижениями, которые можно ассимилировать, а
остальное трогать не следует. Оппортунизм играл большую роль в
развитии западной науки.
Это можно проиллюстрировать эпизодом из истории
Японии. В 1854 году командор Пери, опираясь на силу,
открыл порты Хакодате и Шимода для снабжения
американских судов и торговли. Это событие выявило военную
слабость Японии. Представители японского Просвещения
начала 70-х годов XIX века, среди которых был Фукудзава,
теперь рассуждали так: Япония может сохранить свою
независимость только в том случае, если станет сильнее. Она
Прощай, разум
113
могла сделать это только с помощью науки. Для
эффективного использования науки следовало не только принять
научную практику, но поверить также и в лежащую в ее
основе идеологию. Многим представителям традиционной
Японии эта идеология представлялась варварской (я бы с
ними согласился). Тем не менее, настаивали
последователи Фукудзавы, для того чтобы выжить, необходимо принять
варварские способы мышления, признать их
прогрессивными и усвоить всю западную цивилизацию. Отметим
необычность, но последовательность этого рассуждения:
наука принимается в качестве истинного описания мира не
потому, что она является таким истинным описанием, а
потому, что ее изучение именно с такой точки зрения
поможет лучше вооружиться. «Прогресс науки» остановился
бы без такого рода событий61.
Аргументация играет важную роль во всех формах
культурного обмена. Это не было изобретением западных
рационалистов. Она встречается во все периоды истории и во
всех сообществах. Она является существенной частью
оппортунистического подхода, ибо оппортунист
спрашивает себя: как чужеродные вещи могут улучшить его жизнь и
к каким еще изменениям они приведут? Между прочим,
«примитивные народы» используют аргументацию,
обращая ее против антропологов, стремящихся приобщить их
к рационализму (см. примеры в тексте к примеч. 52).
Аргументация — подобно ритуалу, искусству или языку —
является универсальной, но, как и ритуал, искусство, язык,
она имеет множество форм. Жест или ворчание могут быть
убедительными для некоторых, для других нужны длинные
и красочные арии. Лютер требовал чудес от тех, кто
предлагал новые интерпретации священных текстов;
правительственные учреждения и широкая публика все еще требуют
чудес от их собственных религиозных лидеров — от ученых.
Большая часть аргументов принимает во внимание убеж-
114
Пол Фейерабенд
дения или позиции участников дискуссии. Тот, кто их
использует, стремится убедить конкретных людей и изменяет
свою позицию от случая к случаю. То, что изобрели
западные рационалисты, это не сама аргументация, а ее
специальная и стандартизированная форма, которая не только
пренебрегает личностными элементами, но прямо
отвергает их. Ее изобретатели, со своей стороны, утверждали, что
они открыли процедуры и результаты, которые верны
независимо от желаний и интересов людей.
В разделе 6 я показал, почему это утверждение
ошибочно. Человеческий элемент не был устранен, он был
только замаскирован. Колониальные чиновники
выступали от имени своего короля, миссионеры — от имени Бога
или Папы. И те, и другие отождествляли себя с тем
авторитетом, который придавал силу их требованиям. У
рационалистов также имеются свои авторитеты. Но, выражаясь в
объективистском стиле, тщательно опуская все ссылки на
людей, с которыми они соперничают, и на решения,
которые лежат в основе их процедур, они стремятся создать
впечатление, будто сама Природа или сам Разум
подтверждают их идеи. Более внимательный взгляд на их процедуры
показывает, что это не так. Возьмем успех. Сегодня
успешность некоторого метода часто рассматривается как
свидетельство его объективной верности. Но ведь оценка
успехов и провалов зависит от культуры, в которой дается
оценка. Например, так называемая «зеленая революция» была
успехом с точки зрения западной рыночной практики. Но
для культур, заинтересованных в самодостаточности, она
была печальной неудачей. Кроме того, во многих областях
просто не существует «объективных» научных
исследований сравнительной эффективности западных и местных
методов. Даже медицина может сослаться лишь на
отдельные успехи и отдельные неудачи незападных медицинских
практик, однако общая картина еще далеко не ясна.
Прощай, разум
115
Более сложный аргумент указывает на то, что, хотя
оценка успеха может быть культурно обусловлена,
справедливость законов, на использование которых опирается успех,
таковой не является. Люди могут расходиться в своих
позициях по отношению к электрификации, однако
уравнения Максвелла и их следствия справедливы независимо от
этих расхождений. Этот аргумент опирается на
предположение о том, что применение теорий их не изменяет.
Однако многие так называемые «процедуры аппроксимации»
устраняют утверждения теории и заменяют их иными
утверждениями, допуская тем самым, что разные области
требуют разных методов и что единство, предполагаемое общей
теорией, может быть чисто формальным.
Еще более важно то, что законы природы безусловно
не обнаруживаются независимо от конкретной культуры.
Требуется весьма специальная ментальная позиция,
включенная в конкретную социальную структуру, соединенная
порой с совершенно уникальными историческими
условиями для того, чтобы угадать, сформулировать, проверить и
обосновать такие законы, как, например, второй закон
термодинамики. Теперь с этим согласны социологи,
историки науки и даже некоторые философы. У греков
существовала математика и такой уровень интеллектуального
развития, который был достаточен для рождения науки того
типа, который появился в XVI—XVII столетиях, однако они
не пошли на это. «Китайская цивилизация была гораздо
более эффективной, нежели европейская, в познании
природы и в использовании естественного знания на пользу
людей в четырнадцатом столетии и даже раньше», однако
научная революция произошла в «отсталой» Европе62.
Открытие и развитие конкретной формы познания является в
высшей степени специфическим и неповторимым
процессом. Какие же аргументы могут теперь убедить нас в том,
что знания, полученные этим специфическим и культурно
116
Пол Фейерабенд
обусловленным способом (следовательно,
сформулированные в культурно обусловленных терминах), существуют
независимо оттого способа, которым они получены? Где
гарантии, что эти результаты можно отделить от способа их
получения? Если заменить некоторые понятия другими,
пусть немного отличными, мы теряем способность
сформулировать эти результаты и даже понять их; мы получаем
иные результаты и свидетельства, подтверждающие их, что
можно увидеть, когда мы переходим к более ранним
этапам истории науки. Тем не менее считается, что эти
результаты сохраняются «в мире» даже после того, как мы забыли
способ их получения.
Кроме того, современные объективисты являются не
единственными людьми, проецирующими свои фантазии на
мир. Для древних греков их боги существовали и
действовали независимо от желаний людей. Они просто «были»63.
Теперь это считается ошибочным. С точки зрения
современных рационалистов, греческие боги были неотделимой
частью греческой культуры, они были воображаемыми и в
действительности не существовали. Почему? — Потому, что
гомеровские боги не могут существовать в научном мире.
Но почему это столкновение используется для устранения
богов, а не научного мира? Ведь и то, и другое считается
объективным и возникает культурно-обусловленным
образом. Единственный ответ на этот вопрос, который я
слышал, заключается в том, что научные объекты ведут себя
более законосообразно, чем боги, и что их можно изучать
более тщательно и подробно. Этот ответ предвосхищаетто,
что должно быть доказано, а именно что научные законы
реальны, в боги — нет. Он также делает доступность и
следование законам критерием реальности. Но тогда пугливые
птицы и анархисты казались бы весьма нереальными. Нам
остается только одно: либо мы считаем богов и кварки в
равной мере реальными, но привязанными к разным об-
Прощай, разум
117
стоятельствам, либо мы вообще прекращаем говорить о
«реальности» вещей и начинаем использовать более сложные
схемы порядка (см. начало раздела 6 выше).
Нельзя отрицать роль науки в нашей культуре. И я не
утверждаю, что мы можем обойтись без науки. Мы не
можем. Принимая участие (или хотя бы не возражая) в
построении окружающей среды, в которой действуют научные
законы — и материально, в технологических продуктах, и
духовно, в идеях, которые руководят нашими решениями, — все
мы, ученые и обычные граждане западной цивилизации,
вынуждены подчиняться их власти. Однако социальные
условия изменяются и наука изменяется вместе с ними. Наука
XVII столетия отвергала преимущества культурного
плюрализма; наука XX века, столкнувшись с целым рядом
разрушительных революций и испытывая влияние социологов и
антропологов, признала плюрализм. Те же самые ученые,
философы, политики, которые поддерживают науку, в то
же самое время изменяют ее и вместе с ней изменяют мир.
Этот мир не является неизменной сущностью, населенной
мыслящими муравьями, которые, ползая по нему,
постепенно раскрывают его особенности, никак не воздействуя
на них. Это динамичная и многоликая сущность, которая
воздействует на ее исследователей и испытывает на себе их
воздействие. Когда-то этот мир был наполнен божеством;
затем он превратился в однообразный материальный мир,
но существует надежда, что он вновь изменится и станет
более доброжелательным миром, в котором материя и жизнь,
мысль и чувство, инновация и традиция будут
сотрудничать на благо всех.
2
Разум, Ксенофан и боги Гомера
\ ационализм и наука завоевывают все новые области
земного шара. Образование внедряет их в мозги детей
«цивилизованных» народов; прогресс заботится о том, чтобы
«примитивные» и «недоразвитые» сообщества могли ими
пользоваться; разработка новых вооружений, которая
является международным предприятием и не зависит от
колебаний политики, вводит их в самые центры власти; даже
самый скромный проект будет принят только в том случае,
если он соответствует научным стандартам. Эта тенденция
обладает некоторыми преимуществами, но имеет также и
серьезные недостатки. «Прогрессивное развитие»,
например, часто порождает обнищание, с которым теперь
пытаются бороться, уничтожает учреждения и культуры,
поддерживавшие жизнь множества людей. Именно эти недостатки
имеют в виду некоторые критики, когда протестуют против
дальнейшей экспансии науки. Они рассматривают
проблемы жизни. Они стремятся к устранению голода, болезней и
страхов, но в то же время осознают опасность научных
технологий. Они работают во имя мира и сохранения
независимости культур, отличных от нашей собственной, и по-
Прощай, разум
119
лагают, что научный рационализм не способен обеспечить
достижение этих целей.
У этой тенденции существуют также другие, более
эзотерические критики. Они не опускаются до таких
плебейских проблем, как санитария или возможность ядерной
войны. Их не интересует повседневная жизнь живых существ —
женщин, мужчин, детей, собак, деревьев или птиц. Их
внимание поглощено властью особых групп. Их власть,
говорят они, возникла в результате экспансии науки.
Например, гуманитарные области ценятся гораздо меньше, чем
естествознание, а такие вещи, как «миф», полностью
утратили свое влияние. Эта критика сопровождается
позитивными предложениями: выделяйте больше средств на
развитие искусств и гуманитарных наук, возродите
мифическую составляющую человеческой жизни!
Такие предложения предполагают четкую разницу
между чистой мыслью с ее искусственными категориями и
мифом или поэтическим воображением с их способностью
схватывать человеческую жизнь как целое и наполнять ее
смыслом. Критики не замечают, что само это различие
является рациональным различием. Они критикуют
рациональность, опираясь на категории, которые были введены
разумом. Гомер не видел разницы между разумом и мифом,
(абстрактной) теорией и (эмпирическим) здравым
смыслом, между философией и поэзией. Может быть, «мифы» и
«поэтическое воображение», о которых говорят
современные эзотерические мыслители, являются лишь мечтами,
отблеском той далекой эпохи, в которую им хотелось бы жить?
И как прийти к явлениям этого мира, его мнениям и
учреждениям, не опираясь на различия, вводимые
рациональным подходом? Я задавал себе эти вопросы, когда
сталкивался с выраженным интересом некоторых интеллектуалов
к тому, что они считали древностью. Чтобы ответить на эти
вопросы, я хочу взглянуть на историю и посмотреть, каким
120
Пол Фейерабенд
образом действовали ранние «рациональные» критики
традиции и как воспринималась их критика. Если говорить
более конкретно, я хочу проанализировать, что говорил
Ксенофан о традициях своего времени.
Ксенофан был одним из первых западных
интеллектуалов. Подобно многим своим последователям, он был
напыщенным болтуном. Однако, в отличие от них, он
обладал большим обаянием. Он не выстраивал
последовательно сконструированных аргументов, поэтому Аристотель
называл его «несколько грубоватым» (agroikoteros —
«Метафизика» 986Ь27) и советовал его читателям забыть о нем,
но у него были эффектные афоризмы. Он вдоль и поперек
изучил старые рассказы Греции и Ионии, но он также
критиковал их и подвергал насмешкам. «Он, грек шестого
столетия до нашей эры, осмелился отвергнуть традиционные
рассказы как устаревшие выдумки!» — пишет Герман
Френкель ([70], с. 341 ). Он все еще использовал старые формы —
эпическую форму и элегию. Фрагмент, на который
ссылается Френкель (фрагмент В1 в нумерации
Дильса—Кранца), звучит приблизительно так:
Чист ныне пол, и руки у всех, и килики чисты.
Кто возлагает венки свитые [всем] вкруг чела,
Кто благовонное миро протягивает в фиале,
Доверху полный кратер с увеселеньем стоит.
Есть и еще наготове вино - отказа не будет -
В амфорах, сладко оно, благоухает цветком.
А посредине ладан святой аромат расточает,
Есть наготове вода - хладна, сладка и чиста.
Поданы желтые хлебы, и стол, почтенья достойный,
Обремененный стоит сыром и медом густым.
Жертвенник, весь утопая в цветах, стоит посредине,
Пеньем охвачен весь дом и ликованьем гостей.
Надобно бога сперва воспеть благомысленным мужам
В благоговейных словах и непорочных речах,
А возлиянье свершив и молитву, да правду возможем,
Прощай, разум
121
А не грехи совершать - так-то ведь легче оно -
Можно и выпить, но столько чтоб выпив, самим воротиться
Без провожатых домой, коли не очень-то стар
Тот из мужей достохвален, кто, выпив, являет благое:
Трезвую память свою и к совершенству порыв.
Не воспевать сражений Титанов или Гигантов,
Иль кентавров - сии выдумки прежних времен -
Или свирепые распри, в которых вовсе нет проку,
Но о богах всегда добру заботу иметь*
Эти поэма обладает разнообразными интересными
особенностями. Во-первых, окружающая среда: это
достаточно скромная вечеринка, участники которой думают о
богах и не пьют сверх меры. В то время некоторые поэты,
например Алкей, восхваляли винопитие само по себе, а
те, которые подражали лидийцам, «были так развращены,
что, будучи пьяными, не видели ни восхода, ни заката
солнца» (пересказ Афинеем конца фрагмента 3), Ксенофан
же советует своим сотрапезникам пить умеренно, чтобы
помощь раба-провожатого потребовалась потом лишь тому,
кто действительно стар. Врач Афиней, живший в первом
столетии до н.э., заметил значение этого фрагмента для
медицины и процитировал его в своей книге о диетическом
питании.
Вторая интересная особенность связана с содержанием
разговоров. Беседы ведутся не о войнах и эпических
сражениях, а о личном опыте собеседников, о том, что
сохраняет им трезвая память, и о желании совершенства в
добродетели. Согласно Ксенофану, популярности подобных
тем не способствовали ни Гомер (поэмы которого даже в
демократических Афинах служили основой формальной
образованности; см. [252], глава 3), ни существовавшая в
то время мода на спортивные достижения:
* Фрагменты ранних греческих философов, [266], с. 169.
122 Пол Фейерабенд
Если кто скоростью ног одержит победу [в ристаньи]
Иль в пятиборьи - там, где Зевса священный удел,
У Писийских берегов в Олимпии - или в бореньи
[В первые выйдет], а то - в тяжком кулачном бою,
Иль в состязаньи ужасном, которое кличут «панкратий»,
Сразу в глазах горожан станет он много славней,
Станет сидеть впереди на видном месте в агонах,
Станет паек получать он за общественный счет
От государства, на память дадут ему ценный подарок.
Кони его победи — то же получит сполна!
Хоть не достоин того он, что я, ибо лучше, чем сила
Мужей или коней наше уменье [стократ].
Вздорен обычай сей, право, и несправедливо к тому же
Силу предпочитать мудрости [нашей] благой.
Будь среди граждан хотя бы кулачный боец превосходный,
Будь в пятибории кто или в искусстве борьбы,
Будь хоть в скорости ног — а это ценится выше
Всех состязаний, поди, в силе промежду мужей -
Благозакония тем не станет в городе больше.
Радость невелика городу, ежели кто
Близ Писийских брегов в состязаньи одержит победу:
Ведь городская казна этим не станет жирней!*
«Обильное питание этих людей (атлетов) нас не
удивляет, — пишет Афиней в связи с этим фрагментом. — Все
участники игр были вынуждены есть и упражняться». Но
нет пользы городу в том, чтобы считать их образцом и
гордиться ими, говорит Ксенофан.
Однако Ксенофан не только выступал против
культурных тенденций своего времени. Согласно мнению
большинства современных мыслителей, он раскрывал
основания этих тенденций и подвергал ихкритике. Прежде всего,
он подверг критике мысль о том, что существуют боги,
похожие на людей, которые столь же жестоки, гневливы и
вероломны, как герои эпических поэм, и которые влияют на
♦Там же, с. 169-170.
Прощай, разум
123
историю. Эта критика, как утверждали впоследствии его
почитатели, привела к возникновению рационализма. Так
ли это? Являются ли возражения Ксенофана против
традиционных форм мышления действительно столь глубокими
и столь плодотворными, как считают многие философы?
Вынуждают ли они нас в самом деле отказаться от старой
идеи богов, обладающих человеческими особенностями и
действующих в этом мире?
«Аргумент» Ксенофана, насколько нам известно,
весьма краток. Он состоит из следующих утверждений:
Все на богов возвели Гомер с Гесиодом, что только
У людей позором считается или пороком:
Красть, прелюбы творить и друг друга обманывать [тайно]»*.
«Но люди мнят, что боги были рождены,
Их же одежду имеют, и голос, и облик [такой же].
Если бы руки имели быки и львы или <кони>,
Чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди,
Кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих
Образы рисовали богов и тела их ваяли,
Точно такими, каков у каждого собственный облик.
Эфиопы черными и с приплюснутыми носами,
Фракийцы - рыжими и голубоглазыми**...
Вот что сказали по поводу этих строк некоторые
современные авторы. Гатри ([85], т. 1, с. 370) говорит о
«разрушительной критике». Мирча Элиаде, в иных отношениях
очень неглупый автор, превозносит «острый критицизм
Ксенофана» ([50], т. 2, с. 407). Наконец, Карл Поппер,
который хочет видеть в Ксенофане одного из своих
важнейших предшественников, толкует эти фрагменты как «откры-
* Фрагменты 11, 12. — Там же, с. 171.
** Фрагменты 14, 15, 16. — Там же, с. 171.
124
Пол Фейерабенд
тие того факта, что рассказы греков о богах нельзя
принимать всерьез, ибо они представляют богов в виде
человеческих существ» ([193], с. 218); он также говорит о
«критике».
Позитивные взгляды Ксенофана на богов или его
«теология» содержатся в следующих строчках:
[Есть] один [только] бог, меж богов и людей величайший,
Не похожий на смертных ни обликом, ни сознаньем.
Вечно на месте одном пребывает, не двигаясь вовсе,
Переходить то туда, то сюда ему не пристало.
Весь целиком он видит, весь сознает и весь слышит.
Но без труда, помышленьем ума он все потрясает5".
Интересно посмотреть, какой эффект это учение
произвело в античности. У нас есть цитаты важнейших фраз у
Эсхила (см. первое добавление в работе Г. Калоджеро [21])
и комментарий Тимона из Флиунта, ученика скептика Пир-
рона (цитируется у Диогена Лаэрция и с небольшими
различиями у Секста Эмпирика). Тимон писал:
В меру небредовый Ксенофан, бичеватель гомерообмана,
Эк выдумал бога: непохожего на людей, повсюду равного,
<Незыблемо>, неуязвимого, разумнее разума!**
Тимон называет бога Ксенофана «непохожим на
людей». И он действительно бесчеловечен — но не в том
смысле, что лишен антропоморфных черт, а в совершенно ином
смысле: определенные человеческие свойства, такие как
Мышление, Видение, Слышание или Намерения, в нем
* Фрагменты 23, 26, 24, 25. — Там же, с. 172-173.
** Там же, с. 166.
Прощай, разум
125
чудовищно преувеличены, а другие, уравновешивающие
первые свойства — терпимость, симпатия или боль,
устранены. «Вечно на месте одном пребывает, не двигаясь
вовсе», — подобно королю или высшему сановнику,
которому «переходить то туда, то сюда... не пристало». Перед
нами не только существо, превосходящее человека
(следует ли его за это восхвалять?), номонстр, гораздо более
ужасный, чем слегка аморальные гомеровские боги. Тех хотя бы
можно было понять, к ним можно было обращаться,
пытаться повлиять на них, их можно было иногда обмануть,
можно было удержать их от нежелательных действий
посредством молитв, жертвоприношений, аргументов.
Существовали личные взаимоотношения между гомеровскими
богами и миром, которым они руководили (и порой
разрушали). Бог Ксенофана, который все еще обладает
человеческими чертами, хотя и гротескно преувеличенными, не
допускает подобных отношений. Странно и, по крайней
мере для меня, немного страшновато видеть, с каким
энтузиазмом многие интеллектуалы приветствуют этого
монстра, рассматривая его как первый шаг на пути к «более
тонкой» интерпретации божественности. С другой стороны,
такое отношение вполне понятно, ибо сохраненные
человеческие черты являются теми чертами, которыми хотели
бы обладать многие интеллектуалы: чистое мышление,
способное потрясать все вокруг, сверхзрение, сверхслух (для
сбора интеллектуальных сплетен?) и отсутствие чувств.
Суммирую: Ксенофан высмеивает традиционных богов
за их антропоморфные черты. Взамен он предлагает некое
существо, которое все еще антропоморфно, но уже
бесчеловечно, вдобавок он и сам не знает, о чем говорит:
Истины точной никто не узрел и никто не узнает
Из людей о богах и о всем, что я только толкую*.
* Фрагмент 34. — Там же, с. 173.
126
Пол Фейерабенд
И это Поппер называет «открытием, что рассказы
греков о богах нельзя принимать всерьез, ибо они
представляют богов в виде человеческих существ».
Теперь я обращаюсь к фрагментам, содержащим
критику, и ставлю вопрос: имеем ли мы здесь дело с критикой
ил и с простым отрицанием идеи местных божеств,
наделенных свойствами того региона, в котором они
господствуют? Ответ: со вторым. Это отрицание становится критикой,
если предположить:
(А) что понятие божества (или, выражая это в более
общих терминах, понятие Истины или Бытия), которое
изменяется от одной культуры к другой, вообще не имеет
значения или, обратно, что понятие божественности (понятие
истины или бытия) должно быть общезначимо;
(Б) что признание критики опирается на (А), по
крайней мере неявно. Только тогда насмешка попадает в цель.
В противном случае оппонент всегда может возразить: «Вы
говорите не о наших богах, которые являются племенными
божествами, которые заботятся о нас, выглядят
похожими на нас, живут в соответствии с нашими обычаями, хотя
и обладают сверхчеловеческой силой. Вы говорите об
изобретенном вами интеллектуальном монстре, которым вы
меряете всех других богов. Но к нам это не имеет
никакого отношения». Эту насмешку можно даже обратить,
как показывает характеристика Тимона: «Ксенофан, би-
чеватель гомерообмана, эк выдумал бога: непохожего на
людей, повсюду равного, незыблемого, неуязвимого,
разумнее разума!».
Многие современные авторы хвалят Ксенофана за
допущение (А). Не все из них искренни в своих похвалах, ибо
не все верят в то, что мир управляется божественными
силами. Эти авторы имеют в виду не сверхличность, а нечто
более абстрактное — закон природы, универсальную
истину или материальное единство. Не обращая внимание на
Прощай, разум
127
этот фактор популярности Ксенофана, хочу указать еще на
то, что далеко не все принимают утверждение (А), что
существуют авторы и даже целые культуры, которые и до, и
после Ксенофана явным образом отрицали его. Так,
Посейдон в «Илиаде» (15, 187—193) говорит:
Трое нас братьев, от Крона рожденных великою Реей:
Зевс и я, а третий - Аид, преисподних владыка.
На три мы все поделили, и часть получил свою каждый.
Жребий мы бросили, - выпало мне пребыванье вовеки
В море седом, а подземный безрадостный сумрак - Аиду,
Небо широкое Зевс получил в облаках и в эфире.
Общими всем нам земля и высокий Олимп остаются.
Жить потому я не буду под Зевсовой волей. Спокойно,
Как ни могуч он, пускай при уделе своем остается.
Согласно этому отрывку, мир природы, как и
политический мир, разделен на области, подчиняющиеся разным
(естественным) законам. Е.М. Корнфорд комментирует
этот отрывок и входящие в него термины ([28], с. 16).
Слово «Moira», переведенное как «удел» (в англ. — «share»),
означает «часть», «выделенная часть», таков также
первоначальный смысл слов «жребий» или «судьба». Возражения
Посейдона показывают, что боги, как и люди, имели свои
moriai: каждому богу в качестве области его деятельности
дана определенная часть мира. Эти части не только четко
отделены одна от другой, они качественно различны (небо,
вода, подземный мрак) и наполнены элементами, которые
первоначально были присущи этим областям и лишь
впоследствии получили распространение в космосе. Каждая
область, предоставленная какому-то божеству, определяет его
статус (time) — детерминирует его положение в
квазисоциальной системе. Этот статус иногда называется его
привилегией (géras). В рамках данной области власть божества не
подвергается сомнению, однако оно не должно переступать
128
Пол Фейерабенд
ее границ, иначе столкнется с открытым сопротивлением
(nemesis). Таким образом, мир в целом представляется как
некая совокупность частей, причем каждой частью
управляет особое божество, поэтому (Б) ошибочно.
Сложный характер гомеровского мира проявлялся не
только в целом, но и в самой малой его части. Не было
понятий, которые соединяли бы в единое целое человеческое
тело и душу, не существовало средств представления,
которые позволили бы художнику дать зрительное выражение
такого единства. И концептуально, и зрительно
человеческие существа уподоблялись тряпичным куклам, сшитым из
относительно изолированных элементов (руки, ноги,
туловище, шея, голова с глазами, которые сидят на своем
месте, но ни на что не «смотрят»). Эти куклы функционируют в
качестве временного прибежища совершающихся событий
(идей, снов, чувств), возникающих сами собой и на
короткое время сливающихся с конкретным человеком. В этом
мире нет действий в нашем смысле; герой не принимает
решения осуществить некоторое действие, он находит себя
включенным в некоторый ряд действий, и вся его жизнь
протекает точно так же. Все предметы, животные, колесницы,
города, географические области, исторические
последовательности событий, племена — все представляются таким
«аддитивным» образом, все они совокупности, лишенные
«сущности» или «субстанции».
Это справедливо и для мировоззрения. В религии
господствует оппортунистический эклектизм, который не
стесняется добавлять чужих богов к уже признанным, если это
обещает некоторые преимущества; разные варианты одной
и той же истории мирно соседствуют друг с другом
(Геродот (vii, 152, 3) это возвел в принцип: legein îa legomena) и
даже «новейшие» и выхолощенные идеи ионийских
философов (Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена) не нарушают
традиции. Не существовало непротиворечивого знания, т.е.
Прощай, разум
129
единого понимания мира и его событий. Не существовало
исчерпывающей истины, возвышающейся над
перечислением деталей, но было много кусочков информации,
полученных разными способами из различных источников и
собранных для удовлетворения любознательности. Лучшим
способом представления такой информации является
список, и старейшие научные работы действительно были
списками фактов, частей, совпадений, проблем из разных
специальных областей. Боги обладали полным знанием. Это
не означает, будто их взгляд проникал в скрытое единство
внешних событий — они не были теоретическими
физиками или биологами, — просто в их распоряжении были
самые полные списки. Даже ранние понятия законности
согласуются с этой ситуацией: nomos происходит от nemein\ в
«Илиаде» это слово употребляется в смысле распределения
или приписывания к некоторой области. (Подробности и
дальнейшие цитаты приведены в главе 17 моей книги
«Против метода» и в готовящейся к печати книге «Стереотипы
реальности»).
Резюмируем: (А) и (Б) неприменимы к миру Гомера;
Ксенофан отверг это мировоззрение, однако не дал нам
никаких аргументов против него.
Возвращаясь теперь к авторам, которые писали после
Ксенофана, мы замечаем, что некоторые из наиболее
просвещенных писателей либо не обращали на него внимания,
либо шли иным путем. Эсхил, находившийся «под сильным
влиянием» Ксенофана (Калоджеро [21]), с. 293, примеч. 16),
с одной стороны, придает богам гораздо большую
духовную власть и посредством этого делает их менее
человечными; с другой стороны, они у него принимают участие в
жизни города (в последней части «Орестеи» Афина
председательствует на совете афинских граждан и голосует вместе
с ними). Следовательно, они стоят ближе к интересам лю-
5— 1509
130
Пол Фейерабенд
дей. Таким образом, боги Эсхила действуют менее
произвольно и более ответственно, нежели боги Гомера, причем
произвольность и ответственность измеряются
стандартами города. По сравнению с богами Гомера и Гесиода это
делает их гораздо ближе даже кспособам действия людей. И
конечно, боги Эсхила все еще были прежними богами, а не
сверхмонстром Ксенофана.
Затем Софокл возродил произвольность гомеровских
богов. Пытаясь объяснить внешне иррациональный способ
распределения среди людей счастливых и несчастливых
судеб, он приписывает это действиям своенравных и
иррациональных божеств (см., например, «Электра» 558 и
далее). Геродот, терпимость которого по отношению к
разным вариантам изложения одних и тех же событий уже
формально выражала это мозаичное мировоззрение,
подтверждал эмпирическими аргументами существование
божественного вмешательства. Его анализ социальных
законов и обычаев опирается на региональное понятие
значимости, содержание которого можно кратко выразить
следующим утверждением:
Обычаи, законы, религиозные верования правят, подобно
царям, в ограниченной области. Их правление опирается на
двойной авторитет - на их власть (которая есть не что иное, как
власть тех, кто верит в них) и на тот факт, что это законная власть.
Эту точку зрения Протагор распространил на все
области, с которыми имеют дело люди, включая
«онтологические вопросы». В этом состоял релятивизм Протагора.
Релятивизм Протагора отвергает оба допущения,
которые превращают насмешку Ксенофана в аргумент, и,
таким образом, согласуется с базисными принципами
гомеровского мировоззрения. Это свидетельствует о том, что
последователи Протагора и Геродота не были ленивцами,
которые, достигнув границ своего города, народа или reo-
Прощай, разум
131
графической области, останавливались и не желали искать
универсальную Истину или универсальные Каноны
Значимости, довольствуясь набором локальных мнений. Их
философия была точным отображением того мира, в котором
жили их предки и который все еще руководил мышлением
и восприятием их современников. Платоновский Сократ
постоянно имеет дело с людьми, которые на вопросы «Что
есть знание?», «Что такое добродетель?» или «Что такое
мужество?» отвечают, приводя списки (см. об этом: К. До-
вер [35]). Но если мир представляет собой совокупность
относительно независимых областей, то любое допущение
универсальных законов ложно, а требование
универсальных норм является деспотическим: только грубым
насилием (или обманом) можно так исказить разнообразные
моральные представления, что все они будут согласовываться
с единственной этической системой. Действительно, идея
универсальных законов природы и общества возникает в
связи с битвой не на жизнь, а на смерть, — битвой, которая
дала Зевсу власть над титанами и всеми другими богами и,
таким образом, превратила его законы в законы всего
универсума (Гесиод, «Теогония», 644 и далее).
Идея универсальной истины и универсальной
нравственности играла важную роль в истории западного мышления
(и западной политики). Она часто выступала в качестве
меры, посредством которой оценивались теоретические и
практические достижения, и служила оправданием
неудержимой экспансии западной цивилизации во все уголки
мира. По иронии судьбы именно эта экспансия раскрыла
насильственное происхождение распространяемой
культуры: достижения Запада редко вызывали интерес и едва ли
западных колонизаторов когда-либо приглашали для того,
чтобы осчастливить «примитивные» народы (или китайцев,
японцев, индийцев), обладавшие собственной развитой
культурой. Замечание о том, что релятивистская философия не
132
Пол Фейерабенд
имеет значения по сравнению с этим почти неизбежным
развитием, конечно, верно, однако оно лишь подтверждает ту
(релятивистскую) идею, что популярность философских
позиций есть результат силы (или обмана), а не аргументации:
регионализм естественных явлений никогда не был преодолен
ни философами, ни учеными, а регионализм социальных
явлений был сокрушен насилием, но не этическими доводами.
При рассмотрении первой части этого утверждения мы
должны осознать, что единого воззрения на физический
мир просто не существует. У нас есть теории, которые
«работают» в ограниченных областях. Предпринимаются
чисто формальные попытки выразить их в единых формулах.
Имеется какое-то количество необоснованных
предположений (например, предположение о том, что вся химия
может быть сведена к физике). Феномены, которые нельзя
втиснуть в признанные структуры, замалчиваются. В
физике, которая многими учеными считается подлинно
фундаментальной наукой, мы имеем по крайней мере три
разные точки зрения (теория относительности, имеющая дело
с гигантскими величинами, квантовая теория для
промежуточной области и разнообразные модели элементарных
частиц для предельно малых величин) без какой-либо
перспективы на их концептуальное (а не только формальное)
объединение. Чувственные восприятия находятся вне
материального мира (проблема соотношения духа и тела все
еще не решена), поэтому проповедники универсальной
истины с самого начала обманывали людей вместо того,
чтобы представить ясные аргументы в пользу своей
философии. Не будем забывать, что именно они, а не
представители традиций, ввели аргумент в качестве единственного
универсального арбитра. Они восхваляли аргументацию, и они
же постоянно нарушали ее принципы. Насмешка Ксено-
фана была первым, кратким и ясным примером такого
двоемыслия.
Прощай, разум
133
В социальной области ситуация еще хуже. Здесь мы
сталкиваемся не только с крушением теорий, но и вообще с
нарушением всех приличий. Лишь немногие защитники
индустриального и промышленного прогресса
рассматривали громадное разнообразие точек зрения и культур,
существующих на земле, как проблему, и вряд ли какой-то
политик, колонизатор или прогрессист был готов
обосновывать то, что мог навязать силой (исключения
встречаются, но слишком редко). Поэтому возрастание
единообразия в «цивилизованных» обществах отнюдь не
свидетельствует о том, что релятивизм потерпел крушение. Это
говорит лишь о том, что сила способна уничтожить все различия.
Я заканчиваю примером, который показывает,
насколько некритично принимают некоторые наши
современники базисные допущения Ксенофана (допущения А и Б).
Примером этим является не теория и не философская
точка зрения, а поэма Чеслава Милоша. Эта поэма несколько
наивна, и ее недостатки можно указать в нескольких
строчках. Не значит ли это, что люди перестали думать о вещах,
влияющих на их жизнь, и что пустые фразы, искусно
составленные вместе, влияют на них сильнее, чем здравый
смысл? У Ксенофана были странные воззрения, но он
выказал признаки ума (и чувства юмора). Я не вижу таких
признаков в следующем отрывке:
ЗАКЛЯТЬЕ*
(1 ) Человеческий разум прекрасен и непобедим;
Ни заставы, ни колючая проволока, ни уничтожение книг,
Ни изгнание не могут одолеть его.
Он выражает универсальные идеи в языке
* Дается в переводе с английского, согласно тексту П. Фейерабенда.
134
Пол Фейерабенд
(5) и повелевает нашей руке писать Истину и Справедливость
С большой буквы, а ложь и угнетение - с маленькой.
Он говорит, что вещи должны быть выше, чем они есть,
Он враг отчаяния и друг надежды.
Он не проводит различия между иудеем и эллином,
рабом и господином,
( 10) Давая нам возможность управлять миром.
Он спасает ясные и четкие фразы
От мерзкого диссонанса вымученных слов.
Он говорит, что каждая вещь нова под солнцем,
Раскрывает окаменевшие тайны прошлого.
(15) Прекрасны и очень юны Философия
И Поэзия, его сподвижники в деле Добра.
Не далее как вчера Природа отметила его рождение.
Эту новость донесли до вершин единорог и эхо.
Их дружба будет прекрасна, их время безгранично.
(20) Их враги обрекают себя на уничтожение.
«Уничтожение» (20) угрожает оппонентам не-региональ-
ного Разума, стремящегося «управлять миром» (10) без
«мерзкого диссонанса вымученных слов» (12), т.е. без
демократического обсуждения. Это верно, хотя и не в том смысле,
который подразумевает Милош: «уничтожение»
действительно устраняет все те небольшие и хорошо
приспособленные сообщества, которые встречались на пути
экспансии западной цивилизации, хотя они и пытались защищать
свои права с помощью «вымученных слов». С другой
стороны, благородный Разум едва ли является «непобедимым»
(1); пророки, коммивояжеры, политиканы попирают его
ногами, кажущиеся друзья искажают его в угоду своим
намерениям. Науки прошлого забрасывали нас полезными и
ужасными дарами, но при этом они не обращались к
единственной и «непобедимой» силе. Науки сегодняшнего дня
превратились в бизнес. В крупных институтах
исследования направляются не Истиной и Разумом, а ожидаемым
вознаграждением, и наиболее сильные умы в возрастающей
Прощай, разум
135
степени устремляются туда, где платят деньги — в сферу
вооружений. В наших университетах учат не «Истине», а
мнениям влиятельных школ. Как установил Жан Амери, не
Разум или Просвещенность, а твердая вера (в Библию или в
марксизм) позволяла людям выжить в гитлеровских
тюрьмах. «Истина», написанная «с большой буквы» (6), —
сирота в этом мире, не обладающая ни властью, ни
влиянием. И это очень хорошо, ибо то, что под этим именем
прославляет Милош, привело бы к самому жестокому рабству.
Она не может устоять среди разнообразных мнений и
называет их «ложью» (6); она ставит себя «выше» (7)
реальной жизни конкретных людей, присваивая себе право —
совершенно в духе тоталитарных идеологий —
перестраивать мир с высоты того, «чем они должны быть» (7), т.е. в
соответствии со своими собственными «непобедимыми»
предписаниями (1). Она отказывает в признании многим
идеям, действиям, чувствам, законам, учреждениям,
особенности которых отличают один народ (культуру,
цивилизацию) от другого и которые только и делают наслюдь-
ми, т.е. особыми личностями (9).
Именно эта позиция уничтожила достижения индейцев
в США, не обратив на них ни малейшего внимания; теперь
она уничтожает не-западные культуры под лозунгом
«прогрессивного развития». Эта вера в Истину и Разум
напыщенна и самодовольна, демократическое обсуждение для
нее — лишь «мерзкий диссонанс вымученных слов» (12),
поэтому она мало информирована: философия никогда не
была «подругой» поэзии — ни во времена античности,
когда Платон говорил о «старом столкновении между
философией и поэзией», ни в наши дни — когда Истину ищут в
науке, а поэзия сведена к выражению чувств. Разум
простых людей пытается создать нечто лучшее и спасти мир
для себя и своих детей. Но это разум с маленькой буквы, и
он не имеет ничего общего с этой невежественной и ирра-
136
Пол Фейерабенд
циональной мечтой о господстве. К сожалению, здравый
смысл слишком прост для того, чтобы произвести
впечатление на интеллектуалов, поэтому они давно отбросили его
и заменили своими собственными концепциями, связав их
с политической властью. Мы должны ограничить их
влияние, оторвать их от власти и превратить их из господ
свободных граждан в их самых послушных рабов.
3
Знание и роль теорий
1. Существование
ир, в котором мы живем, включает в себя огромное
количество вещей, событий, процессов. Существуют деревья,
собаки, восходы солнца; существуют облака, грозы,
разводы; существуют справедливость, красота, любовь;
существует жизнь людей, богов, городов, всей Вселенной.
Невозможно перечислить и подробно описать все события, с
которыми сталкивается человек на протяжении одного дня.
Не все живут в одном и том же мире. События,
окружающие жителя лесов, отличаются от событий, с которыми
сталкивается городской житель, заблудившийся в лесу. Это
действительно разные события, а не разные явления одних
и тех же событий. Эта разница становится очевидной,
когда мы знакомимся с иной культурой или погружаемся в
отдаленную историческую эпоху. Греческие боги
присутствовали в жизни; «они были здесь»64. Сегодня их вновь можно
найти. «Эти люди являются фермерами, — пишет Э. Смит-
Боуэн об одном африканском племени, с которым она
познакомилась65. — Растения для них столь же важны и зна-
M
138
Пол Фейерабенд
комы, как люди. Я никогда не бывала на ферме и даже не
знала, какими бывают бегонии, георгины или петунии.
Растения, подобно алгебраическим уравнениям, имеют
привычку выглядеть похожими, а быть разными, или
выглядеть разными, а быть похожими, поэтому математика и
ботаника всегда смущали меня. Впервые в моей жизни я
находилась в обществе, в котором десятилетние дети не
уступали мне в математических знаниях. Я оказалась в
таком месте, где каждое растение, дикое или культурное,
имело имя и применение, где каждый мужчина, женщина
и даже ребенок знали сотни растений... (мой инструктор)
никак не мог понять, что не слова, а растения сбивают меня
столку».
Замешательство возрастает в тех случаях, когда
объекты, с которыми сталкивается исследователь, не только не
знакомы ему, но даже непостижимы для его мышления.
Флективные языки говорят о вещах, обладающих
свойствами и находящихся в определенных отношениях друг с
другом: снег кружится вместе с ветром, он падает на землю, во
время бури он образует вихри. Одна и та же вещь, снег,
включается в различные эпизоды. С другой стороны,
индейцы делавары рассматривают мир подобно художнику,
который использует различные кисти, разные краски и
мазки для изображения разных эпизодов, включающих
снег66. Они не только не замечают «снега», они не могут
даже вообразить себе, что «такое» существует. «Там, где мы
склонны использовать законченные, вполне устоявшиеся
слова или части речи, эскимос создает новые комбинации,
предназначенные специально для его конкретной цели и
конкретной ситуации. В отношении словообразования
эскимос постоянно находится в состоянии порождения.
Слова рождаются у него на языке под воздействием данного
момента». В повседневных разговорах используется от 10
до 15 тысяч слов. Речь есть поэзия, и поэзия включена в
Прощай, разум
139
повседневность, она вовсе не является исключительным
достоянием особо одаренных и специально подготовленных
индивидов. Пространство, время, реальность изменяются,
когда от одного языка мы переходим к другому. Согласно
нуэрам, время не ограничивает человеческого действия,
оно есть часть действия и следует его ритму: «нуэры... не
могут говорить о времени так, как если бы оно было чем-
то актуальным, чем то, что проходит, что можно ждать,
что можно экономить и т.п. Я не думаю, чтобы они когда-
либо испытывали чувство борьбы со временем или
сопоставляли свои действия с абстрактными отрезками
времени, поскольку они говорят, главным образом, о самих
действиях, которые носят неторопливый характер...»67. Для
хопи удаленное событие является реальным только тогда,
когда оно является прошлым; для западного бизнесмена
событие находится в настоящем только тогда, когда он в
нем участвует. Миры, в которых развертываются
культуры, не только содержат разные события, они также
содержат их разными способами.
2. Знание
Индивиду, живущему в конкретном мире, нужны
знания. Громадное количество знаний обусловлено
способностью замечать и интерпретировать такие явления, как
облака, линию горизонта во время путешествий по океану68,
лесные звуки, поведение больного человека и т.п.
Выживание индивида, племени и всей цивилизации зависит от этого
знания. Наша жизнь была бы совсем не такой, если бы мы
не понимали мимики людей, их жестов, если бы не
реагировали на их настроение.
Лишь какая-то часть этого «неявного знания»69 может
быть выражена в речи, и если это происходит, то знание
того же самого рода необходимо для связи слов с соответ-
140
Пол Фейерабенд
ствующими действиями. Знание заключено в способности
решать определенные задачи. Знание танцора содержится
в его конечностях, знание экспериментатора — в руках и
глазах, знание певца — в языке, горле, диафрагме. Знание
содержится в способах речи, в гибкости нашего
лингвистического поведения70: знание языка неустойчиво, оно
содержит элементы (двусмысленности, аналогии, образцы
аналогичных рассуждений), которые могут быть изменены
в любой конкретной ситуации.
Язык и чувственное восприятие взаимодействуют.
Каждое описание наблюдаемого события включает в себя то,
что можно назвать его «объективной» стороной — мы
осознаем, что оно «подходит» к определенной ситуации, — и
субъективные элементы: процесс наложения описания на
ситуацию изменяет ее. Черты, опущенные в описании,
отходят на задний план, а то, что подчеркнуто в описании,
становится более отчетливым. Это заметно, когда
описание вводится впервые; когда же употребление описания
становится привычным, искажение перестает
осознаваться. Кажущаяся объективность знакомых «фактов»
является результатом привычки, соединенной с
забывчивостью и поддерживаемой генетической
предрасположенностью, эта объективность не есть результат глубокого
понимания71.
Что верно для языка, то верно и для всех иных средств
репрезентации. У карикатуры есть «объективное» ядро,
поэтому мы узнаем ее объект, но она предлагает нам
взглянуть на этот объект «субъективно» — глазами некоего
индивида или группы (например, портреты Кокошки). Новый
взгляд на вещи может стать настолько привычным, что их
узнавание без него оказывается невозможным, — теперь он
становится «частью реальности» или, если выразить это
иначе, первоначальная «реальность» становится
«субъективной», хотя и распространенной точкой зрения. Новел-
Прощай, разум
141
лы, басни (с явной моралью или без нее), трагедии, поэмы,
церковные службы, например Месса, концептуальные
построения, научная аргументация, научные истории,
передачи новостей, документальные свидетельства возбуждают,
укрепляют или придают содержание сходным процессам:
события структурируются и упорядочиваются особым
образом, эти структуры получают распространение, они
становятся привычными. Интеллектуалы заинтересованы в
сохранении этой рутины, связывая ее с «основаниями» и
показывая, что она приводит к важным результатам (большая
часть теорий познания представляет собой многословную
защиту существующей или зарождающейся рутины).
Распространенные практики и воззрения подтверждались той
«реальностью», которая ими и создавалась. Эти
трансформации лучше всего заметны в истории, политике и в
социальных науках. Социальная история Французской
революции, кроме имени, не имеет ничего общего с
повествованиями о королях, генералах, войнах. «Образы писателей,
дошедшие до последующих поколений, условны, а порой
находятся в прямом противоречии с действительностью...
Мы иногда говорим «штурмовать бастилии», хотя
Бастилию никто не штурмовал — 14 июля 1789 года было одним
из эпизодов Французской революции; парижане легко
проникли в тюрьму, где оказалось очень мало заключенных.
Однако именно взятие Бастилии стало национальным
праздником Республики». Так пишет И. Эренбург. СЕ. Лурия
замечает, что «прикосновение к крупному социальному
событию дает особый опыт. Для историка такое событие
представляет собой сцепление причин и следствий; для
журналиста — мозаику поступков, побуждаемых разными
интересами. Великие события человеческой жизни — чума в
Милане для Манзони или отступление французов из
Москвы для Толстого — для великого писателя становятся
стимулом для раскрытия как худших, так и лучших сторон че-
142
Пол Фейерабенд
ловеческой души. Однако для участников этих событий, не
принадлежащих к кругу пишущих, они распадаются на
множество мелких явлений, каждое из которых сводится к
решению некоторой проблемы — к поступку»72. Нельзя лучше
сказать о том, как «круг пишущих» создает «важные
исторические события» из хаотичного (и для них неинтересного)
множества событий, включенных в жизнь неразличимых (для
них) людей, и как пустышки становятся «главными
историческими факторами» процесса.
Конфликт между «реальностями», создаваемыми
разными подходами, становится вполне очевидным, когда один
из подходов оказывается частью популярного
политического (научного или религиозного) движения. В качестве
примера можно указать на недавние дебаты по поводу
восстания в Варшавском гетто. Участники и комментаторы
национального толка или принадлежавшие левым
партиям рассматривали это восстание как героический подвиг.
Для Марека Эдельмана, который также участвовал в
дискуссии, но не являлся сторонником этих идеологий, это
восстание было незначительным эпизодом в абсурдной череде
событий. Другим примером является суд над Галилеем. Это
было весьма незначительное событие в историческом
контексте того времени. Галилей дал обещание, нарушил его и
пытался отсидеться в укрытии. Искали компромисс и
нашли его. Галилей продолжал писать и тайно распространял
свои сочинения за пределами Италии. Он был более
удачлив, менее решителен и, безусловно, не столь отважен, как
Бруно. Однако современные ученые, которым нужны свои
герои и которые считают научное знание столь же
священным, как Библия в глазах Церкви, превратили осуждение
беспокойного нечестивца в битву гигантов.
Знание может быть устойчивым и может находиться в
движении. Оно может существовать в виде распространен-
Прощай, разум
143
ных убеждений, принимаемых всеми, а может
принадлежать только отдельным индивидам. У последних оно
может иметь вид общих правил, которые они выучили, а
может существовать в виде способности рассматривать новые
ситуации с помощью воображения. Законы Хаммурапи и
кодекс Драконта были записаны; закон Моисея в течение
долгого времени был частью общей устной традиции и мог
быть высказан в явном виде в случае необходимости;
грамматические «законы» языков американских индейцев и
суждения «старцев, сидящих на гладко обтесанных камнях»
(Илиада 18, 504), представляли собой изобретательные
реакции на конкретные проблемы. Даже современные судьи,
опирающиеся на записанные своды правил и тома прошлых
судебных решений, вынуждены обращаться к своему
интуитивному знанию при вынесении приговоров.
Изобретение письменности создало новые типы знания
и положило начало интересным дискуссиям. Ранние
формы письменности не имели отношения к речи. Они
служили для вычислений и для записи торговых сделок73.
Использование письменности для сохранения более существенной
информации было подвергнуто критике Платоном.
«Ты знаешь, Федр, - говорит Сократ («Федр», 275d2 и
ел.), - в этом дурная особенность письменности, поистине
сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а
спроси их - они величаво и гордо молчат. То же самое и с
сочинениями: думаешь, будто они говорят, как разумные
существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они
говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же.
Всякое сочинение, однажды записанное, находится в
общении везде - и у людей понимающих, и, равным образом, у
тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем
оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или
несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего
отца, само же не способно ни защититься, ни себе помочь»
(Платон. Соч. в 4-х томах, т. 2).
144
Пол Фейерабенд
Получение знания, согласно этому пониманию, есть
процесс, включающий в себя учителя, ученика и
(социальную) ситуацию, в которой оба находятся. Результат
этого процесса — знание — может быть понятен только тем,
кто участвует в нем. Записанное помогает им вспомнить
этапы этого процесса. Однако оно не способно заменить
сам процесс, поэтому бесполезно для постороннего
человека. Позднее, когда философия превратилась в
академическую дисциплину и когда возросло значение статей и
трактатов, исторические компоненты знания отступили на
задний план. Знание стали определять как то, что можно
извлечь из написанных страниц74. Сегодня считается
несомненным, что история конкретного куска информации не
важна для понимания его содержания.
«Содержанием науки, - пишет С Е. Лурия [147, с. 1 23] в
уже цитированном отрывке, - является совокупность находок
и обобщений, имеющихся сегодня, - это срез процесса
научного исследования в данный момент времени. Движение
науки я рассматриваю как самоочищение - в том смысле, что
выживают лишь те элементы, которые становятся частью
действующего корпуса знания. Модель молекулы ДНК, разработанная
Криком и Уотсоном, выстояла благодаря своим собственным
достоинствам... История того, как была найдена модель ДНК,
сколь бы интересной она ни казалась, не имеет большого
значения для операционального содержания науки».
Большинство философов науки с этим согласно и
добавляет сюда собственные соображения о различии между
контекстом открытия и контекстом обоснования: контекст
открытия говорит об истории конкретной порции знания,
а контекст обоснования раскрывает ее содержание и
причины признания. Только второй контекст интересует
ученого (и философа, подметающего за ним всякий сор). Тем
не менее платоновская концепция познания (изложенная
Прощай, разум
145
в приведенной выше цитате из «Федра») сейчас вновь на
подъеме. Значительные части современной математики,
физики, молекулярной биологии, геологии опираются на
устную культуру, содержащую неопубликованные
результаты, методы и предположения и придающую смысл тому,
что уже опубликовано. Лаборатории, конференции,
семинары в ведущих исследовательских центрах не только
добавляют новую информацию к содержанию книг и статей,
они разъясняют это содержание и показывают, что она не
может быть самодостаточной. Чистая математика в
большей мере, чем любая другая область, превратилась в
«живой дискурс», который Платон считал единственно верной
формой познания. Хотя «герменевтическая» школа в
философии гораздо менее ясна и гораздо более многословна,
чем Платон, она все-таки пытается показать, что даже
наиболее «объективно» написанные сочинения становятся
понятными лишь благодаря тому, что читатель получает
инструкции, как интерпретировать стандартные фразы
стандартным образом. Понимание оказалось бы невозможным
без сообщества мыслителей, рассуждающих аналогичным
образом: нельзя освободиться от истории и отличных
контактов, хотя существует мощный механизм, создающий
иллюзию такого освобождения.
3. Формы знания
Знание упорядочивает события. Разные формы знания
порождают разные схемы порядка. Важную роль в
развитии знания на Ближнем Востоке (Шумер, Вавилон,
Ассирия, ранняя Греция) играли списки75. Списки слов
составлялись переводчиками, которые связывали
ближневосточные языки с аккадским — общим (дипломатическим)
языком всей этой области. Собирая слова для их собственных
целей (для классификации знаков клинописного письма),
146
Пол Фейерабенд
они получали простые классификации соответствующих
вещей: ранняя форма науки была создана исключительно
для удобства переводчиков. Списки обычаев, правил,
описаний, индивидов и проблем обслуживали законодателей,
мореплавателей (списки портов вместе с описанием
берегов), путешественников (путеводители), знатоков
генеалогии (чьи списки героев и королей предвосхитили более
сложные формы исторического нарратива), учителей
математики (вавилонские списки математических проблем вместе с
их решениями и полезными указаниями). Частые
возражения ранних философов против многознаныя (polymathie) и
первые ответы, которые получал Сократ на свои вопросы
относительно природы мужества, мудрости, знания и
доблести, свидетельствуют о том, что списки были не
преходящими классификациями, а существенными
ингредиентами здравого смысла греков76.
Списки дают классификацию в одном измерении.
Классификационные схемы ботаников, зоологов, химиков
(периодическая система элементов), астрономов (диаграмма
Герцшпрунга — Рессела), физиономистов, физиков
(классификации элементарных частиц) и, по-видимому, многих
туземных племен77 являются многомерными, хотя и
статичными. Последовательности событий во времени получали
описание в рассказах. Простые рассказы имели дело с
простыми процессами из жизни растений, животных или
людей (медицинские истории, начинающиеся с
«Прогностики» из Корпуса Гиппократа). Сложные истории,
подготавливающие появление универсальных космических
образцов, люди архаического периода использовали для того,
чтобы связать небесные изменения (включая прецессию) с
периодами созревания, перегона стад, с миграцией птиц и
рыб, ростом растений, фазами Луны и крупными
социальными изменениями78. Они сохраняли знание и
инициировали социальные события; они одновременно были и
Прощай, разум
147
теоретической астросоциобиологией и обеспечивали
социальную связь79.
Рассказы и истории использовались для объяснения
особенностей, которые последующими поколениями были
превращены в абстрактные свойства. Гомеровский эпос
«определяет» базисные социальные отношения (например,
четыре основных добродетели архаической и классической
Греции: мужество, благочестие, справедливость и мудрость),
показывая, как они действуют в конкретных случаях.
Диомед отважен (Илиада 5, 114). Но однажды отвага перестает
ему подчиняться, тогда он ведет себя как безумец (330, 434
и далее). Не автор, а слушатель (или, в наши дни, читатель)
приходит к такой оценке и делает отсюда вывод о пределах
мужества. Похожим образом истолковывается мудрость.
Одиссей часто действует мудро и уравновешенно. Его
выбирают для разговоров с темпераментными героями,
например с Ахиллесом; ему поручают выполнение сложных и
деликатных поручений. Однако его мудрость также может
изменяться и превращаться в хитрость и обман (Илиада 23,
726). Эти примеры показывают, что собой представляют
мужество и мудрость, но не задают их раз и навсегда, как
это делает логическое определение.
Вводимые таким образом понятия не являются
абстрактными сущностями, они не отделены от вещей. Они
представляют собой стороны вещей — на том же уровне, как
цвет, скорость, красота движения, проверка и уход за
оружием или за словами. Они приспособлены к
обстоятельствам, в которых они появляются, и изменяются вместе с
этими обстоятельствами80. Болезни, которые можно
обнаружить в эмпирических трактатах Корпуса Гиппократа,
определяются аналогичным образом. Это не «болезнетворные
сущности», т.е. какие-то абстрактные вещи и процессы,
которые можно отделить от страдающего тела, это —
свойства самого тела. Они открываются обследованием, пред-
148
Пол Фейерабенд
ставляются рассказом и изменяются вместе с изменением
тела и обследующим врачом81. Рассказы использовались в
Средние века и позже, в эпоху Просвещения, для
наставления верующих, для наглядного представления тех тонких
и внешне невинных способов, с помощью которых дьявол
(или безумие) способен проникать в их жизнь. Иногда эти
истории излагались в письменном виде и
иллюстрировались, в иных случаях они изобретались на месте и
включались в устную традицию, порой их тщательно
продумывали и точно воспроизводили (моральные драмы Лессинга и
Шиллера), даже пели — как во время литургии, ранней
предшественницы оперы.
Драматический подход является еще более сложным. Он
раскрывает и усиливает те черты нашей социальной
жизни, которые кажутся непроблематичными, когда
высказываются в обыденной речи. Так, некоторые древние авторы
трагедий показывали, что базисные ценности
несовместимы и нравственный конфликт неизбежен. Демонстрация
была вполне конкретной, зритель вовлекался в конфликт и
ощущал на себе всю его силу. Другие авторы пытались
разрешить такой конфликт способом, который был совместим
с существующими политическими институтами. Согласно
мнению Аристотеля, трагедия, построенная надлежащим
образом, раскрывала универсальные законы
человеческого существования и была в этом смысле «более
философичной, чем история» («Поэтика», 1451а38—Ь6 и ел.):
социальные законы скрываются под деталями; историки
упорядочивают детали согласно своим интересам или просто
во имя удобства; в то время как автор трагедии проникает в
толщу частных фактов, находит универсальное и налагает
его на мышление зрителей. В нем одновременно
воплощается и исследователь, и социальный историк, и
пропагандист. Бертольд Брехт требовал, чтобы универсальное «было
схвачено в его исторической относительности»: сценичес-
Прощай, разум
149
кое действие должно представлять реальный, но
изменчивый процесс, и представлять его таким образом, чтобы
зритель видел, как могло быть достигнуто изменение82.
Рассказы самых разнообразных видов — скетчи,
новеллы, басни, отчеты путешественников, описания
удивительных объектов — наполняют раннюю греческую
литературу. Геродот использовал их все для описания тех событий,
с которыми он сталкивался и которые хотел включить в
свою «Историю». Некоторые его последователи
презрительно отворачивались от рассказов. По-видимому, для них
история была слишком тонким делом, чтобы представлять ее
так, как представляют мифы или волшебные сказки. Но
рассказы стали вновь популярны. Некоторым современным
авторам они кажутся единственной формой, отвечающей
сложности человеческого мышления и действия^. Если же
мы добавим сюда скульптуру, живопись, графику,
карикатуру, научные иллюстрации или, уже для нашего времени,
компьютерную графику, математические формулы,
магнитофоны и голографические изображения, то получим
громадное множество типов информации и принципов
упорядочивания, которые представляют самые разнообразные
виды знания.
4. Философия и «рождение рационализма»
Социальные группы, которые подготовили то, что
теперь называется западным рационализмом, и которые
заложили интеллектуальные основания западной науки,
отвергли это многообразие. Они отрицали, что мир столь
разнообразен и познание столь сложно, как считали
ремесленники и здравый смысл того времени. Они провели различие
между «реальным миром» и «миром явлений». Как им
представлялось, реальный мир прост, единообразен,
подчиняется устойчивым универсальным законам и является одним
150
Пол Фейерабенд
и тем же для всех. Для его описания потребовались новые
понятия (впоследствии названные «теоретическими
понятиями») и появились новые области (эпистемология и
позднее — философия науки) для объяснения того, как этот
мир был связан со всем остальным. Любопытно, что этот
«нереальный» остаток был приписан «многим», т.е.
простым людям и (нефилософствующим) ремесленникам84.
С самого начала интеллектуалы претендовали на
понимание, недоступное для обычных смертных.
В процессе разработки своих воззрений «философы»
(такое название вскоре закрепилось за этой группой) не
только строили, но также и разрушали. Подобно
завоевателям и захватчикам, действовавшим до них, они жаждали
преобразовать территорию, на которую вторглись. Однако
в отличие от первых, они для достижения своих целей
использовали не физическое насилие и оружие, а слова. Очень
значительная часть их деятельности (и деятельности
ученых от Декарта и Галилея до наших нобелевских
лауреатов) сводится к подрыву, осмеянию и, когда это возможно,
устранению тех идей и практик, которые, будучи хорошо
обоснованными, успешными и полезными для многих
людей, не удовлетворяют их специфическим стандартам.
Почти все они ценили единство (или, лучше сказать,
однообразие) и отбрасывали множественность. Ксенофан
отвергал традиционных богов и ставил на их место единого
безликого монстра. Гераклит презрительно высказывался
opolymathie, т.е. о богатой и сложной информации,
собранной здравым смыслом, ремесленниками и его
собственными философскими предшественниками, и настаивал на том,
что «мудрым можно считать только одно» (Дильс — Кранц
В 41). Парменид выступал против наличия изменений и
качественных различий, постулируя неизменное и
неделимое Бытие в качестве основы всего существующего.
Традиционную информацию о природе заболеваний Эмпедокл
Прощай, разум
151
заменяет кратким, бесполезным, но универсальным
определением. Фукидид критикует стилистический плюрализм
Геродота и настаивает на едином каузальном подходе.
Платон выступает оппонентом политического плюрализма
демократии, отвергает идею авторов трагедий, в частности
Софокла, будто (этические) конфликты нельзя разрешить
рациональными средствами, а также критикует тех
астрономов, которые пытались исследовать небеса
эмпирическими методами, и предлагает объединить все области
познания на едином теоретическом базисе. Целые армии
писателей, учителей и руководителей философских школ вели
«трудную борьбу» (Платон, «Государство» 607Ь6 и ел.)
против традиционных, неопределенных и непоследовательных
способов мышления, речи и действия, стремясь внести
порядок в общественную и частную жизнь.
Пытаясь оценить ход этой борьбы, мы не должны
смешивать интересы отдельных групп с судьбой мира в целом.
Европейская философия могла быть набором «примечаний
к Платону», как выразился Уайтхед, но история Европы и
европейская культура (включающие в себя кастрата Фари-
нелли, писания Нестроя и Гитлера, а также мою тетушку
Эмму) таковыми не были. И «борьба», которая, быть
может, и наполняла мышление (и свитки папируса) каких-то
специалистов, никак не касалась подавляющего
большинства. В некоторых областях даже и самой «борьбы» не было.
Чудовищный бог Ксенофана оставил какой-то след в
творчестве Эсхила, но не оказал влияния на Софокла, боги
которого могут действовать под влиянием простой прихоти:
для Софокла история слишком иррациональна для того,
чтобы ее могли творить рациональные божества.
(По-видимому, Геродот придерживался того же мнения.)
Распространенная религия оставалась незатронутой.
Философы также потерпели неудачу в своих попытках
сделать использование теоретических понятий распростра-
152
Пол Фейерабенд
ненной привычкой. Ответы, которые получает
платоновский Сократ на свои вопросы, показывают, что, хотя люди
были готовы согласиться с единообразием чисел («Теэтет»
148Ь6 и ел.) и пчел («Менон» 72Ь6 и ел.), они отказывались
распространять это единообразие на такие сложные
социальные отношения, как знание или добродетель85. Парме-
нид положил начало некоторым техническим спорам (Зе-
нон, «Парменид» и «Софист» Платона), однако
общественное воздействие его идей проявилось скорее в области
комедии, а не познания (см. «Эвтидем» Платона, софизмы
которого восходят к отождествлению Парменидом
мышления и бытия). Даже последователи Парменида сочли его
принципы слишком крайними86. Оппоненты отвергали весь
этот подход целиком. «В рассуждениях это, по-видимому,
выходит складно, — писал Аристотель87, — однако на деле
подобные взгляды близки к безумию. Ведь нет человека столь
безумного, чтобы считать, что огонь и лед — это одно»
(допущение, неявно содержащееся в ионийской философии и
высказанное в явном виде Парменидом). Специалисты,
представившие свои мнения в сочинениях, задолго до
этого выдвигали аналогичные возражения (см. «О древней
медицине», главы 15 и 20). Каменщики, работники по
металлу, художники, архитекторы и инженеры оставались, по-
видимому, безгласными, однако они оставили после себя
здания, тоннели и произведения искусства,
свидетельствующие о том, что их знание пространства, времени и
материалов было гораздо более прогрессивным, плодотворным
и намного более подробным, чем все спекуляции
философов. К тому же эти спекуляции были обременены
внутренними трудностями. Так, теоретический подход был не
только бесполезен, но несовместим даже с собственными
высокими стандартами строгости.
В дальнейшем я буду называть знание, к которому
стремились ранние философы, теоретическим знанием, а тра-
Прощай, разум
153
дицию, воплощающую теоретическое знание, —
теоретической традицией. Вытесняемую традицию я буду называть
эмпирической или исторической традицией. Сторонники
теоретической традиции отождествляют знание с
универсальностью, видят в теориях истинных носителей
информации и пытаются рассуждать стандартным или
«логическим» способом. Они стремятся подвести знание под власть
универсальных законов. Теории, с их точки зрения,
выделяют устойчивое в потоке истории и благодаря этому
делают его внеисторическим. Они говорят о подлинном, т.е.
внеисторическом, знании. Сторонники исторической
традиции подчеркивают то, что является конкретным (в том
числе и такие конкретные закономерности, как законы
Кеплера). Они опираются на списки, рассказы, на
рассуждения посредством примеров, на аналогии и
свободные ассоциации. Когда нужно, они используют
«логические» правила. Они настаивают на плюрализме и
посредством этого — на исторической относительности
логических стандартов.
Отношение между этими двумя традициями можно
кратко выразить следующим образом.
(А) Историческая и теоретическая традиции обе имеют
равные права на существование, имеют свои собственные
законы, объекты, методы познания и соответствующие
убеждения. Рационализм не вносит порядка и разума туда, где
раньше царили хаос и невежество; он вносит специальный
порядок, обоснованный особыми процедурами и отличный
от порядка и методов исторической традиции.
(Б)Теоретический подход сталкивается с трудностями —
как внутренними, так и появляющимися в связи с
попытками преобразовать историческую традицию, неявно
входящую в ремесла88. Большая часть этих затруднений со-
154
Пол Фейерабенд
хранилась до наших дней, они так и не были преодолены.
В религии до сих пор сохраняется столкновение между
теологами, исходящими из абстрактного понятия божества,
и простыми людьми, стремящимися к более личным
отношениям с Богом. В медицине сохраняется противостояние
теоретиков, оценивающих болезни с единственной
«объективной» точки зрения, и клиницистами, утверждающими,
что познание болезни требует личного контакта с
пациентом и его культурой89. Проблемы обостряются, когда мы от
медицины через психологию переходим к социологии,
антропологии, истории, философии90. Математика, которая
для Платона была парадигмальным образцом
теоретического знания, возвращается к практической и
«субъективной» философии дотеоретических математиков: все
большее число математиков и ученых-компьютерщиков
рассматривает математику как человеческую деятельность, т.е.
как некую историческую традицию. Теории используются,
но в более свободной и экспериментальной манере. И
столкновение между естественными и гуманитарными
науками есть не что иное, как современный вариант «старой
битвы» Платона. Все эти столкновения подтверждают тезис (А).
Они свидетельствуют о том, что существовало знание и до
теорий, что оно развивалось и улучшалось и что оно
обладает громадной устойчивостью. Они показывают, что
«рационализм» — философия теоретического подхода — не
добился полного успеха в редукции многообразных форм
познания, существовавших еще до того, как он появился
на сцене, и что полная редукция была бы скорее вредна,
чем полезна. Современные споры по поводу релятивизма и
скептицизма свидетельствуют, кроме того, о том, что
теоретическая традиция до сих пор еще не нашла адекватной
формулировки своих собственных основоположений.
Воинственные крики: «Нам нужна новая теория!», которые
можно услышать всякий раз, когда отдельный ученый или
Прощай, разум
155
целая дисциплина не знают, что делать, выражают не
необходимое условие познания, а лишь интересы некоторой
группы, поддерживаемые сомнительными аргументами.
(В) Этим, однако, вопрос не исчерпывается.
Затруднения и споры, упомянутые мной, теряют всякое значение в
сравнении с неуклонным распространением западной
цивилизации на все регионы мира. Во введении я кратко
описал это явление. Я упомянул также о той громадной роли,
которую в этом процессе играют научные технологии.
Таким образом, теоретическая традиция, которая терпит
поражение на уровне слов и теряет влияние в
периферических областях (в философии, социологии, антропологии),
на деле и там, где это важно, одерживает победу.
Посмотрим, что означает эта победа!
5. Об интерпретации теорий
Парменид описывал два метода или два «пути поиска»,
как он их называл. Первый метод, далекий от «путей
смертных», ведет к тому, что «подлинно и необходимо». Второй
путь, опирающийся на «богатую опытом привычку», т.е.
традиционные способы получения знания, приводит к
«мнениям смертных». Согласно Пармениду, первый путь, и
только он один, приводит к истине, способной превзойти все
традиции91. Многие ученые до сих пор убеждены в том, что
наука действительно на это способна.
Это убеждение смешивает свойства идей с их
предметом. Согласно Пармениду, такие утверждения, как
«[Бытие] есть» (что можно считать первой и наиболее
радикальной формулировкой принципа сохранения) или «оно
однородно», описывают собственную структуру некоторой
сущности, которая не зависит от человеческих мнений. Это — их
предмет. Точно так же предполагается, что научные утвер-
156
Пол Фейерабенд
ждения описывают факты и законы, управляющие
событиями, независимо оттого, что кто-то о них думает.
Однако сами по себе утверждения, конечно, не являются
независимыми от человеческого мышления и действия. Они
являются созданиями человека. Они формулируются с
намерением выделить только «объективные» ингредиенты нашего
окружения, тем не менее они несут в себе особенности
индивидов, групп и обществ, в среде которых появляются.
Даже наиболее абстрактные теории, будучи внеисторичес-
кими по намерению и формулировке, в своем использовании
являются историческими: наука и ее философские
предшественники являются частями специальной исторической
традиции, а не такими сущностями, которые стоят над всей
историей.
Таким образом, древнее стремление к единообразию,
описанное мной в предыдущем разделе, хотя и
поддерживалось философами, но не было инициировано ими и не
уходило от истории. Как было показано в разделе 6 главы 1,
это было частью широкого исторического развития.
Философы интерпретировали это развитие как постепенное
рождение реальности, которая была скрыта под покровом
невежества и видимости. Эта реальность существовала всегда,
говорили они, однако ее не осознавали такой, какова она есть. Они
даже были убеждены в том, что открыли ее сами, пользуясь
силой своего изумительного мышления. Изобилие здравого
смысла и более ранних традиций для них не было
доказательством такого же богатства реальности, а
свидетельствовало лишь о разнообразии ошибок. Самую крайнюю
позицию представляет Парменид: реальность обладает лишь
одним свойством — свойством быть, estin (B8, 2).
При разработке своей теории Парменид не только
следовал этой традиции, но использовал то открытие (которое
могло быть его собственным), что утверждения,
составленные из простых понятий, могут служить для составления
Прощай, разум
157
рассказов нового типа, вскоре названных
доказательствами, окончание которых «следует из» их внутренней
структуры и не нуждается во внешнем подтверждении92.
По-видимому, это открытие показывало, что истинное знание
действительно можно использовать для оценки традиций
независимым от них самих способом. Но я уже упоминал
выше о том, что это ошибка: тот факт, что простые идеи
можно связать простыми способами, не изменяет их
собственной природы. Например, это не выводит их из
области человеческой активности. Следовательно, сила новых
идей кроется не в самих идеях, в их связях и в истинах,
возникающих их них. Она обусловлена привычками тех, кто,
находясь под впечатлением растущего социального и
концептуального единообразия, предпочитает точные
построения неточным аналогиям; кто, как Парменид, не
слишком интересуется грубым эмпирическим материалом; кто,
не осознавая социальных корней своего равнодушия,
называет эмпирические вещи нереальными (Парменид В2,6).
В отличие от Парменида его последователи и
некоторые наивные реалисты в самой науке, а также ее более
искушенные почитатели принимают и даже подчеркивают
мысль о том, что научные теории являются созданием
человека и что наука является одной из традиций среди
многих. Но, добавляют они, это единственная традиция,
приводящая к успеху в постижении и изменении мира. И в этом,
утверждают они, важнейшую роль играют теории. Теории
открывают объективный порядок, скрытый за
многообразием впечатлений и точек зрения, они указывают путь к
намеченным изменениям, и они в громадной степени
уменьшают количество фактов, которые нужно запоминать.
По мере развития науки, - пишет П. Медавар ([158],
с. 1 14), - ...частные факты аккумулируются, следовательно,
в некотором смысле уничтожаются общими утверждениями
158
Пол Фейерабенд
возрастающей объяснительной силы. Благодаря этому
становится излишним знать и помнить множество фактов. Во всех
науках мы постепенно освобождаемся от груза конкретных
примеров, оттирании частностей.
Таким образом, если мы обращаем внимание на
некоторые факты — на общие черты, выделенные наукой, — то
можем не рассматривать другие.
Этот простой и достаточно распространенный подход
приходит в столкновение и с научной практикой, и с
гуманистическими принципами. Социальные законы не
«уничтожают» и не должны уничтожать особенностей «частного»,
т.е. особенностей отдельных людей. Они не уничтожаются,
поскольку каждый индивид обладает особенностями,
недоступными даже для самого широкого набора законов — иначе
как люди осознавали бы отличие каждого отдельного
человека от других93? И они не могут быть «уничтожены»,
поскольку это противоречило бы тому идеалу
индивидуальной свободы, который столь любим во многих западных
обществах. Этот идеал отнюдь не является универсальным,
ибо существуют общества, в которых люди пытаются
«сгладить все особые, характерные черты личности человека,
обусловленные его физическими, психологическими,
биографическими свойствами, и приспособить его поведение к
непрерывному и неизменному социальному положению»94. Но это
свидетельствует лишь о том, что любое «уничтожение» есть
только результат локальных привычек, а не универсальных
законов. Иначе говоря: социальная теория, стремящаяся
превзойти историю, способна лишь стать ее непонятной
частью.
Сходные соображения справедливы и для естественных
наук. Можно согласиться с тем, что предсказание
движения Юпитера по его орбите требует только знания его
массы, скорости, местоположения, а также знания масс, ско-
Прощай, разум
159
ростей и местоположений некоторых других небесных тел.
Однако это не означает, будто планета Юпитер как-то
ассимилируется или «уничтожается» небесной механикой и
либо перестает существовать в качестве особой сущности,
либо не содержит никакой дополнительной информации
по сравнению с утверждениями этой теории. Юпитер
обладает также и немеханическими свойствами, некоторые из
которых связаны с немеханическими законами: «законы
Природы» можно рассматривать лишь как абстракции — в
том смысле, в котором Аристотель говорил об
абстрактности математики (глава 8); но абстракции не могут ничего
«уничтожить».
Законы природы являются более чем абстракциями,
говорят защитники внеисторической природы теории. Такие
вещи, как масса, расстояние, скорость (в случае
классической небесной механики), взаимосвязаны таким образом,
который не зависит от интересов тех, кто о них говорит. Это
отличает данные свойства от других свойств (таких, как цвет
или запах), которые либо не ведут ни к каким связям, либо
приводят лишь к случайным и слабым связям. Это
свидетельствует о том, что здесь мы имеем дело с реальными
свойствами, а не просто со случайными объектами нашего
любопытства. Исследователь, которого интересует реальность,
признает такие свойства, отбрасывая (или «уничтожая») все
иные характеристики ситуаций. В процессе уничтожения
он руководствуется теориями.
В этом рассуждении предполагается, что законоподоб-
ное или связанное законами принадлежит к иному уровню
существования, нежели отдельное и особенное: это та часть
мира, которая существует и развивается независимо от
мыслей, желаний, впечатлений исследователя, следовательно,
она «реальна». Само это предположение является не
результатом исследования, а метафизикой, разделяющей
Природу и Человечество, превращающей первую в нечто строгое,
160
Пол Фейерабенд
закономерное и непостижимое, а второе — в своевольное,
непостоянное, подверженное постоянным колебаниям. Эта
метафизика перестала быть популярной уже давно, однако
ее эпистемологическая тень все еще с нами — в форме
различных вариантов (научного) реализма. Эту тень можно
критиковать, указывая на то, что связывать реальность с
закономерностью — значит определять ее довольно-таки про-
извольным образом. Изменчивые божества, пугливые
птицы, непостоянные люди оказались бы нереальными, в то
время как многие устойчивые галлюцинации и
систематические ошибки стали бы реальными.
Следует учесть также то, что различные точки зрения,
приписывающие реальность одним свойствам и
отрицающие реальность других свойств, не образуют некоторой
единой целостности. Они вступают в конфликт и друг с
другом, и с теми свидетельствами, которые должны
подтверждать их (с теми фактами, реальность которых они
провозглашают). Обычный ответ на эту проблему заключается в
том, что непротиворечивость обеспечивается за счет
«аппроксимаций». Такой ответ в некоторых случаях
оказывается корректным (например, когда речь идет об отношении
между классической механикой и теорией
относительности), в других случаях — неполным (отношение между
квантовой теорией и химией — здесь квантовая теория не
только огрубляется, как это происходит в стандартных
процедурах аппроксимации, но еще и дополняется новыми
принципами, специфическими для химии) и бессмысленным во
всех остальных случаях (ботаника или морфология может
быть связана с молекулярной биологией только благодаря
отбрасыванию некоторых ее фундаментальных
особенностей и объявлению их«нереальными» или «ненаучными»).
Таким образом, научная «реальность», используемая для
«уничтожения» более беспорядочных элементов нашего
мира, постоянно переопределяется в зависимости от из-
Прощай, разум
161
менений моды сегодняшнего дня95. Учитывая, что мир, в
который мы ныне верим, имеет историю, что законы
возникают как его часть и что мы можем найти
подтверждение лишь для тех законов, которые, согласно современным
убеждениям, необходимы для существования жизни и
сознания96, мы должны заподозрить, что даже
фундаментальные законы характеризуют конкретную стадию в развитии
мира, причем с определенной степенью точности, но не
являются строго истинными. «Мир дан нам только раз», —
писал Эрнст Мах97, имея в виду, что утверждения о внеис-
торических закономерностях являются идеализациями, или
«инструментами», а не описаниями реальности.
Попытка сделать успехи науки мерой реальности ее
содержания проваливается также и по другим причинам. Как
я уже упоминал в разделе 9 главы 1, успех или неудача
являются культурно обусловленными понятиями: «зеленая
революция» была успехом с точки зрения западной
рыночной практики, однако для культуры, стремящейся к
самодостаточности, она была крупной неудачей.
Этот аргумент сохраняет свою силу даже в том случае,
если мы отвлечемся от применений и обратимся только к
теоретической значимости идей. Верно, что значение
уравнений Максвелла не зависит от того, что думают люди по
поводу электрификации. Однако оно зависит от культуры,
в которой эти уравнения существуют. Нужна весьма
специальная ментальная позиция, включенная в особую
социальную структуру и соединенная с уникальными
историческими процессами для того, чтобы предугадать,
сформулировать, проверить и обосновать те законы, которыми
сегодня пользуются ученые. С этим сегодня согласно
большинство социологов, историков и философов науки.
Какие же аргументы могут убедить нас в том, что те вещи,
которые появились столь специфическим образом в рамках
6 — ι S09
162
Пол Фейерабенд
особой культуры, обладают существованием и значением
независимо от этого? Где гарантии, что можно отделить
результат от способа его получения и не потерять при этом
сам результат? Требуется лишь небольшое изменение
наших технологий, способов мышления и математики,
чтобы мы начали рассуждать иначе, чем при существующем
положении вещей. Тем не менее объекты этого положения
вещей, признаваемые факты и законы, считаются
существующими «в мире» независимо от нашего мышления и
действия.
Для защиты своей позиции «реалисты» обращаются к
различию между содержанием некоторого утверждения или
теории и самой теорией. Они соглашаются с тем, что
научные утверждения являются результатом исторического
процесса. Но этот процесс привел к выделению таких свойств
мира, которые от него уже не зависят. Как я показал в
разделе 9 главы 1, такой ход рассуждения применим также к
греческим богам. Выхода нет: либо кварки и греческих
богов мы считаем равно реальными, но соединенными с
разными обстоятельствами, либо нужно вообще прекратить
разговор о реальности вещей.
Заметим, что такая интерпретация вовсе не отрицает
значение науки в качестве поставщика технологий и
базисных мифов, она отвергает лишь идею о том, что объекты
науки и только они одни являются «реальными». Она не
утверждает также, что мы можем обойтись без науки,
напротив, она говорит о том, что мы не можем этого сделать.
Находясь в среде, в которую включены научные законы, мы,
т.е. ученые и обычные граждане западной цивилизации,
теперь находимся под их руководством. Однако социальные
условия изменяются, и наука изменяется вместе с ними.
Наука девятнадцатого века отвергала культурный
плюрализм, наука двадцатого столетия, умудренная
философскими и практическими неудачами (включая неудачи «прогрес-
Прощай, разум
163
сивного развития»), а также изобретением теорий,
содержащих «субъективные» ингредиенты, уже не противостоит
плюрализму. Даже те ученые, философы, политики,
которые стремятся увеличить власть науки, своими
собственными усилиями изменяют науку и вместе с ней —
«реальный» мир. «Этот мир, — писал я в главе 1, — не является
неизменной сущностью, населенной мыслящими
муравьями, которые, ползая по нему, постепенно раскрывают его
особенности, никак не воздействуя на них. Это
динамичная и многоликая сущность, которая воздействует на ее
исследователей и испытывает на себе их воздействие. Когда-
то мир был наполнен божествами; затем он превратился в
однообразный материальный мир; но существует надежда,
что он вновь изменится и станет более доброжелательным
миром, в котором материя и жизнь, мысль и чувство,
инновация и традиция будут сотрудничать на благо всех».
Эти соображения можно суммировать в еще одном,
четвертом пункте, который мы добавляем к трем,
высказанным в конце предыдущего раздела.
(Г) Теоретическая традиция противостоит исторической
традиции по своим намерениям, но не фактически.
Пытаясь создать знание, отличающееся от «лишь»
исторического или эмпирического знания, она достигает успеха в
нахождении формулировок (теорий, формул), которые звучат
как объективные, универсальные и логически строгие, но
которые в своем использовании интерпретируются
вопреки всем этим свойствам. Поэтому мы имеем здесь новую
историческую традицию, которую ложное сознание
представляет как выходящую за рамки человеческих
восприятий, мнений и самой человеческой жизни. В этом
отношении она весьма похожа на религиозные системы, которые
также преобразовывали мир здравого смысла, приближая
164
Пол Фейерабенд
его к потусторонней реальности. Поддерживаемая
влиятельными историческими силами, «механизация нашего
образа мира» (Э. Дейкстерхойс) не может быть просто
отброшена. Для ее изменения нужны серьезные
противодействующие силы. Эти силы существует. Отчасти они
порождены агрессивностью западной цивилизации, но отчасти
они порождаются самой этой цивилизацией. Будем
надеяться на то, что они сумеют преодолеть опасности и
недостатки западной цивилизации, которые сопровождают ее
несомненные достижения.
4
Креативность
1. Искусство и наука как имитация
D «Тимее» Платона существо, называемое Богом или
демиургом, создает мир из хаотического и лишенного формы
материала по точному и подробному плану. Подобно
инженеру, этот Бог «убеждает» материю стать «самой
совершенной и превосходной копией» его плана. Его
достижение оказывается тем более значительным, чем больше
сходства между планом и копией.
Поэмы Гомера содержат множество речей (например,
обращения полководцев к своим воинам перед началом
битвы) и описаний типичных ситуаций. Эти речи и
описания повторяются слово в слово при сходных
обстоятельствах. Поэты той эпохи не выдумывали новых и
«оригинальных» выражений для известных вещей. Они искали самое
лучшее стереотипное высказывание для описания данной
ситуации и, найдя его, повторяли всякий раз, когда
возникала эта ситуация.
Мысль о том, что искусство повторяет, копирует
реальность или подражает ей в разных сферах, используя сте-
166
Пол Фейерабенд
реотипы этой сферы в качестве строительных блоков, была
сердцевиной античной теории мимесиса. Платон резко
выступает против искусства в X книге «Государства». Хотя он
и принимает эту теорию, но критикует художников за
имитацию ошибочных сущностей (физических объектов и
событий, а не принципов, которым они подчинены), за
обман (например, использование перспективы), включенный
в их технику имитации, и за обращение к эмоциям. Он
призывает «любителей поэзии встать на ее защиту и показать,
что она не только восхищает, но оказывает благотворное
воздействие на государственное управление и на
человеческую жизнь». Аристотель принял этот вызов; его ответ,
входящий в его великолепную «Поэтику», остался в рамках
теории мимесиса. Трагедия, говорит он, действительно
является имитацией, однако она имитирует не конкретные
исторические события, как это делает история, а лежащие в
их основе структуры, следовательно, она «более
философична, чем история» («Поэтика», глава IX). Трагедия есть
теория, история — только нарратив. Огромное количество
анекдотов о нарисованном винограде, привлекавшем птиц,
о нарисованных лошадях, издававших ржание, о
нарисованном занавесе, который обманывал даже глаз артиста, и
бесчисленные эпиграммы о жизненности скульптур
Мирона говорят о том, что в античности имитативное воззрение
было не только философской идеей, но частью самого
здравого смысла98.
Это воззрение возвратилось в эпоху Возрождения.
Согласно мнению Леонардо, «та картина наиболее достойна
похвалы, которая обладает наибольшим сообразием под-
ражаемому предмету. Я выставляю это в посрамление тех
живописцев, которые хотят исправлять вещи природы»99.
Леон Баггиста Альберти, ссылаясь на недавно открытые
законы перспективы, определяет рисунок как «сечение
пирамиды», образуемой лучами, исходящими из глаза к изоб-
Прощай, разум
167
ражаемому объекту100. Определение Альберта превращает
живопись в производство точных копий сечений
оптической пирамиды: «Я утверждаю, что функция живописца
заключается в следующем: с помощью линий и красок на
доске или на стене изобразить проекцию тела таким образом,
чтобы с определенного расстояния и с определенной
позиции оно казалось объемным, телесным и жизнеподобным»
(Спенсер, [228] с. 89). Гораздо позже, уже в девятнадцатом
столетии, некоторые художники попытались заставить саму
природу производить собственные копии, «заменяя ее
собственным неподражаемым карандашом [светом]
несовершенные и беспомощные попытки сымитировать столь сложный
объект». Это привело к изобретению фотографии101.
Уже этот краткий очерк показывает, что имитация не
является беспроблемной, но включает в себя целый ряд
актов выбора. Прежде всего, это выбор материала, с
помощью которого создается копия. Имитатор должен принять
во внимание свойства этого материала. Эти свойства могут
быть детерминированы законами природы, они могут быть
результатом обычая (стандартные фразы, грамматика,
слова, используемые при письме; ритм, музыкальные формы,
стандартные жесты в трагедии), они могут быть
изобретены и породить соответствующую традицию (Софокл
добавил в драму второго актера, Эврипид добавил третьего).
Избрав материал, имитатор должен теперь выбрать тот
аспект, который он хочет имитировать. Согласно
Аристотелю, и историк, и создатель трагедии имитируют, но
имитируют разные вещи. Автор трагедии, далее, может выбирать
между описанием жизнеподобных действий, но не
характеров, и описанием стольжежизнеподобныхдействий, над
которыми доминирует характер102. Даже в живописи
Аристотель проводит различие между Зевксидом, живопись
которого была чрезвычайно правдоподобна, но
«бесхарактерна» (1450а28), и Полигнотом, который тоже имитирует, но
168
Пол Фейерабенд
не пренебрегает и характерами. Имитация представляет
собой сложный процесс, опирающийся на теоретическое и
практическое знание (материалов и традиций), который
может быть модифицирован посредством изобретений и
всегда предполагает множество актов выбора со стороны
имитатора.
Существуют философские концепции, для которых
наука является парадигмальным примером имитации.
Имитация входила в аристотелевскую теорию восприятия,
которое в нормальных условиях впечатывало естественные
формы в органы чувств. Она лежит в основе той идеи,
широко распространенной в античности и все еще
популярной сегодня, что задача науки заключается в «спасении
феноменов», т.е. в представлении их как можно более
корректно, используя доступные стереотипы (деференты, эпициклы,
экванты и эксцентрики в случае птолемеевской астрономии;
дифференциальные уравнения в случае классической
физики). Имитация играла некоторую роль у Бэкона, который
уподоблял мышление кривому и мутному зеркалу103, чья
поверхность должна быть очищена и сделана ровной для того,
чтобы оно могло давать истинные изображения природы.
Эта идея сохранилась в распространенном представлении
о непредубежденном ученом, который воздерживается от
спекуляций и концентрирует свое внимание на том, что ему
дано. Но существуют и другие концепции, которые
понимают задачу науки и искусства совершенно иначе.
Согласно одной из этих концепций, восходящей к Пар-
мениду, задача (научного) познания состоит в том, чтобы
описывать реальность. Это напоминает имитацию.
Однако Парменид к этому добавляет, что реальность скрыта за
обманчивыми феноменами и что нужна божественная
помощь для того, чтобы открыть ее. Здесь мы приходим ко
второму истолкованию того, как действуют искусство и
наука.
Прощай, разум
169
2. Наука и искусство как креативная деятельность
Той концепции, которая утверждала, что искусство и
наука занимаются имитацией, что это области
рационального суждения и что им можно научиться, в античности
противостояла концепция, согласно которой поэты «не
мудростью могут... творить то, что они творят, а какою-то
прирожденною способностью и в исступлении, подобно
гадателям и прорицателям»104. Говоря о поэзии, Платон упоминает
«третий вид одержимости и неистовства — от Муз, он
охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее,
заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и
других видах творчества и, украшая несчетное множество
деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без
неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в
уверенности, что он благодаря одному лишь искусству
станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства:
творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых»
(«Федр», 245а). В своем Седьмом письме (341с и ел.) Платон
разъясняет, каким образом «после длительного общения
учителя с учеником при совместном изучении предмета вдруг
внезапно, подобно свету от вспыхнувшего огня, рождается
(знание идей) в душе и питает самое себя».
В этих отрывках в процесс понимания или создания
некоторого произведения искусства включается некий
элемент, выходящий за рамки мастерства, технического
знания и таланта. Какая-то новая сила захватывает душу и
ведет ее в одном случае к знанию, в другом — к
произведению искусства. Если при этом предполагается, что данная
сила не приходит к индивиду извне, подобно
божественному вдохновению или творческому безумию, а возникает
в самом индивиде и, выплескиваясь из него, преобразует
мир (искусство, знание, технику), то мы получаем ту идею
креативности, которую я собираюсь здесь критиковать.
170
Пол Фейерабенд
Для того чтобы сделать свою критику как можно более
конкретной, я рассмотрю один аргументе пользу этой идеи,
а именно аргумент, обосновывающий роль
индивидуальной креативности в науке. Если этот ясный и точный
аргумент рушится, то вся риторика по поводу других областей
утрачивает свою силу.
3. Анализ аргумента Эйнштейна
в пользу креативности
В своих работах «О методе теоретической физики»,
«Физика и реальность» и «Основы теоретической физики»
(перепечатано в сборнике «Идеи и мнения» [48]; все ссылки
даны по этой книге) Эйнштейн разъясняет, почему
научные теории и понятия являются «фикциями» или
«свободными созданиями человеческого мышления» и
почему «только интуиция, опирающаяся на внимательное
отношение к опыту, способна привести к ним». Согласно
Эйнштейну,
первым шагом в познании «реального внешнего мира»
является формирование понятия телесных объектов, причем
телесных объектов разного рода. Из всего многообразия
наших чувственных восприятий мы мысленно выделяем и
произвольно берем определенные комплексы ощущений,
которые часто повторяются... и сопоставляем им некоторое
определенное понятие - понятие телесных объектов. С
логической точки зрения это понятие не тождественно совокупности
ощущений, к которому оно относится; это - свободное
творчество человеческого (или животного) разума. С другой
стороны, смысл понятия и его оправданность определяются
совокупностью ощущений, которые мы ассоциируем с ним.
Второй шаг состоит в том, что в нашем мышлении
(которое определяет наше ожидание) мы приписываем понятию
телесного объекта смысл, который еще в большей мере
независим от чувственного ощущения, первоначально его поро-
Прощай, разум
171
дившего. Именно это мы хотим выразить, когда приписываем
телесному объекту «реальное существование». Оправдание
такого утверждения основано исключительно на том факте,
что с помощью таких понятий и установленных между ними
мысленных отношений мы способны ориентироваться в
лабиринте ощущений. Эти понятия и отношения, несмотря на то, что
они являются свободными творениями нашего ума,
представляются нам более прочными и нерушимыми, чем даже сами по
себе чувственные восприятия, характер которых никогда не
позволяет полностью гарантировать, что они не являются
результатом иллюзии или галлюцинации. С другой стороны, эти
понятия и отношения, в особенности допущение
существования реальных объектов и, вообще говоря, существование
«реального мира» оправданы только в той мере, в какой они
связаны с чувственными восприятиями, между которыми они
образуют мысленную связь (с. 291 )*.
Затем, говорит Эйнштейн, мы вводим теории. Теории
спекулятивны в гораздо большей степени. Они не только
«не связаны прямо с комплексами чувственных
впечатлений» (с. 294), они даже и не детерминированы
восприятиями единственным образом. Две различные теории с
разными фундаментальными понятиями (например, классическая
механика и общая теория относительности) могут
согласовываться с одними и теми же эмпирическими законами и
наблюдениями (с. 273), они могут даже противоречить
фактам, уже известным ко времени их изобретения.
Следовательно, принципы и понятия теорий являются полными
«фикциями» (с. 273). Тем не менее предполагается, что они
описывают скрытый, но объективно реальный мир.
Необходима сильная вера, глубоко религиозная позиция для того,
чтобы верить в такую связь, и нужны громадные
творческие усилия, чтобы обосновать ее.
Такое понимание роста физического знания
сталкивается с серьезными трудностями. Исходный пункт того
*Цит. по изданию: А. Эйнштейн. Собрание научных трудов, т. 4. М., 1967.
172
Пол Фейерабенд
процесса, который, согласно Эйнштейну, ведет к
реальности, в высшей степени нереален. В истории или в развитии
отдельного индивида нет этапа, соответствующего
«первому шагу». Нет этапа, когда мы, находясь в «лабиринте
чувственных впечатлений», «мысленно и произвольно»
выбираем какой-то пучок чувственных впечатлений,
«свободно создаем» понятия и связываем их с этим пучком.
Даже маленькие дети воспринимают не чистые цвета и
звуки, а осмысленные структуры — улыбки или
дружелюбные голоса. Перцептивный мир подростка содержит вещи
и процессы — от столов и стульев до оперных арий, радуги
и звезд. Большая часть этих сущностей кажется
объективной и независимой от наших желаний — мы должны
толкать их, сжимать, резать, чтобы осуществить физическое
изменение. Простого изменения точки зрения или даже
физического положения для этого недостаточно. Такие
чувственные впечатления, как чистые цвета или звуки (в
отличие от окрашенных предметов и, скажем, человеческих
голосов), играют незначительную роль в нашем
перцептивном мире. Они появляются лишь в специально создаваемых
условиях (например, при использовании особого
экранирования). Это поздние теоретические конструкты, а не
исходный пункт познания. Кроме того, даже если бы они
существовали, это мало помогло бы нам: человек,
затерявшийся в «лабиринте чувственных впечатлений», не смог
бы начать конструировать физические объекты, он был бы
полностью дезориентирован и не способен даже к слабой
мысли. Он был бы просто парализован, а не «креативен».
Теперь допустим, что невозможное случилось и что,
обладая некоторыми чувственными данными, мы успешно
конструируем, «мысленно и произвольно», мир реальных
объектов. Будут ли верны дальнейшие этапы описания
Эйнштейна? — Нет и нет!
Прощай, разум
173
Верно, что мир реальных объектовлогически не
эквивалентен совокупности чувственных данных, пусть даже
упорядоченных. Однако ниоткуда не следует, что этот мир был
построен личным актом творения: когда я иду, то шаг,
который я делаю сейчас, логически не вытекает из шага,
который я только что сделал, но глупо было бы говорить, что
ходьба является творческим актом идущего человека. Или
возьмем пример из неживой природы: более позднее
местоположение падающего камня логически не следует из
более раннего, однако ни один защитник индивидуальной
креативности не скажет, что камень падает креативно.
Пиаже детально описал, какие стадии проходит развитие
восприятия у ребенка без всяких креативных усилий с их
стороны — просто в силу «закона эволюции»105. Некоторые
особенности нашего поведения могут быть детерминированы
даже генетически (например, опознание образцов и
последующее стремление к ним, так прекрасно описанное
Конрадом Лоренцем в его исследовании поведения молодых
гусей). Итог: существование логического разрыва само по
себе еще не говорит о том, что для его преодоления
необходим индивидуальный креативный акт.
Переходя от здравого смысла к науке, мы сталкиваемся
с совершенно новыми понятиями: научные теории редко
выражаются в терминах повседневного языка. Они
формулируются математически, причем разные теории часто
используют термины из разных областей математики. Эти
формализмы связаны с понятиями и интуициями,
незнакомыми здравому смыслу. Известные факты не
детерминируют единственным образом предсказаний,
фундаментальных терминов и теорий (об этом было сказано
несколькими абзацами выше). Рассуждение, которое я сейчас
анализирую, приводит к тому выводу, что изобретение новых
языков и ассоциированных с ними теорий не может
осуществляться без значительных креативных усилий. Можно
174
Пол Фейерабенд
ли согласиться с таким выводом? Я так не думаю. Позвольте
мне еще раз объяснить почему.
Мое первое возражение заключается в том, что
разработка понятий не обязательно является результатом
сознательных действий тех, кто ими пользуется. Например,
абстрактные понятия Бытия, Божества, части и целого,
введенные Ксенофаном и Парменидом и разработанные Зеноном,
были подготовлены незапланированным постепенным
размыванием более конкретных идей. Эта эрозия началась еще
в «Илиаде» и стала заметной в VI—V веках до н.э.
Философы опирались на эту эрозию, но они не инициировали ее.
Эрозия затронула поведенческие понятия, например
понятие видения, социальные понятия, например понятие
чести, и «эпистемологические» понятия, например понятие
знания. Первоначально все эти понятия включали в себя
положение, выражение лица, настроение, ситуацию и
другие конкретные обстоятельства. Например, существовало
понятие видения, содержащее чувство страха при взгляде
на лицо, выглядевшее как нечто нераздельное, и понятие
знания, которое включало в себя поведение, связанное с
усвоением знания106.
Разнообразие существовавших тогда идей, их сложность
и реалистичность, казалось, делали невозможным сведение
наших способов бытия в мире к немногим простым,
независимым от контекста (от наблюдателя), следовательно,
«объективным» понятиям. Тем не менее число и сложность
ключевых понятий уменьшалось, исчезали детали,
«содержание слов становилось все более бедным, они
превращались в односторонние и пустые формулы»107. Философы,
предпочитавшие простые, ясные и легко определяемые
понятия сложным, неясным и неопределенным, внесли
существенный вклад в это обеднение, а затем — уже после
того, как это выхолащивание произошло, — стали
утверждать, что существует лишь одно понятие знания, одно по-
Прощай, разум
175
нятие божества, одно понятие бытия. Вот так сложное и
детальное мировоззрение — мировоззрение, неявно
заключенное в эпосе Гомера, — сменилось иным, более простым
и абстрактным мировоззрением — мировоззрением досок-
ратиков (включая атомистов), а затем Платона, причем все
это происходило без сознательного участия тех, кто извлек
пользу из этого развития, (Позднее Аристотель восстановил
важные особенности более раннего мышления и благодаря
этому пришел к превосходному синтезу здравого смысла и
абстрактной философии.) Конечно, в этом процессе
случались некоторые небольшие «открытия», однако они не
имели большого значения и были бы совершенно
бесполезны, если бы не включались в основные некреативные
изменения. Эрнст Мах, один из самых глубоких
философов науки, следующим образом описывает сходную
ситуацию в истории чисел ([152], с. 327):
Числа часто называют «свободными творениями
человеческого ума». Обнаруживающееся здесь восхищение пред
человеческим духом весьма естественно, когда мы оказываемся
перед готовым и внушительным зданием арифметики. Но
пониманию этого творчества гораздо более способствует, если
мы ухватываем его инстинктивные начала и принимаем во
внимание обстоятельства, которые породили потребность в
этом творчестве. Такое исследование, может быть, приведет
к мысли, что первые относящиеся сюда образования были
бессознательными и биологически вынуждены материальными
условиями, ценность которых могла быть познана лишь
после того, как они были уже налицо и уже много раз
обнаруживали свою полезность.
Мое второе возражение против того, что абстрактные и
необычные понятия являются исключительно результатом
индивидуальных креативных актов, состоит в том, что даже
сознательную и целенаправленную формулировку новых
176
Пол Фейерабенд
общих принципов можно объяснить, не прибегая к
креативности. Пример покажет, что я имею в виду. В разделе 2
главы 1 своей «Механики» ([153]) Мах излагает и
анализирует рассуждение Стевина об условиях равновесия на
наклонной плоскости (равные веса воздействуют на плоскость
обратно пропорционально длине плоскости — я буду
называть это утверждением Е). Для доказательства Ε Стевин
предлагает вообразить цепь, состоящую из скрепленных
между собой шаров и обвитую вокруг прямоугольного
треугольника, один из катетов которого вдвое больше другого.
Треугольник лежит на гипотенузе, катеты образуют две
наклонные плоскости. На большем катете помещается вдвое
больше шаров, чем на меньшем, поэтому кажется, что они
должны перетянуть всю цепь. Вся цепь может либо
покоиться, либо двигаться. Но если она двигается, то это
движение должно продолжаться бесконечно, ибо каждое
положение цепи эквивалентно любому другому. Но вечное
движение, полагает Стевин, невозможно (утверждение Р).
Поэтому цепь должна оставаться в покое и равновесии. Нижняя
часть цепи несущественна, поэтому она может быть
устранена без нарушения равновесия. Вот так мы получаем
утверждение Е.
Согласно Маху, утверждение типа Ε можно получить
либо посредством эксперимента и вывода из него, либо с
помощью «принципа» типа С. Эксперименты, говорит он,
«искажаются посторонними обстоятельствами (трение)»,
они «всегда отличны» от «точных статичных пропорций»,
они «кажутся сомнительными» и переход от них к общим
законам «неясен» и «извилист» (указ. соч., с. 72).
Индукция дает скудные результаты. С другой стороны,
рассуждения из принципов «обладают гораздо большей ценностью»,
и мы «признаем их без возражения». Их авторитет
обусловлен неким «инстинктом», например убеждением Стевина в
Прощай, разум
177
невозможности вечного движения. Это и есть движущая
сила науки, ибо «только сочетание сильнейшего
инстинкта с величайшей силой интеллекта способно сделать
человека великим ученым».
Интересно сравнить подход Маха к использованию
принципов в науке с подходом Эйнштейна. Эйнштейн читал Маха
и во многих отношениях испытал его влияние. Следуя Маху,
свою статью о специальной теории относительности он
начинает не с описания экспериментальных результатов,
как тогда было принято, а с изложения принципов —
принципа относительности и принципа постоянства скорости
света. В течение всей своей жизни он с насмешкой
относился к тем ученым, которые заботились об «измерении
мелочей», оставаясь «глухими по отношению к более
серьезными аргументам»108. Подобно Маху, он считал
некоторые факты слишком очевидными для того, чтобы искать
для них экспериментального подтверждения. Например, в
создании теории относительности эксперимент Майкель-
сона — Морли, по-видимому, не играл непосредственной
роли. «Я считал несомненным, что это истинно», —
ответил он Шенкланду, который задал ему вопрос об этом109. «Не
имеет значения, — писал Эрнст Мах по поводу Стевина, —
был ли кем-нибудь реально осуществлен этот эксперимент».
Стевин проводил мысленный эксперимент. «И это, —
пишет Мах, — не является ошибкой. Если бы это была
ошибка, то все мы совершали бы ее».
Кажется, что упоминание Махом «инстинкта»
сближает его со «свободными творениями человеческого ума»
Эйнштейна, однако разница между ними громадная. В то
время как Эйнштейн не анализирует процесс творчества,
предпочитая связывать его со своей религиозной позицией, Мах
сразу же добавляет уточнение: «Однако это никоим
образом не принуждает нас превращать инстинктивные элемен-
178
Пол Фейерабенд
ты науки в новую мистику. Вместо того чтобы обращаться
к мистике, поставим следующий вопрос: как возникает
инстинктивное знание и что оно в себе содержит?» И он
отвечает, что инстинкт, позволяющий ученому формулировать
общие принципы без подробного анализа соответствующих
эмпирических данных, является результатом длительного
процесса адаптации, в который включены мы все — как
ученые, так и обычные люди. В этом процессе многие
ожидания не оправдывались, соответственно изменялось
поведение, и теперь человеческое мышление содержит в себе
результаты этих изменений. Поскольку количество
неоправдавшихся ожиданий в нашей повседневной жизни и вместе
с тем число подтверждений того, что некоторые события
невозможны (например, невозможность вечного движения),
неизмеримо больше, чем число сознательно планируемых
экспериментов наших ученых, то вполне разумно
корректировать и даже предвосхищать результаты таких
экспериментов с помощью инстинктивно находимых принципов.
Конечно, рассуждение Стевина может начаться лишь после
того, как его два элемента — проблема наклонной
плоскости и инстинктивное знание о невозможности вечного
движения, — соединены вместе: Стевин должен был «увидеть»,
что первая может быть решена за счет второго. Но
описание научного открытия110 говорит нам о том, что такое
«совмещение» появляется почти само собой и скорее
нарушается, чем облегчается вмешательством сознания. Таким
образом, Мах предложил набросок объяснения там, где
Эйнштейн (Планк и другие) ссылался просто на
«свободное творчество человеческого мышления». Следовательно,
сами по себе феномены, на которые опирается Эйнштейн,
еще не доказывают индивидуальных актов креативности.
Теперь нам нужно продвинуться несколько дальше в своем
анализе.
Прощай, разум
179
4. Понимание человека, лежащее в основе идеи
индивидуальной креативности
Теперь я перехожу к моему третьему и последнему
замечанию о креативности. Говорить о креативности имеет
смысл только в том случае, если мы рассматриваем
человека определенным образом: именно он дает начало
каузальным цепочкам, а не просто следует за их ходом. Именно
эту идею принимает сегодня большинство «образованных»
людей на Западе. Причем они рассматривают ее не как
простое предположение, а считают эту идею очевидной. Что
представляет собой человек? — Человек имеет
обязанности, принимает решения, рассматривает проблемы,
старается их решить и воздействует на мир в соответствии с
полученными решениями. С самого раннего детства мы
приучаемся связывать событиями с нашими действиями, брать
на себя ответственность за эти события и порицать других
за то, что нам не нравится. Это предположение лежит в
основе политики, образования, науки и личных
взаимоотношений. Тем не менее это не единственно возможное
предположение и жизнь, опирающаяся на него, является не
единственно возможной формой жизни. Люди
придерживались (и в культурах, отличных от нашей, все еще
придерживаются) очень разных идей относительно самих себя,
своей жизни, своей роли в мире. Они действовали в
соответствии с этими идеями и достигали результатов,
которыми мы до сих пор восхищаемся и которым пытаемся
подражать.
В качестве примера возьмем опять эпос Гомера. Его
герои могут оказаться перед лицом различных альтернатив.
Так, например, Ахиллес рассуждает (Илиада 9, 412 и ел.):
Если останусь я здесь, вкруг твердыни троянцев сражаясь,
Мне не вернуться в отчизну, но славою буду бессмертен.
Если ж домой я отправлюсь, в любезную отчую землю,
180
Пол Фейерабенд
Слава погибнет моя, но сам долговечен я стану
И не безвременно буду настигнут кончиною смертной.
Бруно Снелл указывает на то, что подобные отрывки
нельзя интерпретировать, как говорящие о том, будто
Ахиллес волен избрать тот или иной путь. Скорее следует
сказать, что он находит себя на одном из двух путей и, имея их
описания, знает, чего он может ожидать: «у Гомера мы нигде
не находим личного решения, сознательного выбора
действующего лица. Человек, сталкивающийся с различными
возможностями, никогда не думает: вот это зависит от меня,
от моего решения»'] '. Иначе и не могло быть. У Гомера
человек просто не обладает единством, необходимым для
сознательного выбора и креативного акта. Люди, как они
представлены в позднем геометрическом искусстве, у Гомера и
в архаическом обыденном мышлении, являются
системами слабо связанных между собой частей. Они
функционируют в качестве транзитных станций для столь же слабо
связанных событий — сновидений, мыслей, эмоций,
божественных вмешательств. У них нет духовного центра, нет
«души», которая могла бы давать начало или «порождать»
конкретные каузальные цепочки. Даже тело не обладает
связностью и той выразительностью, которую придала ему
поздняя греческая скульптура. Но это отсутствие
целостности индивида более чем компенсировалось тем способом,
которым индивид был включен в свое окружение. В то
время как современное мышление отделяет человека от мира
так, что взаимодействие между ними превращается в
проблему (например, в проблему сознания — тела), воин и поэт
Гомера — не чужак в этом мире, а имеет с ним общие
элементы. Он не может «действовать» или «творить» втом
смысле, который придают этим словам защитники
индивидуальной ответственности, свободной воли и креативности, но
Прощай, разум
181
ему и не нужны эти чудеса для того, чтобы участвовать в
окружающих его изменениях"2.
С этим я подхожу к главному пункту моего аргумента.
Сегодня персональная креативность рассматривается как
особая способность, развитие которой поощряется, а
отсутствие считается серьезным недостатком. Такая позиция
имеет смысл только в том случае, если человек
рассматривается как самодостаточное существо, стоящее вне
остальной природы и обладающее собственными идеями и волей.
Но такая точка зрения сталкивается с громадными
проблемами. Существуют теоретические проблемы (имеется
проблема тела и сознания, а на более техническом уровне —
проблема индукции, проблема реальности внешнего мира,
проблема измерения в квантовой механике и т.д.);
практические проблемы (как могут действия людей, считающих
себя господами Природы и Общества, но достижения
которых теперь рассматриваются как разрушительные и для
первой, и для второго, быть включены в мир?); этические
проблемы (имеют ли право люди, руководствуясь самыми
последними интеллектуальными модами, подчинять себе
Природу и культуры, отличные от их собственной?).
Эти проблемы тесно связаны с описанным выше
переходом от сложных и конкретных к простым и абстрактным
понятиям. В то время как более ранние понятия считали
зависимости несомненными и различным образом
выражали их, понятия «философов», как именовали себя
первые ученые-теоретики, и их рафинированные заместители
XVII столетия претендуют на «объективность», т.е. на
отстраненность от своих создателей и от ситуаций, в которых
они возникли. Следовательно, они в принципе не
способны охватить то богатство взаимодействий, которыми
наполнен мир. Требуется чудо, чтобы преодолеть пропасть
между субъектом и объектом, Человеком и Природой, опытом
и реальностью — пропасть, явившуюся результатом этих
182
Пол Фейерабенд
концептуальных «революций». Предполагается, что этим
чудом как раз и является креативность, создающая
удивительные замки (философской и научной) мысли. Таким
образом, наиболее рациональное воззрение на мир
способно функционировать только в соединении с наиболее
иррациональными вещами, а именно с чудом.
5. Возврат к целостности
Но нет надобности в чудесах. Как я пытался показать в
своем анализе рассуждений Эйнштейна, он использует
креативность для получения результатов (объектов, внешних
для наблюдателя; понятий, более абстрактных, чем
понятия здравого смысла определенной эпохи), которые либо
представляют собой переходный этап естественного
развития (индивида или группы) или являются временными
адаптациями, включенными в эти этапы. Не обращая
внимания на развитие и те особенности человека (или группы
людей), которые делают его возможным, Эйнштейн
начинает с абстрактной сущности, с мыслящего субъекта,
находящегося в выдуманном окружении — в «лабиринте
чувственных впечатлений». Естественно, что ему нужен столь
же абстрактный и фиктивный процесс — креативность, для
того чтобы восстановить контакт с реальными людьми и
результатами их деятельности. В его модель входит разрыв,
требующий чуда, но его нет в реальном мире, когда он
описывается учеными с менее абстрактным стилем мышления
(старомодными биологами, психологами небихевиориста-
ми) и здравым смыслом. Замените модель этим миром — и
разнообразие индивидуальной креативности исчезнет как
дурной сон. К сожалению, однако, это еще не конец.
Дело в том, что вымышленные теории, хотя и не
соприкасаются с природой, могут вступать в контакт с нашими
убеждениями и с нашей культурой. Часто они предостав-
Прощай, разум
183
ляют мотивы для странных и разрушительных действий.
Далекая от реальной жизни политика не терпит крушения,
напротив, она воздействует на мир, она ведет к войнам и иным
социальным и природным потрясениям. Если она
захватывает власть, ее нелегко свергнуть простой аргументацией.
Во враждебном окружении даже самые прекрасные
аргументы звучат подобно софистике — это верно для науки,
еще более верно для политики и здравого смысла, который
поддерживает политику в демократических государствах.
Нам нужны аргументы, но также нужны
предрасположенность, религия, философия и все, что угодно, — вместе с
науками и политическими учреждениями,
рассматривающими человека как неотъемлемую часть природы и общества, а
не как независимого от них творца. Для того чтобы найти
такую философию и соответствующие социальные
структуры, нам не нужны новые креативные акты. Эта
философия (религия) и социальные структуры уже существуют,
хотя бы в наших книгах по истории, ибо они возникли дав-
ным давно, в ту эпоху, когда идеи и действия были
результатом естественного развития, а не конструктивных усилий,
направленных против тенденций такого развития.
Существуют поэмы Гомера, существуеттаоизм, существует
множество «примитивных» культур, сравнение с которыми
заставляет нас испытывать чувство стыда.
Мы не можем отвергнуть их воззрения только на том
основании, что они расходятся с «наукой» или с
«современной ситуацией». Нет такой монолитной сущности, как
«наука», которая может противостоять реальным вещам, а
«современная ситуация» представляет собой катастрофу,
бросающую вызов нашим сокровенным желаниям и
надеждам. Сами ученые начали уже критиковать ту точку зрения,
что существует «объективный» мир и «субъективная
реальность», которые следует четко разделять. Так, уже
более ста лет тому назад Эрнст Мах указывал на то, что это
184
Пол Фейерабенд
разделение нельзя оправдать научно, что простейшее
ощущение уже является абстракцией и что любой акт
восприятия неразрывно связан с физиологическими процессами.
Конрад Лоренц выступал за науку, включающую в научное
исследование «субъективные» факторы, а одна из
наиболее развитых научных дисциплин, физика элементарных
частиц, заставляет нас признать тот факт, что невозможно
провести границу между Природой и факторами (включая
мышление), направленными на ее изучение. Обращаясь к
социальным вопросам, достаточно вспомнить позицию
художников Возрождения XV века: они работали в команде,
они платили мастеру, они руководствовались
пожеланиями заказчиков. Работа в группе уже играет важную роль в
науке; она была и является типичной для таких
учреждений, как Bell Telephone Laboratories, изобретающих вещи
(например, транзистор), способные помочь нам улучшить
мир. Все, что требуется для возрождения эффективности,
скромности и, прежде всего, человечности деятелей той или
иной сферы, есть лишь признание того, что ученые
остаются гражданами даже в пределах своей профессиональной
области и, следовательно, должны соглашаться с
указаниями и надзором со стороны других граждан. Тщеславное
представление о том, что некоторые люди, обладающие
божественным даром креативности, способны повторить
акт Творения согласно своим фантазиям, не только
приводит к громадным социальным, экологическим и
личностным проблемам, оно также весьма сомнительно и с
научной точки зрения. Мы должны критически взглянуть на
него, чтобы дать место менее агрессивным формам жизни.
5
Прогресс в философии,
науке и в искусстве
1. Две разновидности прогресса
D известном отрывке своей книги «О граде Божием»
св. Августин дает красочное описание человеческих
несчастий:
.. кто перескажет словами или представит мыслью,
сколько и каких тяготеет над человеческим родом наказаний?.. [Мы
страдаем от] ограбления, и заключений, и кандалов, и тюрем,
и ссылок, и распятий на кресте, и отнятия членов, и лишения
органов, и телесного насилия для удовлетворения гнусной
похоти насилующего и многих других ужасных (злодейств).
Сколько бед и опасностей от бесчисленных случайностей,
угрожающих телу извне: от зноя, холода, бурь, дождей,
наводнений, молнии, грома, града, грозы, землетрясений,
разрушений, от раздражения, пугливости или даже от злости
вьючных животных, от стольких ядов, скрывающихся в деревьях,
водах, ветрах, животных, от тяжких или даже смертельных
укусов диких зверей, от бешенства, причиняемого бешеною
собакой, так что это ласковое и дружественное животное
угрожает иногда больше, чем львы и драконы, и делает
человека, которого случайно заразит, до такой степени ужасным, что
186
Пол Фейерабенд
родители, жена и дети боятся его пуще всякого зверя? Какие
беды претерпевают плавающие на кораблях и
путешествующие на суше? Кто где бы то ни было гуляет, не будучи
подвержен неожиданным случайностям? Иной, возвращаясь с
форума совершенно здоровым, падает, ломает ногу и от этой
раны умирает Кто, по-видимому, безопаснее сидящего?
И, однако, Илий упал со стула и умер (I Цар 4, 18)... Кто
считает себя обеспеченным своею невинностью от тысячи
разнообразных нападений демонов? Чтобы на это никто не
полагался, демоны даже крещеных младенцев, невиннее которых
никого, конечно, не бывает, иногда мучат так, что по
попущению Божию на них особенно показывается плачевная
бедственность настоящей жизни и желанное блаженство будущей
(О граде Божием, Кн. XXII, гл. 22, [4], с. 1 264).
И так далее в этом же духе. Все это, по словам
Августина, «заслуженное наказание» за «первородный грех».
Как бы то ни было, великодушный Бог дал людям два
бесценных дара — дар продолжения рода и способность
творить. Способность к творчеству породила прогресс во всех
сферах:
...не изобретено ли разумом человеческим и не изучается
ли столько и таких искусств, отчасти необходимых, а отчасти
и касающихся удовольствий, что эта превосходящая все
другие сила ума и разума даже и в такого рода излишних, даже
опасных и гибельных знаниях, которых она жаждет,
показывает, какое великое благо имеет человек в своей природе,
благодаря чему он смог или изобрести эти искусства, или
научиться им, или научить им других? Кто в состоянии
пересказать, до какого удивительного и изумительного производства
одежд и построек дошла человеческая изобретательность,
каких успехов достигла она в земледелии и мореплавании; что
придумала и произвела в изготовлении сосудов, в
разнообразии статуй и картин; что удивительного для зрителей и
невероятного для слушателей постаралась понаделать в театрах;
Прощай, разум
187
что и сколько придумала для ловли, умерщвления и
укрощения неразумных животных, сколько изобрела ядов, орудий и
хитростей против самих людей и сколько лекарств и
медикаментов - для предохранения и восстановления смертного
здоровья, сколько выдумала приправ к кушаньям для
удовольствия и раздражения горла, какое множество и разнообразие
знаков изобрела для выражения мыслей, причем главное
место принадлежит словам и буквам, какие словесные
прикрасы и какое множество стихотворных форм выдумала для
увеселения духа, сколько изобрела музыкальных инструментов
и способов пения для услаждения слуха, какого достигла
знания расстояний и чисел и с каким искусством определила
движение и порядок небесных светил, какого достигла знания
мировых предметов; кто сможет пересказать все это,
особенно если бы мы не захотели ограничиться общими словами, а
пожелали войти в подробности? Кто, наконец, сможет
определить, сколько употреблено остроумия философами и
еретиками для защиты даже лжи и заблуждений? (О граде Божи-
ем, Кн. XXII, гл. 24, [4], с. 1271).
В не менее известном отрывке своей «Жизни
художников» Вазари отмечает, что «в самой природе искусства
заложено, что оно движется вперед шаг за шагом,
продвигаясь от скромных начинаний к вершинам совершенства»
([243], с. 85). Он описывает последние достижения этого
прогресса следующим образом:
Древняя греческая манера живописи была оставлена —
первый шаг в этом сделал Чимабус, а за ним Джотто - и ее
место заняла новая манера письма, которую я предпочитаю
называть стилем Джотто. Это новый стиль живописи
отказался от четких непрерывных контуров, от искрящихся глаз, от
фигур, словно стоящих на цыпочках, от тонких рук, отсутствия
теней и прочих греческих глупостей. Это открыло дорогу
использованию нежных оттенков цвета и изящному
изображению голов. Джотто специально располагал фигуры более
привлекательным образом. Он начал добавлять движение в по-
188
Пол Фейерабенд
ложение головы, а складки одежды делали изображение
более реалистичным. Его нововедения включили в себя и
некоторые элементы перспективы.
В любом случае, он был первым, кто начал изображать
эмоции, так что в его картинах можно найти выражение
страха, ненависти, злости или любви. Он создал утонченный стиль
живописи, исходя из стиля грубого и сурового ([243], с. 83)
Оба приведенных отрывка заключают в себе важные, но
отличные друг от друга идеи прогресса.
Св. Августин описывает, как люди обогащают
искусство и науки, развивая новые приемы, стили, способы
пробуждения разума и чувств, и даже ошибки, и как число этих
навыков, стилей и так далее постоянно возрастает. Эта
количественная, или аддитивная, идея прогресса
подразумевается, когда науки и искусства хвалят за их изобретения,
открытия, прорывы — поскольку изобретения, открытия и
прорывы считаются вполне определенными особыми
событиями, накопление которых совершенствует знание.
Количественная идея возникла в античности; она очень
популярна и сегодня.
Вазари, с другой стороны, представляет качественную
точку зрения. Прогресс в его понимании — это не просто
количественное приращение, он также изменяет свойства
вещей (навыков, идей, произведений искусства и т.д.).
Качественная идея также сыграла важную роль в
истории. Она «лежала в основе» древних рассказов о смене эпох
с «разным» качеством жизни (Гесиод, «Труды и дни», 109 и
ел.), она руководила науками, она повлияла на искусство,
ныне она эффективно используется рекламными
агентствами («Корм для собак Алпо — новый и улучшенный!»).
Роль качественных идей в науке часто умаляется в силу
поглощенности количественными деталями. Однако
научные дебаты о точности и числах (фактах или предсказани-
Прощай, разум
189
ях) всегда включают качественные допущения, которые
могут сохраняться, невзирая на значительные
эмпирические затруднения. Дискуссия между атомизмом и теориями
формы, которые продолжались вплоть до XX в., является
тому общеизвестным примером. Атомизм часто
противоречил фактам и здравым (достаточно подтвержденным)
теориям. Ему удалось выжить, поскольку идея, что
физический процесс может быть разложен на элементарные
процессы, заключающиеся в движении материальных частиц,
была в представлении тех, кто ее придерживался, сильнее
фактов и измерений, которые могли ей угрожать. Точка
зрения Коперника, согласно его изложению, не давала более
точных и лучших предсказаний, чем противостоящие ей
модели"3, но являла собой более гармоничное описание
планетарной системы. Ньютон, который отвергал
рационализированное понятие Бога (как у Декарта и Спинозы)
и делал акцент на личных отношениях между Богом и Его
творением, постулировал продолжающееся и активное
взаимодействие между Богом и материальной Вселенной,
в то время как Лейбниц превратил Бога в искусного
архитектора, который, придумав и сотворив самый лучший из
миров, оставил его развиваться в соответствии с
неизменными законами. Наблюдение и эксперимент не сыграли
большой роли в этой дискуссии, которая переступала
границы, существовавшие между физикой, теологией и рели-
гией114. Принимая эмпирические успехи квантовой теории,
Эйнштейн критиковал концепции, на которых она
основывалась, и связанное с ними представление о мире.
Иногда он заходил еще дальше, высмеивая повсеместную
заинтересованность в «верификации малых эффектов», и
подчеркивал присущую его точке зрения разумность115. Во всех
этих случаях (и, как представляется, во всех значительных
научных изменениях) качественные допущения играют
решающую, хотя часто и незаметную роль.
190
Пол Фейерабенд
2. Их различные характеристики
На первый взгляд эти две идеи имеют разные
характеристики и работают по-разному. В своей простейшей
форме количественная идея кажется «абсолютной» илиобъек-
тывной идеей: различие во мнениях, связанные с
количеством объектов определенного рода нельзя объяснить
различием в культурах и целях. Мы должны признать, что
некоторые или все стороны ошибаются — существует
только один верный номер для каждой совокупности
вещей. Именно это убеждение побуждало Платона
предпочитать количественные определения произведениям
искусства:
измерение, счет и взвешивание оказались здесь самыми
услужливыми помощниками [против ошибки иллюзии], так
что в нас берет верх не то, что кажется большим, меньшим,
многочисленным или тяжелым, а то, что в нас считает,
измеряет и взвешивает («Государство», книга X, 602d4 и ел.).
Такое же убеждение лежит в основе современного
научного стремления к квантификации. Но числа
получаются посредством счета. Счет предполагает, что сложные
сущности, состоящие из множества частей (собаки, оперные
представления, романы, наблюдения), рассматриваются
как самостоятельные единицы, в то время как разные люди
(разные культуры) по-разному эти единицы выделяют.
Сколько созвездий на небе? Ответ зависит от того, какие
фигуры используются для объединения множества звезд в
единую структуру и как элементы этой структуры связаны
с целым. Сколько звезд (шаровидных скоплений)
существует в нашей галактике? Это зависит от спектрального
диапазона, в котором вы рассматриваете материю: то, что
представляется как две звезды в одном диапазоне, может
превратиться в единый сгусток в другом.
Прощай, разум
191
Не имеет смысла говорить: «Должно существовать
точное число и нам нужно определить его!», поскольку стоит
вопрос «Точное число чего?» — и это «чего» изменяется
посредством дефиниции, способа рассмотрения,
теоретических допущений и так далее. Порою даже число четко
определенных сущностей зависит от нашего подхода. Сколько
людей было в Капернауме после того, как Христос туда
приехал? Это зависит от вашего взгляда на Христа. Если вы
считаете, что он был человеком, вы получите одно число. Вы
получите другое число, если считаете, как приверженцы
докетизма, что он был всего лишь образом, фантомным
телом; и скорее всего другое число, если вы полагаете, что он
божественен и не имеет в себе какой бы то ни было
человеческой составляющей. Число элементарных частиц в
заданной области космического пространства-времени зависит
от характера взаимодействий, используемых для их
нахождения. И так далее. Только смешение абстрактных чисел
(которые, как кажется, ясно отличимы друг от друга) с
числами, выражающими количество объектов (которое
зависит от качественных обстоятельств только что описанного
рода), может заставить нас поверить, что количественные
суждения более «объективны», чем качественные,
структурные и ценностные.
Качественное понятие прогресса, как бы то ни было,
является относительным понятием: черты, восхваляемые
одними, могут отвергаться другими. Если все традиции
исчезнут и останется только одна, то, разумеется, суждения
этой традиции будут единственными существующими в
мире суждениями — но они все равно будут
относительными суждениями, точно так же, как «больше» остается
отношением даже в мире с одним существующим телом.
Сейчас я проиллюстрирую эту особенность качественного
прогресса примерами из искусства.
192
Пол Фейерабенд
3. Прогресс в искусстве
Вазари восхваляет естественные позы, мягкие цвета и
элементы перспективы, которые он находит у Джотто. Это
признаки прогресса — но только для того, кто либо
сознательно, либо по привычке придерживается взгляда, что
картина должна повторять видимые физические
характеристики воспроизводимого объекта или, выражаясь более
техническим языком, уже доступным в XV веке, что она должна
передавать оптические впечатления занявшего наиболее
подходящее положение наблюдателя. К примеру, они
представляют собой признаки прогресса для Леона Баггиста
Альберта, который писал в своем эссе о рисовании:
Функция живописца заключается в следующем: с
помощью линий и красок на доске или на стене изобразить
проекцию тела таким образом, чтобы с определенного расстояния
и с определенной позиции оно казалось объемным, телесным
и жизнеподобным ([228], с. 89).
В другом отрывке Альберта делает геометрический
аспект еще более очевидным: «картина представляет собой
поперечное сечение пирамиды», протянувшейся от глаза к
границам изображаемого объекта (там же, с. 52).
Но элементы, описываемые Альберта и восхваляемые
Вазари — перспектива, естественные позы, мягкие краски,
характер, эмоции, — это препятствия, а не улучшения для
художника, который хочет, чтобы портрет или статуя
выражали абсолютную силу или высоту духа: то, что
неизменно и не зависит от обстоятельств, нельзя передать
посредством того, что временно и зависимо от «определенного
расстояния и определенной позиции». Естественные позы:
лежа, стоя, в процессе ходьбы, осматриваясь вокруг —
единичные и недолговременные ситуации; «мягкие цвета»
появляются, когда пигменты освещаются определенным све-
Прощай, разум
193
том и наблюдаются в определенной атмосфере; эмоции
приходят и уходят; и перспектива, в завершении всего, не
дает нам объект, но только то, каким он представляется
предполагаемому незначительному индивиду: любой
обыватель может сделать императора таким же крошечным, как
муравей, если будет смотреть на него с большого
расстояния. Художники, заинтересованные в силе, постоянстве и
объективности, знали об этих недостатках и
разрабатывали специальные методы, которые больше не
соответствовали чрезмерному оптическому реализму.
История египетского искусства являеттому прекрасный
исторический пример; здесь ранний и довольно
изысканный натуралистический стиль уступил место суровому
формализму, который сохранялся веками. (Платон, «Законы»,
256d и ел., благосклонно оценил достигнутую стабильность.)
Но натуралистические техники не были забыты. Они
использовались для повседневных сцен, и они возродились
во всех сферах во время царствования Аменофиса IV (см.
«Против метода», гл. 17). Это означает, что отступления от
«верного изображения природы» возникли с появлением
детального знания представляемых объектов и наряду с
более реалистическими позициями. Здесь мы можем
наблюдать, почти как в лаборатории, как стили и методы
представления изменяются исходя из цели, с которой
создаются произведения искусства.
Другой пример, демонстрирующий, что некоторые,
казалось бы, «примитивные» приемы могут возникнуть
намеренно, а не в результате отсутствия или недостатка
мастерства, можно найти в истории раннехристианского
искусства. Фрески катакомб, кажется, имеют две функции:
украшения и повествования. Строительными блоками
истории были картины — но они функционировали скорее как
пиктограммы в ранних китайских текстах, чем как снимки
преступников в отделении полиции. Выражения индиви-
7 — 1509
194
Пол Фейерабенд
дов, перспектива, мягкость тона отсутствуют не по
причине того, что мы находимся на «примитивной стадии», но
потому, что бессмысленно было бы требовать этих
характеристик от знака, обозначающего «лицо», или требовать,
чтобы знак, обозначающий «дом», был построен в
соответствии с правилами перспективы. (Точно так же будет
бессмысленным требовать индивидуального выражения от
зарисовки человеческой фигуры, созданной для объяснения
нервных связей между сетчаткой и мозгом). Даже
портреты индивидов (святых, священников, императоров), как и
статуи или изображения (на холстах, на монетах),
подписанные соответствующими именами, часто являлись
конвенциональными образами, поскольку их целью было:
выразить идею, что изображенный человек
действительно является басилевсом, консулом, сановником,
священником, показывая на портрете, что он обладает всеми
сущностными характеристиками: у него благородные и степенные
черты и величественная манера, он делает правильные
жесты, он держит в руках регалии или носит одежду,
соответствующую его социальному положению. Есть соблазн сказать,
когда, к примеру, мы видим изображение, на котором Св.
Феодор изображен византийским солдатом, что это
изображение, которое походит на любое другое изображение
византийского солдата. Но мы должны отметить, что это
изображение Св. Феодора византийским солдатом
иконографически определяет его как византийского солдата (А. Грабар,
[83], с. 65 и ел.).
Проблема оптического реализма, вырастающая из
подобного подхода, была четко поставлена в одном
греческом тексте, известном как апокрифические Деяния
Иоанна, созданном, по мнению филологов, во II веке н.э. в
Малой Азии. Текст говорит о том, как Л икомед, ученик
Иоанна, тайно пригласил в дом Иоанна художника и попросил
Прощай, разум
195
его нарисовать портрет Иоанна. Иоанн обнаружил
портрет, но, никогда прежде не видев своего лица, не смог его
узнать и подумал, что это идол. Ликомед принес зеркало, и
Иоанн, сравнивая отражение в зеркале и картину, сказал:
Клянусь Христом, этот портрет похож на меня, сын мой,
но все же он подобен не мне самому, а лишь моему
телесному образу. Потому как, если бы художник, который здесь
изобразил мое лицо, хотел бы нарисовать его на портрете, ему
потребовалось бы больше, нежели цвета, которые ты сейчас
видишь, и контуры... и положение моего тела, и пожилой
возраст, и юность, и все те вещи, которые можно увидеть глазом.
Ты мог бы стать моим живописцем, Ликомед: ты имеешь
те краски, которые через меня дал тебе Иисус, изобразивший
всех нас, который знает форму и образ, и состояние, и
характер наших душ... Но то, что ты сделал - незрело и
несовершенно: ты нарисовал мертвый образ мертвого (А. Грабар, [83],
с. 66 и ел.; курсив мой. - /7.Ф.).
Другими словами: оптический реализм упускает жизнь
и душу.
Оценка псевдо-Иоанна получила поддержку от
психологии восприятия, которая демонстрирует, что
информация, которую дает натуралистическая интерпретация
объекта, нагружена избыточными деталями, что препятствует
попыткам ухватить ее структуру.
Райан и Шварц ([206], с. 60 и ел.) сравнили четыре модели
репрезентации: (а) фотографии; (б) заштрихованные рисунки;
(в) контуры; (г) зарисовки одних и тех же объектов. Картинки
демонстрировали на короткий срок, и испытуемый должен был
определить соотносительную позицию определенной части
картины, например позиции пальцев на руке. Время
демонстрации увеличивалось от совсем непродолжительного до тех
пор, пока оно не было достаточным для принятия верного
суждения. Результат был таков: зарисовки правильно воспринима-
196
Пол Фейерабенд
лись на самых коротких промежутках; контуры требовали
более длительных промежутков; две другие [модели
репрезентации] были примерно наравне и располагались между этими
двумя крайностями (цитируется по [103], с. 74 и ел.).
Мы можем сделать вывод, что детали
натуралистического исполнения лица просто препятствуют пониманию
«характера», или «души», или «сущности»
портретируемого индивида и что этот характер или сущность могут
существовать способом не только скрытым, но даже
незатронутым оптическим реализмом. Последняя часть вывода
подкрепляется следующими открытиями относительно
природы и развития восприятия.
«Гештальт-психология, - пишет Антон Эренцвейг в своей
книге «Скрытый порядок искусства» ([46], с. 1 3), -
предсказывала, что после открытия их... глаз [для созерцания] мира
внимание [в прошлом слепых людей] будет приковано к
формам, отражающим... базовые паттерны [такие как
круги и сферы, квадраты и кубы, треугольники и пирамиды].
Какая уникальная возможность наблюдать гештальт-прин-
цип в работе в процессе автоматической организации
визуального поля в видимую четкую фигуру в противовес
расплывчатому фону! Ни одно из этих предсказаний не
оправдалось! Истории болезни, собранные фон Зенденом ([21 2]),
демонстрируют немыслимые трудности, встававшие перед
пациентами, когда они вдруг сталкивались лицом к лицу со
сложностью визуального мира. Многие из них... колебались
и не могли предпринять попытку, необходимую для
упорядочивания гудящего хаоса цветных пятен. Некоторые из них
испытывали большое облегчение, когда слепота снова
овладевала ими и позволяла вновь погрузиться в хорошо знакомый
им мир осязания.
Они не показали ни больших способностей, ни
наклонностей для различения основных геометрических фигур. Для того
чтобы отличить, скажем, треугольник от квадрата, им
приходилось считать углы один за другим точно так же, как они дела-
Прощай, разум
197
ли, дотрагиваясь до них, когда они еще были слепыми. Иногда
они ошибались чудовищным образом. Несомненно, они не
обладали изначальным знанием элементарных простых геш-
тальтов, как предсказывали теоретики гештальтпсихологии.
Простота паттерна играла только небольшую роль в их
обучении. Психоаналитики не будут удивлены, когда услышат, что
интерес к реальности, связанный с либидо, а вовсе не с
абстрактными формами, был самым действенным и эффективным
направляющим. Девочка, любившая животных, в первую
очередь узнала свою любимую собаку. Недавний случай показал,
что лицо врача было первым бесформенным пятном,
выделенным из общих неясных очертаний зрительного поля.
Таким образом, оптический реализм по крайней мере
дважды исключен из субъективной реальности индивида:
он перегружен деталями и основывается на
спроектированных формах объекта, а не на его эмоциональном воздействии.
Художники-примитивисты, современные художники, такие
как Пикассо или Кокошка, автор апокрифических Деяний
Иоанна и многие неизвестные художники раннего
христианского периода, кажется, гораздо лучше понимали эту
ситуацию, чем их критики-реалисты. (Последние, с другой
стороны, могли подвергнуться влиянию отчуждения,
которое все больше проникает в нашу жизнь.)
То, что элементы, описываемые Альберти и
восхваляемые Вазари — перспектива, естественные позы, мягкие
краски и т.д., — могут быть препятствиями, а не
улучшениями, становится ясным, если подумать о функции цветов.
Яркие цвета, критикуемые Вазари — ультрамарин небес,
золотой блеск нимба, яркость красной и зеленой одежд, —
играли важную роль в искусстве Средних веков: будучи
умышленно антинатуралистичными, они придавали свету
картины нематериальную сверхъестественную природу, как
подчеркивает современный историк цвета (Шёне [210], с.
21). Аббат Сугерий описывал эту «мистическую» или «уно-
198
Пол Фейерабенд
сящую ввысь» функцию антинатуралистической роскоши,
наблюдая великолепные драгоценные камни на главном
алтаре его церкви (Liber de Administratione, xxxiii, [1], с. 63
и ел.):
Когда - помимо моего восхищения красотой дома
Божьего - великолепие множества цветных камней возвысило меня
над внешними заботами и подобающие размышления
побудили меня задуматься, превращая то, что материально, в
нематериальное, о разнообразии святых добродетелей, -
тогда мне показалось, что я вижу себя пребывающим, как это и
было, в какой-то загадочной области Вселенной, которая не
пребывает полностью ни в земной скверне, ни в чистоте
небес; и так, по благодати Божией, неким мистическим
образом я могу перенестись из этих низин в высший мир.
Я прихожу к выводу, что история искусства предстает
перед нами во множестве разнообразных техник и
способов репрезентации, используемых в силу различных
причин и применяемых для разных целей. Попытка выявить
прогресс через все причины и цели была бы такой же
глупой, как попытка интерпретировать диаграммы анатомии
Грея и распятие на деревенских дорогах как этапы одной
восходящей линии развития. Некоторые художники времен
Вазари, и сам Вазари в частности, заметили разницу
подхода. Не обладая исторической перспективой, они не
осознали изменения цели, связанного с этим; они полагали, что
новые цели, преследуемые ими, всегда были целями
живописи; следовательно, они считали каждый шаг к этим
целям прогрессом, а каждый шаг от них — упадком: простая
ошибка, которая в значительной степени ответственна за
дискомфорт, связанный с релятивизмом. (Интересное
оптическое проявление ошибки — развитие нимба: сначала
он окружает святые головы золотым сиянием, затем он
постепенно становится эллиптическим, пока в конце концов
Прощай, разум
199
не превращается в настоящее кольцо Сатурна; здесь
существует «материалистическая» интерпретация, где круглая
спинка стула говорит о святости человека, сидящего на
нем).
4. Философия
На первый взгляд ситуация в философии кажется
существенно отличающейся от ситуации в искусстве.
Философия — сфера мысли, а мысль кажется объективной и
независимой от стилей, впечатлений, чувств. Для начала
нужно сказать, что эта точка зрения сама является философской
теорией. Существуют другие взгляды, подобные взглядам
Киркегора, который утверждал, что мысль получает
содержание посредством связи с мыслящим и является всецело
субъективной и не способной давать «результаты», т.е.
постоянные и неизменные вехи, служащие для оценки
эфемерных преходящих мнений человека.
В то время как объективная мысль, - пишет Киркегор, —
превращает все в результат и помогает всему человечеству
обманывать себя, переписывая ее и повторяя наизусть,
субъективная мысль оставляет все в движении и пренебрегает
результатами; отчасти потому, что она принадлежит мыслящему, а
отчасти потому, что, как экзистирующий индивид, он
постоянно находится в процессе обретения бытия, в котором
заключается истина любого человеческого существа, не
позволившего ввести себя в заблуждение желанием стать объективным,
бесчеловечно отождествляющим себя со спекулятивной
философией вообще ([1 24], с. 68, отрывок относится к Гегелю;
но его точно так же можно отнести к современной научной
философии).
Согласно Кирке гору, у нас есть выбор: мы можем
думать объективно, создавать результаты, но не существовать
200
Пол Фейерабенд
как ответственные человеческие существа или мы можем
избегать результата и оставаться «постоянно в процессе
обретения бытия»: разным формам жизни присуща разная
философия. Бор, детально изучавший идеи Киркегора (см.
Н. Бор [13], т. 1, с. 500 и ел.), был расположен подвергать
испытанию даже ясные и хорошо проверенные факты и
точки зрения:
Он никогда не пытался нарисовать законченную картину,
но спокойно проходил через все стадии развития проблемы,
начиная с какого-либо мнимого парадокса и постепенно
приближаясь к его разъяснению. Фактически, он никогда не
рассматривал полученные результаты иначе, чем как начальные
положения для дальнейшего исследования. Размышляя над
перспективами определенного направления исследования, он
отвергал традиционные соображения простоты, элегантности
и даже последовательности (Розенфельд, в [203], с. 11 7).
Работы Бора, таким образом, щедро приправлены
историческим материалом и лучше всего определяются как
предварительные обобщения, исследующие прошлое,
дающие взгляд на существующее состояние знания и
выдвигающие предложения для последующих исследований.
Во-вторых, всяческие серьезные изменения в
абстрактном мышлении являются качественными, а качественные
изменения — мысли ли или произведений искусства —
относительны по своей сути. Действительно, мы можем
рассматривать философию как искусство, как живопись или
музыку, или скульптуру — разница заключается лишь в том,
что, тогда как скульптура имеет дело с камнем или
металлом, живопись — с цветами и светом, а музыка со звуками,
философия работает с мыслями, видоизменяет их,
связывает их, разрезает на куски и строит фантастические
воображаемые замки из этого воздушного материала. Мои
предыдущие описания (глава 1, раздел 6 и глава 3, раздел 4)
Прощай, разум
201
развития (на Западе) от протофилософской мысли до
философии показывают, что эта интерпретация в
действительности очень вероятна: переход от гомеровского взгляда на
миркдосократикам, и в особенности к философии Единого
Парменида, хотя и обретает поддержку со стороны
обширных социальных изменений, снова ставит нас перед
выбором: либо принять новый порядок и приспособить к нему
нашу жизнь, л ибо считать его пребывающим «в одном шаге
от безумия» (Аристотель, «О возникновении и
уничтожении», 325а 18 и ел.) и продолжать полагаться на здравый
смысл. История, включая естественную историю,
искусство и гуманитарные науки, упорно пыталась выбрать
второе. Опять же, бессмысленно соотносить все философские
взгляды с одной линией прогресса.
5. Ситуация в науке
Искусства и философия пытались преодолеть
релятивизм, а некоторые художники и философы пытаются это
делать до сих пор. Они не достигли успеха и не достигнут
его из-за природы проблемы: качественные предпочтения
не имеют обязательного порядка. Теоретические науки
пытаются установить такой порядок, подчиняя качественные
суждения законам количественного прогресса: идеи,
ведущие к большему числу успешных предсказаний, являются
«объективно» лучшими идеями116. Предположим, эта
попытка удалась. Тогда науки можно определить, как такие
искусства, которые, используя идеи, а не цвета, металлы,
звуки или камни, не только говорят о прогрессе, но
осуществляют его, причем таким образом, который должен быть
признан всеми. Я завершу свои комментарии по поводу
прогресса четырехсторонней критикой этой идеи.
Для начала, сочетание количества и качества, которое
якобы присуще науке, само является качественной идеей
202
Пол Фейерабенд
и, таким образом, не абсолютной. Если у меня есть друг, то
я захочу узнать о нем многие вещи, но мое любопытство
будет ограничиваться моим уважением к его частной
жизни. Некоторые культуры относятся к Природе в подобном
уважительно-дружественном ключе. Все их существование
организуется в соответствии с этим, и такой образ жизни
не является плохим ни в материальном, ни в духовном
отношении. Возможно, кто-то задастся вопросом, не были ли
изменения, порожденные более инвазивными
процедурами, по крайней мере частично ответственными за
экологические проблемы и за все более распространяющееся
чувство отчуждения, с которым мы сталкиваемся сегодня. Но
это означает, что переход от не-науки к науке (выражая
крайне сложный процесс развития в терминах простой
альтернативы) представляется прогрессивным только при его
оценке изнутри определенной формы жизни. (Нужно
также отметить, что существующие науки, в том виде, как ими
занимаются ученые, мало что могут поделать с
монолитным монстром «науки», которая лежит в основании
требования прогрессивности.)
Во-вторых, условия, гарантирующие увеличение
предсказаний, часто ведут к качественным проблемам, которые
поднимают серьезные вопросы относительно реальности
количественного прироста. Современная наука отвергает
качества, но она опирается на них в своих предложениях
наблюдения: каждое предложение наблюдения нагружено
проблемой сознания и мозга. Это не затрагивает ученых,
которые рассматривают теории лишь как вычислительные
инструменты; но это составляет трудность для научных
реалистов. Некоторые мыслители, в том числе Беркли, Юм и
Мах, воспринимали эту проблему всерьез. Большинство
ученых либо не имеет о ней представления, либо устраняет
ее как незначительную философскую головоломку. Это
означает, что они ограничивают сферу естественного знания
Прощай, разум
203
и определяют значительность и незначительность только
касательно, или относительно того, что оказывается
внутри этих пределов. Аристотель не был удовлетворен такими
поверхностными шагами.
В-третьих, переход от одной теории к другой, как
правило (но не всегда), порождает изменение всех фактов, так
что становится невозможно сравнивать факты одной
теории с этими же фактами другой. Переход от классической
механики к специальной теории относительности
является тому примером. Специальная теория относительности
не добавляет новых неклассических фактов к фактам
классической физики, увеличивая, таким образом, ее
предсказательную силу, она не способна отобразить классические
факты (хотя она может создать приблизительные
релятивистские модели для некоторых из них). Здесь нужно
начинать с чистого листа. Отдельные дисциплины (такие как
классическая теория кинематики и динамика твердых тел)
исчезают в результате перехода (они сохраняются лишь в
качестве инструментов вычисления). Профессор Кун и я
используем термин «несоизмеримость» для описания такой
ситуации. При переходе от классической механики к
теории относительности мы не пересчитываем старые факты,
добавляя к ним новые, мы начинаем счет сначала и, таким
образом, не можем говорить о количественном прогрессе.
В-четвертых и в-последних, качественные элементы
науки или, что то же самое, фундаментальные идеи
определенной области знания никогда не бывают полностью
детерминированными фактами этой области. Под этим я
подразумеваю не только то, что, если имеется множество
фактов, всегда существует ряд теорий, согласующихся с этим
множеством; я скорее хочу сказать, что даже отброшенный
конкурент теории, который хорошо подтвержден и «звучит
научно» (что бы это ни означало на момент оценки), может
взять верх над успешной теорией: исследование может от-
204
Пол Фейерабенд
казать ей в доказательности и передать пальму первенства
сомнительной сопернице, используя в то же время
доказательства, которые не позволяют сопернице опровергнуть
успешную точку зрения. Так, свободное падение тяжелых
тел долгое время подтверждало идею, что Земля покоится.
Опыт учит, что движение нуждается в движущей силе и
прекращается, когда сила перестает действовать. Теперь, если
я бросаю камень с вершины башни и если Земля движется,
тогда он не последует за движущейся Землей, он остается
позади и должен описать наклонную траекторию. Камень
падает вниз прямолинейно — следовательно, Земля
покоится. Галилей заменил аристотелевский закон движения —
каждое движение нуждается в движущей силе, в противном
случае движения нет — своим собственным более
умозрительным спекулятивным законом и был вынужден обратить
в свою пользу аргументы, доказывавшие правоту
Аристотеля. Он не достиг в этом успеха — тогда еще не
существовало теории трения, теории сопротивления воздуха и всего
предмета аэродинамики. Но он начал процесс, в ходе
которого аргументы в пользу неподвижности Земли
постепенно ослаблялись и видоизменялись в пользу точки зрения
Коперника. Похожие события сопутствовали
возникновению волновой теории света в XIX веке и выживанию
атомистической теории на всем протяжении
антиатомистического периодаXIX века. Фактически, мы можем сказать, что
противостояние альтернативных качественных точек
зрения, преображающихся каждый раз, как только на
горизонте появляются новые идей и боевые средства
(экспериментальные процедуры, математические техники), в
действительности никогда не прекращается и что поддержка
какой-либо стороны никогда не может быть определена как
«объективное заблуждение».
Как бы то ни было, это противостояние может
прекратиться из-за других причин: нетерпеливости, отсутствия
Прощай, разум
205
средств, твердого убеждения в том, что выбранный путь
является верным или предпочтения направления
наименьшего сопротивления117. Такой выбор, хотя и не случаен, не
имеет «объективного», т.е. независимого от мнения,
основания. Однако он может затронуть многих людей. Многие
черты западных обществ являются результатом
«субъективного» выбора такого рода. При демократии субъективный
выбор по большей части находится в руках граждан.
Разумеется, граждане не всегда информированы лучше ученых
(хотя многие граждане, имея более широкий взгляд, могут
иметь представление об областях, не охваченные
экспертной оценкой) — но они не информированы и хуже
относительно тех областей, о которых идет сейчас речь. Они могут
не знать всех деталей доказательства, которое лежит в
основе общепризнанной научной доктрины, и они могут не
иметь абсолютно никакого представления об изощренных
аргументах, основывающихся на этом доказательстве, но
от них требуется не оценка характера и прочности этого
основания, но оценка вероятности возвращения
непопулярных альтернатив — а в этом плане ученые оказываются
практически в полной темноте.
Они правы в своем предположении, что, если они
продолжат сражение в том же духе, возможно, они не
проиграют, но они не могут сказать, что произойдет в том
случае, если другие средства получат такую же финансовую
поддержку, которой они сами пользовались в прошлом.
Как бы то ни было, так называемый авторитет науки, т.е.
применение результатов исследования в качестве
барьера для будущих исследований, основывается на
решениях, правильность которых может быть проверена только
посредством отбрасывания этих решений — это
типичная черта тоталитарной мысли. Дальнейший материал по
этому поводу можно найти в разделе 2 главы 1, примеч.
25 и 26.
206
Пол Фейерабенд
Комментарии к обсуждению этой работы
Более ранняя версия этой работы была прочитана
(профессором Гетнером Стентом —я не присутствовал на симпозиуме)
во время Нобелевского симпозиума, проведенного в Лидингое,
Швейцария, с 15 по 19 августа 1983 года. Симпозиум назывался
«Прогресс в науке и его социальные условия»; тезисы, включающие
данную версию статьи, были опубликованы Pergamon Press в 1986
году. Небольшая дискуссия и заключительное обобщение
породили множество критических замечаний. Ниже я
прокомментирую некоторые из них.
В отношении несоизмеримости было сказано, что
«такие понятия, как «движение», «скорость», «ускорение»,
изменялись таким образом, что проблемы, возникшие на
предыдущих стадиях развития, получали ответ на
последующих стадиях». В одних случаях это верно, в других нет. Как
я показал в главе 8, «классическое» понятие
непрерывности, введенное Галилеем и до сих пор принимаемое
Германом Вейлем, не было усовершенствованием
аристотелевского понятия, но значительным упрощением. Кроме того,
улучшения, которые действительно имели место,
затрагивали только некоторые (не все! — сравни с моими
приведенными выше заметками о непрерывности) аспекты
перемещения. Другие типы движения просто выпали из поля
зрения.
Также мне было указано, что существует множество
отношений между, скажем, классическими и
релятивистскими понятиями. Это так — но эти отношения носят чисто
формальный характер. Для меня важно, что, принимая
базовые постулаты относительности, мы должны признать,
что классические понятия больше не могут применяться
(у богов и молекул есть некоторые формальные общие
черты — и те, и другие могут быть посчитаны — но это не
означает, что боги могут быть редуцированы или классифи-
Прощай, разум
207
цированы согласно принципам механистического
материализма). «Существует определенная непрерывность» —
разумеется, если не присматриваться очень тщательно и в
особенности если смириться с формальными отношениями.
Практичные ученые не присматриваются слишком
тщательно. Миф о прогрессе был создан философами; они
настаивают на точности, они должны признать, что развитие
науки заключает в себе много непоследовательностей.
Качественные понятия не являются относительными
сами по себе — это было проиллюстрировано на примере
кубика льда, который тает (качественный процесс), когда
попадает в сауну. Верно — но я говорил о качественных
понятиях прогресса, а они, включая оценки, всегда
относительны.
Мое предложение, сделанное в последних строчках
работы, что наука должна быть субъектом демократического
контроля, вызвало некоторые критические замечания. «Фей-
ерабенд ничего не говорит о том, как эти советы должны
организовываться и выбираться», гласило одно возражение.
Верно. Это было отклонение от темы работы,
посвященной другому предмету. Если бы я вдавался в детали, я бы
сказал, что в мою задачу не входит описание структуры и
функции советов, задача тех, кто их учреждает и
использует: демократические меры являются мерами яг/hoc, они
вводятся для специальных целей и служат определенным
людям, поэтому их структура не может и не должна определяться
далекими от них теоретиками (см. раздела 5 и 6 главы 12).
Усталый призрак Лысенко был вызван, чтобы защитить
науку от общественного контроля. Но феномен Лысенко имел
место не при демократии, а при тоталитарном государстве,
где вопросы, касающиеся науки, решали особые группы
(консервативные ученые и политики), а не население в
целом. Джордано Бруно также был сожжен экспертами, а не
демократическим сообществом. Кроме того, Лысенко вые-
208
Пол Фейерабенд
казал некоторые толковые замечания в противовес
односторонним прогнозам генетики его времени.
Верно, что существовало жестокое противодействие
импрессионизму, экспрессионизму, кубизму и т.д. В чем тут
было дело? Противодействие не приносит вреда, пока оно
не институционализировано, и здесь вновь
институциональное противодействие исходило не от
демократического сообщества, а от старых академических школ.
Разумеется, контроль науки, осуществляемый демократией, может
устранить некоторые вещи, которые нравятся некоторым
ученым, но отметим, что в современной ситуации ученые
могут устранить то, что нравится не-ученым.
Просто-напросто невозможно удовлетворить желания всех
одновременно. В этих обстоятельствах кажется целесообразным
учитывать мнение всех людей, придерживающихся какой-
то программы, идеи, точки зрения, а не только те мнения,
которые принадлежат небольшой элите. И конечно же,
эксперты не могут исключаться из рассмотрения. У них будут
богатые возможности выдвигать свои предложения и
пояснять, почему для их исполнения понадобятся такие
большие затраты. Если встает вопрос, смогу ли лично я выжить
в таких обстоятельствах — что же, увидим!
Последние замечание относительно «прогресса». «Мне
кажется довольно очевидным, — говорит один из
критиков, — что мы знаем о мире больше, чем люди, жившие во
времена Парменида и Аристотеля». Что же, это звучит
приятно и правдоподобно — но кто такие «мы», о-которых
говорит критик? Может быть, он говорит о себе? Тогда
утверждение очевидно ложно — нет сомнения в том, что
Аристотель по многим вопросам знал гораздо больше него. По
некоторым вопросам он знал даже больше, чем многие
сегодняшние хорошо подготовленные учащиеся (например,
он знал о Эсхиле больше, чем любой современный
классический учащийся). Может быть, «мы» — это «образован-
Прощай, разум
209
ные непрофессионалы»? Тогда утверждение вновь ложно.
Возможно, «мы» относится к современным ученым? Но есть
многие вещи, которые знал Аристотель, но которых не
знают современные ученые, они и не могут их знать из-за
специфики их деятельности. Это по-прежнему остается
верным, если заменить Аристотеля на индейцев или пигмеев,
или на любое другое «примитивное» племя, которое
прошло через вторжения, колонизацию и развитие.
Существует множество вещей, которых не знаем «мы», западные
интеллектуалы, но которые знают другие люди. (Обратное,
разумеется, тоже верно — множество известных нам вещей
неизвестно другим. Вопрос заключается в следующем:
каков баланс?)
Вполне возможно, что общая сумма фактов,
похороненных в научных журналах, книгах, письмах и жестких
дисках, значительно превышает общую сумму знаний,
которые происходят от других традиций. Но имеет значение не
количество, но применимость и доступность. Какая часть
этого знания является полезной и для кого? В письме,
опубликованном в январе 1987 года в «Notices of the American
Mathematical Society», Джеймс Йорк пишет, что
проведенное Евгением Гарфилдом исследование ста наиболее часто
цитируемых ученых «выявило ноль математиков» (см. Дж.
Колата[126],с. 159). Математики и сами нечасто цитируют
друг друга, а не-ученые почти что никогда не обращают на
них внимания. Огромное количество материала — это
первая причина, жаргон специалистов — вторая.
Исследовательские статьи не читаются всеми авторами, которые
подписываются под ними и читаются невнимательно другими,
что доказывает тот факт, что тривиальные ошибки могут
оставаться незамеченными годами и часто
обнаруживаются случайным образом. Большая часть «знания»,
находящаяся вокруг нас, остается такой же неизвестной, какими
были кварки на рубеже веков. Оно здесь и его здесь нет, его
210
Пол Фейерабенд
нельзя обсудить, и «мы», разумеется, не знаем его. Таким
образом, взглянув на предмет более детально и с большей
определенностью, чем предлагает нам неясное «мы»
критика, мы обнаруживаем множество проблем и отсутствие
очевидных ответов. Следовательно, необходимо
перешагнуть пустые слоганы и начать думать.
6
Тривиализация познания:
замечания по поводу экскурсов
Поппера в философию
I ри книги Поппера, которые я собираюсь
комментировать («Реализм и цель науки» [192], сокращенно R;
«Квантовая теория и раскол в физике» [191], сокращенно Q, — эти
две книги представляют собой 1-ю и 3-ю части
«Послесловия» Поппера к «Логике научного открытия»; и «В поиске
лучшего мира» [193], сокращенно S), представляют собой
сочинения различной величины, написанные в начале 50-х —
конце 80-х годов. Некоторые из этих работ были
опубликованы и перепечатаны с небольшими изменениями,
другие являются новыми. Поппер еще раз пытается разъяснить
свою философию и разогнать «общую
антирационалистическую атмосферу, ставшую главной опасностью нашего
времени (Q, с. 156). Я буду рассматривать три темы —
критический рационализм, фальсификацию и реализм,
квантовую теорию. В заключение своего анализа я дам краткий
очерк недавней истории (за последнее столетие)
философии науки и поговорю о роли рационализма в целом.
212
Пол Фейерабенд
1. Критический рационализм
Критический рационализм, «подлинный стержень [его]
мышления» (R, с. xxxv), является традицией,
возникновение которой сам Поппер относит к досократикам и, в
частности, к Ксенофану. Эта традиция является рациональной,
она «стремится понять мир и учиться в диалоге с другими»
(R, с. 6). Она плюралистична: разные точки зрения
обмениваются аргументами, а не сравниваются с
фиксированным источником познания. Она симпатизирует
демократии, которая, по мнению Поппера, является такой формой
общества, «которая может быть изменена с помощью слов
и даже, хотя и редко, с помощью рациональных
аргументов» (S, с. 130). И научные достижения она считает
наиболее важными событиями в истории человечества (S, с. 208
о Ньютоне; Q, с. 158 об Эйнштейне). «Я выбираю
Западную цивилизацию, науку, демократию», — писал Поппер в
сочинении, написанном по случаю 25-й годовщины
обретения независимости Австрией (S, с. 130).
Переход от «закрытых» обществ, опирающихся на
относительно устойчивые учреждения, обычаи и верования,
к «открытым» обществам, подвергающим проверке каждый
аспект мира, Поппер считает шагом в правильном
направлении. Обогащая жизнь посредством обсуждения ее
элементов, общества, сделавшие этот шаг, «способны добиться
успеха благодаря собственным критическим усилиям в
разрушении тех или иных окружающих их тюремных стен» (R,
с. 16). Они могут добиться успеха в устранении
традиционных ограничений мышления и действия.
Но традиции, устанавливающие границы,
одновременно придают смысл той жизни, которую ограничивают.
Следовательно, движение к открытому обществу происходит
не без затруднений. Есть приобретения, но есть и потери.
Сам Поппер нарисовал живую картину тех потерь, кото-
Прощай, разум
213
рые имели место в Древней Греции. В заключительной
главе тома 1 своего «Открытого общества» он говорит о «грузе
цивилизации», о «чувстве пассивности», переживаемом теми,
кто в нее включается, и описывает растерянность и утрату
смысла, вызываемые постепенным движением к
«абстрактному обществу», которое разрывает личные контакты и
увеличивает дистанцию между человеком и природой.
Однако он не испытывает симпатий к тем, кто, заметив эти
трудности, пытается как-то смягчить их. Такие попытки,
по его мнению, являются симптомом незрелости: эти
тяготы есть та цена, которую мы должны платить за то, чтобы
стать человечнее. Люди и общества, добавляет он, не
желающие платить эту цену, могут быть принуждены
отказаться от своих племенных привычек, как это было с древними
греками, с помощью «некоторой формы империализма».
Это не просто академические споры или соображения
относительно истории. Аналогичные изменения
происходят на наших глазах. Я имею в виду, конечно, неуклонную
экспансию Западной цивилизации во все уголки мира; и я
специально говорю о современной форме этой экспансии,
которую несколько эвфемистически называют «помощью
развивающимся странам». Эта экспансия была и остается
чисто империалистической, хотя многие страны, служащие
ее проводниками, действуют более или менее
демократическим образом. Это означает, что для таких стран
размеры и качество этой «помощи», в принципе, являются
предметом демократического голосования: мы сами призваны
решать, как нам вмешиваться в жизнь чужестранцев. Наше
правительство предлагает плоды науки и цивилизации и
средства для их увеличения. Согласно Попперу, в этом
состоит «наивысшая» (S, с. 129) гуманность. Можем ли мы
предоставить народам выбор и возможность отказаться от
этих «плодов» или мы должны, следуя Попперу,
рассматривать отказ как проявление незрелости и навязать нашу
214
Пол Фейерабенд
зрелую волю известным и привычным образом —
посредством «некоторой формы империализма»?
В сочинении, опубликованном в 1981 году, Поппер
писал: «Для любых ценностей, реализуемых обществом,
существуют другие ценности, отличные от первых» (S, с. 129).
Таким образом, всякое изменение, включая изменение в
направлении критического рационализма,
сопровождается как выигрышами, так и потерями; но теперь эти
приобретения и потери описываются более «объективным»
образом. Они считаются соответствующими «ценностям». Но
если обе стороны содержат позитивные элементы, то
утверждения типа «наша Западная цивилизация для меня
является наилучшей» (S, с. 129) являются субъективными
мнениями, и иные точки зрения нельзя квалифицировать
как признак незрелости.
Можно пойти даже дальше. «Повсюду в мире, — пишет
Поппер (S, с. 128 и ел.), — люди создавали новые и порой
весьма отличные друг от друга культурные миры: миры мифа,
поэзии, искусства, музыки; миры средств производства,
орудий труда, техники, экономики; миры морали, права,
защиты и помощи детям, больным, немощным и всем
другим, нуждающимся в поддержке». Согласно Попперу,
такие миры возникали в результате огромного количества
проб и ошибок, растягивающихся на тысячелетия. Это были
формы знания, выдержавшие многочисленные проверки и
получившие высокую степень подтверждения (S, с. 17 и ел.).
То же самое справедливо и для «теорий, включенных в наш
повседневный язык, причем не только в его словарь, но и в
его грамматическую структуру» (R, с. 15), и для всех
племенных космологии, которые Бенжамин Ли Уорф
исследовал стаким непревзойденным искусством (R, с. 17).
Поппер утверждает также, что «разумно» или «рационально»
«для всех практических целей» опираться на то, что было
подвергнуто строгим проверкам и выдержало их (R, с. 62, под-
Прощай, разум
215
черкнуто в оригинале, речь шла о Западной науке). Отсюда
следует, что «разумно или рационально» не только
признавать идеи, неявно содержащиеся в культурах, отличных от
нашей культуры, — об этом шла речь в конце предыдущего
абзаца, — но опираться на них «для всех практических
целей» (т.е. при решении возникающих проблем). Это
лучше, чем руководствоваться «мечтами, увлекающими
философов» (Q, с. 177) (и далеких «прогрессистов»), или
непроверенными «смелыми гипотезами», которые они
производят с такой непринужденностью. Ранние греческие критики
спекуляций досократиков говорили то же самое.
Так, Геродот и Софокл писали об антропоморфных
греческих богах так, как если бы Ксенофан (который
критиковал их с внеисторических позиций) никогда не
существовал, а Геродот даже приводил аргументы в защиту их
власти. Софисты, которые были наиболее передовыми
политическими мыслителями своего времени, продолжали
говорить о морали в свободной, полуэмпирической
манере, которую они восприняли от поэтов, в частности от
Гомера, и даже Платон, теоретик по преимуществу, не мог
обойтись вполне без древних и более «примитивных» идей
и обычаев (см. его частые переходы от аргументации к мифу
и обратно). Особенно интересна реакция ремесленников,
или technai, как их тогда называли. Геродот, «отец истории»
(Цицерон) и один из первых географов, высмеивал Гека-
тея, который пытался включить географическую
информацию в «смелую» картину мира Анаксимандра. Он писал
(История IV, 36):
Мне смешно, когда я вижу, как сегодня люди рисуют
карты и выдвигают объяснения, лишенные смысла; они рисуют
океан, обтекающий вокруг земли, а саму землю они
изображают круглой, как гончарный круг, и Азию делают столь же
большой, как Европу.
216
Пол Фейерабенд
Природа, говорит Геродот, является несколько более
сложной, чем это представление. Мы видели (глава 1,
раздел 6), что автор трактата «О древней медицине» с такой же
иронией сравнивает идеи досократиков с медицинской
практикой своего времени. В сохраняющихся искусствах и
ремеслах содержалось громадное количество полезного
эмпирического знания, которое не поддавалось теоретической
редукции. Это был не просто «позитивизм, противостоящий
спекуляциям» (Q, с. 172), но гораздо более существенная
традиция, подготовившая ту почву, на которой возросли
фантазии философов, а позднее — ученых-теоретиков (я
говорю здесь только о западных философах, в частности о
древних греках. Китайские фантазии, по-видимому, всегда
стояли ближе к практическим ремеслам). Эта традиция не
чуждалась ненаблюдаемых сущностей (ее мир не был
«миром без загадок» — R, с. 103). Однако она почитала
привычные различия и хорошо известные факты, ее
«интеллектуалы» не соглашались с тем, что такие факты ничего не
значат и в сравнении с «более глубокой реальностью»,
открываемой теоретиками, оказываются лишь
«субъективными явлениями». Эта традиция была и остается сегодня в
лице своих современных представителей «эмпиристскои»
именно в этом смысле, а не в том смысле, который
привязывает ее к особому источнику. Эта традиция является
консервативной, ибо предпочитает учреждения и информацию,
выдержавшие проверку временем, «фантазиям»
кабинетных философов (см. Q,c. 177; фантазии не отвергаются, но
они не становятся центром цивилизации). Она использует
индукцию, т.е. в ней практика руководит мышлением, а
не наоборот. И она рациональна: она направляет
аргументацию против своих шустрых альтернатив. Некоторые из
древних аргументов были процитированы выше; их
продолжением в наше время является защита свободного
рынка профессором фон Хайеком и его протест против вмеша-
Прощай, разум
217
тельства правительства, а также связанное с этим
выступление против разрушения устоявшихся социальных
учреждений. Чрезвычайно интересной является идея Маха
(«Механика», [153], с. 25 и ел.) относительно того, что широкие
предположения и «принципы» высокой степени
абстракции, выдвигаемые учеными с глубоким «инстинктом»,
оказываются успешными благодаря тому, что они прочно
укоренены в той эмпирической реальности, которую
призваны объяснить: «инстинкт» есть результат огромного
числа (часто бессознательных) проб и ошибок, он в высшей
степени подтвержден («он подсказывает нам, чего не
может быть», говорит Мах). Экспериментальные
результаты и эмпирические закономерности имеют гораздо
меньшее подкрепление, следовательно, мы можем
корректировать их «сверху», с помощью принципов (мы можем
корректировать их в процессе объяснения, говорит Поп-
пер: R, с. 144).
Та идея (играющая важную роль в сочинениях Поппе-
ра), что все виды знания являются результатом проб и
ошибок, может быть согласована, по крайней мере, с двумя
традициями, которые я буду называть теоретической и
исторической традициями. На Западе теоретическая традиция
была тесно связана с развитием философии и
теоретических наук — математикой, астрономией и физикой, в то
время как историческая традиция была включена в ремесла (в
античном смысле teclmai) и другие формы практического
знания. Поппер не критикует вторую, он критикует
«позитивизм» — школьную философию, не пользующуюся
влиянием. Это вызвано его стремлением свести историческое
противостояние к упрощенным альтернативам. Поппер
советует ученым использовать «смелые гипотезы» — такие
гипотезы, которые не только выходят далеко за рамки
признанных фактов, но даже противоречат им, т.е. он
очевидно предпочитает теоретическую традицию. В «Нищете ис-
218
Пол Фейерабенд
торицизма» он утверждает, что только она одна
заслуживает внимания. Проверим это утверждение!
Историческая традиция (которая включает в себя
гуманитарные науки и искусства в их древнем и современном
смысле, а также так называемые «науки о духе»)
производит знание, которое либо явным образом, либо в своем
использовании ограничено определенными областями знания
и зависит от специфики этих областей. Они производят
региональное или относительное знание (того, что хорошо или
плохо, истинно или ложно, прекрасно или безобразно и
т.д.). История Геродота о Дарий (История III, 38), которую
Поппер цитирует одобрительно как свидетельство
критической позиции ранних греческих мыслителей (S, с. 134),
говорит именно об этом: обычаи изменяются от одного
общества к другому, они «релятивны» по отношению к
обществу, однако это не делает их бессмысленными и не
уменьшает их влияния, как считает Поппер (S, с. 216 и ел.).
Напротив, «только безумец мог бы смеяться над ними»
(Геродот, тот же самый отрывок, но не цитируемый Поппером).
Камбис, который разрушал храмы, сжигал почитаемые
изображения, осквернял древние могилы, извлекая из них
мощи усопших, и высмеивал незнакомые ему обычаи, был
«совершенно безумным». Протагор (см. большую речь,
характерную для Протагора, в одноименном диалоге
Платона, 322d4 и ел. и 325Ь6 и ел.), Платон («Теэтет» 172а, где
излагается учение Протагора: «что хорошо и плохо,
справедливо и несправедливо, благочестиво и неблагочестиво,
есть то, что считает государство и провозглашает в
качестве закона»), а также гораздо позднее Монтень и его
последователи в эпоху Просвещения говорили то же самое.
Ранняя географическая, медицинская и
этнографическая литература выражает эту точку зрения не только в
отношении обычаев, но мира в целом: разные страны
обладают разными условиями и климатом; растения и живот-
Прощай, разум
219
ные изменяются от одной области к другой; существуют
разные расы с различными идеями о том мире, в котором
они живут, и у них имеются различные способы придать
правдоподобность этим идеям. Весь универсум состоит из
регионов и областей, отличающихся особым «климатом» и
особыми законами. Возражения Посейдона против
универсалистских претензий Зевса (Илиада 15, 184) указывают на
это в образах эпоса, а Аристотель заменил физические
области (которые были прародителями
элементов)теоретическими предметами (поэзией, биологией, математикой,
космологией) с их собственными понятиями и законами.
Соединяя тот факт (известный уже Гомеру: Одиссея 18, 136),
что человеческое мышление изменяется (физическими и
социальными) условиями, с осознанием (присутствующим
уже у Геродота) того, что даже самые странные обычаи и
верования являются существенной частью жизни тех, кто
их придерживается, мы приходим к выводу: все мнения, сколь
бы относительными и узкими они ни были, заслуживают
внимания. Геродот придает одинаковый вес достижениям
греков и варваров. Начиная свое великое историческое
сочинение, он пишет:
Это то, что разузнал Геродот из Галикарнаса, чтобы
сделанное людьми не изгладилось из памяти, чтобы великие и
удивительные произведения, созданные как греками, так и
варварами, не остались не отмеченными.
Более поздние греческие националисты (например,
Плутарх) уже не обладали такой широтой взгляда.
С другой стороны, теоретическая традиция пытается
создать информацию, которая уже не зависит от
конкретных условий, не «релятивна», а «объективна», говоря
современным языком. Региональная информация в этой
традиции либо не рассматривается, либо отбрасывается, либо
220
Пол Фейерабенд
подводится под универсальную точку зрения, изменяя свою
природу. Многие интеллектуалы в наше время
рассматривают теоретическое или «объективное» знание как
единственное знание, заслуживающее внимания. Поппер
также поддерживает это убеждение, клевеща на релятивизм (S,
с. 216).
Эти претензии в какой-то мере были бы
оправданными, если бы ученые и философы действительно нашли
универсальное и объективное знание и универсальную и
объективную нравственность и убедили бы представителей
других культур принять их. Но этого не произошло. Как я
показал в разделе 5 главы 1 и в главе 2, местный характер
знания и морали никогда не был преодолен ни наукой, ни
философией. У нас имеются лишь скромные успехи в
узких областях и высокопарные обещания, представляемые
как уже достигнутые результаты. Действительно, Поппер
не согласен с редукционистской позицией; он утверждает,
что «реализм... хотя бы временно должен быть
плюралистичным» («Объективное знание», [190], с. 294; ср. с. 252).
Согласно его мнению, существует
...много видов реальных вещей... пищевых продуктов...
или более устойчивых объектов... подобных камням,
деревьям или людям. Однако существует много совершенно
отличных видов реальности, например, наши интерпретации
чувственного восприятия пищи, камней, деревьев или
человеческих существ... Другими примерами из этого многосортного
универсума будут: зубная боль, слово, язык, дорожные
знаки, повести, правительственные решения; корректные и
некорректные доказательства; возможно, силы, силовые поля...
структуры (с. 37).
Но только что упомянутые сущности могут быть
частями одного и того же реального мира только в том случае,
если теории, говорящие о них (самые «современные» сущ-
Прощай, разум
221
ности — электроны, кварки, световые сигналы,
пространственно-временные области — являются «теоретическими
сущностями», и о них уже говорили племенные космологии),
могут быть объединены в одно целое, а такого пока не
произошло. Трудность такого объединения не является только
формальной (хотя и такие трудности существуют). Она
обусловлена тем фактом («несоизмеримости»), что
использование одних воззрений исключает использование других
(см. главу 17 моей работы «Против метода», особенно
с. 275—276, а также с. 15 тома 1 моих «Философских
статей», [59]), т.е. это опять связано с их «релятивным» или
«региональным» характером. Квантовая механика, теория
«средней области» универсума, в себе самой содержит идею
относительности знания (дополнительность). Однако все
это не беспокоит самих ученых: они не испытывают
угрызений совести, соединяя и комбинируя кусочки и части
разных теорий таким образом, который вызывает
сердечный приступ у пуриста. Для них наука не является
теоретической традицией, выражаемой «дедуктивными системами»
(Q, с. 194), как считает Поппер. Они видят в ней
историческую традицию в указанном выше смысле. И это
приводит меня к моей следующей теме.
2. Фальсификация и реализм
Критический рационализм приводит к разделению форм
жизни и культуры нате, которые склонны подвергать
проверке все стороны своего существования, и другие,
которые не касаются каких-то сторон жизни. В рамках первой
Поппер разработал более специальную теорию по поводу
различия между научными и ненаучными
предположениями и о природе изменений в науке. Эта теория восходит к
«Логике научного открытия». В работе R (с. xix и ел.)
Поппер еще раз формулирует ее и защищает от критики. Он
222
Пол Фейерабенд
утверждает, что его «теория не была исторической теорией
или такой теорией, которая подтверждается
историческими или иными фактами» (R, с. xxxi и с. xxv). Однако к этому
он добавляет: «тем не менее, я сомневаюсь, что существует
еще какая-либо теория науки, способная так хорошо
осветить историю науки, как это делает теория опровержений,
за которой последовали революционные и консервативные
реконструкции». Я теперь проанализирую эту претензию,
начав с критерия демаркации Поппера — с
фальсифицируемое™.
Согласно Попперу, «разделения учений являются
надуманными и вводящими в заблуждение» (R, с. 159).
Следовательно, не может существовать «никакой четкой
границы между наукой и метафизикой; если демаркация и имеет
какое-то значение, его нельзя переоценивать» (с. 161).
Например, «даже псевдонауки вполне могут быть
осмысленными» (с. 189). Однако существуют две причины, по
которым разговор о демаркации не совсем бесполезен, — одна
теоретическая, вторая практическая.
Теоретическая причина связана с проблемами «логики
науки» (с. 161), т.е. с областью знания о науках. Здесь
можно согласиться (хотя некоторые предполагаемые «индук-
тивисты» будут протестовать) с тем, что критерий фальси-
фицируемости Поппера по крайней мере логически
возможен, вто время как«индуктивистские» критерии (в смысле
Поппера) — нет: если дана некоторая теория и класс
утверждений, то решение вопроса о том, фальсифицируема ли
теория относительно этого класса предложений,
принадлежит «чистой логике» (с. xxi) при условии, что и теория, и
эти утверждения сформулированы на языке конкретной
логической системы и имеют признанную вполне
определенную интерпретацию. На практике научные теории и
экспериментальные результаты не удовлетворяют этому условию.
Они никогда не являются вполне формализованными и ин-
Прощай, разум
223
терпретированными, а класс базисных утверждений
никогда не «дан» просто. Конечно, мы можем рассматривать
теории так, как если бы они соответствовали этому условию.
Но тогда фальсифицируемость относилась бы не к
реальным научным теориям и отчетам об экспериментах, а
говорила бы лишь об отношении одних карикатур к другим
карикатурам. С другой стороны, мы можем говорить о
научных теориях так, как они используются учеными. В этом
случае содержание и теории, и эксперимента часто
образуется опровержениями, осуществленными и признанными
научным сообществом. Опровержения тогда не являются
базисом решения о фальсифицируемое™: ученый
отказывается от теории, с которой связаны определенные
трудности, и благодаря этому решает, какого вида теорию он хочет
получить. Поппер склоняется к карикатурному
изображению, а это означает, что его «вполне можно рассматривать
как наивного фальсификациониста», пользуясь словами
Куна (см. R, с. xxxiv).
«Проблема демаркации [между наукой и ненаукой]», по
словам Поппера, представляет не только теоретический
интерес, «она обладает также большим практическим
значением» (R, с. 162). Она дает средства для изменения
направления исследований: если есть некоторая влиятельная
позиция, имеющая много сторонников и много достижений,
полезно пригласить ее сторонников поискать
фальсифицирующие примеры (с. 163 и далее). Но столь же плодотворно
будет подчеркивать подтверждения теории, которой
угрожают трудности и которая не является несомненно
«научной» (т.е. фальсифицируемой). Большая часть доводов в
защиту атомной теории носила именно такой характер и
их совокупная весомость позволила сохранить эту теорию.
То же самое верно и в отношении ньютоновской теории
гравитации в период от самого Ньютона до Лапласа
(проблема пертурбации и особенно проблема непостоянства
224
Пол Фейерабенд
движения Юпитера и Сатурна). Следовательно, указание
на фальсифицируемость есть лишь один полезный ход
среди многих в научной игре (это выходит за рамки
«анархизма», который ограничивается изобретением и истинностью
теорий).
Затем идет фальсификация. Как и прежде, Поппер
подчеркивает «неопределенность каждой эмпирической
фальсификации», добавляя, однако, что к этой
неопределенности «нельзя относиться слишком серьезно... ибо
существует некоторое количество важных фальсификаций, которое
является настолько «определенным», насколько это
допускает общая человеческая погрешимость» (R, с. xxiii). Он
называет «легендой» утверждение о том, что «будто ф&тьси-
фикация не играла роли в истории науки. В
действительности, — говорит он, — она играла ведущую роль».
Нелегко оценить последнее заявление. Слово «ведущую»
может иметь количественный смысл (фальсификации
значительно превосходили числом другие события),
качественный смысл (важные процессы не происходили без
фальсификации) или оба (наиболее важные процессы обусловлены
фальсификацией). Я буду оспаривать утверждение Поппе-
ра, взятое в последней интерпретации (параллельные
аргументы можно найти и для двух других интерпретаций). Для
того чтобы обосновать ведущую роль фальсификации в
этом смысле, требуется знание о количестве
революционных теоретических изменений, вызванных
опровержениями, среди общего числа всех революционных
теоретических изменений, а также определение того, какие
изменения являются теоретическими и революционными, а какие
таковыми не являются. У нас нет информации по первому
вопросу и очень мало по второму: для некоторых
историков астрономия Коперника была революционной, в то
время как для других, например для Дерека де Солла Прайса,
она была консервативной; для некоторых ученых специаль-
Прощай, разум
225
ная теория относительности Эйнштейна была и все еще
остается «теорией относительности Пуанкаре и Лоренца с
некоторыми обобщениями», как писал Уиттекер, в то
время как для других она была и остается новой смелой
концепцией. Перед лицом всех этих трудностей можно
усомниться, я думаю, в утверждении Поппера.
Начать с того, что имеется множество случаев, когда
столкновение теории с фактами осознается и
отбрасывается как раздражающая помеха в ходе научного исследования,
приводящего впоследствии к важным открытиям. В качестве
примера можно сослаться на судьбу принципа Кеплера и
Декарта, гласящего, что объект, рассматриваемый в линзу,
воспринимается как находящийся в точке пересечения
лучей, выходящих из линзы и попадающих в глаз. Этот
принцип связывал теоретическую оптику со зрением и
обеспечивал ей эмпирический базис. Из этого принципа
вытекало, что объект, расположенный в фокусе, будет казаться
бесконечно удаленным. «Однако, вопреки этому, — писал
Бэрроу, учитель Ньютона и профессор в Кембридже, —
опыт убеждает нас в том, что [точка, расположенная
вблизи фокуса] кажется по-разному удаленной в соответствии с
разным расположением глаза... И она почти никогда не
кажется расположенной дальше, чем рассматриваемая
невооруженным глазом; напротив, иногда она кажется
расположенной гораздо ближе... Все это противоречит нашим
принципам... Однако для меня, — продолжает Бэрроу, —
ни эта, ни любая другая трудность не кажется столь
важной, чтобы заставить меня отказаться от того, что
согласуется с разумом». И такая ситуация сохранялась вплоть до
девятнадцатого столетия. Единственным мыслителем,
которого беспокоил этот конфликт (и побудил разработать
собственную философию) был Беркли; см. его «Опыт
новой теории зрения». Такое положение вещей является
весьма обычным и предохраняет ученых от преждевременных
8- И09
226
Пол Фейерабенд
изменений полезной точки зрения (ссылки и другие
примеры можно найти в моей книге «Против метода», глава 5).
Теперь рассмотрим аргументы Поппера. Он приводит
список решающих опровержений (R, с. xxvi). Однако нам
нужно не простое перечисление, а оценка процентного
соотношения (см. выше), и такую оценку можно найти в его
работе. Сам по себе список представляет интерес, хотя
имеет небольшое отношение к тому, что извлекает из него
Поппер.
Все пункты списка являются примерами опровержений.
Так, Галилей (пункт 2) опроверг конкретные объяснения,
данные Аристотелем для отдельных видов движения,
например он опроверг теорию антиперистазиса (antiperistasis)\
однако он не опроверг, а признал общую теорию движения
Аристотеля (он принял импетус). Он отказался от импету-
са, когда ввел то, что ныне известно как принцип
относительности Галилея (который он никогда не сформулировал
в ясном и последовательном виде). Общая теория
движения Аристотеля никогда не была опровергнута', она исчезла
из астрономии и физики, но продолжала питать
исследования в области электричества, в биологии и позднее — в
эпидемиологии. Торричелли (пункт 3) не опроверг
принципа «природа боится пустоты», и ни одно
экспериментальное исследование не могло бы сделать этого (как вы с
помощью эксперимента сможете показать, что в пространстве
не существует того ничто, которое вы ищете? Пространство,
по крайней мере, содержит в себе свет, как заметил
Лейбниц в своей полемике с Ньютоном). Expérimenta Nova Ге-
рике отчетливо показывают трудности решения этого
вопроса. Герике предложил «прекратить пустые разговоры и
предоставить говорить фактам»; он открыл, что пространство
не может быть полностью лишено материи; он приписал это
«испарениям», исходящим от всех объектов; он
предполагал, что эти испарения будут держаться возле земли, поэто-
Прощай, разум
227
му вакуум должен существовать в межзвездном
пространстве. Прекрасный аргумент (который, между прочим,
предполагает то, что должно быть доказано, а именно что
материя состоит из атомов и пустоты), но является ли он
опровержением? Ньютон видел проблему и использовал
планетарную теорию в качестве аргумента против идеи
заполненности пространства. Это дает нам нижний
предел плотности, но не вакуум, если не интерпретировать
низкую плотность как заполненность мельчайших частей
пространства, т.е. если мы вновь не предполагаем наличия
вакуума.
Второе затруднение попперовского списка состоит в
том, что случаи, которые якобы следуют образцу
опровержения, за которым следует преобразование, являются
часто весьма сложными событиями, в которые опровержение
включено как мелкий, почти тривиальный, а отнюдь не
«ведущий» элемент. Прекрасным примером является атомизм
(пункт 1). Согласно Попперу, «Левкипп допустил
существование движения как частичное опровержение теории Пар-
менида, утверждавшей, что мир полон и лишен движения»
(с. xxvi). Но ведь это далеко не вся история! Она
предполагает, что Парменид, поглощенный выдумками, не заметил
движения, а Левкипп обнаружил то, что упустил Парменид,
и использовал это для опровержения. Но Парменид,
конечно, знал, что движение существует. Во второй части своей
поэмы он даже дал его истолкование, однако он
рассматривал движение как нечто нереальное. Он проводил
четкое различие между истиной и реальностью, с одной
стороны, и «привычками, опирающимися на многообразный
опыт», — с другой, и убрал движение из первой. Тем
самым он предвосхитил примечательную особенность науки:
она также ограничивает реальность особой областью и
устраняет из нее такие «субъективные» события, как чувства,
восприятия и т.п.
228
Пол Фейерабенд
Решение о том, что следует считать реальным, является
одним из наиболее важных решений как отдельного
индивида, так и группы людей, ибо оно оказывает влияние на
частную и общественную жизнь каждого человека.
Поэтому желание сохранить определенную форму жизни
побуждает предпочесть одни решения другим. Этот социальный
или «политический» элемент «эпистемологических
решений» относительно реальности и кажимости становится
очень наглядным у Аристотеля. Рассуждая в манере,
напоминающей автора трактата «О древней медицине», он
пишет о реальности универсального блага следующее:
...даже если есть единое благо, которое совместно
сказывается (для разных вещей), или же некое отдельное само по
себе благо, ясно, что человек не мог бы ни осуществить его в
поступке, ни приобрести; а мы сейчас ищем именно такое
(«Никомахова этика», 1096Ь32 и ел.).
Иначе говоря, мы ищем то, что играет роль в нашей
жизни. Встает вопрос: должнылимы приспосабливать нашу жизнь
к изобретениям специалистов или мы должны эти
изобретения приспосабливать к потребностям нашей жизни! Парме-
нид (и Ксенофан, божество которого, далеко уйдя от ант-
ропорфизма, напоминает чудовищного и ненасытного
суперинтеллектуала) избрал первое. Левкипп (Q, с. 162) и
Аристотель избрали второе. Поппер склоняется к первому. Для
него «реализм связан с реальностью человеческого
мышления, человеческой креативности и человеческого
страдания» (Q, с. xviii). «Любой аргумент против реализма...
бессилен перед памятью о Хиросиме и Нагасаки» (Q, с. 2). По-
видимому, Левкипп действовал интуитивно, в то время как
Аристотель свой принцип выбора сформулировал в явном
виде (см. критику Парменида в книге 1 его «Физики»).
Выбор был сделан, а «опровержение» пришло позже, а не было
Прощай, разум
229
«ведущим» элементом при переходе от Парменида к
атомистам. Так было и во многих других случаях из списка
Поппера.
Третье затруднение состоит в том, что «часто требуется
много времени для того, чтобы фальсификация получила
признание» (R, с. xxiv), и что это признание оказывается
результатом теоретического изменения, а не его причиной,
как считает Поппер. Он сам это чувствует, когда пишет, что
фальсификации «обычно не получают признания до тех
пор, пока фальсифицированная теория не будет заменена
новой и лучшей теорией» (там же). Превосходным
примером этого является фотоэлектрический эффект (пункт 12).
Материал на эту тему можно найти в диссертации Брюса
Уитона[258].
Согласно Попперу, «эксперимент Филиппа Ленарда...
противоречил тому, что ожидали, исходя из теории
Максвелла» (R, с. xxix). Кто так считал? «На этом настаивал сам
Ленард», — пишет Поппер. Неверно! Экспериментальные
данные, которые собрал Ленард к 1902 году, для него
самого не представляли ни малейшей трудности. Он
рассматривал их как указание на сложные процессы, происходящие
внутри металлов и принимал фотоэлектрический эффект
как средство проверки этих процессов. «Этот результат, —
писал он ([133], с. 150), — приводит к мысли о том, что в
процессах излучения свет играет роль только спускового
крючка для движения, которое должно существовать
постоянно в теле атомов». («Теорию спускового крючка»
называли «новейшей теорией» по крайней мере до 1910 года.)
Статья Эйнштейна 1905 года содержит некоторые
интересные рассуждения, даже точное предсказание, но в ней нет
опровержения. Вычисляя энтропию монохроматического
излучения для низкой плотности светового потока
согласно «ложному» закону Вина, он нашел аналогию с
энтропией газа, состоящего из пучков энергии. Отсюда он вывел
230
Пол Фейерабенд
уравнение фотоэлектрического эффекта, которое
выходило за рамки того, что до сих пор было обнаружено в
эксперименте. В 1914 году Милликен интерпретировал это
уравнение так, что из него следовали три утверждения, а
именно: 1) существует линейное отношение между
максимальной энергией и частотой; 2) эта зависимость для всех
металлов имеет значение h/e; 3) нарушение линейной
зависимости дает порог частоты излучения. И он
подтвердил их все на примере натрия. Однако ни он сам, ни Планк,
ни даже Бор не были готовы считать опровергнутыми
уравнения Максвелла. Бор держался за классическую волновую
теорию до начала 30-х годов, и у него были для этого
хорошие основания. Милликен так выразил общую позицию:
«Эксперимент обогнал теорию или, лучше сказать,
руководствовался ошибочной теорией, он открыл
взаимосвязи, имеющие величайшее знание и чрезвычайно
интересные, однако их основания все еще непонятны» ([164],
с. 230). На первом Сольвеевском конгрессе 1911 года ([130],
с. 443) Эйнштейн так описывал свои идеи: «Я настаиваю на
предварительном характере этого понятия, которое
кажется несовместимым с экспериментально подтвержденными
следствиями волновой теории». Кванты (или
фотоэлектрический эффект) не угрожали волновой теории, напротив,
волновая теория ставила под сомнение кванты.
Корпускулярный характер света (и опровергающая сила
фотоэлектрического эффекта) был признан только после того, как
дискуссии по поводу интерпретации квантовой теории
пришли к некоторому концу. А это означает, что
фотоэлектрический эффект стал опровержением только после того, как
произошли события, которые выявили его
фальсифицирующий характер и которые он якобы вызвал. То же самое
верно и для эксперимента Майкельсона (пункт 9), для
«опровержения» антиатомистических воззрений, для
электрона Томсона. Почти все примеры Поппера, если их изучают
Прощай, разум
231
историки науки, опирающиеся на документы, а не на «свою
память» (с. xxvi), из великих опровержений, приводящих к
крупным теоретическим преобразованиям, превращаются
в такие процессы, в которых опровержения играют
вторичную и неинтересную роль. Конечно, они встречаются, но
они отнюдь не являются главной движущей силой
научного изменения. Таким образом, Поппера, который этого не
видит, «справедливо рассматривать как наивного фальси-
фикациониста».
Поппер — реалист. «Реализм является содержанием
данной книги», — пишет он относительно Q (с. xviii). Свою
концепцию реальности он воспринял от (западной) науки
и от (западного) здравого смысла. Научный реализм — та
идея, что существует независимый от нас мир, который мы
можем критически изучать, — напоминает парменидовс-
кое различие между истинным знанием и мнением,
опирающимся на привычку и опыт. Но как и это различие или
эта граница, так и различие, проводимое реалистами
западной науки, может быть изменено практическим решением
(см. выше обсуждение Парменида). Антиреалистские
воззрения, критикуемые Поппером, опираются на некоторые
академические варианты таких решений: они
подчеркивают ценность достоверности и устанавливают границу
между чувственно данным и всем остальным. К сожалению,
Поппер рассматривает источник реализма почти
исключительно в терминах этой узкой школы. Как уже было
отмечено выше, проблемы познания и реальности он сводит к
спору между «позитивизмом» и «реализмом» и подгоняет
все идеи под эту схему. Об этом свидетельствует его
интерпретация Маха.
Согласно Попперу, Мах был «позитивистом»,
защитником некоторой «формы идеализма» (R, с. 92), который
«полагал, что реальны только наши ощущения» (S, с. 18; R,
с. 91), и по этой причине отвергал существование атомов
232
Пол Фейерабенд
(R, с. 105). Что касается атомов, то Мах утверждал, (А) что
атомы, обсуждаемые в кинетической теории его времени, в
принципе непроверяемы; (Б) что вещи, непроверяемые в
принципе, нельзя использовать в науке, но (В) что нет
возражений против того, чтобы рассматривать их как
«временное вспомогательное средство» на пути к «более
естественной точке зрения» (ссылки на цитаты по поводу Маха даны
в главе 7 ниже, а также в главах 5 и 6 тома 2 моих
«Философских статей»).
Утверждение (А) носит исторический характер. Его
принимал и Эйнштейн, когда пытался установить связь между
атомами и наблюдениями — связь, отсутствующую в то
время. Утверждения (Б) и (В) являются краеугольными
камнями философии Поппера, который ограничивает науку
проверяемостью, но поощряет спекулятивные выдумки.
Таким образом, Мах не «отвергал атомов с порога» (R, с. 191),
он принял эту идею, отметил ее непроверяемость и
предлагал искать чего-то лучшего. (Он порицал также абсурдность
метафизического атомизма, который пытался «объяснять
ощущения посредством движения атомов».) По пути,
намеченному Махом, пошли Гиббс и Эйнштейн (и на него
уже встал Герц в своем истолковании уравнений
Максвелла). В своих ранних статьях о статистических явлениях
Эйнштейн критиковал кинетическую теорию за то, что «она
была не способна служить адекватным основанием для
общей теории теплоты» ([47], с. 417). Он пытался освободить
обсуждение тепловых явлений от конкретных
механических моделей и доказывал, что некоторых очень общих
параметров (дифференциальных уравнений первого порядка
для вариаций во времени переменных состояния, которые
Мах рассматривал как важный эмпирический факт;
единственного интеграла движения и аналога теоремы Лиувил-
ля) достаточно для получения желаемых результатов. То,
Прощай, разум
233
что Эйнштейн предпочитал «теорию принципов»
«конструктивной теории» и руководствовался этим
предпочтением на пути к специальной теории относительности, было
совершенно в духе Маха.
Что же касается «позитивизма» Маха, то здесь дело
обстоит просто: не было никакого позитивизма. «Элементы»
являются ощущениями — но лишь в определенном
контексте; «одновременно они являются физическими
объектами, а именно, когда мы рассматриваем другие
функциональные зависимости». Язык ощущений не является
окончательным, он опирается на «одностороннюю теорию», которая
должна быть дополнена физиологическим исследованием.
Поппер заметил некоторую разницу между самим Махом и
мифом о Махе, но решил пренебречь ею. Пустив в ход
метод, который он строго критиковал, встречая у других
авторов (см. его возражения против Куна в R, с. xxxiv), он
утверждает, что Маха «справедливо рассматривать» как
сенсуалиста {sense-datist) (R, с. 91 дает формулировку,
аналогичную R, с. xxxiv). Однако разница, о которой идет речь,
даже еще более велика.
Мах отвергает «хромые», «случайные» и
«неопределенные» методы индукции. Он отказывается называть
естественные науки индуктивными. Он настаивает на том, что
ученый опирается на свой «инстинкт», когда вводит
«принципы» большой общности, когда совершает «смелые
интеллектуальные прорывы», чтобы «прийти к более общей
точке зрения», которая охватывает и корректирует частные
результаты, включая результаты точных экспериментов (как
согласовать это с утверждением Поппера о том, будто
«позитивизм от Беркли до Маха всегда противостоял...
спекулятивным идеям» (Q, с. 172)?). И в то время как Эйнштейн
в своих отчасти философских сочинениях начинает процесс
познания с «непосредственного чувственного опыта» и под-
234
Пол Фейерабенд
черкивает «фиктивный» характер далеко идущих
предположений (в попперовской терминологии он был
инструменталистом, хотя и непоследовательным), Эрнст Мах
указывает на то, что «не только человечество, но каждый
отдельный индивид находит в себе... готовое мировоззрение, в
сложении которого он не принимал осознанного участия, — с
этого каждый должен начинать» (сравните это с
высказыванием Поппера: «с самого начала мы движемся в поле
интерсубъективности», R, с. 87). Общие черты мира Мах
считает не «фикциями», а «фактами», т.е. чем-то реальным. По
сути дела, мы могли бы сказать, что Мах, будучи
историком науки, был гораздо лучшим критическим
рационалистом, чем Поппер. Он не остановился на догматических и
пустых декларациях относительно реальности (см. R, с. 83
и ел.), он решил проверить положение дел.
Аналогичные замечания справедливы и для оценки
отношения Поппера к кардиналу Беллармину. Почему Беллар-
мин (в своем письме к Фоскарини) предлагает «инструмен-
талистскую» интерпретацию концепции Коперника?
Причина состоит не в догматизме по отношению к Аристотелю,
не в наивной приверженности библейским текстам (как
считает Поппер). Иезуитские астрономы подтверждали и
улучшали наблюдения Галилея относительно Луны, Венеры и
спутников Юпитера, а система Птолемея была заменена
концепцией Тихо, объяснявшей новые феномены. Физике и
астрономии приходилось и раньше изменять интерпретацию
библейских текстов (например, сферическая форма Земли
считалась общепризнанной уже в XI столетии).
Беллармин признавал, что серьезные аргументы могут
изменить привычные представления о движении Земли.
Однако, добавлял он, таких аргументов нет, а веру, которая
была важной частью жизни простых людей, нельзя
подрывать с помощью простых догадок. Он был прав и в первом,
Прощай, разум
235
и во втором. Первое теперь признается всеми серьезными
исследователями этого вопроса (дело было в 1615 году). Ко
второму замечанию сегодня вряд ли кто прислушается, ибо
считается несомненным, что бред специалистов должен
воздействовать на общественное мнение, а не наоборот. Но
даже сам Поппер долгое время предупреждал нас о том, что
социальные эксперименты должны осуществляться
осторожно и постепенно. Изменение фундаментальных
убеждений, связанных с традиционными обычаями и
привычными учреждениями, или «раскрытие сознания», является
социальным экспериментом. Этот эксперимент опасен, ибо
раскрытие сознания в одних отношениях всегда означает
его ограничение в других. Поэтому нельзя агрессивно
навязывать идеи, обладающие незначительным
подтверждением. Следует учитывать их следствия и ожидать новых и
лучших аргументов в их пользу. Беллармин призывал
именно к этому, но безуспешно.
Вот так наивная альтернатива «реализм — позитивизм»
превращает историю науки и цивилизации из
многоцветного и сложного взаимодействия в унылое соперничество
между «наиболее выдающимся из живущих ныне
философов» (Мартин Гарднер на обложке попперовского
«Послесловия») и собранием одаренных (Мах: «прокладывающий
новые пути философ природы», S, с. 135; Бор: «по сути
реалист», Q, с. 9); значительных (Юм, Милль, Рассел:
«практичный и реалистичный по своим намерениям», R, с. 81;
Гейзенберг: «понятная позиция», Q, с. 9); удивительных
(Бор: «самый удивительный человек, которого я когда-либо
встречал», Q, с. 9), но беспорядочно перемешанных
собеседников в обсуждении попперовского Просвещения.
Выхолащивание истории достигает своей кульминации при
обсуждении Поппером квантовой механики — обсуждении,
к которому я теперь обращаюсь.
236
Пол Фейерабенд
3. Квантовая теория
Приближаясь к концу своего «Послесловия», Поппер
дает набросок космологии, которая содержит изменение и
является индетерминистской: «космологические факты» (Q,
с. 181), «тесно связанные с точкой зрения на мир здравого
смысла» (с. 159). Приводятся каталоги, оценивающие вес
всех возможных положений дел и законов их развития
(с. 187), а законы сохранения привлекаются в поддержку
этой концепции. Законы сохранения действуют на
отдельные частицы детерминистским образом, они остаются
справедливыми для взаимодействий, однако их «недостаточно
для детерминизма» (с. 190): мы имеем поля
предрасположенности для явления частиц. Прежний дуализм, о
котором часто говорили Эйнштейн и Бор, между полями и
частицами, которые одинаково реальны, преобразуется в
аристотелевский дуализм, в котором поля потенциальностеи
актуализируются в виде частиц. Для придания
правдоподобия этому новому дуализму Поппер ссылается на
дырчатую теорию позитрона Дирака: позитрон не является
кусочком материи, это возможность места быть занятым —
возможность, которая может стать актуальной в результате
взаимодействий.
Эта теория имеет точки соприкосновения с так
называемой S-матричной теорией, в частности в ее
интерпретации Джеффри Чу. Обе теории избегают сведения сложных
систем ко все меньшим единицам вплоть до достижения
«конечных строительных камней» (кварков, глюонов или
чего-то еще). И та, и другая выступают против
рассмотрения отдельных частиц как «данных» и пытаются получить
их свойства из взаимодействий. Обе принимают
«демократию частиц»: ни одна частица не является более
фундаментальной, чем любая другая частица. Формальные
принципы S-матричной теории — релятивистская инвариантность,
Прощай, разум
237
единичность (сумма вероятностей всех возможных
процессов равна 1) и аналитичность (связанная с весовым
детерминизмом) — вполне включаются в схему Поппера, а
«гипотеза бутстрапа» Чу, говорящая о том, что базисное поле
(S-матрица в формализме Чу) единственным образом
детерминирует свойства всех частиц (всех адронов для
нынешнего дня), может играть некоторую роль в ее более
«научном» варианте.
Кроме того, из обеих этих теорий вытекает, что
формализм квантовой механики не может сохраниться
неизменным. Однако Поппер в конце своего третьего тома уверяет,
что у него также имеется интерпретация существующей
теории, что эта интерпретация превосходит идеи создателей
этой теории и что это обусловлено «простыми ошибками»,
«путаницей» и «просмотрами» с их стороны. Не
довольствуясь нахождением интересной космологии, он захотел
доказать, что иные воззрения не заслуживают внимания. Вот
так из способного представителя аристотелевской
традиции в метафизике (Q, с. 165, с. 206) он превратился в плохо
информированного, поверхностного и желчного критика
физики.
Рассмотрим, например, его «тезис о конце пути», т.е.
«убеждение в том, что квантовая механика является
завершенной и полной» (Q, с. 5). Это убеждение, говорит он,
является препятствием для дальнейших исследований:
например, оно порождает неприятие частиц, отличных от протона
и электрона. Физики видят вещи иначе. Сильван Швебер на
круглом столе, посвященном вопросам истории физики
элементарных частиц (опубликовано в сборнике
«Рождение физики элементарных частиц» [18], с. 265), говорил о
«дихотомии» между «революционной позицией теоретиков
поля в тридцатые годы в сравнении с консервативной
позицией послевоенного поколения» (он упоминает хорошо
238
Пол Фейерабенд
известное высказывание Бора: «это недостаточно безумно»)
и аналогичной дихотомии между этой революционной
позицией и «невольным признанием новых частиц». На том
же самом обсуждении Дирак привел основания для
второго консерватизма (там же, с. 52): «существуют только
две частицы, две фундаментальные заряженные частицы —
электрон и протон. Имеется два вида электричества —
положительное и отрицательное — и для каждого вида
электричества нужна только одна частица». Хэнсон, книгу
которого о позитроне Поппер назвал «превосходной» (R,
с. xxix) и рекомендовал каждому прочитать ее (Q, с. 12),
высказывался в том же духе. Вывод: ранним физикам в
области элементарных частиц не мешал квантово-теоретический
консерватизм, поскольку (а) в то время такого
консерватизма не существовало и (б) неприязнь к увеличению
числа частиц имела источник, лежащий за пределами
квантовой механики.
«Тезис о конце пути» Поппер превращает в особый
порок квантовой механики и связывает его с утверждением о
том, что квантовая механика является «полной» (Q, с. 11).
Однако теоретики квантовой механики являются не
единственными людьми, которые считают, что они достигли
окончательных формулировок: утверждения о конце пути
можно найти во всех ветвях физики, даже в теории
относительности, даже у Эйнштейна. Сам Поппер называет
некоторые фальсификации «настолько «решающими»,
насколько позволяет общая человеческая погрешимость» (R, с. xxiii).
А «полнота» в понимании Бора и фон Неймана означает
несуществование параметров в рамках соотношения
неопределенностей и не-несуществование других частиц5<усЫ-
летворяющих соотношению неопределенностей. Нейтрон и
позитрон не были «скрытыми параметрами» (с. 11), и
физики никогда не считали их таковыми. Я указал на это Поп-
перу в 1962 году во время конференции в Миннесотском
Прощай, разум
239
центре философии науки. Его реакция: он сделал неясным
понятие полноты. Теперь он делает то же самое. «Этот
термин, — говорит он, — во время дискуссии использовался в
разных смыслах» (с. 7). Поппером — да, но больше никем
другим.
Рассматривая более узкий смысл, Поппер действует
своим обычным образом. Восхваляя удивительные личные
качества Бора, он раскрывает свои собственные
излюбленные средства: подтасовки и клевету. Он намекает на то, что
аргумент Эйнштейна — Подольского — Розена был
отвергнут благодаря «авторитету Бора, а не благодаря
контраргументам» (Q, с. 149). Однако Эйнштейн, который,
несомненно, не был человеком, на которого мог бы повлиять чей-
либо авторитет, отнесся к ответу Бора как к аргументу и
добавил, что он «приблизился к правильному пониманию
проблемы» ([209], с. 681).
Поппер утверждает, что «ответ Эйнштейну и его
сотрудникам заключался в неявном изменении той теории,
которую критиковал Эйнштейн, в сдвиге ее оснований» (с. 150).
Под этим он подразумевает, что до появления аргумента
Эйнштейна — Подольского — Розена (ЭПР)
неопределенности объяснялись через взаимодействие, а теперь их
стали объяснять иначе. Однако концепцию взаимодействия
защищал не Бор, а Гейзенберг, в то время как Бор говорил о
ее неудовлетворительности задолго до появления ЭПР (см.
«добавление в доказательство» в работе Гейзенберга «О
наглядном содержании квантово-теоретической кинематики
и механики», опубликованной в 1927 году, и раздел 3
работы Бора «Квантовый постулат и современное развитие
атомной теории» (1928); это расхождение между Бором и Гей-
зенбергом является одним из факторов, показывающих,
почему исторически бессмысленно соединять Бора,
Гейзенберга, Паули и других в некую «Копенгагенскую
школу», а затем критиковать это выдуманное объединение).
240
Пол Фейерабенд
С точки зрения Поппера, «измененная» теория Бора
была «гораздо менее содержательной» (с. 150), нежели
концепция взаимодействия: «В ней уже почти ничего не
оставалось, кроме того, что иногда применима одна система
координат, иногда — другая, но вместе они никогда не
применяются. Это, — завершает свою оценку Поппер, —
оставляет совершенно открытым вопрос о том, что
происходит с самой частицей». То, что описывает здесь Поппер, не
есть концепция Бора, а его собственный вариант
концепции Бора, что признает он сам (с. 150). Добавим к этому то,
что явно высказал сам Бор в своем ответе Эйнштейну, а
именно: динамические величины, такие как
местоположение и импульс, зависят от системы координат таким
образом, который запрещает их совместное использование.
Выбираем одну референциальную систему, тогда понятия,
относящиеся к местоположению, становятся
неприменимыми; выбираем другую — то же самое происходит с понятиями,
относящимися к движению; выбираем третью — первые и
вторые оказываются применимыми лишь в определенной
мере, задаваемой соотношением неопределенностей.
Описанные зависимости Бор сравнивает с релятивистской
зависимостью всех динамических величин от системы
координат. Если добавить это допущение к попперовскому
«варианту» концепции Бора, то мы придем к ситуации, когда
«вопрос о том, что происходит с самой частицей», уже не
остается открытым. Можно высмеять это допущение (и я
уверен, что Поппер так бы и сделал, если бы обнаружил его),
но нельзя критиковать Бора за поддержку концепции,
которая его не содержит.
В статье, написанной двадцать лет назад, я разъяснял
философию Бора и защищал ее от разнообразных нападок,
включая ту ее критику, которую как раз тогда опубликовал
Поппер (и которая с незначительными изменениями пе-
Прощай, разум
241
репечатана в Q, с. 35—85). Я пришел тогда к следующему
выводу:
Критика Поппером копенгагенской интерпретации и, в
частности, идей Бора несущественна, а его собственная
интерпретация неадекватна. Эта критика несущественна,
поскольку пренебрегает важными фактами, аргументами,
гипотезами и процедурами, необходимыми для правильной
оценки дополнительности, и поскольку обвиняет ее
защитников в «ошибках», «путанице» и «серьезных промахах»,
которые нетолько не были обоснованы, но от которых
совершенно ясно предостерегали Бор и Гейзенберг. Его собственная
позитивная концепция [представленная в статье, которую я
критиковал и которая была перепечатана в Q, с. 35-85, а не
идеи Эпилога]... представляет собой крупный и неудачный
шаг назад по отношению к тому, что было достигнуто уже в
1927 году.
Здесь нет ни одной строчки, которая ныне нуждалась
бы в изменении. Однако интересно посмотреть на реакцию
Поппера. Он упомянул эту статью в Q, с. 71, примеч. 63
(добавлено в 1980 году). По своей привычке он не обращает
никакого внимания на критические замечания и
выдумывает совершенно фантастические обиды. Он обвиняет
Джеммера (который воспроизвел мою критику и,
по-видимому, вполне согласился с ней, см. его работу [ 114], с. 450),
затем Бунге и меня за то, что ( 1 ) мы превратили его в
субъективиста и (2) приравняли его воззрения к воззрениям Бора.
И наше предполагаемое преступление он объясняет нашей
небрежностью, а именно «почти случайную
формулировку», «экспериментальную пробу» Поппера мы расценили как
доказательство его субъективизма. Однако Джеммер,
который очень ясно сформулировал различие (мое
понимание) между Бором и Поппером (там же, с. 450, строка 12 и
далее) ни утверждает, ни предполагает, что Попперу не уда-
242
Пол Фейерабенд
лось «изгнать наблюдателя из квантовой механики» (Q,
с. 35). Моя же точка зрения заключалась в том, что нет
никакого наблюдателя, которого нужно изгонять, поскольку
вероятности Бора являются объективными свойствами либо
экспериментальных условий, либо естественных ситуаций
(согласно Бору, кот Шредингера умирает или остается жив,
даже если никто не глядит на него). А поскольку Бор
высказал свою позицию гораздо раньше, я пришел к выводу,
что относительно вероятностей Поппер просто повторяет
Бора. Поппер, который, по-видимому, не читал ни моей
статьи, ни резюме Джеммера, вновь называет Бора
субъективистом и делает вывод, что мы (Джеммер и я) делаем
субъективистом также и его. А почему же Поппер считает
Бора субъективистом? Благодаря субъективистски
звучащим фразам, контекст которых сразу же раскрывает их
объективное содержание. Таким образом, это Поппер
совершает преступление (против Бора), обвиняя нас (Джем-
мера и меня) в небрежности по отношению к нему —
прекрасный пример качества аргументации Поппера! Я
прихожу к выводу о том, что Поппер в своем «анализе» даже не
прикоснулся к идеям Бора. Для Поппера это несчастье, ибо
он мог бы поучиться у Бора, как учились многие до него,
как справляться с трудностями реализма, обусловленными
остатками классических элементов, все еще сохраняющихся
в нем.
Согласно Попперу (R, с. 149 и ел.), нелегко предложить
общее понимание структуры мира и места законов в нем.
Ньютон, не веривший в действие на расстоянии, сделал
пространство чувствилищем Бога. Проблема сохраняется
и в релятивистском универсуме, поскольку здесь у нас опять
сохраняются такие особенности, как «абсолютные
константы заряда и массы электрона, или, выражаясь более
широко, абсолютное количественное и качественное тождество
свойств элементарных частиц» (с. 151). Поппер отвергает
Прощай, разум
243
идеалистические решения, налагающие на мир структуру
мышления. Он приходит к выводу о том, что «мы —
реалисты — вынуждены жить с трудностями» (с. 157). Однако его
обобщение («мы — реалисты») совершенно неоправданно.
Реалистов не удовлетворяют упрощенные понятия
реальности, и для них не служит препятствием мысль о том,
что позитивизм является единственной альтернативой,
высказавшей несколько весьма интересных идей. Рассмотрим
пример (Д. Бом [11], с. 145): сравним мир с
фотографической пластинкой, содержащей подвижные узоры для
голограмм, а наблюдения — с методами проекции для
получения этих голограмм. Конкретный метод проекции
(конкретная экспериментальная техника), применяемый к
отдельным частям пластинки (к миру), порождает некую
голограмму (экспериментальные результаты), которая
отображает всю пластинку (мир), хотя неполно и смутно.
Разные методы, применимые к разным частям пластинки,
порождают различные голограммы, которые опять-таки
отображают мир неполно и смутно. Именно такова ситуация
для физика: она «объективна» (если хотят использовать этот
поверхностный термин) и не нуждается в наблюдателе.
К этому мы добавляем некоторые исторические
соображения (в философии Бора они играли большую роль):
физики, работающие в первой области, пытаются объяснить ее
особенности. Они находят теорию, которая выдерживает
серьезные проверки и, как кажется, описывает
фундаментальные черты мира. То же самое происходит и во второй
области, но уже с иными теориями и иными понятиями.
Мы можем попытаться свести одну теорию к другой или
подвести обе под более «глубокую» теорию и тем самым
приблизиться к реальности. Современная модель
предлагает иную точку зрения. Она говорит, что, хотя мы можем
улучшать наше знание конкретной голограммы (фактов
отдельной области мира), мы никогда не сможем получить
244
Пол Фейерабенд
полной картины или оценить, насколько мы к ней
приблизились: фраза «приблизиться к истине» лишена смысла.
Конкретное истолкование частной голограммы мы можем
даже свести к более полному пониманию, однако опять-
таки не имеет смысла попытка свести теорию, связанную с
одним методом проекции, к теории, связанной с иным
методом. Возьмем пример: имеет смысл улучшать
феноменологическую термодинамику и имеет смысл улучшать
механику. Но не имеет смысла сводить одну к другой. Почему?
Потому, что нет смысла говорить о температуре системы,
все элементы которой имеют точные координаты. Эта ис-
торико-физическая ситуация есть именно то, что имел в виду
Бор, когда говорил о дополнительных аспектах мира. Бом
добавил идею субстрата, который можно исследовать с
помощью разных видов экспериментальной техники (средств
проекции), порождающей разные голограммы, но который
сам по себе «неопределим и неизмерим» ([11], с. 51). При
данной модели эта идея кажется наиболее приемлемой. Она
приоткрывает нам многие возможности, лежащие вне
узкого кругозора Поппера.
Одно заключительное замечание. В своих атаках на Бора
Поппер сравнивает свою собственную «критическую»
философию с якобы догматической позицией
Копенгагенской группы, в частности он противопоставляет свои
«аргументы» иррационализму Бора. Это явное искажение
фактов. Трудно найти столь же агрессивную и непочтительную
к своему «лидеру» группу, как та группа ученых,
философов, студентов и нобелевских лауреатов, постоянно
собиравшаяся вокруг Бора, и едва ли можно найти мыслителя,
так ясно осознававшего множество проблем, встающих в
связи с попытками понять реальность, как Бор. С другой
стороны, трудно с чем-то сравнить ту атмосферу льстивого
подобострастия, которая царила в кружке Поппера, и
почти невозможно разоблачить все мифы, извращения, кле-
Прощай, разум
245
ветнические измышления и исторические басни,
распространяемые его лидером. Простое сравнение между стилями
издания «Послесловия» Поппера и собрания сочинений Бора
открывает громадную разницу между дружелюбным и порой
веселым уважением и вымученным восторгом. Идеи Бора
питали мышление последующих поколений. «Идеи»
Поппера были мгновенно забыты.
4. Заключение: взгляд в историю
Согласно мнению Поппера, «наши стандарты
рационального обсуждения с тех пор [со времен Больцмана]
серьезно ухудшились. Этот упадок начался с Первой
мировой войны и с усилением технологического и
инструментального отношения к науке» (Q, с. 157). Ныне «общая
антирационалистическая атмосфера стала главной угрозой
нашего времени» (с. 156).
В этих сетованиях есть крупица истины, однако
попробуем понять, в чем она заключается.
Дело не во взаимодействии культур. Хотя здесь все еще
и продолжается неуклонное распространение западной
цивилизации, имеются первые обнадеживающие признаки
формирования более терпимого отношения к иным
формам жизни, нежели наш собственный. Эта терпимость
обусловлена не только сентиментальными чувствами, она
имеет практические основания. Она связана с целым рядом
интересных и поразительных открытий, начиная с открытия
в конце девятнадцатого столетия изумительного
палеолитического искусства и кончая недавним открытием,
вернее переоткрытием, эффективности незападных
медицинских систем. Знания, которыми обладают незападные
цивилизации и так называемые «примитивные» народы,
поистине поразительны. Они обеспечивают их жизнедеятельность
в особых социальных и географических условиях и порой
246
Пол Фейерабенд
превосходят соответствующие элементы западной
цивилизации. По мере того как эти открытия приобретали все
более широкую известность, уменьшалось слепое
преклонение перед западной наукой и связанным с ней
«рационализмом». Постепенно формировалась более терпимая и,
добавил бы я, более гуманная позиция: все культуры, а не
только те, которые связаны с западной наукой и
рационализмом, вносят и, несмотря на все препятствия,
продолжают вносить свой вклад в общую сокровищницу
достижений человечества.
Эта позиция не нова, у нее есть великие
предшественники. Она была характерна для «Первого интернационала»
цивилизаций бронзового века на Ближнем Востоке. Люди
того периода постоянно воевали между собой, но при этом
они обменивались языками, произведениями искусства и
литературы, стилями, технологиями, минералами,
сельскохозяйственными культурами, художниками, полководцами,
продажными женщинами и даже богами. Эту позицию
возродили и энергично защищали софисты; она была, как мы
видели, основой удивительной истории Геродота. Ее
выражала философия Монтеня и его последователей до и во
время эпохи Просвещения. Затем она была отброшена в
результате бурного распространения сциентистской
философии. В нашем столетии она возвращается благодаря тому,
что люди начинают более разумно смотреть на необычные
вещи. Этот рост «рациональности» происходит, между
прочим, в области, гораздо более важной, нежели западная
теоретическая космология — главная мерка превосходства по
Попперу (см. его замечания о Ньютоне, S, с. 208 и об
Эйнштейне, Q, с. 158, демонстрирующие характерную для него
узость кругозора). Не стоит говорить о том, что нашим
«рационалистам» все это не нравится: они злобно бормочут о
«релятивизме» и «иррационализме» — новые невнятные
Прощай, разум
247
ярлыки для известных и никогда не исчезавших вещей,
которые они предают анафеме.
Порча стандартов рациональности, оплакиваемая Поп-
пером, охватила не только физику (хотя идиоты
существуют и здесь, как и везде). Напротив, распространение новых
форм организации (ЦЕРН, например) привело к ситуации,
когда ученые становятся ремесленниками, биржевиками,
администраторами, как Джотто, Брунеллески, Гиберти и
другие мастера Возрождения. Этические проблемы ныне
приобрели значение, совершенно неизвестное во времена
Больцмана118. Белл работал в ЦЕРНе (думаю, что он все еще
там работает), большинство физиков-теоретиков так или
иначе были знакомы с Лос-Аламосом, многие из них
проявляли серьезный интерес к другим областям (о чем
свидетельствуют автобиографии Фейнмана и Дайсона, а также
книга Дайсона об атомной угрозе), и все это никак не
содействовало усилению «инструментализма». Почему
экспериментаторы так интересуются кварками или магнитными
монополями, почему они пытаются улавливать нейтрино,
вылетающие из центра Солнца, если все это не более чем
инструменты? Вот передо мной лежит книга «Квантовая
теория и измерение» [259], содержащая статьи по
интерпретации квантовой механики. Попперу и его издателю она
должна была понравиться, поскольку они поспешили
включиться в ее библиографию (которая содержит ссылку на
пробные оттиски «Послесловия»). Проблематика статей
имеет широкий диапазон: от обсуждения проблемы
сознания и тела до экспериментальных проверок локальности и
чисто формальных построений. Глядя на эти материалы, я
не заметил какого-либо ухудшения стандартов, напротив,
по сравнению со «спорами вокруг Больцмана» (Q, с. 157)
здесь значительно возросла точность аргументации,
сопровождаемой глубоким философским осмыслением. И не бу-
248
Пол Фейерабенд
дем забывать о работе Бора и Гейзенберга — их подлинной
работе, а не карикатурах на нее Поппера. Имеется лишь
одна область, в которой ухудшение очевидно — это
собственная область Поппера, а именно философия науки, и
Поппер содействовал этому ухудшению. Теперь я выскажу
несколько заключительных замечаний именно по этому
поводу.
В конце девятнадцатого столетия философия науки
разрабатывалась учеными в тесной связи с их научной
работой. Она была плюралистичной и не говорила о том, какие
условия должны считаться существенными для познания.
Конечно, каждый автор предпочитал одни методы и
отвергал другие, однако большинство ученых было согласно с
тем, что такие личные предпочтения нельзя превращать в
«объективные» границы научного исследования. «Лучшее
средство способствовать развитию науки, — писал
физический химик, историк и философ науки Пьер Дюгем после
своей суровой критики метода построения моделей, —
заключается в том, чтобы позволить каждому виду интеллекта
развиваться в соответствии со своими собственными законами
и полностью реализовать свои возможности» ([40], с. 99).
«Должен признать, — писал Гельмгольц, быть может,
наиболее разносторонний ученый девятнадцатого столетия
(предисловие к книге Герца «Принципы механики» [100], с. 21,
цит. по книге Дюгема), — что до сих пор я сохранил
верность второму методу [математические уравнения вместо
моделей] и чувствовал себя с ним в безопасности, однако я
не склонен выдвигать какие-то общие возражения против
метода, избранного столь прекрасными физиками».
«Открытие, — указывал Дюгем (там же, с. 98), — не является
результатом какого-либо фиксированного правила. Не
существует доктрины, настолько безумной, чтобы не быть в
состоянии однажды породить новую счастливую идею. Даже
Прощай, разум
249
астрология сыграла свою роль в разработке принципов
небесной механики». И свой интересный очерк новых идей и
методов теоретической физики Людвиг Больцман
завершает словами: «Было бы ошибкой считать более старые
методы единственно правильными. Но было бы столь же
ошибочным полностью отвергнуть их сегодня — после того, как
они дали так много важных результатов» ([14], с. 10).
Плюрализм, неявно содержащийся в этих цитатах,
находит поддержку в теории Дарвина. До появления Дарвина
организмы обычно рассматривали как божественные
создания, представлявшие совершенное решение проблемы
выживания. Дарвин привлек внимание к огромному
количеству «ошибок»: жизнь не является тщательно
спланированной и в точности осуществленной реализацией ясных и
неизменных целей; она неразумна, расточительна, она создает
громадное разнообразие форм и на определенной стадии
своего развития (и в существующих окружающих
условиях) устраняет свои ошибки. Аналогично этому, считали
Мах, Больцман и другие последователи Дарвина, развитие
познания не является заранее запланированным и плавно
текущим процессом; познание также расточительно и
наполнено ошибками, оно также для своего развития
нуждается во множестве идей и методов. Законы, теории,
базисные стереотипы мышления, факты и даже самые
элементарные логические принципы представляют собой
промежуточные результаты, а не окончательные свойства этого
процесса. Поэтому ученые не похожи на послушных рабов,
озабоченных соблюдением правил, установленных в храме
науки; они не спрашивают «что такое наука?», «что такое
познание?» или «как должен действовать хороший ученый?»,
чтобы затем приспособить свое исследование к
установленным ограничениям. Они создают и постоянно изменяют
науку (и знание, и логику) своей деятельностью.
250
Пол Фейерабенд
Такая позиция делает историю важной частью
научного исследования. Согласно Эрнсту Маху ([152], с. 200),
«схемы формальной логики и индуктивной логики приносят
[ученому] мало пользы, поскольку интеллектуальные
ситуации никогда в точности не повторяются». Понять науку,
говорит Мах, значит понять достижения великих ученых.
Такие достижения являются «весьма поучительными», но
не потому, что они содержат признанные элементы,
которые ученый должен выделить и усвоить всем сердцем, если
он хочет стать хорошим ученым, а потому, что они дают
богатый и разнообразный материал его собственному
воображению. Вникая в этот материал подобно «внимательному
путешественнику» («wie ein aufmerksamer Spaziergaenger», там
же, с. 18), ученый развивает свое воображение, делает его
живым, гибким, способным решать новые проблемы
новыми способами. Поэтому научному исследованию «нельзя
научиться» (там же, с. 200), это не «юридический фокус»
(там же, с. 402, примечание), это искусство, внешние
черты которого приоткрывают лишь крохотную часть его
возможностей, а правила которого часто отбрасываются и
изменяются человеческой изобретательностью. Как мы
видели, многие ученые XIX века мыслили точно так же. И это
не было философским украшением, не оказывавшим
влияния на практику науки. Эти идеи проявились в двух
наиболее удивительных теориях физики XX столетия — в
квантовой теории и в теории относительности. Создатели этих
теорий вполне осознавали эту связь.
Так, Нильс Бор указывал на то, что «решая задачу
внесения порядка в совершенно новую область опыта, мы едва
ли можем полагаться на какие-то известные принципы,
сколь бы широкими они ни были» ([209], с. 228), а Леон
Розенфельд добавлял, что «при обсуждении перспектив
какого-то направления исследований [Бор] не обращал
внимания на обычные требования простоты, элегантности или
Прощай, разум
251
даже непротиворечивости» ([203], с. 117). Наилучшим
образом позицию ученых выразил Эйнштейн. Высказывая
свое отношение к усилиям «рациональных» и
«систематических» философов, он писал ([209], с. 684):
Эпистемолог сначала ищет ясную систему, обосновывает
свой образ мыслей с помощью этой системы, затем
интерпретирует содержание науки в смысле этой системы, отвергая все,
что не вписывается в систему. Однако ученый не может
стремиться к эпистемологической систематичности, внешние
условия, заданные ему фактами опыта, не позволяют ему при
построении его концептуального мира ограничиваться какой-
то эпистемологической системой. Поэтому систематическому
эпистемологу он должен казаться каким-то легкомысленным
оппортунистом.
Удивительно, сколь малое влияние оказали эти идеи на
философию, на социальные науки и интеллектуалов в
целом. Более того, неопозитивизм, возникший в период
революционного преобразования современной физики, под
именем науки пропагандировал жесткую, узколобую и
нереалистическую точку зрения. Неопозитивизм не был
смелой и прогрессивной реформой философии, это было
скатывание в новый философский примитивизм. Перед лицом
фундаментальных изменений в физике, биологии,
психологии и антропологии, будучи свидетелями интересных и
широко обсуждаемых концепций в искусстве и
неожиданных процессов в политической жизни, основатели
Венского кружка замкнулись в тесной и плохо построенной
крепости. Связи с историей были оборваны; тесное
сотрудничество научной мысли с философскими построениями
подошло к концу; возобладала терминология, чуждая науке,
и проблемы, не имеющие научного значения, а образ
науки был искажен до неузнаваемости. Флек, Полани, а
затем Кун сравнили возникшую идеологию с ее предполага-
252
Пол Фейерабенд
емым объектом — с наукой — и продемонстрировали ее
иллюзорный характер. Однако их работы не улучшили
положения. Философы не возвратились к истории. Они не
отказались от логических шарад, ставших их отличительным
знаком. Они обогатили свою идеологию несколькими
пустыми словами, большей частью заимствованными у Куна
(«парадигма», «кризис», «революция»), но лишенными его
контекста, и тем самым усложнили свои доктрины, не
приблизив их к науке. До-куновский позитивизм был
инфантильным, но хотя бы ясным. Пост-куновский позитивизм
остался инфантильным, но зато стал очень неясным. Где
же располагается Поппер за этим общим столом?
Он начинал с технической задачи, которая оставалась в
рамках позитивизма: отделить проблему демаркации от
проблемы индукции, решить первую посредством
понятия фальсифицируемости, а вторую — посредством
метода смелых предположений и строгих проверок. Эта задача
носила технический характер, поскольку была
сформулирована с помощью логической терминологии,
предпочитаемой позитивистами, и поскольку вслед за
позитивистами заменяла реальные научные теории логическими
карикатурами на них (см. выше, а также неоднократно
повторяемое утверждение Поппера о том, что его теория науки
не является исторической и ее нельзя критиковать с
помощью исторических свидетельств). Поппер внес вклад в
теорию подтверждения, но не в научную практику. Затем эту
техническую задачу Поппер включил в более широкую
концепцию — критический рационализм — и пытался
иллюстрировать ее эпизодами из истории: борьба вокруг
фальсификации, хотел он сказать, не была позитивистским
злословием, а принадлежала истории. Это было правильно в
одном смысле, но неверно — в другом. Поппер повторял
то, что другие уже сказали до него, но он повторил это
плохо, не упоминая о своих предшественниках119.
Прощай, разум
253
Тем не менее некоторые нервные ученые, всерьез
принявшие позитивизм и читавшие Поппера, испытали
большое облегчение: теперь они могли заниматься
спекуляциями, не опасаясь за свою репутацию. Частично это
объясняет популярность Поппера, иногда переносимую на его
другие концепции, которые нравились и сами по себе
вследствие своей простоты и благодаря тому, что сооружали
философский алтарь для науки. Однако простота Поппера
является результатом не глубокой проницательности, а его
простодушия, и тот, кто хвалит его физику (Бонди, Ден-
биг, Маргенау и другие), напоминает первых оппонентов
Эйнштейна, которые высоко оценивали Ленарда и Штар-
ка, «поскольку были не способны следовать трудными
путями современной физики» (Э. Гейзенберг [97], с. 36).
Независимые ученые не нуждаются в упрощениях,
методологических костылях или алтарях; и ключи к свободе,
которые Поппер якобы вручил более робким представителям их
профессии, всегда находились и находятся в их
собственных руках (см. выше набросок философии ученых XIX
столетия, а также Эйнштейна и Бора). Нет никакой
необходимости расплачиваться за эту свободу и менять одно рабство
(пуританский позитивизм) на другое (извращение науки
Поппером).
7
Теория научного исследования Маха
и ее отношение к Эйнштейну*
Введение
D своих автобиографических заметках Эйнштейн хвалит
Маха за то, что он поколебал догматическую веру в
фундаментальное значение механики. «История механики»
Маха, — писал Эйнштейн120, — оказала на меня глубокое
влияние в тот период, когда я был студентом. Величие Маха
я вижу в его непоколебимом скептицизме и
независимости; эпистемологическая позиция Маха также оказала на
меня большое влияние в мои молодые годы, однако
сегодня она представляется мне несостоятельной».
Согласно этому отрывку, Мах проявлял активность в
двух направлениях. Он критиковал физику своего времени
и развивал также некоторую «эпистемологическую
позицию». Эти два направления его деятельности кажутся
относительно независимыми одна от другой, ибо Эйнштейн
в свои зрелые годы принимал одну и отвергал другую. Он и
описывает их по-разному. Как эпистемолог, говорит он121,
* Статья была посвящена Адольфу Грюнбауму по случаю его
шестидесятилетия.
Прощай, разум
255
Мах рассматривал «ощущения в качестве строительных
кирпичей реального мира», в то время как физик он
критиковал абсолютное пространство, не покидая области
физики122.
В последующем изложении я попытаюсь выделить
физические аргументы Маха из его «эпистемологии».
Оказывается, это нетрудно сделать. Физические аргументы Маха,
взятые в совокупности, образуют философию науки,
отличную от позитивизма и согласующуюся с исследовательской
практикой Эйнштейна (и некоторыми общими
замечаниями Эйнштейна о научном исследовании). Из нее
вытекают вполне разумные возражения против теории атомов XIX
столетия и против специальной теории относительности.
Мы увидим также, что там, где Мах и Эйнштейн
расходятся, то это Эйнштейн склоняется к позитивизму, в то время
как Мах дает гораздо более сложное истолкование
научного и обыденного знания. Что же касается «эпистемологии»
Маха, то она вообще не является эпистемологией. Это —
некая общая научная теория (или набросок теории), по
своей форме (но не по содержанию) сравнимая с атомизмом и
отличная от любой позитивистской онтологии.
1. Мах об использовании общих принципов
в научном исследовании
В главе 4, раздел 3, я говорил о том, каким образом Мах,
ссылаясь на мысленный эксперимент Стевина в качестве
иллюстрации, защищал интуитивно правдоподобные
принципы и критиковал постепенный индуктивный подход
(«Механика», гл. 1, раздел 2)123. Это, — говорил он, — «не
является ошибкой. Если бы это была ошибка, то все мы
совершали бы ее. Кроме того, несомненно, что только сочетания
сильнейшего инстинкта с величайшей силой интеллекта
способно сделать человека великим ученым» (с. 27; см. Ε
256
Пол Фейерабенд
163). Действительно, «можно сказать, что самые
выдающиеся, самые важные шаги на пути науки сделаны именно
таким образом. Метод великих исследователей,
заключавшийся в установлении согласия между отдельными
представлениями, с одной стороны, и общей картиной какой-нибудь
области явлений (Allgemeinbild) — с другой, их постоянное
внимание к целому при изучении единичного должно быть
признано истинным философским методом» (с. 29)*.
Методы влияют на наши понятия. Принципы
пренебрегают особенностями конкретных физических событий.
Опора науки на принципы заставляет нас освобождать
события «от побочных обстоятельств» (с. 30) и представлять
их в идеализированном виде: грани и балки заменяются
наклонными плоскостями и рычагами124 — точно так же, как
грани и гладкие поверхности заменяются линиями и
плоскостями в геометрии: «мы смело реконструируем факты с
помощью точных понятий и можем работать с ними
научным методом» (там же).
2. Использование принципов Эйнштейном
Теперь посмотрим на описание Эйнштейном того,
каким образом он пришел к специальной теории
относительности125. Столкнувшись с трудной ситуацией в физике, он
попытался «открыть истинные законы посредством
конструктивных усилий, опирающихся на известные факты»; он
«пришел в отчаяние», пытаясь достигнуть успеха таким
способом. Руководствуясь примером термодинамики, которая
начинает с принципов, а не фактов, он пришел к
убеждению в том, что «только открытие некоторого
универсального принципа могло бы привести... к надежным результатам».
Он нашел этот принцип посредством следующего
мысленного эксперимента: «если я лечу вместе с лучом света со
* Цит. по: Э. Мах, Механика. Ижевск, 2000, с. 34.
Прощай, разум
257
скоростью с (скорость света в вакууме), то такой луч света
я должен видеть как покоящееся электромагнитное поле.
Но такого не может быть, о чем говорят эксперименты и
уравнения Максвелла».
Трудно найти какое-либо отличие этой процедуры от
способа, описанного и рекомендованного Махом.
Сходство проявляется и в деталях. Так, Эйнштейн
неоднократно отрицал влияние на него эксперимента Май-
кельсона — Морли: «Думаю, я считал несомненным, что
это должно быть истинно»126. «Не важно, был ли
эксперимент осуществлен в действительности или нет, — писал Мах
по поводу Стевина (с. 29), — если только результат его вне
сомнения». Отвечая на вопрос об источнике его
убежденности, Эйнштейн ссылался на интуицию и «смысл вещей»
(die Vernunft der Sache)ni в полном согласии с Махом,
подчеркивавшим инстинктивный (интуитивный) характер
плодотворных принципов.
Принцип экономии мышления и эстетика науки, -
говорил Мах (с. 72), -требуют непосредственного осознания
некоторого принципа, являющегося ключом к пониманию всех
фактов данной области, и усмотрения того, как он
пронизывает все факты, а не поисков его доказательства,
опирающегося на суждения, случайно известные нам как основания.
Действительно, это стремление к доказательству ведет нас к
ложной и бесплодной строгости: какие-то утверждения
рассматриваются как более надежные и необходимые основания
для других, хотя обладают той же самой надежностью, а то
даже и меньшей.
Это, конечно, говорит о превосходстве Эйнштейна по
отношению к Лоренцу, которое становится очевидным из
описания Лоренцем своего образа действий128:
Эйнштейн просто постулировал то, что мы с трудом и не
вполне удовлетворительно вывели из фундаментальных
9 — 1509
258
Пол Фейерабенд
уравнений электромагнитного поля. Поступая так, он могс
уверенностью видеть в отрицательных результатах Майкельсона,
Рэлея и Брюса не случайное проявление побочных эффектов,
а выражение общего и фундаментального принципа.
Согласно Маху, принципы могут и должны
проверяться экспериментом (с. 231). Эйнштейн с этим согласен.
Наука, говорит он, пытается «найти единую теоретическую
систему»129, однако, добавляет он, «логические основания
всегда подвергаются большей опасности со стороны новых
экспериментов или нового знания, чем те ветви науки,
которые тесно связаны с эмпирией. Великое значение
оснований заключено в их связи со всеми конкретными
частями науки, но тем большей опасности они подвергаются
перед лицом любого нового фактора»130. В то же время он
не был склонен отказываться от правдоподобной идеи
только потому, что она противоречила какому-то
экспериментальному результату. Это созвучно утверждению Маха об
авторитетности инстинктивных принципов и о
необходимости приспосабливать к ним эмпирические факты: нет
лучшего способа для описания метода Эйнштейна,
представленного в его статье об относительности, чем повторить,
с немногими изменениями, краткое истолкование Махом
рассуждения Стевина131.
3. Опровержение некоторых критических замечаний
в адрес Маха
Рассмотрим некоторые распространенные ныне
взгляды на отношения между Махом и Эйнштейном.
Профессор Артур Миллер, написавший превосходную,
ясную и очень подробную книгу о предыстории и ранней
интерпретации теории относительности132, пытается
объяснить критику этой теории со стороны Маха, высказанную
Прощай, разум
259
в предисловии к его «Оптике». Мне кажется, он не вполне
правильно описывает эту критику, когда говорит, будто Мах
«без размышлений отверг эту теорию» (Миллер, [163], с.
138)133. Мах134 обещает объяснить, «почему и в какой мере
он отвергает относительность в своем собственном
мышлении (für mich)»n\ а это означает, что вопрос о причинах и
эмоциональности отвержения остался без ответа, который
был отложен до следующих сочинений (уже не
появившихся). С причинами, которые приводит Миллер, мы
согласиться не можем.
Согласно Миллеру (с. 167), «априорное
провозглашение Эйнштейном постулата относительности уже
указывало на то, что он идет дальше Маха».
Верно, конечно, что свою статью 1905 года Эйнштейн
начинает не с экспериментальных фактов, а с постулатов и
с вывода из них следствий. Но это как раз тот способ
действий, который описывал и рекомендовал Мах. Также
верно и то, что Мах подчеркивал необходимость проверки
принципов посредством эксперимента (с. 231), однако и здесь,
как мы видели, Эйнштейн и Мах не расходятся.
Дальнейшее замечание Маха о том, что «принципы могут
использоваться в качестве исходного пункта для математических
дедукций» благодаря «стабильности окружающей среды» (с.
231), вновь сближает его с Эйнштейном, который считал
верной специальную теорию относительности только в
особой и устойчивой среде.
«Аксиоматический статус двух постулатов
относительности Эйнштейна, — пишет Миллер (с. 166), — выводит их
из сферы непосредственного экспериментального
наблюдения». Это верно, однако нельзя говорить, будто Мах
этого не одобрял. Даже (верное) замечание Миллера о том, что
«данные [у Эйнштейна] могли выражать результаты
мысленных экспериментов» (с. 166), не ведет, как мы видели, к
конфликту с Махом. Таким образом, видимое столкнове-
260
Пол Фейерабенд
ние между Махом и Эйнштейном не является
расхождением по поводу метода исследования136.
Рассматривая такие фундаментальные принципы, как
первый и второй законы термодинамики, первый закон
Ньютона, постоянство скорости света, уравнения
Максвелла и равенство инерционной и гравитационной масс,
Джеральд Холтон пишет137, что «ни один из них Мах не назвал
бы «фактами опыта».
Холтон утверждает, что Мах не применял термин
«факты (опыта)» к принципам определенной общности, и
выводит отсюда, что он возражал бы против использования
таких принципов в качестве базиса аргументации. И само это
утверждение, и выведенное из него следствие
противоречат важным сторонам деятельности Маха. Как я пытался
показать в разделах 1 и 2 и как выяснится в разделе 4, Мах
весьма критично относился к наивным индуктивным
процедурам и предпочитал прямое и «инстинктивное»
использование принципов большой общности. Кроме того, в его
работах встречается немало отрывков, в которых термин
«факты опыта» употребляется именно в том смысле,
который отрицает у него Холтон138.
Дальнейшие критические замечания, также
упоминаемые в книге Холтона139, восходят к Эйнштейну. Согласно
Эйнштейну, «система Маха изучает отношения,
существующие между данными эксперимента: для Маха наука есть
совокупность этих отношений. Такая точка зрения
ошибочна, и в действительности Мах создает каталог, а не
систему». Это критическое замечание повторяли многие
философы и историки. Его можно опровергнуть, указав на то,
как часто и настойчиво Мах подчеркивал необходимость
очистить общие факты от частных особенностей
индивидуальных наблюдений и экспериментов и призывал всегда
«иметь в виду целое» (с. 29). В его понимании
историческое развитие механики заключалось в постепенном раскры-
Прощай, разум
261
тии, в сущности, «одного большого факта». Наиболее
продуктивными учеными являются те, которые, опираясь на
«общую картину» {Weitsichtigkeit — Ε 442 и 476), способны
«ясно усмотреть во всех фактах общие принципы» (с. 61,
72, 133, 266 и многие другие места), «осознать некоторый
принцип как ключ для понимания всех фактов в данной
области и увидеть, как он пронизывает все факты» (с. 72),
«интуитивноусмотреть его во всех процессах природы» (с.
133, речь идет о Галилее; см. также Ε 207). Он «с одного
взгляда схватывает больше» (с. 133), чем наивный
наблюдатель, который со своим «более узким кругозором» (Е442)
запутывается во «вторичных обстоятельствах» (с. 70; см. Ε
414: «случайные искажения) и «не может выделить и
сосредоточить свое внимание на существенном» (с. 70).
Поэтому продуктивные ученые не занимаются перечислением и
составлением списков фактов, они либо «реконструируют»
их (с. 30), либо создают «идеальные случаи» (Е 190),
опираясь на «собственный запас идей» (Е 316). Они не
довольствуются простой непротиворечивостью, они ищут «еще
большей гармонии» (Е 178, подчеркнуто мной) и находят ее
в общих фактах и инстинктивных принципах.
4. Мах об индукции, ощущениях и о прогрессе науки
Понимание науки Махом легко усмотреть в его
позиции по отношению к индукции.
Весьма странно, - пишет он, - что большинство
естествоиспытателей, занимавшихся обсуждением методов
исследования, все же видело в индукции главное средство
исследования, как будто у естественных наук нет никакого другого
дела, как непосредственно размещать в классы прямо данные
индивидуальные факты. Нельзя оспаривать важности этого
дела, но задача исследователя этим не исчерпывается; он дол-
262
Пол Фейерабенд
жен прежде всего найти относящиеся к делу признаки и их
связи, что гораздо труднее, чем уже известное
классифицировать. Поэтому обозначение всех естественных наук как
«индуктивных наук» неосновательно (Е 312)*.
Что же представляют собой существенные
характеристики и как можно их найти?
Согласно Маху, к существенным признакам и
характеристикам классической динамики принадлежит то, что
существуют массы, что разные способы измерения масс
всегда приводят к одним и тем же результатам, что стимул к
движению (земное тяготение; притяжение планет, Луны,
Солнца; магнетизм; электричество) задает ускорения, а не
скорости (с. 187, 244 и далее), короче говоря, все то, что
описывается принципами механики. Мы уже видели, что в
открытии принципов важную роль играют инстинкт и
интуиция (Е 315: «интуиция есть основа всякого знания»). Как
говорит Мах:
Из всего высказанного ясно, что психическая деятельность,
при помощи которой получается новое познание и которую
большей частью обозначают неподходящим именем
индукции, есть не простой, а довольно сложный процесс. Прежде
всего этот процесс не есть процесс логический, хотя
логические процессы могут играть в нем известную роль, как
промежуточные и вспомогательные члены. Главная же работа при
отыскании новых познаний выпадает на долю абстракции и
фантазии. Черта таинственности, присущая, по мнению Уэвел-
ла (Whewell), так называемым «индуктивным» познаниям,
объясняется тем обстоятельством, на которое указывает и сам
Уэвелл, — а именно, что метод может здесь мало сделать.
Исследователь ищет выясняющую мысль, но сначала не знает ни
этой мысли, ни надежного пути к ней. Но вот вдруг перед его
умственным взором открывается сама цель или путь к ней, и
он в первое время сам изумлен этим открытием, как человек,
* Цит. по: Э. Мах, Познание и заблуждение. М., 2003, с. 305—306.
Прощай, разум
263
который, блуждая по лесу, вдруг выходит из чащи, и все
становится ясным для него. Только после того как открыто
главное, начинается работа метода, работа систематизации и
отделки подробностей (Е 318, рус. пер., с. 311 ).
Процесс нахождения принципов включает в себя
наблюдения наряду с элементами, которые ученый
«добавляет от себя, используя свой собственный запас идей». Так,
пробное предположение Кеплера о том, что орбита Марса
является эллиптической, было его собственным
изобретением140. То же самое справедливо для предположения
Галилея о пропорциональности скорости и времени в случае
свободного падения и для предположения Ньютона о том,
что горячее тело тем быстрее охлаждается, чем холоднее
окружающая его среда (Е 316). Характер и качество
добавляемых элементов зависит от ученого, от современного ему
уровня развития науки и от того, «в какой мере его
удовлетворяет установление какого-нибудь факта» (Е 316).
Мышление Ньютона, например, отличалось большой смелостью
и огромной силой воображения, поэтому мы без
колебаний «можем считать последнее важнейшим элементом» его
исследования (с. 181): «схватывание природы посредством
воображения должно предшествовать пониманию, так что
наши понятия могут обладать живым и интуитивным
содержанием»141.
Мы видели, что абстракции, согласно Маху, «играют
важную роль при отыскании новых познаний» (Е 318).
Абстрагирование кажется негативной процедурой:
устраняются реальные физические свойства, цвета (в случае
механики), температура, трение, сопротивление воздуха,
планетарные возмущения. Для Маха же это есть одна из
сторон позитивной и конструктивной деятельности, которая
«добавляется» ученым и используется им для
«перестройки» фактов. Поэтому в интерпретации Маха абстрагиро-
264
Пол Фейерабенд
вание является «смелым интеллектуальным ходом» (ein
intellektuelles Wagnis: Ε 140 и Ε 315 о связи между
абстрагированием и вниманием). Она может быть неудачной, но
«оправдывается успехом» (Е 140). Согласно этому нужно
истолковывать знаменитое высказывание Маха: «наука
означает приспособление идей к фактам и фактов друг к
другу» (с. 438 и во многих других местах). Приспособление идей
к фактам вовсе не означает простого повторения
неизменных фактов в мышлении, это диалектический процесс,
преобразующий оба элемента. Вспомним о том, как
осуществляется этот процесс.
Пытаясь обнаружить порядок в мире, ученый ищет
принципы и находит их либо при «медленном», «случайном» и
«ненадежном» анализе экспериментов, либо
инстинктивно—с помощью смелого мысленного эксперимента и его
обобщения. Принципы задают стиль нашего мышления и
побуждают нас «схематизировать» (с. 73) или
«идеализировать» (с. 30; Ε 190) известные факты, абстрагируясь от
излишних элементов. Это подлинно творческая деятельность,
связывающая факты и идеи, одновременно изменяя и
перестраивая их142. Результаты не являются единствено
возможным143. Различные принципы подсказывают разные
методы абстрагирования, идеализации или «схематизации»
фактов, идущие в разных, порой даже противоположных
направлениях, подчеркивающие «то одни, то иные аспекты
явлений» (с. 73). Так, рассматривая теплоту как некую
субстанцию и принимая принцип сохранения теплоты, Блэк вводит
скрытую теплоту для истолкования замерзания и
испарения, а термодинамика XIX столетия принимает допущение
о преобразовании тепла в другие виды энергии (Е 175).
Аналогичным образом, Бенедетти принимал теорию импетуса
и допускал постепенное затухание импетуса, а Галилей,
связавший закон инерции с относительностью движения,
должен был привязываться к конкретным физическим препят-
Прощай, разум
265
ствиям (с. 263): приспособление фактов и идей «может
осуществляться многими разными способами» (Е 175).
Идеализации, возникающие в разных областях или вытекающие
из различных принципов одной области, могут сталкиваться
между собой и порождать парадоксы. (Примером такого
столкновения является мысленный эксперимент
Эйнштейна, описанный в разделе 2.) Такие парадоксы оказываются
«мощной движущей силой научного исследования» (Е 176).
Никогда нельзя сказать, что этот процесс достиг полного
успеха и «пришел к завершению» (с. 73), поэтому никогда
нельзя сказать, что какой-то факт — любой факт — был
описан полностью и исчерпывающим образом. Даже описание
чувственного впечатления «опирается на одностороннюю
теорию, требующую проверки и дальнейшего развития»144.
Согласно Маху, «ментальная область» — область
мыслей, эмоций, желаний и т.д. — «не может быть полностью
исследована с помощью интроспекции. Но интроспекция
в соединении с физиологическим исследованием,
проверяющим наличие физических связей, может ясно
представить нам эту область и тем самым познакомить нас с
нашим внутренним бытием»145: одной интроспекции здесь
недостаточно. Природа ментальных событий в целом
раскрывается исследованием, соединяющим
интроспективную психологию и физиологическое рассмотрение в
качестве взаимозависимых познавательных стратегий.
У Маха есть две причины для использования такой
смешанной стратегии в качестве основы не только
психологии, но и научного познания в целом. Первой причиной
была его критическая позиция: он стремился подвергнуть
проверке даже самые общие и наиболее прочные элементы
науки. Представление о том, что существует четкая
граница между субъектом и объектом, мышлением и материей,
телом и душой, и связанное с ним представление о
реальном внешнем мире, не содержащим ничего ментального,
266
Пол Фейерабенд
были элементами подобного рода. Во времена Маха эти
идеи рассматривались как несомненные предпосылки
научного исследования (такая позиция сохраняется до сих
пор, хотя и не высказывается в явном виде). Мах был с
этим согласен: все, что влияет на науку или является ее
частью, должно подвергнуться проверке. Проверка идеи
реального внешнего мира означает либо поиск провалов
в мышлении — границ материи, либо введение
«противоположных идеализации» (с. 263), уже не связанных с этой
идеей. Мах использовал оба метода.
Второй причиной использования смешанных стратегий
научного исследования было то, что они приводили к
частичным успехам. Части пограничной линии оказались
обусловленными психофизиологическими процессами, другие
ее части были случайно сохранившимися пережитками
прежних воззрений. Для того чтобы продвинуть анализ еще
дальше и подготовить науку обходиться без этих случайных
частей, Мах ввел свой «монизм». Этот монизм не был
частью общего понимания Махом научного познания, он
представлял собой конкретную теорию, найденную в
соответствии с этим пониманием и подчиненную ему.
Следовательно, он не был необходимым граничным условием научного
познания, о чем говорили почти все критики Маха, включая
Эйнштейна. Мах специально обращает внимание на этот
момент: «То, что для психолога является самым простым и
наиболее естественным исходным пунктом, вовсе не
обязательно должно быть таковым для физика или химика,
который ставит себе совершенно другие проблемы или, если
и рассматривает те же вопросы, то с совершенно других
сторон» (Е 12, примеч. 1; рус. пер. с. 45). Особенно ошибочно
рассматривать монизм Маха как результат упрощенного
отождествления того, что существует, с сущностями
(ощущениями), которые (а) субъективны, (б) фундаментальны
и (в) не поддаются дальнейшему анализу. Такие сущности
Прощай, разум
267
не существуют ни в науке (в которой нет «неприкасаемых»
элементов (Е 15) и всегда существует «необходимость
продолжить анализ» (с. 231); см. также Ε 15 о различии между
философским и научным способами мышления), ни в
монизме Маха, который, как мы видели, является научной
теорией, а не философским принципом.
Согласно Маху, мир состоит из элементов, которые
можно классифицировать и связывать самыми разными
способами (Е 7). Элементы являются ощущениями, «но лишь
постольку», поскольку мы рассматриваем их зависимость
от конкретного комплекса элементов — от человеческого
тела; «они в то же время являются физическими
объектами, поскольку мы рассматриваем другие фундаментальные
зависимости»146. «Следовательно, элементы являются
^физическими, и психическими фактами» (Е 136). Они зависят
друг от друга в самых разных отношениях и не существует
такого комплекса элементов, который остается
незатронутым происходящим вокруг него: «строго говоря,
изолированных вещей не существует» (Е 15). Однако, следуя
методам, известным в науке, мы вводим идеализации или
«фикции» (Е 15) — «вещь» или «субъект» — и формулируем с их
помощью «принципы». Эти элементы не являются
окончательными — «они представляются столь же временными и
предварительными, как элементы алхимии или элементы
современной химии» (Е 12). Вовсе не обязательно относить к
ним каждую часть нашего познания (Е 12, примеч. 1). С
формальной точки зрения монизм Маха и атомная гипотеза
имели много общего. Обе предполагали, что мир состоит
из определенных базисных сущностей, обе обращались к
научному познанию для обнаружения их подлинной
природы, обе признавали, что это предположение не
является необходимым и должно быть проверено
экспериментально. И как атомная теория не противодействовала
построению феноменологических теорий, предполагая со
268
Пол Фейерабенд
временем дать их анализ в терминах атомов, так и Мах не
критиковал постепенного роста механистической науки —
при условии, что ее понятия не считаются
окончательными и не рассматриваются в качестве основы всего
остального (с. 483). Разница между Махом и атомизмом лежит в
различии базисных сущностей, однако и здесь у Маха есть
некоторое преимущество. В то время как, согласно Маху,
невозможно «объяснить ощущения движением атомов» (с.
483), можно объяснить атомы в терминах элементов
перцептивного поля. В противном случае атомная гипотеза не
будет частью эмпирической науки. Следовательно,
элементы Маха более фундаментальны, нежели атомы.
5. Иррациональный позитивизм Эйнштейна
и диалектический рационализм Маха
Теперь это более широкое понимание развития и
элементов нашего знания сравним с описанием Эйнштейна
(приведенным выше в гл. 4, раздел 3).
Согласно Эйнштейну (R 291)147,
первым шагом в познании «реального внешнего мира»
является формирование понятия телесных объектов, причем
телесных объектов разного рода. Из всего многообразия
наших чувственных восприятий мы мысленно выделяем и
произвольно берем определенные комплексы ощущений,
которые часто повторяются... и сопоставляем им некоторое
определенное понятие - понятие телесных объектов. С
логической точки зрения это понятие не тождественно совокупности
ощущений, к которому оно относится; это - свободное
творчество человеческого (или животного) разума. С другой
стороны, смысл понятия и его оправданность определяются
совокупностью ощущений, которые мы ассоциируем с ним.
Второй шаг состоит в том, что в нашем мышлении
(которое определяет наше ожидание) мы приписываем понятию
Прощай, разум
269
телесного объекта смысл, который еще в большей мере
независим от чувственного ощущения, первоначально его
породившего. Именно это мы хотим выразить, когда приписываем
телесному объекту «реальное существование». Оправдание
такого утверждения основано исключительно на том факте,
что с помощью таких понятий и установленных между ними
мысленных отношений мы способны ориентироваться в
лабиринте ощущений. Эти понятия и отношения, несмотря на то что
они являются свободными творениями нашего ума,
представляются нам более прочными и нерушимыми, чем даже сами по
себе чувственные восприятия, характер которых никогда не
позволяет полностью гарантировать, что они не являются
результатом иллюзии или галлюцинации. С другой стороны, эти
понятия и отношения, в особенности допущение
существования реальных объектов и, вообще говоря, существование
«реального мира» оправданы только в той мере, в какой они
связаны с чувственными восприятиями, между которыми они
образуют мысленную связь*.
Читателя, знакомого с сочинениями Маха и с историей
позитивизма, включая Венский кружок, поражает,
насколько это ближе к позитивизму, чем к Маху. Изложенная
концепция гораздо проще концепции Маха и, что гораздо
более важно, она совершенно нереалистична. В истории науки
или в развитии индивида не существует этапа, который
соответствовал бы «первому шагу», когда, окруженные
«лабиринтом чувственных впечатлений»148, мы «мысленно и
произвольно» выбираем конкретные пучки опыта,
«свободно создаем» понятия и связываем понятия с этими
пучками. «Не только человечество, но и каждый отдельный
человек находит в себе... готовое мировоззрение, в
сложении которого он не принимал осознанного участия. Он
получает его как дар природы и культуры. С этого
каждый должен начинать» (Е 5, подчеркнуто мной. — П.Ф.).
* Цит. по изданию: А. Эйнштейн. Собрание научных трудов, т. 4.
М., 1967.
270
Пол Фейерабенд
«Здравый смысл... оценивает тела в нашем окружении как
нечто целое, не вычленяя... вклада индивидуальных
ощущений» (Е 12, примеч. 1).
Однако «первого шага» не только не существует, его и
не может существовать в качестве исходного пункта
познания. Мах объясняет почему: «Сам по себе опыт, не
сопровождаемый мыслью, всегда был бы чужд нам» (с. 465).
Человек, столкнувшийся с неосмысленным чувственным опытом,
теряет ориентацию и оказывается неспособным решить
простейшую задачу. Таким образом, «отдельное ощущение не
является ни осознанным, ни неосознанным. Оно
приобретает осознанность, только став частью опыта настоящего»
(Е 44): артикуляция этого опыта является предпосылкой его
осознания. «Воображение включается уже в единичное
наблюдение, изменяя его» (Е 105), и это необходимо, ибо
«пониманию природы должно предшествовать ее схватывание
посредством воображения, наделяющего наши понятия
живым интуитивным содержанием» (Е 107). Поэтому
понятия не могут быть «чистыми», они должны быть связаны
с восприятиями и лишь тогда могут служить для внесения
порядка во что-либо. Ни понятия, ни ощущения не могут
сначала существовать раздельно, затем соединяться и в этом
соединении порождать знание.
Не существует, далее, резкой границы между памятью
и воображением, ибо не существует настолько
изолированного опыта, что никакой другой опыт не может повлиять
на воспоминание о нем. Однако воспоминания являются
«соединением поэзии и истины» (Е 153, ссылка на
автобиографическое произведение Гете «Поэзия и правда»).
«Наблюдение и теорию также нельзя четко отделить друг от
друга» (Е 165), поэтому «нельзя провести резкой границы
между приспособлением наших идей к фактам и
приспособлением наших идей друг к другу. Уже самые первые
ощущения [организма] обусловлены его внутренним состояни-
Прощай, разум
271
ем (Stimmung) [которое зависит от биологических
потребностей и от традиции, Ε 70, 60], а последующие
впечатления испытывают влияние предыдущих» (Е 164). Весь
комплекс восприятий, возникающий таким образом,
«биологически старше и лучше обоснован, нежели
концептуальное мышление» (Е 151 ). Здравый смысл, который «с самого
начала нельзя отделить от научных идей» (Е 232), не только
не знает ощущений в смысле Эйнштейна, он, кажется, не
мог бы даже сформулировать столь сложную и
абстрактную идею (Е 44, примеч. 1).
Оба, Мах и Эйнштейн, верят в тесную связь науки и
здравого смысла: «Научные концепции непосредственно
связаны с идеями здравого смысла, от которых их нельзя
отделить» (Е 232). Это объясняет, говоритЭйнштейн (R 290),
почему ученые «не могут двигаться вперед, не рассмотрев
критически гораздо более трудную проблему [более
трудную, нежели анализ научных идей], — проблему анализа
природы повседневного мышления и его изменения там,
где это необходимо». Однако способ описания ситуации
Эйнштейном делает эти изменения легкими и
подсказывает ошибочные методы их осуществления. Если
«чувственные впечатления даны как некий материал» (R 325)149, если
понятия, используемые для внесения порядка в этот
материал, являются «произвольными», «свободными
творениями» и «по сути дела фикциями» (R 273), то все, что нам
нужно — это устранить одно множество фикций,
«свободно изобрести» другое, третье или четвертое, посмотреть, как
они упорядочивают ощущения, и выбрать множество,
которое наилучшим образом справляется с этой задачей.
Конечно, это может быть долгая и утомительная процедура,
однако она не содержит внутренних трудностей. Она
сводится к «свободной игре с понятиями»150. С другой
стороны, если нет ясных границ между ощущениями,
воображением, мышлением, памятью, фантазией, генетикой, ин-
272
Пол Фейерабенд
стинктами (Е 164, см. также Ε 323: «выдвижение научных
гипотез есть только дальнейшее развитие инстинктивного
примитивного мышления»), сном и бодрствованием (Е 117);
если любой исторически данный материал является
сплавом всех этих сущностей или даже не сплавом, а простой
единой вещью151 (что означало бы, что ощущения
являются не исходным материалом, а «фикциями»), тогда научное
исследование будет весьма сильно отличаться от той
процедуры, к которой приводит описание Эйнштейна.
Изобретение новых принципов тогда не будет столь
«свободным», как полагал Эйнштейн, и уже недостаточно будет
просто перетасовывать известные куски, ибо само
существование этих кусков оказывается теперь под вопросом.
Странно, что столь одаренные ученые, как Эйнштейн и
Планк152, сурово осуждавшие позитивизм, все-таки
сохранили его существенную часть и дали такое истолкование
науки, которое было гораздо более упрощенным, нежели
их собственная практическая деятельность в науке. Эрнст
Мах, объявленный позитивистом, оказался одним из
немногих мыслителей, который осознал ложность такого
истолкования и предложил более реалистический подход. В
этом отношении он был предшественником
гештальт-психологии, математического конструктивизма, Пиаже,
Лоренца, Полани и Витгенштейна (который, к сожалению,
был гораздо более многословным, нежели Мах).
Планк и Эйнштейн не только сохранили те элементы
позитивизма, которые подверг критике Мах, они не
только спорили с Махом там, где не было реальных
расхождений, они порой даже сталкивались друг с другом или, по
крайней мере, высказывали такие утверждения, из которых
следовало такое столкновение. Так, Планк при
формулировке реалистической позиции добавляет слова: «здесь мы
вычеркиваем позитивистское «как если бы»» ([185], с. 234),
а Эйнштейн использует эти слова в своей критике позити-
Прощай, разум
273
вистского учения. Когда Эйнштейн настаивает на
«реальном существовании» телесных объектов (R 291), он имеет в
виду понятия, «которые в высшей степени независимы от
чувственных впечатлений», что согласуется с мнением Маха
(см. раздел 4 выше)153, но не Планка, для которого
реальность была онтологической, а не семантической проблемой.
«Вера» Планка в существование внешнего мира
по-видимому противоречит учению Маха, однако Планк
добавляет, что можно говорить не о «вере», а о «рабочей гипотезе»
([247], с. 247), а это уже вполне согласуется с философией
Маха (Ε 143)154. И Планк, и Эйнштейн употребляли
формулировки, которые на первый взгляд говорят об их
расхождениях с Махом, но если обратить внимание на значение
ключевых терминов, это впечатление исчезает155. Вообще,
вся борьба вокруг Маха и позитивизма была сплошным
недоразумением. Враждующие стороны принимали части
учения Маха и называли друг друга позитивистами, хотя все
пытались отойти от него. Мах и Планк были едины в
утверждении о том, что разговоры о «фиктивном и свободно
изобретаемом содержании» теоретических понятий
препятствуют истинному пониманию роли фундаментальных
принципов, однако основания для такого утверждения у
них были совершенно разные. Для Планка
фундаментальные принципы не были ни фикциями, ни произвольными
изобретениями, поскольку они описывали реальные свойства
реального внешнего мира. Для Маха же они не были ни
фикциями, ни произвольными изобретениями, поскольку они
зависели от множества исторических факторов, в
частности, от инстинкта. Конечно, Планк и Эйнштейн также
осознавали необходимость существования некоторого
фактора, побуждающего науку переходить от одной стадии
развития к другой, и они называли этот фактор интуицией
(R 226) или верой (Планк в разных местах, см. примеч. 154).
Однако между интуицией или верой, как их понимали
274
Пол Фейерабенд
Планк и Эйнштейн, и инстинктом Маха существует
большое различие.
Согласно Маху, «истинное отношение между
различными принципами является историческим» (с. 73).
«Наиболее точное и полное понимание некоторой идеи
заключается в отчетливом выявлении всех мотивов и всех путей,
которые привели к ней и подтвердили ее. Частью этой
процедуры является логическая связь концепции с более
давними, более привычными к неоспоримыми идеями» (Е 223).
«Чтение классиков эпохи Возрождения естествознания именно
потому и доставляет нам столь несравнимое наслаждение,
именно потому столь плодотворно, столь незаменимо, столь
чрезвычайно поучительно, что эти великие наивные люди,
без всякой таинственности цеховых ученых, объятые
радостью ставить и разрешать задачи, сообщают нам
подробно, что и как им стало ясно. Так, у Коперника, Стевина,
Галилея, Гилберта, Кеплера мы знакомимся с основными
руководящими мотивами исследования без всякой помпы,
на примерах величайших достигнутых ими результатов...
Космополитическая открытость... отличает науку того
времени» (Е 223; рус. пер. с. 229).
Хорошо известно, что современные философы науки
отказались от этой космополитической открытости и
заменили ее тем, что они, несколько оптимистично, называют
«рациональным» подходом, или «рациональной»
реконструкцией. Рациональный подход объясняет некоторую идею,
показывая, как говорит Мах (последний абзац), «ее
логическую связь с более давними, неоспоримыми идеями», но
не показывает при этом, как возникли эти идеи и почему
они получили признание. Понимание знания Эйнштейном
и Планком было рациональным в этом смысле. Они
принимали некоторое множество «неоспоримых» сущностей
(чувственных данных) и бесспорных идей («логику») и вые-
Прощай, разум
275
казывали утверждения об отношении реальных научных
теорий к этим неанализируемым и бесспорным вещам.
Естественно, многие вопросы при этом не получали ответа.
Кроме того, они обращались к фикциям, а не к
реальным вещам для получения ответов на вопросы, которые они
действительно рассматривали: не существует
непосредственных чувственных впечатлений ни в науке, ни в
здравом смысле (ощущения встречаются в психологии, но в
качестве теоретических сущностей, а не в качестве исходного
материала, который принимается всеми учеными).
«Произвольная и фиктивная природа» принципов
отображает нереальность и фиктивность этого исходного пункта:
существующие принципы науки, которые лишь
косвенно относятся к фиктивным сущностям, представляющим
их единственную основу, естественно, и сами будут
казаться произвольными и фиктивными. И фактор,
связывающий эти фикции с реальностью — «интуиция»
Эйнштейна, «вера» Планка, «красота»156 Дирака, — неизбежно
будет казаться несколько странным. Вот поэтому-то Планк
подчеркивает «иррациональный» и «метафизический»
характер фундаментальных принципов, а Эйнштейн говорит
о «религиозной основе научной деятельности»157. Однако
эта иррациональность, это включение религии в столь
рациональное предприятие, как наука, есть лишь отражение
следов позитивизма в мировоззрении Планка и Эйнштейна, есть
отражение неполноты их истолкования знания. Всего
этого нет у Маха.
Несмотря на то что Мах также приписывает инстинкту
очень важную функцию, подчеркивает его «власть» и
«высокий авторитет» (с. 26), а также то, что «он свободен от
субъективных элементов» (с. 73), хотя он показывает, как
осуществляется прогресс благодаря перестройке фактов на
базе инстинкта, и провозглашает великими учеными тех,
276
Пол Фейерабенд
кто «соединял сильнейший инстинкт с величайшей силой
интеллекта» (с. 27), все же остается два существенных
расхождения между ним и Эйнштейном — Планком.
Во-первых, инстинкт не воздействует на ощущения, он
проявляется в конкретной исторической ситуации, которая лишь
отчасти зафиксирована в виде постулатов, стандартов и
экспериментальных результатов и в значительной мере
состоит из неосознаваемых тенденций (мышления, восприятия,
реагирования). Она является реальным фактором,
действующим в реальном мире. Во-вторых, «вместо того, чтобы
обращаться к мистицизму», Мах ставит вопрос: «как
возникают эти инстинктивные части знания... что в них
содержится?» (с. 27), и «каков источник их величайшего
авторитета» (с. 26), превосходящего авторитет экспериментальных
результатов? Ответ на этот вопрос прост: инстинкт,
двигающий вперед науку, представляется независимым от
наших действий и убеждений, в то время как каждый
эксперимент зависит от наших допущений, выражающих наши
(субъективные) ожидания. Ответ на вопрос о надежности
этого авторитета дает указание на его вид: инстинктивное
знание является «главным образом отрицательным, оно не
говорит нам о том, что должно произойти, скорее оно
говорит о том, чего не может быть» (с. 27)158. Его содержание
становится ясным из того факта, что запрещаемые
события «строго противоречат неясной массе чувственных
впечатлений, в которой нельзя выделить индивидуальных
событий» (с. 28), — они противоречат ожиданиям отдельного
человека или группы людей на определенном этапе их
приспособления к миру. Это содержание обладает авторитетом
вследствие того, что, хотя инстинктивное знание носит
несколько неопределенный характер по сравнению с
точными экспериментальными результатами, оно «опирается на
более широкое основание» (Е 93). Благодаря бесчисленным
Прощай, разум
277
чувственным восприятиям лишь некоторые из которых
получили сознательное выражение, мы знаем, что тяжелые
объекты не взлетают сами по себе в воздух, что объекты,
обладающие одинаковой температурой, сохраняют ее при
соприкосновении, что различия в температуре, давлении,
плотности выравниваются и т.д. Теперь мы также
понимаем, что авторитет инстинктивных принципов возрастает по
мере роста контактов с материальным миром, и это
объясняет, почему наука может извлекать пользу из (явного и
инстинктивного) знания ремесленников (Е 85). Можно
согласиться с тем, что «тщательно проведенный эксперимент
сообщает много подробностей», однако «наиболее
надежной поддержкой науки» служит ее связь «с более грубыми
опытами», содержащимися в инстинктивных принципах.
«Так, с помощью образцовых умственных экспериментов
Стевин приспосабливает свои количественные
представления относительно наклонной плоскости, а Галилей — свои
представления о падении, именно к указанному нами
грубому опыту тяжелых тел» (Е 193, рус. пер. с. 201). Это
объясняет, почему «специальные количественные представления
должны временно приспосабливаться к общим
инстинктивным впечатлениям» (с. 29). Это было рационально для
Маха, но не для Эйнштейна, вследствие его отказа
обращать внимание на любые «верификации мелких
эффектов»159: инстинктивное знание, прошедшее проверку
посредством громадного числа качественно различных восприятий,
превосходит некий новый эксперимент, опирающийся на
особые допущения, относящиеся только к какой-то узкой
области160. Опять-таки мы замечаем сходство в отношении к
методу, однако у Маха и Эйнштейна при этом совершенно
разные основания.
Как мы видели, Эйнштейн подчеркивает произвольный
и фиктивный характер общих принципов. Он подразуме-
278
Пол Фейерабенд
вает при этом, что нет логического пути от опыта (для него
это означает непосредственные чувственные впечатления)
к принципам (R 273). С этой узкой интерпретацией Мах
мог бы согласиться, ибо он не только заметил, но даже
подчеркнул (логический) конфликт между принципами и
специальными экспериментами, при этом он советовал
приспосабливать последние к первым, а не наоборот. Однако
Мах не признавал, что принципы являются «свободными
творениями человеческого мышления», и был совершенно
прав, ибо существует множество ограничений сверх тех,
которые налагает логика, и «рациональное» действие не
только вынуждено учитывать эти ограничения, но даже и
руководствоваться ими.
Когда Мах выступает против «свободных творений», он
дает их описание и указывает их источник. «Числа часто
называют «свободными творениями человеческого ума».
Восхищение духовной силой человека, выраженное в этих
словах, вполне естественно, когда мы рассматриваем
законченное и величественное здание арифметики. Однако наше
понимание этих созданий станет более глубоким, если мы
обратимся к их инстинктивным началам и рассмотрим
обстоятельства, которые вызвали потребность в этих
созданиях. Возможно, тогда мы поймем, что первые возникшие
здесь структуры были неосознанными и биологически
навязанными человеку материальными обстоятельствами. Их
ценность могла быть осознана лишь после того, как они
возникли и доказали свою полезность» (Е 327). Разговор о
«свободных творениях» (или «смелых гипотезах»)
оставляет в стороне эту сложную сеть определяющих факторов,
подменяя ее наивным истолкованием и обманывая
ученого относительно его задач. Любой ход мысли,
предупреждает Мах, уводящий в сторону от инстинкта, теряет связь с
реальностью и порождает «неудачных теоретических
монстров» (с. 297 и ел.).
Прощай, разум
279
6. Атомы и относительность
Нет сомнений в том, что Мах причислял атомы к тем
монстрам, которые возникают, когда ученые отдаляются от
инстинктивного базиса науки своего времени. Для Маха
атомы были не просто «идеализациями», они были
«объектами чистой мысли, которые по самой своей природе не
могли прийти в противоречие с показаниями органов чувств»
(Е 418). Такие идеализации, как идеальный газ,
совершенная жидкость, абсолютно упругое тело, шар (Е418),
можно связать с опытом посредством ряда приближений — они
удовлетворяют принципу непрерывности (Е 131 ). Даже такая
сложная и универсальная теория, как механика Ньютона,
включаетвсебя утверждения, которые постепенно можно
преобразовать в описания наблюдаемых событий161.
Феноменальный мир Канта с его богатой структурой подчиняется
принципу непрерывности, как его понимал Мах. С другой
стороны, докантовские субстанции и его собственная «вещь-
в-себе» не обладают этим свойством (Е 466). Их нельзя
воспринять посредством органов чувств и нельзя связать
с опытом посредством цепи приближений, идеализации,
абстракций. Они представляют собой чисто мыслительные
конструкции, и утверждения о них непроверяемы в
принципе. Мах считает (допущение А), что такого рода сущностям
не место в науке.
Он полагает также (допущение Б), что атомы — как их
понимало большинство атомистов его времени —
обладают этим нежелательным свойством. Его возражение
против атомов опиралось на эти два допущения, а не на
наивный позитивизм, как утверждали почти все его критики,
включая Эйнштейна162.
Допущение А принимается Эйнштейном (см. текст к
примеч. 130), большинством ученых и почти всеми
современными философами науки. Это единственное методо-
280
Пол Фейерабенд
логическое (эпистемологическое) допущение в аргументе
Маха. Поэтому отношение Маха к атомам нельзя
критиковать по методологическим основаниям.
Допущение Б носит исторический характер и, как
любое историческое допущение, его нелегко обосновать.
Кроме того, Мах соглашался с тем, что «атомные теории могут
позволить ученым представить различные факты», однако
он убеждал их рассматривать эти факты как
«вспомогательные средства» и стремиться к поискам «более естественной
точки зрения» (с. 466). Но именно это говорил Эйнштейн в
своих ранних статьях о статистических явлениях. В этих
статьях он не только критикует существующую кинетическую
теорию за ее «неспособность служить адекватным
основанием для общей теории теплоты»163, он также пытается
освободить обсуждение тепловых явлений от конкретных
механических моделей и показать, что нескольких очень
общих параметров достаточно для получения желаемых
результатов164. Кроме того, Эйнштейн понимал необходимость
более строгих аргументов165 и, поэтому, в своей статье о
броуновском движении, построил ту самую непрерывную связь
между атомами и опытом, которой требовал Мах, и тем
самым устранил главный недостаток существовавших
атомных теорий166. Наконец, квантовая теория предложила ту
«более естественную точку зрения», о которой говорил Мах.
Отсюда можно заключить, что критика Маха была
разумной, что она не имела ничего общего с позитивистской
позицией, что Эйнштейн (Смолуховский и создатели
квантовой теории) действовал так, как должен был действовать
в том случае, если она была разумной, улучшая
кинетическую теорию именно в тех аспектах, которые критиковал
Мах, и что нельзя относиться всерьез к более поздней
критике Эйнштейном позиции Маха по отношению к атомам.
Если и сохранялся какой-то позитивизм, то у Эйнштейна,
а не у Маха.
Прощай, разум
281
Специальная теория относительности удовлетворяла
принципу непрерывности, защищаемому Махом. Мы
увидели, почему нельзя согласиться с распространенными
объяснениями возражений Маха против этой теории: эти
объяснения упрекают Маха за те воззрения, которых он
никогда не придерживался, и восхваляют Эйнштейна за то,
что он действовал точно так, как рекомендовал Мах. Это
объясняется достаточно просто, и сам Мах указал на это
объяснение. В своих кратких замечаниях во введении к
своей «Оптике»167 Мах указал три причины критического
отношения к себе: увеличивающийся догматизм защитников
относительности, «рассуждения, опирающиеся на
физиологию органов чувств», и «идеи, вытекающие из
экспериментов»168.
Обвинение в догматизме было вполне обоснованным.
Оно справедливо для Планка, который, несмотря на
всевозможные осторожные оговорки в своих сочинениях (см.
цитаты в примеч. 154), рассматривал релятивистские
инварианты как элементы абсолютной реальности, лежащей
за миром науки и миром чувственных впечатлений. Оно
справедливо и для большинства других физиков, которые,
не зная об анализе Махом субъект-объектного отношения
и не стремясь к критической проверке столь
фундаментального предрассудка, продолжали заниматься физикой «как
обычно», т.е. считали границу между субъектом и
объектом несомненной и использовали относительность для ее
уточнения. «Рассуждения» о физиологии наиболее тесно
связаны с междисциплинарным анализом этой границы
Махом (см. текст к примеч. 145), с его предположением о
том, что «ментальные» события имеют «материальные»
ингредиенты (и наоборот), и с его попыткой разработать
концепцию, учитывающую это обстоятельство. Таким образом,
конфликт между Махом и некритичными
последователями Эйнштейна был, во-первых, конфликтом между двумя
282
Пол Фейерабенд
разными научными теориями, одна из которых опиралась
на четкую границу между субъектом и объектом, а другая
размывала или стирала эту границу в соответствии с
результатами научных исследований в физике, физиологии,
психологии. Во-вторых, это был конфликт позиций: Мах
стремился критически проверить суть дела, а его оппоненты
либо считали это установленным, либо вообще не видели
здесь проблемы. Вновь Мах предстает перед нами как
критически настроенный ученый, стремящийся некоторые
фундаментальные части науки привести в соответствие с
принципами, уже используемыми в других областях
научного исследования. Хорошо известно также, что этот
конфликт позднее проявился в дискуссии между Эйнштейном
и Бором по поводу квантовой теории и в не столь давнем
столкновении между теориями пространство-временного
континуума и квантовыми теориями169.
Относительно «экспериментов», о которых
упоминает Мах в конце своего критического комментария (см.
краткую выдержку из «Оптики» выше), нам ничего не
известно.
7. Поучительный урок
Что мы можем извлечь из этого краткого наброска
взаимоотношений между Махом и Эйнштейном? Мы
понимаем, во-первых, что нельзя доверять общепринятому
мнению о «великом поворотном пункте в науке» или о
«великих спорах», даже если это мнение поддерживается
выдающимися учеными соответствующей области. Мы узнали,
во-вторых, что ошибочность распространенных мнений
часто можно установить, не прибегая к скрупулезным
архивным изысканиям, — нужно просто внимательно
прочитать несколько хорошо известных книг. Такое чтение
позволяет нам понять, в-третьих, что общепринятые мне-
Прощай, разум
283
ния не только неверны, но они гораздо проще (и
простодушней), чем те события, к которым они относятся. И мы
начинаем догадываться, в-четвертых, о том, что многие так
называемые «великие конфликты», скажем, конфликт
между «реализмом» и «позитивизмом», обычно связываемый
с именами Маха и Эйнштейна, являются бутафорскими
столкновениями, обусловленными непониманием и
невнимательностью. Взятые сами по себе, без упрощенного
исторического анализа, они абсолютно ничего не говорят
нам о науке и познании в общем. Отсюда мы можем
заключить, в-пятых, что философские системы,
претендующие на разрешение таких конфликтов, похожи на трюки
фокусника — за исключением того, что фокусник знает,
что он делает, а философ — нет. И все философские
споры между разными системами, пытающимися предложить
свое понимание «великого конфликта», «великого шага
вперед» или «революции», выставляющими аргументы и
контраргументы, представляют собой не более чем
вздорную болтовню170. Конечно, пустые фантазии — и это мой
шестой пункт — являются хорошим прибежищем для всех
тех, кто, будучи не способен понять сложный
исторический процесс, предельно упрощают его и все-таки остаются
философами. Они могут даже претендовать на большую
«рациональность» по сравнению с теми, кого не
удовлетворяют их наивные модели. Это побуждает нас, в-седьмых,
пойти немного дальше и критически взглянуть на события,
которые трактуются как великие столкновения, и
«освободить»171 их участников от тех выдумок, которые о них
наговорили. Такая работа интересна сама по себе, поскольку
способна преподнести большие и неожиданные сюрпризы.
Она необходима, если наша история и наша философия
хотят быть чем-то большим, нежели простая фантазия,
выдаваемая за картину реального мира.
284
Пол Фейерабенд
Послесловие 1985 года
Сейчас выясняется, что предисловие к «Физической
оптике» и предисловие к 9-му изданию «Механики»,
содержащие критические отрывки по отношению к специальной
теории относительности, были написаны Людвигом Махом,
сыном Эрнста Маха, и вставлены без ведома самого Маха.
Короче говоря, оба текста являются подделкой.
Свидетельства этого, хотя и косвенные, кажутся мне вполне
убедительными. Они были представлены д-ром Джереоном Уолтерсом
из университета Констанцы. Я согласен с его выводами и с
его интерпретацией; см.: Уолтере [265]. Это открытие никак
не затрагивает моих замечаний о Махе и атомизме.
8
Некоторые соображения по поводу
теории математики и континуума
Аристотеля
I ■ В книге Н/2 своей «Физики» и в книге XII1/3
«Метафизики» Аристотель объясняет природу математических
объектов172. Его объяснение является достаточно простым,
однако в него включены длинные обсуждения
альтернативных точек зрения и возможных ошибок. Я не буду вникать
в эти обсуждения, а также не буду упоминать и
комментировать современные споры по поводу их корректной
интерпретации. Я лишь представлю утверждения
Аристотеля, добавлю к ним пояснительные замечания, рассмотрю
их следствия для физики, сравню их с возражениями более
поздних авторов и покажу, как они соотносятся с
современными проблемами. При цитировании Аристотеля я буду
опускать специальные ссылки на «Физику» и
«Метафизику», поскольку здесь достаточно нумерации фрагментов.
Простые числа в скобках, например (14), обозначают
части данной статьи.
2. Физические тела, говорит Аристотель, имеют
поверхности, объемы, длины и точки. Поверхности, объемы, дли-
286
Пол Фейерабенд
ны и точки становятся предметом изучения математики,
будучи отделены от тел (193Ь34).
Мы читаем также (1964а28 и ел.), что физика «имеет дело
с вещами, которые сами по себе обладают принципами
движения; математика является теоретической наукой,
имеющей дело с вещами, которые сохраняются, но не отделены».
«Они никоим образом не могут существовать отдельно,
но они также не могут существовать в чувственно
воспринимаемых объектах» (1077Ы5 и ел.; ср. 1085Ь35 и ел.).
Это противоречие разрешается посредством осознания
того, что «вещи существуют многими разными способами»
(см. «Метафизика», Ш/2 и многие другие места).
Математические объекты обладают особым существованием в
одном смысле, но не в другом.
Допустим, что существовать — значит быть некоторой
индивидуальной сущностью, которая не зависит от других
объектов и столь же реальна (может быть, даже более
реальна, 1028Ы8), как физические тела. Если
математические объекты существуют в этом смысле, они не могут
находиться в физических объектах, ибо тогда в одном месте
оказалось бы два объекта (1076а40; ср. 998а13). Они не могут
быть и физическими объектами: «чувственно
воспринимаемые линии не являются линиями, подобными тем,
которые описывает геометр: не существует ничего
воспринимаемого, что было бы прямым или кривым в [строго
геометрическом] смысле, ведь окружность соприкасается с линейкой
не в [одной] точке, а так, как указывал Протагор» (998а1).
Не можем мы также допустить, что физические объекты
являются комбинациями математических объектов:
комбинация неизменных и невоспринимаемых объектов способна
породить только неизменные и невоспринимаемые
объекты (1077а34). Соединение физического материала
(например, бронзы) с математической формой (например, конк-
Прощай, разум
287
ретного шара), которые оба мыслятся как законченные и
самодостаточные индивиды, порождает пару законченных
и самодостаточных индивидов (бронза и шар), а не
отдельного индивида, обладающего сферичностью как
(зависимым) свойством (1033Ь20 и ел.)· Аристотель приводит
дальнейшие аргументы, не в равной мере хорошие,
показывающие, что математические сущности, интерпретируемые
как полные и независимые индивиды (как «субстанции» в
терминологии Аристотеля), не могут находиться ни в
физических объектах, ни вне и отдельно от них.
3. Хотя невозможно иметь самодостаточные объекты ни
в физических телах, ни вне их, можно иметь неполные
описания таких объектов.
В самом деле... как о вещах возможно рассуждать только
как о движущихся, независимо от того, что есть каждая из этих
вещей и какие у нее привходящие свойства... нет
необходимости, чтобы существовало что-то движущееся, отдельное от
чувственно воспринимаемых вещей, или чтобы в них имелась
[для движения] какая-то особая сущность (1077а22).
Точно так же «по отношению к движущимся вещам
будут возможны рассуждения и науки: и не поскольку они —
движущиеся тела, а поскольку они тела, или поскольку они
плоскости, или лишь поскольку они линии, или поскольку
они делимы, или поскольку неделимы» (1077Ь26 и ел.). «И
то же самое можно сказать и про учение о гармонии и про
оптику: и та, и другая рассматривают свой предмет не
поскольку он зрение или звук, а поскольку это линии и
числа, которые, однако, суть их собственные свойства. И
точно так же механика» (1078а 14). Здесь нет большой ошибки,
как и тогда, «когда чертят на земле и объявляют длиною в
одну стопу линию, которая этой длины не имеет; ведь в
предпосылках здесь нет ошибки» (1078а 18; см. очень похо-
288
Пол Фейерабенд
жий подход Беркли, высказанный во введении к его
«Принципам человеческого познания», 1710 г.).
Имея это в виду, мы можем без уточнений говорить не
только о том, что отделимое существует, но также и о том,
что существует неотделимое и оно отделимо по описанию.
Например, объекты геометрии существуют; они являются
воспринимаемыми объектами, но не по сущности, ибо
геометры не рассматривают их как воспринимаемые объекты
(1078а1).
4. Не все неполные описания тел исключают движение
и восприятие. «Прямая» и «плоскость» — да, но «разрыв» и
«гладкость» содержат неявную ссылку на подверженный
изменению физический материал (любимым примером
Аристотеля является слово «simos», означающее «курносость»,
которое он противопоставляет «вогнутости»: «определение
simos содержит материю объекта, ибо курносость присуща
только носу, а определение «вогнутости» не содержит
[материи]», (1064а23). Таким образом, «прямую» и «плоскость»
можно отделить в указанном смысле, а «разрыв» и
«гладкость» — нельзя. Аристотель критикует Платона за
отделение таких вещей, как «мясо», «кость» и «человек»,
принадлежащих к последней категории (194а6; ср. 1064а27), и за
попытку определить «линии [которые отделимы] через
длинное и короткое [которые неотделимы], плоскости — через
широкое и узкое, а объем — через глубокое и мелкое» (1085а9).
5. Если некоторая черта, свойство или сущность
отделимы в разъясненном смысле, то мы можем либо
рассматривать ее как отдельную, т.е. обсуждать ее, не обращая
внимания на другие особенности, которые также
присутствуют, либо можем дать более полное описание. Однако мы
не можем делать и то, и другое в одно и то же время, т.е. мы
не можем отмечать или разделять физический объект мате-
Прощай, разум
289
матической точкой или математической плоскостью. При
физических вычислениях часто «воображают», что некий
физический объект О «рассекается» математической
плоскостью Р, или «рассматривают» его усеченный объем V (рис. 1).
С точки зрения Аристотеля, это бессмысленно.
Математические плоскости не могут разделить физические объекты,
это могут делать только физические поверхности. Если Ρ
может разделить О, то Ρ должна быть поверхностью, т.е. от
нее должна остаться узкая щель: «когда тела соединяются
или разделяются, их границы становятся одной границей,
когда они соприкасаются, и двумя границами, когда они
разделяются. Таким образом, когда тела соединены, их
внешняя сторона не существует, она исчезает» (1002Ы). Этот
подход можно сравнить с тем, что говорит квантовая
теория о местоположении и разделении.
Рисунок 1
6. Эти рассуждения играют важную роль в
аристотелевской теории места. Согласно Аристотелю, место
некоторого объекта есть «ограничивающая поверхность тела,
содержащая» этот объект (212а7), это внутренняя граница
реального физического разделения. Следовательно, «если
объемлющее не отделено [от предмета], а связано [с ним]
непрерывно, тогда говорят, что [предмет] находится в нем
не как в месте, а как часть в целом» (211а29). Например,
бутылка, частично погруженная в воду и плавающая в
озере, имеет место в озере: это место ограничено
поверхностью, где вода и воздух встречаются с бутылкой (рис. 2). Вода,
Ю_ 1S09
290
Пол Фейерабенд
находящаяся внутри бутылки, также имеет свое место, а
именно: оно задано внутренней поверхностью стекла,
соприкасающегося с водой внутри бутылки, и поверхностью
воздуха внутри бутылки, соприкасающегося с водой. Оба
места являются физическими поверхностями; капля воды
внутри бутылки является частью этой воды, она не имеет
места в этой воде; лишь как часть этой воды она имеет
место внутри бутылки. Можно сказать, что капля
потенциально обладает местом в воде внутри бутылки и что это
потенциальное место может актуализироваться, когда капля
будет физически отделена от остальной воды, например
если она замерзнет (212ЬЗ).
Аргумент, приведенный в п. 3, показывает также, что
место не может быть внутренним пространством {diastema)
тела, сохраняющимся после перемещения тела, ибо в этом
случае «в одной и той же вещи существовало бы
бесконечно много мест» (211Ь21 ). Этот аргумент, говорит Г. Вагнер
([249], с. 544 и ел,), «представляет собой один из
величайших вопросов, поставленных аристотелевской физикой
перед ее интерпретаторами со времен античности».
Однако ситуация здесь достаточно проста, почти тривиальна.
В этом аргументе diastema конкретного тела рассматрива-
Прощай, разум
291
ется физически, а не математически (в конце концов, место
оказывает некоторое физическое влияние [208Ы 1]), и
считается тождественной месту. Из физического рассмотрения
diastema следует, что с ним ассоциируется физический
объект; отождествление diastema с местом означает, что этот
объект должен вести себя как некоторое место, т.е. оно
должно сохраняться после того, как его покинет занимающее
его тело (208Ы). Сохранение diastema не превращает его в
математическую сущность и не лишает его конкретных
особенностей конкретного тела, делая его чем-то таким, что
может быть общим для всех тел (каждый физический объект
имеет собственное индивидуальное место, следовательно,
свое собственное индивидуальное^/о^/еяш). Следовательно,
каждое место, занятое и покинутое многими различными
объектами, содержит множество различныхdiastémata; и
поскольку каждое место занято некоторым телом (пустоты не
существует), а каждая diastema есть место, постольку каждое
тело будет содержать бесконечно много мест.
7. Аналогичные замечания могут быть выдвинуты и по
отношению к той идее, что пустота может быть
независимо существующей сущностью, подобной diastema (216a23
и ел.). Локальное движение состоит в том, что одно тело
замещает другие тела. Пустота была введена не для того,
чтобы быть замещенной телом, а чтобы вместить его (21ЗЬ5).
Следовательно, она может вместить деревянный кубик. В этом
случае две вещи находились бы в одном и том же месте, что
невозможно (216Ы1). Интересно, что Герике {Expérimenta
Nova ( 1672), книга 2, глава 3) вновь вводит diastema как
представляющую вакуум, не упоминая о критических
аргументах Аристотеля, но отпуская саркастические замечания в
адрес его философии.
8· Подход Аристотеля также подрывает один из
аргументов Галилея, направленных против предположения о том,
292
Пол Фейерабенд
что тяжелые тела падают быстрее, чем легкие. Согласно
этому аргументу, тяжелое тело можно представить как
состоящее из двух тел разной величины — маленького и легкого и
большого и тяжелого. Легкое тело, падая медленнее, будет
тормозить более тяжелую часть, следовательно, все тело
будет падать медленнее, чем одна тяжелая часть, а это
противоречит исходному предположению. Однако Аристотель не
разрешает рассматривать (отдельное) действие некоторой
части целого, если эта часть физически не отделена от
целого. Тогда аргумент лишается своей силы.
9. Аристотелевское истолкование математики имеет
особенно интересные применения в области движения. В п. 5
мы видели, что для придания физического смысла
утверждению о частях и подразделениях мы должны говорить о
физических разделениях: непрерывное тело не имеет
реальных частей до тех пор, пока оно не рассечено и его
непрерывность не нарушена. В применении к движению это
означает, что часть непрерывного движения может быть
отделена от другой части того же движения только
посредством реальной модификации (т.е. движение должно
временно прекратиться; оно «должно остановиться и начать
двигаться вновь» [262а24]). Так Аристотель разрешает
парадоксы Зенона. Зенон указал на то (263а4), что движение
на определенное расстояние сначала должно покрыть
половину этого расстояния, затем половину половины и т.д.
Это означает, что движение никогда не может
завершиться. Согласно Аристотелю, движение разделяют, либо
используя математические точки — тогда частей не будет,
либо используя физические («актуальные» [263Ь6])
точки — тогда это разделение изменяет движение, превращая
его в «прерывное движение» (263а30), которое
действительно никогда не завершается.
Прощай, разум
293
10. Немногие люди удовлетворятся таким решением.
Причина состоит втом, что идея движения, которую
обычно связывают с этим парадоксом, отличается от той идеи,
которую использует Аристотель для решения парадокса.
Критик чувствует, что Аристотель не встретил парадокс с
открытым забралом, а уклонился от него. И он уклонился
от него слишком просто, сославшись на акты разделения,
когда вопрос стоял о природе движения, происходящего без
внешнего вмешательства. Можно предполагать, что идея
такого движения верна, что парадокс возникает вследствие
ее ошибочного использования и что задача состоит в
исправлении этой ошибки, а не в том, чтобы начать говорить
о совершенно посторонних вещах.
Если это предположение ошибочно, т.е. содержащаяся
в нем идея движения неадекватна и, может быть, даже
противоречива, то ее изменение не является уклонением, а даже
необходимо. В таком случае аргумент Зенона уже не будет
просто парадоксом, а будет стимулом к ее устранению.
Основной вопрос заключается в следующем: как понимают
движение те, которые говорят об уклонении от решения, и
как можно защитить это понимание?
Это понимание мы можем установить следующим
образом: для каждой точки А линии движения событие
«прохождения точки А» есть часть движения независимо от того,
вмешиваемся мы в него или нет. Движение состоит из
индивидуальных точечных событий такого рода, а линия
состоит из индивидуальных точек. Это интересная
космологическая гипотеза, но можно ли ее принять? Аристотель
говорит, что нельзя, и его главное основание (которое более
подробно мы рассмотрим ниже, в п. 19) является очень
простым: непрерывная сущность, подобная линии, и
непрерывное движение характеризуются тем, что их части связаны
особым образом. Неделимые сущности, такие какточки или
прохождение точек, нельзя связать никаким способом, еле-
294
Пол Фейерабенд
довательно, линии не могут состоять из точек, а
непрерывное движение не может состоять из прохождения точек.
Аналогичные, хотя и более сложные аргументы
выдвинуты квантовой теорией, утверждающей, что мы можем
иметь чистое движение (заданный момент), но без какого-
либо прохождения точек, — тогда у нас больше нет
никакого последовательного движения.
Следовательно, это допущение некорректно, такое
понимание движения приводит к невозможному, поэтому
необходимо его устранение, а не обход.
11· Если движение можно разделить, только
модифицировав его, то любое ясное разделение должно
сопровождаться изменением времени движения: например,
подброшенный вверх камень должен остановиться в высшей
точке траектории (262Ь25; 263а4). Галилей (цит. по: [36], с.
96) подверг критике то, что говорил Аристотель при
получении этого результата. Существует временная
остановка, говорит Аристотель, «так как одну точку приходится
считать двумя, ибо она является конечной точкой одной
половины [движения] и начальной точкой другой
половины» (262Ь23). Галилей возражает на это, говоря, что хотя
точку поворота можно описать двумя разными
способами — как начальную точку одного отрезка и конечную
точку другого, — тем не менее она остается одной точкой и
соответствует лишь одному моменту — моменту
поворота. Однако это совершенно не учитывает того, что
Аристотель требует некоторого интервала, «так как
невозможно, чтобы А одновременно прибыло в В и ушло оттуда;
следовательно, это происходит в разные моменты
времени. Следовательно, в промежутке будет какое-то время»
(262Ь5). Существование этого интервала вытекает также
из его общего понимания разницы между
математическими и физическими сущностями.
Прощай, разум
295
Галилей прибегает к примеру, чтобы высмеять подход
Аристотеля: линия яб движется по направлению кЬ,
постепенно замедляя свое движение. Тело с, расположенное на
этой линии, движется по направлению к я, постепенно
ускоряя свое движение (рис. 3).
Ясно, что в самом начале с будет двигаться в том же
направлении, что и вся линия... И так как движение сускоряет-
ся, в какой-то момент с будет двигаться уже влево и, таким
образом, изменит движение в правую сторону на движение в
левую сторону. Однако сне будет находиться в покое в точке,
в которой это изменение произошло. Причина состоит в том,
что не может быть покоя, пока линия движется вправо с той
же скоростью, с которой тело с движется влево. Никогда не
может быть так, что это равенство скоростей будет длиться
какой-то интервал времени, ибо скорость одного движения
непрерывно уменьшается, а скорость другого движения
возрастает.
О © О
а Ь
Рисунок 3
В этом отрывке подвергнут критике аргумент (движение
можно разделить только посредством внесения в него
физических изменений), ведущий к некоторому утверждению (о
временной остановке в точке поворота), посредством
представления случая, который как будто бы соответствует
этому аргументу. Ясно, что если этот аргумент является
корректным, т.е. если движение можно разделить только
внесением в него физических изменений, например остановки, то
изменение движения с должно предполагать временную
остановку с, а благодаря этому — временную остановку двух
процессов ускорения, которые и создают это изменение.
296
Пол Фейерабенд
12. Разделение разных физических сущностей (и
разных математических сущностей) может порождать одни и
те же математические сущности, например линии и
плоскости, но это не означает, что их можно сравнивать. Так,
кривые углы и прямые углы могут быть начерчены (рис. 4)
на некотором линейном континууме (или, используя
терминологию Аристотеля, линейный континуум «может быть
отделен» от них), однако нельзя сказать, что данный
кривой угол меньше, равен или больше прямого угла (нет
способа вписать прямой угол в кривой угол [Евклид, «Начала»,
III, 16]). Точно так же площадь круга не может быть равна,
меньше или больше площади многоугольника. Попытку
измерить площадь круга посредством площади
многоугольника (круг меньше, чем описанный вокруг него
многоугольник, и больше, чем вписанный в него многоугольник; вещи,
меньшие или большие, чем какая-то одна вещь, равны друг
другу; следовательно, существует многоугольник, равный
по площади кругу) Аристотель критиковал по той же самой
причине. «Равное есть то, что не больше и не меньше, но
может быть большим или меньшим в силу своей природы»
(1056а23). Согласно Аристотелю, здесь используется
«общий средний термин» («Вторая аналитика», 75Ь42), —
слово «площадь» относится к сущности, которая была
отделена и от круга, и от многоугольника, но не было
исследовано, не обладала ли эта до сущность до отделения
свойствами, которые различны в этих двух случаях и препятствуют
сравнению: здесь не затронуто существо дела, а именно
N _\|
Рисунок 4
Прощай, разум
297
площадь круга. (Геометр, говорит Аристотель, даже не
будет рассматривать «исчерпание» круга многоугольниками,
предлагаемое Антифонтом. Эта процедура не является
ошибочной, она просто не затрагивает сути дела.)
13. Эти рассуждения объясняют, почему Аристотель
отказывался измерять качественные изменения посредством
длины и почему он считал, что линейное и круговое
движения несоизмеримы (227Ы5; 248а10). Они объясняют
также, почему определение Евклидом математических
пропорций («Начала», V, опр. 3) явным образом ограничено
«однородными» величинами и почему греческие и более
поздние математики, включая Галилея, никогда не вводили
смешанных величин, таких как скорость, определяемую как
частное отделения пространственных величин на время.
Однако тот факт, что некоторые сущности, такие как площадь,
могли быть отделены и от кругов, и от многоугольников,
указывает на то, что они обладали некоторыми общими
свойствами и относительно их можно было высказать общие
утверждения. Согласно Аристотелю, такие общие утверждения
играют важную роль в математике: «существует некоторые
общие математические утверждения, которые не
ограничены специальными субстанциями» (1077а9). Например,
положение о том, что члены соотношения переставляемы,
раньше доказывали отдельно для чисел, линий, тел или
отрезков времени, хотя можно дать одно доказательство для
всех; поскольку все они, а именно числа, длины, отрезки
времени, тела, таковы, что нет какого-то единого наименования
для них и они по виду различны между собой, то их брали
каждое в отдельности. Нынешнее же доказательство
рассматривает то, что есть общее в них, ибо данное свойство
присуще не поскольку они линии и числа, а поскольку они
обладают тем, что предполагается им присущим как общее («Первая
аналитика», 74а20).
298
Пол Фейерабенд
Точно так же и некоторые принципы справедливы для
нескольких наук. Примером может служить тот принцип,
что «если от равного отнять равное, то остается равное же»
(«Вторая аналитика», 75а38). Однако общность не может
считаться несомненной и должна быть обоснована с
помощью специальных аргументов.
14. Аристотель приводит такие аргументы для линейной
протяженности, времени и движения. Линейная
протяженность, время и движение во многих отношениях различны.
Они не «однородны» в смысле Евклида (V, опред. 3 [см. п.
12]). Тем не менее у них есть общие свойства.
Аристотелевская теория непрерывного линейного многообразия
описывает эти свойства и выводит их следствия. Оставшаяся часть
статьи будет посвящена рассмотрению этой теории.
Существование общих свойств у длины, времени и
движения предполагается уже здравым смыслом. Например,
«мы говорим «большая дорога», если [нам предстоит]
много идти, и наоборот, о «долгом переходе», если дорога
велика; также и о времени соответственно движению, и о
движении соответственно времени» (220Ь30). Мы замечаем
также, что обыденное различие между тем, что «спереди», и
тем, что «сзади», применимо к месту, следовательно, к
протяженности, поэтому «необходимо, чтобы и в движении
было предыдущее и последующее — по аналогии с теми.
Но и во времени есть предыдущее и последующее, потому
что одно из них всегда следует за другим» (219а20). Для
Аристотеля такие аналогии «разумны» (220Ь25),
поскольку протяженность, время и движение являются
непрерывными и делимыми качествами (24) и связаны друг с другом
таким образом, что все, истинное для одного, истинно для
всех (231Ы9). «Непрерывность», «делимость» и
«величина», определяемые в геометрии, являются техническими
терминами. Кроме того, у Аристотеля была достаточно раз-
Прощай, разум
299
работанная теория непрерывности. Следовательно, нужны
специальные аргументы, чтобы показать, что отмеченные
аналогии применимы также к этим техническим
понятиям, и задать их ограничения.
15. «Я разумею под непрерывным, — пишет Аристотель, —
то, что делимо на всегда делимые части» (232Ь25), которые
отличаются друг от друга своим местом.
Вторая часть этого определения (и связанные с ней
аргументы) ограничивается рассмотрением линейной
непрерывности. Другие виды непрерывности, такие как звук, и
другие свойства, не связанные с местом, упоминаются, но
не рассматриваются. Это определение содержит
предположения, которые могут казаться очевидными современному
читателю, однако они требуют анализа и не считались
тривиальными во времена Аристотеля. Этими
предположениями являются следующие: (1) имеются сущности, которые
можно делить в любой точке и в любом интервале, сколь
бы малым он ни был; (2) деление не изменяет
протяженности сущности и любой его части; (3) деление не уничтожает
никакого интервала.
Против предположения 1 выступали математики
(включая, возможно, Демокрита), допускавшие существование
минимальной длины или «неделимых линий».
Предположения 2 и 3 критиковал Зенон, отрицавший
существование вещей, лишенных толщины, массы и протяженности.
«В самом деле, если прибавление чего-то к вещи не делает
ее больше и отнятие его от нее не делает ее меньше, то,
утверждает Зенон, это нечто не относится к существующему,
явно полагая, что существующее — это величина, а раз
величина, той нечто телесное» (1001Ь7). В XVIII и
XIXстолетиях предположение 1 часто подкрепляли ссылкой на нечто,
называемое «интуицией», и идея континуума как
некоторой «субстанции, из которой мы выбираем точки» (Г. Вейль,
300
Пол Фейерабенд
«О новом кризисе оснований математики» [257]),
опиралась на этот сомнительный источник. Можно ли найти
лучшие способы обоснования идеи линейного континуума и
включенных в нее предположений?
16. Одно из возражений против допущения неделимых
линий состояло в том, что оно влечет наличие общей меры
для всех длин и исключает существование несоизмеримых
величин. Другое возражение указывало на то, что за каким-
то порогом перестали бы действовать законы геометрии:
уже нельзя было бы сказать, что линия, опущенная из
вершины угла равнобедренного треугольника с двумя
минимальными сторонами, делит пополам основание
треугольника («О неделимых линиях», 970а). Для того чтобы лучше
понять суть этой критики, рассмотрим одно важное
следствие несоизмеримости.
Одним из методов нахождения наибольшей общей меры
для двух величин был utTOjxantanairesis (попеременного вы-
чинания): вычитаем меньшее из большего, затем разницу
вычитаем из меньшего и так далее до тех пор, пока не
получим нуль (рис. 5). Последнее число в этой
последовательности перед получением нуля и будет искомой мерой. Эту
процедуру использовали математики, но ею также пользо-
etc.
Рисунок 5
Прощай, разум
301
вались плотники, архитекторы и географы при нахождении
наибольшей общей меры для физических длин.
Для несоизмеримых линий, таких как сторона и
диагональ квадрата, antanairesis не имеет конца. По мнению
некоторых авторов, например Курта фон Фритца,
несоизмеримость была открыта благодаря обнаружению этого факта.
Несоизмеримость могла быть открыта этим способом
лишь теми людьми, которые считали несомненным, что
геометрические отношения не зависят от размеров
рассматриваемых фигур. Однако пифагорейцы не считали это
несомненным. Они полагали, что пустота структурирована
неделимыми единицами, отделенными друг от друга пустотой.
При таком понимании геометрические отношения
переставали быть верными после достижения некоторой
минимальной длины, поэтому несоизмеримость не могла быть
открыта. Это был сильный аргумент, предшествующий
доказательству, воспроизведенному в «Началах» Евклида (книга
X): допустим, что отношение между диагональю D
квадрата и его стороной S можно выразить с помощью чисел d и s.
Тогда d2 = 2s2, При минимальных значениях d и s, это
означает, что ^является четным, следовательно, ^/является
четным, a s нечетным. Но если d является четным, то d = 2/и
2f = s, тогда s является четным. Таким образом, s является
четным и нечетным.
Согласно Евдему (по сообщению Паппа,
«Комментарии к Евклиду», I. 44), пифагорейцы заложили основания
не только арифметики, но также и геометрической
алгебры. Часто считают, что они пришли к этому в своем
строгом анализе несоизмеримых: числа перестают работать,
поэтому они заменяются линиями. Однако если они
руководствовались таким мотивом, то представление о линии
должно было подвергнуться серьезному изменению — из собрания
индивидуальных единиц, разделенных пустотой, линия
превращается в подлинную непрерывность, части которой,
302
Пол Фейерабенд
сколь бы малыми они ни были, обладают той же
структурой, что и целое. Был ли этот переход результатом
открытия, сделанного в пифагорейской школе, или был
обусловлен идеями, пришедшими со стороны?
Существовала внешняя идея, содержащая в себе все
элементы континуума — идея Единого у Парменида.
Согласно Пармениду, бытие «полностью однородно (homoion), и
нигде его не больше и не меньше» и оно «связано в единое
целое» (Дильс—Кранц, В8). Слово, которым Парменид
обозначает «связанность» — xynechés, было техническим
термином, который употреблял в своем собственном подходе
Аристотель. Мне кажется, что идея линии как
непрерывной сущности, сохраняющей одни и те же свойства как в
большом, так и в малом, восходит к пониманию Единого
Парменидом. Однако линию можно разделить, а Единое —
нет. С другой стороны, если сущность, обладающая
свойствами Единого, может быть делима (заметим, что деление
должно исходить извне, оно не является частью самой
линии), тогда если ее можно разделить в одном месте, то
вследствие ее однородности ее можно разделить в любом месте.
Эти соображения могут дать нам некоторое историческое
понимание предположения 1. Оно не было тривиальным и
не опиралось на интуицию.
17. Предположения 2 и 3 могли быть подкреплены
аргументами, показывающими, что сущности, используемые
для деления линейного континуума, являются
непротяженными и неделимыми. Аристотель приводит такие
аргументы для случая настоящего момента, т.е. момента,
разделяющего прошлое и будущее. А поскольку он показывает, что
время, протяженность и перемещение являются тремя
разными, но структурно подобными линейными непрерывно-
стями, его аргумент справедлив для всех делений.
Нужно доказать: Первое «теперь» неделимо (момент или
интервал для события или изменения является «первым»,
Прощай, разум
303
если он не содержит в себе какого-либо интервала, в
котором не происходит события или изменения (235Ь34); таким
образом, утверждение о том, что Цезарь был убит в 44 г. до
н.э., не дает первого или непосредственного момента для
этого события).
Доказательство (233ЬЗЗ): «Необходимо, чтобы «теперь»...
было неделимым... Ведь оно представляет собой некий край
прошедшего, за которым еще нет будущего, и, обратно, край
будущего, за которым нетуже прошедшего, что, как мы
говорили, есть граница того и другого... Необходимо,
конечно, чтобы «теперь», как край обоих времен, было одним и
тем же; если бы эти края были различны, они не могли бы
следовать друг за другом [ибо следование предполагает
отделение — см. п. 21]; если же они отделены друг от друга,
между ними будет находиться время... Но если в
промежутке находится время, то оно будет делимо»: Часть его будет
принадлежать прошлому, а часть — будущему, так что мы
опять не имеем дела с «первым теперь». Итог: первое
«теперь» не может быть делимым (и, будучи пределом
протяженности, оно само протяженности не имеет).
В небольшом сочинении о движении и непрерывности
([131], т. 4, с. 228 и ел., особ. § 4), содержащем
систематическое изложение части аристотелевской теории движения
и непрерывности, Лейбниц улучшил это доказательство и
распространил его на все пределы и разделения. Возьмем
линию AB и рассмотрим ее начало — точку А (рис. 6).
Разделим эту линию пополам в точке С. Отрезок СВ не
содержит А, отрезок AB содержит А, следовательно, СВ можно
опустить. Разделим АС в точке D. CD не содержит конца,
следовательно, АС не является первым концом и DC
можно опустить, — и так далее мы поступаем с любым
интервалом, сколь бы малым он ни был. Вывод: первый конец
линии AB (или первое разделение этой линии слева от А)
неделим (см. также Евклид, «Начала» Ι,οπρ. 1 и 3). Это дает
обоснование предположениям 2 и 3.
304
Пол Фейерабенд
ч—ι—ι h-
ADC В
Рисунок 6
18. Другой аргумент заключается в указании на то, что
деления, концы и отрезки не принадлежат к той же
категории, что линии: «поскольку «теперь» есть граница, оно не
есть время, но присуще ему по совпадению» (220а23);
«линии и связанное с ними [например, точки]... это не
отдельно существующие сущности, а сечения и деления... и
пределы... и все они находятся в другом» (1060Ы0); однако они
присущи «не как части», которые могут существовать
независимо и способны, следовательно, уничтожить
соответствующий интервал линии при делении. Возражение Зено-
на устраняется тем, что добавление пределов или
разделений увеличивает число (подразделений), но не размеры.
Например, трижды деленная линия не становится длиннее
дважды деленной линии, хотя и обладает иным свойством.
19. Теперь я готов представить аристотелевскую теорию
континуума и движения. Я не буду рассматривать всех
разветвлений этой теории и не пытаюсь устранить все ее
пробелы и неясности (их совсем немного). Я не стремлюсь,
конечно, придать этой теории такой вид, который
удовлетворял бы современным стандартам математической
строгости. Во-первых, таких общепризнанных стандартов просто
не существует, творческие математики, физики и
систематики всегда идут разными путями. Во-вторых, если твердо
придерживаться стандартов строгости, то это часто
препятствует открытиям или делает невозможной формулировку
открытий (см. работы Лакатоса и, в меньшей мере, Пойя).
В-третьих, облачение Аристотеля в современные одежды
умалило бы его достижения. Аристотель был крупнейшим
философом-математиком своего времени, он был хорошо
Прощай, разум
305
знаком и с техническими проблемами, и с наиболее
точными способами их формулировки. Попытка изложить его
взгляды в современных терминах разрушила бы эту
историческую связь. Наконец, в-четвертых, те мыслители,
которые либо критиковали Аристотеля (например, Галилей,
см. п. 21), либо повторяли его (Г. Вейль, см. п. 25),
пользовались языком, похожим на его собственный.
20. Эта теория опирается на ряд определений (226Ы8):
вещи находятся вместе, когда имеют одно и то же первое
место (о «первом» см. п. 17; о «месте» см. п. 6); они
раздельны, когда этого нет. Вещи соприкасаются, когда их края
совмещаются. А соприкасается с В, когда А касается В. А
непрерывно с В, если А соприкасается с В и концы А и В
являются одним и тем же или «содержатся один в другом».
«Промежуточное» определяется ссылкой на изменение (как и
другие понятия аристотелевской физики). Каждое
изменение включает противоположности (см. 190Ь34), которые
являются противоречиями (227а7) и в качестве таковых —
краями. Каждый этап непрерывного движения сданными
краями, который проходит один край и еще не достигает
другого, находится между этими краями (края
необязательно являются местами; они могут быть звуками, цветами и
иными свойствами, допускающими линейный порядок).
А является следующим за В, если А и В относятся к одному
виду и не существует ничего подобного вида между А и В.
А и В являются частями линейной непрерывности, если
между А и В существует ряд С, С, С", С'"... С", такой что А
соприкасается с С, С соприкасается с С... и Сп
соприкасается с В. В дальнейшем рассмотрение будет ограничено
только линейном непрерывностью в этом смысле.
Аристотель определяет «между» после
«соприкосновения», предполагая, таким образом, непрерывность еще до
определения. Я изменил эту последовательность,
используя определение «промежуточности» для того, чтобы огра-
306
Пол Фейерабенд
ничить ранее введенные определения сериями событий. Эти
определения делают ясным, что «непрерывность
принадлежит вещам, которые становятся одним благодаря
соприкосновению» (227а 14). Тем самым решается проблема
получения единства индивидуальной линии, которое делает
ее отдельной индивидуальной вещью (см. 1077а21). В
физическом мире вещи становятся одним благодаря
функциональному единству или благодаря душе, в противном
случае они образуют распадающееся множество. Линейная
непрерывность сохраняется благодаря тому, что ее части
связаны описанным выше образом.
21. Из этих определений следует:
Утверждение 1: линейная непрерывность не содержит
(не состоит из) неделимых.
Доказательство: неделимые не имеют частей,
следовательно, они не имеют концов и не могут
быть связаны указанным выше образом.
Например, линии не содержат актуальных точек, хотя,
будучи делимы, они содержат точки потенциально.
Поскольку точки отмечают интервалы, постольку мы должны
также сказать, что части линии — такие, как ее правая
половина или вторая пятая часть слева, — содержатся в ней лишь
потенциально, а не актуально. Линия является чем-то
целым и неделимым, пока ее внутренняя связность не будет
нарушена сечением.
Галилей («Беседы», [77], с. 42 и ел.) высмеивает эту идею
следующим образом:
Сальвиати. ...я прошу вас смело сказать мне, каково, по
вашему мнению, количество частей
континуума - конечно оно или бесконечно?
Прощай, разум
307
Симпличио. Я отвечаю, что оно и конечно, и бесконечно; их
бесконечно много до деления, но актуально
конечно (по числу) после деления. Части не
присутствуют актуально в их целом до тех пор, пока
оно не разделено или не помечено. До этого они
считаются лишь потенциально существующими.
Сальвиати. Значит, линия, скажем, 20 пядей длины, не
содержит актуально 20 линий в одну пядь длиной,
пока ее не разделили на 20 равных частей. До
этого она содержит их только потенциально.
Хорошо, тогда скажите мне: когда такое реальное
разделение выполнено, станет ли
первоначальное целое больше, меньше или сохранит
прежнюю величину?
Симпличио. Оно не возрастет и не уменьшится.
Сальвиати.Я тоже так думаю. Таким образом, выделенные
части континуума - потенциальные или
актуальные - не делают его ни больше, ни меньше...
Из этого краткого диалога следует, что отсутствие
воздействия на размер делает бессмысленным различение
актуальных и потенциальных частей. Стиллман Дрейк,
переводчик и комментатор, согласен с этим: «Здесь Галилей
стремится показать, что это различие математически
бессмысленно, если оно не влияет на количество или
величину». Однако линейный континуум в аристотелевском
смысле обладает не только размерами, но также и структурой, и
эта структура изменяется при каждом делении
(аналогичным образом можно было бы сказать, что между литром
вина и литром воды нет никакой разницы, ибо оба имеют
один и тот же объем). Возражение, высказанное Галилеем
как математиком, не устраняет трудности, ибо Аристотель
считает, что наряду с величиной математические сущности
обладают также структурой, иначе не существовало бы
разницы между числом пять и линией в пять дюймов длины.
Из утверждения 1 следует:
308
Пол Фейерабенд
Утверждение 2: линейные непрерывности (Л H для
краткости) разделяются на Л H без
ограничений и,следовательно,(231Ь5):
Утверждение 3: ни одна точка Л H не может следовать за
другой точкой Л H (так как это
предполагало бы, что линия между двумя
точками не может быть разделена дальше).
В утверждениях 1, 2 и 3 выражена идея, похожая на
современное понятие всюду плотного множества. Различие
состоит лишь в том, что современное понятие
предполагает точки как нечто данное, в то время как для Аристотеля
они существовали потенциально и актуализировались лишь
благодаря делению.
22. Конкретное движение является индивидуальным
целым, не содержащим частей, и оно выполняется в один
шаг. То же самое верно для пройденного расстояния и для
времени, нужного для этого. Деление движения означает
разделение времени и расстояния; деление расстояния
означает разделение движения и времени. Мы можем
предположить, что протяженность и время, как и движение,
являются ЛН. Если дана непрерывность движения, длины и
времени, то мы можем ввести определение «более
быстрый», которое было принято в античности и все еще
использовалось Галилеем: более быстрое есть то, что либо
покрывает больший путь за то же самое время, либо
покрывает тот же путь за меньшее время, либо покрывает
больший путь за меньшее время (232а23). Это гораздо более
длинное и громоздкое определение по сравнению с
современным определением. «Громоздкость» здесь намеренная:
путь и время могут обладать общими абстрактными
свойствами (непрерывностью, делимостью), но они не являют-
Прощай, разум
309
ся «однородными» величинами. Следовательно, их можно
соотносить лишь друг с другом — расстояние с
расстоянием, время со временем, движение с движением.
Рассмотрим теперь два объекта — один быстрый, другой
медленный. Допустим, что любое движение может длиться
какой угодно промежуток времени (232Ь21) и что для
любого периода времени можно определить разницу между
быстрым телом и медленным (233Ы9). Мы видим (рис. 7 и 8 и
233а8), что более быстрое тело будет делить время, а более
медленное — расстояние, из чего следует: если длина
непрерывна, то и время непрерывно, и наоборот.
ПОДХОД АРИСТОТЕЛЯ
За это малое время
медленный объект
покрывает меньшее
расстояние; он «делит
расстояние·
Рисунок 7
быстрый объект использует
меньше времени для
прохождения того же пути,
он «делит время»
ПРОЙДЕННОЕ
РАССТОЯНИЕ
медленный
объект
ТРЕБУЕМОЕ
jf ВРЕМЯ
это время нужно
для достижения
отмеченного
пункта
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА
Время
медленный
быстрый
Быстрый делит
время
Медленный делит расстояние
Рисунок 8
Расстояние
310
Пол Фейерабенд
«Итак, из сказанного ясно, что ни линия, ни поверхность
и вообще ничто непрерывное не будет неделимым — не
только в силу только что сказанного, но и потому, что тогда
придется делить неделимое» (233Ы6). Допустим (поскольку
скорости могут находиться в любом отношении), что одно тело
покрывает расстояние AB, а другое тело покрывает две
трети этого расстояния за то же самое время (рис. 9). Пусть
отрезки Aa = ab = ЬВ неделимы; и пусть то же самое верно для
соответствующих отрезков времени: Rd = de = eS. Тогда
более медленное тело, достигнув возможного разделения я,
будет делить время в точке/, т.е. делить неделимое.
R dfe S
Рисунок 9
Это подтверждает предположение и демонстрирует
непротиворечивость используемых понятий и связей между
ними. Однако не существует абсолютного доказательства
этих понятий и связей.
23. Далее мы имеем ряд теорем, говорящих об
отношении времени к движению и расстоянию.
Утверждение 4: движения в «теперь» не существует
(234а24).
Если бы движение в «теперь» существовало, то
существовало бы более быстрое движение и более медленное
Прощай, разум
311
движение и более быстрое движение разделяло бы «теперь»
так, как описано при рассмотрении рис. 7. Но «теперь»
неделимо (17).
Утверждение 5: ничто не находится в покое в «теперь»
(234аЗЗ).
Покой можно приписать объекту только в том случае,
если этот объект способен двигаться. Но в «теперь» нет
движения.
Дж. Оуэн в сочинении, посвященном рассмотрению
роли времени в трудах Аристотеля [177], критикует эти два
утверждения как опиравшиеся наложную интерпретацию
здравого смысла и препятствовавшие прогрессу науки.
Наука стала прогрессировать лишь тогда, говорит он, когда
были введены функции, связавшие время и скорость, и
стали использоваться при вычислении движений объектов.
Первое возражение легко устранить, если вспомнить о
том, что аристотелевское понятие непрерывности обязано
своим происхождением Пармениду (16). Верно, иногда
Аристотель для иллюстрации непрерывности использует такие
обыденные понятия, как клей или гвоздь (227а17). Однако
содержание понятия заключено в его следствиях, а в число
этих следствий входит утверждение 2 (безграничность
делимости), которое можно доказать только на основе
постулата однородности, похожего на постулат Парменида.
Второе критическое замечание говорит лишь о том, что
ученые могут получить очень много из скудной мысли.
В п. 21 я цитировал Галилея, чтобы показать, что его
интересовала только длина линии, а не ее структура. Эта позиция
хорошо служила ученым до тех пор, пока решаемые ими
проблемы не затрагивали структуры. Сомнения возникли в
квантовой механике, когда рассмотрение структуры приобрело
важное значение. В попытках решить проблемы, связанные
312
Пол Фейерабенд
со структурой, физики прибегли к идеям, очень похожим на
те, которые выражены в утверждениях 4 и 5 (отношение
неопределенности между временем и энергией). Теперь можно
сказать, что они согласны с принципом Аристотеля,
гласящим: «необходимо, чтобы и движущееся двигалось, и
покоящееся покоилось во времени» (234Ы0).
Утверждение 6: точка не занимает места (212Ь24).
Это вытекает из определения места в 6 в качестве
пространственного коррелята утверждений 4 и 5. Эти три
утверждения (и некоторые другие) были предвосхищены в
рассмотрении Платоном Единого («Парменид», 137). В этом
отрывке содержится также материал, который Аристотель,
по-видимому, использовал в своем определении
непрерывности (см. п. 20).
24. Согласно п. 9, движение может быть разделено
только с помощью временной его остановки: «движение
должно остановиться и начать двигаться снова» (262а24). Когда
движение останавливается, движущийся объект находится
в определенном месте и обладает определенными
свойствами: например, объект является серым, когда он
останавливается при переходе от белого к черному (234Ы8).
Находиться в определенном месте и обладать определенными
свойствами характеризует объект, который не движется.
Следовательно, двигаться означает не находится в
определенном месте и не обладать определенными свойствами.
По-видимому, Аристотель, хотя иногда и делал этот вывод
(см. утверждение 14), не всегда был готов совершить этот
шаг (см. ограничение: «объект как целое не может
находиться в обоих [начальном и следующем состояниях движения]
или ни в одном из них» [234Ы7]). Скорее, он приходит к
выводу о том, что «в течение всего процесса изменения
Прощай, разум
313
[объект] отчасти находится в одних условиях, а отчасти — в
других», т.е. он должен делиться на части, которые
находятся в разных условиях.
Утверждение 7: то, что изменяется, делимо (234Ы0).
В применении к перемещению это означает, что мы
имеем дело с эластичными и деформируемыми объектами.
Отметим здесь сходство с релятивистским пониманием
движения протяженных объектов.
Утверждение 8: когда изменение завершено,
изменяющаяся вещь пребывает в состоянии, в
которое она перешла (буквально: то, что
изменилось, есть то, во что оно
изменилось, [235Ь6]).
Это вытекает просто из значений терминов.
Утверждение 9: первое время, когда изменяющееся
завершило свое изменение, неделимо.
Допустим, оно делимо и изменение присутствует в
обеих частях. Но тогда изменение еще не завершилось. Если
же изменение присутствует только в одной части, то мы
имеем дело не с первым временем (235ЬЗЗ).
Утверждения 8 и 9 связаны с тем, что отмеченные этапы
движения сопровождаются прерыванием этого движения.
Движение включает в себя противоположности (189а 10);
одна из противоположностей есть то, «ради чего»
совершается движение или его цель (telos) (194b33). Когда цель
достигнута, движение завершено и, следовательно, прервано;
прерывание дает неделимый предел (236а 13) движения. Об
этом и говорят утверждения 8 и 9.
314
Пол Фейерабенд
Утверждение 10: не существует неделимого первого
времени, когда то, что изменяется,
завершило свое изменение (239а1).
Причина в том, что завершающее свое движение
находится в движении, а (утверждение 4) в неделимый момент
движения не существует. Похожим образом из
утверждения 5 следует утверждение 11.
Утверждение 11 : не существует неделимого первого
времени, в котором имеется покой (239а10).
Далее:
Утверждение 12: всякая вещь, которая изменяется в
определенное время, изменилась до этого
времени.
Допустим, /12? есть первое время для изменения.
Изменение должно произойти в точке я, между А и В, но также и
в Ь, между/! ио,ивс, между ЬиА,и т.д. Следовательно:
Утверждение 13: не существует начала процесса
изменения (236а13).
25. Результаты предыдущего раздела можно
суммировать следующим образом. Каждое изменение
характеризуется вполне определенным неделимым моментом, первым
моментом, когда изменение завершено. Не существует
последнего момента, когда движение прекращается, не
существует первого момента, когда движение начинается, не
существует первого момента покоя после того, как движение
завершено.
Прощай, разум
315
Можно предположить, что эта ситуация является
тривиальным следствием того факта, что ряд изменений,
заканчивающихся при достижении цели, замкнут справа и
открыт слева и что он является всюду плотным (см. гл. 4 в
[110]). Однако такое сравнение ошибочно во многих
отношениях. Начать с того, что структура аристотелевской
линии отличается от структуры плотных
последовательностей. Все элементы плотной последовательности
существуют и образуют эту последовательность. С другой стороны,
аристотелевская линия является единой и неделимой до тех
пор, пока ее части не будут актуализированы с помощью
специальных средств. Во-вторых, конечная точка изменения
является актуальной не потому, что все точки изменения
актуальны, и не потому, что изменение прерывается внешним
образом, а благодаря тому конкретному способу, которым
завершается каждое изменение: это обусловлено внутренней
структурой процесса изменения. В-третьих, изменение не
имеет начала, поскольку нет движения в «теперь».
Разницу между аристотелевским континуумом и
математическим континуумом очень ясно выразил (без ссылки
на Аристотеля) Герман Вейль в своем сочинении
«Континуум» ([256], с. 71):
Нет соответствия между интуитивным континуумом [так
Вейль называет континуум, рассматриваемый как неделимое
целое] и математическим континуумом [состоящим из
точек]...; они разделены непроходимой пропастью. Однако
имеются разумные соображения, побуждающие нас в наших
попытках понять природу переходить от одного к другому. Это
те же самые соображения, которые из мира человеческого
опыта - места нашей обыденной жизни - направляют нас к
«подлинно объективному», точному и количественному миру,
лежащему «за» опытом, и побуждают нас заменять цветовые
качества видимых объектов вибрациями эфира... Поэтому
наша попытка построить анализ [из неделимых единиц] мо-
316
Пол Фейерабенд
жет рассматриваться как теория континуума, которую можно
проверить экспериментом как любую другую физическую
теорию.
Математическая реконструкция континуума, говорит
Вейль в другом месте ([257], с. 42),
выбирает из текучей массы... множество индивидуальных
точек. Континуум разбит на изолированные элементы, и
взаимосвязанность всех его частей заменена определенными
отношениями между изолированными элементами. Для
Евклидовой геометрии достаточно использовать систему точек,
координаты которых являются Евклидовыми числами.
Непрерывный «пространственный соус» между ними не проявляется.
Это как раз позиция Галилея (см. цитату в п. 21), только
Вейль осознает ее ущербность и возможность того, что она
проявится в физике. «Непрерывный пространственный соус»
может проявить себя, когда мы перейдем к новым
областям исследования. Некоторые физики считают, что это уже
проявляется в микрофизике.
26. Согласно утверждениям 4 и 5, в моменте не
существует ни движения, ни покоя: каждое движение заполняет
некоторый интервал времени. Местоположение объекта,
движущегося в пространстве, является неопределенным в
соответствии с величиной этого интервала. Если
местоположение неопределенно, то неопределенна и длина.
Утверждение 14: то, что движется, не имеет
определенной длины (в направлении движения).
И наоборот, определенную длину можно приписать
объекту только в том случае, если он может «покрыть»
устойчивый измерительный стержень, т.е. если он находится в по-
Прощай, разум
317
кое. Нахождение в покое требует времени (утверждение 5),
следовательно:
Утверждение 15: объект может иметь определенную
длину только в том случае, если в течение
некоторого интервала времени он
находится в покое, сколь бы малым ни был
этот интервал.
27. Я завершаю кратким рассмотрением того, каким
способом Аристотель разрешает парадоксы движения Зе-
нона. Аристотель описывает четыре таких парадокса. Его
описание является самым ранним подробным
истолкованием аргументов Зенона.
Согласно первому парадоксу, движение невозможно, ибо
прежде чем достигнуть некоторого пункта, движущееся тело
должно сначала пройти половину расстояния до него, а
перед этим — половину половины и т.д. Одно решение было
представлено в п. 9. У Аристотеля имеется и второе
решение, которое он считал менее удовлетворительным (263а4).
Согласно второму парадоксу, быстрый Ахиллес
никогда не догонит медленную черепаху, «так как преследователь
сначала должен достигнуть пункта, с которого стартовал
преследуемый, так что преследуемый всегда будет
оставаться впереди». Аристотель рассматривает это как иной
вариант первого парадокса и решает его аналогичным образом.
Третий парадокс, «летящая стрела», говорит о том, что
в любой момент своего полета летящая стрела занимает
место, равное своей собственной длине, следовательно,
покоится в любой момент своего полета и в течение всего
полета в целом. Этот парадокс решается ссылкой на
утверждения 4 и 14.
Четвертый парадокс, который несколько труднее
интерпретировать, показывает, что «половина времени есть уд-
318
Пол Фейерабенд
военное время». Имеется (рис. 10) три ряда предметов А, В
и С. А находится в покое; ряд В движется вправо, ряд С —
влево, скорости одинаковы. В то время как С проходит все
В, В проходит только половину А. Предположив, что
прохождение двух предметов занимает одно и то же время —
независимо оттого, движутся они или покоятся, — мы
можем сказать, что В проходит половину А и проходит все С,
следовательно, затрачивает половину времени, в то время
как С проходит дважды множество как В, так и А, и
поэтому, затрачивает двойное время для того же самого
процесса. Аристотель отвергает это предположение и тем самым
устраняет парадокс.
DD DD DD-
•DDDDDD^
-DDDDDD
Рисунок 10
Рафаэль Фербер в своей интересной и оригинальной
книге («Парадоксы движения Зенона» [54]) высказал
предположение о связи этого парадокса с некоторыми более ранними
вариантами той идеи, что бесконечно делимое имеет одно и
то же число неделимых, независимо от своего размера.
В наши дни эту идею иллюстрирует чертеж, представленный
на рисунке 11. Для каждой точки на AB существует одна и
только одна точка на CD, поэтому эти две линии состоят из
равного числа точек. Согласно Арпаду Сабо ([235]), аксиома
8 из «Начал» Евклида, I: целое больше части (которая в
доказательствах заменяется стереотипом «иначе то, что
меньше, было бы равно тому, что больше, а это невозможно»),
была сформулирована потому, что некоторые люди
отвергали ее (нельзя вообразить другой причины для формулиров-
Прощай, разум
319
ки такого очевидного принципа). Одним из этих людей был
Анаксагор (Дильс—Кранц, ВЗ):
Ибо ни у малого нет наименьшего, но всегда (еще)
меньшее (ибо бытие не может перестать быть путем деления), и
точно так же у большого есть всегда большее. И оно равно
малому по множеству. Сама же по себе всякая вещь и велика
и мала (рус. пер. [266], с. 531 ).
Рисунок 11
м
N
Рисунок 12
О
Можно предположить, что это утверждение, лежащее в
основании идеи Анаксагора относительно того, что
каждый кусок материи содержит в себе элементы всего — плоть
содержится в металле, металл — в воздухе, воздух — в кости
и т.д., — также связано с постулатом Парменида об
однородности Единого (п. 16 выше). Если Единое однородно,
то мельчайшая часть обладаеттой же самой структурой, как
и целое, например, она имеет то же самое число частей
(подразделений)173. Можно ли найти такую интерпретацию чет-
320
Пол Фейерабенд
скорость 2v
22 J
скорость ν
время
_ — — « метод корреляции
Рисунок 13
вертого парадокса, которая приводит к этому результату?
Да, возможно! (См. рис. 12.) Возьмем любую точку на С,
которая по предположению непрерывна. Когда эта точка,
скажем О, проходит правый конец R линии В, то R будет
ниже Р, на полпути между R и О, поэтому Ρ будет
соответствовать О. Обратно, для каждой точки S на А существует
одна и только одна точка на С, а именно та точка, которая
находится в 2MS справа от N. На современной диаграмме
(рис. 13) эти соотношения становятся наиболее
наглядными: целое отображается на свою половину. Учитывая
определение в п. 15, можно предполагать, что Аристотель
согласился бы с этим результатом при условии, что
отображение имеет место между сечениями, создающими точки, а
не между предсуществующими точками. Трудно сказать,
какие следствия мог бы он извлечь отсюда.
9
Галилей и тирания истины
Речь, записанная на кассете, для Папской академии в
Кракове, Польша. Она претерпела значительные изменения, но я
пытался сохранить ее оригинальный стиль.
Отредактированная версия речи была опубликована в сборнике «Дело Галилея»
[29] под редакцией Дж. Койна, М. Геллера и др.
Уважаемые участники конференции! Прежде всего,
позвольте мне принести свои извинения зато, что вместо
личного присутствия я был вынужден прислать запись на
электронном носителе. Эта запись, которую я сейчас для вас
делаю, даст вам представление о моей позиции относительно
темы конференции, но, к сожалению, она не сможет
ответить на все ваши возражения и вопросы. Причиной моего
отсутствия послужила серия происшествий, которые
привели к тому, что мне не удалось вовремя получить визу и
теперь я сижу здесь, в маленькой комнате, в верхней части
огромного здания с видом на Швейцарские Альпы, зеленые
холмы и озеро Цюрих. Пейзаж просто потрясающий, но,
увы, не видно ни одного человеческого лица — что в
общем-то оказывается недостатком, когда ты должен
произносить речь. Несмотря на это, я надеюсь, что мне удастся
11 — 1 soy
322
Пол Фейерабенд
сделать мое выступление живым и увлекательным, а также
удастся предвидеть, какие части моей лекции вы примете
не с улыбкой и не с любопытством, но с неодобрением или
недоверием: к этим частям я, разумеется, отнесусь с
особенным вниманием.
Второе извинение касается того способа, посредством
которого я собираюсь познакомить вас с моей позицией.
Что касается меня, то я полагаю, что лучший способ
исследования исторического конфликта — это изучение
индивидов, которые его породили, анализ их темперамента,
интересов, надежд и амбиций, знаний, которые в данный
момент находятся в их распоряжении, их социального
положения, людей и учреждений, которые пользуются их
расположением и которые, в свою очередь, оказывают
поддержку им самим, и прочие подобные вещи. Затем,
следовало бы объяснить, как индивиды вступили в борьбу друг с
другом и с сопутствующими институтами, как они
оценивали этот конфликт и реагировали на него; нужно
объяснить, к примеру, как они использовали власть,
находящуюся в их распоряжении для сглаживания конфликта и
обращения его в свою пользу, нужно объяснить, в каких
формах протекал конфликт вследствие социальных и правовых
законов того времени, противодействие между законами и
темпераментами индивидов — и так далее.
Это, по моему мнению, было бы самым
предпочтительным способом представления конфликта, в том числе и
конфликта между Галилеем и Церковью, но, увы, осуществить
это невозможно. Сам материал чересчур обширен, чтобы
рассмотреть его в течение часа, и кроме того, я располагаю
лишь небольшой его частью. Поэтому я буду использовать
другую процедуру для представления моей позиции: я
«поднимусь на более высокий уровень абстракции». Я не буду
говорить об индивидах и их характерных особенностях, я
буду говорить о традициях. Я представлю конфликт Гали-
Прощай, разум
323
лея и Церкви как конфликт традиций и постараюсь
показать, что традиция, представляемая Церковью, имеет
интересных предшественников в античности и прогрессивных
защитников сегодня. Разумеется, разговор о традициях (или
парадигмах, или исследовательских программах, или
«темах», если использовать понятия из более узких областей,
чем обсуждаемая нами) является естественным подходом в
истории, социологии и философии. Я использую этот
подход только из-за трудностей, упомянутых выше, но не
потому, что я являюсь его ревностным сторонником.
Поэтому не забывайте, что мы можем претендовать лишь на
определенное приближение к реальности.
Традиции, о которых идет речь, касаются положения
специалистов в обществе. В более ранних работах я
рассматривал две подобные традиции. Согласно одной из них,
человек, являющийся экспертом в какой-либо области,
обладает полным авторитетом и в том, что касается
интерпретации и применения своих взглядов и методов;
согласно другой позиции, высказывания экспертов должны быть
подчинены суду более высокой инстанции, которая
может как состоять из авторитетов высшего ранга
(подобный взгляд можно найти у Платона) или из всех жителей
полиса (так считал Протагор). Я полагаю, что оппозиция
Галилея и Церкви как раз основывается на
противостоянии этих двух взглядов (или традиций). Галилей был
экспертом в особой области, включающей в себя математику
и астрономию, его считали математиком и философом.
Галилей утверждал, что астрономические вопросы должны
решаться астрономами. Только «те немногие, кто
заслуживает быть отделенными от общей массы, могут постигнуть
истинный смысл библейских текстов, касающихся
вопросов астрономии», как он писал в письме к Кастелли 14
декабря 1613 года (похожие вещи говорили Коперник до него
и Спиноза после него; как показывает Ханс-Дитер Фойгт-
324
Пол Фейерабенд
лендер [246], этот мотив появился уже в античности). В
дополнение ко всему, Галилей выдвигал требование, что
астрономическое знание должно становится элементом
общего знания в том самом виде, как оно было открыто
астрономами. Галилей не просто просил свободы
обнародования своих собственных результатов, он хотел сделать это
всеобщим требованием. В этом отношении он был таким
же напористым и категоричным, как и многие
современные пророки науки, — и таким же несведущим. Он
принимал как данность, что частные и ограниченные в
применении методы астрономии (как и методы физики, которая
следовала по пути, намеченному астрономией) гарантировали
доступ к Реальности и Истине. Он был классическим
представителем первой традиции.
Позиция Церкви, с другой стороны, была очень близка
ко второй традиции (в версии Платона, а не Протагора).
Астрономическое знание, согласно мнению Церкви,
считалось важным, к нему ревностно стремились. Тем не
менее модели, которые предлагали астрономы, скажем, для
планетарных движений, не могли соответствовать
реальности без дополнительных оговорок. Они были плодом
конкретных задач и служили лишь определенным целям, а
именно предсказанию.
Эта позиция в точности выражена в первом из
известнейших писем кардинала Беллармина, известного в Римской
Коллегии (Collegio Romano) специалиста по спорным
вопросам, адресованных Паоло Антонио Фоскарини, кармели-
танскому монаху из Неаполя, который интересовался
проблемой истинности коперниканской системы. Это письмо
часто цитируют, но гораздо чаще критикуют, сравнивая его
положения с некими абстрактными научными
принципами, которым, как считается, подчинена научная практика.
На самом же деле, как мы увидим впоследствии, картина в
корне меняется, если сравнить сказанное в письме с самой
Прощай, разум
325
научной практикой. С моей точки зрения, это очень
мудрый документ, который содержит разумные предложения
касательно места науки в нашей культуре.
Беллармин пишет:
Я полагаю, что Ваше преподобие и господин Галилей
поступают осмотрительно, довольствуясь тем, что их
утверждения гипотетичны и не претендуют на абсолютную истинность.
Утверждать, что выдвинутая гипотеза лучше объясняет
движение Земли и неподвижность Солнца и все прочие небесные
явления, чем теория эксцентриков и эпициклов, - вполне
здравая позиция, позволяющая избежать любого риска. Для
математика этого вполне достаточно. Но утверждать, что
Солнце действительно находится в центре мироздания, вращаясь
вокруг своей оси, и не подвержено круговому движению с
востока на запад - очень опасная позиция, которая может не
только вызвать негодование философов и богословов, но и,
противореча Писанию, подорвать нашу веру.
Выражаясь современным языком, астрономы
абсолютно правы, когда говорят, что одна модель имеет
предсказательные преимущества относительно другой, но они
глубоко заблуждаются, когда утверждают, что образ
реальности, который она конструирует, соответствует
действительности. Или обобщая: тот факт, что модель работает, сам по
себе не означает того, что реальность устроена в
соответствии сданной моделью.
Эта разумная идея является неотъемлемой
составляющей научной практики. Приблизительность присутствует
в науке повсеместно. Всякого рода приближения
используются для того, чтобы облегчать вычисления в какой либо
ограниченной области. Их свойства симметрии часто
отличаются от теории, лежащей в основе. Следовательно, если
предполагается, что фундаментальная теория
соответствует действительности, то аппроксимации не могут соответ-
326
Пол Фейерабенд
ствовать ей точно так же. С другой стороны, теории
изначально могут разрабатываться в перспективе более точных,
но пока еще неизвестных взглядов. Они могут успешно
применяться, но сама цель, ради которых они создавались,
накладывает запрет на вынесение каких-либо суждений
относительно реального мира. Примером тому могут служить
ранняя квантовая теория или ньютоновская теория
гравитации, по крайней мере в том смысле, как ее понимал сам
Ньютон. Даже формально совершенная теория может
оказаться несостоятельной в плане соответствия
действительности. Это положение становится очевидным на примере
волновой механики Шредингера. Эта логически
последовательная, элегантная, легкая в применении теория
пользовалась большим успехом. Шредингер полагал, что
элементарные частицы имеют волновую природу. В это время Бор
и его ученики, опираясь на более богатые данные,
показали, что эта интерпретация входит в противоречие со
значимыми фактами (существовало два препятствия, а именно
так называемая редукция волнового пакета, и кроме того,
волновая механика не была инвариантом теории Лоренца).
То же самое можно сказать и о лучших теориях
современной физики — последний вариант общей теории
относительности и общей квантовой механики. По сей день
считается, что их объединение невозможно: утверждения
одной теории входят в противоречие с утверждениями
другой. Можем ли мы после этого утверждать, что мы получаем
правильное описание реальности хотя бы посредством
одной из них? Пожалуй, нет. Мы можем только сказать, что
обе эти теории являются полезными приближениями, но
мы не имеем представления, какова та реальность, к
описанию которой они приближаются.
Все эти примеры имеют непосредственное отношение
к коперниканской теории, непротиворечивость и
успешное применение которой рассматривались как свидетель-
Прощай, разум
327
ства приближения теоретического описания к реальности
как Коперником, так и другими авторами, такими как Ре-
тик и Мэстлин. Но коперниканская теория не была
единственно возможной и обобщающей моделью в космологии.
Следовательно, ее применимость и непротиворечивость
сами по себе не означали соответствия действительности.
Для того чтобы обосновать это положение, необходимо
взглянуть на проблему несколько шире.
В современной науке такая «широта» взгляда
традиционно считается привилегией физики элементарных частиц.
Ученые, работающие в этой области, не отрицают, что
химия, биология, реология и другие науки открывают
некоторые значимые регулярности, но эти регулярности не
являются конечными (далее — неразложимыми) свойствами
реальности. Точно так же некоторые биологи с
подозрением относятся к ботанике и к наблюдению птиц в
естественных условиях, полагая, что только молекулярная биология
может дать верное описание жизненных процессов. Здесь
можно упомянуть и Эйнштейна, который в поисках пути
преодоления научного кризиса первой половины XX века
опирался на термодинамику. Во всех перечисленных
случаях модели сопоставляются с положениями некоей
фундаментальной научной теории, и уже в соответствии с этим
можно говорить об их отношении к реальности. Что же
играло роль такой базовой теории для Церкви?
Согласно Беллармину, этот базис включал в себя две
составляющие: научную (философию и теологию) и
религиозную, т.е. веру.
Первая, научная, составляющая содержательно
отличалась от современных способов описания реальности
(молекулярной биологии, физики элементарных частиц,
космологии), но функционально была им тождественна. Под
философией прежде всего понималась философия
Аристотеля: общая теория изменения и движения, теория (мате-
328
Пол Фейерабенд
матического и физического) континуума (эта теория
рассматривается в главе 8 настоящей книги), теория элементов
и рассуждения об устройстве мира. Теология имела тот же
самый предмет, что и философия, но рассматривала его не
как самодостаточную независимую систему, а как продукт
божественного творения. Теология была и остается наукой,
причем наукой строгой: теологические сочинения содержат
большое количество глав, посвященных научному методу,
которых вы никогда не найдете в работах по физике.
Существование второй составляющей подразумевает,
что неадекватно интерпретированные результаты,
полученные посредством научного метода, могут оскорбить веру
человека. Эта составляющая хорошо знакома нам и по сей
день. Современные адепты науки часто предупреждают нас
о том, что неверное истолкование научных результатов или
затруднений в науке может привести к иррационализму и
подорвать нашу «священную веру» в разум. В ответ
оппоненты редукционизма стараются трактовать научные
результаты в ключе, который не угрожает их «священной вере»
в единство природы, культур и человеческих индивидов.
Разница между современной позицией и позицией Беллар-
мина проявляется в двух характерных чертах. Сегодня
разного рода веры (в разум, в единство человечества и т.д.)
перестали соотноситься с Божественным Создателем; кроме
того, в те времена институциональная поддержка этой
составляющей была гораздо более сильной, чем поддержка
научного разума или антиредукционизма сегодня.
Последняя черта относится не только к Церкви, но и к духу той
эпохи в целом. Помимо того, не стоит забывать, что
многие сегодняшние рационалисты пытаются укрепить веру в
разум посредством усиления институтов, которые
являются его пристанищем.
Вторая составляющая, как видно из слов Беллармина,
предполагает, что вопросы, связанные с фактом и реально-
Прощай, разум
329
стью, зависят от вопроса о ценностях. Эта идея будет
далекой и даже отталкивающей для представителей
позитивизма, но только потому, что они находятся в плену своих
предрассудков. Небольшой экскурс в историю понятия
реальности поможет выявить эти предрассудки.
У Гомера сны, деяния богов или иллюзии считались
«одинаково реальными» (я заключаю эту фразу в кавычки,
поскольку понятие реальности, с которым мы здесь имеем
дело, уже предполагает, что не все вещи обладают
одинаковой степенью реальности). Между внешней
действительностью и искаженной внутренней реальностью
человеческих чувств не проводилось никакого различия. Слегка
упрощая, мы можем объяснить это не тем, что у человека того
времени не было «разума», скорее не существовало особой
области субъективного, которая содержала бы явления,
отделенные от внешнего мира, и пропускала бы их через свою
призму. Впоследствии Анаксимандр стал считать простую
субстанцию, апейрон, первоначалом всех процессов,
происходящих в мире. Сны, боги, предвидение не нашли
пристанища в реальном мире и были из него изгнаны.
Что же случилось с ними впоследствии? Их судьба была
решена Парменидом, который разделил явления и
процессы на два класса: реальные вещи, с одной стороны, и
иллюзии — с другой. Реальное теперь конституировалось при
помощи новых процедур, которые отличались как от
традиционно использовавшихся, так и от естественного
(ненаправленного) наблюдения. Иллюзии стали
прерогативой заблуждающегося разума (таким образом, стал
возникать «разум» — хранилище явлений, которым не
находилось места в реальном мире).
То, что одни феномены считались реальными, а другие
нереальными, означало всего лишь предпочтение одной
традиции другой. Это стало тем более очевидным позднее,
когда разгорелся спор между натуралистами и гностиками
330
Пол Фейерабенд
о реальности материи, отголоски которого доходят до нас
и сегодня. Одни ученые считают, что им удалось открыть
некие конечные, далее — неразложимые, составляющие
реальности (элементарные частицы и их поля), другие ставят
на первое место наиболее общие закономерности и
считают физику высоких энергий лишь более замысловатым и
дорогостоящим увлечением, по сути же ничем не
отличающимся от коллекционирования марок. Аристотелю удалось
очень просто выразить эту мысль, когда он отстаивал
реальность не-парменидовых явлений (поскольку они
необходимы для жизни в полисе:
Даже если и существует бог, обладающий всеми
возможными благами и добродетелями, абсолютно
самодостаточный, человек бы никогда не смог даже приблизиться к нему;
но мы ищем лишь то, что можем достигнуть («Никомахова
этика», курсив мой. — П.Ф. ).
В своей книге о душе Аристотель говорил, что
материалистические, психологические и социологические взгляды
на душу служили определенным целям и в своих сферах
были вполне оправданными.
Таким образом, соотнося описание реальности с
человеческими интересами, Церковь придерживалась вполне
разумной позиции; в этом плане она была рациональнее
многих современных ученых и философов, которые
проводят четкое различие между фактами и ценностями и
принимают как данность то, что добраться до факта и
реальности можно, только опираясь на научные методы.
Во времена Галилея Библия была предметом
многочисленных дискуссий, она сохраняет этот статус и сегодня.
Церковь, будучи единственным хранителем и толкователем
Библии, сделала ее граничным критерием реальности174.
Даже Ньютон, будучи в оппозиции католицизму, относил-
Прощай, разум
331
ся к этому очень серьезно. Научное исследование,
согласно Ньютону, должно опираться на несколько источников:
Дивную Вселенную — Творение Божие, и Слово Божие, т.е.
Библию. Библейские сюжеты (например, история Потопа)
использовались учеными для подтверждения научных
взглядов вплоть до XIX века (катастрофизм).
Церковь не только использовала Библию как
граничное условие реальности и истинности, она, в том числе,
старалась навязать этот критерий административными
методами. Беллармин пишет об этом вполне определенно:
Как вам известно, Тридентский Собор запрещает
толкование Евангелий, идущее вразрез с мнением Святых Отцов.
Здесь современный читатель, в особенности
либеральный эпистемолог, знакомый с предметом лишь
абстрактно, но никогда не видевший науку «в лицо», обязан в
отчаянии всплеснуть руками. С его точки зрения, знание не
должно иметь ничего общего с административными
структурами, и его сердце болит за бедного Галилея, который был
вынужден мириться с такой нелепостью. Тем не менее
совершенно не очевидно, что современного Галилея ждала бы
лучшая участь.
Предположим, к примеру, что он захотел бы проверить
эффективность современной научной медицины,
используя контрольные группы волонтеров, подвергающихся
воздействию соответствующих методов. В этом случае во
многих штатах США его бы посетила полиция, как это и
случилось с Галилеем.
Предположим, что он говорил бы об Эволюции и
Творении как о равнозначных понятиях, представив их как две
равноправные точки зрения на происхождение человека.
Здесь он нарушает другое правовое ограничение, а именно
разделение государства и Церкви, которое налагает стро-
332
Пол Фейерабенд
гие правовые и административные ограничения на
высказывание, касающиеся знания. Эволюция должна
преподноситься как факт или как теория, опирающаяся на
факты, в то время как Творение должно рассматриваться как
предмет веры (по сути, это разновидность позиции Белл ар-
мина, который считал обоснование базовых положений
прерогативой философии и теологии и отводил науке по
преимуществу вспомогательную роль — окончательное
подтверждение точки зрения, установленной выше, и полагал,
что «реальность» является ценностно нагруженным
термином, а вопросы реальности тесно связаны с человеческим
фактором).
Наш современный Галилей также обнаружил бы, что
одни лишь аргументы редко приводят к принятию идеи и
ее финансированию. Идея должна вписываться в доктрину
института, который собирается ее разрабатывать, и
должна согласовываться с методами исследования, которые там
практикуются. И не найдется человека, которого он
сможет посвятить в свои догадки и передать свой образ
мыслей — найдется масса анонимных коллективов, кишащих
безграмотными людьми, которые расценивают свое
невежество как норму вещей175. Как может одаренный человек
состояться в таких условиях? Это действительно очень
сложно. Галилей попытался соединить философию, астрономию,
математику и множество других наук, которые наиболее
правильно было бы назвать инженерией, в целостную
позицию, которая, кроме всего прочего, породила новое
отношение к Священному Писанию. Ему было приказано
ограничиться математикой. Современный физик или химик,
пытаясь осуществить преобразования, к примеру, в
медицине или в питании, сталкивается с аналогичными
ограничениями. Современный ученый, который публикует свои
результаты в газете или обсуждает их в публичном интер-
Прощай, разум
333
вью, прежде чем они были представлены на рассмотрение
редакционной коллегии специализированного журнала или
достаточно авторитетных групп, обвиняется во всех
смертных грехах, которые делают его изгоем в научном
сообществе на достаточно длительное время.
Разумеется, контроль не является таким жестким и
всеохватывающим, как во времена Галилея, но это скорее
результат более лояльного отношения к преступлениям в
целом (так, воров больше не калечат и не отрубают им руки)
и даже не столько результат изменения отношения,
сколько понимания сути преступлений как таковых.
Административные ограничения, применяемые к современным
ученым, несомненно, сравнимы с теми, которые
существовали во времена Галилея. Однако, в то время как
ограничения, исходившие от Церкви, были сформулированы в виде
четких правил, таких, как правила Тридентского Собора,
современные ограничения часто лишь подразумеваются и
не оговариваются в деталях. Существует много намеков и
недомолвок, но нет конкретного кодекса, к которому
можно обратиться, критиковать его и улучшать. Вновь
повторюсь, что действия Церкви были более прямолинейными,
честными и, несомненно, более разумными.
А сейчас мы подошли к очень важному моменту: эта
очевидная и разумная преграда для исследования не была
непреодолимой. Об этом ясно говорит Беллармин в последней
части своего письма:
Если бы существовали неоспоримые доказательства того,
что Солнце находится в центре мироздания, а Земля является
третьим небом, и что Земля вращается вокруг Солнца, а не
наоборот, мы должны бы были с большой осторожностью
толковать те места в Писании, которые, как казалось, говорили
об обратном, и скорее были бы вынуждены признать то, что
не поняли их, чем объявить ложной точку зрения, истинность
которой доказана.
334
Пол Фейерабенд
Доктрина Церкви, как утверждает здесь Беллармин,
является граничным критерием интерпретации научных
взглядов. Но этот критерий не является абсолютным. Научное
исследование может сдвинуть эту границу. Однако
Беллармин продолжает:
Что касается меня, я не поверю, что существуют такие
доказательства, пока не увижу их своими глазами. Если мы
предположим, что Солнце является центром мироздания, а
Земля - третьим небом, и это [предположение] работаетточ-
но так же, как и если бы все было наоборот, но это еще не
является доказательством. В ситуации сомнения мы не
должны отказываться от того толкования Священных текстов,
которое предлагается Святыми Отцами.
Высказанного в последнем предложении мнения
сегодня придерживаются все директора средних школ и даже
некоторые ректоры университетов — не вводить новой
основы образования, пока вы не уверены в том, что она по
крайней мере так же хороша, как старая. Это тоже разумная идея.
Она призывает нас сделать базовое образование
независимым от модных веяний и временных заблуждений.
Образование — это не только идеи. Это и учебники, навыки,
аппаратура для презентаций, лаборатории, фильмы, слайды,
курсы для учителей, компьютерные программы, задачи,
экзамены и т.д. Когда оно построено разумно, оно может
вбирать в себя модные веяния, заблуждения и альтернативные
взгляды и посредством этого проливать свет на научный
процесс; несмотря на это, было бы неразумно
перестраивать его от начала до конца, как только на горизонте
появляется новая интересная точка зрения. Возможно, кого-то
бы в такой ситуации одолели сомнения — всегда
существовало множество противостоящих друг другу веяний,
отступлений, предположений, «дерзких идей». Церковь приняла
это к сведению. Прежде чем решиться на перестройку зна-
Прощай, разум
335
чительной части знания, она должна была заручиться
весомыми аргументами.
Возможно ли, что Беллармин просто выигрывал время?
Стал бы он сопротивляться, получив ясное и четкое
доказательство? Или, еше хуже, быть может, он не знал о
существовании доказательства? Этот формальный вопрос, к
сожалению, действительно стал вопросом для многих
исследователей. Я подойду к проблеме, связанной с ним,
посредством другого вопроса: какую бы позицию заняли
современные ученые и философы науки, если бы они
перенеслись в начало XVII века и были озадачены вопросом,
с которым столкнулся Беллармин, а именно: какова ваша
позиция по отношению к Копернику?
Разные люди отвечали бы по-разному. В науке, как и во
всяком другом предприятии, можно встретить как очень
требовательных, так и более толерантных людей.
Существуют ученые, которым достаточно неясных намеков, чтобы
предугадать успешность теории, но существуют и другие
ученые, которые нуждаются в более существенных
доказательствах. Некоторые удовлетворяются простотой и
интеллектуальной гармоничностью, другим необходимо надежное
эмпирическое подкрепление. Некоторых ученых пугают
противоречия в теории или расхождение теории и
эксперимента, другие же считают эти противоречия неотъемлемыми
спутниками прогресса. Майкельсон и Резерфорд никогда
полностью не принимали теорию относительности,
Пуанкаре, Лоренц и Эренфест стали сомневаться в ней после
экспериментов Кауфмана, в то время как Планк и
Эйнштейн, убежденные ее внутренней элегантностью, были
более стойкими в своих взглядах. Зоммерфельд создал
позднюю квантовую теорию, которая была очень успешной,
столь же внушительную, как и классическая небесная
механика, в то время как Борн, несмотря на успех Зоммер-
фельда, думал, что тот идет неверным путем. Паули любил
336
Пол Фейерабенд
смущать своих коллег предположениями, основанными на
построениях простых моделей, в то время как они
предпочитали обдумывать сложности, связанные с
рентгеновскими фотографиями.
Кто знает, что бы сказал каждый из них, если бы
оказался на месте Беллармина? Майкельсон, перед лицом
астрономических наблюдений Галилея, мог бы указать на их
внутреннее несоответствие (планеты повернуты к
наблюдателю, звезды отброшены в сторону; на обратной стороне
луны видны горы, в то время как ее окружность абсолютно
ровная) и вполне возможно, что он бы посмеялся над
попыткой получить физическую информацию от такого мало
понятного инструмента. И практически все философы
науки сегодня согласились бы с Беллармином в том, что
позиция Коперника выглядела слабой176. Самый сильный
аргумент, выдвигавшийся Коперником, Ретиком и Мэстлином,
тот самый аргумент, который убедил Кеплера177, касался
гармонии, которую гарантировала точка зрения Коперника:
впервые была создана астрономическая система, а не
совокупность вычислительных средств. Но этот аргумент, как
показывает Шредингер, может ввести в заблуждение: верная
интерпретация простой и согласованной точки зрения
может в корне отличаться от интерпретации, предложенной
после первого поверхностного взгляда на нее.
Галилей понимал это: с чего бы еще понадобилось бы
ему придавать такое значение своему «неоспоримому
доказательству» — теории приливов и отливов? Кстати
говоря, элементы механики, в изобретении которых он
преуспел на протяжении своей жизни, оказались
неадекватными для доказательства динамики планетарной системы,
как ее описывал Коперник. Они доказывали
существование круговых орбит, но вводили бессмысленные
эпициклы, которые все еще были необходимы для корректных
предсказаний и были несовместимы с законами Кеплера,
Прощай, разум
337
которые Галилей отвергал. Приемлемое решение пришло
позже благодаря Ньютону, и даже ему потребовалось
божественное вмешательство, чтобы привести планетарную
систему в порядок. Кроме того, взгляды Галилея на
относительность движения были непоследовательными. Временами он
говорил об относительности всех видов движения, в других
случаях он вводил импетус, который предполагает
устойчивую референциальную систему.
Базовые положения физики Галилея были еще хуже.
Аристотель создал общую теорию изменения, движения и
континуума. Теория рассматривала передвижение,
качественное изменение, возникновение и уничтожение, и она
объясняла падение камней так же хорошо, как и передачу
информации от учителя к внимательному ученику. Теория
передвижения была очень тонкой, из нее следовало, что
объект не может двигаться и одновременно занимать
определенную позицию. Галилей ограничился лишь
передвижением и даже об этом говорил в гораздо более упрощенных
понятиях, чем те, которые были уже введены Аристотелем
(Аристотель сделал шаг к квантовой теории, которая
рассматривает движение как неделимое целое, в то время как
Галилей отказался от этого достижения)178. Вполне
естественно, что биологи, физиологи (Гарвей!), основатели
новой науки об электричестве и бактериологи продолжали
использовать взгляды Аристотеля вплоть до конца XVIII
века, а в некоторых областях вплоть до XX века (Пригожий
мог бы сказать много хорошего об Аристотеле). Ньютон,
безусловно рассматривал заметки Аристотеля касательно
движения со всей серьезностью, как можно судить по его
рукописям. Эйнштейн, с его презрением к «верификации
малых эффектов» и его сверхъестественной способностью
видеть будущее великолепие в сегодняшнем хаосе, мог бы
встать на сторону Коперника, но многие другие физики
всплеснули бы в отчаянии руками. Таким образом, точка
зрения Беллармина является вполне допустимой.
338
Пол Фейерабенд
* * *
Этим я завершу мой краткий обзор тех форм, которые
приняли две древние традиции во времена Галилея. Эти
традиции касались роли науки в обществе.
Согласно первой традиции, общество должно
принимать знание в той его форме, в которой оно преподносится
учеными. Эту традицию отстаивал Галилей. Совсем
недавно она была использована учеными как основа для
«переговоров» с Церковью после того, как венский кардинал
предложил тесное сотрудничество179. Это сотрудничество,
по словам представителя физиков, означает,
что [научные] понятия не должны быть истолкованы и
употреблены в смысле отличном [оттого, который в него
вкладывали ученые и], что принципы Церкви должны
согласовываться с открытиями естествознания.
Это совпадает с позицией кардинала Роберта Беллар-
мина, за исключением того, что теперь знания
специалиста в специфической и достаточно узкой области заняли
место гораздо более широкой и гуманистической точки
зрения католицизма XVII века.
Согласно второй традиции, научное знание очень
специфично и представляет собой слишком узкое видение мира,
чтобы оно могло быть принято обществом без оговорок. Зна-
ние должно быть проверено, его нужно рассматривать с
более широкой позиции, которая включает в себя
человеческий фактор и те ценности, которые с ним связаны;
содержащиеся в нем утверждения о реальности должны быть
скорректированы в соответствии с этими ценностями.
К примеру, боль, чувство дружбы, страха, счастья и
потребность в спасении, как в обыденном смысле, так и в смысле
некой трансцендентной сферы бытия, играют большую роль
в жизни людей. Поэтому утверждения некоторых физиков,
Прощай, разум
339
работающих в области элементарных частиц, о том, что им
удалось найти конечные составляющие всего
существующего, должны быть отвергнуты и замены более «инструмен-
талистской» позицией: эти теории не описывают
реальность, они дают предсказания о реальности, которая
существует независимо от их усилий.
Во времена Галилея сторонником второй традиции
являлась Церковь. Церковь придерживалась ее платонистс-
кой версии: более общее знание было знанием
специалистов, но в соединении с наиболее человечной книгой,
Библией, оно имело и имеет огромные преимущества перед
принципами отвлеченного рационализма. Справедливо, конечно,
и то, что благородные чувства, присущие знанию этого рода,
не всегда превалировали и что некоторые приказы Церкви
были просто-напросто упражнениями в проявлении
власти. Но лучшие представители Церкви думали по-другому и
были в этом смысле достойными предшественниками
попыток сдержать тоталитарные и лишенные человечности
тенденции современного научного объективизма,
посредством элементов, непосредственно взятых из жизни людей
и в определенной степени «субъективных».
Также нужно признать, как я уже отмечал, что
нарушение эпистемологических правил сегодня нечасто является
предметом внимания полиции. Как бы то ни было, закон
все равно существует, идея свободного и независимого
исследования остается несбыточной мечтой, и присутствие
или отсутствие вмешательства полиции не имеет никакого
значения для решения главной проблемы, а именно
интерпретации научных познавательных утверждений. Как мы
уже видели (смотрите небольшую цитату после сноски 179
выше), даже либеральный климат нашего времени не
устранил потребности ученых в таком авторитете, которым,
само собой, обладал Беллармин, но применял его с
большой мудростью и милосердием. Печально, что сегодняш-
340
Пол Фейерабенд
няя Церковь, испуганная вселенским шумом научных
волков, предпочитает выть с ними в один голос, вместо того
чтобы попытаться привить им хорошие манеры180.
Напоследок скажу несколько слов об утверждении
некоторых ученых и философов, что наука не нуждается в
контроле, поскольку является в своей основе
саморегулирующимся человеческим предприятием. Какие бы ошибки ни
совершали ученые, они же сами их и исправляют; они
сделают это лучше, чем кто бы то ни было извне, таким
образом, они должны быть предоставлены сами себе (за
исключением, конечно, неиссякающего потока миллионов,
которые им нужны для этих исправлений). Легко показать
упущения этой точки зрения.
Разумеется, верно то, что наука в своей основе является
человеческим предприятием и что ученый может быть столь
же прекрасным и столь же отвратительным, как и любой
другой человек. Беда в том, что возрастающая конкуренция в
научном сообществе и возрастающее внимание к
заявлениям ученых имеют тенденцию порождать эгоизм,
заносчивость и презрение к людям — к «толпе», как называл это
Галилей, — к тем, кто не может следовать за тонкими
измышлениями Благородных умов. Институализация тех материй,
которые ранее находились в руках индивидов или их небольших
групп, также побуждает к оппортунизму и малодушию.
Раньше ученые, которые были членами религиозных сообществ,
знали, что их достижения значили совсем немного с точки
зрения вечности (subspecie aeternitatis). Те современные
ученые, которые соединяют в себе научное любопытство с
любовью к Природе и другим человеческим существам, в
каком-то смысле разделяют такой взгляд на вещи со своими
религиозными предшественниками, но их окружают люди
с принципиально иными настроениями. Может ли наука
исправить отклонения, которые могут возникнуть в таком
сложном предприятии, каковым она является?
Прощай, разум
341
Разумеется, может: не существует предприятия,
которое не было бы саморегулирующимся в определенных
пределах и которое нельзя было бы изменить действиями
небольшого количества определенных индивидов. Но наука
является частью более мощной системы; она является
частью города, региона, единой нации. Обусловленные их
политической структурой, эти более крупные системы, ι* свою
очередь, могут быть саморегулирующимися. Демократия,
в особенности древнегреческая, пребывала в готовности
изменять все, что оказывалось в ее сфере, в том числе и
излияния экспертов. Но демократии, согласно точке зрения, о
которой я сейчас говорю, нет никакого дела до
функционирования науки. Почему? Одна причина заключается в
том, что эта деятельность слишком сложна, чтобы в ней
могли разобраться непрофессионалы. То же самое можно
сказать о междисциплинарных исследованиях в науке —
такие исследования все еще пользуются поддержкой и
одобрением. Многие ученые, отстаивая свои взгляды,
используют аргументы, от которых волосы встают дыбом у
философов — и тем не менее эти аргументы принимаются, и
наука продолжает развиваться на их основании. Кроме того,
такие институты, как суд присяжных и гражданские
инициативы181, демонстрируют, что обычные люди могут как
наставлять, так и быть наставляемыми в неясных делах, и
таким образом приобретать знания, которые необходимы
для взвешенного суждения. Легализация иглоукалывания
в Калифорнии была результатом обучающегося процесса
такого рода.
Второй аргумент в защиту автономии науки
заключается в том, что наука является «объективной» и поэтому ее
нужно отделить от «субъективных» мнений политиков (это
старый аргумент, его можно встретить еще у Платона). Но
обычные люди (общество, democracy) не могут
безоговорочно принять утверждения ученых и философов, в осо-
342
Пол Фейерабенд
бенности когда эти утверждения затрагивают
фундаментальные вопросы; даже последнее утверждение об
«объективности» должно быть подвергнуто анализу. Другими
словами, общество должно контролировать философский
анализ научных положений точно так же, как и финансовый
анализ местных и национальных бюджетов. И в этом
контроле над анализом ему придется полагаться не только на
объективную истину, но и на способ, посредством
которого эти истины являются этим людям, т.е. ему придется
опираться на субъективные суждения своих членов. Обобщая
эту часть аргумента, можно сказать, что наука, в которой
действуют механизмы саморегуляции, является частью
более обширной системы, которой эти механизмы тоже
присущи. В демократическом обществе саморегуляция
крупных систем осуществляется на всех уровнях, что означает,
что саморегуляция общества пересиливает временные
результаты научной саморегуляции.
Саморегуляция включает в себя критику
неконтролируемых изменений. Наука уже давно оставила позади
качественный мир наших ежедневных впечатлений. Некоторые
ученые утверждают, что этот мир не более чем иллюзия и что
на самом деле реальность принципиально иная. Они
воспринимают человеческие существа в соответствии с этой
реальностью и относятся к ним в соответствии с этим. Но люди
могут воспротивиться такому отношению. Они могут заявить
о себе как о реальности, отличающейся от установленной
наукой, и могут решить утвердить и зафиксировать это.
Например, они могут зафиксировать качественные аспекты
нашего ежедневного опыта и полагать любое отступление от
этого стандарта шагом к бесчеловечности. Таким образом,
качество нашей жизни определяет, что считается реальным,
а что — лишь инструментом предсказания.
Критический энтузиазм, демонстрируемый
философами и учеными, о взглядах которых я сейчас говорю, несмот-
Прощай, разум
343
ря на то что он разделяется многими интеллектуалами, не
является единственным основанием для яркой и
плодотворной жизни, и очень сомнительно, может ли он вообще быть
каким-либо основанием. Людям необходимы достаточно
стабильные условия жизнедеятельности, которые делают их
существование осмысленным. Непрекращающийся
критицизм, которым якобы характеризуется жизнь ученых, может
быть частью жизненной реализации человека, но не ее
основанием (так, разумеется, он не может быть основой
любви или дружбы). Из этого следует, что ученые могут вносить
вклад в культуру, но не могут создавать ее основания — и,
будучи скованными и ослепленными своими
профессиональными предрассудками, они, разумеется, не могут решать,
без участия других людей, какие основания должны
принимать остальные. Церкви имеют большие основания для
поддержки такого рода взглядов и для их использования как для
критики отдельных научных достижений, так и роли науки
в культуре в целом. Они должны перебороть свою
осторожность (или же это страх?) и возродить гармоничную и
тонкую мудрость Роберта Беллармина, подобно тому, как
ученые часто черпают вдохновение из взглядов Демокрита,
Платона, Аристотеля и их дерзкого святого, Галилея.
Приложение
Ниже следует письмо, которое я написал (на немецком
языке) одному из участников дебатов о сегодняшних
отношениях между наукой и Католической церковью.
Дорогой отец Руперт!
Я с интересом выслушал ваше выступление в прошлый
вторник. Меня очень удивили два момента. Один
заключается в той готовности, с которой Церковь отступает перед
достижениями науки. Такой феномен не наблюдается внут-
344
Пол Фейерабенд
ри самой науки (хотя и здесь присутствует значительный
оппортунизм). Часто бывает, что определенная научная
позиция кажется ошибочной, но ее приверженцы не
сдаются, они придерживаются ее десятилетиями, даже
столетиями, и часто оказывается, что они были правы. Атомизм
является тому примером. Его часто «опровергали», но он
все время возрождался и побеждал своих
ниспровергателей. К концу XIX века многие континентальные физики
считали его «метафизическим монстром»;
атомистическая теория шла вразрез с фактами и была внутренне
непоследовательной. Тем не менее ее сторонники (среди
них Больцман и Эйнштейн) упорно продолжали ее
придерживаться и в конечном счете привели ее к победе.
Почему же, если вполне приемлемо развивать и продолжать
придерживаться отвергнутых взглядов в рамках самой
науки, если это ведет к прогрессу в научном знании,
Церковь не решается делать то же самое, но извне? Ведь эти
две ситуации, несомненно, очень схожи. Одно из первых
выступлений науки против Церкви основывалось на
аргументах Аристотеля против первопричины Вселенной.
Эти аргументы имели много общего с современными
космологическими аргументами — они были основаны на
известных и хорошо подтвержденных естественных законах
и их экстраполяциях. Очень долгое время после
Аристотеля вечность материального мира, как мы знаем,
считалась фундаментальным положением науки — а затем
наука изменилась. Сегодня существует огромное количество
моделей мира, которые утверждают, что мир имел начало
во времени, из которых следует сложная цепь «творений»
в течение первых десяти минут. Таким образом,
сдержанность, если не сказать ужас, Церкви не может быть
оправдана ссылкой на научную практику. Эта сдержанность
основана просто-напросто на идеологии. Это приводит меня
ко второму моменту.
Прощай, разум
345
Вы сказали, что материя не столько принадлежит
физике или космологии, сколько отражает отношение
человеческих существ к Богу, и что это отношение имеет много
общего с любовью. Но любовь за городом отличается от
любви в городе, и бывают такие ситуации, когда любовь
совершенно невозможна. Например, любовь невозможна для
тех, кто настаивает на «объективности», т.е. для тех, кто
живет всецело в соответствии с духом науки. Наука
способствует объективности, даже нуждается в ней; она, таким
образом, редуцирует нашу способность к любви, делая это
очень хитроумным способом, что означает, что человек,
желающий любить, не может забывать о науке — он(а)
должен считаться с ней и отстаивать неотъемлемо присущие
науке тенденции. Когда я был студентом, я преклонялся
перед наукой и смеялся над религией и поэтому считал себя
выдающимся. Теперь, когда я более близко знаком с
предметом, меня удивляет, насколько много сановников
Церкви принимают всерьез поверхностные доводы, которые
когда-то выдвигались мной и моими друзьями и,
следовательно, насколько легко они готовы согласовать с ними свою
веру. В этом смысле они относятся к науке, словно если бы
она тоже представляла собой некоторую Церковь, но
Церковь ранних времен и с более примитивной философией,
которая еще верит в абсолютно точные результаты. Однако
взгляд на историю науки являет нам совершенно иную
картину.
С лучшими пожеланиями, П. Фейерабенд.
10
Патнем о несоизмеримости
I - В своей книге «Разум, Истина и История» ([196], с. 114)
Хиллари Патнем утверждает, что «два наиболее
влиятельных направления в философии науки XX в. являются
самоотрицающими». Направления, которые он имеет в виду, это
логический позитивизм и исторический подход. Я
проанализирую идею, принадлежащую последнему из них, а
именно идею о несоизмеримости, и покажу, что если она и
может иметь необычные следствия, то самоотрицание к ним
не относится.
2. Согласно Патнему, «тезис о несоизмеримости гласит
о том, что понятия, используемые в других культурах,
например понятие «температура», как его употребляли
ученые XVII в., не может отождествляться по смыслу и
значению ни с какими понятиями, которые есть у нас сейчас»
(с. 114). Определив тезис о несоизмеримости таким
образом, я буду в дальнейшем называть его тезисом I.
Чтобы опровергнуть I, Патнем отмечает:
(А) «если тезис I был бы справедливым, мы никогда не
смогли бы осуществлять переводы с других языков — даже
с более ранних версий нашего собственного языка»,
Прощай, разум
347
(B) «если Фейерабенд... был бы прав, то представители
других культур, включая ученых XVII века, считались бы
нами всего лишь животными, реагирующими на стимулы»,
(C) «сказать, что понятия, которые использует Галилей,
несоизмеримы, и затем продолжать их описывать
совершенно непоследовательно» (с. 114 и ел. — курсив Патнема).
3. А, В и С опираются на следующие два допущения:
[I] понимание иностранных терминов (других культур)
требует перевода и
[II] хороший перевод не изменяет языка, на который он
осуществляется.
Эти два допущения характерны для теоретических
традиций и аргументов Патнема, следовательно,
представляют собой очень хорошую иллюстрацию общим
наблюдениям, представленным в главе 3.
Ни первое, ни второе допущение не верны. Мы можем
узнавать язык или культуру с чистого листа, как их узнает
ребенок, не отталкиваясь от нашего родного языка
(лингвисты, историки и антропологи, осознавшие преимущества
этой процедуры, сегодня предпочитают полевые
исследования сообщениям двуязычных информатов). И мы можем
изменить наш родной язык так, что он станет пригодным
для выражения понятий иностранцев (хорошие переводы
всегда изменяют поле, в котором они происходят:
единственные языки, удовлетворяющие [II], это формальные
языки и языки туристов).
Современная лексика использует обе возможности.
Вместо семантической эквивалентности, являвшейся основным
принципом старых словарей, они используют
исследовательские статьи доступного теоретического характера, (см.,
например, предисловие и основные исследовательские
статьи в [224].) Аналогии, метафоры, негативные
характеристики, части и куски культурной истории используются для
348
Пол Фейерабенд
представления нового семантического поля с новыми
понятиями и новыми связями между ними. Историки
придерживаются той же линии, но более систематически. Объясняя, к
примеру, понятие импетуса в науке XVI и XVII веков, они
сначала рассказывают читателю о физике, метафизике,
технологии и даже теологии того времени: другими словами,
они описывают новую и совершенно незнакомую область,
а затем показывают, какое место в ней занимает импетус.
Примеры тому можно найти в работах Пьера Дюгема, Ан-
нелиз Майер, Маршалла Клэджета, Ганса Блюменберга и,
для других концепций, Людвика Флека и Томаса Куна.
Перевод с одного языка на другой во многих
отношениях напоминает построение научной теории; в обоих
случаях Нужно найти понятия, которые соответствуют «языку
явлений». В естественных науках к этим явлениям
относятся явления неживой природы. Никто не сомневается в том,
что им сложно дать какую-то общую оценку, что может
встать необходимость пересмотра наших первоначальных
понятий и что нам придется пересматривать их в будущем,
когда мы столкнемся с новыми явлениями.
В случае с переводом к явлениям относятся идеи,
содержащиеся в другом языке. Эти идеи развиваются в
различных и часто незнакомых географических условиях и в
различных и часто незнакомых социальных обстоятельствах
и претерпевают прогнозируемые и непрогнозируемые
изменения (влияние других языков, дегенерацию,
поэтические метаморфозы и проч.). Патнем [II] полагает, что в
любом языке содержится все необходимое для того, чтобы
справиться со всеми этими случайными
обстоятельствами. К примеру, это заставляет допустить довольно
маловероятное положение, что современный суахили уже
приспособлен к языку эскимосов и, таким образом, к истории
эскимосов. Такое предположение может реализоваться
только в рамках двух позиций: априоризма или предустановлен-
Прощай, разум
349
ной гармонии. Будучи эмпириком, я не признаю ни одной
из них.
4. Согласно Патнему, тезис I делает невозможным
объяснение иностранных (примитивных, технических, древних)
понятий на нашем родном языке — в этом заключается идея
С. В одном отношении он прав, в другом ошибается.
Действительно невозможно, и это тривиально, сформулировать
идеи в языке, который непригоден для того, чтобы их
принять. Но критерии, определяющие естественный язык, не
исключают возможности его изменения. Английский язык
не перестает оставаться английским языком, когда в нем
появляются новые слова или когда старые получают новый
смысл. Каждый филолог, антрополог или социолог,
который имеет дело с архаическим (примитивным,
экзотическим и т.д.) взглядом на мир, каждый популяризатор,
который хочет объяснить необычные научные идеи простым
языком, каждый сюрреалист, дадаист, рассказчик сказок
или историй о привидениях, каждый научный фантаст и
каждый переводчик поэтических текстов разных периодов
и наций знает, как создать, используя слова английского
языка, звучащий по-английски языковой образ в рамках
нужного ему типа речи, усвоить его и «говорить» на нем.
Довольно тривиальный пример представляет собой
объяснение Эвансом-Притчардом азандского слова «мбисимо»,
обозначающего способность их одурманенного оракула
видеть будущее. В своей книге «Колдовство, оракулы и
магия среди Азанде» (сокращенное издание 1975 года, с. 55)
Эванс-Притчард «переводит» мбисимо как «душа»,
оговариваясь, что это не душа в нашем смысле,
подразумевающая жизнь и сознание, но собрание публичных (внешних)
или «объективных» явлений. Эта оговорка корректирует
значения слова «душа» и делает его более приемлемым для
выражения того, что в данном случае имеют в виду азанде.
350
Пол Фейерабенд
Почему же именно «душа», а не другое слово? «Потому что
понятие, которое выражает это слово в нашей культуре, ближе
казандской концепции личного мбисимо, чем любое другое
английское слово—т.е. вследствие существования аналогии
между английским «душа» иазандскиммбисимо. Эта аналогия
важна, поскольку сглаживает переход от первоначального к
новому смыслу; у нас создается ощущение, что, несмотря на
изменение значения, мы говорим на том же самом языке. Если
же изменение понятий, подобное только что описанному,
остается на уровне самого языка, но не достигаетуровня
метаязыка (в противном случае мы бы говорили о изменении
свойств вещей, но не употребления слов), и если в итоге
мы получаем не отдельный термин, а единую
концептуальную систему, тогда мы имеем ситуацию, о которой
говорится в пункте С, но безвредную, поскольку тот
английский, на котором мы начинали свое объяснение, — это совсем
не тот английский, на котором мы его закончили.
5. Идеи азанде уже присутствуют в разговорном языке,
и английские понятия претерпели изменения, чтобы
принять их. Существуют другие случаи, когда лингвистическое
изменение внедряет новую и пока еще никем не
высказанную точку зрения. В истории науки можно найти
множество случаев подобного рода. Я постараюсь пояснить это
на примере истории идей.
В Илиаде 9,225 и ел., Одиссей пытается уговорить
Ахиллеса продолжить сражаться против троянцев. Ахиллес
сопротивляется. «Та же участь, — отвечает он, — ждет
беспечного и отважного война; та же почесть воздается
жалкому и великому» (318 и ел.). По всей видимости, он имеет
в виду, что честь и внешнее признание чести (почесть) —
две разные вещи.
Архаическое понимание чести не предполагало такого
разделения. Честь / почесть, как она понималась в эпичес-
Прощай, разум
351
кой поэме, представляла собой сложную структуру, частью
состоящую из личных, частью из коллективных действий и
отношений. Некоторыми элементами этой структуры были:
положение (индивида, обладавшего или не обладавшего
честью) в сражении, в ассамблее, во время внутренних
разногласий; роль, исполняемая в публичных церемониях;
выгода и награды, которые индивид получал после
окончания сражения и, разумеется, его поведение во всех этих
случаях. Говорить о чести можно было только тогда, когда
присутствовала большая часть необходимых элементов
совокупности, в противном же случае она отсутствовала.
Ахиллес предлагает другую точку зрения. Он был
оскорблен Агамемноном, который забрал его награды. Обида
породила конфликт между личными и коллективными
составляющими чести. Греки, среди которых был Одиссей,
обращаясь к Ахиллесу, предлагают традиционное разрешение
конфликта: Ахиллесу возвращаются его награды, ему
обещают еще большие награды, целое вновь приходит к
гармонии, честь восстановлена (519, 526, 602 и ел.). В данном
случае мы остаемся в рамках традиции. Ахиллес же
выходит за них. Обезумев от своей непроходящей злобы, он
чувствует такой же непреодолимый дисбаланс между
личными заслугами и общественным признанием. То, что он
имеет в виду, не только отличается от традиционного
понимания чести как сочетания элементов, но вообще не является
сочетанием, поскольку уже не множество отдельных
событий и действий гарантирует обладание честью в том смысле,
в котором он ее сейчас понимает. Пользуясь терминологией
Патнема, мы можем сказать, что представление Ахиллеса о
чести «несоизмеримо» с традиционным. Конечно, в рамках
первоначальной установки поэмы небольшая выдержка,
приведенная мной из речи Ахиллеса, звучит так же бесмыс-
сленно, как и утверждение о том, что «быстрому и
медлительному потребуется одно и то же время для достижения
352
Пол Фейерабенд
цели». Ахиллес выражает свою идею в рамках того языка,
который, казалось бы, как раз исключает ее. Какже это
возможно?
Это возможно постольку, поскольку, как и Эванс-Прит-
чард, Ахиллес может изменять понятия, сохраняя
соответствующие слово. И он может изменять понятия не
переставая говорить на греческом, потому что понятия
неоднозначны, эластичны, допускают перетолкование,
экстраполяцию, ограничение; если воспользоваться термином из
психологии восприятия, понятия, как и восприятия,
подчиняются правилам отношения фигуры и фона.
К примеру, напряженность между индивидуальными и
коллективными элементами чести, которая возникла из-за
поступка Агамемнона, может рассматриваться по крайней
мере в двух отношениях: как напряженность, возникшая
между равнозначными элементами, или же как конфликт
между базовыми и второстепенными элементами.
Традиция придерживалась первого взгляда. Скорее, там даже не
вставал вопрос об осознанном выборе — люди просто так
действовали: «Так прими же подарки, выйди! И станут тебя
почитать, словно бога, ахейцы» (602 и ел.). Ахиллес,
подталкиваемый своей ненавистью, усиливает напряжение, и
в конечном счете, из временного беспорядка оно
перерастает в космический раскол (причиной изменения
отношений фигуры и фона часто служат сильные эмоции; в этом
состоит принцип теста Рофшаха).
Эта экстраполяция не делает его речь бессмысленной,
потому что существуют примеры, аналогичные тому, что он
пытается выразить. Божественное знание и знание
человеческое, власть божественная и человеческая, человеческие
намерения и человеческая речь (пример, которым
пользуется сам Ахиллес: Илиада, 312 и ел.) противопоставляются
друг другу, как Ахиллес противопоставляет личную честь и
ее коллективное признание. Следуя аналогиям, собеседни-
Прощай, разум
353
ки Ахиллеса приходят ко второму взгляду на создавшийся
конфликт и открывают, как это сделал Ахиллес, новую
сторону чести и архаической морали. Эта новая сторона не
столь хорошо определена, как архаическое понятие — это
скорее интуиция, чем строгое понятие, — но эта интуиция
порождает новые формы речи и, таким образом, в
конечном счете новые ясные понятия (некоторые понятия до-
сократиков являются конечной точкой такого рода
преобразований). Интуиции исключаются из теоретических
традиций, которые, следовательно, либо препятствуют
концептуальным изменениям, либо не могут объяснить их, если
это уже произошло. Так, если мы примем неизмененные
традиционные понятия в качестве эталона
осмысленности, мы будем вынуждены сказать, что слова Ахиллеса
бессмысленны (см. точку зрения А. Парри в [180] и мои
собственные комментарии в книге «Против метода» [56], с. 274,
примеч. 121*). Но смысловые нормы не являются
устойчивыми и четкими, и их изменения не настолько
непривычны, чтобы помешать слушателям ухватить суть мысли
Ахиллеса. Таким образом, использование языка или
объяснение ситуации предполагает как следование правилам, так и
их изменение; это сложное сплетение логических и
риторических ходов.
Из сказанного также следует, что говорение на языке
проходит стадии, где говорение практически равнозначно
«издаванию звуков» (Патнем, с. 122). Для Патнема это
положение представляется критическим по отношению к
взглядам, которые он приписывает Куну и мне (см. п. 2,
возражение В этой главы). Для меня это означает, что Патнем,
вследствие своей симпатии теоретическим традициям, не имеет
представления о многих способах употребления языка.
Маленькие дети учат язык, реагируя на шумы, которые, по-
* Здесь и далее номера страниц указаны по изданию: Пол Фейера-
бенд. Против метода. М.: ACT, 2007.
12—1509
354
Пол Фейерабенд
вторяясь в подходящих ситуациях, постепенно получают
значение. Милль, комментируя объяснения, которые его
отец давал ему относительно вопросов логики, писал в
своей автобиографии ([136], с. 21): «Эти объяснения не сделали
предмет более ясным для меня в то время; но они не были
из-за этого бесполезными; они стали отправной точкой,
исходя из которой выстраивались мои наблюдения и
размышления; значение этих общих замечаний, которые пояснялись
конкретными примерами, стало впоследствии предметом
моего внимания». Святой Августин советовал пасторам
заучивать формулы веры наизусть, добавляя, что их смысл
постигается в результате продолжительного использования в
течение богатой, насыщенной и благочестивой жизни.
Физики-теоретики часто играют с формулами, которые не
имеют для них никакого смысла, пока счастливая комбинация
не ставит все на свои места (в случае с квантовой теорией мы
до сих пор находимся в ожидании этой счастливой
комбинации). И Ахиллес, посредством своего способа
использования речи, создал новые речевые привычки, которые в
конечном счете дали начало новым, более абстрактным
концепциям чести, добродетели и бытия. Таким образом,
употребление слов только как звуков имеет важную
функцию даже на наиболее развитых стадиях использования
языка (см. мою книгу «Против метода», [56], с. 277).
Одним из ученых, понимавшим сложную природу
объясняющих бесед и применявшим их элементы с великолепным
мастерством, был Галилей. Как и Ахиллес, Галилей
придавал новые значения старым знакомым словам; как и
Ахиллес он представлял свои результаты как часть системы
взглядов, разделяемой и понимаемой всеми (в данном случае я
имею в виду изменение им базовых понятий кинематики и
динамики); но в отличие от Ахиллеса, он понимал, что
делает, и старался скрыть концептуальные изменения, чтобы
гарантировать обоснованность своей аргументации. В гла-
Прощай, разум
355
вах 6 и 7 моей книги «Против метода» приводятся примеры
его мастерства. Вместе с тем, что уже было здесь сказано,
эти примеры демонстрируют, как возможно утверждать, не
будучи непоследовательным, что понятия Галилея
«несоизмеримы» с нашими, «и продолжать впоследствии их
описывать».
6. Кроме того, они разрешают головоломку Патнема,
касающуюся отношения между относительностью и
классической механикой. Если I является верным, утверждает
Патнем, тогда смысл утверждений, который присутствует
при использовании как релятивистской, так и
классической механики не может быть «независимым от выбора
между теорией Ньютона и Эйнштейна». Более того, тогда
невозможно найти соответствие значения «любого термина
в... теории Ньютона терминам в общей теории
относительности» (с. 116). Он заключает, что не существует способов
сравнения двух теорий.
Этот вывод вновь ошибочен. Как я говорил в п. 3,
лингвисты уже очень давно перестали использовать
одинаковые значения для объяснения новых и незнакомых идей, в
то время как ученые всегда подчеркивали новизну своих
открытий и понятий, используемых в их формулировке.
Однако это не мешает им сравнивать теории. Так, релятивист
может сказать, что классические законы,
интерпретированные должным образом (т.е. интерпретированные в
релятивистском ключе), вполне эффективны, но не столь
эффективны, как релятивистский аппарат в целом. Он может
действовать подобно психиатру, беседующему с пациентом,
который верит в демонов (или в Ньютона), и
принимающему его, пациента, манеру общения, не принимая егоде-
монистские (или ньютоновские) выводы (это не
исключает возможности, что пациент в один прекрасный день
полностью преобразится и убедит психиатра в существовании
356
Пол Фейерабенд
демонов). Или он может преподать классику релятивизм
как иностранный язык и предложить ему оценить его
преимущества изнутри («изучив в совершенстве испанский и
прочитав Борхеса и Варгаса, разве вы бы писали рассказы
на немецком, а не испанском?»). Существует много других
способов, посредством которых релятивист и ньютонианец
могут разговаривать и разговаривают. Я изложил их в
записках от 1965 года, некоторые из них представляют собой
прямой ответ на критицизм Патнема этого периода: см. мои
«Философские статьи», [59—60], т. 1, глава 6, раздел 5 и ел.
и т. 2, глава 8, раздел 9 и ел., и Приложение. Этим я
завершу свой ответ на А, В и С.
7. Аргументы предшествующих секций были основаны
на I, который представляет собой патнемовскую версию
несозмеримости. Но версия Патнема отличается от той
версии, о которой я говорил, когда исследовал отношение
между общими теориями, такими как механика Ньютона и
релятивистская физика или аристотелевская физика и новая
механика Галилея и Ньютона (см. «Против метода», [56], с.
275 и ел. и «Философские статьи», [59], т. 1, глава 4, раздел
5). Есть два отличия. Во-первых, несоизмеримость, как я
ее понимаю, явление достаточно редкое. Она возникает
только тогда, когда критерии осмысленности для
дескриптивных терминов одного языка (теорий, точек зрения)
налагают запрет на использование дескриптивных терминов
другого языка (теорий, точек зрения); обычные различия в
значении не ведут к несоизмеримости в моем смысле этого
слова. Во-вторых, несоизмеримые языки (теории, точки
зрения) не являются полностью обособленными друг от
друга — существует тонкое и интересное отношение между их
критериями осмысленности. В книге «Против метода» я
объяснял это отношение на примере здравого смысла
Гомера в сравнении с языком, к которому стремились ранние
Прощай, разум
357
греческие философы. В моих «Философских статьях» ([59],
т. 1, глава 4) я пояснял это на примере Аристотеля и
Ньютона. Я должен добавить, что несоизмеримость
представляет собой трудность для философов, но не для ученых.
Философы настаивают на неизменности значения на
протяжении всей аргументации, в то время как ученые, зная, что
«говорить на языке или объяснять ситуацию означает как
следование правилам, так и их изменение» (см. п. 5
настоящей главы), оказываются специалистами в искусстве
аргументирования, выходящего за пределы, которые
философы считают непреодолимыми границами дискурса.
11
Культурный плюрализм
или прекрасное новое однообразие?
В январе 1985 года меня пригласили принять участие в
дискуссии о роли искусства, философии и науки в эпоху
постмодернизма. В своем ответе я (а) подверг критике
предположение о том, что интеллектуальные дискуссии имеют
какое-то отношение к «миру культуры»; (б) указал на то,
что главным феноменом «мира культуры» является
неуклонное распространение западных идей и технологий,
единообразие, а не разнообразие — вот главная тема эпохи; (в)
утверждал, что культурный обмен не требует общих
ценностей, общего языка или общей философии; (г) защищал
разнообразие или «разноголосицу» независимо от того, где она
проявляется; (д) представил краткое изложение развития
философии науки от Максвелла до Куна. Нет надобности
воспроизводить мой ответ, поскольку все эти вопросы так
или иначе затрагиваются в настоящей книге. Мне
представляется, однако, что следующее письмо, которое я написал в
качестве отклика на подробную критику моего ответа,
поднимает новые вопросы и может представлять
некоторый интерес.
3 августа 1985
Прощай, разум
359
Дорогие Вирджиния, Шинода и Кеслер!
Благодарю вас за длинное и подробное письмо, за тот
труд, который вы потратили, отвечая на мой скромный
памфлет. Конечно, я с вами не согласен. Позвольте
объяснить — почему.
Вы спрашиваете: «Неужели вы на самом деле
отвергаете значимость общей структуры, организующей
разнообразие?» Я отвечаю, что не нам с вами решать этот вопрос,
а тем людям, которые создают это разнообразие и живут в
нем. Если народы Африканского континента живут рядом
друге другом без каких-либо культурных или иных
контактов, то они так и будут жить, независимо от того, что
думают по этому поводу какие-то далекие от них «мыслители».
Если американцы отказываются от «богов, идей,
традиций», увлекаются новыми изощренными играми, новыми
моделями автомобилей, мыльными операми и считают
деньги наивысшей ценностью, то просвещенный
интеллектуал может, конечно, обращаться к ним со своими
проповедями, однако он превратится в тирана, если
попытается употребить более сильные средства воздействия. «Мы,
философы, — писал Эдмунд Гуссерль в своем
замечательном сочинении «Кризис европейских наук и
трансцендентальная феноменология» (1936 г.), — являемся
служителями человечества (подчеркнуто им). Личная
ответственность за наше собственное бытие в качестве философов,
наш внутренний личный призыв возлагают на нас, в то же
время, ответственность за истинное бытие человечества».
Вы можете согласиться в этими словами. Однако, мне
представляется, они свидетельствуют о поразительном
невежестве (что знает Гуссерль об «истинном бытии» нуэров?), о
феноменальной самоуверенности (можно ли найти
человека, который обладает достаточным знанием о всех расах,
культурах, цивилизациях, чтобы судить об «истинном
бытии человечества»?) и, конечно, о громадном презрении ко
всем тем, кто живет и мыслит иначе.
360
Пол Фейерабенд
Верно, что нации и социальные группы часто
устанавливают какие-то контакты между собой, однако неверно, что
при этом они создают или принимают некий «общий мета-
дискурс» или общую культурную связь. Эти связи могут быть
временными, ad hoc и совершенно поверхностными: белые
южноафриканские лидеры, черные мусульмане и
европейские террористы — все они питают нежную любовь к
доллару, однако, кроме этого, их мало что объединяет.
Даже более тесная связь между культурами А, В, С и т.д.
не нуждается в «организации»; для такой связи нужно
только, чтобы А взаимодействовала cB,B-cC,C-cDh так
далее, причем способы взаимодействия могут
варьироваться от одной пары к другой и даже от одного эпизода
взаимодействия к другому. Употребление
ассиро-вавилонского языка в период «Первого интернационала» является
хорошим примером. Он не был необходимой предпосылкой
этой цивилизации, он был одной из многих ее
особенностей; им пользовались особые группы, которые описывали
свою деятельность и спустя много тысячелетий привлекли
внимание других пишущих, а именно наших собственных
ученых. Не все взаимоотношения нашли выражение в
ассиро-вавилонском языке: при местных контактах
использовались диалекты и языки регионов, которые получали
распространение настолько, насколько это было кому-то
нужно и интересно. Кроме того, не следует отождествлять
какую-то культуру с письменными источниками или с
произведениями ее художников и мыслителей: писаные
законы Хаммурапи оказали небольшое влияние на правовую
практику; первое использование древнегреческого
линейного письма В было чисто коммерческим, однако
образованность греков опиралась не на бизнес, а на Гомера, т.е.
на устную поэзию (некоторые более поздние поэты, среди
них Платон, никогда вполне не примирялись с
распространением их сочинений в письменной форме, см. Платон,
Прощай, разум
361
«Федр» 274d и «Седьмое письмо» 241Ь). Сегодня в наших
университетах и исследовательских центрах имеется
какое-то количество марксистских книг и сторонников
марксистских идей, но можно ли сказать, что «наша
культура» заражена марксизмом? Я так не думаю, ибо нет никаких
следов марксизма в наших мыльных операх и в наших
религиозных убеждениях. Интеллектуалы все еще не делают куль-
туры. Конечно, можно постулировать, что культура равна
литературе плюс искусство плюс наука, но тогда вопрос о
влиянии на культуры литературы и т.п. мы решим с
помощью декрета, а не исследования.
Я согласен с тем, что иногда контакты становятся более
тесными и приводят к тому культурному единству, которое
вы имеете в виду, однако посмотрите внимательнее, как это
происходит: в большинстве случаев единство
навязывается силой и очень редко формируется благодаря желаниям и
действиям людей. Ученые, деятели искусства, болтливые
интеллектуалы не выступают против таких процессов, они
могут даже приветствовать их. Поэтому они пытаются
внедрять своих агентов в правительства, поэтому они так
огорчаются, когда их произведения подвергаются
общественному контролю, поэтому они превозносят «лидеров»,
разделяющих их идеологию, поддерживают их стремление к
власти и помогают им своей властью. Ваше стремление к
новому «метадискурсу» может привести к чему-то,
напоминающему махинации Константина Великого или «обучение»
американских индейцев. Я, со своей стороны, предпочитаю
такую форму жизни, при которой единство возникает при
случайном сплетении временных связей и исчезает в тот
момент, когда эти связи теряют привлекательность.
Мое следующее замечание связано с тем, что вы, как
мне представляется, имеете не вполне адекватное
представление о современном состоянии «мировой культуры». В
своей «Редакционной статье» вы утверждаете, что царит «куль-
362
Пол Фейерабенд
турный хаос» без объединяющего начала. Однако в своем
письме вы намекаете на то, что такая общая связь
существует, только у вас она вызывает презрение, — деньги.
Я согласен с вами: единообразие растет, причем не только
в так называемом «первом» мире (какая самонадеянность
называть агрессивного пришельца «первым» миром!), но и
повсюду, и все различия и плюрализм постепенно
исчезают. Они вносят небольшую забавную неразбериху, но едва
ли беспокоят «Дженерал моторе», «Проктор энд Гэмбл» или
Пентагон. Но даже в письме вы повторяете, что хаос
«пронизывает всю нашу культуру». Звучит это абстрактно и
философично, но мне хотелось бы знать, насколько
внимательно вы исследовали вопрос. Сравнивали ли вы поклонников
мыльных опер или болельщиков Суперкубка с
поклонниками современного искусства или участниками споров между
рационализмом и иррационализмом в философии?
Производили ли вы подсчеты? Оценивали ли влияние всего этого
на всех остальных?
Не думаю, что все это вы делали. Я тоже этого не делал,
но даже самый простой расчет показывает, что вы не
правы: сейчас в США и Канаде имеется около 10 000
преподавателей философии. Большинство из них является
послушными слугами существующего положения, однако
предположим, что 25% вносят какой-то беспорядок, хотя это
весьма преувеличенная оценка. Допустим, далее, что у каждого
проводника хаоса имеется 100 студентов. Большая часть
этих студентов посещает занятия по философии в силу
необходимости, она наводит на них смертельную скуку, и они
счастливы, когда эти занятия заканчиваются.
Предположим, однако, что 25% слушателей становятся
последователями своего преподавателя. В итоге мы получаем 40 000
носителей хаоса. Знаете ли вы, как много миллионов людей
смотрят мыльную оперу «Даллас»? Как много людей
смотрели розыгрыш Суперкубка? Известно ли вам число пос-
Прощай, разум
363
ледователей всех телевизионных проповедников?
Помните ли вы, как много людей голосовали за Рейгана? И как
много людей все еще поддерживает его политику? Здесь
величины измеряются уже десятками миллионов, что
неизмеримо больше, чем то заведомо завышенное число, к
которому я пришел в результате своих вычислений. Или
сравните количество денег, которое идет на поддержку хаоса, с
тем их количеством, которое затрачивается на укрепление
однообразия. Первое предварительное представление об
этом могло бы дать процентное соотношение того, что из
валового национального дохода тратится на оборону и что
— на духовную культуру. Оно показывает, сколь мала доля
искусства и гуманитарных наук, а силам хаоса достается
лишь ее ничтожная часть. Не говорите мне, что числа ни о
чем не говорят; деятели искусства и представители
фундаментальных наук постоянно ссылаются на числа, когда
хотят показать, как мало им уделяют внимания. Я прибегаю к
тому же аргументу, чтобы оспорить ваш тезис о
распространенности хаоса.
(Между прочим, вам не стоит скромничать и объяснять
ваше отождествление «мира культуры» и «первого мира
культуры» своей «издательской неопытностью». Ученые,
пользующиеся большой известностью, написавшие тонны книг и
статей, говорили и продолжают говорить именно так.
Перечитайте еще раз короткую цитату из Гуссерля, которую я
привел выше. Эти люди говорят о «культуре» или о
«человеке», однако под этим они подразумевают себя и тех
немногих людей, которые способны понять их статьи. Так что
вы попали в хорошую компанию.)
Теперь я обращаюсь к своему последнему расхождению
с вами. Вы «верите в независимость искусства, мысли и
чувства по отношению к деньгам». Это звучит впечатляюще,
однако неясно, как применить это к реальной жизни. В
реальном мире художнику нужны деньги: нужно платить за
364
Пол Фейерабенд
квартиру, за пищу, за краски и кисти, за посещение
музеев, он, возможно, должен содержать любовницу или жену,
она — любовника или мужа, иногда даже обоих, у него или
у нее могут быть дети и так далее. То же самое верно для
философа, танцовщика, кинематографиста, сценариста,
поэта. Все эти люди нуждаются в хорошем заработке и
стремятся получить более высокую цену за свои произведения.
Так что тогда вы понимаете под независимостью?
Означает ли это, что художник должен обходиться без денег и
умирать с голоду или жить в крысиной норе? Может быть,
вы считаете, что он или она могут питаться и иметь
жилище, но без посредства денег, например, используя бартер?
Ладно, это зависит от художника. Если ему нравится жить
в деревенской лачуге и ухаживать за коровой, то свободы у
него больше, но, увы, и здесь для начала нужны деньги. Вы
думаете, что было бы лучше, если бы вообще не было
денег? Это очень интересная мечта, однако она не имеет
отношения к нашей проблеме, ибо речь идет не о том, как
мог бы жить художник в какой-то неведомой стране, а как
ему жить здесь и сейчас, в 1985 году и в этой стране. А здесь
и теперь деньги весьма важны. Деньги сами по себе не
являются чем-то плохим, это средство для получения чего-
то. Их можно использовать во зло, и некоторых людей они
так привлекают, что они всю свою жизнь посвящают их
накоплению. Я допускаю, что наш художник не принадлежит
к таким людям (хотя не обязательно он был бы плохим
художником, даже если бы и был таковым: Джотто ссорился
из-за копейки и чрезвычайно заботился об увеличении
своего богатства, однако был одним из величайших мастеров,
когда-либо живших на свете).
Итак, наш художник будет пользоваться деньгами, но
не будет обожествлять их. Кто же будет платить ему?
Может быть, богатый спонсор. Тогда наш художник будет
вынужден приспосабливаться к вкусам своего покровителя.
Прощай, разум
365
Не думаете ли вы, говоря о «независимости», что
покровитель не имеет права выражать свои пожелания, ибо
художник стоит выше любых оценок других людей? Я
категорически против этой претензии на элитарность и
вытекающего из нее презрения к другим людям. Я отвергаю элитарность
во всех случаях, когда речь идет об общественных деньгах:
человек, черпающий из общественных фондов, должен быть
готов согласиться с общественным контролем. Я
подозреваю, что, когда заводят абстрактный разговор о
«независимости», считая унизительным опускаться до столь
презренных вещей, как деньги, в действительности хотят, чтобы
публика платила зато, чтобы художник (ученый, писатель) жил
и работал так, как ему хочется, т.е. как паразит: академики,
используя магическое заклинание «академической свободы»,
уже давно ухитрились сделать паразитизм респектабельным.
Теперь и художники претендуют на это. Я против всякого
паразитизма, следовательно, я против академической
свободы и любой «независимости художника».
«Однако великое искусство, — можете вы возразить, —
предполагает полную независимость художника». И это не
так. Художники эпохи Возрождения подчинялись
желаниям отцов города и частных заказчиков, такие
композиторы, как Гайдн или Моцарт, писавший Gebrauchsmusik
(музыку для повседневной жизни), получали плату за свой труд
и, тем не менее, создали великие произведения вашего
любимого «первого мира». «Но сегодня, — продолжаете вы, —
ситуация изменилась. Сегодня публика лишена вкуса, о чем
свидетельствует популярность «Далласа» и «Династии».
Здесь вы выражаете свое презрение. Верно, «Даллас» и
«Династия» есть искусство для масс. Но массы состоят из
отдельных людей, и либо вы можете сказать: «Люди похожи
на вас и меня» — тогда вы гуманисты и будете уважать их
выбор, либо вы скажете: «Люди лишены вкуса» — тогда вы
самодовольные отщепенцы и почему массы должны вам
366
Пол Фейерабенд
платить? Кроме того, хороший кинофильм, т.е. кинофильм,
который является высоко художественным, не будучи
ориентирован только на тонкий вкус немногих избранных (и
такие фильмы есть), показывает, что возможно тесное
сотрудничество великого искусства с большими деньгами.
Такое сотрудничество не является легким делом, однако оно
может быть весьма плодотворным. Именно о таком
плодотворном сотрудничестве свидетельствуют великие
художники прошлого, а не о поисках воображаемой
независимости (в основе которой лежит презрение).
Прежде чем закончить, хочу обратить ваше внимание еще
на одно обстоятельство. Я часто слежу за дискуссиями и
реакциями публики в передачах Фила Донахью. Есть обычные
люди, которые смотрят телевизор, ходят в кинотеатры,
многие из них поддерживают ту или иную политику Рональда
Рейгана, многие являются верующими, они в поте лица
зарабатывают себе на жизнь, на содержание детей, на помощь
своим родителям. Я читал также таких авторов, как Рассел
Бейкер (его автобиографию) и Эвелин Кейс (ее
автобиографию). Они также говорят о человеческих делах, но
говорят о них ясно, просто и конкретными словами; у них
есть сердце, они обнаруживают мудрость, понимание;
порой они путаются, чего-то не знают и так и говорят, не
скрывая своего непонимания за ворохом пустых слов.
Интересы всех этих людей и ваши собственные интересы
удивительно похожи — всех вас беспокоят вредные последствия
прогресса, но какая разница в языке! С одной стороны,
простое личное повествование, с другой стороны — унылая
мешанина безличных абстракций. Мне известно, что говорят
эксперты по поводу этого различия. Они говорят, что
социальный анализ представляет собой весьма трудную вещь
и требует серьезного теоретического обсуждения. Я
отвечаю, что теоретическое рассуждение имеет смысл в
естественных науках, где абстрактные термины воплощают уже
Прощай, разум
367
полученные результаты, но теоретические утверждения по
поводу социальных проблем часто лишены содержания и
становятся либо бессмысленными, либо тривиально
ложными, когда такое содержание появляется (см. мой
краткий комментарий по поводу вашего основного тезиса и
вашей защиты независимости художника). Поэтому стена
непонимания, воздвигнутая всеми этими разговорами,
опирается не на знание, она опирается на обман и на
стремление внушить страх, — вполне достаточная причина для того,
чтобы критически взглянуть на многочисленные
привилегии, которые сумели захватить интеллектуалы в нашем
обществе.
Всего наилучшего вам и вашим дальнейшим
предприятиям!
12
Прощай, разум!
Немецкий вариант этой статьи опирался на третье
немецкое издание книги «Против метода» («Wider den
Methodenzwang» [64]), которое отличается от
английского, французского, японского и португальского изданий и было
опубликовано в 1986 году. «Познание для свободных людей»
(«Erkenntnis für freie Menschen», [58]) является в
значительной мере (две трети) воспроизведением немецкого издания
работы «Наука в свободном обществе» ([57]). Оно не
содержит глав о Куне, Аристотеле и Копернике, а также
ответов критикам, которые в совокупности составляют более
половины английского текста. Вместо этого здесь
содержится более подробное разъяснение отношений между
разумом и практикой, увеличена глава о релятивизме и дан
набросок возникновения рационализма в античности.
Критические выступления, на которые я отвечаю, были
опубликованы в: Х.П. Дуерр [38].
1. Обзор
В этой главе рассматриваются следующие темы: струк
тура научного познания и роль философии науки; авто
ритет науки в сравнении с другими формами жизни; зна
Прощай, разум
369
чение этих других форм жизни; роль абстрактного
мышления (философии, религии, метафизики) и абстрактных
идеалов (например, гуманизма). В нее включены также
ответы на критические статьи, появившиеся в Германии
в 1980 году, и разъяснения некоторых утверждений,
высказанных в «Против метода» (ПМ) и в «Познании для
свободных людей».
2. Структура науки
Моим основным тезисом здесь является следующий:
события и результаты, образующие науку, не обладают
какой-то общей структурой; нет элементов, которые
встречались бы в каждом научном исследовании и
отсутствовали в других областях (возражение, гласящее, что без таких
элементов слово «наука» было бы лишено значения,
опирается на теорию значения, подвергнутую убедительной
критике Оккамом, Беркли и Витгенштейном).
Конкретные успешные исследования (например,
опровержение стационарной модели Вселенной или открытие
структуры ДНК) обладают очень разными особенностями,
и часто мы способны объяснить, почему и как именно эти
особенности привели к успеху. Однако не всякое открытие
можно объяснять одним и тем же образом, и методы,
успешные в прошлом, способны привести к хаосу при их
использовании в будущем. Успешное научное исследование
не подчиняется общим стандартам; оно использует то один
прием, то другой, и путь, который приведет к успеху,
далеко не всегда известен ученому. Теория науки, которая
изобретает стандарты и структурные элементы всякой научной
деятельности и освящает их ссылкой на некоторую теорию
рациональности, может производить впечатление на
посторонних, однако является слишком грубым инструментом
для работающих людей, т.е. для ученых, сталкивающихся с
370
Пол Фейерабенд
конкретными проблемами. Самое большее, что мы можем
для них сделать, это перечислить известные правила,
привести примеры из истории, представить case studies,
содержащие различные способы действий, продемонстрировать
внутреннюю сложность научного исследования и тем
самым подготовить их ктой неопределенности, в которую они
входят. Выслушав наши сказки, ученый быстрее
почувствует богатство того исторического процесса, который он
хочет изменить, он будет готов к тому, чтобы отбросить
детские игрушки типа логических правил и
эпистемологических принципов и начать мыслить более широко. И это все,
что мы можем сделать, ибо такова природа самого
материала. «Теория» познания, намеревающаяся сделать больше,
теряет связь с реальностью. Ее правила не только не
используются учеными, они и не могут использоваться ни при
каких обстоятельствах, — точно так же, как нельзя с
помощью па классического балета подняться на Эверест.
Представленные (и иллюстрированные примерами из
истории в Π Μ и в моих «Философских статьях» [59, 60])
идеи не являются чем-то новым. Как я отмечал в разделе 4
главы 6, их можно найти у философов, например у Милля
(его очерк «О свободе» — выдающее представление
либеральной эпистемологии), у ученых, например у Больцма-
на, Маха, Дюгема, Эйнштейна и Бора, а также в
философски высушенном виде у Витгенштейна. Это были весьма
плодотворные идеи: без них были бы невозможны
революция в современной физике, относительность и квантовая
механика, последующие изменения в психологии, биологии,
биохимии и в физике высоких энергий. Однако на
философию они оказали очень небольшое влияние. Даже наиболее
трезвое философское движение этого времени,
неопозитивизм, все еще держалось за ту старую идею, что философия
должна вырабатывать общие стандарты для познания и
деятельности и что наука и политика только выиграют от под-
Прощай, разум
371
чинения этим стандартам. В эпоху революционных
открытий в науке, интереснейших процессов, происходящих в
искусстве, и неожиданных событий в политической жизни
строгие отцы Венского кружка закрылись в тесной и плохо
построенной крепости. Была утрачена связь с историей;
тесное сотрудничество научной мысли с философскими
фантазиями подошло к концу; расплодилась терминология,
чуждая науке, и проблемы, лишенные научного значения.
Флек, Полани, а затем Кун (после долгого перерыва)
были первыми мыслителями, попытавшимися сравнить
школьную философию с ее предполагаемым объектом — с
наукой, и обнажить ее иллюзорный характер. Однако это не
улучшило положения. Философы не обратились к истории.
Они не отказались от логических шарад, ставших их
торговой маркой. Они снабдили эти шарады несколькими
пустыми словечками, заимствованными у Куна («парадигма»,
«кризис», «революция») и оторванными от своего
контекста, и благодаря этому сделали свою доктрину более
сложной, не приблизив ее к реальности. Позитивизм до Куна
был бесплодным, но хотя бы ясным (это относится и к Поп-
перу, который лишь слегка поколебал душную
позитивистскую атмосферу). Позитивизм после Куна остался столь же
бесплодным, но стал уже гораздо менее ясным.
Имре Лакатос был единственным философом науки,
который принял вызов Куна. Он сражался с Куном на его
почве и его же оружием. Он соглашался с тем, что
позитивизм (верификационизм, фальсификационизм) не
просвещает ученых и не помогает им в их исследованиях. Однако
он отрицал, что знакомство с историей заставляет нас ре-
лятивизировать все стандарты. Это могло быть реакцией
смущенного рационалиста, который сначала видит
историю во всем ее великолепии, но затем, как говорил
Лакатос, в процессе более тщательного изучения того же
материала показывает, что научные процессы имеют общую
372
Пол Фейерабенд
структуру и подчиняются общим правилам. У нас может
быть теория науки и даже теория рациональности, когда мы
входим в историю, вооруженные законами.
В ПМ, а также в главе 10 тома 2 моих «Философских
статей» я пытался опровергнуть этот тезис. Мой метод
опровержения был отчасти абстрактным, включавшим
критику интерпретации истории Лакатосом, отчасти
историческим. Некоторые мои критики утверждали, что примеры
из истории не подтверждают мою точку зрения: их
возражения я буду рассматривать ниже. Однако если я прав, а я
уверен в том, что это так, то нам нужно вернуться к
позиции Маха, Эйнштейна и Бора. Тогда теория науки
невозможна. У нас есть только процесс научного исследования и
наряду с ним все виды правил, которые могут помочь нам
в движении вперед, но могут и завести в тупик. (Где
критерии, которые сообщили бы нам, что мы заблуждаемся? Это
критерии, подходящие для данной ситуации. Как
определить, что они подходят для данной ситуации? Мы узнаем
это в процессе самого исследования: критерии не только
оценивают события и процессы, они часто образуются в
ходе этих процессов, иначе исследование никогда не могло
бы начаться, ПМ (нем. изд.), с. 26.)
Таков мой простой ответ различным критикам,
которые либо упрекают меня в том, что я отвергаю
существующие теории науки, но разрабатываю свою собственную
теорию, либо приписывают мне намерение дать «позитивное
определение того, что такое хорошая наука». Конечно, если
совокупность правил назвать «теорией», то у меня есть
«теория», однако она сильно отличается от стерильных
воздушных замков Канта и Гегеля и от собачьей конуры Кар-
напа и Поппера. С другой стороны, Мах, Эйнштейн и
Витгенштейн не построили более внушительного здания
мысли не потому, что им недоставало силы воображения, а
вследствие осознания ими того обстоятельства, что превра-
Прощай, разум
373
щение воображения в систему означало бы конец науки
(искусства, религии и т.д.). И естественные науки, в
частности физика и астрономия, привлекаются к обсуждению
не потому, что я «увлечен ими», как говорят некоторые
бестолковые защитники гуманитарных наук, а потому, что
именно о них идет спор: они служили оружием, которое
позитивисты и их суетливые недоброжелатели,
«критические» рационалисты, направляли против нелюбимой ими
философии, а теперь оно поражает их самих. И о прогрессе
я говорю не потому, что верю в него или знаю, что он
означает (использование «приведения к абсурду» не обязывает
соглашаться с посылками этого аргумента, см. ПМ (нем. изд.),
с. 27). Что же касается выражения «все дозволено» (anything
goes), изобретение которого некоторые критики приписывают
мне, то оно не мое и не выражает результатов моих
исследований истории в ПМ и в «Науке в свободном обществе». Я не
создавал какой-то новой теории науки, я задавался вопросом:
разумно ли заниматься поиском таких теорий? И пришел к
выводу, что это неразумно: понять процесс познания и
содействовать развитию науки можно, только участвуя в нем, а не
исходя из абстрактных теорий. Следовательно, примеры не
являются теми деталями, которые можно опустить, когда
дано «реальное объяснение», — они и есть это объяснение.
Критики, придерживающиеся убеждения, которое я
отвергаю (что может существовать какая-то теория науки и
научного познания), прочитали только часть моего изложения,
причем прочитали так, что это противоречит всему
остальному. Неудивительно, что они были сбиты с толку.
Аналогичные замечания относятся и к тем читателям,
которые приняли этот лозунг и интерпретировали его
таким образом, будто он делает научное исследование и
достижение успеха гораздо более легким делом. Этим ленивым
«анархистам» я опять-таки отвечаю, что они неверно
поняли мои намерения: «все дозволено» — это не «принцип»,
который я будто бы защищаю, это «принцип», навязывае-
374
Пол Фейерабенд
мый рационалисту, который любит принципы, но
серьезно относится к истории. Кроме того, что более важно,
отсутствие «объективных стандартов» вовсе не облегчает
работы ученого, оно означает, что ученый должен проверять
и контролировать все элементы своей деятельности, а не
только те, которые философы и респектабельные ученые
считают подлинно научными. Поэтому ученый больше не
может сказать: у нас уже есть правильные методы и
стандарты исследования, все, что нам нужно, — это применять
их. Согласно тому пониманию науки, которое защищали
Мах, Больцман, Эйнштейн и Бор и которое я выразил в ПМ,
ученый не только несет ответственность за правильное
применение стандартов, которые он заимствует отовсюду, он
несет ответственность за сами стандарты. Даже законы
логики не освобождаются от проверки, ибо обстоятельства
могут вынудить ученого изменить и логику (подобные
обстоятельства возникли в квантовой теории).
Все это нужно иметь в виду при рассмотрении
отношений между «великими мыслителями», с одной стороны, и
издателями, денежными мешками и научными
учреждениями — с другой. Согласно традиционному пониманию,
ученые с оригинальными идеями и учреждения, к которым они
обращаются за поддержкой, разделяют некоторые общие
идеи — и те, и другие действуют «рационально». Все, что
должен сделать ученый в поисках денег, — это показать, что
за исключением некоторых новых предположений его
исследование согласуется с этими общими идеями. Я же
считаю, что ученые и те, кто их судит, должны сначала
установить какое-то общее основание, они не могут больше
опираться на стандартные фразы (о том, что их
взаимоотношения «свободны» и т.п.; см. «Наука в свободном обществе»,
с. 43-44*).
* Здесь и далее номера страниц указаны по изданию: Пол
Фейерабенд. Наука в свободном обществе. М.: ACT, 2010.
Прощай, разум
375
Требование большей свободы ученым-«анархистом» в
этой ситуации можно интерпретировать двояко. Его можно
интерпретировать как требование открытого обмена
мнениями с целью нахождения понимания и не
ограниченного какими-то специфическими правилами. Однако его
можно интерпретировать и как требование признания без
какой-либо проверки. С точки зрения Π Μ и «Науки в
свободном обществе», последнее требование может
подкрепляться указанием на то, что идеи, которые когда-то
считали абсурдными, впоследствии приводили к прогрессу
познания. Однако это указание упускает из виду то, что
судьи, издатели и спонсоры могут опираться на те же
самые основания: status quo также часто приводило к
прогрессу и лозунг «Все дозволено» охватывает и методы его
защитников. Следовательно, здесь требуется нечто
большее, чем простая самоуверенность и неопределенные
обобщения.
Изучение конкретных случаев показывает, что
новаторы в науке как раз и совершали это большее. Галилей,
например, не жаловался, а пытался убеждать своих
оппонентов всеми средствами, которые имелись в его
распоряжении. Часто эти средства отличались от стандартных
профессиональных процедур, вступали в противоречие даже со
здравым смыслом — в этом состоит анархистский
компонент исследований Галилея, однако у них было основание,
которое можно было выразить в терминах обыденного
языка, и они оказались успешными. Не будем забывать о том,
что полная демократизация науки сильно осложнит жизнь
хвастливым открывателям великих истин: теперь им
придется обращаться к людям, которые не разделяют их
интереса к науке и к научным исследованиям. Что будет делать
в таких обстоятельствах наш свободолюбивый «анархист»,
когда его оппонентами будут не ненавистные денежные
тузы, а милые свободные граждане?
376
Пол Фейерабенд
3. Case Studies
В этом разделе я рассматриваю главным образом
возражения против моего истолкования деятельности Галилея.
Хочу повторить, что я критикую не методы Галилея — они
служат прекрасным образцом изобретательности научной
практики, а те философские теории, которые отвергли бы
их как «иррациональные». С точки зрения этих теорий
Галилей действовал иррационально, однако он был одним из
величайших ученых-философов, когда-либо живших на
земле.
По мнению Гуннара Андерсона, пример Галилея
опасен для «упрощенного и наивного варианта фальсифика-
ционизма», однако он не угрожает философии,
признающей возможность ошибки как в теории, так и в
наблюдении. Моя интерпретация допущений Галилея, продолжает
Андерсон, обнаруживает также мое непонимание
определения гипотез ad hoc Поппером. Эти гипотезы, утверждает
Андерсон, вводятся не только для объяснения каких-то
специальных эффектов, они также понижают степень фаль-
сифицируемости той системы, в которую включаются.
Именно это и делают допущения Галилея.
Истолкование движения Галилеем превращает аргумент башни182 из
опровержения учения Коперника в подтверждающий
пример и уменьшает содержание аристотелевской динамики
(ПМ, с. 111*). Эта последняя теория (изложенная в книгах
I, II, VI и VIII «Физики») имеет дело с самыми разными
изменениями, включая перемещение, зарождение,
разложение, качественное изменение (передачу знания от знающего
учителя к невежественному ученику — этот пример часто
используется Аристотелем), рост и упадок. Она включает в
себя следующие теоремы: каждому движению предшеству-
* Здесь и далее номера страниц указаны по изданию: Пол
Фейерабенд. Против метода. М: ACT, 2007.
Прощай, разум
377
ет другое движение; существует иерархия движений, в
начале которой лежит неподвижная причина движений,
затем следует первичное движение с постоянной (угловой)
скоростью, а затем — все остальные виды движения; длина
движущегося объекта не имеет точной оценки, ибо
приписывание объекту точной длины предполагает, что он
покоится, и т.д. Первая теорема доказывалась на основе
предположения о том, что мир включает в себя законы. (Это
доказательство можно использовать и в наши дни против
теории Большого взрыва или против той идеи Вигнера, что
редукция волнового пакета обусловлена актом сознания.)
Последняя теорема, опирающаяся на аристотелевское
понимание контиуума, предвосхищает фундаментальные идеи
квантовой теории (см. гл. 8).
Теория движения Аристотеля была вполне
последовательной и находила многочисленные подтверждения. Она
стимулировала исследования в области физики (например,
электричества, см.: Дж. Хейлброн [95]), физиологии,
биологии и эпидемиологии вплоть до конца XIX столетия и
сохраняет свое значение даже в наши дни: механистические
концепции XVII и XVIII веков и их современные отпрыски
не способны объяснить даже простейший процесс
перемещения (см. работы Бома и Пригожина, а также гл. 8
настоящей книги). Что же сделал Галилей? Эту сложную и
тщательно разработанную теорию, уже содержащую различие
между законами инерции (описывающими, что происходит,
когда силы не действуют) и законами сил (описывающими
влияние сил на движение), Галилей заменил своим
собственным законом инерции, не имевшим подтверждения и
применимым только к перемещению. Тем самым он «резко
уменьшил степень фальсифицируемое™ всей системы».
Относительно фальсифицируемости утверждений
наблюдения положение таково. Критический рационализм —
«философия», защищаемая Андерсоном, — является либо
плодотворной точкой зрения, которой руководствуются
378
Пол Фейерабенд
ученые, либо пустой болтовней, совместимой с любым
образом действий. Попперианцы настаивают на первом
(отвергая утверждение Нейрата о том, что любое предложение
можно отбросить по любому поводу). Поэтому они
подчеркивают, что базисные предложения, предназначенные для
опровержения теории, должны иметь высокую степень
подтверждения. Телескопические наблюдения Галилея не
удовлетворяли этому требованию: они были противоречивыми,
не каждый мог повторить их, тот, кто повторял (Кеплер),
получал неопределенные результаты, и не существовало
теории, способной отделить «фантомы» от подлинных
явлений (физическая оптика, упоминаемая Андерсоном, не имеет
к этому отношения; рассматриваемые базисные
предложения говорили не о лучах света, а о положении, окраске и
структуре видимых пятен, а распространенные гипотезы,
устанавливающие корреляцию первых и вторых, были
ложными, см. ПМ, с. 150). Следовательно, базисные
предложения Галилея были смелыми гипотезами, не имевшими
достаточно подтверждения. Андерсон это признает: нужно
время, говорит он, для получения подтверждающих
свидетельств (и связанных с ними пробных теорий, если
воспользоваться прекрасным выражением Лакатоса). Критический
рационализм в его первой интерпретации, упомянутой выше,
утверждает, что в процессе научного исследования
базисные предложения не обладают опровергающей силой. Если
же продолжают говорить, как делает Андерсон, что
Галилей опроверг распространенные воззрения своими
наблюдениями, то переходят от первой интерпретации ко второй,
в которой базисные предложения можно использовать как
угодно. Формулировка остается критической, однако ее
содержание испаряется.
Теперь рассмотрим критическое замечание,
опубликованное Э.А. Уитакером в виде двух писем в журнал «Science»
([260, 261]). Уитакер указывает, что имеется два множества
Прощай, разум
379
рисунков Луны — гравюры (которые я привел в ПМ) и
оттиски, которые с современной точки зрения являются
более точными. Эти оттиски, говорит Уитакер, показывают,
что Галилей был лучшим наблюдателем Луны, чем я себе
представляю.
Ну, прежде всего, я никогда не сомневался в
способностях Галилея к наблюдениям. Я цитировал Вольфа,
писавшего, что «Галилей вовсе не был великим
астрономом-наблюдателем или что волнение, вызванное его
многочисленными телескопическими открытиями в то время, на
какой-то период ослабило его искусство наблюдателя или
критическое чутье», и отвечал (ПМ, с. 136), что «это
утверждение вполне может быть истинным (хотя у меня оно
вызывает сомнение перед лицом того совершенно
необычайного искусства наблюдения, которое Галилей проявлял
в других случаях). Однако оно малосодержательно и, как
мне представляется, не очень интересно... Существуют,
однако, другие гипотезы, которые приводят к новым
предположениям и показывают, в какой сложной ситуации
находился вто время Галилей».
Тогда я упомянул две такие гипотезы, одна из которых
касалась общих свойств современного телескопического
видения, а другая рассматривала предположение о том, что
восприятия, т.е. вещи, рассматриваемые невооруженным
глазом, имеют историю (которую можно раскрыть,
соединив историю визуальной астрономии с историей
живописи, поэзии и т.п.).
Во-вторых, ссылка на оттиски не устраняет всех
затруднений, связанных с наблюдениями Луны Галилеем.
Галилей не только делал зарисовки, он также оставил
словесные описания. Он спрашивал, например (ПМ, с. 134):
«Почему мы не видим неровностей, шершавости и
волнистости по краю растущей Луны, обращенного к западу, или по
краю убывающей Луны, обращенного к востоку, или по ок-
380
Пол Фейерабенд
ружности полной Луны? Почему они представляются
совершенно гладкими и ровными?» Опираясь на наблюдения
невооруженным глазом, Кеплер отвечал (см. ПМ, с. 135,
примеч. 24): «Если вы внимательно посмотрите на полную
Луну, она кажется не совсем круглой». В ответ на вопрос
Галилея он говорил: «Я не знаю, насколько тщательно вы
обдумали этот предмет, скорее всего, ваш вопрос
опирается на общераспространенное впечатление... Я установил,
что край полной Луны не предстает совершенно гладким.
Изучите вопрос еще раз и сообщите мне о результатах».
Этот краткий обмен мнениями показывает, в-третьих,
что проблемы наблюдения, существовавшие во времена
Галилея, не могут быть разрешены указанием на то, что
наблюдения Галилея согласуются с нашими воззрениями на
этот предмет. Для того чтобы увидеть, как действовал
Галилей (независимо оттого, был ли он «рационален» или
нарушал какие-то важные правила научного метода), нам
нужно сравнивать его достижения и его идеи с его средой, а не с
той ситуацией, которая сложилась в неизвестном для него
будущем. Если оказывается, что явления, отмеченные
Галилеем, не находили подтверждения, что не было
оснований доверять телескопу как средству познания, а напротив,
многие факторы, как теоретические, так и эмпирические,
свидетельствовали против него, то Галилей поступал
ненаучно, когда пропагандировал эти явления. Точно так же в
наше время было бы ненаучно пропагандировать
экспериментальные результаты, полученные сомнительными
методами и не имеющие независимого подтверждения. И не
имеет значения то обстоятельство, что его наблюдения
согласуются с нашими представлениями. Действовать
научно в обсуждаемом здесь смысле (который был подвергнут
критике в ПМ и в «Науке в свободном обществе») значит
действовать в соответствии с существующим, а не в
соответствии с возможным знанием.
Прощай, разум
381
Я использовал гравюры для того, чтобы оценить
реакцию современников Галилея. Заметим опять-таки, что я
вовсе не стремился доказывать, будто Галилей был плохим
ученым вследствие того, что гравюры отличаются от
современных рисунков Луны, — это противоречило бы
изложенной выше позиции. Я лишь предполагал, что вид Луны,
рассматриваемой невооруженным глазом, отличался от
гравюры, что для современников Галилея она могла выглядеть
иначе, поэтому некоторые современники Галилея могли
критиковать его «Звездный вестник», опираясь на
собственные наблюдения. Это предположение полезно, поскольку
гравюры включались почти в каждое издание этой книги.
Верно ли это также для оттисков? Я думаю, верно, о чем
свидетельствует критика Кеплера.
Кроме того, существовало много причин, объясняющих,
почему телескоп не считался надежным средством
установления фактов (некоторые из них — как теоретические, так
и эмпирические — приведены в ПМ). Высказанное во
втором письме утверждение Уитакера о том, что с
современной точки зрения рисунки Галилея обладают высоким
качеством, не имеет отношения к сути дела.
Джон Уоррел приписывает мне «банальное
утверждение о том, что «теоретические факты» зависят от теории».
На самом деле в статье, где рассматриваются эти вопросы
(перепечатана в качестве гл. 2, т. 1 моих «Философских
статей»), я утверждаю, что все факты являются теоретическими
(или, выражая это в формальном модусе речи, «с логической
точки зрения все термины являются «теоретическими» — указ.
соч., с. 32), а не просто теоретически нагруженными. Я
постарался обосновать это утверждение и показать, что оно
превосходит альтернативные точки зрения, включая ту,
которую имеет в виду Уоррел. Недовольство Уоррела никак
не касается ни этой позиции, ни моих аргументов.
382
Пол Фейерабенд
Затруднения Джона Уоррела свидетельствуют о том, как
недалеко ушли попперианцы от наивных форм
эмпиризма. Уоррел хочет провести различие между
эмпирическими и теоретическими фактами, но не знает, как это сделать.
Иногда он опирается на психологию, т.е. отличает факты,
признанные всеми специалистами в данной области, от тех
фактов, которые вызывают сомнения. Карнап (в работе
«Проверяемость и значение») и я (в разделе 2 упомянутой
выше статьи) использовали этот ход до него и гораздо
более ясно. В других случаях он считает, что это согласие
обусловлено не только психологией, но имеет основания в
самих фактах: эмпирические факты в меньшей степени
зависят от теории по сравнению с теоретическими, у них есть
некое «эмпирическое ядро». Нейрат, Карнап и я сказали бы,
что такие факты только кажутся менее зависимыми от
теории: древние греки непосредственно воспринимали своих
богов и эти явления не содержали каких-либо
теоретических элементов, однако филологи со временем обнаружили
сложную идеологию, лежавшую в их основе, и показали, что
даже самые простые «факты» такого рода формировались под
влиянием очень сложной структуры (ПМ, гл. 17).
Классическая физика описывала и мы все еще продолжаем
описывать наше окружение в языке, который пренебрегает
отношением между наблюдателем и наблюдаемым объектом
(мы предполагаем существование устойчивых и
неизменных вещей и кладем это предположение в основу наших
экспериментов), однако теория относительности и квантовая
теория продемонстрировали, что этот язык, этот способ
восприятия и методы проведения экспериментов
опираются на некоторые космологические допущения. Эти
допущения никогда не были сформулированы в явном виде,
поэтому мы их не замечаем и продолжаем говорить просто об
эмпирических «фактах», однако они лежат в основе всех
явлений: «факты», кажущиеся эмпирическими, являются це-
Прощай, разум
383
ликом теоретическими. Однако часто они используются для
оценки конкурирующих точек зрения.
Уоррел предполагает, что судьи (факты) должны быть
нейтральными (отсюда необходимость иметь твердое
эмпирическое «ядро»), т.е. он считает, что ученый,
использующий факты для проверки различных теорий, не изменяет
их в ходе проверки. Нетрудно показать, что это допущение
ошибочно. Даже в области наблюдения релятивисты и
защитники эфира получали разные факты. Наблюдаемые
массы, длины и временные интервалы для релятивиста
являются проекциями четырехмерных структур в определенную
систему отсчета (см.: Дж. Синг [234]), в то время как
«абсолютисты» рассматривают их как внутренние свойства
физических объектов. Релятивисты соглашаются с тем, что
классические описания (предназначенные для выражения
классических фактов) иногда могут служить для передачи
информации о релятивистских фактах и используют их в
подходящих обстоятельствах. Но это не означает, что они
принимают их классическую интерпретацию. Напротив, их
позиция весьма похожа на позицию психиатра, который
разговаривает со своим пациентом на его языке, но не
принимает онтологии, включающей дьяволов, ангелов, чертей
и т.п.: наши обычные способы речи, включая научные
рассуждения, являются гораздо более гибкими, чем
представляется Уоррелу.
Согласно Уоррелу, аргумент башни Галилей опроверг
следующим образом: движение Земли в соединении с
аристотелевской теорией движения (согласно которой объект,
на который не действует сила, остается в покое) дает
увеличение расстояния между камнем и башней. Камень
падает к подножию башни. Следовательно, говорит Галилей
Уоррела, «этот опыт опровергает не Коперника, а более
сложную теоретическую систему», и он заменяет
аристотелевскую динамику — часть этой сложной системы — соб-
384
Пол Фейерабенд
ственным законом инерции. Здесь Уоррел остается в
рамках анализа смены теорий Дюгемом. Точнее говоря, он
исправляет «логическую ошибку» антикоперниканцев, у
которых ложное утверждение (камень отклоняется от башни)
прямо вытекало из предположения о вращении Земли. Так
говорит Джон Уоррел.
Прежде всего, следует заметить, что антикоперникан-
цы никогда не совершали приписанной им «логической
ошибки». Будучи хорошо знакомы с аристотелевской
логикой, они знали, что для вывода нужны по крайней мере
две посылки. Они даже упоминали их явным образом, но
стрелу фальсификации они направляли только на одну из
них — на движение Земли, — поскольку другая посылка
была теоретически правдоподобна и в высокой степени
подтверждена, кроме того, не о ней шла речь (см.
комментарий Поппера относительно аргумента Дюгема против
простой фальсифицируемости). Во-вторых, замена
аристотелевского закона инерции была лишь частью изменения,
осуществленного Галилеем. Аристотелевский закон
описывал абсолютные движения, и на это опирается аргумент
башни (предсказываемое отклонение камня от башни
является, конечно, относительным изменением, однако
проблема состоит в том, что Галилей изменил, а не в том,
какими основаниями он при этом руководствовался). Если
вводится новая «вспомогательная гипотеза», то эта гипотеза
также должна использовать абсолютные движения: она
должна быть разновидностью теории импетуса. Однако
Галилей постепенно становился кинематическим релятивистом
(ПМ,с. 92, примеч. 10; с. 108, примеч. 15). Его
вспомогательная гипотеза обходиласьбез импетуса. Таким образом, он не
просто заменил одну гипотезу в рамках прежней
концептуальной системы (абсолютное движение вокруг Земли или
вокруг Солнца, но не прямое движение по отношению к
центру) и изменил также понятия системы — ввел новое ми-
Прощай, разум
385
ровоззрение (уже подготовленное другими). С помощью
схемы Дюгема можно объяснить первый процесс, но не второй.
Уоррел подвергает критике также тот способ, которым
я использую броуновское движение для обоснования
плюрализма теорий. Эта критика дает настолько показательный
пример порочности чисто философского подхода
(описанного мной в т. 2, гл. 5 «Философских статей»), что
заслуживает более тщательного рассмотрения.
В гл. 3 ПМ я показал, что броуновское движение
противоречит второму закону феноменологической
термодинамики только с точки зрения кинетической теории,
которая также противоречит этому закону. Уоррел говорит, что
не понимает моих аргументов. В этом ничего страшного нет.
Существует много вещей, которые многим людям
непонятны. Для того чтобы понять мой аргумент, Уоррел
переводит его в язык, который ему знаком, — разновидность
искаженной логики. Против этого возражать трудно: если я
не понимаю какого-то рассуждения, я пытаюсь
переформулировать его по-своему. Однако Уоррел идет дальше. Он
сетует на то, что я сразу же не сформулировал свое
рассуждение на его языке. Однако мой аргумент не был частью
личного послания к нему, он был адресован физикам,
предпочитающим теоретический монизм, и они вполне его поняли.
Правда, Уоррел считает, что понятный для него язык
является единственным разумным языком. В этом он,
безусловно, ошибается, о чем свидетельствуют бессмысленности,
создаваемые его переводом (его понятие свидетельства,
например, не позволяет говорить о неизвестном
свидетельстве или о событиях, хотя и хорошо известных и
являющихся свидетельствами, но не признаваемых
свидетельствами). Подобно природному носителю языка, слишком
бедного, чтобы выражать определенные ситуации, он
проецирует эти пробелы на мое рассуждение и считает, будто
доказал его несостоятельность. Я, со своей стороны, пола-
13— 1509
386
Пол Фейерабенд
гаю, что существуют лучшие языки, нежели изломанный
логический язык. В одном из таких языков мое
рассуждение можно сформулировать следующим образом.
Допустим, у нас имеется теория Τ (под этим я понимаю
весь комплекс: теория плюс граничные условия плюс
вспомогательные гипотезы и т.д.). Τ утверждает, что должно быть
С, однако С не обнаруживается, а вместо него встречается
С. Если это становится известным, то можно было бы
сказать, что Τ опровергнута, а С является опровергающим
свидетельством (заметим, что я не провожу различия между
фактом и утверждением; ни один шаг в рассуждении не
зависит от этого различия, поэтому его отсутствие никого не
должно смущать). Предположим, далее, что существуют
законы природы, не позволяющие нам ясно отличить С от
С: нет эксперимента, выявляющего разницу между ними.
Предположим, наконец, что С можно выделить косвенным
способом — с помощью специальных эффектов,
возникающих при наличии С, но отсутствующих при наличии С,
причем эти эффекты постулируются альтернативной
теорией Т. Примером такого эффекта может быть то, что С
запускает некий макропроцесс M (Уоррел испытывает
затруднения с пониманием слова «триггер»: любой словарь
скажет ему, что означает это слово). В этом случае Τ
предоставляет нам свидетельство против Т, которое не могло
бы быть обнаружено только с помощью Τ и
соответствующих экспериментов: для Господа Бога M или С являются
свидетельством против Т; однако нам, людям, нужна
теория Т, чтобы осознать этот факт.
Броуновское движение является конкретным примером
той ситуации, которую я описал: С представляет процессы,
происходящие в нейтральной среде при тепловом
равновесии согласно феноменологической теории
термодинамики; С представляет процессы в этой среде согласно
кинетической теории. Экспериментально нельзя различить С и
Прощай, разум
387
С, поскольку любой инструмент для измерения теплоты
содержит те же самые флуктуации, которые нужно
обнаружить. M есть движение броуновской частицы, Τ —
кинетическая теория. Как и в случае с Галилеем, мы могли бы
втиснуть все элементы в схему Дюгема и сказать, что одна
вспомогательная гипотеза была заменена другой и
благодаря этому были устранены некоторые трудности. Заметим,
однако, что в нашем случае не трудность привела к замене,
а именно замена помогла нам обнаружить трудность. Эта
особенность исчезла в анализе Уоррела.
Возвращаясь к более общим возражениям, могу сказать,
что я целиком и полностью согласен с Яном Хакингом,
который говорит, что наука имеет более сложную и
многостороннюю структуру, чем я представлял в моих ранних
сочинениях и даже в ПМ. Я упрощенно изображал и
элементы науки, и отношения между ними. Наука включает в себя
теории, однако теории не являются ее единственными
ингредиентами и нельзя дать их адекватный анализ только в
терминах утверждений и других логических сущностей.
Можно согласиться с тем, что существуют
аксиоматические формулировки и что некоторым научным идеям
можно дать точное определение; можно также предполагать,
что в процессе исследования ученые иногда опираются на
результаты этих усилий. Однако они используют их самым
общим образом, комбинируя аксиомы, взятые из разных
областей, и давая повод для пылких атак со стороны
философов, увлеченных простыми формами логики. Логика
сама ныне пришла к такой стадии развития, на которой
формализация используется очень свободным образом и
важную роль играют «антропологические» соображения
(финитизм). Повсюду научная деятельность
представляется гораздо ближе к искусству, чем воображали прежние
логики и философы науки (и я в том числе). (Об этой
стороне вопроса см. мою работу «Наука как искусство» [62].)
388
Пол Фейерабенд
Первые сомнения относительно образа науки с
ясными теориями и отчетами о наблюдениях возникли у меня в
1950 году, когда я читал рукописную копию «Философских
исследований» Витгенштейна. Тогда я выражал эти
сомнения в абстрактном виде — в терминах концептуальных
проблем (неизмеримость, «субъективные» элементы в теории
объяснения). Приступив к работе над главой 17 ПМ, я
пришел к вопросу адекватности абстрактных рассуждений и в
науке, и в философии науки. Здесь я многое почерпнул из
трех книг: из прекрасной работы Бруно Снелла «Открытие
сознания» [222], которую рекомендовала мне Барбара
Фейерабенд; книги Гейнриха Шеффера «Основы искусства
Древнего Египта», значение которой выходит далеко за рамки ее
предмета, и исследования Васко Ронки «Оптика, наука
видения». Сегодня к этим работам я добавил бы сочинения Па-
нофского по истории искусства (особенно его новаторскую
работу «Перспектива как символическая форма») и книгу
Алоиза Ригля «Позднеримская художественная
промышленность», где учение художественного релятивизма излагается
просто и с убедительными аргументами. Мне нужно было
только распространить эти аргументы на науку, чтобы
понять, что ученые также создают произведения искусства,
различие заключается лишь в том, что материалом является
мышление, а не краски, мрамор, металл или звук.
Рассматривая само мышление, я начал свой отход от
позитивизма, проведя различие между двумя видами
традиций, которые я назвал абстрактными традициями и
историческими традициями (подробности см. в гл. 1, т. 2 моих
«Философских статей», в работе «Наука как искусство», а
также в гл. 3 настоящей книги). Эти традиции можно
охарактеризовать множеством способов. Наиболее полезным
исходным пунктом я посчитал рассмотрение того, как эти
две традиции относятся к своим объектам (людям, идеям,
богам, материи, универсуму, обществу и т.д.).
Прощай, разум
389
Абстрактная традиция формулирует утверждения.
Утверждения подчинены определенным правилам (правилам
логики, проверки, аргументации и т.д.) и события
воздействуют на утверждения только в соответствии с этими
правилами. Это, как говорят, гарантирует «объективность»
информации, сообщаемой этими утверждениями, или
«знания», которое они содержат. Можно понимать,
критиковать или улучшать эти утверждения, не встречая ни одного
описываемого ими объекта (примеры: физика
элементарных частиц, поведенческая психология, молекулярная
биология, которыми могут заниматься люди, никогда не
видевшие собаки или проститутки).
Сторонники исторической традиции также используют
утверждения, однако совершенно иным образом. Допустим,
что у людей есть собственный язык и они пытаются усвоить
его. Они изучают его, не вооружаясь какими-то
лингвистическими теориями, а посредством погружения в него — так,
как знакомятся с миром маленькие дети. Люди изучают сам
язык объектов, а не то, что из него получается после
обработки посредством стандартных процедур (экспериментов,
математизации). Категории абстрактного подхода,
например понятие объективной истины, не могут описать таких
процессов, которые зависят как от особенностей объекта,
так и субъекта (нет смысла говорить об «объективном
существовании» улыбки, которая в зависимости от
контекста может казаться улыбкой или гримасой боли).
Абстрактная и историческая традиции воюют друг с
другом с самого начала возникновения западного мышления.
Их противостояние началось с «древней битвы между
философией и поэзией» (Платон, «Государство» 607Ь; см. гл. 3
настоящей книги). Она имела продолжение в медицине, в
которой теоретический подход Эмпедокла и
представителей физики элементов был подвергнут критике автором
трактата «О древней медицине» (подробности см. в гл. 1,
390
Пол Фейерабенд
раздел 6 и в гл. 6., раздел 1). Этот антагонизм проявился в
критике Геродота Фукидидом и дожил до наших дней — в
психологии (бихевиоризм против «понимающих» методов),
в биологии (молекулярная биология против качественных
биологических исследований), медицине («научная»
медицина против целителей), экологии и даже в математике
(канторианство против конструктивизма, говоря словами
Пуанкаре). Абстрактная традиция заменялась
исторической традицией в периоды кризисов и революций, что
подтверждает мой тезис о том, что хорошая наука является
искусством или гуманитарной дисциплиной, а не наукой в
традиционном смысле этого слова. Анализ экспериментальных
методов Яном Хакингом прекрасно иллюстрирует
художественные стороны научного исследования.
Алан Масгрейв показал, что в древней астрономии ин-
струменталистская традиция была гораздо более слабой, чем
полагал Дюгем. Он забыл упомянуть о том, что
современный научный реализм использует инструментализм качеств
и качественных законов: реалисты считают несомненным,
что качества, которые не входят в тело науки, но
позволяют развивать ее, не введут нас в заблуждение. Современная
наука, которая поставила, но так и не смогла решить
проблему телесного — психического, опирается на
инструментализм как на собственный базис и не скрывает этого
(например, в квантовой теории измерений). В кратком
введении, которое не имеет никакого отношения к основному
содержанию статьи и кажется добавленным после ее
написания, Масгрейв высказывает забавную критику одной из
моих ранних статей (перепечатана в «Философских
статьях», т. 1, гл. 11). Там я доказывал, что философские
аргументы в пользу реализма слишком слабы для того, чтобы
справиться с физическими аргументами против него, и что
их нужно усилить; затем я предложил несколько более
убедительных аргументов. Согласно Масгрейву, я действовал
Прощай, разум
391
прямо противоположным образом — пытался найти
универсальные аргументы в пользу инструментализма*. Не
думаю, что Алан не понял написанного, он внимательный
критик, да и критикуемая им статья является одной из
самых ясных написанных мной статей, но готов допустить,
что им овладел временный приступ безумия. Хочу добавить,
между прочим, что все это потеряло значение, ибо я не верю
уже в правильность нашего понимания науки и тех общих
аргументов, которые я высказал в своей статье.
Я согласен практически со всеми утверждениями и
возражениями, высказанными в прекрасном сочинении Гро-
вера Максвелла о проблеме сознания — тела. Допускаю, что
несмотря на свои благие намерения, я «слишком часто
впадал в эмпиристскую... практику истолкования... значения
априорным образом» (однако у меня были моменты
просветления, когда я рассматривал значения как
нейрофизиологические структуры или «программы»: см.
«Философские статьи», т. 1, гл. 6; т. 2, гл. 9). Допускаю также, что
иногда я забывал об условной природе прагматистской теории
наблюдения (о моментах просветления в этой области см.
мою небольшую заметку «Наука без эксперимента»,
«Философские статьи», т. 1, гл. 7, за которую Айн Рэнд проклял
меня в открытом письме ко всем американским
философам). Верно, что, критикуя знание через непосредственное
знакомство, я «воевал с соломенным чучелом». В
действительности, соломенное чучело соорудил не я, а
сторонники чувственно данного, однако, уничтожив его, я полагал,
что устранил все аспекты знания через непосредственное
знакомство, и в этом я, безусловно, ошибался. Я не был
последовательным в своей ошибке, ибо иногда допускал,
как и Рассел, что мозг может быть воспринят
непосредственно, однако не делал отсюда правильного вывода и
провозглашал, что некоторые физические события являются
ментальными. Меня не слишком расстраивает то, что не-
392
Пол Фейерабенд
которые мои аргументы могут пригодиться элиминативно-
му менталисту, — это, мне кажется, применимо ко всем
аргументам по таким вопросам. С другой стороны,
собственная теория Гровера слишком сильно полагается на
научные понятия и методы. Его утверждение о том, что «наука
работает», не устраняет моих сомнений. Иногда наука
работает, порой ошибается, и многие истории об ее успехах
являются слухами, а не фактами. Кроме того, эффективность
науки определяется посредством критериев, которые
принадлежат к научной традиции и не могут считаться
объективными. (Например, наука не занимается спасением душ.)
Таким образом, я прихожу к выводу, что Гровер показал,
каким образом мы можем выработать понятия сознания и
тела в рамках науки, не отбрасывая в то же время идей,
вырастающих из разных традиций (традиций африканских
племен догонов, азанде или крестьян Эквадора). Я очень
рад этому, ибо теперь есть шанс встретиться с ним снова —
на ином уровне, в иных обстоятельствах, но где он,
надеюсь, сохранит свое саркастическое чувство юмора.
4. Наука — одна из многих традиций
Второй темой моих сочинений является авторитет науки.
Я утверждаю, что не существует «объективных» причин для
предпочтения науки и западного рационализма другим
традициям. В самом деле, трудно себе представить, какими
могли бы быть эти причины. Есть ли основания, которые
могли бы убедить отдельного человека или представителей
некоторой культуры независимо от их обычаев, убеждений
или их социального положения? Наши знания о различных
культурах свидетельствуют о том, что нет таких
«объективных» оснований. Являются ли они основаниями,
убедительными для человека, который соответствующим образом
подготовлен? — Тогда у всех культур будут «объективные»
Прощай, разум
393
основания. Являются ли они основаниями,
ссылающимися на результаты, важность которых очевидна с первого
взгляда? — Тогда опять-таки все культуры будут иметь по
крайней мере некоторые «объективные» основания.
Являются ли они основаниями, которые не зависят от таких
«субъективных» факторов, как обязательства или личные
предпочтения? — В этом случае «объективных» оснований
просто не существует (выбор объективности в качестве меры
сам является выбором человека или группы людей, если
люди просто не принимают этого без размышлений).
Верно, конечно, что ныне западная наука
распространилась на весь мир как заразная болезнь и что многие люди
считают ее продукты (интеллектуальные и материальные)
обязательными, но вопрос все-таки остается: было ли это
подкреплено аргументами (в смысле защитников западной
науки), т.е. был ли каждый шаг распространения науки
обоснован рассуждениями, находившимися в согласии с
принципами западного рационализма? Стала ли лучше жизнь
людей, зараженных наукой? На оба вопроса ответа нет.
Западная цивилизация либо была навязана силой, а не
убеждением, либо ее принимали потому, что она производит
более эффективное оружие (см. гл. 1, раздел 9), и ее
распространение, хотя и принесло кое-что положительное,
причинила громадное зло (см. обзор в: Дж. Бодли,
«Жертвы прогресса» [10]). Она не только разрушила духовные
ценности, придававшие смысл человеческой жизни, она
испортила также взаимодействия человека с окружающей средой,
не предложив методов, сравнимых по эффективности.
«Примитивные» племена знали, как справляться с природными
бедствиями типа эпидемий, наводнений или засухи, у них
была «иммунная система», позволявшая им справляться с
разнообразными потрясениями социального организма.
В нормальные периоды они использовали окружающую
среду, не причиняя ей вреда, опираясь на свое знание свойств
394
Пол Фейерабенд
растений, животных, климатических изменений и
экологических взаимодействий, которые мы только начинаем
осознавать (подробности и литературу см. в работе Леви-
Стросса «Первобытное мышление», а также в более поздних
исследованиях подобного рода). Это знание было отчасти
уничтожено, отчасти серьезно испорчено сначала
гангстерами колониализма, а затем — гуманными носителями
прогресса. Беспомощность значительной части так
называемого «третьего мира» является результатом, а не причиной
внешнего вмешательства.
Иранский ученый Маджид Рахнема сравнил следствия
прогрессистской помощи с воздействием на организм
вируса иммунодефицита человека («From «Aid» to «Aids»» [197]).
Он также высказал критический комментарий по поводу
того, каким образом знание из общего блага превращается
в редкий и недоступный товар.
Культуры и цивилизации, - пишет он («Education for
Exclusion or Participation?» [198]), - были образованы,
развиты и транслированы миллионами людей, которые были
обучены жизнью и деятельностью, для которых жить и учиться
было одним и тем же, поскольку они учились для того, чтобы
жить, и учились всему, что было нужно им самим и обществу,
к которому они принадлежали. В течение тысяч лет, до того
как появилась современная школьная система, образование
не было редким товаром. Оно не было продуктом
институционального производства - продуктом, обладание которым дает
человеку право называться образованным... Новая школьная
система... служит эффективным средством пополнения
властной элиты наиболее амбициозными, а иногда и наиболее
способными людьми, стремящимися к профессиональной и
личной известности. Может показаться парадоксальным, но
она служит также «культурной средой» для некоторых
выдающихся личностей, в частности, для революционеров и
радикальных мыслителей, использующих ресурсы образования для
собственного освобождения. Тем не менее в целом она ста-
Прощай, разум
395
новится некоей «адской машиной», систематически
исключающей борьбу с нищетой и бессилием... Прежние дни...
«когда каждый взрослый был учителем», ушли в прошлое. Теперь
право на преподавание имеют только те, кто получил
сертификат школьной системы. Таким образом, образование стало
редкостью (подчеркнуто мной. - П.Ф.).
Интересно видеть, сколь малое влияние оказали эти
открытия на проповеди профессиональных рационалистов.
Карл Поппер, например, сетует по поводу «общей
антирационалистской атмосферы... нашего времени», восхваляет
Ньютона и Эйнштейна как великих благодетелей
человечества, но ни словом не упоминает о преступлениях,
совершенных во имя Разума и Цивилизации. Напротив, он
полагает, что блага цивилизации порой можно навязывать
силой посредством некоторой «формы империализма» (см. гл.
6, раздел 1).
Есть много причин, объясняющих, почему так много
интеллектуалов продолжает рассуждать столь
поверхностно. Одной из них является невежество. Большинство
интеллектуалов не имеет ни малейшего представления о
достижениях людей, живущих вне рамок западной
цивилизации. В этой области мы питались (и, к несчастью,
продолжаем питаться) лишь слухами о превосходстве науки по
сравнению со всем остальным. Другая причина заключается
в изобретении рационалистами средств преодоления
трудностей. Например, они проводят различие между
фундаментальной наукой и ее применениями: если случилось что-то
плохое, то виноваты прикладники, а не добрые и
невинные теоретики. Однако теоретики не являются
невинными. Они рекомендуют средства, недоступные пониманию,
причем даже в областях, имеющих дело с людьми; они
превозносят «рациональность» и «объективность» науки, не
осознавая того, что методы, исключающие все
человеческие элементы, неизбежно приводят к бесчеловечным дей-
396
Пол Фейерабенд
ствиям. Или они проводят различие между благом,
которое наука может дать «в принципе», и тем дурным, что
происходит в действительности. Едва ли это может нас
успокоить. Все религии «в принципе» являются добрыми,
однако, к несчастью, это абстрактное Добро очень редко
удерживает его приверженцев от варварства и жестокости.
Не склонные к размышлениям люди привыкли
ссылаться на то, что каждый «разумный» человек убежден: наука
дает знание. Здесь есть двусмысленность: аргументация не
действует на каждого человека, она действует только на
того, кто подготовлен соответствующим образом. И это
общее свойство всех идеологических споров: аргументы в
защиту определенного мировоззрения зависят от
допущений, которые принимаются в одних культурах, но
отвергаются в других, однако вследствие невежества их
сторонников считаются обладающими универсальной значимостью.
Прекрасным примером этого является попытка Кекеса
опровергнуть релятивизм.
Он формулирует три предположения: (1) важно решать
проблемы; (2) существуют более или менее определенные
методы решения проблем; (3) некоторые проблемы не
зависят от каких-либо традиций — Кекес называет их
жизненными проблемами. Кекес считает также, что ясная
концептуализация играет важную роль в осознании,
формулировании и решении проблем. Однако для орфиков,
некоторых христиан и некоторых исламских фундаменталистов
многие вещи, которые западный интеллектуал называет
проблемами, будут выглядеть не как какие-то
нежелательные ситуации, которые нужно устранить, а как проверка
нравственной стойкости (см. функцию обрядов
инициации), как подготовка к выполнению более трудной задачи,
либо как необходимый элемент жизни, без которого
немыслима жизнь человека. В некоторых культурах проблемы рас-
Прощай, разум
397
сматриваются как игра судьбы, вызывающая
замешательство, но не испуг; человек смиряется с ними, не пытаясь их
«решать».
Белые правительственные чиновники в Центральной
Африке часто удивлялись тому, что проблемы, которые они
замечали и о которых сообщали своим чернокожим
коллегам, не вызывали серьезного отношения, а порождали смех:
чем больше проблема, тем больше было веселья. Белый
рационалист сказал бы, что это было весьма иррациональное
поведение, и с точки зрения своих стандартов был бы
совершенно прав. С другой стороны, это был прекрасный
способ избежать войн и страданий. «Делай что-нибудь!» не
всегда превосходит «Пусть будет так!». Кекес выявляет
методы, принятые в определенных традициях, а не
«объективные», т.е. надтрадиционные, принципы, как он претендует.
«Жизненные проблемы» в смысле Кекеса являются
частью особой и сравнительно молодой традиции материа-
листическо-гуманистической окраски. Другие традиции не
могут беспристрастно оценивать их решения. Кроме того,
даже внерелигиозные решения оставляют разнообразные
возможности жить вне науки, о чем свидетельствует жизнь
наших художников и неясность многих кажущихся
«объективными» понятий, например понятия здоровья (см. Фуко).
Мы должны согласиться с тем, что многие ценности и
многие культуры прекратили свое существование, они были
уничтожены и теперь едва ли кто-либо помнит о них.
Однако это не означает, что мы ничему не можем у них
научиться. Кроме того, Кекес стремится к теоретическому
решению проблемы релятивизма, но такого решения нет.
Аналогичные замечания справедливы для интересного
и вызывающего сочинения Норетты Кертж. Заслуживает
одобрения ее мысль о том, что для граждан видимость столь
же важна, как и «реальность» (которая есть не что иное, как
видимость признанная экспертами): «справедливость не
398
Пол Фейерабенд
только должна осуществляться, справедливость должна/ся-
заться осуществленной». Хорошо сказано! В условиях
демократии важны переживания граждан, т.е. их
субъективное восприятие, а не то, что провозглашает реальностью
замкнутая группа интеллектуалов (если какому-то эксперту не
нравятся идеи простого народа, то все, что он может
сделать, — это пытаться убедить его думать иначе; при этом он
не должен забывать о том, что он юродивый, а не «учитель»,
внедряющий какие-то истины в головы послушных
учеников). Но попытка разделить опыт и «реальность» не может
быть успешной. Я согласен с тем, что наука и основанная
на ней цивилизация содержит нечто, называемое
«мнением экспертов», и что это отличается от того, что называют
«распространенными предрассудками». Но к этому я
добавил бы, что так обстоит дело и в других традициях. Я также
согласен, что мнения экспертов иногда обнаруживают
определенное единство — все Церкви обладают временным
единообразием, — однако согласие в одних областях более
чем компенсируется расхождениями в других. К тому же
единство мнений экспертов не может служить
обоснованием их объективности, у нас много авторитетов, среди
которых мы выбираем, и разница между реальностью
экспертов и обыденной видимостью растворяется в том, что
видит любой из нас, включая экспертов.
Восхваление объективности и рациональности
рационалистами является рекламой некоторой племенной веры,
что становится ясно из реакции менее одаренных членов
этого племени. Так, Тибор Мешем (я упоминал о нем в
обзоре, появившемся в Philosophy of the Social Sciences, 1982)
проводит различие между приемлемыми стандартами,
идеями и традициями и теми традициями, которые
«необычны и разрушительны для человеческой жизни». Что
рационально для этого различия? — Теория человека. В чем суть
его теории человека? — В том, что «люди являются разум-
Прощай, разум
399
ными животными... биологическими существами с
особыми потребностями и способностью к понятийному
мышлению и действию». Это, конечно, вполне совершенное
описание интеллектуала (недостает только жадного
стремления к большой зарплате), однако человек с несколько
иными взглядами укажет на то, что «теория человека» Ме-
шема является одной из многих и что интеллектуалы, к
счастью, составляют ничтожный процент человечества.
Существует точка зрения, утверждающая, что человек очень
плохо приспособлен к материальному миру, не способен
понять свое положение в нем и нуждается в особых условиях
для выживания; есть концепция, тесно связанная с
упомянутой и утверждающая, что человек есть божественная
искра, заключенная в глиняный сосуд, «след золота в грязи»,
как говорили гностики, тварь, испытывающая потребность
в освобождении верой. И это не абстрактные и
«необычные» концепции — они были и все еще остаются частью
жизни миллионовлюдей. У буддистовестьучениеотом, что
люди стремятся избавиться от страданий, что мысль и
опирающееся на нее действие являются главным источником
страданий, поэтому страдания исчезнут, как только
исчезнут мысль и действие. Легенды индейцев хопи говорят о том,
что первоначально люди жили в гармонии с природой.
Мышление и стремления людей или, иными словами,
«потребность в мышлении и деятельности», которую Мешем
считает ядром человеческого существования, разрушили
первоначальную гармонию, животные отдалились от людей,
люди раскололись на расы, племена и обособленные
группы, имеющие разные идеи и говорящие на разных языках,
так что теперь даже отдельные индивиды не понимают друг
друга. Однако люди в своем стремлении к гармонии
способны преодолеть эту раздробленность, освободившись от пут
концептуального мышления и вызываемых раздоров, и
положить в основу жизни любовь и интуитивное понимание.
400
Пол Фейерабенд
Существует огромное количество воззрений такого рода,
и все они отличаются от той теории, которую Мешем
считает несомненной. Конечно, Мешем имеет полное право
предпочитать одну концепцию и осуждать другие. Однако при
этом он принимает позу рационалиста и гуманиста. Он не
просто проклинает, а претендует на то, что у него есть
аргументы и он выступает во имя любви к человечеству. Взгляд
на его критику показывает, что его претензии
неосновательны. Его аргументы не более чем проклятия, облеченные в
риторические одежды учености, а его любовь к
человечеству исчезает перед дверью его учреждения (или перед
кассой Фонда Разума).
Как это обычно принято среди интеллектуалов, Мешем
использует какие-то примеры, скажем, убийства в
Джонстауне, чтобы запугать своих читателей, а не просветить их
(немецкие «рационалисты» для той же цели ссылались на
Освенцим или, позднее, на терроризм). «Имеются
очевидные случаи», — говорит Мешем. Можно ли быть столь
наивным? В Джонстауне некоторые люди сами избрали
самоубийство в полном сознании того, что они делают
(случай 1). Другие колебались, проявляли нерешительность,
хотели бы жить, но подчинились давлению окружающих и
руководителей (случай 2). Наконец, еще одни были просто
убиты (случай 3). Для Мешема всех этих различий не
существует. Однако они оказываются существенными при
анализе всего этого эпизода. Случай 3 можно назвать
«очевидным», если использовать эту поверхностную терминологию,
хотя даже здесь возникают некоторые вопросы (означает
ли убийство тела спасение души? Рациональные
инквизиторы думали именно так и у них были превосходные
аргументы: следует ли игнорировать эти аргументы? Можно ли
материализм считать несомненным? Я бы с этим
согласился, но может ли это сделать рационалист, который претен-
402
Пол Фейерабенд
(политическому, экономическому и т.п.) давлению? Ответ
почти всегда один и тот же: вследствие второго.
Американских индейцев никто не просил изложить свое
мировоззрение, их сначала подвергли христианизации, затем продали
всю их землю и, наконец, загнали в резервации,
окруженные со всех сторон научно-технологической культурой.
Медицина индейцев (которую широко использовали
практикующие медики XIX столетия) не была сопоставлена с
новыми фармацевтическими средствами, захватившими
рынок, она была просто запрещена как пережиток допотопных
времен. И так во всем.
Ссылка на прошлые столкновения не учитывает также
того факта, что даже очевидное опровержение еще вовсе не
решает судьбу интересной точки зрения (см. «Наука в
свободном обществе», с. 151 и далее, а также раздел 1 главы 1
настоящей книги); средства опровержения
(экспериментальная техника, теории, используемые для
интерпретации результатов) постоянно изменяются и вместе с ними
изменяется природа аргументации. Следует также
обратить внимание на большое сходство аргумента от успеха и
тем, что говорили нацисты после своего прихода к власти
в 1933 году: либерализм уже имел свой шанс, но был
повержен национальным духом и было бы глупо пытаться
возродить его.
Наконец, граждане должны сами выбирать традиции,
которые им нравятся. Приверженность демократии,
неизбежная неполнота всякой критики, осознание того, что
господство некоторой точки зрения никогда не было
результатом применения рациональных принципов, — все это
приводит к мысли о том, что попытку оживить прежние
традиции и ненаучные воззрения следует приветствовать как
начало новой эры Просвещения, когда нашей
деятельностью будет руководить понимание, а не пустые и часто
бессмысленные лозунги.
Прощай, разум
403
5. Разум и практика
Сказанное мной до сих пор можно кратко выразить в
следующих двух утверждениях:
(A) Способы рассмотрения и решения научных проблем
зависят от обстоятельств их возникновения, от
(формальных, экспериментальных, идеологических) средств,
доступных в данный момент времени, и от желаний людей,
которые ими занимаются. Не существует неизменных
граничных условий научного исследования.
(B) Способы рассмотрения и решения социальных
проблем и проблем взаимодействия культур также зависят от
обстоятельств их возникновения, средств решения,
доступных в данный момент времени, и от желаний людей,
которые ими занимаются. Не существует неизменных
граничных условий человеческой деятельности.
Так, я критиковал концепцию, которую буду обозначать
как (С), утверждающую, что наука и человечество должны
приспосабливаться к условиям, которые детерминированы
независимо от человеческих желаний и культурных
обстоятельств. И я возражал против предположения (D) о том,
будто проблемы можно решать со стороны, не принимая
участия в деятельности заинтересованных в этом людей.
(C) и (D) вместе образуют стержень той концепции,
которую я могу назвать интеллектуалистским подходом к
(научным и) социальным проблемам. Эти положения разделяют
академические марксисты, либералы, социальные ученые,
бизнесмены, политики, стремящиеся помочь «недоразвитым
народам», и пропагандисты «новых эпох». Каждый писатель,
который жаждет улучшить знание и спасти человечество,
который не удовлетворен существующими идеями
(редукционизмом, например), полагает, что спасение может прийти
только от новой теории и для разработки такой теории
нужны лишь правильные книги и несколько ясных идей.
404
Пол Фейерабенд
(С) и (D) использовались также для критики моих
высказываний о политике. По мнению моих критиков, я
поднял большой шум, но мало чего достиг. Мой подход,
говорят они, сводится только к отрицанию. Я выступаю против
отдельных процедур, но ничего не предлагаю взамен.
Марксистов особенно сердит мое насмешливое отношение к их
любимым игрушкам — к науке и гуманности.
Эти замечания совершенно справедливы. Я
действительно не высказывал позитивных предложений. Однако
причина не в том, что я забыл о сути дела или не смог
конкурировать с талантливыми спекуляциями моих
академических коллег, а в моем уважении к тем традициям,
которые я защищаю изо всех моих интеллектуальных сил. Это
исторические, а не абстрактные традиции (см. выше
разделы 2, 3 и 4, а также гл. 3). Исторические традиции нельзя
понять со стороны. Их предположения, их возможности,
желания (часто бессознательные) их представителей можно
обнаружить, лишь погрузившись в них, т.е. нужно жить той
жизнью, которую хочешь изменить. Ни (С), ни (D) нельзя
применить к историческим традициям. Граничные условия и
решения, изобретаемые посторонними спекулятивными
мыслителями, можно навязать, но только проигнорировав
полноту человеческого существования тех, кого делают
жертвами воздействия. Интеллектуалы, поддерживающие это
насильственное навязывание, принимают в расчет
«человеческое измерение», у них есть «теории человека»,
которыми они руководствуются в своих действиях. Однако эти
теории ничего не говорят о приносимых в жертву людях,
они выражают ментальность представителей
университетских кафедр и семинаров (см. мои замечания о Тиборе Ме-
шеме). Мое главное возражение против интеллектуальных
решений социальных проблем сострит в том, что они
начинают с очень узкой культурной базы, приписывают ей
универсальную значимость и прибегают к силе для того,
Прощай, разум
405
чтобы навязать ее другим. Стоит ли удивляться тому, что я
не желаю иметь ничего общего с этим рациональным
фашизмом? Помогать людям не значит гнать их в
приснившийся кому-то рай, помогать людям значит пытаться
изменить их жизнь как друг, как человек, который разделяет
их ум и их глупость и достаточно опытен для того, чтобы не
трогать последней. Абстрактные рассуждения по поводу
жизни людей, которых я не знаю и с условиями жизни которых я не
знаком, не только бессмысленны, но также бесчеловечны и
неуместны.
Они бессмысленны, поскольку практическому
применению теорий всегда предшествуют значительные
изменения, способные стереть базисные программы. Они
неуместны: не будучи знаком с чужеземными обычаями, с
условиями жизни далеких от меня людей, ничего не зная об их
мечтах, опасениях, стремлениях, как могу я навязывать им
свои стандарты, мое так называемое знание, мою
ограниченную «гуманность»? Лишь очень наивный или
фанатичный человек может считать, что изучение «природы
человека» должно предшествовать личным контактам в частной
жизни и в политике. Джутта, которая хотя и носит женское
имя, но в своем шовинизме далеко превосходит своих
академических коллег мужского пола, утверждает, что у меня
нет ни сердца, ни воображения. Напротив, я-то вполне могу
представить себе, что существуют ситуации, о которых я
никогда не думал, которые не описаны в книгах, с
которыми никогда не сталкивались ученые. Я думаю, такие
ситуации встречаются достаточно часто, и могу сообразить, что
для разных людей такие ситуации выглядят по-разному,
оказывают на них разные влияния, пробуждают надежды,
страхи и желания, которых я никогда не испытывал. И у
меня хватает ума не навязывать свои догадки тем, кого это
непосредственно касается. Джутта говорит, что я должен с
«уважением» «проверить» то, чего я не знаю. Проверить?
406
Пол Фейерабенд
Если я люблю женщину и хочу разделить с ней жизнь во
благо себе и, возможно, ей, то, независимо от уважения или
презрения, я не могу «проверить» эту жизнь, я должен
попытаться участвовать в ней (если она мне это позволит) и
понять ее изнутри. Приняв участие в ее жизни, я внесу в
нее новые идеи, чувства, новый взгляд на мир. Конечно, я
могу высказать какие-то предложения и даже внедрить их
в ее сознание своими разговорами, но только после того,
как изменение произошло и возникла новая общая основа
совместных переживаний. Политика в моем понимании во
многих отношениях родственна любви. Она с уважением
относится к людям, учитывает их личные желания, она не
«изучает» их, как это делают социологи и антропологи, но
старается понять их изнутри и свои предложения по
изменению существующего положения связывает с теми
мыслями и чувствами, которые вытекают из такого понимания.
Короне говоря: политика в ее самом общем понимании
должна быть «субъективной». Для нее нельзя изобретать
«объективные» теоретические схемы.
6. Элементы свободного общества
Как этот подход связан с моими идеями относительно
полиции, равенства традиций, отделения науки от
государства? Ответ был дан в работах «Наука в свободном
обществе» и «Познание для свободных людей»: такого рода идеи
должны пройти через фильтр традиций (получить оценку
граждан), которым они предлагаются. Фундаментальная
ошибка почти всех статей, в которых обсуждается эта часть
моих сочинений, включая статью Христиана Ван Бриссе-
на, заключается в том, что они интерпретируют мои
предложения так, как если бы это были предложения политика,
философа, социального критика или «великого» человека:
они истолковывают их как набросок некоего нового соци-
Прощай, разум
407
ального порядка, который должен быть навязан людям
посредством образования, морального шантажа, небольшой
революции и лживых лозунгов (типа «Эта истина сделает
вас свободными») либо с помощью давления уже
существующих институтов. Однако мечты о власти подобного рода
не только совершенно чужды моему мышлению, они
вызывают у меня тошноту. Я испытываю очень мало
симпатий по отношению к учителю жизни или моральному
реформатору, который свои жалкие речи рассматривает как
новое солнце, освещающее жизнь прозябавших во тьме; я
презираю так называемых учителей, которые возбуждают
аппетиты своих учеников до такой степени, что они,
утратив остатки самоуважения и самоконтроля, бухаются в
истину, как поросята в лужу; у меня вызывают отвращение
все планы порабощения людей во имя «добра», «истины»,
«справедливости» или иных абстракций, особенно когда их
проповедники оказываются слишком трусливыми для того,
чтобы принять на себя ответственность за эти идеи, и
прячутся за покровом «объективности». По-видимому, многие
из моих читателей считают такие махинации вполне
нормальными, иначе как объяснить, что мои предложения они
истолковывают именно таким образом? Однако мои общие
и беглые замечания о государстве, об этике, об
образовании и о науке, высказанные в Π Μ и в «Науке в свободном
обществе», должны быть внимательно проанализированы
людьми, которым они предназначались. Это мои
субъективные мнения, а не объективные руководства; они
должны проверяться другими людьми, а не «объективными»
критериями, и они обретут политическую силу только после
того, как будут рассмотрены каждым человеком, которого
это касается: в конце концов, решающим оказывается
консенсус заинтересованных лиц, а не мои аргументы.
Возражение, ссылающееся на то, что люди сначала
должны научиться думать, говорит о самомнении и невежестве
408
Пол Фейерабенд
его авторов, ибо фундаментальный вопрос стоит так: кто
может говорить и кто должен слушать? Кто действительно
знает, а кто просто упрям? Можем ли мы доверять нашим
экспертам, физикам, философам, врачам, учителям, когда
они утверждают, что знают, о чем говорят, или они просто
навязывают нам собственное убогое существование?
Действительно ли признанные великие умы, такие как Платон,
Лютер, Руссо, Маркс, открыли нам что-то новое или наше
уважение к ним выражает лишь нашу собственную
незрелость?
Эти вопросы касаются каждого из нас, и каждый
должен принять участие в ответе на них. Даже самый тупой
студент и самый искусный крестьянин, прославленный
публичный деятель и его многострадальная жена, академик и
собачник, убийца и святой — все они имеют право сказать:
смотрите, я тоже человек, у меня есть идеи, мечты, чувства,
желания, я также был создан по образу Бога, однако вы в
своих рассказах никогда не обращали внимания на мой мир
(в Средние века это было не так, см.: Ф. Хеер [93]).
Значение абстрактных вопросов, содержание ответов на них,
качество жизни, выраженное в этих ответах, — все эти вещи
могут получить оценку только в том случае, если каждый
примет участие в их обсуждении и выразит свой взгляд на
них. Лучшее и самое простое выражение этих идей можно
найти в большой речи Протагора (Платон, «Протагор» 320с—
328d): гражданам Афин не нужны никакие инструкции в
отношении использования языка, отправления правосудия
или обращения с экспертами (полководцами,
архитекторами, мореплавателями); воспитываясь в открытом
обществе, где обучение является непосредственным и не
направляется учителями, граждане обучаются всему с самого
начала. На то возражение, что государство и инициативы
граждан не возникают сами по себе, а должны быть
результатом целенаправленного действия, ответить легко: пусть
Прощай, разум
409
тот, кто высказывает это возражение, попробует пробудить
некоторую гражданскую инициативу, тогда он быстро
поймет, что ему действительно нужно, что содействует его
намерениям, что препятствует им, в какой мере его идеи
помогают другим людям или мешают им и т.д.
В этом и заключается мой ответ на разнообразную
критику «моей политической модели». Эта модель
неопределенна, однако неопределенность здесь необходима, ибо модель
должна оставить «пространство» для конкретных решений
тех, кто ее принял. Модель рекомендует равенство традиций:
любое предложение сначала должно быть рассмотрено теми
людьми, для которых оно предназначено, результата
предсказать никто не может. (Например, пигмеи или жители
Филиппин не хотят равных прав, они хотят остаться одни.)
Конфликты разрешаются не «образованием», а силами
полиции {policeforce). Маргерита фон Брентано
истолковывает последнее высказывание так, будто из него следует,
что граждане могут только говорить или писать, но их
действия строго ограничены. Другие критики вскидывают
руки в отчаянии: зашла речь о полиции — и либералы с
марксистами готовы бежать, поджав хвост. Но здесь
такая же ошибка, как отмеченная выше. Полиция вовсе не
является какой-то внешней силой, подавляющей граждан;
она вводится гражданами, состоит из граждан и служит их
потребностям (см. мой комментарий по поводу защитной
гвардии черных мусульман, «Познание для свободных
людей», с. 162, 297). Граждане не только думают, но и
принимают решения по поводу своего окружения. Я говорю лишь
о том, что более гуманно регулировать поведение
внешними ограничениями — такие ограничения легче устранить,
когда они будут признаны ненужными, а не стремиться к
улучшению душ. Допустим, нам удалось внедрить Добро в
каждого человека, но сможем ли мы тогда когда-нибудь
возвратиться к Злу?
410
Пол Фейерабенд
7. Добро и зло
Последнее замечание приводит меня к тому пункту,
который привел в ярость многих читателей и разочаровал
многих друзей, — к моему отказу осудить даже самый крайний
фашизм и готовности предоставить ему возможность для
выживания. Одно должно быть ясно: фашизм мне не по
вкусу (даже «несмотря на всю мою сентиментальность и почти
инстинктивную склонность «действовать гуманно»:
«Познание для свободных людей», с. 156). Проблема не вэтом.
Проблема заключается в существе моей позиции:
выражает ли она некоторую склонность, которой я следую и
приветствую в других людях, или же это некий «объективный
стержень», позволяющий мне бороться против фашизма не
потому, что он мне не нравится, а потому, что он
представляет собой зло. Мой ответ таков: таковы наши склонности,
и ничего более. Эта склонность, подобно многим другим,
окружена пустой болтовней и на ее основе сооружены
целые философские системы. Некоторые из этих систем
говорят об объективных качествах и объективных
обязательствах утверждать их. Однако вопрос не в том, как мы
говорим, а в том, какое содержание мы вкладываем в свои
слова. И когда я пытаюсь установить это содержание, то
все, что я нахожу, — это разные системы, утверждающие
разные множества ценностей, и наши предпочтения при
выборе между ними («Наука в свободном обществе», часть 1).
Если одна склонность сталкивается с другой, то в
конечном итоге побеждает более сильная склонность, что
сегодня на Западе означает — более крупный банк, более
толстая книга, более решительный преподаватель, более
тяжелая пушка. Искаженный наукой и воинственный
(атомное оружие!) гуманизм сегодня (на Западе)
испытывает уважение к большим размерам, и пока на этом все
остановилось.
Прощай, разум
411
Между прочим, это один из уроков, который я усвоил,
изучая жизнь Ремигия, инквизитора. Маргерита фон Брен-
тано, упомянувшая мою ссылку на него, оказалась
достаточно любезна для того, чтобы не приписывать мне
желания возродить колдовство и его преследования. Конечно, у
меня нет такого желания. И едва ли я остался бы
молчаливым свидетелем таких преследований. Но только потому,
что это мне не нравится, а не потому, что я считаю это
безусловным злом или проявлением отсталых взглядов.
Последнее трудно было бы подтвердить какими-то
аргументами. Такие аргументы придают их автору авторитет,
которым он не обладает. Они ставят его на сторону ангелов, хотя
он всего лишь выражает свое личное мнение. Он выступает
от имени истины, хотя это всего лишь плохо обоснованное
мнение. Существовало много аргументов против атомов,
против вращения Земли или эфира, тем не менее все это в
свое время вернулось на сцену. Существование Бога,
дьявола, небесного царства, ада никогда не подвергали
сомнению даже с более слабой позиции. Поэтому если я хочу
отделаться от Ремигия и духа его эпохи, то могу, конечно, это
сделать, но при этом я должен понимать, что
единственными средствами при этом будут риторика и самоуверенность.
С другой стороны, если я признаю только «объективные»
основания, то ситуация вынуждает меня проявлять
терпимость, ибо таких оснований не существует («Наука в
свободном обществе», части 1 и 2; «Познание для свободных
людей», глава 3).
Ремигий верил в Бога, верил в загробную жизнь, в ад и
адские муки, он верил также, что ребенок ведьмы,
который не был сожжен, оказался бы в конце концов в аду. Он
не просто верил в эти вещи, но мог бы подтвердить их
аргументами. Он аргументировал не так, как мы, и его
свидетельства (Библия, Отцы Церкви, решения церковных
Соборов и т.п.) не были свидетельствами с нашей точки зре-
412
Пол Фейерабенд
ния. Но это вовсе не означает, что его идеи были лишены
содержания. Что мы можем противопоставить ему? Веру в
то, что существует научный метод и что наука достигает
успехов? Первая часть этой веры ложна (см. раздел 2 выше);
вторая часть верна, однако ее следует дополнить указанием
на то, что было и немало ошибок и что успехи относятся к
узкой области, которая никак не касается затрагиваемых
здесь вопросов (душа, например, никогда не была
предметом исследования). То, что оказалось за пределами этой
области, например идея ада, никогда не подвергалось
проверке, оно было просто забыто — точно так же, как были
забыты научные достижения античности в эпоху раннего
христианства.
В рамках своего мышления Ремигий действовал как
разумный и ответственный человек, и по крайней мере
рационалисты должны отнестись к нему с одобрением. Если нам
чужды его воззрения и мы не способны воздать ему
должное, то мы должны хотя бы понимать, что наше
отвращение нельзя обосновать никакими «объективными»
аргументами. Мы можем, конечно, исполнять какие-то моральные
арии, можем даже написать целую оперу, в которой эти арии
будут звучать прекрасно, однако все это не приблизит нас к
Ремигию и мы не сможем перетянуть его на нашу сторону,
обращаясь к его разуму. Он пользуется своим собственным
разумом, но с иными целями, руководствуясь иными
правилами и опираясь на иные свидетельства. Выхода нет: мы
несем полную ответственность за то, что действуем не так,
как действовал Ремигий, и нет никаких объективных
ценностей, которые могли бы оправдать нас, приведи наши действия
к беде.
С другой стороны, не следует забывать о наших
собственных инквизиторах — о наших ученых, врачах,
педагогах, социологах, политиках, «носителях прогресса».
Взгляните хотя бы на этих врачей, которые до сих пор режут, тра-
Прощай, разум
413
вят и облучают, не пытаясь исследовать других методов
лечения, которые хорошо известны, не имеют опасных
последствий и вполне могут быть успешными. Разве не
стоило бы попытаться использовать эти методы (разве не
стоило попытаться сохранить жизнь детям колдуньи)?
Конечно, стоило бы. Однако в ответ мы слышим одно: пусть будут
прокляты! Или попробуйте проверить деятельность наших
педагогов, которые год за годом продолжают навязывать все
новым поколениям свои «знания», не обращая внимания
на подготовку и интересы учеников. Целые культуры были
убиты, их защитные системы разрушены (см. раздел 4), их
знания превращены в ничто — все это во имя прогресса (и
денег, конечно). Дух Ремигия, моя дорогая Маргерита, все
еще с нами — в экономике, в энергии производства и (зло)
употребления, в помощи другим странам, в образовании.
Единственное отличие состоит лишь в том, что Ремигий
действовал во имя человеколюбия (он хотел спасти
маленьких детей от вечных мук), а его современные
последователи заботятся только о своей репутации: у них нет не только
перспективы, но и человечности. Мне они тоже не
нравятся, хотя опять-таки не в силу каких-то объективных
стандартов, а потому, что я мечтаю о лучшей жизни.
Если эту мечту (которая у меня есть) соединить с идеей
объективных ценностей (которую я отвергаю) и назвать
результат моральной совестью, το у меня нет моральной
совести. Я бы сказал, что это очень хорошо, ибо большинство
несчастий нашего мира, войны, уничтожение мыслей и тел,
бесконечные убийства вызваны не злыми людьми, а теми,
кто объективизирует свои личные желания и склонности и
тем самым лишает их человечности.
Между прочим, это единственное, что заметил Агасси в
своем странном отклике. Он утверждает, что высказывает
истину. Конечно, для него это прекрасно, но мы чувствуем
некоторое неудобство. Критики его научной работы уже
414
Пол Фейерабенд
давно указывали на то, что он очень редко знает то, о чем
говорит, даже тогда, когда пытается высказать истину
(например, пункт 882 в библиографии Розена, [202]). Его
статья подтверждает это впечатление. Он утверждает, будто я
пошел в немецкую армию добровольцем, но меня просто
призвали. Он говорит, что я постарался забыть о
политических и моральных аспектах Второй мировой войны, но я
их просто не замечал. В восемнадцать лет я был книжным
червем, а не мужчиной. Он говорит, будто я поклоняюсь
Попперу. Что верно, то верно: мне нравятся люди, мне
приятно, что я могу посмотреть на кого-то, восхититься им,
сделать его примером для себя, но в Поппере нет
материала для создания идола. Агасси называет меня учеником Поп-
пера. Это верно в каком-то смысле, но совершенно неверно
в другом. Верно, что я слушал лекции Поппера, посещал его
семинар, иногда приходил к нему и разговаривал с его
котом. Но все это я делал не по собственной воле, а потому, что
Поппер был моим куратором: работа с ним была условием
выплаты мне содержания Британским советом. Я не
выбирал Поппера для работы, я предпочитал Витгенштейна, и
Витгенштейн был согласен. Но Витгенштейн умер, а
Поппер был следующим в моем списке. Агасси забыл также о
том, как часто он на коленях умолял меня отказаться от
моего reservatio mentalis, полностью принять «философию»
Поппера и, в частности, увеличить количество ссылок на
Поппера во всех моих сочинениях. Последнее я сделал.
Ладно, я хороший парень и вполне могу помочь тем, кто живет
только тогда, когда видит свое имя напечатанным. Но я не
согласился на первое: в конце 1953 года, о котором пишет
Агасси, Поппер предложил мне стать его ассистентом, я
отказался, хотя у меня совсем не было денег и я был
вынужден кормиться за счет то одного, то другого из моих
более состоятельных друзей.
Агасси распространяет также некоторые слухи, что, по-
видимому, необходимо для того, чтобы сделать жизнь в поп-
Прощай, разум
415
перианской церкви сколько-нибудь сносной: он цитирует
слова Поппера о том, будто однажды я со слезами
раскаивался в своем участии во Второй мировой войне. Это
вполне возможно, ибо я человек эмоциональный и в своей
жизни наделал много глупостей, но едва ли такое было: я
никогда не обсуждал своих личных дел с иностранцами и,
кроме того, здесь не о чем было сожалеть, разве что о том, что у
меня не хватило ума избежать призыва в армию. А мои
слезы были скорее слезами скуки, которую наводили на меня
визиты к Мастеру. Я усматриваю полное падение
стандартов учености в Германии в том, что такой вздор, как
сочинение Агасси, мог быть написан за счет стипендии,
носящей почетное имя Александра фон Гумбольдта.
Лишь в одном Агасси обнаруживает некоторое
понимание реального положения дел — это относится к нашему
обсуждению моральных проблем. Я очень хорошо помню эту
дискуссию. Агасси побуждал меня занять некоторую
позицию, т.е. исполнять моральные арии. Я чувствовал себя очень
неловко. С одной стороны, положение казалось
совершенно идиотским — я исполняю свою арию, нацисты — свою,
ну и что? С другой стороны, я испытывал иррациональное
давление Освенцима, которое Агасси и многие
идеологические уличные певцы как до него, так и после него бесстыдно
использовали для того, чтобы побудить людей к
выполнению бессмысленных жестов (или чтобы настолько промыть
им мозги, чтобы эти жесты получили какое-то «значение»).
Что я мог бы сказать сегодня?
Я скажу, что Освенцим представляет собой крайнее
проявление той позиции, которая все еще процветает в нашей
среде. В индустриальных демократических странах она
обнаруживает себя в отношении к меньшинствам, в
образовании, которое по большей части состоит в превращении
удивительных молодых людей в бесцветные и
самодовольные копии их наставников; она обнаруживается в атомной
416
Пол Фейерабенд
угрозе, в постоянном росте количества и мощи
смертоносного оружия и в готовности некоторых так называемых
патриотов развязать войну, в сравнении с которой Холокост
кажется чем-то незначительным. Она обнаруживается в
уничтожении природы и «примитивных» культур, что
лишает смысла жизнь носителей этих культур; в
колоссальном самомнении наших интеллектуалов, в их твердой
убежденности в том, что уж они-то точно знают, что нужно
человечеству, и в их настойчивых усилиях перекроить людей
на свой убогий лад; в детской мегаломании некоторых
наших врачей, которые запугивают своих пациентов, калечат
их, а затем вытягивают из них большие гонорары; в
отсутствии чувства жалости у многих наших искателей истины,
которые систематически мучают животных, изучают их
страдания и получают награды за свою жестокость.
Насколько я понимаю, нет никакой разницы между
охранниками Освенцима и этими «благодетелями
человечества» — в обоих случаях жизнь приносится в жертву каким-
то целям. Проблема заключается в растущем пренебрежении
к духовным ценностям, в подмене их грубым, но «научным»
материализмом, иногда называемом даже гуманизмом:
человек (т.е. человек, подготовленный их специалистами)
может решить все проблемы, ему не нужно доверие или
помощь кого-то другого. Как я могу серьезно относиться к
человеку, который оплакивает далекие от него
преступления, но восхваляет преступников в своем собственном
окружении? И как могу я судить о чем-то издалека, если
осознаю, что реальность гораздо богаче, чем способно
вообразить даже самое богатое воображение?
Когда вы находитесь на переднем фронте борьбы с
жестокостью и угнетением и можете ясно видеть своих врагов,
когда не только способность к риторике, но все ваше
существо устремлено к победе, — это одно. Но совсем другое —
с комфортом расположившись в уютном офисе, решать
Прощай, разум
417
вопросы добра и зла. Я знаю, что многие из моих друзей
способны решать такие вопросы, не пошевелив ни одним
пальцем. По-видимому, у них очень развито моральное
сознание. Я же, с другой стороны, не решаюсь судить об этом
издалека и склонен рассматривать зло как часть жизни, как
часть творения. Никто не может сказать, какая доля добра
содержится даже в самых ужасных преступлениях.
8. Прощай, разум!
Каково происхождение той критики, на которую я
отвечал в этой главе? И почему я решил написать ответ?
На первый вопрос ответить легко.
Около восьми лет тому назад (1979 г.) Ханс Петер Ду-
еррбыл приглашен знаменитым издательством «Suhrkamp
Publishing House» в качестве автора. Он отказался,
поскольку имел другие обязательства. Однако он испытывал
некоторые угрызения совести, ибо не в его привычках было
отказываться от дружеских предложений. Доктор Унзельд,
руководящий ум издательства, чью способность чувствовать
угрызения совести превосходит лишь его умение
манипулировать людьми, обнаружил затруднения Ханса Петера и насел
на него с речами, выпивкой и угощением. Итог: Ханс
Петер проникся идеей устроить чествование Пола Фейерабен-
да и начал рассылать письма во всех направлениях. Какие-
то письма возвратились назад нераспечатанными, в
некоторых ответах справлялись о его психическом здоровье, в
других содержались обычные ссылки на недостаток
времени, однако некоторые люди решили вознести мне хвалу или
проклятие, либо совершить обряд заклинания духов. Таким
образом, это сборище состоялось не благодаря
достоинствам моих «работ», а благодаря влиянию алкоголя.
Гораздо труднее ответить на второй вопрос. Многие
люди — ученые, артисты, законодатели, политики, священ-
14—1509
418
Пол Фейерабенд
ники — не усматривают разницы между своей профессией
и своей жизнью. Если они добиваются успеха, то видят в
этом подтверждение собственной сущности. Если же они
терпят профессиональную неудачу, то считают, что
потерпели крушение как человеческие существа независимо от
того, сколько радости они доставили своим друзьям, детям,
женам, любовницам, своим собакам. Если они пишут
книги — рассказы, поэмы или философские трактаты, — то эти
книги становятся частью их собственного существа. «Кто
я? — спрашивал Шопенгауэр и отвечал: — Я человек,
который написал «Мир как воля и представление» и разрешил
великие проблемы бытия». Родители, братья и сестры,
мужья или жены, попугаи (волнистые попугайчики моих
английских читателей), даже самые интимные переживания
автора, его мечты, опасения, ожидания — все имеет
значение только в отношении к собственному существованию и
описывается соответствующим образом: жена знает, как
готовить обед, поддерживать чистоту в доме, стирать и
создавать уютную атмосферу; друзья, конечно, они поняли и
поддержали бедного парня, делились с ним деньгами, охотно
помогали ему создать того монстра, которого он родил, и
так далее, и тому подобное. Такая позиция имеет широкое
распространение. Она лежит в основе почти всех
биографий и автобиографий. Ее можно найти у подлинно
великих мыслителей (за несколько часов до смерти Сократ
отделывается от жены и детей, чтобы поговорить о глубоких
материях с обожающими его слушателями: «Федон» 60а7.
Художественная параллель, с изяществом, но большей
ненавистью, выстроена Клэр Голл в автобиографии «Я
никого не прошаю», [80]), но она свойственна и академическим
грызунам наших дней.
Мне эта позиция представляется чуждой, непонятной
и даже зловещей. Верно, когда-то я тоже восхищался этим
феноменом издалека; я надеялся войти в замок, откуда он
Прощай, разум
419
исходил, и принять участие в борьбе просвещения вместе с
обученными рыцарями. Но постепенно я стал замечать
более прозаические стороны этой борьбы: рыцари —
профессора — служат тем, кто им платит, и делают то, что им
говорят. Они не свободны в поиске гармонии и счастья для всех,
они являются государственными служащими (Denkbeamte —
работниками умственного труда, — если использовать
изумительный немецкий термин), и их стремление к порядку
не является результатом взвешенного исследования или
одержимости гуманизмом, а выражает профессиональную
болезнь. Поэтому хотя я и получал приличное жалованье,
но делал очень мало. Моей главной заботой было защитить
простых людей (а также здесь, в Беркли, собак, кошек,
енотов и даже обезьян), которые приходили лечиться на мои
лекции. В конце концов, сказал я себе, я несу какую-то
ответственность за этих людей и не могу обманывать их
доверия. Я рассказывал им разные истории и пытался укрепить
их естественное чувство несогласия, поскольку видел в этом
лучшую защиту от влияния идеологических соловьев,
которых они могли встретить: лучшее образование состоит в
том, чтобы привить людям иммунитет против всяких
попыток систематического образования. Но даже эти дружеские
разговоры не сделали более тесной мою связь с работой.
Часто, когда я шел по университету в Беркли, в Лондоне, в
Берлине или здесь, в Цюрихе, где мне платят твердые
швейцарские франки, мне приходила в голову мысль о том, что
я стал «одним из них». «Я профессор, — говорил я себе, —
но ведь это невозможно! Как же это случилось?»
Что касается моих так называемых «идей», то моя
позиция была точно такой же. Я всегда любил спорить с
друзьями о религии, об искусстве, политике, сексе, об убийствах,
театре, о квантовой теории измерений и многих других
вещах. В этих спорах я занимал то одну, то другую позицию: я
изменял свои точки зрения и даже образ жизни — во избе-
420
Пол Фейерабенд
жание скуки, в силу противоречия (как однажды печально
заметил Поппер), а также вследствие постепенно
крепнущего убеждения в том, что даже самая глупая и негуманная
точка зрения имеет свои достоинства и служит хорошей
защитой. Почти все мои сочинения —ладно, назовем их
«работами», — начиная с основной идеи, возникли в процессе
таких живых дискуссий и несут на себе отпечаток их
участников. Иногда мне казалось, что это мои собственные
мысли — кто из нас не был жертвой таких иллюзий? — однако я
никогда не рассматривал эти мысли как существенную часть
моей личности. Я говорил себе, что сам я — это совсем не
то, что изобретенные мной идеи или даже самые глубокие
мои убеждения, и никогда не должен позволять этим
идеям и убеждениям подчинить мою личность. Я могу «занять
некоторую позицию» (хотя даже само этой выражение с его
пуританским оттенком вызывает во мне отвращение), но
причиной этой является моя прихоть, а не «нравственное
сознание» или какая-то другая глупость подобного рода.
Имеется еще один элемент, лежащий в основе моего
нежелания «занимать какую-то позицию», — элемент,
который я открыл лишь недавно. Я писал Π Μ отчасти для того,
чтобы подразнить Лакатоса (который собирался писать
ответ, но умер, не успев этого сделать), а отчасти для того,
чтобы защитить научную практику от господства
философских законов. Усвоив Эрнста Маха и изучая физику у
Ганса Тирринга и Феликса Эренхафта, я пришел к твердому
убеждению в том, что научная работа сама себе служит
обоснованием и не нуждается ни в каком внешнем
оправдании. Меня раздражали люди, не имевшие не малейшего
представления о сложности научного исследования и, тем
не менее, полагавшие, будто они знают, как внести в него
улучшения. Я считал себя кем-то вроде научного либерала,
и моим боевым лозунгом было: «Оставьте науку ученым!»
Конечно, я считал себя рационалистом, однако простые
Прощай, разум
421
конкретные аргументы проф. фон Вайцзекера, которые я
услышал в Гамбурге в 1965 году (как мне кажется),
раскрыли мне поверхностность рационалистических рассуждений
и заставили меня вернуться к Маху.
И еще один опыт оказал на меня громадное влияние.
Я воспроизведу его в тех же словах, в которых впервые
описал его в работе «Наука в свободном обществе» (с. 176):
После 1964 года благодаря новой политике в области
образования в университет пришли мексиканцы, чернокожие,
индейцы. Частью любознательные, частью
пренебрежительные, частью просто смущенные, они сидели в надежде
получить «образование». Какая возможность приобрести
поклонников! Какая возможность, говорили мне
друзья-рационалисты, содействовать распространению разума и
совершенствованию человечества. Какая великолепная возможность для
подъема новой волны просвещения! У меня было совсем иное
чувство. Мне подумалось, что мои головоломные аргументы,
удивительные истории, которые я до тех пор рассказывал моей
более или менее искушенной аудитории, могут быть не более
чем выдумками небольшой группы людей, которые добились
успеха в подчинении своим идеям всех остальных. Кто я
такой, чтобы учить собравшихся людей тому, что и как нужно
думать? Я не знал их проблем, хотя понимал, что они у них
есть. Мне были незнакомы их интересы, их чувства, их
страхи, хотя я знал, что они хотят учиться. Могли ли те скучные
хитросплетения мыслей, которые долгие годы копились
философами и которым либералы постарались придать
соблазнительную упаковку, что-то дать тем людям, у которых отняли
страну, культуру, достоинство и теперь предлагали усвоить и
повторять чуждые им идеи их поработителей? Они хотели знать,
они хотели учиться, они хотели понять окружающий их мир,
так разве не заслуживали они лучшей пищи для своего ума? Их
предки создали свою собственную культуру, богатый язык,
мировоззрение, гармонизирующее отношения между людьми и
между человеком и природой. Даже остатки всего этого
позволяют критически взглянуть на тенденции к разобщению,
422
Пол Фейерабенд
анализу, к эгоцентризму, присущие западному мышлению...
Вот такие мысли приходили мне в голову, когда я смотрел на
свою аудиторию, и во мне зародилось отвращение к той
задаче, которую мне нужно было решать. Теперь мне стало
вполне ясно, что это - задача очень просвещенного, очень
хитроумного надсмотрщика над рабами. А я не хотел быть
надсмотрщиком.
Этот опыт напоминал мой опыт общения с физиками.
Тогда я тоже остро почувствовал ненужность философии,
которая стремилась вмешаться в хорошо упорядоченную
практику. Но тогда как наука была лишь частью культуры и
для достижения полноты жизни нужны были другие
ингредиенты, традиции моих слушателей были полны с самого
начала. Поэтому вмешательство было гораздо более
серьезным и требовалась гораздо большая устойчивость. Пытаясь
укрепить эту устойчивость, я рассматривал
интеллектуальные решения, т.е. я все еще считал несомненным, что могу
давать советы другим людям. Конечно, я намеревался
рекомендовать гораздо лучший способ действий, нежели
предлагал президент Джонсон и его советники, однако, действуя
таким образом, я снимал ответственность с тех людей,
которым стремился помочь, и поступал так, как если бы сами они
были не способны позаботиться о себе. По-видимому, я
осознал это противоречие, что заставило меня действовать
отстраненно и не занимать какую-либо позицию.
Так мы приходим к третьему важному событию в моей
жизни — к моему знакомству с Грацией Боррини —
мягкому, но стойкому борцу за спокойствие и уверенность в себе.
Грация, как и я, изучала физику. Как и я, она сочла это
изучение слишком ограниченным. Но тогда как я все еще
пользуюсь абстракциями (такими, как, например, идея
«свободного общества») для того, чтобы прийти к более
широкой и гуманной точке зрения, ее идеи были частью
«исторической традиции» (если использовать мою извращен-
Прощай, разум 423
ную манеру речи). Я знал об этой традиции и писал о ней
еще до того, как встретил Грацию, но опять-таки лишь
конкретное столкновение с ней заставило меня понять, что из
этого следует. Грация снабдила меня книгами и статьями
выдающихся ученых, исследовавших проблемы
экономического и культурного обмена. Это было действительно
важно. Во-первых, теперь у меня были гораздо лучшие
примеры ограниченности научного подхода, нежели те, которые
я привык использовать (астрология, Вуду, некоторые
разделы медицины). Во-вторых, я понял, что мои усилия не
были напрасными и требуется лишь небольшое изменение
позиции, чтобы сделать их более эффективными и в моих
собственных глазах, и в глазах других людей. Можно помочь
людям написанием книг. Я был чрезвычайно удивлен и
растроган, когда заметил, что представители разных культур,
к которым я отнесся с уважением, читали некоторые мои
работы и приветствовали их появление. Поэтому я
отбросил свой цинизм и решил написать последнюю, но
хорошую книгу для Грации. Я пишу лучше, когда вижу перед
собой ее милое лицо (напомню, что я писал ПМ, имея в
виду Имре Лакатоса). Обращаясь к Грации, я обращаюсь
ко всем людям, которые, несмотря на голод, угнетение,
войны, стремятся выжить и получить свою долю счастья.
Конечно, чтобы написать такую книгу, я должен буду
окончательно освободиться от пут, все еще привязывающих
меня к абстрактному подходу, или, выражая это в своей
безответственной манере, должен буду сказать: Π РОЩАЙ,
РАЗУМ!
Примечания
1 О «кризисе» и «глубоком противоречии» см.: Р. Сперри
[229], с. 6. О расхождениях между естественными и
гуманитарными науками см.: Ч.П. Сноу [226], а также: У.Т. Джонс [115].
Раскол между естественными и гуманитарными науками Джонс
называет «кризисом современной культуры». Выражение
«культурная разноголосица» встречается в одном из выпусков
журнала «Precis», освещающем дискуссию о постмодернизме в
Школе архитектуры Колумбийского университета; выражение
«недуг» употреблено в работе K.P. Поппера «Открытое
общество и его враги». Замечание Хабермаса можно найти в «Die Neue
Unuebersichtlichkeit», [87].
2 Важнейшим среди этих групп является новый класс —
научно-техническая элита, которая, согласно некоторым авторам
(среди них Дэниэл Белл и Джон Кеннет Гэлбрейт), обретает все
больший престиж и власть. Бакунин, подчеркивавший
значение научного познания, в то же время предостерегал против
«царства научной интеллигенции — самого
аристократического, деспотичного, надменного и элитарного из всех режимов»
([34], с. 319). В наши дни его опасения оправдались.
Положение даже хуже, ибо знание стало предметом потребления, его
законность соединена с легитимностью законодателя: «наука
гораздо более полно подчинена господствующей власти, чем
когда-либо прежде, и... находится в опасности стать главной
ставкой в борьбе властей» (Ж.-Ф Лиотар [148], с. 8). Элита, уп-
Прощай, разум
425
равляющая обществом, часто поддерживает то, что Эдвард
Томпсон назвал «экстерминизмом» — структуру абстрактного
исследования и технического развития, направленную на
массовое убийство: Э.П. Томпсон (ред.) [238], с. 1 и ел., особ. с. 20.
См. также Н. Хомский, «Интеллектуалы и государство», [25], а
также дискуссии о функционировании национальных
лабораторий, напечатанные в Bulletin of the Atomic Scientists, 1985.
3 Общая характеристика дана в: Дж. Бодли [10]. Анализ
некоторых данных о состоянии здоровья и о голоде дан Г. Борри-
ни, «Здоровье и развитие — соединение небес с адом» [15]. М.
Рахнема в рукописи «From «Aid» to «Aids»» [197] описывает,
каким образом навязывание западной технологии разрушает
защитные системы общества — системы, которые предохраняли
общество от природных и социальных катастроф.
Предупреждение Ф. фон Хайека, указывавшего на то, что общества,
прошедшие длительный путь приспособления, лучше вооружены
для решения встающих проблем, нежели интеллектуалы,
опирающиеся на наиболее прогрессивные теории и технические
средства, получило драматическое подтверждение посредством
компьютерной модели следствий «рациональной интервенции»:
все такие «интервенции» ухудшают состояние общества: Ф. фон
Хайек[92],с. 287.
4 См.: М. Рахнема [198], «Education for Exclusion or Participation?».
Ситуация в западном мире описана в: И. Иллич [111].
5 Сидней Дрелл, советник правительства США по вопросам
национальной безопасности и контроля над вооружениями,
формулирует четыре «цели переговорного процесса» ([37], с. 36
и ел.). Третья цель заключается в том, чтобы «две страны [США
и СССР] благодаря переговорам обеспечили выборочное
сокращение вооружений в соответствии со спецификой своих
технологий и бюрократической структурой. Хотя эти сокращения
должны быть равными, они в то же время могут быть
асимметричными. Поэтому переговорный процесс должен быть в высшей
степени гибким». Рудольф Пайрлс в книге «Перелетная птица»
([181], с. 287) пишет в аналогичном духе: «Ясно, что
географическое и стратегическое положения двух сторон различны; их
ядерные вооружения, средства доставки и разведывательные
426
Пол Фейерабенд
органы сильно отличаются, следовательно, любая оценка их
относительной мощи оказывается в высшей степени
спекулятивной». Обмен между двумя народами, затрагивающий их
жизненные интересы, нельзя осуществить «объективным» и
схематизированным способом.
6 Этот процесс смягчения требований прекрасно описан в
статье И. Лакатоса «Фальсификация и методология
научно-исследовательских программ» ([128]); см. статью того же автора
«История науки и ее рациональные реконструкции» ([129]). По
поводу исчезновения всякого содержания см. т. 2, гл. 8, раздел
9 и гл. 10 моих «Философских статей» ([60]).
7 Это справедливо как для «контекста открытия», так и для
«контекста обоснования»: хорошее обоснование должно быть
открыто точно так же, как хорошая теория или хороший
эксперимент.
8 Подробности см. в гл. 5, т. 2 моих «Философских статей»,
([60]).
9 В удивительном отрывке («Теэтет» 144d8— 145а 13),
предшествующем началу беседы, платоновский Сократ упрекает одного
из участников диалога за то, что тот нашел сходство между собой
и Теэтетом, не являясь экспертом по установлению сходства.
10 «Отсутствие предубеждений у аборигенов, — пишет Ка-
рен Бликсен относительно своих впечатлений в Кении ([33],
с. 54), — вызывает у вас удивление, поскольку вы ожидаете
найти у этих людей строгие табу. Я думаю, это обусловлено их
знакомством с разными племенами и расами и оживленными
человеческими контактами, внесенными в Восточную Африку
сначала старыми торговцами слоновой костью и рабами, а в
наши дни (тридцатые годы) — поселенцами и охотниками.
Почти каждый абориген начиная с раннего детства сталкивается
лицом к лицу с представителями самых разных народов,
отличных от его собственного, — англичанами, евреями, бурами,
арабами, сомалийцами, индийцами, масаи и кавирондо. В
отношении восприимчивости к различным идеям туземец кажется в
большей мере гражданином мира, нежели местный поселенец
или миссионер, выросший в однообразном обществе и
снабженный небольшим количеством устойчивых идей. Множество
Прощай, разум
427
недоразумений между белыми и туземцами возникает именно
вследствие этого».
11 В своей книге «О человеческой природе» ([264], с. 192 и
ел.) Эдвард О. Уилсон пишет следующее: «в течение
длительного времени религия выступала как жизненная сила общества.
Подобно мифологическому титану Антею, черпавшему свою
силу от матери-земли, религия не может быть повергнута теми,
кто просто нападает на нее. Духовная слабость научного
натурализма обусловлена тем фактом, что у него нет такого
первобытного источника силы. Объясняя биологические источники
религиозного воодушевления [слишком смелое утверждение, не
обоснованное материалом, приведенным Уилсоном], в своей
современной форме он не способен опереться на них,
поскольку эволюционный процесс отрицает бессмертие индивида и
божественные блага у общества [это, конечно, верно, но люди
могут и должны жить полнокровной жизнью без этих
ингредиентов; отсутствие божественного дара не означает отсутствие
уважения и духовной удовлетворенности, материализм это
демонстрирует] и придает человеческому роду только
экзистенциальное значение [так ли?]. Гуманисты не могут испытывать
духовного преображения и самоотречения; ученый не может
вполне честно выступать в качестве священника [однако
ученые пытались узурпировать эту функцию]. Поэтому пришло
время поставить вопрос: нет ли способа обратить влияние
религии на поддержку нового великого предприятия [т.е.
материалистической науки], раскрывшего источники этого влияния?
Короче говоря: можно ли сделать науку столь же влиятельной,
как религия?»
12 Бакунин предсказывал наступление «царства научной
интеллигенции — самого автократического, деспотичного,
самого надменного и элитарного из всех режимов» ([34], с. 319).
Более современные писатели подтверждают это предсказание. Так,
Дэниэл Белл убежден в том, что «весь комплекс социальных
привилегий будет принадлежать интеллектуальным и научным
сообществам» ([8]), а Дж. К. Гэлбрейт считает, что «власть в
экономической жизни с течением времени теряет связь с
землевладением и начинает ассоциироваться с капиталом, а в наше вре-
428
Пол Фейерабенд
мя — со сплавом знаний и умений, относящихся к технострук-
туре» ([75]). «Интеллектуальные и научные сообщества» все с
большим раздражением отвергают всякое внешнее
вмешательство. Им лучше известно, заявляют они, как отличить важные
вопросы от несущественных, и они вполне осознают границы
их собственных достижений. Ведущие ученые и их
философские подпевалы утверждают к тому же, что научный дух
способен контролировать не только науку, но и все наше
существование. См.: Э.О. Уилсон [264], Б.Ф. Скиннер [216]; и о
проблеме в целом: Н. Хомский [25], с. 60 и ел.
13 Роберт Джей Л ифтон проанализировал этот феномен
«двойственности» на примере врачей, работавших в лагерях смерти:
«Нацистские врачи» [140] и «Будущее бессмертие» [141]. Это
явление распространено гораздо шире, нежели ему кажется.
Четыре из пяти выделенных им характеристик ([ 141 ], с. 196)
присущи многим биологам и социологам, все пять характерны для
исследователей в области медицины, которые подвергают
пыткам животных для получения знаний, которые, может быть,
немного продлят жизнь людям. «В спорах по поводу
профессиональных проблем, — пишет Лифтон ([141], с. 91), рассматривая
деятельность врачей из Освенцима, — основными были
технические вопросы. Как сказал мне врач СС: «Слово «этика» не
употреблялось в Освенциме. Врачи и остальной персонал
говорили лишь о том, как сделать свою работу более эффективной».
Когда в ноябре 1944 г. выяснилось, что Германия не сможет
создать атомную бомбу, «среди атомных физиков [работавших над
созданием атомной бомбы в США] стала распространяться мысль
о том, что эта бомба больше не нужна и что человечество может
избежать того апокалипсиса, который они ему готовили. Тем
не менее таких, кто прямо призывал отказаться от дальнейшей
работы, оказалось немного. Такой смелый шаг в тот момент,
когда успех был уже близок, нелегко было сделать тем, кто в
течение долгих месяцев напряженно трудился над реализацией
проекта» (М. Рузе [204], с. 68). Подробности можно найти в
тщательном исследовании Ричарда Роудза [201]. См., например,
речь Оппенгеймера (с. 761), в которой выразился его гегелиан-
ский прогрессизм. Книга показывает, что некоторые ученые,
Прощай, разум
429
среди них Бор и Сциллард, осознали, что при наличии
атомного оружия традиционное политическое мышление уже не
годится, и предлагали альтернативы. Бор видел опасность, но
полагал, что сама величина этой опасности может привести к
большей политической открытости (Роудз называет это
«дополнительностью по отношению к бомбе»). Сегодня многие ученые
активно выступают за ядерное разоружение. Однако есть и
другие ученые, для которых интересы научного исследования выше
разрядки напряженности между странами. Так, директор
Национальной лаборатории Лавермора (в послании к Конгрессу,
опубликованном в Bulletin of the Atomic Scientists, ноябрь 1985,
с. 13) выступает против запрещения ядерных испытаний,
ссылаясь на то, что «это неизбежно затормозит выполнение
программы вооружений, поскольку лишит ученых возможности
проверять с помощью эксперимента их теоретические идеи»:
стремление ученых продолжать играть в свою научную игру
наиболее простым и эффективным образом оказывается выше
вопросов мира и выживания человечества. Точно так же
отмахиваются и от возражений против звездных войн, ссылаясь на то,
что знания человечества должны расти. Группа ученых,
занимающаяся в лаборатории Лавермора звездными войнами,
состоит из «способных и увлеченных молодых людей, которые
совершенно инфантильны в социальном отношении. Все свое
время и все свои силы они отдают науке. Их не интересуют
женщины и вообще ничто другое. Они целиком сосредоточены на
решении технических проблем...» (цит. по: У. Броад [17], с. 25).
Западная цивилизация ныне так высоко ценит эффективность,
что иногда высказываемые этические возражения кажутся
«наивными» и «ненаучными». Эта цивилизация многими своими
чертами напоминает «дух Освенцима». Однако я не склонен к
выводу (который сделал Азиз Нанди в своей лекции 1980 года,
посвященной памяти М.Н. Роя, сокращенный вариант которой
опубликован в виде статьи «Патология объективности») о том,
что заметные особенности этой цивилизации носят
патологический характер. Это звучит не более разумно, чем обвинения в
«иррациональности» или в «отсутствии научного базиса», часто
звучащие из уст респектабельных защитников status quo. Запад-
430
Пол Фейерабенд
ная цивилизация (как, впрочем, и Освенцим) представляет
собой одно из многих проявлений человеческой жизни и
создаваемые ею проблемы вовсе не решаются навешиванием ярлыков.
14 По-видимому, раньше всех иглоукалывание в Китае
поддержали те люди, которые возражали против хирургических
методов медицины, считая священным человеческое тело: [244],
с. 2 и ел. (Джозеф Нидхэм склонен отрицать существование
таких тенденций). О первых попытках анатомирования в Европе
см.: И. О'Мэлли [175], гл. 1.
15 Разделение фактов, ценностей и рациональности
является, конечно, искусственным. Факты образуются с помощью
процедур, содержащих ценности, ценности изменяются под
влиянием фактов, а принципы рассуждения предполагают
определенный мировой порядок (закон непротиворечивости
будет абсурдным в абсурдном мире). Я говорю об
искусственности для упрощения существа дела. Тем самым я ограничиваю мою
аргументацию, которая благодаря этому может быть принята
защитниками объективных ценностей.
16 Р. Сперри [229]. Ниже цитируются страницы 72, 6, 32, 75.
17 Так, Уилсон в упомянутом сочинении приветствует
появление «антинаук» (с. 8), противостоящих признанным научным
дисциплинам. Такими антинауками он считает гуманитарные
дисциплины (которые пользуются полным академическим
признанием). He-академические идеи и точки зрения во внимание
не принимаются.
18 См. литературу, указанную в примеч. 3 и 4. Не-научные
культуры способны иметь более ясное представление об
опасностях радикально нового знания. Многочисленные мифы
говорят нам о том, что лишь недавно и с большим трудом
осознали наши интеллектуалы, — что информация, отделенная от
обстоятельств ее происхождения, может оказаться
разрушительной и что жизнь природы нельзя изменять безнаказанно.
19 Я не хочу сказать, что в туземных сообществах все обстоит
хорошо и внешняя помощь никогда не нужна. Паразиты,
инфекционные болезни, врожденные недостатки порождают
серьезные проблемы, некоторые из которых могут быть
устранены с помощью западной медицины (о подробностях можно уз-
Прощай, разум
431
нать из чрезмерно оптимистической книги: У.У. Спинк [230]).
Нет вполне совершенного общества, как нет вполне
совершенного тела. Однако критикуемые мной авторы идут гораздо
дальше. Они не только считают, что помощь необходима, но
уверены также в том, что любое изменение в сторону западной
цивилизации и, в частности, западной науки ведет к улучшению. Это
просто неверно.
20 Р. Левонтин и др. [139], с. 245. Авторы подвергают
критике социобиологию; они критикуют ее легкомыслие, а не то, что
она ставит теорию на место индивидуальных решений. Однако
даже наиболее изощренная теория может лишь описать то, как
конкретное множество ценностей функционировало в прошлом,
она не может предсказать, какими будут ценности в новых и
неожиданных обстоятельствах. Для того чтобы узнать это, мы
должны обратиться к людям, использующим ценности, т.е. мы
должны спросить их, как они принимают решения.
21 У этой процедуры, как и у любой другой, есть свои
исключения. Появление быстро распространяющегося заболевания
может потребовать немедленных решительных действий со
стороны тех, кто обладает властью и знает, как справиться с
несчастьем. Мне кажется, такие случаи нужно считать исключением.
Насколько возможно, следует осуществлять взаимные
консультации и их следует возобновлять, как только опасность
уменьшилась.
Жестокое насилие и массовые убийства могут служить
другим примером, когда необходимо вмешательство. Однако
освободители должны понимать, что они опираются только на
собственные твердые убеждения и что никакие «объективные»
ценности не придут к ним на помощь, если их усилия не
приводят к успеху, ухудшают положение или осуждаются
последующими поколениями. Мы осуждаем Освенцим и некоторые из
нас осуждают решение Трумена сбросить атомную бомбу на
Хиросиму и Нагасаки, но мы осуждаем их как одни люди
других людей, а не с высоты небес.
22 В своей работе «Наука в свободном обществе», [57], с. 44—
44* я назвал взаимодействие описанного в тексте вида «свобод-
* Здесь и далее даются страницы русского перевода.
432
Пол Фейерабенд
ным взаимодействием». «Имеется по крайней мере два
разных пути коллективного решения некоторой проблемы, —
писал я, — которые я буду называть вынужденным
взаимодействием и свободным взаимодействием. В первом случае
некоторые или даже все участники принимают четко выраженную
традицию и признают лишь те реакции, которые соответствуют
ее стандартам... Рациональные дебаты представляют собой
особый случай вынужденного взаимодействия... С другой
стороны, свободное взаимодействие руководствуется прагматистской
философией. Традиция, принимаемая участниками, не
уточняется в самом начале, а разрабатывается по мере того, как
происходит это взаимодействие. Участники оказываются во власти
иных способов мышления, чувствования, восприятия до такой
степени, что их идеи, восприятия, воззрения на мир способны
полностью измениться. Они становятся другими людьми,
участвующими в новой и необычной традиции. При свободном
взаимодействии отношение к партнеру уважительное, будь то
отдельный индивид или целая культура, в то время как при
рациональном взаимодействии уважение имеет место только в
рамках рациональной дискуссии. При свободном взаимодействии
любое установление не навязывается, хотя его можно
изобрести; в нем нет канонизированной логики, хотя в процессе
взаимодействия и могут возникнуть новые формы логики».
Некоторые философы-объективисты ныне довольно
близко подошли к этой точке зрения. Так, Хабермас ([86], с. 205)
соглашается с тем, что когда пытаются изобретать «какие-то
учреждения для общества определенного типа при данных
исторических условиях», то философ должен присоединиться к
гражданам и «двигаться в круге общей традиции». Таким
образом (с. 160), «моральный философ должен предоставить
решение существенных вопросов [морального дискурса] участникам
[...] или с самого начала сделать нормативную теорию
участником процесса». Тем не менее он все еще считает, будто
существует «некое универсальное ядро моральной точки зрения» (с.
205), которое может быть раскрыто посредством «критики
ценностей скетиптизма и релятивизма» (с. 161) и которое
представляет собой нечто большее, чем случайное пересечение куль-
Прощай, разум
433
тур. Излишне говорить о том, что практические споры по
поводу колониализма, прогресса или вооруженного вмешательства
никак не затрагиваются этим убеждением, поэтому мы можем
сохранить его в надежде на то, что внутренние споры среди
самих философов окажутся достаточным средством для того,
чтобы удержать их от вмешательства в более существенные
вопросы.
23 Искусственные музыкальные инструменты часто звучали
ужасно для слуха любителей музыки. Однако сегодня
техническая музыка сама становится мерой совершенства.
24 В добавление к литературе, указанной в примеч. 18, см:
С. Уотте [250].
25 Я цитирую по изданию: М. Коген [162], с. 258, 268 и ел.
245 и ел.
26 Подробности см. в моих «Философских статьях», т. 1, с.
144 и далее. Обсуждаемая здесь методологическая ситуация
порождает сомнение в утверждении о том, что «гены держат
культуру в узде» (Э. Уилсон [264], с. 167), из которого следует
существование «объективных» пределов для человеческой
изобретательности. Даже если бы они существовали, то это можно было
бы обнаружить, только действуя так, как если бы этих пределов
не существовало. И нет такого конечного пункта, в котором
такие проверки потеряли бы смысл. (Конечно, «субъективно» люди
вскоре устанут от изобретения бесплодных альтернатив.) См.
мои замечания о Павлове в т. 1, гл. 6, раздел 9 моих
«Философских статей», а также гл. 5, раздел 3.
27 Петр Капица, находясь в Кембридже, украсил фасад
своей лаборатории изображением крокодила. Когда его спросили,
каков смысл этого изображения, он ответил: «Это крокодил
науки. Крокодил не может повернуться назад. Точно так же и
наука должна всегда двигаться вперед, пожирая все на своем пути».
См.: М.Рузе [204], с. 12.
28 См. ссылки и цитаты в моей статье «Что такое научность?»
[63], с. 385 и ел., а также раздел 4 главы 6 настоящей книги.
29 Идея начала во времени вызывала неприятие вследствие
ее близости к религиозным рассказам о творении. Крупный
астроном и философ Артур Эддингтон назвал ее «отвратительной»
434
Пол Фейерабенд
([42], с. 450). Фред Хойл, ([107], с. 2 и ел.) все еще выступает
против «новейшей космологической школы, которая в полном
согласии с иудео-христианскими теологами верит в то, что вся
Вселенная была однажды создана из ничего». Насколько я
понимаю, эта близость современной космологии к творению в
библейском смысле является скорее плодом воображения, нежели
реальностью. Тем не менее это воображаемое сходство не
послужило препятствием для научного исследования.
Идея дополнительности была разъяснена Н. Бором в книге
«Атомная физика и человеческое познание» ([12]). Макс
Дельбрюк в своих лекциях ([31], гл. 17и 18) обсуждает следствия этой
идеи; Питер Фишер в [67] анализирует (безуспешные) поиски
Дельбрюком феномена дополнительности в биологии; Дэвид
Бом в своей книге «Целостность и неявный порядок» [11]
предлагает свою собственную интерпретацию.
Необходимость использования субъективности как
инструмента исследования подчеркивается Конрадом Лоренцем ([144],
особенно гл. 4). Информацию об истории качественных
тенденций в теории возмущений см.: Дж. Мозер [165]. Соображения
об истории можно найти в: К.Ф. фон Вайцзекер [254], Ц.
Пригожий [194], Г. Хакен [89]) и во многих других работах.
30 В качестве примера можно привести многотомное
исследование китайской науки и техники Нидхэмом; см., в
частности, его сочинение о китайской медицине [168]. Изложение
основных результатов с комментариями по поводу сравнительных
достоинств западной науки см. в [169]. О «примитивных»
культурах см.: К. Леви-Стросс «Первобытное мышление» [138] и
огромное количество литературы, которое теперь имеется в этой
области. Маршак [ 156] и де Сантиллана и фон Дехенд [208]
рассматривают более современные подходы к пониманию
палеолитического искусства, техники и астрономии. Обзор и
некоторые социологические соображения см. в: К. Ренфрю [200].
31 Так, Конрад Лоренц в своей интересной, хотя и
несколько поверхностной книге ([ 145], с. 70) пишет:
«Ошибочноеубеждение в том, что только то, что можно рационально понять, или
даже то, что можно доказать научно, образует прочное знание
человечества, имело гибельные последствия. Оно побудило «на-
Прощай, разум
435
учно просвещенное» молодое поколение отказаться от
безмерной сокровищницы знаний и мудрости, которые содержались в
традициях каждой древней культуры и в учениях великих
мировых религий. Тот, кто думает, что все это лишено значения,
впадает в другое, столь же пагубное заблуждение, принимая
убеждение в том, что наука была способна рациональным
образом из ничего создать целую культуру со всеми ее
ингредиентами». В таком же духе Нидхэм [170] высказывается о «научном
опиуме», подразумевая под этим «бесчувственность по
отношению к страданиям других людей».
«Рационализм, — пишет Питер Медавар([159],с. 101), — не
может ответить на множество простых и даже детских
вопросов, которые любят задавать люди. Вопросы об источниках или
целях презрительно отвергаются как псевдовопросы, хотя люди
достаточно ясно понимают их и давно на них отвечали. Они
доставляют интеллектуальное беспокойство, поэтому
рационалисты — подобно плохим врачам, сталкивающимся с
заболеванием, которое они не могут диагностировать и излечить, —
склонны отбрасывать их как «фантазии»». В этом разделе я как раз
пытаюсь показать, что вопросы относительно ценности науки
относятся к числу таких «фантазий».
Сравни все это с тем, что сказано Э. Уилсоном в цитате,
приведенной в примеч. 11, по поводу того, что в научном
материализме отсутствуют важные элементы общего и нравственно
удовлетворительного мировоззрения. Отметим также, что такие
философы, как Кант, пытались спасти мировоззренческий
характер науки, доказывая, что базисные принципы науки
укоренены в человеческой природе и, следовательно, в жизни. (Поп-
пер, наш собственный мини-Кант и пропагандист
«эволюционной эпистемологии», повторяет тот же ход, но на более
прозаическом уровне.)
32 См. требование Канта относиться к каждому человеку как
к цели, но никогда как к средству: «Поступай так, чтобы ты
всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого
другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему
только как к средству» ([120], с. 90). Это требование имело
знаменитых предшественников. 20 июня 1500 года католический
436
Пол Фейерабенд
король Испании формально провозгласил свободу, хотя и не для
рабов, а для индейцев. Рафаэль Альтам ира комментировал это
следующим образом: «Это был памятный день для всего мира,
ибо впервые было признано право на достоинство и свободу всех
людей, независимо от того, насколько примитивными и
нецивилизованными они были; этот принцип никогда ранее не
провозглашался ни в одном законодательстве и тем более никогда
не практиковался» (цит. по: Л. Ханке [90], с. 7).
33 Эти замечания дают ответ на проблему, возникающую
вследствие стремления некоторых критиков к обобщениям. «Если
все традиции обладают равными правами, — говорят такие
критики, — то и та традиция, которая настаивает на
предоставлении прав только одной традиции, должна иметь те же права, что
и все остальные, а это лишает R3 смысла». Однако R3 — это не
какой-то принцип, который «влечет» следствия; это правило
деятельности, которое приобретает определенность в процессе
применения, и из него ничего не «следует».
34 Это различие выражается в переводах. В первом случае в
переводе должны употребляться точные термины; например,
должно быть ясно, что означает слово anihropos, — конкретного
человека, человека вообще или идеализированного мыслителя.
Во втором случае вольный и неопределенный перевод способен
приводить к ошибкам. Эти проблемы рассмотрены в: К. фон
Фритц [74], с. 111 и ел.; филологический комментарий см. в: У.
Гатри [85], т. 3, с. 188 и ел. Чарлз Канн в своих работах [117], с. 25
и ел. и [118], с. 376 обоснованно предложил такой перевод «Man
measures what is so [is the case] that it is so [that it is the case] etc.».
35 4. Канн [118], с. 365 и 369. По поводу дальнейшего см.
также: Н.Ф. Хайниманн [96], гл. 2 и К. фон Фритц [72], I, с. 223
и ел., II, с. 12 и ел.
36 Дильс—Кранц, фрагмент В9. Согласно мнению Рейнхар-
дта (В. Альфьери, [2], с. 127), слово пото в этом фрагменте
использовано параллельно nenomistai Парменида (В6, 8), которое,
в свою очередь (Хайниманн [96], и ел.), может быть передано
как «то, во что обычно верят многие» (но не истинное).
37 О выражении «многие» в философских рассуждениях
греков от Гомера до Аристотеля см.: Х.Д. Фойгтландер [246]. О Про-
Прощай, разум
437
тагоре речь идет на с. 81 и далее. «Никто не может сказать, —
пишет В. Эренберг [44], с. 340, — что это предложение [R5]
или его перевод является ясным и недвусмысленным.
Требуются дальнейшие пояснения, которые никоим образом не
очевидны... Кажется, Протагор шел дальше простых
чувственных восприятий... Главный пункт, который произвел
впечатление сразу и на все времена, это metron anthropos — человек в
центре всего». Я добавил бы: человек, включенный в его
обыденную, повседневную деятельность, а не человек — изобретатель
абстрактных теорий.
38 Эта интерпретация была высказана в: Э. Капп [121], с. 70
и ел. Курт фон Фритц соглашается с точкой зрения Каппа (указ.
соч., примеч. 144); в своей статье «Протагор» (см. примеч. 34)
он сравнивает утверждение Протагора с сетованиями автора
трактата «О древней медицине» по поводу того, что теоретики
медицины описывают болезни и исцеления в терминах
абстрактных сущностей, таких как Жар, Холод, Мокрота, Сухость, при
этом ни слова не говоря о конкретной пище (горячее молоко?
теплая вода?), которую следует принимать пациенту, или о
конкретной болезни, которой он страдает. Опираясь на эту
параллель, фон Фритц приходит к выводу о том (с. 114), что
утверждение Протагора «первоначально не было направлено на то,
чтобы формулировать последовательный сенсуализм, релятивизм
или субъективизм, скорее, он хотел противостоять странной
философии элеатов [согласно которой Бытие не имело частей и было
лишено движения] или Гераклита [согласно которому
существовало одно только изменение] философов, которые далеко
уходили от здравого смысла простых людей. Точно так же и автор
«трактата «О древней медицине» противопоставляет медицинскую
школу с ее наукой, выведенной из общих философских и научных
принципов, чисто эмпирической медицине и добавляет при этом,
что медицинская теория имеет ценность только в том случае, если
оказывается пригодной для простых людей». См. также: Ф. Кор-
форд [27], с. 69: «На самом деле все эти возражения
[высказанные в «Теэтете», 164с—165е] доказывали лишь то, что
«восприятие» должно включать в себя осознание образов памяти».
39 См., например: Я. Буркхардт [19], т. 4, с. 118 и ел.
438
Пол Фейерабенд
40 Эта проблема намекает на существование обширной
области, в которую мы только начали проникать. Например,
постепенно становится ясно, что затруднения стран так
называемого «третьего мира» могут быть обусловлены манипулятивной
рациональностью Запада, а не бедностью страны или
некомпетентностью ее носителей. Вторжение западной цивилизации
лишило многих местных жителей чувства собственного
достоинства и средств к существованию. Войны, порабощение,
простое уничтожение в течение длительного времени были
единственным методом общения с «дикарями». Однако и
гуманисты не всегда были лучше гангстеров. Навязывая свои
собственные представления о человеке и о хорошей жизни, они часто
довершали разрушение, начатое их
предшественниками-колонизаторами. Подробности см. в литературе, указанной в
примеч. 18.
41 В качестве примера можно указать на множество
подходов к определению природы человека, предлагаемых
фрейдистами, экзистенциалистами, генетиками, бихевиористами, ней-
ропсихологами, марксистами, теологами (правоверными
католиками, теологами освобождения), и огромное количество
разнообразных предложений, которые они высказывают в таких
областях, как народное образование, войны, преступность и т.п.
42 В интересной и спорной книге об атомном оружии Роберт
Юнгк ([ 116]) отмечает, что простые граждане часто гораздо
лучше информированы о важной научной литературе, нежели сами
ученые, и, имея иные и более широкие интересы (например, они
заинтересованы в будущем благополучии своих детей), они
могут принимать во внимание те последствия, которые еще не
рассматривались учеными. Конкретный пример воздействия
инициативы граждан рассмотрен в работе: Р. Михэн [160].
43 Некоторые современные либералы гарантируют право на
существование чужеземным культурам при условии, что они
будут принимать участие в международной торговле, допустят
к себе западных врачей и западных миссионеров
(представителей науки и других религий), которые будут объяснять их детям
чудеса науки и христианства. Однако идея мирного
сосуществования народов, которые учатся друг у друга, постепенно восхо-
Прощай, разум
439
дя ко все более высоким этапам познания, не нравится пигмеям
(например), которые предпочитают оставаться в стороне (К.
Тернбулл [241]). Рационалисты, такие как Поппер («Открытое
общество и его враги» [189], т. 1, с. 118), не возражают против
применения насилия в данном пункте: вхождение в зрелый
гуманизм может быть обеспечено силой посредством «одной из
форм империализма». Мне представляется, что достижения
науки и рационализма не настолько хороши, чтобы оправдать
такое насилие.
44 Иехезкель Кауфман в своей книге ([123]) описывает
культурное окружение Израиля (глава 6) и комментирует тот факт,
что «хотя вся библейская литература является продуктом
глубокой трансформации [книги Моисея], Библия ничего не
сообщает о направлении этой трансформации» (с. 230).
«Библейское незнание значения язычества, — пишет Кауфман (с. 20), —
представляет... фундаментальную проблему... для понимания
библейской религии». Однако это дает нам также «наиболее
важный ключ» (там же), указывающий на то, что это изменение
привело не к утрате власти языческими божествами, а к их
полному уничтожению: «Библия отрицает существование богов, она
игнорирует их. В отличие от философских нападок на
распространенную среди греков религию и в отличие от более поздней
полемики между иудеями и христианами, библейская религия
не обнаруживает следов постепенного подавления и
вытеснения мифологии» (с. 20).
В свою очередь, апостол Павел объявляет языческих богов
бесами (1 Кор 10:20).
Гностицизм представляет собой сложное явление, теории и
мифы гностиков принадлежат к наиболее красочным
продуктам человеческого мышления. Тем не менее во всех его
вариантах мир разделяется на части непреодолимыми пропастями, см.:
Р. Грант [84].
Сведение явлений к немногим принципам привело к
успеху в некоторых разделах физики и в планетарной астрономии.
Экспансия медицины оказалась бедствием. «В дополнение к
своей слабой логике, — пишет Ричард Шриок([214]), с. 31),
характеризуя медиков, пытающихся реформировать медицину по
440
Пол Фейерабенд
аналогии с унификацией планетарной астрономии Ньютоном, —
систематики обнаруживают характерные личные недостатки.
Это эгоизм, гордость системой как неким художественным
творением, стремление распространить и утвердить ее в качестве
нового евангелия, страстное желание защитить ее от кого бы то
ни было. Эта ограниченность объясняет резкие
профессиональные столкновения, в которые вовлекаются многие медики. Ясно,
что если один философ прав, то все остальные ошибаются, и в
таких случаях ему трудно было бы сдержать свои чувства.
Догматизм в медицине был столь же нетерпим, как и догматизм в
теологии».
45 К. фон Фритц [73], с. 11. В связи с дальнейшим см.
«Открытие сознания» Бруно Снелла [222], а также расширенное
четвертое издание [225]. О параллельных тенденциях см.: Э.
Форрест [68].
46 Это становится ясным из отождествления им мышления и
бытия. Это отождествление было обычным в архаической
Греции, однако Парменид был первым, кто использовал это в
качестве аргумента против культурного оппортунизма.
Современный вариант веры в то, что хотя одни традиции не
являются лучше, чем другие, однако только они одни дают нам
знание, можно найти в работе: Б. ван дер Варден [247], с. 89.
Ван дер Варден описывает разные способы, которыми
математики Вавилона и Египта вычисляли площадь круга, и задает
вопрос: «Как Фалес мог отличить точные, корректные способы
вычисления от приблизительных и некорректных? Очевидно,
посредством доказательства, посредством включения их в
логически стройную систему!»
47 С. Смит [217]. Фотографии экспонатов этой выставки и
их анализ опубликован в: [218]. Более ранними работами на эту
тему являются: В. Гордон Чайлд «Предыстория европейского
общества» [81]; а также «История технологии» под ред. Ч. Син-
гера [215].
48 [218]. См. также рецензию Смита в Isis [219], в которой он
пишет: «Можно видеть, что современная квантовая теория и
теория твердого тела представляют собой части величественной
цепи аргументов в решении вопроса о первичности формы или
Прощай, разум
441
материи. Дискуссия об этом была начата Платоном и
Аристотелем и колебалась между практическими (эмпирическими) и в
высшей степени теоретическими понятиями».
49 Это были элементы той самой «эмпирической и
несистематической» традиции, которую фон Хайек в своем
обсуждении свободы противопоставляет (философским или научным)
спекуляциям создателей систем: [91], с. 54.
50 Здесь слово «является» не следует понимать слишком
узко. Например, его нельзя интерпретировать так, чтобы из
него следовал наивный сенсуализм. Выражение «являться во
мнении» просто означает: быть частью некоторой традиции.
Аргументы имели цель показать, что ничто не существует, что
если бы что-то существовало, его нельзя было бы обнаружить,
что если бы оно было обнаружено, оно не могло бы быть
понято, а если бы оно было понято, то не могло бы быть
передано другому. Эти аргументы были изложены Горгием в его
трактате «О несуществующем, или О природе». Аргументы
обосновывали мысль о том, что Бытие, существующее вне какой-либо
традиции, не является сущностью. См. также раздел 5.
Софисты первыми (на Западе) осознали тесную связь между Бытием
и Мнением.
51 Подробности и литературу см. в главе 17 моей книги
«Против метода» [56]. Роль религии в Афинах пятого столетия до н.э.
освещена в работе: Т. Вебстер [252], гл 3.
52 Э. Эванс-Причард [52], с. 319 и ел. Второе замечание
взято со с. 270. Оракул имеет много преимуществ перед
«рациональными рассуждениями». Он не утомляет того, кто к нему
обратился, и не говорит о важных вопросах. С другой стороны,
рациональная дискуссия может быть настолько хаотичной и
утомительной, что приводит участников в состояние полного
отупения. Тогда они начинают поступать так же, как оракулы,
но без их силы и в твердом убеждении, что они все еще
являются хозяевами своей судьбы.
53 Точно так же Коперник критиковал существовавшие в его
время планетарные теории, соглашаясь в то же время с тем, что
они все были вполне «совместимы с данными»: «Малый
комментарий» [26], с. 57.
442
Пол Фейерабенд
54 Эпизод с Эренхафтом и Милликеном рассматривается в
работе: Дж. Холтон [105], с. 161—214. О возражениях Томаса
Моргана против хромосомной теории наследственности Сатто-
на — Боверисм.: Э. Майр [157], с. 748 и ел. Книга Майра
содержит много примеров того, как разные исследовательские
традиции, опираясь на разные свидетельства, могут приходить к
различным выводам относительно того, что все они
рассматривают как «одну и ту же вещь». Поэтому Майр возражает против
интерпретации истории науки как последовательности
сменяющих друг друга единых парадигм (с. 113). Цитата относительно
Мак-Клинток взята из: П. Фишер [67], с. 141. См. также: Э. Фокс-
Кемер [69]. Обзор трений между клиницистами и статистиками
см. в работе: П. Мил [161]. Более широкое обсуждение
«объективных» характеристик человека см. в работах: Р. Левонтин и
др. [139]; С. Гульд [82]. Работа Стэнли Райзера [199] содержит
анализ антагонизма между целителями, которые
непосредственно обследуют человека, и теоретиками, использующими
«объективные» тесты, описанные в работе: Н. Эмертон [51]. См.
также главу 5 работы: С. Смит [217].
Илья Эренбург («Люди, годы, жизнь» [45]) пишет о
Французской революции следующее: «Образы писателей, дошедшие
до последующих поколений, условны, а порой находятся в
прямом противоречии с действительностью... Мы иногда говорим
«штурмовать бастилии», хотя Бастилию никто не штурмовал —
14 июля 1789 года было одним из эпизодов Французской
революции; парижане легко проникли в тюрьму, где оказалось очень
мало заключенных. Однако именно взятие Бастилии стало
национальным праздником Республики». (Сравните с этим
выделение особых дат, событий, «открытий» в истории науки и в
присуждении Нобелевских премий.) О поразительной разнице
между стандартизированными (или обтекаемыми) вариантами и
«реальными событиями» см.: Ж. Перну и С. Флэссье [182].
Когда Эйзенштейн снимал свой фильм «Броненосец «Потемкин»,
он уже очень хорошо понимал, что историю следует улучшить,
чтобы сделать ее волнующей и осмысленной. Лакатос проделал
то же самое для науки.
Прощай, разум
443
55 В классическом дарвинизме организмы
приспосабливаются к миру, который существует независимо от их активности.
Это «упрощенное представление, будто окружающая среда
изменяется сама по себе и оказывает влияние на организмы, не
учитывает обратного воздействия организмов на среду...
организмы и среда в действительности не разделены. Окружающая
среда не есть нечто такое, что налагается на живые существа как
бы извне, она сама есть их собственный продукт». — Р. Левине
и Р. Левонтин [137], с. 69, 99. Подробности см. в главах 2 и 3
этой книги.
56 Юм в «Трактате о человеческой природе» описывает
ситуацию следующим образом: «Сперва разум является
властителем престола, предписывает законы и диктует правила, обладая
абсолютным могуществом и авторитетом. В силу этого враг
разума вынужден искать покровительства у него же; пользуясь
рациональными аргументами для доказательства ошибочности
и недомыслия разума, он, так сказать, приобретает патент за
подписью и печатью последнего. Патент этот сначала
пользуется авторитетом, пропорциональным первоначальному,
непосредственному авторитету разума, которому сам патент обязан
своим происхождением. Но так как предполагается, что
назначение указанного патента — быть противоположным разуму, то
он постепенно уменьшает как силу этого верховного владыки,
так и свою собственную, пока наконец обе не обратятся в ничто
посредством равномерного и одинакового ослабления» (Д. Юм
[109], рус. пер. с. 272-273).
57 Таково мое намерение. Конечно, многие читатели
обнаружат недостатки в моей аргументации. Однако они не могут
критиковать меня за допущение объективных принципов, что
делают они сами. Я могу плохо использовать принципы; я могу
пользоваться ошибочными принципами; я могу выводить из них
ошибочные заключения; но я намереваюсь использовать их в
качестве риторических средств, а не объективных оснований
знания и рассуждения. С другой стороны, рационалист, к
которому обращаются подходящим (для него) образом, истолкует
мои основания «объективно» и в конечном счете будет
приведен в смущение.
444
Пол Фейерабенд
58 А. фон Галлер, «О происхождении зла» (1750 ed, т. 2, с.
184). См.: А. Лавджой [146], с. 78 и ел., в особенности с. 86.
59 Как и все другие его достижения, данная ошибка Поппера
не нова. Ее можно найти уже у Платона и Аристотеля. Один из
своих аргументов против Протагора Платон начинает со
следующего варианта его учения («Теэтет» 170аЗ): «То, что кто-то
думает, — говорит он, — существует для того, кто думает».
Платон указывает на то, что очень немногие люди готовы признать
это учение. Большинство людей доверяет экспертам. Для них
истина есть то, что утверждается экспертами. Поэтому Прота-
гор, сделав мнение мерой истины и существования, должен
согласиться с тем, что его учение ложно. Конец аргумента. Этот
аргумент включает в себя переход от «быть для» или «истины
для» к просто «быть» и «истинно», следовательно, содержит
ошибку «не следует».
Аристотель, обсуждая принцип непротиворечия,
перечисляет философов, нарушающих его. «Что касается Протагора, —
пишет он («Метафизика» 1062b 130, — то о подобном воззрении
мы уже упоминали; он утверждает, что человек есть мера всех
вещей, а это просто означает, что то, что кажется каждому
человеку, то и несомненно. Но если так, то отсюда следует, что одна
и та же вещь и есть, и не есть, что она плоха и хороша, и что
содержание всех других противоположных утверждений
истинно». Но, как уже ясно выразил это Платон, Протагор
отождествляет то, что человек думает, с тем, что для него существует, а
не абсолютно.
60 Я открыто отверг его в главе 3 работы «Наука в свободном
обществе» [57].
61 Подробности см. в работе: К. Блэкер [9]. О политических
соображениях см. главы 3 и 4 работы: Р. Сторри [232].
62 Дж. Нидхем[169],с. 2 и 22.
63 Подробности и литературу см. в главе 17 моей книги
«Против метода» [56]. См. также главы 4 и 5 моей работы
«Стереотипы реальности» (в печати).
64 У. фон Виламовиц-Мёллендорф [263], с. 17. См. также:
В. Отто [176].
65 Э. Смит-Боуэн [220].
Прощай, разум
445
66 Другие примеры того, как «агглютинативные» (Гумбольдт)
или «полисинтетические» (Дюпонсо) языки представляют
реальность, см.: В. Мюллер [166] и приведенную там
литературу. Цитата взята со с. 21. Полезные комментарии о
лингвистических классификациях можно найти в главе 7 работы Чао
Юэнь [24].
67Э. Эванс-Причард[53],с. 103. Об индейцаххопи см.: Б.Уорф
[262], с. 63.
68 Гердер ([98], с. 356 и ел.) рассказывает о том, каким
образом индивидуальные наблюдения были систематизированы
моряками, что породило интересные комбинации эмпиризма и
предрассудков. Леви-Стросс («Первобытное мышление»)
отмечает, что для туземцев характерны «поглощенность
исчерпывающими наблюдениями и систематическое каталогизирование
отношений и связей».
69 См.: М. Полани [188]. По поводу оснований см. работу того
же автора «Личностное знание» [187]. В книге: О. Сакс
«Человек, который принял жену за шляпу» ([207], впервые
опубликована в 1970 г.), рассматриваются конкретные случаи,
показывающие, что происходит, когда неявное знание определенного
рода оказывается недоступным.
70 См. об этом главу 10.
71 Поучительные примеры можно обнаружить в
исследованиях психологов феноменологической ориентации, например
встатьеД. Катца[122]. В этой работе исследованы качества
цветов в восприятии среднего человека и введено различие между
цветами спектра (например, цветом неба), имеющими глубину,
и окраской поверхности (например, цветом яблока). Это
исследование столкнулось с определенными трудностями. Многие
наблюдатели давали неясные и практически бесполезные
отчеты. «Наблюдатель должен быть подготовлен», — говорит Катц
(с. 41). Подготовка заключается в том, что наблюдателю
сообщают «правильное» описание (или что-то близкое к этому), но
маскируют его под вопрос. Вопрос вызывает появление
феномена, который затем остается связанным с описанием:
конечная «объективность» обусловлена «субъективной» причиной.
Такого рода переходы присущи всем субъектам наблюдения, и
446
Пол Фейерабенд
именно они определяют для них реальность. О положении в
искусстве см.: А. Эренцвейг [46]; соответствующие эпизоды из
истории науки рассматриваются в: В. Лепениес [135].
72 И. Эренбург [45], кн. 1. См. также описание Эренбургом
ситуации в Ленинграде во время Октябрьской революции.
Сходное описание событий, образующих Французскую революцию,
см. в работе: Ж. Перну и С. Флэссье [182].
Вторая цитата взята из книги: С. Лурия [147], с. 26.
Варшавское восстание рассматривается в работе: Н. Дэвис [30], с. 21 и
ел. Поучительные комментарии по поводу общей ситуации
можно найти в сочинении: С. Хьюз [108].
73 См. об этом главу 5 работы Д. Пэйджа [ 178], а также главу
7 книги Дж. Чедвика [23]. Общий обзор дан в: И. Гельб [79].
74 Для выражения своих воззрений Платон сознательно
отдал предпочтение диалогу по сравнению с драмой, эпосом,
научным трактатом, лирической поэзией и поучительной речью.
Традиционное греческое образование и исследование
использовали все эти формы (тогда еще не проводили различия между
знанием и эмоциями, искусством и наукой, истиной и
красотой). Письма играли важную роль в XVII—XVIII вв. Некоторые
из своих наиболее важных идей Галилей излагал в тщательно
написанных письмах к избранным корреспондентам. Письма
копировали и пересылали друг другу. Патер Мерсенн исполнял роль
центра по обмену письмами, касавшимися философии Декарта.
Ранние статьи Ньютона по теории цветов были представлены
письмами к Генри Олденбургу, секретарю Королевского
общества; споры, возбужденные ими, находили выражение в письмах
к Ньютону или от Ньютона, передаваемых через Олденбурга.
Популярные трактаты («Диалог» Галилея, написанный в форме
беседы между тремя участниками, и «Оптика» Ньютона)
знакомили широкую публику с новейшими открытиями. Здесь
всегда присутствовал личностный элемент. Лишь очень немногие
современные ученые и философы сознательно решают
вопросы стиля изложения, однако и это оказывается бесполезным,
ибо в большинстве научных журналов вопросы стиля решает
издательская политика.
75 В. фонЗоден[227].
Прощай, разум
447
76 О роли списков моральных вопросов см.: К. Довер [35].
Подробности и литературу см. в главе 17 моей книги «Против
метода».
77 См. работы Леви-Стросса, начиная с его «Первобытного
мышления», и бесчисленные классификации отношений родства.
Леви-Стросс подчеркивает эффективность примитивных
классификационных схем и обращает внимание на тот факт, что они
далеко выходят за рамки практических потребностей: «Туземцы
интересуются также теми растениями, которые прямо не
используются ими, но важны для окружающего мира животных и
насекомых», т.е. эти растения включаются в общие теоретические
схемы. «Даже ребенок [с архипелага Рюкю] часто может отождествить
вид дерева по мельчайшему фрагменту и, более того, пол этого
дерева, в соответствии с идеями, придерживаемыми туземцами
относительно пола растений, и это — на основе наблюдения
внешнего вида древесины, коры, по запаху, твердости и аналогичным
характеристикам». «Несколько тысяч индейцев не могли
истощить природных ресурсов пустынной области Южной
Калифорнии, в которой сегодня способна существовать только горстка
семей белых людей. Они жили в стране изобилия, ибо на этой, на
первый взгляд совершенно скудной территории они были
знакомы с не менее чем шестью десятками видов съедобных
растений и с двадцатью девятью видами растений, обладающих
наркотическими, стимулирующими и иными медицинскими
свойствами» ([138], рус. пер. с. 115—116).
78 Подробности см. в работах: Дж. де Сантиллана и Г. фон
Дехенд [208], А. Маршак [156]. Прецессия рассматривается в
первой работе, с. 56 и далее. Воззрения относительно
астрономических основ архаического знания (и соответствующая
литература) рассматриваются в: Д. Хегги [94]. Ван дер Варден дал
реконструкцию «математической науки, которая должна была
существовать в эпоху неолита между 3000 и 2500 гг. до н.э. и из
Центральной Европы распространилась в Великобританию, на
Ближний Восток, в Индию и Китай», см.: [248], с. xi. В работе
Х.П. Дуерра [39] рассматриваются многообразные способы
связи знания (искусственно вычленяемые западными
исследователями) с социальной жизнью.
448
Пол Фейерабенд
79 Такое соединение дожило до наших дней. Области науки
и научные школы держатся вместе за счет общих убеждений и
практик. Сравнительно свежий пример дает история так
называемой группы изучения фагоцитов и ее влияния на
(молекулярную) биологию. См. об этом сборник [20]. Нежелание (или
неспособность) этой группы учитывать результаты,
сформулированные в иных терминах и полученные иными методами,
освещено в работе: П. Фишер [67], с. 141.
80 Ранние практические разъяснения добродетелей,
постепенная замена ихтеорией, новое привлечение внимания к
практичности в мышлении софистов и опять возвращение к теории
у Платона рассматривается в небольшой превосходной книге:
Ф. Верли [253]. См. также Бруно Снелл «Открытие сознания»
[222] и мою собственную работу «Стереотипы реальности» (в
печати).
81 О различии между «болезнетворной сущностью» и
болезнью как наблюдаемыми особенностями человека см.: О. Тем-
кин [236], гл. 8 и 30. Томас Сиденхэм (Sydenham), «заложивший
основы клинической медицины» ([32], с. 59), считал
обязанностью врача проявлять внимание «к внешнему виду вещей» ([233],
т. 2, с. 60), в то время как Джон Локк, который «больше, чем
любой другой англичанин, сделал для распространения идей
Сиденхэма среди зарубежных врачей» ([32], с. 56), выяснял, как
изменяются чувственные восприятия в ходе развития познания,
см.: «Опыт о человеческом разумении», гл. 9.
82 Конфликт пронизывает «Антигону» Софокла. См. его
анализ в гл. 3 работы: М. Нуссбаум [174]. Усиление конфликта было
одной из причин возражений Платона против трагедии и
традиционной религии, см. его диалог «Эвтифрон». О попытке
«политического» решения конфликта см. конец «Эвменид»
Эсхила. Брехт излагал свои воззрения во многих работах. Данная
цитата взята из его работы «Маленький Органон для театра» [16],
разд. 36.
83 Мартин Рудвик ([205]) считает, что даже развитие
(научных) идей лучше представлять в виде нарратива, а не с
помощью «концептуального подхода». Опираясь на хорошо
документированные эпизоды из истории геологии XVIII столетия, он
Прощай, разум
449
показывает, что научные споры слишком сложны для того,
чтобы их могли понять логики. О. Сакс ([207], с. 5) замечает, что,
согласно мнению A.C. Лурия, развитие нервной дисфункции
«лучше передавать рассказом — подробной историей человека
с глубоким поражением правого полушария головного мозга».
Это, конечно, было уже известно всем врачам вплоть до
Гиппократа.
84 Например, Парменид отвергает «путь толпы», «многих»,
которые, руководствуясь «многоопытным навыком», «мечутся,
глухи и слепы равно». Таким образом, утверждения типа «это
красное» или «это движется», играющие важную роль как в
жизни простых людей, так и в деятельности художников, врачей,
полководцев, мореплавателей, были целиком исключены из
сферы истины.
Философские позиции по отношению ко «многим»
рассматриваются в работе: Х.-Д. Фойгтлендер [246].
85 В изложении Платона Теэтет и Менон совершают,
по-видимому, простую ошибку: Сократ спрашивает об одной вещи —
что есть знание, что есть добродетель, — а в ответ получает
множество. Но эту критику можно считать возражением только в
том случае, если одно слово всегда обозначает в точности одну
вещь, а именно в этом и состоит суть разногласий.
Предполагается, что существовало только одно слово для «знания», однако
небольшой отрывок из «Теэтета» 145d4—еб уже содержит
четыре разных эпистемических термина. Наконец, разумное
упорство Менона [Теэтета] («Не думаю, что с добродетелью [со
знанием] я могу делать то, что могу делать с пчелами [числами]»)
указывает на то, что здесь мы имеем дело с чем-то большим,
чем элементарная ошибка. Действительно, это так и есть:
оспаривается целая традиция образования и экспликации понятий.
86 Атомисты, Эмпедокл и Анаксагор приняли парменидовс-
кое понятие Бытия, но попытались сохранить и изменение. Для
этого они ввели некоторое (конечное или бесконечное) число
вещей, каждая из которых обладала либо некоторыми, либо
всеми из парменидовских свойств: атомы Левкиппа и Демокрита
были неделимыми и неизменными, но бесконечными по
количеству; элементы Эмпедокла были конечны по числу, неизмен-
15—1509
450
Пол Фейерабенд
ны, разделены по областям, но неделимы на какие-то другие
субстанции (следовательно, четыре элемента Эмпедокла —
Теплое, Холодное, Сухое и Влажное — отличались от любого
известного вещества); Анаксагор предполагал неизменность всех
субстанций.
87 «О возникновении и уничтожении» 325а18 и ел. —
выделено мной.
88 Мысль о том, что математика и астрономия своим
содержанием обязаны философам, например предложению Платона
разрабатывать астрономию, опираясь на модели, а не на
эмпирические наблюдения, была подвергнута критике в работе
О. Нойгебауэра [171], с. 152. См. также его трактовку ранней
греческой астрономии во второй части книги [172].
89 Согласно Галену, De sanitate tuenda, I, 5, здоровье есть
такое состояние, «в котором мы не страдаем от боли и легко
справляемся с функциями повседневной жизни». Но функции
повседневной жизни разными люди воспринимаются по-разному, и
они изменяются при переходе от одной культуры к другой. См.:
О. Темкин [236], с. 441 и ел.
90 Антропология возвратилась к многообразию, которое
стремились преодолеть философы и ранние ученые. См. обзор [155].
Статьи сборника [7] показывают, что философия, как особая
область со своими собственными методами и предметом,
по-видимому, умирает, хотя и все еще борется за выживание.
91 Это становится ясно из отождествления Парменидом
Мышления и Бытия (Дильс — Кранц, фрагмент ВЗ). Такое
отождествление уже существовало в архаической Греции, Парменид
высказал его явно в борьбе со здравым смыслом своего времени.
Ученые, противопоставляющие факты спекуляциям, также
уверены в том, что они способны установить независимую от
традиции истину.
92 Поэма Парменида содержит цепочки аргументов,
приводящих к отрицанию рождения и смерти (Дильс—Кранц, В8, 6—
21), частей и делимости (22—25), движения (26—33). Каждый
аргумент начинается с некоторого утверждения, из которого
выводится «не так», и на основе этого следствия первоначальное
утверждение отвергается. (Кажется, это было первым явным ис-
Прощай, разум
451
пользованием приведения к абсурду. Согласно А. Сабо [235],
математики научились этому приведению у Парменида и его
последователей, что содействовало ускорению развития
математики. Следы этого приема можно обнаружить гораздо раньше, см.:
Дж. Ллойд [142], с. 59 и ел., в частности примеч. 40.) В
аргументе Парменида считается несомненным, что «отличное от» есть
то же самое, что «несуществующее», так что единственно
«реальным» остается только различие между Бытием и Небытием
(В8, 16). Отчасти это было внушено неудачей ионийцев
определить базисную субстанцию, с другой стороны — сильным
«экзистенциальным компонентом» einai.
93 Один из пациентов О. Сакса (он называет его д-р Р) очень
хорошо выделял и анализировал в своем воображении
абстрактные образы и схематические особенности, однако не различал
конкретных человеческих лиц. «Если воспользоваться
комичной и несколько печальной аналогией, — пишет Сакс (с. 20), —
то можно сказать, что наши когнитивная нейрология и
психология [наши социология и политика, добавил бы я] очень
сильно напоминают несчастного д-ра Р».
94 К. Гирц [78], с. 62. Он описывает социальные
ограничения, с которыми столкнулся при работе в обществе Бали.
95 Подробности см. вработах: Г. Примас [195]; Н. Картрайт [22].
96 Это один из вариантов так называемого «антропного
принципа». Его подробное обсуждение и соответствующую литературу
см. в работе: Дж. Барроу и Ф. Типлер [5].
97 Э. Мах [153], с. 222.
98 См. сочинение: Э. Пановски [179].
99 Леонардо да Винчи [134], Nr. 411 (416).
100 «О живописи», цит. по Дж. Спенсер [228], с. 52.
101 Генри Фокс Тальбот, «Некоторые соображения об
искусстве фотографического письма», цит. по Б. Ньюхолл 1173], с. 27.
102 Согласно Аристотелю, «новейшие поэты» (включая Ев-
рипида) предпочитают первый путь («Поэтика» 1450а25), в то
время как «почти все прежние поэты» (включая Эсхила и
Софокла) добивались большого успеха скорее с помощью
характеров, чем действия (1450а37).
103 Ф. Бэкон, «Новый Органон», афоризм 47; см. также
афоризмы 115 и 69.
452
Пол Фейерабенд
104 Платон, «Апология Сократа», 22Ь.
105 Ж. Пиаже [183], с. 352.
106 Подробности можно найти в работах Бруно Снелла [221]
и [225].
,07К.фонФритц[73],с. 11.
108 А. Эйнштейн — М. Борн [49], с. 192.
109 Р. Шенкланд[213],с. 55.
1.0 Примеры см. в работе: Ж. Адамар [88].
1.1 Б. Снелл [223], с. 18.
112 Подробности см. в главе 17 моей книги «Против метода».
113 Все доступные астрономические взгляды, когда
Коперник начал писать, «соответствовали фактам», как он сам
говорит: «Малый комментарий» [26], с. 57.
1.4 Для общего ознакомления с дебатами см.: Р. Вестфалл
[255]. Религиозные взгляды Ньютона описаны в: Ф. Мануэль
[ 154]. Возражения Лейбница содержатся в его переписке с
Кларком, см. [132].
1.5 Сравни его реакцию на результаты Фрейндлиха в его
письме Максу Борну ([49], с. 192): «Фрейндлих [наблюдения
которого противоречат общей теории относительности] не может
оставить меня равнодушным. Даже если отражение света,
перигелий, красное смещение [три краеугольных камня общей теории
относительности] были бы неизвестны, гравитационные
уравнения все равно были бы убедительными, потому что они
избегают инерциальной системы — фантома, который оказывает
влияние на все, но сам остается вне всякого влияния. Это очень
странно, но он действительно остается вне всякого влияния.
Еще более странно, что человеческие существа не слышат
сильнейших аргументов, в то время как всегда склонны
переоценивать точность измерений».
1.6 Это приблизительное содержание мысли, повлекшей за
собой длительные технические дебаты. Возражения,
последующие ниже, независимы от составляющих этих дебатов.
1.7 «Огромный успех картезианского метода и
картезианского взгляда на природу частично оказывается результатом
исторического пути наименьшего сопротивления. Те проблемы,
которые вызвали резкую критику, исследовались более тщатель-
Прощай, разум
453
но именно потому, что там работал метод. Другие проблемы и
явления были оставлены в стороне, будучи недоступными для
понимания приверженцев картезианства. Трудным проблемам
не пытаются найти решения, не по какой-либо другой
причине, кроме той, что блистательная научная карьера не строится
на неудачах»: см. Р. Левине и Р. Левонтин [137], с. 2 и ел.
(«Картезианство» здесь означает то же, что и редукционизм). Это
наблюдение приложимо ко многим сферам, среди которых и
квантовая теория.
1,8 Прекрасное описание конкретного этапа в этом
развитии можно найти в: Р. Роудз [201].
119 Это осознали даже некоторые поклонники Поппера. Так,
П. Медавар ([159], с. 90 и ел.) пишет: «Уэвелл (Whewell) первым
высказал то общее понимание науки, которое Карл Поппер
развил в радикальную систему», т.е. Поппер = извращенный Уэвелл.
О. Нейрат (письмо к Р. Карнапу, 22 декабря 1942 года, цит. по
Д. Коппельберг [127], с. 327) выражает самую суть дела: «Я вновь
перечитал Поппера. Надеюсь, что по прошествии нескольких
лет ты видишь, как все это пусто... Какой упадок после Дюгема,
Маха и т.п. Нет ощущения научного исследования». Лакатос в
последние годы жизни пришел к такому же выводу.
120 [209], с. 20.
121 Письмо к М. Бессо от 6 января 1948 года, цит. по: Дж.
Холтон[104],с. 231.
122 См. об этом: [209], с. 28.
123 Я цитирую по 9-му изданию, Лейпциг, 1933 [153]. Числа в
скобках обозначают страницы. Числа, перед которыми стоит
буква Е, обозначают страницы «Познания и заблуждения»,
Лейпциг 1917 [152]. Подчеркнуто в оригинале, если нет оговорок.
124 Сам Стевин рассматривал цепь с четырнадцатью
одинаково тяжелыми шарами, см. иллюстрацию из его книги,
приведенную на с. 31 «Механики».
125 [209], с. 52.
126 Р. Шенкланд [213], с. 55. См. также реакцию Эйнштейна
на сообщение Эдцингтона 1919 года по воспоминаниям Ильзе
Розенталь-Шнайдер (цит. по: Дж.Холтон [104]): «Ноязнал, что
теория верна». По поводу равенства инерционной и гравитаци-
454
Пол Фейерабенд
онной масс Эйнштейн говорил: «Я не сомневался в его
безусловной точности, даже не зная результата превосходного
эксперимента Этвеша, о котором, если мне не изменяет память, я
узнал лишь позднее» ([481], с. 287).
127 Письмо к Бессо, цитированное в работе Карла Зелига
«Альберт Эйнштейн» [211], с. 195. См. также замечание Борна
от 4 мая 1952 года и ответ Эйнштейна от 12 мая в издании
«Переписка Борна и Эйнштейна» [49]. — «Только интуиция,
опирающаяся на соответствующий эксперимент, может прийти» к
фундаментальным законам (выступление на праздновании 60-
летия Планка перед Берлинским физическим обществом, цит.
по: [48], с. 226).
128 X. Лоренц [143], с. 230, подчеркнуто мной. Я не
утверждаю, что сам Мах предпочитал Эйнштейна Лоренцу — нет
свидетельств на этот счет. Но два метода, описанные Лоренцем,
совпадают с двумя методами, описанными Махом, а сам Мах
отдавал предпочтение широким принципам, а не
изолированным фактам и допущениям.
129 «Основания теоретической физики», Science {1940), цит. по:
[48], с. 234. Ср. Мах: «те идеи, которые могут сохраняться в
наиболее широкой области и которые в наибольшей степени
поддержаны экспериментом, являются наиболее научными» (с. 465).
130 Э. Мах [153], с. 325. Инстинктивные общие принципы Мах
считает более надежными, чем индивидуальные
экспериментальные результаты, именно потому, что они находились в
потенциальном столкновении с огромным множеством фактов, но
выжили, несмотря на это. См. раздел 5 ниже.
131 Холтон ([104], с. 205 и ел.) связывает уникальный стиль
Эйнштейна (начинать с принципов, а не с экспериментов или
проблем) с Фепплем. Он мог бы также связать его с Махом, у
которого Эйнштейн учился и которого Феппль почитал. Артур
Миллер пишет ([106], с. 18), что Эйнштейн опирался «на
неокантианскую позицию, подчеркивавшую полезность таких
организующих принципов, как второй закон термодинамики». Если
учесть восхищение Эйнштейна Юмом, о котором упоминает
Миллер, с этим едва ли можно согласиться. Однако принципы
того вида, которые неокантианцы пытались обосновать с по-
Прощай, разум
455
мощью априори, были рассмотрены и рекомендованы Махом,
который обосновывал их инстинктом, объяснял преимущества
инстинкта (см. раздел 5 ниже) и отвергал априорные аргументы
(с. 73). Об априорных предпосылках см. также письмо
Эйнштейна к Борну (без даты), [49], с. 7.
132 А. Миллер [163].
133 Эйнштейн интерпретировал Маха точно так же: «Мах
пылко отверг специальную теорию относительности» — письмо
к Бессо от 6 января 1948 года, цит. по: Дж. Холтон [104], с. 232,
подчеркнуто мной.
134 Э. Мах [151].
135 Выделенные слова опущены в английском переводе.
136 Это относится и к утверждению Р. Итагаки о том, будто
«движение от принципов к эксперименту диаметрально
противоположно методологии Маха» ([112]).
137 Дж. Холтон [104], с. 229.
138 Вот примеры: принцип параллелограмма сил (с. 44 и ел.),
закон инерции (с. 264,244), существование масс (с. 244),
величина которых не зависит от метода (прямого или косвенного) ее
установления (Е 175, что означает признание равенства
гравитационной и инерционной масс в качестве факта опыта).
Понимание того, что стимул к движению детерминирует ускорение
независимо от того, имеем ли мы дело «с земной гравитацией,
притяжением планет или с действием магнита» (с. 187), описано как
явное выражение «одного большого факта» (с. 244). «Я вполне
согласен с Петцольдом, — пишет Мах в другом месте (с. 371,
подчеркнуто в оригинале), — когда он говорит: «следовательно, все
утверждения Эйлера и Гамильтона являются не чем иным, как
выражением того эмпирического факта, что процессы природы
однозначно детерминированы»». Принцип сохранения энергии
называется эмпирическим фактом и прямо, и косвенно (с. 437,
477), хотя он был открыт посредством мысленного, а не
реального эксперимента (Е 194). Фарадея ценят как ученого,
который ограничил физику «выражением фактуального» (с. 473, это
включало в себя идею действия посредством контакта, Ε 443),
«но физики, принимавшие принцип действия на расстоянии,
начали понимать его идеи только после того, как Максвелл пе-
456
Пол Фейерабенд
ревел их на знакомый им язык» (Е 442). Нет сомнений в том,
что «существование (и поведение) электрических и магнитных
полей в вакууме, о котором говорили работы Фарадея,
Максвелла и Герца» (Е 444), Мах рассматривал бы как эмпирический
факт. Даже аксиома о параллельных прямых считалась одним
из принципов, которые мы принимаем интуитивно (Е414) и
используем в качестве базиса для «точной реконструкции фактов»
(с. 30). Рассматривая роль принципов в научном исследовании
и, в частности, в построении фактов, он называет их
«наблюдениями, которые столь же законны, как и любые другие
наблюдения» (с. 44, речь идет о принципе параллелограмма сил).
139 Дж. Холтон, с. 239. Цитаты взяты из Парижской лекции
Эйнштейна от 6 апреля 1922 года.
140 См. Ε 152. Это предположение не учитывало возмущений,
следовательно, относилось к «идеальному случаю» (Е 190).
141 Здесь можно обнаружить дальнейшее сходство между
Махом и Эйнштейном. Эйнштейн неоднократно повторял, что
научное исследование не может удовлетвориться ощущениями и
понятиями, вносящими порядок в ощущения, что ему нужны
объекты, которые «в высшей мере независимы от чувственных
впечатлений» ([48], с. 291). Но в то время как Эйнштейн считал
эти объекты только «произвольными», только «свободными
созданиями мысли» (там же и во многих других местах), не
углубляясь дальше в этот важный вопрос, Мах подверг анализу их
природу и источник их авторитетности. Поэтому он привел
аргументы для сохранения общей точки зрения перед лицом
противоречащих ей фактов, в то время как Эйнштейн, который
часто нарушал правила наивного фальсификационизма, мог
сослаться только на свою субъективную убежденность. Более
подробно этот вопрос будет рассматриваться в разделе 5 ниже.
142 «Логически возможно, что кто-то произведет чистый
анализ кеплеровского движения и натолкнется на мысль описать
его посредством ускорений, обратно пропорциональных
квадрату расстояния планеты от Солнца. Однако, на мой взгляд, это
психологически немыслимо. Как можно, не имея никакой
физической концепции, натолкнуться на идею ускорения! Почему не
использовать первую или третью производную [по времени]?
Прощай, разум
457
Почему из бесконечного множества разложений движения на
два компонента использовать один, дающий столь простой
результат? Для меня уже анализ параболической траектории
чрезвычайно труден, если у меня нет идеи гравитационного
ускорения» (Е 147).
143 Тот факт, что опыт может согласовываться с «двумя
существенно различными принципами», для Эйнштейна служил
свидетельством «фиктивного характера фундаментальных
принципов» ([48], с. 273, подчеркнуто мной) и наличия «свободного
конструктивного элемента в образовании понятий» (письмо к
Бессоотбянваря 1948 года, цит. по: Дж. Холтон, с. 231).
Эйнштейн полагал (письмо к Бессо), что Мах этого не осознавал.
Однако мы видели, что, согласно Маху, ученый «добавляет
элементы от себя, черпая их из своего запаса идей», конструирует
«идеальные случаи» или, как называет их Мах, «фикции» (Е418:
«физик осознает, что его фикции представляют факты лишь
приблизительно, опираясь на произвольные упрощения» —
идеальные газы, совершенные жидкости, абсолютно упругие тела и
т.п.). Здесь как раз проявляется то осознание плюралистичное -
ти принципов, за отсутствие которого Эйнштейн критиковал
Маха. Эйнштейн не знал или забыл, сколь сложным было
мышление Маха.
144 Э. Мах [150], с. 18.
145 Э. Мах [149], с. 228. См. Ε 14, примечание:
«психологическое наблюдение я считаю в такой же мере важным и основным
источником познания, как и наблюдение физическое».
146 Э. Мах [150], с. 13.
147 Статьями Эйнштейна, цитируемыми в тексте, являются
следующие: «О методе теоретической физики» (1933), «Физика
и реальность» (1936), «Основание теоретической физики» (1940).
Статьи цитируются по изданию: «Идеи и мнения» [48], номера
страниц даны по этой книге с буквой R.
148 Говоря о чувственных впечатлениях, Эйнштейн всегда
подразумевал непосредственные чувственные впечатления. Это
ясно проявляется в его письме к М. Соловину от 7 мая 1952 года
(воспроизведено в [71], с. 270, где содержится факсимильная
копия эпистемологической части письма). Под нижней чертой
Прощай, разум
401
дует на то, что может обосновать аргументами каждый свой
шаг?). Случай 1 опять-таки «очевиден», хотя и не в смысле
Мешема. Конечно, это «уничтожение человеческой жизни»,
но является ли человеческая жизнь наивысшей ценностью?
Христианские мученики так не считали, и ни Мешем, ни
любой другой рационалист до сих пор не сумел доказать,
что они ошибались. У них было другое мнение, вот и все.
Сократ перед смертью выразил похожее чувство, причем он
был не одинок, ибо подобные чувства можно найти у
Геродота, у Софокла и у других выдающихся представителей
классической Греции. Мешему ни разу не пришло в
голову, что его понимание человека является одним из многих
и что оно может быть оспорено.
Остается еще случай 2. Здесь я полностью согласен с
теми, кто требует, чтобы люди были защищены от
давления группы и ее лидеров. Но это требование справедливо
не только в отношении религиозных лидеров, таких как
преподобный Джонс, но также и в отношении светских
лидеров — философов, нобелевских лауреатов, марксистов,
либералов и их пропагандистов: молодежь должна быть
избавлена от подчинения так называемым учителям, особенно
рациональным фашистам, подобным Мешему и его
коллегам. К сожалению, современная система образования еще
далека от этого.
Наконец, остается еще один, уже старый аргумент,
говорящий о том, что ненаучные традиции имели свой шанс,
но что они не выдержали столкновения с наукой и
рационализмом, следовательно, попытки возродить их в наше
время иррациональны и бессмысленны. Здесь возникает
очевидный вопрос: были ли они устранены на
рациональных основаниях — в результате беспристрастного
сравнения с наукой — или же они исчезли благодаря военному
458
Пол Фейерабенд
диаграммы, приводимой там, подписано: «Многообразие
непосредственного (чувственного) опыта» (подчеркнуто мной).
149 Вспомним, что в своем письме к Бессо (примеч. 121 выше)
Эйнштейн приписывает само это допущение Маху (который
никогда не придерживался его) и критикует его. В цитируемом
отрывке, написанном за 12 лет до письма, он принимает его сам
и то же самое делает в своей автобиографии ([209], с. 6 и ел.),
написанной в 1946 году, и в письме к Соловину 1952 года, см.
примеч. 148. Когда ощущения считаются чем-то недоступным
анализу, начинает проявляться сенсуализм.
150 [209], с. 6.
151 Например, Мах склонен, кажется, причислять к
элементам некоторые «качества» Дюгема. См. его введение к
немецкому переводу основного сочинения Дюгема по философии
науки «Физическая теория, ее цель и строение» ([41]). Однако для
Дюгема «качествами» были такие вещи, как электрический ток,
заряд и т.п.
152 По поводу позиции Планка см. его «Лекции и
воспоминания» [185], с. 45 (ощущения являются «признанным
источником всего нашего опыта»), с. 207, 230 (все понятия физики
заимствованы из чувственного мира и улучшаются и
упрощаются посредством возвращения к нему), с. 226 (всегда должен
сохраняться контакт с чувственным миром), с. 229 («источник
всякого знания и происхождение всякой науки восходит к
личным чувственным переживаниям. Они даны нам
непосредственно, они являются наиболее реальной вещью и исходным
пунктом рассуждений, образующих науку») и с. 327 (реальный мир
воспринимается только посредством органов чувств).
153 Заметим, однако, что Мах в своем анализе начинает с
индивидуальных физических событий, а не с ощущений.
154 Имеется интересное расхождение между различными
утверждениями о реализме, которые Планк высказал на
протяжении жизни. В своей статье 1908 года, которая привела к
знаменитой дискуссии с Махом, он назвал реализм «верой,
твердой, как утес» (с. 50), разделяемой большинством физиков. Он
возражал также против того, чтобы различие между субъектом
и объектом рассматривать как практическое (конвенциональ-
Прощай, разум
459
ное) разграничение (с. 47), считая, что оно выражает
раздвоение самой реальности. В 1913 году он вновь говорит о «вере»,
однако добавляет: «Однако одной веры недостаточно,
поскольку, как говорит нам история науки, она может приводить к
заблуждениям, ограниченности и фанатизму. На нее можно
полагаться лишь при условии, что она постоянно контролируется
логикой и экспериментом» (с. 78). В 1930 году он вновь
называет реализм верой, но добавляет, что «говоря более точно, его
можно назвать также рабочей гипотезой» (с. 247). Однако в той
же самой статье он «вычеркивает позитивистское «как если бы»
и приписывает так называемым практическим изобретениям
более высокую степень реальности, чем прямым описаниям
непосредственных чувственных впечатлений» (с. 234). Он также
обращает внимание на «метафизические» (с. 235) или
«иррациональные» (с. 234) элементы, связанные с верой в реализм. В 1937
году в своем выступлении «Религия и естественные науки» он
предлагает проверить, «каким законам научила нас наука и
какие истины являются неприкосновенными» (с. 325), и
упоминает о существовании внешнего мира, независимого от
наших впечатлений (с. 327), и о существовании законов в этом
реальном мире (с. 330). Среди этих законов он упоминает
принцип наименьшего действия и существование физических
констант.
По-видимому, Планк колебался между более научным (т.е.
проверяемым) вариантом реализма — вариантом, который,
между прочим, защищал сам Мах («Механика», с. 231), — и более
«иррациональным» или «метафизическим» вариантом. Его
колебания могли быть вызваны, с одной стороны, его
преданностью науке, которая для него всегда означала проверяемость (не
было ли это проявлением влияния Маха?), а с другой стороны,
привязанностью к определенной философской вере. Эта вера
могла поддерживаться осознанием того факта, что, хотя можно
постулировать реальность и даже «абсолютную» реальность,
следует в то же время признать, что ни один конкретный
результат или принцип не может полностью охватить ее (с. 182 со
ссылкой на Лессинга).
460
Пол Фейерабенд
155 Например, Эйнштейн выступает против
«абстрагирования» как принципа науки (R 273), указывая на творческий
аспект построения теории, в то же время, согласно мнению Маха,
абстрагирование является «смелым интеллектуальным ходом»
(Е 140).
156 См., например, «Ранние годы теории относительности»
в: [106], с. 83.
157 Статья 1929 года «О современном состоянии теории поля»,
цит. по Дж. Холтон [104], с. 242.
158 Инстинктивное знание в этом отношении похоже на
законы природы. Они являются «ограничениями, которые мы,
руководствуясь опытом, налагаем на наши ожидания» (Е 44);
«прогресс науки ведет к росту ограничений, налагаемых на наши
ожидания» (Е 452).
159 Письмо к Бессо, март 1914 года, цит. по: К. Зелиг [211],
с. 195. См. также переписку Борна с Эйнштейном [49], с. 192:
«Поистине странно, что люди обычно отказываются
выслушивать самые убедительные аргументы, но всегда склонны
переоценивать точные измерения». Здесь под «людьми»
подразумеваются, конечно, «физики».
160 Это не исключает необходимости критического
эксперимента, напротив, Мах настаивает на нем (с. 231 ), но оно должно
опираться на базис, сравнимый с тем, который неявно заложен
в принципах.
Согласно Маху, теории, подтверждаемые в более широкой
области, также превосходят те теории, которые подтверждены
в более узкой области: «Если некоторые физические факты
требуют изменения наших понятий, то физик предпочтет отказаться
от менее совершенных понятий физики, чем от более простых,
более совершенных и точных понятий геометрии, являющихся
наиболее прочным основанием всех его идей» (Е418). Отметим,
что для Маха подтверждение всегда подразумевает возможность
неудачи, всегда включает в себя инстинкт, неосознаваемые
пробы и сравнения. Заметим также, что этот подход можно
использовать для защиты эмпирической медицины от покушений со
стороны теорий, опирающихся на небольшое количество
сложных экспериментов.
Прощай, разум
461
161 Замечание Эйнштейна в письме к Бессо (цит. в примеч.
121 и 143 выше) о том, что Мах «не знал, что такой же
спекулятивный характер присущ механике Ньютона» (Дж. Холтон [104],
с. 232), свидетельствует о том, что он либо плохо читал Маха,
либо забыл то, о чем читал.
162 Мах знал, конечно, о существовании вычислений,
связывающих механику с законами и фактами термодинамики.
Однако он подозревал, что многие из этих вычислений были ad hoc
(«специально изобретены для этой цели» — с. 466) и что
подлинные объяснения могли быть получены без использования
деталей механистической точки зрения. В обоих случаях он был
прав, см. текст перед следующим примечанием.
163 А. Эйнштейн [47], с. 417.
164 Эти параметры таковы: линейные дифференциальные
уравнения первого порядка по времени для переменных
состояний (Мах, вслед за Петцольдом, рассматривал это как важный
эмпирический факт, см. примеч. 138), единый интеграл
движения (энергии) и аналогтеоремы Лиувилля (которую Мах мог
рассматривать как «другую сторону того же самого (механического)
факта»: «Механика» с. 454). См. статью Кляйна в [106], с. 41.
165 [209], с. 46.
166 Там же. Говорят, что броуновское движение не изменило
взглядов Маха (Эйнштейн утверждал обратное: [48], с. 48).
Однако нам неизвестно, истолковывал ли Мах аргумент
Эйнштейна как аргумент от непрерывности или он знал о тождестве
констант, полученных из броуновского движения, и формул
Планка (Эйнштейн предполагал последнее). Для него мог быть
убедительным только первый аргумент и это было правильно, ибо
согласование чисел ничего не говорит нам о сущностях, к
которым относятся числа.
167 По поводу аутентичности этого текста см. «Послесловие»
ниже.
168 «Принципы физической оптики», [151].
169 Этот конфликт также был конфликтом между
физическими допущениями, подсказанными критической позицией (Бор),
и догматическим упорством (Эйнштейн). См. мою статью о Боре
в томе 1 моих «Философских статей» [59].
462
Пол Фейерабенд
170 О чепухе, высказанной по поводу Бора, см. мою статью о
Боре, указанную в примеч. 169. Шумиха вокруг так называемой
Коперниканской революции отчасти рассмотрена в моей книге
«Против метода».
171 Великий немецкий поэт и философ Г.Э. Лессинг написал
серию «Оправданий» (Rettungen), в которых попытался
реабилитировать великих и оболганных исторических деятелей,
очистив их от клеветнических измышлений священников, ученых
и общей молвы.
172 Первоначальный вариант этой статьи был прочитан д-ром
Рафаэлем Фербером, который высказал мне множество
замечаний и предложений по улучшению текста. Некоторые из его
предложений я принял и соответствующим образом переписал
текст.
173 Конечно, Единое Парменида не имеет частей и,
следовательно, структуры, если не считать его однородности. Но если
мы, в отличие от Парменида, добавим наличие такой
структуры, однородность будет гарантировать ее присутствие во всех
частях.
174 Здесь оппоненты Галилея, вероятно, зашли дальше
«общепринятого мнения Святых Отцов», считавших Библию
проводником в морали, но не в предметах астрономии.
175 Комментируя историю статистической теории, Фред Хойл
пишет ([237], с. 21): «Журналы принимали статьи от
обозревателей, редактируя их самым поверхностным образом, в то
время как наши собственные статьи [статьи Бонди, Голда и Хойла]
всегда проходили с трудом, до тех пор пока каждый из нас не
приходил в изнеможение от объяснения математических,
физических положений, фактов и логики бестолковым умам,
которые составляют загадочный анонимный класс редакторов,
выполняющих свою работу, как совы, в темноте ночи».
176 Подробности можно найти в моей книге «Против
метода» [56], особенно в значительно доработанном немецком
издании «Wider den Methodenzwang» [64].
177 Этот аргумент поднимался в дискуссии, касающейся
настоящей темы, в Кракове.
178 Эта позиция подробно обсуждается в гл. 8.
Прощай, разум
463
179 Physikalische Blätter, vol. 26, Nr. 5, 1970, с. 217 и ел.
180 В 1982 году мы с Кристианом Томасом проводили
семинар в Федеральном институте технологии в Цюрихе, предметом
которого было то, как развитие науки повлияло на основные
религии и другие традиционные формы мысли. Нас удивила
ужасная сдержанность, с которой католические и
протестантские теологи подошли к проблеме — не было ни критики
конкретных научных достижений, ни научного мировоззрения в
целом. Я прокомментировал эту сдержанность в письме, которое
приведено в приложении к настоящей главе. Материалы
семинара опубликованы под заголовком «Wissenschaft und Tradition»
([61]).
181 Примеры эффективности таких инициатив обсуждаются
в: Р. Михэн [160]. Обычные граждане, не эксперты,
поддерживали сотрудничество между строителями и геологами при оценке
безопасности атомных электростанций в Калифорнии.
182 Согласно аргументу башни (ПМ, гл. 7), камень,
падающий с вершины башни на движущуюся землю, должен
отклоняться в сторону. Однако он не отклоняется, следовательно,
Земля не движется. Этот аргумент предполагает (закон инерции
Аристотеля), что объект, на который не действует сила, остается в
покое. Обсуждение подтверждало это предположение. В течение
долгого времени уже после Коперниканской революции оно
использовалось для обоснования существования яиц
насекомых, бактерий, вирусов.
Библиография
1. Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and Its Art
Treasures, ed. by E. Panofsky and G. Panofsky-Soergel. Princeton,
1979.
2. Alfieri V.E. Atomos Idea. L'origine del concetto dell'atomo
nel pensiero greco. Florence, 1953.
3. Аристотель. Сочинения в 4-х томах. M., 1976—1984.
4. Augustine. The City of God, tr. M. Dods. New York, 1950. —
Блаженный Августин. О граде Божием. Минск/Москва, 2000.
5. Barrow J.D. and Tipler F.J. The Anthropic Cosmological Principle.
Oxford. 1986.
6. Bay Ch. The Structure of Freedom. New York, 1968.
7. Baynes В., Bohman I. and McCarthy Th. (eds.). After Philosophy.
Cambridge (MA), 1987.
8. Bell D. Notes on the Postindustrial Society I. — The Public
Interest, Winter 1967.
9. Blacker С The Japanese Enlightment. Cambridge, 1969.
10. Bodley J.H. Victims of Progress. Palo Alto (CA), 1982.
11. Böhm D. Wholeness and the Implicate Order. London, 1980.
12. Bohr N. Atomic Physics and Human Knowledge. New York,
1963. — H. Бор. Атомная физика и челловеческое познание. М.,
1961.
13. Bohr N. Collected Works. Vol. 1. Amsterdam, 1972.
14. Boltzmann L. Über die Methoden der Theoretischen Physics. —
In: Boltzmann L. Populäre Schriften. Leipzig, 1905.
Прощай, разум
465
15. Borrini G. Health and Development — A Marriage of Heaven
and Hell? — In: Ugaldo A. (ed.). Studies in Third World Society,
Austin (TX), 1986.
16. Brecht В. Kleines Organon für das Theater. — Brecht B.
Gessammelte Werke, vol. 16. Frankfurt, 1967.
17. Broad W. Star Warriors. New York, 1985.
18. Brown L. and Hoddeson L., eds. The Birth of Particle Physics.
Cambridge, 1983.
19. Burkhardt J. Griechische Kulturgeschichte. Munich, 1977.
20. Cairns J., Stent G.S. and Watson J.D. (eds.). Phage and the
Origins of Molecular Biology. New York, 1966.
21. Calogero G. Studien über den Eleatismus. Darmstadt, 1970.
22. Cartwright N. How the Laws of Physics Lie. Oxford, 1983.
23. Chadwick J. The Decipherment of Linear B. Cambridge, 1958.
24. Chao Y.R. Language and Symbolic Systems. Cambridge, 1968.
25. Chomsky N. Intellectuals and the State. — In: Chomsky N.
Towards a New Cold War. New York, 1986.
26. Copernicus N. Commentariolus. — In: Rosen Ε (ed.). Three
Copernican Treatises. New York, 2nd ed. 1959, pp. 55—90. —
Николая Коперника малый комментарий относительно
установленных им гипотез о небесных движениях // Коперник Н. О
вращениях небесных сфер. М., 1964.
27. Cornford F. M. Plato's Theory of Knowledge. New York, 1957.
28. Cornford F.M. From Religion to Philosophy. New York, 1965.
29. Coyne G.V., Heller M. and Zycinski J. (eds.). The Galileo
Affair. A Meeting of Faith and Science. Vatican City, 1985.
30. Davies N. The Survivor's Voice. — The New York Review of Books,
Nov. 20, 1986.
31. Delbrück M. Mind from Matter? An Essay on Evolutionary
Epistemology. Palo Alto (CA), 1985
32. Dewhurst K. Dr. Thomas Sydenham (1624—1689), his life
and original writings. Berkeley/Los Angeles, 1966.
33. Dinesen I. [Karen Blixen]. Out of Africa. New York, 1985. —
Бликсен К. Из Африки. M., 2004.
34. DolgofTS. (ed.). Bakunin on Anarchy. New York, 1972.
35. Dover K.J. Greek Popular Morality at the time of Plato and
Aristotle. Berkeley/Los Angeles, 1974.
466
Пол Фейерабенд
36. Drake S. and Drabkin I. E (eds.). Galileo Galilei on Motion
and on Mechanics. Madison, 1960.
37. Drell S. Facing the Threat of Nuclear Weapons. Seattle/
London,1983.
38. Duerr H.P. (ed.). Versuchungen: Aufsätze zur Philosophie
Paul Feyerabends. Vols. I—II. Frankfurt am Main, 1980, 1981.
39. Duerr H.P. Sedna, oder, Die Liebe zum Leben. Frankfurt am
M., 1984.
40. Duhem P. The Aim and Structure of Physical Theory. New
York, 1962. [Duhem P. La théorie physique, son objet, sa structure.
Paris, 1914] —Дюгем П. Физическая теория, ее цель и строение.
СПб., 1910.
41. Duhem P. Ziel und Struktur der Physikalischen Theorien.
Leipzig, 1908.
42. Eddington A.S. The End of the World: From the Standpoint
of Mathematical Physics. — Nature, vol. 127, 1931, pp. 447—453.
43. Ehrenberg V. The People of Aristophanes. New York, 1962.
44. Ehrenberg V. From Solon to Socrates. London/New York,
1973.
45. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. 3 т. М., 1990.
46. Ehrenzweig A. The Hidden Order of Art. Berkeley/Los Angeles,
1967.
47. Einstein Α. Kinetische Theorie des Wärmegleichgewichtes und
des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. — Annalen der Physik,
vol.314, 1902, pp. 417-433.
48. Einstein A. Ideas and Opinion. New York, 1954.
49. Einstein Α., Born M. and Born H. The Born-Einstein Letters.
New York, 1971.
50. Eliade M. Geschichte der Religiösen Ideen. Vol. 2. Freiburg,
1979.
51. Emerton N.E. The Scientific Reinterpretation of Form. Ithaca/
London,1984.
52. Evans-Pritchard E.E. Witchkraft, Oracles and Magic Among
the Azande. Oxford, 1937.
53. Evans-Pritchard E.E. The Nuer. Oxford, 1940.
54. Ferber R. Zenons Paradoxien der Bewegung. Munich, 1981.
Прощай, разум
467
55. Feyerabend P.K. Bohr's Interpretation of the Quantum
Theory. — In: Feigl H. and Maxwell G. (eds.). Current Issues in the
Philosophy of Science. New York, 1961.
56. Feyerabend P.K. Against Method. Outline of an anarchistic
theory of knowledge. London, 1975. — Фейерабенд П. Против
метода. Очерк анархистской теории познания. М., 2007.
57. Feyerabend P.K. Science in a Free Society. London, 1978. —
Фейерабенд П. Наука в свободном обществе. М., 2010.
58. Feyerabend P.K. Erkenntnis für freie Menschen. Frankfurt,
1980.
59. Feyerabend P.K. Philosophical Papers. Vol. I. Realism,
Rationalism and Scientific Method. Cambridge, 1981.
60. Feyerabend P.K. Philosophical Papers. Vol. II. Problems
of Empiricism. Cambridge, 1981.
61. Feyerabend P.K. and Thomas Ch. (eds.). Wissenschaft und
Tradition. Zürich, 1983.
62. Feyerabend P.K. Wissenschaft als Kunst. F. am Main, 1984.
63. Feyerabend P.K. Was heisst das, wissenschaftlich sein? —
In: Feyerabend P.K. and Thomas Chr. (eds.). Grenzprobleme der
Wissenschaften. Zürich, 1985.
64. Feyerabend P.K. Wider den Methodenzwang. Frankfurt, 1986.
65. Feyerabend P.K. Farewell to Reason. London, 1987.
66. Feyerabend P.K. Conquest of Abundance. A Tale of Abstraction
versus the Richness of Being, ed. B. Terpstra. Chicago, 2000.
67. Fischer P. Licht und Leben. Konstanz, 1985.
68. Forrest E.G. The Emergence of Greek Democracy. London, 1966.
69. Fox-Keller E. A Feeling for the Organism. San Francisco,
1983.
70. Fränkel H. Wege und Formen Frühgriechischen Denkens.
Munich, 1968.
71. French A. P. (ed.). Einstein: A Centenary Volume. Cambridge,
1979.
72. Fritz K. von. Nous, Noein and their Derivatives in Presocratic
Philosophy. -ClassicalPhilology, Part I: vol. 40, 1945, pp. 223-242,
Part II: vol. 41, 1946, pp. 12-34.
73. Fritz K. von. Philosophie und Sprachlicher Ausdruck bei
Demokrit, Piaton und Aristoteles. Darmstadt, 1966.
468
Пол Фейерабенд
74. Fritz К. von. Protagoras. — In: Schriften zur Griechischen
Logik. Vol. 1. Stuttgart, 1978, pp. 111-117.
75. Galbraith J.K. The New Industrial State. Boston, 1967.
76. Galileo Galilei. Dialogue Concerning The Two Chief World
Systems, tr. S. Drake. Berkeley, 1953. — Галилей Г. Диалог о двух
главнейших системах мира // Галилей Г. Избранные труды в
2-х томах. Т. 1. М., 1964.
77. Galileo Galilei. Two New Science, tr. S. Drake. London, 1974.
78. Geertz С Local Knowledge, Further Essays in Interpretive
Anthropology. New York, 1983.
79. Gelb I.G. A Study of Writing. Chicago, 1963. - И. Гельб.
Опыт изучения письма. Основы грамматологии. М., 2004.
80. Goll С. Ich verzeihe keinem. Munich, 1980.
81. Gordon Childe V. The Prehistory of European Society. Harmonds-
worth, 1958.
82. Gould S.J. The Mismeasure of Man. New York, 1981.
83. Grabar A. Christian Iconography. Princeton, 1968.
84. Grant R.M. Gnosticism and Early Christianity. New York,
1966.
85. Guthrie W.K.C. A History of Greek Philosophy. Vol. 1, 3.
Cambridge, 1962, 1969.
86. Habermas J. and Dews P. Autonomy and Solidarity: interviews
with Jürgen Habermas. London, 1986.
87. Habermas J. Die neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt am
Main, 1985.
88. Hadamard J. The Psychology of Invention in the Mathematical
Field. Princeton, 1949. — Адамар Ж. Исследование психологии
процесса изобретения в области математики. М., 1970.
89. Haken H. Synergetics. New York, 1983.
90. Hanke L. All Mankind is One. A Study of the disputation
between Bartolomé de Las Casas and Juan Ginés de Sepulveda in
1550 on the intellectual and religious capacity of the American indians.
De Kalb (IL), 1974.
91. von Hayek F.A. The Constitution of Liberty. Chicago, 1960.
92. von Hayek F.A. Missbrauch und Verfall der Vernunft. Salzburg,
1979.
93. Heer F. Die Dritte Kraft. Frankfurt am Main, 1959.
Прощай, разум
469
94. Heggie D.C. Megalithic Science. London, 1981.
95. Heilbron J.L. Electricity in the 17th and 18th Centuries. San
Francisco, 1979.
96. Heinimann F. Nomos and Physis. Basel, 1945.
97. Heisenberg E. Das Politische Leben eines Unpolitischen.
Munich, 1982.
98. Herder J.G. Journal meiner Reise im Jahre 1769. — In: Herder
J.G. Sämtliche Werke. Vol. IV. Berlin, 1878.
99. Herodotus. Histories, tr. A. de Selincourt. London, 1954. —
Геродот. История в 9 книгах, пер. с греч. Г.А. Стратановского.
М.,2001.
100. Hertz H. Die Prinzipien der Mechanik. Leipzig, 1894.
101. Heyneman D. Development and Disease: A Dual Dilemma. —
The Journal of Parasitology, vol. 70, 1984, pp. 3—17.
102. Hippocrates, vol. 2, tr. by W.H.S. Jones. Cambridge, 1967.
103. Hochberg J. The Representation of Things and People —
In: Gombrich E.H., Hochberg J. and Black M. Art, Perception and
Reality. Baltimore/London, 1972.
104. Holton G. Thematic Origins of Scientific Thought.
Cambridge, 1973.
105. Holton G. Subelectrons, Presuppositions, and the Milikan-
Ehrenhaft dispute. — Historical Studies in the Physical Sciences, vol.
IX. Baltimore, 1978, pp. 25-85.
106. Holton G. and Elkana Y., eds. Albert Einstein, Historical
and Cultural Perspectives. Princeton, 1982.
107. Hoyle F. Facts and Dogmas in Cosmology and Elsewhere.
Cambridge, 1982.
108. Hughes S. History as Art and Science. New York, 1964.
109. Hume D. A Treatse of Human Nature. Book I: Of the
Understanding, ed. D.G.C. Macnabb. New York 1962. Юм Д.
Трактат о человеческой природе. М., 2009.
110. Huritington E.U. The Continuum. Cambridge, 1917.
111. Illich I. Deschooling Society. New York, 1970.
112. Itagaki R. Why did Mach reject Einstein's theory of relativity? —
Historia Scientiarum, vol. 22, 1982, pp. 81—95.
113. Jacob, François. The Possible and the Actual. Seattle/
London,1982.
470
Пол Фейерабенд
114. Jammer M. The Philosophy of Quantum Mechanics.
The Interpretations of Quantum Mechanics in Historical Perspective.
New York, 1974.
115. Jones W.T. The sciences and the humanities; conflict and
Reconciliation. Berkeley, 1965.
116. Jungk R. The New Tyranny. New York, 1979.
117. Kahn Ch. H. The Greek Verb «to be» and the Concept
of Being. — Foundation of Language, vol. 2, 1966, pp. 245—265.
118. Kahn Ch. H. The Verb Be in Ancient Greek. Dordrecht,
1973.
119. Kant I. What is Enlightenment? — In: Beck L.W. (ed.). Kant:
On History. Indianapolis, 1963. — Кант И. Ответ на вопрос: Что
такое просвещение? // Кант И. Сочинения, под ред. Н.В. Мот-
рошиловой и Б. Тушлинга. М., 1994.
120. Kant. I. Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1786 (ed.
В.). — Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И.
Критика практического разума. СПб., 1995.
121. Kapp Ε. Review of Langerbeck's Doxiz epirrusmih(&). —
Gnomon, vol. 12, 1936, pp. 65—77.
122. Katz D. Die Erscheinungsweise der Farben. —Zeitschriftfür
Psychologie und Physiologie der Sinneorgane, Ergänzungsband 7, 1911.
123. Kaufmann Y. The Religion of Israel. New York, 1972.
124. Kierkegaard S. Concluding Unscientific Postscript, ed. by
D.F. Swensonand W. Lowrie. Princeton, 1941.
125. Kierkegaard S. Papirer, ed. by P.A. Heiberg, V. Kuhr and
E. Torsting, 2nd ed., 20 vols., Kobenhavn, 1968-1978.
126. Kolata G. Math Papers Called Inacccessible. — Science, 9 Jan
1987, vol. 235, p. 159.
127. Koppelberg D. Die Aufhebung der Analytischen Philosophie.
Frankfurt, 1987.
128. Lakatos I. Falsification and the Methodology of Scientific
Research Programmes. — In: Lakatos I. and Musgrave A. (eds.).
Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970, pp. 91 —
195. — Лакатос И. Фальсификация и методология
научно-исследовательских программ. М., 1995.
129. Lakatos I. History of Science and Its Rational
Reconstruction. — Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. VIII, 1971,
Прощай, разум
471
pp. 91 — 136. — Лакатос И. История науки и ее рациональные
реконструкции // Структура и развитие науки. Из Бостонских
исследований по философии науки. М., 1981.
130. Langevin P. and De Broglie M, eds. La théorie du rayonnement
et les quanta, Proceedings of the First Solvay Conference. Paris, 1912.
131. Leibniz G.W. Philosophische Schriften, ed. C.I. Gerhard.
Berlin, 1885-1890.
132. Leibniz G.W. and Clarke S. The Leibniz-Clarke
Correspondence, ed. by H.G. Alexander. Manchester, 1956.
133. Lenard P. Über die lichtelektrische Wirkung. Formale
Beschreibung. — Annalen der Physik, vol. 313, 1902, pp. 149—198.
134. Leonardo da Vinci. Trattato della pittura, ed. Ludwig. 1882. —
Леонардо да Винчи. Книга о живописи мастера Леонардо да
Винчи. М. 1934.
135. Lepenies W. Das Ende der Naturgeschichte. Münich/Vienna,
1976.
136. Lerner M. (ed.). Essential Works of John Stuart Mill. New
York, 1965.
137. Levins R. and Lewontin R.C. The Dialectical Biologist.
Cambridge (MA), 1985.
138. Levi-Strauss С The Savage Mind. Chicago, 1966. [Levi-
Strauss C. La Pensée sauvage. Paris, 1962] — Леви-Стросс К.
Первобытное мышление. M., 1994.
139. Lewontin R.C., Rose S. and Kamin L.J. Not in Our Genes.
New York, 1984.
140. Lifton R.J. The Nazi Doctors. New York, 1986.
141. Lifton R.J. The Future of Immorality. New York, 1987.
142. Lloyd G.E.R. Magic, Reason and Experience, Studies in the
Origins and Development of Early Greek Science. Cambridge, 1979.
143. Lorentz H. The Theory of Electron. New York, 1952.
144. Lorenz К. Der Abbau des Menschlichen. Munich, 1983.
145. Lorenz K. Die Acht Todsünden der Zivilisierten Menschheit.
München, 1984
146. Lovejoy A. Essays in the History of Ideas. Baltimore, 1948.
147. Luria S.E. A Slot Machine. A Broken Test Tube. New York,
1985.
472
Пол Фейерабенд
148. Lyotard J.-F. The Postmodern Condition. A Report on
Knowledge. Minneapolis, 1984. — Лиотар Ж.-Ф. Состояние
постмодерна. М./СПб., 1998.
149. Mach E. Populärwissenschaftliche Vorlesungen. Leipzig,
1896.
150. Mach E. Analyse der Empfindungen. Jena, 1900. — Max Э.
Анализ ощущений. M., 2005.
151. Mach Ε. Die Prinzipien der Physikalischen Optik. Leipzig,
1921. [Mach E. The Principles of Physical Optics. New York, 1953]
152. Mach Ε. Erkenntnis und Irrtum. Leipzig, 1917. — Max Э.
Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования.
М., 2003.
153. Mach E. Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Leipzig, 9th
ed., 1933. — МахЭ. Механика. Историко-критический очерк ее
развития. Ижевск, 2000.
154. Manuel F. E. The Religion of Isaac Newton. Oxford, 1974.
155. MarcusG.E., Fischer M.J. Anthropology as Cultural Critique.
Chicago, 1986.
156. Marshack A. Roots of Civilization. New York, 1972.
157. Mayr E. The Growth of Biological Thought. Cambridge, 1982.
158. Medawar P. The Art of the Soluble. London, 1967.
159. Medawar P. Advice to a Young Scientist. New York, 1979.
160. Meehan R. The Atom and the Fault. Cambridge (MA), 1984.
161. Meehl P.E. Clinical vs. Statistical Predictions. Minneapolis,
1954.
162. Mill J.S. On Liberty. - In: Cohen M. (ed.). The Philosophy
of John Stuart Mill. New York, 1961. — Милль Дж.С. О свободе.
СПб., 1906.
163. Miller A. Albert Einstein's Special Theory of Relativity,
Emergence (1905) and Early Interpretation, 1905—1911. Reading
(MA), 1981.
164. Millikan R. The Electron. Chicago, 1917.
165. Moser J. K. Stable and Random Motions in Dynamical Systems
(Ann. Math. Stud., vol. 77). Princeton, 1973.
166. Müller W. Indianische Welterfahrung. Stuttgart, 1976.
167. Nandi A. The Pathology of Objectivity. — The Ecologist, vol.
13, 1983, pp. 202-207.
Прощай, разум
473
168. Needham J. Celestial Lancets. A History and Rationale of
Acupuncture and Moxa. Cambridge, 1978.
169. Needham J. Science in Traditional Cina. A comparative
perspective. Cambridge (MA), 1981.
170. Needham J. Time, the Refreshing River. Nottingham, 1986.
171. Neugebauer O. The Exact Science in Antiquity. New York, 1962.
172. Neugebauer O. A History of Ancient Mathematical Astronomy.
Berlin/Heidelberg/New York, 1975.
173. Newhall B. Photography, Essays and Images. New York,
1980.
174. Nussbaum M. The Fragility of Goodness. Cambridge, 1986.
175. O'Malley CD. Andreas Vesalius of Brussels. Berkeley/Los
Angeles, 1965.
176. Otto W.F. Die Götter Griechenlands. Frankfurt am Main, 1970.
177. Owen, G.E.L. Aristotle on Time. — In: Machamer P.K. and
Turnbull R.G. (eds.). Motion and Time, Space and Matter. Columbus,
1976.
178. Page D. History and the Homeric Iliad. Berkeley/Los Angeles,
1966.
179. Panofsky E. Idea, A Concept in Art Theory. New York,
1968. — Панофски Э. IDEA. К истории понятия в теориях
искусства от античности до классицизма. СПб, 1999.
180. Parry A. The Language of Achilles. — Transactions and
Proceedings of the American Philosophical Association, vol. 87, 1956.
181. Peierls R. Bird of Passage. Princeton (NJ), 1985.
182. Pernoud G. and Flaissier S. The French Revolution. New
York, 1960.
183. Piaget J. The Construction of Reality in the Child. New York,
1954. — Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969.
184. Pickering A. Constructing Quarks. Chicago, 1985.
185. Planck M. Voträge und Erinnerungen. Darmstadt, 1969.
186. Платон. Сочинения в 4-х томах. СПб., 2006—2008.
187. Polanyi M. Personal Knowledge. London, 1958.
188. Polanyi M. The Tacit Dimension. New York, 1966.
189. Popper K.R. The Open Society and Its Enemies. Vol. 1—2.
New York, 1963, 1966. — Поппер К. Открытое общество и его
враги. Т. 1-2. М., 1992.
474
Пол Фейерабенд
190. Popper K.R. Objective Knowledge: An Evolutionary
Approach. Oxford, 1972. — Поппер К. Объективное знание.
Эволюционный подход. М., 2002.
191. Popper K.R. Quantum Theory and the Schism in Physics.
From the Postscript to the Logic of Scientific Discovery (Vol. III).
London/Totowa (NJ), 1982.
192. Popper K.R. Realism and the Aim of Science. From the
Postscript to the Logic of Scientific Discovery (Vol. I). London/
Totowa(NJ), 1983.
193. Popper K.R. Auf der Suche nach einer besseren Welt. Munich,
1984.
194. Prigogine I. From Being to Becoming. New York, 1977.
195. Primas H. Chemistry, Quantum Theory and Reductionism.
New York, 1982.
196. Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge, 1981.
197. Rahnema M. From «Aid» to «Aids» — A Look at the Other
Side of Development (Manuscript. Stanford, 1983).
198. Rahnema M. Education for Exclusion or Participation?
(Manuscript. Stanford, 16.04.1985).
199. Reiser S.J. Medicine and the Reign of Technology. Cambridge,
1978.
200. Renfrew C. Before Civilization. Cambridge, 1979.
201. Rhodes R. The Making of the Atom Bomb. New York, 1986.
202. Rosen Ε (ed.). Three Copernican Treatises. New York, 3rd
ed. 1971.
203. Rosental S. (ed.). Niels Bohr, his Life and Work as seen by
his Friends and Colleagues. New York, 1967.
204. Rouzé M. Robert Oppenheimer. New York, 1965.
205. Rudwick M.J.S. The Great Devonian Controversy. Chicago,
1985.
206. Ryan T.A. and Schwarz C.B. Speed of Perception as a Function
of Mode of Representation. — American Journal of Psychology, vol.
69, 1956, pp. 60-69.
207. Sacks O. The Man Who Mistook his Wife for a Hat. New
York, 1st ed. 1970,1987. — Сакс О. Человек, который принял жену
за шляпу и другие истории из врачебной практики. М., 2005.
Прощай, разум
475
208. de Santillana G. and von Dechend H. Hamlet's Mill. An
Essay on Myth and the Frame of Time. Boston, 1969.
209. Schlipp P.A. (ed.). Albert Einstein: Philosopher — Scientist.
Evanston(IL), 1949.
210. Schöne W. Über das Licht in der Malerei. Berlin, 1954.
211. Seelig С. Albert Einstein, eine dokumentarische Biographic
Zürich, 1954. — Зелиг К. Альберт Эйнштейн. М., 1964.
212. von Senden M. Space and Light. London, 1960.
213. Shankland R.S. Conversations with Albert Einstein. —American
Journal of Physics, vol. 31, 1963, pp. 47—57.
214. Shryock R.H. The Development of Modern Medicine. Madison
(WI), 1979.
215. Singer C, Holmyard E.J. and Hall A.R. (eds.). A History of
Technology. Vol. 1-2. Oxford 1954, 1956.
216. Skinner B.F. Beyond Freedom and Dignity. New York, 1971.
217. Smith CS. A Search for Structure, Cambridge (MA), 1981.
218. Smith CS. From Art to Science, seventy-two objects illustrating
the nature of discovery. Cambridge (MA), 1980.
219. Smith CS. A Matter of Form. - Isis, vol. 76, 1985, pp. 584-
587.
220. Smith-Bowen E. Return to Laughter. London, 1954.
221. Snell B. Ausdrücke für den Begriffdes Wissens in der
vorplatonischen Philosophie. Berlin, 1924.
222. Snell B. The Discovery of the Mind. New York, 1960.
223. Snell B. Gesammelte Schriften. Göttingen, 1966.
224. Snell B. et all. Lexicon des Frühgriechischen Epos. Göttingen,
1971.
225. Snell B. Die Entdeckung des Geistes. Göttingen, 4th ed.,
1975
226. Snow СР. The Two Cultures and the Scientific Revolution.
Cambridge, 1959.
227. Soden W. von. Leistung und Grenzen Sumerisch-Babylonischer
Wissenschaft. Darmstadt, 1965 (repr.).
228. Spencer J.R. Leon Battista Alberti on Painting. New Haven/
London, 1966.
229. Sperry R. Science and Moral Priority. New York, 1985.
230. Spink W.W. Infectious Diseases. Minneapolis, 1978.
476
Пол Фейерабенд
231. Starr P. The Social Transformation of American Medicine.
New York, 1982.
232. Storry R. A History of Modern Japan. Harmondsworth, 1982.
233. Sydenham Th. The Works of Thomas Sydenham M.D., ed.
R.G. Latham. Vol. 2. London, 1848.
234. Synge J. Introduction to General Relativity. — In: de Witt
B.S. and de Witt C. (eds.). Relativity, Groups and Topology. New
York, 1964.
235. Szabo A. Anfange der Griechischen Mathematik. Budapest,
1969.
236. Temkin O. The Double Face of Janus. Baltimore, 1977.
237. Terzian Y. and Bilson E.M. (eds.). Cosmology and Astrophysics.
Ithaca/London, 1982.
238. Thomas L. The Youngest Science. New York, 1983.
239. Thompson E.P. et al. (eds.). Extreminism and Cold War.
London,1982.
240. Thucydides. Pelopponesian War, tr. by R. Crawley. Modern
Library College Editions Series. New York, 1982. — Фукидид.
История. Пер. с греч. Φ.Г. Мищенко в переработке С.А. Жебелева,
2т. М., 1915.
241. Turnbull СМ. The Lesson of the Pygmies. —Scientific American,
vol. 208, Jan 1963, pp. 28-37.
242. Valenstein E.S. Great and Desperate Cures. New York, 1986.
243. Vasari G. Lives of the Artists. Vol. 1. Penguin Classics. New
York, 1987.
244. Veith I. (ed.). The Yellow Emperor's Classic of Internal
Medicine. Berkeley/Los Angeles, 1966.
245. Voegelin E. Order and History. Vol. I. Israel and Revelation.
Baton Rouge (LA), 1956.
246. Voigtländer H.-D. Der Philosophe und die Vielen. Wiesbaden,
1980.
247. Waerden B.L. van der. Science Awakening. New York, 1963. —
Варден Б. ван дер. Пробуждающаяся наука. М., 1959.
248. van der Waerden B.L. Geometry and Algebra in Ancient
Civilizations. New York, 1983.
249. Wagner H. Aristoteles Physikvorlesung. Darmstadt, 1974.
250. Watts M. Silent Violence. Berkeley/Los Angeles, 1983.
Прощай, разум
477
251. Webster Т. В. L. From Mycenae to Homer. New York, 1964.
252. Webster T.B.L. Athenian Culture and Society. Berkeley/Los
Angeles, 1973.
253. Wehrli F. Hauptrichtungen des Griechischen Denkens. Stuttgart/
Zürich, 1964.
254. Weizsäcker C.F. von. History of Nature. New York, 1964.
255. Westfall R.S. Science and Religion in Seventeenth Century
England. Ann Arbor (MI), 1973.
256. Weyl H. Das Kontinuum. Leipzig, 1919.
257. Weyl H. Über die neue Grundlagenkrise der
Mathematik. — Mathematische Zeitschrift, vol. 10, 1921, pp. 39—79.
258. Wheaton B. The Photoelectric Effect and the Orogon of the
Quantum Theory of free Radiation. Berkeley, 1971.
259. Wheeler J.A. and Zurek W.H. Quantum Theory and
Measurement. Princeton, 1983.
260. Whitaker E.A. Galileo's Lunar Observations. —Science, 2 May
1980, vol. 208, p. 446.
261. Whitaker E.A. Lunar Topography: Galileo's Drawings. —
Science, 10 Oct 1980, vol. 210, pp. 136-144.
262. Whorf B.L. Language, Thought and Reality. Cambridge
(MA), 1956.
263. Wilamowitz-Möllendorf U. von Der Glaube der Hellenen.
I. Darmstadt, 1955.
264. Wilson E.O. On Human Nature. Cambridge (MA), 1978.
265. Wolters G. Atome und Relativität — Was meinte Mach? —
In: Haller R. und Stadler E. (eds.). Ernst Mach: leben, Werk und
Wirkung. Vienna, 1986.
266. Фрагменты ранних греческих философов, под ред. A.B.
Лебедева. Часть 1,2. М., 1989.