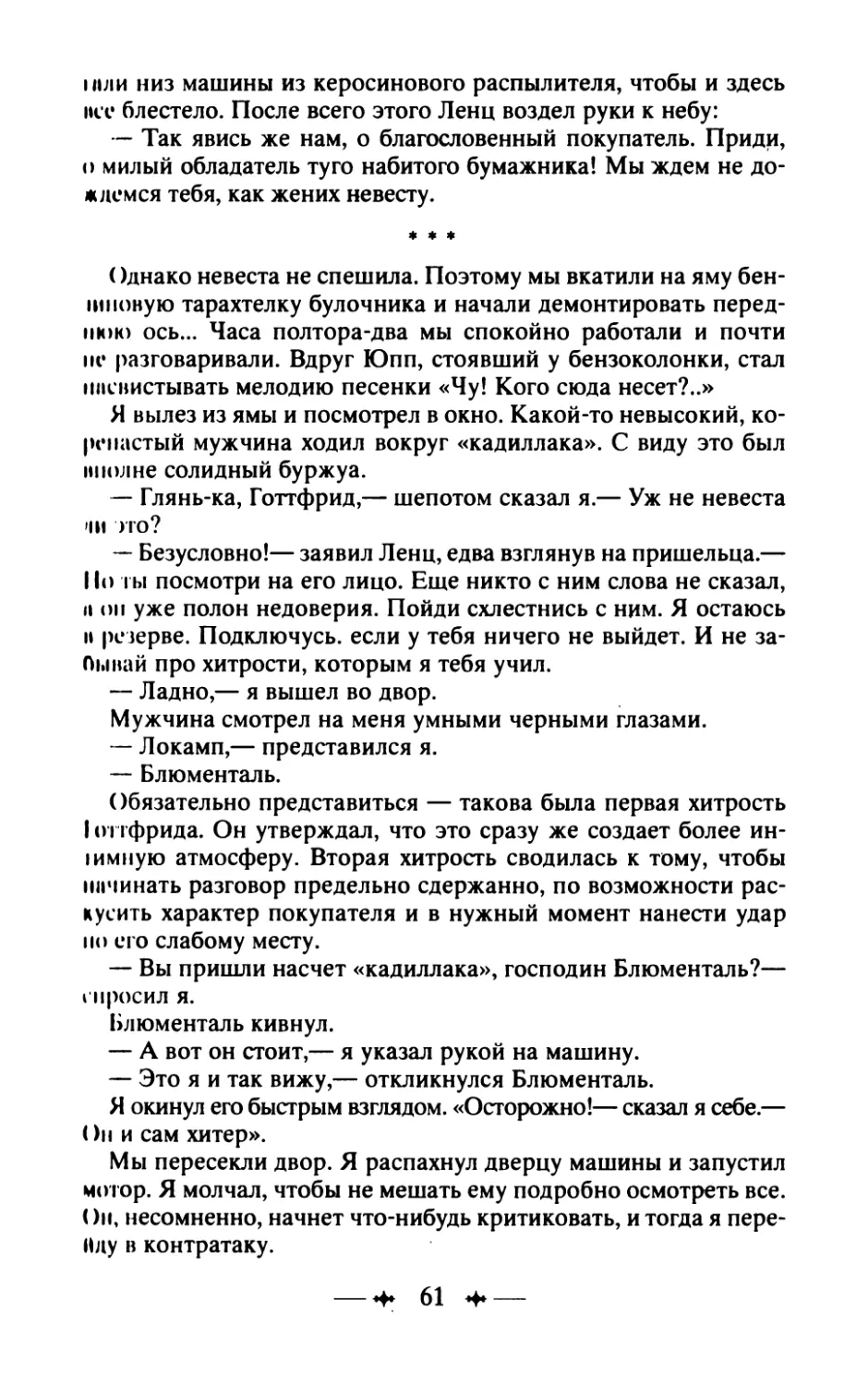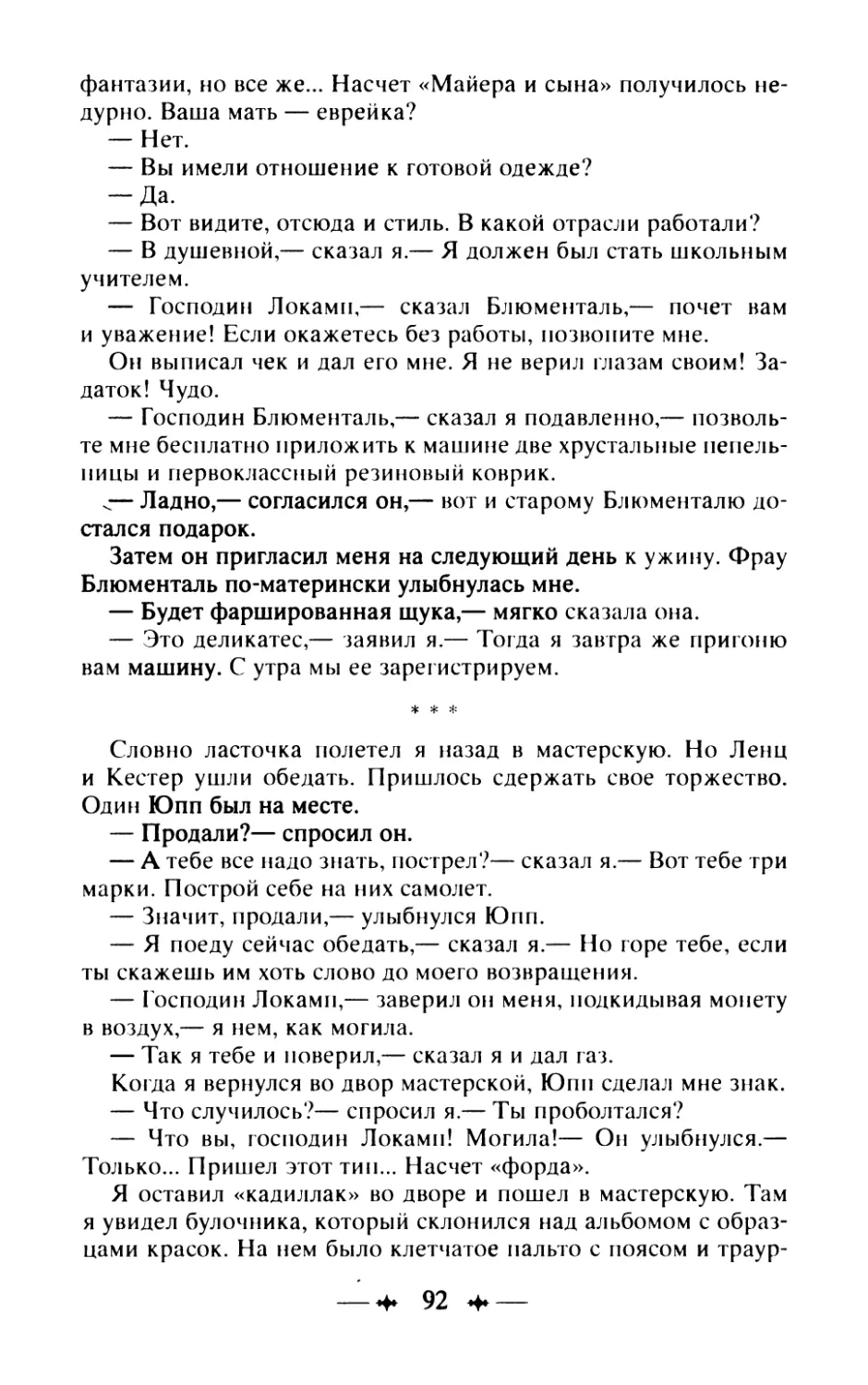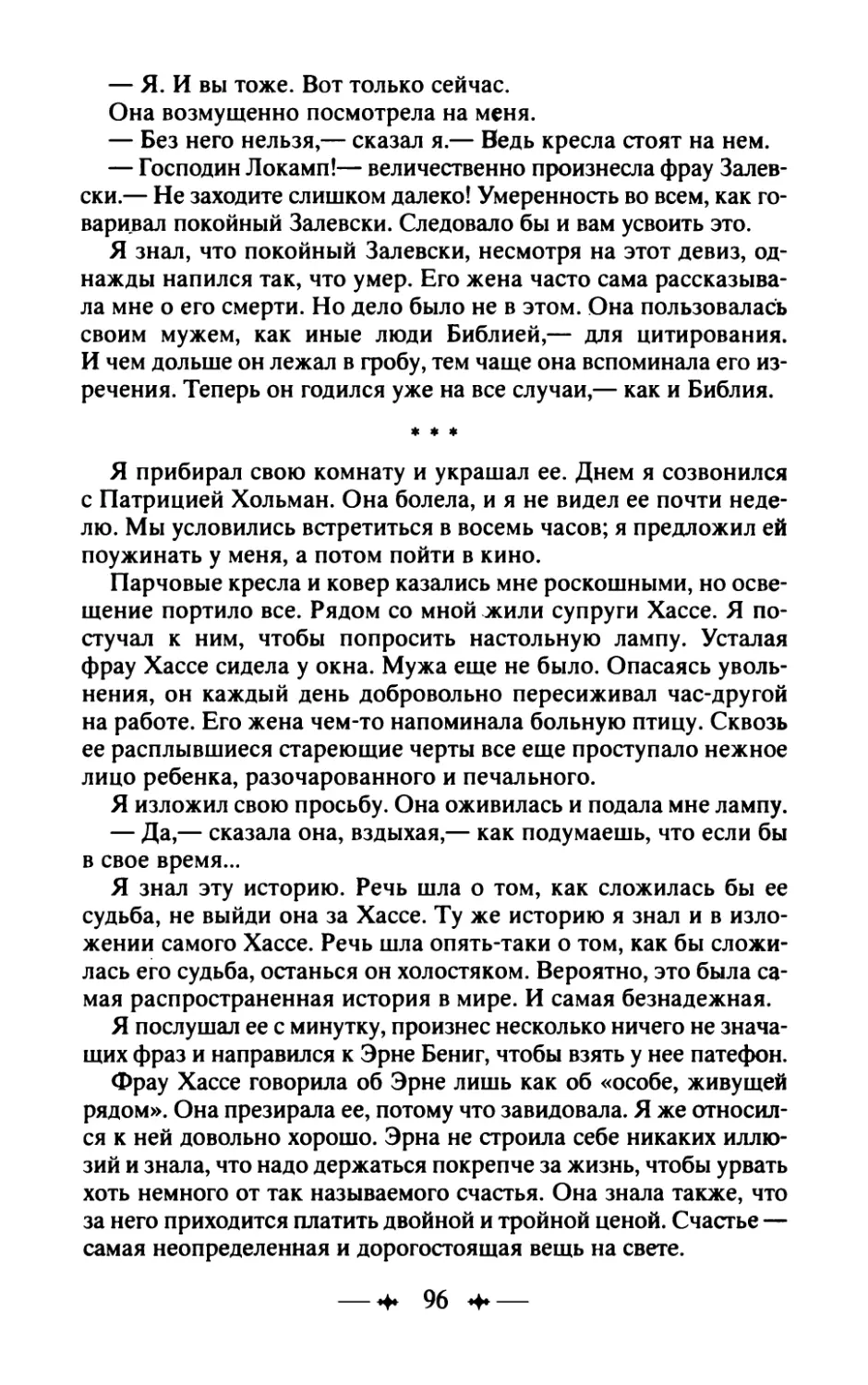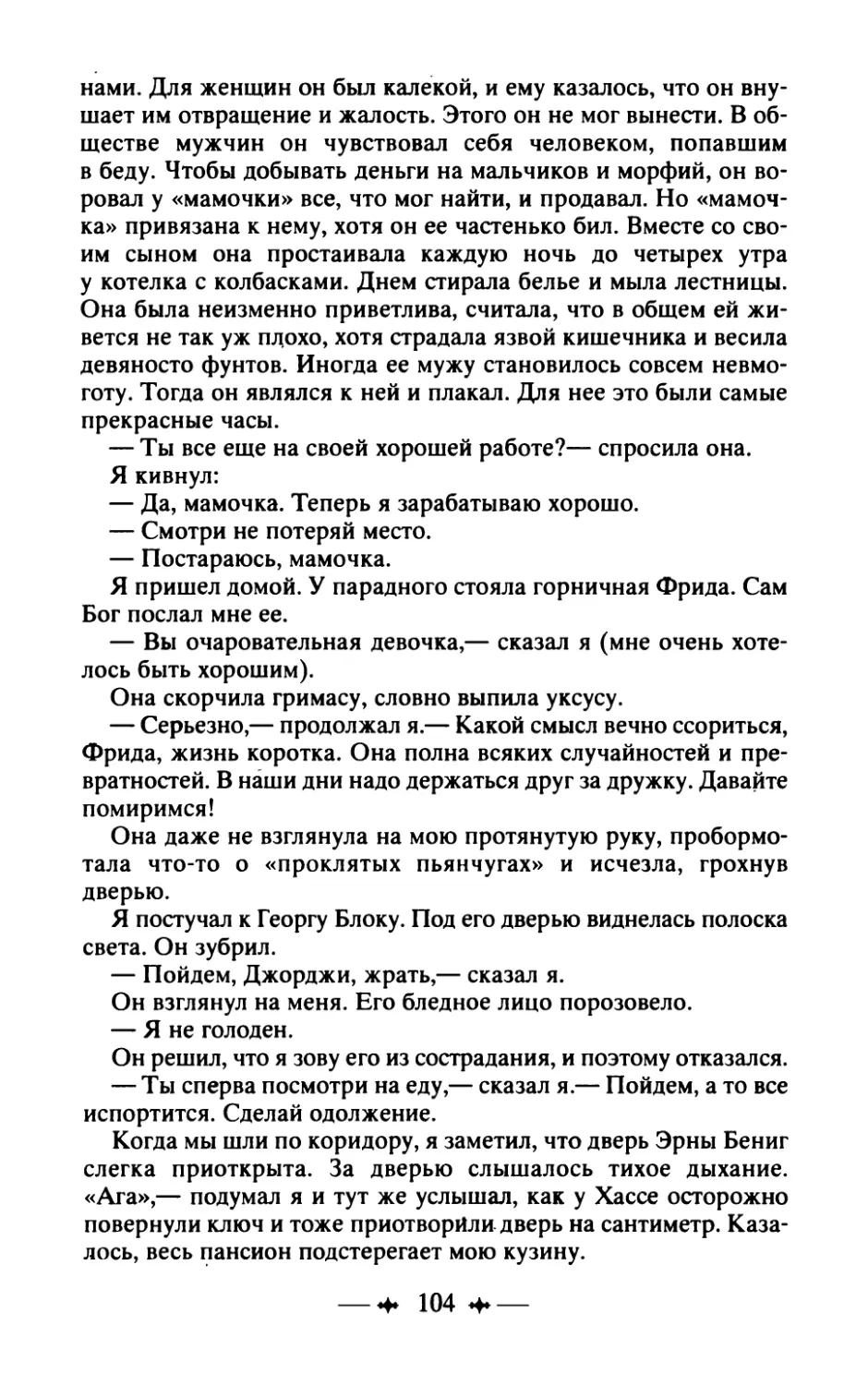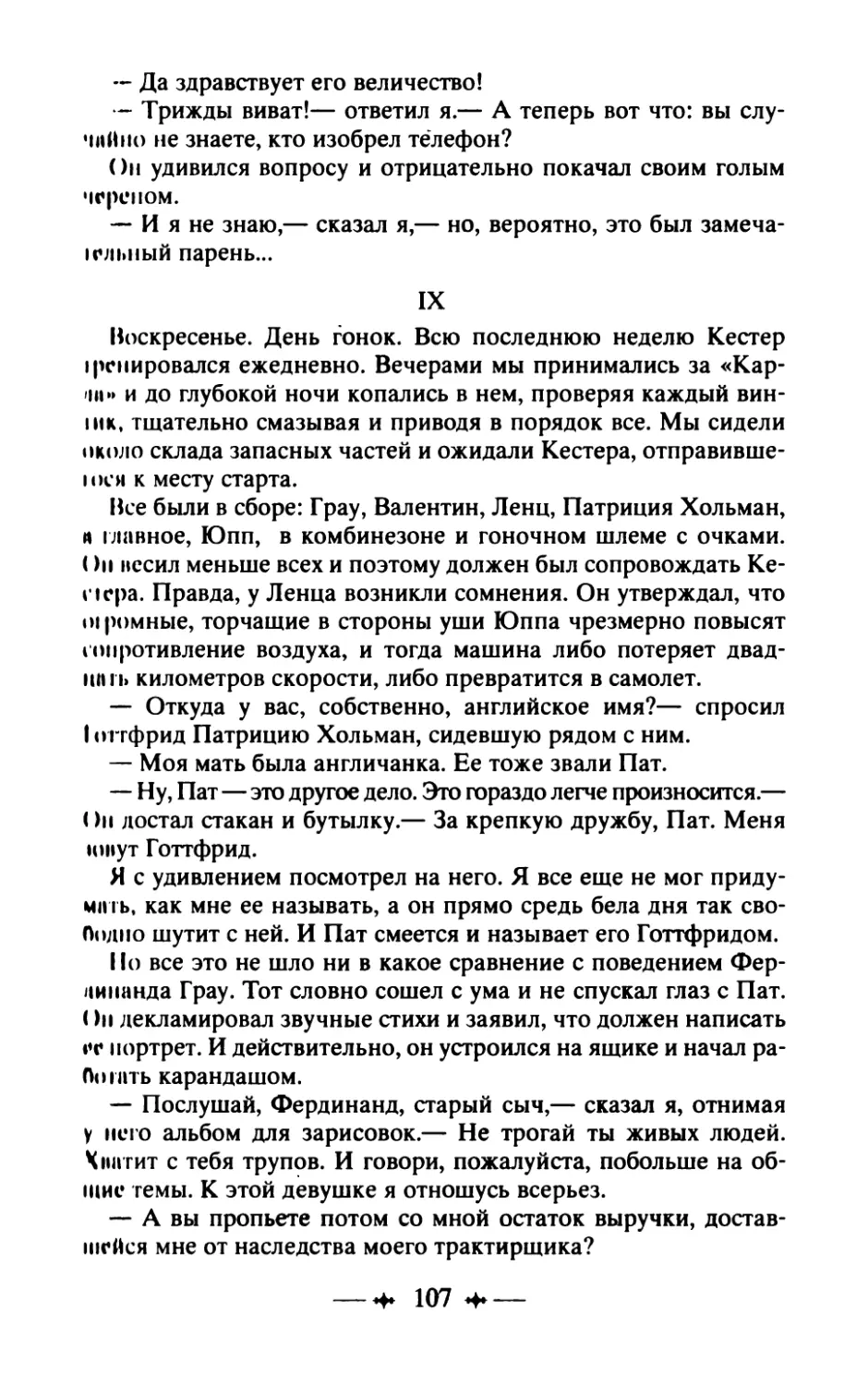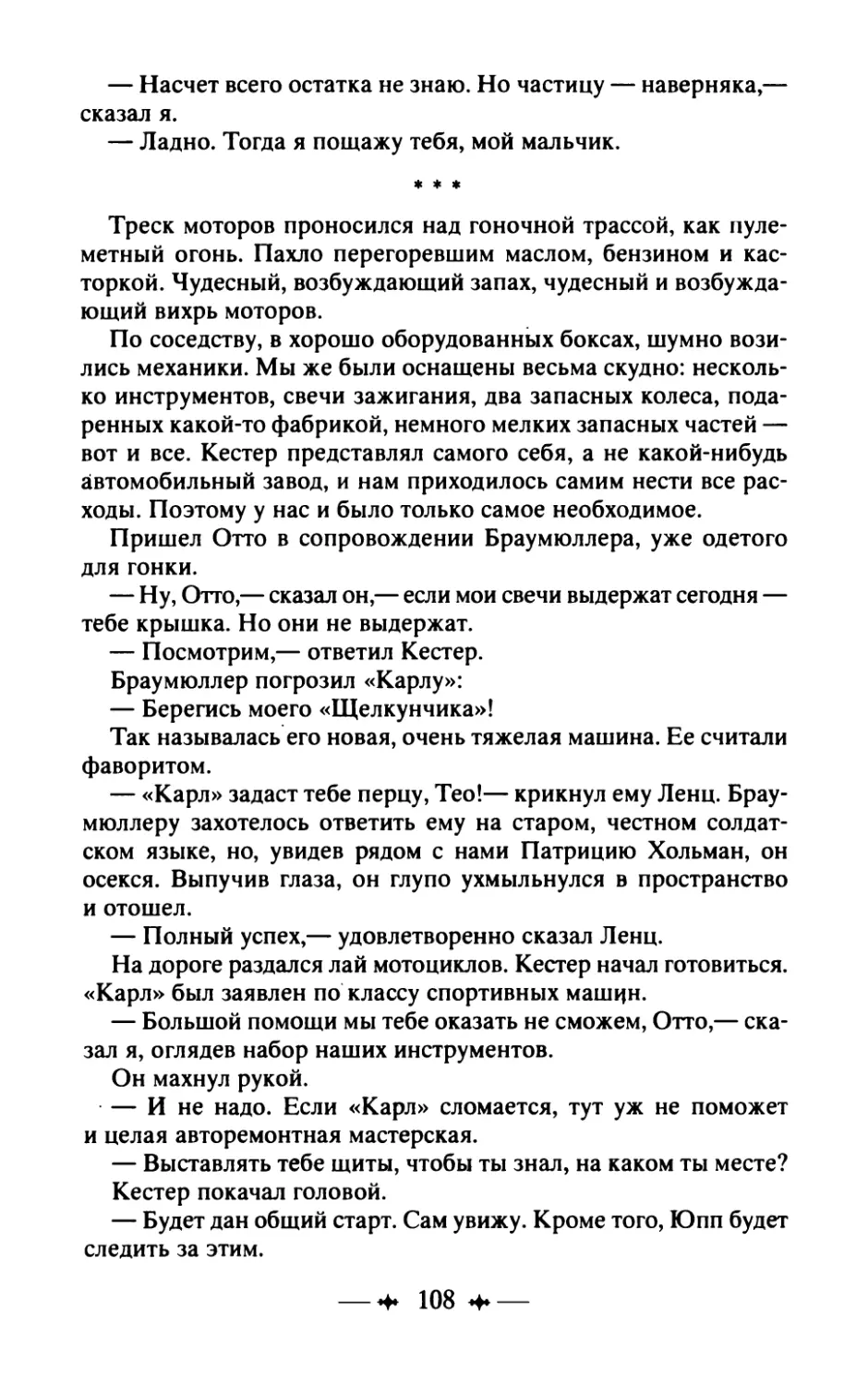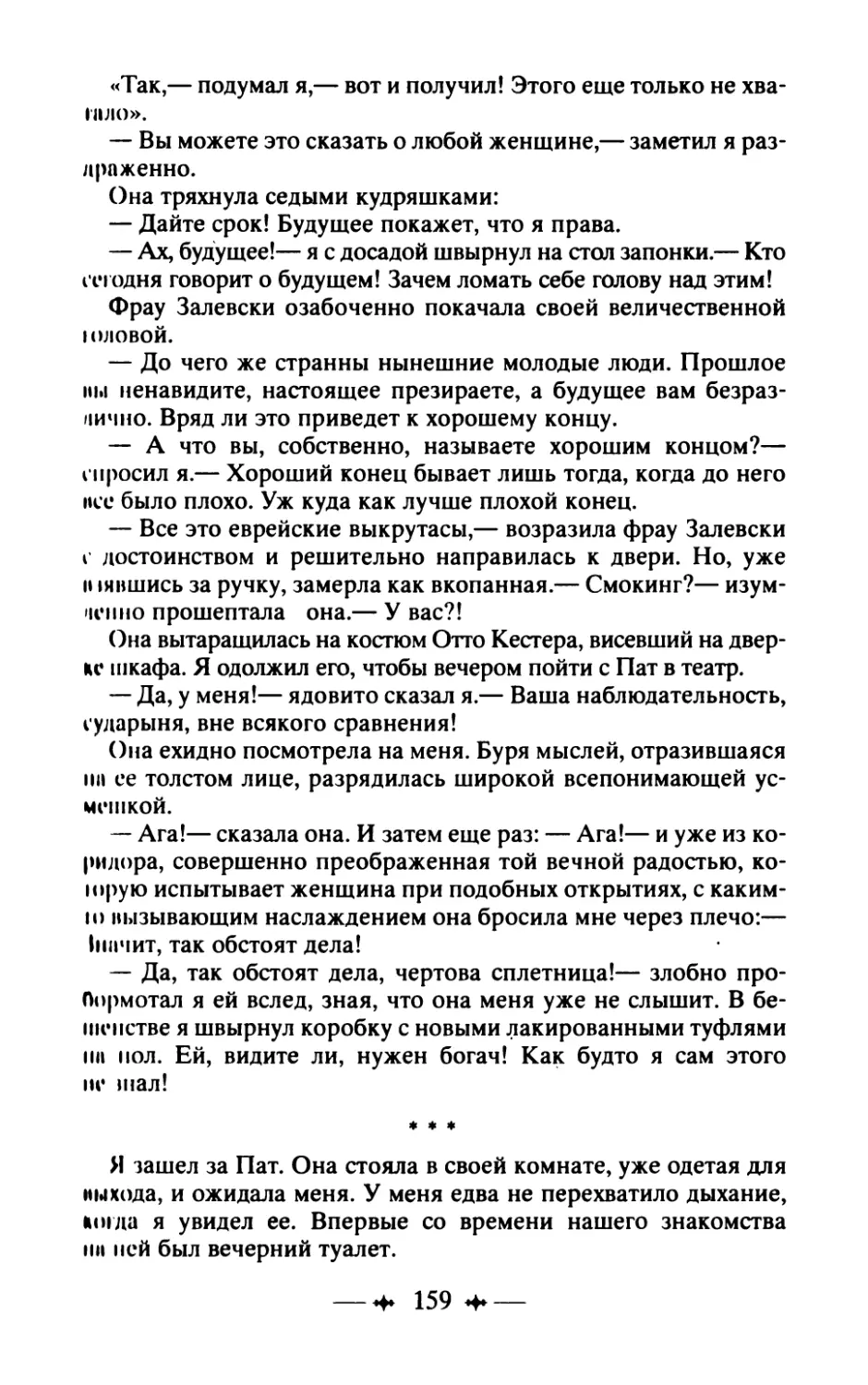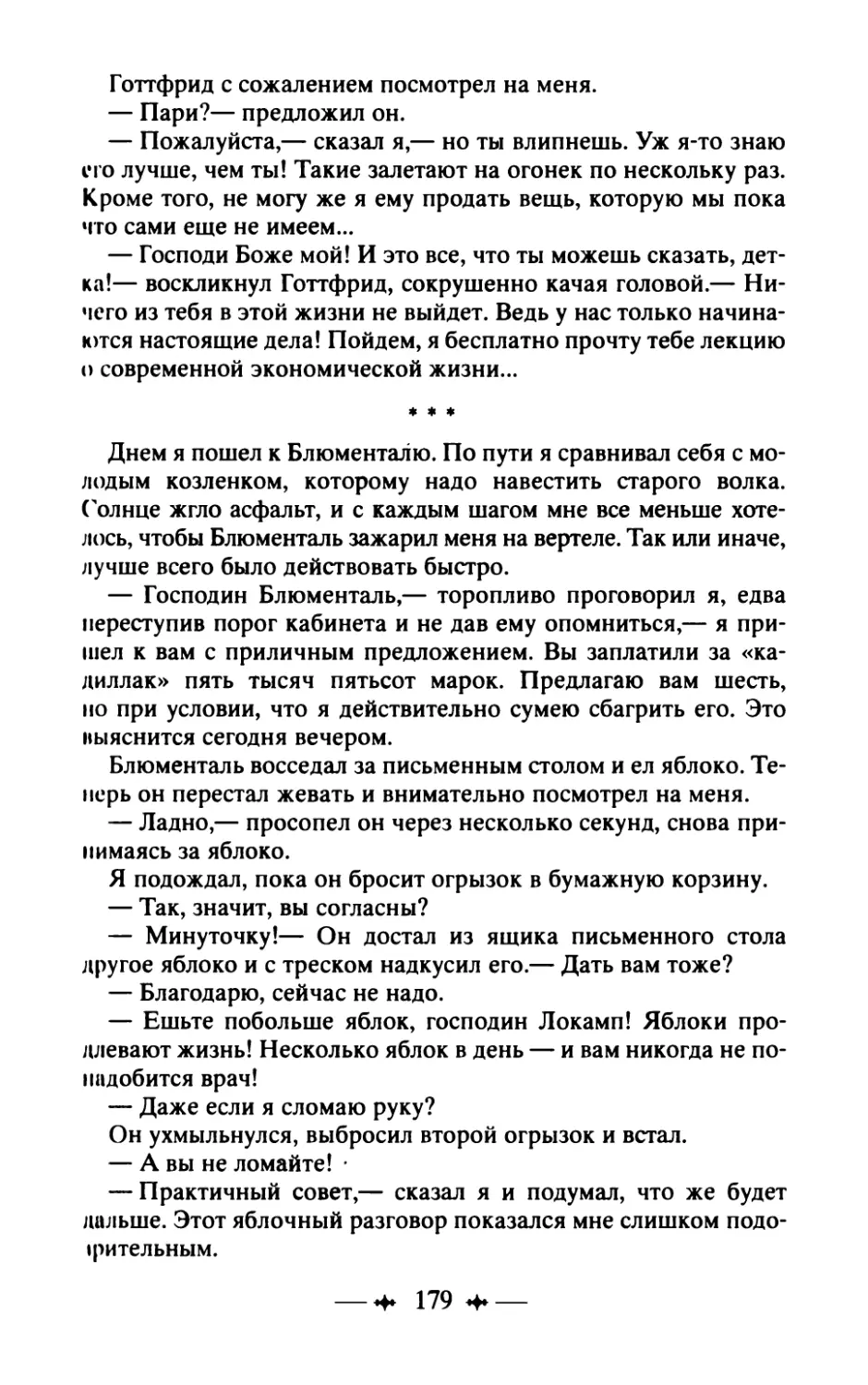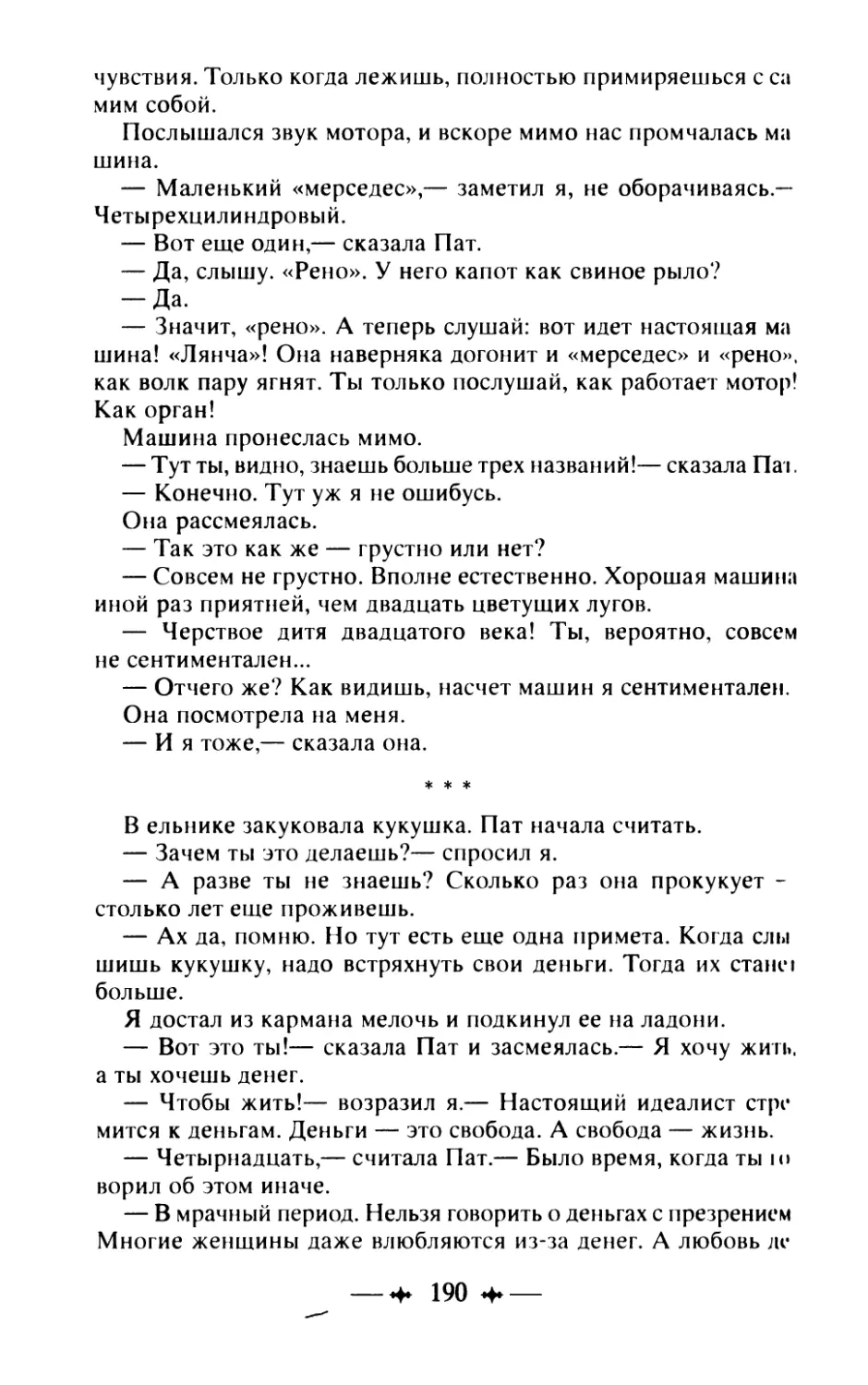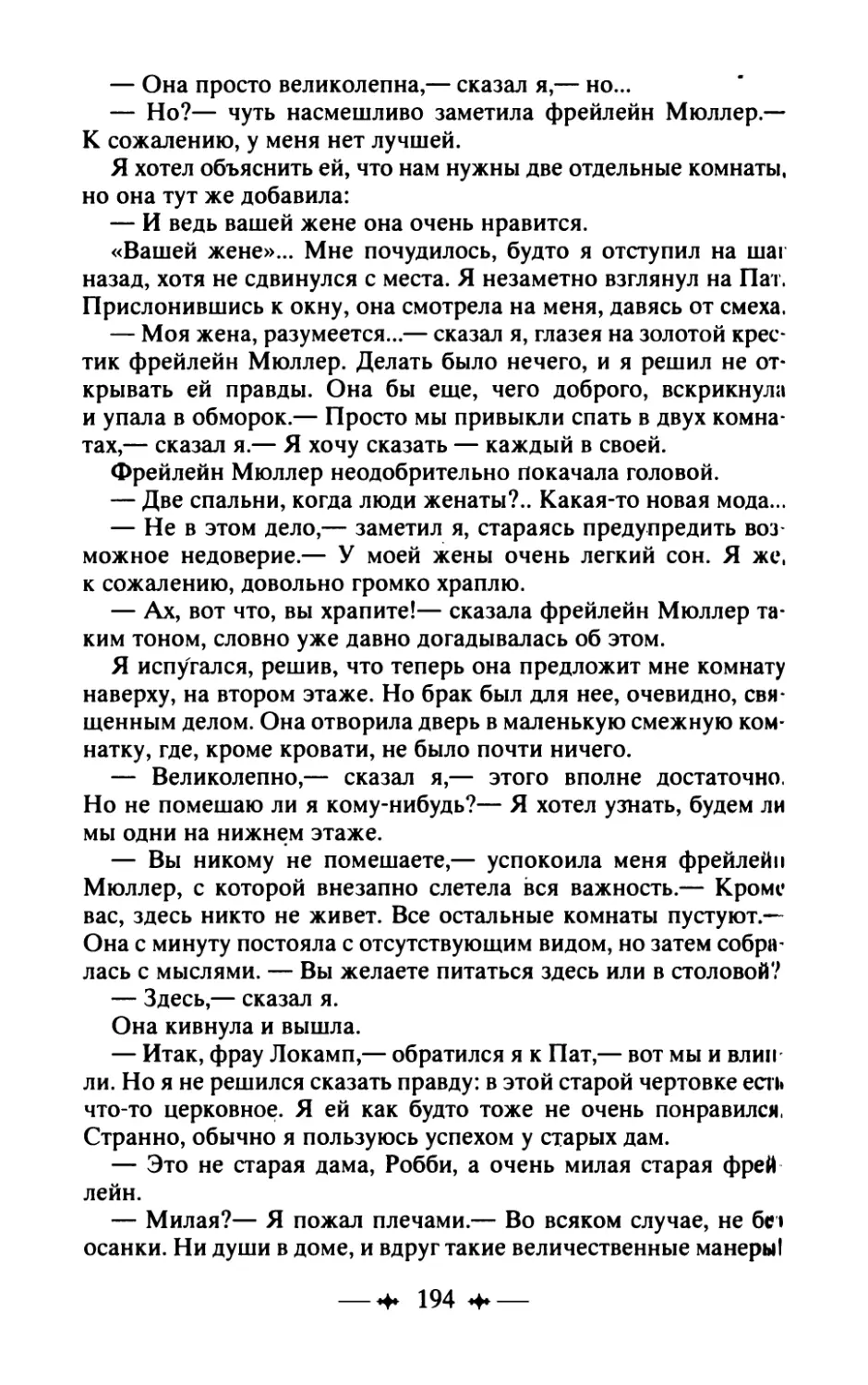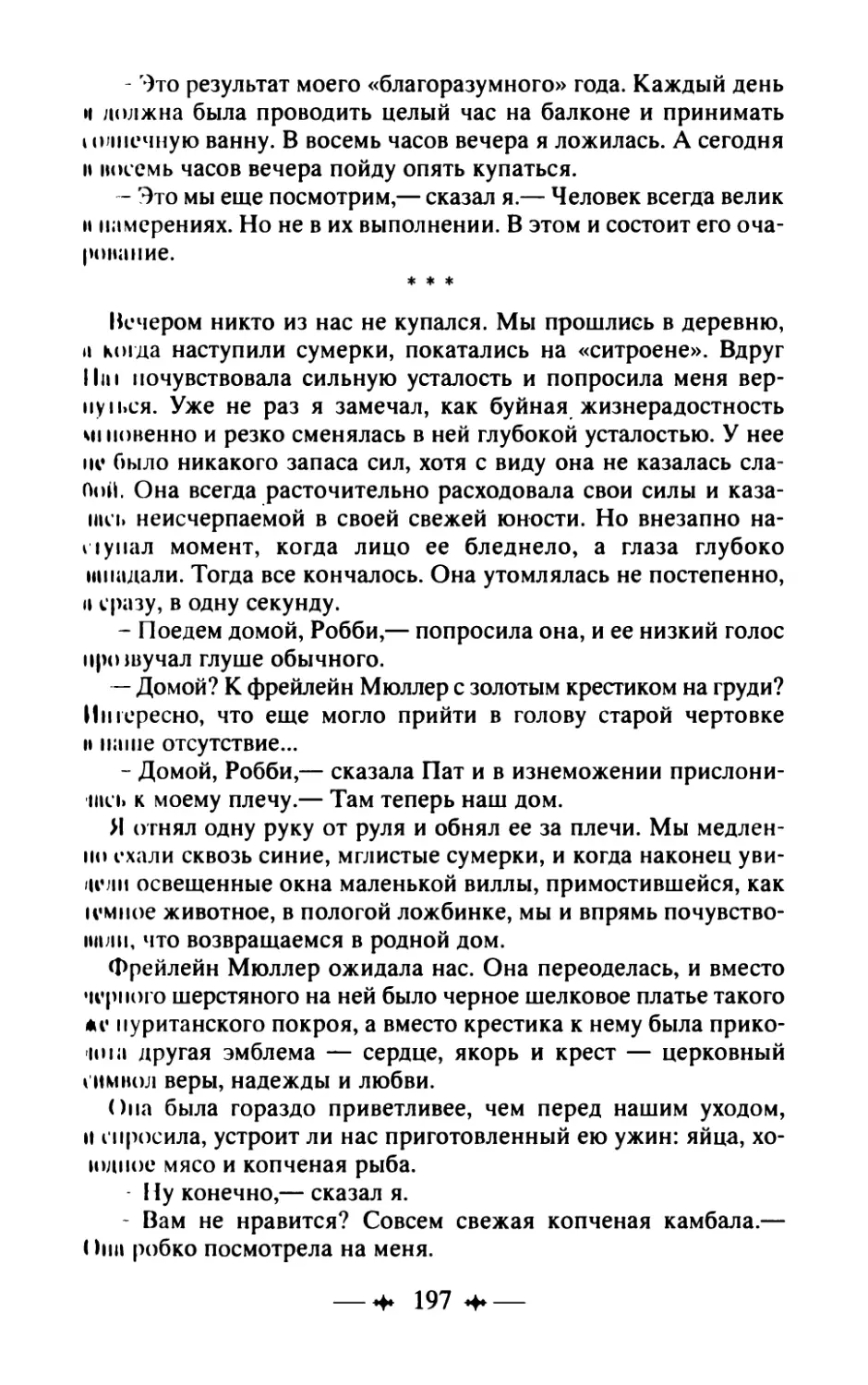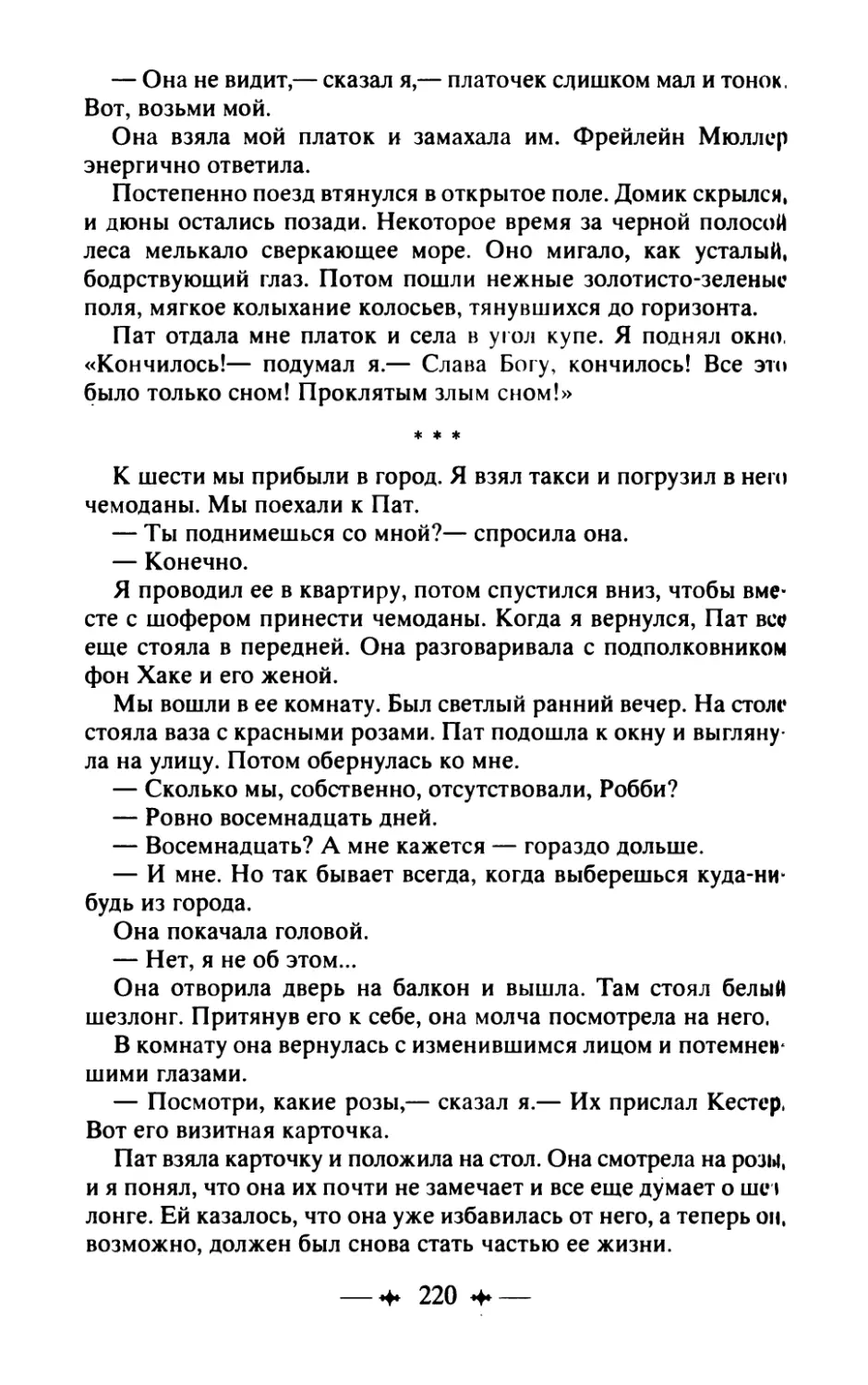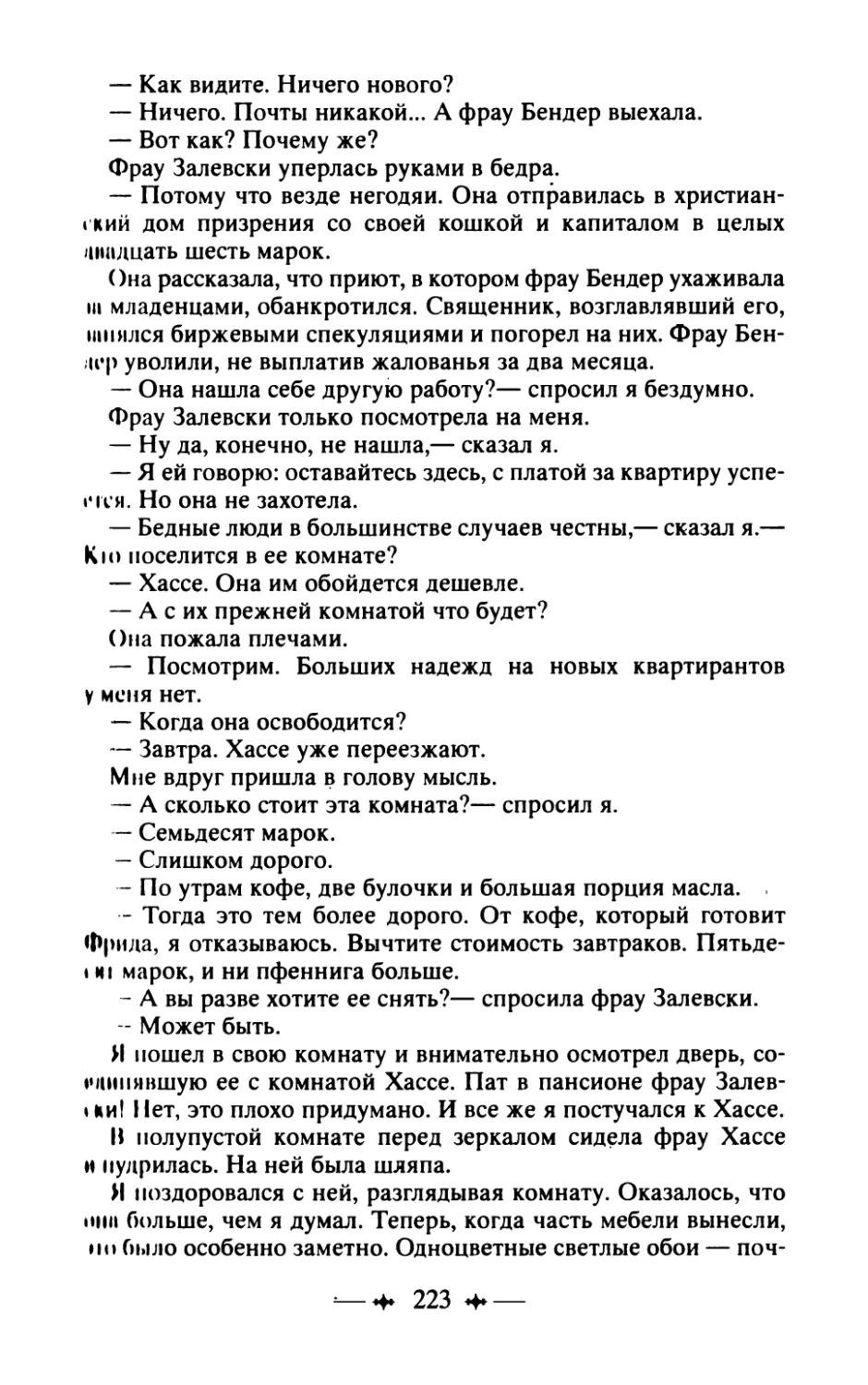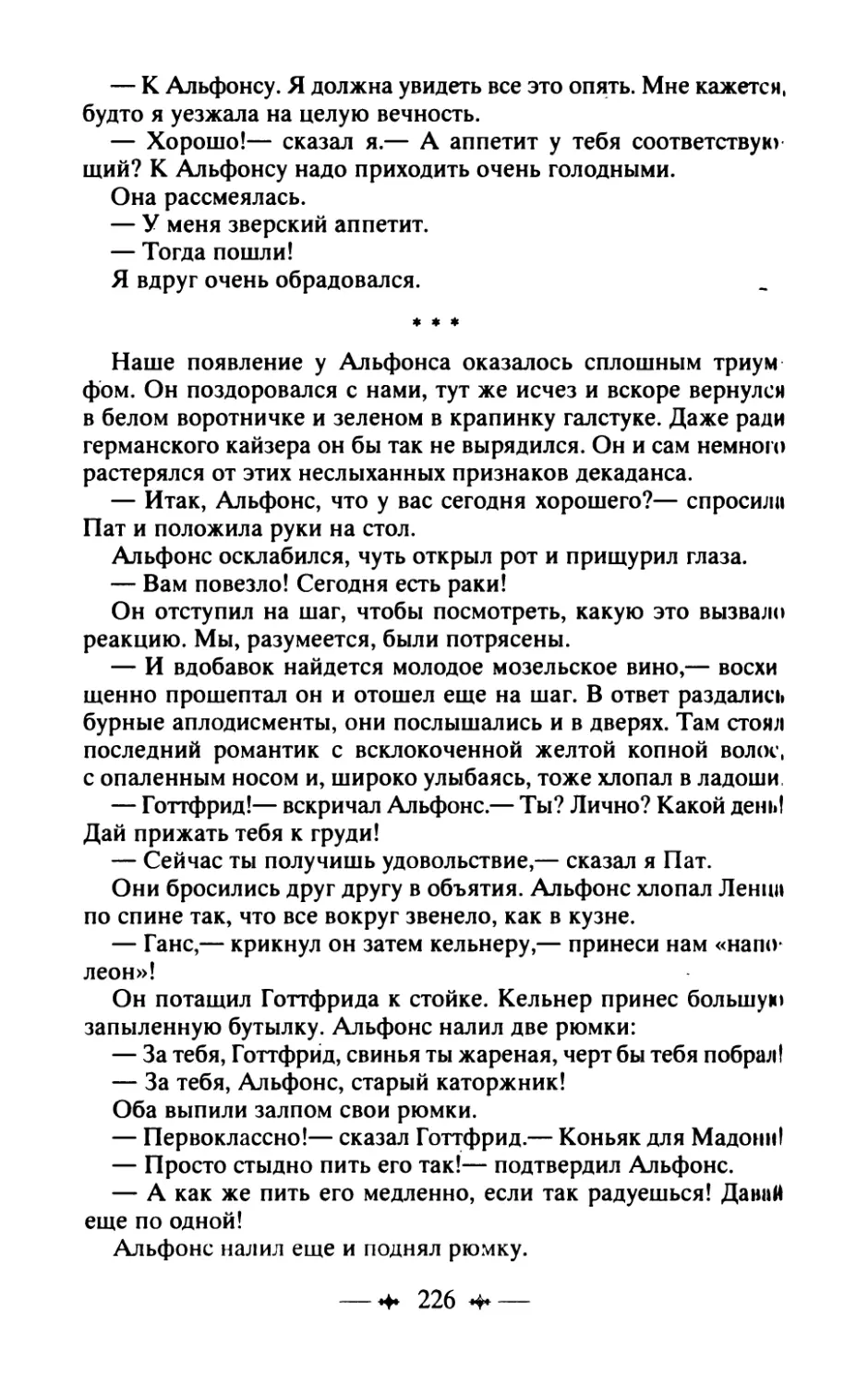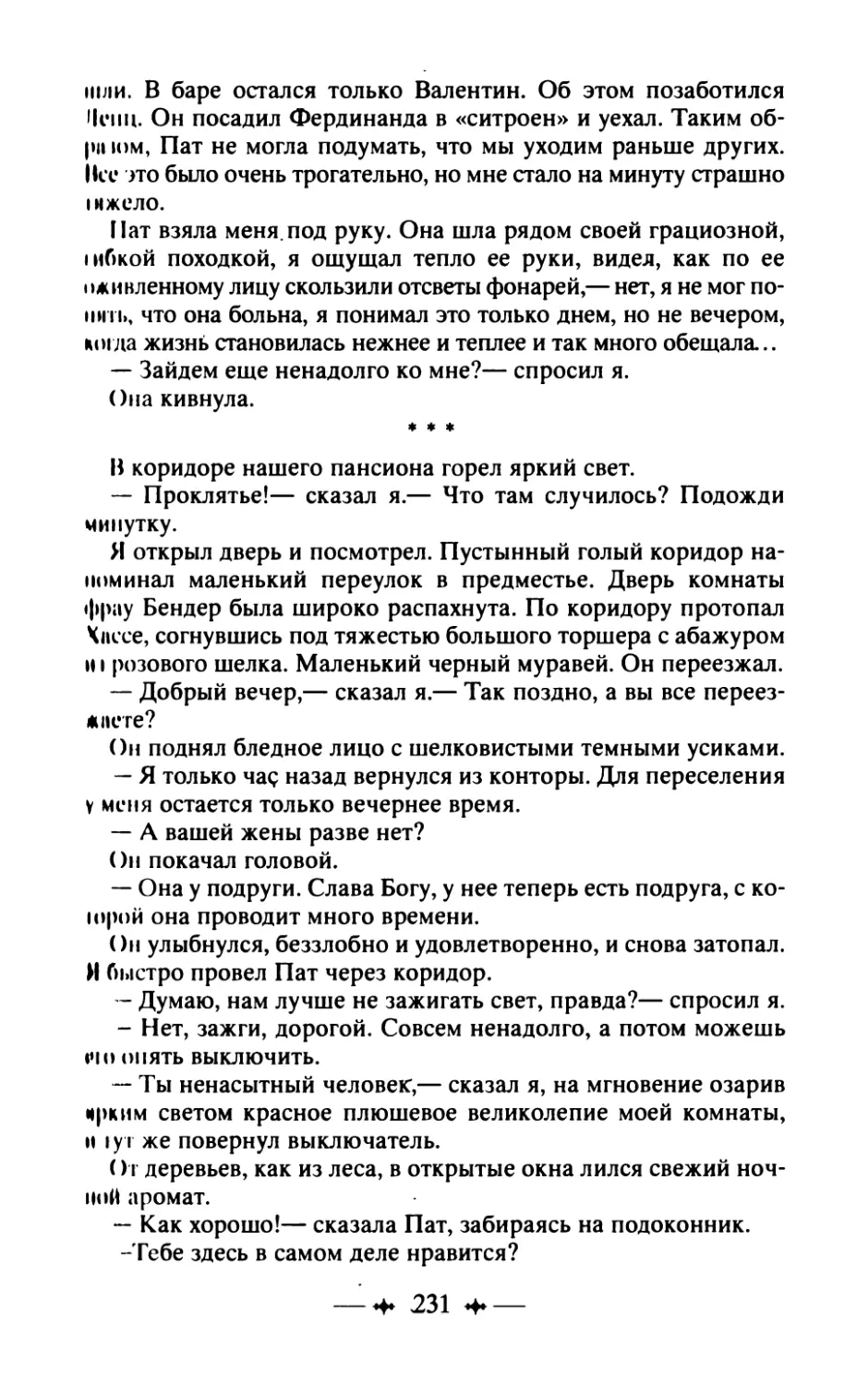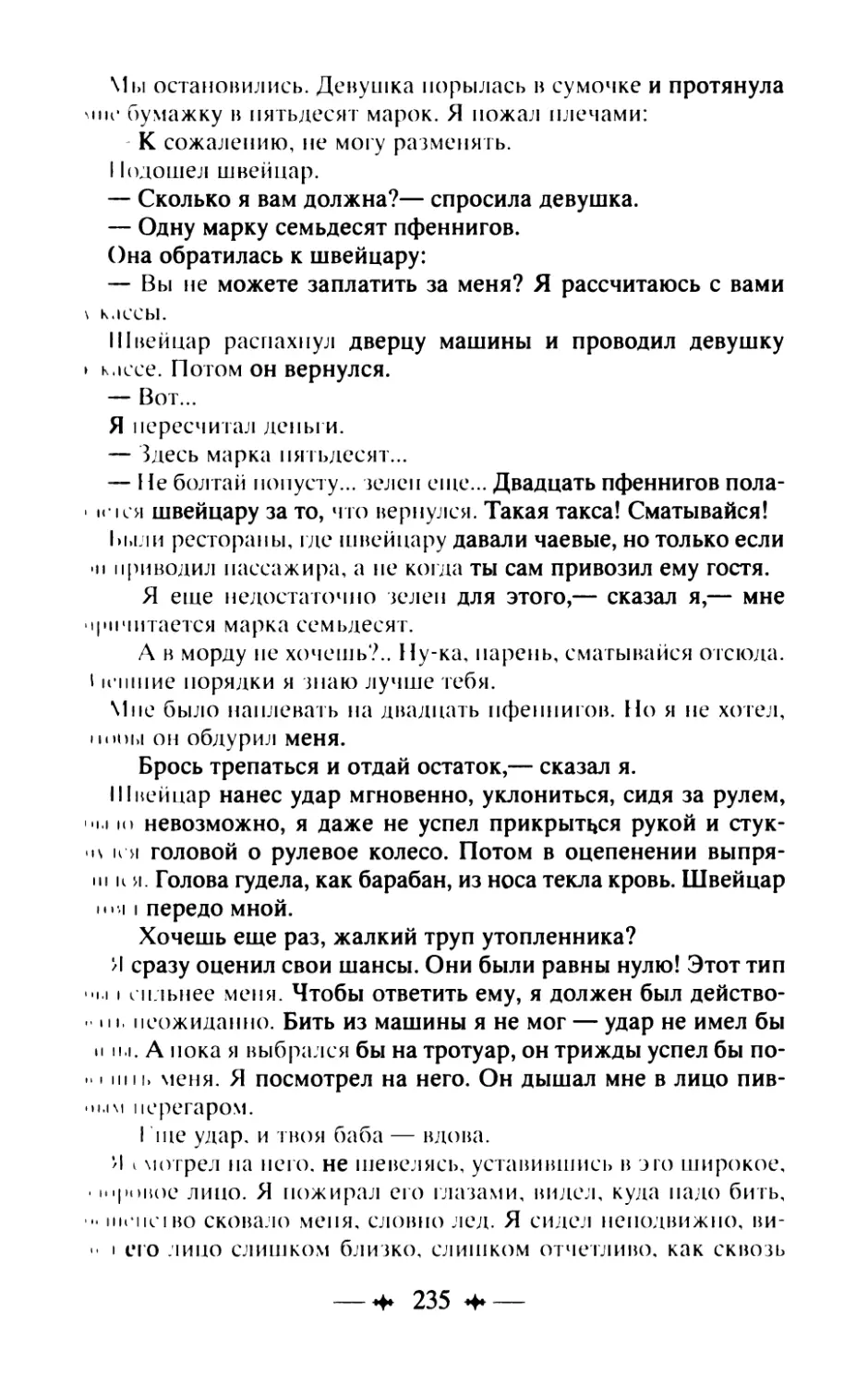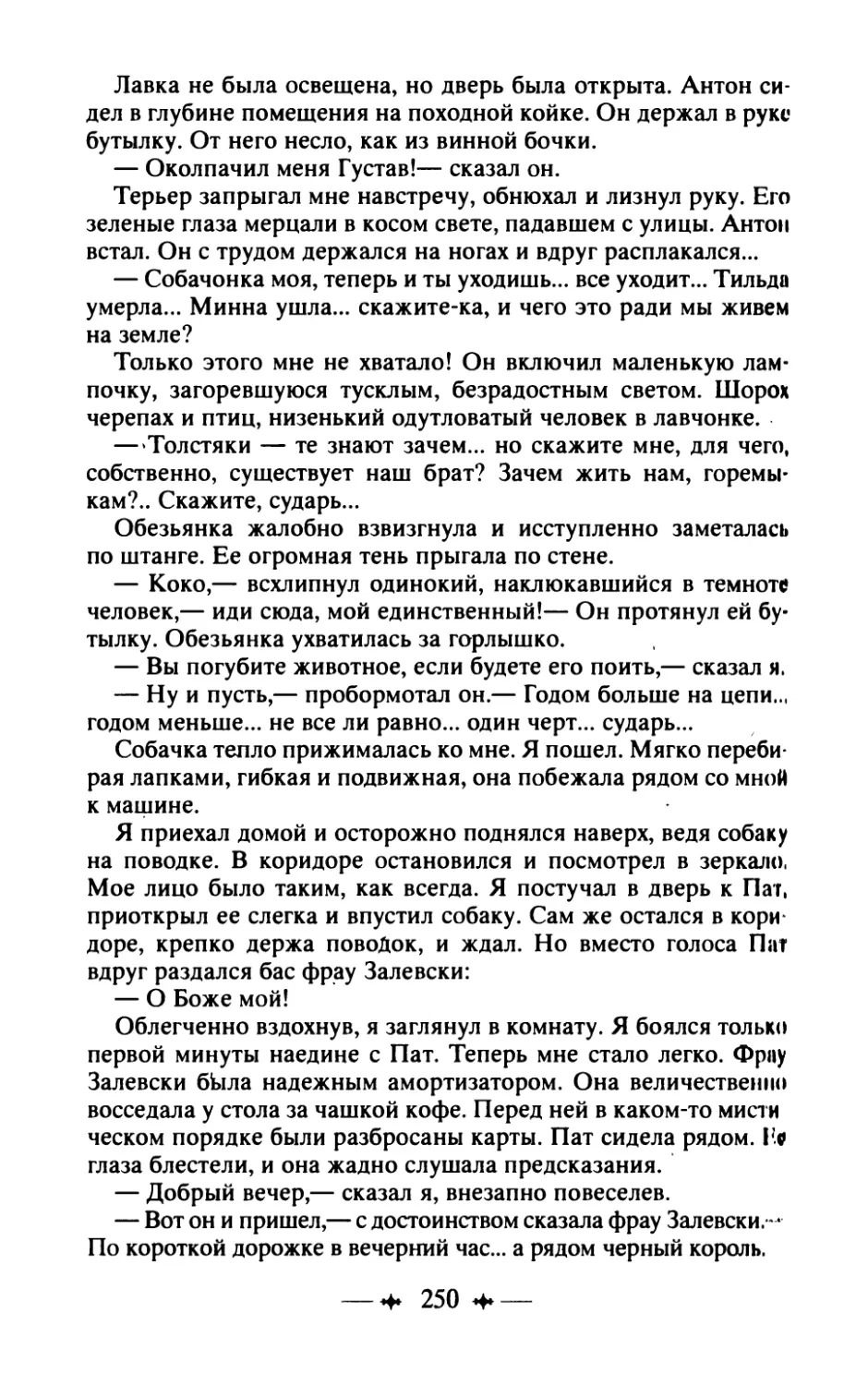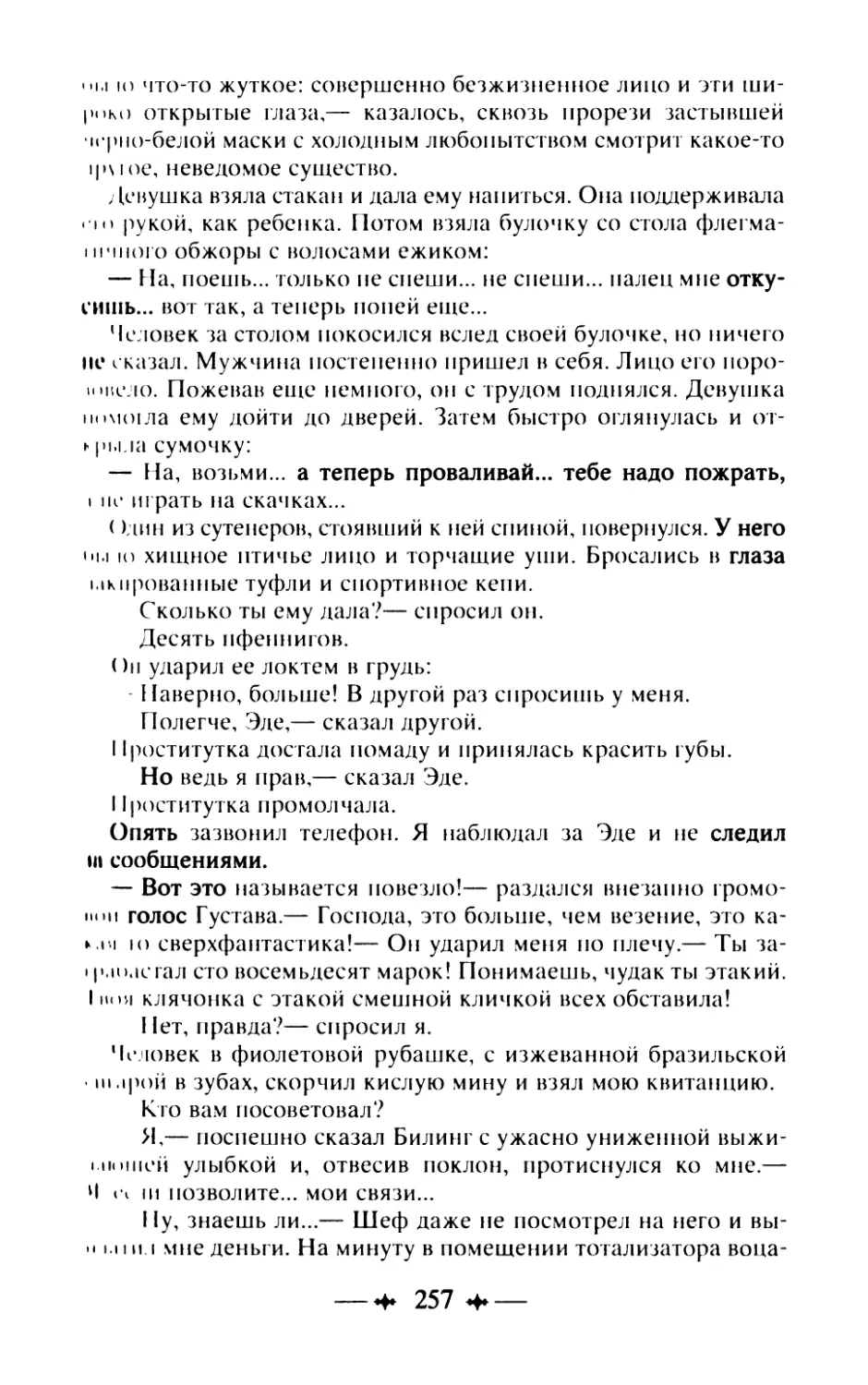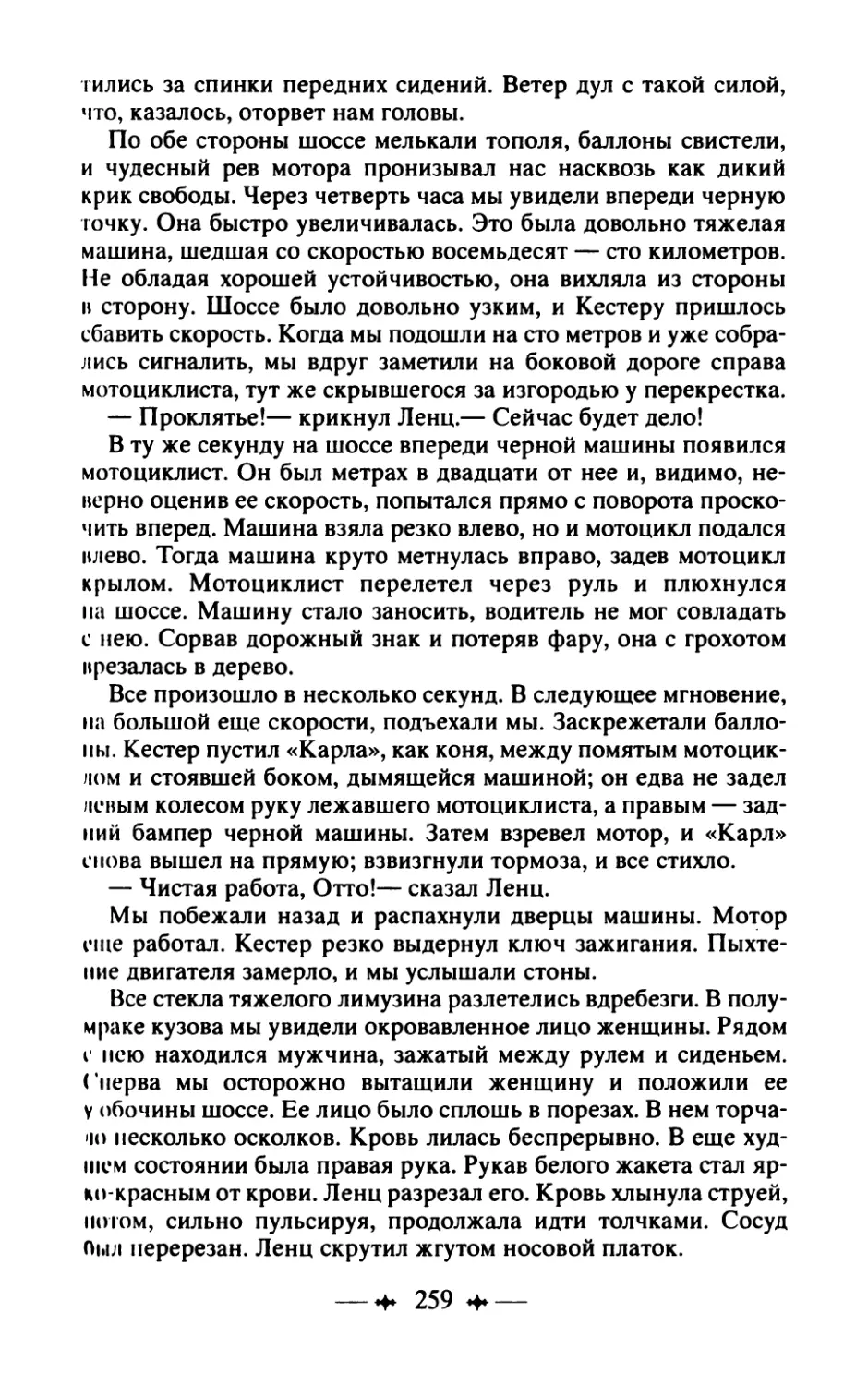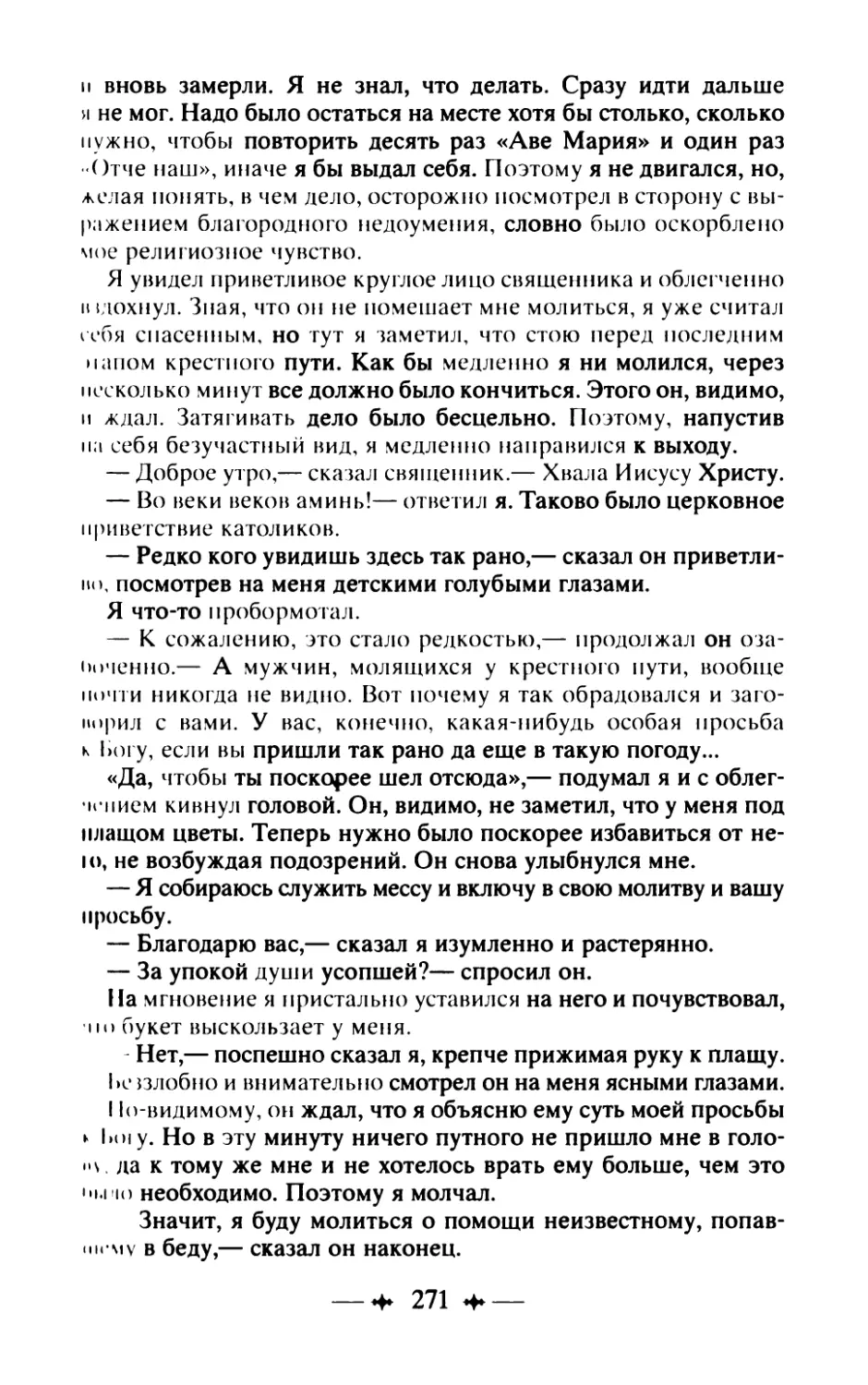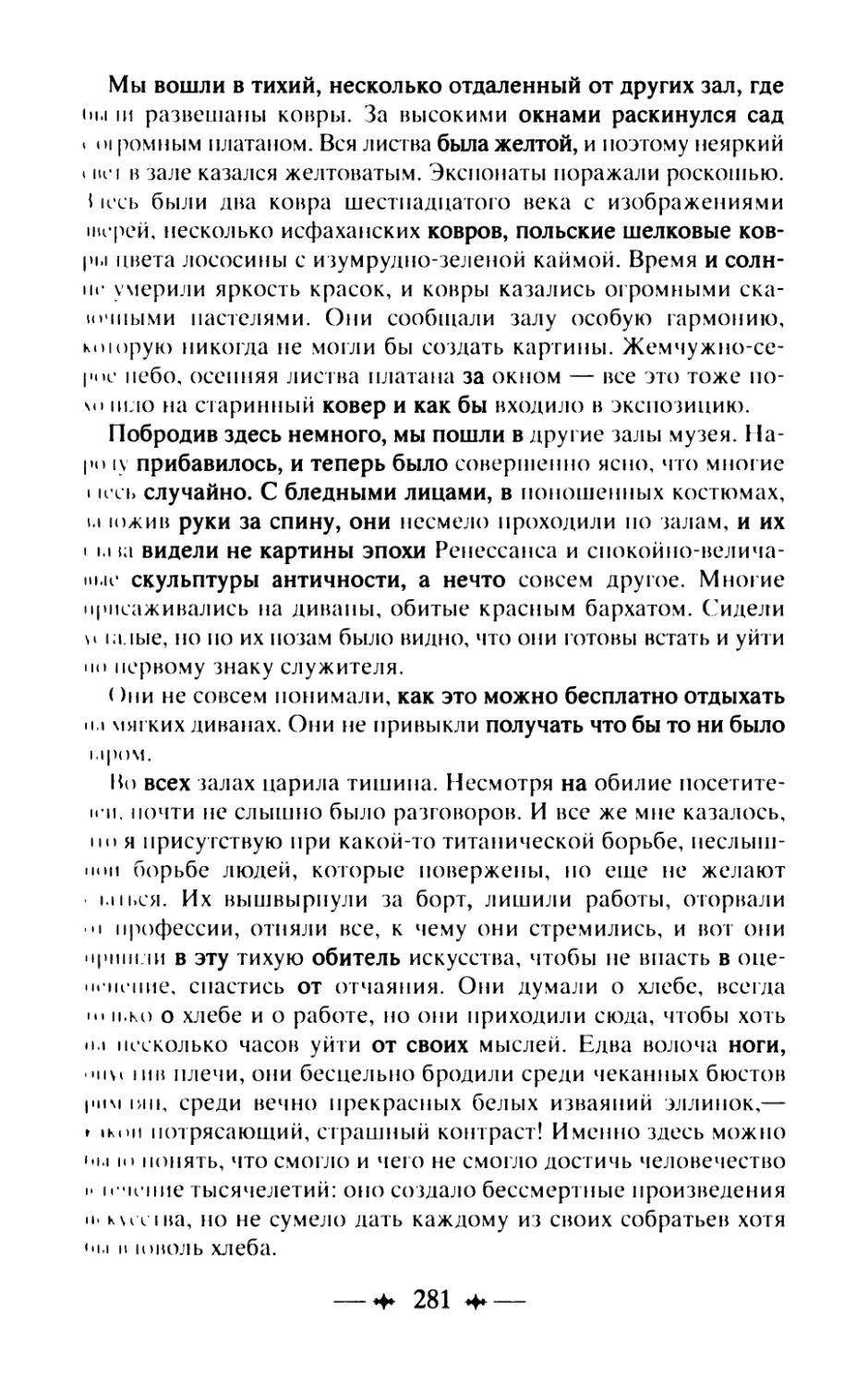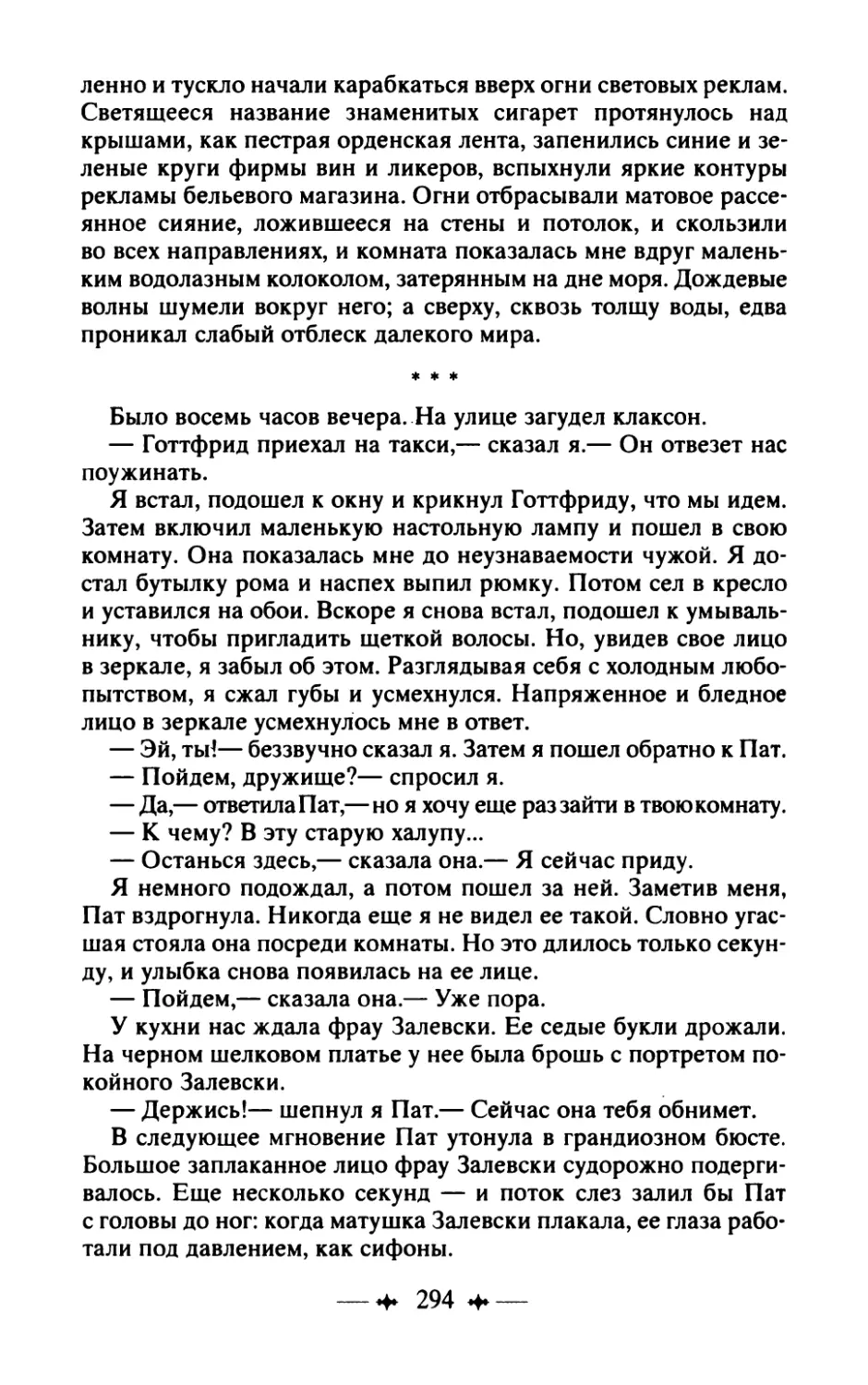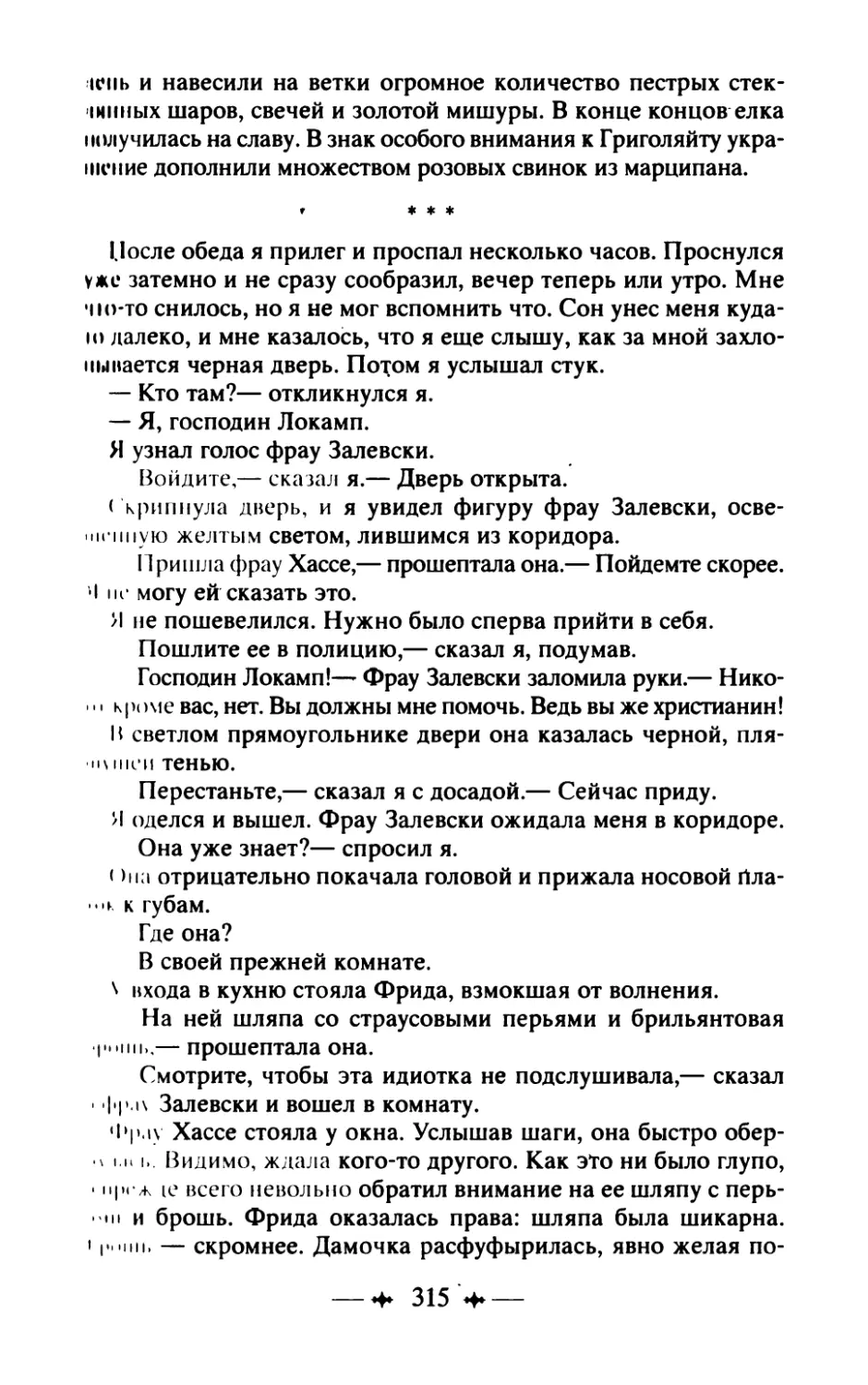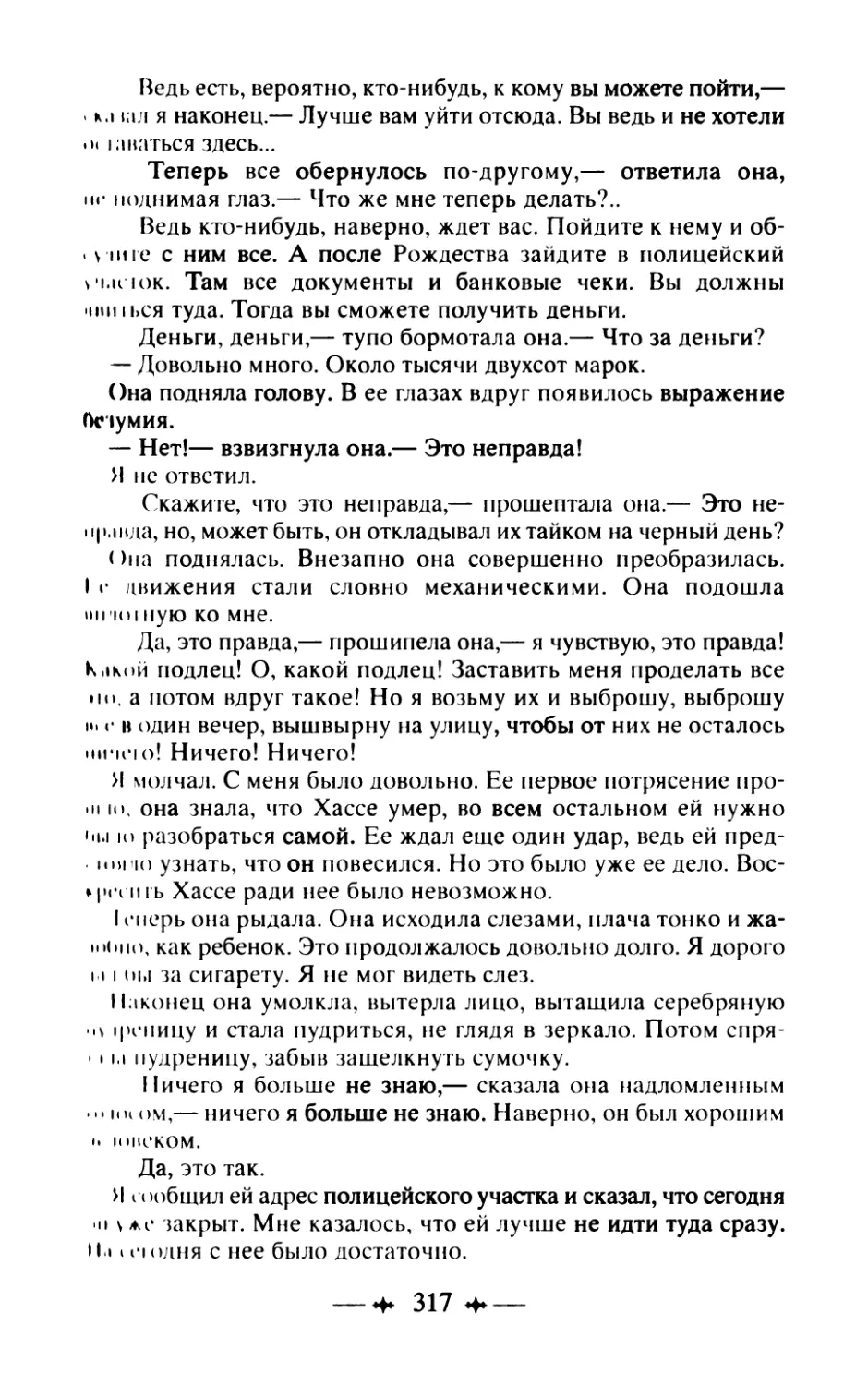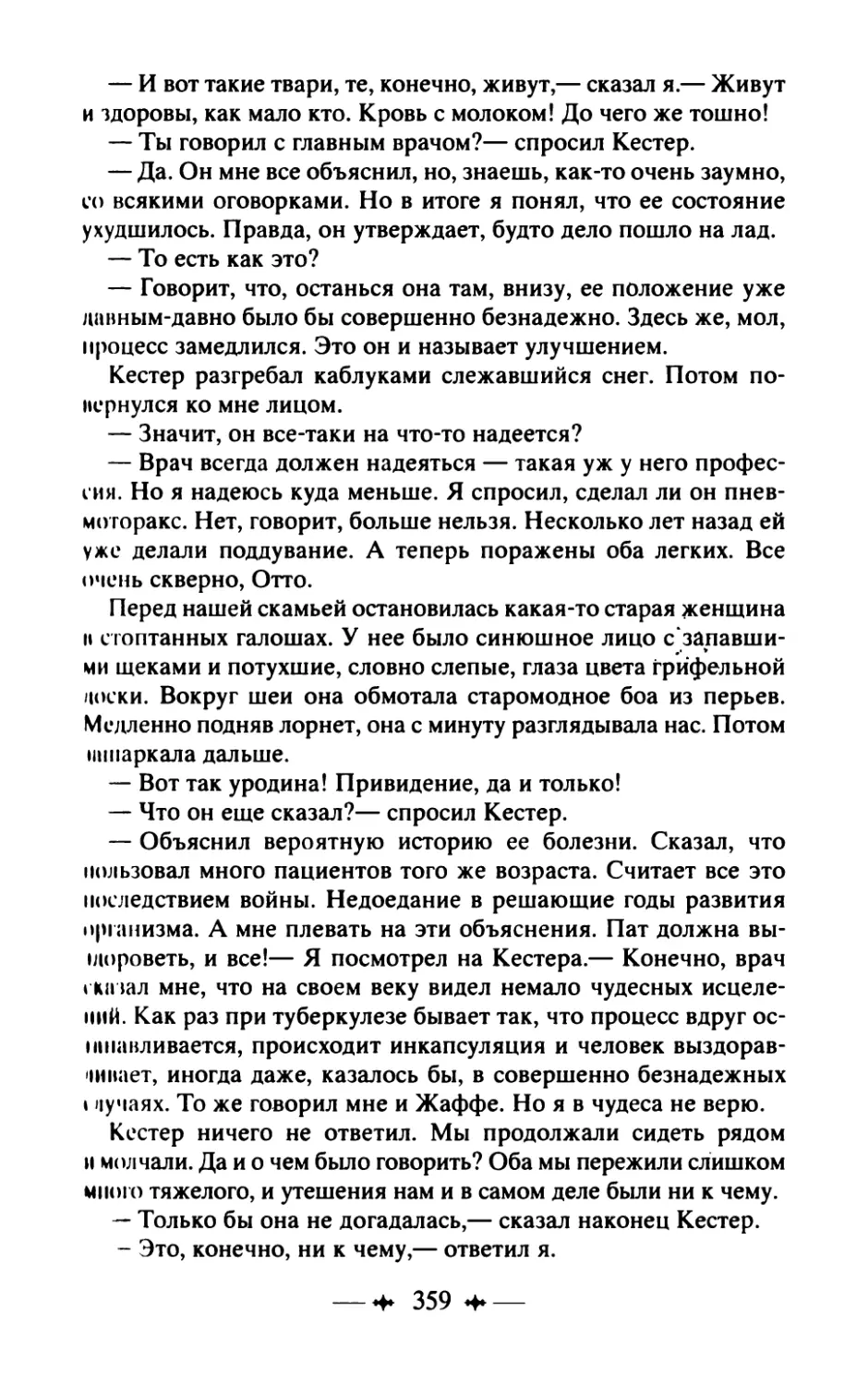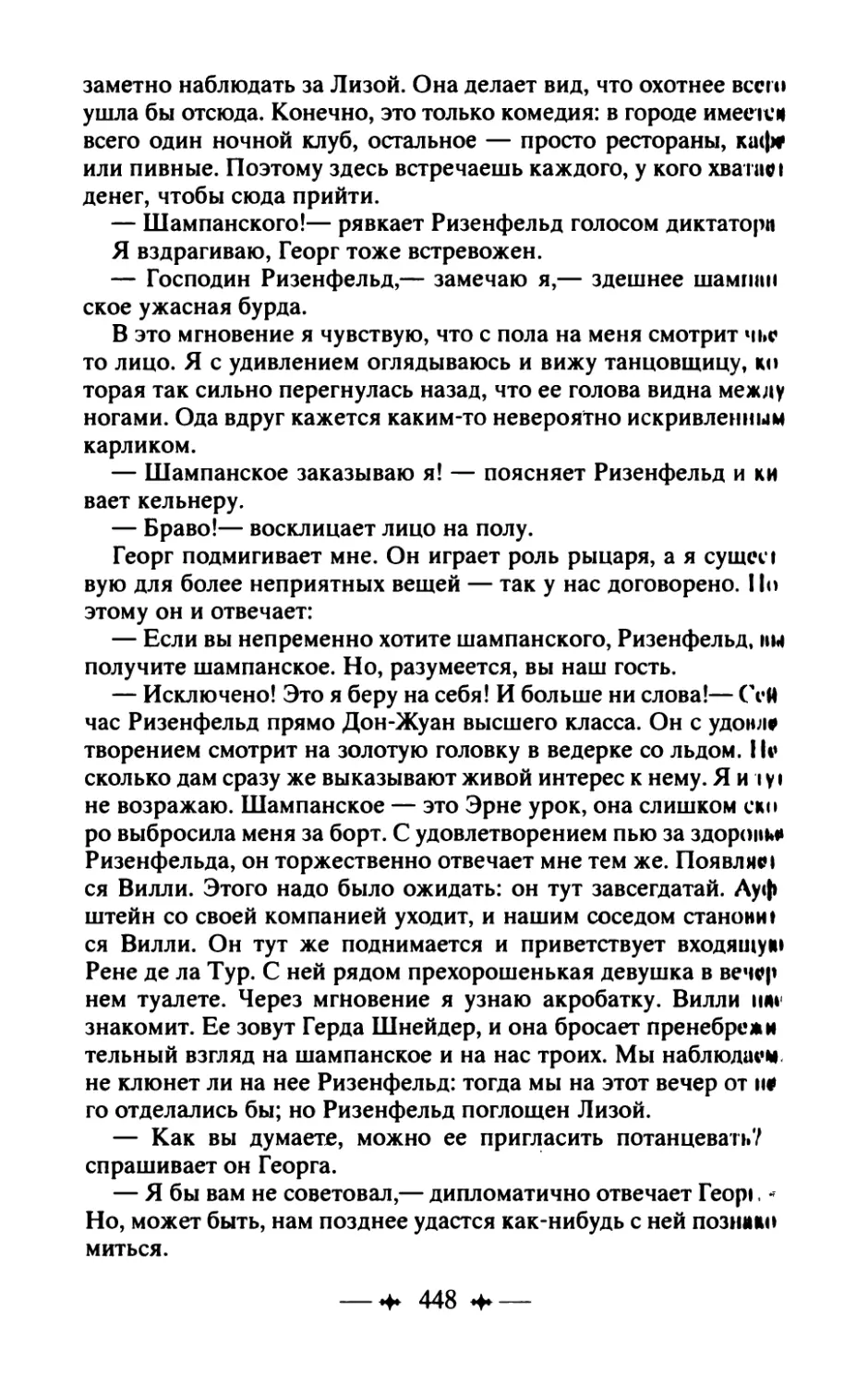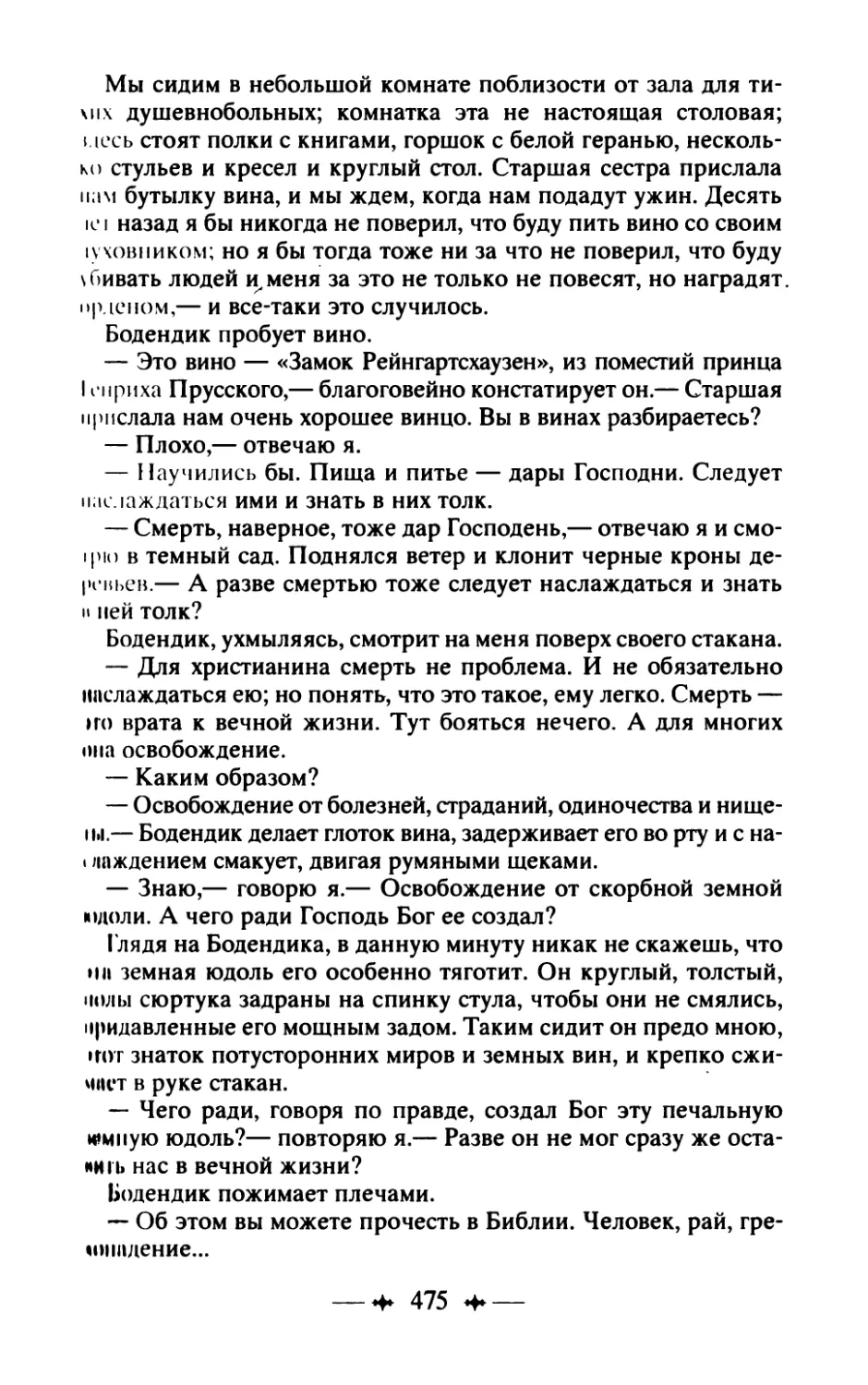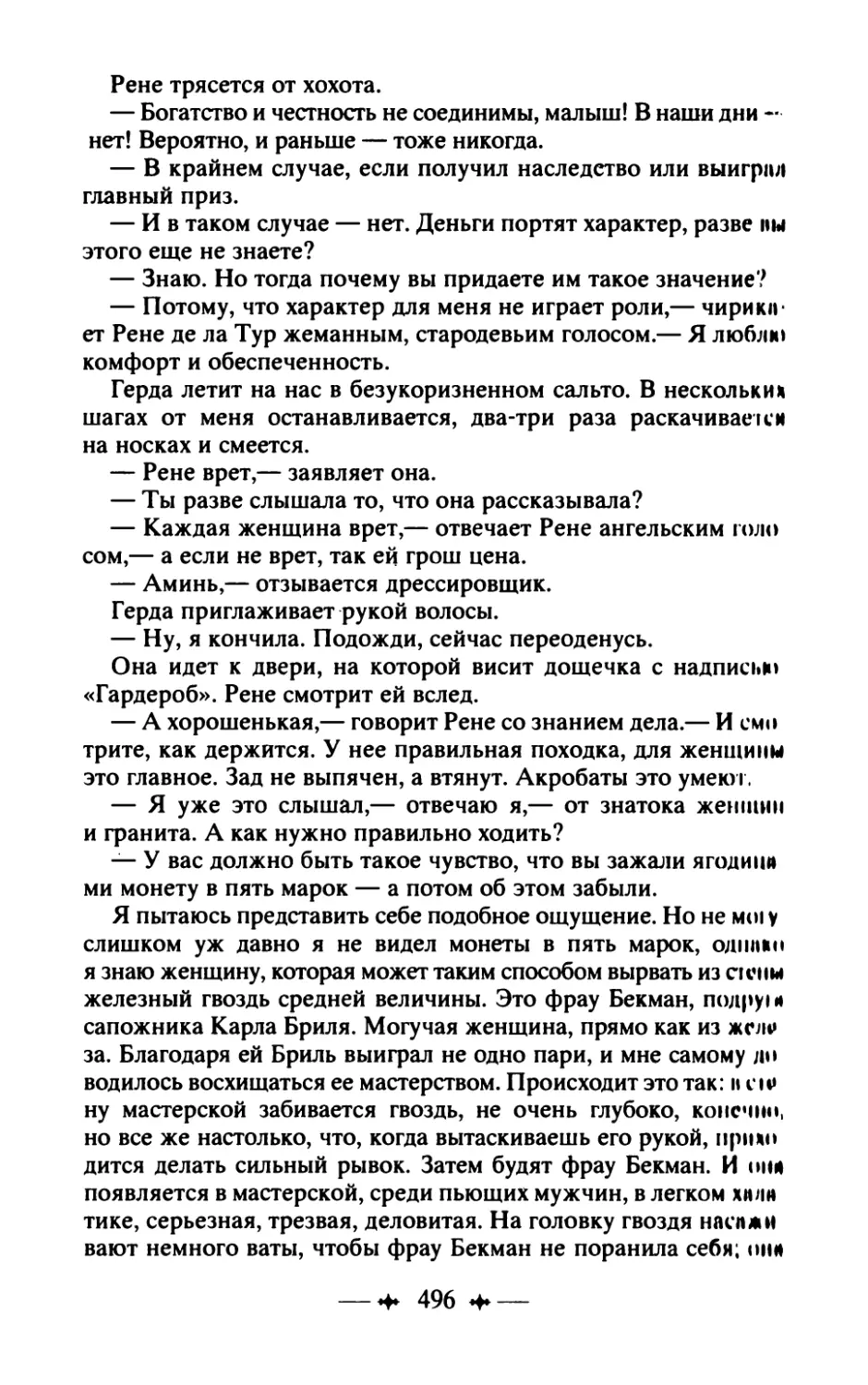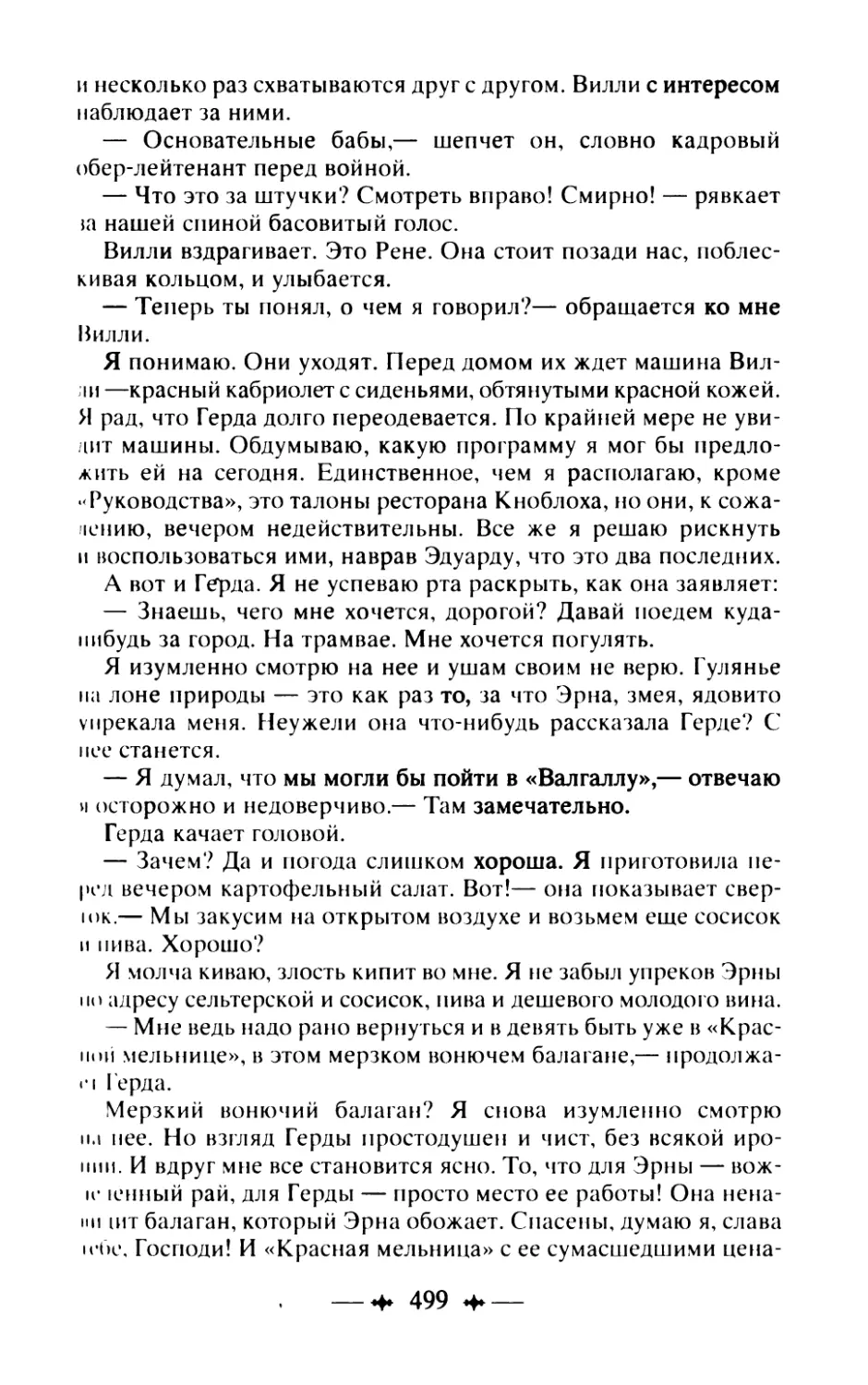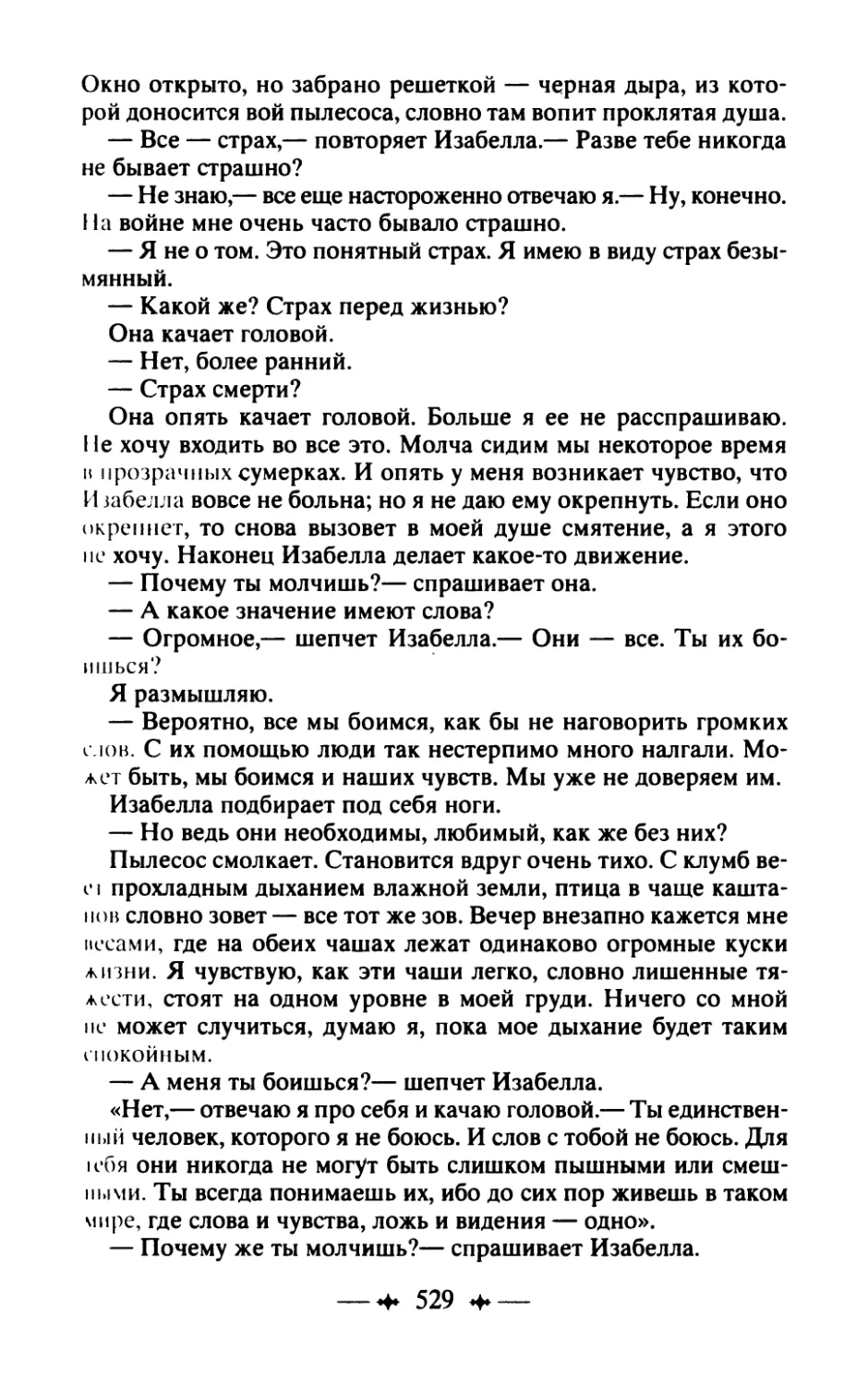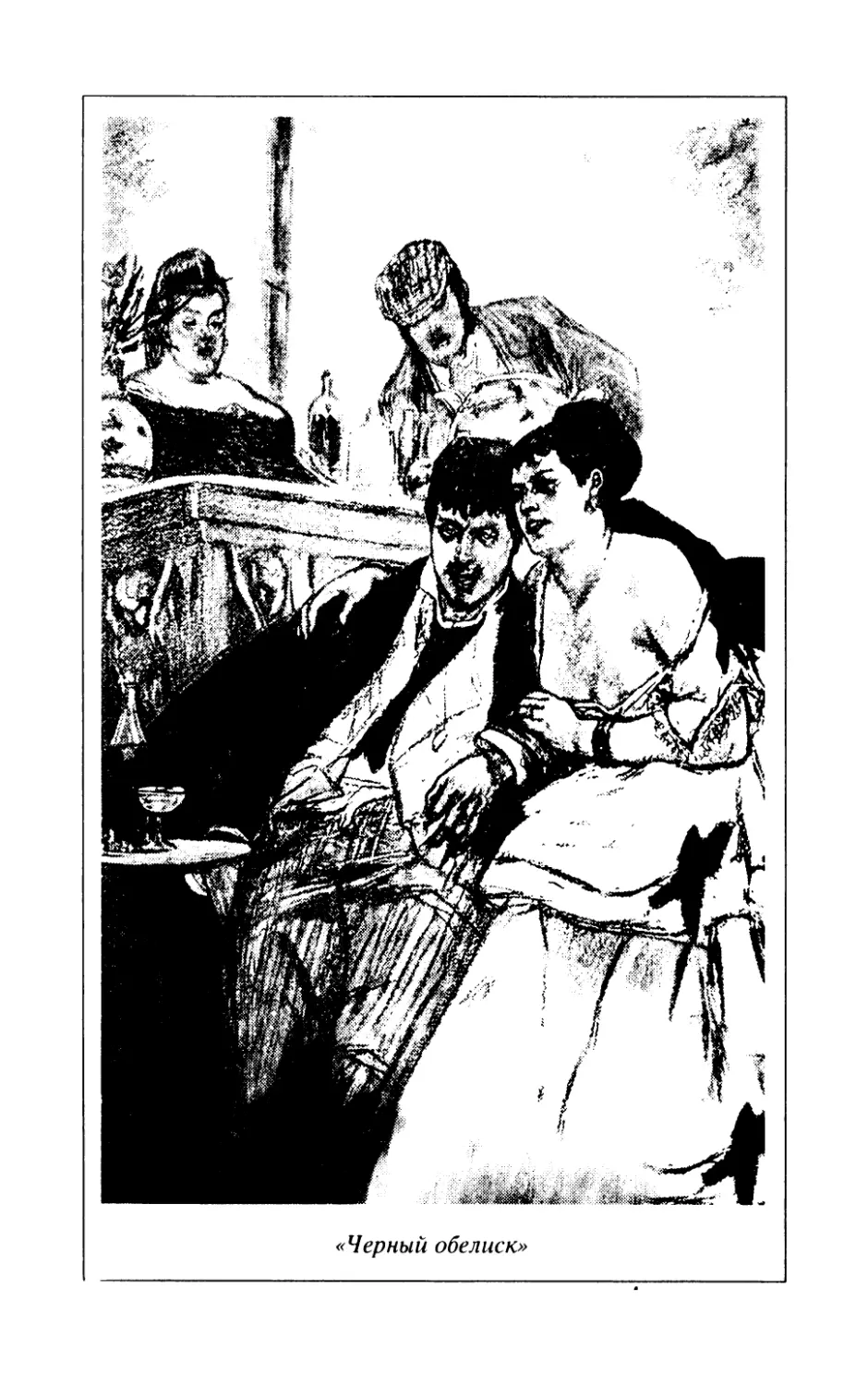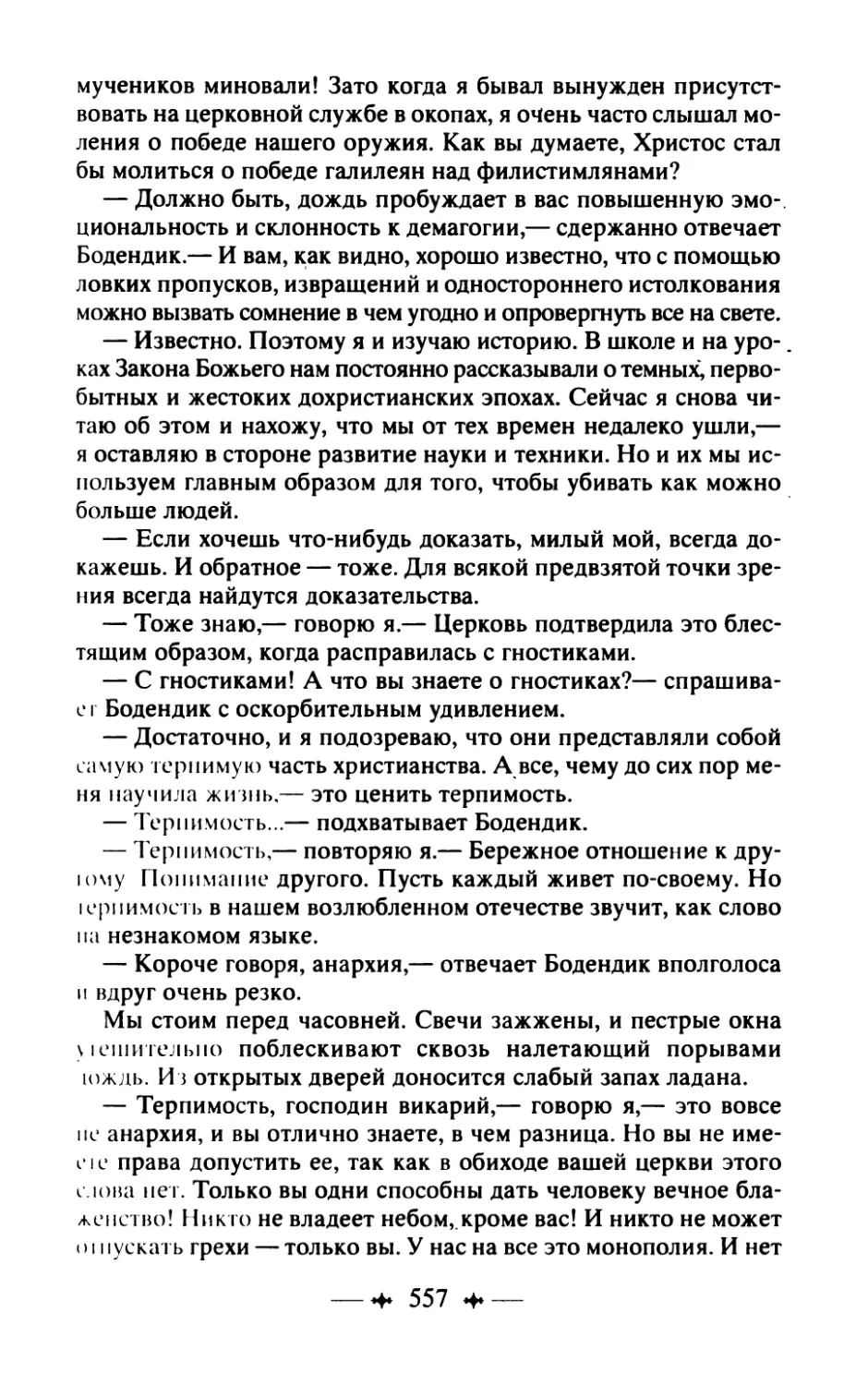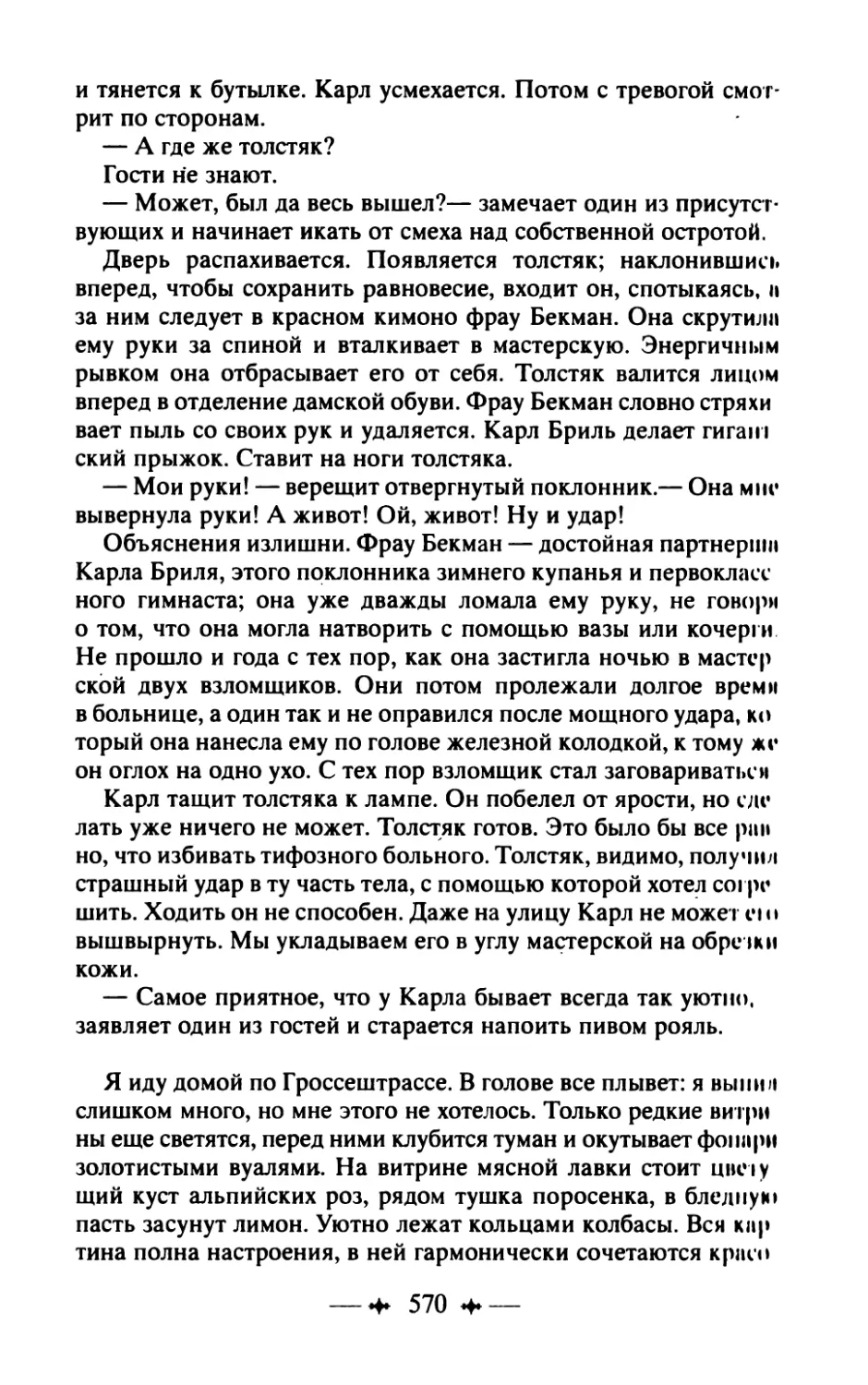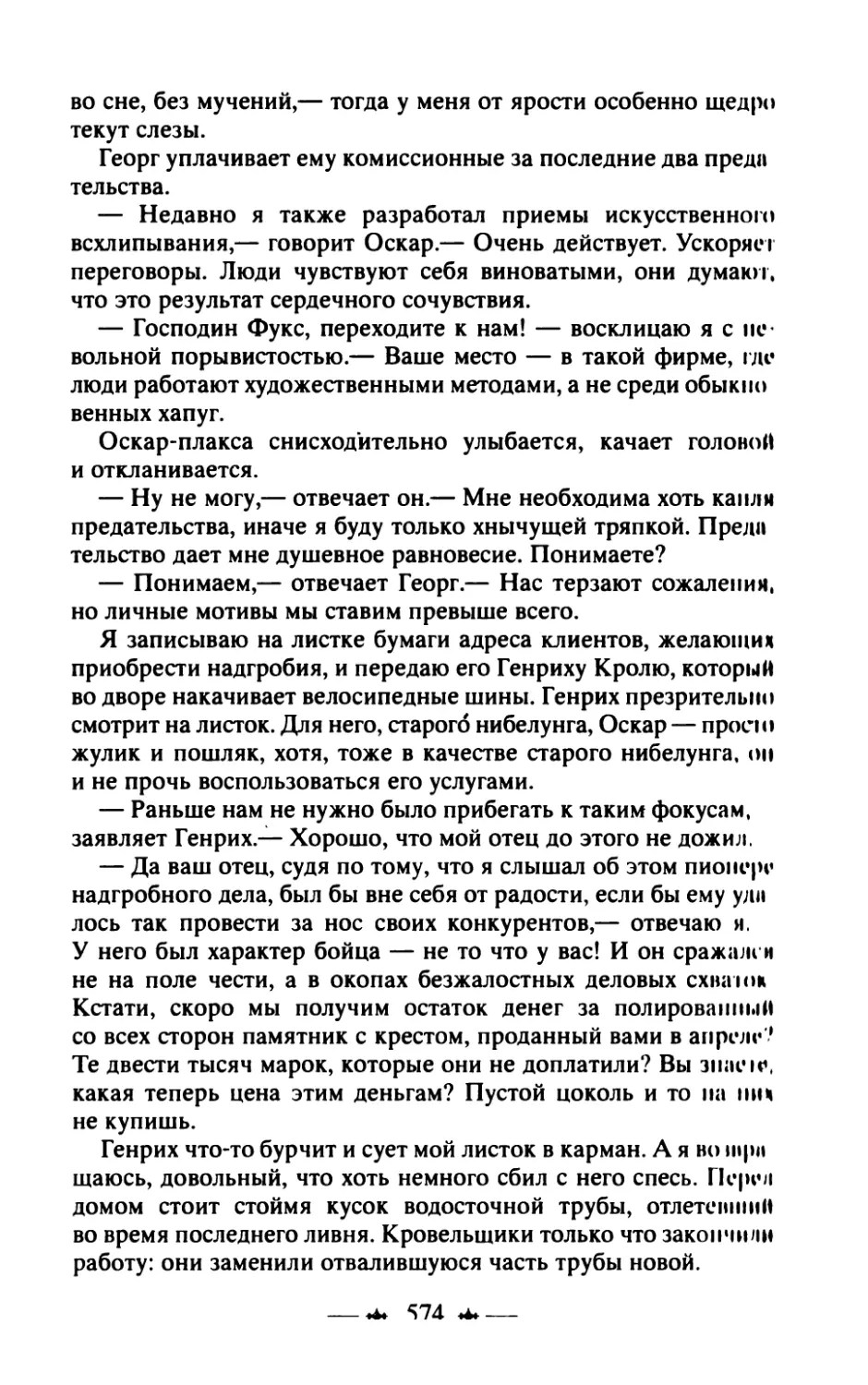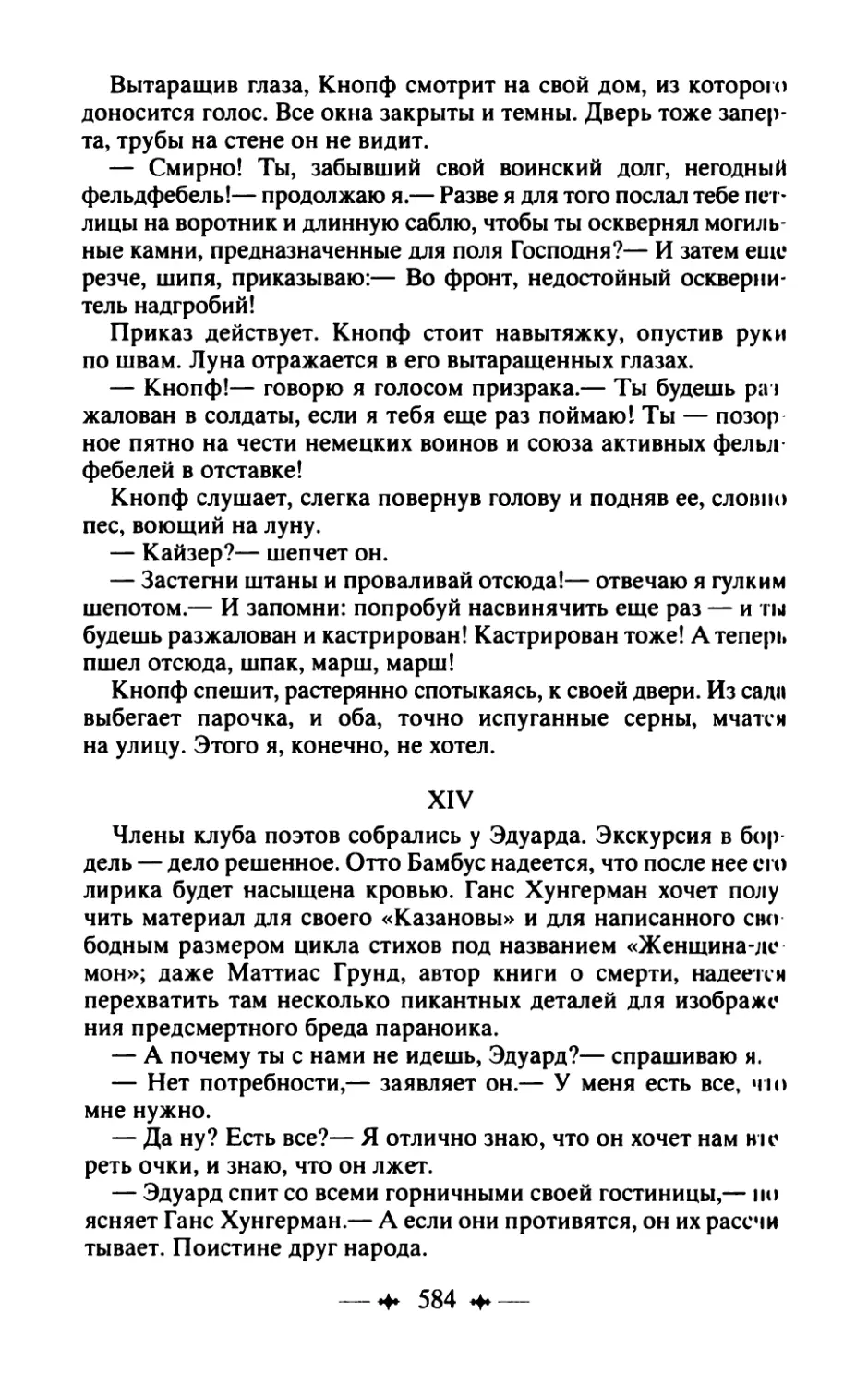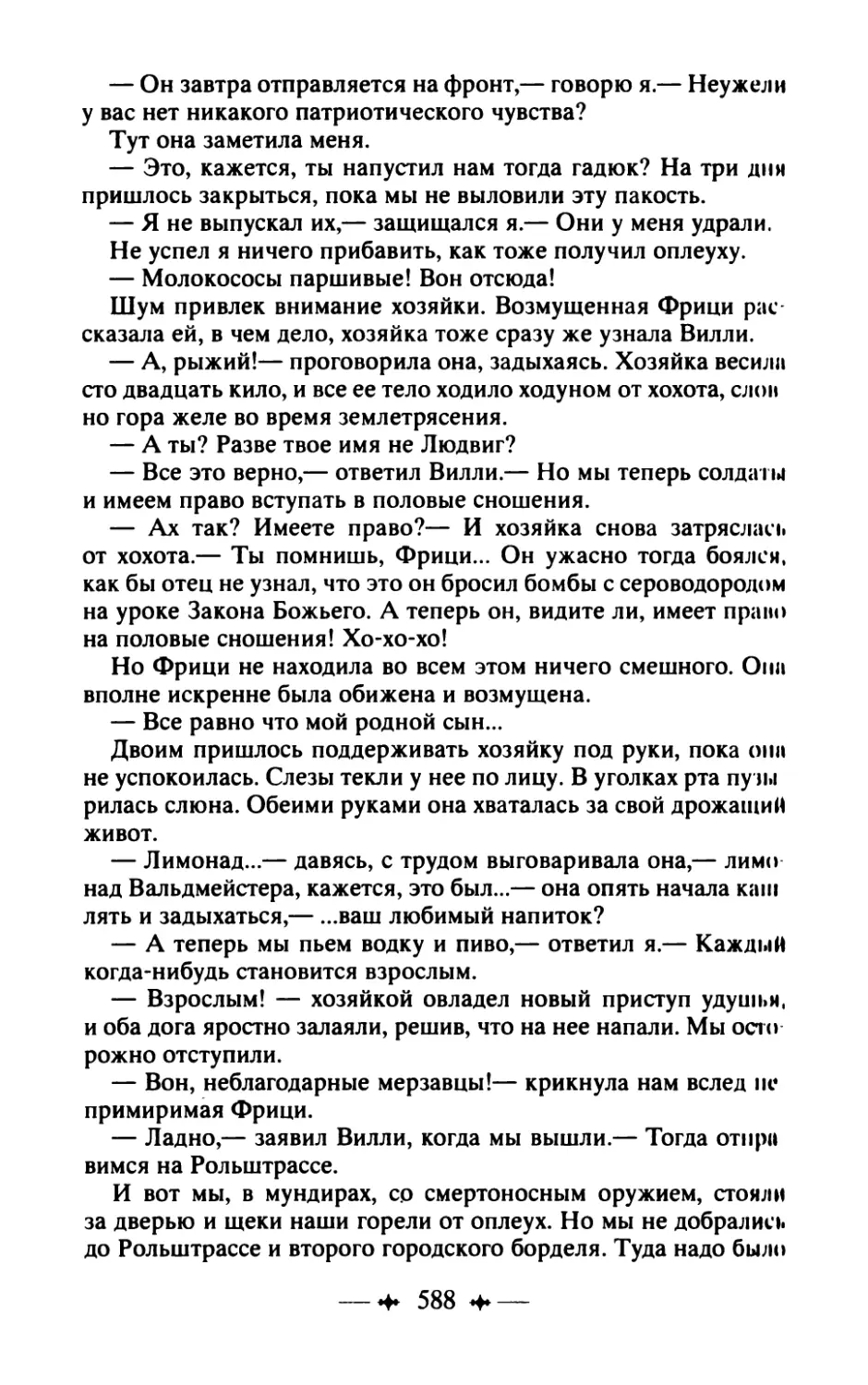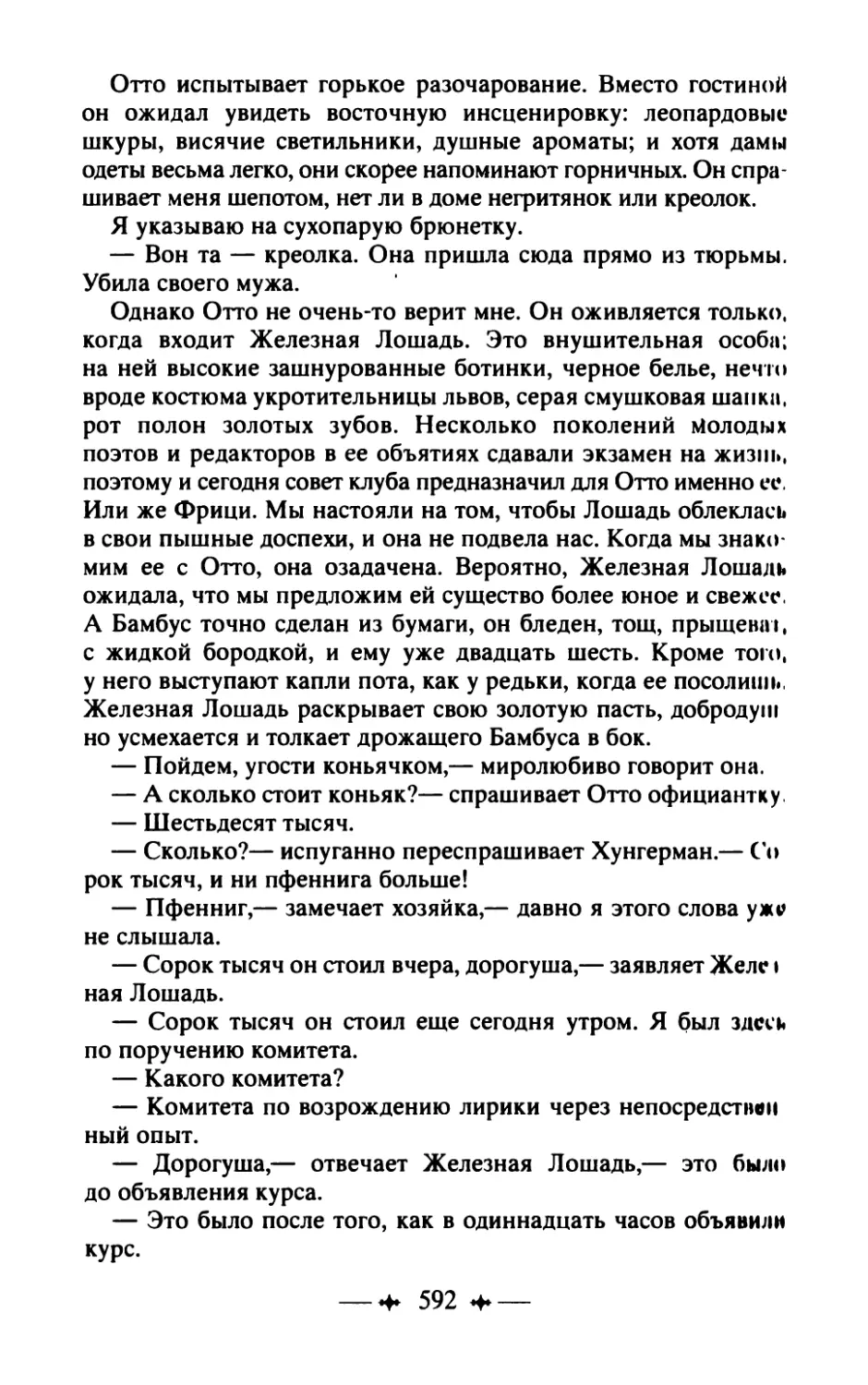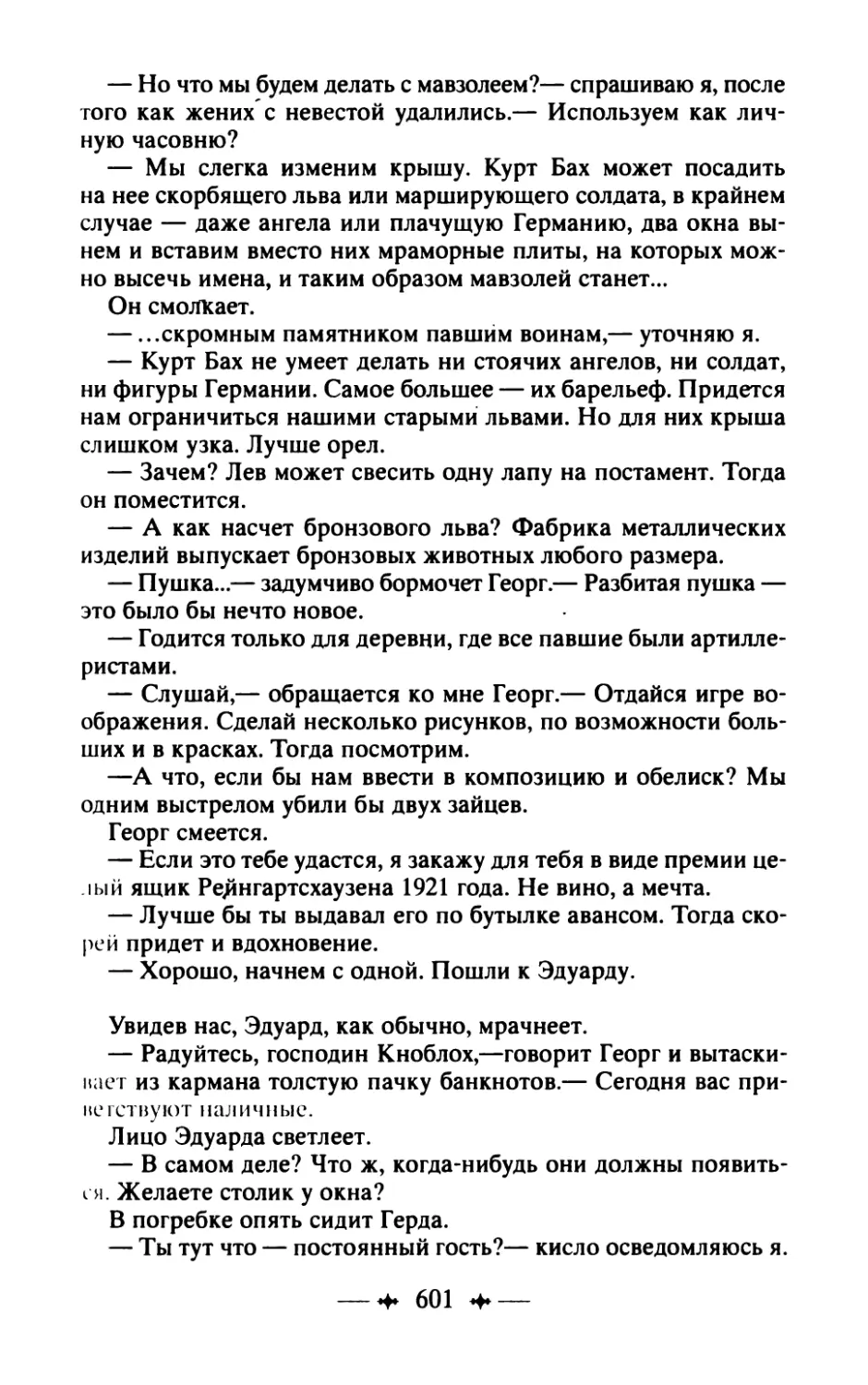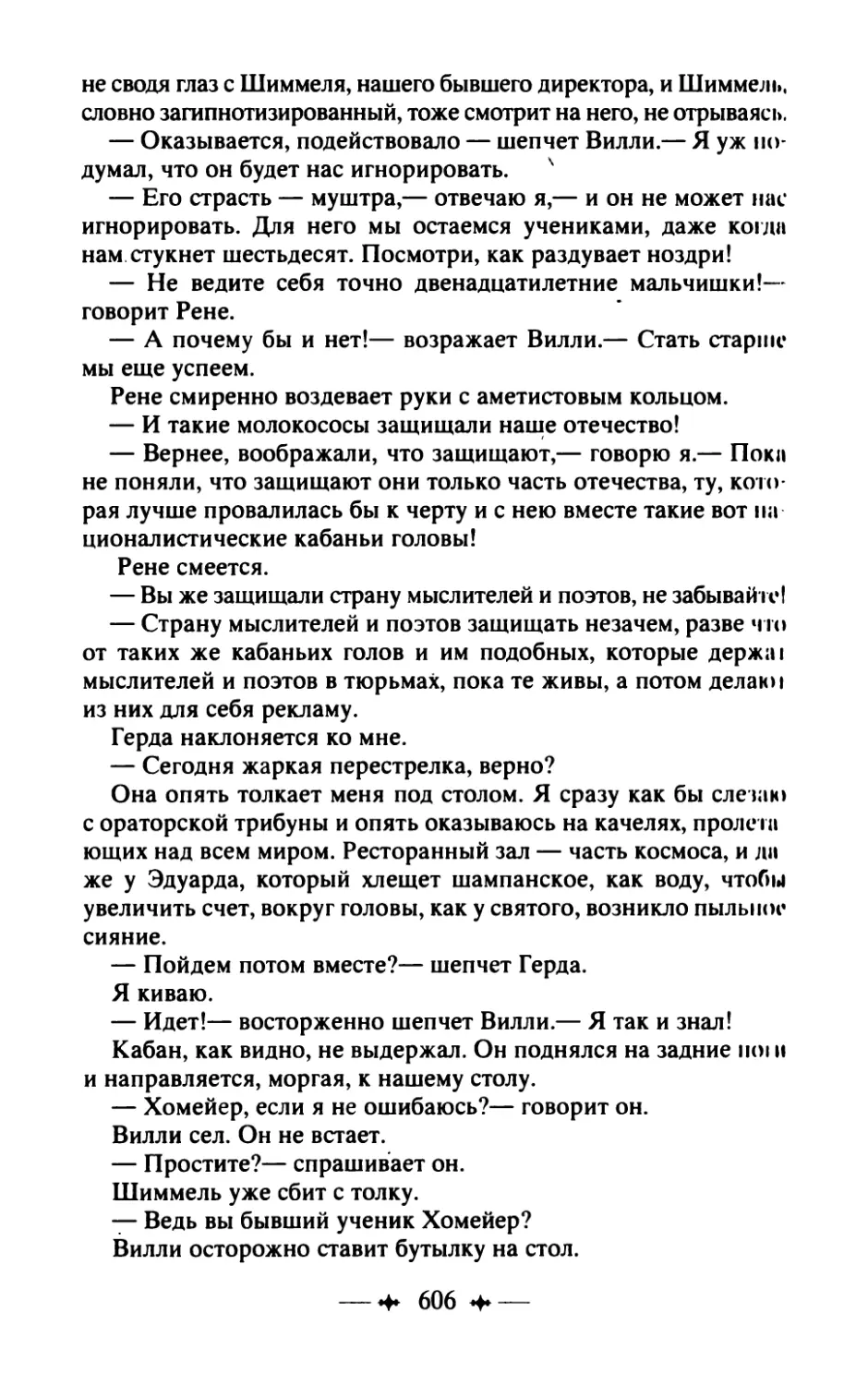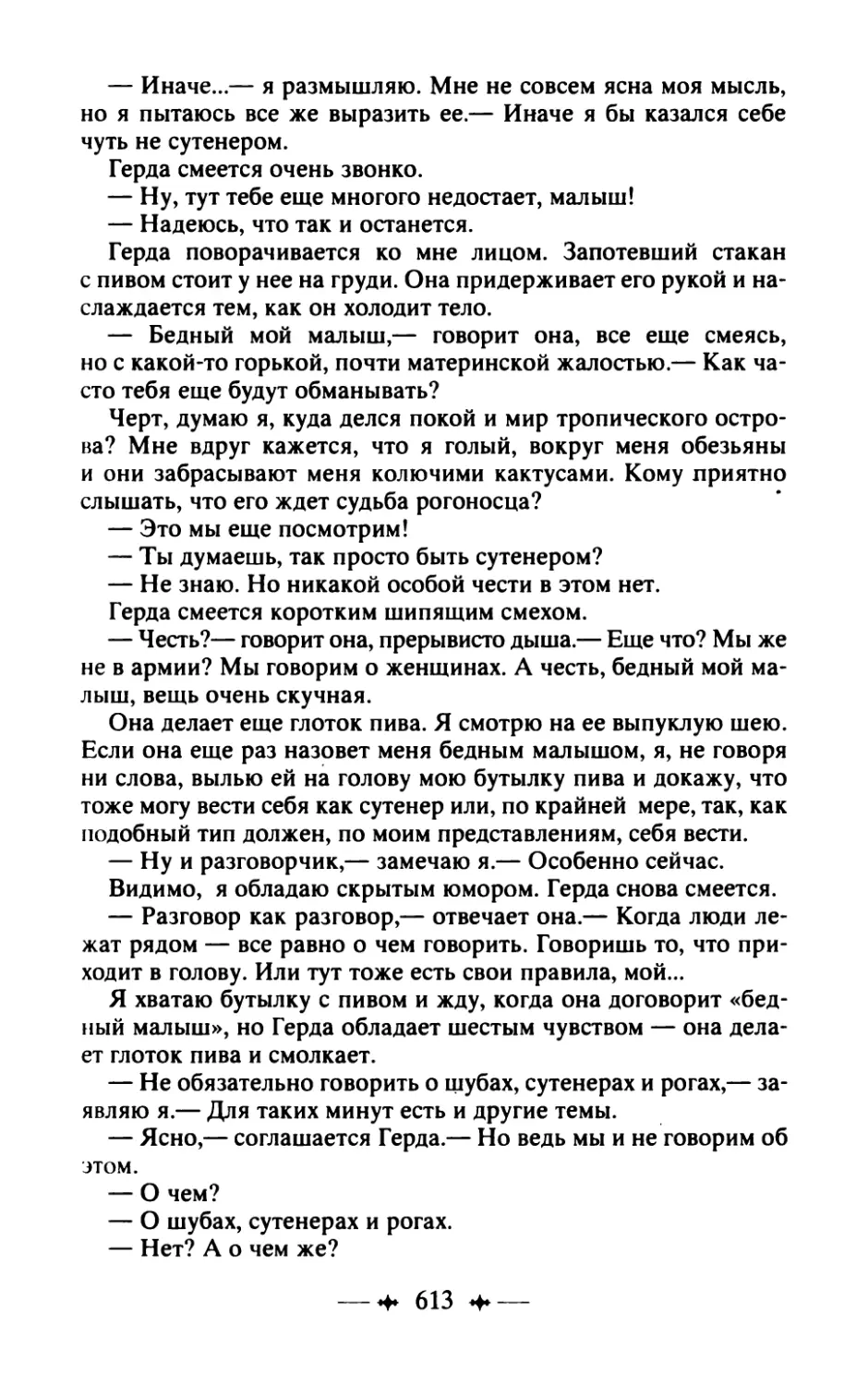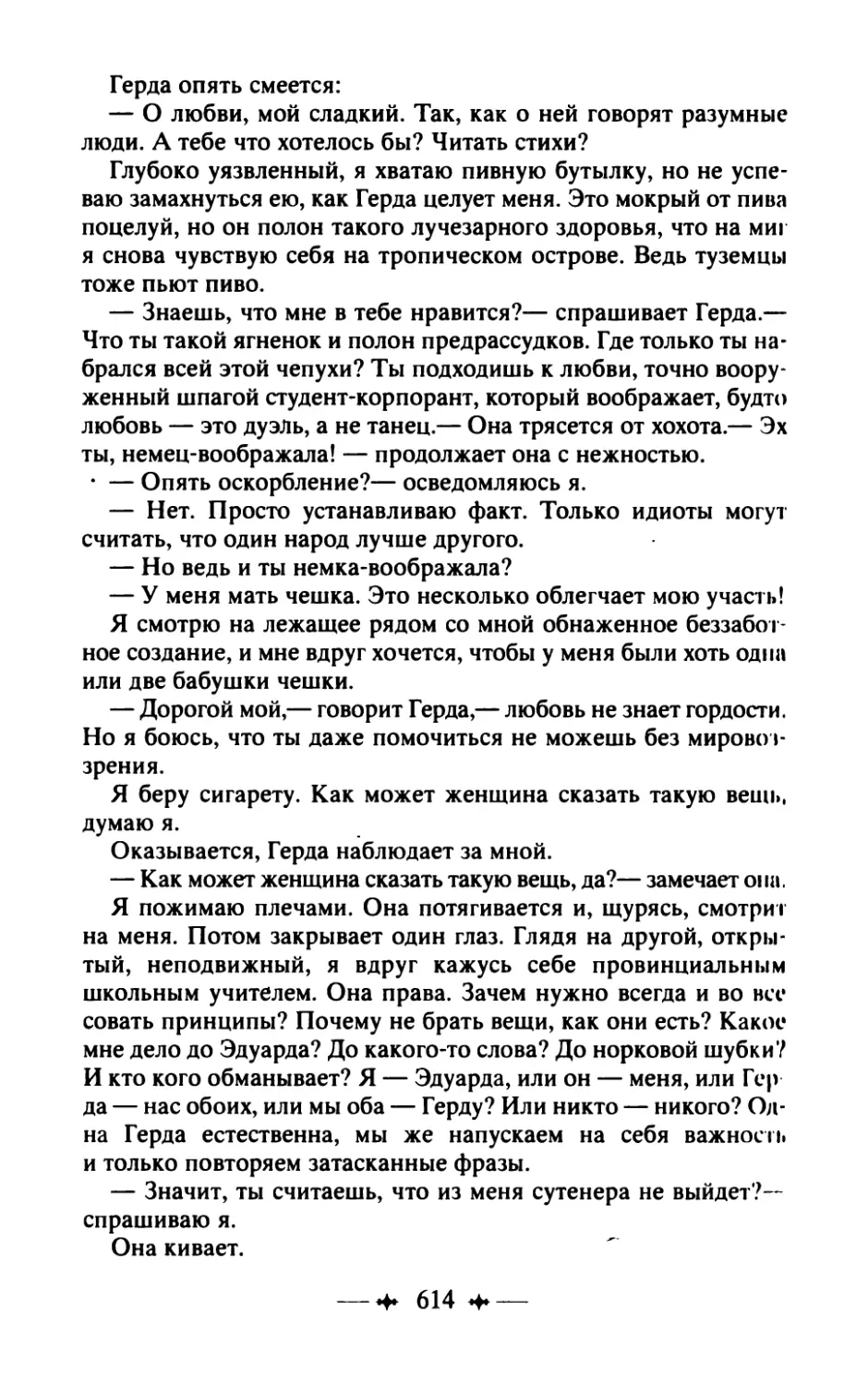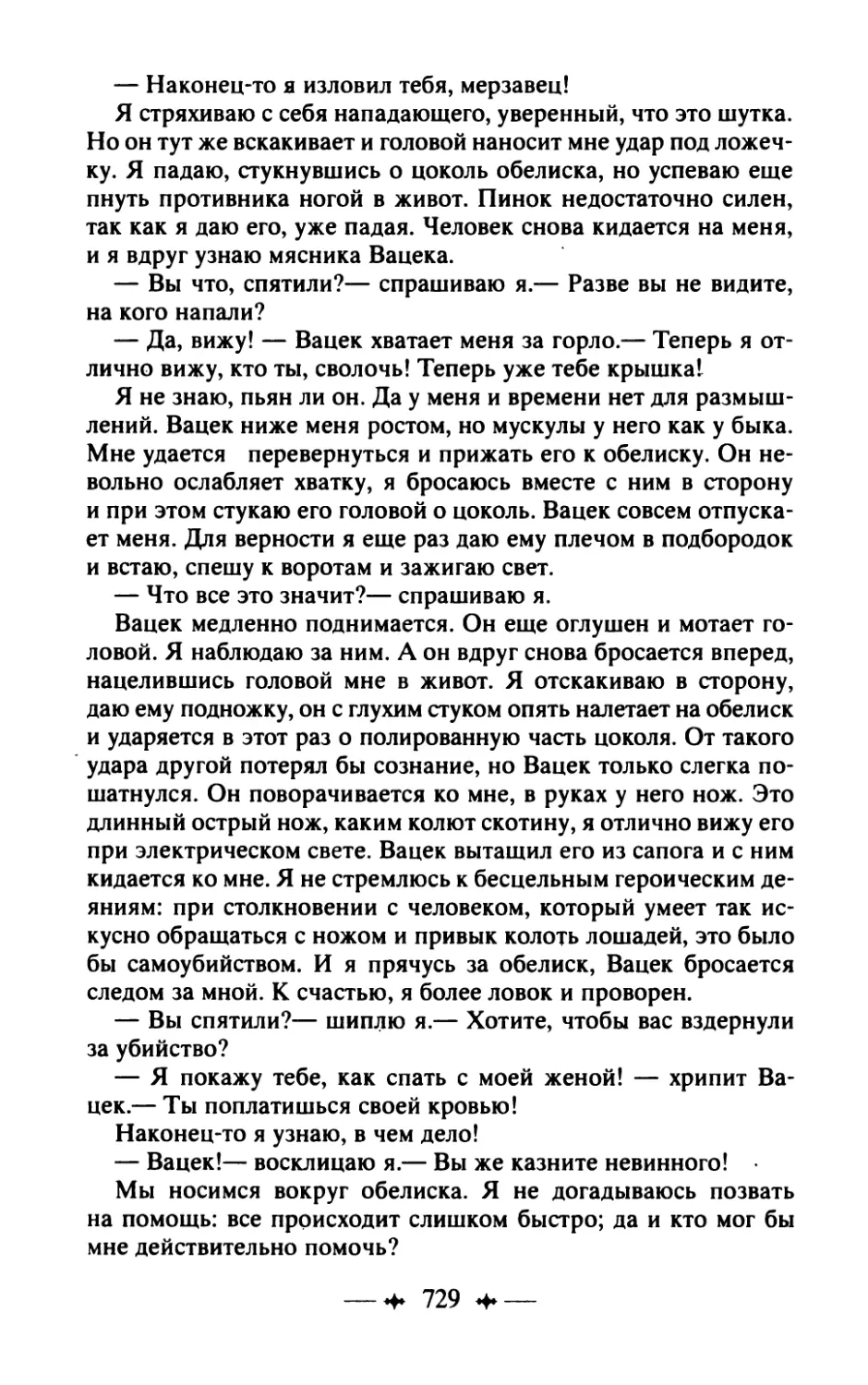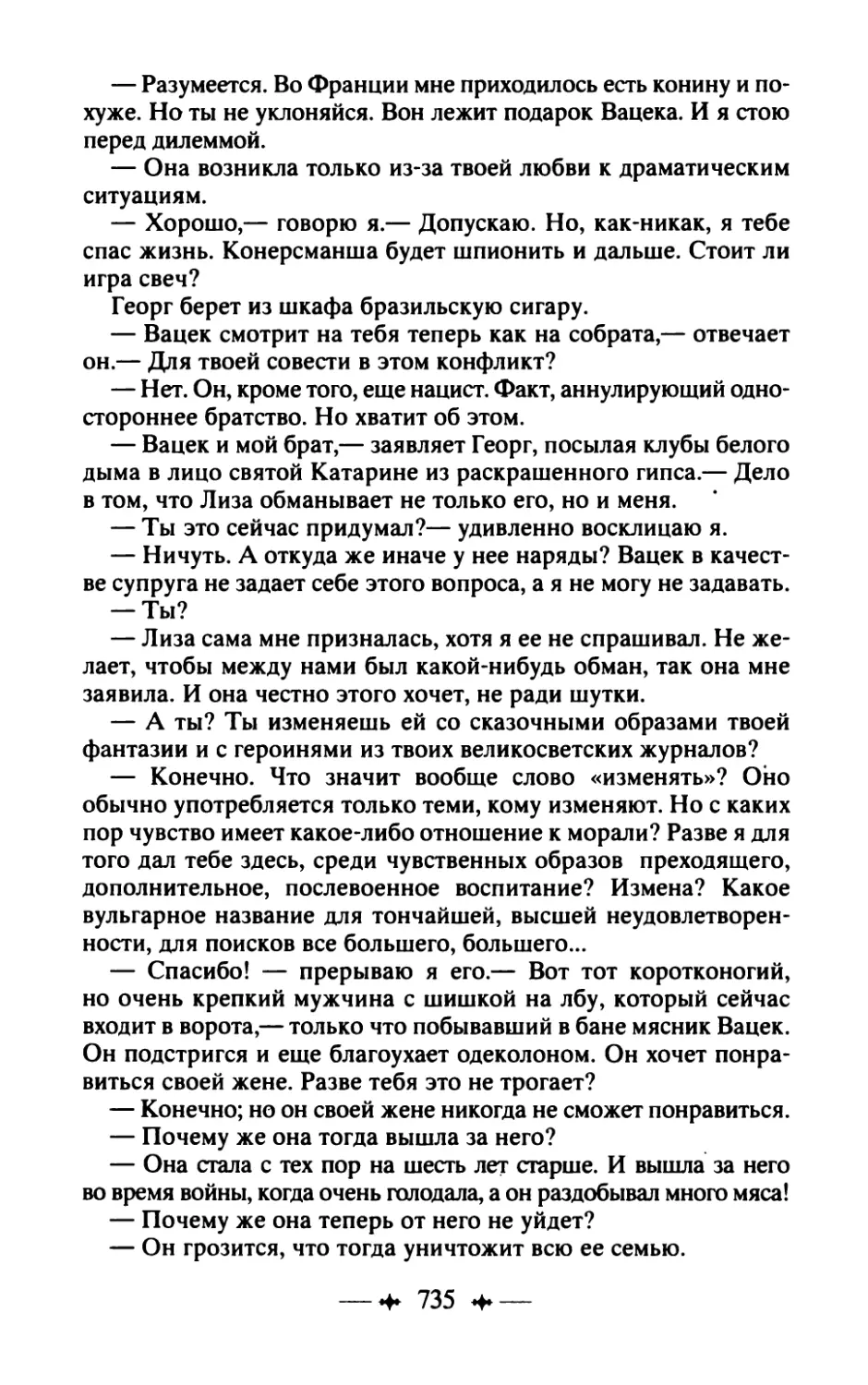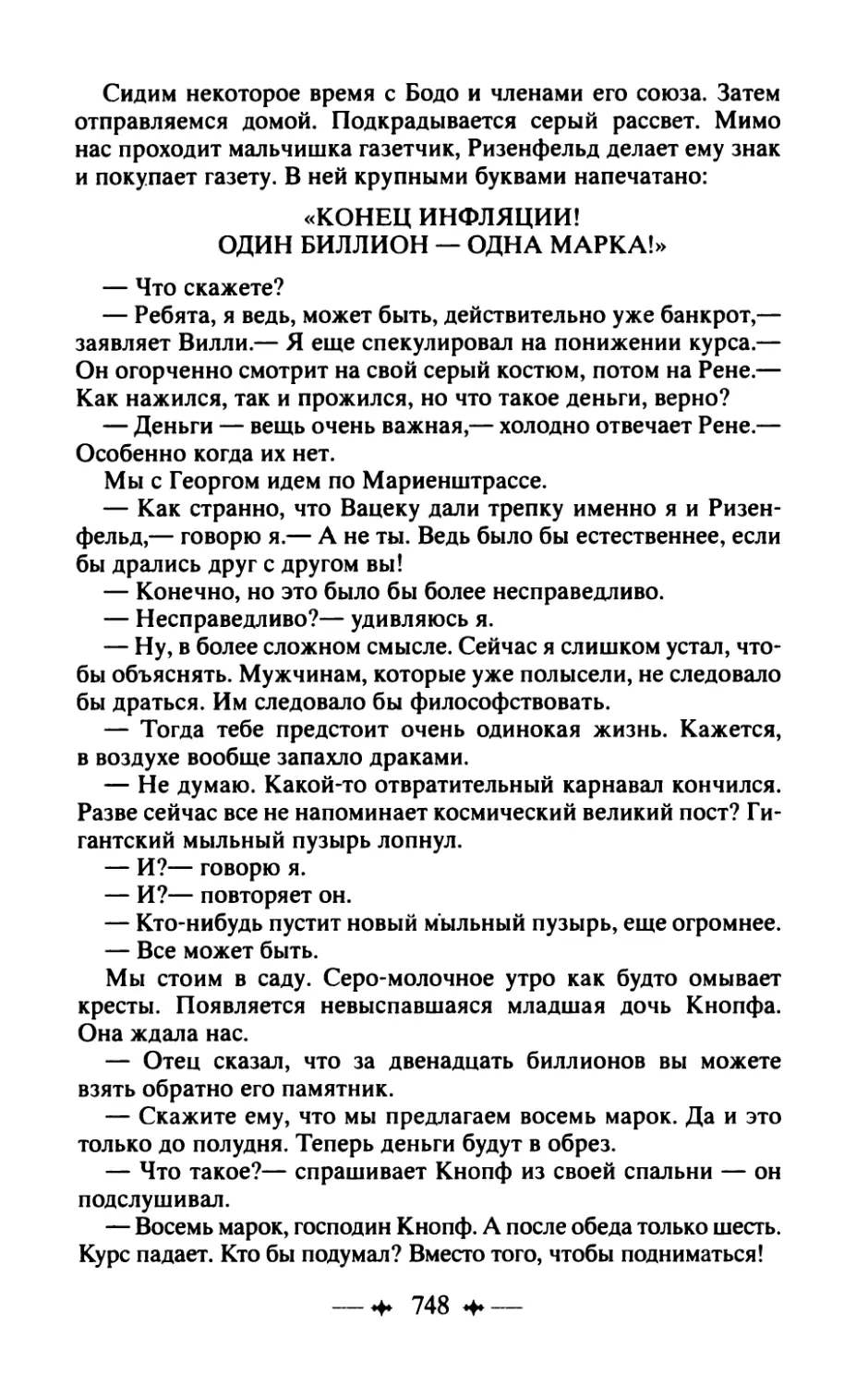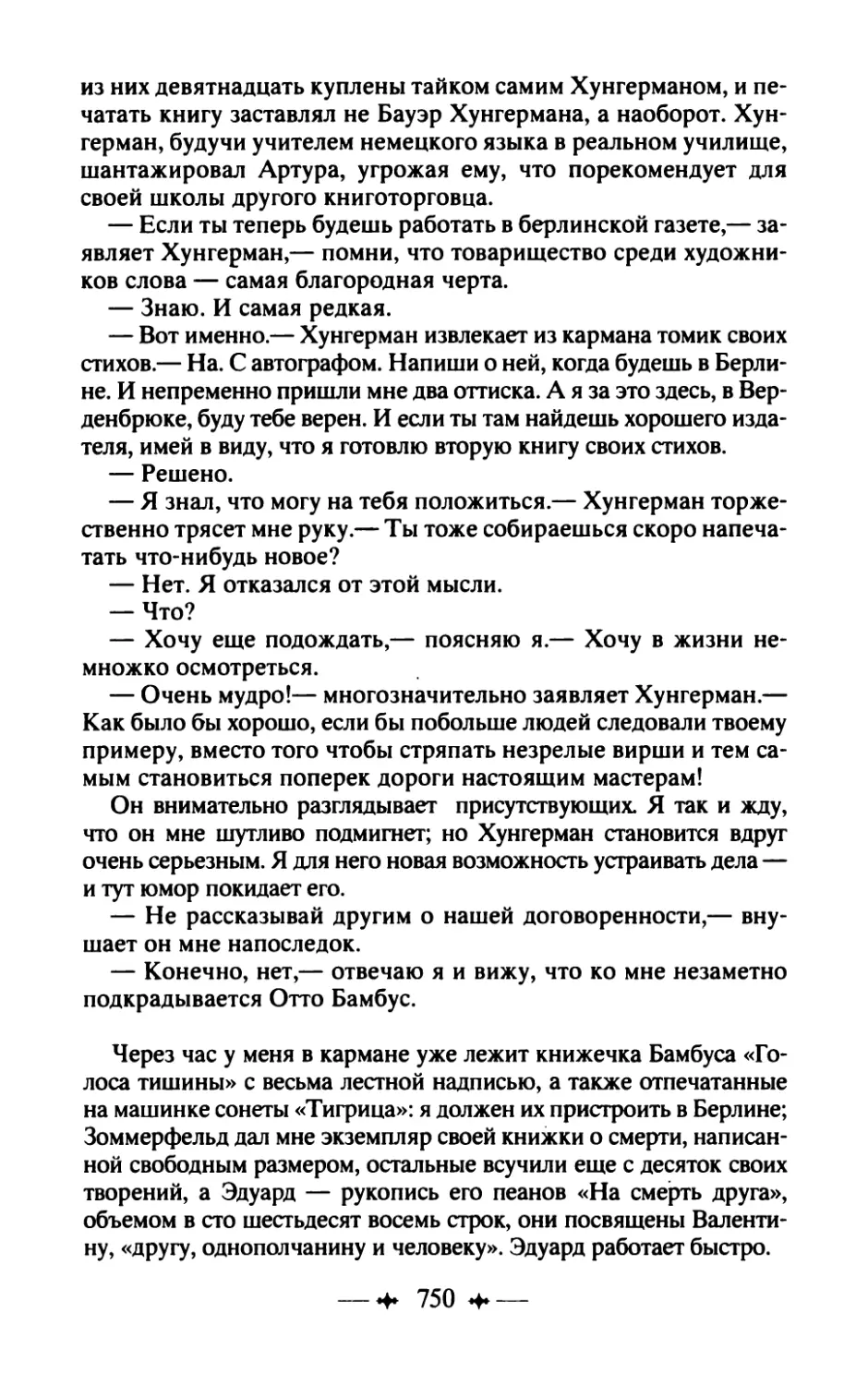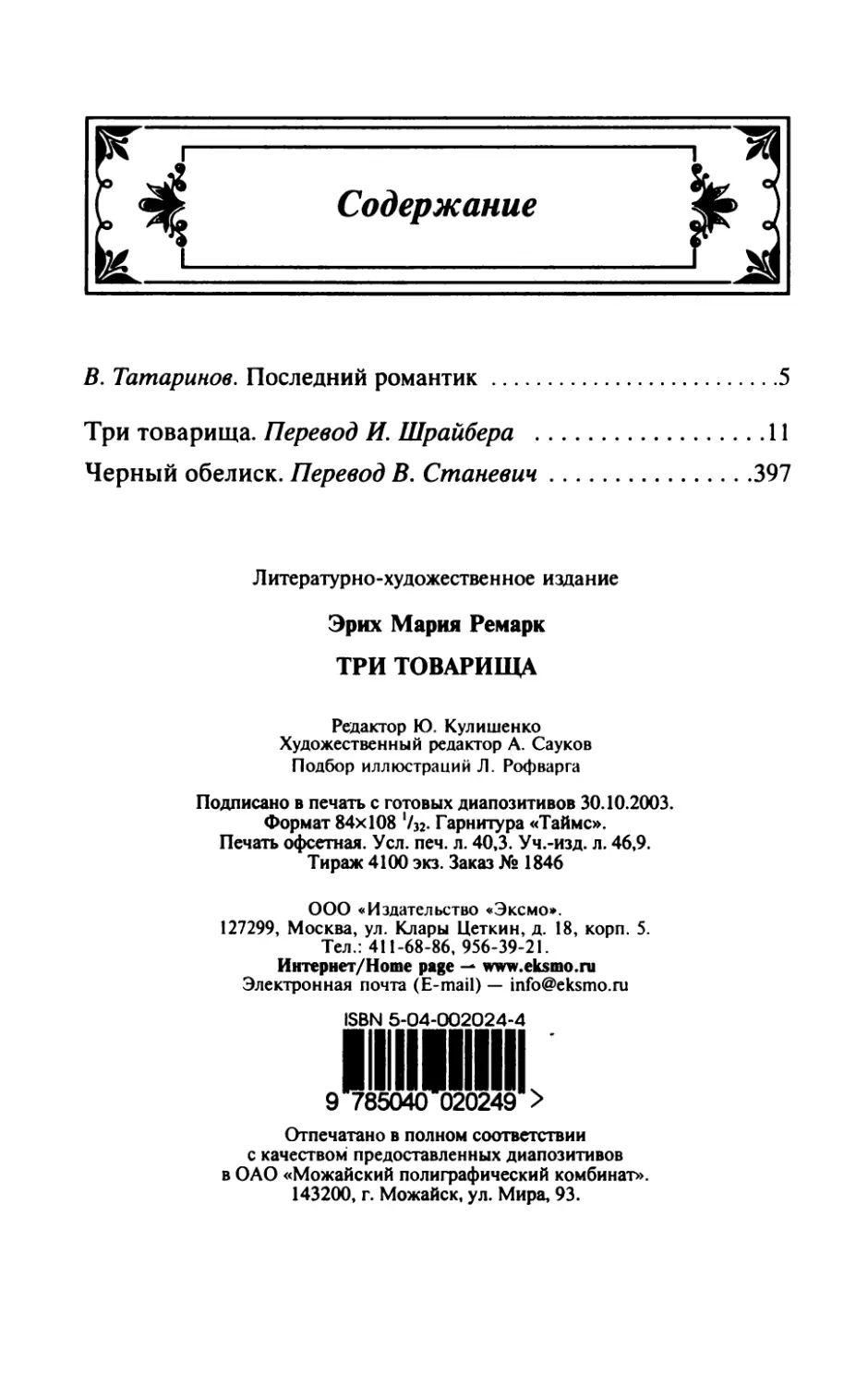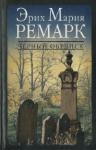Автор: Ремарк Э.М.
Теги: язык языкознание лингвистика литература художественная литература романы
Год: 2003
Текст
%&&&&&
ш
1898 —1970
ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА
НЙМАЖ
шова{т1да
Романы
Москва
«ЭКСМО»
2003
УДК 830
ББК 84(4 Гер)
Р37
Разработка оформления А. Яковлева
В книге воспроизведены рисунки немецкого
художника Отто Дикса (1891—1969) и бельгийского
художника Фелисьена Ропса (1833—1898)
Ремарк Э. М.
Р 37 _ Три товарища. Черный обелиск: Романы / Пер. с нем.
И. Шрайбера, В. Станевич. — М.: Изд-во Эксмо, 2003. —
768 с. (Зарубежная классика).
ISBN 5-04-002024-4
УДК 830
ББК 84(4 Гер)
ISBN 5-04-002024-4
© Оформление. ЗАО «Издательство
«ЭКСМО-Пресс», 1998 г.
рих Мария Ремарк — эти слова всегда значили
больше, чем просто имя известного писателя. Для
многих поколений они звучали как тайный пароль,
по которому можно безошибочно определить сво-
его. Того, кто, как и ты, считает, что мир жесток,
продажен и лжив, но в нем есть и настоящие цен-
ности. Они просты и доступны каждому: небо, табак, деревья,
хлеб, земля и, конечно,— проверенная временем дружба. Такой
человек обязательно будет рядом, когда тебе понадобится по-
мощь. Он не станет сваливать на тебя свои беды, но с удоволь-
ствием осушит с тобой стаканчик-другой живительной влаги
и просто посидит рядом. Тогда стены комнаты раздвинутся, чтобы
вместить красоту и хаос огромного мира, и время плавно поте-
чет в неспешной беседе. И ты будешь знать, что ты не один...
Ремарк родился 22 июня 1898 года в небольшом городке Ос-
набрюке, расположенном в западной части Германии, в земле
Нижняя Саксония. Его отец владел небольшой переплетной
мастерской, так что книги в доме Ремарков не переводились.
С детства Эрих обнаружил в себе художническую одарен-
ность — он любил рисовать, пел в школьном хоре, неплохо играл
на органе и фортепиано и даже пытался сочинять произведе-
ния для этих инструментов. Кроме того, он пробовал свои силы
в литературе, в частности, в музыкальной критике и давал уро-
ки музыки. Неизвестно, какая карьера ждала поэтичного юно-
шу из Оснабрюка. Он вполне мог стать учителем (Ремарк
занимался в католической учительской семинарии) или, ска-
жем, переплетчиком, как отец, но... Уже дремали на армейских
складах, тускло поблескивая стальными стволами, новенькие
винтовки, револьверы и пушки, грозно высились штабеля из
ящиков с динамитом, снарядами и бомбами, а лидеры основных
европейских держав мужественно готовились к «продолжению
политики другими средствами».
Первая мировая война началась, когда Ремарку едва испол-
нилось 16 лет. Через два года он был призван в армию прямо
со школьной скамьи. Обучение основам воинского ремесла под
руководством злобного и жестокого унтера Химмельрайха
(Химмельштос в романе «На Западном фронте без перемен»)
— + 5 4* —
было кратким. Химмельрайх превыше всех солдатских доблес-
тей ставил слепое и безусловное подчинение себе, однако утра-
та патриотических иллюзий и очерствление душ сослужили ре-
бятам добрую службу — впереди их ждали окопы Западного
фронта.
Ремарк воевал до самого конца войны во Франции, Фланд-
рии и на других участках Западного фронта. Ему пришлось пе-
режить смерть одноклассников и многих боевых товарищей,
сам он был ранен пять раз. Война оставила у него впечатление
отвратительной и противоестественной бойни, где человеку,
чтобы выжить, нужно разбудить в себе звериные инстинкты
и вернуться в первобытное состояние.
Единственным положительным следствием войны Ремарк
считал возникновение фронтового товарищества. Это была са-
мая прочная дружба, потому что она родилась в «погранич-
ных» условиях, где все постоянно находились на грани жизни
и смерти. Такая ситуация выявляет истинного человека: глав-
ное — выжить, планы «на завтра» строить бессмысленно, а зна-
чит, нет смысла лгать и притворяться. Лучше остаться самим
собой и заслужить доверие того, кто находится рядом,— от него
на войне зависит жизнь, а что значат в сравнении с этим день-
ги, карьера, положение в обществе?
Когда война закончилась, Ремарку было всего 20 лет, но шко-
ла, которую он прошел за фронтовые годы, сделала его гораздо
старше. После демобилизации из армии он попытался вернуть-
ся в свой прежний мир, возобновить прерванный было поток
мирной и размеренной жизни, но это оказалось ему не под си-
лу. Ему было трудно найти общий язык с отцом, прежние увле-
чения казались теперь пустыми и детскими.
Все дело в том, что на фронте Ремарк и его товарищи столк-
нулись лицом к лицу с мировым хаосом, очутились в эпицентре
одной из катастроф, на которые так богат оказался XX век. По-
сле этого все то, чему их учили в школе, во что продолжали ве-
рить их родители, перестало представлять для них смысл и цен-
ностьлЭфемерность спокойного бюргерского существования
стала для вчерашних фронтовиков слишком очевидной. Они
оказались самым настоящим «потерянным поколением» (эти
слова впервые прозвучали в эпиграфе к книге Э. Хемингуэя
«Прощай, оружие!»). Война, бессмысленно, жестоко и хаотич-
но истребившая и искалечившая миллионы людей, доказала им,
что гармония, целесообразность и какой-либо высший смысл в
человеческом существовании просто отсутствуют. Другими
словами, они утратили Бога, но беда в том, что пока человек
жив, ему просто необходимо верить хотя бы во что-то...
— 4* 6 4* —
Германия проиграла войну, была обложена контрибуцией
и пользу держав-победительниц. Страна находилась в плачев-
ном состоянии. Найти работу было невероятно трудно, но Ре-
марку повезло — он закончил учительские курсы для бывших
солдат и получил место учителя в деревушке у голландской гра-
ницы. Несмотря на неплохое жалованье и преимущества жизни
и деревне в полуголодное время, через год Ремарк бросил эту
работу и возвратился в Оснабрюк.
Он не захотел получать деньги за работу маленьким винти-
ком в той системе образования, которая подготовила к войне
ею поколение, а теперь воспитывала в том же прусском казар-
менном духе следующее. Теперь он понял, что причины воен-
ного безумия кроются не только в амбициях и безнравственно-
сти политиков и генералов. С детства в сознании ребенка
закладывается извращенное видение мира: человек привыкает
воспринимать историю как цепь грабительских войн, убийств,
казней, политических интриг и прочих «исторических» собы-
тий. Школьник может путаться в древних философах или со-
временных писателях и ученых, но назубок знает всех царей,
военачальников и полководцев.
В стране свирепствовала инфляция, поэтому Ремарку при-
шлось браться за любую работу, которая могла хотя бы прокор-
мить. Он был бухгалтером и коммивояжером, тесал камни
на кладбище и продавал могильные памятники, играл на органе
в церкви при психиатрической лечебнице, бродил по стране
и даже жил одно время в цыганском таборе. Многое из того, что
писатель увидел и пережил в эти годы, вошло позднее в его книги.
В 1923 году Ремарк переехал в Берлин. Здесь он работал
шофером-испытателем в фирме, занимавшейся производством
автопокрышек, а затем журналистом. В 1928—1929 годах он
был заместителем редактора популярного журнала «Шпорт им
Бильд» («Спорт в иллюстрациях»).
Ремарк пробовал свои силы и в литературе. Первые два его
романа относились к развлекательной беллетристике и были
откровенно неудачны. Впоследствии писатель старался избе-
гать всякого упоминания о них. Своим первым романом он не-
изменно называл «На Западном фронте без перемен».
Этот роман был напечатан в ноябре-декабре 1928 года в газе-
те «Фоссише Цайтунг» и сразу приобрел необычайную попу-
лярность. Достаточно сказать, что на время его публикации ти-
раж газеты «Фоссише Цайтунг» вырос на несколько тысяч
экземпляров. В начале 1929 года роман вышел отдельным изда-
нием и побил все рекорды продаж. В течение одного года его
тираж только в Германии составил один миллион двести тысяч
экземпляров. Вскоре он был переведен на десятки языков, а об-
— 4» 7 4* —
щий тираж достиг пяти миллионов. Позднее книга «На Запад-
ном фронте без перемен» была названа «величайшим европей-
ским книжным успехом всех времен». В 1930 году роман был эк-
ранизирован в Голливуде. Режиссер фильма Льюис Майлстоун
тоже участвовал в первой мировой войне.
Теперь Эриха Марию Ремарка знал весь мир. Кстати, подпи-
сывая свои произведения, Ремарк кое-что изменил в своем име-
ни и фамилии. Во-первых, предки писателя были выходцами
из Франции и еще его прадед писал фамилию на французский
манер — Remarque, однако впоследствии появился онемечен-
ный вариант — Remark. Эрих восстановил прежнее написание
фамилии и, кроме того, изменил свое второе имя: настоящее
имя Ремарка было Эрих Пауль. Ничего необычного в новом
имени не было — для европейцев женское имя Мария вполне
приемлемо в качестве второго имени у мальчика. Интересная
деталь: героя романа «На Западном фронте без перемен» тоже
зовут Пауль, а фамилию Боймер он унаследовал от бабушки пи-
сателя по отцовской линии.
Разумеется, далеко не у всех новый роман вызвал теплые
чувства. Многие бывшие фронтовики слали писателю письма
с благодарностью за правдивое и честное описание войны, мыс-
лей и чувств рядового солдата. Но не стоит забывать, что дело
происходило в Германии, где даже в национальном характере
и укладе жизни ощущается привкус дисциплины и организа-
ции. За покушение на войну как таковую особенно обиделись
фашисты, да и не мудрено — милитаризация сознания была ос-
новой основ нацистской идеологии. Результат не заставил дол-
го ждать: в том же 1929 году группа авторов во главе с Отто
Штрассером выпустила брошюру «О смысле войны» с подзаго-
ловком «Ответ Ремарку».
Впрочем, «ответы Ремарку» теоретическими изысканиями
не ограничивались. Продажные журналисты на все лады об-
суждали слухи о том, что он воевал не солдатом, а офицером,
или вообще не воевал, что он дворянин, и не Ремарк, а Крамер
(это если прочесть фамилию наоборот). К премьере американ-
ской экранизации романа в Берлине нацисты подготовились
особенно тщательно: они забросали экран гнилыми фруктами
и тухлыми яйцами, а в зал выпустили припасенных заранее
крыс и мышей. Со свойственной им настырностью и склонно-
стью к мелкому хулиганству, они преследовали фильм по всей
стране и добились-таки его запрещения^., во имя сохранения
общественного спокойствия.
В 1931 году вышел новый роман Ремарка — «Возвращение».
В каком-то смысле он стал продолжением «На Западном фронте»,
потому что действовали в нем те же солдаты первой мировой,
— + 8 4* —
шнорым выпало счастье пережить войну и вернуться домой.
() 1ом, с чем им довелось столкнуться дома, Ремарк знал не по-
ппслышке.
( остояние здоровья писателя ухудшалось, и он все чаще уез-
жал в итальянскую Швейцарию, в курортный городок Порто
Ронко. У озера Лаго Маджоре он приобрел виллу «Монте Та-
бор» и жил там месяцами.
Между тем, в Германии победили нацисты и 10 мая 1933 го-
да оба ремарковских романа заняли свое почетное место среди
шедевров немецкой и мировой литературы в огромном костре
и центре Берлина. Вскоре новые немецкие власти потребовали
о г Ремарка в категорической форме возвращения на родину.
11исатель ответил отказом, после чего его торжественно лиши-
ли германского подданства. О том, какой теплый прием ждал
его в гестапо, можно судить хотя бы тому, что в 1943 фашисты
казнили по политическим мотивам его младшую сестру. Ей
вменялись в вину критика лично фюрера и его политики, пора-
женческие настроения и... конечно же, родство с братом.
Следующий роман Ремарка, «Три товарища», вышел только
и 1938 году. Его можно смело причислить к шедеврам. Во вся-
ком случае, в России этот роман, пожалуй, самое популярное
произведение писателя. Это тонкая лиричная поэма о дружбе и
любви, которые одни только и способны наполнить жизнь чело-
века содержанием и смыслом. Лучше всего об этом сказал сам
Ремарк устами своего героя: «Без любви человек не более чем
покойник в отпуске».
В 1939 году Ремарк переехал в США. Он поселился в Лос-
Анжелесе, что дало ему возможность наряду с обычной литера-
турной работой заняться написанием киносценариев. Ремарк,
как всегда, сторонился каких-либо общественных объединений —
антифашистских, эмигрантских, писательских — по-видимому,
сомневаясь в их полезности. Зато он сблизился с миром кино.
Среди его знакомых было немало известных режиссеров и акте-
ров, а одна кинозвезда, Полетт Годдар, стала впоследствии вто-
рой женой писателя.
В 1946 году Ремарк опубликовал роман «Триумфальная ар-
ка», а в 1954 — «Время жить и время умирать». В том же году
он вместе с Полетт Годдар возвратился в Европу и опять посе-
лился на вилле «Монте Табор». В 1956 году достоянием читаю-
щей публики стал шедевр позднего творчества Ремарка «Чер-
ный обелиск». Он создал еще «Жизнь взаймы» (1959), однако
писательская судьба Ремарка сложилась так, что ни одно из его
произведений не удостаивалось у критики столь высокой оцен-
ки, как его первый роман, который и по сей день считается луч-
шим произведением о первой мировой войне.
— 4* 9 4* —
В шестидесятые годы Ремарк подолгу и тяжело болел, поэто-
му почти безвыездно жил в Швейцарии, мало кого принимал
у себя и очень неохотно давал интервью. Он умер от инфаркта
в больнице города Локарно 25 сентября 1970 года. Его последний
роман «Тени в раю» был опубликован посмертно в 1971 году.
Путь Ремарка и в жизни, и в литературе отнюдь не был усы-
пан розами. Он очень рано познал всю глубину несправедливо-
сти и жестокости окружающего мира, но это не помешало ему
неизменно отстаивать в своих произведениях право человека
на жизнь и свободу. Ремарк сторонился и «правых», и «левых»,
и вообще политики, выступая за терпимость в отношениях между
людьми и соблюдение ими элементарных законов человечности.
Его герои совсем не образец совершенства, а уж об их вред-
ных привычках можно говорить еще долго. Недаром замечено,
что романы Ремарка можно отличать еще и по напиткам:
в «Трех товарищах» пьют в основном ром, в «Триумфальной
арке» — кальвадос и т.д. Важнее другое: герои Ремарка — это
люди, которые не дрогнут перед лицом смерти, сумеют выйти с
достоинством из любых испытаний и как дар небес воспримут
выпавшее им недолговечное счастье. Эту своеобразную фило-
софию человека, сознающего хрупкость жизни и умеющего ее
ценить, Ремарк вложил в уста героини романа «Жизнь взаймы»,
молодой, обреченной на скорую смерть женщины: «Понятие
жизни весьма растяжимо... Человек, которому предстоит долгая
жизнь, не обращает на время никакого внимания; он думает, что
впереди у него целая вечность. А когда он потом подводит итоги
и подсчитывает, сколько он действительно жил, то оказывается,
что всего-то у него было несколько дней или в лучшем случае
несколько недель. Если ты это усвоил, то две-три недели или
два-три месяца могут означать для тебя столько же, сколько для
другого значит целая жизнь».
Вадим Татаринов
I
ебо было желтым, как латунь, и еще не закопчено
дымом труб. За крышами фабрики оно светилось
особенно ярко. Вот-вот взойдет солнце. Я глянул
на часы. До восьми оставалось пятнадцать минут.
Я пришел раньше обычного.
Я открыл ворота и наладил бензоколонку. В это
время первые машины уже приезжали на заправку. Вдруг за мо-
ей спиной послышалось надсадное кряхтенье, будто под землей
прокручивали ржавую резьбу. Я остановился и прислушался.
Затем прошел через двор к мастерской и осторожно открыл
дверь. В полумраке, пошатываясь, сновало привидение. На нем
была испачканная белая косынка, голубой передник и толстые
мягкие шлепанцы. Привидение размахивало метлой, весило де-
вяносто килограммов и было уборщицей Матильдой Штосс.
С минуту я стоял и разглядывал ее. Переваливаясь на нетвер-
дых ногах между радиаторами автомобилей и напевая глухова-
тым голосом песенку о верном гусаре, она была грациозна, как
бегемот. На столе у окна стояли две бутылки коньяка — одна
уже почти пустая. Накануне вечером она была непочата. Я за-
был спрятать ее под замок.
— Ну, знаете ли, фрау Штосс...— вымолвил я.
Пение прекратилось. Метла упала на пол. Блаженная ухмылка
на лице уборщицы погасла. Теперь привидением был уже я.
— Иисусе Христе...— с трудом пробормотала Матильда и уста-
вилась на меня красными глазами.— Не думала я, что вы так рано
заявитесь...
— Понятно. Ну, а коньячок ничего?
— Коньяк-то хорош... но мне так неприятно.— Она вытерла
ладонью губы.— Прямо, знаете, как обухом по голове...
— Не стоит преувеличивать. Просто вы порядком накача-
лись. Как говорится, пьяны в стельку.
Она едва удерживалась в вертикальном положении. Ее усики
подрагивали, а веки хлопали, как у старой совы. Но вскоре она
кое-как овладела собой и решительно сделала шаг вперед.
— 4* 12 4* —
— Господин Локамп!.. Человек всего лишь человек... Сперва
и голь ко принюхивалась... потом не выдержала, сделала глоток...
пт ому что в желудке у меня всегда, знаете ли, какая-то вялость...
Ног... а потом... а потом, видать, бес попутал... И вообще — нечего
вводить бедную женщину в искушение... нечего оставлять бутыл-
ки на виду...
Уже не впервые я заставал ее в таком виде. По утрам она
приходила на два часа убирать мастерскую, и там можно было
спокойно оставить сколько угодно денег: к ним она не прикаса-
лась... А вот спиртное было для нее то же, что сало для крысы.
Я поднял бутылку.
— Коньяк для клиентов вы, конечно, не тронули, а любимый
сорт господина Кестера вылакали почти до дна.
Огрубевшее лицо Матильды исказилось гримасой удовольствия.
— Что правда, то правда... В этом я знаю толк. Но, господин
Локамп, неужто вы выдадите меня, беззащитную вдову?
Я покачал головой.
— Ладно, сегодня не выдам.
Она опустила подоткнутый подол.
— Тогда улепетываю. А то придет господин Кестер и... не при-
веди Господь!
Я подошел к шкафу и отпер его.
— Матильда...
Она торопливо подковыляла ко мне. Я поднял над головой
коричневую четырехгранную бутылку.
Она протестующе замахала руками.
— Это не я! Честно вам говорю! Даже и не пригубила!
— Знаю,— сказал я и налил полную рюмку.— А вы это когда-
нибудь пробовали?
— Вопрос!— Она облизнулась.— Да ведь это же ром!.. Вы-
держанный ямайский ром!
— Правильно. Вот и выпейте рюмку.
— Это я-то?— Она отпрянула.— Зачем же так издеваться,
господин Локамп? Разве можно каленым железом по живому-
то телу? Старая Штосс высосала ваш коньяк, а вы ей впридачу
еще и ром подносите. Да вы же просто святой человек. Именно
святой... Нет, уж лучше пусть я умру, чем выпью!
— Значит, не выпьете?..— сказал я и сделал вид, будто хочу
убрать рюмку.
— Впрочем...— Она быстро выхватила ее у меня.— Как гово-
рят, дают — бери. Даже если не понимаешь, почему дают. Ваше
здоровье! А у вас случаем не день ли рождения?
— Именно так, Матильда. Угадали.
— 4* 13 + —
— Да что вы! В самом деле?— Она вцепилась в мою руку
и принялась ее трясти.— Примите мои самые сердечные по-
здравления! И чтобы деньжонок побольше!— Она вытерла
рот.— Я так разволновалась, что обязательно должна тяпнуть
еще одну. Ведь вы мне и вправду очень дороги, так дороги —
прямо как родной сын!..
— Хорошо.
Я налил ей еще одну рюмку. Она разом опрокинула ее и,
прославляя меня, вышла из мастерской.
♦ ♦ ♦
Я спрятал бутылку и сел за стол. Через окно на мои руки пада-
ли лучи бледного солнца. Все-таки странное это чувство — день
рождения. Даже если он тебе в общем-то безразличен. Тридцать
лет... Было время, когда мне казалось, что не дожить мне и до двад-
цати, уж больно далеким казался этот возраст. А потом...
Я достал из ящика лист бумаги и начал вспоминать. Детские
годы, школа... Это было слишком давно и уже как-то неправдо-
подобно. Настоящая жизнь началась только в 1916 году. Тогда
я — тощий восемнадцатилетний верзила — стал новобранцем.
На вспаханном поле за казармой меня муштровал мужлани-
стый усатый унтер: «Встать!» — «Лечь!». В один из первых ве-
черов в казарму на свидание со мной пришла мама. Ее застави-
ли дожидаться меня больше часа: в тот день я уложил свой
вещевой мешок не по правилам, и за это меня лишили свобод-
ных часов и послали чистить отхожие места. Мать хотела по-
мочь мне, но ей не разрешили. Она расплакалась, а я так устал,
что уснул еще до ее ухода.
1917. Фландрия. Мы с Миддендорфом купили в кабачке бу-
тылку красного. Думали попировать. Но не удалось. Рано ут-
ром англичане начали обстреливать нас из тяжелых орудий.
В полдень ранило Кестера, немного позже были убиты Майер
и Детерс. А вечером, когда мы уже было решили, что нас оста-
вили в покое, и распечатали бутылку, в наши укрытия потек газ.
Правда, мы успели надеть противогазы, но у Миддендорфа по-
рвалась маска. Он заметил это слишком поздно и, покуда стаски-
вал ее и искал другую, наглотался газу. Долго его рвало кровью,
а наутро он умер. Его лицо было зеленым и черным, а шея вся ис-
кромсана — он пытался разодрать ее ногтями, чтобы дышать.
1918. Я лежал в лазарете. Несколькими днями раньше с пере-
довой прибыла новая партия. Бумажный перевязочный матери-
ал. Тяжелые ранения. Весь день напролет въезжали и выезжа-
ли операционные каталки. Иногда они возвращались пустыми.
— 4* 14 4* —
Ридом со мной лежал Йозеф Штоль. У него уже не было ног,
и он еще ничего не знал. Просто этого не было видно — прово-
лочный каркас накрыли одеялом. Он бы и не поверил, что ли-
шился ног, ибо чувствовал в них боль. Ночью в нашей палате
умерло двое. Один — медленно и тяжело.
1919. Я снова дома. Революция. Голод. На улицах то и дело
строчат пулеметы. Солдаты против солдат. Товарищи против
юварищей.
1920. Путч. Расстрел Карла Брегера. Кестер и Ленц арестова-
ны. Моя мама в больнице. Последняя стадия рака.
1921... Я напрасно пытался вспомнить хоть что-нибудь. Словно
кого года вообще не было. В 1922-м я был железнодорожным
рабочим в Тюрингии, в 1923-м руководил отделом рекламы фаб-
рики резиновых изделий. Тогда была инфляция. Мое месячное
жалованье составляло двести миллиардов марок. Деньги вы-
плачивали дважды в день, и после каждой выплаты предостав-
лялся получасовой отпуск, чтобы обежать магазины и что-ни-
будь купить, пока не вышел новый курс доллара и стоимость
денег не снизилась вдвое...
А потом?.. Что было в последующие годы? Я отложил каран-
даш. Стоило ли воскрешать все это в памяти? К тому же многое
я просто не мог вспомнить. Слишком все перемешалось. Мой
последний день рождения я отмечал в кафе «Интернациональ»,
где в течение года работал пианистом — должен был создавать
у посетителей «лирическое настроение». Потом снова встретил
Кестера и Ленца. Так я и попал в «Аврема» — «Авторемонтную
мастерскую Кестера и К°». Под «К°» подразумевались Ленц и я,
но мастерская, по сути дела, принадлежала только Кестеру.
Прежде он был нашим школьным товарищем и ротным коман-
диром, затем пилотом, позже некоторое время студентом, по-
том автогонщиком и, наконец, купил эту лавочку. Сперва к нему
присоединился Ленц, который несколько лет околачивался
в Южной Америке, а вслед за ним и я.
Я вытащил из кармана сигарету. В сущности, я мог быть
вполне доволен. Жилось мне неплохо, я работал, силенок хвата-
ло, и я не так-то скоро уставал,— в общем, как говорится, был
здоров и благополучен. И все же не хотелось слишком много
думать об этом. Особенно наедине с самим собой. Да и по вече-
рам тоже. Потому что время от времени вдруг накатывало про-
шлое и впивалось в меня мертвыми глазами. Но для таких слу-
чаев существовала водка.
— 4* 15 4* —
Во дворе заскрипели ворота. Я разорвал листок с датами моей
жизни и бросил клочки в корзинку. Дверь распахнулась на-
стежь, и в ее проеме возник Ленц — длинный, худой, с гривой
волос цвета соломы и носом, который подошел бы совсем дру-
гому человеку.
— Робби,— рявкнул он,— старый спекулянт! Ну-ка встать
и стоять смирно! Начальство желает говорить с тобой!
— Господи Боже мой!— Я поднялся.— А я-то надеялся, что
вы и не вспомните. Помилосердствуйте, ребята, умоляю вас!
— Так легко от нас не отделаешься!— Готтфрид положил
на стол пакет, в котором что-то здорово задребезжало. За ним во-
шел Кестер. Ленц встал передо мной во весь свой огромный рост.
— Робби, что тебе сегодня бросилось в глаза раньше всего
остального?
— Танцующая старуха,— вспомнил я.
— Святой Моисей! Дурная примета! Но, знаешь ли, она в духе
твоего гороскопа. Только вчера я его составил. Итак, рожден-
ный под знаком Стрельца, ты человек ненадежный и колеб-
лешься, как тростник на ветру. А тут еще эти подозрительные
тригоны Сатурна. Да и Юпитер в этом году подкачал. Но по-
скольку мы с Отто вроде как твои отец и мать, то я первым пре-
подношу тебе нечто для самозащиты. Вот тебе амулет. Когда-то
я получил его от девы, чьими предками были инки. В ней текла
голубая кровь, были у нее плоскостопие, вши и дар предсказы-
вать будущее. «О белокожий чужеземец,— сказала мне она,—
этот талисман носили на себе короли, в нем заключены все си-
лы Солнца, Земли и Луны, не говоря уже о бодее мелких плане-
тах. Дай доллар серебром на водку и бери его». И дабы не обры-
вались звенья счастья, я передаю его тебе, Робби.
С этими словами он надел мне на шею крохотную черную
фигурку на тонкой цепочке.
— Вот так-то! Это против горестей высшего порядка. А от по-
вседневных неприятностей вот — шесть бутылок рому. Их дарит
тебе Отто! Этот ром вдвое старше тебя!
Он развернул пакет и одну за другой поставил бутылки на стол,
залитый светом утреннего солнца. Бутылки сверкали, как янтарь.
— Великолепное зрелище,— сказал я.— И где ты их только
раздобыл, Отто?
Кестер рассмеялся.
— Довольно путаная история. Долго рассказывать... Лучше
скажи, как ты себя чувствуешь сегодня — как тридцатилетний?
Я махнул рукой.
— 4* 16 + —
Да вроде бы нет — чувство такое, будто мне шестнадцать
и н го же время пятьдесят. В общем, хвалиться нечем.
- И это ты называешь «хвалиться нечем»!— возразил
Ленц.— Да пойми ты — выше этого вообще ничего нет. Ведь ты
Ос । чьей-либо помощи, так сказать суверенно, покорил время
и проживешь целых две жизни.
Кестер внимательно смотрел на меня.
— Оставь его, Готтфрид,— сказал он.— Дни рождения ущем-
ляют самолюбие человека. Особенно по утрам... Но ничего —
постепенно он придет в себя.
Ленц сощурился.
— Чем меньше у человека самолюбия, Робби, тем большего
он стоит. Тебя это утешает?
— Нет,— ответил я,— нисколько. Если человек чего-то стоит,
шачит, он уже как бы памятник самому себе. По-моему, это
и утомительно и скучно.
— Ты только подумай, Отто! Он философствует,— сказал
Ленц.— Следовательно, он спасен. Он преодолел самое страш-
ное — минуту безмолвия в собственный день рождения, когда
человек заглядывает самому себе в глаза и внезапно обнаружи-
вает, какой же он жалкий цыпленок... А теперь мы можем
со спокойной совестью приступить к трудам праведным и сма-
зать внутренности старого «кадиллака»...
♦ ♦ ♦
Мы кончили работать, когда уже смеркалось. Затем умылись
и переоделись. Ленц с вожделением смотрел на батарею бутылок.
— Не свернуть ли нам шею одной из них?
— Это должен решить Робби,— сказал Кестер.— Человек
получил подарок, а ты к нему с такими прозрачными намеками.
Некрасиво это, Готтфрид.
— А заставлять дарителей подыхать от жажды, по-твоему,
красиво?— ответил Ленц и откупорил бутылку.
Сразу по всей мастерской разлился аромат рома.
— Святой Моисей!— воскликнул Готтфрид.
Мы стали принюхиваться.
— Не запах, а фантастика какая-то, Отто. Для достойных
сравнений нужна самая высокая поэзия.
— Просто жалко распивать такой ром в этой конуре!— ре-
шительно заявил Ленц.— Знаете что? Поедем за город, там где-
нибудь поужинаем, а бутылку прихватим с собой. Разопьем ее
на природе.
— Блестящая мысль.
На руках мы откатили «кадиллак», с которым провозились
почти весь день. За ним стоял довольно странный предмет
на колесах. То была гордость нашей мастерской — гоночная ма-
шина Отто Кестера.
В свое время, попав на аукцион, Кестер по дешевке приобрел
этот высокий старый драндулет. Знатоки без колебаний утверж-
дали, что для музея истории транспорта это был бы любопыт-
ный экспонат. Больвис, владелец фабрики дамских пальто
и гонщик-любитель, посоветовал Отто переделать эту штуку
в швейную машину. Но Кестера все это ничуть не трогало. Он
разобрал свое приобретение на части, словно часовой меха-
низм, и несколько месяцев кряду ежедневно возился с ним до-
темна. Как-то вечером подкатил на нем к бару, который мы
обычно посещали. Больвис так расхохотался, что едва не сва-
лился со стула: детище Кестера по-прежнему выглядело крайне
смешно. Чтобы позабавиться, Больвис предложил Отто пари —
двести марок против двадцати, если тот рискнет на своей тара-
тайке помериться силами с его новой спортивной машиной.
Дистанция — десять километров, причем Кестер получает для
своей машины фору в один километр. Отто согласился. Кругом
стоял хохот — все предвкушали небывалую потеху. Но Кестер
изменил условия состязания: он отказался от форы и с самым
невозмутимым видом предложил повысить ставку до тысячи
марок с обеих сторон. Больвис оторопел й вежливо спросил Отто,
не отвезти ли его в сумасшедший дом. Вместо ответа тот запус-
тил двигатель. Оба сразу же рванулись с места, чтобы решить,
кто — кого. Через полчаса Больвис вернулся с таким расстроен-
ным видом, словно увидел морского змея. Молча он выписал
чек и тут же стал выписывать второй: хотел, не сходя с места,
купить эту старомодную машину. Но Кестер ухмыльнулся. Теперь
он не хотел расстаться с ней ни за какие деньги. Но как бы она
ни была безупречна по своим техническим качествам, ее внеш-
ний вид все еще оставался страшноватым. Для каждодневного
пользования мы смонтировали какой-то особенно старомод-
ный, прямо-таки допотопный кузов. Лак утратил блеск, крылья
были в трещинах, а ветхий откидной верх прослужил никак
не меньше десяти лет. Мы, конечно, могли бы придать машине
куда более привлекательный вид, но по определенной причине
сознательно не делали этого.
Машину мы назвали «Карл». «Карл» — призрак шоссейных
дорог.
— 4* 18 4* —
* * ♦
Шурша шинами и сопя, «Карл» мчался по дороге.
— Отто,— сказал я.— Приближается жертва.
За нами нетерпеливо ревел клаксон тяжелого «бьюика». Он
быстро нагнал нас, радиаторы поравнялись. Мужчина за рулем
небрежно глянул на нас. Затем презрительно скользнул взгля-
дом по обшарпанному «Карлу», тут же отвернулся и, казалось,
забыл о нашем существовании.
Но через несколько секунд ему пришлось убедиться, что
«Карл» все еще идет с ним вровень. Он уселся поудобнее, с ве-
селым любопытством снова посмотрел на нас и прибавил газу.
Но «Карл» не сдавался. Словно терьер рядом с догом, малень-
кий и юркий, он стремительно несся вперед, не отставая от здо-
ровенной махины, сверкающей лаком и хромом.
Мужчина покрепче ухватился за баранку. Не подозревая,
что его ждет, он надменно скривил губы. Мы поняли — теперь
он нам покажет, на что способна его колымага. Он с такой си-
лой нажал на педаль газа, что его выхлопная труба заверещала,
точно стая жаворонков над летним полем. Но все было напрас-
но — он не мог оторваться от нас. Неказистый, пожалуй, даже
уродливый, «Карл» как заколдованный прилепился к «бьюику».
Его ошеломленный водитель вытаращился на нас. Ему было не-
вдомек, как это при скорости свыше ста километров в час не-
возможно стряхнуть с «хвоста» этакое старье. Не веря глазам
своим, он еще раз посмотрел на спидометр, видимо, усомнив-
шись в точности его показаний. Затем стал жать на всю железку.
Теперь обе машины неслись ноздря в ноздрю по длинному
прямому шоссе. Через несколько сотен метров показался шед-
ший навстречу грохочущий грузовик. «Бьюику» пришлось от-
стать. Едва он опять поравнялся с «Карлом», как мы увидели
другую встречную машину — на сей раз автокатафалк с венка-
ми, обвитыми развевающимися лентами. «Бьюик» вновь при-
строился нам в хвост. А потом, насколько хватало глаз,— ниче-
го встречного.
И куда только подевалась спесь нашего соперника! Злобно
сжав губы, плотно усевшись за рулем и захваченный азартом
гонки, он подался вперед. Казалось — честь всей его жизни за-
висит от одного: ни за что не уступить этой жалкой шавке.
Мы же, напротив, притворяясь безразличными ко всему, си-
дели спокойно. «Бьюик» для нас просто не существовал. Кестер
невозмутимо смотрел вперед, на шоссе, я со скучающим видом
уставился куда-то в небо, а Ленц, хотя он внутренне и сжался в ко-
мок, достал газету и принялся якобы читать ее, да еще с таким
— 4* 19 4* —
интересом, словно в эту минуту ничто не могло быть для него
важней.
Через две-три минуты Кестер нам подмигнул. «Карл» неза-
метно терял скорость, и «бьюик» стал медленно обходить его.
Вот перед нашими глазами проплыли широкие блестящие крылья.
Нас обдало голубоватым отработанным газом, шумно вырывав-
шимся из выхлопной трубы. Постепенно «бьюик» ушел метров
на двадцать вперед, и — как можно было предвидеть — его хо-
зяин на мгновение высунулся из окна и, повернувшись к нам
лицом, победоносно усмехнулся.
Но тут он позволил себе лишнее. Не в силах сдержать ощу-
щение полнейшего торжества, он махнул нам рукой — дескать,
попробуйте догоните!
Взмах его руки был небрежным, самоуверенным.
— Отто!— призывно воскликнул Ленц.
Но это было ни к чему. В ту же секунду «Карл» рванулся вперед.
Засвистел компрессор, и сразу же исчезла только что махавшая
нам рука. Послушный посылу, «Карл» набавлял скорость,
и удержать его уже не могло ничто, он наверстывал все сполна.
И вот тут-то мы как бы впервые заметили этот чужой автомо-
биль. С невинно вопрошающим видом мы смотрели на мужчи-
ну за рулем. Нам просто хотелось узнать, зачем это он махал
нам рукой. Но он судорожно вперил взор в даль, а перепачкан-
ный «Карл», распластав свои потрескавшиеся крылья, на пол-
ном газу ушел далеко вперед — непобедимый замарашка!
— Здорово получилось, Отто,— сказал Ленц Кестеру.— Боюсь,
сегодня этот тип будет ужинать без всякого удовольствия.
Вот ради таких гонок мы и не меняли кузов «Карла». Стоило
ему появиться где-нибудь на шоссе, как тут же находился охот-
ник обставить его. На иные машины он действовал, как ворона
с подбитым крылом на свору изголодавшихся кошек. Он приво-
дил в состояние сильнейшего возбуждения водителей самых
мирных семейных автоэкипажей. Всем хотелось его обогнать.
Даже самые солидные бородачи, отцы семейств, и те попадали
под власть неодолимого честолюбия, когда перед ними, под-
прыгивая и спотыкаясь на ухабах, двигалось это нечто на коле-
сах. Никто из них не мог подумать, что внутри этого смехотвор-
ного сооружения бьется великое сердце — отличный гоночный
двигатель!
Ленц утверждал, что «Карл» играет чисто воспитательную
роль. Он учит людей чтить творческое начало, которое всегда
заключено в неприметной оболочке. Так рассуждал Ленц, кото-
рый сам себя называл последним из романтиков.
— 4* 20 4* —
Мы остановились перед небольшой ресторацией и вылезли
и । машины. Стоял прекрасный тихий вечер. Борозды вспахан-
ного поля с золотисто-коричневыми краями отливали фиолето-
выми оттенками. На яблочно-зеленом небе, словно огромные
фламинго, плыли облака, нежно оберегая мелькавший между
ними молодой месяц. На ветках куста орешника было какое-то
предощущение утренней зари. Орешник был трогательно наг,
по полон надежд на близящееся набухание почек. Из кухни до-
носился аромат жареной печенки. И еще — запах тушеного лука.
Наши сердца забились сильнее.
Ленц не выдержал и ворвался в дом. Вскоре он вернулся
с просветленным лицом.
— Посмотрели бы вы на этот жареный картофель! Давайте
поторопимся, а то, чего доброго, прозеваем самый смак!
В эту минуту с легким гудением подъехала еще одна машина.
Мы застыли, словно пригвожденные. Это был тот самый «бьюик».
Он резко затормозил около «Карла».
— Оп-ля!— воскликнул Ленц.
Из-за подобных приключений у нас уже не раз случались драки.
Мужчина вышел из автомобиля. Это был рослый и грузный
человек в просторном реглане из верблюжьей шерсти. Он с до-
садой покосился на «Карла», затем снял плотные желтые пер-
чатки и подошел к нам. Лицо его напоминало маринованный
огурец.
— Что это у вас за модель?— спросил он Кестера, который
стоял к нему ближе.
С минуту мы молча смотрели на него. Видимо, он принял нас
за каких-то автомехаников, которые, нарядившись в воскресные
костюмы, решили прокатиться на чужой машине.
— Вы что-то сказали?— спросил Отто, как бы не решаясь на-
мекнуть ему, что можно быть и повежливее.
Мужчина покраснел.
— Я просто спросил про эту машину,— буркнул он в том же
тоне.
Ленц выпрямился. Его крупный нос вздрогнул. Он очень це-
нил вежливость в других. Но, прежде чем он успел раскрыть
рот, вдруг, словно по мановению какого-то духа, отворилась
вторая дверца «бьюика». Из нее высунулась стройная ножка
с узким коленом, а затем вышла девушка и медленно направи-
лась к нам. Мы удивленно переглянулись. До этого мы и не за-
мечали, что в «бьюике» был еще кто-то. Ленц мгновенно пере-
— 4* 21 4* —
строился. Его веснушчатое лицо расплылось в широкой улыбке.
Да и все мы — Бог знает почему — заулыбались. .
Толстяк озадаченно глядел на нас. Он потерял самооблада-
ние и явно не знал, как себя вести.
— Биндинг,— наконец, полупоклонившись, представился
он, словно уцепившись за свою фамилию, как за якорь спасения.
Теперь девушка стояла вплотную к нам, и мы стали еще при-
ветливее.
— Да покажи ты ему машину, Отто,— сказал Ленц, бросив
торопливый взгляд на Кестера.
— А почему бы и нет,— ответил Отто и весело улыбнулся.
— Я и в самом деле с удовольствием посмотрю на нее,— уже
примирительно проговорил Биндинг.— Чертовски скоростная
машина. Как это вы запросто обштопали меня!
Оба ушли к стоянке, где Кестер поднял капот «Карла».
Девушка не последовала за ними. Стройная и безмолвная,
она стояла в сумерках рядом с Ленцем и со мной. Я ожидал, что
Ленц воспользуется случаем и с ходу взорвется, как бомба. Он
был создан как раз для таких ситуаций. Но, словно лишившись
дара речи, вместо того чтобы затоковать, как тетерев, он стоял
как отпущенный из обители монах ордена кармелитов и не мог
пошевельнуться.
— Простите нас, пожалуйста,— сказал я наконец.— Мы не за-
метили вас в машине. Иначе наверняка не стали бы так глупить.
Девушка посмотрела на меня.
— А почему бы и не поглупить?— спокойным, неожиданно
глуховатым голосом ответила она.— Не так уж это было страшно.
— Не страшно, конечно, но и не так уж прилично. Ведь наша
машина дает около двухсот в час.
Она слегка подалась вперед и засунула руки в карманы пальто.
— Двести километров?
— Ровно сто девяносто восемь и две десятых, официально
установлено,— с гордостью, точно выпалил из пистолета, объя-
вил Ленц.
Она рассмеялась.
— А мы-то думали, что ваш потолок — шестьдесят, семьдесят.
— Видите ли,— сказал я,— этого вы просто не могли знать.
— Нет, конечно,— сказала она,— этого мы действительно
не могли знать. Мы думали, что «бьюик» вдвое резвее вашей
машины.
— Понятно.— Я отбросил ногой валявшуюся ветку.— Но, как
видите, у нас было очень большое преимущество. Господин Бин-
динг, надо думать, здорово разозлился на нас.
— 4* 22 4* —
Она рассмеялась.
I la какое-то мгновение, вероятно, да. Но ведь надо уметь
и проигрывать. Иначе как же жить?
- Разумеется.
Возникла пауза. Я посмотрел в сторону Ленца. Но послед-
ний романтик только ухмыльнулся, повел носом и не стал выру-
чи । ь меня. Шумели березы. Где-то за домом закудахтала курица.
- Прекрасная погода,— проговорил я наконец, чтобы как-
ю нарушить молчание.
— Да, чудесная,— ответила девушка.
— И такая мягкая,— добавил Ленц.
— Просто необыкновенно мягкая,— дополнил я его мысль.
Возникла новая пауза. Девушка, видимо, считала нас закон-
ченными кретинами. Но при всем желании ничего более умно-
ю я придумать не мог.
Вдруг Ленц стал принюхиваться.
— Печеные яблоки,— сказал он с чувством.— Похоже, к пе-
ченке нам подадут еще и печеные яблоки. Какой деликатес!
— Несомненно!— согласился я, мысленно проклиная и себя
и его.
♦ ♦ ♦
Кестер и Биндинг вернулись. За эти несколько минут Бин-
динг стал совсем другим человеком. Видимо, он принадлежал
к категории автоидиотов, испытывающих ни с чем не сравни-
мое блаженство, если где-нибудь встречают специалиста, с ко-
торым могут всласть наговориться на любимую тему.
— Не поужинать ли нам всем вместе?— спросил он.
— Само собой разумеется,— ответил Ленц.
Мы пошли в зал. В дверях Готтфрид, подмигнув мне, кивком
головы указал на девушку.
— Считай, что ты стократ вознагражден за утреннюю пляшу-
щую старуху.
Я пожал плечами.
— Может, оно и так. Но почему ты не выручил меня, когда
я стоял перед ней как заика?
Он рассмеялся.
— Надо чему-то научиться и тебе, дитя мое!
— Нет у меня охоты учиться еще чему-нибудь,— сказал я.
Мы последовали за остальными. Они уже сидели за столом.
Хозяйка как раз внесла дымящуюся печенку с жареным карто-
фелем. Кроме того, в качестве прелюдии она поставила перед
нами большую бутылку пшеничной водки.
— + 23 + —
Биндинг извергал потоки слов — прямо какой-то неумолч-
ный водопад. Впрочем, он удивил нас своей осведомленностью
по части автомобилей. Когда же он узнал, что Кестер вдобавок
ко всему еще и автогонщик, его восторг перед ним возрос до бес-
конечности.
Я повнимательнее пригляделся к нему. Это был тяжелый,
крупный мужчина с густыми бровями и красным лицом, чуть
хвастливый, чуть шумливый и, вероятно, добродушный, как
и все, кому сопутствует успех. Я вполне мог себе представить,
как вечером, перед отходом ко сну, он серьезно, с достоинством
и уважением разглядывает себя в зеркале.
Девушка сидела между Ленцем и мною. Она сняла пальто
и осталась в сером костюме английского покроя. На шее у нее
была белая косынка, похожая на шарф амазонки. При свете лю-
стры ее каштановые шелковистые волосы мерцали янтарными
отблесками. Очень прямые плечи слегка выдавались вперед, узкие
руки казались непомерно длинными и, пожалуй, скорее кости-
стыми, а не мягкими. Большие глаза придавали узкому и блед-
ному лицу выражение какой-то страстной силы. На мой вкус,
она выглядела просто очень хорошо, но я нисколько над этим
не задумывался.
Зато Ленц превратился в огонь и пламя. Его нельзя было
узнать — настолько он преобразился. Золотистая копна волос
блестела, как хохолок удода. Из него так и вырывался искромет-
ный фейерверк острот. За столом царили двое — он и Биндинг.
А я только при сем присутствовал и мало чем мог обратить
на себя внимание — разве что передать какое-нибудь блюдо,
или предложить сигарету, или чокнуться с Биндингом. Это я делал
довольно часто. Вдруг Ленц хлопнул себя по лбу.
— Ну-ка, Робби, притащи наш ром! Ведь онзаветный — при-
пасен для дня рождения!
— Для дня рождения? А у кого это день рождения?— спро-
сила девушка.
— У меня,— сказал я.— Меня и так уж весь день преследуют
из-за этого.
— Преследуют? Вы что же — не хотите, чтобы вас поздравляли?
— Нет, хочу,— сказал я.— Поздравлять — это совсем другое.
— Ну, тогда всего вам самого хорошего!
Секунду я держал ее руку в своей и почувствовал теплое су-
хое пожатие. Потом пошел за ромом. Небольшой загородный
ресторан затерялся в огромной безмолвной ночи. Кожаные си-
денья нашей машины были влажны. Я стоял и смотрел на гори-
— 4* 24 4* —
mi it, где небо окрасилось красноватым заревом города. Я охот-
но стоял бы так еще и еще, но Ленц уже звал меня.
Киндингу ром пришелся не по нутру. Это стало заметно уже
после второй рюмки. Пошатываясь, он пошел в сад. Я встал
и вместе с Ленцем направился к стойке. Он потребовал бутылку
джина.
— Изумительная девушка, тебе не кажется?— спросил он.
— Не знаю, Готтфрид,—ответил я.— Я не присматривался к ней.
Он пристально посмотрел на меня своими лучистыми голу-
быми глазами, затем покачал разгоряченной от хмеля головой.
— Зачем же ты, собственно, живешь, детка?
— Сам уже давно хочу это понять,— ответил я.
Он рассмеялся.
— Мало ли чего ты хочешь! Так просто этого никому не по-
нять... А я пойду и попробую разведать, что там между ними —
между этой девушкой и этим толстым автомобильным каталогом.
Он пошел в сад за Биндингом. Вскоре они оба вернулись
к стойке. Видимо, полученная информация оказалась благо-
приятной, и, полагая, что путь перед ним открыт, Ленц с возра-
стающим восторгом стал обхаживать Биндинга. Они распили
еще одну бутылку джина и через час перешли на «ты». Уж коли
на Ленца находило хорошее настроение, он делался таким не-
отразимым, что сопротивляться ему было нельзя. Тут он и сам
не мог бы устоять против себя. Теперь же, окончательно поко-
рив Биндинга, он уволок его в беседку, где оба принялись рас-
певать солдатские песни. Увлеченный пением, последний ро-
мантик начисто забыл про девушку.
* ♦ ♦
В зале трактира остались только мы трое. Почему-то вдруг
наступила полная тишина. Лишь раздавалось тиканье шварц-
вальдовских ходиков с кукушкой. Хозяйка наводила порядок
и по-матерински поглядывала на нас. На полу около печки рас-
тянулась рыжая охотничья собака. Иногда она взвизгивала
во сне — тихо, высоко и жалобно. За окном проносились легкие
порывы ветра. Их заглушали обрывки солдатских песен, и мне
почудилось, будто этот небольшой зал вместе с нами поднима-
ется куда-то вверх и парит сквозь ночь и годы, мимо несконча-
емых воспоминаний.
Я впал в какое-то удивительное состояние. Время словно ис-
чезло. Оно перестало быть потоком, вытекающим из мрака
и вливающимся в него. Оно превратилось в озеро, в котором
беззвучно отражалась жизнь. Я взял свою рюмку с искрящимся
— 4* 25 + —
ромом. Подумал о листке, который утром с грустью исписал
в мастерской. Теперь грусть прошла, и, казалось,— все безраз-
лично, лишь бы быть живым. Я посмотрел на Кестера. Он гово-
рил с девушкой, но я не обращал внимания на его слова. Я ощу-
щал нежный блеск первого хмеля. Он горячил кровь и нравился
мне потому, что любую неопределенность облекал в иллюзию
какого-то приключения. Где-то в беседке Ленц и Биндинг пели
песню про Аргоннский лес. А рядом со мной слышались слова
незнакомой девушки. Она говорила тихо и медленно своим низ-
ким, будоражащим и чуть хрипловатым голосом. Я допил свою
рюмку.
Ленц и Биндинг снова присоединились к нам. На свежем воз-
духе они слегка протрезвели. Настало время собираться в об-
ратный путь. Я подал девушке пальто. Она стояла передо мною
расправив плечи и откинув назад голову, с полураскрытыми гу-
бами и никому не адресованной улыбкой, обращенной куда-то
вверх. И вдруг я на мгновение невольно опустил ее пальто. Где
же все время были мои глаза? Спал я, что ли? Теперь я понимал
восхищение Ленца.
Полуповернувшись, она вопросительно посмотрела на меня.
Я быстро приподнял ее пальто и тут заметил Биндинга, кото-
рый все еще стоял у стола, красный как рак, и в каком-то оце-
пенении.
— По-вашему, он сможет повести машину?— спросил я.
— Думаю, сможет...
Я продолжал смотреть на нее.
— Если он недостаточно уверен, то с вами может поехать
кто-нибудь из нас.
Она достала пудреницу и открыла ее.
— Да уж как-нибудь доедем,— сказала она.— После выпив-
ки он водит намного лучше.
— Лучше, но, вероятно, менее осторожно,— ответил я.
Она посмотрела на меня поверх своего маленького зеркальца.
— Что ж, будем надеяться,— сказал я.
Мои опасения были преувеличены: Биндинг довольно при-
лично держался на ногах. Но мне не хотелось так просто отпус-
тить ее.
— Нельзя ли мне завтра позвонить вам и узнать, как все по-
лучилось?— спросил я.
Она не сразу ответила.
— Ведь мы несем какую-то долю ответственности за эту пи-
рушку,— продолжал я.— Особенно я, со своим днем рождения
и ромом.
— 4* 26 4* —
Она рассмеялась.
— Оу ладно, если хотите. Вестен 27-96.
Выйдя на воздух, я записал номер. Мы посмотрели, как отъ-
ехал Биндинг, и выпили еще по рюмке. Затем взревел мотор на-
шего «Карла», и мы понеслись сквозь легкий мартовский туман.
( аеркая огнями, город надвигался на нас в зыбкой дымке, и на-
конец из клочьев тумана, словно освещенный пестрый корабль,
пынростался бар «Фредди». «Карл» встал на якорь. В баре зо-
чогисто отсвечивал коньяк, джин переливался, как аквамарин,
а ром был как сама жизнь. Словно налитые свинцом, мы не-
движно восседали за стойкой бара. Плескалась какая-то музы-
ка, и бытие наше было светлым и сильным. Оно мощно разли-
лось в нашей груди, мы позабыли про ожидавшие нас
беспросветно унылые меблированные комнаты, забыли про от-
чаяние всего нашего существования, и стойка бара преобрази-
лась в капитанский мостик корабля жизни, на котором мы шум-
но врывались в будущее.
II
Назавтра было воскресенье. Я долго спал и проснулся, когда
солнце осветило мою постель. Я быстро вскочил на ноги и рас-
пахнул окно. Стоял прозрачный прохладный день. Я поставил
спиртовку на табурет и стал искать банку с кофе. Фрау Залев-
ски — моя хозяйка — разрешила мне готовить кофе в комнате.
I£е кофе был жидковат и не устраивал меня, особенно после вы-
пивки накануне.
В пансионе фрау Залевски я пребывал уже целых два года.
Район пришелся мне по вкусу. Здесь всегда что-то происходи-
ло, потому что дом профсоюзов, кафе «Интернациональ» и зал
собраний Армии спасения стояли вплотную друг к другу. Вдо-
бавок перед моим домом расстилалось старое, давно уже забро-
шенное кладбище. Оно заросло деревьями, словно парк, и в тихие
ночи могло показаться, что все это где-то далеко за городом.
Но тишина воцарялась поздно — рядом с кладбищем грохотал
луна-парк с каруселями и качелями.
Что касается фрау Залевски, то кладбище определенно дава-
ло ей дополнительный доход. Ссылаясь на чистый воздух и при-
ятный вид, она взимала со своих постояльцев повышенную пла-
ту. А стоило кому-то на что-то пожаловаться, как она
неизменно отвечала: «Но позвольте, господа!. Подумайте, какое
тут местоположение!».
— 4* 27 4* —
Одевался я не торопясь. Это помогало мне полнее ощущать
воскресенье. Я умылся, походил по комнате, полистал газету,
вскипятил кофе, постоял у окна и посмотрел, как поливают
мостовую, послушал пение птиц в высоких кронах кладбищен-
ских деревьев. Казалось, будто какие-то крохотные дудочки
самого Господа Бога нежно заливаются под аккомпанемент не-
громкого и сладостного урчания меланхолических шарманок,
расставленных у аттракционов луна-парка.
Я долго выбирал рубашку и носки, делая это так, точно у ме-
ня их было раз в двадцать больше, потом, насвистывая, опусто-
шил карманы костюма: мелочь, перочинный нож, ключи, сига-
реты — и вдруг вчерашний листок с именем девушки
и номером телефона. Патриция Хольман. Странное имя — Па-
триция. Я положил бумажку на стол. Неужто это было только
вчера, а не давным-давно? Разве это не потонуло в серебристо-
жемчужном угаре опьянения? Какая все-таки удивительная
штука выпивка! Пока ты пьешь, у тебя накапливаются разные
мысли, ты сосредоточиваешься. А пройдет ночь, и возникают
какие-то провалы, и думается — да ведь с тех пор прошла целая
вечность!
Я переложил бумажку на стопку книг. Позвонить ей? Может,
да, а может, и не стоит. Днем все выглядит иначе, чем вечером.
Моя спокойная жизнь в общем вполне устраивала меня. За по-
следние годы было предостаточно всякого шума и суеты. «Ты
только никого не подпускай к себе близко,— говаривал Кес-
тер.— Подпустишь — захочешь удержать. А удержать-то ниче-
го и нельзя...»
В эту минуту в смежной комнате, как всегда, началась утрен-
няя воскресная перебранка. Я поискал глазами шляпу, которую
вчера вечером, вероятно, где-то оставил, и невольно прислу-
шался. Жившие за стеной супруги Хассе яростно укоряли друг
друга. Уже пять лет они снимали здесь небольшую комнату.
В сущности, это были неплохие люди. Будь у них трехкомнат-
ная квартира с кухней для жены да еще и ребенок впридачу, их
брак, надо думать, остался бы вполне благополучным. Но такая
квартира стоила немалых денег. А заводить ребенка в эти шат-
кие времена — кто себе мог это позволить?..
Так они и теснились вдвоем. Жена превратилась в истеричку,
а муж, опасаясь лишиться своего скромного места, жил в посто-
янном страхе. И в самом деле — увольнение было бы для него
полной катастрофой. Остаться без работы в сорок пять лет —
значит, уже нигде не устроиться. В этом и заключался весь ужас
— + 28 + —
chi положения. Прежде, случалось, люди медленно шли ко дну,
по у них все же оставался какой-то шанс вынырнуть. Теперь же
ш каждым увольнением зияла пропасть вечной безработицы.
Я уже было решил незаметно выбраться из пансиона, но раз-
дался стук в дверь, и Хассе, споткнувшись, ввалился ко мне.
(’ 1яжким вздохом он опустился на стул.
— Больше не могу...
11о сути это был добросердечный человек с покатыми плеча-
ми и усиками. Скромный, исполнительный служака. Но именно
hi к им, как он, теперь было особенно трудно. Скромность и до-
бросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни
же подобные качества, пока они кому-то нужны, используются
ш> конца, а потом на них просто плюют.
Хассе развел руками.
— Вы только представьте себе — у нас в конторе уволили
еще двоих. Следующим буду я, вот увидите!
В этом страхе он жил уже не первый месяц. Я налил ему
рюмку водки. Он исходил мелкой дрожью, и было видно — не-
далек день, когда его нервы сдадут окончательно. Он не знал,
•ио еще добавить к сказанному.
— И потом эти нескончаемые упреки,— наконец пролепетал он.
Видимо, супруга не могла ему простить свое безрадостное су-
ществование. Ей было сорок два года. Уже несколько обрюзг-
шая и поблекшая, она все же не выглядела настолько потрепан-
ной, как ее супруг. Она панически боялась надвигающейся
старости.
Было бы бессмысленно вмешиваться в их дела.
— Послушайте, Хассе,— сказал я.— Мне нужно уйти, а вы
посидите здесь, сколько захотите. Вот ром. Если предпочитаете
коньяк — найдете его в шкафу. Вот газеты. А попозже возьмите
жену и вытащите ее из вашей конуры. Сводите ее, например,
в кино. Это не дороже, чем посидеть час-другой в кафе. А толку
больше! Уметь забыться — вот девиз сегодняшнего дня, а бес-
конечные раздумья, право же, ни к чему!
С не очень чистой совестью я похлопал его по плечу. Хотя,
с другой стороны, кино — это всегда выход из положения. Там
каждый может о чем-то помечтать.
♦ ♦ *
Дверь в соседнюю комнату стояла открытая настежь. Оттуда
доносились всхлипывания жены Хассе. Я пошел по коридору.
Следующая дверь была слегка приоткрыта. Там подслушивали.
Сквозь просвет шел запах духов. Здесь жила Эрна Бениг — чья-то
— 4* 29 4* —
личная секретарша. Одевалась она куда шикарнее, чем могло
бы ей позволить скромное жалованье. Но было известно, что
раз в неделю шеф диктовал ей до утра. Весь следующий день
она проводила в очень дурном расположении духа. Зато каж-
дый вечер ходила на танцы. Если не танцевать, так и жить-то
незачем, говорила она. Были у нее два поклонника. Один любил
ее и дарил ей цветы. Другого любила она и давала ему деньги.
Комнату рядом с ней занимал ротмистр граф Орлов, русский
эмигрант, кельнер, статист на киностудии, жиголо* с поседев-
шими висками. Великолепный гитарист. Ежевечерне он молил-
ся Казанской Богоматери, испрашивая у нее должность адми-
нистратора в каком-нибудь отеле средней руки. Напившись,
пускал слезу.
Следующая дверь — фрау Бендер, медсестра в приюте для
младенцев. Пятьдесят лет. Муж погиб на войне. В 1918 году ее
двое детей умерли с голоду. Единственное, что осталось,— пест-
рая кошка.
Рядом с ней — Мюллер, бухгалтер-пенсионер. Письмоводи-
тель какого-то союза филателистов. Живая коллекция марок,
больше ничего. Счастливый человек.
Дойдя до последней двери, я постучал.
— Георг, как дела?— спросил я.— Все еще без перемен?
Георг Блок покачал головой. Он был студентом второго курса.
Чтобы осилить плату за учение, он два года проработал на руд-
нике. Теперь его сбережения были почти полностью израсходо-
ваны. Денег у него оставалось месяца на два. Вернуться на руд-
ник он не мог, там и без него хватало безработных горняков.
Всеми способами он пытался заработать хоть что-нибудь. Це-
лую неделю ему удалось распространять рекламные объявле-
ния маргаринового завода. Но завод обанкротился. Вскоре он
устроился на должность разносчика газет и уже было.вздохнул
свободной грудью. Через три дня на рассвете его остановили
двое неизвестных в форменных редакционных фуражках, отня-
ли у него газеты, разорвали их в клочья и посоветовали оста-
вить профессию, к которой он не имеет никакого отношения.
У них, мол, и без него немало безработных. И хотя ему при-
шлось заплатить за разорванные газеты, он, несмотря ни на что,
на следующее утро опять вышел на работу. Его сшиб с ног ка-
кой-то велосипедист, газеты полетели в грязь. Это ему обо-
шлось в две марки. Он вышел в третий раз и вернулся домой
в изодранном костюме и с разбитым лицом. Пришлось сдаться.
* Жиголо — наемный партнер для танцев.
— 4* 30 4* —
Теперь, впав в отчаяние, он безвылазно сидел в своей комнате
и до одури зубрил, словно это еще имело какой-то смысл. Пи-
1ПЛСЯ он только раз в сутки. И было уже неважно, сдаст ли он экза-
мены за оставшиеся семестры. Даже в случае успеха рассчиты-
IUI гь на какую-то работу он мог лишь лет через десять, никак
нс раньше.
Я дал ему пачку сигарет.
— Пошли ты все это к чертям собачьим, Джорджи. Именно
। пк поступил я. А начать все сначала сможешь и потом.
Он покачал головой.
— Не то ты говоришь. Еще тогда, после рудника, я понял: за-
ниматься надо каждый божий день, а то выбьешься из колеи.
Но второму разу мне этого не сдюжить.
Бледное лицо с оттопыренными ушами, близорукие глаза,
щуплое тело, впалая грудь... Вот ведь проклятье, черт побери!
— Ладно, Джорджи, пока!..
Вдобавок ко всему он еще был круглым сиротой.
Кухня. Чучело кабаньей головы — память о покойном госпо-
дине Залевски. Телефон. Полумрак. Пахнет газом и скверным
жиром. На входной двери, у кнопки звонка, много визитных
карточек. И моя тоже — пожелтевшая и вся в пятнах: «Роберт
Локамп. Студ. фил.! Два продолжительных». Студ. фил.! Поду-
маешь, важная птица!.. Все это было давно...
Я спустился по лестнице и направился в кафе «Интернацио-
наль». Оно представляло собой довольно большой, темный
и закопченный продолговатый зал со множеством задних ком-
нат. На переднем плане, у стойки, стояло пианино. Инструмент
был сильно расстроен, несколько струн лопнуло, на добром де-
сятке клавиш не хватало костяных накладок. И все-таки я был
привязан к этому честному и заслуженному «музыкальному ме-
рину», как его здесь называли. С ним меня связывал целый год
жизни, когда я работал в «Интернационале» пианистом для
«создания настроения».
В задних комнатах происходили совещания скототорговцев,
иногда здесь собирались владельцы аттракционов.
Впереди, невдалеке от входа, сидели проститутки.
Кафе было пусто, если не считать плоскостопого кельнера
Алоиса, стоявшего за стойкой.
— Тебе как обычно?— спросил он.
Я кивнул. Он принес мне бокал портвейна пополам с ромом.
Я сел за столик и бездумно уставился в стенку. Сквозь запылен-
ное оконное стекло косо падал серый луч солнца. Он путался
среди бутылок с пшеничной водкой, расставленных на много-
— 4* 31 4* —
ярусном полукруглом стеллаже. Словно рубин, рдел шерри7
бренди.
Алоис ополаскивал рюмки и бокалы. Хозяйская кошка при-
мостилась на пианино и мурлыкала. Я не спеша покуривал си-
гарету. От теплого и неподвижного воздуха я стал клевать но-
сом. Странный все-таки голос был у этой вчерашней девушки.
Низкий, чуть грубоватый, почти хриплый и все-таки мягкий.
— Дай-ка мне, Алоис, какие-нибудь иллюстрированные жур-
налы.
Тут скрипнула дверь, и вошла Роза, кладбищенская проститут-
ка по прозвищу Железная Кобыла. Ее назвали так за редкостную
неутомимость в работе. Роза заказала себе чашку шоколада —
роскошь, которую она позволяла себе во всякое воскресное утро.
Выпив шоколад, она отправлялась в Бургдорф навестить своего
ребенка.
— Привет, Роберт!
— Привет, Роза! Как твоя малышка?
— Вот собралась к ней. Глянь, что я ей везу.
Она достала из пакета румяную куклу и нажала на ее живот.
«Ма-ма»,— проверещала кукла. Роза сияла.
— Замечательно!— сказал я.
— Нет, ты только посмотри.— Она опрокинула куклу назад.
С легким щелчком кукольные глазки сомкнулись.
— Это что-то небывалое, Роза!
Довольная моим одобрением, она снова вложила игрушку
в пакет.
— Ты разбираешься в этих делах, Роберт! Когда-нибудь
из тебя получится отличный муж.
— Ну уж прямо!— усомнился я.
Роза обожала своего ребенка. Всего только три месяца назад,
когда девочка еще не умела ходить, она держала ее у себя в ком-
нате. Несмотря на ремесло матери, это было вполне возможно —
к комнате примыкал небольшой чулан. Если вечером Роза при-
водила домой кавалера, то, попросив его под каким-нибудь
предлогом подождать на лестнице, она торопливо входила
в комнату, вталкивала коляску с ребенком в чулан, запирала
дверку и лишь затем впускала к себе гостя. Но в декабре ма-
лышке слишком уж часто приходилось перекочевывать из теп-
лой комнаты в нетопленый чулан. Вот она и простудилась и не-
редко, покуда мама принимала клиента, заливалась плачем.
И как это было ни тяжело для Розы, а все-таки пришлось ей рас-
статься с дочуркой. Она отдала ее в дорогой приют. Там Розу
считали добропорядочной вдовой. Иначе ребенка не взяли бы.
— 4* 32 4* —
Роза поднялась.
— Так, значит, в пятницу ты придешь?
Я кивнул.
— Тебе ведь известно, в чем дело, да?
— Конечно, известно.
Я не имел ни малейшего представления о том, что будет
в пятницу. Но расспрашивать не хотелось. К этому я приучил
себя еще в тот самый год, когда работал здесь пианистом.
Во всяком случае, так все было проще. Так же, как обращение
на «ты» ко всем здешним девицам. Иначе было нельзя.
— Прощай, Роберт.
— Прощай, Роза.
Я еще немного посидел за столиком. Но сегодня меня поче-
му-то не разморило, не получилось этакого сонливого покоя,
хотя «Интернациональ» давно уже превратился для меня в не-
кое тихое воскресное пристанище. Я выпил еще одну рюмку
рома, погладил кошку и вышел из кафе.
♦ * *
Весь день я где-то околачивался, не зная толком, чем бы за-
няться, отовсюду старался поскорее убраться. Вечером пошел
в мастерскую и застал там Кестера, хлопотавшего вокруг «ка-
диллака». Незадолго до того мы за бесценок купили эту уже ви-
давшую виды машину, сделали ей капитальный ремонт, и те-
перь Кестер занимался ее доводкой до товарного вида. Мы
намеревались загнать «кадиллак» подороже и рассчитывали не-
плохо заработать. Впрочем, я сомневался в возможности такой
спекуляции. В эти трудные времена покупатели стремились
приобретать только маленькие автомобили, но никак не такие
полуавтобусы.
— Нам его не сбагрить, Отто,— сказал я.
Но Отто был полон оптимизма.
— Сбагрить трудно машину среднего класса,— заявил он.—
Спросом пользуются самые дешевые и самые дорогие автомо-
били. Еще не перевелись люди с деньгами. А у иного хоть и нет
денег, а ему, видите ли, страсть как хочется сойти за богатого.
— Где Готтфрид?— спросил я.
— Отправился на какое-то политическое собрание...
— Рехнулся он, что ли? Что ему там нужно?
Кестер улыбнулся.
— Этого он и сам не знает. Видимо, из-за весны кровь заигра-
ла — все время хочется чего-то новенького.
— 4* 33 4* —
— Может, ты и прав,— сказал я.— Давай подсоблю тебе не-
много.
Не особенно утруждая себя, мы все-таки провозились до су-
мерек.
— Ну хватит, шабаш!— сказал Кестер.
Мы умылись. Затем, хлопнув по бумажнику, Отто спросил:
— Угадай, что у меня здесь?
— Ну?
— Билеты на сегодняшний матч по боксу. Точнее, два билета.
Пойдем вместе?
Я заколебался. Отто с удивлением взглянул на меня.
— Штиллинг против Уокера,— сказал он.— Будет интерес-
нейший бой.
— Возьми с собой Готтфрида,— предложил я, чувствуя, что
отказываться просто смешно. Но идти мне определенно не хо-
телось, хоть я и сам не понимал почему.
— У тебя какие-нибудь планы?— спросил он.
— Нет.
Он посмотрел на меня.
— Пойду-ка я домой,— сказал я.— Надо написать письма
и все такое прочее. Ведь хоть когда-нибудь нужно и для этого
находить время.
— Уж не заболел ли ты?— озабоченно спросил он.
— Нет, нисколько. Но, может, и во мне кровь Заиграла — ведь
на дворе весна.
— Ладно, как хочешь.
Я поплелся домой. Но, очутившись в своей комнате, как
и прежде, не знал куда себя девать. Нерешительно я расхажи-
вал вперед и назад. Теперь я уже совсем не понимал, чего это
меня, собственно, потянуло сюда. Наконец, решил снова навес-
тить Джорджи и вышел в коридор, где сразу же наткнулся
на фрау Залевски.
— Вот так раз!— изумилась она.— Вы дома? В такой вечер?
— Мне трудно отрицать это,— ответил я не без раздражения.
Она покачала головой в седых завитушках.
— Как же это вы сейчас не гуляете! Чудеса да и только!
У Джорджи я пробыл недолго. Через четверть часа вернулся
к себе. Подумал, не выпить ли чего. Но нет — не хотелось.
Я подсел к окну и принялся глядеть на улицу. Над кладбищем,
словно крылья огромной летучей мыши, распластались сумер-
ки. Небо за домом профсоюзов было зеленым, как недозревшее
яблоко. Уже зажглись фонари, но окончательно еще не стемне-
ло, и казалось, фонарям зябко. Я порылся среди книг и нашел
— + 34 4* —
бумажку с номером телефона. В конце концов — почему бы
нс позвонить? Ведь сам же наполовину обещал сделать это. Хотя,
конечно, скорее всего девушки нет дома.
Я вышел в переднюю, к аппарату, снял трубку и назвал но-
мер. В ожидании ответа я почувствовал, как из черной раковин-
ки шструилось что-то мягкое, теплое, и меня охватило какое-то
смутное предощущение неведомо чего. Девушка оказалась дома.
И, когда в передней фрау Залевски, где со стен на меня глядели
кабаньи головы, где пахло жиром, а из кухни доносилось звяка-
нье посуды, будто из потустороннего мира, послышался ее низ-
кий, тихий, чуть замедленный, грудной и хрипловатый голос,
когда мне почудилось, что она обдумывает и взвешивает каж-
дое слово, мое раздражение и недовольство как рукой сняло.
Я не ограничился расспросами о том, как она вчера доехала,
по и договорился о встрече на послезавтра. Только после этого
м повесил трубку, и внезапно меня осенило: не так уж все глупо
и бездарно. «С ума сойти!» — подумал я и покачал головой. По-
юм снова снял трубку и позвонил Кестеру.
— Билеты еще у тебя, Отто?
-Да.
— Ну и прекрасно! Пойдем смотреть бокс.
После матча мы еще побродили по ночному городу. Осве-
щенные улицы были пустынны. Вспыхивали и гасли световые
рекламы. В витринах бессмысленно горел свет. В одной из них
красовались голые восковые куклы с пестро разрисованными
лицами. Выглядели они как-то призрачно и развратно. В другой
поблескивали ювелирные изделия. Потом мы прошли мимо
универсального магазина, озаренного белыми лучами прожек-
торов и похожего на собор. За зеркальными стеклами пенились
лоснящиеся шелка всех оттенков. У входа в кино на тротуаре
примостилось несколько бледных, явно изголодавшихся горо-
жан. И тут же рядом, за стеклом, пышно раскинулась пестрая
выкладка продовольственного магазина. Громоздились башни
консервных банок, на толстом слое ваты лежали сочные яблоки
«кальвиль», на натянутой веревке, словно белье, повисли разве-
шенные в ряд жирные гуси, твердые копченые колбасы переме-
жались круглыми поджаристыми караваями хлеба, розовато
мерцали срезы окороков, окруженных деликатесными печеноч-
ными паштетами.
Мы присели на скамью около сквера. Дул свежий ветерок. Над
домами дуговой лампой висела луна. Было уже далеко за пол-
ночь. Метрах в двадцати от нас рабочие поставили на мостовой
палатку. Они ремонтировали трамвайные пути. Шипели сва-
— 4* 35 4* —
рочные горелки. Снопы искр пролетали над согнувшимися тем-
ными фигурами. Сварщики занимались серьезным делом. Рядом
с ними дымились котлы с асфальтом, похожие на полевые кухни.
И Отто и я думали каждый о своем.
— А знаешь, Отто, как-то странно, когда вдруг воскресенье,
верно?— сказал я.
Кестер кивнул.
— И даже вроде бы приятно, когда оно остается позади,— за-
думчиво проговорил я.
Кестер пожал плечами.
— Может быть, мы так привыкли без конца вкалывать, что
даже от какой-то капельки свободы нам и то становится не
по себе.
Я поднял воротник.
— А разве в нашей нынешней жизни что-нибудь не так? Ска-
жи, Отто.
Он поглядел на меня и усмехнулся.
— Раньше многое у нас было не так, Робби.
— Это правда,— согласился я.— И все-таки...
Слепящий зеленоватый свет автогена метнулся по асфальту.
Освещенная изнутри палатка рабочих казалась каким-то
теплым, уютным гнездышком.
— Как, по-твоему, ко вторнику «кадиллак» будет готов?—
спросил я.
— Возможно, что и будет,— ответил Кестер.— А почему ты
спрашиваешь?
— Просто так...
Мы встали и пошли домой.
— Что-то сегодня я сам не свой, Отто,— сказал я.
— Не беда, с каждым бывает,— ответил Кестер.— Приятных
тебе сновидений, Робби.
— И тебе, Отто.
Придя домой, я не сразу лег в постель. Моя берлога вдруг
окончательно разонравилась мне. Уродливая люстра, чересчур
яркий свет, потертая обивка кресел, невыразимо унылый лино-
леум, кровать с висящей над ней картиной «Битва при Ватер-
лоо»... Разве сюда можно привести приличного человека? Нет,
конечно! А уж женщину тем более. Разве что проститутку
из «Интернационаля».
III
Во вторник утром мы сидели во дворе нашей мастерской
и завтракали. «Кадиллак» был готов. Ленц держал в руке лист
— 4* 36 4* —
Пумши и, торжествуя, глядел на нас. Он был у нас главным
но рекламе и только что зачитал нам с Кестером текст сочинен-
ною им объявления насчет продажи этой машины. Оно начи-
налось словами: «Отпуск на южном побережье в роскошном
пню» — и было чем-то средним между интимно-лирическим
г । ихо гворением и патетическим гимном.
Выслушав Ленца, мы с Кестером на какое-то время онемели,
не н силах прийти в себя от такого безудержного шквала буйной
и витиеватой фантазии. Ленц считал, что ошеломил нас.
— Тут вам и поэзия, и размах, и шик! Скажете нет?— гордо
произнес Ленц.— Именно в век деловитости надо быть роман-
1ИКОМ, вот в чем фокус. Противоположности взаимно притяги-
нопся.
- Но не тогда, когда речь идет о деньгах,— возразил я.
— Покупка автомобилей — это тебе не способ капиталовло-
жения, мой мальчик,— отмел мое возражение Готтфрид.— Их
покупают, чтобы истратить деньги. И вот тут-то как раз и начи-
нается романтика, по крайней мере для делового человека.
А для большинства людей она на этом, пожалуй, и кончается.
Кик ты считаешь, Отто?
— Видишь ли...— осторожно начал Кестер.
— Да не нужно лишних сдов!— прервал я его.— Это объяв-
ление для какого-нибудь курорта или для косметического крема,
но никак не для продажи автомобиля.
От неожиданности Ленц раскрыл рот.
— Не торопись, Готтфрид,— продолжал я.— Ведь нас ты счита-
ешь пристрастными. Поэтому я предлагаю: давай спросим Юппа.
К )нп — это глас народа.
Юпп был нашим единственным служащим — пятнадцати-
летий подросток, что-то вроде подмастерья. Он обслуживал
бензоколонку, заботился о завтраке и убирал мастерскую по ве-
черам. Он был маленького росточка, усеян веснушками и обла-
дал такими оттопыренными ушами, каких я не видел больше
ни у кого. Кестер шутил, что если, мол, Юпп выпадет из само-
лета, то ничего с ним не случится: на таких ушах он плавно
спланирует на землю.
Мы позвали его, и Ленц прочитал ему объявление.
— Ты заинтересовался бы таким автомобилем, Юпп?— спросил
Кестер.
— Автомобилем?— переспросил Юпп.
Я рассмеялся.
— Ну, конечно, автомобилем,— буркнул Ленц.— Или, по-
гвоему, тут говорится о саранче?
— 4* 37 4* —
— А какой это автомобиль? Есть ли у него ускоряющая пере-
дача, распредвал с верхним управлением эксцентриками, гид-
равлические тормоза?— спокойно осведомился Юпп.
— Дурья твоя башка, да это же наш «кадиллак»!— прошипел
Ленц.
— Не может этого быть!— возразил Юпп, ухмыляясь от уха
до уха.
— Слыхал, Готтфрид?— сказал Кестер.— Вот это и есть роман-
тика сегодняшнего дня.
—Топай к своей колонке, Юпп, проклятый сын двадцатого века!
Раздосадованный Ленц направился в мастерскую, решив
внести в свое объявление чуть побольше технических данных,
но обязательно сохранить его поэтический пафос.
Несколько минут спустя к нам совершенно неожиданно на-
грянул старший инспектор Барциг. Мы его встретили как само-
го почетного гостя. То был инженер-эксперт общества по стра-
хованию автомобилей «Феникс», важная персона, от которой
зависело получение заказов на ремонт. Он был знающим и до-
тошным автомобилистом, требовал от нас безукоризненной ра-
боты. Но был он еще и специалистом по бабочкам, и, играя
на этой его страсти, мы могли вить из него веревки. Однажды
мы пополнили его и без того богатую коллекцию «мертвой го-
ловой» — крупной ночной бабочкой, залетевшей на огонек
в нашу мастерскую. С торжественной миной, побледнев от не-
поддельного волнения, Барциг принял от нас этот дар — чрез-
вычайно редкий экземпляр, о котором он уже давно мечтал.
Этот эпизод запомнился ему, и авторемонтные работы так и сы-
пались на нас. Со своей стороны мы старались ловить для него
любую моль, попадавшуюся нам на глаза.
— Не угодно ли рюмку вермута, господин Барциг?— спросил
Ленц, снова овладевший собой.
— До вечера ни капли спиртного,— ответил Барциг.— Мой
железный принцип!
— От принципов необходимо иногда отступать, иначе они
не доставляют радости,— заявил Готтфрид и разлил вермут
по рюмкам.— Предлагаю за процветание перламутровок,
бражников и павлиноглазок!
— Ну, знаете ли, у вас такой тонкий подход, что попробуй-ка
откажись,— сказал Барциг после недолгих колебаний.— Но уж
коли на то пошло, то заодно выпьем еще и за «бычий глаз».—
Он застенчиво улыбнулся, точно сболтнул нечто двусмыслен-
ное о дамах.— Дело в том, что я обнаружил новую разновид-
ность — со щетинистыми усиками.
— 4* 38 + —
«Три товарища»
— Вот это да!— воскликнул Ленц.— Снимаю шляпу и низко
кланяюсь вам! Выходит, вы первооткрыватель и ваше имя будет
вписано в анналы истории естественных наук.
Мы выпили еще по одной за щетинистые усики. Барциг вы-
тер свои усы.
— Як вам с приятной новостью: можете забрать «форд». Ди-
рекция решила поручить ремонт вам.
— Прекрасно!— сказал Кестер.— Это нам вполне подойдет.
А как насчет предложенной нами сметы?
— Ее утвердили.
— Неужто не урезали?
Барциг хитро прищурил глаз.
— Сперва эти господа сопротивлялись, но в конце концов...
— Еще раз выпьем до дна за успехи страховой компании
«Феникс»,— заявил Ленц и снова налил всем.
Барциг встал и откланялся. Уходя, он сказал:
— А женщина, находившаяся в «форде» во время аварии, не-
сколько дней назад все-таки скончалась, хотя у нее были толь-
ко резаные раны. Видно, из-за слишком большой кровопотери.
— А сколько ей было лет?— спросил Кестер.
— Тридцать четыре,— ответил Барциг.— Беременность на чет-
вертом месяце. Покойная была застрахована на двадцать тысяч
марок.
* * *
Мы сразу поехали за машиной. Она принадлежала одному
булочнику. Поздно вечером в полупьяном виде он наехал
на кирпичную стену. Его жена получила ранения, он же ни-
сколько не пострадал.
Когда мы готовили машину к буксировке, он пришел в гараж.
С минуту молча глядел на нас, поникший, с изогнутой спиной,
короткой шеей, слегка подавшись вперед. Как у всех пекарей,
у него был нездоровый серовато-белый цвет лица, и в полумраке
он вдруг показался мне каким-то большим и печальным муч-
ным червем. Медленно он подошел к нам.
— Когда машина будет готова?— спросил он.
— Недели через три,— ответил Кестер.
Пекарь показал на складной верх автомобиля.
— Это тоже входит в оплату?
— О чем вы говорите?— удивился Кестер.— Ведь верх со-
вершенно цел.
Пекарь раздраженно передернулся.
40 + —
Сам вижу. Но разве из общей суммы нельзя выкроить
1РНЫИ на новый верх? Вы получили довольно крупный заказ,
н и надеюсь — мы поймем друг друга.
•* 11ет, не поймем,— сказал Кестер.
Он отлично понимал булочника. Этот тип желал бесплатно
шнолучить новый верх, на который страховка вообще не рас-
пространялась. Во что бы то ни стало он хотел контрабандой
протащить его стоимость в смету. Мы начали было спорить
। ним. Тогда он пригрозил аннулировать заказ и предложить со-
। i пяление сметы более сговорчивой мастерской. В конце кон-
цов Кестер сдался. Будь у нас побольше работы, он бы ни за что
иг пошел на попятный.
Чего же сразу не согласился!— сказал булочник и криво
усмехнулся.— В ближайшие дни зайду выбрать ткань. Хотелось
бы бежевого цвета. Люблю нежные оттенки...
Мы двинулись. По дороге Ленц показал нам на сиденьях
••форда» крупные черные пятна.
— Кровь его умершей жены. А он выклянчил себе новый
верх. Бежевый, видите ли! Нежные оттенки! Вот уж действи-
ioii.iio мертвая хватка. Он еще, чего доброго, выжмет страховую
с умму сразу за двух покойников: ведь жена была беременна.
Кестер пожал плечами.
— Что ж, он, видимо, считает, что, мол, жена женой, а деньги
цгныами.
- Очень может быть,— сказал Ленц.— Говорят, есть люди,
hi и которых страховка — это как бы утешение в горе. А наш
убыток составляет ровно пятьдесят марок.
♦ * *
Во второй половине дня я под каким-то предлогом отправил-
ся домой. Мое свидание с Патрицией Хольман было назначено
ни пять часов, но в мастерской я об этом никому не сказал.
И не потому, что хотел что-то утаить. Просто все это вдруг по-
ка шлось мне самому довольно неправдоподобным.
Она попросила меня прийти в какое-то неизвестное мне кафе.
(>1 кого-то я слышал, что оно небольшое, но элегантное и уют-
ное. Не ожидая ничего плохого, я поехал туда. Но, едва пере-
купив порог, испуганно остановился: помещение было пере-
полнено целой оравой болтливых кумушек. Я попал в типичную
нямскую кондитерскую.
С трудом мне удалось захватить только что освободивший-
ся столик. Испытывая чувство неловкости, я осмотрелся. Из
— 4» 41 4* —
мужчин, кроме меня, здесь были еще двое, но они мне не по-
нравились.
— Кофе, чай, шоколад?— осведомился кельнер и салфеткой
смахнул мне на костюм разбросанные по столешнице крошки
от пирожных.
— Двойной коньяк,— ответил я.
Он принес его. А заодно приволок группу любительниц кофе,
искавших, где бы им сесть. Их возглавляла атлетического тело-
сложения дама уже весьма зрелого возраста. На ней была
шляпка с траурным крепом.
— Вот, пожалуйста, четыре места,— проговорил кельнер
и указал на мой столик.
— Простите!— ответил я.— Столик не свободен. Я здесь
ожидаю кое-кого.
— Не полагается, сударь!— сказал кельнер.— В эти часы
у нас нельзя резервировать места.
Я посмотрел на него. Затем перевел взгляд на корпулентную
даму, стоявшую теперь вплотную у столика, крепко ухватив-
шись за спинку стула. Приглядевшись к ее лицу, я решил не со-
противляться. Дама была полна такой решимости завоевать сто-
лик, что даже артиллерийский залп и тот не поколебал бы ее.
— Тогда не могли бы вы по крайней мере принести мне еще
один коньяк?— с досадой обратился я к кельнеру.
— Слушаюсь! Опять двойной?
-Да.
— Пожалуйста!—Он поклонился мне.— Ведь столик-то
на шесть персон, сударь!— как бы извиняясь, добавил он.
— Ладно, пусть! Только поскорее принесите мне коньяк.
Дама, поразившая меня своими могучими телесами, видимо,
состояла членом какого-нибудь клуба трезвенниц. Она устави-
лась на мою рюмку с таким отвращением, словно это была про-
тухшая рыба. Чтобы позлить ее, я заказал еще рюмку и в свою
очередь принялся разглядывать ее крупнокалиберные формы.
Но внезапно все происходящее представилось мне в каком-то
совершенно дурацком свете. Чего ради я приплелся сюда? Чего
хотел от девушки, которую ожидал?
Я даже сомневался, узнаю ли ее среди всей этой кутерьмы
и гула. С недобрым чувством к самому себе я единым духом вы-
пил рюмку.
— Салют!— сказал кто-то за моей спиной.
Я вскочил на ноги. Она стояла передо мной и улыбалась.
— А вы, я вижу, не теряете время даром!
— 4* 42 4* —
Я поставил рюмку, которую все еще держал в руке, на сто-
1ик. Я растерялся. Девушка выглядела совсем иной, чем запом-
нилась мне. Среди этого множества упитанных баб, поглощаю-
щих пирожные, она казалась стройной юной амазонкой,
молод ной, сияющей, уверенной в себе и неприступной. Ничего
у меня с ней не выйдет, подумал я и сказал:
— Как же это вы возникли здесь, как привидение? Я ни на се-
кунду не спускал глаз с дверей.
Она указала направо.
— Там есть другой вход. Но я опоздала. А вы давно уже ждете?
— Не более двух-трех минут. Я тоже пришел только что.
Компания за моим столиком умолкла. Затылком я чувствовал
оценивающие взгляды этих четырех солидных матерей семейств.
— Мы останемся здесь?— спросил я.
Девушка посмотрела на столик, огляделась вокруг, и ее губы
смешливо искривились.
— Вероятно, все кафе на один лад.
Я покачал головой.
-г- Лучше, когда они пустые. А в этом чертовом заведении че-
ловека охватывает комплекс неполноценности. Приятнее поси-
деть в каком-нибудь баре.
— В баре? А разве бары бывают открыты днем?
— Я знаю один такой бар,— сказал я.— Правда, там очень
1ихо. Если это вас устраивает...
— Иногда, пожалуй, устраивает.
Я посмотрел ей в глаза, не сразу поняв, что она имеет в виду.
Вообще я не против иронии, если, конечно, она не в мой адрес.
Но теперь совесть моя была почему-то нечиста.
— Тогда идемте.
Я окликнул кельнера.
— Три двойных коньяка,— заорал этот жалкий неудачник
гаким голосом, будто хотел докричаться до посетителя, уже ле-
жавшего в гробу.— Три марки тридцать пфеннигов.
Девушка обернулась ко мне.
— Три коньяка за три минуты! Вот это темп!
— Два были выпиты вчера.
— Нет, каков лгун!— прошипела мне вслед пышнотелая дама.
()на слишком долго молчала, и наконец ее прорвало.
Я повернулся к столику и поклонился.
— Благословенного вам Рождества, милые дамы!
Затем я быстро пошел.
— Вы что, поссорились с ними?— спросила девушка уже
на улице.
— 4* 43 4* —
— Да ничего особенного. Просто я обычно произвожу не-
важное впечатление на хорошо обеспеченных домохозяек.
— Ия тоже,— ответила она.
Я посмотрел на нее. Какое-то существо из другого мира.
Я начисто не мог себе представить, какова она и как живет.
* ♦ *
В баре я почувствовал себя более уверенным. Когда мы во-
шли, бармен Фред стоял за стойкой и надраивал до блеска ко-
нусовидные коньячные рюмки. Он поклонился мне так, будто
увидел меня впервые в жизни и словно не он, а кто-то другой
всего лишь позавчера с трудом дотащил меня до дому. За пле-
чами этого отлично вышколенного человека был огромный
жизненный опыт.
В зале было пусто. Лишь за одним столиком, как почти всегда,
сидел Валентин Гаузер. Мы познакомились на фронте — слу-
жили в одной роте. Однажды, преодолев полосу заградительно-
го огня, он принес мне на передний край письмо: думал, что
оно от моей матери. Он знал, что я очень жду этого письма,
мать должна была лечь на операцию. Но он ошибся — это бы-
ла всего лишь реклама подшлемников из какой-то особой тка-
ни. На обратном пути его ранило в ногу.
Вскоре после войны Валентин получил наследство и начал
его методически пропивать. Он утверждал, что каждодневно
обязан отмечать свое счастье: ведь вышел живым из мясорубки
войны. При этом его ничуть не занимало, что война кончилась
несколько лет назад. Он часто повторял, что такое везенье сколь-
ко ни отмечай — все будет мало. Он был одним из тех, кто запом-
нил войну в мельчайших подробностях. Мы, его товарищи, о мно-
гом давно позабыли, он же помнил каждый день, каждый час.
Я сразу заметил, что он уже порядком хлебнул. Всецело по-
глощенный собой, он с отсутствующим видом сидел в своем углу.
Я приветственно поднял руку.
— Салют, Валентин!
Он глянул на меня и кивнул.
— Салют, Робби!
Мы уселись за столик в другом углу. Подошел бармен.
— Что желаете пить?— спросил он девушку.
— Рюмочку мартини,— ответила она.— Сухого мартини.
— В этом Фред большой специалист,— заявил я.
Фред не мог удержаться от улыбки.
— А мне, пожалуйста, как всегда,— сказал я.
II баре царил полумрак и было прохладно. Пахло пролитым
iжином и коньяком — терпкий запах, напоминавший ароматы
можжевельника и хлеба. Под потолком висела деревянная мо-
шон. парусника. Стенка за стойкой была обита листами меди.
11рмглушенный свет люстры переливался в них красными отбле-
ск ими, словно медь отражала какой-то подземный огонь. В сте-
нах были укреплены чугунные бра. Но только в двух из них —
у нолика Валентина и у нашего — горели лампочки. На бра бы-
Н1 надеты прозрачные желтые абажуры, вырезанные из старых
Н0рп1ментных географических карт и казавшиеся какими-то
< поящимися фрагментами нашего мира.
Я был слегка смущен и не знал толком, с чего бы начать раз-
। с шор. Ведь эту девушку я, в общем, совсем не знал, и чем доль-
ше я смотрел на нее, тем более чужой она мне казалась. Уже Бог
tunc г как давно я ни с кем не был вот так, вдвоем, и просто ут-
ри । ня навык подобного общения. Другое дело контакты с муж-
чинами — тут у меня было куда больше опыта. Мы с ней встре-
IHпись в чересчур шумном кафе, а здесь все вокруг показалось
мне слишком уж тихим. И в этой тишине каждое слово станови-
лось настолько весомым, что разговаривать непринужденно было
невозможно. Мне уже вроде бы захотелось вернуться в то кафе.
Фред принес рюмки. Мы выпили. Ром был крепок и свеж,
с каким-то солнечным привкусом. Он как бы служил мне какой-то
опорой. Я выпил рюмку прямо при Фреде и сразу отдал ее.
— Вам здесь нравится?— спросил я.
Девушка кивнула.
— Больше, чем в той кондитерской?
— Вообще-то я терпеть не могу кондитерских,— сказала она.
— Тогда почему же мы встретились именно там?— удивленно
спросил я.
— Не знаю.— Она сняла берет.— Просто ничего другого мне
нс пришло в голову.
— Ну, а раз вам здесь нравится, то тем лучше. Мы приходим
сюда частенько. По вечерам этот кабачок становится для нас
чем-то вроде дома.
Она улыбнулась.
— Это, пожалуй, печально. Или нет?
— Нет,— ответил я.— Сейчас такое время.
Фред принес мне вторую рюмку. Рядом с ней положил зеле-
ную гавану.
— Это вам от господина Гаузера.
Валентин помахал мне из-за своего столика и поднял свою
рюмку.
— 4* 45 + —
— Робби, тридцать первое июля семнадцатого года,— произ-
нес он тяжелым голосом.
Я кивнул ему и тоже поднял рюмку.
Гаузеру всегда нужно было пить с кем-то или в память о чем-то.
Вечерами мне случалось наблюдать его в крестьянском тракти-
ре, где он пил, адресуясь к луне или к кусту сирени. Потом он
вспоминал какой-нибудь из дней, проведенных в окопах, где мы
порой попадали в особенно тяжелый переплет, и преисполнял-
ся чувством благодарности судьбе за то, что он еще существует
и может вот так сидеть за столиком.
— Это мой друг,— сказал я девушке.— Фронтовой товарищ.
Единственный из знакомых мне людей, который из великого
несчастья создал себе маленькое счастье. Он уже не знает, что
делать с собственной жизнью, и поэтому просто радуется тому,
что еще живет.
Она задумчиво посмотрела на меня. Косая полоска света осве-
щала ее лоб и губы.
— Все это я очень хорошо понимаю,— сказала она.
Я взглянул на нее.
— Нет, вам этого понимать пока не следует. Вы еще слишком
молоды.
Она улыбнулась легкой, едва заметной улыбкой. Улыбались
только глаза. Лицо же ее почти не изменилось, разве что про-
светлело, засветилось изнутри.
— Слишком молода!— повторила она.— Это только так при-
нято говорить. По-моему, человек никогда не бывает слишком
молод. Напротив, он всегда слишком стар.
С минуту я молчал.
— Тут вам можно бы многое возразить,— сказал я и жестом
попросил Фреда принести мне еще чего-нибудь.
Девушка вела себя уверенно и естественно. Рядом с ней
я чувствовал себя прямо-таки бревном. С каким удовольствием
я завел бы легкий, игривый разговор, тот самый настоящий раз-
говор, который, как правило, с опозданием приходит на ум, когда
ты снова один-одинешенек. Вот Ленц — тот мастерски вел та-
кие разговоры. У меня же они с самого начала получались не-
ловкими и тяжеловесными. Готтфрид не без оснований говорил
обо мне, что как собеседник я нахожусь примерно на уровне са-
мого скромного почтового служащего.
К счастью, Фред был разумным человеком. Вместо прежних
наперстков он принес мне сразу большой и полный бокал. Это
избавляло его от лишней беготни, и теперь никто уже не мог бы
— 4* 46 4* —
шмстить, сколько я пью. А пить мне было необходимо — иначе
и бы никак не отделался от этой тягостной скованности.
— Не выпить ли вам еще рюмку мартини?— спросил я девушку.
— А вы-то сами что пьете?
— Это ром.
Она внимательно посмотрела на мой бокал.
— Вы ведь и в прошлый раз пили то же самое.
— Да,— сказал я,— это я пью почти всегда.
Она покачала головой.
— Но разве это вкусно? Не представляю себе.
— Вкусно? Об этом я уже давно не задумываюсь,— сказал я.
— Так зачем же вы это пьете?
— Ром,— сказал я, обрадованный, что нашлась тема, на ко-
к>рую я могу поговорить,— ром, видите ли, и вкус — вещи, почти
не связанные между собой. Это уже не просто напиток, а, так
сказать, друг. Друг, с которым все становится легче. Друг, изме-
няющий мир. Поэтому, собственно, и пьют...— я отодвинул бо-
кал в сторону.— Так заказать вам все-таки еще один мартини?
— Лучше ром,— сказала она.— Хочется и мне хоть разок по-
пробовать его.
— Хорошо,— ответил я.— Только не этот. Для начала он
слишком крепок. Принеси нам коктейль «Баккарди»,— крик-
нул я Фреду.
Фред принес заказ, добавив к нему тарелку с соленым мин-
далем и жареными кофейными зернами.
— Оставь здесь всю бутылку,— сказал я.
♦ ♦ ♦
Постепенно все стало доступным, все озарилось ярким блеском.
Исчезла неуверенность, слова возникали сами собой, и я уже
не так внимательно следил за тем, что говорю. Я продолжал
нить и чувствовал, как на меня накатывается огромная и неж-
ная волна, как она подхватывает меня, как этот пустой сумереч-
ный час наполняется образами, как над равнодушными и серы-
ми пространствами бытия призрачной и безмолвной вереницей
опять воспарили и потянулись вдаль мечты. Стены бара раздви-
нулись, и вдруг бар перестал существовать, а вместо него возник
какой-то уголок мира, какое-то пристанище, полутемное укры-
тие, где притаились мы, непостижимо сведенные воедино, зане-
сенные сюда смутным ветром времени. Съежившись, девушка
сидела на своем стуле, чужая и таинственная, будто ее прибило
сюда с другой стороны жизни. Я слышал свои слова, но мне ка-
ялось, что это уже не я, что говорит кто-то другой, человек, ко-
— + 41 4* —
торым я хотел бы быть. Мои слова становились неточными, они
смещались по смыслу, врывались в пестрые сферы, ничуть
не похожие на те, в которых происходили маленькие события
моей жизни. Я понимал, что слова мои — неправда, что они пере-
шли в фантазию и ложь, но это меня не тревожило, ибо правда
была бесцветной, она никого не утешала, а истинной жизнью
были только чувства и отблески мечты...
Медная обшивка полыхала отраженными огнями. Время
от времени Валентин поднимал свою рюмку и бормотал себе под
нос какую-то дату. За окнами приглушенно плескалась улица,
оглашаемая сигналами клаксонов, похожими на крики хищных
птиц. Когда открывалась дверь, улица внезапно становилась шум-
ливой и скандальной, словно крикливая и завистливая старуха.
♦ ♦ ♦
Я проводил Патрицию Хольман до ее дома. Уже было темно.
Обратно я шел медленным шагом. Вдруг я почувствовал себя
одиноким и опустошенным. Сеялся мелкий дождь. Я остано-
вился перед какой-то витриной и лишь теперь почувствовал,
что перебрал. Хоть я и не качался, но это ощущение было со-
вершенно отчетливым.
Мне стало очень жарко. Я расстегнул пальто и сдвинул шляпу
на затылок. Проклятие! Неужто эти капли опять опрокинули
меня! Чего я ей только не наболтал! Я даже не решался поточ-
нее разобраться во всем. Да и не помнил я ничего, и это было
самым страшным. Теперь, когда я стоял один на холодной ули-
це и мимо с грохотом проносились автобусы, все выглядело сов-
сем по-иному, чем в полумраке бара. Я проклинал себя. Хоро-
шее же впечатление произвел я на эту девушку! Уж она-то,
конечно, все заметила. Сама почти ничего не пила. А при про-
щании так странно посмотрела на меня...
О Господи!.. Я круто повернулся и столкнулся с проходив-
шим мимо маленьким толстяком.
— Это еще что!— злобно рявкнул я.
— Протри глаза, чучело гороховое!— огрызнулся толстяк.
Я вытаращился на него.
— Людей ты, что ли, не видел?— тявкнул он.
Я словно только этого и ждал.
— Людей-то я видел,— сказал я,— но разгуливающую пив-
ную бочку вижу впервые.
Толстяк не полез в карман за словом. Остановившись и раз-
бухая на моих глазах, он процедил сквозь зубы:
— + 48 4* —
— Знаешь что? Пошел бы ты к себе в зоопарк! Задумчивым
кенгуру нечего делать на улице!
Я понял, что передо мной весьма квалифицированный мастер
перебранки. Несмотря на всю мою подавленность, я должен
был позаботиться о своей чести.
— Топай, топай, псих несчастный, недоносок семимесячный,—
сказал я и благословил его местом. Но он не внял моим словам.
— Пусть тебе впрыснут бетон в мозги, идиот морщинистый,
болван собачий!— продолжал он лаять.
Я обозвал его плоскостопым выродком; он меня — вылиняв-
шим какаду; я его — безработным мойщиком трупов. Тогда,
уже с некоторым уважением, он признался, что я похож на ко-
ровью голову, разъедаемую раком, а я в ответ — чтобы оконча-
тельно доконать — сопоставил его с бродячим кладбищем биф-
штексов. И вот тут он просиял.
— «Бродячее кладбище бифштексов» — это здорово!— ска-
тя он.— Такого еще не слышал. Включу в свой репертуар! До
встречи...
Он вежливо приподнял шляпу, и мы расстались, преиспол-
ненные уважения друг к другу.
Эта перепалка несколько освежила меня. Но чувство досады
не прошло. Напротив, чем больше я трезвел, тем оно станови-
лось сильней. Я казался себе каким-то выжатым мокрым поло-
1енцем. Постепенно я начинал злиться уже не только на себя,
но и на весь мир, в том числе и на эту девушку. Ведь напился-то
я из-за нее. Я поднял воротник пальто. Ладно, пусть себе думает,
что хочет. Мне все равно. По крайней мере, сразу узнала, с кем
имеет дело. Изменить уже ничего нельзя. Может, так оно и к луч-
шему...
Я вернулся в бар и теперь уж напился до зеленых чертиков.
IV
Стало тепло и влажно. Несколько дней кряду шли дожди.
Л потом небо прояснилось, солнце начало пригревать, и когда
в пятницу утром я пришел в мастерскую, то увидел во дворе
Матильду Штосс. Она стояла с метлой под мышкой и с лицом
растроганного бегемота.
— Что вы скажете на эту роскошь, господин Локамп! И ведь
что ни год — снова и снова этакое чудо!
В изумлении я остановился. Старая слива около бензоколонки
расцвела за одну ночь.
Всю зиму она стояла голая и кривая. Мы вешали на нее ста-
рые покрышки и насаживали на сучки канистры из-под масла
— 4* 49 + —
для просушки. Это была просто удобная подставка для всего —
от обтирочной ветоши до капотов. Еще несколько дней назад
на сливе развевались наши застиранные синие комбинезоны,
еще вчера ничего особенного не было заметно, и вдруг за одну-
единственную ночь дерево, как по волшебству, преобразилось
в сплошное розовато-белое мерцающее облако, облако из свет-
лых цветов, словно на наш грязный двор ненароком залетел за-
блудившийся сонм бабочек...
— А уж запах какой, запах-то!..— мечтательно произнесла
Матильда и блаженно закатила глаза.— Потрясающий запах!
Именно так пахнет ваш ром.
Я потянул носом, но никакого запаха рома не услышал.
Впрочем, все было ясно.
— Пахнет скорее коньяком для клиентов,— заявил я.
— Видимо, вы простудились, господин Локамп!— энергично
возразила она.— Или, может быть, у вас в носу полипы. Теперь
полипы почти у всех. Но у старой Штосс нюх, как у гончей, може-
те не сомневаться. Пахнет именно ромом... выдержанным ромом...
— Хорошо, Матильда...
Я налил ей рюмку рома и затем подошел к бензоколонке.
Юпп уже был здесь. Перед ним стояла ржавая консервная банка,
в которую он вставил пучок веток в цвету.
— Это еще что?— удивился я.
— Это для дам,— пояснил Юпп.— Если какая-нибудь дама
заправляется у нас, я ее премирую такой веточкой. Под это дело
я сегодня залил в баки на девяносто литров больше обычного.
Так что это дерево стоит золота. Не будь его у нас, надо было бы
поставить вместо него бутафорию.
— А ведь ты, парень, настоящий делец.
Он усмехнулся. Лучи солнца просвечивали сквозь его уши,
и они походили на рубиновые церковные витражи.
— Меня уже дважды сфотографировали,— доложил он.—
На фоне дерева.
— Вон что! Ты еще станешь кинозвездой,— сказал я и на-
правился к смотровой яме; оттуда, из-под «форда», как раз вы-
бирался Ленц.
— Робби,— сказал он,— ты знаешь, о чем я подумал? Надо бы
нам позаботиться о девушке этого Биндинга.
Я посмотрел на него.
— Как это понять?
— Точно так, как я сказал. А чего ты на меня уставился?
— Я на тебя не уставился.
— 4* 50 4* —
— Не только уставился, но даже вылупился. Между прочим,
как ее зовут? Пат... А дальше как?
— Не знаю,— ответил я.
Он выпрямился.
— Как то есть не знаешь? Ты ведь записал ее адрес. Сам видел.
— Потерял бумажку.
— Потерял!— Он запустил две пятерни в заросли своих жел-
1ых волос.— Значит, вот ради чего я тогда битый час провозился
с Киндингом! Потерял!.. Но, может, Отто запомнил адрес.
— Отто его тоже не знает.
Он подозрительно поглядел на меня.
— Жалкий дилетант! Тем хуже для тебя! Неужели ты не понял,
какая это чудесная девушка? Господи!— Он взглянул на небо.—
В кои-то веки нам попалось что-то стоящее, так этот зануда те-
ряет адрес.
— А мне она не показалась такой уж замечательной.
— А это потому, что ты осел,— ответил Ленц.— Болван, ко-
торый не понимает ничего, что возвышается над уровнем шлюх
из кафе «Интернациональ». Эх ты, тапер! Повторяю: познако-
миться с ней — с этой девушкой — просто счастье. Особенное,
исключительное Счастье! Но ты, конечно, ни черта в этом
не смыслишь! Ты видел ее глаза? Разумеется, не видел... Все
больше в рюмку глядел...
— Да заткнись ты!— прервал я его, потому что этой рюмкой
он попал мне прямо в открытую рану.
— А руки,— продолжал он, не обращая на меня внимания,—
гонкие, длинные руки, как у мулатки. Уж в этом-то Готтфрид
шает толк, можешь мне поверить. Святой Моисей! Вдруг, не-
жданно-негаданно встречается девушка что надо — красивая,
естественная, а главное — умеющая создать определенную ат-
мосферу...— На мгновение он остановился.— А ты-то вообще
понимаешь, что это такое — атмосфера?— добавил он.
— Воздух, который накачивают в баллоны,— угрюмо заявил я.
— Ну конечно!— сказал он с выражением жалости и презре-
ния.— Конечно же, воздух! Атмосфера — это ореол, излучение,
тепло, таинственность — все, что одушевляет красоту и делает ее
живой... Впрочем, с кем я говорю... Испарения рома — вот твоя
атмосфера...
— А теперь перестань, а то как бы я не уронил чего-нибудь
на твой черепок,— буркнул я.
Но Готтфрид говорил и говорил, и ничего я ему не сделал.
Ведь он и не подозревал о том, что произошло, не знал, что
каждое его слово задевает меня за живое. Особенно насчет вы-
— 4* 51 + —
пивки. Я уже как-то преодолел эти мысли и начал утешаться.
А Ленц разворошил во мне все это заново. Он без умолку про-
должал расхваливать девушку, и вскоре мне стало казаться,
будто я и впрямь безвозвратно потерял что-то редкостно пре-
красное.
♦ ♦ ♦
Около шести вечера, все еще в расстроенных чувствах, я по-
шел в кафе «Интернациональ» — мое давнишнее убежище.
Ленц лишний раз дал мне это почувствовать. В зале, против мо-
их ожиданий, царило большое оживление. На стойке пестрели
блюда с тортами и кексами, а плоскостопный Алоис проковы-
лял мимо меня с большим подносом, уставленным кофейной
посудой, и скрылся в заднем коридоре. Я остановился. Почему
сегодня кофе подается не в чашках, а в кофейниках? Вероятно,
какое-то общество или союз затеяли грандиозную пирушку,
и, следовательно, под столиками уже валяются упившиеся гости.
Но хозяин кафе объяснил мне, в чем дело. Сегодня в боль-
шом отдельном кабинете друзья чествуют Лилли — подружку
Розы. Я хлопнул себя по лбу. Как же я мог забыть. Ведь и меня
пригласили на это торжество — единственного из всех мужчин,
как мне многозначительно сказала Роза. Гомосексуалиста Кики,
который тоже присутствовал, можно было не считать. Я по-
спешно вышел из кафе и купил букет цветов, ананас, погремушку
и плитку шоколада.
Роза встретила меня с улыбкой великосветской дамы. На ней
было черное платье с вырезом, и она царственно восседала
во главе стола. Ее золотые зубы сверкали. Я справился о здоровье
ее малышки и передал для девочки целлулоидную погремушку
и шоколад. Роза просияла от удовольствия.
Ананас и цветы я преподнес Лилли.
— Прими мои самые сердечные поздравления!
— Этот мужчина был и остался кавалером!— сказала Роза.—
Робби, сядь, пожалуйста, между Лилли и мною.
Лилли была лучшей подругой Розы. Ей удалось сделать бле-
стящую карьеру — самая недосягаемая мечта любой мелкой
проститутки стала для нее явью: она поднялась до уровня «да-
мы из отеля». «Дама из отеля» не выходит на панель. Она посто-
янно живет в отеле и здесь же заводит знакомства. Мало кому
из проституток удается такое. У них недостаточно богатый гар-
дероб, и им всегда не хватает денег для того, чтобы в ожидании
клиентов продержаться какое-то время. Правда, Лилли обитала
только в провинциальных гостиницах, но все же с течением лет
— 4* 52 4* —
накопила почти четыре тысячи марок. И вот теперь она реши-
ла выйти замуж. Ее будущий супруг содержал небольшую мас-
ерскую по ремонту сантехники и газовых плит. Про Лилли он
шал все, но это его ничуть не волновало. За свое будущее он
был вполне спокоен: уж если какая-нибудь из этих девиц выхо-
ди г замуж, то на такую жену можно положиться. Все они хорошо
шали свое ремесло и были им сыты по горло. Из них выходили
подлинно верные спутницы жизни.
Свадьба Лилли была назначена на понедельник. А сегодня
Роза устраивала в ее честь прощальный кофе. Все девушки при-
шли, чтобы в последний раз посидеть с подругой. После свадьбы
она уже не сможет появляться здесь.
Роза налила мне чашку кофе. Алоис принес огромный кекс,
нашпигованный изюмом и посыпанный миндалем и зелеными
цукатами. Роза отрезала мне внушительный ломоть. Я сразу же
понял, как себя повести. С видом знатока я попробовал кусочек
кекса и притворился крайне удивленным.
— Позвольте! Но ведь в магазине этого наверняка не купишь.
— Сама испекла,— с ликующей улыбкой объявила Роза.
В кулинарии она знала толк и любила, когда это признавали.
А уж по части гуляша и кекса с изюмом никто с ней тягаться
не мог. Недаром же она была чешкой.
Я оглядел собравшихся. Они сидели вокруг стола, эти поден-
щицы райских кущ, безошибочно разбиравшиеся в людях, эти
солдаты любви,— красотка Валли, у которой недавно во время
ночной поездки в машине стащили горжетку из белого песца;
одноногая Лина с деревянным протезом, все еще находившая
себе партнеров; бедняжка Фрицци, беззаветно любившая плос-
костопого Алоиса, хотя уже давным-давно она могла бы иметь
собственную квартиру и друга, который содержал бы ее; крас-
нощекая Марго, неизменно щеголявшая в платье горничной,
которое привлекало к ней довольно шикарных ухажеров; Ма-
рион, самая молодая из всех — улыбчивая и бездумная; Кики,
который не числился в мужчинах, ибо всегда носил женскую
одежду и красил губы; глубоко несчастная Мими, которой в ее
сорок пять лет да еще вдобавок при вздутых венах на ногах ста-
новилось все труднее ходить на промысел. Было еще несколько
незнакомых мне барменш и «застольных дамочек». И, наконец,
в роли второго почетного гостя фигурировала маленькая, седень-
кая и сморщенная, как промороженное яблоко, «мамочка» — до-
веренное лицо, утешение и опора всех ночных путников: на углу
Николаиштрассе, где стоял ее жестяной котел, она содержала
забегаловку под открытым небом, торгуя не только горячими
— + 53 4* —
колбасками, но также — из-под полы — сигаретами и интимны-
ми резиновыми изделиями; здесь же «мамочка» разменивала
деньги, а при необходимости и ссужала их.
Я отлично знал, что здесь можно и что не дозволено. Ни сло-
ва о делах, ни одного неделикатного намека. Надлежало забыть
небывалую стойкость Розы, принесшую ей прозвище «Желез-
ная Кобыла»; забыть беседы о любви между Фрицци и ското-
торговцем Стефаном Григоляйтом; забыть предрассветные тан-
цы Кики вокруг корзинки с солеными крендельками... Короче,
разговоры за этим столом сделали бы честь даже самому изыскан-
ному дамскому обществу.
— Ты все подготовила, Лилли?— спросил я.
Она кивнула.
— Приданым я обзавелась уже давно.
— Чудесное приданое,— сказала Роза.— В нем есть все —
вплоть до кружевных накидок.
— А зачем нужны кружевные накидки?— спросил я.
— Ну, знаешь ли, Робби!— Роза так укоризненно посмотрела
на меня, что я тут же вспомнил, зачем они, и сообщил ей об этом.
Сплетенные вручную кружевные накидки для предохранения
мебели. Как же, как же! Символ мелкобуржуазного уюта, свя-
щенный символ брака и потерянного рая. Ведь все эти женщи-
ны были проститутками отнюдь не от избытка темперамента.
Просто им не удались попытки обеспечить себе добропорядоч-
ное бюргерское существование. Их заветной мечтой было брач-
ное ложе, но никак не порок. Впрочем, в этом они никогда бы
не признались.
Я сел за пианино. Роза уже давно ждала этого. Как и все
уличные женщины, она любила музыку. На прощание я сыграл
все песни, которые особенно нравились ей и Лилли. Сперва
«Молитву девы». Правда, название не слишком уместное для
подобного заведения, но это была бравурная пьеса, пустая
и шумная. Затем последовали «Вечерняя песня пташки», «Закат
в Альпах», «Когда умирает любовь», «Миллионы Арлекина»
и в заключение «Вернуться б мне на родину». Это была люби-
мая песня Розы. Проститутки — самые суровые, но вместе с тем
и самые сентиментальные создания. Все стройно подпевали.
Гомосексуалист Кики пел вторым голосом.
Лилли поднялась: ей нужно было заехать за женихом. Роза
сердечно расцеловала ее.
— Всего тебе, Лилли, самого лучшего! Не давай себя в обиду!
Лилли ушла, сгибаясь под тяжестью подарков. Бог его знает
почему, но лицо ее совершенно преобразилось. Исчезли жест-
— 4* 54 4* —
мне черты, присущие каждому, кто сталкивался с человеческой
подлостью. Выражение ее лица стало мягче, и в нем вновь про-
синило что-то девичье.
Мы вышли на тротуар и махали ей вслед. И вдруг ни с того
ни с сего Мими разревелась. Когда-то и она была замужем. Ее
муж умер на войне от воспаления легких. Погибни он в бою,
инн получала бы за него небольшую пенсию и была бы избавле-
на от панели.
Роза похлопала ее по спине.
— Сейчас же брось, Мими! Нечего нюни распускать! Пойдем
выпьем еще по чашечке кофе.
Все общество вернулось в полумрак «Интернационаля»,
словно куры на насест. Хорошего настроения как не бывало.
— Робби, сыграй на прощание еще что-нибудь,— попросила
Роза.— Подбодри нас.
— Хорошо,— согласился я.— Давайте-ка долбанем «Марш
старых товарищей».
Затем откланялся и я. Роза сунула мне кулек с пирожными.
Я подарил их сыну «мамочки», который, как и каждый вечер,
устанавливал на тротуаре котел с колбасками.
* ♦ ♦
Я задумался, чем бы заняться. Идти в бар мне определенно
не хотелось. В кино — тоже нет. Разве что пойти в мастерскую?
В нерешительности я посмотрел на часы. Было восемь. Кестер,
вероятно, уже пришел. В его присутствии Ленц не посмеет снова
бесконечно болтать про эту девушку. Я направился в «Аврема».
Там горел свет. И не только в помещении — весь двор был
ярко освещен. Кроме Кестера, не было никого.
— Что тут происходит, Отто?— спросил я.— Уж не продал
ни ты «кадиллак»?
Кестер рассмеялся.
— Нет. Просто Готтфрид устроил небольшую иллюминацию.
Обе фары «кадиллака» были включены. Машина стояла так,
что снопы света через окно падали прямо на сливу в цвету. Ка-
кая-то удивительно яркая меловая белизна. А черный мрак
по обе стороны дерева, казалось, шумит, как море.
— Фантастика!— сказал я.— А где Ленц?
— Пошел купить чего-нибудь поесть.
— Блестящая идея,— сказал я.— Что;то у меня вроде как ветер
в голове. Но, возможно, это просто голод.
Кестер кивнул.
— + 55 + —
— Поесть всегда хорошо. В этом основной закон всех старых
вояк. Знаешь, и у меня сегодня, кажется, ветер гулял в голове —
я записал «Карла» на гонки.
— Что?— спросил я.— Уж не на шестое ли число?
Он кивнул.
— Ничего себе, Отто! Но там ведь будут самые что ни на есть
асы.
Он снова кивнул.
— По классу спортивных машин выступает Браумюллер.
Я принялся засучивать рукава.
— Ну, коли так, Отто, то за дело! Напоим нашего любимца
маслом.
— Стоп!— крикнул только что вошедший последний роман-
тик.— Сперва сами подзаправимся.
Он развернул свертки с ужином: сыр, хлеб, твердокаменная
копченая колбаса и шпроты. Все это мы запивали отлично охлаж-
денным пивом. Ели мы так, словно от зари до зари молотили
цепами зерно. Потом взялись за «Карла». Работали два часа,
все проверили и отрегулировали, смазали подшипники. После
этого Ленц и я поужинали вторично. Готтфрид включил свет и
на «форде». При аварии одна его фара уцелела. И теперь, укреп-
ленная на выгнутом кверху шасси, она испускала косой луч света
куда-то в небо.
Вполне удовлетворенный, Ленц повернулся к нам.
— Ну вот! А теперь, Робби, достань-ка бутылки. Давайте от-
метим «Праздник цветущего дерева»!
Я поставил на стол коньяк, джин и два бокала.
— А ты?— спросил Готтфрид.
— Я пить не буду.
— Что?! Почему не будешь?
— Потому что пропала у меня охота продолжать это чертово
пьянство!
Ленц пристально посмотрел на меня.
— Отто, наш ребеночек свихнулся,— сказал он Кестеру.
— Оставь его в покое. Не хочет— не надо,— ответил Кестер.
Ленц налил себе полный бокал.
— Вообще у этого мальчика с некоторых пор пошли завихрения.
— Это еще не самое худшее,— заявил я.
Над крышей фабрики напротив нас взошла большая красная
луна. Некоторое время мы сидели молча.
— Скажи мне, Готтфрид,— заговорил я затем,— ведь ты спе-
циалист по части любовных дел, не так ли?
— Специалист? Нет, я классик любви,— скромно ответил Ленц.
— 4* 56 4* —
— Хорошо. Я хотел бы знать, всегда ли влюбленный человек
ведет себя по-идиотски?
— То есть как это, по-идиотски?
— Ну, в общем, так, как будто он полупьян. Болтает невесть
что, несет всякую чепуху, да еще и врет.
Ленц расхохотался.
— Что ты, детка! Ведь любовь — это же сплошной обман. Чу-
десный обман со стороны матушки-природы. Взгляни на это
сливовое дерево! И оно сейчас обманывает тебя: выглядит куда
красивее, чем окажется потом. Было бы просто ужасно, если бы
любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава Богу,
•но растреклятые моралисты не властны над всем.
Я встал.
— Так, по-твоему, без некоторого жульничества это дело во-
обще невозможно?
— Да, детонька моя! Вообще невозможно!
— Но ведь тогда можно попасть в глупейшее положение.
Ленц усмехнулся.
— Запомни одну вещь, мальчик: никогда, никогда и еще раз
никогда ты не окажешься смешным в глазах женщины, если
сделаешь что-то ради нее. Пусть это будет даже самым дурац-
ким фарсом. Делай все, что хочешь,— стой на голове, неси око-
лесицу, хвастай, как павлин, пой под ее окном. Не делай лишь
одного — не будь с ней деловым, разумным.
Я оживился.
— А ты что скажешь, Отто?
Кестер рассмеялся.
— Пожалуй, так оно и есть. ,
Он встал и поднял капот «Карла». Я достал бутылку рома,
еще один бокал и поставил их на стол. Отто включил зажига-
ние, нажал на кнопку стартера, и двигатель зачавкал — утробно
и сдержанно. Ленц, положив ноги на подоконник, глядел в окно.
Я подсел к нему.
— Тебе когда-нибудь случалось быть пьяным в обществе
женщины?
— Часто случалось,— не пошевельнувшись ответил он.
— Ну и как?
Он искоса посмотрел на меня.
— Ты хочешь знать, как быть, если ты сделал что-то не так?
() гвечаю, детка: никогда не проси прощения. Ничего не говори.
11осылай цветы. Без писем. Только цветы. Они покрывают все.
Даже могилы.
— 4* 57 4* —
Я посмотрел на него. Он оставался неподвижным. В его бле-
стящих глазах отражался белый свет автомобилей. Двигатель
все еще работал. Он тихонько погромыхивал, точно под ним со-
дрогалась земля.
— Вот теперь я могу спокойно выпить чего-нибудь,— сказал
я и откупорил бутылку.
Кестер заглушил двигатель. Затем обратился к Ленцу:
— Сегодня луна светит достаточно ярко, чтобы можно было
найти стакан. Верно, Готтфрид? А ну-ка выключи свою иллю-
минацию. Особенно на «форде». Этот косой луч напоминает
мне прожекторы времен войны. Когда ночью эти штуки начи-
нали нашаривать мой самолет, мне было совсем не до шуток.
Ленц кивнул.
— А мне он напоминает... Впрочем, не все ли равно...
Он встал и выключил фары.
Луна поднялась высоко над фабричной крышей. Она все
больше светлела и теперь казалась желтым лампионом, повис-
шим меж ветвей сливы. Ветви, колеблемые слабым ветерком,
тихо качались.
— Все-таки странно,— сказал Ленц после паузы,— почему
принято ставить памятники всевозможным людям?.. А почему
бы не поставить памятник луне или дереву в цвету?..
* * *
Я рано вернулся домой. Открыв дверь в коридор, услышал
музыку. Играл патефон Эрны Бениг — личной секретарши.
По коридору плыл тихий и прозрачный женский голос. Потом
пошла перекличка скрипок под сурдинку со стаккато на банд-
жо. И опять этот голос, проникновенный, нежный, будто пере-
полненный счастьем. Я вслушался, пытаясь разобрать слова.
Тихое пение женщины звучало удивительно трогательно в этом
темном коридоре, где я стоял между швейной машиной фрау
Бендер и чемоданами супругов Хассе. Я увидел кабанью голову
над входом в кухню, где служанка гремела посудой.
«И как же могла я жить без тебя?..» — пел голос в несколь-
ких шагах от меня, там, за дверью.
Я пожал плечами и пошел к себе в комнату.
За стеной снова разгорелась свара. Через несколько минут
ко мне постучался и вошел Хассе.
— Я не мешаю вам?— устало спросил он.
— Ничуть,— ответил я.— Хотите что-нибудь выпить?
— Лучше не надо. Только немного посижу у вас.
Он тупо уставился в пол.
— + 58 4* —
— Вам хорошо,— сказал он.— Вы живете один...
— Ну что за ерунда!— возразил я.— Вечно торчать одному
1<>же не дело... Уж поверьте мне...
Чуть сгорбившись он сидел в кресле. Его глаза казались
стеклянными: в них отражался проникавший в полумрак ком-
ши ы свет уличного фонаря. Я смотрел на его узкие, покатые
плечи.
— Я представлял себе жизнь совсем по-другому,— прогово-
рил он после долгого молчания.
— Это у всех так...
Через полчаса он решил пойти мириться с женой. Я дал ему
несколько газет и полбутылки ликера «Кюрасао». Ему это при-
юрно-сладкое пойло должно было подойти, в напитках он ни-
чего не смыслил. Тихо, почти неслышно вышел он от меня.
Гень от тени, будто и вправду уже угас. Из коридора, словно пест-
рю шелковое тряпье, ворвались обрывки музыки... скрипки,
приглушенные банджо... «И как же могла я жить без тебя...»
Я запер за ним дверь и уселся у окна. Кладбище было залито
юлубым сиянием луны. Пестрые контуры световой рекламы
ширяли кроны деревьев. На темной земле выделялись могиль-
ные плиты. Безмолвные, они не внушали страха. Вплотную
к ним, сигналя, проезжали автомобили, и свет их фар скользил
но выветрившимся надгробным надписям.
Я просидел довольно долго, размышляя о всякой всячине.
II частности, о том, как в свое время мы вернулись с фронта, мо-
лодые, ни во что не верящие, словно шахтеры, выбравшиеся
ни поверхность из обвалившейся шахты. Нам хотелось ринуться
в поход против лжи, эгоизма, алчности, душевной косности —
против всего, что вынудило нас пройти через войну. Мы были
суровы и могли верить только близкому товарищу или таким ве-
шим, которые никогда нас не подводили,— небу, табаку, деревьям,
хлебу и земле. Но что же из всего этого получилось? Все распада-
лось, пропитывалось фальшью и забывалось. А если ты не умел
сбывать, то тебе оставались только бессилие, отчаяние, равноду-
шие и водка. Ушло в прошлое время великих человеческих и даже
чисто мужских мечтаний. Торжествовали дельцы. Продаж-
ность. Нищета.
♦ * *
«Вам хорошо, вы одиноки»,— сказал мне Хассе. Все это, ко-
нечно, так: одинокий человек не может быть покинут. Но иногда
по вечерам эти искусственные построения разлетались в прах,
п жизнь превращалась в какую-то всхлипывающую, мечущуюся
59 4* —
мелодию, в водоворот дикого томления, желания, тоски и на-
дежды все-таки вырваться из бессмысленного самоодурманива-
ния, из бессмысленных в своей монотонности звуков этой веч-
ной шарманки. Неважно куда, но лишь бы вырваться. О, эта
жалкая потребность человека в крупице тепла. И разве этим
теплом не могут быть пара рук и склоненное над тобой лицо?
Или и это было бы самообманом, покорностью судьбе, бег-
ством? Да и разве вообще существует что-то, кроме одиночества?
Я закрыл окно. Нет, ничего другого нет. Для всего остально-
го у человека слишком мало почвы под ногами.
Однако утром я встал пораньше и, прежде чем пойти в мас-
терскую, постучал в дверь владельца небольшой цветочной
лавки. Там я подобрал букет роз и попросил отправить их без
промедлений. Я чувствовал себя довольно странно, когда мед-
ленно выводил на карточке адрес и имя: Патриция Хольман.
V
Кестер надел свой самый старый костюм и поехал в финан-
совое управление. Он хотел добиться снижения наших налогов.
В мастерской остались Ленц и я.
— Готтфрид,— сказал я,— ну-ка давай приналяжем на тол-
стый «кадиллак».
Накануне в вечерней газете появилось наше объявление,
и, следовательно, уже сегодня мы могли рассчитывать на поку-
пателей, если таковые вообще окажутся. Так или иначе надо было
подготовить машину.
Сначала мы обработали все лакированные поверхности по-
лиролью. «Кадиллак» засверкал как никогда и прямо на глазах
подорожал на добрую сотню марок. Затем мы залили в мотор
самое густое из всех возможных масел. Поршни были уже
не первосортными и слегка постукивали. Вязкое масло компен-
сировало этот дефект, и мотор работал удивительно спокойно
и ровно. Коробку скоростей и задний мост мы тоже заправили
густой смазкой, чтобы и они вели себя бесшумно.
Потом решили проверить все на ходу — поблизости была
сильно разбитая дорога. Мы прошли по ней на скорости пять-
десят километров. Кузов кое-где побрякивал. Мы снизили дав-
ление в баллонах на четверть атмосферы и повторили проверку/
Дело пошло лучше. Выпустили еще четверть атмосферы. Все
посторонние звуки исчезли.
Мы вернулись в мастерскую, смазали скрипучий шарнир ка-
пота, вложили в него резиновую прокладку, залили в радиатор
горячую воду, чтобы двигатель завелся с полуоборота, и обрыз-
— 4* 60 4* —
Hui и низ машины из керосинового распылителя, чтобы и здесь
нее блестело. После всего этого Ленц воздел руки к небу:
— Так явись же нам, о благословенный покупатель. Приди,
о милый обладатель туго набитого бумажника! Мы ждем не до-
ждемся тебя, как жених невесту.
♦ ♦ ♦
()днако невеста не спешила. Поэтому мы вкатили на яму бен-
1мновую тарахтелку булочника и начали демонтировать перед-
нюю ось... Часа полтора-два мы спокойно работали и почти
не разговаривали. Вдруг Юпп, стоявший у бензоколонки, стал
насвистывать мелодию песенки «Чу! Кого сюда несет?..»
Я вылез из ямы и посмотрел в окно. Какой-то невысокий, ко-
ренастый мужчина ходил вокруг «кадиллака». С виду это был
вполне солидный буржуа.
— Глянь-ка, Готтфрид,— шепотом сказал я.— Уж не невеста
'III )ТО?
— Безусловно!— заявил Ленц, едва взглянув на пришельца.—
Но гы посмотри на его лицо. Еще никто с ним слова не сказал,
а он уже полон недоверия. Пойди схлестнись с ним. Я остаюсь
и резерве. Подключусь, если у тебя ничего не выйдет. И не за-
бывай про хитрости, которым я тебя учил.
— Ладно,— я вышел во двор.
Мужчина смотрел на меня умными черными глазами.
— Локамп,— представился я.
— Блюменталь.
Обязательно представиться — такова была первая хитрость
I о и фрида. Он утверждал, что это сразу же создает более ин-
1имную атмосферу. Вторая хитрость сводилась к тому, чтобы
начинать разговор предельно сдержанно, по возможности рас-
кусить характер покупателя и в нужный момент нанести удар
но его слабому месту.
— Вы пришли насчет «кадиллака», господин Блюменталь?—
спросил я.
Блюменталь кивнул.
— А вот он стоит,— я указал рукой на машину.
— Это я и так вижу,— откликнулся Блюменталь.
Я окинул его быстрым взглядом. «Осторожно!— сказал я себе.—
Он и сам хитер».
Мы пересекли двор. Я распахнул дверцу машины и запустил
мотор. Я молчал, чтобы не мешать ему подробно осмотреть все.
()н, несомненно, начнет что-нибудь критиковать, и тогда я пере-
йду в контратаку.
— 4* 61 4* —
Но Блюменталь ничего не осматривал. И ничего не критико-
вал. Он тоже молчал и стоял передо мной, как истукан. Мне оста-
валось только одно — заговорить первому.
Медленно и детально я начал описывать «кадиллак» — так,
вероятно, мать говорит о любимом ребенке. При этом я пытал-
ся выяснить, смыслит ли этот человек хоть что-нибудь в автомо-
билях. Если он знаток, то нужно побольше расписывать двига-
тель и шасси, а если он в технике не разбирается, то следует
упирать на комфорт и всякие финтифлюшки.
Но и теперь он не выдавал себя ничем, предоставляя гово-
рить мне одному. Мне начало казаться, будто я раздуваюсь, как
воздушный шар.
— Зачем вам нужна машина? Для города или для путешест-
вий?— спросил я наконец, надеясь все-таки сдвинуть разговор
с мертвой точки.
— Смотря по обстоятельствам.
— Понимаю! Вы намерены водить сами или пользоваться услу-
гами шофера?
— И то, и другое.
И то, и другое! Он отвечал мне, как попугай. Видимо, он при-
надлежал к ордену монахов, давших обет молчания.
Чтобы как-то оживить разговор, я решил заставить его само-
стоятельно проверить что-нибудь. В этом случае клиенты обыч-
но делались более общительными. Иначе, подумал я, он вот-вот
заснет.
— Прекрасно функционирует откидной скользящий верх.
Обслуживать его исключительно легко, особенно если учесть
крупные габариты этого кабриолета,— сказал я.— Попробуйте
закрыть его. Достаточно усилия одной руки...
Но Блюменталь сказал, что делать это ни к чему. Мол, и так
видно. Я с треском открыл и захлопнул дверки, подергал за ручки.
— Ничто не разболтано. Все прочно и надежно. Проверьте сами.
Блюменталь снова отказался от проверки. Он полагал, что
иначе и быть не может. Ну и орешек попался мне!
Я продемонстрировал ему работу стеклоподъемников.
— Ручки вы крутите прямо-таки играючи. Стекла фиксиру-
ются в любом положении.
Он не пошевельнулся.
— К тому же стекла небьющиеся,— уже впадая в отчаяние,
продолжал я.— Это неоценимое преимущество! Вон там, в ма-
стерской, стоит «форд»...— Я приукрасил историю про гибель
жены булочника, добавив еще одну жертву — ребенка, хотя тот
не успел родиться.
Но прошибить Блюменталя было не легче, чем взломать сейф.
— Небьющееся стекло ставят на все машины,— прервал он
меня.— Ничего особенного в этом нет.
— Небьющееся стекло не относится к серийному оборудова-
нию,— возразил я мягко, но решительно,— разве что лобовое
пекло на некоторых моделях. Но никоим образом не боковые
стекла.
Я нажал на кнопку в середине руля — оба клаксона взревели.
За тем перешел к описанию комфорта, говорил про багажники,
сиденья, боковые карманы, панель приборов. Я даже включил
прикуриватель и, пользуясь случаем, предложил Блюменталю
сигарету, рассчитывая с ее помощью хоть чуточку умилостивить
его. Но он отказался.
— Спасибо, я не курю,— сказал он и посмотрел на меня с таким
скучающим видом, что вдруг мне подумалось: может, он вообще
не намеревался идти сюда, а зашел по ошибке — заблудился;
может, ему нужно было купить что-то совсем другое — машину
для обметывания петель или радиоприемник; может, в силу
врожденной нерешительности, он еще немного потопчется
ни месте, а потом двинет дальше.
— Давайте, господин Блюменталь, сделаем пробную поезд-
ку,— наконец предложил я, чувствуя, что уже почти выдохся.
— Пробную поездку?— переспросил он, явно не понимая,
о чем речь.
— Ну да, пробную поездку. Должны же вы сами убедиться
и высоких ходовых качествах этой машины. На улице или
на шоссе она устойчива, как доска. Идет как по рельсам, будто
но не тяжелый кабриолет, а пушинка...
— Ах, уж мне эти пробные поездки...— сказал он, пренебре-
жительно махнув рукой.— Пробные поездки ни о чем не гово-
рят. Недостатки автомобиля всегда выявляются только впос-
ледствии.
«Конечно, впоследствии, дьявол ты чугунный!— с досадой
подумал я.— Не ожидаешь ли ты, что я тебя ткну носом во все
дефекты?»
— Что ж, ладно. Нет так нет,— сказал я, утратив всякую на-
дежду на успех. Мне стало ясно, что он не собирается покупать
машину.
Но тут он внезапно повернулся, посмотрел на меня в упор
и тихо, резко и очень быстро спросил:
— Сколько стоит эта машина?
— Семь тысяч марок,— ответил я, не моргнув глазом, словно
выпалил из пулемета. Ни в коем случае он не должен был заме-
— 4* 63 4* —
тить, что я не уверен в цене. Это я хорошо понимал. Каждая се-
кунда колебания могла бы встать нам в тысячу марок, которую
он выторговал бы в свою пользу.
— Семь тысяч марок, нетто,— твердо повторил я, а сам поду-
мал: «Предложи мне пять, и машина твоя». Но Блюменталь ни-
чего не предложил.
— Слишком дорого!— коротко выдохнул он.
— Конечно!— сказал я и решил, что окончательно проиграл.
— Почему вы сказали «конечно»?— спросил Блюменталь
впервые довольно человечным тоном.
— Господин Блюменталь,— ответил я,— встречали ли вы
в наше время хоть кого-нибудь, кто реагирует иначе на цену?
Он внимательно посмотрел на меня. Затем на его лице
мелькнуло подобие улыбки.
— Вы правы. Но машина действительно слишком дорога.
Я не верил ушам своим. Вот он накопец-то, настоящий тон!
Тон заинтересованного человека! Или то был опять какой-ни-
будь коварный ход?
В это мгновение в воротах появился щегольски одетый гос-
подин. Он достал из кармана газету, проверил по ней номер на-
шего дома и подошел ко мне.
— Здесь продается «кадиллак»?
Я кивнул и, не в силах сказать что-либо, смотрел на желтую
бамбуковую трость и замшевые перчатки этого франта.
— Можно посмотреть?— снова спросил он, и ни один мускул
не дрогнул на его лице.
-Да вот же он,— с трудом выговорил я.— 11о прошу вас подо-
ждать... Я еще не освободился... Не угодно ли посидеть вот там?
Франт с минуту прислушивался к гудению мотора и состроил
сперва критическую, а затем одобрительную гримасу. Потом
я проводил его в мастерскую.
— Идиот!— прошипел я ему в лицо и быстро вернулся
к Блюменталю.
— Если вы прокатитесь в этой машине, ваше отношение к цене
наверняка изменится,— сказал я.— Вы вольны испытывать ее
сколько пожелаете. Или, быть может, вам удобнее, чтобы я за-
ехал за вами вечером? Пожалуйста. Тогда и покатаемся.
Но порыв уже угас. Блюменталь вновь стоял передо мной,
как гранитный монумент какому-нибудь председателю хорового
общества.
— Ну хватит,— сказал он.— Я должен идти. А захочу совер-
шить пробную поездку, то еще успею позвонить вам.
— 4» 64 4* —
Я понял, что пока сделать ничего нельзя. Этот человек уго-
ворам не поддавался.
— Хорошо,— заявил я,— но не записать ли мне ваш телефон,
чюбы известить вас, если появится другой претендент?
Блюменталь как-то странно посмотрел на меня.
— Претендент еще не покупатель.
Он достал кожаный кисет с сигарами и протянул его мне. Вы-
яснилось, что он все-таки курит. Да еще такие дорогие сигары,
как «Корона-Корона». Значит, денег у него навалом. Но мне
все это уже было безразлично. Я взял сигару.
Он дружелюбно пожал мне руку и ушел. Я глядел ему вслед
и тихо, но выразительно ругал его. Затем вернулся в мастерскую.
— Ну как?— приветствовал меня сидевший там франт —
Готтфрид Ленц.— Здорово это я, правда? Вижу, мучаешься, вот
и решил немного помочь тебе. Счастье, что перед поездкой на-
счет налогов Отго переоделся здесь. Смотрю — на плечиках висит
его выходной костюм. Я в момент переоделся, пулей вылетел
в окно, а обратно вернулся как серьезный покупатель! Здорово,
верно?
— Не здорово, а по-идиотски,— ответил я.— Этот тип хитрее
нас с тобой, вместе взятых! Посмотри на сигару! Полторы марки
ьа штуку! Ты спугнул миллиардера.
Готтфрид взял у меня сигару, обнюхал ее и закурил.
— Я спугнул жулика. Миллиардеры таких сигар не курят.
А курят они те, что продают поштучно но десять пфеннигов.
— Чушь болтаешь,— ответил я.— Жулик не назвал бы себя
Блюменталем. Жулик представился бы как граф фон Блюменау
или что-нибудь в этом роде.
— Этот человек вернется,— со свойственным ему оптимиз-
мом заметил Ленц и выпустил дым моей сигары мне же в лицо.
— Этот не вернется,— убежденно сказал я.— Но скажи, где
гы раздобыл бамбуковую дубинку и эти перчатки?
— Одолжил. Напротив, в магазине «Бенн и компания». Я там
знаком с продавщицей. Трость, может быть, даже оставлю себе
насовсем. Она мне нравится.
Довольный собой, он стал быстро вертеть в воздухе эту тол-
стую палку.
— Готтфрид,— сказал я.— В тебе явно пропадает талант. По-
шел бы ты в варьете, на эстраду — вот где твое место!
* * *
— Вам звонили,— сказала мне Фрида, косоглазая служанка
фрау Залевски, когда в полдень я ненадолго забежал домой.
— 4* 65 + —
Я обернулся.
— Когда звонили?
— С полчаса назад. Какая-то дама.
— А что она сказала?
— Что вечером позвонит снова. Но я ей сразу объяснила, что
большого смысла в этом нет. Что по вечерам вы никогда не бы-
ваете дома.
Я уставился на нее.
— Что?! Вот прямо так и сказали? Господи, хоть бы кто-ни-
будь научил вас разговаривать по телефону.
— Я и так умею разговаривать по телефону,— флегматично
проговорила Фрида.— А по вечерам вы действительно почти
никогда не бываете дома.
— Но ведь вас это ничуть не касается,— раскипятился я.—
В следующий раз вы еще, чего доброго, расскажете, какие у меня
носки —дырявые или целые.
— И расскажу!— огрызнулась Фрида, злобно пялясь на меня
красными, воспаленными глазами. Мы с ней издавна враждовали.
Охотнее всего я сунул бы ее башкой в кастрюлю с супом,
но совладал с собой, нашарил в кармане марку, ткнул ее Фриде
в руку и уже примирительно спросил:
— А эта дама не назвала себя?
— Не назвала,— ответила Фрида.
— А какой у нее был голос? Чуть глуховатый и низкий, да?
Вообще такой, как будто она простудилась и охрипла, да?
— Не припомню,— флегматично отозвалась Фрида, словно
и не получила от меня только что целую марку.
— Очень красивенькое у вас колечко на пальце, прямо оча-
ровательное,— сказал я.— А теперь подумайте, только сосредо-
точенно, может, все-таки припомните.
— Не припомню,— ответила Фрида, и лицо ее так и свети-
лось злорадством.
— Тогда возьми да повесься, чертова кукла!— процедил
я сквозь зубы и пошел не оглядываясь.
♦ ♦ ♦
Ровно в шесть вечера я пришел домой. Открыв дверь, я уви-
дел непривычную картину. В коридоре стояла фрау Бендер,
медсестра по уходу за младенцами, в окружении всех дам наше-
го пансиона.
— Подойдите к нам,— сказала мне фрау Залевски.
Причиной сбора был сплошь украшенный бантами ребеночек
в возрасте примерно полугода. Фрау Бендер привезла его в дет-
— 4* 66 4* —
i кой коляске. Это было вполне нормальное дитя, но женщины
склонились над ним с выражением такого безумного восторга,
будто перед ними оказался первый младенец, народившийся
пи свет божий. Они издавали звуки, напоминающие кудахтанье,
прищелкивали пальцами перед глазами этого крохотного со-
|дания, вытягивали губы трубочкой. Даже Эрна Бениг в своем
кимоно с драконами и та вовлеклась в эту оргию платоническо-
ю материнства.
— Ну разве он не прелесть?— спросила меня фрау Залевски;
ее лицо расплылось от умиления.
— Правильно ответить на ваш вопрос можно будет только лет
через двадцать-тридцать,— сказал я и покосился на телефон.
Только бы мне не позвонили теперь, когда все тут собрались.
— Нет, вы как следует вглядитесь в него,— требовательно
обратилась ко мне фрау Хассе.
Я вгляделся. Младенец как младенец. Ничего особенного
и в нем обнаружить не мог. Разве что страшно маленькие ру-
чонки. Было странно подумать, что когда-то и я был таким кро-
хотным.
— Бедненький,— сказал я.— Ведь совсем не представляет
себе, что его ждет. Хотел бы я знать, к какой войне он поспеет.
— Как злобно!— воскликнула фрау Залевски.— Неужели вы
настолько бесчувственный человек?
— Напротив,— возразил я,— чувств у меня хоть отбавляй,
иначе эта мысль просто не пришла бы мне в голову.
С этим я ретировался к себе в комнату.
Через десять минут раздался телефонный звонок. Услышав
свое имя, я вышел в коридор. Конечно, все общество еще было
гам! Дамы и не подумали разойтись, когда я приложил трубку
к уху и услышал голос Патриции Хольман, благодарившей меня
ia цветы. И вдруг младенец, сытый по горло этим сюсюканьем
и кривляньем и, видимо, самый разумный из всех, огласил кори-
дор душераздирающим ревом.
— Извините,— с отчаяньем проговорил я в телефон,— тут
разбушевался один младенец, но он не мой.
Дамы шипели, словно клубок гигантских змей,— так они пы-
тались утихомирить разоравшегося сосунка. Только сейчас
м заметил, что малютка и в самом деле особенный: его легкие,
вероятно, простирались до бедер, иначе нельзя было объяснить
прямо-таки оглушительную громкость его голоса. Я оказался
в грудном положении: с бешенством глядел на моих соседок,
охваченных неодолимым комплексом материнства, и одновре-
менно пытался произносить в трубку приветливые слова.
— + 67 4* —
От пробора до кончика носа я был сама гроза, а от носа до под-
бородка — мирный пейзаж под весенним солнышком. Я так
и не понял, каким образом, несмотря ни на что, я ухитрился на-
значить ей свидание на следующий вечер.
— Вам бы следовало поставить здесь звуконепроницаемую
телефонную будку,— сказал я фрау Залевски.
— А зачем? Разве у вас так много секретов?— не растеряв-
шись, парировала она.
Я промолчал и убрался восвояси. Не следует затевать ссоры
с женщиной, в которой пробудились материнские чувства. На ее
стороне вся мораль мира.
* * *
Мы договорились встретиться вечером у Готтфрида. Закусив
в небольшом ресторане, я отправился к нему. По пути зашел
в один из самых дорогих магазинов мужских мод и купил себе
роскошный галстук. Мне казалось странным, что все прошло
так гладко, и я дал себе слово быть на следующий день не менее
серьезным, чем, скажем, генеральный директор погребальной
конторы.
Жилище Готтфрида мы считали своего рода достопримеча-
тельностью. Оно было сплошь увешано сувенирами, собранными
им во время скитаний по Южной Америке. Пестрые циновки
на стенах, несколько масок, засушенная человеческая голова,
причудливые глиняные горшки, копья и — самое главное — ве-
ликолепная коллекция фотографий, занимавшая целую стену.
Со снимков на вас смотрели юные индианки и креолки — кра-
сивые, смуглые и гибкие девушки, непостижимо очарователь-
ные и непринужденные.
Кроме Ленца и Кестера, здесь были Браумюллер и Грау. Тео
Браумюллер, человек с загорелой, медно-красной плешью, при-
мостившись на спинке дивана, восторженно разглядывал фото-
графическую коллекцию Готтфрида. Гонщик одной автомо-
бильной фирмы, он уже давно дружил с Кестером. Шестого
числа ему предстояло участвовать в гонке, на которую Отто за-
писал «Карла».
Грузный, расплывшийся и довольно сильно подвыпивший
Фердинанд Грау сидел за столом. Он сгреб меня своей здоро-
венной лапой и прижал к себе.
— Робби,— пробасил он,— ты-то зачем здесь, среди нас —
людей пропащих? Нечего тебе тут делать. Уходи отсюда! Спа-
сайся! Ты еще не погиб!
Я посмотрел на Ленца. Он подмигнул мне.
68 4* —
Фердинанд здорово наклюкался. Уже второй день он про-
никнет чью-то дорогую покойницу. Продал ее портрет и сразу
получил гонорар.
Фердинанд Грау был художником. Он давно околел бы с го-
>нщн, если бы не его особая специализация: по заказам благоче-
» (иных родственников он писал с фотографий умерших замеча-
1глы1ые по сходству портреты. Этим он жил, и совсем неплохо.
По иго отличные пейзажи не покупал никто. Может, поэтому
и словах Фердинанда всегда слышался оттенок пессимизма.-
- На сей раз, Робби, это был владелец трактира,— сказал
он — Трактирщик, который получил наследство от тетки, тор-
।опавшей оливковым маслом и уксусом.— Его передернуло.—
I Ipoc ro ужасно!
- Послушай, Фердинанд,— вмешался Ленц,— зачем такие
сильные выражения? Разве тебя не кормит самое прекрасное
и । человеческих качеств — благочестие?
— Ерунда!— возразил Грау.— Кормлюсь я за счет того, что
у людей иногда пробуждается сознание собственной вины.
А благочестие — это как раз и есть сознание своей вины. Чело-
веку хочется оправдаться перед самим собой за то, что он при-
чинил или пожелал тому или другому дорогому покойнику.—
Он медленно провел ладонью по разгоряченному лицу.— Ты
и не подозреваешь, сколько раз мой трактирщик желал своей
ie тушке сыграть в ящик. Зато теперь он заказывает ее портрет
в самых изысканных тонах и вешает этот портрет над диваном.
Гик она ему больше нравится. Благочестие! Обычно человек
вспоминает о своих добрых свойствах, когда уже слишком позд-
но. Но он все равно растроган — вот, мол, каким благородным
moi бы я быть. Он умилен, кажется себе добродетельным. Добро-
детель, доброта, благородство.— Он махнул своей огромной ру-
чищей.— Пусть все это будет у других. Тогда их легче обвести
вокруг пальца.
Ленц усмехнулся.
— Ты расшатываешь устои человеческого общества, Ферди-
нанд!
— Стяжательство, страх и продажность — вот устои челове-
ческого общества,— ответил Грау.— Человек зол, но он любит
добро... когда его творят другие...— Он протянул Ленцу свой
с ткан.— Вот, а теперь налей мне и перестань болтать. Дай
и другим вставить словечко.
Я перелез через диван к Кестеру. Меня внезапно осенило.
— Отто, сделай мне одолжение. Завтра вечером мне понадо-
бится «кадиллак».
— 4* 69 4* —
Браумюллер оторвался от фотографии почти совсем обна-
женной креольской танцовщицы, которую уже давно и усердно
сверлил взглядом.
— Ты что — научился поворачивать направо и налево? До сих
пор мне казалось, что ты можешь ехать только прямо, да и то,
если кто-то ведет машину вместо тебя.
— Ты, Тео, помалкивай,— возразил я.— На гонках шестого
числа мы сделаем из тебя котлету.
От хохота Браумюллер начал кудахтать.
— Так как же, Отто?— взволнованно спросил я.
— Машина не застрахована, Робби,— сказал Кестер.
— Я буду ползти, как улитка, и сигналить, как междугородный
автобус. Проеду всего лишь несколько километров по городу.
Полуприкрыв глаза, Отто улыбнулся.
— Ладно, Робби, бери.
— Скажи, а машина тебе понадобилась к новому галстуку,
не так ли?— спросил подошедший к нам Ленц.
— Заткнись,— сказал я и отодвинул его.
Он не отставал.
— Ну-ка, детка, покажи галстучек!— Он потрогал шелк гал-
стука.— Великолепно. Наш ребеночек в роли жиголо — наем-
ного танцора. Ты, видать, собрался на смотрины.
— Сегодня тебе меня не обидеть. Молчал бы! Тоже мне фо-
кусник-иллюзионист!
Фердинанд Грау поднял голову.
— Говоришь, собрался на смотрины? А почему бы и нет!—
он заметно оживился.— Так и сделай, Робби. Это тебе вполне
подходит. Для любви нужна известная наивность. Она тебе свой-
ственна. Сохрани ее и впредь. Это поистине дар божий. А ли-
шишься его — никогда не вернешь.
— Не принимай это слишком близко к сердцу,— ухмыльнулся
Ленц.— Родиться дураком не позор. А вот умереть дураком
СТЫДНО:
— Ни слова больше, Готтфрид,— движением своей могучей
руки Грау отмел его в сторону.— Не о тебе разговор, несчаст-
ный романтик с задворок. О тебе никто не пожалеет.
— Валяй, Фердинанд, выговорись,— сказал Ленц.— Выгово-
риться — значит облегчить свою душу.
— Ты вообще лодырь,— заявил Грау.— Да еще высокопарный.
— Все мы такие,— улыбнулся Ленц.— Все живем в долг и пи-
таемся иллюзиями.
— Вот это точно,— сказал Грау и по очереди оглядел нас из-под
своих кустистых бровей.— Питаемся иллюзиями из прошлого,
— 4» 70 + —
и долги делаем в счет будущего.— Потом он снова обратился
ко мне: — Наивность, сказал я, Робби. Только завистливые люди
ни пинают ее глупостью. Не огорчайся из-за этого. Наивность —
нс недостаток, а, напротив, признак одаренности.
Ленц открыл было рот, но Фердинанд продолжал говорить:
- Ты, конечно, понимаешь, о чем речь. О простой душе, еще
нс изъеденной скепсисом и этакой сверхинтеллектуальностью.
11прцифаль был глуп. Будь он поумнее — никогда не стал бы до-
Оынить чашу святого Грааля. В жизни побеждает только глупец.
А умному везде чудятся одни лишь препятствия, и, не успев
•ио то начать, он уже потерял уверенность в себе. В трудные
промена наивность — самое драгоценное из всего, волшебная
мин гия, скрывающая от тебя беды, в которые сверхумник, слов-
но 1агиПнотизированный, то и дело попадает.
Он отпил глоток и посмотрел на меня своими огромными го-
лубыми глазами, вправленными, точно два кусочка неба, в об-
рюзгшее морщинистое лицо.
— Никогда, Робби, не стремись знать слишком много! Чем
меньше знаешь, тем проще живется. Знание делает человека
свободным, но и несчастным. Давай выпьем за наивность,
in глупость и все, что к ним относится,— за любовь, за веру
и будущее, за мечты о счастье — за божественную глупость,
m потерянный рай...
Он сидел, грузный и неуклюжий, внезапно уйдя в себя
и и свое опьянение,— одинокий холм неизбывной тоски. Жизнь
<чо была разбита, и он знал: склеить осколки невозможно. Он
дня в своей большой мастерской и сожительствовал со своей
жономкой. Это была бесхитростная и грубоватая женщина.
А Грау, несмотря на мощное телосложение, отличался ранимо-
vibio и переменчивым настроением. Он все никак не мог отле-
питься от своей полюбовницы, но для него это, вероятно, стало
безразличным. Ему исполнилось сорок два. И хотя я хорошо
шал, что он просто пьянствует, всякий раз, когда я видел его
и гаком состоянии, мне становилось страшно. У нас он бывал
нечасто. Пил обычно у себя в мастерской. А от питья в одино-
честве люди быстро опускаются.
На его лице мелькнула улыбка. Он сунул мне в руку рюмку.
— Пей, Робби! И спасайся! Помни о том, что я тебе говорил.
— Запомню, Фердинанд.
Ленц завел патефон. У него была куча пластинок с записями
негритянских песен. Он прокрутил некоторые из них — про
Миссисипи, про сборщиков хлопка и знойные ночи на берегах
синих тропических рек.
— 4* 71 4* —
VI
Патриция Хольман жила в большом желтом доме, отделен-
ном от улицы узкой полоской газона. Подъезд был освещен фо-
нарем. Я остановил «кадиллак». В колеблющемся свете фонаря
машина поблескивала черным лаком и походила на могучего
черного слона.
Я принарядился: кроме галстука, купил новую шляпу и пер-
чатки, на мне было длинное пальто Ленца — великолепное серое
пальто из тонкой шотландской шерсти. Экипированный таким
образом, я хотел во что бы то ни стало рассеять впечатление
от первой встречи, когда был пьян.
Я дал сигнал. Сразу же, подобно ракете, на всех пяти этажах
лестницы вспыхнул свет. Загудел лифт. Он снижался, как свет-
лая карета, спускающаяся с неба. Патриция Хольман открыла
дверь и быстро сбежала по ступенькам. На ней был короткий
коричневый меховой жакет и узкая коричневая юбка.
— Привет!— Она протянула мне руку.— Я так рада, что вышла.
Весь день сидела дома.
Ее рукопожатие, более крепкое, чем можно было ожидать,
понравилось мне. Я терпеть не мог людей с руками вялыми,
точно дохлая рыба.
— Почему вы не сказали этого раньше?— спросил я.— Я за-
ехал бы за вами еще днем.
— Разве у вас столько свободного времени?
— Не так уж много, но я бы как-нибудь освободился.
Она глубоко вздохнула.
— Какой чудесный воздух! Пахнет весной.
— Если хотите, мы можем подышать свежим воздухом вво-
лю,— сказал я.— Поедем за город, в лес,— у меня машина,—
при этом я небрежно показал на «кадиллак», словно это был ка-
кой-нибудь старый «фордик».
— «Кадиллак»?— она изумленно посмотрела на меня.—
Ваш собственный?
— На сегодняшний вечер. А вообще он принадлежит нашей
мастерской. Мы его хорошенько подновили и надеемся зарабо-
тать на нем, как еще никогда в жизни.
Я распахнул дверцу.
— Не поехать ли нам сначала в «Лозу» и поужинать? Как вы
думаете?
— Поедем ужинать, но почему именно в «Лозу»?
Я озадаченно посмотрел на нее. Это был единственный эле-
гантный ресторан, который я знал.
— + 72. + —
() гкровенно говоря,— сказал я,— не знаю ничего лучшего.
II потом, мне кажется, «кадиллак» кое к чему обязывает,
()на рассмеялась.
В «Лозе» всегда скучная и чопорная публика. Поедем
и другое место!
Я стоял в нерешительности. Моя мечта казаться солидным
рассеивалась как дым.
Тогда скажите сами, куда нам ехать,— сказал я.— В других
ресторанах, где я иногда бываю, собирается грубоватый народ.
Все гго, по-моему, не для вас.
- Почему вы так думаете?— Она быстро взглянула на меня.—
Давайте попробуем.
— Ладно,— я решительно изменил всю программу.— Если
вы не из пугливых, тогда вот что: едем к Альфонсу.
— Альфонс! Это звучит гораздо приятнее,— ответила она.—
Л сегодня вечером я вообще ничего не боюсь.
— Альфонс — владелец пивной,— сказал я.— Большой друг
Ленца.
()на рассмеялась.
— По-моему, у Ленца всюду друзья.
Я кивнул.
— Он их легко находит. Вы могли это заметить на примере
с Киндингом.
— Ей-Богу, правда,— ответила она.— Они подружились
молниеносно.
Мы поехали.
♦ ♦ ♦
Альфонс был грузным спокойным человеком. Выдающиеся
скулы. Маленькие глаза. Закатанные рукава рубашки. Руки, как
у юриллы. Он сам выполнял функции вышибалы и выставлял
и । своего заведения всякого, кто был ему не по вкусу, даже чле-
нов спортивного союза «Верность родине». Для особенно труд-
ных гостей он держал под стойкой молоток. Пивная была рас-
положена удобно — совсем рядом с больницей, и он благодаря
♦тому экономил на транспортных расходах.
Волосатой лапой Альфонс провел по светлому еловому столу.
— Пива?— спросил он.
— Водки и чего-нибудь на закуску,— сказал я.
— А даме?— спросил Альфонс.
— И дама желает водки,— сказала Патриция Хольман.
— Крепко, крепко,— заметил Альфонс.— Могу предложить
гниные отбивные с кислой капустой.
73 + —
— Сам заколол свинью?— спросил я.
— А как же!
— Но даме, вероятно, хочется что-нибудь полегче.
— Это вы несерьезно говорите,— возразил Альфонс.— По-
смотрели бы сперва мои отбивные.
Он попросил кельнера показать нам порцию.
— Замечательная была свинья,— сказал он.— Медалистка.
Два первых приза.
— Ну, тогда, конечно, устоять невозможно!— воскликнула
Патриция Хольман. Ее уверенный тон удивил меня — можно
было подумать, что она годами посещала этот кабак.
Альфонс подмигнул:
— Значит, две порции?
Она кивнула.
— Хорошо! Пойду и выберу сам.
Он отправился на кухню.
— Вижу, я напрасно опасался, что вам здесь не понравится,—
сказал я.— Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам пошел выби-
рать отбивные! Обычно он это делает только для завсегдатаев.
Альфонс вернулся.
— Добавил вам еще свежей колбасы.
— Неплохая идея,— сказал я.
Альфонс доброжелательно посмотрел на нас. Принесли водку.
Три рюмки. Одну для Альфонса.
— Что ж, давайте чокнемся,— сказал он.— Пусть наши дети
заимеют богатых родителей.
Мы залпом опрокинули рюмки. Патриция тоже выпила водку
единым духом.
— Крепко, крепко,— сказал Альфонс и зашаркал к своей
стойке.
— Нравится вам водка?— спросил я.
Она поежилась.
— Немного крепковата. Но не могла же я оскандалиться перед
Альфонсом.
Отбивные были что надо. Я съел две большие порции, и Патри-
ция тоже ела с аппетитом, которого я в ней не подозревал. Мне
очень нравилась ее простая и непринужденная манера дер-
жаться. Без всякого жеманства она снова чокнулась с Альфон-
сом и выпила вторую рюмку.
Он незаметно подмигнул мне,— дескать, правильная девушка.
А Альфонс был знаток. Не то чтобы он разбирался в красоте или
культуре человека, но он умел верно определить его сущность.
— 4* 74 4* —
Если вам повезет, вы сейчас узнаете главную слабость
Альфонса,— сказал я.
— Вот это было бы интересно,— ответила она.— Похоже,
у него нет слабостей.
- Есть!— Я указал на столик возле стойки.— Вот...
- Что? Патефон?
— Нет, не патефон. Его слабость — хоровое пение! Никаких
ннтев, никакой классической музыки, только хоры — мужские,
смешанные. Видите, сколько пластинок? Все сплошные хоры.
( мотрите, вот он опять идет к нам.
— Вкусно?— спросил Альфонс.
— Как дома у мамы,— ответил я.
— И даме понравилось?
— В жизни не ела таких отбивных,— смело заявила дама.
Альфонс удовлетворенно кивнул:
— Я вам сейчас поставлю новую пластинку. Вот удивитесь!
Он подошел к патефону. Послышалось шипение иглы, и зал
oi ласился звуками могучего мужского хора. Мощные голоса ис-
полняли «Лесное молчание». Это было чертовски громкое мол-
чание.
(’ первого же такта все умолкли. Альфонс мог стать опасным,
если кто-нибудь не выказывал благоговения перед его хорами.
()н стоял у стойки, упираясь в нее своими волосатыми руками.
Музыка преображала его лицо. Он становился мечтательным —
нисколько может быть мечтательным самец гориллы. Хоровое
пение производило на него неописуемое впечатление. Слушая,
пн становился кротким, как новорожденная лань. Если в разгар
макой-нибудь потасовки вдруг раздавались звуки мужского хора,
Альфонс, как по мановению волшебной палочки, переставал
драться, вслушивался и сразу же готов был идти на мировую.
11режде, когда он был более вспыльчив, жена постоянно держала
пшотове его любимые пластинки. Если дело принимало опас-
ный оборот и он выходил из-за стойки с молотком в руке, супру-
HI быстро ставила мембрану с иглой на пластинку. Услышав пе-
нис, Альфонс успокаивался, и рука с молотком опускалась.
Гсперь в этом уже не было такой надобности: Альфонс поста-
рел, и страсти его поостыли, а жена умерла. Ее портрет, пода-
ренный Фердинандом Грау, который имел здесь за это даровой
пол, висел над стойкой.
11ластинка кончилась. Альфонс подошел к нам.
— Чудесно,— сказал я.
— Особенно первый тенор,— добавила Патриция Хольман.
— + 75 4* —
— Правильно,— заметил Альфонс, впервые оживившись,—
вы в этом понимаете толк! Первый тенор — высокий класс!
Мы простились с ним.
— Привет Готтфриду,— сказал он.— Пусть как-нибудь пока-
жется.
* * *
Мы стояли на улице. Фонари перед домом бросали беспо-
койный свет на старое ветвистое дерево, и тени бегали по его
верхушке. На ветках уже зазеленел легкий пушок, и сквозь не-
ясный, мерцающий свет дерево казалось необыкновенно высо-
ким и могучим. Крона его терялась где-то в сумерках и, словно
простертая гигантская рука, в непомерной тоске тянулась к нему.
Патриция слегка поежилась.
— Вам холодно?— спросил я.
Подняв плечи, она спрятала руки в рукава мехового жакета.
— Сейчас пройдет. Там было довольно жарко.
— Вы слишком легко одеты,— сказал я.— По вечерам еще
холодно.
Она покачала головой:
— Не люблю тяжелую одежду. Хочется, чтобы стало наконец
тепло. Не выношу холода. Особенно в городе.
— В «кадиллаке» тепло,— сказал я.— У меня на всякий случай
припасен плед.
Я помог ей сесть в машину и укрыл ее колени пледом. Она
подтянула его выше:
— Вот замечательно! Вот и чудесно. А холод нагоняет тоску.
— Не только холод.— Я сел за руль.— Покатаемся немного?
Она кивнула.
— Охотно.
— Куда поедем?
— Просто так, поедем медленно по улицам. Все равно куда.
— Хорошо.
Я запустил мотор, и мы медленно и бесцельно поехали по го-
роду. Было время самого оживленного вечернего движения.
Мотор работал совсем тихо, и мы почти бесшумно двигались
в потоке машин. Казалось, что наш «кадиллак» — корабль, не-
слышно скользящий по пестрым каналам жизни. Проплывали
улицы, ярко освещенные подъезды, огни домов, ряды фонарей,
сладостная, мягкая взволнованность вечернего бытия, нежная
лихорадка озаренной ночи, и над всем этим, между краями
крыш,— свинцово-серое большое небо, на которое город от-
брасывал свое зарево.
— 4* 76 4* —
«Три товарища»
Девушка сидела молча рядом со мной; свет и тени, проникав-
шие сквозь стекло, скользили по ее лицу. Иногда я посматривал
на нее; я снова вспомнил тот вечер, когда впервые увидел ее.
Лицо ее стало серьезнее, оно казалось мне более чужим, чем
за ужином, но очень красивым; это лицо еще тогда поразило
меня и не давало больше покоя. Было в нем что-то от таин-
ственной тишины, которая свойственна природе — деревьям,
облакам, животным,— а иногда и женщине.
* * *
Мы ехали по тихим загородным улицам. Ветер усилился,
и казалось, что он гонит ночь перед собой. Вокруг большой
площади стояли небольшие дома, уснувшие в маленьких сади-
ках. Я остановил машину.
Патриция Хольман потянулась, словно просыпаясь.
— Как хорошо,— сказала она.— Будь у меня машина, я бы
каждый вечер совершала на ней медленные прогулки. Все ка-
жется совсем неправдоподобным, когда так бесшумно сколь-
зишь по улицам. Все наяву, и в то же время — как во сне. Тогда
по вечерам никто, пожалуй, и не нужен...
Я достал пачку сигарет.
— А ведь все-таки вечером хочется, чтобы кто-нибудь был
рядом, правда?
Она кивнула.
— Вечером, да... Когда наступает темнота... Странная это вещь.
Я распечатал пачку.
— Американские сигареты. Они вам нравятся?
— Да, больше других.
Я дал ей огня. Теплое и близкое пламя спички осветило
на мгновение ее лицо и мои руки, и мне вдруг пришла в голову
безумная мысль, будто мы давно уже принадлежим друг другу.
Я опустил стекло, чтоб вытянуло дым.
— Хотите немного поводить?— спросил я.— Это вам доставит
удовольствие.
Она повернулась ко мне.
— Конечно, хочу; только я не умею.
— Совсем не умеете?
— Нет. Меня никогда не учили.
В этом я усмотрел какой-то шанс для себя.
— Биндинг мог бы давным-давно обучить вас,— сказал я.
Она рассмеялась.
— Биндинг слишком влюблен в свою машину. Никого к ней
не подпускает.
— Это просто глупо,— заявил я, радуясь случаю уколоть тол-
стяка.— Вы сразу же поедете сами. Давайте попробуем.
Все предостережения Кестера развеялись в прах. Я распахнул
дверцу и вылез, чтобы пустить ее за руль. Она всполошилась:
— Но ведь я действительно не умею водить.
— Неправда,—возразил я.—Умеете, но не догадываетесь об этом.
Я показал ей, как переключать скорости и выжимать сцепление.
— Вот,— сказал я, закончив объяснения.— А теперь трогайте!
— Минутку!— Она показала на одинокий автобус, медленно
кативший по улице.— Не пропустить ли его?
— Ни в коем случае!
Я быстро включил скорость и отпустил педаль сцепления.
Патриция судорожно вцепилась в руль, напряженно вглядыва-
ясь вперед.
— Боже мой, мы едем слишком быстро!
Я посмотрел на спидометр.
— Прибор показывает ровно двадцать пять километров в час.
I !а самом деле это только двадцать. Неплохой темп для стайера.
— А мне кажется, целых восемьдесят.
Через несколько минут первый страх был преодолен. Мы
ехали вниз по широкой прямой улице. «Кадиллак» слегка пет-
лял из стороны в сторону, будто его заправили не бензином,
а коньяком. Иногда колеса почти касались тротуара. Но посте-
пенно дело наладилось, и все стало так, как я и ожидал: в маши-
не были инструктор и ученица. Я решил воспользоваться своим
преимуществом.
— Внимание,— сказал я.— Вот полицейский!
— Остановиться?
— Уже слишком поздно.
— А что, если я попадусь? Ведь у меня нет водительских прав.
— Тогда нас обоих посадят в тюрьму.
— Боже, какой ужас!— Испугавшись, она пыталась нащу-
пать ногой тормоз.
— Дайте газ!— приказал я.— Газ! Жмите крепче! Надо гордо
и быстро промчаться мимо него. Наглость — лучшее средство
н борьбе с законом.
Полицейский не обратил на нас внимания. Девушка облег-
ченно вздохнула.
— До сих пор я не знала, что регулировщики выглядят как
огнедышащие драконы,— сказала она, когда мы проехали не-
сколько сотен метров.
— Так они выглядят, если наехать на них машиной.— Я мед-
ленно подтянул ручной тормоз.— Вот великолепная пустынная
— + 79 4* —
улица. Свернем в нее. Здесь можно хорошенько потренироваться.
Сначала поучимся трогать с места и останавливаться.
Беря с места на первой скорости, Патриция несколько раз
невольно заглушала мотор. Она расстегнула жакет.
— Что-то жарко мне стало! Но я должна научиться!
Внимательная и полная рвения, она следила за всем, что я ей
показывал. Потом сделала несколько поворотов, издавая при
этом взволнованные короткие восклицания. Фары встречных
машин вызывали в ней дьявольский страх и такую же гордость,
когда они оказывались позади. Вскоре в маленьком пространстве,
полуосвещенном лампочками приборов на контрольном щитке,
возникло чувство товарищества, какое быстро устанавливается
в практических делах, и, когда через полчаса я снова сел за руль
и повез ее домой, мы чувствовали такую близость, будто расска-
зали друг другу историю всей своей жизни.
* * ♦
Недалеко от Николаиштрассе я опять остановил машину.
Над нами сверкали красные огни кинорекламы. Асфальт мосто-
вой переливался матовыми отблесками, как выцветшая пурпур-
ная ткань. Около тротуара блестело большое черное пятно —
у кого-то пролилось масло.
— Так,— сказал я,— теперь мы имеем полное право опроки-
нуть по рюмочке. Где бы нам это сделать?
Патриция Хольман задумалась на минутку.
— Давайте поедем опять в этот милый бар с парусными ко-
рабликами,— предложила она.
Меня мгновенно охватило сильнейшее беспокойство. Я мог
дать голову на отсечение, что там сейчас сидит последний ро-
мантик. Я заранее представлял себе его лицо.
— Ах,— сказал я поспешно,— что там особенного? Есть
много более приятных мест...
— Не знаю... Мне там очень понравилось.
— Правда?— спросил я изумленно.— Вам понравилось там?
— Да,— ответила она смеясь.— И даже очень...
«Вот так раз!— подумал я.— А я-то ругал себя за это!» Я еще
раз попытался отговорить ее:
— Но, по-моему, сейчас там битком набито.
— Можно подъехать и посмотреть.
— Да, это можно.
Я обдумывал, как мне быть.
Когда мы приехали, я торопливо вышел из машины:
— Побегу посмотрю. Сейчас же вернусь.
— 4* 80 4* —
В баре не было ни одного знакомого, кроме Валентина.
— Скажи-ка, Готтфрид уже был здесь?
Валентин кивнул:
— Он ушел с Отто. Полчаса назад.
— Жаль,— сказал я с явным облегчением.— Мне очень хоте-
лось их повидать.
Я пошел обратно к машине.
— Рискнем,— заявил я.— К счастью, тут сегодня не так уж
с грашно.
Все же из предосторожности я поставил «кадиллак» за углом,
п самом темном месте.
Мы не посидели и десяти минут, как у стойки появилась соло-
менная шевелюра Ленца. «Проклятье,— подумал я,— дождался!
Лучше бы это произошло через несколько недель».
Казалось, что Готтфрид намерен тут же уйти. Я уже считал
себя спасенным, но вдруг заметил, что Валентин показывает
на меня. Поделом мне — в наказанье за вранье. Лицо Готтфрида,
когда он увидел нас, могло бы послужить великолепным образ-
цом мимики для наблюдательного киноактера. Глаза его выпу-
чились, как желтки яичницы-глазуньи, и я испугался, как бы
у него не отвалилась нижняя челюсть. Жаль, что в баре не было
режиссера. Бьюсь об заклад, он немедленно предложил бы Ленцу
ангажемент. Его можно было бы, например, использовать
в фильме, где перед матросом, потерпевшим кораблекрушение,
внезапно из пучины всплывает морской змей.
Готтфрид быстро овладел собой. Я бросил на него взгляд,
умоляя исчезнуть. Он ответил мне подленькой ухмылкой, опра-
вил пиджак и подошел к нам.
Я знал, что мне предстоит, и, не теряя времени, перешел
в наступление.
— Ты уже проводил фрейлейн Бомблат домой?— спросил я,
чтобы сразу нейтрализовать его.
— Да,— ответил он, не моргнув глазом и не выдав ничем, что
до этой секунды ничего не знал о существовании фрейлейн Бом-
блат.— Она шлет тебе привет и просит, чтобы ты позвонил ей
завтра утром пораньше.
Это был неплохой контрудар. Я кивнул.
— Ладно, позвоню. Надеюсь, она все-таки купит машину.
Ленц опять открыл было рот, но я ударил его по ноге и по-
смотрел так выразительно, что он, усмехнувшись, осекся.
Мы выпили несколько рюмок. Боясь захмелеть и сболтнуть
что-нибудь лишнее, я пил только коктейли «садк-кар» с боль-
шими кусками лимона.
— 4* 81 4* —
Готтфрид был в отличном настроении.
— Только что заходил к тебе,— сказал он.— Думал, пройдемся
вместе. Потом зашел в луна-парк. Там устроили великолепную
новую карусель и американские горки. Давайте поедем туда!—
Он посмотрел на Патрицию.
— Едем немедленно!— воскликнула она.— Люблю карусели
больше всего на свете!
— Поедем,— сказал я. Мне хотелось уйти из бара. На свежем
воздухе все должно было стать проще.
* * ♦
Шарманщики — передовые посты луна-парка. Меланхоли-
ческие нежные звуки. На потертых бархатных накидках шарма-
нок можно увидеть попугая или маленькую озябшую обезьянку
в красной суконной курточке. Резкие выкрики торговцев. Они
продают состав для склеивания фарфора, алмазы для резки
стекла, турецкий мед, воздушные шары и ткани для костюмов.
Холодный синий свет и острый запах карбидных ламп. Гадалки,
астрологи, ларьки с пряниками, качели-лодочки, павильоны
с аттракционами. И, наконец, оглушительная музыка, пестрота
и блеск — освещенные, как дворец, вертящиеся башни карусели.
— Вперед, ребята!— С растрепавшимися на ветру волосами
Ленц ринулся к американским горкам: здесь был самый боль-
шой оркестр. Из позолоченных ниш, по шесть из каждой, выхо-
дили фанфаристы. Покачивая фанфарами, прижатыми к губам,
они оглашали воздух пронзительными звуками, поворачивались
во все стороны и исчезали. Это было грандиозно.
Мы уселись в большую гондолу с головою лебедя и понес-
лись вверх и вниз. Мир искрился и скользил, он наклонялся
и проваливался в черный туннель, сквозь который мы мчались
под барабанный бой, чтобы тут же вынырнуть наверх, где нас
встречали звуки фанфар и блеск огней.
— Дальше!— Готтфрид устремился к «летающей карусели»
с дирижаблями и самолетами. Мы забрались в цеппелин и сде-
лали три круга.
Слегка задыхаясь, мы снова очутились на земле.
— А теперь на чертово колесо!— заявил Ленц.
Это был большой и гладкий круг, который вращался с нарас-
тающей скоростью. Надо было удержаться на нем. На круг
встало человек двадцать. Среди них был Готтфрид. Как сума-
сшедший, он выделывал немыслимые выкрутасы ногами, и зри-
тели аплодировали ему. Всех остальных уже снесло, а он оста-
вался на кругу вдвоем с какой-то кухаркой. У нее был зад, как
— + 82 + —
V ломовой лошади. Когда круг завертелся совсем быстро, хит-
рая кухарка уселась поплотнее на самой середине, а Готтфрид
продолжал носиться вокруг нее. В конце концов последний ро-
мантик выбился из сил; он повалился в объятия кухарки, и оба
кубарем слетели с круга. Он вернулся к нам, ведя свою партнер-
шу под руку и называя ее запросто Линой. Лина смущенно улыба-
лась. Ленц спросил, желает ли она выпить чего-нибудь. Лина sa-
il вила, что пиво хорошо утоляет жажду. Оба скрылись в палатке.
— А мы?.. Куда мы пойдем сейчас?— спросила Патриция
Хольман. Ее глаза блестели.
— В лабиринт привидений,— сказал я,указывая набольшой тент.
Путь через лабиринт был полон неожиданностей. Едва мы
сделали несколько шагов, как под нами зашатался пол, чьи-то
руки ощупывали нас в темноте, из-за углов высовывались
страшные рожи, завывали привидения; мы смеялись, но вдруг
Патриция отпрянула назад, испугавшись черепа, освещенного
1еленым светом. На мгновение я обнял ее, почувствовал ее ды-
хание, шелковистые волосы коснулись моих губ, но через секун-
ду она снова рассмеялась, и я отпустил ее.
Я отпустил ее, но что-то во мне не могло расстаться с ней.
Мы давно уже вышли из лабиринта, а я все еще ощущал ее плечо,
мягкие волосы, кожу, пахнущую персиком... Я старался не смо-
треть на нее. Она сразу стала для меня другой.
Ленц уже ждал нас. Он был один.
— Где Лина?— спросил я.
— Накачивается пивом,— ответил он и кивнул головой
на палатку в сельском стиле.— С каким-то кузнецом.
— Прими мои соболезнования.
— Все это ерунда. Давай-ка лучше займемся серьезным муж-
ским делом.
Мы направились к павильону, где набрасывали гуттаперче-
вые кольца на крючки. Здесь были всевозможные выигрыши.
— Так,— сказал Ленц, обращаясь к Патриции, и сдвинул
шляпу на затылок.— Сейчас мы вам добудем полное приданое.
Он начал первым и выиграл будильник. Я бросил кольцо
вслед за ним и получил в награду плюшевого мишку. Владелец
павильона шумливо и торжественно вручил нам оба выигрыша,
чтобы привлечь новых клиентов.
— Ты у меня притихнешь,— усмехнулся Готтфрид и тут же
шарканил сковородку. Я подцепил второго мишку.
— Ведь вот как везет!— сказал владелец павильона, переда-
вая нам вещи.
— + 83 4* —
Бедняга не знал, что его ждет. Ленц был первым в роте по ме-
танию ручной гранаты, а зимой, когда дел было немного, мы ме-
сяцами напролет тренировались в набрасывании шляп на все-
возможные крюки. В сравнении с этим гуттаперчевые кольца
казались нам детской забавой. Без труда Готтфрид завладел
следующим предметом — хрустальной вазой для цветов. Я —
полудюжиной патефонных пластинок. Владелец павильона
молча подал нам добычу и проверил свои крючки. Ленц прице-
лился, метнул кольцо и получил кофейный сервиз, второй
по стоимости выигрыш. Вокруг нас столпилась куча зрителей.
Я поспешно набросил еще три кольца на один крючок. Резуль-
тат: кающаяся святая Магдалина в золоченой раме.
Лицо владельца павильона вытянулось, словно он был
на приеме у зубного врача. Он отказался выдать нам новые
кольца. Мы уже решили было прекратить игру, но зрители под-
няли шум, требуя от хозяина, чтобы он не мешал нам развле-
каться. Они хотели быть свидетелями его разорения. Больше
всех шумела Лина, внезапно появившаяся со своим кузнецом.
— Бросать мимо разрешается, не правда ли?— закаркала
она.— А попадать разве запрещено?
Кузнец одобрительно загудел.
— Ладно,— сказал Ленц,— каждый еще по разу.
Я бросил первым. Умывальный таз с кувшином и мыльницей.
Затем изготовился Ленц. Он взял пять колец. Четыре он наки-
нул с необычайной быстротой на один и тот же крюк. Прежде
чем бросить пятое, он сделал нарочитую паузу и достал сигарету.
Трое мужчин услужливо поднесли ему зажженные спички. Куз-
нец хлопнул его по плечу. Лина, охваченная крайним волнением,
жевала свой носовой платок. Готтфрид прицелился и легким
броском накинул последнее кольцо на четыре остальных. Раз-
дался оглушительный рев. Ленцу достался главный выигрыш —
детская коляска с розовым одеялом и кружевной накидкой.
Осыпая нас проклятьями, хозяин выкатил коляску. Мы погру-
зили в нее все свои трофеи и двинулись к следующему павильо-
ну. Коляску толкала Лина. Кузнец отпускал по этому поводу та-
кие остроты, что мне с Патрицией пришлось немного отстать.
В следующем павильоне набрасывали кольца на бутылки с ви-
ном. Если кольцо садилось на горлышко, бутылка была выигра-
на. Мы взяли шесть бутылок. Ленц посмотрел на этикетки и по-
дарил бутылки кузнецу.
Был еще один павильон такого рода. Но хозяин уже почуял
недоброе и, когда мы подошли, объявил нам, что павильон за-
крыт. Кузнец, заметив бутылки с пивом, начал было скандалить,
— + 84 4* —
но мы отказались от своих намерений: у хозяина павильона была
только одна рука.
Сопровождаемые целой свитой, мы подошли к «кадиллаку».
— Что же придумать?— спросил Ленц, почесывая голову.—
Самое лучшее — привязать коляску сзади и взять ее на буксир.
— Конечно,— сказал я.— Только тебе придется сесть в нее
и править, а то еще опрокинется.
Патриция Хольман запротестовала. Она испугалась, поду-
мав, что Ленц действительно сядет в коляску.
— Хорошо,— заявил Ленц,— тогда давайте рассортируем вещи.
Обоих мишек вы должны обязательно взять себе. Патефонные
пластинки тоже. Как насчет сковородки?
Девушка покачала головой.
— Тогда она переходит во владение мастерской,— сказал
Готтфрид.— Возьми ее, Робби, ты ведь старый специалист
по глазуньям. А кофейный сервиз?
Девушка кивнула в сторону Лины. Кухарка покраснела. Готт-
фрид передал ей сервиз по частям, словно награждая ее при-
зом. Потом он вынул из коляски таз для умывания:
— Керамический! Подарим его господину кузнецу, не прав-
да ли? Он ему пригодится. А заодно и будильник. У кузнецов
тяжелый сон.
Я передал Готтфриду цветочную вазу. Он вручил ее Лине.
Заикаясь от волнения, она пыталась отказаться. Ее глаза не от-
рывались от кающейся' Магдалины. Она боялась, что если ей
отдадут вазу, то картину получит кузнец.
— Очень уж я обожаю искусство,— пролепетала она. Трога-
тельная в своей жадности, она стояла перед нами и покусывала
красные пальцы.
— Уважаемая фрейлейн, что вы скажете по этому поводу?—
спросил Ленц, величественно оборачиваясь к Патриции Хольман.
Патриция взяла картину и отдала ее Лине.
— Это очень красивая картина,— сказала она.
— Повесь над кроватью и вдохновляйся,— добавил Ленц.
Кухарка схватила картину. Глаза ее увлажнились. От благо-
дарности у нее началась сильная икота.
— А теперь твоя очередь,— задумчиво произнес Ленц, обра-
щаясь к детской коляске.
Глаза Лины снова загорелись жадностью.
Кузнец заметил, что никогда, мол, нельзя знать, какая вещь
может понадобиться человеку. При этом он так расхохотался,
что уронил бутылку с вином. Но Ленц решил, что с них хватит.
— + 85 4* —
— Погодите-ка, я тут кое-что заметил,— сказал он и исчез.
Через несколько минут он пришел за коляской и укатил ее.—
Все в порядке,— сказал он, вернувшись без коляски.
Мы сели в «кадиллак».
— Задарили, прямо как на Рождество!— сказала Лина, про-
тягивая нам на прощанье красную лапу. Она стояла среди своего
имущества и сияла от счастья.
Кузнец отозвал нас в сторону.
— Послушайте!— сказал он.— Если вам понадобится кого-
нибудь вздуть, мой адрес — Лейбницштрассе, шестнадцать,
задний двор, второй этаж, левая дверь. Ежели против вас будет
несколько человек, я прихвачу с собой своих ребят.
— Договорились!— ответили мы и поехали.
Миновав луна-парк и свернув за угол, мы увидели нашу ко-
ляску и в ней настоящего младенца. Рядом стояла бледная, еще
не оправившаяся от смущения женщина.
— Здорово, а?— сказал Готтфрид.
— Отнесите ей и медвежат!— воскликнула Патриция.— Они
там будут кстати!
— Разве что одного,— сказал Ленц.— Другой должен остать-
ся у вас.
— Нет, отнесите обоих.
— Хорошо.— Ленц выскочил из машины, сунул женщине
плюшевых зверят в руки и, не дав ей опомниться, помчался
обратно, словно его преследовали.— Вот,— сказал он, перево-
дя дух,— а теперь мне стало дурно от собственного благород-
ства. Высадите меня, у «Интернационаля». Я обязательно дол-
жен выпить коньяку.
Я высадил Ленца и отвез Патрицию домой. Все было иначе,
чем в прошлый раз. Она стояла в дверях, и по ее лицу то и дело
пробегал колеблющийся свет фонаря. Она была великолепна.
Мне очень хотелось остаться с ней.
— Спокойной ночи,— сказал я,— спите хорошо.
— Спокойной ночи.
Я глядел ей вслед, пока не погас свет на лестнице. Потом сел
в «кадиллак» и поехал. Странное чувство овладело мной. Все
было так не похоже на другие вечера, когда вдруг начинаешь
сходить с ума по какой-нибудь девушке. Было гораздо больше
нежности, хотелось хоть раз почувствовать себя совсем свобод-
ным. Унестись... Все равно куда...
Я поехал к Ленцу в «Интернациональ». Там было почти пус-
то. В одном углу сидела Фрицци со своим другом, кельнером
Алоисом. Они о чем-то спорили. Готтфрид сидел с Мими и Валли
— 4* 86 + —
ни диванчике около стойки. Он вел себя весьма галантно с ними,
даже с бедной старенькой Мими.
Вскоре девицы ушли. Им надо было работать — подоспело
самое время. Мими кряхтела и вздыхала, жалуясь на склероз.
Я подсел к Готтфриду.
— Говори сразу все,— сказал я.
— Зачем, детка? Ты делаешь все совершенно правильно,—
ответил он к моему изумлению.
Мне стало легче, оттого что он так просто отнесся ко всему.
— Мог бы раньше слово вымолвить,— сказал я.
Он махнул рукой.
— Ерунда!
Я заказал рому. Потом я сказал ему:
— Знаешь, я ведь понятия не имею, кто она, и все такое. Не знаю,
что у нее с Биндингом. Кстати, тогда он сказал тебе что-нибудь?
Он посмотрел на меня.
— Разве это беспокоит тебя?
— Нет.
— Так я и думал. Между прочим, пальто тебе идет.
Я покраснел.
— Нечего краснеть. Ты абсолютно прав. Хотелось бы и мне
уметь так...
Я помолчал немного.
— Готтфрид, но почему же?— спросил я наконец.
Он посмотрел на меня.
— Потому, что все остальное дерьмо, Робби. Потому, что
в наше время нет ничего стоящего. Вспомни, что тебе говорил
вчера Фердинанд. Не так уж он не прав, этот старый толстяк, ма-
люющий покойников. Вот, а теперь садись за пианино и сыграй
несколько старых солдатских песен.
Я сыграл «Три лилии» и «Аргоннский лес». Я вспоминал, где
мы распевали эти песни, и мне казалось, что здесь, в этом пус-
том кафе, они звучат как-то призрачно...
VII
Два дня спустя Кестер, запыхавшись, выскочил из мастерской.
— Робби, звонил твой Блюменталь. В одиннадцать ты должен
подъехать к нему на «кадиллаке». Он хочет совершить пробную
поездку. Если бы только это дело выгорело!
— А что я вам говорил?— раздался голос Ленца из смотро-
вой ямы, над которой стоял «форд».— Я сказал, что он появится
снова. Всегда слушайте Готтфрида!
— 4* 87 4* —
— Да заткнись ты, ведь ситуация серьезная!— крикнул
я ему.— Отто, сколько я могу ему уступить?
— Крайняя уступка — две тысячи. Самая крайняя — две ты-
сячи двести. Если нельзя будет никак иначе — две тысячи пятьсот.
Если ты увидишь, что перед тобой сумасшедший,—две шесть-
сот. Но тогда скажи, что мы будем проклинать его веки вечные.
— Ладно.
Мы надраили машину до немыслимого блеска. Я сел за руль.
Кестер положил мне руку на плечо:
— Робби, помни: ты был солдатом и не раз попадал в пере-
делки. Защищай честь нашей мастерской до последней капли
крови. Умри, но не снимай руки с бумажника Блюменталя.
— Будет сделано,— улыбнулся я.
Ленц вытащил какую-то медаль из кармана.
— Потрогай мой амулет, Робби!
— Пожалуйста.
Я потрогал медаль.
Готтфрид произнес заклинание:
— Абракадабра, великий Шива, благослови этого трусишку,
надели его силой и отвагой!.. Или лучше вот что — возьми-ка
амулет с собой! А теперь плюнь три раза.
— Все в порядке,— сказал я, плюнул ему под ноги и поехал.
Юпп возбужденно отсалютовал мне бензиновым шлангом.
По дороге я купил несколько пучков гвоздик и искусно, как мне
показалось, вставил их в хрустальные вазочки, укрепленные
в машине. Это было рассчитано на фрау Блюменталь.
К сожалению, Блюменталь принял меня в конторе, а не на квар-
тире. Мне пришлось подождать четверть часа. «Знаю я эти штуч-
ки, дорогой мой,— подумал я.— Этим ты меня не смягчишь».
В приемной я разговорился с хорошенькой стенографисткой
и, подкупив ее гвоздикой из своей петлицы, стал выведывать
подробности о фирме ее патрона. Трикотажное производство,
хороший сбыт, в конторе девять человек, сильнейшая конку-
ренция со стороны фирмы «Майер и сын», сын Майера разъез-
жает в двухместном красном «эссексе» — вот что успел я узнать,
пока Блюменталь не распорядился позвать меня.
Он сразу же попробовал взять меня на пушку.
— Молодой человек,— сказал он.— У меня мало времени.
Цена, которую вы мне недавно назвали,— ваша несбыточная
мечта. Итак, положа руку на сердце, сколько стоит машина?
— Семь тысяч,— ответил я.
Он резко отвернулся.
— Тогда ничего не выйдет.
— 4* 88 4* —
— Господин Блюменталь,— сказал я,— взгляните на машину
еще раз...
— Незачем,— прервал он меня.— Ведь недавно я ее внима-
тельно осмотрел...
— Можно видеть и видеть,— заметил я.— Вам надо посмотреть
детали. Первоклассная лакировка, выполнена фирмой «Фоль
и Рурбек», себестоимость двести пятьдесят марок. Новый ком-
плект резины, цена по каталогу шестьсот марок. Вот вам уже
восемьсот пятьдесят. Обивка сидений, тончайший корд...
Он сделал отрицательный жест. Я начал снова. Я предложил
ему осмотреть роскошный набор инструментов, великолепный
кожаный верх, хромированный радиатор, ультрасовременные
бамперы — шестьдесят марок пара; как ребенка к матери, меня
тянуло назад к «кадиллаку», и я пытался уговорить Блюмента-
ля выйти со мной к машине. Я знал, что, стоя на земле, я, подоб-
но Антею, почувствую прилив новых сил. Когда показываешь
товар лицом, абстрактный ужас покупателя перед ценой замет-
но уменьшается.
Но и Блюменталь хорошо чувствовал свою силу за письмен-
ным столом. Он снял очки и только тогда взялся за меня по-на-
стоящему. Мы боролись, как тигр с удавом. Удавом был Блю-
менталь. Я и оглянуться не успел, как он выторговал полторы
тысячи марок в свою пользу.
У меня затряслись поджилки. Я сунул руку в карман и крепко
сжал амулет Готтфрида.
— Господин Блюменталь,— сказал я, заметно выдохшись,—
уже час Дня, вам, конечно, пора обедать!— Любой ценой я хо-
тел выбраться из этой комнаты, в которой цены таяли, как снег.
— Я обедаю только в два часа,— холодно ответил Блюмен-
таль.— Но знаете что? Мы могли бы совершить сейчас проб-
ную поездку.
Я облегченно вздохнул.
— Потом продолжим разговор,— добавил он.
У меня снова сперло дыхание.
Мы поехали к нему домой. К моему изумлению, оказавшись
в машине, он вдруг совершенно преобразился и добродушно
рассказал мне старинный анекдот об императоре Франце-Иосифе.
Я ответил ему анекдотом о трамвайном кондукторе; тогда он
рассказал мне о заблудившемся саксонце, а я ему про шотланд-
скую любовную пару... Только у подъезда его дома мы снова
стали серьезными. Он попросил меня подождать и отправился
за женой.
— + 89 + —
— Мой дорогой толстый «кадиллак»,— сказал я и похлопал
машину по радиатору.— За всеми этими анекдотами, бесспорно,
кроется какая-то новая дьявольская затея. Но не волнуйся, мы
пристроим тебя под крышей его гаража. Он купит тебя: уж коли
еврей возвращается обратно, то он покупает. Когда возвраща-
ется христианин, он еще долго не покупает. Он требует с пол-
дюжины пробных поездок, чтобы экономить на такси, и после
всего вдруг вспоминает, что вместо машины ему нужно приоб-
рести оборудование для кухни. Нет, нет, евреи хороши, они знают,
чего хотят. Но клянусь тебе, мой дорогой толстяк: если я уступлю
этому потомку строптивого Иуды Маккавея еще хоть одну сот-
ню марок, то в жизни не притронусь больше к водке.
•Появилась фрау Блюменталь. Я вспомнил все наставления
Ленца и мгновенно превратился из воина в кавалера. Заметив
это, Блюменталь гнусно усмехнулся. Это был железный человек,
ему бы торговать не трикотажем, а паровозами.
Я позаботился о том, чтобы его жена села рядом со мной,
а он — на заднее сиденье.
— Куда разрешите вас повезти, сударыня?— спросил я слад-
чайшим голосом.
— Куда хотите,— ответила она с материнской улыбкой.
Я начал болтать. Какое блаженство беседовать с таким просто-
душным человеком. Я говорил тихо, Блюменталь мог слышать
только обрывки фраз. Так я чувствовал себя свободнее. Но все-
таки он сидел за моей спиной, и это само по себе было доста-
точно неприятно.
Мы остановились. Я вышел из машины и посмотрел своему
противнику в глаза.
— Господин Блюменталь, вы должны согласиться, что машина
идет идеально.
— Пусть идеально, а толку что, молодой человек?— возразил
он мне с непонятной приветливостью.— Ведь налоги съедают
все. Налог на эту машину слишком высок. Это я вам говорю.
— Господин Блюменталь,— сказал я, стремясь не сбиться
с тона,— вы деловой человек, с вами я могу говорить откровенно.
Это не налог, а издержки. Скажите сами, что нужно сегодня для
ведения дела? Вы это знаете: не капитал, как прежде, а кредит.
Вот что нужно! А как добиться кредита? Надо уметь показать
себя. «Кадиллак» — солидная и быстроходная машина, уютная,
но не старомодная. Выражение здравого буржуазного начала.
Живая реклама для фирмы.
Развеселившись, Блюменталь обратился к жене:
— 4* 90 4* —
— У него еврейская голова, а?.. Молодой человек,— сказал он
штем,— в наши дни лучший признак солидности — потрепан-
ный костюм и поездки в автобусе, вот это реклама! Если бы у нас
с вами были деньги, которые еще не уплачены за все эти эле-
гантные машины, мчащиеся мимо нас, мы могли бы с легким
сердцем уйти на покой. Это я вам говорю. Доверительно.
Я недоверчиво посмотрел на него. Почему он вдруг стал таким
любезным? Может быть, присутствие жены умеряет его боевой
ныл? Я решил выпустить главный заряд.
— Ведь такой «кадиллак» не чета какому-нибудь «эссексу»,
не так ли, сударыня? Младший совладелец фирмы «Майер и сын»,
например, разъезжает в «эссексе», а мне и даром не нужен этот
ярко-красный драндулет, режущий глаза.
Блюменталь фыркнул, и я быстро добавил:
— Между прочим, сударыня, цвет обивки очень вам к лицу —
приглушенный синий кобальт для блондинки...
Вдруг лицо Блюменталя расплылось в широкой улыбке. Сме-
ялся целый лес обезьян.
— «Майер и сын» — здорово! Вот это здорово!— стонал он.—
И вдобавок еще эта болтовня насчет кобальта и блондинки...
Я взглянул на него, не веря своим глазам: он смеялся от души!
Не теряя ни секунды, я ударил по той же струне:
— Господин Блюменталь, позвольте мне кое-что уточнить.
Для женщины это не болтовня. Это комплименты, которые
я наше жалкое время, к сожалению, слышатся все реже. Жен-
щина — это вам не металлическая мебель; она — цветок. Она
не хочет деловитости. Ей нужны солнечные, милые слова. Луч-
ше говорить ей каждый день что-нибудь приятное, чем всю
жизнь с угрюмым остервенением работать на нее. Это я вам го-
ворю. Тоже доверительно. И, кстати, я не делал никаких ком-
плиментов, а лишь напомнил один из элементарных законов
физики: синий цвет идет блондинкам.
— Хорошо рычишь, лев,— сказал Блюменталь.— Послушайте,
юсподин Локамп! Я знаю, что могу запросто выторговать еще
тысячу марок...
Я сделал шаг назад. «Коварный сатана,— подумал я,— вот
удар, которого я ждал». Я уже представлял себе, что буду про-
должать жизнь трезвенником, и посмотрел на фрау Блюмен-
таль глазами истерзанного ягненка.
— Но, отец...— сказала она.
— Оставь, мать,— ответил он.— Итак, я мог бы... Но я этого
нс сделаю. Мне, как деловому человеку, было просто забавно
посмотреть, как вы работаете. Пожалуй, еще слишком много
_ 91 4* —
фантазии, но все же... Насчет «Майера и сына» получилось не-
дурно. Ваша мать — еврейка?
— Нет.
— Вы имели отношение к готовой одежде?
-Да.
— Вот видите, отсюда и стиль. В какой отрасли работали?
— В душевной,— сказал я.— Я должен был стать школьным
учителем.
— Господин Локамп,— сказал Блюменталь,— почет вам
и уважение! Если окажетесь без работы, позвоните мне.
Он выписал чек и дал его мне. Я не верил глазам своим! За-
даток! Чудо.
— Господин Блюменталь,— сказал я подавленно,— позволь-
те мне бесплатно приложить к машине две хрустальные пепель-
ницы и первоклассный резиновый коврик.
— Ладно,— согласился он,— вот и старому Блюменталю до-
стался подарок.
Затем он пригласил меня на следующий день к ужину. Фрау
Блюменталь по-матерински улыбнулась мне.
— Будет фаршированная щука,— мягко сказала она.
— Это деликатес,— заявил я.— Тогда я завтра же пригоню
вам машину. С утра мы ее зарегистрируем.
* * *
Словно ласточка полетел я назад в мастерскую. Но Ленц
и Кестер ушли обедать. Пришлось сдержать свое торжество.
Один Юпп был на месте.
— Продали?— спросил он.
— А тебе все надо знать, пострел?— сказал я.— Вот тебе три
марки. Построй себе на них самолет.
— Значит, продали,— улыбнулся Юпп.
— Я поеду сейчас обедать,— сказал я.— Но горе тебе, если
ты скажешь им хоть слово до моего возвращения.
— Господин Локамп,— заверил он меня, подкидывая монету
в воздух,— я нем, как могила.
— Так я тебе и поверил,— сказал я и дал газ.
Когда я вернулся во двор мастерской, Юпп сделал мне знак.
— Что случилось?— спросил я.— Ты проболтался?
— Что вы, господин Локамп! Могила!— Он улыбнулся.—
Только... Пришел этот тип... Насчет «форда».
Я оставил «кадиллак» во дворе и пошел в мастерскую. Там
я увидел булочника, который склонился над альбомом с образ-
цами красок. На нем было клетчатое пальто с поясом и траур-
— + 92 + —
ным крепом на рукаве. Рядом стояла хорошенькая особа с чер-
ными бойкими глазками, в распахнутом пальтишке, оторочен-
ном поредевшим кроличьим мехом, и в лаковых туфельках, ко-
торые ей были явно малы. Черноглазая дамочка облюбовала
яркий сурик, но булочник еще носил траур и красный цвет вы-
зывал у него сомнение. Он предложил блеклую желтовато-серую
краску.
— Тоже выдумал!— зашипела она.— «Форд» должен быть
отлакирован броско, иначе он ни на что не будет похож.
Когда булочник углублялся в альбом, она посылала нам заго-
ворщицкие взгляды, поводила плечами, кривила рот и подмиги-
вала. В общем вела себя довольно резво. Наконец они сошлись
на зеленоватом оттенке, напоминающем цвет резеды. К такому
кузову дамочке нужен был светлый откидной верх. Но тут бу-
лочник показал характер: его траур должен был как-то про-
рваться, и он твердо настоял на черном кожаном верхе. При
л ом он оказался в выигрыше: верх мы ставили ему бесплатно,
а кожа стоила дороже брезента.
Они вышли из мастерской, но задержались во дворе: едва за-
метили «кадиллак», черноглазая пулей устремилась к нему:
— Погляди-ка, пупсик, вот так машина! Просто прелесть!
Очень мне нравится!
В следующее мгновение она открыла дверцу и шмыгнула
на сиденье, щурясь от восторга:
— Вот это сиденье! Колоссально! Настоящее кресло. Не то что
твой «форд»!
— Ладно, пойдем,— недовольно пробормотал пупсик.
Ленц толкнул меня — дескать, вперед на врага, и попытайся на-
вязать булочнику машину. Я смерил Готтфрида презрительным
взглядом и промолчал. Он толкнул меня сильнее. Я отвернулся.
Булочник с трудом извлек свою черную жемчужину из маши-
ны и ушел с ней, чуть сгорбившись и явно расстроенный.
Мы смотрели им вслед.
— Человек быстрых решений!— сказал я.— Машину отре-
монтировал, завел новую женщину... Молодец!
— Да,— заметил Кестер.— Она его еще порадует.
Только они скрылись за углом, как Готтфрид напустился
на меня:
— Ты что же, Робби, совсем рехнулся? Упустить такой слу-
чай! Ведь это была задача для школьника первого класса.
— Унтер-офицер Ленц!— ответил я.— Стоять смирно, когда
разговариваете со старшим! По-вашему, я сторонник двоежен-
ства и дважды выдам машину замуж?
— 4* 93 4* —
Стоило увидеть Готтфрида в эту великую минуту. От удивле-
ния его глаза стали большими, как тарелки.
— Не шути святыми вещами,— сказал он, заикаясь.
Я даже не посмотрел на него и обратился к Кестеру:
— Отто, простись с «кадиллаком», с нашим детищем! Он
больше не принадлежит нам. Отныне он будет сверкать во славу
фабриканта кальсон! Надеюсь, у него там будет неплохая
жизнь! Правда, не такая героическая, как у нас, но зато более
надежная.
Я вытащил чек. Ленц чуть не раскололся надвое.
— Но ведь он не... оплачен. Денег-то пока нет?..— хрипло
прошептал он.
— А вы лучше угадайте, желторотые птенцы,— сказал я, раз-
махивая чеком,— сколько мы получим?
— Четыре!— крикнул Ленц с закрытыми глазами.
— Четыре пятьсот!— сказал Кестер.
Пять,— донесся возглас Юппа, стоявшего у бензоколонки.
— Пять пятьсот!— прогремел я.
Ленц выхватил у меня чек.
— Это невозможно! Чек наверняка останется неоплаченным!
— Господин Ленц,— сказал я с достоинством.— Этот чек столь
же надежен, сколь ненадежны вы! Мой друг Блюменталь в со-
стоянии уплатить в двадцать раз больше. Мой друг, понимаете
ли, у которого я завтра вечером буду есть фаршированную щуку.
Пусть это послужит вам примером! Завязать дружбу, получить
задаток и быть приглашенным на ужин — вот что значит у\1еть
продать! Так, а теперь вольно!
Готтфрид с трудом овладел собой. Он сделал последнюю по-
пытку:
— А мое объявление в газете! А мой амулет!
Я сунул ему медаль.
— На, возьми свой собачий жетончик. Совсем забыл о нем.
— Робби, ты продал машину безупречно,— сказал Кестер.—
Слава Богу, что мы избавились от этой колымаги. Выручка нам
очень пригодится.
— Дашь мне пятьдесят марок авансом?— спросил я.
— Сто! Заслужил!
— Может быть, заодно ты возьмешь в счет аванса и мое се-
рое пальто?— спросил Готтфрид, прищурив глаза.
— Может быть, ты хочешь угодить в больницу, жалкий бес-
тактный ублюдок?— спросил я его в свою очередь.
— + 94 4* —
— Ребята, шабаш! На сегодня хватит!— предложил Кестер.—
Достаточно заработали за один день! Нельзя испытывать Бога.
Возьмем «Карла» и поедем тренироваться. Гонки на носу.
Юпп давно позабыл о своей бензопомпе. Он был взволнован
и потирал руки.
— Господин Кестер, значит, пока я тут остаюсь за хозяина?
— Нет, Юпп,— сказал Отто, смеясь,— поедешь с нами!
Сперва мы поехали в банк и сдали чек. Ленц не мог успоко-
иться, пока не убедился, что чек настоящий. А потом мы понес-
лись, да так, что из выхлопной трубы посыпались искры.
VIII
Я стоял перед своей хозяйкой.
— Пожар, что ли, случился?— спросила фрау Залевски.
— Никакого пожара,— ответил я.— Просто хочу уплатить
ia квартиру.
До срока оставалось еще три дня, и фрау Залевски чуть
не упала от удивления.
— Здесь что-то не так,— заметила она подозрительно.
— Все абсолютно так,— сказал я.— Можно мне сегодня ве-
чером взять оба парчовых кресла из вашей гостиной?
Готовая к бою, она уперла руки в толстые бедра.
— Вот так раз! Вам больше не нравится ваша комната?
— Нравится. Но ваши парчовые кресла еще больше.
Я сообщил ей, что меня, возможно, навестит кузина и что по-
лому мне хотелось бы обставить свою комнату поуютнее. Она
гак расхохоталась, что грудь ее заходила ходуном.
— Кузина,— повторила она презрительно.— И когда придет
>та кузина?
— Еще неизвестно, придет ли она,— сказал я,— но если она
придет, то, разумеется, рано... Рано вечером, к ужину. Между
прочим, фрау Залевски, почему, собственно, не должно быть
на свете кузин?
— Бывают, конечно,— ответила она,— но для них не одал-
живают кресла.
— А я вот одалживаю,— сказал я твердо,— во мне очень
сильно развиты родственные чувства.
— Как бы не так! Все вы ветрогоны. Все, как один. Можете
взять парчовые кресла. В гостиную поставите пока красные
плюшевые.
— Благодарю. Завтра принесу все обратно. И ковер тоже.
— Ковер?— Она повернулась.— Кто здесь сказал хоть слово
о ковре?
— 4* 95 4* —
— Я. И вы тоже. Вот только сейчас.
Она возмущенно посмотрела на меня.
— Без него нельзя,— сказал я.— Ведь кресла стоят на нем.
— Господин Локамп!— величественно произнесла фрау Залев-
ски.— Не заходите слишком далеко! Умеренность во всем, как го-
варивал покойный Залевски. Следовало бы и вам усвоить это.
Я знал, что покойный Залевски, несмотря на этот девиз, од-
нажды напился так, что умер. Его жена часто сама рассказыва-
ла мне о его смерти. Но дело было не в этом. Она пользовалась
своим мужем, как иные люди Библией,— для цитирования.
И чем дольше он лежал в гробу, тем чаще она вспоминала его из-
речения. Теперь он годился уже на все случаи,— как и Библия.
* ♦ ♦
Я прибирал свою комнату и украшал ее. Днем я созвонился
с Патрицией Хольман. Она болела, и я не видел ее почти неде-
лю. Мы условились встретиться в восемь часов; я предложил ей
поужинать у меня, а потом пойти в кино.
Парчовые кресла и ковер казались мне роскошными, но осве-
щение портило все. Рядом со мной экили супруги Хассе. Я по-
стучал к ним, чтобы попросить настольную лампу. Усталая
фрау Хассе сидела у окна. Мужа еще не было. Опасаясь уволь-
нения, он каждый день добровольно пересиживал час-другой
на работе. Его жена чем-то напоминала больную птицу. Сквозь
ее расплывшиеся стареющие черты все еще проступало нежное
лицо ребенка, разочарованного и печального.
Я изложил свою просьбу. Она оживилась и подала мне лампу.
— Да,— сказала она, вздыхая,— как подумаешь, что если бы
в свое время...
Я знал эту историю. Речь шла о том, как сложилась бы ее
судьба, не выйди она за Хассе. Ту же историю я знал и в изло-
жении самого Хассе. Речь шла опять-таки о том, как бы сложи-
лась его судьба, останься он холостяком. Вероятно, это была са-
мая распространенная история в мире. И самая безнадежная.
Я послушал ее с минутку, произнес несколько ничего не знача-
щих фраз и направился к Эрне Бениг, чтобы взять у нее патефон.
Фрау Хассе говорила об Эрне лишь как об «особе, живущей
рядом». Она презирала ее, потому что завидовала. Я же относил-
ся к ней довольно хорошо. Эрна не строила себе никаких иллю-
зий и знала, что надо держаться покрепче за жизнь, чтобы урвать
хоть немного от так называемого счастья. Она знала также, что
за него приходится платить двойной и тройной ценой. Счастье —
самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете.
— 4* 96 4* —
Эрна опустилась на колени перед чемоданом и достала не-
сколько пластинок.
— Хотите фокстроты?— спросила она.
— Нет,— ответил я.— Я не танцую.
Она подняла на меня удивленные глаза:
— Вы не танцуете? Позвольте, но что же вы делаете, когда
идете куда-нибудь с дамой?
— Устраиваю танец напитков в глотке. Получается неплохо.
Она покачала головой.
— Мужчине, который не умеет танцевать, я бы сразу дала от-
ставку.
— У вас слишком строгие принципы,— возразил я.— Но ведь
есть и другие пластинки. Недавно я слышал очень приятную —
женский голос... что-то вроде гавайской музыки...
— О, это замечательная пластинка! «И как же могла я жить
без тебя!» Вы про эту?
— Правильно!.. Что только не приходит в голову авторам
этих песенок! Мне кажется, кроме них, нет больше романтиков
на земле.
Она засмеялась.
— Может быть, и так. Прежде писали стихи в альбомы,
а нынче дарят друг другу пластинки. Патефон тоже вроде аль-
бома. Если я хочу вспомнить что-нибудь, мне надо только по-
ставить нужную пластинку, и все оживает передо мной.
Я посмотрел на груды пластинок на полу.
— Если судить по этому, Эрна, у вас целый ворох воспоминаний.
Она поднялась и откинула со лба рыжеватые волосы.
— Да,— сказала она и отодвинула ногой стопку пластинок,—
но мне было бы приятнее одно, настоящее и единственное...
Я развернул покупки к ужину и приготовил все как умел. Ждать
помощи из кухни не приходилось: с Фридой у меня сложились не-
важные отношения. Она бы разбила что-нибудь. Но я обошелся
без ее помощи. Вскоре моя комната преобразилась до неузнавае-
мости — она вся сияла.
Я смотрел на кресла, на лампу, на накрытый стол, и во мне
поднималось чувство беспокойного ожидания.
Я вышел из дому, хотя в запасе у меня оставалось больше ча-
са времени. Ветер дул затяжными порывами, огибая углы домов.
Уже зажглись фонари. Между домами повисли сумерки, синие,
как море. «Интернациональ» плавал в них, как военный корабль
с убранными парусами. Я решил войти туда на минутку.
— Гоп-ля, Роберт,— обрадовалась мне Роза.
— + 97 4* —
— А ты почему здесь?— спросил я.— Разве тебе не пора на-
чинать обход?
— Рановато еще.
К нам неслышно подошел Алоис.
— Ром?— спросил он.
— Тройную порцию,— ответил я.
— Здорово берешься за дело,— заметила Роза.
— Хочу немного подзарядиться,— сказал я и выпил ром.
— Сыграешь?— спросила Роза.
Я покачал головой.
— Не хочется мне сегодня, Роза. Очень уж ветрено на улице.
Как твоя малышка?
Она улыбнулась, обнажив все свои золотые зубы:
— Хорошо. Пусть бы и дальше так. Завтра опять схожу туда.
На этой неделе неплохо подзаработала: старые козлы разыгра-
лись — весна им в голову ударила. Вот и отнесу завтра дочке
новое пальтишко. Из красной шерсти.
— Красная шерсть — последний писк моды.
— Какой ты галантный кавалер, Робби.
— Смотри не ошибись. Давай выпьем по одной. Анисовую
хочешь?
Она кивнула. Мы чокнулись.
— Скажи, Роза, что ты, собственно, думаешь о любви?—
спросил я.— Ведь в этих делах ты знаешь толк.
Она разразилась звонким смехом.
— Перестань говорить об этом,— сказала она, успокоив-
шись.— Любовь! О мой Артур! Когда я вспоминаю этого под-
леца, я и теперь еще чувствую слабость в коленях. А если по-серь-
езному, так вот что я тебе скажу, Робби: человеческая жизнь
тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком дол-
го. Артур сказал мне это, когда сбежал от меня. И это верно.
Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда становится скучно.
А другой остается ни с чем. Застынет и чего-то ждет... Ждет,
как безумный...
— Ясно,— сказал я.— Но ведь без любви человек не более
чем покойник в отпуске.
— А ты сделай, как я,— ответила Роза.— Заведи себе ребенка.
Будет тебе кого любить, и на душе спокойно будет.
— Неплохо придумано,— сказал я.— Только этого мне
не хватало!
Роза мечтательно покачала головой.
— 4* 98 4* —
— Ах, как мой Артур лупцевал меня,— и все-таки, войди он
сейчас сюда в своем котелке, сдвинутом на затылок... Боже мой!
Только подумаю об этом — и уже вся трясусь!
— Ну, давай выпьем за Артура.
Роза рассмеялась.
— Пусть живет, потаскун этакий!
Мы выпили.
— До свидания, Роза. Желаю удачного вечера!
— Спасибо! До свидания, Робби!
♦ ♦ ♦
Хлопнула парадная дверь.
— Привет!— сказала Патриция Хольман.— Какой задумчи-
вый вид!
— Нет, совсем нет! А вы как поживаете? Выздоровели? Что
с нами было?
— Ничего особенного. Простудилась, потемпературила не-
много.
Она вовсе не выглядела больной или изможденной. Напротив,
ее глаза никогда еще не казались мне такими большими и сия-
ющими, лицо порозовело, а движения были мягкими, как у гиб-
кого красивого животного.
— Вы великолепно выглядите,— сказал я.— Совершенно
(поровый вид! Мы можем придумать массу интересного.
— Хорошо бы,— ответила она.— Но сегодня не выйдет. Се-
годня я не могу.
Я посмотрел на нее непонимающим взглядом.
— Вы не можете?
Она покачала головой.
— К сожалению, нет.
Я все еще не понимал. Я решил, что она просто раздумала
идти ко мне и хочет поужинать со мной в другом месте.
— Я звонила вам,— сказала она,— хотела предупредить, чтобы
ны не приходили зря. Но вас уже не было.
Наконец я понял.
— Вы действительно не можете? Вы заняты весь вечер?—
спросил я.
— Сегодня — да. Мне нужно быть в одном месте. К сожале-
нию, я сама узнала об этом только полчаса назад.
— А вы не можете договориться на другой день?
— Нет, не получится,— она улыбнулась.— Нечто вроде дело-
ного свидания.
— 99 + —
Меня словно обухом по голове ударили. Я учел все, только
не это. Я не верил ни одному ее слову. Деловое свидание,—
но у нее был отнюдь не деловой вид! Вероятно, просто отговорка.
Даже наверное. Да и какие деловые встречи бывают по вече-
рам? Их устраивают днем. И узнают о них не за полчаса. Она
просто раздумала, вот и все.
Я расстроился, как ребенок. Только теперь я почувствовал,
как мне был дорог этот вечер. Я злился на себя за свое огорче-
ние и старался не подавать виду.
— Что ж, ладно,— сказал я.— Тогда ничего не поделаешь. До
свидания.
Она испытующе посмотрела на меня.
— Еще есть время. Я условилась на девять часов. Мы можем
еще немного погулять. Я целую неделю не выходила из дому.
— Хорошо,— нехотя согласился я. Внезапно я почувствовал
усталость и пустоту.
Мы пошли по улице. Вечернее небо прояснилось, и звезды
застыли между крышами. Мы шли вдоль газона, в тени видне-
лось несколько кустов. Патриция Хольман остановилась.
— Сирень,— сказала она.— Пахнет сиренью! Не может быть!
Для сирени еще слишком рано.
— Я и не слышу никакого запаха,— ответил я.
— Нет, пахнет сиренью.— Она перегнулась через решетку.
— Это «дафна индика», сударыня,— донесся из темноты гру-
бый голос.
Невдалеке, прислонившись к дереву, стоял садовник в фу-
ражке с латунной бляхой. Он подошел к нам, слегка пошатываясь.
Из его кармана торчало горлышко бутылки.
— Мы ее сегодня высадили,— заявил он и звучно икнул.—
Вот она.
— Благодарю вас,— сказала Патриция Хольман и поверну-
лась ко мне.— Вы все еще не слышите запаха?
— Нет, теперь что-то слышу,— ответил я неохотно.— Запах
доброй пшеничной водки.
— Правильно угадали.— Человек в тени громко рыгнул.
Я отчетливо слышал густой, сладковатый аромат цветов,
плывший сквозь мягкую мглу, но ни за что на свете не признался
бы в этом.
Девушка засмеялась и расправила плечи.
— Как это чудесно, особенно после долгого заточения в ком-
нате! Очень жаль, что мне надо уйти! Этот Биндинг! Вечно
у него спешка, все делается в последнюю минуту. Он вполне
мог бы перенести встречу на завтра!
— 4* 100 4* —
— Биндинг?— спросил я.— Вы условились с Биндингом?
Она кивнула.
— С Биндингом и еще с одним человеком. От него-то все и за-
висит. Серьезно, чисто деловая встреча. Представляете себе?
— Нет,— ответил я.— Этого я себе не представляю.
Она снова засмеялась и продолжала говорить. Но я больше
нс слушал. Биндинг! Меня словно молния ударила. Я не поду-
мал, что она знает его гораздо дольше, чем меня. Я видел толь-
ко его непомерно огромный, сверкающий «бьюик», его дорогой
костюм и бумажник. Моя убогая, старательно убранная комна-
1снка! И что это мне взбрело в голову. Лампа Хассе, кресла
<|>рау Залевски! Эта девушка вообще не для меня! Да и кто я та-
кой? Пешеход, взявший напрокат «кадиллак», жалкий пьяница,
больше ничего! Таких можно встретить на каждом углу. Я уже
видел, как швейцар в «Лозе» козыряет Биндингу, видел свет-
IIые, теплые, изящно отделанные комнаты, облака табачного
дыма и элегантно одетых людей, я слышал музыку и смех, изде-
вптельский смех над собой. «Назад,— подумал я,— скорее на-
1ид! Что ж... Во мне возникло какое-то предчувствие, какая-то
надежда... Но ведь ничего, собственно, не произошло! Было
бессмысленно затевать все это. Нет, только назад!»
— Мы можем встретиться завтра вечером, если хотите,—
сказала Патриция.
— Завтра вечером я занят,— ответил я.
— Или послезавтра, или в любой день на этой неделе. У меня
все дни свободны.
— Это будет трудно,— сказал я.— Сегодня мы получили
срочный заказ, и нам, наверно, придется работать всю неделю
допоздна.
Это было вранье, но я не мог иначе. Вдруг я почувствовал,
что задыхаюсь от бешенства и стыда.
Мы пересекли площадь и пошли по улице вдоль кладбища.
Я заметил Розу. Она шла от «Интернационаля». Ее высокие са-
пожки были начищены до блеска. Я мог бы свернуть и, вероят-
но, так бы и сделал при других обстоятельствах, но теперь
м продолжал идти ей навстречу. Роза смотрела мимо, словно мы
и не были знакомы. Таков непреложный закон: ни одна из этих
девушек не узнавала вас на улице, если вы были не одни.
— Здравствуй, Роза,— сказал я.
Она озадаченно посмотрела сначала на меня, потом на Пат-
рицию, кивнула и, смутившись, поспешно пошла дальше. Через
несколько шагов мы встретили ярко накрашенную Фрицци.
— 4* 101 + —
Покачивая бедрами, она размахивала сумочкой. Она равно-
душно посмотрела на меня, как сквозь оконное стекло.
— Привет, Фрицци,— сказал я.
Она наклонила голову, как королева, ничем не выдав своего
изумления, но я услышал, как она ускорила шаг,— ей хотелось на-
гнать Розу и обсудить с ней это происшествие. Я все еще мог бы
свернуть в боковую улицу, зная, что должны встретиться и осталь-
ные, было время большого патрульного обхода. Но, повинуясь ка-
кому-то упрямству, я продолжал идти прямо вперед — да и поче-
му я должен был избегать встреч с ними, ведь их-то я знал гораздо
лучше, чем шедшую рядом девушку с ее Биндингом и его «бьюи-
ком». Ничего, пусть посмотрит, пусть как следует наглядится.
Они прошли все вдоль длинного ряда фонарей — красавица
Валли, бледная, стройная и. элегантная; Лина с деревянной но-
гой; коренастая Эрна; Марион, которую все звали «Цыпленоч-
ком»; краснощекая Марго; женоподобный Кики в беличьей
шубке и, наконец, склеротическая бабушка Мими, похожая
на общипанную сову. Я здоровался со всеми, а когда мы про-
шли мимо «мамочки», сидевшей около своего котелка с колбас-
ками, я сердечно пожал ей руку.
— У вас здесь много знакомых,— сказала Патриция Хольман
после некоторого молчания.
— Таких — да,— туповато ответил я.
Я заметил, что она смотрит на меня.
— Думаю, теперь мы можем пойти обратно,— сказала она.
— Да,— ответил я,— и я так думаю.
Мы подошли к ее парадному.
— Будьте здоровы,— сказал я,— желаю приятно развлечься.
Она не ответила. Не без труда оторвал я взгляд от кнопки
звонка и посмотрел на Патрицию. Я не поверил своим глазам.
Я полагал, что она сильно оскорблена, но уголки ее рта подер-
гивались, глаза искрились огоньком, и вдруг она расхохоталась,
сердечно и беззаботно. Она просто смеялась надо мной.
— Ребенок,— сказала она.— О, Господи, какой же вы еще ре-
бенок!
Я вытаращил на нее глаза.
— Ну да...— сказал я наконец,— все же...— И вдруг я понял
комизм положения.— Вы, вероятно, считаете меня идиотом?
Она смеялась. Я порывисто и крепко обнял ее. Пусть думает
что хочет. Ее волосы коснулись моей щеки, лицо было совсем
близко, я услышал слабый персиковый запах ее кожи. Потом
глаза ее приблизились, и вдруг она поцеловала меня в губы...
Она исчезла прежде, чем я успел сообразить, что случилось.
— 4* 102 4* —
♦ ♦ ♦
I la обратном пути я подошел к котелку с колбасками, у кото-
рого сидела «мамочка»:
— Дай-ка мне порцию побольше.
— С горчицей?— спросила она. На ней был чистый белый
передник.
— Да, побольше горчицы, мамочка!
( тоя около котелка, я с наслаждением ел сардельки. Алоис
иынес мне из «Интернационаля» кружку пива.
— Странное существо человек, мамочка, как ты думаешь?—
сказал я.
- Вот уж правда,— ответила она с горячностью.— Напри-
мер, вчера: подходит какой-то господин, съедает две венские
сосиски с горчицей и не может заплатить за них. Понимаешь?
Уже поздно, кругом ни души, что мне с ним делать? Я его, ко-
нечно, отпустила — знаю, как бывает. И представь себе, сего-
дня он приходит, платит за сосиски и еще дает мне на чай.
— Ну, это — довоенная натура, мамочка. А как вообще идут
гнои дела?
— Плохо! Вчера семь порций венских сосисок и девять пор-
ций сарделек. Скажу тебе: если бы не девочки, я давно бы уже
кончилась.
«Девочками» она называла проституток. Они помогали «ма-
мочке» чем могли. Если им удавалось подцепить «жениха», они
обязательно старались пройти мимо нее, чтобы съесть по кол-
баске и дать старушке заработать.
— Скоро потеплеет,— продолжала «мамочка»,— но зимой,
когда сыро и холодно... Уж тут одевайся как хочешь, все равно
нс убережешься.
— Дай мне еще сардельку,— сказал я,— у меня такое чудес-
ное настроение сегодня. А как у тебя дома?.
Она посмотрела на меня маленькими, светлыми, как вода,
। лазками.
— Все одно и то же. Недавно он продал кровать.
«Мамочка» была замужем. Десять лет назад ее муж попал
под поезд метро, пытаясь вскочить на ходу. Ему пришлось ам-
путировать обе ноги. Несчастье подействовало на него доволь-
но странным образом. Оказавшись калекой, он перестал спать
( женой: ему было стыдно. Кроме того, в больнице он пристра-
ггился к морфию. Он быстро опустился, попал в компанию го-
мосексуалистов, и вскоре этот человек, пятьдесят лет бывший
ннолне нормальным мужчиной, стал якшаться только с мальчи-
ками. Перед ними он не стыдился, потому что они были мужчи-
— + 103 4* —
нами. Для женщин он был калекой, и ему казалось, что он вну-
шает им отвращение и жалость. Этого он не мог вынести. В об-
ществе мужчин он чувствовал себя человеком, попавшим
в беду. Чтобы добывать деньги на мальчиков и морфий, он во-
ровал у «мамочки» все, что мог найти, и продавал. Но «мамоч-
ка» привязана к нему, хотя он ее частенько бил. Вместе со сво-
им сыном она простаивала каждую ночь до четырех утра
у котелка с колбасками. Днем стирала белье и мыла лестницы.
Она была неизменно приветлива, считала, что в общем ей жи-
вется не так уж плохо, хотя страдала язвой кишечника и весила
девяносто фунтов. Иногда ее мужу становилось совсем невмо-
готу. Тогда он являлся к ней и плакал. Для нее это были самые
прекрасные часы.
— Ты все еще на своей хорошей работе?— спросила она.
Я кивнул:
— Да, мамочка. Теперь я зарабатываю хорошо.
— Смотри не потеряй место.
— Постараюсь, мамочка.
Я пришел домой. У парадного стояла горничная Фрида. Сам
Бог послал мне ее.
— Вы очаровательная девочка,— сказал я (мне очень хоте-
лось быть хорошим).
Она скорчила гримасу, словно выпила уксусу.
— Серьезно,— продолжал я.— Какой смысл вечно ссориться,
Фрида, жизнь коротка. Она полна всяких случайностей и пре-
вратностей. В наши дни надо держаться друг за дружку. Давайте
помиримся!
Она даже не взглянула на мою протянутую руку, пробормо-
тала что-то о «проклятых пьянчугах» и исчезла, грохнув
дверью.
Я постучал к Георгу Блоку. Под его дверью виднелась полоска
света. Он зубрил.
— Пойдем, Джорджи, жрать,— сказал я.
Он взглянул на меня. Его бледное лицо порозовело.
— Я не голоден.
Он решил, что я зову его из сострадания, и поэтому отказался.
— Ты сперва посмотри на еду,— сказал я.— Пойдем, а то все
испортится. Сделай одолжение.
Когда мы шли по коридору, я заметил, что дверь Эрны Бениг
слегка приоткрыта. За дверью слышалось тихое дыхание.
«Ага»,— подумал я и тут же услышал, как у Хассе осторожно
повернули ключ и тоже приотворили дверь на сантиметр. Каза-
лось, весь пансион подстерегает мою кузину.
— 4* Ю4 4* —
Ярко освещенные люстрой, стояли парчовые кресла фрау
1алевски. Рядом красовалась лампа Хассе. На столе светился
ананас. Тут же были расставлены ливерная колбаса высшего
copra, нежно-розовая ветчина, бутылка шерри-бренди... Когда
мы с Джорджи, потерявшим дар речи, уписывали всю эту рос-
кошную снедь, в дверь постучали. Я знал, что сейчас будет.
— Джорджи, внимание!— прошептал я и громко сказал: —
Войдите!
Дверь отворилась, и вошла фрау Залевски. Она сгорала
о г любопытства. Впервые она лично принесла мне почту — ка-
кой-то проспект, настоятельно призывавший меня питаться сы-
рой пищей. Она была разодета, как фея,— настоящая дама ста-
рого, доброго времени: кружевное платье, шаль с бахромой
и брошь с портретом покойного Залевски. Приторная улыбка
мгновенно застыла на ее лице: изумленно глядела она на расте-
рявшегося Джорджи. Я разразился громким бессердечным сме-
хом. Она тотчас овладела собой.
— Ага, получил отставку,— заметила она ядовито.
— Так точно,— согласился я, все еще созерцая ее пышный
наряд. Какое счастье, что визит Патриции не состоялся!
Фрау Залевски неодобрительно смотрела на меня.
— Вы еще смеетесь? Ведь я всегда говорила: где у других лю-
дей сердце, у вас бутылка водки.
— Хорошо сказано,— ответил я.— Не окажете ли вы нам
честь, сударыня?
Она колебалась. Но любопытство победило: а вдруг удастся
V шать еще что-нибудь. Я открыл бутылку шерри-бренди...
* * ♦
Позже, когда все утихло, я взял пальто и одеяло и прокрался
по коридору к телефону. Я встал на колени перед столиком,
mi котором стоял аппарат, накрыл голову пальто и одеялом
и снял трубку, придерживая левой рукой край пальто. Это га-
рантировало от подслушивания. В пансионе фрау Залевски бы-
ло много длинных любопытных ушей. Мне повезло. Патриция
Хольман была дома.
— Давно уже вернулись с вашего таинственного свидания?—
спросил я.
— Уже около часа.
— Жаль. Если бы я знал...
Она рассмеялась.
— 4* 105 4* —
— Это ничего бы не изменило. Я уже в постели, и у меня сно-
ва немного поднялась температура. Очень хорошо, что я рано
вернулась.
— Температура? Что с вами?
— Ничего особенного. А вы что еще делали сегодня вечером?
— Беседовал со своей хозяйкой о международном положе-
нии. А вы как? У вас все в порядке?
— Надеюсь, все будет в порядке.
В моем укрытии стало жарко, как в клетке с обезьянами. По-
этому всякий раз, когда говорила девушка, я приподнимал «за-
навес» и торопливо вдыхал прохладный воздух; отвечая, я снова
плотно прикрывал отдушину.
— Среди ваших знакомых нет никого по имени Роберт?—
спросил я.
Она рассмеялась.
— Кажется, нет...
— Жаль. А то я с удовольствием послушал бы, как вы произ-
носите это имя. Может быть, попробуете все-таки?
Она снова рассмеялась.
— Ну, просто шутки ради,— сказал я.— Например: «Ро-
берт — осел».
— Роберт — детеныш...
— У вас изумительное произношение,— сказал я.— А теперь
давайте попробуем сказать «Робби». Итак: «Робби...»
— Робби — пьяница...— медленно произнес далекий тихий
голос.— А теперь мне надо спать. Я приняла снотворное, и голо-
ва гудит...
— Да... спокойной ночи... спите спокойно...
Я повесил трубку и сбросил с себя одеяло и пальто. Затем
я встал на ноги и тут же замер. Прямо передо мной стоял, точ-
но призрак, казначей в отставке, снимавший комнатку рядом
с кухней. Разозлившись, я пробормотал что-то.
— Тсс!— прошипел он й оскалил зубы.
— Тсс!— ответил я ему, мысленно посылая его ко всем чертям. ’
Он поднял палец.
— Я вас не выдам. Политическое дело, верно?
— Что?— опросил я изумленно.
Он подмигнул мне.
— Не беспокойтесь. Я сам стою на крайних правых позициях.
Тайный политический разговор, а?
Я понял его.
— Высокополитический!— сказал я и тоже оскалил зубы.
Он кивнул и прошептал:
— 4* 106 4* —
— Да здравствует его величество!
- Трижды виват!— ответил я.— А теперь вот что: вы слу-
чайно не знаете, кто изобрел телефон?
Он удивился вопросу и отрицательно покачал своим голым
черепом.
— И я не знаю,— сказал я,— но, вероятно, это был замеча-
1гльный парень...
IX
Воскресенье. День гонок. Всю последнюю неделю Кестер
|рснировался ежедневно. Вечерами мы принимались за «Кар-
'Н1»> и до глубокой ночи копались в нем, проверяя каждый вин-
1нк, тщательно смазывая и приводя в порядок все. Мы сидели
около склада запасных частей и ожидали Кестера, отправивше-
юся к месту старта.
Все были в сборе: Грау, Валентин, Ленц, Патриция Хольман,
я главное, Юпп, в комбинезоне и гоночном шлеме с очками.
()н весил меньше всех и поэтому должен был сопровождать Ке-
псра. Правда, у Ленца возникли сомнения. Он утверждал, что
di ромные, торчащие в стороны уши Юппа чрезмерно повысят
сопротивление воздуха, и тогда машина либо потеряет двад-
нпгь километров скорости, либо превратится в самолет.
—• Откуда у вас, собственно, английское имя?— спросил
I оггфрид Патрицию Хольман, сидевшую рядом с ним.
— Моя мать была англичанка. Ее тоже звали Пат.
— Ну, Пат—это другое дело. Это гораздо легче произносится.—
()н достал стакан и бутылку.— За крепкую дружбу, Пат. Меня
юнут Готтфрид.
Я с удивлением посмотрел на него. Я все еще не мог приду-
мать, как мне ее называть, а он прямо средь бела дня так сво-
бодно шутит с ней. И Пат смеется и называет его Готтфридом.
Но все это не шло ни в какое сравнение с поведением Фер-
динанда Грау. Тот словно сошел с ума и не спускал глаз с Пат.
()п декламировал звучные стихи и заявил, что должен написать
•♦г портрет. И действительно, он устроился на ящике и начал ра-
Оогать карандашом.
— Послушай, Фердинанд, старый сыч,— сказал я, отнимая
у него альбом для зарисовок.— Не трогай ты живых людей.
Хватит с тебя трупов. И говори, пожалуйста, побольше на об-
щие темы. К этой девушке я отношусь всерьез.
— А вы пропьете потом со мной остаток выручки, достав-
шейся мне от наследства моего трактирщика?
— 4* 107 4* —
— Насчет всего остатка не знаю. Но частицу — наверняка,—
сказал я.
— Ладно. Тогда я пощажу тебя, мой мальчик.
* * *
Треск моторов проносился над гоночной трассой, как пуле-
метный огонь. Пахло перегоревшим маслом, бензином и кас-
торкой. Чудесный, возбуждающий запах, чудесный и возбужда-
ющий вихрь моторов.
По соседству, в хорошо оборудованных боксах, шумно вози-
лись механики. Мы же были оснащены весьма скудно: несколь-
ко инструментов, свечи зажигания, два запасных колеса, пода-
ренных какой-то фабрикой, немного мелких запасных частей —
вот и все. Кестер представлял самого себя, а не какой-нибудь
автомобильный завод, и нам приходилось самим нести все рас-
ходы. Поэтому у нас и было только самое необходимое.
Пришел Отто в сопровождении Браумюллера, уже одетого
для гонки.
— Ну, Отто,— сказал он,— если мои свечи выдержат сегодня —
тебе крышка. Но они не выдержат.
— Посмотрим,— ответил Кестер.
Браумюллер погрозил «Карлу»:
— Берегись моего «Щелкунчика»!
Так называлась его новая, очень тяжелая машина. Ее считали
фаворитом.
— «Карл» задаст тебе перцу, Тео!— крикнул ему Ленц. Брау-
мюллеру захотелось ответить ему на старом, честном солдат-
ском языке, но, увидев рядом с нами Патрицию Хольман, он
осекся. Выпучив глаза, он глупо ухмыльнулся в пространство
и отошел.
— Полный успех,— удовлетворенно сказал Ленц.
На дороге раздался лай мотоциклов. Кестер начал готовиться.
«Карл» был заявлен по классу спортивных машцн.
— Большой помощи мы тебе оказать не сможем, Отто,— ска-
зал я, оглядев набор наших инструментов.
Он махнул рукой.
— И не надо. Если «Карл» сломается, тут уж не поможет
и целая авторемонтная мастерская.
— Выставлять тебе щиты, чтобы ты знал, на каком ты месте?
Кестер покачал головой.
— Будет дан общий старт. Сам увижу. Кроме того, Юпп будет
следить за этим.
— 4* 108 4* —
Юпп ревностно кивнул головой. Он дрожал от возбуждения
и непрерывно пожирал шоколад. Но таким он был только сейчас,
перед гонками. Мы знали, что после стартового выстрела он
г inner спокоен, как черепаха.
— Ну, пошли! Ни пуха ни пера!
Мы выкатили «Карла» вперед.
- Ты только не застрянь на старте, падаль моя любимая,—
сличал Ленц, поглаживая радиатор.— Не разочаруй своего ста-
рою папашу, «Карл»!
«Карл» помчался. Мы смотрели ему вслед.
- Глянь-ка на эту дурацкую развалину,— неожиданно по-
i пыталось рядом с нами.— Особенно задний мост... Настоя-
щий страус!
Ленц залился краской и выпрямился.
- Вы имеете в виду белую машину?— спросил он, с трудом
сдерживаясь.
- Именно ее,— предупредительно ответил ему огромного
рос га механик из соседнего бокса. Он бросил свою реплику не-
Орежпо, едва повернув голову, и передал своему соседу бутылку
( пивом. Ленц начал задыхаться от ярости и уже хотел было пере-
скочить череэ-низкую дощатую перегородку. К счастью, он еще
ис успел произнести ни одного оскорбления, и я оттащил его назад.
— Брось эту ерунду,— зашипел я.— Ты нужен здесь. Зачем
раньше времени попадать в больницу!
(' ослиным упрямством Ленц пытался вырваться. Он не вы-
носил никаких выпадов против «Карла».
— Вот видите,— сказал я Патриции Хольман,— и этого
шильного козла еще называют «последним романтиком»! Мо-
деме вы поверить, что он когда-то писал стихи?
Это подействовало мгновенно. Я ударил по больному месту.
— Задолго до войны,— извинился Готтфрид.— А кроме того,
шчочка, сходить с ума во время гонок — не позор. Не так ли, Пат?
— Быть сумасшедшим вообще не позорно.
Готтфрид взял под козырек.
— Великие слова!
Грохот моторов заглушил все. Воздух содрогался. Содрога-
лись земля и небо. Стая машин пронеслась мимо.
— Предпоследний!— пробурчал Ленц.— Наш зверь все-таки
шннулся на старте.
— Ничего не значит,— сказал я.— Старт — слабое место «Кар-
ин Он медленно разгоняется, но зато потом его не удержишь.
— 4* 109 4* —
В замирающий грохот моторов начали просачиваться звуки
громкоговорителей. Мы не верили своим ушам: Бургер, один
из самых опасных конкурентов, застрял на старте.
Опять послышался гул машин. Они трепетали вдали, как са-
ранча над полем. Быстро увеличиваясь, они пронеслись вдоль
трибун и легли в большой поворот. Оставалось шесть машин,
и «Карл» все еще шел предпоследним. Мы были наготове.
То слабее, то сильнее слышался из-за поворота рев двигателей
и раскатистое эхо. Потом вся стая вырваласына прямую. Вплот-
ную за первой машиной шли вторая и третья. За ними следовал
Кестер: на повороте он продвинулся вперед и шел теперь чет-
вертым.
Солнце выглянуло из-за облаков. Широкие полосы света
и тени легли на дорогу, расцветив ее, как тигровую шкуру. Тени
от облаков проплывали над толпой. Ураганный рев моторов бил
по нашим напряженным нервам, словно дикая бравурная музы-
ка. Ленц переминался с ноги на ногу, я жевал сигарету, превра-
тив ее в кашицу,- а Патриция тревожно, как жеребенок на заре,
втягивала в себя воздух. Только Валентин и Грау сидели спо-
койно и нежились на солнце.
И снова грохочущее сердцебиение машин, мчащихся вдоль
трибун. Мы не спускали глаз с Кестера. Отто мотнул головой,
он не хотел менять баллонов. Когда после поворота машины
опять пронеслись мимо нас, Кестер шел уже впритирку за третьей.
В таком порядке они бежали по бесконечной прямой.
— Черт возьми!— Ленц глотнул из бутылки.
— Это он освоил,— сказал я Патриции.— Нагонять на пово-
ротах — его специальность.
— Пат, хотите глоточек?— спросил Ленц, протягивая ей бу-
тылку.
Я с досадой посмотрел на него. Он выдержал мой взгляд,
не моргнув глазом.
— Лучше из стакана,— сказала она.— Я еще не научилась
пить из бутылки.
— Нехорошо!— Готтфрид достал стакан.— Сразу видны не-
достатки современного воспитания.
На последующих кругах машины растянулись. Вел Браумюл-
лер. Первая четверка вырвалась постепенно на триста метров
вперед. Кестер исчез за трибунами, идя нос в нос с третьим гон-
щиком. Потом машины показались опять. Мы вскочили. Куда
девалась третья? Отто несся один за двумя первыми. Наконец
подъехала третья машина. Задние баллоны были в клочьях.
Ленц злорадно усмехнулся: машина остановилась у соседнего
— 4* ПО 4* —
Понса. Верзила-механик ругался. Через минуту машина снова
Пыла в порядке.
lime несколько кругов, но положение не изменилось. Ленц
hi пожил секундомер в сторону и начал вычислять.
— У «Карла» еще есть резервы,— объявил он.
- Боюсь, что у других тоже,— сказал я.
— Маловер!— он посмотрел на меня уничтожающим взглядом.
11а предпоследнем круге Кестер опять качнул головой. Он шел
на риск и хотел закончить гонку, не меняя баллонов. Еще не было
настоящей жары, и баллоны могли бы, пожалуй, выдержать.
Напряженное ожидание прозрачной стеклянной химерой
повисло над просторной площадью и трибунами: начался фи-
нальный этап гонок.
— Всем держаться за дерево,— сказал я, сжимая ручку мо-
щи ка. Ленц положил руку на мою голову. Я оттолкнул его. Он
улыбнулся и ухватился за барьер.
Грохот нарастал до рева, рев до рычания, рычание до грома,
до высокого, свистящего пения моторов, работавших на макси-
мальных оборотах. Браумюллер влетел в поворот. За ним не-
слись вторая машина. Ее задние колеса скрежетали и шипели.
Она шла ниже первой. Гонщик, видимо, хотел попытаться
пройти по нижнему кругу.
— Врешь!— крикнул Ленц. В эту секунду появился Кестер.
Г,го машина на полной скорости взлетела до верхнего края. Мы
тмерли, казалось, что «Карл» вылетит за поворот, но мотор
в |ревел, и автомобиль продолжал мчаться по кривой.
— Он вошел в поворот на полном газу!— воскликнул я.
Ленц кивнул.
— Сумасшедший!
Мы свесились над барьером, дрожа от лихорадочного напря-
жения. Удастся ли ему? Я поднял Патрицию и поставил ее
нв ящик с инструментами.
— Так вам будет лучше видно! Опирайтесь на мои плечи.
(’мотрите внимательно, он и этого обставит на повороте.
— Уже обставил!— закричала она.— Он уже впереди!
— Он приближается к Браумюллеру! Господи, отец небес-
ный, святой Моисей!— орал Ленц.— Он действительно обошел
второго, а теперь подходит к Браумюллеру.
11ад треком нависла грозовая туча. Все три машины стреми-
юльно вырвались из-за поворота, направляясь к нам. Мы кри-
•тли как оголтелые, к нам присоединились Валентин и Грау
с сю чудовищным басом. Безумная попытка Кестера удалась,
он обогнал вторую машину сверху на повороте,— его соперник
— Ф 111 4* —
допустил просчет и вынужден был сбавить скорость на выбран-
ной им крутой дуге. Теперь Отто коршуном ринулся на Брау-
мюллера, вдруг оказавшегося только метров на двадцать впере-
ди. Видимо, у Браумюллера забарахлило зажигание.
— Дай ему, Отто! Дай ему! Сожри «Щелкунчика»!— ревели
мы, размахивая руками.
Машины в последний раз скрылись за поворотом. Ленц
громко молился всем богам Азии и Южной Америки, прося
у них помощи, и потрясал своим амулетом. Я тоже вытащил
свой. Опершись на мои плечи, Патриция подалась вперед и на-
пряженно вглядывалась вдаль; она напоминала изваяние на носу
галеры.
Показались машины. Мотор Браумюллера все еще чихал,
то и дело слышались перебои. Я закрыл глаза. Ленц повернулся
спиной к трассе — мы хотели умилостивить судьбу. Чей-то крик
заставил нас очнуться. Мы только успели заметить, как Кестер,
оторвавшись на два метра от своего соперника, первым пересек
линию финиша.
Ленц обезумел. Он швырнул инструмент на землю и сделал
стойку на запасном колесе.
— Что это вы раньше сказали?— заорал он, снова встав
на ноги и обращаясь к механику-геркулесу.— Развалина?
— Отвяжись от меня, дурак,— недовольно ответил ему механик.
И в первый раз, с тех пор как я его знал, последний романтик,
услышав оскорбление, не впал в бешенство. Он затрясся от хо-
хота, словно в приступе пляски святого Витта.
* * ♦
Мы ожидали Отто. Ему надо было переговорить с членами
судейской коллегии.
— Готтфрид,— послышался за нами хриплый голос. Мы
обернулись и увидели человекоподобную гору в слишком узких
полосатых брюках, не в меру узком пиджаке цвета маренго
и черном котелке.
— Альфонс!— воскликнула Патриция Хольман.
— Собственной персоной,— согласился он.
— Мы выиграли, Альфонс!— крикнула она.
— Крепко, крепко. Выходит, я немножко опоздал?
— Ты никогда не опаздываешь, Альфонс,— сказал Ленц.
— Я, собственно, принес вам кое-какую еду. Жареную сви-
нину, немного солонины. Все уже нарезано.
Он развернул пакет.
— 4* 112 4* —
— Боже мой,— сказала Патриция Хольман,— тут на целый
полк!
— Об этом можно судить только потом,— заметил Аль-
фонс.— Между прочим, имеется кюммель*, прямо со льда.
Он достал две бутылки:
— Уже откупорены.
— Крепко, крепко,— сказала Патриция Хольман.
Он дружелюбно подмигнул ей.
Тарахтя, подъехал к нам «Карл». Кестер и Юпп выпрыгнули
hi машины. Юпп выглядел точно юный Наполеон. Его уши
сверкали, как церковные витражи. В руках он держал огром-
ный и невероятно безвкусный серебряный кубок.
— Шестой,— сказал Кестер, смеясь.— Эти ребята никак
не придумают что-нибудь поновее.
— Только эту молочную крынку?— деловито осведомился
Альфонс.— А наличные?
— Да,— успокоил его Отто.— И наличные тоже.
— Тогда мы просто купаемся в деньгах,— сказал Грау.
— Наверное, получится приятный вечерок.
— У меня?— спросил Альфонс.
— Мы считаем это честью для себя,— ответил Ленц.
— Гороховый суп со свиными потрохами, ножками и ушами,—
сказал Альфонс, и даже Патриция Хольман изобразила на своем
лице чувство высокого уважения.
— Разумеется, бесплатно,— добавил он.
Подошел Браумюллер, держа в руке несколько свечей зажи-
Н1НИЯ, забрызганных маслом. Он проклинал свою неудачу.
— Успокойся, Тео!— крикнул ему Ленц.— Тебе обеспечен
первый приз в ближайшей гонке на детских колясках.
— Дадите отыграться хоть на коньяке?— спросил Браумюллер.
— Можешь пить его даже из пивной кружки,— сказал Грау.
— Тут ваши шансы слабы, господин Браумюллер,— произнес
Альфонс тоном эксперта.— Ни разу я еще не видел Кестера под
мухой.
— А я до сегодняшнего дня ни разу не видел «Карла» впере-
ди себя,— ответил Браумюллер.
— Неси свое горе с достоинством,— сказал Грау.— Вот бо-
кал, возьми. Выпьем за то, чтобы машины уничтожили культуру.
Собираясь отправиться в город, мы решили прихватить ос-
татки провианта, принесенного Альфонсом. Там еще остава-
’ Кюммель — тминная водка.
— 4* ИЗ 4* —
лось вдоволь на нескольких человек. Но мы обнаружили только
бумагу.
— Ах, вот оно что!— усмехнулся Ленц и показал на расте-
рянно улыбавшегося Юппа. В обеих руках он держал по боль-
шому куску свинины. Живот его выпятился, как барабан.— Тоже
своего рода рекорд!
* * *
За ужином у Альфонса Патриция Хольман пользовалась, как
мне казалось, слишком большим успехом. Грау снова предло-
жил написать ее портрет. Смеясь, она заявила, что у нее не хва-
тит терпения; фотографироваться удобнее.
— Может быть, он напишет ваш портрет с фотографии,— за-
метил я, желая кольнуть Фердинанда.— Это скорее по его части.
— Спокойно, Робби,— невозмутимо ответил Фердинанд,
продолжая смотреть на Пат своими голубыми детскими глаза-
ми.— От водки ты делаешься злобным, а я — человечным. Вот
в чем разница между нашими поколениями.
— Он всего на десять лет старше меня,— небрежно сказал я.
— В наши дни это и составляет разницу в поколение,— про-
должал Фердинанд.— Разницу в целую жизнь, в тысячелетие.
Что знаете вы, ребята, о бытии! Ведь вы боитесь собственных
чувств. Вы не пишете писем — вы звоните по телефону; вы
больше не мечтаете — вы выезжаете за город с субботы на вос-
кресенье; вы разумны в любви и неразумны в политике — жал-
кое племя!
Я слушал его только одним ухом, а другим прислушивался
к тому, что говорил Браумюллер. Чуть покачиваясь, он заявил
Патриции Хольман, что именно он должен обучать ее водить
машину. Уж он-то научит ее всем трюкам.
При первой же возможности я отвел его в сторонку.
— Тео, спортсмену очень вредно слишком много заниматься
женщинами.
— Ко мне это не относится,— заметил Браумюллер,— у меня
великолепное здоровье.
— Ладно. Тогда запомни: тебе не поздоровится, если я стукну
тебя по башке этой бутылкой.
Он улыбнулся.
— Спрячь шпагу, малыш. Как узнают настоящего джентль-
мена, знаешь? Он ведет себя прилично, когда налижется. А ты
знаешь, кто я?
— Хвастун!
— 4* 114 4* —
«Три товарища»
Я не опасался, что кто-нибудь из них действительно попыта-
ется отбить ее; такое между нами не водилось. Но я не так уж
был уверен в ней самой. Мы слишком мало знали друг друга.
Ведь могло легко статься, Что ей вдруг понравится один из них.
Впрочем, можно ли вообще быть уверенным в таких случаях?
— Хотите незаметно исчезнуть?— спросил я.
Она кивнула.
♦ ♦ ♦
Мы шли по улицам. Было облачно. Серебристо-зеленый туман
медленно опускался на город. Я взял руку Патриции и сунул ее
в карман моего пальто. Мы шли так довольно долго.
— Устала?— спросил я.
Она покачала головой и улыбнулась. Показывая на кафе, ми-
мо которых мы проходили, я ее спрашивал:
— Не зайти ли нам куда-нибудь?
— Нет... Потом.
Наконец мы подошли к кладбищу. Оно было как тихий остро-
вок среди каменного потока домов. Шумели деревья. Их кроны
терялись во мгле. Мы нашли пустую скамейку и сели.
Вокруг фонарей, стоявших перед нами на краю тротуара, сия-
ли дрожащие оранжевые нимбы. В сгущавшемся тумане начи-
налась сказочная игра света. Майские жуки, охмелевшие
от ароматов, грузно вылетали из липовой листвы, кружились
около фонарей и тяжело ударялись об их влажные стекла. Ту-
ман преобразил все предметы, оторвав их от земли и подняв
над нею. Гостиница напротив плыла по черному зеркалу ас-
фальта, точно океанский пароход с ярко освещенными каютами,
серая тень церкви, стоящей за гостиницей, превратилась в при-
зрачный парусник с высокими мачтами, терявшимися в серова-
то-красном мареве света. А потом сдвинулись с места и поплы-
ли караваны домов...
Мы сидели рядом и молчали. В тумане все было нереальным —
и мы тоже. Я посмотрел на Патрицию, свет фонаря отражался
в ее широко открытых глазах.
— Сядь поближе,— сказал я,— а то туман унесет тебя...
Она повернула ко мне лицо и улыбнулась. Ее рот был полу-
открыт, зубы мерцали, большие глаза смотрели на меня в упор...
Но мне казалось, будто она вовсе меня не замечает; будто ее
улыбка и взгляд скользят мимо, туда, где серое, серебристое те-
чение; будто она слилась с призрачным шевелением листвы,
с каплями, стекающими по влажным стволам; будто она ловит
темный неслышный зов за деревьями, за целым миром; будто
— 4* 116 4> —
hoi сейчас она встанет и пойдет сквозь туман, бесцельно и уве-
ренно, туда, где ей слышится темный таинственный призыв зем-
III и жизни.
Никогда я не забуду это лицо, никогда не забуду, как оно
склонилось ко мне, красивое и выразительное, как оно просия-
ло лаской и нежностью, как оно расцвело в этой сверкающей
i шпине,— никогда не забуду, как ее губы потянулись ко мне,
1лпза приблизились к моим, как близко они разглядывали меня,
вопрошающе и серьезно, и как потом эти большие мерцающие
। лаза медленно закрылись, словно сдавшись...
А туман все клубился вокруг. Из его рваных клочьев торчали
бледные могильные кресты. Я снял пальто, и мы укрылись им.
1ород потонул. Время умерло...
♦ ♦ ♦
Мы долго просидели так. Постепенно ветер усилился, и в се-
ром воздухе перед нами замелькали длинные тени. Я услышал
шаги и невнятное бормотание. Затем донесся приглушенный
нюн гитар. Я поднял голову. Тени приближались, превращаясь
и темные силуэты, и сдвинулись в круг. Тишина. И вдруг гром-
кое пение: «Иисус зовет тебя...».
Я вздрогнул и стал прислушиваться. В чем дело? Уж не попа-
ли ли мы на луну? Ведь это был настоящий хор — двуголосый
женский хор...
— «Грешник, грешник, поднимайся...» — раздалось над клад-
бищем в ритме военного марша.
В недоумении я посмотрел на Пат.
— Ничего не понимаю,— сказал я.
— «Приходи в исповедальню...» — продолжалось пение в
бодром темпе.
Вдруг меня осенило.
— Бог мой! Да ведь это Армия спасения*!
— «Грех в себе ты подавляй...» — снова призывали тени.
Кантилена нарастала.
В карих глазах Пат замелькали искорки. Ее губы и плечи
вздрагивали от смеха.
Над кладбищем неудержимо гремело фортиссимо:
Страшный огнь и пламя ада —
Вот за грех тебе награда;
Но Иисус зовет: «Молись!
О заблудший сын, спасись!»
‘ Армия спасения — международная христианская организация.
— 4* 117 4* —
— Тихо! Разрази вас гром!— послышался внезапно из тума-
на чей-то злобный голос.
Минута растерянного молчания. Но Армия спасения при-
выкла к невзгодам. Хор зазвучал с удвоенной силой.
— «Одному что в мире делать?» — запели женщины в унисон.
— Целоваться, черт возьми,— заорал тот же голос.— Неуже-
ли и здесь нет покоя?
— «Тебя дьявол соблазняет...» — оглушительно ответили ему.
— Вы, старые дуры, уже давно никого не соблазняете!—
мгновенно понеслась реплика из тумана.
Я фыркнул. Пат тоже не могла больше сдерживаться. Мы
тряслись от хохота. Этот поединок был форменной потехой.
Армии спасения было известно, что кладбищенские скамьи
служат прибежищем для любовных пар. Только здесь они могли
уединиться и скрыться от городского шума. Поэтому богобояз-
ненные «армейки», задумав нанести по кладбищу решающий
удар, устроили воскресную облаву во имя спасения душ. Необу-
ченные голоса набожно, старательно и громко гнусавили слова
песни. Резко бренчали в такт гитары.
Кладбище ожило. В тумане начали раздаваться смешки
и возгласы. Оказалось, что все скамейки заняты. Одинокий мя-
тежник, выступивший в защиту любви, получил невидимое,
но могучее подкрепление со стороны единомышленников. В знак
протеста быстро организовался контрхор. В нем, видимо, участ-
вовало немало бывших военных. Маршевая музыка Армии спа-
сения раззадорила их. Вскоре мощно зазвучала старинная пес-
ня «В Гамбурге я побывал — мир цветущий увидал»...
Армия спасения страшно всполошилась. Бурно заколыха-
лись поля шляпок. Старые девы вновь попытались перейти
в контратаку.
— «О, не упорствуй, умоляем...» — резко заголосил хор аске-
тических дам.
Но зло победило. Трубные глотки противников дружно гря-
нули в ответ:
Свое имя назвать мне нельзя:
Ведь любовь продаю я за деньги...
— Уйдем сейчас же,— сказал я Пат.— Я знаю эту песню.
В ней несколько куплетов, и текст чем дальше, тем красочней.
Прочь отсюда!
* ♦ ♦
Мы снова были в городе с его автомобильными гудками и шо-
рохом шин. Но он оставался заколдованным. Туман превратил
— 4* 118 4* —
пн Iобуем в больших сказочных животных, автомобили — в кра-
дущихся кошек с горящими глазами, а витрины магазинов —
и пестрые пещеры, полные соблазнов.
Мы прошли по улице вдоль кладбища и пересекли площадь
мунн-парка. В мглистом воздухе карусели вырисовывались Как
Опиши, пенящиеся блеском и музыкой, чертово колесо кипело
н пурпурном зареве, в золоте и хохоте, а лабиринт переливался
। нними огнями.
- Благословенный лабиринт!— сказал я.
- Почему?— спросила Пат.
— Мы были там вдвоем.
Она кивнула.
- Мне кажется, что это было бесконечно давно.
- Войдем туда еще разок?
- Нет,— сказал я.— Уже поздно. Хочешь что-нибудь выпить?
Она покачала головой.
Как она была прекрасна! Туман, словно легкий аромат, де-
се еще более очаровательной.
— А ты не устала?— спросил я.
— Нет, еще не устала.
Мы подошли.к павильону с кольцами и крючками. Перед
ним висели фонари, излучавшие резкий карбидный свет. Пат
посмотрела на меня.
— Нет,— сказал я.— Сегодня не буду бросать колец. Ни одно-
ю не брошу. Даже если бы мог выиграть винный погреб самого
Лиександра Македонского.
Мы пошли дальше через площадь и парк.
- Где-то здесь должна быть сирень,— сказала Пат.
- Да, запах слышен. Совсем отчетливо.
- Видно, уже распустилась,— ответила она.— Ее запах ра^-
•шлся по всему городу.
Мне захотелось найти пустую скамью, и я осторожно посмо-
ipcji по сторонам. Но то ли из-за сирени, или потому что был
воскресный день, или нам просто не везло,— я ничего не на-
шел. На всех скамейках сидели пары. Я посмотрел на часы. Уже
Пыло больше двенадцати.
— Пойдем ко мне,— сказал я,— там мы будем одни.
Она не ответила, но мы пошли обратно. На кладбище мы
увидели неожиданное зрелище. Армия спасения подтянула ре-
ivpiibi. Теперь хор стоял в четыре шеренги, и в нем были
iiv только сестры, но еще и братья в форменных мундирах. Вме-
। io резкого двухголосья пение шло уже на четыре голоса, и хор
— 4* 119 4* —
звучал как орган. В ритме вальса над могильными плитами
неслось: «О мой небесный Иерусалим...».
От оппозиции ничего не осталось. Она была сметена.
Директор моей гимназии частенько говаривал: «Упорство
и прилежание лучше, нежели беспутство и гений...»
* * ♦
Я открыл дверь. Помедлив немного, включил свет.
Перед нами зияла протянувшаяся в глубь квартиры отврати-
тельная кишка коридора.
— Закрой глаза,—тихо сказал я,— это зрелище для закаленных.
Я подхватил ее на руки и медленно, обычным шагом, словно
я был один, пошел по коридору мимо чемоданов и газовых пли-
ток к своей двери.
— Жутко, правда?— растерянно спросил я, глядя на плюше-
вый гарнитур, расставленный в комнате. Да, теперь мне явно
не хватало парчовых кресел фрау Залевски, ковра, лампы Хассе...
— Совсем не так жутко,— сказала Пат.
— Все-таки жутко!— ответил я и подошел к окну.— Зато вид
отсюда красивый. Может, придвинем кресла к окну?
Пат ходила по комнате.
— Совсем недурно. Главное, здесь удивительно тепло.
— Ты мерзнешь?
— Я люблю, когда тепло,— поеживаясь, сказала она.— Не люб-
лю холод и дождь. К тому же это мне вредно.
— Боже праведный... а мы просидели столько времени на ули-
це в тумане...
— Тем приятнее сейчас здесь...
Она потянулась и снова заходила по комнате крупными ша-
гами. Движения ее были очень красивы. Я почувствовал какую-
то неловкость и быстро осмотрелся. К счастью, беспорядок был
невелик. Ногой я задвинул свои потрепанные комнатные туфли
под кровать.
Пат подошла к шкафу и посмотрела наверх. Там стоял ста-
рый чемодан — подарок Ленца. На нем была масса пестрых на-
клеек — свидетельства экзотических путешествий моего друга.
— Рио-де-Жанейро!— прочитала она.— Манаос... Сантьяго...
Буэнос-Айрес... Лас-Пальмас...
Она отодвинула чемодан назад и подошла ко мне:
— И ты уже успел побывать во всех этих местах?
Я что-то пробормотал. Она взяла меня под руку.
— Расскажи мне об этом, расскажи обо всех этих городах.
Как, должно быть, чудесно путешествовать так далеко...
— 4* 120 + —
Я смотрел на нее. Она стояла передо мной, красивая, моло-
'IHH. полная ожиданий, мотылек, по счастливой случайности за-
»нчсчипий ко мне в мою старую, убогую комнату, в мою пустую,
Пгссмысленную жизнь... ко мне и все-таки не ко мне: достаточ-
но слабого дуновения — и он расправит крылышки и улетит...
II ус и» меня ругают, пусть стыдят, но я не мог, не мог сказать
•Ч1С1», сказать, что никогда не бывал там... Тогда я этого не мог...
М ы стояли у окна, туман льнул к стеклам, густел около них,
и м почувствовал: там, за туманом, притаилось мое прошлое,
моччаливое и невидимое... Дни ужаса и холодной испарины, пу-
। ни а, грязь, клочья зачумленного бытия, беспомощность, рас-
io'ihтельная трата сил, бесцельно уходящая жизнь,— но здесь,
it icon передо мной, ошеломляюще близко, ее тихое дыхание, ее
непостижимое присутствие и тепло, ее ясная жизнь; я должен
Пыл это удержать, завоевать...
- Рио...— сказал я.— Рио-де-Жанейро — порт как сказка.
( смью дугами вписывается море в бухту, и белый сверкающий
юрод поднимается над нею...
Я начал рассказывать о знойных городах и бесконечных рав-
нинах, о мутных, илистых реках, о мерцающих островах и кро-
кодилах, о лесах, пожирающих дороги, о ночном рыке ягуаров,
юн да речной пароход скользит в темноте сквозь удушливую
1гнлынь, сквозь ароматы ванильных лиан и орхидей, сквозь за-
пахи разложения,— все это я слышал от Ленца, но теперь я поч-
1И не сомневался, что и вправду был там,— так причудливо сме-
шались воспоминания с томлением по всему этому, с желанием
привнести в невесомую и мрачную путаницу моей жизни хоть
немного блеска, чтобы не потерять это необъяснимо красивое
чино, эту внезапно вспыхнувшую надежду, это осчастливившее
меня цветение... Чего стоил я сам по себе рядом с этим?.. По-
юм, когда-нибудь, все объясню, потом, когда стану лучше, ког-
ча все будет прочнее... потом... только не теперь... «Манаос...—
творил я,— Буэнос-Айрес...» И каждое слово звучало как
мольба, как заклинание...
♦ * ♦
Ночь. На улице начался дождь. Капли падали мягко и неж-
но, не так, как месяц назад, когда они шумно ударялись о голые
ин пи лип; теперь они тихо шуршали, стекая вниз по молодой
податливой листве; мистическое празднество, таинственный
юк капель к корням, от которых они поднимутся снова вверх
и превратятся в листья, томящиеся весенними ночами по дождю.
— 4* 121 + —
Стало тихо. Уличный шум смолк. Над тротуаром метался
свет одинокого фонаря. Нежные листья деревьев, освещенные
снизу, казались почти белыми, почти прозрачными, а кроны
были как мерцающие светлые паруса.
— Слышишь, Пат? Дождь...
— Да...
Она лежала рядом со мной. Бледное лицо и темные волосы
на белой подушке. Одно плечо приподнялось. Оно поблескивало,
как матовая бронза. На руку падала узкая полоска света.
— Посмотри...— сказала она, поднося ладони к лучу.
— Это от фонаря на улице,— сказал я.
Она привстала. Теперь осветилось и ее лицо. Свет сбегал
по плечам и груди, желтый, как пламя восковой свечи; он менял-
ся, тона сливались, становились оранжевыми; а потом замель-
кали синие круги, и вдруг над ее головой ореолом всплыло теп-
лое красное сияние. Оно скользнуло вверх и медленно
поползло по потолку.
— Это реклама на улице.
— Видишь, как прекрасна твоя комната.
— Прекрасна, потому что ты здесь. Она никогда уже не будет
такой, как прежде... потому что ты была здесь.
Овеянная бледно-синим светом, она стояла на коленях в по-
стели.
— Но...— сказала она,— я ведь еще часто буду приходить сюда...
Часто...
Я лежал не шевелясь и смотрел на нее. Расслабленный, уми-
ротворенный и очень счастливый, я видел все как сквозь мяг-
кий, ясный сон.
— Как ты хороша, Пат! Куда лучше, чем в любом из твоих
платьев.
Она улыбнулась и наклонилась надо мной.
— Ты должен меня очень любить, Робби. Не знаю, что я буду
делать без любви!
Ее глаза были устремлены на меня. Лицо было совсем близ-
ко, взволнованное, открытое, полное страстной силы.
— Держи меня крепко,— прошептала она.— Мне нужно,
чтобы кто-то держал меня крепко, иначе я упаду. Я боюсь.
— Не похоже, что ты боишься.
— Это я только притворяюсь, а на самом деле я часто боюсь.
— Уж я-то буду держать тебя крепко,— сказал я, все еще
не очнувшись от этого странного сна наяву, яркого и зыбкого.—
Я буду держать тебя по-настоящему крепко. Ты даже удивишься.
Она коснулась ладонями моего лица.
— 4* 122 4* —
I1равда?
>1 кивнул. Ее плечи осветились зеленоватым светом, словно
in и ру лились в глубокую воду. Я взял ее за руки и притянул к себе,—
меня hi хлестнула большая теплая волна, светлая и нежная... Все
11111ВСЛО...
♦ * ♦
Она спала, положив голову на мою руку. Я часто просыпал-
। и и смотрел на нее. Мне хотелось, чтобы эта ночь длилась бес-
конечно. Нас несло где-то по ту сторону времени. Все пришло
nix быстро, и я еще ничего не мог понять. Я еще не понимал,
•но меня любят. Правда, я знал, что умею по-настоящему дру-
ф и 11. с мужчинами, но не представлял себе, за что, собственно,
меня могла бы полюбить женщина. Я думал: видимо, все све-
4Г1СЯ только к одной этой ночи, а потом мы проснемся, и все
кончится.
1абрезжил рассвет. Я лежал неподвижно. Моя рука под ее
10/ювой затекла и онемела. Но я не шевелился, и только когда
она повернулась во сне и прижалась к подушке, я осторожно
ныснободил руку. Я тихонько встал, побрился и бесшумно по-
чистил зубы. Потом налил на ладонь немного одеколона и осве-
жил волосы и шею. Было очень странно стоять в этой безмолв-
ной серой комнате наедине со своими мыслями и глядеть
ни темные контуры деревьев за окном. Повернувшись, я уви-
iiv/i. что Пат открыла глаза и смотрит на меня. У меня перехва-
iiDio дыхание.
- Иди сюда,— сказала она.
>1 подошел к ней и сел на кровать.
— Все это правда?— спросил я.
- Почему ты спрашиваешь?
- Не знаю. Может быть, потому, что уже утро. Стало светлее.
— А теперь дай мне одеться,— сказала она.
>1 поднял с пола ее белье из тонкого шелка. Оно было совсем
невесомым. Я держал его в руке и думал, что даже оно какое-то
hi обенное. И та, кто носит его, тоже должна быть какой-то осо-
бенной. Никогда мне не понять ее, никогда.
Я подал ей платье. Она притянула мою голову и поцеловала
МСЧ1Н.
Потом я проводил ее домой. Мы шли рядом в серебристом
ниие утра и почти не разговаривали. По мостовой прогромы-
<rt)i молочный фургон. Появились разносчики газет. На тротуа-
ре, прислонившись к стене дома, спал старик. Его подбородок
нергался, казалось — вот-вот отвалится. Рассыльные развозили
— 4* 123 Ф —
на велосипедах корзины с булочками. На улице запахло свежим
теплым хлебом. Высоко в синем небе гудел самолет.
— Сегодня?— спросил я Пат, когда мы дошли до ее парадного.
Она улыбнулась.
— В семь?— спросил я.
Она совсем не выглядела усталой, а была свежа, как после
долгого сна. На прощание она поцеловала меня. Я стоял перед
домом, пока в ее комнате не зажегся свет.
Потом пошел обратно. По пути вспомнил все, что надо было
ей сказать,— много прекрасных слов. Я брел по улицам и ду-
мал, как много мог бы сказать и сделать, будь я другим. Потом
направился на рынок. Сюда уже съехались фургоны с овощами,
мясом и цветами. Я знал, что здесь можно купить цветы втрое
дешевле, чем в магазине. На все оставшиеся у меня деньги я на-
купил тюльпанов. В их чашечках блестели капли росы. Цветы
были свежи и великолепны. Продавщица набрала целую охап-
ку и обещала отослать все Пат к одиннадцати часам. Договарива-
ясь со мной, она рассмеялась и добавила к букету пучок фиалок.
— Ваша дама будет наслаждаться ими по крайней мере две
недели,— сказала она.— Только пусть кладет время от времени
таблетку пирамидона в воду.
Я кивнул и расплатился. Потом медленно пошел домой.
В мастерской стоял отремонтированный «форд». Новых за-
казов не было. Следовало что-то предпринять. Кестер и я от-
правились на аукцион. Мы хотели купить такси, которое прода-
валось с молотка. Такси можно всегда неплохо перепродать.
Мы проехали в северную часть города. Под аукцион был от-
веден флигель во дворе. Кроме такси, здесь продавалась целая
куча других вещей: кровати, шаткие столы, позолоченная клетка
с попугаем, выкрикивавшим «Привет, миленький!», большие
старинные часы, книги, шкафы, поношенный фрак, кухонные
табуретки, посуда — все убожество искромсанного и гибнущего
бытия.
Мы пришли слишком рано, распорядителя аукциона еще
не было.
Побродив между выставленными вещами, я начал листать за-
читанные дешевые издания греческих и римских классиков
с множеством карандашных пометок на полях. Замусоленные,
потрепанные страницы. Это уже не были стихи Горация или
песни Анакреона, а беспомощный крик нужды и отчаяния
чьей-то разбитой жизни. Эти книги, вероятно, были единствен-
ным утешением для их владельца, он хранил их до последней
— 4* 124 4* —
но книжности, и уж если их пришлось принести сюда, на аукци-
।>н. значит, все было кончено.
Кестер посмотрел на меня через плечо.
Грустно все это, правда?
Я кивнул и показал на другие вещи.
— Да, Отто. Не от хорошей жизни люди принесли сюда табу-
pei к и и шкафы.
Мы подошли к такси, стоявшему в углу двора. Несмотря
ни облупившуюся лакировку, машина была чистой. Коренас-
то мужчина с длинными большими руками стоял неподалеку
н । уно разглядывал нас.
А ты испробовал машину?— спросил я Кестера.
Вчера,— сказал он.— Довольно изношена, но была в хоро-
ших руках.
Я кивнул.
- Да, выглядит отлично. Ее помыли еще сегодня утром. Сде-
IIIи по, конечно, не аукционист.
Кестер кивнул и посмотрел на коренастого мужчину.
Видимо, это и есть хозяин. Вчера он тоже стоял здесь
и драил машину.
11у его к чертям!— сказал я.— Похож на раздавленную со-
Пику.
Какой-то молодой человек в пальто с поясом пересек двор
и подошел к машине. У него был неприятный ухарский вид.
Вот он, драндулет,— сказал он, обращаясь то ли к нам,
н> ли к владельцу машины, и постучал тростью по капоту. Я за-
мены, что хозяин вздрогнул при этом.
Ничего, ничего,— великодушно успокоил его парень
и пальто с поясом,— лакировка все равно уже не стоит ни гро-
ши Весьма почтенное старье. В музей бы его, а?— Он пришел
и восторг от своей остроты, громко расхохотался и посмотрел
ни нас, ожидая одобрения. Мы не рассмеялись.— Сколько вы
xn line за этого дедушку?— обратился он к владельцу.
Хошин молча проглотил обиду.
Хотите отдать его по цене металлического лома, не так
hi? — продолжал тараторить юнец, которого не покидало от-
личное настроение.— Вы, господа, тоже интересуетесь?—
и вполголоса добавил: — Можем обделать дельце. Пустим ма-
шину в обмен на яблоки и яйца, а прибыль поделим. Чего ради
•и давать ему лишние деньги! Впрочем, позвольте представить-
। и: Гвидо Тисс из акционерного общества «Аугека».
Вертя бамбуковой тростью, он подмигнул нам доверительно,
но с видом превосходства. «Этот ушлый двадцатипятилетний
— 4* 125 + —
червяк знает все на свете»,— подумал я с досадой. Мне стало
жаль владельца машины, молча стоявшего рядом.
— Вам бы подошла другая фамилия. Тисс не звучит,— сказал я.
— Да что вы!— воскликнул он польщенно. Его, видимо, часто
хвалили за хватку в делах.
— Конечно, не звучит,— продолжал я.— Сопляк, вот бы вам
как называться, Гвидо Сопляк.
Он отскочил назад.
— Ну, конечно,— сказал он, придя в себя.— Двое против од-
ного...
— Если дело в этом,— сказал я,— то я и один могу пойти
с вами куда угодно.
— Благодарю, благодарю!— холодно ответил Гвидо и рети-
ровался.
Коренастый человек с расстроенным лицом стоял молча,
словно все это его не касалось; он не сводил глаз с машины.
— Отто, мы не должны ее покупать,— сказал я.
— Тогда ее купит этот ублюдок Гвидо,— возразил Кестер,—
и мы ничем не поможем ее хозяину.
— Верно,— сказал я.— Но все-таки мне это не нравится.
— А что может понравиться в наше время, Робби? Поверь
мне: для него даже лучше, что мы здесь. Так он, может быть, по-
лучит за свое такси чуть побольше. Но обещаю тебе: если эта
сволочь не предложит свою цену, то я буду молчать.
Пришел аукционист. Он торопился. Вероятно, у него было
много дел: в городе ежедневно проходили десятки аукционов.
Он приступил к распродаже жалкого скарба, сопровождая сло-
ва плавными, округлыми жестами. В нем была деловитость и тя-
желовесный юмор человека, ежедневно соприкасающегося
с нищетой, но не задетого ею.
Вещи уплывали за гроши. Несколько торговцев скупили поч-
ти все. В ответ на взгляд аукциониста они небрежно поднимали
палец или отрицательно качали головой. Но порой за этим
взглядом следили другие глаза. Женщины с горестными лицами
со страхом и надеждой взирали на пальцы торговцев, словно
на священные заповеди Господни. Такси заинтересовало трех
покупателей. Первую цену назвал Гвидо — триста марок. Это
было позорно мало. Коренастый человек подошел ближе. Он
беззвучно шевелил губами. Казалось, что и он хочет что-то
предложить. Но его рука опустилась. Он отошел назад.
Затем была названа цена в четыреста марок. Гвидо повысил
ее до четырехсот пятидесяти. Наступила пауза. Аукционист обра-
тился к собравшимся:
— 4* 126 4* —
- Кто больше?.. Четыреста пятьдесят — раз, четыреста
нигьдесят— два...
Хозяин такси стоял с широко открытыми глазами и опущен-
ной головой, точно ожидал удара в затылок.
— Тысяча,— сказал Кестер.
Я посмотрел на него.
- Она стоит трех,— шепнул он мне.— Не могу смотреть, как
•чо здесь режут.
Гвидо делал нам отчаянные знаки. Ему хотелось обтяпать
дельце, и он позабыл про «Сопляка».
- Тысяча сто,— проблеял он и, глядя на нас, усиленно замор-
ит обоими глазами. Будь у него глаз на заду, он моргал бы и им.
— Тысяча пятьсот,— сказал Кестер.
Аукционист вошел в раж. Он пританцовывал с молотком
в руке, как капельмейстер. Это уже были суммы, а не какие-нибудь
дне, две с половиной марки, за которые шли прочие предметы.
— Тысяча пятьсот десять!— воскликнул Гвидо, покрываясь
1101 ом.
-- Тысяча восемьсот,— сказал Кестер.
Гвидо взглянул на него, постучал пальцем по лбу и сдался.
Аукционист подпрыгнул. Вдруг я подумал о Пат.
— Тысяча восемьсот пятьдесят,— сказал я, сам того не желая.
Кестер удивленно повернул голову.
— Полсотни я добавлю сам,— поспешно сказал я,— так надо...
и । осторожности.
Он кивнул.
Аукционист ударил молотком — машина стала нашей. Кестер
• у г же уплатил деньги.
Не желая признать себя побежденным, Гвидо подошел к нам
кдк ни в чем не бывало.
— Подумать только!— сказал он.— Мы могли бы заполучить
ног ящик за тысячу марок. От третьего претендента мы бы легко
о (делались.
— Привет, миленький!— раздался за ним скрипучий голос.
Эго был попугай в позолоченной клетке, настала его очередь.
— Сопляк,— добавил я.
Пожав плечами, Гвидо исчез.
Я подошел к бывшему владельцу машины. Теперь рядом
v ним стояла бледная женщина.
— Вот...— сказал я.
— Понимаю...— ответил он.
— Нам бы лучше не вмешиваться, но тогда вы получили бы
меньше,— сказал я. /
— 4* 127 4* —
Он кивнул, нервно теребя руки.
— Машина хороша,— начал он внезапно скороговоркой,—
машина хороша, она стоит этих денег... наверняка... вы не пере-
платили... И вообще дело не в машине, совсем нет... а все пото-
му... потому что...
— Знаю, знаю,— сказал я.
— Этих денег мы и не увидим,— сказала женщина.— Все тут
же уйдет на оплату долгов.
— Ничего, мать, все снова будет хорошо,— сказал мужчина.—
Все будет хорошо!
Женщина ничего не ответила.
— При переключении на вторую скорость повизгивают шес-
теренки,— сказал мужчина,— но это не дефект, так было всегда,
даже когда она была новой,— он словно говорил о ребенке.—
Она у нас уже три года, и ни одной поломки. Дело в том, что...
сначала я болел, а потом мне подложили свинью... Друг...
— Подлец,— жестко сказала женщина.
— Ладно, мать,— сказал мужчина и посмотрел на нее,—
я еще встану на ноги. Верно, мать?
Женщина не ответила. Ее переволновавшийся муж был весь
в поту.
— Дайте мне ваш адрес,— сказал Кестер,— иной раз нам мо-
жет понадобиться шофер.
Тяжелой, честной рукой человек старательно вывел адрес.
Я посмотрел на Кестера; мы оба знали, что беднягу может спасти
только чудо. Но время чудес прошло, а если они и случались,
то разве что в худшую сторону.
Человек говорил без умолку, как в бреду. Аукцион кончился.
Мы стояли во дворе одни. Он объяснял нам, как пользоваться
зимой стартером. Снова и снова прикасался к машине, потом
приутих.
— А теперь пойдем, Альберт,— сказала жена.
Мы пожали ему руку. Они пошли. Только когда они скры-
лись из виду, мы запустили мотор.
Выезжая со двора, мы заметили маленькую старушку. Она
несла клетку с попугаем и отбивалась от обступивших ее ребя-
тишек. Кестер остановился.
— Вам куда?— спросил он ее.
— Что ты, милый! Откуда у меня деньги, чтобы разъезжать
на такси?— ответила она.
— Не надо денег,— сказал Отто.— Сегодня день моего рож-
дения, я вожу бесплатно.
Она недоверчиво посмотрела на нас и крепче прижала клетку.
— 4* 128 Ф —
— А потом скажете, что все-таки надо платить.
Мы успокоили ее, и она села в машину.
— Зачем вы купили себе попугая, мамаша?— спросил я, когда
мы привезли ее.
— Для вечеров,— ответила она.— А как вы думаете, корм до-
рогой?
— Нет,— сказал я,— но почему для вечеров?
— Ведь он умеет разговаривать,— ответила она и посмотре-
ла па меня светлыми старческими глазами.— Вот и у меня будет
кто-то... будет разговаривать...
— Ах, вот что...— сказал я.
♦ ♦ ♦ '
После обеда пришел булочник, чтобы забрать свой «форд».
V него был унылый, грустный вид. Я стоял один во дворе.
— Нравится вам цвет?— спросил я.
— Да, пожалуй,— сказал он, нерешительно оглядывая машину.
— Верх получился очень красивым.
— Разумеется...
Он топтался на месте, словно не решаясь уходить. Я ждал,
•но он попытается выторговать еще что-нибудь, например дом-
крат или пепельницу.
Но произошло другое. Он посопел с минутку, потом посмот-
рел на меня выцветшими глазами в красных прожилках и сказал:
— Подумать только: еще несколько недель назад она сидела
в этой машине, здоровая и бодрая!..
Я слегка удивился, увидев его вдруг таким размякшим,
и предположил, что шустрая чернявая бабенка, которая прихо-
дила с ним в последний раз, уже начала действовать ему на нер-
пы. Ведь люди становятся сентиментальными скорее от огорче-
ний, нежели от любви.
— Хорошая она была женщина,— продолжал он,— душев-
ная женщина. Никогда ничего не требовала. Десять лет проно-
сила одно и то же пальто. Блузки и все такое шила себе сама.
И хозяйство вела одна, без прислуги...
«Ага,— подумал я,— его новая мадам, видимо, не делает все-
ю этого».
Булочнику хотелось излить душу. Он рассказал мне о береж-
иивости своей жены, и было странно видеть, как воспоминания
о сэкономленных деньгах растравляли этого заядлого любителя
нива и игры в кегли. Даже сфотографироваться по-настоящему
и го не хотела, говорила, что, мол, слишком дорого. Поэтому
— 4* 129 4* —
у него осталась только одна свадебная фотография и несколько
маленьких моментальных снимков.
Тут меня осенило.
— Вам следовало бы заказать красивый портрет вашей жены,—
сказал я.— Будет память навсегда. Фотографии со временем вы-
цветают. Есть один художник, который делает такие вещи.
Я рассказал ему о деятельности Фердинанда Грау. Он сразу же
насторожился и заметил, что это, вероятно, очень дорого. Я успо-
коил его — дескать, если я пойду с ним, то с него возьмут де-
шевле. Он попробовал уклониться от моего предложения,
но я не отставал и заявил, что память о жене дороже всего. На-
конец он был готов. Я позвонил Фердинанду и предупредил
его. Потом я поехал с булочником за фотографиями.
Шустрая брюнетка выскочила нам навстречу из булочной.
Она забегала вокруг «форда».
— Красный цвет был бы лучше, пупсик! Но ты, конечно, всегда
должен настоять на своем!
— Да отстань ты!— раздраженно бросил пупсик. Мы подня-
лись в гостиную. Дамочка последовала за нами. Ее быстрые
глазки видели все. Булочник начал нервничать. Он не хотел искать
фотографии при ней.
— Оставь-ка нас одних,— сказал он наконец грубо.
Вызывающе выставив полную грудь, туго обтянутую джем-
пером, она повернулась и вышла. Булочник достал из зеленого
плюшевого альбома несколько фотографий и показал мне. Вот
его жена, тогда еще невеста, а рядом он с лихо закрученными
усами; тогда она еще смеялась. С другой фотографии смотрела
худая, изнуренная женщина с боязливым взглядом. Она сидела
на краю стула. Только две небольшие фотографии, но в них от-
разилась целая жизнь.
— Годится,— сказал я.— По этим снимкам он может сделать все.
* * ♦
Фердинанд Грау встретил нас в сюртуке. У него был вполне
почтенный и даже торжественный вид. Этого требовала про-
фессия. Он знал, что многим людям, носящим траур, уважение
к их горю важнее, чем само горе.
На стенах мастерской висело несколько внушительных порт-
ретов маслом в золотых рамах; под ними были маленькие фото-
графии — образцы. Любой заказчик мог сразу же убедиться, что
можно сделать даже из расплывчатого моментального снимка.
Фердинанд обошел с булочником всю экспозицию и спро-
сил, какая манера исполнения ему больше по душе. Булочник
— 4* 130 4* —
и спою очередь спросил, зависят ли цены от размера портрета.
Фердинанд объяснил, что дело тут не в квадратных метрах,
и и стиле живописи. Тогда выяснилось, что булочник предпочи-
lacr самый большой портрет.
— У вас хороший вкус,— похвалил его Фердинанд,— это
пор грет принцессы Боргезе. Он стоит восемьсот марок. В раме.
Булочник вздрогнул.
— А без рамы?
— Семьсот двадцать.
Булочник предложил четыреста марок. Фердинанд тряхнул
гноей львиной гривой.
- За четыреста марок вы можете иметь максимум головку в про-
филь. Но никак не портрет анфас. Он требует вдвое больше труда.
Булочник заметил, что головка в профиль устроила бы его.
Фердинанд обратил его внимание на то, что обе фотографии
сняты анфас. Тут даже сам Тициан и тот не смог бы сделать
портрет в профиль. Булочник вспотел: чувствовалось, что он
и отчаянии оттого, что в свое время не был достаточно предус-
мотрителен. Ему пришлось согласиться с Фердинандом. Он по-
нял, что для портрета анфас придется малевать на пол-лица
Польше, чем в профиль. Более высокая цена была оправдана.
Булочник мучительно колебался. Фердинанд, сдержанный
ло этой минуты, теперь перешел к уговорам. Его могучий бас
приглушенно перекатывался по мастерской; как эксперт, я счел
полгом заметить, что мой друг выполняет работу безукоризнен-
но. Булочник вскоре созрел для сделки, особенно после того,
инк Фердинанд расписал ему, какой эффект произведет столь
пышный портрет на злокозненных соседей.
— Ладно,— сказал он,— но при оплате наличными десять
процентов скидки.
— Договорились,— согласился Фердинанд.— Скидка десять
процентов и задаток триста марок на издержки — на краски
и холст.
Еще несколько минут они договаривались о деталях, а затем
перешли к обсуждению характера самого портрета. Булочник
хотел, чтобы были дорисованы нитка жемчуга и золотая брошь
г бриллиантами. На фотографии они отсутствовали.
— Само собой разумеется,— заявил Фердинанд,— драгоцен-
ности вашей супруги будут пририсованы. Хорошо, если вы их
как-нибудь занесете на часок, чтобы они получились возможно
натуральнее.
Булочник покраснел.
— У меня их больше нет. Они... Они у родственников.
— 4* 131 4* —
— Ах, так. Ну что же, можно и без них. А скажите, брошь ва-
шей жены похожа на ту, что на портрете напротив?
Булочник кивнул.
— Она была чуть поменьше.
— Хорошо, так мы ее и сделаем. А ожерелье нам ни к чему.
Все жемчужины похожи одна на другую.
Булочник облегченно вздохнул.
— А когда будет готов портрет?
— Через шесть недель.
— Хорошо.
Булочник простился и ушел. Я еще немного посидел с Фер-
динандом в мастерской.
— Ты будешь работать над портретом шесть недель?
— Какое там! Четыре-пять дней. Но ему я этого не могу ска-
зать, а то еще начнет высчитывать, сколько я зарабатываю
в час, и решит, что его обманули. А шесть недель его вполне ус-
траивают, так же, как и принцесса Боргезе! Такова человече-
ская природа, дорогой Робби. Скажи я ему, что это модистка,
и портрет жены потерял бы для него половину своей прелести.
Между прочим вот уже шестой раз выясняется, что умершие
женщины носили такие же драгоценности, как на том портре-
те. Вот какие бывают совпадения. Этот портрет никому не ве-
домой доброй Луизы Вольф — великолепная возбуждающая
реклама.
Я обвел взглядом комнату. С неподвижных лиц на стенах
на меня смотрели глаза, давно истлевшие в могиле. Эти портре-
ты остались невостребованными или неоплаченными родствен-
никами. И все это были люди, которые когда-то дышали
и на что-то надеялись.
— Скажи, Фердинанд, ты не станешь постепенно меланхоли-
ком в таком окружении?
Он пожал плечами.
— Нет, разве что циником. Меланхоликом становишься, ког-
да размышляешь о жизни, а циником — когда видишь, что де-
лает из нее большинство людей.
— Да, но ведь иные люди страдают по-настоящему...
— Конечно, но те не заказывают портретов.
Он встал.
— И хорошо, Робби, что у людей еще остается много важных
мелочей, которые приковывают их к жизни, защищают от нее.
А вот одиночество — настоящее одиночество, без всяких иллю-
зий — наступает перед безумием или самоубийством.
— 4* 132 4* —
Ьольшая голая комната плыла в сумерках. За стеной кто-то
IHXO ходил взад и вперед. Это была экономка, никогда не пока-
1Ы1швшаяся при ком-нибудь из нас. Она считала, что мы восста-
навливаем Фердинанда против нее, и ненавидела нас.
Я вышел и, словно в теплую ванну, окунулся в шум и бурле-
ние улицы.
XI
Впервые я шел в гости к Пат. До сих пор обычно она навещала
меня или я приходил к ее дому, и мы отправлялись куда-нибудь.
11о всегда было так, будто она приходила ко мне только с визи-
юм, ненадолго. А мне хотелось знать о ней больше, знать, как
пип живет.
Я подумал, что мог бы принести ей цветы. Это было нетруд-
но: городской сад за луна-парком был весь в цвету. Перескочив
через решетку, я стал обрывать кусты белой сирени.
- Что вы здесь делаете?— раздался вдруг громкий голос.
И поднял глаза. Передо мной стоял человек с лицом бургундца
и ^крученными седыми усами. Он смотрел на меня с возмуще-
нием. Не полицейский и не сторож, но, судя по виду, офицер
п отставке.
— Это нетрудно заметить,— вежливо ответил я,— я обламы-
ваю ветки сирени.
Па мгновение у отставного военного отнялся язык.
— Известно ли вам, что это городской парк?— гневно спро-
I и а он.
Я рассмеялся.
— Конечно, известно. Или, по-вашему, я принял это место
in Канарские острова?
Он посинел. Я испугался: что, если его хватит удар?
— Сейчас же вон отсюда!— заорал он первоклассным казар-
менным басом.— Вы расхищаете городскую собственность!
И прикажу вас задержать!
()днако я уже успел набрать достаточно сирени.
- Но сначала меня надо поймать. Ну-ка, догони, дедушка!—
предложил я старику, перемахнул через решетку и исчез.
* * *
Перед домом Пат я еще раз придирчиво осмотрел свой кос-
ном. Потом поднялся по лестнице. Это был современный но-
вый дом — прямая противоположность моему обветшалому ба-
раку. Лестницу устилала красная дорожка. У фрау Залевски
мою не было, не говоря уже о лифте.
— 4* 133 4* —
Пат жила на четвертом этаже. На двери красовалась солид-
ная латунная табличка: «Подполковник Эгберт фон Хаке».
Я долго разглядывал ее. Прежде чем позвонить, я невольно по-
правил галстук.
Мне открыла девушка в белоснежной наколке и кокетливом
передничке, было просто невозможно сравнить ее с нашей не-
уклюжей косоглазой Фридой. Мне вдруг стало не по себе.
— Господин Локамп?— спросила она.
Я кивнул.
Она повела меня через маленькую переднюю и открыла
дверь в комнату. Я бы, пожалуй, не очень удивился, если бы там
оказался подполковник Эгберт фон Хаке в полной парадной
форме и подверг меня допросу,— настолько я был подавлен
множеством генеральских портретов в передней. Генералы,
увешанные орденами, мрачно глядели на мою сугубо штатскую
особу. Но тут появилась Пат. Она вошла, стройная и легкая,
и комната внезапно преобразилась в какой-то островок тепла
и радости. Я закрыл дверь и осторожно обнял ее. Затем вручил
ей наворованную сирень.
— Вот,— сказал я.— С приветом от городского управления.
Она поставила цветы в большую светлую вазу, стоявшую
на полу у окна. Тем временем я осмотрел ее комнату. Мягкие,
приглушенные тона, старинная красивая мебель, бледно-голу-
бой ковер, шторы, точно расписанные пастелью, маленькие
удобные кресла, обитые поблекшим бархатом.
— Господи, и как ты только ухитрилась найти такую комнату,
Пат,— сказал я.— Ведь когда люди сдают комнаты, они обычно
ставят в них самую что ни на есть рухлядь и никому не нужные
подарки, полученные ко дню рождения.
Она бережно передвинула вазу с цветами к стене. Я видел
тонкую изогнутую линию затылка, прямые плечи, худенькие руки.
Стоя на коленях, она казалась ребенком, нуждающимся в защи-
те. Но было в ней что-то и от молодого гибкого животного,
и когда она выпрямилась и прижалась ко мне, это уже не был
ребенок, в ее глазах и губах я опять увидел вопрошающее ожи-
дание и тайну, смущавшие меня. А ведь мне казалось, что
в этом грязном мире такое уже не встретить.
Я положил руку ей на плечо. Было так хорошо чувствовать
ее рядом.
— Все это мои собственные вещи, Робби. Раньше квартира
принадлежала моей матери. Когда она умерла, я ее отдала, а себе
оставила две комнаты.
— 4* 134 + —
— Значит, это твоя квартира?— спросил я с облегчением.—
Л подполковник Эгберт фон Хаке живет у тебя только на пра-
вах съемщика?
Она покачала головой:
— Больше уже не моя. Я не могла ее сохранить. От квартиры
пришлось отказаться, а лишнюю мебель я продала. Теперь
м здесь квартирантка. На что это тебе дался старый Эгберт?
— Да ничего. У меня просто страх перед полицейскими
и старшими офицерами. Это еще со времен моей военной службы.
Она засмеялась.
— Мой отец тоже был майором.
— Майор — это еще куда ни шло.
— А ты знаешь старика Хаке?— спросила она.
Меня вдруг охватило недоброе предчувствие.
— Маленький, подтянутый, с красным лицом, седыми, под-
крученными усами и громовым голосом? Он часто гуляет в го-
родском парке?
Она, смеясь, перевела взгляд с букета сирени на меня.
— Нет, он большого роста, бледный, в роговых очках!
— Тогда я его не знаю.
— Хочешь с ним познакомиться? Он очень мил.
— Боже упаси! Пока что мое место в авторемонтной мастер-
ской и в пансионе фрау Залевски.
В дверь постучали. Горничная вкатила низкий столик на ко-
лесиках. Тонкий белый фарфор, серебряное блюдо с пирожны-
ми, еще одно блюдо с неправдоподобно маленькими сандвича-
ми, салфетки, сигареты и Бог знает еще что. Я смотрел на все,
совершенно ошеломленный.
— Сжалься, Пат!— сказал я наконец.— Ведь это как в кино.
Уже на лестнице я заметил, что мы стоим на различных общест-
венных ступенях. Подумай, я привык сидеть у подоконника
фрау Залевски, около своей верной спиртовки, и есть на заса-
ленной бумаге. Не осуждай обитателя жалкого пансиона, если
в своем смятении он, может быть, опрокинет чашку!
Она рассмеялась:
— Нет, опрокидывать чашки нельзя. Честь автомобилиста
не позволит тебе это сделать. Ты должен быть ловким.— Она
в 1нда чайник.— Ты хочешь чаю или кофе?
— Чаю или кофе? Разве есть и то и другое?
— Да. Вот посмотри.
— Роскошно! Как в лучших ресторанах! Не хватает только
Му 1ЫКИ.
— 4* 135 4* —
Она нагнулась и включила портативный приемник,— я не за-
метил его раньше.
— Итак, что же ты хочешь, чай или кофе?
— Кофе, просто кофе, Пат. Ведь я из сельской местности.
А ты что будешь пить?
— Выпью с тобой кофе.
— А вообще ты пьешь чай?
-Да.
— Так зачем же кофе?
— Я уже начинаю к нему привыкать. Ты будешь есть пирож-
ные или сандвичи?
— И то и другое. Таким случаем надо воспользоваться. По-
том я еще буду пить чай. Хочу попробовать все, что у тебя есть.
Смеясь, она наложила мне полную тарелку. Я остановил ее:
— Хватит, хватит! Не забывай, что тут рядом подполковник!
Начальство ценит умеренность в нижних чинах!
— Только при выпивке, Робби. Старик Эгберт сам обожает
пирожные со взбитыми сливками.
— Начальство требует от нижних чинов умеренности
и в комфорте,— заметил я.— В свое время нас основательно
отучали от него.— Я перекатывал столик на резиновых колеси-
ках взад и вперед. Он словно сам напрашивался на такую заба-
ву и бесшумно двигался по ковру. Я осмотрелся. Все в этой
комнате было подобрано со вкусом.— Да, Пат,— сказал я,—
вот, значит, как жили наши предки!
Пат опять рассмеялась.
— Ну что ты выдумываешь?
— Ничего не выдумываю. Говорю о том, что было.
— Ведь эти несколько вещей сохранились у меня случайно.
— Не случайно. И дело не в вещах. Дело в том, что за ними
стоит. Уверенность и благополучие. Этого тебе не понять. Это
понимает только тот, кто лишился всего.
Она удивленно посмотрела на меня.
— И ты мог бы это иметь, если бы действительно хотел.
Я взял ее за руку.
— Но я не хочу, Пат, вот в чем дело. Иначе я считал бы себя
великосветским жуликом. Нашему брату лучше всего жить
на полный износ. К этому привыкаешь. Время такое.
— Да оно и весьма удобно.
Я рассмеялся.
— Может быть. А теперь дай мне чаю. Хочу попробовать.
— Нет,— сказала она,— продолжаем пить кофе. Только
съешь что-нибудь. Для пущего износа.
— 4* 136 4* —
—• Хорошая идея. Но не надеется ли Эгберт, этот страстный
люби гель пирожных, что и ему кое-что перепадет?
- Возможно. Пусть только не забывает о мстительности
нижних чинов. Ведь это в духе нашего времени. Можешь спо-
койно съесть все.
lie глаза сияли, она была великолепна.
- А знаешь, когда я перестаю жить на износ,— и не потому,
•но меня кто-то пожалел?— спросил я.
Она не ответила, но внимательно посмотрела на меня.
- Когда я с тобой!— сказал я.— А теперь в ружье, в беспо-
щадную атаку на Эгберта!
В обед я выпил только чашку бульона в шоферской закусоч-
ной. Поэтому я без труда уплел все угощение. Ободряемый Пат,
м выпил заодно и весь кофе.
* ♦ *
Мы сидели у окна и курили. Над крышами рдел багряный закат.
— Хорошо у тебя, Пат,— сказал я.— По-моему, здесь можно
сидеть, не выходя целыми неделями, и забыть обо всем, что тво-
ри гея на свете.
Она улыбнулась.
— Было время, когда я не надеялась выбраться отсюда.
— Когда же это?
— Когда болела.
— Ну, это другое дело. А что с тобой было?
— Ничего страшного. Просто пришлось полежать. Видно,
слишком быстро росла, а еды не хватало. Во время войны,
ли и после нее, было голодновато.
Я кивнул.
— Сколько же ты пролежала?
11одумав, она ответила.
— Около года.
— Так долго!— Я внимательно посмотрел на нее.
— Все это давным-давно прошло. Но тогда это мне казалось
иглой вечностью. В баре ты мне как-то рассказывал о своем
друге Валентине. После войны он все время думал: какое это
счастье — жить. И в сравнении с этим счастьем все казалось
ему незначительным.
— Ты все правильно запомнила,— сказал я.
— Потому что я это очень хорошо понимаю. С тех пор я тоже
легко радуюсь всему. По-моему, я очень поверхностный человек.
— Поверхностны только те, кто считают себя глубокомыс-
ленными.
— 4* 137 4* —
— А вот я определенно поверхностна. Я не особенно разби-
раюсь в больших вопросах жизни. Мне нравится только пре-
красное. Вот ты принес сирень — и я уже счастлива.
— Это не поверхностность — это высшая философия.
— Может быть, но не для меня. Я просто поверхностна и лег-
комысленна.
— Я тоже.
— Не так, как я. Раньше ты говорил что-то про великосвет-
ского жулика. А вот я — настоящая авантюристка.
— Я так и думал,— сказал я.
— Да. Мне бы давно надо переменить квартиру, заиметь про-
фессию, зарабатывать деньги. Но я все откладывала это. Хоте-
лось пожить какое-то время на свой лад. Разумно это, нет ли —
неважно. Так я и поступила.
Мне стало смешно.
— Почему у тебя сейчас такое упрямое выражение лица?
— А как же? Все твердили мне, что все это бесконечно легко-
мысленно, что надо экономить жалкие гроши, оставшиеся у меня,
подыскать себе место и работать. А мне хотелось жить легко
и радостно, ничем не связывать себя и делать, что захочу. Такое
желание пришло после смерти матери и моей долгой болезни.
— Есть у тебя братья или сестры?
Она отрицательно покачала головой.
— Я так и думал.
— И ты тоже считаешь, что я вела себя легкомысленно?
— Нет, мужественно.
— При чем тут мужество? Не очень-то я мужественна. Зна-
ешь, как мне иногда бывало страшно? .Как человеку, который
сидит в театре на чужом месте и все-таки не уходит с него.
— Значит, ты была мужественна,— сказал я.— Мужество
не бывает без страха. Кроме того, ты вела себя разумно. Ты могла
бы без толку растратить свои деньги. А так ты хоть что-то полу-
чила взамен. Но чем ты занималась?
— Да, собственно, ничем. Просто так — жила для себя.
— За это хвалю! Нет ничего прекраснее.
Она усмехнулась.
— Все это скоро кончится, я начну работать.
— Где? Это не связано с твоим тогдашним деловым свиданием
с Биндингом?
— Да. С Биндингом и доктором Максом Матушайтом, дирек-
тором магазина патефонной компании «Электрода». Продав-
щица с музыкальным образованием.
— И ничто другое этому Биндингу в голову не пришло?
— 4* 138 + —
11ришло, но я не захотела.
Я ему и не советовал бы... Когда же ты начнешь работать?
I крвого августа.
11у, тогда еще остается немало времени. Может, подыщем
•по нибудь другое. Но, так или иначе, мы, безусловно, будем
। коими покупателями.
Разве у тебя есть патефон?
Нет, но я, разумеется, немедленно приобрету его. А вся
ин история мне определенно не нравится.
А мне нравится,— сказала она.— Ничего путного я делать
нс умею. Но с тех пор как ты со мной, все стало для меня гораздо
проще. Впрочем, не стоило рассказывать тебе об этом.
11ет, стоило. Ты должна мне всегда говорить обо всем.
I (оглядев на меня,,она сказала:
Хорошо, Робби,— потом она поднялась и подошла
* шкафчику. — Знаешь, что у меня есть? Ром. Для тебя. И, как
мне кажется, хороший ром.
()на поставила рюмку на столик и выжидательно посмотрела
ин меня.
- Ром хорош, это чувствуется издалека,— сказал я.— Но по-
чему бы тебе не быть более бережливой, Пат? Хотя бы ради того,
Ч1обы оттянуть все это дело с патефонами?
- Не хочу.
- Тоже правильно.
I (о цвету рома я сразу определил, что он с чем-то смешан.
Виноторговец, конечно, обманул Пат. Я выпил рюмку.
- Высший класс,— сказал я,— налей мне еще одну. Где ты
♦чо достала?
- В магазине на углу.
«Какой-нибудь паршивый магазинчик деликатесов»,— поду-
мпл и, решив зайти туда при случае и высказать хозяину, что
и о нем думаю.
- А теперь мне, пожалуй, надо идти, Пат?— спросил я.
- Нет еще...
Мы стояли у окна. Внизу зажглись фонари.
- Покажи мне свою спальню,— сказал я.
Она открыла дверь и включила свет. Я оглядел комнату,
И0 переступая порога. Сколько мыслей пронеслось в моей голове!
- Значит, это твоя кровать, Пат?..— спросил я наконец.
Она улыбнулась.
— А чья же, Робби?
- Правда! А вот и телефон. Буду знать теперь и это... Я пойду...
Прощай, Пат.
— 4* 139 4* —
Она прикоснулась руками к моим вискам. Было бы чудесно
остаться здесь в этот вечер, быть возле нее, под мягким голубым
одеялом... Но что-то удерживало меня. Не скованность,
не страх и не осторожность — просто очень большая нежность,
нежность, в которой растворялось желание.
— Прощай, Пат,— сказал я.— Мне было очень хорошо у тебя.
Гораздо лучше, чем ты можешь себе представить. И ром... и то,
что ты подумала обо всем...
— Но ведь все это так просто...
— Для меня нет. Я к этому не привык.
♦ ♦ ♦
Я вернулся в пансион фрау Залевски и посидел немного
в своей комнате. Мне было неприятно, что Пат чем-то будет
обязана Биндингу. Я вышел в коридор и направился к Эрне Бениг.
— Я по серьезному делу, Эрна. Какой нынче спрос на жен-
ский труд?
— Почему это вдруг?— удивилась она.— Не ждала такого
вопроса. Впрочем, скажу вам, что положение весьма неважное.
— И ничего нельзя сделать?
— А какая специальность?
— Секретарша, ассистентка...
Она махнула рукой.
— Сотни тысяч безработных... У этой дамы какая-нибудь
особенная специальность?
— Она великолепно выглядит,— сказал я.
— Сколько слогов?— спросила Эрна.
— Что?
— Сколько слогов она записывает в минуту? На скольких
языках?
— Понятия не имею,— сказал я,— но, знаете... для предста-
вительства...
— Дорогой мой, знаю все заранее: дама из хорошей семьи,
когда-то жила припеваючи, а теперь вынуждена... и так далее,
и так далее. Безнадежно, поверьте. Разве что кто-нибудь примет
в ней особенное участие и пристроит ее. Вы понимаете, чем ей
придется платить? А этого вы, вероятно, не хотите?
— Странный вопрос.
— Менее странный, чем вам кажется,— с горечью ответила
Эрна.— На этот счет мне кое-что известно.
Я вспомнил о связи Эрны с ее шефом.
— 4* 140 4* —
“Ноя вам дам хороший совет,— продолжала она.— Поста-
рей гесь зарабатывать так, чтобы хватало на двоих. Это самое
прос тое решение вопроса. Женитесь.
Я рассмеялся.
- Вот это здорово! Не знаю, смогу ли я взять столько на себя.
Эрпа странно посмотрела на меня. При всей своей живости
они показалась мне вдруг слегка увядшей и даже постаревшей.
Вот что я вам скажу,— произнесла она.— Я живу хорошо,
и у меня немало вещей, которые мне вовсе не нужны. Но по-
мерьте, если бы кто-нибудь пришел ко мне и предложил жить
имеете, по-настоящему, честно, я бросила бы все это барахло
и поселилась бы с ним хоть в чердачной каморке,— ее лицо снова
обрело прежнее выражение.— Ну, Бог с ним со всем,*в каждом
человеке скрыто немного сентиментальности.— Она подмигнула
мне сквозь дым своей сигаретки.— Вероятно, даже и в вас.
- Откуда?..
- Да, да...— сказала Эрна.— И прорывается она совсем не-
ожиданно...
- У меня не прорвется,— ответил я.
Я пробыл дома до восьми часов, потом мне надоело одино-
чество, и я пошел в бар, надеясь встретить там кого-нибудь.
За столиком сидел Валентин.
— Присядь,— сказал он.— Что будешь пить?
- Ром,— ответил я.— С сегодняшнего дня у меня особое от-
ношение к этому напитку.
- Ром — молоко солдата,— сказал Валентин.— Между
прочим, ты хорошо выглядишь, Робби.
- Разве?
— Да, ты помолодел.
— Тоже неплохо,— сказал я.— Будь здоров, Валентин.
- Будь здоров, Робби.
Мы поставили рюмки на столик и, посмотрев друг на друга,
рассмеялись.
- Дорогой ты мой старик,— сказал Валентин.
- Дружище, черт бы тебя побрал!— воскликнул я.— А те-
перь что выпьем?
— Снова то же самое.
— Идет.
Фред налил нам.
- Так будем здоровы, Валентин.
— Будем здоровы, Робби.
— Какие замечательные слова «будем здоровы», верно?
— Лучшие из всех слов!
— 4* 141 4* —
Мы повторили тост еще несколько раз. Потом Валентин
ушел.
* ♦ *
Я остался. Кроме Фреда, в баре никого не было. Я разгляды-
вал старые освещенные карты на стенах, корабли с пожелтев-
шими парусами и думал о Пат. Я охотно позвонил бы ей, но за-
ставлял себя не делать этого. Мне не хотелось думать о ней так
много. Мне хотелось, чтобы она была для меня нежданным по-
дарком, счастьем, которое пришло и снова уйдет,— только так.
Я не хотел допускать и мысли, что это может стать чем-то боль-
шим. Я слишком хорошо знал — всякая любовь хочет быть веч-
ной, в этом и состоит ее вечная мука. Но ведь нет ничего проч-
ного, ничего.
— Дай мне еще одну рюмку, Фред,— попросил я.
В бар вошли мужчина и женщина. Они выпили по стаканчи-
ку коблера* у стойки. Женщина выглядела утомленной, мужчи-
на смотрел на нее с вожделением. Вскоре они ушли.
Я выпил свою рюмку. Может быть, не стоило идти сегодня
к Пат. Перед моими глазами все еще была комната, исчезающая
в сумерках, мягкие синие вечерние тени и красивая девушка,
глуховатым низким голосом говорившая о своей жизни, о своем
желании жить. Черт возьми, я становился сентиментальным.
Но разве не растворилось уже в дымке нежности то, что было
до сих пор ошеломляющим приключением, захлестнувшим ме-
ня, разве все это уже не захватило меня глубже, чем я думал
и хотел, разве сегодня, именно сегодня, я не почувствовал, как
сильно я переменился? Почему я ушел, почему не остался
у нее? Ведь я желал этого. Проклятье, я не хотел больше думать
обо всем этом. Будь что будет, пусть я сойду с ума от горя, когда
потеряю ее, но, пока она была со мной, все остальное казалось
безразличным. Стоило ли пытаться упрочить свою маленькую
жизнь! Все равно неизбежно настанет день, когда великий по-
топ смоет все.
— Выпьешь со мной, Фред?— спросил я.
— Как всегда,— сказал он.
Мы выпили по две рюмки абсента**. Потом бросили жребий,
кому заказать следующие. Я выиграл, но меня это не устраива-
ло. Мы продолжали бросать жребий, и я проиграл только на пя-
тый раз, но уж зато трижды кряду
— Что, я пьян или действительно гром гремит?— спросил я.
’ Коблер — коктейль из смеси ликера с фруктовыми соками.
*’ Абсент — полынная настойка.
— 4* 142 4* —
‘Пред прислушался:
Правда гром. Первая гроза в этом году.
М ы пошли к выходу и посмотрели на небо. Его заволокло ту-
i.iMii Было тепло, и время от времени раздавались раскаты грома.
Раз так, значит, можно выпить еще по одной,— предло-
жи I я.
Фред не возражал.
— Противная лакричная водичка’,— сказал я и поставил пу-
• । у ю рюмку на стойку. Фред тоже считал, что надо выпить че-
к» нибудь покрепче — вишневку, например. Мне хотелось рому.
‘I кй)ы не спорить, мы выпили и то и другое. Мы стали пить
и । больших бокалов: их Фреду не надо было так часто напол-
ни и. Теперь мы были в блестящем настроении. Несколько раз
мы выходили на улицу смотреть, как сверкают молнии. Очень
мнеиось видеть это, но нам не везло. Вспышки озаряли небо,
ми ча мы сидели в баре. Фред сказал, что у него есть невеста,
к»’1ь владельца ресторана-автомата. Но он хотел повременить
• Аепитьбой до смерти старика, чтобы знать совершенно точно,
’по ресторан достанется ей. На мой взгляд, Фред был не в меру
• н юрожен, но он доказал мне, что старик — гнусный тип, о ко-
тром наперед ничего нельзя знать; от него всего жди, еще
ынгщает ресторан в последнюю минуту местной общине мето-
1Ш1ской церкви. Тут мне пришлось с ним согласиться. Впро-
чем, Фред не унывал. Старик простудился, и Фред решил, что
у нею, может быть, грипп, а ведь это очень опасно. Я сказал
• му, что для алкоголиков грипп, к сожалению, сущие пустяки;
'иныпе того, настоящие пропойцы иной раз начинают букваль-
но расцветать и даже жиреть от гриппа. Фред заметил, что это,
it общем, все равно, авось старик попадет под какую-нибудь ма-
шину. Я признал возможность такого варианта^ особенно
на мокром асфальте. Фред тут же выбежал на улицу посмот-
рен», не пошел ли дождь. Но было еще сухо. Только гром гре-
че i сильнее. Я дал ему стакан лимонного сока и пошел к теле-
•|н>ну. В последнюю минуту я вспомнил, что не собирался
нюнить. Я помахал рукой аппарату и хотел снять перед ним
и нишу. Но тут я заметил, что шляпы на мне нет.
Когда я вернулся, у столика стояли Кестер и Ленц.
Ну-ка, дыхни,— сказал Готтфрид.
>1 повиновался.
Ром, вишневая настойка и абсент,— сказал он.— Пил аб-
• eiil, свинья!
( ок солодового корня, смешанный с водой.
— 4» 143 4» —
— Если ты думаешь, что я пьян, то ошибаешься,— сказал я.—
Откуда вы?
— С политического собрания. Но Отто решил, что это слиш-
ком глупо. А что пьет Фред?
— Лимонный сок.
— Выпил бы и ты стакан.
— Завтра,— ответил я.— А теперь я чего-нибудь поем.
Кестер не сводил с меня озабоченного взгляда.
— Не смотри на меня так, Отто,— сказал я,— я слегка на-
клюкался, но от радости, а не с горя.
— Тогда все в порядке,— сказал он.— Все равно, пойдем по-
ешь с нами.
* ♦ ♦
В одиннадцать часов я был снова трезв как стеклышко. Кес-
тер предложил пойти посмотреть, что с Фредом. Мы вернулись
в бар й нашли его мертвецки пьяным за стойкой.
— Перетащите его в соседнюю комнату,— сказал Ленц,—
а я пока буду здесь за бармена.
Мы с Кестером привели Фреда в чувство, напоив его горя-
чим молоком. Оно подействовало мгновенно. Затем мы усадили
его на стул и приказали отдохнуть с полчаса, пока Ленц работал
за него.
Готтфрид делал все как следует. Он знал все цены, все наибо-
лее ходкие рецепты коктейлей и так лихо тряс миксер, словно
никогда ничем иным не занимался.
Через час появился Фред. Желудок его был основательно
проспиртован, и он быстро приходил в себя.
— Очень сожалею, Фред,— сказал я,— надо было нам сперва
что-нибудь поесть.
— Я опять в полном порядке,— ответил Фред.— Время
от времени это неплохо.
— Безусловно.
Я пошел к телефону и вызвал Пат. Мне было совершенно
безразлично все, что я передумал раньше. Она ответила мне.
— Через пятнадцать минут буду у парадного,— сказал я и то-
ропливо повесил трубку. Я боялся, что она устала и не захочет
ни о чем говорить. А мне надо было ее увидеть.
Пат спустилась вниз. Когда она открывала дверь парадного,
я поцеловал стекло там, где была ее голова. Она хотела что-то
сказать, но я не дал ей и слова вымолвить. Я поцеловал ее, мы
побежали вдвоем вдоль улицы, пока не нашли такси. Сверкну-
ла молния, и раздался гром.
— 4* 144 4* —
- Скорее, начнется дождь,— сказал я.
Мы сели в машину. Первые капли ударили по крыше. Такси
||шслось по неровной брусчатке. Все было чудесно — при каж-
дом толчке я ощущал Пат. Все было чудесно — дождь, город,
чмсль. Все было так огромно и прекрасно! Я был в том бодром,
светлом настроении, какое испытываешь, когда выпил и уже
преодолел хмель. Вся моя скованность исчезла, ночь была пол-
на ыубокой силы и блеска, и уже ничто не могло случиться, ни-
•и о не было фальшивым. Дождь начался по-настоящему, когда
мы вышли. Пока я расплачивался с шофером, темная мостовая
vine была усеяна капельками-пятнышками, как леопард.
11о не успели мы дойти до парадного, как на черных блестящих
камнях уже вовсю подпрыгивали серебряные фонтанчики —
i неба низвергался потоп. Я не зажег свет. Молнии освещали
комнату. Гроза бушевала над городом. Раскаты грома следова-
IH один за другим.
— Вот когда мы сможем здесь покричать,— воскликнул я,—
нс боясь, что нас услышат!
Ярко вспыхивало окно. На бело-голубом фоне неба взметну-
лись черные силуэты кладбищенских деревьев и сразу исчезли,
сокрушенные треском и грохотом ночи; перед окном, между
п.мою и тьмой, словно фосфоресцируя, на мгновение возника-
ли гибкая фигура Пат. Я обнял ее за плечи, она тесно прижа-
лись ко мне, я ощутил ее губы, ее дыхание и позабыл обо всем.
♦ * ♦
Наша мастерская все еще пустовала, как амбар перед жат-
вой. Поэтому мы решили не продавать машину, купленную
пи аукционе, а использовать ее как такси. Ездить на ней долж-
ны были по очереди Ленц и я. Кестер с помощью Юппа вполне
мог управиться в мастерской до получения настоящих заказов.
Мы с Ленцем бросили жребий, кому ехать первому. Я выиграл.
Набив карман мелочью и взяв документы, я медленно поехал
па нашем такси по городу, чтобы подыскать для начала хоро-
шую стоянку. Первый выезд показался мне несколько стран-
ным: любой идиот мог меня остановить, и я обязан был его везти.
Чувство не из самых приятных.
Я выбрал место, где стояло только пять машин. Стоянка была
против гостиницы «Вальдекер гоф», в деловом районе. Каза-
лось, тут долго не задержишься. Я выключил зажигание и вы-
шел. От одной из передних машин отделился рослый парень
и кожаном пальто и направился ко мне.
— Убирайся отсюда,— сказал он угрюмо.
— 4* 145 4* —
Я спокойно смотрел на него, прикидывая, что если придется
драться, то лучше всего сбить его ударом в челюсть снизу. Стес-
ненный одеждой, он не смог бы достаточно быстро закрыться
руками. /
— Не понял?— спросило кожаное пальто и сплюнуло мне
под ноги окурок сигареты.— Убирайся, говорю тебе! Хватит
нас тут! Больше нам никого не надо!
Его разозлило появление лишней машины, это было ясно;
но ведь и я имел право стоять здесь.
— Ставлю вам водку,— сказал я.
Этим вопрос был бы исчерпан. Таков обычай, когда кто-ни-
будь появляется впервые.
К нам подошел молодой шофер.
— Ладно, коллега. Оставь его, Густав...
Но Густаву что-то во мне не понравилось, и я знал что. Он
почувствовал во мне новичка.
— Считаю до трех...
Он был на голову выше меня и, видимо, хотел этим восполь-
зоваться.
Я понял, что слова не помогут. Надо было либо уезжать, либо
драться.
— Раз,— сказал Густав и расстегнул пальто.
— Брось глупить,— сказал я, снова пытаясь утихомирить
его.— Лучше пропустим по рюмочке.
— Два...— прорычал Густав.
Он собирался измордовать меня по всем правилам.
— Плюс один... равняется...
Он заломил фуражку.
— Заткнись, идиот!— внезапно заорал я. От неожиданности
Густав открыл рот, сделал шаг вперед и оказался на самом удоб-
ном для меня месте. Развернувшись всем корпусом, я сразу уда-
рил его. Кулак сработал, как молот. Этому удару меня научил
Кестер. Приемами бокса я владел слабо, да и не считал нужным
тренироваться. Обычно все зависело от первого удара. Мой ап-
перкот* оказался правильным. Густав повалился на тротуар, как
мешок.
— Так ему и надо,— сказал молодой шофер.— Старый хули-
ган.— Мы подтащили Густава к его машине и положили на си-
денье.— Ничего, придет в себя.
Я немного разволновался. В спешке я неправильно поставил
большой палец и при ударе вывихнул его. Если бы Густав сразу
’ Апперкот — боксерский удар снизу в подбородок или туловище.
— 4* 146 4* —
пришел в себя, он смог бы сделать со мной что угодно. Я сказал
об >том молодому шоферу и спросил, не лучше ли мне сматы-
IHI гься.
— Ерунда,— сказал он.— Дело с концом. Пойдем в кабак —
пос та вишь нам по рюмочке. Ты не профессиональный шофер,
мерно?
-Да.
— Я тоже нет. Я актер.
— И как?
— Да вот живу,— рассмеялся он.— И тут театра достаточно.
В пивную мы зашли впятером — двое пожилых и трое моло-
дых. Скоро явился и Густав. Тупо глядя на нас, он подошел
к с голику. Левой рукой я нащупал в кармане связку ключей
и решил, что в любом случае буду защищаться до последнего.
Но до этого не дошло. Густав пододвинул себе ногой стул
и с хмурым видом опустился на него. Хозяин поставил перед
ним рюмку. Густав и остальные выпили по первой. Потом нам
подали по второй. Густав покосился на меня и поднял рюмку.
— Будь здоров,— обратился он ко мне с омерзительным вы-
ражением лица.
— Будь здоров,— ответил я и выпил.
Густав достал пачку сигарет. Не глядя на меня, он протянул
ее мне. Я взял сигарету и дал ему огня. Затем заказал по двой-
ному кюммелю. Выпили. Густав посмотрел на меня сбоку.
— Балда,— сказал он, но уже добродушно.
— Мурло,— ответил я в том же тоне.
Он повернулся ко мне.
— Твой удар был хорош...
— Случайно...— Я показал ему вывихнутый палец.
— Не повезло...— сказал он, улыбаясь.— Между прочим, меня
ювут Густав.
— Меня — Роберт.
— Ладно. Значит, все в порядке, Роберт, да? А я решил, что
1ы за мамину юбку держишься.
— Все в порядке, Густав.
С этой минуты мы стали друзьями.
♦ * ♦
Машины медленно подвигались вперед. Актер, которого все
шали Томми, получил отличный заказ — поездку на вокзал. Гус-
ит отвез кого-то в ближайший ресторан за тридцать пфенни-
I он. Он чуть не лопнул от злости: заработать десять пфеннигов
и снова пристраиваться в хвост! Мне попался редкостный пас-
— Ф 147 4* —
сажир — старая англичанка, пожелавшая осмотреть город.
Я разъезжал с ней около часу. На обратном пути у меня было
еще несколько мелких ездок. В полдень, когда мы снова собра-
лись в пивной и уплетали бутерброды, мне уже казалось, что
я заправский таксист. В отношениях между водителями было
что-то от братства старых солдат. Здесь собрались люди самых
различных специальностей. Только около половины из них бы-
ли профессиональными шоферами, остальные оказались за ру-
лем случайно.
Перед вечером, в довольно растрепанных чувствах, я въехал
во двор мастерской. Ленц и Кестер уже ожидали меня.
— Ну, братики, сколько вы заработали?— спросил я.
— Продано семьдесят литров бензина,— доложил Юпп.
— Больше ничего?
Ленц злобно посмотрел на небо.
— Дождь нам хороший нужен! А потом маленькое столкно-
вение на мокром асфальте прямо перед воротами! Ни одного
пострадавшего! Но зато основательный ремонт.
— Посмотрите сюда!— Я показал им тридцать пять марок,
лежавших у меня на ладони.
— Великолепно,— сказал Кестер.— Из них двадцать марок —
чистый заработок. Придется размочить их сегодня. Ведь долж-
ны же мы отпраздновать первый рейс!
— Давайте лить крюшон,— заявил Ленц.
— Крюшон?— спросил я.— Зачем крюшон?
— Потому что с нами будет Пат.
— Пат?
— Не раскрывай так широко рот,— сказал последний роман-
тик,— мы давно уже обо всем договорились. В семь мы заедем
за ней. Она предупреждена. Уж раз ты не подумал о ней, при-
шлось нам самим позаботиться. И в конце концов ты ведь по-
знакомился с ней благодаря нам.
— Отто,— сказал я,— видел ты когда-нибудь такого нахала,
как этот рекрут?
Кестер рассмеялся.
— Что у тебя с рукой, Робби? Ты ее держишь как-то набок.
— Кажется, вывихнул,— я рассказал историю с Густавом.
Ленц осмотрел мой палец:
— Конечно, вывихнул! Как христианин и студент-медик в от-
ставке, я, несмотря на твои грубости, помассирую тебе палец.
Пойдем, чемпион по боксу.
Мы пошли в мастерскую, где Готтфрид занялся моей рукой,
вылив на нее немного масла.
— 4* 148 4* —
— Ты сказал Пат, что мы празднуем однодневный юбилей
нашей таксомоторной деятельности?— спросил я его.
Он свистнул сквозь зубы.
— А разве ты стыдишься этого, паренек?
— Ладно, заткнись,— буркнул я, зная, что он прав.— Так ты
сказал?
— Любовь,— невозмутимо заметил Готтфрид,— чудесная
нещь. Но она портит характер.
— Зато одиночество делает людей бестактными, слышишь,
мрачный солист?
— Такт — это неписаное соглашение не замечать чужих
ошибок и не заниматься их исправлением. То есть жалкий ком-
промисс. Немецкий ветеран на такое не пойдет, детка.
— Что бы сделал ты на моем месте,— спросил я,— если бы
кто-нибудь вызвал твое такси по телефону, а потом выяснилось
бы, что это Пат?
Он ухмыльнулся.
— Я ни за что не взял бы с нее плату за проезд, мой сын.
Я толкнул его так, что он слетел с табурета на трех ножках.
— Ах ты негодяй! Знаешь, что я сделаю? Я просто заеду
ia ней вечером на нашем такси.
— Вот это правильно!— Готтфрид поднял благословляющую
руку.— Только не теряй свободы! Она дороже любви. Но это
обычно понимают слишком поздно. А такси мы тебе все-таки
не дадим. Оно нужно нам для Фердинанда Грау и Валентина.
Сегодня у нас будет серьезный и великий вечер.
* * ♦
Мы сидели в садике небольшого пригородного трактира.
Низко над лесом как красный факел повисла влажная луна.
Мерцали бледные канделябры цветов на каштанах, одуряюще
пахла сирень, на столе перед нами стояла большая стеклянная
чаша с ароматным крюшоном. В неверном свете раннего вече-
ра чаша казалась светлым опалом, в котором переливались по-
следние синевато-перламутровые отблески догоравшей зари.
Уже четыре раза в этот вечер чаша наполнялась крюшоном.
Председательствовал Фердинанд Грау. Рядом с ним сидела
Наг. Она приколола к платью бледно-розовую орхидею, кото-
рую он преподнес ей.
Фердинанд выудил из своего бокала мотылька и осторожно
положил его на стол.
— Взгляните на него,— сказал он.— Какое крылышко. Ря-
дом с ним лучшая парча — грубая тряпка! А такая тварь живет
— 4* 149 4* —
только один день — и все,— он оглядел всех по очереди.— Зна-
ете ли вы, -братья, что страшнее всего на свете?
— Пустой стакан,— ответил Ленц.
Фердинанд сделал презрительный жест в его сторону.
— Готтфрид, нет ничего более позорного для мужчины, чем
шутовство.— Потом он снова обратился к нам: — Самое страш-
ное, братья,— это время. Время. Мгновение, которое мы пере-
живаем и которым все-таки никогда не владеем.
Он достал из кармана часы и поднес их к глазам Ленца.
— Вот она, мой бумажный романтик! Адская машина! Тика-
ет, неудержимо тикает, стремясь навстречу небытию! Ты мо-
жешь остановить лавину, горный обвал, но вот эту штуку не оста-
новишь.
— И не собираюсь останавливать,— заявил Ленц.— Хочу
мирно состариться. Кроме того, мне нравится разнообразие.
— Для человека это невыносимо,— сказал Грау, не обращая
внимания на Готтфрида.— Человек просто не может вынести
этого. И вот почему он придумал себе мечту. Древнюю, трога-
тельную, безнадежную мечту о вечности.
Готтфрид рассмеялся:
— Фердинанд, самая тяжелая болезнь мира — мышление!
Она неизлечима.
— Будь она единственной, ты был бы бессмертен,— ответил
ему Грау,— ты — недолговременное соединение углеводов, из-
вести, фосфора и железа, именуемое на этой земле Готтфридом
Ленцем.
Готтфрид блаженно улыбался. Фердинанд тряхнул своей
львиной гривой.
— Братья, жизнь — это болезнь, и смерть начинается с самого
рождения. В каждом дыхании, в каждом ударе сердца уже за-
ключено немного умирания — все это толчки, приближающие
нас к концу.
— Каждый глоток тоже приближает нас к концу,— заметил
Ленц.— Твое здоровье, Фердинанд! Иногда умирать чертовски
легко.
Грау поднял бокал. По его крупному лицу как беззвучная
гроза пробежала улыбка.
— Будь здоров, Готтфрид! Ты — блоха, резво скачущая
по шуршащей гальке времени. И о чем только думала призрач-
ная сила, движущая нами, когда создавала тебя?
— Это ее личное дело. Впрочем, Фердинанд, тебе не следо-
вало бы говорить так пренебрежительно об этом. Если бы люди
— 4* 150 4* —
Пыли вечны, ты остался бы без работы, старый прихлебатель
смерти.
Плечи Фердинанда затряслись. Он хохотал. Затем он обра-
1ился к Пат:
— Что вы скажете о нас, болтунах, маленький цветок на пля-
шущей воде?
♦ * ♦
Потом я гулял с Пат по саду. Луна поднялась выше, и луга
плыли в сером серебре. Длинные черные тени деревьев легли
на траву темными стрелами, указывающими путь в неизвест-
ность. Мы спустились к озеру и повернули обратно. По дороге
мы увидели Ленца; он притащил в сад раскладной стул, поста-
вил его в кусты сирени и уселся. Его светлая шевелюра и огонек
сигареты резко выделялись в полумраке. Рядом на земле стояла
чаша с недопитым майским крюшоном и бокал.
— Вот так местечко!— воскликнула Пат.— В сирень забрался!
— Здесь недурно.— Готтфрид встал.— Присядьте и вы.
Пат села на стул. Ее лицо белело среди цветов.
— Я помешан на сирени,— сказал последний романтик.—
Для меня сирень — воплощение тоски по родине. Весной тысяча
девятьсот двадцать четвертого года я, как шальной, снялся
с места и приехал из Рио-де-Жанейро домой — вспомнил, что
и Германии скоро должна зацвести сирень. Но я, конечно, опоз-
дал,— он рассмеялся.— Так получается всегда.
— Рио-де-Жанейро...— Пат притянула к себе ветку сире-
ни.— Вы были там вдвоем с Робби?
Готтфрид опешил. У меня мурашки побежали по телу,
— Смотрите, какая луна!— торопливо сказал я и многозна-
чительно наступил Ленцу на ногу.
При вспышке его сигареты я заметил, что он улыбнулся
и подмигнул мне. Я был спасен.
— Нет, мы там не были вдвоем,— заявил Ленц.— Тогда я был
один. Но что если мы выпьем еще по глоточку крюшона?
— Больше не надо,— сказала Пат.— Я не могу пить столько
вина.
Фердинанд окликнул нас, и мы пошли к дому.
Его массивная фигура вырисовывалась в дверях.
— Войдите, детки,— сказал он.— Ночью людям, подобным
ним, незачем общаться с природой. Ночью она желает быть одна.
К|>естьянин или рыбак — другое дело, но мы, горожане, чьи ин-
г1ипкты притупились...— Он положил руку на плечо Готтфрида.—
Ночь — это протест природы против язв цивилизации, Готт-
— 4* 151 4* —
Фрид! Порядочный человек не может долго выдержать это. Он
замечает, что изгнан из молчаливого круга деревьев, животных,
звезд и бессознательной жизни,— он улыбнулся своей странной
улыбкой, о которой никогда нельзя было сказать, печальна она
или радостна.— Заходите, детки! Согреемся воспоминаниями.
Ах, вспомним же чудесное время, когда мы были еще хвощами
и ящерицами,— этак пятьдесят или шестьдесят тысяч лет тому
назад*. Господи, до чего же мы опустились с тех пор.
Он взял Пат за руку.
— Если бы у нас не сохранилась хотя бы крупица понимания
красоты, все было бы потеряно.— Осторожным движением огром-
ных лап он положил ее ладонь на свое плечо.— Серебристая
звездная чешуйка, повисшая над грохочущей бездной, хотите
выпить стакан вина с древним-древним старцем?
— Да,— сказала она.— Все, что вам угодно.
Они вошли в дом. Рядом с Фердинандом она казалась его до-
черью. Стройной, смелой и юной дочерью усталого великана
доисторических времен.
* * *
В одиннадцать мы двинулись в обратный путь. Валентин сел
за руль такси и уехал с Фердинандом. Остальные сели в «Кар-
ла». Ночь была теплая, Кестер сделал крюк, и мы проехали че-
рез несколько деревень, дремавших у шоссе. Лишь изредка
в окне мелькал огонек и доносился одинокий лай собак. Ленц
сидел впереди, рядом с Отто, и пел. Пат и я устроились сзади.
Кестер великолепно вел машину. Он брал повороты, как пти-
ца, будто забавлялся. Он не ездил резко, как большинство гон-
щиков. Когда он взбирался по спирали, можно было спокойно
спать, настолько плавно шла машина. Скорость не ощущалась.
По шуршанию шин мы узнавали, какая под нами дорога.
На гудроне они посвистывали, на брусчатке глухо громыхали.
Снопы света от фар, вытянувшись далеко вперед, мчались пе-
ред нами, как пара гончих, вырывая из темноты дрожащую бе-
резовую аллею, вереницу тополей, опрокидывающиеся теле-
графные столбы, приземистые домики и безмолвный строй
лесных просек. В россыпях тысяч звезд, на немыслимой высоте,
вился над нами светлый дым Млечного Пути.
Кестер гнал все быстрее. Я укрыл Пат пальто. Она улыбну-
лась мне.
* Фердинанд ошибся: он говорит о каменноугольном периоде, который
начался около 345 млн лет до н.э. и длился 65 млн лет; 50-60 тыс. лет назад
на Земле уже давно обитали неандертальцы.
— 4* 152 4* —
«Три товарища»
— Ты любишь меня?— спросил я.
Она отрицательно покачала головой.
— А ты меня?
— Нет. Вот счастье, правда?
— Большое счастье.
— Тогда с нами ничего не может случиться, не так ли?
— Решительно ничего,— ответила она и взяла мою руку.
Шоссе спускалось широким поворотом к железной дороге.
Поблескивали рельсы. Далеко впереди показался красный огонек.
«Карл» взревел и рванулся вперед. Это был скорый поезд —
спальные вагоны и ярко освещенный вагон-ресторан. Вскоре
мы поравнялись с ним. Пассажиры махали нам из окон. Мы
не отвечали. «Карл» обогнал поезд. Я оглянулся. Паровоз из-
вергал дым и искры. С тяжким, черным грохотом мчался он
сквозь синюю ночь. Мы обогнали поезд, но мы возвращались
в город, где такси, ремонтные мастерские и меблированные
комнаты. А паровоз грохотал вдоль рек, лесов и полей в какие-то
дали, в мир приключений.
Покачиваясь, неслись навстречу нам улицы и дома. «Карл»
немного притих, но все еще рычал как дикий зверь.
Кестер остановился недалеко от кладбища. Он не поехал
ни к Пат, ни ко мне, а просто остановился где-то поблизости.
Вероятно, решил, что мы хотим остаться наедине. Мы вышли.
Кестер и Ленц, не оглянувшись, сразу же помчались дальше.
Я посмотрел им вслед. На минуту мне это показалось стран-
ным. Они уехали — мои товарищи уехали, а я остался.
Я встряхнулся.
— Пойдем,— сказал я Пат. Она смотрела на меня, словно
о чем-то догадываясь.
— Поезжай с ними,— сказала она.
— Нет,— ответил я.
— Ведь тебе хочется поехать с ними...
— Вот еще...— сказал я, зная, что она права.— Пойдем...
Мы пошли вдоль кладбища, еще пошатываясь от быстрой езды
и ветра.
— Робби,— сказала Пат,— мне лучше пойти домой.
— Почему?
— Не хочу, чтобы ты из-за меня от чего-нибудь отказывался.
— О чем ты говоришь? От чего я отказываюсь?
— От своих товарищей...
— Вовсе я от них не отказываюсь,— ведь завтра утром я их
снова увижу.
— 4* 154 4* —
— Ты знаешь, о чем я говорю,— сказала она.— Раньше ты
проводил с ними гораздо больше времени.
— Потому что не было тебя,— ответил я и открыл дверь.
Она покачала головой:
- Это совсем другое.
— Конечно, другое. И слава Богу!
Я поднял ее на руки и пронес по коридору в свою комнату.
— Тебе нужны товарищи,— сказала она. Ее губы почти каса-
лись моего лица.
— Ты мне тоже нужна.
— Но не так...
— Это мы еще посмотрим.
Я открыл дверь, и она соскользнула на пол, не отпуская меня.
— А я очень неважный товарищ, Робби.
— Надеюсь. Мне и не нужна женщина в роли товарища. Мне
нужна возлюбленная.
— Я и не возлюбленная,— пробормотала она.
— Так кто же ты?
— Не половинка и не целое. Так... фрагмент...
— А это самое лучшее. Возбуждает фантазию. Таких жен-
щин любят вечно. Законченные женщины быстро надоедают.
( овершенные тоже, а «фрагменты» — никогда.
♦ ♦ *
Было четыре часа утра. Я проводил Пат и возвращался к себе.
Небо уже чуть посветлело. Пахло утром.
Я шел вдоль кладбища, мимо кафе «Интернациональ». Не-
ожиданно открылась дверь шоферской закусочной около дома
профессиональных союзов, и передо мной возникла девушка.
Миленький берет, потертое красное пальто, высокие лакиро-
Пйппые сапожки на шнуровке. Я уже прошел было мимо,
но вдруг узнал ее.
— Лиза...
— И тебя, оказывается, можно встретить.
— Откуда ты?— спросил я.
Опа показала на закусочную.
— Я там ждала, думала, пройдешь мимо. Ведь ты в это время
обычно идешь домой.
— Да, правильно...
—- Пойдешь со мной?
Я замялся.
— Это невозможно...
Не надо денег,— быстро сказала она.
— 4* 155 + —
— Не в этом дело,— ответил я необдуманно,— деньги у меня
есть.
— Ах, вот оно что...— с горечью сказала она и захотела уйти.
Я схватил ее за руку.
— Нет, Лиза...
Бледная и худая, она стояла на пустой серой улице. Такой
я встретил ее много лет назад, когда жил один, тупо, бездумно
и безнадежно. Сначала она была недоверчива, как и все эти де-
вушки, но потом, после того как мы поговорили несколько раз,
трогательно привязалась ко мне. Это была странная связь. Слу-
чалось, я не видел ее неделями, а потом она вдруг оказывалась
где-то на тротуаре и ждала меня. Тогда мы оба были одиноки,
и даже немногие крупицы тепла, что мы дарили друг другу, были
для каждого значительны. Я давно уже не видел ее. С тех пор,
как познакомился с Пат.
— Где ты столько пропадала, Лиза?
Она пожала плечами:
— Не все ли равно? Просто захотелось опять увидеть тебя...
Ладно, могу уйти...
— А как ты живешь?
— Оставь ты это...— сказала она.— Не утруждай себя...
Ее губы дрожали. По ее виду я решил, что она голодает.
— Я пройду с тобой немного,— сказал я.
Ее равнодушное лицо проститутки оживилось и стало дет-
ским. По пути я купил в одной из шоферских закусочных, от-
крытых всю ночь, какую-то еду, чтобы покормить ее. Лиза сперва
не соглашалась, и лишь когда я ей сказал, что тоже хочу есть,
уступила. Она следила, как бы меня не обманули, подсунув пло-
хие куски. Она не хотела, чтобы я брал полфунта ветчины, за-
метив, что и четвертушки довольно, если взять еще немного
франкфуртских сосисок. Но я купил полфунта ветчины и две
банки сосисок.
Она жила под самой крышей, в каморке, обставленной кое-как.
На столе стояла керосиновая лампа, а около кровати — бутылка
со вставленной в нее свечой. К стенам были приколоты кнопка-
ми картинки из журналов. На комоде лежало несколько детек-
тивных романов и конверт с порнографическими открытками.
Некоторые гости, особенно женатые, любили разглядывать их.
Лиза убрала открытки в ящик и достала старенькую, но чистую
скатерть.
Я принялся разворачивать покупки. Лиза переодевалась,
Сперва она сняла платье, а не ботинки, хотя у нее всегда силь-
но болели ноги, я это знал. Ведь сколько же ей приходилось бе-
— 4* 156 4> —
। пть. Она стояла посреди комнатки в своих высоких, до колен,
локированных сапожках и в черном белье.
— Как тебе нравятся мои ноги?— спросила она.
— Классные, как всегда...
Мой ответ обрадовал ее, и она с облегчением присела на кро-
пить, чтобы расшнуровать сапоги.
— Сто двадцать марок стоят,— сказала она, протягивая мне
их. — Пока заработаешь столько, износятся в пух и прах.
Она вынула из шкафа кимоно и пару парчовых туфелек, ос-
ппипихся от лучших дней, при этом она виновато улыбнулась.
Гй хотелось нравиться мне. Вдруг я почувствовал ком в горле,
мне стало грустно в этой крохотной каморке, словно умер кто-то
близкий.
Мы ели, и я очень осторожно разговаривал с ней. Она заме-
нит какую-то перемену во мне. В ее глазах появился испуг.
Между нами никогда не было больше того, что приносил слу-
чай. Но, может быть, как раз это и привязывает и обязывает лю-
нсй сильней, чем многое другое. Я встал.
— Ты уходишь?— спросила она так, словно уже давно ОПаСа-
IIICb этого.
— У меня еще одна встреча...
Она удивленно посмотрела на меня.
— Так поздно?
— Важное дело, Лиза. Надо попытаться разыскать одного
человека. В это время он обычно сидит в «Астории».
Пет женщин, которые понимают эти вещи так хорошо, как
девушки вроде Лизы. И обмануть их труднее, чем любую жен-
щину. Ее лицо стало каким-то пустым.
— У тебя другая...
— Видишь, Лиза... мы с тобой так мало виделись... скоро уже
юл... ты сама понимаешь, что...
— Нет, нет, я не об этом. У тебя женщина, которую ты лю-
бишь! Ты изменился. Я это чувствую.
— Ах, Лиза...
— Нет, нет. Скажи!
- Сам не знаю. Может быть...
Она постояла с минуту. Потом кивнула головой.
— Да... да, конечно... Я глупа... ведь между нами ничего
н пег...— Она провела рукой по лбу.— Не знаю даже, с какой
I НИИ я...
Я смотрел на ее худенькую надломленную фигурку. Парчо-
вые туфельки... кимоно... долгие пустые вечера, воспоминания...
- До свидания, Лиза...
— 4* 157 4* —
— Ты идешь... Не посидишь еще немного? Уходишь... Уже?
Я понимал, о чем она говорит. Но этого я не мог. Было странно,
но я не мог иначе, никак не мог. Я чувствовал это всем своим
существом. Раньше такого со мной не бывало. Не было у меня
преувеличенных представлений о верности. Но теперь это исклю-
чалось начисто. Я вдруг почувствовал, как далек от всего этого.
Она стояла в дверях.
— Ты уходишь...— проговорила она и тут же подбежала к ко-
моду.— Возьми обратно, я знаю, что ты положил мне деньги
под газету... не нужны они мне... вот они... вот... только уйди!..
— Я должен, Лиза.
— Ты больше не придешь...
— Приду, Лиза...
— Нет, нет, ты больше не придешь, я знаю! И не приходи
больше! Да иди ты, иди же наконец...— Она разрыдалась.
Я спустился по лестнице, не оглянувшись.
* ♦ *
Я еще долго бродил по улицам. Это была необычная ночь.
Я переутомился и знал, что не усну. Прошел мимо «Интерна
ционаля», думая о Лизе, о прошедших годах, о многом другом,
давно уже позабытом. Все отошло в далекое прошлое и как буд-
то больше не касалось меня. Потом я прошел по улице, па ко-
торой жила Пат. Ветер усилился, все окна в ее доме были темны,
утро кралось на серых лапах вдоль дверей. Наконец я пришел
домой. «Боже мой,— подумал я,— кажется, я счастлив»
XIII
— Даму, которую вы всегда прячете от нас,— сказала фрау
Залевски,— можете не прятать. Пусть приходит к нам совер
шенно открыто. Она мне нравится.
— Но ведь вы ее не видели,— возразил я.
— Не беспокойтесь, я ее видела,— многозначительно заяви
ла фрау Залевски.— Я видела ее, и она мне нравится. Даже
очень. Но эта женщина не для вас!
— Вот как?
— Нет! Я просто удивлена — как это вы откопали ее в своих
кабаках. Хотя, конечно, такие забулдыги, как вы...
— Мы уклоняемся от темы,— прервал я ее.
Она подбоченилась и сказала:
— Эта женщина — для человека с хорошим, прочным поло
жением. Одним словом, для богатого человека!
— 4> 158 4* —
«Так,— подумал я,— вот и получил! Этого еще только не хва-
тало».
— Вы можете это сказать о любой женщине,— заметил я раз-
драженно.
Она тряхнула седыми кудряшками:
— Дайте срок! Будущее покажет, что я права.
— Ах, будущее!— я с досадой швырнул на стол запонки.— Кто
сегодня говорит о будущем! Зачем ломать себе голову над этим!
Фрау Залевски озабоченно покачала своей величественной
юловой.
— До чего же странны нынешние молодые люди. Прошлое
цы ненавидите, настоящее презираете, а будущее вам безраз-
лично. Вряд ли это приведет к хорошему концу.
— А что вы, собственно, называете хорошим концом?—
спросил я.— Хороший конец бывает лишь тогда, когда до него
псе было плохо. Уж куда как лучше плохой конец.
— Все это еврейские выкрутасы,— возразила фрау Залевски
с достоинством и решительно направилась к двери. Но, уже
и ывшись за ручку, замерла как вкопанная.— Смокинг?— изум-
ленно прошептала она.— У вас?!
Она вытаращилась на костюм Отто Кестера, висевший на двер-
це шкафа. Я одолжил его, чтобы вечером пойти с Пат в театр.
— Да, у меня!— ядовито сказал я.— Ваша наблюдательность,
сударыня, вне всякого сравнения!
Она ехидно посмотрела на меня. Буря мыслей, отразившаяся
пи ее толстом лице, разрядилась широкой всепонимающей ус-
мешкой.
— Ага!— сказала она. И затем еще раз: — Ага!— и уже из ко-
ридора, совершенно преображенная той вечной радостью, ко-
пирую испытывает женщина при подобных открытиях, с каким-
|о вызывающим наслаждением она бросила мне через плечо:—
1ш1чит, так обстоят дела!
— Да, так обстоят дела, чертова сплетница!— злобно про-
бормотал я ей вслед, зная, что она меня уже не слышит. В бе-
шенстве я швырнул коробку с новыми лакированными туфлями
ни пол. Ей, видите ли, нужен богач! Как будто я сам этого
не шал!
♦ ♦ ♦
Я зашел за Пат. Она стояла в своей комнате, уже одетая для
выхода, и ожидала меня. У меня едва не перехватило дыхание,
могла я увидел ее. Впервые со времени нашего знакомства
ни ней был вечерний туалет.
— 4* 159 + —
Платье из серебряной парчи мягко и изящно ниспадало
с прямых плеч. Оно казалось узким и все же не стесняло ее сво-
бодный широкий шаг. Спереди оно было закрыто, сзади имело
глубокий вырез углом. В матовом синеватом свете сумерек Пат
казалась мне каким-то серебряным факелом, неожиданно
и ошеломляюще изменившейся, праздничной и очень далекой.
Призрак фрау Залевски с предостерегающе поднятым пальцем
вырос за ее спиной как тень.
— Хорошо, что ты не была в этом платье, когда я встретил
тебя впервые,— сказал я.— Ни за что не подступился бы к тебе.
— Так я те§е и поверила, Робби,— она улыбнулась.— Оно тебе
нравится?
— Мне просто страшно! В нем ты совершенно новая женщина.
— Разве это страшно? На то и существуют платья.
— Может быть. Меня оно слегка пришибло. К такому платью
тебе нужен другой мужчина. Мужчина с большими деньгами.
Она рассмеялась.
— Мужчины с большими деньгами в большинстве случаев
отвратительны, Робби.
— Но деньги ведь не отвратительны?
— Нет. Деньги нет.
— Так я и думал.
— А разве ты этого не находишь?
— Нет, почему же? Деньги, правда, не приносят счастья,
но действуют чрезвычайно успокаивающе.
— Они дают независимость, мой милый, а это еще больше.
Но, если хочешь, я могу надеть другое платье.
— Ни за что. Оно роскошно. С сегодняшнего дня я ставлю
портных выше философов! Портные вносят в жизнь красоту.
Это во сто крат ценнее всех мыслей, даже если они глубоки, как
пропасти! Берегись, как бы я в тебя не влюбился!
Пат рассмеялась. Я незаметно оглядел себя. Кестер был чуть
выше меня, пришлось закрепить брюки английскими булавками,
чтобы они хоть кое-как сидели на мне. К счастью, это удалось.
♦ * *
Мы взяли такси и поехали в театр. По дороге я был молчалив,
сам не понимая почему. Расплачиваясь с шофером, я внима-
тельно посмотрел на него. Он был небрит и выглядел очень
утомленным. Красноватые круги окаймляли глаза. Он равно-
душно взял деньги.
— Хорошая выручка сегодня?— тихо спросил я.
— 4* 160 4* —
Он взглянул на меня. Решив, что перед ним праздный и лю-
(юпытный пассажир, он буркнул:
— Ничего...
Видно было, что он не желает вступать в разговор.
На мгновение я почувствовал, что должен сесть вместо него
за руль и поехать. Потом обернулся и увидел Пат, стройную
и гибкую. Поверх серебряного платья она надела короткий се-
ребристый жакет с широкими рукавами. Она была прекрасна
и полна нетерпения.
— Скорее, Робби, сейчас начнется!
У входа толпилась публика. Была большая премьера. Про-
жектора освещали фасад театра, одна за другой подкатывали
к подъезду машины; из них выходили женщины в вечерних ту-
алетах, украшенные сверкающими драгоценностями, мужчины
но фраках, с упитанными розовыми лицами, смеющиеся, радост-
ные, самоуверенные, беззаботные. Старое такси с усталым шо-
фером со стоном и скрипом отъехало от этого праздничного
столпотворения.
— Пойдем же, Робби!— крикнула Пат, глядя на меня сияю-
щим и возбужденным взглядом.— Ты что-нибудь за,был?
Я враждебно посмотрел на людей вокруг себя.
— Нет,— сказал я%— я ничего не забыл.
Затем я подошел к кассе и обменял билеты: взял два кресла
в ложу, хотя они стоили целое состояние. Я не хотел, чтобы Пат
сидела среди этих благополучных людей, для которых все решено
и понятно. Я не хотел, чтобы она принадлежала к их кругу.
Я желал, чтобы она была со мной и только со мной.
♦ ♦ ♦
Давно уже я не был в театре. Я бы и не пошел туда, если бы
не Пат. Театры, концерты, книги — я почти утратил вкус
ко всем этим буржуазным привычкам. Они не отвечали духу
времени. Политика была сама по себе в достаточной мере теат-
ром, ежевечерняя стрельба заменяла концерты, а огромная
книга людской нужды убеждала больше целых библиотек.
Партер и ярусы были полны. Свет погас, как только мы сели
на свои места. Огни рампы чуть подсвечивали зал. Зазвучала
широкая мелодия оркестра, и все словно тронулось с места
и понеслось.
Я отодвинул свое кресло в угол ложи. В этом положении
и не видел ни сцены, ни бледных лиц зрителей. Я только слушал
музыку и смотрел на Пат.
— 4* 161 4* —
Музыка к «Сказкам Гофмана» околдовала зал. Она была как
южный ветер, как теплая ночь, как вздувшийся парус под звез
дами,— совсем нереальная. Открывались широкие яркие дали.
Казалось, что шумит глухой поток нездешней жизни; исчезала
тяжесть, терялись границы, были только блеск, и мелодия, и лю
бовь; и просто нельзя было понять, что где-то есть нужда,
и страдание, и отчаянье, если звучит такая музыка.
Свет сцены таинственно озарял лицо Пат. Она полностью
отдалась звукам, и я любил ее, потому что она не прислонилась
ко мне и не взяла мою руку, она не только не смотрела на меня,
но, казалось, даже и не думала обо мне, просто забыла. Мне
всегда было противно, когда смешивали разные вещи, я ненави
дел это телячье тяготение друг к другу, когда вокруг властно ут
верждалась красота и мощь великого произведения искусства,
я ненавидел маслянистые расплывчатые взгляды влюбленных,
эти туповато-блаженные прижимания, эго непристойное баранье
счастье, никогда не способное выйти за собственные пределы,
я ненавидел эту болтовню о слиянии воедино влюбленных душ,
ибо считал, что в любви нельзя слиться друг с другом до конца
и надо возможно чаще разлучаться, чтобы ценить новые ветре
чи. Только тот, кто не раз оставался один, знает счастье встреч
с любимой. Все остальное лишь ослабляет напряжение и тайну
любви. И что же может резче прорвать магическую сферу оди
ночества, если не взрыв чувств, их сокрушительная сила, если
не стихия, буря, ночь, музыка?.. И любовь...
* ♦ ♦
Зажегся свет. Я закрыл на мгновение глаза. О чем это я думал
только что? Пат обернулась. Я видел, как зрители устремились
к дверям. Наступил большой антракт.
— Ты не хочешь выйти?— спросил я.
Пат покачала головой.
— Слава Богу! Ненавижу, когда ходят по фойе и глазеют друi
на друга.
Я вышел, чтобы принести ей апельсиновый сок. Публика
осаждала буфет. Музыка удивительным образом пробуждаем
у многих аппетит. Горячие сосиски расхватывались так, словно
вспыхнула эпидемия повального обжорства.
Когда я пришел со стаканом в ложу, за креслом Пат стоял ка
кой-то мужчина. Повернув голову, она оживленно разговаривала
с ним.
— Роберт, эю господин Бройер,— сказала она.
— 4* 162 4* —
«Господин осел»,— подумал я и с досадой посмотрел на него.
()на сказала Роберт, а не Робби. Я поставил стакан на барьер
ложи и стал ждать ухода ее собеседника. На нем был велико-
лепно сшитый смокинг. Он болтал о режиссуре и исполнителях
и никак не уходил. Пат обратилась ко мне:
— Господин Бройер спрашивает, не пойти ли нам после
спектакля в «Каскад», там можно будет потанцевать.
— Если тебе хочется...— ответил я.
Он вел себя вполне вежливо и в общем понравился мне.
По были в нем неприятное изящество и легкость, которыми
м не обладал, и мне казалось, что это должно производить впе-
чатление на Пат. Вдруг я услышал, что он обращается к Пат
на «ты». Я не поверил своим ушам. Охотнее всего я тут же сбро-
сил бы его в оркестр,— впрочем, для этого было уже не менее
сотни других причин.
Раздался звонок. Оркестранты настраивали инструменты.
Скрипки наигрывали быстрые пассажи флажолет.
— Значит, договорились? Встретимся у входа,— сказал
Бройер и наконец ушел.
— Что это за бродяга?— спросил я.
— Никакой он не бродяга, а милый человек. Старый знакомый.
— У меня зуб на твоих старых знакомых,— сказал я.
— Дорогой мой, ты бы лучше слушал музыку,— ответила Пат.
«Каскад»,— подумал я и мысленно подсчитал, сколько у меня
денег.— Гнусная обираловка!»
Движимый мрачным любопытством, я решил пойти туда. По-
сле карканья фрау Залевски только этого Бройера мне и недо-
ставало. Он ждал нас внизу, у входа.
Я позвал такси.
— Не надо,— сказал Бройер,— в моей машине достаточно
места.
— Хорошо,— сказал я. Было бы, конечно, глупо отказываться
о г его предложения, но я все-таки злился.
Пат узнала машину Бройера. Это был большой «паккард».
Он стоял напротив, среди других машин. Пат пошла прямо
к нему.
— Ты его, оказывается, перекрасил,— сказала она и остано-
вилась перед лимузином.
— Да, в серый цвет,— ответил Бройер.— Так тебе больше
нравится?
— Гораздо больше.
— А вам? Нравится вам этот цвет?— спросил меня Бройер.
— Не знаю, какой был раньше.
— 4* 163 4* —
— Черный.
— Черная машина выглядит очень красиво.
— Конечно. Но ведь иногда хочется перемен!.. Ну да ничего,
к осени будет новая машина.
Мы поехали в «Каскад». Это был весьма элегантный дансинг
с отличным оркестром.
— Кажется, все занято,— обрадованно сказал я, когда мы
подошли ко входу.
— Жаль,— сказала Пат.
— Сейчас все устроим,— заявил Бройер и пошел перегово-
рить с директором. Судя по всему, его здесь хорошо знали. Для
нас внесли столик, стулья, и через несколько минут мы сидели
у барьера на отличном месте, откуда была видна вся танцеваль-
ная площадка. Оркестр играл танго. Пат склонилась над барьером.
— Я так давно не танцевала.
Бройер встал.
— Потанцуем?
Пат посмотрела на меня сияющим взглядом.
— А я пока закажу что-нибудь,— сказал я.
— Хорошо.
Танго длилось долго. Танцуя, Пат иногда поглядывала на меня
и улыбалась. Я кивал ей в ответ, но чувствовал себя неважно.
Она прелестно выглядела и великолепно танцевала. К сожале-
нию, Бройер тоже танцевал хорошо, и оба прекрасно подходили
друг к другу, и казалось, что они уже не раз танцевали вдвоем.
Я заказал большую рюмку рома. Они вернулись к столику.
Бройер пошел поздороваться с какими-то знакомыми, и на ми-
нутку я остался с Пат вдвоем.
— Давно ты знаешь этого мальчика?— спросил я.
— Давно. А почему ты спрашиваешь?
— Просто так. Ты с ним часто здесь бывала?
Она посмотрела на меня.
— Уже не помню, Робби.
— Такие вещи помнят,— сказал я упрямо, хотя понимал, что
она хотела сказать.
Она тряхнула головой и улыбнулась. Я очень любил ее в эту
минуту. Ей хотелось показать мне, что прошлое забыто. Но что-то
мучило меня. Я сам находил это ощущение смешным, но не мог
избавиться от него. Я поставил рюмку на стол.
— Можешь мне все сказать. Ничего тут такого нет.
Она снова посмотрела на меня.
— Неужели ты думаешь, что мы поехали бы все сюда, если
бы что-то было?— спросила она.
— 4* 164 4> —
- Нет,— сказал я пристыженью.
Опять заиграл оркестр. Подошел Бройер.
- Блюз,— сказал он мне.— Чудесно. Хотите потанцевать?
— Нет!— ответил я.
— Жаль.
— А ты попробуй, Робби,— сказала Пат.
— Лучше не надо.
— Но почему же нет?— спросил Бройер.
— Мне это не доставляет удовольствия,— ответил я непри-
мстливо,— да и не учился никогда. Времени не было. Но вы, по-
жалуйста, танцуйте, я скучать не буду.
11ат колебалась.
— Послушай, Пат...— сказал я.— Ведь для тебя это такое
удовольствие...
— Правда... но тебе в самом деле не будет скучно?
— Ни капельки!— Я показал на свою рюмку.— Это тоже свое-
ю рода танец.
Они ушли. Я подозвал кельнера и допил рюмку. Потом празд-
но сидел за столиком и пересчитывал соленый миндаль. Рядом
словно витала тень фрау Залевски.
Бройер привел нескольких знакомых к нашему столику —
апух хорошеньких женщин и моложавого мужчину с совершенно
лысой маленькой головой. Потом к нам подсел еще один муж-
чина. Все они были легки, как пробки, изящны и самоуверенны.
Наг знала всех четверых.
Я чувствовал себя неуклюжим, как чурбан. До сих пор я всегда
Оывал с Пат только вдвоем. Теперь впервые увидел людей, из-
iiniiia знакомых ей, и не знал, как себя держать. Они же двига-
лись легко и непринужденно, они пришли из другой жизни, где
асе шло гладко, где можно было не видеть того, что не хотелось
видеть, они пришли из другого мира. Будь я здесь один, или
। Ленцем, или с Кестером, я не обратил бы на них внимания,
и псе это было бы мне безразлично. Но здесь была Пат, она зна-
ла их, и все сразу осложнялось, парализовало меня, заставляло
сравнивать.
Броейер предложил пойти в другой ресторан.
— Робби,— сказала Пат у выхода,— не пойти ли нам домой?
— Нет,— сказал я,— зачем?
- Ведь тебе скучно.
— Ничуть. Почему мне должно быть скучно? Напротив! А для
।сбя это удовольствие.
Она посмотрела на меня, но ничего не сказала.
— 4* 165 4* —
Я принялся пить. Не так, как раньше, а по-настоящему.
Мужчина с лысым черепом обратил на это внимание. Он спро-
сил меня, что я пью.
— Ром,— сказал я.
— Грог?— переспросил он.
— Нет, ром,—сказал я.
Он пригубил ром и поперхнулся.
— Черт возьми,— сказал он,— к этому надо привыкнуть.
Обе женщины тоже заинтересовались мной. Пат и Бройер
танцевали. Пат часто поглядывала на меня. Я больше не смотрел
в ее сторону. Я знал, что это нехорошо, но ничего не мог с собой
поделать: что-то нашло на меня. Еще меня злило, что все смотрят,
как я пью. Я не хотел импонировать им своим умением пить,
словно какой-нибудь хвастливый гимназист. Я встал и подошел
к стойке. Пат казалась мне совсем чужой. Пускай убирается
к чертям со своими друзьями! Она принадлежит к их кругу.
Нет, она не принадлежит к нему. И все-таки!
Лысоголовый увязался за мной. Мы выпили с барменом
по рюмке водки. Бармены всегда знают, как утешить. Во всех
странах с ними можно объясняться без слов. И этот бармен был
хорош. Но лысоголовый не умел пить. Ему захотелось излить
свою душу. Некая Фифи владела его сердцем. Вскоре он, одна-
ко, исчерпал эту тему и сказал мне, что Бройер уже много лет
влюблен в Пат.
— Вот как?— заметил я.
Он захихикал. Предложив ему коктейль «устрица прерий»,
я заставил его замолчать. Но его слова запомнились. Я злился,
что влип в эту историю. Злился, что она задевает меня. И еще
злился оттого, что не могу грохнуть кулаком по столу; во мне за-
кипала какая-то холодная страсть к разрушению. Но она не была
обращена против других. Только против себя самого.
Лысоголовый залепетал что-то совсем бессвязное и исчез.
Вдруг я ощутил плечом прикосновение чьей-то упругой груди.
Это была одна из женщин, которых привел Бройер. Она уселась
рядом со мной. Взгляд раскосых серо-зеленых глаз медленно
скользил по мне. После такого взгляда говорить уже, собственно,
нечего — надо действовать.
— Замечательно уметь так пить,— сказала она немного погодя.
Я молчал. Она протянула руку к моему бокалу. Сухая и жи-
листая рука с поблескивающими украшениями напоминала
ящерицу. Рука двигалась очень медленно, словно ползла. Я по-
нимал, в чем дело. «С тобой я справлюсь быстро,— подумал я.—
Ты недооцениваешь меня, потому что видишь, как я злюсь.
— 4* 166 4* —
11<> ошибаешься: с женщинами я справляюсь, а вот с любовью —
и» moi у. Несбыточность — вот что нагоняет на меня тоску».
Женщина заговорила. У нее был надломленный, как бы стек-
।'ии।ый голос. Я заметил, что Пат смотрит в нашу сторону. Это
мне было безразлично, но мне была безразлична и женщина,
и 1свшая рядом. Я словно проваливался в бездонный колодец,
ho не имело никакого отношения к Бройеру и ко всем этим
ио him, не имело отношения даже к Пат. То была мрачная тай-
н.। жи ши, которая будит в нас желания, но не может их удовлет-
<н >рн । ь. Любовь зарождается в человеке, но никогда не кончает-
'I н нем. И даже если есть все: и человек, и любовь, и счастье,
и mi nib,— то по какому-то страшному закону этого всегда мало,
и чем большим все это кажется, тем меньше оно на самом деле.
Ч \крадкой глядел на Пат. Она шла в своем серебряном платье,
»• »п.1 я и красивая, пламенная, как сама жизнь, я любил ее, и когда
। кчюрил ей: «Приди», она приходила, ничто не разделяло нас,
мi.i могли быть так близки друг другу, как это вообще возмож-
на между людьми,— и вместе с тем порою все загадочно зате-
• Iи юсь и становилось мучительным, я не мог вырвать ее из кру-
|<| пещей, из круга бытия, который был вне нас и внутри нас
н и.повывал нам свои законы, свое дыхание и свою бренность,
• |\|11и ।ельный блеск настоящего, непрерывно проваливающего-
'| и небытие, зыбкую иллюзию чувства... Обладание само
и" себе уже утрата. Никогда ничего нельзя удержать, никогда!
II им я да нельзя разомкнуть лязгающую цепь времени, никогда
< нокойство не превращалось в покой, поиски — в тишину,
ними да не прекращалось падение. Я не мог отделить ее даже
ч । 1\ чайных вещей, от того, что было до нашего знакомства,
..... мыслей, воспоминаний, от всего, что формировало ее
I" моею появления, и даже от этих людей...
Гя юм со мной сидела женщина с надломленным голосом
ifiiii ю говорила. Ей нужен был партнер на одну ночь, какой-то
»\кр|ск чужой жизни. Это подстегнуло бы ее, помогло бы за-
'•1.1Н.СЯ. забыть мучительную ясную правду о том, что никогда
• 111’нчо не остается — ни «я», ни «ты» и уж меньше всего «мы».
11* in кала ли она, в сущности, того же, что и я? Спутника, чтобы
• ii»i.i 11. одиночество жизни, товарища, чтобы как-то преодолеть
•" * * мысленность бытия?
11ойдемте к столу,— сказал я.— То, что вы хотите... и то,
fit' хочу я... безнадежно.
< >па взглянула на меня и вдруг, запрокинув голову, расхохо-
1 I 1.11 1>.
— 4. 167 + —
* ♦ ♦
Мы зашли еще в два-три ресторана. Бройер был возбужден,
говорлив и полон надежд. Пат притихла. Она ни о чем не спра-
шивала меня, не упрекала меня, не пыталась ничего выяс-
нять — она просто присутствовала. Иногда она танцевала,
и тогда мне казалось, что она скользит сквозь рой марионеток
и карикатурных фигур, как тихий, красивый, стройный кораб-
лик; иногда она мне улыбалась.
В дремотном чаду ночных заведений стены и лица делались
серо-желтыми, словно по ним прошлась грязная ладонь. Каза-
лось, что музыка доносится из-под стеклянного катафалка. Лы-
соголовый пил кофе. Женщина с руками, похожими на ящериц,
неподвижно смотрела в одну точку. Бройер купил у какой-то
измученной от переутомления цветочницы розы и отдал их Пат
и двум другим женщинам. В полураскрытых бутонах искрились
маленькие, прозрачные капли воды.
— Пойдем потанцуем,— сказала мне Пат.
— Нет,— сказал я, думая о руках, которые сегодня прикасались
к ней.— Нет.— Я чувствовал себя удивительно глупым и жалким.
— И все-таки мы потанцуем,— сказала она, и глаза ее потем-
нели.
— Нет,— ответил я.— Нет, Пат.
Наконец мы вышли.
— Я отвезу вас домой,— сказал мне Бройер.
— Хорошо.
В машине был плед, которым он укрыл колени Пат. Вдруг
она показалась мне очень бледной и усталой. Женщина, сидев-
шая со мной за стойкой, при прощании сунула мне записку.
Я сделал вид, что не заметил этого, и сел в машину. По дороге
я смотрел в окно. Пат сидела в углу и не шевелилась. Я не слы-
шал даже ее дыхания. Бройер подъехал сначала к ее дому. Он
знал ее адрес. Она вышла. Бройер поцеловал ей руку.
— Спокойной ночи,— сказал я, не глядя в ее сторону.
— Где мне вас высадить?— спросил меня Бройер.
— На следующем углу,— сказал я.
— Яс удовольствием отвезу вас домой,— ответил он не-
сколько поспешно и слишком вежливо.
Он не хотел, чтобы я вернулся к ней. Я подумал, а не дать ли
ему по морде. Но он был мне совершенно безразличен.
— Ладно, тогда подвезите меня к бару «Фредди»,— сказал я.
— А вас впустят туда в такое позднее время?— спросил он.
— Очень мило, что это вас так тревожит,— ответил я,—
но будьте уверены — меня еще впустят куда угодно.
— + 168 + —
( к.। шв это, я пожалел его. На протяжении всего вечера он,
ьн uno, казался себе неотразимым и лихим кутилой. Не следо-
»• । к» разрушать эту иллюзию.
Я простился с ним приветливее, чем с Пат.
* * *
В баре было еще довольно людно. Ленц и Фердинанд Грау
hi l».i hi в покер с владельцем конфекционного магазина Боль-
пт <»м и еще с какими-то партнерами.
Присаживайся,— сказал Готтфрид,— сегодня покерная
ППН) UI.
11ет,— сказал я.
11осмотри-ка,— сказал он и показал на целую кучу денег.—
h« । всякого блефа. Масть идет сама.
Ладно,— сказал я,— сдавай.
Я объявил игру при двух королях и взял четыре валета.
Вог это да!— сказал я.— Видно, сегодня и в самом деле
noi ода для блефа.
Такая погода бывает всегда,— заметил Фердинанд и дал
ине сигарету.
Я не думал, что задержусь здесь. Но теперь почувствовал
• kcibv под ногами. Хотя мне было явно не по себе, однако тут
п. с |дки было мое старое пристанище.
Дай-ка мне полбутылки рому!— крикнул я Фреду.
Смешай его с портвейном,— посоветовал Ленц.
11ет,— возразил я.— Нет у меня времени для эксперимен-
... Хочу напиться, и точка.
Тогда закажи ликер. Поссорился?
Iлупости!
11е ври, детка. Не морочь голову своему старому папе Ленцу,
мнорый в закоулках сердца чувствует себя как дома. Скажи
Li- и напивайся.
С женщиной невозможно ссориться. В худшем случае
имаио злиться на нее.
( лишком топкие нюансы в три часа ночи. Я, между прочим,
• • орился с каждой. Когда нет ссор, значит, все скоро кончится.
Ладно,— сказал я.— Кто сдает?
Ты,— сказал Фердинанд Грау.— По-моему, у тебя ми-
рив.! я скорбь, Робби. И все же не унывай. Жизнь пестра, но не-
.... Между прочим, ты великолепно блефуешь, несмот-
ря । и всю свою мировую скорбь. Два короля — это уже наглость.
Я однажды играл партию, когда против двух королей сто-
•» in семь тысяч франков,— сказал Фред из-за стойки.
— 4* 169 4* —
— Швейцарских или французских?— спросил Ленц.
— Швейцарских.
— Твое счастье,— заметил Готтфрид.— При французских
франках ты не имел бы права прервать игру...
Мы играли еще час. Я выиграл довольно много. Больвис не-
прерывно проигрывал. Я пил, но у меня только разболелась го-
лова. Опьянение не приходило. Чувства обострились. В желудке
бушевал пожар.
— Так, а теперь довольно, поешь чего-нибудь,— сказал
Ленц.— Фред, дай ему сандвич и несколько сардин. Спрячь
свои деньги, Робби.
— Давай еще одну игру.
— Ладно. Но последнюю. С удвоенной ставкой.
— Пусть с удвоенной!— согласились остальные.
Я довольно безрассудно прикупил к трефовой десятке и ко-
ролю три карты: валета, даму и туза. С ними я выиграл у Боль-
виса, имевшего на руках четыре восьмерки и взвинтившего
ставку до самых звезд. Чертыхаясь, он выплатил мне кучу денег.
— Видишь?— сказал Ленц.— Вот это картежная погода!
Мы пересели к стойке. Больвис спросил о «Карле». Он не мог
забыть, что на гонках Кестер обставил его спортивную машину.
Он все еще хотел купить «Карла».
— Поговори с Отто,— сказал Ленц.— Но мне кажется, что
он охотнее продаст правую руку.
— Не выдумывай,— сказал Больвис.
— Этого тебе не понять, коммерческий отпрыск двадцатого
века,— заявил Ленц.
Фердинанд Грау рассмеялся. Фред тоже. Потом хохотали все.
Если не подшучивать над двадцатым веком, то надо застрелить-
ся. Но долго смеяться над ним нельзя. Скорее взвоешь от горя.
— Готтфрид, ты танцуешь?— спросил я.
— Конечно. Ведь я был когда-то учителем танцев. Разве ты
забыл?
— Забыл... пусть забывает,— сказал Фердинанд Грау.— Заб-
вение — вот тайна вечной молодости. Мы стареем только из-за
памяти. Мы слишком мало забываем.
— Нет,— сказал Ленц.— Мы забываем всегда только нехорошее.
— Ты можешь научить меня этому?— спросил я.
— Чему — танцам? За один вечер, детка. И вот в этом все
твое горе?
— Нет у меня никакого горя,— сказал я.— Голова болит.
— Это болезнь нашего века, Робби,— сказал Фердинанд.—
Лучше всего было бы родиться без головы.
— 4* 170 4* —
Я зашел еще в кафе «Интернациональ». Алоис уже собирал -
•| опускать шторы.
I сть там кто-нибудь?— спросил я.
Роза.
11ойдем выпьем еще по одной.
Договорились.
Г<»ia сидела у стойки и вязала маленькие шерстяные носочки
1 in своей девочки. Она показала мне журнал с образцами и со-
'•(•IIH! ia, что уже закончила вязку кофточки.
Какие сегодня дела?— спросил я.
11лохие. Ни у кого нет денег.
()должить тебе немного? Вот — выиграл в покер.
Шальные деньги приносят счастье,— сказала Роза, плю-
ч\ i.i на кредитки и сунула их в карман.
А юис принес три рюмки, а потом, когда пришла Фрицци,
•нк-одну.
Шабаш,— сказал он затем.— Устал до смерти.
(>н выключил свет. Мы вышли. Роза простилась с нами у две-
!'• и Фрицци взяла Алоиса под руку. Свежая и легкая, она пош-
• । рядом с ним. У Алоиса было плоскостопие, и он шаркал но-
"»мп по асфальту. Я остановился и посмотрел им вслед.
‘I \ видел, как Фрицци склонилась к неопрятному, прихрамыва-
вшему кельнеру и поцеловала его. Он равнодушно отстранил ее.
Н и ipyr — не знаю, откуда это взялось,— когда я повернулся
...«смотрел на длинную пустую улицу и дома с темными окна-
• п на холодное ночное небо, мною овладела такая безумная
• к д по Пат, что я с трудом устоял на ногах, будто кто-то осы-
|| меня ударами. Я ничего больше не понимал — ни себя,
•ш • вое поведение, ни весь этот вечер,— ничего.
Я прислонился к стене и уставился глазами в мостовую.
‘I нс понимал, зачем я себя так вел, запутался в чем-то, что раз-
| | in.। ю меня на части, делало меня неразумным и несправедли-
вом швыряло из стороны в сторону и разбивало вдребезги все,
• •••яс таким трудом привел в порядок. Я стоял у стены, чувст-
• 'п.| । себя довольно беспомощно и не знал, что делать. Домой
*• • ч<»| елось — там мне было бы совсем плохо. Наконец я вспом-
... что у Альфонса еще открыто. Я направился к нему. Там
• н м.1 । остаться до утра.
koi да я вошел, Альфонс не сказал ничего. Он мельком взгля-
• \ । на меня и продолжал читать газету. Я присел к столику
•• hoi ру шлея в полудрему. В кафе больше никого не было. Я ду-
«»। <» 11ат. Все время только о Пат. Я думал о своем поведении,
• 1’|||юминал подробности. Все оборачивалось против меня.
— 4* 171 4* —
Я был виноват во всем. Просто сошел с ума. Я тупо глядел
на столик. В висках стучала кровь. Меня охватила полная рас
терянность. Я чувствовал бешенство и ожесточение против себя
самого. Я, я один разбил все.
Вдруг раздался звон стекла. Это я изо всех сил ударил по рюм
ке и разбил ее.
— Тоже развлечение,— сказал Альфонс и встал.
Он извлек осколок из моей руки.
— Прости меня,— сказал я.— Я не соображал, что делаю.
Он принес вату и пластырь.
— Пойди выспись,— сказал он.— Так лучше будет.
— Ладно,— ответил я.— Уже прошло. Просто был припадок
бешенства.
— Бешенство надо разгонять весельем, а не злобой,— заявил
Альфонс.
— Верно,— сказал я,— но это надо уметь.
— Вопрос тренировки. Вы все хотите стенку башкой проши
бить. Но ничего, с годами это проходит.
Он завел патефон и поставил «Мизерере» из «Трубадура».
Наступило утро.
♦ * ♦
Я пошел домой. Перед уходом Альфонс налил мне большой
бокал «фернет-бранка». Я ощущал мягкие удары каких-то тонн
риков по лбу. Улица утратила ровность. Плечи налились свин
цом. В общем, я был хорош...
Я медленно поднялся по лестнице, нащупывая в кармане
ключ. Вдруг в полумраке я услышал чье-то дыхание. На верхней
ступеньке вырисовывалась какая-то фигура, смутная и рас
плывчатая. Я сделал еще два шага.
— Пат...— сказал я, ничего не понимая.— Пат... что ты здесь
делаешь?
Она пошевелилась.
— Кажется, я немного вздремнула...
— Да, но как ты попала сюда?
— Ведь у меня есть ключ от твоего парадного...
— Я не об этом. Я...— Опьянение исчезло, я смотрел на стер
тые ступеньки лестницы, облупившуюся стену, на серебряное
платье и узкие, сверкающие туфельки...— Я хочу сказать, как
это ты вообще здесь очутилась...
— Я сама все время спрашиваю себя об этом...
— 4* 172 4* —
< >11.1 встала и потянулась так, словно ничего не было естест-
• • шит, чем просидеть здесь на лестнице всю ночь. Потом она
. .... ia носом:
leno сказал бы: «Коньяк, ром, вишневая настойка, аб-
«III
Даже «фернет-бранка»,— признался я и только теперь понял
....о конца.— Черт возьми, ты потрясающая девушка, Пат,
.....успый идиот!
И <и пер дверь, подхватил ее на руки и пронес через коридор.
• hi । прижалась к моей груди, серебряная, усталая птица; я ды-
*•» । । п с ।орону, чтобы она не слышала винный перегар, чувство-
। । < г (рожь, хоть она и улыбалась.
И \ садил ее в кресло, включил свет и достал одеяло:
I ели бы я только мог подумать. Пат... вместо того чтобы
Ki и.ся по кабакам, я бы... какой же я жалкий болван... я зво-
ни । । с()е от Альфонса и свистел под твоими окнами... и решил,
и.. । ы не хочешь говорить со мной... никто мне не ответил..
11очему ты не вернулся, когда проводил меня домой?
Вот этого я и сам не пойму.
будет лучше, если ты дашь мне еще и ключ от квартиры,—
» । и ia она.— Тогда мне не придется ждать па лестнице.
< >иа улыбнулась, но ее губы дрожали; и вдруг я понял, чем
.....о было для нее — эго возвращение, это ожидание и этот
1104 । венный, бодрый тон, которым она раз! оваривала со мной
• • H'pi»...
И был в полном смятении.
11ат,— сказал я быстро,— Пат, ты, конечно, замерзла, тебе
» к- что-нибудь выпить. Я видел в окне Орлова свет. Сейчас
<" । но к нему, у этих русских всегда есть чай... я сейчас же вер-
•и. I. обратно...— Я чувствовал, как меня захлестывает горячая
...и — Я в жизни не забуду этого,— добавил я уже в дверях
• » <»i.k । ро пошел по коридору.
< )р юв еще не спал. Он сидел перед изображением Богородицы
- м i\ комнаты. Икону освещала лампадка. Его глаза были
• I* к Ш.1. На столе кипел небольшой самовар.
Простите, пожалуйста,— сказал я.— Непредвиденный
• \’I.HI — вы не могли бы дать мне немного горячего чаю?
1’\< ские привыкли к неожиданностям. Он дал мне два стакана
• ни < .1 хар и полную тарелку маленьких пирожков.
( большим удовольствием выручу вас,— сказал он.—
Чо г но мне также предложить вам... я сам нередко бывал в по-
‘••iiiiom положении... несколько кофейных зерен... пожевать...
— 4* 173 4* —
— Благодарю вас,— сказал я,— право, я вам очень благода
рен. Охотно возьму их...
— Если вам еще что-нибудь понадобится...— сказал он.
и в эту минуту я почувствовал в нем подлинное благородство,—
я не сразу лягу... мне будет очень приятно...
В коридоре я разгрыз кофейные зерна. Они устранили винный
перегар. Пат сидела у лампы и пудрилась. На минуту я остано
вился в дверях. Я был очень растроган тем, как она сидела, как
внимательно гляделась в маленькое зеркальце и водила пушком
по вискам.
— Выпей немного чаю,— сказал я,— он совсем горячий.
Она взяла стакан. Я смотрел, как она пила.
— Черт его знает, Пат, что это сегодня стряслось со мной.
— Я знаю что,— ответила она.
— Да? А я не знаю.
— Да и не к чему, Робби. Ты и без того знаешь слишком мно-
го, чтобы быть по-настоящему счастливым.
— Может быть,— сказал я.— Но нельзя же так — с тех пор
как мы знакомы, я становлюсь все более ребячливым.
— Нет, можно! Это лучше, чем если бы ты делался все более
разумным.
— Тоже довод,— сказал я.— У тебя замечательная манера
помогать мне выпутываться из затруднительных положений.
Но тут намешалось много всякой всячины.
Она поставила стакан на стол. Я стоял, прислонившись
к кровати. У меня было такое чувство, будто я приехал домой
после долгого трудного путешествия.
* ♦ ♦
Защебетали птицы. Хлопнула входная дверь. Это была фрау
Бендер, служившая сестрой в детском приюте. Через полчаса
на кухне появится Фрида, и мы не сможем выйти из квартиры
незамеченными. Пат еще спала. Она дышала ровно и глубоко
Мне было просто стыдно будить ее. Но иначе было нельзя.
— Пат...
Она пробормотала что-то, не просыпаясь.
— Пат...— Я проклинал все меблированные комнаты мира-
Пат, пора вставать. Я помогу тебе одеться.
Она открыла глаза и по-детски улыбнулась, еще совсем теп
лая от сна. Меня всегда удивляла ее радость при пробуждении,
и я очень любил это в ней. Я никогда не бывал весел, когда про
сыпался.
— Пат... фрау Залевски уже чистит свою вставную челюсть.
— 4* 174 4* —
Я сегодня остаюсь у тебя.
Здесь?
Да.
Я распрямился.
Блестящая идея... но твои вещи... вечернее платье, туфли...
Я и останусь до вечера.
А как же дома?
Позвоним и скажем, что я где-то заночевала.
Ладно. Ты хочешь есть?
11ет еще.
На всякий случай я быстренько стащу пару свежих було-
•• к Разносчик повесил уже корзинку па входной двери. Еще
но UIHO.
Koi да я вернулся, Пат стояла у окна. На ней были только сс-
пряные туфельки. Мягкий утренний свет падал точно флер
• м ее плечи.
Вчерашнее забыто, Пат, хорошо?— сказал я.
11е оборачиваясь, она кивнула головой.
Мы просто не будем больше встречаться с другими людьми.
I < и 1<1 не будет ни ссор, ни припадков ревности. Настоящая лю-
• н.|ц, не терпит посторонних. Бройер пускай идет к чертям
• и всем своим обществом.
Да,— сказала она,— и эта Маркович тоже.
Маркович? Кто это?
Га, с которой ты сидел за стойкой в «Каскаде».
Ага,— сказал я, внезапно обрадовавшись,— ага, пусть и она.
Я выложил содержимое своих карманов.
11осмотри-ка. Хоть какая-то польза от этой истории. Я вы-
"»p.i । кучу денег в покер. Сегодня вечером мы на них покутим
ше ра {ок, хорошо? Только как следует, без чужих людей. Они
• ihi.i । ы, правда?
< >на кивнула.
( <» и ще всходило над крышей дома профессиональных союзов.
। »• перкали стекла в окнах. Волосы Пат наполнились светом,
• н 'in стали как золотые.
Что ты мне сказала вчера об этом Бройере? То есть о его
’»| »• '<|»СССИИ?
Он архитектор.
Архитектор,— повторил я несколько огорченно.
Мне было бы приятнее услышать, что он вообще ничто.
Ну и пусть себе архитектор, ничего тут нет особенного,
- ри<». 11ат?
Да, дорогой.
— 4* 175 4* —
— Ничего особенного, правда?
— Совсем ничего,— убежденно сказала Пат, повернулась
ко мне и рассмеялась.— Совсем ничего, абсолютно ничего. Мусор
это — вот что!
— И эта комнатка не так уж жалка, правда, Пат? Конечно,
у других людей есть комнаты получше...
— Она чудесна, твоя комната,— перебила меня Пат,— со
вершенно великолепная комната, дорогой мой, я действитель
но не знаю более прекрасной!
— А я, Пат у меня, конечно, есть недостатки, и я всею
лишь шофер такси, но...
— Ты мой самый любимый, ты воруешь булочки и хлещешь
ром. Ты прелесть!
Она бросилась мне на шею.
— Ах, глупый ты мой, как хорошо жить!
— Только вместе с тобой, Пат. Правда... только с тобой!
Утро поднималось, сияющее и чудесное. Внизу, над могиль
ными плитами, вился тонкий туман. Кроны деревьев были уже
залиты лучами солнца. Из труб домов, завихряясь, вырывался
дым. Газетчики выкрикивали названия первых газет. Мы легли
и погрузились в утренний сон, сон наяву, сон на грани видений,
мы обнялись, наше дыхание смешалось, и мы парили где-то да
леко... Потом, в девять часов, я позвонил, сперва в качестве тай
ного советника Буркхарда лично подполковнику Эгберту фон
Хаке, а затем Ленцу, которого попросил выехать вместо меня
в утренний рейс.
Он сразу же перебил меня:
— Вот видишь, дитятко, твой Готтфрид недаром считается
знатоком прихотей человеческого сердца. Я рассчитывал
на твою просьбу. Желаю счастья, мой золотой мальчик.
— Заткнись,— радостно сказал я и объявил на кухне, что за
болел и буду до обеда лежать в постели. Трижды мне пришлось
отбивать заботливые атаки фрау Залевски, предлагавшей мне
ромашковый настой, аспирин и компрессы. Затем мне удалось
провести Пат контрабандой в ванную комнату. Больше нас ни
кто не беспокоил.
XIV
Неделю спустя в нашу мастерскую неожиданно приехал
на своем «форде» булочник.
— Ну-ка, выйди к нему, Робби,— сказал Ленц, злобно посмо
трев в окно.— Этот доморощенный Казанова наверняка хочеч
предъявить рекламацию.
— + 176 + —
У булочника был довольно расстроенный вид.
— Что-нибудь с машиной?— спросил я.
Он покачал головой:
— Напротив. Работает отлично. Она теперь все равно что
новая.
— Конечно,— подтвердил я и посмотрел на него с несколько
большим интересом.
— Дело в том...— сказал он,— дело в том, что... в общем, я хочу
другую машину, побольше...— Он оглянулся.— У вас тогда, ка-
жется, был «кадиллак»?
Я сразу понял все. Смуглая особа, с которой он жил, доняла его.
— Да, «кадиллак»,— сказал я мечтательно.— Вот тогда-то
нам и надо было хватать его. Роскошная была машина! Мы от-
дали ее за семь тысяч марок. Наполовину подарили!
— Ну уж и подарили...
— Подарили!— решительно повторил я и стал прикидывать,
как действовать.— Я мог бы навести справки,— сказал я,— может
быть, человек, купивший ее тогда, нуждается теперь в деньгах.
Нынче такие вещи бывают на каждом шагу. Одну минутку.
Я пошел в мастерскую и быстро рассказал о случившемся.
Готтфрид подскочил:
— Ребята, где бы нам экстренно раздобыть старый «кадиллак»?
— Об этом позабочусь я, а ты последи, чтобы булочник
не сбежал,— сказал я.
— Идет!— Готтфрид исчез.
Я позвонил Блюменталю. Особых надежд на успех я не пи-
|дл, но попробовать не мешало. Он был в конторе.
— Хотите продать свой «кадиллак»?— сразу спросил я.
Блюменталь рассмеялся.
— У меня есть покупатель,— продолжал я.— Заплатит на-
личными.
— Заплатит наличными...— повторил Блюменталь после не-
долгого раздумья.— В наше время эти слова звучат как чистей-
шая поэзия.
— Ия так думаю,— сказал я и вдруг почувствовал прилив бод-
рости.— Так как же, поговорим?
— Поговорить можно всегда,— ответил Блюменталь.
— Хорошо. Когда я могу вас повидать?
— Сегодня днем. Скажем, в два часа, у меня в конторе.
— Хорошо.
Я повесил трубку.
— Отто,— обратился я в довольно сильном возбуждении
к Кестеру,— я этого никак не ожидал, но мне кажется, что наш
«кадиллак» вернется!
Кестер отложил бумаги:
— Правда? Он хочет продать машину?
Я кивнул и посмотрел в окно. Ленц оживленно беседовал
с булочником.
— Он неправильно ведет себя,— забеспокоился я.— Слиш-
ком много говорит. Ведь булочник — это целая гора недоверия;
его надо убедить молчанием. Пойду-ка и сменю Готтфрида.
Кестер рассмеялся:
— Ни пуха ни пера, Робби.
Я подмигнул ему и вышел. Но я не поверил своим ушам:
Готтфрид и не думал петь преждевременные дифирамбы «ка-
диллаку», он с энтузиазмом рассказывал булочнику, как южно-
американские индейцы выпекают хлеб из кукурузной муки.
Я бросил ему взгляд, полный признательности, и обратился
к булочнику:
— К сожалению, этот человек не хочет продавать...
— Так я и знал,— мгновенно выпалил Ленц, словно мы сго-
ворились.
Я пожал плечами.
— Жаль... Но я могу его понять...
— А ты не мог бы попытаться еще раз?— тут же спросил он.
— Мог бы, конечно,— ответил я.— Мне все-таки удалось до-
говориться с ним о встрече сегодня после обеда. Но как мне
найти вас потом?— спросил я булочника.
— В четыре часа я опять буду здесь поблизости. Вот и наве-
даюсь...
— Хорошо, тогда все уже будет известно. Надеюсь, дело все-
таки выгорит.
Булочник кивнул. Затем сел в свой «форд» и отчалил.
— Ты что, совсем обалдел?— вскипел Ленц, когда машина
завернула за угол.— Я пытался задерживать этого типа чуть ли
не насильно, а ты отпускаешь его ни с того ни с сего!
— Логика и психология, дорогой мой Готтфрид!— возразил
я и похлопал его по плечу.— Этого ты пока еще не понимаешь
как следует...
Он стряхнул мою руку.
— Психология...— заявил он пренебрежительно.— Удачный
случай — вот лучшая психология! И такой случай ты упустил!
Булочник никогда больше не вернется...
— В четыре часа он будет здесь как штык!
— 4* 178 4* —
Готтфрид с сожалением посмотрел на меня.
— Пари?— предложил он.
— Пожалуйста,— сказал я,— но ты влипнешь. Уж я-то знаю
его лучше, чем ты! Такие залетают на огонек по нескольку раз.
Кроме того, не могу же я ему продать вещь, которую мы пока
что сами еще не имеем...
— Господи Боже мой! И это все, что ты можешь сказать, дет-
ка!— воскликнул Готтфрид, сокрушенно качая головой.— Ни-
чего из тебя в этой жизни не выйдет. Ведь у нас только начина-
ются настоящие дела! Пойдем, я бесплатно прочту тебе лекцию
о современной экономической жизни...
♦ ♦ ♦
Днем я пошел к Блюменталю. По пути я сравнивал себя с мо-
лодым козленком, которому надо навестить старого волка.
Солнце жгло асфальт, и с каждым шагом мне все меньше хоте-
лось, чтобы Блюменталь зажарил меня на вертеле. Так или иначе,
лучше всего было действовать быстро.
— Господин Блюменталь,— торопливо проговорил я, едва
переступив порог кабинета и не дав ему опомниться,— я при-
шел к вам с приличным предложением. Вы заплатили за «ка-
диллак» пять тысяч пятьсот марок. Предлагаю вам шесть,
но при условии, что я действительно сумею сбагрить его. Это
выяснится сегодня вечером.
Блюменталь восседал за письменным столом и ел яблоко. Те-
перь он перестал жевать и внимательно посмотрел на меня.
— Ладно,— просопел он через несколько секунд, снова при-
нимаясь за яблоко.
Я подождал, пока он бросит огрызок в бумажную корзину.
— Так, значит, вы согласны?
— Минуточку!— Он достал из ящика письменного стола
другое яблоко и с треском надкусил его.— Дать вам тоже?
— Благодарю, сейчас не надо.
— Ешьте побольше яблок, господин Локамп! Яблоки про-
длевают жизнь! Несколько яблок в день — и вам никогда не по-
надобится врач!
— Даже если я сломаю руку?
Он ухмыльнулся, выбросил второй огрызок и встал.
— А вы не ломайте! •
— Практичный совет,— сказал я и подумал, что же будет
дальше. Этот яблочный разговор показался мне слишком подо-
фительным.
— 4* 179 4* —
Блюменталь достал ящик с сигарами из небольшого шкафа
и предложил мне закурить. Это были уже знакомые мне «Коро-
на-Корона».
— Они тоже продлевают жизнь?— спросил я.
— Нет, укорачивают ее. Потом это уравновешивается ябло-
ками.— Он выпустил клуб дыма и, наклонив голову, посмотрел
на меня снизу, словно задумчивая птица.— Надо все уравнове-
шивать — вот в чем весь секрет жизни...
—ь Но это надо уметь.
Он подмигнул мне.
— Именно уметь, в этом весь секрет. Мы слишком много зна-
ем и слишком мало умеем... Потому что знаем слишком много.
Он рассмеялся.
— Простите меня. После обеда я всегда слегка настроен
на философский лад.
— Самое время для философии,— сказал я.— Значит, с «ка-
диллаком» мы тоже добьемся равновесия, не так ли?
Он поднял руку.
— Секунду...
Я покорно склонил голову. Блюменталь заметил мой жест
и рассмеялся.
— Нет, вы меня не поняли. Я вам только хотел сделать ком-
плимент. Вы ошеломили меня, явившись с открытыми картами
в руках! Вы точно рассчитали, как это подействует на старого
Блюменталя. А знаете, чего я ждал?
— Что я предложу вам для начала четыре тысячи пятьсот.
— Верно! Но тут бы вам несдобровать. Ведь вы хотите про-
дать за семь, не так ли?
Из предосторожности я пожал плечами.
— Почему именно за семь?
— Потому что в свое время это было вашей первой ценой.
— У вас блестящая память,— сказал я.
— На цифры. Только на цифры. К сожалению. Итак, чтобы
покончить: берите машину за шесть тысяч.
Мы ударили по рукам.
— Слава Богу,— сказал я, переводя дух.— Первая сделка после
долгого перерыва. «Кадиллак», видимо, приносит нам счастье.
— Мне тоже,— сказал Блюменталь.— Ведь и я заработал
на нем пятьсот марок.
— Правильно. Но почему, собственно, вы его так скоро про-
даете? Он не понравился вам?
— Просто суеверие,— объяснил Блюменталь.— Я совершаю
любую сделку, при которой что-то зарабатываю.
— 4* 180 4* —
— Чудесное суеверие...— ответил я.
Он покачал своим блестящим лысым черепом.
— Вот вы не верите, но это так. Чтобы не было неудачи в дру-
। их делах. Упустить в наши дни выгодную сделку — значит бро-
сить вызов судьбе. А этого никто себе больше позволить не может.
* * ♦
В половине пятого Ленц, весьма выразительно посмотрев
на меня, поставил на стол передо мной пустую бутылку из-под
джина.
— Я желаю, чтобы ты мне ее наполнил, детка! Ты помнишь
о нашем пари?
— Помню,— сказал я,— но ты пришел слишком рано.
Готтфрид безмолвно поднес часы к моему носу.
— Половина пятого,— сказал я,— думаю, что это астрономи-
чески точное время. Опоздать может всякий. Впрочем, я меняю
условия пари — ставлю два против одного.
— Принято,— торжественно заявил Готтфрид.— Значит, я по-
лучу бесплатно четыре бутылки джина. Ты проявляешь героизм
на потерянной позиции. Весьма доблестно, деточка, но и не ме-
нее глупо.
— Подождем...
Я притворялся уверенным, но меня одолевали сомнения.
Я считал, что булочник скорее всего не придет. Надо было за-
держать его в первый же раз. Слишком уж он был ненадежен.
В пять часов на соседней фабрике перин завыла сирена.
Готтфрид молча поставил передо мной еще три пустые бутыл-
ки. Затем прислонился к окну и уставился на меня.
— Меня одолевает жажда,— многозначительно произнес он.
В этот момент с улицы донесся характерный шум фордовского
мотора, и тут же машина булочника въехала в ворота.
— Если тебя одолевает жажда, дорогой Готтфрид,— ответил
н с большим достоинством,— сбегай поскорее в магазин и купи
дне бутылки рома, которые я выиграл. Я позволю тебе отпить
। лоток бесплатно. Видишь булочника во дворе? Психология,
мой мальчик! А теперь убери отсюда пустые бутылки! Потом
можешь взять такси и поехать на промысел. А для более тонких
лсд ты еще молод. Привет, сын мой!
Я вышел к булочнику и сказал ему, что машину, вероятно,
можно будет купить. Правда, наш бывший клиент требует семь
1ысяч пятьсот марок, но если он увидит наличные деньги, то уж
мпк-нибудь уступит за семь.
— + 181 + —
Булочник слушал меня так рассеянно, что я немного расте-
рялся.
— В шесть часов я позвоню этому человеку еще раз,— ска-
зал я наконец.
— В шесть?— очнулся булочник.— В шесть мне нужно...—
Вдруг он повернулся ко мне.— Поедете со мной?
— Куда?— удивился я.
— К вашему другу, художнику. Портрет готов.
— Ах так, к Фердинанду Грау...
Он кивнул.
— Поедемте со мной. О машине мы сможем поговорить и потом.
По-видимому, он почему-то не хотел идти к Фердинанду без
меня. Со своей стороны, я также был весьма заинтересован
в том, чтобы не оставлять его одного. Поэтому я сказал:
— Хорошо, но это довольно далеко. Давайте поедем сразу.
♦ ♦ ♦
Фердинанд выглядел очень плохо. Лицо серо-зеленоватого
оттенка казалось помятым и обрюзгшим. Он встретил нас у вхо-
да в мастерскую. Булочник едва взглянул на него. Он был явно
возбужден.
— Где портрет?— сразу спросил он.
Фердинанд показал рукой в сторону окна. Там стоял моль-
берт с портретом. Булочник быстро вошел в мастерскую и за-
стыл перед ним. Немного погодя снял шляпу. Он так торопился,
что сначала и не подумал об этом. Фердинанд остался со мной
в дверях.
— Как поживаешь, Фердинанд?— спросил я.
Он сделал неопределенный жест рукой.
— Что-нибудь случилось?
— Что могло случиться?
— Ты плохо выглядишь.
— И только-то?
— Да,— сказал я,— больше ничего...
Он положил мне на плечо свою большую ладонь и улыбнул-
ся, напомнив чем-то старого сенбернара.
Подождав еще немного, мы подошли к булочнику. Портрет
его жены удивил меня: лицо получилось отлично. По свадебной
фотографии и другому снимку, на котором покойница выгляде-
ла весьма удрученной, Фердинанд написал портрет еще доволь-
но молодой женщины. Она смотрела на нас серьезными, не-
сколько беспомощными глазами.
— 4* 182 4* —
— Да,— сказал булочник, не оборачиваясь,— это она.— Он
сказал это скорее для себя, и я подумал, что он даже не услы-
шал своих слов.
— Вам достаточно светло?— спросил Фердинанд.
Булочник не ответил.
Фердинанд подошел к мольберту и слегка повернул его. По-
him он отошел назад и кивком головы пригласил меня в малень-
кую комнату рядом с мастерской.
— Вот уж чего никак не ожидал,— сказал он удивленно.—
( кидка подействовала на него. Он рыдает...
— Всякого может задеть за живое,— ответил я.— Но с ним
но случилось слишком поздно...
— Слишком поздно,— сказал Фердинанд,— всегда все слиш-
ком поздно. Так уж повелось в жизни, Робби.
Он медленно расхаживал по комнате:
— Пусть мой клиент побудет немного один, а мы с тобой пока
сыграем в шахматы.
— У тебя просто золотой характер,— сказал я.
Он остановился.
— При чем тут характер? Ведь ему все равно ничем не по-
мочь. А если всем вечно думать только о грустных вещах, то ни-
кго на свете не будет иметь права смеяться...
— Ты опять прав,— сказал я.— Ну, давай — быстро сыграем
партию.
Мы расставили фигуры и начали. Фердинанд довольно легко
пыиграл. Не трогая королевы, действуя ладьей и слоном, он
< коро объявил мне мат.
— Здорово!— сказал я.— Вид у тебя такой, будто ты не спал
। ри дня, а играешь, как морской разбойник.
- Я всегда играю хорошо, когда меланхоличен,— ответил
Фердинанд.
— А почему ты меланхоличен?
— Просто так. Потому что темнеет. Порядочный человек
। наступлением вечера всегда становится меланхоличным. Дру-
। их особых причин не требуется. Просто так... вообще...
— Но только если он одинок,— сказал я.
- Конечно... Час теней... Час одиночества.... Час, когда коньяк
нижется особенно вкусным.
Он достал бутылку и рюмки.
- Не пойти ли нам к булочнику?— спросил я.
- Сейчас.— Он налил коньяк.— За твое здоровье, Робби,
in к>, что мы все когда-нибудь подохнем!
— + 183 4* —
— Твое здоровье, Фердинанд! За то, что мы пока еще суще-
ствуем.
— Сколько раз наша жизнь висела на волоске, а мы все-таки
уцелели. Надо выпить и за это!
— Ладно.
Мы пошли обратно в мастерскую. Стало темнеть. Вобрав го-
лову в плечи, булочник все еще стоял перед портретом. Он вы-
глядел горестным и потерянным в этом большом голом поме-
щении, и мне показалось, будто он стал меньше.
— Упаковать вам портрет?— спросил Фердинанд.
Булочник вздрогнул:
— Нет...
— Тогда я пришлю вам его завтра.
— Он не мог бы еще побыть здесь?— неуверенно спросил бу-
лочник.
— Зачем же?— удивился Фердинанд и подошел ближе.— Он
вам не нравится?
— Нравится... но я хотел бы ненадолго оставить его здесь...
— Не понимаю.
Булочник умоляюще посмотрел на меня. Я понял — он боялся
повесить портрет дома, где жила эта чернявая дрянь.
Быть может, то был страх перед покойницей.
— Послушай, Фердинанд,— сказал я,— если портрет будет
оплачен, то его можно спокойно оставить здесь.
— Да, разумеется...
Булочник с облегчением извлек из кармана чековую книжку.
Оба подошли к столу.
— Я вам должен еще четыреста марок?— спросил булочник.
— Четыреста двадцать,— сказал Фердинанд,— с учетом
скидки. Хотите расписку?
— Да,— сказал булочник,— для порядка.
Фердинанд молча написал расписку и тут же получил чек.
Я стоял у окна и разглядывал комнату. В сумеречном полусвете
мерцали лица на невостребованных и неоплаченных портретах
в золоченых рамах. Какое-то сборище потусторонних призра-
ков, и казалось, что все эти неподвижные глаза устремлены
на портрет у окна, который сейчас присоединится к ним. Вечер
тускло озарял его последним отблеском жизни. Все было не^
обычным: две человеческие фигуры, согнувшиеся над столом,
тени и множество безмолвных портретов.
Булочник вернулся к окну. Его глаза в красных прожилках
казались стеклянными шарами, рот был полуоткрыт, и нижняя
губа отвисла, обнажая желтые зубы. Было смешно и грустно
— 4* 184 4* —
смотреть на него. Этажом выше кто-то сел за пианино и при-
лился играть упражнения. Звуки повторялись непрерывно, вы-
сокие, назойливые. Фердинанд остался у стола. Он закурил си-
• пру. Пламя спички осветило его лицо.
Мастерская, тонувшая в синем полумраке, показалась вдруг
(нромной от красноватого огонька.
— Можно еще изменить кое-что в портрете?— спросил бу-
1ОЧНИК.
— Что именно?
Фердинанд подошел поближе. Булочник указал на драгоцен-
ности.
— Можно это снова убрать?
Он говорил о крупной золотой броши, которую просил под-
рисовать, сдавая заказ.
— Конечно,— сказал Фердинанд,— она мешает восприятию
айна. Портрет только выиграет, если ее убрать.
— Ия так думаю.— Булочник замялся на минуту.— Сколько
но будет стоить?
Мыс Фердинандом переглянулись.
— Это ничего не стоит,— добродушно сказал Фердинанд.—
Напротив, мне следовало бы вернуть вам часть денег: ведь
ни портрете будет меньше нарисовано.
Булочник удивленно поднял голову. На мгновение мне пока-
ялось, что он готов согласиться с этим. Но затем он решительно
шявил:
— Нет, оставьте... ведь сперва вы должны были ее нарисовать.
— И это опять-таки правда...
Мы пошли. На лестнице я смотрел на сгорбленную спину бу-
'ючника, и мне стало его жалко; я был слегка растроган, тем,
•по в нем заговорила совесть, когда Фердинанд разыграл его
» брошью на портрете. Я понимал его настроение, и мне
нс очень хотелось наседать на него с «кадиллаком». Но потом
и решил: его искренняя скорбь по умершей супруге объясняет-
• и только тем, что дома у него живет чернявая дрянь. Эта мысль
придала мне бодрости.
♦ ♦ ♦
— Мы можем переговорить о нашем деле у меня,— сказал
пупочник, когда мы вышли на улицу.
Я кивнул. Меня это вполне устраивало. Булочнику, правда,
ыпалось, что в своих четырех стенах он намного сильнее, я же
рассчитывал на поддержку его любовницы.
Она поджидала нас у двери.
— 4* 185 4* —
— Примите сердечные поздравления,— сказал я, не дав бу-
лочнику раскрыть рта.
— С чем?— спросила она быстро, окинув меня озорным
взглядом.
— С вашим «кадиллаком»,— невозмутимо ответил я.
— Сокровище ты мое!— Она подпрыгнула и повисла на шее
у булочника.
— Но ведь мы еще...— Он пытался высвободиться из ее объя-
тий и объяснить ей положение дел. Но она не отпускала его.
Дрыгая ногами, она кружилась с ним, не давая ему говорить.
Передо мной мелькала то ее хитрая, подмигивающая рожица,
то его голова мучного червя. Он тщетно пытался протестовать.
Наконец ему удалось высвободиться.
— Ведь мы еще не договорились,— сказал он, отдуваясь.
— Договорились,— сказал я с большой сердечностью.— До-
говорились! Беру на себя выторговать у него последние пятьсот
марок! Вы заплатите за «кадиллак» семь тысяч марок и ни пфен-
нига больше! Согласны?
— Конечно!— поспешно сказала брюнетка.— Ведь это дей-
ствительно дешево, пупсик...
— Помолчи!— Булочник поднял руку.
— Ну, что еще случилось?— набросилась она на него.— Сна-
чала ты говорил, что возьмешь машину, а теперь вдруг не хочешь!
— Он хочет,— вмешался я,— мы обо всем переговорили...
— Вот видишь, пупсик? Зачем отрицать?..— Она обняла его.
Он опять попытался высвободиться, но она решительно прижа-
лась пышной грудью к его плечу. Он сделал недовольное лицо,
но его сопротивление явно слабело.
— «Форд»...— начал он.
— Будет, разумеется, принят в счет оплаты...
— Четыре тысячи марок...
— Стоил он когда-то, не так ли?— спросил я дружелюбно.
— Он должен быть принят в оплату с оценкой в четыре тыся-
чи марок,— твердо заявил булочник. Овладев собой, он теперь
нашел позицию для контратаки.— Ведь машина почти новая...
— Новая...— изумленно сказал я.— После такого колоссаль-
ного ремонта?
— Сегодня утром вы это сами признали.
— Сегодня утром я имел в виду нечто иное. Новое новому
рознь, и слово «новая» звучит по-разному, в зависимости от того,
покупаете вы или продаете. При цене в четыре тысячи марок
ваш «форд» должен был бы иметь бамперы из чистого золота.
— 4* 186 4* —
Четыре тысячи марок — или ничего не выйдет,— упрямо
k.i 1.1:1 он. Теперь это был прежний непоколебимый булочник;
*.1 и юсь, он хочет взять реванш за порыв сентиментальности,
• *чп.| । ивший его у Фердинанда.
Тогда до свидания!— ответил я и обратился к его подруге: —
Иги»ма сожалею, сударыня, но совершать убыточные сделки
•I нс могу. Мы ничего не зарабатываем на «кадиллаке» и не мо-
♦ см поэтому принять в счет оплаты старый «форд» с такой вы-
• икон ценой. Прощайте...
()на удержала мена. Ее глаза сверкали, и теперь она так яро-
И1О обрушилась на булочника, что у него потемнело в глазах.
Сам ведь говорил сотни раз, что «форд» больше ничего
нс ( юит,— прошипела она в заключение со слезами на глазах.
Две тысячи марок,— сказал я.— Две тысячи марок, хотя
и ио для нас самоубийство.
Булочник молчал.
Да скажи что-нибудь наконец! Что же ты молчишь, слов-
чи поды в рот набрал?— кипятилась брюнетка.
Господа,— сказал я,— пойду и пригоню вам «кадиллак».
\ HI.I пока обсудите этот вопрос между собой.
Я почувствовал, что мне лучше всего исчезнуть. Брюнетке
пре 1сгояло продолжить мое дело.
* * *
Через час я вернулся на «кадиллаке». Я сразу заметил, что
нор разрешился простейшим образом. У булочника был весь-
41 растерзанный вид, к его костюму пристал пух от перины.
Брюнетка, напротив, сияла, ее грудь колыхалась, а на лице игра-
1111.1 пая предательская улыбка. Она переоделась в тонкое шел-
»"|ц)е платье, плотно облегавшее ее фигуру. Улучив момент,
••h i выразительно подмигнула мне и кивнула головой. Я понял,
но все улажено. Мы совершили пробную поездку. Удобно раз-
" 11мсь на широком заднем сиденье, брюнетка непрерывно бол-
। । и Я бы с удовольствием вышвырнул ее в окно, но она мне еще
"|.| i.i нужна. Булочник с меланхоличным видом сидел рядом со
‘iiiiiii Он заранее скорбел о своих деньгах, а эта скорбь — самая
и" । питая из всех.
Мы приехали обратно и снова поднялись в квартиру. Булоч-
ник вышел из комнаты, чтобы принести деньги. Теперь он ка-
• । п ч ciapwM, и я заметил, что у него крашеные волосы. Брю-
ч« iK.i кокетливо оправила платье:
)ю мы здорово обделали, правда?
Да,— нехотя ответил я.
— 4* 187 4* —
— Сто марок в мою пользу...
— Ах, вот как...— сказал я.
— Старый скряга,— доверительно прошептала она и подо-
шла ближе.— Денег у него уйма! Но попробуйте заставить его
раскошелиться! Даже завещания написать не хочет! Потом все
получат, конечно, дети, а я останусь на бобах! Думаете, много
мне радости с этим старым брюзгой?..
Она подошла ближе. Ее грудь колыхалась.
— Так, значит, завтра я зайду насчет ста марок. Когда вас
можно застать? Или, может быть, вы бы сами заглянули сюда?—
Она захихикала.— Завтра после обеда я буду здесь одна...
— Я вам пришлю их сюда,— сказал я.
Она продолжала хихикать.
— Лучше занесите сами. Или вы боитесь?
Видимо, я казался ей робким, и она сделала поощряющий жест,
— Не боюсь,— сказал я.— Просто времени нет. Как раз завтра
надо идти к врачу. Застарелый сифилис, знаете ли! Это страш-
но отравляет жизнь!..
Она так поспешно отступила назад, что чуть не упала в плю-
шевое кресло. В эту минуту вошел булочник. Он недоверчиво
покосился на свою подругу. Затем отсчитал деньги и положил
их на стол. Считал он медленно и неуверенно. Его тень маячила
на розовых обоях и как бы считала вместе с ним. Вручая ему
расписку, я подумал: «Сегодня это уже вторая, первую ему вру-
чил Фердинанд Грау». И хотя в этом совпадении ничего особен-
ного не было, оно почему-то показалось мне странным.
Оказавшись на улице, я вздохнул свободно. Воздух был по-
летнему мягок. У тротуара поблескивал «кадиллак».
— Ну, старик, спасибо,— сказал я и похлопал его по капоту.—
Вернись поскорее — для новых подвигов!
XV
Над лугами стояло яркое сверкающее утро. Пат и я сидели
на лесной прогалине и завтракали. Я взял двухнедельный от-
пуск и отправился с Пат к морю. Мы были в пути.
Перед нами на шоссе стоял маленький старый «ситроен»,
Мы получили эту машину в счет оплаты за старый «форд» бу-
лочника, и Кестер дал мне ее на время отпуска. Нагруженный
чемоданами, наш «ситроен» походил на терпеливого навьючен-
ного ослика.
— Надеюсь, он не развалится по дороге,— сказал я.
— Не развалится,— ответила Пат.
— Откуда ты знаешь?
— 4* 188 4* —
- Разве непонятно? Потому что сейчас наш отпуск, Робби.
— Может быть,— сказал я.— Но, между прочим, я знаю его
миною ось. У нее довольно грустный вид. А тут еще такая на-
। pv жа.
Он брат «Карла» и должен вынести все.
- Очень рахитичный братец.
— Не богохульствуй, Робби. В данный момент это самый
прекрасный автомобиль из всех, какие я знаю.
Мы лежали рядом на полянке. Из леса дул мягкий, теплый
••<-1срок. Пахло смолой и травами.
— Скажи, Робби,— спросила Пат немного погодя,— что это
in цветы, там, у ручья?
— Анемоны,— ответил я, не посмотрев.
— Ну что ты говоришь, дорогой! Совсем это не анемоны.
\псмоны гораздо меньше; кроме тою, они цветут только весной.
Правильно,— сказал я.— Это кардамины.
(>на покачала головой.
Я знаю кардамины. У них совсем другой вид.
Тогда это цикута.
Что ты, Робби! Цикута белая, а не красная.
Тогда не знаю. До сих пор я обходился этими тремя назва-
ниями, когда меня спрашивали. Одному из них всегда верили.
()на рассмеялась.
Жаль. Если бы я это знала, я удовлетворилась бы анемонами.
Цикута!—сказал я.— С цикутой я добился большинства
•11 )1 >с I.
< >iia привстала.
Вот это весело! И часто тебя расспрашивали?
Не слишком часто. И при совершенно других обстоятель-
। и.i\
< >iia уперлась ладонями в землю.
А ведь, собственно говоря, стыдно ходить по земле и почти
"н и к) не знать о ней. Даже нескольких названий цветов.
Не расстраивайся,— сказал я,— гораздо более позорно,
• •и мы вообще не знаем, зачем околачиваемся на земле. И тут
"• • ко и»ко лишних названий ничего не изменят.
)го только слова! Мне кажется, ты просто ленив.
Ч повернулся.
Конечно. Но насчет лени еще далеко не все ясно. Она —
• • • и к» всякого счастья и конец всяческой философии. Полежим
•и» in много рядом. Человек слишком мало лежит. Он вечно сто-
' и hi с идит. Это вредно для нормального биологического само-
— 4* 189 4* —
чувствия. Только когда лежишь, полностью примиряешься с са
мим собой.
Послышался звук мотора, и вскоре мимо нас промчалась ма
шина.
— Маленький «мерседес»,— заметил я, не оборачиваясь.—
Четырехцилиндровый.
— Вот еще один,— сказала Пат.
— Да, слышу. «Рено». У него капот как свиное рыло?
-Да.
— Значит, «рено». А теперь слушай: вот идет настоящая ма
шина! «Лянча»! Она наверняка догонит и «мерседес» и «рено»,
как волк пару ягнят. Ты только послушай, как работает мотор!
Как орган!
Машина пронеслась мимо.
— Тут ты, видно, знаешь больше трех названий!— сказала Пат.
— Конечно. Тут уж я не ошибусь.
Она рассмеялась.
— Так это как же — грустно или нет?
— Совсем не грустно. Вполне естественно. Хорошая машина
иной раз приятней, чем двадцать цветущих лугов.
— Черствое дитя двадцатого века! Ты, вероятно, совсем
не сентиментален...
— Отчего же? Как видишь, насчет машин я сентиментален.
Она посмотрела на меня.
— Ия тоже,— сказала она.
* * *
В ельнике закуковала кукушка. Пат начала считать.
— Зачем ты это делаешь?— спросил я.
— А разве ты не знаешь? Сколько раз она прокукует -
столько лет еще проживешь.
— Ах да, помню. Но тут есть еще одна примета. Когда слы
шишь кукушку, надо встряхнуть свои деньги. Тогда их стансi
больше.
Я достал из кармана мелочь и подкинул ее на ладони.
— Вот это ты!— сказала Пат и засмеялась.— Я хочу жить,
а ты хочешь денег.
— Чтобы жить!— возразил я.— Настоящий идеалист стрс
мится к деньгам. Деньги — это свобода. А свобода — жизнь.
— Четырнадцать,— считала Пат.— Было время, когда ты ю
ворил об этом иначе.
— В мрачный период. Нельзя говорить о деньгах с презрением
Многие женщины даже влюбляются из-за денег. А любовь дс
— 4* 190 4* —
«Три товарища»
лает многих мужчин корыстолюбивыми. Таким образом, деньги
стимулируют идеалы, любовь же, напротив,— материализм.
— Сегодня тебе везет,— сказала Пат.— Тридцать пять.
— Мужчина,— продолжал я,— становится корыстолюбивым
только из-за капризов женщин. Не будь женщин, не было бы
и денег, и мужчины были бы племенем героев. В окопах мы жи
ли без женщин, и было не так уж важно, у кого и где имелась ка’
кая-то собственность. Важно было одно — какой ты солдат
Я не ратую за прелести окопной жизни, просто хочу осветить
проблему любви с правильных позиций. Она пробуждаем
в мужчине самые худшие инстинкты — страсть к обладанию,
к общественному положению, к заработкам, к покою. Недаром
диктаторы любят, чтобы их соратники были женаты,— так они
менее опасны. И недаром католические священники не имени
жен, иначе они не были бы такими отважными миссионерами.
— Сегодня тебе просто очень везет,— сказала Пат.— Пять
десят два!
Я опустил мелочь в карман и закурил сигарету.
— Скоро ли ты кончишь считать?— спросил я.— Ведь уже
перевалило за семьдесят.
— Сто, Робби! Сто — хорошее число. Вот сколько лет я хотела
бы прожить.
— Свидетельствую тебе свое уважение, ты храбрая женщина!
Но как же можно столько жить?
Она скользнула по мне быстрым взглядом.
— А это видно будет. Ведь я отношусь к жизни иначе, чем ты
— Это так. Впрочем, говорят, что труднее всего прожить
первые семьдесят лет. А там дело пойдет на лад.
— Сто!— провозгласила Пат, и мы тронулись в путь.
* * *
Море надвигалось на нас как огромный серебряный парус.
Еще издали мы услышали его соленое дыхание. Горизонт ши
рился и светлел, и вот оно простерлось перед нами, беспокой
ное, могучее и бескрайнее.
Шоссе, сворачивая, подходило к самой воде. Потом появил
ся лесок, а за ним деревня. Мы справились, как проехать к до
му, где собирались поселиться. Оставался еще порядочный ку
сок пути. Адрес нам дал Кестер. После войны он прожил здесь
целый год.
Маленькая вилла стояла на отлете. Я лихо подкатил свой
«ситроен» к калитке и дал сигнал. В окне на мгновение показа
лось широкое бледное лицо и тут же исчезло.
— 4* 192 4* —
— Надеюсь, это не фрейлейн Мюллер,— сказал я.
— Не все ли равно, как она выглядит,— ответила Пат.
Открылась дверь. К счастью, это была не фрейлейн Мюллер,
а служанка. Через минуту к нам вышла фрейлейн Мюллер, вла-
1с.1ица виллы,— миловидная седая дама, похожая на старую де-
ву. На ней было закрытое черное платье с брошью в виде золо-
юго крестика.
— Пат, на всякий случай подними чулки,— шепнул я, погля-
дев на крестик, и вышел из машины.
— Кажется, господин Кестер уже предупредил вас о нашем
приезде,— сказал я.
— Да, я получила телеграмму.— Она внимательно разгляды-
вала меня.— Как поживает господин Кестер?
— Довольно хорошо... если можно так выразиться в наше
время.
Она кивнула, продолжая разглядывать меня.
— Вы с ним давно знакомы?
«Начинается форменный экзамен»,— подумал я и доложил,
как давно я знаком с Отто. Мой ответ как будто удовлетворил
се. Подошла Пат. Она успела поднять чулки. Взгляд фрейлейн
Мюллер смягчился. К Пат она отнеслась, видимо, более милос-
тиво, чем ко мне.
— У вас найдутся комнаты для нас?— спросил я.
— Уж если господин Кестер известил меня, то комната для
пас всегда найдется,— заявила фрейлейн Мюллер, покосив-
шись на меня.— Вам я предоставлю самую лучшую,— обрати-
ть она к Пат.
Пат улыбнулась. Фрейлейн Мюллер ответила ей улыбкой.
— Я покажу вам ее,— сказала она.
Обе пошли рядом по узкой дорожке маленького сада. Я брел
iчади, чувствуя себя лишним: фрейлейн Мюллер обращалась
юлько к Пат.
Комната, которую она нам показала, находилась в нижнем
паже. Она была довольно просторной, светлой и уютной
и имела отдельный выход в сад, что мне очень понравилось.
11а одной стороне было подобие ниши. Здесь стояли две кровати.
Ну как?— спросила фрейлейн Мюллер.
— Очень красиво,— сказала Пат.
— Даже роскошно,— добавил я, стараясь польстить хозяйке.—
Л |де другая?
Фрейлейн Мюллер медленно повернулась ко мне.
- Другая? Какая другая? Разве вам нужна другая? Эта вам
нс нравится?
— 4* 193 4* —
— Она просто великолепна,— сказал я,— но...
— Но?— чуть насмешливо заметила фрейлейн Мюллер.—
К сожалению, у меня нет лучшей.
Я хотел объяснить ей, что нам нужны две отдельные комнаты,
но она тут же добавила:
— И ведь вашей жене она очень нравится.
«Вашей жене»... Мне почудилось, будто я отступил на шаг
назад, хотя не сдвинулся с места. Я незаметно взглянул на Пат,
Прислонившись к окну, она смотрела на меня, давясь от смеха,
— Моя жена, разумеется...— сказал я, глазея на золотой крес-
тик фрейлейн Мюллер. Делать было нечего, и я решил не от-
крывать ей правды. Она бы еще, чего доброго, вскрикнула
и упала в обморок.— Просто мы привыкли спать в двух комна-
тах,— сказал я.— Я хочу сказать — каждый в своей.
Фрейлейн Мюллер неодобрительно покачала головой.
— Две спальни, когда люди женаты?.. Какая-то новая мода...
— Не в этом дело,— заметил я, стараясь предупредить воз
можное недоверие.— У моей жены очень легкий сон. Я же,
к сожалению, довольно громко храплю.
— Ах, вот что, вы храпите!— сказала фрейлейн Мюллер та-
ким тоном, словно уже давно догадывалась об этом.
Я испугался, решив, что теперь она предложит мне комнату
наверху, на втором этаже. Но брак был для нее, очевидно, свя-
щенным делом. Она отворила дверь в маленькую смежную ком-
натку, где, кроме кровати, не было почти ничего.
— Великолепно,— сказал я,— этого вполне достаточно.
Но не помешаю ли я кому-нибудь?— Я хотел узнать, будем ли
мы одни на нижнем этаже.
— Вы никому не помешаете,— успокоила меня фрейлейн
Мюллер, с которой внезапно слетела вся важность.— Кроме
вас, здесь никто не живет. Все остальные комнаты пустуют —
Она с минуту постояла с отсутствующим видом, но затем собра-
лась с мыслями. — Вы желаете питаться здесь или в столовой?
— Здесь,— сказал я.
Она кивнула и вышла.
— Итак, фрау Локамп,— обратился я к Пат,— вот мы и влип
ли. Но я не решился сказать правду: в этой старой чертовке есть
что-то церковное. Я ей как будто тоже не очень понравился.
Странно, обычно я пользуюсь успехом у старых дам.
— Это не старая дама, Робби, а очень милая старая фрей
лейн.
— Милая?— Я пожал плечами.— Во всяком случае, не без
осанки. Ни души в доме, и вдруг такие величественные манеры!
— 4* 194 4* —
— Не так уж она величественна...
— С тобой нет.
11ат рассмеялась.
— Мне она понравилась. Но давай притащим чемоданы и до-
с гапем купальные принадлежности.
* ♦ *
Я плавал целый час и теперь загорал на пляже. Пат была еще
а воде. Ее белая купальная шапочка то появлялась, то исчезала
а синем перекате волн. Над морем кружились и кричали чайки.
На горизонте медленно плыл пароход, волоча за собой длин-
ный султан дыма.
Сильно припекало солнце. В его лучах таяло всякое желание
сопротивляться сонливой бездумной лени. Я закрыл глаза и вы-
ишулся во весь рост. Подо мной шуршал горячий песок. В ушах
hi давался шум слабого прибоя. Я начал что-то вспоминать, ка-
кой-то день, когда лежал точно так же...
Это было летом 1917 года. Наша рота находилась тогда
но Фландрии, и нас неожиданно отвели на несколько дней в Ос-
1епде на отдых. Майер, Хольтгоф, Брайер, Лютгенс, я и еще
кое-кто. Большинство из нас никогда не были у моря, и эти не-
многие дни, этот почти непостижимый перерыв между смертью
и смертью, превратились в какое-то дикое, яростное наслажде-
ние солнцем, песком и морем. Целыми днями мы валялись
на пляже, подставляя голые тела солнцу. Быть голыми, без вы-
кладки, без оружия, без формы,— это само по себе уже равно-
сильно миру. Мы буйно резвились на пляже, снова и снова
in । урмом врывались в море, мы ощущали свои тела, свое дыхание,
спои движения со всей силой, которая связывала нас с жизнью.
II н и часы мы забывались, мы хотели забыть обо всем. Но вече-
ром, в сумерках, когда серые тени набегали из-за горизонта
ни бледнеющее море, к рокоту прибоя медленно примешивался
другой звук; он усиливался и наконец, словно глухая гроза, пере-
крывал морской шум. То был грохот фронтовой канонады.
И югда внезапно обрывались разговоры, наступало напряжен-
ное молчание, люди поднимали головы и вслушивались,
и па радостных лицах мальчишек, наигравшихся до полного из-
неможения, неожиданно и резко проступал суровый облик сол-
дат; и еще на какое-то мгновение по лицам солдат пробегало
। дубокое й тягостное изумление, тоска, в которой было все, что
iiiK и осталось невысказанным: мужество, и горечь, и жажда
«и ши, воля выполнить свой долг, отчаяние, надежда и загадоч-
। hi я скорбь тех, кто смолоду обречен на смерть. Через несколько
— + 195 4* —
дней началось большое наступление, и уже третьего июля в роте
осталось, только тридцать два человека. Майер, Хольтгоф
и Лютгенс были убиты.
— Робби!— крикнула Пат.
Я открыл глаза. С минуту я соображал, где нахожусь. Всякий
раз, когда меня одолевали воспоминания о войне, я куда-то уно-
сился. При других воспоминаниях этого не бывало.
Я привстал. Пат выходила из воды. За ней убегала вдаль
красновато-золотистая солнечная дорожка. С ее плеч стекал
мокрый блеск, она была так сильно залита солнцем, что выде-
лялась на фоне озаренного неба темным силуэтом. Она шла
ко мне и с каждым шагом все выше врастала в слепящее сияние,
пока позднее предвечернее солнце не встало нимбом вокруг ее
головы.
Я вскочил на ноги, таким неправдоподобным, будто из дру-
гого мира, казалось мне это видение: просторное синее небо,
белые ряды пенистых гребней моря, и на этом фоне — краси-
вая, стройная фигура. И мне почудилось, что я один на всей
земле, а из воды выходит первая женщина. На минуту я был по-
корен огромным, спокойным могуществом красоты и чувство-
вал, что она сильнее всякого кровавого прошлого, что она
должна быть сильнее его, ибо иначе весь мир рухнет и задохнет-
ся в страшном смятении. И еще сильнее я чувствовал, что
я есть, что я просто существую на земле и есть Пат, что я живу,
что я спасся от ужаса войны, что у меня глаза, и руки, и мысли,
и горячее биение крови, и что все это — непостижимое чудо.
— Робби!— снова позвала Пат и помахала мне рукой.
Я поднял ее купальный халат и быстро пошел ей навстречу.
— Ты слишком долго пробыла в воде,— сказал я.
— А мне совсем тепло,— ответила она, задыхаясь.
Я поцеловал ее влажное плечо.
— На первых порах тебе надо быть более благоразумной.
Она покачала головой и посмотрела на меня лучистыми глазами.
— Я достаточно долго была благоразумной.
— Разве?
— Конечно! Более чем достаточно! Хочу наконец быть не-
благоразумной!— Она засмеялась и прижалась щекой к моему
лицу.— Будем неблагоразумны, Робби! Ни о чем не будем думать,
совсем ни о чем, только о нас, и о солнце, и об отпуске, и о морс!
— Хорошо,— сказал я и взял махровое полотенце.— Дай-ка
я тебя сперва вытру досуха. Когда ты успела так загореть?
Она надела купальный халат.
— 4* 196 4* —
Это результат моего «благоразумного» года. Каждый день
и должна была проводить целый час на балконе и принимать
нншечную ванну. В восемь часов вечера я ложилась. А сегодня
и восемь часов вечера пойду опять купаться.
- Это мы еще посмотрим,— сказал я.— Человек всегда велик
в намерениях. Но не в их выполнении. В этом и состоит его оча-
рование.
* * *
Вечером никто из нас не купался. Мы прошлись в деревню,
и когда наступили сумерки, покатались на «ситроене». Вдруг
I Ini почувствовала сильную усталость и попросила меня вер-
ну i вся. Уже не раз я замечал, как буйная жизнерадостность
миювенно и резко сменялась в ней глубокой усталостью. У нее
нс было никакого запаса сил, хотя с виду она не казалась сла-
бой. Она всегда расточительно расходовала свои силы и каза-
1всь неисчерпаемой в своей свежей юности. Но внезапно на-
иупал момент, когда лицо ее бледнело, а глаза глубоко
ншадали. Тогда все кончалось. Она утомлялась не постепенно,
и сразу, в одну секунду.
- Поедем домой, Робби,— попросила она, и ее низкий голос
нрошучал глуше обычного.
— Домой? К фрейлейн Мюллер с золотым крестиком на груди?
Ингересно, что еще могло прийти в голову старой чертовке
в наше отсутствие...
- Домой, Робби,— сказала Пат и в изнеможении прислони-
inci» к моему плечу.— Там теперь наш дом.
>1 отнял одну руку от руля и обнял ее за плечи. Мы медлен-
но ехали сквозь синие, мглистые сумерки, и когда наконец уви-
ic iii освещенные окна маленькой виллы, примостившейся, как
icMiioe животное, в пологой ложбинке, мы и впрямь почувство-
вали, что возвращаемся в родной дом.
Фрейлейн Мюллер ожидала нас. Она переоделась, и вместо
черного шерстяного на ней было черное шелковое платье такого
же пуританского покроя, а вместо крестика к нему была прико-
пка другая эмблема — сердце, якорь и крест — церковный
символ веры, надежды и любви.
Она была гораздо приветливее, чем перед нашим уходом,
и спросила, устроит ли нас приготовленный ею ужин: яйца, хо-
нщпое мясо и копченая рыба.
Ну конечно,— сказал я.
- Вам не нравится? Совсем свежая копченая камбала.—
(hin робко посмотрела на меня.
— 4* 197 4* —
— Разумеется,— сказал я холодно.
— Свежекопченая камбала — это должно быть очень вкусно,—
заявила Пат и с упреком взглянула на меня.— Фрейлейн Мюл-
лер, первый день у мо£)я — и такой ужин! Чего еще желать? Если
бы еще вдобавок крепкого горячего чаю.
— Ну как же! Очень горячий чай! С удовольствием! Сейчас
вам все подадут.
Фрейлейн Мюллер облегченно вздохнула и торопливо удали-
лась, шурша своим шелковым платьем.
— Тебе в самом деле не хочется рыбы?— спросила Пат.
— Еще как хочется! Камбала! Все эти дни только и мечтал о ней.
— А зачем же ты пыжишься? Вот уж действительно...
— Я должен был расквитаться за прием, оказанный мне се-
годня.
— Боже мой!— рассмеялась Пат.— Ты ничего не прощаешь!
Я уже давно забыла об этом.
— А я нет,— сказал я.— Я так легко не забываю.
— А надо бы...
Вошла служанка с подносом. У камбалы была кожица цвета
золотого топаза, и она чудесно пахла морем и дымом. Нам при-
несли еще свежих креветок.
— Начинаю забывать,— сказал я мечтательно.— Кроме того,
я замечаю, что страшно проголодался.
— Ия тоже. Но дай мне поскорее горячего чаю. Странно,
но меня почему-то знобит. А ведь на дворе совсем тепло.
Я посмотрел на нее. Она была бледна, но все же улыбалась.
— Теперь ты и не заикайся насчет долгих купаний,— сказал
я и спросил горничную: — У вас найдется немного рому?
— Чего?
— Рому. Такой напиток в бутылках.
— Ром?
-Да.
— Нет.
Лицо у нее было круглое, как луна. Она смотрела на меня ни-
чего не выражающим взглядом.
— Нет,— сказала она еще раз.
— Хорошо,— ответил я.— Это неважно. Спокойной ночи.
Да хранит вас Бог.
Она ушла.
— Какое счастье, Пат, что у нас есть дальновидные друзья,—
сказал я.— Сегодня утром перед отъездом Ленц погрузил в нашу
машину довольно тяжелый пакет. Посмотрим, что в нем.
— 4* 198 4* —
'I принес из машины пакет. В небольшом ящике лежали две
। и । к и рома, бутылка коньяка и бутылка портвейна. Я поднес
с м к лампе и посмотрел на этикетку.
Ром «Сент Джеймс», подумать только! На наших ребят
•I" ь но положиться.
< Нкупорив бутылку, я налил Пат добрую толику рома в чай.
11|'и этом я заметил, что ее рука слегка дрожит.
Тебя сильно знобит?— спросил я.
Чуть-чуть. Теперь уже лучше. Ром хорош... Но я скоро лягу.
Ложись сейчас же, Пат,— сказал я.— Придвинем стол
> inн юли и будем есть.
< >iki кивнула. Я принес ей еще одно одеяло с моей кровати
• I НО юдвинул столик.
Может быть, дать тебе настоящего грогу, Пат? Это еще
• \ ’line'. Могу быстро приготовить его.
П и отказалась:
Нет, мне уже опять хорошо.
Я взглянул на нее. Она действительно выглядела лучше. Глаза
HiHi.i заблестели, губы стали пунцовыми, матовая кожа дыша-
I I • вс ж сетью.
быстро ты пришла в себя, просто замечательно,— сказал я.—
К. <• ио, конечно, ром.
(>иа улыбнулась.
И постель тоже, Робби. Я отдыхаю лучше всего в постели.
1 >н.। мое прибежище.
(Транно. А я бы сошел с ума, если бы мне пришлось лечь
• и рано. Я хочу сказать — лечь одному.
< >на рассмеялась.
Для женщины это другое дело.
Не говори так. Ты не женщина.
А кто же?
11е знаю. Только не женщина. Если бы ты была настоящей
• рма 1ьной женщиной, я не мог бы тебя любить.
< >ii.i посмотрела на меня.
А ты вообще можешь любить?
11у, знаешь ли!— сказал я.— Слишком много спрашиваешь
< \ типом. Больше вопросов нет?
Может быть, и есть. Но ты ответь мне на этот.
‘I палил себе рому.
За твое здоровье, Пат. Возможно, что ты и права. Может
ни. никто из нас не умеет любить. То есть так, как любили
।•• + ic. Но от этого нам не хуже. У нас с тобой все по-другому,
• н> проще.
— 4* 199 4* —
Раздался стук в дверь. Вошла фрейлейн Мюллер. В руке она
держала крохотную стеклянную кружечку, на дне которой бол-
талась какая-то жидкость.
— Вот я принесла вам ром.
— Благодарю вас,— сказал я, растроганно глядя на стеклян-
ный наперсток.— Это очень мило с вашей стороны, но мы уже
вышли из положения.
— О Господи!— Она в ужасе осмотрела четыре бутылки
на столе.— Вы так много пьете?
— Только в лечебных целях,— мягко ответил я, избегая смо-
треть на Пат.— Прописано врачом. У меня слишком сухая пе-
чень, фрейлейн Мюллер. Но не окажете ли вы нам честь?..
Я открыл портвейн.
— За ваше благополучие! Пусть ваш дом поскорее заполнит-
ся гостями.
— Очень благодарна!— Она вздохнула, поклонилась и отпила,
как птичка.— За ваш отдых!— Потом она лукаво улыбнулась
мне.— До чего же крепкий. И вкусный.
Я так изумился этой перемене, что чуть не выронил стакан.
Щечки фрейлейн порозовели, глаза заблестели, и она приня-
лась болтать о различных, совершенно неинтересных для нас
вещах. Пат слушала ее с ангельским терпением. Наконец хозяйка
обратилась ко мне:
— Значит, господину Кестеру живется неплохо?
Я кивнул.
— В то время он был так молчалив,— сказала она.— Бывало,
за весь день словечка не вымолвит. Он и теперь такой?
— Нет, теперь он уже иногда разговаривает.
— Он прожил здесь почти год. Всегда один...
— Да,— сказал я.— В этом случае люди всегда говорят меньше.
Она серьезно кивнула и посмотрела на Пат.
— Вы, конечно, очень устали.
— Немного,— сказала Пат.
— Очень,— добавил я.
— Тогда я пойду,— испуганно сказала она.— Спокойной ночи!
Спите хорошо!
Помешкав еще немного, она вышла.
— Мне кажется, она бы еще с удовольствием осталась
здесь,— сказал я.— Странно... ни с того ни с сего...
— Несчастное существо,— ответила Пат.— Сидит себе, на
верное, вечером в своей комнате и печалится.
— Да, конечно... Но мне думается, что я, в общем, вел себя
с ней довольно мило.
— Ч* 200 Ч* —
— Да, Робби,— она погладила мою руку.— Открой немного
дверь.
Я подошел к двери и отворил ее. Небо прояснилось, полоса
ну11ного света, падавшая на шоссе, протянулась в нашу комнату.
Казалось, сад только того и ждал, чтобы распахнулась дверь,—
с такой силой ворвался в комнату и мгновенно разлился по ней
ночной аромат цветов, сладкий запах левкоя, резеды и роз.
— Ты только посмотри,— сказал я.
Луна светила все ярче, и мы видели садовую дорожку во всю
се длину. Цветы с наклоненными стеблями стояли по ее краям,
пистья отливали темным серебром, а бутоны, так пестро расцве-
ченные днем, теперь мерцали пастельными тонами призрачно
и нежно. Лунный свет и ночь отняли у красок всю их силу,
но зато аромат был острее и слаще, чем днем.
Я посмотрел на Пат. Ее маленькая темноволосая головка ле-
жала на белоснежной подушке. Пат казалась совсем обессилен-
ной, но в ней была тайна хрупкости, таинство цветов, распуска-
ющихся в полумраке, в парящем свете луны.
Она слегка привстала.
— Робби, я действительно очень утомлена. Это плохо?
Я подошел к ее постели.
— Ничего страшного. Ты будешь отлично спать.
— А ты? Ты, вероятно, не ляжешь так рано?
— Пойду еще прогуляюсь по пляжу.
Она кивнула и откинулась на подушку. Я посидел еще не-
много с ней.
— Оставь дверь открытой на ночь,— сказала она, засыпая.—
Гогда кажется, что спишь в саду...
Она стала дышать глубже. Я встал, тихо вышел в сад, остано-
иился у деревянного забора и закурил сигарету. Отсюда я мог
пидеть комнату. На стуле висел ее купальный халат, сверху было
наброшено платье и белье; на полу у стола стояли туфли. Одна
hi них опрокинулась. Я смотрел на эти вещи, и меня охватило
vi ранное ощущение чего-то родного, и я думал, что вот теперь
она есть и будет у меня и что стоит мне сделать несколько ша-
ю11, как я увижу ее и буду рядом с ней сегодня, завтра, а может
П|»| и», долго-долго...
Может быть, думал я, может быть — вечно эти два слова, без
моюрых уже никак нельзя было обойтись! Уверенности — вот че-
|о мне недоставало. Именно уверенности, ее недоставало всем.
Я спустился к пляжу, к морю и ветру, к глухому рокоту, нара-
। пннпему как отдаленная артиллерийская канонада.
— 4* 201 + —
XVI
Я сидел на пляже и смотрел на заходящее солнце. Пат не по-
шла со мной. Весь день она себя плохо чувствовала. Когда стем-
нело, я встал и собрался пойти домой. Вдруг я увидел, что из-за
рощи выбежала горничная. Она махала мне рукой и что-то кри-
чала. Я ничего не понимал — ветер и море заглушали слова.
Я сделал ей знак, чтобы она остановилась. Но она продолжала
бежать и подняла рупором руки к губам.
— Фрау Пат...— послышалось мне.— Скорее...
— Что случилось?— крикнул я.
Она не могла перевести дух.
— Скорее... Фрау Пат... несчастье...
Я побежал по песчаной лесной дорожке к дому. Деревянная
калитка не поддавалась. Я перемахнул через нее и ворвался
в комнату. Пат лежала в постели с окровавленной грудью и су-
дорожно сжатыми пальцами. Изо рта у нее еще шла кровь. Воз-
ле стояла фрейлейн Мюллер с полотенцем и тазом с водой.
— Что случилось?— крикнул я и оттолкнул ее в сторону.
Она что-то сказала.
— Принесите бинт и вату!— попросил я.— Где рана?
Она посмотрела на меня, ее губы дрожали.
— Это не рана...
Я резко повернулся к ней.
— Кровотечение,— сказала она.
Меня точно обухом по голове ударили.
— Кровотечение?
Я взял у нее из рук таз.
— Принесите лед, достаньте поскорее немного льда.
Я смочил кончик полотенца и положил его Пат на грудь.
— У нас в доме нет льда,— сказала фрейлейн Мюллер.
Я повернулся. Она отошла на шаг.
— Ради Бога, достаньте лед, пошлите в ближайший трактир
и немедленно позвоните врачу.
— Но ведь у нас нет телефона...
— Проклятье! Где ближайший телефон?
— У Массмана.
— Бегите туда. Быстро. Сейчас же позвоните ближайшему
врачу. Как его зовут? Где он живет?
Не успела она назвать фамилию, как я вытолкнул ее за дверь.
— Скорее, скорее бегите! Это далеко?
— В трех минутах отсюда,— ответила фрейлейн Мюллер
и торопливо засеменила.
— Принесите с собой лед!— крикнул я ей вдогонку.
— 4* 202 4* —
Я принес свежей воды, снова смочил полотенце, но не pe-
in । в я прикоснуться к Пат. Я не знал, правильно ли она лежит,
и ।и.। । в отчаянии оттого, что не знал главного, не знал едипст-
I" iiiioi о, что должен был знать,— подложить ли ей подушку под
....tv или оставить ее лежать плашмя.
I с дыхание сдало хриплым, потом она резко привстала,
и । ровь хлынула струей. Она дышала часто, в глазах было пече-
•• шеческое страдание, она задыхалась и кашляла, истекая кровью;
। но 1 (ерживал ее за плечи, то прижимая к себе, то отпуская,
и оц|\|цал содрогания всею ее измученною тела. Казалось,
....и этому не будет. Потом, совершенно обессиленная, она
и...улась на подушку.
Пошла фрейлейн Мюллер. Она посмотрела на меня, как
ч। привидение.
Что же делать?— спросил я.
Врач сейчас будет,— прошептала она.— Лед... на грудь,
и in сможет... пусть пососет кусочек...
Как ее положить?.. Низко или высоко?.. Да говорите же,
и pi возьми!
11усI ь лежит 1ак... Он сейчас придет.
Я стал класть ей на грудь лед, почувс!вовав обле1чепие
-о возможности что-то делать; я дробил лед для компрессов,
н и я । их и непрерывно смотрел на прелесзные, любимые, ис-
• сив lennbie губы, эти единс! венные, эти окровавленные губы...
l.iшуршали шипы велосипеда. Я вскочил. Врач.
- Могу ли я помочь вам?— спросил я. Он отрипателыю по-
• I I I I юловой и оз крыл свою сумку. Я сюял рядом с ним, судо-
....io вцепившись в спинку кровати. Он посмотрел па меня.
I о। отел немного назад, не спуская с нею ыаз. On paccMaipn-
• । । ребра Пат. Опа застонала.
Разве это так опасно?— спросил я.
Кто лечил вашу жену?
Как то есть лечил?..— пробормотал я.
Какой врач?— нетерпеливо переспросил он.
Не знаю...— ответил я.— Нет, я ничего не знаю... не думаю...
ин посмотрел на меня.
Но ведь вы должны знать...
Но я не знаю. Она мне никогда об этом не говорила.
ин склонился к Пат и спросил ее о чем-то. Она хотела отве-
ин Но опять начался кровавый кашель. Врач приподнял ее.
• »н । \в;нала губами воздух и дышала с присвистом.
Жаффе,— произнесла она наконец, с трудом вытолкнув
। юно из горла.
— 4* 203 4* —
— Феликс Жаффе? Профессор Феликс Жаффе?— спросил
врач. Чуть сомкнув веки, она подтвердила это. Доктор повернул-
ся ко мне.— Вы можете ему позвонить? Лучше спросить у него.
— Да, да,— ответил я,— я это сделаю сейчас же. А потом
приду за вами! Жаффе?
— Феликс Жаффе,— сказал врач.— Узнайте номер телефона.
— Она выживет?— спросил я.
— Кровотечение должно прекратиться,— сказал врач.
Я позвал горничную, и мы побежали по дороге. Она показала
мне дом, где был телефон. Я позвонил у парадного. В доме си-
дело небольшое общество за кофе и пивом. Я обвел всех неви-
дящим взглядом, не понимая, как могут люди пить пиво, когда
Пат истекает кровью. Заказав срочный разговор, я ждал у аппа-
рата. Вслушиваясь в гудящий мрак, я видел сквозь портьеры
часть смежной комнаты, где сидели люди. Все казались мне ту-
манным и вместе с тем предельно четким. Я видел покачиваю-
щуюся лысину, в которой отражался желтый свет лампы, видел
брошь на черной тафте платья со шнуровкой, и двойной подбо-
родок, и пенсне, и высокую вздыбленную прическу; костлявую
старую руку со вздувшимися венами, барабанившую по столу...
Я не хотел ничего видеть, но был словно обезоружен — все само
проникало в глаза, как слепящий свет.
Наконец мне ответили. Я попросил профессора.
— сожалению, профессор Жаффе ушел,— сообщила мне
сестра.
Мое сердце замерло и тут же бешено заколотилось.
— Где же он? Мне нужно переговорить с ним немедленно.
— Не знаю. Может быть, он вернулся в клинику.
— Пожалуйста, позвоните в клинику. Я подожду. У вас, на-
верно, есть второй аппарат.
— Минутку.— Опять гудение, бездонный мрак, над которым
повис тонкий металлический провод. Я вздрогнул. Рядом
со мной, в клетке, закрытой занавеской, защебетала канарейка.
Снова послышался голос сестры: — Профессор Жаффе уже
ушел из клиники.
— Куда?
— Я этого точно не знаю.
Это был конец. Я прислонился к стене.
— Алло!— сказала сестра.— Вы не повесили трубку?
— Нет еще. Послушайте, сестра, вы не знаете, когда он вер-
нется?
— Это очень неопределенно.
— 4* 204 4* —
— Разве он ничего не сказал? Ведь он обязан. А если что-ни-
будь случится, где же его тогда искать?
— В клинике есть дежурный врач.
— А вы могли бы спросить его?
— Это не имеет смысла, он ведь тоже ничего не знает.
— Хорошо, сестра,— сказал я, чувствуя смертельную уста-
лость,— если профессор Жаффе придет, попросите его немед-
ленно позвонить сюда.— Я сообщил ей номер.— Но немедлен-
но! Прошу вас, сестра.
— Можете положиться на меня.— Она повторила номер
н повесила трубку.
Я остался на месте. Качающиеся головы, лысина, брошь, со-
седняя комната — все куда-то ушло, откатилось, как блестящий
решновый мяч. Я осмотрелся. Здесь я больше ничего не мог
сделать. Надо было только попросить хозяев позвать меня, если
будет звонок. Но я не решался отойти от телефона, он был для
меня как спасательный круг. И вдруг я сообразил, как посту-
пить. Я снял трубку и назвал номер Кестера. Его-то я уж заста-
ну на месте. Иначе не могло быть.
И вот из хаоса ночи выплыл спокойный голос Отто. Я сразу же
успокоился и рассказал ему все. Я чувствовал, что он слушает
и записывает.
— Хорошо,— сказал он,— сейчас же еду искать его. Позвоню.
Не волнуйся. Найду.
Вот все и кончилось. Весь мир успокоился. Кошмар прошел.
Я побежал обратно.
— Ну как?— спросил врач.— Дозвонились?
— Нет,— сказал я,— но я разговаривал с Кестером.
— Кестер? Не слыхал. Что он сказал? Как он ее лечил?
— Лечил? Не лечил он ее. Кестер ищет его.
— Кого?
— Жаффе.
— Господи Боже мой! Кто же этот Кестер?
— Ах да... простите, пожалуйста. Кестер мой друг. Он ищет
профессора Жаффе. Мне не удалось созвониться с ним.
— Жаль,— сказал врач и сноЬа наклонился к Пат.
— Он разыщет его,— сказал я.— Если профессор не умер, он
i’io разыщет.
Врач посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и пожал пле-
чпми.
В комнате горела тусклая лампочка. Я спросил, могу ли я чем-
нибудь помочь. Врач не нуждался в моей помощи. Я уставился
— 4* 205 + —
в окно. Пат прерывисто дышала. Закрыв окно, я подошел к двери
и стал смотреть на дорогу.
Вдруг кто-то крикнул:
— Телефон! ,
Я повернулся:
— Телефон? Мне пойти?
Врач вскочил на ноги.
— Нет, я пойду. Я расспрошу его лучше. Останьтесь здесь.
Ничего не делайте. Я сейчас же вернусь.
Я присел к кровати Пат.
— Пат,— сказал я тихо.— Мы все на своих местах. Все сле-
дим за тобой. Ничего с тобой не случится. Ничто не должно
с тобой случиться. Профессор уже дает указания по телефону.
Он скажет нам все. Завтра он наверняка приедет. Он поможет
тебе. Ты выздоровеешь. Почему ты никогда не говорила мне,
что еще больна? Потеря крови невелика, это не страшно, Пат,
мы восстановим твою кровь. Кестер нашел профессора. Теперь
все хорошо, Пат.
Врач пришел обратно.
— Это был не профессор...
Я встал.
— Звонил ваш друг Ленц.
— Кестер не нашел его?
— Нашел. Профессор сказал ему, что надо делать. Ваш друг
Ленц передал мне эти указания по телефону. Все очень толково
и правильно. Ваш приятель Ленц — врач?
— Нет. Хотел быть врачом... но где же Кестер?— спросил я.
Врач посмотрел на меня.
— Ленц сказал, что Кестер выехал несколько минут тому на-
зад. С профессором.
Я прислонился к стене.
— Отто!— едва вымолвил я.
— Да,— продолжал врач,— и, по мнению вашего Лруга Ленца,
они будут здесь через два часа — это единственное, что он ска-
зал неправильно. Я знаю дорогу. При самой быстрой езде им
потребуется свыше трех часов, не меньше.
— Доктор,— ответил я.— Можете не сомневаться. Если он
сказал — два часа, значит, ровно через два часа они будут здесь.
— Невозможно. Очень много поворотов, а сейчас ночь.
— Увидите...— сказал я.
— Так или иначе... конечно, лучше, чтобы он приехал.
Я не мог больше оставаться в доме и вышел. Стало туманно.
Вдали шумело море. С деревьев падали капли. Я осмотрелся.
— 4* 206 Ф —
Я уже не был один. Теперь где-то там на юге, за горизонтом, ре-
вел мотор. За туманом по бледно-серым дорогам летела по^
мощь, фары разбрызгивали яркий свет, свистели покрышки,
и две руки сжимали рулевое колесо, два глаза холодным уверен-
ным взглядом сверлили темноту — глаза моего друга...
♦ ♦ *
Потом Жаффе рассказал мне, как все произошло.
Сразу после разговора со мной Кестер позвонил Ленцу и по-
просил его быть наготове. Затем он вывел «Карла» из гаража
и помчался с Ленцем в клинику Жаффе. Дежурная сестра ска-
uuia, что профессор, возможно, поехал ужинать, и назвала Ке-
стеру несколько ресторанов, где он мог быть. Кестер отправил-
ся на поиски. Он ехал на красный свет, не обращая внимания
па полицейских. Он посылал «Карла» вперед, как норовистого
коня, протискиваясь сквозь поток машин. Профессор оказался
и четвертом по счету ресторане. Оставив ужин, он вышел с Кес-
1сром. Они поехали на квартиру Жаффе, чтобы взять все необ-
ходимое. Это был единственный участок пути, на котором Кес-
iep ехал хотя и быстро, но все же не в темпе автомобильной
юнки. Он не хотел пугать профессора преждевременно. По до-
роге Жаффе спросил, где находится Пат. Кестер назвал какой-то
пункт в сорока километрах от города. Только бы не выпустить
профессора из машины. Остальное должно было получиться
viimo собой. Собирая свой чемоданчик, Жаффе объяснил Ленцу,
чю надо сказать по телефону. Затем он сел с Кестером в машину.
— Это опасно?— спросил Кестер.
— Да,— сказал Жаффе.
В ту же секунду «Карл» превратился в белое привидение. Он
рванулся с места и понесся. Он обгонял всех, наезжал колесами
на тротуары, мчался в запрещенном направлении по улицам
v односторонним движением. Машина рвалась из города, про-
бивая себе кратчайший путь.
— Вы сошли с ума!— воскликнул профессор (Кестер пулей
метнулся наперерез огромному автобусу, едва не задев высокий
передний бампер, затем сбавил на мгновение газ и снова дал
двигателю полные обороты).
— Не гоните так машину,— кричал врач,— ведь все будет
впустую, если мы попадем в аварию!
— Мы не попадем в аварию.
— Если не кончится эта бешеная гонка— катастрофа неминуема!
Кестер рванул машину и, вопреки правилам, обогнал слева
|рвмвай.
— 4* 207 4* —
— Мы не попадем в аварию.
Впереди была прямая длинная улица. Он посмотрел на врача.
— Я знаю, что должен доставить вас целым и невредимым.
Положитесь на меня!
— Какая польза от этой сумасшедшей гонки! Выиграете не-
сколько минут.
— Нет,— сказал Кестер, уклоняясь от столкновения с маши-
ной, груженной камнем,— нам еще предстоит покрыть двести
сорок километров.
— Что?!
— Да...— «Карл» прошмыгнул между почтовой машиной
и автобусом.— Я не хотел говорить вам этого раньше.
— Это все равно!— недовольно заметил Жаффе.— Я помо-
гаю людям независимо от километража. Поезжайте на вокзал.
Поездом мы доберемся скорее.
— Нет.— Кестер мчался уже по предместью. Ветер срывал сло-
ва с его губ.— Я навел справку... Поезд уходит слишком поздно...
Он снова посмотрел на Жаффе, и доктор, очевидно, увидел
в его лице что-то новое.
— Помоги вам Бог!— пробормотал он.— Ваша приятельница?
Кестер отрицательно покачал головой. Больше он не отвечал.
Огороды с беседками остались позади. Кестер выехал
на шоссе. Теперь мотор работал на полную мощность.
Врач съежился за узким ветровым стеклом. Кестер сунул ему
свой кожаный шлем. Непрерывно работал сигнал. Леса отбра-
сывали назад его рев. Только в деревнях, когда это было абсо-
лютно необходимо, Кестер сбавлял скорость. На машине не было
глушителя. Громовым эхом отдавался гул мотора в смыкавших-
ся за ними стенах домов, которые хлопали, как полотнища
на ветру; «Карл» проносился между ними, обдавая их на мгно-
вение ярким мертвенным светом фар, и продолжал вгрызаться
в ночь, сверля ее лучами.
Покрышки скрипели, шипели, завывали, свистели — мотор
отдавал все, что только мог. Кестер пригнулся к рулк), его тело
превратилось в огромное ухо, в фильтр, просеивающий гром
и свист мотора и шасси, чутко улавливающий малейший звук,
любой подозрительный скрип и скрежет, в которых могли та-
иться авария и смерть.
Глинистое полотно дороги стало влажным. Машину стало за-
носить, бросать в сторону. Кестеру пришлось сбавить скорость.
Зато он с еще большим напором брал повороты. Он уже не под*
чинялся разуму, им управлял только инстинкт. Фары высвечи-
вали повороты наполовину. При заносах повороты не просмат-
— 4* 208 4* —
I'iih.i шсь. Прожектор-искатель почти не помогал,— он давал
иннком узкий сноп света. Врач молчал. Внезапно воздух пе-
I" । фарами взвихрился и окрасился в бледно-серебристый
• inc! Замелькали прозрачные клочья, похожие на облака. Это
"1.1 । с шнственный раз, когда, по словам Жаффе, Кестер выру-
• । и я. Через минуту они неслись в густом тумане.
keciep переключил фары на ближний свет. Машина плыла
•• н.п е, проносились тени, деревья, смутные призраки в молочном
»• »|ц\ не было больше шоссе, осталась случайность и приблизи-
• и.ность, тени, разраставшиеся и исчезавшие в реве мотора.
koi да через десять минут они вынырнули из тумана, лицо
к<ч iepa было землистым. Он взглянул на Жаффе и что-то про-
"••рмогал. Потом дал полный газ и продолжал путь, прижав-
•IHK I. к рулю, хладнокровный и снова владеющий собой...
* * +
Iи11кая теплынь разлилась по комнате, как свинец.
Еще не прекратилось?— спросил я.
11ет,— сказал врач.
11н । посмотрела на меня. Вместо улыбки у меня получилась
• рнмаса.
Еще полчаса,— сказал я.
Врач поднял глаза.
I те полтора часа, если не два. Идет дождь.
< И1ХИМ напевным шумом падали капли на листья и кусты
•» • а 1\. Невидящими глазами я вглядывался в тьму. Давно ли мы
". ынали по ночам, забирались в резеду и левкои и Пат распева-
11 i мешные детские песенки? Давно ли садовая дорожка свер-
» । и белизной в лунном свете и Пат бегала среди кустов, как
* никое животное?..
В со1ый раз я вышел на крыльцо. Я знал, что это бесцельно,
• t" in е-гаки ожидание как-то сокращалось. В воздухе висел ту-
• hi Я проклинал его; я понимал, каково было Кестеру. Сквозь
.....io пелену донесся крик птицы.
Заткнись!— проворчал я. Мне пришли на память расска-
• | । о вещих птицах.— Ерунда!— громко сказал я.
Меня знобило. Где-то гудел жук, но он не приближался... он
• и приближался. Он гудел ровно и тихо, потом гудение исчезло;
"•и оно послышалось снова... вот опять... Я вдруг задрожал...
им ныл не жук, а машина; где-то далеко она брала повороты
• it и| ромной скорости. Я словно окостенел и затаил дыхание,
11• •!н.1 лучше слышать; снова... снова тихий, высокий звук, слов-
• |" + \/кжание разгневанной осы. А теперь громче... я отчетли-
— 4* 209 4* —
во различал высокий тон компрессора! И тогда натянутый
до предела горизонт рухнул и провалился в мягкую бесконеч-
ность, погребая под собой ночь, страх, ужас,— я подскочил
к двери и, держась за косяк, сказал:
— Они едут! Доктор, Пат, они едут. Я их уже слышу!
В течение всего вечера врач считал меня сумасшедшим. Он
встал и тоже прислушался.
— Это, вероятно, другая машина,— сказал он наконец.
— Нет, я узнаю мотор.
Он раздраженно посмотрел на меня. Видно, он считал себя
специалистом по автомобилям. С Пат он обращался терпеливо
и бережно, как мать; но стоило мне заговорить об автомобилях,
как он начинал метать сквозь очки гневные искры и ни в чем
не соглашался со мной.
— Невозможно,— коротко отрезал он и вернулся в комнату.
Я остался на месте, дрожа от волнения.
— «Карл», «Карл»!— повторял я. Теперь чередовались при-
глушенные удары и взрывы. Машина, очевидно, уже была в де-
ревне и мчалась с бешеной скоростью вдоль домов. Вот рев мо-
тора стал тише; он доносился из-за леса, а теперь он снова
нарастал, неистовый и ликующий. Яркая полоса прорезала ту-
ман... Фары... Гром... Ошеломленный врач стоял около меня.
Слепящий свет стремительно надвигался на нас. Заскрежетали
тормоза, и машина остановилась у калитки. Я побежал к ней.
Профессор сошел с подножки. Он не обратил на меня внима-
ния и направился прямо к врачу. За ним шел Кестер.
— Как Пат?— спросил он.
— Кровь еще идет.
— Так бывает,— сказал он.— Пока не надо беспокоиться.
Я молчал и смотрел на него.
— У тебя есть сигарета?— спросил он.
Я дал ему закурить.
— Хорошо, что ты приехал, Отто.
Он глубоко затянулся. /
— Решил, так будет лучше. \
— Ты очень быстро ехал.
— Да, довольно быстро. Туман немного помешал.
Мы сидели рядом и ждали.
— Думаешь, она выживет?— спросил я.
— Конечно. Такое кровотечение не опасно.
— Она никогда ничего не говорила мне об этом.
Кестер кивнул.
— Она должна выжить, Отто!— сказал я.
— 4* 210 4* —
Он не смотрел на меня.
— Дай мне еще сигарету,— сказал он.— Забыл свои дома.
— Она должна выжить,— сказал я,— иначе все полетит к чертям.
Вышел профессор. Я встал.
— Будь я проклят, если когда-нибудь еще поеду с вами,—
сказал он Кестеру.
— Простите меня,— сказал Кестер,— это жена моего друга.
— Вот как!— сказал Жаффе.
— Она выживет?— спросил я.
Он внимательно посмотрел на меня. Я отвел глаза в сторону.
— Думаете, я бы стоял тут с вами так долго, если бы она была
безнадежна?— сказал он.
Я стиснул зубы и сжал кулаки. Я плакал.
— Извините, пожалуйста,— сказал я,— но все это произошло
i лишком быстро.
— Такие вещи только так и происходят,— сказал Жаффе
и улыбнулся.
— Не сердись на меня, Отто, что я захныкал,— сказал я.
Он повернул меня за плечи и подтолкнул в сторону двери.
— Войди в комнату. Если профессор позволит.
— Я больше не плачу,— сказал я.— Можно мне войти туда?
— Да, но не разговаривайте,— ответил Жаффе,— и только
ни минутку. Ей нельзя волноваться.
От слез я не видел ничего, кроме зыбкого светового пятна,
мои веки дрожали, но я не решался вытереть глаза. Увидев этот
жест, Пат подумала бы, что дело обстоит совсем плохо. Не пе-
реступая порога, я попробовал улыбнуться. Затем быстро по-
вернулся к Жаффе и Кестеру.
— Хорошо, что вы приехали сюда?— спросил Кестер.
— Да,— сказал Жаффе,— так лучше.
— Завтра утром могу вас увезти обратно.
— Лучше не надо,— сказал Жаффе.
- Я поеду осторожно.
- Нет, останусь еще на денек, понаблюдаю за ней. Ваша по-
11ель свободна?— обратился Жаффе ко мне.
Я кивнул.
- Хорошо,тогда я сплю здесь. Вы сможете устроиться в деревне?
- Да. Приготовить вам зубную щетку и пижаму?
Не надо. Имею все при себе. Всегда готов к таким делам,
мни и не к подобным гонкам.
- Извините меня,— сказал Кестер,— охотно верю, что вы
ни । ось на меня.
- Нет, не злюсь,— сказал Жаффе.
— 4* 211 4* —
— Тогда мне жаль, что я сразу не сказал вам правду.
Жаффе рассмеялся.
— Вы плохо думаете о врачах. А теперь можете идти и не бес-
покоиться. Я остаюсь здесь.
Я быстро собрал постельные принадлежности. Мы с Кесте-
ром отправились в деревню.
— Ты устал?— спросил я.
— Нет,— сказал он,— давай посидим еще где-нибудь.
Через час я опять забеспокоился.
— Если он остается, значит, это опасно, Отто,— сказал я.—
Иначе он бы этого не сделал...
— Думаю, он остался из предосторожности,— ответил Кес-
тер.— Он очень любит Пат. Когда мы ехали сюда, он говорил
мне об этом. Он лечил еще ее мать...
— Разве и она болела этим?..
— Не знаю,— поспешно ответил Кестер,— может быть, чем-то
другим. Пойдем спать?
— Пойди, Отто. Я еще взгляну на нее разок... так... издалека.
— Ладно. Пойдем вместе.
— Знаешь, Отто, в такую теплую погоду я очень люблю спать
на воздухе. Ты не беспокойся. В последнее время я это делал
часто.
— Ведь сыро.
— Неважно. Я подниму верх и посижу немного в машине.
— Хорошо. И я с удовольствием посплю на воздухе.
Я понял, что он не оставит меня одного. Мы взяли несколь-
ко одеял и подушек и пошли обратно к «Карлу». Отстегнув при
вязные ремни, мы откинули спинки передних сидений. Так
можно было довольно прилично устроиться.
— Лучше, чем иной раз на фронте,— сказал Кестер.
Яркое пятно окна светило сквозь мглистый воздух. Несколь-
ко раз за стеклом мелькнул силуэт Жаффе. Мы выкурили Целую
пачку сигарет. Потом увидели, что большой свет в комнате вы-
ключили и зажгли маленькую ночную лампочку.
— Слава Богу,— сказал я.
На брезентовый верх падали капли. Дул слабый ветерок. Стало
свежо.
— Возьми у меня еще одно одеяло,— сказал я.
— Нет, не надо, мне тепло.
— Замечательный парень этот Жаффе, правда?
— Замечательный и, кажется, очень дельный.
— Безусловно.
— + 212 4* —
Я очнулся от беспокойного полусна. Брезжил серый холод-
ный рассвет. Кестер уже проснулся.
— Ты не спал, Отто?
— Спал.
Я выбрался из машины и прошел по дорожке к окну. Малень-
кий ночник все еще горел. Пат лежала в постели с закрытыми
। ла 1ами. Кровотечение прекратилось, но она была очень бледна.
На мгновение я испугался: мне показалось, что она умерла. По-
к)м я заметил слабое движение ее правой руки. В ту же минуту
Жаффе, лежавший на второй кровати, открыл глаза. Успокоен-
ный, я быстро отошел от окна — он следил за Пат.
— Нам лучше исчезнуть,— сказал я Кестеру,— а то он поду-
мает, что мы его проверяем.
— Там все в порядке?— спросил Отто.
— Да, насколько я могу судить. У профессора сон правильный:
И1КОЙ человек может дрыхнуть при ураганном огне, но стоит
мышонку зашуршать у его вещевого мешка — и он сразу про-
сыпается.
— Можно пойти выкупаться,— сказал Кестер.— Какой тут
чудесный воздух!— Он потянулся.
— Пойди.
— Пойдем со мной.
Серое небо прояснялось. В разрывы облаков хлынули оран-
жево-красные полосы. Облачная завеса у горизонта приподня-
шсь, и за ней показалась светлая бирюза воды.
Мы прыгнули в воду и поплыли. Вода светилась серыми
в красными переливами.
Потом мы пошли обратно. Фрейлейн Мюллер уже была
пн ногах. Она срезала на огороде петрушку. Услышав мой го-
1ос, она вздрогнула. Я смущенно извинился за вчерашнюю гру-
Оость. Она разрыдалась.
— Бедная дама. Она так хороша и еще так молода.
— Пат доживет до ста лет,— сказал я, досадуя на то, что хо-
»мйка плачет, словно Пат умирает. Нет, она не может умереть.
Прохладное утро, ветер, и столько светлой, вспененной морем
жизни во мне,— нет, Пат не может умереть... Разве только если
и потеряю мужество. Рядом был Кестер, мой товарищ; был я —
верный товарищ Пат. Сначала должны умереть мы. А пока мы
живы, мы ее вытянем. Так было всегда. Пока жив Кестер,
и не умру. А пока живы мы оба, не умрет Пат.
— Надо покоряться судьбе,— сказала старая фрейлейн, об-
ри।ив ко мне свое коричневое лицо, сморщенное, как печеное
— 4* 213 4* —
яблоко. В ее словах звучал упрек. Вероятно, ей вспомнились
мои проклятия.
— Покоряться?— спросил я.— Зачем же покоряться? Пользы
от этого нет. В жизни мы платим за все двойной и тройной це-
ной. Зачем же еще покорность?
— Нет, нет... так лучше.
«Покорность,— подумал я.— Что она изменяет? Бороться,
бороться — вот единственное, что оставалось в этой свалке,
в которой в конечном счете так или иначе будешь побежден.
Бороться за то немногое, что тебе дорого. А покориться можно
и в семьдесят лет».
Кестер сказал ей несколько слов. Она улыбнулась и спросила,
чего бы ему хотелось на обед.
— Вот видишь,— сказал Отто,— что значит возраст: то слезы,
то смех,— как все это быстро сменяется. Без заминок. Вероятно,
и с нами так будет,— задумчиво произнес он.
Мы бродили вокруг дома.
— Я радуюсь каждой лишней минуте ее сна,— сказал я.
Мы снова пошли в сад. Фрейлейн Мюллер приготовила нам
завтрак. Мы выпили горячего черного кофе. Взошло солнце.
Сразу стало тепло. Листья на деревьях искрились от света
и влаги. С моря доносились крики чаек. Фрейлейн Мюллер по-
ставила на стол букет роз.
— Мы дадим их ей потом,— сказала она.
Аромат роз напоминал детство, садовую ограду...
— Знаешь, Отто,— сказал я,— у меня такое чувство, будто
я сам болел. Все-таки мы уже не те, что прежде. Надо было ве-
сти себя спокойнее, разумнее. Чем спокойнее держишься, тем
лучше можешь помогать другим.
— Это не всегда получается, Робби. Бывало такое и со мной.
Чем дольше живешь, тем больше портятся нервы. Как у банкира,
который терпит все новые убытки.
В эту минуту открылась дверь. Вышел Жаффе в пижаме.
— Все хорошо!— сказал он, увидев, что я чуть не опрокинул
стол.— Хорошо, насколько это возможно.
— Можно мне войти?
— Нет еще. Теперь там горничная. Уборка и все такое.
Я налил ему кофе. Он прищурился на солнце и обратился
к Кестеру:
— Собственно, это я должен благодарить вас. По крайней
мере, выбрался на денек к морю.
— Вы могли бы это делать чаще,— сказал Кестер.— Выез-
жать с вечера и возвращаться к следующему вечеру.
— 4* 214 4* —
— Мог бы, мог бы...— ответил Жаффе.— Вы не успели заме-
ни I», что мы живем в эпоху полного саморастерзания? Многое,
по можно было бы сделать, мы не делаем, сами не зная почему.
I '.к м) га стала делом чудовищной важности: так много людей в наши
ши лишены ее, что мысли о ней заслоняют все остальное. Как
। н сь хорошо! Я не видел этого уже несколько лет. У меня две ма-
шины, квартира в десять комнат и достаточно денег. А толку что?
Гл ше все это сравнится с таким летним утром! Работа — мрачная
• н ржимость. Мы предаемся труду с вечной иллюзией, будто
• • временем все станет иным. Никогда ничто не изменится. И что
шлько люди делают из своей жизни — просто смешно!
— По-моему, врач — один из тех немногих людей, которые
шают, зачем они живут,— сказал я.— Что же тогда говорить ка-
мому-нибудь бухгалтеру?
— Дорогой друг,— возразил мне Жаффе,— ошибочно пред-
шиагать, будто все люди обладают одинаковой способностью
шичвовать.
Верно,— сказал Кестер,— но ведь люди обрели свои про-
|»<ч сии независимо от способности чувствовать.
Правильно,— ответил Жаффе.— Это сложный вопрос.—
»>п кивнул мне.— Теперь можно. Только тихонько, не трогайте
< не заставляйте разговаривать...
♦ ♦ *
Она лежала на подушках, обессиленная, словно ее ударом
<»и ।и с ног. Ее лицо изменилось: глубокие синие тени залегли
। глазами, губы побелели. Но глаза были по-прежнему боль-
'»|к и блестящие. Слишком большие и слишком блестящие.
Я взял ее руку, прохладную и бледную.
Пат, дружище,— растерянно сказал я и хотел подсесть
► ней. Но тут я заметил у окна горничную. Она с любопытством
mi и рила на меня.— Выйдите отсюда,— с досадой сказал я.
Я еще должна затянуть гардины,— ответила она.
Ладно, кончайте и уходите.
< >i i;i затянула окно желтыми гардинами, но не вышла, а при-
•Hi l id» медленно скреплять их булавками.
11ослушайте,— сказал я,— здесь вам не театр. Немедленно
!< чг шите!
она неуклюже повернулась.
То прикалывай их, то не надо.
Ты просила ее об этом?— спросил я Пат.
< >на кивнула.
Больно смотреть на свет?
— + 215 + —
Она покачала головой. ч
— Сегодня не стоит смотреть на меня при ярком свете...
— Пат,— сказал я испуганно,— тебе пока нельзя разговари
вать! Но если дело в этом...
Я открыл дверь, и горничная наконец вышла. Я вернулся
к постели. Моя растерянность прошла. Я даже был благодарен
горничной. Она помогла мне преодолеть первую минуту. Было
все-таки ужасно видеть Пат в таком состоянии.
Я сел на стул.
— Пат,— сказал я,— скоро ты снова будешь здорова...
Ее губы дрогнули.
— Уже завтра...
— Завтра нет, но через несколько дней. Тогда ты сможешь
встать, и мы поедем домой. Не следовало ехать сюда, здешний
климат слишком суров для тебя.
— Ничего,— прошептала она.— Ведь я не больна. Просто
несчастный случай...
Я посмотрел на нее. Неужели она и вправду не знала, что
больна? Или не хотела знать? Ее глаза беспокойно бегали.
— Ты не должен бояться...— сказала она шепотом.
Я не сразу понял, что она имеет в виду и почему так важно,
чтобы именно я не боялся. Я видел толькЬ, что она взволнована.
В ее глазах была мука и какая-то странная настойчивость.
Вдруг меня осенило. Я понял, о чем она думала. Ей казалось,
что я боюсь заразиться.
— Боже мой, Пат,— сказал я,— уж не поэтому ли ты никогда
не говорила мне ничего?
Она не ответила, но я видел, что это так.
— Черт возьми,— сказал я,— кем же ты меня, собственно»
считаешь?
Я наклонился над ней.
— Полежи-ка минутку совсем спокойно... не шевелись...— Я
поцеловал ее в губы. Они были сухи и горячи. Выпрямившись,
я увидел, что она плачет. Она плакала беззвучно. Лицо ее было не
подвижно, из широко раскрытых глаз непрерывно лились слезы.
— Ради Бога, Пат...
— Я так счастлива,— сказала она.
Я стоял и смотрел на нее. Она сказала только три слона.
Но никогда еще я не слыхал, чтобы их так произносили. Я зннл
женщин, но встречи с ними всегда были мимолетными — какие
то приключения, иногда яркие часы, одинокий вечер, бегстно
от самого себя, от отчаяния, от пустоты. Да я и не искал ничем!
другого, ведь я знал, что нельзя полагаться ни на что, только
— 4* 216 + —
ни самого себя и в лучшем случае на товарища. И вдруг я увидел,
•но значу что-то для другого человека и что он счастлив только
। итого, что я рядом с ним. Такие слова сами по себе звучат очень
просто, но когда вдумаешься в них, начинаешь понимать, как все
•го бесконечно важно. Это может поднять бурю в душе челове-
ки и совершенно преобразить его. Это любовь и все-таки нечто
цругое. Что-то такое, ради чего стоит жить. Мужчина не может
жить для любви. Но жить для другого человека может.
Мне хотелось сказать ей что-нибудь, но я не мог. Трудно найти
слова, когда действительно есть что сказать. И даже если нуж-
ные слова приходят, то стыдишься их произнести. Все эти слова
принадлежат прошлым столетиям. Наше время не нашло еще
слов для выражения своих чувств. Оно умеет быть только раз-
имзным, все остальное — искусственно.
— Пат,— сказал я,— дружище мой отважный...
В эту минуту вошел Жаффе. Он сразу оценил ситуацию.
— Добился своего! Великолепно!— заворчал он.— Этого
и и ожидал.
Я хотел ему что-то ответить, но он решительно выставил меня.
XVII
Прошли две недели. Пат поправилась настолько, что мы могли
пуститься в обратный путь. Мы упаковали чемоданы и ждали
прибытия Ленца. Ему предстояло перегнать машину. Пат и я со-
Пирались поехать поездом.
Был теплый пасмурный день. В небе недвижно повисли ват-
ные облака, горячий воздух дрожал над дюнами, свинцовое море
распласталось в светлой мерцающей дымке.
Готтфрид явился после обеда. Еще издалека я увидел его со-
ломенную шевелюру, выделявшуюся над изгородями. И только
когда он свернул к вилле фрейлейн Мюллер, я заметил, что он
Пыл не один, рядом с ним двигалось какое-то подобие автогон-
щика в миниатюре: огромная клетчатая кепка, надетая козырь-
ком назад, крупные защитные очки, белый комбинезон и гро-
мадные уши, красные и сверкающие, как рубины. 4
— Бог мой, да ведь это Юпп!— удивился я.
— Собственной персоной, господин Локамп,— ответил Юпп.
— Как ты вырядился! Что это с тобой случилось?
— Сам видишь,— весело сказал Ленц, пожимая мне руку.—
Он намерен стать гонщиком. Уже восемь дней я обучаю его
нождению. Вот он и увязался за мной. Подходящий случай для
первой междугородной поездки.
— 4* 217 4* —
— Справлюсь как следует, господин Локамп!— с горячно-
стью заверил меня Юпп.
— Еще как справится!— усмехнулся Готтфрид.— Я никогда
еще не видел такой мании преследования! В первый же день он
попытался обогнать на нашем добром старом такси «мерседес»
с компрессором. Настоящий маленький сатана.
Юпп вспотел от счастья и с обожанием взирал на Ленца.
— Думаю, что сумел бы обставить этого задаваку, господин
Ленц! Я хотел прижать его на повороте. Как господин Кестер.
Я расхохотался.
— Неплохо ты начинаешь, Юпп.
Готтфрид смотрел на своего питомца с отеческой гордостью.
— Сначала возьми-ка чемоданы и доставь их на вокзал.
— Один?— Юпп чуть не взорвался от волнения.— Господин
Ленц, вы разрешите мне поехать одному на вокзал?
Готтфрид кивнул, и Юпп опрометью побежал к дому.
* ♦ ♦
Мы сдали багаж. Затем вернулись за Пат и снова поехали
на вокзал. До отправления оставалось четверть часа. На пустой
платформе стояло несколько бидонов с молоком.
— Вы поезжайте,— сказал я,— а то доберетесь очень поздно.
Юпп, сидевший за рулем, обиженно посмотрел на меня.
— Такие замечания тебе не нравятся, не так ли?— спросил
его Ленц.
Юпп выпрямился.
— Господин Локамп,— сказал он с упреком,— я произвел
тщательный расчет маршрута. Мы преспокойно доедем до мае-
терской к восьми часам.
— Совершенно верно!— Ленц похлопал его по плечу.— За-
ключи с ним пари, Юпп. На бутылку сельтерской воды.
— Только не сельтерской воды,— возразил Юпп.— Я не за-
думываясь готов рискнуть пачкой сигарет.
Он вызывающе посмотрел на меня.
— А ты знаешь, что дорога довольно неважная?— спросил я.
— Все учтено, господин Локамп!
— А о поворотах ты тоже подумал?
— Повороты для меня ничто. У меня нет нервов.
— Ладно, Юпп,— сказал я серьезно.— Тогда заключим пари.
Но господин Ленц не должен садиться за руль на протяжении
всего пути.
Юпп прижал руку к сердцу.
— Даю честное слово!
— 4* 218 4* —
Ладно, ладно. Но скажи, что это ты так судорожно сжима-
ми. в руке?
Секундомер. Буду в дороге засекать время. Хочу посмот-
I " 11. на что способен ваш драндулет.
Icim улыбнулся.
Да, да, ребятки. Юнн оснащен первоклассно. Думаю, наш
। ipi.ni бравый «ситроен» дрожит перед ним от страха, все порш-
ин п нем трясутся.
К )нп пропустил иронию мимо ушей. Он взволнованно тере-
и । кепку.
Что же, двинемся, господин Ленц? Пари есть пари!
Ну конечно, мой маленький компрессор! До свидания,
Ни' Пока, Робби!— Готтфрид сел в машину.— Вот как, Юпп!
\ ншерь покажи-ка этой даме, как стартует кавалер и будущий
к мнноп мира!
К bin надвинул защитные очки на глаза, подмигнул нам и, как
иi|».iвекий гонщик, включив первую скорость, лихо взял с места
и понесся по булыжнику.
* ♦ ♦
Мы посидели еще немного на скамье перед вокзалом. Жар-
• ••< милое солнце пригревало дощатую ограду платформы. Пахло
чо юи и солью. Пат запрокинула голову и закрыла глаза. Она
и н- ia не шевелясь, подставив лицо солнцу.
Гы устала?— спросил я.
< hia покачала головой.
11ет, Робби.
Вот идет поезд,— сказал я.
Ми 1енький черный паровоз, затерявшийся в бескрайнем
||"ы.|щем мареве пыхтя подошел к вокзалу. Мы сели в почти
• к hi вагон. Вскоре пое зд тронулся. Густой дым от паровоза
•нниншжно новис в воздухе. Медленно проплывал знакомый
• hi ннафт, деревня с коричневыми соломенными крышами, луга
► иронами и лошадьми, лес и потом домик фрейлейн Мюллер
к шипie за дюнами, уютный, мирный и словно уснувший.
I l.i । стояла рядом со мной у окна и смотрела в сторону домика.
Hi повороте мы приблизились к нему. Мы отчетливо увидели
* h i нашей комнаты. Они были открыты, и с подоконников
Hih.i io постельное белье, ярко освещенное солнцем.
Вог и сама фрейлейн Мюллер,— сказала Пат.
Правда!
< >iи стояла у входа и махала рукой. Пат достала носовой пла-
• и он затрепетал на ветру.
— 4* 219 4* —
— Она не видит,— сказал я,— платочек слишком мал и тонок.
Вот, возьми мой.
Она взяла мой платок и замахала им. Фрейлейн Мюллер
энергично ответила.
Постепенно поезд втянулся в открытое поле. Домик скрылся,
и дюны остались позади. Некоторое время за черной полосой
леса мелькало сверкающее море. Оно мигало, как усталый,
бодрствующий глаз. Потом пошли нежные золотисто-зеленые
поля, мягкое колыхание колосьев, тянувшихся до горизонта.
Пат отдала мне платок и села в угол купе. Я поднял окно.
«Кончилось!— подумал я.— Слава Богу, кончилось! Все это
было только сном! Проклятым злым сном!»
* * *
К шести мы прибыли в город. Я взял такси и погрузил в него
чемоданы. Мы поехали к Пат.
— Ты поднимешься со мной?— спросила она.
— Конечно.
Я проводил ее в квартиру, потом спустился вниз, чтобы вме-
сте с шофером принести чемоданы. Когда я вернулся, Пат все
еще стояла в передней. Она разговаривала с подполковником
фон Хаке и его женой.
Мы вошли в ее комнату. Был светлый ранний вечер. На столе
стояла ваза с красными розами. Пат подошла к окну и выгляну
ла на улицу. Потом обернулась ко мне.
— Сколько мы, собственно, отсутствовали, Робби?
— Ровно восемнадцать дней.
— Восемнадцать? А мне кажется — гораздо дольше.
— И мне. Но так бывает всегда, когда выберешься куда-ни-
будь из города.
Она покачала головой.
— Нет, я не об этом...
Она отворила дверь на балкон и вышла. Там стоял белый
шезлонг. Притянув его к себе, она молча посмотрела на него.
В комнату она вернулась с изменившимся лицом и потемнев*
шими глазами.
— Посмотри, какие розы,— сказал я.— Их прислал Кестер.
Вот его визитная карточка.
Пат взяла карточку и положила на стол. Она смотрела на розы,
и я понял, что она их почти не замечает и все еще думает о ше i
лонге. Ей казалось, что она уже избавилась от него, а теперь он,
возможно, должен был снова стать частью ее жизни.
— 4* 220 4- —
Я не стал ей мешать и больше пичею не сказал. Не стоило
ин |скать ее. Она сама должна была справиться со своим на-
поением, и мне казалось, что ей это легче именно теперь, ког-
|.| । рядом. Слова были бесполезны. В лучшем случае она усно-
».инея пенадолю, но потом все эти мысли прорвутся снова,
и пожалуй, куда мучительнее.
()на постояла около стола, опираясь на нею и опустив юло-
"\ Потом посмотрела на меня. Я молчал. Она медленно обо-
||| и вокру! стола и положила мне руки на плечи.
— Дружите зы мой,— сказал я.
()на прислонилась ко мне. Я обнял ее.
— А теперь разберемся во всем
Она кивнула и ладонью припалила волосы.
— Просто что-то нашло на меня... па минутку...
— Конечно.
Постучали в дверь. Горничная вкатила чайный столик.
— Воз это хорошо,— сказала Пат.
Хочешь чаю?— спросил я.
Нет, кофе, хорошего, крепкого кофе.
>1 побыл с ней еще с полчаса. Потом ее охватила усталость,
было видно но Iлазам.
Гебе надо немного поспать,— предложил я.
Азы?
Я пойду домой и тоже вздремну. Часа через два зайду
। тобой, пойдем ужина!ь.
Гы уезал?— спросила опа с сомнением.
I Icmiioi о. В поезде было жарко... Кстати, мне еще надо за-
1 и11\ । ь в мастерскую.
Iм»|ьше она ни о чем не спрашивала. Она и зпемо! ала от уста-
ин hi. Я уложил ее в постель и укрыл. Опа мшовепно уснула.
I и»»с।авил около нее розы и визитную карточку Кесзера, чтобы
и t>i.i io о чем подумать, когда проснется. Потом я ушел.
* ♦ ♦
11о пути я остановился у телефопа-автомаia. Решил сразу же
ргювори1ь с Жаффе. Звонить из дому было трудно: в папси-
III нобили подслушивать.
/I < пял трубку и назвал номер клиники. К аппарату подошел
I |ффс.
Говорит Локамп,— сказал я, откашливаясь.— Мы сегодня
I и о лись. Вот уже час, как мы в городе.
Вы приехали на машине?— спросил Жаффе.
Нет, поездом.
— 4* 221 4* —
— Так... Ну, как дела?
— Хороши,— сказал я.
Он помолчал немного.
— Завтра я зайду к фрейлейн Хольман. В одиннадцать часои
утра. Вы сможете ей передать?
— Нет,— сказал я.— Я не хотел бы, чтобы она знала о моем
разговоре с вами. Она, вероятно, сама позвонит вам завтра. Мер
жет быть, тогда вы ей и скажете.
— Хорошо. Пусть так. Скажу ей.
Я механически отодвинул в сторону пухлую захватанную те
лефонную книгу. Она лежала на небольшой деревянной полочке,
Стенка над ней была испещрена телефонными номерами, запи
санными карандашом.
— Можно мне зайти к вам завтра днем?— спросил я.
Жаффе не ответил.
— Я хотел бы узнать, как она.
— Завтра я вам еще ничего не смогу ответить,— сказал Жаф*
фе.— Надо понаблюдать за ней по крайней мере в течение не*
дели. Я сам извещу вас.
— Спасибо.— Я никак не мог оторвать глаз от полочки.
Кто-то нарисовал на ней толстую девочку в большой соло
менной шляпе. Тут же было написано: «Элла дура!».
— Нужно ли ей теперь какое-нибудь специальное лече
ние?— спросил я.
— Это я увижу завтра. Но мне кажется, что дома ей обеспс
чен неплохой уход.
— Не знаю. Я слышал, что ее соседи собираются на той нс
деле уехать. Тогда она останется вдвоем с горничной.
— Вот как? Ладно, завтра поговорю с ней и об этом.
Я снова закрыл рисунок на полочке телефонной книгой.
— Вы думаете, что она... что может повториться такой при
падок?
Жаффе чуть помедлил с ответом.
— Конечно, это возможно,— сказал он,— но маловероятно
Скажу вам точнее, когда подробно осмотрю ее.
Я повесил трубку. Выйдя из будки, я постоял еще немного
на улице. Было пыльно и душно. Потом я пошел домой.
♦ * ♦
В дверях я столкнулся с фрау Залевски. Она вылетела из ком
наты фрау Бендер, точно пушечное ядро. Увидев меня, она ос
тановилась.
— Что, уже приехали?
— Как видите. Ничего нового?
— Ничего. Почты никакой... А фрау Бендер выехала.
— Вот как? Почему же?
Фрау Залевски уперлась руками в бедра.
— Потому что везде негодяи. Она отправилась в христиан-
ский дом призрения со своей кошкой и капиталом в целых
ммадцать шесть марок.
Она рассказала, что приют, в котором фрау Бендер ухаживала
in младенцами, обанкротился. Священник, возглавлявший его,
мшился биржевыми спекуляциями и погорел на них. Фрау Бей-
лер уволили, не выплатив жалованья за два месяца.
— Она нашла себе другую работу?— спросил я бездумно.
Фрау Залевски только посмотрела на меня.
— Ну да, конечно, не нашла,— сказал я.
— Я ей говорю: оставайтесь здесь, с платой за квартиру успе-
егся. Но она не захотела.
— Бедные люди в большинстве случаев честны,— сказал я.—
Кю поселится в ее комнате?
— Хассе. Она им обойдется дешевле.
— А с их прежней комнатой что будет?
Она пожала плечами.
— Посмотрим. Больших надежд на новых квартирантов
у меня нет.
— Когда она освободится?
— Завтра. Хассе уже переезжают.
Мне вдруг пришла в голову мысль.
— А сколько стоит эта комната?— спросил я.
— Семьдесят марок.
— Слишком дорого.
- По утрам кофе, две булочки и большая порция масла.
- Тогда это тем более дорого. От кофе, который готовит
Фрида, я отказываюсь. Вычтите стоимость завтраков. Пятьде-
। mi марок, и ни пфеннига больше.
- А вы разве хотите ее снять?— спросила фрау Залевски.
- Может быть.
Я пошел в свою комнату и внимательно осмотрел дверь, со-
141ипявшую ее с комнатой Хассе. Пат в пансионе фрау Залев-
ски! Нет, это плохо придумано. И все же я постучался к Хассе.
В полупустой комнате перед зеркалом сидела фрау Хассе
и пудрилась. На ней была шляпа.
Я поздоровался с ней, разглядывая комнату. Оказалось, что
нпп больше, чем я думал. Теперь, когда часть мебели вынесли,
ин было особенно заметно. Одноцветные светлые обои — поч-
— 4* 223 4* —
ти новые, двери и окна свежевыкрашены; к тому же очень боль
шой и приятный балкон.
— Вероятно, вы уже знаете о его новой выдумке,— сказали
фрау Хассе.— Я должна переселиться в комнату напротив, где
жила эта знаменитая особа! Какой позор.
— Позор?— спросил я.
— Да, позор,— продолжала она взволнованно.— Вы веди
знаете, что мы не переваривали друг друга, а теперь Хассе за
ставляет меня жить в ее комнате без балкона и с одним окном.
И все только потому, что это дешевле. Представляете себе, как
она торжествует в своем доме призрения!
— Не думаю, чтобы она торжествовала!
— Нет, торжествует, эта так называемая нянечка, ухаживаю-
щая за младенцами, смиренная голубица, прошедшая сквозь
все огни и воды! А тут еще рядом эта кокотка, эта Эрна Бениг!
И кошачий запах!
Я изумленно взглянул на нее. Голубица, прошедшая сквозь
огни и воды! Как это странно: люди находят подлинно свежие
и образные выражения только когда ругаются. Вечными и неиз
менными остаются слова любви, но как пестра и разнообразна
шкала ругательств!
— А ведь кошки очень чистоплотные и красивые животные,—
сказал я.— Кстати, я только что заходил в эту комнату. Там
не пахнет кошками.
— Да?— враждебно воскликнула фрау Хассе и поправила
шляпку.— Это, вероятно, зависит от обоняния. Но я и не поду
маю заниматься этим переездом, пальцем не шевельну! Пускай
себе сам перетаскивает мебель! Пойду погуляю! Хоть это хочу
себе позволить при такой собачьей жизни!
Она встала. Ее расплывшееся лицо дрожало от бешенства,
и с него осыпалась пудра. Я заметил, что она очень ярко накра-
сила губы и вообще расфуфырилась вовсю. Когда она прошла
мимо меня, шурша платьем, от нее пахло, как от целого парфю-
мерного магазина.
Я озадаченно поглядел ей вслед. Потом опять подробно ос-
мотрел комнату, прикидывая, как бы получше расставить ме-
бель Пат. Но сразу же отбросил эти мысли. Пат здесь, всегда
здесь, всегда со мной — этого я не мог себе представить! Будь
она здорова, мне такая мысль вообще бы в голову не пришла.
Ну, а если все-таки... Я отворил дверь на балкон и измерил его,
но одумался, покачал головой и вернулся к себе.
— 4* 224 4* —
Когда я вошел к Пат, она еще спала. Я тихонько опустился
в кресло у кровати, но она тут же проснулась.
— Жаль, я тебя разбудил,— сказал я.
— Ты все время был здесь?— спросила она.
— Нет. Только сейчас вернулся.
Она потянулась и прижалась лицом к моей руке.
— Это хорошо. Не люблю, чтобы на меня смотрели, когда
я сплю!
— Это я понимаю. И я не люблю. Я и не собирался подгля-
дывать за тобой. Просто не хотел будить. Не поспать ли тебе
еще немного?
— Нет, я хорошо выспалась. Сейчас встану.
Пока она одевалась, я вышел в соседнюю комнату. На улице
пановилось темно. Из полуоткрытого окна напротив доноси -
1ись квакающие звуки военного марша. У патефона хлопотал
1ысый мужчина в подтяжках. Окончив крутить ручку, он при-
нялся ходить взад и вперед по комнате, выполняя в такт музыке
вольные движения. Его лысина сияла в полумраке, как взволно-
ванная луна. Я равнодушно наблюдал за ним. Меня охватило
•|\вство пустоты и печали.
Вошла Пат. Она была прекрасна и свежа. От утомления
и следа не осталось.
— Ты блестяще выглядишь,— удивленно сказал я.
— Я и чувствую себя хорошо, Робби. Как будто проспала целую
ночь. У меня все быстро меняется.
— Да, видит Бог. Иногда так быстро, что и не уследить.
Она прислонилась к моему плечу и посмотрела на меня.
— Слишком быстро, Робби?
— Нет. Просто я очень медлительный человек. Правда, я ча-
сто бываю не в меру медлительным, Пат?
Она улыбнулась.
— Что медленно — то прочно. А что прочно — хорошо.
— Я прочен, как пробка на воде.
Она покачала головой.
— Ты гораздо прочнее, чем тебе кажется. Ты вообще не зна-
ть, какой ты. Я редко встречала людей, которые бы так силь-
но заблуждались относительно себя, как ты.
Я отпустил ее.
— Да, любимый,— сказала она и кивнула головой,— это дей-
ствительно так. А теперь пойдем ужинать.
— Куда же мы пойдем?— спросил я.
— 4* 225 4* —
— К Альфонсу. Я должна увидеть все это опять. Мне кажется,
будто я уезжала на целую вечность.
— Хорошо!— сказал я.— А аппетит у тебя соответствую
щий? К Альфонсу надо приходить очень голодными.
Она рассмеялась.
— У меня зверский аппетит.
— Тогда пошли!
Я вдруг очень обрадовался.
♦ ♦ ♦
Наше появление у Альфонса оказалось сплошным триум
фом. Он поздоровался с нами, тут же исчез и вскоре вернулся
в белом воротничке и зеленом в крапинку галстуке. Даже ради
германского кайзера он бы так не вырядился. Он и сам немного
растерялся от этих неслыханных признаков декаданса.
— Итак, Альфонс, что у вас сегодня хорошего?— спросили
Пат и положила руки на стол.
Альфонс осклабился, чуть открыл рот и прищурил глаза.
— Вам повезло! Сегодня есть раки!
Он отступил на шаг, чтобы посмотреть, какую это вызвало
реакцию. Мы, разумеется, были потрясены.
— И вдобавок найдется молодое мозельское вино,— восхи
щенно прошептал он и отошел еще на шаг. В ответ раздались
бурные аплодисменты, они послышались и в дверях. Там стоял
последний романтик с всклокоченной желтой копной волос,
с опаленным носом и, широко улыбаясь, тоже хлопал в ладоши
— Готтфрид!— вскричал Альфонс.— Ты? Лично? Какой день!
Дай прижать тебя к груди!
— Сейчас ты получишь удовольствие,— сказал я Пат.
Они бросились друг другу в объятия. Альфонс хлопал Ленни
по спине так, что все вокруг звенело, как в кузне.
— Ганс,— крикнул он затем кельнеру,— принеси нам «нано*
леон»!
Он потащил Готтфрида к стойке. Кельнер принес большую
запыленную бутылку. Альфонс налил две рюмки:
— За тебя, Готтфрид, свинья ты жареная, черт бы тебя побрал!
— За тебя, Альфонс, старый каторжник!
Оба выпили залпом свои рюмки.
— Первоклассно!— сказал Готтфрид.— Коньяк для Мадонн!
— Просто стыдно пить его так!— подтвердил Альфонс.
— А как же пить его медленно, если так радуешься! Данай
еще по одной!
Альфонс налил еще и поднял рюмку.
— *4» 226 *4* —
— Эх, ты! Все тебе мало.
Ленц рассмеялся.
— Дорогой ты мой старик.
У Альфонса навернулись слезы на глаза.
— Еще по одной, Готтфрид!— сказал он, сильно волнуясь.
— Всегда готов!— Ленц подал ему рюмку.— От такого конь-
яка я откажусь не раньше, чем буду валяться на полу и не смогу
поднять головы!
— Хорошо сказано!— Альфонс налил по третьей.
Чуть задыхаясь, Ленц вернулся к столику. Он вынул часы.
— Без десяти восемь «ситроен» подкатил к мастерской. Что
пы на это скажете?
— Рекорд,— ответила Пат.— Да здравствует Юпп! Я ему тоже
подарю коробку сигарет.
— А ты за это получишь лишнюю порцию раков!— заявил
Альфонс, не отступавший ни на шаг от Готтфрида. Потом он
роздал нам какие-то скатерки.— Снимайте пиджаки и повяжи-
1с эти штуки вокруг шеи. Дама не будет возражать, не так ли?
— Считаю это даже необходимым,— сказала Пат.
Альфонс обрадованно кивнул головой.
— Вы разумная женщина, я знаю. Раков нужно есть с вдохно-
вением, не боясь испачкаться.— Он широко улыбнулся.—
Я вам, конечно, дам нечто поэлегантнее.
Кельнер Ганс принес белоснежный кухонный халат. Аль-
фонс развернул его и помог Пат облачиться.
— Очень вам идет!— сказал он одобрительно.
— Крепко, крепко!— ответила она, смеясь.
— Мне приятно, что вы это запомнили,— сказал Альфонс,
пт от удовольствия.— Душу мне согреваете.
— Альфонс!— Готтфрид завязал скатерку на затылке так,
•но кончики торчали далеко в стороны.— Пока что все здесь
напоминает салон для бритья.
— Сейчас все изменится. Но сперва немного искусства.
Альфонс подошел к патефону. Вскоре загремел хор пилигри-
мов из «Тангейзера». Мы слушали и молчали.
Г’два умолк последний звук, как отворилась дверь из кухни
и вошел кельнер Ганс, неся миску величиной с детскую ванну.
I >iш была полна дымящихся раков. Кряхтя от натуги, он поста-
вил ее на стол.
— Принеси салфетку и для меня,— сказал Альфонс.
— Ты будешь есть с нами? Золотко ты мое!— воскликнул
'1епц.— Какая честь!
- Если дама не возражает.
— 4* 227 4* —
— Напротив, Альфонс!
Пат подвинулась, и он сел возле нее.
— Хорошо, что я сижу рядом с вами,— сказал он чуть расте-
рянно.— Дело в том, что я расправляюсь с ними довольно быстро,
а для дамы это весьма скучное занятие.
Он выхватил из миски рака и с чудовищной быстротой стал
разделывать его для Пат. Он действовал своими огромными ру-
чищами так ловко и изящно, что Пат оставалось только брать
аппетитные куски, протягиваемые ей на вилке, и съедать их.
— Вкусно?— спросил он.
— Роскошно!— Она подняла бокал.— За вас, Альфонс.
Альфонс торжественно чокнулся с ней и медленно выпил
свой бокал. Я посмотрел на нее. Мне не хотелось, чтобы она пи-
ла спиртное, и она почувствовала мой взгляд.
— За тебя, Робби,— сказала она.
Она сияла очарованием и радостью.
— За тебя, Пат,— сказал я и выпил.
— Ну, не чудесно ли здесь?— спросила она, все еще глядя
на меня.
— Изумительно!— Я снова налил себе.— Салют, Пат! -
Ее лицо просветлело.
— Салют, Робби! Салют, Готтфрид!
Мы выпили.
— Доброе вино!— сказал Ленц.
— Прошлогодний «граахский абтсберг»,— объяснил Аль-
фонс.— Рад, что ты оценил его!
Он взял другого рака и протянул Пат раскрытую клешню.
Она отказалась.
— Съешьте сами, Альфонс, а то вам ничего не достанется.
— Потом. Я ем быстрее всех вас. Наверстаю.
— Ну хорошо.— Она взяла клешню. Альфонс млел от удо-
вольствия и продолжал угощать ее. Казалось, старая огромная
сова кормит птенчика в гнезде.
* * *
Перед уходом мы выпили еще по рюмке «наполеона». Потом
стали прощаться с Альфонсом. Пат была счастлива.
— Было чудесно!— сказала она, протягивая Альфонсу руку,—
Я вам очень благодарна, Альфонс. Правда, все было чудесно!
Альфонс что-то пробормотал и поцеловал ей руку. Ленц так
удивился, что глаза у него полезли на лоб.
— Приходите поскорее опять,— сказал Альфонс.— И ты тоже,
Готтфрид.
— 4* 228 4* —
«Три товарища»
На улице под фонарем стоял наш маленький, всеми покину-
тый «ситроен».
— О!— воскликнула Пат. Ее лицо исказила судорога.
— После сегодняшнего пробега я окрестил его «Геркуле-
сом»!— Готтфрид распахнул дверцу.— Отвезти вас домой?
— Нет,— сказала Пат.
— Я так и думал. Куда же нам поехать?
— В бар. Или не стоит, Робби?— Она повернулась ко мне.
— Конечно,— сказал я.— Конечно, мы еще поедем в бар.
Мы не спеша проехали по улицам. Был теплый и ясный вечер.
На тротуарах перед кафе сидели люди. Доносилась музыка. Пат
сидела возле меня. Вдруг я подумал: но ведь она очень больна.
От этой мысли меня обдало жаром. Какую-то минуту я считал ее
совсем здоровой.
В баре мы застали Фердинанда и Валентина. Фердинанд был
в отличном настроении. Он встал и пошел навстречу Пат.
— Диана, вернувшаяся из лесов под родную сень...
Она улыбнулась. Он обнял ее за плечи.
— Смуглая отважная охотница с серебряным луком! Что бу-
дем пить?
Готтфрид отстранил руку Фердинанда.
— Патетические люди всегда бестактны,— сказал он.— Даму
сопровождают двое мужчин. Ты, кажется, не заметил этого,
старый зубр!
— Романтики — всего лишь свита. Они могут следовать, но
не сопровождать,— невозмутимо возразил Грау.
Ленц усмехнулся и обратился к Пат:
— Сейчас я вам приготовлю особую смесь. Коктейль «коли-
бри», бразильский рецепт.
Он подошел к стойке, долго смешивал разные напитки и на-
конец принес коктейль.
— Нравится?— спросил он Пат.
— Для Бразилии слабовато,— ответила Пат.
Готтфрид рассмеялся.
— Между тем очень крепкая штука. Замешано на роме и водке.
Я сразу увидел, что там нет ни рома, ни водки.
Готтфрид смешал фруктовый, лимонный и томатный соки и, мо-
жет быть, добавил каплю «ангостуры»*. Безалкогольный кок-
тейль. Но Пат, к счастью, ничего не поняла.
Ей подали три больших коктейля «колибри», и она радова-
лась, что с ней не обращаются, как с больной. Через час мы вы-
• Ангостура — ликер ( по городу Ангостуа в Венесуэле).
— 4* 230 + —
шли. В баре остался только Валентин. Об этом позаботился
Псиц. Он посадил Фердинанда в «ситроен» и уехал. Таким об-
рп 1ом, Пат не могла подумать, что мы уходим раньше других.
Ike это было очень трогательно, но мне стало на минуту страшно
1НЖСЛО.
Пат взяла меня, под руку. Она шла рядом своей грациозной,
1нбкой походкой, я ощущал тепло ее руки, видел, как по ее
вживленному лицу скользили отсветы фонарей,— нет, я не мог по-
пить, что она больна, я понимал это только днем, но не вечером,
когда жизнь становилась нежнее и теплее и так много обещала...
— Зайдем еще ненадолго ко мне?— спросил я.
Она кивнула.
♦ ♦ *
В коридоре нашего пансиона горел яркий свет.
— Проклятье!— сказал я.— Что там случилось? Подожди
минутку.
Я открыл дверь и посмотрел. Пустынный голый коридор на-
поминал маленький переулок в предместье. Дверь комнаты
фрау Бендер была широко распахнута. По коридору протопал
Хассе, согнувшись под тяжестью большого торшера с абажуром
н । розового шелка. Маленький черный муравей. Он переезжал.
— Добрый вечер,— сказал я.— Так поздно, а вы все переез-
жаете?
Он поднял бледное лицо с шелковистыми темными усиками.
— Я только ча(? назад вернулся из конторы. Для переселения
у меня остается только вечернее время.
— А вашей жены разве нет?
Он покачал головой.
— Она у подруги. Слава Богу, у нее теперь есть подруга, с ко-
нфой она проводит много времени.
Он улыбнулся, беззлобно и удовлетворенно, и снова затопал.
М быстро провел Пат через коридор.
— Думаю, нам лучше не зажигать свет, правда?— спросил я.
- Нет, зажги, дорогой. Совсем ненадолго, а потом можешь
14 0 опять выключить.
— Ты ненасытный человек,— сказал я, на мгновение озарив
ирким светом красное плюшевое великолепие моей комнаты,
и । у г же повернул выключатель.
() г деревьев, как из леса, в открытые окна лился свежий ноч-
ной аромат.
— Как хорошо!— сказала Пат, забираясь на подоконник.
-Тебе здесь в самом деле нравится?
— + 231 4* —
— Да, Робби. Здесь как в большом парке летом. Чудесно.
— Когда мы шли по коридору, ты не заглянула в соседнюю
комнату слева?— спросил я.
— Нет. А зачем?
— Из нее можно выйти на этот роскошный большой балкдн.
Он полностью перекрыт, и напротив нет дома. Если бы ты сейчас
жила здесь, то могла бы принимать солнечные ванны даже без
купального костюма.
— Да, если бы я жила здесь...
— А это можно устроить,— сказал я небрежно.— Ты ведь за-
метила, что оттуда выезжают. Комната освободится через день-
другой.
Она посмотрела на меня и улыбнулась.
— А ты считаешь, что это будет правильно для нас? Быть все
время вместе?
— И вовсе мы не будем все время вместе,— возразил я.—
Днем меня здесь вообще нет. Вечерами тоже часто отсутствую.
Но уж если мы вместе, то нам незачем будет ходить по ресторанам
и вечно спешить расставаться, словно мы в гостях друг у друга.
Пат уселась поудобнее.
— Мой дорогой, ты говоришь так, словно уже обдумал все
подробности.
— И обдумал,— сказал я.— Целый вечер об этом думаю.
Она выпрямилась.
— Ты действительно говоришь об этом серьезно, Робби?
— Да, черт возьми,— сказал я.— А ты разве до сих пор не за
метила этого?
Она немного помолчала.
— Робби,— сказала она затем чуть более низким голосом.—
Почему ты именно сейчас заговорил об этом?
— А вот заговорил,— сказал я резче, чем хотел. Внезапно
я почувствовал, что теперь должно решиться многое более важ-
ное, чем комната.— Заговорил потому, что в последние недели
понял, как чудесно быть все время неразлучными. Осточертели
мне все эти встречи на час! Я хочу от тебя большего! Я хочу,
чтобы ты всегда была со мной, не желаю продолжать умную лю*
бовную игру в прятки, она мне противна и не нужна, я просто
хочу тебя и только тебя, и никогда мне этого не будет достаточ
но, и ни одной минуты я потерять не хочу.
Я слышал ее дыхание. Она сидела на подоконнике, обняв ко
лени руками, и молчала. Красные огни рекламы напротив,
за деревьями, медленно поднимались вверх и бросали матовый
отблеск на ее светлые туфли, освещали юбку и руки.
— 4* 232 4* —
— Пожалуйста, можешь смеяться надо мной,— сказал я.
— Смеяться?— удивилась она.
— Ну да, потому что я все время говорю: я хочу. Ведь в конце
концов и ты должна хотеть.
Она подняла глаза.
— Тебе известно, что ты изменился, Робби?
— Нет.
— Правда, изменился. Это видно из твоих же слов. Ты хо-
чешь. Ты уже не спрашиваешь. Ты просто хочешь.
— Ну, это еще не такая большая перемена. Как бы сильно
и ни желал чего-то, ты всегда можешь сказать «нет».
Она вдруг наклонилась ко мне.
— Почему же я должна сказать «нет», Робби?— проговорила
она очень теплым и нежным голосом.— Ведь и я хочу того же...
Растерявшись, я обнял ее за плечи. Ее волосы коснулись моего
липа.
— Это правда, Пат?
— Ну конечно, дорогой.
— Вот ведь как,— сказал я,— а я представлял себе все это го-
ра то сложнее.
Она покачала головой.
— Ведь все зависит только от тебя, Робби...
— Я и сам почти так думаю,— удивленно сказал я.
Она обняла мою голову.
— Иногда бывает очень приятно, когда можно ни о чем не ду-
мать. Не делать все самой. Когда можно опереться. Ах, дорогой
мой, все, собственно, довольно легко — не надо только самим
усложнять себе жизнь!
На мгновение я стиснул зубы. Услышать от нее такое! Потом
и сказал:
— Правильно, Пат. Правильно!
И совсем это не было правильно.
Мы постояли еще немного у окна.
— Все твои вещи перевезем сюда,— сказал я.— Чтобы у тебя
|десь было все. Даже заведем чайный столик на колесах. Фрида
научится обращаться с ним.
— Есть у нас такой столик, милый. Он мой.
— Тем лучше. Тогда я завтра начну тренировать Фриду.
Она прислонила голову к моему плечу. Я почувствовал, что
ина устала.
— Проводить тебя домой?— спросил я.
— Погоди. Полежу еще минутку.
— 4* 233 4* —
Она лежала спокойно на кровати, не разговаривая, будто
спала. Но ее глаза были открыты, и иногда я улавливал в них от-
блеск огней рекламы, бесшумно скользивших по стенам и по-
толку, как северное сияние. На улице все замерло. За стеной
время от времени слышался шорох — Хассе бродил по комнате
среди остатков своих надежд, своего брака и, вероятно, всей
своей жизни.
— Ты бы осталась здесь,— сказал я.
Она привстала.
— Сегодня нет, милый...
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась...
— Завтра...
Она встала и тихо прошлась по темной комнате. Я вспомнил,
как Пат впервые осталась у меня, как в сером свете занимающе-
гося дня она точно так же прошлась по комнате, чтобы одеться.
Не знаю почему, но в этом было что-то поразительно естест-
венное и трогательное — какой-то отзвук далекого прошлого,
погребенного под обломками времени, молчаливое подчинение
закону, которого уже никто не помнит. Она вернулась из тем-
ноты и прикоснулась ладонями к моему лицу.
— Хорошо мне было у тебя, милый. Очень хорошо. Я так рада,
что ты есть.
Я ничего не ответил. Да и что я мог бы ответить?
* * *
Я проводил ее домой и снова пошел в бар. Там я застал Кестера.
— Садись,— сказал он.— Как поживаешь?
— Да не особенно, Отто.
— Выпьешь чего-нибудь?
— Если мне начать пить, придется выпить много. Этого
я не хочу. Обойдется. Но я мог бы заняться чем-нибудь другим.
Готтфрид сейчас работает на такси?
— Нет.
— Ладно. Тогда я поезжу несколько часов.
— Я пойду с тобой в гараж,— сказал Кестер.
Простившись с Отто, я сел в машину и направился к стоянке.
Впереди меня уже были две машины. Потом подъехали Густап
и актер Томми. Оба передних такси ушли, вскоре нашелся пас-
сажир и для меня. Молодая девушка попросила отвезти ее
в «Винету», модный дансинг с телефонами на столиках, с пнев-
матической почтой и тому подобными атрибутами, рассчитан-
ными на провинциалов. «Винета» находилась в стороне от дру-
гих ночных кафе, в темном переулке.
— 4* 234 4* —
Мы остановились. Девушка порылась в сумочке и протянула
мне бумажку в пятьдесят марок. Я пожал плечами:
К сожалению, не могу разменять.
11одошел швейцар.
— Сколько я вам должна?— спросила девушка.
— Одну марку семьдесят пфеннигов.
Она обратилась к швейцару:
— Вы не можете заплатить за меня? Я рассчитаюсь с вами
\ кассы.
Швейцар распахнул дверцу машины и проводил девушку
» кассе. Потом он вернулся.
— Вот...
Я пересчитал депы и.
— Здесь марка пятьдесят...
— Не болтай попусту... зелен еще... Двадцать пфеннигов пола-
• клея швейцару за то, что вернулся. Такая такса! Сматывайся!
были рестораны, где швейцару давали чаевые, но только если
...риводил пассажира, а не когда ты сам привозил ему гостя.
Я еще недостаточно зелен для этого,— сказал я,— мне
• Ч »и читается марка семьдесят.
А в морду не хочешь?.. Ну-ка, парень, сматывайся отсюда.
i iniшие порядки я знаю лучше тебя.
Мне было наплевать на двадцать пфеннигов. Но я не хотел,
। ип)1>1 он обдурил меня.
Брось трепаться и отдай остаток,— сказал я.
Швейцар нанес удар мгновенно, уклониться, сидя за рулем,
и к> невозможно, я даже не успел прикрыться рукой и стук-
i\ в-я головой о рулевое колесо. Потом в оцепенении выпря-
||| в я. Голова гудела, как барабан, из носа текла кровь. Швейцар
|" । । передо мной.
Хочешь еще раз, жалкий труп утопленника?
Я сразу оценил свои шансы. Они были равны нулю! Этот тип
•и । сильнее меня. Чтобы ответить ему, я должен был действо-
III неожиданно. Бить из машины я не мог — удар не имел бы
и п н А пока я выбрался бы на тротуар, он трижды успел бы по-
• hi । ь меня. Я посмотрел на него. Он дышал мне в лицо пив-
• »|.1м перегаром.
Гще удар, и твоя баба — вдова.
Я v мотрел на нею. не шевелясь, уставившись в эго широкое,
н-ровое лицо. Я пожирал его глазами, видел, куда надо бить,
••• IHCHCIBO сковало меня, словно лед. Я сидел неподвижно, ви-
• • । его лицо слишком близко, слишком отчетливо, как сквозь
— + 235 + —
увеличительное стекло, каждый волосок щетины, красную, об-
ветренную, пористую кожу...
Сверкнула каска полицейского.
— Что случилось?
Швейцар услужливо вытянулся:
— Ничего, господин инспектор.
Тот посмотрел на меня.
— Ничего,— сказал я.
Он переводил взгляд со швейцара на меня.
— Но ведь вы в крови.
— Ударился.
Швейцар отступил на шаг назад. В его глазах была подлень-
кая усмешка. Он решил, что я боюсь донести на него.
— Проезжайте,— сказал полицейский.
Я дал газ и поехал обратно на стоянку.
* * *
— Ну и вид у тебя,— сказал Густав.
— Только нос,— ответил я и рассказал о случившемся.
— Ну-ка зайдем со мной в трактир,— сказал Густав.— Неда-
ром я коГда-то был санитарным ефрейтором. Какое свинство бить
сидячего!— Он повел меня на кухню, попросил льда и с полчаса
обрабатывал меня.— И следа не останется,— заявил он.
Наконец он кончил.
— Ну, а с черепком как дело? Все в порядке? Тогда не будем
терять времени.
Вошел Томми.
— Большой швейцар из дансинга «Винета»? Вечно дерется,
тем и известен. К сожалению, ему еще никто не надавал.
— Сейчас он получит,— сказал Густав.
— Да, но от меня,— добавил я.
Густав недовольно посмотрел на меня.
— Пока ты вылезешь из машины...
— Я уже придумал, как действовать. Не выйдет — так под-
ключишься ты.
— Ладно.
Я надел фуражку Густава, и мы сели в его машину, чтобы
швейцар не понял сразу в чем дело. Так или иначе, много он бы
не увидел: в переулке было довольно темно.
Мы подъехали. Около «Винеты» не было ни души. Густав вы-
скочил, держа в руке бумажку в двадцать марок:
— Черт возьми, нет мелочи! Швейцар, вы не разменяете?
Марка семьдесят по счетчику. Уплатите, пожалуйста.
— + 236 + —
Он притворился, что направляется в кассу. Швейцар подо-
шел ко мне, кашляя, и сунул мне марку пятьдесят. Я продолжал
держать вытянутую руку.
— Отчаливай!— буркнул он.
— Отдай остаток, сука!— рявкнул я.
На секунду он окаменел.
— Послушай,— тихо сказал он, облизывая губы,— ты еще
много месяцев будешь жалеть об этом!— Он размахнулся. Этот
удар мог бы лишить меня сознания. Но я был начеку. Повер-
нувшись, я пригнулся, и кулак налетел со всего маху на острый
ciальной шпенёк пусковой ручки, которую я незаметно держал
и левой руке. Вскрикнув, швейцар отскочил назад и затряс рукой.
Он шипел от боли, как паровая машина, и стоял во весь рост,
6с i всякого прикрытия.
Я вылетел из машины.
— Узнаешь?— глухо прорычал я и ударил его в живот.
Он свалился. Густав стоял у входа. Подражая судье на ринге,
он начал считать:
— Раз, два... три...
При счете «пять» швейцар поднялся, точно стеклянный. Как
и раньше, я видел перед собой его лицо, опять это здоровое,
широкое, глупое, подлое лицо; я видел его всего, здорового,
сильного парня, свинью, у которой никогда не будут больные
»1сгкие; и вдруг я почувствовал, как красноватый дым застилает
мне мозг и глаза, я кинулся на него и принялся его избивать.
Все, что накопилось во мне за эти дни и недели, я вбивал в это здо-
ровое, широкое, мычащее лицо, пока Густав меня не оттащил...
— С ума сошел, забьешь насмерть!..— крикнул он.
Я оглянулся. Швейцар прислонился к стене. Он истекал кровью.
11отом согнулся, упал и, точно огромное блестящее насекомое,
пополз в своей роскошной ливрее на четвереньках ко входу.
— Теперь он не скоро будет драться,— сказал Густав.—
А сейчас давай ходу отсюда, пока никого нет! Это уже называ-
йся тяжелым телесным повреждением.
Мы бросили деньги на мостовую, сели в машину и поехали.
— У меня тоже идет кровь?— спросил я.— Или это я об него
шмарался?
— Из носу опять капает,— сказал Густав.— Он очень красиво
ппвссил тебе слева.
— А я и не заметил.
Густав рассмеялся.
— Знаешь,— сказал я,— а мне сейчас гораздо лучше.
— 4* 237 4* —
XVIII
Наше такси стояло перед баром. Я вошел туда, чтобы сме-
нить Ленца, взять у него документы и ключи. Готтфрид вышел
со мной.
— Какие сегодня доходы?— спросил я.
— Неважные,— ответил он.— То ли слишком много разве-
лось такси, то ли слишком мало пассажиров... А у тебя как?
— Плохо. Всю ночь за рулем, и даже двадцати марок не набрал.
— Мрачные времена!— Готтфрид поднял брови.— Сегодня
ты, наверно, не очень торопишься?
— Нет, а почему ты спрашиваешь?
— Не подвезешь ли?.. Мне недалеко.
— Ладно.
Мы сели.
— А куда тебе?— спросил я.
— К собору.
— Что?— переспросил я.— Не ослышался ли я? Мне показа-
лось, ты сказал, к собору.
— Нет, сын мой, ты не ослышался. Именно к собору!
Я удивленно посмотрел на него.
— Не удивляйся, а поезжай!— сказал Готтфрид.
— Что ж, давай.
Мы поехали.
Собор находился в старой части города, на открытой площади,
вокруг которой стояли дома священнослужителей. Я остано-
вился у главного портала.
— Дальше,— сказал Готтфрид.— Объезжай кругом.
Он попросил меня остановить у небольшого входа с обрат-
ной стороны и вышел.
— Ну, дай тебе Бог!— сказал я.— Ты, кажется, хочешь испо-
ведаться.
— Пойдем-ка со мной,— ответил он.
Я рассмеялся.
— Только не сегодня. Утром я уже помолился. Мне этого хва-
тит на весь день.
— Не болтай чушь, детка! Пойдем! Я буду великодушен и по-
кажу тебе кое-что.
С любопытством я последовал за ним. Мы вошли через ма-
ленькую дверь и очутились в крытой крестовой галерее. Длин
ные ряды арок, покоившихся на серых гранитных колоннах»
окаймляли садик, образуя большой прямоугольник. В середине
возвышался выветрившийся крест с распятым Христом.
По сторонам были каменные барельефы, изображавшие этапы
— + 238 + —
крестного пути. Перед каждым барельефом стояла ветхая скамья
для молящихся. Запущенный сад буйно разросся.
Готтфрид показал мне, несколько огромных кустов белых
и красных роз:
— Вот, смотри! Узнаешь?
Я остановился в изумлении.
— Конечно, узнаю,— сказал я.— Значит, здесь ты снимал
свой урожай, старый церковный ворюга!
За неделю до того Пат переехала к фрау Залевски, и однажды
вечером Ленц прислал ей с Юппом огромный букет роз. Цветов
было так много, что Юппу пришлось внести их в два приема.
Я ломал себе голову, гадая, где Готтфрид мог их раздобыть.
Я знал его принцип — никогда не покупать цветы. В городском
нарке я таких роз не видел.
— Это идея!— сказал я одобрительно.— До этого нужно было
додуматься!
Готтфрид ухмыльнулся.
— Не сад, а настоящая золотая жила!
Он торжественно положил мне руку на плечо.
— Беру тебя в долю! Думаю, теперь тебе это пригодится!
— Почему именно теперь?— спросил я.
— Потому что городской парк довольно сильно опустел.
А ведь он был твоим единственным источником, не так ли?
Я кивнул.
— Кроме того,— продолжал Готтфрид,— ты теперь вступа-
ешь в период, когда проявляется разница между буржуа и кава-
зсром. Чем дольше буржуа живет с женщиной, тем он менее
внимателен к ней. Кавалер, напротив, все более внимателен.—
Он сделал широкий жест рукой.— А имея этакий сад, ты мо-
жешь стать совершенно потрясающим кавалером.
Я рассмеялся.
— Все это хорошо, Готтфрид,— сказал я.— Ну, а если я по-
падусь? Отсюда очень плохо удирать, а набожные люди скажут,
•по я оскверняю священное место.
— Дорогой мой мальчик,— ответил Ленц.— Ты здесь ви-
tiiiиь кого-нибудь? После войны люди стали ходить на полити-
ческие собрания, а не в церковь.
Это было верно.
- А как быть с пасторами?— спросил я.
— Им до цветов дела нет, иначе сад был бы ухожен получше.
А Господь Бог будет только рад, что ты доставляешь кому-то
удовольствие. Ведь он не вредный.
— 4* 239 4* —
— Ты прав!— Я смотрел на огромные, старые кусты.— На бли-
жайшие недели я обеспечен!
— Дольше. Тебе повезло. Это очень устойчивый, долгоцвету-
щий сорт роз. Дотянешь минимум до сентября. А потом расцве-
тут астры и хризантемы. Пойдем, покажу где.
Мы пошли по саду. Розы пахли одуряюще. Как гудящее об-
лако, с цветка на цветок перелетали рои пчел.
— Посмотри на пчел,— сказал я и остановился.— Откуда
они взялись в центре города? Ведь поблизости нет ульев. Мо-
жет быть, пасторы разводят их на крышах своих домов?
— Нет, братец мой,— ответил Ленц.— Голову даю наотрез,
что они прилетают с какого-нибудь крестьянского двора. Просто
хорошо знают свой путь...— Он прищурил глаза.— А мы вот
не знаем...
Я повел плечами.
— А может быть, знаем? Хоть маленький отрезок пути,
но знаем. Насколько это возможно. А ты разве нет?
— Нет. Да и знать не хочу. Когда есть цель, жизнь становится
мещанской, ограниченной.
Я посмотрел на башню собора. Шелковисто-зеленым силуэ-
том высилась она на фоне голубого неба, бесконечно старая
и спокойная. Вокруг нее вились ласточки.
— Как здесь тихо,— сказал я.
Ленц кивнул.
— Да, старик, тут, собственно, и начинаешь понимать, что тебе
не хватало лишь одного, чтобы стать хорошим человеком,—
времени. Верно я говорю?
— Времени и покоя,— ответил я.— Покоя тоже не хватало.
Он рассмеялся.
— Слишком поздно! Теперь дело дошло уже до того, что покой
стал бы невыносим. А поэтому пошли! Опять окунемся в грохот!
♦ * *
Я отвез Готтфрида и возвращался на стоянку. По пути про
ехал мимо кладбища. Я знал, что Пат лежит в своем шезлонге
на балконе, и дал несколько гудков. Но она не показалась,
и я поехал дальше. Зато вскоре я увидел фрау Хассе. В развева-
ющейся пелерине из шелковой тафты она проплыла вдоль улицы
и скрылась за углом. Я поехал за ней, чтобы спросить, не ну ж*
но ли подвезти ее куда-нибудь. Но у перекрестка заметил, как
она села в стоявший за поворотом лимузин, довольно потре-
панный «мерседес» выпуска двадцать третьего года. Машинк
тут же тронулась. За рулем сидел мужчина с носом, похожим
— 4* 240 4* —
и.। v пшый клюв. На нем был пестрый клетчатый костюм. До-
ни н.по долго я смотрел вслед удаляющемуся лимузину. Так вот
ни получается, когда женщина непрерывно сидит дома в оди-
ночестве. Размышляя об этом, я приехал на стоянку и пристро-
и 1ся в хвост других такси.
< олнце накалило крышу. Машины очень медленно подвига-
ши. вперед. Меня охватила дремота, и я старался уснуть. Но образ
Фр.|\ Хассе не переставал меня тревожить. Правда, у нас все
'•id io по-другому, но ведь в конце концов Пат тоже сидела весь
в hi. дома одна.
Я сошел на тротуар и направился вперед, к машине Густава.
На, выпей,— предложил он мне, протягивая термос.— Ве-
шки 1епный холодный напиток! Собственное изобретение — ко-
I"- со льдом. Держится в таком виде часами, при любой жаре,
hi.hi, что Густав — практичный человек!
Я выпил стаканчик холодного кофе.
Уж если ты такой практичный,— сказал я,— расскажи
ни . чем можно занять женщину, когда она подолгу сидит одна.
Да ведь это так просто!— Густав посмотрел на меня с ви-
।им превосходства.— Ты, право, чудак, Роберт! Нужен ребенок
и in собака! Нашел проблему! Задал бы мне вопрос потруднее.
Собака!— повторил я удивленно.— Конечно же, черт
пи и.ми, нужна собака! Верно говоришь! С собакой никогда
in* п\ (ешь одинок!
Я предложил ему сигарету.
11ослушай, а ты случайно не знаешь, где бы ее раздобыть?
П» и. в наши дни за пса дорого не возьмут.
I мчав с упреком покачал головой.
Эх, Роберт, ты действительно еще не знаешь, какой я клад
। di тебя! Мой будущий тесть — второй секретарь союза вла-
|| и.пев доберман-пинчеров! Конечно, достанем тебе молодого
► ипг п.ка, и даже бесплатно. Лучших кровей. Есть у нас шесть
•ПГНЯ1. Их бабушка медалистка, Герта фон дер Тоггенбург.
I мчав был везучим человеком. Отец его невесты не только
c i пи)зил доберманов, но был еще и трактирщиком, владельцем
Покой кельи»; сама невеста держала плиссировочную мастер-
ки > Густав жил припеваючи. Он бесплатно ел и пил у тестя, а не-
...л спирала и гладила его рубашки. Он не торопился с женить-
hi, ведь тогда ему самому пришлось бы заботиться обо всем.
Я объяснил Густаву, что доберман мне не нужен. Он слиш-
* им велик, да и характер у него ненадежный. Густав подумал
мину1ку и сказал:
— 4* 241 4* —
— Пойдем со мной. Выясним положение. Есть у меня кое-
что на примете. Только ты помалкивай и не мешай.
— Хорошо.
Он привел меня к маленькому магазину. В витрине стояли
аквариумы, затянутые водорослями. Две понурые морские
свинки сидели в ящике. В клетках, висевших по бокам, неуто-
мимо метались во все стороны чижи, снегири и канарейки.
К нам вышел маленький кривоногий человек в коричневом
вязаном жилете. Водянистые глаза, выцветшее лицо и какой-то
светильник вместо носа. Словом, большой любитель пива и водки.
— Скажи-ка, Антон, как поживает Аста?— спросил Густав.
— Второй приз и почетный приз в Кельне,— ответил Антон.
— Какая подлость!— возмутился Густав.— Почему не первый?
— Первый они дали Удо Бланкенфельсу,— пробурчал Антон.
— Вот хамство! Жулье!..
Сзади под стойкой скулили и тявкали щенки. Густав прошел
за стойку, взял за шиворот двух маленьких терьеров и принес
их. В его левой руке болтался бело-черный щенок, в правой —
красновато-коричневый. Незаметно он встряхнул щенка в пра-
вой руке. Я посмотрел на него: да, этот подойдет.
Щенок был очарователен, настоящая игрушка. Прямые ножки,
квадратное тельце, прямоугольная головка, умные наглые глаз-
ки. Густав опустил собачонок на пол.
— Смешная помесь,— сказал он, показывая на красновато-
коричневого.— Где ты его взял?
Антон якобы получил его от какой-то дамы, уехавшей в Юж
ную Америку. Густав разразился издевательским хохотом. Антон
обиделся и достал родословную, восходившую к самому Ноеву
ковчегу. Густав недоверчиво махнул рукой и начал разгляды-
вать черно-белого щенка. Антон потребовал сто марок за ко-
ричневого. Густав предложил пять. Он заявил, что ему не нра-
вится прадед, и раскритиковал хвост и уши. Другое дело
черно-белый — этот, мол, безупречен.
Я стоял в углу и слушал. Вдруг кто-то дернул мою шляпу.
Я удивленно обернулся. Маленькая желтая обезьянка с печаль
ным личиком сидела, сгорбившись, в углу на штанге. У нее были
черные круглые глаза и озабоченный старушечий рот. Кожа-
ный ремень, прикрепленный к цепи, опоясывал брюшко. Ма-
ленькие черные ручки пугали своим человеческим видом.
Я стоял неподвижно. Обезьянка медленно подвигалась
ко мне по штанге. Она неотрывно смотрела на меня, без недо
верия, но каким-то странным, сдержанным взглядом. Наконец
осторожно протянула вперед ручонку. Я сунул ей палец. Она
— 4* 242 4* —
слегка отпрянула назад, но потом взяла его. Ощущение про-
хладной детской ручки, стиснувшей мне палец, было странным.
Казалось, что в этом скрюченном тельце заключен несчастный,
немой человечек, который хочет спастись. Я не мог долго смо-
треть в эти глаза, полные смертельной тоски.
Отдуваясь, Густав вынырнул из чащи родословных дерев.
— Значит, договорились, Антон! Ты получишь за него щен-
ка-добермана, потомка Герты. Лучшая сделка в твоей жизни!—
Потом он обратился ко мне: — Возьмешь его сразу с собой?
— А сколько он стоит?
— Нисколько. Он обменен на добермана, которого я подарил
ic6e раньше. Предоставь Густаву обделывать такие дела! Гус-
ит — мужчина высшей пробы! Золото!
Мы договорились, что я зайду за собачкой потом, после работы.
— Ты в состоянии понять, что именно ты сейчас приоб-
рел?— спросил меня Густав на улице.— Это же редчайший эк-
1емпляр! Ирландский терьер! Ни одного изъяна. Да еще родо-
словная в придачу. Ты не смеешь даже смотреть на него, раб
1>ожий! Прежде чем заговорить с этой скотинкой, ты должен ей
низко поклониться.
— Густав,— сказал я,— ты оказал мне очень большую услугу.
11ойдем и выпьем самого старого коньяку, какой только найдется.
— Сегодня не могу!— заявил Густав.— Сегодня у меня долж-
на быть верная рука. Вечером иду в спортивный союз играть
и кегли. Обещай, что пойдешь туда со мной как-нибудь. Очень
приличные люди, есть даже обер-постсекретарь.
— Пойду,— сказал я.— Даже если там не будет обер-постсе-
кретаря.
* * *
Около шести я вернулся в мастерскую. Кестер ждал меня.
— Жаффе звонил после обеда. Просил, чтобы ты позвонил ему.
У меня на мгновение остановилось дыхание.
— Он сказал что-нибудь, Отто?
— Нет, ничего особенного. Сказал только, что принимает
у себя до пяти, а потом поедет в больницу святой Доротеи. Зна-
чит, именно туда тебе и надо позвонить.
— Хорошо.
Я пошел в контору. Было тепло, даже душно, но меня зноби-
ю. и телефонная трубка дрожала в моей руке.
— Глупости все,— сказал я и покрепче ухватился за край стола.
Прошло немало времени, пока я услышал голос Жаффе.
— Вы свободны?— спросил он.
— 4* 243 + —
-Да.
— Тогда приезжайте сразу. Я еще побуду здесь с часок.
Я хотел спросить его, не случилось ли что-нибудь с Пат,
но у меня язык не повернулся.
— Хорошо,— сказал я.— Через десять минут буду.
Я повесил трубку, снова снял ее и позвонил домой.
К телефону подошла горничная. Я попросил ее позвать Пат.
— Не знаю, дома ли она,— угрюмо сказала Фрида.— Сейчас
посмотрю.
Я ждал. Моя голова отяжелела, лицо горело. Ожидание каза-
лось бесконечным. Потом в трубке послышался шорох и голос
Пат:
— Робби?
На секунду я закрыл глаза.
— Как поживаешь, Пат?
— Хорошо. Я до сих пор сидела на балконе и читала книгу.
Очень интересная...
— Вот как, интересная книга...— сказал я.— Это хорошо.
Я хотел тебе сказать, что сегодня приду домой чуть попозже.
Ты уже прочитала свою книгу?
— Нет, я на самой середине. Еще хватит на несколько часов.
— Ну, тогда я вполне успею. А ты читай пока.
Я еще немного посидел в конторе. Потом встал.
— Отто,— сказал я,— можно взять «Карла»?
— Конечно. Если хочешь, я поеду с тобой. Мне здесь нечего
делать.
— Не стоит. Ничего не случилось. Я уже звонил домой.
«Какой свет,— подумал я, когда «Карл» вырвался на ули-
цу,— какой чудесный вечерний свет над крышами! Как полив
и чудесна жизнь!»
♦ * *
Мне пришлось подождать Жаффе несколько минут. Сестрв
провела меня в маленькую комнату, где были разложены стп
рые журналы. На подоконнике стояло несколько цветочных
горшков с вьющимися растениями. Вечно повторяющаяся кар
тина: все те же журналы в коричневых обложках, все те же не
чальные вьющиеся растения; их можно увидеть только в прием
ных врачей и в больницах.
Вошел Жаффе. На нем был свежий белоснежный халат. Но,
когда он подсел ко мне, я заметил на внутренней стороне прв
вого рукава маленькое ярко-красное пятнышко. В своей жизни
я видел много крови, но это крохотное пятнышко потрясло мени
— + 244 4* —
и h i ice, чем все виденные прежде, насквозь пропитанные кровью
• 1ИВЯ1КИ. Мое бодрое настроение исчезло.
— Я обещал вам рассказать о здоровье фрейлейн Холь-
Ч.Н1.— сказал Жаффе.
/I кивнул и уставился на пеструю плюшевую скатерть. Я раз-
। г| пивал переплет сине шестиугольников, по-дурацки решив
пр»» себя, что все будет хорошо, если я не оторву !лаз от узора
и нс моргну пи разу, пока Жаффе не заговори! снова.
— Два года назад она провела шесть месяцев в санатории,
он ном вы знаете?
11ет,— сказал я, продолжая смотреть на скатерть.
— Тогда ей стало лучше. Теперь я очень внимательно осмот-
ре । ее. Этой зимой она обязательно должна снова поехать туда.
I и нельзя оставаться здесь, в городе.
Я все еще смотрел на шестиугольники. Они начали расплы-
н.| । вся и заплясали.
— Когда?— спросил я.
Осенью. Не позднее конца октября.
Значит, уто не было случайным кровотечением?
Нет.
/I поднял । ла за.
Мне едва ли надо вам творить,— продолжал Жаффе,—
нс при этой болезни пичею нельзя предвидеть. Год назад мне
< । i.i юсь, будто процесс остановился, iiac 1 уiшла инкапсуляция,
и можно было предположить, что очаг закрылся. И так же, как
" i.iBHo процесс неожиданно возобновился, он может столь же
•" ижиданно приостановиться. Я эго говорю iiecupocia, бо-
•• nib действительно такова. Я сам был свиде1елем удивиiель-
и |\ исцелений.
И ухудшений?
ihi посмотрел на меня.
Бывало, конечно, и так.
Он начал объяснять мне подробности. Оба легких были по-
11 сны, правое меньше, левое сильнее. Потом он нажал кнопку
• к и । к а. Вошла сес i ра.
I IpiiiiecH ie мой портфель,— сказал он.
< <Lipa принесла норк|)ель. Жаффе извлек из шуршащих
• hi 1-рюв два больших реп и еновских снимка и поднес их
• < г. с I К Окну.
Так вам будет лучше видно.
H i прозрачной серой пластинке я увидел позвоночник, ло-
I II ключицы, плечевые суставы и пологие дуги ребер.
। । видел больше — я видел скелет. Темный и призрачный, он
— 4* 245 4» —
выделялся среди бледных теней, сливавшихся на фотопленке.
Я видел скелет Пат. Скелет Пат.
Жаффе указал мне пинцетом на отдельные линии и затемне-
ния и объяснил их значение. Он не заметил, что я перестал слу-
шать его. Теперь это был только ученый, любивший основа-
тельность и точность. Наконец он повернулся ко мне.
— Вы меня поняли?
— Да,— сказал я.
— Что с вами?— спросил он.
— Ничего,— ответил я.— Я что-то плохо вижу.
— Ах, вот что.— Он поправил очки. Потом вложил снимки
обратно в конверты и испытующе посмотрел на меня.—
Не предавайтесь бесполезным размышлениям.
— Я этого и не делаю. Но что за кошмарный ужас! Миллио-
ны людей здоровы! Почему же она больна?
Жаффе помолчал немного.
— На это никто вам не даст ответа,— сказал он затем.
— Да,— воскликнул я, внезапно охваченный горьким, бес-
сильным бешенством,— на это никто не даст ответа! Конечно,
нет! Никто не может ответить за муки и смерть! Проклятье!
И хоть бы что-нибудь можно было сделать!
Жаффе долго смотрел на меня.
— Простите меня,— сказал я,— но я не могу себя обманывать.
Вот в чем весь ужас.
Он все еще смотрел на меня.
— Есть у вас немного времени?— спросил он.
— Да,— сказал я.— Времени у меня достаточно.
Он встал.
— Мне предстоит сделать вечерний обход. Давайте пойдем
со мной. Сестра даст вам халат. Для пациентов вы будете моим
ассистентом.
Я не понимал, чего он хотел, но я взял халат, поданный мне
сестрой.
* ♦ *
Мы шли по длинным коридорам. Широкие окна светились
розоватым вечерним сиянием. Это был мягкий, приглушенный,
совершенно неправдоподобно парящий свет. В раскрытые окна
лился аромат цветущих лип.
Жаффе открыл одну из дверей. В нос ударил удушливый,
гнилостный запах. Женщина с чудесными волосами цвета ста
ринного золота, на которых ярко переливались отсветы сумерек,
бессильно подняла руку. Благородный лоб суживался у вискои.
— 4- 246 4* —
I Io । глазами начиналась повязка, доходившая до рта. Жаффе
• »| । о рож но удалил ее. Я увидел, что у женщины нет носа. Вместо
• к io зияла кровавая рана, покрытая струпьями, багрово-крас-
н.hi, с двумя отверстиями посередине. Жаффе вновь наложил
।и >ня жу
Хорошо,— сказал он приветливо и повернулся к выходу.
Он закрыл за собой дверь. В коридоре я остановился на ми-
ну ту и стал смотреть на вечернее небо.
— Пойдемте!— сказал Жаффе, направляясь к следующей
комнате.
Мы услышали горячее прерывистое дыхание больного, метав-
•|||чося в жару. На как бы свинцовом лице мужчины ярко про-
। \ пали странные красные пятна. Рот был широко открыт, глаза
м|.|к<11 ились, а руки беспокойно двигались по одеялу. Он был
•• I сознания. У кровати сидела сестра и читала. Когда Жаффе
•"•Inca, она отложила книгу и поднялась. Он посмотрел на тем-
• н ра!урный лист, показывавший сплошь сорок градусов, и по-
* Г1.Ы головой.
Двустороннее воспаление легких плюс плеврит. Вот уже
• и ic по борется со смертью, как бык. Рецидив. Был почти здо-
1">н (Лишком рано вышел на работу. Жена и четверо детей.
Ьг шадежно.
Он выслушал сердце и проверил пульс. Сестра, помогая ему,
..и ла книгу на пол. Я поднял ее — это была поваренная книга.
•ч к и больного непрерывно, как пауки, сновали по одеялу. Это
и । единственный звук, нарушавший тишину.
Останьтесь здесь на ночь, сестра,— сказал Жаффе.
Мы вышли. Розовый закат стал ярче. Теперь его свет запол-
•III весь коридор, как облако.
Проклятый свет,— сказал я.
Почему?— спросил Жаффе.
Несовместимые явления. Такой закат — и весь этот ужас.
По они сосуществуют,— сказал Жаффе.
В следующей комнате лежала женщина, которую доставили
• »ц'м У нее было тяжелое отравление вероналом. Она хрипела,
н и iiivne произошел несчастный случай с ее мужем — перелом
ниточника. Его привезли домой в полном сознании, и он
m i ню кричал. Ночью он умер.
Она выживет?— спросил я.
Вероятно.
Зачем?
— За последние годы у меня было пять подобных случаен,
сказал Жаффе.— Только одна пациентка вторично пытала», i.
отравиться. Из остальных две снова вышли замуж.
В комнате рядом лежал мужчина с параличом двенадцаш
летней давности. У нею была восковая кожа, жиденькая черпан
бородка и очень большие, спокойные глаза.
— Как себя чувствуете?— спросил Жаффе.
Больной сделал неопределенный жест. Потом показал на окт»
— Видите, какое небо! Будет дождь, я это чувствую.— Он
улыбнулся.— Koi да идет дождь, лучше спится.
Перед ним на одеяле была кожаная шахматная доска с фигур
ками на штифтах. Тут же лежала кипа иве г и несколько кнш
Мы пошли дальше. Я видел молодую женщину с синими i\
бами и дикими от ужаса глазами, совершенно истерзанную ih
желыми родами; ребенка-калеку с тонкими скрюченными нол
ками и рахитичной юловой; мужчину без желудка; дряхлую
старушку с совиным лицом, плакавшую оттого, чго родные
не заботились о ней: они считали, чго она слишком медлешн»
умирает; слепую, которая верила, чю вновь про зреет; сифили
тического ребенка с кровавой сыпью и его отца, сидевшем»
у постели; женщину, которой yipoM ампутировали вторую
। руль; еще одну женщину с телом, искривленным oi суставном»
ревматизма; третью, у которой вырезали яичники; рабочем»
с раздавленными ночками...
З ак мы шли из компа гы в комнату, и всюду было одно и т о же
стонущие, скованные судорогой тела, неподвижные, ночи»
yiacinne тени — какой-ю клубок мучений, нескончаемая нсш
С1раданий, страха, покорности, боли, отчаяния, надежды, н\*
ды; и всякий раз, koi да за нами за i корилась дверь, в коридор»
нас снова встречал розовапяй свет лого неземною вечера; cp.i
зу после ужаса больничных налаi )го нежное Сероваю-золоmi
сюе облако. И я не moi hohmib, чудовищная л о насмешка и ш
iieiiociижимое сверхчеловеческое уieiiicime. Жаффе остан»»
вился v входа в операционный зал. Через матовое cick.to двери
лился резкий свет. Две сестры кашли низкую iслежку. Па нгн
лежала женщина. Я уловил ее взгляд. Она даже не посмотрен»
на меня. Но ли глаза заставили меня вздрошуш— столько (ю
ло в них мужесиза, собранности и спокойствия.
Лицо Жаффе показалось мне вдру| очень усiалым.
— Нс знаю, правильно ли я потупил,— сказал он,— но бы и
бы бессмысленно успокаиваю вас словами. Вы бы мне проси»
не поверили. Зенерь вы увидели, что mhoihc из лих лю irii
страдаил сильнее, чем Пат Хольман. У иных не осталось ничем»
— 4* 248 4* —
кроме надежды. Но большинство выживает. Люди становятся
<»нч ib совершенно здоровыми. Вот что я хотел вам показать.
Я кивнул.
— Вы поступили правильно,— сказал я.
— Девять лет назад умерла моя жена. Ей было двадцать пять
и I. Никогда не болела. От гриппа.— Он немного помолчал.—
Вы понимаете, зачем я вам это говорю?
Я снова кивнул.
— Ничего нельзя знать наперед. Смертельно больной человек
может пережить здорового. Жизнь — очень странная штука.—
11.1 его лице резко обозначились морщины. Вошла сестра и что-то
шепнула ему на ухо. Он выпрямился и кивком головы указал
h i операционный зал.— Мне нужно туда. Не показывайте Пат
своего беспокойства. Это важнее всего. Сможете?
— Да,— сказал я.
Он пожал мне руку и в сопровождении сестры быстро про-
шел через стеклянную дверь в ярко освещенный известково-бе-
||ый зал.
Я медленно пошел вниз по лестнице. Чем ниже я спускался,
Юм становилось темнее, а на втором этаже уже горел электри-
ческий свет. Выйдя на улицу, я увидел, как на горизонте снова
вспыхнули розоватые сумерки, словно небо глубоко вздохнуло.
И сразу же розовый свет исчез, и горизонт стал серым.
♦ * *
Какое-то время я сидел за рулем неподвижно, уставившись
в одну । очку. Потом собрался с мыслями и поехал обратно в ма-
м |ч кую. Кесгер ожидал меня у ворот. Я поставил машину
< " шор и вышел.
Ты уже знал об этом?— спросил я.
Да. Но Жаффе сам хотел тебе сказать.
Kcciep в иля пул мне в лицо.
Отто, я не ребенок и понимаю, что еще не все потеряно,
и.» ceiодня вечером мне, вероятно, будет трудно не выдать себя,
hi я останусь с Пат наедине. Завтра будет легче. Переборю
| | Не пойти ли нам сегодня куда-нибудь всем вместе?
Конечно, Робби. Я уже подумал об этом и предупредил
। "| иррида.
Тогда дай мне еще раз «Карла». Поеду домой, заберу Пат,
• । \|. через часок, заеду за вами.
Хорошо.
и поехал. На Николаиштрассе вспомнил о собаке. Развер-
। । и поехал за ней.
— 4* 249 4* —
Лавка не была освещена, но дверь была открыта. Антон си-
дел в глубине помещения на походной койке. Он держал в руке
бутылку. От него несло, как из винной бочки.
— Околпачил меня Густав!— сказал он.
Терьер запрыгал мне навстречу, обнюхал и лизнул руку. Его
зеленые глаза мерцали в косом свете, падавшем с улицы. Антон
встал. Он с трудом держался на ногах и вдруг расплакался...
— Собачонка моя, теперь и ты уходишь... все уходит... Тильда
умерла... Минна ушла... скажите-ка, и чего это ради мы живем
на земле?
Только этого мне не хватало! Он включил маленькую лам-
почку, загоревшуюся тусклым, безрадостным светом. Шорох
черепах и птиц, низенький одутловатый человек в лавчонке.
— Толстяки — те знают зачем... но скажите мне, для чего,
собственно, существует наш брат? Зачем жить нам, горемы-
кам?.. Скажите, сударь...
Обезьянка жалобно взвизгнула и исступленно заметалась
по штанге. Ее огромная тень прыгала по стене.
— Коко,— всхлипнул одинокий, наклюкавшийся в темноте
человек,— иди сюда, мой единственный!— Он протянул ей бу-
тылку. Обезьянка ухватилась за горлышко.
— Вы погубите животное, если будете его поить,— сказал я.
— Ну и пусть,— пробормотал он.— Годом больше на цепи...
годом меньше... не все ли равно... один черт... сударь...
Собачка тепло прижималась ко мне. Я пошел. Мягко переби-
рая лапками, гибкая и подвижная, она побежала рядом со мной
к машине.
Я приехал домой и осторожно поднялся наверх, ведя собаку
на поводке. В коридоре остановился и посмотрел в зеркало.
Мое лицо было таким, как всегда. Я постучал в дверь к Пат,
приоткрыл ее слегка и впустил собаку. Сам же остался в кори
доре, крепко держа повоДок, и ждал. Но вместо голоса Пат
вдруг раздался бас фрау Залевски:
— О Боже мой!
Облегченно вздохнув, я заглянул в комнату. Я боялся только
первой минуты наедине с Пат. Теперь мне стало легко. Фрау
Залевски бЬыа надежным амортизатором. Она величественно
восседала у стола за чашкой кофе. Перед ней в каком-то мисти
ческом порядке были разбросаны карты. Пат сидела рядом. Го
глаза блестели, и она жадно слушала предсказания.
— Добрый вечер,— сказал я, внезапно повеселев.
— Вот он и пришел,— с достоинством сказала фрау Залевски. ♦
По короткой дорожке в вечерний час... а рядом черный король,
— 4* 250 4> —
Собака рванулась, прошмыгнула между моих ног и с гром-
ким лаем выбежала на середину комнаты.
— Господи!— закричала Пат.— Да ведь это ирландский терьер!
— Восхищен твоими познаниями!— сказал я.— Несколько
•мсов тому назад я этого еще не знал.
Она нагнулась, и терьер бурно кинулся к ней.
— Как его зовут, Робби?
- Понятия не имею. Судя но прежнему владельцу. Коньяк,
и hi Виски, или что-нибудь в этом роде.
Он принадлежит нам?
— Да, насколько одно живое существо может принадлежать
11ц I ому.
11а г едва не задохнулась от прилива радости.
- Мы назовем его Билли, ладно, Робби? Когда мама была
•«•ночкой, у нее была собака Билли. Мама мне часто о ней pac-
к. । $ывала.
Значит, я хорошо сделал, что привел его?— спросил я.
А он чистоплотен?— забеспокоилась фрау Залевски.
У него родословная как у князя,— ответил я.— А князья
ПК1ОНЛОТНЫ.
Пока они маленькие... А сколько ему?..
Восемь месяцев. Все равно что шестнадцать лет для человека.
А по-моему, он не чистоплотен,— заявила фрау Залевски.
Его просто надо вымыть, вот и все.
I lai встала и обняла фрау Залевски за плечи. Я обмер
и \ швления.
Я давно уже мечтала о собаке,— сказала она.— Мы можем
• •• ос твить здесь, правда? Ведь вы ничего не имеете против?
M.I |ушка Залевски смутилась в первый раз с тех пор, как я ее
'ti.i ।
Ну что ж... пусть остается...— ответила она.— Да и карты
• | hi такие. Король приносит в дом сюрприз.
А в картах было, что мы уходим сегодня вечером?— спро-
II и рассмеялась.
)юго мы еще не успели узнать, Робби. Пока мы только
• • -ос । адали.
•I»p.i\ Залевски поднялась и собрала карты.
Можно им верить, можно и не верить. А можно верить,
и inoopoT, как покойный Залевски. У нею всегда над так на-
। и \n.i\i жидким элементом была пиковая девятка... а ведь
• ирное предзнаменование. И вот он решил, что должен осте-
। «ил я воды. А все дело было в водке и пильзенском пиве.
— 4* 251 4* —
Когда хозяйка вышла, я крепко обнял Пат.
— Как чудесно приходить домой и заставать тебя. Каждый
раз это для меня сюрприз. Когда я поднимаюсь по последним
ступенькам и открываю дверь, у меня всегда бьется сердце:
а вдруг это неправда.
Она посмотрела на меня улыбаясь. Она почти никогда не от-
вечала, когда я говорил что-нибудь в таком роде. Впрочем,
я и не рассчитывал на ответное признание. Мне бы это было даже
неприятно. Мне казалось, что женщина не должна говорить
мужчине, что любит его. Об этом пусть говорят ее сияющие,
счастливые глаза. Они красноречивее всяких слов.
Я долго не отпускал ее, ощущая теплоту ее кожи и легкий
аромат волос. Я не отпускал ее, и не было на свете ничего, кроме
нее, мрак отступил, она была здесь, она жила, она дышала, и ни*
что не было потеряно.
— Мы правда уходим, Робби?— спросила она, не отводя лица.
— И даже все вместе,— ответил я.— Кестер и Ленц тоже.
«Карл» уже стоит у парадного.
— А Билли?
— Билли, конечно, возьмем с собой. Иначе куда же мы денем
остатки ужина? Или, может быть, ты уже поужинала?
— Нет еще. Я ждала тебя.
— Но ты не должна меня ждать. Никогда. Очень страшно
ждать чего-то.
Она покачала головой.
— Этого ты не понимаешь, Робби. Страшно, когда нечет
ждать.
Она включила свет перед зеркалом.
— А теперь я должна одеться, а то не успею. Ты тоже пере
оденешься?
— Потом,— сказал я.— Мне ведь недолго. Дай мне еще по
быть немножко здесь.
* * *
Я подозвал собаку и уселся в кресло у окна. Я любил смог
реть, как Пат одевается. Никогда еще я не чувствовал с такой
силой вечную, непостижимую тайну женщины, как в мину ин,
когда она тихо двигалась перед зеркалом, задумчиво гляделась
в него, полностью растворялась в себе, уходя в подсознательной
необъяснимое самоощущение своего пола. Я не представлял себе,
чтобы женщина могла одеваться, болтая и смеясь; а если они
это делала, значит, ей недоставало таинственности и неизъис
— 4* 252 4* —
.шмон) очарования вечно ускользающей прелести. Я любил
। hi нс и плавные движения Пат, когда она стояла у зеркала;
» и.ос это было чудесное зрелище, когда она убирала свои воло-
• и или бережно и осторожно, как стрелу, подносила к бровям
» ।|'.ннаш. В такие минуты в ней было что-то от лани, и от гиб-
»• 'и пантеры, и даже от амазонки перед боем. Она переставала
• i\i<*‘ia । ь все вокруг себя, глаза на собранном и серьезном лине
ц"| оино и внимательно разглядывали отражение в зеркале,
• । "| ia она вплотную приближала к нему лицо, то казалось, что
• к । никакого отражения в зеркале, а есть две женщины, кото-
I’i.k- смело и йеныгующе смотрят друг другу в ыаза извечным
|“'чснимающим взглядом, идущим из сумерек действигсл ыю-
||| в шлекие тысячелетия прошлого.
Через открытое окно с кладбища доносилось свежее дыха-
ние вечера. Я сидел не шевелясь. Я не забыл ничего из моей
"• |речи с Жаффе, я помнил все точно; но, глядя на Пат, чув-
iit'.B.Li, как глухая печаль, плотно заполнившая меня, снова
и ' нова захлестывалась какой-то дикой надеждой, преобража-
ли, и смешивалась с ней, и одно превращалось в другое — печаль,
и । н а ia, ветер, вечер и красивая девушка среди сверкающих зер-
• । । и бра; и внезапно меня охватило странное ощущение, будто
"Mei и io это и есть жизнь, жизнь в самом глубоком смысле, а может
..... гаже и счастье: любовь, к которой примешалось столько
• к и, страха и молчаливого понимания.
XIX
Ч сюял около своего такси на стоянке. Подъехал Густав
" ирис।роился за мной.
Как поживает твой нес, Роберт?— спросил он.
Живет великолепно,— сказал я.
А 1ы?
Ч недовольно махнул рукой:
И я бы жил великолепно, если бы зарабат ывал побольше. За
। день две ездки по пятьдесят пфеннигов. Представляешь?
< >н кивнул.
С каждым днем все хуже. Все сганови тс я хуже. Что же будет
-1 lune?
А мне так нужно зарабатывать деньги!— сказал я.— Осо-
'••iiiiii iciiepb! Много денш !
I м । а в почесал подбородок.
Много денег! — Потом он посмотрел на меня.— Много
"• рь не заколотишь, Роберт. И думать об этом нечего. Разве
пня।ься спекуляцией. Не попробовать ли счастья на тота-
— 4* 253 4* —
лизаторе? Сегодня скачки. Как-то недавно я поставил на Аи.п
и выиграл двадцать восемь против одного.
— Мне не важно, как заработать. Лишь бы были шансы.
— А ты когда-нибудь играл?
— Нет.
— Тогда с твоей легкой руки дело пойдет.— Он носмотрп
на часы.— Пойдем? Как раз успеем.
— Ладно!— После истории с собакой я проникся к Густаю
большим доверием.
Бюро по заключению пари находилось в довольно большом
помещении. Справа был табачный киоск, слева тотализатор
Витрина пестрела зелеными и розовыми спортивными газетами
и объявлениями о скачках, отпечатанными на машинке. Вдо и.
одной стены тянулась стойка с письменными приборами
За слойкой орудовали трое мужчин. Они были необыкновенно
деятельны. Один орал что-то в телефон, другой метался Biai
и вперед с какими-то бумажками, третий, в ярко-фиолетовон
рубашке с закатанными рукавами и в котелке, сдвинутом далс
ко на затылок, стоял за стойкой и записывал ставки. В зубах он
перекатывал толстую, черную, изжеванную сигару «Бразил».
К моему удивлению, все здесь шло ходуном. Круюм сущи
лись «маленькие люди» — ремесленники, рабочие, мелкие чн
новники, было несколько проституток и cyieiiepOB. Едва мы нс
рестунили порог, как нас остановил кто-то в грязных серых
гамашах, сером котелке и обтрепанном сюртуке.
— Фон Билинг Moiy Носоветовать юсподам, на кого с и
вить. Полная трапгия!
— Па том свете будешь нам советовать,— ответил Гусын
Очутившись здесь, он совершенно преобразился.
— Только пятьдесят пфеннигов,— i iac 1 а и вал Билиш.— Личин
знаком с тренерами. Еще с прежних времен,— добавил он. ути
вив мой взгляд.
Густав погрузился в изучение списков лошадей.
— Когда выйдет бюллетень о бегах в Оiейле?— крикнул <»и
мужчинам за стойкой.
— В пять часов,— проквакал клерк.
— Филомена — классная кобыла.— бормотал Гусчав.— ()< и
бенно на крупной рыси.— Он вспотел от волнения.— Где си
дующие 6eia?— спросил он.
— В Xoiniei ар гене,— о i веч ил kio-io рядом.
Густав продолжал листать списки.
— Для начала поставим по две монсчы на Тристана. Он при
дет первым!
— 4» 254 4* —
— А ты что-нибудь смыслишь в этом?— спросил я.
— Что-нибудь?— удивился Густав.— Я знаю каждое конское
КОПЫТО.
— И ставите на Тристана?— удивился кто-то около нас.—
I шнственный шанс — это Прилежная Лизхен! Я лично знаком
• Джонни Бернсом.
- А я,— ответил Густав,— владелец конюшни, в которой на-
м> инея Прилежная Лизхен. Мне лучше знать.
()н сообщил наши ставки человеку за стойкой. Мы получили
мчпанции и прошли дальше, где стояло несколько столиков
н с।улья. Вокруг нас назывались всевозможные клички. Не-
сколько рабочих спорили о скаковых лошадях в Ницце, два
ни иовых чиновника изучали сообщения о погоде в Париже,
какой-то кучер хвастливо рассказывал о временах, когда он был
• иг щипком. За одним из столиков сидел толстый человек с во-
ин ами ежиком и уплетал одну булочку за другой. Он был безу-
i.ic юн ко всему. Двое других, прислонившись к стене, жадно
moi рели на нею. Каждый из них держал в руке но квитанции,
• и», |лядя на их осунувшиеся лица, можно было подумать, что
...не ели несколько дней.
1\чко зазвонил телефон. Все навострили уши. Клерк выкри-
• ина.1 клички лошадей. Тристана он не назвал.
Соломон пришел первым,— сказал Густав, наливаясь кра-
м>н.— Проклятье! И кто бы подумал? Уж не вы ли?— обрагил-
। он злобно к «Прилежной Лизхен».— Ведь это вы советовали
i.ii'ii । ь на всякую дрянь...
К нам подошел фон Билинг.
Послушались бы меня, господа... Я посоветовал бы вам
♦ н |.|вигь на Соломона! Только на Соломона! Хотите на следу-
•‘•1ПИИ заезд?..
I \ ciaB не слушал его. Он успокоился и завел с «Прилежной
1н 1\еп» профессиональный разговор.
Вы понимаете ч то-нибудь в лошадях?—спросил меня Билинг.
Ничего,— сказал я.
Гонга ставьте! Ставьте! По только сеюдня,— добавил он
• ши ом,— и больше никогда. Послушайте меня! Ставьте! Пе-
• » по. на кою — на Короля Лира, на Серебряную Моль, может
•«•и. на Синий Час. Я ничею не хочу заработать. Bwnrpaeie —
• • hi ic мне что-нибудь...— Он вошел в азарт, ею подбородок
-1 । .1 г
II..ре в покер я знал, что новички, как правило, вышрывают.
I.i ню,— сказал я.— Па кою?
I l.i кого хотите... На кою хотите.
— + 255 + —
— Синий Час звучит недурно,— сказал я.— Значит, десять
марок на Синий Час.
— Ты что, спятил?— спросил Густав.
— Нет,— сказал я.
— Десять марок на эту клячу, которую давно уже надо пус
тить на колбасу?
«Прилежная Лизхен», только что назвавший Густава живодс
ром, на сей раз энергично поддержал его:
— Вот еще выдумал! Ставить на Синий Час! Ведь это корова,
а не лошадь, уважаемый! Майский Сон обскачет ее на двух но*
гах! Без всяких! Вы ставите на первое место?
Билинг заклинающе посмотрел на меня и сделал мне знак.
— На первое,— сказал я.
— Ложись в гроб,— презрительно буркнул «Прилежная Ли г
хен».
— Чудак!— Густав тоже посмотрел на меня, словно я превра
тился в готтентота.— Ставить надо на Джипси II, это ясно
и младенцу.
— Остаюсь при своем. Ставлю на Синий Час,— сказал я. Те*
перь я уже не мог менять решение. Это было бы против всех
тайных законов счастливчиков-новичков.
Человек в фиолетовой рубашке протянул мне квитанцию. Густап
и «Прилежная Лизхен» смотрели на меня так, будто я заболел
бубонной чумой. Они демонстративно отошли от меня и про
тиснулись к стойке, где, осыпая друг друга насмешками, в кото
рых все же чувствовалось взаимное уважение специалистов, по
ставили на Джипси II и Майский Сон.
Вдруг кто-то упал. Это был один из двух тощих мужчин, сто
явших у столиков. Он соскользнул вдоль стены и тяжело рух
нул. Почтовые чиновники подняли его и усадили на стул. Его
лицо стало серо-белым. Рот был открыт.
— Господи Боже мой!— сказала одна из проституток, полная
брюнетка с гладко зачесанными волосами и низким лбом.—
Пусть кто-нибудь принесет стакан воды.
Человек потерял сознание, и я удивился, что это почти нико
го не встревожило. Большинство присутствующих, едва взгли
нув на него, тут же повернулись к тотализатору.
— Такое случается каждую минуту,— сказал Густав.— Бор
работные. Просаживают последние пфенниги. Поставят л#*
сять, хотят выиграть тысячу. Шальные деньги им подавай!
Кучер принес из табачного киоска стакан воды. Черноволо
сая проститутка смочила платочек и провела им по лбу и bhv
кам мужчины. Он вздохнул и неожиданно открыл глаза. В этом
— 4* 256 Ф —
"i.i io что-то жуткое: совершенно безжизненное лицо и эти ши-
роко открытые глаза,— казалось, сквозь прорези застывшей
черно-белой маски с холодным любопытством смотрит какое-то
i|»\। ое, неведомое существо.
Девушка взяла стакан и дала ему напиться. Она поддерживала
он рукой, как ребенка. Потом взяла булочку со стола флегма-
Н1ЧНОГО обжоры с волосами ежиком:
— На, поешь... только не спеши... не спеши... палец мне отку-
сишь... вот так, а теперь попей еще...
Человек за столом покосился вслед своей булочке, по ничего
не сказал. Мужчина постепенно пришел в себя. Лицо его поро-
«окело. Пожевав еще немного, он с трудом поднялся. Девушка
1ЮМО1 ла ему дойти до дверей. Затем быстро оглянулась и от-
h рыла сумочку:
— На, возьми... а теперь проваливай... тебе надо пожрать,
। не играть на скачках...
()дин из сутенеров, стоявший к ней спиной, повернулся. У него
нм io хищное птичье лицо и торчащие уши. Бросались в глаза
ыкпрованные туфли и спортивное кепи.
Сколько ты ему дала?— спросил он.
Десять пфеннигов.
Он ударил ее локтем в грудь:
Наверно, больше! В другой раз спросишь у меня.
Полегче, Эде,— сказал другой.
11роститутка достала помаду и принялась красить губы.
Но ведь я прав,— сказал Эде.
11роститутка промолчала.
Опять зазвонил телефон. Я наблюдал за Эде и не следил
m сообщениями.
— Вот это называется повезло!— раздался внезапно громо-
|н»н голос Густава.— Господа, это больше, чем везение, это ка-
► I I io сверхфантастика!— Он ударил меня но плечу.— Ты за-
• р.юасгал сто восемьдесят марок! Понимаешь, чудак ты этакий.
I ноя клячонка с этакой смешной кличкой всех обставила!
11ет, правда?— спросил я.
Че ловек в фиолетовой рубашке, с изжеванной бразильской
- hi эрой в зубах, скорчил кислую мину и взял мою квитанцию.
Кто вам посоветовал?
Я,— поспешно сказал Билинг с ужасно униженной выжи-
i iioiiieii улыбкой и, отвесив поклон, протиснулся ко мне.—
М е< ш позволите... мои связи...
11у, знаешь ли...— Шеф даже не посмотрел на него и вы-
ч hi । и л мне деньги. На минуту в помещении тотализатора воца-
— 4* 257 4* —
рилась полная тишина. Все смотрели на меня. Даже невозмути-
мый обжора и тот поднял голову.
Я спрятал деньги.
— Больше не ставьте!— шептал Билинг.— Больше не ставьте!—
Его лицо пошло красными пятнами. Я сунул ему десять марок.
Густав ухмыльнулся и шутливо ударил меня кулаком в грудь:
— Вот видишь, что я тебе сказал! Слушайся Густава и будешь
грести деньги лопатой!
Что же касается кобылы Джипси II, то я старался не напоминать
о ней бывшему ефрейтору санитарной службы. Видимо, она
и без того не выходила у него из головы.
— Давай пойдем,— сказал он,— для настоящих знатоков день
сегодня неподходящий.
У входа кто-то потянул меня за рукав. Это был «Прилежная
Лизхен».
— А на кого вы рекомендуете ставить на следующих скач-
ках?— спросил он почтительно и алчно.
— Только на Танненбаум,— сказал я и пошел с Густавом
в ближайший трактир, чтобы выпить за здоровье Синего Часа.
Через час у меня было на тридцать марок меньше. Не смог
удержаться. Но я все-таки вовремя остановился. Прощаясь, Би-
линг сунул мне какой-то листок:
— Если вам что-нибудь понадобится! Или вашим знакомым.
Я представитель прокатной конторы.— Это была реклама пор
нографических фильмов, демонстрируемых на дому.— Посред
ничество также при продаже поношенной одежды!— крикнул
он мне вслед.— За наличный расчет.
* * *
В семь часов я поехал обратно в мастерскую. «Карл» с реву-
щим мотором стоял во дворе.
— Хорошо, что ты пришел, Робби!— крикнул Кестер.— Мы
как раз собираемся испытать его! Садись!
Вся наша фирма была в полной готовности. Отто повозился
с «Карлом» и внес в него кое-какие улучшения и изменения,—
через две недели предстояли горные гонки. Теперь Кестер хотел
совершить первый испытательный пробег.
Мы сели. Юпп в своих огромных спортивных очках устроил
ся рядом с Кестером. У него был бы разрыв сердца, если бы мы
не взяли его с собой. Ленц и я сели сзади.
«Карл» рванулся с места и помчался. Мы выехали из городя
и шли со скоростью сто сорок километров. Ленц и я крепко ухнл
— + 258 + —
тились за спинки передних сидений. Ветер дул с такой силой,
что, казалось, оторвет нам головы.
По обе стороны шоссе мелькали тополя, баллоны свистели,
и чудесный рев мотора пронизывал нас насквозь как дикий
крик свободы. Через четверть часа мы увидели впереди черную
точку. Она быстро увеличивалась. Это была довольно тяжелая
машина, шедшая со скоростью восемьдесят — сто километров.
Не обладая хорошей устойчивостью, она вихляла из стороны
в сторону. Шоссе было довольно узким, и Кестеру пришлось
сбавить скорость. Когда мы подошли на сто метров и уже собра-
лись сигналить, мы вдруг заметили на боковой дороге справа
мотоциклиста, тут же скрывшегося за изгородью у перекрестка.
— Проклятье!— крикнул Ленц.— Сейчас будет дело!
В ту же секунду на шоссе впереди черной машины появился
мотоциклист. Он был метрах в двадцати от нее и, видимо, не-
верно оценив ее скорость, попытался прямо с поворота проско-
чить вперед. Машина взяла резко влево, но и мотоцикл подался
влево. Тогда машина круто метнулась вправо, задев мотоцикл
крылом. Мотоциклист перелетел через руль и плюхнулся
на шоссе. Машину стало заносить, водитель не мог совладать
с нею. Сорвав дорожный знак и потеряв фару, она с грохотом
врезалась в дерево.
Все произошло в несколько секунд. В следующее мгновение,
на большой еще скорости, подъехали мы. Заскрежетали балло-
ны. Кестер пустил «Карла», как коня, между помятым мотоцик-
лом и стоявшей боком, дымящейся машиной; он едва не задел
левым колесом руку лежавшего мотоциклиста, а правым — зад-
ний бампер черной машины. Затем взревел мотор, и «Карл»
снова вышел на прямую; взвизгнули тормоза, и все стихло.
— Чистая работа, Отто!— сказал Ленц.
Мы побежали назад и распахнули дверцы машины. Мотор
cine работал. Кестер резко выдернул ключ зажигания. Пыхте-
ние двигателя замерло, и мы услышали стоны.
Все стекла тяжелого лимузина разлетелись вдребезги. В полу-
мраке кузова мы увидели окровавленное лицо женщины. Рядом
с нею находился мужчина, зажатый между рулем и сиденьем.
( нерва мы осторожно вытащили женщину и положили ее
у обочины шоссе. Ее лицо было сплошь в порезах. В нем торча-
ю несколько осколков. Кровь лилась беспрерывно. В еще худ-
шем состоянии была правая рука. Рукав белого жакета стал яр-
ко-красным от крови. Ленц разрезал его. Кровь хлынула струей,
потом, сильно пульсируя, продолжала идти толчками. Сосуд
Пыл перерезан. Ленц скрутил жгутом носовой платок.
— + 259 Ф —
— Вытащите мужчину, с ней я сам справлюсь,— сказал он.—
Надо поскорей добраться до ближайшей больницы.
Чтобы освободить мужчину, нужно было отвинтить спинку
сиденья., К счастью, мы имели при себе необходимый инстру-
мент, и дело пошло довольно быстро. Мужчина истекал кровью.
Казалось, что у него сломано несколько ребер. Колено у него тоже
было повреждено. Когда мы стали его вытаскивать, он со стоном
упал нам на руки, но оказать ему помощь на месте мы не могли.
Кестер подал «Карла» задним ходом к месту аварии. Женщи-
на, видя его приближение, судорожно закричала от страха, хотя
«Карл» двигался со скоростью пешехода. Мы откинули спинку
одного из передних сидений и уложили мужчину. Женщину мы
усадили сзади. Я стал возле нее на подножку. Ленц пристроил-
ся на другой подножке и придерживал раненого.
— Юпп, останься здесь и следи за машиной,— сказал Ленц.
— А куда девался мотоциклист?— спросил я.
— Смылся, пока мы работали,— сказал Юпп.
Мы медленно двинулись вперед. Неподалеку от следующей
деревни находился небольшой дом. Проезжая мимо, мы часто
видели это низкое белое здание на холме. Насколько мы знали,
то была какая-то частная психиатрическая клиника для бога-
тых пациентов. Здесь не было тяжелобольных. Мы полагали,
что там, конечно, есть врач и перевязочная.
Мы въехали на холм и позвонили. Нам открыла очень хоро-
шенькая сестра. Увидев кровь, она побледнела и побежала об-
ратно. Вскоре появилась другая, намного старше первой.
— Сожалею,— сказала она сразу,— но мы не имеем возмож-
ности оказывать первую помощь при несчастных случаях. Вам
придется поехать в больницу имени Вирхова. Это недалеко.
— Почти час езды отсюда,— заметил Кестер.
Сестра недружелюбно посмотрела на него.
— Мы не приспособлены для оказания такой помощи. К тому
же здесь нет врача...
— Тогда вы нарушаете закон,— заявил Ленц.— Частные ле-
чебные учреждения вроде вашего обязаны иметь постоянного
врача. Не позволите ли вы мне воспользоваться телефоном?
Я хотел бы созвониться с полицией и редакцией газеты.
Сестра заколебалась.
— Думаю, вам незачем волноваться,— холодно заметил Кес-
тер.— Ваш труд будет, безусловно, хорошо оплачен. Прежде всего
нам нужны носилки. А врача вы, вероятно, сумеете разыскать.
Она все еще стояла в нерешительности.
— Ф 260 Ф —
— Согласно закону,— пояснил Ленц,— у вас должны быть
носилки, а также достаточное количество перевязочных мате-
риалов...
— Да, да,— ответила она поспешно, явно подавленная таким
детальным знанием законов.— Сейчас я пошлю кого-нибудь...
Она исчезла.
— Ну, знаете ли!— возмутился я.
— То же самое может произойти и в городской больнице,—
спокойно ответил Готтфрид.— Сначала деньги, затем всяче-
ский бюрократизм, и уже потом помощь.
Мы вернулись к машине и помогли женщине выйти. Она ни-
чего не говорила и только смотрела на свои руки. Мы достави-
ли ее в небольшое помещение на первом этаже. Потом нам да-
ли носилки для мужчины. Мы перенесли его к зданию клиники.
Он стонал.
— Одну минутку...— произнес он с трудом. Мы посмотрели
на него. Он закрыл глаза.— Я хотел бы, чтобы никто не узнал
об этом.
— Вы ни в чем не виноваты,— ответил Кестер.— Мы все ви-
дели и охотно будем вашими свидетелями.
— Не в этом дело,— сказал мужчина.— Я по другим причи-
нам не хочу, чтобы это стало известно. Вы понимаете?..— Он
посмотрел на дверь, через которую прошла женщина.
— Тогда вы в надежном месте,— заявил Ленц.— Это частная
клиника. Остается только убрать вашу машину, пока полиция
не обнаружила ее.
Мужчина привстал.
— Не смогли бы вы сделать и это для меня? Позвоните в ре-
монтную мастерскую и дайте мне, пожалуйста, ваш адрес! Я хо-
1сл бы... я вам так обязан...
Кестер сделал рукой отрицательный жест.
— Нет,— сказал мужчина,— я все-таки хочу знать ваш адрес.
— Все очень просто,— ответил ему Ленц.— Мы сами содер-
жим мастерскую и ремонтируем такие машины, как ваша. Если
ны согласны, мы можем ее немедленно отбуксировать и привести
и порядок. Этим мы поможем вам, а в известной мере и себе.
— Охотно соглашаюсь,— сказал мужчина.— Вот вам мой ад-
рес... я сам приеду за машиной, когда она будет готова, или при-
шлю кого-нибудь.
Кестер спрятал в карман визитную карточку, и мы внесли по-
< |радавшего в дом. Между тем появился врач, еще совсем мо-
лодой человек. Он смыл кровь с лица женщины. Мы увидели
пубокие порезы. Женщина привстала, опираясь на здоровую
— Ф 261 4* —
руку, и уставилась на сверкающую никелевую чашу, стоявшую
на перевязочном столе.
— О!— тихо произнесла она и с глазами, полными ужаса, от-
кинулась назад.
* * *
Мы поехали в деревню, разыскали местного кузнеца и попро-
сили у него стальной трос и приспособление для буксировки.
Мы предложили ему двадцать марок. Но кузнец был полон
недоверия и хотел увидеть машину лично. Мы повезли его к ме-
сту аварии.
Юпп стоял посредине шоссе и махал рукой. Но и без него мы
поняли, что случилось. У обочины мы увидели старый «мерсе-
дес» с высоким кузовом. Четверо мужчин собирались увезти
разбитую машину.
— Мы поспели как раз вовремя,— сказал Кестер.
— Это братья Фогт,— пояснил нам кузнец.— Опасная банда.
Живут вон там, напротив. Уж если на что наложили руку,—
не отдадут.
— Посмотрим,— сказал Кестер.
— Я им уже все объяснил, господин Кестер,— прошептал
Юпп.— Грязная конкуренция. Хотят ремонтировать машину
в своей мастерской.
-— Ладно, Юпп. Оставайся пока здесь.
Кестер подошел к самому высокому из четырех и заговорил
с ним. Он сказал ему, что машину должны забрать мы.
— Есть у тебя что-нибудь твердое при себе?— спросил я Ленца.
— Только связка ключей, она мне понадобится самому. Возь-
ми маленький гаечный ключ.
— Не стоит,— сказал я,— будут тяжелые повреждения. Жаль,
что на мне такие легкие туфли. Самое лучшее — бить ногами.
— Поможете нам?— спросил Ленц у кузнеца.— Тогда нас бу-
дет четверо против четверых.
— Что вы! Они завтра же разнесут мою кузню в щепы. Я со-
храняю строгий нейтралитет.
— Тоже верно,— сказал Готтфрид.
— Я буду драться,— заявил Юпп.
— Посмей только!— сказал я.— Следи, не появится ли кто.
Больше ничего.
Кузнец отошел от нас на некоторое расстояние, чтобы еще
нагляднее продемонстрировать свой строгий нейтралитет.
— Ф 262 Ф —
— Голову не морочь!— услышали мы голос самого большого
и । братьев.— Кто первый пришел, тот и дело делает!— орал он
па Кестера.— Все! А теперь сматывайтесь!
Кестер снова объяснил ему, что машина наша. Он предло-
жил Фогту съездить в санаторий и справиться. Тот презрительно
ухмыльнулся. Ленц и я подошли поближе.
— Вы что — тоже захотели попасть в больницу?— спросил Фогт.
Кестер ничего не ответил и подошел к автомобилю. Три ос-
।ильных Фогта насторожились. Теперь они стояли вплотную
друг к другу.
— Дай-ка сюда буксирный трос,— сказал Кестер.
— Полегче, парень!— угрожающе произнес старший Фогт.
Он был на голову выше Кестера.
— Очень сожалею,— сказал Кестер,— но машину мы увезем
г собой.
Заложив руки в карманы, Ленц и я подошли еще ближе. Кес-
icp нагнулся к машине. В ту же секунду Фогт ударом ноги от-
юлкнул его в сторону. Отто, ожидавший этого, мгновенно схва-
1ил Фогта за ноги и свалил на землю. Тотчас вскочив, Отто
ударил в живот второго Фогта, замахнувшегося было ручкой
домкрата. Тот покачнулся и тоже упал. В следующую секунду
Псиц и я бросились на двух остальных. Меня сразу ударили
и лицо. Удар был не страшен, но из носу пошла кровь, и мой от-
петный выпад оказался неудачным — кулак соскользнул с жир-
ного подбородка противника; тут же меня стукнули в глаз, да
• нк, что я повалился на Фогта, которого Отто сбил ударом в жи-
HOI . Сбросив меня, Фогт вцепился мне в горло и прижал к ас-
фальту. Я напряг шею, чтобы он не мог меня душить, и пытал-
ся вывернуться, оторваться от него, тогда я мог бы оттолкнуть
иди ударить его ногами в живот. Но Ленц и его Фогт лежали
на моих ногах, и я был скован. Хоть я и напрягал шею, дышать
мне было трудно,— воздух плохо проходил через кровоточа-
щий нос. Постепенно все вокруг начало расплываться, лицо
Фогга дрожало перед моими глазами, как желе, в голове за-
мелькали черные тени. Я терял сознание. И вдруг я заметил ря-
дом Юппа; он стоял на коленях в кювете, спокойно и внима-
icjn.no наблюдая за моими судорогами. Воспользовавшись
мпкой-то секундой, когда я и мой противник замерли, он ударил
Фогга молотком по запястью. При втором ударе Фогт отпустил
меня и, охваченный бешенством, не вставая, попробовал до-
viiiTb Юппа рукой, но тот отскочил на пол метра и с тем же не-
мо 1мутимым видом нанес ему третий, увесистый удар по паль-
|1«м, а потом еще один по голове. Я приподнялся, навалился
— Ф 263 Ф —
на Фогта и, в свою очередь, стал душить его. В эту минуту раз-
дался звериный вопль и затем жалобный стон: «Пусти! Пусти!».
Это был старший Фогт. Кестер оттянул ему руку за спину, скру-
тил и резко дернул ее вверх. Фогт опрокинулся лицом на землю.
Кестер, придавив спину врага коленом, продолжал выкручи-
вать ему руку. Одновременно он придвигал колено ближе к за-
тылку. Фогт орал благим матом, но Кестер знал, что его надо
разделать под орех, иначе не утихомирится! Одним рывком он
вывихнул ему руку и только тогда отпустил его. Я осмотрелся.
Кто-то из братьев еще держался на ногах, но крики старшего
буквально парализовали его.
— Убирайтесь, а то все начнется сначала,— сказал ему Кестер.
На прощанье я еще разок стукнул своего Фогта головой
о мостовую и отошел. Ленц уже стоял около Кестера. Его пид-
жак был разорван. Из уголка рта текла кровь. Исход боя был
еще неясен, потому что противник Ленца хотя и был избит
в кровь, но готов был снова ринуться в драку. Решающим все же
оказалось поражение старшего брата. Убедившись в этом, трое
остальных словно оцепенели. Они помогли старшему поднять-
ся и пошли к своей машине. Уцелевший Фогт подошел к нам
и взял свой домкрат. Он покосился на Кестера, словно тот был
дьяволом во плоти. Затем «мерседес» затрещал и уехал.
Откуда-то опять появился кузнец.
— Это они запомнят,— сказал он.— Давно с ними такого
не случалось. Старший однажды уже сидел за убийство.
Никто ему не ответил. Кестер вдруг весь передернулся.
— Какое свинство,— сказал он. Потом повернулся.— Ну, да-
вайте.
— Я здесь,— откликнулся Юпп, подтаскивая буксирный трос.
— Подойди-ка сюда,— сказал я.— С сегодняшнего дня ты
унтер-офицер. Можешь начать курить сигары.
* * *
Мы подняли переднюю ось машины и укрепили ее тросами
сзади, на кузове «Карла».
— Думаешь, это ему не повредит?— спросил я Кестера.—
Наш «Карл» в конце концов скакун чистых кровей, а не вьюч-
ный осел.
Он покачал головой.
— Тут недалеко, да и дорога ровная.
Ленц сел в поврежденную машину, и мы медленно поехали.
Я прижимал платок к носу и смотрел на солнце, садившееся
за вечереющими полями. В них был огромный, ничем не колеб-
— Ф 264 + —
лемый покой, и чувствовалось, что равнодушной природе без-
различно, как ведет себя на этой земле злобный муравьиный
рой, именуемый человечеством. Было гораздо важнее, что тучи
теперь постепенно преобразились в золотые горы, что бесшум-
но надвигались с горизонта фиолетовые тени сумерек, что жа-
воронки прилетели из бескрайнего небесного простора на поля,
н свои борозды, и что постепенно опускалась ночь.
Мы въехали во двор мастерской. Ленц выбрался из разбитой
машины и торжественно снял перед ней шляпу.
— Привет тебе, благословенная! Печальный случай привел
тебя сюда, но я гляжу на тебя влюбленными глазами и полагай),
что, даже по самым скромным подсчетам, ты принесешь нам при-
мерно три, а то и три с половиной тысячи марок. А теперь дайте
мне большой стакан вишневой настойки и кусок мыла — я дол-
жен избавиться от следов, оставленных на мне семейством Фогт!
Мы выпили по стакану вишневки и сразу же приступили
к основательной разборке поломанной машины. Не всегда бы-
вало достаточно получить заказ на ремонт от владельца маши-
ны: представители страховых компаний нередко требовали пе-
редать заказ в одну из мастерских, с которыми у них были
контракты. Поэтому мы всегда старались быстрее * браться
in ремонт. Чем больше мы успевали сделать до прихода страхо-
вого агента, тем лучше было для нас: наши расходы по ремонту
оказывались настолько большими, что компания уже считала
невыгодным для себя передавать машину в другую мастерскую.
Мы бросили работу, когда стемнело.
— Ты еще выедешь сегодня на такси?— спросил я Ленца.
— Исключается,— ответил Готтфрид.— Ни в коем случае
нельзя стремиться к чрезмерным заработкам. Хватит с меня се-
юдняиэтого.
— Ас меня не хватит,— сказал я.— Если ты не едешь, то поеду
и. 11оработаю с одиннадцати до двух около ночных ресторанов.
— Брось ты это,— улыбнулся Готтфрид.— Лучше поглядись
в 1еркало. Что-то не везет тебе в последнее время с носом. Ни
один пассажир не сядет к шоферу с этакой свеклой на лице.
11ойди домой и приложи компресс.
Он был прав. С таким носом действительно нельзя было
ехать. Поэтому я вскоре простился и направился домой. По до-
роге я встретил Хассе и прошел с ним остаток пути. Он как-то
потускнел и выглядел совсем несчастным.
— Вы похудели,— сказал я.
Он кивнул и сказал, что теперь часто не ужинает. Его жена
почти ежедневно бывает у каких-то старых знакомых и очень
— Ф 265 Ф —
поздно возвращается домой. Он рад, что она нашла себе раз-
влечение, но после работы ему не хочется самому готовить еду.
Он, собственно, и не бывает особенно голодным — слишком уста-
ет. Я покосился на его опущенные плечи. Может быть, он в са-
мом деле верил в то, о чем рассказывал, но слушать его было
очень тяжело. Его брак, вся эта хрупкая, скромная жизнь рух-
нула: не было мало-мальской уверенности в завтрашнем дне,
недоставало каких-то жалких грошей. Я подумал, что есть мил-
лионы таких людей, и вечно им недостает немного уверенности
и денег. Жизнь чудовищно измельчала. Она свелась к одной
только мучительной борьбе за убогое, голое существование.
Я вспомнил о драке, которая произошла сегодня, думал о том,
что видел в последние недели, обо всем, что уже сделал... А по-
том я подумал о Пат и вдруг почувствовал, что из всего этого
ничего не выйдет. Я чересчур размахнулся, а жизнь стала слиш-
ком пакостной для счастья, оно не могло длиться, в него боль-
ше не верилось... Это была только передышка, но не приход
в надежную гавань.
Мы поднялись по лестнице и открыли дверь. В передней
Хассе остановился.
— Значит, до свидания...
— Поешьте что-нибудь,— сказал я.
Покачав головой, он виновато улыбнулся и пошел в свою пустую,
темную комнату. Я посмотрел ему вслед. Затем зашагал
по длинной кишке коридора. Вдруг я услышал тихое пение, оста-
новился и прислушался. Это не был патефон Эрны Бениг, как
мне показалось сначала, это был голос Пат. Она была одна
в своей комнате и пела. Я посмотрел на дверь, за которой
скрылся Хассе, затем снова подался вперед и продолжал слу-
шать. Вдруг я сжал кулаки. Проклятье! Пусть все это тысячу
раз только передышка, а не тихая гавань, пусть это тысячу раз
невероятно. Но ведь именно поэтому счастье снова и снова так
ошеломляет, опрокидывает, бьет через край...
* * *
Пат не слышала, как я вошел. Она сидела на полу перед зер-
калом и примеряла шляпку — маленький черный ток. На ковре
стояла лампа. Комната была полна теплым, коричневато-золо-
тистым сумеречным светом, и только лицо Пат было ярко осве-
щено. Она придвинула к себе стул, с которого свисал шелковый
лоскуток. На сиденье стула поблескивали ножницы.
Я замер в дверях и смотрел, как серьезно она мастерила свой
ток. Она любила располагаться на полу, и несколько раз, при-
— + 266 + —
«Три товарища»
ходя вечером домой, я заставал ее заснувшей с книгой в руках
где-нибудь в уголке, рядом с собакой.
И теперь собака лежала около нее и тихонько заворчала. Пат
подняла глаза и увидела меня в зеркале. Она улыбнулась, и мне
показалось, что весь мир стал светлее. Я прошел в комнату,
опустился за ее спиной на колени и — после всей грязи этого
дня — прижался губами к ее теплому, мягкому затылку.
Она подняла ток.
— Я переделала его, милый. Нравится тебе так?
— Совершенно изумительная шляпка,— сказал я.
— Но ведь ты даже не смотришь! Сзади я срезала поля, а спе-
реди загнула их кверху.
— Я прекрасно все вижу,— сказал я, зарывшись лицом в ее
волосы.— Шляпка такая, что парижские модельеры побледне-
ли бы от зависти, увидев ее.
— Робби!— Смеясь, она.оттолкнула меня.— Ты в этом ничего
не смыслишь. Ты вообще когда-нибудь замечаешь, как я одета?
— Я замечаю каждую мелочь,— заявил я и подсел к ней сов-
сем близко, правда, стараясь прятать свой разбитый нос в тени.
— Вот как? А какое платье было на мне вчера вечером?
— Вчера?— Я попытался вспомнить, но не мог.
— Я так и думала, дорогой мой! Ты ведь вообще почти ниче-
го обо мне не знаешь.
— Верно,— сказал я,— но в этом и состоит вся прелесть. Чем
больше люди знают друг о друге, тем больше у них получается
недоразумений. И чем ближе они сходятся, тем более чужими
становятся. Вот возьми Хассе и его жену: они знают друг о дру-
ге все, а отвращения между ними больше, чем между врагами.
Она надела маленький черный ток, примеряя его перед зер-
калом.
— Робби, то, что ты говоришь, верно только наполовину.
— Так обстоит дело со всеми истинами,— возразил я.—
Дальше полуправд нам идти не дано. На то мы и люди. Зная одни
только полуправды, мы и то творим немало глупостей. А уж если
бы знали всю правду целиком, то вообще не могли бы жить.
Она сняла ток и отложила его в сторону. Потом повернулась
и увидела мой нос.
— Что такое?— испуганно спросила она.
— Ничего страшного. Он только выглядит так. Работал под
машиной, и что-то свалилось мне прямо на нос.
Она недоверчиво посмотрела на меня.
— + 268 + —
— Кто тебя знает, где ты опять был! Ты ведь мне никогда ни
<» чем не рассказываешь. Я знаю о тебе так же мало, как и ты
<•(><> мне.
— Это к лучшему,— сказал я.
Она принесла тазик с водой и полотенце и сделала мне ком-
пресс. Потом еще раз осмотрела мое лицо.
- Похоже на удар. И шея исцарапана. Милый, с тобою, ко-
нечно, случилось какое-то приключение.
— Сегодня самое большое приключение для меня еще впере-
III,— сказал я.
Она изумленно посмотрела на меня.
— Так поздно, Робби? Что ты еще надумал?
— Остаюсь здесь!— сказал я, сбросил компресс и обнял ее.—
Я остаюсь на весь вечер здесь, вдвоем с тобой.
XX
Август был теплым и ясным, и в сентябре погода оставалась
шипи летней. Но в конце месяца начались дожди, над городом
непрерывно висели низкие тучи, с крыш капало, задули резкие
• н синие ветры, и однажды ранним воскресным утром, встав
» постели и подойдя к окну, я увидел, что листва на кладбищен-
• ких деревьях пожелтела и появились первые обнаженные ветви.
Я немного постоял у окна. В последние месяцы, с тех пор как
мы возвратились из поездки к морю, я находился в довольно
< । ранном состоянии: все время, в любую минуту я думал о том,
ио осенью Пат должна уехать, но я думал об этом так, как мы
ц маем о многих вещах,— о том, что годы уходят, что мы старе-
• м и что нельзя жить вечно. Повседневные дела оказывались
• и n.iiee, они вытесняли все мысли, и, пока Пат была рядом, по-
*.i к’ревья еще были покрыты густой зеленой листвой, такие
• юна, как осень, отъезд и разлука, тревожили не больше, чем
<• ic ।иые тени на горизонте, и заставляли меня еще острее чув-
• । пивать счастье близости, счастье все еще продолжающейся
♦ и ши вдвоем.
Я смотрел на кладбище, мокнущее под дождем, на могиль-
ные плиты, покрытые грязноватыми коричневыми листьями.
I ум.in, это бледное животное, высосал за ночь зеленый сок
и* шетьев. Теперь они свисали с ветвей, поблекшие и обесси-
иные, каждый порыв ветра срывал все новые и новые, гоня их
н< ре । собой,— и как острую, режущую боль я вдруг впервые
почувствовал, что разлука близка, что вскоре она станет реаль-
••••II. 1акой же реальной, как осень, прокравшаяся сквозь кроны
н’Р<чи»ев и оставившая на них свои желтые следы.
— Ф 269 Ф —
В смежной комнате все еще спала Пат. Я подошел к двери
и прислушался. Она спала спокойно, не кашляла. На минуту
меня охватила радостная надежда, я представил себе: сегодня
или завтра позвонит Жаффе и скажет, что ей не надо уезжать;
но потом вспомнились ночи, когда я слышал ее тихое свистя-
щее дыхание, приглушенный хрип, то мерно возникавший,
то исчезавший, как звук далекой тонкой пилы,— и надежда по-
гасла так же быстро, как и вспыхнула.
Я вернулся к окну и снова стал смотреть на дождь. Потом
присел к письменному столу и принялся считать деньги. Я при-
кидывал, на сколько их хватит для Пат, окончательно расстро-
ился и спрятал кредитки.
Я посмотрел на часы. Было около семи. До пробуждения Пат
оставалось еще по крайней мере два часа. Я быстро оделся, что-
бы успеть еще немного поездить. Это было лучше, чем торчать
в комнате наедине со своими мыслями.
Я пошел в мастерскую, сел в такси и медленно поехал по ули-
цам. Прохожих было немного. В рабочих районах тянулись
длинные ряды доходных домов-казарм. Неприютные и забро-
шенные, они стояли под дождем, как старые скорбные прости-
тутки. Штукатурка на грязных фасадах обвалилась, в сером ут-
реннем свете безрадостно поблескивали мутные стекла окон,
а стены зияли множеством желтовато-серых дыр, словно изъе-
денные язвами.
Я пересек старую часть города и подъехал к собору. Остано-
вив машину у заднего входа, я вышел. Сквозь тяжелую дубовую
дверь приглушенно доносились звуки органа. Служили утрен
нюю мессу, и по мелодии я понял, что началось освящение свя
тых даров; до конца богослужения оставалось не менее двадца
ти минут.
Я вошел в сад. Он тонул в сероватом свете. Розы еще цвели,
с кустов стекали капли дождя. Мой дождевик был довольно
просторен, и я мог удобно прятать под ним срезанные ветки,
Несмотря на воскресный день, в саду было безлюдно, и я бес
препятственно отнес в машину охапку роз, затем вернулся
за второй. Когда она уже была под плащом, я услышал чьи-то
шаги. Крепко прижимая к себе букет, я остановился перед од
ним из барельефов крестного пути и сделал вид, что молюсь.
Человек приблизился, но не прошел мимо, а остановился
Почувствовав легкую испарину, я углубился в созерцание барс-
льефа, перекрестился и медленно перешел к другому изображу
нию, чуть поодаль от галереи. Шаги последовали за мной
— Ф 270 Ф —
и вновь замерли. Я не знал, что делать. Сразу идти дальше
и не мог. Надо было остаться на месте хотя бы столько, сколько
нужно, чтобы повторить десять раз «Аве Мария» и один раз
Отче наш», иначе я бы выдал себя. Поэтому я не двигался, но,
желая понять, в чем дело, осторожно посмотрел в сторону с вы-
ражением благородного недоумения, словно было оскорблено
мое религиозное чувство.
Я увидел приветливое круглое лицо священника и облегченно
в похпул. Зная, что он не помешает мне молиться, я уже считал
себя спасенным, но гут я заметил, что стою перед последним
налом крестного пути. Как бы медленно я ни молился, через
несколько минут все должно было кончиться. Этого он, видимо,
и ждал. Затягивать дело было бесцельно. Поэтому, напустив
на себя безучастный вид, я медленно направился к выходу.
— Доброе утро,— сказал священник.— Хвала Иисусу Христу.
— Во веки веков аминь!— ответил я. Таково было церковное
приветствие католиков.
— Редко кого увидишь здесь так рано,— сказал он приветли-
во, посмотрев на меня детскими голубыми глазами.
Я что-то пробормотал.
— К сожалению, это стало редкостью,— продолжал он оза-
боченно.— А мужчин, молящихся у крестного пути, вообще
почти никогда не видно. Вот почему я так обрадовался и заго-
ворил с вами. У вас, конечно, какая-нибудь особая просьба
к Богу, если вы пришли так рано да еще в такую погоду...
«Да, чтобы ты поскорее шел отсюда»,— подумал я и с облег-
чением кивнул головой. Он, видимо, не заметил, что у меня под
плащом цветы. Теперь нужно было поскорее избавиться от не-
1о, не возбуждая подозрений. Он снова улыбнулся мне.
— Я собираюсь служить мессу и включу в свою молитву и вашу
просьбу.
— Благодарю вас,— сказал я изумленно и растерянно.
— За упокой души усопшей?— спросил он.
На мгновение я пристально уставился на него и почувствовал,
по букет выскользает у меня.
Нет,— поспешно сказал я, крепче прижимая руку к плащу.
I>с влобно и внимательно смотрел он на меня ясными глазами.
I Io-видимому, он ждал, что я объясню ему суть моей просьбы
► Ь<>i у. Но в эту минуту ничего путного не пришло мне в голо-
да к тому же мне и не хотелось врать ему больше, чем это
'•hi io необходимо. Поэтому я молчал.
Значит, я буду молиться о помощи неизвестному, попав-
uhmv в беду,— сказал он наконец.
— Ф 271 Ф —
— Да. Я очень вам благодарен.
Он улыбнулся и махнул рукой.
— Не надо благодарить. Все в руках Божьих.— Он смотрел
на меня еще с минуту, чуть вытянув шею и наклонив голову
вперед, и мне показалось, будто его лицо дрогнуло.— Главное,
верьте,— сказал он.— Небесный Отец помогает. Он помогает
всегда, даже если иной раз мы и не понимаем этого.— Потом он
кивнул мне и пошел.
Я смотрел ему вслед, пока за ним не захлопнулась дверь.
«Да,— подумал я,— если бы все это было так просто! Он помо-
гает, он всегда помогает! Но помог ли он Бернарду Визе, когда
тот лежал в Гоутхолстерском лесу с простреленным животом
и кричал, помог ли Катчинскому, павшему под Гандзееме, оста-
вив больную жену и ребенка, которого он так и не увидел, по-
мог ли Мюллеру, и Лееру, и Кеммериху, помог ли маленькому
Фридману, и Юргенсу, и Бергеру, и миллионам других? Про-
клятье! Слишком много крови было пролито на этой земле, чтобы
можно было сохранить веру в Небесного Отца!»
♦ ♦ *
Я привез цветы домой, потом пригнал машину в мастерскую
и пошел обратно. Из кухни доносился аромат только что сва-
ренного кофе и слышалась возня Фриды. Как ни странно, но
от запаха кофе я повеселел. Еще со времен войны я знал: важ-
ное, значительное не может успокоить нас... Утешает всегда ме-
лочь, пустяк...
Едва за мной щелкнул замок входной двери, как в коридор
выскочил Хассе с желтым опухшим лицом и красными утом-
ленными глазами. Мне показалось, что он спал не раздеваясь.
Когда он увидел, что это я, на его лице появилось выражение
беспредельного разочарования.
— Ах, это вы...— пробормотал он.
Я удивленно посмотрел на него.
— Разве вы ждали так рано кого-нибудь?
— Да,— сказал он тихо.— Мою жену. Она еще не пришли,
Вы не видели ее?
Я покачал головой.
— Я ушел час назад.
Он кивнул.
— Нет, я только подумал... ведь могло случиться, что вы ее
видели.
Я пожал плечами.
— Вероятно, она придет позже. Вы ей не звонили?
— Ф 272 Ф —
Он посмотрел на меня с какой-то робостью.
— Вчера вечером она ушла к своим знакомым. Не знаю точно,
। ie они живут.
— А вы знаете их фамилию? Тогда можно справиться по теле-
фону.
— Я уже пробовал. В справочном бюро такой фамилии
нс знают.— Он посмотрел на меня, как побитая собака.— Она
творила о них всегда так таинственно, а стоило мне спросить,
как она начинала злиться. Я и перестал. Я был рад, что ей есть
куда пойти. Она всегда говорила, что я хочу лишить ее даже та-
кой маленькой радости.
— Может быть, она еще придет,— сказал я.— Я даже уверен,
11 о она скоро придет. А вы не позвонили на всякий случай в «ско-
р\ ю помощь» и в полицию?
— Повсюду звонил. Нигде ничего не знают.
— Ну что ж,— сказал я,— тогда тем более не надо волноваться.
Может быть, вчера вечером она плохо себя почувствовала и оста-
юсь ночевать. Ведь такие вещи часто случаются. Через час-
। р\ । ой она, вероятно, будет здесь.
— Вы думаете?
Отворилась дверь кухни, и оттуда вышла Фрида с подносом
к руках.
— Для кого это?— спросил я.
— Для фрейлейн Хольман,— ответила она, раздражаясь от од-
ного моего вида.
— Разве она уже встала?
— Надо думать, встала,— ответила Фрида, уже готовая сце-
питься со мной,— иначе она, наверное, не позвонила бы мне.
— Благослови вас Господь, Фрида,— сказал я.— По утрам вы
иной раз просто обаятельны! Не могли ли бы вы заставить себя
приготовить кофе и для меня?
Она что-то промычала и пошла по коридору, презрительно
исртя задом. Это она умела. Никогда еще я не видел женщину,
которая делала бы это так выразительно.
Хассе стоял и ждал. Мне вдруг стало стыдно, когда, обернув-
шись, я увидел его рядом, такого тихого и покорного.
— Через час или два вы успокоитесь,— сказал я и протянул
«•му руку, но он не взял ее, а только странно посмотрел на меня.
— Мы не могли бы ее поискать?— спросил он тихо.
Но вы же не знаете, где она.
А может быть, все-таки стоит ее поискать,— повторил
••II Вот если бы взять вашу машину... Я, конечно, заплачу,—
|.и । ро добавил он.
— Ф 273 Ф —
— Не в этом дело,— ответил я.— Просто это совершенно бес-
цельно. Куда мы, собственно, поедем? К тому же в такое время
едва ли она будет на улице.
— Не знаю,— сказал он все так же тихо.— Я только думаю,
что стоило бы ее поискать.
Пришла Фрида с пустым подносом.
— Мне нужно идти,— сказал я,— и мне кажется, что вы зря
волнуетесь. Я, конечно, охотно оказал бы вам такую услугу,
но фрейлейн Хольман должна скоро уехать, и мне хотелось бы
побыть с ней сегодня. Возможно, это ее последнее воскресенье
здесь. Вы меня, конечно, понимаете.
Он кивнул.
Я жалел его, но мне не терпелось пойти к Пат.
— Если вам все-таки хочется немедленно поехать, возьмите
любое такси,— продолжал я,— но не советую. Лучше подождите
еще немного, тогда я позвоню моему другу Ленцу, и он поедет
с вами на поиски.
Мне казалось, что он совсем не слушает меня.
— Вы не видели ее сегодня утром?— вдруг спросил он.
— Нет,— ответил я удивленно.— Иначе я бы уже давно сказал
вам об этом.
Он снова кивнул и с совершенно отсутствующим видом,
не проронив больше ни слова, ушел в свою комнату.
* ♦ *
Пат успела зайти ко мне и нашла розы. Когда я вошел в ее
комнату, она рассмеялась.
— Робби,— сказала она,— я все-таки довольно наивна. Только
от Фриды я узнала, что свежие розы в воскресенье, да еще
в этакую рань, несомненно, пахнут воровством. Вдобавок она
мне сказала, что этот сорт не найти ни в одном из ближайших
цветочных магазинов.
— Думай, что хочешь,— ответил я.— Главное, что они до-
ставляют тебе радость.
— Теперь еще большую, чем когда-либо, милый. Ведь ты до-
был их, подвергая себя опасности!
— Да еще какой опасности!— Я вспомнил священника.— Но
почему ты так рано поднялась?
— Не могла больше спать. Кроме того, я видела сон. Ничего
хорошего.
Я внимательно посмотрел на нее. Она выглядела утомлен-
ной, под глазами выделялись синие круги.
— + 274 + —
— С каких пор ты видишь плохие сны?— спросил я.— До сих
пор я считал это своей специальностью.
Она покачала головой.
— Ты заметил, что на дворе уже осень?
— У нас это называется бабьим летом,— возразил я.— Ведь
еще цветут розы. Просто идет дождь — вот все, что я вижу.
— Идет дождь. Слишком долго он идет, любимый. Иногда
по ночам, когда я просыпаюсь, мне кажется, что я похоронена
под этим нескончаемым дождем.
— По ночам ты должна приходить ко мне,— заявил я.— Тогда
у тебя не будет таких мыслей. Наоборот, так хорошо быть вместе,
когда темно и за окном дождь.
— Может быть,— тихо сказала она и прижалась ко мне.
— Я, например, очень люблю, когда в воскресенье идет
дождь,— сказал я.— Как-то больше чувствуешь уют. Мы вместе,
у нас теплая, красивая комната, и впереди свободный день,—
по-моему, это очень много.
Ее лицо просветлело.
— Да, нам хорошо, правда?
— По-моему, нам чудесно. Вспоминаю о том, что было раньше.
Господи! Никогда бы не подумал, что мне еще будет так хорошо.
— Как приятно, когда ты так говоришь. Я сразу всему верю.
Говори так почаще.
— Разве я не часто говорю с тобой так?
— Нет.
— Может быть,— сказал я.— Мне кажется, что я недостаточно
нежен. Не знаю почему, но я просто не умею быть нежным.
А мне бы очень хотелось...
— Тебе это не нужно, милый, я и так понимаю тебя. Но ино-
гда все-таки хочется слышать такие слова.
— С сегодняшнего дня я их стану говорить всегда. Даже если
самому себе буду казаться глупым.
— Ну уж и глупым!— ответила она.— В любви не бывает глу-
постей.
— Слава Богу, нет,— сказал я.— А то просто страшно поду-
мать, во что можно было бы превратиться.
Мы позавтракали, потом Пат снова легла в постель. Так
предписал Жаффе.
— Ты останешься?— спросила она, уже укрывшись одеялом.
— Если хочешь,— сказал я.
— Я бы хотела, но это не обязательно...
Я сел у ее кровати.
— 4* 275 + —
— Ты меня не поняла. Я просто вспомнил: раньше ты не лю-
била, чтобы на тебя смотрели, когда ты спишь.
— Раньше — да... но теперь я иногда боюсь... оставаться одна...
— И со мной это бывало,— сказал я.— В госпитале, после
операции. Тогда я все боялся уснуть ночью. Все время бодр-
ствовал и читал или думал о чем-нибудь и только на рассвете за-
сыпал... Это пройдет.
Она прижалась щекой к моей руке.
— И все-таки страшно, Робби, боишься, что уже не вернешься...
— Да,— сказал я.— А потом возвращаешься, и все проходит.
Ты это видишь по мне. Всегда возвращаешься, хотя не всякий раз
на то же место.
— В том-то и дело,— ответила она, закрывая глаза.— Этого
я тоже боюсь. Но ведь ты следишь за мной, правда?
— Слежу,— сказал я и провел рукой по ее лбу и волосам, ко-
торые тоже казались мне усталыми.
Она стала дышать глубже и слегка повернулась на бок. Через
минуту она крепко спала.
Я опять уселся у окна и смотрел на дождь. Это был сплош-
ной серый ливень, и наш дом казался островком в его мутной
бесконечности. Я был встревожен. Редко случалось, чтобы с ут-
ра Пат была печальна. Еще на днях она была оживленной и ра-
достной, и когда проснется, может быть, все будет по-другому.
Я знал — она много думает о своей болезни, ее состояние еще
не улучшилось — это мне сказал Жаффе; но на своем веку
я перевидал столько мертвых, что любая болезнь была для меня
все-таки жизнью и надеждой; я знал — можно умереть от ране-
ния, этого я насмотрелся, но мне всегда трудно было поверить,
что болезнь, при которой человек с виду здоров, может оказать-
ся опасной. Вот почему, глядя на Пат, я всегда быстро преодо-
левал тревогу и растерянность.
* * ♦
В дверь постучали. У порога стоял Хассе. Приложив палец
к губам, я тихонько вышел в коридор.
— Простите меня,— с трудом вымолвил он.
— Зайдемте ко мне,— предложил я и отворил дверь своей
комнаты.
Хассе остался в коридоре. Казалось, что его лицо стало меньше.
Оно было белым как мел.
— Я только хотел вам сказать, что нам уже незачем ехать,—
проговорил он, почти не шевеля губами.
— 4* 276 Ф —
— Вы можете войти ко мне — фрейлейн Хольман спит, у ме-
ня есть время,— снова предложил я.
В руке у него было письмо. Он выглядел как человек, в кото-
рого только что выстрелили, но он еще не верит этому и не чув-
С1вует боли, он ощутил пока только толчок.
— Лучше прочитайте сами,— сказал он и дал мне письмо.
— Вы уже пили кофе?— спросил я.
Он покачал головой.
— Читайте письмо...
— Да, а вы пока выпейте кофе...
Я вышел и попросил Фриду принести кофе. Потом я прочи-
।ал письмо. Оно было от фрау Хассе — всего несколько строк.
()на сообщала, что хочет получить еще кое-что от жизни, и по-
ному решила не возвращаться к нему. Есть человек, понимаю-
щий ее лучше, чем Хассе. Предпринимать что-либо бесцельно,
опа ни в коем случае не вернется. Так будет, вероятно, лучше
и для него. Ему больше не придется тревожиться, хватит или
не хватит жалованья. Часть своих вещей она уже взяла; за осталь-
ными пришлет кого-нибудь при случае.
Это было деловое и ясное письмо. Я сложил его и вернул
Хассе. Он смотрел на меня так, словно все зависело от меня.
— Что же делать?— спросил он.
— Сперва выпейте эту чашку кофе и съешьте что-нибудь,—
< казал я.— Не стоит суетиться без толку и терять голову. А по-
1ом подумаем. Вам надо постараться успокоиться, и тогда вы
примете лучшее решение.
Он послушно выпил кофе. Его рука дрожала, и он не мог есть.
— Что же делать?— опять спросил он.
— Ничего,— сказал я.— Ждать.
Он сделал неопределенное движение.
— А что бы вы хотели сделать?— спросил я.
— Не знаю. Не могу этого понять.
Я молчал. Было трудно сказать ему что-нибудь. Его можно
было только успокоить, остальное он должен был решить сам.
Мне думалось, что он больше не любит эту женщину; но он при-
вык к ней, а для бухгалтера привычка могла быть сильнее любви.
Через некоторое время он заговорил, сбивчиво и путано,
чувствовалось, что он окончательно потерял всякую опору. По-
|(>м он стал осыпать себя упреками. Он не сказал ни слова
и укор своей жене и только пытался внушить себе, будто сам ви-
новат во всем.
— Ф 277 4* —
— Хассе,— сказал я,— все, что вы говорите,— чушь. В этих
делах никогда не бывает виновных. Жена ушла от вас, а не вы
от нее. Вам не в чем упрекать себя.
— Нет, я виноват,— ответил он и посмотрел на свои руки.—
Я ничего не добился в жизни!
— Чего вы не добились?
— Ничего. А раз не добился, значит, виноват.
Я удивленно посмотрел на маленькую жалкую фигурку
в красном плюшевом кресле.
— Господин Хассе,— сказал я спокойно,— это может быть
в крайнем случае причиной, но не виной. Кроме того, вы все-таки
кое-чего добились.
Он резко покачал головой.
— Нет, нет, это я довел ее до безумия своей вечной боязнью
увольнения. Ничего я не добился! Что я мог ей предложить?
Ничего...
Он впал в тупое раздумье. Я поднялся и достал коньяк.
— Выпьем немного,— сказал я.— Ведь еще ничего не потеряно.
Он поднял голову. ,
— Еще ничего не потеряно,— повторил я.— Человека теря-
ешь, только когда он умирает.
Он торопливо кивнул, взял рюмку, но поставил ее обратно,
не отпив ни глотка.
— Вчера меря назначили начальником канцелярии,— тихо
сказал он.— Теперь я главный бухгалтер и начальник канцеля-
рии. Управляющий сказал мне об этом вечером. Я получил по-
вышение, потому что в последние месяцы постоянно работал
сверхурочно. Они слили две канцелярии в одну. Другого на-
чальника уволили. Мое жалованье повышено на пятьдесят ма-
рок.— Вдруг,он с отчаянием взглянул на меня.— А как вы ду-
маете, она бы осталась, если бы знала об этом?
— Нет,— сказал я.
— На пятьдесят марок больше. Я бы отдавал их ей. Она могла
бы каждый месяц покупать себе что-нибудь новое. И ведь
на книжке у меня лежит тысяча двести марок! Зачем же я их от-
кладывал! Думал, пусть будет для нее, если наши дела пошат-
нутся. И вот она ушла... потому что я был слишком бережлив.
Он опять уставился в одну точку.
— Хассе,— сказал я,— мне думается, что все это не так уж
связано одно с другим, как вам кажется. Не стоит копаться
в этом. Надо перебороть себя. Пройдет несколько дней, и вам
станет яснее, что делать. Может быть, ваша жена вернется се-
— + 278 + —
юлия вечером или завтра утром. Ведь она думает об этом так же,
как и вы.
— Она больше не придет,— ответил он.
— Этого вы не знаете.
— Если бы ей можно было сказать, что у меня теперь боль-
шее жалованье и что мы можем взять отпуск и совершить путе-
шествие на сэкономленные деньги...
— Все это вы ей скажете. Так просто люди не расстаются.
Меня удивило, что он совершенно не думал о другом мужчине.
Видимо, еще не понимал этого; он думал только о том, что его
жена ушла. Все остальное было пока туманным, неосознанным.
Мне хотелось сказать ему, что через несколько недель он, воз-
можно, будет рад ее уходу, но при его состоянии это было бы
и ниш ней грубостью с моей стороны. Для оскорбленного чув-
< । на правда всегда груба и почти невыносима.
Я посидел с ним еще немного — только чтобы дать ему вы-
твориться. Но я ничего не добился. Он продолжал вертеться
в заколдованном круге, хотя мне показалось, что он немного
успокоился. Он выпил свой коньяк. Потом меня позвала Пат.
— Одну минутку,— сказал я и встал.
— Да,— ответил он, как послушный ребенок, и тоже поднялся.
— Побудьте здесь, я сейчас...
— Простите...
— Я сейчас же вернусь,— сказал я и пошел к Пат.
Она сидела в кровати, свежая и отдохнувшая.
— Я чудесно спала, Робби! Вероятно, уже полдень.
— Ты спала только час,— сказал я и показал ей часьь
Она посмотрела на циферблат.
— Тем лучше, значит, у нас масса времени впереди. Сейчас
м встану.
— Хорошо. Через десять минут я приду к тебе.
— У тебя гости?
— Хассе,— сказал я.— Но это ненадолго.
Я пошел обратно, но Хассе уже не было. Я открыл дверь
•» коридор. И там было пусто. Прошел по коридору и постучал
► нему. Он не ответил. Открыв дверь, я увидел его перед шка-
фом Ящики были выдвинуты.
Хассе,— сказал я,— примите снотворное, ложитесь в по-
н н> и прежде всего выспитесь. Вы слишком возбуждены.
<>и медленно повернулся ко мне:
Выть всегда одному, каждый вечер! Всегда торчать здесь,
*jk вчера! Подумайте только...
— 4* 279 Ф —
Я сказал ему, что все изменится и что есть много людей, ко-
торые по вечерам одиноки. Он проговорил что-то неопределен-
ное. Я еще раз сказал ему, чтобы он ложился спать,— может
быть, ничего особенного не произошло и вечером его жена еще
вернется. Он кивнул и протянул мне руку.
— Вечером загляну к вам еще раз,—сказал я и с чувством об-
легчения ушел.
* * *
Перед Пат лежала газета.
— Робби, можно пойти сегодня утром в музей,— предложи-
ла она.
— В музей?— спросил я.
— Да. На выставку персидских ковров. Ты, наверно, не часто
бывал в музеях?
— Никогда!— ответил я.— Да и что мне там делать?
— Вот тут ты прав,— сказала она смеясь.
— Пойдем. Ничего страшного в этом нет.— Я встал.—
В дождливую погоду не грех сделать что-нибудь для своего об-
разования.
Мы оделись и вышли. Воздух на улице был великолепен.
Пахло лесом и сыростью. Когда мы проходили мимо «Интерна-
ционаля», я увидел сквозь открытую дверь Розу, сидевшую
у стойки. По случаю воскресенья она пила шоколад. На столи-
ке лежал небольшой пакет. Видимо, она собиралась после завт
рака, как обычно, навестить свою девочку. Я давно не заходил
в «Интернациональ», и мне было странно видеть Розу, невозму
тимую, как всегда. В моей жизни так много переменилось, что
мне казалось, будто везде все должно было стать иным.
Мы пришли в музей. Я думал, что там будет совсем безлюд-
но, но, к своему удивлению, увидел очень много посетителей.
Я спросил у сторожа, в чем дело.
— А ни в чем,— ответил он,— так бывает во все дни, когда
вход бесплатный.
— Вот видишь,— сказала Пат.— Есть еще масса людей, ко-
торым это интересно.
Сторож сдвинул фуражку на затылок.
— Ну, это, положим, не так, сударыня. Здесь почти все без-
работные. Они приходят не ради искусства, а потому, что им
нечего делать. А тут можно хотя бы посмотреть на что-нибудь.
— Вот такое объяснение мне более понятно,— сказал я.
— Это еще ничего,— добавил сторож.— Вот зайдите как-ни-
будь зимой! Битком набито. Потому что здесь топят.
— Ф 280 Ф —
Мы вошли в тихий, несколько отдаленный от других зал, где
<н.| ш развешаны ковры. За высокими окнами раскинулся сад
* о| ромным платаном. Вся листва была желтой, и поэтому неяркий
< вс । в зале казался желтоватым. Экспонаты поражали роскошью.
I iccb были два ковра шестнадцатого века с изображениями
шсрей, несколько исфаханских ковров, польские шелковые ков-
ры цвета лососины с изумрудно-зеленой каймой. Время и солн-
це умерили яркость красок, и ковры казались огромными ска-
|в'шыми пастелями. Они сообщали залу особую гармонию,
мнорую никогда не могли бы создать картины. Жемчужно-се-
рое небо, осенняя листва платана за окном — все это тоже по-
mi шло на старинный ковер и как бы входило в экспозицию.
Побродив здесь немного, мы пошли в другие залы музея. На-
1»<> iy прибавилось, и теперь было совершенно ясно, что многие
11есь случайно. С бледными лицами, в поношенных костюмах,
и южив руки за спину, они несмело проходили по залам, и их
। и Ki видели не картины эпохи Ренессанса и спокойно-велича-
вые скульптуры античности, а нечто совсем другое. Многие
присаживались на диваны, обитые красным бархатом. Сидели
м iaлые, но но их позам было видно, что они готовы встать и уйти
।к। первому знаку служителя.
()ни не совсем понимали, как это можно бесплатно отдыхать
h i мягких диванах. Они не привыкли получать что бы то ни было
ыром.
Во всех залах царила тишина. Несмотря на обилие посетите-
ii’ii, почти не слышно было разговоров. И все же мне казалось,
ноя присутствую при какой-то титанической борьбе, неслыш-
|||in борьбе людей, которые повержены, но еще не желают
|.н|»ся. Их вышвырнули за борт, лишили работы, оторвали
и профессии, отняли все, к чему они стремились, и вот они
пришли в эту тихую обитель искусства, чтобы не впасть в оце-
iH’iiciine, спастись от отчаяния. Они думали о хлебе, всегда
и* и.ко о хлебе и о работе, но они приходили сюда, чтобы хоть
и.। несколько часов уйти от своих мыслей. Едва волоча ноги,
• him ।ив плечи, они бесцельно бродили среди чеканных бюстов
1'нм 1яп, среди вечно прекрасных белых изваяний эллинок,—
г iKHii потрясающий, страшный контраст! Именно здесь можно
ы.| к» попять, что смогло и чего не смогло достичь человечество
н и”1сние тысячелетий: оно создало бессмертные произведения
и* к\сс1ва, но не сумело дать каждому из своих собратьев хотя
<и.1 н юволь хлеба.
— Ф 281 + —
После обеда мы пошли в кино. Когда возвращались домой,
небо уже прояснилось. Оно было яблочно-зеленым и очень
прозрачным. Улицы и магазины были освещены. Мы медленно
шли и по дороге разглядывали витрины.
Я остановился перед ярко освещенными стеклами крупного
мехового магазина. Вечера стали прохладными. В витринах
красовались пышные связки серебристых чернобурок и теплые
зимние шубки. Я посмотрел на Пат; она все еще носила свой
легкий меховой жакет. Это было явно не по сезону.
— Будь я героем фильма, я вошел бы сюда и подобрал бы тебе
шубу,— сказал я.
Она улыбнулась.
— Какую же?
— Вот!— Я выбрал шубку, показавшуюся мне самой теплой.
Она рассмеялась.
— У тебя хороший вкус, Робби. Это очень красивая канад*
ская норка.
— Хочешь ее?
Она взглянула на меня.
— А ты знаешь, милый, сколько она стоит?
— Нет,— сказал я,— я и не хочу этого знать. Я лучше буду
думать о том, как стану дарить тебе все, что только захочу. По-
чему другие могут делать подарки любимой, а я нет?
Пат внимательно посмотрела на меня.
— Робби, но я вовсе не хочу такой шубы.
— Нет,— заявил я,— ты ее получишь! Ни слова больше об этом.
Завтра мы за ней пошлем.
— Спасибо, дорогой,— сказала она с улыбкой и поцеловала
меня тут же на улице.— А теперь твоя очередь.— Мы остано-
вились перед магазином мужских мод.— Вот этот фрак! Он по-
дойдет к моей норке. И вот этот цилиндр тоже. Интересно, как
бы ты выглядел в цилиндре?
— Как трубочист.— Я смотрел на фрак. Он был выставлен
в витрине, декорированной серым бархатом. Я внимательнее
оглядел витрину. Именно в этом магазине я купил себе весной
галстук, в день, когда впервые был вдвоем с Пат и напился. Что-то
вдруг подступило к горлу, и я сам не знал почему. Весной... Тогда
я еще ничего не знал обо всем...
Я взял узкую ладонь Пат и прижал к своей щеке. Потом
я сказал:
— К шубке надо еще что-нибудь. Одна только норка — все
равно что автомобиль без мотора. Два или три вечерних платья...
— Ф 282 Ф —
— Вечерние платья...— подхватила она, останавливаясь пе-
рс i большой витриной.— Вечерние платья, правда... от них мне
ip\лнее отказаться...
Мы подыскали три чудесных платья. Пат явно оживилась
<н этой игры. Она отнеслась к ней совершенно серьезно,— ве-
черние платья были ее слабостью. Мы подобрали заодно все,
•ио было необходимо к ним, и она все больше загоралась. Ее
। и ia блестели. Я стоял рядом с ней, слушал ее, смеялся и ду-
м,11, до чего же страшно любить женщину и быть бедным.
— Пойдем,— сказал я наконец в порыве какого-тр отчаянного
|нчелья,— уж если делать что-нибудь, так до конца!— Перед
с ими была витрина ювелирного магазина.— Вот этот изумруд-
нi.iи браслет! И еще вот эти два кольца и серьги! Не будем спо-
1'п । ь! Изумруды — самые подходящие камни для тебя.
— За это ты получишь вон те платиновые часы и жемчужи-
ны для манишки.
— А ты — весь магазин. На меньшее я не согласен...
Она засмеялась и, шумно дыша, прислонилась ко мне.
Хватит, дорогой, хватит! Теперь купим себе еще несколько
и-моданов, пойдем в бюро путешествий, а потом уложим вещи
। \е ie\i прочь из этого города, от этой осени, от этого дождя...
Да,— подумал я.— Господи, конечно, уедем, и тогда она
► про выздоровеет!»
А куда?— спросил я.— В Египет? Или еще дальше? В Ин-
ин» и Китай?
К солнцу, милый, куда-нибудь к солнцу, на юг, к теплу. Где
11 нлювые аллеи, и скалы, и белые домики у моря, и агавы. Но,
• "+.CI быть, и там дождь. Может быть, дождь везде.
Тогда мы просто поедем дальше,— сказал я.— Туда, где
•и । дождей. Прямо в тропики, в южные моря.
Мы стояли перед яркой витриной бюро путешествий «Гам-
•\pi — Америка» и смотрели на модель парохода. Он плыл
к in him картонным волнам, а за ним мощно поднималась фото-
I' н|»нческая панорама небоскребов Манхэттена. В других вит-
I'liii.ix были развешаны большие пестрые карты с красными ли-
• iiiiiMii пароходных маршрутов.
И в Америку тоже поедем,— сказала Пат.— В Кентукки,
и и 1г\ас, и в Нью-Йорк, и в Сан-Франциско, и на Гавайские остро-
• \ потом дальше, в Южную Америку. Через Мексику и Па-
• кв кий канал в Буэнос-Айрес и затем через Рио-де-Жанейро
||1.1 I но.
Да...
। >ни смотрела на меня сияющим взглядом.
— 4* 283 Ф —
— Никогда я там не был,— сказал я.— В тот раз я тебе все на
врал.
— Это я знаю,— ответила она.
— Ты это знаешь?
— Ну конечно, Робби! Конечно, знаю! Сразу поняла!
— Тогда я был довольно-таки сумасшедшим. Неуверенным,
глупым и сумасшедшим. Поэтому я тебе врал.
— А сегодня?
— А сегодня еще больше,— сказал я.— Разве ты сама не ви-
дишь?— Я показал на пароход в витрине.— Нам с тобой нельзя
на нем поехать. Вот проклятье!
Она улыбнулась и взяла меня под руку.
— Ах, дорогой мой, почему мы не богаты? Уж мы-то сумели бы
отлично использовать деньги! Как много есть богатых людей,
которые не знают ничего лучшего, чем вечно торчать в своих
конторах и банках.
— Потому-то они и богаты,— сказал я.— А если бы мы раз*
богатели, то уж, конечно, ненадолго.
— Ия так думаю. Мы бы так или иначе быстро потеряли свое
богатство.
— А может быть, стремясь поскорее растранжирить деньги,
мы так и не сумели бы толком насладиться ими. В наши дни быть
богатым — это прямо-таки профессия. И совсем не простая.
— Бедные богачи!— сказала Пат.— Тогда, пожалуй, лучше
представим себе, что мы уже были богаты и успели разориться.
Просто ты обанкротился на прошлой неделе, и пришлось продать
все: наш дом, и мои драгоценности, и твои автомобили. Как ты
думаешь?
— Что ж, это вполне современно,— ответил я.
Она рассмеялась.
— Тогда идем! Оба мы банкроты. Пойдем теперь в нашу мебли
рованную комнатушку и будем вспоминать свое славное прошлое.
— Хорошая идея.
Мы медленно пошли дальше по вечерним улицам. Вспыхива
ли все новые огни. Подойдя к кладбищу, мы увидели в зеленом
небе самолет с ярко освещенным салоном. Одинокий и про*
красный, он летел в прозрачном, высоком и тоже одиноком небе,
как чудесная птица мечты из старинной сказки. Мы останови*
лись и смотрели ему вслед, пока он не исчез.
♦ * *
Не прошло и получаса после нашего возвращения, как кто-то
постучал в мою дверь. Я подумал, что это опять Хассе, и встал,
— Ф 284 Ф —
чтобы открыть. Но это была фрау Залевски. Она выглядела очень
расстроенной.
— Идемте скорее,— прошептала она.
— Что случилось?
— Хассе.
Я посмотрел на нее. Она пожала плечами.
— Заперся и не отвечает.
— Минутку.
Я вошел к Пат и попросил ее отдохнуть, пока я переговорю
с Хассе.
— Хорошо, Робби. Я и в самом деле опять устала.
Я последовал за фрау Залевски по коридору. У дверей Хассе
собрался почти весь пансион: рыжеволосая Эрна Бениг в пест-
ром кимоно с драконами,— еще две недели назад она была зо-
101 истой блондинкой; филателист-казначей в домашней куртке
поенного покроя; бледный и спокойный Орлов, только что вер-
нувшийся из кафе, где он танцевал с дамами; Джорджи, нервно
। |учавший в дверь и сдавленным голосом звавший Хассе, и, на-
ми юн, Фрида, с глазами, перекошенными от волнения, страха
и нобопытства.
Ты давно уже стучишься, Джорджи?— спросил я.
Больше четверти часа,— мгновенно выпалила Фрида,
► рлснея как рак.— Он, конечно, дома и вообще никуда не вы-
uHiiji. с обеда не выходил, только все носился взад и вперед,
। in ном стало тихо...
Ключ торчит изнутри,— сказал Джорджи.— Дверь заперта.
Я посмотрел на фрау Залевски.
Надо вытолкнуть ключ и открыть дверь. Есть у вас второй
► 1К»Ч?
Сейчас сбегаю за связкой с ключами,— заявила Фрида
необычной услужливостью.— Может, какой-нибудь подойдет.
Мне дали кусок проволоки. Я повернул ключ и вытолкнул
•in из замочной скважины. Звякнув, он упал с другой стороны
ии’ри. Фрида вскрикнула и закрыла лицо руками.
Убирайтесь-ка отсюда подальше,— сказал я ей и стал про-
hHii.ni» ключи. Один из них подошел. Я повернул его и открыл
нк рь Комната была погружена в полумрак, в первую минуту
। никою не увидел. Серо-белыми пятнами выделялись кровати,
i\ н.ч были пусты, дверцы шкафа заперты.
Вот он стоит!— прошептала Фрида, снова протиснувшаяся
ннгргч. Меня обдало горячим дыханием и запахом лука.— Вон
• *»м ( шди, у окна.
— 4* 285 Ф —
— Нет,— сказал Орлов, который быстро вошел в комнату
и тут же вернулся. Он оттолкнул меня, взялся за дверную ручку,
прикрыл дверь, затем обратился к остальным: — Вам лучше уйти.
Не стоит смотреть на это,— медленно проговорил он со своим
твердым русским акцентом и остался стоять перед дверью.
— О Боже!— пролепетала фрау Залевски и отошла назад.
Эрна Бениг тоже отступила на несколько шагов. Только Фрида
пыталась протиснуться вперед и ухватиться за дверную ручку.
Орлов отстранил ее.
— Будет действительно лучше...— снова сказал он.
— Сударь!— зарычал внезапно казначей, распрямляй
грудь.— Как вы смеете! Будучи иностранцем!..
Орлов спокойно посмотрел на него.
— Иностранец...— сказал он.— Иностранец... здесь это без
различно. Не в этом дело...
— Мертвый, да?— не унималась Фрида.
— Фрау Залевски,— сказал я,— и я думаю, что остаться здесь
надо только вам и, может быть, Орлову и мне.
— Немедленно позвоните врачу,— сказал Орлов.
Джорджи уже снял трубку. Все это длилось несколько секунд
— Я остаюсь,— заявил казначей, побагровев.— Как немец
кий мужчина, я имею право...
Орлов пожал плечами и отворил дверь. Затем включил свеч.
Женщины с криком отпрянули назад. В окне висел Хассе с ис
синя-черным лицом и вывалившимся языком.
— Отрезать шнур!— крикнул я.
— Нет смысла,— сказал Орлов медленно, жестко и печально. -
Мне это знакомо... такое лицо... он уже несколько часов мертв..,
— Попробуем все-таки...
— Лучше не надо... Пусть сначала придет полиция.
В ту же секунду раздался звонок. Явился врач, живший
по соседству. Он едва взглянул на тощее надломленное тело.
— Тут уже ничего не сделаешь,— сказал он,— но все-таки
попробуем искусственное дыхание. Немедленно позвонит?
в полицию и дайте мне нож.
Хассе повесился на витом шелковом шнуре. Это был поясок
от розового халата его жены, и он очень искусно прикрепил chi
к крючку над окном. Шнур был натерт мылом. Видимо, Хасс?
встал на подоконник и потом соскользнул с него. Судорога свели
руки, на лицо было страшно смотреть. Странно, но в эту мину
ту мне бросилось в глаза, что он успел переодеться. Теперь
на нем был его лучший костюм из синей камвольной шерсти, он
был выбрит и в свежей рубашке. На столе с педантичность»»
— + 286 4* —
"bi ж разложены паспорт, сберегательная книжка, четыре бу-
мажки по десять марок, немного серебра и два письма — одно
* сне, другое в полицию. Около письма к жене лежал серебря-
। пл и портсигар и обручальное кольцо.
Видимо, он долго и подробно обдумывал каждую мелочь
и наводил порядок. Комната была безукоризненно прибрана.
< всмотревшись внимательней, мы обнаружили на комоде еще
какие-то деньги и листок, на котором было написано: «Остаток
квартирной платы за текущий месяц». Эти деньги он положил
hi юльно, словно желая показать, что они нс имеют никакого
• и ношения к его смерти.
11ришли два чиновника в штатском. Врач, успевший тем вре-
менем снять труп, встал.
— Мертв,— сказал он.— Самоубийство. Вне всяких сомнений.
Чиновники ничего не ответили. Закрыв дверь, они внима-
1сльно осмотрели комнату, затем извлекли из ящика шкафа не-
сколько писем, взяли оба письма со стола и сличили почерк.
Чиновник помоложе понимающе кивнул головой:
— Кто-нибудь знает причину?
Я рассказал ему, что знал. Он снова кивнул и записал мой адрес.
Можно его увезти?— спросил врач.
Я заказал санитарную машину в больнице «Шаритэ»,—
• • । не । ил молодой чиновник.— Сейчас она приедет.
Мы остались ждать. В комнате было тихо. Врач опустился
h i колени возле Хассе. Расстегнув его одежду, он стал растирать
м\ грудь полотенцем, поднимая и опуская его руки. Воздух
приникал в мертвые легкие и со свистом вырывался наружу.
Двенадцатый за неделю,— сказал молодой чиновник.
Все по той же причине?— спросил я.
Нет. Почти все из-за безработицы. Два семейства. В одном
"hi io трое детей. Газом, разумеется. Семьи почти всегда отрав-
ЦЦИ1СЯ газом.
Пришли санитары с носилками. Вместе с ними в комнату
| цир\цула Фрида и с какой-то непонятной жадностью устави-
।.и । на жалкое тело Хассе. Ее потное лицо покрылось красными
ни । нами.
Что вам здесь нужно?— грубо спросил старший чиновник.
()на вздрогнула.
Ведь я должна дать показания,— проговорила она, заикаясь.
Убирайся отсюда!— сказал чиновник.
< анитары накрыли Хассе одеялом и унесли. Затем стали со-
"нр.нься и оба чиновника. Они взяли с собой документы.
— + 287 + —
— Он оставил деньги на погребение,— сказал молодой чинов
ник.— Мы передадим их по назначению. Когда появится жена,
скажите ей, пожалуйста, чтобы зашла в полицию. Он завещал ей
свои деньги. Могут ли остальные вещи оставаться пока здесь?
Фрау Залевски кивнула.
— Эту комнату мне уже все равно не сдать.
— Хорошо.
Чиновник откланялся и вышел. Мы тоже вышли.
Орлов запер дверь и передал ключ фрау Залевски.
— Надо поменьше болтать обо всем этом,— сказал я.
— Ия так считаю,— сказала фрау Залевски.
— Я имею в виду прежде всего вас, Фрида,— добавил я.
Фрида точно очнулась. Ее глаза заблестели. Она не ответила мне
— Если вы скажете хоть слово фрейлейн Хольман,— сказал я,-
тогда просите милости у Бога, от меня ее не ждите!
— Сама знаю,— ответила она задиристо.— Бедная дама слиш
ком больна для этого!
Ее глаза сверкали. Мне пришлось сдержаться, чтобы не дать
ей пощечину.
— Бедный Хассе!— сказала фрау Залевски.
В коридоре было совсем темно.
— Вы были довольно грубы с графом Орловым,— сказал
я казначею.— Не хотите ли извиниться перед ним?
Старик вытаращил на меня глаза. Затем воскликнул:
— Немецкий мужчина не извиняется! И уж меньше всего перед
азиатом!— Он с треском захлопнул за собой дверь своей комнаты
— Что творится с нашим ретивым собирателем почтовых ма
рок?— спросил я удивленно.— Ведь он всегда был кроток, как
агнец.
— Он уже несколько месяцев ходит на все предвыборные со
брания,— донесся голос Джорджи из темноты.
— Ах, вот оно что!
Орлов и Эрна Бениг уже ушли. Фрау Залевски вдруг разры
далась.
— Не принимайте это так близко к сердцу,— сказал я.— Все
равно уже ничего не изменишь.
— Это слишком ужасно,— всхлипывала она.— Мне надо вы
ехать отсюда, я не переживу этого!
— Переживете,— сказал я.— Однажды я видел несколько со
тен англичан, отравленных газом. И пережил это...
Я пожал руку Джорджи и пошел к себе. Было темно. Преж*
де чем включить свет, я невольно посмотрел в окно. Потом при’
слушался. Пат спала. Я подошел к шкафу, достал коньяк и не*
— Ф 288 Ф —
111.1 себе рюмку. Это был добрый коньяк, и хорошо, что он ока- ’
и 1ся у меня. Я поставил бутылку на стол. В последний раз
и । нее угощался Хассе. Я подумал, что, пожалуй, не следовало
ославлять его одного. Я был подавлен, но не мог упрекнуть себя
нив чем. Чего я только не видел в жизни, чего только не пере-
жил! И я знал: можно упрекать себя за все, что делаешь, или во-
обще не упрекать себя ни в чем. К несчастью для Хассе, все
< । ряслось в воскресенье. Случись это в будний день, он пошел бы
на службу, и, может, все обошлось бы.
Я выпил еще коньяку. Не имело смысла думать об этом.
Да и какой человек знает, что ему предстоит? Разве хоть кто-
нибудь может знать, не покажется ли ему со временем счастли-
вым тот, кого он сегодня жалеет.
Я услышал, как Пат зашевелилась, и пошел к ней. Она лежала
с открытыми глазами.
— Что со мной творится, Робби, с ума можно сойти!— сказа-
на она.— Опять я спала как убитая.
— Так это ведь хорошо,— ответил я.
— Нет.— Она облокотилась на подушку.— Я не хочу столь-
ко спать.
— Почему же нет? А мне иногда хочется уснуть и проспать
ровно пятьдесят лет.
- И состариться на столько же?
- Не знаю. Это можно сказать только потом.
— Ты чем-нибудь огорчен?
— Нет,— сказал я.— Напротив. Я как раз решил, что мы оде-
немся, пойдем куда-нибудь и роскошно поужинаем. Будем есть
псе, что ты любишь. И немножко выпьем.
— Очень хорошо,— ответила она.— Это тоже пойдет в счет
нашего великого банкротства?
— Да,— сказал я.— Конечно.
XXI
В середине октября Жаффе вызвал меня к себе. Было десять
часов утра, но небо хмурилось и в клинике еще горел электри-
ческий свет. Смешиваясь с тусклым отблеском утра, он казался
ноюзненно ярким.
Жаффе сидел один в своем большом кабинете. Когда я во-
IHC I, он поднял поблескивающую лысиной голову и угрюмо
кивнул в сторону большого окна, по которому хлестал дождь:
— Как вам нравится эта чертова погода?
Я пожал плечами.
— Будем надеяться, что она скоро кончится.
— Ф 289 Ф —
— Она не кончится.— Он посмотрел на меня и ничего
больше не сказал. Потом взял карандаш, постучал им по пись-
менному столу и положил на место.
— Я догадываюсь, зачем вы меня позвали,— сказал я.
Жаффе буркнул что-то невнятное. Я подождал немного. По-
том сказал:
— Пат, видимо, уже должна уехать...
— Да...
Жаффе мрачно смотрел на стол.
— Я рассчитывал на конец октября. Но при такой погоде...—
Он опять взял серебряный карандаш.
Порыв ветра с треском швырнул дождевые струи в окно.
Звук напоминал отдаленную пулеметную стрельбу.
— Когда же, по-вашему, она должна уехать?— спросил я.
Он взглянул на меня вдруг снизу вверх ясным открытым
взглядом.
— Завтра,— сказал он.
На секунду мне показалось, что почва уходит у меня из-под hoi .
Воздух был как вата и липнул к легким. Потом это ощущение
прошло, и я спросил, насколько мог спокойно, каким-то дале-
ким голосом, словно спрашивал кто-то другой:
— Разве ее состояние так резко ухудшилось?
Жаффе решительно покачал головой и встал.
— Если бы оно резко ухудшилось, она вообще не смогла бы
поехать,— заявил он хмуро.— Просто ей лучше выбраться oi
сюда. В такую погоду она все время в опасности. Всякие про
студы и тому подобное...
Он взял несколько писем со стола.
— Я уже все подготовил. Вам остается только выехать. Глав
ного врача санатория я знал еще в бытность мою студентом.
Очень дельный человек. Я подробно сообщил ему обо всем.
Жаффе дал мне письма. Я взял их, но не спрятал в карман
Он посмотрел на меня, встал и положил мне руку на плечо. Его
рука была легка, как крыло птицы, я почти не ощущал ее.
— Тяжело,— сказал он тихим, изменившимся голосом.-
Знаю... Поэтому я и оттягивал отъезд, пока было возможно.
— Не тяжело...— возразил я.
Он махнул рукой.
— Оставьте, пожалуйста...
— Нет,— сказал я,— не в этом смысле... Я хотел бы знать
только одно: она вернется?
Жаффе ответил не сразу. Его темные узкие глаза блестели
в мутном желтоватом свете.
— Ф 290 Ф —
— Зачем вам это знать сейчас?— спросил он наконец.
— Потому что если не вернется, так лучше пусть не едет,—
сказал я.
Он быстро взглянул на меня.
— Что это вы такое говорите?
— Тогда будет лучше, чтобы она осталась.
Он посмотрел на меня.
— А понимаете ли вы, к чему это неминуемо приведет?—
спросил он тихо и резко.
— Да,— сказал я.— Это приведет к тому, что она умрет,
но не в одиночестве. А что это значит, я тоже знаю.
Жаффе поднял плечи, словно его знобило. Потом он медленно
подошел к окну и постоял возле него, глядя на дождь. Когда он
повернулся ко мне, лицо его было как маска.
— Сколько вам лет?— спросил он.
— Тридцать,— ответил я, не понимая, чего он хочет.
— Тридцать,— повторил он странным тоном, будто разгова-
ривал сам с собой и не понимал меня.— Тридцать, Боже мой!—
()п подошел к письменному столу и остановился. Рядом с огром-
ным и блестящим столом он казался маленьким и как бы отсут-
ствующим.— Мне скоро шестьдесят,— сказал он, не глядя
па меня,— но я бы так не мог. Я испробовал бы все снова и сно-
па. даже если бы знал точно, что это бесцельно.
Я молчал. Жаффе застыл на месте. Казалось, он забыл обо
всем, что происходит вокруг. Потом он словно очнулся, и мас-
ка сошла с его лица. Он улыбнулся.
— Я определенно считаю, что в горах она хорошо перенесет
шму.
— Только зиму?— спросил я.
— Надеюсь, весной она сможет снова спуститься вниз.
— Надеяться...— сказал я.— Что значит надеяться?
— Все вам скажи!— ответил Жаффе.— Всегда и все. Я не могу
сказать теперь больше. Мало ли что может быть. Посмотрим,
как она будет себя чувствовать наверху. Но я твердо надеюсь,
•по весной она сможет вернуться.
— Твердо?
— Да.— Он обошел стол и так сильно ударил ногой по вы-
нкипутому ящику, что зазвенели стаканы.— Черт возьми, пой-
ми ге же, дорогой, мне и самому тяжело, что она должна уе-
чп।в!— пробормотал он.
Вошла сестра. Знаком Жаффе предложил ей удалиться.
По она осталась на месте, коренастая, неуклюжая, с лицом
Оуньдога под копной седых волос.
— Ф 291 + —
— Потом!— буркнул Жаффе.— Зайдите потом!
Сестра раздраженно повернулась и направилась к двери.
Выходя, она нажала кнопку выключателя. Комната вдруг на-
полнилась серовато-молочным светом. Лицо Жаффе стало зем-
листым.
— Старая ведьма!— сказал он.— Вот уже двадцать лет, как
я собираюсь ее выставить. Но очень хорошо работает.— Затем
он повернулся ко мне.— Итак?
— Мы уедем сегодня вечером,— сказал я.
— Сегодня?
— Да. Уж если надо, то лучше сегодня, чем завтра. Я отвезу ее.
Смогу отлучиться на несколько дней.
Он кивнул и пожал мне руку.
Я ушел. Путь до двери показался мне очень долгим.
На улице я остановился и заметил, что все еще держу письма
в руке. Дождь барабанил по конвертам. Я вытер их и сунул в бо-
ковой карман. Потом посмотрел вокруг. К дому подкатил авто-
бус. Он был переполнен, и из него высыпала толпа пассажиров.
Несколько девушек в черных блестящих дождевиках шутили
с кондуктором. Он был молод, белые зубы ярко выделялись
на смуглом лице. «Ведь так нельзя,— подумал я,— это невоз-
можно! Столько жизни вокруг, а Пат должна умереть!»
Кондуктор дал звонок, и автобус тронулся. Из-под колес
взметнулись снопы брызг и обрушились на тротуар. Я пошел
дальше. Надо было предупредить Кестера и достать билеты.
* ♦ ♦
К двенадцати часам дня я пришел домой: я успел сделать все,
даже отправил телеграмму в санаторий.
— Пат,— сказал я, еще стоя в дверях,— ты успеешь уложить
вещи до вечера?
— Я должна уехать?
— Да,— сказал я,— да, Пат.
— Одна?
— Нет. Мы поедем вместе. Я отвезу тебя.
Ее лицо слегка порозовело.
— Когда же я должна быть готова?— спросила она.
— Поезд уходит в десять вечера.
— А теперь ты опять уйдешь?
— Нет. Останусь с тобой до отъезда.
Она глубоко вздохнула.
— Тогда все просто, Робби,— сказала она.— Начнем сразу?
— У нас еще есть время.
— + 292 4* —
— Я хочу начать сейчас. Тогда все скоро будет готово.
— Хорошо.
За полчаса я упаковал несколько вещей, которые хотел взять
с собой. Потом я зашел к фрау Залевски и сообщил ей о нашем
отъезде. Договорился, что с первого ноября или даже раньше
она может сдать комнату Пат. Хозяйка собралась было завести
долгий разговор, но я тут же вышел из комнаты.
Пат стояла на коленях перед чемоданом-гардеробом, вокруг
висели ее платья, на кровати лежало белье. Она укладывала
обувь. Я вспомнил, что точно так же она стояла на коленях, ког-
да въехала в эту комнату и распаковывала свои вещи, и мне ка-
шлось, что это было бесконечно давно и будто только вчера.
Она взглянула на меня.
— Возьмешь с собой серебряное платье?— спросил я.
Она кивнула.
— Робби, а что делать с остальными вещами? С мебелью?
— Я уже говорил с фрау Залевски. Возьму к себе в комнату
сколько смогу. Остальное сдадим на хранение. Когда вернешься —
тберем все.
— Когда я вернусь...— сказала она.
— Ну да, весной, когда ты приедешь вся коричневая от солнца.
Я помог ей уложить чемоданы, и к вечеру, когда стемнело,
нее было готово. Было очень странно: мебель стояла на преж-
них местах, только шкафы и ящики опустели, и все-таки комна-
та показалась мне вдруг голой и печальной. Пат уселась на кро-
пать. Она выглядела усталой.
— Зажечь свет?— спросил я.
Она покачала головой.
— Подожди еще немного.
Я сел возле нее.
— Хочешь сигарету?
— Нет, Робби. Просто посидим так немного.
Я встал и подошел к окну. Фонари беспокойно горели под
пождем. В деревьях буйно гулял ветер. Внизу медленно прошла
Роза. Ее высокие сапожки сверкали. Она держала под мышкой
пакет и направлялась в «Интернациональ». Вероятно, это были
нитки и спицы,— она постоянно вязала для своей малышки
шерстяные вещи. За ней проследовали Фрицци и Марион, обе
а новых белых, плотно облегающих фигуру дождевиках, а не-
много спустя за ними прошлепала старенькая Мими, обтрепан-
1ИО1 и усталая.
Я обернулся. Было уже так темно, что я не мог разглядеть
1I пт. Я только слышал ее дыхание. За деревьями кладбища мед-
— + 293 Ф —
ленно и тускло начали карабкаться вверх огни световых реклам.
Светящееся название знаменитых сигарет протянулось над
крышами, как пестрая орденская лента, запенились синие и зе-
леные круги фирмы вин и ликеров, вспыхнули яркие контуры
рекламы бельевого магазина. Огни отбрасывали матовое рассе-
янное сияние, ложившееся на стены и потолок, и скользили
во всех направлениях, и комната показалась мне вдруг малень-
ким водолазным колоколом, затерянным на дне моря. Дождевые
волны шумели вокруг него; а сверху, сквозь толщу воды, едва
проникал слабый отблеск далекого мира.
♦ * *
Было восемь часов вечера. На улице загудел клаксон.
— Готтфрид приехал на такси,— сказал я.— Он отвезет нас
поужинать.
Я встал, подошел к окну и крикнул Готтфриду, что мы идем.
Затем включил маленькую настольную лампу и пошел в свою
комнату. Она показалась мне до неузнаваемости чужой. Я до-
стал бутылку рома и наспех выпил рюмку. Потом сел в кресло
и уставился на обои. Вскоре я снова встал, подошел к умываль-
нику, чтобы пригладить щеткой волосы. Но, увидев свое лицо
в зеркале, я забыл об этом. Разглядывая себя с холодным любо-
пытством, я сжал губы и усмехнулся. Напряженное и бледное
лицо в зеркале усмехнулось мне в ответ.
— Эй, ты1— беззвучно сказал я. Затем я пошел обратно к Пат.
— Пойдем, дружище?— спросил я.
— Да,— ответила Пат,—но я хочу еще раз зайти в твою комнату.
— К чему? В эту старую халупу...
— Останься здесь,— сказала она.— Я сейчас приду.
Я немного подождал, а потом пошел за ней. Заметив меня,
Пат вздрогнула. Никогда еще я не видел ее такой. Словно угас-
шая стояла она посреди комнаты. Но это длилось только секун-
ду, и улыбка снова появилась на ее лице.
— Пойдем,— сказала она.— Уже пора.
У кухни нас ждала фрау Залевски. Ее седые букли дрожали.
На черном шелковом платье у нее была брошь с портретом по-
койного Залевски.
— Держись!— шепнул я Пат.— Сейчас она тебя обнимет.
В следующее мгновение Пат утонула в грандиозном бюсте.
Большое заплаканное лицо фрау Залевски судорожно подерги-
валось. Еще несколько секунд — и поток слез залил бы Пат
с головы до ног: когда матушка Залевски плакала, ее глаза рабо-
тали под давлением, как сифоны.
— Ф 294 + —
— Извините,— сказал я,— но мы очень торопимся! Надо не-
медленно отправляться!
— Немедленно отправляться?— Фрау Залевски смерила меня
уничтожающим взглядом.— Поезд уходит только через два часа!
Л в промежутке вы хотите, наверное, напоить бедную девочку!
Пат не выдержала и рассмеялась.
— Нет, фрау Залевски. Надо проститься с друзьями.
Матушка Залевски недоверчиво покачала головой.
— Фрейлейн Хольман, вам кажется, что этот молодой чело-
век — сосуд из чистого золота, а на самом деле он в лучшем слу-
чае позолоченная водочная бутылка.
— Как образно,— сказал я.
— Дитя мое!..— снова заволновалась фрау Залевски.— При-
езжайте поскорее обратно! Ваша комната всегда будет ждать
вас. И даже если в ней поселится сам кайзер, ему придется вы-
ехать, когда вы вернетесь!
— Спасибо, фрау Залевски!— сказала Пат.— Спасибо за все.
И за гадание на картах. Я ничего не забуду.
— Это хорошо. Как следует поправляйтесь и выздоравливай-
ie окончательно!
— Да,— ответила Пат,— попробую. До свидания, фрау За-
левски. До свидания, Фрида.
Мы пошли. Входная дверь захлопнулась за нами. На лестни-
це был полумрак: несколько лампочек перегорело. Тихими мяг-
кими шагами спускалась Пат по ступенькам. Она ничего не го-
ворила. А у меня было такое чувство, будто окончилась
побывка и теперь серым утром мы едем на вокзал, чтобы снова
отравиться на фронт.
* ♦ *
Ленц распахнул дверцу такси.
— Осторожно!— предупредил он. Машина была завалена
ро »ами. Два огромных букета белых и красных бутонов лежали
ив шднем сиденье. Я сразу увидел, что они из церковного сада.—
Последние,— самодовольно заявил Ленц.— Стоило известных
усилий. Пришлось довольно долго объясняться по этому поводу
< о священником.
— С голубыми детскими глазами?— спросил я.
— Ах, значит, это был ты, брат мой!— воскликнул Готт-
фрид.— Так, значит, он мне о тебе рассказывал. Бедняга страшно
рв ючаровался, когда после твоего ухода увидел, в каком состо-
пнии кусты роз у галереи. А уж он было подумал, что набож-
ность среди мужского населения снова начала расти.
— 4* 295 + —
— А тебя он прямо так и отпустил с цветами?— спросил я.
— С ним можно столковаться. Напоследок он мне даже сам
помогал срезать бутоны.
Пат рассмеялась.
— Неужели правда?
Готтфрид хитро улыбнулся.
— А как же! Все это выглядело очень здорово: духовный
отец подпрыгивает в полумраке, стараясь достать самые высо-
кие ветки. Настоящий спортсмен. Он сообщил мне, что в гим-
назические годы слыл хорошим футболистом. Кажется, играл
правым полусредним.
— Ты побудил пастора совершить кражу,— сказал я.—
За это ты проведешь несколько столетий в аду. Но где Отто?
— Уже у Альфонса. Ведь мы ужинаем у Альфонса?
— Да, конечно,— сказала Пат.
— Тогда поехали!
* * ♦
Нам подали нашпигованного зайца с красной капустой и пе-
чеными яблоками. В заключение ужина Альфонс завел пате-
фон. Мы услышали хор донских казаков. Это была очень тихая
песня. Над хором, звучавшим приглушенно, как далекий орган,
витал одинокий ясный голос. Мне показалось, будто бесшумно
отворилась дверь, вошел старый усталый человек, молча при-
сел к столику и стал слушать песню своей молодости.
— Дети,— сказал Альфонс, когда пение, постепенно затихая,
растаяло наконец, как вздох.— Дети, знаете, о чем я всегда ду-
маю, когда слушаю это? Я вспоминаю Ипр в тысяча девятьсот
семнадцатом году. Помнишь, Готтфрид, мартовский вечер
и Бертельсмана?..
— Да,— сказал Ленц,— помню, Альфонс. Помню этот вечер
и вишневые деревья...
Альфонс кивнул. Кестер встал.
— Думаю, пора ехать.— Он посмотрел на часы.— Да, надо
собираться.
— Еще по рюмке коньяку,— сказал Альфонс.— Настоящего
«наполеона». Я его принес специально для вас.
Мы выпили коньяк и встали.
— До свидания, Альфонс!— сказала Пат.— Я всегда с удо-
вольствием приходила сюда.— Она подала ему руку.
Альфонс покраснел. Он крепко сжал ее ладонь в своих лапах,
— В общем, если что понадобится... просто дайте знать.—
Он смотрел на нее в крайнем замешательстве.— Ведь вы теперь
— Ф 296
наша. Никогда бы не подумал, что женщина может стать своей
в такой компании.
— Спасибо,— сказала Пат.— Спасибо, Альфонс. Это самое
приятное из всего, что вы могли мне сказать. До свидания и все-
in хорошего.
— До свидания! До скорого свидания!
Кестер и Ленц проводили нас на вокзал. Мы остановились
на минуту у нашего дома, и я сбегал за собакой. Юпп уже увез
чемоданы.
Мы прибыли в последнюю минуту. Едва мы вошли в вагон,
как поезд тронулся. Тут Готтфрид вынул из кармана завернутую
н\ । ылку и протянул ее мне.
— Вот, Робби, прихвати с собой. В дороге всегда может при-
in шгься.
— Спасибо,— сказал я,— распейте ее сегодня вечером сами,
ребят а. У меня кое-что припасено.
— Возьми,— настаивал Ленц.— Этого всегда не хватает!—
<)п шел по перрону рядом с движущимся поездом и кинул мне
<»\ I ылку.
— До свидания, Пат!— крикнул он.— Если мы здесь обан-
кротимся, приедем все к вам. Отто в качестве тренера по лыж-
ному спорту, а я как учитель танцев. Робби будет играть на роя-
ic. Сколотим бродячую труппу и будем кочевать из отеля
н отель.
Поезд пошел быстрее, и Готтфрид отстал. Пат высунулась
и । окна и махала платочком, пока вокзал не скрылся за поворо-
1ом. Потом она обернулась, лицо ее было очень бледно, глаза
нлажно блестели. Я взял ее за руку.
— Пойдем,— сказал я,— давай выпьем чего-нибудь. Ты пре-
красно держалась.
— Но на душе у меня совсем не прекрасно,— ответила она,
пытаясь изобразить улыбку.
— И у меня тоже,— сказал я.— Поэтому мы и выпьем немного.
Я откупорил бутылку и налил ей стаканчик коньяку.
— Хорошо?— спросил я.
Она кивнула и положила мне голову на плечо.
Любимый мой, чем же все это кончится?
Ты не должна плакать,— сказал я.— Я так горжусь, что ты
....икала весь день.
Да я и не плачу,— проговорила она, покачав головой,
।. к* 1ы текли по ее тонкому лицу.
Выпей еще немного,— сказал я и прижал ее к себе.— Так
• и».1 с । в первую минуту, а потом дело пойдет на лад.
— Ф 297 4* —
Она кивнула:
— Да, Робби. Не обращай на меня внимания. Сейчас все
пройдет; лучше, чтобы ты этого совсем не видел. Дай мне по-
быть одной несколько минут, я как-нибудь справлюсь с собой.
— Зачем же? Весь день ты была такой храброй, что теперь
спокойно можешь плакать сколько хочешь.
— И совсем я не была храброй. Ты этого просто не заметил.
— Может быть,— сказал я,— но ведь в том-то и состоит хра-
брость.
Она попыталась улыбнуться.
— Ав чем же тут храбрость, Робби?
— В том, что ты не сдаешься.— Я провел рукой по ее воло-
сам.— Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.
— У меня нет мужества, дорогой,— пробормотала она.—
У меня только жалкий страх перед последним и самым боль-
шим страхом.
— Это и есть настоящее мужество, Пат.
Она прислонилась ко мне.
— Ах, Робби, ты даже не знаешь, что такое страх.
— Знаю,— сказал я.
* * *
Отворилась дверь. Проводник попросил предъявить билеты.
Я дал их ему.
— Спальное место для дамы?— спросил он.
Я кивнул.
— Тогда вам придется пройти в спальный вагон,— сказал он
Пат.— В других вагонах ваш билет недействителен.
— Хорошо.
— А собаку надо сдать в багажный вагон,— заявил он.— Там
есть купе для собак.
— Ладно,— сказал я.— А где спальный вагон?
— Третий справа. Багажный вагон в голове поезда.
Он ушел. На его груди болтался маленький фонарик. Казалось,
он идет по забою шахты.
— Будем переселяться, Пат,— сказал я.— Билли я как-ни
будь протащу к тебе. Нечего ему делать в багажном вагоне.
Для себя я не взял спального места. Мне ничего не стоило
просидеть ночь в углу купе. Кроме того, это было дешевле.
Юпп успел доставить чемоданы Пат в спальный вагон. Ма
ленькое, изящное купе сверкало красным деревом. У Пат было
нижнее место. Я спросил проводника, занято ли также и верхнее.
— Да,— сказал он,— пассажир сядет во Франкфурте.
— Ф 298 + —
Когда мы прибудем туда?
В половине третьего.
Я дал ему на чай, и он ушел в свой уголок.
Через полчаса я приду к тебе с собакой,— сказал я Пат.
11о ведь с собакой нельзя: проводник остается в вагоне.
Можно. Ты только не запирай дверь.
Я пошел обратно мимо проводника, он внимательно посмот-
!•»* । ни меня. На следующей станции я вышел с собакой на пер-
... прошел вдоль спального вагона, остановился и стал ждать.
Проводник сошел с лесенки и завел разговор с главным кондук-
• иром. Тогда я юркнул в вагон, прошмыгнул к спальным купе
<• вошел к Пат, никем не замеченный. На ней был пушистый бе-
H.iii халат, и она чудесно выглядела. Ее глаза блестели.
Теперь я опять в полном порядке, Робби,— сказала она.
Это хорошо. Но не хочешь ли ты прилечь? Очень уж здесь
•» но А я посижу возле тебя.
Да, но...— Она нерешительно показала на верхнее место.—
\ но, если вдруг откроется дверь и перед нами окажется пред-
|.ши 1ельница союза спасения падших девушек?..
До Франкфурта еще далеко,— сказал я.— Я буду начеку.
11< \сну.
Koi да мы подъезжали к Франкфурту, я перешел в свой вагон,
• । в yiлу у окна и попытался вздремнуть. Но во Франкфурте
•’ мне вошел мужчина с усами, как у тюленя, немедленно от-
• pi.i । чемодан и принялся есть. Он ел так интенсивно, что я ни-
» «к не мог уснуть. Трапеза продолжалась почти час. Потом тю-
" hi. вытер усы, улегся и задал концерт, какого я никогда еще
н. » 1ышал. Это был не обычный храп, а какие-то воющие вздо-
’н прерываемые отрывистыми стонами и протяжным булька-
• н.м Я не мог уловить в этом никакой системы, так все было
г । икюбразно. К счастью, в половине шестого он вышел.
К<нда я проснулся, за окном все было бело. Снег падал круп-
"I Iм11 хлопьями. Странный, неправдоподобный полусвет озарял
• \1в* Поезд уже шел по горной местности. Было около девяти
। •• ив. Я потянулся и пошел умываться. Когда я вернулся, в купе
• •"I и Пат, посвежевшая после сна.
Ты хорошо спала?— спросил я.
и h i кивнула.
А кем оказалась старая ведьма на верхней полке?
Она молода и хороша собой. Ее зовут Хельга Гутман, она
н । и ют же санаторий.
I1равда?
— 4* 299 Ф —
— Да, Робби. Но ты спал плохо, это заметно. Тебе надо как
следует позавтракать.
— Кофе,— сказал я,— кофе и немного вишневой настойки.
Мы пошли в вагон-ресторан. Вдруг на душе у меня стало легко.
Все выглядело не так страшно, как накануне вечером.
Хельга Гутман уже сидела за столиком. Это была стройная
живая девушка южного типа.
— Какое странное совпадение,— сказал я.— Вы едете в один
и тот же санаторий.
— Совсем не странное,— возразила она.
Я посмотрел на нее. Она рассмеялась.
— В это время туда слетаются все перелетные птицы. Вот,
видите столик напротив?..— Она показала в угол вагона.— Все
они тоже едут туда.
— Откуда вы знаете?— спросил я.
— Я их знаю всех по прошлому году. Там, наверху, все знают
друг друга.
Кельнер принес кофе. Я заказал еще большую стопку винт
невки. Мне нужно было выпить чего-нибудь. И вдруг все стало
как-то сразу очень простым. Рядом сидели люди и ехали в сана-
торий, некоторые даже во второй раз, и эта поездка была для
них, по-видимому, всего лишь прогулкой. Было просто глупо
так сильно тревожиться. Пат вернется так же, как возврата
лись все эти люди. Я не подумал о том, что они едут туда вто
рично... Мне было достаточно знать, что оттуда можно вернуться
и прожить еще целый год. А за год чего только не случается.
Прошлое научило нас не заглядывать далеко вперед.
* ♦ ♦
Мы приехали перед вечером. Солнце заливало золотистым
светом заснеженные поля, а прояснившееся небо было таким
голубым, каким мы его уже давно не видели. На вокзале собра-
лось множество людей. Встречающие и прибывшие обменива
лись приветствиями. Хельгу Гутман встретила хохочущая блок
динка и двое мужчин в светлых брюках гольф. Хельга была
очень возбуждена, словно вернулась в родной дом после долго
го отсутствия.
— До свидания, наверху увидимся!— крикнула она нам и се
ла со своими друзьями в сани.
Все быстро разошлись, и через несколько минут мы остались
на перроне одни. К нам подошел носильщик.
— Какой отель?— спросил он.
— Санаторий «Лесной покой»,— ответил я.
— + 300 ф —
( hi кивнул и подозвал кучера. Оба уложили багаж в голубые
пароконные сани. Головы белых лошадей были украшены плю-
мажами из пестрых перьев, пар из ноздрей окутывал их морды
।н-р шмутровым облаком.
Мы уселись.
Поедете наверх по канатной дороге или на санях?— спро-
• и-I кучер.
А долго ехать на санях?
Полчаса.
Тогда на санях.
Кучер щелкнул языком, и мы тронулись. За деревней дорога
- пиралью поднималась вверх. Санаторий находился на возвы-
шенности над деревней. Это было длинное белое здание с вы-
пь ими окнами, выходившими на балконы. Флаг на крыше кор-
пус, । колыхался на слабом ветру. Я полагал, что увижу нечто
••роле больницы. Но санаторий походил скорее на отель, по
иранней мере на нижнем этаже. В холле пылал камин. На не-
• к»» п.ких столиках стояла чайная посуда.
Мы зашли в контору. Служитель внес наш багаж, и какая-то
пожилая дама сказала нам, что для Пат приготовлена комната 79.
И < просил, можно ли будет и мне получить комнату на несколь-
ко пней. Она покачала головой.
Не в санатории. Но вы можете поселиться во флигеле.
Где он?
Тут же, рядом.
Хорошо,— сказал я,— тогда отведите мне там комнату
н < кажите, чтобы туда отнесли мой багаж.
бесшумный лифт поднял нас на третий этаж. Здесь все уже
• ира |до больше напоминало больницу. Правда, очень комфор-
ц|(»е п>ную, но все же больницу. Белые коридоры, белые двери,
ь кч к чистоты, стекла и никеля. Нас встретила старшая сестра.
Фрейлейн Хольман?
Да,— сказала Пат,— комната 79, не так ли?
< ыршая сестра кивнула, прошла вперед и открыла дверь.
Вот ваша комната.
>ю была светлая, средних размеров комната. В широком окне
и и io заходящее солнце. На столе стояла ваза с желтыми
и красными астрами, а за окном лежал искристый снег, в кото-
1*1 hi 1еревня укуталась, как в большое мягкое одеяло.
Нравится тебе?— спросил я Пат.
(>iia посмотрела на меня и ответила не сразу.
Да,— сказала она затем.
Коридорный внес чемоданы.
— Ф 301
— Когда мне надо показаться врачу?— спросила Пат сестру.
— Завтра утром. А сегодня вам лучше лечь пораньше, чтобы
хорошенько отдохнуть.
Пат сняла пальто и положила его на белую кровать, над ко*
торой висел чистый температурный лист.
— В этой комнате есть телефон?— спросил я.
— Есть розетка,— сказала сестра.— Можно поставить аппарат.
— Я должна еще что-нибудь сделать?— спросила Пат.
Сестра покачала головой.
— Сегодня нет. Режим вам будет назначен только завтра.
К врачу пойдете в десять утра. Я зайду за вами.
— Благодарю вас, сестра,— сказала Пат.
Сестра ушла. Коридорный все еще ждал в дверях. Я дал ему
на чай, и он ушел. В комнате вдруг стало очень тихо. Пат смот-
рела в окно на закат. Ее темный силуэт вырисовывался на фоне
сверкающего неба.
— Ты устала?— спросил я.
Она обернулась.
— Нет.
— У тебя утомленный вид,— сказал я.
— Я по-другому устала, Робби. Впрочем, для этого у меня
еще есть время.
— Хочешь переодеться?— спросил я.—А то, может, спус
тимся на часок? Думаю, нам лучше сперва сойти вниз.
— Да,— сказала она,— так будет лучше.
Мы спустились в бесшумном лифте и сели за один из столи
ков в холле. Вскоре подошла Хельга Гутман со своими друзья
ми. Они подсели к нам. Хельга была возбуждена и не в меру нс
села, но я был доволен, что она с нами и что у Пат уже есть
несколько новых знакомых. Труднее всего здесь было прожить
первый день.
XXII
Через неделю я поехал обратно и прямо с вокзала отправил
ся в мастерскую. Был вечер. Все еще лил дождь, и мне казн
лось, что со времени нашего отъезда прошел целый год.
В конторе я застал Кестера и Ленца.
— Ты пришел как раз вовремя,— сказал Готтфрид.
— А что случилось?— спросил я.
— Пусть сперва присядет,— сказал Кестер.
Я сел.
— Как здоровье Пат?— спросил Отто.
— + 302 + —
— Хорошо. Насколько это вообще возможно. Но скажите
мне, что тут произошло?
Речь шла о машине, которую мы увезли после аварии на шоссе.
Мы ее отремонтировали и сдали две недели тому назад. Вчера
Кестер пошел за деньгами. Выяснилось, что человек, которому
принадлежала машина, только что обанкротился и автомобиль
пущен с молотка вместе с остальным имуществом.
— Так это ведь не страшно,— сказал я.— Будем иметь дело
со страховой компанией.
— И мы так думали,— сухо заметил Ленц.— Но машина
не застрахована.
— Черт возьми! Это правда, Отто?
Кестер кивнул.
— Только сегодня выяснил.
— А мы-то нянчились с этим типом, как сестры милосердия,
ди еще ввязались в драку из-за его колымаги,— проворчал
Ленц.— Четыре тысячи марок улыбнулись!..
— Кто же мог знать!— сказал я.
Ленц расхохотался.
— Очень уж все это глупо!
— Что же теперь делать, Отто?— спросил я.
— Я заявил претензию распорядителю аукциона. Но, боюсь,
in этого ничего не выйдет.
— Придется нам прикрыть лавочку. Вот что из этого вый-
/IV г,— сказал Ленц.— Финансовое управление и без того имеет
ни нас зуб из-за налогов.
— Возможно,— согласился Кестер.
Ленц встал.
— Спокойствие и выдержка в трудных ситуациях — вот что
украшает солдата.— Он подошел к шкафу и достал коньяк.
— С таким коньяком можно вести себя даже геройски,— сказал
и. — Если не ошибаюсь, это у нас последняя хорошая бутылка.
— Героизм, мой мальчик, нужен для тяжелых времен,— по-
учительно заметил Ленц.— Но мы живем в эпоху отчаяния. Тут
приличествует только чувство юмора.— Qh выпил свою рюм-
ку. - Вот, а теперь я сяду на нашего старого «Росинанта» и по-
пробую наездить немного мелочи.
Он прошел по темному двору, сел в такси и уехал. Кестер
и и посидели еще немного вдвоем.
Неудача, Отто!— сказал я.— Что-то в последнее время
у пне чертовски много неудач.
— + 303 + —
— Я приучил себя думать не больше, чем это строго необхо-
димо,— ответил Кестер.— Этого вполне достаточно. Как там
в горах?
— Если бы не туберкулез, там был бы сущий рай. Снег
и солнце.
Он поднял голову.
— Снег и солнце. Звучит довольно неправдоподобно, верно?
— Да. Очень даже неправдоподобно. Там, наверху, все не-
правдоподобно.
Он посмотрел на меня.
— Что ты делаешь сегодня вечером?
Я пожал плечами.
— Надо сперва отнести домой чемодан.
— Мне надо уйти на час. Придешь потом в бар?
— Приду, конечно,— сказал я.— А что мне еще делать?
♦ * *
Я съездил на вокзал за чемоданом и привез его домой. По-
старался проникнуть в квартиру без всякого шума: не хотелось
ни с кем разговаривать. Мне удалось пробраться к себе, не по-
павшись на глаза фрау Залевски. Немного посидел в комнате.
На столе лежали письма и газеты. В конвертах были одни толь-
ко проспекты. Да и от кого мне было ждать писем? «А вот те-
перь Пат будет мне писать»,— подумал я.
Вскоре я встал, умылся и переоделся. Чемодан я не распако-
вал,— хотелось, чтобы было чем заняться, когда вернусь.
Я не зашел в комнату Пат, хотя знал, что там никто не живет.
Тихо прошмыгнув по коридору, я очутился на улице и только
тогда вздохнул свободно.
Я пошел в кафе «Интернациональ», чтобы поесть. У входи
меня встретил кельнер Алоис. Он поклонился мне.
— Что, опять вспомнили нас?
— Да,— ответил я.— В конце концов люди всегда возврата
ются обратно.
Роза и остальные девицы сидели вокруг большого стола. Со-
брались почти все: был перерыв между первым и вторым пат*
рульным обходом.
— Мой Бог, Роберт!— сказала Роза.— Вот редкий гость!
— Только не расспрашивай меня,— ответил я.— Главное,
что я опять здесь.
— То есть как? Ты собираешься приходить сюда часто?
— Вероятно.
__ф 304 Ф —
«Три товарища»
— Не расстраивайся,— сказала она и посмотрела на меня.—
Все проходит.
— Правильно,— подтвердил я.— Это самая верная истина
на свете.
— Ясно,— подтвердила Роза.— Лилли тоже могла бы порас-
сказать кое-что на этот счет.
— Лилли?— Я только теперь заметил, что она сидит рядом
с Розой.— Ты что здесь делаешь? Ведь ты замужем и должна
сидеть дома в своем магазине водопроводной арматуры и сан-
техники.
Лилли не ответила.
— Магазин!— насмешливо сказала Роза.— Пока у нее еще
были деньги, все шло как по маслу. Лилли была прекрасна. Лилли
была мила, и ее прошлое не имело значения. Все это счастье
продолжалось ровно полгода! Когда же муж выудил у нее все
до последнего пфеннига и на ее деньги стал благородным гос-
подином, он вдруг решил, что проститутка не может быть его
женой.— Роза задыхалась от негодования.— Вдруг, видите ли,
выясняется: он ничего не подозревал и был потрясен, узнав о ее
прошлом. Так потрясен, что потребовал развода. Но денежки,
конечно, пропали.
— Сколько?— спросил я.
— Четыре тысячи марок! Не пустяк! Как ты думаешь, со сколь-
кими свиньями ей пришлось переспать, чтобы их заработать?
— Четыре тысячи марок,— сказал я.— Опять четыре тысячи
марок. Сегодня они словно висят в воздухе.
Роза посмотрела на меня непонимающим взглядом.
— Сыграй лучше что-нибудь,— сказала она,— это поднимет
нам настроение.
— Ладно, уж коль скоро мы все снова встретились...
Я сел за пианино и сыграл несколько модных танцев. Играл
и думал, что денег на санаторий у Пат хватит только до конца ян-
варя и что мне нужно зарабатывать больше, чем до сих пор.
Пальцы механически ударяли по клавишам, у пианино на дива-
не сидела Роза и с восторгом слушала. Я смотрел на нее и на ока-
меневшую от страшного разочарования Лилли. Ее лицо было бо-
лее холодным и безжизненным, чем у мертвеца.
* * *
Раздался крик, и я очнулся от своих раздумий. Роза вскочи
ла. От ее мечтательного настроения не осталось ни следа. Опа
стояла у столика, вытаращив глаза, шляпка съехала набок,
— + 306 4* —
в раскрытую сумочку со стола стекал кофе, вылившийся из оп-
рокинутой чашки, но она этого не замечала.
— Артур!— с трудом вымолвила она.— Артур, неужели это ты?
Я перестал играть. В кафе вошел тощий вертлявый тип в ко-
телке, сдвинутом на затылок. У него был желтый, нездоровый
цвет лица, крупный нос и очень маленькая яйцевидная голова.
— Артур,— снова пролепетала Роза.— Ты?
— Ну да, а кто же еще?— буркнул Артур.
— Боже мой, откуда ты взялся?
— Откуда мне взяться? Пришел с улицы через дверь.
Хотя Артур вернулся после долгой разлуки, он был не осо-
бенно любезен. Я с любопытством разглядывал его. Вот, значит,
каков легендарный кумир Розы, отец ее ребенка. Он выглядел
так, будто только что вышел из тюрьмы. Я не мог обнаружить
в нем ничего, что объясняло бы дикую, прямо-таки обезьянью
страсть Розы. А может быть, именно в этом и был секрет. Уди-
вительно, на что только могут польститься эти женщины, твер-
дые как алмаз, знающие мужчин вдоль и поперек.
Не спрашивая разрешения, Артур взял полный стакан пива,
стоявший возле Розы, и выпил его. Кадык на его тонкой, жили-
стой шее скользил вверх и вниз, как лифт. Роза смотрела на него
и сияла.
— Хочешь еще?— спросила она.
— Конечно,— бросил он.— Но побольше.
— Алоис!— Роза радостно обратилась к кельнеру.— Он хочет
еще пива!
— Вижу,— равнодушно сказал Алоис и наполнил стакан.
— А малышка! Артур, ты еще не видел маленькую Эльвиру!
— Послушай, ты!— Артур впервые оживился. Он поднял руку
к груди, словно обороняясь.— Насчет этого ты мне голову
не морочь. Это меня не касается! Ведь я же хотел, чтобы ты из-
бавилась от этого ублюдка. Так бы оно и случилось, если бы меня
не...— Он помрачнел.— А теперь, конечно, нужны деньги и деньги.
— Не так уж много, Артур. К тому же это девочка.
— Тоже стоит денег,— сказал Артур и выпил второй стакан
нива.— Может, мы найдем какую-нибудь сумасшедшую бога-
। ую бабу, которая ее удочерит. Конечно, если она даст нам при-
личное вознаграждение. Другого выхода не вижу.
Потом он прервал свои размышления.
— Есть у тебя при себе наличные?
Роза услужливо достала сумочку, залитую кофе:
— Только пять марок, Артур, ведь я не знала, что ты при-
мешь, но дома есть больше.
— + 307 + —
Жестом паши Артур небрежно опустил серебро в жилетный
карман.
— Ничего не заработаешь, если будешь тут продавливать ди-
ван задницей,— недовольно пробурчал он.
— Сейчас пойду, Артур. Но теперь какая же работа? Время
ужина.
— Мелкий скот тоже дает навоз,— заявил Артур.
— Иду, иду.
— Что ж...— Артур прикоснулся к котелку.— Часов в две-
надцать загляну снова.
Развинченной походкой он направился к выходу. Роза бла-
женно смотрела ему вслед. Он вышел, не закрыв за собою дверь.
— Вот верблюд!— выругался Алоис.
Роза с гордостью посмотрела на нас.
— Разве он не великолепен? Его ничем не проймешь. И где
это он проторчал столько времени?
— Разве ты не заметила по цвету лица?— сказала Валли.—
В надежном местечке. Тоже мне! Герой!
— Ты не знаешь его...
— Я его достаточно знаю,— сказала Валли.
— Тебе этого не понять.— Роза встала.— Настоящий мужчи-
на — вот он кто! Не какая-нибудь слезливая размазня. Ну, я по-
шла. Привет, детки!
Помолодевшая и окрыленная, она вышла, покачивая бедрами.
Снова появился кто-то, кому она сможет отдавать свои деньги,
чтобы он их пропивал, а потом еще и бил ее в придачу. Роза была
счастлива.
* * *
Через полчаса ушли и остальные. Только Лилли не трогалась
с места. Ее лицо было по-прежнему каменным.
Я еще побренчал немного на пианино, затем съел бутерброд
и тоже ушел. Было невозможно оставаться долго наедине с Лилли.
Я брел по мокрым темным улицам. У кладбища выстроился
отряд Армии спасения. В сопровождении тромбонов и труб
они пели о небесном Иерусалиме. Я остановился: вдруг я по-
чувствовал, что не выдержать мне одному, без Пат. Уставив-
шись на бледные могильные плиты, я говорил себе, что еще год
назад я был куда более одинок, что тогда я не был знаком с Пат,
что теперь она у меня есть, пусть и не рядом... Но все это не по-
могало, что-то я совсем расстроился и не знал, что делать. На-
конец я решил заглянуть домой, узнать, нет ли от нее письма.
— 4* 308 + —
)го было совершенно бессмысленно: письма еще не было,
да и не могло быть, но все-таки я поднялся к себе.
Уходя, я столкнулся с Орловым. Под его распахнутым пальто
был виден смокинг. Он шел в отель, где служил наемным танцо-
ром. Я спросил Орлова, не слыхал ли он что-нибудь о фрау Хассе.
— Нет,— сказал он.— Здесь она не появлялась. И в полиции
нс показывалась. Да так оно и лучше. Пусть не приходит больше...
Мы пошли вместе по улице. На углу стоял грузовик с углем.
I [одняв капот, шофер копался в моторе. Потом он сел в кабину.
Когда мы поравнялись с машиной, он запустил мотор и дал
с ильный газ на холостых оборотах. Орлов вздрогнул. Я посмот-
рел на него. Он побелел как снег.
— Вы больны?— спросил я.
Он улыбнулся бескровными губами и покачал головой:
— Нет, но я иногда пугаюсь, если неожиданно слышу такой
шум. Когда в России расстреливали моего отца, на улице тоже
iaпустили мотор грузовика, чтобы выстрелы не были так слышны.
11о мы их все равно слышали.— Он опять улыбнулся, точно из-
виняясь.— С моей матерью меньше церемонились. Ее расстре-
ляли рано утром в подвале. Брату и мне удалось ночью бежать.
V нас еще были бриллианты. Но брат замерз в пути.
— За что расстреляли ваших родителей?— спросил я.
— Отец был до войны командиром казачьего полка, прини-
мавшего участие в подавлении восстания. Он знал, что все так
и будет, и считал это, как говорится, в порядке вещей. Мать
придерживалась другого мнения.
— А вы?
Он устало и неопределенно махнул рукой:
— С тех пор столько произошло...
— Да,— сказал я,— в этом все дело. Больше, чем может пере-
парить человеческий мозг.
Мы подошли к гостинице, в которой он работал. К подъезду
шыкатил «бьюик». Из него вышла дама и, заметив Орлова, с ра-
кк’111ым возгласом устремилась к нему. Это была довольно пол-
ная шегантная. блондинка лет сорока. По ее слегка расплывше-
муся, бездумному лицу было видно, что она никогда не знала
ни шбот, ни горя.
Извините,— сказал Орлов, бросив на меня быстрый выра-
>|цсчьный взгляд,— дела...
()н поклонился блондинке и поцеловал ей руку.
— Ф 309 Ф —
* * *
В баре были Валентин, Кестер, Ленц и Фердинанд Грау.
Я подсел к ним и заказал себе полбутылки рома. Я все еще чув-
ствовал себя отвратительно.
На диване в углу сидел Фердинанд, широкий, массивный,
с изнуренным лицом и ясными голубыми глазами. Он уже успел
выпить всего понемногу.
— Ну, мой маленький Робби,— сказал он и хлопнул меня
по плечу,— что с тобой творится?
— Ничего, Фердинанд,— ответил я,— в том-то и вся беда.
— Ничего?— Он внимательно посмотрел на меня, потом снова
спросил: — Ничего? Ты хочешь сказать — Ничто! Но Ничто —
это уже много! Ничто — это зеркало, в котором отражается мир.
— Браво!— крикнул Ленц.— Необычайно оригинально,
Фердинанд!
— Сиди спокойно, Готтфрид!— Фердинанд повернул к нему
свою огромную голову.— Романтики вроде тебя — всего лишь
патетические попрыгунчики, скачущие по краю жизни. Они
понимают ее всегда ложно, и все для них сенсация. Да что ты
можешь знать про Ничто, легковесное ты существо!
— Знаю достаточно, чтобы желать и впредь быть легковес-
ным,— заявил Ленц.— Порядочные люди уважают это самое
Ничто, Фердинанд. Они не роются в нем, как кроты.
Грау уставился на него.
— За тебя!— сказал Готтфрид.
Они выпили свои рюмки до дна.
— С удовольствием был бы и я пробкой,— сказал я и тоже вы-
пил свою рюмку.— Пробкой, которая делает все правильно и до-
бивается успеха. Хоть бы недолго побыть в таком состоянии!
— Вероотступник!— Фердинанд откинулся в своем кресле
так, что оно затрещало.— Хочешь стать дезертиром? Предать
наше братство?
— Нет,— сказал я,— никого я не хочу предавать. Но мне бы
хотелось, чтобы не всегда и не все шло у нас прахом.
Фердинанд подался вперед. Его крупное лицо, в котором
в эту минуту было что-то дикое, дрогнуло.
— Потому, брат, ты и причастен к одному ордену — к орде-
ну неудачников и неумельцев, с их бесцельными желаниями,
с их тоской, не приводящей ни к чему, с их любовью без буду
щего, с их бессмысленным отчаянием.— Он улыбнулся.— Ты
принадлежишь к тайному братству, члены которого скорее по
гибнут, чем сделают карьеру, скорее проиграют, распылят, по-
теряют свою жизнь, но не посмеют, предавшись суете, исказить
— + ЗЮ ф —
и । и позабыть недосягаемый образ — тот образ, брат мой, кото-
рый они носят в своих сердцах, который был навечно утверж-
ICH в часы, и дни, и ночи, когда не было ничего, кроме голой
жизни и голой смерти.— Он поднял свою рюмку и сделал знак
Фреду, стоявшему у стойки.— Дай мне выпить.
Фред принес бутылку.
— Пусть еще поиграет патефон?— спросил он.
— Нет,— сказал Ленц.— Выбрось свой патефон ко всем чертям
и принеси бокалы побольше. Убавь свет, поставь сюда несколько
ьугылок и убирайся к себе в конторку.
Фред кивнул и выключил верхний свет. Горели только лам-
почки под пергаментными абажурами из старых географиче-
(к их карт. Ленц наполнил бокалы.
— Выпьем, ребята! За то, что мы живем! За то, что мы ды-
шим! Ведь мы так сильно чувствуем жизнь! Даже не знаем, что
нам с ней делать!
— Это так,— сказал Фердинанд.— Только несчастный знает,
•по такое счастье. Счастливец ощущает радость жизни не более,
чем манекен: он только демонстрирует эту радость, но она ему
не дана. Свет не светит, когда светло. Он светит во тьме. Вы-
пьем за тьму! Кто хоть раз попал в грозу, тому нечего объяс-
ни ib, что такое электричество. Будь проклята гроза! Да будет
н 1агословенна та малая толика жизни, что мы имеем! И так как
мы любим ее, то не будем же закладывать ее под проценты! Живи
напропалую! Пейте, ребята! Есть звезды, которые распались
десять тысяч световых лет тому назад, но они светят и поныне!
Пейте, пока есть время! Да здравствует несчастье! Да здрав-
ствует тьма!
Он налил себе полный бокал коньяку и выпил залпом.
* * *
Ром шумел в моей голове. Я тихо встал и пошел в конторку
Фреда. Он спал. Разбудив его, я попросил заказать телефонный
разговор с санаторием.
— Подождите немного,— сказал он.— В это время соединяют
быстро.
Через пять минут телефон зазвонил. Санаторий был на проводе.
— Я хотел бы поговорить с фрейлейн Хольман,— сказал я.
— Минутку, соединяю вас с дежурной.
Мне ответила старшая сестра:
— Фрейлейн Хольман уже спит.
— А в ее комнате нет телефона?
— Нет.
— + 311 + —
— Вы не можете ее разбудить?
Сестра ответила не сразу.
— Нет. Сегодня она больше не должна вставать.
— Что-нибудь случилось?
— Нет. Но в ближайшие дни она должна оставаться в постели.
— Я могу быть уверен, что ничего не случилось?
— Ничего, ничего, так всегда бывает вначале. Она должна
оставаться в постели и постепенно привыкнуть к обстановке.
Я повесил трубку.
— Слишком поздно, да?— спросил Фред.
— Как то есть поздно?
Он показал мне свои часы.
— Двенадцатый час.
— Да,— сказал я.— Не стоило звонить.
Я пошел обратно и выпил еще.
В два часа мы ушли. Ленц поехал с Валентином и Фердинандом
на такси.
— Садись,— сказал мне Кестер и завел мотор «Карла».
— Мне отсюда рукой подать, Отто. Могу пройтись пешком.
Он посмотрел на меня.
— Поедем еще немного за город.
— Ладно.— Я сел в машину.
— Берись за руль,— сказал Кестер.
— Глупости, Отто. Я не сяду за руль, я пьян.
— Поезжай! Под мою ответственность.
— Вот увидишь...— сказал я и сел за руль.
Мотор ревел. Рулевое колесо дрожало в моих руках. Качаясь,
проплывали мимо улицы, дома наклонялись, фонари стояли косо
под дождем.
— Отто, ничего не выходит,— сказал я.— Еще врежусь
во что-нибудь.
— Врезайся,— ответил он.
Я посмотрел на него. Его лицо было ясно, напряженно и спо-
койно. Он смотрел вперед на мостовую. Я прижался к спинк*
сиденья й крепче ухватился за руль. Я сжал зубы и сощурил глаза,
Постепенно улица стала более отчетливой.
— Куда, Отто?— спросил я.
— Дальше. За город.
Мы проехали окраину и вскоре выбрались на шоссе.
— Дай дальний свет,— сказал Кестер.
Впереди ярко заблестел серый бетон. Дождь почти перестал,
но капли били мне в лицо, как град. Ветер налетал тяжелыми
порывами. Низко над лесом нависали рваные облака, и сквош
— + 312 + —
них сочилось серебро. Хмельной туман, круживший мне голову,
\ id учился. Рев мотора отдавался в руках, во всем теле. Я чув-
ивовал всю мощь машины. Взрывы в цилиндрах сотрясали ту-
пой, оцепеневший мозг. Поршни молотком стучали в моей кро-
ви. Я прибавил газу. Машина пулей неслась по шоссе.
— Быстрее,— сказал Кестер.
Засвистели покрышки. Гудя, пролетали мимо деревья и теле-
|рафные столбы. Прогрохотала какая-то деревня. Теперь я был
с овеем трезв.
— Больше газу,— сказал Кестер.
— Как же я его тогда удержу? Дорога мокрая.
— Сам сообразишь. Перед поворотами переключай на третью
( корость и не сбавляй газ.
Мотор загремел еще сильней. Воздух бил мне в лицо. Я при-
нялся за ветровым щитком. И будто провалился в грохот дви-
i.iieля, машина и тело слились в одном напряжении, в одной
высокой вибрации, я ощущал под ногами колеса, я ощущал бе-
|ои шоссе, скорость... И вдруг, словно от толчка, все во мне стало
и.। место. Ночь завывала и свистела, вышибая из меня все по-
• iopoi।нее, мои губы плотно сомкнулись, руки сжались, как тиски,
и я весь превратился в движение, в бешеную скорость, я был
в беспамятстве и в то же время предельно внимателен.
На каком-то повороте задние колеса машины занесло. Я раз-
।р\ । ой повернул руль в противоположную сторону и снова дал
। ы На мгновение устойчивость исчезла, словно мы повисли
и корзине воздушного шара, но потом колеса снова прочно сце-
пились с полотном дороги.
— Хорошо,— сказал Кестер.
— Мокрые листья,— объяснил я. По телу пробежала теплая
полна, и я почувствовал облегчение, как это бывает всегда, когда
проходит опасность.
Кестер кивнул.
— Осенью на лесных поворотах всегда такая чертовщина.
Хочешь закурить?
— Да,— сказал я.
Мы остановились и закурили.
Теперь можно повернуть обратно,— сказал Кестер.
Мы приехали в город, и я вышел из машины.
Хорошо, что прокатились, Отто. Теперь я в норме.
В следующий раз покажу тебе другую технику езды на по-
•poHix,— сказал он.— Резкий поворот руля при одновремен-
•••\1 торможении. Но это когда дорога посуше.
Ладно, Отто. Доброй ночи.
— Ф 313 + —
— Доброй ночи, Робби.
«Карл» умчался. Я вошел в дом. Я был совершенно измотан,
но спокоен. Моя печаль рассеялась.
XXIII
В начале ноября мы продали «ситроен». На вырученные
деньги можно было еще некоторое время содержать мастер-
скую, но наше положение ухудшалось с каждой неделей. На зиму
владельцы автомобилей ставили свои машины в гаражи, чтобы
экономить на бензине и налогах. Ремонтной работы станови-
лось все меньше. Правда, мы кое-как перебивались выручкой
от такси, но скудного заработка не хватало на троих, и поэтому
я очень обрадовался, когда хозяин «Интернационаля» предло-
жил мне начиная с декабря снова играть у него каждый вечер
на пианино. В последнее время ему повезло: союз скотопро-
мышленников проводил свои еженедельные встречи в одной
из задних комнат «Интернационаля». Примеру скотопромыш-
ленников последовал союз торговцев лошадьми и, наконец,
«Общество борьбы за кремацию во имя общественной пользы».
Таким образом, я мог предоставить такси Ленцу и Кестеру. Меня
это вполне устраивало еще и потому, что по вечерам я часто
не знал, куда деваться.
Пат писала регулярно. Я ждал ее писем, но не мог себе пред
ставить, как она живет, и иногда, в мрачные и слякотные де
кабрьские дни, когда даже в полдень не бывало по-настоящему
светло, я думал, что она давным-давно ускользнула от меня, что
все прошло. Мне казалось, что со времени нашей разлуки про
шла Целая вечность, и тогда я не верил, что Пат вернется. По
том наступали вечера, полные тягостной, дикой тоски, и тут уж
ничего не оставалось — я просиживал ночи напролет в обществе
проституток и скотопромышленников и пил с ними.
Владелец «Интернационаля» получил разрешение не закры
вать свое кафе в Сочельник. Холостяки всех союзов устраивали
большой вечер. Председатель союза скотопромышленников,
свиноторговец Стефан Григоляйт, пожертвовал для праздники
двух молочных поросят и много свиных ножек. Уже два годи
Григоляйт был вдовцом. Отличаясь мягким и общительным ха
рактером, он пожелал встретить Рождество в приятном обществе
Хозяин кафе раздобыл четырехметровую ель, которую во
друзили около стойки. Роза, признанный авторитет по час1И
уюта и задушевной атмосферы, взялась украсить дерево. Ей по
могали Марион и Кики, в силу своих наклонностей он тоже ой
ладал чувством прекрасного. Они приступили к работе в пол
— + 314 + —
iciib и навесили на ветки огромное количество пестрых стек-
1МПНЫХ шаров, свечей и золотой мишуры. В конце концов елка
получилась на славу. В знак особого внимания к Григоляйту укра-
шение дополнили множеством розовых свинок из марципана.
г * * *
1.1осле обеда я прилег и проспал несколько часов. Проснулся
уже затемно и не сразу сообразил, вечер теперь или утро. Мне
•по-то снилось, но я не мог вспомнить что. Сон унес меня куда-
10 далеко, и мне казалось, что я еще слышу, как за мной захло-
пывается черная дверь. Потом я услышал стук.
— Кто там?— откликнулся я.
— Я, господин Локамп.
Я узнал голос фрау Залевски.
Войдите,— сказал я.— Дверь открыта.
( крипнула дверь, и я увидел фигуру фрау Залевски, осве-
н( иную желтым светом, лившимся из коридора.
При [ила фрау Хассе,— прошептала она.— Пойдемте скорее.
Я нс могу ей сказать это.
Я не пошевелился. Нужно было сперва прийти в себя.
Пошлите ее в полицию,— сказал я, подумав.
Господин Локамп!— Фрау Залевски заломила руки.— Нико-
• • кроме вас, нет. Вы должны мне помочь. Ведь вы же христианин!
В светлом прямоугольнике двери она казалась черной, пля-
•ц\Ulen тенью.
Перестаньте,— сказал я с досадой.— Сейчас приду.
Я оделся и вышел. Фрау Залевски ожидала меня в коридоре.
Она уже знает?— спросил я.
< )на отрицательно покачала головой и прижала носовой йла-
”к к губам.
Где она?
В своей прежней комнате.
\ входа в кухню стояла Фрида, взмокшая от волнения.
На ней шляпа со страусовыми перьями и брильянтовая
.....— прошептала она.
Смотрите, чтобы эта идиотка не подслушивала,— сказал
•I p i\ Залевски и вошел в комнату.
Фрау Хассе стояла у окна. Услышав шаги, она быстро обер-
\ । н ь Видимо, ждала кого-то другого. Как это ни было глупо,
• цр< ж io всего невольно обратил внимание на ее шляпу с перь-
• н и брошь. Фрида оказалась права: шляпа была шикарна.
’ । ini, — скромнее. Дамочка расфуфырилась, явно желая по-
— Ф 315 Ф —
казать, до чего ей хорошо живется. Выглядела она, в общем, не
плохо; во всяком случае, куда лучше, чем прежде.
— Хассе, значит, работает и в Сочельник?— едко спросила она.
— Нет,— сказал я.
— Где же он? В отпуске?
Она подошла ко мне, покачивая бедрами. Меня обдал резкий
запах ее духов.
— Что вам еще нужно от него?— спросил я.
— Взять свои вещи. Рассчитаться. В конце концов, кое-что
здесь принадлежит и мне.
— Не надо рассчитываться,— сказал я.— Теперь все это при
надлежит только вам.
Она недоуменно посмотрела на меня.
— Он умер,— сказал я.
Я охотно сообщил бы ей это иначе. Не сразу, с подготовкой.
Но я не знал, с чего начать. Кроме того, моя голова еще гудели
от сна — такого сна, когда, пробудившись, человек близок к само»
убийству.
Фрау Хассе стояла посредине комнаты, и в момент, копт
я ей сказал это, я почему-то совершенно отчетливо представил
себе, что она ничего не заденет, если рухнет на пол. Странно,
но я действительно ничего другого не видел и ни о чем другом
не думал.
Но она не упала. Продолжая стоять, она смотрела на меня.
Только перья на ее роскошной шляпе затрепетали.
— Вот как...— сказала она,— вот как...
И вдруг — я даже не сразу понял, что происходит,— эта рас
франченная, надушенная женщина начала стареть на моих гла
зах, словно время ураганным ливнем обрушилось на нее и каж
дая секунда была годом. Напряженность исчезла, торжество
угасло, лицо стало дряхлым. Морщины наползли на него, как
черви, и, когда неуверенным, нащупывающим движением руки
она дотянулась до спинки стула и села, словно боясь что-то pa i
бить, передо мной была другая женщина — усталая, надлом
ленная, старая.
— Отчего он умер?— спросила она, не шевеля губами.
— Это случилось внезапно,— сказал я.
Она не слушала и смотрела на свои руки.
— Что мне теперь делать?— бормотала она.— Что мне теперь
делать?
Я подождал немного. Чувствовал я себя ужасно.
— + 316 Ф —
Ведь есть, вероятно, кто-нибудь, к кому вы можете пойти,—
• к .1 i;ui я наконец.— Лучше вам уйти отсюда. Вы ведь и не хотели
• »< ।знаться здесь...
Теперь все обернулось по-другому,— ответила она,
нс поднимая глаз.— Что же мне теперь делать?..
Ведь кто-нибудь, наверно, ждет вас. Пойдите к нему и об-
• \ нпе с ним все. А после Рождества зайдите в полицейский
\ i.h iok. Там все документы и банковые чеки. Вы должны
•нниься туда. Тогда вы сможете получить деньги.
Деньги, деньги,— тупо бормотала она.— Что за деньги?
— Довольно много. Около тысячи двухсот марок.
Она подняла голову. В ее глазах вдруг появилось выражение
безумия.
— Нет!— взвизгнула она.— Это неправда!
Я не ответил.
Скажите, что это неправда,— прошептала она.— Это не-
н|».1вда, но, может быть, он откладывал их тайком на черный день?
< )на поднялась. Внезапно она совершенно преобразилась.
I г движения стали словно механическими. Она подошла
«и। 'к) । ную ко мне.
Да, это правда,— прошипела она,— я чувствую, это правда!
Мной подлец! О, какой подлец! Заставить меня проделать все
• ।<». а потом вдруг такое! Но я возьму их и выброшу, выброшу
и» «• в один вечер, вышвырну на улицу, чтобы от них не осталось
•игц’1 о! Ничего! Ничего!
Я молчал. С меня было довольно. Ее первое потрясение про-
• н к», она знала, что Хассе умер, во всем остальном ей нужно
’ил ю разобраться самой. Ее ждал еще один удар, ведь ей пред-
hijiiio узнать, что он повесился. Но это было уже ее дело. Вос-
*|нч и гь Хассе ради нее было невозможно.
I снерь она рыдала. Она исходила слезами, плача тонко и жа-
i'i(iik), как ребенок. Это продолжалось довольно долго. Я дорого
| | । (ил за сигарету. Я не мог видеть слез.
Наконец она умолкла, вытерла лицо, вытащила серебряную
•о |рсницу и стала пудриться, не глядя в зеркало. Потом спря-
• • и пудреницу, забыв защелкнуть сумочку.
Ничего я больше не знаю,— сказала она надломленным
• • кн ом,— ничего я больше не знаю. Наверно, он был хорошим
'• кшском.
Да, это так.
Я сообщил ей адрес полицейского участка и сказал, что сегодня
•и у ас закрыт. Мне казалось, что ей лучше не идти туда сразу.
Hi» ci одня с нее было достаточно.
— Ф 317 Ф —
Когда она ушла, из гостиной вышла фрау Залеврки.
— Неужели, кроме меня, здесь нет никого?— спросил я,
злясь на самого себя.
— Только господин Джорджи. Что она сказала?
— Ничего.
— Тем лучше.
— Как сказать. Иногда это бывает и не лучше.
— Нет у меня к ней жалости,— энергично заявила фрау За
левски.— Ни малейшей.
— Жалость — самый бесполезный предмет на свете,— сказал
я раздраженно.— Она обратная сторона злорадства, да будет
вам известно. Который час?
— Без четверти семь.
— В семь я хочу позвонить фрейлейн Хольман. Но так, чтобы
никто не подслушивал. Это возможно?
— Никого нет, кроме господина Джорджи. Фриду я отправила.
Если хотите, можете говорить из кухни. Длина шнура как ра>
позволяет дотянуть туда аппарат.
— Хорошо.
Я постучал к Джорджи. Мы с ним давно не виделись. Он сидел
за письменным столом и выглядел ужасно. Кругом валялась
разорванная бумага.
— Здравствуй, Джорджи,— сказал я,— что ты делаешь?
— Занимаюсь инвентаризацией,— ответил он, стараясь улыб
нуться.— Хорошее занятие в Сочельник.
Я поднял клочок бумаги. Это были конспекты лекций с хими
ческими формулами.
— Зачем ты их рвешь?— спросил я.
— Нет больше смысла, Робби.
Его кожа казалась прозрачной. Уши были как восковые.
— Что ты сегодня ел?— спросил я.
Он махнул рукой.
— Неважно. Дело не в этом. Не в еде. Но я просто больно
не могу. Надо бросать.
— Разве так трудно?
-Да.
— Джорджи,— спокойно сказал я.— Посмотри-ка на меня. I h
ужели ты сомневаешься, что и я в свое время хотел стать челом
ком, а не пианистом в этом б...ском кафе «Интернациональ»?
Он теребил пальцы.
— + 318 + —
— Знаю, Робби. Но от этого мне не легче. Для меня учеба была
всем. А теперь я понял, что нет смысла. Что ни в чем нет смысла.
I.i'icm же, собственно, жить?
Он был очень жалок, страшно подавлен, но я все-таки расхо-
мнался.
— Маленький осел!— сказал я.— Открытие сделал! Думаешь,
у юбя одного столько грандиозной мудрости? Конечно, Пет
i мысла. Мы и не живем ради какого-то смысла. Не так это просто.
Данай одевайся, пойдешь со мной в «Интернациональ». Отнра-
। шуем твое превращение в мужчину. До сих нор ты был школь-
ником. Я зайду за тобой через полчаса.
— Нет,— сказал он.
Он совсем скис.
— Нет, пойдем,— сказал я.— Сделай мне одолжение.
Я не хотел бы быть сегодня один.
Он недоверчиво посмотрел на меня.
— Ну, как хочешь,— ответил он безвольно.— В конце концов
।н- все ли равно.
— Ну, вот видишь,— сказал я.— Для начала это совсем не-
н юхой девиз.
* * *
В семь часов я заказал телефонный разговор с Пат. После се-
чи действовал половинный тариф, и я мог говорить вдвое доль-
ни Я сел на стол в передней и стал ждать. Идти на кухню не хо-
• • юсь. Там пахло зелеными бобами, и я не хотел, чтобы это
мнь как-то связывалось с Пат даже при телефонном разговоре.
Через четверть часа мне дали санаторий. Пат сразу подошла
• аппарату. Услышав так близко ее теплый, низкий, чуть неуве-
гчи1ый голос, я до того разволновался, что почти не мог гово-
ри н> Я был как в бреду, кровь стучала в висках, и я никак
и. moi овладеть собой.
Боже мой, Пат,— сказал я,— это действительно ты?
< >на рассмеялась.
Где ты, Робби? В конторе?
Нет, сижу на столе у фрау Залевски. Как ты поживаешь?
Хорошо, милый.
Ты встала?
Да. Сижу в белом купальном халате на подоконнике в своей
♦••Mil.не. За окном идет снег.
В ।ру। я ясно увидел ее. Я видел кружение снежных хлопьев,
• мнук) точеную головку, прямые, чуть опущенные плечи,
'-| •• »11 юную кожу.
— 4* 319 Ф —
— Господи, Пат!— сказал я.— Проклятые деньги! Я бы тут же
сел в самолет и вечером был бы у тебя.
— О, дорогой мой...
Она замолчала. Я слышал тихие шорохи и гудение провода.
— Ты еще слушаешь, Пат?
— Да, Робби. Но не надо говорить таких вещей. У меня сои
сем закружилась голова.
— И у меня здорово кружится голова,— сказал я.— Расски
жи, что ты там делаешь наверху.
Она заговорила, но скоро я перестал вникать в смысл слон
и слушал только ее голос. Я сидел в темной передней под кабань
ей головой, из кухни доносился запах бобов. Вдруг мне почуди
лось, будто распахнулась дверь и меня обдала волна тепли
и блеска, нежная, переливчатая, полная грез, тоски и молодости
Я уперся ногами в перекладину стола, прижал ладонь к щеке,
смотрел на кабанью голову, на открытую дверь кухни и не заме
чал всего этого — вокруг было лето, ветер, вечер над пшенич
ным полем и зеленый свет лесных дорожек. Голос умолк. Я глу
боко дышал.
— Как хорошо говорить с тобой, Пат. А что ты делаешь се
годня вечером?
— Сегодня у нас маленький праздник'. Он начинается в во-
семь. Я как раз одеваюсь, чтобы пойти.
— Что ты наденешь? Серебряное платье?
— Да, Робби. Серебряное платье, в котором ты нес меня
по коридору.
— Ас кем ты идешь?
— Ни с кем. Вечер будет в санатории. Внизу, в холле. Тут вся
знают друг друга.
— Тебе, должно быть, трудно сохранять мне верность,— скв*
зал я.— Особенно в серебряном платье.
Она рассмеялась.
— Только не в этом платье. У меня с ним связаны кое-какие
воспоминания.
— У меня тоже. Я видел, какое оно производит впечатление
Впрочем, я не так уж любопытен. Ты можешь мне изменить,
только я не хочу об этом знать. Потом, когда вернешься, будем
считать, что это тебе приснилось, позабыто и прошло.
— Ах, Робби,— проговорила она медленно и глухо.— Не moi у
я тебе изменить. Я слишком много думаю о тебе. Ты не знаешь
какая здесь жизнь. Сверкающая, прекрасная тюрьма. Стараюсь
отвлечься как могу, вот и все. Вспоминая твою комнату, я про
сто не знаю, что делать. Тогда я иду на вокзал и смотрю на по
— Ф 320 Ф —
c via, прибывающие снизу, вхожу в вагоны или делаю вид, будто
встречаю кого-то. Так мне кажется, что я ближе к тебе.
Я крепко сжал губы. Никогда еще она не говорила со мной
i<iK. Она всегда была застенчива, и ее привязанность проявля-
лась скорее в жестах или взглядах, чем в словах.
— Я постараюсь приехать к тебе, Пат,— сказал я.
— Правда, Робби?
— Да, может быть, в конце января.
Я знал, что это вряд ли будет возможно: в конце февраля надо
будет снова платить за санаторий. Но я сказал это, чтобы под-
бодрить ее. Потом я мог бы без особого труда оттягивать свой
приезд до времени, когда она поправится и сама сможет уехать
из санатория.
— До свидания, Пат,— сказал я.— Желаю тебе всего хорошего!
Будь весела, тогда и мне будет радостно. Будь веселой сегодня.
— Да, Робби, сегодня я счастлива.
* * *
Я зашел за Джорджи, и мы отправились в «Интернацио-
наль». Старый, прокопченный зал был почти неузнаваем. Огни
на елке ярко горели, и их Теплый свет отражался во всех бутыл-
ках, бокалах, в блестящих никелевых и медных частях стойки.
Проститутки в вечерних туалетах, с фальшивыми драгоценно-
стями, полные ожидания, сидели вокруг одного из столов.
Ровно в восемь часов в зале появился хор объединенных ското-
промышленников. Они выстроились перед дверью по голосам:
справа — первый тенор, слева — второй бас. Стефан Григо-
1яйт, вдовец и свиноторговец, достал камертон, дал первую ноту,
и пение началось:
Небесный мир, святая ночь,
Пролей над сей душой.
Паломнику терпеть невмочь —
Подай ему покой.
Луна сияет там вдали,
И звезды огоньки зажгли,
Они едва не увлекли
Меня вслед за собой ’
— Как трогательно,— сказала Роза, вытирая глаза.
Отзвучала вторая строфа. Раздались громовые аплодисменты.
Кор благодарно кланялся. Стефан Григоляйт вытер пот со лба.
’ Перевод Б. Слуцкого.
— Бетховен есть Бетховен,— заявил он. Никто не возразил
ему. Стефан спрятал носовой платок.— А теперь — в ружье!
Стол был накрыт в большой комнате, где обычно собирались
члены союза. Посредине на серебряных блюдах, поставленных
на маленькие спиртовки, красовались оба молочных поросенка,
румяные и поджаристые. В зубах у них были ломтики лимона,
на спинках маленькие зажженные елочки. Они уже ничему
не удивлялись.
Появился Алоис в свежевыкрашенном фраке, подаренном
хозяином. Он принес полдюжины больших глиняных кувшинов
с вином и наполнил бокалы. Пришел Поттер из общества со
действия кремации.
— Мир на земле!— сказал он с большим достоинством, по
жал руку Розе и сел возле нее.
Стефан Григоляйт, сразу же пригласивший Джорджи к столу,
встал и произнес самую короткую и самую лучшую речь в сво
ей жизни. Он поднял бокал с искристым «ваххольдером», обвел
всех лучезарным взглядом и воскликнул:
— Будем здоровы!
Затем он снова сел, и Алоис притащил свиные ножки, кваше
ную капусту и жареный картофель. Вошел хозяин с подносом,
уставленным кружками с золотистым пильзенским пивом.
— Ешь медленнее, Джорджи,— сказал я.— Твой желудок
должен сперва привыкнуть к жирному мясу.
— Я вообще должен сперва привыкнуть ко всему,— ответил
он и посмотрел на меня.
— Это делается быстро,— сказал я.— Только не надо сравни
вать. Тогда дело пойдет.
Он кивнул и снова наклонился над тарелкой.
Вдруг на другом конце стола вспыхнула ссора. Мы услышали
каркающий голос Поттера. Он хотел чокнуться с Бушем, тор
говцем сигарами, но тот отказался, заявив, что не желает пить,
а предпочитает побольше есть.
— Глупости все,— раздраженно заворчал Поттер.— Когда
ешь, надо пить! Кто пьет, тот может съесть даже еще больше.
— Ерунда!— буркнул Буш, тощий высокий человек с плос
ким носом и в роговых очках.
Поттер вскочил с места.
— Ерунда?! И это говоришь ты, табачная сова?
— Тихо!— крикнул Стефан Григоляйт.— Никаких скандалом
в Сочельник!
Ему объяснили, в чем дело, и он принял соломоново реше-
ние — проверить дело практически. Перед спорщиками поста
— 4* 322 + —
пили несколько мисок с мясом, картофелем и капустой. Порции
были огромны. Поттеру разрешалось пить что угодно, Буш дол-
жен был есть всухомятку. Чтобы придать состязанию особую
остроту, Григоляйт организовал тотализатор, и гости стали за-
ключать пари.
Поттер соорудил перед собой полукруг из стаканов с пивом
и поставил между ними маленькие рюмки с водкой, сверкавшие
как брильянты. Пари были заключены в соотношении 3:1
н пользу Поттера.
Буш жрал с ожесточением, низко пригнувшись к тарелке.
11 оттер сражался с открытым забралом и сидел выпрямившись.
Перед каждым глотком он злорадно желал Бушу здоровья,
па что последний отвечал ему взглядами, полными ненависти.
— Мне становится дурно,— сказал мне Джорджи.— Давай
выйдем.
Я прошел с ним к туалету и присел в передней, чтобы подо-
ждать его. Сладковатый запах свечей смешивался с ароматом
хной, сгоравшей с легким треском. И вдруг мне померещилось,
будто я слышу любимые легкие шаги, ощущаю теплое дыхание
н близко вижу пару темных глаз...
— Черт возьми!— сказал я и встал.— Что это со мной?
В тот же миг раздался оглушительный шум.
— Поттер!
— Браво, Алоизиус!
Кремация победила.
* * *
В задней комнате клубился сигарный дым. Разносили коньяк.
Я псе еще сидел около стойки. Появились девицы. Они сгруди-
1ИС1» недалеко от меня и начали деловито шушукаться.
— Что у вас там?— спросил я.
— Для нас приготовлены подарки,— ответила Марион.
- Ах, вот оно что.
Я прислонил голову к стойке и попытался представить себе,
•но теперь делает Пат. Я видел холл санатория, пылающий ка-
мни и Пат, стоящую у подоконника с Хельгой Гутман и еще ка-
М1МИ-ТО людьми. Все это было так давно... Иногда думалось:
noi проснусь в одно прекрасное утро, и вдруг окажется, что все
прошло, позабыто, исчезло. Ведь нет ничего прочного — даже
поспоминаний.
In шенел колокольчик. Девицы всполошились, как вспугну-
ли стайка кур, и побежали в бильярдную. Там стояла Роза с ко-
ткольчиком в руке. Она кивнула мне, чтобы я подошел. Под
— Ф 323 Ф —
небольшой елкой на бильярдном столе были расставлены тарел-
ки, прикрытые шелковой бумагой. На каждой лежал пакетик
с подарком и карточка с именем. Девицы одаривали друг друга.
Все подготовила Роза. Подарки были вручены ей в упакован-
ном виде, а она разложила их по тарелкам.
Возбужденные девицы тараторили, перебивая друг друга;
они суетились, как дети, желая поскорее увидеть, что же для
них приготовлено.
— А ты чего не берешь свою тарелку?— спросила меня Роза.
— Какую тарелку?
— Твою. И для тебя есть подарки.
На бумажке изящным рондо и даже в два цвета — красным
и черным — было выведено мое имя. Яблоки, орехи, апельсины,
от Розы свитер, который она сама связала, от хозяйки — травя-
нисто-зеленый галстук, от Кики — розовые носки из искусствен'
ного шелка, от красавицы Валли —кожаный ремень, от кельнера
Алоиса — полбутылки рома, от Марион, Лины и Мими общий
подарок — полдюжины носовых платков и от хозяина — две бу-
тылки коньяка.
— Ребята,— сказал я,— ребята, но это так неожиданно...
— Ты изумлен?— воскликнула Роза.
— Очень.
Я стоял среди них, смущенный и тронутый до глубины души.
— Ребята,— сказал я,— знаете, когда мне в последний pa i
что-то подарили? Я и сам не помню. Наверно, еще до войны.
Но ведь у меня-то для вас ничего нет.
Все были страшно рады, что подарки так ошеломили меня.
— За то, что ты нам всегда играл на пианино,— сказала Лина
и покраснела.
— Да, сыграй нам сейчас,— это будет твоим подарком,— за*
явила Роза.
— Все, что захотите,— сказал я.— Все, что захотите.
— Сыграй «Мою молодость»,— попросила Марион.
— Нет, что-нибудь веселое,— запротестовал Кики.
Его голос потонул в общем шуме. Он вообще не котировался
всерьез как мужчина. Я сел за пианино и начал играть. Все запели:
Мне песня старая одна
Мила с начала дней,
Она из юности слышна,
Из юности моей*.
’ Перевод Б. Слуцкого.
— Ф 324 Ф —
Хозяйка выключила электричество. Теперь горели только
свечи на елке, разливая мягкий свет. Тихо булькал пивной кран,
напоминая плеск далекого лесного ручья, и плоскостопый Ало-
ис сновал по залу неуклюжим черным привидением, словно
колченогий Пан. Я заиграл второй куплет. С блестящими глаза-
ми, с добрыми лицами мещаночек, сгрудились девушки вокруг
пианино. И — о чудо!— кто-то заплакал навзрыд. Это был Кики,
вспомнивший свой родной Люкенвальде.
Тихо отворилась дверь. С мелодичным напевом, гуськом,
в нт вошел хор во главе с Григоляйтом, курившим черную бра-
н|льскую сигару. Певцы выстроились позади девиц.
О, как был полон этот мир,
Когда я уезжал!
Теперь вернулся я назад —
Каким пустым он стал*.
Тихо отзвучал смешанный хор.
— Красиво,— сказала Лина.
Роза зажгла бенгальские огни. Они шипели и разбрызгивали
искры.
— Ну, а теперь что-нибудь веселое!— крикнула опа.— Надо
I».i (веселить Кики.
— Меня тоже,— заявил Стефан Григоляйт.
В одиннадцать часов пришли Кестер и Ленц. Мы сели с блед-
ным Джорджи за столик у стойки. Джорджи дали закусить, он
• ।на держался па ногах. Ленц вскоре исчез в шумной компании
* коюпромышленников. Через четверть часа мы увидели его
\ i юйки рядом с Григоляйтом. Они обнимались и пили на бру-
н-ршафт
— Стефан!— воскликнул Григоляйт.
— Готтфрид!— ответил Ленц, и оба опрокинули по рюмке
м)|||»ЯКу.
Готтфрид, завтра я пришлю тебе пакет с кровяной и ли-
рной колбасой. Договорились?
Договорились! Все в порядке!— Ленц хлопнул его по пле-
i\ Мой старый добрый Стефан!
< И‘фан сиял.
Ты так хорошо смеешься,— восхищенно сказал он,— люблю,
мн ia хорошо смеются. А я слишком легко поддаюсь грусти, это
‘•••и недостаток.
И мой тоже,— ответил Ленц,— потому я и смеюсь. Иди
•и ы, Робби, выпьем за то, чтобы в мире никогда не умолкал смех!
11сревод Б. Слуцкого.
— + 325 + —
Я подошел к ним.
— А что с этим пареньком?— спросил Стефан, показывая
на Джорджи.— Очень уж у него печальный вид.
— Его легко осчастливить,— сказал я.— Ему бы только не-
много работы.
— В наши дни это хитрый фокус,— ответил Григоляйт.
— Он готов на любую работу.
— Теперь все готовы на любую работу.— Стефан немного
отрезвел.
— Парню надо семьдесят пять марок в месяц.
— Ерунда. На это ему не прожить.
— Проживет,— сказал Ленц.
— Готтфрид,— заявил Григоляйт,— я старый пьяница. Пусть.
Но работа — дело серьезное. Ее нельзя сегодня дать, а завтра
отнять. Это еще хуже, чем женить человека, а назавтра отнять
у него жену. Но если этот парень честен и может прожить
на семьдесят пять марок, значит, ему повезло. Пусть придет
во вторник в восемь утра. Мне нужен помощник для всякой бе-
готни по делам союза и тому подобное. Сверх жалованья будеч
время от времени получать пакет с мясом. Подкормиться ему
не мешает — очень уж тощий.
— Это верное слово?— спросил Ленц.
— Слово Стефана Григоляйта.
— Джорджи,— позвал я.— Поди-ка сюда.
Когда ему сказали, в чем дело, он задрожал. Я вернулся к Кес-
теру.
— Послушай, Отто,— сказал я,— ты бы хотел начать жизнь
сначала, если бы мог?
— И прожить ее так, как прожил?
-Да.
— Нет,— сказал Кестер.
— Я тоже нет,— сказал я.
XXIV
Это было три недели спустя, в холодный январский вечер.
Я сидел в «Интернационале» и играл с хозяином в «двадцать
одно». В кафе никого не было, даже проституток. Город был
взволнован. По улице то и дело проходили демонстранты, одни
маршировали под громовые военные марши, другие шли с пе-
нием «Интернационала». А затем снова тянулись длинные мол
чаливые колонны. Люди несли транспаранты с требованиями
работы и хлеба. Бесчисленные шаги на мостовой отбивали так г,
как огромные неумолимые часы. Перед вечером произошло
— Ф 326 Ф —
первое столкновение между бастующими и полицией. Двенад-
цать раненых. Вся полиция давно уже была в боевой готовности.
На улицах завывали сирены полицейских машин.
— Нет покоя,— сказал хозяин, показывая мне шестнадцать
очков.— Война кончилась давно, а покоя все нет. А ведь только
покой нам и нужен. Сумасшедший мир!
На моих картах было семнадцать очков. Я взял банк.
— Мир не сумасшедший,— сказал я.— Только люди.
Алоис стоял за хозяйским стулом, заглядывая в карты. Он за-
протестовал:
— Люди не сумасшедшие. Просто жадные. Один завидует
ipyroMy. Всякого добра па свете хоть завались, а у большинства
нолей ни черта нет. Тут все дело только в распределении.
— Правильно,— сказал я, пасуя.— Вот уже несколько тысяч
ici, как все дело именно в этом.
Хозяин открыл карты. У него было пятнадцать очков, и он
неуверенно посмотрел на меня. 11рикунив туза, он себя погубил.
Я показал свои карты. У меня было только двенадцать очков.
Имея пятнадцать, он бы выиграл.
— К черту, больше не играю!— выругался он.— Какой нод-
1ыи блеф! А я-то думал, что у вас не меньше восемнадцати.
Алоис что-то пробормотал. Я спрятал деньги в карман. Хо-
зяин зевнул и посмотрел на часы.
— Скоро одиннадцать. Думаю, нора закрывать. Все равно
инк ю уже не придет.
— А вот кто-то идет,— сказал Алоис.
Дверь отворилась. Это был Кестер.
— Что-нибудь новое, Отто?
Он кивнул.
- Побоище в залах «Боруссии». Два тяжелораненых, не-
> колько десятков легкораненых и около сотни арестованных.
I l.i н>ба в северной части города. Одного полицейского прикон-
чи in. Не знаю, сколько раненых. А когда кончатся большие Ми-
нин и, тогда только все и начнется. Тебе здесь больше нечего
к* 1.1 гь?
- Да,— сказал я.— Кафе вроде бы закрывается.
- Тогда пойдем со мной.
Я вопросительно посмотрел на хозяина. Он кивнул.
Ну, прощайте,— сказал я.
Прощайте,— лениво ответил хозяин.— Будьте осторожны.
Мы вышли. На улице пахло снегом. Мостовая была усеяна
'•г нами листовками; казалось, это большие мертвые бабочки.
— + 327 + —
— Готтфрида нет,— сказал Кестер.— Торчит на одном
из этих собраний. Я слышал, что их будут разгонять, и думаю,
всякое может случиться. Хорошо бы успеть разыскать его. А то еще
ввяжется в драку.
— А ты знаешь, где он?— спросил я.
— Точно не знаю. Но скорее всего он на одном из трех глав-
ных собраний. Надо заглянуть на все три. Готтфрида с его соло-
менной шевелюрой узнать нетрудно.
— Ладно.
Кестер запустил мотор, и мы помчались к месту, где шло од-
но из собраний.
* * *
На улице стоял грузовик с полицейскими. Ремешки формен-
ных фуражек были опущены. Стволы карабинов смутно поблески-
вали в свете фонарей. Из окон свешивались пестрые флаги. У вхо-
да толпились люди в мундирах. Почти все были очень молоды.
Мы взяли входные билеты. Отказавшись от брошюр, не опу-
стив ни одного пфеннига в копилки и не регистрируя свою пар-
тийную принадлежность, мы вошли в зал. Он был переполнен
и хорошо освещен, чтобы можно было сразу увидеть всякого,
кто подаст голос с места. Мы остались у входа, и Кестер, у которо-
го были очень зоркие глаза, стал внимательно рассматривать ряды.
На сцене стоял сильный коренастый человек и говорил. У не-
го был громкий грудной голос, хорошо слышный в самых даль-
них уголках зала. Этот голос убеждал, хотя никто особенно
и не вслушивался в то, что он говорил. А говорил он вещи, по-
нять которые было нетрудно. Оратор непринужденно расхажи-
вал по сцене, чуть размахивая руками. Время от времени он от-
пивал глоток воды и шутил. Но затем он внезапно замирал,
повернувшись лицом к публике, и измененным, резким голосом
произносил одну за другой хлесткие фразы. Это были извест-
ные всем истины о нужде, о голоде, о безработице. Голос нарас-
тал все сильнее, увлекая слушателей; он звучал фортиссимо,
и оратор остервенело швырял в аудиторию слова: «Так дальше
продолжаться не может! Это должно измениться!». Публика
выражала шумное одобрение, она аплодировала и кричала,
словно благодаря этим словам все уже изменилось. Оратор
ждал. Его лицо блестело. А затем пространно, убедительно
и неодолимо со сцены понеслось одно обещание за другим.
Обещания сыпались градом на головы людей, и над ними рас-
цветал пестрый, волшебный купол рая; это была лотерея, в ко-
торой на каждый билет падал главный выигрыш, в которой
— Ф 328 + —
каждый обретал личное счастье, личные права и мог осущест-
ви । ь личную месть.
Я смотрел на слушателей. Здесь были люди всех профессий —
ьухгалтеры, мелкие ремесленники, чиновники, несколько рабо-
чих и множество женщин. Они сидели в душном зале, откинув-
шись назад или подавшись вперед, ряд за рядом, голова к голове.
( о сцены лились потоки слов, и, странно, при всем разнообра-
И111 лиц на них было одинаковое, отсутствующее выражение,
сонливые взгляды, устремленные в туманную даль, где маячила
ф.на-моргана; в этих взглядах была пустота и вместе с тем ожи-
шние какого-то великого свершения. В этом ожидании раство-
рялось все: критика, сомнения, противоречия, наболевшие во-
просы, будни, современность, реальность. Человек на сцене
шал ответ на каждый вопрос, он мог помочь любой беде. Было
приятно довериться ему. Было приятно видеть кого-то, кто думал
о ic6e. Было приятно верить.
Ленца здесь не было. Кестер толкнул меня и кивнул головой
и строну выхода. Мы вышли. Молодчики, стоявшие в дверях,
посмотрели на нас мрачно и подозрительно. В вестибюле вы-
* ।роился оркестр, готовый войти в зал. За ним колыхался лес
шамен и виднелось несметное количество значков.
— Здорово сработано, как ты считаешь?— спросил Кестер
на улице.
- Первоклассно. Могу судить об этом как старый руководи-
|г и> отдела рекламы.
В нескольких кварталах отсюда шло другое политическое со-
1'рание. Другие знамена, другая форма, другой зал, но в осталь-
ном все было одинаково. На лицах то же выражение неонредс-
и иной надежды, веры и пустоты. Перед рядами стол
президиума, покрытый белой скатертью. За столом партийные
ек ре гари, члены президиума, несколько суетливых старых дев.
< >раюр чиновничьего вида был послабее предыдущего. Он го-
порил суконным немецким языком, приводил Цифры, доказа-
• н.сгва; все было правильно и все же не так убедительно, как
\ нно, хотя тот вообще ничего не доказывал, а только угверж-
i.i । Усталые партийные секретари за столом президиума клева-
1н носом, они уже бывали на сотнях подобных собраний.
Пойдем,— сказал Кестер немного погодя.— Здесь его тоже
ц< | Впрочем, я так и думал.
Мы поехали дальше. После духоты переполненных залов мы
нова дышали свежим воздухом. Машина неслась по улицам.
Мы ехали вдоль канала. Маслянисто-желтый свет фонарей от-
p i+ш 1ся в темной воде, тихо плескавшейся о бетонированный
— + 329 ф —
берег. Навстречу нам медленно проплыла черная плоскодон-
ная баржа. Ее тащил буксирный пароходик с красными и зеле-
ными сигнальными огнями. На палубе буксира залаяла собака,
и какой-то человек, пройдя под фонарем, скрылся в люке,
вспыхнувшем на секунду золотистым светом. Вдоль другого бе-
рега тянулись ярко освещенные дома западного района. К ним
вел мост с широкой аркой. По нему в обе стороны безостано-
вочно двигались автомобили, автобусы и трамваи. Мост над ле-
нивой черной водой походил на искрящуюся пеструю змею.
— Давай оставим машину здесь и пройдем немного пеш-
ком,— сказал Кестер.— Не надо бросаться в глаза.
Мы остановили «Карла» у фонаря около пивной. Когда я вы-
ходил из машины, под ногами у меня прошмыгнула белая кошка.
Несколько проституток в передниках стояли чуть поодаль
в подворотне. Когда мы проходили мимо них, они замолчали.
На углу стоял шарманщик. Он спал, прислонившись к стене дома.
Какая-то старуха рылась в отбросах, сваленных у края тротуа-
ра. Мы подошли к огромному грязному дому-казарме с множе-
ством флигелей, дворов и проходов. В нижнем этаже разместились
лавчонки и булочная; рядом принимали тряпье и железный лом.
На улице перед воротами стояли два грузовика с полицейскими.
В одном из углов первого двора был сооружен деревянный
стенд, на котором висело несколько карт звездного неба. За сто-
ликом, заваленным бумагами, на небольшом возвышении стоял
человек в тюрбане. Над его головой красовался плакат: «Астро
логия, графология, предсказание будущего! Ваш гороскоп за 50
пфеннигов!». Вокруг стояла толпа. Резкий свет карбидного фо
наря падал на желтое сморщенное лицо астролога. Он настой
чиво убеждал в чем-то слушателей, молча смотревших на него.
Те же потерянные, отсутствующие взгляды людей, желавших
увидеть чудо. Те же взгляды, что и на собраниях с флагами и ор-
кестрами.
— Отто,— сказал я Кестеру, шедшему впереди меня,— те
перь я знаю, чего хотят эти люди. Вовсе им не нужна политика.
Им нужно что-то вместо религии.
Он обернулся.
— Конечно. Они хотят снова поверить. Все равно во что. По-
тому-то они так фанатичны.
Мы пришли во второй двор, где был вход в пивную. Все окна
были освещены. Вдруг оттуда послышался шум, и через темный
боковой вход во двор, как по сигналу, вбежало несколько моло-
дых людей в непромокаемых спортивных куртках. Прижимаясь
— + 330 ф —
к стене, они устремились к двери, ведшей в зал собрания. Пе-
редний рванул ее, и все ворвались внутрь.
— Ударная группа,— сказал Кестер.— Иди сюда, к стене,
станем за пивными бочками.
В зале поднялся рев и грохот. В следующее мгновение звяк-
нуло стекло и кто-то вылетел из окна. Дверь распахнулась, и через
нее стала протискиваться плотно сбившаяся куча людей. Пе-
редние были сбиты с ног, задние повалились на них. Какая-то
женщина, истошно зовя на помощь, пробежала к воротам. За-
1см выкатилась вторая группа. Все были вооружены ножками
о г стульев и пивными кружками; они дрались, ожесточенно
hi (спившись друг в друга. Огромный плотник отделился от де-
рущихся и, заняв удобную позицию, продолжал бой: всякий
ра з, заметив голову противника, он ударял по ней кругообраз-
ным движением длинной руки и загонял его обратно в свалку.
Он проделывал это совершенно спокойно, словно колол дрова.
11овый клубок людей подкатился к дверям, и вдруг в трех мет-
рах от себя мы увидели всклокоченную светлую шевелюру
Гогтфрида, попавшего в руки какого-то буйного усача.
Кестер пригнулся и исчез в свалке. Через несколько секунд
усач отпустил Готтфрида. С выражением крайнего удивления
он поднял руки кверху и, точно подрубленное дерево, рухнул
обратно в толпу. Сразу вслед за этим я увидел Кестера, тащив-
шего Ленца за шиворот. Ленц сопротивлялся.
— Отто, пусти меня туда... только на одну минутку...— зады-
хаясь, говорил он.
— Глупости,— кричал Кестер,— сейчас нагрянет полиция!
бежим! Вот сюда!
Мы опрометью помчались по двору к темному парадному.
( пешка была отнюдь не напрасной. В тот же момент во дворе
раздались пронзительные свистки, замелькали черные фураж-
ки изупо*, которые оцепили двор. Мы взбежали вверх по лест-
нииел чтобы скрыться от полицейских. Дальнейший ход собы-
।ий мы наблюдали из окна на лестнице. Полицейские работали
блестяще. Перекрыв выходы, они вклинились в свалку, расчле-
нили ее и тут же стали увозить народ на машинах. Первым они
погрузили ошеломленного плотника, который пытался что-то
нбьяснить.
За нами отворилась дверь. Какая-то женщина в одной рубаш-
ке, с голыми худыми ногами и свечой в руке, высунула голову.
— Это ты?— угрюмо спросила она.
' Сокр. от «шутполицай» (нем.) — охранная полиция.
— Ф 331 ф —
— Нет,— сказал Ленц, уже пришедший в себя.
Женщина захлопнула дверь. Ленц повернулся и осветил кар-
манным фонариком табличку на двери. Здесь ждали Герхарда
Пешке, каменщика.
Внизу все стихло. Полиция убралась восвояси, и двор опустел.
Мы подождали еще немного и спустились по лестнице. За ка-
кой-то дверью тихо и жалобно плакал ребенок.
— Плачет малыш и правильно делает,— сказал Готтфрид.
— Авансом расплакался.
Мы прошли через передний двор. Покинутый всеми астро-
лог стоял у карт звездного неба.
— Угодно господам получить гороскоп?— крикнул он.—
Или узнать будущее по линиям рук?
— Давай рассказывай,— сказал Готтфрид и протянул ему руку.
Астролог недолго, но внимательно рассматривал ее.
— У вас порок сердца,— заявил он категорически.— Ваши
чувства развиты сильно, линия разума очень коротка. Зато вы
музыкальны. Вы любите помечтать, но как супруг многого
не стоите. И все же я вижу здесь троих детей. Вы дипломат по на-
туре, склонны к скрытности и доживете до восьмидесяти лет.
— Правильно,— сказал Готтфрид.— Моя фрейлейн мамаша
говорила всегда: кто зол, тот проживет долго. Мораль — это вы-
думка человечества, но не вывод из жизненного опыта.
Он заплатил астрологу, и мы пошли дальше. Улица была пуста.
Черная кошка перебежала нам дорогу. Ленц показал на нее рукой.
— Теперь, собственно, полагается поворачивать обратно.
— Ничего,— сказал я.— Раньше мы видели белую. Одна ней-
трализует другую.
Мы продолжали идти. Несколько человек шли нам навстречу
по другой стороне. Это были четыре молодых парня. Один
из них был в новых кожаных крагах светло-желтого оттенка, ос-
тальные в сапогах военного образца. Они остановились и уста-
вились на нас.
— Вот он!— вдруг крикнул парень в крагах и побежал через
улицу к нам. Раздались два выстрела, парень отскочил в сторону,
и вся четверка пустилась со всех ног наутек. Я увидел, как Кес-
тер рванулся было за ними, но тут же как-то странно повернул-
ся, издал дикий, сдавленный крик и, выбросив вперед руки, по-
пытался подхватить Ленца, тяжело грохнувшегося на брусчатку.
На секунду мне показалось, что Ленц просто упал; потом
я увидел кровь. Кестер распахнул пиджак Ленца и разодрал
на нем рубашку.
— + 332 4-
Кровь хлестала сильной струей. Я прижал носовой платок
к ране.
— Побудь здесь, я пригоню машину,— бросил Кестер и по-
бежал.
— Готтфрид, ты слышишь меня?— сказал я.
Его лицо посерело. Глаза были полузакрыты. Веки не шеве-
лились. Поддерживая одной рукой его голову, другой я крепко
прижимал платок к ране. Я стоял возле него на коленях, стара-
ясь уловить вздох или хрип, но не слышал нйчего, вокруг была
полная тишина, бесконечная улица, бесконечные ряды домов,
бесконечная ночь; я слышал только, как на камни лилась кровь,
и знал, что с ним уже не раз могло случиться такое, но теперь
и не верил, что это правда.
Кестер примчался на полном газу. Он откинул спинку лево-
ю сиденья. Мы осторожно подняли Готтфрида и уложили его.
Я вскочил в машину, и Кестер пустился во весь опор к ближай-
шему пункту скорой помощи. Здесь он осторожно затормозил.
— Посмотри, есть ли там врач. Иначе придется ехать дальше.
Я вбежал в помещение. Меня встретил санитар.
— Есть у вас врач?
— Да. Вы привезли кого-нибудь?
— Да. Пойдемте со мной! Возьмите носилки.
Мы положили Готтфрида на носилки и внесли его. Врач с за-
катанными рукавами уже ждал нас. Мы поставили носилки
на стол. Врач опустил лампу, приблизив ее к ране.
— Что это?
— Огнестрельное ранение.
Он взял комок ваты, вытер кровь, пощупал пульс, выслушал
сердце и выпрямился.
— Ничего нельзя сделать.
Кестер не сводил с него глаз.
— Но ведь пуля прошла совсем сбоку. Это не может быть
опасно!
— Тут две пули!— сказал врач.
Он снова вытер кровь. Мы наклонились и ниже раны, из ко-
н>рой сильно шла кровь, увидели другую — маленькое темное
• наерстие около сердца.
— Он, видимо, умер почти мгновенно,— сказал врач.
Кестер выпрямился. Он посмотрел на Готтфрида. Врач за-
।импонировал раны и заклеил их полосками пластыря.
— Хотите умыться?— спросил он меня.
— Нет,— сказал я.
— + 333 + —
Теперь лицо Готтфрида пожелтело и запало. Рот чуть искри-
вился, глаза были полузакрыты, один чуть плотнее другого. Он
смотрел на нас. Он непрерывно смотрел на нас.
— Как это случилось?— спросил врач.
Никто не ответил. Готтфрид смотрел на нас. Смотрел неот-
рывно.
— Его можно оставить здесь,— сказал врач.
Кестер пошевелился.
— Нет,— возразил он.— Мы его заберем!
— Нельзя,— сказал врач.— Мы должны позвонить в полицию.
И в уголовный розыск. Надо сразу же предпринять все, чтобы
найти преступника.
— Преступника?— Кестер посмотрел на врача непонимаю-
щим взглядом. Потом он сказал: — Хорошо, я поеду за полицией,
— Можете позвонить. Тогда они прибудут скорее.
Кестер медленно покачал головой.
— Нет. Я поеду.
Он вышел, и я услышал, как заработал мотор «Карла». Врач
пододвинул мне стул.
— Не хотите пока посидеть?
— Благодарю,— сказал я и не сел. Яркий свет все еще падал
на окровавленную грудь Готтфрида. Врач поднял лампу повыше.
— Как это случилось?— спросил он снова.
— Не знаю. Видимо, его приняли за другого.
— Он был на фронте?— спросил врач.
Я кивнул.
— Видно по шрамам,— сказал он.— И по простреленной руке.
Он был несколько раз ранен.
— Да. Четыре раза.
— Какая подлость,— сказал санитар.— Вшивые молокососы.
Тогда они еще, небось, в пеленках лежали.
Я ничего не ответил. Готтфрид смотрел на меня.
Смотрел, не отрывая глаз.
* * *
Кестера долго не было. Он вернулся один. Врач отложил га-
зету, которую читал.
— Приехали представители полиции?— спросил он.
Кестер молчал. Он не слышал слов врача.
— Полиция здесь?— спросил врач еще раз.
— Да,— проговорил Кестер.— Полиция. Надо позвонить,
пусть приезжают.
— Ф 334
Врач посмотрел на него, ничего не сказал и подошел к теле-
фону. Несколько минут спустя пришли два полицейских чинов-
ника. Они сели за стол и принялись записывать сведения о Готт-
Фриде. Не знаю почему, но теперь, когда он был мертв, мне
клалось безумием говорить, как его звали, когда он родился
и ые жил. Я отвечал механически и не отводил глаз от черного
карандашного огрызка, который чиновник то и дело слюнявил.
Второй чиновник принялся за протокол. Кестер давал ему
необходимые показания.
— Вы можете приблизительно сказать, как выглядел убийца?—
* просил чиновник.
— Нет,— ответил Кестер.— Не обратил внимания.
Я мельком взглянул на него. Я вспомнил желтые краги и форму.
— Вы не знаете, к какой политической партии он принадле-
жал? Вы не заметили значков?
— Нет,— сказал Кестер.— До выстрелов я ничего не видел.
\ потом я только...— он запнулся на секунду,— потом я только
1100ГИЛСЯ о моем товарище.
— Вы принадлежите к какой-нибудь политической партии?
— Нет.
— Я спросил потому, что, как вы говорите, он был вашим то-
пприщем...
— Он мой фронтовой товарищ,— сказал Кестер.
Чиновник обратился ко мне.
— Можете вы описать убийцу?
Кестер твердо посмотрел на меня.
— Нет,— сказал я,— Я тоже ничего не видел.
— Странно,— заметил чиновник.
— Мы разговаривали и ни на что не обращали внимания. Все
произошло очень быстро.
Чиновник вздохнул.
— Тогда мало надежды, что мы поймаем этих ребят.
Он дописал протокол.
— Мы можем взять его с собой?— спросил Кестер.
Собственно говоря...— Чиновник взглянул на врача.—
11ричина смерти установлена точно?
Врач кивнул.
Я уже составил акт.
А где пуля? Я должен взять с собой пулю.
Две пули. Обе остались в теле. Мне пришлось бы...— Врач
‘• *' Л IIIIJI.
Мне нужны обе,— сказал чиновник.— Я должен видеть,
|.1ну|цены ли они из одного оружия.
— Ф 335 Ф —
— Да,— сказал Кестер в ответ на вопросительный взгляд врача.
Санитар пододвинул носилки и опустил лампу. Врач взял ин-
струменты и ввел пинцет в рану. Первую пулю он нашел быст-
ро, она засела неглубоко. Для извлечения второй пришлось сде-
лать разрез. Он поднял резиновые перчатки до локтей, взял
скобки и скальпель. Кестер быстро подошел к носилкам и за-
крыл Готтфриду глаза. Услышав тихий скрежет скальпеля, я от-
вернулся. Мне захотелось вдруг кинуться к врачу и оттолкнуть
его — на мгновение мне показалось, что Готтфрид просто в об-
мороке и что только теперь врач его в самом деле убивает,—
но тут же я опомнился и осознал все снова.
Мертвецов мы насмотрелись вдоволь...
— Вот она,— сказал врач, выпрямляясь. Он вытер пулю и пе-
редал ее чиновнику. — Такая же. Обе из одного оружия, правда?
Кестер наклонился и внимательно рассмотрел маленькие ту-
пые пули. Они тускло поблескивали, перекатываясь на ладони
чиновника.
— Да,— сказал он.
Чиновник завернул их в бумагу и сунул в карман.
— Вообще, это не разрешено,— сказал он затем,— но если
вы хотите забрать его домой... Суть дела ясна, не так ли, госпо-
дин доктор?— Врач кивнул.— К тому же вы судебный врач,—
продолжал чиновник,— так что... как хотите... вы только должны...
может статься, что завтра придет еще одна комиссия...
— Я знаю,— сказал Кестер.— Все останется как есть.
Чиновники ушли. Врач снова прикрыл и заклеил раны Готт-
фрида.
— Вы как хотите?— спросил он.— Можете взять носилки.
Только завтра пришлите их обратно.
— Да, спасибо.— сказал Кестер.— Пойдем, Робби.
— Я могу вам помочь,— сказал санитар.
Я покачал головой.
— Ничего, справимся.
Мы взяли носилки, вынесли их и положили на оба левых си-
денья, которые вместе с откинутой спинкой образовали одну
плоскость. Санитар и врач вышли и смотрели на нас. Мы на-
крыли Готтфрида его пальто и поехали. Через минуту Кестер
обернулся ко мне.
— Проедем еще раз по этой улице. Я уже был там, но слиш-
ком рано. Может быть, теперь они уже идут.
Тихо падал снег. Кестер вел машину почти бесшумно,
то и дело выжимая сцепление и выключая зажигание. Он не хо-
тел, чтобы нас слышали, хотя четверка, которую мы искали,
— + ззб ф —
не могла знать, что у нас машина. Бесшумно, как белое приви-
дение, мы скользили в густеющем снегопаде. Я достал из ящика
с инструментами молоток и положил его рядом с собой, чтобы
бить сразу, едва выскочив из машины. Мы ехали по улице, где
это случилось. Под фонарем еще чернело пятно крови. Кестер
выключил фары. Мы двигались вдоль края тротуара и наблюда-
ли улицу. Никого не было видно. Только из освещенной пивной
доносились голоса.
Кестер остановился у перекрестка.
— Останься здесь,— сказал он.— Я загляну в пивную.
— Я пойду с тобой,— ответил я.
Он посмотрел на меня взглядом, запомнившимся мне еще
с тех пор, когда он отправлялся один в разведку.
— В пивной я ничего не буду делать,— сказал Кестер,— а то он
еще, чего доброго, улизнет. Только посмотрю, там ли он. Тогда
будем караулить. Останься здесь с Готтфридом.
Я кивнул, и Отто исчез в снежной метели. Хлопья таяли
на моем лице. Вдруг мне стало невыносимо больно оттого, что
Готтфрид укрыт, словно он уже не наш. Я стянул пальто с его
головы. Теперь снег падал на его лицо, на глаза и губы, но не таял.
Я достал платок, смахнул снег и снова укрыл голову Ленца краем
пальто.
Кестер вернулся.
— Ничего?
— Нет,— сказал он.
— Поедем еще по другим улицам. Я чувствую, что мы можем
встретить их в любую минуту.
Мотор взревел, но тут же заработал на низких оборотах. Мы
1ихо крались сквозь белую взвихренную ночь, переезжая с од-
ной улицы на другую; на поворотах я придерживал Готтфрида,
чтобы он не соскользнул; время от времени мы останавлива-
лись в сотне метров от какой-нибудь пивной, и Кестер разма-
шисто бежал посмотреть, там ли они. Он был одержим мрач-
ным, холодным бешенством. Дважды он собирался ехать домой,
чтобы отвезти Готтфрида, но оба раза поворачивал обратно —
ему казалось, что имейно в эту минуту четверка должна быть
। де-то поблизости.
Вдруг на длинной пустынной улице мы увидели далеко впе-
реди себя темную группу людей. Кестер сейчас же выключил
шжигание, и мы поехали вслед за ними бесшумно, с потушен-
ным светом. Они не слыхали нас и разговаривали.
— Их четверо,— шепнул я Кестеру.
— Ф 337 Ф —
В ту же секунду мотор взревел, машина стрелой пролетела
последние двести метров, вскочила на тротуар, заскрежетала
тормозами и, заносясь вбок, остановилась на расстоянии метра
от четырех прохожих, вскрикнувших от испуга.
Кестер наполовину высунулся из машины. Его тело, словно
стальная пружина, было готово рвануться вперед, а лицо дыша-
ло неумолимостью смерти.
' Мы увидели четырех мирных пожилых людей. Один из них
был пьян. Они обругали нас. Кестер ничего им не ответил. Мы
поехали дальше.
— Отто,— сказал я,— сегодня нам их не разыскать. Не ду-
маю, чтобы они рискнули сунуться на улицу.
— Да, может быть,— не сразу ответил он и развернул машину.
Мы поехали на квартиру Кестера. Его комната имела отдель-
ный вход, и можно было войти в нее, не тревожа никого. Когда
мы вышли из машины, я сказал:
— Почему ты не сообщил следователям приметы? Это помог-
ло бы розыску. Ведь мы его разглядели достаточно подробно.
Кестер посмотрел на меня.
— Потому что мы это обделаем сами, без полиции. Ты что же
думаешь?..— Его голос стал совсем тихим, сдавленным
и страшным.— Думаешь, я перепоручу его полиции? Чтобы он
отделался несколькими годами тюрьмы? Сам знаешь, как кон-
чаются такие процессы! Эти парни знают, что они найдут мило-
сердных судей! Не выйдет! Если бы полиция даже и нашла его,
я заявил бы, что это не он! Сам его раздобуду! Готтфрид мерт-
вый, а он живой! Не будет этого!
Мы сняли носилки, пронесли их сквозь ветер и метель в дом,
и казалось, будто мы воюем во Фландрии и принесли убитого
товарища с переднего края в тыл.
* ♦ *
Мы купили гроб и место для могилы на общинном кладбище.
Похороны Готтфрида состоялись в ясный, солнечный день. Мы
сами укрепили крышку и снесли гроб вниз по лестнице. Прово-
жающих было немного. Фердинанд, Валентин, Альфонс, бар-
мен Фред, Джорджи, Юпп, фрау Штосс, Густав, Стефан Григо-
ляйт и Роза. У ворот кладбища нам пришлось немного
подождать. Впереди были еще две похоронные процессии. Од-
на шла за черным автомобилем, другая за каретой, в которую
были впряжены лошади, украшенные черным и серебряным
крепом. За каретой шла бесконечная вереница провожающих,
оживленно беседовавших между собой.
— Ф 338 Ф —
Мы сняли гроб с машины и сами опустили его на веревках
н могилу. Могильщик был доволен — у него и без нас хватало
дел. Мы пригласили пастора. Правда, мы не знали, как бы от-
несся к этому Готтфрид, но Валентин сказал, что так нужно.
Впрочем, мы попросили пастора не произносить надгробную
речь, но всего лишь прочитать небольшую выдержку из Библии.
Пастор был старый, близорукий человек. Подойдя к могиле, он
споткнулся о ком земли и свалился бы вниз, если бы не Кестер
и Валентин, подхватившие его. Но, падая, он выронил Библию
и очки, которые как раз собирался надеть. Смущенный и рас-
строенный, щуря глаза, пастор смотрел в яму.
— Не беспокойтесь, господин пастор,— сказал Валентин,—
мы возместим вам потерю.
— Дело не в книге,— тихо ответил пастор,— а в очках: они
мне нужны.
Валентин сломал ветку у кладбищенской изгороди. Он встал
на колени у могилы, ухитрился подцепить очки за дужку и из-
влечь их из венка. Оправа была золотая. Может быть, пастор
поэтому и хотел получить их обратно. Библия проскользнула
сбоку и очутилась под гробом; чтобы достать ее, пришлось бы
поднять гроб и спуститься вниз. Этого не желал и сам пастор.
Он стоял в полном замешательстве.
— Не сказать ли мне все-таки несколько слов?— спросил он.
— Не беспокойтесь, господин пастор,— сказал Фердинанд.—
Теперь у него под гробом весь Ветхий и Новый завет.
Остро пахла вскопанная земля. В одном из комьев копоши-
лась белая личинка. Я подумал: «Могилу завалят, а личинка будет
жить там внизу; она превратится в куколку, и в будущем году,
пробившись сквозь слой земли, выйдет на поверхность. А Готт-
фрид мертв. Он угас». Мы стояли у могилы, зная, что его тело,
маза и волосы еще существуют, правда, уже изменившись,
но все-таки еще существуют и что, несмотря на это, он ушел
н не вернется больше. Это было непостижимо. Наша кожа бы-
ка тепла, мозг работал, сердце гнало кровь по жилам, мы были
такие же, как прежде, как вчера, у нас было по две руки, мы
не ослепли и не онемели, все было как всегда... Но мы должны
были уйти отсюда, а Готтфрид оставался здесь и никогда уже
нс мог пойти за нами. Это было непостижимо,
Комья земли забарабанили по крышке гроба. Могильщик
аал нам лопаты, и вот мы закапывали его, Валентин, Кестер,
Альфонс, я, как закапывали когда-то не одного товарища.
Вдруг мне почудилось, будто рядом грянула старая солдатская
— Ф 339 Ф —
песня, старая, печальная солдатская песня, которую Готтфрид
часто пел:
Аргоннский лес, Аргоннский лес,
Ты как большой могильный крест...
Альфонс принес черный деревянный крест, простой крест,
какие стоят сотнями тысяч во Франции вдоль бесконечных ря-
дов могил. Мы укрепили его у изголовья могилы Готтфрида.
— Пошли,— хрипло проговорил наконец Валентин.
— Да,— сказал Кестер. Но он остался на месте. Никто не ше-
лохнулся. Валентин окинул всех нас взглядом.
— Зачем?— медленно сказал он.— Зачем же?.. Проклятье!..
Ему не ответили.
Валентин устало махнул рукой.
— Пойдемте.
Мы пошли к выходу по дорожке, усыпанной гравием. У во-
рот нас ждали Фред, Джорджи и остальные.
— Как он чудесно смеялся,— сказал Стефан Григоляйт,
и слезы текли по его беспомощному печальному лицу. Я огля-
нулся. За нами не шел никто.
XXV
В феврале мы с Кестером сидели в последний раз в нашей
мастерской. Нам пришлось ее продать, и теперь мы ждали рас-
порядителя аукциона, который должен был пустить с молотка
все оборудование и такси. Кестер надеялся устроиться весной
гонщиком на небольшой автомобильной фирме. Я по-прежнему
играл в кафе «Интернациональ» и пытался подыскать себе еще
какое-нибудь дневное занятие для приработка.
Во дворе собралось несколько человек. Пришел аукционист.
— Ты выйдешь, Отто?— спросил я.
— Зачем? Все выставлено напоказ, а цены он знает.
У Кестера был утомленный вид. Его усталость не бросалась
в глаза посторонним, но знавшие его хорошо сразу же замечали
ее по несколько более напряженному и жесткому выражению
лица. Вечер за вечером он рыскал в одном и том же районе. Он
уже давно знал фамилию парня, застрелившего Готтфрида,
но не мог его найти, потому что, боясь преследований полиции,
убийца переехал на другую квартиру и прятался. Все эти по-
дробности установил Альфонс. Он тоже был начеку. Правда,
могло статься, что преступник выехал из города. Он не знал,
что Кестер и Альфонс выслеживают его. Они же рассчитывали,
что он вернется, когда почувствует себя в безопасности.
— Ф 340 + —
— Отто, я выйду и погляжу,— сказал я.
— Хорошо.
Я вышел. Наши станки и остальное оборудование были рас-
CIпилены в середине двора. Справа у стены стояло такси. Мы
сю хорошенько помыли. Я смотрел на сиденья и баллоны. Готт-
фрид часто называл эту машину «наша старая дойная корова».
Нелегко было расставаться с ней.
Кто-то хлопнул меня по плечу. Я быстро обернулся. Передо
мной стоял молодой человек ухарского вида в пальто с поясом.
Вертя бамбуковую трость, он подмигнул мне:
— Привет! А ведь мы знакомы!
Я стал припоминать.
— Гвидо Тисс из общества «Аугека»!
— Ну, вот видите!— самодовольно заявил Гвидо.— Мы
встретились тогда у этой же рухляди. Правда, с вами был какой-то
п|вратительный тип. Еще немного, и я бы дал ему по морде.
Представив себе, что этот мозгляк осмелился бы замахнуться
ни Кестера, я невольно скорчил гримасу. Тисс принял ее за улыб-
ну и тоже осклабился, обнажив довольно скверные зубы.
— Ладно, забудем! Гвидо не злопамятен. Ведь вы тогда упла-
1или огромную цену за этого автомобильного дедушку. Хоть
что-нибудь выгадали на нем?
— Да,— сказал я.— Машина неплохая.
Тисс затараторил.
— Послушались бы меня, получили бы больше. И я тоже.
Индио, забудем! Прощено и забыто! Но сегодня мы можем об-
итать дельце. Пятьсот марок — и машина наша. Наверняка.
Покупать ее больше некому. Договорились.
Я все понял. Он полагал, что мы тогда перепродали машину,
и не знал, что мастерская принадлежит нам. Напротив, он считал,
чю мы намерены снова купить это такси.
— Она еще сегодня стоит полторы тысячи,— сказал я.—
11с говоря уже о патенте на право эксплуатации.
— Вот именно,— с жаром подхватил Гвидо.— Поднимем цену
по пятисот. Это сделаю я. Если нам отдадут ее за эти деньги,
выплачиваю вам триста пятьдесят наличными.
— Не пойдет,— сказал я.— У меня уже есть покупатель.
— Но все же...— Он хотел предложить другой вариант.
— Нет, это бесцельно...— Я перешел на середину двора. Теперь
и шал, что он будет поднимать цену до тысячи двухсот.
Аукционист приступил к делу. Сначала пошли детали рбору-
попания. Они не дали большой выручки. Инструмент также ра-
— Ф 341 Ф —
зошелся по дешевке. Настала очередь такси. Кто-то предложил
триста марок.
— Четыреста,— сказал Гвидо.
— Четыреста пятьдесят,— предложил после долгих колеба-
ний покупатель в синей рабочей блузе.
Гвидо нагнал цену до пятисот. Аукционист обвел всех взгля-
дом. Человек в блузе молчал. Гвидо подмигнул мне и поднял че-
тыре пальца.
— Шестьсот,— сказал я.
Гвидо недовольно покачал головой и предложил семьсот.
Я продолжал поднимать цену. Гвидо отчаянно набавлял. При
тысяче он сделал умоляющий жест, показав мне пальцем, что
я еще могу заработать сотню. Он предложил тысячу десять ма-
рок. При моей следующей надбавке до тысячи ста марок он по-
краснел и злобно пропищал.
— Тысяча сто десять.
Я предложил тысячу сто девяносто марок, рассчитывая, что
Гвидо назовет свою последнюю цену — тысячу двести. После
этого я решил выйти из игры.
Но Гвидо рассвирепел. Считая, что я хочу вытеснить его окон-
чательно, он неожиданно предложил тысячу триста. Я стал быст-
ро соображать. Если бы он действительно хотел купить маши-
ну, то, бесспорно, остановился бы на тысяче двухстах. Теперь
же, взвинчивая цену, он просто мстил мне. Из нашего разгово-
ра он понял, что мой предел — тысяча пятьсот, и не видел для
себя никакой опасности.
— Тысяча триста десять,— сказал я.
— Тысяча четыреста,— поспешно предложил Гвидо.
— Тысяча четыреста десять,— нерешительно проговорил я.
боясь попасть впросак.
— Тысяча четыреста девяносто!— Гвидо торжествующе
и насмешливо посмотрел на меня. Он был уверен, что здорово
насолил мне.
Выдержав его взгляд, я молчал.
— Кто больше?— спросил аукционист.
Молчание.
— Кто больше?— спросил он второй раз. Потом он поднял
молоток. В момент, когда Гвидо оказался владельцем машины,
торжествующая мина на его лице сменилась выражением бес-
помощного изумления. В полном смятении он подошел ко мне.
— А я думал, вы хотите...
— Нет,— сказал я.
Придя в себя, он почесал затылок.
— Ф 342 + —
«Три товарища»
— Черт возьми! Нелегко будет навязать моей фирме такую
покупку. Думал, что вы дойдете до полутора тысяч. Но на сей раз
я все-таки вырвал у вас этот ящик из-под носа!
— Это вы как раз и должны были сделать!— сказал я.
Гвидо захлопал глазами. Только когда появился Кестер, он
сразу понял все и схватился за голову.
— Господи! Так это была ваша машина? Какой же я осел,
безумный осел! Так влипнуть! Взяли на пушку! Бедный Гвидо!
Что с тобой случилось такое! Попался на простенькую удочку!
Ладно, забудем! Самые прожженные ребята всегда попадаются
в ловушку, знакомую всем детям! В следующий раз как-нибудь
отыграюсь! Свое не упущу!
Он сел за руль и поехал. С тяжелым чувством смотрели мы
вслед удалявшейся машине.
* * *
Днем пришла Матильда Штосс. Надо было рассчитаться
с ней за последний месяц. Кестер выдал ей деньги и посовето-
вал попросить нового владельца оставить ее уборщицей в мас-
терской. Нам уже удалось пристроить у него Юппа. Но Матильда
покачала головой.
— Нет, господин Кестер, с меня хватит. Болят старые кости.
— Что же вы будете делать?— спросил я.
— Поеду к дочери. Она живет в Бунцлау. Замужем. Вы бывали
в Бунцлау?
— Нет, Матильда.
— Но господин Кестер знает этот город, правда?
— Ия там не бывал, фрау Штосс.
— Странно,— сказала Матильда.— Никто не знает про Бунц-
лау. А ведь моя дочь живет там уже целых двенадцать лет. Она
замужем за секретарем канцелярии.
— Значит, город Бунцлау есть. Можете не сомневаться. Раз
там живет секретарь канцелярии...
— Это конечно. Но все-таки довольно странно, что никто
не знает про Бунцлау.
Мы согласились.
— Почему же вы сами за все эти годы ни разу не съездили
туда?— спросил я.
Матильда ухмыльнулась.
— Это целая история. Но теперь я должна поехать к внукам.
Их уже четверо.
— Мне кажется, что в тех краях изготовляют отличный
шнапс,— сказал я.— Из слив или чего-то в этом роде...
__ф 344 ф__
Матильда замахала рукой:
— В том-то и все дело. Мой зять, видите ли, трезвенник. Эти
люди вообще ничего не пьют.
Кестер достал с опустевшей полки последнюю бутылку.
— Ну что ж, фрау Штосс, придется выпить на прощанье
по рюмочке.
— Я готова,— сказала Матильда.
Кестер поставил на стол рюмки и наполнил их. Матильда вы-
пила ром с такой быстротой, словно пропустила его через сито,
lie верхняя губа резко вздрагивала, усики подергивались.
— Еще одну?— спросил я.
— Не откажусь.
Я налил ей доверху еще одну большую рюмку.
Потом она простилась.
— Всего доброго на новом месте,— сказал я.
— Премного благодарна. И вам всего хорошего. Но странно,
что никто не знает про Бунцлау, не правда ли?
Она вышла неверной походкой. Мы постояли еще немного
и пустой мастерской.
— Собственно, и нам можно идти,— сказал Кестер.
— Да,— согласился я.— Здесь больше делать нечего.
Мы заперли дверь и пошли за «Карлом». Его мы не продали,
и он стоял в соседнем гараже. Мы заехали на почту и в банк, где
Кестер внес гербовый сбор заведующему управлением аукционов.
— Теперь я пойду спать,— сказал он.— Будешь у себя?
— У меня сегодня весь вечер свободен.
— Ладно, зайду за тобой к восьми.
* * ♦
Мы поели в небольшом пригородном трактире и поехали обрат-
но. На первой же улице у нас лопнул передний баллон. Мы смени-
in его. «Карл» давно не был в мойке, и я здорово перепачкался.
— Я хотел бы вымыть руки, Отто,— сказал я.
Поблизости находилось довольно большое кафе. Мы вошли
и сели за столик у входа. К нашему удивлению, почти все места
пыли заняты. Играл женский ансамбль, и все шумно весели-
1ись. На оркестрантках красовались пестрые бумажные шапки,
многие посетители были в маскарадных костюмах, над столика-
ми и шивались ленты серпантина, к потолку взлетали воздушные
тиры, кельнеры с тяжело нагруженными подносами сновали
по залу. Все было в движении, гости хохотали и галдели.
— Что здесь происходит?— спросил Кестер.
— Ф 345 Ф —
Молодая блондинка за соседним столиком швырнула в нас
пригоршню конфетти.
— Вы что, с луны свалились?— рассмеялась она.— Разве вы
не знаете, что сегодня первый день масленицы?
— Вот оно что!— сказал я.— Ну, тогда я пойду вымою руки.
Чтобы добраться до туалета, мне пришлось пройти через
весь зал. У одного из столиков я задержался, несколько пьяных
гостей пытались поднять какую-то девицу на столик, чтобы она
им спела. Девица отбивалась и визжала. При этом она опроки*
нула столик, и вся компания повалилась на пол. Я ждал, пока
освободится проход. Вдруг меня словно ударило током. Я оце
пенел, кафе куда-то провалилось, не было больше ни шума,
ни музыки. Кругом мелькали расплывчатые, неясные тени,
но необыкновенно резко и отчетливо вырисовывался один сто
лик, один-единственный столик, за которым сидел молодой че
ловек в шутовском колпаке и обнимал за талию охмелевшую со
седку. У него были стеклянные тупые глаза, очень тонкие губы.
Из-под стола торчали ярко-желтые, начищенные до блеска краги...
Меня толкнул кельнер. Как пьяный, я прошел несколько шагом
и остановился. Стало невыносимо жарко, но я трясся, как в озно
бе, руки повлажнели. Теперь я видел и остальных, сидевших
за столиком. С вызывающими лицами они что-то распевали хо
ром, отбивая такт пивными кружками. Меня снова толкнули.
— Не загораживайте проход,— услышал я.
Я машинально двинулся дальше, нашел туалет, стал мыть руки
и, только когда почувствовал резкую боль, сообразил, что дер
жу их под струей кипятка. Затем я вернулся к Кестеру.
— Что с тобой?— спросил он.
Я не мог ответить.
— Тебе плохо?— спросил он.
Я покачал головой и посмотрел на соседний столик, за кото
рым сидела блондинка и поглядывала на нас. Вдруг Кестер по*
бледнел. Его глаза сузились. Он подался вперед.
— Да?— спросил он очень тихо.
— Да,— ответил я.
— Где?
Я кивнул в сторону столика, за которым сидел убийца Гоп
Фрида.
Кестер медленно поднялся. Казалось, кобра выпрямляет свое
тело.
— Будь осторожен,— шепнул я.— Не здесь, Отто.
Он едва заметно махнул рукой и медленно пошел вперед.
Я был готов броситься за ним. Какая-то женщина нахлобучилк
— Ф 346 + —
ему на голову красно-зеленый бумажный колпак и повисла
у него на шее. Отто даже не заметил ее. Женщина отошла
и удивленно посмотрела ему вслед. Обойдя вокруг зала, Отто
вернулся к столику.
— Его там нет,— сказал он.
Я встал, окинул взглядом зал. Кестер был прав.
— Думаешь, он узнал меня?— спросил я.
Кестер пожал плечами. Только теперь он почувствовал, что
на нем бумажная шапка, и смахнул ее.
— Не понимаю,— сказал я.— Я пробыл в туалете не более
одной-двух минут.
— Более четверти часа.
— Что?..— Я снова посмотрел в сторону столика.— Осталь-
ные тоже ушли. С ними была девушка, ее тоже нет. Если бы он
меня узнал, то наверняка исчез бы один.
Кестер подозвал кельнера.
— Здесь есть второй выход?
— Да, с другой стороны есть выход на Харденбергштрассе.
Кестер достал монету и дал ее кельнеру.
— Пойдем,— сказал он.
— Жаль,— сказала блондинка за соседним столиком.— Такие
солидные кавалеры.
Мы вышли. Ветер ударил нам в лицо. После душного угара
мифе он показался нам ледяным.
— Иди домой,— сказал Кестер.
— Их было несколько,— ответил я и сел рядом с ним.
Машина рванулась с места. Мы изъездили все улицы в районе
мифе, все больше удаляясь от него, но не нашли никого. Нако-
нец Кестер остановился.
— Улизнул,— сказал он.— Но это ничего. Теперь он нам по-
падется рано или поздно.
— Отто,— сказал я.— Надо бросить это дело.
Он посмотрел на меня.
— Готтфрид мертв,— сказал я и сам удивился своим словам.—
(h этого он не воскреснет...
Кестер все еще смотрел на меня.
— Робби,— медленно заговорил он,— не помню, скольких
а убил. Но помню, как я сбил молодого английского летчика.
V пего заело патрон, задержка в подаче, и он ничего не мог сде-
I ь. Я был со своим пулеметом в нескольких метрах от него
и ясно видел испуганное детское лицо с глазами, полными стра-
in; потом выяснилось, что это был его первый боевой вылет
н ему едва исполнилось восемнадцать лет. И в это испуганное,
— + 347 + —
беспомощное и красивое лицо ребенка я всадил почти в упор
пулеметную очередь. Его череп лопнул, как куриное яйцо.
Я не знал этого паренька, и он мне ничего плохого не сделал.
Я долго не мог успокоиться, гораздо дольше, чем в других слу-
чаях. С трудом заглушил совесть, сказав себе: «Война есть вой-
на!». Но, говорю тебе, если я не прикончу подлеца, убившего
Готтфрида, пристрелившего его без всякой причины, как собаку,
значит, эта история с англичанином была страшным преступле-
нием. Понимаешь ты это?
— Да,— сказал я.
— А теперь иди домой. Я хочу довести дело до конца. Это
как стена. Не могу идти дальше, пока не свалю ее.
— Я не пойду домой, Отто. Уж если так, останемся вместе.
— Ерунда,— нетерпеливо сказал он.— Ты мне не нужен.—
Он поднял руку, заметив, что я хочу возразить.— Я его не прозе-
ваю! Найду его одного, без остальных! Совсем одного! Не бойся.
Он столкнул меня с сиденья и тут же умчался. Я знал — ничто
не сможет его удержать. Я знал также, почему он меня не взял
с собой. Из-за Пат. Готтфрида он бы не прогнал.
Я пошел к Альфонсу. Теперь я мог говорить только с ним.
Хотелось посоветоваться, можно ли что-нибудь предпринять.
Но Альфонса я не застал. Заспанная девушка сообщила мне, что
час назад он ушел на собрание. Я сел за столик и стал ждать.
В трактире было пусто. Над пивной стойкой горела малень-
кая лампочка. Девушка снова уселась и заснула. Я думал об От
то и Готтфрйде и смотрел из окна на улицу, освещенную пол-
ной луной, медленно поднимавшейся над крышами, я думал
о могиле с черным деревянным крестом и стальной каской
и вдруг заметил, что плачу. Я смахнул слезы.
Вскоре послышались быстрые тихие шаги. Альфонс вошел
с черного хода. Его лицо блестело от пота.
— Это я, Альфонс!
— Иди сюда, скорее!— сказал он.
Я последовал за ним в комнату справа за стойкой. Альфонс
подошел к шкафу и достал из него два старых санитарных пакет
времен войны.
— Можешь сделать перевязку?— спросил он, осторожно стяги
вая штаны.
У него была рваная рана на бедре.
— Похоже на касательное ранение,— сказал я.
— Так и есть,— буркнул Альфонс.— Давай перевязывай!
— Альфонс,— сказал я, выпрямляясь.— Где Отто?
— + 348
— Откуда мне знать, где Отто,— пробормотал он, выжимая
иi раны кровь.
— Вы не были вместе?
— Нет.
— Ты его не видел?
— И не думал. Разверни второй пакет и наложи его сверху.
Это только царапина.
Занятый своей раной, он продолжал бормотать.
— Альфонс,— сказал я,— мы видели его... того, который убил
Готтфрида... ты ведь знаешь... мы видели его сегодня вечером.
() । то выслеживает его.
— Что? Отто?— Альфонс насторожился.— Где же он? Теперь
но уже ни к чему! Пусть убирается оттуда!
— Он не уйдет.
Альфонс отбросил ножницы.
— Поезжай туда? Ты знаешь, где он? Пускай убирается. Скажи
ему, что за Готтфрида я расквитался. Я знал об этом раньше
пне! Сам видишь, что я ранен! Он стрелял, но я сбил его руку.
А потом стрелял я. Где Отто?
— Где-то в районе Менкештрассе.
— Слава Богу. Там он уже давно не живет. Но все равно убери
hi гуда Отто.
Я подошел к телефону и вызвал стоянку такси, где обычно
находился Густав. Он оказался на месте.
— Густав,— сказал я,— можешь подъехать на угол Визен-
HII рассе и площади Бельвю? Только поскорее! Я жду.
— Буду через десять минут.
Я повесил трубку и вернулся к Альфонсу. Он надевал другие
брюки.
— А я и не знал, что вы разъезжаете по городу,— сказал он.
ГI о лицо все еще было в испарине.— Лучше бы сидели где-нибудь.
Дли алиби. А вдруг вас спросят... Никогда нельзя знать...
- Подумай лучше о себе,— сказал я.
- А мне-то что!— Он говорил быстрее, чем обычно.— Я был
। ним наедине. Поджидал в комнате. Этакая жилая беседка.
Кругом ни души. К тому же вынужденная самооборона. Он вы-
। |рслил, как только переступил через порог. Мне и не надо алиби.
A in хочу — буду иметь целых десять.
()п смотрел на меня, сидя на стуле и обратив ко мне широкое
мокрое лицо. Его волосы слиплись, крупный рот искривился,
и и и л яд стал почти невыносимым — столько обнаженной и без-
ппдежной муки, боли и любви было в его глазах.
— 4* 349 4* —
— Теперь Готтфрид успокоится,— сказал он тихо и хрип-
ло.— До сих пор мне все казалось, что ему неспокойно.
Я стоял перед ним и молчал.
— А теперь иди,— сказал он.
Я прошел через зал. Девушка все еще спала и шумно дышала.
Луна поднялась высоко, и на улице было совсем светло. Я по-
шел к площади Бельвю. Окна домов сверкали в лунном свете,
как серебряные зеркала. Ветер улегся. Было совсем тихо.
Густав подъехал через несколько минут.
— Что случилось, Роберт?— спросил он.
— Сегодня вечером угнали мою машину. Только что мне ска-
зали, что ее видели в районе Менкештрассе. Подъедем туда?
— Подъедем, ясное дело!— Густав оживился.— И чего только
теперь не воруют! Каждый день несколько машин. Но чаще все-
го на них разъезжают, пока не выйдет бензин, а потом бросают.
— Да, так, вероятно, будет и с нашей.
Густав сказал, что скоро собирается жениться. Его невеста
ожидает ребенка, и тут, мол, уж ничего не поделаешь. Мы про-
ехали по Менкештрассе и по соседним улицам.
— Вот она!— крикнул вдруг Густав. Машина стояла в тем-
ном переулке. Я подошел к ней, достал свой ключ и включил за-
жигание.
— Все в порядке, Густав,— сказал я.— Спасибо, что подвез.
— Не пропустить ли нам где-нибудь по рюмочке?— спросил он.
— Не сегодня. Завтра. Очень спешу.
Я полез в карман, чтобы заплатить ему за ездку.
— Ты что, спятил?— спросил он.
— Тогда спасибо, Густав. Не задерживайся. До свидания.
— А что, если устроить засаду и накрыть молодца, который
угнал ее?
— Нет, нет, он уже, конечно, давно смылся.— Меня вдру|
охватило дикое нетерпение.— До свидания, Густав.
— А бензин у тебя есть?
— Да, достаточно. Я уже проверил. Значит, спокойной ночи.
Он уехал. Выждав немного, я двинулся вслед за ним, добрал
ся до Менкештрассе и медленно проехал по ней на третьей скоро
сти. Потом развернулся и поехал обратно. Кестер стоял на углу.
— Что это значит?
— Садись,— быстро сказал я.— Тебе уже не к чему стоять
здесь. Я как раз от Альфонса. Он его... он его уже встретил.
— И что?
— Да,— сказал я.
— 4* 350 4* —
Кестер молча забрался на сиденье. Он не сел за руль. Чуть
горбившись, он примостился возле меня. Машина тронулась.
— Поедем ко мне?— спросил я.
Он кивнул. Я прибавил газу и свернул на набережную кана-
чп. Вода тянулась широкой серебряной полосой. На противопо-
ложном берегу в тени стояли черные, как уголь, сараи,
по на мостовой лежал бледно-голубой свет, и шины скользили
по нему, как по невидимому снегу. Широкие серебристо-зеле-
ные башни собора в стиле барокко высились над рядами крыш.
(>ни сверкали на далеком фоне фосфоресцирующего неба, в ко-
юром, как большая осветительная ракета, повисла луна.
— Отто, я рад, что все случилось именно так,— сказал я.
А я нет,— ответил он.
* * *
V фрау Залевски еще горел свет. Когда я открыл входную
ни-рь, она вышла из гостиной.
Вам телеграмма,— сказала она.
Телеграмма?— повторил я удивленно. Я все еще думал
• прошедшем вечере. Но потом я понял и побежал в свою ком-
• 1.11\. Телеграмма лежала на середине стола, светясь, как мел,
• in । резкими лучами лампы. Я сорвал наклейку. Сердце сжалось,
•»\квы расплылись, убежали, снова появились... и тогда я облег-
ании вздохнул, успокоился и показал телеграмму Кестеру.
Слава Богу. А я уже думал, что...
I <im были только три слова: «Робби, приезжай скорее...».
Я снова взял у него листок. Чувство облегчения улетучилось.
Вернулся страх.
Что там могло случиться, Отто? Боже мой, почему она
н< но нюнила по телефону? Что-то неладно!
Кссгер положил телеграмму на стол.
Когда ты разговаривал с ней в последний раз?
Неделю назад... Нет, больше.
Закажи телефонный разговор. Если что-нибудь не так,
p i iv же поедем. На машине. Есть у тебя железнодорожный
нр.НЮЧНИК?
Я сказал разговор с санаторием и принес из гостиной фрау
* । п-нски справочник. Кестер раскрыл его.
Самый удобный поезд отправляется завтра в полдень,—
► I i.i л он.— Лучше сесть в машину и подъехать возможно ближе
• • .1И.1 юрию. А там пересядем на ближайший поезд. Так мы на-
•" рняка сэкономим несколько часов. Как ты считаешь?
— + 351 + —
— Да, это, пожалуй, лучше.— Я не мог себе представить, что
просижу несколько часов в поезде в полной бездеятельности.
Зазвонил телефон. Кестер взял справочник и ушел в мок»
комнату. Санаторий ответил. Я попросил позвать Пат. Через
минуту дежурная сестра сказала, что Пат лучше не подходит»,
к телефону.
— Что с ней?— крикнул я.
— Несколько дней назад у нее было небольшое кровотече-
ние. Сегодня она немного температурит.
— Скажите ей, что я еду. С Кестером и «Карлом». Мы сейчас
выезжаем. Вы поняли меня?
— С Кестером и Карлом,— повторил голос.
— Да. Но скажите ей об этом немедленно. Мы сейчас же вы
езжаем.
— Я ей тут же передам.
Я вернулся в свою комнату. Мои ноги двигались удивитель
но легко. Кестер сидел за столом над расписанием поездов.
— Уложи чемодан,— сказал он.— Я поеду за своим домой.
Через полчаса вернусь.
Я снял со шкафа чемодан. Это был все тот же старый чемо
дан Ленца с пестрыми наклейками отелей. Я быстро собрал веши
и предупредил о своем отъезде фрау Залевски и хозяина «Ип
тернационаля». Потом сел к окну и стал дожидаться Кестера.
Было очень тихо. Я подумал, что завтра вечером увижу Пат.
и меня вдруг охватило жгучее, дикое нетерпение. Перед ним
померкло все: страх, беспокойство, печаль, отчаяние. Завтра вс
чером я увижу ее — это было немыслимое, невообразимое счастье,
в которое я уже почти не верил. Ведь я столько потерял с тех
пор, как мы расстались...
Я взял чемодан и вышел из квартиры. Все стало вдруг бли»«
ким и теплым: лестница, устоявшийся запах подъезда, холод
ный, поблескивающий резиново-серый асфальт, по которому
стремительно подкатил «Карл».
— Я захватил пару одеял,— сказал Кестер.— Будет холодно
Укутайся как следует.
— Будем вести по очереди, ладно?— спросил я.
— Да. Но пока поведу я. Ведь я поспал после обеда.
Через полчаса город остался позади, и нас поглотило безгра
ничное молчание ясной лунной ночи. Белое шоссе бежало перед
нами, теряясь у горизонта. Было так светло, что можно было
ехать без фар. Гул мотора походил на низкий органный звук; он
не разрывал тишину, но делал ее еще более ощутимой.
— Поспал бы немного,— сказал Кестер.
— Ф 352 Ф —
Я покачал головой:
— Не могу, Отто.
— Тогда хотя бы полежи, чтобы утром быть свежим. Ведь
ним еще через всю Германию ехать.
— Я и так отдохну.
Я сидел рядом с Кестером. Луна медленно скользила по не-
бу. Поля блестели, как перламутр. Время от времени мимо про-
летали деревни, иногда заспанный, пустынный город. Улицы,
ншувшиеся между рядами домов, были словно ущелья, залитые
призрачным, бесплотным светом луны, преображавшим эту
ночь в какой-то фантастический фильм.
Под утро стало холодно. На лугах заискрился иней, на фоне
бледнеющего неба высились деревья, точно отлитые из стали,
и лесах поднялся ветер, и кое-где над крышами уже вился ды-
мок. Мы поменялись местами, и я вел машину до десяти часов,
hn ем мы наскоро позавтракали в придорожном трактире и по-
ехали дальше. В двенадцать Кестер снова сел за руль. Отто вел
машину быстрее меня, и я его больше не подменял.
Уже смеркалось, когда мы прибыли к отрогам гор. У нас бы-
||| цепи для колес и лопата, и мы стали расспрашивать, как да-
к ко можно пробраться своим ходом.
- С цепями можете рискнуть,— сказал секретарь автомо-
।hi 1ыюго клуба.— В этом году выпало очень мало снега. Толь-
ко не скажу точно, каково положение на последних километ-
I и х. Возможно, что там вы застрянете.
Мы намного обогнали поезд и решили попытаться доехать
и.। машине до места. Было холодно, и поэтому тумана мы
иг опасались. «Карл» неудержимо поднимался по спиральной
Kipore. Поднявшись до половины высоты, мы надели цепи.
Шоссе было очищено от снега, но во многих местах оно обледе-
нею. Машину частенько заносило и подбрасывало. Иногда
приходилось вылезать и толкать ее. Дважды мы застревали
и ньи ребали колеса из снега. В последней деревне мы раздобы-
||| ведро песку. Теперь мы находились на большой высоте и бо-
•| ।ись обледеневших поворотов на спусках. Стало совсем темно,
иные, отвесные стены гор терялись в вечернем небе, дорога су-
♦ .иась, мотор ревел на первой скорости. Мы спускались вниз,
пгря поворот за поворотом. Вдруг свет фар сорвался с камен-
|||hi стены, провалился в пустоту, горы раскрылись, и внизу мы
Мишели огни деревушки.
Машина прогрохотала между пестрыми витринами магази-
•п»|| на главной улице. Испуганные необычным зрелищем, пе-
шеходы шарахались в стороны, лошади становились на дыбы.
— 4* 353 4* —
Какие-то сани съехали в кювет. Машина быстро поднялась
по извилистой дороге к санаторию и остановилась у подъезда.
Я выскочил. Как сквозь пелену промелькнули люди, любопыт-
ные взгляды, контора, лифт, белый коридор... Я рванул дверь
и увидел Пат. Именно такой я видел ее сотни раз во сне и в меч-
тах, и теперь она шла мне навстречу, и я обхватил ее руками,
как жизнь. Нет. Это было больше чем жизнь...
* * *
— Слава Богу,— сказал я, придя немного в себя,— я думал,
ты в постели.
Она покачала головой, ее волосы коснулись моей щеки. По
том она выпрямилась, сжала ладонями мое лицо и посмотрела
на меня.
— Ты приехал!— прошептала она.— Подумать только, ты
приехал!
Она поцеловала меня осторожно, серьезно и бережно, слов-
но боялась сломать. Почувствовав ее губы, я задрожал. Все про
изошло слишком быстро, и я не мог осмыслить это до конца.
Я еще не был здесь по-настоящему; я был еще полон ревом мо-
тора и видел убегающую ленту шоссе. Так чувствует себя чело-
век, попадающий из холода и мрака в теплую комнату,— он
ощущает тепло кожей, глазами, но еще не согрелся.
— Мы быстро ехали,— сказал я.
Пат не ответила и продолжала молча смотреть на меня
в упор. Казалось, она ищет и хочет снова найти что-то очень
важное. Я был смущен, взял ее за плечи и опустил глаза.
— Ты теперь останешься здесь?— спросила она.
Я кивнул.
— Скажи мне сразу. Скажи, уедешь ли ты... Чтобы я знала.
Я хотел ответить, что еще не знаю этого и что через несколько
дней мне, видимо, придется уехать, так как у меня нет денег,
чтобы оставаться в горах. Но я не мог. Я не мог сказать этого,
когда она так смотрела на меня.
— Да,— сказал я,— останусь здесь. До тех пор, пока мы
не сможем уехать вдвоем.
Ее лицо оставалось неподвижным. Но внезапно оно npoceei
лело, словно озаренное изнутри.
— О, иного я бы не вынесла,— пробормотала она.
Я попробовал разглядеть через ее плечо температурный лис1,
висевший над изголовьем постели. Она это заметила, быстро со
рвала листок, скомкала его и швырнула под кровать.
— Теперь это уже ничего не стоит,— сказала она.
— + 354 4,—
Я заметил, куда закатился бумажный шарик, и решил неза-
мгпю поднять его потом и спрятать в карман.
— Ты была больна?— спросил я.
— Немного. Все уже прошло.
— А что говорит врач?
Она рассмеялась.
— Не спрашивай сейчас о врачах. Вообще ни о чем больше
• к- спрашивай. Ты здесь, и этого достаточно!
Вдруг мне показалось, что она уже не та. Может быть, отто-
что я так давно ее не видел, но она показалась мне совсем
нс такой, как прежде. Ее движения стали более плавными, кожа
।снлее, и даже походка, даже то, как она пошла мне навстре-
чу,— все было каким-то другим... Она была уже не просто кра-
сивой девушкой, которую нужно оберегать, было в ней что-то
новое, и если раньше я часто не знал, любит ли она меня, то те-
перь я это ясно чувствовал. Она ничего больше не скрывала;
полная жизни, близкая мне как никогда прежде, она была пре-
красна, даря мне еще большее счастье... Но все-таки в ней чув-
ствовалось какое-то странное беспокойство.
Пат,— сказал я.— Мне нужно поскорее спуститься вниз.
Кгс ।ср ждет меня. Нам надо найти квартиру.
Кестер? А где Ленц?
Ленц...— сказал я.— Ленц остался дома.
< )на ни о чем не догадалась.
Ты можешь потом прийти вниз?— спросил я.— Или нам
шипя гься к тебе?
Мне можно всё. Теперь мне можно всё. Мы спустимся
и выпьем немного. Я буду смотреть, как вы пьете.
Хорошо. Тогда мы подождем тебя внизу, в холле.
(>па подошла к шкафу за платьем. Улучив минутку, я выта-
• HII । из-под кровати бумажный шарик и сунул его в карман.
Значит, скоро придешь, Пат?
Робби!— Она подошла и обняла меня.— Ведь я так много
«•.к ia тебе сказать.
И я тебе, Пат. Теперь у нас времени будет вдоволь. Целый
• hi будем что-нибудь рассказывать друг другу. Завтра. Сразу
» «к к» не получается.
• )ii;i кивнула.
Да, мы все расскажем друг другу, и тогда время, что мы
••• ни (елись, уже не будет для нас разлукой. Каждый узнает все
11• \ । ом, и получится, будто мы и не расставались.
Да так оно и было,— сказал я.
Н.п улыбнулась.
— Ко мне это не относится. У меня нет таких сил. Мне тяже-
лее. Я не умею утешаться мечтами, когда я одна. Я тогда просто
одна, и все тут. Одиночество легче, когда не любишь.
Она все еще улыбалась, но я видел, что это была вымученная
улыбка.
— Пат,— сказал я.— Дружище!
— Давно я этого не слышала,— проговорила она, и ее глаза
наполнились слезами.
* * *
Я спустился к Кестеру. Он уже выгрузил чемоданы. Нам от-
вели две смежные комнаты во флигеле.
— Смотри,— сказал я, показывая ему температурную кри-
вую.— Так и скачет вверх и вниз.
Мы пошли по лестнице к флигелю. Снег скрипел под ногами.
— Сама по себе кривая еще ни о чем не говорит,— сказал Кес-
тер.— Спроси завтра врача.
— И так понятно,— ответил я, скомкал листок и снова поло-
жил его в карман.
Мы умылись. Потом Кестер пришел ко мне в комнату. Он
выглядел так, будто только что встал после сна.
— Одевайся, Робби.
— Да.— Я очнулся от своих раздумий и распаковал чемодан.
Мы пошли обратно в санаторий. «Карл» еще стоял перед
подъездом. Кестер накрыл радиатор одеялом.
— Когда мы поедем обратно, Отто?— спросил я.
Он остановился.
— По-моему, мне нужно выехать завтра вечером или после-
завтра утром. А ты ведь останешься...
— Но как мне это сделать?— спросил я в отчаянии.— Моих
денег хватит не более чем на десять дней, а за Пат оплачено
только до пятнадцатого. Я должен вернуться, чтобы зарабаты
вать. Здесь им едва ли понадобится такой плохой пианист.
Кестер наклонился над радиатором «Карла» и поднял одеяло
— Я достану тебе денег,— сказал он и выпрямился.— Так
что можешь спокойно оставаться здесь.
— Отто,— сказал я,— ведь я знаю, сколько у тебя осталось
от аукциона. Меньше трехсот марок.
— Не о них речь. Будут другие деньги. Не беспокойся. 4epci
неделю ты их получишь.
Я мрачно пошутил.
— Ждешь наследства?
— + 356 + —
— Нечто в этом роде. Положись на меня. Нельзя тебе сейчас
vc {жать.
— Нет,— сказал я.— Даже не знаю, как ей сказать.
Кестер снова накрыл радиатор одеялом и погладил капот.
I Idiom мы пошли в холл и уселись у камина.
— Который час?— спросил я.
Кестер посмотрел на часы.
— Половина седьмого.
— Странно,— сказал я.— А я думал, больше.
По лестнице спустилась Пат в меховом жакете. Она быстро
прошла через холл и поздоровалась с Кестером. Только теперь
и заметил, как она загорела. По светлому красновато-бронзово-
му оттенку кожи ее можно было принять за молодую индианку.
11о лицо похудело и глаза лихорадочно блестели.
— У тебя температура?— спросил я.
— Небольшая,— поспешно и уклончиво ответила она.— По
нсчерам здесь у всех поднимается температура. И вообще это
и I-за вашего приезда. Вы очень устали?
— От чего?
— Тогда пойдемте в бар, ладно? Ведь вы мои первые гости...
— А разве тут есть бар?
— Да, небольшой. Маленький уголок, напоминающий бар.
>го тоже для «лечебного процесса». Они избегают всего, что
нппоминало бы больницу. А если пациенту что-нибудь запре-
щено, ему этого все равно не дадут.
Бар был переполнен. Пат поздоровалась с несколькими посе-
• iiicihmh. Я заметил среди них итальянца. Мы сели за освобо-
пппнийся столик.
Что ты выпьешь?
Коктейль с ромом. Мы его всегда пили в баре. Ты знаешь
। ••• 11VII I ?
Это очень просто,— сказал я девушке, обслуживавшей нас.—
11»»Р। нейн пополам с ямайским ромом.
Две порции,— попросила Пат.— И один коктейль «специ-
। и. -
Б вушка принесла два «порто-ронко» и розоватый напиток.
Это для меня,— сказала Пат и пододвинула нам рюмки.—
1 । in11!
Она поставила свой бокал, не отпив ни капли, затем огляну-
• I.. быстро схватила мою рюмку и выпила ее.
Как хорошо!— сказала она.
— Ф 357 Ф —
— Что ты заказала?— спросил я и отведал подозрительную
розовую жидкость. Это был малиновый сок с лимоном без вся-
кого алкоголя.— Довольно вкусно,— сказал я.
Пат посмотрела на меня.
— Утоляет жажду,— добавил я.
Она рассмеялась.
— Закажи-ка еще один «порто-ронко». Но для себя. Мне
не подадут.
Я подозвал девушку.
— Один «порто-ронко» и один «специаль»,— сказал я. Я заме-
тил, что за столиками пили довольно много коктейля «специаль».
— Сегодня мне можно, Робби, правда?— сказала Пат.—
Только сегодня! Как в старое время. Верно, Кестер?
— «Специаль» неплох,— ответил я и выпил второй бокал.
— Я ненавижу его! Бедный Робби, из-за меня пьешь всякую
бурду!
— Я свое наверстаю!
Пат рассмеялась.
— Потом за ужином выпью еще чего-нибудь. Красного вина.
Мы заказали еще несколько «порто-ронко» и перешли в сто-
ловую. Пат была великолепна. Ее лицо сияло. Мы сели за один
из маленьких столиков, стоявших у окон. Было тепло. Внизу
раскинулась деревня с улицами, посеребренными снегом.
— Где Хельга Гутман?— спросил я.
— Уехала,— сказала Пат после недолгого молчания.
— Уехала? Так рано?
— Да,— сказала Пат, и я понял, что она имела в виду.
Девушка принесла темно-красное вино. Кестер налил пол-
ные бокалы. Все столики были уже заняты. Повсюду сидели лю-
ди и болтали. Пат коснулась моей руки.
— Любимый,— сказала она очень тихо и нежно.— Я просто
больше не могла!
XXVI
Из кабинета главного врача я направился в холл, где меня
ждал Кестер. Мы вышли из санатория и сели на скамью протии
входа.
— Все плохо, Отто,— сказал я.— Хуже, чем я опасался.
Мимо прошла шумная группа лыжников. Среди них было нс*
сколько большеротых и белозубых женщин с загорелыми лица-
ми, смазанными кремом. Они кричали друг другу, что нагуляли
волчий аппетит. Мы подождали, пока они не прошли.
— 4* 358 4* —
— И вот такие твари, те, конечно, живут,— сказал я.— Живут
и здоровы, как мало кто. Кровь с молоком! До чего же тошно!
— Ты говорил с главным врачом?— спросил Кестер.
— Да. Он мне все объяснил, но, знаешь, как-то очень заумно,
со всякими оговорками. Но в итоге я понял, что ее состояние
ухудшилось. Правда, он утверждает, будто дело пошло на лад.
— То есть как это?
— Говорит, что, останься она там, внизу, ее положение уже
давным-давно было бы совершенно безнадежно. Здесь же, мол,
процесс замедлился. Это он и называет улучшением.
Кестер разгребал каблуками слежавшийся снег. Потом по-
вернулся ко мне лицом.
— Значит, он все-таки на что-то надеется?
— Врач всегда должен надеяться — такая уж у него профес-
сия. Но я надеюсь куда меньше. Я спросил, сделал ли он пнев-
моторакс. Нет, говорит, больше нельзя. Несколько лет назад ей
уже делали поддувание. А теперь поражены оба легких. Все
очень скверно, Отто.
Перед нашей скамьей остановилась какая-то старая женщина
в стоптанных галошах. У нее было синюшное лицо с запавши-
ми щеками и потухшие, словно слепые, глаза цвета грифельной
доски. Вокруг шеи она обмотала старомодное боа из перьев.
Медленно подняв лорнет, она с минуту разглядывала нас. Потом
внпаркала дальше.
— Вот так уродина! Привидение, да и только!
— Что он еще сказал?— спросил Кестер.
— Объяснил вероятную историю ее болезни. Сказал, что
пользовал много пациентов того же возраста. Считает все это
последствием войны. Недоедание в решающие годы развития
организма. А мне плевать на эти объяснения. Пат должна вы-
|дороветь, и все!— Я посмотрел на Кестера.— Конечно, врач
сказал мне, что на своем веку видел немало чудесных исцеле-
ний. Как раз при туберкулезе бывает так, что процесс вдруг ос-
ншавливается, происходит инкапсуляция и человек выздорав-
ливает, иногда даже, казалось бы, в совершенно безнадежных
» цучаях. То же говорил мне и Жаффе. Но я в чудеса не верю.
Кестер ничего не ответил. Мы продолжали сидеть рядом
и молчали. Да и о чем было говорить? Оба мы пережили слишком
много тяжелого, и утешения нам и в самом деле были ни к чему.
— Только бы она не догадалась,— сказал наконец Кестер.
- Это, конечно, ни к чему,— ответил я.
— Ф 359 4* —
Так мы и сидели до прихода Пат. Я ни о чем не думал. Даже
не испытывал чувства отчаяния, а просто отупел, стал каким-то
неживым.
— А вот и она,— сказал Кестер.
— Да, она,— сказал я и встал.
— Привет!— Пат подошла к нам, помахивая рукой. Она чуть
пошатывалась.— Я немного пьяна. Наверно, от солнца. Стоит
мне полежать на солнце, и я давай качаться, как старый моряк.
Я внимательно посмотрел на нее, и все сразу изменилось.
Я поверил в чудо — она была здесь, живая. Она стояла здесь
и смеялась, и рядом с этим все остальное было неважно.
— Что это у вас за рожицы сегодня?— спросила она.
— Да городские у нас рожицы. Сюда они не вписываются,—
сказал Кестер.— Все никак не привыкнем к солнцу.
Она засмеялась.
— Сегодня у меня отличный день. Бестемпературный. Мне раз-
решили выйти. Давайте пойдем в деревню и выпьем по аперитиву.
— Конечно, пойдем.
— Пошли!
— А не прокатиться ли нам в санях?— спросил Кестер.
— Я вполне смогу дойти пешком,— сказала Пат.
— Это ясно,— сказал Кестер.— Только я никогда еще не са-
дился в такую штуку. Хочется попробовать.
Мы подозвали санного извозчика и по спиральной дороге
спустились вниз, в деревню. Мы остановились перед кафе с не-
большой террасой, залитой солнечным светом. Здесь было пол-
но народу. Некоторых посетителей я узнал — они мне запомни-
лись по санаторию. Был тут и Антонио — итальянец из бара.
Он подошел к нашему столику и поклонился Пат. Рассказал,
что прошлой ночью какие-то весельчаки выкатили кровать
с лежавшим на ней пациентом из его комнаты и втолкнули в па-
лату одной уже совсем ветхой старушки-учительницы.
— А зачем они это сделали?— спросил я.
— Потому что он выздоровел и на днях должен уехать отсюда,—
объяснил Антонио.— В таких случаях здесь всегда устраивают
что-нибудь в этом роде.
— Таков, дорогой мой, пресловутый юмор висельников,
то есть остающихся,— сказала Пат.
— В горах взрослые дяди превращаются в малых ребят,—
как бы извиняясь, сказал Антонио.
«А ведь вылечился,— подумал я.— Кто-то вылечился и едет
домой».
— Хочешь выпить, Пат?— спросил я.
— Ф 360 Ф —
Хочу. Бокал мартини. Сухого мартини.
Заиграло радио. Венские вальсы. Словно легкие светлые
Ф i n и, они ритмично развевались в прогретом солнцем воздухе.
Кг ibiiep принес очень холодное мартини. Росинки на запотев-
ших бокалах искрились на солнце.
А ведь как приятно посидеть вот гак, правда?— сказала Пат.
— Очень приятно,— ответил я.
— Но иной раз это невыносимо,— сказала она.
♦ * *
I lai пожелала пообедать в деревне. В последнее время она
ш прерывно находилась в санатории, и это был ее первый вы-
« । । Она заявила, что если пообедает в деревне, то почувствует
• ня вдвойне здоровой. Анiонио присоединился к нам. После
•ис ia мы вернулись в санях наверх, и Пат утла к себе: доктор
и ре । писал ей двухчасовой дневной отдых. Мы же с Кестером
hi.ik.iiили «Карла» из гаража и осмотрели его. Два рессорных
ив ia сломались — надо было их заменить. Хозяин гаража дал
и.IM инструмент, и мы взялись за работу. Затем долили масло
и । накали все точки шасси. Когда все было готово, мы вытолк-
н\ hi «Карла» на улицу. Забрызганный грязью, с обвисшими
► ры 1ьями, он стоял на снегу.
А не помыть ли его?— спросил я.
Нет, в дороге не надо,— сказал Кестер.— Ему это не нра-
П II н я.
I \ । к нам подошла Пат, выспавшаяся и посвежевшая. Соба-
н'ика прыгала вокруг нее и бесновалась.
Билли!— прикрикнул я. Песик застыл на месче, но оска-
||| в я — он не узнал хозяина и явно смутился, когда Пат указала
' ч\ на меня.
Koi это другое дело,— сказал я.— Слава Богу, что люд-
► .I I память лучше собачьей. А где он был вчера?
Н.п засмеялась.
Вчера все время лежал под кроватью. Кто бы ко мне
..... — ревнует. Обижается и прячется.
А ведь ты замечательно выглядишь,— сказал я.
• >иа посмотрела на меня счастливым взглядом. Потом нодо-
"| и к «Карлу».
Хотелось бы мне еще разок сесть в него и прокатиться.
I стественно,— сказал я.— А ты как, Отто?
Конечно, прокатимся. На вас теплое пальто, а в машине
• и. и юды и шерстяные платки.
— + 361 4» —
Пат уселась впереди, за ветровым стеклом, рядом с Кесте-
ром. «Карл» взревел. В холодном воздухе заклубились бело-го-
лубые выхлопные газы. Мотор еще не прогрелся. Цепи на коле-
сах медленно и с лязгом начали перемалывать снег. С громким
треском и гулом «Карл» сполз в деревню и, словно матерый
волк, растерявшийся от топота конских копыт и звона бубен-
цов, резво побежал по главной улице.
Мы выехали на природу. Уже смеркалось, и заснеженные по-
ля переливались красноватыми отблесками заходящего солнца.
Несколько стогов сена, стоявших на склоне, почти до верхушек
ушли под снег. Тоненькими извивающимися запятыми стреми-
тельно неслись в долину последние лыжники. Они пересекали
красное солнце, которое за склоном вновь всплыло огромным
темно-раскаленным шаром.
— Вчера вы ехали по этой же дороге?— спросила Пат.
-Да.
На вершине первого подъема Кестер остановил машину. От-
сюда открывалась захватывающая панорама. Накануне, когда
мы с громом и грохотом мчались сквозь стеклянный синий ве-
чер, мы следили только за дорогой.
За грядой склонов пролегла резко пересеченная долина.
Хребты далекого горного кряжа четко вырисовывались на фоне
бледно-зеленого неба и золотисто светились. Золотые пятна ле
жали и на заснеженных скатах и сияли так, будто их почистили
да еще и надраили. С каждой секундой бело-багровые склоны
становились все роскошнее, а тени все синее. Солнце висело
прямо в просвете между двумя мерцающими вершинами, а ши
рокая долина с ее высотками и склонами словно выстроилась
для могучего, беззвучного и сверкающего парада, который при
нимает солнце — этот исчезающий на глазах властелин. Фиоле
товая полоса шоссе вилась вокруг холмов, пропадала, возникали
вновь, темнела на поворотах, минуя деревни и устремляясь прямо
к перевалу на горизонте.
— Я еще ни разу не отъезжала так далеко от деревни,— скп
зала Пат.— Это и есть дорога домой?
-Да.
Она молча смотрела вниз, в долину. Потом вышла из маши
ны и, защитив глаза ладонью, стала смотреть на север, словно
могла отсюда различить башни нашего города.
— А это далеко?
— Около тысячи километров. В мае мы с тобой спустимся
с гор, и Отто приедет за нами.
— В мае,— повторила она.— Боже мой, в мае!..
— Ф 362 + —
Медленно садилось солнце. Долина ожила, тени, неподвиж-
но лежавшие в складках местности, теперь вдруг начали бес-
шумно вспархивать и карабкаться все выше и выше, точно ка-
кие-то огромные синие пауки. Становилось прохладно.
— Надо возвращаться, Пат,— сказал я.
Она взглянула на меня, и неожиданно лицо ее словно раско-
ю юсь от боли. И тут я понял, что она все знает. Знает, что уже
никогда не окажется за этим безжалостным хребтом на гори-
щи ie. Она это знала и хотела скрыть от нас, так же как мы хо-
ir in скрыть это от нее. Но на какое-то мгновение выдержка из-
менила ей, и из ее глаз хлынула вся боль мира, все его
• фадания.
— Поедем еще немного дальше,— сказала она.— Поедем самую
милость вниз.
Я переыянулся с Кестером.
— Поедем...
()на устроилась рядом со мной на заднем сиденье. Я обнял ее
" пюй рукой и укрыл нас обоих пледом.
- Робби, милый,— прошептала она у моего плеча,— теперь
мы как будто бы едем домой, возвращаемся в нашу прежнюю
♦ И И1Ь...
Да,— сказал я и подтянул плед, укрывая ее с головой.
Чем ниже мы спускались, тем быстрее темнело. Пат полуле-
♦ iia, укутанная пледами. Она просунула руку мне на грудь,
ни । рубашку. Кожей я чувствовал ее ладонь, потом ее дыхание,
• < । \бы и — слезы.
()сюрожно, чтобы Пат не заметила разворота, в следующей
н*рснне Кестер, объехав по большому кругу рыночную пло-
|||.। и», медленно направил «Карла» в обратный путь.
Koi да мы вновь переезжали через хребет, солнце уже исчез-
in .1 на востоке между поднимающимися облаками повисла
<• ir шая и ясная луна. Мы ехали обратно. Колеса в цепях, моно-
....о шурша, катились по дороге, стало совсем тихо, я сидел
н« ни шижно, боясь шелохнуться, и чувствовал на своем сердце
к ।i.i моей Пат, словно там кровоточила рана.
* * ♦
Чире} час я сидел в холле. Пат была у себя, а Кестер отпра-
|| к ч на метеостанцию — узнать, ожидается ли снегопад. Вечер
'•и м 1ся серый и мягкий, как бархат. Сквозь легкий туман про-
• hi н.шал месяц в венце. Вскоре появился и подсел ко мне Анто-
"IHI 11подаль от нас, за одним из столиков, сидело какое-то, я бы
» । и I, пушечное ядро в грубошерстном спортивном костюме
— + 363 ф —
с чрезмерно короткими штанами «гольф». Младенческое лицо
с толстыми губами и холодными глазками венчал круглый, розо-
во-красный и совершенно лысый череп, голый, как бильярдный
шар. Рядом сидела узкокостая худая женщина с глубокими те-
нями под глазами и с каким-то молящим, горестным взглядом.
Пушечное ядро было явно оживлено, голова его непрерывно
двигалась, ладошки описывали в воздухе гладкие и округлые
линии.
— Как все-таки чудесно здесь, наверху, просто удивительно
хорошо! Эта панорама, этот воздух, это питание! Тут тебе дей-
ствительно должно быть просто здорово...
— Бернгард,— тихо сказала женщина.
— Действительно здорово! И мне бы так когда-нибудь. Так
тебя лелеют, так ухаживают за тобой!— Он залился масляни-
стым хохотком.— Впрочем, ты достойна этого...
— Ах, Бернгард,— уныло произнесла женщина.
— А что, а что?— радостно гудело ядро.— Ведь лучше и не при-
думаешь! Ты здесь просто как в раю! А ты знаешь, что творит-
ся там, внизу? Не знаешь! А мне завтра снова надо погрузиться
в эту кутерьму! Благодари Бога, что ты так далека от всего этого!
Я же очень рад — воочию убедился, как тебе здесь хорошо.
— Да нехорошо мне, Бернгард,— сказала женщина.
— Что ты, милая,— бодро затараторил Бернгард,— хныкать
не надо! Что же тогда говорить нашему брату! Ни минуты пере-
дышки, везде сплошные банкротства... Не говорю уже о нало-
гах... Хотя работаем-то мы в общем с охоткой...
Женщина ничего не ответила.
— Экий бодрячок!— сказал я Антонио.
— Да еще какой! Я наблюдаю его с позавчерашнего дня. Любая
попытка жены что-то ему сказать разбивается о его неизмен-
ное: «Да здесь же тебе просто чудесно!». Он, знаете ли, ничего
не хочет замечать — ни ее страха, ни ее болезни, ни ее одиноче-
ства. Видимо, давным-давно живет в Берлине с каким-то себе
подобным пушечным ядром женского пола, а сюда приезжае!
раз в полгода и, потирая жирные ручки, наносит жене, так ска-
зать, протокольный визит. А сколько жизнелюбия в этом типе,
помышляющем только о том, что удобно ему! Лишь бы ни
во что не вникать!.. Такое здесь часто можно увидеть.
— Эта женщина здесь давно?
— Да уже около двух лет.
Через холл с хохотом прошла стайка* молодежи. Антонио за
смеялся.
— Они с почты. Послали телеграмму Роту.
364 + —
— А кто такой Рот?
— Человек, которому вскоре предстоит уехать отсюда. В теле-
«рамме они ему сообщают, что ввиду эпидемии гриппа в его
I»*»[пых краях отправляться туда не следует, а надо, мол, побыть
< uie какое-то время здесь. Такие шутки тут в ходу. Ведь им-то
> .|\1им придется остаться, понимаете? Наверняка придется.
Я смотрел в окно на серый бархат померкших гор. Все это
неправда, подумал я, не похоже на действительность, так не бы-
ii.ici. Санаторий — не более чем сцена, на которой люди не-
множко играют в смерть. Когда умирают в самом деле, то это
молжно быть очень серьезно. Мне захотелось догнать этих мо-
йных людей, похлопать их но плечу и сказать: «Ведь здесь
ю ।ько салонная, мнимая смерть, не так ли? Вы просто веселые
ж юры-любители, и вам нравится играть в умирание! Потом вы
и» с воскреснете, встанете и будете раскланиваться, разве нет?
Кю же умирает из-за чуть повышенной температуры или хрин-
|"ю дыхания? Смерть не бывает без стрельбы, без ран. Уж это-
in я ючно знаю...».
Вы юже больны?— спросил я Антонио.
Естественно,— с улыбкой ответил он.
Какой же тут замечательный кофе,— шумело но соседст-
|«\ пушечное ядро.— Попробуй найди такой в Берлине. Ты жи-
iH iiii, в стране молочных рек и кисельных берегов.
* * *
Кис।ер возвратился с метеостанции.
Я должен ехать, Робби,— сказал он.— Барометр упал, ночью,
"• роя ню, будут снежные заносы, и завтра мне уже не пробиться.
1 « к» 1ня вечером у меня последняя надежда выбраться отсюда.
Хорошо. Мы успеем поужинать вместе?
Да. Только пойду уложу чемодан.
Я с тобой,— сказал я.
Мы собрали вещи Кестера и отнесли их в гараж. Потом вер-
ив ь за Пат.
I ели что случился, Робби, сразу звони мне,— сказал Отто.
Я кивнул.
Деньги ты на днях получишь. Какое-то время сможешь
• I • к ржаться. Делай все, что необходимо.
Да, Отто,— сказал я и после паузы добавил: — Дома у нас ос-
• и н I, несколько ампул с морфием. Ты сможешь прислать их мне?
ин удивленно посмотрел на меня.
А зачем они тебе?
— Ф 365 Ф —
— Не знаю, как у нее пойдут дела. Может, морфий и не по-
надобится. Несмотря ни на что, я все-таки не теряю надежды.
Но стоит мне остаться одному — и надежда улетучивается.
Я не хочу, чтобы она страдала, Отто, чтобы превратилась
в сплошной сгусток боли. Возможно, они и сами будут давать ей
морфий, но если я смогу ей помочь, мне будет спокойнее.
— Значит, морфий тебе нужен только для этого?— спросил
Кестер.
— Только для этого, Отто. Поверь мне. Иначе я бы тебе ни-
чего не сказал.
Он кивнул.
— Нас уже только двое,— медленно проговорил он.
— Да, только двое.
— Ладно, Робби.
Мы вышли в холл, и вскоре я привел туда Пат. Потом быстро
поужинали: небо все больше затягивалось облаками. Кестер
выкатил «Карла» из гаража и остановился у подъезда.
— Ну, Робби, всего тебе хорошего,— сказал он.
— И тебе, Отто.
— До свидания, Пат.— Он протянул ей руку, глядя в ее глаза.—
Весной приеду за вами.
— Прощайте, Кестер.— Пат задержала его руку в своей.—
Я так рада, что еще раз увиделась с вами. Привет от меня Готт-
Фриду Ленцу.
— Передам,— сказал Кестер.
Она все не отпускала его руку. Ее губы дрожали. Вдруг она
подошла к нему вплотную и поцеловала.
— Прощайте,— пробормотала она сдавленным голосом.
Лицо Кестера словно озарилось ярко-красным пламенем. Он
хотел еще что-то сказать, но отвернулся, сел в машину, рванул
с места и, не оборачиваясь, понесся вниз по спиральной доро
ге. Мы глядели ему вслед. Машина прогрохотала по главной
улице деревни и пошла крутыми виражами вверх. Бледный све i
фар скользил по серому снегу... Одинокий светлячок. На вер
шине подъема Кестер остановился, встал перед радиатором
и помахал нам рукой. Его темный силуэт выделялся на фот*
света фар. Потом он исчез, и мы еще долго слышали замираю
щее гудение мотора.
* * *
Пат стояла, подавшись вперед, и вслушивалась, покуда что
то еще было слышно. Потом повернулась ко мне.
— Значит, отплыл последний корабль, Робби.
— 4* 366 + —
— Предпоследний,— возразил я.— Последним буду я. И ты
•наешь, какой у меня план? Хочу подыскать себе другую якор-
ную стоянку. Комната во флигеле перестала мне нравиться.
Не вижу, почему бы нам с тобой не поселиться рядом. Я попы-
।.нось получить комнату поблизости от тебя.
Она улыбнулась.
— Исключено! Не дадут! Как ты этого добьешься?
— А если добьюсь, будешь довольна?
— Что за вопрос, милый! Это было бы просто чудесно! Сов-
сем как у фрау Залевски!
— Ладно, тогда дай-ка мне поработать с полчасика.
— Хорошо. А мы с Антонио сыграем пока в шахматы. Меня
•лесь научили.
Я пошел в контору и заявил, что остаюсь на продолжительный
срок и желал бы поселиться на том же этаже, где живет Пат.
11ожилая плоскогрудая дама возмущенно посмотрела на меня
и решительно отклонила мою просьбу, ссылаясь на правила
внутреннего распорядка.
— Кто составил эти правила?— спросил я.
— Дирекция,— ответила дама и разгладила складки на своем
и и । ье.
Наконец опа довольно неохотно сообщила мне, что исклю-
1'11114 допускаются только с разрешения главного врача.
Но он уже ушел,— добавила она.— А тревожить его вече-
ром дома можно только по служебным делам.
— Хорошо,— сказал я,— тогда я и потревожу его по делам
о лбы — по вопросу о внутреннем распорядке.
I 1авный врач жил в домике рядом с санаторием. Он немед-
" iiiio меня принял и сразу же дал просимое мною разрешение.
Вот уж не думал, что все получится так легко. Начало было
•всем другим,— сказал я.
Он рассмеялся.
Понимаю. Видимо, вы напоролись на старую Рексрот. Ни-
сейчас я ей позвоню.
Я вернулся в контору. Увидев на моем лице вызывающее вы-
। i + сние, фрейлейн Рексрот не без достоинства удалилась.
I ня оворился обо всем с секретаршей и поручил коридорному
• |»<чiec। и ко мне в комнату мой багаж, а затем доставить туда
" ко 1ько бутылок со спиртным. Потом я пошел в холл, где ме-
к шла Пат.
Удалось?— спросила она.
Еще нет, но через два-три дня все будет в порядке.
Жаль.— Она опрокинула шахматные фигуры и встала.
— + 367 + —
— Что будем делать?— спросил я.— Пойдем в бар?
— По вечерам мы часто играем в карты,— сказал Антонио.—
Скоро задует фен — это уже чувствуется. И тогда карты — са-
мое милое дело.
— Ты играешь в карты, Пат?— удивился я.— Во что же? В
подкидного? Или, может, пасьянсы раскладываешь?
— В покер, дорогой мой,— заявила Пат.
Я рассмеялся.
— Правда, правда, она играет,— сказал Антонио.— Но очень
уж отчаянно. Блефует напропалую.
— Я и сам так играю,— ответил я.
— Значит, давайте попробуем.
Мы сели в уголок и начали играть. Пат совсем неплохо раз
биралась в тонкостях покера и действительно блефовала так,
что, как говорится, клочья летели. Через час Антонио показал
на пейзаж перед окном. Шел снег. Густые хлопья медленно,
словно нехотя, почти отвесно падали на землю.
— Полное безветрие,— сказал Антонио.— Значит, снега бу-
дет много.
— Где сейчас может быть Кестер?— спросила Пат.
— Уже за главным перевалом,— сказал я.
На минуту мне отчетливо представился «Карл», и в нем Кес
тер, и как они мчатся сквозь эту белую ночь, и вдруг все покн
залось мне каким-то нереальным — и то, что я тут сижу вместе*
с Пат, а Отто где-то в пути. Счастливая, уперев руку с картами
в край стола, она улыбалась мне.
— Твой ход, Робби!
Пушечное ядро перекатилось через холл, остановилось
за нашим столиком и доброжелательно стало подсказывать, ко
му и как ходить. Видимо, жена его уже спала, а ему было невтер
пеж с кем-нибудь поговорить. Положив карты на стол, я ехидно
уставился на него. Не выдержав моего взгляда, он ушел.
— А ты не очень-то любезен,— с удовольствием сказала Пнт
— Нет,— ответил я.— И не желаю быть таковым.
Потом мы пошли в бар, выпили несколько коктейлей «специ
аль», после чего Пат надо было отправляться спать. Я простился
с ней в холле. Она поднялась по лестнице и, прежде чем свер-
нуть в коридор, остановилась и оглянулась. Я еще немного по*
дождал, а затем зашел в дирекцию за ключом от моей комнаты
Маленькая секретарша усмехнулась.
— Семьдесят восьмой,— сказала она.
Это было рядом с комнатой Пат.
— Уж не по указанию ли фрейлейн Рексрот?— спросил я.
— + 368 ф —
— Что вы! Фрейлейн Рексрот ушла в дом миссионерской ор-
1анизации. Они там молятся,— ответила она.
— Оказывается, и такой дом может быть благословеньем
Божьим,— сказал я и быстро поднялся наверх. Мой чемодан
уже был распакован. Через полчаса я постучал в дверь, соеди-
нявшую наши комнаты.*
— Кто там?— послышался голос Пат.
— Полиция нравов,— ответил я.
Щелкнул замок — и дверь распахнулась.
— Это ты, Робби!— обалдело пролепетала Пат.
— Я!— сказал я.— Я — одержавший победу над фрейлейн
Рексрот! Я — обладатель коньяка и «порто-ронко».— Я выта-
щил две бутылки из карманов своего купального халата.— А те-
перь говори сразу: сколько здесь перебывало мужчин?
— Ни одного, кроме всех ребят из футбольного клуба и фи-
1армонического оркестра расширенного состава,— смеясь за-
явила Пат.— Ах, миленький ты мой! Значит, теперь все снова
• як, как в добрые старые времена!..
Она уснула у меня на плече. А я еще долго бодрствовал. В углу
юрел ночник. Снежные хлопья тихо бились о стекло, и казалось,
•нов этом тусклом, золотисто-коричневом полумраке время оста-
новилось. В комнате было очень тепло. Иногда слышался какой-
ю треск в трубах центрального отопления. Пат ворочалась во сне,
и одеяло, шурша, медленно соскользнуло на пол. О, эта бронзово
поблескивающая кожа! А эти узкие колени — какое чудо! А неж-
ная тайна груди! Ее волосы на моем плече, и губами я чувствую,
как бьется пульс в ее руке! «Да неужто же ты умрешь,— подумал
я.— Не можешь ты умереть! Ты — само счастье...»
Я осторожно подтянул одеяло. Пат что-то пробормотала, по-
том умолкла и, совсем сонная, медленно обняла меня за шею.
XXVII
Снегопад длился несколько дней. Пат температурила, и ей
не разрешали вставать с постели. В этом доме многие темпера-
турили.
— Все из-за погоды,— сказал Антонио.— Слишком тепло.
И вдобавок этот фен. Недаром говорят — лихорадочная погода.
— Прогулялся бы ты хоть немного, дорогой,— сказала
Пат.— А на лыжах кататься умеешь?
— Нет. Откуда? Я никогда не был в горах.
— Антонио тебя научит. Ему это только доставит удоволь-
ствие — ты ему симпатичен.
— Мне куда приятнее находиться здесь.
— + 369 4* —
Она привстала на кровати. Ночная рубашка соскользнула с плеч.
Господи, до чего она отощала! Да и шея стала совсем тонкой.
— Робби,— сказала она,— сделай это ради меня. Не хочу,
чтобы ты тут без конца сидел у ложа больной. И вчера сидел,
и позавчера — этого уже более чем достаточно.
— Яс удовольствием сижу здесь,— возразил я,— и снег меня
нисколько не привлекает.
Она громко дышала, и я различал неровные хрипы.
— На этот счет я поопытнее тебя,— сказала она и облокоти-
лась о подушку.— Так будет лучше нам обоим. Сам потом уви-
дишь.— Она с трудом улыбнулась.— Еще успеешь насидеться
у меня после обеда и вечером. А с утра не надо, милый.
А то мне становится как-то тревожно. Утром у меня жуткий
вид. Из-за температуры. А вечером все по-другому. Я поверх-
ностная и глупая женщина: не желаю быть уродливой в твоем
присутствии.
— Что за чепуха, Пат!— Я встал.— Ладно, будь, по-твоему.
Прогуляюсь немного с Антонио. К двенадцати вернусь. Наде-
юсь, моя лыжная вылазка обойдется без переломов костей.
— С лыжами ты быстро освоишься, дорогой.— Ее лицо стало
спокойным, выражение боязливой напряженности исчезло.—
Ты очень скоро научишься замечательно кататься.
— А у тебя почему-то всегда охота очень скоро и замечательно
выпроваживать меня отсюда,— сказал я и поцеловал ее. У нее
были влажные и горячие руки, а сухие губы потрескались.
* * *
Антонио жил на втором этаже. Он одолжил мне пару боти-
нок и лыжи. Все подошло, мы с ним были одинакового роста.
Мы пошли на учебную поляну за деревней. По дороге Антонио
внимательно посмотрел на меня.
— При повышении температуры больные начинают нервни-
чать,— сказал он.— В такие дни здесь творятся странные ве-
щи.— Он положил лыжи перед собой и закрепил их.— Самое
страшное — это ожидание и полная невозможность что-либо
предпринять. От этого больные лишаются последних сил, теря-
ют рассудок.
— Здоровые тоже,— ответил я.— Потому что присутство-
вать при сем и быть совершенно бессильным...
Он понимающе кивнул.
— Иные туберкулезники занимаются трудом,— продолжал
он,— другие прочитывают целые библиотеки. Но немало и та-
ких, которые ведут себя просто как школьники: стараются удрать
— + 370 + —
с мертвого часа, как в детстве убегали с уроков физкультуры,
а завидев на улице врача, трусливо ухмыляются и прячутся в ка-
кой-нибудь лавочке или кондитерской. Тайное курение, тайная
выпивка, запретные вечеринки, сплетни и всякие дурацкие
проделки — все это якобы спасает их от пустоты. И от правды
тоже. Я назвал бы это довольно игривым, легкомысленным,
но вместе с тем, пожалуй, и героическим пренебрежением
к смерти. Впрочем, в конечном счете это все, что им остается.
Да, подумал я, в конце концов всем нам тоже не остается ни-
чего другого.
— Ну что — попробуем?— спросил Антонио и воткнул пал-
ки в снег.
— Давайте!
Он показал мне, как закреплять лыжи и как сохранять на них
равновесие. Это было нетрудно. Сначала я довольно много па-
дал, но постепенно стал привыкать, и дело пошло на лад.
Через час катание окончилось.
— Хватит,— сказал Антонио.— Вечером у вас будут ныть все
мускулы.
Я отстегнул лыжи и почувствовал, как сильно пульсирует
кровь.
— Хорошо, что мы с вами побыли на воздухе, Антонио,—
сказал я.
Он кивнул.
— Это мы можем проделывать каждое утро. И, кстати, тогда
в голову приходят совсем иные мысли.
— А не зайти ли нам куда-нибудь выпить?— спросил я,
— Это можно. Зайдем к Форстеру — опрокинем по рюмочке
мдюбоне».
Мы выпили «дюбоне» и поднялись наверх, в санаторий.
В конторе секретарша сказала мне, что приходил письмоносец
и передал, чтобы я зашел на почту за денежным переводом.
Я посмотрел на часы. Времени оставалось достаточно, и я вер-
нулся в деревню. На почте мне вручили две тысячи марок
и письмо от Кестера. Он просил меня ни о чем не беспокоить-
ся, сообщал, что есть у него еще деньги, которые он вышлет мне
по первому требованию.
С удивлением я смотрел на банкноты. Где же Отто мог до-
стать деньги? Ведь я хорошо знал все источники наших дохо-
дов. И вдруг меня осенило: мысленно я увидел перед собой гон-
щика-любителя Больвиса, фабриканта готовой одежды,
вспомнил, как плотоядно он поглаживал нашего «Карла», сто-
ившего перед баром в вечер, когда он проиграл пари, вспомнил,
— 4* 371 4* —
как он сказал: «Эту машину я готов купить в любое время...».
Какой ужас! Значит, Кестер продал «Карла». Вот откуда вдруг
такие деньги! Отто продал «Карла», о котором как-то сказал,
что лучше бы ему лишиться руки, чем этой машины. Значит,
«Карла» больше нет, значит, теперь он в пухлых руках фабриканта
костюмов, а Отто, чье ухо узнавало этот автомобиль за километ-
ры, теперь будет прислушиваться к его завыванию на какой-ни-
будь дальней улице, словно к жалобному вою брошенной собаки.
Я спрятал письмо и небольшой пакет с ампулами морфия.
Растерянный, я еще немного постоял перед почтовым окошком.
Охотнее всего я бы тут же отправил деньги обратно, но сделать
этого не мог: они были нам абсолютно необходимы. Я разгла-
дил кредитки и положил их в карман. Затем вышел. Черт возьми,
подумал я, теперь я буду обходить каждый автомобиль сторо-
ной. На машины мы вообще смотрели как на друзей, но «Карл»
значил для нас гораздо больше. Он был нам настоящим товари-
щем — этот «призрак шоссейных дорог». Нам следовало быть
вместе. «Карлу» и Кестеру, «Карлу» и Ленцу, «Карлу» и Пат...
Яростно и беспомощно я стучал ботинками о ступеньку, сби-
вая с них снег. Ленца убили. «Карл» ушел. А Пат? Невидящими
глазами я уставился в небо, в это серое и бескрайнее небо како-
го-то безумного Бога, который ради собственной забавы выду-
мал жизнь и умирание.
* * *
Во второй половине дня ветер переменился. Небо проясни-
лось, воздух стал холодней, и к вечеру Пат почувствовала себя
лучше. Утром ей позволили встать, а через несколько дней, когда
уезжал Рот — тот самый, который исцелился,— она вместе со все-
ми отправилась провожать его на вокзал.
Проводы Рота оказались очень многолюдными. Уж так здесь
повелось, если кто уезжал домой. Но сам Рот не веселился. Ему
как-то по-особенному не повезло. Двумя годами раньше он по-
сетил знаменитого профессора, который на вопрос Рота, сколько
ему осталось жить, заявил, что, мол, не более двух лет, да и то при
строжайшем соблюдении режима. Из предосторожности Poi
проконсультировался еще у одного врача, попросив его быть
с ним предельно правдивым и откровенным. Тот приговорил
пациента к еще меньшему сроку дожития. Тогда Рот взял все
свои деньги, распределил их на два года и, не обращая никакого
внимания на свою болезнь, начал прожигать остаток жизни как
только мог. Наконец у него открылось тяжелое кровохарканье,
и его доставили в санаторий. Однако здесь вместо того чтобы
— + 372 + —
умереть, он неудержимо пошел на поправку. По прибытии в са-
наторий он весил девяносто фунтов, теперь же — целых сто
пятьдесят и вообще был в таком состоянии, что его вполне
можно было отпустить «вниз»... Но деньги его кончились.
— Что же мне сейчас делать внизу?— спросил он меня и по-
чесал свой череп, поросший жиденькими рыжими волосами.—
Вы ведь недавно оттуда. Что там сейчас?
— Там многое изменилось,— ответил я, глядя на его круглое,
упитанное лицо с бесцветными ресницами. Приговоренный
двумя специалистами на смерть, этот человек все-таки выздо-
ровел. В остальном он меня нисколько не интересовал.
— Придется подыскать себе какую-то работу,— сказал он.—
Как там в этом отношении?
Я пожал плечами. Стоило ли объяснять ему, что, вероятнее все-
|о, он ничего не найдет. Он и сам достаточно скоро это поймет.
— Есть у вас связи, друзья или что-нибудь в этом роде?
— Друзья... сами, небось, знаете...— Он иронически улыбнул-
ся.— Когда у тебя вдруг кончаются деньги, они отскакивают
о г тебя, как блохи от мертвой собаки.
— Тогда вам будет трудно.
Он наморщил лоб.
— Понятия не имею, чем это все кончится. Осталось у меня
всего несколько сотен марок. А если в последнее время я чему
в научился, то только одному — расшвыривать деньги. Видимо,
мой профессор и в самом деле был прав, но в другом смысле:
именно через два отпущенных мне года я действительно сыграю
и ящик... но при помощи пули.
И тут меня вдруг охватило какое-то бессмысленное бешенство
против этого дурацкого болтуна. Неужто он так и не уразумел,
чю такое жизнь? Впереди меня шли Пат и Антонио. Я смотрел
ив ее тоненькую от болезни шею, я понимал, как ей хочется
«ить, и в эту минуту готов был убить Рота, если бы это могло
। пасти Пат.
* * *
11оезд ушел. Рот махал шляпой. Провожающие выкрикивали
••му вдогонку пожелания всевозможных благ и смеялись. Ка-
апя-то девушка, спотыкаясь, бежала по перрону и срывающим-
и высоким голосом вопила: «До свидания! До свидания!». По-
1ом она вернулась и разразилась слезами. Остальные вроде бы
• мутились.
— Эй!— крикнул Антонио.— За плач на вокзале штраф! Старый
И1К0Н нашего санатория! Штраф в фонд следующего праздника!
— Ф 373 Ф —
Величественно он протянул ей открытую ладонь. Все захохо-
тали. Девушка улыбнулась сквозь слезы, стекавшие по ее жал-
кому, востроносому лицу, и достала из кармана пальто обшар-
панный кошелек. Мне стало совсем плохо от всех этих лиц
вокруг меня, от этого наигранного смеха, от этого судорожно-
мучительного, деланного веселья, от всех этих гримас...
— Пойдем,— сказал я Пат и крепко взял ее под руку.
Молча мы прошли по деревенской улице. В ближайшей кон-
дитерской я купил коробку конфет.
— Жареный миндаль,— сказал я и протянул ей покупку.—
Кажется, ты любишь.
— Робби,— сказала Пат, и ее губы задрожали.
— Погоди еще минутку,— ответил я и быстро направился
к расположенному рядом цветочному магазину. Немного успо-
коившись, я вышел оттуда с розами.
— Робби,— снова сказала Пат.
Я довольно жалко улыбнулся.
— На старости лет из меня получится истинный кавалер, тебе
не кажется, Пат?
Я не понимал, что на нас вдруг нашло. Вероятно, подейство-
вала атмосфера идиотских проводов на вокзале. Словно на нас
легла какая-то свинцовая тень, словно задул ветер, сметающий
все, что с таким трудом стремишься удержать. Вдруг мы оказа-
лись не более чем двумя заблудившимися детьми, которые не зна-
ют, как им быть, и очень стараются вести себя мужественно.
— Давай выпьем что-нибудь,— сказал я.
Она кивнула. Мы зашли в первое попавшееся кафе и сели
за пустой столик у окна.
— Что тебе заказать, Пат?
— Рому,—сказала она и посмотрела на меня.
— Рому,—повторил я и нашарил под столом ее руку. Она
крепко прижала свою ладонь к моей.
Принесли ром. Это был «баккарди» с лимоном.
— За тебя, старый мой дружок!— сказала Пат и подняла
рюмку.
— За тебя, мой старый добрый дружище!— сказал я.
Мы посидели еще немного.
— Иной раз все как-то очень странно, тебе не кажется?—
сказала Пат.
— Да, сперва странно. А потом проходит.
Она кивнула. Тесно прижавшись друг к другу, мы пошли
дальше. От лошадей, запряженных в сани, шел пар. Навстречу
— Ф 374
нам двигались загорелые лыжники и хоккеисты в красно-белых
< нигерах. Жизнь бурлила.
— Как ты себя чувствуешь, Пат?— спросил я.
— Хорошо, Робби.
— Нас с тобой ничто не одолеет, правда?
— Правда, дорогой.— Она прижала мою руку к себе.
Улица опустела. Над заснеженными горами раскинулся розо-
вый полог заката.
— Пат,— сказал я,— ты еще не знаешь, что мы располагаем
целой кучей денег — Кестер прислал.
Она остановилась.
—Так это же здорово, Робби! Значит, мы еще сможем как
( 1едует кутнуть?
— Запросто,— сказал я.— Сколько душе будет угодно.
— Тогда пойдем в субботу в курзал. Там состоится послед-
ний большой бал года.
— Но ведь тебе не разрешают выходить но вечерам.
— Это запрещено почти всем, однако все преспокойно выходят.
На моем лице отразилось опасение.
— Робби,— сказала Пат,— когда тебя здесь не было, я строго
* облюдала все, что мне предписывалось. От перепуга стала совсем
паинькой. Но все оказалось впустую. Мне стало хуже. Не пере-
пивай меня — заранее знаю, что ты скажешь. И так же знаю,
•но поставлено на карту. Но в оставшееся мне время, когда ты
1»г(ом, позволь мне делать все, что я хочу.
На ее лице лежал красноватый отсвет заходящего солнца. Гла-
и смотрели серьезно, спокойно и очень нежно. «О чем мы гово-
рим?— подумал я и почувствовал сухость во рту.— Разве мож-
н<» вот так стоять и говорить о том, что никогда не должно,
и<‘ смеет произойти! А ведь именно Пат произносит все эти
юва, произносит их невозмутимо, беспечально, словно ничего
\ поделать нельзя, словно нет хотя бы самого крохотного ос-
। .11 ка обманчивой надежды. Вот рядом со мной стоит Пат, поч-
||| ребенок, которого я обязан оберегать. И вдруг она сама от-
><» шт от меня далеко-далеко, породнившись с тем безымянным,
по таится за гранью бытия, и покорившись ему».
- Очень прошу, пожалуйста, не говори так,— пробормотал
। наконец.— Я просто подумал, не посоветоваться ли нам сна-
• I ia с врачом.
- Ни с кем мы с тобой советоваться не будем, ни с кем!—
’ )на вскинула свою красивую маленькую головку. На меня смот-
Iи- in любимые глаза.— Больше ничего не хочу знать. Хочу
• и п»ко одного — быть счастливой.
— Ф 375 Ф —
Вечером в коридорах санатория слышались шушуканье, бе-
готня. Пришел Антонио и вручил Пат приглашение на вече-
ринку, которую устраивал у себя в комнате какой-то русский.
— А разве я могу так просто, за здорово живешь, пойти с то-
бой?— спросил я.
— Это здесь-то! Конечно, можешь.
— Здесь можно делать многое, чего вообще делать нельзя,—
сказал Антонио.
Русский оказался смуглолицым пожилым человеком. Он за-
нимал две комнаты, устланные множеством ковров. На комоде
стояли бутылки с водкой. В комнатах, освещенных только све-
чами, был полумрак. Среди гостей выделялась очень красивая
молодая испанка. Выяснилось, что празднуется день ее рожде-
ния. От мерцания свечей создавалось какое-то особенное на-
строение. Сумрачные комнаты, где собралось некое братство
людей, объединенных общей судьбой, чем-то напоминали мне
фронтовой блиндаж.
— Что желаете пить?— спросил меня русский. Его низкий
голос звучал очень тепло.
— Что найдется, то и выпью.
Он принес бутылку коньяку и графин с водкой.
— Вы здоровы?— спросил он.
— Да,— смущенно ответил я.
Он предложил мне папиросу. Мы выпили.
— Видимо, здесь многое кажется вам странным, правда?—
заметил он.
— Не сказал бы,— ответил я.— Я вообще не очень-то при-
вык к нормальной жизни.
— Да,— сказал он и, сощурив глаза, посмотрел на испанку.—
Здесь, в горах, свой особый мир. Он изменяет людей.
Я кивнул.
— И болезнь здесь особая,— задумчиво добавил он.— От нес
как-то оживляешься. А иногда даже становишься лучше. Какая-
то мистическая болезнь. Она расплавляет шлаки и выводит их.
Он встал, слегка поклонился мне и подошел к улыбавшейся
ему испанке.
— Сентиментальный трепач, верно?— сказал кто-то позади
меня.
Лицо без подбородка. Шишковатый лоб. Беспокойно бегаю-
щие, лихорадочные глазки.
— Я здесь в гостях,— сказал я.— А вы разве нет?
— На это он и ловит женщин,— продолжал он, не слушая ме-
ня.— Только на это он их и ловит. И вот эту малышку тоже поймал,
— Ф 376 + —
Я промолчал.
— Кто это?— спросил я Пат, когда он отошел от нас.
— Музыкант. Скрипач. Безнадежно влюблен в эту испанку.
Так влюбиться можно только в горах. Но она и знать его не хо-
чет. Любит своего русского.
— И я бы на ее месте так поступил.
Пат рассмеялась.
— По-моему, в такого мужчину нельзя не влюбиться. Ты
не находишь?— сказал я.
— Нет, не нахожу,— ответила она.
— Ты здесь никогда не была влюблена?
— Не очень.
— Впрочем, мне это безразлично,— сказал я.
— Вот так признание!— Пат выпрямилась.— А я-то думала,
Mio это тебе никак не должно быть безразлично.
— Да я не в таком смысле. Даже не могу объяснить тебе, в ка-
ком. Не могу потому, что так и не понял, что, собственно, ты
ио мне нашла.
— Уж это моя забота,— ответила Пат.
— Но ты-то сама это понимаешь?
— Не совсем точно,— ответила она с улыбкой.— Иначе это
уже не было бы любовью.
Бутылки с водкой русский оставил на комоде. Я налил себе
и выпил несколько рюмок. Царившее здесь настроение угнетало
меня. Очень тяжело было видеть Пат среди всех этих больных.
— Тебе тут не нравится?— спросила она.
— Не слишком. К этому нужно привыкнуть.
— Бедненький ты мой, дорогой...— Она погладила мою руку.
— Я не бедненький, если ты рядом,— сказал я.
— А Рита, по-твоему, не красавица?
— Не нахожу,— сказал я.— Ты красивее.
На коленях молодой испанки лежала гитара. Девушка взяла
несколько аккордов. Потом запела, и мне показалось, что в по-
|умраке вдруг откуда-то появилась и парит неведомая темная
и ища. Рита пела испанские песни, пела негромко, чуть хрипло-
н||гым и ломким, больным голосом. И я не мог понять — то ли
и i-за этих непривычных и грустных напевов, то ли из-за беру-
щего за душу и какого-то вечернего голоса девушки, то ли из-за
|<41сй, отбрасываемых больными, сидевшими в креслах или
прямо на полу, то ли, наконец, из-за выразительного, крупного
и смуглого лица нашего русского хозяина,— не знаю отчего,
но вдруг мне показалось, что все происходящее не более чем
> не зное и тихое заклинание судьбы, притаившейся там, за зана-
— + 377 Ф —
вешенными окнами, не более чем мольба, крик и страх, боязнь
остаться наедине с неслышно подтачивающим тебя небытием...
* * *
Наутро Пат, оживленная и радостная, перебирала свои платья.
— Слишком широкими стали... слишком широкими...— ма-
шинально бормотала она, стоя перед зеркалом. Потом повер
нулась ко мне.— Ты привез с собой смокинг, милый?
— Нет,— сказал я.— Не думал, что он мне здесь понадобится.
— Тогда пойди к Антонио. Он тебе одолжит. У вас совер
шенно одинаковые фигуры.
— А он что наденет?
— Он наденет фрак.— Она прихватила булавкой складку
на платье.— Кроме того, пойди покатайся на лыжах. Мне нужно
поработать. А при тебе я не смогу.
— Несчастный Антонио,— сказал я.— Я его просто граблю.
Что бы мы делали без него.
— Он хороший парень, правда?
— Да, это правда,— ответил я.— Именно хороший парень.
— Не знаю, как бы я обошлась без него, когда была тут одна-
одинешенька.
— Не надо вспоминать об этом. С тех пор прошло столько
времени.
— Правильно.— Она поцеловала меня.— А теперь иди ка
таться.
Антонио уже ждал меня.
— Признаться, я и сам догадался, что вы приехали без смо
кинга,— сказал он.— Примерьте-ка мой.
Смокинг был чуть узковат в плечах, но в общем подошел.
— Завтра повеселимся на славу,— заявил он.— К счастью,
вечером в конторе будет дежурить маленькая секретарша. Старая
Рексрот ни за что не выпустила бы нас. Ведь официально вес
это запрещено. Но неофициально мы, разумеется, уже не дети.
Мы пошли на лыжах. Я уже довольно прилично овладел ими,
и не имело смысла снова тренироваться на учебной поляне.
Нам встретился мужчина с бриллиантовыми кольцами на паль
цах, в клетчатых штанах, с пышной бабочкой на шее — так оде
ваются художники.
— И чего только здесь не увидишь,— сказал я.
Антонио улыбнулся.
— Этот как раз довольно важная персона. Он — сопроводи
тель трупов.
— Как это?— не понял я.
— + 378 + —
— Сопроводитель трупов,— повторил Антонио.— Ведь сюда
ссекаются туберкулезники со всего света. Особенно много из Юж-
ной Америки. А большинство семей желает хоронить своих близ-
ких на родине. И вот такие сопроводители, конечно за приличное
вознаграждение, доставляют цинковые гробы к месту назначения.
Тик они постепенно богатеют и разъезжают по всему свету. А вот
ною смерть сделала настоящим денди, в чем вы могли убедиться.
Еще некоторое время мы поднимались вверх, потом встали
па лыжи и помчались. Белые склоны вздымались и опускались,
а ш нами, неистово тявкая и повизгивая, утопая по грудь в сне-
। у, красно-коричневым шариком несся Билли. Он снова привык
ко мне, хотя в пути частенько поворачивал обратно и с развева-
ющимися ушами летел напрямик к санаторию.
Я отрабатывал поворот «христиания». Всякий раз, когда
и скользил вниз по склону и, готовясь к развороту, расслаблял-
ся всем телом, я загадывал: «Если получится, если устою на но-
। ах, то Пат выздоровеет». Ветер свистел мне в лицо, лыжи зары-
вались в тяжелый снег, но раз за разом я карабкался вверх,
находил все более крутые спуски, все более пересеченные уча-
стки, и когда опять и опять все выходило как нельзя лучше,
и шептал: «Спасена!». Конечно, я понимал, что это глупо,
но все-таки радовался, чего со мной давно уже не бывало.
* * ♦
В субботу вечером состоялся массовый тайный побег. Анто-
нио заказал сани, которые ожидали нас на спуске, чуть в стороне
in санатория. Сам Антонио, в лакированных туфлях и распах-
нутом пальто, из-под которого сверкала белоснежная манишка,
сел на салазки и, оглашая воздух тирольскими фиоритурами,
« катился по склону прямо к санным упряжкам.
— С ума сошел парень,— сказал я.
— А он часто так,— ответила Пат.— Легкомыслен до беспре-
дельности. Только это и выручает его. Иначе он бы не мог по-
«юянно пребывать в таком хорошем настроении.
— Понятно. А теперь я тебя как следует укутаю.
Я завернул ее во все пледы и шали, какие нашлись. Затем
ниш длинный санный поезд двинулся вниз. Удрали все, кто
ншько мог. Можно было подумать, будто в долину спускается
«ипдебный кортеж,— так празднично колыхались при лунном
«кете пестрые плюмажи на головах лошадей, так много было
«охота и шуток, которыми перебрасывались седоки.
Курзал был убран с расточительной роскошью. Когда мы
прибыли, танцы уже начались. Для гостей из санатория приго-
— Ф 379 Ф —
товили специальный угол, защищенный от сквозняка. В теплом
воздухе пахло цветами, духами и вином.
За нашим столиком сидело довольно много людей: русский,
Рита, скрипач, какая-то старуха в жемчугах, рядом с ней какая-то
размалеванная маска смерти и нанятый ею жиголо, Антонио
и еще кое-кто.
— Пойдем, Робби,— сказала Пат,— попробуем потанцевать.
Паркет медленно закружился. Скрипка и виолончель словно
откуда-то сверху выводили нежную кантилену, выделявшуюся
на фоне тихо рокочущего оркестра. Едва слышно шаркали
по полу ноги танцующих.
— Послушай-ка, любимый мой! Вдруг выясняется, что ты от-
лично танцуешь,— удивленно сказала Пат.
— Ну, уж прямо отлично...
— Правда, отлично. Где ты научился?
— Еще у Готтфрида,— сказал я.
— В вашей мастерской?
— Да, и в кафе «Интернациональ». Ведь для танцев нужны
партнерши. Так вот — Роза, Марион и Валли наводили на меня
последний лоск. Боюсь, однако, что особого изящества они мне
так и не привили.
— А вот и привили!— Ее глаза сияли.— Ведь мы с тобой
впервые танцуем вдвоем, Робби!
Рядом с нами танцевал русский с испанкой. Он приветливо
улыбнулся и кивнул нам. Испанка была очень бледна. Блестя-
щие черные волосы вороньим крылом окаймляли ее лоб. Она
танцевала с неподвижным серьезным лицом. Запястье украшал
браслет из крупных четырехугольных изумрудов. Ей было во-
семнадцать лет. Скрипач, сидевший за столиком, не спускал
с нее жадных глаз.
Мы вернулись к столу.
— А теперь дай мне сигарету,— попросила Пат.
— Лучше воздержись,— осторожно возразил я.
— Только несколько затяжек, Робби. Я так давно не курила.
Она взяла сигарету, но вскоре отложила ее.
— Что-то не нравится мне эта сигарета, Робби. Она просто
не вкусна.
Я засмеялся.
— Так бывает всегда, когда человек долго чего-то лишен.
— Но ведь ты и меня был долго лишен.
— Это относится только к ядам,— пояснил я.— Только к водке
и куреву.
— + 380 + —
«Три товарища»
— Люди, дорогой мой, куда более страшный яд, нежели водка
и табак.
Я снова рассмеялся.
— А ты, я вижу, неглупый ребенок, Пат. Соображаешь.
Она положила руки на стол и посмотрела на меня.
— В сущности, ты никогда не принимал меня всерьез,— ска-
зала она.
— Я самого себя никогда не принимал всерьез,— ответил я.
— Но меня ведь тоже нет. Скажи правду.
— Этого я не знаю. Однако нас вдвоем я всегда принимал
просто ужасно всерьез. Вот это я знаю.
Она улыбнулась. Антонио пригласил ее на танец, и они вы-
шли на паркет. Я смотрел, как Пат танцует. Она улыбалась мне
всякий раз, когда оказывалась около меня. Ее серебряные ту-
фельки едва касались пола. В ее движениях было что-то от гра-
циозности лани.
Русский опять танцевал со своей испанкой. Его крупное
смуглое лицо выражало сдержанную нежность. Скрипач попы
тался пригласить испанку на танец, но она отрицательно пока-
чала головой и снова пошла на площадку с русским.
Длинными костлявыми пальцами скрипач раскрошил сигарету.
Вдруг мне стало его жаль, и я предложил ему другую сигарету. Он
отказался.
— Я должен беречь себя,— сказал он срывающимся голосом.
Я кивнул.
— А вот этот,— продолжал он и, хихикнув, указал на русско-
го,— каждый день выкуривает по пятьдесят штук.
— Что ж, один ведет себя так, а другой наоборот,— ответил я.
— Пусть она сейчас не хочет танцевать со мной. Все равно
будет моей.
— Кто будет вашей?
— Рита.— Он придвинулся поближе.— У нас с ней были хо
рошие отношения. Мы вместе выступали. А потом приехал
этот русский и своими пышными тирадами увел ее у меня из
под носа. Но ничего — я заполучу ее обратно.
— Для этого вам придется очень постараться,— сказал я. Он
мне определенно не нравился.
Скрипач глуповато расхохотался.
— Это мне-то стараться? Наивный вы ангелочек! Не старать
ся мне нужно, а просто ждать.
— Что ж, тогда просто ждите.
— По пятьдесят сигарет,— продолжал он.— Каждый день,
Вчера я видел его рентгеновский снимок. Живого места нет -
— 4* 382 4* —
•.।верна на каверне. Конец!— Он снова расхохотался.— Сперва
мы с ним шли вровень. Его рентгеновские снимки можно было
принять за мои и наоборот. Посмотрели бы вы, какая теперь
I'.i шина! Вдобавок я прибавил два фунта. Нет, уважаемый, мне
||\ ано только беречь себя и ждать. Я уже предвкушаю его сле-
|\к»1ний снимок. Сестра мне всегда показывает. Понимаете?
’ >п исчезнет, и настанет мой черед.
— Что ж, и это способ,— сказал я.
— «И это способ»!— передразнил он меня.— Это единствен-
ный способ, птенец вы желторотый! Если бы я активно попы-
• । н я встать ему поперек пути, то потом она на меня и смотреть
и. v । ала бы. Так что... мотайте на ус, приготовишка... Надо вести
«•ini дружелюбно и спокойно... Надо уметь ждать...
В зале становилось душно. Пат закашлялась. Я заметил, что
при этом она боязливо покосилась на меня, и притворился, будто
Hii'ieio не услышал.
( iapyxa в жемчугах, погруженная в собственные мысли, ch-
i'’ i.i не шевелясь и время от времени неожиданно разражалась
। ромким хохотом. Потом снова успокаивалась и застывала в не-
-ц| шижности. Размалеванная маска смерти ссорилась со своим
♦ hiочо. Русский курил сигарету за сигаретой. Скрипач услуж-
Н1ПО подавал ему огонь. Какая-то девушка внезапно судорожно
поперхнулась, поднесла ко рту носовой платок, взглянула на пе-
• "II побледнела.
Я смотрел в зал. В нем были расставлены столики для спорт-
мгнов, для местных жителей, для французов, англичан и гол-
...... чей язык с его характерными растянутыми слогами но-
"м\ ю вызывал у меня представление о лугах, о море...
И . речи всей этой пестроты пристроилась небольшая колония
• к иш и смерти. Ее лихорадило, и она была прекрасна в сво-
п обреченности.
I Vi а и море.— Я посмотрел на Пат.— Луга и море — пена
• pimon — песок — заплывы — о, любимый и такой знакомый
•о' подумал я.— Любимые мои руки! Любимая жизнь, кото-
। \ ю я могу только любить, но спасти не умею...»
Я поднялся и вышел на воздух, от тревоги и бессилия я по-
• pi । 1ся испариной. Я медленно побрел по дороге. Холод про-
• •• H.iii Li меня, а от порывов ветра, вырывавшихся из-за домов,
• •ч кожа покрылась пупырышками. Я сжал кулаки и, охваченный
• iMiM ю буйным чувством, в котором смешались ярость, бешен-
""•II неизбывная боль, долго смотрел па суровые белые горы.
Нин .у, на дороге, послышались бубенцы — проехали сани.
। inинея обратно. Пат шла мне навстречу.
— 4» 383 »4*
— Где ты был?
— Захотелось пройтись.
— У тебя дурное настроение?
— Нет, нисколько.
— Радуйся, дорогой мой! Сегодня радуйся! Ради меня! Кто
знает, когда я снова смогу пойти на бал?
— На балы ты будешь ходить очень часто.
Она прильнула к моему плечу.
— Раз ты это говоришь, значит, так оно наверняка и будет
Пойдем потанцуем. Сегодня мы впервые танцуем вдвоем.
Мы еще потанцевали, и теплый мягкий свет милосердно
маскировал тени, которые в этот поздний час проступали
на лицах.
— Как ты себя чувствуешь?— спросил я.
— Хорошо, Робби.
— Какая ты красивая, Пат.
Ее глаза засветились.
— Как хорошо, что ты мне это говоришь.
Я ощутил на своей щеке ее теплые, сухие губы.
* * *
В санаторий мы вернулись совсем поздно.
— Вы только посмотрите, какой у него вид,— хихикнул скри
пач и украдкой показал на русского.
— У вас точно такой же вид,— раздраженно ответил я.
Он ошарашенно взглянул на меня, а потом ехидно проговорил;
— Ну понятно — вы-то сами здоровы как бык! Что вам
до этих нюансов!
Я подал русскому руку. Он пожал ее с легким поклоном, за
тем бережно и нежно помог молодой испанке подняться по лест
нице. Я смотрел, как они шли наверх, освещенные ночными
лампочками, и почему-то мне подумалось, что на этой крупной
сутулой спине и на хрупких плечах девушки вся тяжесть мира,
Маска смерти волокла по коридору заартачившегося жиголо,
Антонио пожелал нам доброй ночи, и в этом почти беззвучном
прощании было что-то призрачное.
♦ * *
Пат снимала платье через голову. Она стояла согнувшись
и дергала что-то у плеча. При этом порвалась парча. Пат при
гляделась к месту разрыва.
— Платье, видимо, уже изрядно поистрепалось,— сказал я.
— Ф 384 Ф —
— Неважно,—сказала Пат.—Думаю, что оно мне уже не по-
надобится.
Она медленно сложила платье, но не повесила его в шкаф,
а поместила в чемодан. И вдруг на ее лице как-то сразу обозна-
чилась усталость.
— Посмотри-ка, что я припасла,— быстро сказала она и выну-
ia из кармана пальто бутылку шампанского.— Сейчас мы устро-
им себе отдельный маленький праздник.
Я взял стаканы и наполнил их. Улыбаясь, она отпила глоток.
— За нас с тобой, Пат.
— Да, дорогой, за нашу с тобой прекрасную жизнь.
Но как же все это было ни на что не похоже — и эта комна-
ia, и эта тишина, и наша печаль. Разве не раскинулась за две-
рью огромная, бесконечная жизнь, с лесами и реками, полная
могучего дыхания, цветущая и тревожная,— разве по ту сторо-
ну этих больших гор не стучался беспокойный март, будоража
просыпающуюся землю?
— Ты останешься у меня на ночь, Робби?
— Останусь. Ляжем в постель и будем так близки, как только мо-
। \ । быть близки люди. Стаканы поставим на одеяло и будем пить.
Шампанское. Золотисто-коричневая кожа. Предвкушение,
бодрствование. А потом тишина и едва слышные хрипы в лю-
бимой груди.
XXVIII
Снова задул фен. Он шумно гнал сквозь долину влажное тепло.
< пег оседал. С крыш капало. Температурные кривые больных
ползли вверх. Пат должна была оставаться в постели. Каждые
ша-три часа ее смотрел врач, чье лицо становилось все более
озабоченным.
Однажды, когда я обедал, ко мне подошел Антонио и сел
ш мой столик.
— Рита умерла,— сказал он.
— Рита? Это вы о русском?
— Нет, это я о Рите, об испанке.
— Не может быть,— сказал я, похолодев. В сравнении с Пат
Рита была гораздо менее опасно больна.
— Здесь может быть больше, чем вы думаете,— грустно воз-
разил Антонио.— Она умерла сегодня утром. Все осложнилось
воспалением легких.
— Ах, воспаление легких! Это другое дело,— облегченно
сказал я.
— 4* 385 Ф —
— Восемнадцать лет. Страшно все-таки. И как тяжело она
умирала.
— А что с русским?
— Лучше не спрашивайте. Никак не хочет поверить, что она
мертва. Уверяет, что это мнимая смерть. Не отходит от ее постели,
никто не может увести его из комнаты.
Антонио ушел. Я уставился в окно. Рита умерла, а я сидел
и думал лишь об одном — это не Пат, это не Пат.
Сквозь остекленную дверь коридора я увидел скрипача.
Не успел я встать, как он уже направился ко мне. Выглядел он
ужасно.
— Вы курите?— спросил я, чтобы что-то сказать.
Он громко рассмеялся.
— Конечно, курю! А почему бы и нет? Теперь-то уже все
равно.
Я пожал плечами.
— Вам все это, небось, смешно. Строите из себя этакого но
рядочного! Кривляка!— насмешливо проговорил он.
— Вы что, спятили?— удивился я.
— Спятил ли я? Нет, не спятил. Просто влип!— Он перегнул
ся через стол и обдал меня коньячным перегаром.— Я влип.
Они подложили мне свинью. Да и сами они свиньи. Все! И вы
тоже — добродетельная свинья!
— Не будь вы больны, я вышвырнул бы вас в окно,— сказал я
— «Больны, больны!» — передразнил он.— Вовсе не болен я,
а здоров. Или почти здоров. Только что видел свой снимок.
Редкостный случай чрезвычайно быстрой инкапсуляции! Зву
чит прямо как анекдот, верно?
— Так радоваться вам надо!— сказал я.— Уедете отсюда,
и все ваши горести позабудутся.
— Вот как!— удивился он.— Неужто вы это серьезно? До чего
же у вас практический умишко! Да хранит Господь вашу толсто
кожую душу!
Он отошел на нетвердых ногах, но тут же обернулся.
— Айда со мной, пошли! Не покидайте меня. Давайте кик
следует выпьем. За мой счет, разумеется. Не могу я оставаться
в одиночестве...
— Нет у меня времени,— сказал я.— Найдите себе кого-ни
будь другого...
* * ♦
Я снова поднялся к Пат. Опираясь на гору подушек, она тя
жело дышала.
— + 386 ф —
— Тебе не хочется походить на лыжах?— спросила она.
Я покачал головой.
— Снег никуда не годится. Везде тает.
— В та^сом случае не сыграть ли тебе с Антонио в шахматы?
— Нет,— сказал я.—Хочу остаться здесь, у тебя.
- Бедный ты мой Робби!— Она попыталась шевельнуть ру-
кой.— Тогда, по крайней мере, выпей что-нибудь.
— Это я могу.
Я пошел в свою комнату и принес оттуда бутылку коньяка
II рюмку.
— А ты хочешь немного?— спросил я.— Ведь тебе можно,
» ама знаешь.
Она сделала глоток и немного погодя — другой. Потом вер-
11\ ia мне рюмку. Я долил ее дополна и выпил.
— Ты не должен пить из одной рюмки со мной,— сказала Пат.
— Еще чего выдумала! Почему это не должен?— Я вновь на-
пил рюмку и разом опрокинул ее.
Она укоризненно покачала головой.
— Не делай этого, Робби. И целоваться нам тоже больше
нельзя. И вообще не надо сидеть у меня так долго. Не желаю,
чтобы ты заболел.
— А я вот буду тебя целовать, и черт с ним со всем!— возразил я.
— Нет, так нельзя! И точно так же тебе нельзя спать в моей
постели.
— Пожалуйста, тогда спи со мной в моей.
( iobho обороняясь от меня, Пат сжала губы.
Оставь все это, Робби. Тебе еще жить и жить. Я хочу, чтобы
।ы остался здоровым, имел жену и детей.
Мы помолчали.
Я бы, конечно, тоже хотела иметь от тебя ребенка, Робби,—
• к.нала она после паузы и потерлась щекой о мое плечо.—
Г inl ine никогда и мысли такой не было. Даже представить себе
и. moi ла. А теперь часто об этом думаю. Хорошо, когда от чело-
|и к.| что-то остается. Иногда ребенок глядел бы на тебя, и ты бы
ч. ня вспоминал. В такие минуты я как бы снова была бы у тебя.
Еще будет у нас ребенок,— сказал я.— Когда выздорове-
HII. Мне тоже хочется от тебя ребенка. Но это должна быть де-
и назовем мы ее так же, как назвали тебя,— Пат.
()на взяла у меня рюмку и отпила еще глоток.
Милый ты мой, может, оно и лучше, что у нас нет детей.
Н\< и. от меня ничего не останется. Ты должен меня забыть.
\ .ч in все-таки будешь обо мне думать, так думай лишь о том,
।н» нам было хорошо, и, пожалуйста, ни о чем больше. Ведь
— + 387 + —
нам все равно никогда не постичь, почему все это у нас кончи
лось. А горевать не стоит.
— Мне горько, что ты можешь так говорить.
Она пристально посмотрела на меня.
— Когда долго лежишь в постели вот так, как я, то поневоле*
думаешь о том, о сем. И многое, на что я раньше не обращала
внимания, теперь кажется мне странным. И знаешь, чего мне
уж никак не понять? Того, что можно любить друг друга, как
мы с тобой, и все-таки один умирает.
— Замолчи,— сказал я.— Один всегда должен умереть первым,
так устроена жизнь. Но нам обоим еще очень далеко до этого.
— Право умереть дает только одиночество. Или взаимная нс
нависть. Но когда люди любят друг друга...
Я заставил себя улыбнуться.
— Да, Пат,— сказал я и взял ее горячие руки в свои,— если бы
мы вдвоем сотворили мир, он выглядел бы лучше. Так или нет?
Она кивнула.
— Да, милый. Мы бы такого не допустили. Но только бы
знать — а что же дальше? Ты веришь, что потом все будет про-
должаться?
— Верю,— ответил я.— Наша жизнь сделана настолько плохо,
что на этом она кончиться не может.
Пат улыбнулась.
— Что ж, в этом есть резон. Но вот посмотри сюда — рази»
это тоже плохо сделано?
Она показала на корзину чайных роз, стоявшую у ее кровати.
— В том-то все и дело,— ответил я.— Подробности велико
лепны, но целое лишено всякого смысла. Словно оно было со
здано каким-то существом, которое при виде чудесного много
образия жизни не додумалось ни до чего лучшего, как попросту
уничтожать эту жизнь.
— Но и обновлять тоже,— сказала Пат.
— В этом обновлении я тоже не вижу смысла,— возразил я.-
От него жизнь лучше не стала. По сей день.
— Нет, дорогой,— сказала Пат.— У нас с тобой все вполнг
удалось. Лучше и не придумаешь. Жаль только, что длилось это
так недолго. Слишком недолго.
* * *
Несколько дней спустя я почувствовал колотье в груди и ни
чал кашлять. Как-то, проходя по коридору, главный врач услы
шал мой кашель и заглянул ко мне.
— Пойдемте-ка со мной в кабинет.
— 4* 388 + —
— Да у меня все в порядке,— сказал я.
— Не о вас речь,— ответил он.— С таким кашлем вам нельзя
сидеть у фрейлейн Хольман. Немедленно идемте.
Войдя в его кабинет, я с каким-то странным чувством удовле-
творения снял с себя рубашку. Здесь, в Альпах, настоящее здо-
ровье казалось мне какой-то почти неправомерной привилеги-
ей, я чувствовал себя чем-то вроде афериста или дезертира.
Главный врач недоуменно посмотрел на меня и наморщил лоб.
— Похоже, что вы еще и рады этому,— сказал он.
Затем он тщательно выслушал меня. Я разглядывал различ-
ные блестящие инструменты на стенах и, в зависимости от его
|рсбований, дышал то медленно и глубоко, то быстро и коротко.
При этом я снова ощущал покалывание и был очень доволен,
•по мои преимущества перед Пат несколько сократились.
— Вы простужены,— сказал главный врач.— Полежите день-
другой в постели или, по крайней мере, не покидайте своей
комнаты. К фрейлейн Хольман не заходите — и не ради вас,
в ради нее.
— А переговариваться с ней через дверь можно?— спросил я.—
Или через балкон?
— С балкона можно, но только считанные минуты. Да и через
дверь тоже, если будете как следует полоскать горло. Помимо
простуды, у вас от курения еще и катар дыхательных путей.
— А легкие?— Почему-то я ожидал, что хоть в них окажется
•iro-нибудь не в порядке. Тогда я чувствовал бы себя лучше пе-
ред Пат.
— Из ваших двух легких можно выкроить целых шесть,— за-
ивил главный врач.— Давно уже мне не встречался такой здо-
ровый человек, как вы. Только вот печень у вас увеличена. Ви-
димо, много пьете.
Он мне что-то прописал, и я ушел к себе.
— Робби, что он тебе сказал?— спросила меня Пат из своей
комнаты.
— Временно запретил посещать тебя,— ответил я, стоя
у двери.— Даже строго запретил. Существует опасность зара-
жения.
— Вот видишь!— испуганно сказала она.— Я уже давно тол-
кую тебе об этом.
—- Да нет же, Пат! Это тебе грозит заражение, а не мне.
— Перестань болтать чушь,— сказала она.— Расскажи мне
нрпю, что с тобой случилось.
— + 389 + —
— Я и так сказал тебе точно. Сестра...— Я сделал знак посто-
вой сестре, которая как раз принесла мне лекарства.— Скажите
фрейлейн Хольман, кто из нас более опасен для окружающих?
— Вы, господин Локамп,— объяснила сестра.— Он не дол-
жен к вам входить, а то еще заразитесь от него.
Пат с недоверием посмотрела на сестру, потом перевела
взгляд на меня. Я показал ей через дверь лекарства. Поняв, что
все правильно, она рассмеялась; она смеялась все громче, смех
перешел в хохот, на ее глазах появились слезы, и тут начался при-
ступ мучительного кашля. Сестра бросилась к ней на помощь.
— Господи,— прошептала Пат,— дорогой мой, это, ей-Богу,
ужасно смешно. И какой у тебя гордый вид!
Весь вечер она была весела. Конечно, я не оставил ее одну.
Надев плотное пальто и обмотав шею шарфом, я просидел
до полуночи на балконе. В ногах у меня стояла бутылка коньяка,
в одной руке я держал сигару, в другой — рюмку и рассказывал
Пат о всевозможных событиях из моей жизни. Время от време-
ни меня прерывал, а заодно и вдохновлял ее тихий, словно пти-
чий, смех, и я усердно врал, врал сколько мог — лишь бы ее ли-
цо озарялось улыбкой. Я был счастлив от своего лающего
кашля, высосал всю бутылку и наутро был здоров.
♦ ♦ *
И снова задул фен. Ветер бился в окна, низко нависли тучи,
по ночам слышался грохот низвергающегося с гор талого снега,
а перевозбужденные больные, не смыкая глаз, все время насто
роженно прислушивались. На защищенных склонах начали
расцветать крокусы, а на дороге среди саней появились первые
повозки на высоких колесах.
Пат все больше слабела и уже не могла вставать с постели.
Ночью у нее случались приступы удушья. Тогда от смертельно
го страха ее лицо становилось серым, и я держал ее за влажные
бессильные руки.
— Лишь бы пережить этот час!— хрипела она.— Только
один этот час!.. Самое время умирать...
Особенно она страшилась последнего часа между ночью
и утром. Почему-то ей казалось, что под конец ночи тайный ток
жизненных сил замедляется, почти совсем угасает. В этот час,
которого она боялась больше всего, ей не хотелось быть одной.
В остальное время она держалась так мужественно, что, опасп
ясь выдать свое волнение, я то и дело стискивал зубы.
Я попросил перенести свою кровать в комнату Пат и приси
живался около нее, когда она пробуждалась или когда в ее гла
— + 390 Ф —
nix появлялось выражение какой-то отчаянной мольбы. Я часто
вспоминал о лежавших в моем чемодане ампулах с морфием
и, не задумываясь, сам делал бы ей уколы, чтобы она спала.
Но я знал, как она благодарна за каждый новый день жизни,
и морфий оставался неиспользованным.
Часами я сидел у ее постели и рассказывал решительно все,
что мне вспоминалось. Ей самой нельзя было много говорить,
и она охотно слушала мое пространное повествование о разных
историях, приключившихся со мной. Иногда, сразу вслед
in очередным приступом, когда бледная и разбитая Пат полу-
лежала, откинувшись на подушки, она просила изобразить ей
кого-нибудь из моих учителей. Тогда, оживленно жестикулируя
и сопя, поглаживая воображаемую окладистую рыжую бороду,
м степенно расхаживал по комнате и надтреснутым голосом из-
рекал всяческие перлы школярской премудрости. Ежедневно
и придумывал что-нибудь новое, и постепенно Пат подробно
у шала про всех забияк и оболтусов нашего класса, которые не-
утомимо старались причинять учителям все новые и новые
огорчения. Однажды, привлеченная раскатистым басом нашего
директора, в комнату вошла ночная сестра, и потребовалось не-
мало времени, покуда я, к полному удовольствию Пат, все-таки
разъяснил ей, что, хотя я действительно напялил на себя дам-
скую пелерину и мягкую шляпу, хотя скачу по комнате и на чем
спет стоит браню некоего Карла Оссеге за то, что тот злокоз-
ненно подпилил учительскую кафедру,— я тем не менее все же
не сумасшедший, а вполне нормальный человек.
Вскоре за окном забрезжил рассвет. Горные хребты превра-
шлись в какие-то бритвенно острые, черные силуэты. Раски-
нувшееся за ними холодное и бледное небо начало отступать.
Ночник на тумбочке потускнел до бледной желтизны, и Пат
прижалась влажным лицом к моим ладоням.
— Ночь прошла, Робби. На мою долю выпал еще один день.
♦ * *
Антонио принес мне свой радиоприемник. Я подключил его
к сети, заземлил на центральное отопление и вечером опробо-
мвл в комнате Пат. Сначала из аппарата вырывался треск и не-
(I ройный свист, но мне удалось чисто настроиться, и комната
пиполнилась нежными прозрачными звуками.
•— Что это, дорогой?— спросила Пат.
Антонио дал мне еще и журнал с программами. Я нашел
нужную страницу.
— По-моему, Рим.
— + 391
И сразу послышался низкий, металлический голос дикторши:
— Radio Roma — Napoli — Firenze...*
Я еще немного повернул ручку. Соло на фортепиано.
— Тут мне справка не нужна,— сказал я.— Это соната Бет-
ховена «Аврора»**. Когда-то и я ее играл. Когда еще верил, что
со временем стану учителем гимназии, профессором или ком
позитором. А теперь сыграть бы не смог. Лучше покрутим еще.
Эти воспоминания не из приятных.
Зазвучал теплый, тихий, вкрадчивый альт: «Parlez moi
d’amour»***.
— Париж, Пат.
Потом было сообщение о борьбе с виноградной филлоксерой.
Я продолжал крутить ручку. Рекламные объявления. Квартет.
— А это что?— спросила Пат.
— Прага. Струнный квартет Бетховена, сочинение пятьдесят
девятое,— прочитал я.
Дослушав первую часть до конца, я довернул ручку, и вдруг
появилась скрипка, да еще какая чудесная.
— Это, вероятно, Будапешт, Пат. Цыганская музыка.
Полнозвучно и мягко мелодия словно вознеслась над плещу
щимся под ней ансамблем цимбал, скрипок и пастушьих рожков,
— Великолепно, Пат, правда?
Она молчала. Я обернулся. Из ее широко раскрытых глаз
текли слезы. Я мгновенно выключил приемник.
— Что с тобой, Пат?— Я обнял ее исхудавшие плечи.
— Да ничего, Робби. Просто я глупая. Но когда вдруг слы
шишь — Париж, Рим, Будапешт... Господи... а я была бы ралл
хоть разок еще спуститься в деревню.
— Но, Пат...
Я сказал ей все, что мог сказать, чтобы отвлечь ее от этой
мысли. Но она недоверчиво покачала головой.
— Я не горюю, дорогой. Ты так не думай. Я не горюю, когдн
плачу. Просто что-то находит на меня. Но ненадолго. Ведь нс
даром же я без конца размышляю.
— О чем же ты размышляешь?— спросил я и поцеловал сс
волосы.
— О единственном, о чем я еще могу размышлять,— о жизни
и смерти. А когда начинаю горевать и ничего больше не пони
’ Радио Рим — Неаполь — Флоренция (шпал.).
” 21-я фортепианная соната Бетховена, посвященная графу Вальдштейну
«Говорите мне о любви!» (фр.).
— + 392 + —
мню, то говорю себе, что лучше умереть, когда еще хочешь жить,
чем умереть, когда и впрямь хочешь смерти. А по-твоему как?
— Не знаю.
— Посуди сам.— Она прислонилась головой к моему пле-
чу.— Когда еще хочется жить, то это значит, что есть у тебя
•по-то любимое. Так, конечно, тяжелее, но вместе с тем и легче.
Гы пойми — умереть мне пришлось бы так или иначе, а теперь
и благодарна судьбе за то, что у меня был ты. Ведь могло слу-
читься и так, что я была бы совсем одинока и несчастна. Тогда
и бы охотно умерла. Теперь же это мне тяжело, но зато я полна
•побовью, как пчела медом, когда вечером она прилетает в свой
улей. И будь у меня возможность выбора, я бы выбрала только
к», что есть сейчас.
Она посмотрела на меня.
Пат,— сказал я.— Есть еще третий вариант. Когда уля-
• г । ся фен, все пойдет на лад, и мы уедем отсюда.
< >на продолжала пристально смотреть на меня.
А за тебя, Робби, я просто боюсь. Тебе все намного труд-
но, чем мне.
Больше мы об этом говорить не будем,— сказал я.
Я сказала это только для того, чтобы ты не думал, будто
«нс грустно,— ответила она.
А я и не думаю, что тебе грустно,— сказал я.
Она положила руку мне на плечо.
Не послушать ли нам еще раз цыган?
Тебе хочется?
Да, дорогой.
Я снова включил приемник, и заиграла — сначала тихо, а по-
• •»м все полнозвучнее — скрипка, а затем и флейта. Им акком-
• |.1нировали цимбалы.
Прекрасно!— сказала Пат.— Как ветер. Как ветер, кото-
i'i.iii куда-то уносит тебя.
ho был вечерний концерт, передаваемый из ресторана в ка-
• чм ю из парков Будапешта. Сквозь рокот музыки порой слы-
• н»111сь голоса посетителей. Внезапно раздавался чей-то радост-
• ii.ui и громкий возглас. И можно было себе представить, что
• м н । рове Маргариты, прямо посреди Дуная, каштаны оделись
•• • нсжую листву, а от ветра, поднятого скрипками, на далекой
• \ не что-то замерцало и задвигалось. И, быть может, там, в Буда-
....с. дул теплый ветерок, и люди сидели под открытым не-
•ч и перед ними стояли бокалы с желтоватым венгерским ви-
и кельнеры в белых кителях сновали туда и сюда, и цыгане
• г । hi. а потом, вконец устав, все пошли сквозь зеленый весен-
— Ф 393 Ф —
ний рассвет домой... А передо мною лежала улыбающаяся Пат.
которой, я знал, уже никогда не выйти из этой комнаты, никогда
не встать с этой постели.
* ♦ *
Потом все вдруг пошло очень быстро. Плоть любимого лица ста-
ла таять на глазах — выступили скулы, виски слились со лбом. Тон
кие руки сделались совсем детскими, из-под кожи выперли
ребра, жар снова и снова сотрясал иссохшее тело. Сестра при-
носила кислородные подушки, а врач приходил каждый час.
Как-то вечером температура по непонятной причине резко
снизилась. Пат очнулась и долго смотрела на меня.
— Дай мне зеркало,— прошептала она.
— Зачем тебе зеркало?— сказал я.— Лучше отдохни, Пат. По-
моему, ты начала выздоравливать. Температуры уже почти нет.
— И все-таки,— прошептала она растрескавшимися, словно
опаленными губами.— Все-таки дай мне зеркало.
Я обошел вокруг ее кровати, взял зеркало и уронил его. Оно
разбилось.
— Прости мне эту неловкость,— сказал я.— Выпало из руки
и сразу на тысячу осколков. Ведь надо же...
— В моей сумочке есть другое. Достань его, Робби.
То было совсем маленькое зеркальце из хромированного ни
келя. Я провел по нему рукой, чтобы оно хоть немного замутни
лось, и дал его Пат. Старательно протерев зеркальце до блеска,
она долго и напряженно вглядывалась в него.
— Ты должен уехать, дорогой,— наконец прошептала она.
— Это зачем же? Разлюбила ты меня, что ли?
— Ты не должен больше смотреть на меня. Это уже не я.
Я взял у нее зеркальце.
— Эта металлическая ерунда ни черта не стоит. Ты только
посмотри, как я в нем выгляжу. Бледный, худой. А я, между
прочим, еще загорелый и крепкий. Не зеркало — стиральная
дощечка.
— Пусть у тебя останется другое воспоминание обо мне,— про
шептала она.— Уезжай, дорогой. Я как-нибудь справлюсь сама.
Я ее успокоил. Она еще раз потребовала зеркальце и сумочку
Затем стала пудриться — жалкое, истощенное лицо, потрескаи
шиеся губы, запавшие коричневые подглазья.
— Я только чуть-чуть, дорогой,— сказала она, пытаясь улыб
нуться.— Только бы ты не видел меня такой уродливой.
— + 394 + —
— Можешь делать все, что тебе угодно,— сказал я,— но ни-
ми m ты не будешь уродливой. Для меня ты самая прекрасная
н t всех женщин.
Я отнял у нее зеркальце и пудреницу и осторожно положил ей
i t ЮПИ под голову. Через минуту она беспокойно зашевелилась.
Что такое, Пат?— спросил я.
— Они тикают... слишком громко...— прошептала она.
— Что? Часы?
Она кивнула.
— Прямо гремят.
Я снял часы с запястья.
Пат со страхом посмотрела на секундную стрелку.
— Убери их...
(' маху я швырнул часы об стенку.
— Вот так, теперь они уже не тикают. Теперь время остано-
• II юсь. Мы разорвали его на самой середине. Остались только
h i с тобой, только мы вдвоем, ты и я — и никого больше.
< )на посмотрела на меня удивительно большими глазами.
Дорогой,— прошептала она.
Я не мог выдержать ее взгляда. Он шел откуда-то издалека,
и пронизывал меня и неизвестно куда был направлен.
Дружище,— бормотал я.— Мой родной, мужественный,
• 1НППЙ мой дружище...
* * *
< >i ia умерла в последний час ночи, до рассвета. Она умирала
• । + ко и мучительно, и никто не мог ей помочь. Крепко держа
к ня за руку, она уже не знала, что я с ней.
11оюм кто-то сказал:
Она мертва...
Нет,— возразил я.— Она еще не мертва. Она еще крепко
• С а пт меня за руку...
( вег. Непереносимо яркий свет. И люди. И врач. Я медлен*
p.i $жал пальцы. Ее рука упала. И кровь. И ее лицо, искажен-
•|и< удушьем. Полные муки, остекленевшие глаза. Шелковистые
► пи 1аповые волосы.
Пат,— сказал я.— Пат.
II впервые она мне не ответила.
* * *
Я хотел бы остаться один,— сказал я.
А разве сначала не надо...— сказал кто-то.
Нет,— сказал я.— Все вон! Не прикасайтесь к ней.
— + 395
Потом я смыл с нее кровь. Я словно одеревенел. Я расчесал
ей волосы. Она остывала. Я уложил ее на свою кровать, укрыл
одеялами. Я сидел подле нее и ни о чем не мог думать. Просто
сидел на стуле и глазел. Вошел Билли и сел около меня. Я видел,
как изменялось ее лицо. Опустошенный, не в силах сделать что-
либо, я все сидел и не сводил с нее глаз. Потом настало утро,
а ее уже не было.
I
олнце заливает светом контору фирмы по установке
надгробий «Генрих Кроль и сыновья». Сейчас апрель
1923 года, и дела идут хорошо. Весна не подкачала,
мы торгуем блестяще, распродаем себе в убыток,
но что поделаешь — смерть немилосердна, от псе
не ускользнешь, однако человеческое горе никак
не может обойтись без памятников из песчаника или мрамора,
а при повышенном чувстве долга или соответствующем наслед
стве — даже из отполированного со всех сторон черного швед
ского гранита. Осень и весна — самый выгодный сезон для тор
говцев похоронными принадлежностями: людей умираем
больше, чем летом и зимой; осенью — потому, что силы челове
ка иссякают, весною — потому, что они пробуждаются и пожи
рают ослабевший организм, как слишком толстый фитиль то
щую свечу. Так, по крайней мере, уверяет самый усердный
из наших агентов, могильщик Либерман с городского кладбища,
а уж ему ли не знать: старику восемьдесят лет, он предал земле
более десяти тысяч трупов, на комиссионные по установке над
гробий обзавелся собственным домом на берегу реки, садом,
прудом с форелью; профессия могильщика сделала его философ
ствующим пьяницей. Единственное, что он ненавидит,— это го
родской крематорий. Крематорий — нечестный конкурент. Мы
тоже его недолюбливаем: на урнах ничего не заработаешь.
Я смотрю на часы. Скоро полдень, и, так как сегодня суббо
та, я заканчиваю свой трудовой день. Нахлобучиваю жестяной
колпак на машинку, уношу за занавеску аппарат «престо»,
на котором мы размножаем каталоги, убираю образцы камней
и вынимаю из фиксажа фотоснимки с памятников павшим вон
нам и с художественных надгробных украшений. Я бухгалтер
фирмы, художник, заведующий рекламой и вообще вот уже не
лый год состою единственным служащим нашей конторы, xoin
я отнюдь не специалист.
Предвкушая наслаждение, достаю из ящика стола сигару
Это черная бразильская. Представитель Вюртембергского ш
— 4* 398 4* —
i><> ia металлических изделий утром угостил меня этой сигарой,
инном попытался навязать мне партию бронзовых венков. Сле-
пши гельно, сигара хорошая. Я ищу спички, но, как обычно, ко-
1'о1»ок куда-то засунули. К счастью, в печке есть еще жар. Я ска-
и.шаю трубочкой бумажку в десять марок, подношу ее к углям
и о । нее закуриваю сйгару. Топить печку в апреле, пожалуй,
\ «ю незачем; это одно из коммерческих изобретений моего ра-
но юдателя Георга Кроля. Ему кажется, что когда люди скорбят
и им еще приходится выкладывать деньги, то легче это сделать
и теплой комнате, чем в холодной. Ведь от печали и без того
шобит душу, а если к тому же у людей ноги стынут, трудно бы-
вает выжать хорошую цену. В тепле все оттаивает — даже ко-
шелек. Поэтому в нашей конторе всегда жарко натоплено, а на-
шим агентам рекомендуется зарубить себе на носу: никогда
нс пытаться заключать сделки в дождь и в холод на кладбище —
юлько в теплой комнате и по возможности после обеда. При та-
ких сделках скорбь, холод и голод — плохие советчики.
Я бросаю обгоревшую десятимарковую бумажку в печку
и истаю. И тут же слышу, как в доме напротив распахивают окно.
Мне незачем смотреть туда, я отлично знаю, что там происхо-
нп. Осторожно наклоняюсь над столом, словно еще вожусь
i пишущей машинкой. При этом искоса заглядываю в ручное
1сркальце, которое пристроил так, чтобы в нем отражалось упо-
мянутое окно. Как обычно, Лиза, жена мясника Вацека, стоит там
и чем мать родила, зевает и потягивается. Она только сейчас
поднялась с постели. Наша улочка старинная, узкая. Лизу нам
и шчпо видно, а ей — нас, и она это знает. Потому и становит-
•I перед окном. Вдруг ее большой рот растягивается в улыбку,
•нгркая зубами, она разражается хохотом и указывает на мое
и ркальце. Ее зоркие глаза хищной птицы заметили его. Я злюсь,
но пойман с поличным, но делаю вид, будто ничего не заме-
ню, и, окружив себя облаком дыма, отхожу в глубь комнаты.
In ui усмехается. Я выглядываю в окно, но не смотрю да нее,
। при 1воряюсь, будто киваю кому-то идущему по улице. В до-1
••••ршение посылаю ему воздушный поцелуй. Лиза попадается
•i.i ну удочку. Она высовывается из окна, чтобы посмотреть,
нем же это я здороваюсь. Но никого нет. Теперь усмехаюсь я.
\ ина сердито стучит себя пальцем по лбу и исчезает.
( обственно говоря, не известно, зачем я разыгрываю всю эту
М1мс 1ию. Лиза, что называется, «роскошная женщина», и я знаю
•нпних, кто охотно платил бы по нескольку миллионов за то,
• и ты наслаждаться каждое утро подобным зрелищем. Я тоже
и и 1аждаюсь, но все же меня злит, что эта ленивая жаба, выле-
— 4* 399 4* —
зающая из постели только в полдень, так бесстыдно уверена
в своих чарах. Ей и в голову не приходит, что не всякий сию же
минуту возжаждет переспать с ней. Притом ей, в сущности, эго
довольно безразлично. Лиза продолжает стоять у окна, у нес
черная челка, подстриженная, как у пони, дерзко вздернутый
нос, и она поводит грудями, словно изваянными из первокласс
ного каррарского мрамора, точно какая-нибудь тетка, помахи
вающая погремушками перед младенцем. Будь у нее вместо
груди два воздушных шара, она так же весело выставила бы их
напоказ. Но Лиза голая, и поэтому она выставляет не шары,
а груди, ей все равно. Просто-напросто она радуется, что живс!
на свете и что все мужчины непременно должны сходить по ней
с ума. Затем она об этом забывает и набрасывается прожорли
вым ртом на завтрак. А тем временем мясник Вацек устало при
канчивает несколько старых извозчичьих кляч.
Лиза появляется снова. Она налепила себе усы и в восторге
от столь блистательной выдумки. Она по-военному отдас!
честь, и я готов допустить, что ее бесстыдство предназначается
старику Кнопфу, фельдфебелю в отставке, проживающему по
близости, но потом вспоминаю, что в спальне Кнопфа только
одно окно и оно выходит во двор. А Лиза достаточно хитри
и понимает, что из соседних домов ее не видно.
Вдруг, словно где-то прорвав плотину тишины, зазвонили ко-
локола церкви Девы Марии. Церковь стоит в конце улочки, и зну
ки эти оглушают, точно валятся с неба прямо в комнату. В эго
время я вижу, как мимо второго окна нашей конторы, выхоли
щего во двор, проплывает, словно фантастическая дыня, лысин
голова моего работодателя. Лиза делает неприличный жес|
и захлопывает свое окно. Ежедневное искушение святого Ан
тония еще раз преодолено.
Георгу Кролю ровно сорок лет, но его лысая голова уже блсс
тит, точно шар в биллиардной в саду пивной Боля. Она блести!
с тех пор, как я его знаю, а познакомился я с ним пять лет ни
зад. Лысина эта так блестит, что, когда мы сидели в окопах
а мы были в одном полку,— командир отдал особый прикт,
чтобы Георг, даже при полном затишье на фронте, не снимп/1
каски, ибо слишком силен был соблазн для самого благодушно
го противника проверить с помощью выстрела, не огромный ли
это биллиардный шар.
Я щелкаю каблуками и докладываю:
— Ф 400 Ф —
— Главный штаб фирмы «Кроль и сыновья»! Пункт наблю-
дения за действиями врага. В районе мясника Вацека подозри-
ic.ibHoe передвижение войск.
— Ага,— отвечает Георг,— Лиза делает утреннюю зарядку.
Вольно, ефрейтор Бодмер! Почему не надеваете по утрам шоры,
как у лошади в кавалерийском оркестре, и не оберегаете таким
t нособом свою добродетель? Разве вы не знаете, каковы три са-
мые большие драгоценности нашей жизни?
— Откуда же я могу знать, господин обер-прокурор, если
и и самой жизни-то не видел?
— Добродетель, юность и наивность!— безапелляционно за-
являет Георг.— Если их утратишь, то уж безвозвратно! А что
на свете безнадежнее многоопытности, старости и холодного
рассудка?
— Бедность, болезнь и одиночество,— отзываюсь я и станов-
ие )СЬ вольно.
— Это только другие названия для опыта, старости и заблуж-
1сний ума.
Георг вынимает у меня изо рта сигару, мгновение смотрит
на нее и определяет, как опытный коллекционер бабочку:
— Добыча взята на фабрике металлических изделий.
Он извлекает из кармана чудесно осмугленный дымом золо-
। исго-коричневый мундштук из морской пенки, вставляет в не-
ю мою бразильскую сигару и продолжает ее курить.
— Ничего не имею против конфискации сигары,— заявляю
ч — Хотя это грубое насилие, но ты, как бывший унтер-офицер,
ничего другого в жизни не знаешь. Все же зачем тебе мунд-
штук? Я не сифилитик.
— А я не гомосексуалист.
— Георг,— продолжаю я,— на войне ты моей ложкой бобовый
суп хлебал, когда мне удавалось выкрасть его из кухни. А ложку
н прятал за голенище грязного сапога и никогда не мыл.
Георг смотрит на пепел сигары. Пепел бел как снег.
— После войны прошло четыре с половиной года,— настави-
тельно отвечает он.— Тогда безмерное несчастье сделало нас
людьми. А теперь бесстыдная погоня за собственностью снова
превратила в разбойников. Чтобы это замаскировать, нам
опять нужен лак хороших манер. Ergo*! Нет ли у тебя еще од-
ной сигары? Эта фабрика никогда не позволит себе подкупать
служащих одной сигарой.
Я вынимаю из ящика стола вторую сигару и отдаю ему.
‘ Следовательно (лат.).
— + 401 Ф —
— Ум, опытность и старость все же иногда идут на пользу,—
замечаю я.
Он усмехается и вручает мне взамен сигар пачку сигарет,
в которой недостает шести штук.
— А что произошло еще?— осведомляется он.
— Ничего. Клиентов не было. Но я вынужден настоятельно
просить о повышении моего оклада.
— Опять? Ведь тебе только вчера повысили!
— Не вчера. Сегодня утром в девять часов. Какие-то несчаст-
ные восемь тысяч марок! И все-таки в девять утра это было еще
кое-что. А потом объявили новый курс доллара, и я теперь уже
не могу на них купить даже галстук, только бутылку дешевого
вина. А мне необходим именно галстук.
— Сколько же стоит доллар сейчас?
— Сегодня в полдень он стоил тридцать шесть тысяч марок!
А утром всего тридцать тысяч!
Георг Кроль рассматривает свою сигару.
— Уже тридцать шесть тысяч! Дело идет быстрее кошачьего
романа! Чем все это кончится?
— Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал,— отве
чаю я.— А пока надо жить. Ты денег принес?
— Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и зав-
тра. Тысячные и стотысячные билеты и даже несколько пачек
с милыми старыми сотенными. Около двух с половиной кило
бумажных денег. Инфляция растет такими темпами, что госу
дарственный банк не успевает печатать денежные знаки. Но
вые банкноты в сто тысяч выпущены всего две недели назад,
а теперь скоро выпустят бумажки в миллион. Когда мы будем
считать на миллиарды?
— Если так пойдет дальше, то всего через несколько месяцев.
— Боже мой!— вздыхает Георг.— Где прекрасные спокой
ные дни 1922 года? Доллар поднялся в тот год с двухсот пятиде
сяти марок всего до десяти тысяч. Уж не говоря о 1921-м — тог
да это были какие-то несчастные триста процентов.
Я выглядываю на улицу. Лиза стоит у окна, теперь она в шел
ковом халате, на котором изображены попугаи. Зеркало она по
весила на шпингалет и приглаживает щеткой свою гриву.
— Взгляни на это создание,— с горечью восклицаю я.— Оно
не сеет, не жнет, но отец небесный все же питает его. Вчера у нес
этого халата еще не было. Шелк! Несколько метров! А я не могу
наскрести какие-то жалкие гроши на один несчастный галстук.
Георг улыбается.
— Ф 402 + —
— Что ж, ты скромная жертва эпохи. А Лиза на всех парусах
плывет по волнам немецкой инфляции. Она — прекрасная Елена
спекулянтов. На продаже могильных камней не разживешься,
сын мой. Почему ты не перейдешь на сельди или на торговлю
акциями, как твой дружок Вилли?
— Оттого что я сентиментальный философ и сохраняю вер-
ность надгробиям. Ну так как насчет повышения жалованья?
Ведь и философам все же приходится одеваться.
— Неужели ты не можешь купить галстук завтра?
— Завтра воскресенье. И он мне нужен именно завтра.
Георг приносит из прихожей свой чемодан. Открыв его, бро-
сает мне две пачки денег.
— Хватит?
Я вижу, что в них главным образом сотни.
— Добавь еще полкило этих обоев,— говорю я.— Здесь са-
мое большее пять тысяч. Спекулянты-католики по воскресень-
ям, во время обедни, кладут столько на тарелочку да еще сты-
дятся своей скупости.
Георг скребет себе голый затылок — атавистический жест,
утративший в данном случае всякий смысл. Затем дает мне тре-
тью пачку.
— Слава Богу, что завтра воскресенье,— говорит он.— Ни-
какого нового курса на доллар не будет. Единственный день не-
дели, когда инфляция приостанавливается. Конечно, Господь
Вог не это имел в виду, создавая воскресенье.
— А как мы?— осведомлюсь я.— Уже банкроты или наши
дела идут блестяще?
Георг делает длинную затяжку из своего мундштука.
— Мне кажется, никто сейчас в Германии ничего на этот
счет о себе уже сказать не может. Даже божественный Стиннес.
Скопидомы разорены. Рабочие и люди, живущие на жалова-
нье,— тоже. Большинство мелких коммерсантов — тоже, хотя
они об этом еще не догадываются. Блестяще наживаются только
ге, у кого есть векселя, акции или крупные реальные ценности.
Следовательно, не мы. Ну как? Уразумел?
— Реальные ценности!— Я смотрю в сад, где стоит наша
продукция.— У нас в самом деле не бог весть что осталось.
Главным образом надгробия из песчаника и чугуна. Но мрамо-
ра и гранита маловато. А то немногое, что есть, твой брат рас-
продаст с убытком. Может быть, самое лучшее — совсем ниче-
1о не продавать, а?
Георгу незачем отвечать. На улице звенит велосипедный зво-
нок. Слышны шаги, кто-то поднимается по дряхлым ступень-
— Ф 403 + —
кам. По-хозяйски откашливается. Это Генрих Кроль-младший,
совладелец фирмы — виновник наших постоянных забот и тре-
волнений.
Генрих — невысокий, плотный мужчина с соломенного цве-
та усами; на нем полосатые пропыленные брюки, стянутые
у щиколотки велосипедными зажимами. Он окидывает меня
и Георга быстрым неодобрительным взглядом. В его представле-
нии мы — ленивые жеребцы, весь день лодырничаем, а вот он —
человек дела, поддерживающий внешние связи фирмы, к тому
же несокрушимого здоровья. Ежедневно, едва рассветет,
Кроль-младший отправляется на вокзал и потом мчится на ве
лосипеде в самые отдаленные деревни, если наши агенты — мо
гильщики или учителя сельских школ — заявят о чьей-либо смер
ти. Он довольно обходителен, а его дородность вызывает к нему
доверие; поэтому он с помощью двух кружек пива, неизменно
вкушаемых утром и под вечер, поддерживает себя на должном
уровне. Крестьяне предпочитают низеньких толстяков изголо
давшимся верзилам. И костюм у него соответствующий. Он
не носит ни черного сюртука, как его конкурент — arein
Штейнмейера, ни синего костюма, как разъездные агенты фир
мы «Хольман и Клотц»,— сюртук слишком напоминает о трау
ре, с^нюю пару все носят. Генрих Кроль обычно появляется
в выходном костюме — полосатые брюки, черно-серый пиджак,
старомодный стоячий воротничок с уголками и галстук мато
вых колеров, с преобладанием черного. Два года назад, именно
когда он заказывал этот костюм, у него возникло минутное ко
лебание и он задал себе вопрос — не уместнее ли будет визи i
ка, но тут же отверг эту мысль, ибо был слишком мал ростом.
Такой отказ он считал для себя даже лестным: ведь и Наполеон
был бы смешон, надень он фрак. А в этой одежде Генрих Кроль
поистине выглядит скромным уполномоченным Господа Бога -
как оно и должно быть. Велосипедные зажимы придают его об
лику что-то домашнее и вместе с тем спортивное: в наш век ап
томобилей кажется, что у таких людей можно купить дешевле.
Генрих снимает шляпу и вытирает лоб платком. На улице дс>'
вольно прохладно, и он отнюдь не вспотел: он делает это, толь
ко желая подчеркнуть, что вот он — чернорабочий, обременен
ный тяжелым трудом, мы же — канцелярские крысы.
— А я наш мраморный крест продал,— заявляет он с при
творной скромностью, за которой чувствуется безмолвный реи
торжества.
— Какой? Тот маленький?— осведомляюсь я тоном, полным
надежды.
— Нет, большой,— ответствует Генрих с еще большей скром-
ностью и смотрит на меня в упор.
— Что? Большой крест из шведского гранита с двойным цо-
кочем и бронзовыми цепями?
— Вот именно. А разве у нас есть еще другие?
Генрих наслаждается своим глупым вопросом, он считает его
вершиной саркастического юмора.
— Нет,— отвечаю я.— Других у нас уже нет. В том-то и беда!
Нот был последним. Гибралтарская скала.
— За сколько же ты продал?— осведомляется Георг Кроль.
Генрих потягивается.
— За три четверти миллиона, без надписи, без доставки и без
oi рады. Это все — дополнительно.
— Господи!— восклицаем мы с Георгом одновременно.
Генрих смотрит на нас вызывающе — у дохлой пикши бывает
иногда такое выражение.
— Да, бой был нелегким,— говорит он и почему-то опять на-
ц’вает шляпу.
— Лучше бы вы проиграли его,— отвечаю я.
— Что?
— Проиграли бы этот бой.
— Что?— сердито повторяет Генрих.
Я легко вызываю его раздражение.
— Он жалеет, что ты продал крест,— поясняет Георг Кроль.
— Жалеет? Как прикажешь это понимать? Черт бы вас по-
брал! Мотаешься с утра до ночи, продаешь блестяще, и тебя же
а этой лавочке еще встречают упреками! Поездите-ка сами
но деревням и попробуйте...
— Генрих,— кротко прерывает его Георг.— Мы же знаем,
•по ты из кожи вон лезешь, но мы живем сейчас в такое время,
когда продажи разоряют. В стране уже давно инфляция. С тех
пор как кончилась война. Но в этом году инфляция усиливает-
гм и развивается как скоротечная чахотка. Поэтому цифры уже
нс имеют никакого значения.
— Это я и без тебя знаю. Я же не идиот.
Ни один из нас не возражает. Только идиоты утверждают,
•по они не идиоты. Противоречить им бесполезно. Я знаю это
на основании тех воскресений, которые провожу в лечебнице
'UIя душевнобольных. Генрих вытаскивает из кармана записную
книжку.
— ф 405 Ф —
— При покупке памятник с крестом обошелся нам в пятьде-
сят тысяч. А продали мы его за три четверти миллиона — ка-
жется, прибыль неплохая.
Он снова барахтается в мелководье тупых сарказмов. Генрих
считает, что должен воспользоваться случаем и поддеть меня —
ведь я когда-то был школьным учителем. Вскоре после войны
я в течение девяти месяцев учил ребят в глухой степной дерев-
не, пока не бежал оттуда, преследуемый по пятам воющим псом
зимнего одиночества.
— Еще выгоднее было бы, если бы вы вместо нашего велико-
лепного креста продали вон тот чертов обелиск, который тор-
чит перед окном,— говорю я.— Судя по рассказам, ваш покой
ный папаша шестьдесят лет назад, при основании фирмы,
приобрел его еще дешевле — за какие-нибудь пятьдесят марок.
— Обелиск? Какое отношение обелиск имеет к нашему де-
лу? Обелиск продать нельзя, это понятно каждому младенцу.
— Именно поэтому его было бы не жаль,— настаиваю я.—
А крест жаль. Нам придется за большие деньги выкупить его
обратно.
Генрих Кроль отрывисто сопит. В его толстом носу сидят по-
липы, и нос легко распухает.
— Может быть, вы вздумаете уверять меня, что сейчас мож-
но выкупить такой крест за три четверти миллиона?
— Это мы скоро узнаем,— замечает Георг Кроль.— Завтра
приезжает Ризенфельд. Нам придется делать новый заказ
Оденвельдскому гранитному заводу; на складе у нас осталось
мало гранитных памятников.
— Ну, у нас есть еще обелиск,— коварно вставляю я.
— Почему же вы тогда сами не продаете?— задыхаясь от воз-
мущения, спрашивает Генрих.— Значит, Ризенфельд приезжа-
ет завтра утром? Тогда и я останусь дома и сам с ним перегони
рю! Посмотрим, каковы цены!
Мы с Георгом обмениваемся взглядами. Мы отлично пони
маем, что нельзя допускать встречи Ризенфельда с Генрихом,
даже если придется напоить Генриха пьяным или подмешать
касторки в его воскресную кружку пива. Этот честный, но до-
потопный делец нестерпимо надоел бы Ризенфельду своими
воспоминаниями о войне и рассказами о добром старом времс
ни, когда марка была маркой и верна себе, а верность была осно
вой чести, как превосходно выразился наш обожаемый фельд-
маршал. Генрих очень высокого мнения о подобных пошлостях,
Ризенфельд — нет. Ризенфельд считает верностью то, когда
другие выполняют по отношению к нам обязательства, которые
— Ф 406 4* —
им невыгодны, а для нас — когда мы выполняем то, что нам вы-
нщно.
— Цены меняются каждый день,— говорйт Георг.— Тут
и спорить не о чем.
— Ах так? Может быть, и ты считаешь, что я продешевил?
— Смотря по обстоятельствам. Деньги привез?
Генрих смотрит на Георга, вытаращив глаза.
— Привез? Опять новая выдумка? Как я мог их привезти, если
мы креста еще не доставили? Это же невозможно!
— Это не невозможно,— отвечаю я,— а, напротив, теперь
i.iK принято. И называется — уплатить деньги вперед.
— Деньги вперед!— Генрих презрительно морщит толстый
пос.— Что вы, школьный учитель, понимаете? Как можно в на-
шем деле требовать денег вперед? От скорбящих родственни-
ков? Когда венки на могиле не успели завянуть? А вы хотите
|рсбовать денег за то, что еще не доставлено?
— Конечно! А когда же? В такие минуты люди становятся
мя1 че и деньги из них легче выжать.
— Становятся мягче? Ну что вы понимаете! Да они в такие
минуты тверже, чем сталь! Они ведь только что заплатили врачу,
» вишеннику, за гроб, за могилу, за цветы, устроили поминки...
И они вам, молодой человек, десяти тысяч вперед не дадут! Лю-
1им надо сначала опомниться, им нужно сначала убедиться, что
• пн самый памятник, который они заказали, действительно
• юит на кладбище, увидеть его там, а не на бумаге в каталоге,
|.|же если надписи и скорбящих родственников впридачу вы
намалюете китайской тушью с золотом.
Опять бестактность, типичная для Генриха! Но я на нее
не обращаю внимания. Верно, для нашего каталога я не только
нарисовал надгробия и размножил на нашем «престо», но, что-
бы усилить воздействие, раскрасил их и воссоздал «настрое-
ние» — плакучие ивы, клумбы анютиных глазок, кипарисы
и вдов под траурной вуалью, поливающих цветы. Конкуренты
ц и» не лопнули от зависти, когда мы завели это новшество;
\ них-то ничего не было, кроме обыкновенных фотоснимков
имеющихся на складе надгробий, и даже Генрих решил, что
• io блестящая идея, особенно золотая краска. Чтобы придать
и юбражениям большую натуральность, я украсил нарисован-
ные и раскрашенные памятники соответствующими надпися-
ми. сделанными тем же золотом на олифе. Это были для меня
и лесные дни: каждого человека, которого я терпеть не мог,
। управлял на тот свет и рисовал его надгробие; моему унтер-
фицеру из рекрутских времен — он и до сих пор еще благопо-
— Ф 407 Ф —
лучно здравствует — я сделал, например, такую надпись:
«Здесь покоится прах полицейского Карла Флюмера, скончав-
шегося после бесконечных мучительных страданий и утраты
всех близких, ушедших в иной мир до него». Впрочем, он это за-
служил: Флюмер жестоко угнетал меня во время войны и дваж-
ды посылал в разведку, причем я не погиб только благодаря
счастливой случайности. Как тут не пожелать ему всяких бед.
— Господин Кроль,— говорю я,— разрешите, мы еще раз
вкратце объясним вам суть нашей эпохи. Те принципы, на кото-
рых вы воспитаны,— благородные принципы, но в наше время
приводят только к банкротству. Деньги нынче может зарабо
тать почти каждый, а вот сохранить их стоимость — почти ни
кто. Важно не продавать, а покупать и как можно быстрее по-
лучать деньги за проданное. Мы живем в век реальных
ценностей. Деньги — иллюзия; каждый это знает, но многие
еще до сих пор не могут в это поверить. А пока дело обстоич
так: инфляция будет расти до тех пор, пока мы не докатимся
до полного ничто. Человек живет, на семьдесят пять процентом
исходя из своих фантазий и только на двадцать пять — исходя
из фактов; в этом его сила и его слабость, и потому в тепереш-
ней дьявольской пляске цифр все еще есть выигрывающие
и проигрывающие. Мы знаем, что быть в абсолютном выигры'
ше не можем, но не хотели бы оказаться и в числе окончатель-
но проигравших. Те три четверти миллиона, за которые вы се-
годня продали крест, если их уплатят только через два месяца,
будут стоить не больше, чем сегодня пятьдесят тысяч марок
Поэтому...
Генрих багровеет. Он останавливает меня, заявляя вторично:
— Я же не идиот. И незачем читать мне дурацкие лекции.
Я лучше вас знаю практическую жизнь и предпочитаю честно
погибнуть, чем пользоваться сомнительными спекулянтскими
методами, чтобы существовать. Пока я в нашей фирме заведую
продажей, все будет вестись по-старому, пристойно — и баста!
Что я умею, то умею, до сих пор дело шло — так оно пойди
и дальше! Какая мерзость — испортить человеку радость от удач
ной сделки! И почему вы не остались паршивым учителем?
Генрих хватает шляпу и с грохотом захлопывает дверь. Нам
видно, как он на своих крепких кривых ногах топает через двор;
велосипедные зажимы придают ему что-то военное. Генрих oi
правляется в ресторан Блюме, где, как обычно, усядется за свой
любимый столик.
— Он, видите ли, желает испытывать радость от своих сделок,
этот буржуазный садист,— возмущаюсь я.— Еще и это! Да кпк
— 4* 408 + —
можно заниматься нашим делом иначе, чем с благочестивым
цинизмом, если хочешь сберечь свою душу? А этот лицемер
♦ г 1ает вдобавок получать удовольствие от шахер-махеров с по-
мшниками да еще считает это своим прирожденным правом!
I сорт смеется.
- Бери свои деньги и пошли. Ты, кажется, хотел купить гал-
• ।\ к? Ну что ж, поспеши! Сегодня никакого повышения оклада
• н» и.ше не будет.
Чемодан с деньгами он небрежно ставит на пол в своей ком-
ц.нс рядом с конторой. Я с трудом запихиваю пачки денег в на-
ми с надписью: «Кондитерская Келлера — богатый ассорти-
чет лучшего печенья, доставка на дом».
- Ризенфельд действительно приезжает?— осведомляюсь я.
- Да, он телеграфировал.
Что ему нужно? Получить деньги или продать товар?
- А вот увидим,— отвечает Георг и запирает контору.
II
Мы выходим на улицу. Стоит конец апреля, и жаркое солнце
Hiiiiio опрокидывает на нас гигантскую чашу, полную ветра
и < вега. Мы останавливаемся. Сад охвачен зеленым пламенем,
•кч на поет в молодой листве тополей, точно арфа, и зацветает
ирспь.
- Инфляция!— говорю я.— Вот перед тобой еще одна,
и притом — самая неудержимая. Как будто даже природа зна-
।. ч го теперь счет ведется только на десятки тысяч и на милли-
...г Посмотри, что вытворяют тюльпаны! А белизна вон там,
। пунцовые и желтые тона повсюду! А как пахнет!
leopr кивает, нюхает воздух и затягивается бразильской си-
ipon; природа становится для него вдвое прекраснее, если он
» к>му же курит сигару.
Мы чувствуем на своих лицах теплый солнечный свет и со-
рнаем окружающее великолепие. Сад позади нашего дома
i\ ж нт в то же время выставочной территорией для надгробий.
Нин они стоят в строю, словно рота под командой тощего лей-
‘ Н.ни а — обелиска Отто, пост которого тут же, возле двери.
11 мп ню этот памятник я и посоветовал Генриху продать — ста-
...ее надгробие фирмы, как бы ее неизменная примета, нечто
• \ кшнщное но своей безвкусице. А за ним следуют сначала са-
и.|с 1ешевые маленькие надгробия из песчаника или цемента,
мн и 1ьные камни для бедняков, которые честно и скромно жи-
п и । рулились и потому, разумеется, ничего не достигли. Затем
• i\i памятники побольше, уже на цоколях, но все еще доста-
_409 Ф —
точно дешевые,— памятники для тех, кто жаждал все же стаи,
кем-нибудь поважнее, хотя бы после смерти, если уж не удалось
при жизни. Таких памятников мы продаем больше, чем совсем
простых, и трудно определить, что преобладает в этом запозда-
лом внимании близких — трогательная забота или нелепое чес
толюбие. За ними стоят надгробия из песчаника, но с вделанны
ми в них досками из мрамора, серого сиенита или черного
шведского гранита. Они уже недоступны для человека, живще
го трудами рук своих. В данном случае наша клиентура — мел-
кие торговцы, фабричные мастера, ремесленники, владеющие
собственной мастерской, и, разумеется, вечный неудачник ~
мелкий чиновник, честный пролетарий в стоячем воротничке,
который всегда должен казаться более значительной особой,
чем на самом деле, причем совершенно неизвестно, каким об
разом в наши дни он еще ухитряется существовать, ибо повы
шение его заработной платы каждый раз происходит слишком
поздно.
Но все эти надгробия — что называется, мелкий домашний
скот, лишь после них следуют солидные, глыбообразные памя i
ники из гранита и мрамора. Сначала — те, у которых отполиро
ван только фасад, а бока, задняя сторона и весь цоколь не обрп
ботаны и бугристы. Эта категория предназначена дли
состоятельных людей среднего достатка — для работодателей,
дельцов, более крупных коммерсантов и, разумеется, для тех же
неудачников чиновников, но повыше рангом, ибо они, так же
как и мелкота, должны посмертно истратить больше, чем зари
ботали при жизни, лишь бы сохранить декор.
Однако истинная аристократия нашего сборища надгробий -
это мрамор, отполированный со всех сторон, и черный швед
ский гранит. Тут уже нет ни бугристых поверхностей, ни необ
работанной задней стороны, все доведено др полного блески,
все части одинаковы, видно их или не видно, даже цоколи, при
чем бывает не один, а два, иногда и скошенный третий; но пк»
девры в подлинном смысле слова венчает еще и статный крен
из того же материала. Разумеется, такая штука предназначени
в наше время только для богатых крестьян — владельцев круп
ных реальных ценностей, спекулянтов и ловких дельцов, зари
батывающих на долгосрочных векселях и живущих за счет госу
дарственного банка, который все оплачивает, выпуская ноны*
и новые не обеспеченные золотом денежные знаки.
Мы рассматриваем одновременно и тот единственный рог
кошный памятник, который еще четверть часа назад считали
собственностью фирмы. Вот он стоит, черный и блестящий, кай
— 4* 410 4* —
новенький лакированный автомобиль, его овевают ароматы
весны, к нему склоняются грозди цветущей сирени, он похож
на важную, холодную и бесстрастную даму, которая еще не-
। колько часов будет непорочна, а затем на девственном животе
се выгравируют латинским позолоченным шрифтом — по во-
। емьсот марок за букву — имя владельца хутора Генриха Фле-
1грсена.
— Счастливого пути, черная Диана,— говорю я и приподни-
маю шляпу.— Прощай. Поэту вечно будет непонятно, что даже
красота, отмеченная совершенством, подвластна, как и все, за-
конам рока и так же смертна! Счастливого пути! Отныне ты ста-
нешь бесстыдной рекламой для души скупердяя Фледерсена,
кнюрый отнимал у бедных городских вдов последние банкноты
и 1ссять тысяч за непомерно дорогое фальсифицированное мас-
к» — вернее, маргарин, не говоря уже о зверских ценах на шни-
нс |я, свиные отбивные и жареную телятину! Счастливого пути!
— От твоих слов мне даже есть захотелось,— восклицает Ге-
•pi.— Пошли в «Валгаллу»! Или тебе непременно надо снача-
|.| приобрести галстук?
— Нет, я успею до закрытия магазинов. По субботам курс
килара после полудня не меняется. С двенадцати часов дня
к» v Iра понедельника валюта остается стабильной. А, собствен-
но, почему? Должно быть, тут кроется какой-то огромный под-
но\ Почему марка в конце недели не падает? Господь Бог ее
удерживает, что ли?
— Просто в эти дни биржа не работает. Еще вопросы есть?
— Да. Живет ли человек изнутри наружу или снаружи
ннутрь?
— Человек живет — и точка. В «Валгалле» сегодня дают гу-
ппи. Гуляш с картошкой, огурцами и салатом. Я видел меню,
когда шел из банка.
— Гуляш! — Я срываю примулу и вставляю в петлицу.— Че-
кжек живет, ты прав! Кто пытается вникнуть глубже, тот про-
пил. Пойдем позлим Эдуарда Кноблоха!
Мы входим в большой обеденный зал гостиницы «Валгалла».
Н\ард Кноблох, ее владелец, жирный великан в коричневом
ирике, облачен в черный сюртук с развевающимися при дви-
• < нии фалдами. Завидев нас, он делает такую гримасу, словно,
• IM>мясь седлом косули, попал зубом на дробинку.
Здравствуйте, господин Кноблох,— приветствует его Георг.—
Хорошая нынче погодка! Вызывает бешеный аппетит!
Ьуард нервно поводит плечами.
— Ф 411 4* —
— Есть слишком много не годится! Вредно для печени, длн
желчного пузыря, для всего.
— Но не у вас, господин Кноблох,— горячо возражает ему
Георг.— Ваши обеды исключительно полезны для здоровья.
— Полезны — да. Но слишком много полезного может и по-
вредить. Согласно новейшим научным данным, излишек мяса...
Я прерываю Эдуарда легким шлепком по животу. Он отска-
кивает, словно его схватили за одно место.
— Успокойся и покорись своей участи,— говорю я.— Мы'
не объедим тебя. А что поделывает поэзия?
— Побирается! Нет времени! В такие времена!
Я не смеюсь над этой глупостью. Эдуард не только владелец
ресторана, он и поэт; но так легко ему от меня не отделаться.
— Есть свободный столик?— спрашиваю я.
Кноблох окидывает взглядом зал. Вдруг его лицо светлеет.
— Мне искренне жаль, господа, но я вижу, что ни одною
свободного столика нет.
— Не беда. Мы подождем.
Эдуард еще раз озирается.
— Похоже на то, что скоро ни один и не освободится,— во i
вещает он, окончательно просияв.— Господа еще только куша
ют суп. Может быть, вам сегодня больше повезет в «Альтштед
тергоф» или в ресторане вокзальной гостиницы? Говорят, там
кормят довольно прилично.
Прилично! Сегодня день словно пропитан сарказмом. Спа
чала Генрих, теперь Эдуард. Но мы будем бороться за гуляш, хо
тя бы нам пришлось ждать целый час. Гуляш — это «гвоздь» мс
ню «Валгаллы».
Все же Эдуард, как видно, не только поэт, он способен чита i h
чужие мысли.
— Ждать нет смысла,— заявляет он.— У нас гуляша никогда
не хватает, его тут же весь разбирают. А может, вы желаете не
мецкий бифштекс? Вы можете его скушать, не отходя от стойки,
— Лучше смерть,— отвечаю я.— Гуляш мы раздобудем, даже
если бы тебя самого пришлось изрубить на кусочки.
— Вот как?— Теперь Эдуард воплощение жирного торжеп
вующего скептицизма.
— Да,— говорю я и вторично хлопаю его по брюху.— Пошли,
Георг, я вижу столик.
— Где?— торопливо спрашивает Эдуард.
— Да вон там, где сидит этот господин, похожий на гардероб
Ну вон тот, рыжий, с элегантной дамой. Сейчас он встал и ми
— Ф 412 Ф —
шст нам рукой. Это мой друг Вилли. Присылай кельнера, мы
сделаем заказ.
Эдуард испускает нам вслед шипение, точно лопнула автомо-
бильная камера. Мы устремляемся к Вилли.
Причина, почему Эдуард разыгрывает всю эту комедию,
очень проста. Раньше у него можно было обедать по абонемен-
ту. Купишь книжечку с десятью талонами — и каждый обед об-
ходится немного дешевле. Эдуард ввел когда-то эти книжечки,
чтобы поднять популярность своего ресторана. Но за послед-
ние недели лавина инфляции перечеркнула все его расчеты;
и если стоимость первого обеда по такой книжечке еще в ка-
кой-то мере соответствовала ценам, установленным на данный
момент, то, когда наступало время десятого, курс успевал уже
резко упасть. Поэтому Эдуарду пришлось отказаться от систе-
мы абонементов: он слишком много при этом терял. Но тут мы
поступили весьма предусмотрительно. Прослышав заблаговре-
менно о его планах, мы полтора месяца тому назад всадили все
деньги, полученные за один из памятников павшим воинам,
и покупку этих обеденных книжечек оптом. А чтобы наш ма-
невр не слишком бросился в глаза Эдуарду, использовали для
покупки самых разных людей — гробовщика Вильке, кладби-
щенского сторожа Либермана, нашего скульптора Курта Баха,
Вилли, нескольких фронтовых товарищей, знакомых, связан-
ных с нашей фирмой, и даже Лизу. Все они приобрели для нас
и кассе «Валгаллы» обеденные книжечки. Когда Эдуард затем
отменил абонементы, он рассчитывал, что все они будут ис-
пользованы в течение десяти дней, ибо в каждой было только
по десять талонов, а он полагал, что ни один здравомыслящий
человек не будет покупать одновременно несколько абонемен-
1ов. Однако у каждого из нас оказалось больше тридцати кни-
жечек. Когда прошло две недели после отмены абонементов
и Эдуард увидел, что мы все еще расплачиваемся талонами, он
шбеспокоился; через месяц у него был небольшой приступ па-
ники. В это время мы уже обедали за полцены; через полтора
месяца — за стоимость десятка папирос. Изо дня в день появ-
1ились мы в «Валгалле» и предъявляли наши талоны. Наконец
Эдуард спросил, сколько же у нас еще осталось. Мы ответили
уклончиво. Он попытался наложить запрет на абонементы,
по мы привели с собой юриста, пригласив его на венский шни-
цель. За десертом юрист прочел Эдуарду целую лекцию о том,
чго такое контракты и обязательства, и заплатил нашими тало-
ними. В лирике Эдуарда зазвучали мрачные нотки. Он попытал-
— 4* 413 Ф —
ся вступить с нами в соглашение — мы соглашение отвергли. Он
написал нравоучительные стихи «Коль нажил ты добро нечестно,
оно на пользу не пойдет» и послал в местную газету. Редактор по
казал нам эти стихи; они были полны намеков на могильщиком
народа, упоминалось в них и о надгробиях, а также о лихоимце
Кроле. Мы пригласили нашего юриста в «Валгаллу» на свиную
отбивную, он объяснил Эдуарду, что такое публичное оскорблг
ние и каковы его последствия, и снова расплатился нашими тало
нами. А Эдуард, который был до этого чистым лириком и воснс
вал цветы, начал писать стихи о ненависти. Но вот и все, что он
мог сделать. Яростная борьба продолжается. Каждый день Эду
ард надеется, что наши резервы наконец-то иссякнут; он не знп
ет, что у нас талонов хватит больше чем на семь месяцев.
Вилли встает. На нем новый темно-зеленый костюм из пер
воклассного материала, поэтому он похож на рыжеголовую
травяную лягушку. Его галстук украшен булавкой с жемчужи
ной, на указательном пальце правой руки —'тяжелый перстень
с печаткой. Пять лет назад он был помощником нашего ротною
интенданта. Ему, как и мне, двадцать пять лет.
— Разрешите представить?— осведомляется Вилли.— Мон
друзья и фронтовые товарищи Георг Кроль и Людвиг Бодмер
фрейлейн Рене де ла Тур из «Мулен Руж» в Париже.
Рене де ла Тур кивает нам сдержанно, но довольно привсч
ливо. Мы не сводим изумленных глаз с Вилли. Вилли отвечаем
нам таким же многозначительным гордым взглядом.
— Садитесь, господа,— предлагает он.— Насколько я пони
маю, Эдуард хотел исключить вас из числа обедающих. А гуляш
хорош, только луку можно было бы прибавить. Садитесь, мм
с удовольствием подвинемся.
Мы усаживаемся за столик. Вилли знает о нашей войне»
с Эдуардом и следит за ней с интересом прирожденного игроки
— Кельнер!— зову я.
Плоскостопого кельнера, который, переваливаясь, проходи!
в четырех шагах от нас, видно, вдруг поражает глухота.
— Кельнер!— зову я вторично.
— Ты варвар!— заявляет Георг Кроль.— Ты оскорбляешь
человека, называя его профессию. Ради чего он делал в 1918 го
ду революцию? Господин обер!
Я усмехаюсь. Действительно, немецкая революция 1918 годя
была самой бескровной в мире. Социал-демократы сами ссОи
так напугали, что тут же призвали на помощь бонз и генералок
прежнего правительства, чтобы те защитили их от вспышки hi
собственного мужества. И генералы великодушно это сделали
__ф 414
И местное число революционеров было отправлено на тот свет,
Аристократия и офицеры получили огромные пенсии, чтобы
у них было время для подготовки путчей, чиновникам дали но-
||ые звания, старшие преподаватели стали школьными советни-
ками, кельнеры получили право именоваться обер-кельнерами,
а социал-демократические секретари — «ваше превосходитель-
гпю», министр рейхсвера, социал-демократ, обрел блаженную
шнможность иметь в своем министерстве в качестве подчинен-
ных настоящих генералов, и немецкая революция захлебнулась
среди красного плюша, уюта, постоянных столиков в пивной
и мечтаний о блестящих мундирах и звучных командах.
Господин обер!— повторяет Георг. Кельнер остается глух.
1 1лрый детский трюк Эдуарда: он пытается сломить наше со-
.ipoiявление, давая кельнерам инструкции не обслуживать нас.
— Обер! Послушайте, вы что, оглохли?— вдруг раскатывается
• » )алу громовой голос, мастерски имитирующий рявканье фельд-
|< нс ля во дворе прусской казармы. Голос оказывает мгновенное
|гпс1вие, как звук трубы на боевого коня. Кельнер останавливает-
। словно ему выстрелили в спину, и оборачивается к нам; подбе-
н» и двое других, где-то кто-то щелкает каблуками, мужчина воен-
|"н> вида за соседним столиком говорит вполголоса «браво»,
• i.iже сам Эдуард в развевающемся сюртуке спешит к нам, чтобы
выяснить, чей это голос прогремел из высших сфер. Он отлично
•H id, что ни Георг, ни я не способны так командовать.
< )нешив, мы оборачиваемся к Рене де ла Тур. А она сидит
।» юликом с самым мирным девическим видом, словно все это
«• ничуть не касается. Но ясно, что лишь она могла так рявк-
• \ и», голос Вилли мы знаем.
< )бер уже стоит возле стола.
Что господам угодно?
Суп с лапшой, гуляш и гурьевскую кашу на двоих,— отве-
। h i Георг.— Да живо, не то вы у нас оглохнете, тихоня этакий!
Подходит Эдуард. Он не понимает, что произошло. Его
и on скользит под стол. Но там никто не спрятался, а дух
•к может издать такой рык. Мы тоже. Он это знает и подозре-
" кч какой-то трюк.
Я попрошу...— заявляет он наконец.— В моем ресторане
»п- полагается так шуметь.
Но мы не отвечаем. Мы только смотрим на него пустым
...ядом. Рене де ла Тур пудрится. Эдуард поворачивается
и и-юг прочь.
Хозяин! Подите-ка сюда!— вдруг рявкает ему вслед тот
• • I ромовой голос.
— 4* 415 Ф —
Эдуард поворачивается как ужаленный и глядит на нас, им
таращив глаза. С наших морд еще не сошла та пустая улыбки
Он смотрит на Рене де ла Тур.
— Это вы сейчас...
Рене захлопывает пудреницу.
— Что?— спрашивает она серебристым, нежным сопрано.*
Что вам угодно?
Эдуард все еще таращит глаза. Он не знает, что и думать.
— Вы, наверное, очень переутомились, господин Кноб
лох?— соболезнующе спрашивает Георг.— У вас, как видно,
галлюцинации...
— Но ведь кто-то только что...
— Ты спятил, Эдуард,— говорю я.— И вид у тебя прескнср
ный. Возьми отпуск. Нам нет никакого расчета продать твоим
родным дешевый памятник под итальянский мрамор, так кпк
большего ты не стоишь...
Эдуард усиленно моргает, как старый филин.
— Вы какой-то странный человек,— замечает Рене де ла Тур
нежным сопрано.— Если ваши кельнеры оглохли, то при чс*м
тут посетители?
Она смеется, и ее смех восхитительно журчит звенящим со
ребром, точно певучий ручей в сказке.
Эдуард хватается за лоб. Он теряет остатки самообладании
Нет, так не могла рявкать и сидящая перед ним девушка. У тот,
кто так смеется, не может быть голос грубого вояки.
— Вы свободны, Кноблох,— небрежно заявляет Георг.
Или вы намерены принять участие в нашей беседе?
— И не ешь так много мяса,— добавляю я.— Может, это у к»
бя от мяса! Что ты нам перед тем говорил? Согласно новейшим
научным данным...
Эдуард делает крутой поворот и спасается бегством. Мы
ждем, пока он отойдет подальше. И тут мощное тело Вилли ни
чинает сотрясаться от беззвучного хохота. Рене де ла Тур мя1 mi
улыбается. Ее глаза блестят.
— Вилли,— говорю я,— человек я легкомысленный и по но
му пережил сейчас одну из прекраснейших минут моей моли
дой жизни; но теперь объясни нам, что же тут произошло!
Вилли, все еще содрогаясь от безмолвного хохота, указыншн
на Рене.
— Excusez, mademoiselle,— говорю я,— Je me...*
От моего французского языка Вилли смеется еще неудержима
‘ Извините, мадемуазель, я... (фр.).
— + 416 Ф —
«Три товарища»
— Скажи ему, Лотта,— фыркает он.
— Что сказать?— спрашивает Рене с любезной улыбкой,
но в ее голосе вдруг снова звучат негромкие, но угрожающие
басовые ноты.
Мы с изумлением смотрим на нее.
— Она артистка,— наконец с трудов произносит Вилли.—
Дуэтистка. Она поет дуэты. Но одна. Куплет высоким голосом,
куплет низким. Одну партию сопрано, другую басом.
Мрак проясняется.
— Но откуда же все-таки бас?— недоумеваю я.
— Талант!— восклицает Вилли.— Ну и потом, конечно, ри
бота. Вы бы послушали, как она изображает супружескую ссо
ру! Нет, Лотта — это что-то легендарное.
Мы соглашаемся. Появляется гуляш. Эдуард, крадучись, бро
дит вокруг нашего стола, издали наблюдая за нами. Ему вечно
хочется докопаться, почему именно происходит то или дру-
гое,— и в этом его беда. Это портит его лирику и делает в жи I
ни недоверчивым. В данный момент он ломает себе голову над
загадкой неведомого баса. Но он не знает, что еще его ждет. Teopi,
кавалер старой школы, попросил Рене де ла Тур и Вилли счи
тать себя его гостями и вместе отпраздновать одержанную по
беду. А за отличный гуляш он по окончании трапезы вручи I
скрежещущему зубами Эдуарду четыре клочка бумаги, на кото
рые в общей сложности можно купить сегодня только несколь
ко жалких костей С остатками мяса на них.
Ранний вечер. Я сижу у окна в своей комнате над конторой.
Дом наш низкий, обветшалый, с множеством закоулков. Кик
и весь этот квартал, он некогда принадлежал церкви, котории
стоит на площади в конце улицы. В нем жили священники
и церковные служащие; но вот уже шестьдесят лет, как он ян
ляется собственностью фирмы «Кроль». Дом состоит из днуч
низеньких флигелей, разделенных подворотней в виде арки,
во втором флигеле проживает фельдфебель Кнопф с женой
и тремя дочерьми. При доме чудесный старый сад, в котором
выставлены наши надгробия, а слева, на задах, имеется еще к и
кое-то подобие двухэтажного деревянного сарая. В нижнем но
мещении мастерская нашего скульптора Курта Баха. Из-под сю
рук выходят скорбящие львы и взлетающие орлы для наши*
надгробий павшим воинам, а также соответствующие надписи,
которые потом высекаются каменотесами на этих памятникам
В свободное время он бренчит на гитаре, бродит по саду и мгч
тает о золотых медалях; их должен получить знамени! мН
— 4* 418 4* —
скульптор Курт Бах в более поздний период своего творчества,
который никогда не наступит: ему уже тридцать два года.
Верхний этаж сарая мы сдаем гробовщику Вильке. Это то-
щий мужчина, и никто не знает, есть у него семья или нет. У нас
с ним дружеские отношения, как бывает обычно, когда отноше-
ния между людьми основаны на взаимной выгоде. Если у нас
есть совсем свежий покойник, у которого еще нет гроба, мы ре-
комендуем Вильке или подаем ему знак, чтобы он сам позабо-
тился предложить свои услуги; также не забывает он и нас, ког-
дп узнает о трупе, который еще не успели утащить гиены
конкуренции, ибо за умерших ведется ожесточенный бой,
вплоть до поножовщины. Оскар Фукс, разъездной агент фирмы
«Хольман и Клотц», использует для этой цели даже лук. Преж-
к- чем войти в дом, где лежит покойник, он вытаскивает из кар-
ма на несколько разрезанных луковиц и нюхает их до тех пор,
пока на глазах не выступят слезы,— тогда он решительно вхо-
III к подчеркнуто выражает свое соболезнование по поводу до-
роюго покойника и старается заключить сделку. Потому его
и прозвали Оскар-плакса. Странное дело: если бы близкие при
♦ и ши иного покойника хоть наполовину так заботились о нем,
как югда, когда им от этого уже нет никакой пользы, трупы на-
перника охотно отказались бы от самых дорогих мавзолеев;
•к» уж таков человек: но-настоящему он дорожит только тем,
а к» у него отнято.
Улицу медленно наполняет прозрачная дымка вечерних суме-
рек У Лизы уже горит свет; но теперь занавески задернуты —
«пак юго, что мясник пришел. От ее дома начинается сад вино-
трювца Холыдмапа. Кисти сирени свешиваются через ограду,
। и । подвалов тянет свежим уксусным запахом бочек. Из ворот
• I инею дома выходит фельдфебель-пенсионер Кпопф. Это ху-
п«п человек в картузе и с тросточкой; несмотря на его профес-
|||*» и на то, что он, кроме строевого устава, не прочел за всю
iiiiiii, ни одной книжки, он чем-то похож на Ницше. Кнопф
•» и-i но Хакенштрассе и на углу Мариенштрассе сворачивает
и । ими). Около полуночи он появляется опять — на этот раз
iip.iiia.— ибо закончил обход городских пивнушек, который,
» ih подобает бывшему вояке, совершает неукоснительно каж-
• I hi вечер. Кнопф пьет только водку, притом хлебную, ничего
Ч'\।«ио он не признает. Тут он величайший знаток. В городе
• и три-четыре фирмы, которые выпускают хлебную водку.
И iM все водки кажутся почти одинаковыми. Но не Кнопфу: он
питает их по одному запаху. Сорок лет неустанных трудов
нно утончили его вкус, что, даже имея дело с тем же сортом,
— + 419 4,—
он определяет, из какой именно пивной эта водка, уверяя, что
и погреба бывают разные, и он их распознает. Конечно, не вод*
ку в бутылках,— только если она прямо из бочки. Он уже не pa I
держал по этому поводу пари и неизменно выигрывал.
Я встаю и окидываю взглядом свою комнату. Потолок у нес
косой и низкий, она невелика, но в ней есть все, что мне нужно:
кровать, полка с книгами, стол, несколько стульев и старый
рояль. Пять лет назад, когда я был солдатом на передовой,
я бы не поверил, что у меня будет когда-нибудь опять такая хо
рошая комната. Мы стояли во Фландрии, в дни великого на
ступления под Кеммельбергом, и мы потеряли в нем три чс1
верти нашей роты. На второй день боев Георг Кроль попал
в лазарет — он был ранен в живот, а я только через три недели за
получил ранение в колено. Затем произошла катастрофа, и я стал
в конце концов школьным учителем: это было желанием моей
больной матери, и я обещал ей, когда она умирала, что его вы
полню. Мать при жизни очень часто болела и поэтому решила,
что если я изберу профессию, обеспечивающую мне пожизнен-
ную службу, то со мной, по крайней мере, ничего уже не может
случиться. Она умерла в последние месяцы перед концом вой
ны, но я все же сдал экзамены на учителя, был послан в степные
деревни и там преподавал, пока мне не надоело вдалбливать де
тям такие истины, в которые я сам давно не верил, и быть зажи
во погребенным среди воспоминаний, которые жаждал забыть.
Я пытаюсь читать: но не такая погода, чтобы читать. Весим
будит тревогу, и в сумерках легко затеряться. Все вокруг утри
чивает свои очертания, ты сбит с толку, ты задыхаешься. Зажи
гаю свет и сразу же успокаиваюсь. На столе лежит желтая nair
ка со стихами, которые я переписал на машинке «Эрика» в трех
экземплярах. Время от времени я посылаю несколько экземп
ляров в газеты. Либо мне стихи возвращают, либо газеты про
сто не дают ответа; тогда я переписываю новые экземпляры
и возобновляю свои попытки. Но только три раза удалось мне
напечататься — в ежедневной местной газете, правда, при по
мощи Георга, который знаком с редактором. Все же этого оки-
залось достаточно, чтобы я стал членом Верденбрюкского клу
ба поэтов, который собирается раз в неделю у Эдуарда
Кноблоха, в его «Старогерманской горнице». Недавно Эдуард,
из-за истории с обеденными талонами, попытался добиться mochi
исключения как личности аморальной. Но члены клуба — псс
против одного голоса Эдуарда — единодушно заявили, что дсй
ствия мои заслуживают всяческого уважения: примерно так же
— 4* 420 + —
издавна действуют в нашем возлюбленном отечестве все про-
мышленники и дельцы, а кроме того, искусство не имеет ника-
кого отношения к морали.
Стихи я отодвигаю от себя. Они вдруг кажутся мне плоскими
и ребяческими, как те стандартные вирши, которые пытается
в свое время сочинять почти каждый юноша. Я начал писать
стихи еще на фронте, но там это имело какой-то смысл: они
ни несколько мгновений уносили меня прочь от действительно-
сти, служили как бы маленьким очагом сопротивления и веры
и то, что существует на свете еще нечто, кроме разрушения
и смерти. Но это было давно: теперь я знаю твердо, что, кроме
них, действительно существует еще многое, и знаю, что все это
может существовать наряду с ними и даже одновременно. Для
кого мне мои стихи больше не нужны. В книгах на моей полке
об этом сказано гораздо лучше. Однако разве это причина, что-
бы от чего-то отказываться? К чему бы мы тогда пришли? Куда
бы все мы делись? Поэтому я продолжаю писать, но часто мои
стихи кажутся мне серыми и надуманными в сравнении с вечер-
ним небом над крышами, которое сейчас становится яблочного
инета, а лилово-пепельный дождь сумерек уже затопляет улицы.
Я спускаюсь по лестнице мимо темной конторы и выхожу в сад.
Дверь в квартиру семейства Кнопф распахнута. Словно в огнен-
ной пещере, озаренные светом, сидят там три дочери Кнопфа
in своими швейными машинками и работают. Машинки жужжат.
И бросаю взгляд на окно рядом с конторой. Оно темное — значит,
I сорг уже куда-то смылся. Вошел и Генрих в надежную гавань лю-
бимой пивной, где он завсегдатай и у него постоянный столик.
Я обхожу сад. Кто-то полил его. Земля сырая, от нее исходит
। ильный запах. В мастерской гробовщика Вильке пусто, тихо и
v Курта Баха. Окна раскрыты; недоделанный скорбящий лев
прикорнул на полу — кажется, будто у него болят зубы,— а ря-
юм мирно стоят две пивные бутылки.
Вдруг начинает петь какая-то птица. Это дрозд. Он сидит
ни верхушке надгробия с крестом, которое Генрих Кроль так
продешевил; у птички явно слишком большой голос для такого
миленького черного шарика с желтым клювом. Этот голос и ли-
। уст, и жалуется, и хватает за сердце. И я думаю о том, что вот
•но песня мне говорит о жизни, о будущем, о грезах и обо всем
him неведомом, необычном и новом, что меня ожидает; а для
червей, которые вылезают из сырой земли и с усилиями взбира-
емся на подножие памятника с крестом, для них эта песня —
• р<> М1ый сигнал смерти через четвертование свирепыми удара-
ми клюва; и все же невольно она уносит меня, как волна, все
— 4* 421 + —
растворив, и, я стою беспомощный, растерянный, дивясь тому,
что я не разорвусь или не взлечу, словно воздушный шар, в это
вечернее небо; но наконец я все же прихожу в себя, спотыка-
ясь, бреду через сад и его ночное благоухание обратно в дом,
по лестнице, к роялю, обрушиваюсь на клавиши, ласкаю их, пы-
таясь, словно дрозд, греметь и трепетать, чтобы выразить свои
чувства; но в конце концов получается только нагромождение
арпеджио и какие-то обрывки из модных и народных песенок,
из «Кавалера роз» и «Тристана», какая-то смесь и дикая пута-
ница, пока чей-то голос не кричит мне с улицы:
— Милый человек, научись хоть сначала играть!
Я обрываю игру и захлопываю окно. Темная фигура исчезасч
в темноте; она уже слишком далеко, чтобы я мог чем-нибудь за-
пустить в нее, да и чего ради? Незнакомец прав, я не умею игран»
как следует ни на рояле, ни на клавиатуре жизни, никогда, ни-
когда не умел, я всегда слишком спешил, был слишком нетерпе
лив, всегда что-нибудь мешало мне, всегда приходилось обры
вать; но разве кто-нибудь играет действительно хорошо, а если
даже и играет — то что толку в этом? Разве великий мрак
от этого станет менее черным и вопросы без ответа — менее
безнадежными? Будет ли жгучая боль отчаяния от вечной недо-
ступности ответов менее мучительной, и поможет ли это когда
нибудь понять жизнь и овладеть ею, оседлать ее, как укрощен
ного коня, или она так и останется подобной гигантскому
парусу среди шторма, который мчит нас, а когда мы хотим ухва
титься за него, сбрасывает в воду? Передо мной иногда словно
открывается расселина, кажется, она идет до центра земли. Чем
она заполнена? Тоской? Отчаяньем? Или счастьем? Но каким?
Усталостью? Смирением? Смертью? Для чего я живу? Да, для
чего я живу?
III
Раннее воскресное утро. Колокола звонят на всех колокол!»
нях, и блуждающие вечерние огни исчезли. Доллар еще ctohi
тридцать шесть тысяч марок, время затаило дыхание, зной
не успел растопить голубой кристалл неба, и все кажется ясным
и бесконечно чистым — это тот единственный утренний час,
когда веришь, что даже убийца будет прощен, а добро и зло —
всего лишь убогие слова.
Я медленно одеваюсь. В открытое окно льется свежий, про
низанный солнцем воздух. Стальными вспышками проносятся
ласточки под сводами подворотни. В моей комнате, как и в кон-
торе под нею, два окна: одно выходит во двор, другое — на ул и
— + 422 + —
ну. Вдруг тишину разрывает придушенный вскрик, за ним сле-
дуют стоны и какое-то клокотание. Это Генрих Кроль, он спит
и другом флигеле. Его мучит очередной кошмар. В 1918 году
его засыпало, и вот пять лет спустя ему время от времени все
>то снова снится.
Варю кофе на своей спиртовке и вливаю в него немного виш-
невой настойки. Я научился этому во Франции, а водка у меня,
невзирая на инфляцию, еще есть. На новый костюм моего жа-
лованья, правда, не хватает — просто никак не удается скопить
нужную сумму,— но мелочи я покупать могу, и, разумеется,
среди них, в виде утешения, иной раз и бутылку водки.
Я ем хлёб, намазанный маргарином и сливовым мармеладом.
Мармелад хороший, он из запасов мамаши Кроль. Маргарин
прогорклый, но не беда: на фронте мы и не то еще ели. Затем
и произвожу осмотр своего гардероба. У меня есть два костюма,
перешитых из военных мундиров. Один перекрашен в синий,
другой в черный цвет — с серо-зеленым материалом больше
ничего нельзя было сделать. Кроме того, имеется костюм, кото-
рый я носил еще до того, как стал солдатом. Правда, я из него
вырос, но это настоящий штатский костюм, не переделанный
и не перелицованный, и поэтому я надеваю его. К нему идет тот
шлстук, который я вчера купил и который я повязываю сего-
дня, чтобы предстать перед Изабеллой.
Я мирно бреду по улицам. Верденбрюк — старинный город,
и нем шестьдесят тысяч жителей, есть и деревянные дома и зда-
ния в стиле барокко, а вперемежку с ними целые кварталы, за-
( I роенные в отвратительном новом стиле. Я пересекаю весь го-
род, на другом конце выхожу из него, иду по аллее, обсаженной
дикими каштанами, затем поднимаюсь на небольшой холм, там,
(рели густого парка, стоит психиатрическая лечебница. Дом ка-
жется тихим в свете воскресного утра, птицы щебечут на деревь-
нх, а я направляюсь в маленькую больничную церковь, где
ио время воскресной обедни играю на органе. Я научился играть,
когда готовился стать школьным учителем, и год назад раздо-
Пыл это место органиста как побочную профессию. У меня не-
। колько таких побочных профессий. Раз в неделю я даю детям
• «ножного мастера Бриля урок игры на фортепиано, за что он
чинит мне башмаки и приплачивает еще немного деньгами,
и два раза в неделю репетирую некоего оболтуса — сына книго-
юрговца Бауэра, также за небольшое вознаграждение и за право
прочитывать все новые книги, а если я пожелаю некоторые
и । них приобрести, то он мне их продает со скидкой. Разумеется,
— Ф 423 Ф —
весь клуб поэтов и даже Эдуард Кноблох тогда вдруг становят-
ся моими друзьями.
Обедня начинается в девять часов. Я уже сижу за органом
и вижу, как входят последние пациенты. Они входят тихонько
и рассаживаются по скамьям. Между ними и на концах скамей
садятся несколько санитаров и сестер. Все совершается очень
пристойно, гораздо тише, чем в деревенских церквях, где
я в бытность свою учителем тоже играл на органе. Слышно
лишь, как по каменному полу скользят башмаки, именно сколь-
зят, а не топают. Так ступают те, чьи мысли далеко отсюда.
Перед алтарем горят свечи. Сквозь цветные стекла льется
снаружи смягченный дневной свет и, смешиваясь с сиянием
свечек, становится мягко-золотистым, местами тронутым голу-
бизной и пурпуром. В этом свете стоит священник в парчовом
церковном облачении, а на ступеньках — коленопреклоненные
служки в красных стихарях и белых накидках. Я выдвигаю реги-
стры флейты и vox humana* и начинаю. Душевнобольные, сидя
щие в передних рядах, все как один поворачивают головы, слон
но их дернули за веревочку. Их бледные лица с темными
впадинами глаз, поднятые кверху, откуда звучит орган, лишены
всякого выражения. В золотистом сумеречном свете они похо
жи на парящие плоские светлые диски, а зимой, в полумраке,
напоминают огромные облатки, ожидающие, чтобы в них во
шел святой дух. Они не могут привыкнуть к звукам органа; дли
них нет прошлого и нет воспоминаний, поэтому каждое воскрс
сенье все эти флейты, скрипки и гамбы кажутся их отчужденно
му сознанию чем-то новым и нежданным. Затем священник ни
чинает молиться перед алтарем, и они обращают на него свои
взоры.
Не все больные следят за церковной службой. В задних ряди и
многие сидят неподвижно, сидят, словно окутанные грозной
печалью, как будто вокруг них лишь пустота,— впрочем, можн
быть, так только кажется. Может быть, они пребывают в совсем
других мирах, в которые не проникает ни одно слово распятою
Спасителя, простодушно и без понимания отдаются той му <ы
ке, в сравнении с которой звуки органа бледны и грубы. А мо
жет быть, они совсем ни о чем не думают, равнодушные, кик
море, как жизнь, как смерть. Ведь только мы одушевляем при
роду. А какая она сама по себе, может быть известно только
’ Человеческий голос (лат.). В органе регистр, имитирующий по звучи
нию голос человека.
— Ф 424 + —
• him сидящим внизу душевнобольным; но тайны этой они от-
»I и.11 ь не могут. То, что они увидели, сделало их немыми. Иногда
► |тс1ся, что это последние потомки строителей вавилонской
" пнни. языки для них смешались, и эти люди уже не могут по-
• > hi । ь о том, что увидели с самой верхней террасы.
Я разглядываю первый ряд. Справа, среди мерцания розовых
•но 1\бых тонов, я замечаю темную голову Изабеллы. Она сто-
III на коленях возле скамьи, очень прямая и стройная. Узкая го-
тика склонена набок, как у готических статуй. Я задвигаю ре-
।истры гамб и vox humana и выдвигаю vox coelesta’. Этот
. • । ncip opi ана дает самые мягкие и далекие звуки. Мы прибли-
жаемся к миную пресуществления. Хлеб и вино претворяются
к ю и кровь Христову. Это чудо — такое же, как сотворение
• ювека, возникшею из глины и праха. По мнению Ризенфель-
• । третье чудо состоит в том, что человек не знает, как ему
•ин. со вторым, и все беспощаднее эксплуатирует и уничтожа-
। < сое подобных, а краткий срок между рождением и смертью
। ||>.1С1сч как можно больше заполнить эгоизмом, хотя каждо-
• \ • самою нача ла абсолютно ясно одно: он неизбежно должен
‘н рс1ь. Гак говорит Ризенфельд, владелец Оденвельдского
I' liiiii hoi о завода, а он один из беспощаднейших дельцов и со-
'"||| о юв в дедах смерти. Agnus Dei qui tollis peccata mundi”.
После обедни больничные сестры кормят меня завтраком,
и ।'синим из яиц, холодной закуски, бульона, хлеба и меда,
им । Ao nt г в мой договор. Благодаря такому завтраку я легко
"мчась без обеда, ибо по воскресеньям талоны Эдуарда недей-
• I II ।с 1ьны. Кроме того, я получаю тысячу марок, как раз ту сум-
и h i ко юрую я moi у, если захочу, проехать сюда и отсюда в трам-
•• Я ни ра зу не потребовал повышения оплаты. Почему — и сам
• и но: а за уроки у сапожника Карла Бриля и за репетирование
ин । । пиюторговца Бауэра я добиваюсь прибавок, как упрямый
11ни ракав, я отправляюсь в парк, принадлежащий больни-
це • большой красивый участок с деревьями, цветами и ска-
• hi iMii. окруженный высокой стеной, и если не смотреть
• .лоранные решетками окна, то кажется, что находишься
И1.1 Юрии.
-I люблю лог парк ноюму, чго в нем очень шхо и ни с кем
ц\ । но творить о войне, политике и инфляции. Можно сно-
* -inи» сидеть на скамейке и предаваться весьма старомодным
I Ь-иссный голос (лат.). Один из регистров органа.
\i иен Божий, взявший на себя грехи мира (лат.).
— 4* 425 4* —
занятиям: прислушиваться к шуму ветра и пенью птиц, смотреть,
как свет просачивается сквозь яркую зелень древесных крон.
Мимо меня бредут больные, которым разрешено выходить.
Большинство молчат, только некоторые говорят сами с собой,
кое-кто оживленно спорит с посетителями и сторожами, многие
сидят в одиночку, молча и неподвижно, склонив голову, словно
окаменевшие на солнце изваяния, сидят до тех пор, пока их
не уведут обратно в палату.
Не сразу я привык к этому зрелищу, да и теперь еще иной pa I
пристально разглядываю душевнобольных, как в самом начале
со смешанным чувством любопытства, жути и еще какого-то
третьего, безымянного ощущения, которое я испытал, когда
впервые увидел покойника. Мне было тогда двенадцать лет.
умершего звали Георгом Гельманом, неделю назад я еще играл
с ним, и вот он лежал передо мной среди цветов и венков, фи
гура из желтого воска, что-то несказанно чуждое и до ужаса
не имеющее к нам никакого отношения; оно ушло в невообра
зимое навсегда и все же присутствовало здесь, как немам,
странно леденящая угроза. Позднее, на фронте, я был свидетс
лем бесчисленных смертей и испытывал при этом не больше, чем
испытывал бы, попав на бойню,— но этого первого мертвеца
я никогда не забуду, как не забывают все, что было впервые
В нем воплотилась смерть. И та же смерть смотрит на меня иногда
из погасших глаз душевнобольных, живая смерть, пожалуй, einr
более загадочная и непостижимая, чем другая, безмолвствующая
Только у Изабеллы это иначе.
Я вижу, как она идет по аллее, ведущей к женскому флигели»
Желтое платье из шелка раскачивается, словно колокол, вокру»
ее ног, в руке она держит соломенную шляпу с плоской тульей
и широкими полями.
Я встаю и иду ей навстречу. Лицо у нее худое, и на нем выдс
ляются только глаза и рот. Глаза серо-зеленые, очень прозрим
ные, а губы темно-алые, словно она чахоточная или густо их па
красила. Но глаза ее могут вдруг стать плоскими,
тускло-серыми и маленькими, а губы — тонкими и горестно
поджатыми, как у старой девы, которая так и не вышла заму*
Когда она такая, она — Женни, недоверчивая и несимпатичная
особа, которой никак не угодишь, а когда она другая — это И »а
белла. Оба образа — иллюзия, в действительности ее зовут Же
невьевой Терговен, и у нее болезнь, носящая некрасивое и не
сколько фантастическое название — шизофрения. При ней
происходит раздвоение сознания, раздвоение личности, и но
— + 426 4* —
ному Женевьева — то Изабелла, то Женни, всегда кто-нибудь
иругой, а не она сама. Женевьева — одна из самых молодых
п >той больнице. Говорят, ее мать живет в Эльзасе, довольно бо-
нна, но мало интересуется дочерью — по крайней мере,
ини разу ее здесь не видел, с тех пор как познакомился с Жене-
ньевой, а это было уже полтора месяца назад.
Сегодня она — Изабелла, я это сразу вижу. Она живет в при-
тачном мире, не имеющем ничего общего с действительнос-
н«к), он легок и невесом, и я бы не удивился, если бы порхаю-
щие повсюду лимонного цвета бабочки вдруг опустились,
in рая, к ней на плечи.
— Как хорошо, что ты опять здесь!— говорит она, и лицо ее
। инет.— Где ты пропадал столько времени?
Когда она — Изабелла, она называет меня на «ты». Тут нет
никакого особого отличия: Изабелла тогда говорит «ты» всем
па свете.
Где ты был?— спрашивает она еще раз.
Я делаю жест в сторону ворот.
Где-то там, за стеной...
Она смотрит на меня испытующе.
За стеной? Зачем? Ты там что-нибудь ищешь?
Наверное, но если бы я хоть знал что!
Она смеется.
Брось, Рольф! Сколько ни ищи, ничего не найдешь!
При имени «Рольф» я вздрагиваю. К сожалению, Изабелла
< и ।епько меня так называет. Ведь она и себя и меня принима-
। ia кого-то другого, притом не всегда за одно и то же лицо.
I • • и Рольф, то Рудольф, а однажды появился еще какой-то Рауль.
I " н»(|) — это, видимо, некий скучный покровитель, я терпеть
• »•• нс могу; Рауль — что-то вроде соблазнителя; но больше всего
» ноблю, когда она называет меня Рудольфом — тогда она ста-
•ПЖ111СЯ мечтательной и влюбленной. Мое настоящее имя —
1к» 1внг Бодмер — она игнорирует. Я ей часто повторяю его,
I » <»па просто не желает считаться с ним.
В первое время вся эта путаница сбивала меня с толку, но те-
I' l»i. я привык. Тогда я еще держался общепринятых взглядов
• • i\ шевные болезни и непременно представлял себе при этом
•!••• io окительные припадки буйства, попытки совершить убий-
• ни бессмысленно лепечущий идиотизм — и тем поразительнее
< | к* inлась на фоне таких картин Женевьева. Вначале я едва мог
• •т ри I ь, что она больна, настолько постоянная путаница имен
• ши казалась у нее игрой (иногда и теперь еще кажется),
• но юм я понял, что за хрупкими построениями ее фантазии
— + 427 Ф —
все же беззвучно притаился хаос. Его еще нет, но он подстерс
гает ее, и это придает Изабелле особое обаяние, тем более, «по
ей всего двадцать лет и болезнь делает ее иногда трагически
прекрасной.
— Идем, Рольф,— говорит она и берет меня под руку.
Я еще раз пытаюсь освободиться от ненавистного имени
и заявляю:
— Я не Рольф, я Рудольф.
— Ты не Рудольф.
— Нет. Я Рудольф, Рудольф-единорог.
Однажды она меня так назвала. Но мне не везет. Она улыби
ется, как улыбаются ребяческому вздору.
— Ты не Рудольф и не Рольф. Но и не тот, за кого ты себя
принимаешь. А теперь пойдем, Рольф.
Я смотрю на нее. И на миг у меня опять возникает ощущс*
ние, что она не больна, а только представляется больной.
— Это скучно,— говорит она.— Отчего ты непременно хо
чешь всегда быть тем же самым?
— Да, отчего?— повторяю я удивленно.— Ты права: почему
человек так стремится к этому? Что нам непременно хочется
сохранить в себе? И почему мы о себе такого высокого мнении /
Она кивает.
— И ты, и доктор! Но ведь в конце концов ветер все развес!
Почему вы не хотите этого признать?
— Доктор тоже?— спрашиваю я.
— Да, тот, кто себя так называет. Чего только он от мени
не требует! А ведь сам решительно ничего не знает. Даже тою,
какая бывает трава ночью, когда на нее не смотришь.
— А какая же она может быть? Наверное, серая или черним
И серебряная, если светит луна.
Изабелла смеется.
— Ну конечно! Ты тоже не знаешь. В точности как доктор.
— Так какая же она бывает?
Изабелла останавливается.. Порыв ветра проносится мимо
нас, а с ним вместе — пчелы и аромат цветов. Ее желтая юбхл
надувается парусом.
— Травы тогда просто нет,— заявляет она.
Мы идем дальше.
Пожилая женщина в больничном халате проходит мимо пт
по аллее. Лицо у нее красное и блестит от слез. Двое растернм
шихся родственников идут рядом с ней.
— А что же тогда есть вместо травы?
— 4* 428 4» —
— Ничего. Только когда взглянешь, она тут как тут. Иной
риз, если очень быстро обернешься, можно это уловить.
— Что именно? Что ее нет?
— Не это, а то, как она стремглав возвращается на место —
ipana и все, что позади нас. Предметы — точно слуги, которые
ушли на танцы. Все дело в том, чтобы обернуться очень-очень
Пыстро, и тогда успеешь еще увидеть, что их нет... Иначе они
уже окажутся на месте и прикинутся, будто никогда и не исче-
III л и.
— Кто, Изабелла?— спрашиваю я очень бережно.
— Предметы. Все, что позади тебя. Оно только и ждет, чтобы
1Ы отвернулся и можно было исчезнуть!
В течение нескольких секунд я обдумываю ее слова. Вероятно,
но такое ощущение, словно у тебя за спиной постоянно рас-
крытая бездна.
— А меня разве тоже нет, когда ты отворачиваешься?
— И тебя тоже. Ничего нет.
— Ах так,— отвечаю я с некоторой обидой.— Но ведь для себя-
• я все время тут? Как бы я быстро ни обернулся.
Ты поворачиваешься не в ту сторону.
Разве и при этом есть разные стороны?
Для тебя есть, Рольф.
Я опять вздрагиваю от ненавистного имени.
А ты сама? Как обстоит дело с тобой?
()иа смотрит на меня и рассеянно улыбается, словно мы совсем
" шакомы.
Я? Меня же вообще здесь нет!
Вот как! Но для меня ты все-таки здесь!
Выражение ее лица меняется. Она снова узнает меня.
Правда? Почему ты не повторяешь мне этого как можно
• пне?
Я же твержу тебе это постоянно.
11 ед остаточно.— Она прислоняется ко мне. Я чувствую ее
H i \ан не и сквозь тонкий шелк платья — ее грудь.
Всегда недостаточно,— говорит она вздохнув.— Почему
• кно никто не понимает? Эх вы, статуи!
( । а гуи,— мысленно повторяю я.— Что же мне еще остается?
* Moipio на нее, она прекрасна, она меня волнует, она влечет
* . ин каждый раз, когда мы вместе, словно тысячи голосов на-
нп1 hoi говорить по проводам моих артерий, а потом все вдруг
‘"рыкается, как будто все их неправильно соединили, я чувст-
111 растерянность, и в душе остается только смятение. Душев-
.... 1ьную женщину нельзя желать. А если кто-нибудь и спосо-
— Ф 429 Ф —
бен, то я лично не могу. Это все равно, что желать куклу-авто
мат или женщину, находящуюся под гипнозом. И все-таки со
близость волнует меня...»
Зеленые тени, лежащие на аллее, расступаются — и перед
нами залитые солнечным светом клумбы с цветущими тюлыш
нами и нарциссами.
— Надень шляпу, Изабелла,— говорю я.— Врач настаивает,
чтобы ты прикрывала голову.
Она бросает шляпу в цветы.
— Врач! Мало чего он хочет! Он и жениться на мне хоче»,
но сердце у него отощавшее. Он просто потный филин.
Не думаю, чтобы филин мог потеть. Но образ все-таки убеди
тельный. Изабелла ступает, словно танцовщица, среди тюлыш
нов и садится посреди клумбы.
— А вот их ты слышишь? •
— Конечно,— заявляю я с облегчением.— Каждый их услы
шит. Это колокола. Они звучат в фа-диез мажоре.
— Что такое фа-диез мажор?
—Такая тональность. Самая пленительная из всех тональностей.
Она раскидывает широкую юбку среди цветов.
— А во мне они теперь звонят?
Я киваю и смотрю на ее узкий затылок. «Ты вся полна зио
ном»,— думаю я. Она срывает тюльпан и задумчиво разгляди
вает раскрывшийся цветок и мясистый стебель, на котором кип
лями выступает сок.
— Вот это совсем не пленительно.
— Хорошо, пусть колокола звонят в до мажоре.
— Непременно в мажоре?
— Это может быть и минор.
— А не может быть и то и другое одновременно?
— В музыке не может,— говорю я, загнанный в тупик.— В ней
существуют известные принципы. Либо одно, либо другое. Или
одно после другого.
— Одно после другого!— Изабелла смотрит на меня с легким
презрением.— Вечно ты находишь отговорки, Рольф. Отчего?
— Да я сам не знаю. Мне самому хотелось бы, чтобы было
иначе.
Она вдруг встает и отшвыривает тюльпан, который держим
в руках. Одним прыжком она оказывается на дорожке и реши
тельно отряхивает платье. Потом приподнимает его и рассмш
ривает свои но1*и. На ее лице гримаса отвращения.
— Что случилось?— испуганно спрашиваю я.
Она указывает на клумбу.
— 4* 430 Ф —
— Змеи.
Я смотрю на цветы.
— Нет там никаких змей, Изабелла.
- Есть! Вон они!— И она указывает на тюльпаны.— Разве
на не видишь, чего они хотят? Я сразу почувствовала.
— Ничего они не хотят. Цветы как цветы,— тупо настаиваю я.
- Они ко мне прикоснулись! — Изабелла дрожит от омерзе-
нии и все еще не сводит глаз с тюльпанов.
Я беру ее за плечи и поворачиваю спиной к клумбе.
- Теперь ты отвернулась,— говорю я.— Теперь их гут уже нет.
Ее грудь бурно вздымается.
- Не пускай их ко мне! Растопчи их, Рудольф!
- Да их уже нет. Ты отвернулась, и они исчезли. Как трава
• ниыо и все предметы.
Она прислоняется ко мне. Я вдруг перестаю быть для нее
1*н|ьфом. Она прижимается лицом к моему плечу. Ей ничего
иг нужно мне объяснять: теперь я — Рудольф и должен это по-
' । и ма гь.
А ты уверен?— спрашивает она. И я чувствую, как ее
• рте бьется возле моей руки.
Совершенно уверен. Они исчезли. Как слуги в воскрес-
И1.П1 день.
Не пускай их ко мне, Рудольф.
Не пущу,— заверяю я ее, хотя мне не вполне ясно, что она
•MCUI в виду. Но она уже успокаивается.
Мы медленно идем обратно. Она как-то сразу устает. Подхо-
и| । сестра в мягких туфлях.
Вам пора кушать, мадемуазель.
Кушать? А зачем нужно то и дело есть, Рудольф?
Чтобы не умереть.
И опять ты лжешь,— говорит она устало, будто безнадеж-
...спонятливому ребенку.
Сейчас нет. Сейчас я действительно сказал правду.
Вот как? А камни тоже едят?
Разве камни — живые?
11у конечно. Они самые живые. Настолько, что они вечны.
1 и pa jbc не знаешь, что такое кристалл?
Только то, что нам рассказывали на уроках физики. Но, долж-
> • <»ы । ь, все это вранье.
Чистый экстаз...— шепчет Изабелла.— Совсем другое,
м io вон...— Она делает движение, словно желая повернуть-
• к к румбам.
( ocipa берет ее под руку.
— А где же ваша шляпа, мадемуазель?— спрашивает она,
сделав несколько шагов и озираясь.— Подождите, я сейчас с*
достану.
И она идет к клумбе, чтобы извлечь оттуда шляпу. А Изабел
ла торопливо возвращается ко мне, в ней появилось что-то
очень мягкое.
— Не покидай меня, Рудольф,— шепчет она.
— Я тебя не покину.
— И не уходи! Мне пора. Они прислали за мной! Но >ы
не уходи!
— Я не уйду, Изабелла.
Сестра выудила шляпу и теперь спешит к нам на своих широ
ких подметках, словно неотвратимая судьба. Изабелла стоит не
подвижно и смотрит на меня. Кажется, будто мы прощаемся пи
веки. Но у меня каждый раз такое чувство, будто мы прощаемси
навеки. Кто знает, в каком состоянии она ко мне вернется и yi
нает ли меня.
— Наденьте шляпу, мадемуазель,— говорит сестра.
Изабелла берет шляпу, и та вяло повисает на ее локте. Потом
Изабелла поворачивается и идет к флигелю. Она не оглядываете*
Началось все это в один мартовский день, когда Женевьсмк
вдруг подошла ко мне в парке и заговорила, словно мы данпо
друг друга знаем. Такие случаи нередки — в лечебнице для ду
шевнобольных не принято знакомить людей между собой; злее!»
находишься по ту сторону всяких формальностей, затоварим
ешь, когда хочешь, без долгих предисловий, говоришь сразу же
о том, что у тебя на уме, и не беда, если собеседник не поймем,
это дело второстепенное. Никто никого не старается убеди и*
или что-нибудь доказать: люди встретились и беседуют, причем
собеседники нередко говорят о совершенно разных веиин,
но отлично понимают, о чем идет речь, именно потому, чш
один другого не слушает. Например, низенький кривоногий че
ловечек, папа Григорий VII, ни с кем не спорит. Ему ником»
не нужно убеждать в том, что он римский папа. Папа — и псе.
и у него немало хлопот с Генрихом Львом, Каносса недалеко,
и он иногда об этом говорит. Его ничуть не смущает, что собе
седник — человек, воображающий, будто у него тело стеклми
ное, и поэтому просит каждого, чтобы его не толкнули, у iichi
и так уже есть трещина; и все же они разговаривают: Григорий
о короле, который должен каяться в одной сорочке, а стеклми
ный человек — о том, что он не выносит солнца, ибо солнце
в нем отражается. Затем Григорий дает ему свое папское блин»
— Ф 432 ф —
словение, а стеклянный человек на миг снимает платок, защи-
щающий его прозрачную голову от солнца, и оба раскланива-
ются с вежливостью былых веков. Поэтому я не удивился, ког-
да Женевьева подошла ко мне и заговорила, я только удивился,
какая она красивая,— действительно, настоящая Изабелла.
Она долго разговаривала со мной. Изабелла вышла в светлом
меховом пальто, которое, наверное, стоило дороже двадцати
надгробий с крестами из лучшего шведского гранита, в вечер-
нем платье и золотых сандалиях. Было всего одиннадцать часов
утра, и в обычном мире за стенами лечебницы никто бы не счел
возможным появиться в таком наряде. Здесь же он только
взволновал меня: словно какое-то существо спустилось на пара-
шюте с неведомой планеты.
В этот день то сияло солнце, то срывался дождь, дул ветер, во-
царялась внезапная тишина. Все шло вперемежку: один час это
был март, следующий — апрель, потом сразу вклинивался май
и кусок июня. А тут еще появилась Изабелла неведомо откуда,
действительно неведомо откуда, из тех областей, где стерты все
границы, где искаженный свет, подобный вспыхивающему в небе
беглому свету северного сияния, висит в небе, не ведающем
ни дня, ни ночи, а лишь эхо собственных лучей, отзвук отзвука,
тусклый свет потустороннего и безвременных пространств.
Она вызвала во мне смятение с первой же минуты, и все пре-
имущества были на ее стороне. Правда, я на войне растерял нема-
ло буржуазных предрассудков, однако это породило во мне лишь
некоторый цинизм и отчаяние, но не дало чувства превосходства
и свободы. И вот я сидел и с изумлением смотрел на нее, словно
она невесома и парит в воздухе, а я лишь с трудом бреду за ней,
спотыкаясь. Кроме того, в ее словах не раз сквозила странная муд-
рость. Только мудрость эта была как-то смещена и открывала
вдруг необозримые дали, от которых начинало биться сердце;
в как только хотелось эти дали удержать, их затягивали туманы,
и сама Изабелла была уже где-то совсем в другом месте.
Она поцеловала меня в первый же день, и сделала это так
просто, что, казалось, не придавала поцелую никакого значе-
ния; и все-таки я не мог не ощутить его. Я живо ощутил этот по-
целуй, и он взволновал меня, но потом волна словно ударилась
о барьер рифа — и я понял, что поцелуй предназначался вовсе
не мне, а кому-то другому, персонажу ее фантазии, некоему
Рольфу или Рудольфу, а может быть, даже и не им, и это всего
лишь имена, выброшенные на поверхность ее сознания темны-
ми подземными потоками, и не имеют ни корней, ни отношения
к ней самой.
— + 433 + —
С тех пор она стала почти каждое воскресенье приходить
в сад, а когда шел дождь, то в часовню. Старшая сестра разре-
шила мне после обедни упражняться на органе, если у меня по-
являлось такое желание. На самом деле я не упражнялся — для
этого я играю слишком плохо; я делал то же, что и с роялем: играл
для себя, импровизируя, по мере сил изображал какие-то тепло-
ватые настроения, грезы, тоску о чем-то неясном, о будущем,
об исполнении мечты и о самом себе, а для всего этого не надо
было особенно хорошо играть. Иногда Изабелла заходила
в церковь вместе со мной и слушала. Она сидела тогда внизу,
в темноте, дождь хлестал в пестрые стекла окон, звуки органа
проплывали над ее темноволосой головой; я не знал, о чем она
думает, и было в этом что-то необычное и немного сентимен-
тальное, но потом вдруг вставал вопрос «зачем», вскрик, страх,
безмолвие. И я смутно ощущал присущее земной твари неуло-
вимое одиночество, когда мы оставались в пустой церкви, на-
едине с сумерками и звуками органа, только мы двое, словно
единственные люди на свете, соединенные хмурым светом, аг
кордами и дождем и все же навеки разлученные, без всякого
моста от одного к другому, без взаимопонимания, без слов,
и только странно рдели сторожевые огоньки на границах жи г
ни внутри нас — мы их видим и не понимаем, я по-своему, она
по-своему, словно глухонемые слепцы, хотя мы не глухи и немы,
не слепы, а потому оказываемся еще беднее и оторваннее
от всех. Чем именно было вызвано в ее душе желание подойти
ко мне? Я этого не знал и никогда не узнаю, истоки ее желании
погребены под щебнем и оползнями,— но я все-таки не мог по
нять, почему эти странные отношения вызывают во мне такое
смятение: я же знал о ее болезни и знал, что видит она во мне
не меня, и все же наши встречи будили тоску о чем-то неведо
мом, потрясали и порой делали меня то счастливым, то несчае!
ным без всякого смысла и причины.
Ко мне подходит маленькая сестра милосердия.
— Старшая сестра хотела бы с вами поговорить.
Я встаю и иду за ней. Я чувствую себя довольно неловко
Может быть, кто-нибудь из сестер шпионил за нами и старший
заявит, что мне разрешается беседовать только с больными, ко
торым за шестьдесят, или даже уволит меня, хотя главный врач
и сказал, что для Изабеллы общество людей полезно.
Старшая сестра встречает меня в своей приемной. Здесь пин
нет воском для натирания полов, мылом и добродетелью. Дыхи
ние весны сюда не проникает. Старшая сестра, сухопарая эпер
— Ф 434 Ф —
। и иная женщина, приветливо со мной здоровается; она считает
меня безупречным христианином, который любит Бога и верит
в силу церкви.
— Ведь скоро май,— говорит она и смотрит мне в глаза.
— Да,— отвечаю я и разглядываю непорочно белые занавески
и юлый блестящий пол.
— Мы подумываем, не начать ли нам служить майскую все-
нощную?
Я облегченно вздыхаю и молчу.
— Когда наступает май, в городских церквях каждый вечер
i |ужат всенощную,— поясняет старшая.
Я киваю. Я знаю эту всенощную: в сумерках клубится дым ла-
шна, поблескивает дароносица, а после службы молодежь еще
прогуливается некоторое время на площадях, под старыми дере-
вьями, где жужжат майские жуки. Правда, я никогда на эти
< ружбы не хожу, по они запомнились мне с тех времен, когда
и еще не был в армии. Тогда начались мои первые романы с мо-
юдыми девушками. Все происходило втайне и было очень вол-
нующим и невинным. Но я отнюдь не намерен являться с1Ьда,
весь месяц ежедневно в восемь часов вечера и играть па органе.
— Нам хотелось бы, чтобы такая служба совершалась у нас
\о। я бы по воскресеньям,— заявляет старшая.—То есть по-пра-
। шичному, пусть будет органная музыка и Те Deum*. Без музы-
ки у нас и так каждый вечер читают молитвы. Но мы можем вам
иныатить очень мало,— заявляет старшая.— Не больше чем
in обедню. А теперь это, вероятно, уже немного, верно?
— Да,— отвечаю я,— уже немного. Ведь в стране инфляция.
— Знаю.— Она стоит в нерешительности.— К сожалению,
церковные инстанции к ней не приспособились. Они все изме-
ряю г веками. Нам приходится с этим мириться. В конце кон-
цов, это ведь делается для Бога, а не для денег. Разве не так?
— Можно делать ради того и другого,— отвечаю я.— Полу-
пи ся особенно удачное сочетание.
Она вздыхает.
— Мы связаны постановлением церковной администрации.
\ они выносятся раз в год, не чаще.
И даже в отношении окладов господ священников, кано-
ников и господина епископа?— осведомляюсь я.
Этого я не знаю,— отвечает она и слегка краснеет.— Но
о маю, что да.
1см временем я принял решение.
I ебя, Бена, хвалим (лат.).
— Сегодня вечером я занят,— заявляю я.— У нас важное де-
ловое совещание.
— Да ведь теперь еще только апрель. Но в следующее вос-
кресенье — или вы по воскресным дням не можете? Тогда —
на неделе. Как было бы хорошо время от времени послушать
полную майскую службу. Матерь Божья вам, конечно, воздаст
за это.
— Определенно. Тут только возникает сложность с ужином.
Восемь часов — время ужина. После службы — уже поздно,
а до — всегда спешишь.
— О, что касается этого... вы, конечно, можете ужинать
здесь, если хотите. Его преподобие всегда кушает здесь. Можс i
быть, это выход?
Это тот выход, к которому я и стремился. Кормят у них поч
ти как у Эдуарда, а если я буду ужинать вместе со священником,
то наверняка подадут и бутылку вина. И так как по воскресеньям
абонементы у Эдуарда недействительны, это даже блестящий
выход.
— Хорошо,— заявляю я,— попытаюсь. О деньгах больше го
ворить не будем.
Старшая облегченно вздыхает.
— Господь Бог воздаст вам сторицей.
Я иду обратно. Дорожки в саду опустели. Жду еще некою
рое время, не появится ли парус из шелка. Затем колокола в го
роде начинают вызванивать обед, и я знаю, что после обели
Изабелла ляжет спать, потом будет обход врача — словом,
до четырех часов тут делать нечего. Я выхожу через главные во
рота и спускаюсь с холма. Внизу лежит город со своими зелены
ми крышами и дымящими трубами. По обе стороны каштано
вой аллеи тянутся поля, на которых в будни работают тихие
больные.
Лечебница эта и бесплатная, и платная. Пациенты, которые»
платят, конечно, не обязаны работать. За полями начинаен и
лес, в нем есть ручьи, пруды, поляны. Мальчишкой я ловил там
рыбу, саламандр и бабочек. С тех пор прошло только десян*
лет, но все это как будто происходило в другой жизни, в давние
времена, когда людское существование текло спокойно и разни
валось органически, когда все совершалось в естественной по
следовательности, с самого младенчества. Война это перевср
нула: начиная с 1914 года мы живем обрывками одной жиши.
обрывками второй и третьей жизни; они друг с другом не спи
заны, да мы и не можем их связать. Поэтому мне не так уж труп
— + 436 + —
но понять Изабеллу с ее многообразными жизнями. И ей, пожа-
пуй, это даже легче дается, чем нам: когда она живет в одной
жизни, она забывает обо всех остальных. У нас же все идет впе-
ремежку: детство, оборванное войной, годы голода и обмана,
юлы в окопах, жажда жизни — от всего этого что-то осталось
и тревожит душу. От всего этого нельзя просто отмахнуться.
Неожиданно всплывает оно на поверхность вновь и вновь, не-
примиримое в своих противоречиях: безоблачное небо детства
и опыт убийства, погибшая юность и цинизм преждевременно-
ю познания.
IV
Мы сидим в конторе и ждем Ризенфельда. Ужинаем горохо-
вым супом такой густоты, что разливная ложка стоит торчком,
на второе едим мясо из того же супа: свиные ножки, свиные
уши, кроме того, каждому достается по очень жирному куску
•ниного брюха. Есть жирное нам необходимо, чтобы предо-
хранить свой желудок от действия алкоголя — сегодня мы
ни в коем случае не должны опьянеть раньше, чем Ризенфельд.
Поэтому старая фрау Кроль сама готовила и заставила нас
с весть в качестве десерта еще по куску жирного голландского
сыра. Ведь на карту поставлена вся будущность фирмы. Мы
цолжны вырвать у Ризенфельда солидную партию гранитных
Н1ыб, если бы даже ради этого пришлось ползти перед ним
ни коленях до самого дома. Мрамор, песчаник и ракушечник
v нас еще есть, но гранита, этого траурного деликатеса, ужасно
не хватает.
Генриха Кроля мы предусмотрительно устранили. Эту услугу
ним оказал гробовщик Вильке. Мы дали ему две бутылки водки,
и он пригласил Генриха перед ужином на партию ската с бес-
платной выпивкой. Генрих и попался на эту удочку: если мож-
но что-либо получить даром, он не в силах устоять и уж тогда
iii.cr без удержу. Кроме того, как всякий убежденный национа-
•ист, он считает себя завзятым кутилой, который может выпить
• колько угодно. На самом деле он способен выдержать очень
немного и пьянеет сразу. Кажется, всего несколько минут назад
пн был готов самолично изгнать социал-демократов из рейхста-
• II, а через мгновение уже храпит, раскрыв рот, и даже коман-
К1Й «Встать, бегом марш!» его не разбудить,,особенно если он,
хак мы сегодня подстроили, выпьет водки на пустой желудок.
‘ сйчас он благополучно спит в мастерской Вильке, в одном
и । его дубовых гробов, покоясь на мягких опилках. Из особой
• торожности мы не перенесли Генриха на его собственную по-
— + 437 + —
стель, так как он мог бы при этом проснуться. Сам Вильке си-
дит этажом ниже, в ателье нашего скульптора Курта Баха, и игра-
ет с ним в домино — игру эту оба любят за то, что при ней мож-
но очень долго думать. Они допивают водку, оставшуюся после
того, как Генрих свалился с ног,— Вильке потребовал отдать
ему эту бутылку и еще одну непочатую в качестве гонорара.
За партию гранита, который мы намерены вырвать у Ризен-
фельда, мы, конечно, заплатить вперед не можем. Таких денег
нам сразу не собрать, а держать их в банке тоже было бы безу-
мием: они растаяли бы, как снег в июне. Поэтому мы намерены
выдать Ризенфельду вексель сроком на три месяца. Другими
словами, мы намерены приобрести гранит почти даром.
Разумеется, Ризенфельд не должен терпеть убыток. Эта акула,
плавающая в море человеческих слез, стремится заработать,
как и всякий честный делец. Поэтому он должен тот вексель,
который получит от нас, дисконтировать в своем или нашем
банке. Банк констатирует, что Ризенфельду мы обеспечиваем
кредит в той сумме, которая в векселе указана, возьмет с него
какой-то процент и оплатит вексель. А проценты за учет мы
сейчас же Ризенфельду вернем. Таким образом, он полностью
получит деньги за свой гранит, как будто мы ему сразу их отдали.
Но и банк ничего на этом не теряет. Он тут же передаст вексель
государственному банку, который тоже выплатит ему деньги,
как были выплачены деньги Ризенфельду. Только в государ
ственном банке вексель будет лежать, пока не истечет срок и он
будет представлен к оплате. Насколько ничтожной окажется
его ценность тогда, можно себе представить!
Всем этим фокусам мы научились лишь с 1922 года. До того
времени мы работали, как Генрих Кроль, и чуть не обанкротились
Когда мы распродали почти весь свой запас надгробий и, к наше
му удивлению, ничего взамен не приобрели, кроме обесценен
ных счетов в банке да нескольких чемоданов с денежными зшг
ками, которые даже не годились на то, чтобы оклеить стены
нашей конторы, мы решили как можно скорее продавать наши
памятники и тут же приобретать новые материалы, однако ин
фляция без труда всякий раз обгоняла нас. Проходило слишком
много времени, пока мы получали деньги с покупателей, а курс
падал.так быстро, что даже самая выгодная сделка приводили
к убыткам. И только когда мы стали платить векселями, нам
удается кое-как держаться. Сейчас заработок наш ничтожен,
но хватает хотя бы на жизнь. Подобным же образом в Германии
финансируется каждое предприятие, и государственный банк
— 4* 438 4* —
вынужден печатать все больше бумажных денег, вследствие чего
курс падает все стремительнее. Но правительству это, видимо,
юже на руку — таким образом оно освобождается от всех сво-
их государственных долгов. Разоряются при этом люди, оказав-
шиеся не в состоянии оплачивать свои покупки векселями, люди,
имеющие какую-то собственность и вынужденные продавать
гс, мелкие торговцы, рабочие, рантье, чьи сбережения и бан-
ковские кредиты тают на глазах, чиновники и служащие, суще-
< । вующие на заработную плату, на которую уже нельзя купить
иже пару новых башмаков. А наживаются на всем этом спекуляц-
ии, валютные магнаты, иностранцы — они за несколько долла-
ров, крон или злотых могут приобретать все что угодно,— а так-
крупные предприниматели, фабриканты биржевые дельцы,
лкции и ценности которых растут безгранично. Эти все приоб-
рпают чуть не даром. Происходит грандиозная распродажа чест-
ных доходов, сбережений, порядочности. Хищники кружат по-
всюду, и только тот, кто имеет возможность делать долги,
। насается от них. Они исчезают сами собой.
Именно Ризенфельд всему этому научил нас в последнюю
минуту перед нашим банкротством и тоже сделал паразитами
неликого разорения. Он принял от нас первый трехмесячный
пиксель, хотя мы тогда и не смогли бы гарантировать простав-
ленную там сумму. Но Оденвельдский завод обеспечивал век-
сель, и это решало дело. А мы были, конечно, глубоко благодар-
ны Ризенфельду.
И когда он приезжали в Верденбрюк, мы старались развле-
кать его, словно он индийский раджа,— насколько в Верден-
Оркже вообще можно развлечь раджу. Курт Бах, наш скульп-
|ор, написал его портрет в красках, мы вставили его в стильную
рамку, крторую позолотили настоящим золотом, и торжествен-
но преподнесли ему. Но портрет его не порадовал: Курт сделал
ею похожим на кандидата и священника, а на него-то наш гость
походить отнюдь не желает. Наоборот, ему хочется произво-
дить впечатление загадочного соблазнителя, и он считает, что
имеет такой вид,— разительный пример самообольщения при
юрчащем вперед брюшке и коротких кривых ножках. Но кого
не поддерживает самообольщение! Разве и я, при самых зауряд-
ных способностях, не лелею мечту — особенно по вечерам,—
•но достигну большего и благодаря развитию моего таланта на-
конец найду издателя для моих произведений? И кто первый
просит камнем в кривые ноги Ризенфельда, особенно если они
— + 439 Ф —
(что в наше время особенно важно) прикрыты брюками из на-
стоящего английского сукна!
— Что мы с ним будем делать, Георг?— спрашиваю я.— У нас
нет никаких развлечений! Простой попойкой Ризенфельда не убла-
жишь. У него слишком богатая фантазия и беспокойный харак-
тер. Он хочет видеть и слышать что-нибудь интересное, а если
можно, то и пощупать. Однако с выбором дам дело обстоит пря-
мо-таки безнадежно. А две-три хорошенькие женщины, которых
мы знаем, едва ли захотят слушать целый вечер Ризенфельда в ро-
ли Дон-Жуана 1923 года. Готовность помочь и понимание можно,
к сожалению, найти лишь у некрасивых и пожилых особ.
Георг усмехается:
— Не знаю даже, хватит ли нашей наличности на сегодняшний
вечер! Когда я вчера брал деньги, я ошибся относительно курен
доллара — почему-то решил, что остался утренний. А когда опуб
ликовали двенадцатичасовой, уже было поздно. Банк запирает
ся по субботам в полдень.
— Зато сегодня ничего не изменилось.
— В «Красной мельнице» уже изменилось, сын мой. Там
по воскресеньям опережают курс доллара на два дня. Одному Бо
гу ведомо, сколько будет стоить сегодня вечером бутылка вина!
— И Богу это неведомо,— отвечаю я.— Неведомо даже cir
мому владельцу. Он устанавливает цены, только когда зажиги
ют электричество. Почему Ризенфельд не любит искусство -
живопись, музыку, литературу? Это обошлось бы гораздо
дешевле. Вход в музей до сих пор стоит двести пятьдесят марок
За эту цену мы в течение долгих часов могли бы показывать ему
картины и гипсовые головы. Или музыка. Сегодня органный
концерт национальной музыки в церкви Святой Катарины.
Георг фыркает.
— Ну да,— заявляю я.— Конечно, нелепо представлять сеОг
Ризенфельда, который слушает орган, но почему бы ему не ли»
бить хоть оперетку и легкую музыку? Мы могли бы повести ею
в театр — все-таки дешевле, чем этот проклятый ночной клуб
— Вот он идет,— говорит Георг — Спроси его.
Мы открываем дверь. В еще светлых вечерних сумерках Ри
зенфельд плывет вверх по лестнице. Волшебство весеннего ш
ката не оказало на него никакого действия, это мы видим epn iy
Мы приветствуем его с притворно товарищеским воодушеил?
нием. Ризенфельд это замечает, косится на нас и плюхаенм
в кресло.
— Бросьте ваши фокусы,— ворчит он по моему адресу.
— Ф 440 4* —
Да я уж и так решил бросить,— отвечаю я.— Но только
мне фудно. Ведь то, что вы называете фокусами, в других мес-
1.1 х называют хорошими манерами.
11о лицу Ризенфельда пробегает короткая и злая усмешка.
- На хороших манерах нынче далеко не уедешь.
— Нет? А на чем же?— спрашиваю я, чтобы заставить его
•ч.к казаться.
Нужно иметь чугунные локги и резиновую совесть.
— Но послушайте, господин Ризенфельд,— примирительно
.иворит Георг,— у вас же у самого лучшие манеры на свете! Мо-
»г| быть, не лучшие — с буржуазной ючки зрения... Но, бес-
имрно. очень эле1 антные...
Да? Очень рад, если вы не ошибаетесь!— Несмотря
ил i вое раздражение. Ризенфельд, видимо, польщен.
У него манеры разбойника,— вставляю я именно те слова,
»<иорых ждет от меня Георг. Мы разыгрываем эту комедию,
••• репетируя, словно знаем ее наизусть.— Или, скорее, пирата.
• м»жалению, он имеет благодаря лому успех.
При упоминании о разбойниках Ризенфельд cneiKa вздраги-
ic । — пуля проле тела слишком близко. Но сравнение с пира-
ом примиряет его. Что и требовалось. leopi достаем бутылку
• 1кп с полки, на которой стоят фарфоровые ашелы, и налива-
। < шкапчики.
За что будем пить?— спрашивает он.
обычно пыог за здоровье и успехи в делах. Нам пить и за
и за другое довольно i рудно. Ризенфельд слишком чувстви-
icn: он утверждает, чго для фирмы по установке надгробий
ни юлько парадокс, в таком тосте за успехи таится и поже-
н11ie. । гобы как можно больше людей умерло. Можно было бы
о i e выпи гь за войну и холеру. Поэтому мы теперь предостав-
ил формулировку ему.
( hi искоса смо1рш на пас, держа в руке стакан, однако мол-
"I После паузы вдруг бросает в полумрак комнаты:
А чго такое, в сущности, время?
Iropi удивленно ставит на стол свой стаканчик.
Нерен жизни,— отвечаю я невозмуihmo. Дюму опышому
unci тику не поймать меня на удочку. Мы знаем ли нлучки.
I* мром я состою членом клуба поэтов города Верденбрюка:
и к «проклятым вопросам» привыкли.
Ни Ризенфельд на меня не обращает внимания.
А вы что думаете на этот счет, господин Кроль?— спра-
iiiii.iei ОН.
— Я ведь человек обыкновенный,— говорит Георг.— Ваше
здоровье!
— Время,— настойчиво продолжает Ризенфельд,— время —
это неудержимое течение, а не наше паршивое время! Время —•
медленная смерть.
Теперь я ставлю стаканчик на стол.
— Давайте, пожалуй, зажжем свет,— говорю, я.— Что у вас
было на ужин, господин Ризенфельд?
— Попридержите язык, когда разговаривают взрослые,— от
вечает Ризенфельд, и я замечаю, что я чего-то не уловил. Он
не хотел нас ошарашивать, он вполне искренен. Кто знает, что
с ним сегодня под вечер произошло! Мне хотелось ответить
ему, что время весьма важный фактор для того векселя, кото
рый ему предстоит подписать, но я предпочитаю допить свой
стакан.
— Мне сейчас пятьдесят шесть,— продолжает Ризсн
фельд.— Но я еще отлично помню то время, когда мне было
двадцать, как будто прошло всего несколько лет. А куда все эю
девалось? Что происходит? Просыпаешься, и вдруг оказывае!
ся, что ты — старик. Как вы это ощущаете, господин Кроль?
— Примерно также,— миролюбиво отвечает Георг.— Miiv
сорок, а кажется, будто все шестьдесят. Но тут виновата войi lit
Он врет, чтобы поддержать Ризенфельда.
— А у меня иначе,— заявляю я, чтобы тоже внести в разго
вор свою лепту.— И тоже из-за войны. Когда я пошел на фрош,
мне было семнадцать, теперь мне двадцать пять, а ощущение*
такое, словно и сейчас еще семнадцать. Семнадцать и семьдс
сят. Служба в армии украла у меня мою молодость.
— У вас дело не в войне,— возражает Ризенфельд, который,
видимо, не хочет сегодня принимать меня в расчет, ибо время,
или медленная смерть, еще не так быстро настигает меня, кин
его.— Вы просто умственно отстали. Наоборот, война помоит
вам преждевременно созреть; если бы не она, вы и теперь были
бы на уровне двенадцатилетнего.
— Спасибо,— говорю я.— Вот это комплимент! В двенадщнь
лет каждый человек — гений. Он теряет свою оригинальное!и
лишь с наступлением половой зрелости, которой вы, гранитный
Казанова, придаете столь преувеличенное значение. А она
довольно унылый суррогат утраченной свободы духа.
Георг снова наливает нам. Мы видим, что вечер обепннч
быть тяжким. Необходимо извлечь Ризенфельда из бездн миро
вой скорби, ибо у нас нет ни малейшей охоты обмениваться фн
лософскими пошлостями. Больше всего хотелось бы, сидя noil
— Ф 442 Ф —
маштаном, спокойно и безмолвно распить бутылку мозельского,
имссто того чтобы в «Красной мельнице» оплакивать вместе
с Ризенфельдом утраченные им годы зрелой мужественности.
— Если вас интересует реальность времени,— замечаю
и с тайной надеждой,— то я могу ввести вас в некое объедине-
ние, где участвуют только специалисты по этому вопросу,
а именно — в клуб поэтов нашего возлюбленного родного города.
Писатель Ганс Хунгерман развернул эту тему в еще не напеча-
।анной книге, где собрано около шестидесяти стихотворений.
Мы можем сейчас же туда отправиться; они собираются каждую
субботу, а потом следует весьма приятная неофициальная часть.
— Дамы там присутствуют?
— Конечно, нет. Женщины, пишущие стихи, все равно что
считающие лошади. Разумеется, за исключением последова-
1ельниц Сафо.
— А из чего же тогда состоит неофициальная часть?— впол-
не логично осведомляется Ризенфельд.
— Ругают других писателей. Особенно тех, кто имеет успех.
Ризенфельд презрительно хрюкает. Я уже впадаю в уныние,
но в эту минуту у Вацеков в доме напротив вспыхивает окно,
i /ювно освещенная картина в темном музее. Мы видим Лизу
|<нозь занавески. Она одевается, но пока стоит в одном бюст-
тльтере и очень коротких белых шелковых трусиках.
Ризенфельд издает носом короткий свист, точно сурок. Его
мимической меланхолии как не бывало. Я встаю, чтобы вклю-
чи п> свет.
— Не зажигайте,— просит он сопя.— Неужели вы совершен-
ии не чувствуете поэзии?
Он подкрадывается к окну. Лиза начинает надевать через го-
нту весьма узкое платье. Она извивается, словно змея. Ризен-
фельд сопит очень громко.
— Вот соблазнительное создание! Черт побери, какой зад!
Мечта! Кто это?
- Купающаяся Сусанна,— поясняю я. Мне хочется деликат-
но дать ему понять, что мы сейчас играем роль тех похотливых
• |«рцев, которые подглядывают за ней.
— Вздор!— Путешественник с эйнштейновским комплексом
не в силах оторваться от золотистого окна.— Как ее зовут, хо-
•ел бы я знать.
— Понятия не имею. Мы видим ее впервые. Сегодня в пол-
ни н> она еще не жила там.
— В самом деле?
Лиза наконец надела платье и разглаживает его руками,
За спиной Ризенфельда Георг наливает себе и мне. Мы быстро
выпиваем наши стаканчики.
— Породистая женщина,— говорит Ризенфельд, который
словно прилип к окну.— Настоящая дама, сразу видно. Вероя i
но, француженка.
Насколько нам известно, Лиза родом из Богемии.
— Может быть, это мадемуазель де ла Тур,— отвечаю я, что
бы еще больше разжечь Ризенфельда.— Я вчера где-то тут слы
шал эту фамилию.
— Вот видите!— Ризенфельд на мгновение поворачивается
к нам.— Я же сказал — француженка! Сразу видишь — что jr
ne sais pas quoi!’ Вы не находите, господин Кроль?
— Вы знаток — вам и карты в руки, господин Ризенфельд!
Свет в комнате Лизы гаснет. Ризенфельд опрокидывает вод
ку в свое судорожно сжавшееся горло и снова прилипает лицом
к стеклу. Через некоторое время в дверях появляется Ли на
и идет по улице. Ризенфельд смотрит ей вслед.
— Какая походка! Волшебство! Она не семенит, она делает
большие шаги. Настоящая пантера, и полная, и стройная! Если
женщина семенит, в ней всегда разочаровываешься. Но эта -
за эту я даю гарантию!
В то время как он восхищается полной и стройной пантерой,
я спешно пропускаю еще стаканчик. Георг, безмолвно ухмылм
ясь, снова опустился в кресло. Ризенфельд оборачивается
к нам. Лицо его светится в сумраке, словно бледная луна.
— Свету, господа! Чего мы еще ждем! Ринемся в жизнь!
Мы следуем за ним в сумраке теплой ночи. Я смотрю на сю
лягушечью спину. Если бы я мог так же легко вынырнуть из гл у
бин моей мрачности, как этот мастер превращений, с зависп.и»
думаю я.
В «Красной мельнице» яблоку негде упасть. Мы получаем
столик возле самого оркестра. Музыка и без того играет очень
громко, но за нашим столом кажется просто оглушительной
Сначала мы кричим друг другу на ухо свои замечания, псп ом
довольствуемся знаками, словно мы трио глухонемых. Танце
вальная площадка так набита, что люди едва движутся. Но Ри
зенфельда это не смущает. Он высмотрел за стойкой бара жен
щину в белом шелку и устремляется к ней. Гордо толкает он ее
своим острым пузом туда и сюда по танцплощадке. Она на io
* В ней есть изюминка (фр.).
иону выше своего кавалера и скучающим взглядом смотрит по-
исрх него в зал, где плавают воздушные шары. А внизу Ризен-
фельд пылает, как Везувий. Его демон овладел им.
— А что, если подлить ему водки в вино, чтобы он поскорее
насосался?— говорю я Георгу.— Ведь мальчик пьет, как дикий
осел! Мы ставим уже пятую бутылку. Если так пойдет дальше —
мы через два часа будем банкротами. По моим расчетам, мы
уже пропили несколько надгробий. Надеюсь, он не притащит
к нашему столику это белое привидение, не то нам и ее придет-
ся поить.
Георг качает головой.
— Это барменша. Ей придется вернуться за стойку.
Снова появляется Ризенфельд. Он красен и вспотел.
— Что все это перед волшебной силой фантазии,— орет он
сквозь шум.— Осязаемая действительность? Пусть! Но где же
поэзия? Вот сегодня вечером — темнеющее небо и раскрытое
окно, тут можно было помечтать! Какая женщина!.. Вы пони-
маете, что я хочу сказать?
— Ясно,— отвечает Георг.— То, чего не можешь заполучить,
всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит ро-
мантика и идиотизм человеческой жизни. Ваше здоровье, Ри-
чепфельд.
— Нет, я не рассуждаю так грубо,— орет Ризенфельд, стара-
ис1» перекричать фокстрот «Ах, если б Петер это знал!».— Мои
чувства деликатнее.
— Я тоже,— кричит Георг.
— Я имею в виду нечто более утонченное!
— Ладно, какое хотите утончение!
Музыка звучит в мощном крещендо. Танцевальная площадка
мажется жестянкой с пестрыми сардинками. Я вдруг цепенею
и неожиданности: стиснутая лапами какой-то обезьяны в муж-
ком костюме, ко мне приближается справа, сквозь толпу тан-
цующих, моя подруга Эрна. Она меня не видит, но я еще изда-
111 узнаю ее рыжие волосы. Без всякого стыда виснет она
на плече типичного молодого спекулянта. Я продолжаю сидеть
неподвижно, но у меня такое ощущение, словно я проглотил
ручную гранату. Вон она танцует, эта бестия, которой посвяще-
ны целых десять стихотворений из моего ненапечатанного
борпика «Звездная пыль», а мне она уже целую неделю моро-
чит । олову, будто у нее было легкое сотрясение мозга и ей за-
прещено выходить. Она-де в темноте упала. Упала, да,
•чо па грудь этого юнца; он в двубортном смокинге, на лапе, ко-
lopon он поддерживает крестец Эрны, поблескивает кольцо
— + 445 + —
с печаткой. А я, болван, еще сегодня послал ей под вечер бу кг i
розовых тюльпанов из нашего сада и стихотворение в три стро
фы под названием «Майская всенощная Пана». Что, если они
прочитала его спекулянту! Я прямо вижу, как оба они извини
ются от хохота.
— Что с вами?— вопит Ризенфельд.— Вам нехорошо?
— Жарко!— ору я в ответ и чувствую, как струйки пота теку i
у меня по спине. Я в ярости. Если Эрна обернется, она увидит,
что лицо у меня красное и потное, а мне хотелось бы сейчвс
во что бы то ни стало иметь вид надменный, холодный и не ти
висимый, какой и подобает иметь человеку из высшего общее г
ва. Быстро провожу носовым платком по лицу. Ризенфельд бе i
жалостно ухмыляется, Георг это замечает.
— Вы тоже здорово вспотели, Ризенфельд,— заявляет он.
— Ну, у меня это другое! Этот пот — от жажды жизни,
кричит Ризенфельд.
— Это пот улетающего времени,— язвительно каркаю я и чув
ствую, как испарина солеными струйками сбегает в уголки рта.
Эрна совсем близко. Блаженным взглядом смотрит она на ор
кестр. Я придаю своему лицу выражение высокомерия и улыбаюсь
слегка насмешливо и удивленно, а воротничок мой уже размяк.
— Да что это с вами?— вопит Ризенфельд.— Прямо кенгуру
лунатик.
Я игнорирую его. Эрна обернулась. Я равнодушно разгляди
ваю танцующих, потом как будто случайно замечаю ее и с тру
дом узнаю. Небрежно поднимаю два пальца для приветствия
— Он спятил,— вопит Ризенфельд между синкопами фою
трота «Отец небесный».
Я не отвечаю. Я буквально лишился дара речи. Эрна мсни
просто не видит.
Наконец музыка прекратилась. Площадка для танцев мед
ленно пустеет. Эрна исчезает в одной из ниш.
— Вам сколько — семнадцать или семьдесят?— орет Ри ten
фельд.
Так как именно в это мгновение музыка смолкает, его вопрос
разносится по всему залу. Несколько десятков людей смотри!
на нас, и даже сам Ризенфельд оторопел. Мне хочется бысцю
нырнуть под стол, но потом приходит в голову, что ведь прису I
ствующие могут это просто принять за обсуждение торговой
сделки, и отвечаю холодно и громко:
— Семьдесят один доллар за штуку и ни центом меньше.
Моя реплика немедленно вызывает у публики интерес.
— 4 446 4
— О чем речь?— осведомляется сидящий за соседним столи-
ком человек с лицом младенца.— Всегда интересуюсь хорошим
юпаром. Разумеется, за наличные. Моя фамилия Ауфштейн.
— Феликс Кокс,— представляюсь я в ответ, я рад, что у ме-
ня есть время собраться с мыслями.— А товар — двадцать фла-
конов духов. К сожалению, вон тот господин уже купил их.
— Ш... ш...— шепчет искусственная блондинка.
Представление началось. Конферансье несет какую-то чушь
и иштся, что его остроты не доходят. Я отодвигаю свой стул
и прячусь за Ауфштейном; почему-то конферансье, атакующие
публику, всегда избирают своей мишенью именно меня, а сего-
IIIя на глазах у Эрны это было бы позором.
Все благополучно. Конферансье сердито уходит; и кто же по-
инляется вдруг вместо него в белом подвенечном платье и под
иуплыо? Рене де лаТур. Со вздохом облегчения я усаживаюсь,
кпк сидел до конферансье.
Рене начинает свой дуэт. Скромно и стыдливо, высоким со-
прано выводит она несколько куплетов в роли девственницы —
iy г же звучит бас жениха, и это вызывает сенсацию.
— Как вы находите эту даму?— спрашиваю я Ризенфельда.
— Дама хоть куда...
— Хотите с ней познакомиться? Это мадемуазель де ла Тур.
Ризенфельд смущен.
— Ла Тур? Вы же не будете уверять меня, что эта нелепая иг-
ра природы и есть та чародейка, которую я видел от вас в окне
нпнротив?
Я решаю утверждать именно это, чтобы посмотреть, как он
Пудст реагировать, и вдруг вижу вокруг его слоновьего носа не-
Н(> вроде ангельского сияния. Безмолвно тычет он большим
пальцем в сторону двери, потом бормочет:
— Вон она, там... Эта походка! Я сразу узнал ее!
Он прав. Лиза только что вошла. Ее сопровождают два по-
дия ых жулика, а она держится словно дама из высшего обще-
I на, по крайней мере, так считает Ризенфельд.
Кажется, она едва дышит и слушает речи своих кавалеров
надменно и рассеянно.
— Разве я не прав? Женщину сразу же узнаешь по походке!
— Женщин и полицейских,— усмехается Георг; но он тоже
«адгосклонно поглядывает на Лизу.
11ачинается второй номер программы. На танцевальной пло-
•цпдке стоит акробатка. Она молода, у нее задорное личико
и красивые ноги. Она исполняет акробатический танец с сальто,
юянием на голове и высокими прыжками. Мы продолжаем не-
— 4* 447 + —
заметно наблюдать за Лизой. Она делает вид, что охотнее всего
ушла бы отсюда. Конечно, это только комедия: в городе имеется
всего один ночной клуб, остальное — просто рестораны, кафе
или пивные. Поэтому здесь встречаешь каждого, у кого хватасн
денег, чтобы сюда прийти.
— Шампанского!— рявкает Ризенфельд голосом диктатора
Я вздрагиваю, Георг тоже встревожен.
— Господин Ризенфельд,— замечаю я,— здешнее шампан
ское ужасная бурда.
В это мгновение я чувствую, что с пола на меня смотрит чье
то лицо. Я с удивлением оглядываюсь и вижу танцовщицу, ко
торая так сильно перегнулась назад, что ее голова видна между
ногами. Ода вдруг кажется каким-то невероятно искривленным
карликом.
— Шампанское заказываю я! — поясняет Ризенфельд и ки
вает кельнеру.
— Браво!— восклицает лицо на полу.
Георг подмигивает мне. Он играет роль рыцаря, а я сущее I
вую для более неприятных вещей — так у нас договорено. 11о
этому он и отвечает:
— Если вы непременно хотите шампанского, Ризенфельд, нм
получите шампанское. Но, разумеется, вы наш гость.
— Исключено! Это я беру на себя! И больше ни слова!— Сей
час Ризенфельд прямо Дон-Жуан высшего класса. Он с удондг
творением смотрит на золотую головку в ведерке со льдом. Не
сколько дам сразу же выказывают живой интерес к нему. Я и i у i
не возражаю. Шампанское — это Эрне урок, она слишком сип
ро выбросила меня за борт. С удовлетворением пью за здорони
Ризенфельда, он торжественно отвечает мне тем же. Появлят
ся Вилли. Этого надо было ожидать: он тут завсегдатай. Ауф
штейн со своей компанией уходит, и нашим соседом станони>
ся Вилли. Он тут же поднимается и приветствует входящую
Рене де ла Тур. С ней рядом прехорошенькая девушка в вечер
нем туалете. Через мгновение я узнаю акробатку. Вилли нт1
знакомит. Ее зовут Герда Шнейдер, и она бросает пренебрежи
тельный взгляд на шампанское и на нас троих. Мы наблюдаем
не клюнет ли на нее Ризенфельд: тогда мы на этот вечер от не
го отделались бы; но Ризенфельд поглощен Лизой.
— Как вы думаете, можно ее пригласить потанцевать?
спрашивает он Георга.
— Я бы вам не советовал,— дипломатично отвечает Teopi, *
Но, может быть, нам позднее удастся как-нибудь с ней познмко
миться.
— Ф 448 Ф —
Он укоризненно смотрит на меня. Если бы я в конторе не за-
йти, будто мы не знаем, кто такая Лиза, все легко уладилось
(»ы Но разве можно было предвидеть, что Ризенфельд попадется
пл романтическую де ла Тур? А теперь вносить ясность в этот
вопрос уже поздно. Романтикам чужд юмор.
— Вы не танцуете?— спрашивает меня акробатка.
— Плохо. У меня нет чувства ритма.
— У меня тоже. Давайте все-таки попробуем?
Мы втискиваемся в сплошную массу танцующих, и она мед-
ICHHO несет нас вперед.
— Ночной клуб, трое мужчин и ни одной женщины — поче-
м\ это?— удивляется Герда.
— А почему бы и нет? Мой друг Георг уверяет, что если при-
шиншь женщину в ночной клуб, то тем самым толкаешь ее
।и то, чтобы она наставила ему рога.
— Кто это, ваш друг Георг? Тот вон, с толстым носом?
— Нет, лысый. Он сторонник гаремной системы и считает,
•по женщин выставлять напоказ не следует.
— Ну конечно... а вы?
— У меня никакой системы нет. Я как мякина, которую не-
сет ветер.
— Не наступайте мне на ноги,— замечает Герда.— Никакая
пы не мякина. В вас по крайней мере семьдесят кило.
Я приосаниваюсь. Нас как раз проталкивают мимо столика
)рны, и сейчас она, слава Богу, меня узнала, хотя ее голова ле-
жи г на плече спекулянта с перстнем и он вцепился в ее талию.
Какое тут, к дьяволу, соблюдение синкоп! Я улыбаюсь, глядя
«низ на Герду, и крепче прижимаю ее к себе. При этом наблю-
шю за Эрной.
От Герды пахнет духами «Ландыш».
— Лучше отпустите-ка меня,— говорит она.— Таким спосо-
бом вы все равно ничего не выиграете в глазах той рыжей дамы.
А ведь вы именно к этому и стремитесь, верно?
— Нет,— вру я.
— Вам надо бы совсем не обращать на нее внимания. А вы,
iomho вас загипнотизировали, все время глаз с нее не сводили,
। потом устраиваете вдруг эту комедию со мной. Господи, до че-
10 же вы еще неопытный в таких делах!
Однако я стараюсь сохранить на лице притворную улыбку:
1ОД|»ко бы Эрна не заметила, что я и тут сел в калошу.
— Ничего я не подстраивал,— пытаюсь я оправдаться.—
Просто мне сначала не хотелось танцевать.
Герда отстраняет меня.
— Ф 449 Ф —
— До кавалера вы тоже, как видно, не доросли! Давайте пре
кратим. У меня ноги болят.
Не объяснить ли ей, что я имел в виду совсем другое? Но кю
знает, куда все это опять заведет меня? Лучше уж попридержу
язык и проследую с высоко поднятой головой, хотя и пристм
женный, к нашему столу.
А тем временем алкоголь успел оказать свое действие. Teopi
и Ризенфельд уже перешли на «ты». Имя Ризенфельда
Алекс. Не пройдет и часа, как он и мне предложит переЙ1И
на «ты». Завтра утром все это будет, конечно, забыто.
Я сижу в довольно унылом настроении и жду, когда Ризсн
фельд наконец устанет. Танцующие пары скользят мимо в лс
нивом потоке шума, влекомые жаждой телесной близости
и стадным чувством. С вызывающим видом проплывает мимо
Эрна. Она меня игнорирует, Герда подталкивает меня.
— А волосы-tq крашеные,— заявляет она, и у меня возникаем
отвратительное чувство, что она хочет меня утешить.
Я киваю, мне кажется, я выпил достаточно. Ризенфельд нм
конец подзывает кельнера. Лиза ушла — теперь и его тянем
прочь отсюда.
Пока мы рассчитываемся, проходит некоторое время. Ризсн
фельд действительно платит за шампанское; я боялся, что он
бросит нас с этими четырьмя заказанными им бутылками. Мм
прощаемся с Вилли, Рене де ла Тур и Гердой Шнейдер. И без ю
го пора расходиться: музыканты укладывают инструменты. У нм
хода и в гардеробе давка.
Вдруг я оказываюсь рядом с Эрной. Ее кавалер, огребаясь
длинными руками, пробивается к вешалке, чтобы достать <ч»
пальто. Эрна меряет меня с головы до ног ледяным взглядом.
— Так вот где мне пришлось поймать тебя! Вероятно, ты этою
не ожидал?
— Ту меня поймала?— Я опешил.— Да ведь это я тебя поймал*
— Ис какими типами! — продолжает она, словно не слыша
меня.— С какими-то кафешантанными певичками! Не прика
сайся ко мне. Кто знает, что ты уже успел подцепить!
Но я и не пытался к ней прикоснуться.
— Здесь я по делу. А ты как ты сюда попала?
— По делу?— Она резко хохочет.— По делу! Кто же скоп
чался?
— Основа государства — мелкий вкладчик,— отвечаю и,
и мне кажется, что это Очень остроумно.—Таких хоронят здесь
каждый день. Но на его надгробии — не крест, а мавзолей, чье
имя — биржа.
— 4* 450 + —
— И такому типу, такому гуляке я доверяла,— продолжает
Эрна, как будто я опять ничего не ответил.— Между нами все
кончено, господин Бодмер!
Георг и Ризенфельд ведут в гардеробе бой за свои шляпы. Я ви-
жу, что Эрна все хочет свалить на меня, хотя я ни в чем не ви-
новат.
— Послушай,— возмущаюсь я,— а кто мне сегодня еще за-
ивил под вечер, что не может выходить из-за адской головной
боли? И кто отплясывал тут с толстым спекулянтом?
У Эрны белеет нос.
— Ах ты, низкий рифмоплет,— язвительно шипит она, слов-
но брызгая купоросом.— Списываешь стихи про покойников,
и уже вообразил себя невесть кем? Научись сначала прилично
срабатывать, чтобы вывести даму в свет. Только и знаешь, что
свои пикники на лоне природы! «Под шелковые майские знаме-
ни»! Удивительно, как это я не рыдаю от сострадания!
«Шелковые знамена» — это цитата из моего стихотворения,
которое я сегодня послал ей. В душе я прямо-таки пошатнулся,
но на лице моем — усмешка.
— Не будем отклоняться,— заявляю я.— Кто пойдет отсюда
номой с двумя почтенными дельцами? А кто — с кавалером?
Эрна изумленно смотрит на меня.
— Что же, я должна, по-твоему, одна тащиться ночью по ули-
це, как ресторанная шлюха? За кого ты меня принимаешь? Ду-
маешь, мне очень приятно, чтобы со мной заговаривал каждый
мам? Ты что — спятил?
— Незачем было вообще являться сюда.
— Ах, так? Скажите пожалуйста! Ты уж намерен командо-
вать? Мне, видите ли, выход запрещен, а тебе можно шляться
тс угодно. Что еще прикажешь? Может, сесть тебе чулки вя-
тть?— Она язвительно хохочет.— Он, видите ли, лакает шам-
панское, а для меня хороша была и сельтерская да пиво или мо-
юдое вино — какая-нибудь паршивая кислятина?
— Не я заказал шампанское, а Ризенфельд!
— Конечно! Всегда святая невинность, эх ты, учитель! Знать
1Сбя больше не хочу! Не обременяй меня своим обществом!
От ярости я не в силах слова вымолвить. Подходит Георг
н отдает мне мою шляпу. Появляется и спекулянт Эрны. Па-
|И>чка удаляется.
— Слышал?— обращаюсь я к Георгу.
— Отчасти. Зачем ты споришь с женщиной?
— Да я не собирался спорить.
— 4* 451 4* —
Георг смеется. Как бы он ни был пьян, даже если бы пил ин
но ведрами, голова его всегда остается ясной.
— Не поддавайся им. Иначе пропадешь. И почему тебе iw
пременно хочется, чтобы ты оказался прав?
— Да,— отвечаю я,— почему? Вероятно, потому, что я ро
дился на немецкой земле. Разве у тебя никогда не бывает не
приятных объяснений с женщиной?
— Конечно, бывает. Но это не мешает мне давать другим по
лезные советы.
Свежий воздух подействовал на Ризенфельда, как удар мш
ким молотом.
— Давай будем на «ты»,— предлагает он мне.— Мы ведь бри
тья. Потребители смерти.— Его смех похож на лисий лай.
Меня зовут Алекс.
— Рольф,— представляюсь я в ответ, ибо отнюдь не намерен
называть свое честное имя «Людвиг» при этом пьяном брудер
шафте на одну ночь. Для Алекса и Рольф хорош.
— Рольф?— удивляется Ризенфельд.— Вот дурацкое ими!
И тебя всегда так зовут?
— Я имею право носить его в високосные годы и в послеслу
жебное время. Алекс — тоже ведь не Бог весть что.
— Ну, ничего,— великодушно соглашается он.— У меня данно
не было так хорошо на душе! Найдется у вас еще чашка кофе?
— Разумеется,— отвечает Георг.— Рольф у нас мастер пи
рить кофе.
Пошатываясь, проходим мы в тени церкви Девы Марин
и вступаем на Хакенштрассе. Впереди нас шагает, словно anci,
какой-то одинокий прохожий и сворачивает в наши ворота. Эю
фельдфебель Кнопф, который возвращается после еженощно
го инспекционного обхода пивнушек. Мы следим за ним и па
гоняеМ как раз в ту минуту, когда он мочится на черный
лиск, стоящий возле двери.
— Господин Кнопф,— заявляю я,— так не полагается.
— Вольно,— бормочет Кнопф, не поворачивая головы.
— Господин фельдфебель,— начинаю я снова,— так не поли
гается! Это же свинство! Ведь вы в собственной квартире не бу
дете этого делать?
Он слегка поворачивает голову.
— Что? Я должен мочиться в своей гостиной? Вы рехнулись/
— Да не в вашей гостиной! У вас дома отличная уборная. I In
чему же вы ею не воспользуетесь? Ведь до нее отсюда деси1И
метров не будет!
— + 452 + —
— Вздор!
Вы загрязняете красу нашей фирмы. Кроме того, соверша-
ir святотатство. Ведь это же памятник, предмет, так сказать,
пчщенный.
Он становится памятником только на кладбище,— заявля-
• । Кпопф и деревянной походкой идет к своей двери.
Добрый вечер, господа, наше вам.
()н делает небольшой поклон и стукается при этом затылком
• ।верной косяк. Затем, ворча, исчезает.
— Кто это?— спрашивает Ризенфельд, пока я ищу банку
кофе.
— Ваша противоположность. Пьяница абстрактный. Пьяни-
-I I без всякой фантазии. Не нуждается ни в какой помощи из-
|.це Ни в каких картинах, пробуждающих желание.
Вот ничтожество!— Ризенфельд усаживается у окна.—
Просто бочка с алкоголем. Человек живет мечтами. Вы этого
' шт не знаете?
Нет. Я еще слишком молод.
Вздор, вы не слишком молоды. Но вы продукт военного
оргмени — эмоционально незрелы и уже приобрели опыт убий-
। в.с
Мерси,— отвечаю я.— Ну как кофе?
Дурман, по-видимому, рассеивается. Мы опять перешли
>1.1 вы.
Как вы полагаете, та дама напротив уже вернулась до-
|«»н?—обращается Ризенфельд к Георгу.
Вероятно. Там ведь везде темно.
Но темно может быть и потому, что ее еще нет. Подождем
•вч колько минут?
Ну конечно.
Может быть, мы пока что обсудим наши дела,— говорю
। Ведь остается только подписать договор. А я тем временем
ipnnecy из кухни горячего кофе.
Выхожу и даю Георгу время обработать Ризенфельда. В та-
• и\ случаях лучше обходиться без свидетелей. Я сажусь на сту-
•• ивки лестницы. Из мастерской столяра Вильке доносится
'p.iii. Это, вероятно, все еще храпит Генрих Кроль, гак как
ни н»ке живет не там. Делец-националист здорово перепугает-
>|. когда очнется в гробу! Я подумываю о том, не разбудить ли
in. по я слишком устал, да и начинает светать — пусть такой
।pax для столь храброго вояки послужит как бы железистой
нпюй, которая его укрепит и напомнит ему, каков бывает фи-
• I । пакой бодрой и веселой войны. Я слежу за часами, жду
— + 453 + —
сигнала от Георга и смотрю в сад. Беззвучно поднимается yipn
с цветущих деревьев, словно с бледного ложа. В освещенном
окне напротив стоит фельдфебель Кнопф в ночной сорочку
и делает последний глоток из бутылки. Кошка трется о мои hoi и
Слава тебе Господи, думаю я, воскресенье прошло.
V
Женщина в трауре робко входит в ворота и нерешительно ос
танавливается среди двора. Я выхожу. Вероятно, она намерсчш
заказать надгробие, решаю я и спрашиваю:
— Хотите посмотреть нашу выставку?
Она кивает, но тут же спохватывается:
— Нет, нет, пока еще не нужно.
— Можете спокойно выбрать. Покуйать сейчас же не обя ш
тельно. Если хотите, я могу даже оставить вас одну.
— Нет, нет! Дело в том... Я только хотела...
Я жду. Торопить клиента в нашей профессии не имеет смысли
После паузы женщина поясняет:
— Это для моего мужа...
Я киваю и жду дальнейшего. При этом поворачиваюсь к ше
ренге маленьких бельгийских надгробий.
— Вот красивые памятники,— заявляю я, чтобы не молча и»
— Да, конечно, но только...
Она опять смолкает, на полуслове и смотрит на меня поч1Н
с мольбой...
— Я не знаю, разрешается ли....— наконец произносит она
сдавленным голосом.
— Что? Поставить надгробие? А кто же вам может запрети 11.?
— Дело в том, что могила не на кладбище...
Я смотрю на нее с удивлением.
— Священник не разрешает хоронить моего мужа на кладби
ще,— поясняет она торопливо, вполголоса и не глядя на меня
— Почему же он не разрешает?— продолжаю я удивляться
— Оттого что муж... он наложил на себя руки...— Она с тру
дом выговаривает слова.— Он покончил с собой. Не мог боль
ше вынести.
Она стоит и смотрит на меня неподвижным взглядом. Они
все еще испугана тем, что сказала.
— И вы говорите, его из-за этого не хотят хоронить на клал
бище?— спрашиваю я.
— Да, на католическом. В освященной земле.
— Но это же нелепость! — возмущаюсь я.— Его следует хо
ронить в земле, которая вдвойне освящена! Никто без крайней
— Ф 454 + —
«Черный обелиск»
нужды не лишит себя жизни. А вы вполне уверены, что они
не разрешат?
— Да. Так сказал священник.
— Священники много чего говорят, такое уж их ремесло. А гл*
же его хоронить, если не на кладбище?
— За пределами кладбища. По ту сторону стены. На неосни
щенной стороне. Или на городском кладбище. Но как это можно!
Там все лежат вперемешку.
— Городское кладбище гораздо красивее католического,
заявляю я.— А католики лежат и на городском.
Она качает головой.
— Нет, это не годится. Он был человек верующий. И вот ic
перь...— Ее глаза вдруг наполняются слезами.— Наверное, он
не сообразил, что не придется ему лежать в освященной земле’
— Он, должно быть, и не думал об этом. Но вы не огорчай
тесь из-за своего священника. Я знаю тысячи очень верующий
католиков, которые лежат не в освященной земле.
Она бросает быстрый взгляд на меня.
— А где же?
— На полях сражений в России и во Франции. Там все лежа!
вместе, в братских могилах — католики, евреи, протестанты, и
я не думаю, чтобы Господь Бог на это обижался.
— Там другое. Они пали на поле битвы. А мой муж...
Она плачет, уже не сдерживая себя. Слезы в нашем деле иг
избежим, но это какие-то другие, чем обычно. Да и сама жен
щина напоминает тощий снопик соломы: кажется, вот-вот счи
унесет ветром.
— Вероятно, он в последнюю минуту пожалел о том, что сл*
лал,— говорю я, лишь бы что-нибудь сказать.— Значит, ему не*
простится.
Женщина смотрит на меня. Она так изголодалась хотя Ом
по капельке утешения!
— Вы в самом деле так думаете?
— Конечно. Священник этого, разумеется, не знает. Зинн
только ваш муж. А сказать теперь уже не может.
— Священник уверяет, что смертный грех...
— Слушайте, сударыня,— прерываю я ее.— Бог гораздо мило
серднее священника, поверьте мне.
Теперь я понимаю, что ее мучает: не столько эта неосвяшсч!
ная могила, сколько мысль, что ее муж, как самоубийца, буди
теперь до скончания века гореть в геенне огненной и если Ом
его удалось похоронить на католическом кладбище он, быть мо
__ф 456 ф —
жег, обрел бы спасение и отделался несколькими сотнями ты-
i яч лет адского огня.
— Все случилось из-за этих денег,— продолжает она.— Они
|>ыли положены в сберкассу на пять лет, до совершеннолетия
ючери, поэтому он не мог снять их. Эти деньги — приданое мо-
ги дочери от первого брака. Муж был опекуном. А когда две
недели назад срок наконец истек и их можно было взять, они
шнеряли всякую цену; жених отказался. Он надеялся, что
ил них можно будет купить ей хорошее приданое. Еще два года
h i $ад их хватило бы, а теперь они ничего не стоят. Дочка все
и шкала. Он этого не вынес. Считал, что виноват: надо было во-
время позаботиться. Но ведь они были положены на срок. Так
проценты больше.
— Как же он мог позаботиться? Такие истории случаются
и наши дни на каждом шагу. Он же не был банкиром.
— Нет, бухгалтером. Соседи...
— Да плюньте вы на то, что говорят соседи. Всегда только
распускают злобные сплетни. Предоставьте все одному Госпо-
iv Богу.
Мои слова, я это чувствую, не очень убедительны, но что еще
можно сказать женщине при таких обстоятельствах? Уж, конеч-
но, не то, что я думаю на самом деле.
Она вытирает глаза.
— Зачем я все это вам рассказала... Какое вам дело? Простите
меня! Но ведь иной раз не знаешь, куда...
— Ничего,— говорю я,— мы привыкли. Ведь сюда приходят
||>лько те, кто потерял близких.
— Да... но не так...
— Нет, именно так,— поясняю я.— В наше печальное время та-
кие случаи происходят гораздо чаще, чем вы думаете. И всегда —
। людьми, у которых нет никакого выхода. С порядочными
•иодьми. Непорядочные — те выкручиваются.
Она смотрит на меня.
Вы считаете, что можно поставить памятник, хоть муж
н пуде г лежать в неосвященной земле?
Если у вас есть разрешение на гроб, то, разумеется, можно.
H i городском кладбище — бесспорно. Хотите, можете сейчас
। h i и робис выбрать, а когда все уладится — просто заберете его.
Она обводит глазами нашу продукцию, потом указывает
• । памятник, третий по величине.
А сколько этот стоит?
Вейла одно и то же. Никогда бедняки не спросят сразу,
м» и.ко стоит самый маленький, притом делают вид, будто это
__ф 457 + —
происходит из особого уважения к умершему и к смерти. Но они
считают неблаговидным прежде всего осведомляться о стоимо
сти самого дешевого памятника; а если потом все же выберу!
его — тогда другое дело.
Я тут ни при чем, но этот кусок камня стоит сто тысяч марок.
Она испуганно смотрит на меня усталыми глазами.
— Мы не можем купить такой дорогой, он стоит гораздо
больше, чем...
Конечно, больше, чем то, что у них осталось.
— Возьмите вот этот маленький,— предлагаю я,— или про
сто могильную плиту, а не камень. Видите, вон такую, она его
ит всего тридцать тысяч марок и очень красивая. Ведь вы про
сто хотите знать, где покоится ваш муж, и плита ничем не хуже
камня.
Она разглядывает плиту из песчаника.
— Да... Но...
У нее, вероятно, не хватает денег, чтобы заплатить за квартиру,
и все-таки ей не хочется покупать самый дешевый памятник -
как будто бедняге мужу теперь не все равно. Если бы она рань
ше отнеслась к нему более чутко и меньше хныкала вмеси»
с дочкой, он, может быть, еще жил бы на свете.
— Мы можем позолотить надпись,— замечаю я,— это при
даст плите очень почтенный и благородный вид.
— А за надпись надо платить отдельно?
— Нет, она входит в общую стоимость надгробия.
Я сказал неправду. Но ничего не могу с собой поделать: уж
очень эта женщина в своем черном платье похожа на жалкою
воробья. Если она теперь пожелает написать длинное изречс
ние из Библии — я сел в лужу: высечь его будет стоить дороже,
чем вся плита. Но она хочет только, чтобы написали имя, фами
лию и даты: 1875—1923.
Она вытаскивает из сумки когда-то измятые банкноты, кого
рые, как видно, были потом тщательно разглажены и связаны
в пачки. Я глубоко вздыхаю — плата авансом! Давно уж этою
у нас не бывало. Она серьезно отсчитывает три пачки. У нее
почти ничего не остается.
— Тридцать тысяч, проверьте, пожалуйста.
— Незачем. Я вижу. Все верно.
Должно быть, верно. Она столько раз их пересчитывала.
— Я хочу вам кое-что сказать,— заявляю я.— Мы поставим
вам, кроме того, цементное обрамление. Могила выгляди)
очень прилично, она как бы обведена границей.
Женщина боязливо смотрит на меня.
— Ф 458 Ф —
- Бесплатно,— уточняю я.
11о ее лицу словно пробегает отблеск робкой, грустной улыбки.
— С тех пор как это случилось, со мной в первый раз говорят
приветливо. Даже моя дочь... Она считает, что позор...
Женщина снова вытирает слезы. Я очень смущен и, мне ка-
♦ С1ся, похож на актера Гастона Мюнха в роли графа Траста
hi пьесы Зудермана «Честь», которая идет в городском театре.
’I । обы успокоиться, я наливаю себе, как только она уходит, гло-
|<»к водки. Потом вспоминаю, что Георг еще не вернулся
hi банка, где он ведет переговоры с Ризепфельдом, и начинаю
н<। юзревать самого себя: может быть, я так вел себя с этой жен-
• 11И11ОЙ, только чтобы подкупить Господа Бога? Одно доброе де-
к» в обмен на другое: обрамление могилы и надпись в обмен
на 1рехмесячный вексель Ризенфельду и солидный груз гранита?
• i.i мысль настолько подбадривает меня, что я наливаю себе
• inc моток водки. Потом вдруг замечаю на стенках обелиска
ic ня фельдфебеля Кнопфа, притаскиваю ведро воды, чтобы
• i\ смыть, и громко ругаюсь. Однако Кнопф спит в своей камор-
> с сном праведника.
Только шесть недель,— говорю я разочарованно.
I сорт смеется.
Вексель, принятый к оплате через шесть недель, не такая
v -к плохая вещь. Банк больше не хотел давать. Кто знает, как
ici тогда стоять доллар! Зато Ризенфельд обещал через ме-
UII опять заехать. Тогда мы сможем заключить новый договор.
Ты в это веришь?
I сорг пожимает плечами.
Почему бы и нет? Может быть, его привлечет Лиза. Он даже
панке мечтал о ней, как Петрарка о Лауре.
Хорошо, что он не видел ее при дневном свете и вблизи.
Это во многих случаях бывает хорошо.— Георг смущенно
мп 1кает и смотрит на меня.— Но при чем тут Лиза? Она дей-
।пи ।ельно очень недурна.
По утрам у нее уже бывают иной раз мешки под глазами!
II конечно, она не романтична. Этакая здоровенная женщина!
11е романтична?— Георг презрительно усмехается.— А что
ио шачит? Существует много сортов романтики. В здоровен*
•пи hi гоже есть своя прелесть.
Я смотрю на него испытующе. Уж не приглянулась ли она
м\ самому? В своих личных делах он удивительно скрытен.
Ризенфельд, конечно, понимает под романтикой приключе-
ние < дамой из высшего общества. Не интрижку с женой мясника.
— Ф 459 Ф —
Георг качает головой.
— Ав чем разница? Высший свет ведет себя в наши дни
вульгарнее, чем какой-нибудь мясник.
Георг у нас специалист по высшему свету. Он выписывас!
и читает «Берлинер тагеблат» — главным образом чтобы следить
за новостями из области искусства и из жизни светских кругов
Он превосходно информирован. Ни одна актриса не выйдет за
муж без того, чтобы он об этом не узнал; каждый нашумевший
развод в аристократической среде запечатлен в его памяти брил
лиантовыми буквами. Ни за что не спутает он партнеров, даже
после трех-четырех браков; он помнит все в точности, как буди»
в голове у него бухгалтерская книга. Он знает все театральные
постановки, читает всю критику о них, осведомлен обо всем,
что происходит на Курфюрстендамм, и не только это: он в курсе
международных событий, ему известны все кинозвезды и арист»»
кратические львицы — он читает киножурналы, и приятель врс
мя от времени посылает ему из Англии «Тетлер» и другую вели
косветскую периодику. И долго после такого чтения он кажется
просветленным. Сам он никогда не бывал в Берлине, а за грани
цей — только в качестве солдата во время войны с Францией. Ге
орг ненавидит свою профессию, но после смерти отца ему при
шлось взять дело в свои руки — Генрих для этого слишком
ограничен. Журналы и иллюстрации помогают ему переноси ih
неудачи и разочарования, это и его слабость, и его отдых.
— Вульгарная дама из высшего общества — для изысканным
знатоков,— говорю я,— не для Ризенфельда. У этого чугунном»
сатаны фантазия чувствительна, как мимоза.
— Ризенфельд! — На лице Георга появляется презрителыши
гримаса. Хозяин Оденвельдского завода с его банальным влече
нием к француженкам в глазах Георга — просто ничтожный вы
скочка. Что известно этому одичавшему мещанину, например,
о восхитительном скандале, разыгравшемся во время бракора i
водного процесса графини Гомбург? Или о последней премьере,
в которой выступает Элизабет Бергнер? Он даже фамилий м»
этих никогда не слыхал! Георг же и Готский календарь, и Слн
варь художников выучил чуть не наизусть.
— Собственно говоря, нам следовало бы послать Лизе бу
кет,— говорит он.— Она, сама того не зная, помогла нам.
Я снова пристально смотрю на него.
— Ну сам и посылай,— отвечаю я.— Лучше скажи мне,
включил Ризенфельд в заказ хоть один отполированный со всем
сторон памятник с крестом?
— Ф 460 Ф —
— Даже целых два. Вторым мы обязаны Лизе. Я обещал так
сю установить, чтобы он всегда был ей виден. Почему-то это
кажется ему важным.
— Мы можем поставить его в конторе, перед окном. Утром,
koi ла она встанет и солнце озарит его, он произведет на нее
и||ьнейшее впечатление. Я могу написать на нем золотыми
ьуквами «Memento mori!»*. А чем кормят сегодня у Эдуарда?
— Немецким бифштексом.
— Значит, рубленое мясо. Но отчего рубленое мясо — не-
мецкое кушанье?
— Оттого, что мы воинственный народ и даже в мирные вре-
мена разрубаем друг другу лица на дуэлях. От тебя пахнет вод-
кой. Почему? Ведь не из-за Эрны же?
— Нет. Оттого, что нам всем суждено умереть. Меня эта
мысль порой все же потрясает, хотя я узнал об этом уже доволь-
но давно.
— Уважительная причина. Особенно при нашей профессии.
\ знаешь, чего мне хочется?
— Конечно. Тебе хотелось бы быть матросом на китобойном
\ ню, или торговать копрой на Таити, или открывать Северный
но пос, исследовать леса Амазонки, сделаться Эйнштейном ли-
но шейхом Ибрагимом и чтобы в твоем гареме имелись женщи-
ны двадцати национальностей, в том числе и черкешенки, кото-
рые. говорят, так пылки, что их можно обнимать, только надев
нсбестовую маску.
— Это само собой разумеется. Но, кроме того, мне бы еще
хотелось быть глупым, лучезарно глупым. В наше время это ве-
зичайший дар.
— Глупым, как Парцифаль?
— Только чтобы поменьше от миссии спасителя. А просто
нсрующим, миролюбивым здоровяком, буколически глупым.
— Пойдем,— говорю я.— Ты голоден. Наша беда в том, что
нсг в нас ни настоящей глупости, ни истинной разумности. А веч-
пн — серединка на половинку, сидим, как обезьяны, между дву-
мн ветками. От этого устаешь, а иногда становится грустно. Че-
юиек должен знать, где его место.
— В самом деле?
— Нет,— отвечаю я.— От этого он становится только груз-
•«•<• и толще. А что, если бы нам сегодня вечером пойти послу-
•I HI. музыку — в противовес походу в «Красную мельницу»?
i \ is । исполнять Моцарта.
11омни о смерти! (лат.).
— + 461 Ф —
— Сегодня я собираюсь лечь пораньше,— заявляет Георг,
вот мой Моцарт. Иди один. Прими натиск добра в мужествен
ном одиночестве. Добро тоже таит в себе опасность, оно можем
причинить больше разрушений, чем простенькое зло.
— Да,— соглашаюсь я. И вспоминаю утреннюю женщину,
похожую на воробья.
Близится вечер. Я читаю новости о семейных событиях и нм
резаю извещения о смерти. Это всегда возвращает мне веру
в человечество, особенно после тех вечеров, когда нам прихо
дится угощать наших поставщиков и агентов. Если судии*
по извещениям о смерти и некрологам, то можно вообрази ih.
что человек — абсолютное совершенство, что на свете сущесч ну
ют только благороднейшие отцы, безупречные мужья, пример
ные дети, бескорыстные, приносящие себя в жертву матери,
всеми оплакиваемые дедушки и бабушки, дельцы, в сравнении
с которыми даже Франциск Ассизский покажется беспредела
ным эгоистом, любвеобильнейшие генералы, человечнейшие
адвокаты, почти святые фабриканты оружия — словом, если не
рить некрологам, оказывается, на земле живут целые стаи аше
лов без крыльев, а мы этого и не подозревали. Любовь, которой
на самом деле встречается в жизни очень редко, после чьей-ни
будь смерти начинает сиять со всех сторон и попадается на каж
дом шагу. Только и слышишь о первоклассных добродетели!,
заботливой верности, глубокой религиозности, высокой жср|
венности; знают и оставшиеся, что им надлежит испытьнннь
горе сокрушило их, утрата невозместима, они никогда не зпОу
дут умершего! Просто воодушевляешься, читая такие сломи,
и следовало бы гордиться, что принадлежишь к породе гу
ществ, способных на столь благородные чувства.
Я вырезаю извещение о смерти булочника Нибура. Он изобри
жается в нем кротким, заботливым, любящим супругом и о|
цом. А я сам видел, как фрау Нибур с распущенными косами
мчалась прочь из дому, когда кротчайший господин Нибур
гнался за ней и лупил ее ремнем от брюк; и видел руку его гм
на Роланда, которую заботливый папаша сломал, вышвырпуи
его в приступе бешенства из окна второго этажа. И когда лот
изверга наконец хватил удар и он во время выпечки утреннн!
булочек и пирожков на дрожжах наконец упал, его смерн*
должна бы показаться великим благодеянием для согбенной го|фм
вдовы; но она вдруг перестает в это верить. Все содеянное 11и
буром сгладила смерть. Покойный мгновенно превращает
в идеал отца и мужа. Люди и без того наделены удивительным
— + 462 ф —
।.ipo.M лгать и обманывать себя, но этот дар особенно блистает
и < |учаях смерти, и человек называет его пиететом. Самое удиви-
н । ьное, что он очень скоро сам проникается верой в свои утверж-
1СНИЯ, как будто сунул в шляпу крысу, а потом сразу вытащил
• и iyaa белоснежного кролика.
Испытала это магическое превращение и фрау Нибур, когда
in i одяя пекаря, ежедневно избивавшего ее, втащили по лестни-
це в квартиру. Но вместо того, чтобы на коленях благодарить
I испода Бога за то, что она наконец избавилась от мучителя,
и ней после его смерти немедленно началось просветление его
•hpa за. Рыдая, бросилась она на труп супруга, и с того дня
ц । глазах ее не просыхают слезы. Сестре же, которая осмели-
। in» ей напомнить и постоянные побои, и неправильно срос-
шийся руку Роланда, она с возмущением заявила, что все это
к 1очи и всему виною жара от подовой печи: Нибур-де, неустан-
но заботясь о благополучии семьи, работал не покладая рук,
и печь действовала на него время от времени как солнечный
удар. Вдова выставила сестру и продолжала скорбить. В обыч-
ной жизни — это честная, работящая женщина, которая отлич-
но понимает, что к чему; но сейчас Нибур ей вдруг представил-
। и । аким, каким никогда не был, и она твердо уверовала, что это
правда,— вот самое удивительное! Дело в том, что человек
нс только извечно лжет, он также извечно верит в добро, красо-
iy и совершенство и видит их даже там, где их вовсе нет или они
• уществуют лишь в зачатке; это вторая причина, почему извеще-
нии о смерти придают мне бодрость и делают меня оптимистом.
Я присоединяю объявление о смерти Нибура к остальным
•ми, вырезанным мной. По понедельникам и вторникам их
• »। да несколько больше, чем в остальные дни. Это результат
‘ Hina недели: люди празднуют, едят, пьют, ссорятся, волнуют-
•| и сердце, артерии, мозг уже не выдерживают. Извещение
l-p.iv Нибур я кладу в ящик Генриха Кроля. Вот случай, создан-
ии i для него. Это человек прямолинейный, без всякого чувства
• •мора и верит, так же как и она, что смерть просветляет —
«••» всяком случае, верит до тех пор, пока фрау Нибур остается
io к чиенткой. И ему будет нетрудно разглагольствовать по адре-
\ юрогого, незабвенного усопшего, тем более что Нибур был,
• «к ас как и Генрих, коренным завсегдатаем пивной Блюме.
На сегодня моя работа окончена. Забрав очередные номера
l.rpшнер тагеблат» и «Тетлер», Георг Кроль удалился в свою
» мирку рядом с конторой. Я мог бы, конечно, еще доделать
Гт viiok памятника павшим воинам, расписав его цветными
— Ф 463 Ф —
мелками, но это успеется и завтра. Я надеваю футляр на мм
шинку и распахиваю окно. Из Лизиной квартиры доносягси
звуки патефона. Она появляется в окне, на этот раз совершен
но одетая, и приветственно помахивает огромным букетом
красных роз. Затем посылает мне воздушный поцелуй. «Это Ге
орг! — думаю я.— Значит, все-таки! Вот проныра!» Я указываю
на его комнату. Лиза высовывается из окна и каркает своим
сиплым голосом через улицу:
— Сердечное спасибо за цветы! Хоть вы и траурные филины(
а все же настоящие кавалеры!
Она широко разевает хищную пасть и трясется от хохота ням
собственной остротой. Затем достает какое-то письмо. «Уважм
емая,— хрипит она,— поклонник вашей красоты осмеливаени
положить к вашим ногам эти розы». Корчась от смеха, она едмн
переводит дыхание.
— Послушайте адрес: «Цирцее с Хакенштрассе, 5». А что 1й
кое Цирцея?
— Женщина, которая превращает мужчин в свиней.
Лиза трепещет, явно польщенная. Старенький домик км
будто тоже трепещет. Нет, это не Георг, размышляю я. Он сшн
не настолько лишился ума.
— От кого же это письмо?— осведомляюсь я.
— Подписано «Александр Ризенфельд»,— хрипит Лизил
Обратный адрес — «Кроль и сыновья». Ризенфельд! — Они
чуть не рыдает.— Это что, тот маленький уродик, с которым мм
были в «Красной мельнице»?
— Он не маленький и не уродик,— возражаю я.— Он сиди
чий великан и имеет очень мужественный вид. А кроме того, он
биллиардер.
На миг лицо Лизы становится задумчивым. Потом она гнем
раз кивает, прощается и исчезает. Я закрываю окно. Почему-ю
мне вдруг приходит на память Эрна. Я начинаю тоскливо по
свистывать и лениво направляюсь к сараю, в котором рабоном
скульптор Курт Бах.
Он сидит со своей гитарой на ступеньках крыльца. Зв мн»
спиной поблескивает лев из песчаника, Курт его делает дли пи
мятника павшим воинам. Это вечно та же умирающая кошки,
у которой болят зубы.
— Курт,— спрашиваю я,— если бы тебе обещали, что гюм»
желание исполнится немедленно, чего бы ты пожелал?
— Тысячу долларов,— отвечает он не задумываясь и б$|нн
на гитаре дребезжащий аккорд.
— Фу, черт! А я-то воображал, что ты идеалист.
4* 464 Ф —
— Я и есть идеалист. Поэтому и желаю иметь тысячу долла-
ров. А идеализма мне желать нечего. Его у меня хоть отбавляй.
Чего мне не хватает — так это денег.
Возразить тут нечего. Логика безупречная.
— А что бы ты сделал с этими деньгами?— спрашиваю я, все
еще на что-то надеясь.
— Купил бы себе несколько доходных домов и жил бы
на квартирную плату.
— Стыдно!— заявляю я.— И это все? Впрочем, на квартир-
ную плату ты бы жить не смог: она слишком низка, а повышать
ее запрещено. Тебе даже на ремонт не хватало бы, и пришлось
Ьы твои дома снова продать.
— Нет, дома, которые я купил бы, я бы придержал до тех
нор, пока не кончится инфляция. Тогда квартирная плата будет
опять как полагается и мне останется только получать ее.— Бах
снова берет аккорд.— Дома...— мечтательно произносит он,
с ювно речь идет о Микеланджело.— Сейчас ты уже можешь
ia какие-нибудь сто долларов купить дом, который стоил рань-
ше сорок тысяч золотых марок! Вот можно было бы заработать!
11 почему у меня нет бездетного дядюшки в Америке!
— Да, это ужасно,— соглашаюсь я удрученно.— Как ты ус-
пел за одну ночь опуститься и стать презреннейшим материали-
сюм? Домовладелец! А где же твоя бессмертная душа?
— Домовладелец и скульптор.— Бах выполняет блестящее
гшссандо. Над его головой столяр Вильке постукивает в такт
молотком. Он сколачивает по сверхурочному тарифу детский
। робик, святой и белый.
— Тогда мне не нужно будет делать этих ваших проклятых
умирающих львов и взлетающих орлов! Довольно зверей! Зве-
рей надо либо съедать, либо восторгаться ими! И больше ниче-
ю. Хватит с меня зверей! Особенно героических.
Он начинает играть мотив охотника из Курпфальца. Я вижу,
что с ним сегодня вечером невозможно вести приличную бесе-
ду. Особенно такую, во время которой забываешь о женщинах-
изменницах.
— Ав чем смысл жизни?— спрашиваю я уже на ходу.
— Спать, жрать и лежать с женщиной.
Я делаю протестующий жест и иду обратно. Невольно шагаю
и такт с постукиванием Вильке, потом замечаю это и меняю ритм.
В подворотне стоит Лиза. В руках у нее розы, и она сует их мне.
— На! Держи! Они мне ни к чему!
— Как так? Разве ты не воспринимаешь красоту природы?
^4* 465 ф —
— Слава Богу, нет. Я не корова. А Ризенфельд...— Она хрипло
хохочет голосом женщины из ночного клуба.— Скажи этому
мальчику, что я не из тех, кому преподносят цветы.
— А что же?
— Драгоценности,— отвечает Лиза.— Что же еще?
— Не платья?
— Платья — это потом, когда познакомишься поближе —
Она смотрит на меня, блестя глазами.—У тебя какой-то унылый
вид. Хочешь, я тебя подбодрю?
— Спасибо,— отзываюсь я.— С меня и моей бодрости хватит.
Отправляйся-ка лучше одна пить коктейль в «Красную мельницу».
— Я имею в виду не «Красную мельницу». Ты все еще играешь
для идиотов на органе?
— Да. Откуда ты знаешь?— спрашиваю я удивленно.
— Такой есть слушок. Мне хочется, знаешь ли, хоть разок
пойти с тобой в этот сумасшедший дом.
— Успеешь попасть туда и без меня!
— Ну, это мы еще посмотрим, кто попадет раньше,— заявляем
Лиза и кладет цветы на одно из надгробий.— Возьми эту траву,
я не могу держать ее дома. Мой старик слишком ревнючий.
— Что?
— Ясно что. Ревнив, как бритва. Да и что тут непонятного?
Я не знаю, может ли бритва ревновать, но образ убедительный
— Если твой муж такой ревнивый, то как же ты ухитряешься
по вечерам надолго уходить из дому?
— Он же по вечерам колет лошадей. Ну я и приспосабливаюсь
— А когда он не работает?
— Тогда я работаю в «Красной мельнице» гардеробщицей.
— Ты в самом деле работаешь?
— Ой, мальчик, да ты спятил?— отзывается Лиза.— Прямо
как мой старик.
— А платья и драгоценности откуда?
— Все дешевое и фальшивое.— Лиза ухмыляется.— Каждый
муж воображает невесть что. Так вот, бери это сено. Пошли кв
кой-нибудь телке! По тебе сразу видно, что ты подносишь цветы
— Плохо ты меня знаешь.
Лиза через плечо бросает мне инфернальный взгляд. Потом
шагает стройными ногами в стоптанных красных шлепании*
через улицу и возвращается к себе. На одном шлепанце крае
ный помпон, на другом он оторван.
Розы словно светятся в сумерках. Букет основательный. Ри
зенфельд раскошелился. Стоит не меньше пятидесяти тысяч
— 4* 466 Ф —
марок, решаю я, потом настороженно озираюсь, прижимаю к себе
цветы, словно вор, и уношу их в свою комнату.
Наверху у окна стоит вечер в голубом плаще. Моя комнатенка
полна теней и отблесков, и вдруг одиночество, словно обухом,
шлушает меня из-за угла. Я знаю, что все это вздор, и я не более
одинок, чем любой бык в бычьем стаде. Но что поделаешь?
()диночество не имеет никакого отношения к тому, много у нас
шакомых или мало. Мне приходит в голову, что я, пожалуй, вчера
был с Эрной слишком резок. Ведь, может быть, все разъяснилось
бы самым безобидным образом. Кроме того, она меня прирев-
новала, это сквозило в каждом ее слове. А что ревность означа-
с1 любовь — известно каждому.
Я бесцельно смотрю в окно, ибо знаю, что ревность не озна-
чает любовь. Но разве это в данном случае что-нибудь меняет?
() । сумерек путаются мысли, а с женщинами не спорят, как уве-
ряет Георг. Я же именно это и делал! Охваченный раскаянием,
в пл хаю я благоухание роз, которое превращает мою комнату
в Венерину гору из «Тангейзера». Я замечаю, что растворяюсь
в чувстве всезабвения, всепрощения и надежды.
Быстро набрасываю несколько строк, не перечитывая их за-
к 1еиваю конверт, потом иду в контору, чтобы воспользоваться
шелковой бумагой, в которую была завернута последняя пар-
।им фарфоровых ангелов. Я заворачиваю в нее розы и отправ-
1яюсь на поиски Фрица Кроля, младшего отпрыска фирмы.
I му двенадцать лет.
— Фриц,— говорю я,— хочешь заработать две тысячи?
— Да уж знаю,— отвечает Фриц.—Давайте сюда. Адрес тот же?
-Да.
Он исчезает, унося розы,— третий человек с ясной головой,
мнорого я встречаю сегодня вечером. Все знают, чего они хо-
। я I,— Курт, Лиза, Фриц, только я не знаю. И дело не в Эрне, это
м чувствую в ту минуту, когда вернуть Фрица уже нельзя. Но тогда
и чем же дело? Где алтари? Где боги и где жертвы? Я решаю все
* с пойти на Моцарта — пусть я один и мне от музыки станет
<чие тяжелее.
Когда я возвращаюсь, звезды уже давно сияют в небе. Мои
шаги гулко отдаются в узкой улочке, я глубоко взволнован. По-
тешно распахиваю дверь конторы, вхожу и останавливаюсь,
пораженный. Рядом с аппаратом «престо» лежат розы и мое
письмо, нераспечатанное, а рядом записка от Фрица: «Дама
» ка ^ала, что на всем этом пора поставить крест. Привет, Фриц».
Поставить крест! Меткая шутка! И я стою, опозоренный
io самых глубин моего существа, охваченный стыдом и яростью.
— Ф 467 Ф —
Я сую записку в холодную печь. Потом усаживаюсь в свое крес
ло и погружаюсь в мрачную задумчивость. Мой гнев сильнее
стыда, как бывает обычно, когда человеку действительно стыд
но и он знает, что ему должно быть стыдно. Я пишу другое
письмо, беру розы и иду в «Красную мельницу».
— Передайте это, пожалуйста, фрейлейн Герде Шнейдер,-
говорю я портье,— акробатке.
Обшитый галунами человек смотрит на меня, точно я сделал
ему какое-то неприличное предложение. Затем величественно
тычет большим пальцем через плечо.
— Поищите себе другого.пажа!
Я нахожу пажа и разъясняю ему свое поручение:
— Передайте букет во время представления.
Он обещает. Надеюсь, что Эрна там и все увидит, думаю и
Потом некоторое время брожу по городу и наконец, почувстно
вав усталость, возвращаюсь домой.
До меня доносится мелодичный плеск. Кнопф опять стой!
перед обелиском и поливает его. Я молчу; дискутировать на ну
тему бесполезно. Беру ведро воды и выливаю Кнопфу под hoi и
Фельдфебель смотрит на льющуюся воду, вытаращив глаза.
— Потоп...— бормочет он.— Я и не заметил, что иди
дождь.— И, пошатываясь, бредет к себе.
VI
Над лесом стоит туманная багровая луна. Душно и безнн
ренно. Стеклянный человек неслышно проходит мимо. Теперь
он может выйти: солнце уже не превратит его голову в зажит
тельное стекло. Но из осторожности он все же надел глубокие
калоши — вдруг будет гроза, а она для него опаснее, чем соли
це. Изабелла сидит рядом со мной на скамье против флигели
для неизлечимых душевнобольных. На ней обтягивающее фи
гуру платье из черного полотна, на босых ногах золотые туфли
с высоким каблуком.
— Рудольф,— говорит она,— ты опять меня покинул. А в прош
лый раз обещал остаться здесь. Где ты был?
Рудольф? Слава тебе, Господи, думаю я: если бы она сегодни
вечером назвала меня Рольфом, я бы этого не вынес. Позади
какой-то растерзанный день, и у меня такое ощущение, слонин
кто-то стрелял в меня из дробовика солью.
— Я тебя не покинул,— отвечаю я.— Уходил — да, но по по
кинул.
— А где ты был?
— + 468 + —
— Там, где-то в городе.
Я чуть не сказал: в городе у сумасшедших, но вовремя удер-
жа. 1СЯ.
— Зачем?
— Ах, Изабелла, и сам не знаю. Ведь делаешь очень многое,
< ам не зная зачем...
— Я тебя искала сегодня ночью. Светила луна — не такая,
как вон та — багровая, тревожная, которая лжет, нет, другая —
прохладная, ясная, ее пить можно.
— Наверное, было бы лучше, если бы я находился здесь,—
швечаю я, откидываюсь на спинку скамьи и чувствую, как
• и Изабеллы на меня веет покоем.— А как же можно пить луну,
И 1абелла?
— С водой. Очень просто. У нее вкус опала. Сначала ее даже
иг очень ощущаешь, только потом чувствуешь, как она начинает
н тебе поблескивать. Она светит прежде всего из глаз. Но света
мжигать нельзя. При свете она меркнет.
Я беру ее руку и прикладываю к своему виску. Рука у нее су-
кин и прохладная.
— А как ее пьют с водой?— спрашиваю я.
Изабелла отнимает у меня руку.
— Ночью нужно открыть окно и подставить под лунный свет
стакан с водой — вот так.— Она вытягивает руку.— И луна по-
падает в него. Ее видно в нем, стакан становится светлым.
— Ты хочешь сказать — она отражается в стакане?
— Нет, не отражается. Она в нем.— Изабелла смотрит на ме-
нм.— Отражается? Что ты хочешь сказать?
— Отражение — это картина в зеркале. Можно отражаться
мо многих предметах, если у них гладкая поверхность. И в воде.
Но это не значит, что мы в ней.
— Гладкая поверхность?— Изабелла вежливо и недоверчиво
улыбается.— В самом деле? Удивительно!
— Ну конечно. Когда ты стоишь перед зеркалом, ты же ви-
iHiiib себя в нем.
Она снимает туфлю и смотрит на свою ногу. Ступня у нее уз-
кпн, длинная и не изуродована мозолями.
— Что ж, может быть,— отвечает она все еще с равнодушной
нсжливостыо.
— Не может быть. Наверняка. Но то, что ты видишь,— это
ив ты. Это только отражение, не ты сама.
— Конечно, не я. Но где же я сама, когда я вижу свое отра-
жение?
— + 469 + —
— Ты стоишь перед зеркалом. Иначе оно не могло бы тебя
отразить.
Изабелла снова надевает туфлю и смотрит на меня.
— Ты уверен, Рудольф?
— Совершенно уверен.
— Я — нет. А что делают зеркала, когда они одни?
— Отражают то, что есть.
— А если ничего нет?
— Так не бывает. Всегда что-нибудь да есть.
— А ночью? Во время новолуния, когда совсем темно, что же*
тогда они отражают?
— Темноту,— отвечаю я не очень уверенно, ибо как можс!
отражаться глубочайший мрак?— Для отражения всегда нужно
хоть немного света.
— Значит, зеркала мертвы, когда совершенно темно?
— Может быть, они спят, а когда возвращается свет — про
сыпаются.
Изабелла задумчиво кивает и туго натягивает платье на коленях
— А они видят сны?— вдруг спрашивает она.
— Кто видит сны?
— Да зеркала!
— Мне кажется, они всегда видят сны,— отвечаю я.—Они
весь день только это и делают. Им снимся мы. И снимся наобо
рот. То, что у нас бывает справа, в них слева, а то, что слева,
справа.
Изабелла поворачивается ко мне.
— Значит, они — наша оборотная сторона?
Я соображаю. Кто знает, что такое на самом деле зеркало?
— Вот видишь,— говорит она.— Перед тем ты уверял, буш о
ничего там нет. А выходит, что в них наша оборотная сторопл
— Только пока мы перед ними. А когда уходим, ее уже там н<*1
— Откуда ты знаешь?
— Это же видно. Когда уходишь от них и оглядываешься, нмс
уже там нет.
— А если они нас только прячут?
— Как они могут прятать? Они же все отражают! На то они
и зеркала! Зеркало ничего не может скрыть.
Между бровей у Изабеллы появляется морщинка.
— А куда же оно тогда девается?
— Что именно?
— Да изображение! Другая сторона. Что же, оно прыгает об
ратно в нас?
— Этого я не знаю.
— Оно ведь не может потеряться?
— Оно и не теряется.
— Так где же оно?— настаивает Изабелла.— В зеркале?
— Нет. В зеркале его уже нет.
— Оно должно быть там. Откуда ты знаешь, что нет? Ты его
ИС видишь.
— Другие люди тоже видят, что моего изображения там уже
iiei. Они видят только свое собственное, когда стоят перед зер-
калом. И ничего другого.
— Они заслоняют его. Иначе где же остается мое? Оно долж-
но быть там!
— Оно там и есть,— отвечаю я, жалея, что затеял весь этот раз-
|овор.— Когда ты подходишь к зеркалу, оно опять появляется.
Изабелла чем-то вдруг взволнована. Она становится коленя-
ми на скамью. Ее черный узкий силуэт выделяется на фоне
желтых нарциссов; в сумраке душного вечера кажется, что они
и । серы.
— Значит, оно у них внутри, а перед тем ты говорил, что его
। л м нет!
Она сжимает мне руку, все ее тело дрожит. Я не знаю, что
мне сказать, чтобы успокоить ее. Ссылкой на физические зако-
ны ее не убедишь — она презрительно отклонила бы такие до-
воды. Да в эту минуту я и сам не так уж уверен в их незыблемо-
сти. Мне вдруг кажется, что в зеркалах есть действительно
какая-то тайна.
. — Где оно, Рудольф?— шепчет она и жмется ко мне.— Ска-
жи мне, где оно? Неужели везде осталась какая-то часть меня?
Во всех зеркалах, в которые я смотрюсь? А сколько я видела их!
Не сосчитать! И неужели я в них во всех разбросана? И каждое
•I то-то у меня отняло? Тонкий отпечаток? Тоненький ломтик
меня? Неужели зеркала распилили меня, словно кусок дерева?
Что же от меня тогда осталось?
Я крепко держу ее за плечи.
— Все в тебе осталось,— отвечаю я.— Наоборот, зеркала
еще что-то прибавляют к человеку. Они делают эту добавку
|римой и отражают кусок пространства, а в нем — озаренный
кусок тебя самой.
— Меня самой?— Она все еще не выпускает моей руки.—
Л если все не так? Если все эти куски лежат погребенными
и тысячах и тысячах зеркал? Как их вернуть? Ах, никогда их
не вернешь! Они пропали, пропали навсегда! Мы стерты, мы
кйк статуи, у которых соструганы лица. Где мое лицо? Мое пер-
— Ф 471 Ф —
воначальное лицо? То, которое было у меня до всяких зеркал?
До того, как они начали обкрадывать меня?
— Никто тебя не обкрадывал,— растерянно отвечаю я.-
Зеркала ничего не крадут, они только отражают.
Грудь Изабеллы бурно вздымается. Лицо ее бледно. В про
зрачных глазах поблескивает багровый отблеск луны.
— Где оно?— шепчет она.— Где все? Где мы вообще, Ру
дольф? Все бежит и проносится, как ветер, и тонет, тонет! Дер
жи меня крепче! Не отпускай меня! Разве ты их не видишь?
Она пристально смотрит на мглистый горизонт.— Вон они ле
тят! Все эти мертвые отражения! Они приближаются и жажду i
крови! Ты не слышишь шелеста их серых крыльев? Они мечу|
ся, как летучие мыши! Не подпускай их!
Она прижалась головой к моему плечу и трепещущим телом
к моему телу. Я крепко держу ее и смотрю в вечерний сумрак, ко
торый становится все глубже, глубже. Воздух тих, но из деревней,
растущих вдоль аллеи, теперь медленно выступает темно1й(
точно беззвучный отряд теней. Он словно хочет окружить шн
и выходит из засады, чтобы отрезать нам путь.
— Пойдем,— говорю я,— нам пора! За деревьями будет сиг •
лее. Гораздо светлее.
Но она противится и качает головой. Ее волосы касаются мо
его лица, они мягкие и пахнут сеном, и лицо у нее мягком,
я ощущаю тонкие косточки, подбородок и надбровные jiyiw
и вдруг снова испытываю глубокое изумление от того, »нп
за границами этого тесного мирка существует огромная дейс i ни
тельность, живущая по совсем иным законам, и что эта головки,
которую я без труда могу обхватить руками, видит все по-иному,
чем я,— каждое дерево, каждую звезду, любые отношения между
людьми и даже самое себя. В ней заключена другая вселеннии
И на миг все перемешивается в моем мозгу, и я уже не знаю, «пн
такое подлинная действительность — то, что я вижу, или то, чih
видит она, или то, что бывает без нас и чего мы никогда нс нн
знаем, ибо в данном случае происходит то же самое, что с icp
калами, они тут, когда мы тут, но отражают всегда только ныв
собственный облик. Ни за что, ни за что не узнаем мы, какими
они, когда остаются одни, и что кроется за ними; ведь они
ничто, и вместе с тем они же способны отражать, поному
должны быть чем-то; но никогда не выдадут они своей тайпы
— Пойдем,— говорю я.— Пойдем, Изабелла. Ни один чслпинк
не знает, кто он, откуда и куда идет, но мы вместе, и это одно.
нам дано познать.
— Ф 472 Ф —
Я увлекаю ее за собой. «А если все разрушится,— думаю я,—
может быть, действительно не останется ничего, кроме этого
маленького «вместе», которое ведь тоже лишь утешительный
обман, ибо когда один человек другому по-настоящему необхо-
дим, он за ним не может следовать и его поддержать,— я это ие-
ны гы вал не раз на фронте, глядя в мертвые лица моих товари-
щей». У каждого своя смерть, он должен пережить ее
и одиночку, и тут никто не в силах ему помочь.
— Ты не покинешь меня?— шепчет она.
— Нет, я тебя не покину.
— Поклянись,— говорит она и останавливается.
— Клянусь,— отвечаю я не задумываясь.
— Хорошо, Рудольф.— Она вздыхает, как будто многое те-
перь стало легче.— Только не забудь. Ты так часто забываешь.
— Я не забуду.
— Поцелуй меня.
Я привлекаю ее к себе. И вдруг мне становится немного не
ио себе, я не знаю, что мне делать, и целую ее, не разжимая су-
хих губ.
Она обнимает меня за шею и не дает поднять голову. Вдруг
и чувствую сильный укус и отталкиваю ее. Из моей нижней Гу-
ны идет кровь. Изабелла укусила... Я смотрю на девушку пора-
женный. Она улыбается. И сейчас лицо у Изабеллы совсем дру-
юс. Оно злое и хитрое.
— Кровь! — шепчет она торжествующе.— Ты опять хотел
меня обмануть, я тебя знаю! А теперь это тебе уже не удастся!
Печать наложена. Уйти ты уже не сможешь!
— Да, уйти я уже не смогу,— смиренно отвечаю я.— Ну что ж,
не возражаю. Только незачем было кидаться на меня, точно кош-
ка. Фу, как сильно течет кровь. Ну что я скажу старшей сестре,
сели она меня увидит?
Изабелла хохочет.
— Ничего!— отвечает она.— И почему нужно непременно
объяснять? Не будь же таким трусом!
Во рту я ощущаю тепловатый вкус крови. Платок мне уже
ни к чему, рана должна сама подсохнуть. Передо мной стоит
Женевьева. Она вдруг превратилась в Женни. Рот у нее малень-
кий и безобразный, и она усмехается хитро и злобно. Начинают
нюнить колокола к майской всенощной. На дорожке появляет-
ся сестра. В сумерках смутно белеет ее халат.
Во время службы моя ранка подсохла, я получил причитаю-
щуюся мне тысячу марок и сижу за ужином с викарием Боден-
— + 473 + —
диком. Бодендик уже снял в ризнице свое шелковое облачение
Еще четверть часа назад это была мифологическая фигура:
окруженный дымом ладана, стоял он перед молящимися в блес
ке парчи и свечей, вознося дароносицу с телом Христовым над
головами благочестивых сестер и тех душевнобольных, которые
получили разрешение присутствовать на церковной службе,
но сейчас, в черном поношенном сюртуке и слегка пропотей
шем белом воротничке, который застегивается сзади, а не сне
реди, викарий просто агент Господа Бога — добродушный, пол
нокровный, с румяными тугими щеками и красным носом
в багровых жилках, свидетельствующих о том, что он любитель
вина. Хотя Бодендик этого и не помнит, но он долго был моим
духовником в предвоенные годы, когда мы по распоряжению
школьного начальства обязаны были каждый месяц исповеди
ваться и причащаться. Мальчики похитрее шли к Бодендику
Он был туг на ухо, а так как мы исповедовались шепотом»
то не мог разобрать, в каких именно грехах ему каются. По ти»
му он накладывал самые легкие епитимьи. Прочтешь несколько
раз «Отче наш» — и очистишься от любого греха, можешь игра 11.
в футбол или идти в городскую библиотеку, чтобы попытан.си
раздобыть там запрещенные книги. Совсем другое дело — со
борный священник, к которому я однажды попал, так как очень
спешил, а перед исповедальней Бодендика выстроилась длин
ная очередь. Соборный поп наложил на меня епитимью весьма
коварного свойства: я должен был через неделю опять яви на к
на исповедь, и тогда он спросил меня, почему я здесь. Так как
на исповеди лгать нельзя, я сказал почему, и он в виде епиш
мьи приказал мне прочесть дома несколько десятков молит
по четкам, а через неделю опять прийти. Так и пошло. Я бы а
почти в отчаянии, и мне уже представлялось, что я прикопан
цепью к соборному священнику и на всю жизнь обречен ходит
к нему каждую неделю на исповедь. К счастью, через месяц гни
святой человек заболел корью и ему пришлось лечь в поенчь
Когда пришло время идти на очередную исповедь, я отпрапин
ся к Бодендику и громким голосом объяснил ему, какое со iда
лось положение: соборный священник-де приказал мне сегодня
опять исповедаться, но он заболел. Что же мне делать? Илт
к нему я не могу, так как корь заразна. Бодендик решил, *пн
я с таким же успехом могу исповедоваться и у него; исповедь
всегда исповедь, и священник — всегда священник. Я иеною*
дался и получил свободу. Но от соборного духовника я беыи
как от чумы.
Мы сидим в небольшой комнате поблизости от зала для ти-
хих душевнобольных; комнатка эта не настоящая столовая;
месь стоят полки с книгами, горшок с белой геранью, несколь-
ко стульев и кресел и круглый стол. Старшая сестра прислала
нам бутылку вина, и мы ждем, когда нам подадут ужин. Десять
ie । назад я бы никогда не поверил, что буду пить вино со своим
(уховпиком; но я бы тогда тоже ни за что не поверил, что буду
\бивать людей и,меня за это не только не повесят, но наградят,
орденом,— и все-таки это случилось.
Бодендик пробует вино.
— Это вино — «Замок Рейнгартсхаузен», из поместий принца
I сприха Прусского,— благоговейно констатирует он.— Старшая
прислала нам очень хорошее винцо. Вы в винах разбираетесь?
— Плохо,— отвечаю я.
— Научились бы. Пища и питье — дары Господни. Следует
наслаждаться ими и знать в них толк.
— Смерть, наверное, тоже дар Господень,— отвечаю я и смо-
। рю в темный сад. Поднялся ветер и клонит черные кроны де-
ревьев.— А разве смертью тоже следует наслаждаться и знать
и ней толк?
Бодендик, ухмыляясь, смотрит на меня поверх своего стакана.
— Для христианина смерть не проблема. И не обязательно
наслаждаться ею; но понять, что это такое, ему легко. Смерть —
но врата к вечной жизни. Тут бояться нечего. А для многих
она освобождение.
— Каким образом?
— Освобождение от болезней, страданий, одиночества и нище-
।ы.— Бодендик делает глоток вина, задерживает его во рту и с на-
<каждением смакует, двигая румяными щеками.
— Знаю,— говорю я.— Освобождение от скорбной земной
юдоли. А чего ради Господь Бог ее создал?
Глядя на Бодендика, в данную минуту никак не скажешь, что
на земная юдоль его особенно тяготит. Он круглый, толстый,
пилы сюртука задраны на спинку стула, чтобы они не смялись,
придавленные его мощным задом. Таким сидит он предо мною,
нот знаток потусторонних миров и земных вин, и крепко сжи-
мает в руке стакан.
— Чего ради, говоря по правде, создал Бог эту печальную
юмпую юдоль?— повторяю я.— Разве он не мог сразу же оста-
ми и» нас в вечной жизни?
Бодендик пожимает плечами.
— Об этом вы можете прочесть в Библии. Человек, рай, гре-
ишадение...
— Ф 475 ф__
— Грехопадение, изгнание из рая, наследный грех и потому
проклятие на сотнях тысяч поколений. Бог Библии — самый
мстительный из всех богов...
— Это Бог всепрощающий,— возражает Бодендик и разгля
дывает вино на свет.— Это Бог любви и справедливости, он внонь
и вновь готов прощать нам, он пожертвовал собственным сы
ном, чтобы искупить наши грехи.
— Господин викарий Бодендик,— заявляю я, вдруг ужасно
разозлившись.— А почему, собственно, Бог любви и справил
ливости создал людей такими разными? Одного — больным
и неудачником, а другого — здоровым и негодяем?
— Тот, кто здесь будет унижен, на том свете возвысится. Бог
это великая справедливость.
— Сомневаюсь,— отвечаю я.— Мне довелось знать одну
женщину, которая десять лет болела раком, перенесла шесчь
сложнейших операций, непрерывно страдала, и, когда к тому
же у нее умерло двое детей, она изверилась в Боге. Эта женщи
на перестала ходить в церковь, исповедоваться и причащаться
и, согласно догматам церкви, умерла в состоянии смертного грг
ха. По тем же догматам, она теперь вечно будет гореть в oi ш>
преисподней, которую создал Бог любви. Справедливо, да?
Бодендик некоторое время созерцает стакан.
— Это ваша мать?— наконец спрашивает он.
Я с удивлением смотрю на него.
— При чем тут моя мать?
— Но ведь вы говорили о своей матери, верно?
У меня перехватывает горло.
— Ну, а если бы даже и так?
Он некоторое время молчит.
— Иногда достаточно одного мгновения, чтобы примири 1Ь
ся с Богом,— бережно и проникновенно отвечает он затем.
Одного мгновения перед смертью. Одной-единственной мысли
Эта мысль может быть даже не выражена словами.
— Несколько дней назад я сказал то же самое женщине, но
торая впала в отчаяние. Ну а если этой одной-единственной
мысли все-таки не возникло?
Бодендик смотрит на меня.
— У церкви есть свои догматы, чтобы предупреждать и ши
питывать. У Бога их нет. Бог — это любовь. Кто из нас мо*я
знать, каков будет приговор Господен?
— Разве он судит?
— Мы это так называем. Но это любовь.
— Ф 476 ф —
— Любовь,— с горечью возражаю я,— любовь, которая пол-
на садизма. Любовь, которая терзает, обрушивает на человека
всевозможные несчастья и пытается исправить жесточайшие
неисправности жизни обещанием химерического блаженства
после смерти!
Бодендик улыбается.
— А вы не допускаете, что и до вас люди задавали себе те же
вопросы?
— Да, бесчисленное множество людей — и поумней меня.
— Я тоже так думаю,— добродушно соглашается Бодендик.
— Но это ничего не меняет, и я все-таки задаю их.
— Конечно, не меняет.— Бодендик наливает себе полный
11акан.— Только ставьте их со всей серьезностью. Ведь сомне-
ние — оборотная сторона веры.
Я смотрю на него. Вот он сидит предо мной, несокрушимая
шердыня церкви, и ничто не может поколебать ее. А за его
крупной головой притаилась ночь, тревожная ночь Изабеллы,
па ночь взволнована и стучит ветром в окна, она полна вопро-
। <>в. которым нет ответа. Но у Бодендика на все есть ответы.
Дверь распахнулась. На подносе нам подают ужин в круглых
• \ 1ках, поставленных друг на друга. Один пригнан к другому.
I ак обычно подают пищу в больницах. Сестра-подавальщица
расстилает скатерть, кладет ножи, ложки и вилки, затем удаля-
'• ни.
Бодендик снимает крышку с верхнего судка.
— Ну-с, что у нас сегодня на ужин?— с нежностью вопроша-
<ч он.— Бульон! Бульон с фрикадельками из мозгов! Перво-
классный суп! А потом красная капуста и кисло-сладкое мясо.
Прямо откровение!
Он наливает полные тарелки и принимается за еду. А я уж
сержусь на себя, зачем спорил с ним, и чувствую его явное пре-
mсходство, хотя оно и не имеет никакого отношения к данному
иопросу. Превосходство объясняется тем, что он ничего не ищет.
Он знает. Но какая цена этому знанию? Доказать он ничего
не может. И все-таки он играет со мною, как ему вздумается.
Входит врач. Это не директор — это лечащий врач.
— Вы ужинаете с нами?— осведомляется Бодендик.— Тогда
I ' наживайтесь, а то мы вам ничего не оставим.
Врач качает головой.
Некогда. Надвигается гроза. В таких случаях больные на-
• iniaioT особенно беспокоиться.
Непохоже на грозу.
— + 477 ф__
— Еще нет. Но она будет. Больные чувствуют ее заранее
Нам уже пришлось посадить кое-кого в успокаивающую ванну
Ночь предстоит тяжелая.
Бодендик раскладывает жаркое по тарелкам. Самый боль
шой кусок он берет себе.
— Хорошо, доктор,— говорит он.— Выпейте с нами хоть с in
кан вина. Ведь пятнадцатилетней выдержки! Прямо дар 1ю
жий! Даже для нашего молодого язычника.
Он подмигивает мне, а я охотно вылил бы ему за его сальный
воротник подливку из моей тарелки. Доктор подсаживаете и
к столу и берет стакан с вином. Бледная сестра просовывает ю
лову в приоткрытую дверь.
— Сейчас я не буду ужинать, сестра,— заявляет врач.— <>|
несите ко мне в комнату несколько бутербродов и бутылку пи
ва.
Врачу около тридцати пяти лет, у него темные волосы, у ikhv
лицо, близко посаженные глаза и большие торчащие уши. Ек»
фамилия Вернике, Гвидо Вернике, и он свое имя ненавиди!
не менее горячо, чем я — имя «Рольф».
— Как здоровье фрейлейн Терговен?— осведомляюсь я.
— Терговен? Ах да... к сожалению, не очень... Вы ничего гг
годня не заметили? Каких-нибудь изменений?
— Нет. Она была как всегда. Может быть, немного возбуж
деннее. Но вы сказали, что это от грозы...
— Посмотрим. Тут у нас трудно предсказывать что-либо ш
ранее.
Бодендик смеется.
— Безусловно, нельзя. Здесь — никак нельзя.
Я смотрю на него. Какой он грубый, этот христианин, думаю и
Но потом мне приходит в голову, что ведь он по профессии
духовный целитель, а в подобных случаях всегда утрачивасни
какая-то доля душевной чуткости за счет способности возлей
ствия, так же как у врачей, сестер и торговцев надгробиями.
Я слышу его разговор с Вернике. У меня вдруг пропадает он
петит, и я подхожу к окну. За волнующимися кронами деревы’И
выросла, как стена, огромная туча с тускло-бледными краями
Я смотрю в ночь; Все вдруг кажется мне очень чужим: и скин и»
привычную картину сада властно и безмолвно проступает «нн
то иное, дикое, и оно отбрасывает привычное, словно nyciym
оболочку. Мне вспоминается восклицание Изабеллы: «Где ж*
мое первое лицо? Мое лицо до всяких зеркал?» «Да, где ihiiiif
первоначальное лицо?— размышляю я.— Первоначальный
ландшафт, до того как он стал вот этим ландшафтом, воспринн
— Ф 478 ф —
маемым нашими органами чувств, парком и лесом, домом и че-
тником? Где лицо Бодендика, до того как он стал Бодендиком?
Чино Вернике, пока оно не связалось с его именем? Сохрани-
юсь ли у нас какое-то знание об этом? Или мы пойманы в сети
понятий и слов, логики и обманщика-разума, а за ними одино-
ко юрит первоначальное пламя, к которому у нас уже нет до-
• । vna, оттого что мы превратили его в полезное тепло, в кухон-
ное и печное пламя, в обман и достоверность, в буржуазность
и иены и, во всяком случае, в турецкую баню потеющей фило-
юфии и науки. Где оно? Все ли еще стоит неуловимое, чистое,
не юступное, за жизнью и смертью, каким оно было до того, как
превратилось для нас в жизнь и смерть? Или оно, может быть,
к-перь горит только в тех, кто живет здесь, в комнатах за решет-
ами, кто сидит на полу или неслышно крадется, уставившись
перед собой невидящим взглядом, ощущая в своей крови род-
имо грозу? Где граница, отделяющая хаос от стройного поряд-
ки, и кто может перешагнуть через нее и потом возвратиться? А
•т hi ему это и удастся — кто в состоянии запомнить то, что он
увидел? Разве одно не гасит воспоминаний о другом? И кто бе-
д мен, отмечен, отвергнут — мы ли, с нашими замкнутыми и ус-
1ОИЧИВЫМИ представлениями о мире; или те, другие, в ком хаос
"ушует и сверкает грозовыми вспышками; те, кто отдан в жерт-
ву беспредельности, словно они комнаты без дверей, без потол-
* .i. словно это покои с тремя стенами, в которые падают молнии
и врываются буря и дождь, тогда как мы гордо расхаживаем
• hi своим замкнутым квартирам с дверями и четырьмя стенами
в воображаем себя выше тех лишь потому, что ускользнули
• I \aoca? Но что такое хаос? И что такое порядок? В ком они есть?
И ычем? И кому удастся когда-нибудь из них выскользнуть?»
11ад краем парка проносится тусклая вспышка, и лишь спус-
। чолгое время на нее отвечает очень далекое ворчание. По-
inbiio залитой светом каюте, наша комната плывет среди ночи,
мнорой нарастает гроза, точно где-то пленные гиганты согря-
»к>| свои цени и готовы вскочить и уничтожить наше племя
• |рииков, заковавших их на краткий срок. Каюта, светящаяся
• 1смноте, книги и три упорядоченных ума в этом доме, где,
•уно в ячейках улья, заперта загадочная стихия, дающая гроз-
•I.IC вспышки в расстроенном мозгу больных! Что если бы их
- с\ пронзила внезапная молния познания и они объединились
• in мятежа; что если бы они разбили замки, сломали болты и, как
•• пмщаяся серая волна, плеснули бы вверх по лестнице и окру-
• н'ш эту освещенную комнату, эту каюту и, как волны, неудер-
— Ф 479 ф__
жимо помчали бы ее во мрак и в то безымянное, еще болсг
мощное, что стоит за мраком?
Я оборачиваюсь. Служитель веры и служитель науки сидят
в лучах света, озаряющего их. Для них мир — не смутная, трс
петная тревога, он не ворчанье бездны, не грозовые вспышки
в леденящем эфире; они служители веры и науки, у них есть от
вес и лот, весы и меры, у каждого свои, но это их не тревожит,
они уверены в себе, у них есть имена и фамилии, которые они
могут наклеивать на все, словно этикетки; они крепко ciimi
по ночам, они стремятся к определенной цели, и этого для ник
достаточно, и даже ужас, даже черный занавес перед самоубий
ством занимает соответствующее, определенное место в их су
ществовании, оно имеет название, классифицировано и потому
стало неопасным. Убивает только безымянное или то, что нто
рвало свое имя.
— Молнии,— замечаю я.
Доктор поднимает голову.
— В самом деле?
Он как раз занят разъяснением недуга, именуемого ши т
френией,— болезни, постигшей Изабеллу. Его смуглое лини
от увлечения слегка порозовело. Вернике рассказывает о том,
как страдающие этой болезнью способны с быстротою молнии
словно переноситься из одной личности в другую,— в старину
таких больных считали то святыми и провидцами, то одержи
мыми дьяволом, и народ относился к ним с суеверным почтени
ем. Потом он начинает философствовать о причинах болезни, и
я вдруг удивляюсь, откуда ему все это известно и почему он ни
зывает шизофрению болезнью. Разве нельзя было бы с таким
же успехом считать ее особым видом душевного богатства? Ри i
ве в самом нормальном человеке не сидит с десяток личное! ей1
И не в том ли разница только и состоит, что здоровый в себе на
подавляет, а больной выпускает на свободу? И кого в данном
случае считать больным?
Я подхожу к столу и выпиваю свой стакан вина. Боденлиа
смотрит на меня с благоволением; Вернике — так, как CMoiput
на совершенно неинтересный случай. Только сейчас я ощуuiaiii
вкус вина: я чувствую, что оно хорошее, установившееся, им
зревшее и не легкомысленное. В нем уже нет хаоса, думаю и
Вино претворило его в гармонию. Но претворило, а не про* н«
заменило одно другим. Оно не уклонилось от хаоса. И пару»
на мгновение, сам не знаю почему, я испытываю невыразим**
счастье. «Значит, можно!— говорю я себе.— Значит, мошим
— Ф 480 Ф —
претворить хаос! Значит, существует не только дилемма: или то,
мчи другое. Значит, одно может привести к другому».
Бледная вспышка вновь метнулась в окно м погасла.
Врач встает.
— Началось. Мне пора идти к тем, кто заперт.
Запертые — это те больные, которые никогда не выходят
и i своих комнат. Они остаются в них, пока не умрут, в палатах,
। le мебель накрепко привинчена к полу, окна забраны решет-
ки ми, а двери отпираются только снаружи. Они сидят в этих
к югках, словно опасные хищники, и о них говорят с неохотой.
Вернике смотрит на меня.
— Что это у вас с губой?
— Ничего. Нечаянно прикусил во сне.
Бодендик смеется. Дверь открывается, и маленькая сестра
пносит дополнительную бутылку вина и три стакана. Вернике
уходит вместе с сестрой. Бодендик тянется к бутылке и налива-
VI себе. Теперь мне понятно, почему он предложил Вернике
ныиить вместе с нами: ведь старшая сестра прислала нам еще
бутылку. Для трех мужчин одной было бы недостаточно. Вот
хитрец, думаю я. Он повторил чудо кормления народа во время
I (игорной проповеди. Один стакан вина, выпитый Вернике, он
превратил для себя в целую бутылку.
— Вероятно, вы больше не будете пить?— обращается
ко мне викарий.
— Нет, буду,— отвечаю я и сажусь за стол.— Я вошел
вкус. Это вы меня научили. Благодарю от души.
Бодендик с кисло-сладкой улыбкой снова вынимает бутылку
• । ведерка со льдом. Изучает этикетку перед тем, как налить
•не всего четверть стакана. Себе он наливает почти до краев. Я
покойно беру у него из рук бутылку и тоже доливаю свой ста-
• ли
Господин викарий,— замечаю я,— различия между нами
•и ПК уж велики.
Вдруг Бодендик начинает хохотать. Лицо его расцветает,
IOBHO роза в Троицын день.
Будем здоровы,— говорит он елейным тоном.
I рош ворчит и переходит с места на место. Словно беззвуч-
•н.1г удары сабель, падают молнии. Я сижу у окна своей комна-
• I I передо мной порванные в клочья письма Эрны, они лежат
“ 11 \ < । ой слоновьей ноге, которую в качестве корзины для бумаг
iiie подарил великий путешественник Ганс Ледерман, сын
•••*||11юго Ледермана.
— Ф 481 Ф —
С Эрной все кончено. Для большей убедительности я ncpv
числил все ее неприятные черты; и эмоционально, и по-челопг
чески я вытравил ее из себя, а в виде десерта прочел несколыш
глав из Шопенгауэра и Ницше. Все же я предпочел бы имт
смокинг, машину и шофера и с двумя-тремя знаменитыми пк I
рисами и несколькими сотнями миллионов в кармане заяви гы и
в «Красную мельницу», чтобы нанести этой змее смертельный
удар. Я мечтаю некоторое время о том, как здорово было бы,
если бы она прочла в утренней газете сообщение, что я вы и грим
главный приз или был тяжело ранен, спасая детей из пылаюшл
го дома. Потом я замечаю свет в Лизиной комнате.
Она открывает окно и делает кому-то знаки. В моей комки ш
темно, и ей меня не видно.
Значит, она имеет в виду не меня. Лиза что-то беззвучно го
ворит, указывает на свою грудь, затем на наш дом и кишим
Свет в ее комнате гаснет.
Я осторожно высовываюсь из окна. Уже полночь, и соседний
дома темны. Открыто только окно Георга Кроля.
Я жду и вижу, как Лизина входная дверь открывается. Лиш
выходит, торопливо озирается и перебегает улицу. На ней л<ч
кое цветастое платье, туфли она держит в руке, чтобы нс in
пать. В ту же минуту я слышу, как нашу парадную дверь кто ю
осторожно открывает. Должно быть, Георг. Над дверью у iirti
звонок, поэтому, чтобы бесшумно открыть ее, нужно bciiiii*
на стул и придержать звонок, а ногой нажать на ручку и о гну»
тить — целый акробатический фокус, выполнить который мол
но, лишь будучи вполне трезвым. Но я знаю, что сегодня нсчс
ром Георг вполне трезв.
До меня доносится шепот, постукивание высоких каблуков
Значит, Лиза, эта тщеславная бестия, опять надела туфли, чю
бы иметь более соблазнительный вид. Дверь в комнату Гсори
словно испускает вздох.
Значит, все-таки он! Кто бы подумал! Георг, такой тихони1
Интересно, когда он успел?
Гроза снова возвращается. Гром усиливается, вдруг, точно
поток серебряных монет, дождь низвергается на мостовую. (hi
отскакивает от нее фонтанчиками водяной пыли, и в лицо
свежестью. Я высовываюсь из окна и вглядываюсь в эту мои
рую сумятицу капель. Водосточные трубы уже стреляют полой,
непрерывно вспыхивают молнии, и при их трепетном muioihmi
ном свете я вижу в комнате Георга обнаженные плечи Лиш
— + 482 + —
и ее руки, которые она подставляет дождю, затем вижу ее толо-
ку и слышу хриплый голос. Лысой головы Георга я не вижу.
Ворота распахиваются от удара кулаком. Насквозь мокрый,
иходит, пошатываясь, фельдфебель Кнопф. С его фуражки ка-
пает. Слава Богу, думаю я, при такой погоде мне не нужно хо-
дить за ним с ведром воды и смывать его свинство! Но мои на-
дежды, увы, не оправдываются. Он даже не смотрит на свою
жертву, на черный обелиск. Чертыхаясь и отмахиваясь от дож-
девых капель, словно от комаров, он спешит укрыться в доме.
Вода — его извечный враг.
Я беру слоновью ногу и высыпаю ее содержимое на улицу.
11отоки воды быстро уносят с собой любовную болтовню Эрны.
Деньги, как всегда, победили, думаю я, хотя они ничего и
не стоят. Я подхожу к другому окну, которое ведет в сад. Вели-
кое пиршество дождя там в полном разгаре, зеленая оргия оп-
лодотворения, бесстыдная и целомудренная. При вспышках
молнии я вижу могильную плиту, предназначенную самоубий-
це. Она отставлена в сторонку, надпись уже выгравирована
и поблескивает золотом. Я закрываю окно и зажигаю свет. Вни-
iy шепчутся Георг и Лиза. Моя комната вдруг кажется мне
до ужаса пустой. Я снова распахиваю окно, вслушиваюсь в ано-
нимное бушевание стихий и решаю потребовать от продавца
Ьдуэра в виде гонорара за последнюю неделю репетирования
сю сына книгу о йогах, самоотречении и самонаполнении. В
ней рассказывается о том, что, делая упражнения с дыханием,
можно добиться необыкновенных результатов.
Ложась спать, я прохожу мимо своего зеркала. Останавлива-
юсь и смотрю в него. Что в нем реально? Откуда берется эта
перспектива, которой там нет, глубина, которая обманывает,
пространство, которое есть плоскость? И кто это смотрит отту-
|ц. хотя его там нет?
Я вижу свои губы, припухшие и запекшиеся, я трогаю их,
и кто-то там напротив касается призрачных губ, которых нет. Я
усмехаюсь, и несуществующий некто тоже качает головой. Кто
из нас подлинный? И где истинный я? Тот, в зеркале, или об-
ученный в плоть и стоящий перед зеркалом? А может быть,
•Чис что-то, стоящее за обоими? По телу пробегает невольная
дрожь, и я гашу свет.
VII
Ризенфельд сдержал слово. Двор весь заставлен надгробия-
ми и постаментами. Те, что отполированы со всех сторон, заби-
1Ы планками и укрыты холщовыми чехлами. Среди могильных
— Ф 483 Ф —
памятников — это примадонны, и с ними нужно обращаться
крайне осторожно, чтобы не повредить граней.
Весь персонал конторы собрался во дворе, чтобы помочь
и поглазеть. Даже старая фрау Кроль ходит между памятники
ми, проверяет, достаточно ли черен и тщательно ли обработан
гранит, и время от времени с мечтательной грустью поглядына
ет на стоящий возле двери черный обелиск — единственное
приобретение ее мужа, которое еще уцелело после его смерти,
Курт Бах дирижирует переноской громадной глыбы песчани
ка в его мастерскую. Из нее родится на свет еще один скорби
щий лев, но на этот раз не скрючившийся, словно от зубной бо
ли, а просто ревущий из последних сил, ибо в боку у него будем
торчать обломок копья. Лев предназначен для памятника но
гибшим воинам деревни Вюстринген, в которой существуй
особенно воинственный союз ветеранов под началом майорв
в отставке Фолькенштейна. Имевшийся у нас скорбящий лев
показался Фолькенштейну слишком дряблым. Охотнее всего он
получил бы льва с четырьмя головами, изрыгающими огонь.
Одновременно мы распаковываем и посылку Вюртембер»
ской фабрики металлических изделий. На землю ставятся в рил
четыре взлетающих орла: два бронзовых и два чугунных. Ими
будут увенчивать другие памятники павшим воинам, чтобы во
одушевлять молодежь нашей страны на новую войну, ибо, как
весьма убедительно поясняет майор в отставке Фолькенштейн,
когда-нибудь должны же мы все-таки победить, а тогда — юре
врагу! Однако орлы скорее похожи на гигантских кур, которьн*
намерены нестись. Но все это, конечно, будет выглядеть иначе,
когда они будут восседать на верхушке памятников. Ведь и и’
нералы, если они не в мундирах, напоминают укротителей сел»*
дей, и даже Фолькенштейн в штатском платье выглядит как pa i
жиревший инструктор спорта. В нашем возлюбленном отечсспа'
внешний вид и дистанция играют решающую роль.
В качестве заведующего рекламой я наблюдаю за расстанои
кой памятников. Их нельзя выстраивать равнодушной шерен
гой, они должны образовать приветливые группы и художсс!
венно распределяться по всему саду. Генрих Кроль против: ему
больше нравится, когда надгробия вытянуты в ряд, как солдат,
все другое кажется ему сентиментальной расслабленностью. К
счастью, наше мнение перевешивает. Даже его мать против и»’
го. В сущности, она всегда против него. Она до сих пор не мн
жет понять, каким образом Генрих оказался ее сыном, а не см
ном майорши Фолькенштейн.
— 4* 484 + —
День стоит голубой и чудесный. Небо вздымается над горо-
дом, как гигантский шелковый шатер. Влажная утренняя све-
жесть еще держится в кронах деревьев. Птицы щебечут, точно
на свете существует только начало лета, их гнезда и юная
ж и шь, начавшаяся в них. Птицам дела нет до того, что доллар,
к.1 к безобразный губчатый гриб, уже распух до пятидесяти ты-
сяч марок. А также до того, что в утренней газете помещено со-
<»6щение о трех самоубийствах — все покончившие с собой
нывшие мелкие рантье, и все выбрали излюбленный способ
нсдняков: газ. Фрау Кубальке засунула голову в духовку газовой
ншгы — так ее и нашли. Советник финансового ведомства,
пенсионер Хопф, тщательно выбритый, облаченный в свой по-
। имний, безукоризненно вычищенный, не раз залатанный кос-
ном, держал в руке четыре совершенно обесцененных тысяч-
ных банкнота с красной печатью, словно входные билеты
на небо; а вдова Глас лежала на пороге кухни, и рядом с ней ва-
ii ялась ее порванная сберегательная книжка, где на текущем
счету у нее было пятьдесят тысяч марок. Банкноты Хопфа
но тысяче марок с красной печатью были для него как бы по;
следними вымпелами надежды: уже давно люди почему-то ста-
'1И верить, что ценность именно таких банкнотов когда-нибудь
опять поднимется. Откуда пошел этот слух — никто не ведает.
11игде на них не написано, что они будут обмениваться на золо-
н), а если бы и было написано — государство, этот неуязвимый
обманщик, который растрачивает биллионы, но сажает за ре-
шетку каждого, кто недодал ему пять марок, всегда найдет
y/ювку, чтобы своего обязательства не выполнить. Только два дня
на 1ад в газете было напечатано разъяснение, что банкноты с крас-
ной печатью никакими привилегиями пользоваться не будут.
Ответом на это явилось сегодняшнее сообщение о самоубий-
» те Хопфа.
Из мастерской гробовщика Вильке доносится громкое посту-
кивание, точно там поселился гигантский веселый дятел. Виль-
м* процветает: ведь гроб нужен все-таки каждому, даже само-
убийце, время братских могил и захоронений в плащ-палатках
••нновало, война кончилась. Человек теперь истлевает в соот-
< к шин со своим сословным положением в медленно гнию-
|'м деревянном гробу, в саване, во фраке без спинки или в бе-
«•»м крепдешиновом платье. Булочник Нибур — даже при
Г и нах и значках всех союзов, членом которых он был; на этом
и и к шла жена. Положила она с ним в гроб и копию знамени
• ii’iccKoro союза «Единодушие». Он был там вторым тенором.
— + 485 + —
Каждую субботу Нибур горланил «Молчание леса» или «Гордо
реет черно-бело-красный флаг», пил столько пива, что можно
было лопнуть, и отправлялся затем домой избивать жену. Не-
сгибаемый человек, как выразился священник в надгробном
слове.
К счастью, Генрих Кроль в десять часов исчезает вместе со
своим велосипедом и брюками в полоску, чтобы начать объезд
деревень. Мы получили столько гранита, что это вселяет трево-
гу в его коммерческое сердце; необходимо поскорее распродать
гранит скорбящим родственникам.
Теперь мы можем развернуться. Прежде всего мы делаем нс
рерыв, и фрау Кроль, чтобы поддержать наши силы, yrouiaci
нас кофе и бутербродами с ливерной колбасой. Под аркой во
рот появляется Лиза, на ней ярко-красное шелковое платье. Но
достаточно одного взгляда фрау Кроль — и она исчезает. Хон.
старуха и не ханжа, но Лизу она терпеть не может.
— Грязнуха, распустеха,— метко определяет она Лизу.
Георг тотчас парирует удар:
— Грязнуха? Почему же грязнуха?
— Да, грязнуха, разве ты не видишь? Сама немытая, а при
крылась шелковым лоскутком!
Я чувствую, что Георг невольно задумывается. Неумытам
возлюбленная никому не приятна, если он сам не опустился. На
миг в глазах его матери вспыхивает молния торжества; потом
она заговаривает о другом. Я смотрю на нее с восхищением,
старуха — прямо полководец, командующий подвижными час
тями,— он наносит стремительный удар и, пока противник под
готавливается к защите, атакует уже совсем в другом месте. Мо
жет быть, Лиза и распустеха, но чтобы ее грязь бросалась
в глаза — это, конечно, неправда.
Три дочери фельдфебеля Кнопфа, стрекоча, выбегают из до
ма. Маленькие, быстрые, кругленькие швеи, как и мать. Целый
день жужжат их швейные машинки. Теперь они, щебеча, ухо
дят, держа в руках свертки с баснословно дорогими шелковыми
рубашками, предназначенными для спекулянтов. Кнопф, эки
старый вояка, не дает из своей пенсии ни гроша на хозяйств»:
о средствах на жизнь должны заботиться эти четыре женщины
Осторожно распаковываем мы два черных памятника с крс
стами. Собственно говоря, их следовало бы поставить у входа
там они были бы особенно эффектны. Зимой мы бы их туда
и поставили, но сейчас май, и, как ни странно, наш двор служи»
местом встреч для кошек и влюбленных. Кошки уже в феврале
начинают орать с высоты надгробий, а потом гоняются дру»
— Ф 486 Ф —
и । другом вокруг цементных обкладок, а едва станет теплее, по-
являются парочки. Они отдаются любви под открытым небом,
л разве для любви когда-нибудь бывает недостаточно тепло?
Хакенштрассе — глухая, тихая улица, наши ворота всегда госте-
приимно открыты, сад густой и старый. Несколько зловещая
выставка надгробий влюбленным парочкам не помеха, наобо-
рот, она как будто особенно разжигает их страсть. Всего две не-
к‘ли тому назад некий капеллан из деревни Галле, привыкший,
как и все святые люди, вставать с петухами, заявился к нам
и семь часов утра, желая приобрести четыре самых маленьких
надгробия на могилы четырех сестер милосердия, умерших
в течение этого года. Когда я, еще полусонный, повел его в сад,
ю едва успел своевременно сбросить с правой перекладины от-
полированного со всех сторон могильного креста развевавшие-
< я там, подобно флажку, розовые вискозные трусики, видимо,
।абытые увлекшейся парочкой. Этот посев жизни, совершаю-
щийся в обители смерти, таит в себе более широкий, поэтичес-
кий смысл, что-то примиряющее, и член нашего клуба Отто
Ьамбус, школьный учитель, пишущий стихи, сейчас же украл
\ меня эту мысль и написал элегию, насыщенную космическим
юмором. Но вообще надгробия все же должны мешать любви,
особенно если поблизости валяется еще пустая бутылка из-под
водки, поблескивая в лучах восходящего солнца.
Я осматриваю нашу выставку. Она производит приятное
впечатление, если так можно выразиться в отношении надгроб-
ных камней, предназначенных для трупов. Оба креста поблес-
кивают на своих цоколях в утреннем солнце, как символы веч-
ности,— отполированные породы некогда пылавшей земли,
1еперь остывшие, обработанные и готовые сохранить для по-
юмства имена какого-нибудь дельца или спекулянта, ибо даже
мошеннику хочется оставить хоть какой-то след на нашей планете.
— Георг,— заявляю я,— надо проследить, чтобы твой брат
случайно не распродал нашу верденбрюкскую Голгофу дере-
венским навозникам, которые заплатят только после сбора уро-
жая. Давай в это голубое утро, под пение птиц и запах кофе, да-
ли м священную клятву: «Эти два креста мы отдадим только
in наличные!».
Георг усмехается.
— Ну, опасность не так уж велика. Мы должны учесть наш
вексель только через три месяца. Всякий раз, когда мы получа-
ем деньги заранее, мы зарабатываем.
487 Ф —
— Много ли мы на этом зарабатываем?— возражаю я.— Ил
люзию, которой мы живем только до следующего курса доллара.
— Ты иногда бываешь слишком практичен.
Георг неторопливо раскуривает сигару, стоящую пять тысяч
марок.
— Вместо того чтобы ныть, ты бы лучше рассматривал ин
фляцию как обратный символ жизни. С каждым прожитым
днем наша жизнь становится на день короче. Мы проживаем
капитал, а не проценты. Доллар поднимается каждый день,
но каждую ночь курс твоей жизни на один день падает. Что если
бы ты написал на эту тему сонет!
Я разглядываю нашего самодовольного Сократа с Хакен
штрассе. Его лысая голова украшена капельками пота, слонин
светлое платье — жемчугами.
— Удивительно, как охотно человек философствует если он
провел ночь не один,— замечаю я.
— А как же иначе?— не дрогнув отвечает Георг.— Филосо
фия должна быть веселой, а не вымученной. Она имеет так же
мало общего с метафизической спекуляцией, как чувственные*
радости с тем, что члены вашего клуба поэтов называют иле
альной любовью. Вот и получается ужасная чепуха.
— Чепуха?— повторяю я, чем-то задетый.— Скажите ножа
луйста! Вот мелкий буржуа с великими приключениями! Ах i ы.
коллекционер бабочек, все-то ты хочешь насадить на булавки!
Разве ты не знаешь, что человек мертв без того, что ты наши
чепухой?
— Ничего подобного. Я только не смешиваю одно с дру
гим.— Георг пускает мне в лицо дым от своей сигары.— Лучше
я буду страдать с достоинством и философской меланхолией
от быстролетности нашей жизни, чем смешивать какую-нибудь
Минну или Анну с прохладной тайной бытия и воображать, бул
то наступает конец света, если эта самая Минна или Анна пред
почтет мне Карла или Йозефа, или Эрна — какого-нибудь выси
ченного сопляка в костюме из английской шерсти.
Он усмехнулся. Я холодно смотрю в его предательские гла ш
— Дешевый выпад, достойный только Генриха,— замечаю я,
Эх ты, скромный любитель доступного! Тогда объясни мне, ножи
луйста, ради чего ты с такой страстью читаешь журналы, где пол
ным-полно описаний недоступных сирен, скандалов в высшем
свете, шикарных актрис и разбивающих сердца кинозвезд?
Георг опять пускает мне в глаза виток сигаретного дыма не
ною в триста марок.
— Ф 488 Ф —
— Я делаю это, чтобы усладить свою фантазию. Ты разве ни-
ми да не слышал о том, что бывает любовь небесная и любовь
и-мпая? Ведь совсем недавно и ты старался сочетать их в отно-
шениях с твоей Эрной и получил серьезный урок, о честный ко-
финальный торговец любовью, который хотел бы держать
в одной лавочке и кислую капусту и икру! Разве ты все еще
не понимаешь, что от этого кислая капуста не начнет благо-
\ \а I ь икрой, но икра всегда будет отдавать кислой капустой? Я
и ржу их как можно дальше одну от другой, и тебе следовало
<>ы делать то же самое! Так удобнее жить. А теперь пойдем по-
। ер идем Эдуарда Кноблоха. Он кормит сегодня тушеной говя-
IIIной с вермишелью.
Я киваю и молча иду,за шляпой. Сам того не замечая, Георг
и .шее мне тяжелый удар, но черт меня забери, если я дам ему
• ю заметить.
Когда я возвращаюсь, в конторе сидит Герда Шнейдер. На
ней зеленый свитер, короткая юбка и огромные серьги с фаль-
шивыми камнями. К левой стороне свитера она приколола цве-
шк из ризенфельдовского букета, который, как видно, спосо-
бен простоять очень долго. Она указывает на цветок и говорит:
— Мерси! Все завидовали мне. Прямо как примадонне.
Я смотрю на нее. Передо мной сидит, вероятно, как раз во-
н кипение того, что Георг называет земной любовью, думаю
।— ясная, крепкая, молодая и без всяких фраз. Я послал ей
инеты, она явилась, и баста. А к цветам отнеслась, как должен
отнестись разумный человек. Вместо того чтобы разыграть
длинную комедию, Герда взяла и пришла. Она выразила этим
свое согласие, и обсуждать уже, собственно, нечего.
— Что ты делаешь сегодня после обеда?— спрашивает Герда.
— Я работаю до пяти. Потом репетирую одного идиота.
— По какому предмету? По идиотизму?
Я усмехаюсь. В сущности — да.
— В шесть ты кончишь. Приходи потом в Альтштедтергоф.
У меня там тренировка.
— Хорошо,— соглашаюсь я не задумываясь.
— Значит, пока...
Она подставляет мне щеку. Я поражен. Посылая ей цветы,
н вовсе не ждал таких результатов. А, собственно, почему бы
и нет? Вероятно, Георг прав. Страдания любви нельзя победить
философией — можно только с помощью другой женщины.
Я осторожны целую Герду в щеку.
— + 489 + —
— Дурачок! — говорит она и со вкусом целует меня в губы.-
У странствующих артистов нет времени заниматься пустяками.
Через две недели я еду дальше. Значит, до вечера.
Она выходит: ноги у нее сильные, крепкие, плечи тоже силь
ные. На голове — красный берет. Она, видимо, любит яркие
расцветки. Выйдя из дома, Герда останавливается возле обели
ска и смотрит на нашу Голгофу.
— Вот наш склад,— говорю я.
Она кивает:
— Дает что-нибудь?
— Так себе... По теперешним временам...
— И ты тут служишь?
— Да. Смешно, правда?
— Ничего смешного нет. А что тогда сказать про меня, когда
я в «Красной мельнице» просовываю голову между ног? Ты ду
маешь, Бог хотел именно этого, когда создавал меня? Значи1,
в шесть.
Из сада выходит старая фрау Кроль с кувшином в руках.
— Вот хорошая девушка,— говорит старуха и смотрит Герде
вслед.— Кто она?
— Акробатка.
— Так, акробатка,— говорит она удивленно.— Акробаты
по большей части порядочные люди. А она не певица, нет?
— Нет. Настоящая акробатка. Со всякими сальто, хождепи
ем на руках и выворачиваниями тела, как человек-змея.
— Вы, видно, знаете ее довольно хорошо. Она хотела что-ни
будь купить?
— Пока еще нет.
Старуха смеется. Стекла ее очков поблескивают.
— Милый Людвиг,— говорит она.— Вы не поверите, какой
глупой вам покажется ваша теперешняя жизнь, когда вам будем
семьдесят.
— В этом я отнюдь не уверен,— заявляю я.— Она мне и к*
перь уже кажется довольно глупой. А как вы, между прочим,
относитесь к любви?
— К чему?
— К любви. К любви небесной и земной.
Фрау Кроль от души смеется.
— Об этом я давным-давно забыла, и слава Богу!
Я стою в книжном магазине Артура Бауэра. Сегодня денк
расчета за репетирование его сына. Артур-младший восподь ю
в ал с я случаем и положил мне на стул в качестве приветствии
— + 490 + —
несколько кнопок. За это я с удовольствием ткнул бы его бара-
ньим лицом в аквариум с золотыми рыбками, украшающий их
н ношевую гостиную, но надо было сдержаться, иначе Артур-
парший не расплатится со мной, и Артур-младший отлично
но знает.
— Значит, йоги,— бодро заявляет Артур-старший и подвига-
ei ко мне стопку книг.— Я тут отобрал вам все, что у нас есть.
Йоги, буддизм, аскетизм, созерцание пупка... вы что, намерены
иать факиром?
Я неодобрительно разглядываю его. Он низенький, с острой
бородкой и юркими глазками. Еще один стрелок, думаю я, ко-
юрый целится сегодня в мое подбитое сердце! Но с тобою, пе-
ресмешник,я твоей дешевой иронией я уж справлюсь, ты не Ге-
opi! И я решительно спрашиваю:
— Скажите, господин Бауэр, в чем смысл жизни?
Артур смотрит на меня с напряженным ожиданием, точно
пудель.
— Ну и?
— Что — ну и?
— В чем же соль? Это ведь острота — или нет?
— Нет,— холодно отвечаю я.— Это анкета — ради блага моей
юной души. Я задаю этот вопрос многим людям, особенно тем,
кому надлежало бы иметь и ответ на него.
Артур перебирает пальцами бороду, точно струны арфы.
— Но, конечно, вы задаете такой вопрос не всерьез? Сейчас,
и понедельник, после обеда, когда самая торговля, он особенно
нелеп! И вы хотите еще получить на него ответ?
— Да,— заявляю я,— но только признайтесь сейчас же! Вы
гоже не знаете! Даже вы, несмотря на все ваши книги!
Артур уже не перебирает бороду, а запускает пальцы в волосы.
— Господи Боже мой! Вот уж не было печали! Обсуждайте
шкие вещи в своем клубе поэтов!
— В клубе поэтов этот вопрос только поэтически запутывают.
Я же хочу знать истину. Для чего я живу, а не остался червем?
— Истину! — блеет Артур.— Ну, это вопрос для Пилата. И ме-
UH не касается. Я торгую книгами, к тому же я супруг и отец, мне
П’ого достаточно.
Я смотрю на торговца книгами, супруга и отца. Справа у него
пи носу прыщ.
— Так, значит, вам достаточно...— решительно говорю я.
— Достаточно,— твердо констатирует Артур.— Иной раз
ниже слишком.
— Ав двадцать пять вам этого тоже было достаточно?
— 4* 491 Ф —
Артур таращит на меня голубые глаза.
— В двадцать пять? Нет. Тогда я еще только хотел стать...
— Кем?— спрашиваю я с новой надеждой.— Человеком?
— Книготорговцем, супругом и отцом. Человек я и без того.
Правда, пока еще не факир.
Сделав этот второй безобидный выпад, он угодливо спеши»
навстречу какой-то даме с большой отвисшей грудью. Дама же-
лает приобрести роман Рудольфа Герцога. Я рассеянно листаю
книгу о радостях аскетизма и торопливо откладываю ее в сторо
ну. Днем к этим вещам чувствуешь гораздо меньшую склон
ность, чем ночью, когда ты одинок и ничего другого не остается.
Я подхожу к палкам с книгами по религии и философии. Они -
гордость Артура Бауэра. У него собрано здесь примерно все,
что люди за несколько тысяч лет напридумывали относительно
смысла жизни. Поэтому можно было бы за несколько сотен ты
сяч марок получить достаточную информацию, сейчас даже
за меньшую сумму — примерно за двадцать-тридцать тысяч ма
рок, ибо если смысл жизни действительно познаваем, то достп
точно было бы и одной книги. Но где она, эта книга? Я обвожу
глазами полки, сверху вниз и снизу вверх,— отдел этот пред
ставлен у Бауэра очень богато — и вдруг теряюсь. Мне начинас»
казаться, что с истиной о смысле жизни дело обстоит примерно
так же, как с жидкостями для ращения волос: каждая фирма
превозносит свою как единственную и совершенную, а голова
Георга Кроля, хотя он их все перепробовал, остается лысой,
и ему следовало это знать с самого начала. Если бы существом»
ла жидкость, от которой волосы действительно росли, то ею од
ной люди и пользовались бы, а изобретатели всех других давно
бы обанкротились.
Бауэр возвращается.
— Подобрали что-нибудь?
— Нет.
Он смотрит на отодвинутые мною книги.
— Значит, становиться факиром ни к чему?
Я не сразу даю отпор скромному остряку.
— Книги вообще ни к чему,— спокойно отвечаю я.— Когда по
смотришь, сколько здесь всего понаписано, и сравнишь с тем, кик
выглядит жизнь на самом деле, то, пожалуй, решишь читать толь
ко меню «Валгаллы» да семейные новости в ежедневной газе i г
— Почему?— спрашивает слегка испуганный книготорг
вец, супруг и отец.— Книга способствует образованию, это и i
вестно каждому.
— Вы уверены?
— Ф 492 Ф —
Черный обелиск»
— Конечно! Иначе что бы стали делать книготорговцы?
Артур снова как вихрь уносится прочь. Какой-то человек с ко
роткой бородкой желает получить книгу «Непобедима на поле
брани». Это нашумевшая новинка послевоенного времени. Не-
кий безработный генерал доказывает, что немецкая армия в этой
войне все же до конца оставалась победоносной.
Артур продает подарочное издание в кожаном переплете,
тисненном золотом. Смягченный удачной продажей, он возври
щается ко мне.
— А что, если вы возьмете что-нибудь из классики? Ан
тикварную книгу, конечно.
Я качаю головой и молча показываю ему то, что в его отсу i
ствие отыскал на выставке. Книга называется «Светский чело
век» — это руководство по части хороших манер, необходимым
в любых случаях жизни.
Я терпеливо жду неизбежных плоских острот по адресу кавале
ров, мечтающих стать факирами, и так далее. Но Артур не острит,
— Полезная книга,— деловито заявляет он.— Следовало бы
выпустить массовым тиражом. Ладно, значит, мы квиты? Да?
— Нет. У меня тут есть еще кое-что.— Я показываю ему то
ненькую книжечку, «Пир» Платона.— Это вот в придачу.
Артур считает в уме.
— Получается не совсем то, да уж ладно. За «Пир» будем
считать как за антикварную книгу.
Я прошу, чтобы «Руководство» завернули в бумагу и перени
зали бечевкой. Ни за что на свете не хотел бы я, чтобы кто-пн
будь поймал меня с этой книжкой. Однако решаю сегодня же
вечером заняться ее изучением: известная шлифовка никогдн
не помешает, а насмешки Эрны еще слишком свежи в моей пи
мяти. Во время войны мы порядком одичали, но невоспитан
ность может позволить себе лишь тот, кто прикрывает ее наби
той мошной. Мошны у меня нет.
Довольный, выхожу я на улицу. И тотчас с шумом на меня на
двигается жизнь. В огненно-красной машине проносится мимо,
не видя меня, Вилли. Я крепче прижимаю к себе локтем «Руко
водство» для светских людей. Вперед, в гущу жизни, говорю
я себе. Да здравствует земная любовь! Долой грезы! Долой вид?
ния! Это столько же относится и к Эрне, и к Изабелле. А для души
у меня остается Платон.
«Альтштедтергоф» — это ресторан при гостинице, его пост
тители — странствующие актеры, цыгане, возчики. В нижнем
этаже находится с десяток комнат, которые сдаются, а в заднем
— + 494 + —
флигеле имеется большой зал с роялем и набором гимнастиче-
ских снарядов, на которых артисты могут тренироваться. Но глав-
ную роль играет пивная. Она служит не только местом встреч для
лкгеров варьете: здесь бывают и городские подонки.
Я иду во флигель и открываю дверь в зал. У рояля стоит Рене де
ia Тур и репетирует дуэт. В глубине какой-то человек дрессиру-
с| двух белых шпицев и пуделя. Две мощные женщины лежат
с нрава на циновке и курят, а на трапеции, просунув ноги под
нее и между руками и выгнув спину, мне навстречу раскачива-
йся Герда, словно фигура на носу корабля.
Обе мощные гимнастки в купальных костюмах. Они потяги-
ваются, играя мускулами. Это, без сомнения, женщины-борцы,
пыступающие в программе «Альтштедтергофа». Увидев меня,
Рене рявкает поистине командирским басом «добрый вечер»
и подходит ко мне. Дрессировщик свистит. Собаки исполняют
< лльто. Герда равномерно проносится на трапеции вперед и на-
1ад, и я вспоминаю те минуты, когда она в «Красной мельнице»
। мотрела на меня, просунув голову между ног. На ней черное
। рико, волосы крепко стянуты красным платком.
— Она упражняется,— пояснила Рене,— хочет вернуться
II цирк.
— В цирк?— Я с новым интересом смотрю на Герду.— Разве
• »на уже выступала в цирке?
— Ну конечно. Она же там выросла. Но тот цирк прогорел.
11с было денег на мясо для львов.
— А разве она работала со львами?
Рене хохочет фельдфебельским голосом и насмешливо смот-
рит на меня.
— Это было бы увлекательно, верно? Нет, она была акробаткой.
Герда снова вихрем проносится над нами. Она смотрит
нн меня неподвижным взглядом, словно желая загипнотизиро-
вать. Но этот взгляд относится вовсе не ко мне, он неподвижен
от напряжения.
— А что, Вилли в самом деле богат?— осведомляется Рене де
'in Тур.
— Я думаю! То, что теперь называется богатым! Он — Делец,
н у него куча акций, которые каждый день поднимаются. А по-
чему вы спрашиваете?
— Мне нравится, когда мужчина богат.— Рене смеется на со-
прановых нотах.— Каждой даме это нравится,— рычит она тут
же басом, словно мы в казармах.
— Да, я уже заметил,— отзываюсь я с горечью.— Богатый
• некулянт желаннее, чем достойный, но бедный служащий.
— 4* 495 4* —
Рене трясется от хохота.
— Богатство и честность не соединимы, малыш! В наши дни —
нет! Вероятно, и раньше — тоже никогда.
— В крайнем случае, если получил наследство или выиграл
главный приз.
— Ив таком случае — нет. Деньги портят характер, разве вы
этого еще не знаете?
— Знаю. Но тогда почему вы придаете им такое значение?
— Потому, что характер для меня не играет роли,— чирики
ет Рене де ла Тур жеманным, стародевьим голосом.— Я люблю
комфорт и обеспеченность.
Герда летит на нас в безукоризненном сальто. В нескольким
шагах от меня останавливается, два-три раза раскачиваем си
на носках и смеется.
— Рене врет,— заявляет она.
— Ты разве слышала то, что она рассказывала?
— Каждая женщина врет,— отвечает Рене ангельским голо
сом,— а если не врет, так ей грош цена.
— Аминь,— отзывается дрессировщик.
Герда приглаживает рукой волосы.
— Ну, я кончила. Подожди, сейчас переоденусь.
Она идет к двери, на которой висит дощечка с надписью
«Гардероб». Рене смотрит ей вслед.
— А хорошенькая,— говорит Рене со знанием дела.— И смо
трите, как держится. У нее правильная походка, для женщины
это главное. Зад не выпячен, а втянут. Акробаты это умеют.
— Я уже это слышал,— отвечаю я,— от знатока женщин
и гранита. А как нужно правильно ходить?
— У вас должно быть такое чувство, что вы зажали ягодице
ми монету в пять марок — а потом об этом забыли.
Я пытаюсь представить себе подобное ощущение. Но не moi у
слишком уж давно я не видел монеты в пять марок, однвмп
я знаю женщину, которая может таким способом вырвать из пены
железный гвоздь средней величины. Это фрау Бекман, подруи
сапожника Карла Бриля. Могучая женщина, прямо как из желе
за. Благодаря ей Бриль выиграл не одно пари, и мне самому до
водилось восхищаться ее мастерством. Происходит это так: вен*
ну мастерской забивается гвоздь, не очень глубоко, конечно,
но все же настолько, что, когда вытаскиваешь его рукой, прими
дится делать сильный рывок. Затем будят фрау Бекман. И они
появляется в мастерской, среди пьющих мужчин, в легком мили
тике, серьезная, трезвая, деловитая. На головку гвоздя наспжи
вают немного ваты, чтобы фрау Бекман не поранила себя; пня
— + 496 4* —
становится за невысокую ширму, спиной к стене, слегка накло-
нившись вперед, целомудренно запахнув халат, и кладет руки
на край ширмы. Потом делает несколько движений, чтобы за-
хватить гвоздь своими окороками, и вдруг напрягает все тело,
выпрямляется, ослабляет мышцы, и гвоздь падает на пол. А
за ним обычно сыплется струйкой немного известки. Затем
фрау Бекман молча, без всяких признаков торжества, повора-
чивается и уходит наверх, а Карл Бриль собирает деньги со сво-
их пораженных партнеров. Дело поставлено на строго спортив-
ную ногу: никто не смотрит на мощную фигуру фрау Бекман
иначе, чем с чисто профессиональной точки зрения. И никто
не позволяет себе ни одного вольного слова. А если бы кто
и дерзнул, она закатила бы ему такую оплеуху, что у него искры
из глаз посыпались бы. Фрау Бекман богатырски сильна: обе жен-
. щины-борцы перед ней — худосочные девчонки.
— Итак, дайте Герде счастье,— лаконично заявляет Рене.—
На две недели. Как просто, не правда ли?
Я стою перед нею несколько смущенный. В руководстве
к хорошему тону такая ситуация наверняка не предусмотрена.
К счастью, появляется Вилли. Он одет весьма элегантно, на го-
лове чуть набекрень сидит легкое серое борсалино, однако Вил-
ли все-таки производит впечатление цементной глыбы, в кото-
рую воткнуты искусственные цветы. Аристократическим
жестом подносит он к губам руку Рене, затем вынимает из бу-
мажника маленький футлярчик.
— Самой интересной женщине в Верденбрюке,— заявляет
он, отвешивая поклон.
Рене испускает сопрановый вскрик и, словно не веря своим
глазам, смотрит на Вилли. Затем открывает футляр. Там побле-
скивает золотое кольцо с аметистом. Она надевает его на сред-
ний палец левой руки, с восхищением глядит на него и бросает-
ся Вилли на шею. А Вилли стоит такой гордый и ухмыляется.
Он наслаждается сопрановым щебетанием и басовыми нотами
и голосе Рене, которая от волнения то и дело их путает.
— Вилли!— взвизгивает она и тут же басит: — Я так счаст-
лива!
В купальном халате выходит из гардеробной Герда. Она ус-
лышала шум и пришла посмотреть, в чем дело.
— Собирайтесь, дети мои,— говорит Вилли,— уйдем отсюда.
Обе девушки исчезают.
— Неужели, обормот ты этакий, нельзя было отдать Рене
кольцо потом, когда вы остались бы одни?— спрашиваю я.—
Ну что мне теперь делать с Гердой?
— + 497 + —
Вилли разражается добродушным хохотом.
— Вот горе, об этом я и не подумал. Что нам действительно
с ней делать? Пойдем вместе с нами обедать.
— Чтобы мы все четверо целый вечер таращили глаза
на кольцо Рене? Исключается.
— Послушай,— отвечает Вилли.— Мой роман с Рене совсем
другое, чем у тебя с Гердой. Мое чувство очень серьезно. Хо
чешь верь, хочешь нет. Я с ума схожу по ней. Правда, схожу.
Она же такая шикарная девочка!
Мы усаживаемся на старые камышовые стулья, стоящие
у стены. Белые шпицы теперь упражняются в хождении на не
редких лапах.
— И представь,— продолжает Вилли,— меня сводит с ума
именно ее голос. Ночью это прямо как наваждение. Словно об
ладаешь сразу двумя женщинами. Одна — нежное создание,
другая — торговка рыбой. Когда она в темноте пустит в ход
свой командирский бас, меня прямо мороз по коже подирает,
чертовски странное ощущение. Я, конечно, не ухаживаю
за мужчинами, но мне иногда чудится, будто я издеваюсь нал
генералом или этой сволочью унтер-офицером Флюмером, он
ведь и тебя истязал, когда ты был рекрутом; иллюзия продолжи
ется один миг, потом все опять в порядке. Ты понимаешь, чю
я хочу сказать?
— Приблизительно.
— Так вот она поймала меня. Мне не хочется, чтобы она ye i
жала. Обставлю ей квартирку...
— Ты считаешь, что она бросит свою профессию?
— А на что она ей? Будет время от времени брать ангажемен i
Тогда я поеду с ней. У меня ведь тоже профессия разъездная.
— Почему ты на ней не женишься? Ведь денег у тебя хвати 11
— Женитьба — это совсем другое,— заявляет Видли.— Кии
можно жениться на женщине, которая в любую минуту можи|
по-генеральски заорать на тебя? Ведь каждый раз пугаешься,
когда она неожиданно рявкнет,— уж это, видно, у нас, немцев,
в крови. Нет, если я когда-нибудь женюсь, то на маленькой ено
койной толстушке, первоклассной кулинарке. Рене, мой миль
чик,— типичная содержанка.
Я с удовольствием смотрю на этого светского человека. В cio
улыбке — сознание своего превосходства. Учиться по книжю*
хорошим манерам ему не нужно. Я отказываюсь от иронии. Кв
кая уж тут ирония, если человек имеет возможность дари и,
аметистовые кольца. Женщины-борцы лениво поднимаю и н
— + 498 + —
и несколько раз схватываются друг с другом. Вилли с интересом
наблюдает за ними.
— Основательные бабы,— шепчет он, словно кадровый
обер-лейтенант перед войной.
— Что это за штучки? Смотреть вправо! Смирно! — рявкает
ia нашей спиной басовитый голос.
Вилли вздрагивает. Это Рене. Она стоит позади нас, поблес-
кивая кольцом, и улыбается.
— Теперь ты понял, о чем я говорил?— обращается ко мне
Вилли.
Я понимаю. Они уходят. Перед домом их ждет машина Вил-
яя —красный кабриолет с сиденьями, обтянутыми красной кожей.
Я рад, что Герда долго переодевается. По крайней мере не уви-
дит машины. Обдумываю, какую программу я мог бы предло-
жить ей на сегодня. Единственное, чем я располагаю, кроме
«Руководства», это талоны ресторана Кноблоха, но они, к сожа-
лению, вечером недействительны. Все же я решаю рискнуть
и воспользоваться ими, наврав Эдуарду, что это два последних.
А вот и Герда. Я не успеваю рта раскрыть, как она заявляет:
— Знаешь, чего мне хочется, дорогой? Давай поедем куда-
нибудь за город. На трамвае. Мне хочется погулять.
Я изумленно смотрю на нее и ушам своим не верю. Гулянье
на лоне природы — это как раз то, за что Эрна, змея, ядовито
упрекала меня. Неужели она что-нибудь рассказала Герде? С
нее станется.
— Я думал, что мы могли бы пойти в «Валгаллу»,— отвечаю
и осторожно и недоверчиво.— Там замечательно.
Герда качает головой.
— Зачем? Да и погода слишком хороша. Я приготовила пе-
ред вечером картофельный салат. Вот!— она показывает свер-
ши.— Мы закусим на открытом воздухе и возьмем еще сосисок
и нива. Хорошо?
Я молча киваю, злость кипит во мне. Я не забыл упреков Эрны
но адресу сельтерской и сосисок, пива и дешевого молодого вина.
— Мне ведь надо рано вернуться и в девять быть уже в «Крас-
ной мельнице», в этом мерзком вонючем балагане,— продолжа-
<ч Герда.
Мерзкий вонючий балаган? Я снова изумленно смотрю
и.। нее. Но взгляд Герды простодушен и чист, без всякой иро-
нии. И вдруг мне все становится ясно. То, что для Эрны — вож-
ir 1енный рай, для Герды — просто место ее работы! Она нена-
пи 1ит балаган, который Эрна обожает. Спасены, думаю я, слава
icbe. Господи! И «Красная мельница» с ее сумасшедшими цена-
— 4* 499 Ф —
ми исчезает бесследно, как исчезает в люке Гастон Мюнх в ро
ли отца Гамлета на сцене городского театра. Перед моим мыс
ленным взором встает вереница блаженных тихих дней с бутер
бродами и домашним салатом. Простая жизнь! Земная любовь!
Душевный мир! Наконец-то! Пусть кислая капуста, я не возра
жаю, ведь и кислая капуста может быть чем-то прекрасным! Если,
например, приготовить ее с ананасами и отварить в шампанском!
Правда, я еще никогда не ел ее в таком виде, но Эдуард Кноблох
уверяет, что это блюдо правящих королей и поэтов.
— Хорошо, Герда,— сдержанно соглашаюсь я.— Если тебе*
так уж этого хочется, погуляем в лесу.
VIII
Деревня Вюстринген пышно разукрашена флагами. Все мы
в сборе — Георг и Генрих Кроли, Курт Бах и я. Происходит осин
щение памятника павшим воинам; памятник поставила наша
контора по продаже надгробий.
Пастыри обоих вероисповеданий сегодня утром торжествен
но отслужили заупокойную службу, каждый по своим убиен
ным. При этом на стороне католического священника ока ш
лись решительные преимущества: у него и церковь больше,
и стены пестро размалеваны, и в окнах цветные стекла, фимиам,
парчовые одежды, причетники служат в красных с белым стиха
рях. А у священника-протестанта только и есть что часовня с уны
лыми стенами и самыми обыкновенными окнами, и он стоит ри
дом с католиком, как бедный родственник. На католике нарядные
кружева, его окружает хор мальчиков, а протестант — в черном
сюртуке, вот и весь его парад. Как специалист по рекламе, я вы
нужден признать, что в этом отношении католицизм значительно
перекрыл Лютера: он обращается к воображению, а не к рассудку
Его священнослужители выряжены, точно колдуны у первобьи
ных народов, а католическая служба — по своему настроению,
своим краскам, запаху ладана, пышным обрядам,— словом,
по всему своему оформлению — никем не превзойдена. Прокч
тант это чувствует; он тощий, в очках. А католик краснощекий,
полный, и у него красивая седина.
Каждый сделал для своих покойников все, что было в ею гн
лах. К сожалению, среди павших на поле боя — два еврея, сы
новья скотопромышленника Леви. Им отказано в духовном у ц*
шении. Против присутствия раввина решительно восстали оба
соперничающих священнослужителя, к ним присоединил свой
голос и председатель Союза ветеранов войны, отставной майор
Фолькенштейн, антисемит, убежденный в том, что война про
— + 500 + —
играна только по вине евреев. Но если спросить его, при чем
। у г евреи, то он немедленно назовет тебя государственным из-
менником. Он возражал даже против того, чтобы имена брать-
ев Леви были выгравированы среди других на мемориальной
доске, ибо, по его утверждению, они пали далеко от линии
фронта. Но в конце концов майора все-таки уломали. Местный
и । проста использовал свое влияние и основательно нажал. Дело
в том, что его собственный сын в 1918 году умер в верденбрюк-
гком тыловом госпитале от гриппа, а на передовой никогда и
не был. Отцу же хотелось, чтобы его имя в качестве героя тоже
поместили на мемориальную доску: смерть есть смерть, заявил
он, и солдат — это солдат,— вот почему братьям Леви отвели
ma нижних места на задней стороне памятника. Там, где про-
шв их имен, вернее всего, будут подымать лапу собаки.
Фолькенштейн в полной форме кайзеровского времени. Это,
правда, зайрещено, но кто может помешать ему? Странная пе-
ремена, начавшаяся вскоре после перемирия, продолжается.
Война, которую почти все солдаты в 1918 году ненавидели, для
। сх, кто благополучно уцелел, постепенно превратилась в вели-
чайшее событие их жизни. Они вернулись к повседневному су-
шествованию, которое казалось им, когда они еще лежали
и окопах и проклинали войну, каким-то раем. Теперь опять на-
(|упили будни с их заботами и неприятностями, а война вспо-
минается как что-то смутное, далекое, отжитое, и поэтому, по-
мимо их воли и почти без их участия, она выглядит совсем
иначе, она подкрашена и подменена. Массовое убийство пред-
। кию как приключение, из которого удалось выйти невреди-
мым. Бедствия забыты, горе просветлено, и смерть, которая те-
ня пощадила, стала такой, какой она почти всегда бывает
и жизни,— чем-то отвлеченным, уже нереальным. Она — ре-
.11ьность, только когда поражает кого-то совсем рядом или тя-
пс1ся к нам самим. Союз ветеранов под командой Фолькен-
штейна, дефилирующий сейчас мимо памятника, был в 1918
юлу пацифистским; сейчас у него уже резко выраженная наци-
оналистическая окраска. Воспоминания о войне и чувство бое-
iioi’o товарищества, жившие почти в каждом из его членов,
Фолькенштейн ловко подменил гордостью за войну. Тот, кто
»шшен национального чувства, чернит память павших героев,
н их бедных обманутых павших героев, которые охотно бы еще
пожили на свете. И с каким удовольствием они сбросили бы
Фолькенштейна с помоста, откуда тот как раз произносил речь,
сели бы только были в состоянии это сделать. Но они беззащит-
ны, они — собственность нескольких тысяч таких вот фолькен-
— Ф 501 4* —
штейнов, которые используют их для своих корыстных целей. И
прикрывают эти цели словами о любви к отечеству и о нацио-
нальном чувстве. Любовь к отечеству! Для Фолькенштейна это
означает снова надеть мундир, получить чин полковника и сно-
ва посылать людей на убой.
Он гремит с трибуны и уже дошел до слов о неслыханной
подлости, об ударе кинжалом в спину, о непобедимости герман-
ской армии и до торжественной клятвы чтить память наших по'
гибших героев, мстить за них, воссоздать германскую армию.
Генрих Кроль благоговейно слушает: он верит каждому слону.
Курт Бах, создавший фигуру льва с копьем в боку, венчаю-
щую памятник, тоже приглашен и мечтательно смотрит на ук
рытый покрывалом памятник. У Георга Кроля такой вид, слов-
но он жизнь готов отдать за одну сигару. Я же, в своей взятой
напрокат визитке, жалею, что пришел, лучше бы я спал с Гер
дой в ее комнате, увитой диким виноградом, а оркестр в «Алы -
штедтергофе» наигрывал бы «Сиамский марш».
Фолькенштейн завершает свою речь троекратным «ура». Ор
кестр начинает песню о «славном камраде». Хор поет ее в дни
голоса. Мы все подхватываем. Это нейтральная песня, без вся
кой политики и призыва к мести — просто жалоба на то, что
убит товарищ.
Оба пастыря выступают вперед. С памятника спадает по
кров. Наверху — ревущий лев Курта Баха. На ступеньках сидя1
четыре готовых взлететь бронзовых орла. Мемориальные доски -
из черного гранита. Это очень дорогой памятник, и мы должны
получить за него деньги сегодня же, во второй половине дня
Так нам обещано, потому мы и здесь. Если мы денег не полу
чим, это будет почти банкротство. За последнюю неделю дол
лар поднялся чуть не вдвое.
Духовные пастыри освящают памятник, каждый во имя и oi
имени своего Бога. На фронте, когда нас заставляли прису i
ствовать при богослужении и служители разных вероисповедп
ний молились о победе немецкого оружия, я размышлял о том.
что ведь совершенно так же молятся за победу своих стран ин
глийские, французские, русские, американские, итальянские,
японские священнослужители, и Бог рисовался мне чем-то про
де этакого' озадаченного председателя обширного союза, осо
бенно если молитвы возносились представителями двух воюю
щих стран одного и того же вероисповедания. На чью же
сторону Богу стать? На ту, в которой населения больше, или i де
больше церквей? И как это он так промахнулся со своей спрм
ведливостью, если даровал победу одной стране, а другой в по
— Ф 502 4* —
(>еде отказал, хотя и там молились не менее усердно! Иной раз
он представлялся мне выгнанным старым кайзером, который
некогда правил множеством государств; ему приходилось пред-
с1авительствовать на протяжении долгого времени, и всякий
раз надо было менять мундир — сначала надевать католичес-
кий, потом протестантский, евангелический, англиканский,
епископальный, реформатский, смотря по богослужению, кото-
рое в это время совершалось, точно так же как кайзер присут-
С1вует на парадах гусар, гренадеров, артиллеристов, моряков.
Собравшиеся возлагают венки. Мы тоже — от имени нашей
фирмы. Фолькенштейн вдруг затягивает срывающимся голосом
Германия, Германия превыше всего». Это, видимо, програм-
мой не предусмотрено: оркестр молчит, и только несколько го-
юсов подтягивают. Фолькенштейн багровеет и в бешенстве
оборачивается. В оркестре начинают подыгрывать труба и анг-
шйский рожок. Они заглушают Фолькенштейна, который те-
перь одобрительно кивает. Потом вступают остальные инстру-
менты, и в конце концов присоединяется добрая половина
присутствующих; однако Фолькенштейн начал слишком высо-
ко, и получается скорее какой-то визг. К счастью, запели и да-
мы. Хотя они стоят позади, но все же спасают положение и по-
бедоносно доводят песню до конца. Не знаю почему, мне
вспоминается Рене де ла Тур: она бы одна заменила их всех.
После торжественной части начинается веселье. Мы еще
не уходим, так как денег пока не получили. Из-за длиннейшей
н;ириотической речи Фолькенштейна мы пропустили полуден-
ный курс доллара,— вероятно, фирма потерпит значительный
Убыток. Жарко, и чужая визитка жмет в груди. На небе стоят
и истые белые облака, на столе стоят толстые стаканчики с вод-
кой и высокие стаканы с пивом. Умы разгорячены, лица лоснят-
* я от пота. Поминальная трапеза была жирна и обильна. А ве-
чером в пивной «Нидерзексишергоф» состоится большой
||?нриотический бал. Всюду гирлянды бумажных цветов, флаги,
l».i имеется, черно-бело-красные, и венки из еловых веток. Только
и крайнем деревенском доме из чердачного окна свешивается
черно-красно-золотой флаг. Это флаг германской республики.
А черно-бело-красные — это флаги бывшей кайзеровской им-
перии. Они запрещены, но Фолькенштейн заявил, что покойни-
ки пали под славными старыми знаменами былой Германии
и тот, кто поднимет черно-красно-золотой флаг,— изменник.
Поэтому столяр Бесте, который там живет,— изменник. Прав-
да, на войне ему прострелили легкое, но он все-таки изменник.
— Ф 503 Ф —
В нашем возлюбленном отечестве людей очень легко объявляю!
изменниками. Только такие вот Фолькенштейны никогда ими
не бывают. Они — закон. Они сами определяют, кто изменник
Атмосфера накаляется. Пожилые люди исчезают. Часть члс*
нов союза — тоже. Им нужно работать на полях. Духовные им
стыри давно отбыли. Железная гвардия, как ее назвал Фольксн
штейн, остается. Она — гвардия — состоит из более молодых
людей. Фолькенштейн, который презирает республику, но пен
сию, дарованную ею, приемлет и употребляет ее, чтобы натри
вливать людей на правительство, произносит еще одну речь
и начинает ее словом «камрады». Я нахожу, что это уже слиш
ком. «Камрадами» нас никакой Фолькенштейн не называл, koi
да мы еще служили в армии. Мы были тогда просто «пехтура»,
«свиньи собачьи», «идиоты», а когда приходилось тую,
то и «люди». Только один раз, вечером, перед атакой, живодер
Гелле, бывший лесничий, а ныне обер-лейтенант, назвал iuu
«камрады». Он боялся, как бы на следующее утро кто-нибудь
не выстрелил ему в затылок.
Мы идем к старосте. Он дома, пьет кофе с пирожными, кури *
сигары и уклоняется от оплаты. Собственно говоря, мы этою
ждали. К счастью, Генриха Кроля нет с нами; он остался подле
Фолькенштейна и с восхищением его слушает. Курт Бах ушм
в поле с ядреной деревенской красавицей, чтобы наслаждаться
природой. Георг и я стоим перед старостой Деббелингом, кою
рому поддакивает его письмоводитель, горбун Вестгауз.
— Приходите на той неделе,— добродушно заявляет ДебПе
линг и предлагает нам сигары.— Тогда мы все подсчитаем и ш
платим вам сполна. А сейчас, в этой суете, мы еще не успели рм
зобраться.
Сигары мы закуриваем.
— Возможно,— замечает Георг.—Но деньги нам нужны ср
годня, господин Деббелинг.
Письмоводитель смеется.
— Деньги каждому нужны.
Деббелинг подмигивает Вестгаузу и наливает водки.
— Выпьем за это.
Не он пригласил нас на торжество. Пригласил Фолькри
штейн, который не думает о презренных ассигнациях. Дсббр
линг предпочел бы, чтобы ни один из нас не явился — ну, в криИ
нем случае Генрих Кроль, с этим легко было бы справиться.
— Мы договорились, что при освящении будут выплачены
и деньги,— заявляет Георг.
Деббелинг равнодушно пожимает плечами.
— Ф 504 + —
— Да ведь это почти то же самое, что сейчас, что на той не-
кие. Если бы вам везде так быстро платили...
— И платят, без денег мы не отпускаем товар.
— Ну на этот раз дали же! Ваше здоровье!
От водки мы не отказываемся. Деббелинг подмигивает пись-
моводителю, который с восхищением смотрит на него.
— Хорошая водка.
— Еще стаканчик?— спрашивает письмоводитель.
— Почему не выпить.
Письмоводитель наливает нам. Мы пьем.
— Значит, так,— заявляет Деббелинг.— На той неделе.
— Значит, сегодня! — говорит Георг.— Где деньги?
Деббелинг обижен. Мы пили их водку и курили их сигары,
ошако по-прежнему продолжаем требовать денег. Так не по-
сыпают.
— На той неделе,— повторяет он.— Еще стаканчик на про-
щанье?
— Почему не выпить...
Деббелинг и письмоводитель оживляются. Они считают, что
icю в шляпе. Я выглядываю в окно. Там, словно картина в ра-
мс. передо мной пейзаж, озаренный вечерним светом,— воро-
ia, дуб, а за ними — беспредельно мирные поля, то нежно зеле-
ные. то золотистые. И зачем мы все здесь грыземся друг с другом?
Ра же это не сама жизнь — золотая, зеленая и тихая в равномер-
ном дыхании времен года? А во что мы превратили ее?
— Очень сожалею,— слышу я голос Георга,— но мы вынуж-
|сны на этом настаивать. Вы же знаете, что на той неделе день-
|н будут гораздо дешевле. Мы и так уж потеряли на вашем за-
как\ Все это тянулось на три недели дольше, чем мы
предполагали.
Староста хитро поглядывает на него.
— Ну тогда еще одна неделя не составит большой разницы.
Вдруг письмоводитель заблеял:
— А что вы сделаете, если не получите денег? Вы же не мо-
aci с унести с собой памятник?
— А почему бы и нет?— возражаю я.— Нас четверо, и среди
h i с скульптор. Мы легко можем унести орлов, если это окажет-
< । необходимым, даже льва. Наши рабочие будут здесь через
нм часа.
Письмоводитель улыбается.
— И вы воображаете, что такая штука вам удастся — размон-
шровать памятник, который уже освящен? В Вюстрингене не-
» колько тысяч жителей.
— И майор Фолькенштейн, и Союз ветеранов,— добавляв
староста.— Все они горячие патриоты.
— И если бы вы даже попытались, вам все равно едва ли удп
лось бы потом продать здесь хоть один памятник.
Письмоводитель ухмыляется уже с неприкрытой язвительно
стью.
— Еще стаканчик?— предлагает Деббелинг и тоже ухмыля
ется. Мы попали в ловушку. Сделать ничего нельзя.
В эту минуту мы видим, что какой-то человек бежит через двор
— Господин староста!— кричит он в окно.— Идите скорей!
Беда!
— Что случилось?
— Дас Бесте! Они этого столяра... Они хотели сорвать флш.
тут оно и случилось!
— Разве Бесте стрелял? Проклятый социалист!
— Нет! Бесте... он ранен...
— Больше никто?
— Нет, только Бесте...
Лицо Деббелинга проясняется.
— Ах, вот что! Так ради чего же вы поднимаете такой шум?
— Он не может встать. У него кровь идет горлом.
— Наверно, получил хорошенько по роже,— поясняет письмо
водитель.— А зачем он людей раздражает? Сейчас идем. Вся
надо делать спокойно.
— Вы нас, конечно, извините,— с достоинством обращасн и
к нам Деббелинг,— я лицо официальное и должен расследова i ь
дело. Наши расчеты придется отложить.
Он уверен, что теперь окончательно избавился от нас, и пн
девает сюртук. Мы вместе с ним выходим на улицу. Он не слит
ком торопится. И мы знаем почему. Когда он явится, все уже уст»
ют позабыть, кто именно избил Бесте. Известная история.
Бесте лежит в тесных сенцах своего дома. Рядом с ним — ра ю
рванный флаг республики. Собравшаяся перед домом ку»ти
людей переминается с ноги на ногу. Из железной гвардии шч
никого.
— Что тут произошло?— спрашивает Деббелинг жандарма,
стоящего у двери дома с записной книжкой в руках.
Жандарм начинает докладывать.
— Вы были при этом?— перебивает его Деббелинг.
— Нет. Меня позвали потом.
— Хорошо. Итак, вы ничего не знаете! Кто присутствовал?
Молчание.
— Вы не посылаете за врачом?— спрашивает Георг.
— + 506 + —
Деббелинг сердито смотрит на него.
— Разве это нужно? Немного холодной воды...
— Да, нужно. Человек умирает.
Деббелинг быстро поворачивается и склоняется над Бесте.
— Умирает?
— Умирает. Он истекает кровью. Может быть, есть и перело-
мы. Такое впечатление, что его сбросили с лестницы.
Деббелинг смотрит на Георга Кроля долгим взглядом.
— Пока это ведь только ваше предположение, господин
Кроль, и больше ничего. Состояние Бесте определит окружной
врач.
— А разве к нему сюда не вызовут врача?
— Уж предоставьте это решить мне! Пока еще я здешний
< ।проста, а не вы. Поезжайте за доктором Бредиусом,— обра-
щается он к двум парням с велосипедами.— Скажите, несчаст-
ный случай.
Мы ждем. На одном из велосипедов подъезжает Бредиус. Он
< оскакивает, входит в сени, склоняется над столяром.
Выпрямившись, врач заявляет:
— Этот человек умер.
— Умер?
— Да, умер. Это ведь Бесте? Тот, у которого прострелено
ici кое?
Староста растерянно кивает.
— Да, Бесте. Про то, что у него ранение в легкое, мне ниче-
н> не известно. Но, может быть, с перепугу... У него было пло-
хое сердце...
— От этого не истекают кровью,— сухо заявляет Бредиус.—
Что тут произошло?
— Вот это мы как раз и выясняем. Прошу остаться только
гех, кто может дать свидетельские показания.— Он смотрит
на нас с Георгом.
— Мы потом вернемся,— говорю я.
Вместе с нами уходит и большинство собравшихся здесь лю-
ней. Поменьше будет свидетелей.
Мы сидим в «Нидерзексишергоф». Я давно не видел, чтобы
Георг был в такой ярости. Входит молодой рабочий. Он подса-
живается к нам.
— Вы были при этом?— спрашивает его Георг.
— Я был при том, как Фолькенштейн подговаривал людей
сорвать флаг. Он назвал это «стереть позорное пятно».
— А сам Фолькенштейн участвовал?
— Нет.
— 4* 507 Ф —
— Разумеется, нет. А другие?
— На Бесте накинулась целая орава. Все были пьяны.
— А потом?
— Мне кажется, Бесте стал защищаться. Они, конечно,
не хотели его совсем прикончить. И все-таки прикончили. Бес
те старался удержать флаг, тогда они спихнули его древком
с лестницы. Может быть, слишком сильно по спине ударили
Ведь пьяный своей силе не хозяин.
— Они хотели только проучить его?
— Да, вот именно.
— Так вам сказал Фолькенштейн?
— Да.— Потупившись, рабочий кивает.— Откуда вы знаете?
— Представляю. Так оно было или нет?
Рабочий молчит.
— Ну, коли вы знаете, что ж...— бормочет он наконец.
— Нужно установить точно, как произошло убийство,— tiii
дело прокурора. И насчет подстрекательства тоже.
Рабочий вздрагивает и отступает.
— Никакого отношения к этому я не имею. Я ничет
не знаю.
— Вы знаете очень многое. И кроме вас найдутся люди, ко
торые знают, что именно произошло.
Рабочий выпивает стоящую перед ним кружку пива.
— Я ничего вам не говорил,— решительно заявляет он,
И я ничего не знаю. Как вы думаете, меня по головке погладм!,
если я не буду держать язык за зубами? Нет уж, сударь, я не со
гласен. У меня жена и ребенок, и мне нужно прокормиться. Ны
воображаете, мне дадут работу, если я стану болтать? Her, су
дарь, другого поищите. Я не согласен.
Он исчезает.
— Так будут отговариваться все,— мрачно замечает Teopi
Мы ждем. Мимо проходит Фолькенштейн. Он уже не в муп
дире, в руках у него коричневый чемодан.
— Куда это он?— спрашиваю я.
— На вокзал. Он больше не живет в Вюстрингене, перебрпп
ся в Верденбрюк, как окружной председатель Союза ветераном
Приехал сюда только на освящение памятника, а в чемодпнм
у него мундир.
Появляется Курт Бах со своей девушкой. Они нарвали ши*
тов. Девушка, услышав о происшествии, безутешна.
— Теперь наверняка бал отменят.
— Не думаю,— замечаю я.
— Нет, отменят. Раз мертвец еще не похоронен. Вот бедп!
— Ф 508 Ф —
Георг поднялся.
— Пойдем,— обращается он ко мне.— Ничего не попишешь.
I [ридется еще раз посетить Деббелинга.
В деревне вдруг воцаряется тишина. Солнце стоит наискось
о| памятника павшим воинам. Мраморный лев Курта Баха лу-
чезарен. Деббелинг теперь выступает уже не как официальное
III ЦО.
— Надеюсь, вы не намерены перед лицом смерти опять зате-
вать разговор о деньгах?— тотчас спрашивает он вызывающе.
— Намерены,— говорит Георг.— Это наше ремесло. Мы все-
। ia стоим перед лицом смерти.
— Придется вам потерпеть. Мне сейчас некогда, вы же знае-
ic, что произошло.
— Знаем. Тем временем нам стало известно и все остальное.
Можете нас записать в качестве свидетелей, господин Деббе-
шиг. Мы остаемся здесь, пока не получим деньги, и поэтому
( завтрашнего утра находимся в полном распоряжении уголов-
ной полиции.
— Свидетели? Какие же вы свидетели? Вы и не присутство-
на. т...
— Свидетели. Это уж наше дело. Ведь вы должны быть заин-
1ересованы в том, чтобы установить все подробности, связан-
ные с убийством столяра Бесте. С убийством и с подстрекатель-
< IBOM к убийству.
Деббелинг долго не сводит глаз с Георга. Потом спрашивает
। расстановкой:
— Это что же — вымогательство?
Георг встает.
— Пожалуйста, объясните, что вы имеете в виду?
Деббелинг молчит. Он продолжает смотреть на Георга.
Георг выдерживает его взгляд. Тогда Деббелинг идет к несго-
раемому шкафу, отпирает его и выкладывает на стол пачку денег.
— Сосчитайте и уходите.
Деньги лежат на скатерти в красную клетку, между пустых
но ючных стаканчиков и кофейных чашек. Георг пересчитывает
||\ и выписывает квитанцию. Я смотрю в окно. Золотые и зеле-
ные поля все еще поблескивают в лучах солнца; они уже не вы-
ражают гармонии бытия — они и меньше, и больше.
Деббелинг берет у Георга квитанцию.
— Вы, конечно, понимаете, что на нашем кладбище вы больше
памятников ставить не будете,— говорит он.
Георг качает головой.
— 4* 509 4» —
— Ошибаетесь. И даже очень скоро поставим. Столяру Бес
те. Бесплатно. И это не имеет никакого отношения к политике.
А если вы решите написать на памятнике павшим воинам фп
милию Бесте, мы тоже готовы сделать это бесплатно.
— Вероятно, не понадобится.
— Я так и думал.
Мы идем на вокзал.
— Значит, деньги уже были у этого негодяя,— замечаю я.
— Ну конечно. Я знал, что они у него. И притом уже два мг
сяца, но он ими спекулировал и блестяще на них заработал. Хо
тел еще несколько сот тысяч заработать. Мы бы и на той недс
ле их не выжали.
На вокзале нас ждут Генрих Кроль и Курт Бах.
— Деньги получили?— спрашивает Генрих.
-Да.
— Я был уверен. Глубоко порядочные люди. Надежные.
— Надежные, что и говорить.
— Бал отменен,— возвещает Курт Бах, это дитя природы.
Генрих поправляет галстук.
— Столяр сам во всем виноват. НесЛяханная дерзость.
— Дерзость? То, что он вывесил официальный государствен
ный флаг?
— Это был вызов. Он же знал, как на это смотрят другие. Дол
жен был предвидеть, что получится скандал. Вполне логично.
— Да, Генрих, логично,— говорит Георг.— Ну а теперь, прошу
тебя, заткни свою логичную глотку.
Генрих Кроль обижен. Он встает и хочет что-то сказать, но.
видя лицо Георга, воздерживается и тщательно начинает стри
хивать пыль со своего темно-серого пиджака.
Потом вдруг замечает Фолькенштейна, который тоже ожн
дает поезда. Майор в отставке сидит на дальней скамье, и ему
очень хочется поскорее очутиться в Верденбрюке. Он отнюлъ
не в восторге, когда к нему подходит Генрих. Но Генрих chjiiii
ся рядом с ним.
— Чем же вся эта история кончится?— спрашиваю я Teopi в
— Да ничем. Ни одного виновника не нашли.
— А Фолькенштейн?
— И ему ничего не будет. Только столяра наказали бы, ос ниш
ся он в живых. Но никого другого. Если политическое убийсшн
совершается справа, это считается делом почетным и топи
принимают во внимание множество смягчающих обе ши
тельств. У нас республика, но судей, чиновников и офицерни
— + 510 Ф —
мы в полной неприкосновенности получили от прежних вре-
мен. Чего же ждать от них?
Мы смотрим на вечернюю зарю. Пыхтя, подходит поезд и ис-
чезает в черном дыму. Странно, думаю я, сколько убитых виде-
||и мы во время войны — всем известно, что два миллиона пали
бе j смысла и пользы,— так почему же сейчас мы так взволнова-
пы одной смертью, а о тех двух миллионах почти забыли? Ho,t
видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть,
а смерть двух миллионов — только статистика.
IX
— Мне нужен мавзолей! — заявляет фрау Нибур.— Только
мавзолей, и ничего другого.
— Хорошо,— отвечаю я.— Будет мавзолей.
Эта запуганная женщина за то короткое время, что прошло
после смерти Нибура, очень изменилась. Она стала резкой,
(лишком разговорчивой, сварливой и, в общем, уже довольно
несносной.
Вот уже две недели, как я веду с ней переговоры относитель-
но памятника на могилу булочника и с каждым днем все лучше
Hi ношусь к покойнику. Многие люди добры и честны, пока им
и юхо живется, и становятся невыносимыми, едва только их по-
южение улучшится, особенно в нашем возлюбленном отечестве;
। амые робкие и покорные рекруты превращаются в самых лю-
। ы х унтер-офицеров.
— У вас же на выставке нет ни одного мавзолея,— язвитель-
но замечает фрау Нибур.
— Мавзолеев на выставке и не может быть,— заявляю я.—
11ч делают по определенной мерке, как бальные платья для ко-
розев. У нас есть несколько рисунков мавзолеев, но, может
|ц.| 1 ь, для вашего придется сделать особый.
— Конечно! Это должно быть что-то выдающееся. Не то
и пойду к Хольману и Клотцу.
— Надеюсь, вы там уже побывали. Если наши клиенты сна-
чала посещают наших конкурентов, мы это только приветству-
ем. Ведь в мавзолее самое главное — качество выполнения.
Мне отлично известно, что она уже давно побывала у Холь-
ма па и Клотца — их разъездной агент Оскар-плакса сообщил
мне. Мы на днях его встретили и попытались увлечь на путь
предательства. Он еще колеблется, но мы предложили ему бо-
icc высокие проценты, чем «Хольман и Клотц», и, чтобы пока-
ти» свое дружеское расположение в эти дни обдумывания, он
исполняет для нас роль шпиона.
— + 511 + —
— Покажите мне ваши рисунки! — приказывает фрау Нибур
с видом герцогини.
Рисунков у нас нет, но я приношу ей несколько проектов пп
мятников павшим воинам. Это весьма эффектные сооружении
в полтора метра высотой, нарисованные углем и цветными мел'
ками, для большей красоты дан и фон «с настроением».
— Лев,— говорит фрау Нибур,— он был как лев, но лев, ко*
торый прыгает, а не умирает.
— Что вы скажете насчет скачущего коня?— спрашиваю я -
Наш скульптор несколько лет назад получил за такой памятник
переходящую премию берлинского района Теплиц.
Она отрицательно качает головой.
— Орел...— говорит она задумчиво.
— Настоящий мавзолей должен быть своего рода часок
ней,— замечаю я.— Разноцветные стекла, как в церкви, мри
мерный саркофаг с бронзовым лавровым венком, мраморный
скамья для вас, чтобы отдохнуть и помолиться, а вокруг — пне
ты, кипарисы, усыпанные гравием дорожки, чаша с водой дли
наших пернатых певцов, ограда из низеньких колонок с броню
выми цепями, тяжелая кованая дверца с монограммой, семей
ным гербом или цеховым знаком булочников...
Фрау Нибур слушает так, словно это Мориц Розенталь игр»
ет ноктюрн Шопена.
— Все это очень хорошо,— отвечает она, помолчав.— Но net
ли у вас чего-нибудь оригинального?
Я смотрю на нее с досадой и удивлением. В ответ она холол
но смотрит на меня, как вечный прообраз клиента с набишм
кошельком.
— Оригинальные памятники, конечно, есть,— othc’Iihh
я мягко и язвительно.— Такие, как, например, на Кампо-Саню
в Генуе. Наш скульптор проработал там несколько лет. Олин
из шедевров этого кладбища сделан им — фигура плачущей
женщины, склоненная над гробом, на заднем плане воскрес
ший покойник, которого ангел уводит на небо. При этом ашем
повернул голову, он смотрит вниз, на землю, и свободной рукой
благословляет скорбящую вдову. Все это из белого каррарскн
го мрамора, у ангела крылья сложены или расправлены.
— Очень мило. А что еще?
— Нередко изображают и профессию почившего. Модно
было бы, например, сделать скульптуру пекаря, замещиваюпн»
го тесто. За его спиной стоит смерть и прикасается к его плечу
Смерть можно изобразить с косой или без нее, закутанную а с и
ван или нагую, то есть в данном случае — скелет. Это д»1И
— 4* 512 4* —
скульптора очень сложная задача, особенно из-за ребер, кото-
рые нужно высекать каждое в отдельности, и притом с большой
осторожностью, чтобы они не сломались.
Фрау Нибур молчит, словно она ожидала большего.
— Можно к этому, конечно, прибавить и семью,— продол-
жаю я.— Близкие стоят рядом и молятся или в ужасе отстраня-
и) I смерть. Эти памятники стоят биллионы, и работать над ни-
ми приходится год или два. Для такого заказа необходим
большой аванс и выплата по частям.
Меня вдруг охватывает страх: а что если она примет одно
из моих предложений? Самое большее, на что способен Курт
Ьах, это сделать перекошенного ангела; на что-нибудь другое
сю мастерства едва ли хватит. Но в крайнем случае мы могли
бы заказать скульптуры и в другом месте.
— А еще?— беспощадно продолжает допрос фрау Нибур.
Я обдумываю, рассказать ли этому безжалостному дьяволу
о надгробии в виде саркофага, крышка которого слегка сдвину-
ia, и из него высовывается рука скелета,— но решаю этого
не делать. Мы в слишком неравном положении: она — покупа-
i ель, я — продавец, она может меня изводить, я — нет, а вдруг
она что-нибудь да купит.
— Пока я больше ничего не могу предложить.
Фрау Нибур ждет еще несколько мгновений.
— Если у вас, кроме этого, ничего нет, я буду вынуждена об-
ра гиться к Хольману и Клотцу.
Вдова смотрит на меня своими черными, как у жука, глазами.
Траурную вуаль она приподняла и откинула на шляпу. Она
ждет, что я теперь устрою ей дикую сцену, но я ничего не уст-
раиваю.
— Вы этим только доставите нам удовольствие,— холодно за-
ивляю я.— Наш принцип — привлекать конкурентов, чтобы
нее видели, какими богатыми возможностями располагает наша
фирма. При заказах с такими сложными скульптурными рабо-
тами очень многое, конечно, зависит от художника, не то может
подучиться, как было недавно с одним нашим конкурентом —
фамилии я не хочу называть,— что у ангела оказались две ле-
вые ноги. Богоматери получились косоглазыми, а Христос —
» одиннадцатью пальцами. Когда это заметили, было уже
поздно.
Фрау Нибур опускает вуаль, словно театральный занавес.
— Я уж прослежу.
И я уверен, что она проследит. Она жадно наслаждается сво-
скорбью, пьет ее, как вино, не отрываясь. Пройдет еще нема-
— 4* 513 4* —
ло времени, прежде чем она что-нибудь закажет; ведь пока вы
бор не будет сделан, она может изводить все конторы, торгуй»
щие похоронными принадлежностями, а потом уже только ту,
которой она сделала заказ. Сейчас она, так сказать, в отношс
нии скорби — лишь легкомысленный холостяк, а позднее, ио
добно женатому человеку, вынуждена будет хранить верность.
Гробовщик Вильке выходит из своей мастерской. В бороде
у него застряли опилки, в руках он держит банку с аппетитны
ми кильскими шпротами и, причмокивая, поглощает их.
— Каково ваше мнение о жизни?— спрашиваю я.
Он задумывается.
— Утром другое, чем вечером, зимой другое, чем летом, нс
ред едой другое, чем после, и в молодости, вероятно, другое,
чем tf старости.
— Правильно. Наконец-то я слышу разумный ответ.
— Ну и хорошо, только если вы сами знаете, зачем то|дв
спрашивать?
— Спрашивать полезно для самообразования. Кроме тою,
я утром ставлю вопрос иначе, чем вечером, зимой иначе, чем
летом, и до спанья с женщиной иначе, чем после.
— После спанья с женщиной?— говорит Вильке.— Верно,
тогда все кажется другим! А насчет спанья я и позабыл!
Я склоняюсь перед ним, словно он аббат.
— Поздравляю с аскетизмом. Значит, вы уже победили жало
плоти? Кто может этим похвастаться!
— Глупости, вовсе я не импотент. Но если ты гробовщик,
женщины ведут себя очень чудно. Жмутся. Боятся войти в mih
терскую, когда там стоит гроб. Даже если угощаешь их портвей
ном и берлинскими оладьями.
— А на чем подаете-то?— спрашиваю я.— На недоделанном
гробу? На отполированном — наверное, нет, ведь от портвейни
остаются круги.
— На подоконнике. На гробу сидеть нельзя. И потом — ни
же еще совсем не гроб. Он становится гробом, когда в нем уде
лежит покойник. А так — просто столярная поделка.
— Верно. Но трудно все время помнить об этой разнице.
— Смотря по тому, с кем имеешь дело. В Гамбурге я вире
тился с одной дамой, которой было совершенно наплеван*, Ге
это даже забавляло. Подавай ей гроб и все. Я набил его до но
ловины мягкими еловыми опилками, они так романтично uni
нут лесом. И все шло отлично. Налюбились мы вволю, и они ш
хотела вылезти. Но на дне гроба в одном месте еще не вьно*
— + 514 4* —
проклятый клей, планки разошлись, волосы дамы попали
в клей и прилипли. Она подергала-подергала да как начнет кри-
ча гь! Думала, мертвецы ее за волосы держат. Кричит и кричит;
ну, тут собрались люди, пришел хозяин, ее вытащили, а меня
с места погнали. А жаль, могла бы получиться интересная
связь; да, жизнь — нелегкая штука для нашего брата.
Вильке бросает вызывающий взгляд, по лицу прибегает усмеш-
ка, и он с наслаждением начинает выскребать содержимое кон-
сервной банки, однако мне не предлагает.
— Я знаю два случая отравления шпротами,— говорю я.—
( ледует мучительная медленная смерть.
Вильке качает головой.
— Эти свежего копчения. И очень нежные. Прямо деликатес.
Я поделюсь с вами моим запасом, если вы мне раздобудете ми-
и’нькую девушку без предрассудков, ну вроде той, в свитере,
коюрая теперь частенько заходит за вами.
Я изумленно смотрю на гробовщика. Он, без сомнения, име-
ci в виду Герду. Герду, которую я как раз поджидаю.
— Я не торгую девушками,— резко отвечаю я.— Но вам хочу
инь совет: водите своих дам в какое-нибудь другое место,
л не обязательно в мастерскую.
— А куда еще мне их водить?— Вильке выковыривает из зубов
рыбьи хребтинки.— В том-то и загвоздка! Ну куда? В гостини-
н\? Слишком дорого. Да и полиция может нагрянуть. В город-
1 кой парк? Опять же полиция. Или сюда во двор? Все-таки уж
i\чше в мастерскую.
— Разве у вас нет жилья?
— В моей комнате не безопасно. Хозяйка у меня прямо дракон.
Много лет назад между нами было кое-что. По случаю крайней
необходимости, вы понимаете. И очень недолго. Но эта ведьма
|сся гь лет спустя все еще ревнует. Поэтому остается только мас-
1срская. Ну так как же насчет дружеской услуги? Представьте
меня даме в свитере!
Я молча указываю на опустошенную им консервную банку.
Вильке зашвыривает ее в угол двора и идет к колонке, чтобы
иымыть себе лапы.
— У меня наверху есть еще бутылка превосходного портвейна.
— Оставьте это пойло для вашей следующей баядерки.
— Да оно до тех пор превратится в чернила. Но ведь на свете
1 ь еще банки со шпротами, не только эта.
Я показываю на свой лоб и ухожу в контору, чтобы взять
ькжпот и складной стул и набросать для фрау Нибур проект
м пнолея. Усаживаюсь возле обелиска — отсюда мне слышны
— + 515
телефонные звонки и я вижу улицу и двор. Рисунок памятники
я украшу надписью: «Здесь покоится после долгих мучитель
ных страданий майор в отставке Фолькенштейн, скончавшийся
в мае 1923 года».
Появляется одна из дочек Кнопфа и с восхищением рассмп
тривает мою работу. Это одна из двух близнецов, их с трудом
отличишь друг от друга. Мать узнает их по запаху, Кнопфу вес
равно, а из всех нас ни один не уверен, что не ошибается. Я по
гружаюсь в размышление о том, как быть, если женишься на од
ной из таких вот близняшек, а другая будет жить в том же доме
Мои мысли прерывает Герда. Она стоит в подворотне и смс
ется. Я откладываю в сторону свой рисунок. Дочка Кнопфа исче
зает. Вильке перестает умываться. Незаметно для Герды он укв
зывает на консервную банку, которую кошка катает по двору,
потом на себя и поднимает два пальца. При этом беззвучно
шепчет: «Две».
На Герде сегодня серый свитер, серая юбка и черный бери
Она прехорошенькая и уже не похожа на попугая; у нее спортии
ный вид, и она в отличном настроении. Я смотрю на нее и слов
но вижу впервые: женщина, которую пожелал другой мужчина
пусть это всего-навсего распутный гробовщик, тут же становии и
нам дороже. Уж так водится,— на человека гораздо больше
влияют относительные ценности, чем абсолютные.
— Ты была сегодня в «Красной мельнице»?— спрашиваю и
Герда кивает.
— Вонючая дыра! Я же там репетировала. Как я ненавижу
эти рестораны, где продохнуть нельзя от холодного табачпо|п
дыма!
Я окидываю ее одобрительным взглядом. Стоя позади неч»,
Вильке застегивает ворот рубашки, стряхивает опилки с усов и.
в виде прибавки к предложенным им дарам, поднимает 1ри
пальца. Значит, пять банок со шпротами! Заманчивое предлн
жение, но я пренебрегаю им. Ведь передо мной в образе Герды
стоит счастье целой недели, ясное, крепкое счастье, от коюро
го не больно,— простое счастье чувственности и умерешнин
воображения, короткое счастье двухнедельного ангажемент
в ночном клубе, счастье, наполовину уже миновавшее, но оно
освободило меня от Эрны и даже Изабеллу сделало для меня
тем, чем она и быть должна: фата-морганой, которая не мучш
тебя, ибо не пробуждает неосуществимых желаний.
— Пойдем, Герда,— говорю я, чувствуя внезапно вспыхнув
шую в душе живую благодарность.— Давай сегодня разрешим
себе первоклассный обед. Ты есть хочешь?
— 4* 516 4* —
— Да, очень. Мы можем где-нибудь...
— Нет, сегодня — никаких картофельных салатов, никаких
сосисок. Мы превосходно пообедаем и отпразднуем юбилей:
середину нашей совместной жизни. Неделю назад ты впервые
была здесь у меня; через неделю ты на перроне, прощаясь, по-
махаешь мне рукой. Давай отпразднуем первое; а о втором по-
пираемся не думать.
Герда смеется.
— Да я никакого картофельного салата и не смогла пригото-
ви гь. Слишком много у меня работы. Цирк — ведь это совсем
1 РУ гое, чем эти дурацкие кабаре.
— Хорошо, значит, сегодня мы пойдем в «Валгаллу». Ты лю-
hlinib гуляш?
— Люблю,— отвечает Герда.
— Чудно! На этом и порешим! А теперь пойдем отпраздну-
ем великую середину нашей краткой жизни!
Я бросаю через окно па письменный стол блокнот для рисо-
вания. Уходя, еще успеваю заметить беспредельно разочаро-
ванную физиономию Вильке. Жестом, полным отчаяния, гро-
новщик поднимает вверх обе руки: он предлагает десять банок
консервов — целое состояние.
— Почему бы и нет?— любезно отвечает, к моему удивле-
нию, Кноблох. Я ожидал озлобленного сопротивления. Ведь та-
|оны действительны только на день, но, взглянув на Герду,
Кноблох не только выражает готовность признать их вечером,
но даже продолжает стоять у стола.
— Не будешь ли ты так добр представить меня?
ОI вертеться я не могу. Он согласился принять талоны, зна-
IIII, и я должен согласиться на его просьбу.
- Эдуард Кноблох, владелец гостиницы, ресторатор, поэт,
ни пионер и скупердяй,— небрежно бросаю я.— Фрейлейн
I грда Шнейдер.
)дуард отвешивает поклон — польщенный и рассерженный.
— Не верьте ничему, что он болтает, фрейлейн.
— Даже твоему имени и фамилии?— спрашиваю я.
Герда улыбается.
— Вы биллионер? Как интересно!
Эдуард вздыхает.
— Просто деловой человек со всеми заботами делового чело-
века. Не верьте вы этому легкомысленному болтуну! Но вы?
Прекрасное лучистое подобие Божье, беззаботное, словно
।рекоза, парящая над темными прудами меланхолии...
— + 517 4* —
Я ушам своим не верю и смотрю на Эдуарда, вытаращив глп
за, словно изо рта у него вылетели золотые монеты. Герда сею
дня как будто обладает магической привлекательностью.
— Брось свои выкрутасы,— говорю я.— Эта дама сама арти
стка. И разве я темный пруд меланхолии? Лучше скажи, где ж<*
гуляш?
— Я нахожу, что господин Кноблох выражается очень по
этично! — Герда смотрит на Кноблоха с простодушным воски
щением.— Как вы еще находите время для стихов? Ведь у нт
такой большой ресторан и столько кельнеров! Вы, вероятно,
очень счастливый человек! Такой богатый и к тому же талшп
ливый.
— Да вот нахожу, нахожу...— Эдуард сияет.— Значит, вы ю
же артистка?— Я вижу, что в нем вдруг просыпается недонс
рие. Без сомнения, в его памяти проходит тень Рене де ла Тур.
как облако, закрывающее луну.— Я хочу сказать — серьезней
артистка,— добавляет он.
— Серьезнее, чем ты,— отвечаю я.— Да фрейлейн Шнейдер
и не певица, как ты вообразил. У нее львы прыгают через об
руч, и она ездит верхом на тиграх. А теперь забудь о полицей
ском, который в тебе сидит, как во всяком истинном сыне наше
го возлюбленного отечества, и дай нам поесть.
— Львы и тигры?— В глазах Эдуарда изумление.— Это пран
да?— обращается он к Герде.— Этот молодой человек так час
то лжет.
Я под столом наступаю ей на ногу.
— Да, я выступала в цирке,— отвечает Герда, не понимая, ч in
тут такого интересного.— И теперь опять возвращаюсь в цирк
— Какое у тебя сегодня меню, Эдуард?— нетерпеливо ост»
домляюсь я.— Или нам нужно сначала представить всю снов»
автобиографию в четырех экземплярах?
— Я сейчас сам обо всем позабочусь,— галантно заявлтч
Эдуард, обращаясь к Герде.— Ради таких гостей! Волшебен»»»
манежа! Ах! Вы должны извинить господина Бодмера за ечн
прИЧуДЫ. Он ВЫрОС В ГОДЫ ВОЙНЫ, Среди ТОрфяНИКОВ И Оби IHH
своим образованием истеричному письмоносцу.
Переваливаясь, Эдуард уходит.
— Видный мужчина,— замечает Герда.— Женат?
— Был женат. Жена от него сбежала, он слишком скуп.
Герда ощупывает материал скатерти.
— Наверное, была дура,— говорит она мечтательно.— А мпв
нравятся бережливые люди. Они умеют сохранять свои депыи
— При инфляции — это самое глупое, что может быть.
— 4* 518 4* —
— Конечно, их нужно выгодно поместить...— Герда разгля-
дывает массивные посеребренные ножи и вилки.— Мне кажет-
ся, твой друг это умеет, хоть он и поэт.
Я смотрю на нее, несколько удивленный.
— Возможно,— отвечаю я.— Но другим от этого нет ника-
кой пользы. И меньше всего его жене. Ее он заставлял гнуть
спину с утра до ночи, жена для Эдуарда — это бесплатная ра-
ботница.
Герда улыбается загадочной улыбкой, как Мона Лиза.
— Каждый несгораемый шкаф можно открыть, если извес-
|сн его номер, или ты этого еще не знаешь, малыш?
Я смотрю на нее, опешив. «Что же тут происходит?— спра-
шиваю я себя.— Разве это та самая женщина, с которой мы
юлько вчера в садовом ресторане «Чудный вид» за какие-ни-
।>удь скромные пять тысяч марок ели бутерброды и простоква-
шу и говорили о прелестях простой жизни?»
— Эдуард толст, грязен и неисцелимо жаден,— решительно
1аявляю я.— В течение многих лет, что я его знаю, он не изме-
нился.
Знаток женского пола Ризенфельд однажды сказал мне, что
шкая комбинация отпугнет любую женщину. Но Герда, види-
мо. не обыкновенная женщина. Она внимательно разглядывает
ьольшие люстры, свисающие с потолка, словно прозрачные
< шлактиты, и продолжает разговор на ту же тему:
— Наверно, ему нужен кто-нибудь, кто заботился бы о нем.
Конечно, не наседка! Ему, видимо, нужен близкий человек,
i нособный оценить его хорошие качества.
Я уже не в состоянии скрыть своей тревоги. Неужели мое мир-
ное двухнедельное счастье пойдет прахом? И зачем только я при-
ннцил ее в это царство серебра и хрустальных побрякушек?
— У Эдуарда нет хороших качеств,— заявляю я.
Герда снова улыбается.
— Они есть у каждого. Нужно только уметь их показать ему.
К счастью, в эту минуту появляется кельнер Фрейданк, он
юржественно подает нам паштет на серебряном подносе.
— Это что такое?— спрашиваю я.
— Паштет из печенки,— высокомерно поясняет Фрейданк.
— В меню же стоит картофельный суп?
— А это из меню, которое составили сами господин Кноблох,—
творит Фрейданк, бывший ефрейтор-каптенармус, и отрезает
<»। паштета два ломтя — толстый для Герды и тонкий для меня.—
II in, может быть, вы предпочитаете запланированный карто-
— + 519 4* —
фельный суп?— гостеприимно осведомляется он.— Можно заме
нить.
Герда хохочет. Разъяренный пошлой попыткой Кноблоха ку-
пить ее жратвой, я собираюсь потребовать именно картофельный
суп. Но Герда под столом толкает меня. А на столе грациозным
движением переставляет тарелки и отдает мне ту, где большой
ломоть.
— Вот как полагается,— говорит она Фрейданку.— Мужчине
всегда нужно давать самый большой кусок. Разве нет?
— Это-то конечно...— бормочет сбитый с толку Фрейданк.-
Дома — да... Но здесь...
Бывший ефрейтор не знает, как ему быть. Ведь Эдуард при
казал ему отрезать Герде основательный кусок, мне — тоню
сенький, и он приказ выполнил. А теперь у него на глазах про
изошло обратное, и он изнемогает от сознания, что должен
взять на себя ответственность за то, как он будет действова п*
в дальнейшем. Ответственности в нашем возлюбленном отечен
ве никто не любит. На приказы мы реагируем тут же — эта спо
собность уже в течение веков засела в нашей гордой крови,-
а вот решать самим — другое дело. И Фрейданк делает едипст
венное, чему его научили: он озирается, ища помощи у своею
хозяина и надеясь получить новый приказ.
Появляется Эдуард.
— Подавайте, Фрейданк, чего вы ждете?
Я беру вилку и выхватываю кусок из ломтя паштета, лежаше
го передо мной, в то мгновение, когда Фрейданк, выполним
первый приказ Эдуарда, снова собирается переставить наши тй
редки.
Фрейданк цепенеет. Герда фыркает. Эдуард с несокруши
мым самообладанием полководца учитывает ситуацию, отстри
няет Фрейданка, отрезает еще один солидный ломоть от панне
та, решительным жестом кладет его на тарелку Герлы
и кисло-сладким голосом осведомляется у меня:
— Вкусно?
— Ничего,— отвечаю я.— Жалко, что он не из гусиной не
ченки.
— Он из гусиной печенки.
— А вкус как у телячьей.
— Да ты хоть раз в жизни ел гусиную печенку?
— Эдуард,— отвечаю я.— Меня даже рвало гусиной печен
кой, вот сколько я ее ел.
Эдуард смеется в нос.
— Где же это?— презрительно, осведомляется он.
— 4* 520 + —
— Во Франции. Когда мы наступали и я учился быть мужчи-
ной. Мы тогда захватили целую лавку с гусиной печенкой. Там
Выло полно горшочков с так называемым страсбургским пиро-
юм. и в нем были черные трюфели из Перигора, у тебя их как
ра з нет. А ты в то время чистил на кухне картошку.
Я не рассказываю о том, что мне стало нехорошо, когда мы
\ видели старушку — владелицу лавки, чье тело было растерза-
но на куски, которые так и присохли к обломкам стены, а ото-
рванная седая голова насажена на вбитый в полку крюк, слов-
но на копье какого-то варварского племени.
— И вам нравится?— обращается Эдуард к Герде тоном сен-
шменталыюй лягушки, которая лихо восседает над темными
прудами Мировой скорби.
— Вкусно,— отвечает Герда и налегает на паштет.
Эдуард отвешивает великосветский поклон и уплывает с гра-
цией танцующего слона.
— Видишь,— говорит Герда и смотрит на меня сияющими
। । а зам и.— Вовсе он и не такой скупердяй.
Я кладу вилку на стол.
— Слушай, ты, овеянное опилками чудо арены,— отвечаю
я.— Перед тобой человек, чья гордость слишком уязвлена, вы-
ражаясь на жаргоне Эдуарда, оттого что у него под носом его
ia\ia удрала с богатым спекулянтом. Или ты хочешь,— я снова
подражаю барочной прозе Эдуарда,— лить кипящее масло
на мои еще не зажившие раны и тоже беспощадно обманывать
меня?
Герда смеется и продолжает есть.
— Не говори глупостей, дорогой, и не расстраивай себе пе-
чень,— заявляет она с полным ртом.— Стань богаче других, ес-
1н тебя злит их богатство.
— Замечательный совет! А как это сделать? Я не волшебник!
— Так же, как делают другие. Они ведь своего добились?
— Эдуард унаследовал эту гостиницу,— говорю я с горечью.
— А Вилли?
— Вилли спекулянт.
— Что это такое — спекулянт?
— Человек, который использует конъюнктуру. Который всем
юргует, начиная с сельдей и кончая акциями сталелитейных
шводов, наживается, где может, на чем может и как может,
и только старается не попасть в тюрьму.
— Вот видишь!— говорит Герда и доедает остатки паштета.
— Ты считаешь, что и я должен пойти по той же дорожке?
Герда откусывает кусок булочки своими здоровыми зубами.
— 4* 521 + —
— Можешь идти или не идти. Но зачем сердиться, если ты
не желаешь, а другие пошли? Браниться каждый может, дорогой!
— Ладно,— соглашаюсь я, озадаченный, и вдруг чувствую себя
очень униженным. В моем мозгу словно лопается множество
мыльных пузырей. Я смотрю на Герду. У нее, черт побери, уди
вительно реалистическая манера смотреть на вещи.
— В сущности, ты совершенно права,— говорю я.
— Конечно, права. Но ты посмотри-ка, что там несут.
— Неужели это тоже нам?
Да, оказывается, нам. Жареная курица со спаржей. Кушанье
прямо для фабрикантов оружия. Эдуард сам надзирает за тем, как
нас обслуживают. Он приказывает Фрейданку разрезать курицу.
— Грудку мадам,— галантно заявляет Эдуард.
— Я предпочитаю ножку,— говорит Герда.
— Ножку и кусок грудки,— галантно заявляет Эдуард.
— Ну, хорошо,— отвечает Герда.— Вы настоящий кавалер,
господин Кноблох! Я была в этом уверена.
Эдуард самодовольно усмехается. Я не могу понять, зачем он
разыгрывает всю эту комедию. Не могу я поверить, будто Гердп
ему уж настолько нравится, что он способен приносить ей ти
кие жертвы; вернее, он взбешен нашими фокусами с талонами
и пытается таким способом отбить ее у меня. Значит, акт мести
ради восстановления справедливости.
— Фрейданк,— говорю я,— уберите этот скелет с моей тарсл
ки. Я не ем костей. Дайте мне вместо этого вторую ножку. Или
ваша курица — жертва войны и у нее одна нога ампутирована?
Фрейданк смотрит на своего хозяина, как послушная овчарка
— Это же самый лакомый кусочек,— заявляет Эдуард. -
Грудные косточки очень приятно погрызть.
— Я не грызун. Я едок.
Эдуард пожимает жирными плечами и неохотно дает мне
вторую ножку.
— Может быть, ты предпочтешь салатик?— спрашивает он.
Спаржа весьма вредна для пьяниц.
— Нет, дай мне спаржи! Я человек современный, и меня in
нет к саморазрушению.
Эдуард уплывает, словно резиновый носорог. Меня вдру|
осеняет одна идея.
— Кноблох!— рявкаю я ему вслед, подражая генеральскому
голосу Рене де ла Тур.
Он стремительно оборачивается, словно ему в спину boh ih
лось копье.
— Что это значит?— спрашивает он, взбешенный.
— + 522 + —
— Что именно?
— Да это рявканье?
— Рявканье? А кто тут рявкает, кроме тебя? Или ты возму-
щен, что мисс Шнейдер хотела бы съесть немного салату? Тогда
не предлагай!
Глаза Эдуарда прямо вылезают из орбит. Видно, как в них по-
является чудовищное подозрение и тут же становится уверен-
ностью.
— Это вы...— обращается он к Герде,— вы меня позвали?
— Если салат у вас найдется, я охотно бы съела немного,—
заявляет Герда, она не может понять, что тут происходит. Эдуард
все еще стоит возле нашего стола. Теперь он твердо уверен, что
Герда — сестра Рене де ла Тур. Я отчетливо вижу, как он рас-
каивается, что угощал нас паштетом из печенки, и курицей,
и спаржей. У него возникает ощущение, что его самым жесто-
ким образом надули.
— Это господин Бодмер,— сообщает Фрейданк, подкрав-
шийся к нам.— Я видел.
Но слова Фрейданка не доходят до Эдуарда.
— Отвечайте только когда вас спрашивают, кельнер,— не-
брежно бросаю я.— Этому-то вы уж должны были научиться
у пруссаков! А теперь идите и продолжайте обманывать про-
стодушных людей подливкой от гуляша. Ты же, Эдуард, объясни
мне: ты просто угостил нас этим роскошным обедом или мы мо-
жем расплатиться за него нашими талонами?
Эдуард так багровеет, что кажется, его сейчас хватит удар.
— Давай свои талоны, негодяй,— говорит он глухо.
Я отрываю талоны и кладу кусочки бумаги на стол.
— Кто тут негодяй, еще не известно, заметь себе это, отверг-
нутый Дон-Жуан,— отвечаю я.
Эдуард не прикасается к талонам.
— Фрейданк,— говорит он голосом, уже беззвучным от яро-
сти,— выбросьте эти клочки бумаги в корзину.
— Стоп,— заявляю я и беру меню.— Если уж мы платим,
то имеем право еще на десерт. Что ты хочешь, Герда, гурьев-
скую кашу или компот?
— А что вы порекомендуете, господин Кноблох?— спраши-
вает Герда, которая не подозревает, какая драма разыгрывается
в душе Кноблоха.
Эдуард делает жест отчаяния и отходит.
— Так, значит, компот! — кричу я ему вслед. ,
Он слегка вздрагивает и идет дальше, словно ступая по яйцам.
Каждую минуту он ждет, что вот-вот рявкнет командирский голос.
— + 523 4* —
Я обдумываю, не рявкнуть ли, но отказываюсь от этой мысли,
чтобы не злоупотреблять столь эффективной тактикой.
— Что здесь, собственно, произошло?— спрашивает Герда,
которая ни о чем не подозревает.
— Ничего,— отвечаю я невинно и делю между нами кури
ный скелет.— Маленький пример, подтверждающий тезис вс
ликого стратега Клаузевица: «Нападай на противника в ту ми
нуту, когда он считает, что уже победил, и в том месте, где он
меньше всего ожидает нападения».
Герде все это непонятно, но она кивает и ест компот, который
Фрейданк непочтительно прямо-таки швырнул на стол. Я чп
думчиво смотрю на нее, решаю отныне не приводить в «Вал гад
лу» и следовать железному правилу Георга: «Никогда не пока
зывай женщине новых мест, тогда ей туда и не захочется и она
от тебя не убежит».
Ночь. Я сижу в своей комнате, опершись на подоконник
Светит луна, в саду цветет сирень, и оттуда тянет ее душным
ароматом. Час назад я вернулся из «Альтштедтергофа». Влюб
ленная пара мелькнула на той стороне улицы, где лежит луннам
тень, и исчезла в нашем саду. Но я им не препятствую: тот, кю
сам не испытывает жажды, настроен миролюбиво, а ночи стоя!
такие, что им невозможно противиться. И все же из осторожно
сти я полчаса назад повесил на обоих дорогих надгробных крс
стах объявление: «Внимание! Может опрокинуться! Береги!г
конечности!» Когда земля слишком сырая, влюбленные пароч
ки почему-то предпочитают именно кресты, вероятно потому,
что за них удобнее держаться, хотя, казалось бы, надгробные
камни средней величины также годятся для этой цели. Снача/ш
я намеревался повесить вторую бумажку с полезным советом,
потом решил, что не стоит. Фрау Кроль встает иногда очень рд
но и, невзирая на всю присущую ей терпимость, надает мне
по щекам за легкомыслие раньше, чем я успею ей объясни ih,
что до войны я был в вопросах добродетели крайне щепетилен,
но при защите нашего возлюбленного отечества эта черта мною
(Тыла совершенно утрачена.
Вдруг в лунном свете предо мною предстает черная квадратна и
фигура, тяжело топая, она приближается. Я цепенею. Это мясник
Вацек. Он скрывается в дверях своей квартиры — на два чт и
раньше обычного. Может быть, не хватило лошадей: конинп
сейчас продукт весьма популярный. Я слежу за окнами. В ник
загорается свет, тень Вацека скользит как привидение. Я обду
мываю, следует ли мне предупредить Георга Кроля; но менпнь
— 4* 524 4* —
любящим — неблагодарное занятие, да и Вацек, возможно, просто
завалится спать. Однако этого, кажется, не будет. Мясник рас-
пахивает окно на улицу, глядит в одну сторону, в другую. Я слы-
шу, как он злобно пыхтит, закрывает ставни и через минуту
снова выходит: он несет стул, за голенищем нож. Он садится
на стул и, видимо, намерен дождаться Лизы. Я смотрю на часы:
половина двенадцатого. Ночь тепла, и Вацек может с успехом
проторчать здесь несколько часов. С другой стороны, Лиза на-
ходится у Георга довольно давно. Хрипловатый шепоток любви
уже стих, и если опа выйдет и угодит прямо в объятия мясника,
то, конечно, придумает какое-нибудь правдоподобное объясне-
ние, а он, вернее всего, попадется на эту удочку; но все же луч-
ше, если этого не случится.
Я прокрадываюсь вниз и выстукиваю на двери Георга начало
Гогепфридбергского марша. Георг высовывает лысую голову. Я со-
общаю о создавшейся ситуации.
— Вот черт,— говорит он.— Постарайся его спровадить.
— В такое время?
— Попытайся! Пусти в ход все свое обаяние.
Ленивым шагом возвращаюсь на улицу, зеваю, останавлива-
юсь, потом подхожу к Вацеку.
— Прекрасный вечер,— говорю я.
— А мне наплевать,— отзывается Вацек.
— Тоже неплохо,— соглашаюсь я.
— Теперь все это уже скоро кончится,— вдруг решительно
заявляет Вацек.
— Что именно?
— Сами отлично знаете, что! Безобразие! Что же еще?
— Безобразие?— спрашиваю я с тревогой.— Как так?
— А что же? Или вы друюго мнения?
Я смотрю на огромный пож за его голенищем и уже вижу
среди памятников Георга, лежащего с перерезанным горлом.
Лизу, конечно, нет: таков извечный идиотизм мужчин.
— Смотря как подойти,— дипломатически замечаю я. Мне
не совсем попятно, почему Вацек давно не влез в окно к Геор-
I V. Оно в нижнем этаже и открыто.
— Скоро все пойдет по-иному,— мрачно заявляет Вацек.—
Прольется кровь. Виновные будут наказаны.
Я смотрю на него. У него длинные руки, он весь жилистый
и, видимо, очень сильный. Я мог бы дать ему в подбородок ко-
leiioM и, когда он взовьется, нанести удар в пах или, если он но-
ны 1ается бежать, подставить ему ногу и несколько раз хоро-
— + 525 4* —
шенько стукнуть головой о мостовую. Для начала этого хан
тит,— но что будет дальше?
— Вы его слышали?— спрашивает Вацек.
— Кого?
— Да вы же знаете! Его! Кого же еще! Есть только один та-
кой, как он!
Я настораживаюсь. Но улица тиха. Кто-то бесшумно потянул
раму и закрыл окно в комнате Георга.
— Кого это я должен был слушать?— спрашиваю я громко,
стараясь выиграть время и подать знак, чтобы Лиза смылась в сад.
— Да его! Фюрера! Адольфа Гитлера!
— Адольфа Гитлера?— повторяю я с облегчением.— Ах, это1 ol
— Как так этого?— вызывающе спрашивает Вацек.— Разве
вы не за него?
— Конечно, за! Особенно сейчас! Вы даже представить себе
не можете, до какой степени я за!
— А почему же вы тогда его не слушали?
— Но ведь он же здесь не был.
— Он выступал по радио. Мы слушали на бойне. У нас мош
ный приемник. Он все повернет по-другому! Потрясающим
речь! Уж он-то знает, что к чему! Все пойдет по-другому!
— Ну ясно! — отвечаю я. В одной этой пресловутой фразе
«все пойдет по-другому» заключено универсальное оружие
всех демагогов земного шара.
— Все пойдет по-другому! А как насчет кружки пива?
— Пива? Где?
— Да у Блюме, за углом.
— Я жду свою жену.
— Вы можете с таким же успехом ждать ее и у Блюме. Л
о чем Гитлер говорил? Мне очень хотелось бы узнать подроб
нее. У меня приемник не работает.
— Обо всем,— заявляет мясник и встает.— Этот человек и in
ет все! Все, говорю я вам, камрад!
Он ставит стул в сени, и мы дружно шествуем в ресторан
Блюме с садом, чтобы насладиться дортмундским пивом.
X
В мягких сумерках стеклянный человек стоит неподвижно
перед клумбой с розами. Григорий VII прогуливается по капни
новой аллее. Пожилая сестра водит согбенного длинноволосо
го старца, который то и дело пытается ущипнуть ее крепкий
зад и каждый раз при этом весело хихикает. Рядом со мной
на скамейке сидят двое мужчин, и каждый старается объясни и
— + 526 4* —
другому, почему тот сошел с ума, причем оба друг друга не слу-
шают. Три женщины в полосатых платьях поливают цветы; мол-
ча скользят они сквозь вечерний полумрак, держа в руках цин-
ковые лейки.
Я сижу на скамье возле клумбы с розами. Жизнь здесь течет
мирно и естественно. Никого не тревожит то обстоятельство,
'по доллар поднялся за один день на двенадцать тысяч марок.
Никто из-за этого не вешается, как та старая супружеская чета
в городе — их нашли сегодня утром в платяном шкафу, каждый
повесился на обрывке простыни. Кроме них в этом шкафу уже
ничего не оказалось, все было заложено’ и распродано, даже
кровать и этот шкаф. Когда покупатель вознамерился вывезти
пещи, он обнаружил мертвецов. Они висели, обняв друг друга
и как бы показывая друг другу распухшие, посиневшие языки.
( упруги оказались странно легкими, и их без труда вынули
in петли. Оба были тщательно вымыты, волосы приглажены,
платье аккуратно залатано и вычищено. Покупателя — полно-
кровного торговца мебелью — вырвало, когда он их увидел,
и он заявил, что не желает теперь брать шкаф. Только вечером
изменил он свое решение и все-таки прислал за ним. К тому
времени мертвецы уже лежали на кровати, но пришлось снять
их оттуда, так как ее тоже должны были забрать. Соседи одол-
жили несколько столов, и супругов уложили на них, завернув
юловы в шелковую бумагу. Эта бумага была единственной их
собственностью, найденной в пустой квартире. Они оставили
письмо, в котором сообщали, что хотели отравиться газом,
по компания выключила у них газ, так как они слишком давно
не платили. Поэтому они просили торговца мебелью извинить
их за причиненное беспокойство.
Ко мне подходит Изабелла. На ней короткие синие брюки
до колен, желтая блузка, на шее янтарное ожерелье.
— Где ты был?— спрашивает она, задыхаясь от быстрой
ходьбы.
Мы не виделись несколько дней. Каждый раз по окончании
службы я выскальзывал из церкви и уходил домой. Нелегко было
(оказываться от замечательного ужина и вина в обществе Бо-
лендика и Вернике, но я предпочитал спокойно побыть с Гер-
ши, хоть и приходилось ограничиваться бутербродами и карто-
фельным салатом.
— Где ты был?— повторяет Изабелла.
— В городе,— уклончиво отвечаю я,— там, где деньги —
। лавное.
— + 527 4* —
Она садится на спинку скамьи. Ноги у нее очень смуглые, как
будто она много загорала на солнце. Оба мужчины рядом со мной
сердито смотрят на нее, потом встают и уходят. Изабелла со
скальзывает на сиденье.
— Зачем дети умирают, Рудольф?— спрашивает она.
— Этого я не знаю.
Я не смотрю на нее. Я вовсе не хочу снова попасть к ней
в плен; достаточно того, что она сидит здесь рядом, вытянум
стройные ноги в теннисных брюках, словно почуяла, что отны
не я решил жить по рецепту Георга.
— Почему они родятся, если сейчас же умирают?
— Это уж ты спроси у викария Бодендика. Он уверяет, чю
Господь Бог ведет счет каждому волоску, падающему с головы
любого человека, и что у всего есть свой смысл и своя мораль.
Изабелла смеется.
— Господь Бог ведет счет? Что же он проверяет? Самого себя?
Зачем? Ему ведь все известно.
— Да,— соглашаюсь я и вдруг почему-то начинаю злиться.
— Он всеведущий и всеблагой, он справедлив и полон люб
ви — и все-таки умирают дети и умирают матери, которые им
нужны, и никто не знает, почему на земле столько горя.
Изабелла вдруг поворачивается ко мне. Она уже не смеется
— Почему все люди не могут просто быть счастливы, Ру
дольф?— шепчет она.
— Этого я не знаю. Может быть, потому, что тогда Господу
Богу было бы скучно.
— Нет,— торопливо отвечает она.— Не поэтому.
— А почему же?
— Потому что он боится.
— Боится? Чего же?
— Если бы все были счастливы, никакой Бог не был бы нужсш
Я смотрю на нее. Глаза у нее очень прозрачные. Лицо cwio
более смуглым и худым.
— Он существует только оттого, что люди несчастны,— гони
рит она.— Тогда он нужен и ему молятся. Ради этого он все i ям
и устраивает.
— Есть люди, которые молятся Богу и когда они счастливы
— Да?— Изабелла недоверчиво улыбается.— Значит, они
молятся от страха, что их счастье кончится. Все — только сгряй,
Рудольф. Разве ты не знаешь?
Мимо нас сестра проводит предприимчивого старца. И з ом ня
главного здания доносится жужжание пылесоса. Я озирямнь
— + 528 + —
Окно открыто, но забрано решеткой — черная дыра, из кото-
рой доносится вой пылесоса, словно там вопит проклятая душа.
— Все — страх,— повторяет Изабелла.— Разве тебе никогда
не бывает страшно?
— Не знаю,— все еще настороженно отвечаю я.— Ну, конечно.
На войне мне очень часто бывало страшно.
— Я не о том. Это понятный страх. Я имею в виду страх безы-
мянный.
— Какой же? Страх перед жизнью?
Она качает головой.
— Нет, более ранний.
— Страх смерти?
Она опять качает головой. Больше я ее не расспрашиваю.
11е хочу входить во все это. Молча сидим мы некоторое время
в прозрачных сумерках. И опять у меня возникает чувство, что
И забелла вовсе не больна; но я не даю ему окрепнуть. Если оно
окрепнет, то снова вызовет в моей душе смятение, а я этого
не хочу. Наконец Изабелла делает какое-то движение.
— Почему ты молчишь?— спрашивает она.
— А какое значение имеют слова?
— Огромное,— шепчет Изабелла.— Они — все. Ты их бо-
ишься?
Я размышляю.
— Вероятно, все мы боимся, как бы не наговорить громких
слов. С их помощью люди так нестерпимо много налгали. Мо-
жет быть, мы боимся и наших чувств. Мы уже не доверяем им.
Изабелла подбирает под себя ноги.
— Но ведь они необходимы, любимый, как же без них?
Пылесос смолкает. Становится вдруг очень тихо. С клумб ве-
с । прохладным дыханием влажной земли, птица в чаще кашта-
нов словно зовет — все тот же зов. Вечер внезапно кажется мне
весами, где на обеих чашах лежат одинаково огромные куски
жизни. Я чувствую, как эти чаши легко, словно лишенные тя-
жести, стоят на одном уровне в моей груди. Ничего со мной
нс может случиться, думаю я, пока мое дыхание будет таким
спокойным.
— А меня ты боишься?— шепчет Изабелла.
«Нет,— отвечаю я про себя и качаю головой.— Ты единствен-
ный человек, которого я не боюсь. И слов с тобой не боюсь. Для
। сбя они никогда не могут быть слишком пышными или смеш-
ными. Ты всегда понимаешь их, ибо до сих пор живешь в таком
мире, где слова и чувства, ложь и видения — одно».
— Почему же ты молчишь?— спрашивает Изабелла.
— + 529 4* —
Я пожимаю плечами.
— Иногда трудно что-нибудь сказать, Изабелла. И дать сво-
боду тоже трудно.
— Кому дать свободу?
— Самому себе. Многое в нас противится этому.
— Нож не может сам себя порезать, Рудольф. Отчего же ты
боишься?
— Не знаю, Изабелла.
— Не жди слишком долго, любимый, иначе будет поздно
Слова нужны...— бормочет она.
Я не отвечаю.
— Чтобы бороться со страхом, Рудольф,— продолжай
она.— Они — светочи. Они помогают. Видишь, каким серым
становится все вокруг? Кровь теперь уже ни у кого не красная.
Отчего ты мне не поможешь?
Я наконец перестаю сопротивляться.
— Ты — сладостное, неведомое и любимое создание,— гоно
рю я.— Если бы только я был в силах помочь тебе!
Она наклоняется ко мне и кладет мне руки на плечи.
— Пойдем со мной! Помоги мне! Они зовут!
— Кто зовет?
— Разве ты не слышишь? Голоса! Они все время зовут!
— Никто тебя не зовет, Изабелла. Только твое сердце. Но к у
да оно тебя зовет?
Я чувствую ее дыхание на своем лице.
— Люби меня, тогда они не будут звать,— говорит она.
— Я люблю тебя.
Она опускается на скамью рядом со мной. Ее глаза закры i ы
Становится темнее, и стеклянный человек опять проходит мм
мо нас деревянным шагом. Сестра собирает стариков, которым
сидят на скамьях сгорбившись, неподвижно, и похожи на гем
ные сгустки скорби.
— Пора,— бросает сестра в нашу сторону.
Я киваю и остаюсь сидеть.
— Они зовут,— шепчет Изабелла.— И никогда их не нпй
дешь. У кого столько слез?
— Ни у кого,— отвечаю я.— Ни у кого на свете, возлюблен
ная моя.
Она не отвечает. Она дышит рядом со мной, как уставшее
дитя. Тогда я беру ее на руки и несу по аллее к флигелю, где они
живет.
Когда я ставлю ее на землю, она спотыкается и держите N
за меня. Бормочет что-то, чего я не понимаю, и дает отвести ссби
— + 530 4* —
Черный обелиск»
в дом. Вход залит ярким, не затененным молочно-белым сиг
том. Я усаживаю ее в холле в плетеное кресло. Она лежит в нем,
закрыв глаза, словно снятая с незримого креста. Мимо прохо
дят две сестры в черных одеждах. Они направляются в часов
ню. На миг мне чудится, будто им хочется взять с собой Изабел
лу и похоронить ее. Затем входит сиделка в белом и ее уводи i.
Старшая сестра пожертвовала нам вторую бутылку мозель
вейна. Однако, к моему удивлению, Бодендик исчезает тут же
после трапезы. Вернике остается. Погода установилась, и боль
ные спокойны, насколько они вообще могут быть спокойны.
— Почему не убивают тех, кто совершенно безнадежен?
спрашиваю я.
— А вы могли бы их убить?— в свою очередь спрашиван
Вернике.
— Не знаю. Но ведь это то же самое, как с человеком, ko i о
рый безнадежен и медленно умирает, причем заранее известно,
что ничего, кроме страданий, его не ждет. Вы сделали бы ему
укол, чтобы его мучения кончились на несколько дней раньше?
Вернике молчит.
— К счастью, здесь нет Бодендика,— продолжаю я.— Попо
му мы можем обойтись без религиозных и моральных рассужле
ний. На фронте у одного моего товарища был распорот жино|,
как у мясной туши. Он умолял нас застрелить его. Мы отнесли
его в лазарет. Там он кричал еще три дня, потом умер. Три дня
это очень долгий срок, когда человек рычит от боли. Я виде»!,
как многие люди издыхали. Не умирали, а именно издыхали
И всем им можно было облегчить смерть с помощью ширина
Моей матери тоже.
Вернике молчит.
— Ладно,— говорю я.— Знаю, оборвать чью-либо жизнь
всегда убийство. С тех пор как я побывал на войне, мне дажм
муху убивать неприятно. И все-таки телятина сегодня вечером
показалась мне очень вкусной, хотя теленка убили ради юю,
чтобы мы его ели. Все это старые парадоксы и беспомощным
умозаключения. Жизнь — чудо, даже в теленке, даже в мухм
Особенно в мухе, этой акробатке с ее тысячами глаз. Она иссч ли
чудо. И всегда этому чуду приходит конец. Но почему в мирном
время мы считаем возможным прикончить больную собаку и
не убиваем стонущего человека? А во время бессмысленны!
войн истребляем миллионы людей?
Вернике все еще не отвечает. Большой жук с жужжанием но
сится вокруг лампочки. Он стукается о нее, падает, полни,
— + 532 4* —
опять расправляет крылья и снова кружит возле источника све-
ia. Свой опыт он не использует.
— У Бодендика, этого чиновника Божьего, конечно, на все
найдется ответ,— говорю я.— У животных-де души нет, а у че-
ювека есть, но куда девается часть души, когда повреждена ка-
кая-то извилина мозга? Куда девается эта часть, если человек
накопится идиотом? Она уже на небе? Или ждет где-нибудь
свой изувеченный остаток, благодаря которому человек еще
может болтать, пускать слюни, есть и испражняться? Я видел
некоторых ваших безнадежно больных, запертых в палатах,—
в сравнении с ними даже животные — боги. А у идиота куда де-
вается душа? Разве она делима? Или висит, как невидимый воз-
душный шар, над головами этих бедных бормочущих существ?
Вернике делает движение, словно отгоняя насекомое.
— Ладно,— продолжаю я.— Пусть это вопрос для Боденди-
ка, и он легко разрешит его. Бодендик может разрешить любой
вопрос с помощью великого неведомого Бога, неба и ада — на-
|рады для страждущих и наказания для злых. Никто никогда
нс получал доказательств, что это действительно так; и, по мне-
нию Бодендика, только вера дает блаженство. А для чего же
нам дан разум, способность критики, жажда доказательств?
’I ।обы ими не пользоваться? Странная игра для великого неве-
.юмого божества. А что такое благоговейное отношение к жиз-
ни? Страх смерти? Страх, всегда только страх? Почему? И по-
чему мы спрашиваем, если на наши вопросы нет ответов?
— Все?— спросил Вернике.
— Нет, не все, но я больше не буду задавать вам вопросов.
— Хорошо. Ведь и я не в состоянии вам ответить. Вы хоть
ною понимаете или нет?
— Конечно. Почему именно вы были бы в силах ответить, ес-
н1 в библиотеках всего мира можно найти вместо ответов толь-
ко умозрительные разглагольствования на эти темы?
Делая второй круг, жук падает. Он снова с трудом пере-
ворачивается и начинает третий. Его крылья словно сделаны
и $ синей полированной стали. Весь он подобен прекрасной це-
1сустремленной машине; но свет для него все равно что бутыл-
ка водки для алкоголика.
Вернике разливает по стаканам остатки мозельвейна.
— Вы долго были на фронте?
— Три года.
— Странно!
Я не отвечаю. Я приблизительно догадываюсь о том, что он
имеет в виду, и мне не хочется все это еще раз переживать.
— + 533 4* —
— Как вы думаете, между рассудком и душой есть связь?-*
неожиданно спрашивает Вернике.
— Этого я не знаю. Но разве вы считаете, что у этих низшим
животных, которые сидят у вас под замком и мараются под се
бя, все-таки есть душа?
Вернике берет свой стакан.
— Для меня это проще,— отвечает он.— Я человек науки
и ничего не принимаю на веру. Я только наблюдаю. Бодендик
же, напротив, верит априори. А вы неуверенно порхаете между
мною и им. Видите этого жука?
Жук в пятый раз идет в атаку. И будет продолжать, покй
не умрет. Вернике выключает лампочку.
— Так мы его спасем.
В открытые окна входит высокая синяя ночь. Она дыши!
на нас запахом земли, цветов и мерцанием звезд. Все, что я ю
ворил, кажется мне вдруг чудовищно глупым. Жук делает еще
один жужжащий круг и решительно вылетает в окно.
— Хаос,— говорит Вернике.— Но действительно ли это хшк\
или он только кажется нам таким? Вы когда-нибудь думали
о том, каким оказался бы мир, будь у нас одним органом чуне in
больше?
— Нет.
— А на один меньше?
Я размышляю.
— Мы были бы слепы, или глухи, или у нас отсутствовали бы
ощущения вкуса. Конечно, была бы огромная разница.
— А если на один больше? Почему мы навсегда ограничили
себя пятью чувствами? Почему мы не можем когда-нибудь pin
вить шестое? Или восьмое? Или двенадцатое? Разве мир
не стал бы тогда совсем иным? Допустим, что с развитием нкч
того чувства уже исчезло бы понятие времени. Или пространи
ва. Или смерти. Или страдания. Или морали. И уж, наверное,
изменились бы теперешние понятия о том, что такое жи ть
Мы проходим через наше бытие с довольно ограниченными ор
ганами восприятий. У собаки слух лучше, чем у любого челопе
ка. Летучая мышь вслепую находит дорогу, невзирая на все пре
пятствия. У мотылька есть собственный радиоприемник, и он
летит за многие километры прямо к своей самке. Перелетным
птицы ориентируются куда лучше нас. Змеи слышат поверхно
стью кожи. Естествознанию известны сотни подобных приме
ров. Как можем мы при таких условиях знать что-нибудь напер
няка? Достаточно расширить сферу восприятия одною
— + 534 4* —
из органов или развить новый — и мир изменится, изменится
и понятие Бога. Ваше здоровье!
Я поднимаю свой стакан и пью. Мозельское — терпкое, зем-
ное вино.
— Значит, лучше ждать, пока у нас разовьется шестое чувст-
во? Да?— отвечаю я.
— Не обязательно. Делайте, как хотите. Но полезно помнить,
ч го один лишний орган восприятия — и все наши выводы поле-
1ят к черту. Наша первобытная серьезность исчезает от этой
мысли. Как винцо?
— Отличное. А что фрейлейн Терговен? Ей лучше?
— Хуже. Приезжала мать — дочь не узнала ее.
— Может быть, не захотела узнать.
— Это почти одно и то же; дочь ее не узнала, потребовала,
•нобы мать ушла. Типичное явление.
— Почему?
— Вы хотите послушать лекцию о том, что такое шизофрения,
родительский комплекс, бегство от самого себя и действие шока?
— Да,— отвечаю я.— Сегодня хочу.
— Вы ее не услышите. Только самое необходимое. Раздвое-
ние личности — это обычно желание убежать от самого себя.
— А что такое само по себе человеческое «я»?
Вернике смотрит на меня.
— Не будем сегодня касаться этого. Итак, бегство в другую
шчность. Или в несколько. В промежутках пациент на более или
менее долгое время возвращается в свою собственную. А вот
Женевьева — нет. Она давно уже не возвращалась. Вы, напри-
мер, знаете ее совсем не такой, какая она в действительности.
— Такая, как сейчас, она кажется вполне разумной,— говорю
м неуверенно.
Вернике смеется.
— А что такое разум? Логическое мышление?
Я думаю о развитии в будущем двух новых органов чувств
и не отвечаю.
— А что, она очень тяжело больна?— спрашиваю я.
— С нашей точки зрения — да. Но бывают случаи внезапно-
к) и удивительного излечения.
— Излечения от чего?
— От болезни.— Вернике закуривает сигарету.
— Иногда она чувствует себя вполне счастливой. Почему вы
нс оставите ее такой, какая она сейчас?
— Оттого; что мать платит за лечение,— сухо поясняет Вер-
нике.— Да она вовсе и не чувствует себя счастливой.
— + 535 4* —
— Вы считаете, что она была бы счастлива, если бы выздоро
вела?
— Вероятно, нет. Она чувствительна, образованна, видимо,
обладает живой фантазией, и у нее тяжелая наследственное!ъ,
Все это свойства, не обещающие особенного счастья! Будь они
счастлива, она едва ли убежала бы.
— Тогда почему ее не оставят в покое?
— Да, вот почему?—задумчиво повторяет Вернике.— Я тоже
задаю себе нередко этот вопрос. Почему все же оперирую!
больных, о которых известно, что операция им не поможет? Вы
хотели бы составить список этих почему? Он был бы очень вс
лик, среди них будет и вопрос: почему вы не допиваете свой
стакан и, наконец, не заткнетесь? И почему вы не ощущай г
этой ночи, а лишь свой незрелый ум? Почему рассуждаем с
о жизни вместо того, чтобы ощущать ее?
Он встает и потягивается.
— Ну, мне пора делать обход моих затворников. Хотите пой
ти со мной?
— Хочу.
— Наденьте белый халат. Я поведу вас в особое отделение
Либо вас потом стошнит, либо вы с глубокой радостью и благо
дарностью выпьете свое вино.
— Но бутылка пуста.
— У меня в комнате есть про запас еще одна. Может бьпь,
она нам и понадобится. И знаете, что странно? Вот вы в ваши
двадцать пять лет видели уже немало смертей, горя и человече
ского безумия и все-таки ничему не научились, задаете самые
дурацкие вопросы, какие только можно выдумать. Но, видно,
так уж повелось на свете: когда мы действительно что-то начнем
понимать, мы уже слишком стары, чтобы приложить это к жиз
ни, так оно и идет — волна за волной, поколение за поколением,
и ни одно не в состоянии хоть чему-нибудь научиться у друпно
Пошли!
Мы сидим в кафе «Централь» — Георг, Вилли и я. Мне нс хп
телось сегодня оставаться дома в одиночестве. Вернике пока нм
мне отделение сумасшедшего дома, в котором я еще не быв,
а именно — палаты для жертв войны. Там содержатся люлн
с разрушенной психикой, получившие ранения в голову, ин ы
панные. В мягком свете весеннего вечера, среди распевающих
повсюду соловьев, это отделение казалось каким-то грозным
блиндажом. Война, о которой всюду уже почти забыли, здеч ч.
все еще продолжается. В ушах у несчастных еще раздается пой
— 4* 536 4* —
снарядов, глаза их, как пять лет назад, полны ужаса, штыки бе-
юсгаповочио вонзаются в мягкие животы, танки безжалостно
давят кричащих раненых и расплющивают их, точно камбалу;
। ром сражения, взрывы ручных гранат, треск раскалывающих-
ся черепов, свист мин, хрип придавленных рухнувшими блинда-
жами — все здесь сохранено словно с помощью какой-то чудо-
вищной черной магии и безмолвно неистовствует в этом
ф.1И1еле, окруженном розами и прелестью позднего лета. Здесь
о । даются приказы и безмолвно повинуются неотданным прика-
зам; кровати — это окопы и укрытия, людей вновь и вновь за-
валивают и откапывают, здесь убивают и умирают, душат и за-
дыхаются, волны газа текут по комнатам, и, обезумев от ужаса,
поди ревут и ползают, хрипят и рыдают или вдруг, сжавшись
в комочек и силясь стать как можно незаметнее, забиваются
в угол и сидят там молча, уткнувшись в стену, тесно прижав-
шись к ней...
— Встать!— вдруг рявкают за нашей спиной несколько юно-
шеских голосов. Кое-кто из посетителей лихо вскакивает и вы-
।я। ивается. Оркестр кафе исполняет «Германия, Германия пре-
выше всего». За сегодняшний вечер это четвертый раз. Не
ю чтобы оркестр или хозяин кафе были уж так охвачены наци-
оналистическим пылом; все дело в нескольких юных головоре-
зах, которые невесть что о себе воображают. Каждые полчаса
один из них подходит к оркестру и заказывает национальный
। ими, притом с таким видом, будто идет в наступление. Оркестр
не решается возражать, и поэтому вместо увертюры из «Поэта
и крестьянина» звучит песнь о Германии.
— Встать! — раздается тогда со всех сторон, ибо при испол-
нении национального гимна полагается встать, особенно после
ini о, как под его звуки были убиты два миллиона немцев, мы
проиграли войну и получили инфляцию.
— Встать! — кричит мне сопляк, которому сейчас нет и сем-
надцати, а к концу войны было не больше двенадцати.
— Плевал я на тебя,— отвечаю,— пойди сначала нос утри.
— Большевик! — орет парень, хотя он даже еще не знает тол-
ком, что это слово означает.— Оказывается, здесь есть больше-
вики! — обращается он к остальным молодчикам.
Основное стремление этих хулиганов — устроить скандал.
Вновь и вновь заказывают они национальный гимн, и каждый
р.н многие посетители не встают, уж очень все это глупо. Тогда,
• всркая глазами, к ним подбегают крикуны и стараются затеять
юру. Где-то среди публики есть и несколько офицеров в отстав-
ке, они дирижируют всем этим и чувствуют себя патриотами.
— 4* 537 4* —
Вокруг нашего стола уже собралось пять-шесть человек.
— Встать! Не то плохо будет!
— А как плохо?— спрашивает Вилли.
— Скоро узнаете! Трусы! Изменники! Встать!
— Отойдите от стола,— спокойно говорит Георг.— Вообрп
жаете, что мы нуждаемся в приказах молокососов?
Сквозь толпу проталкивается мужчина лет тридцати.
— Разве вы не чувствуете почтения к нашему национальному
гимну?
— Не в кафе и не тогда, когда из него делают повод для скан
дала,— возражает Георг.— А теперь оставьте нас в покое с ва
шими глупостями.
— Глупости? Вы считаете священнейшие чувства немца глу
постями? Вы за это поплатитесь! Где вы были во время войны,
вы, шкурник?
— В окопах, к сожалению.
— Это каждый может сказать! Докажите!
Вилли встает. Он прямо великан. Музыка как раз смолкла.
— Вот! Слышишь?— Он приподнимает ногу, поворачивай н м
к вопрошающему задом и издает звук, вроде выстрела из орудии
среднего калибра.— Это все,— говорит Вилли,— чему я научил
ся у пруссаков. Раньше манеры у меня были лучше.
Вожак б^нды невольно отскочил.
— Вы как будто сказали «трус»?— спрашивает Вилли, ухмы
ляясь.— Но вы сами, кажется, довольно пугливы.
Подошел хозяин в сопровождении трех коренастых кельнерш
— Спокойствие, господа, я вынужден настоятельно проспи,
вас. Никаких объяснений у меня в кафе!
Оркестр играет «Девушку из Шварцвальда». Хранители пн
ционального гимна отступают, бормоча угрозы. Возможно, чю
на улице они попытаются напасть на нас. Мы взвешиваем и*
силы; они расселись недалеко от входной двери. Их около дппл
цати человек. Сражение не сулит нам успеха.
Но вдруг появляется неожиданная помощь. К нашему сюду
подходит очень худой человек. Это Бодо Леддерхозе, торпнюн
кожами и железным утилем. Мы вместе с ним лежали во фрдп
цузском госпитале.
— Ребята,— заявляет он,— я был свидетелем того, что про
изошло. Я тут со всем нашим певческим союзом. Вон, за кодон
ной. Нас добрая дюжина. Мы вас поддержим, если эти ро*и
к вам привяжутся. Сговорились?
— Сговорились, Бодо! Тебя нам прямо Бог послал.
— + 538 4* —
— Я бы этого не сказал. Но здесь не место для разумных лю-
дей. Мы зашли выпить только по кружке пива. К сожалению,
у здешнего хозяина лучшее пиво во всем городе. А вообще-то
он ни рыба ни мясо, бесхарактерное гузно.
Я нахожу, что Бодо заходит слишком далеко, требуя, чтобы
у столь примитивной части человеческого тела был еще и харак-
тер; но именно поэтому в таком требовании есть что-то возвы-
шенное. В растленные времена нужно требовать невозможного.
— Мы уже пошли,— говорит Бодо.— Вы тоже?
— Немедленно.
Мы расплачиваемся и встаем. Но не успеваем дойти до двери,
как рыцари национального гимна оказываются уже на улице.
Словно по волшебству, в их руках появились дубинки, камни,
кастеты. Полукругом выстроились они перед входом.
Вдруг мы опять видим Бодо. Он отстраняет нас, и его двенад-
на гь товарищей проходят вперед. На улице они останавливаются.
— Что вам угодно, эй, вы, сопляки?
Хранители отечества таращат на нас глаза.
— Трусы!— заявляет наконец предводитель, который хотел на-
пасть на нас троих со своими двадцатью молодчиками.— Уж мы
вас где-нибудь да накроем!
— Несомненно,— соглашается Вилли.— Ради этого мы не-
сколько лет торчали в окопах. Но только старайтесь, чтобы вас
всегда было в три или четыре раза больше, чем нас. Перевес
в силе придает патриотам уверенность.
Мы идем вместе с певческим союзом Бодо по Гроссештрассе.
В небе выступили звезды. В магазинах горят огни. Когда иной
раз бываешь вместе с боевыми товарищами, это все еще кажется
чем-то странным, великолепным, захватывающим, непостижи-
мым: и что можно вот так прогуливаться, и что ты свободен
и жив. Мне вдруг становится понятным, в каком смысле доктор
Вернике говорил о благодарности: это благодарность, которая
нс обращена ни к кому персонально,— просто благодарность
ia то, что человек ускользнул на какое-то время, ибо оконча-
ie 1ьно ускользнуть не может, конечно, никто.
— Вы должны ходить в другое кафе,— заявляет Бодо.— Как
насчет нашего? Там хоть нет этих обезьян-ревунов. Идемте
< нами, мы вам его покажем!
Они показывают. Внизу подают кофе, сельтерскую, пиво, мо-
роженое; наверху находятся залы для собраний. Союз Бодо —
но певческий союз. Город так и кишит всякими союзами,
\ каждого свои вечера для сборищ, свой устав, свои повестки
in я, и каждый очень горд собой и относится к своей деятельно-
— + 539 4* —
сти с глубокой серьезностью. Союз Бодо собирается по четвср
гам на нижнем этаже.
— У нас прекрасный четырехголосный мужской хор,— расска
зывает он.— Только первые тенора слабоваты. Странно, но, вили
мо, на войне было убито очень много первых теноров. А у смены
еще голос ломается.
— Вот у Вилли — первый тенор,— заявляю я.
— В самом деле?— Бодо смотрит на Вилли с интересом.
Ну-ка, возьми эту ноту, Вилли.
Бодо заливается, как дрозд. Вилли подражает ему.
— Хороший материал,— заявляет Бодо.— Ну, а эту?
Вилли справляется и со второй.
— Вступай в члены! — настаивает Бодо.— Не понравится
всегда можешь выйти.
Вилли немного кокетничает, но, к нашему удивлению, в копне
концов дает согласие. Его сейчас же производят в казначеи клуби
Поэтому он заказывает себе еще порцию пива и водки и дми
всех гороховый суп и холодец. Союз Бодо держится в политике
демократических принципов, если не считать первых тенорок,
один, владелец игрушечного магазина,— консерватор, второй,
башмачник,— сочувствует коммунистам, но в отношении пер
вых теноров нельзя быть особенно разборчивым — их слишком
мало. Заказав третью порцию, Вилли сообщает, что он знаком
с одной дамой, которая тоже может петь тенором и даже басом
Члены союза молчат, прожевывают холодец, они явно сомнепп
ются. Тут вмешиваемся мы с Георгом и подтверждаем способ
ность Рене де ла Тур петь двумя голосами. Вилли клянется, чо»
у нее не настоящий бас, а врожденный тенор. В ответ раздаюi
ся бурные аплодисменты. Рене заглазно тут же избирается сна
чала членом, а затем и почетным членом союза. По этому еду
чаю Вилли заказывает для всех по кружке пива. Бодо мечiат
о вставках, исполняемых загадочным сопрано, вследствие чею
на певческих праздниках другие союзы просто с ума сойдут, ио
образив, что в клубе у Бодо есть евнух; Рене, конечно, при де н а
выступать в мужском костюме, иначе их союз должен будез ш1
рейти в разряд смешанных хоров.
— Я ей сегодня же вечером скажу,— заявляет Вилли.— Hoi
будем смеяться! Во всех регистрах!
Наконец мы с Георгом уходим. Вилли со второго этажа на
блюдает за площадью; он, как старый солдат, еще ждет, что ин*
нибудь в засаде сидят хранители национального гимна. Но ни
чего не происходит. Рыночная площадь мирно покоится под
звездами. В пивных распахнуты окна. Из клуба Бодо мощно
— + 540 4* —
поется песня «Кто тебя, прекрасный лес, вырастил на тех вер-
шинах?».
— Скажи-ка, Георг,— спрашиваю я, когда мы сворачиваем
на Хакенштрассе,— ты счастлив?
Георг Кроль снимает шляпу перед чем-то незримым в ночи.
— Спросил бы лучше другое,— отвечает он,— сколько же
можно сидеть на острие иглы?
XI
С неба льет дождь. А из сада, клубясь, наплывают волны ту-
мана. Лето захлебнулось в потоках дождя, стало холодно, и дол-
iap стоит сто двадцать тысяч марок. С ужасным треском отва-
швается часть кровельного желоба, и вода, низвергающаяся
перед нашим окном, похожа на стеклянную стену. Я продаю
1вух надгробных ангелов из неоглазуренного фарфора и венок
in иммортелей какой-то хрупкой маленькой женщине, у кото-
рой двое детей умерли от гриппа. В соседней комнате лежит Ге-
орг и кашляет. У него тоже грипп, но он подкрепился кружкой
1 । и швей на, который я ему сварил. Кроме того, на постели во-
круг него разбросано с десяток журналов, и он пользуется слу-
чаем, чтобы получить информацию о последних великосвет-
ских бракосочетаниях, разводах и скандалах в Канне, Берлине,
Лондоне и Париже. Входит Генрих, как всегда в полосатых брю-
ках с велосипедными зажимами и в темном дождевике в тон
брюкам.
— Не будете ли вы так любезны записать? Я продиктую вам
некоторые заказы,— осведомляется он с неподражаемым сар-
казмом.
— Безусловно. Валяйте.
Он перечисляет: несколько надгробных камней из красного
сиенита, мраморная доска, несколько решеток — будни смерти,
ничего особенного. Потом он в нерешительности переминается
с ноги на ногу, греет зад у холодной печки, рассматривает об-
ра изы каменных пород, которые уже лет двадцать лежат
на полках в нашей конторе, и наконец выпаливает:
— Если мне будут чинить препятствия, то не удивительно,
ио мы скоро обанкротимся!
Я не отвечаю, чтобы позлить его.
— Вот именно — обанкротимся! — поясняет он.— Я знаю,
но говорю!
— В самом деле?— Я ласково бмотрю на него.— Зачем же вы
ми ла оправдываетесь? Вам и так каждый поверит.
— + 541 4* —
— Оправдываюсь? Я не нуждаюсь в оправдании! Но то, что
случилось в Вюстрингене...
— А что, убийцы столяра найдены?
— Убийцы? А нам-то какое дело? И при чем тут убийство?
Просто несчастный случай. Он сам во всем виноват. Я то имею
в виду, как вы там обошлись со старостой Деббелингом и в до-
вершение всего предложили вдове столяра бесплатное надгро
бие.
Я отворачиваюсь и смотрю в окно на дождь. Генрих Кроль
принадлежит к той породе людей, которые никогда не сомневи
ются в правоте своих взглядов,— это делает их не только скуч
ними, но и опасными. Из них и состоит та меднолобая масса
в нашем возлюбленном отечестве, которую можно вновь
и вновь гнать на войну. Ничто их не в состоянии вразумить, они
родились «руки по швам» и гордятся тем, что так и умрут. Нс
знаю, существует ли этот тип в других странах, но если ди,
то наверняка не в таких количествах.
Через минуту я слышу голос этого упрямого дуралея. Окаты
вается, он долго беседовал со старостой и все уладил. Этим мы
только ему обязаны. Но теперь мы сможем снова поставляв
надгробные памятники в Вюстринген.
— Что же прикажете делать?— спрашиваю я.— Молиться
на вас?
Он бросает на меня язвительный взгляд.
— Берегитесь, вы можете зайти слишком далеко!
— А как далеко?
— Слишком. Не забудьте о том, что вы здесь только служи
щий.
— Я об этом забываю слишком часто. Иначе вам пришлось
бы платить мне тройной оклад — как художнику, как бухгали*
ру и как заведующему рекламой. А кроме того, хорошо, что мы
не на военной службе, иначе вы стояли бы передо мной папы
тяжку. Впрочем, если хотите, я могу как-нибудь позвонить пи
шим конкурентам — «Хольман и Клотц» сейчас же возьмут меня
к себе.
Дверь распахивается, и появляется Георг в красно-рыжей он
жаме.
— Ты рассказываешь о Вюстрингене, Генрих?
— А то о чем же?
— Тогда сядь и заткнись, и да будет тебе стыдно. Ведь в Вин
трингене человека убили! Оборвалась человеческая жизнь! Дли
кого-то погибла целая вселенная. Каждое убийство, каждый
смертельный удар — все равно что первое в мире убийство
— + 542 4* —
Каин и Авель, все начинается сызнова. Если бы ты и твои еди-
номышленники это когда-нибудь поняли, то на нашей благо-
словенной планете мы не слышали бы столько неистовых при-
ливов к войне!
— Тогда мы слышали бы только голоса рабов и лакеев. При-
служников позорного Версальского договора!
— Ах, Версальский договор? Ну конечно!— Георг делает
шаг вперед. От него веет ароматом крепкого глинтвейна.—
А если бы войну выиграли мы, то, разумеется, засыпали бы наших
противников подарками и изъявлениями любви, да? Ты забыл,
чего только ты и тебе подобные не собирались аннексировать?
Украину, Брие, Лонгви и весь рудный и угольный бассейны
Франции! Разве у нас отобрали Рур? Нет, мы все еще владеем
им! И ты будешь утверждать, что наш мирный договор не был
ьы в десять раз жестче, если б только нам дали возможность
шктовать его? Разве я не слышал, как ты сам на этот счет разо-
рялся еще в 1917 году? Пусть Франция, дескать, станет третье-
пепенной державой, пусть у России аннексируют громадные
юрритории, пусть все противники платят контрибуцию и отда-
к)| реальные ценности, пока их совсем не обескровят! И это го-
ворил ты, Генрих! А теперь орешь вместе со всей бандой о не-
справедливости, учиненной над нами! Просто блевать хочется
о| вашего нытья и воплей о мести. Всегда у вас виноват кто-то
другой! Так и несет самоупоенностью фарисеев; разве вы
пс знаете, в чем первый признак настоящего человека? Он от-
вечает за содеянное им! Но вы считаете, что по отношению
к вам совершались всегда только одни несправедливости, и вы
цинь одним отличаетесь от Господа Бога — Господь Бог знает
все, но вы знаете больше.
Георг озирается, словно очнувшись от сна. Лицо у него те-
перь такое же красное, как его пижама, и даже лысина порозо-
вела. Генрих испуганно отступает. Георг следует за ним — он
в полной ярости. Генрих продолжает отступать.
— Ты заразишь меня!— вопит он.— Ты дышишь мне в лицо
1 вой ми бациллами! Понимаешь ты, к чему это приведет, если
у обоих будет грипп?
— Никто больше не посмеет умирать,— замечаю я.
Достойное зрелище — эта борьба между двумя братьями:
Георгом в огненной пижаме, потным от бешенства, и Генрихом
и выходном костюме, одержимым одной заботой — как бы
не подхватить грипп. Эту сцену наблюдает, кроме меня, Лиза;
она в халате из материи с набивными изображениями парусных
— + 543 4* —
судов и, несмотря на отчаянную погоду, чуть не вся высовыва
ется из окна.
В доме, где живет Кнопф, дверь открыта настежь. Перед ней
дождь висит, словно занавес из стеклянных бус. В комнатах гпк
темно, что девушки уже зажгли свет. Кажется, будто они там
плавают, как дочери Рейна у Вагнера. Под огромным зонтом,
похожим на черный гриб, через двор бредет столяр Вильке.
Генрих Кроль исчезает, буквально вытесненный Георгом
из конторы.
— Полощите горло соляной кислотой!— кричу я ему
вслед.— Грипп для людей вашей комплекции смертелен!
Георг останавливается и хохочет.
— Какой я идиот,— говорит он.— Таких типов ничем
не проймешь!
— Откуда у тебя эта пижама?— спрашиваю я.— Ты чш,
вступил в коммунистическую партию?
Кто-то аплодирует: это Лиза бурно выражает Георгу одобре
ние — весьма нелояльная демонстрация по отношению к ее мужу
Вацеку, убежденному национал-социалисту, будущему диргк
тору бойни. Георг раскланивается, прижав руку к сердцу.
— Укладывайся в постель,— говорю я,— ты до того потеешь,
что брызжешь, как фонтан.
— Потеть полезно! Посмотри-ка на дождь! Небо тоже нои»
ет. А еще там, напротив, этот кусок жизни, в распахнутом хала
тике, с ослепительными зубами, полный смеха! Что мы тут ле
лаем? Интересно, почему мы не взрываемся, как фейерверк’
Если бы мы хоть раз по-настоящему поняли, что такое жить,
мы бы взорвались. Почему я торгую надгробными памятники
ми? Почему я не падающая звезда? Или не птица гриф, котораи
парит над Голливудом и вырывает самых восхитительных жен
щин из бассейнов для плаванья? Почему мы должны жии«
в Верденбрюке и драться в кафе «Централь», вместо того «пн
бы снарядить караван в Тимбукту и с носильщиками, чья кожи
цвета красного дерева, пуститься в дали широкого африкански
го утра? Почему мы не держим бордель в Иокагаме? Отвечай।
Совершенно необходимо это узнать сейчас же! Почему мм
не плаваем наперегонки с пурпурными рыбами в алом свете пш
тянских вечеров? Отвечай!
Он берет бутылку с водкой.
— Стоп!— говорю.— Есть еще вино. Я сейчас же подогрет
его на спиртовке. Никакой водки! У тебя жар! Нужно питы ори
чее красное вино с пряностями из Индии и с Зондских остроион
— + 544 4* —
— Ладно! Согревай! Но почему мы не находимся сами на ос-
тровах Надежды и не спим с женщинами, которые пахнут кори-
цей и чьи глаза становятся белыми, когда мы их оплодотворяем
под Южным Крестом, и они издают крики, словно попугаи
и тигры? Отвечай!
В полумраке конторы голубое пламя спиртовки пылает, точ-
но голубой сказочный свет. Дождь шумит, как море.
— Мы плывем, капитан,— говорю я и делаю огромный гло-
юк водки, чтобы догнать Георга.— Каравелла как раз проходит
мимо Санта-Крус, Лиссабона и Золотого Берега. Рабыни араба
Мухаммеда бен Гассана бен Вацека выглядывают из своих кают
и манят нас рукой. Вот ваш кальян!
Я протягиваю Георгу сигару из ящика, предназначенного
для наших лучших агентов. Он закуривает и пускает в воздух
безукоризненно правильные кольца дыма. На его пижаме про-
щупают темные пятна влаги.
— Мы плывем,— говорит он.— Почему мы еще не прибыли?
— Мы прибыли. Люди всегда и всюду прибывают. Время —
ио предрассудок. Вот в чем тайна жизни. Только мы не знаем
и ого. И всегда стараемся куда-нибудь да приехать!
— А почему мы не знаем этого?— спрашивает Георг.
— Время, пространство и закон причинности — вот покры-
вало Майи, застилающее от нас беспредельность далей.
— Почему?
— Это те бичи, с помощью которых Бог не дает нам стать
равными ему. Этими бичами он прогоняет нас сквозь строй ил-
|юзий и через трагедию дуализма.
— Какого дуализма?
— Дуализма человеческого «я» и мира. Бытия и жизни. Объ-
гк 1 и субъект уже не едины. А следствие — рождение и смерть.
Цепь гремит. Кто разорвет ее — разорвет и обреченность рож-
и’нию и смерти. Давайте попытаемся, рабби Кроль!
От вина подымается пар. Он благоухает гвоздикой и лимон-
ной цедрой. Я кладу в него сахар, и мы пьем. На той стороне
<>ухты в каюте рабовладельческого судна, принадлежащего Му-
хаммеду бен Гассану бен Юсефу бен Вацеку, нам аплодируют.
Мы кланяемся и ставим стаканы на стол.
— Значит, мы бессмертны?— резко и нетерпеливо спраши-
ваем Георг.
— Это только гипотеза,— отвечаю я.— Только теория; ибо
псссмертие — антитеза смертности, а следовательно, всего од-
на из половинок дуализма. Лишь когда окончательно спадет по-
крывало Майи, всякий дуализм полетит к черту. Тогда мы воз-
— 4* 545 4* —
вратимся на свою родину, объекта и субъекта уже не будет, они
сольются воедино, и все вопросы исчезнут.
— Этого недостаточно.
— А что же еще?
— Мы существуем. Точка.
— Но и это одна часть антитезы: мы существуем — и мы
не существуем. Это все еще дуализм, капитан! Нужно выйти
за его пределы.
— А как? Достаточно открыть рот, как мы натыкаемся на по
ловину какой-нибудь другой антитезы. Так дальше невозмож
но! Неужели мы должны в молчании проходить через жизнь?
— Это было бы противоположностью немолчанию.
— Проклятье! Опять западня! Что же делать, штурман?
Не отвечая, я поднимаю стакан. В вине вспыхивают красные
отсветы. Я указываю на потоки дождя и беру кусок гранит»
из коллекции образцов. Потом указываю на Лизу и на отсветы
в стакане, как на символ мимолетности, затем на кусок грани т,
как на символ неизменности, отодвигаю стакан и гранит и за
крываю глаза. Внезапный озноб пробегает у меня по спине
от всех этих фокус-покусов. Может быть, мы, сами того не иг
дая, напали на какой-то след? И обрели в опьянении магичс
ский ключ к разгадке? Куда вдруг исчезла комната? Можп
быть, она носится во вселенной? И где наша земля? Летит кии
раз мимо Плеяд? Где красный отблеск сердца? Может бы и.,
оно и Полярная звезда, и ось мира, и его центр?
С той стороны улицы доносятся бурные аплодисменты. Я <н
крываю глаза. Сразу не нахожу перспективы. Все одновремен
но плоско и округло, далеко и близко и не имеет имени. Позом.
завихрившись, оно приближается, останавливается и омни,
принимает вид, соответствующий обычным названиям. Конт
все это уже было? А ведь так уже было! Почему-то я знаю, но
откуда знаю, не могу вспомнить.
Лиза помахивает в окно бутылкой шоколадного ликера. В ну
минуту у входной двери раздается звонок, мы торопливо машем
Лизе в ответ и закрываем окно. Не успевает Георг исчезну и.,
как дверь конторы открывается и входит Либерман, кладПн
щенский сторож. Одним взглядом охватывает он спиртопиу.
глинтвейн и Георга в пижаме и каркает:
— День рожденья?
— Нет, грипп,— отвечает Георг.
— Поздравляю.
— Ас чем же тут поздравлять?
— + 546 4* —
— Грипп идет на йользу нашему делу. Я это замечаю по клад-
бищу. Гораздо больше смертей.
— Господин Либерман,— обращаюсь я к этому восьмидеся-
тилетнему здоровяку.— Мы говорим не о нашем деле. У госпо-
дина Кроля тяжелый приступ космического гриппа, с которым
мы сейчас героически боремся. Хотите выпить с нами стакан
лекарства?
— Да я больше насчет водки. От вина я только трезвею.
— У нас есть и водка.
Я наливаю ему полный чайный стакан. Он делает основа-
тельный глоток, затем берет свой рюкзак и извлекает оттуда фо-
рели, завернутые в большие зеленые листья, пахнущие рекою,
дождем и рыбой.
— Подарок,— сообщает Либерман.
Форели лежат на столе, глаза у них остекленели, серо-зеле-
ная кожа покрыта красными пятнами. Смерть снова вторглась
в комнату, где только что веяло бессмертием; вошла мягко
и безмолвно, как упрек твари, обращенный к человеку, этому
всеядному убийце, который, разглагольствуя о мире и любви,
перерезает горло овцам и глушит рыбу, чтобы набраться сил
и продолжать разглагольствовать о мире и о любви, не исклю-
чая и Бодендика — мясоеда, слуги Господа.
— Хороший ужин,— заявляет Либерман.— Особенно для
вас, господин Кроль. Легкое, диетическое блюдо.
Я отношу мертвую рыбу в кухню и вручаю фрау Кроль, кото-
рая разглядывает ее с видом знатока.
— С вареным картофелем, сливочным маслом и салатом,—
заявляет она.
Я обвожу взглядом кухню. Она блистает чистотой, свет отра-
жается от начищенных кастрюль, что-то шипит на сковороде,
и разносится аппетитный запах. Кухня — это всегда утешение.
Упрек исчезает из глаз форелей. Мертвая тварь вдруг превра-
щается в пищу, которую можно приготовить самыми разнооб-
разными способами. И вдруг кажется, что, пожалуй, для этого
они и родились на свет. Какие мы предатели по отношению
к самым своим благородным чувствам, думаю я.
Либерман принес несколько адресов. Действие гриппа уже
сказывается. Люди мрут оттого, что ослабла сопротивляемость
их организмов. Их силы были и так подорваны голоданием
но время войны. Я вдруг решаю переменить профессию. Я ус-
Iал иметь дела со смертью. Георг принес свой купальный халат
и теперь сидит в нем, словно потеющий Будда. Халат — ядови-
ю-зеленого цвета. Георг любит носить дома яркие цвета. Мне
— + 547 4* —
вдруг становится ясно, что именно напомнил мне наш разговор
перед приходом сторожа. На днях Изабелла сказала — точно
я не припомню ее слов — относительно обмана, таящегося в окру
жающих нас предметах. А действительно ли был обман, когда мы
говорили о нем? Или мы на один сантиметр приблизились к Богу?
Келья поэтов в гостинице «Валгалла» — это маленькая ком
натка с панелями. На полке с книгами стоит бюст Гете, на cie
нах висят фотографии и гравюры, изображающие немецких
классиков, романтиков и некоторых современных авторов
В этой келье собираются члены клуба поэтов, а также избран
ная городская интеллигенция. Собрания происходят раз в недс
лю. Время от времени здесь появляется даже главный редактор
местной ежедневной газеты, и его либо окружают откровенным
льстивым вниманием, либо втайне ненавидят — смотря по тому,
какой материал он принял и какой отверг. Но ему наплеван«
Словно добрый дядюшка, проплывает он в табачном дыму, ус hi
лый, чтимый, оклеветанный, хотя в одном все присутствующие
сходятся: он ничего не понимает в современной литературе.
После Теодора Шторма, Эдуарда Мёрике и Готфрида Келлерв
для него начинается великая пустыня.
Кроме него здесь еще бывают несколько советников красно
го суда и чиновников-пенсионеров, интересующихся литера ! у
рой; Артур Бауэр и кое-кто из его коллег; местные поэты, не
сколько художников и музыкантов и время от времени
какой-нибудь гость. В этот вечер Артура Бауэра как раз обхв
живает подлиза Маттиас, он надеется, что Артур издаст си»
«Книгу о смерти в семи частях». Появляется и Эдуард Кноблох.
основатель клуба. Быстрым взглядом окидывает он присутетну
ющих и явно чем-то обрадован. Некоторые его враги и критики
не пришли. К моему удивлению, он усаживается рядом со мной
После вечера с курицей я этого не ожидал.
— Ну как жизнь?— спрашивает он совсем по-человечески,
а не своим обычным ресторанным тоном.
— Блестяще,— отвечаю я, ибо знаю, что такой ответ его рп
зозлит.
— А я собираюсь написать новую серию сонетов,— заявлнс!
он, не вдаваясь в подробности.— Надеюсь, ты ничего не име
ешь против?
— Что я могу иметь против? Надеюсь, они рифмованные?
Я чувствую свое превосходство над Эдуардом, так как уде
напечатал два сонета в местной газете; он же — только два ни
зидательных стишка.
— 4* 548 4* —
— Это будет целый цикл,— отвечает он, к моему удивлению,
несколько смущенно.— Дело в том, что я хочу назвать его «Гер-
да».
— Да называй, как тебе...— и вдруг прерываю себя.— Герда,
говоришь ты? Почему же именно Герда? Герда Шнейдер?
— Глупости! Просто Герда!
Я со злостью разглядываю жирного великана.
— Что это значит?
Эдуард смеется с напускным простодушием.
— Ничего. Просто поэтическая вольность. Сонеты имеют
некоторое отношение к цирку. Отдаленное, разумеется. Ты же
знаешь, как оживляется фантазия, когда она хотя бы теоретиче-
ски фиксируется на чем-то конкретном.
— Брось эти фокусы,— заявляю я,— выкладывай все начис-
тоту! Что это значит, шулер ты этакий?
— Шулер?— отвечает Эдуард с притворным негодовани-
ем.— Уж скорее тебя можно так называть! Разве ты не выдавал
свою даму за такую же певицу, как эта отвратная особа, подруга
Вилли?
— Никогда не выдавал. Просто ты сам вообразил.
— Так вот!— заявляет Эдуард.— Эта история не давала мне
покоя. Я выследил ее. И оказалось, что ты солгал. Никакая она
не певица.
— Разве я это утверждал? Разве не говорил тебе, что она ра-
ботает в цирке?
— Говорил. Но ты так вывернул правду, что я тебе не пове-
рил. А потом ты имитировал другую даму.
— Интересно, каким образом ты все это разнюхал?
— Я случайно встретил мадемуазель Шнейдер на улице
и спросил. Надеюсь, это не запрещено?
— А если она тоже морочит тебе голову?
На лице Эдуарда, похожем на лицо жирного младенца, вдруг
появляется омерзительно самодовольная усмешка, и он не от-
вечает.
— Слушай,— говорю я с внутренней тревогой и потому
очень спокойно.— Эту даму не покоришь сонетами.
Эдуард не реагирует. Он держится с высокомерием поэта,
у которого, кроме стихов, имеется еще первоклассный ресто-
ран, а в этом ресторане я имел возможность убедиться, что Гер-
да смертное существо, как и все.
— Эх ты, негодяй,— заявляю я в бешенстве.— Ничего ты
не добьешься. Эта дама через несколько дней уезжает.
— 4* 549 4* —
— Она не уезжает! — огрызается Эдуард, впервые за все нрс
мя, что я его знаю.— Сегодня ее договор продлен.
Я смотрю на него, вытаращив глаза. Этот мерзавец осведом
лен лучше, чем я.
— Значит, ты и сегодня ее встретил?
Эдуард отвечает почему-то с запинкой.
— Сегодня, чисто случайно. Только сегодня!
Но ложь отчетливо написана на его толстых щеках.
— И тебя сразу же осенило посвятить ей сонеты?— спраши
ваю я.— Так-то ты отблагодарил нас, своих верных клиентов?
Ударом кухонного ножа в пах, эх ты, кухонный мужик!
— На черта мне такие клиенты... вы меня...
— Может быть, ты ей уже послал эти сонеты, ты, павлин, им
потент?— прерываю я его.— Брось, незачем отрицать! Я уж
с ней повидаюсь, имей это в виду, ты, кто стелет постели дли
всяких грязных типов!
— Что? Как?
— Подумаешь! Сонеты! Ты, убийца своей матери! Разве не
я научил тебя, как их писать? Хороша благодарность! Хоть бы
у тебя хватило такта послать ей риторнель или оду! Но восполь
зоваться моим собственным оружием! Что ж, Герда мне згу
дрянь покажет, а уж я ей разъясню, что к чему.
— Ну, это было бы с твоей стороны...— бормочет, запинаясь,
Эдуард, наконец потерявший власть над собой.
— Никакой беды бы не случилось,— отвечаю я,— женщины
способны на такие вещи. Я знаю. Но так как я ценю тебя как
ресторатора, то открою тебе еще одно обстоятельство: у Герды
есть брат, настоящий Геркулес, и он строго блюдет семейную
честь. Он уже двух ее поклонников сделал калеками. Ему осн
бенно бывает приятно переломать ноги тем, у кого плоские
ступни. А у тебя ведь плоскостопие.
— Брехня,— заявляет Эдуард. Но я вижу, что он все-таки
крепко призадумался. Как бы ни было неправдоподобно любое
утверждение, если только на нем решительно настаивать, оно
всегда оставит известный след, этому меня научил некий поли
тический деятель — вдохновитель Вацека.
К дивану, на котором* мы сидим, подходит поэт Ганс Xyinep
ман. Он автор неизданного романа «Конец Вотана» и драм
«Саул», «Бальдур» и «Магомет».
— Что поделывает искусство, братья подмастерья?— оспе
домляется он.— Вы читали эту дрянь Отто Бамбуса, которая
— 4* 550 4* —
была напечатана вчера в «Текленбургском листке»? Бред и сня-
тое молоко. И как может Бауэр печатать такого халтурщика!
Среди поэтов нашего города Отто Бамбус — самый преуспе-
вающий. Мы все ему завидуем. Он сочиняет стихи о разных
полных настроения уголках местной природы, об окрестных де-
ревнях, уличных перекрестках, озаренных вечерней зарей,
и о своей тоскующей душе. Бауэр издал две тоненькие тетради
его стихов; одна даже вышла вторым изданием. Хунгерман,
мощный рунический поэт, ненавидит Бамбуса, но старается ис-
пользовать его связи. Маттиас Грунд презирает его. Я же, на-
оборот, являюсь доверенным Отто. Ему очень хочется как-ни-
будь сходить в бордель, но он не решается. Отто ждет от этого
посещения полнокровного взлета своей несколько худосочной
лирики. Завидев меня, он тотчас устремляется ко мне.
— Я слышал, что ты познакомился с дамой из цирка! Цирк —
вот это здорово! Тут можно создать яркую вещь! Ты в самом
деле с ней знаком?
— Нет, Отто. Эдуард просто прихвастнул. Моя знакомая три
года назад служила в цирке кассиршей.
— Продавала билеты? Все равно она была там. И в ней до сих
пор что-то осталось. Запах хищников, манежа. Ты не мог бы меня
познакомить с ней?
Герде действительно везет в литературе! Я смотрю на Бамбуса.
Он долговязый, бледный, подбородка нет, нет и лица, на носу
пенсне.
— Она служила в блошином цирке.
— Жаль! — Он отступает с разочарованным видом.— А что-то
нужно сделать,— бормочет он.— Я знаю, чего мне недостает —
именно крови.
— Отто,— отвечаю я,— а разве тебе не подойдет какая-ни-
будь особа не из цирка? Ну, например, хорошенькая шлюшка?
Он качает длинной головой.
— Это не так просто, Людвиг. Насчет любви я все знаю. То есть
любви душевной. Тут мне ничего добавлять не надо. А нужна
мне страсть, грубая, бешеная страсть. Пурпурное, неистовое
забвение. Безумие!
Он чуть не скрипит своими мелкими зубками. Бамбус —
школьный учитель в крошечной пригородной деревушке, и там
ему, конечно, всего этого не найти. Каждый там стремится
к женитьбе или считает, что Отто должен жениться на честной
девушке с богатым приданым, которая к тому же умеет хорошо
। отовить. Но как раз этого Отто и не хочет. Он считает, что, как
поэт, должен сначала перебеситься.
— + 551 4* —
— Трудность в том, что я никак не могу получить и то и яру
гое,— мрачно заявляет он.— Любовь небесную и любовь чем
ную. Любовь сейчас же становится мягкой, преданной, полной
жертвенности и доброты. А при этом и половое влечение с hi
новится мягким, домашним. По субботам, понимаешь ли, чю
бы можно было в воскресенье выспаться. Но мне нужно такое
чувство, которое было бы только влечением пола, без всего про
чего, чтобы в него вцепиться зубами. Жаль, я слышал, что у гс
бя есть гимнастка.
Я разглядываю Бамбуса с внезапным интересом. Любовь не
бесная и земная! Значит, и он тоже! Видимо, эта болезнь рас
пространеннее, чем я думал. Отто выпивает стакан лимонада
и смотрит на меня своими бледными глазами. Вероятно, он
ожидал, что я тут же откажусь от Герды, чтобы в его стихах но
явились переживания пола.
— Когда же мы наконец пойдем в дом веселья?— меланхолн
чески вопрошает он.— Ты же мне обещал.
— Скоро. Но не воображай, Отто, будто это какая-то нур
пурная трясина греха.
— Мой отпуск скоро кончается, осталось всего две недели
Потом мне придется вернуться в мою деревню, и всему копен.
— Мы пойдем раньше. Хунгерман тоже хочет там побына1Ь
Ему это нужно для его драмы «Казанова». Что если бы нам oi
правиться всем вместе?
— Что ты! Ради Бога! Никто меня там не должен видеть! Ри i
ве это мыслимо при моей профессии педагога!
— Именно поэтому! Наше посещение будет выглядеть соиер
шенно невинно. При борделе, в нижних комнатах, есть реею
ран. Там может бывать кто угодно.
— Конечно, пойдем,— раздается голос Хунгермана за моей
спиной.— Все вместе. Это будет экспедицией с чисто научной
целью. Вот и Эдуард тоже хочет присоединиться к нам.
Я поворачиваюсь к Эдуарду, чтобы облить надменного нона
ра, стряпающего сонеты, соусом моих сарказмов. Но это ока и.1
вается уже излишним. Глядя на Эдуарда, можно подумать, чш
перед ним появилась змея. Какой-то стройный человек только
что хлопнул его по плечу.
— Эдуард, старый друг?— дружелюбно говорит он.— Как
дела? Рад, что еще живешь на свете?
Эдуард, оцепенев, смотрит на стройного человека.
— И даже в нынешние времена?— с трудом выговаривает он
— 4* 552 4* —
Эдуард побледнел. Его жирные щеки вдруг отвисли, отвисли
|\бы, даже брюхо, опустились плечи, поникли кудри. В один
м и । он превратился в толстую плакучую иву.
Человека, вызвавшего эту волшебную перемену, зовут Ва-
1ентин Буш. Вместе со мной и Георгом — он третья язва в жиз-
ни Эдуарда, и не только язва — он чума, холера и паратиф од-
новременно.
— У тебя цветущий вид, мой мальчик,— заявляет сердечным
юном Вален । ин Буш.
Эдуард уныло смеется.
— Мало ли что — вид. Меня съедают налоги, проценты и воры...
Он лжет. Налоги и проценты в наш век инфляции не играют
никакой роли. Их уплачивают через год, а тогда это все равно,
ио ничего. Они уже давно обесценены. А единственный вор,
н шесгный Эдуарду,— это он сам.
— Ну, в тебе хоть найдется, что поесть,— отвечает Валентин
< безжалостной улыбкой.— То же думали и черви во Фландрии,
koi да они уже выползли, чтобы на тебя напасть.
Эдуард буквально извивается.
— Чего ты хочешь, Валентин?— спрашивает он.— Пива?
В жару лучше всего пить пиво.
— Я не страдаю от жары. Но в честь того, что тыеще жив,
i leaver выпить самого наилучшего вина, тут ты прав. Дай-ка
мне. Эдуард, бутылку Иоганнисбергер Лангенберга, виноград-
ников Мумма.
— Все распродано.
— Не распродано. Я справлялся у твоего заведующего вин-
ным погребом. У тебя есть там еще больше ста бутылок. Какое
< час i ье, это же моя любимая марка!
Я смеюсь.
— Почему ты смеешься?— в ярости кричит на меня Эду-
ар к— Тебе-то уж смеяться нечего! Пиявка! Все вы пиявки!
Всю кровь хотите из меня высосать! И ты, и твой бонвиван, тор-
। овен надгробиями, и ты, Валентин! Всю кровь хотите высо-
ка । ь! Тройка лизоблюдов!
Валентин подмигивает мне и сохраняет полную серьезность.
— Значит, вот какова твоя благодарность, Эдуард! Так-то ты
1ержии1ь слово! Если бы я это знал тогда...
Он заворачивает рукав и рассматривает длинный зубчатый^
шрам на своей руке. В 1917 году, на фронте, он спас Эдуарду
ан шь. Эдуарда, который был унтер-офицером, прикомандиро-
ванным к солдатской кухне, вдруг сменили и отправили на пе-
рс ювую. В первые же дни, во время патрулирования на ничей-
— 4* 553 4* —
ной земле, этому слону прострелили икру, а вслед за этим он
получил второе ранение, при котором потерял очень много
крови. Валентин отыскал его, наложил повязку и оттащил обрат-
но в окоп. При этом ему самому в руку угодил осколок. Все же он
спас Эдуарду жизнь: без него тот истек бы кровью. В то времм
Эдуард от избытка благодарности заявил, что Валентин может
до конца своих дней безвозмездно пить и есть у него в «Валгал
ле» что ему захочется. Ударили по рукам, Валентин — левой,
неповрежденной. Георг Кроль и я были свидетелями.
В 1917 году все это не внушало тревоги. Верденбрюк был дале
ко, война — рядом, и кто знает, вернутся ли Эдуард и Валентин
когда-нибудь в «Валгаллу». Но они вернулись: Валентин — после
того как еще дважды был ранен, Эдуард — снова разжиревший
и округлившийся, ибо его опять возвратили в армейскую кухню,
Эдуард вначале еще испытывал к Валентину благодарность
и охотно угощал его, когда тот наведывался к нему, а время от вре
мени даже поил выдохшимся немецким шампанским. Но с годами
это становилось все обременительнее. Тем более что Валентин
поселился в Верденбрюке. Раньше он жил в другом городе; тс
перь снял комнату неподалеку от «Валгаллы», аккуратно при
ходил завтракать, обедать и ужинать к Эдуарду, и тот вскоре
стал горько раскаиваться, что дал такое обещание.^Едоком Ви
лентин оказался отличным — главным образом потому, что ему
не надо было теперь ни о чем заботиться. Еще относительно
пищи куда ни шло, Эдуард как-нибудь смирился бы, но Вален
тин пил и постепенно стал знатоком и ценителем вин. Раньше
он ограничивался пивом, теперь признавал только старые вини
и, конечно, гораздо больше приводил Эдуарда в отчаянье, чем
приводилй мы нашими жалкими обеденными талонами.
— Что ж, ладно,— безутешным тоном соглашается Эдуард,
когда Валентин демонстрирует ему свой шрам.— Но ведь ecu.
и пить — значит пить за едой, а не когда попало. Поить тебя ни
ном во всякое время и не обещал!
— Взгляните на этого презренного лавочника,— восклицаг!
Валентин и подталкивает меня.— В 1917-м он был другого мне
ния. Тогда он говорил: «Валентин, дорогой Валентин, только
спаси меня — и я тебе отдам все, что у меня есть!»
Неправда! Не говорил я этого! — кричит Эдуард фальце том
— Откуда ты знаешь? Когда я тебя тащил обратно, ты же
был не в себе от страха и истекал кровью.
— Не мог я этого сказать! Не мог! Даже если бы мне грози/т
немедленная смерть! Это не в моем характере!
— Правильно,— заявляю я.— Скупердяй скорей подохнеИ
— + 554 + —
— Вот я и говорю,— продолжает Эдуард, решив, что нашел
во мне поддержку. Он вытирает лоб. Его кудри взмокли от пота,
до того Валентин напугал его своей последней угрозой. Ему
уже чудится процесс из-за «Валгаллы».
— Ладно, на этот раз пусть пьет,— торопливо заявляет он,
чтобы от него отстали — Кельнер! Полбутылки мозеля!
— Иоганнисбергера Лангенберга, целую бутылку,— поправ-
ляет его Валентин и поворачивается ко мне: — Ты разрешишь
предложить тебе стаканчик?
— Еще бы!— отвечаю я.
— Стоп!— восклицает Эдуард.— Этого условия не было!
Только сам Валентин! Людвиг и без того стоит мне каждый
день хорошие денежки — эта пиявка с его обесцененными та-
лонами.
— Тише ты, смеситель ядов!— останавливаю я его.— Ведь
это же явно кармическая связь! Ты обстреливаешь меня соне-
тами, а я обмываю свои раны твоим рейнвейном. Хочешь, я две-
надцатистрочниками в манере Аретино изображу некоей даме
создавшуюся ситуацию, о ты, ростовщик, бурно преуспеваю-
щий за счет своего спасителя?
Эдуард даже поперхнулся.
— Мне нужно на свежий воздух,— бормочет он в ярости.—
Вымогатели! Сутенеры! Неужели в вас совсем стыда нет?
— Мы стыдимся более серьезных вещей, безобидный милли-
онщик!— Валентин чокается со мной. Вино исключительное.
— А как насчет визита в обитель греха?— застенчиво осве-
домляется проходящий мимо нас Отто Бамбус.
— Пойдем непременно, Отто. Мы обязаны пойти ради поэзии.
— И почему охотнее всего пьешь, когда идет дождь?— спра-
шивает Валентин и снова наполняет стаканы.— Полагалось бы
наоборот.
— А тебе хотелось бы всему найти объяснение?
— Конечно, нет! Тогда не о чем было бы с людьми разгова-
ривать. Просто к слову пришлось.
— Может быть, тут действует нечто вроде стадного чувства?
Жидкость призывает к жидкости.
— Но я и мочусь чаще в дождливые дни, а это уж, по мень-
шей мере, странно.
— Оттого, что в эти дни ты больше пьешь. Что тут странного?
— Правильно.— Валентин удовлетворенно кивает головой.—
Об этом я не подумал. Скажи, а люди потому воюют, что тогда
больше детей родится? •
— + 555 4* —
XII
Бодендик, словно большая черная кошка, пробирается
сквозь туман.
— Ну как?— игриво спрашивает он.— Все еще стараетесь
исправить этот мир?
— Я наблюдаю его.
— Ага! Видно, что философ! И что же вы находите?
Я смотрю на его веселое лицо, красное и мокрое от дождя,
оно сияет из-под шляпы с отвисшими полями.
— Нахожу, что за две тысячи лет христианство очень мало
продвинуло человечество вперед,— отвечаю я.
На миг лицо Бодендика, выражающее благоволение и созна
ние своего превосходства, меняется, затем становится прежним.
— А вы не думаете, что, пожалуй, еще слишком молоды для
подобных суждений?
— Верно. А вы не находите, что ставить человеку в вину его
молодость — самое неубедительное возражение, какое можно
придумать?! Других у вас нет?
— У меня есть множество других. Но не против подобной не-
лепости. Разве вы не знаете, что всякое обобщение — признак
легкомыслия?
— Верно,— устало соглашаюсь я.— И сказал я это только но
тому, что идет дождь. Но все же в этом есть какая-то правда.
Вот уже больше месяца, как я, когда не спится, занимаюсь изу
чением истории.
— Почему? Тоже потому, что время от времени идет дождь?
Я игнорирую этот безобидный выпад.
— Оттого, что мне хотелось уберечься от преждевременного
пессимизма и некоторого отчаянья. Не каждому дано с просто
душной верой устремлять свой взгляд поверх всего на пресвя
тую Троицу, не желая замечать, что мы тем временем усердно
заняты подготовкой новой войны, хотя только что проиграли
предыдущую, которую вы и ваши коллеги различных протес
тантских толков во имя Божье и любви к ближнему благослови
ли и освятили: допускаю, что вы делали это не так громогласно
и с некоторым смущением, а ваши коллеги военные — тем бод
рее позвякивая крестами и пылая жаждой победы.
Бодендик стряхивает капли дождя со своей черной’шляпы.
— Мы приносим умирающим на поле боя утешение — вы об
этом как будто совсем забыли.
— Не надо было допускать побоища. Почему вы не объяви
ли забастовку? Почему не запретили своим прихожанам учас1
вовать в войне? Вот в чем был ваш долг! Но, видно, времени
— + 556 + —
мучеников миновали! Зато когда я бывал вынужден присутст-
вовать на церковной службе в окопах, я очень часто слышал мо-
ления о победе нашего оружия. Как вы думаете, Христос стал
бы молиться о победе галилеян над филистимлянами?
— Должно быть, дождь пробуждает в вас повышенную эмо-
циональность и склонность к демагогии,— сдержанно отвечает
Бодендик.— И вам, как видно, хорошо известно, что с помощью
ловких пропусков, извращений и одностороннего истолкования
можно вызвать сомнение в чем угодно и опровергнуть все на свете.
— Известно. Поэтому я и изучаю историю. В школе и на уро-.
ках Закона Божьего нам постоянно рассказывали о темных, перво-
бытных и жестоких дохристианских эпохах. Сейчас я снова чи-
таю об этом и нахожу, что мы от тех времен недалеко ушли,—
я оставляю в стороне развитие науки и техники. Но и их мы ис-
пользуем главным образом для того, чтобы убивать как можно
больше людей.
— Если хочешь что-нибудь доказать, милый мой, всегда до-
кажешь. И обратное — тоже. Для всякой предвзятой точки зре-
ния всегда найдутся доказательства.
— Тоже знаю,— говорю я.— Церковь подтвердила это блес-
тящим образом, когда расправилась с гностиками.
— С гностиками! А что вы знаете о гностиках?— спрашива-
е г Бодендик с оскорбительным удивлением.
— Достаточно, и я подозреваю, что они представляли собой
самую терпимую часть христианства. А все, чему до сих пор ме-
ня научила жизнь,— это ценить терпимость.
— Терпимость...— подхватывает Бодендик.
— Терпимость,— повторяю я.— Бережное отношение к дру-
юму Понимание другого. Пусть каждый живет по-своему. Но
1ерпимость в нашем возлюбленном отечестве звучит, как слово
на незнакомом языке.
— Короче говоря, анархия,— отвечает Бодендик вполголоса
и вдруг очень резко.
Мы стоим перед часовней. Свечи зажжены, и пестрые окна
\ leiiiHгелыю поблескивают сквозь налетающий порывами
юждь. Из открытых дверей доносится слабый запах ладана.
— Терпимость, господин викарий,— говорю я,— это вовсе
не анархия, и вы отлично знаете, в чем разница. Но вы не име-
с । и права допустить ее, так как в обиходе вашей церкви этого
слова пег. Только вы одни способны дать человеку вечное бла-
женство! Никто не владеет небом, кроме вас! И никто не может
о । пускать грехи — только вы. У нас на все это монополия. И нет
— 4* 557 4* —
иной религии, кроме вашей! Вы — диктатура! Так разве вы мо-
жете быть терпимыми?
— Нам это и не нужно. Мы владеем истиной.
— Конечно,— отвечаю я, указывая на освещенные окна ча-
совни.— Вы даете вот это! Утешение для тех, кто боится жизни!
Думать тебе-де больше незачем. Я все знаю за тебя! Обещая не-
бесное блаженство и грозя преисподней, вы играете на про-
стейших человеческих эмоциях,— но какое отношение такая
игра имеет к истине, этой фата-моргане, обольщающей наш ум?
— Красивые слова,— заявляет Бодендик. Он уже давно обрел
прежний миролюбивый, снисходительный и слегка насмешли-
вый тон.
— Да, все, что у нас есть,— это красивые слова,— отзываюсь
я, рассерженный на самого себя.— Но и у вас — только краси-
вые слова.
Бодендик входит в часовню.
— У нас есть святые таинства...
-Да...
— И вера, которая только болванам, с их скудными мыслиш-
ками — пищеварение еще тормозит их — кажется глупостью
и бегством от жизни; так-то, безобидный дождевой червь, рою
щийся на пашнях пошлостей!
— Браво!— восклицаю я.— Наконец-то и вы заговорили
языком поэзии. Правда, она в духе позднего барокко.
Бодендик вдруг начинает хохотать.
— Дорогой Бодмер,— заявляет он.— За почти два тысячелс
тия существования церкви не один Савл обратился в Павла
И мы повидали и одолели не таких карликов, как вы. Продолжай i с,
бодро ползите дальше. В конце любого пути стоит Бог и ждет вас
И этот упитанный человек в черном сюртуке исчезает нмсс
те со своим зонтиком в ризнице. А через полчаса, одетый при
чудливее, чем гусарский генерал, он снова выйдет оттуда и будем
исполнять роль представителя Господа Бога. Вся суть в му и ли
ре, говорил Валентин Буш после второй бутылки Иоганнисбср
гера, в то время как Эдуард Кноблох все больше предавался мс
ланхолии и мечтам о мести,— только в мундире. Отними
у военных мундир — и не найдется ни одного человека, который
захотел бы стать солдатом.
После вечерней службы я гуляю с Изабеллой по аллее. Здесь
дождь падает неравномерно. Как будто в листве деревьев сиди!
тени и окропляют себя водой. На Изабелле наглухо застегну imH
плащ и маленький капюшон, прикрывающий волосы. Видно
— + 558 4* —
только ее лицо, оно светится в темноте, как узкий серп месяца.
Погода холодная и ветреная, и, кроме нас, в саду никого не ос-
талось. Я давно забыл и Бодендика, и ту черную злость, которая
без всякой причины порой вдруг начинает бить из моей души,
словно грязный фонтан.
Изабелла идет очень близко от меня, сквозь шелест дождя
я слышу ее шаги, ощущаю ее движения и тепло ее тела, и мне
чудится, будто это единственное тепло, которое еще осталось
на свете.
Вдруг она останавливается. Лицо у нее бледное и решитель-
ное, глаза кажутся почти черными.
— Ты. любишь меня недостаточно сильно,— вдруг заявляет она.
Я смотрю на нее пораженный.
— Люблю, как могу,— отвечаю я.
Она стоит некоторое время молча. Затем бормочет:
— Мало. Нет, мало. Никогда нельзя любить достаточно!
— Да,— соглашаюсь я.— Должно быть, никогда не любишь до-
статочно. В течение всей жизни никогда, никого. Должно быть,
всегда любишь слишком мало — и от этого все человеческие
несчастья.
— Мало,— повторяет Изабелла, словно не слыша моих
слов.— Иначе нас было бы уже не двое.
— Ты хочешь сказать — мы были бы одно?
Она кивает. Я вспоминаю наш разговор с Георгом, когда мы
пили глинтвейн.
— Увы, нас всегда будет двое, Изабелла,— осторожно заме-
чаю я.— Но мы можем любить друг друга и верить, что мы уже
одно.
— Ты думаешь, мы когда-то были одно?
— Этого я не знаю. Никто не может знать такие вещи. Все
равно воспоминания не осталось бы.
Она пристально смотрит на меня из темноты.
— Вот в том-то и дело, Рудольф,— шепчет она.— Нет у нас
воспоминаний. Никаких. Почему же их нет? Ищешь, ищешь,
по оказывается, что все исчезло! А ведь произошло так много!
Только это еще помнишь! Но больше ничего! А почему забыва-
ешь? Ты и я, разве мы уже не знали друг друга когда-то? Ска-
жи! Ну скажи! Где все это теперь, Рудольф?
Ветер с плеском бросает в нас целый шквал дождя. И ведь
кажется, словно многое уже было, думаю я. Иногда оно подхо-
ди г вплотную и стоит перед тобой, и знаешь, что оно было ког-
да-то точно такое же, и даже знаешь, как все будет еще через
— 4* 559 4* —
мгновение, но только хочешь его схватить, а оно уже исчезнет,
словно дым или умершее воспоминание.
— Мы не могли бы вспомнить себя, Изабелла,— говорю я.—
Это все равно как дождь. Он ведь тоже некогда возник из со-
единения двух газов — кислорода и водорода, а они уже не по-
мнят, что когда-то были газами. Они теперь только дождь, и
у них нет воспоминаний о том, чем они были прежде.
— Или как слезы,— замечает Изабелла,— но слезы полны
воспоминаний.
Мы продолжаем некоторое время молча идти по аллее. Я лу-
маю о тех странных минутах, когда нежданно двойник какого-
то забытого воспоминания вдруг встает из глубин многих жизней
и как будто смотрит поверх них на тебя. Гравий скрипит под на
шими ногами. За стенами сада раздается протяжный вой клаксо
на, словно там автомобиль ждет кого-то, кто хочет бежать.
— Тогда она как смерть,— говорит наконец Изабелла.
— Что?
— Любовь. Совершенная любовь.
— Кто это знает, Изабелла? Думаю, никто никогда этою
не узнает. Мы познаем лишь до тех пор, пока* каждый из нас
еще сохраняет свое отдельное «я». Если бы наши «я» слились
друг с другом, то случилось бы то же, что и с дождем. Возникло
бы новое «я», и мы уже не смогли бы помнить наши отдельные,
прежние «я». Мы оказались бы кем-то другим — таким же нс
похожим на нас прежних, как непохож дождь на воздух,-
и каждый уже не был бы отдельным «я», только углубленным
через другое «я».
— А если бы любовь была совершенной, так, чтобы мы ели
лись в одно,— это было бы все равно, что смерть?
— Возможно,— отвечаю я нерешительно.— Но не уничто
жение. Что такое смерть — никто не знает, Изабелла. Поэтому
ее ни с чем нельзя сравнить. Но, наверное, каждый из нас уже
не чувствовал бы, что это он сам. Возникло бы опять новое иди
нокое «я».
— Значит, любовь обречена быть несовершенной?
— Она в достаточной мере совершенна,— говорю я и hmccic
с тем проклинаю себя за свой педантизм школьного учители и
за то, что опять забрался Бог знает в какие дебри.
Изабелла качает головой.
— Не уклоняйся, Рудольф! Она должна быть несовершси
ной, теперь я понимаю. Будь она совершенной — вспыхнула бы
мгновенная молния и все бы исчезло.
— + 560 4* —
— Что-то осталось бы, но уже за пределами нашего позна-
ния.
— Так же, как смерть?
Я смотрю на нее.
— Кто знает,— осторожно отвечаю я, чтобы не взволновать
ее больше.— Может быть, у смерти совсем другое имя. Мы ведь
видим ее всегда только с одной стороны. Может быть, смерть —
это совершенная любовь между нами и Богом.
Ветер снова бросает потоки дождя на листву деревьев, а они
прозрачными руками перебрасывают их дальше. Некоторое
время Изабелла молчит.
— Не потому ли любовь так печальна?— спрашивает она.
— Любовь не печальна, а только приносит печаль, оттого что
она неосуществима и удержать ее нельзя.
Изабелла останавливается.
— Но почему же, Рудольф?— спрашивает она очень резко
и топает ногой.— Почему так должно быть?
Я смотрю в ее бледное встревоженное лицо;
— Это и есть счастье,— говорю я.
Она изумленно смотрит на меня.
— Это счастье?
Я киваю.
— Не может быть! Это же ведь только горе!
Она бросается ко мне на грудь, и я крепко обнимаю ее. Я
чувствую, как от рыданий судорожно вздрагивают ее плечи.
— Не плачь,— говорю я.— Что было бы с людьми, если бы
все из-за этого стали плакать?
— А о чем же еще плакать?
Да, о чем же, повторяю я про себя. Обо всем, о бедствиях
на нашей проклятой планете, но не о любви.
— Почему это несчастье, Изабелла?— говорю я.— Это счастье.
Только мы так по-дурацки определяем любовь — совершенная,
несовершенная.
— Нет, нет! — Она решительно качает головой и не поддает-
ся утешениям. Она плачет и цепляется за меня, я держу ее
в своих объятиях и чувствую, что прав не я, а она, что она-то
не идет на компромиссы, ее еще жжет первоначальное и един-
ci вен ное «отчего», оно возникло до того, как все залил цемент-
ный раствор существования, это был первый вопрос пробужда-
ющегося «я».
— Не в этом несчастье,— продолжаю я настаивать.— Несча-
< । ье совсем в другом, Изабелла.
— В чем же?
— + 561 4* —
— Несчастье не в том, что невозможно слиться до полного
единства и приходится расставаться, каждый день и каждый
час. Знаешь это, и все же не можешь удержать любовь, она рас-
текается между пальцами, но она — самое драгоценное, что
есть на свете, и все же ее не удержать. Всегда один из двух уми-
рает раньше другого. Всегда один из двух остается.
Изабелла поднимает глаза.
— Как можно покинуть то, чего у тебя нет?
— Можно,— отвечаю я с горечью.— И еще как! Есть много
степеней покидания и покинутости,— и каждая мучительна,
а многие из них равны смерти.
Слезы Изабеллы высохли.
— Откуда ты все это знаешь?— спрашивает она.— Ты же
ведь еще не старый.
Достаточно стар, думаю я. Какая-то часть моего существа со
старилась; я почувствовал это, когда вернулся после войны.
— Знаю,— говорю я.— Изведал на опыте.
Изведал на опыте, размышляю я. Сколько раз приходилось
мне покидать такой-то день и час, и человеческую жизнь, и де
рево в утреннем свете, и мои руки, и мои мысли; и каждый pin
я покидал их навсегда, а если возвращался к ним, то был уже
иным. Многое приходится нам покидать, и мы постоянно вы
нуждены все оставлять позади; когда идешь навстречу смерти,
то перед нею всегда нужно представать нагим, а если возврати
ешься, то приходится сызнова завоевывать все покинутое нами
Лицо Изабеллы светится передо мной в дождевом мраке,
и меня вдруг заливает волна нежданной нежности. Я снопа
ощущаю, в каком одиночестве она живет, бесстрашно, лицом
к лицу с угрожающими призраками, во власть которых она oi
дана, без пристанища, без отдыха и успокоения, открытая всем
ветрам душа, без поддержки, без жалоб и жалости к самой себе
Ты милая и бесстрашная, ты любимая моя, думаю я, как стрела,
неизменно и прямо устремленная к самой сути вещей, пусть in
и не в силах достичь ее, пусть даже заблуждаешься. Но к io
не заблуждается? И разве почти все мы давно не отреклись
от всяких поисков? Где кончается заблуждение, глупость, тру
сость и где начинается мудрость, высочайшее мужество?
Звонит колокол. Изабелла вздрагивает.
— Пора,— говорит она.— Ты должен пойти туда. Они н?0н
ждут.
— Ты тоже пойдешь?
-Да.
— + 562 + —
Мы направляемся к дому. Выйдя из аллеи, мы попадаем под
мелкий дождь, который развевается, как мокрая вуаль, влеко-
мая туда и сюда короткими порывами ветра. Изабелла прижи-
мается ко мне. Я смотрю с холма вниз на город. Ничего не вид-
но. Дождь и туман отделили нас от всего. Нигде ни огонька, мы
совсем одни. Изабелла идет рядом со мной, словно она уже на-
веки стала частью меня, словно уже обрела невесомость, подоб-
но образам снов и легенд, которые подчиняются иным законам,
чем наше будничное существование.
Мы уже у двери.
— Пойдем! — говорит она.
Я качаю головой.
— Не могу. Сегодня не могу.
Она молчит и смотрит на меня прямым и ясным взглядом,
в нем нет ни упрека, ни разочарования; но что-то в ней как буд-
то сразу гаснет. Я опускаю глаза. У меня такое чувство, словно
я ударил ребенка или убил ласточку.
— Сегодня нет,— повторяю я.— Потом. Завтра.
Она молча поворачивается и входит в холл. Я вижу, как вме-
сте с ней по лестнице поднимается сестра, и мне вдруг кажется:
то, что можно найти только один раз в жизни, безвозвратно
мною утрачено.
Растерянно переминаюсь я с ноги на ногу. Но что я мог сде-
лать? И почему опять во всем этом запутался? Я же все время
уклонялся! Проклятый дождь.
Медленно иду я к главному корпусу. Из него выходит Вернике
в белом халате и под зонтом.
— Вы привели и сдали фрейлейн Терговен сестре?
-Да.
— Хорошо. Нужно, чтобы вы еще некоторое время уделяли
ей внимание. Посетите ее как-нибудь днем, если будет время.
— Зачем?
— На этот вопрос вы не получите ответа,— отвечает Вернике.—
11о когда она с вами, она потом бывает спокойной. Ей это полез-
но. Хватит с вас?
— Она принимает меня за кого-то другого.
— Это неважно. Меня интересуете не вы, а только мой паци-
ент.— Вернике подмигивает мне сквозь дождь.— Сегодня вече-
ром Бодендик расхваливал вас.
— Что? Вот уж для чего у него не было никаких оснований!
— Он утверждает, что вы повернули обратно и вступили
па путь, ведущий к исповедальне и причастию.
— Выдумка! — восклицаю я, искренне возмущенный.
+ 563 4* —
— Не пренебрегайте великой мудростью церкви. Это единст-
венная диктатура, которая устояла в течение двух тысячелетий.
Я спускаюсь в город. Сквозь дождь передо мной развевают-
ся серые знамена тумана. Изабелла, как призрак, проходит че-
рез мои мысли. Я позорно бежал от нее: вот что она теперь ду-
мает, я знаю. Мне вообще больше не следует ходить туда. Это
только вызывает во мне смятение, а его в моей жизни и так до-
статочно. Но что если бы ее там вдруг не оказалось? Не почув-
ствовал ли бы я, что мне не хватает самого главного, того, что
не стареет, не изнашивается и не может стать будничным имен
но потому, что им не владеешь?
Я прихожу к сапожнику Карлу Брилю. Из мастерской, где
подшивают подметки, доносятся звуки патефона. Сегодня
я приглашен сюда на мальчишник. Это один из тех знаменитых
вечеров, на которых фрау Бекман демонстрирует свое искусит
во. Один миг я колеблюсь — у меня, право, нет настроения,-
но потом все же вхожу — именно поэтому.
В комнате стоит табачный дым и запах пива. Карл Бриль
встает и, слегка пошатываясь, заключает меня в объятия. Он
лыс не меньше, чем Георг Кроль. Зато густые усы торчат, как
у моржа.
— Вы пришли как раз вовремя,— заявляет он.— Пари уже
заключены, нужна только музыка получше, чем этот дурацкий
патефон! Как вы насчет вальса «Голубой Дунай»?
— Идет!
Рояль уже перетащили в мастерскую, где подшивают подмн
ки в присутствии заказчика, и он стоит впереди машин. Боль
шая часть комнаты освобождена от обуви и кусков кожи, и всюду,
где можно, расставлены стулья и даже несколько крессд
На столе бочонок пива и несколько уже пустых бутылок из* под
водки. Запасная батарея стоит на прилавке. На столе лежит iiik
же большой, обмотанный ватой гвоздь, рядом — тяжелый санож
ный молоток.
Я колочу по клавишам, исполняя «Голубой Дунай». Покпчн
ваясь, бродят в чадном дыму собутыльники Бриля. Они уже ни
рядочно нагрузились. Карл ставит на крышку рояля стакан пн
ва и двойную порцию водки.
— Клара готовится,— заявляет он.— Всех пари у нас заклю
чено на сумму свыше трех миллионов. Будем надеяться, чio они
в самой лучшей форме, иначе я почти обанкрочусь.
Он подмигивает мне.
— + 564 4* —
— Когда дойдем до дела, сыграйте что-нибудь бурное...
с подъемом. Это всегда ее вдохновляет. Она до безумия любит
музыку.
— Я могу сыграть «Шествие гладиаторов». А как насчет част-
ного маленького пари со мной?
Карл смотрит на меня.
— Дорогой господин Бодмер,— обиженно отвечает он,—
не будете же вы держать пари против Клары! Разве вы сможете
тогда сыграть убедительно?
— Не против нее. За нее. Частное пари.
— Сколько?— торопливо спрашивает Карл.
— Какие-нибудь несчастные восемьдесят тысяч,— говорю я.—
Все мое состояние.
Карл соображает. Затем поворачивается к остальным.
— Кто-нибудь еще хочет поставить восемьдесят тысяч? Про-
тив нашего пианиста?
— Я! — Какой-то толстяк выступает вперед, извлекает деньги
из чемоданчика и хлопает о прилавок.
Я кладу рядом свои деньги.
— Бог воров да хранит меня,— говорю я.— Иначе я буду вы-
нужден завтра ограничиться обедом.
— Итак, начнем! — говорит Карл Бриль.
Собравшиеся осматривают гвоздь. Затем Карл подходит
к стене, приставляет к ней гвоздь на уровне человеческого зада
и на треть забивает молотком. Он бьет менее сильно, чем ка-
жется по его размашистым движениям.
— Засел глубоко и крепко,— говорит он и делает вид, будто
)нергично раскачивает гвоздь.
— Это мы сначала проверим.
Толстяк, поставивший против меня, подходит к стене. Трогает
। воздь и усмехается.
— Карл,— говорит он с ироническим смехом,— да я дуну —
и этот гвоздь вылетит. Дай-ка мне молоток.
— А ты сначала дунь и посмотри.
Но толстяк не дует. Он энергично дергает гвоздь, и тот вы-
скакивает.
— Рукой-то я гвоздь сквозь крышку стола прогоню. А задом —
пег. Если вы ставите такие условия, давайте лучше это дело
Ьросим.
Толстяк молчит. Он берет молоток и забивает гвоздь в дру-
|ом месте.
— Ну как, вот тут хорошо будет?
— 4* 565 + —
Карл Бриль пробует гвоздь. Он торчит наружу всего
на шесть-семь сантиметров.
— Слишком крепко. Его и рукой не выдерешь.
— Либо так, либо отменим,— заявляет толстяк.
Карл еще раз берется за гвоздь. Толстяк кладет молоток
на прилавок, он не замечает, что каждый раз, когда Карл про-
веряет, крепко ли сидит гвоздь, он его слегка расшатывает.
— Я не могу держать пари на равных основаниях, а только
один к двум, да и тогда, наверное, проиграю.
Они сговариваются на шести против четырех. На прилавке
вырастает целая гора денег. Карл еще дважды дергает гвоздь,
чтобы показать, насколько безнадежно выиграть такое пари.
Я начинаю играть «Шествие гладиаторов», и вскоре фрау Бек
ман появляется в мастерской, шурша свободным ярко-красным
китайским кимоно; кимоно заткано пионами, а на спине изобрн
жен феникс.
Фрау Бекман — импозантная особа: у нее голова бульдон!,
но хорошенького бульдога, густые курчавые темные волосы
и блестящие, как вишни, черные глаза, все остальное — как
у бульдога, особенно подбородок. Тело у нее мощное и словно
железное. Каменно-твердые груди выступают, точно бастион,
потом следует талия, довольно стройная для таких телес, и, нп
конец, знаменитый зад, играющий в данном случае решающую
роль. Он огромен и в то же время подобен камню. Даже кузнсн
не смог бы ущипнуть его, когда фрау Бекман напрягает тело,
скорее он сломает себе палец. Карл Бриль и на этом уже выигры
вал пари, правда, только в тесном кругу друзей. Так как сегодня
вечером присутствует и толстяк, предполагается провести только
опыт с выдергиванием гвоздя из стены.
Во всем, что происходит, царит строго спортивный и чист
рыцарский дух; правда, фрау Бекман здоровается, но она в выг
шей степени сдержанна и даже как бы отсутствует. Она рассмв
тривает свое выступление лишь как нечто спортивно-деловое
Спокойно становится она спиной к стене за невысокой шир
мой, делает несколько профессиональных движений, потом m
стывает на месте, выставив подбородок, готовая начать, очень
серьезная, как и полагается перед серьезным спортивным до
стижением.
Прервав марш, я на басовых нотах исполняю две трели
они должны звучать как барабанная дробь в цирке Буши
во время смертельного прыжка. Фрау Бекман напрягает мышцы
и расслабляет их. Ее тело напрягается еще дважды. Карл Бриль
начинает нервничать. Фрау Бекман опять застывает на мечн».
— 4* 566 4* —
глядя в потолок, стиснув зубы. Потом что-то звякает, и она от-
ходит от стены. Гвоздь лежит на полу.
Я исполняю «Молитву девы», одну из ее любимых пьес. Она
благодарит, грациозно кивнув массивной головой, певучим го-
лосом желает всем спокойной ночи, теснее запахивает кимоно
и исчезает.
Карл Бриль подсчитывает деньги. Протягивает мне мой вы-
игрыш. Толстяк осматривает гвоздь и стену.
— Невероятно,— бормочет он.
Я играю «Сияние Альп» и «Везерскую песню» — это тоже
две любимые пьесы фрау Бекман: на верхнем этаже слышно
мою игру. Карл гордо подмигивает мне. В конце концов, ведь
он владелец этих мощных клещей. Пиво и водка льются рекой.
Я пью вместе с остальными, потом продолжаю играть. Сегодня
мне лучше не быть одному. Хочется кое о чем подумать, и вместе
с тем я не хочу ни в коем случае думать об этом. У меня руки пол-
ны небывалой нежности. На меня точно веет чьей-то близостью,
кто-то тянется ко мне, мастерская исчезает, я снова вижу
дождь, туман, Изабеллу и ночной мрак. Она не больна, думаю
я, и все же знаю, что она больна. Но если Изабелла душевно-
больная, то мы в десять раз большие психопаты, чем она.
Меня приводит в себя громкий спор. Оказывается, толстяк
не в силах забыть мощные формы фрау Бекман. Воспламенив-
шись после нескольких рюмок водки, он сделал Брилю тройное
предложение: пять миллионов за чай с фрау Бекман, один мил-
|ион за короткий разговор с ней сейчас же, во время которого
он, вероятно, пригласит ее на вполне приличный ужин без Кар-
ia Бриля, и два миллиона, если ему разрешат несколько раз
крепко ущипнуть это анатомическое чудо здесь же, в мастер-
ской, среди сотоварищей, в веселом обществе и, следовательно,
соблюдая все приличия. .
Но тут-то и сказался характер Карла. Если толстяк имеет
в виду чисто спортивный интерес, заявил он, может быть, ему
и разрешат ущипнуть фрау Бекман, но, во всяком случае, при до-
no днительном пари на какие-нибудь несчастные сто тысяч марок;
если же это только желание похотливого козла, то одна мысль
о таких действиях является для Карла тяжким оскорблением.
— Это же свинство! — рычит он.— Я считал, что присутствуют
юдько истинные кавалеры.
— Я истинный кавалер,— лопочет толстяк.— Поэтому и делаю
ни предложения.
— Вы свинья!
— Это тоже. Иначе какой же я кавалер? А вы бы гордиться
должны... такая дама... Неужели вы настолько бессердечны!
Что же мне делать, коли во мне моя природа на дыбы становится?
Почему вы обиделись? Она же не ваша законная жена.
Я вижу, как Бриль вздрагивает, словно в него выстрелили.
С фрау Бекман он состоит в незаконном сожительстве, она про
сто ведет у него хозяйство. Что ему мешает на ней жениться -
этого не знает никто, вероятно, только его упрямый характер,
который заставляет его зимой пробивать прорубь, чтобы по
плавать в ледяной воде. И все же это его слабое место.
— Да я бы...— запинаясь, лопочет толстяк,— такой бриллиаш
на руках носил, одевал бы в бархат и шелк, в красный шелк...
Он чуть не рыдает и рукой рисует в воздухе роскошные формы.
Бутылка, стоящая перед ним, пуста. Вот трагический случай
любви с первого взгляда. Я отворачиваюсь и продолжаю игра i ь
Представить себе картину, как толстяк носит фрау Бекман
на руках, я не в силах.
— Вон!— вдруг заявляет Карл Бриль.— Хватит! Терпен,
не могу выгонять гостей, но...
Из глубины мастерской доносится отчаянный вопль. Мы все
вскакиваем. Там судорожно приплясывает какой-то коротышка.
Карл бросается к нему, хватает ножницы и останавливает с i а
нок. Коротышке делается дурно.
— Ах, черт! Ну кто знал, что он так налижется и захочет по
играть с машиной!— негодует Карл.
Мы осматриваем руку коротышки.
Из раны висит несколько ниток. Машина прихватила мякон.
его руки между большим и указательным пальцами — и это сше
счастье. Карл льет на рану водку, и коротышка приходит в сейм
— Ампутировали?— спрашивает он с ужасом, увидев свою
руку в лапах Карла.
— Глупости, цела твоя рука.
Коротышка облегченно вздыхает, когда Карл трясет перел
ним его же рукой.
— Заражение крови? А?— спрашивает пострадавший.
— Нет, а вот от твоей крови машина заржавеет. Мы вымоем
твою клешню алкоголем, смажем йодом и наложим повязку.
— Йодом? А это не больно?
— Жжет одну секунду. Как будто ты рукой глотнул очень
крепкой водки.
Коротышка вырывает руку.
— Водку я лучше сам выпью.— Он вытаскивает из кармвнм
не слишком чистый носовой платок, обматывает им свою липу
— + 568 4* —
«Черный обелиск»
и тянется к бутылке. Карл усмехается. Потом с тревогой смот-
рит по сторонам.
— А где же толстяк?
Гости не знают.
— Может, был да весь вышел?— замечает один из присутст-
вующих и начинает икать от смеха над собственной остротой.
Дверь распахивается. Появляется толстяк; наклонившись
вперед, чтобы сохранить равновесие, входит он, спотыкаясь, а
за ним следует в красном кимоно фрау Бекман. Она скрутила
ему руки за спиной и вталкивает в мастерскую. Энергичным
рывком она отбрасывает его от себя. Толстяк валится лицом
вперед в отделение дамской обуви. Фрау Бекман словно стряхи
вает пыль со своих рук и удаляется. Карл Бриль делает гигаш
ский прыжок. Ставит на ноги толстяка.
— Мои руки! — верещит отвергнутый поклонник.— Она мне
вывернула руки! А живот! Ой, живот! Ну и удар!
Объяснения излишни. Фрау Бекман — достойная партнерши
Карла Бриля, этого поклонника зимнего купанья и первокласс
ного гимнаста; она уже дважды ломала ему руку, не говори
о том, что она могла натворить с помощью вазы или кочерги
Не прошло и года с тех пор, как она застигла ночью в мастер
ской двух взломщиков. Они потом пролежали долгое врем и
в больнице, а один так и не оправился после мощного удара, ко
торый она нанесла ему по голове железной колодкой, к тому же
он оглох на одно ухо. С тех пор взломщик стал заговариваться
Карл тащит толстяка к лампе. Он побелел от ярости, но еде
лать уже ничего не может. Толстяк готов. Это было бы все ран
но, что избивать тифозного больного. Толстяк, видимо, получил
страшный удар в ту часть тела, с помощью которой хотел согре
шить. Ходить он не способен. Даже на улицу Карл не может ею
вышвырнуть. Мы укладываем его в углу мастерской на обрезки
кожи.
— Самое приятное, что у Карла бывает всегда так уютно,
заявляет один из гостей и старается напоить пивом рояль.
Я иду домой по Гроссештрассе. В голове все плывет: я выпил
слишком много, но мне этого не хотелось. Только редкие витри
ны еще светятся, перед ними клубится туман и окутывает фонари
золотистыми вуалями. На витрине мясной лавки стоит цнезу
щий куст альпийских роз, рядом тушка поросенка, в бледную
пасть засунут лимон. Уютно лежат кольцами колбасы. Вся кар
тина полна настроения, в ней гармонически сочетаются краев
— + 570 4* —
та и целеустремленность. Я стою некоторое время перед витри-
ной, затем отправляюсь дальше.
В темном дворе, полном тумана, наталкиваюсь на какую-то
тень. Это старик Кнопф, он опять остановился перед черным
обелиском. Я налетел на него со всего размаху, он пошатнулся
и обхватил руками обелиск, словно намереваясь влезть на него.
— Очень сожалею, что вас толкнул,— заявляю я.— Но почему
вы тут стоите? Неужели вы в самом деле не можете справить
свою нужду у себя дома? А если уж вы такой любитель акроба-
тики на свежем воздухе, то почему вы не займетесь этим на углу
улицы?
Кнопф отпускает обелиск.
— Черт, теперь’все потекло в штаны,— бурчит он.
— Не беда. Ну уж заканчивайте здесь, раз начали.
— Поздно.
Кнопф, спотыкаясь, бредет к своей двери. Я поднимаюсь
к себе и решаю на деньги, выигранные у Карла Бриля, купить
завтра букет цветов и послать его Изабелле. Правда, до сих пор
подобные затеи приносили мне только неприятности, но ниче-
го другого я не могу придумать. Я стою еще некоторое время
у окна и смотрю в ночной мрак, а потом начинаю стыдливо
и совсем беззвучно шептать слова и фразы, которые мне очень
хотелось бы когда-нибудь сказать кому-то, да вот некому, разве
юлько Изабелле — хотя она даже не знает, кто я. Но кто из нас
действительно знает, что такое другой человек?
XIII
Разъездной агент Оскар Фукс, по прозванию Оскар-плакса,
сидит у нас в конторе.
— Ну как дела?— осведомляюсь я.— Что слышно насчет
।риппав деревнях?
— Ничего особенного. Крестьяне — народ сытый. Не то что
в городе. У меня сейчас два случая на мази — «Хольман
и Клотц» вот-вот заключат договоры. Надгробие, красный гра-
нит, отполированный с одной стороны, два цоколя с рельефа-
ми. метр пятьдесят высотой, цена — два миллиона двести тысяч
марок, и маленький, один метр десять, за миллион триста ты-
сяч. Цены хорошие. Если вы возьмете на сто тысяч дешевле, вы
их получите. Мне за комиссию двадцать процентов.
— Пятнадцать,— отвечаю я автоматически.
— Двадцать,— настаивает Оскар-плакса.— Пятнадцать я по-
1\ чаю у Хольмана и Клотца. Ради чего же тогда измена?
— + 571 4* —
Он врет. Фирма «Хольман и Клотц», где он служит агентом,
дает ему десять процентов и оплачивает накладные расходы. За
накладные он получит все равно; значит, у нас он хочет зарабо
тать сверх того еще десять процентов.
— Наличными?
— Ну уж это вы сами решайте. Клиенты — люди с положе
нием.
— Господин Фукс,— говорю я,— почему вы совсем не перейде
те к нам? Мы платим больше, чем Хольман и Клотц, и у нас най
дется работа, достойная первоклассного разъездного агента.
Фукс подмигивает мне.
— А так занятнее. Я — человек чувства. Когда я сержусь
на старика Хольмана, я подсовываю какой-нибудь договор вам,
в виде мести. А если бы я работал только на вас, я бы обманы
вал вас.
— Это, конечно, правильно,— говорю я.
— Вот именно. Тогда я начал бы предавать вас Хольма и у
и Клотцу. Ездить, чтобы предлагать надгробия, очень скучно;
нужно хоть какое-то развлечение.
— Скучно? Вам? При том, что вы каждый раз даете артисти
ческий спектакль?
Фукс улыбается, как Гастон Мюнх со сцены городского тсчн
ра после исполнения роли Карла Гейнца в пьесе «Старый Гей
дельберг».
— Стараюсь как могу.— заявляет Фукс с ликующей скром
ностью.
— Вы очень усовершенствовали свою работу. И без вспомо
гательных средств. Чисто интуитивно. Да?
Оскар, который раньше, перед тем как войти в дом усопше
го, натирал себе глаза сырым луком, утверждает, что теперь сим
может вызвать на своих глазах слезы, как великие актеры. Эю.
конечно, гигантский шаг вперед. Ему уже не надо входи и.
в дом, плача, как было раньше, когда он применял луковую ivx
нику, причем случалось и так, что если переговоры затягипа
лись, слезы у него иссякали: ведь нельзя же было пользованье и
луком при людях; теперь, напротив, он может входить с сухими
глазами и, как заведут разговор о покойном, начать лить пасю
ящие слезы, что, разумеется, производит совсем другое впечт
ление. Разница такая же, как между настоящим и поддельным
жемчугом. Его скорбь столь убедительна, уверяет Оскар, чю
близкие нередко его же утешают и успокаивают.
— 4* 572 4* —
Из своей комнаты выходит Георг Кроль. Под носом у него
дымит гавана, он — воплощенное довольство и мир. Он сразу
устремляется к цели.
— Господин Фукс,— спрашивает Георг.— Это правда, что вы
теперь умеете плакать по желанию, или это только гнусная про-
паганда наших конкурентов?
Вместо ответа Оскар смотрит на него неподвижным взглядом.
— Так как же?— продолжает Георг.— Что с вами? Вам нехо-
рошо?
— Минутку! Я должен сначала прийти в соответствующее
настроение.
Оскар опускает веки. Когда он снова поднимает их, его взор
уже кажется влажным. Фукс опять смотрит на Георга не мигая,
и через несколько мгновений на его голубых глазах действи-
тельно выступают крупные слезы. Еще миг, и они уже катятся
по щекам. Оскар вытаскивает носовой платок и осторожно вы-
тирает их.
— Каково? А?— спрашивает он и смотрит на свои часы.—
Точно две минуты. Порой, когда в доме лежит труп, я добива-
юсь этого за одну минуту.
— Замечательно.
Георг наливает ему рюмку коньяка, предназначенного для
клиентов.
— Вам бы актером быть, господин Фукс.
— Я тоже об этом думал; но слишком мало ролей, в которых
|ребуются мужские слезы. Ну, конечно, Отелло, а вообще...
— Как вы этого добиваетесь? Какой-нибудь трюк?
— Сила воображения,— скромно поясняет Фукс.— Способ-
ность фантазии рисовать себе яркие картины.
— А что вы сейчас себе представляли?
Оскар допивает рюмку.
— Откровенно говоря, вас, господин Кроль. Будто вы лежи-
ie с перебитыми руками и ногами, а стая крыс медленно обгры-
nie i вам лицо, но вы еще живы, пытаетесь переломанными ру-
ками отогнать грызунов и не можете. Извините меня, но для
1аких быстрых результатов мне нужна очень сильная картина.
Георг проводит рукой по лицу. Лицо еще цело.
— Вы рисуете себе такие же картины и про Хольмана
и Клотца, когда на них работаете?— спрашиваю я.
Фукс качает головой.
— Про них я представляю себе, что они доживают до ста лет
в полном здравии и богатстве и умирают от разрыва сердца,
— 4* 573 4* —
во сне, без мучений,— тогда у меня от ярости особенно щедро
текут слезы.
Георг уплачивает ему комиссионные за последние два пред»
тельства.
— Недавно я также разработал приемы искусственного
всхлипывания,— говорит Оскар.— Очень действует. Ускоряет
переговоры. Люди чувствуют себя виноватыми, они думают,
что это результат сердечного сочувствия.
— Господин Фукс, переходите к нам! — восклицаю я с не-
вольной порывистостью.— Ваше место — в такой фирме, где
люди работают художественными методами, а не среди обыкпо
венных хапуг.
Оскар-плакса снисходительно улыбается, качает головой
и откланивается.
— Ну не могу,— отвечает он.— Мне необходима хоть капли
предательства, иначе я буду только хнычущей тряпкой. Прели
тельство дает мне душевное равновесие. Понимаете?
— Понимаем,— отвечает Георг.— Нас терзают сожаления,
но личные мотивы мы ставим превыше всего.
Я записываю на листке бумаги адреса клиентов, желающим
приобрести надгробия, и передаю его Генриху Кролю, который
во дворе накачивает велосипедные шины. Генрих презрительно
смотрит на листок. Для него, старого нибелунга, Оскар — прост
жулик и пошляк, хотя, тоже в качестве старого нибелунга, он
и не прочь воспользоваться его услугами.
— Раньше нам не нужно было прибегать к таким фокусам,
заявляет Генрих.— Хорошо, что мой отец до этого не дожил.
— Да ваш отец, судя по тому, что я слышал об этом пионере
надгробного дела, был бы вне себя от радости, если бы ему уди
лось так провести за нос своих конкурентов,— отвечаю я.
У него был характер бойца — не то что у вас! И он сражался
не на поле чести, а в окопах безжалостных деловых схвати
Кстати, скоро мы получим остаток денег за полированный
со всех сторон памятник с крестом, проданный вами в апреле?
Те двести тысяч марок, которые они не доплатили? Вы знает,
какая теперь цена этим деньгам? Пустой цоколь и то на ним
не купишь.
Генрих что-то бурчит и сует мой листок в карман. А я во тра
щаюсь, довольный, что хоть немного сбил с него спесь. Перел
домом стоит стоймя кусок водосточной трубы, отлетевший
во время последнего ливня. Кровельщики только что закончили
работу: они заменили отвалившуюся часть трубы новой.
— S74 —
— А как насчет этой?— спрашивает мастер.— Она же вам
теперь ни к чему? Может, нам взять ее?
— Да,— отвечает Георг.
Кусок трубы прислонен к обелиску, служащему для Кнопфа
писсуаром на свежем воздухе. Длина трубы — несколько мет-
ров, и в конце она согнута под прямым углом. Меня вдруг осе-
няет блестящая идея.
— Оставьте ее здесь,— говорю я рабочим.— Она понадобит-
ся нам.
— Для чего?— спрашивает Георг.
— На сегодняшний вечер. Вот увидишь, получится интерес-
ный спектакль.
Генрих Кроль садится на свой велосипед и уезжает. Мы с Ге-
оргом стоим возле двери и выпиваем по стакану пива, которое
фрау Кроль нам подала через окно кухни. Очень жарко. Столяр
Вильке пробирается сторонкой к себе домой. У него в руках не-
сколько бутылок, а после обеда он выспится в гробу, на ложе
из мягких опилок. Вокруг могильных крестов резвятся бабочки.
Пестрая кошка Кнопфов беременна.
— Каков курс доллара?— спрашиваю я.— Ты звонил?
— Поднялся на пятнадцать тысяч марок против сегодняшнего
угра. Если так пойдет дальше, мы сможем заплатить Ризен-
фельду по векселю, продав одно маленькое надгробие.
— Чудеса. Жалко, что мы не задержали часть денег. Теряешь
необходимый энтузиазм. Верно?
Георг смеется.
— И необходимую деловую серьезность. Разумеется, это
не относится к Генриху. Что ты делаешь сегодня вечером?
— Пойду к Вернике. Там, по крайней мере, не думаешь ни
о серьезности, ни о комизме наших деловых операций. Там, на-
верху, речь идет только о человеческом бытии. Всегда только
о бытии в целом, о полноценном существовании, о жизни,
и только о жизни. И помимо этого — ни о чем. Если там пожить
некоторое время, то наша нелепая деловая возня и торговля из-
hi пустяков показались бы сумасшествием.
— Браво!— восклицает Георг.— За такую глупость ты заслу-
жил еще стакан ледяного пива. Сударыня, прошу вас повторить.
Седая голова фрау Кроль высовывается из окна.
— Хотите получить по рулетику свежего роль-мопса с огурцом?
— Безусловно. И кусок хлеба впридачу. Этот легкий завтрак
хорош при всех видах мировой скорби,— отвечает Георг и пе-
редает мне стакан.— Ты страдаешь ею?
— + 575 + —
— Каждый приличный человек в моем возрасте непременно
страдает мировой скорбью,— решительно отвечаю я.— Это
право молодости!
— А я думал, что у тебя молодость украли, когда ты был в армии.
— Верно. С тех пор я ищу ее и не могу найти. Поэтому у мс
ня двойная мировая скорбь. Так же как ампутированная ноги;
она болит вдвое сильнее.
Пиво чудесное, холодное. Солнце печет нам головы, и вдру|,
невзирая на всю мировую скорбь, наступает мгновение, когди
жизнь подходит к тебе вплотную и ты с изумлением смотришь
в ее золотисто-зеленые глаза. Я благоговейно допиваю свой ста
кан. Мне кажется, что каждая клетка моего тела приняла сод
нечную ванну.
— Мы то и дело забываем, что живем на этой планете лишь
недолгий срок,— говорю я.— И потому страдаем совершенно
ложным комплексом мировой скорби, словно нам предстои!
жить вечно. Ты это замечал?
— Ну еще бы! В том-то и состоит главная ошибка человсчс
ства. Люди, сами по себе вполне разумные, дают возможность
каким-то презренным родственникам получить по наследству
миллионы долларов, вместо того чтобы самим еще при жи иш
воспользоваться этими деньгами.
— Хорошо! А что бы ты сделал, если бы знал, что завгрв
умрешь?
— Понятия не имею.
— Не знаешь? Ладно, один день — это, может быть, слишком
мало. Ну, а что бы ты сделал, зная, что умрешь через неделю?
— И тогда не представляю.
— Ведь что-нибудь ты бы сделал? Ну, а если бы у тебя был
в запасе месяц?
— Вероятно, продолжал бы жить, как живу теперь,— гово
рит Георг.— Иначе у меня весь этот месяц было бы такое чув
ство, что я до сих пор жил не так, как следовало.
— У тебя был бы целый месяц, чтобы это исправить.
Георг качает головой.
— Целый месяц, чтобы раскаиваться.
— Ты мог бы продать наш склад Хольману и Клотцу, yexnib
в Берлин и в течение целого месяца вести среди актеров, худо*
ников и шикарных шлюх сногсшибательную жизнь.
— Денег у меня не хватило бы и на неделю. А дамы ока ш
лись бы просто девицами из баров. И потом обо всем ном
я предпочитаю читать. Фантазия никогда нас не обманы виг i
— + 576 4* —
Ну, а ты? Что бы ты стал делать, если бы знал, что через месяц
умрешь?
— Я?— повторяю я растерянно.
— Да, ты.
Я озираюсь. Передо мною сад, зеленый и жаркий, пестрею-
щий всеми красками середины лета, проносятся ласточки, бес-
конечно синеет небо, а сверху, из окна, на нас глазеет старик
Кнопф, который только что очнулся после пьянства; он в под-
тяжках и клетчатой рубашке.
— Мне нужно подумать,— говорю я.— Сразу я не могу отве-
тить. Это слишком трудно. Сейчас у меня такое чувство, что
я просто взорвался бы, если бы знал это наверняка.
— Размышляй, но в меру, не то нам придется отправить тебя
к Вернике. Но не для того, чтобы ты играл там на органе.
— А ведь так оно и есть,— говорю я.— Действительно так
и есть! Если бы мы знали точно заранее час своей смерти, мы
бы сошли с ума.
— Еще стаканчик пива?— спрашивает фрау Кроль, высовы-
ваясь из кухонного окна.— Есть и малиновый компот. Свежий.
— Спасен!— восклицаю я.— Только вы меня спасли, сударыня.
Я чувствовал себя как стрела, устремленная к солнцу и к Вернике.
Слава Богу, все еще на своих местах! Ничто не сожжено! Милая
жизнь еще играет вокруг нас бабочками и мухами, она не пре-
вратилась в прах и пепел, она здесь, со своими законами, и да-
же с теми, которые мы навязали ей, как сбрую — чистокровно-
му рысаку. И все-таки к пиву не давайте нам малинового
компота, пожалуйста! А вместо этого лучше кусок плавленого
гарцского сыра. Доброе утро, господин Кнопф! Каков денек?
Что вы думаете насчет жизни?
Кнопф смотрит на меня, вытаращив глаза. Лицо у него серое,
под глазами — мешки. Через минуту он сердито качает головой
и закрывает окно.
— Зачем-то он был тебе нужен?
— Да, но только сегодня вечером.
Мы входим в ресторан Эдуарда Кноблоха.
— Посмотри-ка!— говорю я и сразу останавливаюсь, словно
налетел на дерево.— Жизнь, как видно, и такие штучки под-
страивает. Следовало бы это помнить!
В погребке, за одним из столиков, сидит Герда, перед ней бу-
кет оранжевых лилий. Она одна и как раз отрезает себе кусок
or седла косули, величиной чуть не с этот стол.
— + 577 4* —
— Ну что ты скажешь?— обращаюсь я к Георгу.— Разве
здесь не пахнет предательством?
— А было что предавать?— спрашивает Георг в свою очередь.
— Нет. А вот насчет обманутого доверия...
— А было доверие?
— Брось, Сократ ты этакий!— отвечаю я.— Разве ты не ви-
дишь, что это дело толстых лап Эдуарда?
— Да уж вижу. Но кто, собственно, тебя предал? Эдуард или
Герда?
— Конечно, Герда! Кто же еще? Обычно тут бывает винова i
не мужчина.
— И женщина тоже нет.
— А кто же?
— Ты сам. Никто, кроме тебя.
— Ладно,— отвечаю я.— Тебе легко говорить. Тебе-то не из
меняют, ты сам изменяешь.
Георг самодовольно кивает.
— Любовь — вопрос чувства,— назидательно замечает он,-
не вопрос морали. Но чувство не знает предательства. Оно расти,
исчезает, меняется — где же тут предательство? Это же не коп
тракт. Разве ты не осточертел Герде своими жалобами на Эрпу?
— Только в самом начале. Ведь скандал в «Красной мелыш
це» разыгрался тогда при ней.
— Ну так нечего теперь ныть. Откажись от нее или действуй
Рядом с нами освободился столик. Мы усаживаемся. Кельнер
Фрейданк убирает грязную посуду.
— Где господин Кноблох?— спрашиваю я.
Фрейданк озирается.
— Не знаю. Он все время сидел за столом вон с той дамой.
— Как просто, а?— говорю я Георгу.— Вот до чего мы до
шли. Я — естественная жертва инфляции. Еще раз. Сначплв
Эрна, теперь Герда. Неужели мне суждено быть вечным рого
носцем? С тобой таких шуток ведь не случается.
— Борись!— заявляет Георг.— Еще ничего не потеряно. 11о
дойди к Герде!
— Но каким оружием мне бороться? Могильными камнями?
А Эдуард кормит ее седлом косули и посвящает стихи. В качс
стве стихов она не разбирается, но в пище — увы, очень, и и,
осел, сам во всем виноват! Я сам притащил сюда Герду и pni
дразнил ее аппетит! В буквальном смысле этого слова!
— Тогда откажись,— говорит Георг.— Зачем бороться? Бо
роться за чувство вообще бессмысленно.
— + 578 4* —
— Вот как? А почему же ты минуту назад советовал мне бо-
роться?
— Оттого, что сегодня вторник. Вон идет Эдуард — в парад-
ном сюртуке и с бутоном розы в петлице. Ты уничтожен.
Увидев нас, Эдуард приостановился. Он косится в сторону
Герды, потом приветствует нас со снисходительным видом по-
бедителя.
— Господин Кноблох,—обращается к нему Георг.— Правда
ли, что верность — основа чести, как сказал наш обожаемый
фельдмаршал, или неправда?
— Смотря по обстоятельствам,— осторожно отвечает Эдуард.—
Сегодня у нас битки по-кенигсбергски, с подливкой и картофе-
лем. Очень вкусные.
— Может ли солдат нанести товарищу удар в спину?— не-
умолимо продолжает Георг.— Брат брату? Поэт поэту?
— Поэты постоянно нападают друг на друга. В этом их
жизнь.
— Их жизнь — в честной борьбе, а не в том, чтобы всаживать
кинжал в живот другого,— заявляю я.
На лице Эдуарда появляется широкая ухмылка.
— Победа — победителю, дорогой Людвиг, catch as catch can*.
Разве я жалуюсь, когда вы являетесь ко мне с талонами, кото-
рым цена — ноль?
— Конечно,— отвечаю я,— и еще как!
В эту минуту кто-то отстраняет Эдуарда.
— Мальчики, наконец-то вы пришли,— сердечным тоном го-
ворит Герда.— Давайте пообедаем вместе! Я надеялась, что вы
придете!
— Ты сидишь в винном погребке,— язвительно замечаю я,—
а мы просто пьем пиво.
— Я тоже предпочитаю выпить пива. Я сяду с вами.
— Ты разрешишь, Эдуард?— спрашиваю я.— Catch as catch
can.
— А что тут Эдуарду разрешать?— спрашивает Герда.— Он
только рад, когда я обедаю с его друзьями. Верно, Эдуард?
Эта змея уже зовет его просто по имени.
— Разумеется, ничего не имею против, конечно, только при-
ятно...— заикаясь, отвечает Эдуард.
Я наслаждаюсь его видом: он взбешен, побагровел и злобно
улыбается...
* Кто взял, тот и прав (англ,).
— Красивый у тебя бутон,— замечаю я.— Ты что, на положе
нии жениха или просто любовь к природе?
— Эдуард очень чуток к красоте,— отвечает за него Герда.
— Это да,— соглашаюсь я.— Разве тебе подали сегодня
обычный обед? Унылые битки по-кенигсбергски в каком-ни-
будь безвкусном немецком соусе?
Герда смеется.
— Эдуард, покажи, что ты настоящий рыцарь! Разреши мне
пригласить пообедать твоих друзей! Они постоянно утверждаю i,
будто ты ужасно скуп. Давай докажем им обратное. У нас есть...
— Битки по-кенигсбергски,— прерывает ее Эдуард,— хороню,
пригласим их на битки. Я позабочусь, чтобы они были экстра
и вам подали...
— Седло косули,— заканчивает Герда.
Эдуард пыхтит, как неисправный паровоз.
— Разве это друзья?— заявляет он.
— Что такое?
— Да мы с тобой кровные друзья, как ты с Валентином,— го
ворю я.— Помнишь наш последний разговор в клубе поэтов?
Хочешь, я повторю его вслух? Каким размером ты теперь ни
шешь стихи?
— Так о чем же вы там говорили?— спрашивает Герда.
— Ни о чем,— поспешно отвечает Эдуард.— Эти двое никоим
слова правды не скажут. Остряки, убогие остряки, вот они кто!
Понятия не имеют о том, насколько жизнь серьезна.
— А насчет серьезности жизни, думаю, что, кроме могиль
щиков да гробовщиков, никто не знает ее лучше, чем мы.
— Ну, вы! Вы видите только нелепые стороны смерти,
вдруг ни с того ни с сего заявляет Герда.— А потому перестали
понимать серьезность жизни.
Мы смотрим на нее, обалдев от удивления. Это уже, песо
мненно, стиль Эдуарда. Я чувствую, что сражаюсь за потерян
ную территорию, но еще не имею сил отступить.
— Откуда у тебя эти мысли, Герда?— спрашиваю я.— Эх i ы.
сивилла, склоненная над темными прудами меланхолии!
Герда смеется.
— Вы всю жизнь только и думаете, что о могильных камням
А другим не так легко заинтересоваться могилами. Вот, напри
мер, Эдуард — это соловей.
На жирных щеках Эдуарда расцветает улыбка.
— Так как же насчет седла косули?— спрашивает Герда.
— Что ж, в конце концов, почему бы и нет?
Эдуард исчезает. Я смотрю на Герду.
— + 580 4* —
— Браво! — восклицаю я.— Первоклассная работа. Как при-
кажешь все это понимать?
— Не делай лицо обиженного супруга,— отвечает она.—
Просто радуйся жизни, и все.
— А что такое жизнь?
— Именно то, что в данную минуту происходит.
— Браво!— на этот раз восклицает Георг.— И сердечное спа-
сибо за ваше приглашение. Мы в самом деле очень любим Эду-
арда; только он нас не понимает.
— Ты тоже его любишь?— обращаюсь к Герде.
Герда смеется.
— Какой он еще младенец,— говорит она Георгу.— Вы не мог-
ли бы хоть немного открыть ему глаза на то, что не все и не всегда
его собственность? Да еще если он сам для этого ничего не делает.
— Я неутомимо тружусь, стараюсь просвещать его,— отве-
чает Георг.— Но в нем есть куча препятствий, которые он на-
зывает идеалами. Когда он наконец заметит, что это всего-на-
всего эгоистический снобизм, он исправится.
— А что такое эгоистический снобизм?
— Юношеское тщеславие.
Герда так хохочет, что даже стол дрожит.
— Что ж, по-моему, это неплохо,— заявляет она.— Но без
разнообразия надоедает. От фактов никуда не уйдешь.
Я остерегаюсь спросить ее, действительно ли от фактов
не уйдешь. Герда сидит передо мной честно и уверенно и дер-
жит нож стоймя в ожидании второй порции косули. Лицо у Гер-
ды округлилось: она за счет Эдуарда уже пополнела. Она сияет
и ничуть не смущена. Да и почему бы ей смущаться? Какие
фактические права я на нее имею? И кто кого в данную минуту
обманывает?
— Верно,— говорю я.— Я оброс атавистическим эгоизмом,
как скала мхом. Меа culpa*.
— Правильно, дорогой — отвечает Герда.— Наслаждайся
жизнью и размышляй, только когда это необходимо.
— А когда это необходимо?
— Если ты хочешь заработать деньги и продвинуться вперед.
— Браво!— снова восклицает Георг.
В эту минуту появляется седло косули и разговор обрывает-
ся. Эдуард наблюдает за нами, как наседка за своими цыплята-
ми. В первый раз он дает нам мирно поесть. У него появилась
новая улыбка, в которой я не могу разобраться. В этой улыбке
’ Моя вина (лат.).
— + 581 4* —
затаенное сознание превосходства, и время от времени он тай-
ком показывает это Герде, словно преступник в тюрьме, кото-
рый тайно переписывается с другим заключенным. Но у Герды
осталась ее прежняя открытая сияющая улыбка, которую, как
только Эдуард отвернется, она посылает мне, словно невинная
девочка перед причастием. Она моложе меня, но мне кажется,
что по опыту она старше, по крайней мере, лет на сорок.
— Кушай, мальчик,— говорит она.
Я ем, но меня мучают совесть и недоверие, а седло косули,
этот первоклассный деликатес, кажется мне вдруг невкусным.
— Еще кусочек?— угощает меня Эдуард.— А может быть,
еще брусничной подливки?
Я удивленно смотрю на него. У меня такое чувство, точно мой
прежний унтер-офицер предложил мне, рекруту, поцеловать его.
Встревожен и Георг. Я знаю, потом он будет объяснять неправдо
подобную щедрость Эдуарда тем обстоятельством, что Герда
уже спала с ним,— но на этот раз я могу поспорить. Она будет
получать седло косули до тех пор, пока еще не согласилась на это.
Когда он ее получит, ей опять будут подавать только битки по-ке-
нигсбергски с немецким соусом. И я уверен, что Герде это тоже и i
вестно.
И все-таки я решаю после ужина уйти вместе с нею. Доверие
доверием, но у Эдуарда в погребке слишком много крепких на
питков.
Тихая ночь повисла всеми звездами над городом. Я сижу
у окна и жду Кнопфа, для которого приготовил обломок водо
сточной трубы. Она идет как раз от моего окна, через подвороi
ню и до самого дома Кнопфа, а там ее короткий конец загиба
ется во двор. Но со двора трубы не видно.
Я жду и читаю газету. Доллар всполз кверху еще на десян.
тысяч марок. Вчера имело место только одно самоубийства,
но зато две забастовки. Служащие после долгих пререканий па
конец добились некоторого повышения ставок, но тем времс
нем деньги настолько упали, что люди теперь на эту прибавку
едва могут купить раз в неделю литр молока. А на следующей
неделе — вероятно, только коробок спичек. Число безработным
увеличилось еще на сто пятьдесят тысяч. По всей стране усиди
ваются волнения. Рекламируются новые рецепты по исполь в>
ванию кухонных отбросов. Волна заболеваний гриппом расти I.
Вопрос о повышении пенсий инвалидам и престарелым пере
дан на рассмотрение особого комитета. Через несколько меси
цев комитет должен высказаться по этому вопросу. А тем врс
— + 582 + —
менем умирающие от голода пенсионеры и инвалиды просят
милостыню или ищут поддержки у родственников и знакомых.
С улицы доносятся тихие шаги. Я осторожно выглядываю
в окно. Однако это не Кнопф — это влюбленная парочка, кото-
рая на цыпочках крадется через двор в сад. Сезон в самом раз-
гаре, и любящие, больше чем когда-либо, нуждаются в приста-
нище. Вильке прав: куда же им деться, чтобы им не мешали?
Если они пытаются проскользнуть в свои меблированные ком-
наты, хозяйка уже начеку и от имени морали и зависти, словно
ангел с мечом, немедленно их изгоняет; в общественных парках
и скверах на них рявкает полиция и задерживает их; на комна-
ту в гостинице у них нет денег,— так куда же им деваться?
А в нашем дворе их никто не тронет. Памятники повыше за-
крывают их от других парочек; никто их не видит, к надгробию
можно прислониться и в его тени шептаться и обниматься,
а в ненастный день, когда нельзя расположиться на земле, па-
мятники с крестами всегда к услугам влюбленных; тогда девуш-
ки, теснимые своими любовниками, держатся за перекладину,
дождь хлещет в их разгоряченные лица, туман овевает их, они
дышат бурно и порывисто, а их волосы, в которые вцепился воз-
любленный, взлетают, словно гривы ржущих коней; предосте-
режения, недавно вывешенные мною, не возымели никакого
действия, да и кто думает о том, что ему может придавить ноги,
когда вся жизнь гибнет в пламени разрухи?
Вдруг я слышу на улице шаги Кнопфа. Я смотрю на часы.
Половина третьего. Муштровщик многих поколений злосчаст-
ных рекрутов, должно быть, основательно нагрузился. Выклю-
чаю свет. Кнопф целеустремленно спешит к черному обелиску.
Я берусь за конец дождевой трубы, торчащей в моем окне,
крепко прижимаю губы к отверстию и произношу:
— Кнопф!
Мой голос гулко отдается на том конце трубы, позади фельд-
фебеля, словно это голос из могилы. Кнопф озирается: он
не знает, откуда его позвали.
— Кнопф!— повторяю я.— Негодяй! Неужели тебе не стыд-
но? Неужели я для того тебя создал, чтобы ты пьянствовал
и мочился на могильные памятники, свинья ты этакая!
Кнопф снова резко оборачивается.
— Что это?— лепечет он.— Кто тут?
— Пакостник! — восклицаю я, и снова мой голос звучит при-
зрачно и грозно.— И ты еще спрашиваешь? Разве начальнику
задают вопросы? Смирно, когда я говорю с тобой!
— + 583 4* —
Вытаращив глаза, Кнопф смотрит на свой дом, из которого
доносится голос. Все окна закрыты и темны. Дверь тоже запер-
та, трубы на стене он не видит.
— Смирно! Ты, забывший свой воинский долг, негодный
фельдфебель!— продолжаю я.— Разве я для того послал тебе пет-
лицы на воротник и длинную саблю, чтобы ты осквернял могиль-
ные камни, предназначенные для поля Господня?— И затем еще
резче, шипя, приказываю:— Во фронт, недостойный оскверни-
тель надгробий!
Приказ действует. Кнопф стоит навытяжку, опустив руки
по швам. Луна отражается в его вытаращенных глазах.
— Кнопф!— говорю я голосом призрака.— Ты будешь раз
жалован в солдаты, если я тебя еще раз поймаю! Ты — позор
ное пятно на чести немецких воинов и союза активных фельд
фебелей в отставке!
Кнопф слушает, слегка повернув голову и подняв ее, словно
пес, воющий на луну.
— Кайзер?— шепчет он.
— Застегни штаны и проваливай отсюда!— отвечаю я гулким
шепотом.— И запомни: попробуй насвинячить еще раз — и ты
будешь разжалован и кастрирован! Кастрирован тоже! А теперь
пшел отсюда, шпак, марш, марш!
Кнопф спешит, растерянно спотыкаясь, к своей двери. Из сади
выбегает парочка, и оба, точно испуганные серны, мчатся
на улицу. Этого я, конечно, не хотел.
XIV
Члены клуба поэтов собрались у Эдуарда. Экскурсия в бор
дель — дело решенное. Отто Бамбус надеется, что после нее его
лирика будет насыщена кровью. Ганс Хунгерман хочет полу
чить материал для своего «Казановы» и для написанного сво
бодным размером цикла стихов под названием «Женщина-дс
мон»; даже Маттиас Грунд, автор книги о смерти, надеется
перехватить там несколько пикантных деталей для изображс
ния предсмертного бреда параноика.
— А почему ты с нами не идешь, Эдуард?— спрашиваю я.
— Нет потребности,— заявляет он.— У меня есть все, чю
мне нужно.
— Да ну? Есть все?— Я отлично знаю, что он хочет нам ню
реть очки, и знаю, что он лжет.
— Эдуард спит со всеми горничными своей гостиницы,— но
ясняет Ганс Хунгерман.— А если они противятся, он их рассчи
тывает. Поистине друг народа.
— + 584 4* —
— Горничные! Ты так бы и поступал! Свободные ритмы, сво-
бодная любовь. Я — нет! Никаких историй в собственном доме.
Старинное правило!
— Ас посетительницами тоже нельзя?
— Посетительницы!— Эдуард возводит глаза к небу.— Ну,
тут иной раз ничего не поделаешь. Например, герцогиня фон
Бель-Армин...
— Например, что же?— спрашиваю я, когда он смолкает.
Эдуард жеманничает:
— Рыцарь должен быть скромен.
У Хунгермана внезапный приступ кашля.
— Хороша скромность! Сколько же ей было? Восемьдесят?
Эдуард презрительно улыбается, но через мгновение улыбка
сползает с его лица, словно маска, у которой порвались тесемки:
входит Валентин Буш. Правда, он не литератор, но решил тоже
участвовать. Он желает присутствовать при том, как Отто Бам-
бус потеряет свою девственность.
— Здравствуй, Эдуард!— воскликнул Буш.— Хорошо, что ты
еще жив, верно? Иначе ты бы не смог насладиться приключе-
нием с герцогиней.
— Откуда ты знаешь, что это действительно было?— спра-
шиваю я, пораженный.
— Слышал в коридоре. Вы разговаривали довольно громко.
Наверно, хватили всякой всячины. Во всяком случае, я от души
желаю Эдуарду и его герцогине всяческих успехов. Очень рад,
•по именно я спас ему жизнь ради такого приключения.
— Да это случилось задолго до войны,— поспешно заявляет
Эдуард. Он чует новую угрозу для своих винных запасов.
— Ладно, ладно,— охотно соглашается Валентин.— После
войны ты тоже не терял времени и, наверно, пережил немало
интересного!
— Это в наш и-то дни?
— Именно в наши дни. Когда человек в отчаянии, он легче
идет навстречу приключению. А как раз герцогини, принцессы
и । рафини в этом году особенно легко поддаются отчаянию. Ин-
ф 1яция, республика, кайзеровской армии уже не существует —
разве всего этого не достаточно, чтобы разбить сердце аристо-
кратки? Ну, а как насчет бутылочки хорошего винца, Эдуард?
— Мне сейчас некогда,— отвечает Эдуард с полным самооб-
ипапием.— Очень сожалею, Валентин, но сегодня не выйдет.
Наш клуб устраивает экскурсию.
— Разве ты тоже идешь с нами?— спрашиваю я.
— 4* 585 4* —
— Конечно! В качестве казначея! Я обязан! Раньше я не по-
думал об этом! Но долг есть долг!
Я смеюсь. Валентин подмигивает мне, он скрывает, что тоже
идет с нами. Эдуард улыбается, так как воображает, что сэконо-
мил бутылку вина. Таким образом, все довольны.
Мы отбываем. Стоит чудесный вечер. Мы идем на Банштрас
се, 12. В городе два публичных дома, но тот, что на Банштрассе,
как будто поэлегантнее. Дом стоит за пределами города, он не-
большой и окружен тополями. Я хорошо его знаю: в нем я про
вел часть своей ранней юности, не подозревая о том, что здесь
происходит. В свободные от уроков послеобеденные часы мы
обычно ловили в пригородных прудах и ручьях рыбу и сала
мандр, а на лужайках — бабочек и жуков. В один особенно жар
кий день, в поисках ресторана, где можно было бы выпить ли
монаду, мы попали на Банштрассе, 12. Ресторан на нижнем
этаже ничем не отличается от обычных ресторанов. Там было
прохладно, и, когда мы спросили сельтерской, нам ее подали.
Через некоторое время появились три-четыре женщины в хала
тиках и цветастых платьях. Они спросили нас, что мы тут дела
ем и в каком классе учимся. Мы заплатили за нашу сельтерскую
и на следующий день зашли снова, прихватив свои учебники и ре
шив, что потом будем учить уроки на свежем воздухе, у ручья.
Приветливые женщины снова оказались тут и по-матерински
заботились о нас. В зале было прохладно и уютно, и, так как
в предвечерние часы никто, кроме нас, не появлялся, мы остались
тут и принялись готовить уроки. А женщины смотрели через наше
плечо и помогали нам, будто они — наши учительницы. Они
следили за тем, чтобы мы выполняли письменные работы, про
веряли наши отметки, спрашивали у нас то, что надо было вы
учить наизусть, давали шоколад, если мы хорошо знали урок,
а иногда и легкую затрещину, если мы ленились; а мы были еще
в том счастливом возрасте, когда женщинами.не интересуются
Вскоре эти дамы, благоухавшие фиалками и розами, стали для
нас как бы вторыми матерями и воспитательницами. Они отда
вались этому всей душой, и достаточно нам было появиться
на пороге, как некоторые из этих богинь в шелках и лакирован
ных туфлях взволнованно спрашивали:
— Ну как классная работа по географии? Хорошо написали
или нет?
Моя мать уже тогда подолгу лежала в больнице, поэтому
и случилось так, что я частично получил воспитание в вердсн
брюкском публичном доме, и воспитывали меня — могу это под
твердить — строже, чем если бы я рос в семье. Мы ходили туда
— + 586 4* —
два лета подряд, потом нас увлекли прогулки, времени остава-
лось меньше, а затем моя семья переехала в другую часть города.
Во время войны я еще раз побывал на Банштрассе. Как раз на-
кануне того дня, когда нас отправляли на фронт. Нам исполнилось
ровно восемнадцать лет, некоторым было и того меньше, и боль-
шинство из нас еще не знало женщин. Но мы не хотели умереть,
так и не изведав, что это такое,- поэтому отправились впятером
на Банштрассе, которую знали так хорошо с детских лет. Там ца-
рило большое оживление, нам дали и водки и пива. Выпив доста-
точно, чтобы разжечь в себе отвагу, мы попытали счастья. Вил-
ли, наиболее смелый из нас, действовал первым. Он остановил
Фрици, самую соблазнительную из здешних дам, и спросил:
— Милашка, а что если нам...
— Ясно,— ответила Фрици сквозь дым и шум, хорошенько
даже не разглядев его.— Деньги у тебя есть?
— Хватит с избытком,— и Вилли показал ей свое жалованье
и деньги, данные ему матерью: пусть отслужит обедню, чтобы
благополучно вернуться после войны.
— Ну что ж! Да здравствует отечество! — заявила Фрици до-
вольно рассеянно и посмотрела в сторону пивной стойки.—
Пошли наверх!
Вилли поднялся и снял шапку. Вдруг Фрици остановилась
и уставилась на его огненно-рыжие волосы. У них был особый
блеск и она, конечно, сразу узнала Вилли, хоть и прошло семь лет.
— Минутку,— сказала она.— Вас зовут Вилли?
— Точно так!— ответил Вилли, просияв.
— Ты тут когда-то учил уроки?
— Правильно.
— И ты теперь желаешь пойти со мной в мою комнату?
— Конечно! Мы ведь уже знакомы!
Все лицо Вилли расплылось в широкой ухмылке. Но через
миг он получил крепкую оплеуху.
— Ах ты свиненок! — воскликнула Фрици.— Со мной лечь
в постель желаешь? Ну и наглец!
— Почему же?— пролепетал Вилли.— И все остальные тут...
— Остальные! Плевала я на остальных! Разве я у остальных
спрашивала урок по Катехизису? Писала для них сочинение?
Следила, чтобы они не простудились, дрянной, паршивый
мальчишка?
— Но мне же теперь семнадцать с половиной...
— Молчи уж! Все равно что ты родную мать хотел бы изна-
силовать! Вон отсюда, негодяй! Молокосос! Сопляк!
— + 587 4* —
— Он завтра отправляется на фронт,— говорю я.— Неужели
у вас нет никакого патриотического чувства?
Тут она заметила меня.
— Это, кажется, ты напустил нам тогда гадюк? На три дни
пришлось закрыться, пока мы не выловили эту пакость.
— Я не выпускал их,— защищался я.— Они у меня удрали.
Не успел я ничего прибавить, как тоже получил оплеуху.
— Молокососы паршивые! Вон отсюда!
Шум привлек внимание хозяйки. Возмущенная Фрици рас
сказала ей, в чем дело, хозяйка тоже сразу же узнала Вилли.
— А, рыжий!— проговорила она, задыхаясь. Хозяйка весила
сто двадцать кило, и все ее тело ходило ходуном от хохота, слов
но гора желе во время землетрясения.
— А ты? Разве твое имя не Людвиг?
— Все это верно,— ответил Вилли.— Но мы теперь солдаты
и имеем право вступать в половые сношения.
— Ах так? Имеете право?— И хозяйка снова затряслась
от хохота.— Ты помнишь, Фрици... Он ужасно тогда боялся,
как бы отец не узнал, что это он бросил бомбы с сероводородом
на уроке Закона Божьего. А теперь он, видите ли, имеет право
на половые сношения! Хо-хо-хо!
Но Фрици не находила во всем этом ничего смешного. Опа
вполне искренне была обижена и возмущена.
— Все равно что мой родной сын...
Двоим пришлось поддерживать хозяйку под руки, пока она
не успокоилась. Слезы текли у нее по лицу. В уголках рта пу зы
рилась слюна. Обеими руками она хваталась за свой дрожащий
живот.
— Лимонад...— давясь, с трудом выговаривала она,— лимо
над Вальдмейстера, кажется, это был...— она опять начала каш
лять и задыхаться,— ...ваш любимый напиток?
— А теперь мы пьем водку и пиво,— ответил я.— Каждый
когда-нибудь становится взрослым.
— Взрослым! — хозяйкой овладел новый приступ удушья,
и оба дога яростно залаяли, решив, что на нее напали. Мы осто
рожно отступили.
— Вон, неблагодарные мерзавцы!— крикнула нам вслед не
примиримая Фрици.
— Ладно,— заявил Вилли, когда мы вышли.— Тогда отири
вимся на Рольштрассе.
И вот мы, в мундирах, со смертоносным оружием, стояли
за дверью и щеки наши горели от оплеух. Но мы не добрались
до Рольштрассе и второго городского борделя. Туда надо было
— + 588 4* —
идти больше двух часов, через весь Верденбрюк, и мы предпо-
чли вместо этого побриться. Брились мы тоже впервые, а так
как еще никогда не спали с женщиной, то разница показалась
нам не такой уж большой, и мы поняли ее лишь впоследствии;
правда, и парикмахер обидел нас, порекомендовав воспользо-
ваться ластиком для наших бород. Потом мы встретили еще
знакомых и вскоре так основательно напились, что обо всем по-
забыли. Вот почему мы ушли на фронт девственниками, и сем-
надцать из нас пали, так и не узнав, что такое женщина.
Вилли и я потеряли потом невинность в Хутхульсте, во Флан-
дрии, в каком-то кабачке, причем Вилли заразился триппером,
попал в лазарет и таким образом избежал участия в сражении
во Фландрии, где пали семнадцать девственников. Уже тогда
мы убедились, что добродетель не всегда вознаграждается.
Мы идем среди теплого сумрака летней ночи. Отто Бамбус
держится поближе ко мне, ибо я — единственный, кто призна-
ется, что бывал в борделе. Остальные тоже бывали, но разыгры-
вают неведение, а единственный человек, утверждающий, что
он там ежедневный гость, драматург Пауль Шнеевейс, творец
шмечателыюго в своем роде произведения «Адам», попросту
врет: никогда он в таком доме не был.
Руки у Отто потные. Он ожидает встретить там жриц наслаж-
дения, вакханок и демонических хищниц и втайне побаивается,
чю вдруг у него вырвут печень или, по меньшей мере, кастриру-
ют и затем увезут домой в «опеле» Эдуарда. Я успокаиваю Отто.
— Повреждения наносятся не больше одного-двух раз в не-
делю, Отто, и они почти всегда гораздо более безобидные. По-
ы вчера, например, Фрици оторвала гостю одно ухо; но, насколь-
ко мне известно, уши опять можно пришить или их заменяют
целлулоидными, причем сходство такое, что не отличишь.
— Ухо?— Отто останавливается.
— Разумеется, есть дамы, которые не отрывают ушей,— от-
вечаю я.— Но ведь с такими ты не хочешь знакомиться. Ты
ведь хочешь иметь первобытную женщину, во всем ее стихий-
ном великолепии.
— Ухо — это довольно серьезная жертва,— заявляет Отто;
он похож на потеющую жердь и то и дело протирает стекла сво-
ею пенсне.
— Поэзия требует жертв. С оторванным ухом ты стал бы дей-
с отдельно полнокровным лириком. Пошли!
— Да, но ухо! Ведь сразу будет заметно!
— + 589 4* —
— Если бы мне предоставили выбор,— говорит Ганс Хунгер
ман,— я, откровенно говоря, предпочел бы, чтобы мне оторвали
ухо, чем кастрировали.
— Что?— Отто снова останавливается.— Да вы просто шу
тите! Этого же не может быть!
— Нет, бывает! — настойчиво говорит Хунгерман.— Страсть
на все способна. Но ты, Отто, успокойся: кастрация — дело
подсудное. Женщине дают за это по крайней мере несколько
месяцев тюрьмы — так что ты непременно будешь отомщен.
— Глупости! — запинаясь, произносит Бамбус и заставляс!
себя улыбаться.— Вы просто морочите мне голову своими ду
рацкими шутками!
— А зачем нам морочить тебе голову?— отвечаю я.— Эго
было бы низостью. Поэтому я и рекомендую твоему вниманию
именно Фрици. У нее своеобразный фетишизм: когда ею овла
девает страсть, она судорожно хватается обеими руками за уши
партнера. И ты можешь быть с нею абсолютно спокоен, что
больше ни в каком месте не получишь повреждений. Ведь третьей
руки у нее нет.
— Зато есть еще две ноги,— подхватывает Хунгерман.— I io
гами женщины иногда просто чудеса делают. Они отращиваю!
ногти и потом оттачивают их.
— И все вы врете,— говорит Отто с тоской.— Бросьте, нако
нец, городить вздор!
— Слушай,— говорю я,— мне не хочется, чтобы тебя искало
чили. Правда, эмоционально ты обогатишься новым опытом,
но душевные силы утратишь и лирика твоя от этого очень по
страдает. У меня тут есть карманная пилка для ногтей, малень
кая удобная вещица, предназначенная для бонвивана, который
всегда должен быть элегантен. Сунь ее в карман. А потом дер
жи зажатой в ладони или предварительно спрячь под матриц
Если ты заметишь, что тебе грозит серьезная опасность, дос in
точно легкого, безвредного укола в зад. И вовсе не нужно, чтобы
текла кровь, Фрици сейчас же выпустит тебя. Каждый человек,
даже если его укусит комар, сейчас же потянется рукой к уку
шейному месту — это один из основных законов жизни. А том
временем ты удерешь.
Я вынимаю из кармана футлярчик красной кожи, в котором
лежат гребень и пилка для ногтей. Это еще подарок Эрны, про
дательницы. Гребень — имитация черепахового. Когда я итнло
каю его из футляра, во мне поднимается волна запоздалого гном
— Дай мне и гребень,— говорит Отто.
— + 590 4* —
— Да ведь гребнем ты же не можешь ударить ее, о невинный
сатир,— замечает Хунгерман.— Это не оружие в борьбе полов.
Он сразу сломается о напрягшуюся плоть менады.
— Не буду я им наносить удары. Я потом просто причешусь.
Мы с Хунгерманом переглядываемся, Бамбус, видимо, нам
уже не верит.
— У тебя есть с собой хоть несколько перевязочных паке-
тов?— спрашивает меня Хунгерман.
— Они не понадобятся. У хозяйки целая аптека.
Бамбус снова останавливается.
— Все это чепуха. А вот как насчет венерических заболеваний?
— Сегодня суббота. Сегодня после обеда все дамы прошли
осмотр. Нет никакой опасности, Отто.
— И все-то вы знаете! Да?
— Мы знаем то, что в жизни знать необходимо,— отвечает
Хунгерман.— И обычно эти знания совсем не то, чему нас учат
в школах и разных пансионах. Поэтому из тебя и получился та-
кой уникум, Отто.
— Мне дали слишком религиозное воспитание,— вздыхает
Бамбус.— Пока я рос, меня все время пугали адом и сифили-
сом. Ну как тут создавать сочную земную лирику?
— Тебе следовало бы жениться.
— Это мой третий комплекс. Страх перед браком. Моя мать
свела моего отца в могилу. И только одними слезами. Разве это
не удивительно?
— Нет,— отвечаем мы с Хунгерманом одновременно и по это-
му случаю жмем друг другу руку,— примета, означающая, что
мы непременно проживем еще семь лет. А жизнь, хорошая или
плохая, все равно есть жизнь, это замечаешь, только когда вы-
нужден ею рисковать.
Перед тем как войти в этот с виду столь уютный дом, с его то-
полями, красным фонарем и цветущими геранями на окнах, мы
делаем несколько глотков водки, чтобы подкрепиться. Прихва-
ченную с собой бутылку пускаем вкруговую. Даже Эдуард, ко-
юрый уехал вперед на своем «опеле» и ждет нас, выпил с нами;
ему так редко перепадает дармовое угощение, что теперь он
пьет с наслаждением. Та же водка, которая сейчас обходится
нам примерно в девять тысяч марок за стаканчик, через минуту
будет в борделе стоить сорок тысяч,— поэтому мы и взяли ее
с собой. До порога дома мы наводим экономию, а потом уже по-
надаем в руки мадам.
— + 591 4* —
Отто испытывает горькое разочарование. Вместо гостиной
он ожидал увидеть восточную инсценировку: леопардовые
шкуры, висячие светильники, душные ароматы; и хотя дамы
одеты весьма легко, они скорее напоминают горничных. Он спра-
шивает меня шепотом, нет ли в доме негритянок или креолок.
Я указываю на сухопарую брюнетку.
— Вон та — креолка. Она пришла сюда прямо из тюрьмы.
Убила своего мужа.
Однако Отто не очень-то верит мне. Он оживляется только,
когда входит Железная Лошадь. Это внушительная особа;
на ней высокие зашнурованные ботинки, черное белье, нечто
вроде костюма укротительницы львов, серая смушковая шапка,
рот полон золотых зубов. Несколько поколений Молодых
поэтов и редакторов в ее объятиях сдавали экзамен на жизнь,
поэтому и сегодня совет клуба предназначил для Отто именно ее.
Или же Фрици. Мы настояли на том, чтобы Лошадь облеклась
в свои пышные доспехи, и она не подвела нас. Когда мы знако-
мим ее с Отто, она озадачена. Вероятно, Железная Лошадь
ожидала, что мы предложим ей существо более юное и свежее.
А Бамбус точно сделан из бумаги, он бледен, тощ, прыщева!,
с жидкой бородкой, и ему уже двадцать шесть. Кроме того,
у него выступают капли пота, как у редьки, когда ее посолишь.
Железная Лошадь раскрывает свою золотую пасть, добродуш
но усмехается и толкает дрожащего Бамбуса в бок.
— Пойдем, угости коньячком,— миролюбиво говорит она.
— А сколько стоит коньяк?— спрашивает Отто официантку
— Шестьдесят тысяч.
— Сколько?— испуганно переспрашивает Хунгерман.— Со
рок тысяч, и ни пфеннига больше!
— Пфенниг,— замечает хозяйка,— давно я этого слова уже
не слышала.
— Сорок тысяч он стоил вчера, дорогуша,— заявляет Желе i
ная Лошадь.
— Сорок тысяч он стоил еще сегодня утром. Я был здесь
по поручению комитета.
— Какого комитета?
— Комитета по возрождению лирики через непосредствен
ный опыт.
— Дорогуша,— отвечает Железная Лошадь,— это было
до объявления курса.
— Это было после того, как в одиннадцать часов объявили
курс.
— + 592 4* —
— Нет, до послеобеденного курса,— поддерживает ее хозяй-
ка.— Не будьте такими скупердяями.
— Шестьдесят тысяч — это уже по тому курсу доллара, кото-
рый будет послезавтра,— говорю я.
— Нет, завтра. С каждым часом ты приближаешься к нему.
Успокойся! Курс доллара неотвратим, как смерть. Ты не мо-
жешь от него уклониться. Тебя, кажется, зовут Людвиг?
— Рольф,— решительно отвечаю я.— Людвиг с войны
не вернулся.
Хунгерманом вдруг овладевает недоброе предчувствие.
— А такса?— спрашивает он.— Как на этот счет? Ведь дого-
ворились на двух миллионах. С раздеванием и получасовым
разговором потом. Разговор этот для нашего кандидата очень
важен.
— Три,— флегматично заявляет Железная Лошадь.— И то
дешево.
— Друзья, нас предали! — вопит Хунгерман.
— А ты знаешь, сколько теперь стоят высокие ботинки, чуть
не до самой задницы?— спрашивает Железная Лошадь.
— Два миллиона и ни сантима больше. Если даже в таком месте
нарушается договоренность, значит, мир идет к гибели!
— Договоренность! Какая может быть договоренность, если
курс шатается, точно пьяный?
Тут поднимается Маттиас Грунд, который, как автор книги
о смерти, до сих пор хранил молчание.
— Это первый бордель, зараженный национал-социализмом! —
заявляет он в бешенстве.— Значит, по-вашему, договоры —
просто клочки бумаги? Да?
— И договоры, и деньги,— несокрушимо отвечает Железная
Лошадь.— Но высокие ботинки — это высокие ботинки, а чер-
ное прозрачное белье — это черное прозрачное белье. И цены
на них — сумасшедшие. Почему вам нужно для вашего прича-
стника непременно даму первого сорта? Это ведь как при похо-
ронах — можно с плюмажами, а можно без. Для него хорош бу-
дет и второй сорт!
Возразить на это нечего. Дискуссия достигла мертвой точки.
Вдруг Хунгерман замечает, что Бамбус выпил не только свой
коньяк, но и рюмку Лошади.
— Мы пропали,— заявляет он.— Придется заплатить ту сум-
му, которую от нас требуют эти гиены с Уолл-стрит. Нельзя было
нас так подводить, Отто! А теперь мы вынуждены оформить
твое вступление в жизнь гораздо проще. Без плюмажей и толь-
ко с одной чугунной лошадью.
— 4* 593 + —
К счастью, в эту минуту появляется Вилли. Он с чисто спор-
тивным интересом относится к превращению Отто в мужчину
и, не дрогнув ни одним мускулом, оплачивает разницу. Потом
заказывает водки для всех и сообщает, что заработал сегодня
на своих акциях двадцать пять миллионов. Часть этих денег он
намерен прокутить.
— А теперь убирайся отсюда, мальчик,— заявляет он Отто.—
И возвращайся к нам мужчиной.
Я подсаживаюсь к Фрици. Прошлое давно позабыто; с тех
пор как ее сын погиб на фронте, она уже не считает нас маль-
чиками. Он был унтер-офицером и убит за три дня до переми-
рия. Мы беседуем о довоенных временах. Она рассказывае!
мне, что ее сын учился музыке в Лейпциге. Он мечтал стать го-
боистом. Рядом с нами дремлет толстенная мадам, огромный
дог положил ей голову на колени. Вдруг сверху доносится отча-
янный вопль. Потом мы слышим какую-то возню, врывается
Отто в одних кальсонах, а за ним мчится разъяренная Железная
Лошадь и на ходу колотит его жестяным тазом. Отто несется,
как бегун на состязании, он вылетает через дверь на улицу, а мы
втроем задерживаем Железную Лошадь.
— Сопляк проклятый!— восклицает она, задыхаясь.— Но-
жом вздумал колоть меня!
— Да это не нож,— говорю я, догадавшись, в чем дело.
— Что?— Железная Лошадь круто поворачивается и пока
зывает нам красное пятно, проступившее сквозь черное белье.
— Кровь же не идет. Он просто ткнул пилкой для ногтей.
— Пилкой?— Лошадь изумленно смотрит на меня.— Ну.
этого со мной еще не бывало! И вдобавок поганец колет меня,
а не я его! Что я, даром получаю свои высокие ботинки? А моя
коллекция хлыстов мне тоже ничего не стоила? Я вела себя
вполне прилично, хотела в виде прибавки дать ему маленькую
порцию садизма и легонько стегнула по его мослам, а эта очка
стая змея набрасывается на меня с пилкой! Садист! На черта
мне нужен садист! Мне — мечте мазохистов! Нет, так оскор
бить женщину!
Мы успокаиваем ее с помощью порции доппель-кюммеля.
Потом ищем Бамбуса. Он стоит за кустом сирени и ощупывай
себе голову.
— Иди сюда, Отто, опасность миновала,— кричит Хунгерман.
Но Бамбус не желает возвращаться. Он требует, чтобы мы
выбросили ему его одежду.
— Не будет этого! — заявляет Хунгерман.— Три миллиона —
это три миллиона! Мы за тебя уплатили вперед!
— + 594 ч* —
— Потребуйте деньги обратно! Я не позволю избивать себя!
— Настоящий кавалер никогда не потребует от дамы денег
обратно. А мы сделаем из тебя настоящего кавалера, даже если
бы пришлось для этого проломить тебе голову. Удар хлыстом
был просто любезностью. Железная Лошадь — садистка.
— Что такое?
— Она — суровая массажистка. Мы просто забыли преду-
предить тебя. Но ты бы радоваться должен, что удалось испы-
тать такую штуку. В провинции это редкость.
— Ничуть я не рад. Киньте мне мои вещи.
Он одевается за сиреневым кустом, и нам все же удается за-
тащить его обратно. Мы даем ему выпить, но его никакими си-
лами не заставишь выйти из-за стола. Он уверяет, что у него
прошло настроение. В конце концов Хунгерман договаривает-
ся с Железной Лошадью и с мадам. Бамбусу дается право в те-
чение следующей недели вернуться сюда без всякой приплаты.
Мы продолжаем пить. Через некоторое время я замечаю, что
Отто, несмотря ни на что, загорелся. Он теперь время от време-
ни поглядывает на Железную Лошадь и совершенно не интере-
суется остальными дамами. Вилли опять заказывает кюммель.
Через несколько минут исчезает Эдуард. Он появляется вновь
через полчаса, весь потный, и уверяет, что ходил погулять. По-
степенно кюммель оказывает свое действие.
Отто Бамбус вдруг извлекает из кармана карандаш и бумагу
и тайком что-то записывает. Я заглядываю ему через плечо.
«Тигрица» — читаю я заглавие.
— Не лучше ли еще подождать немного с твоими свободны-
ми ритмами и гимнами?— спрашиваю я.
Он качает головой.
— Первое, самое свежее впечатление — это главное.
— Но ведь все твои впечатления сводятся к тому, что тебя
стеганули кнутом по заду и несколько раз стукнули тазом по го-
лове? Что тут тигриного?
— Уж это предоставь знать мне! — Бамбус пропускает рюм-
ку кюммеля через свои растрепанные усы.— Теперь вступает
в силу воображение! Я уже весь цвету стихами, точно куст ро-
зами. Да нет, что куст роз? Словно орхидея в джунглях!
— Ты считаешь свой опыт достаточным?
Отто бросает на Железную Лошадь взгляд, исполненный
страсти и ужаса.
— Не знаю. Но на маленький томик в картонном переплете,
во всяком случае, хватит.
— + 595 4* —
— Выскажись определеннее: ведь за тебя внесено три милли-
она. Если ты их не используешь, лучше мы их пропьем.
— Лучше пропьем.
Бамбус опять опрокидывает рюмку кюммеля. Мы впервые
видим его пьющим. Раньше он боялся алкоголя, как чумы, осо-
бенно водки. Его лирика процветала с помощью кофе и сморо-
динной настойки.
— Каков наш Отто?— обращаюсь я к Хунгерману.— Видимо,
подействовал жестяной таз.
— Сущие пустяки!— орет Отто. Он выпил еще рюмку кюм-
меля и ущипнул за ляжку Железную Лошадь, которая как раз
проходила мимо. Лошадь останавливается, точно сраженная
молнией. Потом медленно поворачивается и разглядывает Отто,
словно перед ней редкое насекомое. Мы вытягиваем руки, чтобы
предотвратить удар, который должен последовать. Для дамы
в таких ботинках подобный щипок — непристойное оскорбле
ние. Отто встает, пошатываясь, в его близоруких глазах отсутст-
вующая улыбка, он обходит Лошадь и совершенно неожиданно
дает ей звонкий шлепок по черному белью.
Воцаряется тишина. Все ждут, что сейчас произойдет убий
ство. А Отто беспечно усаживается на свое место, кладет голо
ву на руки и мгновенно засыпает.
— Никогда не убивай спящего,— увещевает Хунгерман Же
лезную Лошадь.— Это одиннадцатая заповедь божья.
Железная Лошадь раскрывает свою пасть и беззвучно усме
хается. Все ее золотые коронки сверкают. Потом она проводи i
рукой по жидким мягким волосам Отто.
— Ах, люди, люди! — говорит Лошадь.— Такой молодой -
и такой дуралей!
Мы отбываем. Хунгермана и Бамбуса Эдуард отвозит в город
на своем «опеле». Шумят тополя. Доги лают. Железная Лошадь
стоит у окна первого этажа и машет нам своей казацкой шан
кой. Над борделем стоит бледная луна. Маттиас Грунд, автор
книги о смерти, вдруг вылезает впереди нас из канавы, на дне
которой течет ручей. Он вообразил, что перейдет через нее, как
Христос прошел по водам Генисаретского озера. Но это ока за
лось ошибкой. Вилли шагает рядом со мной.
— Что за жизнь! — восклицает Вилли мечтательно.— И по
думать только, что фактически зарабатываешь деньги, пока
спишь! Завтра окажется, что доллар опять поднялся, а за ним,
как бойкие обезьяны, полезут следом и акции!
— Не отравляй нам вечер. Где твоя машина? Она тоже роди!
детей, как твои акции?
— + 596 + —
— Ее взяла Рене. Она хвастает ею. В перерыве между двумя
программами возит кататься своих коллег из «Красной мельни-
цы». Они лопаются от зависти.
— Вы поженитесь?
— Мы обручены,— заявляет Вилли.— Если ты знаешь, что
это такое.
— Могу себе представить.
— Чудно!— продолжает Вилли.— Она теперь мне очень часто
напоминает нашего обер-лейтенанта Гелле, этого проклятого
живодера, он зверски мучил нас, пока мы не были допущены
к героической смерти. И вот теперь, в темноте, я вспоминаю об
этом. И для меня — жуткое наслаждение схватить его мыслен-
но за шиворот и опозорить. Вот уж никогда не думал, что такая
мысль доставит мне удовольствие, можешь поверить!
— Верю.
Мы идем между темными цветущими садами. Доносится за-
пах неведомых цветов.
— «Как сладко дремлет на холмах весною лунный свет...» —
декламирует кто-то и поднимается с земли, словно призрак.
Эго Хунгерман. Он вымок, так же как и Маттиас Грунд.
— Что случилось?— спрашиваю я.— У нас дождя нс было.
— Эдуард высадил нас. Нашел, что мы ноем слишком громко.
Ну как же, почтенный хозяин гостиницы! Когда я хотел слегка
освежить голову Отто, мы оба упали в ручей.
— Вы тоже? А где же Отто? Он ищет Маттиаса Грунда?
— Он ловит рыбу.
— Что?
— Черт! — возмущается Хунгерман.— Надеюсь, он не сва-
лился в воду? Он же не умеет плавать.
— Чепуха. Глубина ручья не больше метра.
— Отто способен и в луже захлебнуться. Он слишком любит
свое отечество.
Мы находим Бамбуса на мостике через ручей, он держится
за перила и проповедует рыбам.
— Тебе нехорошо, Франциск?— спрашивает Хунгерман.
— Ну да,— отвечает Бамбус и хихикает, как будто все это безум-
но смешно. Потом начинает стучать зубами.— Холодно,— бор-
мочет он.— Я не способен жить под открытым небом.
Вилли вытаскивает из кармана бутылку с кюммелем.
— А кто вас опять спасает... Предусмотрительный дядя Вил-
ли спасает вас от воспаления легких и холодной смерти.
— + 597 4* —
— Жалко, что с нами нет Эдуарда,— говорит Хунгерман.—
Вы тогда тоже могли бы его спасти и войти в компанию с Вален-
тином Бушем. Спасители Эдуарда. Это его сразило бы.
— Бросьте дурацкие остроты,— заявляет Валентин, который
стоит позади него.— Капитал должен быть для вас чем-то свя-
щенным, или вы коммунист? Я ни с кем не делюсь. Эдуард при-
надлежит мне.
Все мы пьем. Кюммель сверкает в лунном свете, как желтый
бриллиант.
— Ты еще хотел куда-то зайти?— спрашиваю я Вилли.
— В певческий союз Бодо Леддерхозе. Пойдемте со мной.
Там вы можете обсушиться.
— Замечательно,— говорит Хунгерман.
Никому не приходит в голову, что гораздо проще было бы от-
правиться домой. Даже поэту, воспевшему смерть. Кажется,
что сегодня вечером жидкость обладает особой притягательной
силой.
Мы идем дальше вдоль ручья. Лунный свет поблескивает
в воде. Луну можно пить — кто и когда говорил об этом?
XV
Духота позднего лета повисла над городом, курс доллара
поднялся еще на двести тысяч марок, голод усиливается, цены
подскочили, а в целом — все очень просто: цены растут быст-
рее, чем заработная плата, поэтому та часть народа, которая су-
ществует на заработную плату, жалованье, мелкие доходы
и пенсии, погружается все больше в безысходную нужду, а дру-
гая захлебывается в неустойчивом богатстве. Правительство же
ничего не предпринимает. Инфляция для него выгодна: благо
даря ей оно аннулирует свои долги, а что при этом оно теряет
доверие народа — никто не замечает.
Мавзолей, заказанный фрау Нибур, готов. Он ужасен — ка
кая-то каменная будка с пестрыми стеклами, бронзовыми ценя
ми и усыпанной гравием дорожкой, хотя скульптурных работ,
которые я расписывал вдове, мы не произвели. Но теперь она
вдруг не желает его принимать. Она стоит посреди двора, в ру
ках у нее яркий зонтик, на голове соломенная шляпка с блестя
щими вишнями, на шее ожерелье из поддельного жемчуга. Ря
дом с ней стоит какой-то субъект в узковатом клетчатом
костюме и в гетрах. Гром грянул, срок траура прошел, и фрау
Нибур помолвлена. К Нибуру она вдруг стала совершенно рав-
нодушна. Имя субъекта Ральф Леман, и он называет себя кон-
сультантом по делам промышленности. Для столь элегантного
— 4* 598 4* —
имени и профессии его костюм, пожалуй, слишком поношен.
Но галстук новый, а также оранжевые носки — вероятно, это
первые подарки счастливой невесты.
Сражение продолжается с переменным успехом. Вначале
фрау Нибур утверждает, что она не заказывала мавзолей.
— У вас есть письменный договор?— вопрошает она торже-
ствующе.
У нас нет письменного договора. Георг кротко отвечает, что
в нашем деле это и не нужно. Когда речь идет о смерти, полага-
ешься на верность людей своему слову. Кроме того, у нас най-
дется десяток свидетелей. Своими требованиями фрау Нибур
совсем заморочила голову и нашим каменотесам, и нашему
скульптору, и всем нам. Да и аванс мы получили.
— Вот в том-то и дело,— заявляет фрау Нибур с удивитель-
ной последовательностью.— Аванс мы хотим получить обратно.
— Значит, вы заказали мавзолей?
— Я его не заказывала. Я только дала аванс.
— Ну что вы на это скажете, господин Леман?— спрашиваю
я.— Как консультант по делам промышленности?
— Бывает и так,— отзывается Ральф рыцарским тоном и пы-
тается объяснить нам разницу. Но Георг прерывает его. Он за-
являет, что на аванс тоже нет письменного документа.
— Как?— обращается Ральф к фрау Нибур.— Эмилия, ты
не взяла расписки?
—Да я не знаю...— запинается фрау Нибур.— Кто же знал,
что эти люди вздумают утверждать, будто я не давала аванса!
Такие обманщики!
— Какая низость!
Эмилия вдруг виновато съеживается. Ральф в бешенстве
смотрит на нее. Он внезапно перестает быть рыцарем. Боже
праведный, думаю я, сначала у нее был кит, теперь она поймала
акулу.
— Никто и не утверждает, что вы не дали аванса,— замечает
Георг.— Мы только говорим, что никаких письменных доку-
ментов нет ни на заказ, ни на аванс.
Ральф облегченно вздыхает.
— Ну вот!
— Впрочем,— заявляет Георг,— мы готовы взять мавзолей
обратно, если он вам не нужен.
— Ну вот,— повторяет Ральф. Фрау Нибур радостно кивает.
Я с изумлением смотрю на Георга. Ведь мавзолей окажется вто-
рым сторожем нашего склада, братом обелиска.
— А как же аванс?— спрашивает Ральф.
— 4* 599 4* —
— Аванс, конечно, пропадет,— говорю я.— Так всегда делается.
— Что?— Ральф одергивает жилет и выпрямляется. Я заме-
чаю, что и брюки ему слишком узки и коротки.— Вы что, смее-
тесь?— восклицает он.— Так у нас не делается!
— У нас тоже так не делается. Обычно наши клиенты берут то,
что заказывают.
— Да мы же ничего не заказывал и,:— вмешивается Эмилия
в новом порыве отваги. Вишни на ее шляпе подскакивают.—
Кроме того, вы заломили слишком высокую цену.
— Спокойно, Эмилия,— рычит Ральф. Она съеживается, испу-
ганная и восхищенная столь пылкой мужественностью.— Не за-
будьте, что существует суд,— угрожающе добавляет Ральф.
— Надеемся.
— Вы, вероятно, сохраните булочную и после замужества?—
спрашивает Георг Эмилию.
Эмилия так напугана, что без слов смотрит на своего жениха.
— Ясно,— отвечает Ральф.— Конечно, наряду с нашей про-
мышленной конторой. А что?
— Булочки и пирожные были там особенно вкусны.
— Спасибо,— жеманно благодарит Эмилия.— Так как же на
счет аванса?
— Я хочу предложить вам вот что,— говорит Георг и вдруг
пускает в ход всю свою обаятельность.— Доставляйте нам в те
чение месяца каждое утро двенадцать булочек и каждый вечер
шесть кусков фруктового торта, тогда мы в конце месяца вер-
нем вам аванс, а мавзолей можете не брать.
— Ладно,— тут же соглашается фрау Нибур.
— Спокойствие, Эмилия.— Ральф тычет ее в бок.— Конем
но, у вас губа не дура!— язвительно отвечает он Георгу.— Вер
нете через месяц! А что тогда будут стоить эти деньги?
— Ну так берите памятник,— отвечаю я.— Мы не возражаем
Борьба продолжается еще с четверть часа. Потом мы догони
риваемся. Мы возвращаем немедленно половину аванса, осталь
ные — через две недели. Поставки натурой будут выполняться.
Ральф против нас бессилен. Инфляция вдруг оказывается нам
на руку. Для суда цифры остаются цифрами, они не меняются,
невзирая на то, что стоит за ними. Если бы Ральф потребовал
возвращения аванса через суд, Эмилия получила бы свои деньги,
может быть, не раньше, чем через год, притом ту же сумму, к тому
времени совершенна обесцененную. Теперь я понимаю
Георга: мы выпутаемся из этой истории очень удачно. Аванс
же в тот день, когда мы его получили, уже стоил только час и»
своего номинала.
— 4* 600 4* —
— Но что мы будем делать с мавзолеем?— спрашиваю я, после
того как жених с невестой удалились.— Используем как лич-
ную часовню?
— Мы слегка изменим крышу. Курт Бах может посадить
на нее скорбящего льва или марширующего солдата, в крайнем
случае — даже ангела или плачущую Германию, два окна вы-
нем и вставим вместо них мраморные плиты, на которых мож-
но высечь имена, и таким образом мавзолей станет...
Он смолкает.
— ...скромным памятником павшим воинам,— уточняю я.
— Курт Бах не умеет делать ни стоячих ангелов, ни солдат,
ни фигуры Германии. Самое большее — их барельеф. Придется
нам ограничиться нашими старыми львами. Но для них крыша
слишком узка. Лучше орел.
— Зачем? Лев может свесить одну лапу на постамент. Тогда
он поместится.
— А как насчет бронзового льва? Фабрика металлических
изделий выпускает бронзовых животных любого размера.
— Пушка...— задумчиво бормочет Георг.— Разбитая пушка —
это было бы нечто новое.
— Годится только для деревни, где все павшие были артилле-
ристами.
— Слушай,— обращается ко мне Георг.— Отдайся игре во-
ображения. Сделай несколько рисунков, по возможности боль-
ших и в красках. Тогда посмотрим.
—А что, если бы нам ввести в композицию и обелиск? Мы
одним выстрелом убили бы двух зайцев.
Георг смеется.
— Если это тебе удастся, я закажу для тебя в виде премии це-
лый ящик РеЯнгартсхаузена 1921 года. Не вино, а мечта.
— Лучше бы ты выдавал его по бутылке авансом. Тогда ско-
рей придет и вдохновение.
— Хорошо, начнем с одной. Пошли к Эдуарду.
Увидев нас, Эдуард, как обычно, мрачнеет.
— Радуйтесь, господин Кноблох,—говорит Георг и вытаски-
вает из кармана толстую пачку банкнотов.— Сегодня вас при-
вегствуют наличные.
Лицо Эдуарда светлеет.
— В самом деле? Что ж, когда-нибудь они должны появить-
ся. Желаете столик у окна?
В погребке опять сидит Герда.
— Ты тут что — постоянный гость?— кисло осведомляюсь я.
— 4* 601 4* —
Она непринужденно смеется:
— Я тут по делу.
— По делу?
— Ну да, по делу, господин следователь,—повторяет Герда.
— Разрешите на этот раз пригласить вас пообедать с нами? —
говорит Георг и толкает меня локтем, чтобы я не вел себя, как
упрямый мул.
Герда смотрит на нас.
— Второй раз мне, наверное, уж не удастся вас пригласить,
как вы думаете?
— Определенно, нет,— отвечаю я, но не могу удержаться
и добавляю: — Эдуард скорее откажется от помолвки.
Она смеется и не отвечает. На ней очень хорошенькое платьице
из коричневого натурального шелка. Каким же я был ослом!—
думаю я.— Ведь предо мной в образе Герды сидит сама жизнь,
а я, в своей туманной мании величия, не догадался об этом!
Появляется Эдуард и снова мрачнеет, увидев нас в обществе
Герды. Он явно что-то подсчитывает и решает. Он думает, что
мы наврали и опять намерены поживиться за его счет.
— Мы пригласили фрейлейн Шнейдер пообедать с нами,—
заявляет Георг.— Мы празднуем конфирмацию Людвига. Он
постепенно созревает и становится мужчиной. Уже не считает,
что мир существует только ради него.
Георг пользуется большим авторитетом, чем я. Лицо Эдуарда
снова проясняется.
— Есть восхитительные цыплята!—он вытягивает губы,
словно намереваясь свистнуть.
— Пришли нам спокойно обычный обед,— говорю я.— У тебм
всегда все исключительное. И бутылку Рейнгартсхаузена 1921 года!
Герда поднимает глаза.
— Вино за обедом? Да вы что — лотерею выиграли? Тогда
почему вы больше не приходите в «Красную мельницу»?
— Нам достался очень маленький выигрыш,— отвечаю я.~
Разве ты все еще там выступаешь?
— А ты и не знал? Стыдно! Эдуард вот знает. Правда, у мепи
был двухнедельный перерыв. Но с первого начинается новый
ангажемент.
— Тогда мы придем,— заявляет Георг.— Даже если бы при
шлось заложить мавзолей.
— Я видела там вчера вечером твою подругу,— говорит мне
Герда.
— Эрну? Она не моя подруга. С кем она была?
Герда смеется.
— + 602 + —
— А какое тебе дело, раз она уже не твоя подруга?
— Очень большое дело,— отвечаю я.— Пройдет немало вре-
мени, прежде чем перестанешь вздрагивать, хотя бы механиче-
ски, как лягушечья лапа от гальванического тока. Только если
окончательно расстанешься с человеком, начинаешь по-насто-
ящему интересоваться всем, что его касается. Таков один из па-
радоксов любви.
— Ты слишком много думаешь. Это вредно во всех случаях.
— Он думает неправильно,— замечает Георг.— Его ум только
тормозит его чувства, вместо того чтобы идти впереди.
— До чего же вы все умные, мальчики!— замечает Герда.—
А радости-то у вас в жизни хоть когда-нибудь бывают?
Мы с Георгом переглядываемся. Георг смеется. Я ошарашен.
— Думать — вот что для нас радость,— отвечаю я и при этом
отлично знаю, что лгу.
— Эх вы, бедняги! Тогда хоть питайтесь как следует!
Рейнгартсхаузен помогает нам выйти из положения. Эдуард
сам открывает бутылку и дегустирует вино. Он изображает
из себя знатока, проверяющего, не отдает ли вино пробкой. За-
тем наливает себе бокал до краев.
— Excellent!*— восклицает он с французским произношени-
ем, полощет горло вином и щурится от удовольствия.
— Настоящим знатокам вина достаточно нескольких ка-
пель,— говорю я.
— Мне — нет, и не при таком вине. Да и подать вам мне хо-
чегся самое лучшее.
Мы не отвечаем; свой козырь мы пока держим в резерве.
За себя и за Герду мы заплатим теми же неистощимыми талонами.
Эдуард разливает вино по бокалам.
— Вы что же, не предложите и мне стаканчик?— нагло спра-
шивает он.
— Позднее,— отвечаю я.— Мы выпьем не только одну бу-
1ыдку. А за обедом ты мешаешь, оттого что каждому в рот смо-
|ришь, как пес.
— Только когда вы, как паразиты, орудовали вашими талона-
ми.— Эдуард, приплясывая, вертится вокруг Герды, словно учи-
1ель средней школы, который учится танцевать вальс.
Герда едва сдерживает приступ смеха. Я толкнул ее под сто-
лом, и она сразу поняла, что мы для Эдуарда держим в резерве.
— Кноблох!— вдруг рявкает сочный командирский бас. Эдуард
вздрагивает, словно ему неожиданно дали пинка в зад. За его
* Превосходно! (фр.).
— + 603 4* —
спиной, непринужденно улыбаясь, стоит на этот раз сама Репе
де ла Тур. Он сдерживает готовое вырваться ругательство.
— И почему я каждый раз попадаюсь!
— Не сердись,— говорю я.— Это в тебе отзывается твоя верная
немецкая кровь. Самое благородное наследие твоих послушных
предков.
Дамы приветствуют друг друга с понимающей улыбкой
опытных уголовных сыщиков.
— На тебе прехорошенькое платье, Герда,— воркует Рене.—
Жаль, что я не могу носить такие фасоны. Я слишком для них
худа.
— Пустяки,— отвечает Герда,— я считаю, что прошлогодняя
мода была элегантнее. Особенно эти восхитительные туфли
из кожи ящерицы, в которых ты сейчас. Они с каждым годом
нравятся мне все больше.
Я заглядываю под скатерть. На Рене действительно туфли
из кожи ящерицы. Как Герда их разглядела, сидя за столом,—
одна из вечных загадок женской природы. Просто непостижи
мо, почему эти особые таланты слабой половины человечества
не используются более практичным образом — например, в ар
тиллерии для наблюдений за противником из корзины привязан
ного воздушного шара или других столь же культурных целей.
Болтовню прерывает Вилли. Он — прекрасное видение
в светло-сером: костюм, рубашка, галстук, носки, замшевые
перчатки, и над ними, словно извержение Везувия — копна oi
ненно-рыжих волос.
— Вина!— бросает он.— Что это, могильщики кутят? Они
пропивают горе чьей-то семьи! Приглашаете?
— Мы свое вино заработали не на бирже, как ты, паразит,
спекулирующий на достоянии народа,— отвечаю я.— Однако
мы охотно разделим наше вино с мадемуазель де ла Тур. Каж
дого, кто способен напугать Эдуарда, мы примем так же охотно
Эти слова вызывают у Герды взрыв веселости. Она снова тол
кает меня под столом. Я чувствую, что ее колено прижимается
к моему колену. Волна крови приливает к моему затылку. Мы
вдруг превратились в двух заговорщиков.
— Вы наверняка сегодня еще напугаете Эдуарда,— говори!
Герда.— Когда он явится со счетом. Я чую. У меня дар яснони
дения.
Все, что она говорит, словно по мановению волшебной ни
лочки, приобретает другой смысл. Что же случилось, спраши
ваю я себя. Или это трепетная любовь влияет на мою щитовид
ную железу? Или извечная радость, когда удается отбить
— 4* 604 4* —
что-нибудь у другого? Зал ресторана вдруг перестает быть сара-
ем с тяжелым запахом кухни,— он становится качелями, которые
с чудовищной быстротой проносятся через вселенную. Я смотрю
в окно и удивляюсь, что городская сберкасса все еще находится
на том же месте. А должна была бы, и без колена Герды, давно
уже исчезнуть, снесенная волнами инфляции. Однако камни и бе-
тон, как видно, долговечнее, чем люди и множество их деяний.
— Замечательное вино,— говорю я.— А каким оно станет
через пять лет!
— Старым,— заявляет Вилли, который в винах ничего
не смыслит.— Еще две бутылочки, Эдуард!
— Почему две? Выпьем сначала одну, потом другую.
— Хорошо! Пейте свою! А мне, Эдуард, прошу дать как можно
скорее бутылку шампанского!
Эдуард улетает стрелой, словно смазанная маслом молния.
— В чем дело, Вилли?— спрашивает Рене.— Ты воображаешь,
что увильнешь от меховой шубки, если напоишь меня пьяной?
— Получишь ты свою шубку! Мой поступок сейчас пресле-
дует более высокую цель. Воспитательную! Ты не понимаешь
этого, Людвиг?
— Нет. Я предпочитаю вино шампанскому.
— Ты действительно меня не понимаешь? Да вон, смотри,
там, третий стол за колонной. Не видишь щетинистую кабанью
голову, коварные, как у гиены, глаза, выпяченную цыплячью
грудь? Видишь палача нашей юности?
Я ищу глазами описанное Вилли зоологическое диво и без
труда нахожу его. Оказывается, это директор нашей гимназии;
правда, он постарел и облез, но это, бесспорно, он. Еще семь
лет назад он заявил Вилли, что тот кончит виселицей, а мне га-
рантировано бессрочное тюремное заключение. Он тоже нас
заметил. Прищурив воспаленные глаза, смотрит он на нас, и те-
перь я догадываюсь, почему Вилли заказал шампанское.
— Хлопни пробкой как можно громче, Эдуард,— приказыва-
ет Вилли.
— Это не аристократично.
— Шампанское пьют не ради аристократизма: его пьют, что-
бы придать себе важности.
Вилли берет у Эдуарда из рук бутылку и встряхивает ее. Вы-
летая, пробка щелкает, как пистолетный выстрел. В зале на миг
воцаряется тишина. Щетинистая кабанья голова насторажива-
ется. Вилли стоит во весь рост у стола и, держа бутылку в пра-
вой руке, наливает вино всем нам в бокалы. Шампанское пенится,
волосы Вилли пламенеют, лицо сияет. Он пристально смотрит,
— + 605 4* —
не сводя глаз с Шиммеля, нашего бывшего директора, и Шиммель,
словно загипнотизированный, тоже смотрит на него, не отрываясь.
— Оказывается, подействовало — шепчет Вилли.— Я уж по-
думал, что он будет нас игнорировать. 4
— Его страсть — муштра,— отвечаю я,— и он не может нас
игнорировать. Для него мы остаемся учениками, даже когда
нам стукнет шестьдесят. Посмотри, как раздувает ноздри!
— Не ведите себя точно двенадцати летние мальчишки!—
говорит Рене.
— А почему бы и нет!— возражает Вилли.— Стать старше
мы еще успеем.
Рене смиренно воздевает руки с аметистовым кольцом.
— И такие молокососы защищали наше отечество!
— Вернее, воображали, что защищают,— говорю я.— Пока
не поняли, что защищают они только часть отечества, ту, кого*
рая лучше провалилась бы к черту и с нею вместе такие вот на
ционалистические кабаньи головы!
Рене смеется.
— Вы же защищали страну мыслителей и поэтов, не забывайте!
— Страну мыслителей и поэтов защищать незачем, разве что
от таких же кабаньих голов и им подобных, которые держа i
мыслителей и поэтов в тюрьмах, пока те живы, а потом делаю i
из них для себя рекламу.
Герда наклоняется ко мне.
— Сегодня жаркая перестрелка, верно?
Она опять толкает меня под столом. Я сразу как бы слезаю
с ораторской трибуны и опять оказываюсь на качелях, пролета
ющих над всем миром. Ресторанный зал — часть космоса, и да
же у Эдуарда, который хлещет шампанское, как воду, чтобы
увеличить счет, вокруг головы, как у святого, возникло пыльное
сияние.
— Пойдем потом вместе?— шепчет Герда.
Я киваю.
— Идет!— восторженно шепчет Вилли.— Я так и знал!
Кабан, как видно, не выдержал. Он поднялся на задние hoi и
и направляется, моргая, к нашему столу.
— Хомейер, если я не ошибаюсь?— говорит он.
Вилли сел. Он не встает.
— Простите?— спрашивает он.
Шиммель уже сбит с толку.
— Ведь вы бывший ученик Хомейер?
Вилли осторожно ставит бутылку на стол.
— + 606 4* —
«Черный обелиск»
— Простите, баронесса,— обращается он к Рене.— Кажется,
этот человек имеет в виду меня.— Он поворачивается к Шим-
мелю.— Чем могу служить? Что вам угодно, милейший?
На миг Шиммель опешил. Он, вероятно, и сам хорошенько
не знает, что хотел сказать. Искреннее и неудержимое возму-
щение привело добродетельного педанта к нашему столу.
— Бокал шампанского?— любезно предлагает Вилли.— Узнай-
те, как живут другие люди!
— Что это вы придумали? Я ведь не развратник!
— Как угодно,— отвечает Вилли.— Но что же тогда вам здесь
нужно? Вы нам мешаете! Неужели вы не видите?
Шиммель бросает на него яростный взгляд.
— Разве так уж необходимо,— каркает он,— чтобы бывшие уче-
ники вверенной мне гимназии среди бела дня устраивали оргии?
— Оргии?— Вилли изумленно смотрит на него.
— Прошу еще раз прощения, баронесса,— обращается он
к Рене.— Этот невоспитанный человек — впрочем, это госпо-
дин Шиммель, я его теперь узнал...— Вилли изящно представ
ляет их друг другу,— баронесса де ла Тур...— Рене благосклонно
наклоняет кудрявую голову,— он полагает, будто мы устроили
оргию, потому что в день вашего рождения выпили по бокалу
шампанского.
Шиммель слегка смущен — насколько такому человеку до
ступно смущение.
— День рождения?— повторяет он скрипучим голосом.—11у
да... все же это маленький городок... и в качестве бывшего учс
ника вы могли бы...
Кажется, он готов против воли дать нам отпущение грехов.
Баронесса де ла Тур все же произвела впечатление на старою
обожателя аристократической касты. Вилли торопливо вмеши
вается:
— В качестве ваших бывших учеников нам следовало выпить
уже утром, за кофе, одну-две рюмки водки, тогда мы хоть раз ул нг
ли бы, что такое радость. Это слово никогда не стояло в ваших
учебных планах, палач молодежи! Ведь вы, старый козел, одер
жимый долгом, так испакостили нам жизнь, что нам режим
пруссаков казался свободой. Вы, унылый фельдфебель немец
ких сочинений! Только из-за вас стали мы развратниками!
Один вы несете ответственность за все это! А теперь — провп
ливайте отсюда, вы, унтер-офицер скуки!
— Но это же...— заикаясь, бормочет Шиммель. Он покрис
нел, как помидор.
— + 608 4* —
— Идите домой и хоть раз примите ванну, вы, потеющая нога
жизни!
Шиммель задыхается.
— Полиция!— наконец вопит он сдавленным голосом.— На-
глые оскорбления... Я вам покажу...
— Ничего вы не покажете,— заявляет Вилли.— Вы все еще
воображаете, что мы ваши рабы на всю жизнь? Единственное,
что вам предстоит,— это отвечать на страшном суде за то, что
вы бесчисленным поколениям молодых людей внушали нена-
висть к Богу, ко всему доброму и прекрасному! Не хотел бы
я при воскрешении из мертвых быть в вашей шкуре, Шиммель!
Из-за одних пинков, которыми вас будет награждать хотя бы
наш класс! А затем, конечно, вас ждет смола и пламя преиспод-
ней! Вы ведь так хорошо умеете их описывать!
Шиммель совсем задыхается.
— Вы еще услышите обо мне!— с трудом произносит он и де-
лает крутой поворот, словно корвет, подхваченный бурей.
— Шиммель!— вдруг рявкает позади него мощный коман-
дирский бас.
— Что? Как вы изволили? Кто?— Его взор обшаривает со-
седние столики.
— Вы не родственник самоубийцы Шиммеля?— щебечет го-
лосок Рене.
— Самоубийцы? Что это значит? Кто звал меня?
— Ваша совесть, Шиммель,— говорю я.
— Это же...
Я жду, что сейчас на губах Шиммеля выступит пена. Какое
наслаждение наконец увидеть, как этот мастер бесчисленных
доносов вдруг теряет дар речи. Вилли поднимает бокал и обра-
щается к нему:
— Ваше здоровье, честная педагогическая гиена! И больше
не подходите к чужим столам, чтобы читать людям нравоучения.
Особенно в присутствии дам.
Шиммель удаляется с каким-то особым шипением, словно
в нем взорвалась не бутылка шампанского, а бутылка сельтерской.
— Я же знал, что он нас в покое не оставит,— умиротворенно
говорит Вилли.
— Но ты показал высокий класс,— говорю я.— Как это тебя
вдруг осенило вдохновение?
Вилли усмехается.
— Эту речь я произносил мысленно уже сотни раз! К сожа-
лению, всегда наедине, без Шиммеля. Поэтому заучил ее наи-
зусть! Ваше здоровье, дети!
— + 609 4» —
— Нет, надо же!— Эдуард мотает головой.— «Потеющая но-
га жизни»! Слишком уж страшный образ! Даже шампанское
стало вдруг отдавать потными ногами.
— Оно и раньше было таким,— говорю я с полным самооб-
ладанием. . ‘
,— Какие вы еще мальчишки! — замечает Рене, покачивая го-
ловой.
— И хотим остаться ими. Стареть — дело самое простое.—
Вилли усмехается.— Эдуард, счет!
Эдуард приносит счета. Один—Вилли, другой— нам.
На лице Герды появляется тревога. Она ждет сегодня второго
взрыва. Георг и я безмолвно извлекаем из кармана наши талоны
и выкладываем на стол. Но Эдуард не взрывается, на его лице —
улыбка.
— Это пустяки,— говорит он,— при таком количестве выпи
того вина.
Мы молчим, разочарованные. Дамы встают и слегка отряхи
ваются, словно куры, вылезшие из ямы с песком. Вилли хлопает
Эдуарда по плечу.
— Вы настоящий рыцарь! Другие хозяева начали бы ныть,
что мы выжили их клиента!
— А я нет,— Эдуард улыбается.— Этот поклонник бамбуко-
вой палки ни разу здесь прилично не кутнул. Только и ждет,
чтобы его пригласили другие.
— Пойдем,— шепчет мне Герда.
Коричневое платье куда-то брошено. Коричневые замшевые
туфли стоят под стулом. Одна лежит перевернутая. Окно от
крыто. Над ним свисают плети дикого винограда. Из «Алы
штедтергофа» доносятся смягченные звуки пианолы. Она игра
ет «Вальс конькобежцев». Музыка время от времени
прерывается глухим стуком падающих тел. Это тренируются
женщины-борцы.
Рядом с кроватью стоят две бутылки ледяного пива. Я отку
пориваю их и одну протягиваю Герде.
— Где это ты успела так загореть?— спрашиваю я.
— На солнце. Ведь оно светит уже несколько месяцев. Разве
ты не заметил?
— Заметил. Но сидя в конторе ведь не загоришь.
Герда смеется.
— Когда работаешь а ночном клубе, это гораздо проще. Весь
день я свободна. Где ты пропадал?
— + 610 4* —
— Мало ли где,— отвечаю я и вспоминаю, что ведь и Изабел-
ла обычно задает мне тот же вопрос.— Я думал, ты сошлась
с Эдуардом.
— Разве это причина, чтобы не встречаться?
— А разве нет?
— Конечно нет, глупыш,— отвечает Герда.— Это совсем раз-
ные вещи.
— Но мне так слишком трудно,— отвечаю я.
Герда молчит. Она потягивается и делает глоток пива. Я оки-
дываю взглядом комнату.
— А здесь очень хорошо,— говорю я.— Точно мы на верх-
нем этаже какого-нибудь ресторана у южного моря. И ты смуг-
ла, словно туземка.
— А ты белый торговец стеклянными бусами, нитками, Биб-
лией и водкой?
— Ведь верно,— отвечаю я, удивленный.— Именно так я
себе все это представлял в мечтах, когда мне было шестнадцать.
— Позднее — уже нет?
— Позднее — уже нет.
Я лежу рядом с ней не двигаясь, успокоенный.
За окнами, между коньками крыш, синеет вечереющий воз-
дух. Я ни о чем не думаю, ничего не хочу, остерегаюсь задавать
вопросы. Молчит умиротворенное тело, жизнь проста, время
остановилось, веет близостью какого-то божества, и мы пьем
холодное ароматное пиво.
Герда отдает мне пустой стакан.
— Как ты думаешь, получит Рене свою шубку?— задумчиво
спрашивает она.
— Отчего же нет? Вилли ведь теперь биллионер.
— Надо было спросить, какую именно ей хочется. Вероятно,
ондатровую или бобровую.
— А может быть, лисью,— равнодушно отвечаю я,— или ле-
опардовую.
— Леопардовая для зимы слишком тонка, котик старит. А се-
ребристая лиса толстит. Конечно, мечта — это норка.
— Вот как?
— Да. И потом, норка — на всю жизнь. Но стоит безумно до-
рого. Невероятно дорого.
Я ставлю свою бутылку на пол. Разговор принимает несколь-
ко тягостный оборот.
— Все это для меня недоступно. Я даже не могу купить во-
ротник из кролика.
— Ты?— удивленно замечает Герда.— Кто же говорит о тебе?
— 4* 611 4* —
— Я сам. Каждый хоть сколько-нибудь чуткий мужчина в на-
шей ситуации должен отнести такой разговор и к себе. А в та-
кое время, как сейчас, я довольно чуток к требованиям жизни.
Герда смеется.
— В самом деле, малыш? Но я действительно имела в виду
не тебя.
— А кого же?
— Эдуарда. Кого же еще?
Я поднимаюсь.
— Ты думаешь о том, как бы заставить Эдуарда подарить тебе
меховую шубку?
— Ну конечно, глупыш. Только бы мне удалось довести его
до этого! Но может быть, если Рене получит... Мужчины — они
ведь знаешь какие...
— И ты мне это рассказываешь сейчас, когда мы еще вместе
лежим в постели!
— Почему бы и нет? Мне в такие минуты приходят особенно
удачные мысли.
Я молчу. Я растерялся. Герда поворачивает ко мне голову.
— Ты что, обиделся?
Я по меньшей мере смущен.
— Почему? Ты должен был бы обидеться, если бы я от тебя
потребовала шубку!
— А мне прикажешь гордиться, что ты хочешь ее получи и.
от Эдуарда?
— Конечно! Это же показывает, что ты не ухажер.
— Я в данном случае не понимаю этого выражения. Что т«
кое, по-твоему, ухажер?
— Ну, человек с деньгами, который может помочь. Напри
мер, Эдуард.
— А Вилли тоже ухажер?
Герда смеется.
— Отчасти. Для Рене.
Я молчу и чувствую себя довольно глупо.
— Разве я не права?— спрашивает Герда.
— Права? При чем тут правота?
Герда снова смеется.
— Боюсь, что у тебя действительно есть заскоки. Какое 1ы
еще дитя.
— В этих вопросах я очень хотел бы им остаться. Иначе...
— Иначе?— повторяет Герда.
— 4* 612 4* —
— Иначе...— я размышляю. Мне не совсем ясна моя мысль,
но я пытаюсь все же выразить ее.— Иначе я бы казался себе
чуть не сутенером.
Герда смеется очень звонко.
— Ну, тут тебе еще многого недостает, малыш!
— Надеюсь, что так и останется.
Герда поворачивается ко мне лицом. Запотевший стакан
с пивом стоит у нее на груди. Она придерживает его рукой и на-
слаждается тем, как он холодит тело.
— Бедный мой малыш,— говорит она, все еще смеясь,
но с какой-то горькой, почти материнской жалостью.— Как ча-
сто тебя еще будут обманывать?
Черт, думаю я, куда делся покой и мир тропического остро-
ва? Мне вдруг кажется, что я голый, вокруг меня обезьяны
и они забрасывают меня колючими кактусами. Кому приятно
слышать, что его ждет судьба рогоносца?
— Это мы еще посмотрим!
— Ты думаешь, так просто быть сутенером?
— Не знаю. Но никакой особой чести в этом нет.
Герда смеется коротким шипящим смехом.
— Честь?— говорит она, прерывисто дыша.— Еще что? Мы же
не в армии? Мы говорим о женщинах. А честь, бедный мой ма-
лыш, вещь очень скучная.
Она делает еще глоток пива. Я смотрю на ее выпуклую шею.
Если она еще раз назовет меня бедным малышом, я, не говоря
ни слова, вылью ей на голову мою бутылку пива и докажу, что
тоже могу вести себя как сутенер или, по крайней мере, так, как
подобный тип должен, по моим представлениям, себя вести.
— Ну и разговорчик,— замечаю я.— Особенно сейчас.
Видимо, я обладаю скрытым юмором. Герда снова смеется.
— Разговор как разговор,— отвечает она.— Когда люди ле-
жат рядом — все равно о чем говорить. Говоришь то, что при-
ходит в голову. Или тут тоже есть свои правила, мой...
Я хватаю бутылку с пивом и жду, когда она договорит «бед-
ный малыш», но Герда обладает шестым чувством — она дела-
ет глоток пива и смолкает.
— Не обязательно говорить о шубах, сутенерах и рогах,— за-
являю я.— Для таких минут есть и другие темы.
— Ясно,— соглашается Герда.— Но ведь мы и не говорим об
этом.
— О чем?
— О шубах, сутенерах и рогах.
— Нет? А о чем же?
— 4* 613 4* —
Герда опять смеется:
— О любви, мой сладкий. Так, как о ней говорят разумные
люди. А тебе что хотелось бы? Читать стихи?
Глубоко уязвленный, я хватаю пивную бутылку, но не успе-
ваю замахнуться ею, как Герда целует меня. Это мокрый от пива
поцелуй, но он полон такого лучезарного здоровья, что на миг
я снова чувствую себя на тропическом острове. Ведь туземцы
тоже пьют пиво.
— Знаешь, что мне в тебе нравится?— спрашивает Герда.—
Что ты такой ягненок и полон предрассудков. Где только ты на-
брался всей этой чепухи? Ты подходишь к любви, точно воору-
женный шпагой студент-корпорант, который воображает, будто
любовь — это дуэль, а не танец.— Она трясется от хохота.— Эх
ты, немец-воображала! — продолжает она с нежностью.
• — Опять оскорбление?— осведомляюсь я.
— Нет. Просто устанавливаю факт. Только идиоты могут
считать, что один народ лучше другого.
— Но ведь и ты немка-воображала?
— У меня мать чешка. Это несколько облегчает мою участь!
Я смотрю на лежащее рядом со мной обнаженное беззабот-
ное создание, и мне вдруг хочется, чтобы у меня были хоть одна
или две бабушки чешки.
— Дорогой мой,— говорит Герда,— любовь не знает гордости.
Но я боюсь, что ты даже помочиться не можешь без мировоз-
зрения.
Я беру сигарету. Как может женщина сказать такую вещь,
думаю я.
Оказывается, Герда наблюдает за мной.
— Как может женщина сказать такую вещь, да?— замечает она.
Я пожимаю плечами. Она потягивается и, щурясь, смотрит
на меня. Потом закрывает один глаз. Глядя на другой, откры-
тый, неподвижный, я вдруг кажусь себе провинциальным
школьным учителем. Она права. Зачем нужно всегда и во все
совать принципы? Почему не брать вещи, как они есть? Какое
мне дело до Эдуарда? До какого-то слова? До норковой шубки?
И кто кого обманывает? Я — Эдуарда, или он — меня, или Гер
да — нас обоих, или мы оба — Герду? Или никто — никого? Од-
на Герда естественна, мы же напускаем на себя важность
и только повторяем затасканные фразы.
— Значит, ты считаешь, что из меня сутенера не выйдет?—
спрашиваю я.
Она кивает.
— + 614 4* —
— Женщины не будут ради тебя спать с другими и приносить
тебе полученные с них деньги. Но ты не огорчайся: главное, что
они будут спать с тобой.
Я осторожно стараюсь не углублять этот вопрос и все-таки
спрашиваю:
— А Эдуард?
— Какое тебе дело до Эдуарда? Я ведь только что объяснила.
— Что?
— Что он ухажер. Мужчина с деньгами. У тебя их нет. А мне
деньги все же нужны. Понял?
— Нет.
— Да тебе и незачем понимать, глупыш. И потом — успокой-
ся, ничего не произошло, и еще долго не произойдет, я тебе ска-
жу своевременно. А теперь никаких драм по этому поводу
не разыгрывай. Жизнь иная, чем ты думаешь. И запомни одно:
прав всегда тот, кто лежит с женщиной в постели. Знаешь, чего
бы мне сейчас хотелось?
— Чего?
— Поспать еще часок, а потом приготовить рагу с чесноком,
положить много чесноку!
— А ты можешь это здесь приготовить?
Герда указывает на стоящую на комоде старую газовую плитку.
— Если понадобится, я тебе на ней обед на шесть персон
приготовлю. Чешское рагу! Ты пальчики оближешь! А потом
принесем бочечного пива из пивной под нами. Это созвучно
с твоими иллюзиями насчет любви? Или мысль о чесноке раз-
бивает в тебе нечто драгоценное?
— Ничего не разбивает,— отвечаю я и чувствую себя развра-
щенным. Но вместе с тем на душе легко, как никогда.
XVI
— Вот так сюрприз!— говорю я.— Да еще в воскресенье утром!
Мне почудилось, будто в рассветных сумерках по дому крадет-
ся вор, но, спустившись вниз, я вижу, что там сидит Ризенфельд
с Оденвельдского гранитного завода, хотя всего пять часов.
— Вы, должно быть, ошиблись,— заявляю я.— Сегодня день,
посвященный Господу Богу. Даже биржа — и та сегодня не ра-
ботает. Тем менее мы, скромные безбожники. Где горит? Вам
понадобились деньги для «Красной мельницы»?
Ризенфельд качает головой.
— Просто дружеский визит. У меня свободный день между
Лене и Ганновером. Только что приехал. Зачем еще тащиться
— 4* 615 + —
в гостиницу? Кофе и у вас найдется. А что делает прелестная
дама в доме напротив? Она рано встает?
— Ага!— восклицаю я.— Значит, страсть вас сюда пригнала?
Поздравляю с такими молодыми чувствами! Но вам не повезло:
в воскресенье дома супруг. Он атлет и жонглирует ножами.
— А я сам чемпион мира по жонглированию ножами,— не-
возмутимо отвечает Ризенфельд.— Особенно если мне дадут
к кофе кусок деревенского сала и рюмку водки.
— Пойдемте наверх. Правда, у меня в комнате еще ужасный
беспорядок, но там я смогу сварить вам кофе. Если хотите, мо-
жете поиграть на рояле, пока вскипит вода.
Ризенфельд отказывается.
— Я останусь здесь. Это сочетание летнего зноя со свежес-
тью раннего утра и могильными памятниками мне нравится.
Пробуждает голод и жизнерадостность. Кроме того, здесь есть
и водка.
— У меня наверху найдется гораздо лучше.
— Мне достаточно и этой.
— Хорошо, господин Ризенфельд, как хотите.
— Почему вы так кричите?— спрашивает Ризенфельд.— Я же
не успел оглохнуть, с тех пор как был здесь.
— Это от радости, что вижу вас, господин Ризенфельд,— от-
вечаю я еще громче и смеюсь блеющим смехом.
Не могу же я объяснить ему, что надеюсь разбудить Георга
своим криком и дать ему понять, кто приехал. Насколько мне
известно, мясник Вацек отбыл вчера вечером на какое-то со-
брание национал-социалистической партии, а Лиза, воспользо-
вавшись случаем, явилась сюда, чтобы хоть раз провести ночь
в объятиях возлюбленного. Ризенфельд, сам того не подозре-
вая, сидит на стуле у двери в спальню, словно сторож. Лиза мо-
жет выбраться только в окно.
— Хорошо, тогда я принесу кофе вниз,— заявляю я, взбегаю
по лестнице, хватаю «Критику чистого разума», обвязываю се
бечевкой, спускаю в окно и раскачиваю перед окном Георга.
Потом пишу цветным карандашом на листе бумаги предостере-
жение: «Ризенфельд в конторе», делаю дырку в листе бумаги
и спускаю по бечевке на том Канта. Кант стучит несколько раз
в окно, потом я вижу сверху лысую голову Георга. Он делает
мне знаки. Мы исполняем краткую пантомиму. Я показываю
ему жестами, что не могу отделаться от Ризенфельда. Вышвыр-
нуть его за дверь нельзя: он слишком нужен нам для хлеба на-
сущного.
Я подтягиваю обратно «Критику чистого разума» и спускаю
свою бутылку с водкой. Прекрасная полная рука тянется к ней,
и не успевает Георг схватить бутылку, как она исчезает в комна-
те. Кто знает, когда Ризенфельд удалится? А любовники после
бессонной ночи должны страдать от острого утреннего голода.
Поэтому я таким же способом препровождаю вниз свое масло,
хлеб и кусок ливерной колбасы. Бечевка снова уходит вверх,
на конце — алый мазок губной помады. Я слышу скрипучий
вздох, с каким пробка расстается с бутылкой. На ближайшее
время Ромео и Джульетта спасены.
Когда я подношу Ризенфельду чашку кофе, я вижу, что через
двор идет Генрих Кроль. У этого дельца-националиста, наряду
с прочими недостатками, есть привычка вставать чуть свет. Ге-
нрих называет это «подставлять грудь вольной природе Божь-
ей». Под Богом он, конечно, разумеет не какое-нибудь доброе
легендарное существо с длинной бородой, а прусского фельд-
маршала.
Он крепко трясет Ризенфельду руку. Ризенфельд не слиш-
ком обрадован.
— Пожалуйста, из-за меня не задерживайтесь,— заявляет он.—
Я только выпью кофе и подремлю, пока не придет время уходить.
— Ну что вы! Такой редкий, дорогой гость!— Генрих пово-
рачивается ко мне.— У нас не найдется свежих булочек, чтобы
угостить господина Ризенфельда?
— С этим обращайтесь к вдове булочника Нибура или к сво-
ей матушке,— отвечаю я.— Как видно, в республике по воскре-
сеньям не выпекают свежего хлеба. Неслыханное безобразие!
В кайзеровской Германии было совсем по-другому!
Генрих бросает на меня злобный взгляд.
— Где Георг?— спрашивает он отрывисто.
— Я не сторож вашему брату, господин Кроль,— отвечаю
я громкой цитатой из Библии, чтобы известить Георга о новой
опасности.
— Нет, но вы служащий моей фирмы. И я предлагаю вам от-
вечать'как подобает.
— Сегодня воскресенье. А по воскресеньям я не служащий.
И сегодня я только по доброй воле, из безграничной любви
к моей профессии и дружеского уважения к главе оденвельд-
ского гранита спустился вниз в такую рань. Даже не побрив-
шись, как вы, вероятно, заметили, господин Кроль.
— 4* 617 4* —
— Видите!— с горечью восклицает Генрих, обращаясь к Ри-
зенфельду.— Поэтому мы и войну проиграли! Во всем виноваты
наша расхлябанная интеллигенция и евреи.
— И велосипедисты,— добавляет Ризенфельд.
— Причем тут велосипедисты?— в свою очередь удивляется
Генрих.
— А при чем тут евреи?— отвечает вопросом на вопрос Ри-
зенфельд.
Генрих смущен.
— Ах так,— замечает он вяло.— Острота. Пойду разбужу Ге-
орга.
— Я бы не стал его будить,— заявляю я очень громко.
— Будьте любезны, воздержитесь от советов!
Генрих подходит к двери. Я его не удерживаю. Георг же
не глухой и, наверное, уже принял меры.
— Пусть спит,— говорит Ризенфельд.— У меня нет желания
вести долгие разговоры в такой ранний час.
Генрих останавливается.
— Почему бььвам не прогуляться с господином Ризенфель-
дом и не побывать среди свежей Божьей природы?— спраши-
ваю я.— Когда вы вернетесь, все уже встанут, яйца с салом будут
шипеть на сковородке, для вас испекут свежие булочки, букет толь-
ко что сорванных гладиолусов украсит мрачные урочища смер-
ти и вас встретит Георг, выбритый, благоухающий одеколоном.
— Боже сохрани,— бормочет Ризенфельд.— Я остаюсь здесь
и буду спать.
Я в недоуменье пожимаю плечами. Вытащить его из дому,
как видно, не удастся.
— Ну что ж,— говорю я.— Пойду пока славить Господа.
Ризенфельд зевает.
— Вот не думал, что религия здесь в таком почете. Бог — туда,
Бог — сюда, кидаетесь им, словно камешками.
— В том-то и горе! Мы все с ним на слишком короткой ноге. Бог
был раньше закадычным другом всех кайзеров, генералов и поли-
тиков. При этом мы не смели даже упоминать имя Божье. Но я иду
не молиться, а только играть на органе. Пойдемте со мной!
Ризенфельд отрицательно качает головой. Больше я ничего
не могу сделать. Пусть Георг сам выпутывается. Мне остается
только уйти, может быть, тогда уберутся и эти двое. Относи-
тельно Генриха я не беспокоюсь: Ризенфельд от него уж как-
нибудь отделается.
— + 618 + —
Город полон свежестью утренней росы. До начала обедни
еще два часа. Медленно иду по улицам. Я не привык гулять так
рано. Легкий ветерок до того мягок, что кажется, будто доллар
вчера упал на двести пятьдесят тысяч марок и потом больше
не поднимался. Некоторое время я пристально смотрю на тихое
течение реки, затем на витрину фирмы «Бок и сыновья». Фир-
ма выпускает горчицу, которая выставлена на витрине в мини-
атюрных бочоночках.
Кто-то хлопает меня по плечу, и я прихожу в себя. За моей
спиной стоит долговязый тощий человек с опухшими глазами.
Это известный пьяница и зануда Герберт Шерц. Я недовольно
смотрю на него.
— Доброе утро или добрый вечер?— спрашиваю я.— Еще
не ложились или уже встали?
Герберт громко икает. Волна едкого запаха бьет мне в лицо,
и у меня едва слезы не выступают на глазах.
— Так,— говорю я.— Значит, еще не ложились. Неужели вам
не стыдно? И что за причина так напиваться? Шутка? Что-ни-
будь серьезное? Ирония или самое обыкновенное отчаяние?
— Праздновали основание нового союза.
Я неохотно острю относительно фамилий, но Герберту это
доставляет только удовольствие.
— Шутки* в сторону,— говорю я.
— Основание нового союза,— самодовольно повторяет Гер-
берт.— Мое вступление в качестве нового члена. Надо было
угостить правление.— Он смотрит на меня несколько секунд,
затем торжествующе произносит: — Союз стрелков «Старые
камрады». Понимаете?
Я понимаю. Герберт Шерц коллекционирует союзы. Так же
как другие собирают марки или военные сувениры, Герберт со-
бирает союзы. Он уже состоит членом целого десятка всяких
обществ. Не потому, чтобы нуждался в развлечениях, а потому,
что он страстный поклонник смерти и сопровождающих ее
пышных церемоний. Он прямо помешался на том, чтобы ему
устроили самые пышные похороны в городе. Так как он не мо-
жет оставить после себя достаточной суммы денег, а никто дру-
гой оплачивать его похороны не будет, то он набрел на мысль
стать членом как можно большего числа всяких обществ и объеди-
нений. Ему известно, что каждый союз возлагает на гроб свое-
го умершего члена венок с бантом, и это его первая цель. Кро-
ме того, за гробом всегда идет делегация со знаменем союза,
’ Scherz (шерц) — шутка (нем.).
— + 619 4* —
и на это он тоже надеется. Уже сейчас, благодаря своему член-
ству, он может рассчитывать на две машины с венками, и это
еще далеко не все. Ему недавно стукнуло только шестьдесят,
и впереди еще немало времени для дальнейшего вступления
в новые союзы. Разумеется, он состоит в певческом союзе Бодо
Леддерхозе, хотя в жизни своей не взял ни одной ноты. Там он
считается сочувствующим союзу неактивным членом, так же
как и в шахматном клубе «Конь», в клубе игроков в кегли «Все
девять», и в обществе любителей аквариумов и террариумов
«Птерофилум скаларе». В клуб любителей аквариумов его ввел
я, так как надеялся, что в благодарность Шерц еще при жизни
закажет себе памятник у нас. Но он этого не сделал. Теперь
ему, видимо, удалось проникнуть даже в союз стрелков.
— Разве вы когда-нибудь были солдатом?— спрашиваю я.
— А зачем? Я член союза — и все. Мастерский ход, верно?
Когда Шварцкопф узнает, его перекосит от злости.
Шварцкопф — конкурент Герберта. Два года назад он узнал
о страсти Герберта к союзам и в шутку заявил, что будет с ним
конкурировать. Шерц отнесся к этому вызову столь серьезно,
что Шварцкопф действительно вступил еще в несколько сою-
зов и с удовольствием наблюдал за реакцией Герберта. Но со
временем сам запутался в расставленных им сетях, вошел
во вкус, с радостью продолжил свою затею и теперь сделался
коллекционером, не столь откровенно, как Шерц, но действуя
за кулисами, так сказать, с черного хода,— и эта грязная конку-
ренция доставляла Шерцу немало забот.
— Шварцкопф так легко не сдастся,— отвечаю я, чтобы под-
дразнить Герберта.
— Не выдержит! Тут уж будут не только венки и знамя сою-
за, но и сочлены в форме...
— Форменная одежда запрещена,— коротко поясняю я.—
Мы ведь проиграли войну, господин Шерц, об этом вы забыли?
Вам следовало бы вступить в союз полицейских, там мундиры
еще разрешены.
Я вижу, что Шерц берет на заметку мои слова о полицей-
ских, и я не удивлюсь, если через несколько месяцев он появит-
ся в роли безмолвствующего члена клуба полицейских «Верный
наручник». Однако сейчас он все же возражает мне:
— Еще при моей жизни форма будет опять разрешена. Ина-
че как же защищать интересы отечества? Нельзя же нас пора
ботить навеки!
Я смотрю в его опухшее лицо с лопнувшими жилками. Уди-
вительно, как по-разному люди понимают рабство! Я считаю,
что был к нему всего ближе, когда стал рекрутом и надел мундир.
— Кроме того,— заявляю я,— если умирает штатский, его,
конечно, не будут провожать на кладбище в полном параде,
в касках, с саблями наголо и с презервативом в кармане. Так
провожают только активных жеребцов-военных.
— И меня тоже! Сегодня ночью мне определенно обещали!
Сам председатель.
— Обещали! Чего только под пьяную руку не наобещают!
Герберт как будто не слышит меня.
— И не только это...— шепчет он с демоническим торжест-
вом.— Последует еще самое главное: почетный залп над моей
могилой.
Я смеюсь прямо в его осовевшее лицо.
— Залп! Из чего? Из бутылок с сельтерской? В нашем возлюб-
ленном отечестве ношение оружия тоже запрещено. А Версаль-
ский договор вы забыли, господин Шерц? Почетный залп — это
только мечта, можете поставить на ней крест.
Но Герберт несокрушим. Он с хитрым выражением качает
головой.
— Вы даже не представляете себе! У нас уже давно создана
опять тайная армия! Черный рейхсвер! — Он хихикает.— И я по-
лучу свой залп! Через несколько лет, хочешь не хочешь, все будет
по-прежнему. Всеобщая воинская повинность и армия. Иначе
мы не можем жить!
Ветер вдруг доносит до нас из-за угла пряный запах горчицы,
и река бросает серебряные отблески на мостовую. Солнце взо-
шло. Шерц чихает.
— Шварцкопф наконец-то посрамлен,— самодовольно заяв-
ляет он.— Председатель обещал мне, что этого человека никогда
не пустят в союз.
— Он может вступить в союз бывших артиллеристов,— отве-
чаю я.— Тогда над его могилой будут стрелять из пушек.
У Шерца нервно дергается правое веко. Он качает головой.
— Это вы для красного словца. В нашем городе существует
только один союз стрелков. Нет, Шварцкопфу крышка. Я завтра
загляну к вам, посмотрю памятники. Когда-нибудь должен же
я сделать выбор.
Он выбирает с тех пор, как я служу у Кролей. Поэтому его
и прозвали занудой... Он — вариант фрау Нибур и без конца хо-
дит от нас к Хольману и Клотцу, а от них к Штейнмейеру, тре-
бует, чтобы ему везде все показывали, торгуется часами и все-
— + 621 4* —
таки ничего не покупает. Мы привыкли к таким типам: всегда
находятся люди, особенно женщины, которым доставляет осо-
бое наслаждение при жизни заказать себе гроб, приготовить са-
ван, запастись местом на кладбище и памятником. Но Герберт
поставил в этом отношении мировой рекорд. Место на кладби-
ще он, наконец, полгода назад купил. Оно лежит высоко, почва
песчаная, и оттуда открывается красивый вид. Здесь Герберт
будет гнить несколько медленнее и пристойнее, чем в более
низких и сырых частях кладбища, и он этим гордится. Каждое
воскресенье, во второй половине дня, он отправляется туда,
прихватив с собой термос с кофе, складной стул и пакет с песоч-
ным печеньем, и просиживает там несколько часов, блаженст-
вуя и наблюдая, как растет плющ. Однако заказом на памятник
он все еще размахивает перед носом наших фирм по установке
надгробий, как всадник морковью перед мордой осла. Мы ска-
чем галопом, но схватить ее не в силах. Шерц никак не может
решиться. Он все боится упустить какое-то сказочное новшест-
во, как, например, электрические звонки в гробу, телефон или
еще что-нибудь в этом роде.
Я смотрю на него с неприязнью. Он тут же мстит мне за пушки.
— Раздобыли что-нибудь новенькое?— пренебрежительно
спрашивает он.
— Ничего для вас интересного, кроме... но он все равно что
продан,— отвечаю я с внезапным ясновидением мести
и вспышкой деловитости.
Герберт хватает наживку.
— А что?
— Да нет, вам не подойдет. Нечто грандиозное. И потом, он
все равно что продан.
— Ну что?
— Мавзолей. Выдающееся произведение искусства. Шварц-
копф в высшей степени заинтересован.
Шерц смеется.
— Поновей-то ничего придумать не можете?
— Нет. Не для такого памятника. Это как бы посмертное
клубное здание. Шварцкопф хочет завещать, чтобы каждый год
в мавзолее интимно и торжественно отмечался день его смерти —
это будут как бы ежегодные похороны. Размеры мавзолея вполне
подходят, там есть скамьи, цветные окна. Можно каждый pin
подавать прохладительные напитки. Трудно придумать что-ни-
будь более удачное. Это будет вечным чествованием его памя
ти, в то время как на обычные могилы никто даже не смотрит!
— + 622 + —
Шерц продолжает смеяться, но несколько неуверенно. Пусть
себе смеется. Солнце, отражаясь в реке, бросает между нами
невесомые бледно-серебряные блики. Шерц уже не смеётся.
— И такой мавзолей у вас есть?— спрашивает он уже с лег-
кой тревогой истинного коллекционера, который боится упус-
тить что-то замечательное.
— Да забудьте вы о нем! Мавзолей все равно что продан
Шварцкопфу. Лучше поглядим на уток на реке! Какие краски!
— Не люблю я уток. От них отдает болотом. Так я зайду по-
смотреть ваш мавзолей.
— Не спешите. Мавзолей лучше смотреть на фоне природы,
когда Шварцкопф его установит.
Шерц снова смеется, на этот раз несколько принужденно.
Я тоже смеюсь. Ни один другому не верит; но каждый прогло-
тил наживку: он — Шварцкопфа, я — надежду, что он все-таки
купит мавзолей.
Иду дальше. Из ресторана «Альтштедтергоф» доносится за-
пах табака и прокисшего пива. Вхожу в ворота и направляюсь
на задний двор. Передо мной — мирная картина. Тела пьяниц,
упившихся в субботу вечером, лежат, словно трупы, в лучах ут-
реннего солнца. Над этими приверженцами вишневой настой-
ки, Штейнхегера и водки жужжат мухи, как будто хриплое ды-
хание пьяных — это ароматные, пряные пассаты, веющие
с тропических островов; из листвы дикого винограда поднима-
ются по своим нитям на лица спящих пауки, они скользят
вверх-вниз, словно акробаты, а в усах какого-то цыгана кувыр-
кается жук, точно это бамбуковая роща. Вот он, думаю я, поте-
рянный рай, хотя бы для спящих, вот оно, великое братство!
Я смотрю вверх на окно Герды. Окно открыто.
— Помогите! — вдруг произносит один из лежащих на зем-
ле. Он произносит это спокойно, негромко и покорно, а вовсе
не кричит, но именно это действует на меня, словно излучение
какого-то эфирного существа. Это невесомый удар в грудь, он
проходит сквозь грудь, как рентген, а потом поражает дыхание,
и оно останавливается. «Помогите!» — думаю я; что, кроме этого,
произносим мы неустанно, вслух и про себя?
Обедня кончилась. Старшая вручает мне гонорар. Даже со-
вать его в карман не стоит; но я не могу и отказаться — она оби-
дится.
— Я послала вам к завтраку бутылку вина,— говорит сестра.—
У нас больше ничего нет, чтобы отблагодарить вас. Но мы мо-
лимся за вас.
— Спасибо,— отвечаю я.— Откуда вы раздобываете ваши
превосходные вина? Они ведь тоже стоят денег.
Старшая широко улыбается измятым лицом цвета слоновой
кости, совершенно бескровным, как у людей, живущих в мона-
стырях, в тюрьмах, как у больных и у горняков.
— Мы получаем их в подарок. В городе есть один благочести-
вый виноторговец. Его жена долго лечилась у нас. И вот он с тех
пор присылает нам каждый год по нескольку ящиков вина.
Я не спрашиваю, почему он посылает. Ибо вспоминаю, что за-
ступник Божий Бодендик тоже здесь завтракает после обедни,
и поспешно ухожу, чтобы успеть перехватить хоть что-нибудь.
От вина, конечно, осталась уже половина. Вернике тоже тут,
но он пьет только кофе.
— Бутылку, из которой вы так щедро наливали себе, ваше
преподобие,— говорю я Бодендику,— старшая сестра прислала
сюда для меня лично, в виде добавки к моему гонорару.
— Знаю,— отвечает викарий.— Но разве вы, веселый атеист,
не являетесь апостолом терпимости? Поэтому не скупитесь, ес-
ли друзья сделают несколько лишних глотков. Выпить целую
бутылку за завтраком вам было бы очень вредно.
Я не отвечаю. Церковнослужитель принимает это за сла-
бость и сейчас же переходит в атаку.
— Вот до чего доводит страх перед жизнью!— восклицает он
и с воодушевлением делает большой глоток.
— Что такое?
— Страх перед жизнью, который выступает у вас из всех пор,
как...
— Как эктоплазма,— с готовностью подсказывает Вернике.
— Как пот,— заканчивает Бодендик, который не очень-то
доверяет представителю науки.
— Если бы я боялся жизни, то стал бы верующим католи-
ком,— заявляю я и подвигаю к себе бутылку.
— Чепуха! Будь вы верующим католиком, никакого страха
перед жизнью у вас бы не было.
— Это буквоедство напоминает отцов церкви.
Бодендик смеется.
— Да что вы знаете об утонченной духовности наших отцов
церкви, вы, молодой варвар?
— Достаточно, чтобы перестать их изучать после того, как
святые отцы много лет спорили о том, был пупок у Адама и Евы
или не был.
Вернике усмехается. Бодендик возмущен.
— + 624 4* —
— Грубейшее невежество и пошлый материализм всегда
идут об руку,— заявляет он явно по адресу моему и Вернике.
— А вам бы не следовало так уж задаваться перед наукой,—
отмечаю я.— Что бы вы стали делать, если бы у вас оказалось
острое воспаление слепой кишки, а в округе имелся бы только
один-единственный врач — первоклассный, но атеист? Стали
бы молиться или предпочли, чтобы вас оперировал язычник?
— И то и другое, новичок в диалектике, и это дало бы врачу-
язычнику возможность послужить Господу Богу.
— А вам не полагалось бы даже подпускать к себе врача,— на-
стаиваю я.— Если бы на то была Божья воля, вы должны были бы
подчиниться и умереть, а не пытаться исправлять эту волю.
Бодендик машет рукой.
— Ну, теперь мы дойдем до вопроса о свободе воли и всемо-
гуществе Божьем. Смышленые шестиклассники воображают,
что таким путем опровергается все учение церкви.
Он встает, полный благоволения. Лысина сияет здоровьем.
Мы с Вернике кажемся заморышами рядом с этим горделивым
служителем веры.
— Приятного аппетита!— говорит он.— Мне пора к другим
моим прихожанам.
Мы никак не отзываемся на слово «другие». Он выходит,
шурша одеждой.
— Вы заметили, что священники и генералы доживают
до глубокой старости?— обращаюсь я к Вернике.— Ведь их
не точит червь сомнений и тревог. Они много бывают на све-
жем воздухе, занимают свои должности пожизненно и думать
им незачем. У одного есть Катехизис, у другого — воинский ус-
тав. Это сохраняет им молодость. Кроме того, оба пользуются
величайшим уважением. Один имеет доступ ко двору Господа
Бога, другой — кайзера.
Вернике закуривает сигару.
— А вы заметили, с какой выгодой для себя сражается вика-
рий?— спрашиваю я.— Мы обязаны уважать его веру, а он на-
ше неверие — не обязан.
Вернике пускает дым в мою сторону.
— Вас он злит, вы его — нет.
— Вот именно!— восклицаю я.— Потому-то я и злюсь.
— Он знает это. И отсюда его уверенность.
Я выливаю в свой стакан остатки вина. Всего набралось
меньше полутора стаканов, остальное выпил заступник Божий,
а именно — почти целую бутылку Форстериезуитенгартена
— 4* 625 4* —
1915 года. Вино, которое следовало бы пить только вечером и
с женщиной.
— А как вы относитесь к этим спорам?— спрашиваю я.
— Меня все это не касается,— отвечает Вернике.— Я вроде
регулировщика движения, происходящего в душевной жизни
людей. И пытаюсь здесь, на этом перекрестке, хоть немного на-
правлять его. Но за само это движение не отвечаю.
— А я всегда чувствую себя ответственным за все, что проис-
ходит в мире. Может быть, я психопат?
Вернике разражается оскорбительным смехом.
— Вам бы, конечно, хотелось им быть! Но это не так просто.
Вы не представляете собой ничего интересного. Вполне нор-
мальный средний подросток!
Я выхожу на Гроссештрассе. Медленно движется колонна
демонстрантов. Точно чайки на фоне темной тучи, растерянно
мечутся перед ней участники воскресных экскурсий в светлых
костюмах, с детьми, свертками, велосипедами и всяким пест-
рым барахлом; но вот колонна приблизилась и перегородила
улицу.
Это шествие инвалидов войны, которые протестуют против
своих убогих пенсий. Впереди едет в коляске человеческий об-
рубок. Голода у него есть, а рук и ног нет. Сейчас уже невоз-
можно определить, был ли этот обрубок человеком высокого
или низкого роста. Даже по плечам не скажешь, ибо руки ампу-
тированы так высоко, что протезы не к чему прикрепить. Голо-
ва у обрубка круглая, глаза карие, живые, он носит усы. Кто-то,
видимо, каждый день за ним присматривает — он чисто выбрит,
волосы и усы подстрижены. Его коляску, в сущности просто доску
на роликах, везет однорукий. Обрубок сидит очень прямо и ста-
рается не свалиться. За ним следуют коляски безногих: по три
в ряд. У них коляски с высокими колесами на резиновом ходу,
они приводят их в движение руками. Кожаные фартуки, обыч-
но прикрывающие те места, где должны быть ноги, сегодня отстег-
нуты. Видны культи. Брюки тщательно подвернуты вокруг них.
Затем идут инвалиды на костылях. Их странные, кривые си-
луэты видишь на улицах так часто — прямые линии костылей
и между ними чуть косо висящее тело. Потом слепые и кривые.
Слышишь, как они ощупывают мостовую белыми посохами,
и видишь на руке желтые повязки с тремя черными кружочка-
ми. У слепых те же знаки, которыми запрещается въезд на улицы
с односторонним движением или обозначается тупик,— три
черных круга. Многие инвалиды несут плакаты с надписями.
— + 626 4* —
Несут и слепые, хотя сами уже никогда не смогут их прочесть!
«И это благодарность отечества!» — написано на одном. «Мы
умираем с голоду!»— на другом.
Обрубку в его коляске сунули за отворот куртки палку с бу-
мажкой. На ней выведено: «Моя ежемесячная пенсия составля-
ет одну марку золотом». Между двумя колясками развевается
белый флаг: «У наших детей нет молока, нет мяса, нет масла.
Разве мы за это сражались?».
Инвалиды — самые тяжелые жертвы инфляции. Их пенсии
настолько обесценены, что на них уже почти ничего нельзя купить.
Время от времени правительство повышает пенсии — но с таким
опозданием, что в тот день, когда их увеличивают, они оказыва-
ются снова почти обесцененными; доллар стал неистовство-
вать, он подскакивает ежедневно уже не на тысячи и десятки
тысяч, а на сотни тысяч марок. Позавчера он стоил миллион
двести тысяч, вчера — миллион четыреста. Ожидают, что завтра
он дойдет до двух миллионов, а в конце месяца — до десяти. Ра-
бочие получают теперь заработную плату два раза в день — утром
и под вечер,— и каждый раз им дают получасовой перерыв,
чтобы они успели сбегать в магазины и поскорее сделать покуп-
ки — ведь если они подождут до вечера, то потеряют столько, что
их дети останутся полуголодными. Да и быть сытым — совсем
не значит хорошо питаться. Быть сытым — значит просто на-
бить желудок всем, что попадется, а вовсе не тем, что идет
на пользу.
Шествие движется гораздо медленнее, чем другие демонстра-
ции. За ним — сбившиеся в кучу машины воскресных экскур-
сантов. Странный контраст — серая, почти безликая масса жертв
войны молча тащится по улице, а позади едва ползут машины
тех, кто разбогател на войне. Они ворчат, вздрагивают, фырка-
ют, нетерпеливо движутся по пятам за вдовами убитых, кото-
рые вместе с детьми завершают шествие, голодные, отощавшие,
обнищавшие, испуганные. А в машинах ослепительно пестреют
роскошные летние туалеты — полотно и шелк тех, кто разва-
лился на сиденьях, полные щеки, округлые плечи и лица, сму-
щенные тем, что пришлось попасть в столь неприятную ситуа-
цию. Пешеходам на тротуарах легче: они просто отводят взгляд
и торопят детей, которые то и дело останавливаются и требуют
объяснить, что такое инвалиды. Кто может, сворачивает в боко-
вые улицы.
Солнце стоит высоко и жжет немилосердно, раненые начи-
нают потеть; по их бескровным лицам течет нездоровый кис-
лый пот. Вдруг позади раздается рев клаксона. Один из вла-
— 4* 627 4* —
дельцев машин не выдержал: ему хочется сэкономить несколь-
ко минут, и он пытается обогнать колонну, въехав на тротуар.
Все инвалиды оборачиваются. Никто ничего не говорит, но ряды
демонстрантов преграждают ему путь. Теперь, чтобы проехать,
машине пришлось бы давить их. В ней сидят молодой человек
в светлом костюме и соломенной шляпе и девушка. Он делает
несколько нелепых жестов, выражающих недоумение, и закури-
вает сигарету. Каждый из увечных воинов, проходя мимо машины,
смотрит на него. Не с упреком, нет,— инвалиды смотрят на си-
гарету, так как ветер разносит по улице ее крепкий аромат. Это
очень дорогая сигарета, а никто из демонстрантов уже не может
позволить себе курить слишком часто. Поэтому они и стараются,
если удается, изо всех сил нанюхаться табачного запаха.
Я следую за колонной до церкви Девы Марии. Там стоят два
национал-социалиста в мундирах и держат большой плакат:
«Приходите к нам, камрады! Адольф Гитлер вам поможет!».
Колонна обходит вокруг церкви.
Мы сидим в «Красной мельнице». Перед нами — бутылка
шампанского. Она стоит два миллиона марок— столько, сколь-
ко получает за два месяца на себя и на семью безногий инвалид
войны. Шампанское заказал Ризенфельд.
Он сел так, что ему видна вся площадка для танцев.
— Я догадался с самого начала,— заявляет он мне.— И хо
тел только посмотреть, как вы будете мне морочить голову.
Аристократки не живут против маленькой конторы по установ
ке надгробий и в таких домах!
— Удивительно, как вы, светский человек, могли сделать на-
столько ошибочный вывод,— отвечаю я.— А вам следовало бы
знать, что в наши дни аристократки почти так и живут. Их до
этого довела инфляция. Дворцам пришел конец, господин Ри
зенфельд. А если он у кого еще и остался, то в таком дворце
сдают комнаты. Деньги, полученные по наследству, растаяли.
Королевские высочества живут в меблирашках, бряцающие
саблями полковники с зубовным скрежетом пошли в страховые
агенты, а графини...
— Довольно!— останавливает меня Ризенфельд.— Я сейчас
заплачу. Дальнейшие разъяснения излишни. Но историю
с фрау Вацек я раскусил тут же. Меня просто забавляли ваши
неуклюжие попытки втереть мне очки.
Он смотрит вслед Лизе, которая танцует с Георгом фокстрот.
Я уже не напоминаю этому оденвельдскому Казанове, что он
назвал Лизу француженкой, а ее походку сравнил с походкой
— 4* 628 4* —
полной и стройной пантеры,— это вызвало бы немедленный
разрыв между нами, а нам до зарезу необходим гранит.
— Однако в целом это ничему не мешает,— примирительно
говорит Ризенфельд.— Наоборот, она тем привлекательнее. Та-
кие женщины — это сам народ... Посмотрите, как она танцует.
Как... Как..
— Как полная и стройная пантера,— подсказываю я.
Ризенфельд косится на меня.
— Иногда вы кое-что понимаете в женщинах,— бурчит он.
— Научился... у вас!
Он чокается со мной, явно польщенный.
— Одно хотелось бы мне знать,— продолжаю я.— У меня та-
кое ощущение, что у себя дома, в Оденвельде, вы — безупреч-
ный гражданин и отец семейства: вы ведь нам как-то показыва-
ли фотографии своих трех детей у окруженного розами дома,
в стены которого вы принципиально не вложили ни куска гра-
нита,— как неудавшийся поэт, я ставлю вам это в большую за-
слугу; так почему вы, уехав оттуда, превращаетесь в этакого ко-
роля ночных клубов?
— Чтобы дома с тем большим удовольствием вести себя как
добродетельный гражданин и отец семейства,— не задумыва-
ясь отвечает Ризенфельд.
— Уважительная причина. Но зачем вам эти окольные дороги?
Ризенфельд усмехается.
— Таков мой демон. Двойственность человеческой природы.
Никогда о такой штуке не слышали? А?
— Я не слышал? Да я сам образец подобного раздвоения.
Ризенфельд разражается обидным смехом, примерно таким
же, как сегодня утром Вернике.
— Вы?
— Такая двойственность существует и на более высоком ду-
ховном уровне,—заявляю я.
Ризенфельд делает глоток вина и вздыхает.
— Действительность и фантазия! Вечная погоня, вечные
противоречия. Или...— иронически добавляет он, овладев со-
бой,— в вашем случае, так как вы поэт, конечно, тоска и утоле-
ние, Бог и плоть, космос и локус...
К счастью, снова звучат трубы. Георг и Лиза возвращаются
с танцевальной площадки. Лиза — это прекрасное видение
в абрикосовом крепдешине. Ризенфельд, узнав о ее плебейском
происхождении, потребовал, чтобы мы искупили свой обман и
в качестве его гостей все вместе отправились в «Красную мель-
ницу». Он отвешивает Лизе поклон.
— 4* 629 4* —
— Разрешите, сударыня, пригласить вас на танго, если вы не...
Лиза на голову выше Ризенфельда, и зрелище обещает быть
интересным. Но, к нашему удивлению, гранитный король ока-
зывается выдающимся мастером танго. Он не только владеет
аргентинским вариантом, но также бразильским и, очевидно,
несколькими другими вариантами. Словно ловкий фигурист,
делает он на паркете пируэты вокруг ошеломленной Лизы.
— Ну как ты?— спрашиваю я Георга.— Не расстраивайся.
Здесь — маммон, а у тебя — чувство. Несколько дней назад
я тоже получил полезные уроки на этот счет. И даже от тебя —
притом самым пикантным образом. Скажи, как удалось Лизе
сегодня утром выбраться из твоей комнаты?
— Да с трудом. Ризенфельд решил использовать контору
в качестве наблюдательного пункта. Он решил наблюдать за ее
окном. Я думал, что отпугну его, если открою, кто такая Лиза.
Ничего не помогло. Он мужественно перенес это. Наконец мне
удалось на несколько минут утащить его в кухню, чтобы напо-
ить кофе. Тут Лиза и выскользнула. Когда Ризенфельд вернул-
ся в контору и снова занялся разведкой, она уже благосклонно
улыбалась ему из своего окна.
— Она была в кимоно с аистами?
— Нет, с мельницами.
Я смотрю на него. Он кивает.
— Обменяли на маленькое надгробие. Это было необходимо.
Во всяком случае, Ризенфельд с поклонами крикнул ей через
улицу, что приглашает ее и нас сегодня вечером в «Красную
мельницу».
— На это он не решился бы, если бы она еще называлась «де
ла Тур».
— Он пригласил ее очень почтительно. Лиза согласилась.
Она подумала, что это нам поможет в деловом смысле.
— И ты тоже так считаешь?
— Ну да,— весело отозвался Георг.
Ризенфельд и Лиза возвращаются после танца. Ризенфельд
вспотел. Лиза свежа, как монастырская лилия. К моему вели-
чайшему изумлению, я вдруг вижу в глубине бара, между воз-
душными шарами, новую фигуру. Это Отто Бамбус. Он стоиз
среди ресторанной толчеи с несколько растерянным видом
и так же здесь не к месту, как был бы не к месту Бодендик. По-
том рядом с ним появляется рыжая шевелюра Вилли и откуда-
то доносится командирский бас Рене де ла Тур:
— Бодмер, вольно.
Я прихожу в себя.
— + 630 + —
— Отто,— обращаюсь я к Бамбусу,— какой ветер тебя сюда
занес?
— Я,— отвечает Вилли,— хочу внести свой вклад в немец-
кую литературу. Отто скоро предстоит вернуться в деревню.
Тогда у него будет время оттачивать стихи о греховности мира.
Но сначала он должен хоть увидеть ее.
Отто кротко улыбается. Близорукие глаза моргают, лоб слег-
ка вспотел. Вилли вместе с Отто и Рене садятся за соседний сто-
лик. Между Лизой и Рене происходит мгновенная дуэль взгля-
дов, причем дамы обстреливают друг друга настильным огнем.
Затем обе, непобежденные, снова поворачиваются к своим сто-
лам, надменные и улыбающиеся.
Отто наклоняется ко мне.
— Я закончил цикл «Тигрица»,— шепчет он.— Вчера ночью.
Уже задумал новый цикл: «Женщина в пурпуре». Может быть,
я назову его «Великий зверь Апокалипсиса» и перейду на сво-
бодные ритмы. Это будет нечто исключительное. Меня осенило
вдохновение!
— Хорошо, но чего ты тогда ждешь от ночного клуба?
— Всего,— отвечает Отто, сияя от счастья.— Я всегда ожидаю
всего, это и есть самое интересное, когда ничего заранее не зна-
ешь. Впрочем, ты ведь знаком с одной дамой из цирка?
— Дамы, с которыми я знаком, не для таких начинающих,
как ты, с ними не будешь тренироваться,— отвечаю я.— Впро-
чем, ты, должно быть, действительно еще ничего не познал, на-
ивный верблюд, иначе ты не держался бы так откровенно глупо!
А потому заруби себе на носу правило номер один: руки прочь
от чужих дам — у тебя не то сложение.
Отто покашливает.
— Ага,— заявляет он.— Буржуазные предрассудки! Но я ведь
не имею в виду замужних женщин.
— Я тоже, дуралей. Замужние женщины не столь строги. Зачем
же так неистово жаждать знакомства с дамой из цирка? Я ведь уже
говорил тебе, что она просто продает билеты в блошином цирке.
— А Вилли сказал мне, что это неправда. Она выступает
в цирке как акробатка.
Ах так, Вилли! Я вижу, как его голова, словно рыжая тыква,
покачивается над морем танцующих.
— Послушай, Отто,— говорю я,— дело обстоит совсем иначе.
Дама Вилли действительно выступает в цирке. Вон та, в голу-
бой шляпке. И она любит литературу. Вот где твой шанс! Итак,
смело вперед!
Бамбус недоверчиво смотрит на меня.
— 4- 631 4* —
— Я же откровенно говорю с тобой, кретин, идеалист!— за-
являю я.
Ризенфельд уже снова танцует с Лизой.
— Что с нами происходит, Георг?— спрашиваю я.— Там друг
по коммерческим делам старается отбить у тебя твою даму,
а здесь меня только что попросили, в интересах немецкой по-
эзии, одолжить Герду. Или мы уж такие бараны, или наши дамы
так соблазнительны?
— И то и другое. А кроме того, если женщина принадлежит
другому, она в пять раз желаннее, чем та, которую можно запо-
лучить,— старинное правило. Но у Лизы через несколько ми-
нут начнется отчаянная головная боль, она выйдет на минутку
в гардеробную принять аспирин, а потом пришлет кельнера
сказать, что вынуждена уйти домой и чтобы мы веселились без
нее.
— Это будет ударом для Ризенфельда. Завтра он нам ни чер-
та не продаст.
— Напротив, продаст больше. Тебе следовало бы уже пони-
мать такие вещи. А где Герда?
— Ее ангажемент возобновится только через два дня. Надеюсь,
она в «Альтштедтергофе». Но боюсь, что она сидит в «Валгалле»
у Эдуарда. Герда это называет — сэкономить ужин. Тут я почти
бессилен. Она приводит такие неоспоримые доводы, что мне
надо еще постареть на тридцать лет, чтобы возразить ей. Сле-
ди-ка лучше за Лизой. Может быть, у нее не разболится голова
ради того, чтобы помочь нам в наших делах.
Отто Бамбус опять наклоняется ко мне. Его глаза, защищен-
ные очками, напоминают глаза испуганной сельди.
— «На манеже» — прекрасное название для томика стихов
о цирке, как тебе кажется? И с иллюстрациями Тулуз-Лотрека.
— А почему не Рембрандта, Дюрера и Микеланджело?
— Разве у них есть зарисовки цирка?— спрашивает Отто
с искренним интересом.
Ну что тут скажешь?
— Пей, мой мальчик,— по-отечески заявляю я.— И наслаж
дайся своей короткой жизнью, ибо когда-нибудь ты будешь
убит. Из ревности, телок несчастный!
Польщенный, он чокается со мной и задумчиво поглядывает
на Рене, которая качает белокурой головкой в локонах, с кро
шечной голубой шляпкой на них, и похожа на укротительницу
во время воскресного отдыха. Лиза и Ризенфельд возвращаются.
— Не знаю, что со мной,— заявляет Лиза,— но у меня вдруг
ужасно разболелась голова. Пойду приму аспирин...
— + 632 + —
Ризенфельд не успевает вскочить, как она уже удаляется. Георг
смотрит на меня с нестерпимым самодовольством и закуривает
сигару.
XVII
— Милый свет,— говорит Изабелла.— Почему он слабеет?
Потому, что мы устаем? Мы теряем его каждый вечер. Когда
мы спим, весь мир исчезает. Но где же тогда мы? Значит, мир
каждый день возвращается?
Мы стоим на краю сада и смотрим сквозь решетку на рассти-
лающийся за ней ландшафт. Солнце раннего вечера лежит
на созревающих полях, которые тянутся по обе стороны кашта-
новой аллеи до самого леса.
— Он всегда возвращается,— говорю я и осторожно добав-
ляю: — Всегда, Изабелла.
— А мы? Мы тоже?
Мы, думаю я. Кто ответит? Каждый час что-то дает и отни-
мает и рождает в нас перемены. Но я молчу. Я опасаюсь зате-
вать разговор, который вдруг может соскользнуть в бездну.
Возвращаются пациенты, работавшие на нолях. Они возвра-
щаются, словно усталые крестьяне, и на их плечах алеют отбле-
ски вечерней зари.
— Мы тоже, Изабелла,— говорю я.— Всегда. Ничто суще-
ствующее не может исчезнуть. Никогда.
— Ты веришь в это?
— Нам ничего не остается, как верить.
Изабелла поворачивается ко мне. Она кажется удивительно
красивой в свете раннего вечера, пронизанного веющим в воз-
духе первым ясным золотом осени.
— Разве иначе мы исчезнем?— шепчет она.
Я удивленно смотрю на нее.
— Не знаю,— говорю я наконец.— Исчезнем! Как много
шачений может иметь это слово! Очень много!
— Иначе мы исчезнем, Рудольф?
Я нерешительно молчу.
— Да,— говорю я после паузы.— Но только тогда и начнется
жи знь.
— Какая?
— Наша собственная. Тогда только все и начнется — великое
мужество, любовь и трагическая радуга красоты. Там, где, как
мы думаем, ничего уже не останется.
Я смотрю на ее лицо, осиянное заходящим светом. И на мгно-
вение время останавливается.
— + 633 4* —
— Ни ты, ни я — мы тоже не уцелеем?
— Нет, мы тоже не уцелеем,— отвечаю я и смотрю мимо нее
на пейзаж, полный голубизны, пурпура, дали и золота.
— И даже если будем любить друг друга?
— И даже если будем любить друг друга,— говорю я и добав-
ляю нерешительно и осторожно:— Мне кажется, потому-то люди
и любят. Без этого они, пожалуй, и не могли бы любить. Любовь —
это желание передать дальше то, чего не можешь удержать.
— Что?
Я пожимаю плечами.
— Для этого существует много названий. Может быть — наше
«я», которое мы хотим спасти. Или наше сердце. Допустим — наше
сердце. Или наша тоска. Наше сердце.
Больные, работавшие на полях, подошли к воротам. Сторожа
распахивают их. Вдруг какой-то человек, видимо, прятавшийся
за деревом, отделяется от ограды, быстро пробегает мимо нас,
протискивается через толпу рабочих и выскальзывает за ворота.
Один из сторожей замечает его и неторопливо бежит за ним;
второй спокойно остается на своем месте и пропускает мимо
себя остальных пациентов. Потом запирает ворота. Видно, как
внизу беглец спешит вперед. Он бежит гораздо быстрее, чем
преследующий его сторож.
— Вы думаете, ваш товарищ все-таки догонит его?— спра-
шиваю я второго сторожа.
— Да уж, он его приведет.
— Непохоже.
Сторож пожимает плечами.
— Это Гвидо Тимпе. Он каждый месяц пытается хоть раз да
удрать. И всегда бежит до ресторана «Форстхаус». Выпивает
там несколько кружек пива. И мы всегда его там ловим. Ни
за что не побежит дальше или в другое место. Только ради этих
двух-трех кружек. И пьет всегда темное.
Сторож подмигивает мне.
— Поэтому мой товарищ и бежит с прохладцей. Только чтобы
не потерять его из виду на всякий случай. Мы даем Тимпе воз-
можность вылакать пиво. Почему бы и не дать? А когда он воз
вращается, то кроток, как овца.
Изабелла нас не слушала.
— Куда он побежал?— спрашивает она.
— Он хочет выпить пива,— отвечаю я.— Вот и все, И пред-
ставить себе только, что у человека это может быть единствен-
ной целью!
Она не слышит меня. Она смотрит на меня.
— + 634 + —
— Ты тоже собираешься уйти?
Я качаю головой.
— Нет никакой причины, чтобы бежать, Рудольф, и никакой —
чтобы возвращаться. Все двери одинаковы. Л за ними...
Она смолкает.
— Что за ними, Изабелла?— спрашиваю я.
— Ничего. Есть только двери. Всюду только двери, а за ними
ничего нет.
Сторож запирает ворота и раскуривает трубку. Резкий запах
дешевого табака доходит до меня и вызывает картину: простая
жизнь, без всяких проблем, хорошая жена, хорошие ребята, че-
стная профессия, честное отбывание срока/жизни и честная
смерть; все тут разумеется само собой — трудовой день, вечер-
ний отдых и ночь без вопросов о том, что же кроется позади все-
го этого. На миг меня охватывает острая тоска по такому сущест-
вованию и даже зависть. Но потом я вижу Изабеллу. Она стоит
у ворот, держась руками за железные прутья, приникнув головой,
и смотрит вдаль. Долго стоит она, не меняя позы. А уходящий свет
все разгорается, густеют его малиновые и золотые оттенки, исче-
зают синие тени лесов, деревья становятся черными, а небо над
нами — яблочно-зеленое и полно розовыми парусами облаков.
Наконец Изабелла оборачивается. В этом свете ее глаза ка-
жутся почти лиловыми.
— Пойдем,— говорит она и берет меня под руку.
Мы идем обратно. Она опирается на меня.
— Не покидай меня никогда.
— Я тебя никогда не покину.
— Никогда,— повторяет она.— Никогда — какое короткое
время.
Дым ладана кружится над серебряными кадильницами свя-
щеннослужителей. Бодендик поворачивается к молящимся, дер-
жа в руках дароносицу. Стоят на коленях сестры в черных одеж-
дах и кажутся какими-то смиренными холмиками; головы
опущены, они бьют себя в укрытую грудь, которой так и не разре-
шено стать грудью женщины; горят свечи, и Бог здесь соприсут-
ствует — в частице святых даров, окруженной золотым сиянием.
Встает какая-то больная, идет через средний проход к скамье, где
обычно сидят причастники, и там бросается на пол. Большинство
больных смотрят неподвижным взглядом на золотое чудо дароно-
сицы. Изабеллы нет. Она отказалась идти в церковь. А раньше хо-
лила; теперь с некоторых пор не желает. И мне об этом сказала,
заявив, что больше не хочет видеть окровавленного Бога.
— 4* 635 4* —
Две сестры поднимают больную, которая бросилась наземь
и колотит по полу руками. Я играю tantum ergo*. Бледные лица
больных сразу поворачиваются к органу. Я выдвигаю регистры
гамб и скрипок. Сестры поют.
Плывут белые спирали ладана. Бодендик ставит дароносицу
обратно в дарохранительницу. Огни свечей мерцают, отража-
ясь в его парчовом облачении, на котором выткан большой
крест; их свет вместе с дымом ладана как бы взлетает к другому
большому кресту, где, залитый кровью, вот уже почти два тыся-
челетия висит Спаситель. Я механически продолжаю играть и ду-
маю об Изабелле и о том, что она говорила, а затем о дохристиан-
ских религиях, описания которых вчера вечером читал. В Греции
тогда жили веселые боги, они кочевали с облака на облако, были
жуликоваты, изменчивы и вероломны, так же как и люди, подо-
бием которых они являлись. В них нашли свое воплощение все
черты и крайности жизни, во всей полноте ее жестокости, без-
рассудства и красоты. Изабелла права: бледный человек с боро-
дой и окровавленным телом там, на кресте, не таков. Две тысячи
лет, думаю я, две тысячи лет прошло с тех пор, а жизнь со всеми
своими огнями, шумом пожаров, смертью и восторгами кру-
жится вихрем вокруг зданий, где стоят изображения умираю-
щего с бледным лицом, мрачные, кровавые, окруженные мил-
лионами Бодендиков,— и, постепенно разрастаясь, на страны
земли легла свинцовая тень церкви, задушила радость жизни,
сделала из Эроса, веселого бога, тайный и греховный постель-
ный эпизод и ничего не прощала, невзирая на все проповеди
о любви и прощении, ибо истинное прощение в том и состоит,
чтобы принять другого человека таким, какой он есть, а не тре-
бовать искупления, повиновения и покорности до тех пор, пока
не будет произнесено: «Ego te absolve»**.
Изабелла ждала перед часовней. Вернике разрешил ей вече-
ром гулять в саду, если при ней будет кто-нибудь.
— Что ты там делал?— спрашивает она враждебно.— Помо-
гал обманывать?
— Я играл на органе.
— Музыка тоже обманывает. Еще больше, чем слова.
— Есть и такая музыка, которая срывает покровы,— отвечаю
я.— Музыка труб и барабанов. Она принесла людям много горя.
Изабелла поворачивается ко мне.
‘ Изо всех сил (лат.).
“ Отпускаю тебе грехи твои (лат.).
— + 636 4* —
— А твое сердце? Разве оно тоже не барабан?
Да, думаю я, сердце — барабан, неторопливый и негромкий,
и все-таки этот барабан наделает много шума и принесет нема-
ло горя, может быть, я из-за него не расслышу сладостного безы-
мянного зова жизни, который слышат только те, кто не противо-
поставляет ей пышно самоутверждающегося «я», те, кто
не требует объяснений, словно они обладают властью заимодав-
цев, а не промелькнувшие странники, не оставившие и следа.
— Послушай, как бьется мое сердце,— говорит Изабелла и при-
жимает к себе мою руку пониже груди.
— Слышишь?
— Да, Изабелла.
Я отнимаю руку, но у меня такое ощущение, точно я не от-
нимал ее. Мы идем вокруг небольшого фонтана, который пле-
щет и плещет в вечернем сумраке, словно о нем позабыли. Иза-
белла погружает руки в бассейн и подбрасывает воду.
— А где сны скрываются днем, Рудольф?— спрашивает она.
Я смотрю, как она брызжется водой.
— Может быть, они спят,— осторожно замечаю я, ибо знаю,
куда ее могут завести такие вопросы. Она опускает руки в бас-
сейн и не вынимает их. Под водою их кожа серебристо поблес-
кивает, она усеяна мелкими жемчужинками воздушных пузырь-
ков, и кажется, будто эти руки сделаны из какого-то неведомого
металла.
— Разве они могут спать?— спрашивает она.— Они же сами
живой сон! Их видишь, только когда спишь. Но где же они на-
ходятся днем?
— Может быть, висят, как летучие мыши, в больших подзем-
ных пещерах или, как совята, в глубоких дуплах деревьев
и ждут, пока не придет ночь.
— А если она не придет?
— Ночь приходит всегда, Изабелла.
— Ты уверен?
Я смотрю на нее.
— Ты спрашиваешь, точно ребенок,— говорю я.
— А как дети спрашивают?
— Вот как ты. Они задают один вопрос за другим и доходят
до такой точки, когда взрослые уже не знают, что отвечать,
и тогда теряются или сердятся.
— Почему они сердятся?
— Они вдруг замечают, что в них есть какая-то ужасная лжи-
вость, и не хотят слышать напоминаний об этом.
— В тебе есть тоже эта лживость?
— 4* 637 4* —
— Почти все во мне лживо, Изабелла.
— А что же такое эта лживость?
— Не знаю, Изабелла. В том-то все и дело. Если бы знать,
то оно уже не было бы таким лживым. Но только чувствуешь,
что это так.
— Ах, Рудольф,— говорит Изабелла, и голос ее вдруг стано-
вится глубоким и мягким.— Ни в чем нет лжи.
-Да?
— Конечно. Где ложь и где правда, знает только Бог. Но если
он Бог, то не может существовать ни лжи, ни правды. Тогда все —
Бог. Лживым было бы только то, что вне Его. Если же существо-
вало бы что-нибудь вне его или противоположное Ему, Он был
бы только ограниченным Богом. А ограниченный Бог — не Бог.
Значит, или все правда, или Бога нет. Видишь, как просто.
Я смотрю на нее, пораженный. То, что она говорит, действи-
тельно очень просто и очевидно.
— Значит, тогда нет ни дьявола, ни ада?— спрашиваю я.—
А если бы они существовали, не было бы Бога?
Изабелла кивает.
— Конечно, нет, Рудольф. А сколько существует слов! И кто
их все придумал?
— Запутавшиеся люди.
Она качает головой и указывает на часовню.
— Вот эти, там! И они его там поймали,— шепчет она.— Он
не может выйти. А ему хочется. Но они пригвоздили его к кресту.
— Кто же?
— Священники. Они крепко его держат.
— Тогда были другие священники,— говорю я.— Две тысячи
лет назад. Не эти.
Она прислоняется ко мне.
— Они все те же, Рудольф,— шепчет она, приблизив губы
к моему лицу,— разве ты не знаешь? Он хочет выйти, но они
держат его взаперти. Кровь из ран у него течет и течет, и он хо
чет сойти с креста. А они его не пускают. Они держат его
в тюрьмах с высокими башнями, возносят к нему молитвы и ку
рят ладаном, но не выпускают. Ты знаешь, почему?
— Нет.
В пепельно-голубом небе над лесом высоко стоит бледная луна.
— Потому что он очень богат,— шепчет Изабелла.— Он
очень, очень богат. А они хотят захватить его богатство. Если
бы он вышел из их тюрьмы, он получил бы его обратно, и тогда
они вдруг обеднели бы. Все равно как с теми, кого у нас здесь
сажают под замок: тогда другие управляют состоянием такого
— + 638 + —
человека и делают, что хотят, и живут, как богачи. Так вот сде-
лали и со мной.
Я изумленно смотрю на нее. В лице ее какая-то напряжен-
ность, но я ничего не могу по нему прочесть.
— Что ты хочешь этим сказать?— спрашиваю я.
Она смеется.
— Все, Рудольф! Ты ведь тоже знаешь. Меня увезли сюда,
так как я стояла кое-кому поперек дороги. Они хотят удержать
в своих руках мое состояние. Если бы я отсюда вышла, им при-
шлось бы его возвратить мне. Но не беда, я и не хочу его получить.
Я все еще не свожу с нее глаз.
— Но если ты не желаешь его получить, ты же можешь заявить
им об этом; тогда у них не будет причины держать тебя здесь.
— Здесь или в другом месте — не все ли равно! А тогда поче-
му бы и не здесь? Здесь хоть их нет. Они — как комары. А кому
охота жить там, где есть комары.— Она наклоняется ко мне.—
Потому-то я и притворяюсь,— шепчет она.
— Ты притворяешься?
— Конечно! Разве ты этого не знаешь? Притворяться необ-
ходимо, иначе они меня распнут на кресте. Но они глупые. И их
можно обмануть.
— Ты и Вернике обманываешь?
— Кто это?
— Да врач.
— Ах, он! Этот хочет одного — жениться на мне. Он такой
же, как все. Ведь столько заключенных, Рудольф, и те, на воле,
боятся их. Но распятого на кресте они боятся больше всего.
— Кто боится?
— Все, кто пользуется им и живет за его счет. Бесчисленное
множество людей. Уверяют, будто они добрые. Но делают очень
много зла. Просто злой мало может сделать. Люди видят, что он
злой, и остерегаются его. А вот добрые — чего только они не тво-
рят. О, они кровожадны!
— Да, они кровожадны,— соглашаюсь я, странно взволно-
ванный ее голосом, шепчущим в темноте.— Они страшно много
навредили; те, кто считает себя справедливыми, особенно без-
жалостны.
— Не ходи больше туда, Рудольф,— продолжает шептать
Изабелла.— Пусть они освободят его. Того, распятого. Ему, на-
верно, тоже хочется посмеяться, поспать, потанцевать.
— Ты думаешь?
— + 639 4* —
— Каждому хочется, Рудольф. Пусть они освободят его. Но
они его не выпустят, он для них слишком опасен. Он не такой,
как они. Он самый опасный из всех, потому что самый добрый.
— Оттого они и держат его?
Изабелла кивает. Ее дыхание касается моего лица.
— Они бы опять распяли его.
— Да, я тоже думаю,— отвечаю я.— Они снова убили бы его,
те самые, кто ему теперь поклоняется. И они убили бы его, как
убивали бесчисленное множество людей во имя его. Во имя
справедливости и любви к ближнему.
Изабеллу как будто знобит.
— Я туда больше не пойду,— говорит она, указывая на ча-
совню.— Они вечно твердят, что нужно страдать. Черные сест-
ры! А почему, Рудольф?
Я молчу.
— Кто делает так, что мы должны страдать?— спрашивает
она и прижимается ко мне.
— Бог,— отвечаю я с горечью.— Если только он существует.
Бог, сотворивший всех нас.
— А кто накажет Бога за это?
— Что?
— Кто накажет Бога за то, что он заставляет нас страдать?
Здесь, у людей, за это сажают в тюрьму или вешают. А кто по-
весит Бога?
— Об этом я еще не думал,— отвечаю я.— Как-нибудь не-
пременно спрошу викария Бодендика.
Мы идем обратно по аллее. В темноте проносятся несколько
светляков. Вдруг Изабелла останавливается.
— Ты слышал?— спрашивает она.
— Что?
— Землю.— Она сделала скачок, точно конь.— Ребенком
я боялась, что упаду во время сна. Я требовала, чтобы меня
привязывали к кровати. Как ты думаешь, можно доверять силе
тяжести?
— Да. Как смерти.
— Не знаю. Ты еще никогда не летал?
— На самолете?
— Что самолет,— говорит Изабелла с легким пренебрежени
ем.— Это каждый может. Нет, во сне.
— Да, летал. Но разве это тоже не каждый может?
— Нет.
— Я думаю, каждому хоть раз да казалось, что он летай
во сне! Это одно из самых распространенных сновидений.
— 4* 640 4* —
— Вот видишь! — отвечает Изабелла.— И ты еще доверяешь
силе тяжести. А что если она в один прекрасный день переста-
нет действовать? Что тогда? Мы же будем носиться в воздухе,
как мыльные пузыри. Кто будет тогда в лучшем положении?
Тот, у кого окажется свинец в ногах или самые длинные руки?
И как тогда слезть сидящему на дереве?
— Не знаю. Но тут и свинец в ногах не поможет. Ведь и он
тогда станет легким, как воздух.
В ней вдруг появляется что-то шаловливое. Луна освещает ее
глаза, и кажется, будто в их глубине горит бледное пламя. Она
откидывает волосы, в холодных лунных лучах они совсем бес-
цветны.
— Ты сейчас похожа на ведьму,— говорю я,— на молодую
и опасную ведьму.
Она смеется.
— На ведьму,— шепчет она.— Наконец-то ты догадался!
Сколько же это тянулось!
Резким рывком она расстегивает широкую синюю юбку, ко-
торая покачивается вокруг ее бедер, юбка падает, и она пере-
ступает через нее. На ней нет ничего, кроме туфель и короткой
распахнутой белой блузки. Тоненькая и белая, стоит она в ноч-
ном сумраке, скорее похожая на мальчика, чем на женщину, во-
лосы ее тусклы, и тусклы глаза.
— Поди ко мне,— шепчет она.
Я окидываю взглядом аллею. Черт побери, а вдруг появится
Бодендик! Или Вернике, или одна из сестер! И злюсь на себя,
что думаю об этом. Изабелла никогда бы не стала думать об
этом. Она стоит передо мной, как дух воздуха, обретший тело,
но готовый тут же улететь.
— Тебе надо одеться,— говорю я.
Она смеется.
— Неужели надо, Рудольф?— насмешливо спрашивает она
и кажется невесомой, я же ощущаю в себе невесть какую силу
тяжести.
Она медленно приближается. Хватает мой галстук и срывает
его. От лунного света губы у нее совсем бесцветные, серо-си-
ние, зубы белеют, как известь, и даже голос как будто потерял
свои краски.
— Сними это!— шепчет она, расстегивает мне ворот и рубаш-
ку. Я чувствую ее холодные руки на своей обнаженной груди.
Они не мягкие, они узкие и твердые и крепко хватают меня.
Дрожь пробегает по моему телу. Что-то, чего я никогда не пред-
полагал в Изабелле, вдруг прорывается наружу, я ощущаю его,
— + 641 4* —
как резкий порыв ветра и толчок, оно идет издалека, оно, слов-
но мягкий ветер с широкой равнины, вдруг сжатый горным
ущельем, и ставший вихрем. Я пытаюсь оторвать от себя ее
пальцы и снова озираюсь. Но она отталкивает мои руки. Она
уже не смеется. В ней вдруг появилась отчаянная серьезность
земной твари, для которой любовь — ненужный придаток, ко-
торая знает только одну цель и готова даже пойти на смерть,
лишь бы ее достигнуть.
Изабелла не отпускает меня, а я не могу справиться с ней,
словно в нее вошла какая-то посторонняя сила, и освободиться
я мог бы, только оттолкнув ее. Чтобы этого избежать, я привле-
каю ее к себе. Так она беспомощнее, но зато совсем близко, она
грудью приникла к моей груди, я ощущаю в своих объятиях ее
тело и чувствую, что невольно прижимаю ее к себе. Нельзя, го-
ворю я себе, ведь она больна, это будет подобно насилию,
но разве не все и всегда насилие? Прямо перед собой я вижу ее
глаза, пустые, без искры сознания, неподвижные и прозрачные.
— Боишься,— шепчет она.— Ты всегда боишься.
— Я не боюсь,— бормочу я.
— Чего? Чего ты боишься?
Я не отвечаю. И страх вдруг исчезает. Серо-синие губы Иза-
беллы прижимаются к моему лицу, вся она холодная, меня же
трясет озноб ледяного жара, по телу бегут мурашки, только го-
лова пылает, я ощущаю зубы Изабеллы, она стоит подле меня,
как стройный, поднявшийся на задние ноги зверь, призрак, дух,
сотканный из лунного света и желания, покойница, нет, живая
воскресшая покойница, ее кожа и губы холодны; жуть и запрет-
ное сладострастие охватывают меня, точно вихрь, я делаю отча-
янное усилие, вырываюсь и так резко отталкиваю ее, что она
падает навзничь...
Изабелла не встает. Она продолжает лежать на земле, похо-
жая на ящерицу, шипит и бормочет бранные слова и оскорбле-
ния, они потоком срываются с ее губ — так ругаются извозчи-
ки, солдаты, девки, иных слов даже я не знаю, оскорбления,
подобные ударам ножа и кнута; я и не подозревал, что ей изве-
стны такие слова, на которые отвечают только кулаками.
— Успокойся!— говорю я.
Изабелла смеется.
— «Успокойся»,— передразнивает она меня.— Заладил: «Ус-
покойся»! Да поди ты к черту!— Она шипит уже громче:— Уби-
райся, жалкая тряпка! Евнух!..
— Замолчи,— говорю я раздраженно.— Не то...
— + 642 4* —
— Не то? А ты все-таки попробуй!— И она выгибается дугой,
упираясь руками и ногами в землю, в бесстыдной позе, скривив
открытый рот презрительной гримасой.
Я смотрю на нее пораженный. Она должна бы вызвать
во мне отвращение, но она его не вызывает. Даже в этой непри-
стойной позе она не похожа на девку, несмотря на все, что она
делает, на те слова, которые выплевывает, на то, как она ведет
себя: и в ней самой, и во всем этом есть что-то отчаянное, ис-
ступленное и невинное. Я люблю ее, мне хотелось бы взять ее
на руки и унести, но я не знаю, куда. Я поднимаю руки, они
словно налиты свинцом, я чувствую свою беспомощность и не-
лепость, свое мещанство и провинциальность.
— Убирайся!— шепчет Изабелла, продолжая лежать на зем-
ле.— Уходи! Уходи! И больше никогда не возвращайся!
Не вздумай опять явиться сюда, старый сыч, святоша, плебей,
кастрат! Убирайся, болван, кретин, мелкая твоя душонка!
И не смей возвращаться!
Она смотрит на меня, теперь уже стоя на коленях, рот сжал-
ся и кажется маленьким, глаза стали плоскими, тускло-серыми
и злыми. Словно все еще сохраняя невесомость, она вскакива-
ет, хватает свою синюю юбку и уходит, легко и быстро ступая
длинными стройными ногами, словно паря в лунном свете, на-
гая танцовщица, помахивающая синей юбкой, как флагом.
Мне хочется догнать ее, позвать, привлечь к себе, но я про-
должаю стоять неподвижно. Я не знаю, что она сейчас сделает
еще, и мне вспоминается, что не в первый раз здесь, у ворот, по-
является нагой человек. Чаще всего это бывают женщины.
Медленно иду я обратно по аллее. Застегиваю рубашку и ис-
пытываю чувство вины. Сам не знаю, почему.
Очень поздно возвращается Кнопф. Судя по шагам, он осно-
вательно нагрузился. Мне действительно сейчас не до обелис-
ка, но именно поэтому я иду к водосточной трубе. В подворот-
не Кнопф останавливается и, как подобает старому вояке,
сначала окидывает испытующим взглядом двор и сад. Все тихо.
Тогда он осторожно приближается к обелиску. Я, конечно,
не надеялся, что бывший фельдфебель бросит свою привычку
от одного единственного предупредительного выстрела. Вот он
уже стоит перед памятником в полной готовности. Осторожно
еще раз поворачивает голову во все стороны. Затем искусный
тактик делает ложный маневр: руки скользят по швам, но это
блеф, он только прислушивается, и лишь после этого, когда вы-
ясняется, что все по-прежнему спокойно, он с удовольствием
— + 643 + —
принимает соответствующую позу, его усы приподнимаются
в торжествующей улыбке, и он приступает к делу.
— Кнопф!— приглушенно вою я через водосточную трубу.—
Свинья этакая, ты опять здесь? Разве я тебя не предупреждал?
Перемена в лице Кнопфа не может не доставить мне удо-
вольствия. Я до сих пор как-то не верил выражению «вытара-
щил глаза», по моему мнению, человек, напротив, щурится, же-
лая что-нибудь получше разглядеть; но Кнопф буквально
выкатывает глаза, словно лошадь, испугавшаяся неожиданного
взрыва гранаты.
— Ты не достоин быть саперного полка фельдфебелем в от-
ставке,— восклицаю я гулким голосом.— А поэтому я тебя раз-
жалую! Разжалую тебя в солдаты второго разряда. Пакостник!
Отойди!
Из горла Кнопфа вырывается хриплый лай.
— Нет! Нет!— каркает он и старается отыскать, из какой ча-
сти двора звучит глас божий. Оказывается, из угла между воро-
тами и стеной его дома. Но там нет ни окна, ни отверстия, и он
не может постичь, откуда же доносится голос.
— Пропала твоя длинная сабля, фуражка с козырьком, на-
шивки!— шепчу я.— Пропал шикарный мундир! Отныне ты
солдат второго разряда, Кнопф, чертов хрыч!
— Нет!— вопит Кнопф, угроза, как видно, попала в самую
точку. Скорее истинный тевтонец даст себе отрезать палец, чем
расстанется со своим титулом.— Нет, нет...— бормочет он
и воздевает лапы, озаренные светом луны.
— Приведи себя в порядок,— приказываю и вдруг вспоми-
наю, как меня обзывала Изабелла, чувствую тоскливый укол
под ложечкой, и на меня, словно град, обрушивается воющее
отчаяние.
Кнопф прислушивается.
— Только не это!— каркает он еще раз и, задрав голову, смо-
трит в небо, на озаренные луной барашки.— Боже мой, только
не это!
Вон он стоит, словно центральная фигура в группе Лаоко-
она, как будто борясь с незримыми змеями позора и разжалова-
ния. И мне приходит на ум, что он стоит совершенно в той же
позе, в какой стоял я час тому назад, и под ложечкой у меня
снова начинает щемить. Мной овладевает неожиданная жа-
лость и к Кнопфу, и к себе. Я становлюсь человечнее.
— Ну ладно,— шепчу я.— Хоть ты и не заслуживаешь, но
я еще раз даю тебе шанс исправиться. Я разжалую тебя только
в ефрейторы, да и то на время. Если ты до конца сентября бу
— + 644 4* —
«Черный обелиск»
дешь справлять нужду, как подобает цивилизованному человеку,
тебя опять произведут в унтер-офицеры; к концу октября —
в сержанты; к концу ноября — в вице-фельдфебели; а на рожде-
ство станешь опять кадровым ротным фельдфебелем в отставке,
понял?
— Так точно, господин... господин...— Кнопф не знает, как
обратиться. Я чувствую, что он колеблется между величеством
и Богом, и своевременно прерываю его:
— Это мое последнее слово, ефрейтор Кнопф! И не воображай,
свинья, что после рождества ты сможешь опять начать безоб-
разничать. Тогда будет холодно, и ты следов не сотрешь. Они
накрепко примерзнут. Если ты еще раз остановишься у обелиска,
тебя поразит электрический удар и такое воспаление простаты,
что тебе ноги сведет от боли. А теперь проваливай отсюда, па-
костный гальюнщик!
Кнопф с непривычной резвостью исчезает в темной пещере
своего входа. Из конторы доносится приглушенный смех. Ока-
зывается, Лиза и Георг тайком наблюдали этот спектакль. «Па-
костный гальюнщик»,— хрипло хихикает Лиза. С грохотом падает
стул. Дверь в комнату Георга закрывается. Ризенфельд как-то
преподнес мне бутылку голландского хеневера с рекомендаци-
ей: употреблять только в очень тяжелые минуты. И я извлекаю
ее на свет. На четырехугольной бутылке яркая этикетка: «Фрис-
хер Хеневер ван П. Бокма, Леуварден». Я открываю бутылку
и наливаю себе большой стакан. Хеневер оказался крепким
и пряным. Он не подвел меня.
XVIII
Гробовщик Вильке смотрит на женщину с удивлением.
— Почему вы не возьмете два маленьких?— спрашивает он.—
Стоит не намного дороже.
Женщина качает головой.
— Они должны лежать вместе.
— Но вы же можете захоронить их в одной могиле,— гово-
рю я.— Вот они и будут вместе.
— Нет, это не то.
Вильке чешет затылок.
— А что вы скажете?— обращается он ко мне.
Женщина потеряла двоих детей. Они умерли в один и тот же
день. И она хочет приобрести для них не только общий памят-
ник, но и общий гроб, нечто вроде двойного гроба. Вот почему
я вызвал Вильке в контору.
— 4* 646 4* —
— Для нас это дело простое,— говорю я.— Памятники с двух-
сторонней надписью мы ставим чуть не каждый день. Бывают
даже семейные памятники, с шестью-восемью именами.
Женщина кивает.
— Пусть так и будет. Пусть лежат вместе. Они и в жизни все-
гда были вместе.
Вильке вынимает из кармана куртки столярный карандаш.
— Да ведь гроб будет выглядеть довольно странно. Он полу-
чится слишком широкий, почти квадратный; ребята же еще
очень маленькие. Сколько им?
— Четыре с половиной.
Вильке набрасывает рисунок.
— Вроде квадратного ящика,— заявляет он наконец.— А вы
не хотите...
— Нет,— прерывает его женщина.— Пусть лежат вместе.
Они близнецы.
— Можно и для близнецов сделать очень красивые отдель-
ные гробики, белые, лакированные. И форма приятнее. Такой
вот двойной квадратный гроб очень некрасив...
— Мне это все равно,— возражает женщина упрямо.— У них
была двойная колыбель и двойная коляска, а теперь пусть у них
будет и двойной гроб. Пусть так и останутся вместе.
Вильке опять делает набросок. Но ничего не получается,
кроме квадратного ящика, его не делает красивее даже плющ
на крышке. Будь это взрослые, можно бы удлинить гроб, но де-
ти слишком коротенькие.
— Я даже не знаю, разрешается ли это,— выдвигает он свой
последний аргумент.
— А почему могут не разрешить?
— Да уж очень необычно.
— А что двое детей умирают в один день — это тоже необыч-
но,— говорит женщина.
— Правда, особенно если близнецы.— Вильке вдруг начина-
ет интересоваться этими детьми.— У них и болезнь та же была?
— Да,— сурово отвечает женщина.— Та же болезнь. Родились
тут же после войны, когда есть было нечего. Близнецы, а у меня
и на одного-то молока не хватало...
Вильке наклоняется к ней.
— Та же самая болезнь!— В его глазах вспыхивает любопытство
исследователя.— Говорят, у близнецов это бывает. Астрология...
— Ну так как насчет гроба?— спрашиваю я. Непохоже, что-
бы женщина стала продолжать разговор с Вильке на эту захва-
тывающую тему.
— 4* 647 4* —
— Попытаюсь,— отвечает Вильке.— Но не знаю, разрешает-
ся ли это. Вы не знаете?— обращается он ко мне.
— Можно справиться в кладбищенской конторе.— А как на-
счет священника? В какую веру крещены младенцы?
Женщина отвечает не сразу.
— Одного крестил католик, другого — евангелист,— нако-
нец отвечает она.—Так мы уговорились. Муж — католик, я —
евангелистка. Поэтому и решили поделить близнецов.
— Значит, одного вы крестили в католическую веру, другого —
в евангелическую?
— Ну да.
— Ив тот же день?
— В тот же день.
Интерес Вильке к странностям жизни пробудился снова.
— И, конечно, в двух разных церквях?
— Разумеется,— нетерпеливо отвечаю я.— Где же еще? А те-
перь...
— Как же вы их различали?— прерывает меня Вильке.— То
есть все это время? Они были очень похожи?
— Да,— отвечает женщина.— Точно два яйца.
— Вот-вот! Так как же можно отличить одного от другого, да
еще таких маленьких? Вам удавалось? Особенно в первые дни,
когда все идет вверх дном?
Женщина молчит.
— Но ведь теперь уж все равно,— заявляю я и делаю Вильке
знак, чтобы он прекратил расспросы.
Но Вильке все еще полон научного любопытства, чуждого
всякой сентиментальности.
— Совсем не все равно,— отвечает он.— Ведь их же придет-
ся хоронить! Один — католик, другой — евангелист. А вы зна-
ете, который католик?
Женщина молчит. Вильке все больше горячится.
— Вы думаете, вам разрешат хоронить их одновременно? А ведь
если у вас будет общий гроб — придется. Но тогда должны при-
сутствовать и два священника, католик и евангелист! А они ни
за что не пойдут на это. Они сильнее ревнуют Господа Бога,
чем мы — наших жен.
— Но вас, Вильке, все это совершенно не касается,— говорю
я и под столом даю ему пинок.
— А близнецы?— восклицает Вильке, не обращая на меня
внимания.— Ведь католика похоронят тогда по евангелическо-
му обряду, а евангелиста — по католическому! Вы представля-
ете себе, какая путаница? Нет, с двойным гробом ничего
— 4* 648 4* —
не выйдет! Два отдельных гроба — вот как придется сделать.
Тогда каждая религия получит своего. А священники могут по-
вернуться друг к другу спиной и их отпевать.
Вильке, видимо, считает, что одна религия — яд для другой.
— Вы уже говорили со священниками?— осведомляюсь я.
— Говорить будет муж,— отвечает женщина.
— Меня очень интересует, как же в таком случае...
— Вы беретесь сделать двойной гроб?— прерывает его жен-
щина.
— Сделать-то можно, но я вам скажу...
— Сколько это будет стоить?— спрашивает она.
Вильке чешет затылок.
— Когда он вам нужен?
— Чем скорей, тем лучше.
— Тогда мне придется всю ночь работать. Сверхурочно. Его
нужно сделать заново, таких нет.
— Сколько это будет стоить?— снова спрашивает его жен-
щина.
— Я вам скажу, когда сдавать буду. Сделаю дешево, ради на-
уки. Я только не смогу взять его обратно, если вам не разрешат.
— Разрешат.
Вильке с удивлением смотрит на женщину.
— А вы откуда знаете?
— Если священники не согласятся — похороним без священ-
ников,— сурово заявляет женщина.— Они всегда были вместе,
пусть вместе и останутся.
Вильке кивает.
— Значит, сговорились. Я вам доставлю гроб, но предупреж-
даю — обратно не возьму.
Женщина вытаскивает из сумки кожаный кошелек на молнии.
— Хотите получить аванс?
— Да уж как полагается. На материал.
Женщина смотрит на Вильке.
— Миллион,— заявляет тот, слегка смущенный.
Женщина дает ему деньги. Бумажки мелко сложены.
— Запишете адрес?— говорит она.
— Я пойду с вами,— отвечает Вильке.— Сниму мерку. Вы
получите хороший гроб.
Женщина кивает и смотрит на меня.
— А памятник? Когда вы его доставите?
— Когда хотите. В общем, памятник ставят обычно через не-
сколько месяцев после похорон.
— А мы не могли бы получить его теперь же?
— 4* 649 4* —
— Конечно. Но лучше подождать. Через некоторое время
земля на могиле осядет. И лучше уже-тогда ставить памятник,
иначе его придется укреплять еще раз.
— Ах так,— отвечает женщина. На миг кажется, что ее зрач-
ки дрожат.— Нам хотелось бы все же получить памятник сей-
час. Разве нельзя... разве нельзя установить его так, чтобы он
потом не оседал?
— Тогда нужно подводить специальный фундамент. Для па-
мятника. Еще до погребения. Хотите?
Женщина кивает.
— На памятнике должны быть их имена,— говорит женщи-
на.— Не будут же они лежать просто так. Лучше, если вы те-
перь же напишете их имена.
Она дает мне номер места на кладбище.
— Я хотела бы тоже уплатить вперед,— говорит она.—
Сколько это стоит?
Она снова открывает кожаный кошелек. Смущенно, как
и Вильке, называю я цену.
— Ведь теперь все считают на миллионы и миллиарды,— до-
бавляю я.
Странно, что иной раз по тому, как люди складывают банк-
ноты, можно судить о том, честные они и порядочные или нет.
Женщина развертывает одну бумажку за другой и кладет
на стол, рядом с образцами гранита.
— Мы отложили эти деньги им на школу,— говорит она.—
Но к тому времени, конечно, их уже не хватило бы, а теперь
хватит хоть на памятник...
— Исключено!— восклицает Ризенфельд.— Вы вообще име-
ете представление о том, сколько стоит черный шведский гра-
нит? Его привозят из Швеции, молодой человек, и он не может
быть оплачен векселями на немецкие марки. За него надо пла-
тить валютой! Шведскими кронами! У нас осталось всего не-
сколько глыб! Для друзей. Последние! Это все равно, что голу-
бые бриллианты! Одну я вам дам — за вечер, проведенный
с мадам Вацек, но две? Вы что, спятили? С таким же успехом
я мог бы потребовать от Гинденбурга, чтобы он стал коммунистом.
— Что за мысль?
— Вот видите! Так примите от меня эту редкость и не пытай-
тесь вытянуть из меня больше, чем ваш шеф. Так как вы одно-
временно и посыльный, и директор конторы, то не ваше дело
заботиться об авансе.
— 4* 650 4* —
— Это-то, конечно, нет. Я действую из чистой любви к гра-
ниту. Притом — платонической. Я даже не намерен его прода-
вать сам.
— Нет?— спрашивает Ризенфельд и наливает себе рюмку
водки.
— Нет,— отвечаю я.— Дело в том, что я решил переменить
профессию.
— Опять?— Ризенфельд так передвигает свое кресло, чтобы
ему было видно окно Лизы.
— На этот раз — да.
— Опять в школьные учителя?
— Нет. Я уже не настолько наивен и не настолько самоуве-
рен. Не посоветуете ли вы мне что-нибудь? Вы ведь повсюду
разъезжаете.
— Что именно?— спрашивает Ризенфельд без всякого интереса.
— Какое-нибудь занятие в большом городе, хотя бы курье-
ром при какой-нибудь газете, мне все равно.
— Оставайтесь тут,— говорит Ризенфельд.— Тут вы на мес-
те. Мне вас будет недоставать. Почему вы хотите уехать?
— Я не могу сказать вам точно. Если бы я мог, не было бы та-
кой срочности. И я не всегда это чувствую, только время от вре-
мени. Но в эти минуты я уверен до черта, что так нужно.
— И сейчас вы уверены?
— Сейчас уверен.
— Боже мой!— восклицает Ризенфельд.— Вы еще не раз бу-
дете жалеть, что уехали отсюда.
— Безусловно. Поэтому я и хочу уехать.
Вдруг Ризенфельд вздрагивает, точно схватился мокрыми ла-
пами за электрический провод. Лиза включила в своей комнате
свет и подошла к окну. Она, вероятно, не видит нас в полутем-
ной конторе и спокойно снимает блузку. Под блузкой у нее ни-
чего нет.
Ризенфельд громко сопит.
— Боже! Разрази меня! Какие груди! Ведь на них спокойно
можно поставить пол-литровую кружку с пивом, и она не упадет!
— Тоже неплохая мысль!— замечаю я.
Глаза Ризенфельда блестят.
— И фрау Вацек всегда показывается в таком виде?
— Она довольно беззаботна. Ведь ее никто не видит, кроме
нас, конечно.
— Слушайте!— говорит Ризенфельд.— И от такой возмож-
ности вы хотите отказаться? Вот уж действительно дуралей.
— + 651 4* —
— Да,— соглашаюсь я и умолкаю, а Ризенфельд, словно ин-
деец в Вюртембергском театре, крадется к окну, держа в одной
руке стакан, в другой — бутылку водки.
Лиза расчесывает волосы.
— Когда-то я мечтал стать скульптором,— говорит Ризен-
фельд, не спуская с нее глаз.— Для такой стоило бы! Черт его
знает, чего только мы в жизни не упускаем!
— Вы хотели стать скульптором по граниту?
— При чем тут гранит?
— При работе с гранитом модели стареют скорее, чем бывают
закончены художественные произведения,— говорю я.— Он
такой твердый. При вашем темпераменте вы могли бы самое
большее работать в глине. Иначе вы оставили бы после себя
только незавершенные изваяния.
Ризенфельд стонет. Лиза сняла юбку, но тут же выключила
свет и намерена уйти в другую комнату. Владелец гранитного
завода еще некоторое время не отходит от окна, затем оборачи-
вается.
— Вам-то легко!— рычит он.— Вас не терзает демон. Самое
большее — ягненок.
— Мерси,— отвечаю я.— И у вас это тоже не демон, а козел.
Что еще?
— Письмо,— заявляет Ризенфельд.— Вы не будете так добры
передать от меня письмо?
— Кому?
— Фрау Вацек! Кому же еще?
Я молчу.
— А я подумаю о какой-нибудь должности для вас.
Но я храню верность Георгу, как нибелунг, хотя бы это стои-
ло мне моей будущности.
— Я и без того о вас позаботился бы,— льстиво заявляет Ри-
зенфельд.
— Знаю,— отзываюсь я.— Только зачем вам писать? Пись-
мами ничего не достигнешь. Да и потом, вы же сегодня уезжаете.
Отложите все это до своего возвращения.
Ризенфельд допивает стакан.
— Может быть, вам покажется смешным, но таких вещей
не откладывают.
В эту минуту Лиза появляется на пороге своей двери. На ней
обтягивающий фигуру черный костюм и туфли с такими высо-
кими каблуками, каких я еще не видывал. Ризенфельд замечает
ее в ту же минуту, что и я. Он хватает со стола свою шляпу и вы-
бегает из комнаты с возгласом:
— + 652 + —
— Лови момент!
Я вижу, как он стрелой мчится по улице. А потом, держа
шляпу в руке, почтительно шагает рядом с Лизой, которая
дважды оглядывается. Наконец оба скрываются за углом. Я га-
даю, чем все это кончится. Георг Кроль, уж конечно, мне все
расскажет. Может быть, ему еще раз повезет и удастся все-таки
выжать из Ризенфельда второй памятник из шведского гранита.
Через двор проходит столяр Вильке.
— Как насчет того, чтобы собраться сегодня вечером?—
кричит он мне в окно.
Я киваю. Я ждал, что он мне это предложит.
— Бах тоже будет?— спрашиваю я.
— Ясно. Иду за сигаретами для него.
Мы сидим в мастерской Вильке среди опилок, гробов, цве-
точных горшков, сосновых досок и горшков с клеем. Пахнет
смолой и свежими сосновыми стружками. Вильке достругивает
крышку гроба для близнецов. Он решил сделать на ней бес-
платно цветочную гирлянду, даже позолоченную. Когда он
чем-нибудь заинтересуется, на заработок ему наплевать. А тут
он заинтересовался.
Курт Бах сидит на черном лакированном гробу, украшенном
имитацией бронзы; подо мной — шедевр из мореного дуба. Пе-
ред нами пиво, колбаса, сыр: мы решаем провести с Вильке «час
духов». Дело в том, что гробовщиком примерно между двенад-
цатью и часом овладевают меланхолия, страх и сонливость. Это
час его слабости. Трудно поверить, но тогда он начинает боять-
ся призраков, и общества канарейки, которая живет в клетке
для попугая над его верстаком, ему становится недостаточно.
Тогда он впадает в уныние, говорит о бесцельности бытия и тя-
нется к водке. Мы не раз находили его потом утром хранящим
на опилках в самом большом гробу, с которым он четыре года
назад так ужасно влип. Гроб был сделан для Блейхфельда, вели-
кана из цирка, который тогда гастролировал в Верденбрюке
и внезапно скончался после ужина, состоявшего из лимбургско-
го сыра, крутых яиц, копченой колбасы, ржаного хлеба и водки,
скончался — однако лишь по видимости, ибо в то время, как
Вильке наперекор всем привидениям всю ночь строгал гроб, ве-
шкан, вдруг вздохнув, восстал со своего смертного ложа и вме-
сто того, чтобы, как полагается честному человеку, тут же изве-
стить Вильке, допил оставшиеся полбутылки водки и завалился
спать. На другое утро он заявил, что денег у него нет и гроба он
не заказывал. Возразить тут было нечего. Цирк уехал, и, так как
— + 653 4* —
гроб этот никто не покупал, Вильке так с ним и остался, и его
мировоззрение на время даже окрасилось некоторой горечью.
Особенно негодовал он на молодого врача Вюльмана, которого
счел во всем виноватым. Вюльман служил два года в армии, ис-
полняя обязанности военного врача, и в нем развился некото-
рый авантюризм. Но ведь у него в лазарете перебывало столько
полумертвых и на три четверти мертвых солдат, причем никто
не возлагал на него ответственность ни за их смерть, ни за кри-
во сросшиеся кости, так что к концу войны у него накопилось
в памяти немало интересных случаев. Поэтому он еще раз про-
крался к великану и сделал ему какой-то укол — Вюльман не раз
наблюдал в лазарете, как от таких уколов умершие снова ожива-
ли; быстренько вернулся к жизни и великан. С тех пор Вильке
стал испытывать к Вюльману невольную антипатию, не исчезла
она и позднее, когда тот стал вполне приличным врачом и по-
сылал родственников своих умерших пациентов к Вильке. А для
Вильке гроб великана служил постоянным напоминанием
о том, что не надо быть слишком легковерным; и, вероятно, он
поэтому же отправился с матерью близнецов к ней на квартиру,
желая самолично убедиться, не разъезжают ли умершие ребята
опять на деревянных лошадках. Для Вильке, при его самоува-
жении, было бы нестерпимо, если бы рядом с непродававшим-
ся великанским гробом у него застрял также квадратный гроб
для близнецов и в его мастерской образовался бы какой-то
склад гробов. Больше всего сердился он на Вюльмана за то, что
ему так и не удалось поговорить с великаном по душам. Он все
бы ему простил, если бы проинтервьюировал относительно того
света. Ведь великан был в течение нескольких часов все равно
что мертв, а Вильке, с его любительской страстью ко всяким ис-
следованиям и страхом перед духами, многое бы дал за то, что-
бы получить сведения о потустороннем мире.
Курт Бах всем этим абсолютно не интересуется. Это дитя
природы все еще состоит членом берлинской общины свободно
верующих, чей лозунг гласит: «Ты жизнь земную сделай доброй
и красивой — ведь нет миров иных, не свидимся с тобой мы».
И особой причудой судьбы кажется то, что он все же стал
скульптором, связанным с потусторонним миром — с ангелами,
умирающими львами и орлами! Однако раньше он стремился
к иному. Когда он был моложе, он ощущал себя чем-то вроде
племянника Микеланджело.
Канарейка заливается. Свет мешает ей спать. Рубанок Вильке
издает шипящий звук. За открытым окном стоит ночь.
— + 654 4* —
— Как вы себя чувствуете?— спрашиваю я Вильке.— Поту-
стороннее уже стучится в дверь?
— И да, и нет. Ведь только половина двенадцатого. У меня такое
же чувство, как если бы я, при длинной бороде и в дамском пла-
тье с глубоким вырезом, отправился гулять. Довольно неприятно.
— А вы сделайтесь монистом,— советует Курт Бах.— Когда
ни во что не веришь, особой жути никогда не испытываешь
и не бываешь смешон.
— Тоже не годится,— говорит Вильке.
— Может быть. Но уж, во всяком случае, не будешь чувство-
вать себя, как человек с большой бородой и в декольтирован-
ном дамском платье. Так я себя чувствую, только когда ночью
смотрю в окно, вижу небо с его звездами и миллионами свето-
вых лет и должен верить, будто надо всем этим восседает некое
существо вроде сверхчеловека и для него очень важно, что по-
лучится из Курта Баха.
Дитя природы спокойно отрезает себе кусок колбасы и ест
его. Вильке нервничает все больше. Полночь уже совсем близ-
ко, а в эту пору он не любит таких разговоров.
— Холодно, правда?— замечает он.— Уже осень.
— Можете спокойно оставить окно открытым,— говорю я,
видя, что он хочет закрыть его.— Это бесполезно. Духи отлич-
но проходят сквозь стекло. Лучше взгляните-ка вон на ту ака-
цию! Прямо Лиза Вацек среди акаций. Слышите, как в ее лист-
ве шумит ветер! Точно вальс в шелковых нижних юбках
молодой женщины. Но настанет день, когда акацию срубят,
и вм будете делать из нее гробы.
— Из дерева акации нельзя. Их делают из дуба, ели, красно-
го дерева...
— Ладно, ладно, Вильке! Что, водка еще осталась?
Курт Бах передает мне бутылку. Вдруг Вильке вздрагивает
всем телом, он чуть при этом не отхватил себе рубанком палец.
— Слышите?— испуганно спрашивает он.
На лампочку налетел жук.
— Спокойно, Альфред,— говорю я.— Это не весть из потус-
тороннего мира. Просто скромная драма в царстве животных.
Навозный жук, стремящийся к солнцу, которое воплотилось
для него в стосвечовой лампочке, висящей в заднем флигеле до-
ма номер три по Хакенштрассе.
Мы договорились, что начнем перед самой полночью и бу-
дем до конца «часа духов» называть Вильке на «ты». Ему ка-
жется, что он тогда более защищен. После часу мы опять перей-
дем на формальное «вы».
— + 655 4* —
— Не понимаю, как можно жить без религии,— обращается
Вильке к Курту Баху.— Что же тогда делать ночью, когда про-
сыпаешься во время грозы?
— Летом?
— Конечно, летом. Зимою гроз не бывает.
— Надо выпить чего-нибудь холодного,— отвечает Курт
Бах.— А потом продолжать спать.
Вильке качает головой. В «час духов» он становится не только
пугливым, но и чрезвычайно религиозным.
— Я знал одного человека, который, когда начиналась гроза,
отправлялся в бордель,— говорю я.— У него прямо потреб-
ность возникала. Так-то он был импотентом; и только во время
грозы это проходило. Едва он замечал приближение грозовой
тучи, он тут же хватал телефонную трубку и просил Фрици при-
нять его. Лето 1920 года было для него лучшим периодом его
жизни — оно так и кишело грозами. Иной раз бывали четыре
или пять на дню.
— А что он делает теперь?— с интересом спрашивает Виль-
ке, этот любитель исследований.
— Умер,— отвечаю я.— Скончался во время последней
страшной грозы, в октябре 1920 года.
В доме напротив ночной ветер шумно захлопывает какую-то
дверь. На церковных колокольнях бьют часы. Полночь. Вильке
опрокидывает стаканчик водки.
— А что если нам прогуляться на кладбище?— спрашивает
безбожник Курт, который иногда бывает недостаточно чуток.
Усы Вильке дрожат от ужаса, ветер дует прямо в окно.
— И это называется друзья!— восклицает он с горькой уко-
ризной. И тут же снова пугается.— Слышите?
— Парочка в саду. Перестань-ка строгать, Альфред. Ешь!
Привидения не любят людей, которые едят. Шпротов у тебя
не найдется?
Альфред смотрит на меня, как пес, которого пнули в ту ми-
нуту, когда он следовал зову природы.
— Неужели нужно напоминать мне об этом именно сейчас?
Напоминать о моих неудачах в любви и о том, как тяжело оди-
ночество для мужчины, когда он в самом соку?
— Ты жертва своей профессии,— отвечаю я.— Не каждый
может это сказать о себе. Но пора сесть за наш souper*! Так это
называют в высшем обществе.
’ Ужин (фр.).
— + 656 4* —
Мы беремся за сыр и колбасу и откупориваем бутылки с пи-
вом. Канарейке дают листок салата, и она жизнерадостно лику-
ет, не спрашивая себя, атеистка она или нет. Курт Бах поднима-
ет землистое лицо и потягивает носом.
— Пахнет звездами,— замечает он.
— Чем?— Вильке опускает бутылку в опилки.— Это еще что
за выдумки?
— В полночь вселенная пахнет звездами.
— Брось, пожалуйста, свои штуки. Как может человек жить,
если он ни во что не верит да еще говорит такие вещи?
— Ты что, хочешь обратить меня в истинную веру?— спра-
шивает Курт Бах.—Ты, вымогатель наследия Божия?
— Нет, нет! А может быть, и да, пожалуйста! Опять шорох?
— Да,— отвечает Курт.— Шорох любви.
Мы снова слышим, как за окном кто-то осторожно крадется.
Вторая парочка исчезает среди леса надгробий. Видно скользя-
щее белое пятно — это платье девушки.
— А почему покойники выглядят совершенно иначе, чем жи-
вые,— спрашивает Вильке,— даже близнецы?
— Оттого, что их лица уже не искажены,— отвечает Курт
Бах.
Вильке даже перестает жевать.
— Как так?
— Не искажены жизнью,— поясняет монист.
Вильке приглаживает книзу усы и продолжает жевать.
— В такое время могли бы, кажется, прекратить свои глупо-
сти! Неужели для вас нет ничего святого?
Курт Бах беззвучно смеется.
— Бедняга, ты как усик плюща, вечно тебе нужно за что-ни-
будь цепляться!
— А тебе?
— Мне тоже.— Глаза на лице Курта, словно вылепленном
из глины, блестят, как будто они стеклянные. Обычно он, это
дитя природы, довольно замкнут и в нем видишь только скульп-
тора-неудачника с неудавшимися мечтами; но порою прообра-
зы этих мечтаний словно прорываются наружу такими, какими
были двадцать лет назад, и тогда он кажется опоздавшим ро-
диться фавном, одержимым видениями.
Со двора снова доносится потрескивание, шепот и шорох.
— Две недели назад тут была целая история,— говорит Виль-
ке.— Какой-то слесарь забыл вынуть из кармана свой инстру-
мент, и они так бурно обнимались и так неудачно расположи-
лись, что дама вдруг напоролась на шило. Тогда она сразу
— 4* 657 4* —
вскакивает, хватает маленький бронзовый венок и как даст ме-
ханику по башке. Вы разве не слышали об этом случае?— обра-
щается он ко мне.
— Нет.
— Она так крепко насадила венок ему на уши, что он не мог
его стащить. Я зажигаю свет, спрашиваю, в чем дело. Парень
в страхе удирает, а на голове у него, как у римского политичес-
кого деятеля, бронзовый венок. Разве вы не заметили, что у вас
одного венка не хватает?
— Нет!
— Подумать только. Он, значит, убегает, будто за ним гонит-
ся рой ос. Я спускаюсь во двор. А барышня еще тут, смотрит
на свою руку. «Кровь,— говорит,— он меня уколол! И в такую
минуту!» Я смотрю на землю, вижу шило и рисую себе всю кар-
тину. Потом поднимаю это самое шило. «Может произойти за-
ражение крови,— говорю я,— палец перевязать можно, задик —
нет. Даже такой прелестный, как ваш». Она краснеет...
— Как ты мог это увидеть в темноте?— спрашивает Курт Бах.
— Светила луна.
— При луне не видно, если человек краснеет.
— Но это чувствуется,— заявляет Вильке.— Значит, она
краснеет, но все-таки держит юбку так, чтобы та не прикаса-
лась к телу. Платье на ней было светлое, а пятна крови нелегко
отмыть, вот почему. «У меня есть йод и пластырь,— говорю,—
и я умею молчать. Пойдемте». Она идет и даже не пугается.—
Вильке поворачивается ко мне.— Тем ваш двор и хорош,—
с воодушевлением добавляет он.— Если кто любит среди мо-
гильных памятников, тому гробы не страшны. Так вот и случи-
лось, что после йода, пластыря и глотка портвейна гроб велика-
на послужил еще кое для чего.
— Он стал беседкой любви?— спрашиваю я, чтобы знать на-
верняка.
— Истинный кавалер вкушает блаженство, но молчит,— от-
вечает Вильке.
В эту минуту между тучами появляется луна. Сияет белиз-
ною мрамор в саду, поблескивают черные кресты, а между ни-
ми мы видим четыре парочки: две расположились среди мра-
морных памятников, две — среди гранитных. На миг они
замирают, оцепенев от неожиданности,— им остается только
бежать или совершенно игнорировать новую ситуацию. Бегст-
во — дело не столь безопасное; правда, можно благополучно
скрыться, но зато получить такой нервный шок, что станешь
импотентом. Я знаю об этом от одного ефрейтора, которого
— + 658 4* —
младший фельдфебель саперных войск застал в лесу с кухар-
кой,— этот ефрейтор на всю жизнь лишился мужской силы,
и жена через два года с ним развелась.
Парочки поступают правильно. Словно олени, смотрят они
вокруг и, обратив взоры на наше окно, единственное, которое
освещено — оно светилось и раньше,— остаются на месте, точ-
но их изваял Курт Бах. Теперь они — воплощенная невинность,
правда немного смешная, как, впрочем, и скульптуры Курта Баха.
И тут облако начисто стирает луну, эта часть сада погружается
во мрак, и освещенным остается только обелиск. Но что там
за блещущий фонтан? Поливая обелиск, стоит Кнопф, подоб-
ный брюссельской статуе, которую знает каждый солдат, ездив-
ший в отпуск в Бельгию.
Кнопф слишком далеко, и помешать ему уже ничем нельзя.
Да у меня сегодня и не такое настроение. Почему я должен ре-
агировать, как домашняя хозяйка. Сегодня я решил уехать
из этих мест и поэтому ощущаю поток жизни с удвоенной си-
лой, я чувствую ее во всем: в запахе свежих опилок и в лунном
свете, в шорохе и скольжении парочек, в невыразимо волную-
щем слове «сентябрь», в моих пальцах, которые шевелятся, го-
товые схватить эту жизнь, в моих глазах, без которых все музеи
мира опустели бы, в призраках, привидениях и во всем преходя-
щем, в отчаянном беге земли, несущейся мимо Кассиопеи
и Плеяд, в предчувствии бесконечных неведомых садов под не-
ведомыми звездами, а также важных должностей в больших не-
ведомых газетах, в предчувствии рубинов, сейчас срастающихся
под землей в пунцовое сияние. Я ощущаю эту жизнь и потому
не могу запустить пустой пивной бутылкой в фельдфебеля
Кнопфа, извергающего тридцатисекундный фонтан...
В ту же минуту начинают бить часы. Час. Время духов мино-
вало, мы опять можем называть Вильке на «вы», пьянствовать
дальше или опуститься в сон, как в горную шахту, в которой есть
уголь, трупы, белые дворцы из соли и скрытые в земле алмазы.
XIX
Она сидит в уголке своей комнаты возле окна.
— Изабелла,— говорю я.
Она молчит. Ее веки трепещут, как бабочки, которых дети
живьем насаживают на булавки.
— Изабелла, я пришел за тобой.
Она испуганно прижимается к стене. И продолжает сидеть,
судорожно вытянувшись, словно оцепенев.
— Разве ты меня не узнаешь?— спрашиваю я.
— + 659 4* —
Она недвижима; только глаза смотрят теперь в мою сторону,
настороженные, очень темные.
— Тебя прислал тот, кто выдает себя за врача,— шепчет она.
Это правда. Меня прислал Вернике.
— Он не посылал меня,— говорю я.— Я пришел тайком. Ни-
кто не знает, что я здесь.
Она медленно отделяется от стены.
— Ты тоже меня предал.
— Я тебя не предавал. Я не мог к тебе пробиться. Ты не вы-
ходила.
— Мне же нельзя было,— шепчет она*.— Они все стояли сна-
ружи и ждали. Хотели меня поймать. Они проведали, что
я здесь.
— Кто?
Она смотрит на меня и не отвечает.
«Какая она худенькая! — думаю я.— Какая худенькая и оди-
нокая в этой пусдюй комнате. Она даже лишена общества самой
себя. Она даже не может остаться наедине со своим «я»; разо-
рванная, точно граната, на множество острых осколков страха,
среди чуждого и угрожающего ландшафта, полного неулови-
мых угроз».
— Никто не ждет тебя,— говорю я.
— Ждут.
— Откуда ты знаешь?
— А голоса? Разве ты их не слышишь?
— Нет.
— Голосам все известно. Разве ты их не слышишь?
— Это ветер, Изабелла.
— Да,— покорно соглашается она.— Пусть ветер. Если бы
только это не причиняло такой боли.
— А что причиняет тебе боль, Изабелла?
— Перепиливание. Они же могли бы резать, тогда дело пош-
ло бы живее. Но это тупое, медленное перепиливание! И все
опять снова срастается, оттого что пилят слишком медленно! А
тогда они начинают сначала и это продолжается без конца. Они
распиливают тело, а оно все время срастается, и так без конца.
— Кто распиливает?
— Голоса.
— Голоса не могут распиливать.
— Эти могут.
— Где же они распиливают?
Изабелла делает движение, словно от резкого приступа боли.
Она стискивает руки между коленями.
— + 660 + —
— Они стараются выпилить ребенка. Чтобы у меня никогда
не было детей.
— Да кто?
— Те, там, снаружи. Она говорит, что родила меня. А теперь
хочет опять силком вернуть меня в себя. И распиливает, распи-
ливает. А он держит меня,— Изабелла содрогается.— Тот, ко-
торый в ней...
— В ней?
Она стонет:
— Не говори никому... она хочет меня убить... Но я не долж-
на этого знать.
Я направляюсь к ней и обхожу кресло с узором из бледных
роз: это кресло, имитирующее беспечную жизнь, кажется в пу-
стой комнате особенно неуместным.
— Чего ты не должна знать?
— Она хочет убить меня. Мне нельзя спать. Почему никто
не бодрствует вместе со мной? Все я одна должна делать. А я так
устала,— жалуется она, словно птичка.— Так жжет, и я не могу
спать, и я так устала. Но разве можно спать, когда так жжет
и никто с тобой не бодрствует? Вот и ты меня покинул.
— Я тебя не покинул.
— Ты с ними разговаривал. Они тебя подкупили. Почему ты
не держал меня? Голубые деревья и серебряный дождь. Но ты
не захотел. Ни разу! А ты мог бы меня спасти!
— Когда?— спрашиваю я и чувствую, как во мне что-то дро-
жит, я не хочу, чтобы оно дрожало, но оно дрожит, дрожит,
и мне чудится, будто комната уже не стоит спокойно на месте,
будто дрожат стены. Они состоят уже не из кирпичей, извести
и штукатурки, а из сконцентрированных колебаний биллионов
нитей, которые бегут от горизонта до горизонта и за него,
и только здесь уплотнились в четырехугольную тюремную ка-
меру, сплетенную из веревок для виселиц и петель повешен-
ных, а в них барахтается какой-то несчастный комочек тоски
и страха перед жизнью.
Изабелла опять отворачивается лицом к стене.
— Ах, все погибло, еще много жизней назад.
Вдруг в окно проникают сумерки. Они затягивают его почти
незримой серой вуалью. Мир еще остается таким же, каким
был,— свет в саду, зелень и желтизна аллей, две пальмы в боль-
ших майоликовых газонах, небо с полями облаков, за селом —
далекий город с пестротою серых и красных крыш,— но все уже
другое, сумерки изолировали каждый предмет, покрыли его ла-
ком преходящего, как хозяйка заправляет уксусом тушеное мя-
— + 661 4* —
со, и подготовили для ночных теней, которые, подобно волкам,
сожрут его. Осталась только Изабелла, вцепившаяся в послед-
ний канат света, но и она уже втянута им в драму вечера, хотя
он никогда не был драмой и становится ею для нас лишь потому,
что он знаменует собой исчезновение, и мы это знаем. Но с тех
пор как мы узнали, что должны умереть, и потому, что мы это
узнали, идиллия превратилась в драму, круг — в копье, станов-
ление — в исчезновение, крик — в страх, бегство — в приговор.
Я крепко держу Изабеллу в объятиях. Она дрожит, смотрит
на меня и прижимается ко мне, а я обнимаю ее, мы обнимаем
друг друга — двое чужих людей, которые ничего не знают друг
о друге и обнялись потому, что не понимают друг друга, и один
видит в другом не того, кем тот является на самом деле; и все-
таки они черпают утешение даже из этого непонимания, двой-
ного, тройного, бесконечного; и все-таки это единственное,
что, подобно радуге, кажется мостом там, где никакого моста
не может быть и где есть лишь отражение друг в друге двух зер-
кал, многократно повторяющееся и уходящее в пустоту все бо-
лее отступающей дали.
— Отчего ты меня не любишь?— шепчет Изабелла.
— Я люблю тебя. Все во мне любит тебя.
— Этого мало. Другие все еще тут. Если бы ты любил доста-
точно, ты бы убил их.
Я держу ее в объятиях и смотрю поверх ее головы в окно, где
тени аметистовыми волнами легко встают с равнины и из аллей.
Все в душе очерчено резко и ясно, и вместе с тем мне чудится,
что я стою на узкой площадке, поднятой очень высоко над бор-
мочущей бездной.
— Ты бы не допустил, чтобы я жила вне тебя,— шепчет Иза-
белла.
Я не знаю, что ответить. Когда она так говорит, ее слова все-
гда волнуют меня, словно в них кроется какая-то более глубо-
кая правда, чем я могу понять, точно она лежит по ту сторону
вещей, где уже не существует имен и названий.
— Ты чувствуешь, как становится холодно?— спрашивает
она, прижимаясь к моему плечу.— Каждую ночь все умирает.
Сердце тоже. Они распиливают его.
— Ничто не умирает, Изабелла. Никогда.
— Нет, умирает. Каменное лицо трескается, разлетается на кус-
ки. А на другой день оно снова тут. Ах, это не лицо! Как мы
лжем нашими убогими лицами! Ты тоже лжешь!
— Да,— соглашаюсь я.— Но я лгать не хочу.
— + 662 4* —
— Нужно соскоблить это лицо, пока ничего от него не оста-
нется. Только гладкая кожа. Больше ничего! Но и тогда еще оно
остается. Оно начинает снова нарастать. Если бы все останови-
лось, не было бы боли. Почему они хотят отпилить меня прочь
от всего? Почему она желает забрать меня обратно? Я же ниче-
го не выдам!
— А что ты могла бы выдать?
— То, что цветет. Оно полно тины. Оно ведь побывало в ка-
налах.
Изабелла снова начинает дрожать и прижимается ко мне.
— Они заклеили мне глаза. Клеем. А потом прокололи игол-
ками. Но я все равно не могу отвести глаз.
— От чего отвести?
Она отталкивает меня.
— Они тебя тоже послали в разведку! Но я ничего не выдам.
Ты шпион. Они тебя купили! Если я скажу, они меня убьют.
— Я не шпион. И зачем им тебя убивать, если ты мне ска-
жешь? Они и так могли бы с успехом это сделать. Если я буду
знать, то они и меня должны убить. Ведь тогда знал бы еще
один человек.
Это до нее доходит. Она снова смотрит на меня. Думает. Я стою
очень тихо, едва дыша. У меня такое чувство, словно мы очути-
лись перед дверью, за которой может быть свобода — то, что
Вернике называет свободой. Возврат из садов безумия на нор-
мальные улицы, в нормальные дома, к нормальным отношени-
ям. Не знаю, насколько такая жизнь будет лучше, но, когда пе-
редо мной это измученное создание, я могу размышлять.
— Если ты мне объяснишь, в чем дело, они оставят тебя в по-
кое,— говорю я.— А если не оставят, я призову на помощь. По-
лицию. Газеты. Тогда твои враги испугаются. А тебе уже нече-
го будет бояться.
Она стискивает руки.
— Это еще не все,— наконец говорит она с усилием.
— А что еще?
В один миг лицо ее становится жестким и замкнутым. Муки
и нерешительности как не бывало. Рот кажется маленьким
и сжатым, подбородок выдается вперед. Сейчас она чем-то на-
поминает тощую и злую старую деву-пуританку.
— Оставь, пожалуйста,— говорит она. Даже голос у нее из-
менился.
— Хорошо, оставим. Ничего не открывай мне.
— + 663 4* —
Я жду. Ее глаза поблескивают, как мокрые шиферные кры-
ши в свете угасающего дня. В них словно собраны все серые от-
тенки сумерек. Она смотрит на меня надменно и насмешливо.
— Вон чего захотел? Не вышло, шпион!
Мной овладевает беспричинная ярость, хотя я же знаю, что
она больна и эти срывы сознания происходят молниеносно.
— Поди ты к черту,— говорю я гневно.— Какое мне дело
до всего этого?
Я вижу, как лицо ее снова меняется, но я быстро выхожу
из комнаты, полный непонятного возмущения.
— Ну и...— спрашивает Вернике,
— Вот и все. Зачем вы послали меня к ней в комнату? Ниче-
го это не улучшило. Я не гожусь в санитары. Вы видите, мне
следовало бережно ее уговаривать, а я на нее накричал и выбе-
жал из комнаты.
— Результат был лучше, чем вы полагаете.— Вернике доста-
ет скрытую книгами бутылку и наливает два стаканчика.— Ко-
ньяк,— поясняет он.— Я бы хотел знать одно: как она почуяла,
что мать пока здесь?
— Ее мать здесь?
Вернике кивает.
— Приехала два дня назад. Но матери она еще не видела. Даже
из окна.
— А почему она не могла ее увидеть?
— Ей тогда пришлось бы высунуться не знаю как далеко на-
ружу и иметь глаза, как полевой бинокль.— Вернике рассмат-
ривает на свет свой стаканчик с коньяком.— Но иногда такие
больные чуют подобные вещи. А может быть, она просто дога-
далась, и я сам навел ее на эту мысль.
— Зачем?— спрашиваю я.— Никогда еще приступ болезни
не был так силен.
— Неверно,— отвечает Вернике.
Я ставлю свой стаканчик на стол и окидываю взглядом тол-
стые тома его библиотеки.
— Очень она жалкая, просто тоска берет.
— Жалкая — да, но не более больная.
— Вам не следовало трогать ее, оставить такой, какой она
была летом. Тогда она чувствовала себя счастливой. А теперь ее
состояние ужасно.
— Да, ужасно,— соглашается Вернике.— Оно почти такое,
как если бы все, что она вообразила, имело место в действи-
тельности.
— 4* 664 4* —
— Она сидит точно в застенке.
Вернике кивает.
— Люди думают, что таких вещей уже не существует. Нет, они
существуют. Здесь у каждого в голове свой собственный застенок.
— И не только здесь.
— И не только здесь,— с готовностью соглашается Вернике
и делает глоток коньяку.— Но здесь у многих в голове застенок.
Хотите убедиться? Наденьте белый халат. Скоро время вечер-
него обхода.
— Нет,— говорю,— я еще помню последний раз, когда ходил
с вами.
— Тогда вы видели войну, которая тут еще продолжает буше-
вать. Хотите посмотреть другое отделение?
— Нет. У меня и то осталось в памяти.
— Вы видели не всех, а только некоторых.
— Я повидал достаточно.
И мне представляются эти создания, которые неделями сто-
ят по углам, скрючившись и оцепенев, или, не зная отдыха, ме-
чутся вдоль стен, перелезают через койки, или, с побелевшими
от ужаса глазами, кричат и задыхаются в смирительных рубаш-
ках. Беззвучные грозы хаоса обрушиваются на них, и червь, ко-
готь, чешуя, студенистое, безногое, извивающееся прабытие,
ползающее, доинтеллектуальное существо, жизнь падали тя-
нется к их кишечнику, паху, позвоночнику, чтобы стащить их
снова вниз, в тусклый распад начала, к чешуйчатым телам
и безглазому заглатыванию,— и они, вопя, словно охваченные
паникой обезьяны, взбираются на последние облетевшие ветви
своего мозга и гогочут, скованные охватывающими их все выше
змеиными кольцами, в последнем нестерпимом ужасе перед ги-
белью — не сознания, но в ужасе, еще более нестерпимом, пе-
ред гибелью клеток, перед криком криков, страхом страхов, пе-
ред смертью, не индивидуума, а клеток, артерий, крови,
подсознательных центров, которые безмолвно управляют пече-
нью, железами, кровообращением, в то время как под черепом
пылает огонь.
— Хорошо,— говорит Вернике.— Тогда пейте коньяк.
Бросьте свои прогулки в пропасти подсознания и прославляйте
жизнь.
— Зачем? Оттого, что все так отлично устроено в этом мире?
Один пожирает другого, а потом самого себя?
— Да оттого, что вы живете, наивный вы чудак! А для про-
блемы сострадания вы еще слишком молоды и неопытны.
— + 665 + —
Когда вы будете постарше, вы заметите, что проблемы этой
не существует.
— Кое-какой опыт у меня все же есть.
Вернике качает головой.
— Напрасно вы задаетесь, хоть и побывали на войне. То, что
вы познали, имеет отношение не к метафизической проблеме
сострадания — это всего лишь часть общего идиотизма, прису-
щего человеческой породе. Великое сострадание начинается
с другого момента и к другому приводит, оно — по ту сторону
и таких нытиков, как вы, и таких торговцев утешениями, как
Бодендик...
— Ладно, сверхчеловек вы этакий,— говорю я.— Но разве
это дает вам право пробуждать в головах ваших больных пере-
живания ада, чистилища или медленной равнодушной смерти?
— Право...— отзывается Вернике с бездонным презрени-
ем,— насколько же приятнее честный убийца, чем такой вот ад-
вокат, как вы! Что вы понимаете в вопросах права? Еще мень-
ше, чем в вопросе о сострадании, вы, сентиментальный схоласт!
Он поднимает свой стакан, усмехается и миролюбиво погля-
дывает в темнеющее окно. Искусственный свет лампы все ярче
золотит коричневые и пестрые корешки книг. Нигде не кажет-
ся этот свет настолько драгоценным и символичным, как здесь
наверху, где ночь — это вдобавок и полярная ночь сознаний.
— В плане мироздания предусмотрено либо одно, либо дру-
гое,— говорю я.— Но примириться с этим я не могу, и если вы
считаете это признаком человеческой ограниченности, я готов
всю жизнь оставаться таким, какой я сейчас.
Вернике встает, берет с вешалки шляпу, надевает ее, снима-
ет, раскланиваясь передо мной, потом снова вешает и снова са-
дится.
— Да здравствует добро и красота!— восклицает он.— Я это
и хотел сказать. А теперь выкатывайтесь отсюда! Пора начи-
нать вечерний обход.
— Разве вы не можете дать Женевьеве Терговен какое-ни-
будь снотворное?
— Конечно, могу, но оно ее не вылечит.
— Почему же вы хоть сегодня не дадите ей отдохнуть?
— Я даю ей отдохнуть. И снотворное дам.— Он подмигивает
мне.— Сегодня вы превзошли целый консилиум врачей. Боль-
шое спасибо.
Я нерешительно смотрю на него. К черту все его лекции, думаю
я, к черту его коньяк! И к черту его богоподобные сентенции.
— Да, сильное снотворное!— заявляю я.
— 4* 666 4* —
— Лучшее, какое есть. Вы когда-нибудь бывали на Востоке?
В Китае?
— Каким образом я мог попасть в Китай?
— А я там побывал,— говорит Вернике,— перед войной.
В годы наводнений и голодовок.
— Ну да,— заявляю я.— Могу представить себе, что вы сей-
час скажете, но я не хочу этого слышать. Достаточно я об этом
читал. Вы сейчас пойдете к Женевьеве Терговен? Прежде всего?
— Прежде всего. И успокою ее.— Вернике улыбается.—
Но зато до известной степени нарушу покой ее матери.
— Что тебе, Отто?— спрашиваю я.— Нет у меня сегодня на-
строения рассуждать о поэтическом размере оды! Иди к Эдуарду!
Мы сидим в помещении клуба поэтов. Я пришел сюда, чтобы
отвлечь свои мысли от Изабеллы; но вдруг все здесь становится
мне противным. Кому нужно это бряцание рифмами? Мир за-
дыхается в страхе и крови. Я знаю, что это очень дешевый вы-
вод и к тому же ужасно неверный, но я уже устал то и дело ло-
вить себя на драматизированных банальностях.
— Так что же случилось?— спрашиваю я.
Отто Бамбус смотрит на меня, как сова, которую накормили
пахтаньем.
— Я там был,— укоризненно заявляет он.— Еще раз. Снача-
ла вы человека туда гоните, а потом знать ничего не хотите!
— В жизни всегда так бывает. А где же ты был?
— На Банштрассе. В борделе.
— Что же в этом нового?— спрашиваю я рассеянно.— Мы
явились туда все вместе, мы за тебя заплатили, а ты удрал. Что
мы, должны за это поставить тебе памятник?
— Ноя там был еще раз,— повторяет Отто.— Один. Да по-
слушай же меня наконец!
— Когда?
— После того вечера в «Красной мельнице».
— Ну и...?— вяло спрашиваю я.— Ты опять отступил перед
фактами жизни?
— Нет,— отвечает Отто.— На этот раз не отступил.
— Ну, молодец. И что же, это была Железная Лошадь?
Бамбус краснеет.
— Не все ли равно?
— Ладно,— говорю я.— Зачем же тогда говорить об этом?
Ведь ты не единственный на свете. Довольно много людей спят
с женщинами.
— Ты не понимаешь меня. Все дело в последствиях.
— + 667 4* —
— Какие же последствия? Я уверен, что Железная Лошадь
не больна. А такие вещи очень часто воображают, особенно
вначале.
Отто делает страдальческую гримасу.
— Да я не в этом смысле! Ты же можешь понять, почему
я это сделал. Все шло отлично с обоими циклами моих стихов,
особенно с «Женщиной в пурпуре», но мне казалось, что надо
еще усилить свое вдохновение. Хотелось закончить цикл, до то-
го как я вернусь в деревню. Поэтому я еще раз отправился
на Банштрассе. И все произошло, как полагается. Но представь
себе, после этого — ничего! Ничего! Ни одной строчки! Ну точ-
но отрезало! А ведь я ждал, что будет как раз наоборот!
Я смеюсь, хотя мне вовсе не до смеха.
— Да, такова несчастная судьба художников!
— Хорошо тебе смеяться,— взволнованно говорит Бамбус.—
А я-то сел на мель! Одиннадцать безукоризненных сонетов го-
тово, и надо же, чтобы на двенадцатом случилось такое несчастье!
Фантазия отказала! Конец! Точка!
— Таково проклятие свершения,— говорит Хунгерман, кото-
рый в это время подошел к нам и, видимо, уже в курсе собы-
тий.— Оно ничего не оставляет. Голодный грезит о жратве. А сы-
тому она противна.
— Он опять проголодается, и грезы вернутся,— отвечаю я.
— У тебя — да, не у Отто,— заявляет Хунгерман с доволь-
ным видом.— Ты человек поверхностный и нормальный, Отто
гораздо глубже. Он сменил один комплекс на другой. Не смей-
ся, может быть, как писатель он кончен. Так сказать, похороны
в веселом доме.
— Я пуст,— растерянно говорит Отто.— Пуст, как никогда.
Я разорен. Где мои мечты? Исполнение — враг желания. Мне
следовало это знать!
— Напиши об этом.
— Мысль неплохая!— Хунгерман вытаскивает блокнот.—
Впрочем, эта мысль мне первому пришла в голову. Она не для
Отто — его стиль недостаточно суров.
— Он может написать в духе элегии. Или как плач. Космиче-
ская скорбь, звезды падают, словно золотые слезы, сам Господь
Бог рыдает, оттого что так испоганил мир, осенний ветер, слов-
но аккомпанируя, исполняет реквием...
Хунгерман торопливо записывает.
— Вот удивительно,— говорит он.— Почти теми же словами го-
ворил я себе то же самое неделю назад. Жена — свидетельница.
Отто слегка навострил уши.
— + 668 4* —
— И еще я боюсь, не подцепил ли там что-нибудь,— говорит
он.— Через сколько времени это можно определить?
— При гонорее — три дня, при люэсе — месяц,— не задумы-
ваясь, отвечает женатый человек Хунгерман.
— Ничего ты не подцепил,— говорю я.— Сонеты не заража-
ются люэсом. Но настроение ты можешь использовать. Повер-
ни руль! Если ты не в состоянии писать за, пиши против! Вместо
гимна женщине в пурпуре и багреце — мучительная жалоба.
Гной капает со звезд, Иов покрыт язвами, видимо, это и был
первый сифилитик, он лежит на обломках вселенной; опиши
лицо любви, этого двуликого Януса: на одном — сладостная
улыбка, на другом — провалившийся нос...
Я вижу, что Хунгерман опять записывает.
— А ты неделю тому назад это тоже говорил своей жене?—
спрашиваю я.
Он кивает с сияющим лицом.
— Тогда зачем же ты записываешь?
— Я опять забыл. Неожиданные мысли часто забываются.
— Вам хорошо надо мной смеяться,— обиженно говорит
Бамбус.— Я же не способен писать против чего-нибудь. Я могу
только создавать гимны.
— Ну и напиши гимн против.
— Гимн можно писать только за что-нибудь,— наставитель-
но замечает Отто.— Не против.
— Тогда пиши гимны во славу добродетели, непорочности,
монашеской жизни, одиночества, погружения в созерцание са-
мого близкого и самого далекого из всего, что существует,—
а это и есть наше собственное «я».
Сначала Отто слушает, склонив голову набок, точно охотни-
чий пес.
— Да я уже пробовал,— говорит он, подавленный.— Не мой
это жанр.
— Подумаешь! Твой жанр! Ты слишком задаешься!
Я встаю и иду в соседнюю комнату. Там сидит Валентин
Буш.
— Пойдем,— говорит он.— Разопьем бутылочку Иоганни-
сбергера. Позлим Эдуарда.
— Не хочется мне сегодня злить ни одного человека,— отве-
чаю я и иду дальше.
Когда я выхожу на улицу, Отто Бамбус уже там, он с тоскою
разглядывает гипсовых валькирий, украшающих вход в «Вал-
киш у».
— Подумать только...— рассеянно бормочет он.
— 4* 669 4* —
— Не плачь,— говорю я, чтобы как-нибудь отделаться от не-
го.— Ты, видно, принадлежишь к числу рано созревших талан-
тов, как Клейст, Бюргер, Рембо, Бюхнер — эти ярчайшие звез-
ды на небе поэзии,— зачем же тогда расстраиваться.
— Но ведь они и рано умерли!
— Это ты тоже можешь, если захочешь. Впрочем, Рембо про-
жил еще долгие годы после того, как перестал писать. И испы-
тал разные приключения в Абиссинии. Как ты на этот счет?
Отто смотрит на меня глазами серны, которой перебили ногу.
Потом снова устремляет взгляд на толстые зады и груди гипсо-
вых валькирий.
— Слушай,— говорю я нетерпеливо.— Напиши цикл «Иску-
шение святого Антония». Тут у тебя будет все: страсть, и аске-
тизм, и еще куча всяких тем.
Лицо Отто Бамбуса оживляется. И сразу становится настоль-
ко сосредоточенным, насколько это возможно у астрального
барана, притязающего на чувственность. В данную минуту не-
мецкая литература как будто спасена, ибо он явно перестает
интересоваться моим мнением. С отсутствующим видом кивает он
мне и уходит домой, к своему письменному столу. Я с завистью
смотрю ему вслед.
Контора покоится в мирном мраке. Я включаю свет и вижу
записку: «Ризенфельд уехал. Значит, сегодня вечером ты свобо-
ден. Воспользуйся этим для чисткй пуговиц, мобилизации моз-
гов, стрижки ногтей и молитв за кайзера, империю и т. д.» Под-
пись: «Кроль, фельдфебель и человек». Постскриптум: «Если
кто спит — тоже грешит».
Я иду наверх, в свою комнатку. Рояль скалится белыми зуба-
ми клавиш. Холодно уставились на меня с полок книги умер-
ших. Я швыряю на улицу сноп аккордов, построенных на септи-
мах. Окно Лизы открывается. Она стоит, озаренная мягким
светом лампы, в распахнутом халатике и показывает мне букет
с тележное колесо.
— От Ризенфельда,— говорит она хриплым голосом.— Ну
что за идиот? Ты можешь использовать эту траву?
Я качаю головой. Изабелла решила бы, что с этим букетом
связаны какие-то злые козни ее врагов. Герду я так давно не ви-
дел, что и она неверно истолковала бы посылку этих цветов. А
больше мне подносить их некому.
— Неужели не используешь?— спрашивает Лиза.
— Не использую.
— + 670 4* —
— Вот невезучий! Но радуйся. По-моему, ты становишься
взрослым.
— А когда можно считать себя взрослым?
Лиза думает.
— Когда начинаешь больше думать о себе, чем о других,—
хрипит она и с дребезгом захлопывает окно.
Я снова бросаю на улицу сноп аккордов, на этот раз —
уменьшенных септим. Однако ничего не следует. Захлопываю
пасть рояля и опять спускаюсь вниз. У Вильке горит свет, взби-
раюсь к нему наверх.
— Ну, чем кончилось дело с близнецами?— спрашиваю я.
— Все в порядке, мать победила. Близнецов похоронили вместе,
в двойном гробу. Правда, на городском кладбище, а не на като-
лическом. Самое чудное, что мать сначала купила место на ка-
толическом,— должна была, кажется, знать, что это не полага-
ется, раз один из близнецов евангелист. А теперь это место
за ней.
— Какое, на католическом?
— Ясно. Местечко замечательное, на пригорке, сухое, песок,
она радоваться должна, что заполучила его.
— А на что оно? Для нее и для мужа? Но ведь она, наверное,
пожелает тоже лежать на городском, там, где ее близнецы?
— Место — это теперь капитал,— поясняет Вильке, раздра-
женный моей тупостью.— В наше время место на кладбище —
одно из лучших капиталовложений, это же понимает каждый.
Она уже сейчас может заработать на нем несколько миллионов,
если захочет продать. Реальные ценности растут с сумасшед-
шей быстротой.
— Верно. Я на минуту позабыл об этом. А почему вы все еще
здесь?
Вильке показывает на какой-то гроб.
— Для Вернера, банкира, кровоизлияние б мозг. Заплатят
сколько угодно; настоящее серебро, драгоценное дерево, насто-
ящий шелк, плата сверхурочно. А что если бы вы мне немнож-
ко подсобили? Курта Баха нет дома. За это вы можете завтра ут-
ром продать им памятник. Никто еще ничего не знает. Вернер
скапутился, когда деловой день уже кончился.
— Сегодня не могу. Я до смерти устал. Отправляйтесь неза-
долго до полуночи в «Красную мельницу», возвращайтесь по-
сле часа и продолжайте работать — так вы решите вопрос о «ча-
се духов».
Вильке размышляет.
— Неплохая мысль,— заявляет он.— Но разве туда не нужно
являться в смокинге?
— Даже во сне не нужно.
Вильке качает головой.
— И все-таки это исключается! Один час там обойдется мне
дороже, чем я заработаю за целую ночь. Но я мог бы пойти в ка-
кой-нибудь ресторанчик.— Он смотрит на меня благодарным
взглядом.— Запишите себе адрес Вернера,— говорит он затем.
Я записываю. Странно, думаю я, вот уже второй человек сле-
дует сегодня вечером моему совету — только как быть мне са-
мому, я не знаю.
— Чудно, что вы так боитесь привидений,— говорю я.— А ведь
вы при этом умеренный вольнодумец.
— Только днем. Не ночью. Кто же бывает вольнодумцем но-
чью?
Я указываю жестом на комнату Курта Баха, Вильке отрица-
тельно качает головой.
— Легко быть вольнодумцем человеку молодому. Но мне, в мои
годы, да при паховой грыже и закрытой форме туберкулеза...
— А вы переметнитесь к церкви. Она любит грешников, го-
товых покаяться.
Вильке пожимает плечами.
— Как же тогда быть с уважением к самому себе?
Я смеюсь.
— Ночью-то его у вас нет? Да?
— А у кого оно бывает ночью? У вас?
— Нет. Но оно может быть у ночного сторожа. Или у булоч-
ника, который ночью печет хлеб. Разве вам самоуважение так
уж необходимо?
— Конечно. Я же человек. Только у животных да у само-
убийц его-нет. От одной этой двойственности не знаешь куда
деваться. Все-таки я сегодня ночью пойду в ресторан Блюме.
Пиво там — первый сорт.
Я бреду обратно через темный двор. На обелиске какое-то
пестрое пятно. Это букет Лизы. Она его положила на цоколь,
прежде чем отправиться в «Красную мельницу». Я стою в нере-
шительности, потом беру букет. Мысль о том, что Кнопф может
его запакостить, все же нестерпима. Я уношу его в свою комна-
ту и ставлю в терракотовую урну, которую приношу из конто-
ры. Цветы тотчас завладевают всей комнатой. И вот я сижу пе-
ред бронзовыми, желтыми и белыми хризантемами, они пахнут
землей и кладбищем, и мне чудится, будто меня уже похорони-
ли. Но разве я действительно что-то не похоронил?
— + 672 4* —
В полночь я уже не в силах выносить этот запах. Я вижу, как
Вильке уходит, чтобы переждать «час духов» в ресторане, беру
цветы и отношу их к нему в мастерскую. Дверь открыта; свет
не погашен, чтобы Вильке, возвращаясь к себе, не боялся. На
гробе великана стоит бутылка пива. Я выпиваю ее, переношу
стакан и бутылку на подоконник и открываю окно — пусть хо-
зяин подумает, что какому-то духу захотелось пить. Затем раз-
брасываю хризантемы от окна до недоделанного гроба банкира
Вернера и кладу на него пачку обесцененных банкнотов по сто
марок. Пусть Вильке вообразит себе какую-нибудь небылицу.
Если гроб Вернера из-за всего этого не будет закончен — не бе-
да: этот банкир, пользуясь инфляцией, лишил десятки мелких
домовладельцев их жалкой собственности.
XX
— Хочешь увидеть одну штуку, которая волнует почти как
картина Рембрандта?— спрашивает Георг.
— Ну что ж, валяй.
Он вынимает из своего носового платка какой-то предмет,
и гот падает со звоном на стол. Я не сразу различаю, что это.
Растроганные, смотрим мы на него. Это золотая монета в двад-
цать марок. В последний раз я видел такую монету еще до войны.
— Вот было времечко!— говорю я.— Царил мир, торжество-
вала безопасность, за оскорбление его величества еще сажали
в кутузку, «Стального шлема» не существовало, наши матери
носили корсеты и блузки с высоким воротом на китовом усе,
проценты выплачивались аккуратно, марка была неприкосно-
венна, как сам Господь Бог, и четыре раза в год люди спокой-
ненько стригли себе купоны государственных займов и им вы-
давали стоимость в золотой валюте. Дай же облобызать тебя,
о блистающий символ дней минувших!
Я взвешиваю на ладони золотую монету. На ней изображен
Вильгельм Второй, теперь он живет в Голландии, пилит дрова
и отращивает себе эспаньолку. На монете у него еще торчат ли-
хо подкрученные усы, которые тогда назывались «Цель достиг-
нута». И цель действительно была достигнута.
— Откуда это у тебя?— спрашиваю я.
— От некоей вдовы, получившей в наследство целый ящик
1аких монет.
— Боже милостивый! Сколько же такая монета сейчас стоит?
— Четыре миллиарда бумажных марок. Можно купить себе
домик. Или десяток роскошных женщин. Целую неделю кутить
в «Красной мельнице». Восьмимесячная пенсия инвалида войны.
— 4* 673 4* —
— Хватит...
Входит Генрих Кроль в полосатых брюках с велосипедными
зажимами.
— Это должно порадовать вашу верноподданническую душу,—
заявляю я и подбрасываю в воздух золотую монету. Он подхва-
тывает ее, смотрит на нее влажными глазами.
— Его величество...— взволнованно бормочет Генрих.— Да,
были времена! Мы тогда еще имели свою армию!
— А насчет времен — то для кого как,— замечаю я.
Генрих негодующе смотрит на меня.
— Вы, вероятно, согласитесь, что тогда было лучше, чем теперь.
— Возможно!
— Не возможно, а бесспорно! У нас был порядок, устойчивая
валюта. Никаких безработных, цветущая экономика, мы были
народом, который всем внушал уважение. Или вы и с этим
не согласны?
— Совершенно согласен.
— Вот видите! А что сейчас?
— Беспорядок, пять миллионов безработных, дутая экономи-
ка, да и сами мы народ побежденный,— отвечаю я.
Генрих опешил. Он не представлял себе, что я так легко со
всем соглашусь.
' — Вот видите,— повторяет он.— Сейчас мы погрязли в дерь-
ме, а тогда катались как сыр в масле. Соответствующие выводы
вы, вероятно, можете сделать, не так ли?
— Не уверен. Какие же?
— Чертовски простые! Выводы о том, что у нас опять долж-
ны быть кайзер и солидное национальное правительство.
— Стоп!— восклицаю я.— Об одном вы забыли: вы забыли
важнейшее слово «потому». А В нем-то и весь корень зла. Оно
и есть причина того, что ныне миллионы Людей, подобных вам,
задрав хобот, повсюду трубят всякую чепуху. Все дело в одном
словечке «потому».
— Как это так?— спрашивает Генрих, ничего не понимая.
— «Потому»! — повторяю я.— Все дело в слове «потому». У нас
теперь пять миллионов безработных, инфляция и мы побежде-
ны именно потому, что до этого у нас было столь любимое ва-
ми национальное правительство! Потому, что это правитель-
ство, охваченное манией величия, затеяло войну! Потому, что
оно эту войну проиграло! Вот мы и погрязли сейчас в дерьме!
Потому, что правительство состояло из столь почитаемых вами
марионеток в мундирах и тупиц! И не вернуть нам их нужно,
чтобы исправить дело, а наоборот, ни в коем случае не допус-
— 4* 674 4* —
кать их возвращения, потому что они опять втравят нас в вой*
ну и посадят в навоз. Вы и ваши единомышленники твердите:
раньше нам жилось хорошо, сейчас живется плохо — значит,
давай обратно старое правительство! А на самом деле нам пло-
хо живется сейчас потому, что до этого у нас было старое пра-
вительство,— значит, надо его послать ко всем чертям! Понят-
но? Все дело в словечке «потому»! А вашй единомышленники
охотно забывают об этом «потому»!
— Вздор! — рычит Генрих.— Слышите, вы, коммунист!
Георг разражается неистовым хохотом.
— Для Генриха коммунист каждый, кто не является крайним
правым.
Генрих выпячивает грудь и собирается перейти в контратаку.
Изображение кайзера на монете вдохнуло в него силу. Но в эту
минуту входит Курт Бах.
— Господин Кроль,— обращается он к Генриху,— ангел дол-
жен стоять справа или слева от подписи «Здесь покоится жес-
тянщик Кварц»? •
— Что?
— Да ангел на скульптуре надгробия для Кварца!
— Конечно, справа,— отвечает Георг.— Ангелы всегда стоят
справа.
Из пророка национализма Генрих опять превращается в тор-
говца надгробными памятниками.
— Я иду с вами,— недовольно заявляет он и кладет золотую
монету на стол.
Курт Бах видит ее и берет в руки.
— Вот были времена...— мечтательно начинает он.
— Значит, и для вас тоже,— замечает Георг.— Чем же они
были столь примечательны для вас?
— Ну как же, это были времена свободного искусства! Хлеб
стоил несколько пфеннигов, водка — пять, жизнь была полна
идеалов, а если иметь в кармане несколько таких монет, то мож-
но было съездить в прославленную страну Италию, не боясь,
что, когда возвратишься, они уже ничего не будут стоить.
Бах целует орла на монете, кладет ее на стол и становится
опять на десять лет старше. Они с Генрихом исчезают. Уходя,
Генрих придает своему разжиревшему лицу выражение злове-
щей угрозы.
— Головы еще Покатятся!
— Что он сказал?— удивленно спрашиваю я Георга.— Это
же любимая фраза Вацека! Или эти два враждующих сородича
побратались?
Георг задумчиво смотрит вслед Генриху.
— Может быть. Но тогда это опасно. И знаешь, что тут самое
удручающее? В 1918 году Генрих был отчаянным противником
войны. Но теперь он забыл начисто обо всем, что побудило его
к этому, и война стала для него опять веселеньким и освежаю*
щим приключением.— Георг сует золотую монету в карман
куртки.— Все, что пережито и прошло, становится приключе-
нием! До чего отвратительно! И чем страшнее все было, тем
впоследствии представляется более заманчивым. Судить о том,
что такое война, могли бы по-настоящему только мертвые:
только они одни узнали все до конца.— Он смотрит на меня.
— Узнали?— повторяю я.— Нет, умерли.
— Таких и тех, кто этого не забывает, немного,— продолжа-
ет он.— Наша проклятая память — это решето. И она хочет вы-
жить. Л выжить можно, только обо всем забыв.
Георг надевает шляпу. *
— Пойдем,— говорит он.— Посмотрим, воспоминания о ка-
ких временах вызовет у Эдуарда эта золотая птица?
— Изабелла?— удивленно восклицаю я.
Она сидит на террасе флигеля для неизлечимых. В ней нет
ничего похожего на то вздрагивающее измученное создание,
каким она была в последний раз. Глаза у нее ясные, лицо спо-
койное, и она никогда еще не казалась мне такой красивой, как
сейчас,— может быть, потому, что уж очень она другая, чем
в прошлый раз.
После полудня шел дождь, и сад сверкает влагой и солнцем.
Над городом плывут какие-то средневековые облака синего
цвета без примеси, и целые ряды окон превратились в зеркаль-
ные галереи. Хотя теперь день, но все равно на ней вечернее пла-
тье из очень мягкой черной материи и золотые туфли. На правой
руке — браслет в виде цепочки с изумрудами. Вероятно, один
браслет стоит дороже всей нашей фирмы, включая склад над-
гробий, дома и доходы за ближайшие пять лет. До сих пор она
ни разу этой цепочки не надевала; как видно, сегодня день дра-
гоценностей, говорю я себе. Сначала золотой Вильгельм Вто-
рой, потом вот это! Но браслет не трогает меня.
— Ты слышишь их?— спрашивает Изабелла.— Они пили
много и глубоко и теперь сыты, спокойны и довольны. И они
жужжат, как миллионы пчел.
— Кто?
— Деревья и все эти кусты. Ты слышал, как они вчера крича-
ли, когда стояла такая сушь?
— + 676 4* —
— Разве они могут кричать?
— Конечно. Неужели ты не слышишь?
— Нет,— отвечаю я и смотрю на браслет, который словно ис-
крится зелеными глазами.
Изабелла смеется.
— Ах, Рудольф! Ты слышишь так мало!— говорит она с нежным
укором.— Точно твои уши заросли густым кустарником. И потом
ты так шумишь — потому ничего и не слышишь.
— Я шумлю? Каким образом?
— Не словами. Но вообще ты ужасно шумный, Рудольф.
Подчас твое общество трудно выносить. Ты больше шумишь,
чем гортензии, когда они хотят пить, а ведь эти растения такие
крикуньи.
— Что же во мне шумного?
— Все. Твои желания. Твое недовольство. Твое тщеславие.
Твоя нерешительность...
— Тщеславие?— удивляюсь я.— Я не тщеславен.
— Конечно, ты...
— Исключено!— возражаю я, но чувствую, что говорю не-
правду.
Изабелла быстро целует меня.
— Не утомляй меня, Рудольф. Ты всегда гонишься за точны-
ми названиями. А ведь и тебя зовут вовсе не Рудольф, верно?
Как же твое имя?
— Людвиг,— отвечаю я изумленно. Она впервые меня спра-
шивает об этом...
— Ах да, Людвиг. И ты никогда не устаешь от него?
— Устаю. И от самого себя тоже.
Она кивает, словно это самая естественная вещь на свете.
— Ну так перемени его. Почему ты не хочешь быть Рудоль-
фом? Или еще кем-нибудь? Уезжай отсюда. В другую страну.
Любое имя — тоже имя.
— Ну что поделаешь, если меня зовут Людвиг? Как я могу
изменить его? В городе меня все знают.
Изабелла словно не слышит.
— Я тоже скоро уйду,— говорит она.— Я чувствую. Устала я,
и устала от своей усталости. Уже все понемногу пустеет, полно
прощальной тоски и ожидания.
Я смотрю на нее, и меня охватывает внезапный страх. Что
она имеет в виду?
— Разве каждый из нас не изменяется непрерывно?— спра-
шиваю я.
Она смотрит вдаль, на город.
— 4* 677 4* —
— Я не это имею в виду, Рудольф. Мне кажется, есть еще ка-
кое-то другое изменение. Более значительное. Подобное смер-
ти. Может быть, это и есть смерть.
Она качает головой, не глядя на меня.
— Его всюду ощущаешь,— шепчет она.— И в деревьях, и в ту-
мане. Ночью оно капает с неба. Этим же полны тени. А во всем
теле — усталость. Она прокралась туда. Гулять мне уже не хо-
чется, Рудольф. Мне было с тобой очень хорошо, даже когда ты
не понимал меня. Но хоть ты был тут. Иначе я осталась бы
совсем одна.
Я не знаю, о чем она говорит. Странное мгновение. Вдруг на-
ступает удивительная тишина, ни один лист не шелохнется,
только Изабелла чуть помахивает рукой с длинными пальцами
над краем плетеного кресла и тихонько звякает браслет с зеле-
ными камнями. Заходящее солнце окрашивает ее лицо в такие
теплые тона, что оно кажется противоположностью всякой
мысли о смерти, и все же у меня такое чувство, словно какой-то
холод разливается вокруг, подобный беззвучному страху, и что
когда снова начнется ветер, Изабеллы тут уж не будет. Но вдруг
ветер проносится по кронам деревьев, он шумит листвой, на-
важдение исчезло. Изабелла встает и улыбается.
— Есть много способов умирать,— говорит она.— Бедный
Рудольф! Ты знаешь только один. Счастливый Рудольф. Пой-
дем в комнату.
— Я очень тебя люблю,— говорю я.
Она улыбается шире..
— Называй это как хочешь. Что такое ветер и что такое ти-
шина? До чегб они непохожи, и все-таки они одно. Просто я по-
каталась на пестрых лошадках карусели и посидела на голубом
бархате золотых гондол, которые не только вертятся по кругу,
но поднимаются и опускаются. Ты, верно, их не любишь, да?
— Нет, я предпочитал сидеть на лакированных львах и оле-
нях. Но с тобой я покатался бы и в гондолах.
Она целует меня.
— А музыка!— говорит она вполголоса.— А огни каруселей
в тумане! Где наша юность, Рудольф?
— Да, где?— и вдруг чувствую, что на глаза навертываются
слезы, сам не знаю почему.— А была у нас разве юность?
— Кто это знает?
Изабелла встает. Над нами среди листвы раздается шорох.
Я вижу в алом свете заката, что какая-то птица капнула мне
на пиджак. Примерно на то место, где сердце. Изабелла замеча-
— 4* 678 4* —
ет это и неудержимо хохочет. Я снимаю носовым платком сар-
кастический след, оставленный зябликом.
— Ты моя юность,— говорю я.— Теперь я знаю. Ты все, без
чего она не может обойтись. И это, и другое, и еще очень, очень
многое. И то, что ценность утраченного познаешь, только ког-
да оно ускользает.
«Разве Изабелла от меня ускользает?— думаю я.— И почему
бы она ускользнула? Потому, что она говорит об этом? Разве
она когда-нибудь была моею? Или потому, что вдруг возник
этот безмолвный, дышащий холодом страх? Разве мало она мне
говорила, и разве я всякий раз не пугался?»
— Я люблю тебя, Изабелла,— говорю я.— Люблю гораздо
сильнее, чем думал. Моя любовь как ветер: вот он поднялся,
и думаешь, что это всего-навсего легкий ветерок, а сердце вдруг
сгибается под ним, словно ива в бурю. Я люблю тебя, сердце
моего сердца, единственный островок тишины среди общей су-
мятицы; я люблю тебя за то, что ты чуешь, когда цветку нужна
влага и когда время устает, словно набегавшийся за день охот-
ничий пес; я люблю тебя, и любовь льется из меня, точно из рас-
пахнутых ворот, где таился неведомый сад, я еще не совсем ее
понимаю и дивлюсь на нее, и мне чуть-чуть стыдно моих торже-
ственных слов, но они помимо моей воли с громом вырываются
наружу и отдаются гулким эхом; кто-то говорит из меня, кого
я не знаю, может быть, это третьесортный автор мелодрамы или
мое сердце, уже не ведающее страха.
Изабелла внезапно остановилась. Мы в той же аллее, откуда
она ушла домой обнаженная, но сейчас все здесь по-другому.
Аллея полна алым закатным светом, полна неизжитой молодо-
стью, печалью и не то рыдающим, не то ликующим счастьем.
И уже не аллея, не деревья перед нами: это аллея сказочного
света, и деревья на ней склоняются друг к другу, словно темные
веера, чтобы удержать его. Мы стоим в этом свете, почти неве-
сомые, пронизанные им, как зеркальные карпы — духом ново-
годнего рома, в котором они плавают и который пропитывает
их с такой силой, что они почти распадаются.
— Ты любишь меня?— шепчет Изабелла.
— Я люблю тебя и знаю, что никогда никого не буду так лю-
бить, как тебя, потому что никогда уже не буду таким, какой
я сейчас, в это мгновение, оно уже проходит, пока я о нем гово-
рю, и я не могу удержать его, даже если бы отдал за него свою
жизнь.
Она смотрит на меня удивленными сияющими глазами.
— 4* 679 4* —
— Наконец-то ты понял,— шепчет она.— Наконец почувст-
вовал его, несказанное счастье, и печаль, и мечту, и двойствен-
ность лика. Это же радуга, Рудольф, и по ней можно пойти,
но если на миг усомнишься, то сорвешься вниз! Ты наконец по-
верил?
— Да,— бормочу я и знаю, что поверил, еще миг тому назад
верил, а теперь уже верю не вполне. Свет еще пылает, но по кра-
ям уже становится серым, медленно появляются темные пятна,
из-под них снова выступает проказа обычных мыслей, только
прикрытая, но не исцеленная. Чудо прошло мимо, оно косну-
лось, но не переродило меня, мое имя осталось тем же, и я, ве-
роятно, буду таскать его за собой до конца моих дней, я не фе-
никс, возрождение — не для меня, я попытался летать,
но снова, точно ослепленная неуклюжая курица, спотыкаясь,
валюсь наземь и опять застреваю в колючей проволоке.
— Не грусти,— говорит Изабелла, которая наблюдает
за мной.
— Я не способен ходить по радуге, Изабелла,— говорю я.—
Но очень хотел бы научиться. А кто способен?
Она шепчет мне на ухо:
— Никто.
— Никто? И ты тоже нет?
Изабелла качает головой.
— Никто,— повторяет она.— Но достаточно, если человек
об этом тоскует.
Свет очень быстро меркнет. Когда-то все это уже было, ду-
маю я, но никак не могу вспомнить, когда именно. Я чувствую
близость Изабеллы, и вдруг — она уже в моих объятиях. Мы це-
луемся отчаянно, безумно, точно люди, которых навеки отрыва-
ют друг от друга.
— Я все упустил,— говорю я задыхаясь.— Я люблю тебя,
Изабелла.
— Тише,— шепчет она.— Молчи...
Тусклое пятно в конце аллеи начинает рдеть. Мы направля-
емся к нему и у ворот останавливаемся. Солнце село, и поля
стали бесцветными, зато над лесом стоит огромная заря, и ка-
жется, что на городских улицах пожар.
Мы некоторое время молчим.
— Какая гордыня,— вдруг говорит Изабелла,— воображать,
будто жизнь имеет начало и конец!
Я не сразу понимаю ее. За нами сад уже готовится к приходу
ночи; но перед нами, по ту сторону железной решетки, все ки-
пит и пылает, словно происходит бурный алхимический про-
— + 680 4* —
цесс. Начало и конец, думаю я и вдруг понимаю, что она имела
в виду: гордыня воображать, что можно вырезать и выделить
свою маленькую жизнь из этого огня и кипенья и сделать наш
обрывок сознания судьей ее продолжительности, тогда как эта
жизнь — просто маленькая пушинка, которая недолгое время
плавает в нем. Начало и конец — выдуманные слова для выду-
манного понятия времени, плод тщеславного сознания амебы,
не желающего раствориться в чем-то более великом.
— Изабелла,— говорю я.— Милая, любимая, жизнь моя!
Мне кажется, я наконец почувствовал, что такое любовь! Это
жизнь, только жизнь, высочайший взлет волны, тянущейся к ве-
чернему небу, к бледнеющим звездам и к самому себе,— взлет
всегда напрасный, ибо он — порыв смертного начала к бес-
смертному; но иногда небо склоняется навстречу такой волне,
они на миг встречаются, и ioi да эго уже не закат с одной сторо-
ны и отречение — с другой, тогда уже нет и речи о недостатке
и избытке, о подмене, совершаемой поэтами, тогда...
Я вдруг смолкаю.
— Я несу какой-то вздор,— продолжаю я,— слова льются не-
прерывным потоком, может быть, в этом есть и ложь, но ложь
юлько потому, что сами слова лживы, они словно чашки, кото-
рыми хочешь вычерпать родник,— но ты поймешь меня и без
слов, все эю так ново для меня, чго я еще не умею его выразить;
я ведь не знал, чго даже мое дыхание способно любить, и мои
нои и, и даже моя смерть, поэюму — к черту вопрос о том,
сколько такая любовь продли [ся, и смогу ли я ее удержать,
и CMoiy ли ее выразить.
— Я понимаю,— твори i Изабелла.
— 11онимаеп1ь?
Она кивае! с сияющим взором.
— А я уже начала тревожиться за 1ебя, Рудольф.
Почему бы ей 1ревожиться за меня, думаю я. Я же не болен.
— Тревожиться за меня?— спрашиваю я.— Почему же гре-
вожи I ься?
— Да, тревожилась,— oiBenaei она.— Но теперь нет. Про-
щай, Рудольф.
Я смотрю на нее и сжимаю ее руки.
— Почему гы хочешь yiiin? Я что-нибудь сказал не так?
Она качает головой и пытается высвободиться.
— Пет, да!— настаиваю я.— Не так я говорил! Пустые слова,
।ордыня, болтовня...
— Не губи же всего, Рудольф! Почему всякий раз, когда ты
хочешь чем-нибудь владеть, ты губишь это, как только полу-
чил?
— Да,— соглашаюсь я.— Почему?
— Это огонь без дыма и пепла. Не губи его. Прощай, Ру-
дольф.
«Что это?— думаю я.— Прямо как в театре, но подмостков
никаких тут не может быть. Прощание? Но ведь сколько раз мы
так прощались, каждый вечер!» Я крепко держу Изабеллу.
— Мы не расстанемся,— говорю я.
Она кивает, кладет мне голову на плечо, и я вдруг чувствую,
что она плачет.
— Отчего ты плачешь?— спрашиваю я.— Мы же счастливы!
— Да,— отвечает она, целует меня и выскальзывает из моих
объятий.— Прощай, Рудольф.
— Почему ты так прощаешься со мной? Мы же не расстаем-
ся. Завтра я опять приду к тебе.
Она смотрит на меня.
— Ах, Рудольф,— говорит она, точно опять чувствует себя
не в силах что-то разъяснить мне.— Как умирать, если не мо-
жешь проститься?
— Да,— отвечаю я.— Как? Я тоже не понимаю. Или то, или
другое.
Мы стоим перед флигелем, в котором она живет. В холле ни-
кого нет. На одном из плетеных кресел лежит очень пестрый
платок.
— Идем,— вдруг говорит Изабелла.
Одно мгновение я колеблюсь, но ни за что на свете не скажу
я теперь «нет» и поднимаюсь с ней по лестнице. Не оглядыва-
ясь, она входит в свою комнату. На миг я останавливаюсь в две-
рях. Быстрым движением сбрасывает она с ног золотые туфли
и ложится на кровать.
— Поди сюда, Рудольф!— зовет она.
Я сажусь на кровать. Я не хочу, чтобы она еще раз пережила
разочарование, и вместе с тем не знаю, как мне быть, не знаю,
что сказать, если вдруг появится сестра или Вернике.
— Поди сюда,— говорит Изабелла.
Я ложусь, и вот она в моих объятиях.
— Наконец-то,— лепечет она.— Рудольф! — и, сделав не-
сколько глубоких вздохов, засыпает.
В комнате темнеет. Бледным пятном выступает окно в сгуща-
ющемся мраке. Я слышу, как дышит Изабелла, и время от вре-
мени из соседних комнат доносится бормотание. Вдруг она сразу,
— + 682 4* —
«Черный обелиск»
словно от толчка, просыпается. Она отстраняет меня, и я чув-
ствую, как ее тело каменеет. Она затаила дыхание.
— Это я, Рудольф,— говорю я.
— Кто?
— Я, Рудольф. Я остался у тебя.
— Ты здесь спал?
Голос у нее изменился. Он высокий, задыхающийся.
— Я здесь остался.
— Уходи,— шепчет она.— Сейчас же уходи!
Не знаю, узнает ли она меня.
— Где тут включается свет?— спрашиваю я.
— Не нужно света! Не нужно света! Уходи! Уходи!
Я встаю и ощупью пробираюсь к двери.
— Не пугайся, Изабелла,— говорю я.
Она зашевелилась на кровати, кажется, она старается натя-
нуть на себя одеяло.
— Уходи же,— требует она высоким изменившимся голо-
сом.— Иначе она тебя увидит, Ральф! Скорее!
Я закрываю за собою дверь и спускаюсь по лестнице. Внизу
сидит ночная дежурная сестра. Она знает, что мне разрешено
посещать Изабеллу.
— Ну как, спокойна?— спрашивает сестра.
Я киваю и иду через сад к тем воротам, в которые входят
и выходят здоровые.
«Что было с ней на этот раз?— размышляю я в недоумении.—
Ральф, кто это может быть? Она еще ни разу меня так не назы-
вала. И в чем тут дело, когда она говорит, что меня не должны
видеть? Я ведь и раньше бывал вечером у нее в комнате».
Я спускаюсь в город. Любовь, размышляю я, и мне вспомина-
ются мои высокопарные речи. Меня охватывает почти нестер-
пимая тоска по Изабелле, и ощущение угрозы, и что-то вроде
желания бежать, и я шагаю все быстрее к городу с его огнями
и теплом, с его вульгарностью, нищетой, буднями и здоровым не-
приятием загадочности и хаоса, какие бы названия им ни давать.
Ночью я просыпаюсь от шума многих голосов. Я открываю
окно и вижу, что фельдфебеля Кнопфа несут домой. До сих пор
этого ни разу не случалось, до сих пор он всегда добирался
до дому самостоятельно, даже когда водка совсем оглушала его.
Кнопф громко стонет. В окрестных домах местами начинают
светиться окна.
— Проклятый пьяница!— верещит кто-то в одном из окон.
Это вдова Конерсман, она обычно подстерегает его.
— + 684 + —
Она живет, ничего не делая, и считается первой сплетницей
на нашей улице. Я подозреваю, что она давно выследила и Георга
с Лизой.
— Заткните глотку,— отвечает с темной улицы какой-то ано-
нимный герой.
Не знаю, знаком ли он с вдовой Конерсман. Во всяком слу-
чае, через секунду безмолвного негодования — на него,
на Кнопфа, на обычаи и нравы нашего города, всей страны
и всего человечества — льется такой поток помоев, что слова
затопляют улицу. Наконец вдова умолкает. В заключение она
заявляет, что информирует Гинденбурга, епископа, полицию
и хозяев неведомого героя о его возмутительном поведении.
— Заткните глотку, мерзкая кусачка!— отвечает незнакомец,
который под покровом темноты выказывает необычную силу
сопротивляемости.— Господин Кнопф тяжело заболел. Лучше
бы заболели вы!
Вдова снова начинает бушевать с удвоенной силой, хотя это,
казалось бы, уже невозможно. Она пытается с помощью фона-
рика осветить незнакомца из своего окна, но свет слишком
слаб.
— Я знаю, кто вы!— ядовито шипит она.— Вы — Генрих
Брюггеман! В тюрьму сядете!.. Оскорблять беззащитную вдову!
Слышишь, убийца! Уже твоя мамаша...
Я перестаю слушать. Публики у вдовы и так достаточно.
Почти все окна открыты. Отовсюду доносятся возгласы одобре-
ния и сердитое ворчание. Я спускаюсь вниз.
Кнопфа как раз втаскивают в дом. Он весь побелел, пот за-
ливает ему лицо, усы, как у Ницше, намокли и свисают. Вскрик-
нув, он вдруг вырывается, спотыкаясь, делает несколько шагов
и, качнувшись, налетает на обелиск. Он обхватывает его рука-
ми и ногами, как лягушка, прижимается к граниту и ревет.
Я озираюсь. Позади меня стоит Георг в своей пурпурной пи-
жаме, потом старая фрау Кроль, без вставной челюсти, в синем
халате, с бигуди па голове, затем появляется Генрих, к моему
удивлению, в пижаме, без стального шлема и орденов. Правда,
полосатая пижама выдержана в тонах прусского флага — она
белая с черным.
— Что случилось?— спрашивает Георг.— Delirium tremens*?
Опять?
’ Белая горячка (лат.).
— + 685 4* —
С Кнопфом это бывало и раньше. Он уже видел белых сло-
нов, выходящих из стены, и самолеты, проскальзывающие в за-
мочную скважину.
— На этот раз дело обстоит хуже,— говорит человек, оказав-
ший сопротивление вдове Конерсман. Его зовут Генрих Брюг-
геман, он агент по трудоустройству.— Печень и почки. Он по-
лагает, что они лопнули.
— Так зачем же вы его тащите сюда? Почему не в Мариин-
скую больницу?
— Не желает он ложиться в больницу.
Появляется семейство Кнопфа. Впереди фрау Кнопф,
за ней следуют три дочери; все четыре женщины растрепанны,
заспанны, перепуганны. У Кнопфа новый приступ боли, и он
опять испускает вой.
— А врача вызвали?— спрашивает Георг.
— Нет еще. Мы насилу его сюда доставили. Он хотел бро-
ситься в реку.
Четыре дамы Кнопф обступили фельдфебеля, точно хор пла-
кальщиц. Генрих тоже подошел и как мужчину, камрада, солда-
та и немца старается уговорить Кнопфа отцепится от обелиска
и лечь в постель, тем более что обелиск под его тяжестью уже
шатается. Не только Кнопфу грозит опасность со стороны обе-
лиска, заявляет Генрих, jio и фирма будет вынуждена возло-
жить ответственность на Кнопфа, если с обелиском что-нибудь
случится. Ведь памятник этот высечен из драгоценного, перво-
классного отполированного гранита и при падении неизбежно
будет поврежден.
Кнопф его не понимает; выкатив глаза, он издает какое-то
ржание, словно лошадь, увидевшая призрак. Я слышу, как Ге-
орг из конторы вызывает по телефону врача. В белом вечернем
слегка смятом атласном платье на дворе появляется Лиза. Она
цветет здоровьем, и от нее сильно пахнет кюммелем.
— Сердечный привет от Герды,— обращается она ко мне.—
Ты бы как-нибудь зашел к ней.
В эту минуту какая-то парочка галопом проносится между
крестами и выскакивает за ворота. В плаще и ночной сорочке
выходит Вильке; за ним следует другой вольнодумец, Курт Бах,
он в черной пижаме и русской рубашке с поясом. Кнопф про-
должает выть.
До больницы, к счастью, недалеко. Скоро появляется врач.
Ему наспех рассказывают, в чем дело. Но оторвать Кнопфа
от обелиска невозможно. Поэтому его приятели спускают ему
штаны и обнажают тощий зад. Врач, который привык на войне
— 4* 686 4* —
к трудным ситуациям, протирает Кнопфу ягодицу ватным там-
поном, пропитанным спиртом, дает Георгу карманный фона-
рик и всаживает шприц в эту ярко освещенную часть тела
Кнопфа. Кнопф слегка поворачивает голову, шумно выпускает
воздух и, скользя вдоль обелиска, оседает на траву. Врач отска-
кивает, словно Кнопф выстрелил в него.
Кнопфа поднимают. Руками он еще цепляется за подножие
обелиска; но его сопротивление сломлено. Я понимаю, что он
ринулся к обелиску под влиянием охватившего его страха; ведь
подле него Кнопф проводил не раз приятные и беззаботные ми-
нуты, не чувствуя в почках никаких колик.
Его вносят в дом.
— Этого следовало ожидать,— говорит Георг Брюггеману.—
Как все произошло?
Брюггеман качает головой.
— Понятия не имею. Он держал пари с каким-то приезжим
из Мюнстера и выиграл. Правильно угадал, какая водка — са-
могон, а какая — из ресторана Блюме. Приезжий из Мюнстера
привез ее в машине. Я был свидетелем. И вот мюнстерец рас-
стегивает бумажник, а Кнопф вдруг становится белым как мел
и покрывается потом. И тут же валится наземь, крючится от бо-
ли, блюет и воет. Остальное было при вас. И знаете, что хуже
всего? Этот тип из Мюнстера воспользовался суматохой и удрал,
не уплатив проигранные деньги. Никто его не знает, и за всеми
волнениями мы не догадались заметить номер машины этого
жулика.
— Это, конечно, ужасно,— говорит Георг.
— Как отнестись! Судьба.
— Судьба,— вставляю я.— Если вы не хотите повредить своей
судьбе, господин Брюггеман, не возвращайтесь обратно по Ха-
кенштрассе. Вдова Конерсман контролирует там движение
с помощью очень сильного карманного фонаря, которым она
обзавелась, она вооружилась пивной бутылкой и сжимает ее
в одной руке, а в другой держит фонарь. Верно, Лиза?
Лиза оживленно кивает.
— Полная бутылка. Если она разобьется о вашу голову, ваш
ныл сразу охладится.
— Черт подери! Как же я отсюда выберусь?— восклицает
брюггеман.— Это тупик?
— К счастью, нет,— отвечаю я.— Вы можете садами вы-
браться на Блейбтрейштрассе. Советую вам не задерживаться,
уже светает.
— + 687 + —
Брюггеман исчезает. Генрих Кроль осматривает обелиск, нет
ли повреждений, и тоже удаляется.
— Таков человек,— заявляет Вильке несколько туманно,
подняв голову, кивает на окно Кнопфа, затем в сторону сада,
через который крадется Брюггеман, и снова поднимается по лест-
нице в свою мастерскую. Сегодня он, видимо, там ночует и не ра-
ботает.
— У вас опять было спиритическое явление с цветами?—
спрашиваю я.
— Нет, но я заказал себе книги об этих явлениях.
Фрау Кроль давно удалилась — она вдруг заметила, что за-
была надеть челюсть. Курт Бах пожирает взглядом знатока го-
лые смуглые плечи Лизы, но, не встретив ответной любви, смы-
вается.
— Старик умрет?— спрашивает Лиза.
— Вероятно,— отвечает Георг.— Удивительно, что он уже
давно не умер!
От Кнопфа выходит врач.
— Ну как?— осведомляется Георг.
— Печень. Она у него уже давно болит. Не думаю, чтобы он
на этот раз выкрутился. Печень разрушена. Один-два дня —
и конец.
Появляется жена Кнопфа.
— Значит, спиртного ни капли!— говорит ей врач.— Вы его
спальню осмотрели?
— Очень тщательно, доктор. Дочери и я. И мы нашлй еще
две бутылки этого чертова зелья. Вот они!
Она показывает бутылки, откупоривает их и собирается вы-
лить содержимое.
— Стоп,— говорю я.— В этом нет прямой необходимости.
Главное, чтобы их не выпил Кнопф, верно, доктор?
— Разумеется.
Разносится крепкий запах хорошей водки.
— А куда я их дома дену?— жалобно спрашивает фрау
Кнопф.— Он же везде отыщет. У него прямо собачий нюх.
— Мы можем освободить вас от этой заботы.
Фрау Кнопф вручает по бутылке мне и врачу.
Врач бросает мне многозначительный взгляд.
— Что для одного погибель, то для другого только песня,—
говорит он и уходит.
Фрау Кнопф закрывает за собою дверь. Во дворе остаемся
только мы трое — Георг, Лиза и я.
— + 688 4* —
— Врач тоже считает, что он не выживет? Да?— спрашивает
Лиза.
Георг кивает. В предрассветной темноте его пурпурная пижа-
ма кажется черной. Лиза пожимается от холода, но не уходит.
— Servus*,— заявляю я и оставляю их одних.
Сверху я вижу вдову Конерсман; она как тень ходит дозором
перед своим домом. Видно, все еще подстерегает Брюггемана.
Через некоторое время я слышу, как внизу осторожно затворя-
ют дверь. Я смотрю в ночь и думаю о Кнопфе и об Изабелле.
Уже задремывая, вижу, как вдова Конерсман пересекает улицу.
Вероятно, она думает, что Брюггеман спрятался где-то здесь,
и освещает наш двор, разыскивая его. Передо мной на подокон-
нике все еще лежит водосточная труба, с помощью которой
я однажды так напугал Кнопфа. Я почти раскаиваюсь в этом.
Но вдруг замечаю движущийся по двору круг света и не могу
устоять перед соблазном.
Осторожно нагибаюсь и низким голосом вдыхаю в трубу сло-
ва: «Кто беспокоит меня?». И добавляю глубокий вздох. Вдова
Конерсман цепенеет, пораженная. Затем дрожащий круг света
судорожно скользит по двору и памятникам.
— Да смилостивится Бог и над твоей душой,— шепчу я в трубу.
Я бы охотно скопировал голос Брюггемана, но удерживаюсь:
за то, что я сказал до сих пор, Конерсманша не может обвинить
меня, если бы даже она выведала, что именно происходит.
Но ей не удается выведать. Она крадется вдоль стены, выхо-
дит на улицу и как бешеная мчится к двери своего дома. Я слы-
шу еще, как у нее начинается икота, затем наступает тишина.
XXI
Я осторожно стараюсь выпроводить бывшего письмоносца
Рота. Это коренастенький человечек, во время войны он разно-
сил письма в той части города, где мы живем. Рот — человек
чувствительный и очень в те дни расстраивался, что ему так ча-
сто приходилось быть вестником несчастья. Пока был мир, лю-
ди с неизменной радостью встречали его, когда он доставлял им
почту; но вот началась война, и его приход обычно повергал их
в страх. Рот приносил повестки призванным в армию и конвер-
ты с официальным извещением: «Пал на поле брани». Чем
дольше тянулась война, тем чаще он приносил их, и его появле-
ние вызывало горе, проклятия и слезы. А когда он однажды вы-
нужден был доставить самому себе зловещий конверт с похо-
* Приветствую вас (лат.).
— + 689 + —
ронной, а через неделю и второй — тут письмоносец не выдер-
жал, он сошел с ума, но был тих и кроток, и почтовому управле-
нию пришлось выплачивать ему пенсию. В результате, во время
инфляции Рот, подобно многим другим, оказался обреченным
на голодную смерть, так как все пенсии обычно повышались со
слишком большим опозданием.
Кое-какие знакомые приняли участие в судьбе бедного оди-
нокого старика, и спустя несколько лет он снова начал выхо-
дить из дому, но так и остался не в своем уме. Ему казалось, что
он все еще письмоносец, спешит по улицам в своей прежней
форменной фуражке и приносит только добрые вести. Он соби-
рает старые конверты и открытки и выдает их за письма из ла-
герей военнопленных в России. Все, кого считали умершими,
как выяснилось, живы, заявляет он при этом. Они не убиты
и скоро вернутся домой.
Я разглядываю открытку, которую он мне только что сунул
в руку: это допотопное печатное приглашение принять участие
в прусской многоразрядной лотерее. Сейчас, во времена ин-
фляции, подобное приглашение кажется дурацкой шуткой. Рот,
вероятно, выудил его из корзины для бумаг; оно адресовано не-
коему мяснику Заку, который давно умер.
— Большое спасибо,— говорю я.— Вы доставили мне огром-
ную радость.
Рот кивает.
— Теперь уже наши солдаты скоро вернутся домой из Рос-
сии!
— Да, конечно.
— Все вернутся. Правда, придется потерпеть. Россия ведь
так велика.
— Ваши сыновья, надеюсь, тоже.
Погасшие глаза Рота оживают.
— Да, мои тоже. Я уже получил извещение.
— Еще раз большое спасибо,— говорю я.
Рот улыбается, не глядя на меня, и идет дальше. Почтовое ве-
домство вначале пыталось помешать его хождениям и даже по-
требовало, чтобы старика опять засадили в сумасшедший дом;
однако многие воспротивились, и его в конце концов оставили
в покое. Правда, в одной пивнушке, где собирались те, кто при-
надлежал к правым партиям, нескольким завсегдатаям пришла
блестящая идея посылать через Рота своим политическим про-
тивникам письма с непристойной бранью, а также одиноким
женщинам — со всякими двусмысленностями. Они находили,
что это замечательно придумано, животики надорвешь. Генрих
— + 690 4* —
Кроль тоже видел в этом проявление истинно народного ядре-
ного юмора.
В пивной, среди своих единомышленников, Генрих вообще
совсем другой человек, чем с нами. Он считается даже остряком.
Рот, конечно, давным-давно позабыл, в каких семьях были
убитые на войне. Он раздавал открытки кому попало; и если
даже его сопровождал наблюдатель из числа патриотов пивной
бочки, следя за тем, чтобы оскорбительные письма попадали
по адресу, и прямо указывая Роту соответствующие дома, а по-
том прятался, то и в этом случае время от времени все же быва-
ли ошибки, и Рот умудрился перепутать несколько писем. Так,
письмо, предназначенное'Лизе, попало к викарию Бодендику.
Ей предлагалось явиться в час ночи в кусты позади церкви
святой Марии, дабы вступить там в половую связь за возна-
граждение в десять миллионов марок. Бодендик выследил под-
жидавших, словно индейцев, и, внезапно появившись перед ни-
ми, двоих столкнул лбами, а третьему, пытавшемуся удрать, дал
такой свирепый пинок в зад, что тот взмыл в воздух и едва уце-
лел. Лишь после этого Бодендик, который умел быстро выжи-
мать признания и считался даже мастером по этой части, стал
задавать вопросы оставшимся двум молодчикам, причем усерд-
но бил их по щекам своими огромными крестьянскими лапища-
ми. Языки развязались весьма быстро, а так как оба были като-
ликами, то он выяснил их фамилии и потребовал, чтобы они
либо завтра же пришли к нему исповедоваться, либо он обо
всем заявит в полицию. Они, конечно, предпочли исповедь. Бо-
дендик прочел им «Ego te absolvo», однако наложил на них епи-
тимью, последовав рецепту соборного священника в отноше-
нии меня, и приказал не пить вина целую неделю, а потом снова
прийти на исповедь. Так как они боялись, что их отлучат
от церкви, и доводить дело до этого не хотели, то снова появи-
лись перед викарием, и Бодендик безжалостно и грозно потре-
бовал, чтобы они исповедовались каждую неделю и вообще
не пили; и он сделал из них скрежещущих зубами от ярости,
но образцовых христианских трезвенников.
Бодендик так никогда и не узнал, что третьим был майор
Фолькенштейн и что ему после пинка викария пришлось
пройти курс лечения простаты, в результате чего майор стал го-
раздо более воинственным политиком и в конце концов пере-
шел к нацистам.
Двери дома, где живет Кнопф, широко раскрыты. Стучит
швейная машинка. Утром туда привезли отрезы черной мате-
— + 691 4* —
рии, и мать с дочерьми теперь шьют себе траурные платья.
Фельдфебель еще не умер, но врач заявил, что это вопрос не-
скольких часов, самое большее — двух-трех дней. Состояние
Кнопфа безнадежно. Но когда в дом приходит смерть — не по-
добает быть в светлых платьях, так как это нанесло бы тяжелый
урон репутации семейства, и женщины торопливо шьют. В ту
минуту, когда Кнопф испустит последний вздох, жена и дочери
предстанут во всеоружии: она — в траурной вуали, и на всех че-
тырех черные платья, черные непрозрачные чулки и даже чер-
ные шляпки. Требования мелкобуржуазного благочестия будут
выполнены.
Лысая голова Георга, точно головка сыру, проплывает
на уровне подоконника. Его сопровождает Оскар-плакса.
— Как доллар?— спрашиваю я, когда они входят.
— Сегодня в полдень он стоит ровно миллиард,— отвечает Ге-
орг.— Если угодно, можно отпраздновать своего рода юбилей.
— Можно. А когда мы обанкротимся?
— Когда все распродадим. Что вы будете пить, господин
Фукс?
— Что у вас найдется... Жаль, что в Верденбрюке нет русской
водки.
— Водки? Вы были в России во время войны?
— Еще бы! Я даже служил там комендантом кладбища. Хо-
рошее было время.
Мы изумленно смотрим на Оскара.
— Хорошее время?— повторяю я.— И это говорите вы, с ва-
шей тончайшей чувствительностью? Ведь вы можете даже пла-
кать по приказу!
— Да, замечательное время! — решительно заявляет Оскар-
плакса и нюхает водку в стаканчике, словно опасаясь, что мы
решили его отравить.— Жратва богатейшая, пей сколько вле-
зет, служба приятная, до фронта далеко... Чего еще человеку
нужно? А к смерти человек привыкает, как к заразной болезни.
Он не просто пьет водку, а смакует ее. Мы не совсем понима-
ем всю глубину его философии.
— Есть люди, которые привыкают к смерти, как к четверто-
му партнеру при игре в скат,— замечаю я.— Вот, например, мо-
гильщик Либерман. Для него рыть могилы все равно, что ока-
пывать сад на кладбище. Но такой художник, как вы!
Оскар снисходительно улыбается.
— Ну, это же огромная разница! Либерману действительно
не хватает подлинной метафизической чуткости к извечной
правде мудрых слов: «Умри и возродись».
— + 692 4* —
Мы с Георгом растерянно переглядываемся. Может быть,
Оскар-плакса и впрямь неудавшийся поэт?
— И давно у вас такие мысли?— спрашиваю я.— Это самое
«умри и возродись»? ,
— Более или менее. Во всяком случае, бессознательно уже
давно. А разве у вас, господа, нет этого чувства?
— У нас оно бывает эпизодически,— отвечаю я.— И главным
образом перед едой.
— Однажды нам объявили о приезде его величества,— мечта-
тельно вспоминает Оскар.— Боже, что тут началось! К счастью,
поблизости находились еще два кладбища, и мы могли у них
подзанять...
— Чего подзанять?— спрашивает Георг.— Красивые барелье-
фы? Или цветы?
— Ах, с этим все было в порядке. В истинно прусском духе,
понимаете? Нет, другое, трупы.
— Трупы?
— Разумеется, трупы! Понятно, не сами трупы, а то, чем они
были прежде. Мелких пешек, конечно, на каждом кладбище
было в избытке; ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей,
лейтенантов — тоже; но вот с более высокими чинами возник-
ли трудности. У моего коллеги на соседнем кладбище имелось,
например, три майора; у меня — ни одного. Зато у меня было
два подполковника и один полковник. И я выменял у него одно-
го подполковника на двух майоров. И получил еще жирного гуся
в придачу — столь позорным казалось моему коллеге не иметь
ни одного подполковника. Он просто не представлял себе, как
посмотрит в глаза его величеству, если у него не окажется
ни единого подполковника.
Георг прикрывает лицо рукой.
— Мне даже сейчас страшно об этом подумать.
Оскар кивает и закуривает тонкую сигару.
— Но все это еще пустяки в сравнении с положением комен-
данта третьего кладбища,— неторопливо продолжает Оскар.—
У того в ассортименте вообще не было ничего стоящего. Хоть
бы один майор! А лейтенантов хоть пруд пруди. Он был прямо
в отчаянии. У меня же выбор оказался очень богатый, и я в кон-
це концов обменял одного из майоров, полученных за моего
подполковника, на двух капитанов и одного кадрового фельд-
фебеля — скорее, разумеется, из любезности. Капитанов у ме-
ня самого было сколько хочешь; только кадровики попадались
очень редко. Вы знаете, эти свиньи обычно отсиживаются по-
дальше от передовой и почти никогда не участвуют в боях; по-
— 4* 693 4* —
тому они и относятся к людям как живодеры... Так вот, я взял
этих трех из желания оказать любезность своему коллеге, да
и мне было приятно заполучить кадрового барана, который уже
лишился возможности реветь.
— А генерала у вас не было?— спрашиваю я.
Оскар мотает головой.
— Убитый генерал — это такая же редкость, как...— он ищет
подходящее сравнение.— Вы не коллекционируете жуков?
— Нет,— отзываемся Георг и я в один голос.
—Жаль,— замечает Оскар.— Так вот, это такая же редкость,
как гигантский жук-рогач, Lucanus cervus, или если вы коллек-
ционируете бабочек,— то как «мертвая голова». Разве возможна
была бы тогда война? Достаточно сказать, что и мой полковник
был убит не на фронте, а умер от удара. Но полковник...— Ос-
кар-плакса вдруг усмехается. Эта улыбка кажется очень неожи-
данной: дело в том, что от постоянного плача лицо его украси-
лось глубокими складками, благодаря чему он стал даже похож
на легавую и на его физиономии утвердилось выражение уны-
лой торжественности.— Итак, выясняется, что третьему комен-
данту необходим штабной офицер. Он предлагал мне за это все
что угодно. Но у меня комплект был полный; имелся даже кадро-
вый фельдфебель, которому я отдал отличную могилу на очень
видном месте. В конце концов я все же уступил —за тридцать
шесть бутылок первоклассной русской водки. К сожалению, мне
пришлось отдать моего полковника, а не подполковника. Трид-
цать шесть бутылок, господа! Вот почему я до сих пор предпочи-
таю водку. А здесь ее, конечно, нигде не достанешь.
В качестве эрзаца Оскар решает выпить еще стаканчик нашей.
— Зачем вы с этими трупами столько хлопот себе надела-
ли?— спрашивает Георг.— Поставили бы несколько крестов
с вымышленными именами и званиями — и все. Могли бы тогда
даже похвастаться генерал-лейтенантом.
Оскар шокирован.
— Но, господин Кроль,— замечает он с кротким укором.—
Это же была бы подделка. Может быть, даже надругательство
над покойниками...
. Надругательством это можно было бы считать лишь в том
случае, если бы вы мертвого майора выдали, скажем, за капита-
на или лейтенанта,— вставляю я.— Но если бы вы на денек вы-
дали солдата за генерала, никакой беды бы не случилось.
— Вы могли бы поставить кресты на пустых могилах,— до-
бавляет Георг.— Тогда бы о надругательстве и речи быть
не могло.
— + 694 4* —
— Все равно это была бы подделка, и она могла бы еще об-
наружиться,— возражает Оскар.— Ну, скажем, сболтнули бы
могильщики. А тогда что? Да и потом — поддельный гене-
рал?— Его как бы всего передернуло.— Кайзер, без сомнения,
знал всех своих генералов.
Мы этого не уточняем. Оскар тоже.
— И знаете, что тут было самое смешное?— спрашивает Оскар.
Мы молчим. Вопрос явно риторический и не требует ответа.
— За день до посещения стало известно, что все отменяется,
Его величество вообще не приедет. А мы посадили целое море
примул и нарциссов.
— Ну, и что же дальше, вернули вы друг другу покойников,
которыми обменялись?— спросил Георг.
— Это была бы слишком большая возня. Да и в бумагах уже
все изменили. И родным послали извещения о том, что их по-
койники переселены. Такие вещи происходили довольно часто.
Попадет кладбище в зону огня, и потом начинай все сначала.
В бешенстве был только комендант третьего кладбища. Он даже
попытался вломиться ко мне со своим шофером, чтобы ото-
брать ящики с водкой. Но я уже давно их хорошенько припря-
тал. В пустой могиле.— Оскар зевнул.— Да, славное было вре-
мя! В моем ведении находилось несколько тысяч могил.
А сейчас...— он вытаскивает из кармана бумажку,— два надгроб-
ных камня средней величины с мраморными досками, и, увы, это
все, господин Кроль.
Я прохожу темнеющим больничным садом. Изабелла после
долгого перерыва сегодня вечером опять пошла в церковь. Я ищу
ее, но не могу найти. Зато встречаю Бодендика, от него пахнет
ладаном и сигарами.
— Кто вы в данное время?— спрашивает он.— Атеист, буд-
дист, скептик или уже вступили на путь, ведущий обратно к Богу?
— Каждый неизменно находится на пути к Богу,— устав
от борьбы, отвечаю я.— Весь вопрос в том, что человек под
этим разумеет.
— Браво,— отвечает Бодендик.— Впрочем, вас ищет Верни-
ке. Почему, собственно, вы так яростно противитесь столь про-
стому чувству, как вера?
— Потому, что на небе больше радости об одном борющем-
ся скептике, чем о девяноста девяти викариях, которые с детст-
ва поют осанну,— заявляю я.
Бодендик ухмыляется. Спорить с ним мне не хочется. Я вспо-
минаю о его подвигах в кустах возле церкви святой Марии.
— 4* 695 4* —
— Когда я увижу вас в исповедальне?— спрашивает он.
— Тогда же, когда и двух грешников, пойманных вами за цер-
ковью.
Он смущен.
— Значит, вы осведомлены об этом? Нет, не тогда. Вы при-
дете добровольно! И не ждите слишком долго.
Я ничего не отвечаю, и мы сердечно прощаемся. Иду к Вер-
нике, и осенние листья носятся в воздухе, точно летучие мыши.
Всюду пахнет землею и осенью. «Куда же делось лето?»— думаю
я. Кажется, будто его и не было.
Вернике откладывает в сторону пачку бумаг.
— Вы видели фрейлейн Терговен?— спрашивает он.
— В церкви. А так — нет.
Он кивает.
— Можете пока о ней больше не заботиться.
— Отлично,— говорю я.— Какие будут дальнейшие приказа-
ния?
— Не говорите глупостей! Это не приказания. Я делаю для
своих больных то, что считаю нужным.— Он внимательно смо-
трит на меня.— Да вы уж не влюбились ли?
— Влюбился? В кого же?
— В фрейлейн Терговен. В кого же еще? Ведь она прехоро-
шенькая девчушка, черт побери! О такой возможности я во всей
этой истории и не подумал!
— Я тоже. Но в какой же истории?
— Ну тогда все в порядке.— Он смеется.— А кроме того, это
было бы для вас отнюдь не вредно.
— Вот как?— отвечаю я.— До сих пор я полагал, что только
Бодендик выступает здесь в роли заместителя Господа Бога. А те-
перь, оказывается, еще и вы. И вам точно известно, что вредно
и что нет? Да?
Вернике молчит.
— Значит, все-таки,— замечает он через мгновение.— Ну
что ж! Жаль, что я иной раз не мог вас подслушать. Именно вас!
Вот уж, верно, были идиотские диалоги! Возьмите сигару. Вы
заметили, что уже осень?
— Да,— отзываюсь я.— Насчет осени я могу с вами согла-
ситься.
Вернике протягивает мне ящик с сигарами. Я беру одну, так
как не желаю слышать разговоров о том, что, отказываясь,
только расписываюсь в своей влюбленности. Я чувствую себя
вдруг таким несчастным, что тошнит от тоски. Однако я закури-
ваю сигару.
— Я, как видно, должен вам все же дать некоторые объясне-
ния,— говорит Вернике.— Мамаша! Она опять пробыла тут
два часа. Наконец-то судьба сломила ее. Ситуация такова: муж
рано умер, осталась вдова, молодая, красивая; друг дома, в ко-
торого, видимо, давно и отчаянно втюрилась и дочь; мать
и друг ведут себя неосторожно, дочь ревнует, застает их в весь-
ма интимную минуту, может быть, уже давно выслеживала их,
вы понимаете?
— Нет,— отвечаю я. Все это мне так же противно, как воню-
чая сигара Вернике.
— Значит, вот начало,— со смаком продолжает Вернике.—
Отсюда ненависть дочери, отвращение, комплекс, поиски спа-
сения в раздвоении личности, в том именно типе раздвоения,
при котором избегают всякой реальности и живут в мире грез.
Мамаша вдобавок выходит замуж за друга дома, наступает ка-
тастрофа. Теперь вам понятно?
— Нет.
— Ведь это же так просто,— нетерпеливо говорит Верни-
ке.— Было очень трудно добраться до первопричины, но те-
перь...— Он потирает руки — Да еще, к счастью, второго мужа
матери, бывшего друга дома,— его звали Ральф или Рудольф,
что-то в этом роде,-1- уже нет в живых и он не блокирует созна-
ния. Скончался три месяца назад, за две недели до этого попал
в автомобильную катастрофу,— словом, мертв, следовательно,
причина заболевания устранена, путь свободен; ну теперь-то
вы наконец сообразили что к чему?
— Да,— отвечаю я, и мне хочется запихать в глотку этому ве-
селому исследователю тряпку с хлороформом.
— Вот видите! Сейчас весь вопрос в том, как все это разре-
шится. Мать, которая вдруг перестает быть соперницей, тща-
тельно подготовленная встреча,— я уже целую неделю внушаю
матери... и все отлично наладится. Вы же видели, сегодня вече-
ром фрейлейн Терговен опять была у вечерни...
— И вы считаете, что вернули ее церкви? Именно вы, атеист,
а не Бодендик?
— Вздор!— восклицает Вернике, несколько раздраженный
моим тупоумием.— Дело же вовсе не в этом! Я хочу сказать,
что она становится менее замкнутой, более свободной,— разве
и вы не заметили, когда были здесь в последний раз?
— Да, заметил.
— Вот видите!— Вернике снова потирает руки.— После пер-
вого сильного шока это очень радостное явление...
— 4* 697 4* —
— А шок тоже один из необходимых моментов в вашем спо-
собе лечения?
Я вспоминаю состояние Изабеллы, которая сидит в своей
комнате.
— Поздравляю,— говорю я.
Вернике настолько занят успехами своего метода, что не за-
мечает иронии.
— После первой же беглой встречи с матерью и соответству-
ющей обработки все, разумеется, опять вернулось; но это и вхо-
дило в мои намерения — и с тех пор я стал питать большие на-
дежды. Вы сами понимаете, теперь мне не нужно ничего, что
могло бы отвлечь...
— Понимаю. Нужен не я.
Вернике кивает.
— Я знал, что вы поймете! В вас тоже ведь есть некоторая
любознательность исследователя. Какое-то время вы были
очень полезны, но теперь... да что это с вами? Вам слишком
жарко?
— Сигара. Слишком крепкая.
— Напротив,— возражает неутомимый исследователь.—
У этих бразильских только вид такой, а на самом деле легче
не бывает.
«Как сказать»,— думаю я, и откладываю это курево в сторону.
— Человеческий мозг! — восклицает Вернике почти мечта-
тельно.— Раньше мне хотелось стать матросом, путешествен-
ником, исследователем первобытного леса — смешно! А ведь
величайшие приключения таятся здесь!— И он стучит себя
по лбу.— Мне кажется, я и раньше вам это говорил!
—Да,— отвечаю я,— и не раз.
Зеленая скорлупа каштанов шуршит под ногами. Влюблен,
как мальчишка, как идиот, думаю я; что тут способен понять та-
кой вот обожатель фактов? Если бы все было так просто! Я вы-
хожу за ворота и почти сталкиваюсь с женщиной, идущей мне
навстречу. На ней меховое манто, и она, видимо, не принадле-
жит к персоналу лечебницы. В темноте я вижу лишь бледное,
точно стертое лицо, и меня обдает струей духов.
— Кто эта женщина?— спрашиваю я сторожа.
— Какая-то дама к доктору Вернике. Она уже не в первый
раз приходит сюда. Кажется, у нее тут больная.
Мать, думаю я, и все же надеюсь, что это не она. Я останав-
ливаюсь и издали смотрю на здание лечебницы. Мной овладе-
вает ярость, гнев за то, что я оказался в смешном положении,
— 4* 698 4* —
потом они сменяются убогой жалостью к себе, а в конце концов
остается только ощущение беспомощности. Я прислоняюсь
к каштану, ощущаю прохладу его ствола и уже не знаю, чего хочу
и чего желаю.
Иду дальше, и постепенно мне становится легче. Пусть они
говорят, Изабелла, думаю я, пусть смеются над нами, пусть счи-
тают идиотами. Ты, сладостная, любимая, жизнь моя, создание
вольное и летящее, но ступающее уверенно там, где другие то-
нут, и парящее там, где другие топают чугунными сапожищами,
ты, запутавшаяся в паутине и изранившая себя о границы, ко-
торых другие даже не замечают,— зачем люди пристают к тебе?
Зачем они так жадно стремятся вернуть тебя обратно в наш
мир, почему не оставляют тебе твое мотыльковое бытие по ту
сторону всякой причины и следствия, времени и смерти? Что это,
ревность? Или полное непонимание? А может быть, Вернике
прав,'утверждая, что он должен спасти тебя, пока тебе не ста-
нет хуже,— спасти от безымянных страхов, которые предстояли
тебе, еще более сильных, чем вызванные в твоей душе им са-
мим, спасти от жабьего угасания в сумеречном тупоумии?
Но уверен ли он, что это в его силах? Уверен ли, что как раз эти-
ми попытками спасения не погубит тебя окончательно или
толкнет раньше времени к тому, от чего хотел бы спасти? Кто
знает? И что этот горе-исследователь, этот собиратель бабочек
знает о полете, о ветре, об опасностях и восторгах дней и ночей
вне пространства и времени? Разве он провидит будущее? Раз-
ве он пил луну? Разве слышал, как кричат растения? Он смеет-
ся над этим! Для него все это только реакция, отвлекающая
от воспоминаний о грубом, животном эпизоде, свидетельницей
которого была его пациентка! Разве он Бог и знает наверное то,
что должно произойти? Много ли он знал обо мне? Что мне бы-
ло бы полезно слегка влюбиться? А что я сам знаю на этот
счет? Вот чувство мое прорвалось и льется потоком, и нет ему
конца, а я разве мог ожидать, что так будет? Разве можно так
предаться другому человеку? И я сам все вновь не отстранял
от себя это чувство — еще в те недавние дни, которые теперь
горят на горизонте, как недосягаемый закат? Впрочем, зачем
я жалуюсь? Чего боюсь? Ведь все может еще наладиться, Иза-
белла будет здорова и...
Тут я запинаюсь. А что тогда? Разве она не уедет отсюда?
Разве тут же не появится мать — эта дама в меховом манто, бла-
гоухающая тонким ароматом духов, с поддерживающей ее род-
ней и определенными притязаниями на свою дочь? Разве тогда
дочь не будет потеряна для меня, человека, который не в состо-
— 4- 699 4* —
янии скопить денег хотя бы на новый костюм? И может быть,
я только из-за этого чувствую в душе такое смятение? Из тупого
эгоизма? А все остальное — только бутафория?
Я вхожу в винный погребок. Там сидят несколько шоферов,
волнистое зеркало буфетной стойки возвращает мне мое вытя-
нутое лицо, а передо мною под стеклом лежит с десяток засох-
ших бутербродов с сардинками, у которых от старости хвосты
поднялись кверху. Я выпиваю стаканчик водки, и мне кажется,
будто в моем желудке глубокое болезненное отверстие. Я съедаю
несколько бутербродов с сардинками и еще несколько — со ста-
рым, выгнувшимся дугою швейцарским сыром. Вкус у них от-
вратительный, но я запихиваю их себе в рот, потом съедаю еще
сосиски — до того красные, что они вот-вот заржут, но чув-
ствую себя все несчастнее и голоднее и, кажется, готов сожрать
буфетную стойку.
— Ну, приятель, и аппетит же у вас,— говорит хозяин.
— Да,— соглашаюсь я.— У вас есть еще что-нибудь?
— Гороховый суп. Густой гороховый суп, и если вы туда еще
накрошите хлеба...
— Хорошо, давайте мне гороховый суп.
Я проглатываю суп, и хозяин приносит мне в виде бесплат-
ной добавки ломоть хлеба со свиным салом. Уничтожаю и это
и чувствую себя еще голоднее и несчастнее. Шоферы начинают
интересоваться мной.
— Я знал человека, который мог в один присест съесть трид-
цать крутых яиц,— говорит один из них.
— Исключено. Он бы умер, это доказано наукой.
Я сердито смотрю на поклонника науки.
— А вы видели, чтобы от этого человек умер?— спрашиваю я.
— Да уж это бесспорно,— отвечает он.
— Совсем не бесспорно! Наукой доказано только то, что шо-
феры рано умирают.
— Как так?
— Пары бензина. Постепенное отравление.
Появляется хозяин и приносит что-то вроде итальянского са-
лата. Его сонливость уступила место чисто спортивному инте-
ресу. Откуда у него этот салат с майонезом, остается загадкой,
и салат даже свежий. Может быть, он пожертвовал частью соб-
ственного ужина? Я уничтожаю и его, потом ставлю точку, хо-
тя в желудке жжет, он как будто все еще пуст, и голод ничуть
не утолен.
Улицы серы и тускло освещены. Всюду стоят нищие. Это
не те нищие, каких мы знали раньше; теперь видишь среди
— + 700 4* —
них инвалидов войны и трясунов, безработных и стариков —
тихих людей, чьи лица напоминают смятую бесцветную бумагу.
Мне вдруг становится стыдно за то, что я так бессмысленно
жрал. Если бы все проглоченное поделить между двумя-тремя
из этих людей, они хоть на один вечер были бы сыты, а меня го-
лод мучил бы так же, как и сейчас. Вынимаю из кармана оста-
ток денег и раздаю. Их уже маловато, но я себя не обкрадываю:
завтра, в десять часов утра, когда объявят новый курс доллара,
деньги все равно будут стоить на одну четверть дешевле, чем
сегодня. К осени скоротечная чахотка немецкой марки разви-
вается с удесятеренной силой. Нищим это известно, и они
тут же исчезают, ибо дорожат каждой минутой: за один час сто-
имость супа могла уже подняться на несколько миллионов
марок. Все зависит от того, придется ли владельцу ресторанчика
делать завтра закупки или нет, а также насколько он гешефт-
махер или сам жертва. Если он жертва, то он все равно что ман-
на небесная для более мелких жертв, ибо опаздывает с повыше-
нием цен.
Иду дальше. Из городской больницы выходят несколько че-
ловек. Они ведут женщину, правая рука которой в шине. Меня
обдает запахом перевязочных материалов. Больница стоит сре-
ди темноты, как световая крепость. Почти все окна освещены;
кажется, что полна каждая палата. При инфляции люди умира-
ют быстро. Нам это тоже известно.
Я захожу на Гроссештрассе, в бакалею, которая нередко еще
торгует после официального часа закрытия магазинов. Мы
с владелицей заключили соглашение. Она получила от нас для
своего мужа надгробие средней стоимости, а нам за это разре-
шается приобрести товаров на шесть долларов по курсу долла-
ра от второго сентября. Это как бы продленная форма товаро-
обмена. Ведь обмен и так всюду вошел в моду. Старые кровати
меняют на канареек и безделушки, фарфор на колбасу, драго-
ценности на картофель, мебель на хлеб, рояли на окорока, по-
держанные бритвы на очистки овощей, поношенные шубы
на перелицованные френчи, вещи, оставшиеся после умерших,
на продукты питания. Месяц назад, при продаже обломка мра-
морной колонны на цоколе, у Георга даже были шансы при-
обрести почти новый смокинг. Лишь с большой грустью отка-
зался он от этого, так как суеверен и считает, что в одежде еще
долгое время остается часть самого покойника. Вдова заверила
Георга, что отдавала смокинг в химчистку; таким образом, его
можно считать совсем новым и надеяться, что пары хлора из-
гнали умершего из каждой складки. Георг очень колебался —
— 4* 701 4* —
смокинг был прямо сшит на него — и все же не решился пойти
на это.
Я нажимаю на ручку двери. Магазин заперт. Ну, конечно,
думаю я, и голодными глазами рассматриваю выставленные
в витрине товары. Затем, устало бреду домой. Среди двора стоят
шесть маленьких могильных плит из песчаника. Они еще девст-
венно чисты, никаких имен на них не высечено. Их сделал Курт
Бах. Правда, это издевательство над его талантом, такие пли-
ты —обычная работа каменотесов, но в данное время у нас нет
заказов на львов и на памятники павшим воинам — вот Курт
и готовит про запас маленькие дешевые плиты, которые всегда
нужны, особенно сейчас, осенью, когда, так же как и весной,
начнется массовое умирание. Об этом уж позаботятся и грипп,
и голод и плохое питание, и ослабленная сопротивляемость ор-
ганизма.
Приглушенно жужжат швейные машинки в квартире Кноп-
фов. Сквозь застекленную дверь виден свет из гостиной, где
шьют траурные платья. Окно в комнате старика Кнопфа темно.
Вероятно, он уже умер. Нам следовало бы водрузить на его мо-
гилу черный обелиск, думаю я, этот мрачный каменный палец,
указывающий на небо. Для Кнопфа обелиск был как бы второй
родиной, а вот уже двум поколениям Кролей не удавалось про-
дать этого черного обвинителя.
Я иду в контору.
— Входи,— кричит из своей комнаты Георг, услышав мои
шаги.
Я открываю дверь и останавливаюсь, изумленный. Георг си-
дит в своем кресле, обложенный, как обычно, иллюстрирован-
ными журналами. Кружок, изучающий великосветскую жизнь,
членом которого он является, прислал ему как раз новую пищу.
Однако не это главное: он сидит в смокинге, в крахмальной со-
рочке и даже в белом жилете — прямо картинка из журнала
«Холостяк».
— Значит, все-таки решился!— говорю я.— Предостереже-
ния своего инстинкта ты принес в жертву жажде удовольствий.
Это же смокинг вдовы!
— Ничего подобного! — Георг самодовольно потягивает-
ся.— Вот пример того, насколько женщины изобретательнее
нас. Это другой смокинг. Вдова обменяла свой у портного и та-
ким образом расплатилась со мной, не задевая моей чувстви-
тельности. Видишь — смокинг вдовы был на дешевом атласе,
а этот на чистом шелку. И под мышками меньше жмет. А цена
— + 702 4* —
из-за инфляции в золотых марках та же; и этот элегантнее. Так,
в виде исключения, даже чувствительность бывает вознаграждена.
Я рассматриваю Георга. Смокинг хорош, но не нов. Я не хочу
сбивать с толку Георга и утверждать, что и этот, вернее всего,
принадлежит покойнику. Да и что, в сущности, не получено на-
ми от покойников? Наш язык, наши привычки, наши познания,
наше отчаяние — все! На фронте, особенно в последний год
войны, Георг носил столько мундиров, снятых с умерших, по-
рой еще в пятнах крови и с залатанными дырками от пуль, что
в нем теперь говорит уже не только неврастеническая чувстви-
тельность, а протест и жажда мира. И воплощением мирной
жизни является для него то, что можно уже не носить одежды
покойников.
— Что поделывают киноактрисы Хенни Портер, Эрна Море-
на и несравненная Лиа де Путти?— осведомляюсь я.
— У них те же заботы, что и у нас!— отвечает Георг.— Они
стараются как можно скорее перевести деньги в реальные цен-
ности — в машины, меха, тиары, собдк, дома, акции, вложить в про-
изводство фильмов,— но только им это сделать легче, чем нам.
Он любовно рассматривает фотографию из жизни Голливу-
да. Это бал неописуемой элегантности. На мужчинах, подобно
Георгу, смокинги и фраки.
— Когда у тебя, наконец, будет фрак?— спрашиваю я.
— После того, как я побываю на первом балу в смокинге.
Для этого я удеру в Берлин. На три дня. В один прекрасный
день, когда инфляция кончится и деньги опять станут деньгами,
а не водой. Пока я, как видишь, готовлюсь.
— Тебе еще нужны лакированные туфли,— заявляю я, поче-
му-то раздраженный самодовольством этого светского льва.
Георг извлекает из жилетного кармана знаменитую золотую
монету в двадцать марок, подбрасывает ее и безмолвно опуска-
ет в карман. Я разглядываю его, и меня гложет зависть. А он си-
дит с беззаботным видом, из бокового кармана торчит сигарета,
и она не будет горька, словно желчь, как сигара, поднесенная
мне Вернике. На той стороне улицы живет Лиза, и она влюбле-
на в него просто потому, что он родился в семье, имевшей тор-
говое дело, а ее отец существовал на случайные заработки. Она
девочкой восхищалась Георгом, его белым отложным воротни-
ком и матросской шапочкой на тогда еще густых кудрях; а ей
приходилось донашивать платья, перешитые из материнских.
Так это восхищение в ее душе и осталось. Георгу уже не нужно
делать никаких дополнительных усилий, чтобы покорить ее.
— 4* 703 4* —
Лиза, вероятно, даже не замечает, что он облысел: для нее он
все тот же буржуазный принц в матросском костюмчике.
— Тебе-то хорошо,— говорю я.
— Это заслуженно,— отвечает Георг и захлопывает модный
журнал. Затем берет с подоконника банку шпротов и указывает
на полбулки и кусок масла.— Как ты насчет того, чтобы скром-
но поужинать, наблюдая ночную жизнь заурядного города?
Это те самые шпроты, от созерцания которых в витрине Грос-
сештрассе у меня слюнки потекли. А сейчас я их видеть не могу.
— Удивляюсь тебе,— говорю я.— Почему ты ужинаешь? По-
чему, имея столь роскошный смокинг, не «динируешь» в быв-
шем отеле «Гогенцоллерн» или теперешнем «Рейхсгофе»? Икра
и устрицы?
— Люблю контрасты,— заявляет Георг.— Разве я мог бы
иначе жить, оставаясь только торговцем надгробиями, тоскую-
щим по высшему обществу?
Он стоит у окна во всей своей красе. С той стороны улицы
вдруг доносится хриплое восторженное восклицание. Георг по-
ворачивается анфас и засовывает руки в карманы, чтобы лучше
был виден белый жилет. А Лиза тает, насколько она может та-
ять. Она завертывается в кимоно, исполняет нечто вроде араб-
ского танца, сбрасывает кимоно и вдруг, нагая, выступает тем-
ным силуэтом на фоне освещенного окна, снова набрасывает
кимоно, ставит лампу рядом с собой, и вот она опять перед нами —
смуглая и горячая, вся покрытая летящими журавлями, и на ее
жадных губах появляется белозубая улыбка, словно она держит
во рту гардению. Георг принимает поклонение, точно паша,
и предоставляет мне принимать участие в этой сцене, как буд-
то я евнух, который в счет не идет. Этим мгновением он снова
надолго закрепляет в душе Лизы образ мальчика в матроске,
некогда столь импонировавшего оборванной девчонке. Притом
Лизу, которая чувствует себя как дома в «Красной мельнице»
среди спекулянтов, смокингом не удивишь; но на Георге это,
конечно, нечто совсем другое. Он — как чистое золото.
— Тебе хорошо,— повторяю я,— и все дается легко. Ризен-
фельд мог бы себе перегрызть артерии, писать сколько угодно
стихов, пустить прахом свой гранитный завод — он все равно
не добился бы того, чего ты добиваешься, просто позируя, как
манекен.
Георг кивает.
— Это секрет. Но тебе я его открою: никогда не предприни-
май никаких сложных ходов, если того же можно достичь гораз-
до более простыми способами. Это одно из самых мудрых пра-
— 4* 704 4* —
вил жизни. Применять его на деле очень трудно. Особенно ин-
теллигентам и романтикам.
— А что нужно еще?
— Ничего. Но никогда не изображай из себя духовного Гер-
кулеса, если можно достичь того же с помощью новых брюк.
Тогда ты не раздражаешь другого человека, ему не нужно де-
лать усилия, чтобы дотянуться до тебя, ты сохраняешь спокой-
ствие и непринужденность, а то, что является предметом твое-
го желания, выражаясь образно, само дается тебе в руки.
— Смотри, не посади масляное пятно на свои шелковые лац-
каны,— говорю я.— Когда ешь шпроты, легко капнуть.
— Ты прав.— Георг снимает смокинг.— Никогда не следует
искушать свое счастье. Еще одно ценное правило.
Он снова берется за шпроты.
— Почему бы тебе не написать целой серии правил для ка-
лендарей?— с горечью спрашиваю я этого легкомысленного
чревовещателя жизненной мудрости.— Жаль, когда подобные
пошлости бросаются просто так, на ветер.
— Дарю их тебе. Для меня это стимулы, а не пошлости. Тот,
кто от природы меланхолик да еще занимается нашей профес-
сией, должен делать все возможное, чтобы подбодрить себя,
и при этом не следует быть слишком разборчивым. Вот тебе
еще одно правило.
Я вижу, что мне очень трудно его переспорить, и, опустошив
банку со шпротами, удаляюсь в свою комнату. Но я и тут не мо-
гу излить свои чувства даже на клавиши рояля — ведь во дворе
умирает или же умер фельдфебель; а траурные марши — толь-
ко их можно было бы сейчас играть — и без того звучат у меня
в душе.
XXII
В спальне старика Кнопфа вдруг появляется призрак. Прохо-
дит некоторое время, и я в отраженном полуденном свете узнаю
фельдфебеля. Итак, он еще жив, встал с постели и дотащился
до окна. Серо-седая голова, серая ночная сорочка, глаза тупо
уставились на мир за окном.
— Взгляни-ка,— говорю я Георгу.— Не желает он умирать
в сточной канаве, старый боевой конь хочет в последний раз
взглянуть туда, где находится верденбрюкский водочный завод.
Мы наблюдаем за ним. Усы у него печально свисают с губы,
точно блеклый кустарник. Глаза тусклые, свинцового цвета. Он
некоторое время бессмысленно смотрит в окно, затем отвора-
чивается.
— + 705 + —
— Это был его последний взгляд,— говорю я.— Как трога-
тельно, что даже такой очерствевший, бесчеловечный живодер
еще раз хочет взглянуть на мир, прежде чем покинуть его на-
всегда. Вот тема для нашего поэта Хунгермана — он ведь пи-
шет на социальные темы.
— А Кнопф бросает второй взгляд,— говорит Георг.
Я встаю из-за аппарата «престо», на котором размножаю ка-
талог для нашего представителя, и возвращаюсь к окну. Фельд-
фебель снова стоит у окна. Сквозь отсвечивающие стекла мы
видим, как он подносит что-то ко рту и пьет.
— Лекарство!— замечаю я.— Удивительно, что даже такая
развалина все же цепляется за жизнь.
— И вовсе это не лекарство,— отвечает Георг, у которого
зрение лучше моего.— Лекарство не продается в бутылках из-
под водки.
— Что?
Мы открываем наше окно. Отражения исчезают, и я убеж-
даюсь, что Георг прав: старик Кнопф хлещет водку из явно во-
дочной бутылки.
— Удачная идея жены,— говорю я,— наливать ему воду в бу-
тылку из-под водки. Водки у него в комнате больше нет; ведь
все обыскали сверху донизу.
Георг качает головой. ч
— Будь там вода, он давно бы вышвырнул бутылку в окно. За все
время, что я знаю старика, он употреблял воду только для умы-
вания, да и то неохотно. Это водка, несмотря на все обыски, он
ее где-то припрятал; а перед тобой, Людвиг, высокий пример
того, как человек мужественно идет навстречу своей судьбе.
Старый фельдфебель падает смертью храбрых на поле боя,
сжимая рукой горло врага.
— Может быть, позвать его жену?
— Ты думаешь, ей удастся отнять у него бутылку?
— Нет.
— Врач сказал, что он проживет самое большее три-четыре
дня. В таком случае — какая разница?
— Разница между христианином и фаталистом.
— Господин Кнопф!— кричу я.— Господин фельдфебель!
Не знаю, услышал ли он меня, но делает движение, словно
приветствуй нас бутылкой. Потом продолжает пить.
— Господин Кнопф!— кричу я опять.— Фрау Кнопф!
— Поздно!— говорит Георг.
Кнопф перестает пить и делает опять кругообразные движе-
ния бутылкой. Мы ждем, что он опять вот-вот упадет. Врач за-
— + 706 4* —
явил, что даже капля алкоголя для него гибель. Через некото-
рое время он исчезает в глубине комнаты, словно труп, который
медленно погружается в воду.
— Прекрасная смерть,— говорит Георг.
— Следовало бы сказать семье.
— Оставь их в покое. Старик ведь был ужасный злыдень.
Они рады, что он умирает.
— Не знаю. Привязанность бывает разная. Ему можно бы
сделать промывание желудка.
— Он будет так противиться, что его еще удар хватит или пе-
чень лопнет. Но, если это успокоит твою совесть, позвони вра-
чу Гиршману.
Я дозваниваюсь до врача.
— Старик Кнопф только что высосал бутылочку водки,— со-
общаю я.— Мы видели из нашего окна.
— Залпом?
— Кажется, двумя залпами. Какое это имеет значение?
— Никакого. Просто из любопытства. Мир праху его.
— А сделать ничего нельзя?
— Ничего,— отвечает Гиршман.— Ему и так, и так конец.
Меня удивляет, что он проскрипел до сегодня. Поставьте ему
памятник в виде бутылки.
— Вы бессердечный человек,— говорю я.
— Вовсе не бессердечный. Я циник. А разницу вам следовало
бы знать. Мы ведь с вами работаем в одной области. Цинизм —
та же сердечность, только с отрицательным показателем, если
я могу этим вас утешить. Выпейте в память возвратившегося
к праотцам отчаянного пьяницы.
Я кладу трубку.
— Кажется, Георг,— говорю я,— мне действительно давно
пора расстаться с нашей профессией. От нее слишком грубеешь.
— От нее не грубеешь, а тупеешь.
— Еще хуже. Это не занятие для члена верденбрюкской ака-
демии поэтов. Разве могут сохраниться в человеке глубокое
изумление, благоговение, страх перед смертью, если приходит-
ся расценивать ее по кассовым счетам или по стоимости памят-
ников?
— Даже в этом случае она остается смертью,— отвечает Ге-
орг.— Но я понимаю тебя. Давай пойдем к Эдуарду и молча вы-
пьем стаканчик за упокой души старого служаки.
Под вечер мы возвращаемся домой. Час спустя из квартиры
Кнопфа доносятся шум и крики.
— + 707 + —
— Мир праху его,— говорит Георг.— Пойдем, нужно, как
принято, выразить им сочувствие.
— Надеюсь, они дошили свои траурные платья. Это единст-
венное, что может в данную минуту их утешить.
Дверь не заперта. Мы открываем ее, не позвонив, и останав-
ливаемся на пороге. Перед нами неожиданная картина. Посреди
комнаты стоит старик Кнопф, в руке у него трость, он одет для
выхода. Позади трех швейных машинок столпились его три до-
чери и жена. Кнопф яростно кряхтит и лупит их тростью. Од-
ной рукой он для упора держится за головку ближайшей ма-
шинки, другой наносит удары. Бьет Кнопф не слишком сильно,
но старается. По полу раскиданы траурные платья.
Понять все это очень нетрудно. Вместо того чтобы убить
фельдфебеля, водка его настолько оживила, что он оделся и, ве-
роятно, вознамерился предпринять обычный обход пивных.
Так как никто ему не сказал, что болезнь его смертельна, а жена
из страха перед ним не пригласила священника, который под-
готовил бы его к вечному блаженству, Кнопфу даже в голову
не пришло, что он умирает. С ним уже не раз бывали такие при-
падки, поэтому он решил, что и теперь такой же. А его ярость
вполне понятна: ни один человек не станет ликовать, увидев,
что семья просто сбросила его со счетов и тратит деньги на до-
рогой траур.
— Банда проклятая!— хрипит он.— Обрадовались? Да? Я
покажу вам!
Желая ударить жену, он промахивается и шипит от ярости.
Она крепко держит трость.
— Но, отец, мы же должны заранее все приготовить. Врач...
— Ваш врач болван! Отпусти трость, сатана! Отпусти, говорю,
трость, скотина!
Маленькая кругленькая женщина наконец выпускает из рук
конец трости. Кнопф, шипя, как селезень, размахивает перед
ней своим оружием, удар обрушивается на одну из дочерей.
Женщины, конечно, могли бы общими усилиями обезоружить
ослабевшего старика, но он держит их в ежовых рукавицах, как
фельдфебель своих рекрутов. Теперь дочери ухватились
за трость и пытаются слезливо что-то объяснить ему.
Но Кнопф не слушает.
— Отпустите трость, сатанинское отродье! Я вам покажу,
как швырять деньги в окно!
Они снова отпускают трость, и Кнопф опять замахивается,
но не попадает и от своего рывка падает на колени. Слюна пу-
— + 708 + —
зырится на его ницшевских усах, когда он поднимается, чтобы,
по совету Заратустры, снова заняться избиением своего гарема.
— Ты умрешь, отец, если будешь так волноваться!— плача,
кричат дочери.— Успокойся! Мы счастливы, что ты жив! Хо-
чешь, мы сварим тебе кофе?
— Кофе? Я вам сварю кофе! До смерти исколочу вас, сата-
нинское отродье! Бросить псу под хвост такие деньги...
— Ведь мы можем все эти вещи снова продать, отец!
— Продать! Я покажу вам, как продавать, стервы треклятые.
— Но, отец, мы же еще не заплатили!— кричит в полном от-
чаянии фрау Кнопф.
Это до него доходит. Кнопф опускает трость.
— Что?
Тут подходим к нему мы.
— Господин Кнопф,— говорит Георг,— примите мои по-
здравления.
— Пошли вы к дьяволу! — отвечает фельдфебель.— Разве
вы не видите, что я занят?
— Вы переутомляетесь.
— Да? А вам какое дело? Тут моя семейка разоряет меня...
— Ваша жена устроила выгоднейшее дело. Если она завтра
продаст эти траурные платья, то благодаря инфляции заработа-
ет на этом несколько миллиардов, особенно если за материал
еще не заплачено.
— Нет, мы еще не платили!— восклицает весь квартет.
— Поэтому вы радоваться должны, господин Кнопф! За вре-
мя вашей болезни доллар очень поднялся. Вы, сами того не по-
дозревая, заработали на реальных ценностях.
Кнопф настораживается. Об инфляции он знает потому, что
водка все дорожает.
— Значит, заработал...— бормочет он.
Затем поворачивается к своим четырем нахохлившимся во-
робьям.
— А памятник вы тоже мне купили?
— Нет, отец! — с облегчением восклицает квартет, бросая
на нас умоляющие взгляды.
— А почему?— в ярости хрипит Кнопф.
Женщины смотрят на него, вытаращив глаза.
— Дуры! — вопит он.— Мы могли бы перепродать его! И
с выгодой? Да?— спрашивает он Георга.
— Только если бы он был уже оплачен. Иначе мы бы просто
взяли его обратно.
— + 709 + —
— Ах, вздор! Ну мы бы продали его Хольману и Клотцу
и рассчитались бы с вами.— Фельдфебель снова поворачивает-
ся к своему выводку.— Дуры! Где деньги? Если вы не заплати-
ли за материал, у вас еще должны быть деньги. Сейчас же по-
дать их сюда!
— Пойдем,— говорит Георг.— Эмоциональная часть кончи-
лась. А деловая нас не касается.
Но он ошибся. Через четверть часа Кнопф является в конто-
ру. Его окружает, как облако, крепкий запах водки.
— Я вывел их на чистую воду,— заявляет он.— Врать мне бес-
полезно. Жена во всем созналась. Она купила у вас памятник.
— Но не заплатила за него. Забудьте об этом. Ведь он же вам
теперь не нужен.
— Она его купила,— угрожающе настаивает фельдфебель.—
Есть свидетели. И не вздумайте увиливать! Говорите — да или нет?
Георг смотрит на меня.
— Так вот: ваша жена не то что купила памятник, а, скорее,
приценивалась.
— Да или нет?
— Мы так давно друг друга знаем, господин Кнопф, что може-
те забрать его, если хотите,— говорит Георг, желая успокоить
старика.
— Значит, да. Давай мне расписку.
Мы опять переглядываемся: эта развалина, этот пришедший
в негодность вояка быстро усвоил уроки инфляции. Он хочет
взять нас наскоком.
— Зачем же расписку?— говорю я.— Уплатите за памятник,
и он ваш.
— Не вмешивайтесь, вы, обманщик! — набрасывается на ме-
ня Кнопф.— Расписку!— хрипит он.— Восемь миллиардов! Су-
масшедшая цена за кусок камня!
— Если вы хотите получить его, вы должны немедленно упла-
тить,— говорю я.
Кнопф сопротивляется героически. Лишь через десять ми-
нут он признает себя побежденным. Из тех денег, которые он
отобрал у женщин, старик отсчитывает восемь миллиардов
и вручает их нам.
— А теперь давайте расписку,— рычит он.
Расписку он получает. Я вижу в окно его дам, они стоят
на пороге своего дома. Оробев, смотрят они на нас и делают ка-
кие-то знаки. Кнопф выкачал из них все до последнего парши-
вого миллиона. Он наконец получает квитанцию.
— + 710 4* —
— Так,— говорит он Георгу.— А сколько вы теперь дадите
за памятник? Я продаю его.
— Восемь миллиардов.
— Как? Вот жулик! Я сам за него заплатил восемь миллиар-
дов! А где же инфляция?
— Инфляция остается инфляцией. Памятник стоит сегодня
восемь с половиной миллиардов. Восемь — это покупная цена,
а полмиллиарда мы должны заработать при продаже.
— Что? Вы мошенник! А я? А где же мой заработок на этом
деле? Вы хотите его прикарманить? Да?
— Господин Кнопф,— вступаюсь я.— Если вы купите вело-
сипед, а через час его снова продадите, вы не вернете себе пол-
ностью покупной цены. Так бывает при розничной торговле
и при оптовой — словом, со всяким покупателем; на этом зиж-
дется наша экономика.
— Пусть ваша экономика идет ко всем чертям! — бодро за-
являет фельдфебель.— Коли велосипед куплен, значит, он ис-
пользованный, хоть на нем и не ездили. А мой памятник совсем
новенький.
— Теоретически он тоже использованный,— замечаю я.—
Экономически, так сказать. Кроме того, не можете же вы требо-
вать, чтобы мы терпели убыток только потому, что вы не умерли!
— Жульничество, сплошное жульничество!
— Да вы оставьте памятник себе,— советует Георг.— Это от-
личная реальная ценность. Когда-нибудь он же вам пригодится.
Бессмертных семейств нет.
— Я продам его вашим конкурентам. Да, Хольману и Клот-
цу, если вы сейчас же не дадите мне за него десять миллиардов!
Я снимаю телефонную трубку*.
— Подите сюда, мы облегчим вам дело. Вот, звоните. Номер 624.
Кнопф растерян, он отрицательно качает головой.
— Такие же мошенники, как и вы! А сколько будет завтра
стоить памятник?
— Может быть, на один миллиард больше. Может быть,
на два или на три миллиарда.
— А через неделю?
— Господин Кнопф,— говорит Георг,— если бы мы знали
курс доллара заранее, мы не сидели бы здесь и не торговались
с вами из-за надгробия.
— Очень легко может случиться, что вы через месяц станете
биллионером,—заявляю я.
Кнопф размышляет.
— Я оставлю памятник себе,— рычит он.— Жалко, что я уже
уплатил за него.
— Мы в любое время выкупим его у вас обратно.
— Ну еще бы! А я и не подумаю! Я сохраняю его для спеку-
ляции. Поставьте его на хорошее место.— Кнопф озабоченно
смотрит в окно.— А вдруг пойдет дождь!
— Надгробия выдерживают дождь.
— Глупости! Тогда они уже не новые. Я требую, чтобы вы по-
ставили мой в сарай! На солому.
— А почему бы вам не поставить его в свою квартиру?—
спрашивает Георг.— Тогда он зимой будет защищен и от холода.
— Вы что, спятили?
— Ничуть. Многие весьма почтенные люди держат даже
свой гроб в квартире. Главным образом святые и жители Юж-
ной Италии. Иные используют его годами даже как ложе. Наш
Вильке там, наверху, спит в гигантском гробу, когда так напьет-
ся, что уже не в состоянии добраться до дому.
— Не пойдет!— восклицает Кнопф.— Там бабы! Памятник
останется здесь! И чтобы был в безукоризненной сохранности!
Вы отвечаете! Застрахуйте его! За свой счет!
С меня хватит этих фельдфебельских выкриков.
— А что, если бы вы каждое утро устраивали перекличку со
своим надгробием?— предлагаю я.— Сохранилась ли перво-
классная полировка, равняется ли он точно на переднего, хоро-
шо ли подтянут живот, на месте ли цоколь, стоят ли кусты на-
вытяжку? И если бы вы этого потребовали, господин Генрих
Кроль мог бы каждое утро, надев мундир, докладывать вам, что
ваш памятник занял свое место в строю. Ему это, наверное, до-
ставляло бы удовольствие.
Кнопф мрачно уставился на меня.
— На свете, наверное, было бы больше порядка, если бы вве-
ли прусскую дисциплину,— отвечает он и свирепо рыгает. За-
пах водки становится нестерпимым. Старик, вероятно, уже не-
сколько дней ничего не ест. Он рыгает вторично, на этот раз
мягче и мелодичнее, еще раз уставляется на нас безжалостным
взглядом кадрового фельдфебеля в отставке, поворачивается,
чуть не падает, выпрямляется и целеустремленно шествует со
двора на улицу, а потом сворачивает влево, в сторону ближай-
шей пивной, унося в кармане оставшиеся миллиарды семьи.
Герда стоит перед спиртовкой й жарит голубцы. Она голая,
в стоптанных зеленых туфлях, через правое плечо перекинуто
кухонное полотенце в красную клетку. В комнате пахнет капу-
— + 712 4* —
стой, салом, пудрой и духами, за окном висят красные листья
дикого винограда, и осень заглядывает в него синими глазами.
— Как хорошо, что ты еще раз пришел,— говорит она.— За-
втра я отсюда съезжаю.
-Да?
Она стоит перед спиртовкой, ничуть не смущаясь, уверенная
в красоте своего тела.
— Да,— отвечает она.— Тебя это интересует?
Она поворачивается и смотрит на меня.
— Интересует, Герда,— отвечаю я.— Куда же ты переезжаешь?
— В гостиницу «Валгалла».
— К Эдуарду?
— Да, к Эдуарду.
Она встряхивает сковородку с голубцами.
— Ты что-нибудь имеешь против?— спрашивает она, помолчав.
Я смотрю на нее. «Что я могу иметь против?— думаю я.—
Если бы я мог что-нибудь иметь против!» Мне хочется солгать,
но я знаю, что она видит меня насквозь.
— Разве ты уходишь из «Красной мельницы»?
— Я давным-давно покончила с «Красной мельницей». Тебе
просто было наплевать. Нет, я бросаю свою профессию. У нас
с голоду подохнешь. Я просто остаюсь в городе.
— У Эдуарда,— замечаю я.
— Да, у Эдуарда,— повторяет она.— Он поручает мне бар.
Буду разливать вина.
— Значит, ты и жить будешь в «Валгалле»?
— Да, в «Валгалле», наверху, в мансарде. И работать в «Вал-
галле». Я ведь уже не так молода, как ты думаешь. Нужно поды-
скать что-нибудь прочное до того, как я перестану получать ан-
гажементы. Насчет цирка тоже ничего не вышло. Это была
просто последняя попытка.
— Ты еще много лет будешь получать ангажементы, Герда,—
говорю я.
— Ну уж тут ты ничего не смыслишь. Я знаю, что делаю.
Я смотрю на красные лозы дикого винограда, которые пока-
чиваются за окном. И чувствую себя словно дезертир, хотя для
этого нет никаких оснований. Мои отношения с Гердой — про-
сто отношения девушки с солдатом, приехавшим в отпуск,
и только; однако для одного из двух партнеров они почти всегда
становятся чем-то большим.
— Я сама хотела тебе все это сказать,— заявляет Герда.
— Ты хотела сказать, что между нами все кончено?
Она кивает.
— + 713 4* —
— Я играю в открытую. Эдуард — единственный, кто пред-
ложил мне что-то постоянное, то есть место, а я знаю, что это
значит. Я не хочу никакого обмана.
— Почему же...— я смолкаю.
— Почему же я все-таки с тобой еще спала? Ты это хотел
спросить,— говорит Герда.— Разве ты не знаешь, что все бро-
дячие артисты сентиментальны?— Она вдруг смеется.— Про-
щание с молодостью. Иди, голубцы готовы.
Она ставит на стол тарелки. Я наблюдаю за ней, и мне вдруг
становится грустно.
— А как поживает твоя великая небесная любовь?— спра-
шивает она.
— Никак, Герда, никак.
Она кладет голубцы на тарелки.
— Когда у тебя будет опять романчик,— говорит Герда,— никог-
да не рассказывай девушке йро свои другие любви. Понимаешь?
— Да,— отвечаю я.— Мне очень жаль, Герда.
— Ради Бога, замолчи и ешь!
Я смотрю на нее. Она спокойна и деловита, выражение лица
ясное и решительное, она с детства привыкла к независимости,
знает, чего ей ждать от жизни, и примирилась с этим. В Герде
есть все, чего нет во мне, и как было бы хорошо, если бы я любил
ее; жизнь стала бы ясной и вполне обозримой, всегда было бы
известно, что нам для нее нужно — не слишком многое, но са-
мое бесспорное.
— Знаешь, многого я не требую,— говорит Герда.— Ребенком
меня били, потом я убежала из дому. Теперь с меня хватит моего
призвания. Я хочу стать оседлой. Эдуард — это не так уж плохо.
— Он скуп и тщеславен,— заявляю я и тотчас злюсь на себя,
зачем я это сказал.
— Все лучше, чем если человек, за которого собираешься за-
муж, шляпа и мот.
— Вы намерены пожениться?— спрашиваю я, поражен-
ный.— И ты ему действительно веришь? Да он тебя использует,
а сам потом женится на дочери какого-нибудь владельца гости-
ницы, у которого есть деньги.
— Ничего он мне не обещал. Я только заключила с ним кон-
тракт насчет бара на три года. А за эти три года он убедится,
что не может без меня обойтись.
— Ты изменилась,— говорю я.
— Эх ты, дуралей, просто я приняла решение.
— Скоро ты вместе с Эдуардом будешь ругать нас за то, что
у нас все еще есть дешевые талоны.
— + 714 4* —
— Остались?
— Хватит еще на полтора месяца.
Герда смеется.
— Я не буду вас ругать. А кроме того, вы ведь в свое время
заплатили за них то, что они стоили.
— Это наша единственная удачная биржевая операция.—
Герда убирает тарелки, и я смотрю на нее.— Я оставляю их Ге-
оргу. Больше я не приду в «Валгаллу».
Герда поворачивается ко мне. Она улыбается, но в глазах нет
улыбки.
— Почему же?— спрашивает она.
— Не знаю. Мне так кажется. А может быть, и приду.
— Конечно, придешь! Почему бы тебе не прийти?
— Да, почему бы?— повторяю я упавшим голосом.
Снизу доносятся приглушенные звуки пианолы. Я встаю
и подхожу к окну.
— Как скоро пролетел этот год,— говорю я.
— Да,— отвечает Герда и прижимается ко мне.— Между
прочим, типично: понравится женщине кто-нибудь, так непре-
менно окажется вроде тебя, ну и не подойдет ей.— Она оттал-
кивает меня.— Уж иди, иди к своей небесной любви — что ты
понимаешь в женщинах?
— Ничего.
Она улыбается.
— И не пытайся их понять, мальчик. Так лучше. А теперь
иди! На, возьми вот это.
Она дает мне монету.
— Что это такое?— спрашиваю я.
— Человек, который переправляет людей через воду. Он
приносит счастье.
— А тебе он принес счастье?
— Счастье?— отзывается Герда.— Счастьем люди называют
очень многое. Может быть, и принес. А теперь уходи.
Она выталкивает меня из комнаты и запирает за мною дверь.
Я спускаюсь по лестнице. Во дворе мне попадаются навстре-
чу две цыганки. Они теперь участвуют в программе ресторана.
Женщины-борцы давно уехали.
— Погадать, молодой человек?— спрашивает младшая цы-
ганка. От нее пахнет чесноком и луком.
— Нет,— отвечаю я.— Сегодня нет.
Гости Карла Бриля крайне возбуждены. На столе лежит груда
денег, вероятно, тут биллионы. Противник хозяина похож
— + 715 + —
на тюленя, и у него очень короткие ручки. Он только что прове-
рил, крепко ли забит в стену гвоздь, и возвращается к остальным.
— Еще двести миллиардов,— заявляет он звонким голосом.
— Принимаем,— отвечает Карл Бриль.
Дуэлянты выкладывают деньги.
— Кто еще хочет?— спрашивает Карл.
Желающих не находится. Ставки слишком высоки. Пот свет-
лыми каплями струится по лицу Карла, но он уверен в победе.
Он разрешает тюленю еще раз легонько ударить по гвоздю мо-
лотком; поэтому ставка в пятьдесят против пятидесяти для не-
го изменена на сорок против шестидесяти.
— Вы бы не сыграли «Вечернюю песню птички»?— обраща-
ется он ко мне.
Я сажусь за рояль. Вскоре появляется и фрау Бекман в своем
ярко-красном кимоно. Сегодня она меньше, чем обычно, напо-
минает статую; горы ее грудей колышатся, как будто под ними
бушует землетрясение, и глаза другие, чем обычно. Она не смо-
трит на Карла Бриля.
— Клара,— говорит Карл.— Ты знаешь всех этих господ,
кроме господина Швейцера.— Затем делает изящное движение
рукой, представляя ей гостя:— Господин Швейцер.
Тюлень кланяется с удивленным и несколько озабоченным
выражением. Он косится на деньги, потом на эту кубическую
Брюнгильду. Гвоздь обматывают ватой, и Клара становится
в нужную позу. Я исполняю двойные трели и смолкаю. Насту-
пает тишина.
Фрау Бекман стоит спокойно, сосредоточившись. Потом те-
ло ее дважды содрогается. Вдруг она бросает на Карла Бриля
безумный взгляд.
— Очень сожалею,— произносит она, стиснув зубы.— Не могу.
Она отходит от стены и удаляется из мастерской.
— Клара!— вопит Карл.
Она не отвечает. Тюлень разражается жирным хохотом и на-
чинает подсчитывать деньги. Собутыльников Бриля точно сра-
зила молния. Карл Бриль испускаете стон бросается к гвоздю,
возвращается обратно.
— Одну минуту! — говорит он тюленю.— Одну минуту, мы
еще не кончили! Когда мы держали пари, то договорились
о трех попытках. Но было только две!
По лицу Карла пот буквально льется струями. К собутыльни-
кам вернулся дар речи.
— Попыток было только две,— заявляют они.
— + 716 4* —
Вспыхивает спор. Я не слушаю. Мне кажется, я на другой
планете. Это ощущение вспыхивает на миг, очень яркое и не-
стерпимое, и я рад, когда оказываюсь снова в силах при-
слушаться к спорящим голосам. Но тюлень воспользовался со-
здавшимся положением: он согласен на третью попытку, если
пари будет перезаключено на новых условиях — а именно:
тридцать против семидесяти в его пользу. Карл, обливаясь по-
том, на все согласен. Насколько я понимаю, он ставит половину
всей мастерской, включая и машину для скоростного подшива-
ния подметок.
— Пойдемте,— шепчет он мне.— Поднимитесь со мной на-
верх! Мы должны уговорить ее! Она нарочно это сделала.
Мы взбираемся по лестнице. Оказывается, фрау Бекман
поджидала Карла. Она лежит в своем кимоно с фениксом
на кровати, взволнованная, удивительно красивая — для тех,
кто любит толстых женщин,— к тому же она в полной боевой
готовности.
— Клара,— шепчет Карл.— Зачем? Ведь ты сделала это на-
рочно!
— Вот как! — восклицает фрау Бекман.
— Определенно! Я знаю. Но, клянусь тебе...
— Не клянись, клятвопреступник! Ты, негодяй, спал с кас-
сиршей из «Гогенцоллерна»! Ты омерзительная свинья!
— Я? Какое вранье! Кто тебе сказал? •
— Вот видишь, ты сознаешься!
— Я сознаюсь?
— Ты только что сознался! Спросил, кто мне сказал. Кто же
мне может сказать, если этого не было?
Я с состраданием смотрю на великого пЛовца Карла Бриля.
Он не боится самой ледяной воды, но сейчас он, без сомнения,
погиб. На лестнице я посоветовал ему не допускать словесных
препирательств, а просто на коленях вымаливать у фрау Бек-
ман прощение и ни в чем не сознаваться. А вместо того он на-
чинает упрекать ее по поводу какого-то господина Клетцеля.
В ответ она наносит ему ужасный удар по переносице. Карл от-
скакивает и хватается за свой толстый нос, проверяя, идет ли
кровь, и нагибается с воплем ярости, чтобы в качестве старого
борца схватить фрау Бекман за волосы, сорвать ее с постели,
стать ногой на ее затылок и обработать ее мощные окорока сво-
им тяжелым ремнем. Я даю ему пинок средней силы, он пово-
рачивается, готовый напасть и на меня, видит мой многозначи-
тельный взгляд, мои поднятые руки и беззвучно шепчущие
губы и приходит в себя, его бешенство угасло. В карих глазах
— + 717 + —
снова вспыхивает человеческий разум. Он коротко кивает, при-
чем кровь хлещет у него из носу, снова поворачивается и опус-
кается на пол перед кроватью фрау Бекман, восклицая:
— Клара! Я ни в чем не повинен. Но все-таки прости меня!
— Свиненок!— кричит она.— Ты вдвойне свиненок! Мое ки-
моно!
Она отдергивает дорогое кимоно.
— Лжешь, проклятый!— заявляет она.— А теперь еще это!
Я замечаю, что Карл, как человек честный и простой, ожи-
дал немедленной награды за свое стоянье на коленях и теперь
опять готов прийти в ярость. Если он, при том что у него из носу
течет кровь, начнет борьбу, все пропало. Фрау Бекман еще, мо-
жет быть, простит ему кассиршу из «Гогенцоллерна», но испор-
ченное кимоно — никогда. Я сзади наступаю ему на ногу, сжи-
маю рукою плечо, чтобы он не поднялся, и говорю:
— Фрау Бекман, он не виноват! Он пожертвовал собою ради
меня.
— То есть как?
— Ради меня,— повторяю я.— Среди однополчан это бывает...
— Что? Знаю я вас, с вашим проклятым военным товарище-
ством, вы лгуны и негодяи... И вы хотите, чтобы я вам поверила?
— Да, пожертвовал,— повторяю я.— Он меня с кассиршей
познакомил, вот и все.
Фрау Бекман выпрямляется, глаза у нее сверкают.
— Как? Вы хотите меня уверить, будто такой интересный мо-
лодой человек, как вы, польстится на эту рухлядь, на эту разва-
лину, на эту падаль?
— Не польстился, сударыня. Но на безрыбье и рак рыба. Ког-
да пропадаешь от одиночества...
— Молодой человек, вы можете найти и получше.
— Молод, но беден,— ответствую я.— В наше время женщи-
ны требуют, чтобы их водили по барам, и будем говорить откро-
венно: если вы не верите, что меня, молодого холостяка, одино-
кого среди шторма инфляции, могла привлечь эта кассирша,
то совершенно нелепо предположить, что Карл Бриль, человек,
пользующийся благосклонностью красивейшей и интересней-
шей из всех верденбрюкских дам... правда, совершенно неза-
служенно...
Это подействовало.
— Он негодяй!— восклицает фрау Бекман.— А что незаслу-
женно — это факт.
Карл делает движение к ней.
— + 718 4* —
— Клара, в тебе вся моя жизнь!— доносятся его вопли, при-
глушенные окровавленными простынями.
— Я же твой текущий счет, бесчувственный ты камень!—
фрау Бекман поворачивается ко мне.— А как у вас получилось
с этой дохлой козой, с кассиршей?
Я энергично мотаю головой.
— Ничего! У нас ничего не получилось! Мне было слишком
противно!
— Я бы вам это наперед предсказала,— заявляет фрау Бек-
ман, очень довольная.
Бой окончен. Мы отступаем, но еще переругиваемся. Карл
обещает Кларе кимоно цвета морской воды с цветами лотоса,
ночные туфли на лебяжьем пуху. Потом он уходит, чтобы про-
мыть нос холодной водой, а фрау Бекман встает.
— На какую сумму пари?
— На большую. Несколько биллионов.
— Карл! — зовет она.— Пусть часть господина Бодмера будет
двести пятьдесят миллиардов.
— Ну само собой разумеется, Клара.
Мы спускаемся по лестнице. Внизу сидит тюлень под надзо-
ром Карловых дружков. Мы узнаем, что в наше отсутствие он
попытался смошенничать, но собутыльники Карла успели вы-
рвать у него из рук молоток. Фрау Бекман презрительно улыба-
ется — и через полминуты гвоздь лежит на полу. Затем она ве-
личественно удаляется под звуки «Свечения Альп».
— Камрад есть камрад,— растроганно говорит мне позднее
Карл Бриль.
— Вопрос чести! Но как это произошло у вас с кассиршей?
— Ну что тут сделаешь?— отвечает Карл.— Вы знаете, как
иной раз вечером бывает тоскливо! Но я не ждал, что эта стерва
еще будет болтать! Не желаю я больше иметь дело с этими людь-
ми. А вы, дорогой друг, выбирайте, что хотите!— он указывает
на куски кожи.— В подарок! Башмаки на заказ высшего качест-
ва — какие пожелаете: опойковые — черные, коричневые, жел-
тые, или лакированные, или замшевые,— я сам их сделаю для вас...
— Лакированные,— отвечаю я.
Возвращаюсь домой и вижу во дворе темную фигуру. Это,
бесспорно, старик Кнопф, он только что вернулся и, словно
не был смертельно болен, уже готовится опозорить обелиск.
— Господин фельдфебель,— говорю я и беру его за локоть.—
Теперь у вас есть для ваших детских проделок свой собствен-
ный памятник. Вот и пользуйтесь им!
— + 719 4* —
Я отвожу Кнопфа к его надгробию и жду перед своей дверью,
чтобы не дать ему вернуться к обелиску.
Кнопф смотрит на меня, вытаращив глаза.
— На мой собственный памятник? Вы спятили. Сколько он
теперь стоит?
— По курсу доллара на сегодняшний вечер — девять милли-
ардов.
— И на него я буду мочиться?
Кнопф обводит глазами двор, потом, пошатываясь и ворча,
уходит к себе. То, что не удавалось никому, сделало простое по-
нятие собственности! Фельдфебель пользуется теперь своей
уборной. Вот и говори тут о коммунизме! Собственность рождает
стремление к порядку!
Я стою еще некоторое время во дворе и размышляю: ведь при-
роде понадобились миллионы лет, чтобы, развиваясь от амебы,
через рыбу, лягушку, позвоночных и обезьян, создать старика
Кнопфа, существо, набитое физическими и химическими шеде-
врами, обладающее системой кровообращения, совершенной
до гениальности, механизмом сердца, на который хочется мо-
литься, печенью и двумя почками, в сравнениис которыми за-
воды ИГ Фарбениндустри — просто халтура; и это в течение
миллионов лет тщательно усовершенствуемое чудесное сущест-
во — отставной фельдфебель Кнопф — создано было лишь для
того, чтобы прожить на земле весьма недолгий срок, терзать де-
ревенских парнишек и затем, получив от государства довольно
приличную пенсию, предаться пьянству! Действительно, Гос-
подь Бог иной раз усердно трудится, а получается пшик!
Покачивая головой, я включаю свет в своей комнате и смот-
рюсь в зеркало. Вот еще один шедевр природы, который тоже
хорошенько не знает, что ему с собою делать. Я выключаю свет
и раздеваюсь в темноте.
XXIII
По аллее мне навстречу идет молодая особа. Воскресное ут-
ро, и я уже видел ее в церкви. На ней светлый изящный костюм,
маленькая серая шляпка и замшевые серые туфли. Ее зовут Же-
невьева Терговен, и она мне кажется странно чужой.
Она была в церкви с матерью. Я ее видел, видел Бодендика,
а также Вернике, который не в силах скрыть свое торжество.
Я обошел весь сад и уже перестал надеяться, что увижу ее,
и вдруг Изабелла одна идет мне навстречу по аллее, где листья
уже почти облетели. Вот она, тонкая, легкая, элегантная, я гляжу
на нее, и ко мне снова возвращаются вся былая тоска по ней
— + 720 + —
«Черный обелиск»
и блаженная радость, и моя кровь кипит. Я не в силах говорить.
Я знаю от Вернике, что она теперь здорова, мрачные тени раз-
веялись, да я и сам чувствую это: она вдруг очутилась тут, совсем
другая, чем раньше, но она тут вся, уже никакая болезнь не стоит
между нами, из моих глаз и рук рвется на волю вся полнота мо-
ей любви, и головокружение, как смерч, поднимается по моим
артериям и охватывает мозг. Она смотрит на меня.
— Изабелла,— говорю я.
Она снова смотрит на меня, между глаз ложится морщинка.
— Простите?— спрашивает она.
Я не сразу понимаю, в чем дело. Мне кажется, я должен ей
напомнить прошлое.
— Изабелла,— снова говорю я.— Разве ты меня не узнаешь?
Я Рудольф.
— Рудольф?— повторяет она.— Рудольф? Простите, как вы
сказали?
Я смотрю на нее с изумлением.
— Мы ведь с вами много раз беседовали,— говорю я наконец.
Она кивает.
— Да, я долго прожила здесь. И многое забыла, извините меня.
А вы тоже здесь давно?
— Я? Да я тут у вас никогда и не жил! Я приходил сюда только
играть на органе. А потом...
— На органе, вот как,— вежливо отвечает Женевьева Терго-
вен.— В часовне. Как же, помню. Простите, что я на минуту за-
была об этом. Вы очень хорошо играли. Большое спасибо.
Я стою перед ней с идиотским видом. И не понимаю, почему
не ухожу. Женевьева, видимо, тоже не понимает.
— Извините,— говорит она.— У меня еще очень много дел,
я ведь скоро уезжаю.
— Скоро уезжаете? /
— Ну да,— отвечает она удивленно.
— И вы ничего не помните? Ни об именах, которые ночью
отпадают, ни о цветах, у которых есть голоса?
Изабелла с недоумением пожимает плечами.
— Стихи,— замечает она, улыбнувшись.— Я всегда любила
поэзию. Но ведь стихов так много! Разве все запомнишь!
Я отступаю. Все складывается именно так, как я предчувст-
вовал. Я выскользнул из ее рук, точно газета из рук уснувшей
крестьянки. Она уже ничего не помнит. Словно она очнулась
после наркоза. Время, проведенное здесь, в лечебнице, исчезло
из ее памяти. Она все забыла. Она опять Женевьева Терговен
и уже не знает, кто был Изабеллой. И она не лжет, я это вижу.
— + 722 4* —
Я потерял ее не так, как боялся,— потому что она принадлежит
к другим кругам общества, чем я, и возвратится туда,— а гораз-
до мучительнее, глубже и безвозвратнее. Она умерла. Она еще
жива, и дышит, и прекрасна, но в тот миг, когда другое сущест-
во в ней вместе с болезнью исчезло,— она умерла, утонула на-
веки. Изабелла, чье сердце летело и цвело, утонула в Женевьеве
Терговен, благовоспитанной девице из лучшего общества, ко-
торая со временем выйдет замуж за состоятельного человека
и даже будет хорошей матерью.
— Мне пора,— говорит она.— Еще раз большое спасибо
за вашу игру на органе.
— Ну? Что скажете?— спрашивает меня Вернике.
— Насчет чего?
— Пожалуйста, не прикидывайтесь дурачком. По поводу
фрейлейн Терговен. Вы должны признать, что за эти три неде-
ли, когда вы ее не видели, она стала совсем другим человеком.
Полная победа!
— И вы называете это победой?
— А как же иначе? Она возвращается в жизнь, все в порядке,
то, что с ней было, исчезло, как дурной сон, она опять стала че-
ловеком, чего же вам еще? Вы видели ее. И что же?
— Да,— отвечаю я,— и что же?
Сестра с румяным крестьянским лицом подает бутылку вина
и стаканы.
— А мы будем иметь удовольствие лицезреть и его преподо-
бие господина викария Бодендика?— спрашиваю я.— Не знаю,
крестил ли фрейлейн Терговен католический священник, но до-
пускаю, ведь она из Эльзаса, и его преподобие будет тоже пре-
исполнен ликования, что вы вырвали из великого хаоса овечку
и вернули в его стадо!
Вернике ухмыляется.
— Его преподобие уже выразил свое удовлетворение. Вот
уже неделя, как фрейлейн Терговен аккуратно посещает цер-
ковные службы.
«Изабелла!— думаю я.— Когда-то она знала, что Бог все еще
висит на кресте и что его мучают не только неверующие. Она
знала это и презирала сытых верующих, которые сделали из Его
страданий надежную синекуру».
— Она уже была и на исповеди?— спрашиваю я.
— Этого я не знаю. Возможно. Но разве человек должен ис-
поведоваться в том, что он совершил, когда был душевноболь-
— + 723 4* —
ным? Меня, непросвещенного протестанта, в частности, очень
интересует этот вопрос.
— Все зависит от того, что считать душевной болезнью,—
с горечью замечаю я и смотрю, как этот страховой агент чело-
веческих душ выпивает стакан Шлосс-Рейнгартсхаузена.— Мы,
безусловно, понимаем это по-разному. А вообще, как можно
исповедоваться в том, что человеком забыто? Ведь фрейлейн
Терговен многое забыла сразу.
Вернике наливает себе и мне.
— Выпьем, пока не пришел его преподобие. Может быть,
аромат ладана — и святой аромат, но он испортит букет такого
вина.— Вернике делает глоток, поводит глазами и говорит:—
Сразу все забыла? Разве уж так сразу? По-моему, это в ней давно
подготовлялось.
Он прав. Я тоже заметил. Бывали минуты, когда Изабелла,
видимо, не узнавала меня. Я вспоминаю последнюю встречу
и в бешенстве выпиваю стакан вина. Сегодня оно кажется мне
безвкусным.
— Ведь это как подземные толчки,— спокойно продолжает
Вернике, так упорно добивавшийся победы над болезнью,—
как землетрясение в океане. Исчезают острова, даже целые ма-
терики, и возникают другие.
— А что, если произойдет вторичное землетрясение в океане?
Все вернется на прежние места?
— Может случиться и так. Но это бывает, почти как правило,
в других случаях, когда болезнь сопровождается усиливающим-
ся идиотизмом. Вы же видели у нас и таких больных. Разве вы
желали бы фрейлейн Терговен такой судьбы?
— Желаю ей самого лучшего,— отвечаю я.
— Ну вот!
Вернике наливает в стаканы остаток вина. А я думаю о без-
надежно больных, которые стоят и лежат по углам своих ком-
нат, у них слюна течет изо рта, и они ходят под себя.
— Конечно, я желаю ей, чтобы она никогда больше не боле-
ла,— говорю я.
— Трудно допустить, чтобы болезнь вернулась. Это тот слу-
чай, когда для излечения необходимо было устранить причины
заболевания. Все шло очень удачно. И мать и дочь испытывают
теперь то чувство, которое иной раз возникает при сходной си-
туации, после смерти соответствующего лица: в каком-то смыс-
ле обе чувствуют себя обманутыми, обе как бы осиротели и по-
этому стали друг другу ближе, чем до того.
— + 724 + —
Я с изумлением смотрю на Вернике. Никогда еще не видел
я его столь поэтически настроенным. Но, конечно, он говорит
все это не вполне серьезно.
— Сегодня за обедом вы получите возможность убедиться
в моей правоте: мать и дочь выйдут к столу.
Мне сильно хочется уйти, но что-то заставляет меня остать-
ся. Если человеку представляется случай помучить себя, он
не так легко откажется от этой возможности. Появляется Бо-
дендик, он неожиданно человечен. Потом приходят мать и дочь
и начинается банальный разговор цивилизованных людей. Ма-
тери лет сорок пять, она довольно полная, шаблонно красивая
и так и сыплет легковесными, закругленными фразами. На все
она сразу и не задумываясь находит ответ.
Я наблюдаю за Женевьевой. На краткий миг мне чудится,
будто сквозь ее теперешние черты, как сквозь черты утоплен-
ницы, вдруг проступает ее прежнее, взволнованное, безумное,
любимое мною лицо; но его тут же смывает плещущая вода бол-
товни о санатории, оборудованном по последнему слову меди-
цины — обе дамы упорно называют лечебницу санаторием,—
о живописных окрестностях, о нашем старинном городе, о вся-
ких дядях и тетках, находящихся в Страсбурге и Голландии,
о трудных временах, необходимости религиозной веры, качест-
ве лотарингских вин и прекрасном Эльзасе. И ни слова о том,
что когда-то меня так взволновало и потрясло. Все как бы опу-
стилось на дно, словно его никогда и не было.
Я скоро откланиваюсь.
— Прощайте, фрейлейн Терговен,— говорю я.— Вы, кажет-
ся, уезжаете на этой неделе.
Она кивает.
— Разве вы сегодня вечером еще разок не заглянете к нам?—
спрашивает меня Вернике.
— Да, я приду к вечерней службе.
— А потом зайдите ко мне, выпьем. Вы не откажетесь, суда-
рыни?
— С удовольствием,-^ отвечает мать Изабеллы.— Мы все
равно будем в церкви.
Вечер оказывается еще мучительнее, чем день, мягкий свет
его обманчив. Я видел Изабеллу в часовне. Сияние свечей плы-
ло над ее головой. Она сидела почти неподвижно. При звуках
органа лица больных казались бледными плоскими лунами.
Изабелла молилась: она была здорова.
— 4* 725 4* —
Не становится легче и после службы. Мне удается перехва-
тить Женевьеву при выходе из часовни и пройти с ней вперед.
Вот и аллея. Я не знаю, что мне сказать. Женевьева кутается
в пальто.
— Какими холодными становятся вечера,— замечает она.
— Да. Вы уезжаете на этой неделе?
— Да. Хотелось бы. Давно я не была дома.
— Вы рады?
— Конечно.
Говорить больше не о чем. Но я не могу сдержаться, ведь
я слышу те же шаги, и так же белеет ее лицо в темноте, и в ду-
ше возникает то же мягкое предчувствие.
— Изабелла,— произношу я, пока мы еще в аллее.
— Простите, как вы сказали?— удивленно спрашивает она.
— Ах,— отвечаю я,— просто я назвал одно имя.
На мгновение она задерживает шаг.
— Вы, наверное, ошиблись,— отвечает она затем.— Меня зо-
вут Женевьева.
— Да, разумеется. Изабеллой звали кого-то другого. Мы ино-
гда об этом с вами говорили.
— Да? Может быть. Ведь говоришь о стольких вещах,— ви-
новато замечает она.— Поэтому иной раз кое-что и забываешь.
— О да!
— Это кто-нибудь, с кем вы были знакомы?
— Да, более или менее.
Она тихонько смеется.
— Как романтично. Извините, что я не сразу сообразила. Те-
перь я припоминаю...
Я смотрю на нее с изумлением. Ничего она не помнит, я же
вижу, она лжет, чтобы не быть невежливой.
— Ведь за последние недели произошло так много,— броса-
ет она легким тоном и чуть свысока.— В таких случаях у чело-
века в голове возникает некоторая путаница.— И затем, чтобы
снова сгладить свою неловкость, она спрашивает: — Ну и как
же все это шло дальше в последнее время?
— Что именно?
— Да то, что вы хотели рассказать об Изабелле.
— Ах, это? Да никак. Она умерла.
Женевьева в испуге останавливается.
— Умерла? Как жалко! Простите меня, я же не знала...
— Ничего. Наше знакомство было очень мимолетным.
— Умерла внезапно?
— + 726 4* —
— Да,— отвечаю я.— Но так, что она сама даже не заметила.
Это ведь тоже чего-нибудь да стоит.
— Конечно,— она протягивает мне руку.— Я искренне со-
жалею...
Рука у нее крепкая, узкая и прохладная. Лихорадочности
в ней уже не чувствуется. Просто рука молодой дамы, которая
слегка оступилась, но потом все исправила.
— Красивое имя — Изабелла,— замечает она.— Свое имя
я раньше ненавидела.
— А теперь уже нет?
— Нет,— приветливо отвечает Женевьева.
Она остается ею и дальше. Я ощущаю в ней ту проклятую
вежливость, с которой принято относиться к жителям неболь-
шого городка: с ними встречаешься мимоходом и потом скоро
о них забываешь. И я вдруг чувствую, что костюм, перешитый
портным Зульцбликом из старого военного мундира, дурно си-
дит на мне. Наоборот, Женевьева одета очень хорошо. Впро-
чем, она всегда хорошо одевалась; но никогда это так не броса-
лось мне в глаза. Женевьева и ее мать решили сначала поехать
на некоторое время в Берлин. Мать — воплощенная благодар-
ность и сердечность.
— Театры! Концерты! В настоящем большом городе сразу
оживаешь. А магазины! А новые моды!
Она ласково похлопывает Женевьеву по руке.
— Мы там хорошенько побалуем себя, верно?
Женевьева кивает. У Вернике сияющее лицо. «Они убили ее,
но что именно они в ней уничтожили?— размышляю я.— Может
быть, это есть в каждом из нас, засыпанное, запрятанное, и что это
такое в действительности? Разве его нет и во мне? И так же ли его
успели убить или его никогда не выпускали на свободу? Есть оно
только сейчас или существовало до меня и будет существовать
после меня, как более важное, чем я сам? Или вся эта путаница
только кажется чем-то глубоким, а на самом деле она только
сдвиг ощущений, иллюзия, бессмыслица, которую мы принимаем
за глубокомыслие, как утверждает Вернике? Но почему же тогда
я это неведомое любил, почему оно на меня прыгнуло, точно лео-
пард на вола? Почему я не в силах его забыть? И не вопреки ли
теориям Вернике мне казалось, словно в тесной комнате распах-
нули дверь и стали видны и дождь, и молния, и звезды?»
Я встаю.
— Что с вами?— спрашивает Вернике.— Вы нервничаете,
как...— Он делает паузу, затем продолжает:— Как курс доллара?
— 4* 727 4* —
— Ах, доллар,— подхватывает мать Женевьевы и вздыха-
ет.— Прямо несчастье! К счастью, дядя Гастон...
Я уже не слышу, что сделал дядя Гастон. Вдруг я оказываюсь
во дворе и только помню, что еще успел сказать Изабелле:
«Спасибо за все»,— а она удивленно ответила: «Но за что же?»
Медленно спускаюсь я с холма. Спокойной ночи, милая моя,
буйное сердце мое, думаю я. Прощай, Изабелла! Ты не утонула,
это вдруг становится мне ясно. Ты не померкла и не умерла. Ты
только отступила вглубь, ты отлетела, и даже не это: ты вдруг
стала незримой, подобно древним богам, оттого что изменилась
длина волны, на которой их видели, ты здесь, но ты неуловима,
все всегда здесь, ничто не исчезает, по нему только проходят
свет и тени, оно всегда тут — наше лицо до рождения и после
смерти, оно иногда просвечивает сквозь то, что мы считаем
жизнью, и на миг ослепляет нас, поэтому мы никогда потом уже
не бываем прежними.
Я замечаю, что иду очень быстро. Делаю глубокий вздох, по-
том бегу. Я весь в поту, спина у меня взмокла, я подбегаю к во-
ротам лечебницы и снова возвращаюсь. Я все еще охвачен ка-
ким-то необычным чувством — оно подобно мощному чувству
освобождения, все оси мира вдруг проносятся через мое серд-
це, рождение и смерть кажутся только словами, дикие гуси на-
до мной летят с начала мира, больше нет ни вопросов, ни отве-
тов! Прощай, Изабелла! Приветствую тебя, Изабелла! Прощай,
жизнь! Приветствую тебя, жизнь!
Лишь потом я замечаю, что идет дождь. Поднимаю лицо,
чувствую на губах вкус влаги. Затем направляюсь к воротам.
Благоухая вином и ладаном, там ждет какая-то высокая фигура.
Мы вместе выходим, и сторож запирает за нами ворота.
— Ну что?— спрашивает Бодендик.— Откуда вы? Искали вы
Бога?
— Нет. Я нашел его.
Его глаза недоверчиво поблескивают из-под широких полей
шляпы.
— Где же? В природе?
— Я даже не знаю, где. Разве его можно найти только в ка-
ких-нибудь определенных местах?
— У алтаря,— бурчит Бодендик и показывает направо.— Ну,
мне по этой дороге. А вам?
— По всем,— отвечаю я.— По всем, господин викарий.
— Кажется, вы вовсе не так много выпили,— с некоторым
удивлением ворчит он мне вслед.
Я возвращаюсь домой. В саду кто-то набрасывается на меня.
— + 728 + —
— Наконец-то я изловил тебя, мерзавец!
Я стряхиваю с себя нападающего, уверенный, что это шутка.
Но он тут же вскакивает и головой наносит мне удар под ложеч-
ку. Я падаю, стукнувшись о цоколь обелиска, но успеваю еще
пнуть противника ногой в живот. Пинок недостаточно силен,
так как я даю его, уже падая. Человек снова кидается на меня,
и я вдруг узнаю мясника Вацека.
— Вы что, спятили?— спрашиваю я.— Разве вы не видите,
на кого напали?
— Да, вижу! — Вацек хватает меня за горло.— Теперь я от-
лично вижу, кто ты, сволочь! Теперь уже тебе крышка!
Я не знаю, пьян ли он. Да у меня и времени нет для размыш-
лений. Вацек ниже меня ростом, но мускулы у него как у быка.
Мне удается перевернуться и прижать его к обелиску. Он не-
вольно ослабляет хватку, я бросаюсь вместе с ним в сторону
и при этом стукаю его головой о цоколь. Вацек совсем отпуска-
ет меня. Для верности я еще раз даю ему плечом в подбородок
и встаю, спешу к воротам и зажигаю свет.
— Что все это значит?— спрашиваю я.
Вацек медленно поднимается. Он еще оглушен и мотает го-
ловой. Я наблюдаю за ним. А он вдруг снова бросается вперед,
нацелившись головой мне в живот. Я отскакиваю в сторону,
даю ему подножку, он с глухим стуком опять налетает на обелиск
и ударяется в этот раз о полированную часть цоколя. От такого
удара другой потерял бы сознание, но Вацек только слегка по-
шатнулся. Он поворачивается ко мне, в руках у него нож. Это
длинный острый нож, каким колют скотину, я отлично вижу его
при электрическом свете. Вацек вытащил его из сапога и с ним
кидается ко мне. Я не стремлюсь к бесцельным героическим де-
яниям: при столкновении с человеком, который умеет так ис-
кусно обращаться с ножом и привык колоть лошадей, это было
бы самоубийством. И я прячусь за обелиск, Вацек бросается
следом за мной. К счастью, я более ловок и проворен.
— Вы спятили?— шиплю я.— Хотите, чтобы вас вздернули
за убийство?
— Я покажу тебе, как спать с моей женой! — хрипит Ва-
цек.— Ты поплатишься своей кровью!
Наконец-то я узнаю, в чем дело!
— Вацек!— восклицаю я.— Вы же казните невинного!
Мы носимся вокруг обелиска. Я не догадываюсь позвать
на помощь: все происходит слишком быстро; да и кто мог бы
мне действительно помочь?
— 4* 729 4* —
— Вас обманули! — кричу я сдавленным голосом.— Какое
мне дело до вашей жены?
— Ты спишь с ней, сатана!
Мы продолжаем бегать то вправо, то влево. Вацек в сапогах,
он более неповоротлив, чем я. И куда запропастился Георг! Ме-
ня тут по его вине зарежут, а он прохлаждается с Лизой в своей
комнате!
— Да вы хоть свою жену спросите, идиот!— кричу я, задыхаясь.
— Я зарежу тебя!
Озираюсь, ища какое-нибудь оружие. Ничего нет. Пока мне
удастся поднять маленький могильный камень, Вацек успеет пе-
ререзать мне горло. Вдруг я замечаю осколок мрамора величи-
ной с кулак, он поблескивает на подоконнике конторы. Я хва-
таю его, проношусь вокруг обелиска и запускаю его Вацеку
в голову, удар приходится под левой бровью, и сейчас же течет
кровь, он видит теперь только одним глазом.
— Вацек, вы ошибаетесь!— кричу я.— Ничего у меня нет
с вашей женой. Клянусь вам!
Движения Вацека замедлились, но он все еще опасен.
— И так оскорбить однополчанина!— беснуется он.— Какая
мерзость!
Он делает выпад, точно бык на арене. Я отскакиваю в сторо-
ну, снова хватаю осколок мрамора и вторично запускаю в него,
к сожалению, промахиваюсь, и осколок падает в куст сирени.
— Плевать мне на вашу жену, равнодушен я к ней!— шиплю
я.— Понимаете? Плевать!
Вацек безмолвно продолжает бегать за мной. Из левой брови
кровь течет у него очень сильно, поэтому я бегу влево. Он и так ви-
дит меня довольно смутно, поэтому в решительную минуту я могу
что есть силы пнуть его в коленку. В это мгновение он наносит мне
удар ножом, но задевает только мою подметку. Пинок спас меня.
Вацек останавливается весь в крови, держа нож наготове.
— Слушайте!— говорю я.— Не двигайтесь! Давайте на мину-
ту объявим перемирие. Вы можете потом продолжать, и я выбью
вам второй глаз! Берегитесь! Спокойно, болван вы этакий!—
Я смотрю, не отрываясь, на Вацека, словно хочу его загипнотизи-
ровать. Как-то я прочел книгу на этот счет.— Ни... чего... меж... ду...
мной... и... ва... шей... женой... нет! —скандирую я медленно и на-
стойчиво.— Она меня не интересует! Стоп,— шиплю я при новом
движении Вацека.— У меня у самого жена есть...
— Тем хуже, кобель проклятый!
Вацек снова бросается вперед, но налетает на цоколь обели-
ска, так как не рассчитал расстояние, едва не теряет равнове-
— + 730 4* —
сие, я опять даю ему пинок, на этот раз по большой берцовой
кости. Правда, он в сапогах, но удар все же подействовал. Вацек
снова останавливается, широко расставив ноги и, увы, все еще
сжимая в руках нож.
— Слушайте, вы, осел!— говорю я властным тоном гипноти-
зера.— Я влюблен в совсем другую женщину! Постойте! Я сей-
час вам покажу ее! У меня есть фотокарточка!
Вацек безмолвно делает выпад. Мы обегаем обелиск, описы-
вая полукруг. Я успеваю вытащить из кармана бумажник. Герда
дала мне на прощание свою фотокарточку. Я быстро стараюсь
нащупать ее. Несколько миллиардов марок разлетаются пест-
рым веером, а вот и фотография.
— Видите,— заявляю я и, спрятавшись за обелиск, протяги-
ваю ему фотографию, но осторожно и на таком расстоянии,
чтобы он не мог ткнуть меня ножом в руку.— Разве это ваша
жена? Посмотрите-ка внимательнее! Прочтите надпись!
Вацек косится на меня здоровым глазом. Я кладу изображе-
ние Герды на цоколь.
— Вот! Смотрите! Разве это ваша жена?
Вацек делает неуклюжую попытку схватить меня.
— Слушайте, верблюд!— говорю я.— Да вы хорошенько по-
смотрите на карточку! Когда у человека есть такая девушка, не-
ужели он будет бегать за вашей женой?
Кажется, я перехватил. Вацек обижен, он делает резкий вы-
пад. Потом останавливается.
— Но кто-то ведь спит с ней,— неуверенно заявляет он.
— Вздор!— говорю я.— Ваша жена верна вам!
— А почему же она торчит здесь так часто?
— Где?
— Да здесь!
— Понять не могу, о чем вы говорите,— отвечаю я.— Может
быть, она несколько раз говорила из конторы по телефону, до-
пускаю. Женщины любят говорить по телефону, особенно ког-
да они много бывают одни. Поставьте ей телефон!
— Она и ночью сюда ходит!— заявляет Вацек.
Мы все еще стоим друг против друга, разделенные обелиском.
— Она недавно была здесь ночью, когда фельдфебеля Кноп-
фа принесли домой в тяжелом состоянии,— отвечаю я.— А ведь
обычно она работает по ночам в «Красной мельнице».
— Это она уверяет, но...
Нож в его руках опущен. Я беру с цоколя фотокарточку Герды
и, обогнув обелиск, подхожу к Вацеку.
— Ф 731 4* —
— Вот,— говорю я,— теперь можете меня колоть и резать,
сколько вашей душе угодно. Но мы можем и поговорить. Чего
вы хотите? Заколоть человека ни в чем не повинного?
— Это нет,— отзывается Вацек.— Но...
Выясняется, что ему открыла глаза вдова Конерсман. Мне
слегка льстит сознание того, что она из всех обитателей дома
заподозрила в блуде только меня.
— Слушайте,— обращаюсь я к Вацеку,— если бы только вы
знали женщину, из-за которой я схожу с ума! Вы бы меня не за-
подозрили! А впрочем, сравните хотя бы фигуры. Вы ничего
не замечаете?
Вацек тупо смотрит на фотографию Герды, где написано:
«Людвигу с любовью от Герды». Но что он в состоянии заме-
тить одним глазом?
— Похоже это на фигуру вашей жены?— спрашиваю я.—
Только рост одинаковый. Впрочем, может быть, у вашей жены
есть красно-рыжий широкий плащ наподобие накидки?
— Ясно, есть,— отвечает Вацек, снова с некоторой угрозой.—
И что же?
— У моей дамы — такой же. Этих плащей всех размеров
сколько угодно в магазине Макса Кляйна на Гроссештрассе. Сей-
час они очень в моде. Ну, а старуха Конерсман полуслепая, вот
вам и разгадка.
У старухи Конерсман глаза зоркие, как у ястреба. Но чему
не поверит рогатый муж, если ему хочется верить?
— Поэтому она их и спутала,— поясняю я.— Дама, снятая
на карточке, несколько раз приходила сюда ко мне в гости. На-
деюсь, она имеет право прийти или нет?
Я облегчил Вацеку все дело, ему остается только ответить
«да» или «нет». Сейчас ему достаточно кивнуть.
— Хорошо,— говорю я.— И поэтому вы человека ночью чуть
не зарезали?
Вацек тяжело опускается на ступеньки крыльца.
— Ты тоже меня сильно потрепал, дружище, посмотри на меня.
— Глаз цел.
Вацек ощупывает подсыхающую черную кровь.
— Если вы будете продолжать в том же духе, то скоро попа-
дете в тюрьму,— замечаю я.
— Что я могу поделать? Такая уж у меня натура.
— Заколите себя, если вам необходимо кого-нибудь заколоть.
Это избавит вас от многих неприятностей.
— + 732 + —
— Иногда мне даже хочется прикончить себя. Ну как же мне
быть? Я с ума схожу по этой женщине. А она меня терпеть
не может.
Я вдруг чувствую себя растроганным и уставшим и сажусь
на ступеньки рядом с Вацеком.
— А все мое ремесло!— говорит он с отчаянием.— Она не-
навидит этот запах, дружище. Но ведь если много режешь ло-
шадей, от тебя пахнет кровью!
— А у вас нет другого костюма? Чтобы переодеться, когда вы
возвращаетесь с бойни?
— Нельзя этого. Иначе другие мясники подумают, я хочу
быть лучше их. Да и все равно я насквозь пропитан запахом.
Его не вытравишь.
— А если хорошенько мыться?
— Мыться?— удивляется Вацек.— Где? В городских банях?
Они уже закрыты, когда я в шесть утра возвращаюсь с бойни.
— Разве на бойнях нет душа?
Вацек качает головой.
— Только шланги, чтобы мыть пол. А становиться под них
сейчас уже холодно, осень.
С этим я не могу не согласиться. Ледяная вода в ноябре —не-
большое удовольствие. Будь Вацек Карлом Брилем, это бы его
не испугало. Карл зимой прорубает на реке лед и плавает вместе
с членами своего клуба.
— А как насчет туалетной воды?— спрашиваю я.
— Не могу ею пользоваться. Другие мясники решат, что я го-
мосексуалист. Вы не знаете, каковы люди на бойнях.
— А что, если бы вам переменить профессию?
— Я ничего другого не умею,— уныло отвечает Вацек.
— Торговать лошадьми,— предлагаю я.— Это ведь занятие,
очень близкое к вашей профессии.
Вацек качает головой. Мы сидим некоторое время молча. Ка-
кое мне дело, думаю я. Да и чем ему поможешь? Лизе нравится
в «Красной мельнице». И привлекает ее не столько сам Георг,
сколько желание иметь кого-то получше, чем этот ее мясник.
— Вы должны стать настоящим кавалером,— говорю я.— За-
рабатываете вы хорошо?
— Неплохо.
— Тогда у вас есть шансы. Ходите каждые два дня в город-
ские бани, потом вам нужен новый костюм, который вы будете
носить только дома, несколько сорочек, один-два галстука; вы
можете все это купить?
— + 733 4* —
Вацек размышляет. Я вспоминаю вечер, когда на меня взирала
критическим оком фрау Терговен.
— В новом костюме чувствуешь себя гораздо увереннее,—
говорю я.— Сам испытал.
— Правда?
— Правда.
Вацек с интересом смотрит на меня.
— Ноу вас же безукоризненная наружность!
— Смотря для кого. Для вас — да. Для других людей — нет.
Я замечал.
— Неужели? И давно?
— Сегодня,— отвечаю я.
Вацек от удивления разевает рот.
— Скажи пожалуйста! Значит, мы вроде как братья. Вот уди-
вительно!
— Я когда-то где-то читал, будто все люди — братья. А по-
смотришь на жизнь и удивляешься, как еще далеко до этого.
— И мы чуть друг друга не убили,— мечтательно говорит Вацек.
— Братья частенько друг друга убивают.
Вацек встает.
— Завтра пойду в баню.— Он ощупывает левый глаз.— Я бы-
ло хотел заказать себе мундир штурмовика... их как раз сейчас
выпускают в Мюнхене.
— Элегантный двубортный темно-серый костюм выигрышнее.
У такого мундира нет будущего.
— Большое спасибо,— говорит Вацек.— Но, может быть,
мне удастся приобрести и то и другое. Ты не сердись на меня,
приятель, что я хотел зарезать тебя. За это я тебе пришлю завт-
ра большой кусок первоклассной конской колбасы.
XXIV
— Рогоносец,— говорит Георг,— подобен съедобному до-
машнему животному, например, курице или кролику: ешь
с удовольствием, только когда его лично не знаешь. Но если
вместе с ним рос, играл, баловал его и лелеял — только грубый
человек может сделать из него жаркое. Поэтому лучше, когда
ты с рогоносцем не знаком.
Я молча указываю на стол. Там, между образцами камней,
лежит толстая красная конская колбаса — дар Вацека; он сего-
дня утром занес мне эту колбасу.
— Ты ешь ее?— спрашивает Георг.
— + 734 4* —
— Разумеется. Во Франции мне приходилось есть конину и по-
хуже. Но ты не уклоняйся. Вон лежит подарок Вацека. И я стою
перед дилеммой.
— Она возникла только из-за твоей любви к драматическим
ситуациям.
— Хорошо,— говорю я.— Допускаю. Но, как-никак, я тебе
спас жизнь. Конерсманша будет шпионить и дальше. Стоит ли
игра свеч?
Георг берет из шкафа бразильскую сигару.
— Вацек смотрит на тебя теперь как на собрата,— отвечает
он.— Для твоей совести в этом конфликт?
— Нет. Он, кроме того, еще нацист. Факт, аннулирующий одно-
стороннее братство. Но хватит об этом.
— Вацек и мой брат,— заявляет Георг, посылая клубы белого
дыма в лицо святой Катарине из раскрашенного гипса.— Дело
в том, что Лиза обманывает не только его, но и меня.
— Ты это сейчас придумал?— удивленно восклицаю я.
— Ничуть. А откуда же иначе у нее наряды? Вацек в качест-
ве супруга не задает себе этого вопроса, а я не могу не задавать.
— Ты?
— Лиза сама мне призналась, хотя я ее не спрашивал. Не же-
лает, чтобы между нами был какой-нибудь обман, так она мне
заявила. И она честно этого хочет, не ради шутки.
— А ты? Ты изменяешь ей со сказочными образами твоей
фантазии и с героинями из твоих великосветских журналов?
— Конечно. Что значит вообще слово «изменять»? Оно
обычно употребляется только теми, кому изменяют. Но с каких
пор чувство имеет какое-либо отношение к морали? Разве я для
того дал тебе здесь, среди чувственных образов преходящего,
дополнительное, послевоенное воспитание? Измена? Какое
вульгарное название для тончайшей, высшей неудовлетворен-
ности, для поисков все большего, большего...
— Спасибо! — прерываю я его.— Вот тот коротконогий,
но очень крепкий мужчина с шишкой на лбу, который сейчас
входит в ворота,— только что побывавший в бане мясник Вацек.
Он подстригся и еще благоухает одеколоном. Он хочет понра-
виться своей жене. Разве тебя это не трогает?
— Конечно; но он своей жене никогда не сможет понравиться.
— Почему же она тогда вышла за него?
— Она стала с тех пор на шесть лет старше. И вышла за него
во время войны, когда очень голодала, а он раздобывал много мяса!
— Почему же она теперь от него не уйдет?
— Он грозится, что тогда уничтожит всю ее семью.
— + 735 4* —
— Она сама тебе все это рассказала?
-Да.
— Боже праведный,— восклицаю я.— И ты веришь?
Георг искусно выпускает кольцо дыма.
— Когда ты, гордый циник, доживешь до моих лет, тебе, на-
деюсь, уже станет ясно, что верить не только очень удобно,
но что иногда наша вера бывает даже оправдана.
— Хорошо,— отвечаю я.— Но как же тогда быть с ножом Ва-
цека? И с глазами Конерсманихи?
— И то и другое очень огорчительно,— говорит Георг.— А Ва-
цек — идиот. В данное время ему живется приятнее, чем когда-
либо: Лиза изменяет ему и поэтому обращается с ним лучше.
Подожди, увидишь, как он будет снова орать, когда она к нему
вернется и начнет за это вымещать на нем свою ярость! А те-
перь пойдем обедать. Мы можем все обдумать и по пути.
Эдуарда чуть удар не хватил, когда он нас увидел. Доллар
вскарабкался почти до биллиона, а у нас все еще имеется запас
талонов, и он как будто неисчерпаем.
— Вы, наверное, печатаете их!— заявляет он.— Вы фальши-
вомонетчики! Тайком печатаете!
— Мы хотели бы выпить после обеда бутылку Форстериезу-
итенгартена,— с достоинством заявляет Георг.
— Как это — после обеда?— недоверчиво спрашивает Эду-
ард.— Опять какие-то штучки?
— Это вино слишком хорошо для тех обедов, какими ты нас
кормишь в последнее время,— заявляю я.
Эдуард вскипает.
— Обедать на прошлогодние талоны, по шесть тысяч гнус-
ных марок за обед, да еще критику наводить — это уже черт
знает что! Следовало бы позвать полицию!
— Зови! Еще одно слово, и мы будем обедать только здесь,
а вино пить в «Гогенцоллерне»!
Кажется, у Эдуарда сейчас печенка лопнет, но он сдерживает
себя из-за вина.
— Язву желудка...— бормочет он и поспешно удаляется.—
Язву желудка я себе нажил из-за вас! Только молоко могу пить!
Мы садимся и озираемся. Я украдкой ищу глазами Герду, так
как совесть у меня нечиста, но нигде ее не нахожу. Вместо этого
замечаю знакомое веселое усмехающееся лицо — кто-то спе-
шит к нам через зал.
— Ты видишь?— обращаюсь я к Георгу.— Ризенфельд!
Опять здесь. «Тот лишь, кто знал тоску...».
— + 736 4* —
Ризенфельд здоровается с нами.
— Вы явились как раз вовремя, чтобы поблагодарить нас,—
обращается к нему Георг.— Наш молодой идеалист вчера из-за
вас дрался на дуэли. Американская дуэль: нож против кусочка
мрамора.
— Что такое?— Ризенфельд садится и требует себе пива.—
Каким образом?
— Господин Вацек, муж вашей дамы Лизы, которую вы пре-
следуете букетами и конфетами, решил, что эти подарки идут
от моего товарища, и подстерег его с длинным ножом.
— Ранены?— отрывисто спрашивает Ризенфельд и разгля-
дывает меня.
— Только подметка,— отвечает Георг.— Вацек легко ранен.
— Вы, наверное, опять врете?
— На этот раз — нет.
Я с восхищением смотрю на Георга. Его дерзость зашла весьма
далеко. Но Ризенфельда сразить не так просто.
— Пусть уезжает!— решает он тоном римского цезаря.
— Кто?— спрашиваю я.— Вацек?
— Вы!
— Я? А почему не вы? Или вы оба?
— Вацек опять будет драться. Вы — естественная жертва.
На нас он не подумает. Мы уже лысые. Значит, уехать надо вам.
Понятно?
— Нет,— отвечаю я.
— Разве вы и без того не собирались покинуть этот город?
— Не из-за Лизы.
— Я ведь сказал, вы и без того собирались,— продолжает Ри-
зенфельд.— Неужели вам не хотелось бы изведать бурную
жизнь большого города?
— В качестве кого? В больших городах даром не кормят.
— В качестве сотрудника газеты в Берлине. Вначале вы не-
много будете зарабатывать, но на жизнь в обрез хватит. А там
видно будет.
— Вы предлагаете мне?..— спрашиваю я, задыхаясь.
— Вы же меня несколько раз спрашивали, не знаю ли я чего-
нибудь подходящего для вас! Что ж, у Ризенфельда есть связи.
И я могу вам кое-что обещать. Поэтому и заехал. Первого янва-
ря тысяча девятьсот двадцать четвертого года можете присту-
пать. Должность скромная. Зато в Берлине. Решено?
— Стоп!— заявляет Георг.— Он обязан предупредить об
уходе за пять лет.
— Ну так он смоется, не предупредив. Ясно?
— + 737 4* —
— Сколько же он будет получать?— спрашивает Георг.
— Двести марок,— спокойно отвечает Ризенфельд.
— Я сразу почувствовал, что вы мне голову морочите,— сер-
дито заявляю я.— Вам что, приятно дурачить людей? Двести
марок! Разве такая смехотворная сумма еще существует?
— Она снова будет существовать,— заявляет Ризенфельд.
— Где?— спрашиваю я.— В Новой Зеландии?
— В Германии. Ржаная марка*. Ничего на этот счет не слышали?
Мы с Георгом переглядываемся. Слухи об установлении новой
валюты действительно ходят. При этом одна марка должна сто-
ить столько, сколько определенная мера ржи; но за последние го-
ды было так много всяких слухов, что им уже перестали верить.
— На этот раз — правда,— говорит Ризенфельд.— Я знаю об
этом из самых достоверных источников. А потом ржаную марку
заменит золотой. Таково решение правительства.
— Правительство! Оно же само виновато в девальвации!
— Может быть. Но теперь вопрос решен. У него больше нет
долгов. Один биллион инфляционных марок будет равняться
одной золотой марке.
— А потом золотая марка опять начнет падать, да? И мы
опять начнем плясать от печки?
Ризенфельд допивает свое пиво.
— Так вы хотите или не хотите?— спрашивает он.
Кажется, что в ресторане вдруг наступила глубокая тишина.
— Хочу...— Мне кажется, что ответил не я, а кто-то рядом со
мной. На Георга я не решаюсь взглянуть.
— Вот это разумно,— заявляет Ризенфельд.
Я рассматриваю скатерть. Она словно расплывается передо
мной. Потом я слышу, как Георг говорит:
— Кельнер, сейчас же подайте бутылку Форстериезуитен-
гартена.
Я поднимаю глаза.
— Ты же нам жизнь спас!— говорит он.— Вот почему!
— Нам? Почему нам?— спрашивает Ризенфельд.
— Отдельного человека спасти нельзя,— отвечает Георг с пол-
ным самообладанием.— С ним всегда связано несколько других.
Трудная минута миновала. Я с благодарностью смотрю
на Георга. Я его предал, оттого что не мог не предать, и он это
понимает. Он ведь остается здесь.
’ Имеется в виду рентная марка, выпущенная в 1923 году.
— + 738 4* —
— Ты приедешь ко мне в гости,— говорю я.— И тогда я по-
знакомлю тебя с берлинскими светскими дамами и знамениты-
ми актрисами.
— Все это мечты, молодые люди,— обращается ко мне Ри-
зенфельд.— А где же вино?— спрашивает он.— Ведь я только
что спас вам жизнь.
— Трудно сказать, кто кого тут спас.
— Каждый когда-нибудь кого-то спасает,— замечает Георг.—
Так же как он всегда кого-то убивает. Даже если и не догадывается
об этом.
Вино стоит на столе. К нам подходит Эдуард. Он бледен
и расстроен.
— Дайте и мне стакан.
— Исчезни!— восклицаю я.— Лизоблюд! Мы и одни выпьем
это вино.
— Не потому. Пусть бутылку запишут на меня. Я оплачу ее.
Но поделитесь со мной. Мне необходимо что-нибудь выпить.
— Ты хочешь угостить нас этой бутылкой? Подумай, что ты
говоришь!
— То, что сказал! Валентин умер,— заявляет Эдуард.
— Валентин? Что с ним случилось?
— Паралич сердца. Мне только что сообщили по телефону.
Он тянется к стакану с вином.
— И ты хочешь по этому случаю выпить, негодяй?— с гне-
вом восклицаю я.— Отделался от него?
— Клянусь вам, нет! Не поэтому. Ведь он же спас мне жизнь.
— Как?— спрашивает Ризенфельд.— Вам тоже?
— Конечно, мне, а то кому же?
— Что это?— удивляется Ризенфельд.— Разве мы клуб спа-
сателей жизни?
— Такое уж время,— отвечает Георг.— За эти годы жизнь
многих была спасена. А многих — не была.
Я с удивлением смотрю на Эдуарда. У него в самом деле сле-
зы на глазах, но кто его знает, искренне ли это.
— Я тебе не верю,— заявляю я.— Это ты желал ему смерти!
Сколько раз ты говорил об этом. Тебе хотелось сэкономить твое
проклятое вино.
— Клянусь вам, нет! Мало ли что иной раз сболтнешь. Но ведь
не всерьез же!— Из глаз Эдуарда вот-вот польются слезы.
— Он фактически спас мне жизнь.
Ризенфельд встает.
— 4* 739 + —
— Хватит с меня этой болтовни о спасении жизни. После
обеда вы будете в конторе? Хорошо!
— А вы больше не посылайте цветов, Ризенфельд,— предо-
стерегает его Георг.
Ризенфельд кивком прощается с нами и исчезает; выражение
его лица трудно определить.
— Выпьем стакан в память Валентина,— говорит Эдуард.
Его губы дрожат.— Ну кто бы подумал! Через всю войну про-
шел, а теперь вот дело секунды — и он лежит мертвый.
— Если уж хочешь сентиментальничать, так делай это по-на-
стоящему. Принеси бутылку того вина, в котором ты ему всегда
отказывал.
— Иоганнисбергер? Да, хорошо.— Эдуард торопливо встает
и уходит, переваливаясь.
— Мне кажется, он искренне огорчен,— говорит Георг.
— Чувствует искреннее огорчение и искреннее облегчение.
— Я это и имею в виду. Большего, как правило, и требовать
нельзя.
Мы сидим молча.
— За несколько мгновений произошло немало, верно?— го-
ворю я наконец.
Георг смотрит на меня.
— Твое здоровье! Ведь когда-нибудь ты все равно уехал бы!
А Валентин? Он прожил на несколько лет больше, чем можно
было предполагать в 1917 году.
— Все мы прожили больше.
— Да, и мы должны были бы эти годы использовать.
— А разве мы этого не делаем?
Георг смеется.
— Используем в те минуты, когда не хотим ничего другого,
кроме того, что делаем.
Я отдаю честь.
— Значит, я эти годы никак не использовал. А ты?
Он щурится.
— Пойдем, смоемся отсюда до того, как Эдуард возвратится.
К черту его вино!
— Нежная,— шепчу я в темноте, повернувшись к стене.—
Нежная и дикая, мимоза и хлыст, как безумен я был, желая вла-
деть тобой! Разве ветер запрешь? Чем он станет? Затхлым воз-
духом. Иди, иди своим путем, ходи по театрам и концертам,
пусть твоим мужем станет офицер запаса, директор банка или
инфляционный герой, иди, юность, ибо ты покидаешь только
— + 740 4* —
того, кто хочет тебя покинуть, ты — знамя, которое трепещет,
но не дается в руки, ты — парус в синеве небес, фата-моргана,
игра пестрых слов. Иди, Изабелла, иди, моя запоздавшая, на-
стигнутая, из довоенных лет пришедшая, слишком много узнав-
шая, не по годам умудренная юность, уходите вы обе, и я уйду,
нам не за что упрекать друг друга, и хоть разойдемся мы в раз-
ные стороны, но и это только так кажется, ведь смерть не
обманешь, ее только можно выдержать. Прощай! Каждый день
какая-то часть нас самих умирает, но и каждый день мы живем
немного дольше, вы мне это открыли, и я не забуду, что нет
уничтожения, и тот, кто ничего не хочет удержать, владеет
всем; прощайте, целую вас своими пустыми губами, сжимаю вас
в объятиях, которые не смогли вас удержать, прощайте, про-
щайте, вы, живущие во мне до тех пор, пока я вас не забуду...
Я держу в руке бутылку водки и сижу на последней скамье
в аллее, откуда видны все корпуса лечебницы. В кармане у ме-
ня хрустит чек на твердую валюту: на тридцать полноценных
швейцарских франков. Чудеса не прекращаются: швейцарская
газета, которую я уже два года бомбардирую своими стихами,
в припадке безумия приняла один и сейчас же прислала мне чек.
Я уже заходил в банк — все в порядке. Управляющий банком не-
медленно предложил мне оплатить этот чек черными марками.
Я ношу чек в нагрудном кармане, возле сердца. Он опоздал
на несколько дней. Я смог бы тогда купить на него новый кос-
тюм и белую рубашку, иметь элегантную внешность и в таком
виде предстать перед дамами Терговен. Но я уезжаю! Посвис-
тывает декабрьский ветер, чек похрустывает, я сижу здесь вни-
зу на скамейке в воображаемом смокинге и лакированных туф-
лях, которые мне обещал Карл Бриль, хвалю Господа и обожаю
тебя, Изабелла! В боковом кармане у меня небрежно засунутый
тончайший батистовый платок, я — путешествующий капита-
лист, «Красная мельница» у моих ног; если захочу, в моей руке
блеснет шампанское бесстрашных пьяниц, всегда недостаточно
пьяных, напиток фельдфебеля Кнопфа, которым он заставил
смерть обратиться в бегство; й я пью, глядя на серую стену,
за которой находишься ты, Изабелла, ты, юность, с твоей мате-
рью, с бухгалтером Господа Бога Бодендиком, с командиром ра-
зума Вернике, с великим смятением и вечной войной; я пью
и смотрю влево: там окружной родильный дом, в нескольких
окнах еще горит свет, матери родят, и меня вдруг изумляет, как
близко стоит родильный дом от лечебницы для душевноболь-
ных; я знаю этот дом, должен знать, ведь я же в нем родился, но
до сих пор об этом как-то не думал! Приветствую и тебя, знако-
— 4* 741 + —
мое убежище, улей плодовитости, мою мать привезли сюда от-
того, что родители были бедны, а здесь рожали бесплатно, если
роды принимали учащиеся — будущие акушерки; таким обра-
зом, я уже при своем рождении послужил науке! Приветствую
архитектора, который с таким глубокомыслием построил тебя,
родильный дом, почти рядом с другим домом! Вероятно, в этом
не было никакой иронии, ибо лучшие остроты на свете говорятся
серьезными людьми, которые на виду. Во всяком случае — да
здравствует наш разум, но не будем чересчур гордиться им и не бу-
дем в нем слишком уверены! Ты, Изабелла, получила его обратно,
этот дар данайцев, а наверху сидит Вернике и радуется, и он прав.
Но каждая правота — это шаг к смерти. И тот, кто прав, всегда
становится черным обелиском! Надгробным памятником!
Бутылка пуста. Я зашвыриваю ее как можно дальше. Падая,
она мягко ударяется о взрыхленную пашню. Я встаю. Выпито
достаточно, я созрел для «Красной мельницы». Сегодня Ризен-
фельд устраивает там прощальный вечер в честь спасших ему
жизнь. Будут Георг, Лиза, потом приду я — мне нужно предва-
рительно кое с кем попрощаться,— и мы все вместе грандиозно
отпразднуем прощание... с инфляцией.
Поздно ночью следуем мы по Гроссештрассе, словно похо-
ронное шествие пьяных. Редкие фонари мигают. Несколько
преждевременно опускаем мы в могилу истекший год. К нам
присоединились Вилли и Рене де ла Тур. Между Вилли и Ризен-
фельдом разгорелся яростный спор: Ризенфельд клянется, что
инфляции конец и что вводится «ржаная марка», а Вилли заяв-
ляет, что он тогда станет банкротом и уже по одному этому такой
слух не может быть правдой. Зато Рене де ла Тур стала очень
молчаливой.
Сквозь веющий ветром ночной сумрак мы видим вдали другое
шествие, оно движется нам навстречу с противоположного кон-
ца Гроссештрассе.
— Георг,— говорю я,— пусть дамы немного отстанут. Похоже,
что те затеют с нами ссору.
— Ладно.
Мы уже возле Нового рынка.
— Если заметишь, что они берут верх, сейчас же беги в кафе
Мац,— инструктирует Лизу Георг,— спросишь там Бодо Лед-
дерхозе и скажешь, что он нам нужен,— затем поворачивается
к Ризенфельду.— Лучше сделайте вид, что не имеете никакого
отношения к нам.
— + 742 + —
— А ты, Рене, удирай,— наставляет Вилли свою даму.— Дер-
жись подальше, если начнется драка!
Второе шествие подошло к нам вплотную. Его участники
в сапогах — это же великая мечта немецкого патриота,— и все
они, кроме двух, не старше восемнадцати-двадцати лет. Зато их
вдвое больше, чем нас.
Мы минуем друг друга.
— А этого красного пса мы знаем!— вдруг кричит кто-то.
Шевелюра Вилли светится и ночью.
— И того вон, лысого! — кричит второй голос и показывает
на Георга.— Бей их!
— Лиза, беги!— говорит Георг.
И у Лизы только подметки засверкали.
— Эти трусы хотят позвать полицию! — восклицает бело-
брысый очкастый молодчик, он намерен погнаться за Лизой.
Вилли дает ему подножку, белобрысый летит наземь, и тут
же начинается свалка. Нас пятеро, не считая Ризенфельда. Вер-
нее, четверо с половинкой. Половинка — Герман Лотц, наш од-
нополчанин и инвалид войны, у него левая рука ампутирована
по самое плечо. Он и другой наш сотоварищ, малорослый Ке-
лер, присоединились к нам в кафе «Централь».
— Берегись, Герман,— кричу я,— как бы они тебя не сбили!
Держись посередке! А ты, Келер, если упадешь, кусай их!
— Прикрыть с тылу!— командует Георг.
Правильный приказ. Но в данную минуту нашим прикрыти-
ем служат всего-навсего большие витрины магазина мод Макса
Кляйна. Патриотическая Германия атакует нас, а кому прият-
но, если его прижмут к витрине? Об осколки раздерешь себе
спину, да и хозяин потребует возмещения убытков. И если мы
застрянем в разбитой витрине, то будем пойманы с поличным.
Бегство окажется невозможным.
Пока мы держимся тесной кучкой. Витрины изнутри слегка
освещены, поэтому наши противники нам очень хорошо вид-
ны. Я узнаю одного из более взрослых: он был в числе тех, с кем
у нас в кафе «Централь» уже произошел скандал. Следуя древне-
му правилу, что надо сначала обезвредить вожаков, я кричу ему:
— Подходи, трус, лопоухая задница!
Но он об этом и не помышляет.
— А ну, вырвите-ка его оттуда,— приказывает он своей охране.
Трое бросаются на нас. Вилли дает одному молодчику такой
удар по голове, что тот валится с ног. Второй вооружен резино-
вой дубиной и бьет меня по руке. Я не могу его схватить, по-
этому он хватает меня. Вилли это видит, делает скачок и выкру-
чивает ему кисть. Резиновая дубинка падает наземь. Вилли хо-
чет ее поднять, но его опережает другой.
— Хватай дубинку, Келер,— кричу я. Келер вмешивается
в свалку дерущихся на земле, где борется Вилли в своем светло-
сером костюме.
Наш боевой порядок прорван. Я получаю удар и отлетаю
к витрине с такой силой, что звенит стекло. К счастью, оно це-
ло. Над нами открываются окна. А позади, из глубины витрины,
на нас таращат глаза элегантные деревянные манекены Макса
Кляйна. Они неподвижны в своих одеждах, сшитых по послед-
ней зимней моде, и похожи на странную немую версию расска-
за о древнегерманских женщинах, которые, стоя перед военны-
ми обозами, разжигали боевой пыл воинов.
Долговязый прыщеватый малый хватает меня за горло. От него
несет селедкой и пивом, а лицо так близко от моего лица, слов-
но он намерен поцеловать меня. Моя левая рука совсем онеме-
ла от удара дубинкой. Пытаюсь большим пальцем правой руки
нажать ему на глаз, но он мешает мне тем, что крепко прижи-
мается головой к моей щеке, словно мы противоестественные
влюбленные. Я не могу и пнуть его ногой, так как он стоит
слишком близко, и я оказываюсь в довольно беспомощном по-
ложении. Но в ту минуту, когда я, задыхаясь, последним усилием
соскальзываю на мостовую, я вижу нечто кажущееся мне бре-
дом моего меркнущего сознания: из прыщеватого лба этого мо-
лодчика вырастает цветущий куст герани, словно это особо удо-
бренная куча навоза, в его глазах появляется покорное
изумление, рука, сжимающая мое горло, ослабевает, вокруг нас
разлетаются глиняные черепки, я приседаю, освободившись,
резко выпрямляюсь и слышу громкий треск — мне удалось уда-
рить его снизу головой в подбородок, и он медленно оседает
на колени. Странная вещь: корни герани, которой в нас запус-
тили сверху, так тесно обхватили его голову, что этот прыща-
вый германец падает на колени, увенчанный цветком. Он ка-
жется прелестным потомком своих предков, украшавших
головы бычьими рогами. А на его плечах, словно обломки раз-
битого шлема, лежат два майоликовых черепка.
Это был большой цветочный горшок, но лоб у патриота, как
видно, оказался медным. Я чувствую, как он, все еще стоя
на коленях, пытается меня ударить в пах; я хватаю герань вместе
с корнями и комьями прилипшей земли и хлещу его по глазам.
Он подносит руки к глазам, трет их, и так как я не могу пустить
в ход кулаки, то в свою очередь даю ему пинок в пах. Он точно
переламывается и опускает руки, чтобы защитить себя. Я опять
хлещу его по глазам переплетенными корнями с землей и пес-
ком и жду, когда он снова поднимет руки, чтобы протереть глаза.
Но он падает ниц, словно отвешивая по-восточному низкий по-
клон, и через миг все вокруг меня наполняется звоном. Я зазе-
вался и получил сбоку оглушительный удар. Медленно соскаль-
зываю наземь вдоль витрины. Кукла-великанша в бобровой
шубе безучастно пялится на меня намалеванными глазами.
— Пробиваться к уборной!— слышу я голос Георга. Он прав.
Нам нужно более надежное прикрытие с тыла. Но хорошо ему
приказывать: мы вклинены в противника. Он откуда-то полу-
чил подкрепление, и дело идет к тому, что мы с пробитыми го-
ловами останемся лежать среди манекенов Макса Кляйна.
В эту минуту я замечаю, что Герман Лотц стоит возле меня
на коленях.
— Помоги мне стащить рукав,— кричит он.
Я берусь за левый рукав его куртки и сдергиваю его. Виден
поблескивающий протез. Это никелевый остов, лишь на конце
которого прикреплена искусственная рука в черной перчатке.
Поэтому его и прозвали «Гётц фон Берлихинген — железный
кулак». Быстро отстегивает он протез от плеча, затем берет на-
стоящей рукой искусственную и встает на ноги.
— Дорогу! Идет Гётц! — кричу я снизу. Георг и Вилли быст-
ро расступаются и пропускают Германа. Он размахивает вокруг
себя протезом, точно цепом, и сразу же попадает в одного
из вожаков. Атакующие на миг отступают. Герман врывается
в их толпу и начинает вертеться, далеко вытянув руку с проте-
зом, он держит его за плечо и стальной искусственной рукой
наносит удары.
— Скорее к уборной!— кричит он при этом.— Я прикрою вас!
Герман работает искусственной рукой, и это странное зрели-
ще. Я видел не раз, как успешно он сражается ею. Наши про-
тивники не видели. Они опешили и несколько мгновений стоят
неподвижно, точно в их толпу ворвался сатана. Нам это заме-
шательство на пользу. Мы пробиваемся через них и мчимся
к уборной на Новом рынке. Пробегая мимо, я вижу, как Герман
наносит здоровенный удар по орущей морде второго вожака.
— Скорее, Гётц, — кричу я.— Беги с нами! Мы пробились!
Герман снова орудует протезом. Пустой рукав его куртки ле-
тает вокруг него, он делает культей судорожные движения, что-
бы удержать равновесие, а два носителя сапог, загородившие
ему дорогу, ахая и дивясь, в страхе уставились на него. Один по-
лучает удар в подбородок, другой, видя, что на него несется со
— + 745 + —
свистом черная искусственная рука, верещит от ужаса и, при-
крыв глаза руками, убегает прочь.
Мы достигли уборной — красивого квадратного здания из пе-
счаника — и окапываемся на дамской половине. Ее легче защи-
щать. В мужскую можно проникнуть сверху и напасть на нас
с тылу, у дам окна маленькие и расположены довольно высоко.
Противники последовали за нами. Теперь их по крайней ме-
ре человек двадцать: им на помощь явились еще нацисты. Я ви-
жу несколько мундиров навозного цвета и тут же замечаю, что
с того края, где стоим Герман и я, они пытаются прорваться.
Однако, невзирая на свалку, я замечаю, что сзади и к нам спе-
шит подкрепление. Через секунду я вижу, как Ризенфельд сло-
женным вдвое портфелем, в котором, я надеюсь, лежат образцы
гранита, лупит кого-то, а Рене де ла Тур, стащив с ноги ботинок
на высоком каблуке и схватив его за шнуровку, намеревается
драться каблуком.
Но в ту минуту, когда я смотрю на это, какой-то молодчик
с разбегу бьет меня головой под ложечку, так что воздух, чем-
то хрястнув, вылетает у меня изо рта. Я отбиваюсь слабо,
но с яростью, и вдруг у меня возникает ощущение, что все это
мне уже знакомо. Я автоматически поднимаю колено, так как
жду, что этот баран снова меня боднет. Одновременно я вижу
картину, которая в данной ситуации кажется мне одной из са-
мых прекрасных: Лиза, словно Ника Самофракийская, мчится
к нам через рынок, рядом с нею Бодо Леддерхозе, а за ним весь
его певческий союз. В ту же секунду я ощущаю новый удар ба-
рана, но портфель Ризенфельда, словно желтый флаг, опускает-
ся на него. Вместе с тем, Рене де ла Тур с размаху бьет куда-то
вниз, и баран испускает вопль. Рене кричит подчеркнуто гене-
ральским голосом:
— Смирно, негодяи!
Часть агрессоров невольно вздрагивает. Затем в бой вступа-
ют члены певческого союза — и мы свободны.
Я выпрямляюсь. Вдруг стало тихо. Агрессоры бежали. Они
утаскивают с собою своих раненых. Герман Лотц возвращается.
Он, как кентавр, догнал бегущего противника и наградил кого-то
еще одной железной оплеухой. Наш урон не очень велик. У меня
на голове шишка с добрую грушу и ощущение, что сломана рука.
Но она не сломана. Кроме того, меня тошнит. Я слишком много
выпил, чтобы боданье в живот могло доставить мне удовольст-
вие. И снова меня мучит воспоминание о чем-то, чего я не могу
вспомнить. Что же это все-таки?
— + 746 4* —
— Если бы я мог глотнуть водки,— говорю я.
— И получишь ее,— отвечает Бодо Леддерхозе.— Только уйдем
скорей отсюда, пока не явилась полиция.
В этот миг раздается звонкий шлепок. Удивленные, мы обо-
рачиваемся. Лиза кого-то ударила.
— Пьяница проклятый!— спокойно говорит она.— Вот как
ты заботишься о доме и о жене...
— Ты...— клокочущим голосом отвечает кто-то.
Лиза дает вторую оплеуху. И тут вдруг узел моих воспомина-
ний распутывается. Вацек! Вон он стоит и почему-то прижима-
ет руки к заднице.
— И это мой супруг!— на весь рынок заявляет Лиза, ни к кому
не обращаясь.— Приходится быть женой такого вот сокровища!
Вацек не отвечает. Кровь льется по его лицу. Прежняя рана
на лбу, которую я нанес ему, снова открылась. Кроме того,
и с волос его капает кровь.
— Это вы его так отделали?— вполголоса спрашиваю я Ри-
зенфельда.— Портфелем?
Он кивает и внимательно разглядывает Вацека.
— Бывают же встречи,— говорим мы.
— А что у него с задницей, почему он держится за нее?
— Его ужалила оса,— поясняет Рене де ла Тур и вкалывает
длинную шпильку в серебристо-голубую бархатную щапочку,
сидящую на ее кудрях.
— Примите мое глубочайшее уважение!— Я отвешиваю ей
поклон и подхожу к Вацеку.— Так,— говорю я,— теперь мне
известно, кто боднул меня головой в живот! Это что же, благо-
дарность за советы, как лучше наладить свою жизнь?
Вацек удивленно уставился на меня.
— Вы? Но я же вас не узнал! Господи!
— Он никогда никого не узнает,— саркастически заявляет Лиза.
Вацек представляет собой печальное зрелище. При этом
я вижу, что он буквально последовал всем моим указаниям.
Гриву свою он коротко подстриг — удар, нанесенный Ризен-
фельдом, оказался тем чувствительнее,— на нем даже новая бе-
лая рубашка, но в результате'кровь на ней гораздо заметнее,
чем была бы на цветной. Вот уж не везет так не везет!
— Пошли домой! Пьяница! Буян!— говорит Лиза и уходит.
Вацек послушно плетется за ней. Они идут через рынок, одино-
кая пара. Никто не следует их примеру. Георг помогает Лотцу
кое-как прикрепить к плечу протез.
— Пошли,— говорит Леддерхозе,— в моей пивной вы еще
можете чего-нибудь глотнуть. Ведь мы — свои люди!
— + 747 4* —
Сидим некоторое время с Бодо и членами его союза. Затем
отправляемся домой. Подкрадывается серый рассвет. Мимо
нас проходит мальчишка газетчик, Ризенфельд делает ему знак
и покупает газету. В ней крупными буквами напечатано:
«КОНЕЦ ИНФЛЯЦИИ!
ОДИН БИЛЛИОН — ОДНА МАРКА!»
— Что скажете?
— Ребята, я ведь, может быть, действительно уже банкрот,—
заявляет Вилли.— Я еще спекулировал на понижении курса.—
Он огорченно смотрит на свой серый костюм, потом на Рене.—
Как нажился, так и прожился, но что такое деньги, верно?
— Деньги — вещь очень важная,— холодно отвечает Рене.—
Особенно когда их нет.
Мы с Георгом идем по Мариенштрассе.
— Как странно, что Вацеку дали трепку именно я и Ризен-
фельд,— говорю я.— А не ты. Ведь было бы естественнее, если
бы дрались друг с другом вы!
— Конечно, но это было бы более несправедливо.
— Несправедливо?— удивляюсь я.
— Ну, в более сложном смысле. Сейчас я слишком устал, что-
бы объяснять. Мужчинам, которые уже полысели, не следовало
бы драться. Им следовало бы философствовать.
— Тогда тебе предстоит очень одинокая жизнь. Кажется,
в воздухе вообще запахло драками.
— Не думаю. Какой-то отвратительный карнавал кончился.
Разве сейчас все не напоминает космический великий пост? Ги-
гантский мыльный пузырь лопнул.
— И?— говорю я.
— И?— повторяет он.
— Кто-нибудь пустит новый мыльный пузырь, еще огромнее.
— Все может быть.
Мы стоим в саду. Серо-молочное утро как будто омывает
кресты. Появляется невыспавшаяся младшая дочь Кнопфа.
Она ждала нас.
— Отец сказал, что за двенадцать биллионов вы можете
взять обратно его памятник.
— Скажите ему, что мы предлагаем восемь марок. Да и это
только до полудня. Теперь деньги будут в обрез.
— Что такое?— спрашивает Кнопф из своей спальни — он
подслушивал.
— Восемь марок, господин Кнопф. А после обеда только шесть.
Курс падает. Кто бы подумал? Вместо того, чтобы подниматься!
— + 748 + —
— Пусть лучше памятник останется у меня навеки, мародеры
проклятые!— хрипит Кнопф и захлопывает окно.
XXV
В старогерманской горнице «Валгаллы» верденбрюкский клуб
поэтов дает мне прощальный вечер. Поэты встревожены, но при-
творяются растроганными. Хунгерман первый обращается ко мне:
— Ты знаешь мои стихи. Ты сам сказал, что они были для те-
бя одним из самых сильных поэтических переживаний. Силь-
нее, чем стихи Стефана Георге.
Он многозначительно смотрит на меня.
— Я этого никогда не говорил, сказал Бамбус.
В ответ Хунгерман сказал о Бамбусе, что считает его значи-
тельнее Рильке. Но я не возражаю. Полный ожидания, я смот-
рю на певца Казановы и Магомета.
— Ну хорошо,— продолжает Хунгерман, но отвлекается: —
Впрочем, откуда у тебя этот новый костюм?
— Я купил его сегодня на гонорар, полученный из Швейца-
рии,— отвечаю я с напускной скромностью павлина.— Это мой
первый новый костюм, после того как я стал солдатом его вели-
чества. Не перешитый военный мундир, а настоящий, подлин-
но гражданский костюм! Инфляция закончилась!
— Гонорар из Швейцарии? Значит, ты достиг уже интерна-
циональной известности! Вот как!— говорит Хунгерман, он
удивлен и уже раздосадован.— Из газеты?
Я киваю. Автор «Казановы» делает пренебрежительный жест.
— Ну ясно! Мои произведения, разумеется, не подходят для
ежедневного употребления. Может быть, только для перво-
классных журналов. Я имею в виду, что сборник моих стихов,
к несчастью, вышел три месяца назад у Артура Бауэра в Вер-
денбрюке! Это просто преступление.
— Разве тебя принуждали?
— Морально — да. Бауэр наврал мне, он хотел создать огром-
ную рекламу, обещал выпустить одновременно с моей книжкой
Мёрике, Гете, Рильке, Стефана Георге и прежде всего Гельдер-
лина — и ни одного не выпустил, обманул.
— Зато он напечатал Отто Бамбуса.
Хунгерман качает головой.
— Бамбус — это, между нами, эпигон и халтурщик. Он мне
только повредил. Знаешь, сколько Бауэр продал моих книг?
Не больше пятисот экземпляров!
Мне известно от самого Бауэра, что весь тираж был не боль-
ше двухсот пятидесяти экземпляров; продано двадцать восемь,
— + 749 4* —
из них девятнадцать куплены тайком самим Хунгерманом, и пе-
чатать книгу заставлял не Бауэр Хунгермана, а наоборот. Хун-
герман, будучи учителем немецкого языка в реальном училище,
шантажировал Артура, угрожая ему, что порекомендует для
своей школы другого книготорговца.
— Если ты теперь будешь работать в берлинской газете,— за-
являет Хунгерман,— помни, что товарищество среди художни-
ков слова — самая благородная черта.
— Знаю. И самая редкая.
— Вот именно.— Хунгерман извлекает из кармана томик своих
стихов.— На. С автографом. Напиши о ней, когда будешь в Берли-
не. И непременно пришли мне два оттиска. А я за это здесь, в Вер-
денбрюке, буду тебе верен. И если ты там найдешь хорошего изда-
теля, имей в виду, что я готовлю вторую книгу своих стихов.
— Решено.
— Я знал, что могу на тебя положиться.— Хунгерман торже-
ственно трясет мне руку.— Ты тоже собираешься скоро напеча-
тать что-нибудь новое?
— Нет. Я отказался от этой мысли.
— Что?
— Хочу еще подождать,— поясняю я.— Хочу в жизни не-
множко осмотреться.
— Очень мудро!— многозначительно заявляет Хунгерман.—
Как было бы хорошо, если бы побольше людей следовали твоему
примеру, вместо того чтобы стряпать незрелые вирши и тем са-
мым становиться поперек дороги настоящим мастерам!
Он внимательно разглядывает присутствующих. Я так и жду,
что он мне шутливо подмигнет; но Хунгерман становится вдруг
очень серьезным. Я для него новая возможность устраивать дела —
и тут юмор покидает его.
— Не рассказывай другим о нашей договоренности,— вну-
шает он мне напоследок.
— Конечно, нет,— отвечаю я и вижу, что ко мне незаметно
подкрадывается Отто Бамбус.
Через час у меня в кармане уже лежит книжечка Бамбуса «Го-
лоса тишины» с весьма лестной надписью, а также отпечатанные
на машинке сонеты «Тигрица»: я должен их пристроить в Берлине;
Зоммерфельд дал мне экземпляр своей книжки о смерти, написан-
ной свободным размером, остальные всучили еще с десяток своих
творений, а Эдуард — рукопись его пеанов «На смерть друга»,
объемом в сто шестьдесят восемь строк, они посвящены Валенти-
ну, «другу, однополчанину и человеку». Эдуард работает быстро.
— + 750 4* —
И все это внезапно остается где-то далеко позади. Так же да-
леко, как инфляция, скончавшаяся две недели назад, как дет-
ство, которое изо дня в день душили военным мундиром, так же
далеко, как Изабелла.
Я смотрю на присутствующих. Что это — лица недоумевающих
детей, перед которыми открылся хаос, а может быть, чудо, или уже
лица ловких дельцов от поэзии? Осталось в них что-нибудь похо-
жее на восхищенное и испуганное лицо Изабеллы, или они уже
только имитаторы, болтливые хвастуны, обладающие той десятой
долей таланта, которая всегда найдется у молодых людей, и они
пышно и завистливо воспевают его затухание, вместо того чтобы
молча созерцать его и спасти для жизни хоть несколько искр?
— Друзья,— заявляю я.— Отныне я уже не член клуба.
Все лица поворачиваются ко мне.
— Исключено! Ты останешься членом-корреспондентом на-
шего клуба поэтов,— заявляет Хунгерман.
— Я выхожу из клуба,— говорю я.
Поэты молчат. Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что
кое у кого в глазах я читаю нечто вроде страха перед возможными
разоблачениями.
— Ты действительно решил?— спрашивает Хунгерман.
— Я действительно решил.
— Хорошо. Мы готовы принять твой уход и избираем тебя
почетным членом нашего клуба.
Хунгерман озирается. Остальные шумно выражают свое
одобрение. Напряженность исчезает.
— Принято единогласно!— возвещает автор «Казановы».
— Благодарю вас,— отвечаю я.— Этой минутой я горжусь.
Но не могу принять ваше предложение. Это было бы все равно,
что превратиться в свою собственную статую. Я не хочу идти
в жизнь в качестве почетного члена чего бы то ни было, даже
«заведения» на Банштрассе.
— Сравнение довольно неуместное,— замечает Зоммер-
фельд, поэт смерти.
— Ему разрешается,— говорит Хунгерман.— В качестве ко-
го же ты хочешь идти в мир?
Я смеюсь.
— Просто как искорка жизни, которая попытается не угаснуть.
— Боже мой,— восклицает Бамбус,— разве что-то похожее
не сказано уже Эврипидом?
— Возможно, Отто. Значит, тут есть какой-то смысл. Но
я не хочу об этом писать; я хочу этим быть.
— 4* 751 + —
— Эврипид не говорил этого,— заявляет Хунгерман, поэт
с высшим образованием, бросив радостный взгляд взгляд на де-
ревенского учителя Бамбуса.— Итак, ты хочешь...— обращается
он ко мне.
— Вчера вечером я многое сжег. Костер горел хорошо. Вы
знаете старое правило для идущих в поход: бери с собой как
можно меньше.
Все усердно кивают. Они такого правила уже не помнят, мне
это вдруг становится ясно.
— Итак,— говорю я,— Эдуард, у меня тут еще двенадцать
обеденных талонов. Девальвация обогнала их; но мне кажется,
что если бы я действовал через суд, я бы еще имел право на них
поесть. Хочешь обменять эти талоны на две бутылки Иоганни-
сбергера? Мы их сейчас и разопьем.
Эдуард высчитывает молниеносно. В его расчеты входит
и Валентин, и стихотворение, посвященное его памяти и лежа-
щее у меня в кармане.
— На три,— заявляет он.
Вилли сидит в маленькой комнатке. Он обменял на нее свою
элегантную квартиру. Это гигантский скачок в бедность,
но Вилли хорошо его переносит. Ему удалось спасти свои кос-
тюмы, кое-какие драгоценности, и поэтому он еще долго будет
считаться шикарным кавалером. Красную машину ему пришлось
продать. Он слишком рискованно спекулировал на понижении.
Стены своей комнаты он сам оклеил, воспользовавшись для это-
го денежными знаками и обесцененными акциями инфляции.
— Это стоило дешевле, чем обои,— заявил он.— И интереснее.
— А вообще?
— Я, вероятно, получу небольшую должность в верденбрюк-
ском банке.— Вилли усмехается.— Рене в Магдебурге. Пишет,
что имеет огромный успех в «Зеленом какаду».
— Хорошо, что она хоть пишет.
Вилли делает великодушный жест.
— Все это не имеет значения, Людвиг. Что кончено — конче-
но, и что ушло — ушло. Кроме того, я за последние месяцы ни-
как не мог заставить Рене орать ночью генеральским басом.
Поэтому половина удовольствия пропала. Впервые она снова
начала командовать во время нашей памятной битвы возле
уборной на Новом рынке. Прощай, мой мальчик. А как про-
щальный подарок...— Он открывает чемодан, набитый акция-
ми и бумажными деньгами,— возьми себе, что хочешь. Милли-
оны, миллиарды! Это был сон, правда?
— 4* 752 + —
— Да,— соглашаюсь я.
Вилли провожает меня на улицу.
— Несколько сот марок я спас,— шепчет он.— Отечество еще
не погибло. Теперь очередь за французским франком. Буду иг-
рать там на понижение. Хочешь участвовать маленьким взносом?
— Нет, Вилли. Я играю теперь только на повышение.
— На повышение,— повторяет он, но кажется, как будто он
говорит: «Попокатепетль».
Я сижу один в конторе. Это последний день. Ночью я уезжаю.
Перелистываю наш каталог и решаю, написать ли мне на про-
щание фамилию «Вацек» на одном из изображенных мною па-
мятников или не написать. Мои размышления прерывает теле-
фонный звонок.
— Это тот, кого зовут Людвиг?— спрашивает хриплый голос.—
Тот, который собирал лягушек и медянок?
— Может быть,— отвечаю я.— Смотря для какой цели. А кто
говорит?
— Фрици.
— Фрици? Конечно, я. Что случилось? Или Отто Бамбус...
— Железная Лошадь умерла.
— Что?
— Да. Вчера вечером. Паралич сердца. Во время работы.
— Легкая смерть,— отвечаю я.— Только слишком рано.
Фрици кашляет в трубку. Потом говорит:
— Вы ведь, кажется, торгуете памятниками, верно? Вы что-то
рассказывали на этот счет!
— У нас первая в городе контора по установке надгробий,—
отвечаю я.— А что?
— Что? Боже мой, Людвиг, как ты не догадываешься? Мадам,
конечно, хочет иметь дело со своим клиентом. А ведь ты с Же-
лезной Лошадью...
— Я — нет,— прерываю я ее.— Но вполне возможно, что
мой друг Георг...
— Все равно! Мы хотим дать заказ клиенту. Приходи! Но как
можно скорее. Здесь уже был какой-то разъездной агент от ва-
ших конкурентов. Он лил крупные слезы и уверял, что тоже...
Оскар-плакса! Несомненно!
— Выхожу сейчас же. Но этот хнычущий шакал врет.
Меня принимает мадам.
— Хотите взглянуть на нее?
— Она лежит здесь?
— 4* 753 + —
— Наверху, в своей комнате.
Мы поднимаемся по скрипучей лестнице. Двери комнат от-
крыты. Я вижу, что девицы одеваются.
— Они сегодня тоже работают?— спрашиваю я.
Мадам качает головой.
— Сегодня вечером нет. Дамы просто одеваются. Привычка,
понимаете ли! Впрочем, мы не так уж на этом теряем. С тех пор
как марка опять стала маркой, дела никак не идут. Ни у одного
черта нет денег. Чудно, верно?
Это не чудно, это правда. Инфляция тут же перешла в де-
вальвацию. Там, где раньше считали на биллионы, теперь опять
считают на пфенниги. Везде нехватка денег. Отвратительный
карнавал кончился. Начался чисто спартанский великий пост.
Железная Лошадь лежит среди зелени и лилий. У нее теперь
строгое старое лицо, и я узнаю ее только по золотому зубу, ко-
торый сбоку чуть поблескивает между губ. Зеркало, перед кото-
рым она так часто приводила себя в порядок, завешено белым
тюлем. В комнате стоит застарелый запах духов, пахнет хвоей
и смертью. На комоде — несколько фотографий и хрустальный
шар с плоским дном, на который налеплена картинка! Если
шар потрясти, то кажется, что вокруг людей на картине подня-
лась метель. Я хорошо знаю эту вещь: она принадлежит к луч-
шим воспоминаниям моего детства. Я охотно украл бы этот
шар в те годы, когда еще ходил на Банштрассе учить уроки.
— Для вас она была ведь чем-то вроде мачехи?— обращается
ко мне мадам.
— Скажем прямо, вроде матери. Не будь Железной Лошади,
я, вероятно, стал бы биологом. Но она так любила стихи, проси-
ла, чтобы я приносил ей все новые, и я в конце концов охладел
к биологии.
— Верно,— говорит мадам,— вы ведь и были тем мальчиком,
который постоянно возился с рыбами и медянками.
Мы выходим из комнаты. Попутно я замечаю на шкафу ка-
зацкую шапку.
— А где же ее высокие ботинки?— спрашиваю я.
— Они перешли к Фрици. И Фрици уже не хочется занимать-
ся ничем другим. Пороть мужчин не так утомительно. И дохо-
ды больше. Кроме того, кто-то должен же быть преемницей
Железной Лошади. У нас есть небольшой круг клиентов, кото-
рым требуется строгая массажистка.
— Как все-таки это с Лошадью произошло?
— На работе. Она до сих пор слишком отдавалась своему делу —
вот настоящая причина. У нас есть одноглазый коммерсант-гол-
— + 754 + —
«Черный обелиск»
ландец, очень изысканный господин; по нему не скажешь,
но он требует только одного: чтобы его пороли, и приходит
каждую субботу; когда с него довольно, он кричит петухом,
очень смешно. Женатый, трое прелестных детей, ну и, конечно,
не может же он требовать от собственной жены, чтобы она его
лупила. Итак — постоянный клиент, кроме того — он платит
гульденами... Мы на него прямо молились из-за высокой валюты.
И вот вам, вчера это и случилось. Мальвина слишком увлеклась —
вдруг упала навзничь, и хлыст в руке держит.
— Мальвина?
— Ну да, это ее имя. А вы разве не знали? Клиент, конечно,
в ужасе. Он, разумеется, больше не придет,— с грустью добав-
ляет мамаша.— Такой клиент! Прямо сахар! На его девизы* мы
обычно закупали мясо и пирожные на целый месяц. А впрочем,
как теперь гульдены?— Мадам поворачивается ко мне.— Стоят
уже вовсе не так дорого? Да?
— Один гульден равняется примерно двум маркам.
— Не может быть! Раньше это были биллионы. Ну, тогда
не такая уж беда, если этот клиент перестанет бывать. Не хоти-
те ли взять какую-нибудь мелочь на память о Лошади?
На мгновение мне приходит мысль о шаре с метелью. Но ни-
чего не следует брать с собой на память. Я качаю головой.
— Тогда давайте выпьем внизу по чашке крепкого кофе и вы-
берем памятник.
Я рассчитывал на маленькое надгробие; но, оказывается,
Железной Лошади удалось благодаря голландцу сберечь не-
сколько девиз. Лошадь прятала гульдены в шкатулку и не обме-
няла их. Они так и лежат там, и на порядочную сумму. Коммер-
сант был в течение ряда лет ее верным клиентом.
— У Мальвины нет родных,— сказала мадам.
— Тогда конечно,— отвечаю я,— мы можем перейти в выс-
ший класс надгробных памятников. Там, где мрамор и гранит.
— Мрамор для Лошади не подходит,— заявляет Фрици.—
Его ведь больше ставят детям, правда?
— Давно уж нет. Сколько раз мы ставили мраморные колонны
над успокоившимися навеки генералами.
— Гранит!— заявляет мамаша.— Гранит лучше. Больше под-
ходит к ее железному сложению.
Мы сидим в большой комнате. Кофе кипит, поданы домаш-
ние пирожные со взбитыми сливками и бутылка «Кюрасао».
* Девиза — вексель, чек, выписанный в иностранной валюте и под-
лежащий оплате за границей.
Мне кажется, будто вернулись прошлые времена. Дамы смот-
рят через мое плечо в каталог, как они раньше смотрели в мои
школьные тетрадки.
— Вот лучшее, что у нас есть,— говорю я.— Черный швед-
ский гранит, надгробие с крестом и двойным цоколем. Во всем
городе найдется только два-три таких памятника.
Дамы рассматривают мой рисунок. Это один из последних.
Для надписи я использовал майора Фолькенштейна, якобы пав-
шего в 1915 году во главе своих войск, что было бы лучше,
по крайней мере, для убитого в Вюстрингене столяра.
— А Лошадь была католичкой?— спрашивает Фрици.
— Кресты ставят не только католикам,— отвечаю я.
Мадам в нерешительности.
— Не знаю, подходит ли ей такой вот религиозный памятник.
Не найдется ли что-нибудь другое? Скажем, в виде естествен-
ной скалы?
У меня перехватывает дыхание.
— Если вы хотите получить что-нибудь в этом роде,— гово-
рю я затем,— то могу вам предложить нечто особенное! Нечто
классическое! Обелиск!
Конечно, я знаю, что это выстрел наугад, но вдруг, охвачен-
ный охотничьим азартом, торопливо отыскиваю изображение
нашего ветерана и кладу на стол.
Дамы молчат и разглядывают его. Я держусь в сторонке. Бы-
вают такие счастливые находки — в начале или в конце, когда
человек, словно играя, достигает того, над чем специалисты
бьются без всякой надежды на успех. Фрици вдруг смеется.
— В конце концов для Лошади неплохо,— говорит она.
Мадам тоже усмехается.
— А сколько эта штука стоит?
С тех пор как я служу в нашей фирме, за обелиск никогда
не назначали цены, так как каждый был уверен, что его продать
невозможно. Я быстро высчитываю.
— Официально — тысячу марок,— говорю я.— Для вас, как
для друзей,— шестьсот; для Лошади, как одной из моих воспи-
тательниц,— триста. Я могу позволить себе предложить эту
бросовую цену — ведь сегодня и без того мой последний день
службы в конторе, но будь это не так, меня бы уволили. Оплата,
разумеется, наличными. И за надпись отдельно.
— А почему бы и не согласиться?— замечает Фрици.
— Я тоже за,— отвечает мадам.
Я ушам своим не верю.
— Значит, по рукам?— спрашиваю я.
— + 757 4* —
— По рукам,— отвечает мадам.
— Триста марок. Сколько это в гульденах?
Она принимается отсчитывать банкноты. Из часов в виде до-
мика, висящих на стене, выскакивает кукушка и выкрикивает
время. Я засовываю деньги в карман.
— Помянем Мальвину стаканчиком коньяку,— говорит ма-
дам.— Завтра утром мы ее похороним. Ведь вечером ресторан
должен опять работать.
— Жаль, что мне нельзя быть на похоронах,— говорю я.
Мы все выпиваем по стаканчику коньяку с мятной водкой.
Мадам прижимает платок к глазам.
— Я очень расстроена,— заявляет она.
Все мы расстроены. Я встаю и прощаюсь.
— Георг Кроль установит памятник,— говорю я.
Дамы кивают. Никогда я не видел такого доверия и вернос-
ти, как в этом доме. Они машут мне в окна. Доги заливаются ла-
ем. Я торопливо шагаю вдоль ручья к городу.
— Что?— восклицает Георг.— Не может быть!
Я молча извлекаю из кармана голландские гульдены и рас-
кладываю их на письменном столе.
— А что ты продал?
— Подожди минутку!
Я услышал велосипедный звонок. Тут же раздается за дверью
властное покашливание. Я сгребаю деньги и сую обратно в кар-
ман. На пороге появляется Генрих Кроль, кромка брюк у него
слегка в грязи.
—Ну,— спрашиваю я,— что продали?
Он язвительно смотрит на меня.
— Идите сами и попробуйте продать! При общем банкротстве!
Ни у кого нет денег! А если у человека и есть несколько марок,
так он их не выпускает из рук!
— А я был в городе. И кое-что продал.
— Да? И что же?
Я поворачиваюсь так, чтобы видеть обоих братьев, и отвечаю:
— Обелиск.
— Вранье!— безапелляционно заявляет Генрих.— Побере-
гите ваши остроты для Берлина!
— Я, правда, к вашей фирме уже не имею никакого отноше-
ния,— говорю я,— так как сегодня в двенадцать дня перестал
у вас работать. Но мне все же хотелось показать, как просто
продаются надгробия. Не работа, а отдых.
Генрих вскипает, но сдерживает себя, хоть и с трудом.
— + 758 4* —
— Слава Богу, весь этот вздор нам придется уже недолго слу-
шать! Счастливого пути! В Берлине вам, конечно, вправят мозги!
— Он в самом деле продал обелиск, Генрих.
Генрих недоверчиво уставляется на брата.
— Доказательства?— шипит он.
— Вот они!— отвечаю я и веером выбрасываю банкноты
на стол.— Даже в девизах!
У Генриха глаза лезут на лоб. Потом он хватает один из банк-
нотов, переворачивает и рассматривает, не фальшивый ли.
— Повезло,— со скрежетом бормочет он наконец.— Дурацки
повезло!
— Мы это везение используем, Генрих,— говорит Георг.—
Иначе мы бы не смогли уплатить по векселю, которому завтра
срок. Ты бы лучше от души поблагодарил. Это первые настоящие
деньги, которые мы получили. И они до черта нам необходимы.
— Благодарить? И не подумаю!
И Генрих удаляется, грохнув дверью, как истинный, гордый
немец, который никому и ничем не обязан.
— Нам действительно так необходимы деньги?— спрашиваю я.
— В достаточной мере необходимы,— отвечает Георг.— Но те-
перь сосчитаемся: сколько у тебя денег?
— Хватит. Мне прислали на билет третьего класса. А я поеду
в четвертом и сэкономлю двенадцать марок. Потом я продал
рояль — я не могу тащить его с собой. Эта старая шарманка
принесла мне еще сто марок. Все вместе составит сто двенад-
цать марок. На них я могу прожить до первой получки.
Георг отсчитывает тридцать голландских гульденов и протя-
гивает их мне.
— Ты работал как специальный агент, поэтому имеешь пра-
во получить за комиссию не меньше, чем Оскар-плакса. За осо-
бые достижения еще пять процентов.
Возникает короткая борьба великодуший; затем я соглашаюсь
взять деньги, на тот случай, если в первый же месяц слечу
со своего нового места.
— А ты знаешь, что тебе придется делать в Берлине?
Я киваю.
— Сообщать о пожарах; описывать кражи; рецензировать
брошюрки; приносить пиво редакторам; чинить карандаши;
держать корректуры — и стараться выдвинуться.
Кто-то распахивает дверь ногой. Словно привидение, стоит
в ее прямоугольнике фельдфебель Кнопф.
— Я требую восемь биллионов,— хрипит он.
— 4* 759 4* —
— Господин Кнопф,— отвечаю я.— Вы видели долгий сон
и не вполне очнулись. Инфляция кончилась. Две недели назад
вы еще смогли бы получить восемь миллионов за памятник, ко-
торый приобрели за восемь миллиардов. Но сегодня их стои-
мость — восемь марок.
— Негодяи! Вы это нарочно подстроили!
— Что именно?
— Да насчет инфляции! Чтобы меня ограбить! Но я не продам
его! Я дождусь следующей!
— Чего именно?
— Следующей инфляции.
— Ладно,— говорит Георг.— Выпьем за это.
Кнопф хватает бутылку.
— Держим пари?— спрашивает он.
— Какое?
— Что я по вкусу узнаю, откуда эта бутылка.
Он вытаскивает пробку и нюхает.
— Не отгадаете, это исключено,— заявляю я.— Когда водка
из бочонка — может быть; известно, что вы лучший знаток
во всей округе, но не когда водка бутылочная.
— А на сколько мы будем держать пари? На стоимость па-
мятника?
— Мы внезапно обеднели,— отвечает Георг.— Но тремя
марками рискнуть готовы. Это и в ваших интересах.
— Хорошо. Дайте мне стакан.
Кнопф нюхает и пробует. Потом требует, чтобы ему налили
второй полный стакан, третий.
— Бросьте,— говорю я.— Отгадать невозможно. И можете
не платить.
— Эта водка из гастрономического магазина Брокмана
на Мариенштрассе,— заявляет Кнопф.
Мы с изумлением глядим на него. Он угадал.
— Выкладывайте денежки!— хрипит он. Георг отдает ему
три марки, и Кнопф исчезает.
— Как ему удалось узнать?— удивляюсь я.— Или этот старый
пьянчужка — ясновидящий?
Вдруг Георг начинает хохотать.
— Он же надул нас!
— Каким образом?
Георг поднимает бутылку. На дне наклеена снаружи крошеч-
ная этикетка: И. Брокман, гастрономия, Мариенштрассе, 18.
— Вот жулик!— говорит Георг одобрительно.— И какое еще
у него зрение!
— Что зрение!— отвечаю я.— А вот послезавтра ночью, когда
он будет возвращаться домой и обелиска не окажется на обычном
месте, он во всем усомнится. Его привычный мир рухнет.
— А твой разве не рушится?— спрашивает Георг.
— Ежедневно,— отвечаю.— Как же иначе жить?
За два часа до отъезда мы слышим топанье, голоса, пение.
И тут же на улице вокальный квартет затягивает:
О святая ночь, пролей
Мир небесный в душу мне...
Мы подходим к окну. Внизу стоит Бодо Леддерхозе со своим
певческим союзом.
— Что это значит?— спрашиваю я.— Ну-ка, Георг, зажги свет!
В матовом луче, падающем из окна на улицу, мы видим Бодо.
— Это в твою честь,— говорит Георг.— Прощальная серенада
в исполнении союза. Не забудь, что ты тоже его член.
Пилигриму дай покой
И страдания исцели...—
мощно продолжают певцы.
Кое-где открываются окна.
— Тише! Замолчите!— кричит старуха Конерсман.— Ведь
двенадцать часов, слышите, вы, пьяный сброд?
Вспыхнули ясные звезды
В неба ночной синеве.
В окне стоит Лиза и кланяется. Она вообразила, что серенада
предназначена ей.
Вскоре появляется и полиция.
— Разойтись!— рявкает басовитый голос.
С прекращением инфляции изменились и нравы полиции.
Она стала цепкой и энергичной. Воскрес старый прусский дух.
Каждый штатский — это вечный рекрут.
— Нарушение тишины и порядка в ночное время!— рычит
антимузыкальный носитель полицейского мундира.
— Арестуйте их!— вопит вдЬва Конерсман.
Певческий союз Бодо состоит из двадцати здоровенных малых.
Против них — двое полицейских.
— Бодо!— зову я с тревогой.— Не трогайте их! Не защищай-
тесь! Иначе вас засадят в тюрьму на годы!
Бодо делает успокаивающий жест и поет, широко раскрывая рот:
Как бы я хотел с тобою
Вознестись на небеса!
— + 761 4* —
— Замолчите! Мы спать хотим!— вопит вдова Конерсман.
— Эй вы!— кричит Лиза на полицейских.— Оставьте певцов
в покое! Где крадут — там вас нет!
Полицейские растеряны. Они еще несколько раз отдают приказ:
— Немедленно идти в полицейский участок!
Но никто не двигается. В конце концов полицейские делают
то, что в их силах: каждый арестовывает по одному певцу.
— Не защищайтесь!— предостерегаю я.— Это называется —
оказывать сопротивление государственной власти!
Певцы и не оказывают сопротивления. Их уводят.
Оставшиеся как ни в чем не бывало продолжают петь. Учас-
ток недалеко. Полицейские возвращаются бегом и арестовыва-
ют еще двух. Остальные поют; но первые тенора что-то зазву-
чали слабо. Полицейские забирают певцов, начиная с правого
края. При третьем налете уводят Вилли, поэтому первые тенора
совсем смолкают. Мы протягиваем им в окно бутылки с пивом.
— Не сдавайся, Бодо,— говорю я.
— Не беспокойтесь! Выстоим до последнего человека.
Полицейские возвращаются и арестовывают кого-то из вто-
рых теноров. Пива у нас больше нет, и мы пускаем в дело водку.
Через десять минут поют уже одни только басы. Они стоят,
не глядя на то, как арестовывают других. Я где-то читал, что
моржи остаются совершенно равнодушными, когда охотники,
нападая на стадо, убивают дубинками их соседей,— и я видел,
как во время войны целые народы вели себя совершенно так же.
Проходит четверть часа, и из всех певцов остается один Бодо.
Потные, разъяренные полицейские прибегают галопом в по-
следний раз. Они становятся по обе стороны Бодо. Мы наблю-
даем за ходом событий. Бодо поет один.
— Бетховен,— кратко заявляет он и опять жужжит, как оди-
нокая музыкальная пчела.
Но вдруг нам чудится, что издали ему аккомпанируют эоловы
арфы. Мы прислушиваемся. Это похоже на чудо, но ангелы дей-
ствительно как будто подпевают ему. Ангелы поют первым
и вторым тенором и двумя басами. Голоса ласково льются и за-
чаровывают Бодо, чем дальше мы идем, тем они становятся
громче, а огибая церковь, мы уже различаем, что именно поют
эти бесплотные летящие голоса: «О святая ночь, пролей...».
На ближайшем углу нам становится ясно, откуда они доносятся:
оказывается — из участка, где арестованные товарищи Бодо
храбро продолжают петь, ничего не страшась. Бодо, как дири-
жер, входит в их толпу, точно это самая обыкновенная вещь
на свете, и пение продолжается: «Пилигриму дай покой...».
— 4* 762 4* —
— Господин Кроль, что же это?— озадаченно спрашивает
начальник охраны.
— Сила музыки,— отвечает Георг.— Прощальная серенада
человеку, который уходит в широкий мир. Совершенно безо-
бидное дело, и его следует поощрять.
— И все?
— И все.
— Но это же нарушение тишины и порядка,— замечает один
из полицейских.
— А если бы они пели «Германия, Германия превыше всего»?
Вы бы тоже сказали, что это нарушение тишины и порядка?
— Ну, то другое дело!
— Когда человек поет, он не крадет, не убивает и не пытается
свергнуть правительство,— обращается Георг к начальнику.—
Вы что же, хотите весь хор засадить, потому что он всего этого
не делает?
— Гоните их в шею! — шипит начальник.— Только пусть ведут
себя тихо.
— Они будут вести себя тихо. А скажите, вы не пруссак?
— Франконец.
— Я так и думал,— говорит Георг.
Мы стоим на вокзале. Ветрено, перрон пуст, нет никого, кро-
ме нас.
— Ты приедешь ко мне в гости, Георг,— говорю я.— Я все
сделаю, чтобы познакомиться с женщинами твоих грез. Двух-
трех я тебе непременно приготовлю к тому времени, когда ты
приедешь.
— Я приеду.
Но я знаю, что он не приедет.
— Ну хотя бы твой смокинг, он тебя обязывает,— продол-
жаю я.— Где ты здесь можешь его надеть?
— Это верно.
Поезд прокалывает темноту двумя огненными глазами.
— Держи знамя высоко, Георг! Ты же знаешь — мы бес-
смертны.
— Верно. А ты не падай духом. Тебя так часто спасали, что
ты просто обязан пробиться.
— Ясно,— отвечаю я.— Хотя бы ради тех, кто не был спасен.
Хотя бы ради Валентина.
— Чепуха. Просто потому, что ты живешь.
Поезд с грохотом врывается под своды вокзала, как будто его
ждут по крайней мере пятьсот пассажиров. Но жду один я. На-
— 4* 763 4* —
хожу место в купе и сажусь. Пахнет сном и людьми. Я откры-
ваю в коридоре окно и высовываюсь наружу.
— Если от чего-нибудь отказываешься, то не надо это терять
совсем,— говорит Георг.— Так поступают только идиоты.
— Кто говорит о потере?— отвечаю я. Поезд трогается.—
Ведь мы в конце все теряем, и мы можем себе позволить до это-
го побеждать, как делают пятнистые лесные обезьяны.
— Разве они всегда побеждают?
— Да, оттого что понятия не имеют о победе.
Колеса поезда уже катятся. Я ощущаю руку Георга. Она та-
кая маленькая и мягкая, а во время драки возле уборной была
изранена и еще не зажила. Поезд ускоряет ход, Георг остается,
он вдруг кажется старше и бледнее, чем я думал, мне видна уже
только его бледная голова, а потом не остается ничего, кроме
неба и летящего мрака. Я возвращаюсь в купе. В одном углу по-
сапывает пассажир в очках; в другом — лесничий; в третьем
храпит какой-то усатый толстяк; в четвертом, захлебываясь, вы-
водит рулады женщина в сбившейся набок шляпке.
Я ощущаю мучительный голод печали и открываю чемодан,
который положил на сетку. Фрау Кроль щедро снабдила меня
бутербродами, их хватит до самого Берлина. Я стараюсь найти
их, но не нахожу и снимаю чемодан. Женщина в сбившейся набок
шляпке просыпается, бросает на меня злобный взгляд и тут же
продолжает свои вызывающие рулады. Теперь я понимаю, по-
чему сразу не нашел бутерброды: на них лежит смокинг Георга.
Вероятно, он положил его в мой чемодан, когда я продавал обе-
лиск. Я смотрю некоторое время на черное сукно, потом прини-
маюсь за бутерброды. Это вкусные, первоклассные бутерброды.
Все пассажиры на миг просыпаются от запаха хлеба и роскош-
ной ливерной колбасы. Но мне наплевать, я продолжаю есть.
Потом откидываюсь на спинку сиденья и смотрю в темноту, где
время от времени пролетают огни, думаю о Георге и о смокинге,
затем об Изабелле, Германе Лотце, обелиске, на который мочи-
лись, а он в конце концов спас фирму, затем уже ни о чем.
XXVI
Я больше не видел ни одного из этих людей. У меня не раз
появлялось желание съездить в Верденбрюк, но всегда что-ни-
будь да задерживало, и я говорил себе, что еще успеется,
но вдруг оказалось, что успеть уже нельзя. Германия погрузи-
лась во мрак, я покинул ее, а когда вернулся — она лежала
в развалинах. Георг Кроль умер. Вдова Конерсман продолжала
свою шпионскую деятельность и выведала, что Георг находился
— + 764 4* —
в связи с Лизой; в 1933 году, десять лет спустя, она доложила
об этом Вацеку, который был в то время штурмбанфюрером.
Вацек засадил Георга в концентрационный лагерь, хотя про-
шло уже пять лет с тех пор, как мясник развелся с Лизой. Не-
сколько месяцев спустя Георг там и умер.
Ганс Хунгерман стал оберштурмбанфюрером и ведал в на-
цистской партии вопросами культуры. Он воспевал эту партию
в пылких стихах, поэтому у него в 1945 году были неприятности
и он потерял место директора школы; но с тех пор его притязания
на пенсию государством давно признаны и он, как бесчисленное
множество других нацистов, живет припеваючи и даже не ду-
мает работать.
Скульптор Курт Бах просидел семь лет в концлагере и вышел
оттуда нетрудоспособным калекой. Нынче, через десять лет по-
сле поражения нацизма, он все еще добивается маленькой пен-
сии, подобно другим бесчисленным жертвам нацистского ре-
жима. Он надеется, что ему наконец повезет и он будет
получать семьдесят марок в месяц; это составляет около одной
десятой той суммы, какую получает Хунгерман, а также около
одной десятой того, что уже много лет получает от государства
руководитель гестапо, организовавший тот самый концлагерь,
где искалечили Курта Баха, не говоря уже о гораздо больших
пенсиях, которые выплачиваются всякого рода генералам, во-
енным преступникам и именитым партийным чиновникам.
Генрих Кроль прожил эти годы неплохо и очень этим горд,
ибо видит в этом несокрушимость правового сознания нашего
возлюбленного отечества.
Майор Фолькенштейн сделал блестящую карьеру. Он всту-
пил в нацистскую партию, участвовал в составлении законов
против евреев, после войны на несколько лет притих, а теперь
вместе с многими другими нацистами работает в министерстве
иностранных дел.
Пастор Бодендик и врач Вернике долгое время прятали в до-
ме для умалишенных нескольких евреев. Они поместили их
в палатах для неизлечимых больных, обрили наголо и научили,
как изображать из себя сумасшедших. Впоследствии Бодендик
позволил себе возмутиться тем, что епископ, которому он был
подчинен, принял титул государственного советника от прави-
тельства, считавшего убийство своим священным долгом,—
и его загнали в небольшую деревушку.
Вернике сняли за то, что он отказался делать своим больным
уколы, от которых те умирали. До своего ухода ему удалось пере-
править дальше евреев, укрытых им в доме для умалишенных.
— 4* 765 4* —
Его послали на фронт, и он был убит в 1944 году. Вилли погиб
в 1942-м, Отто Бамбус — 1945-м, Карл Бриль — в 1944-м. Лиза
погибла во время бомбежки. Старуха Кроль тоже.^
Эдуард Кноблох, несмотря на все, уцелел; он с одинаковой
предупредительностью обслуживал в своем ресторане и правых,
и виноватых. Его отель был разрушен, но потом отстроен заново.
На Герде он не женился, и никто не знает, что с ней. И о Жене-
вьеве я больше не слышал.
Любопытную карьеру сделал Оскар-плакса. Будучи солдатом,
он попал в Россию и вторично стал комендантом кладбища.
В 1945 году служил переводчиком в оккупационных войсках
и, наконец, в течение нескольких месяцев — бургомистром Вер-
денбрюка. Затем вместе с Генрихом Кролем опять начал торго-
вать памятниками. Они основали новую фирму, и дело стало
процветать, ибо в те дни люди нуждались в надгробиях почти
так же, как в хлебе.
Старик Кнопф умер спустя три месяца после того, как я уехал
из Верденбрюка. Он ночью попал под автомашину. А через год
его вдова вышла за столяра Вильке. Никто этого не ждал. Их
брак был счастливым.
Город Верденбрюк во время войны так сильно разбомбили,
что не уцелело почти ни одного дома. Он был железнодорож-
ной узловой станцией и очень часто подвергался налетам. Я по-
сетил его проездом через год после окончания войны и пробыл
в нем всего несколько часов. Искал знакомые улицы, но заплу-
тался в этом городе, где прожил так долго. Кругом были одни
развалины, а из прежних знакомых я не нашел никого. В лав-
чонке, неподалеку от вокзала, я купил несколько открыток с до-
военными видами города. Это все, что от него осталось. Раньше,
когда человеку хотелось вспомнить свою молодость, он возвра-
щался в те места, где провел ее. Нынче это в Германии уже не-
возможно. Все было разрушено, потом построено заново, и ни-
чего не узнаешь. Поневоле накупишь открыток.
Лишь два здания сохранились в полной неприкосновенности —
дом для умалишенных и родильный дом, главным образом по-
тому, что они стоят за чертой города. И они сразу же оказались
переполненными, переполнены они и сейчас. Их пришлось да-
же значительно расширить.
В. Татаринов. Последний романтик ......................5
Три товарища. Перевод И. Шрайбера .................11
Черный обелиск. Перевод В. Станевич...................397
Литературно-художественное издание
Эрих Мария Ремарк
ТРИ ТОВАРИЩА
Редактор Ю. Кулишенко
Художественный редактор А. Сауков
Подбор иллюстраций Л. Рофварга
Подписано в печать с готовых диапозитивов 30.10.2003.
Формат 84x108 ’/32. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 40,3. Уч.-изд. л. 46,9.
Тираж 4100 экз. Заказ № 1846
ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5.
Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Интернет/Home page www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru
ISBN 5-04-002024-4
lllllllllllll
9 785040 020249 >
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
АРТУРО
ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ
В СЕРИИ
«Мастера
современной
прозы»
j
i Артуро Перес-Реверте—
• современный испанский
i писатель, блестящий зна-
! ток истории и искусства,
I мастер изящной словесно-
j сти, завоевавший сердца
j читателей романами с за-
| хватывающей интригой.
Его проза филигранна, те-
мы и повороты сюжетов
неожиданны. Загадки про-