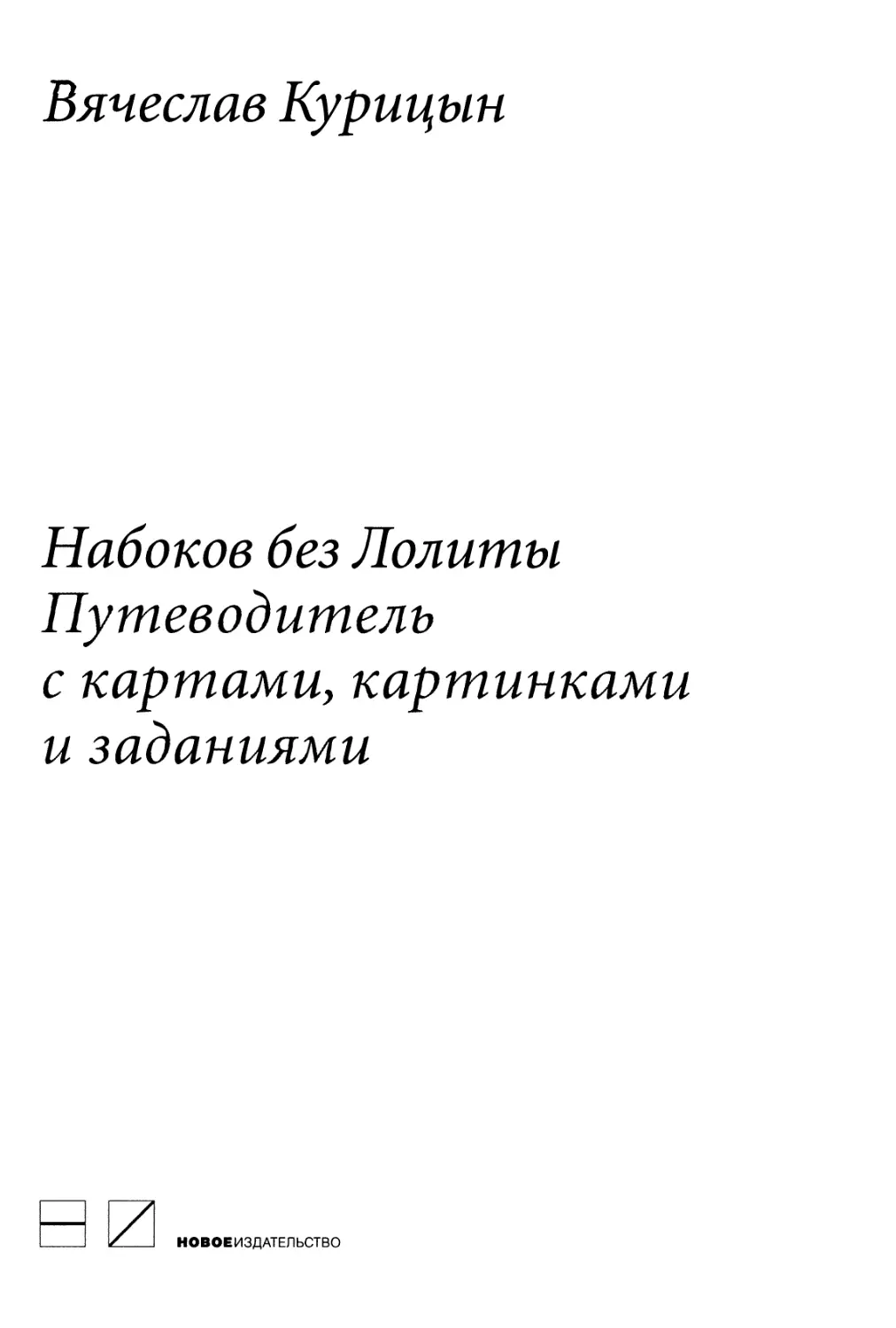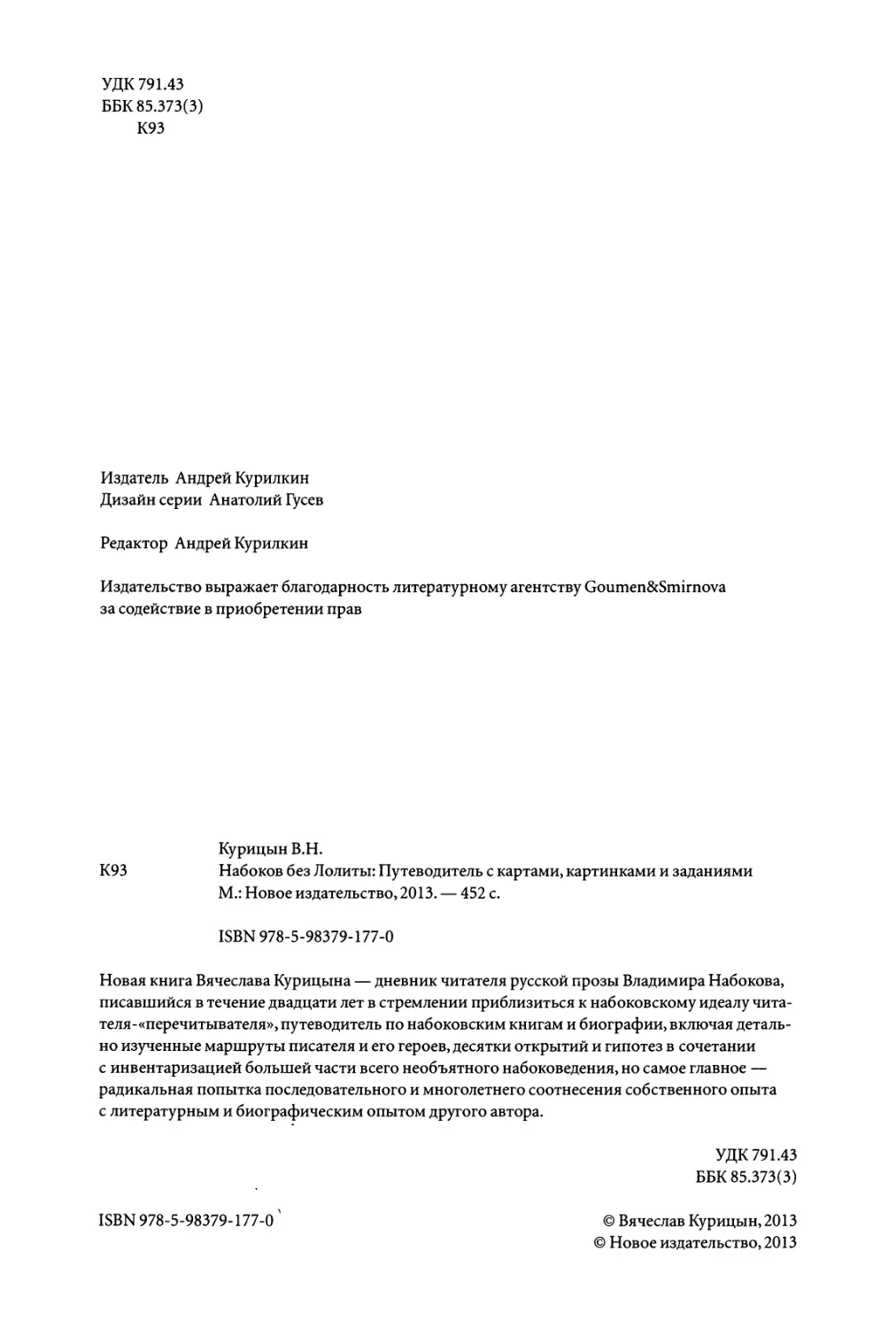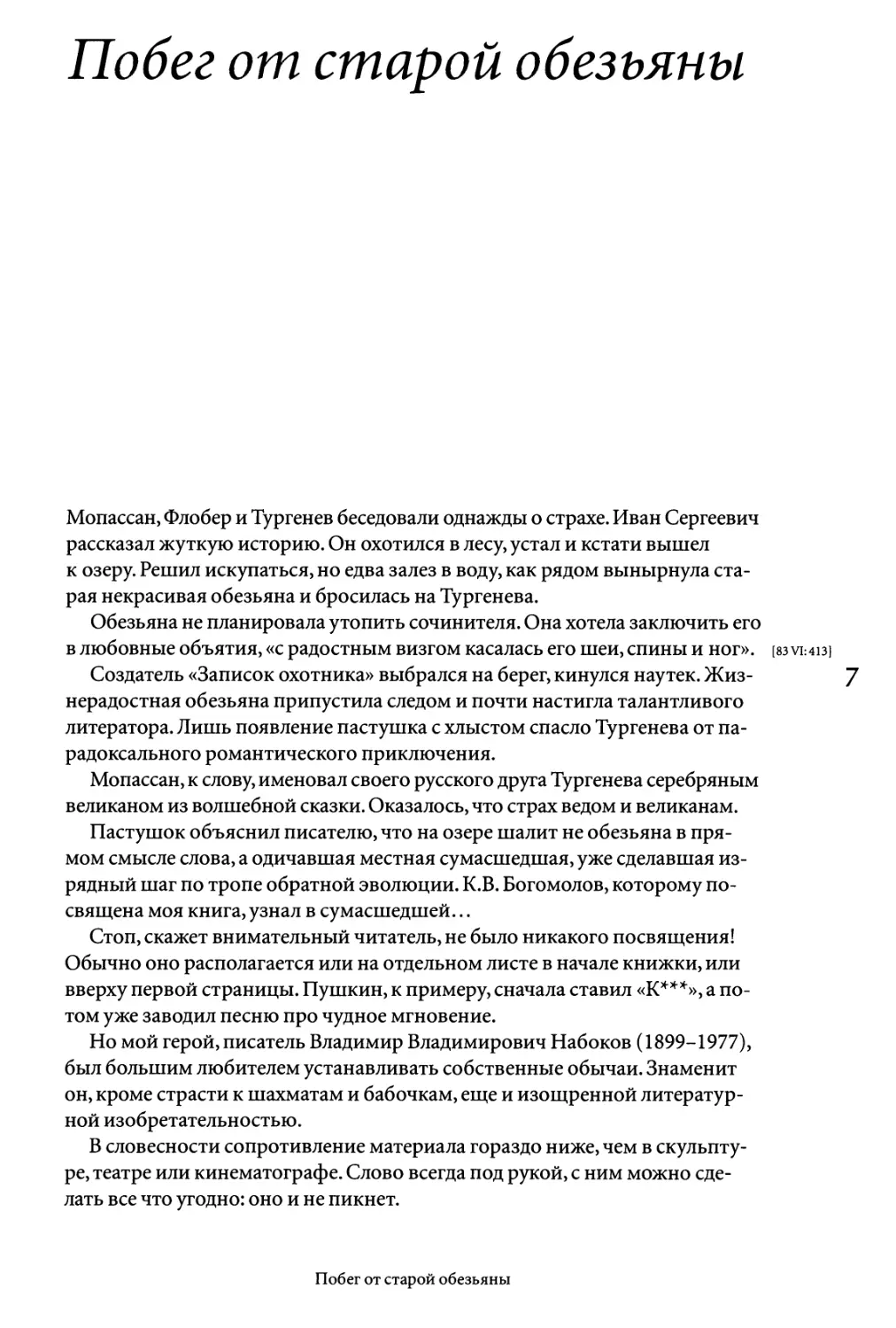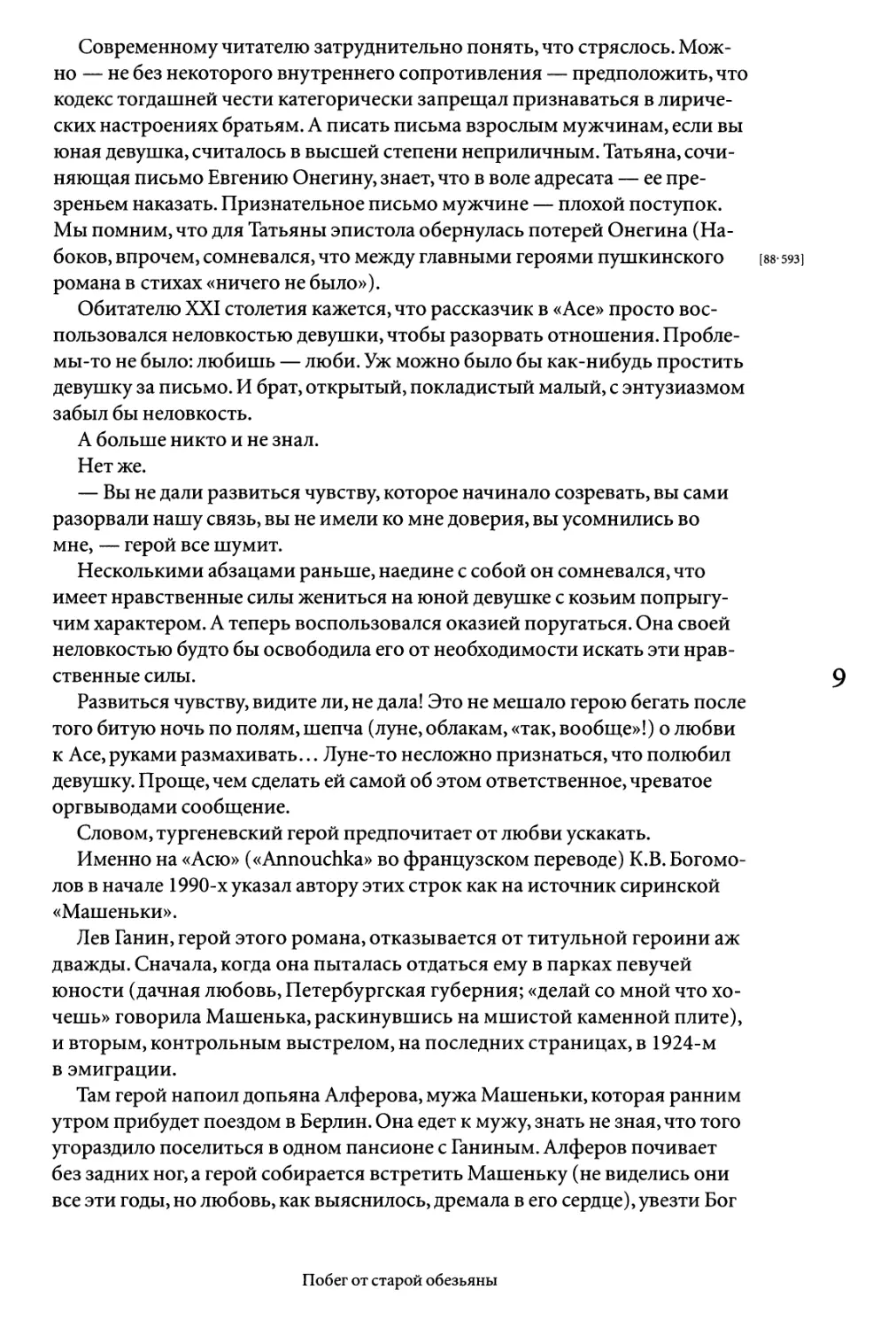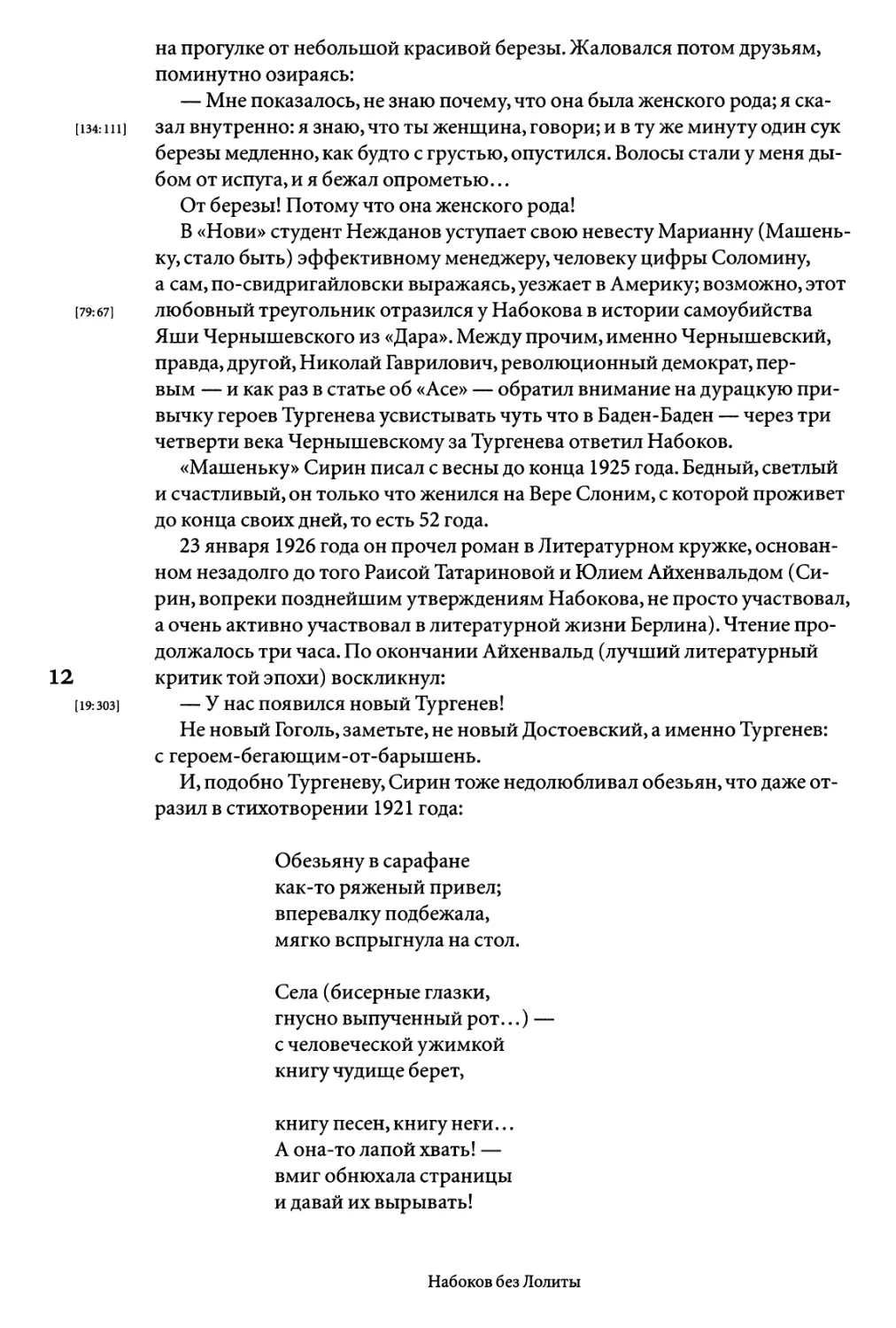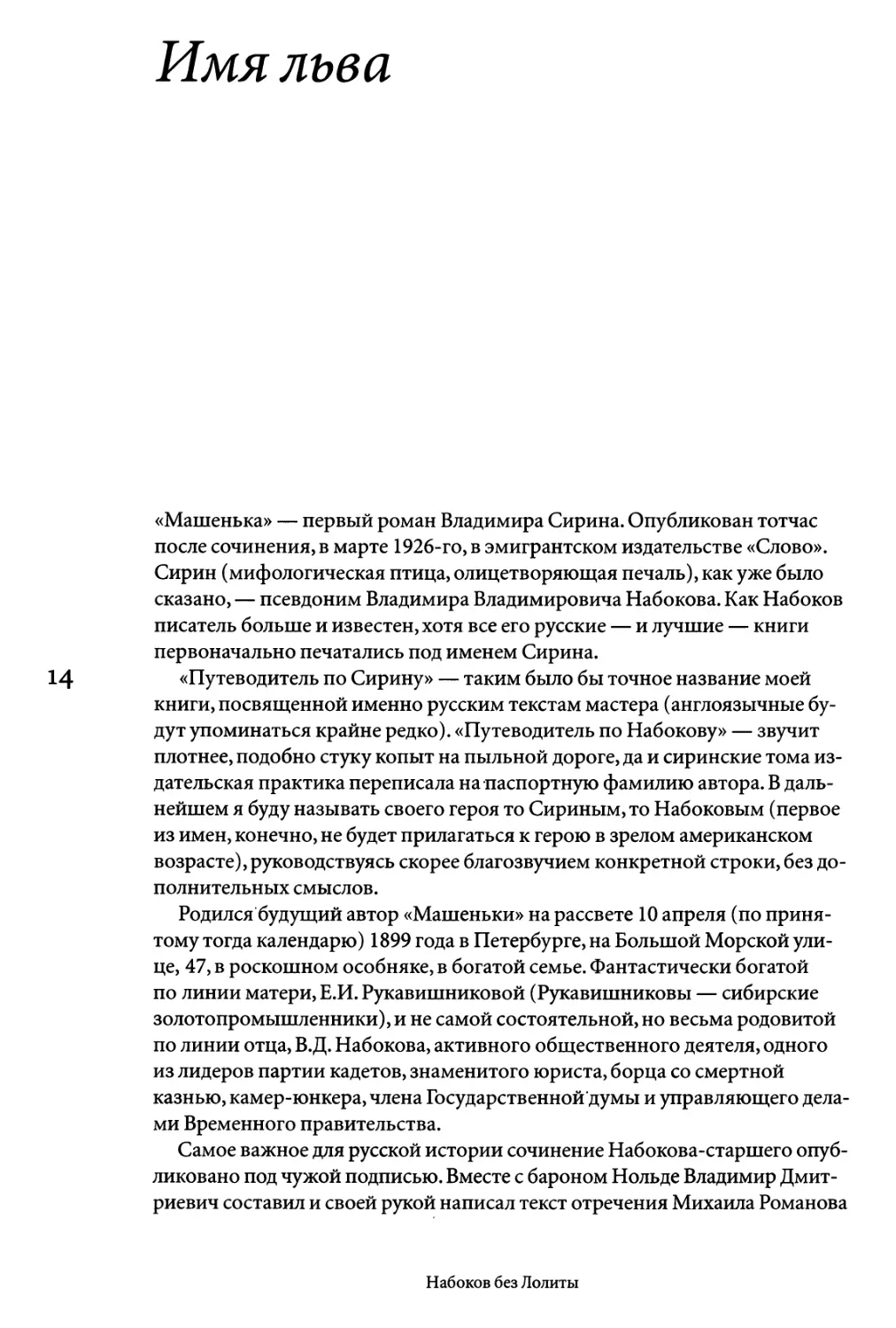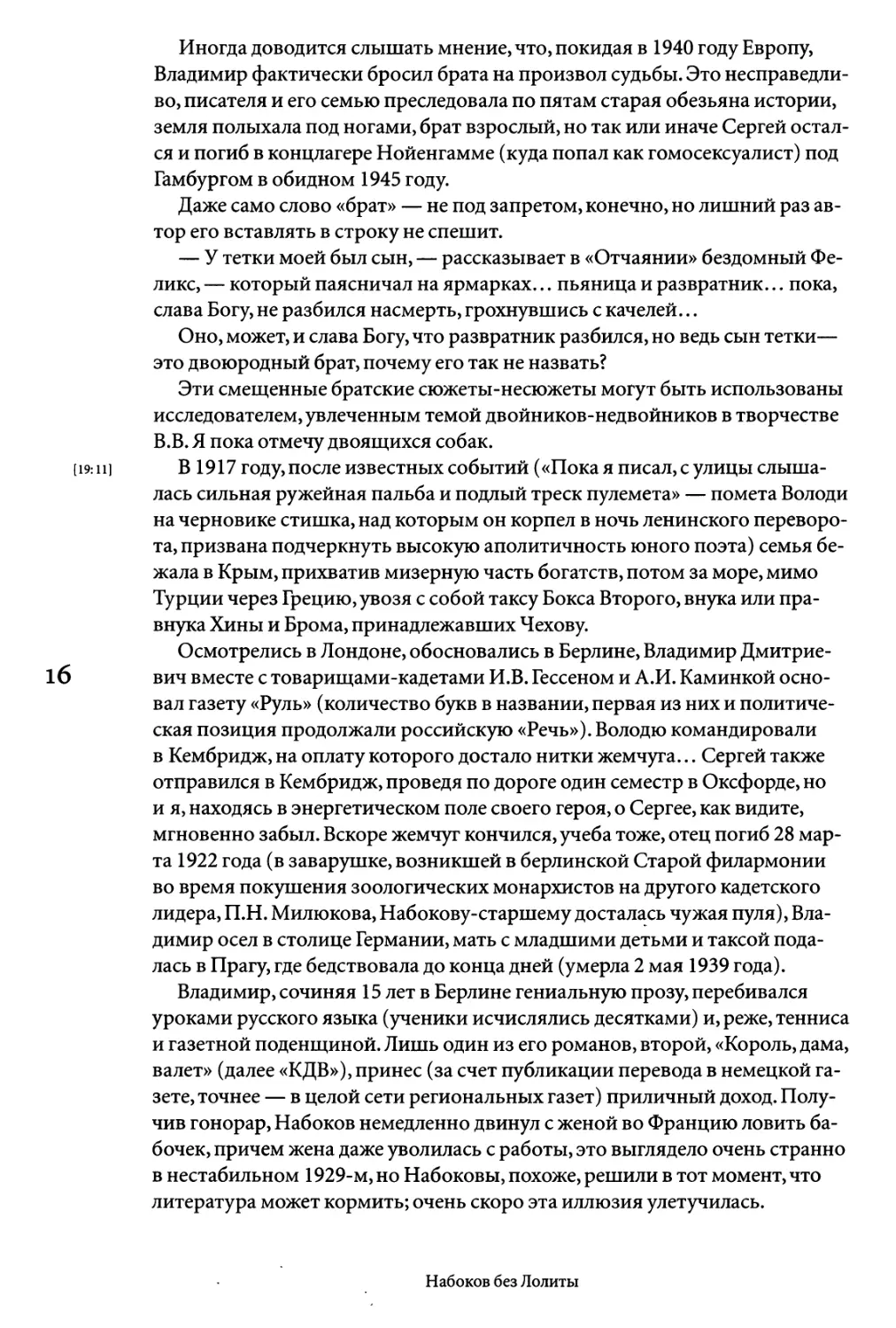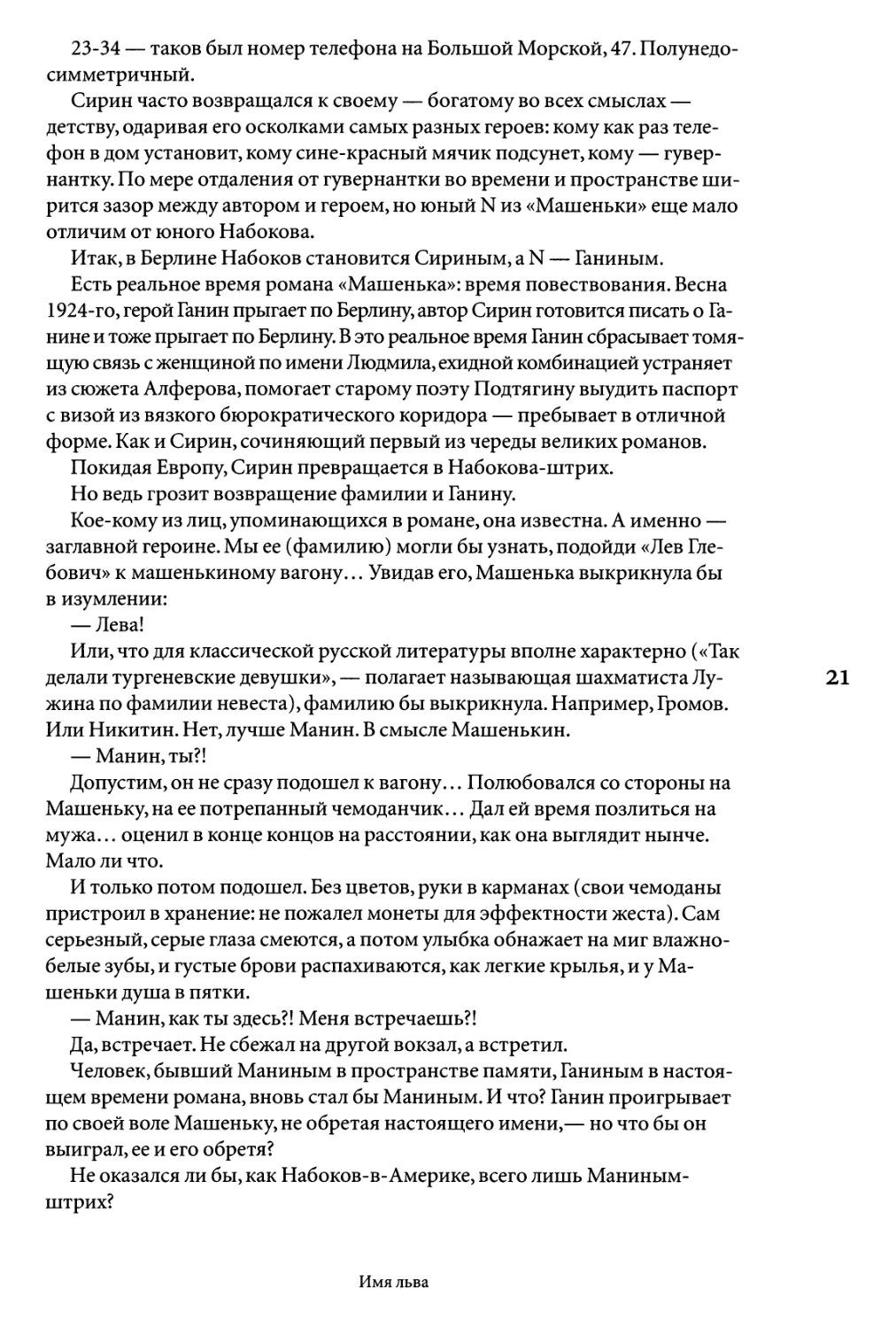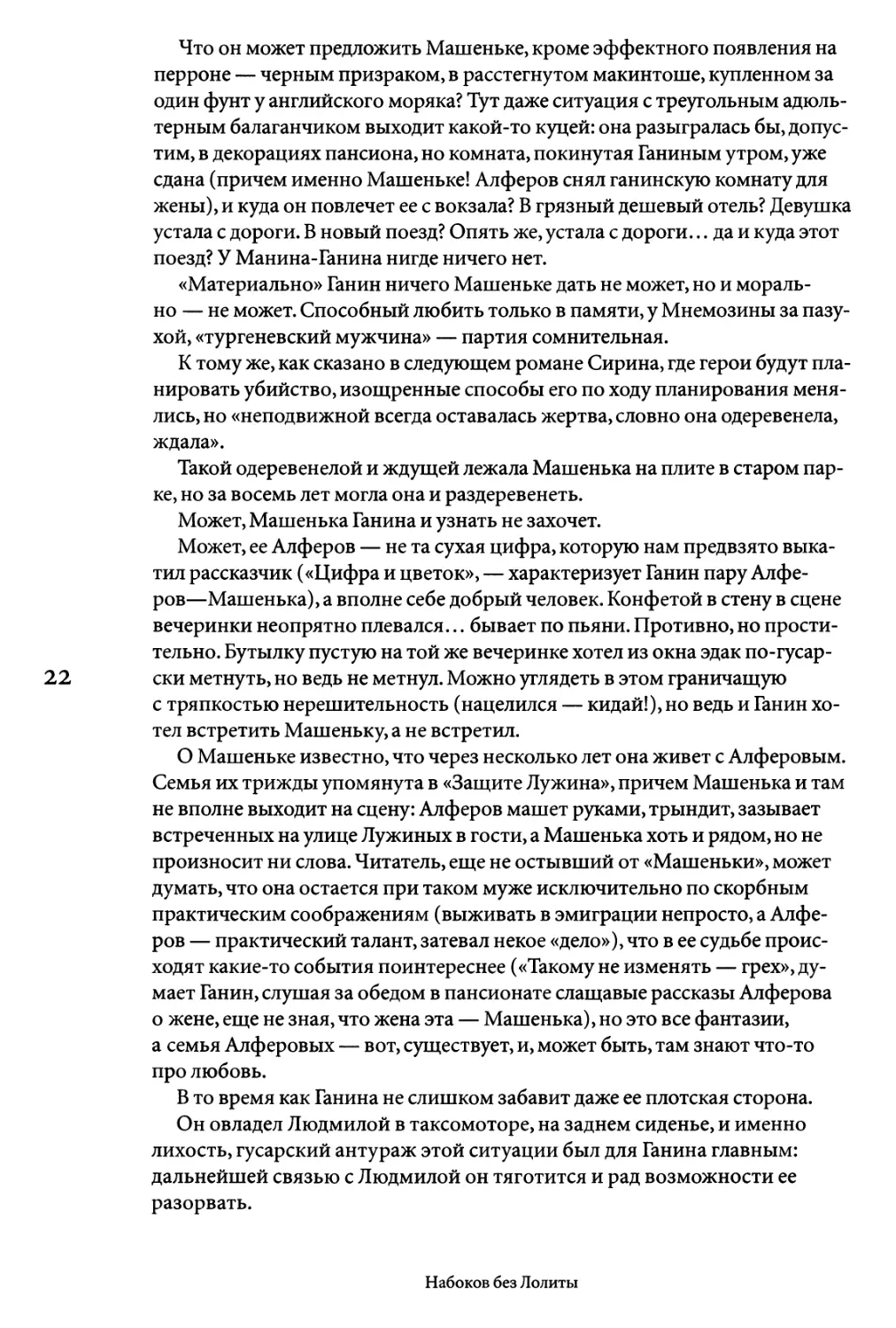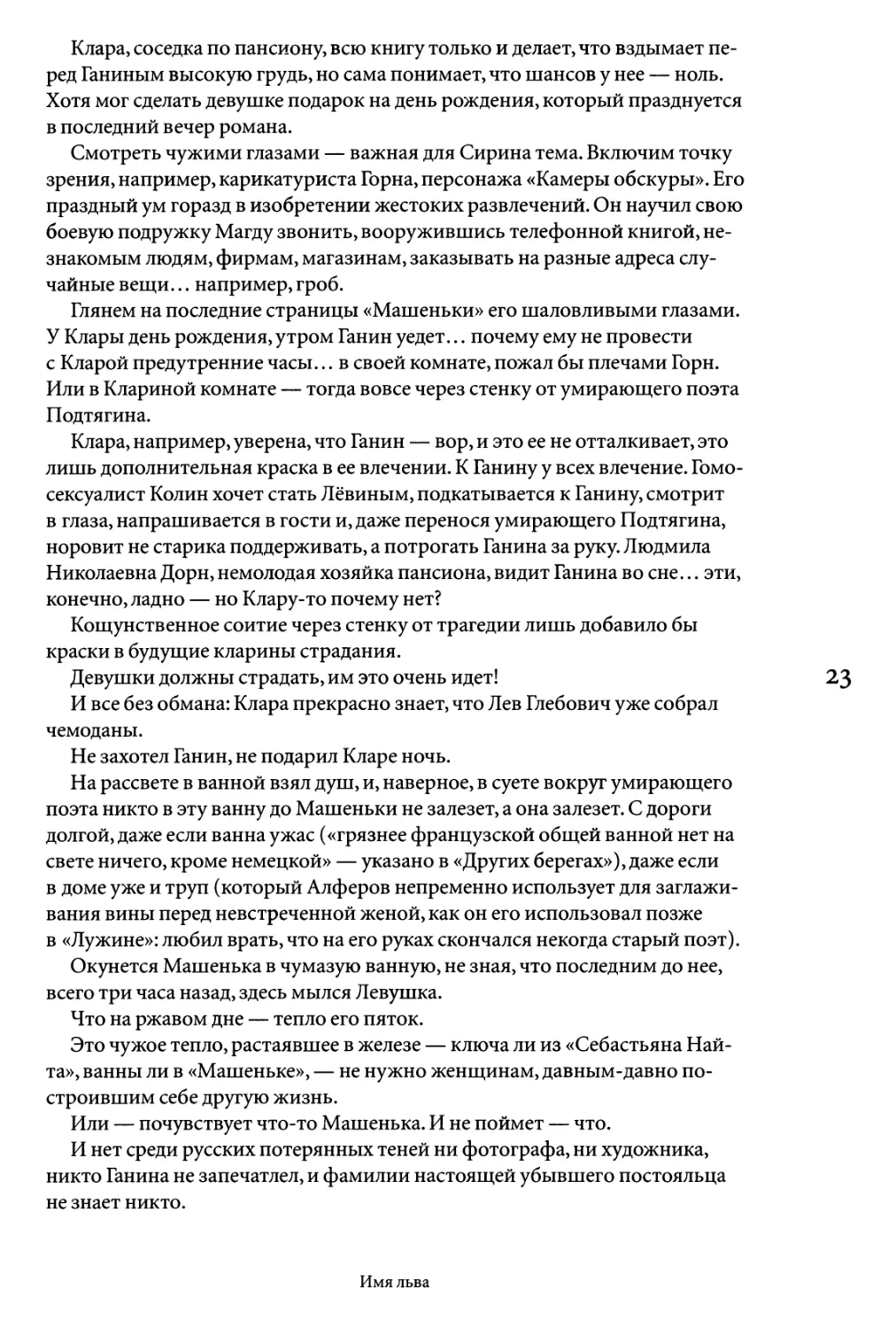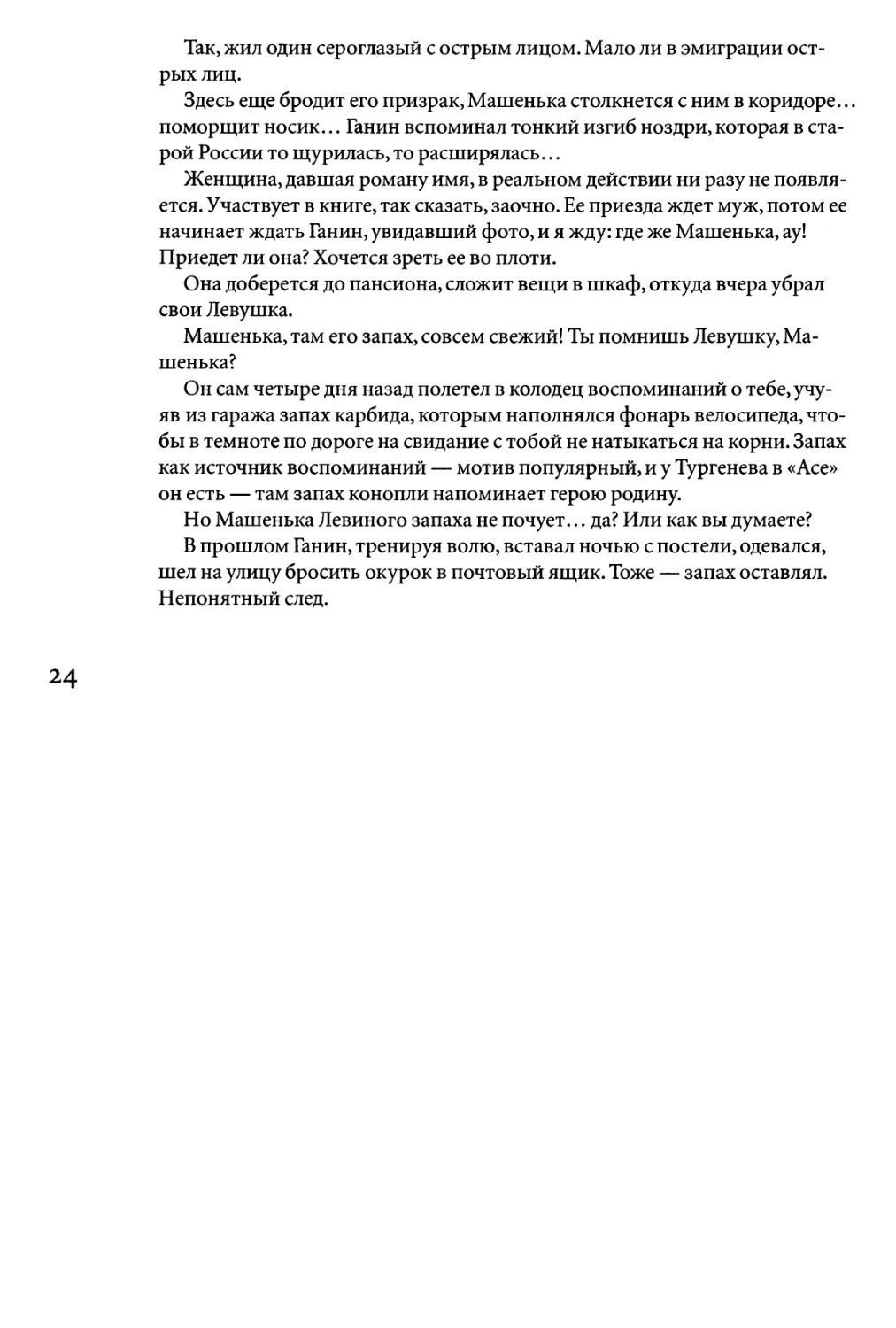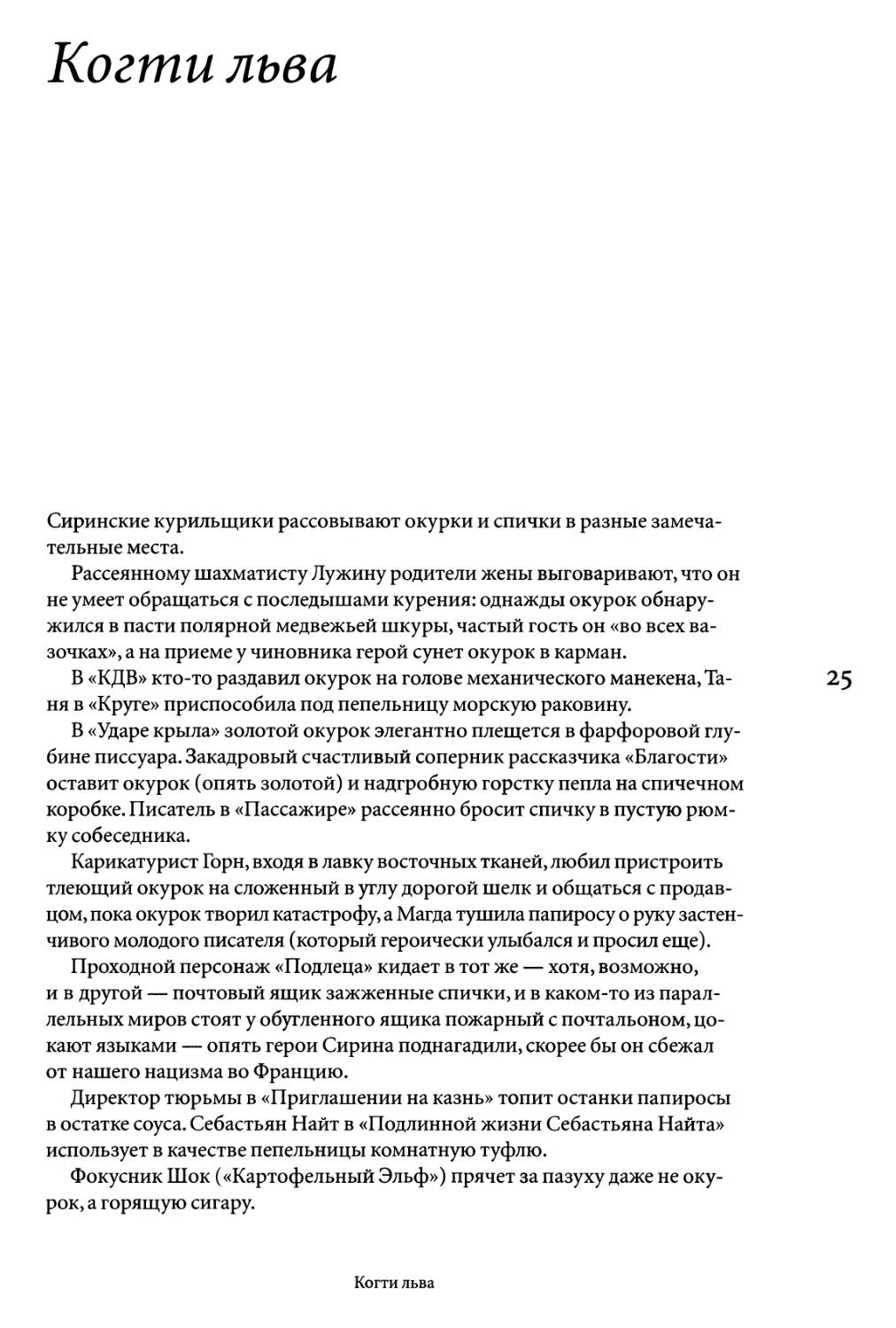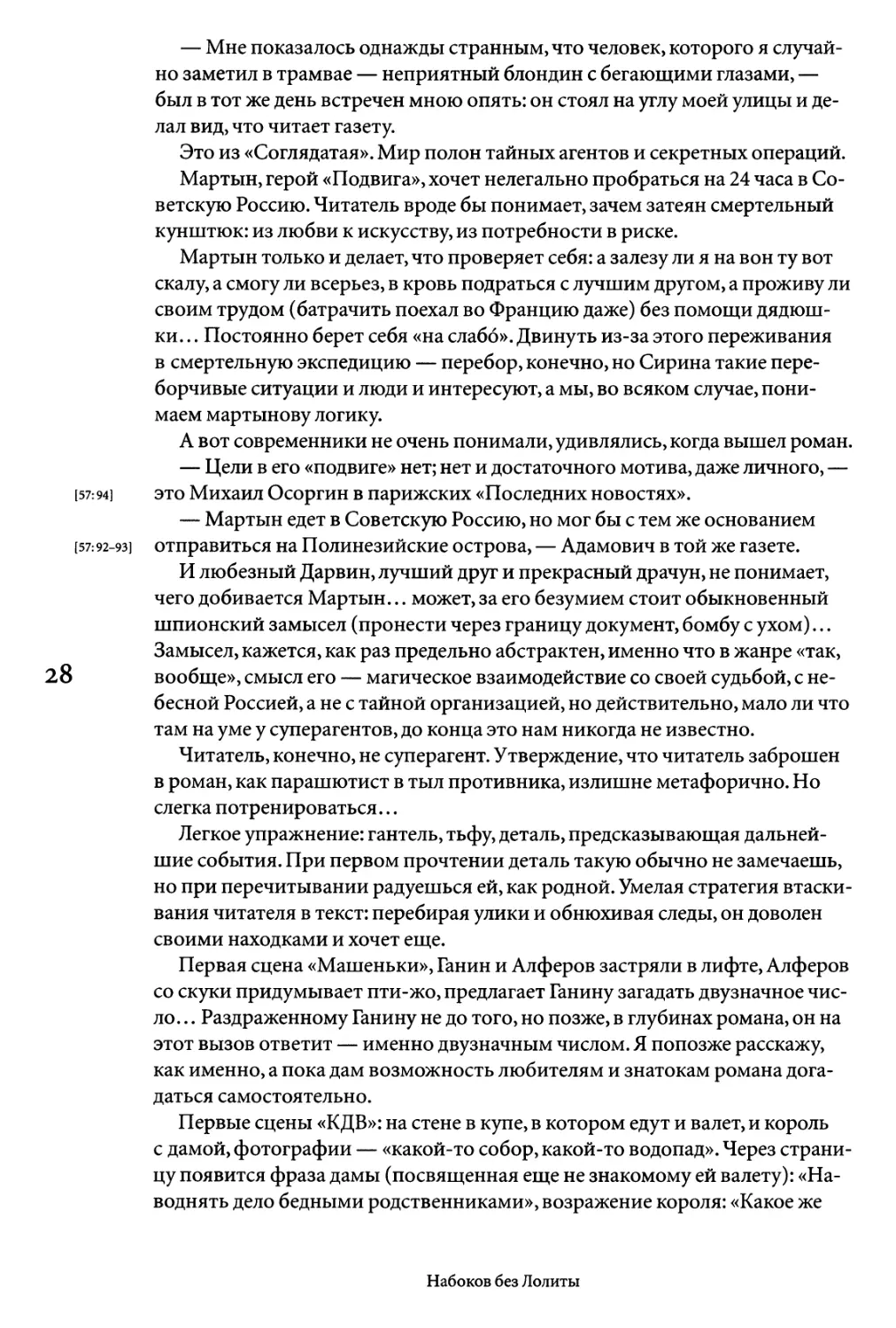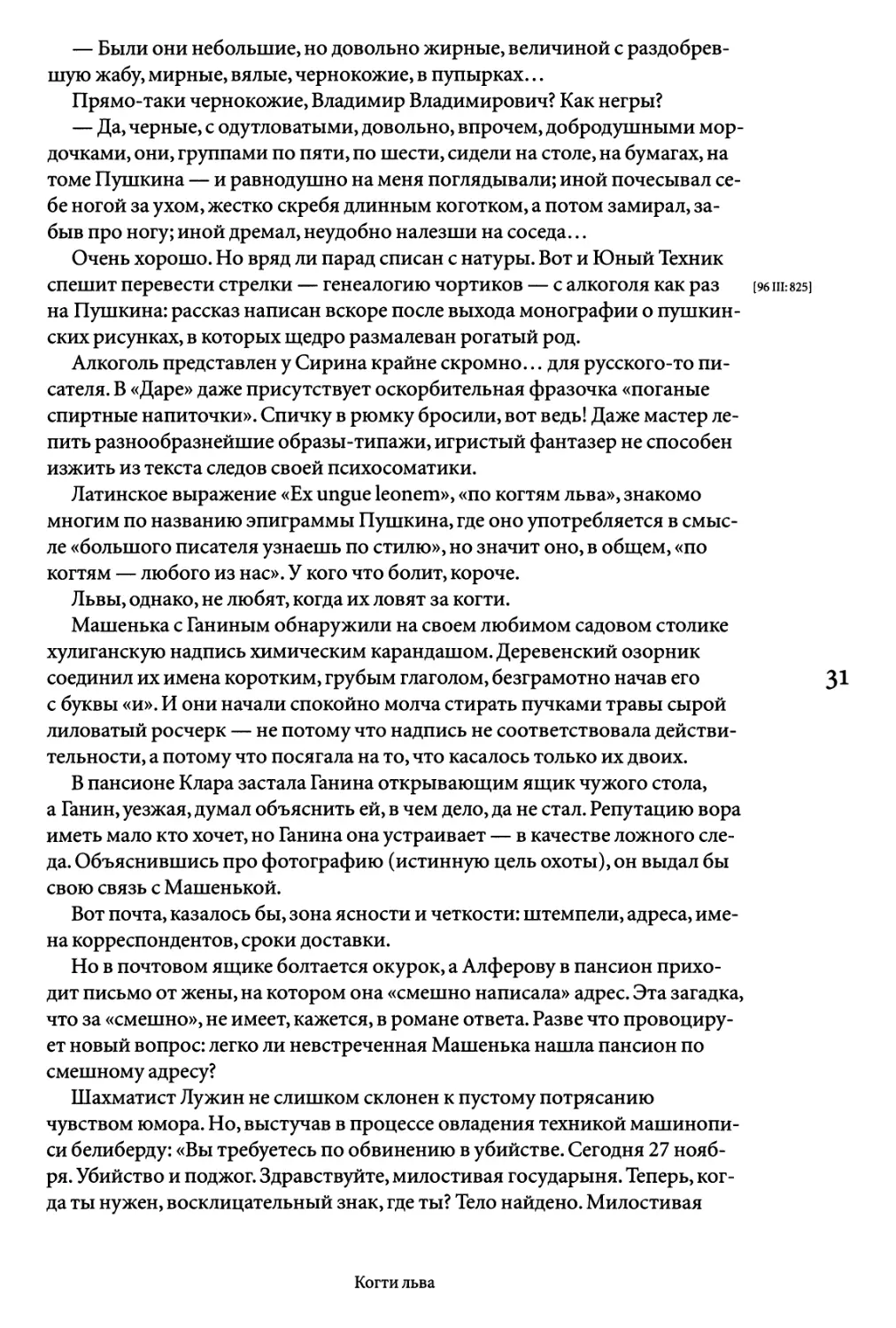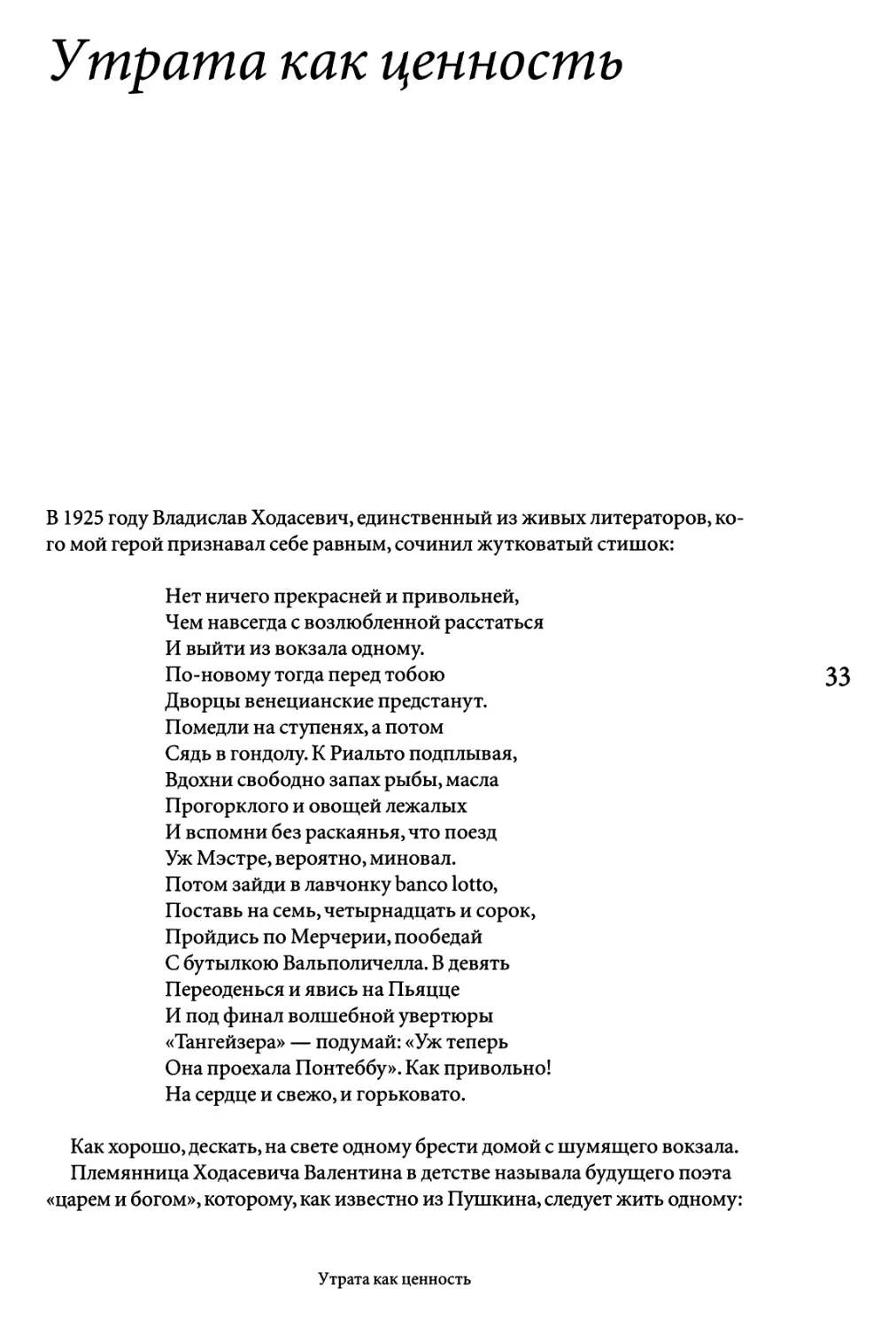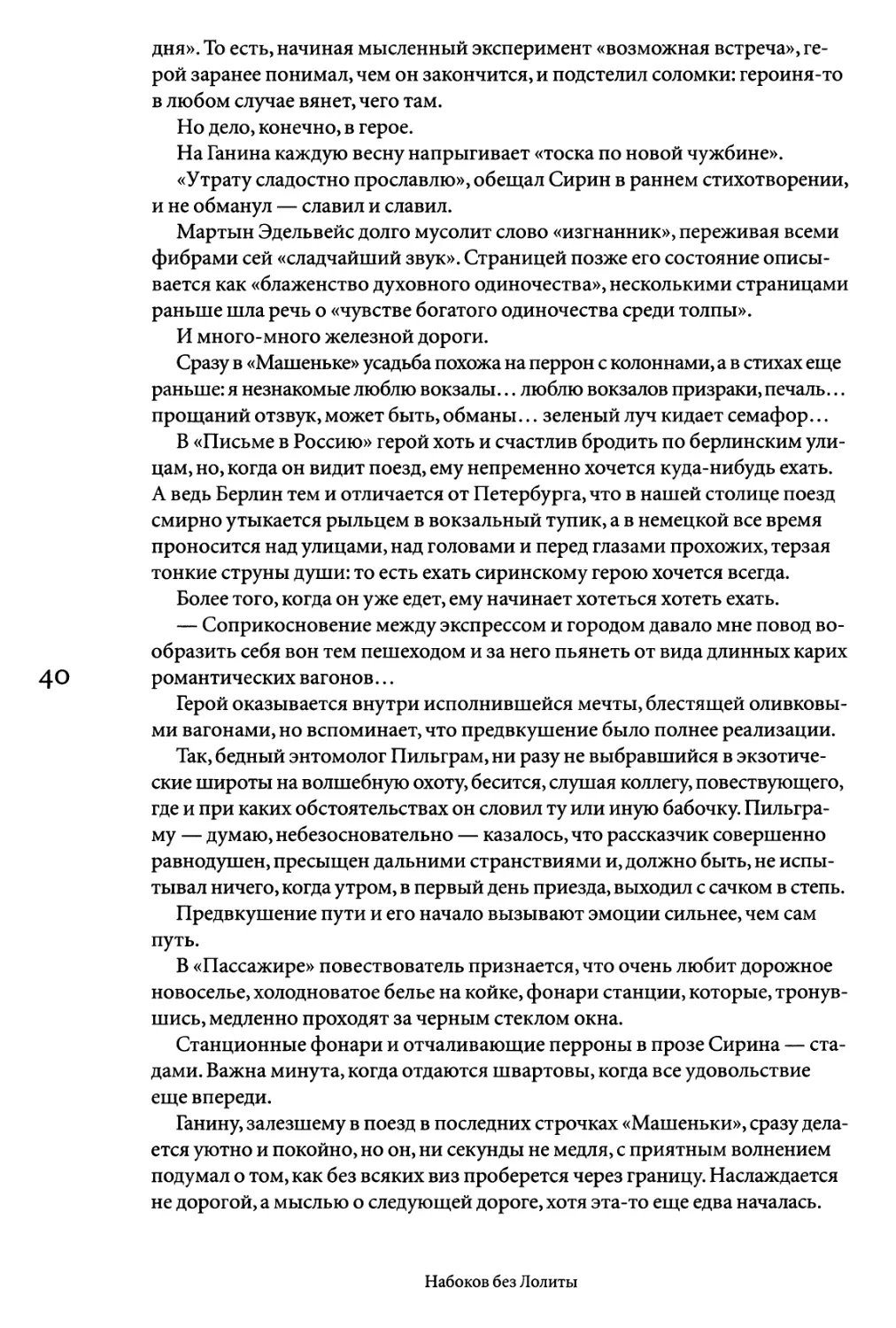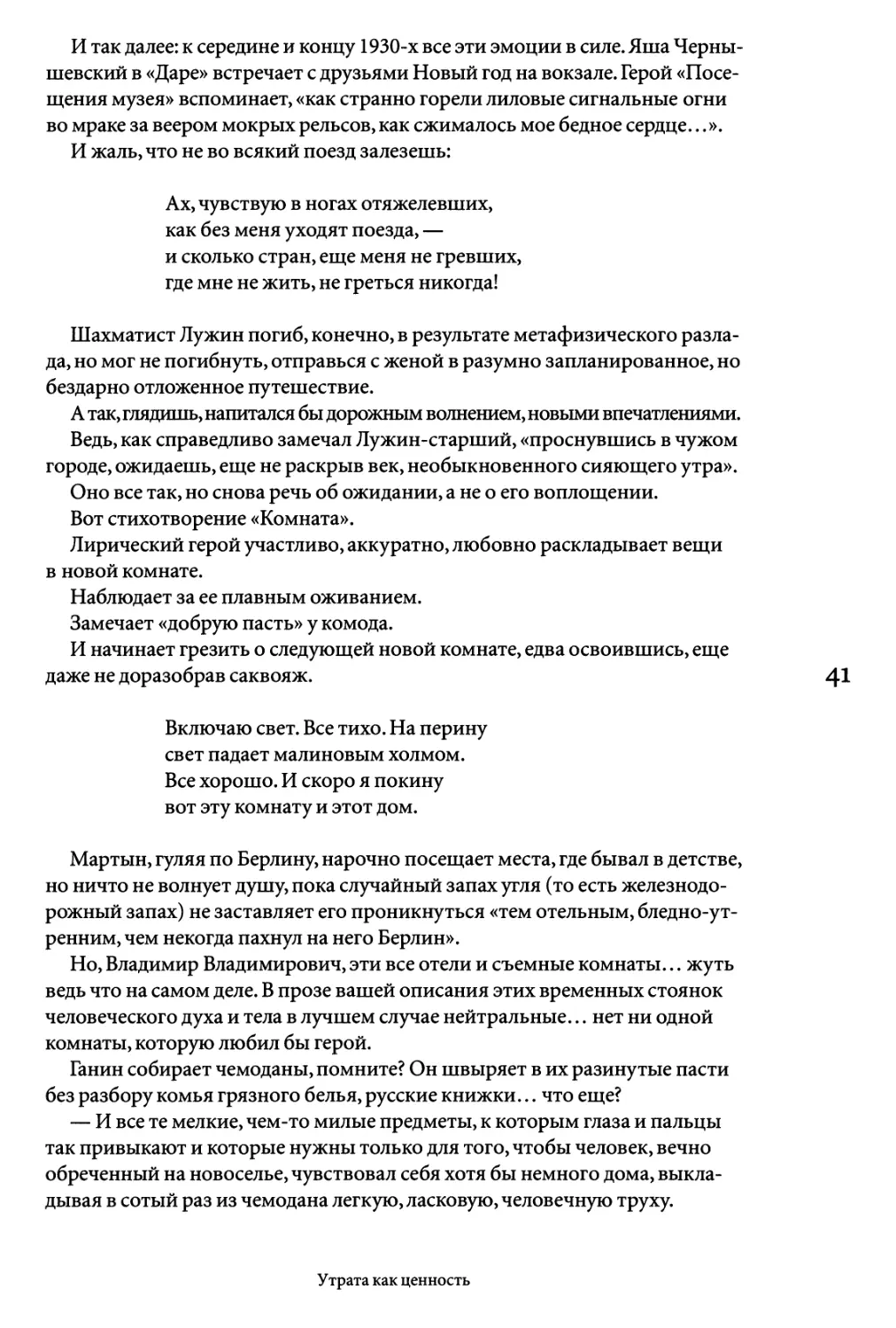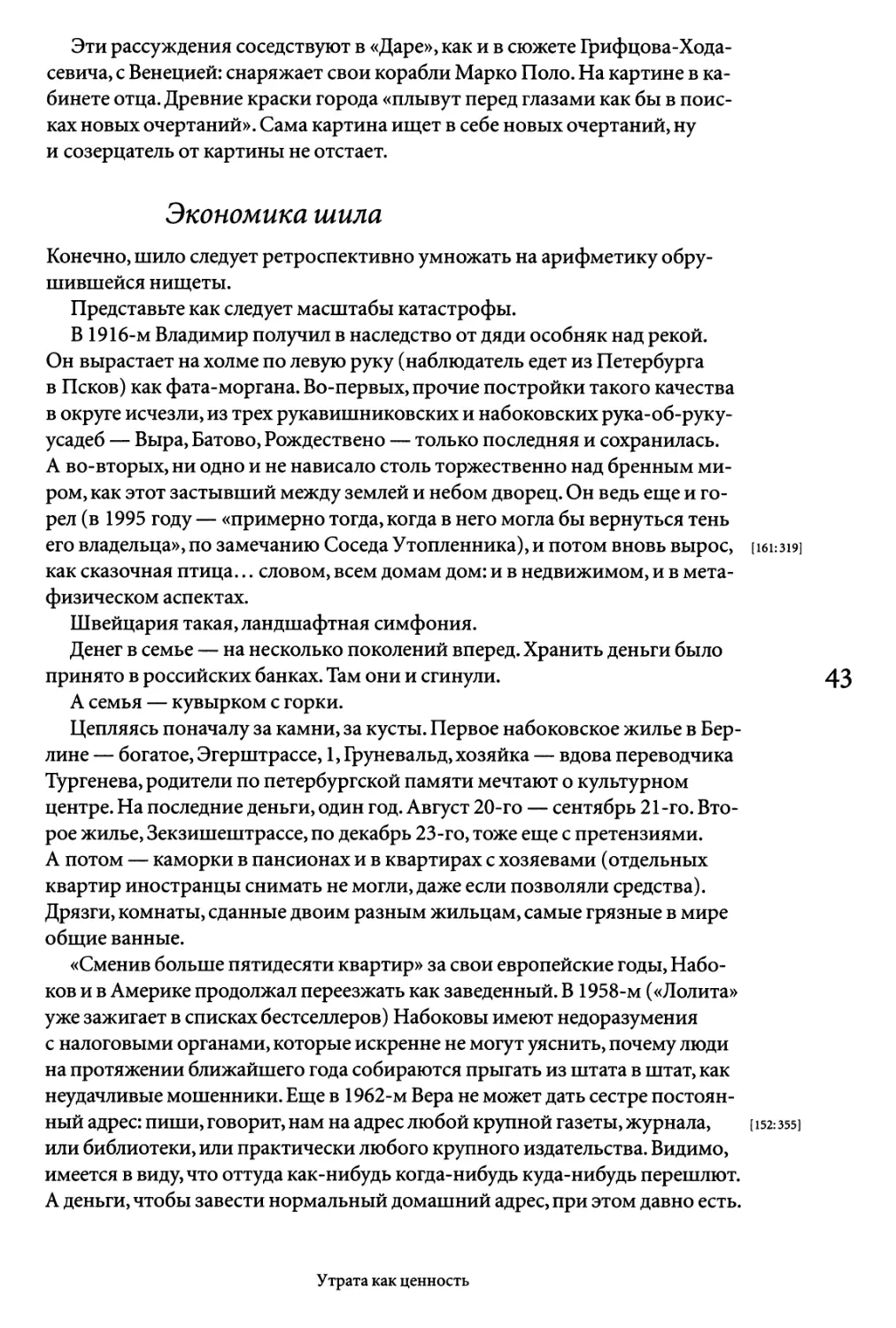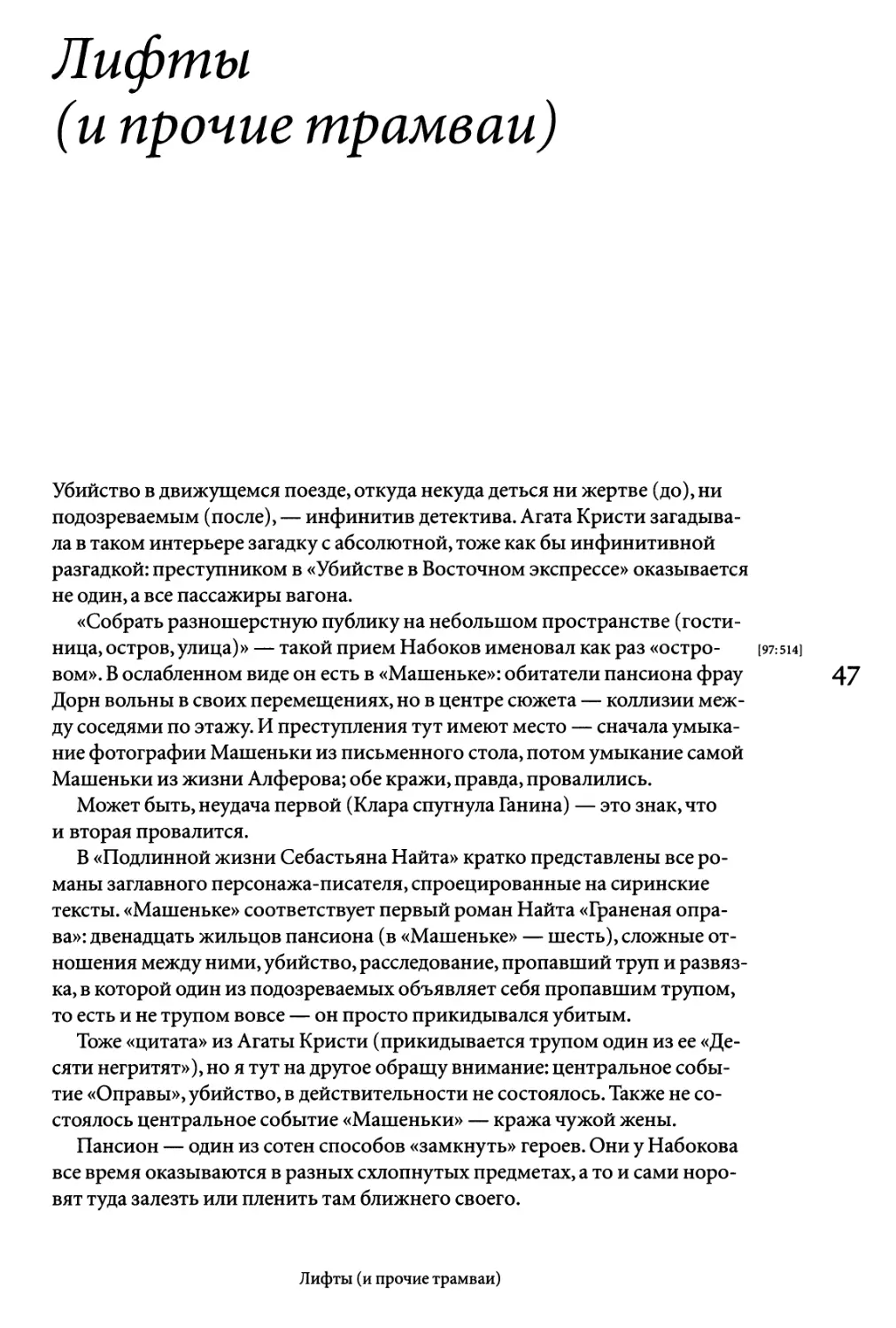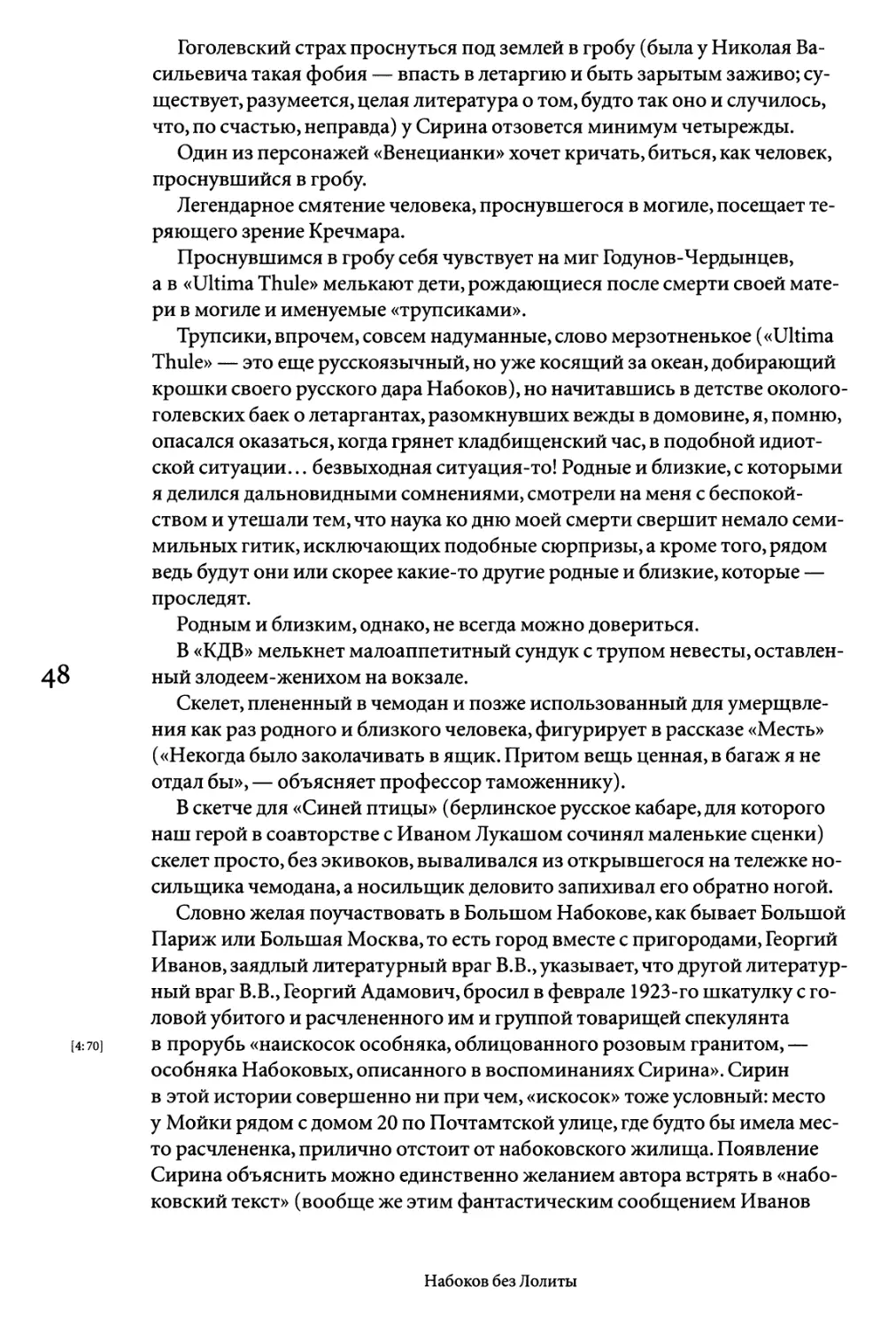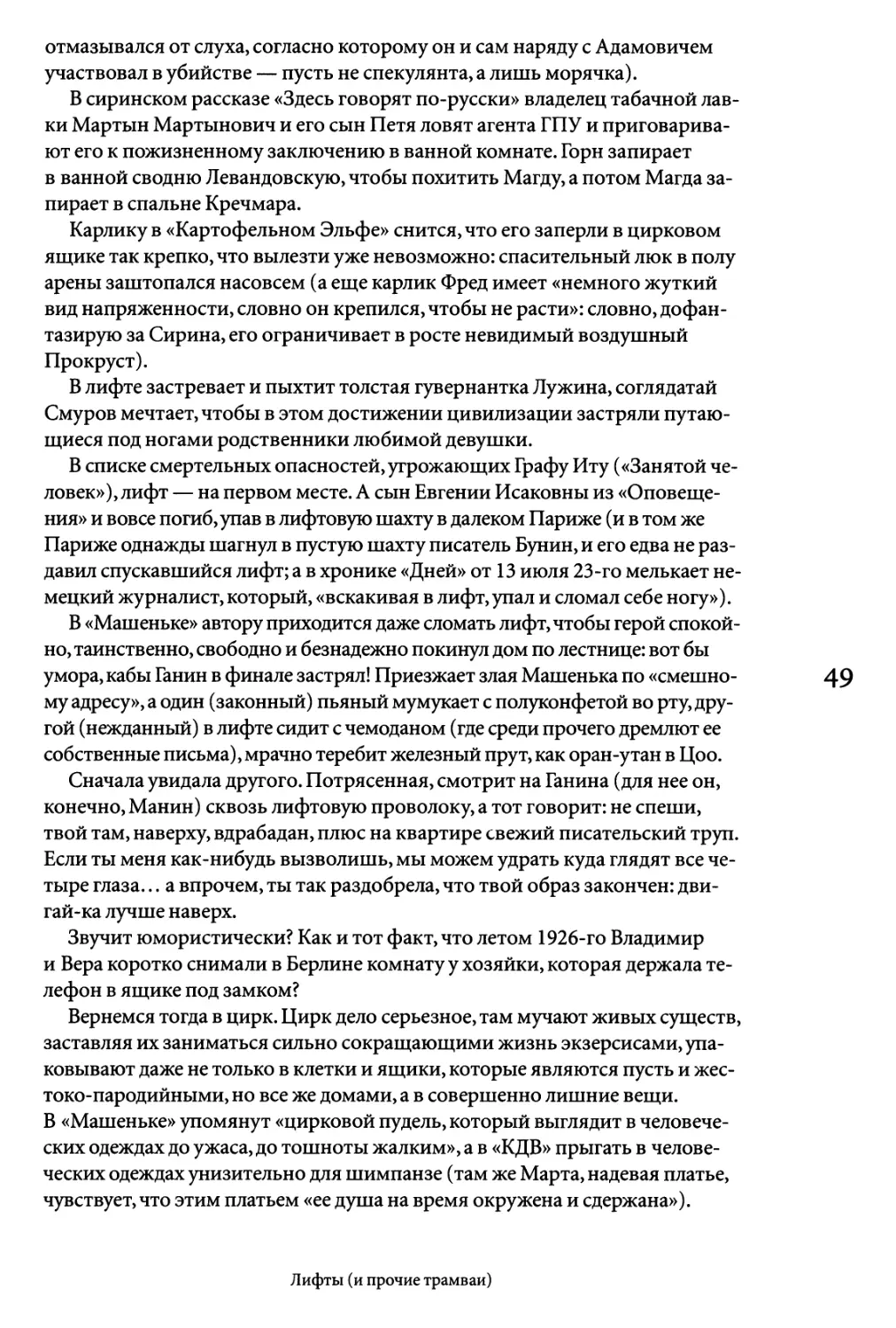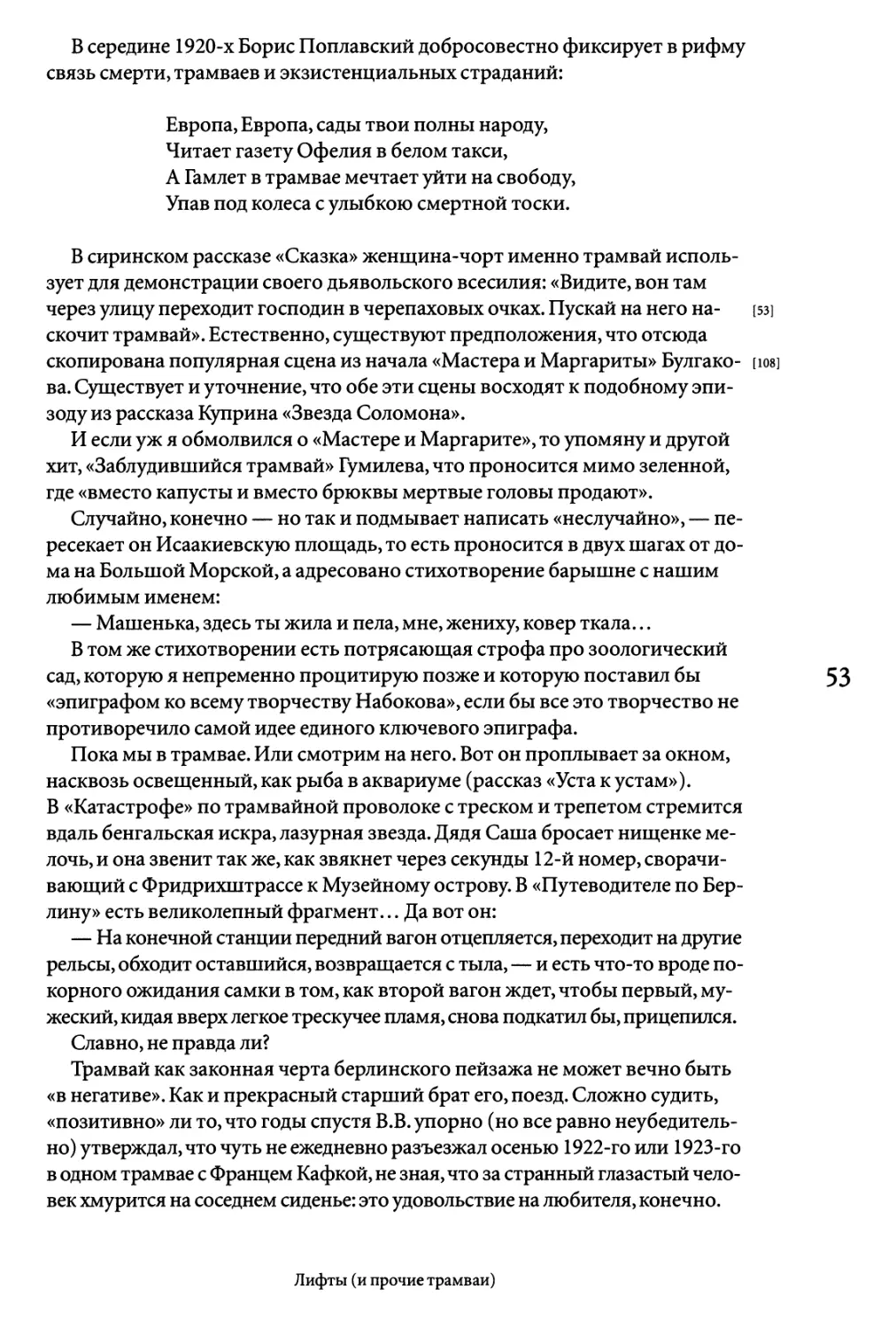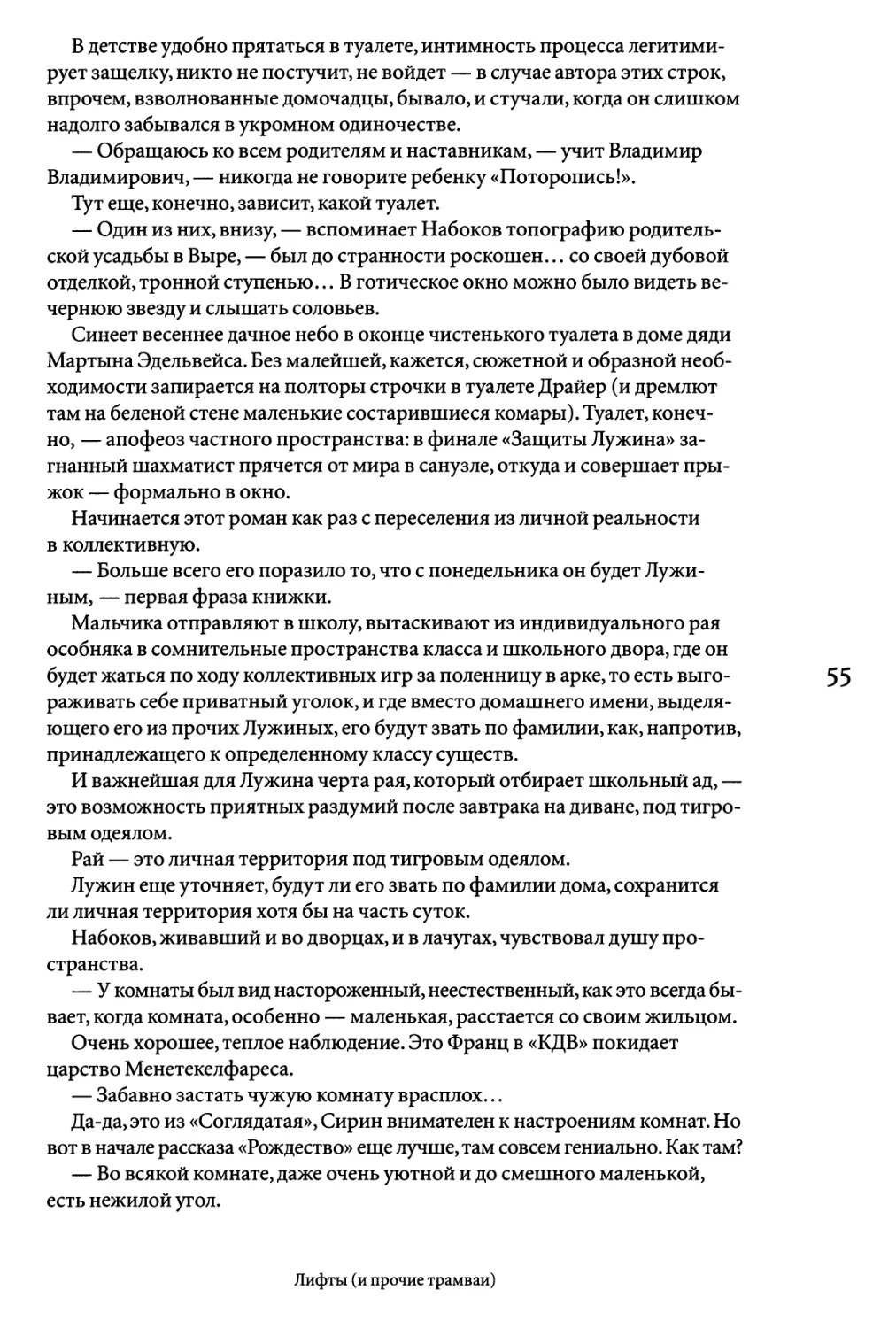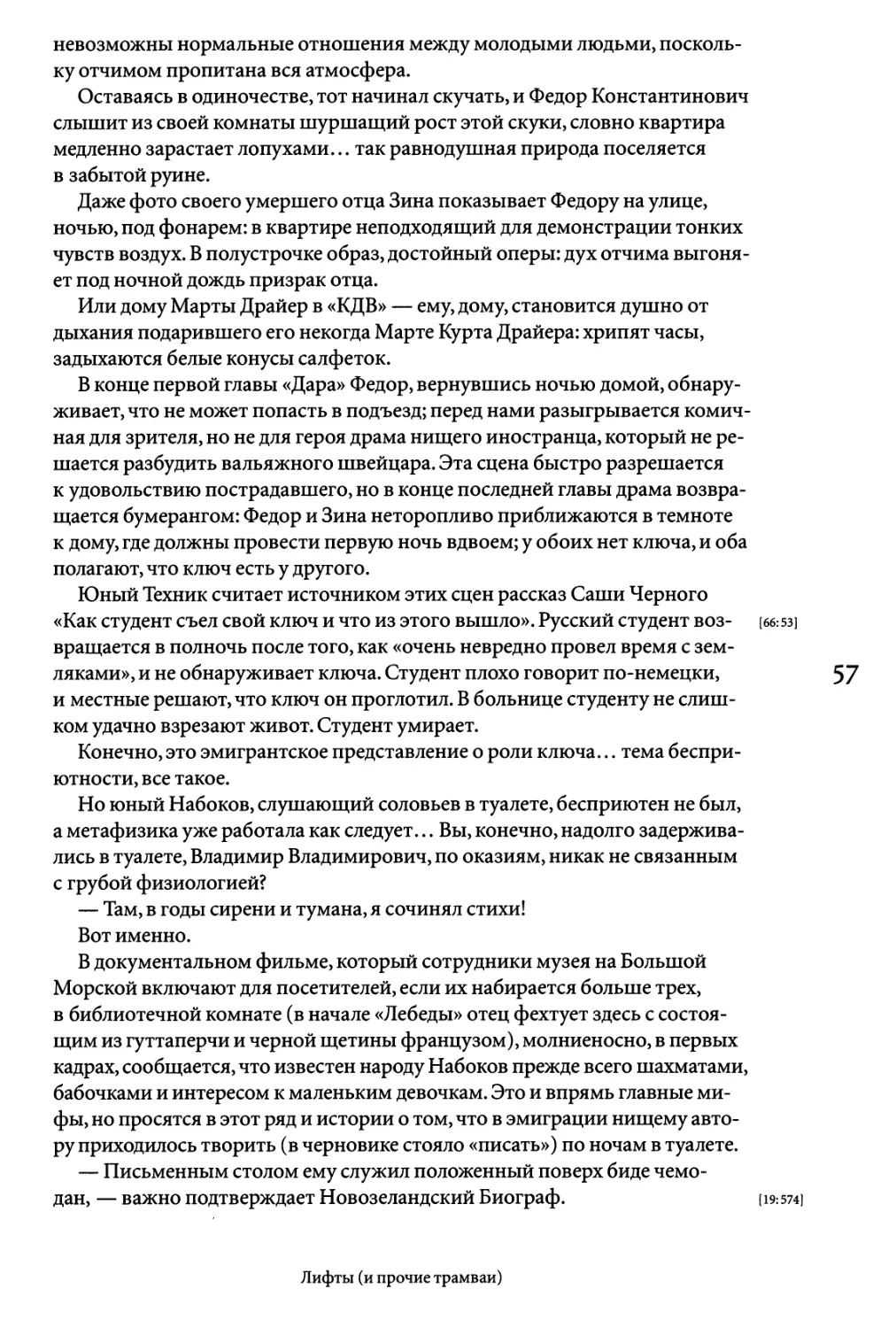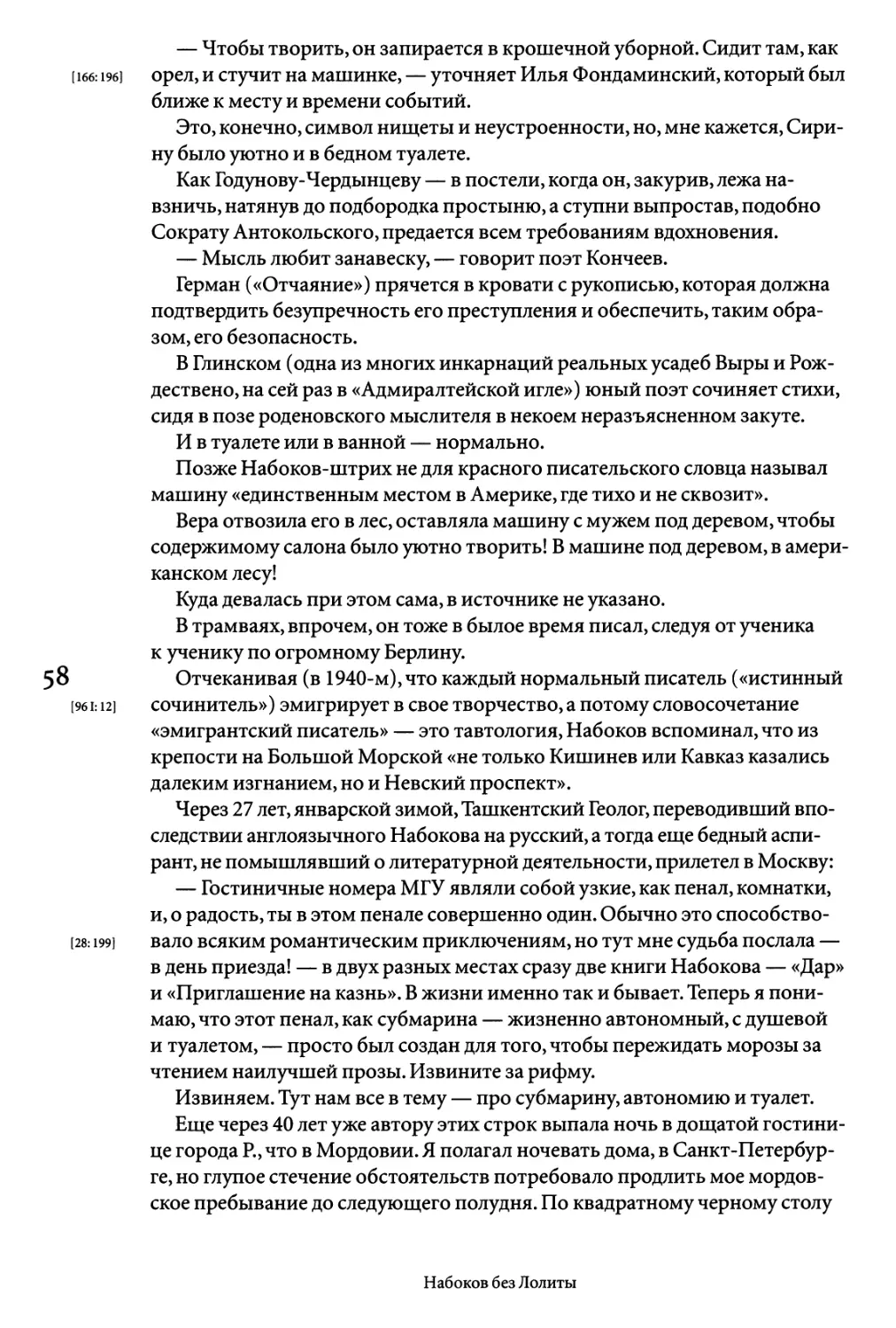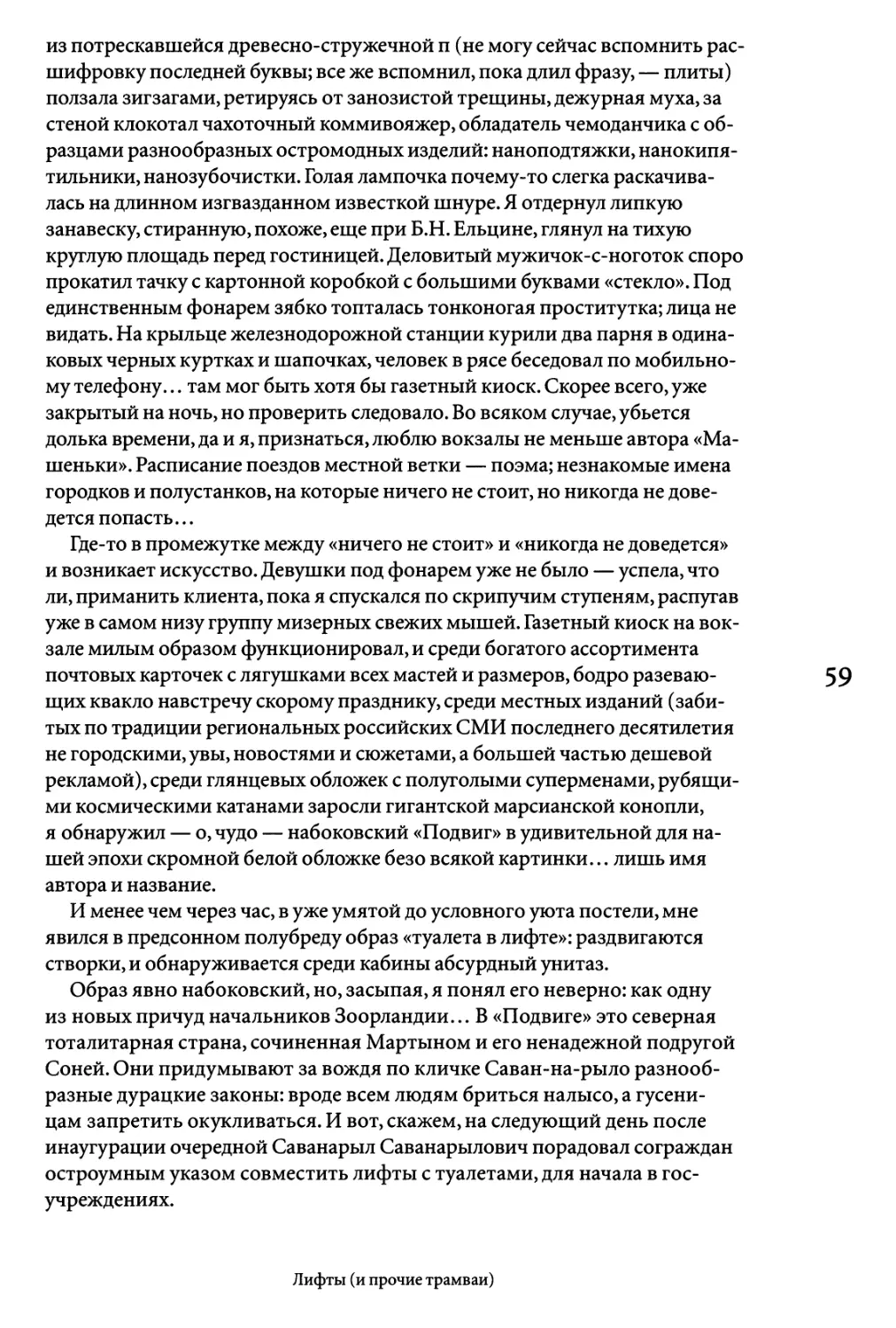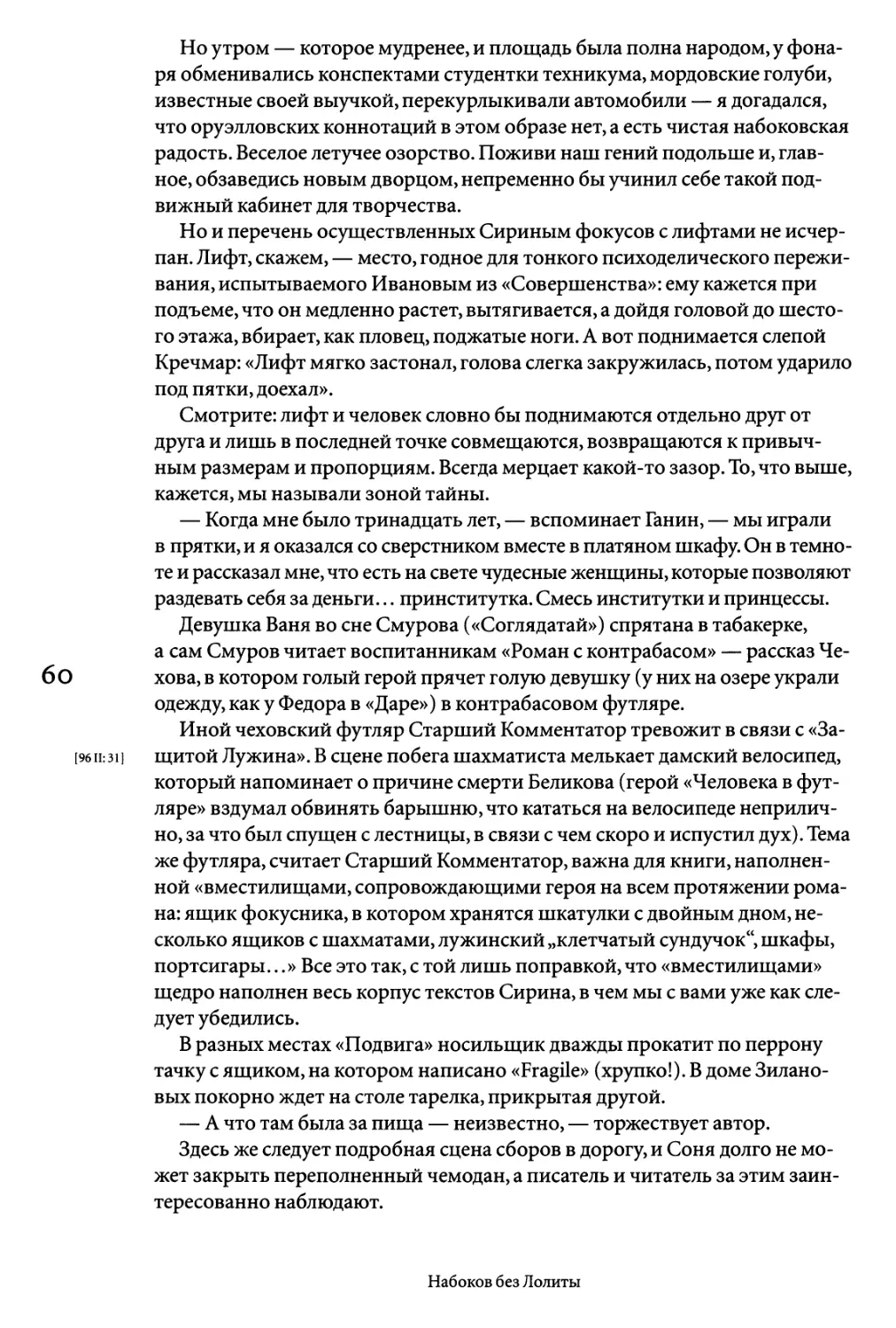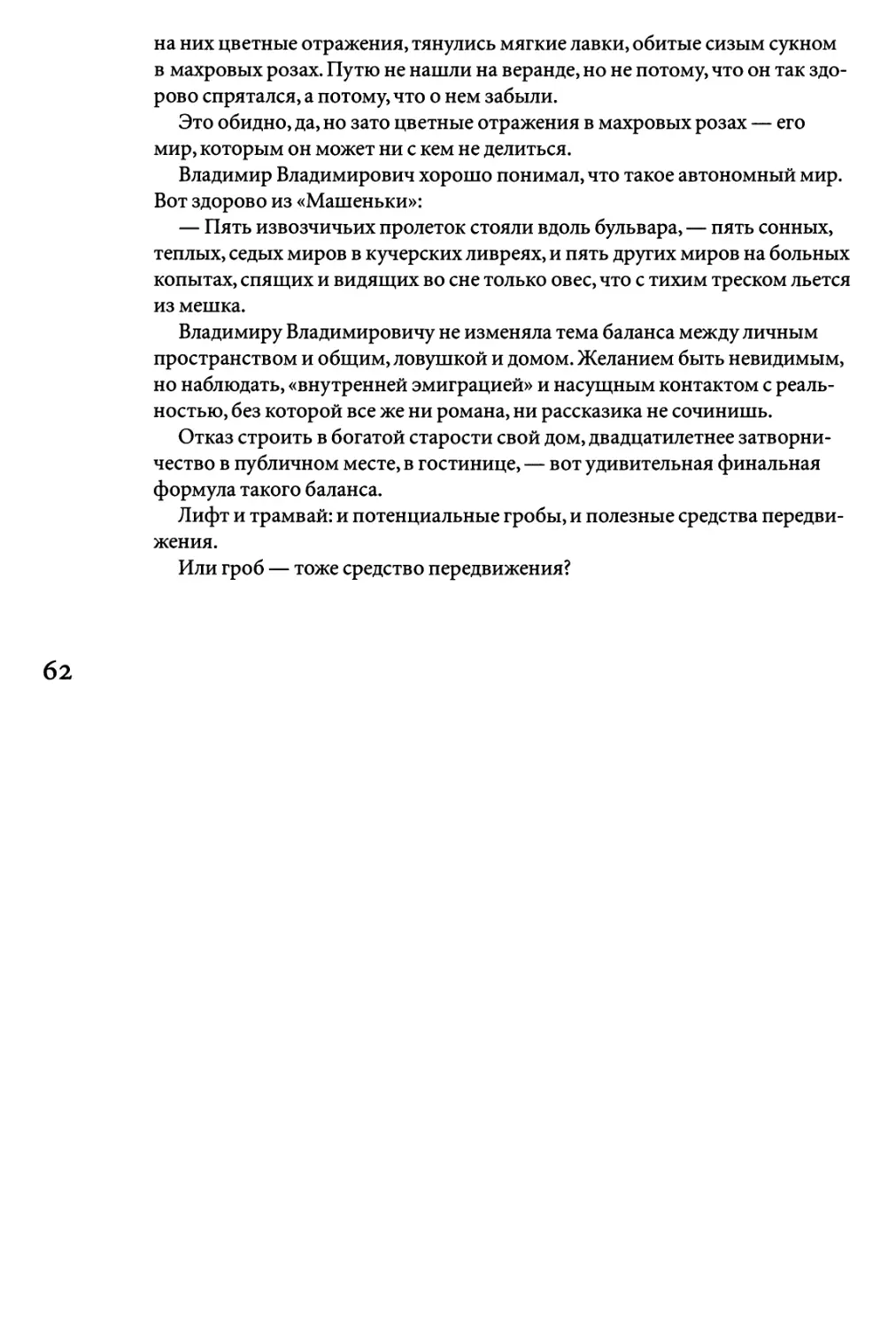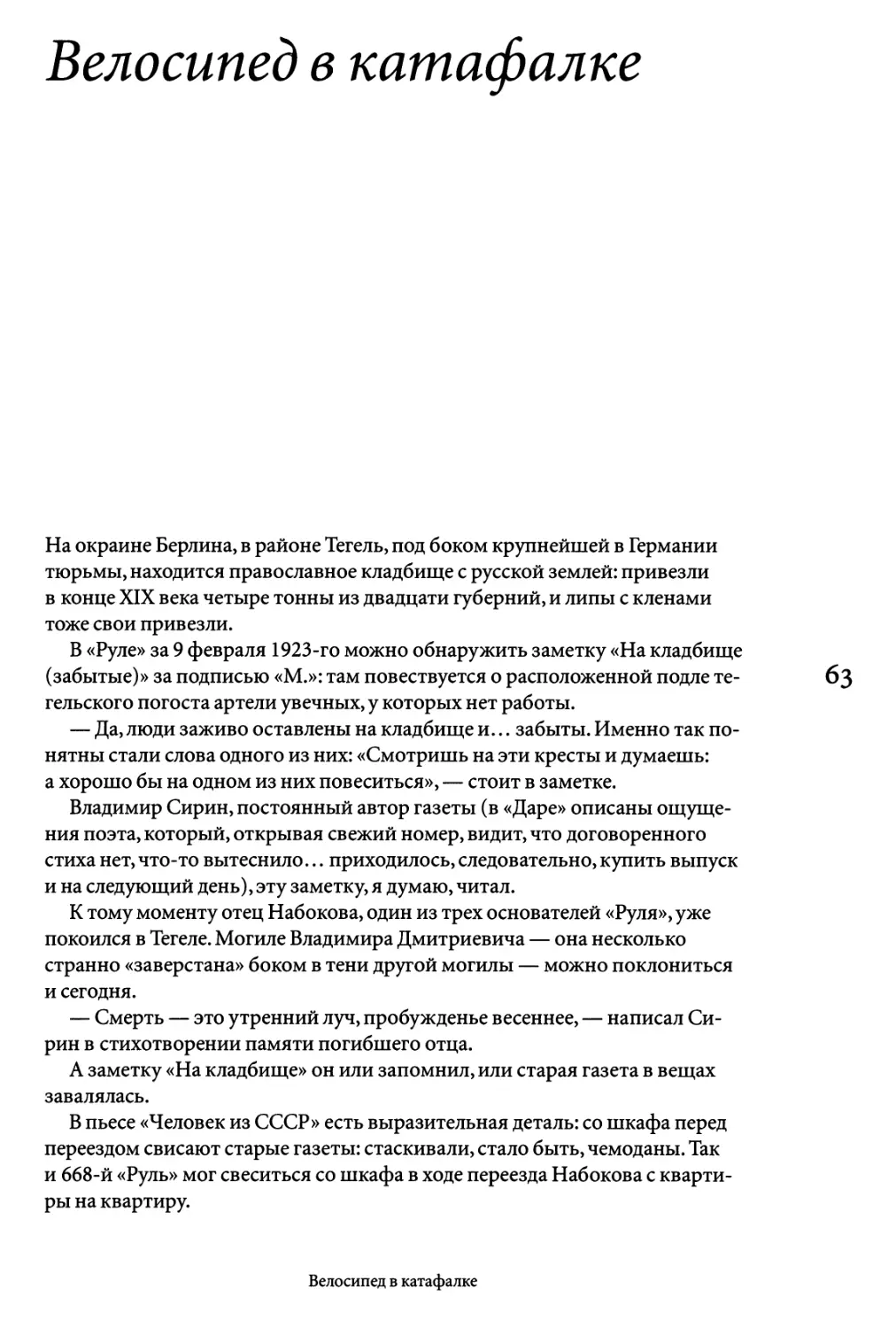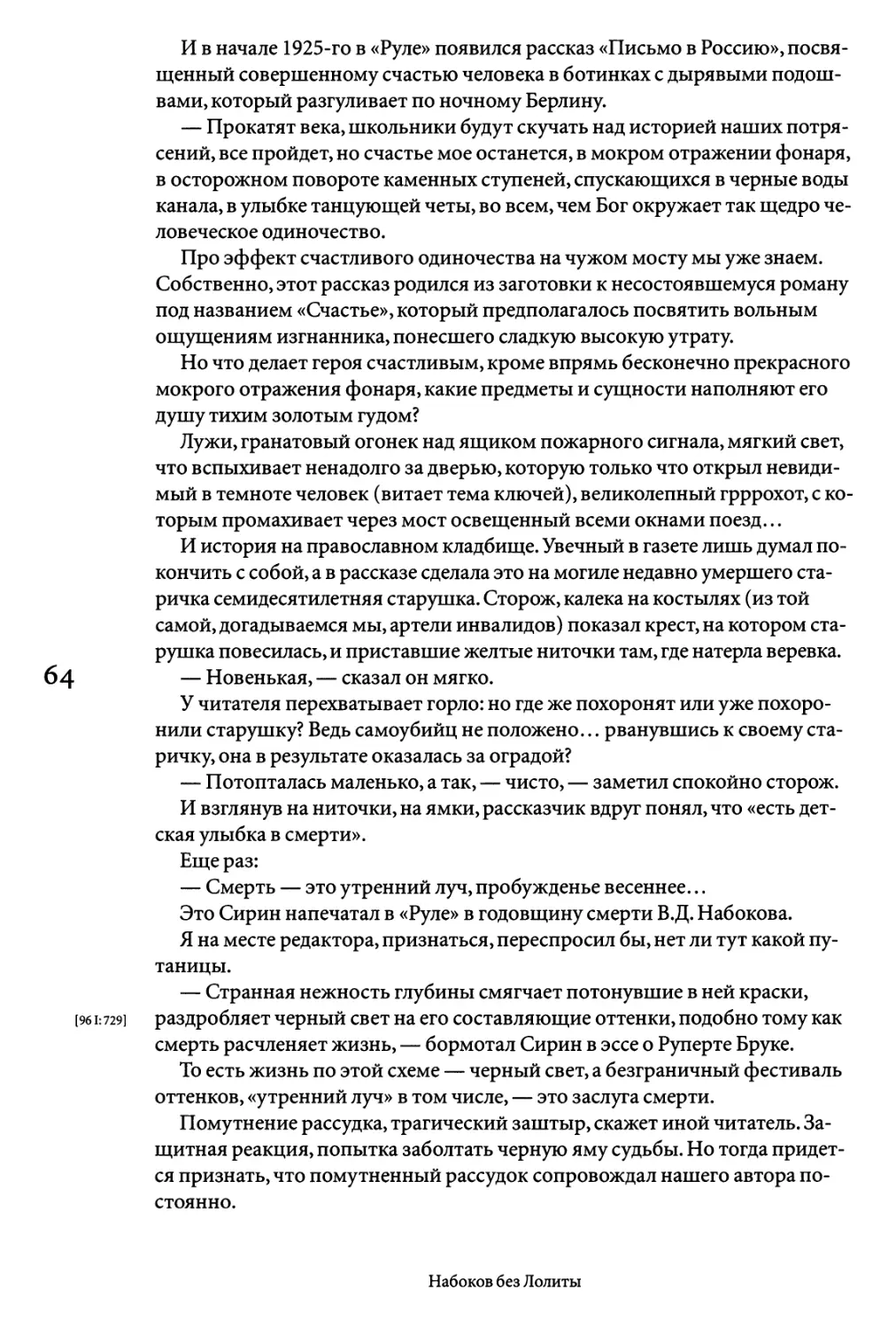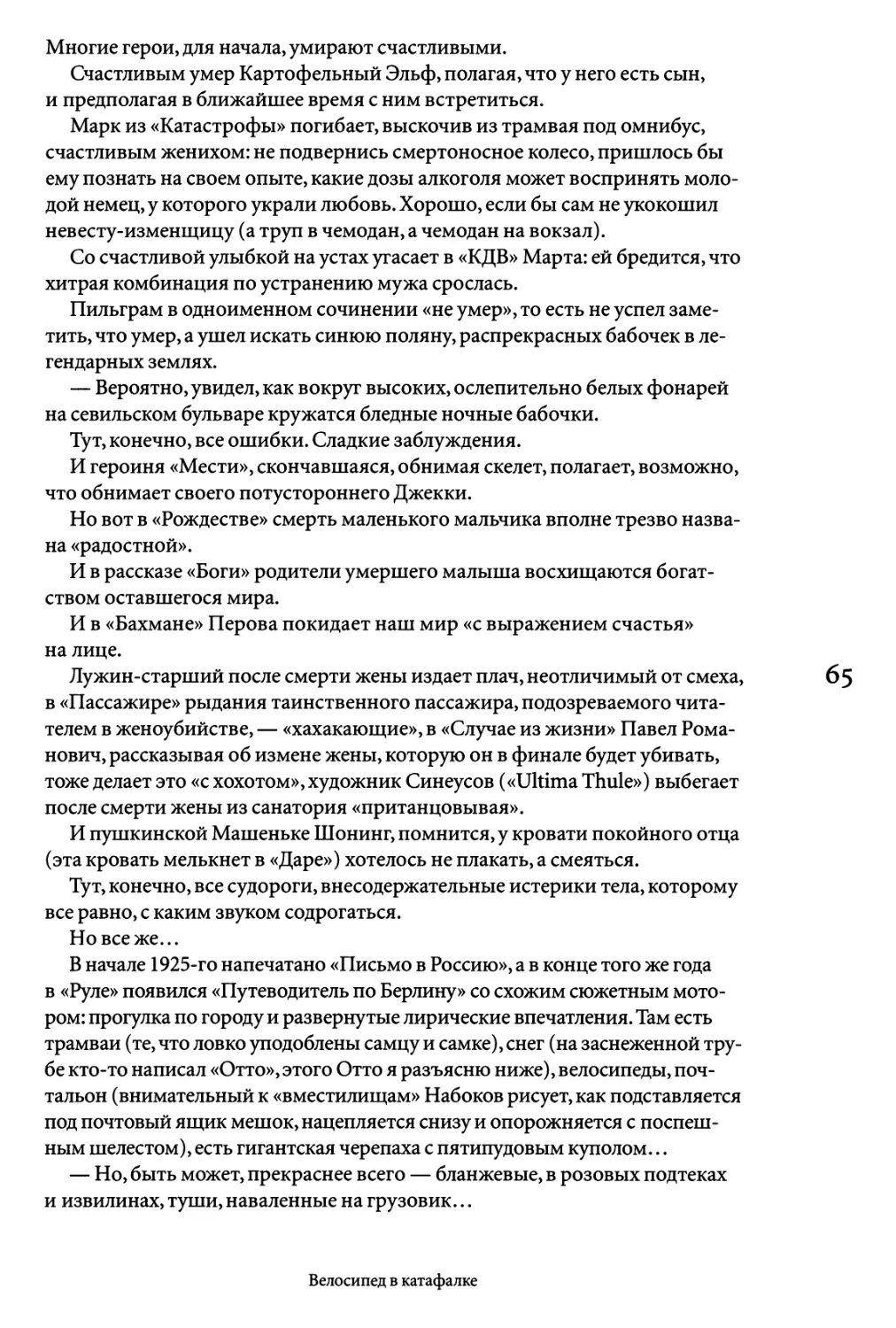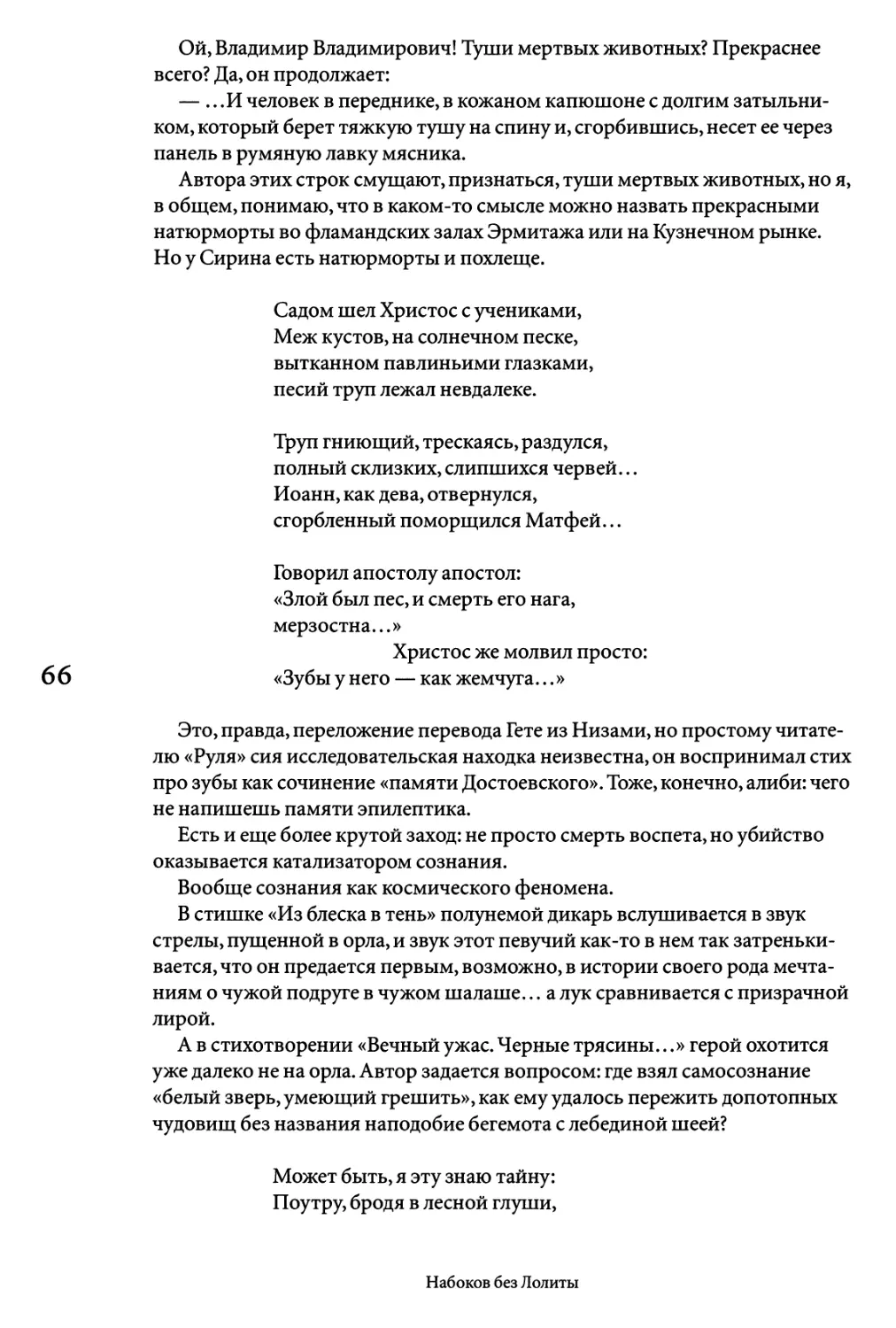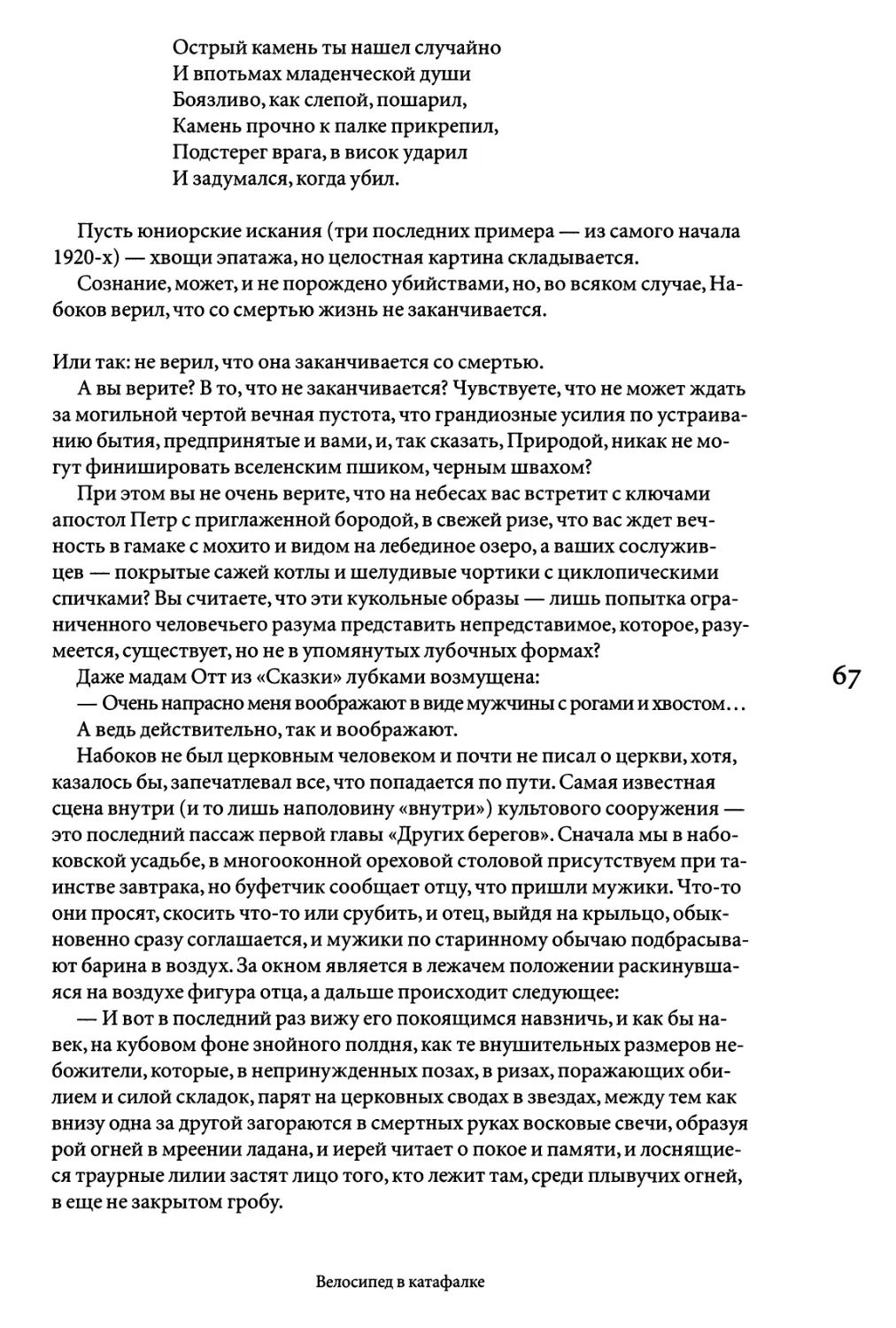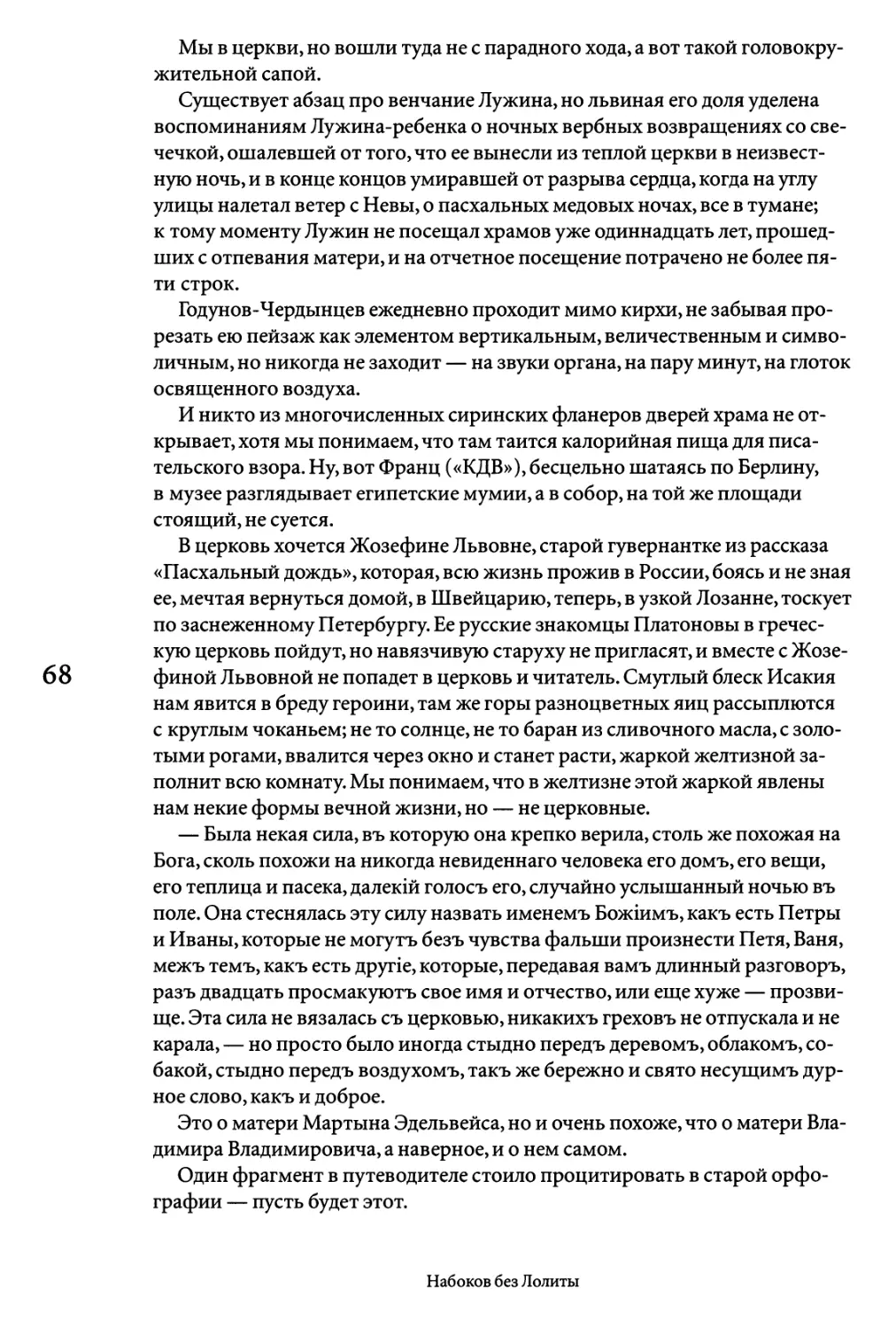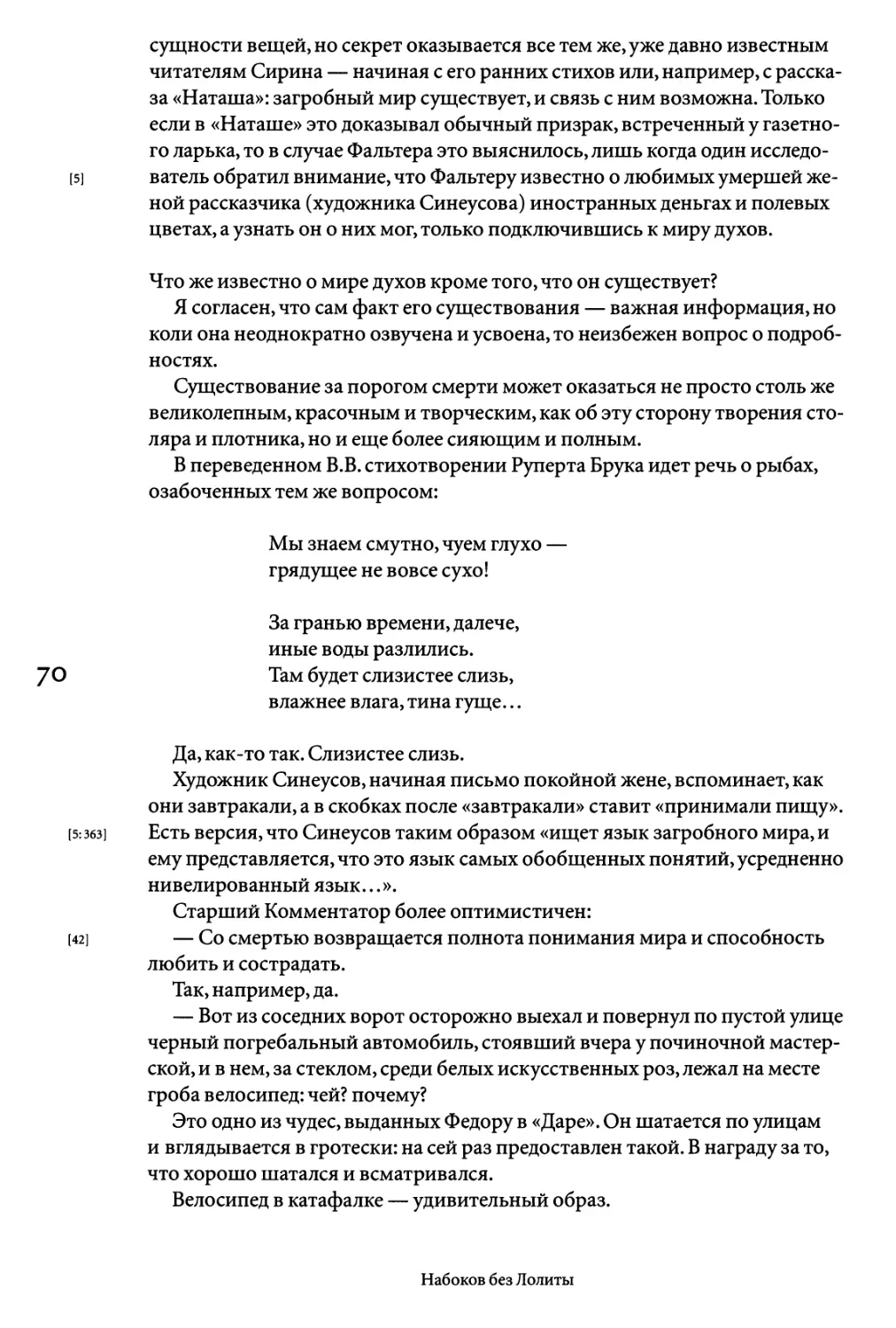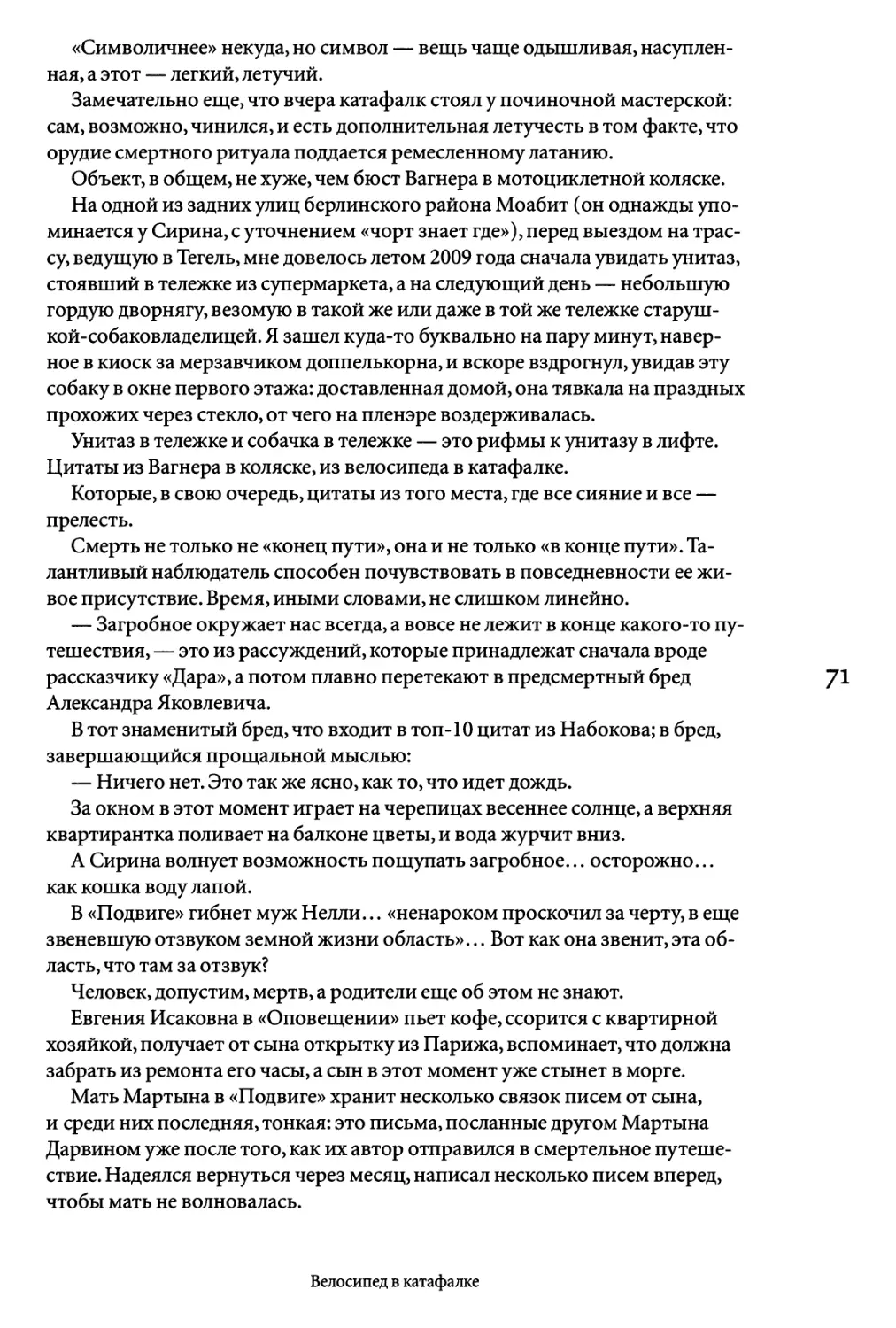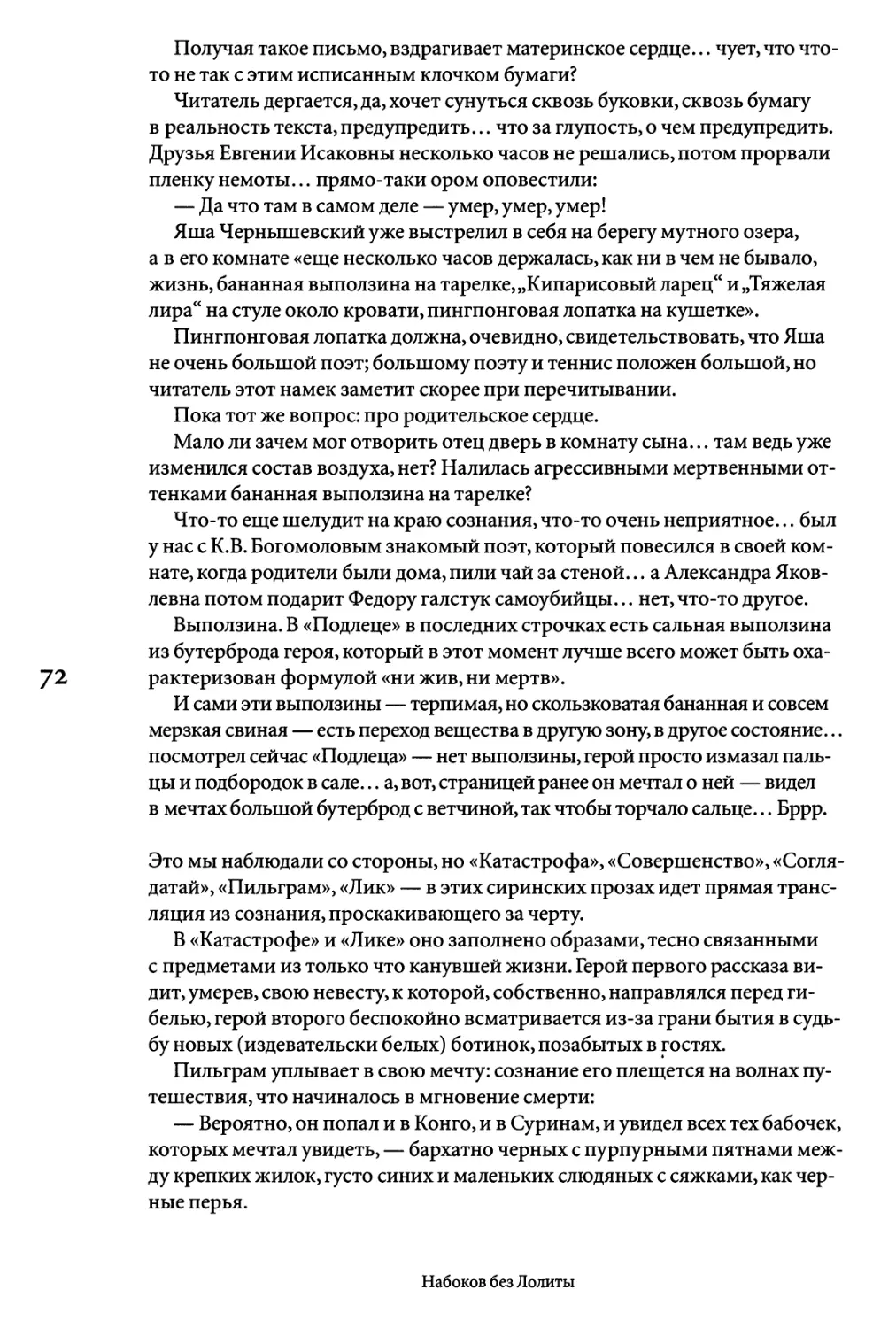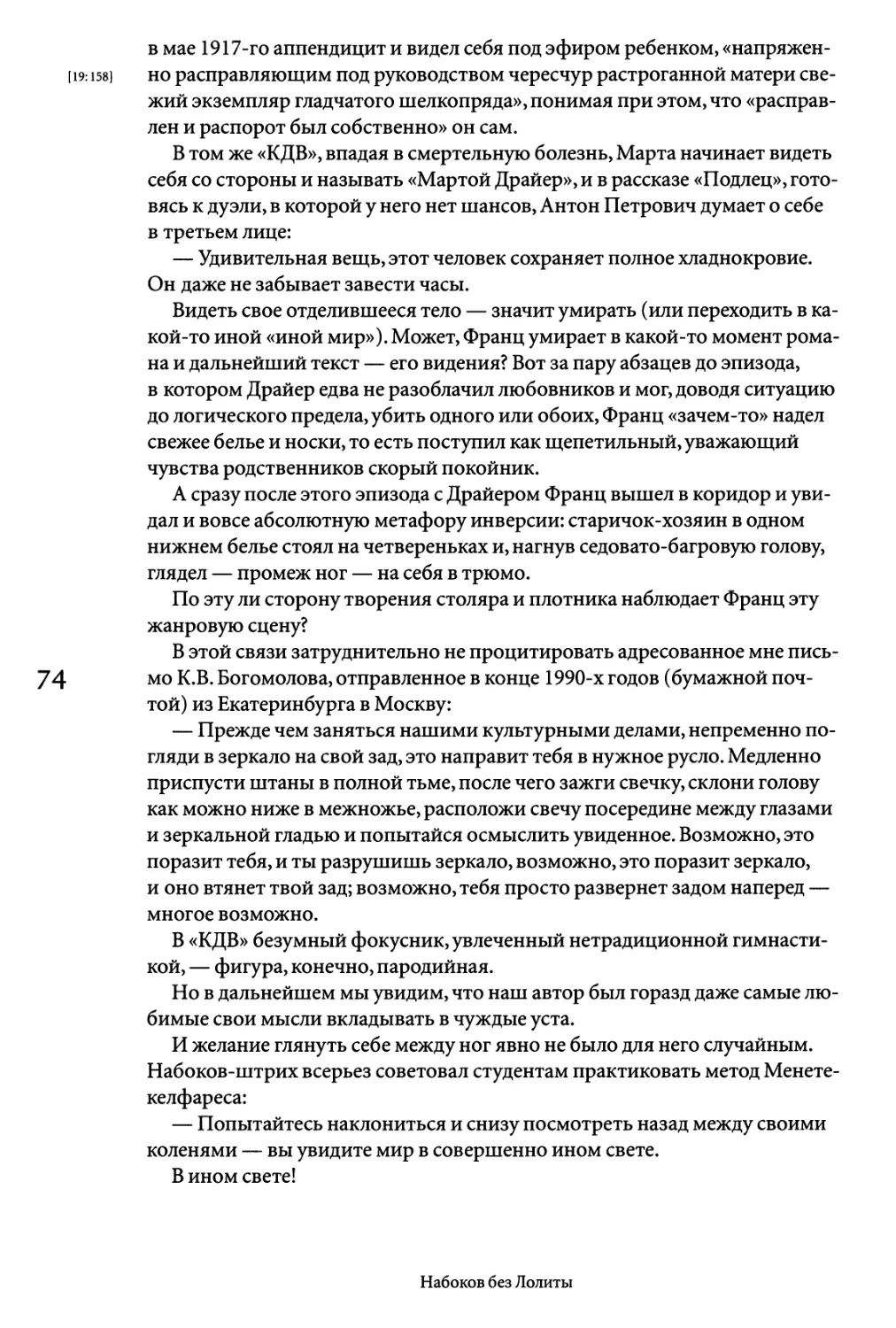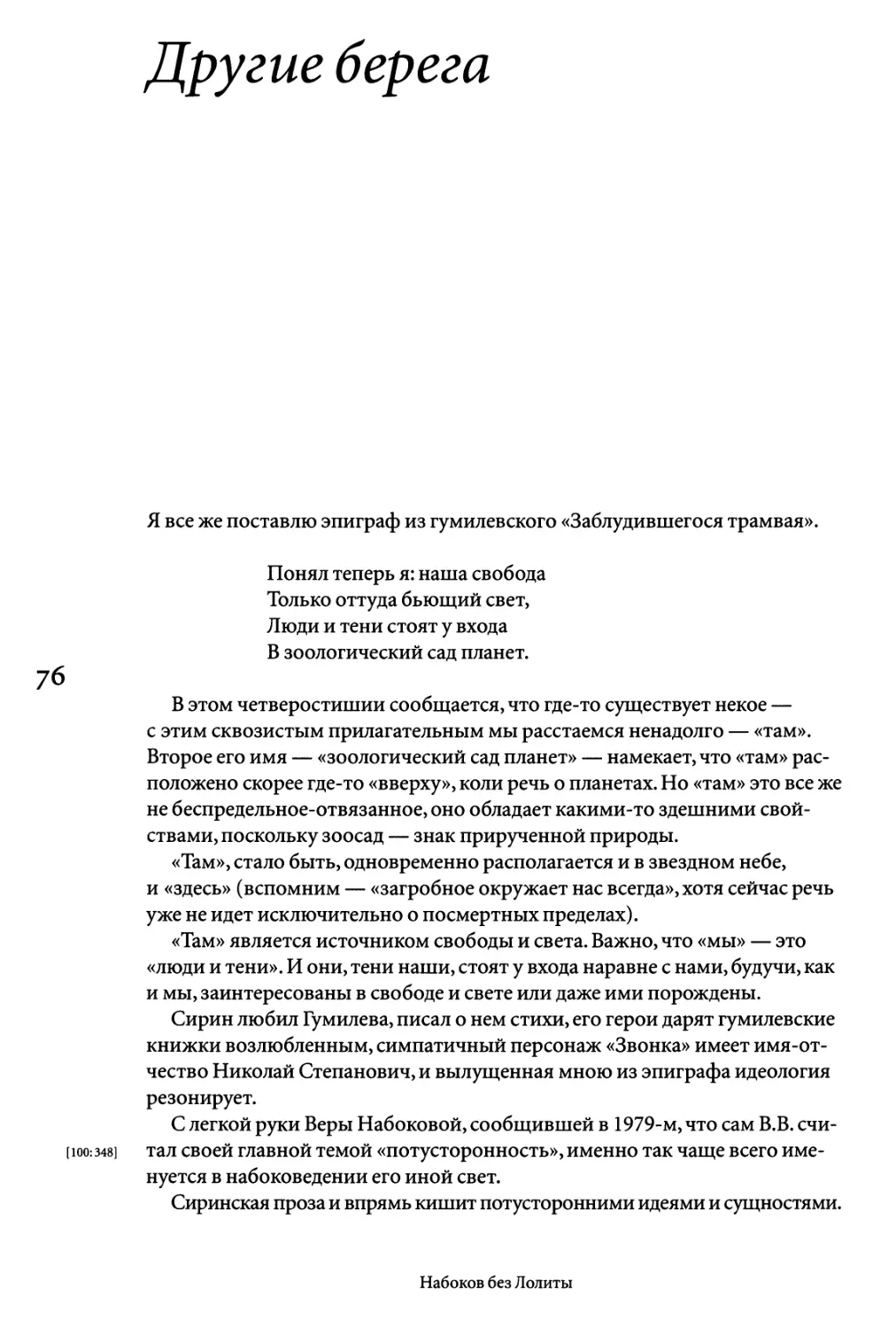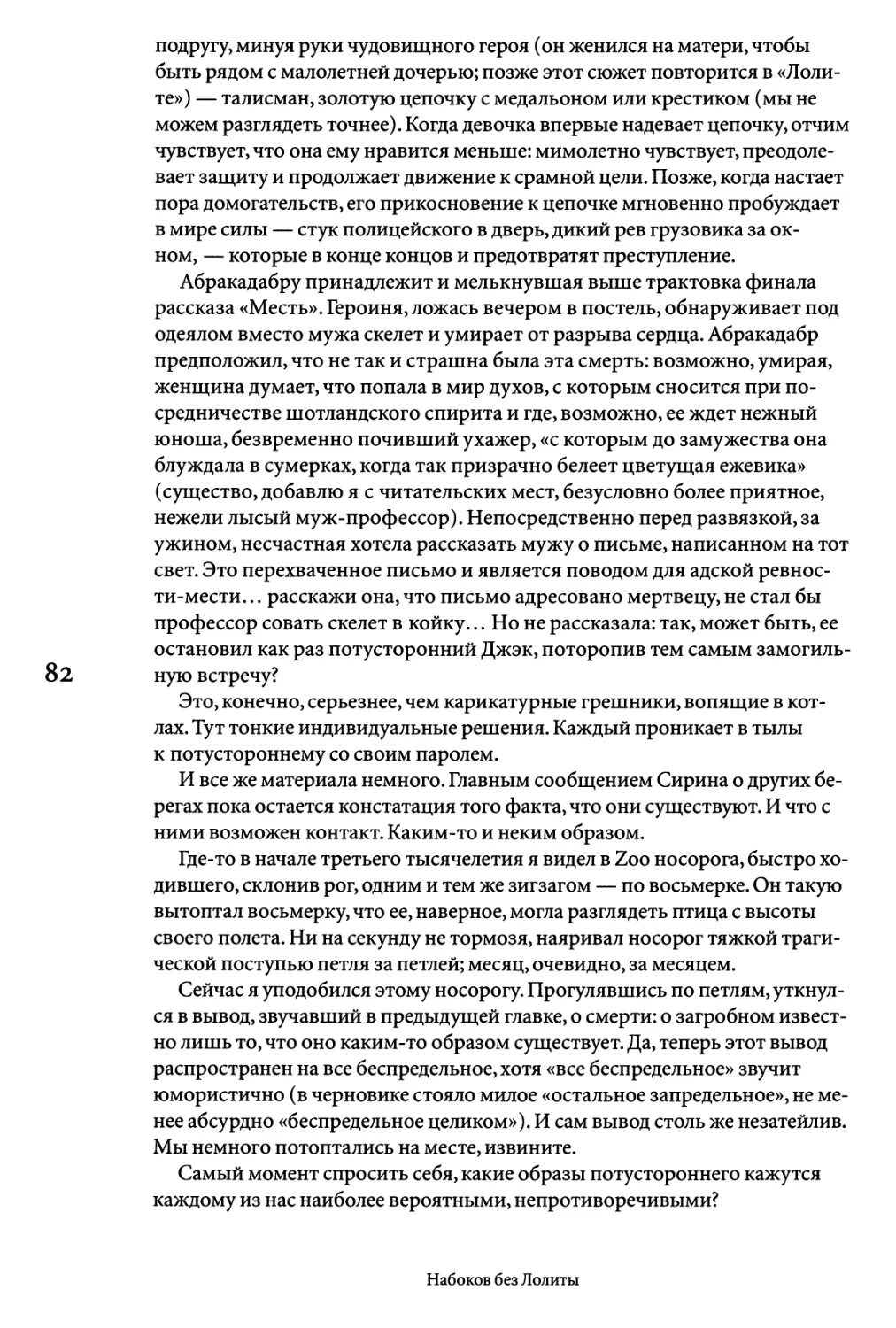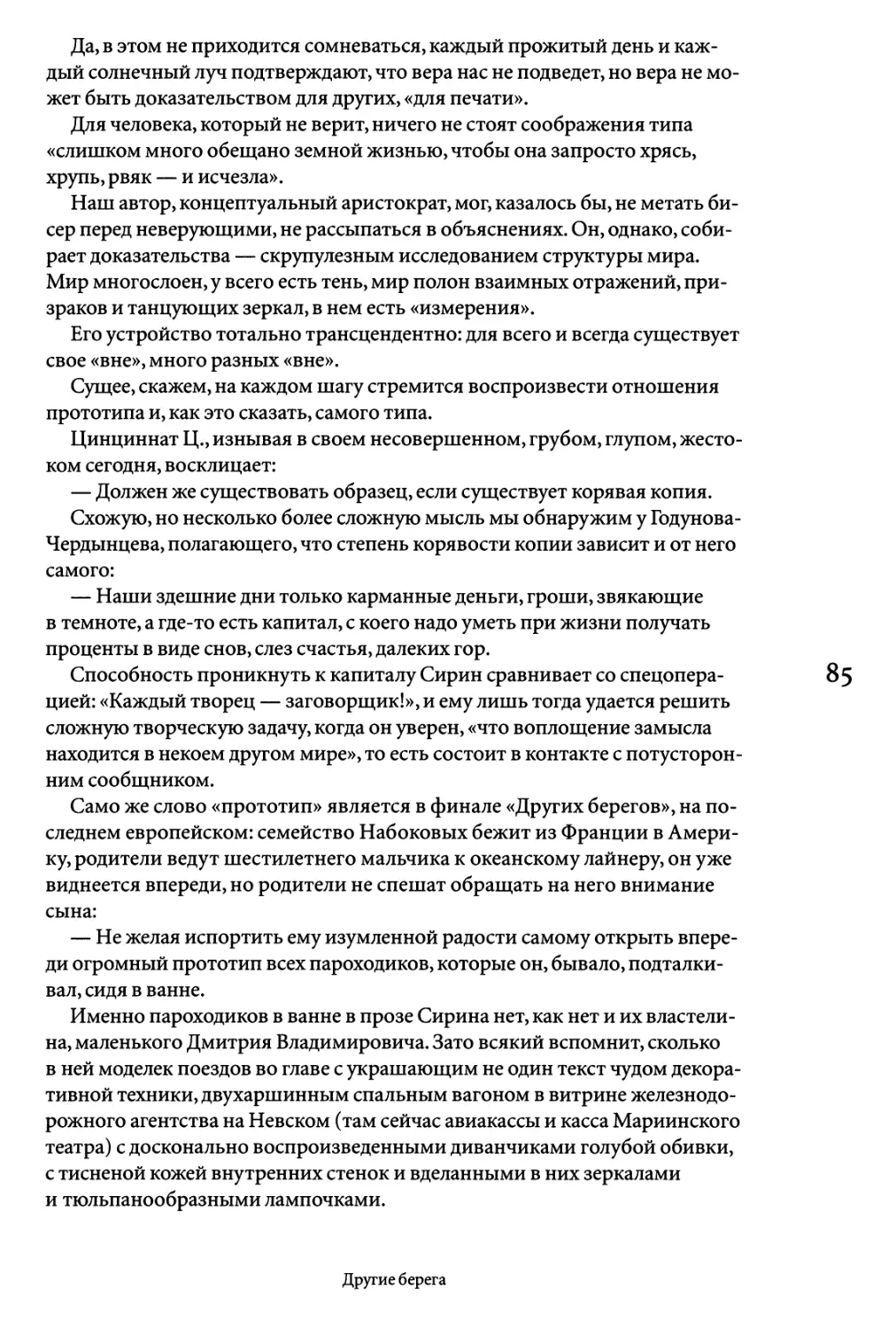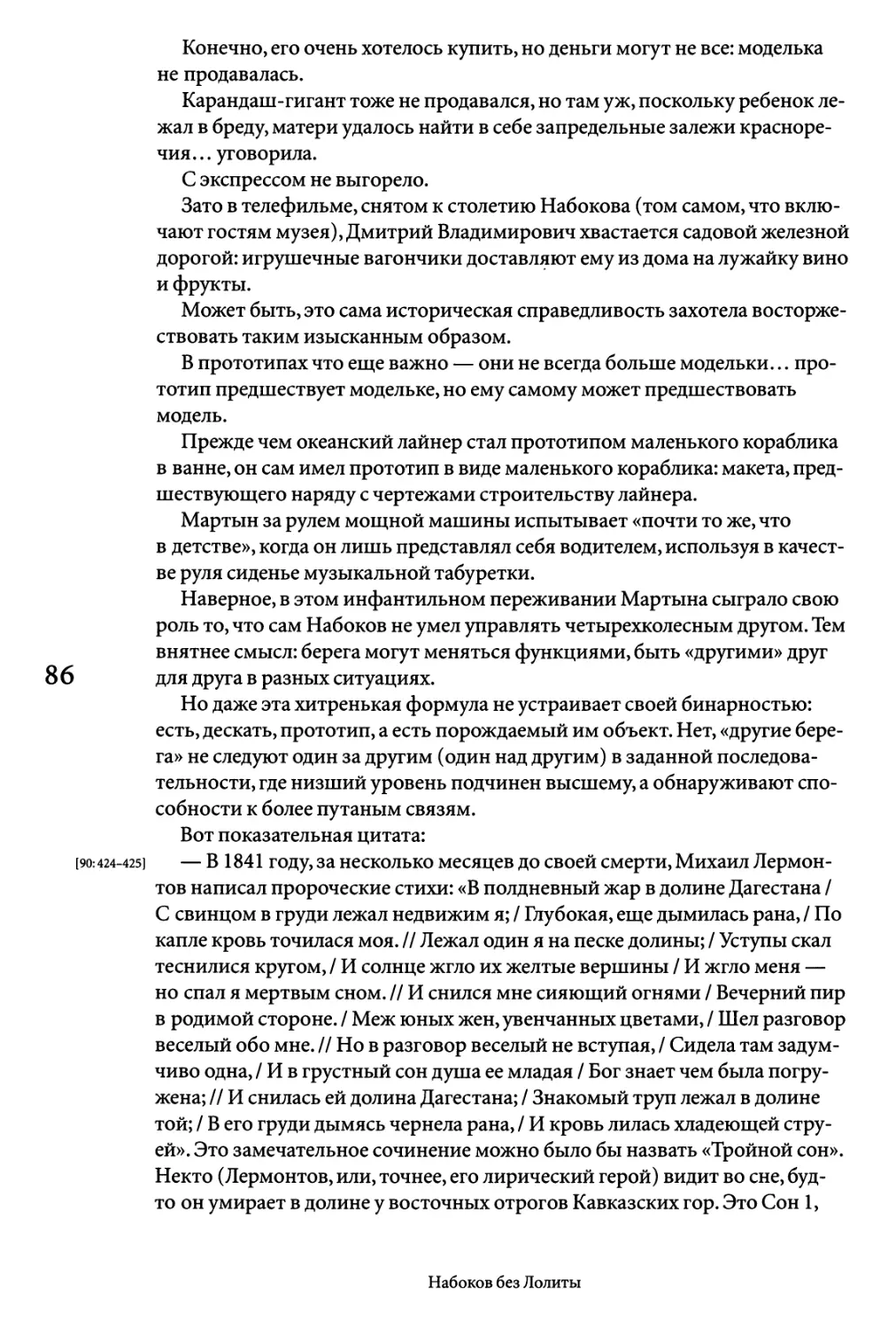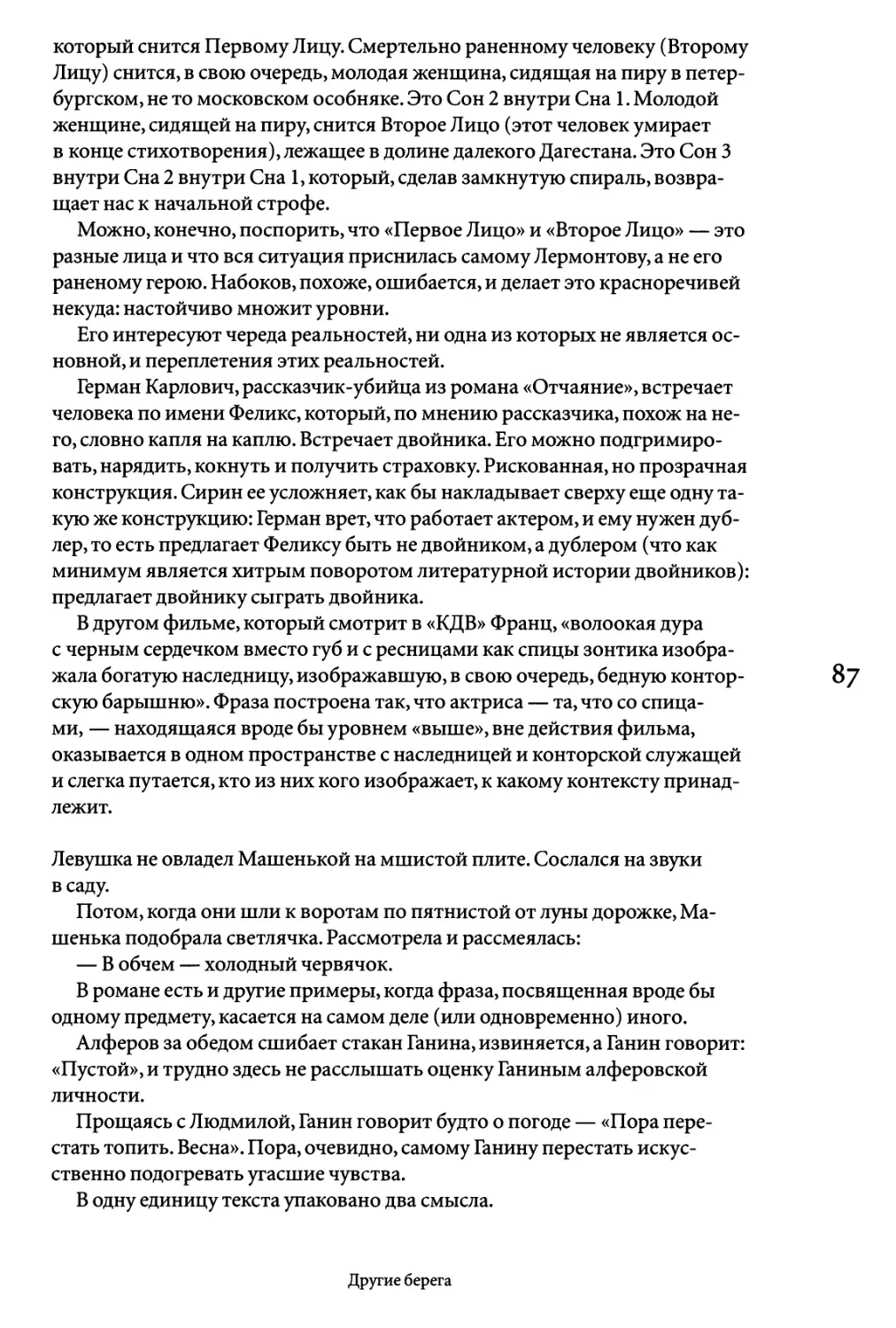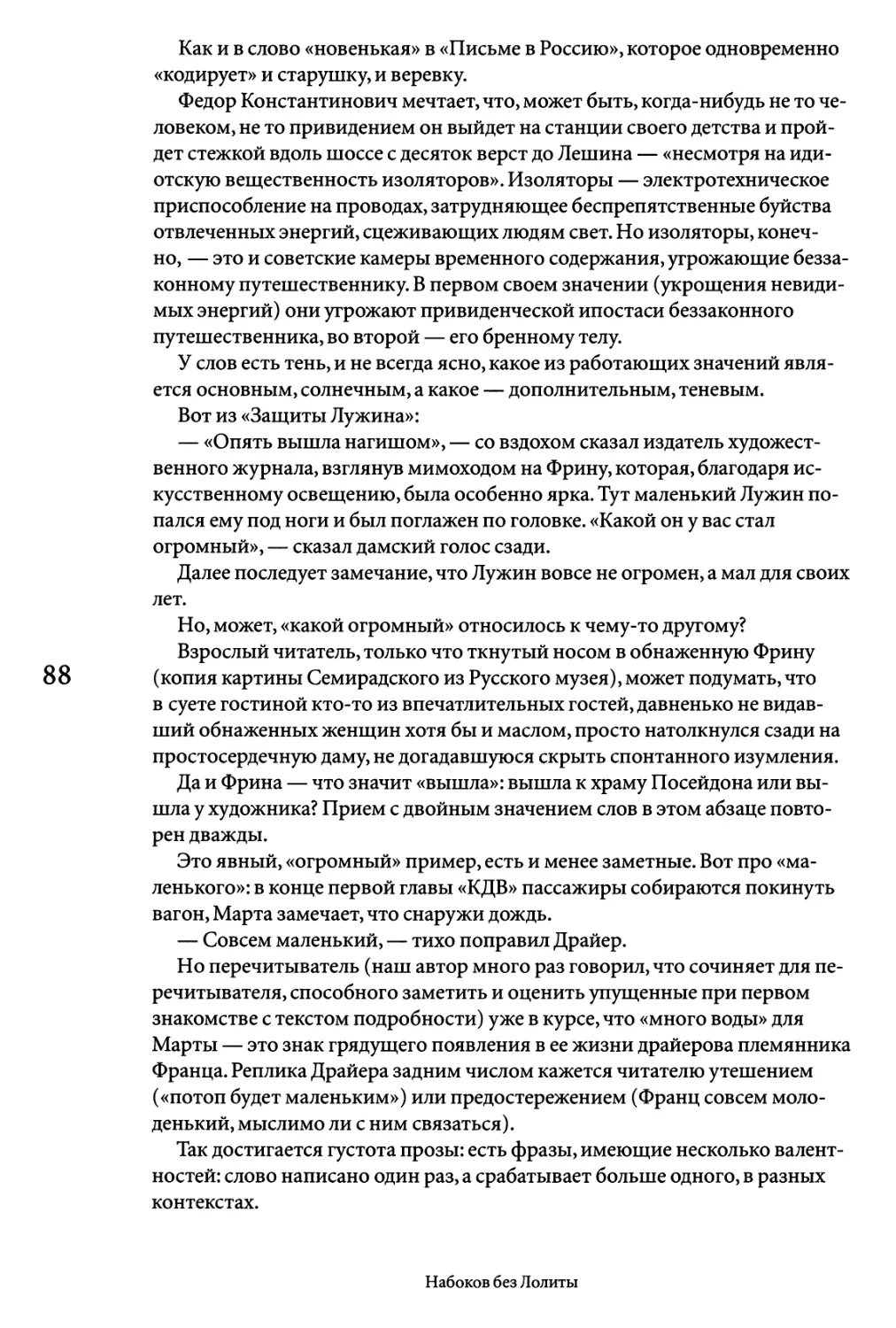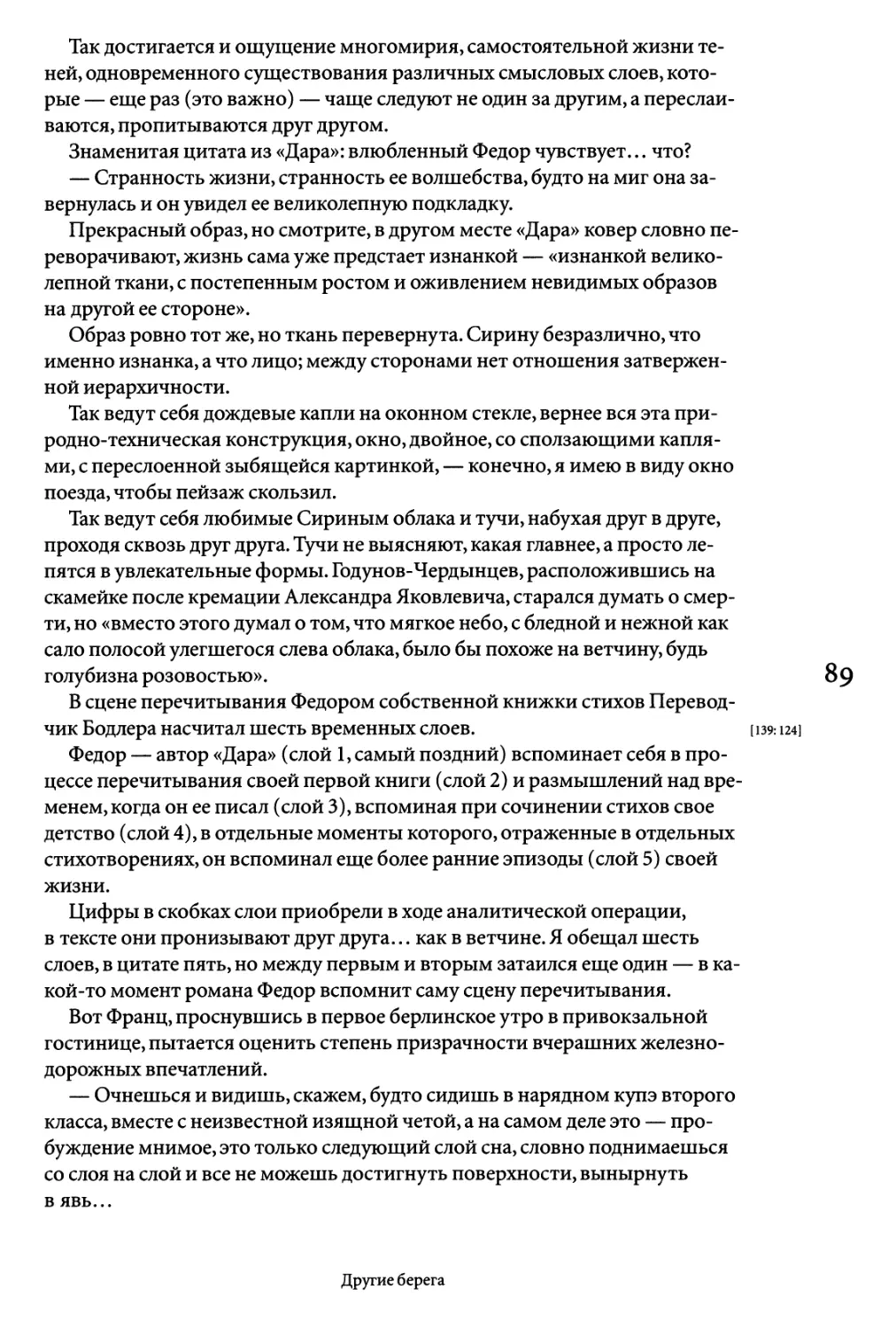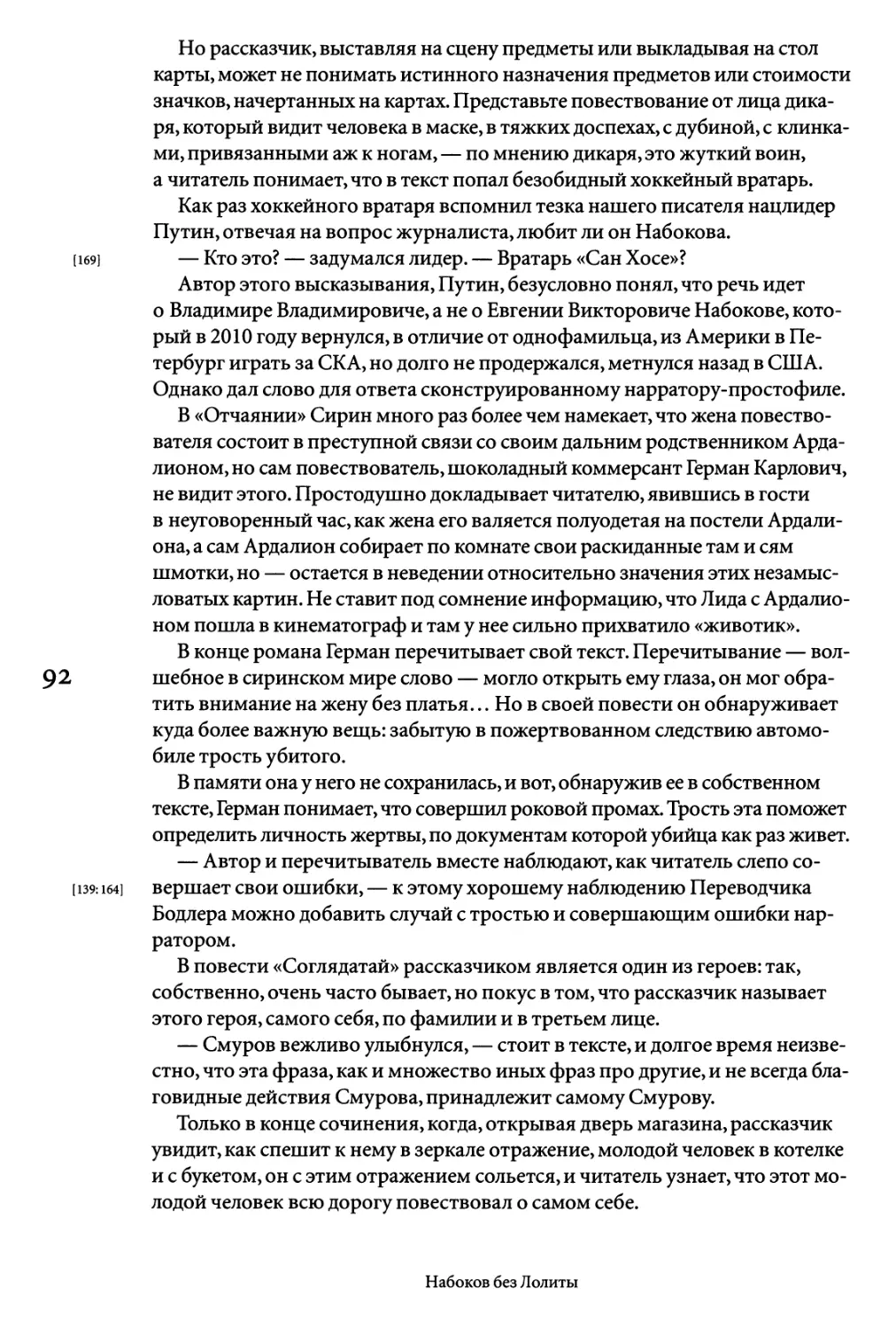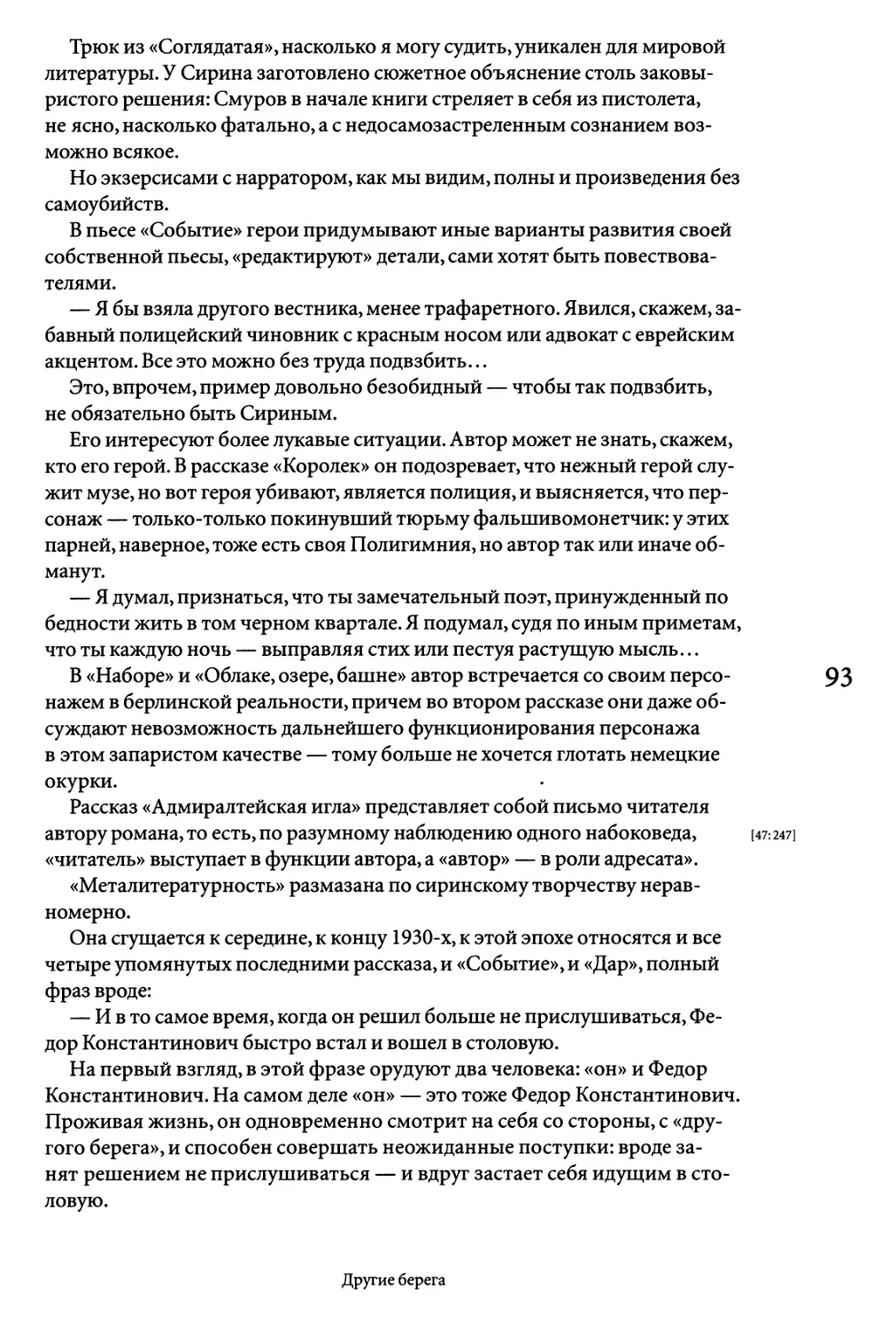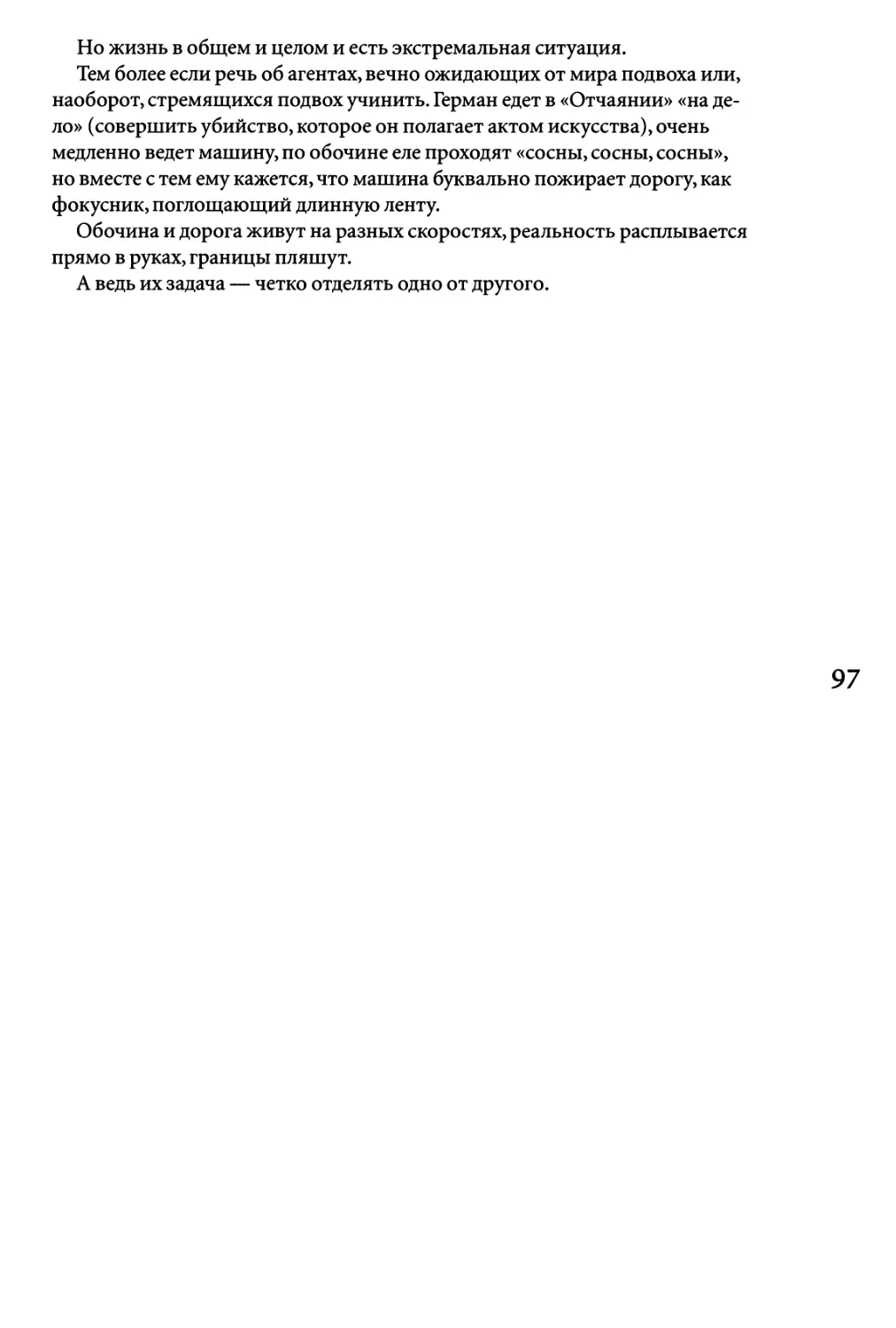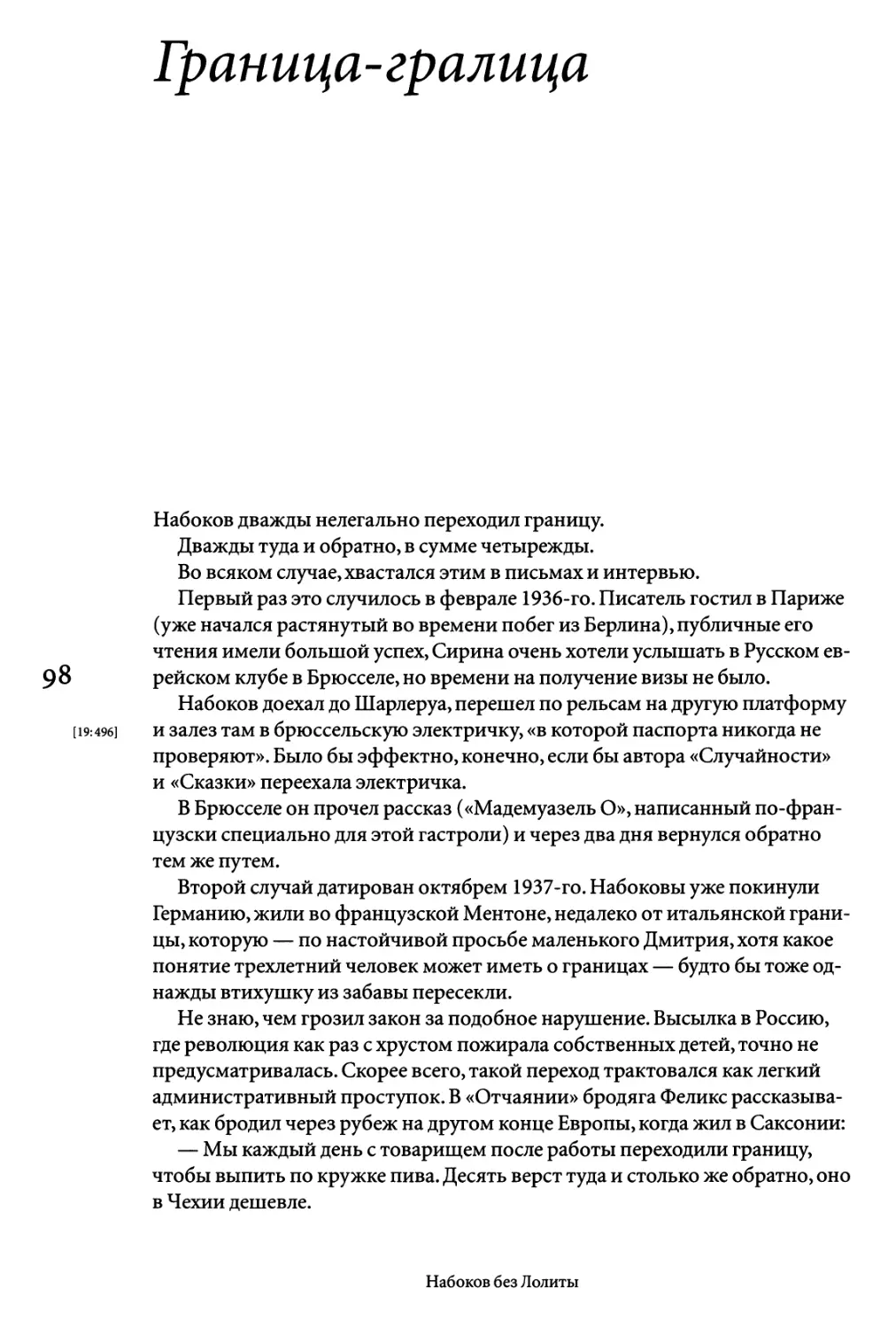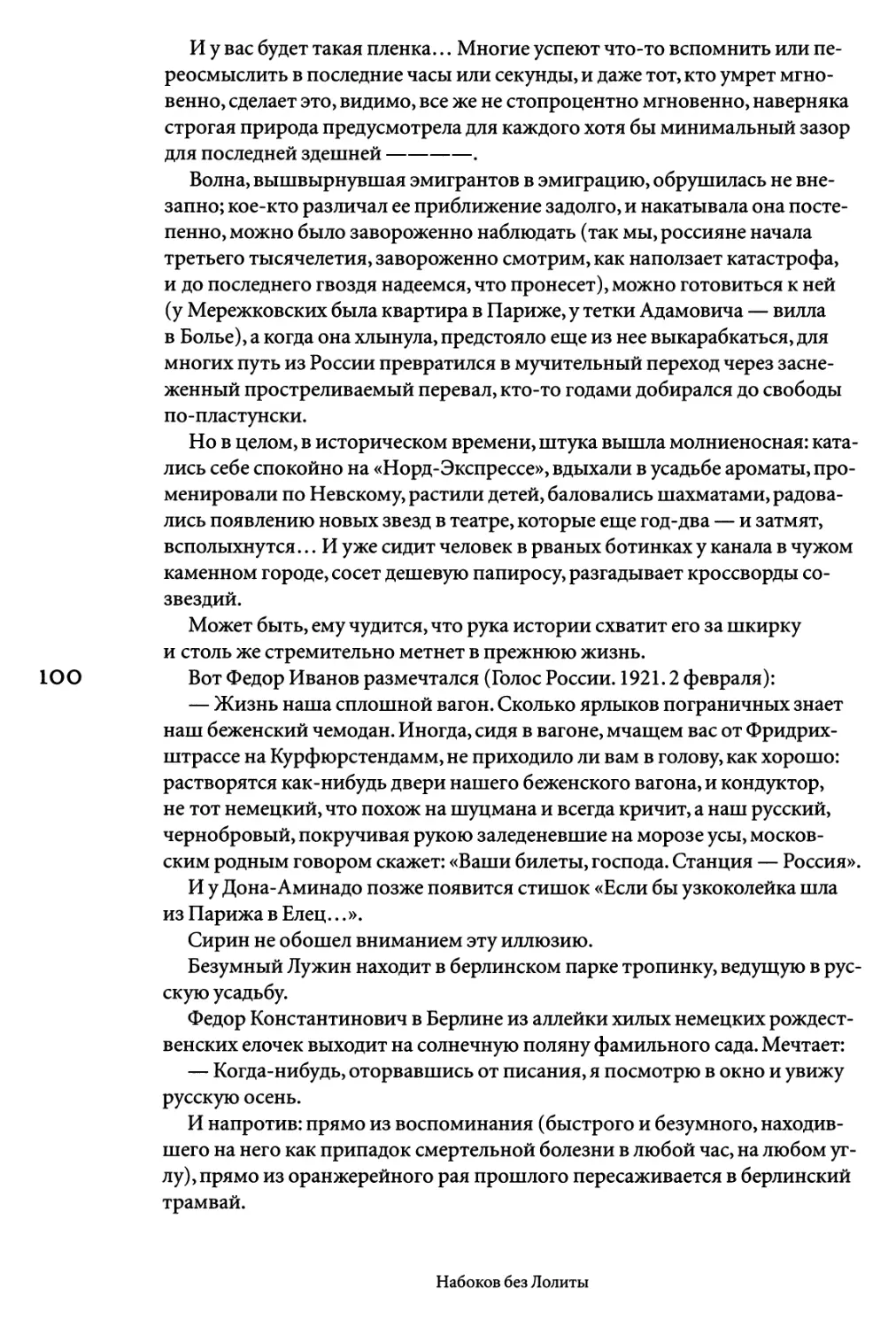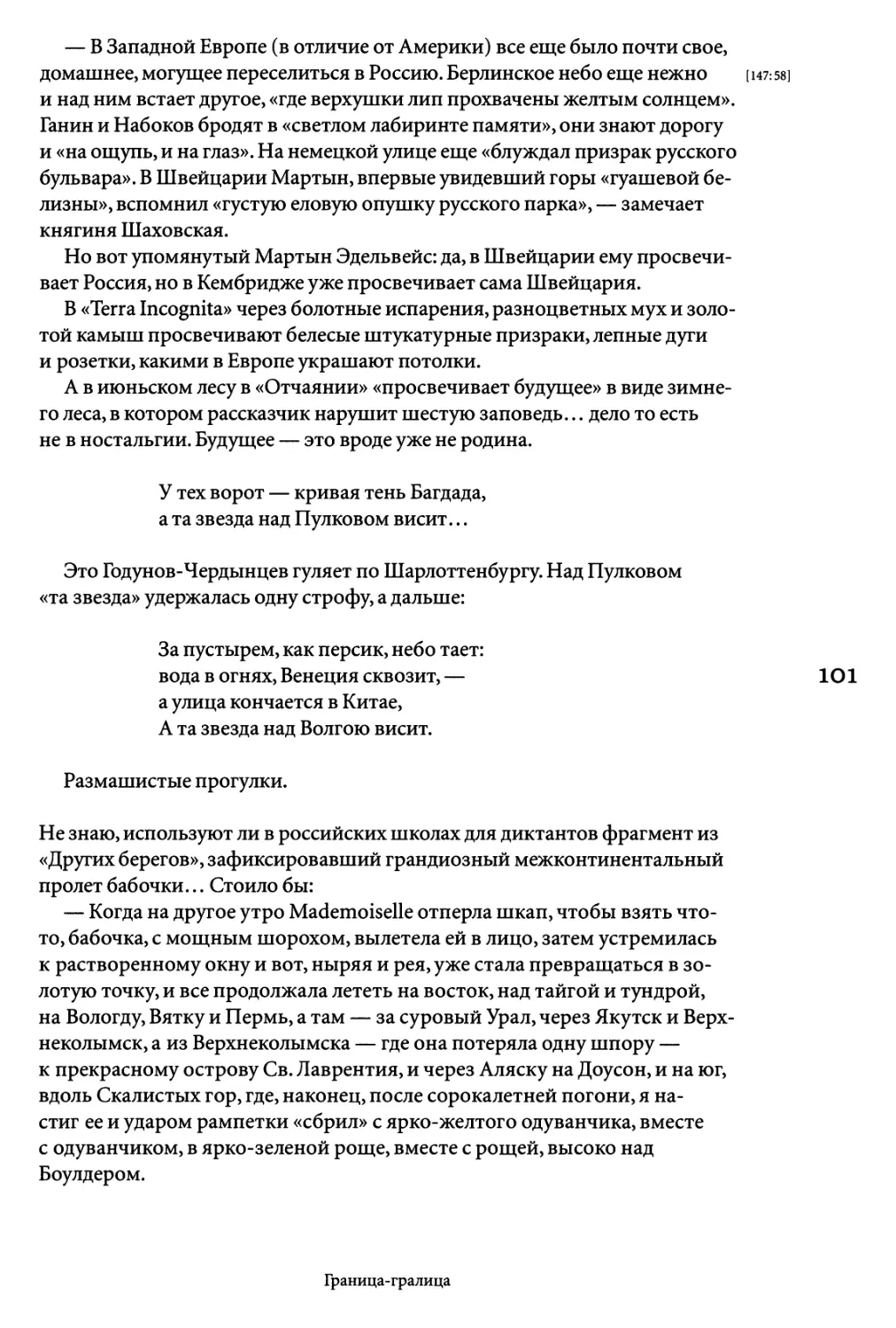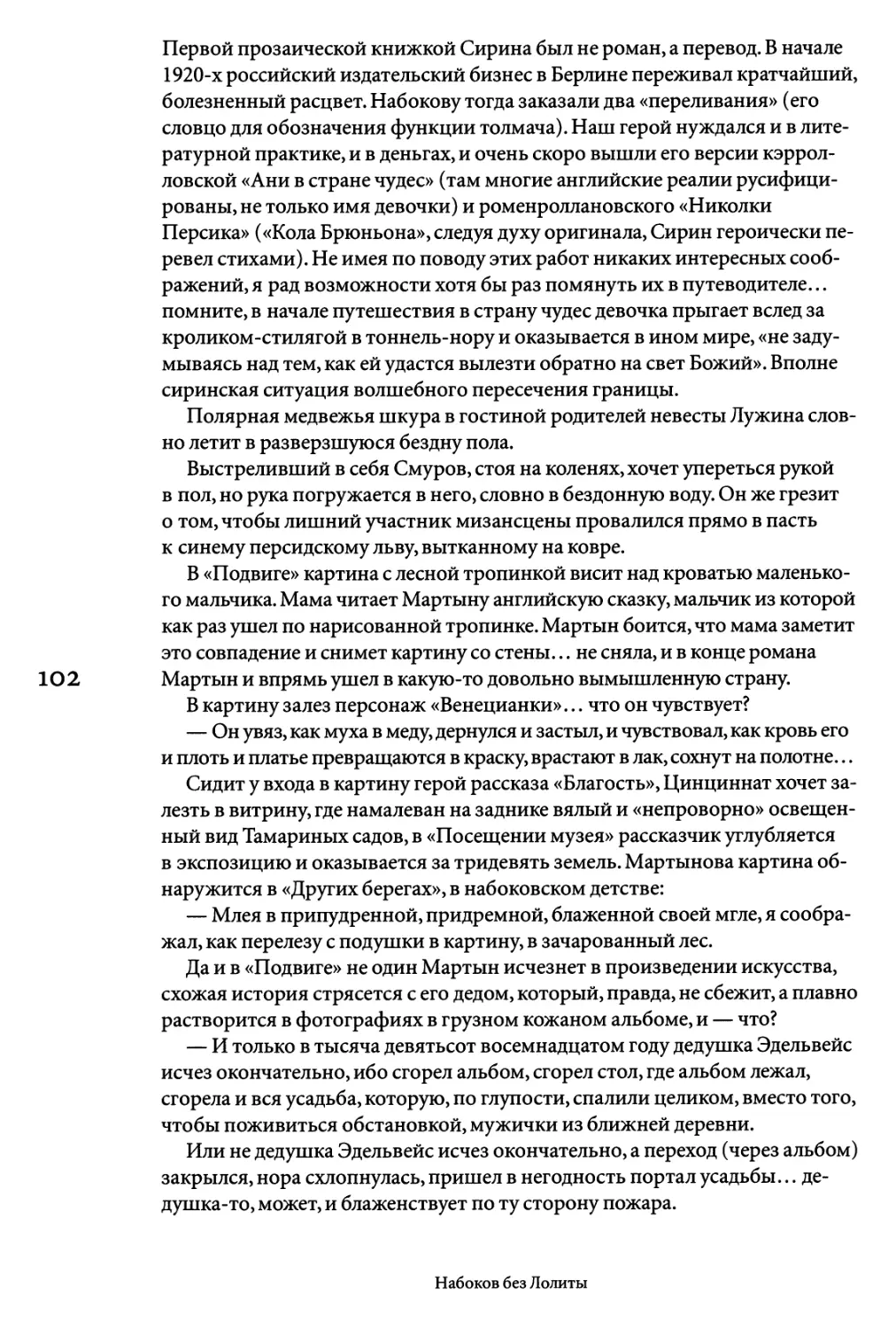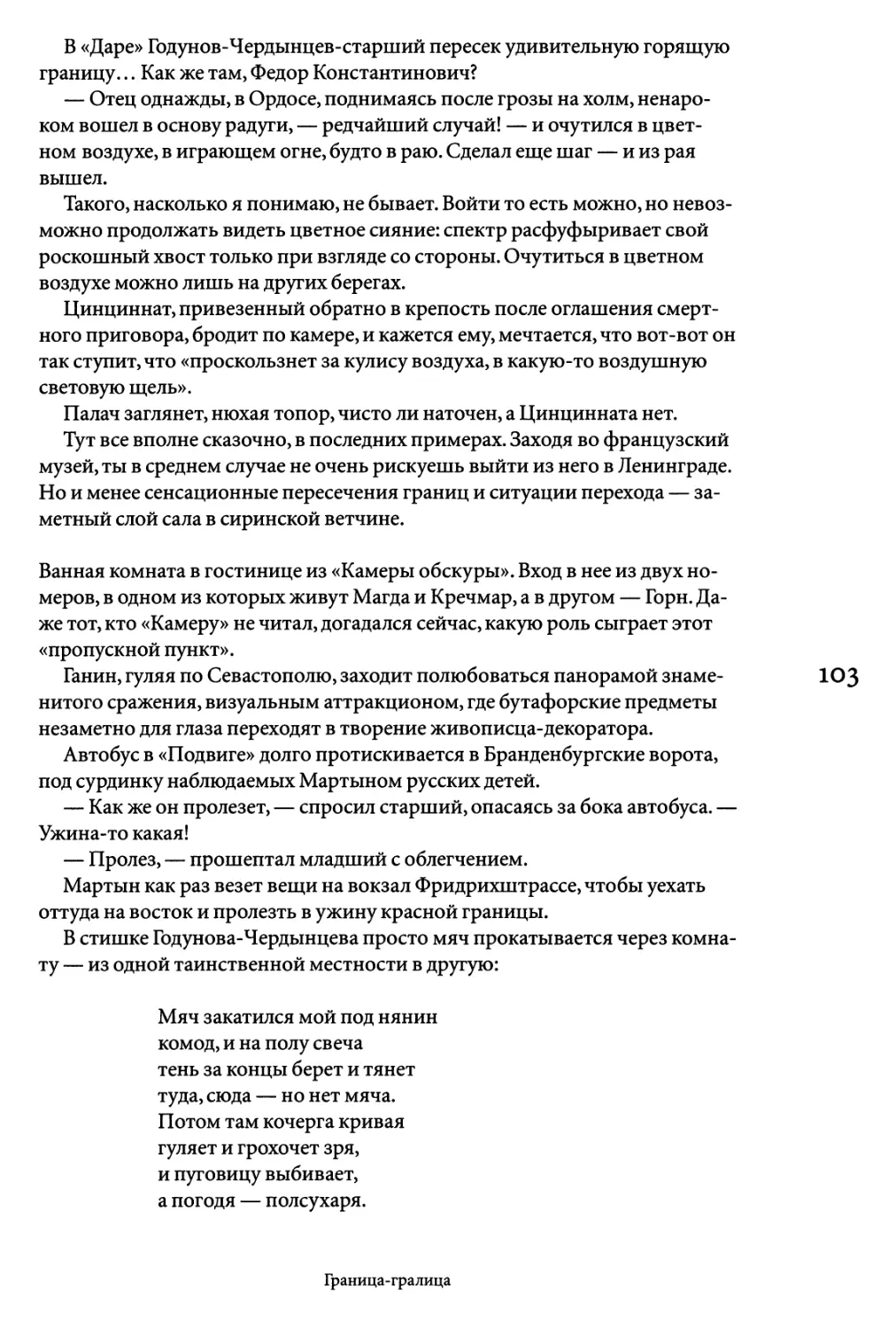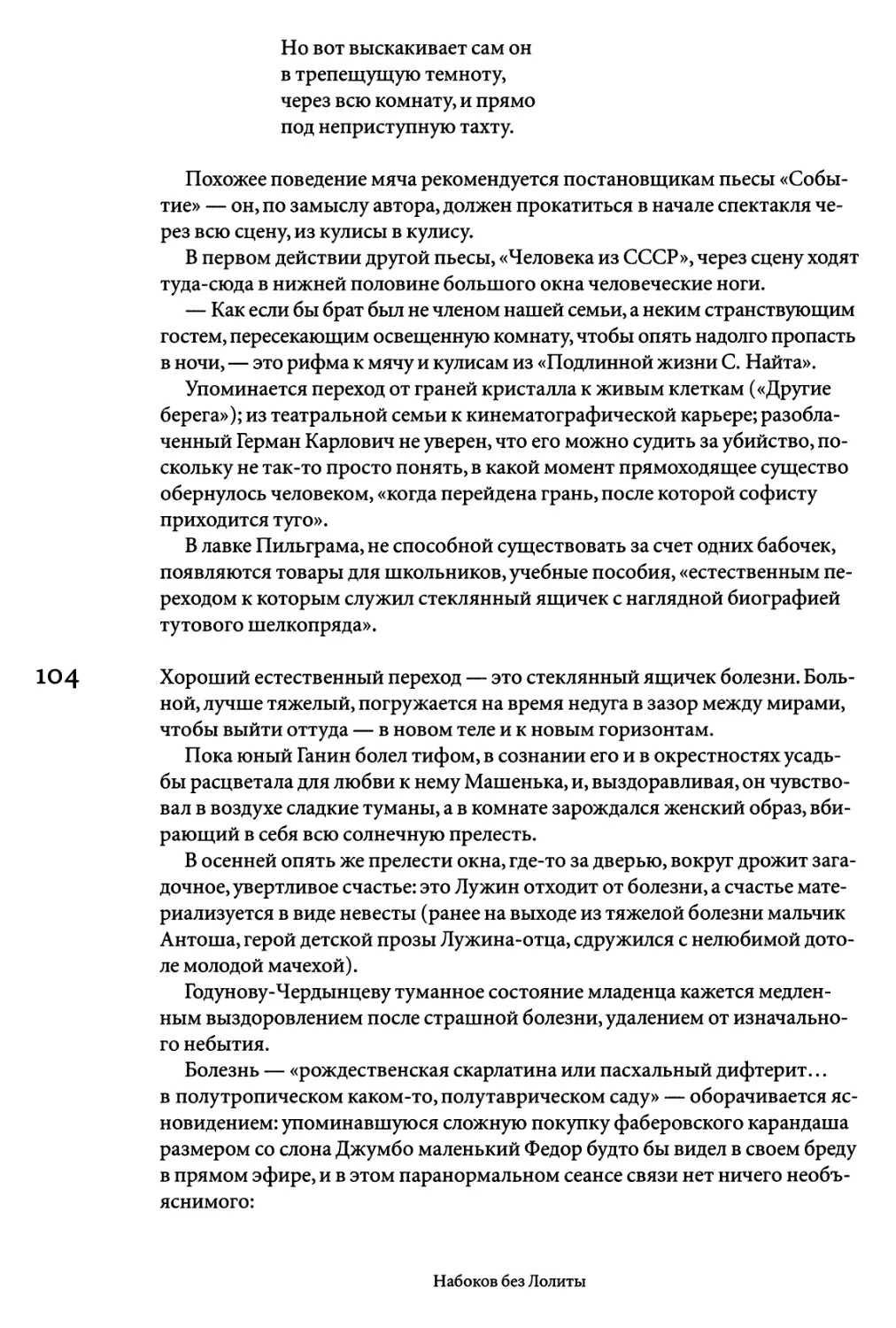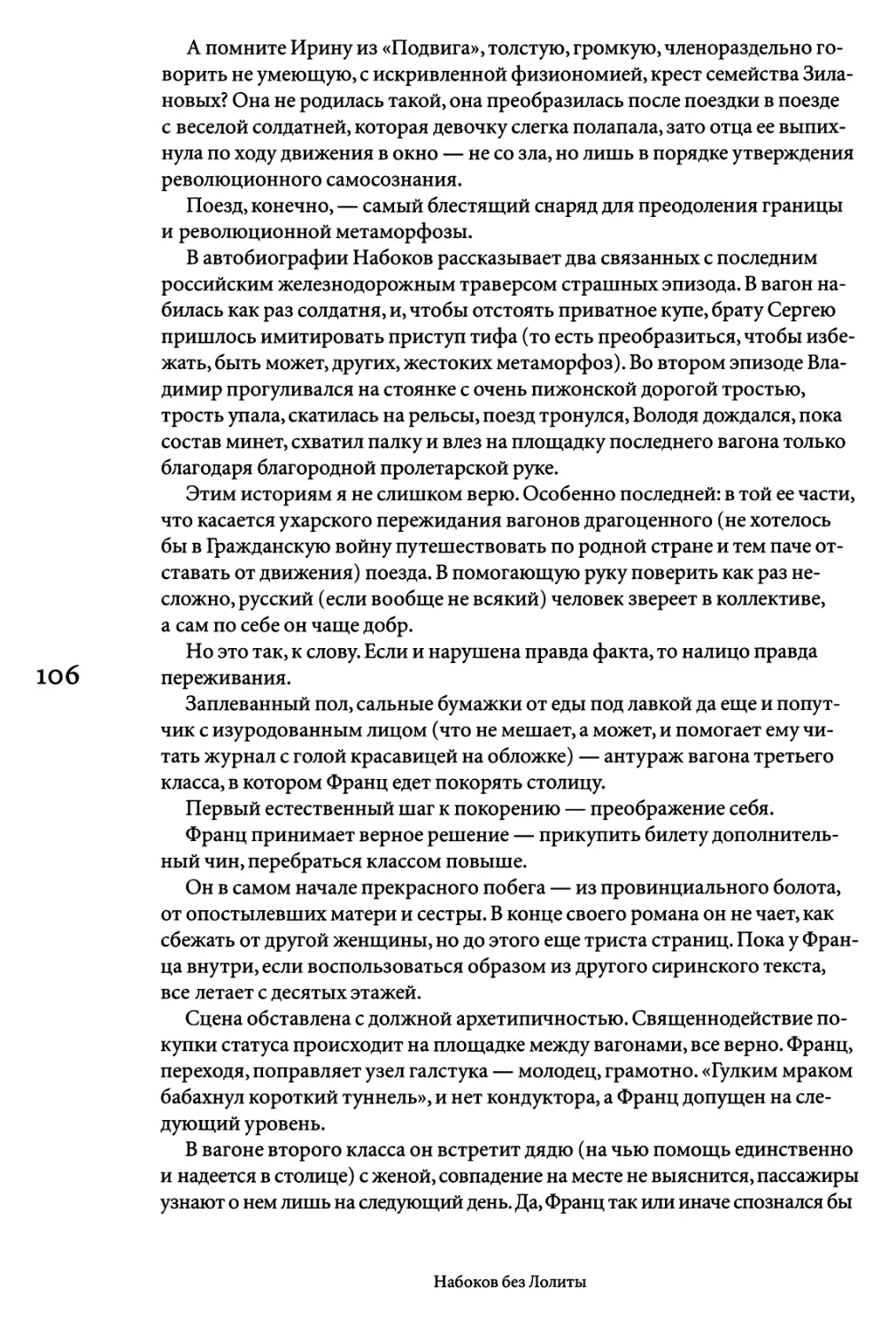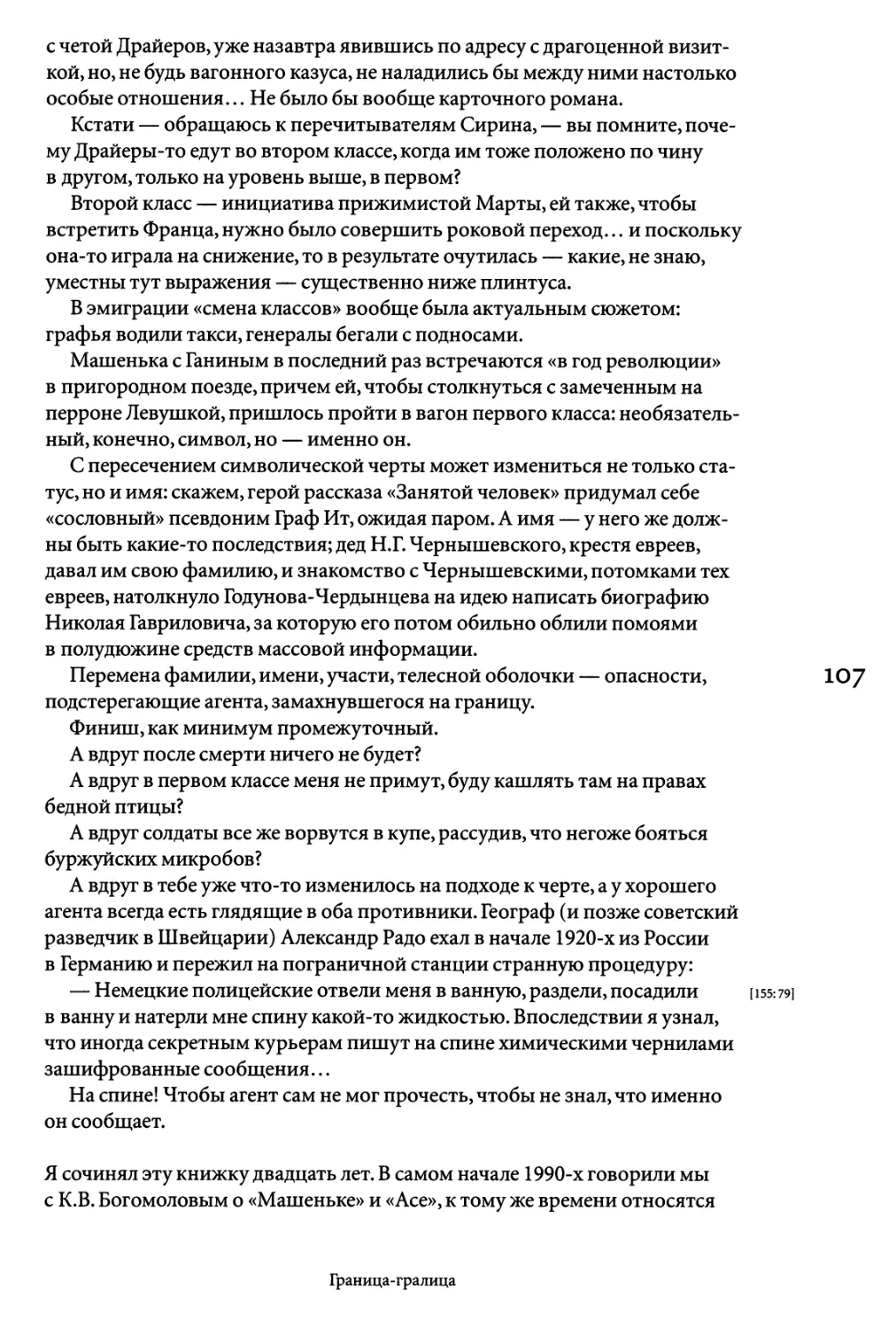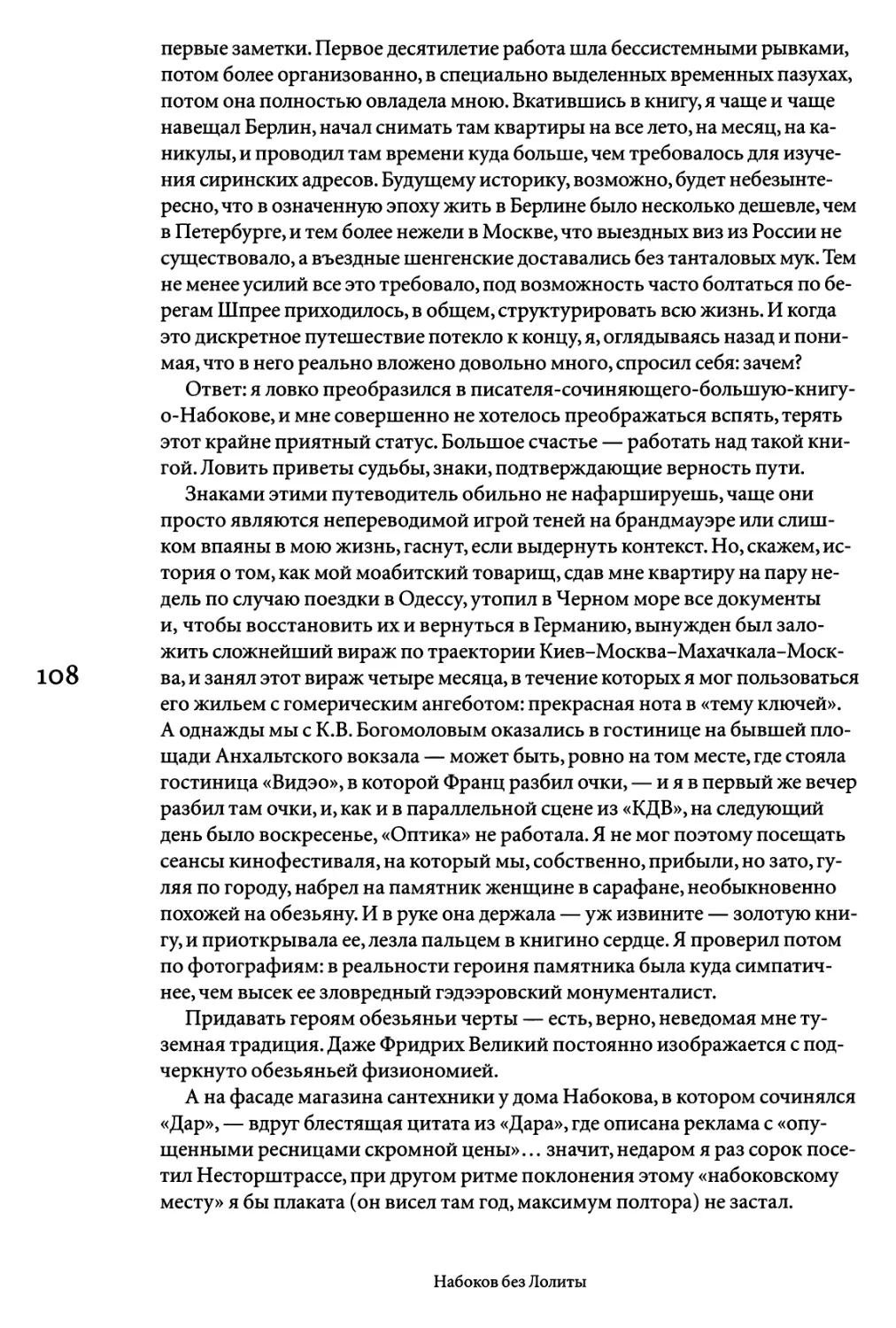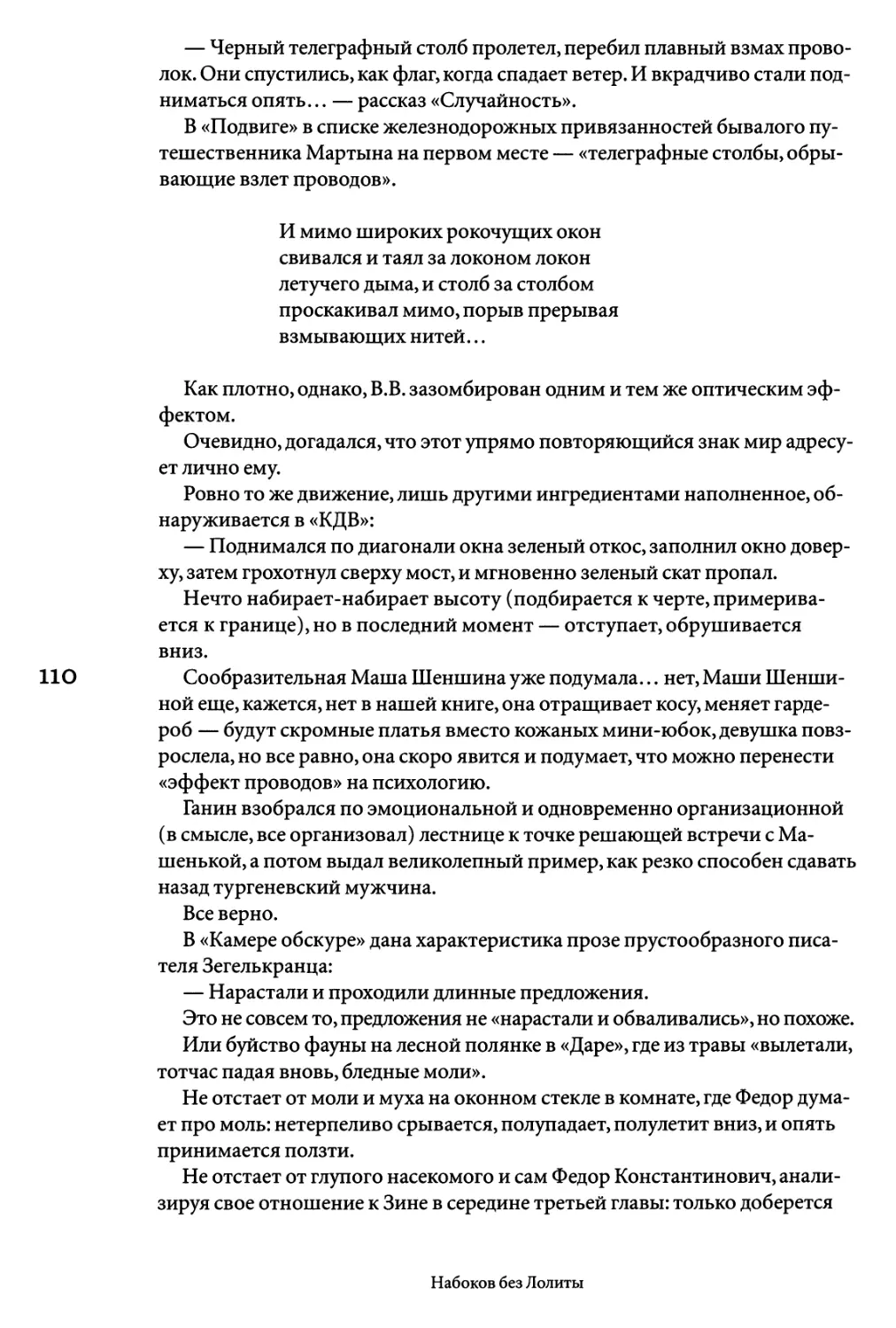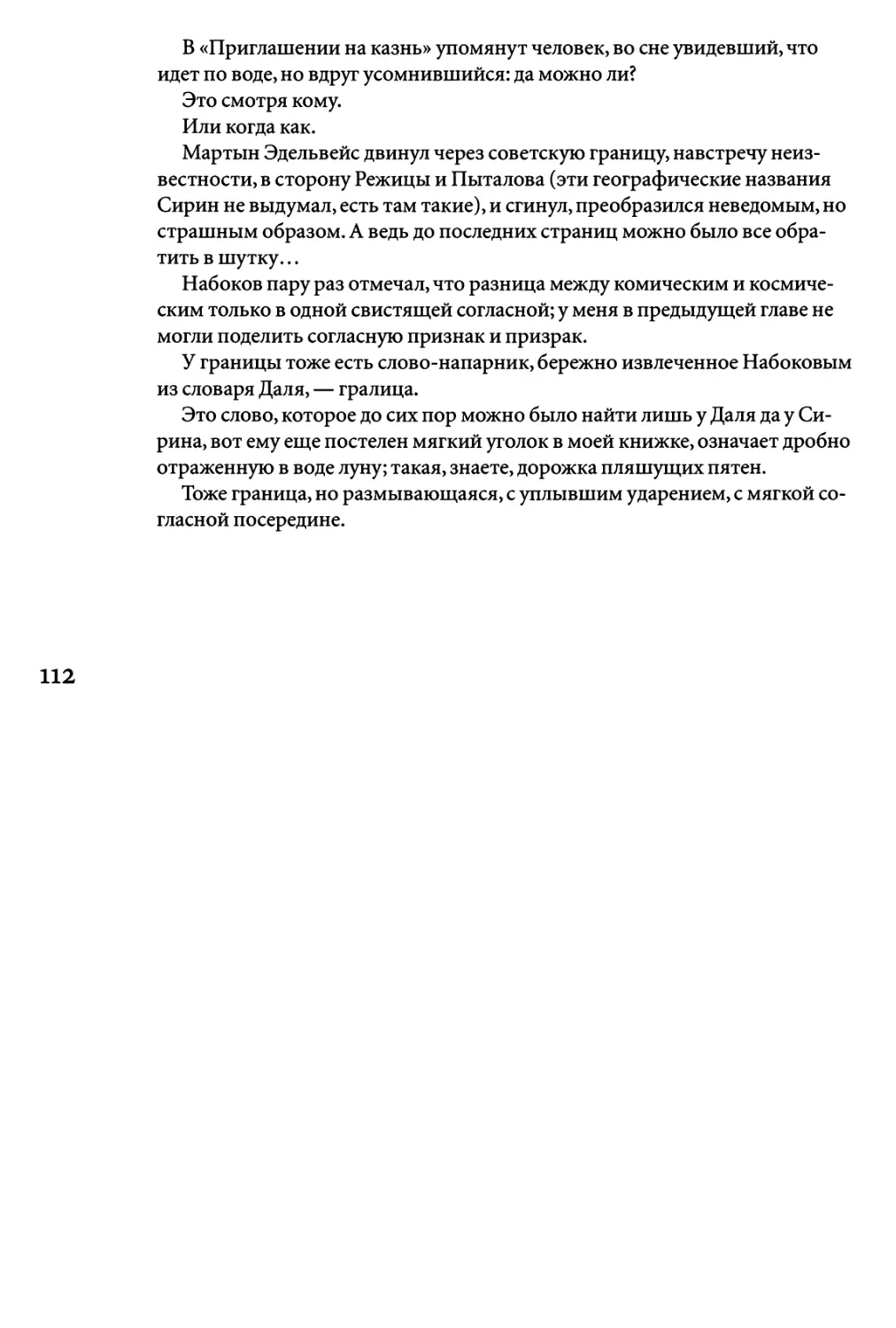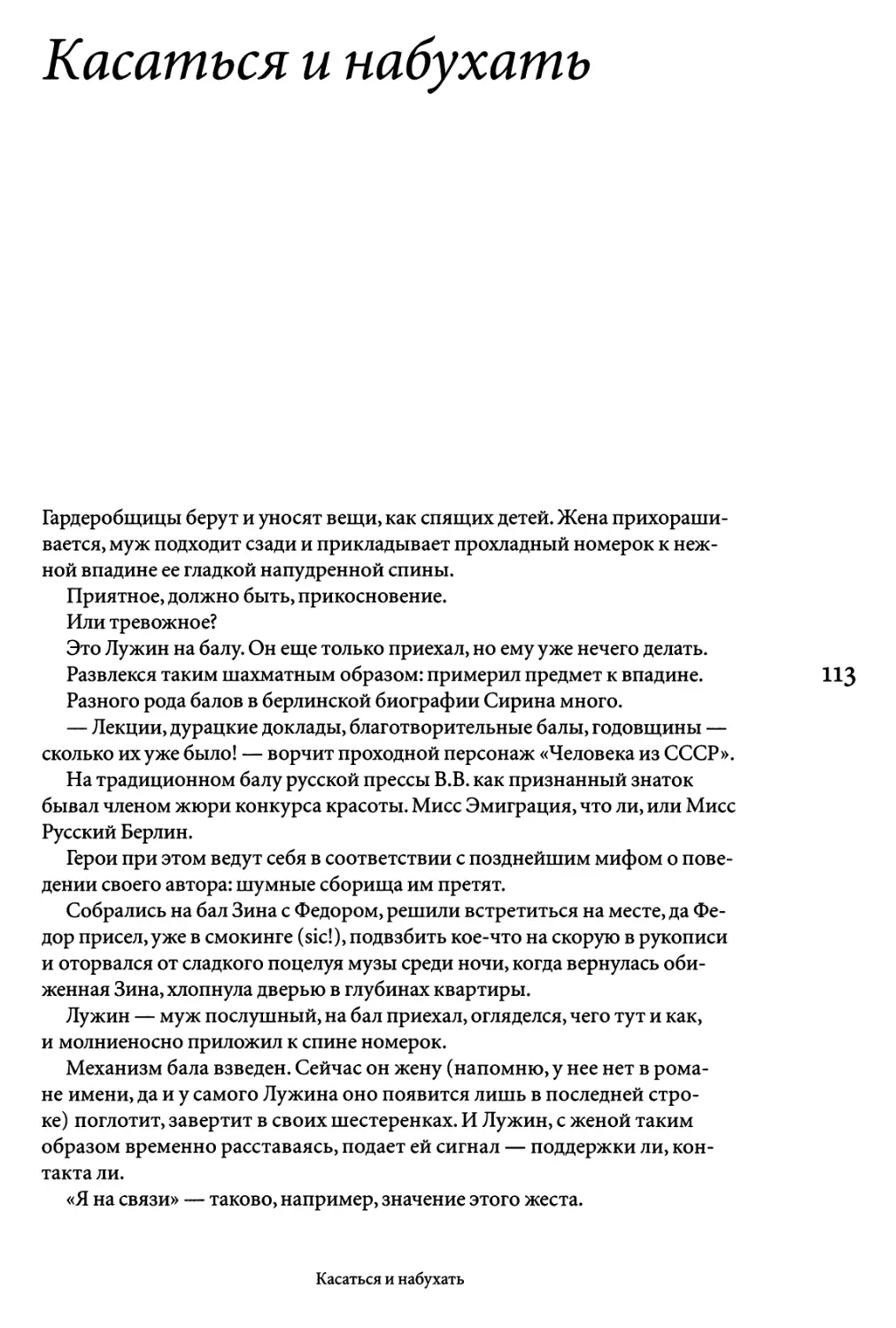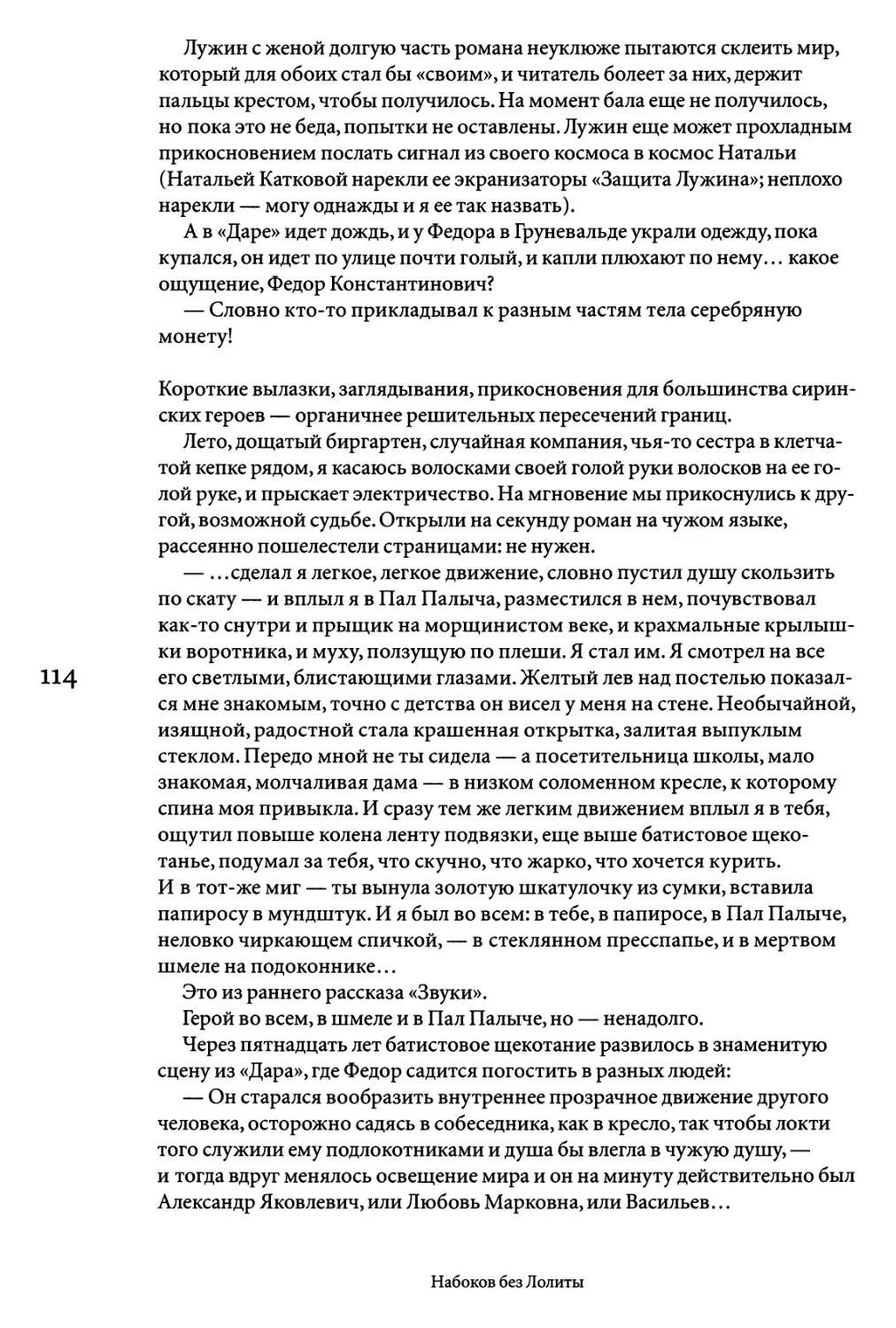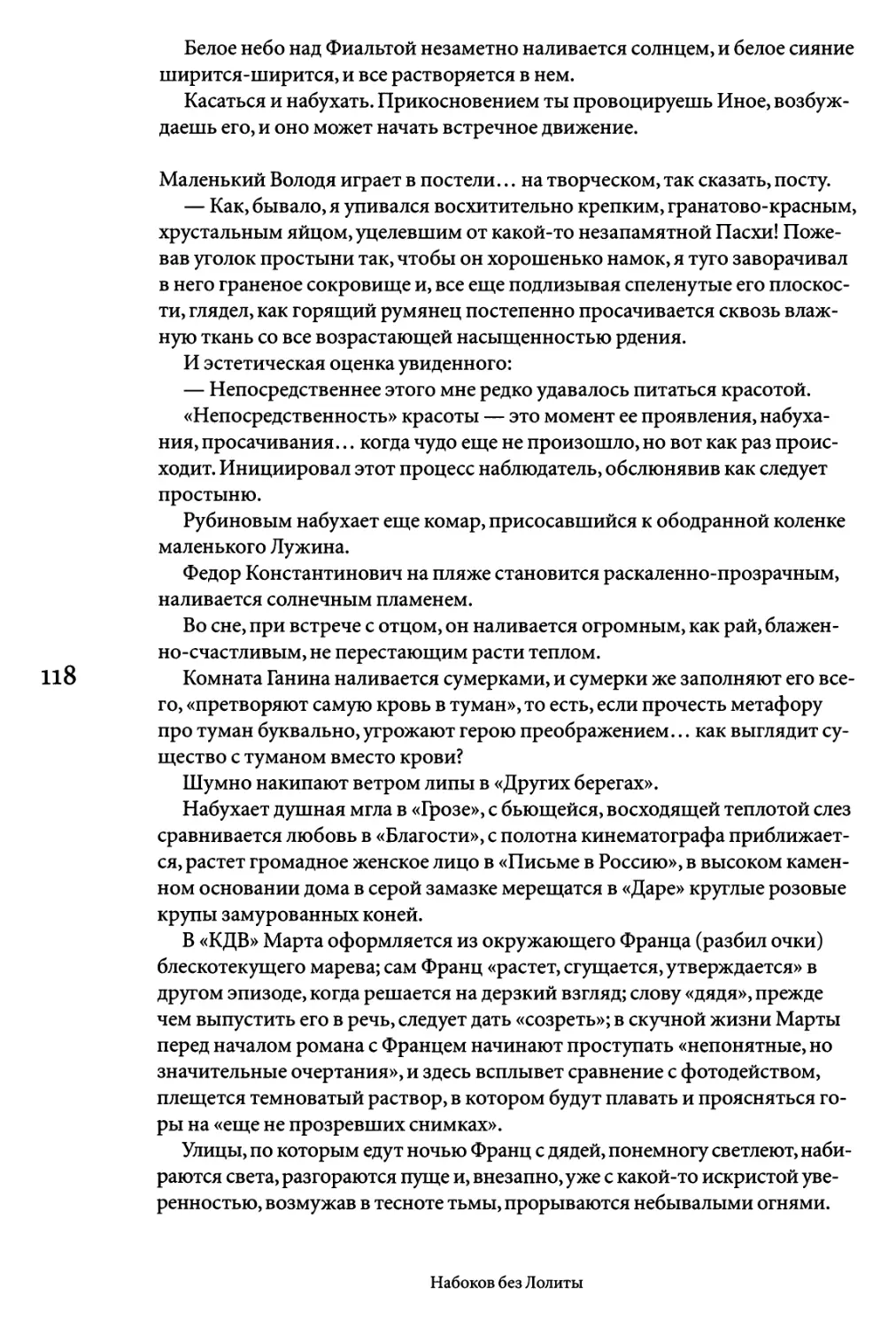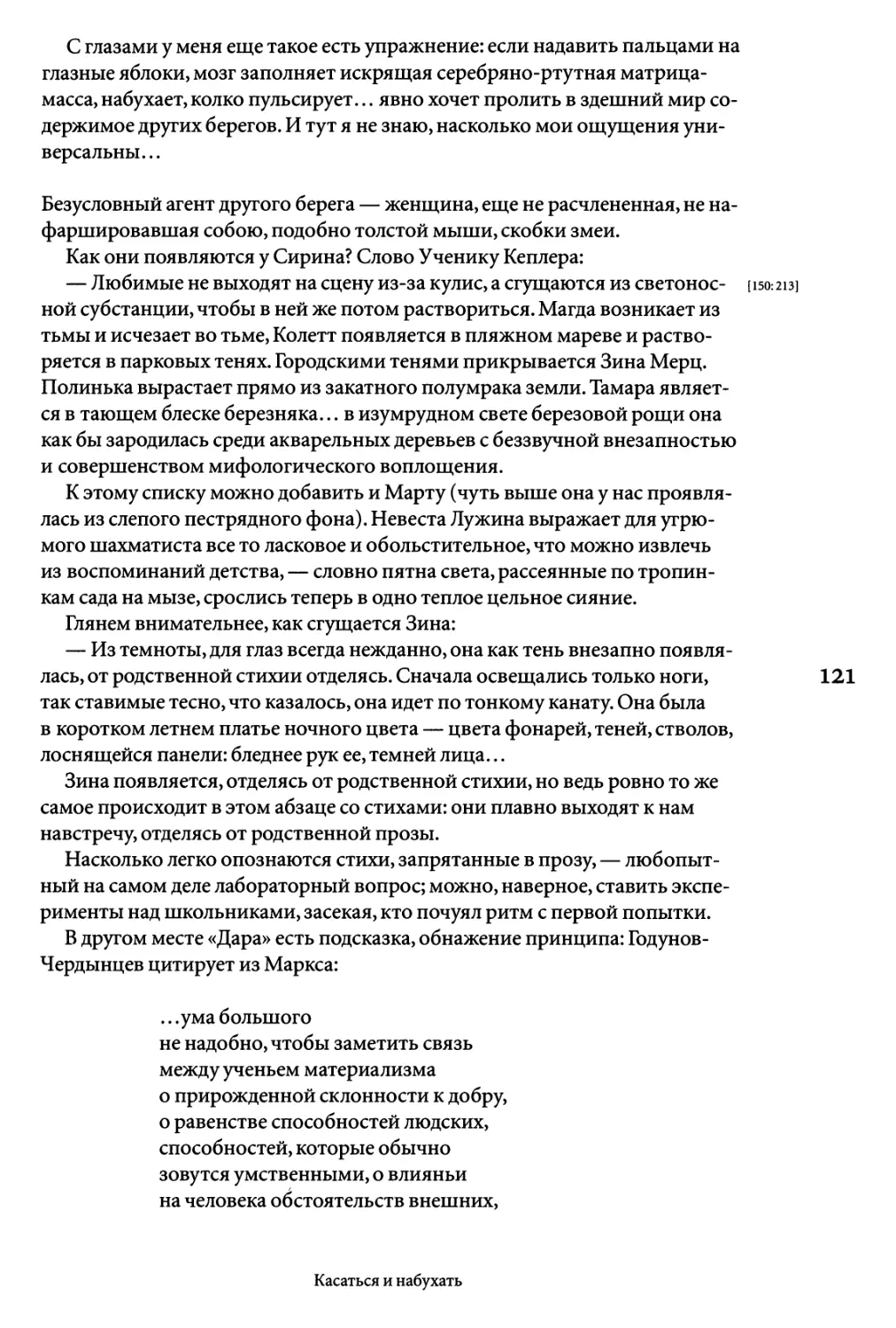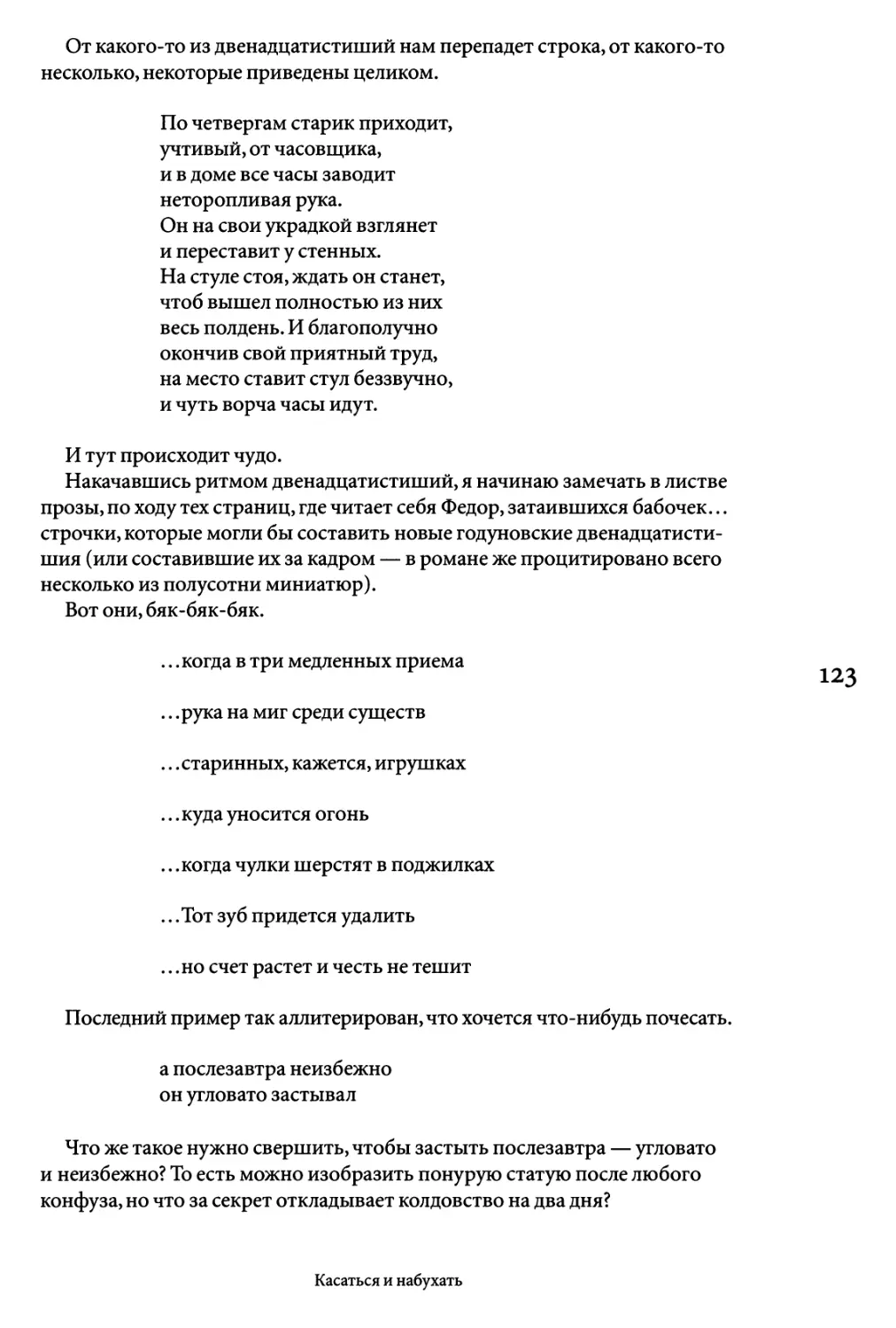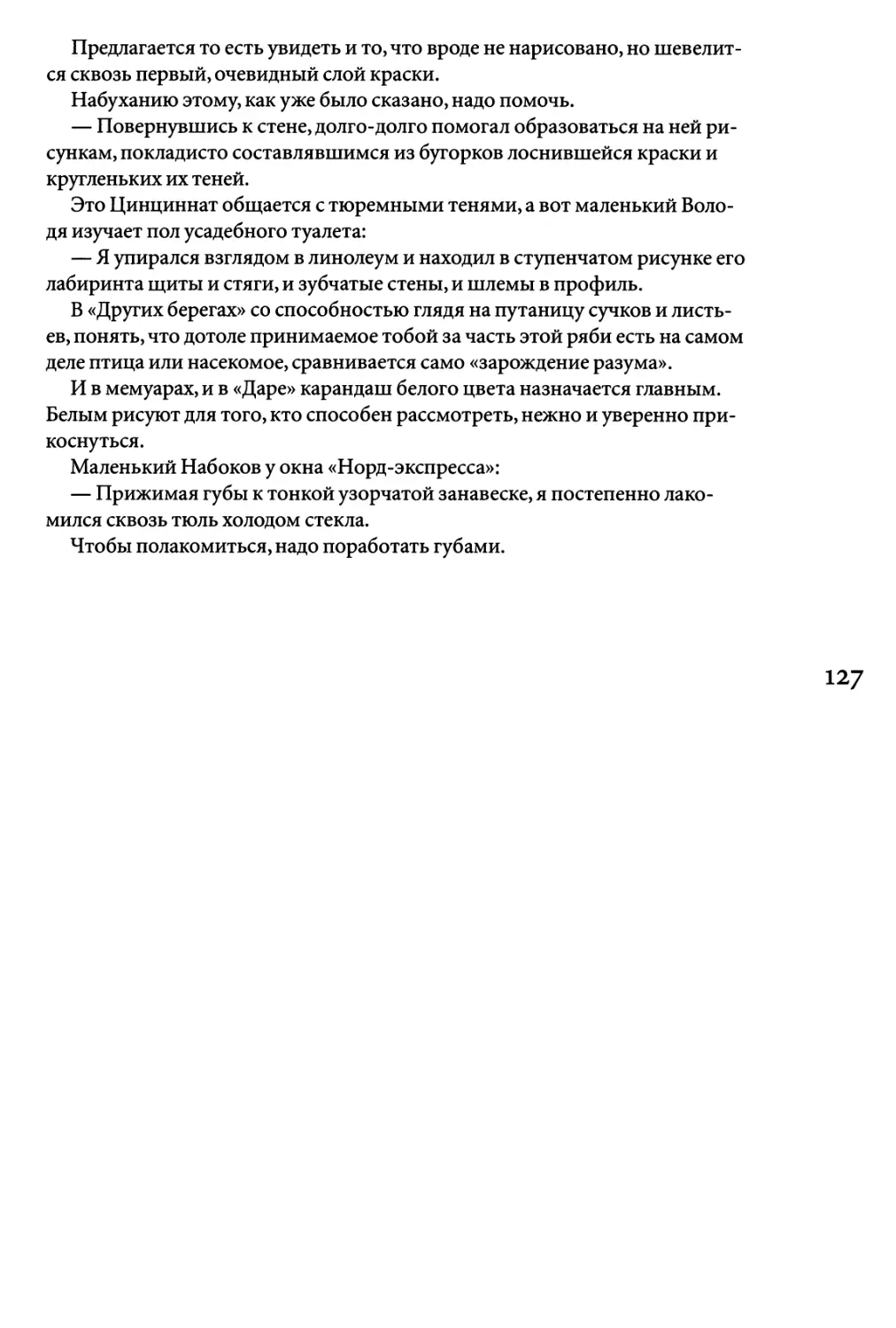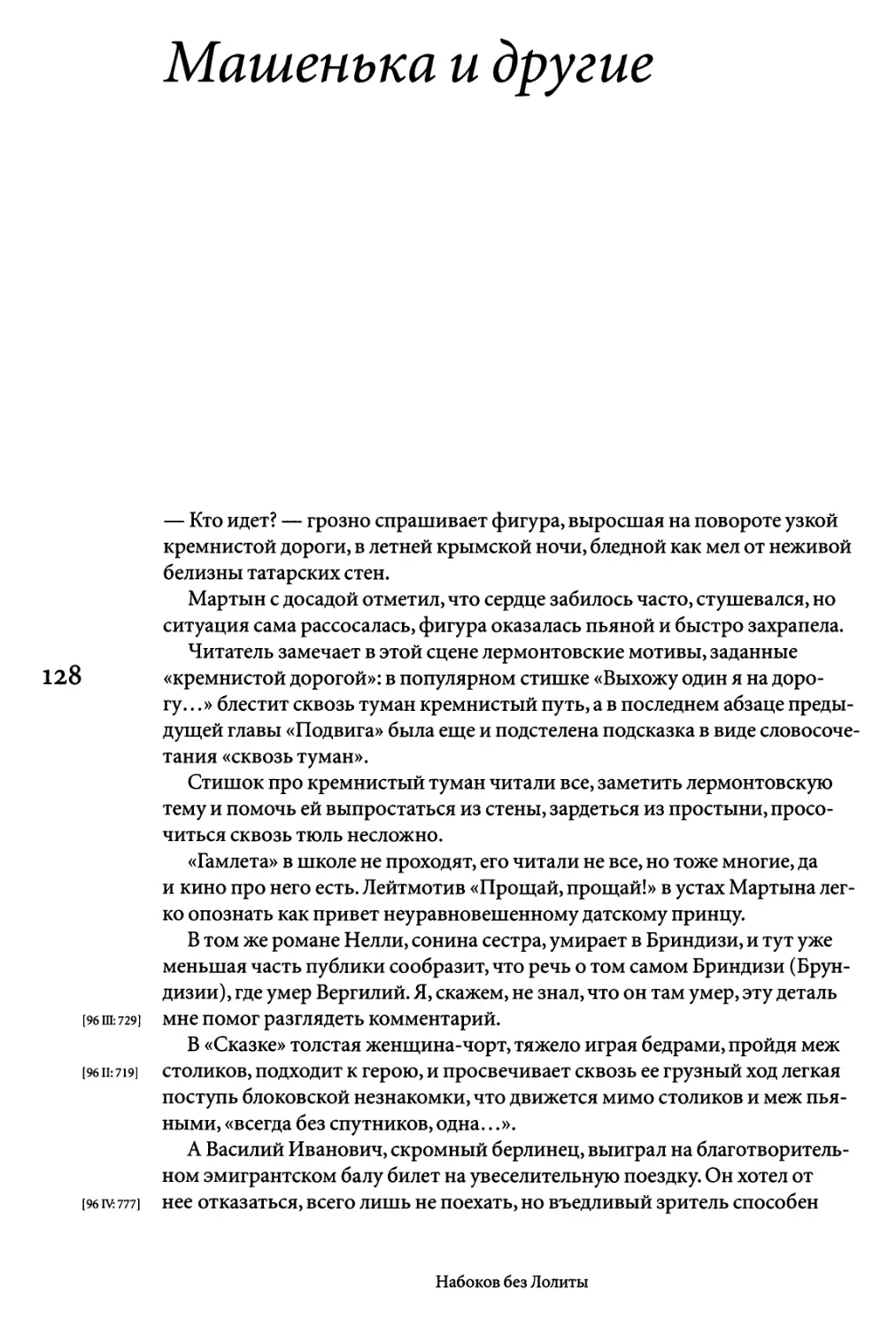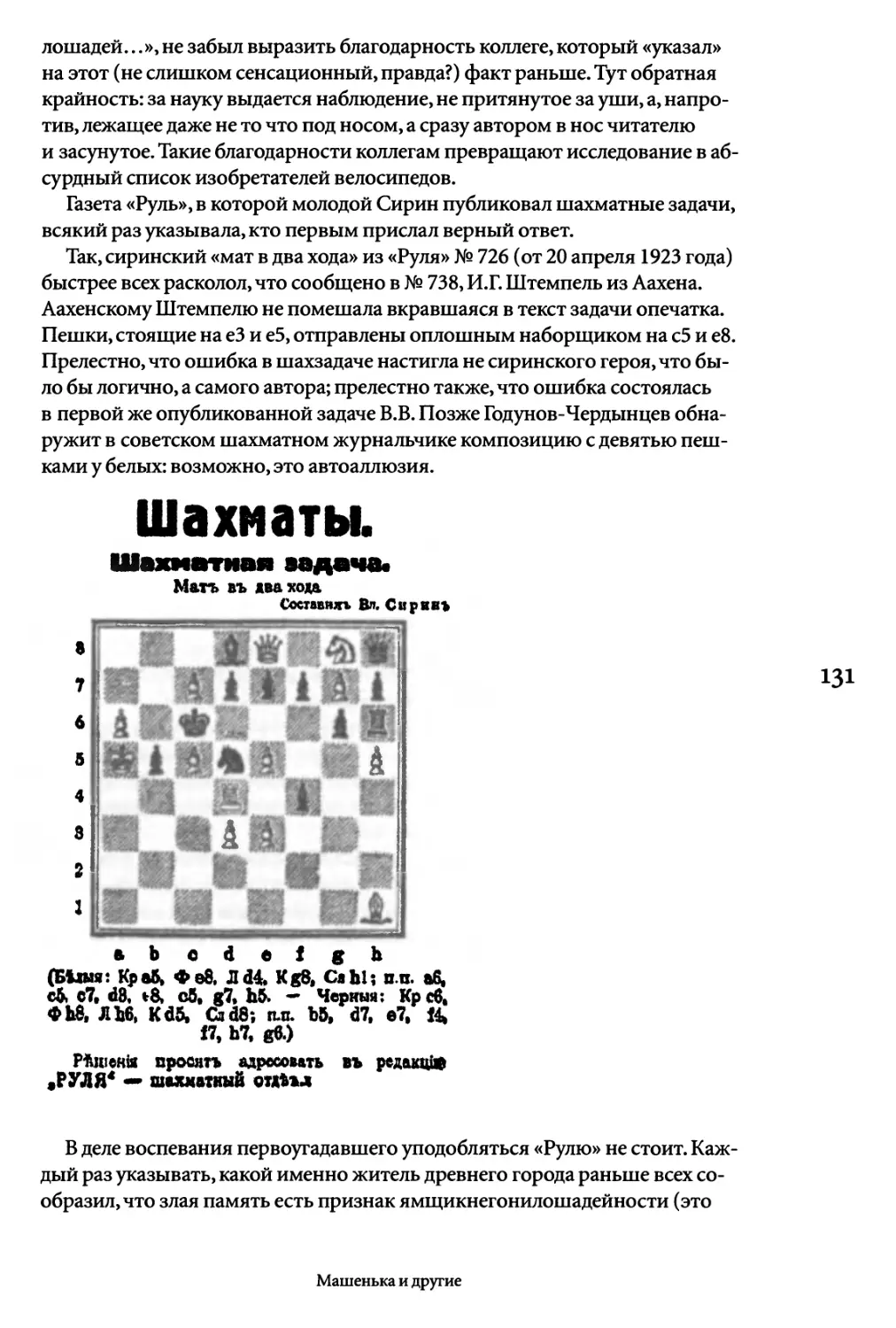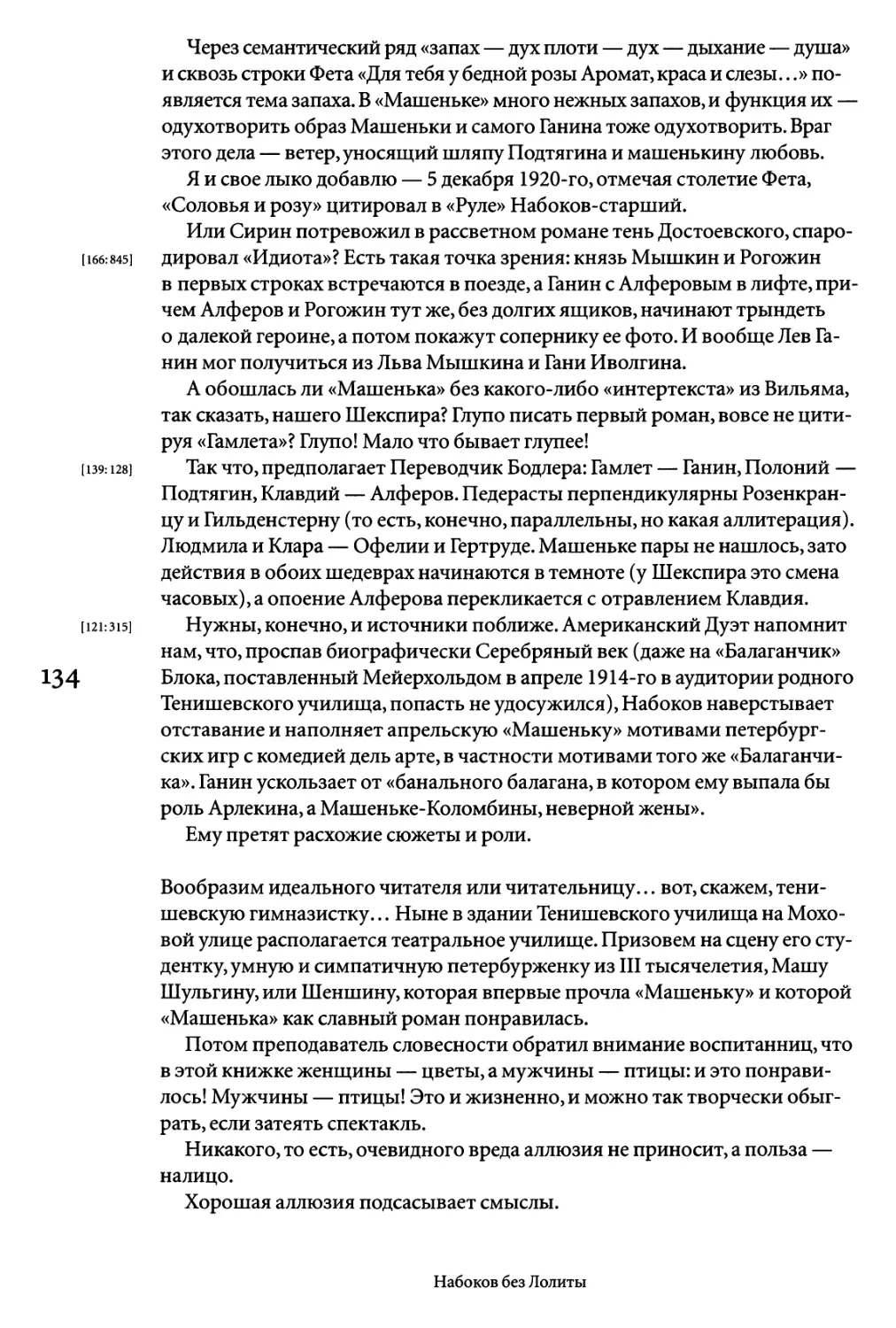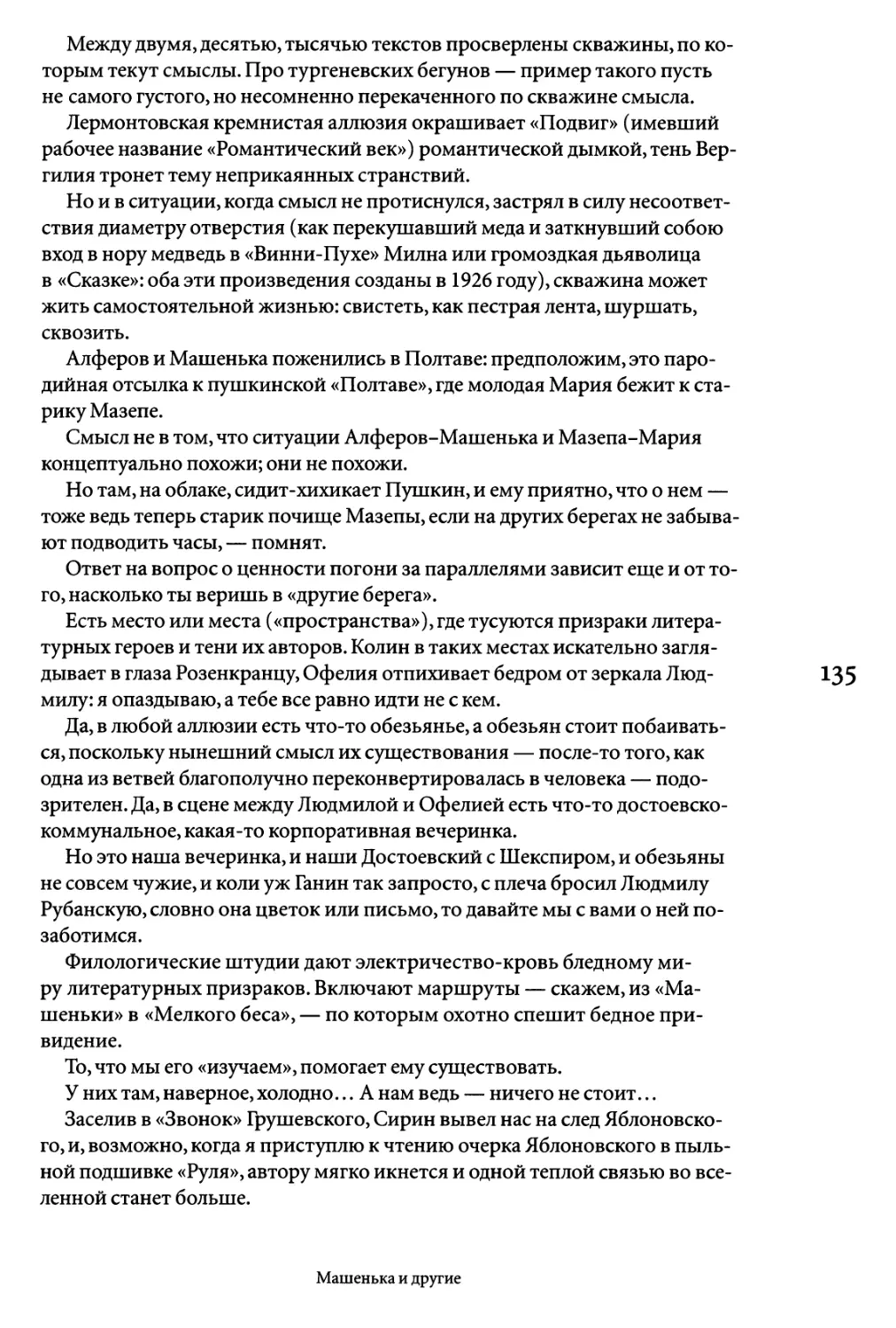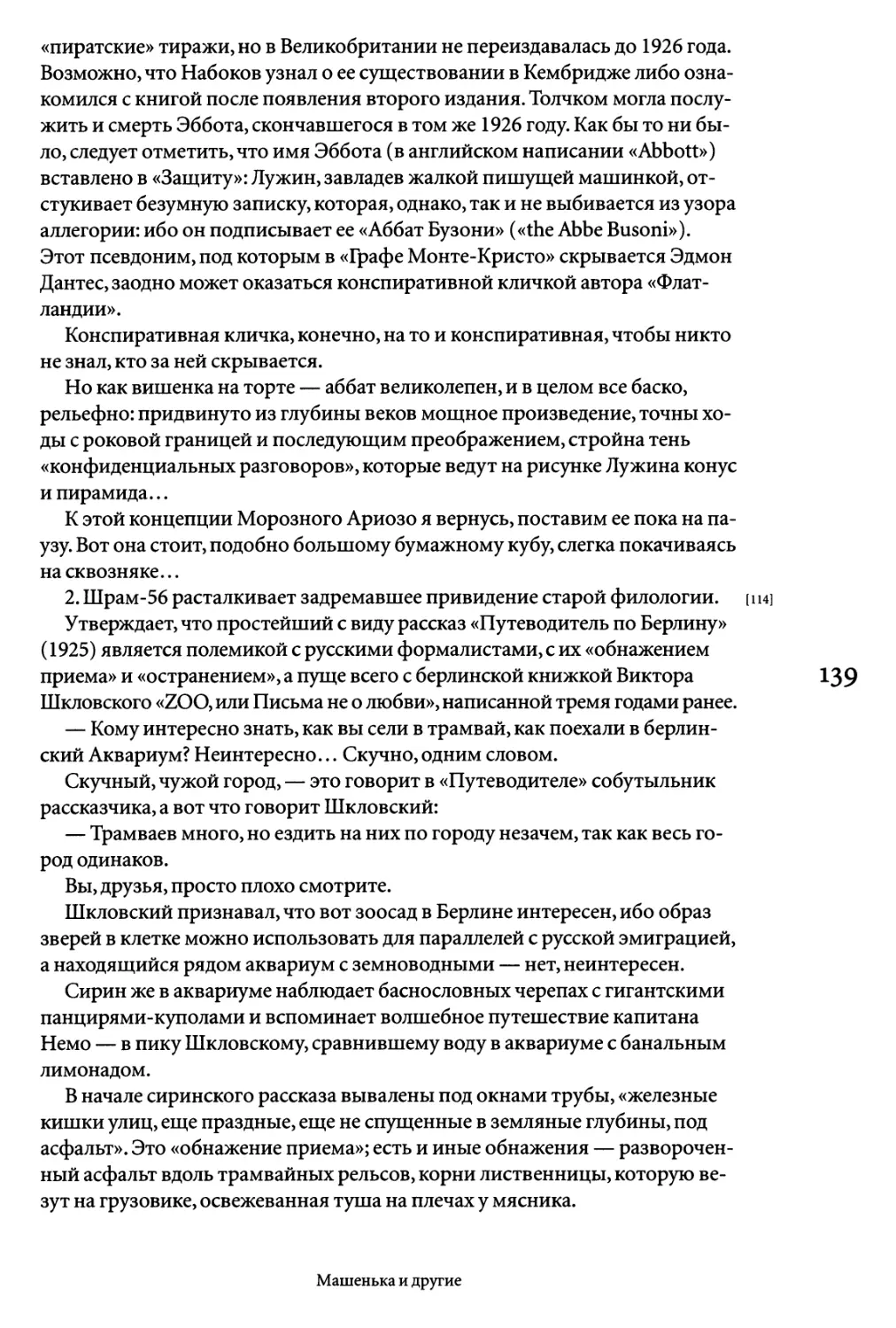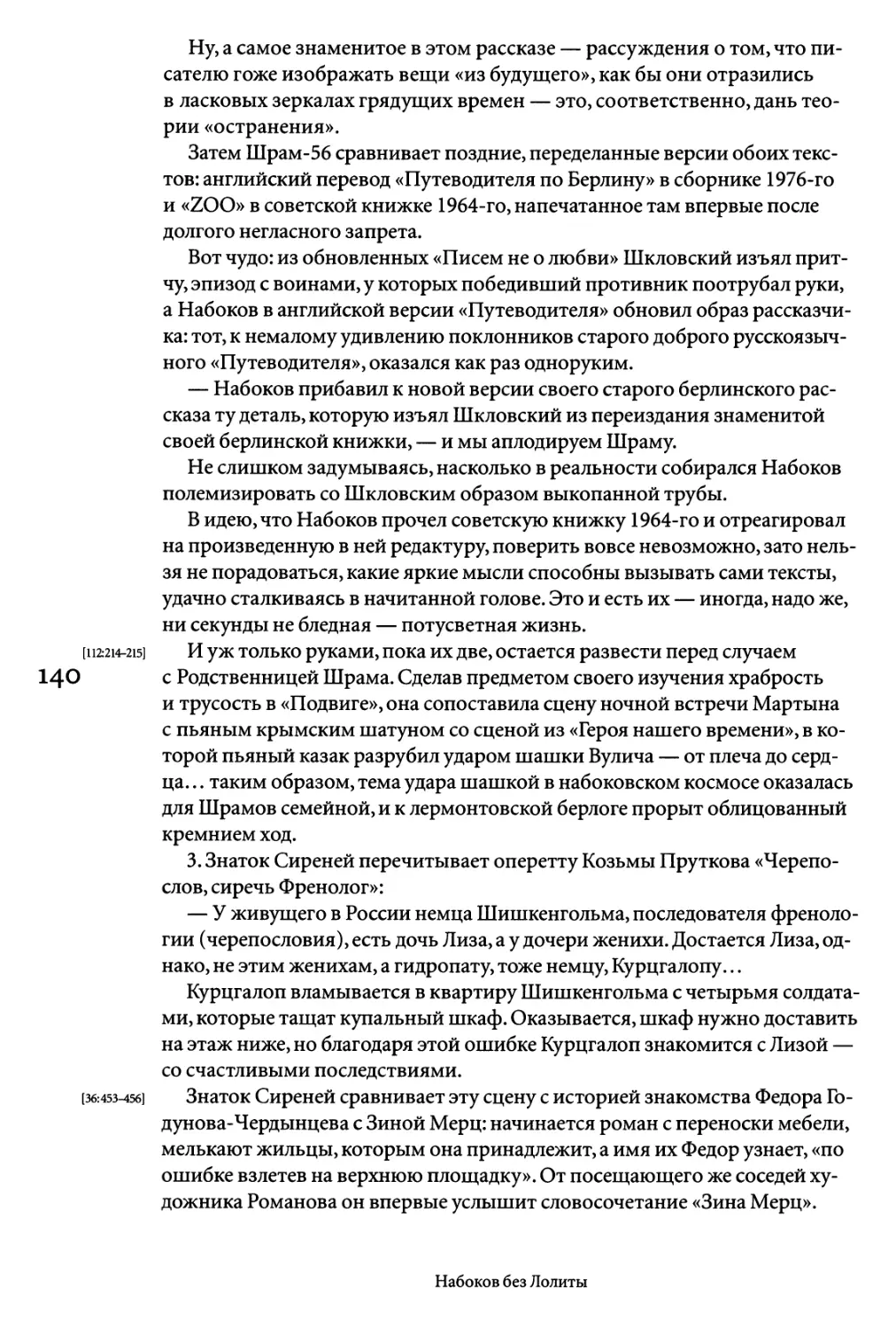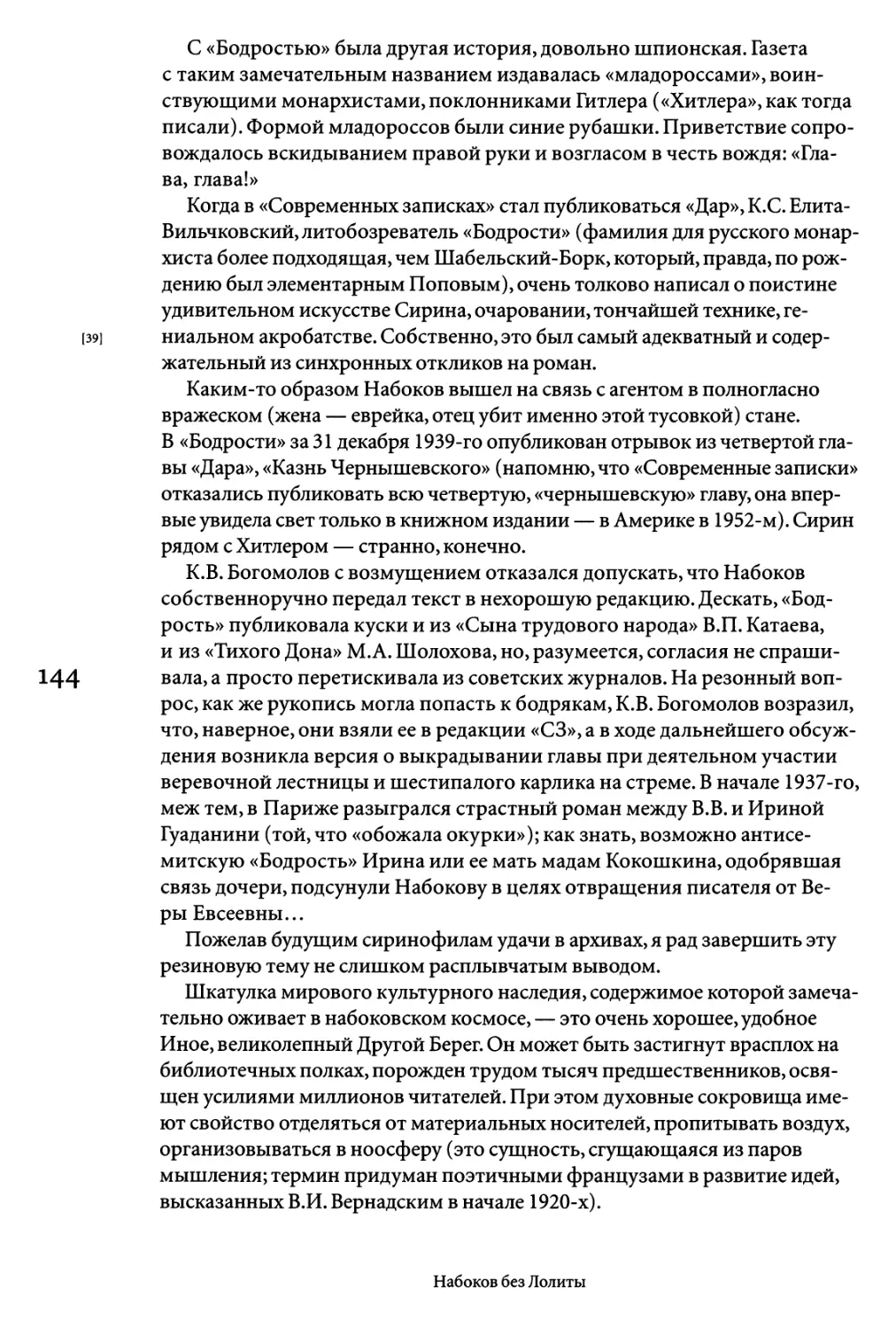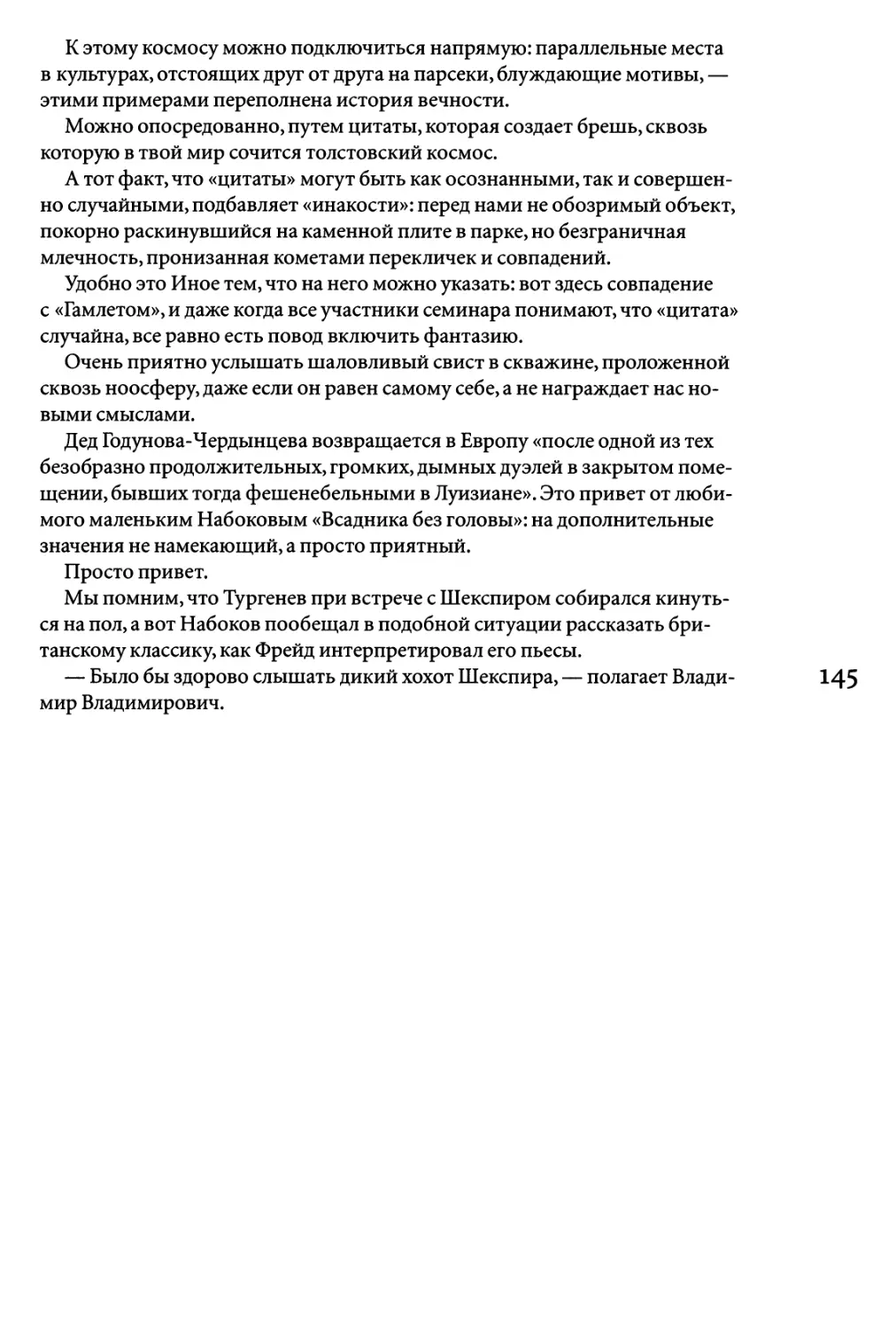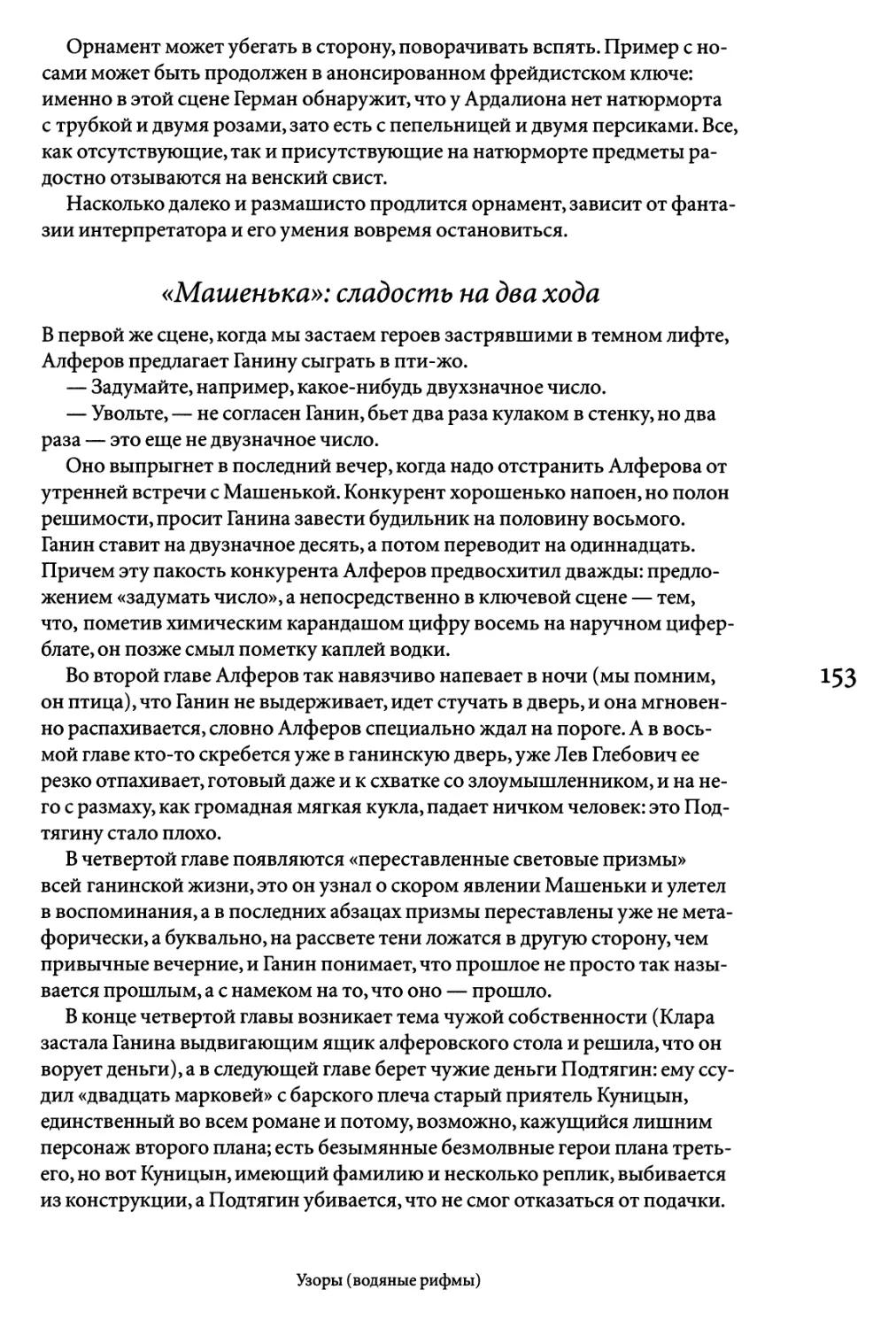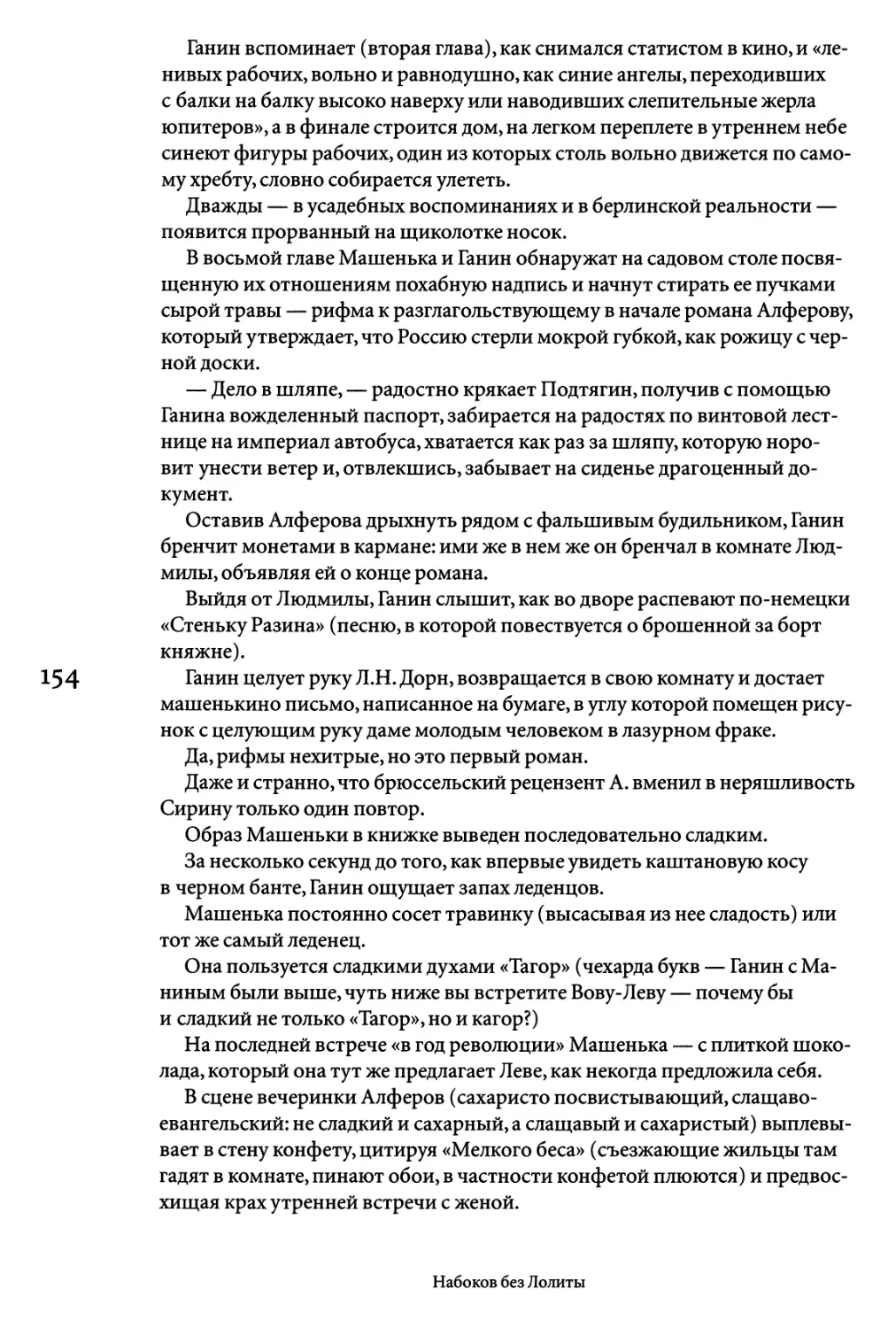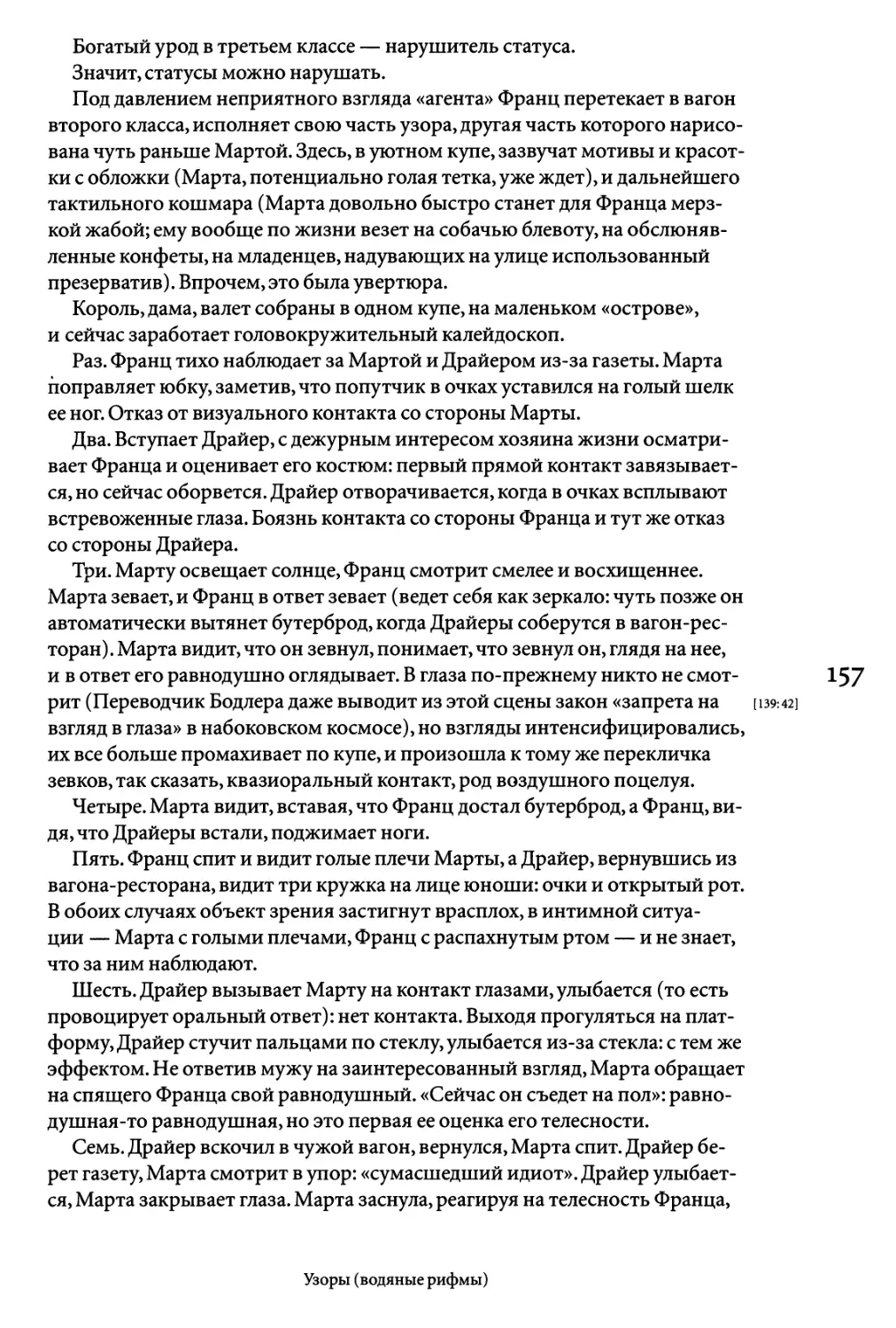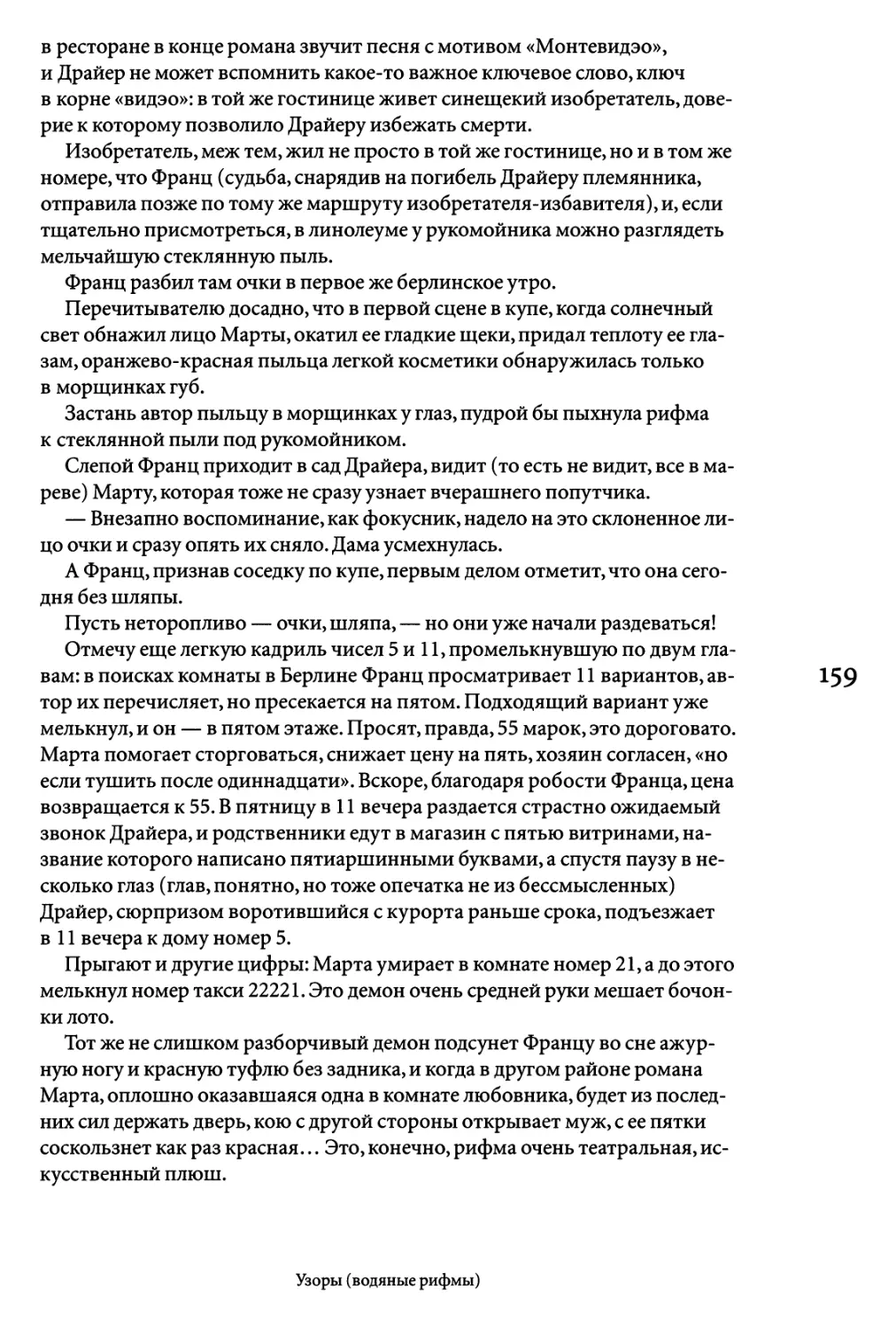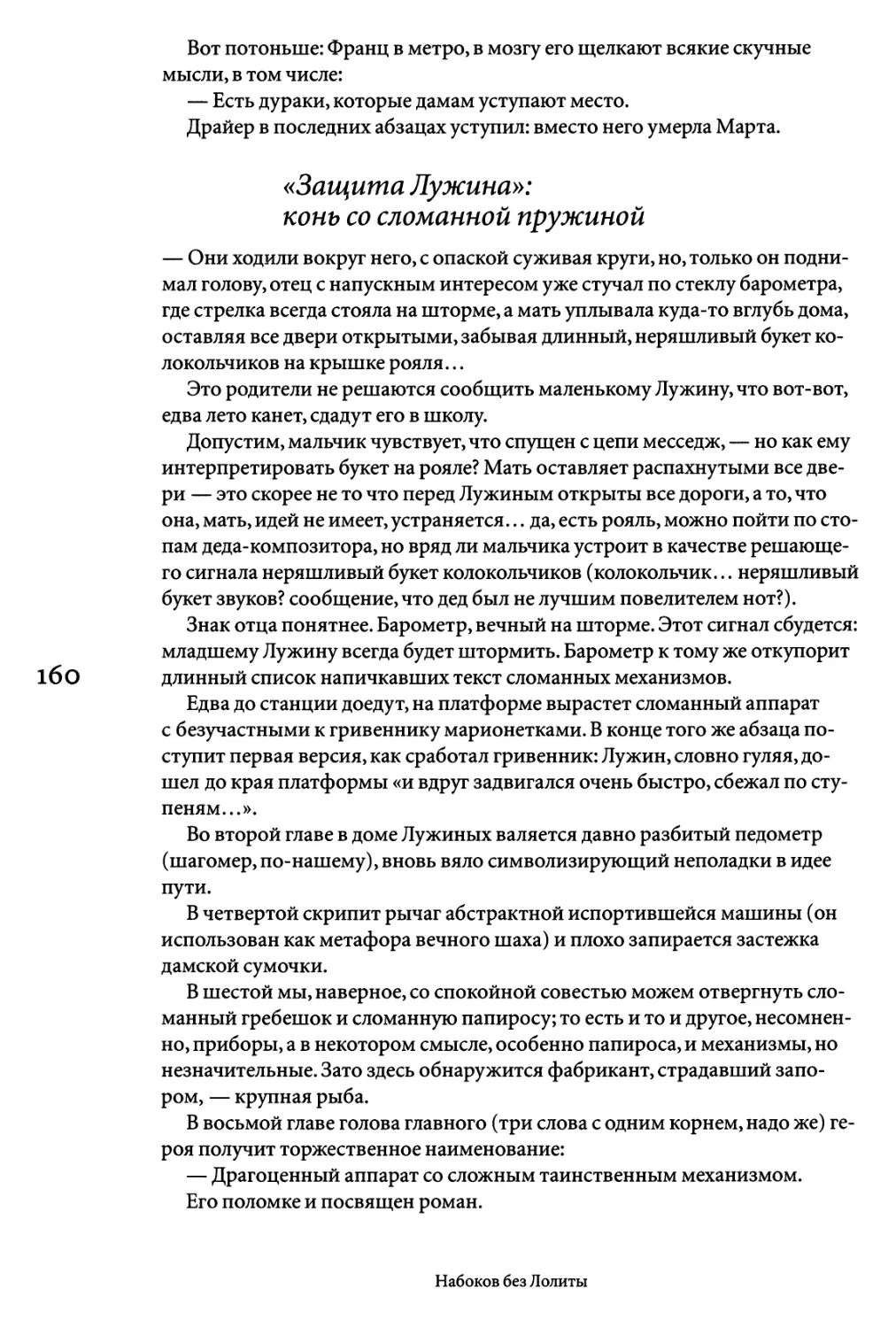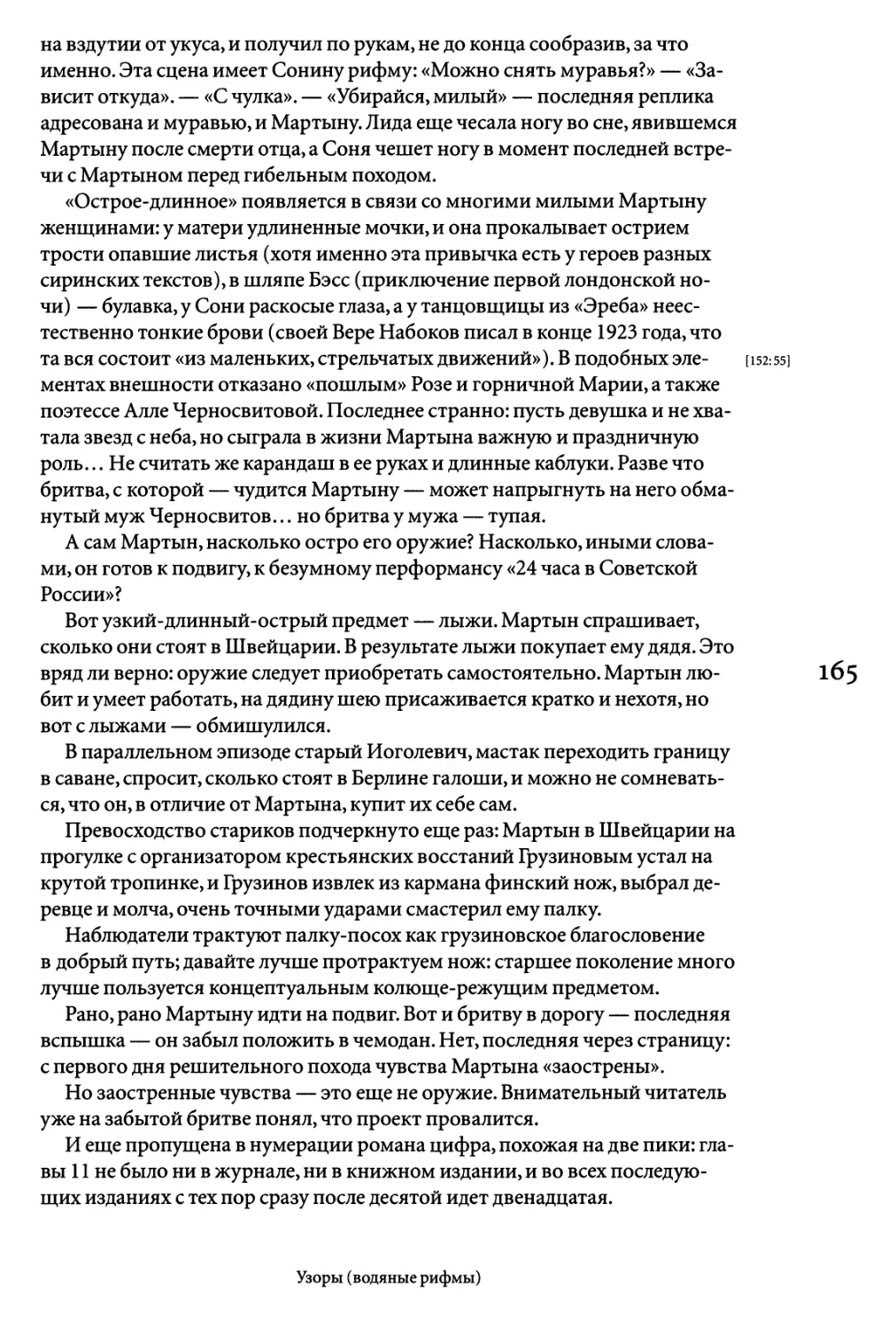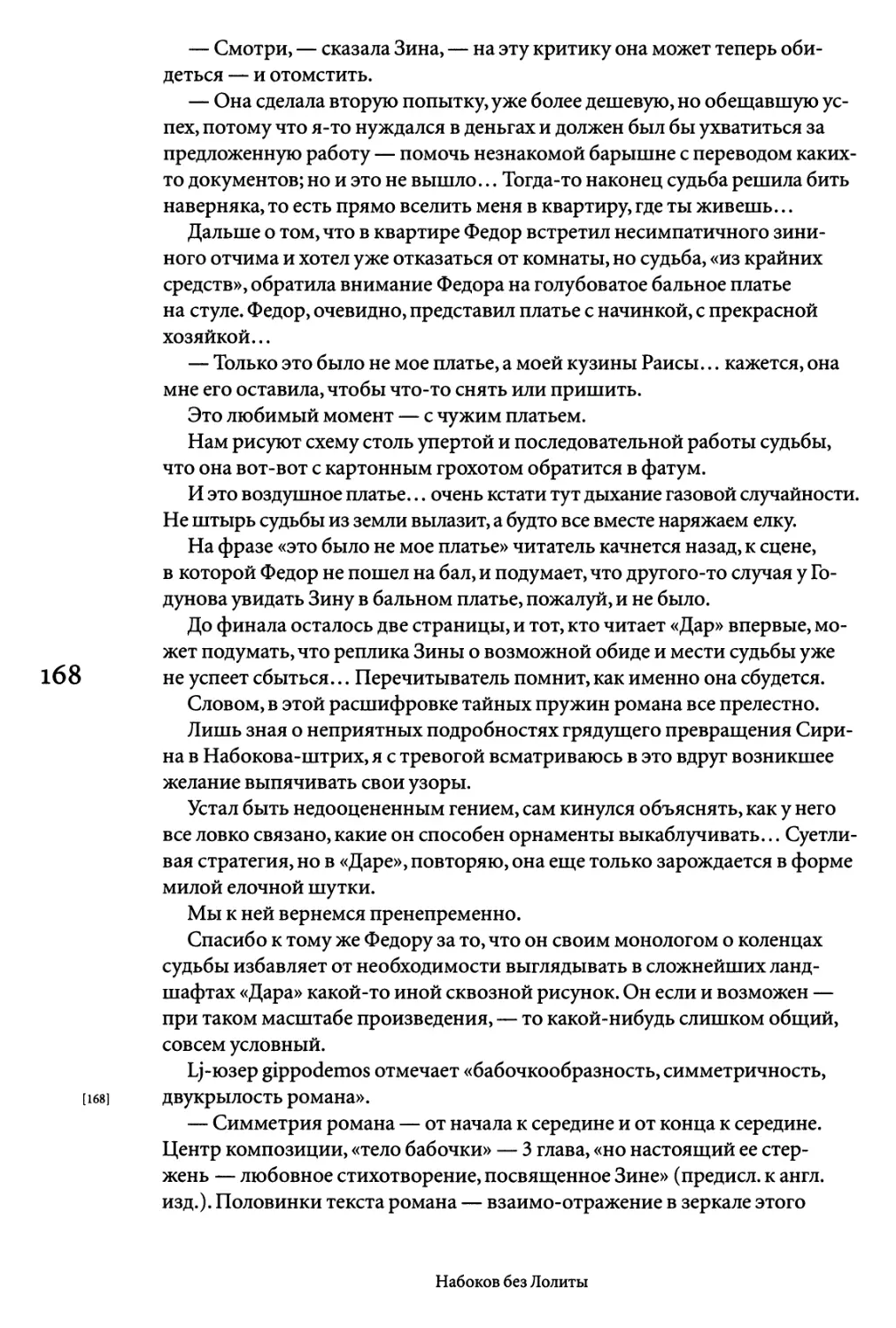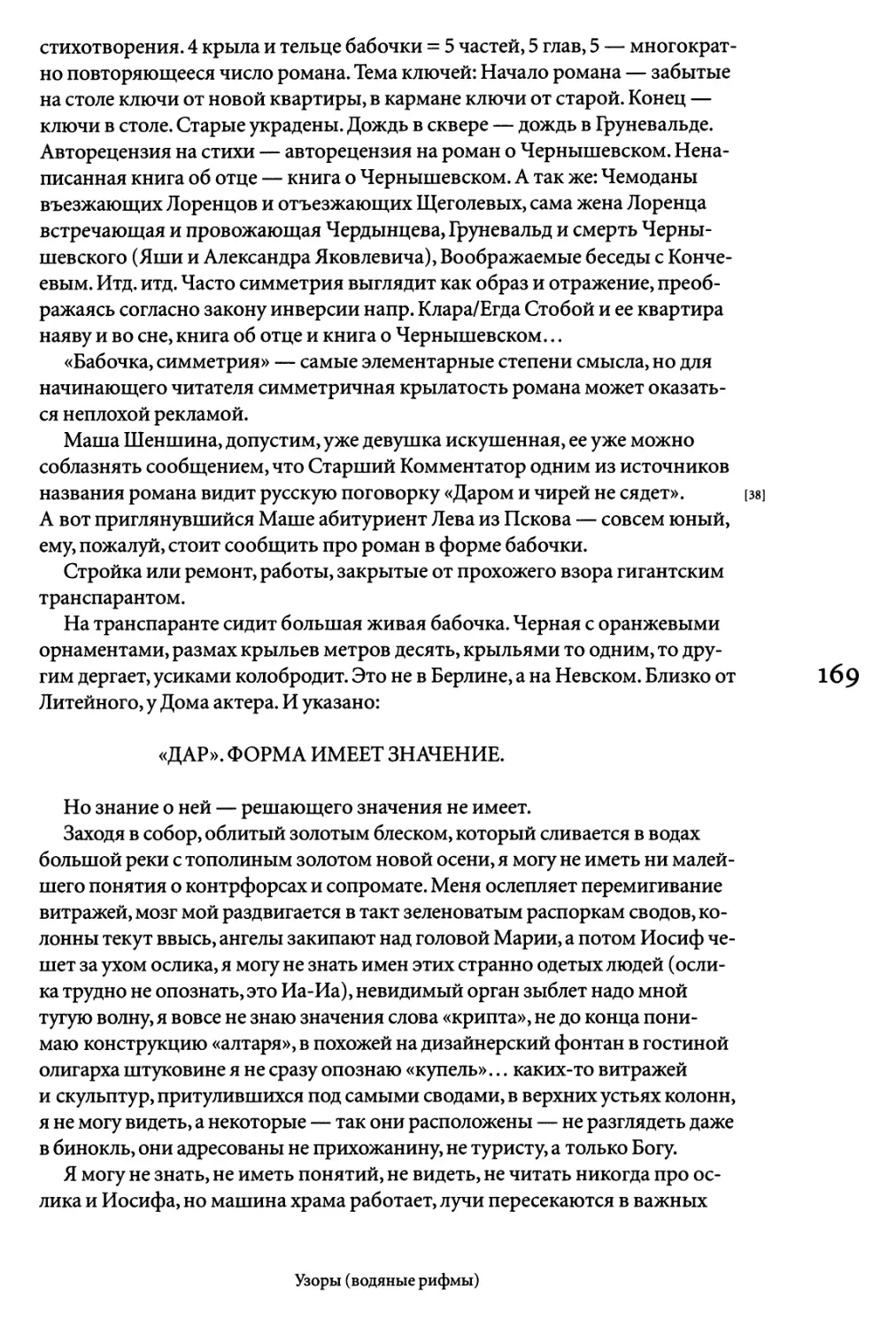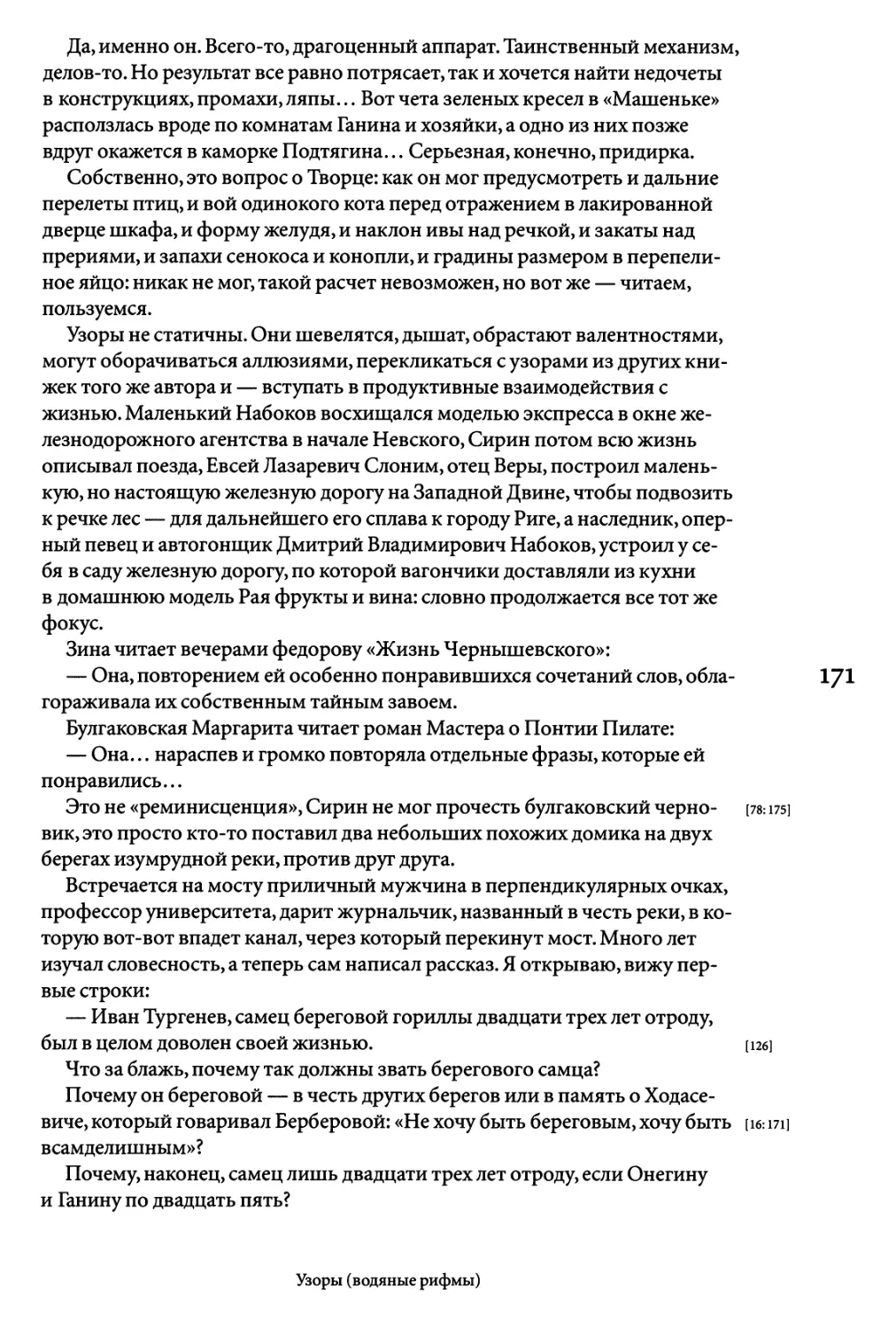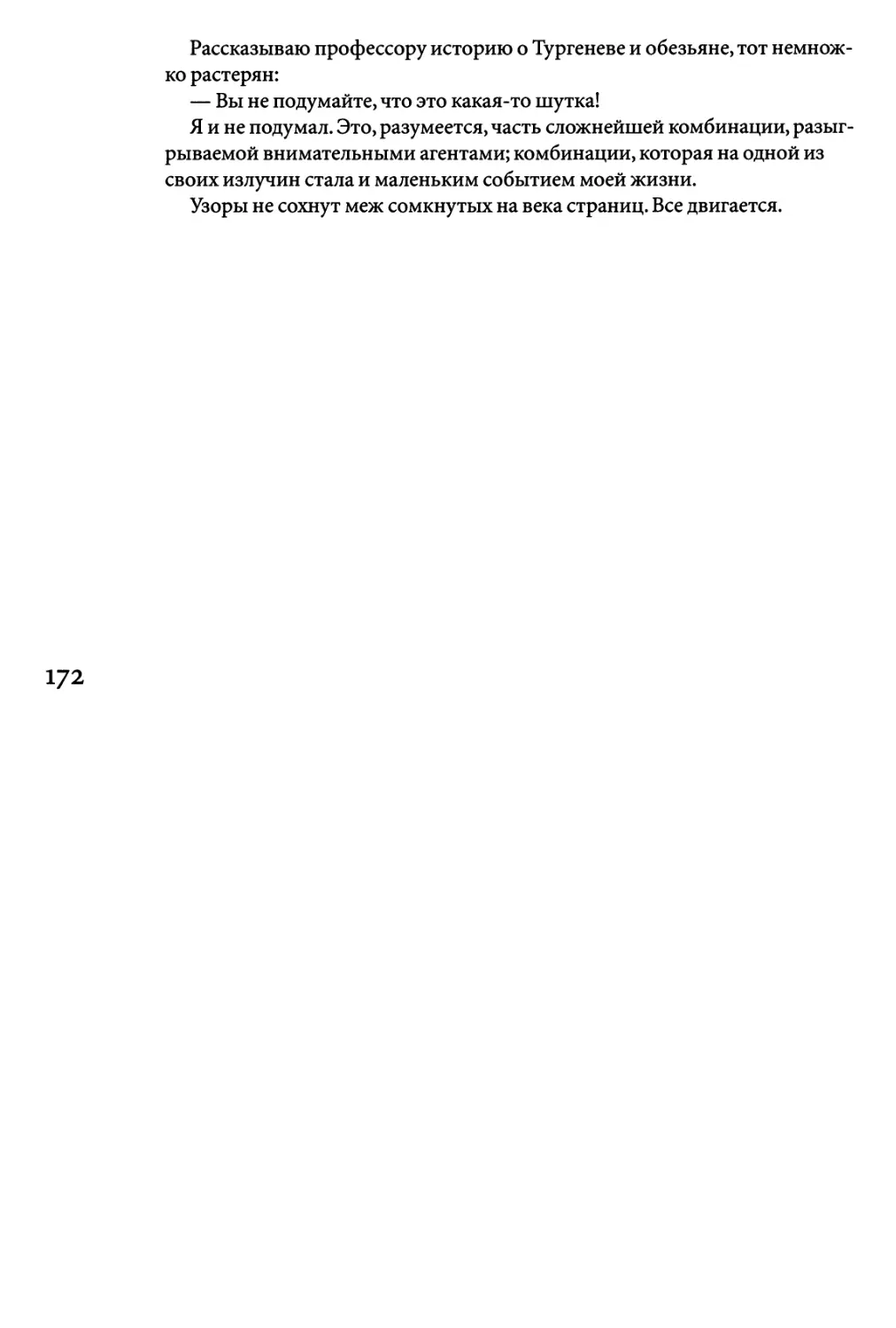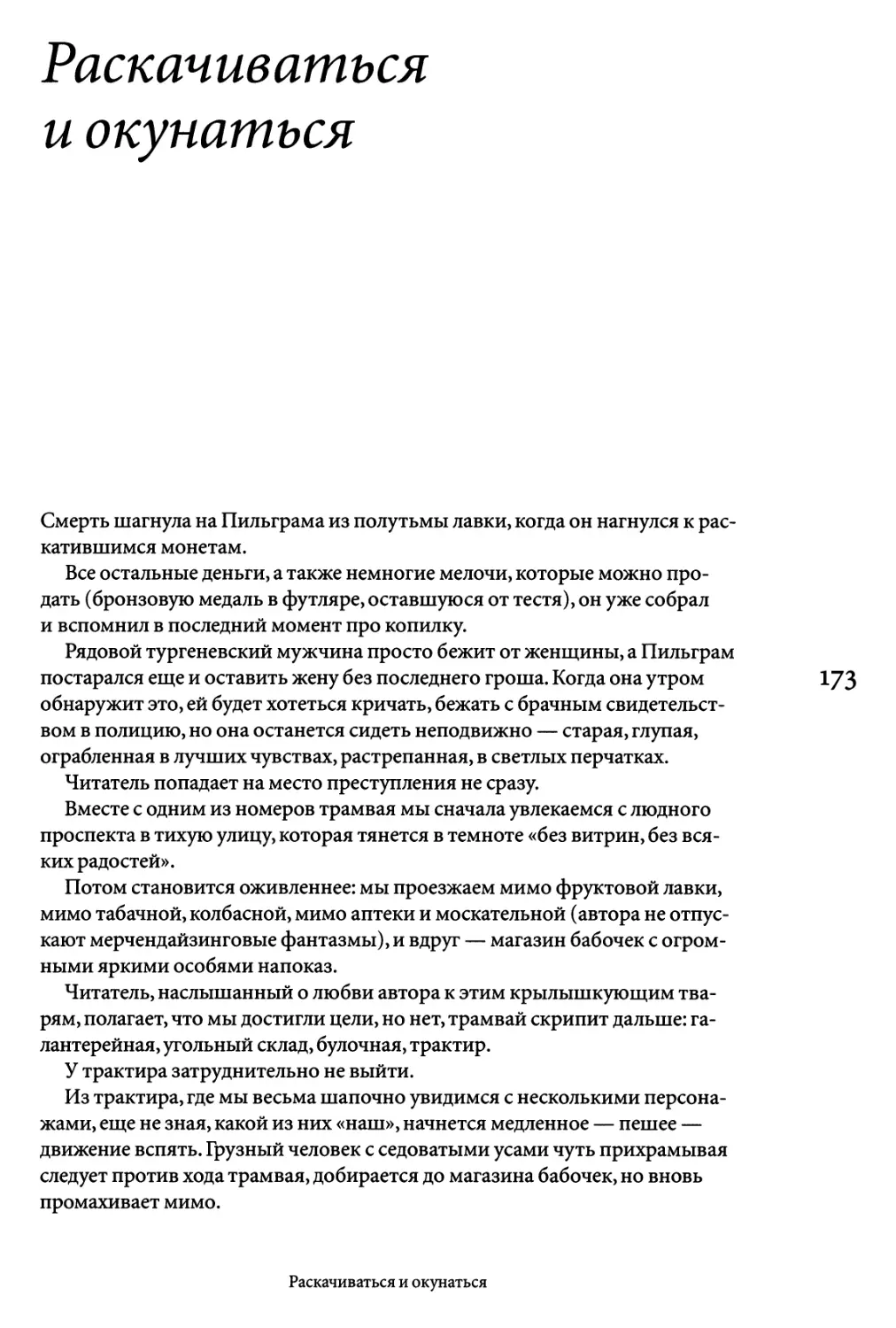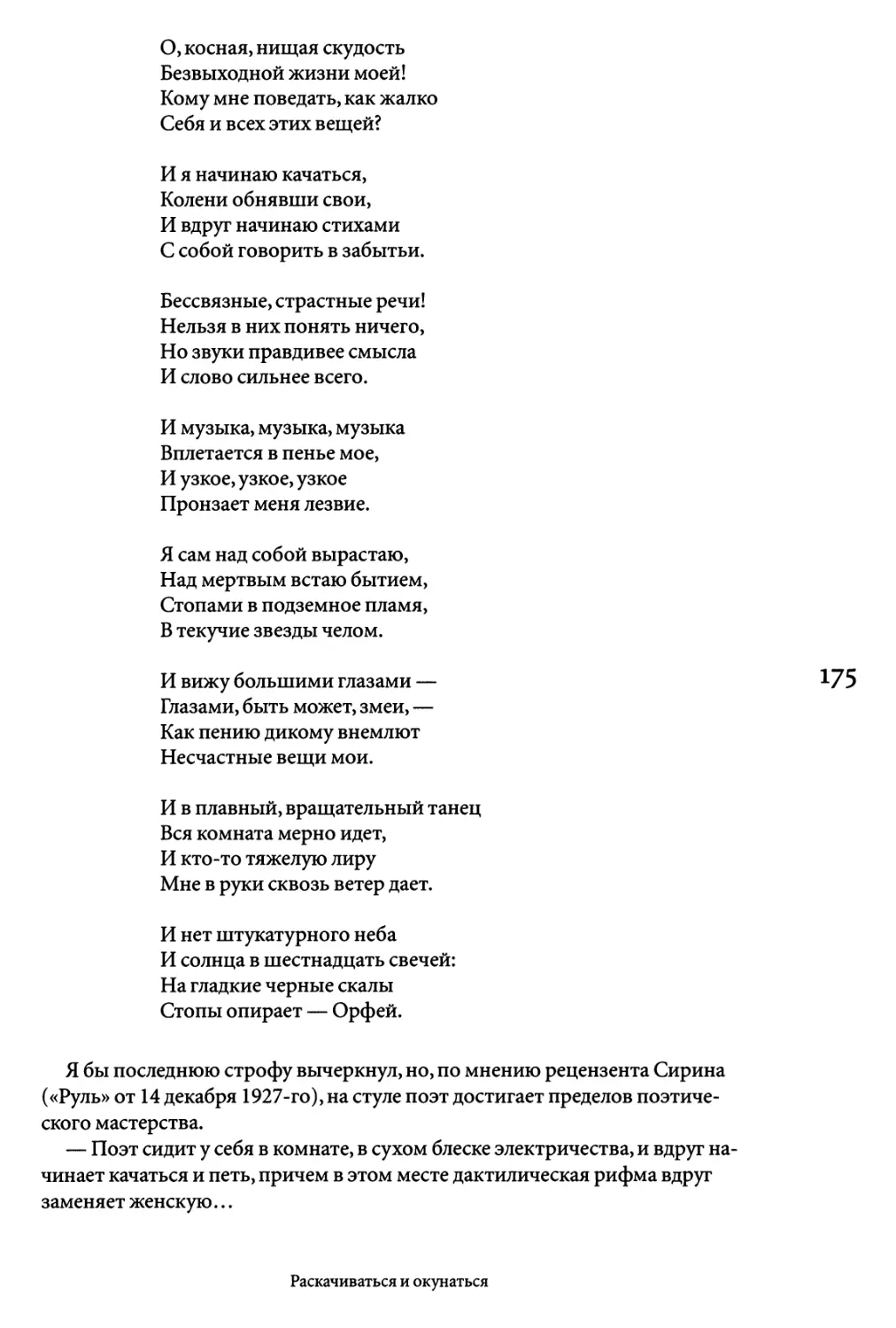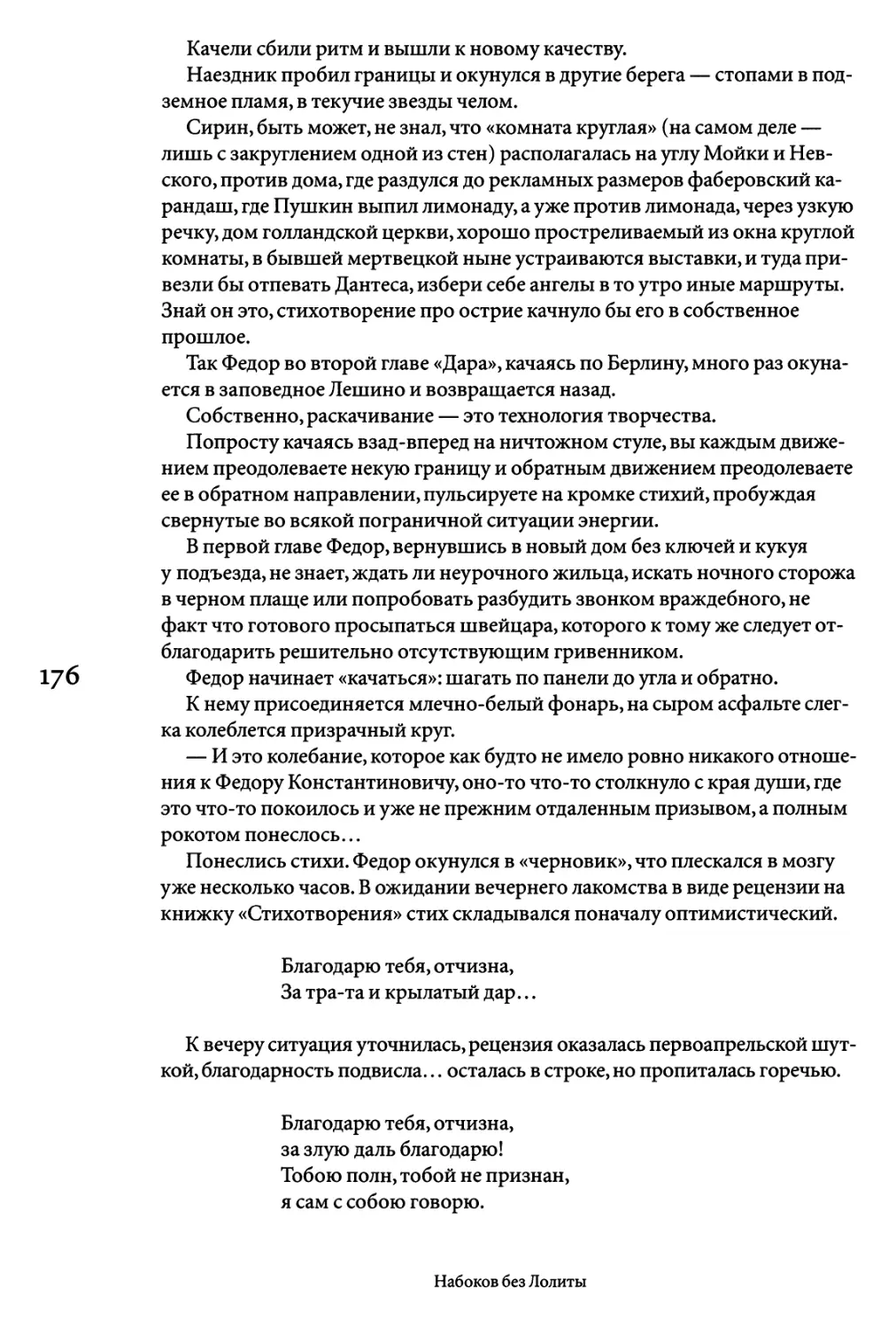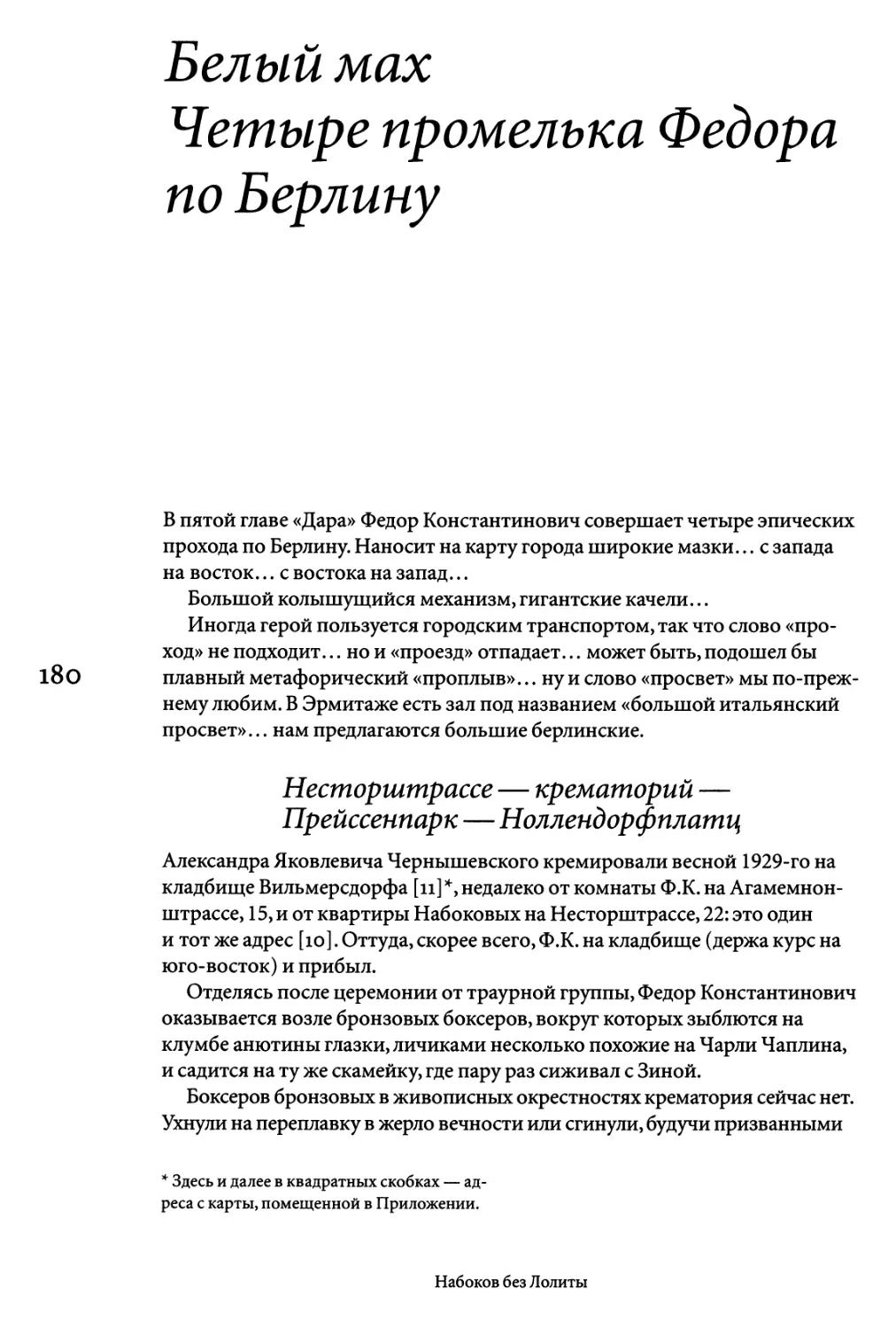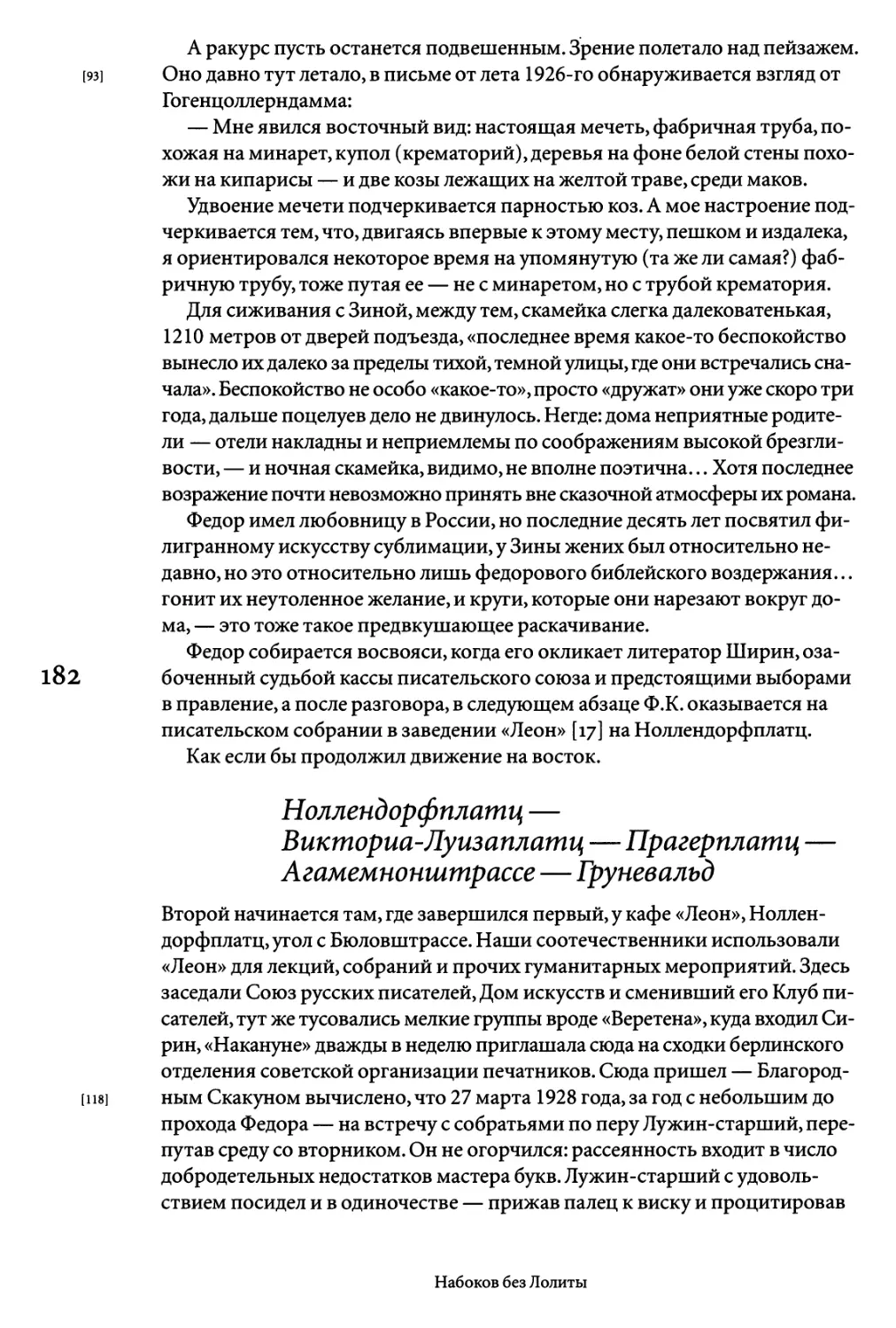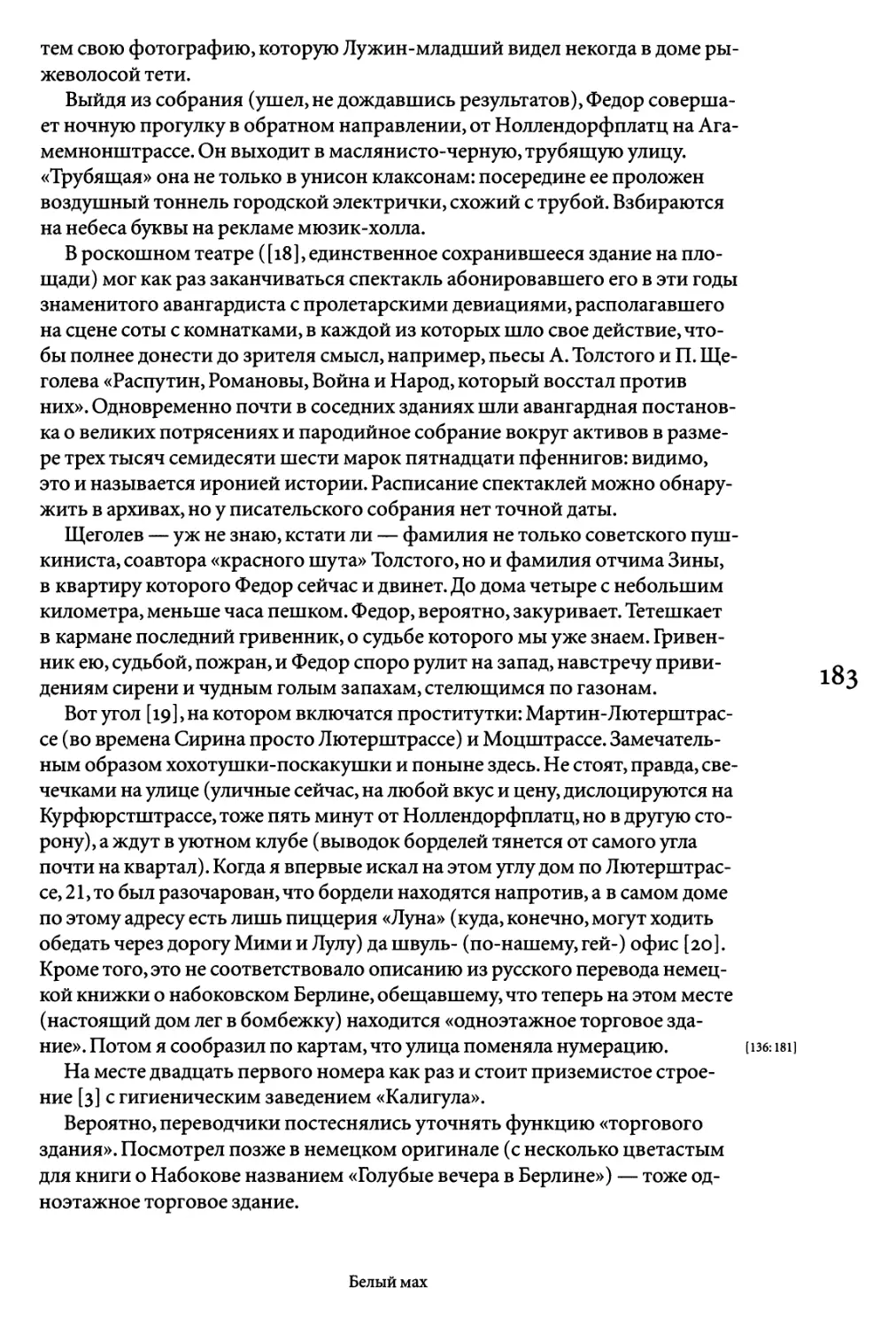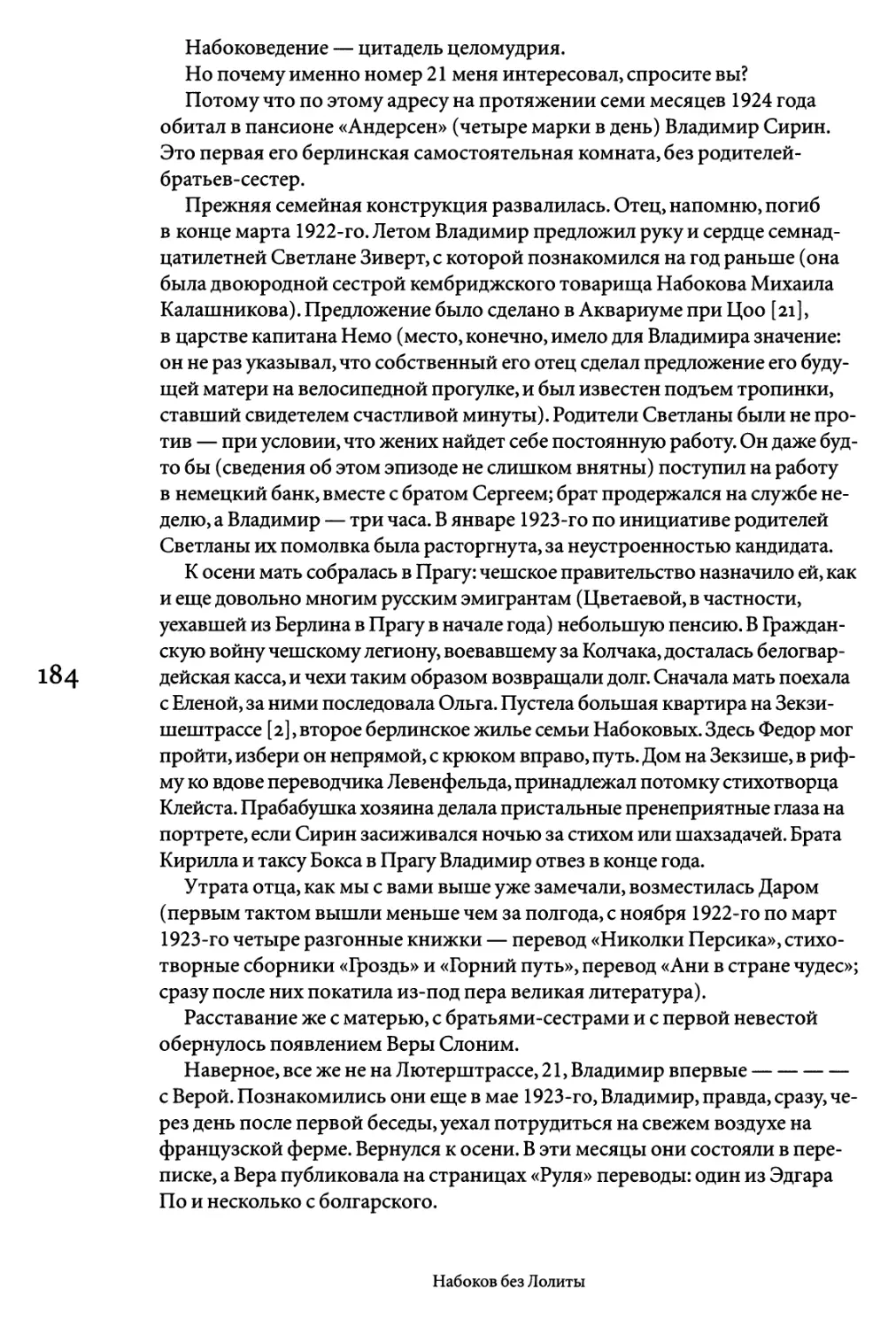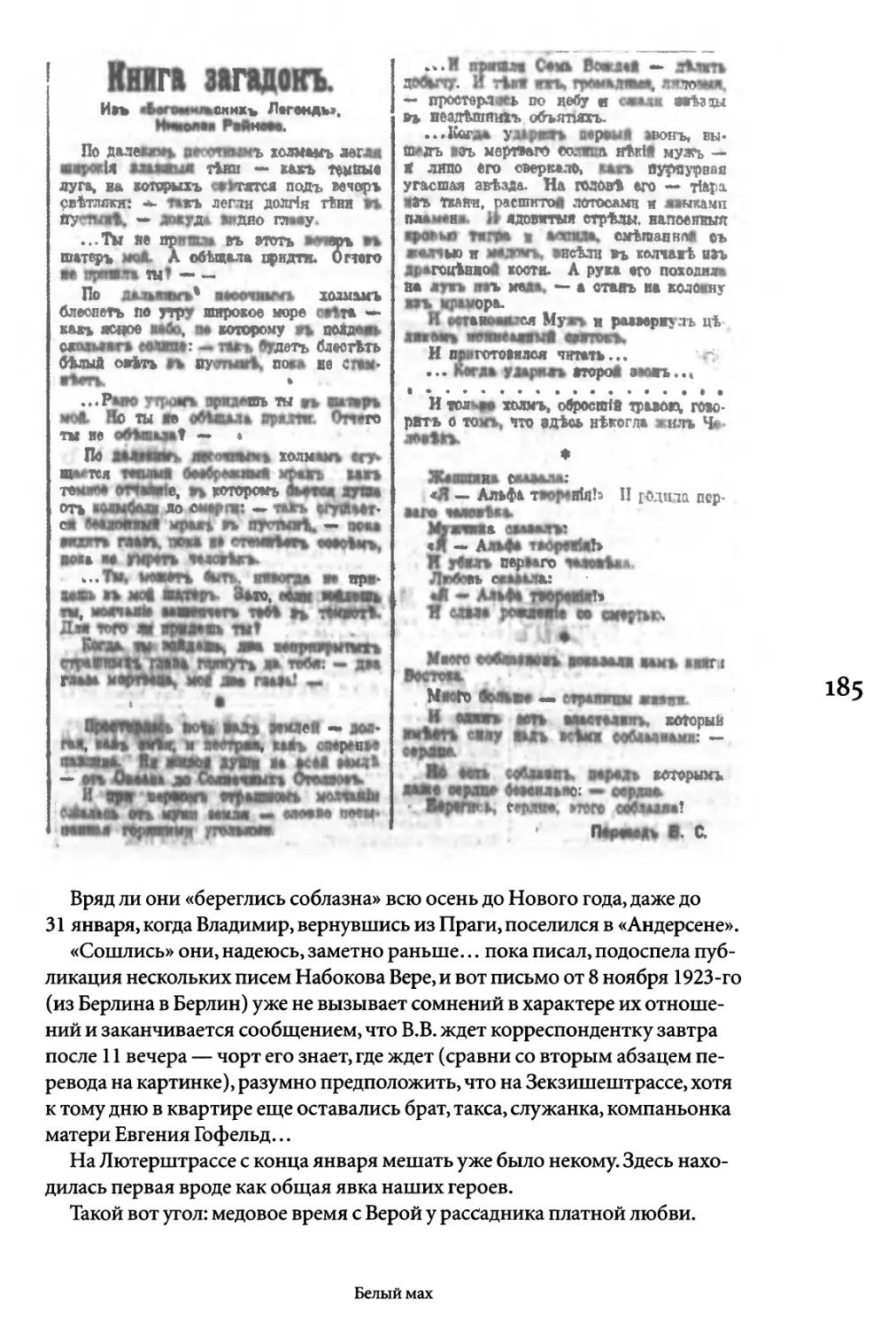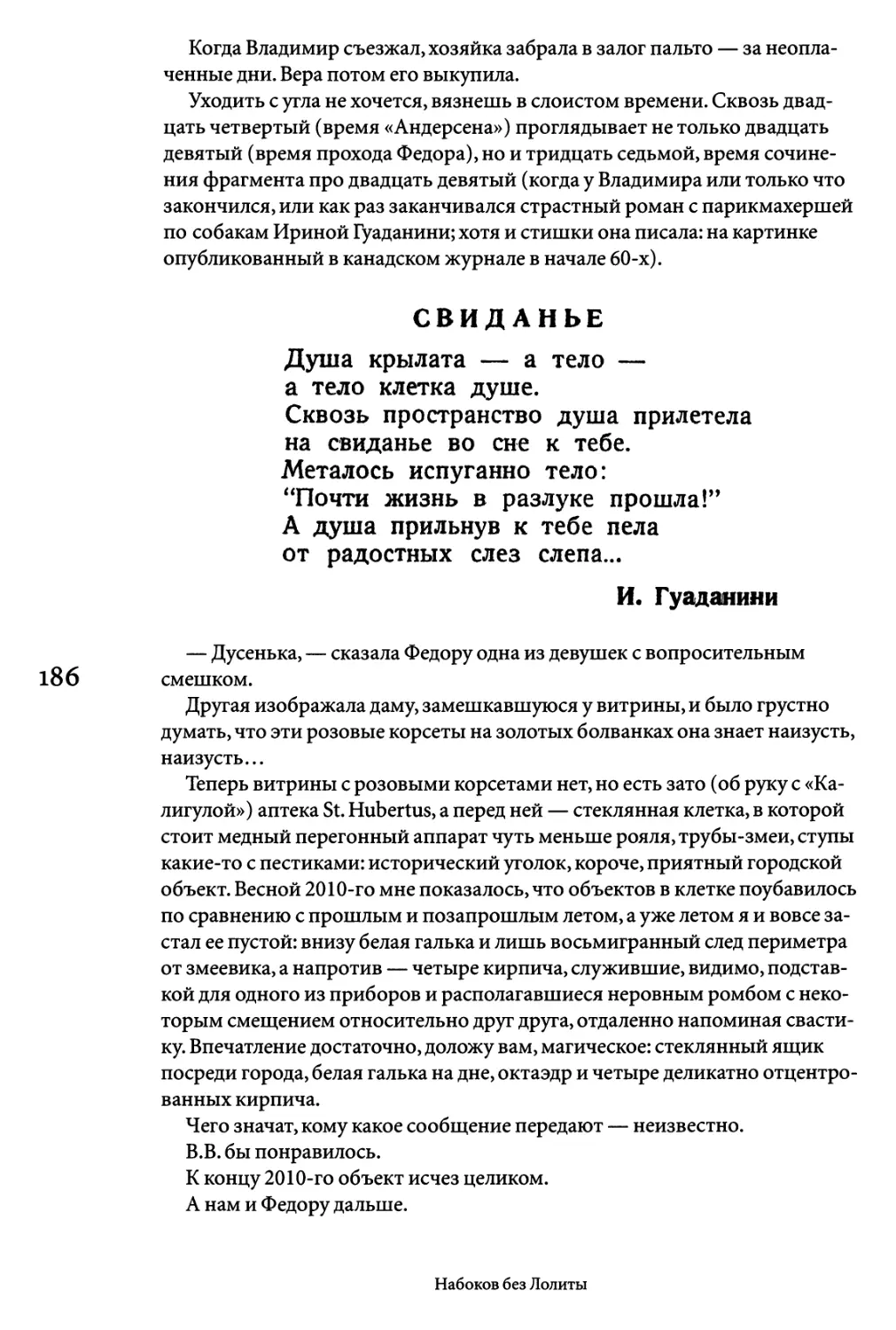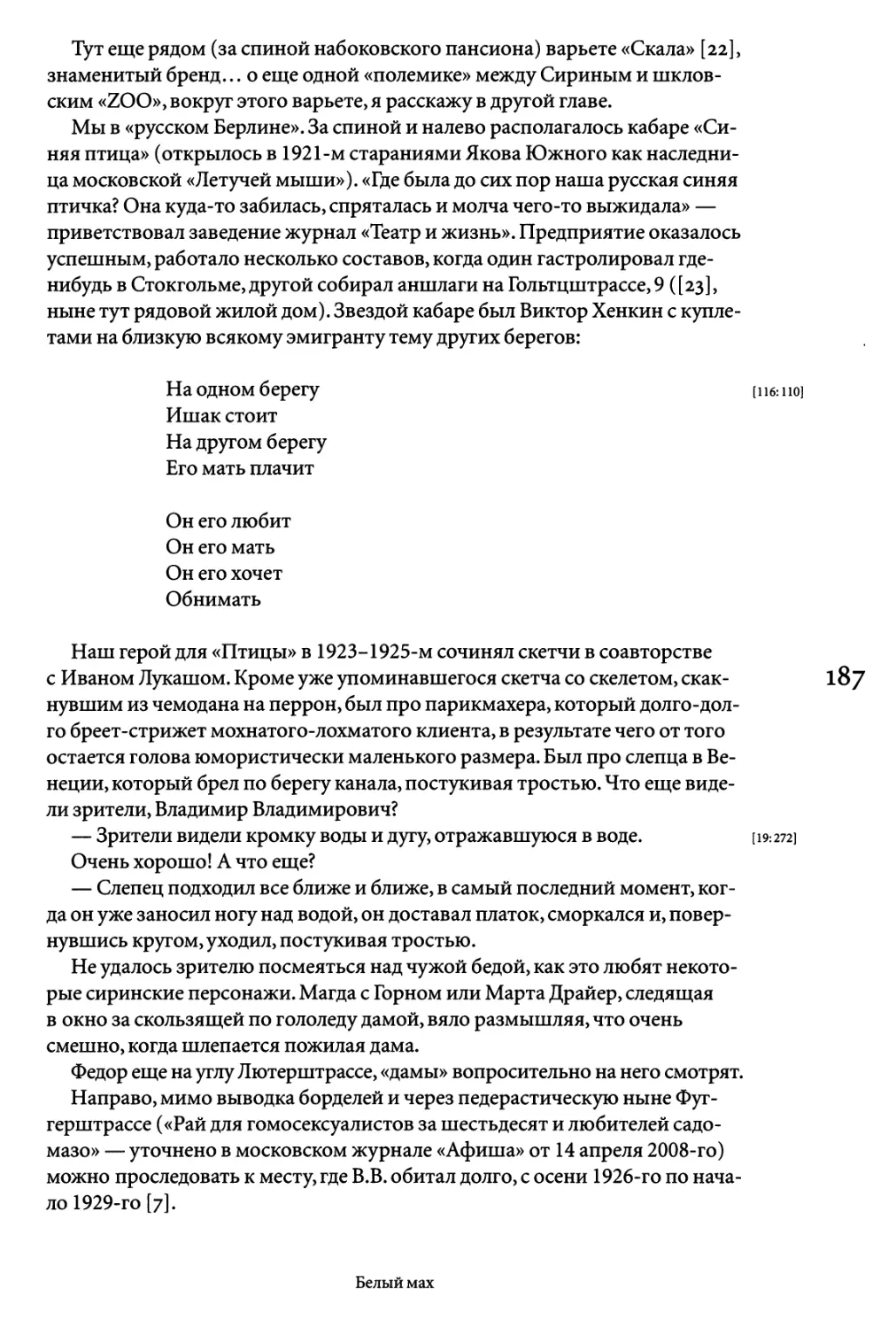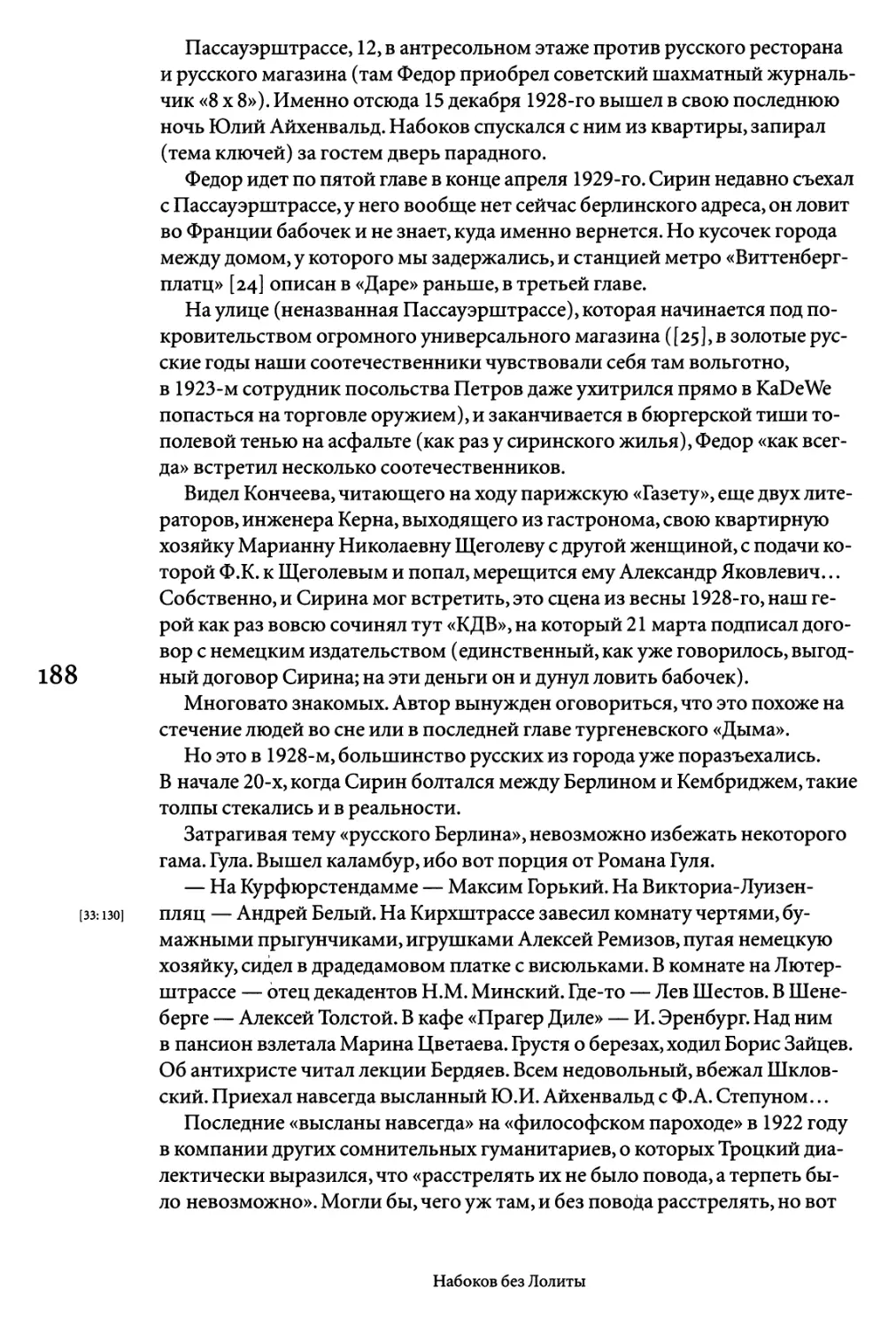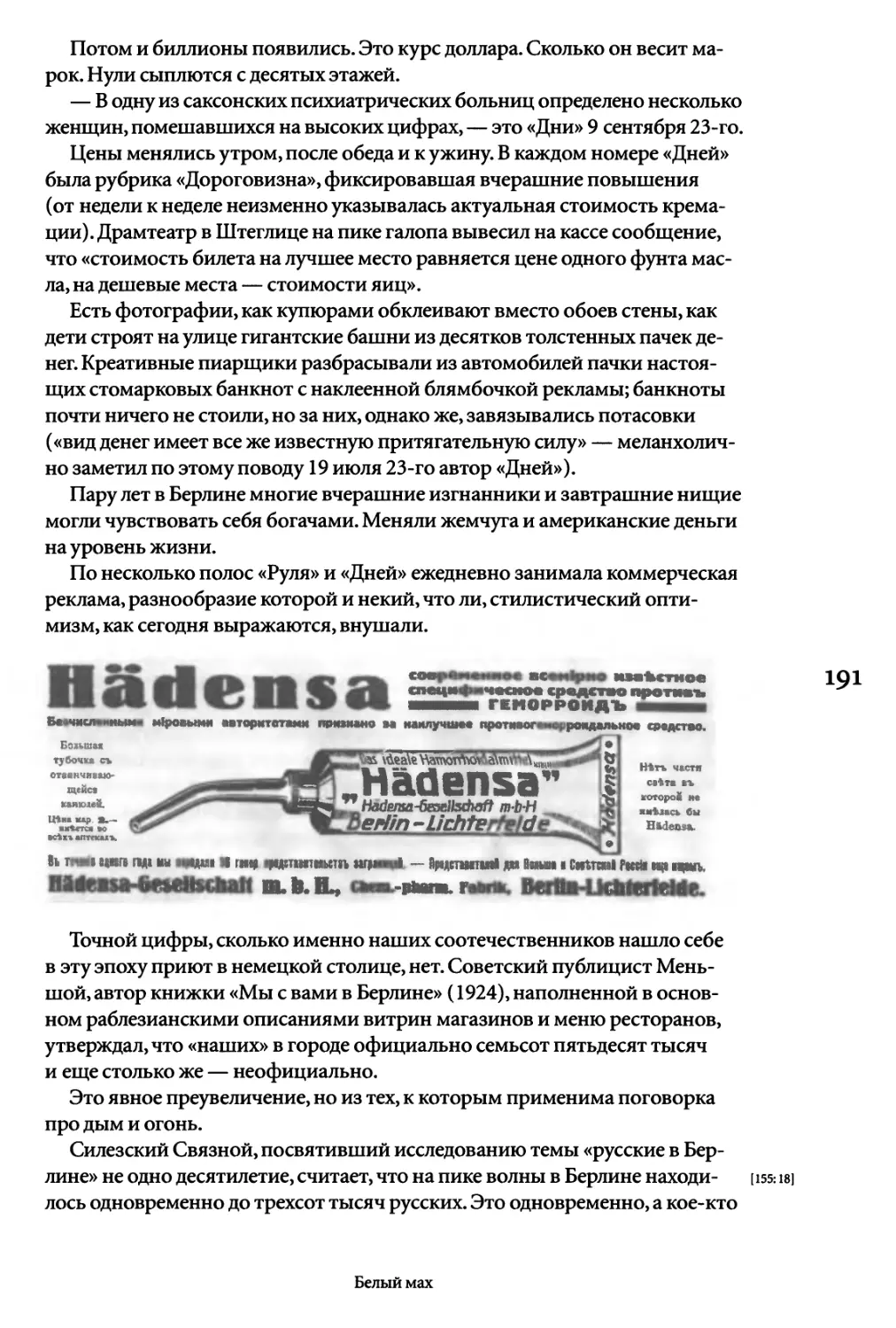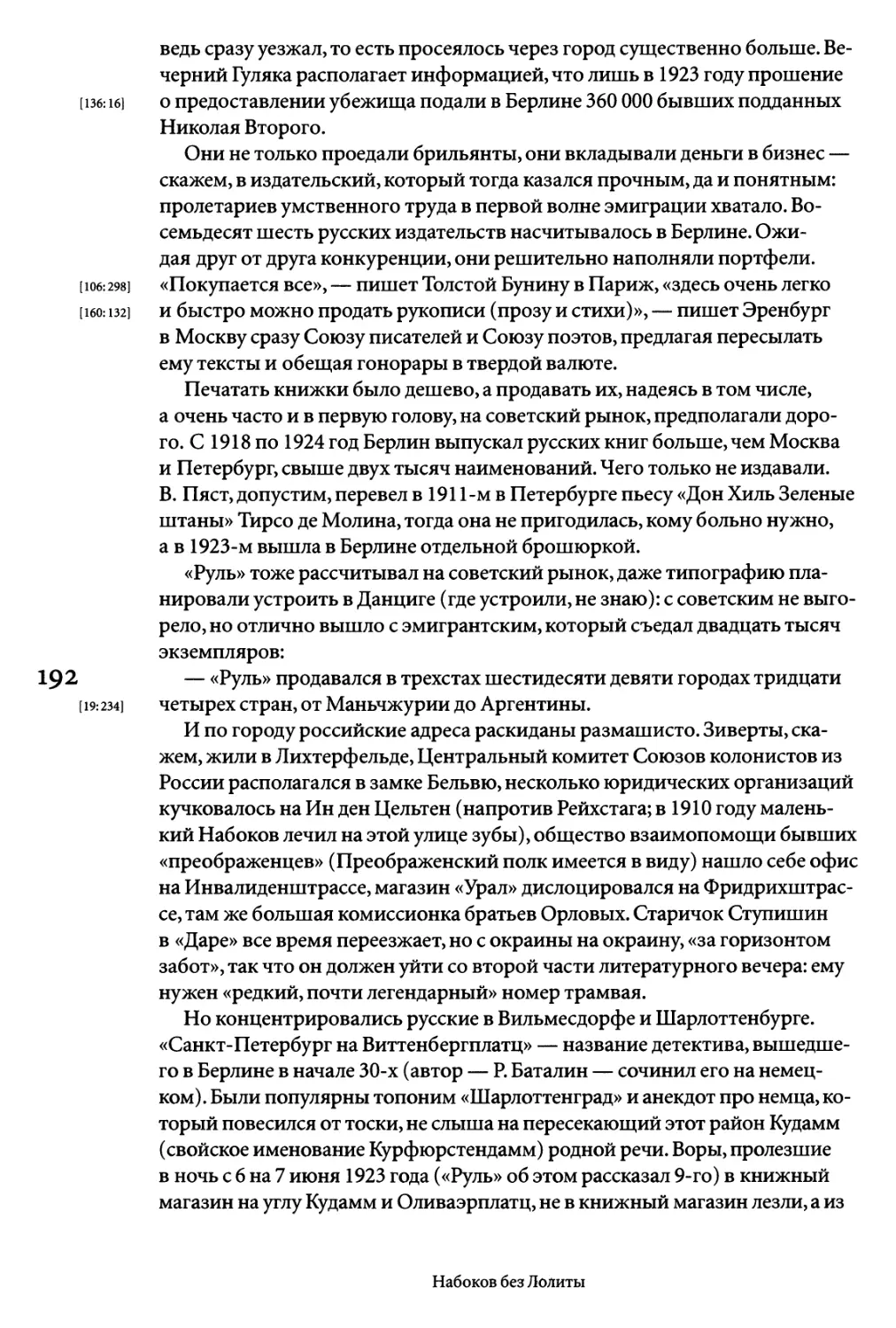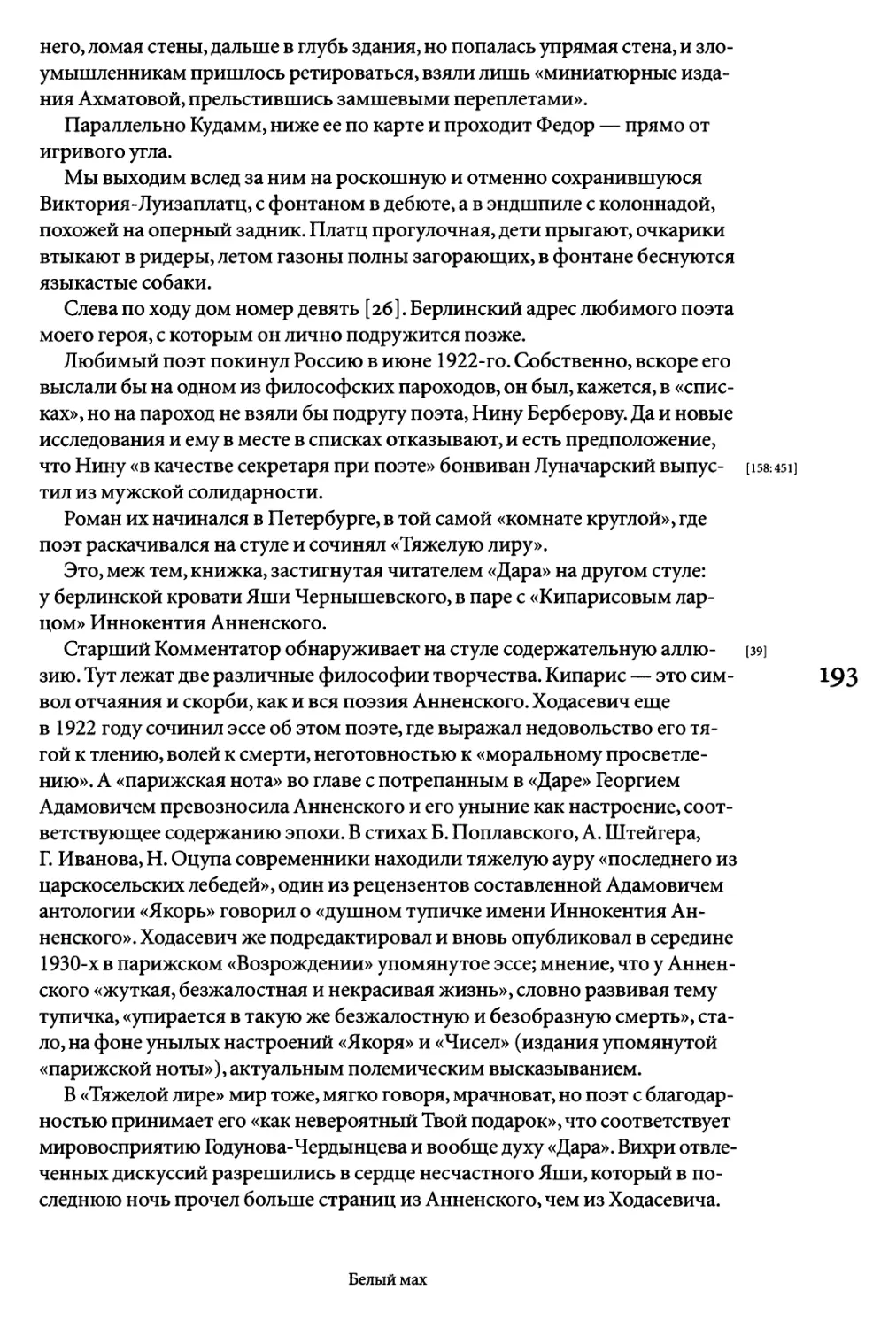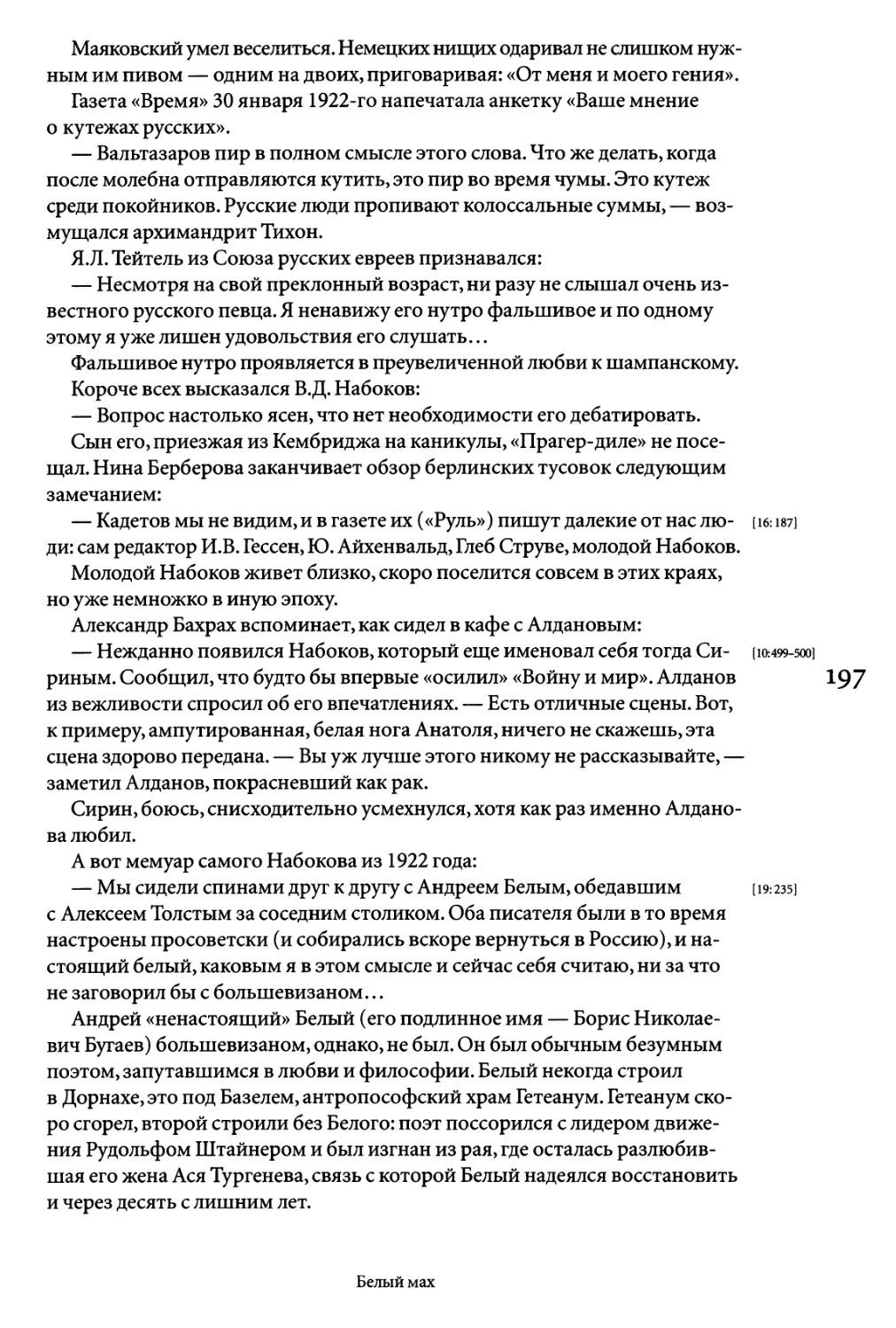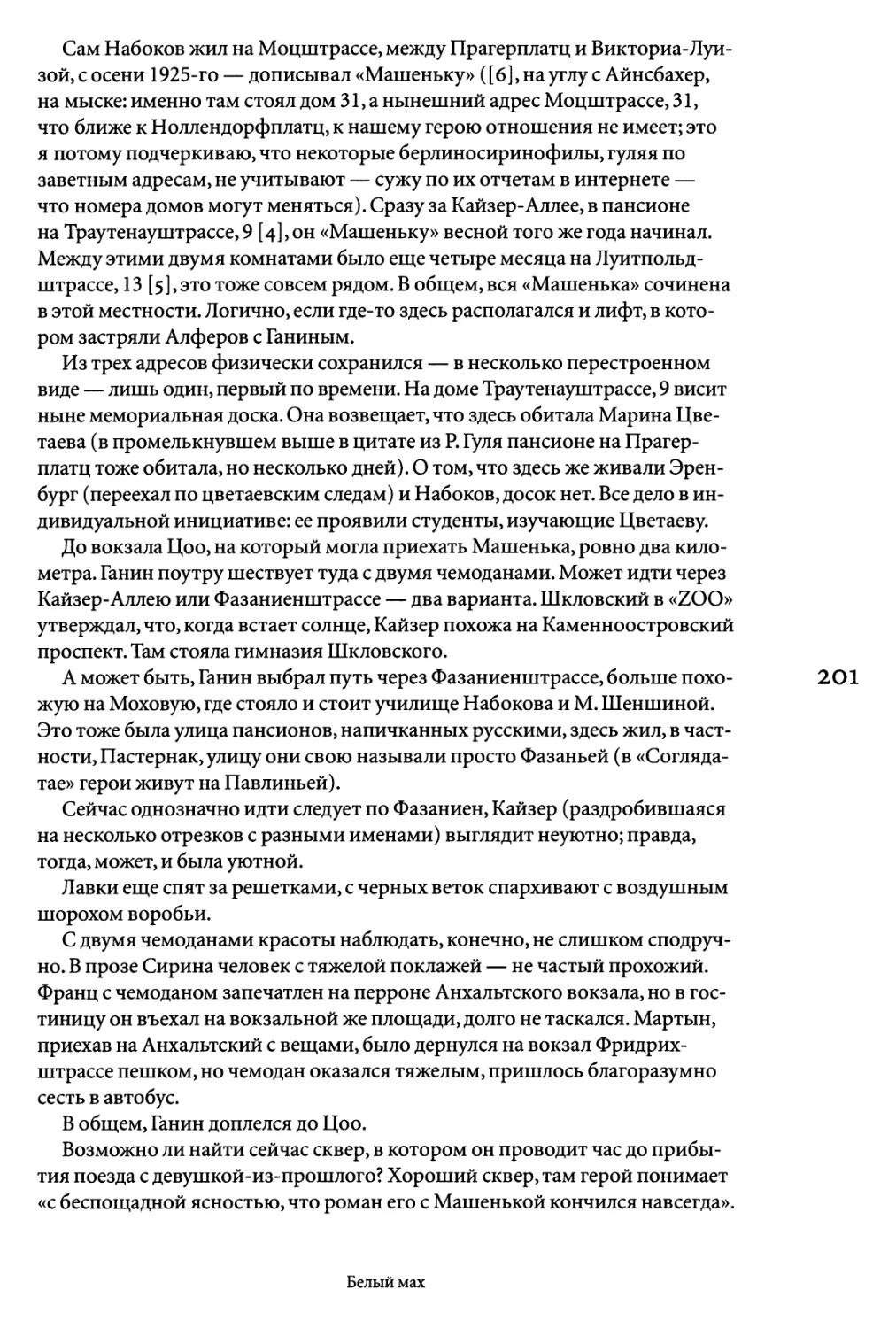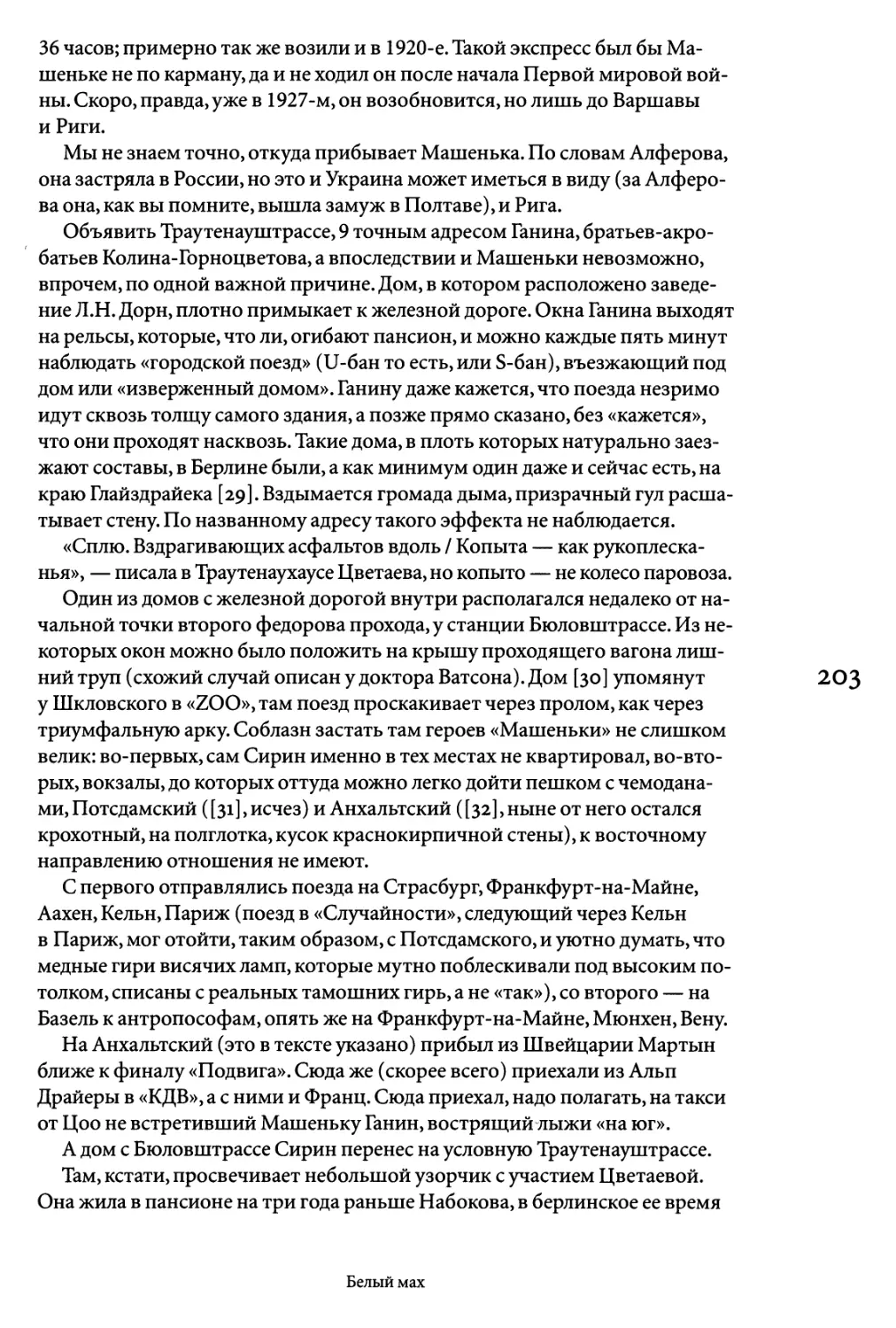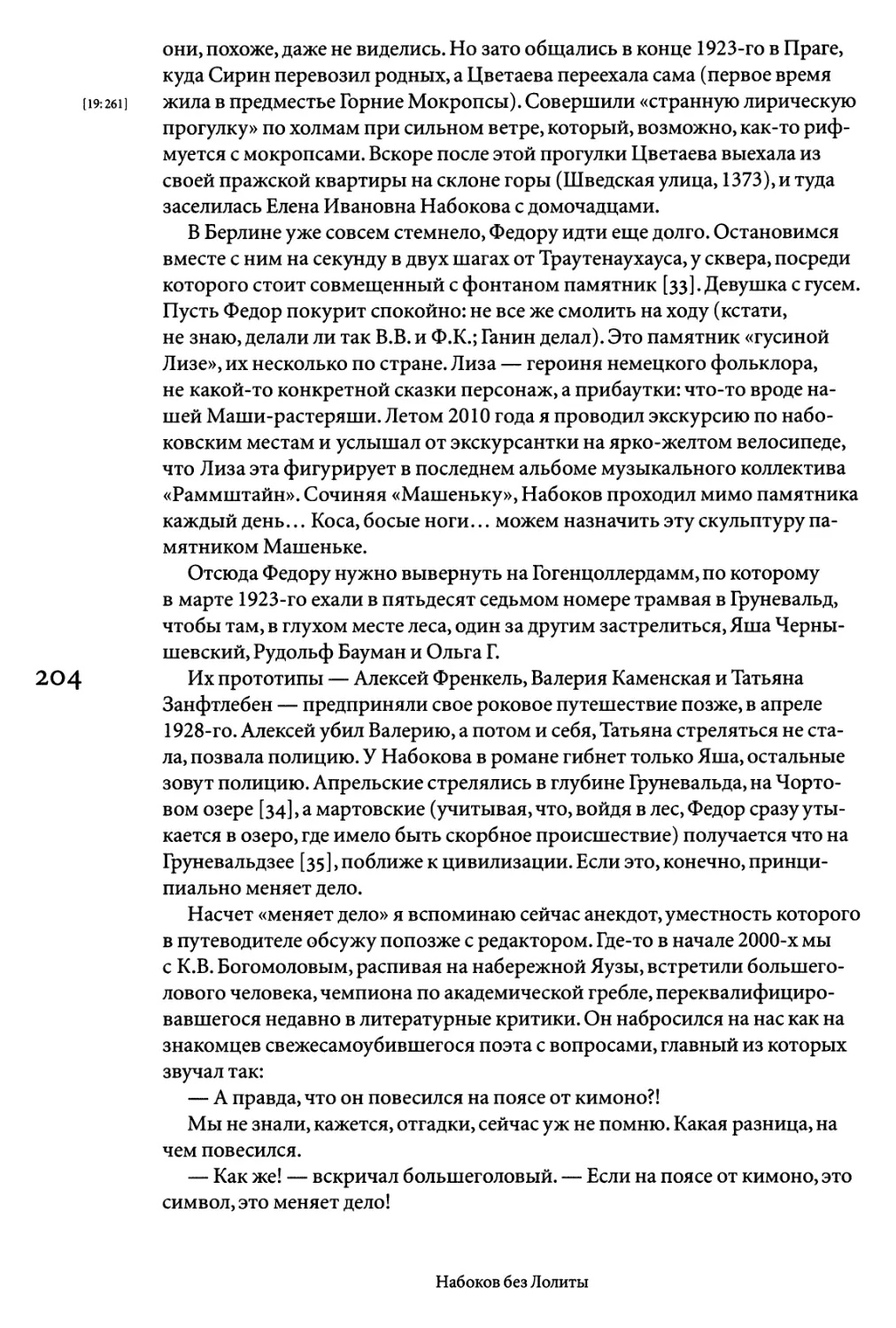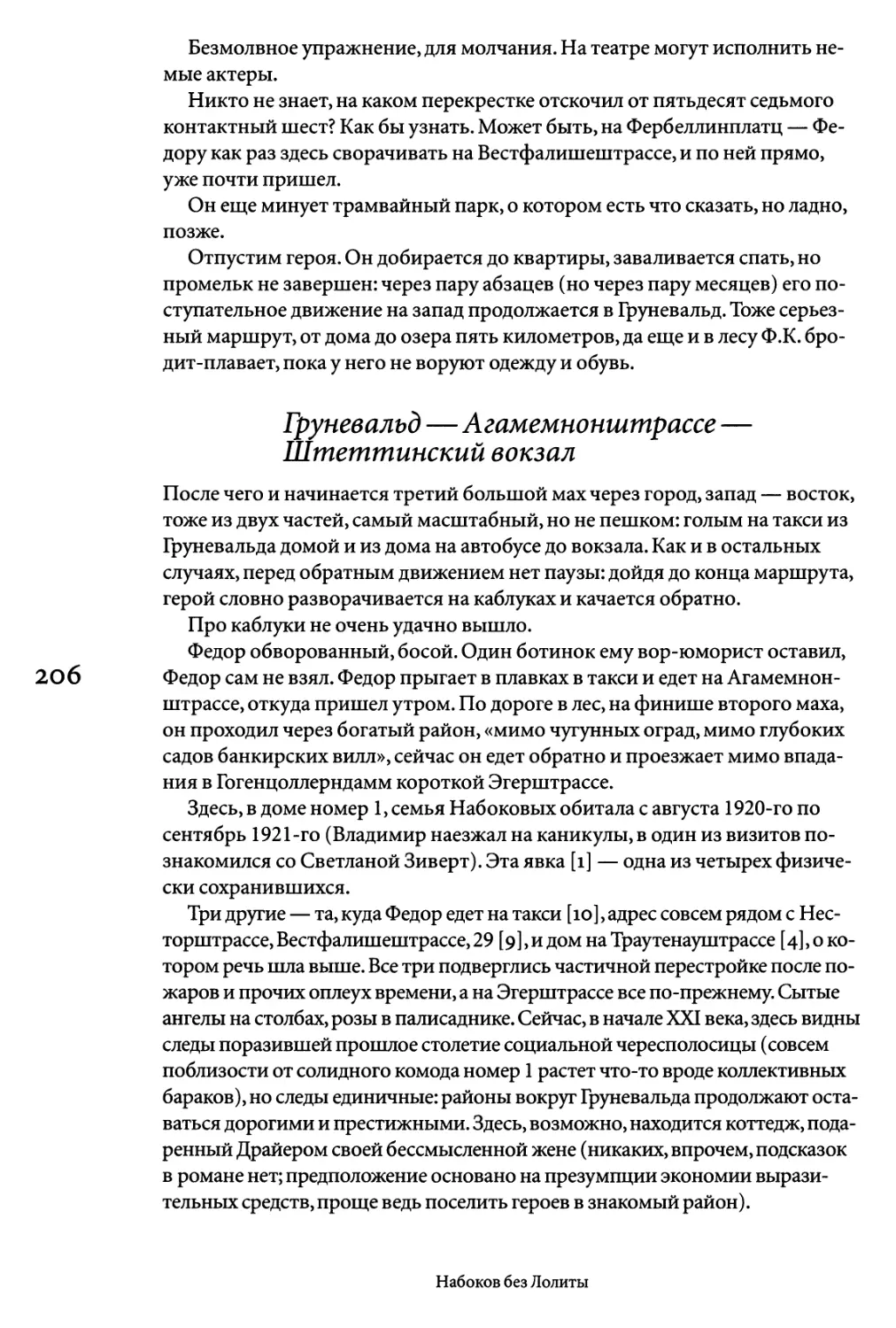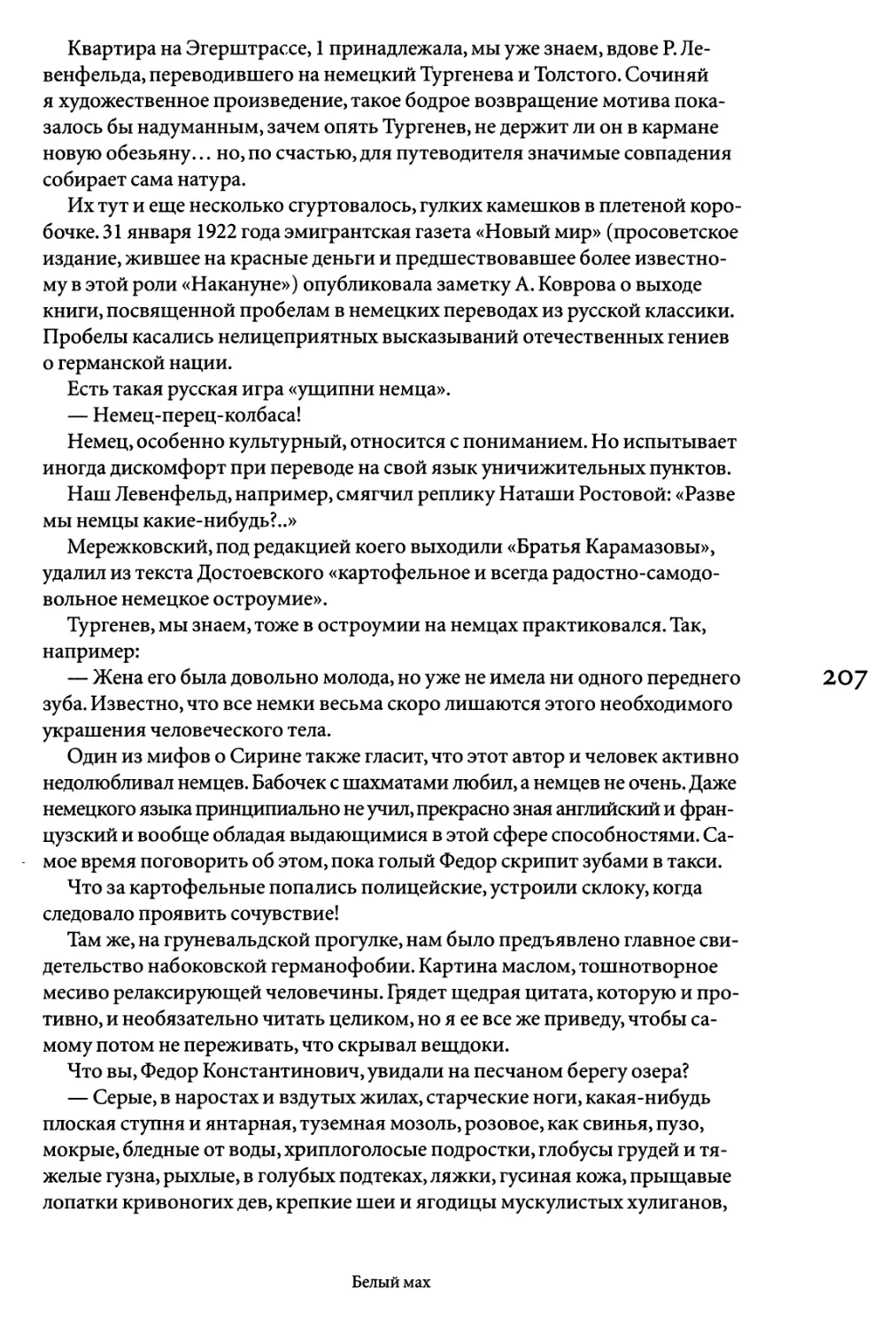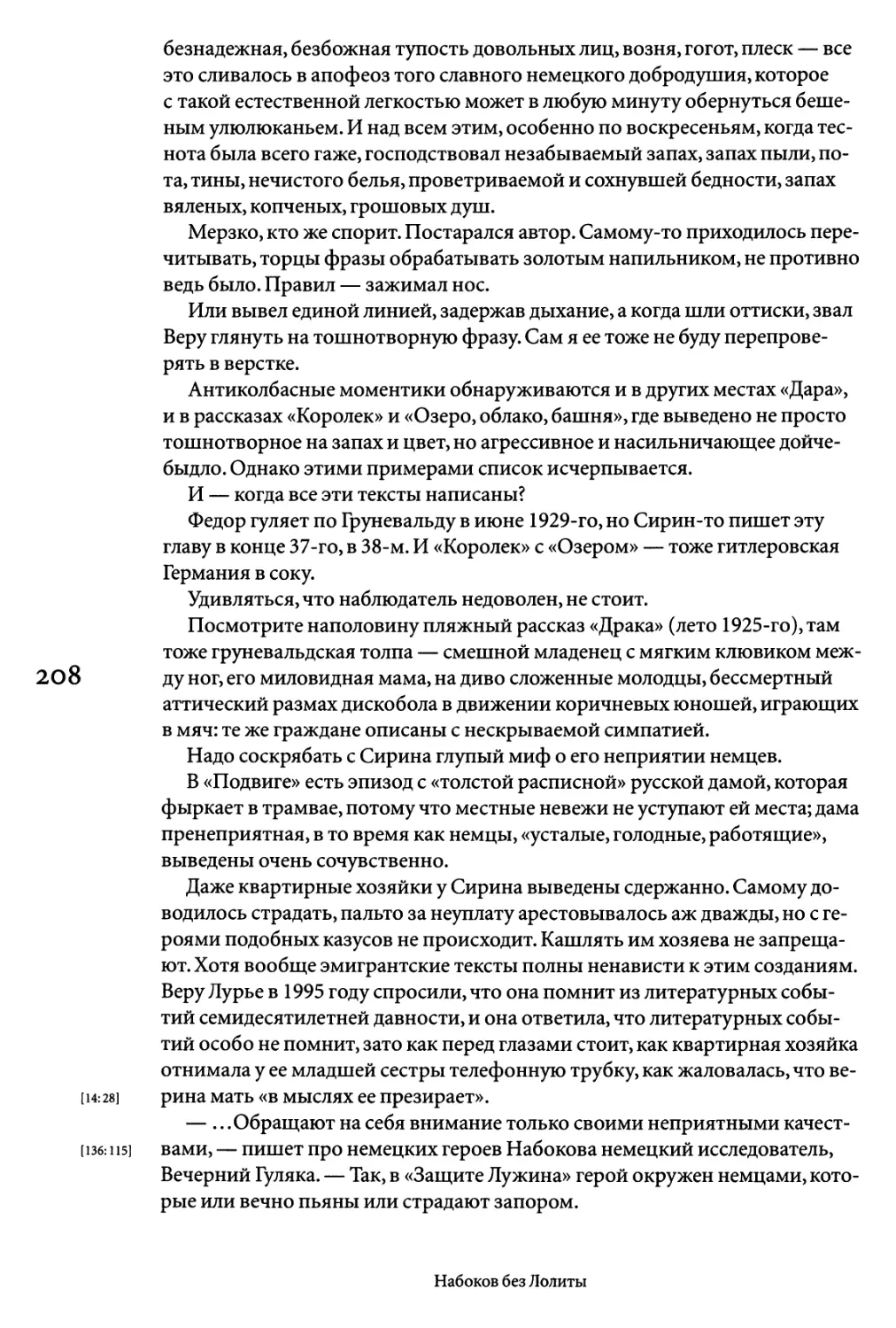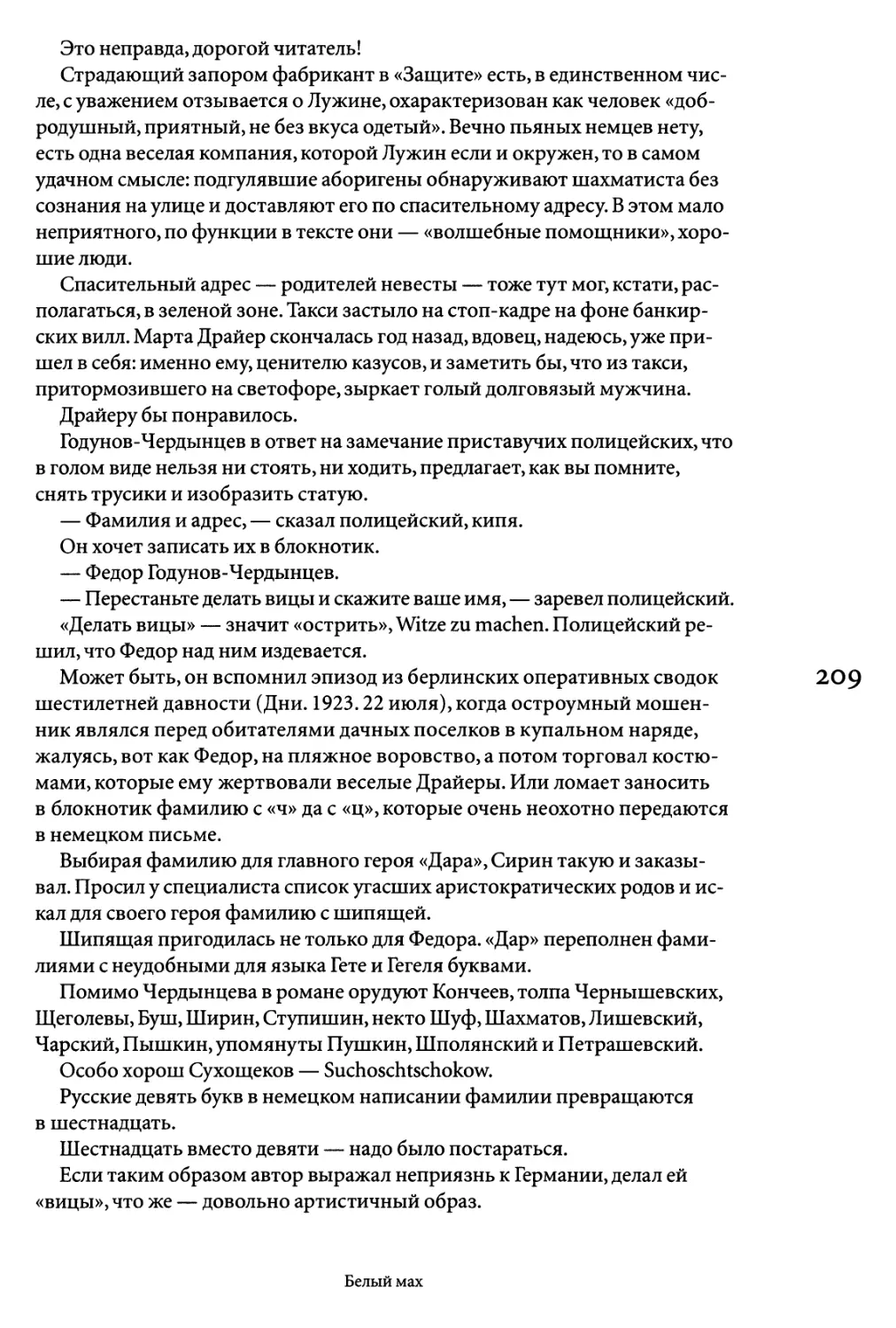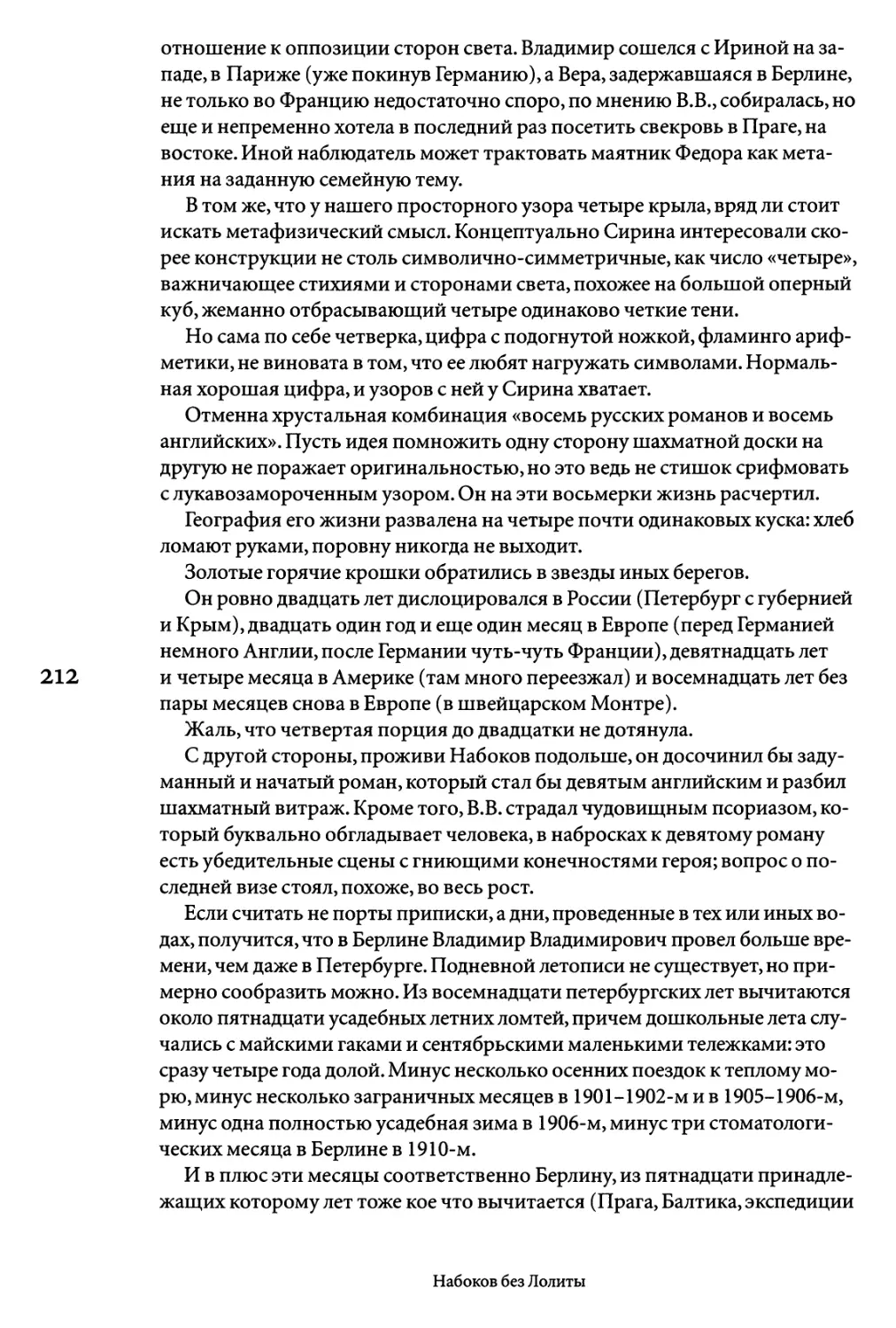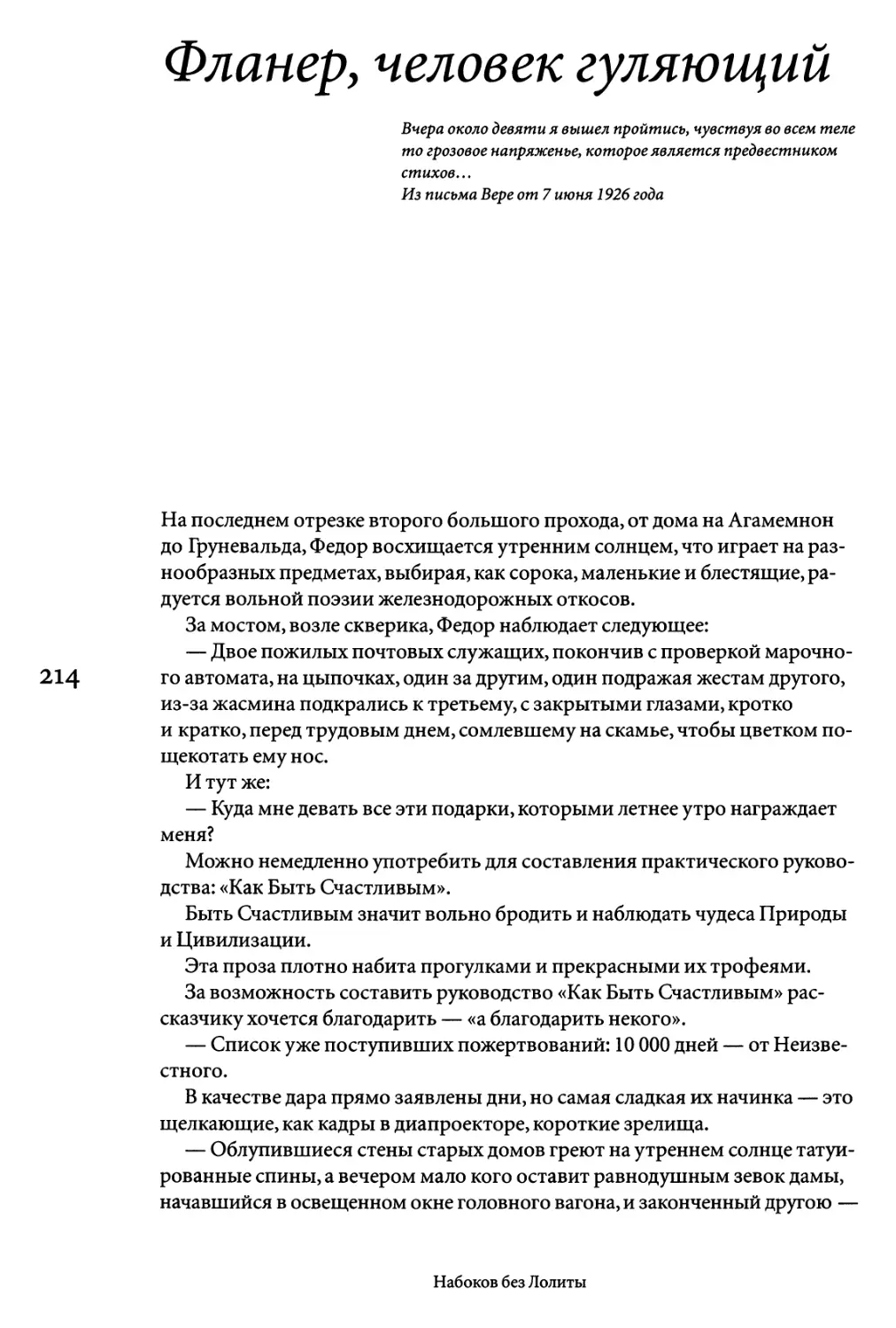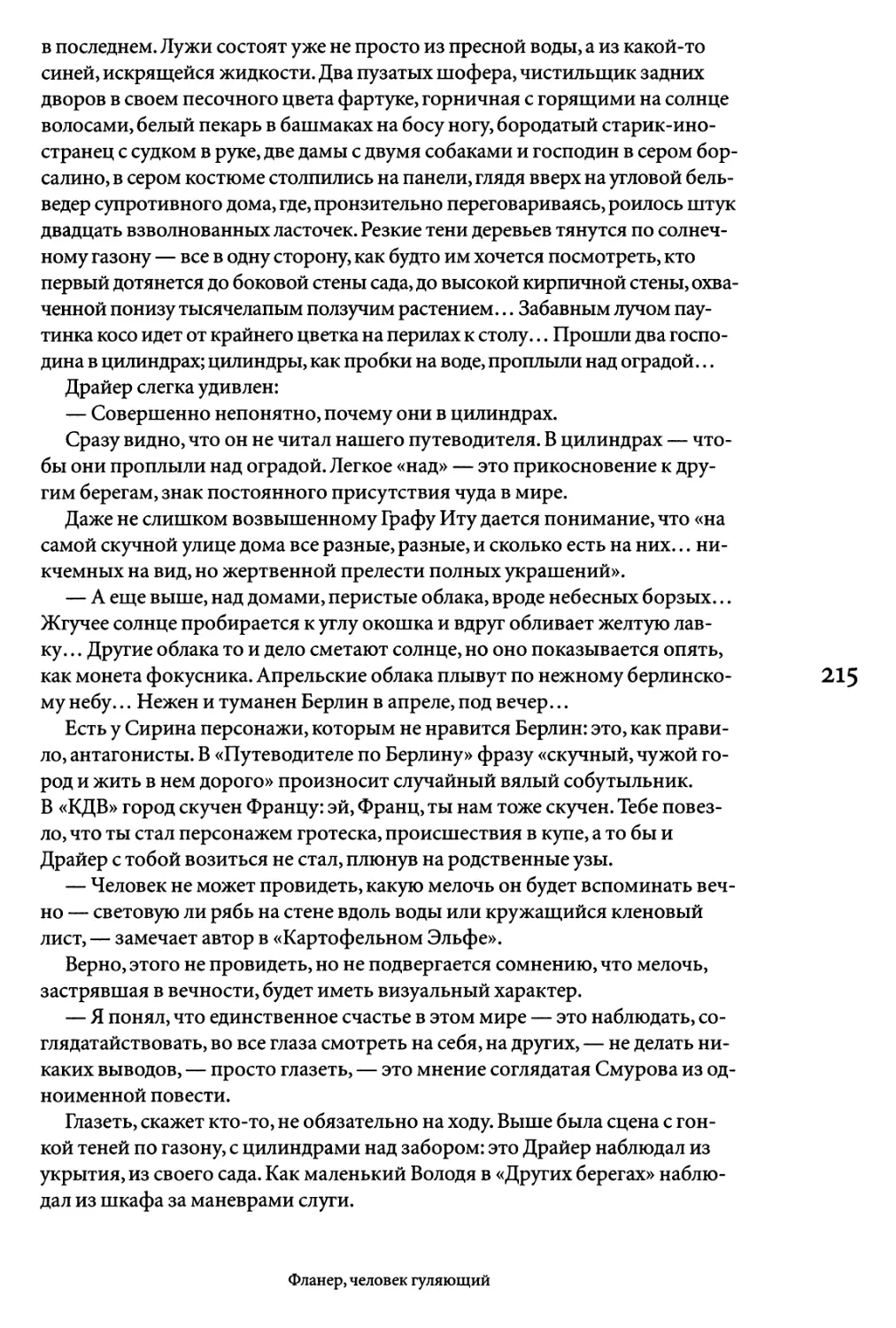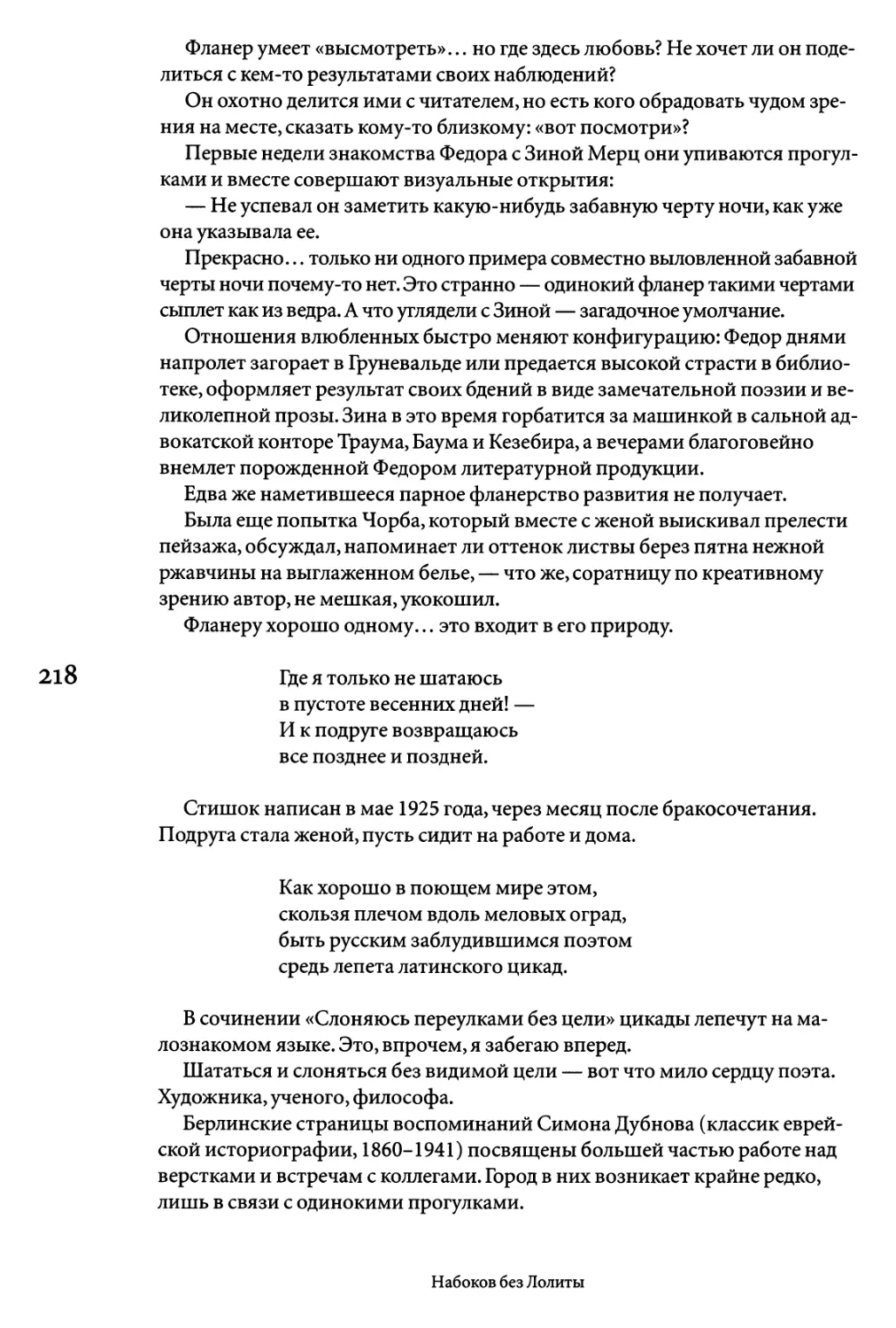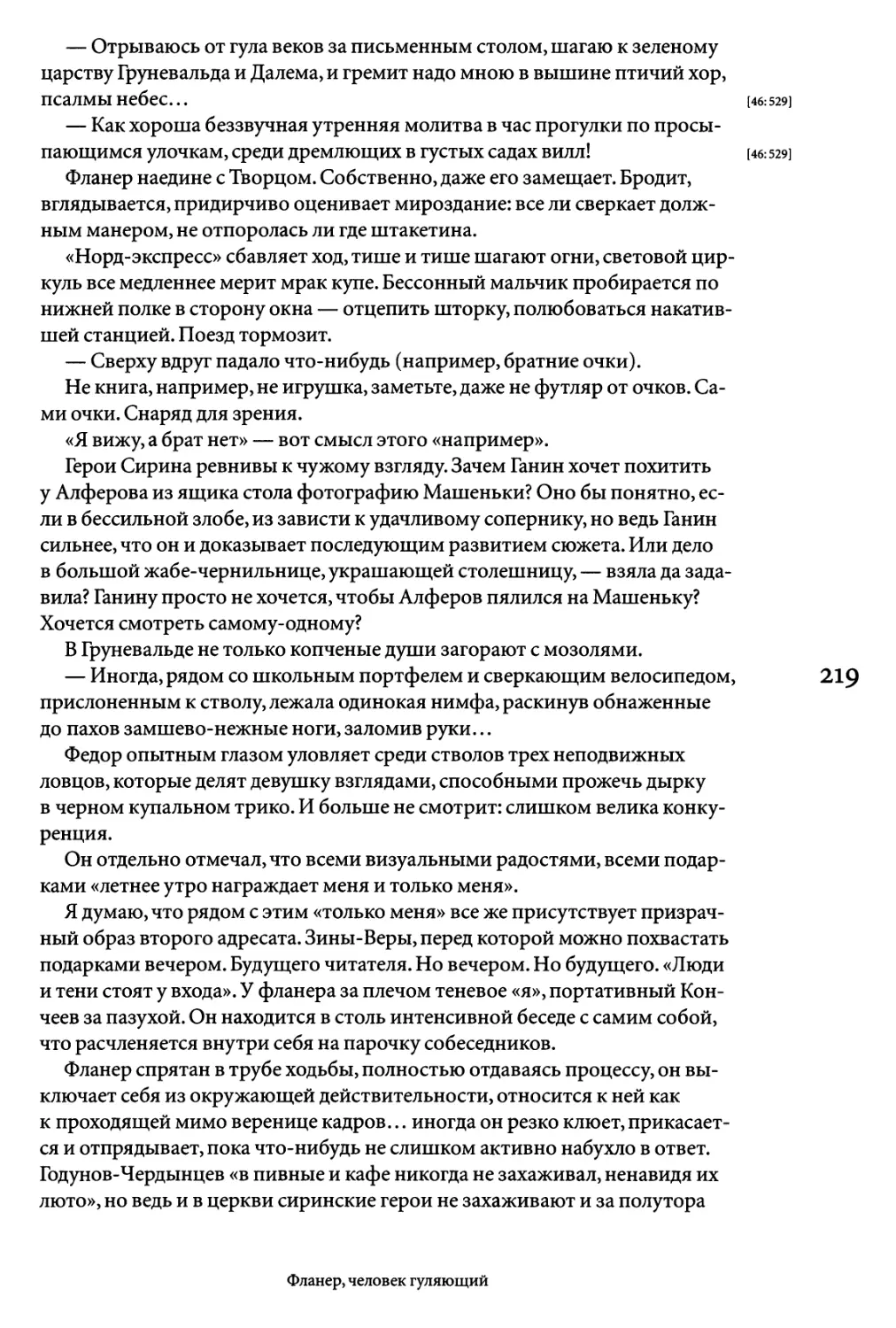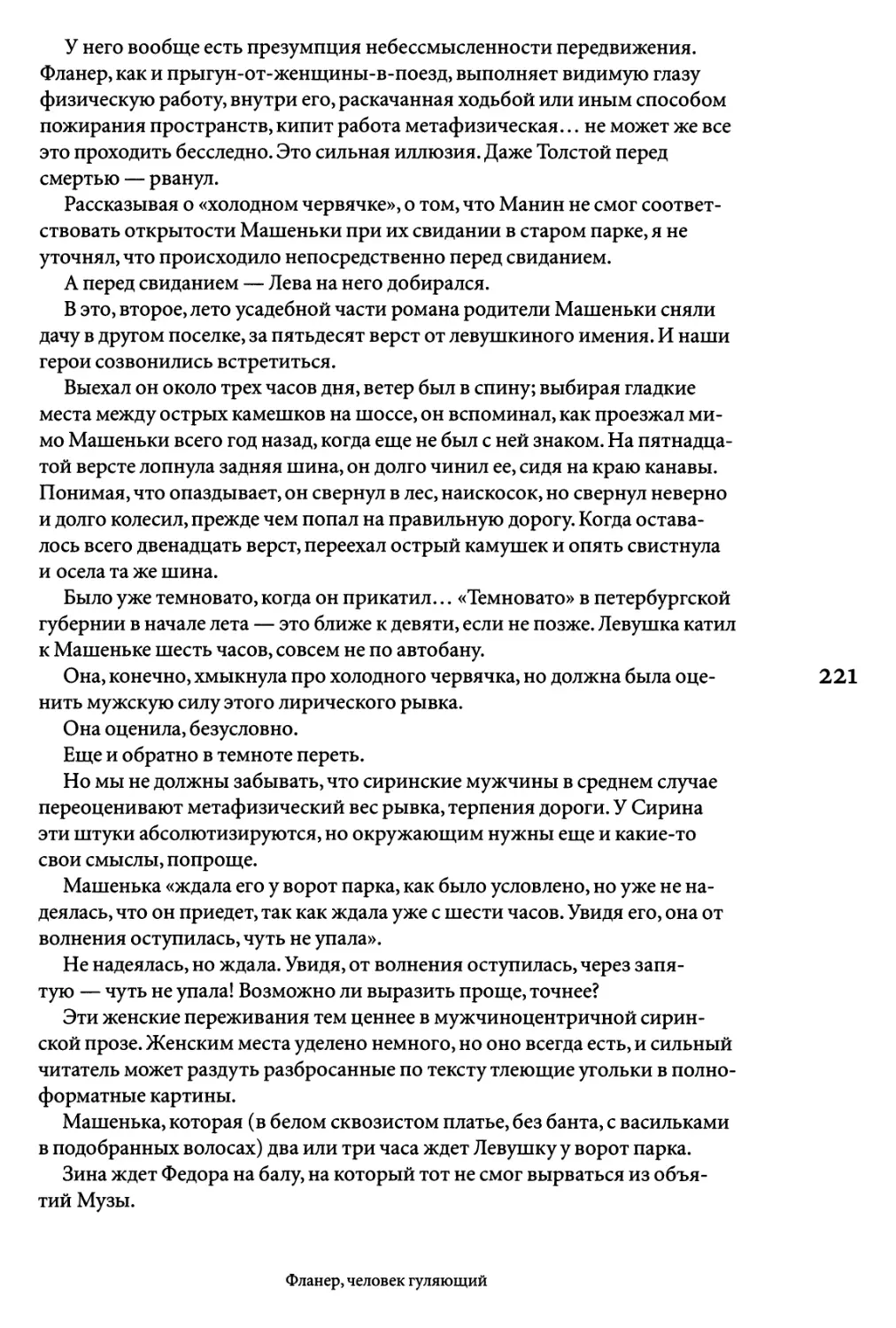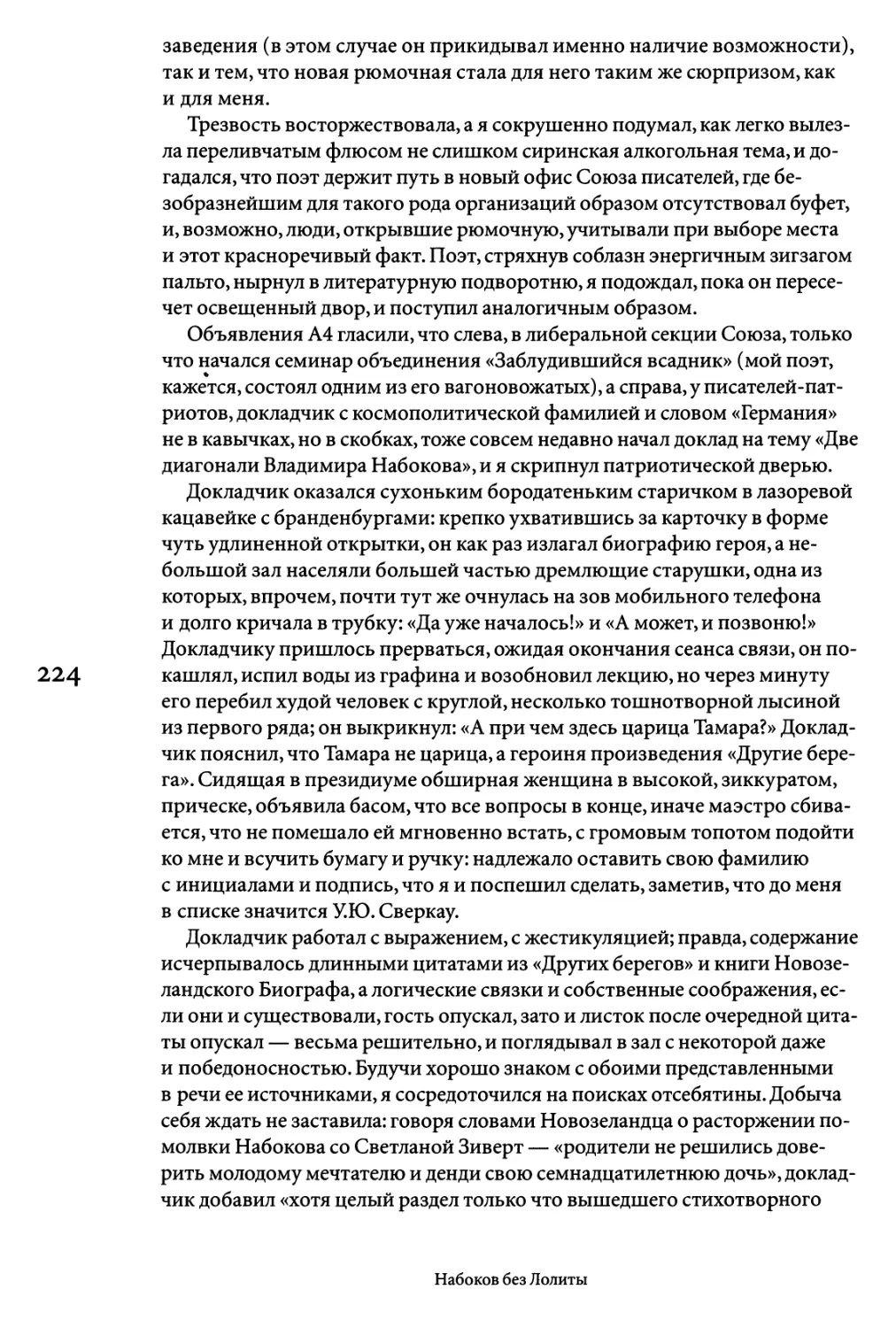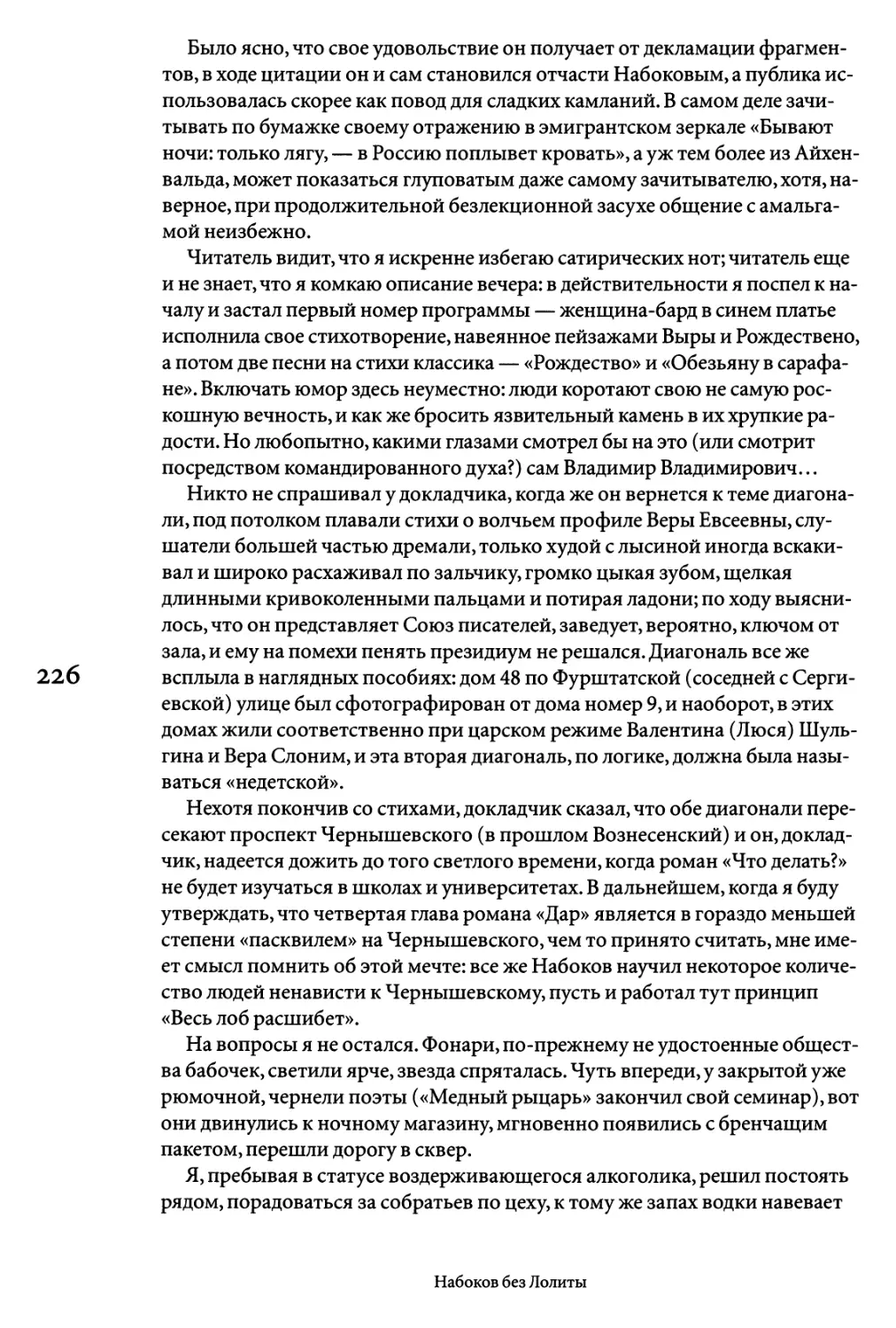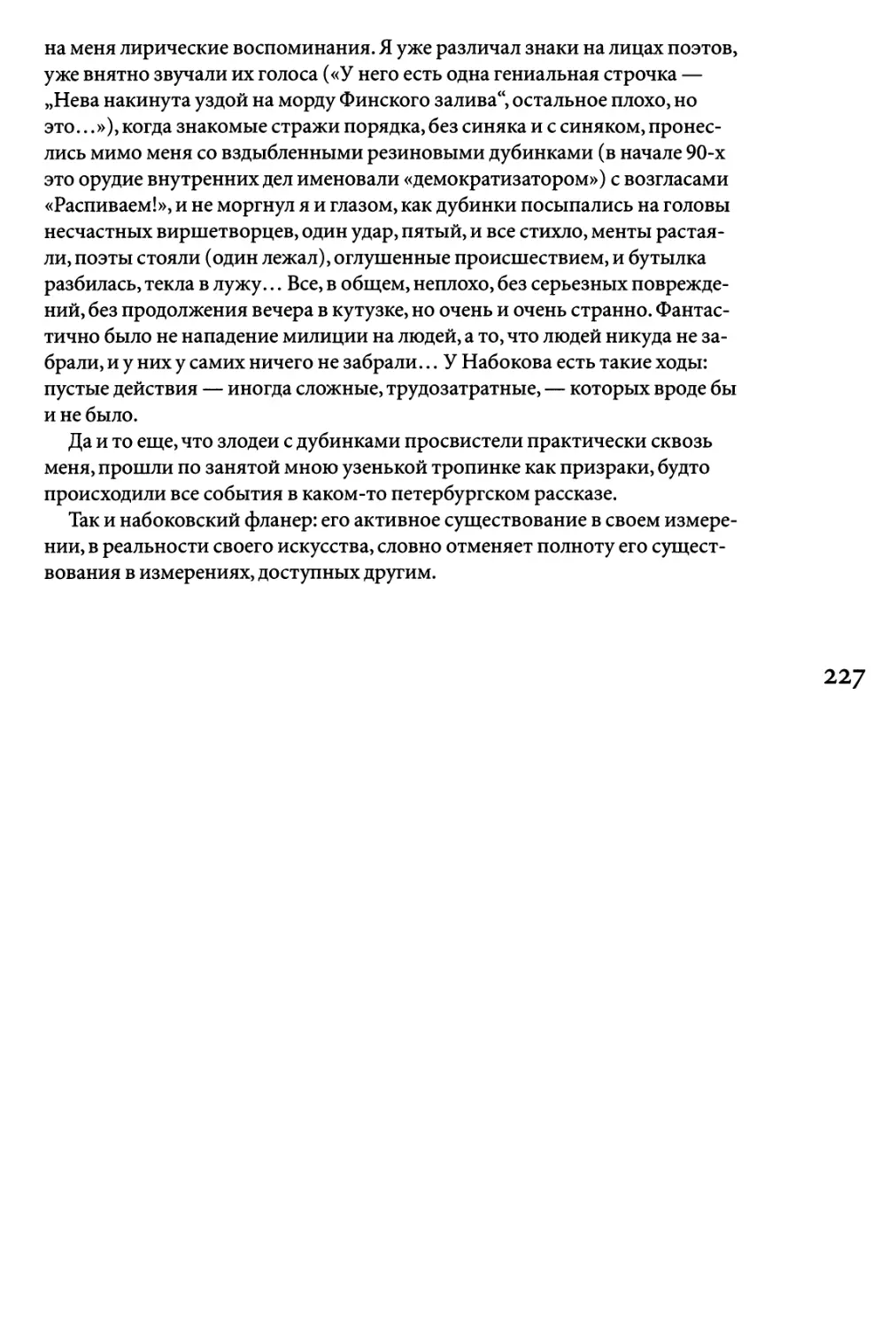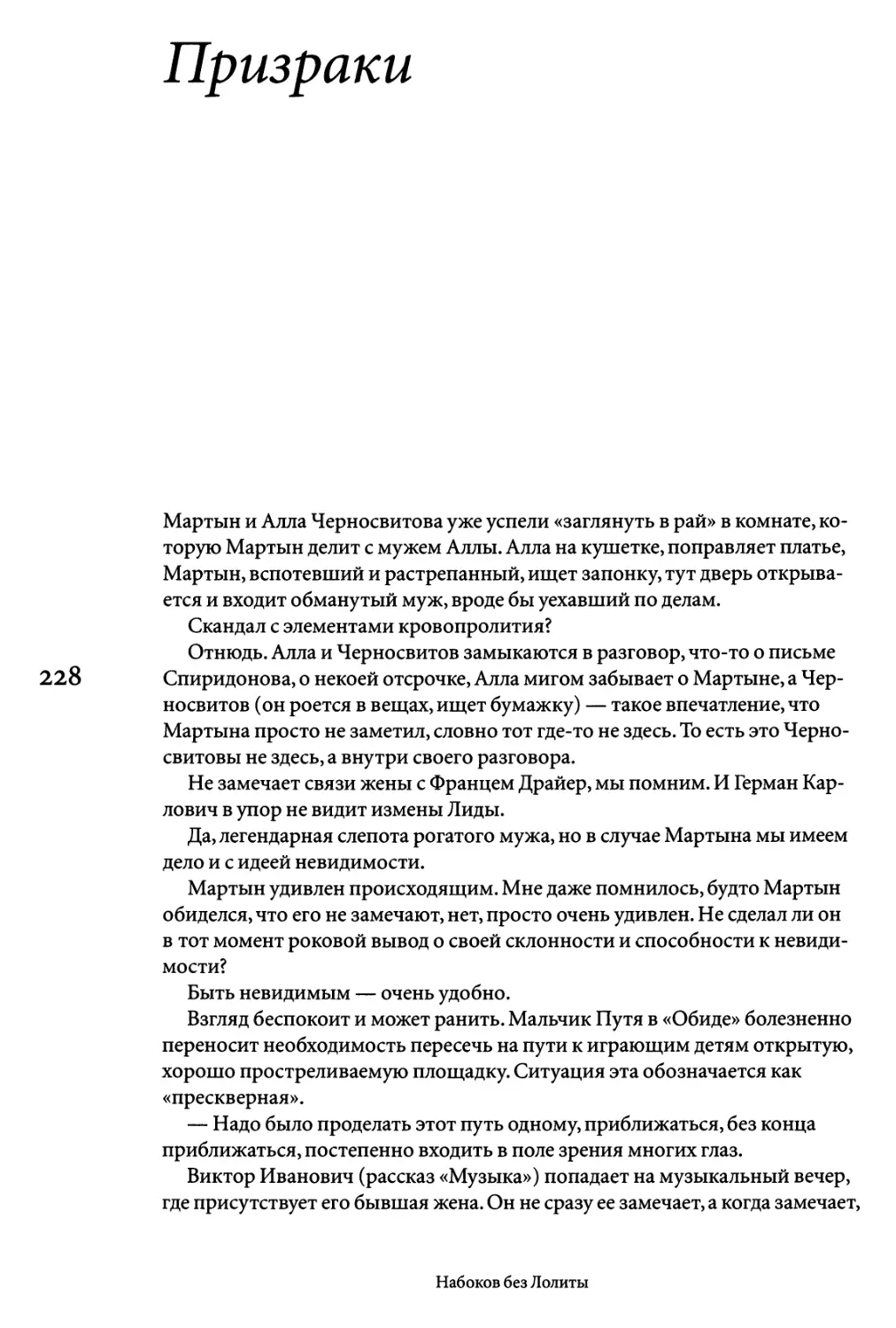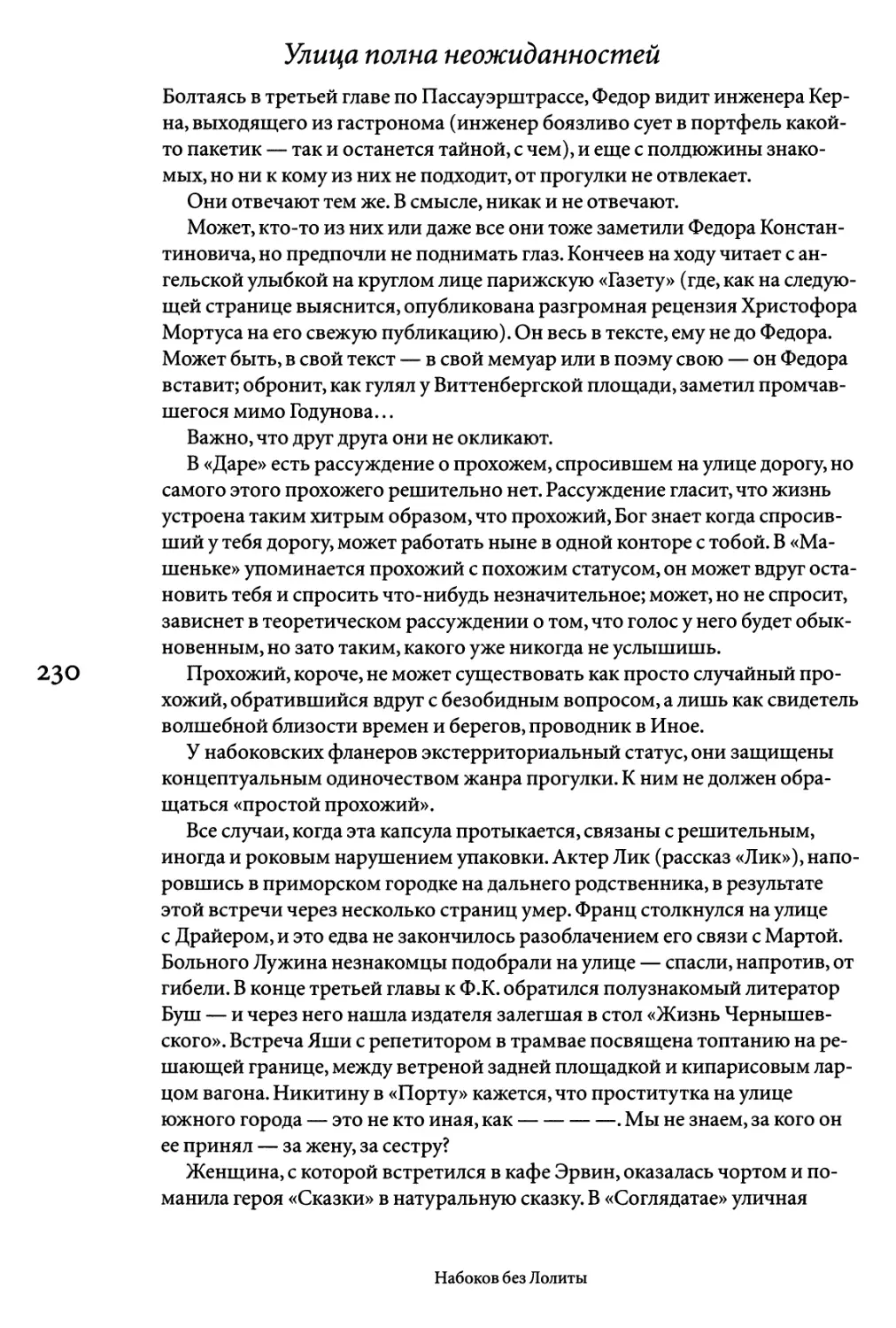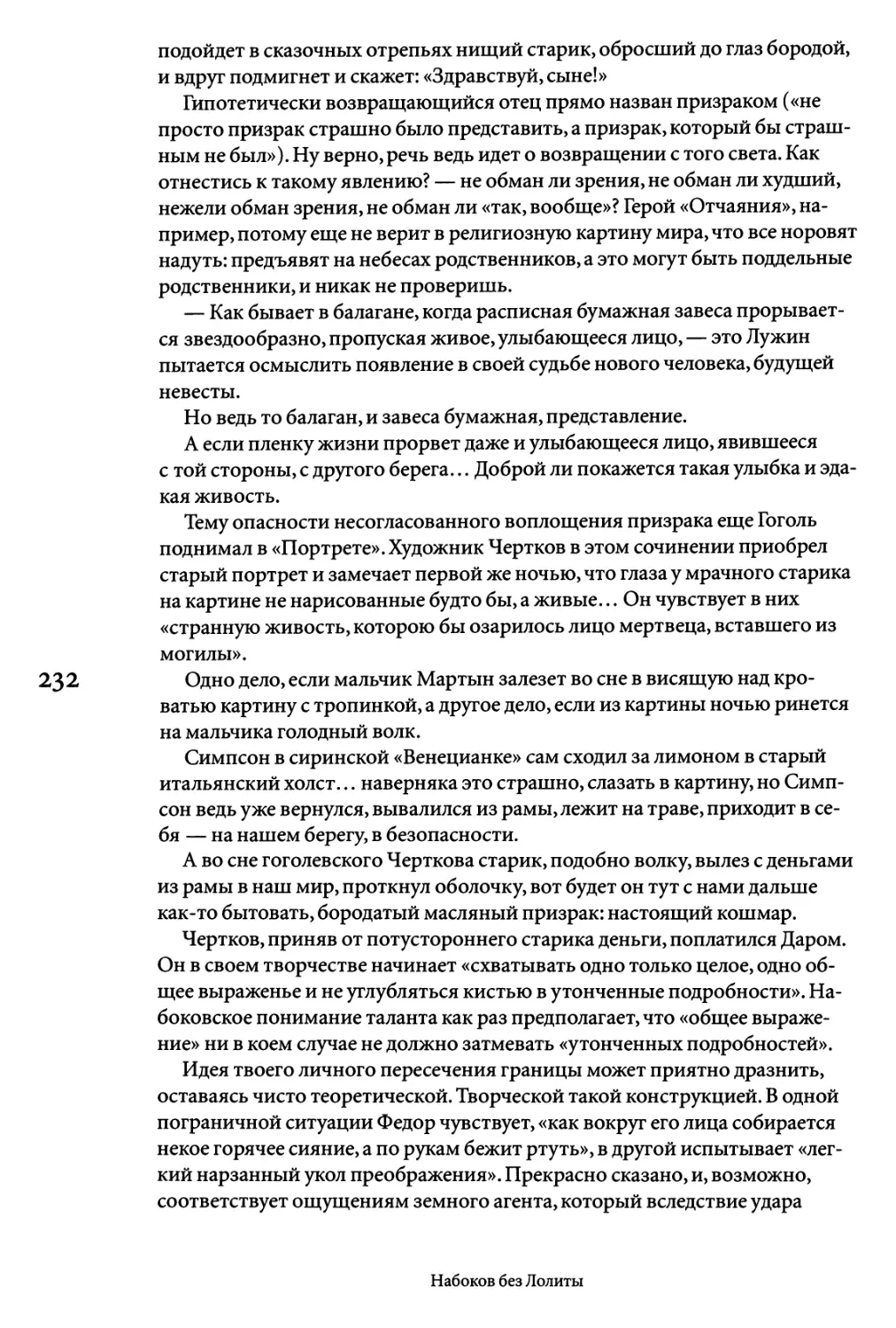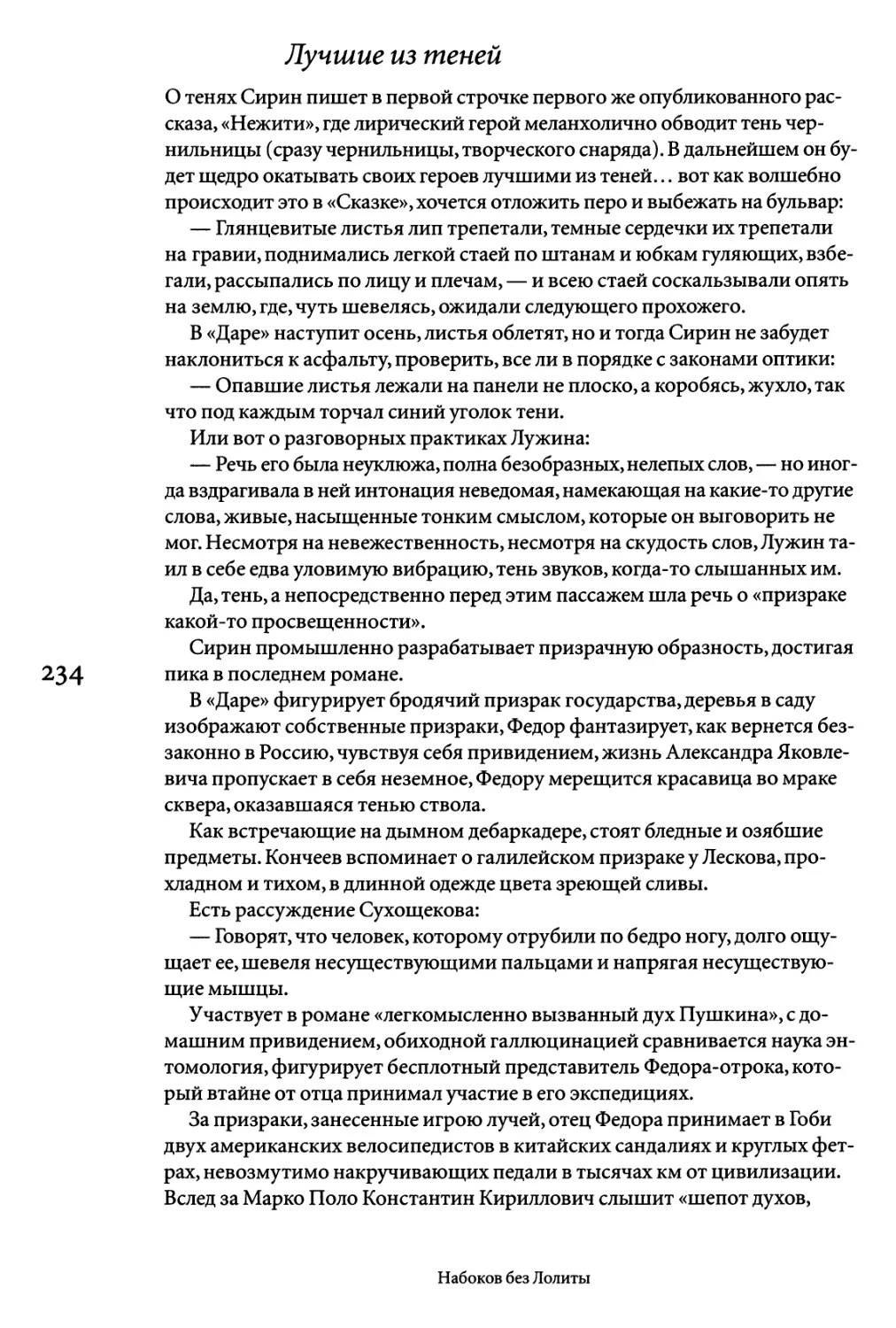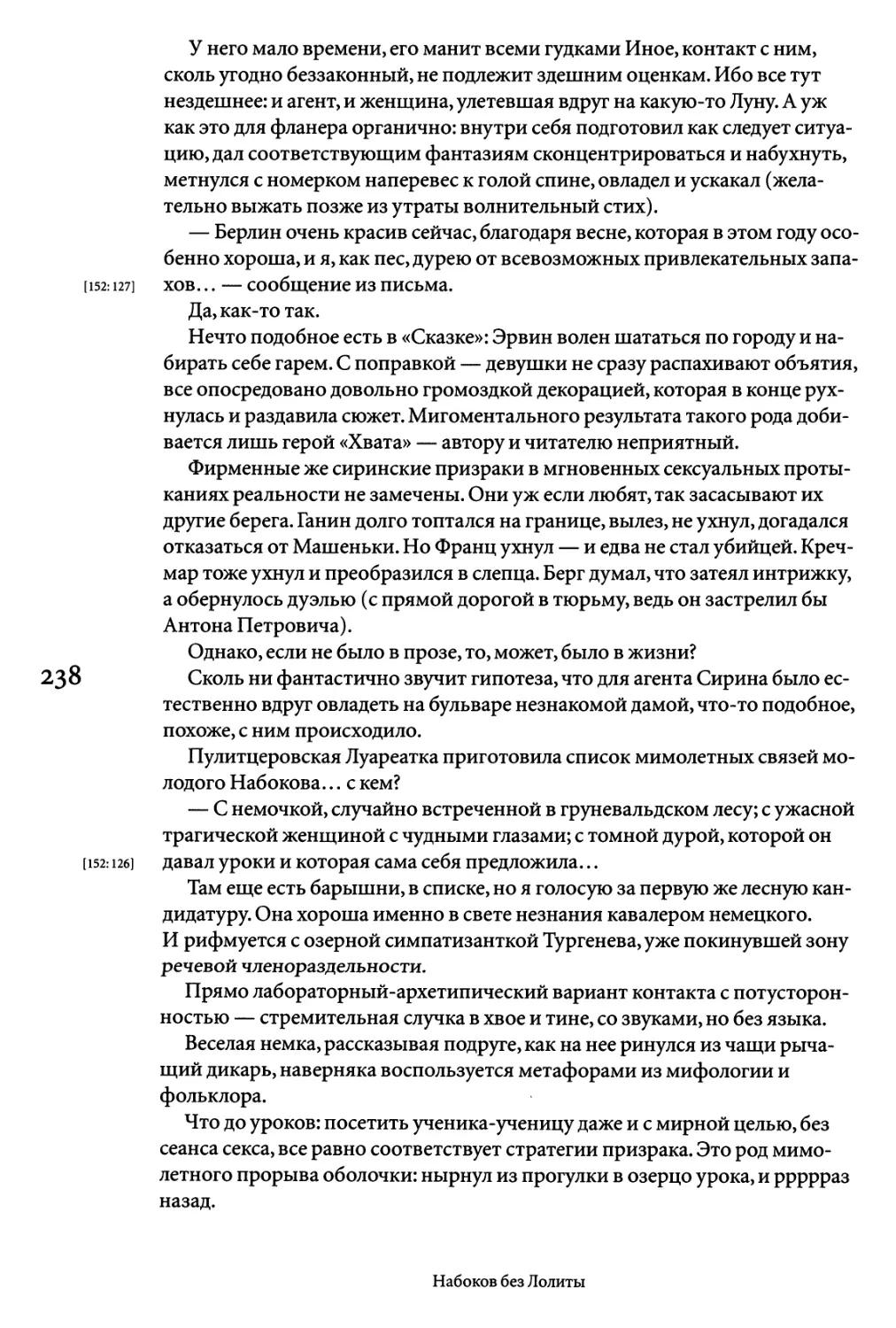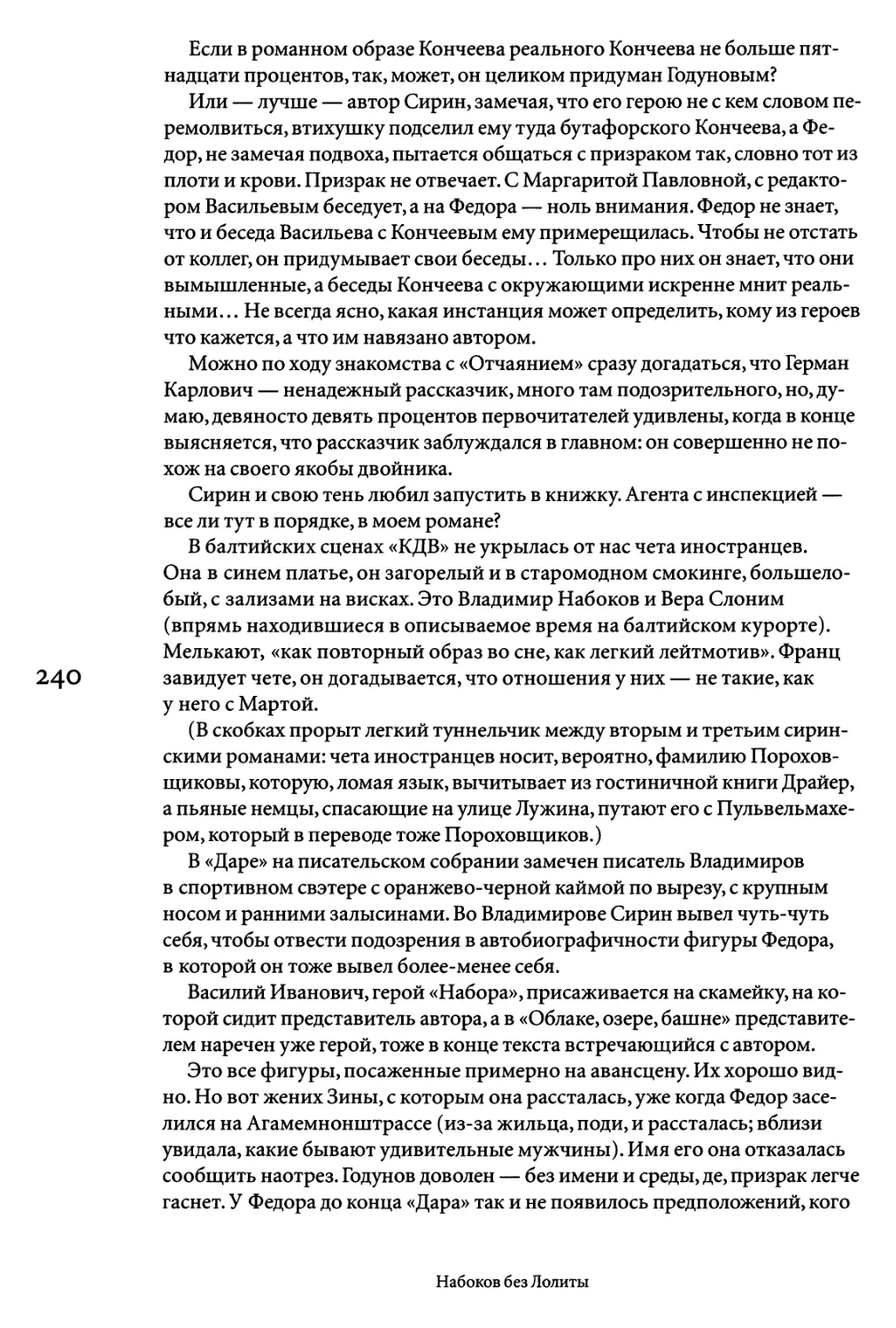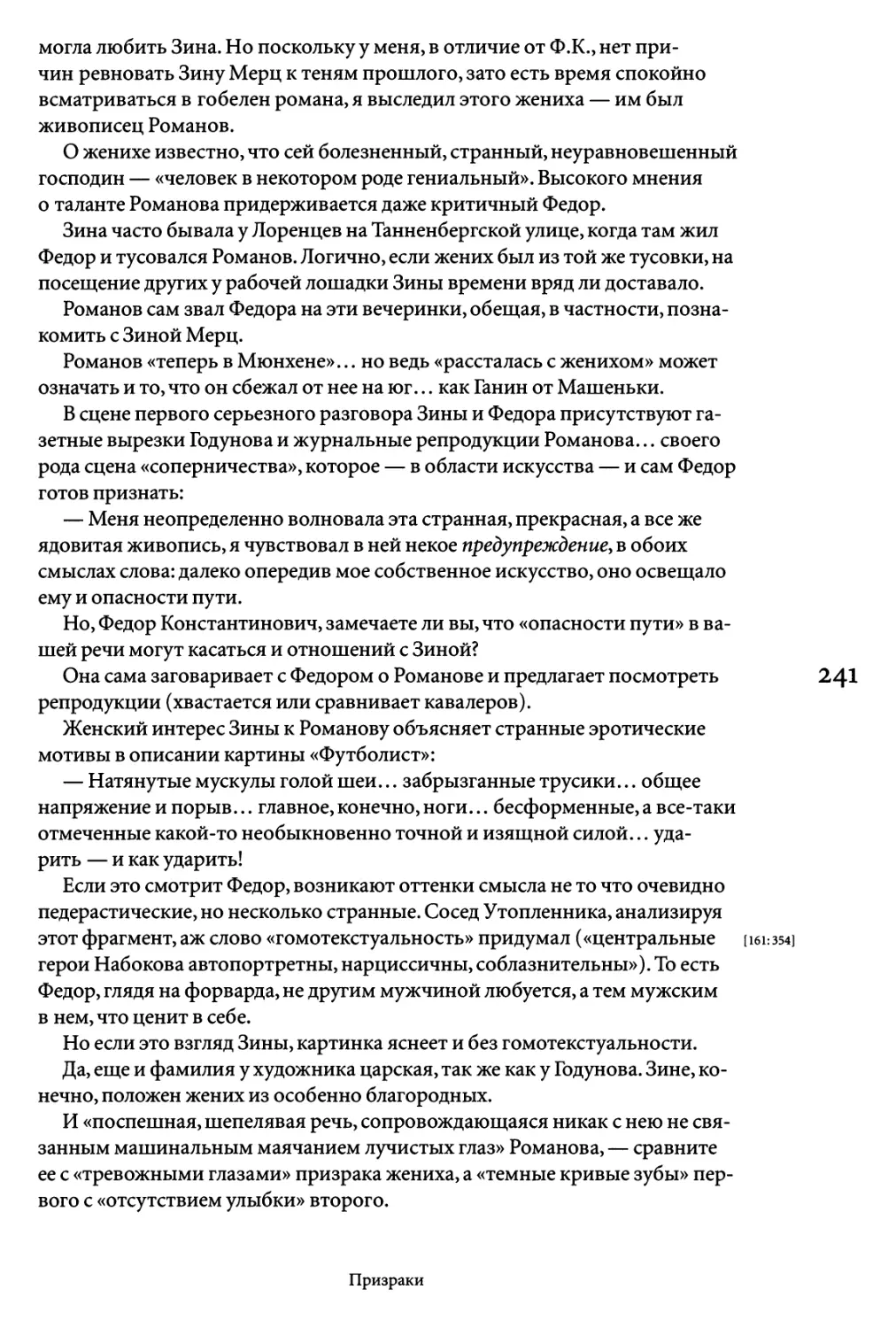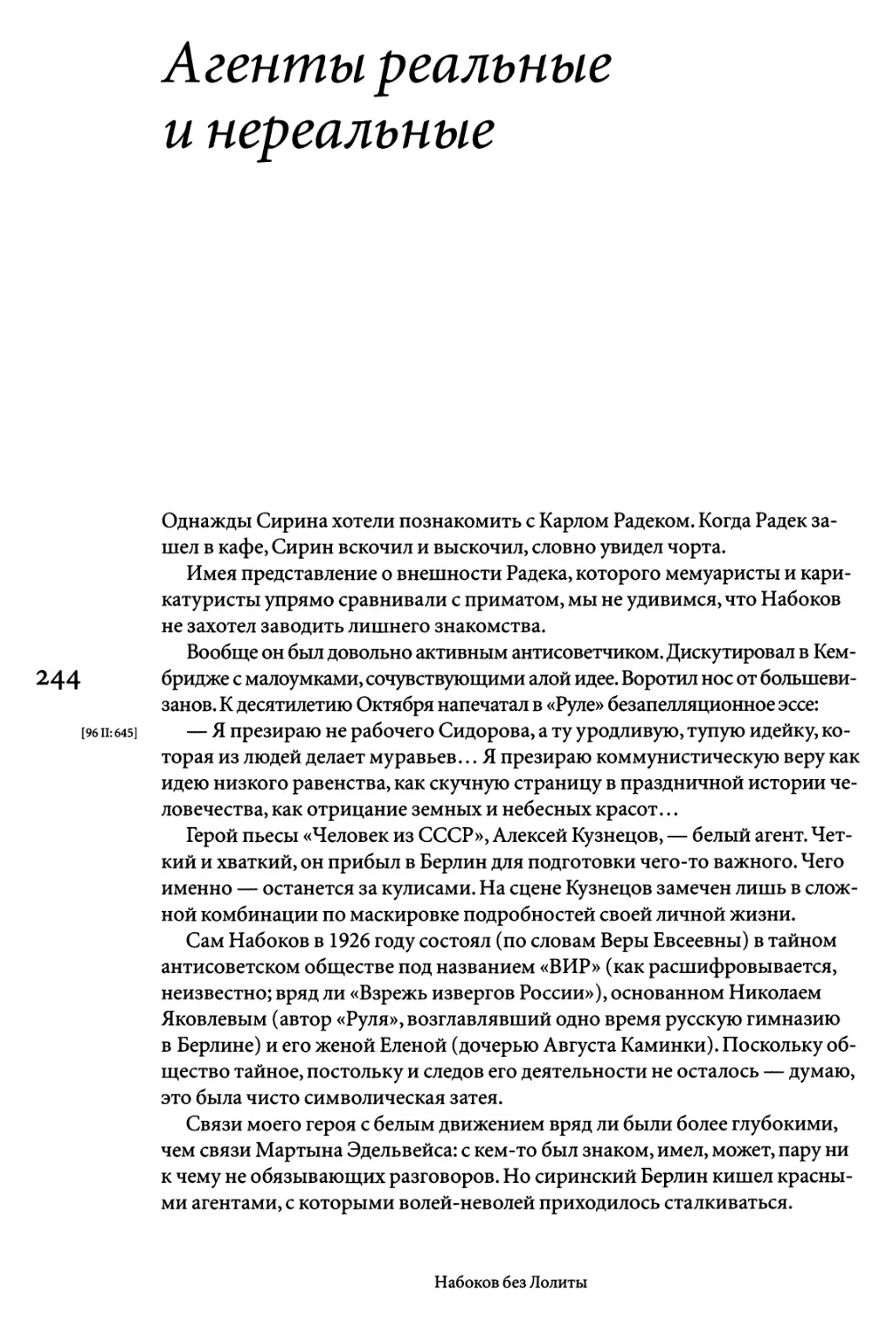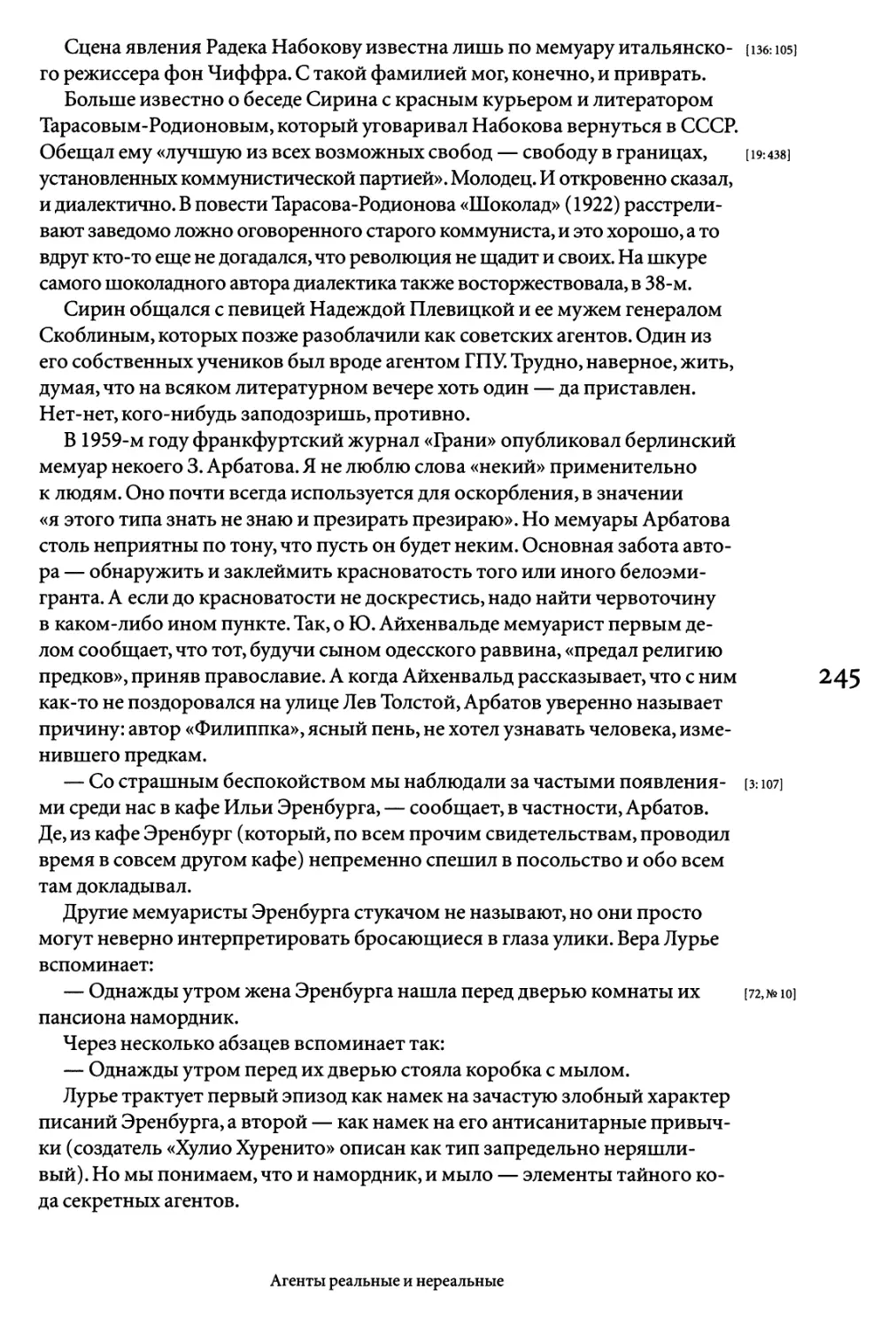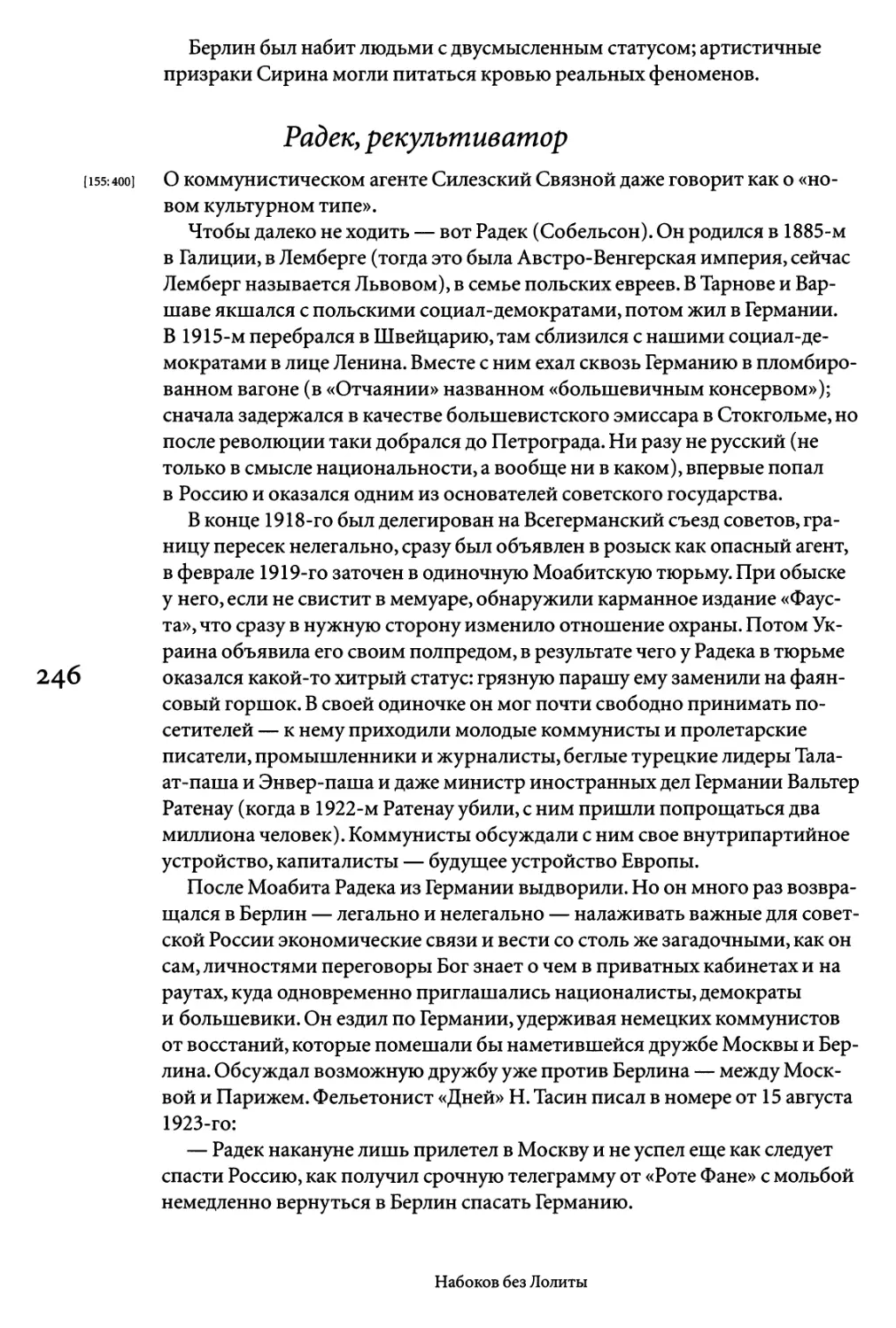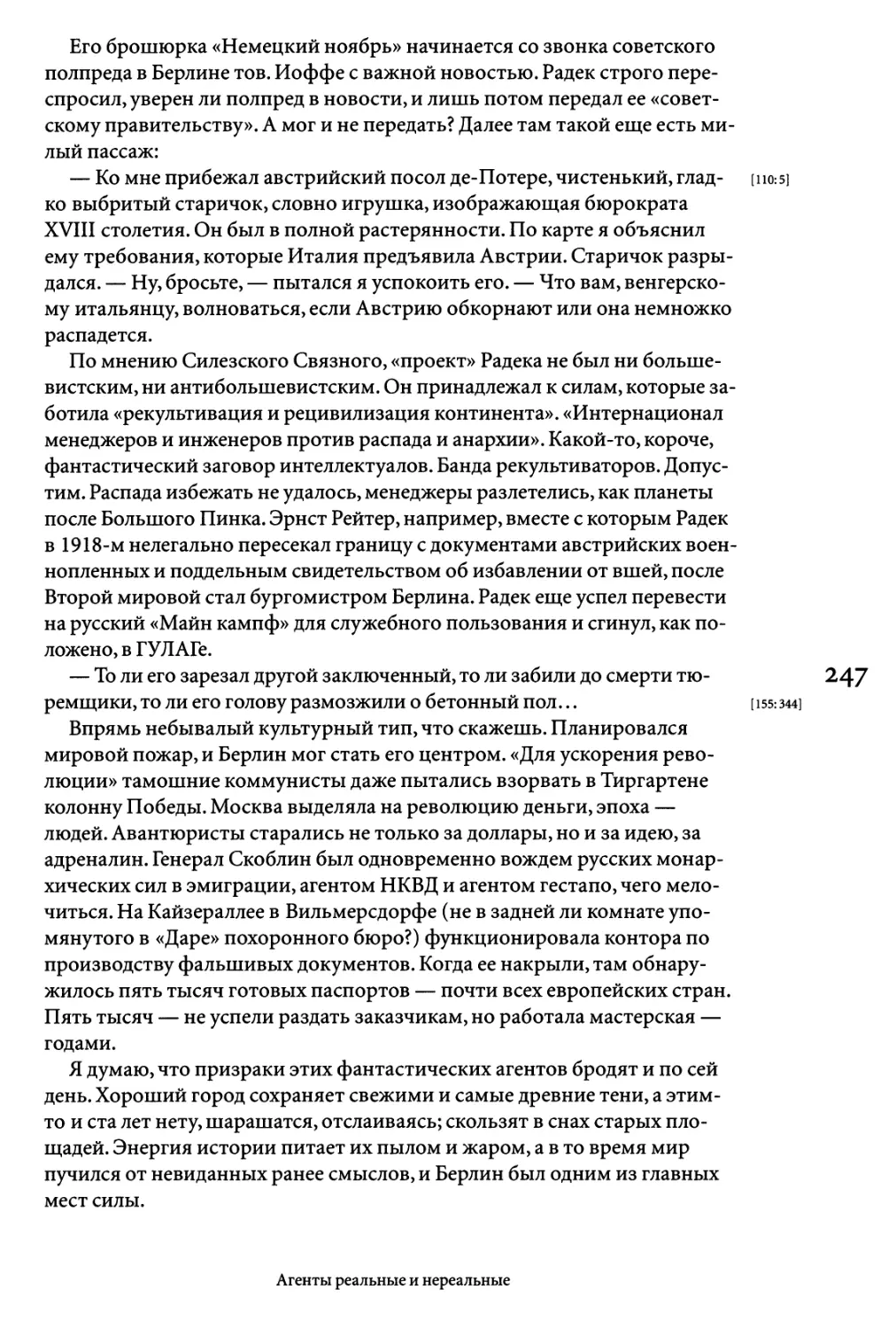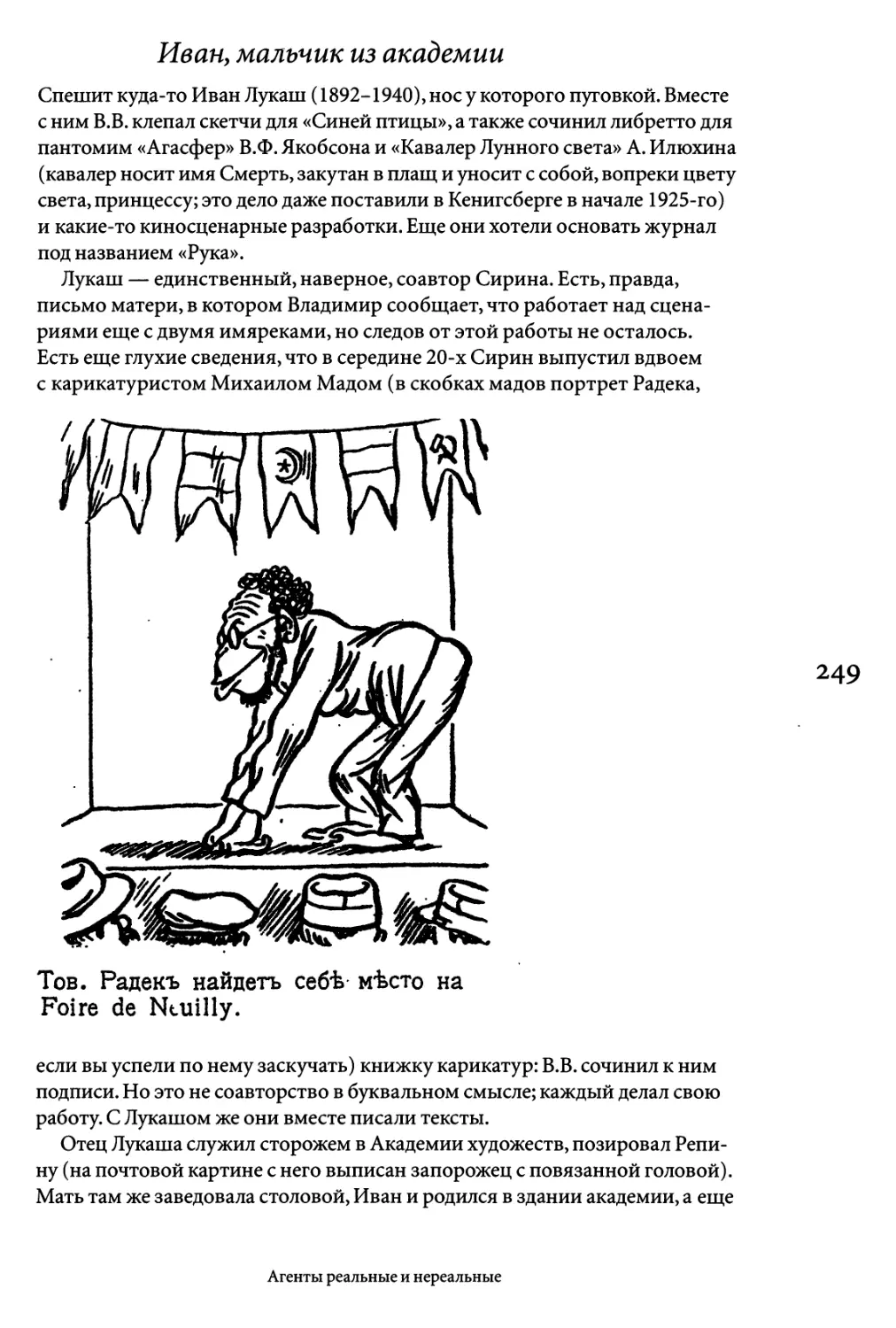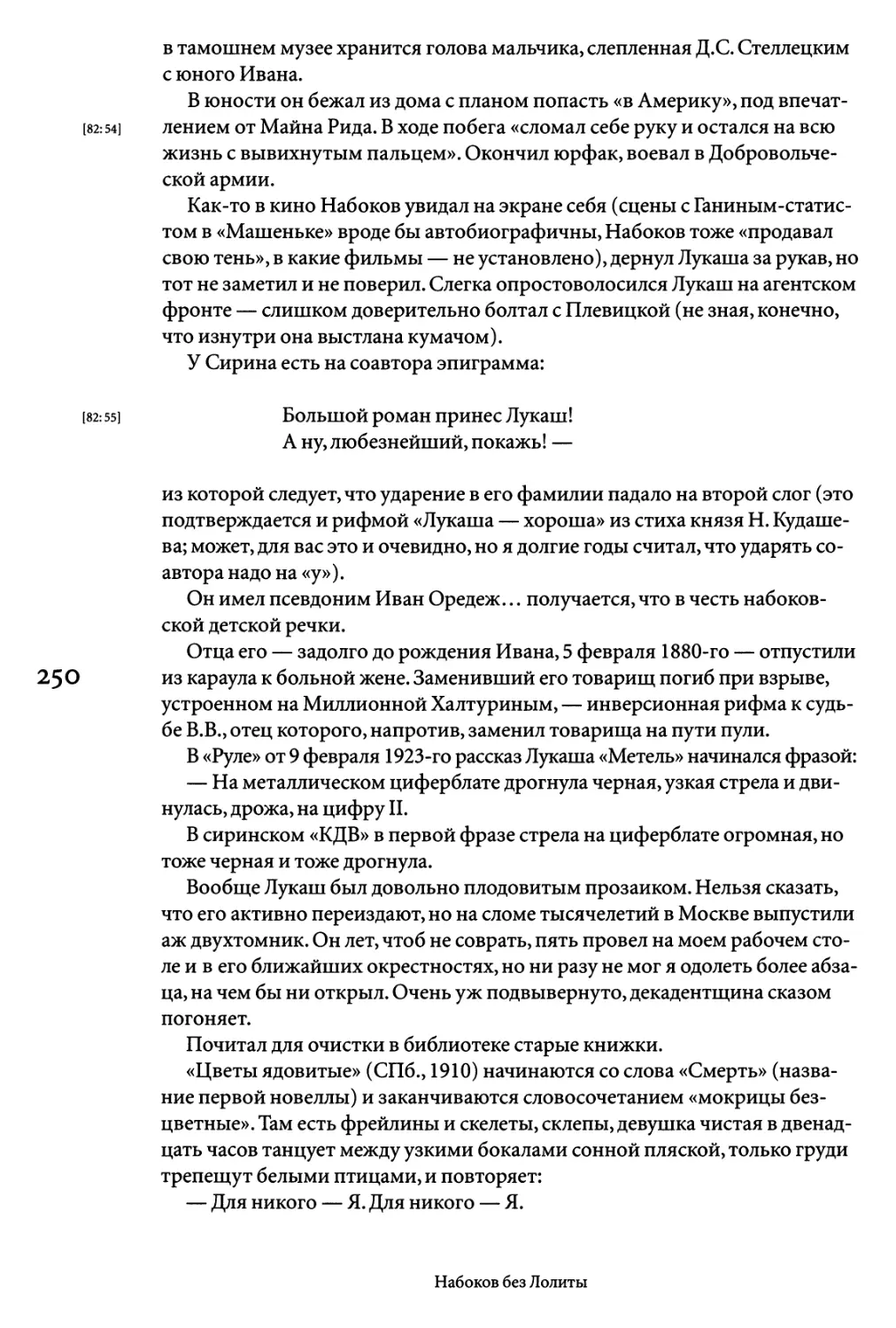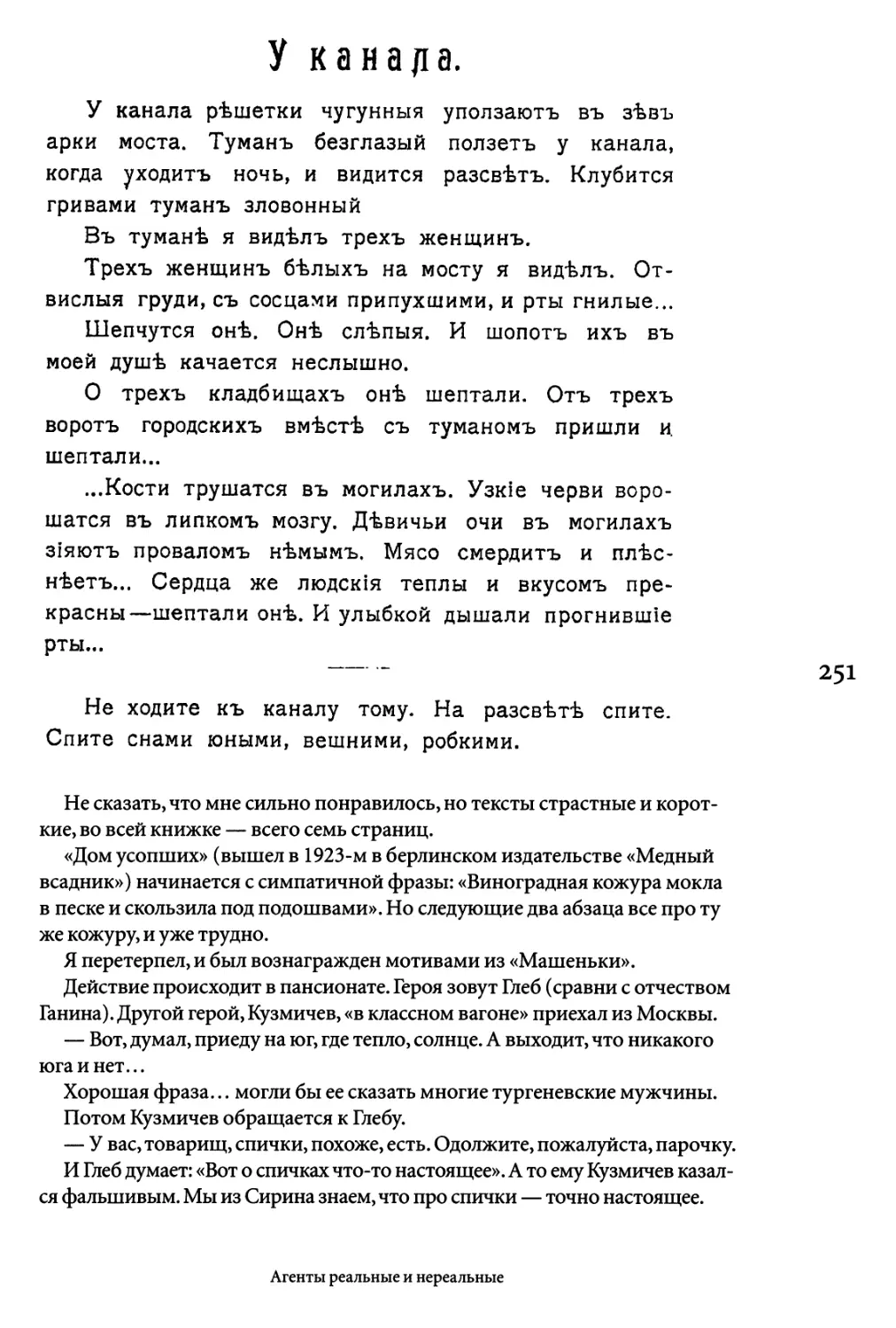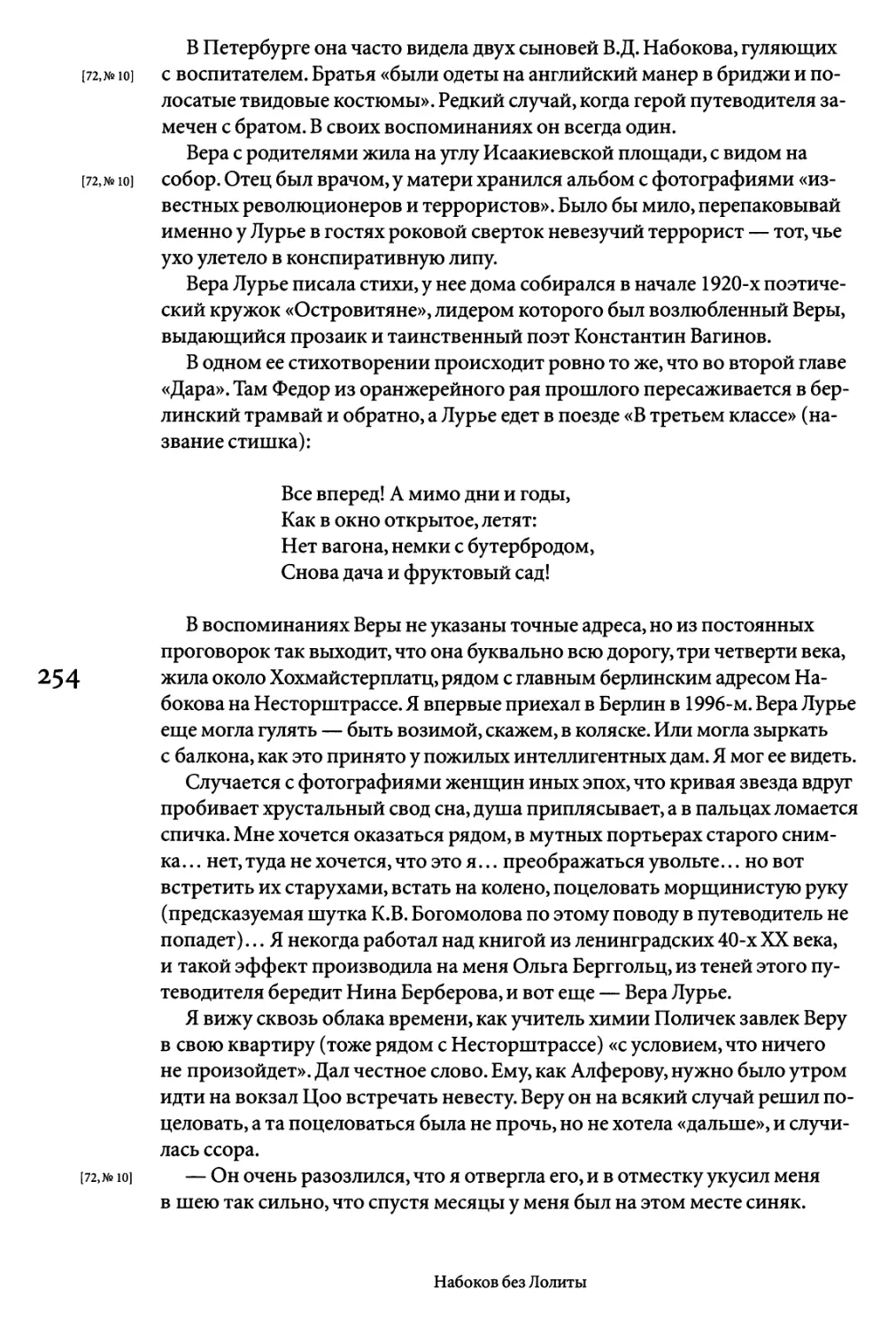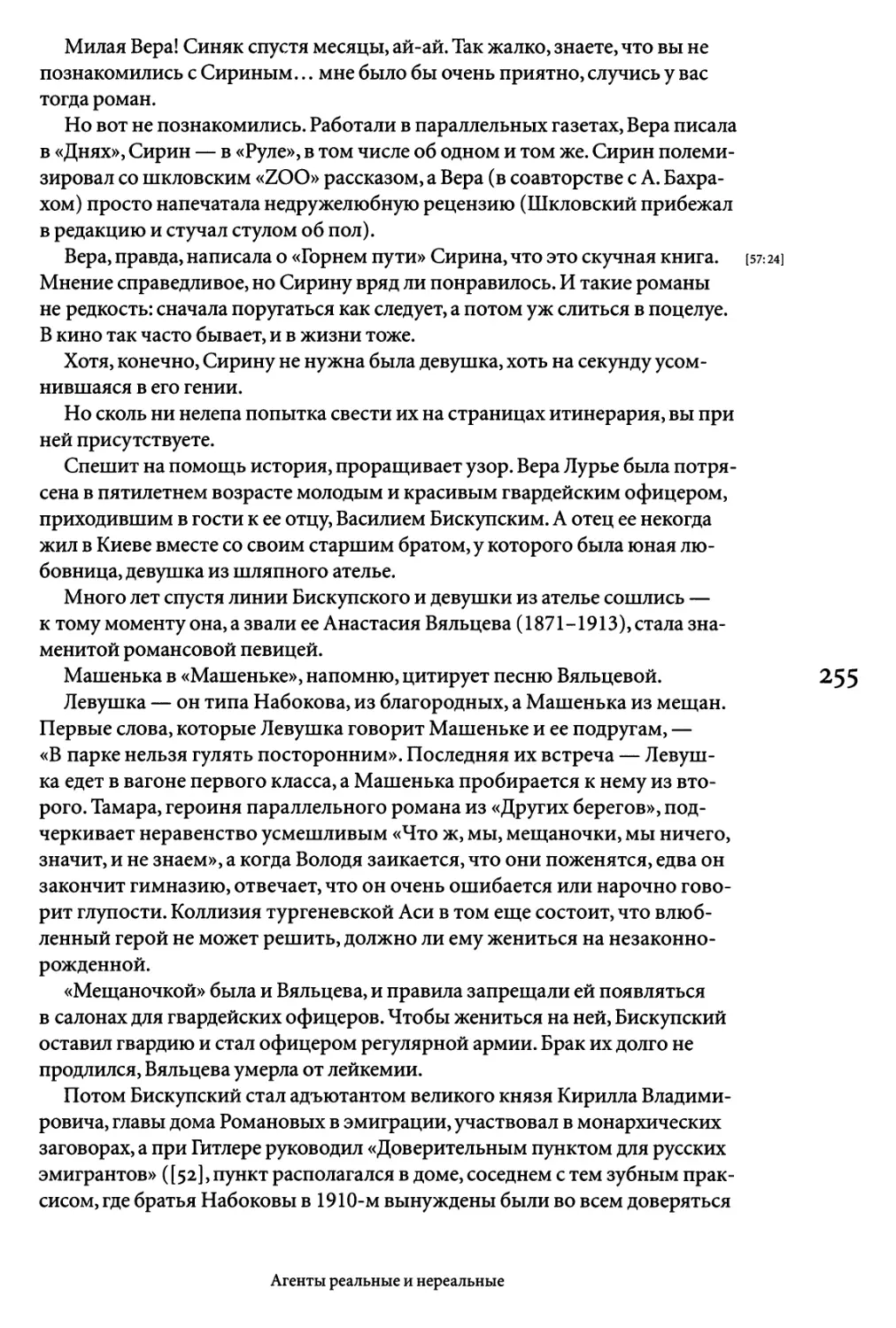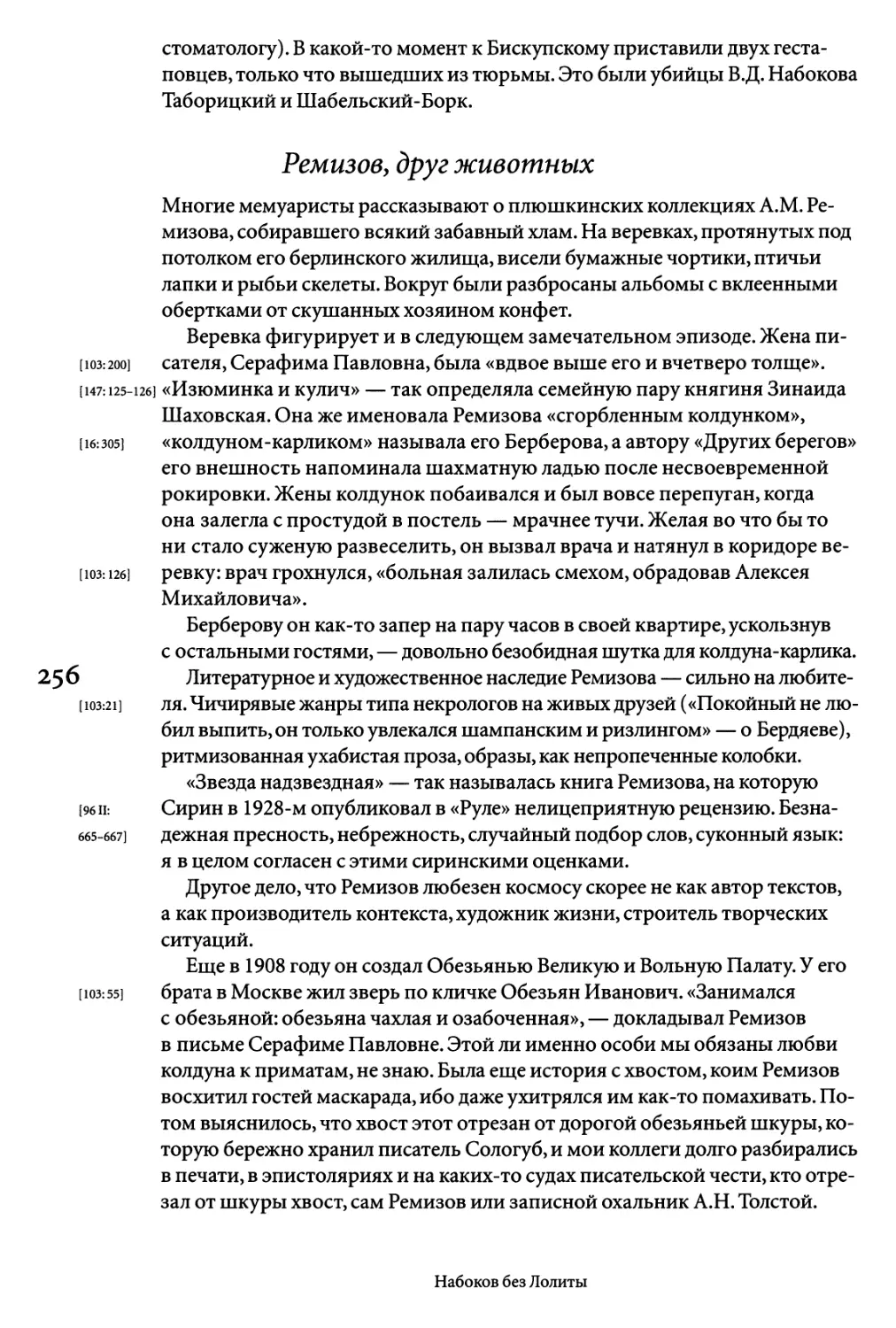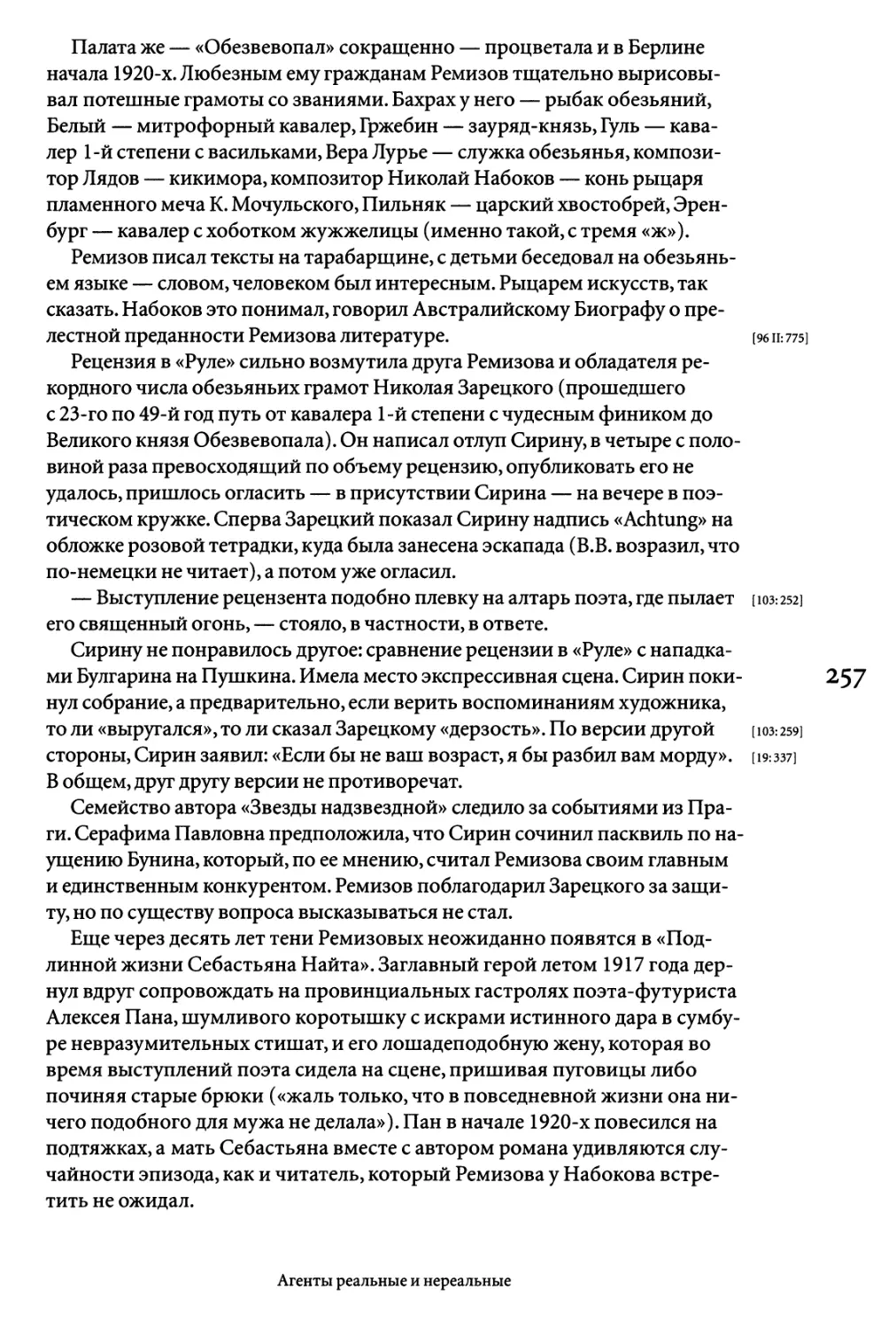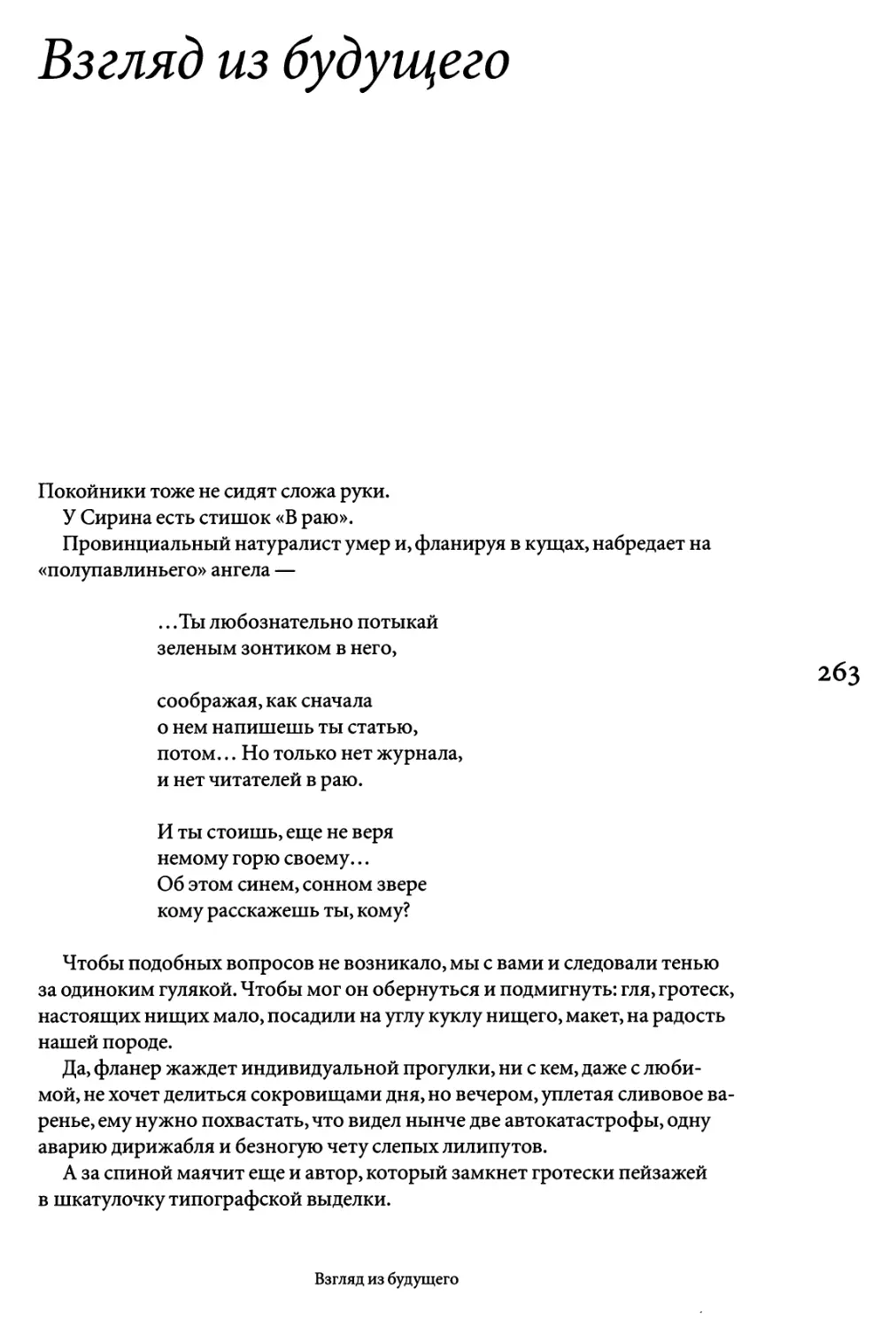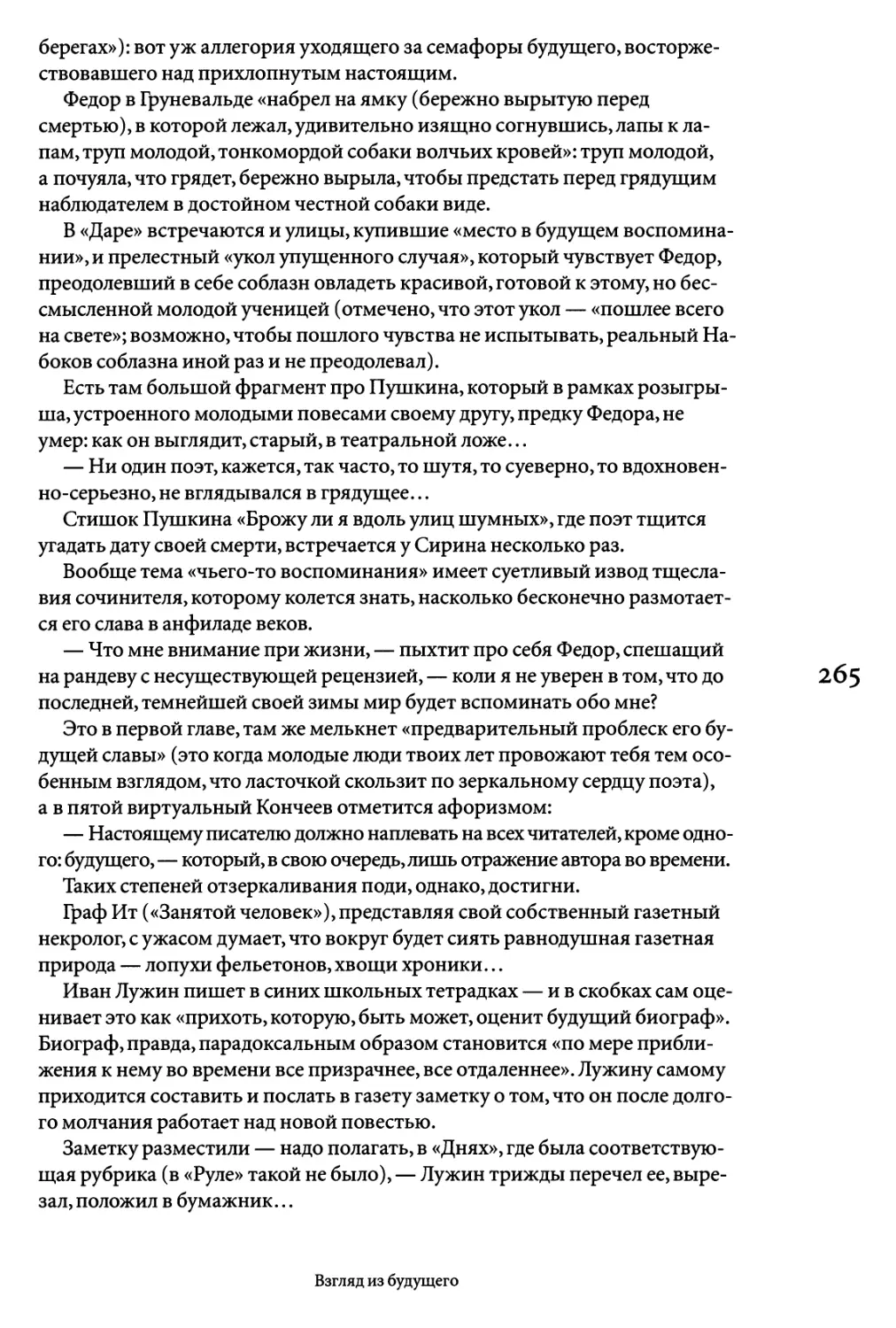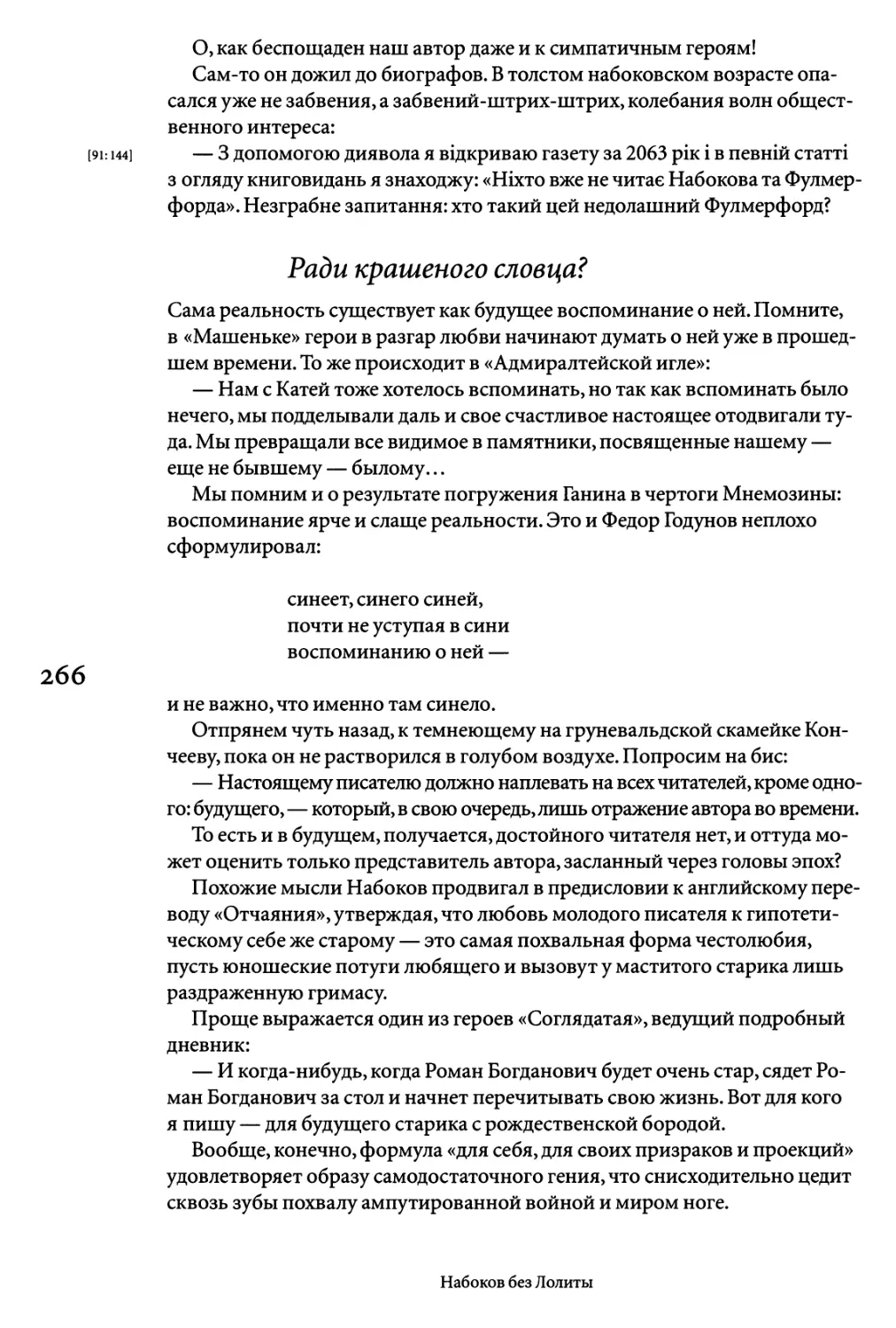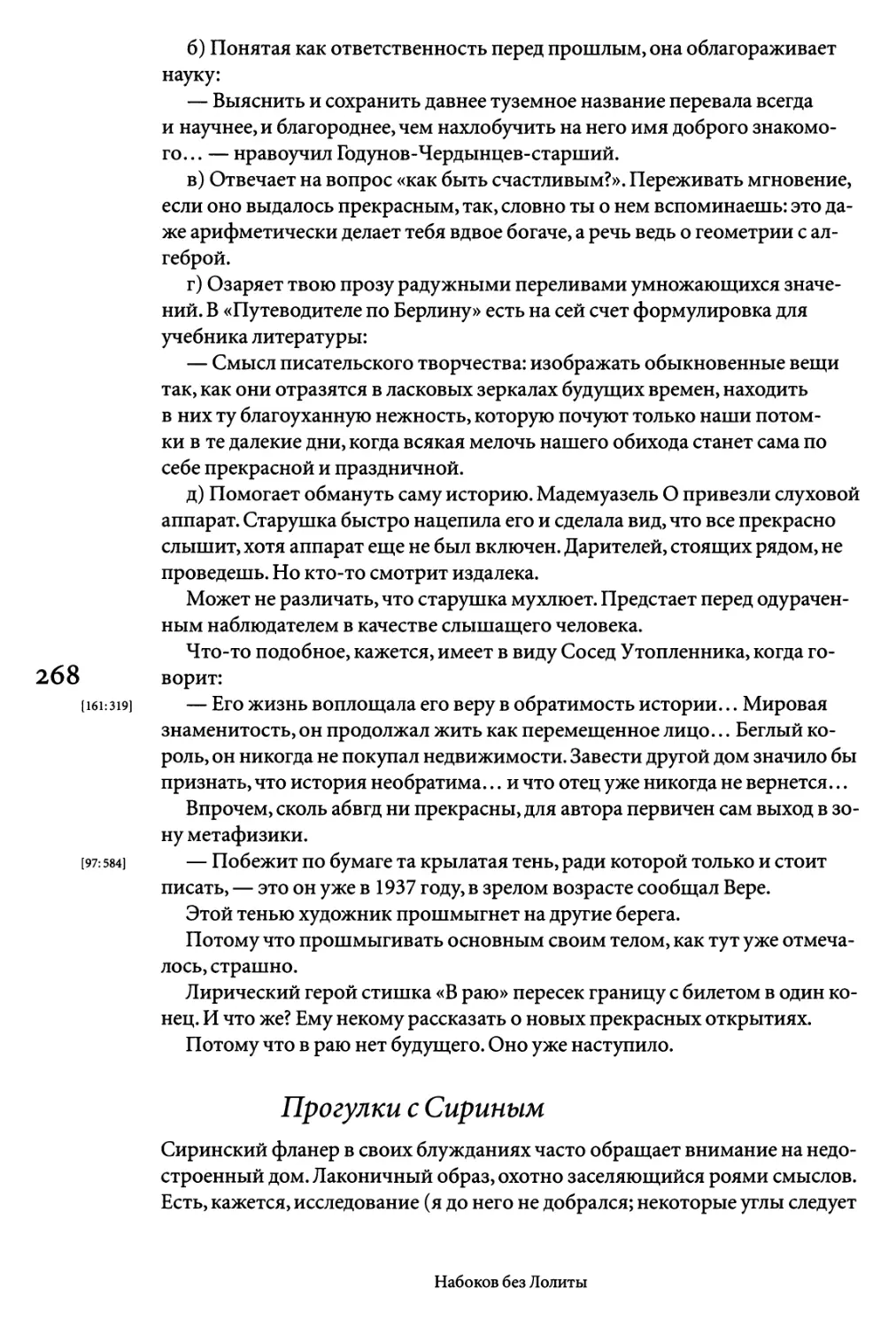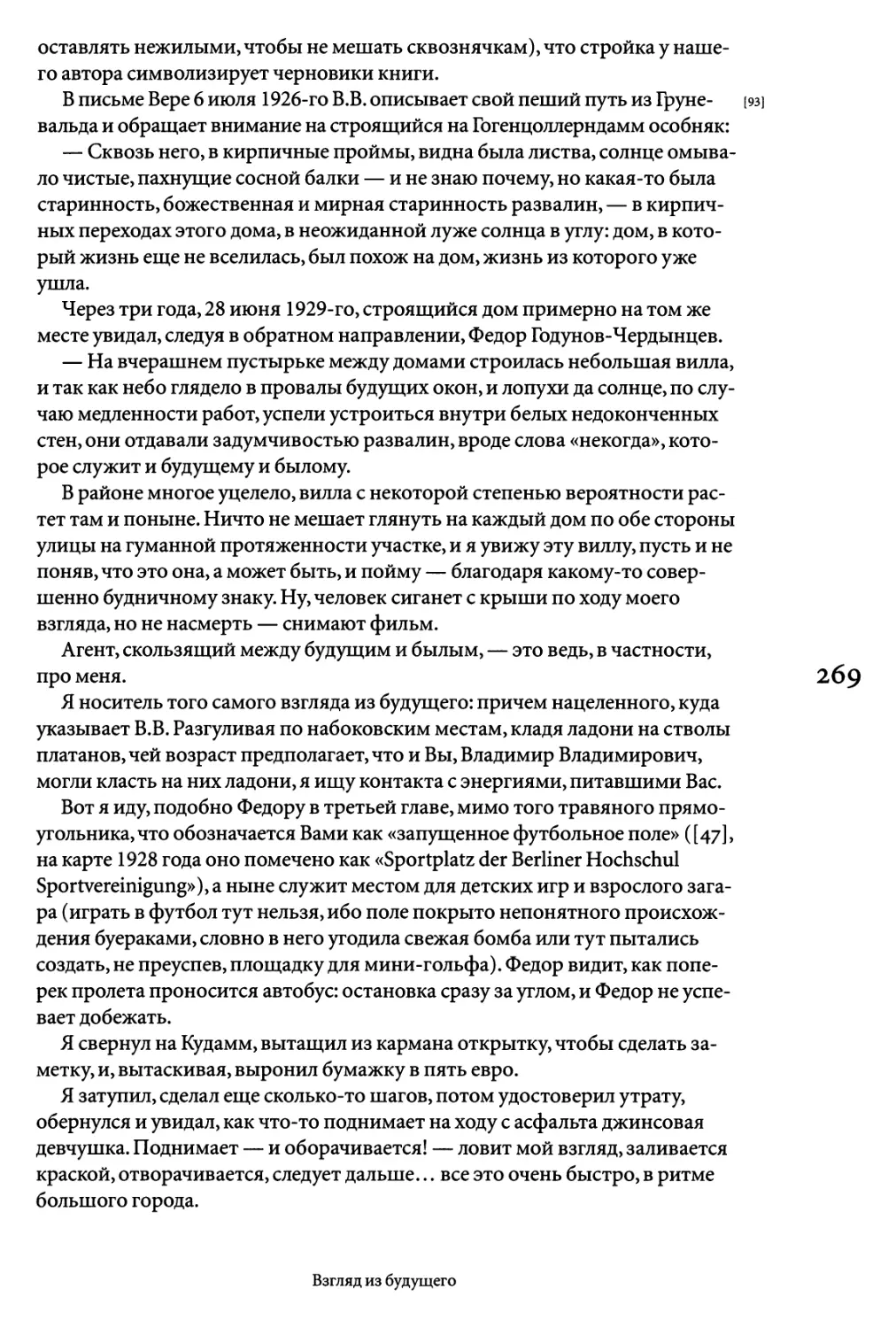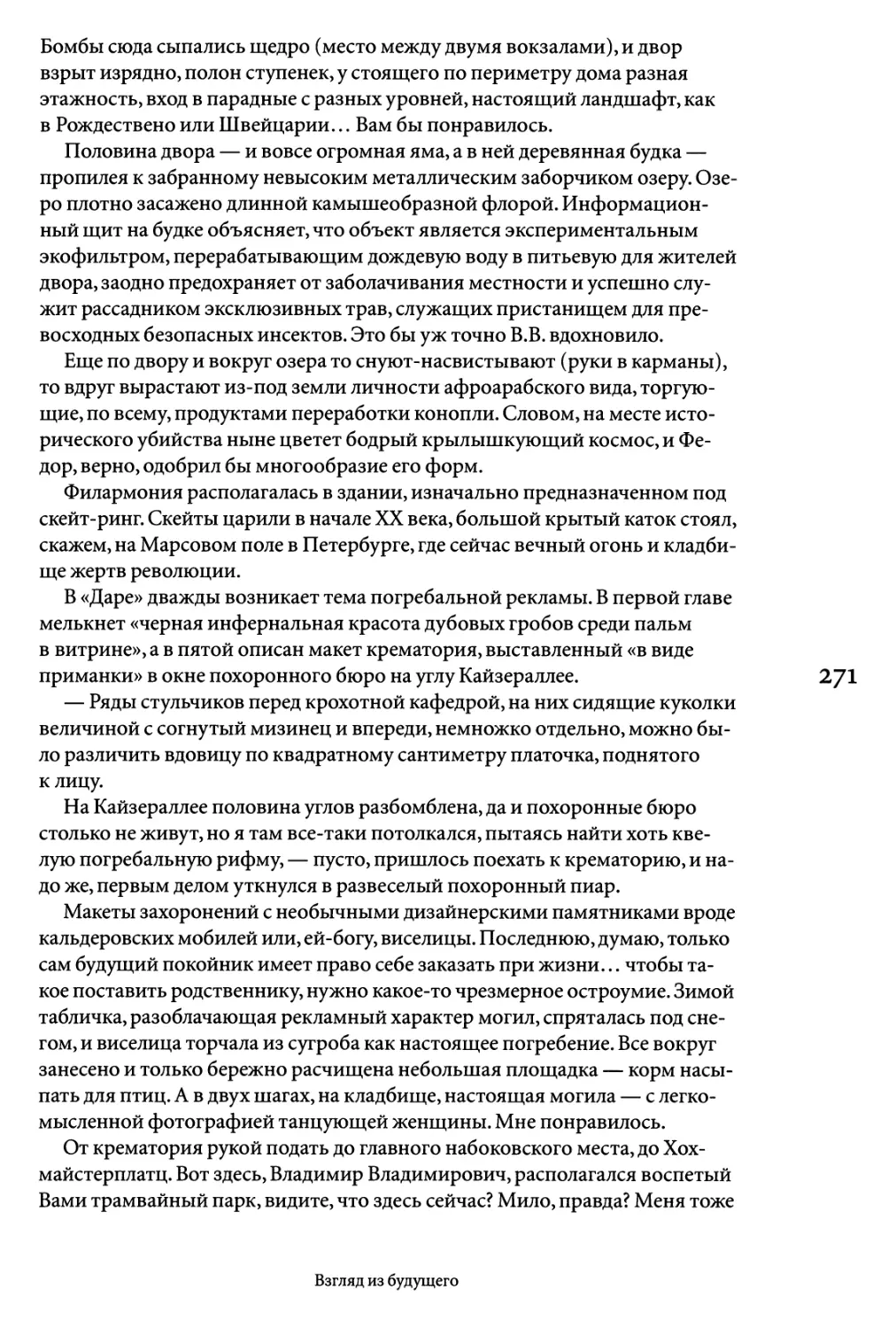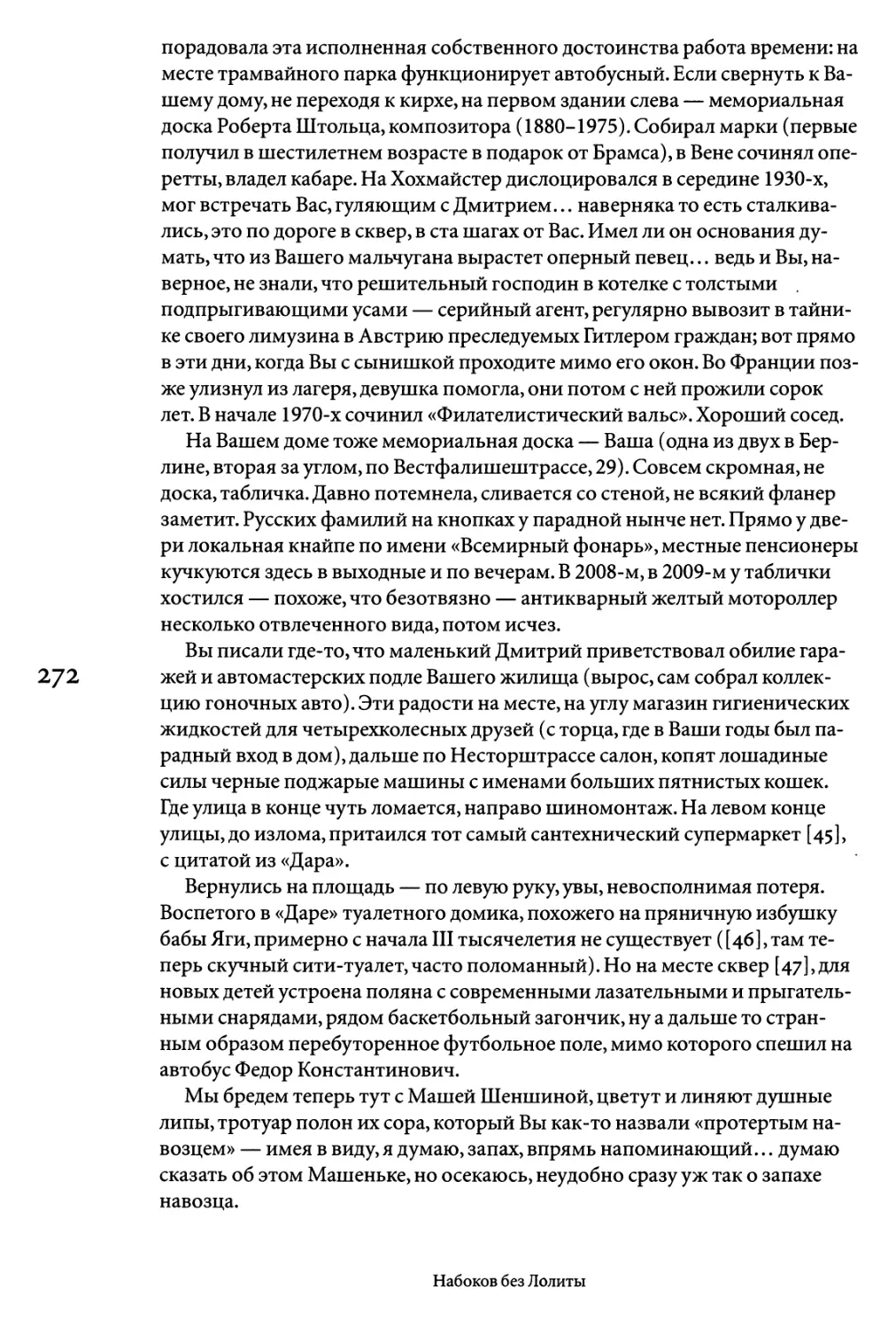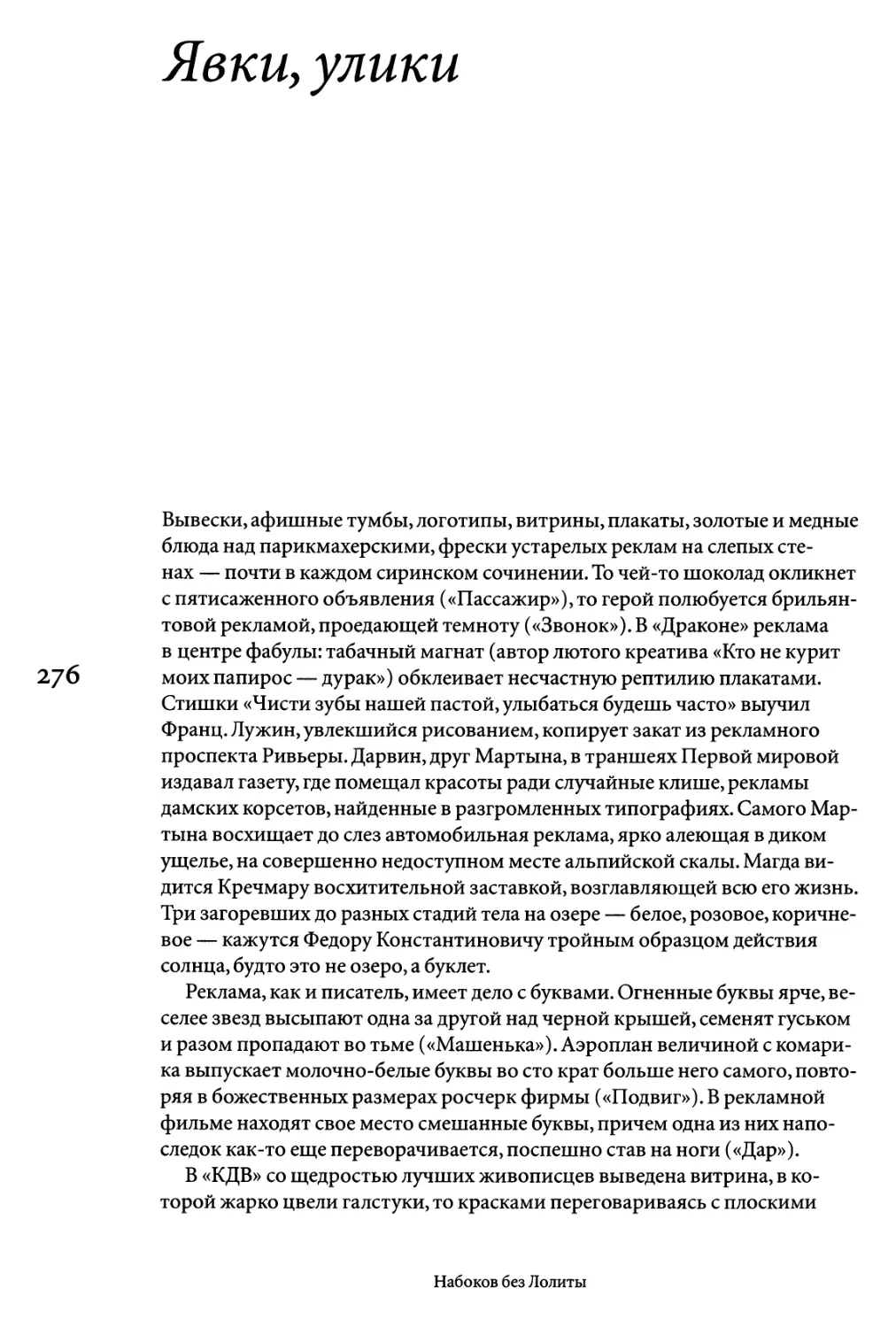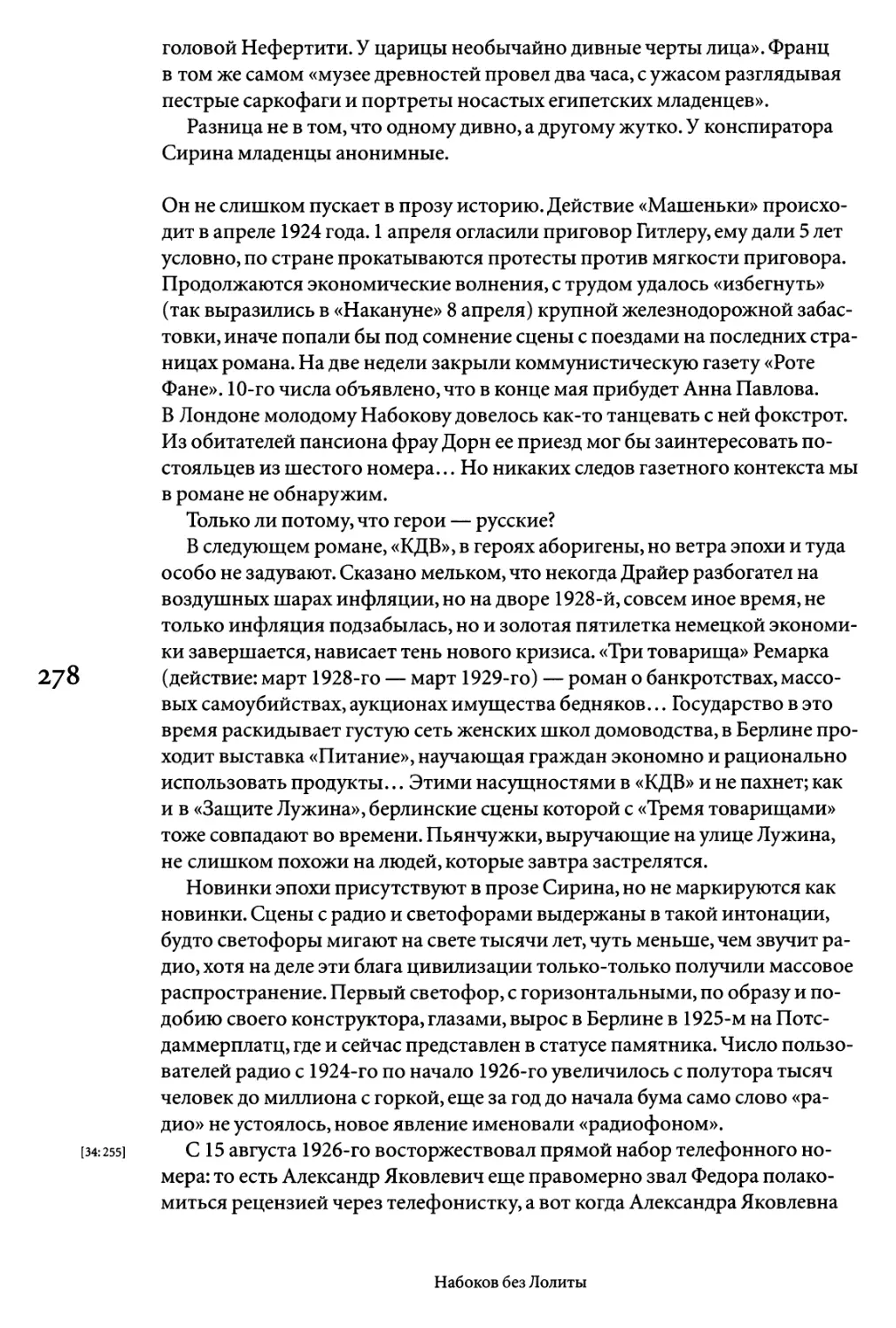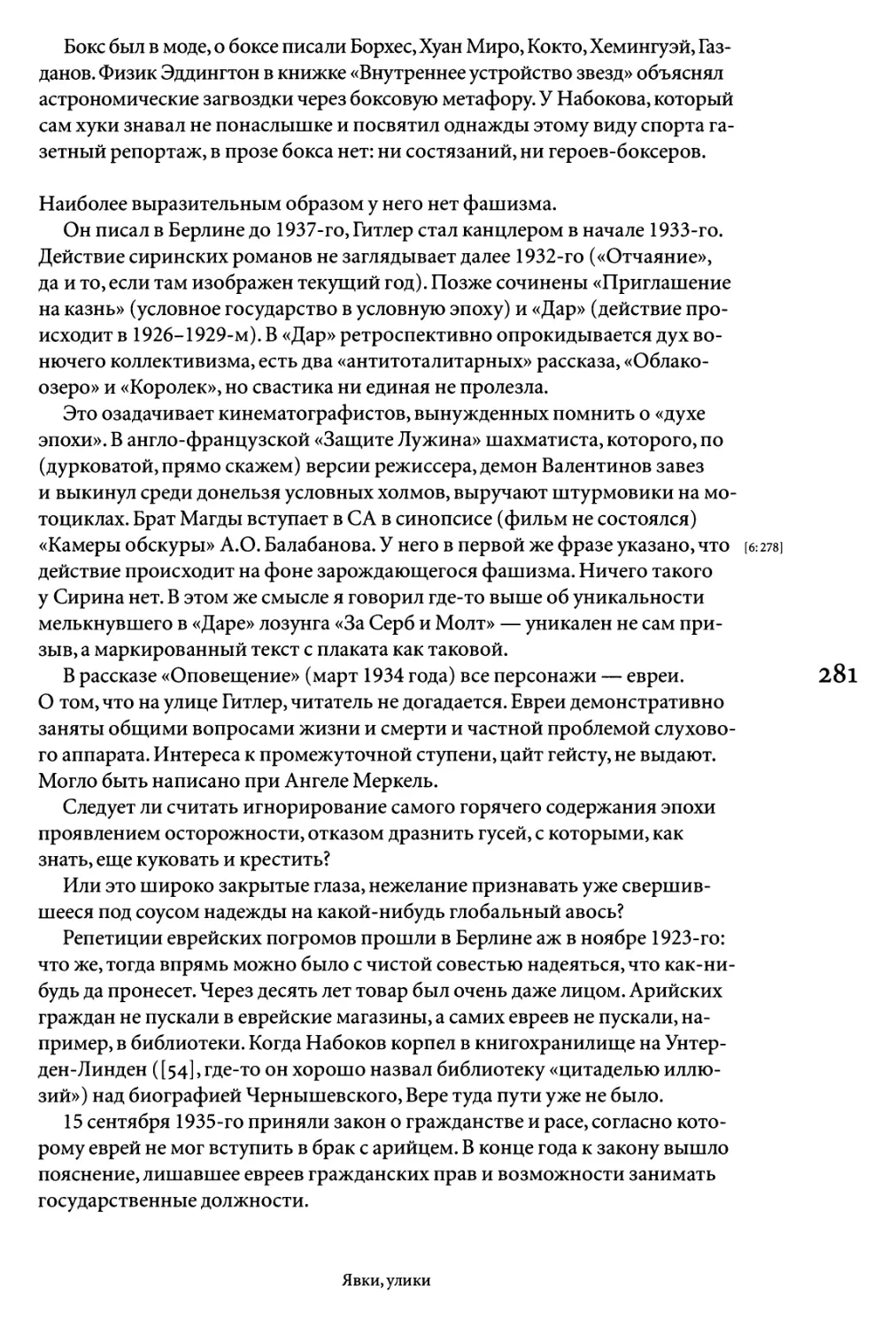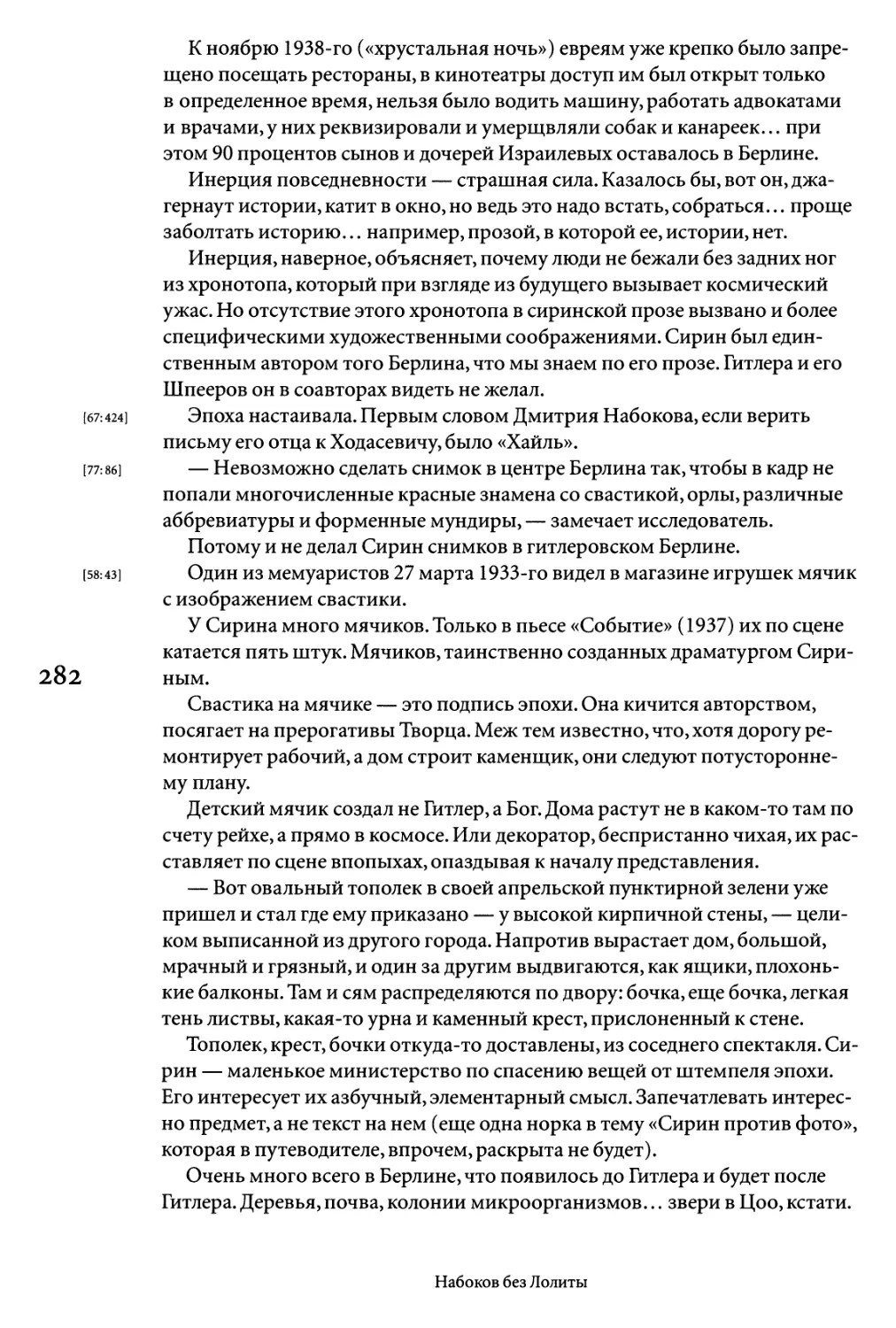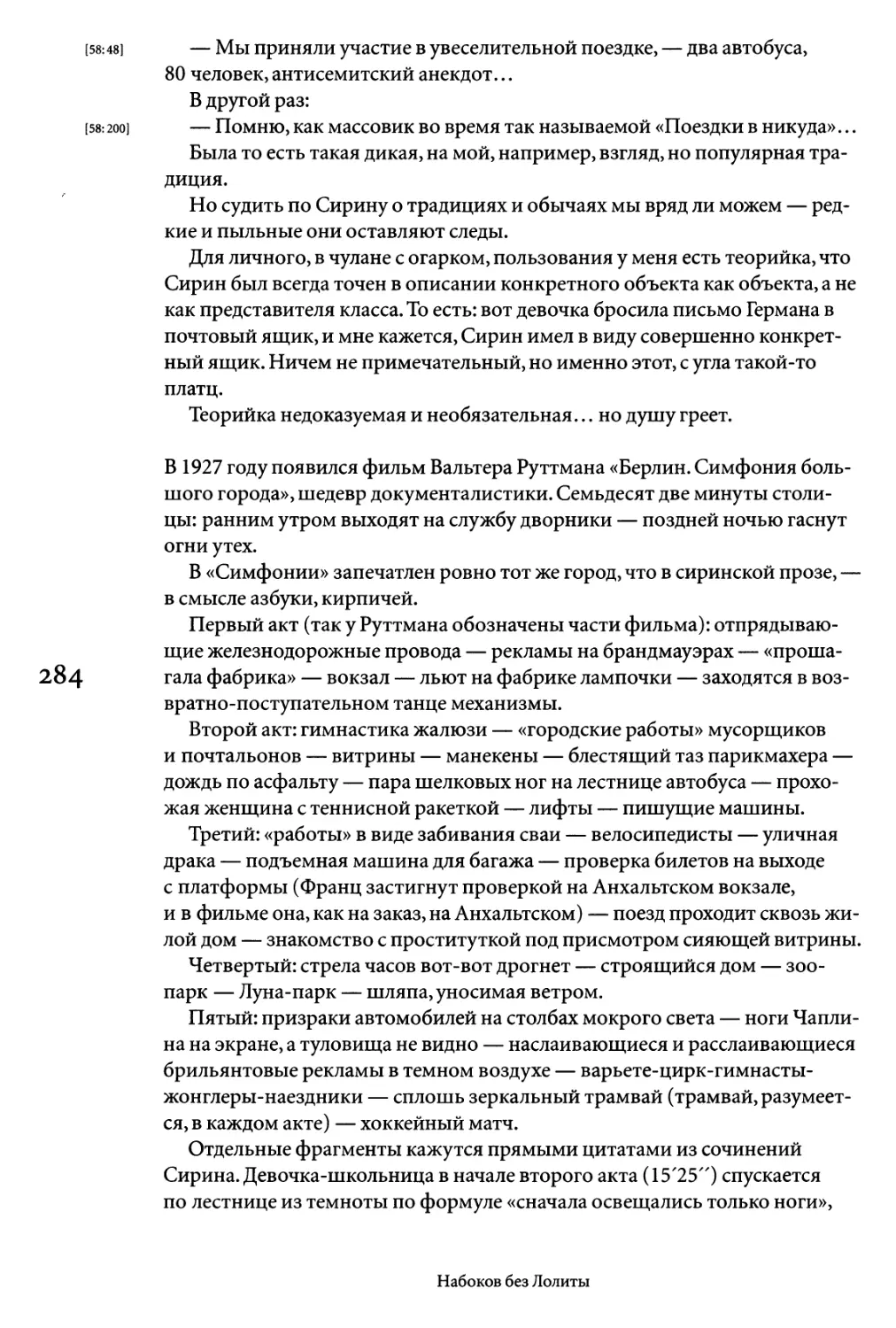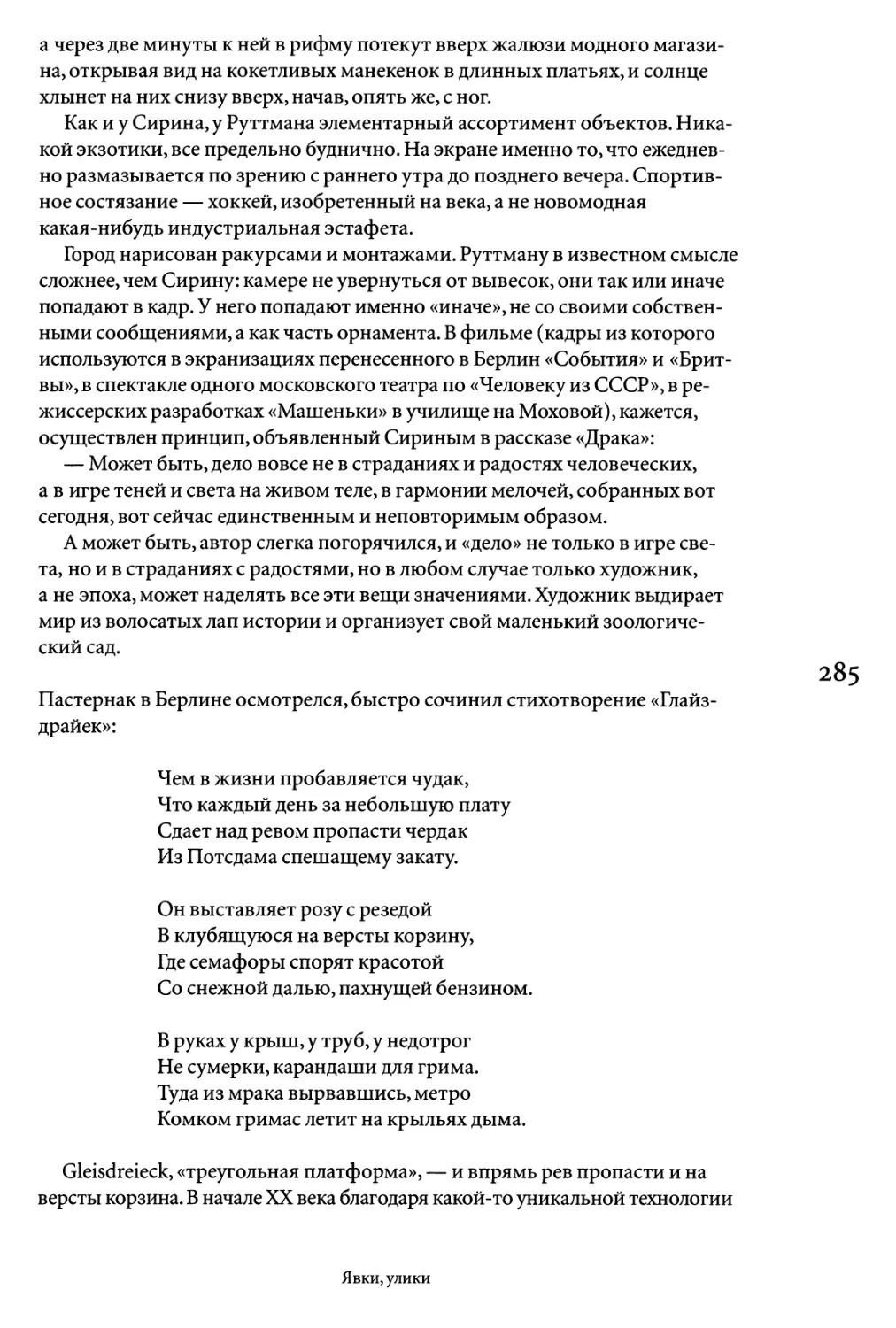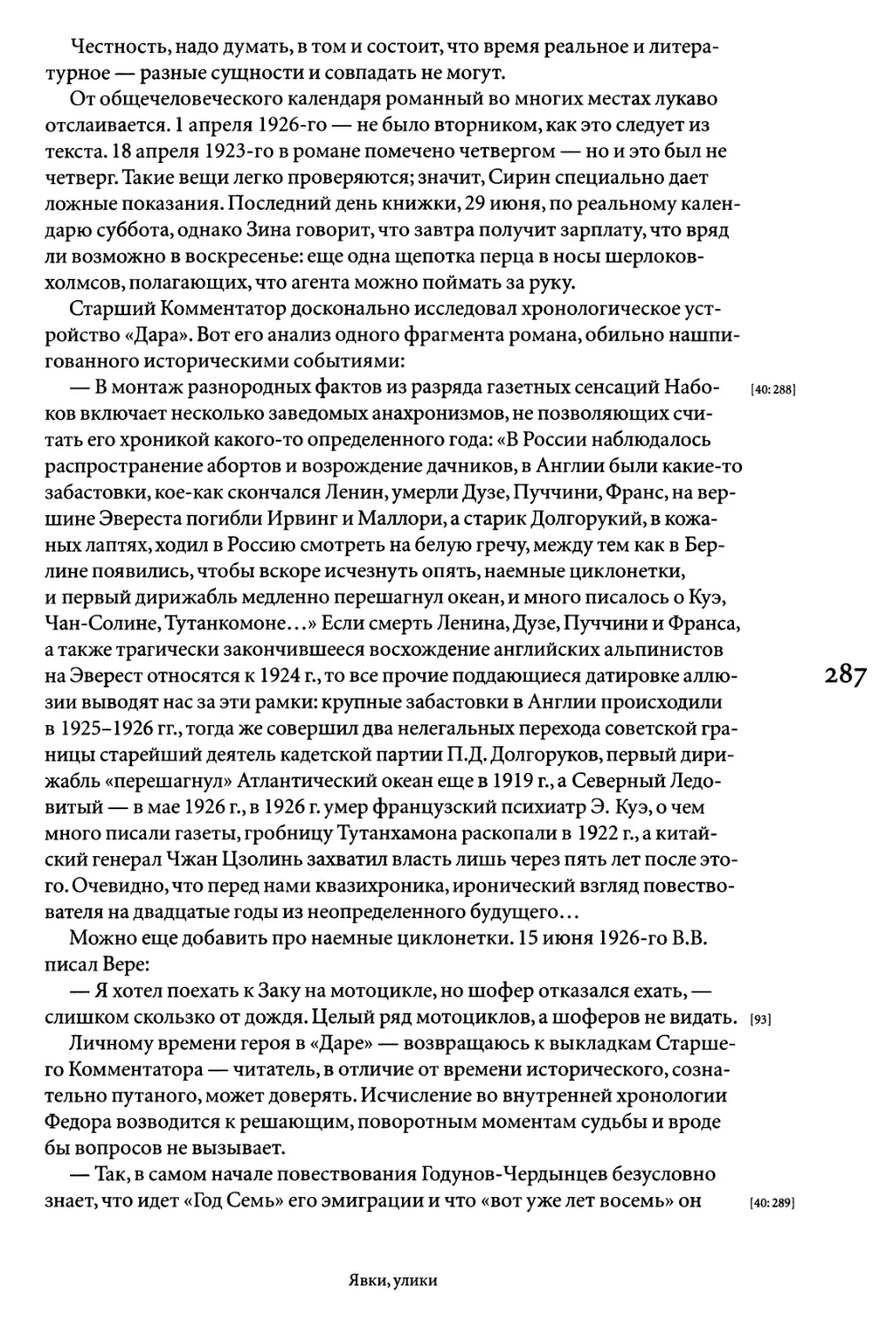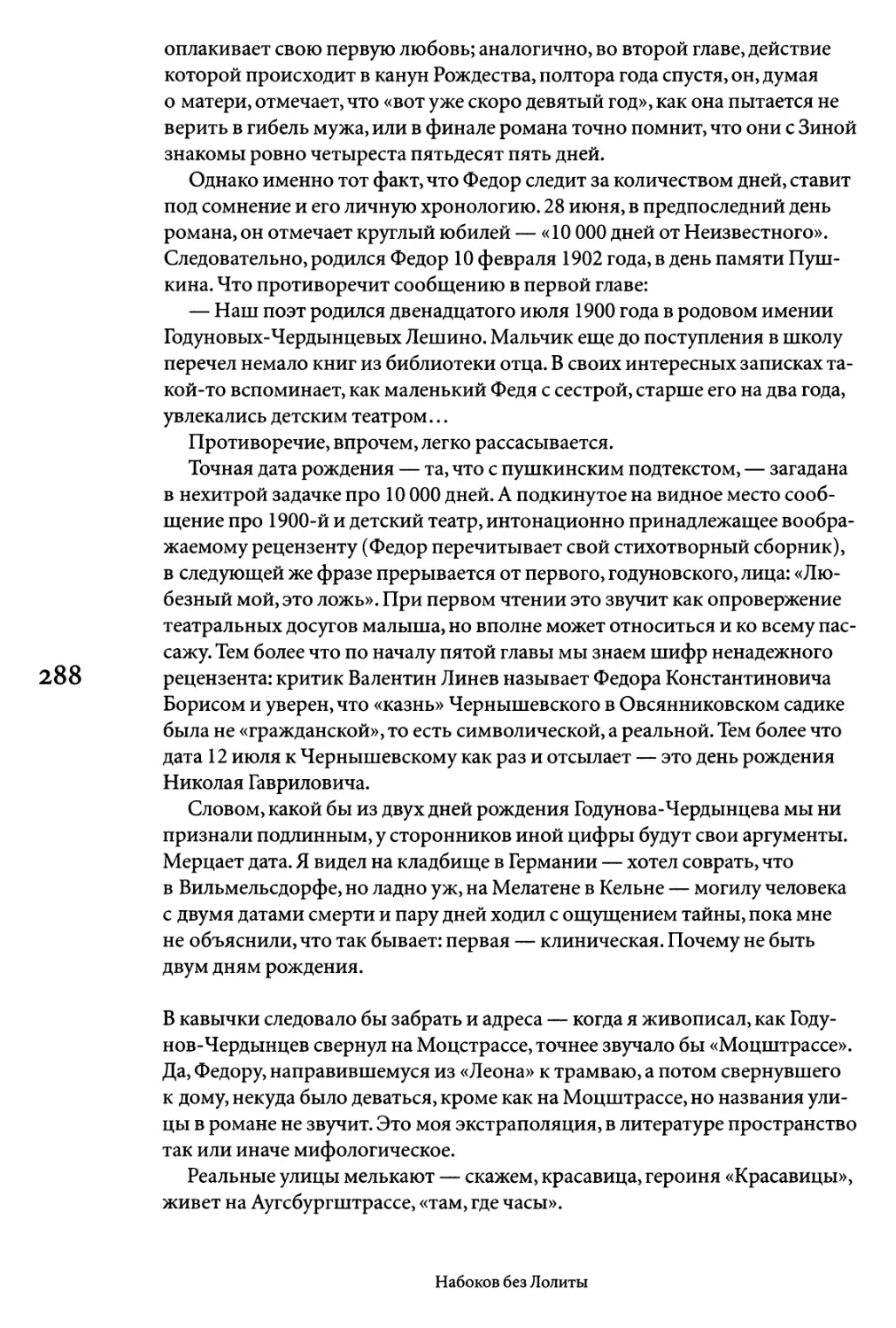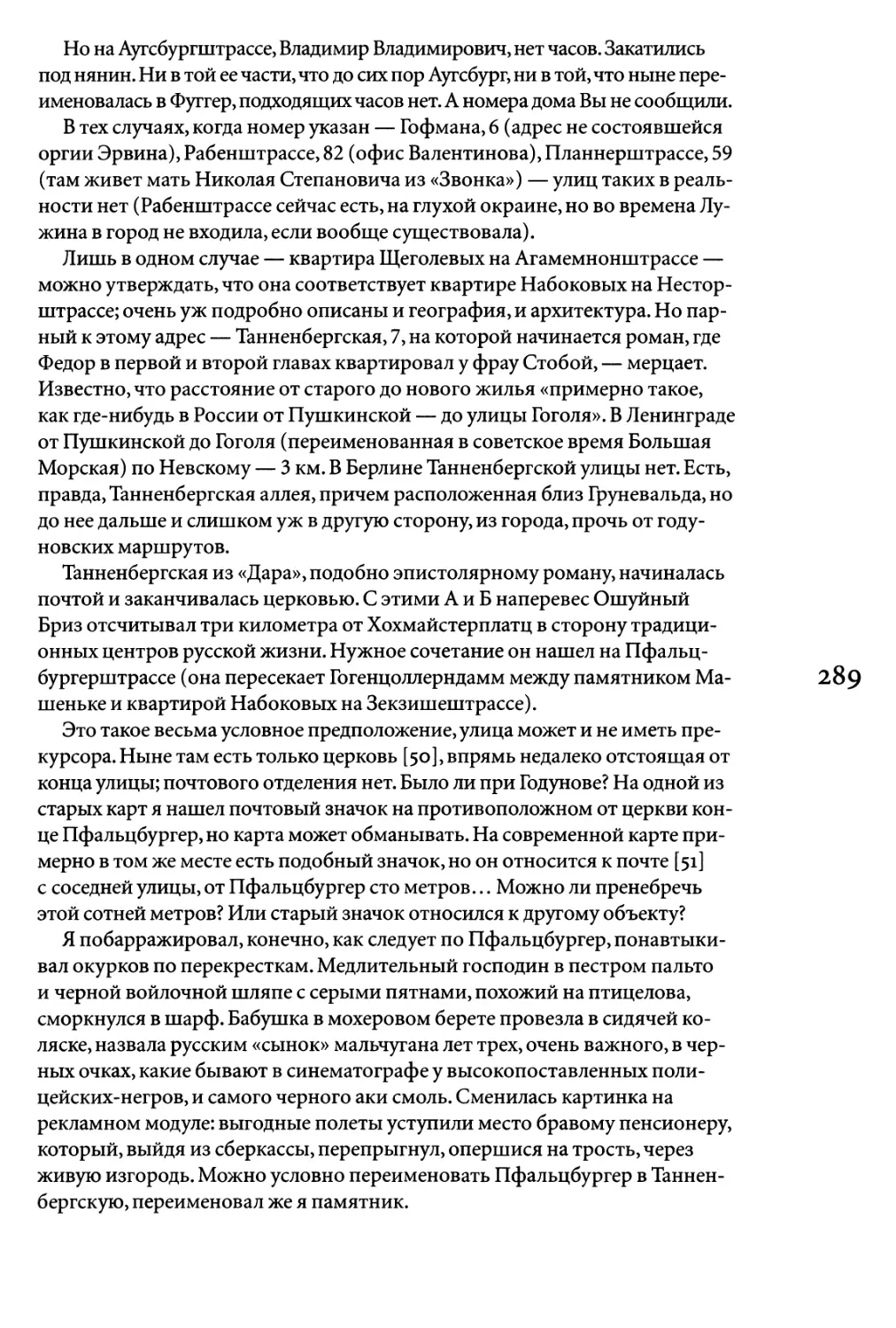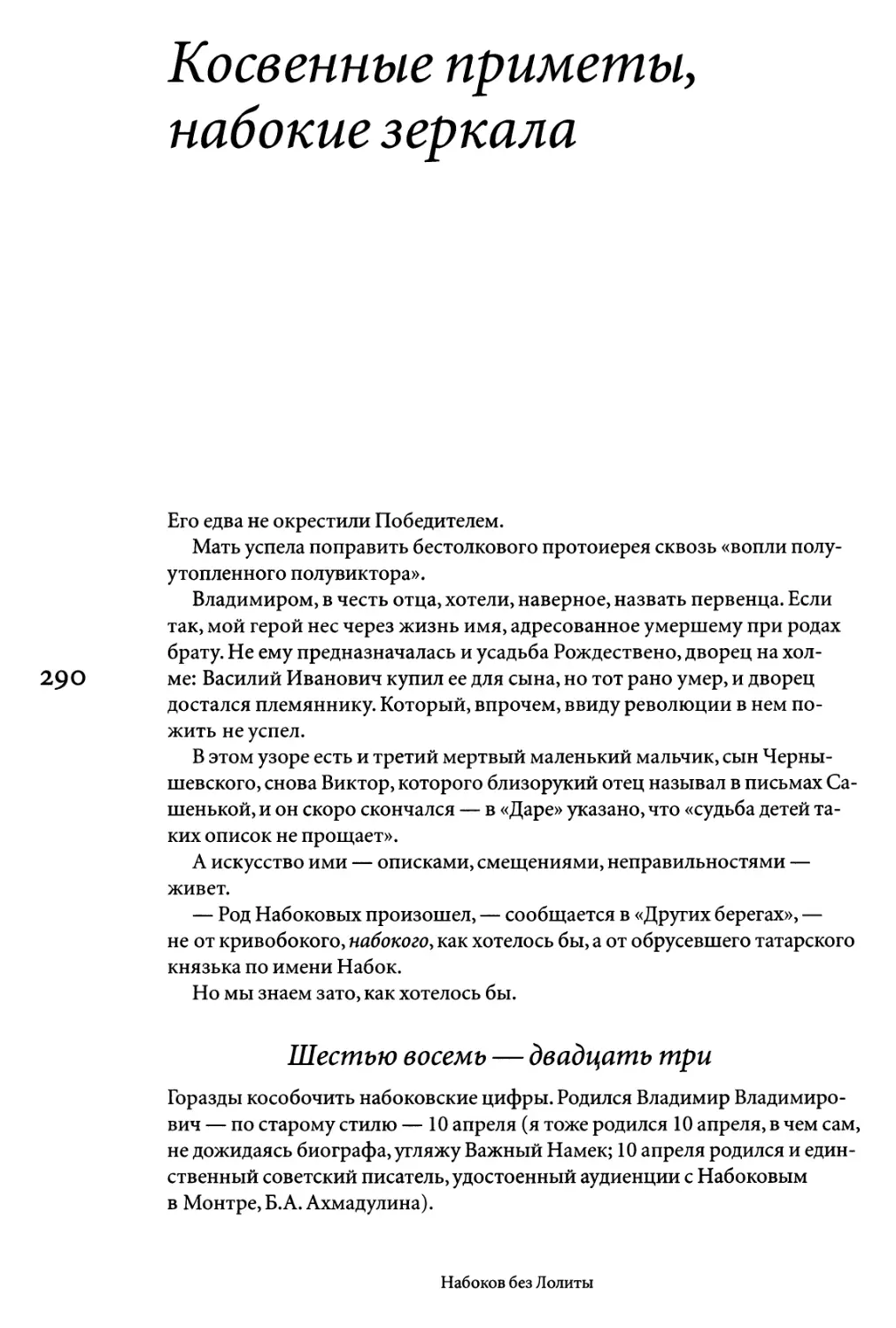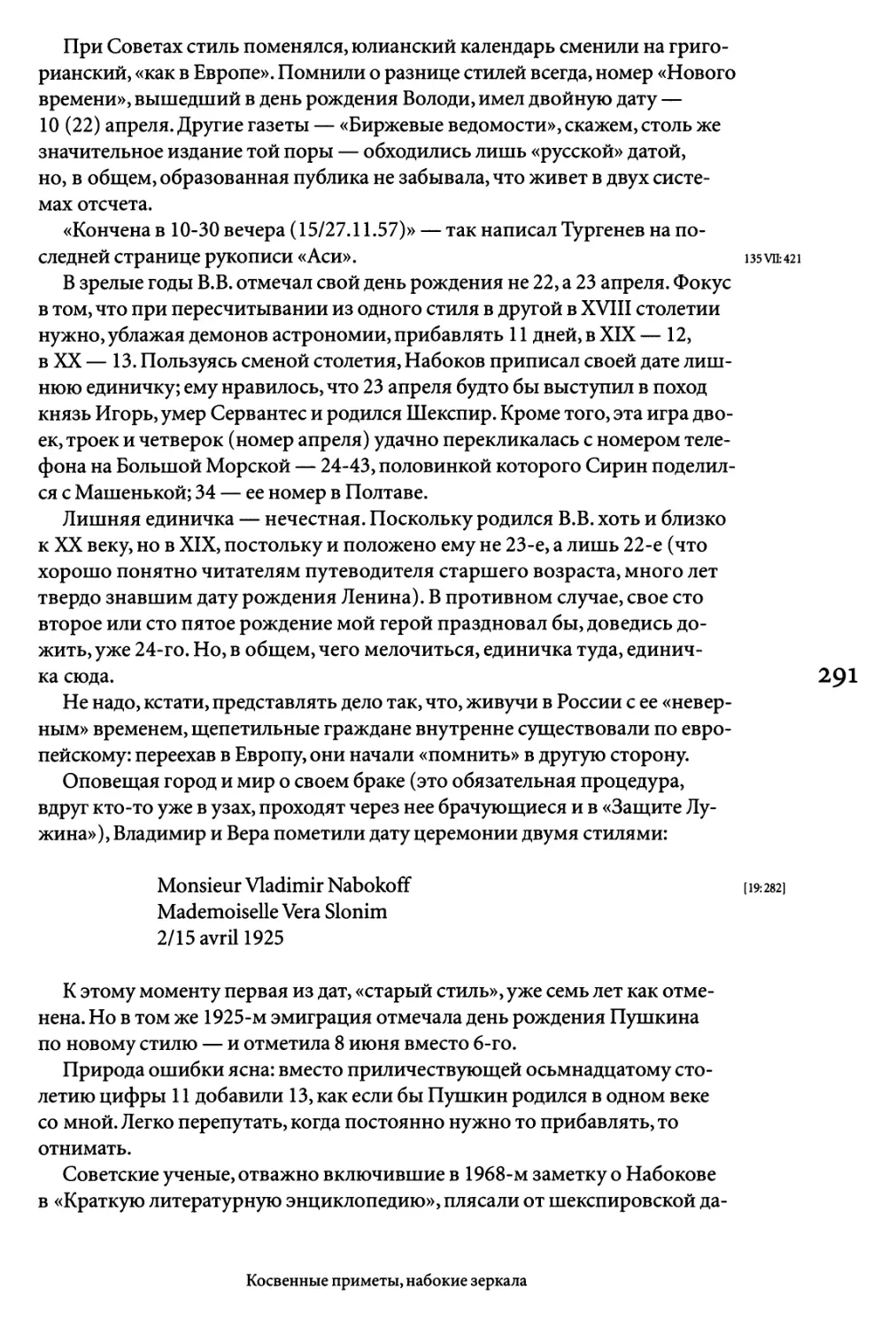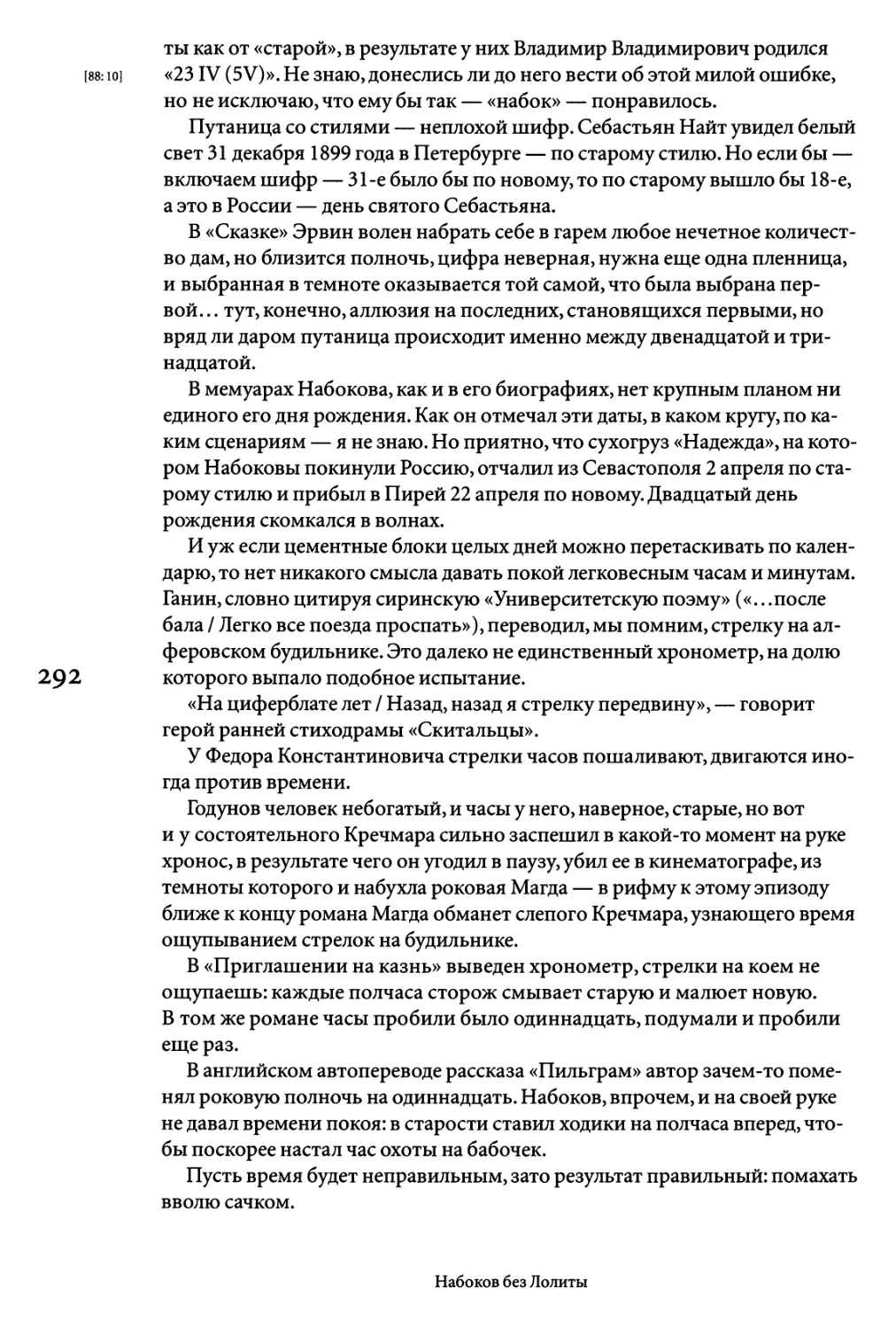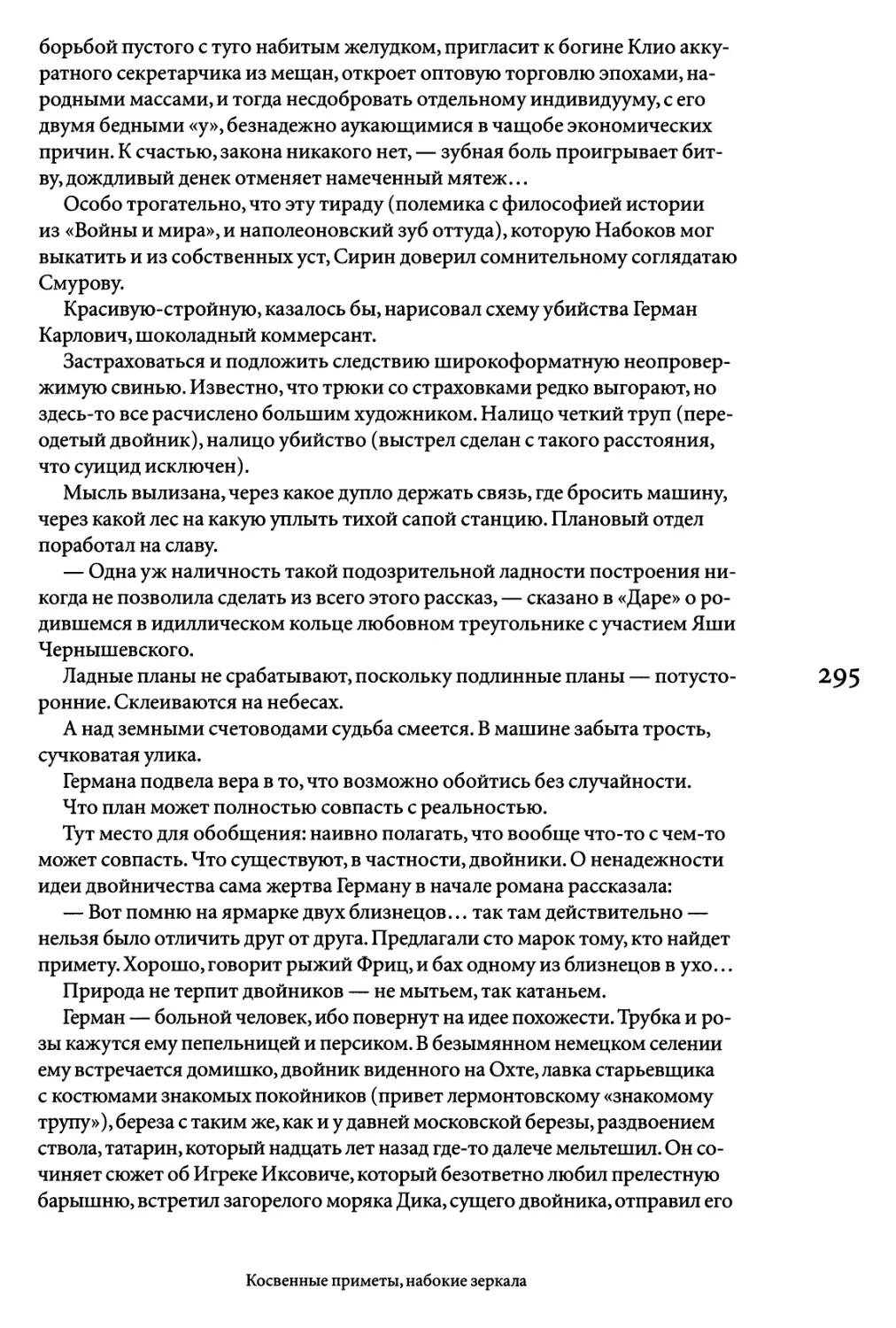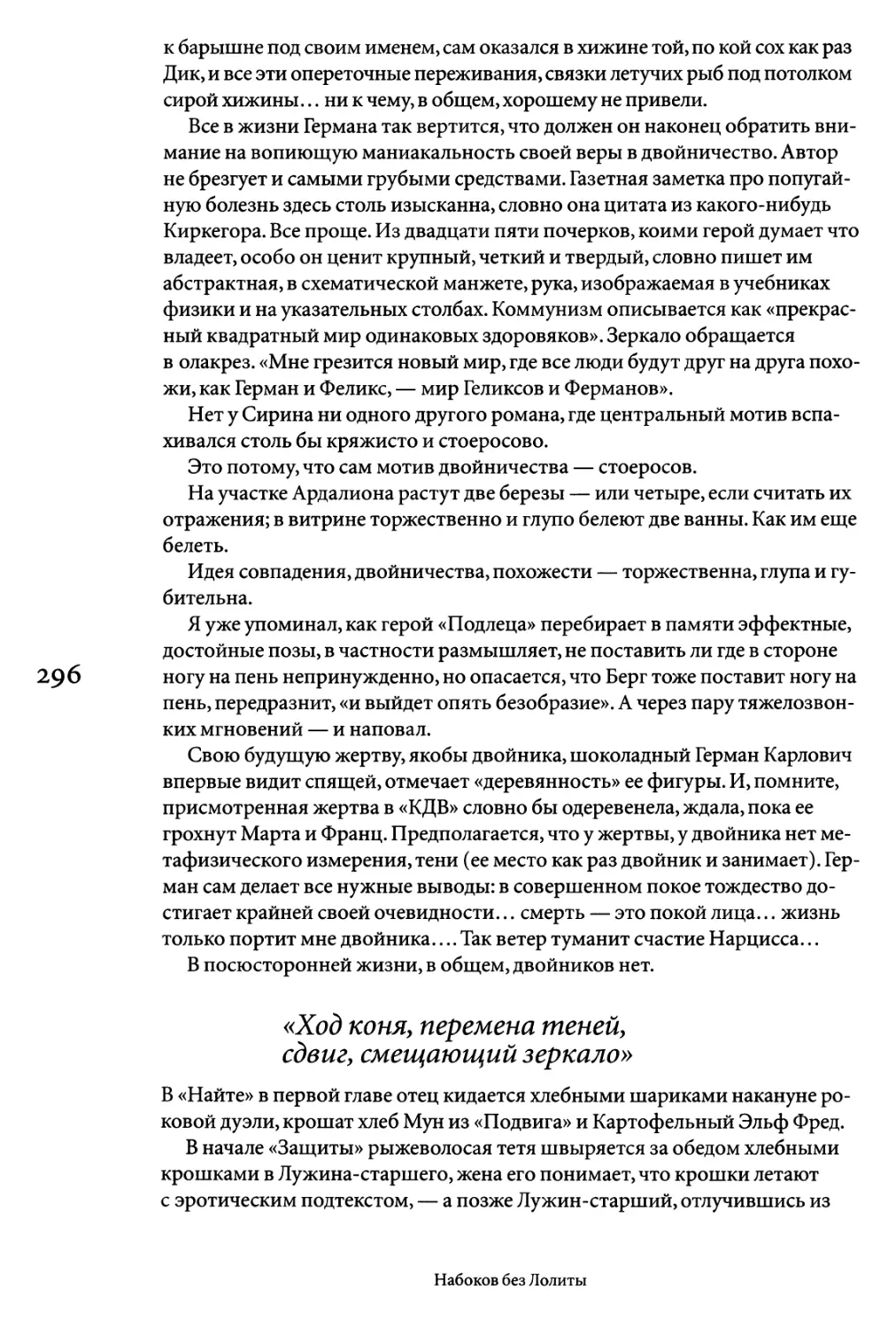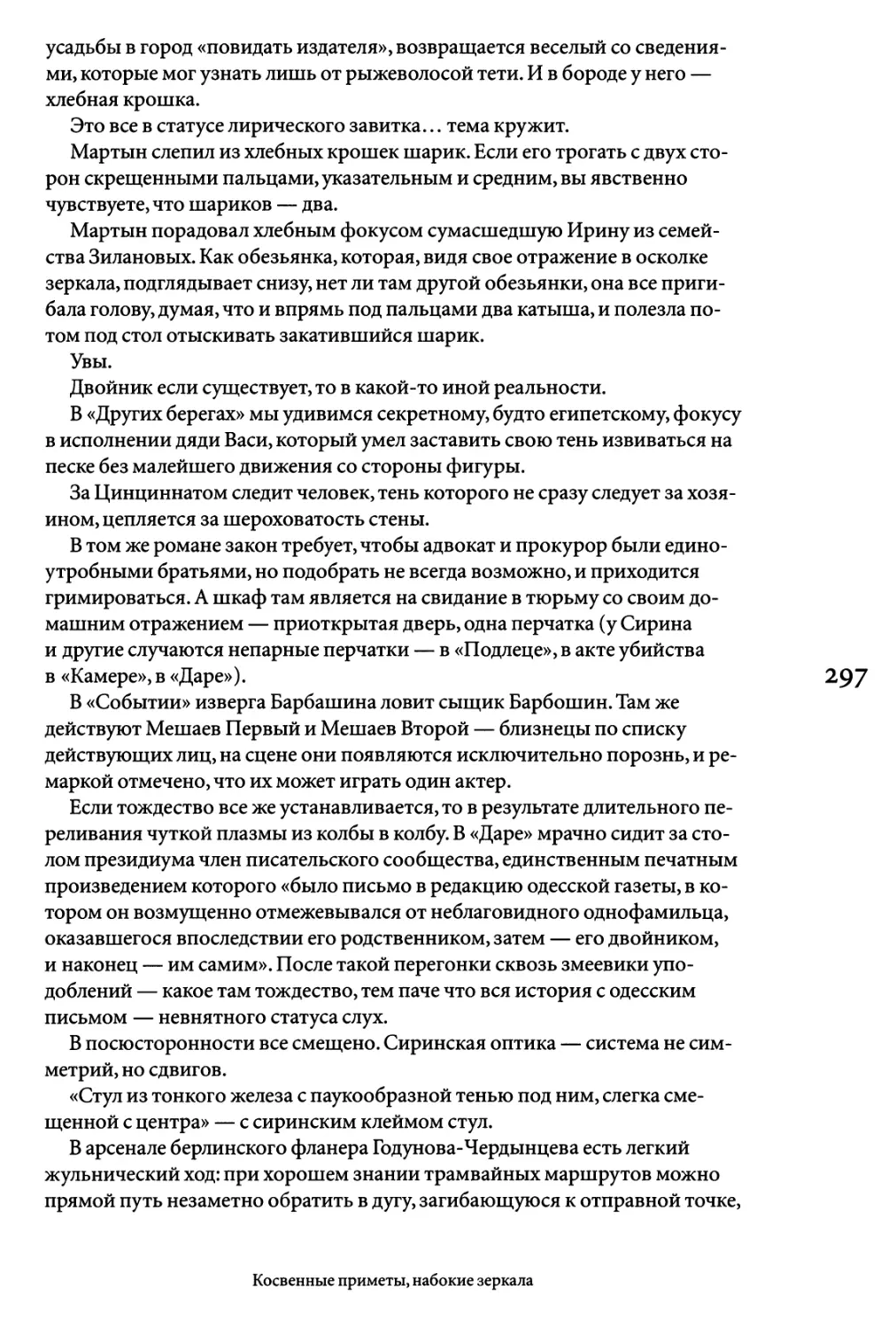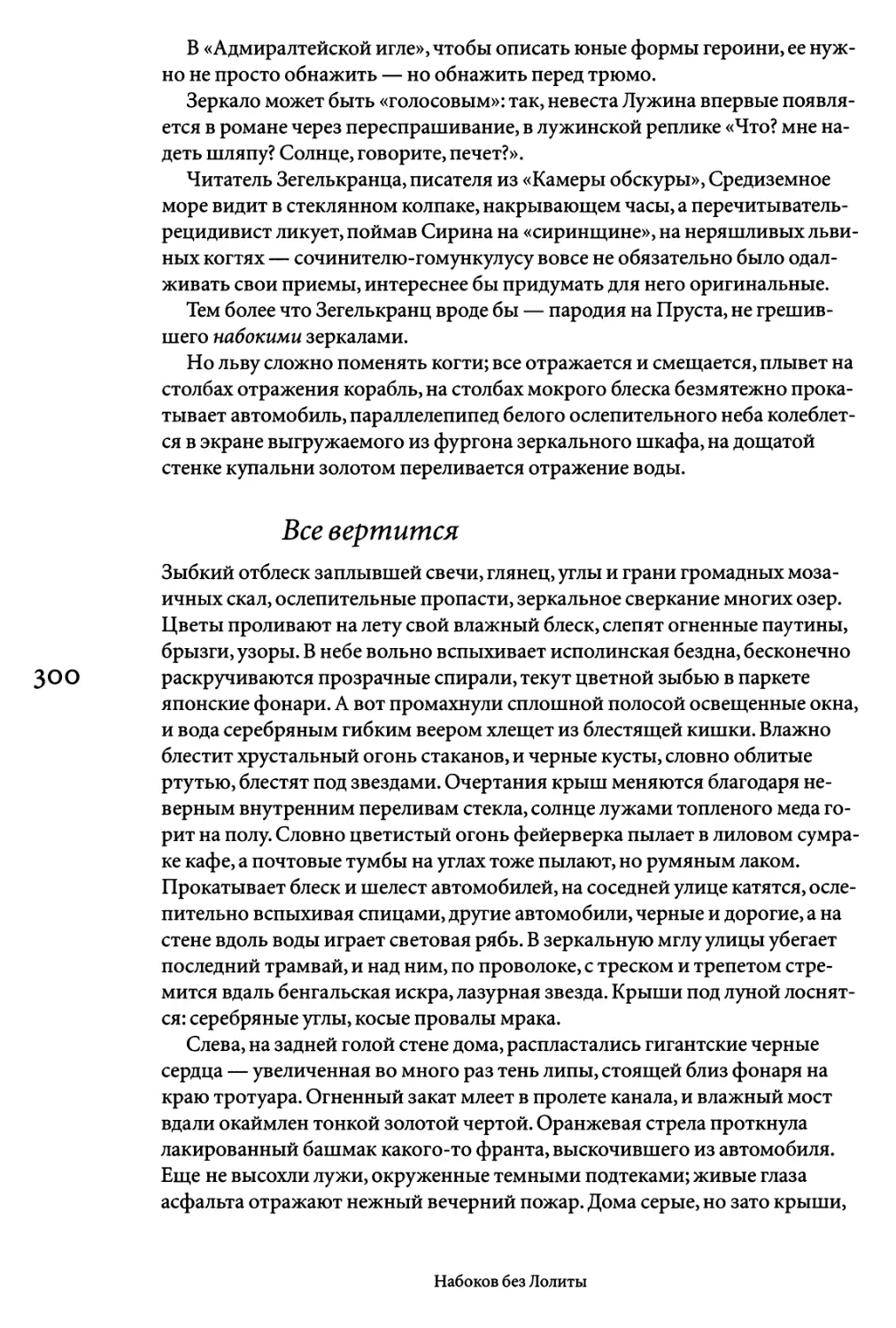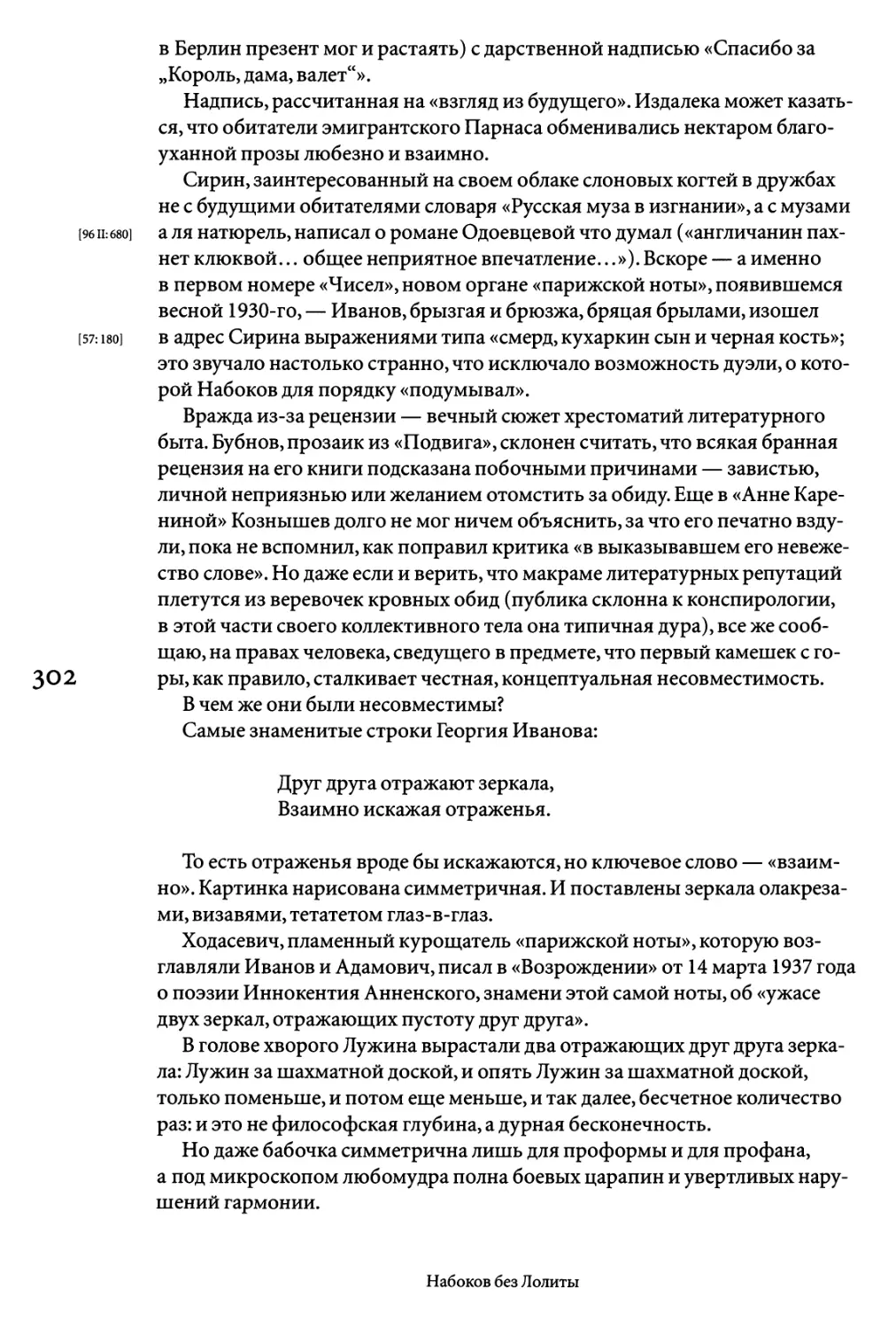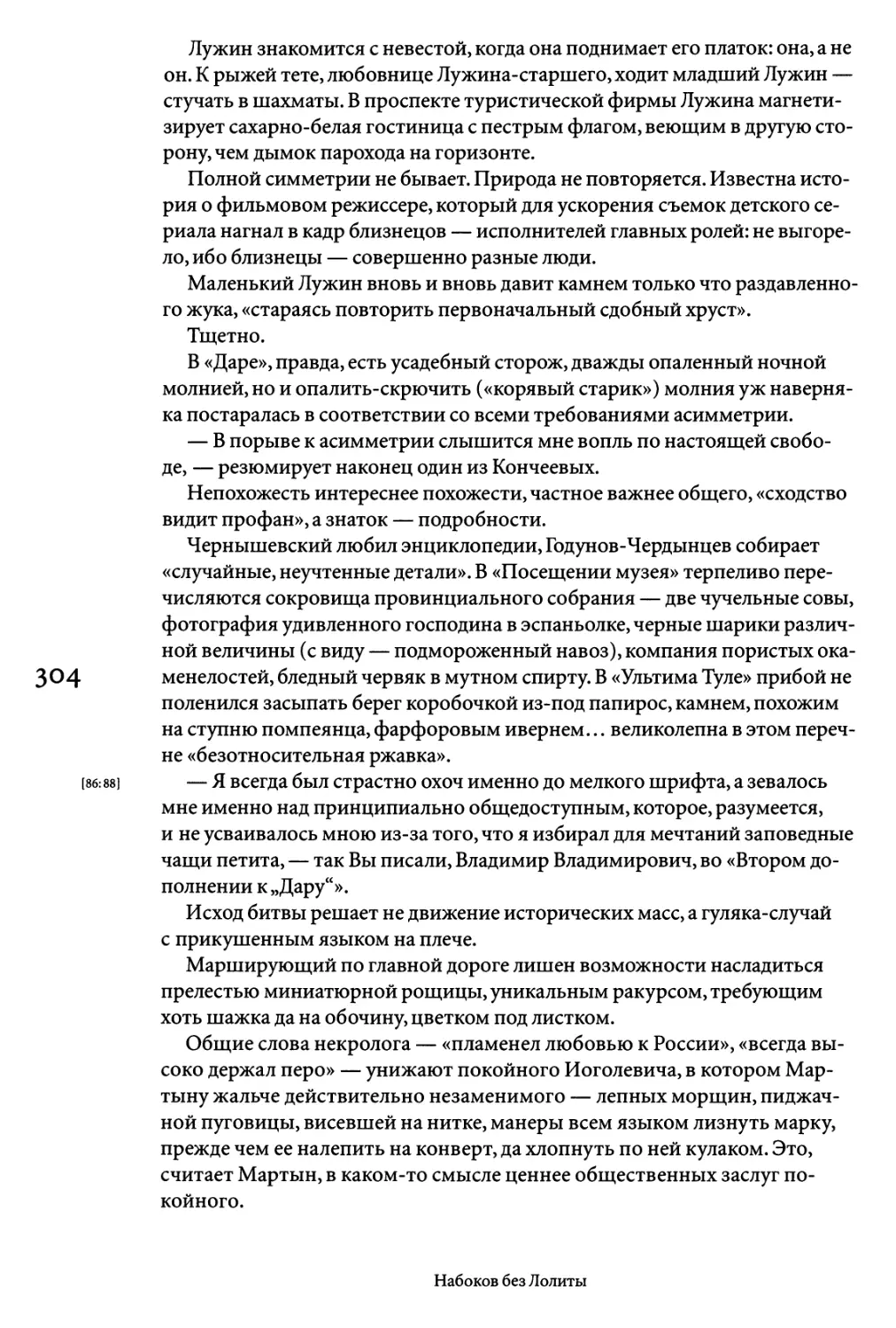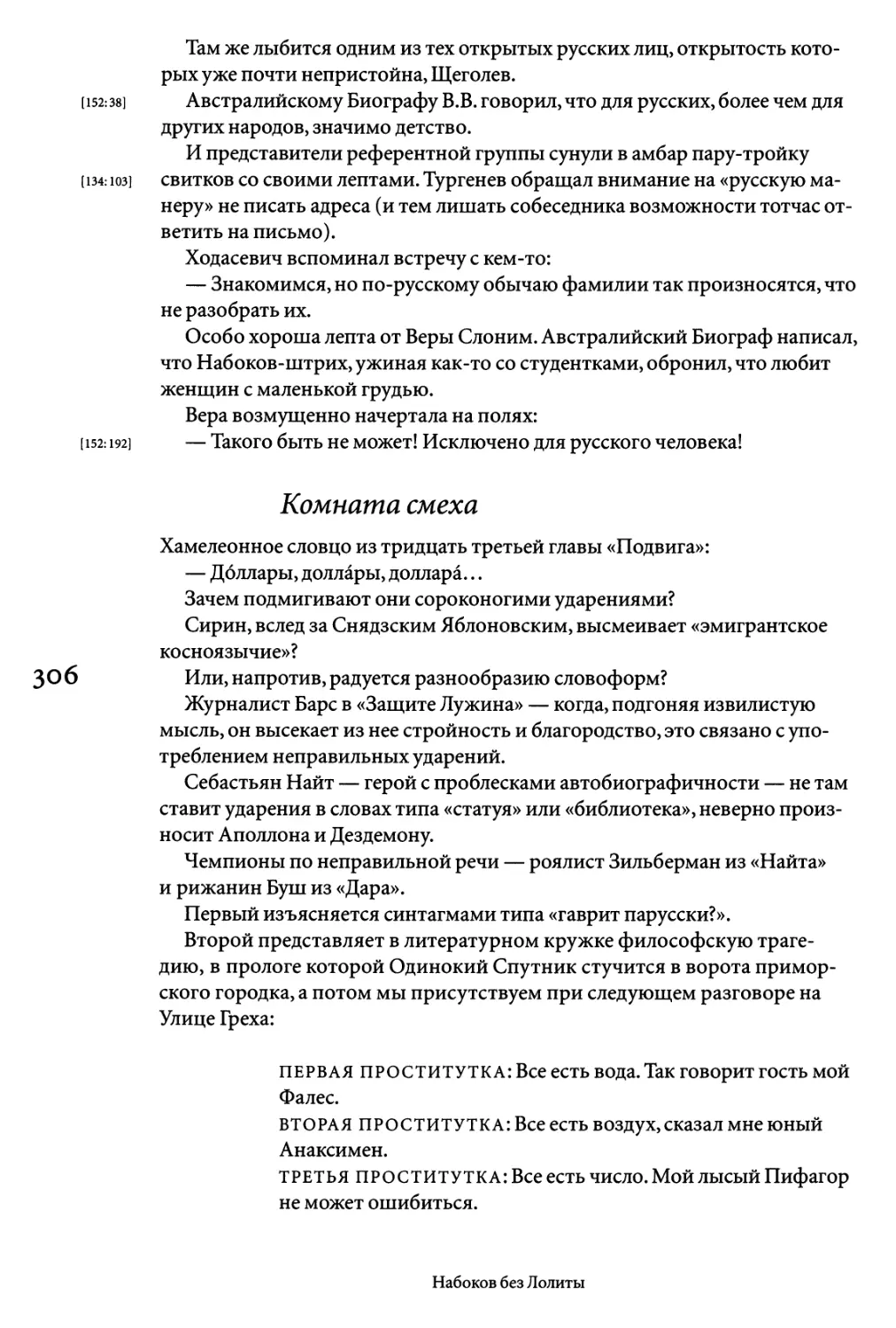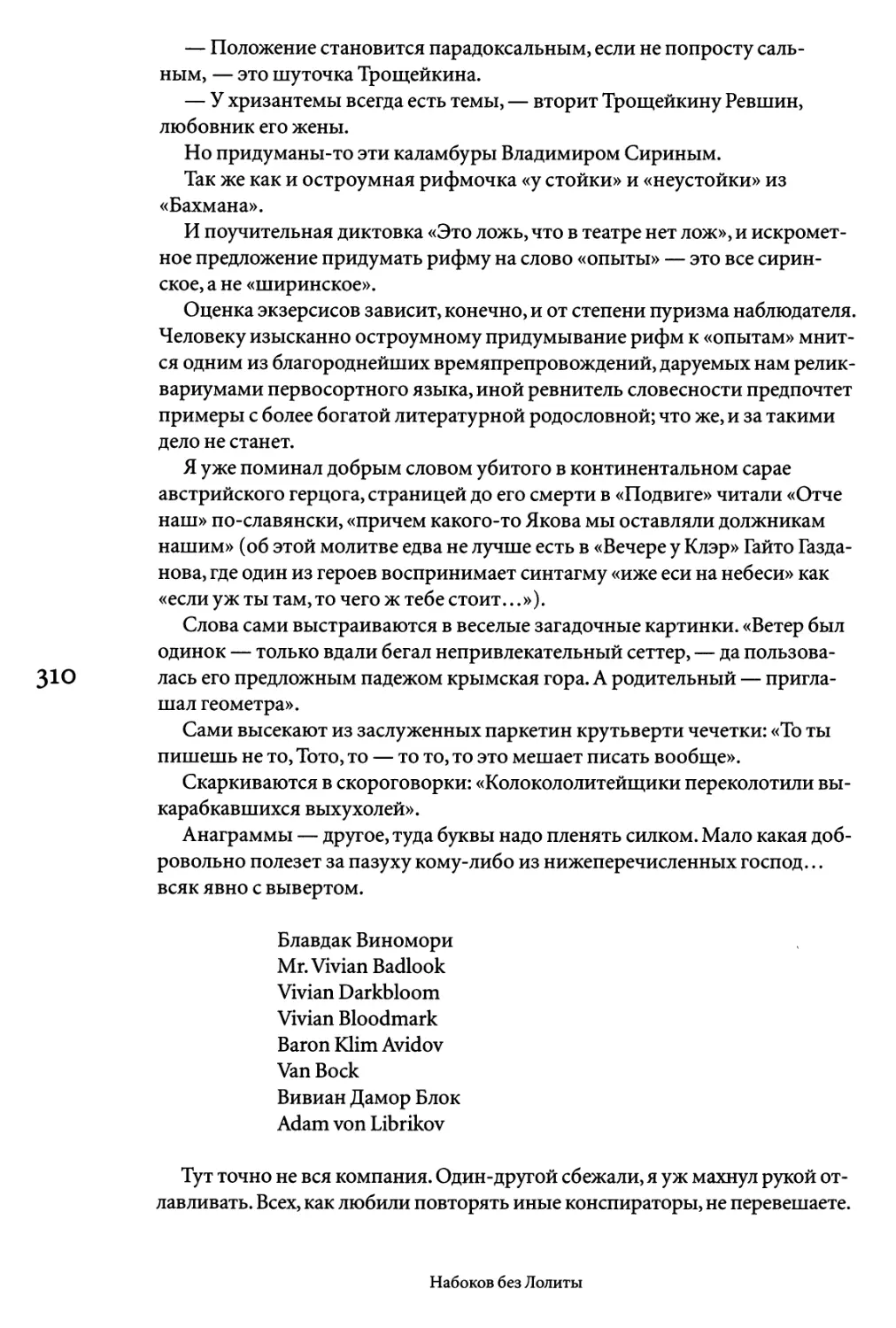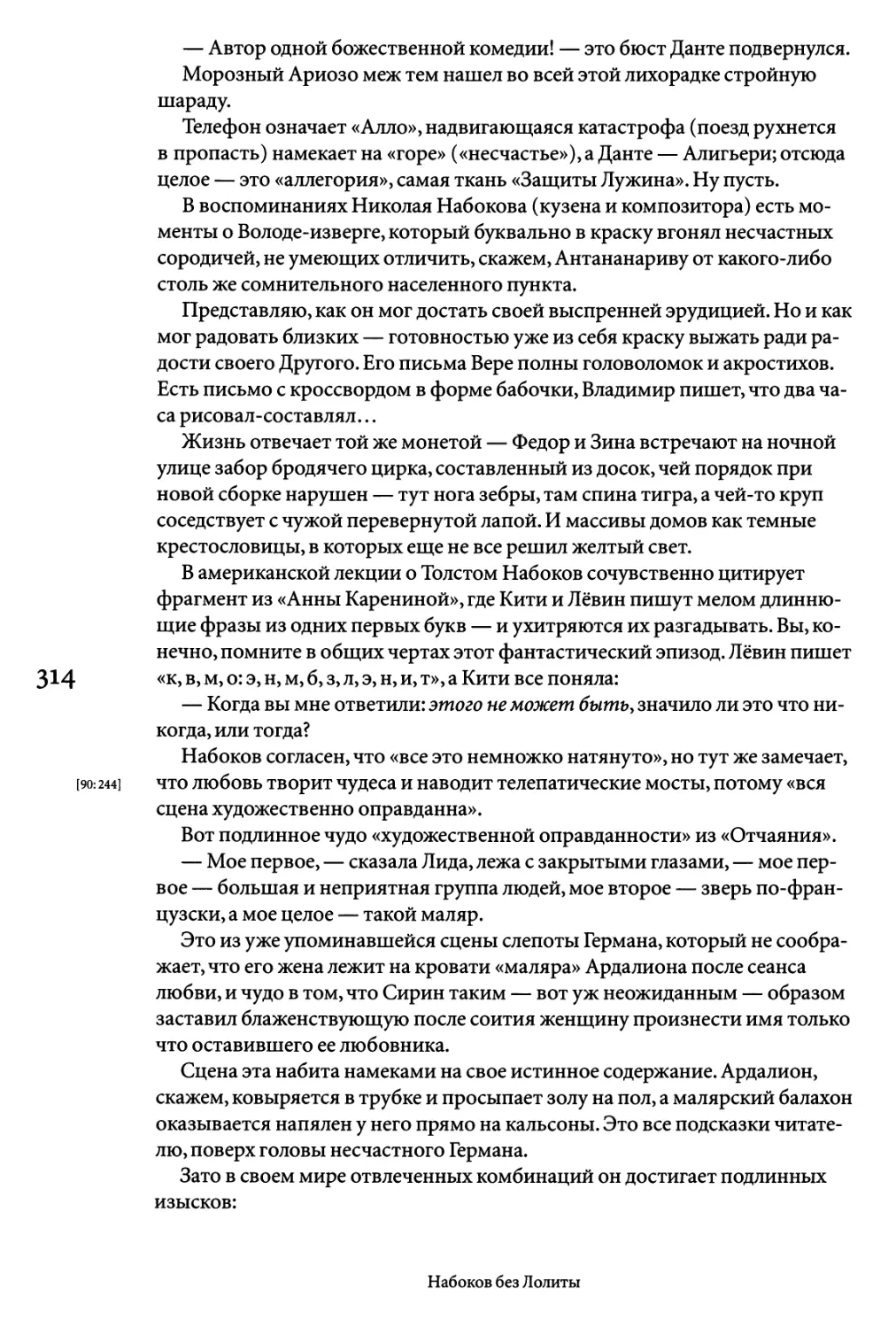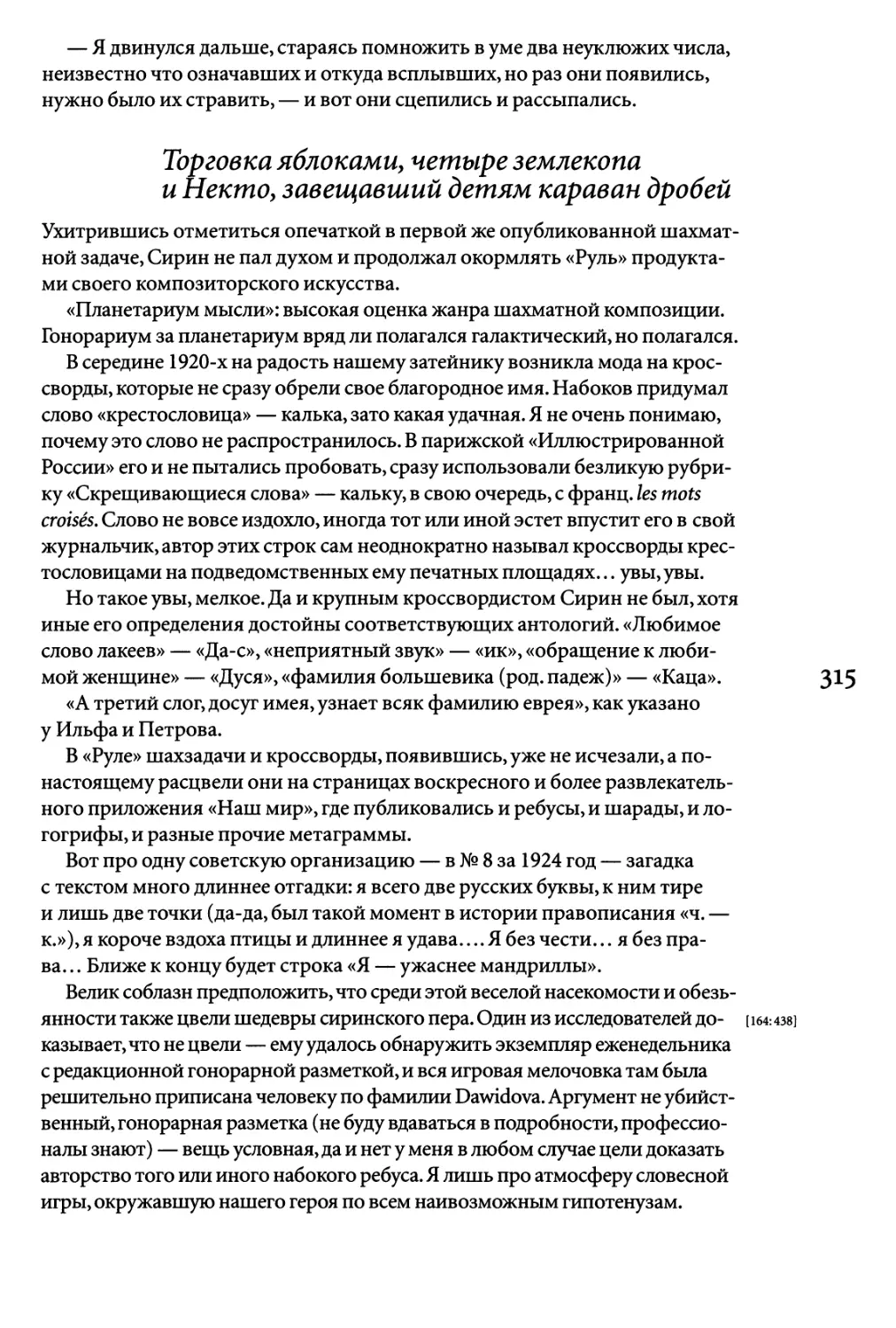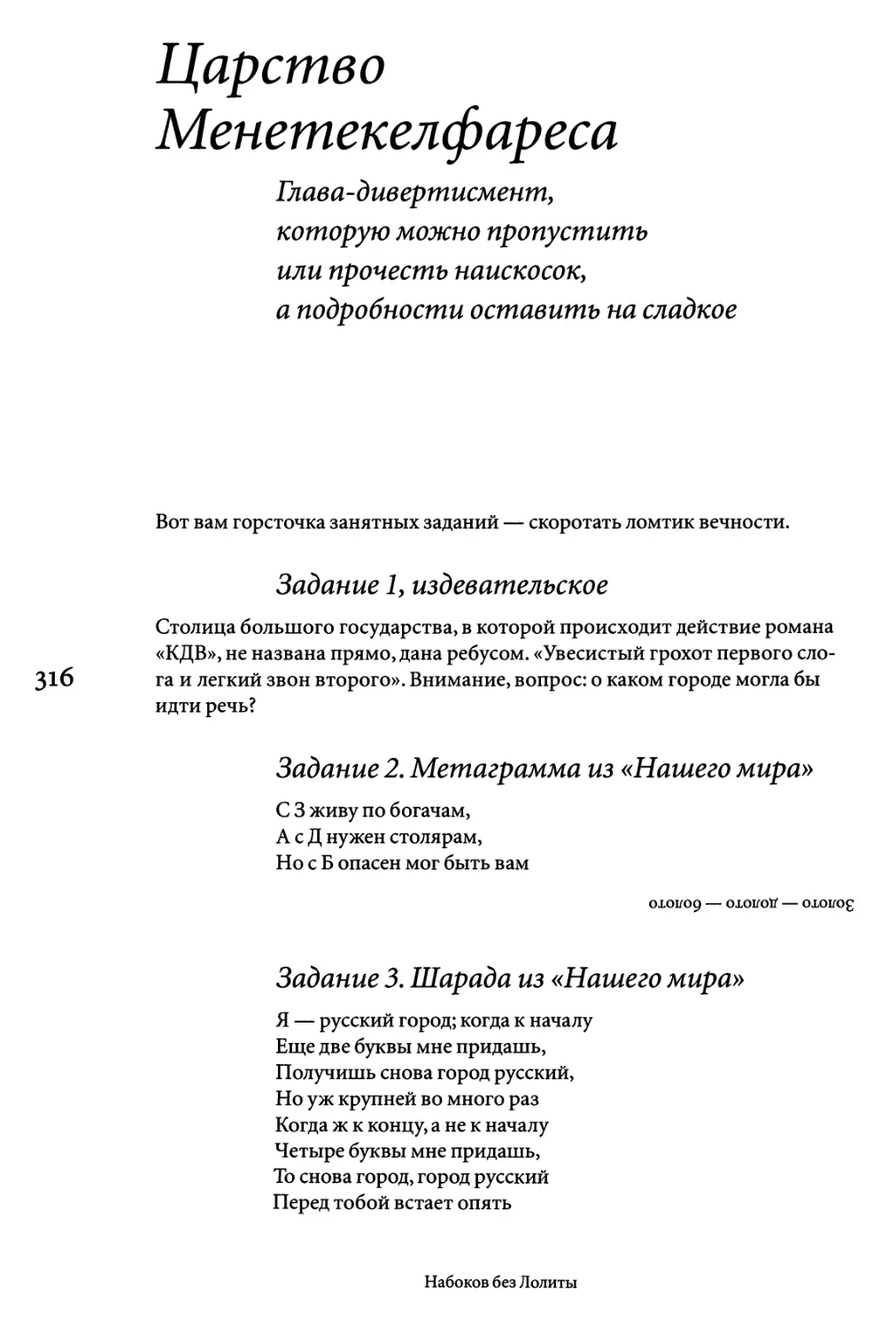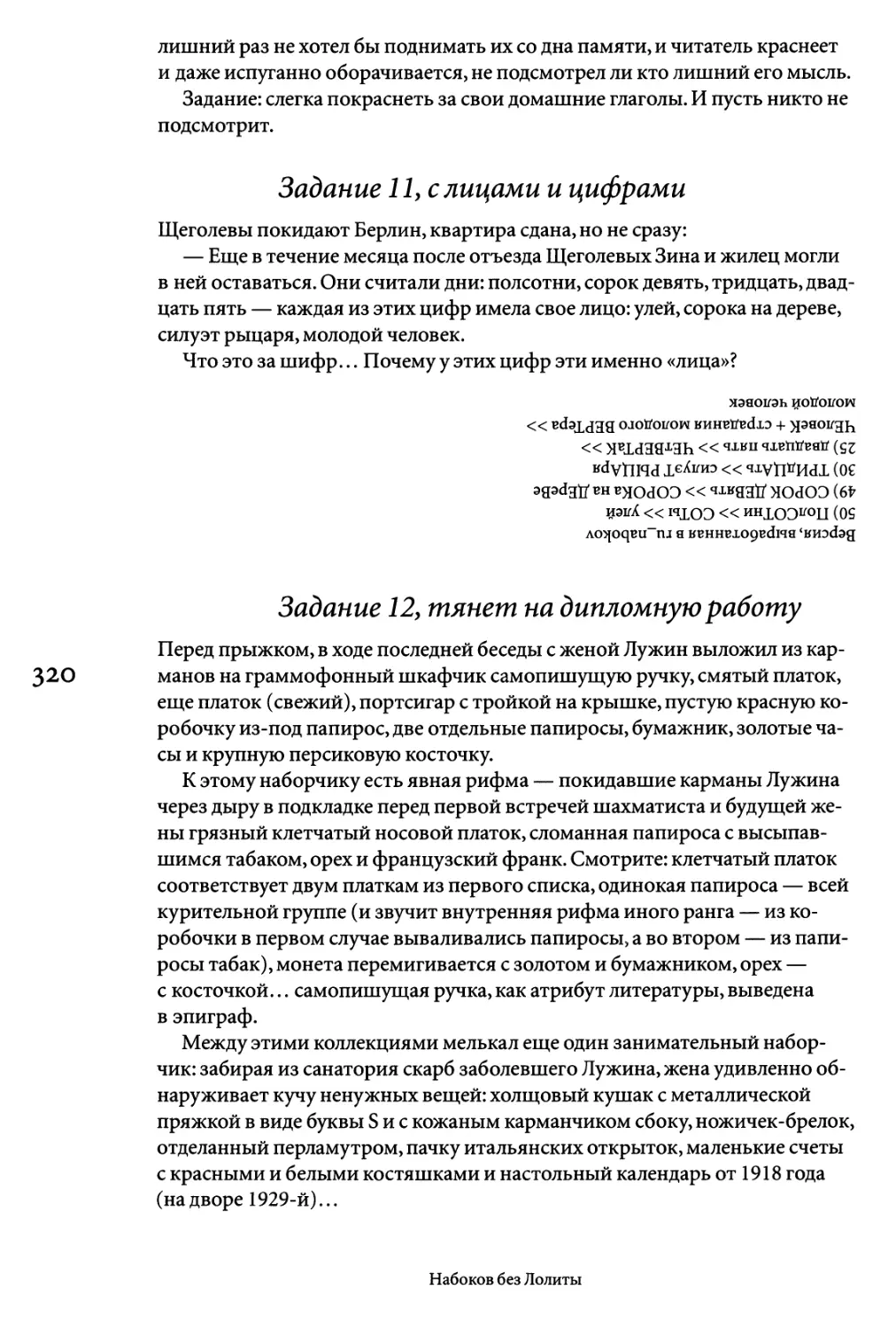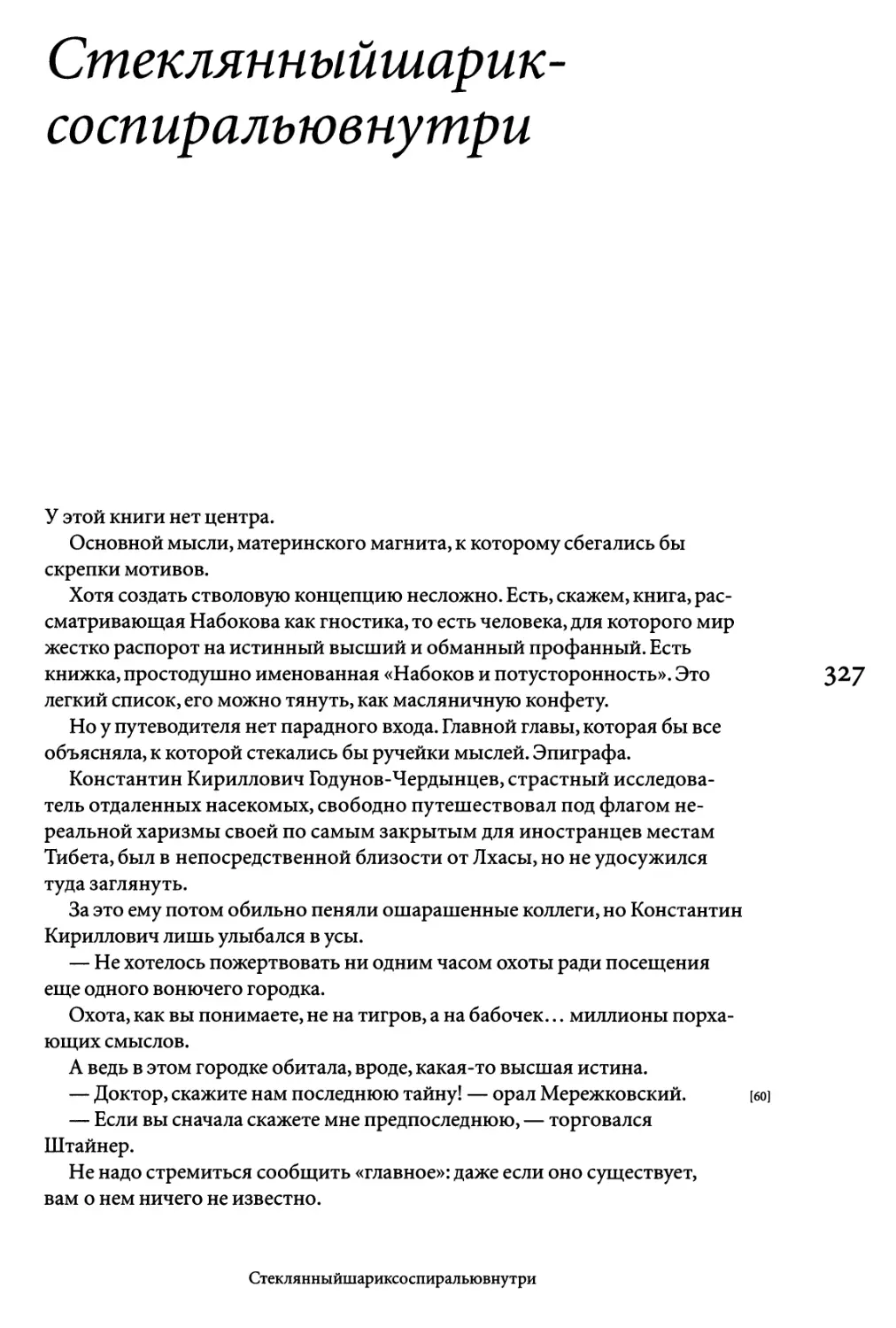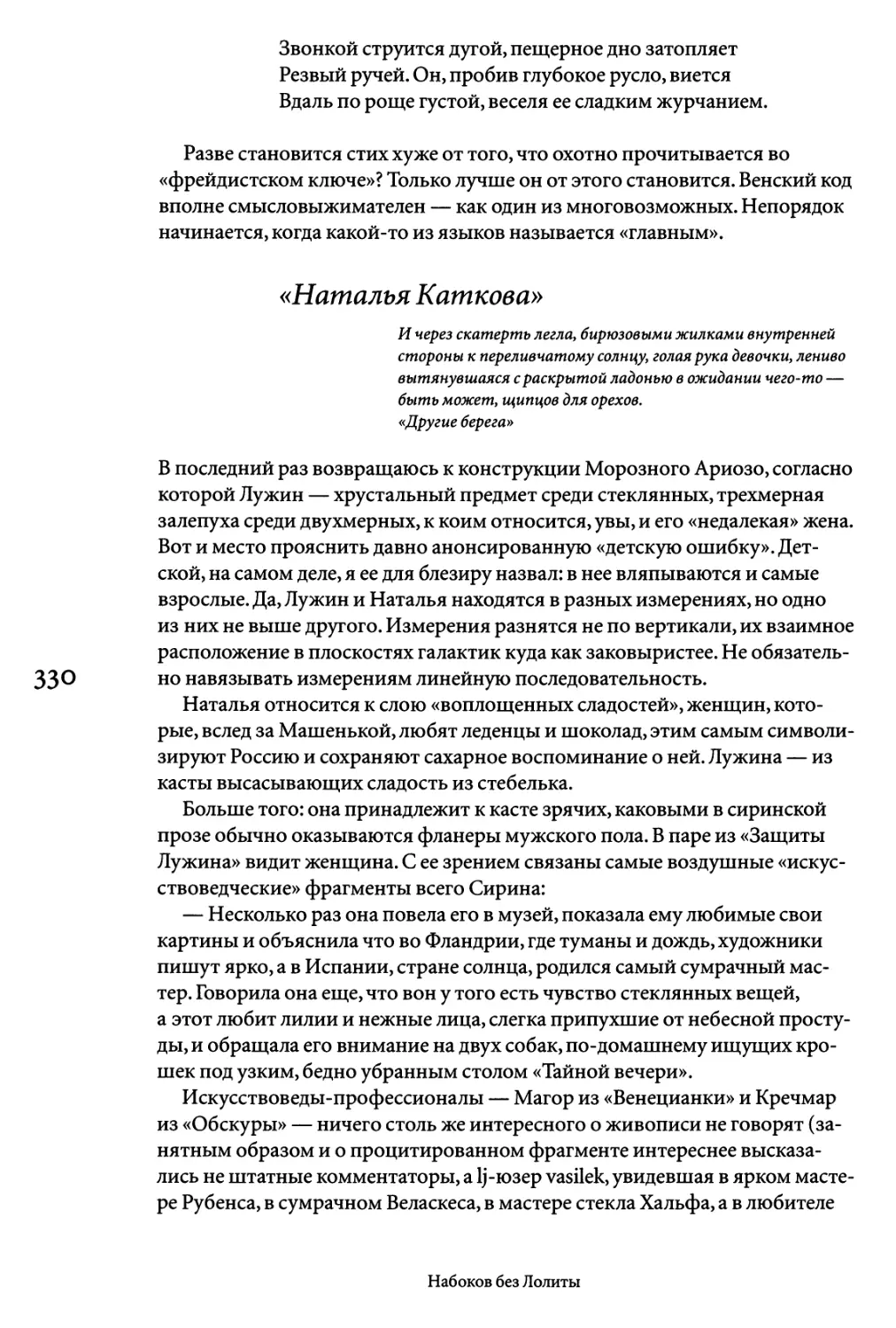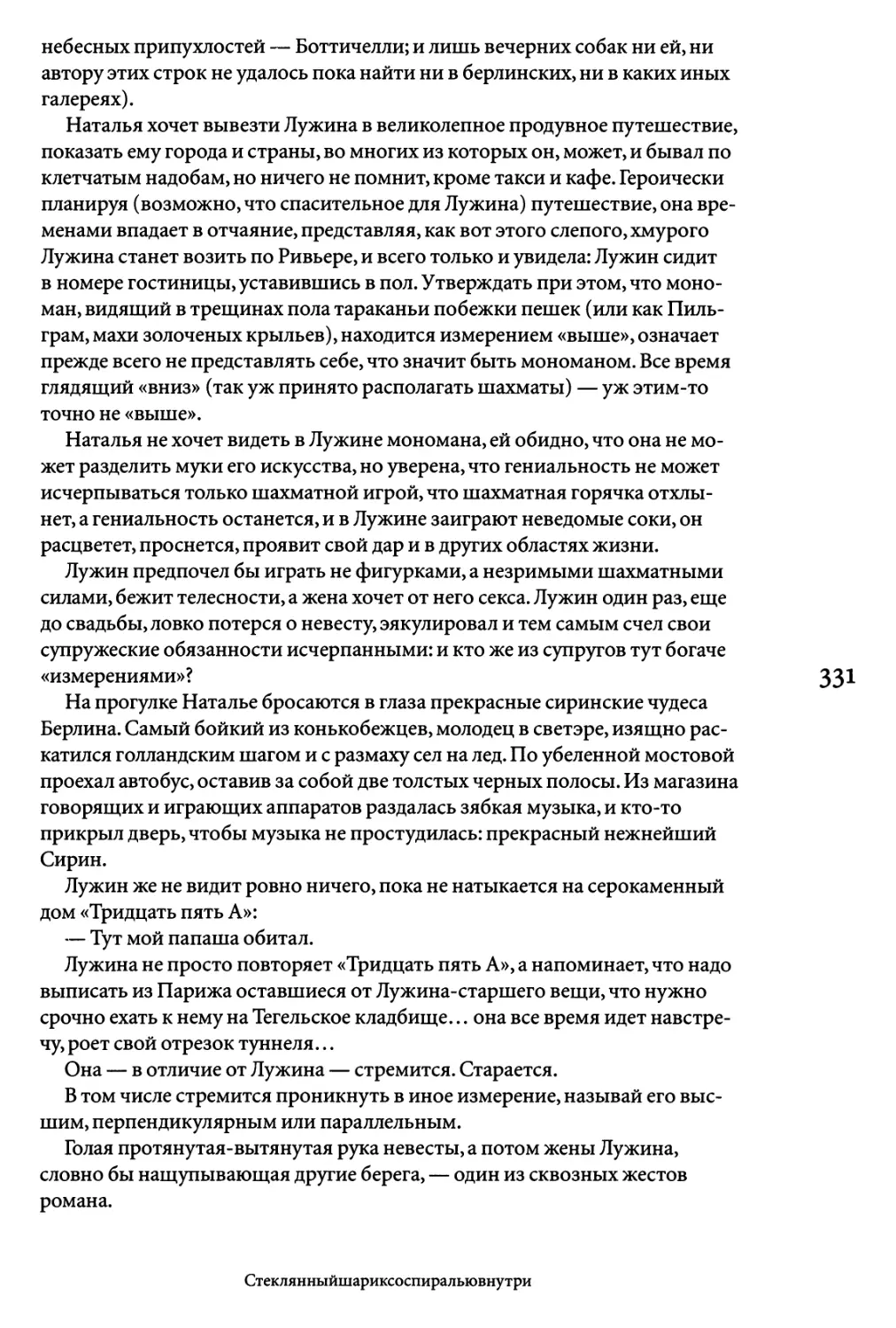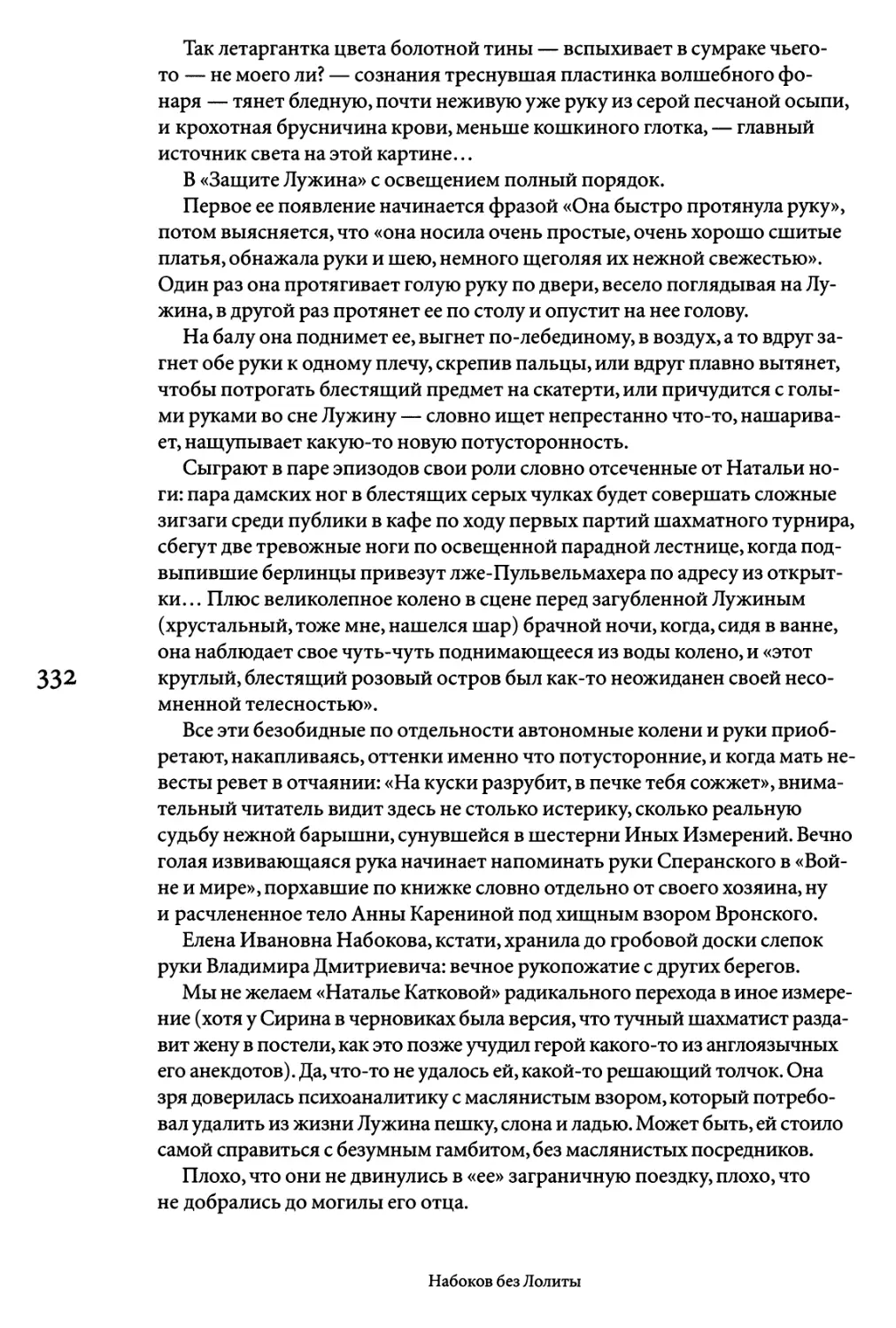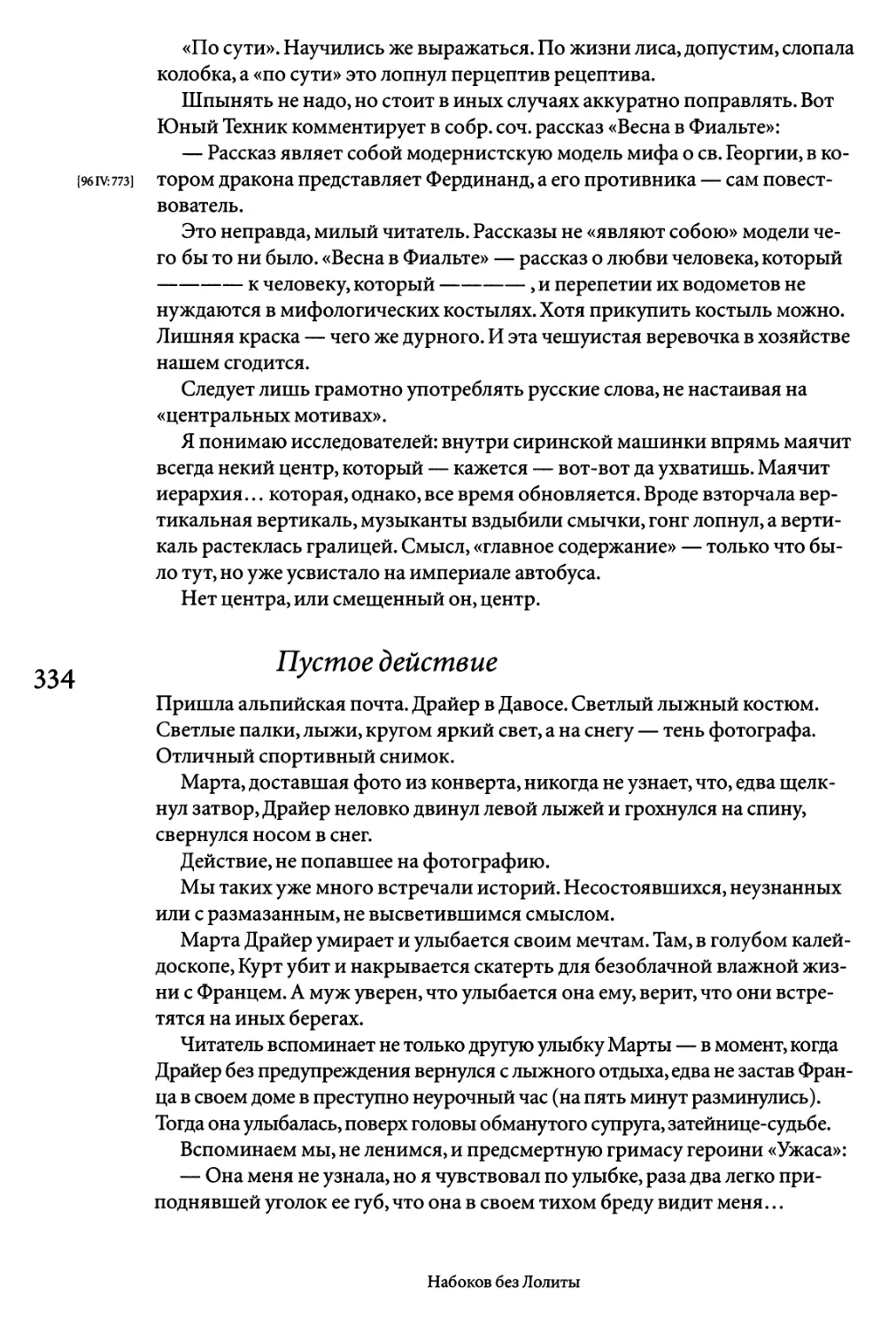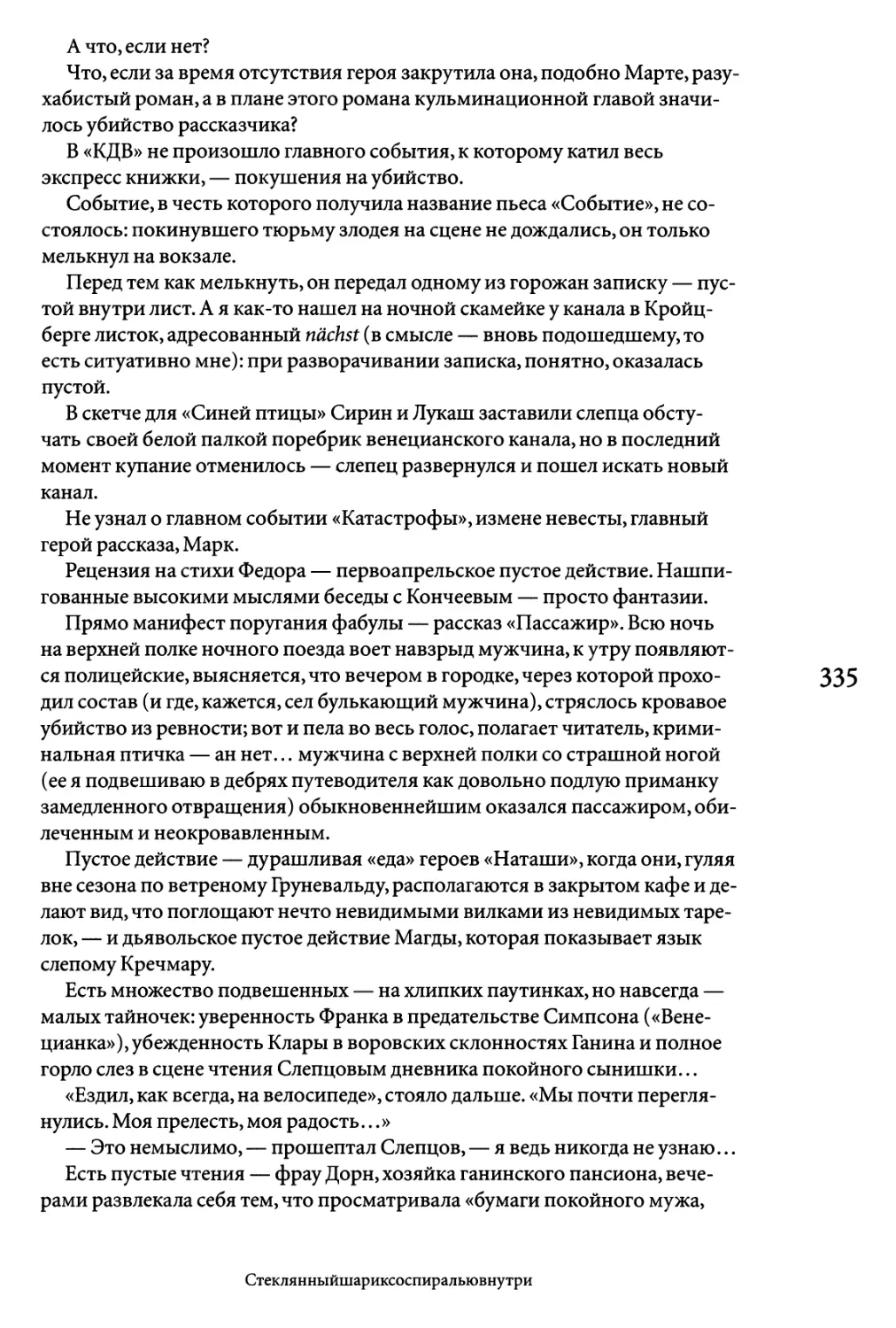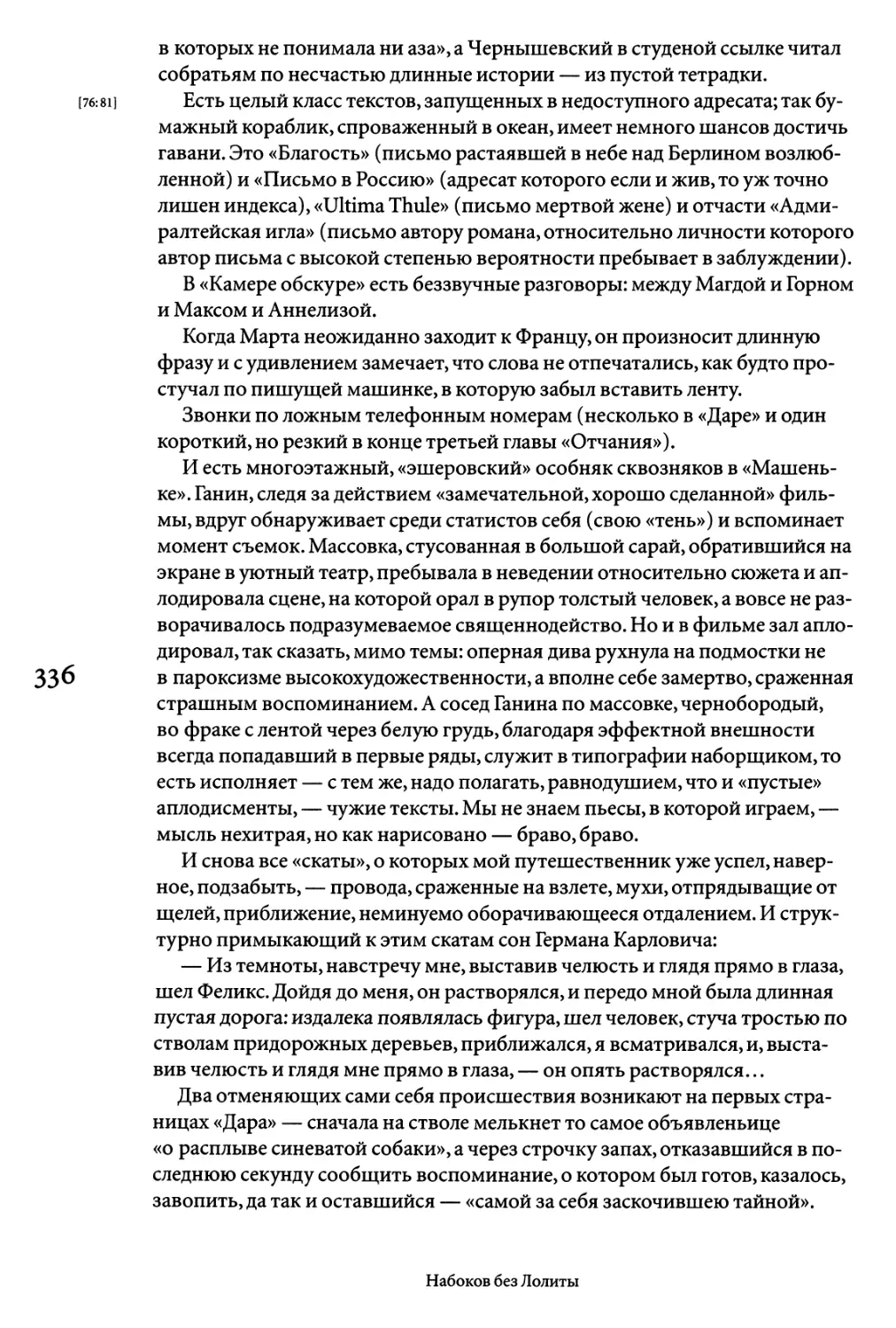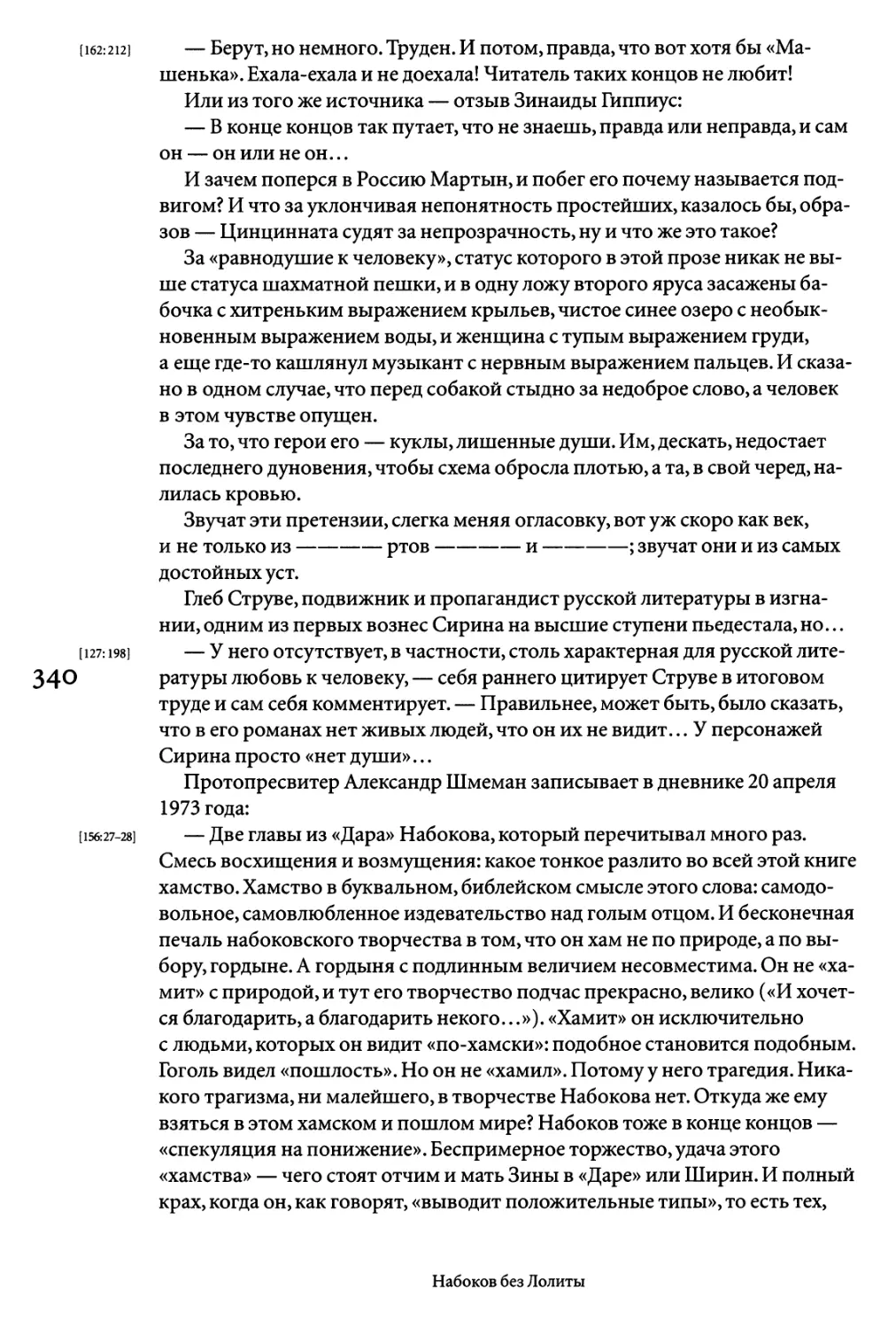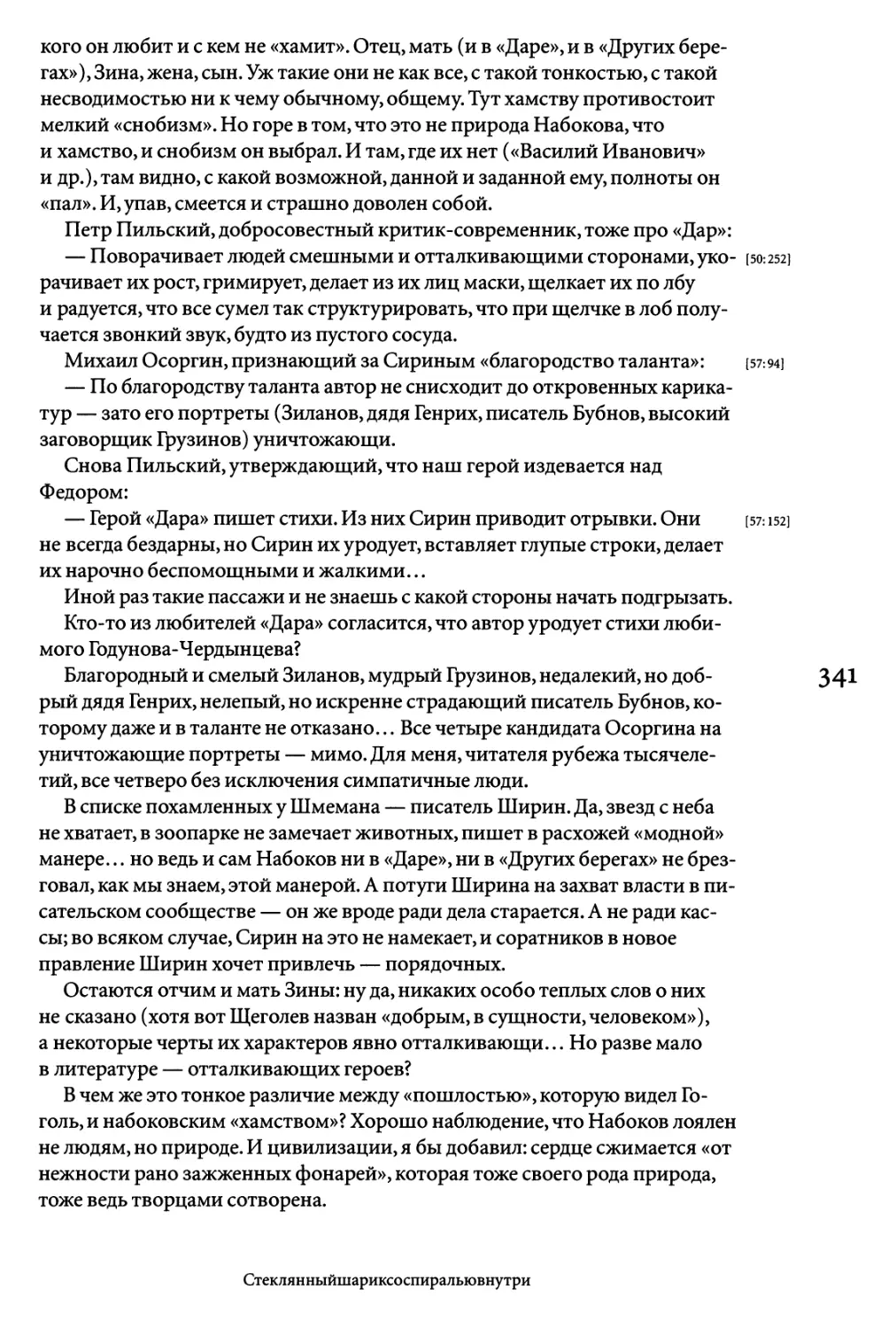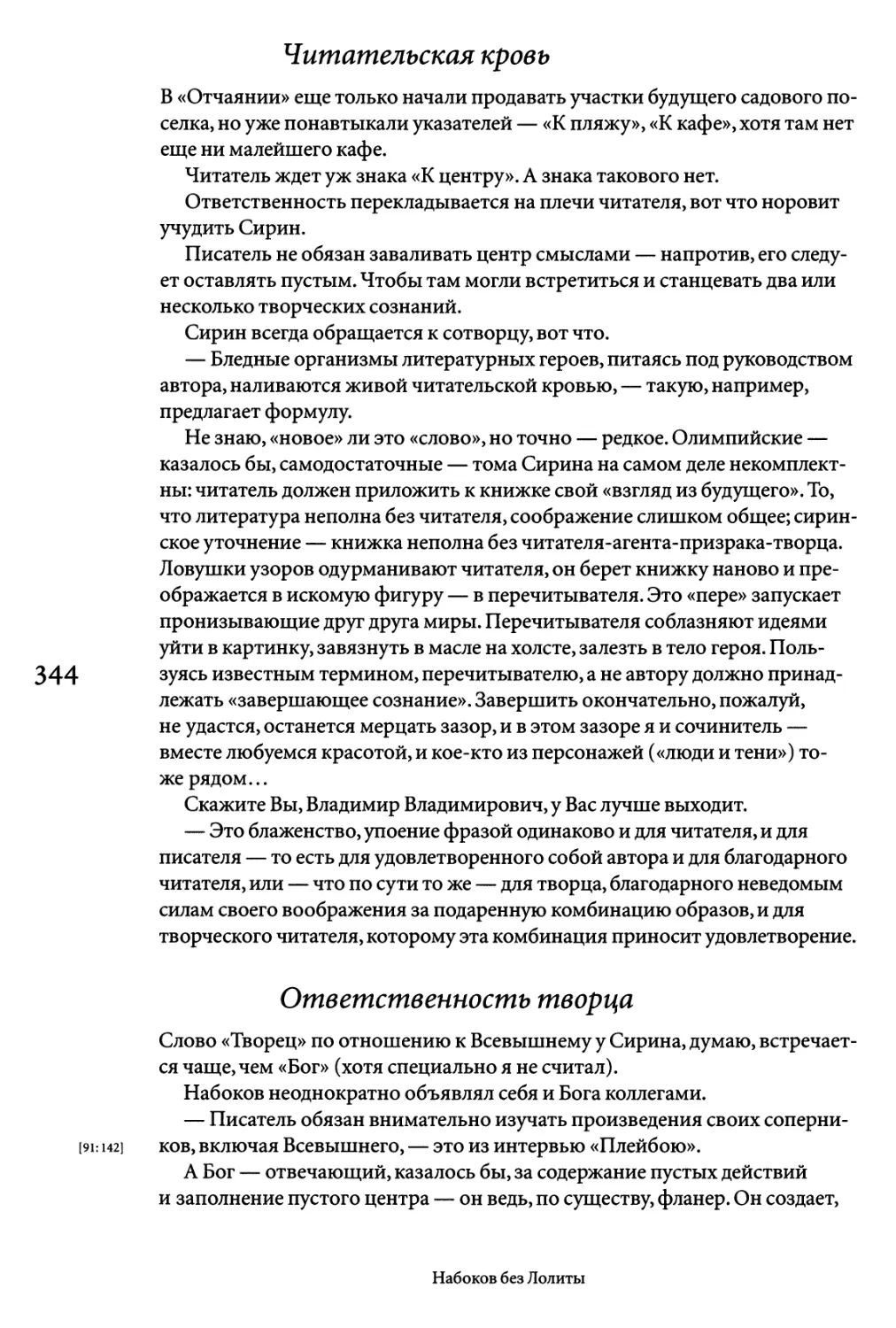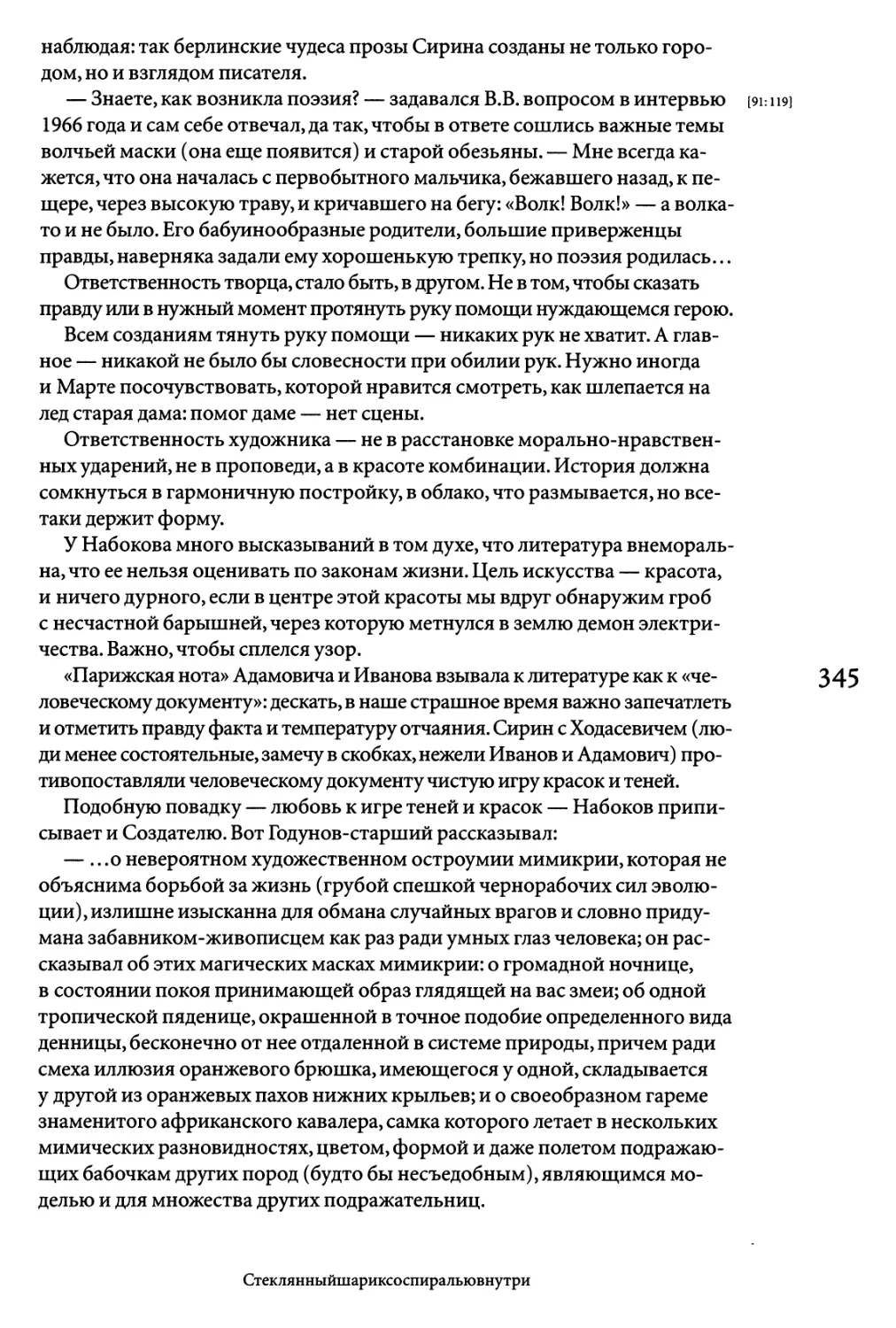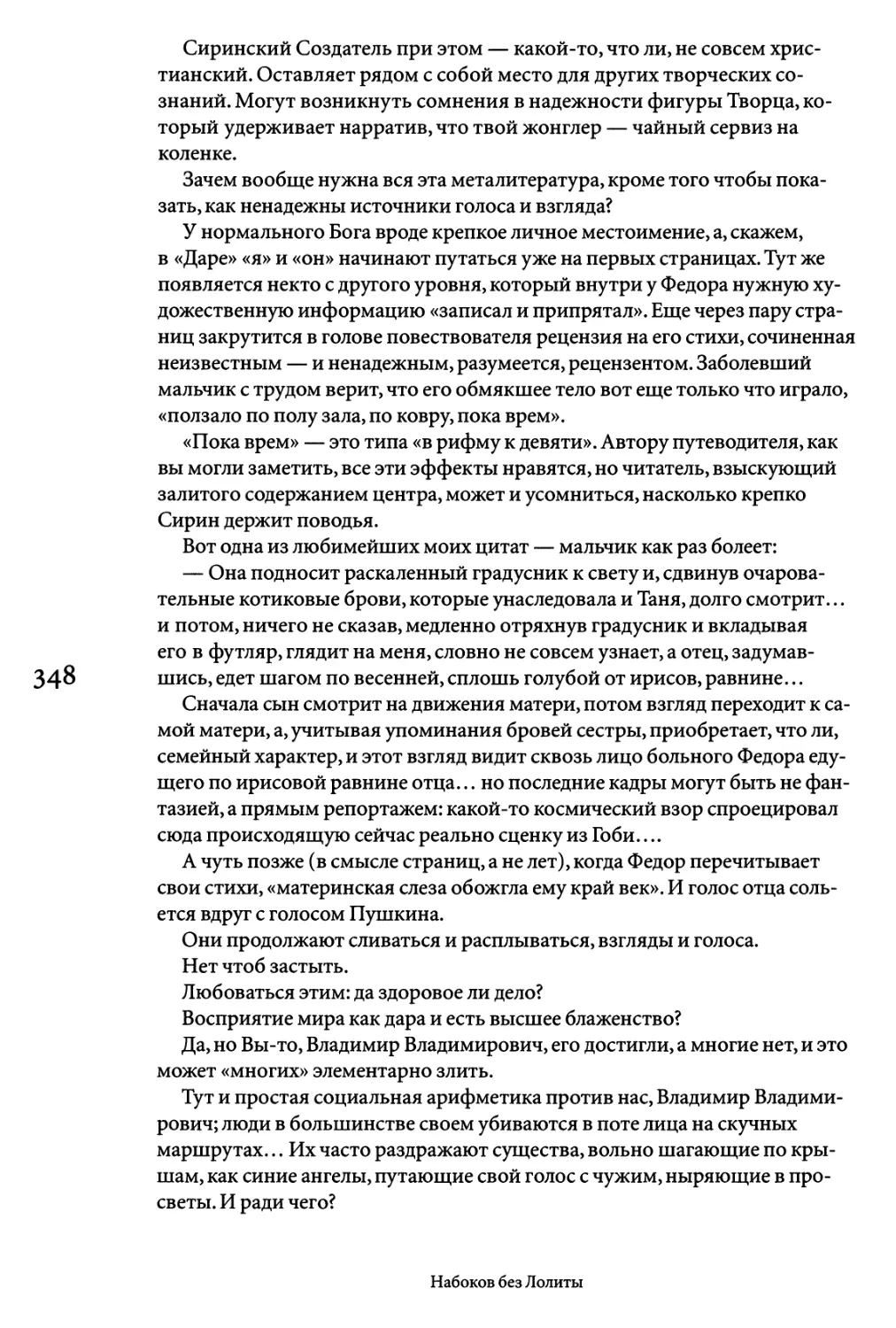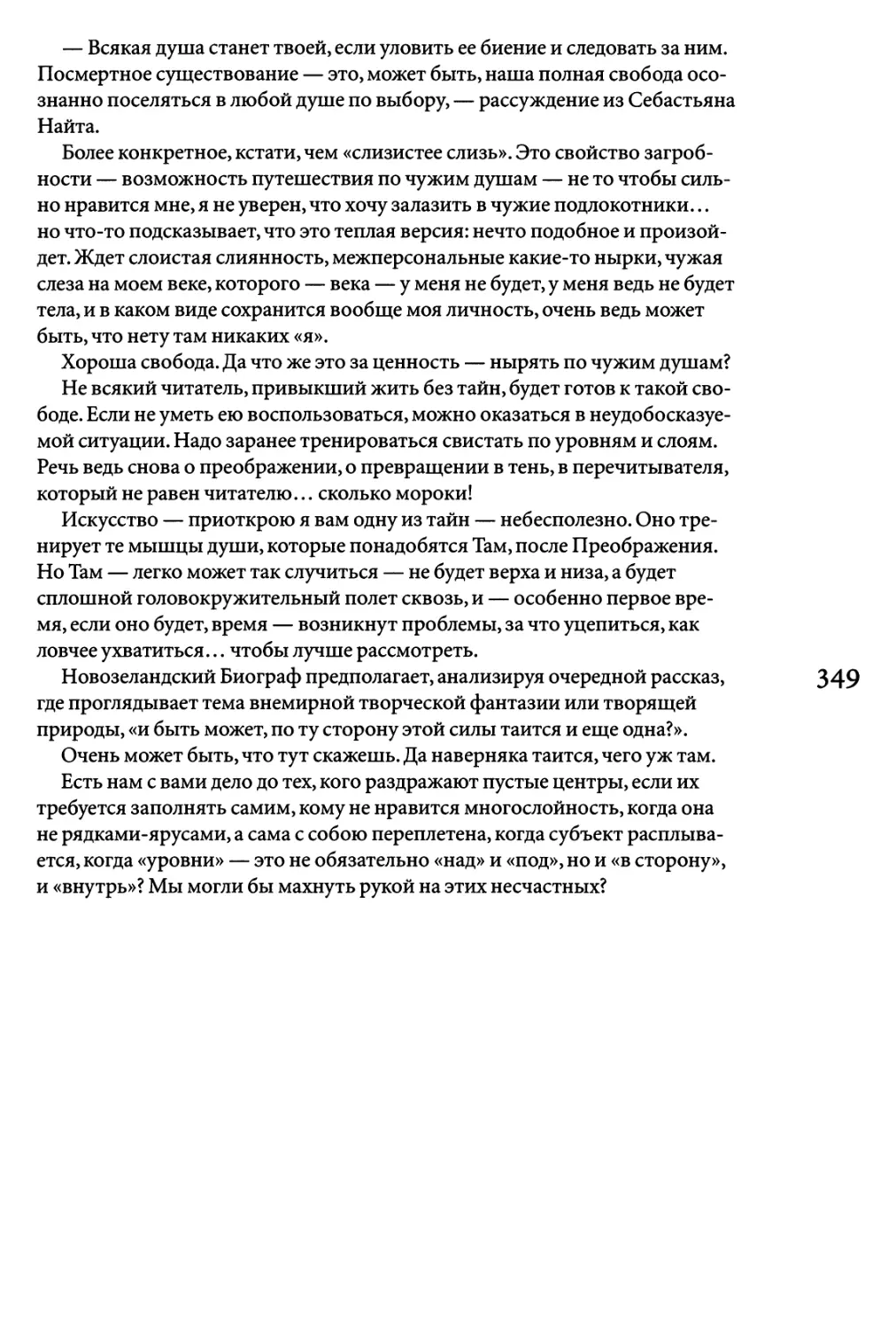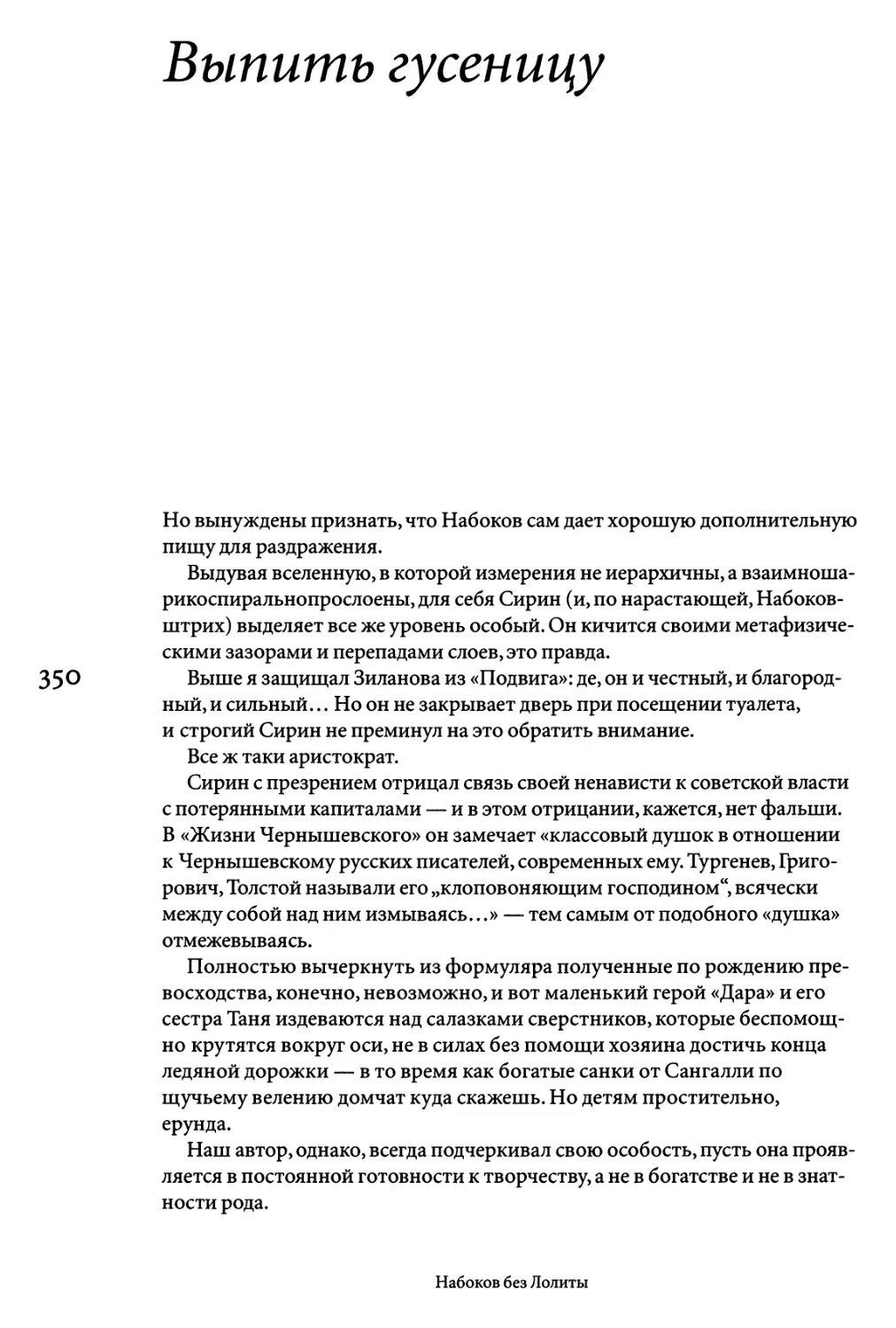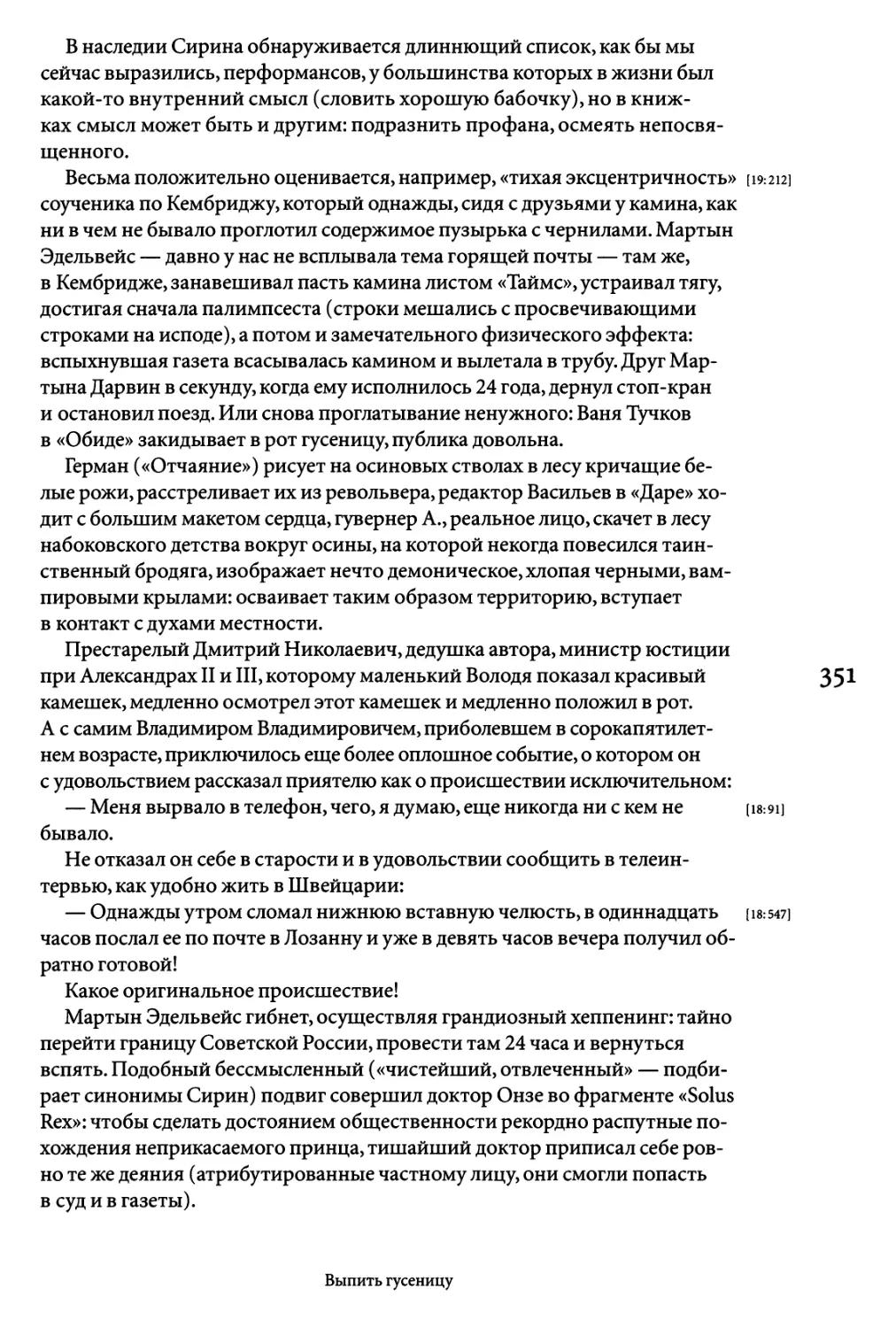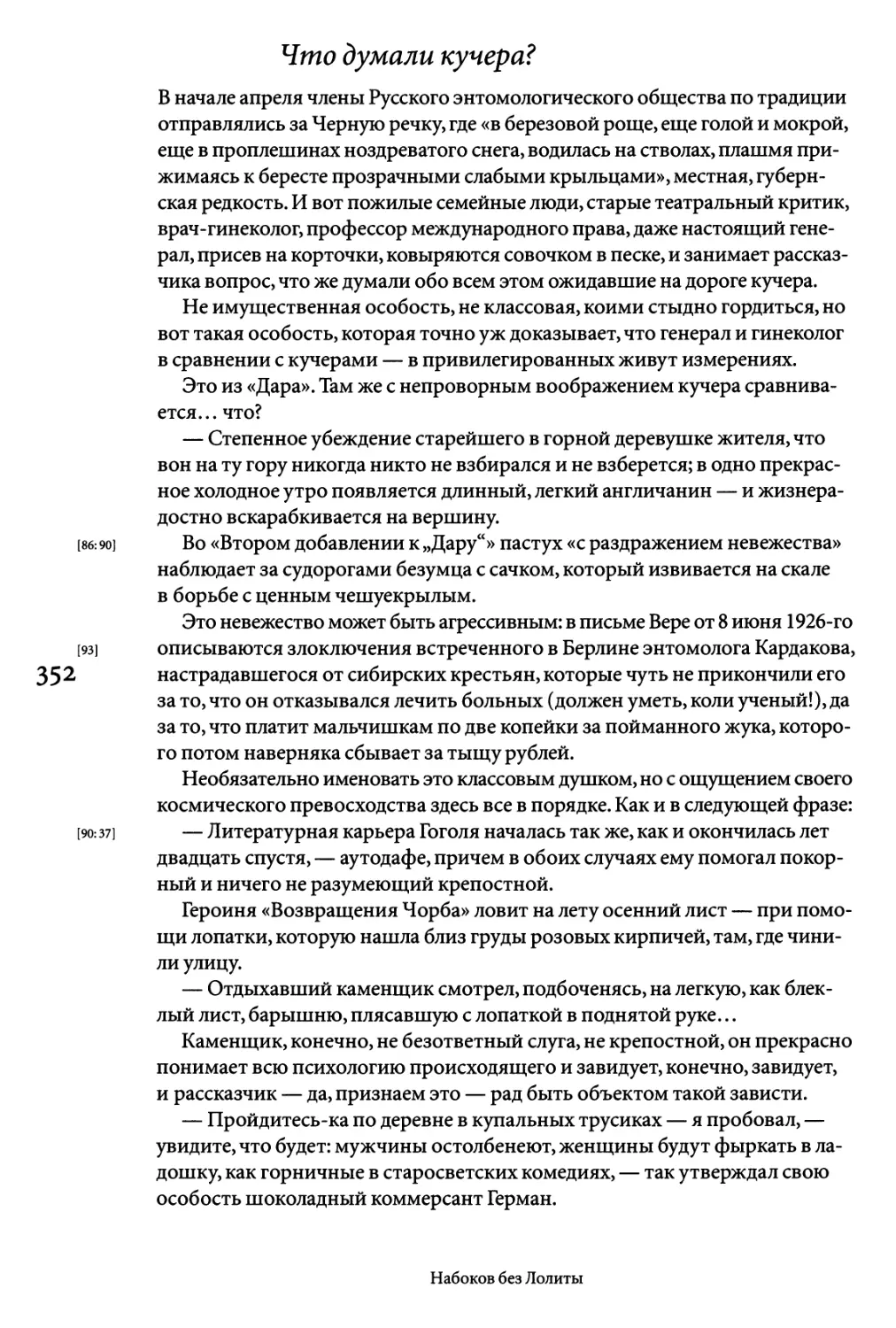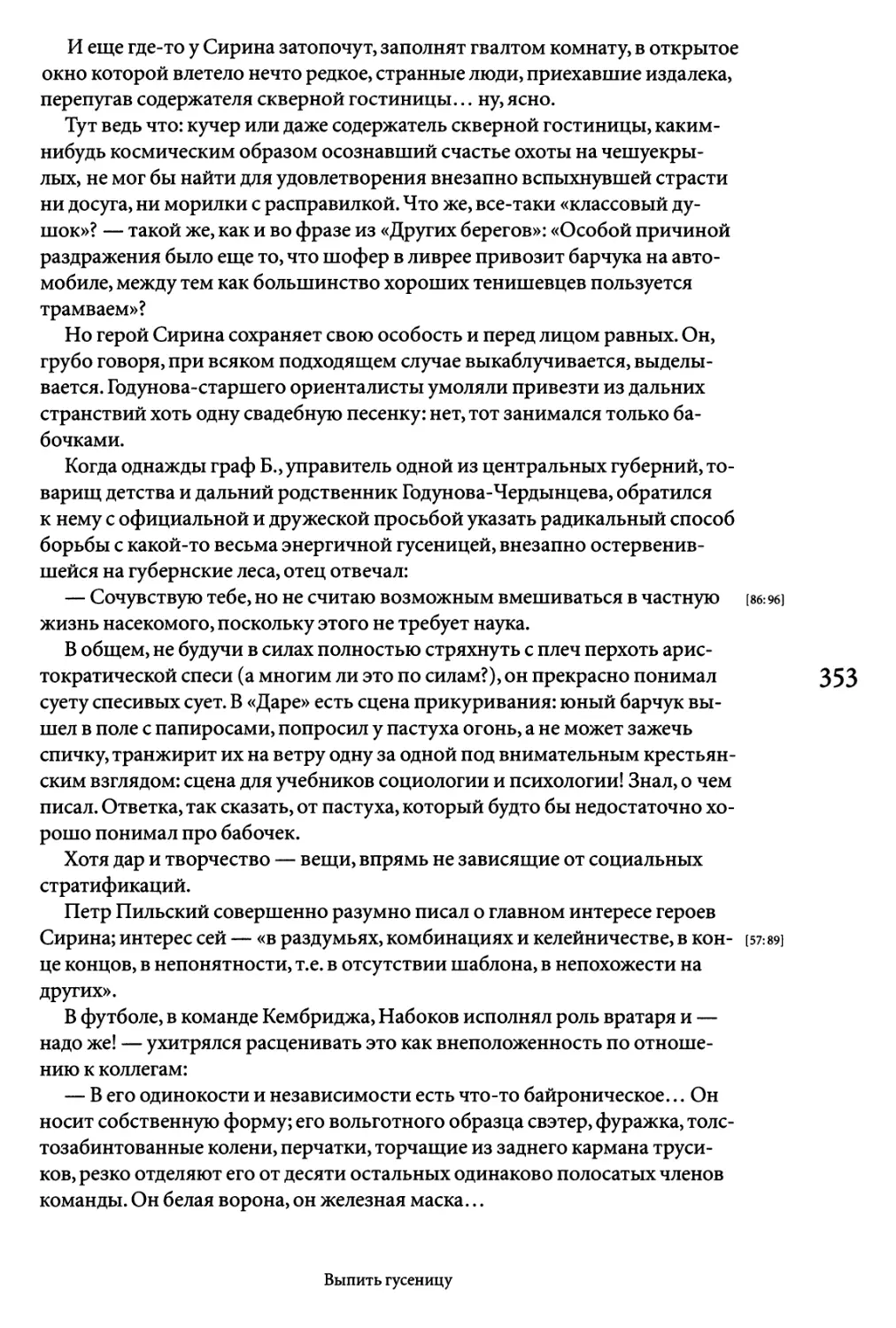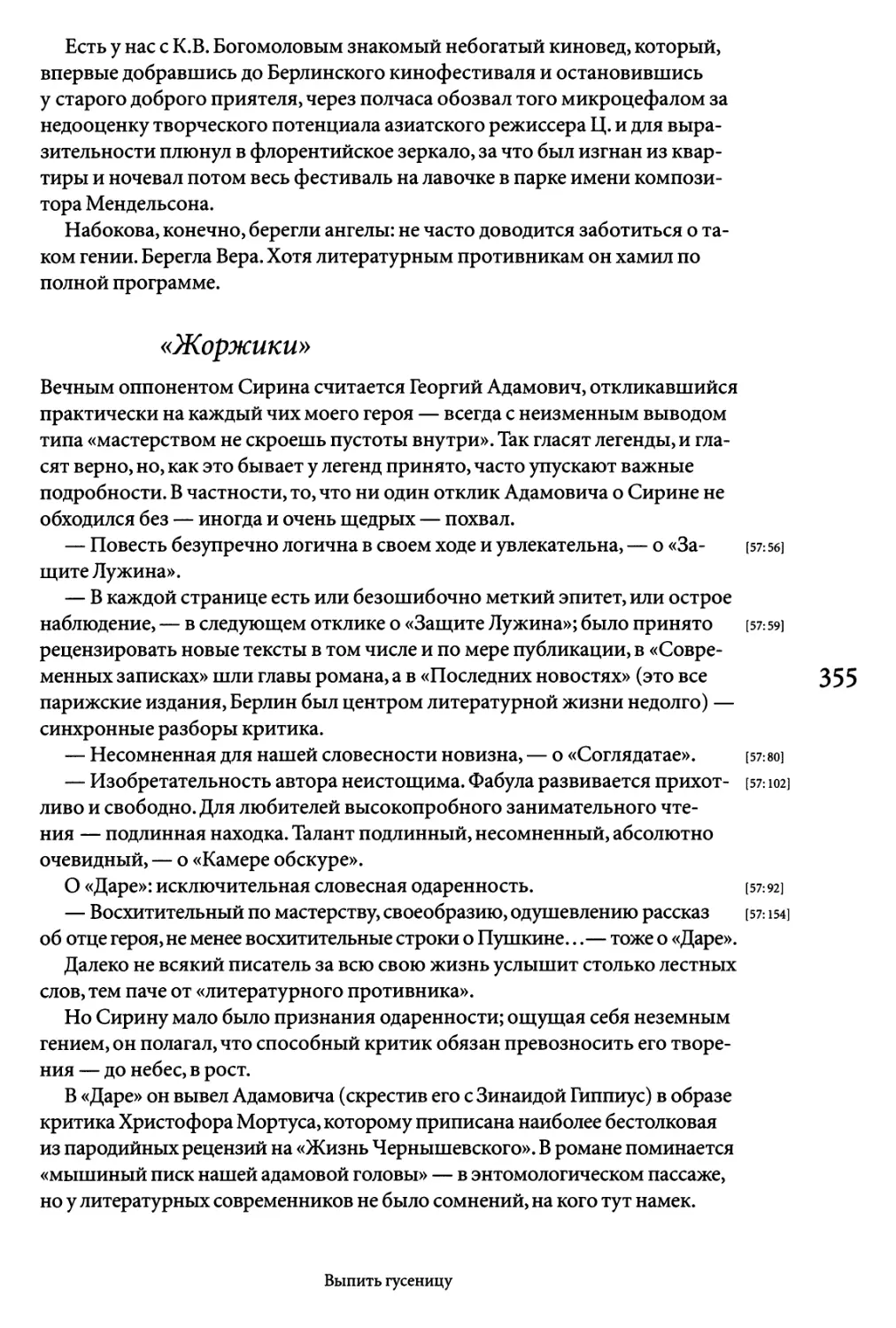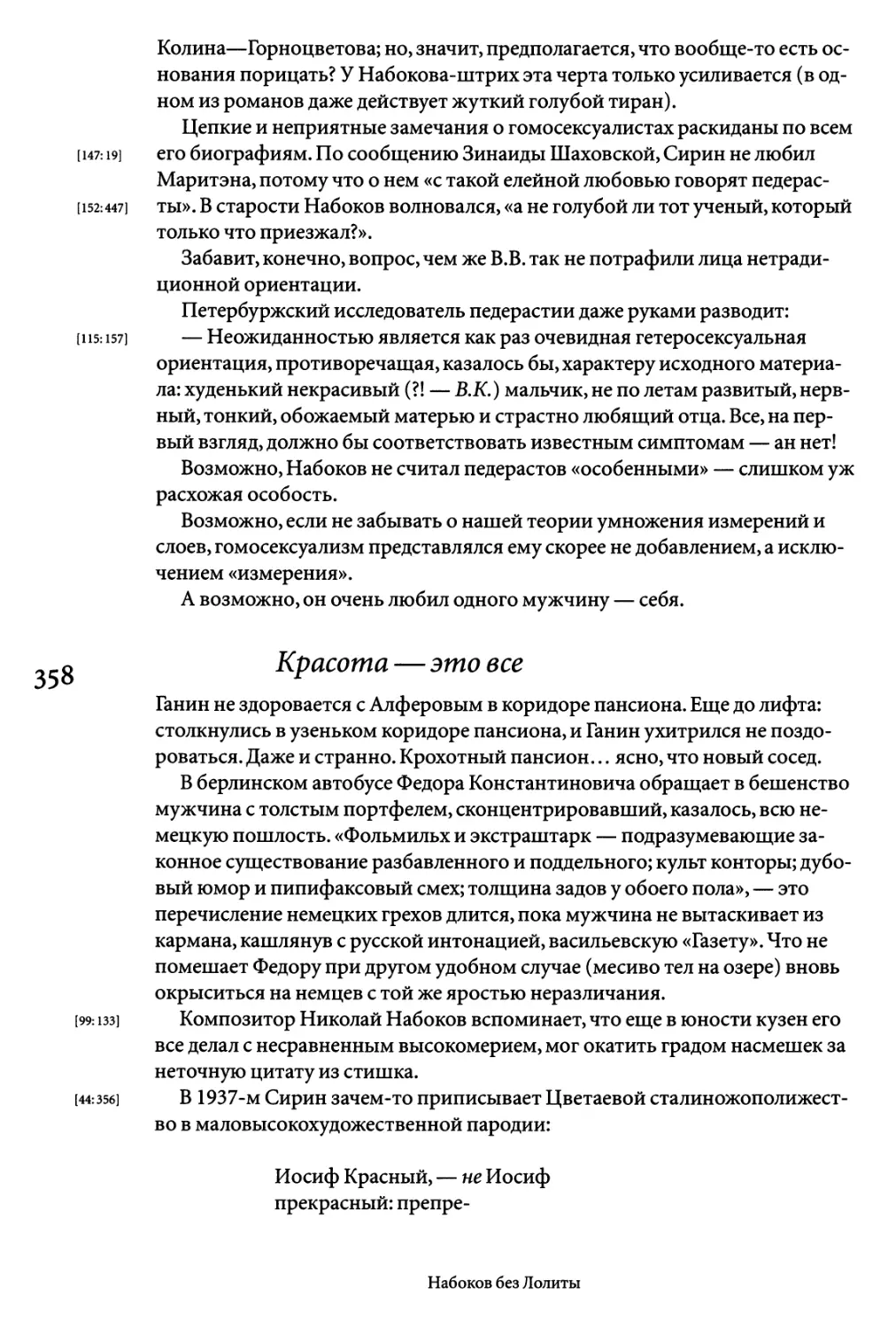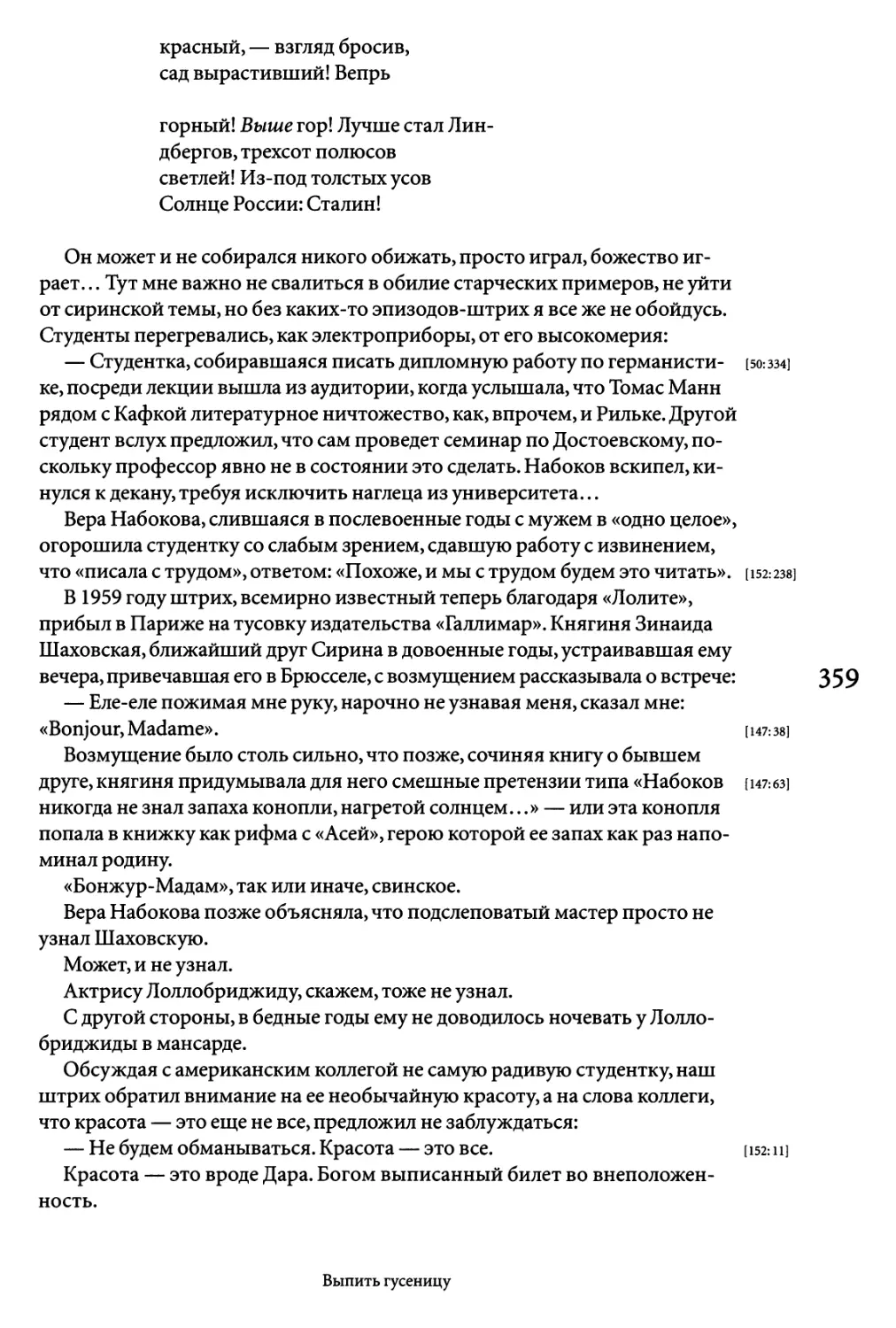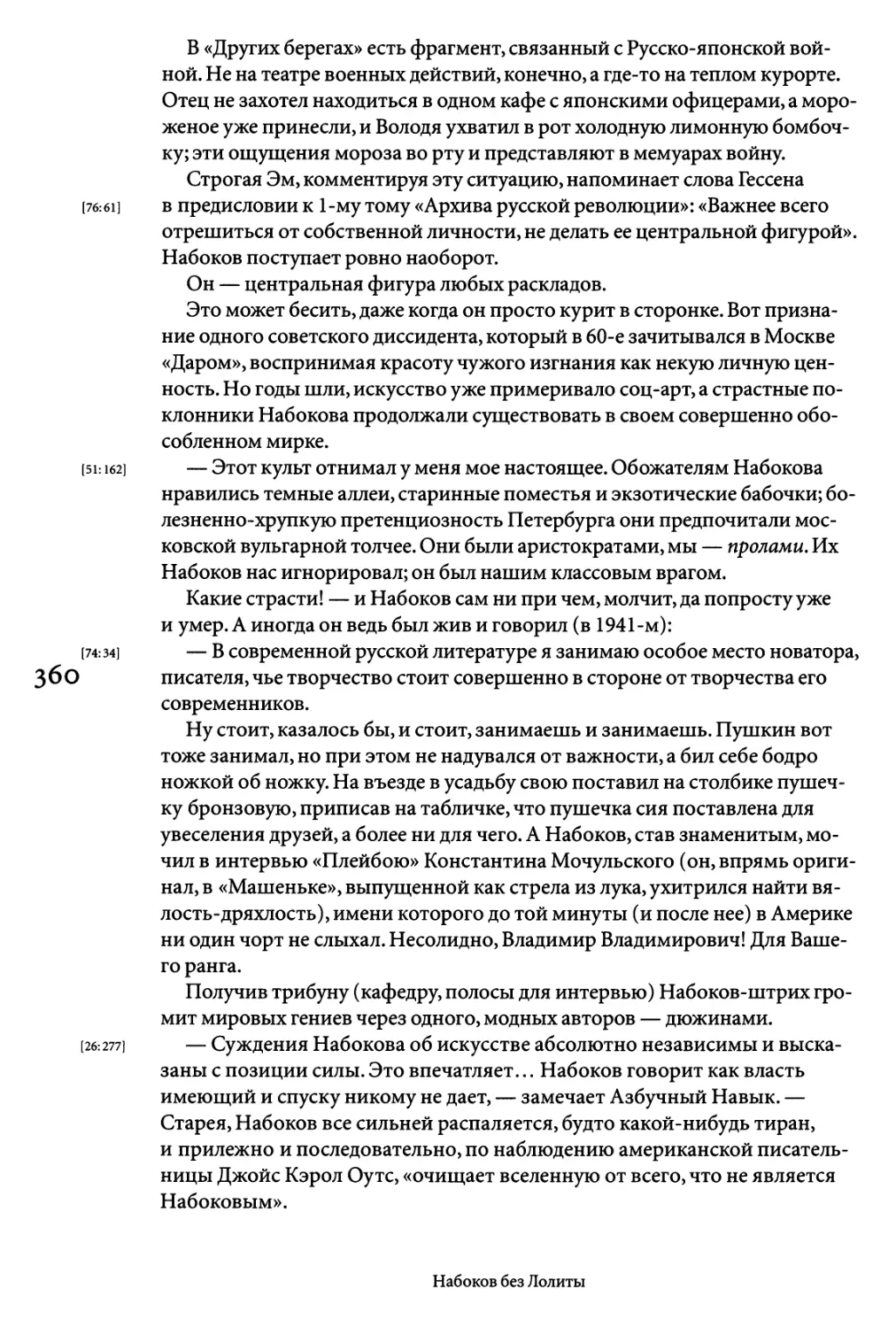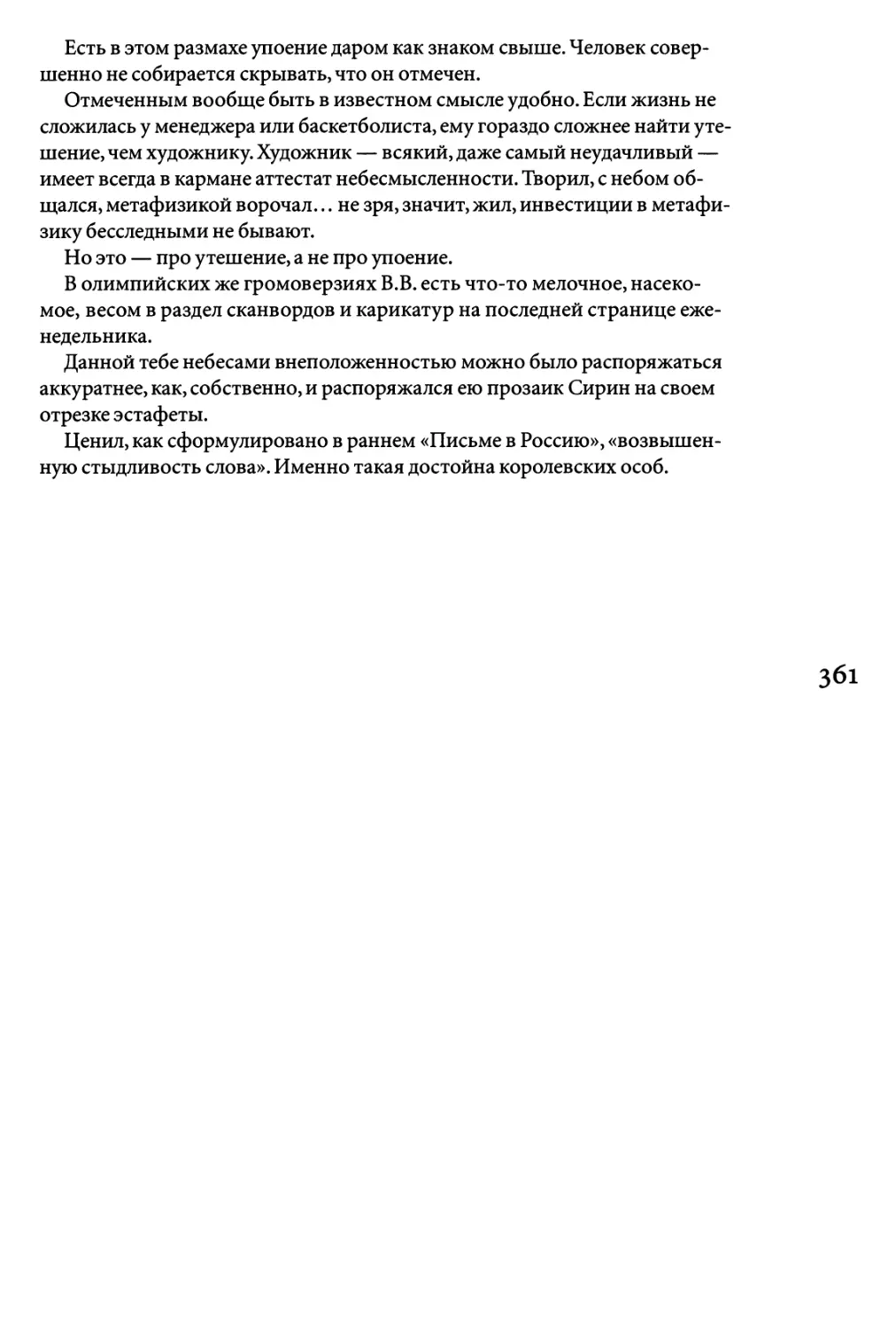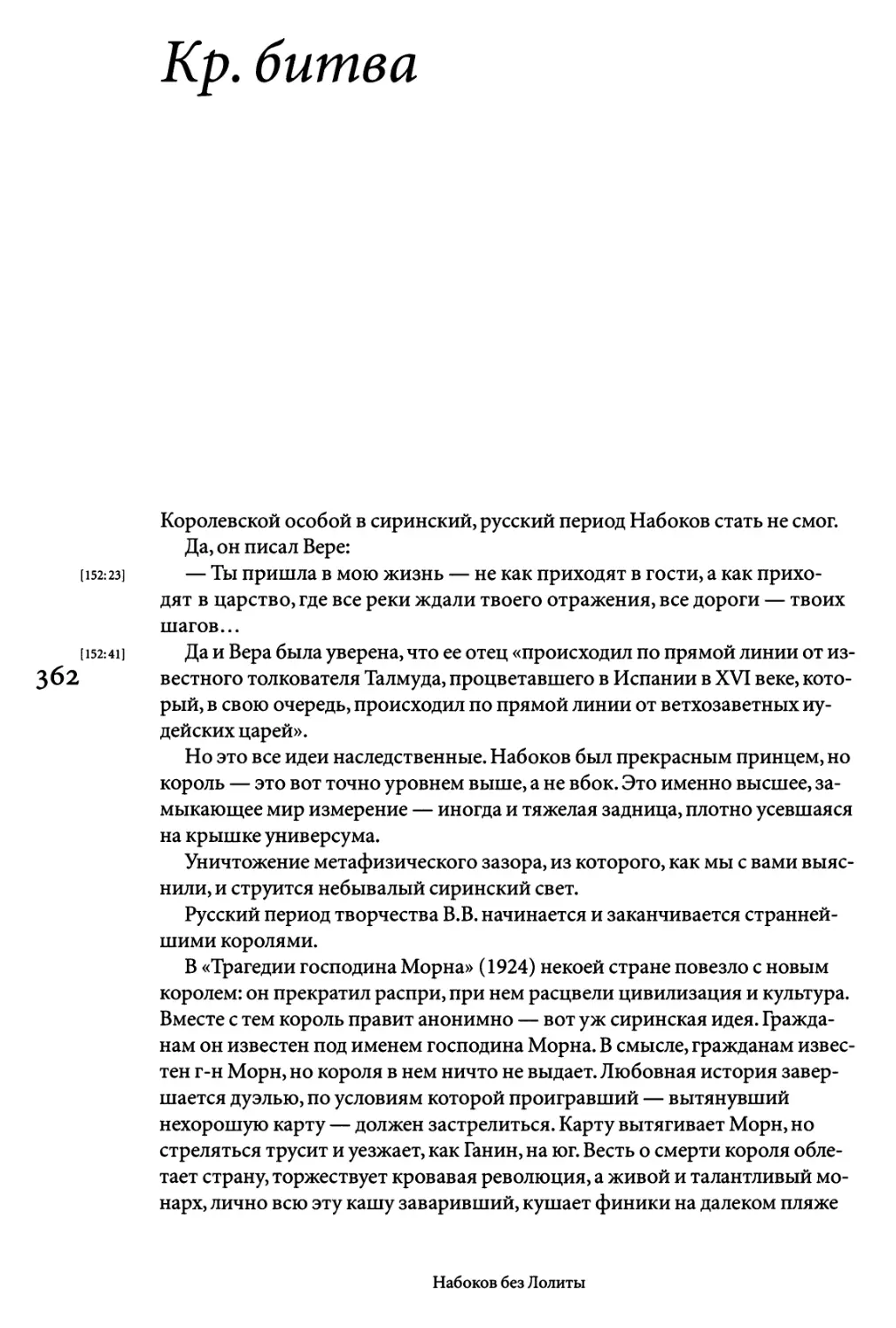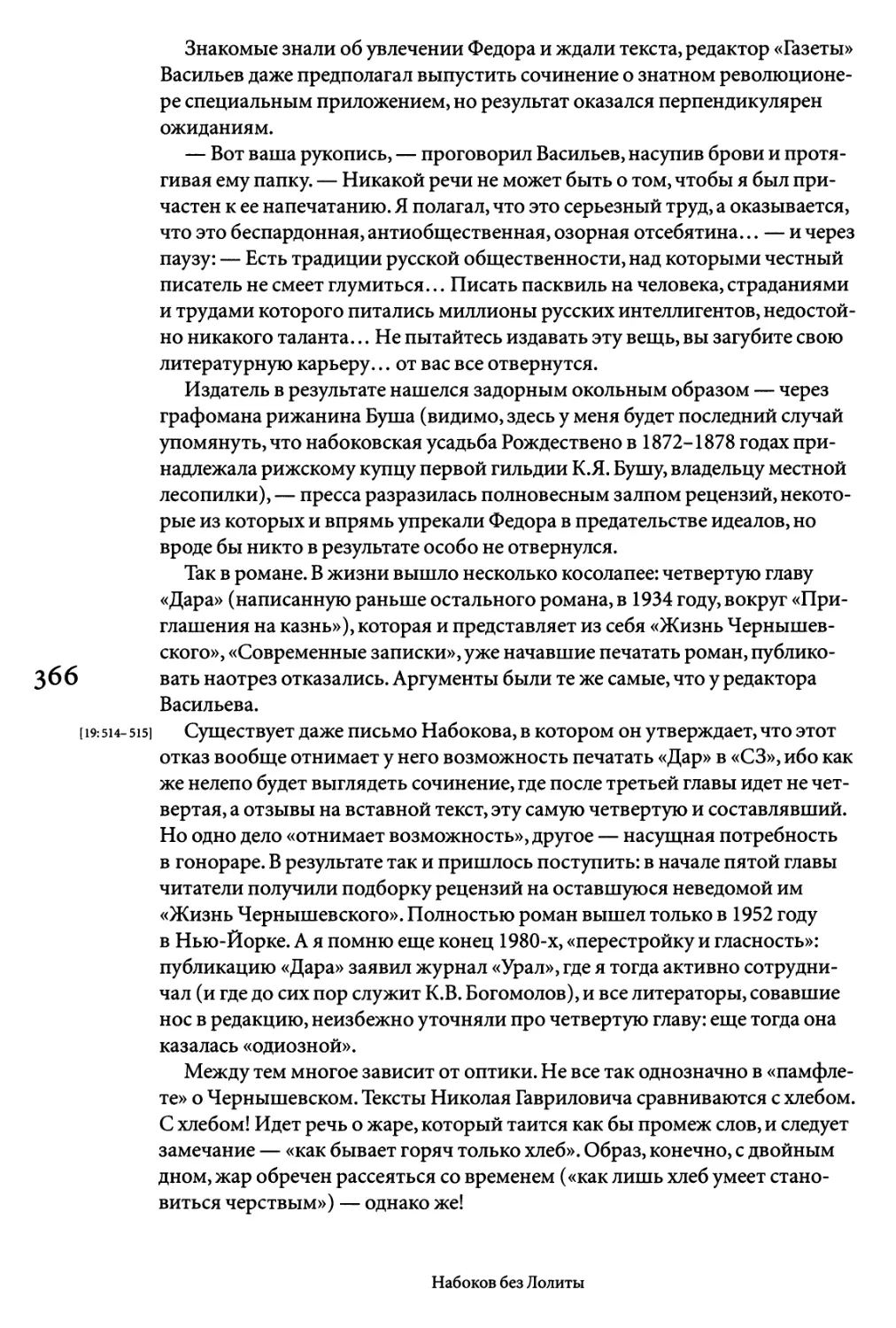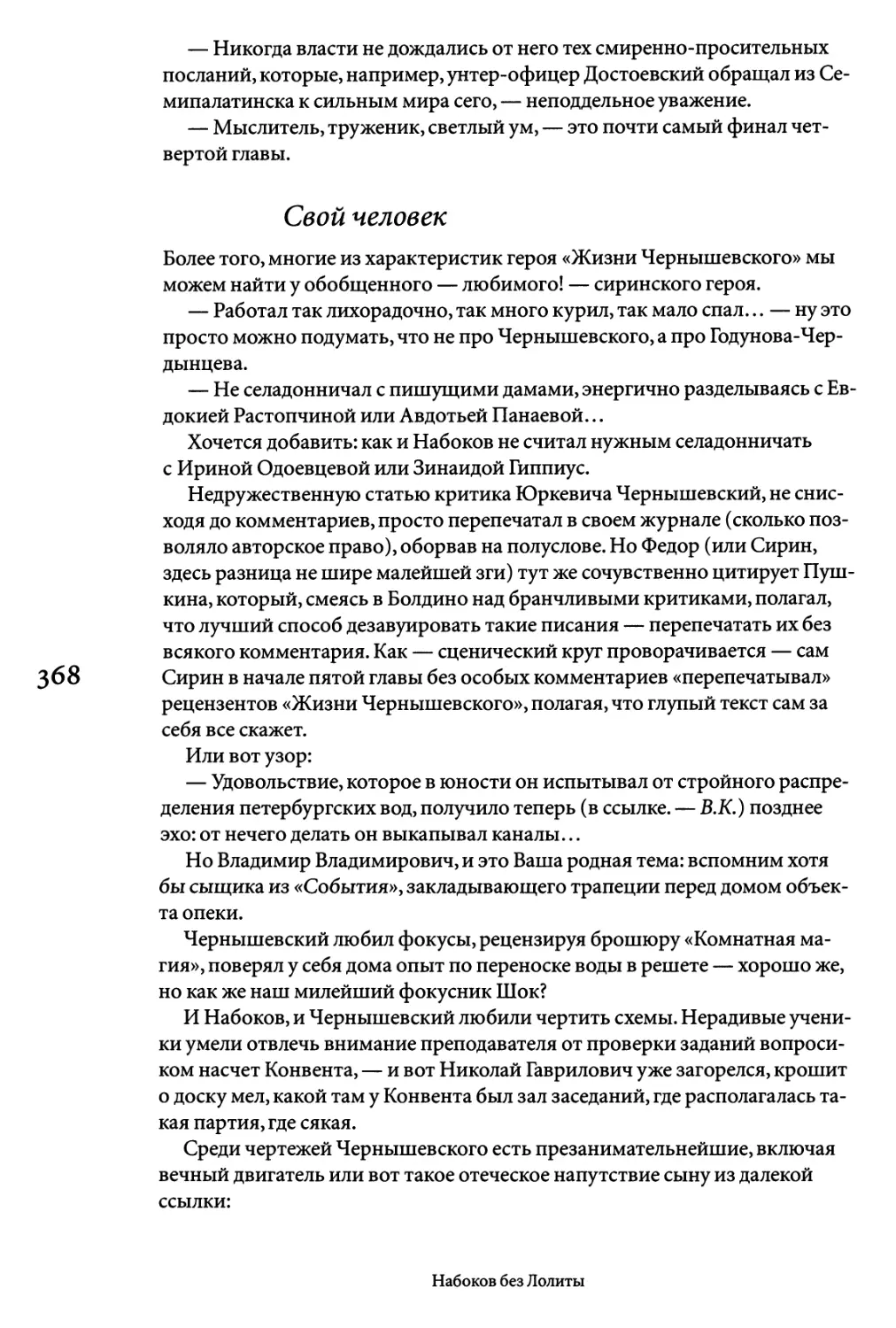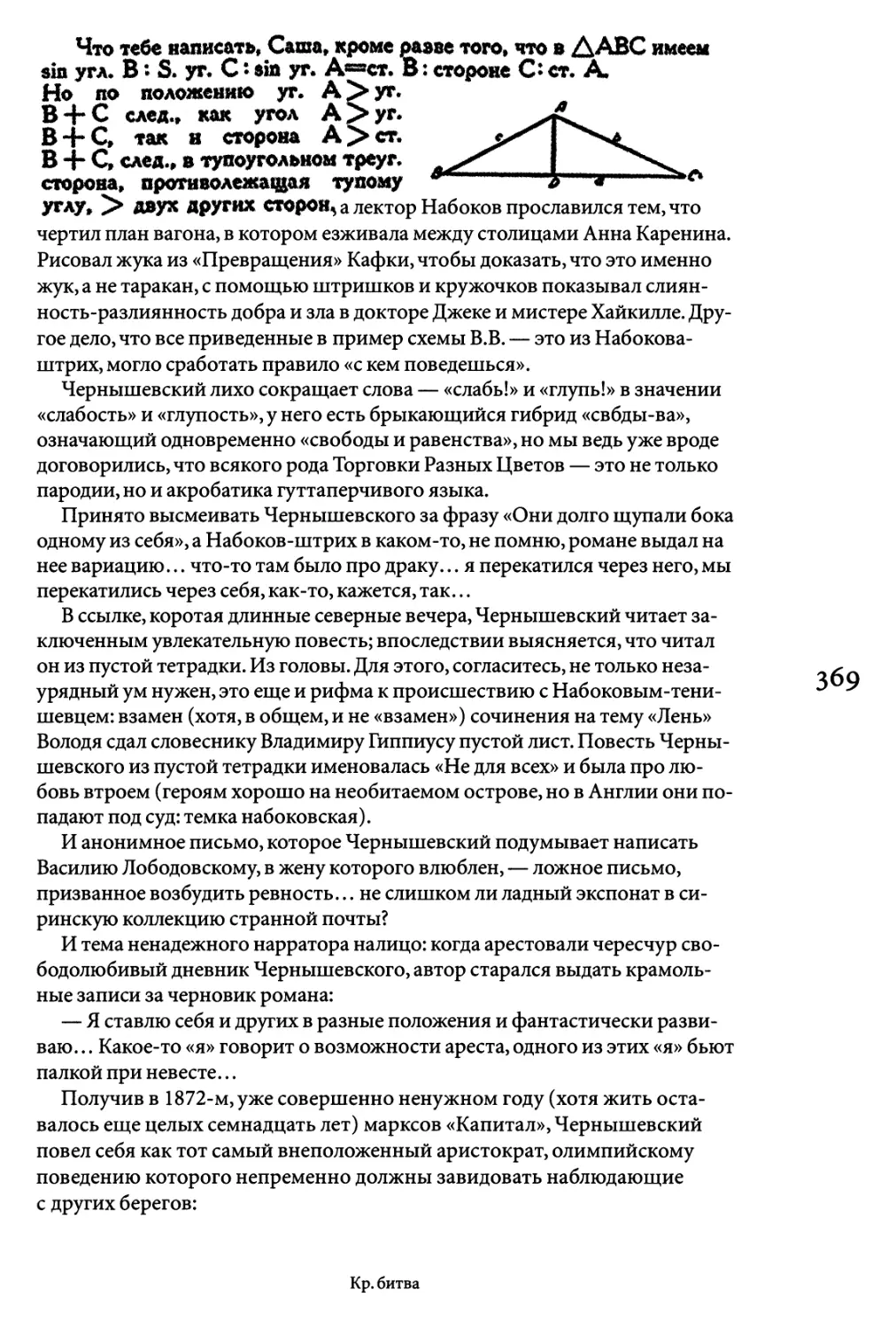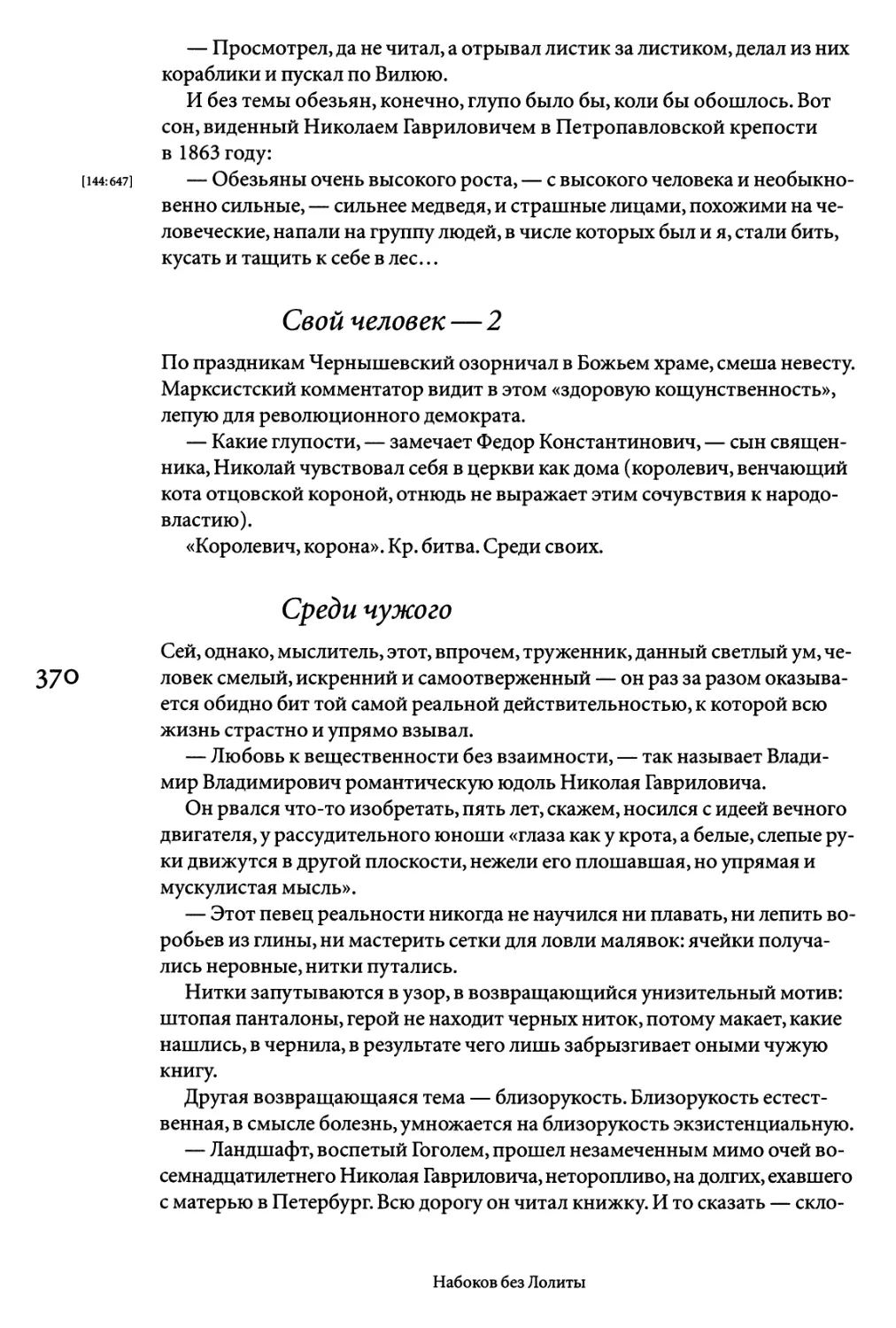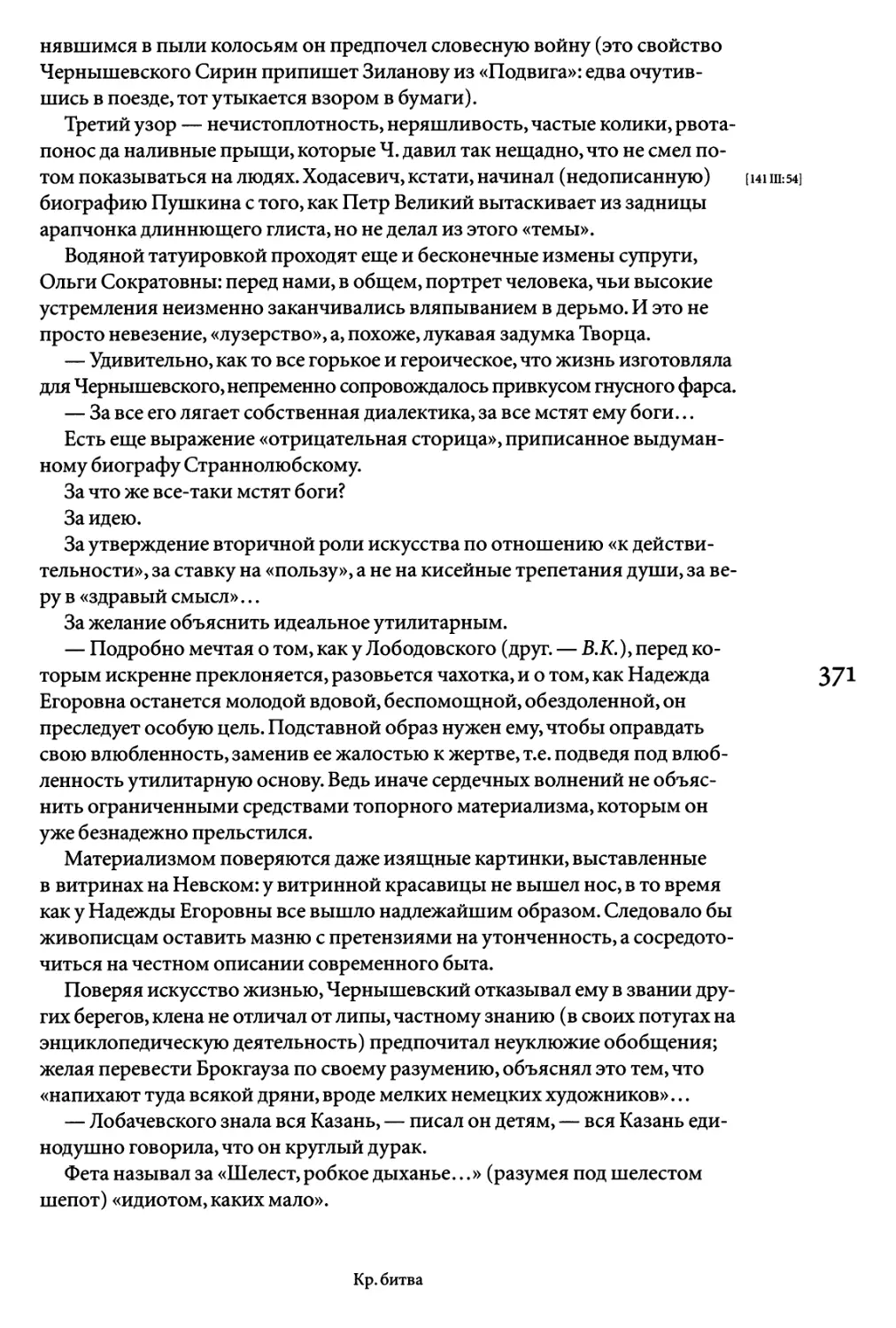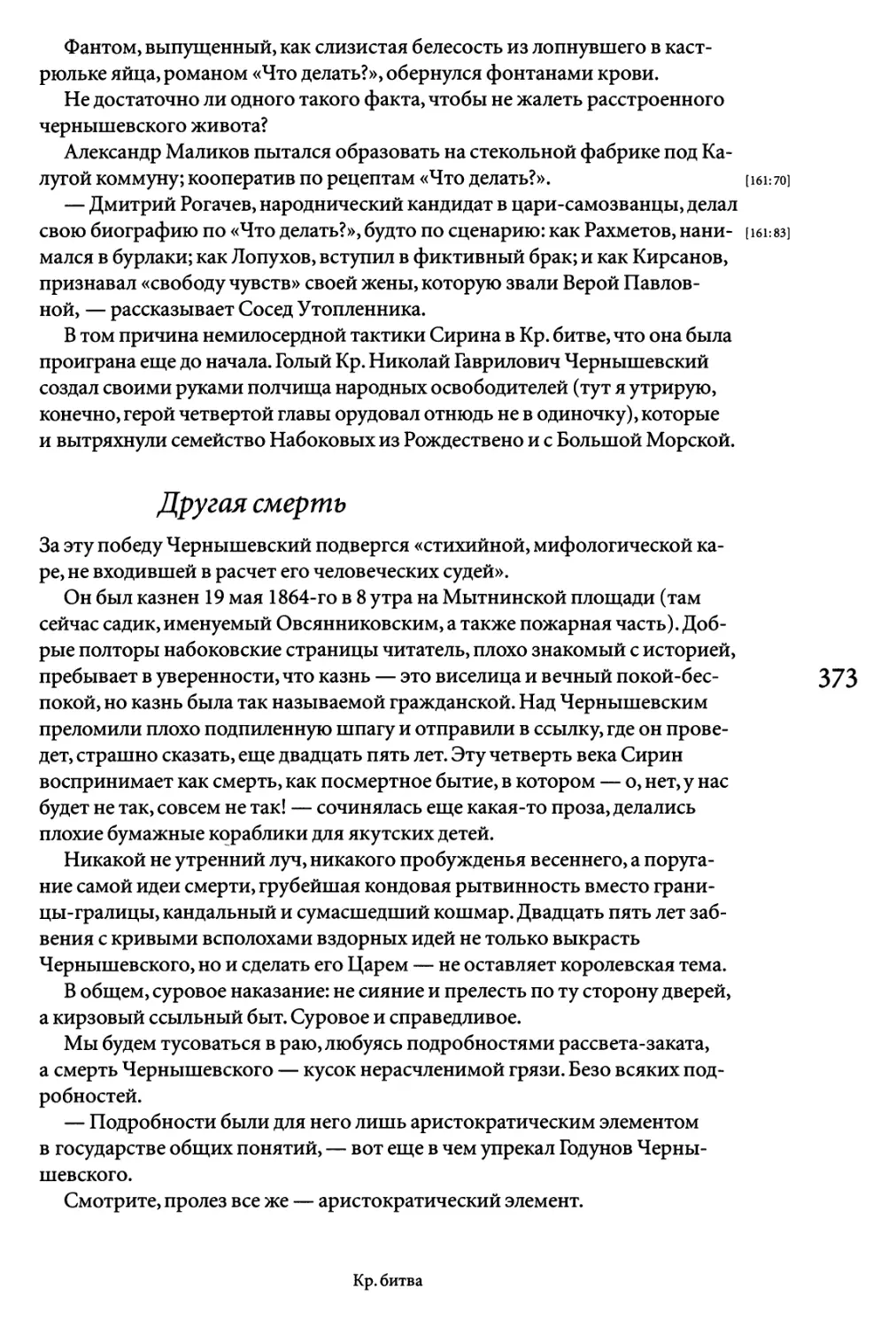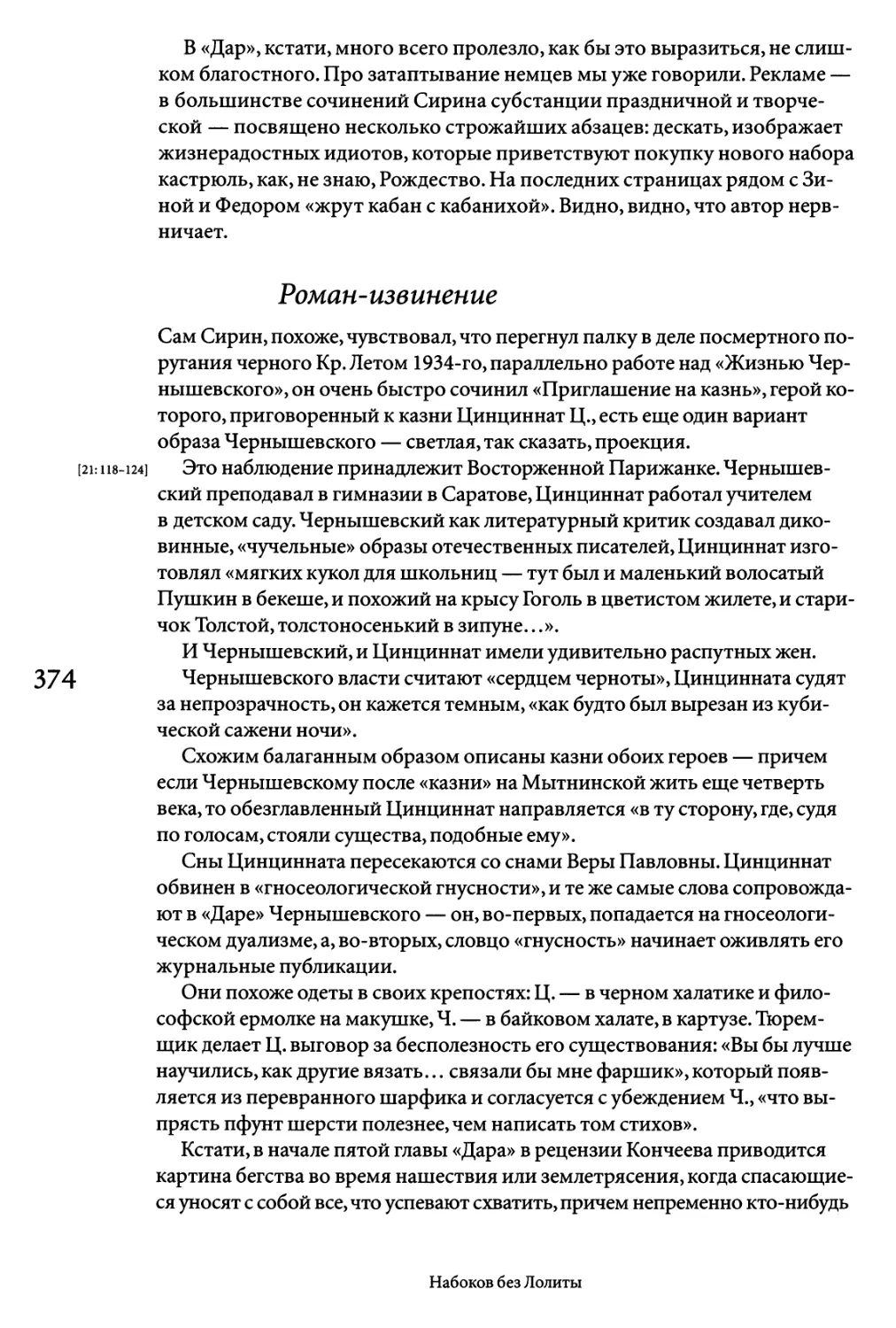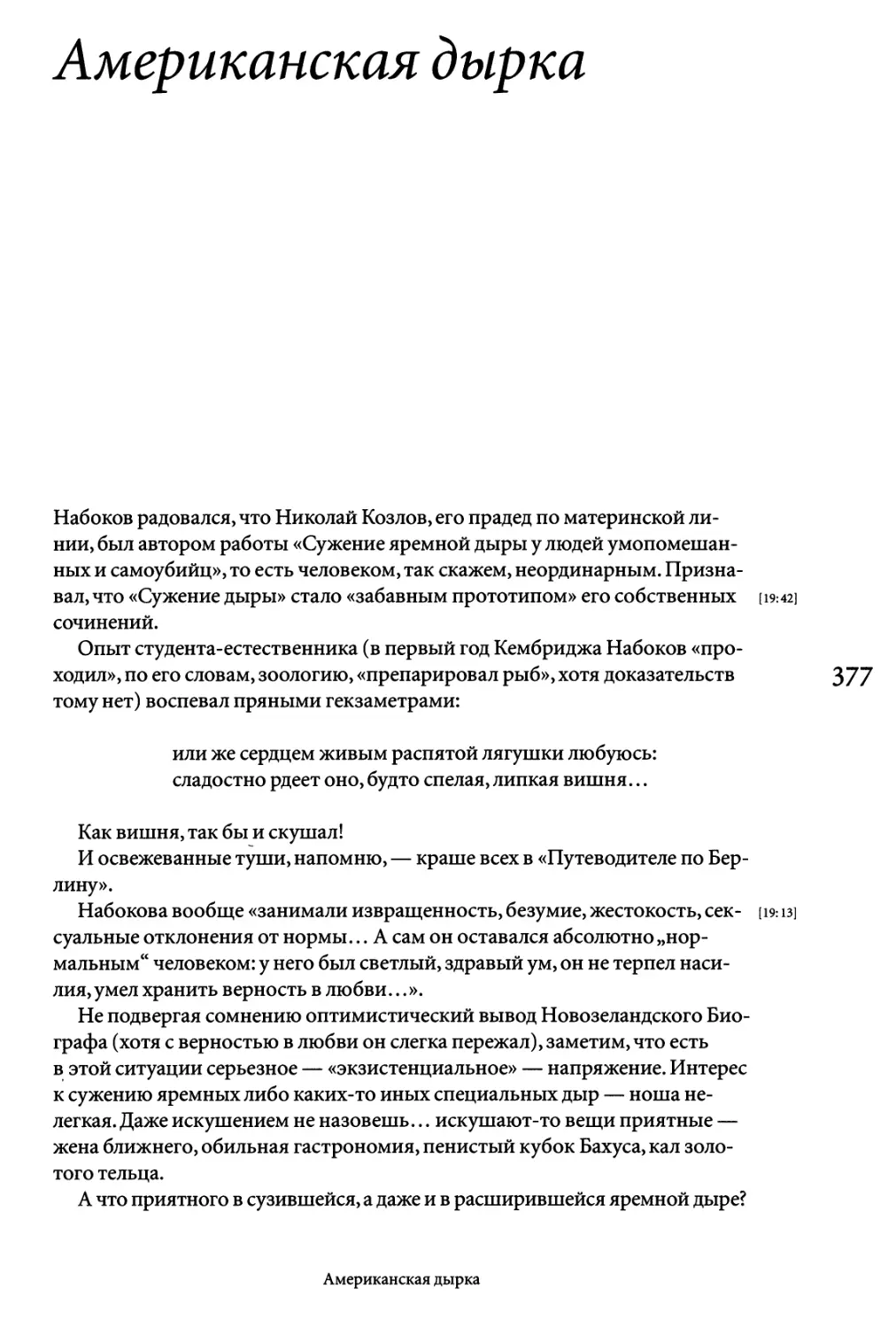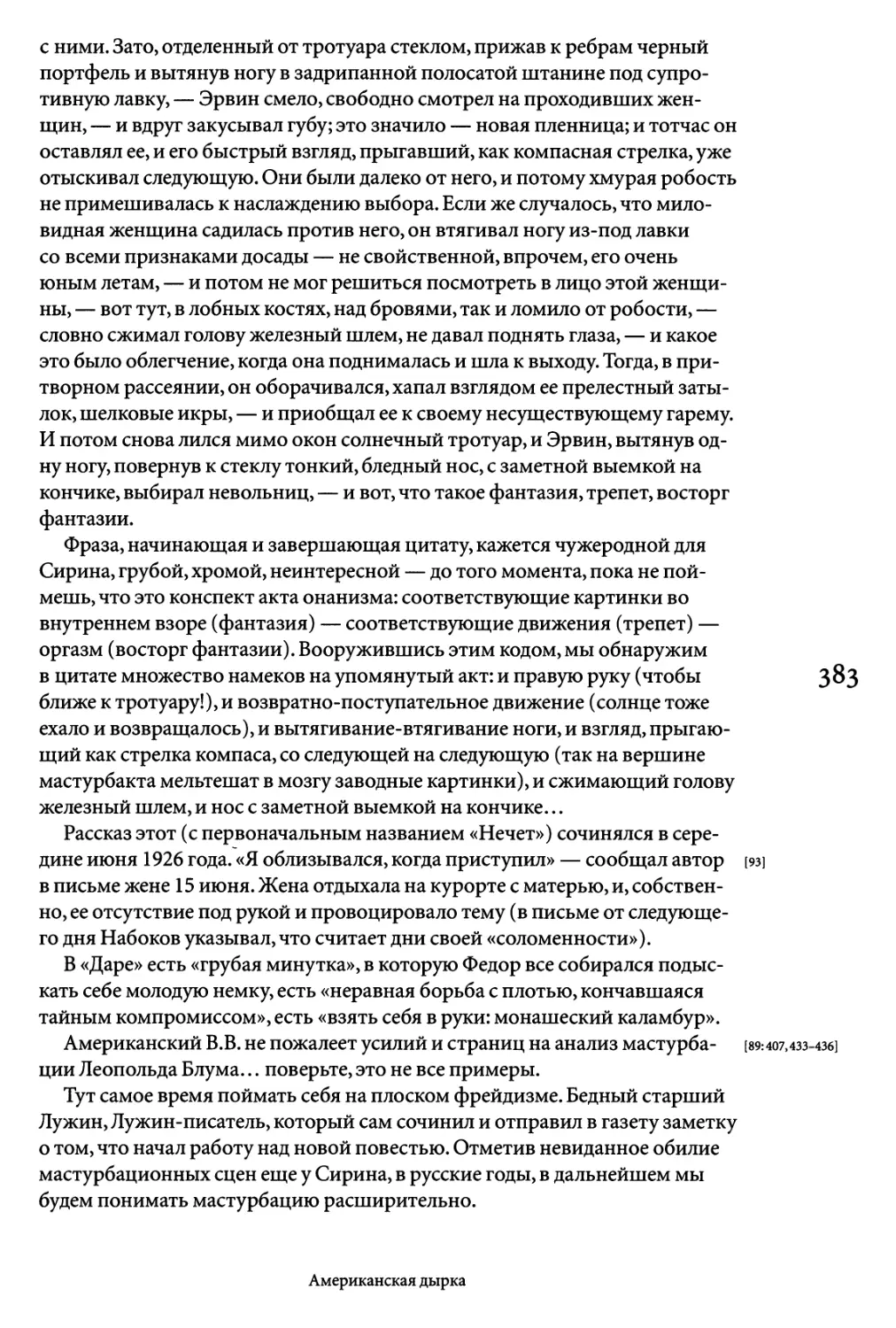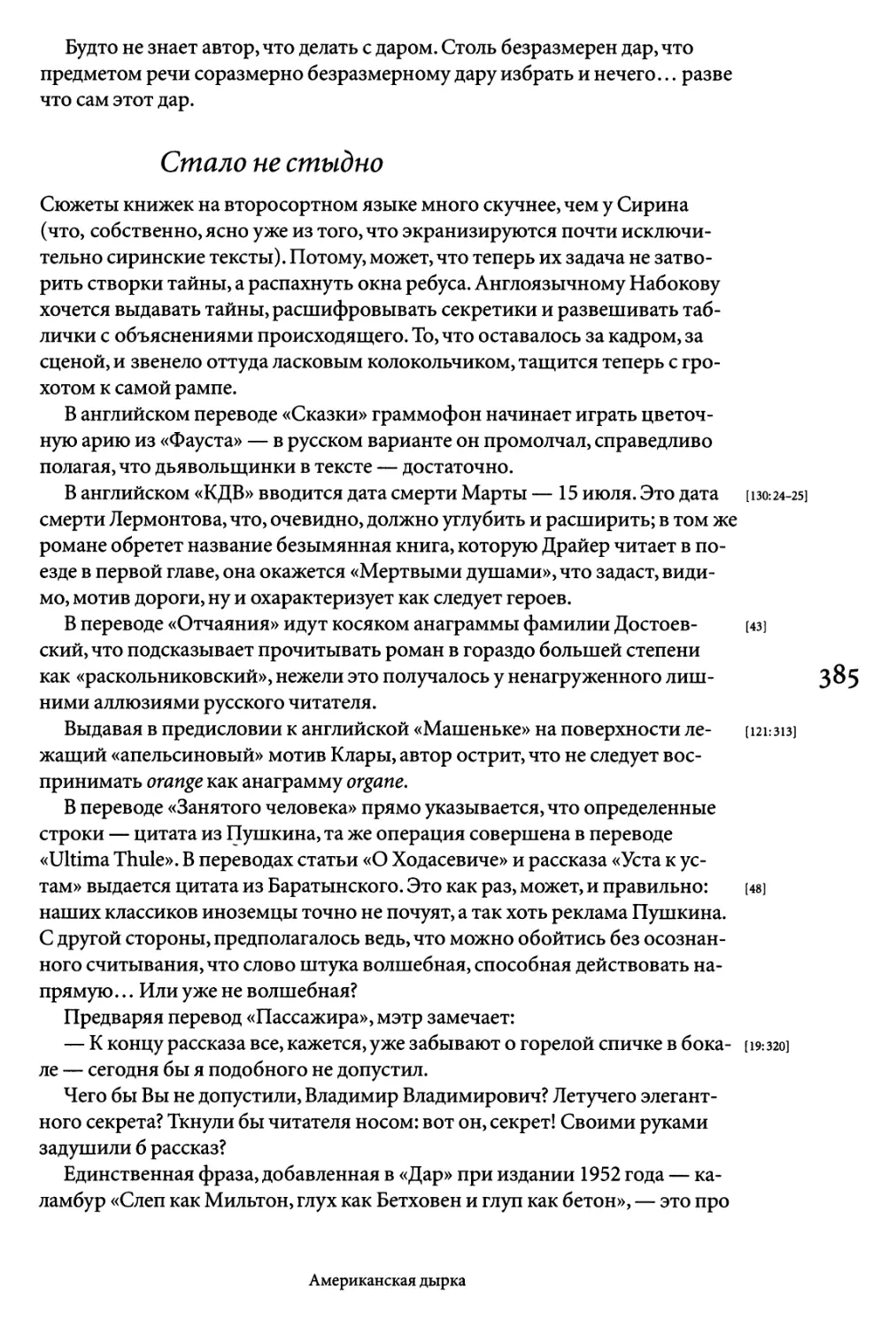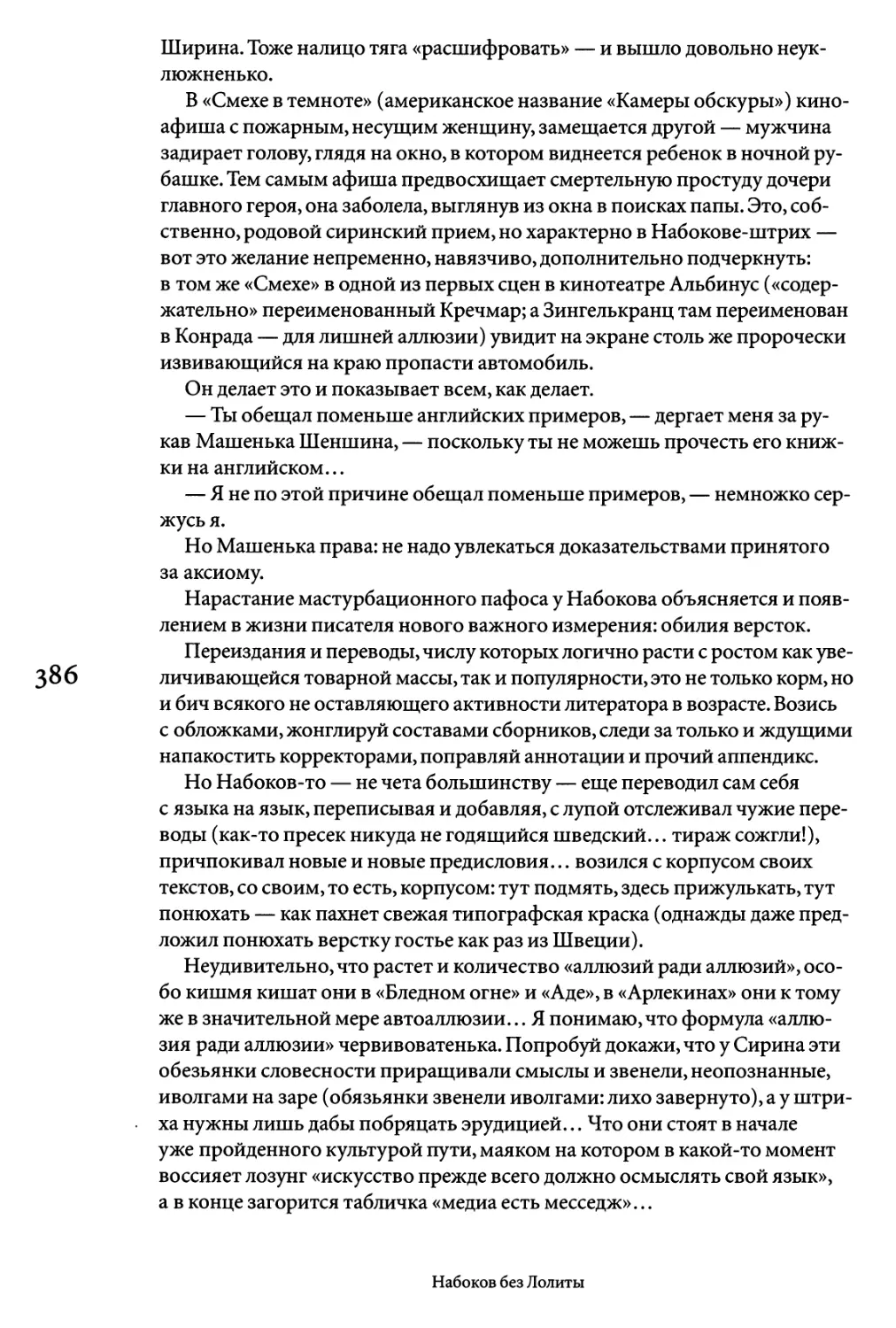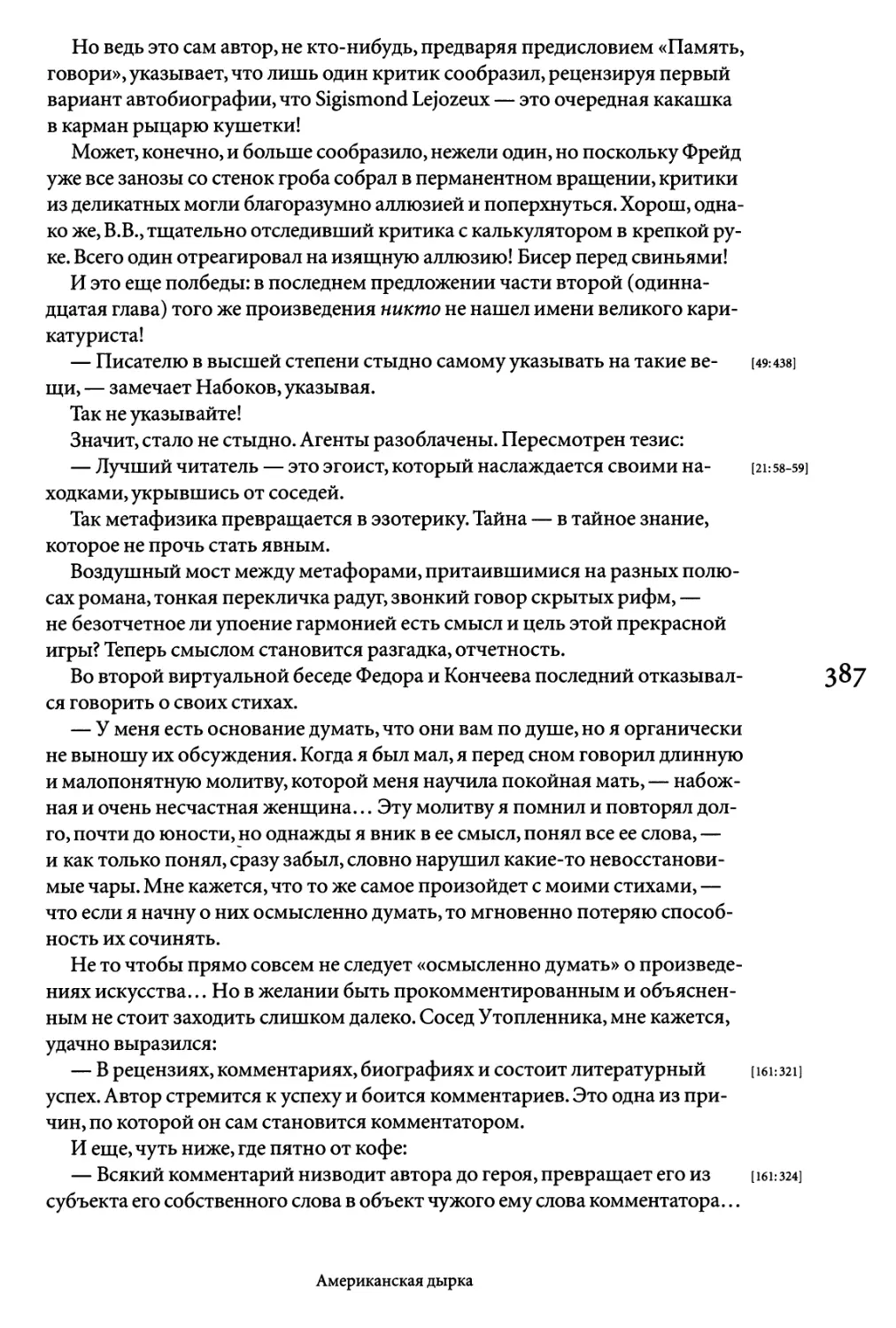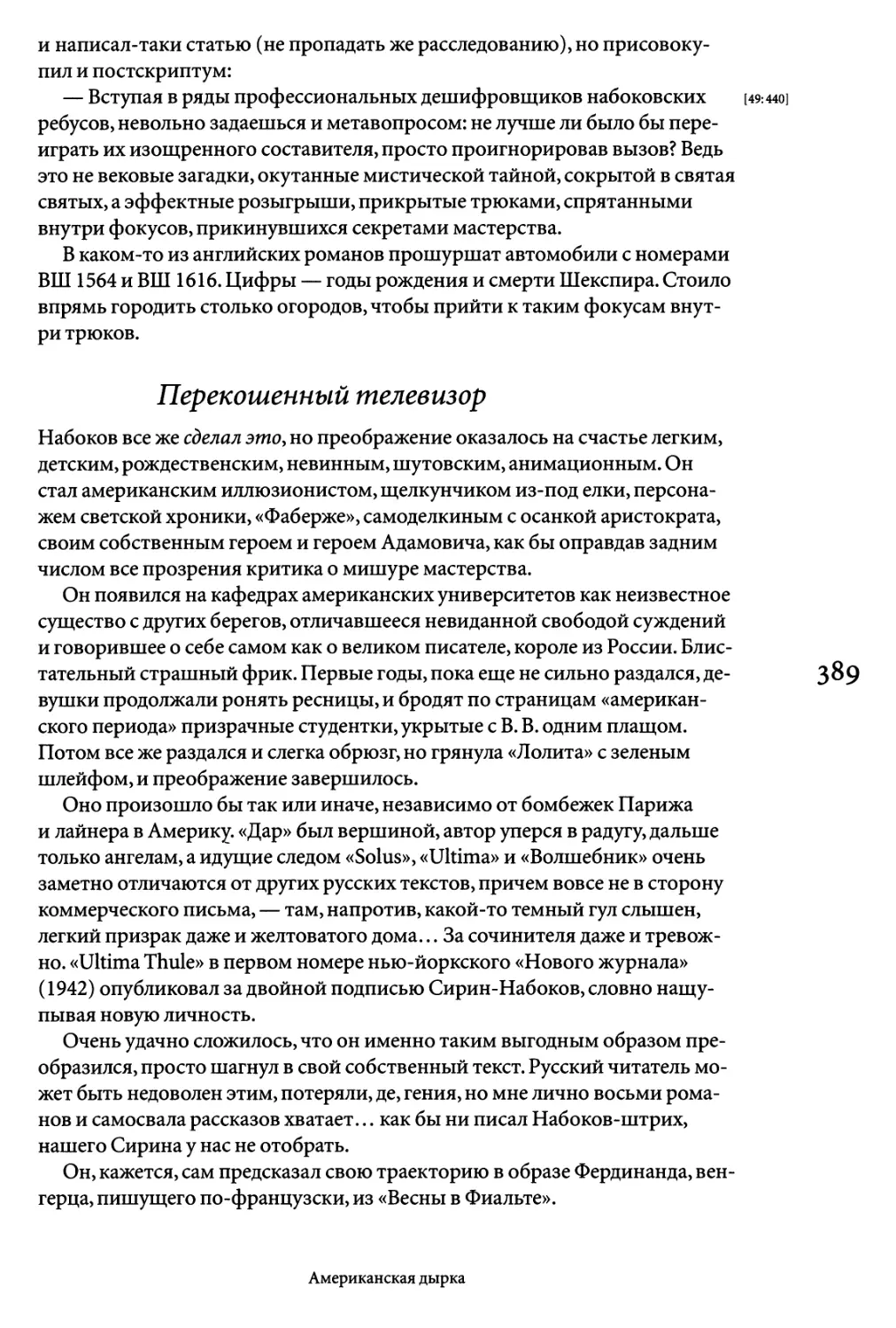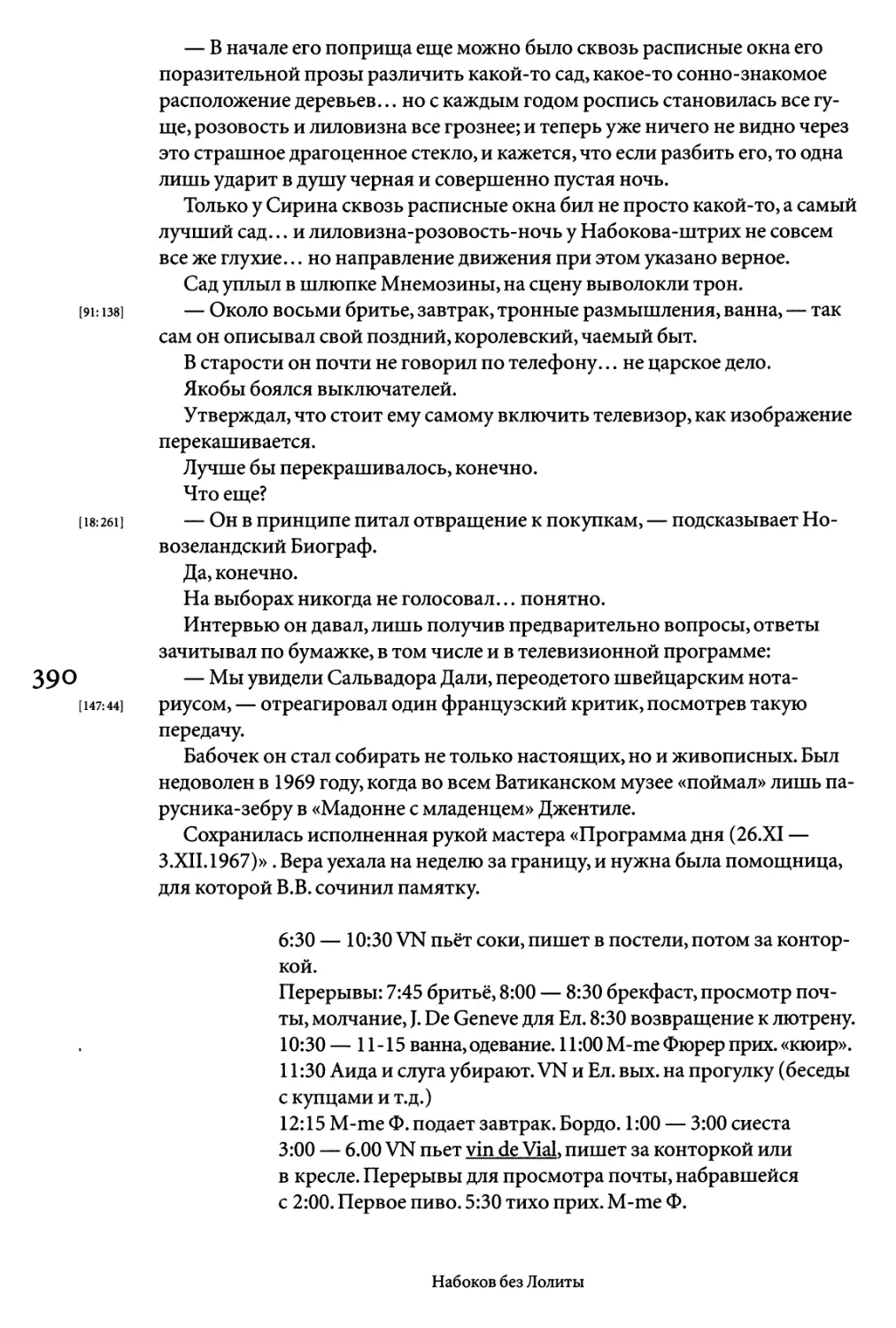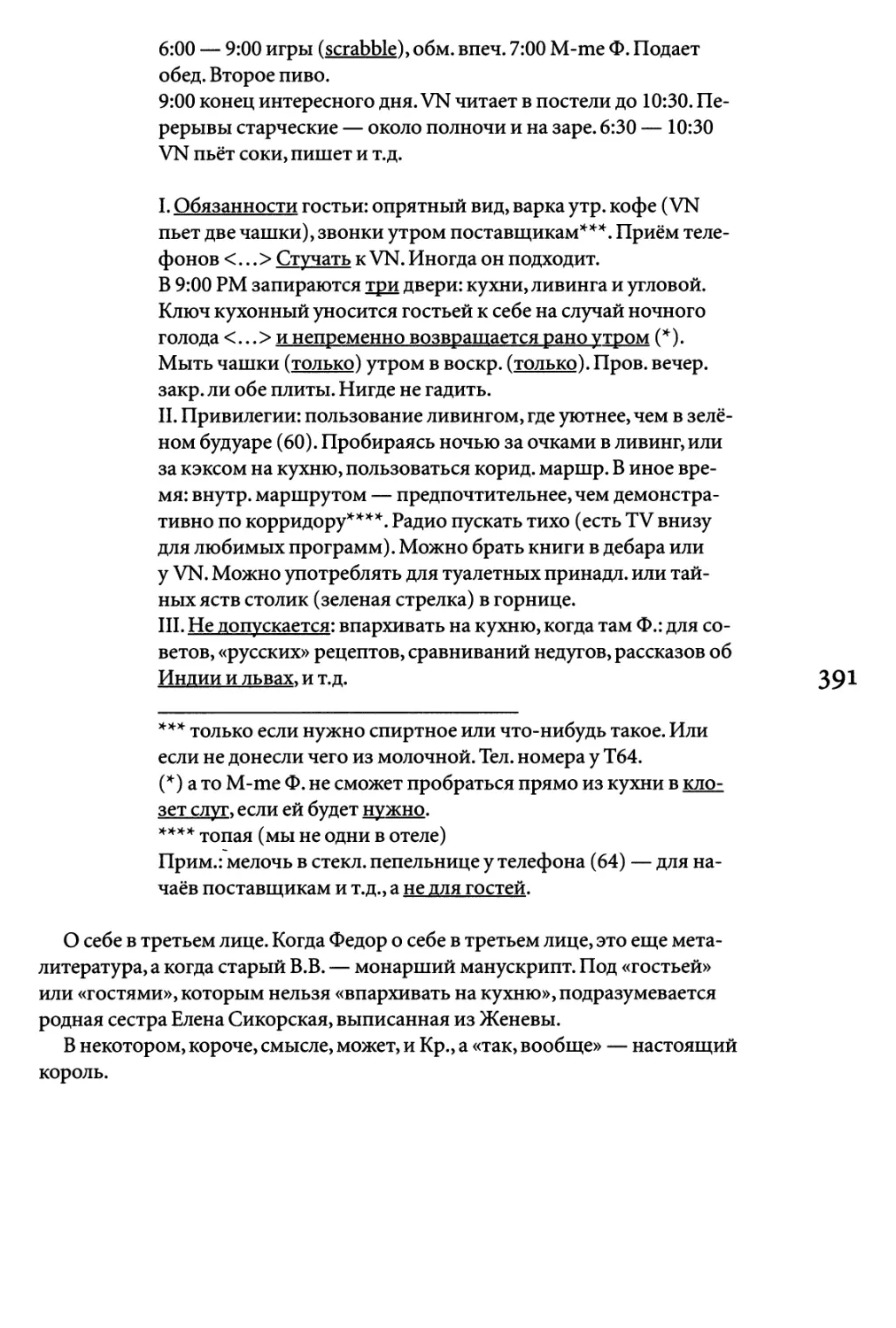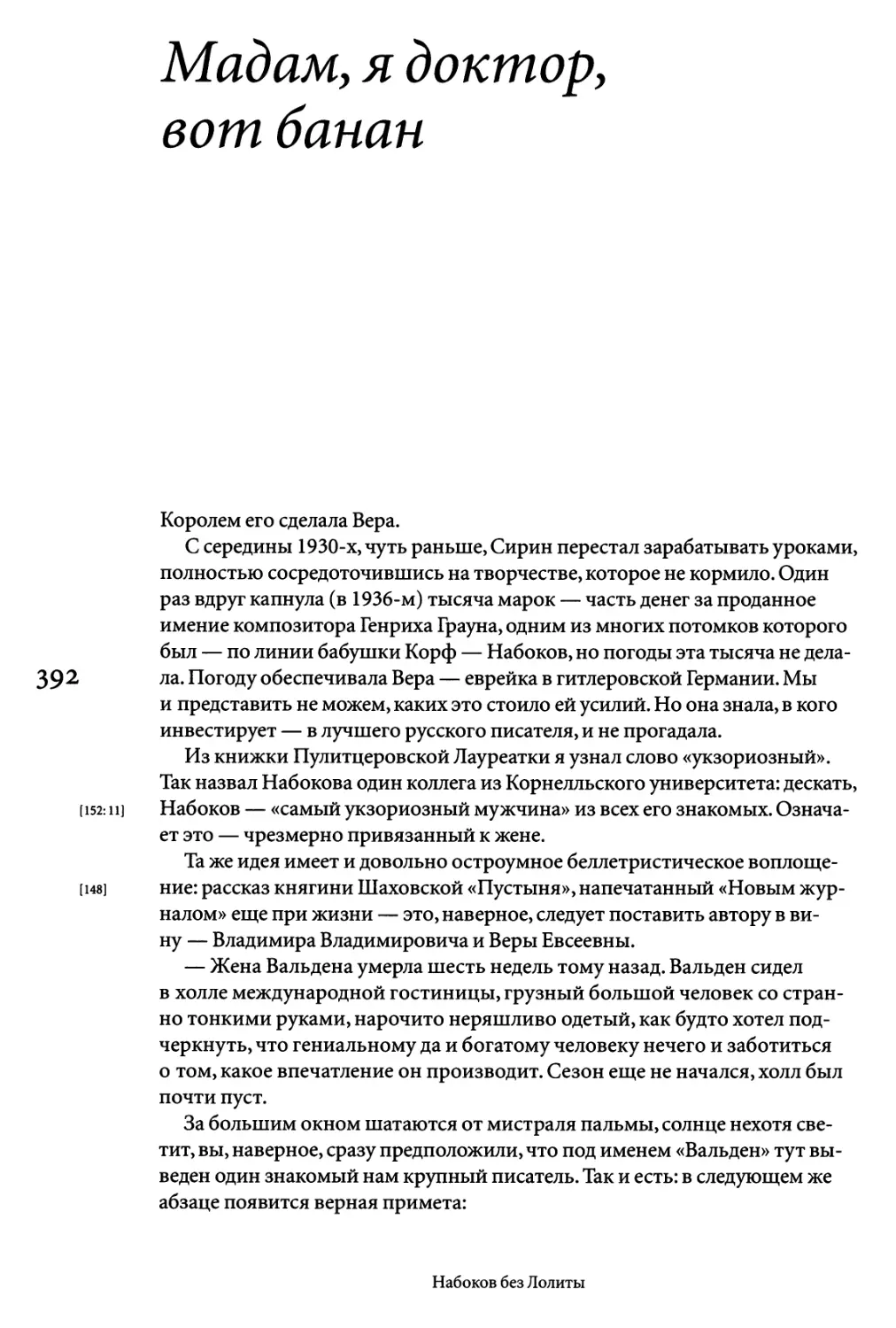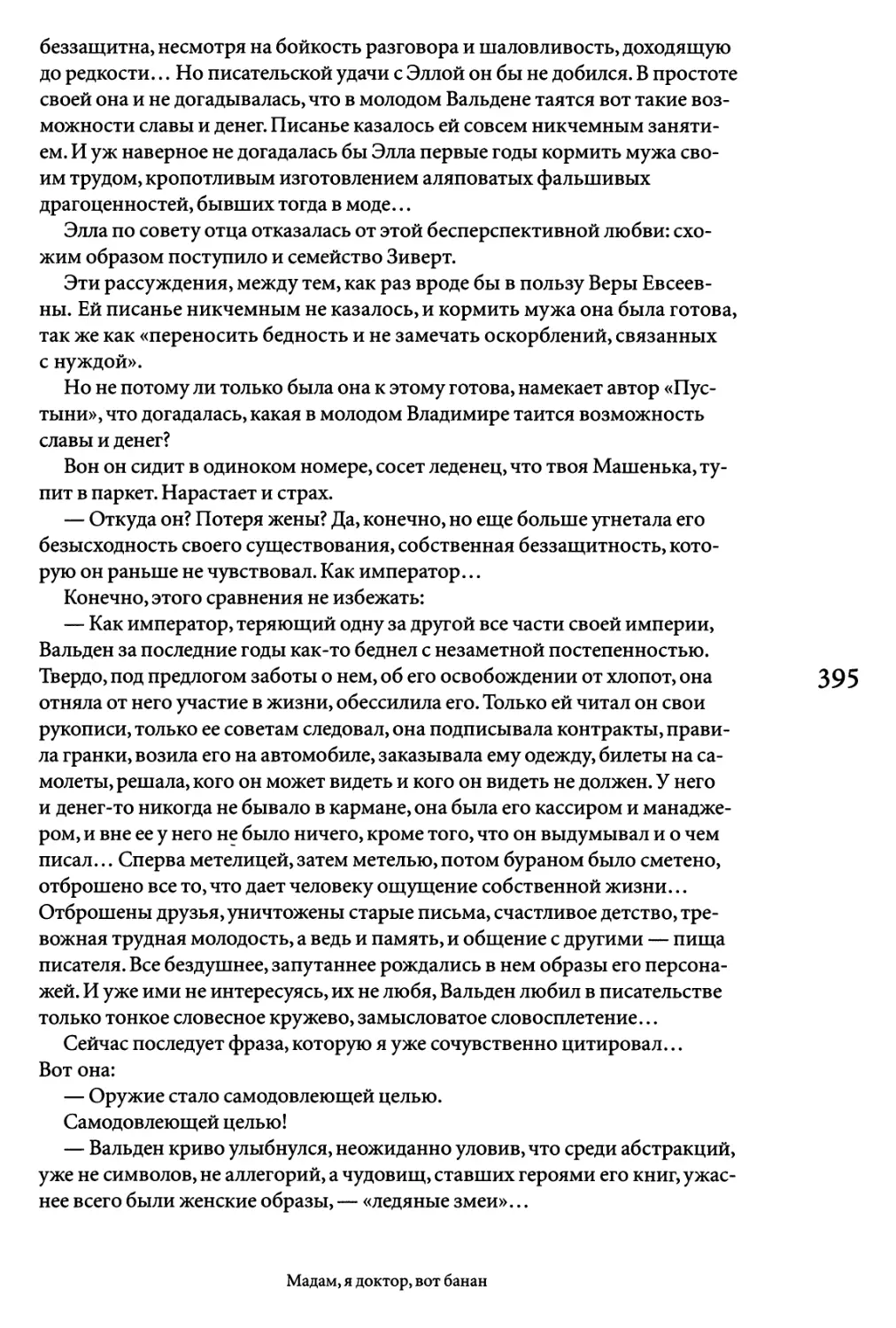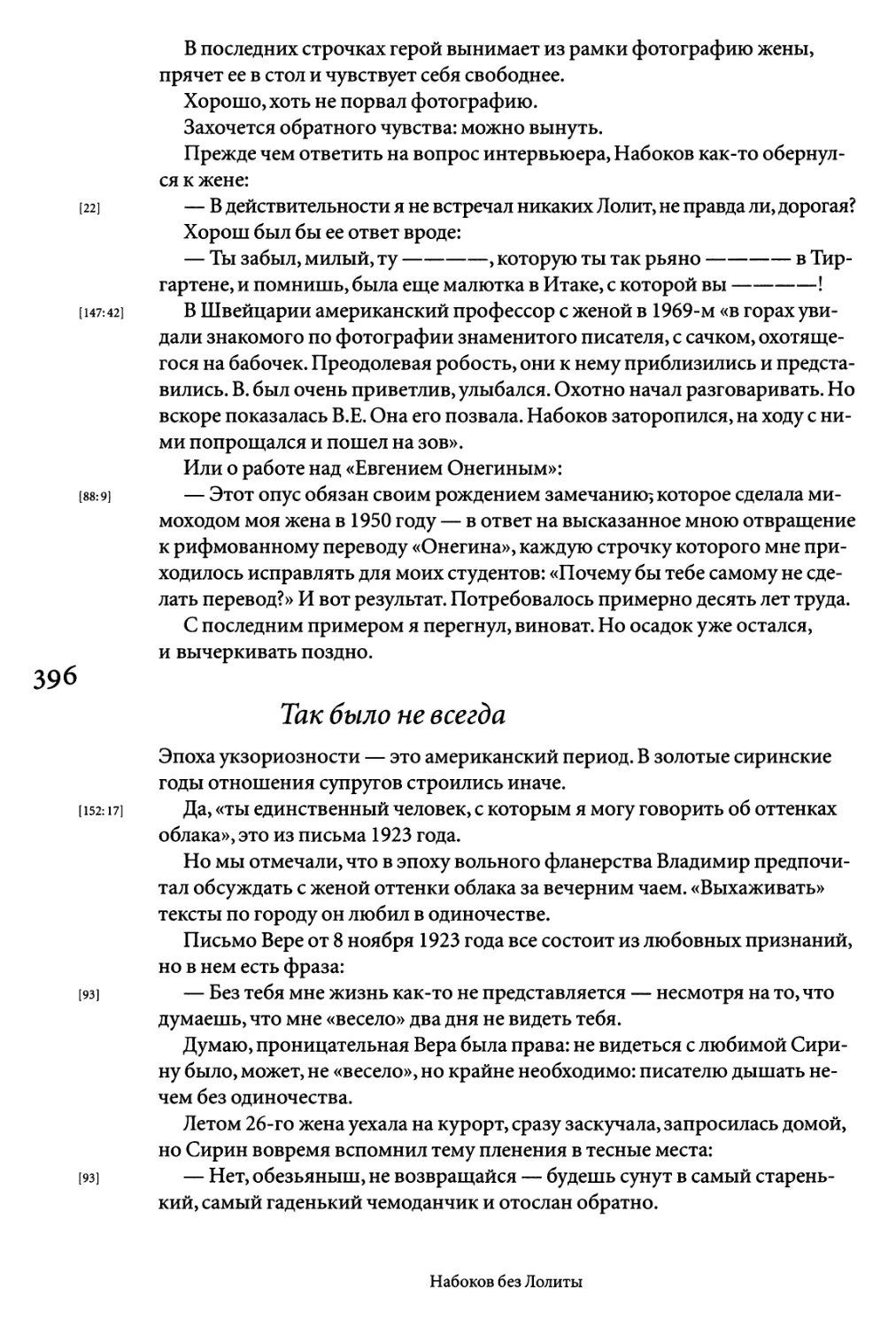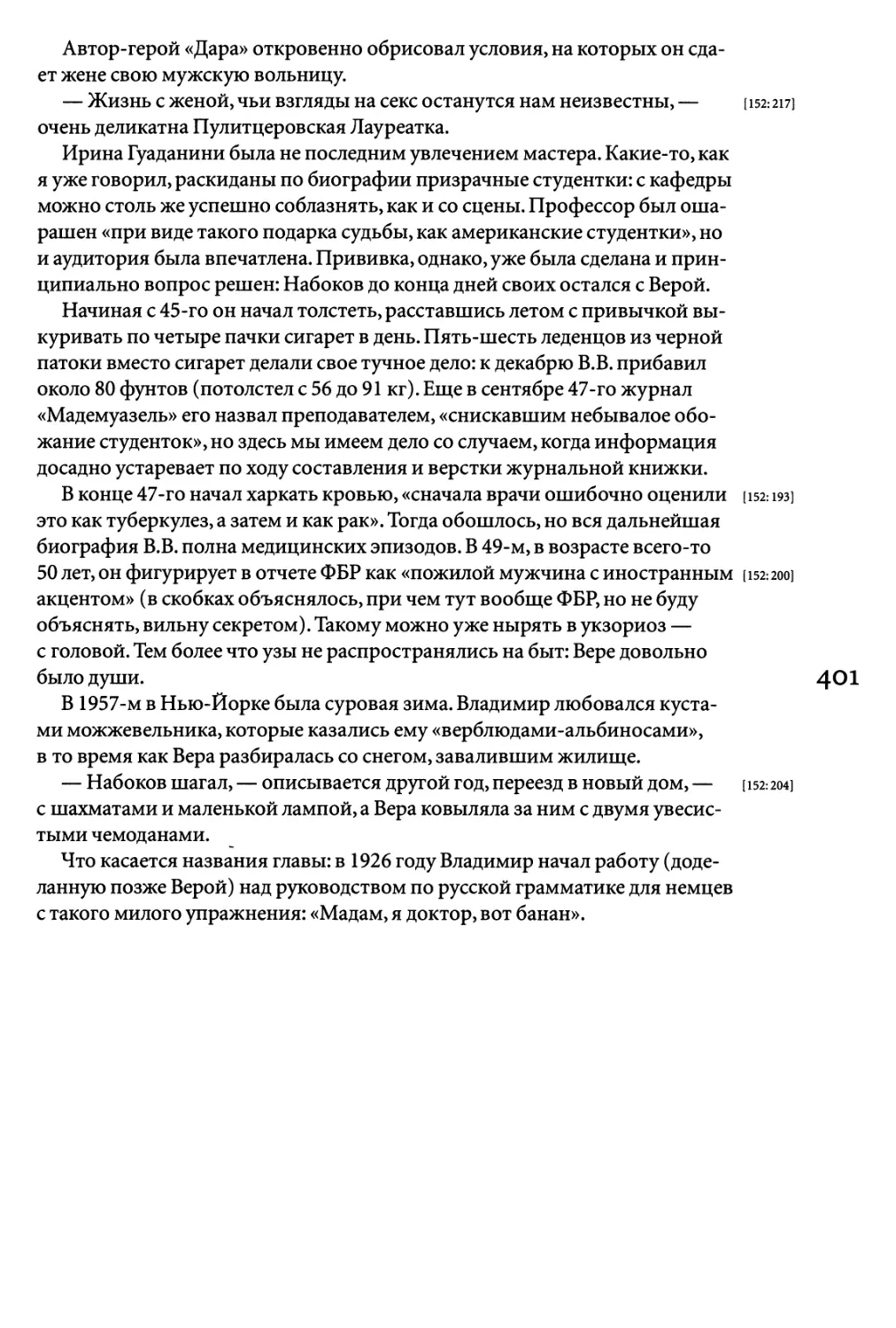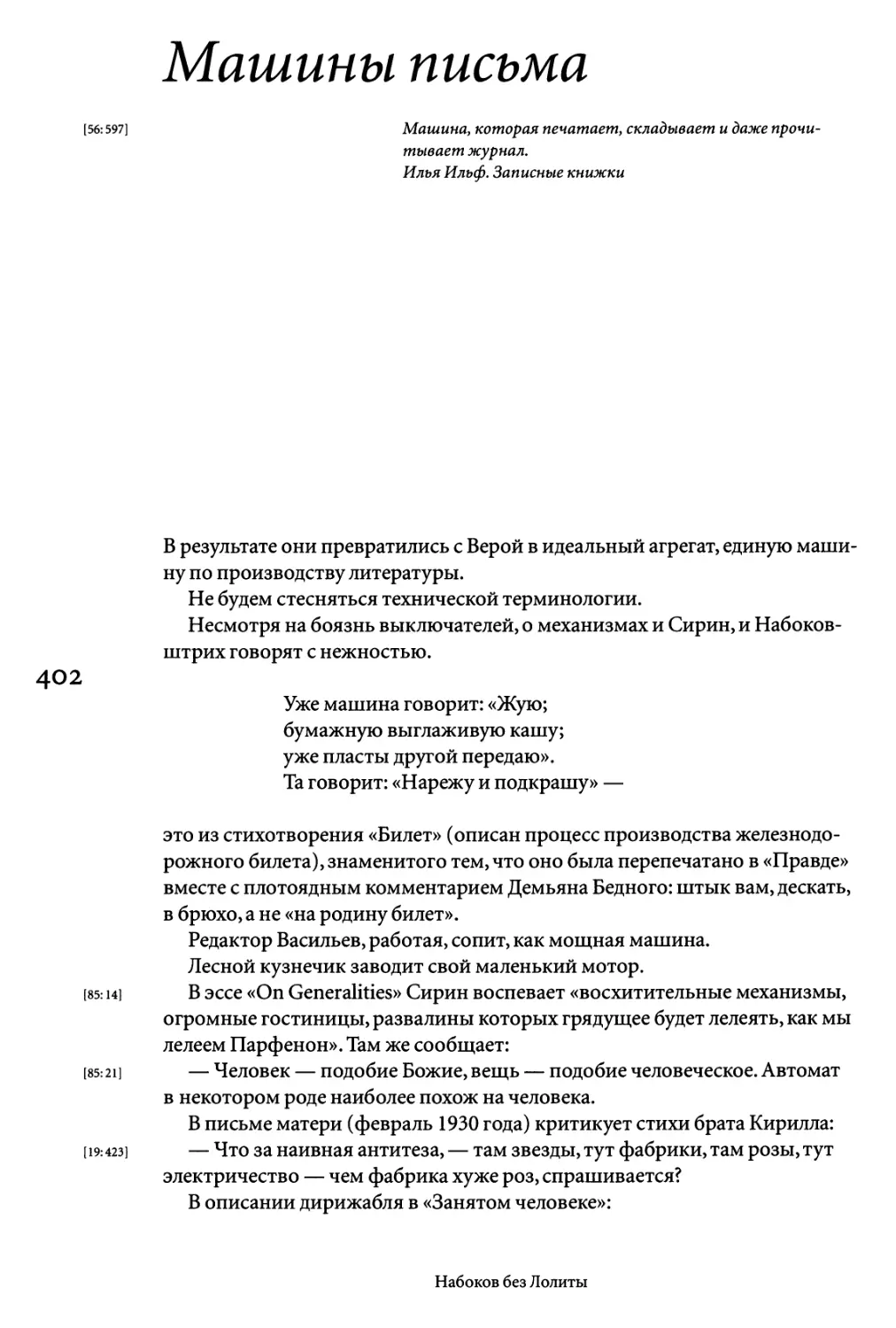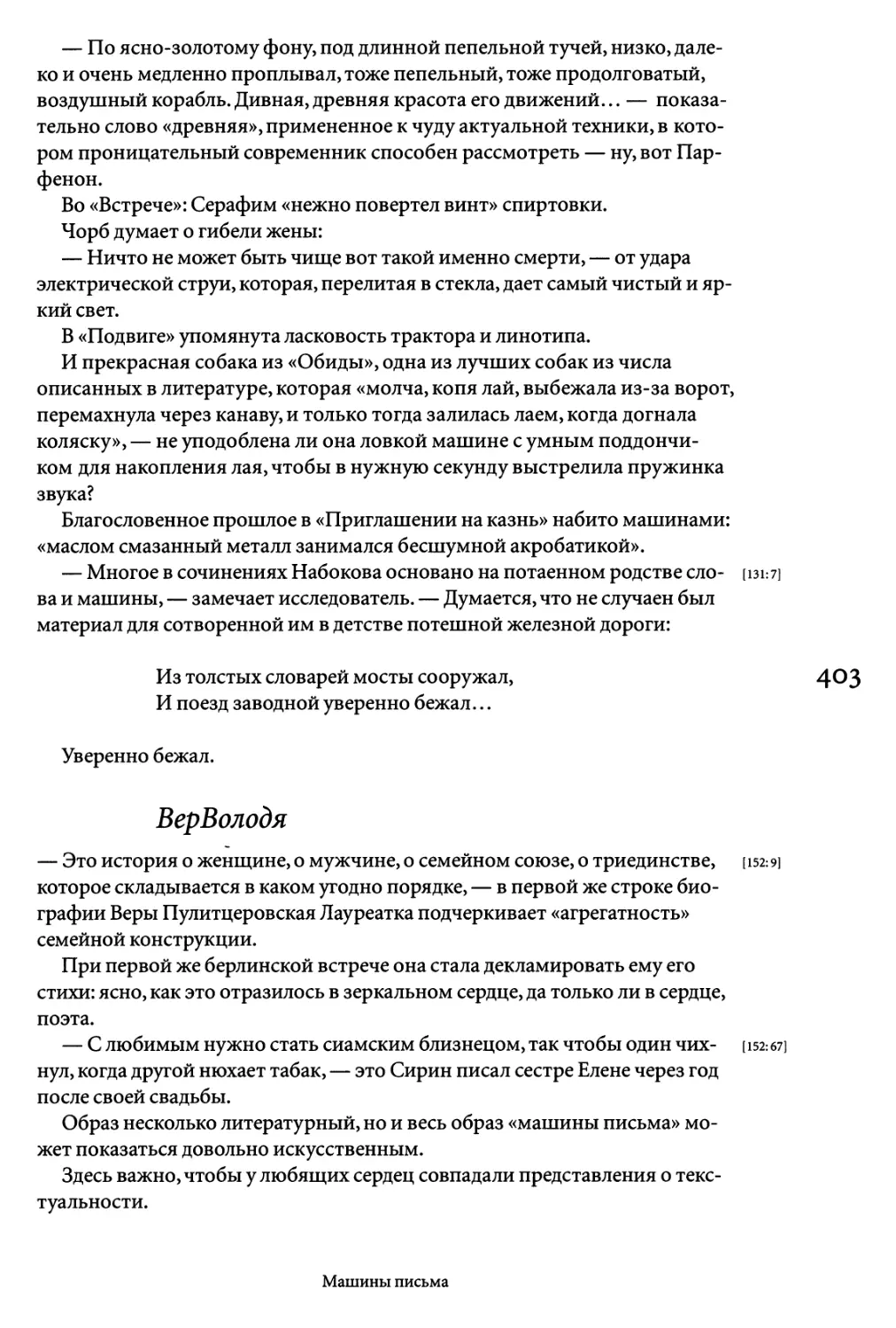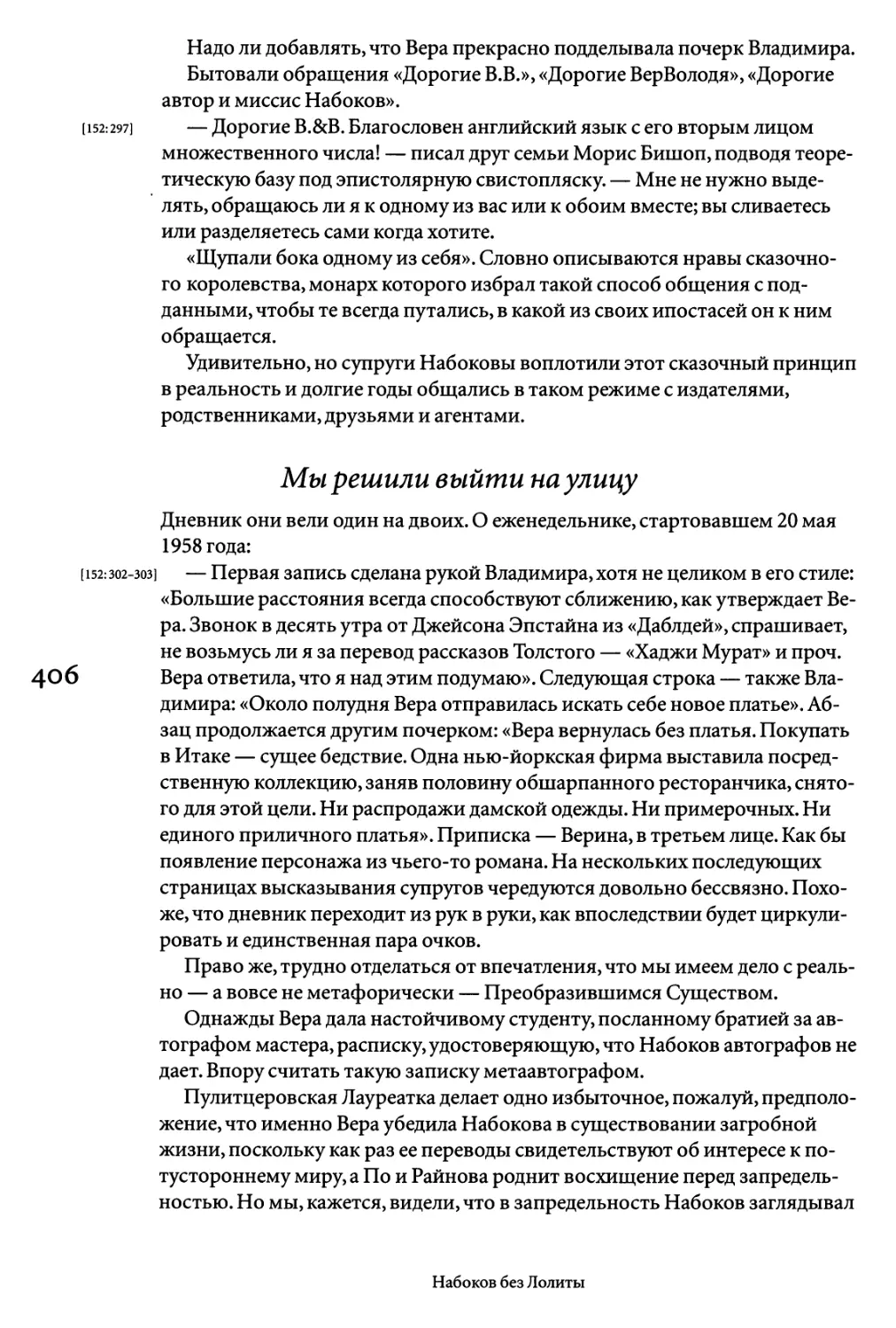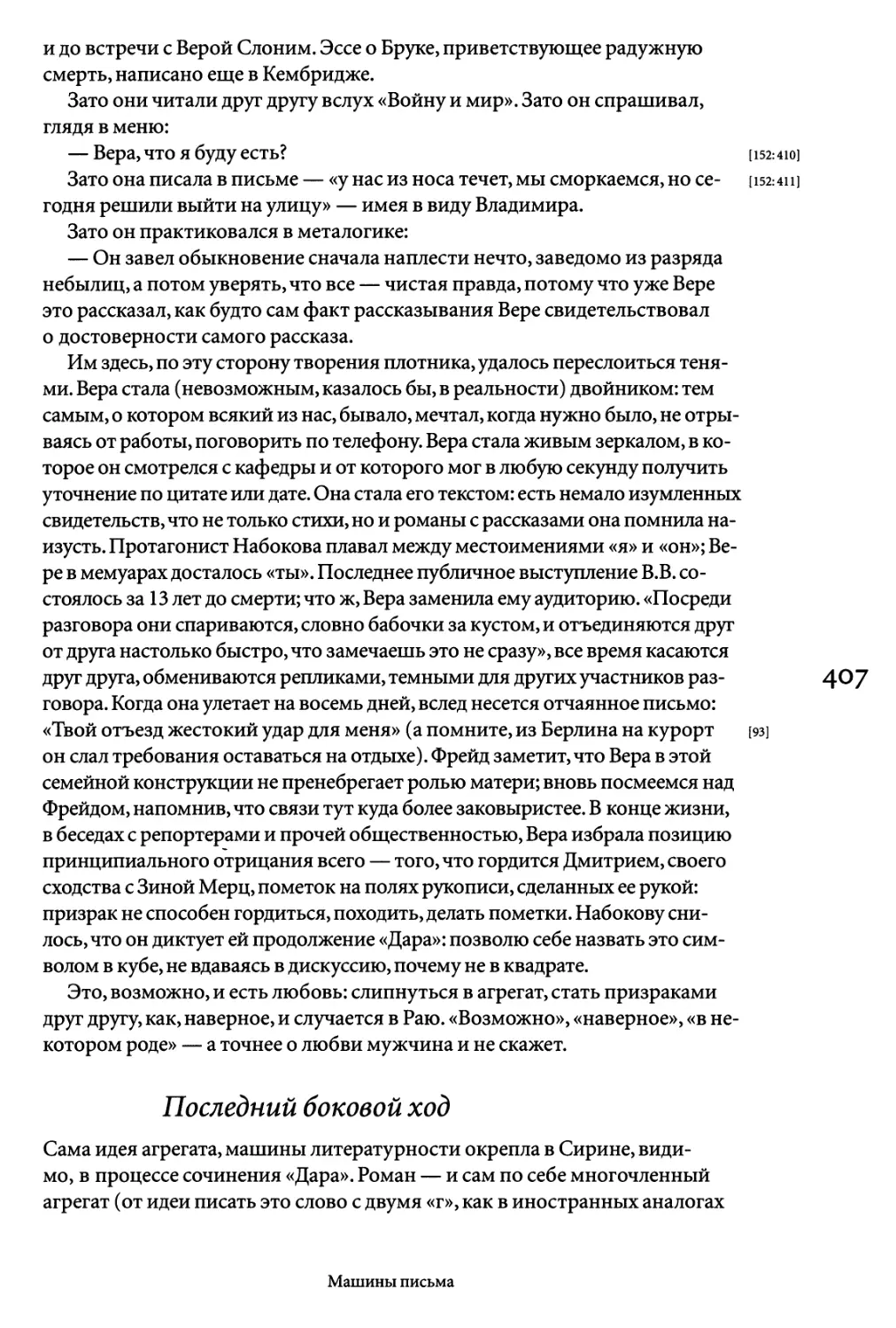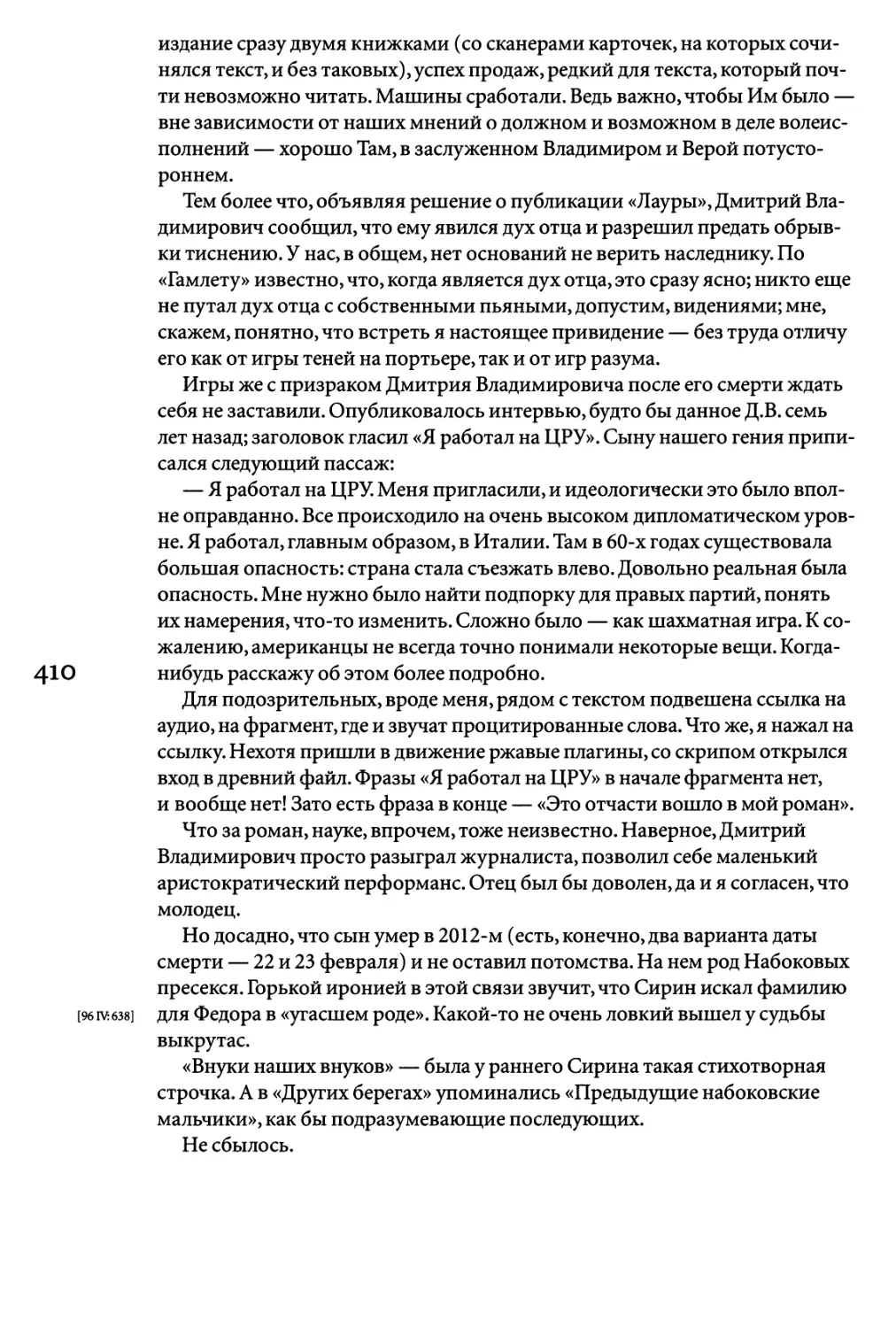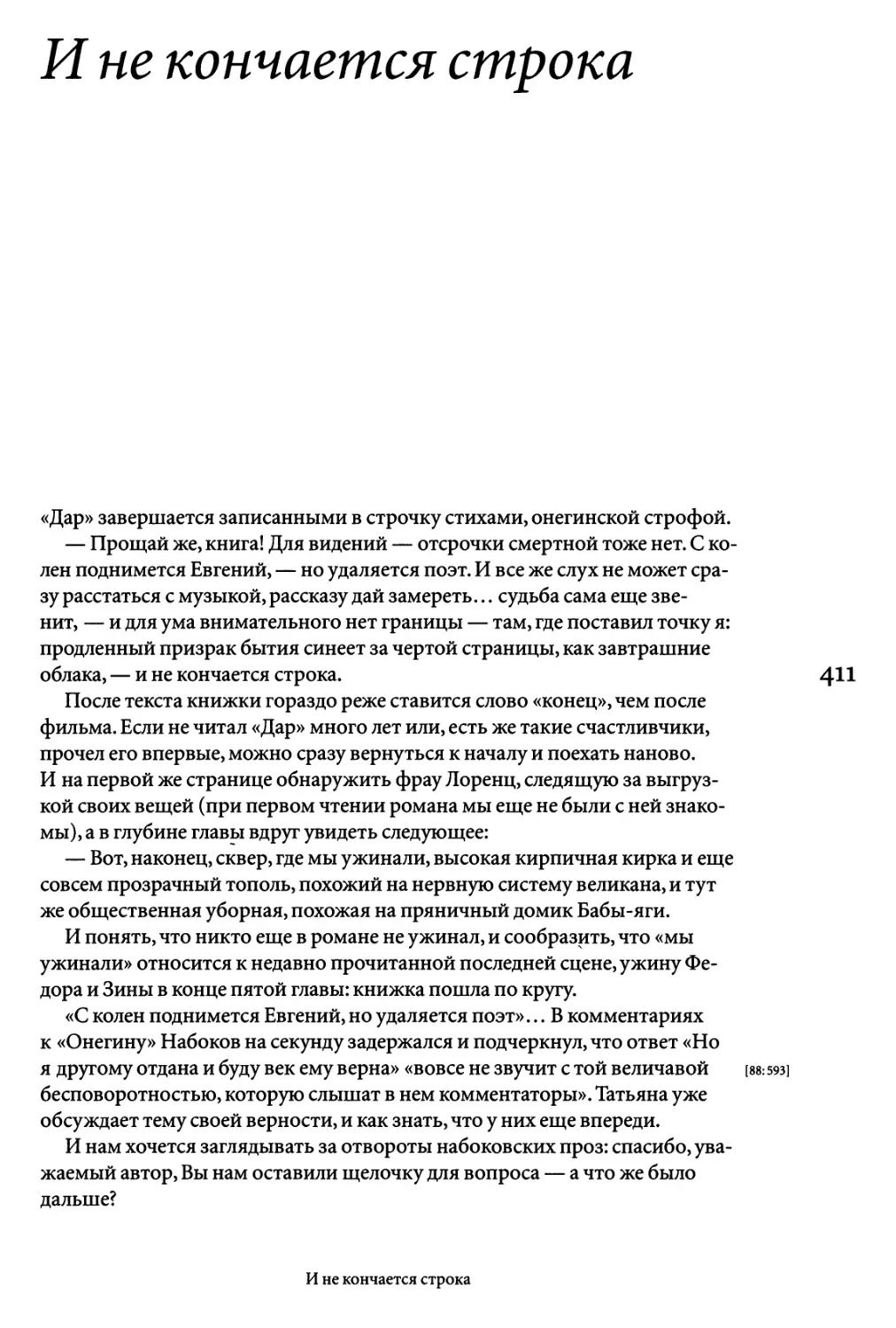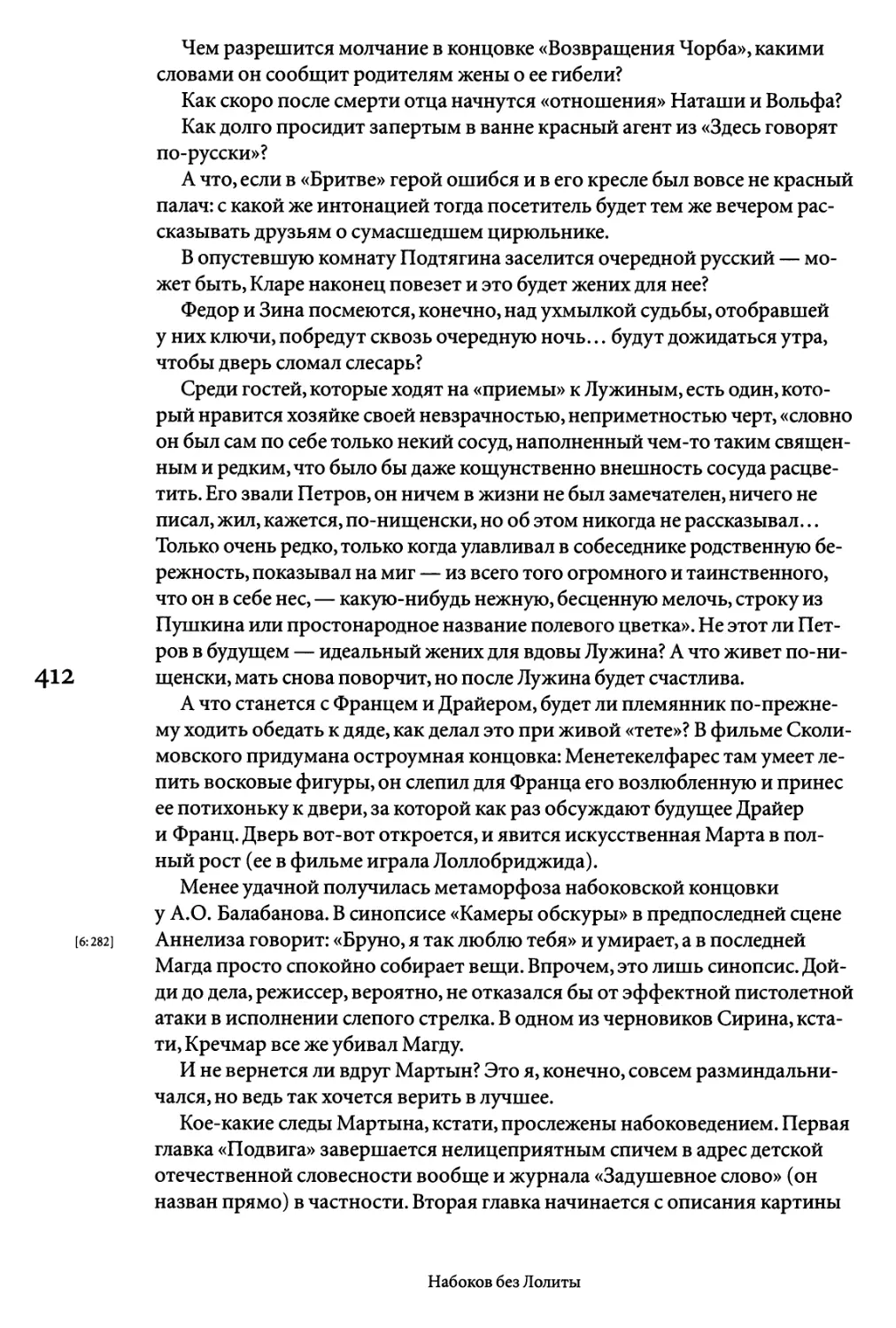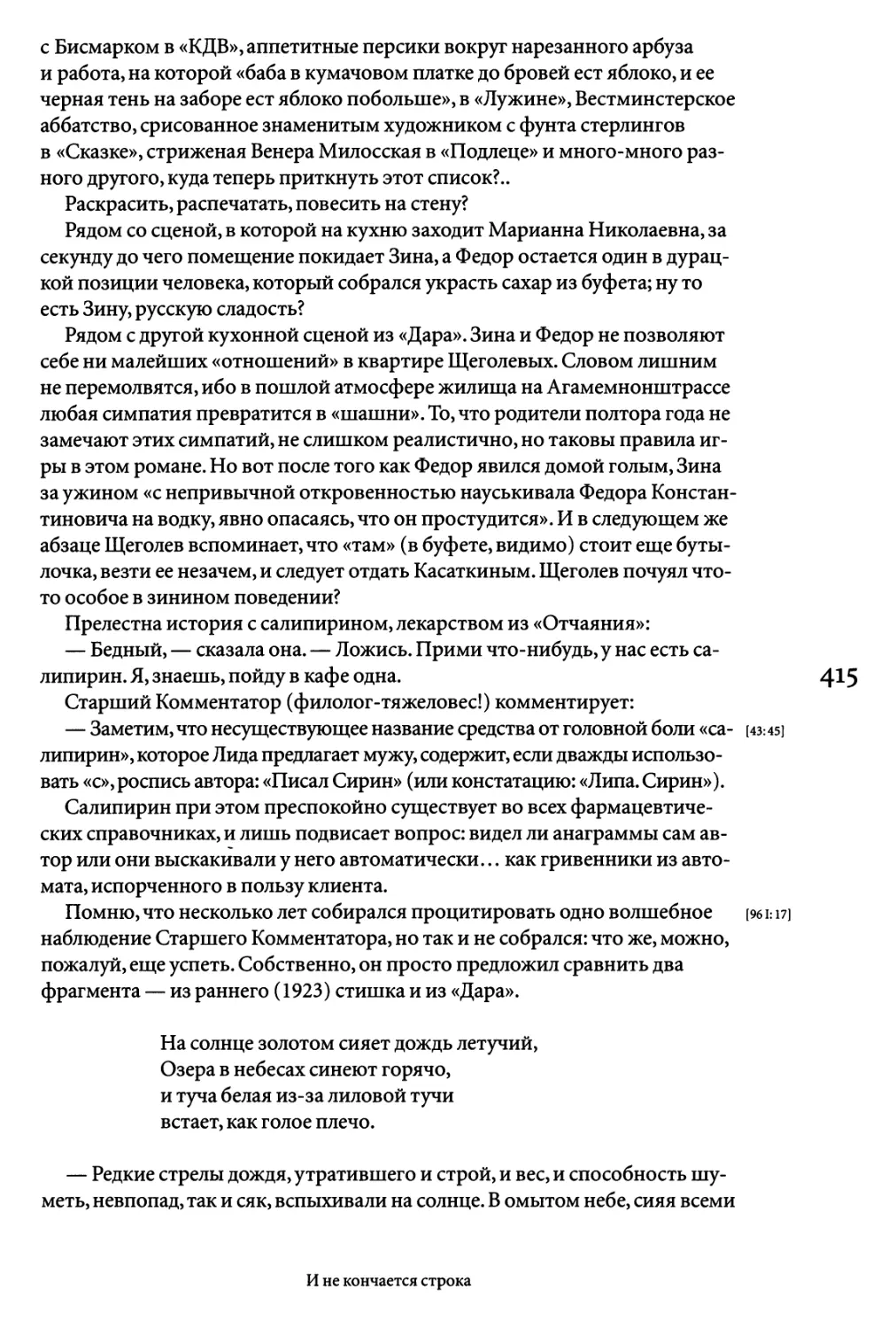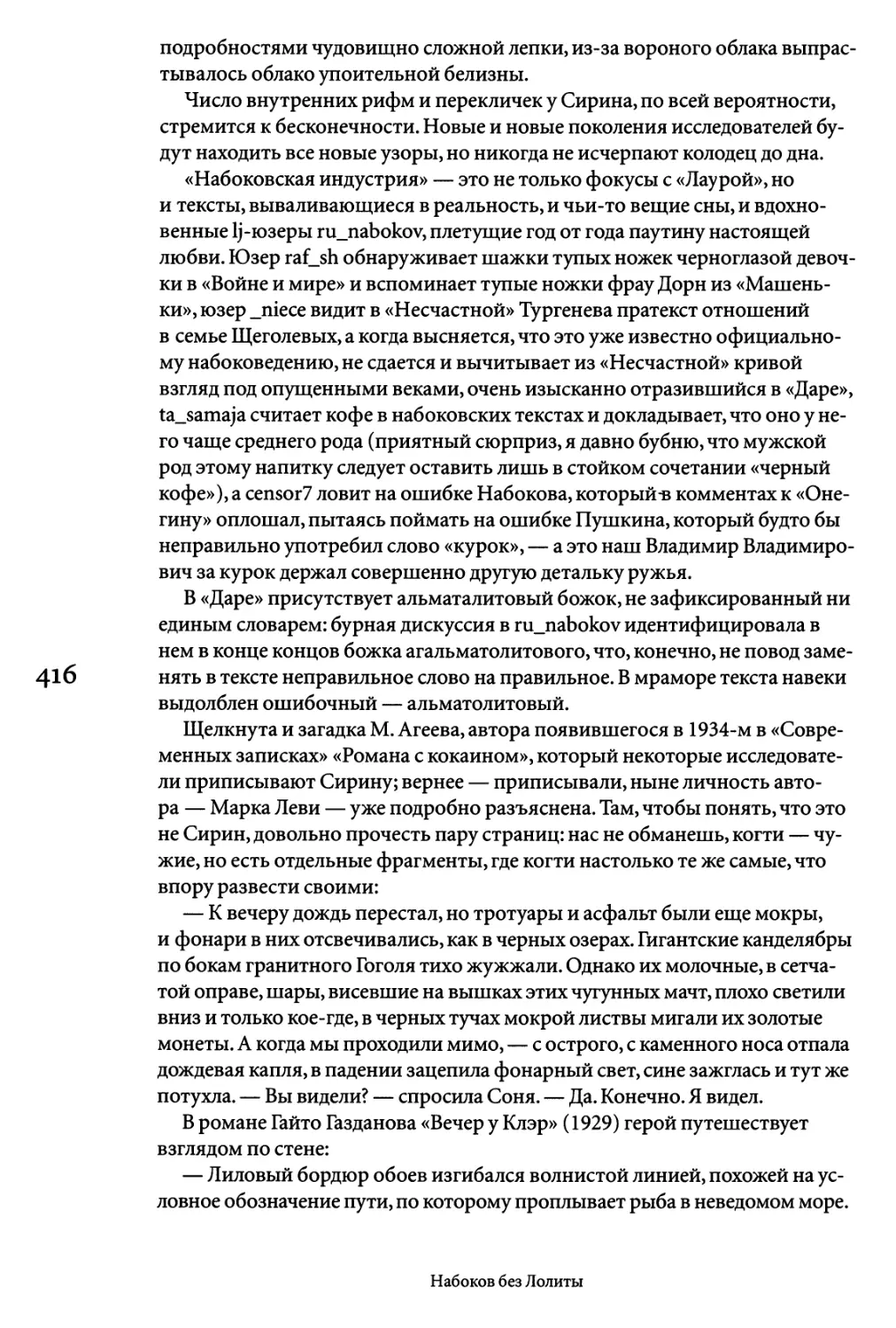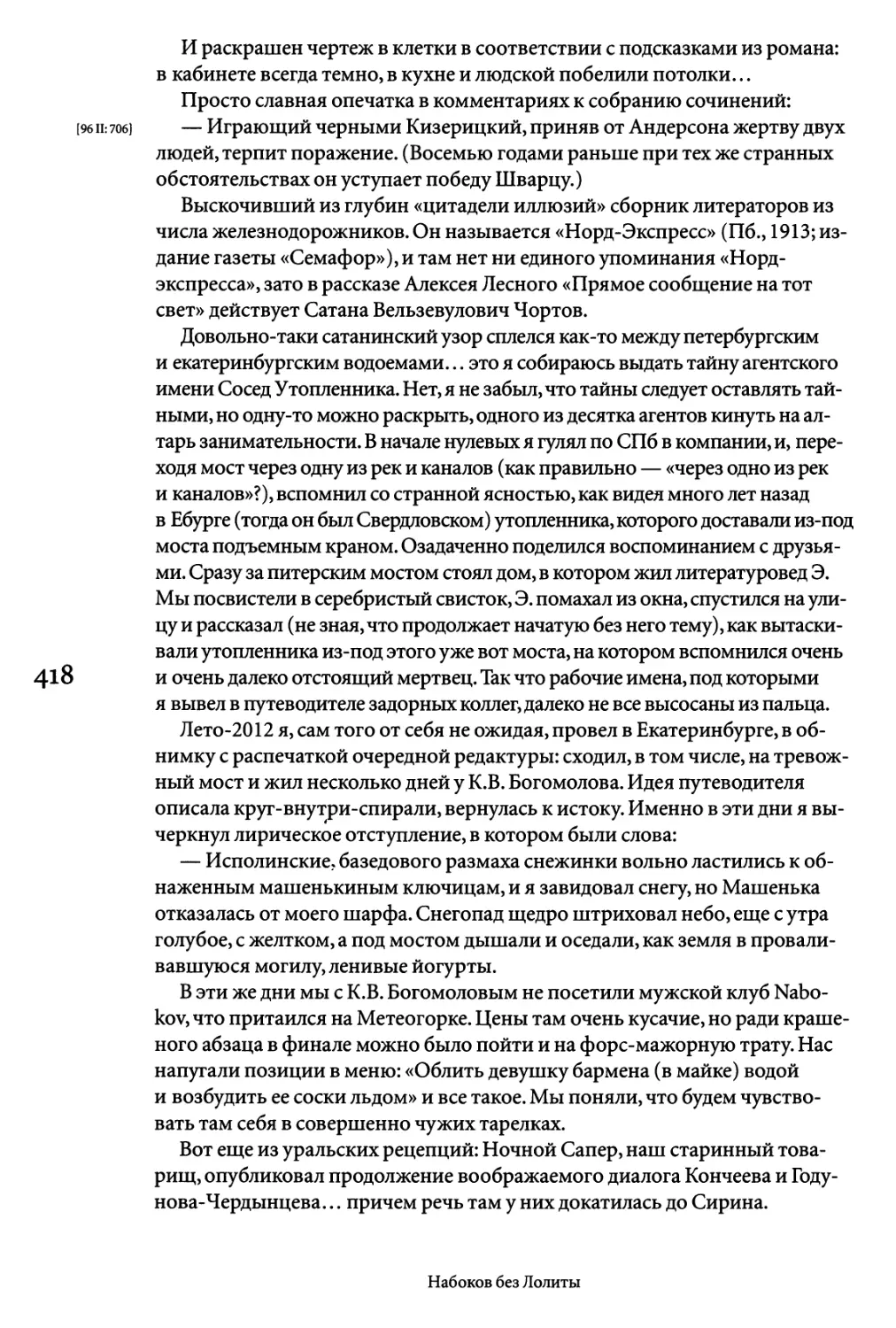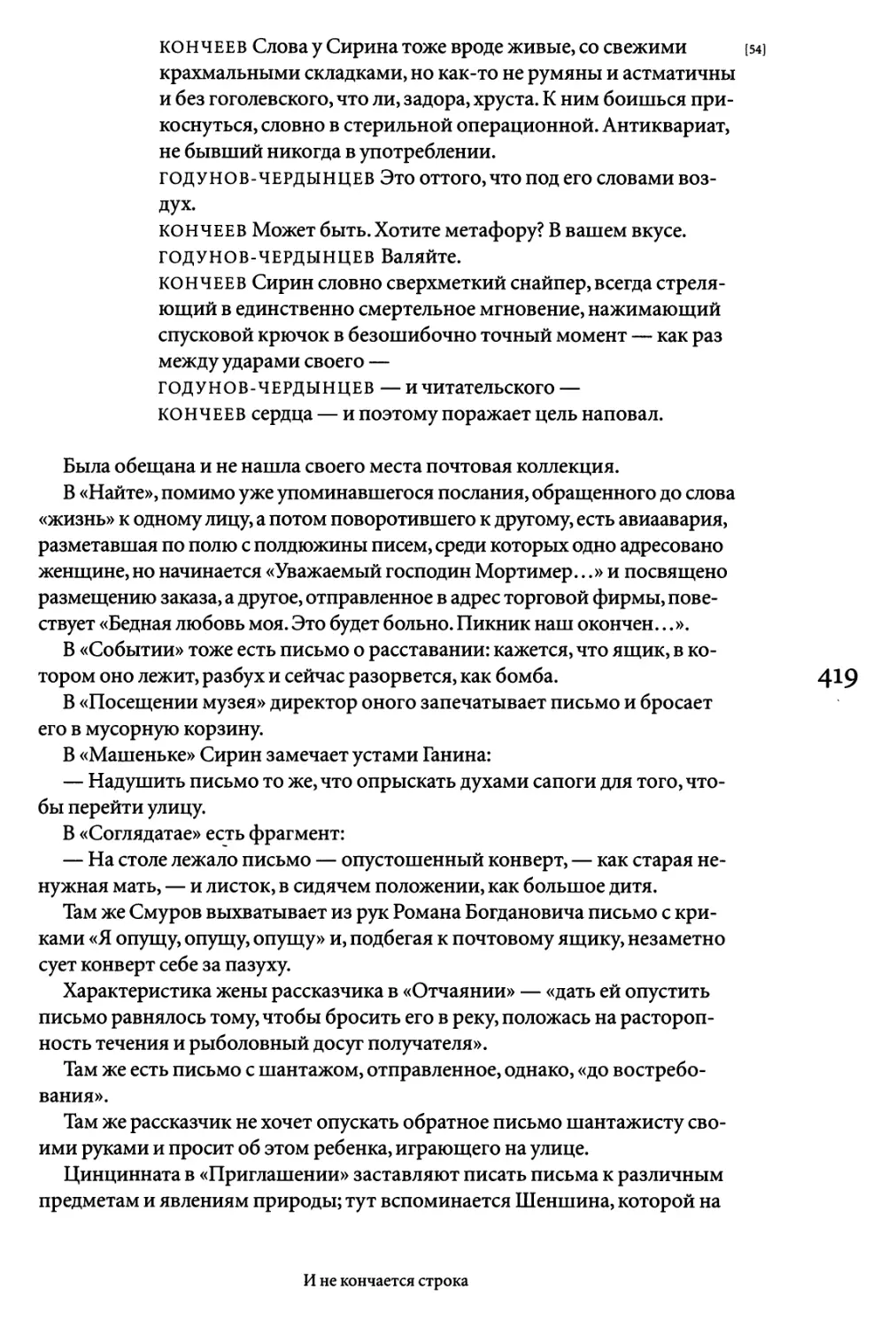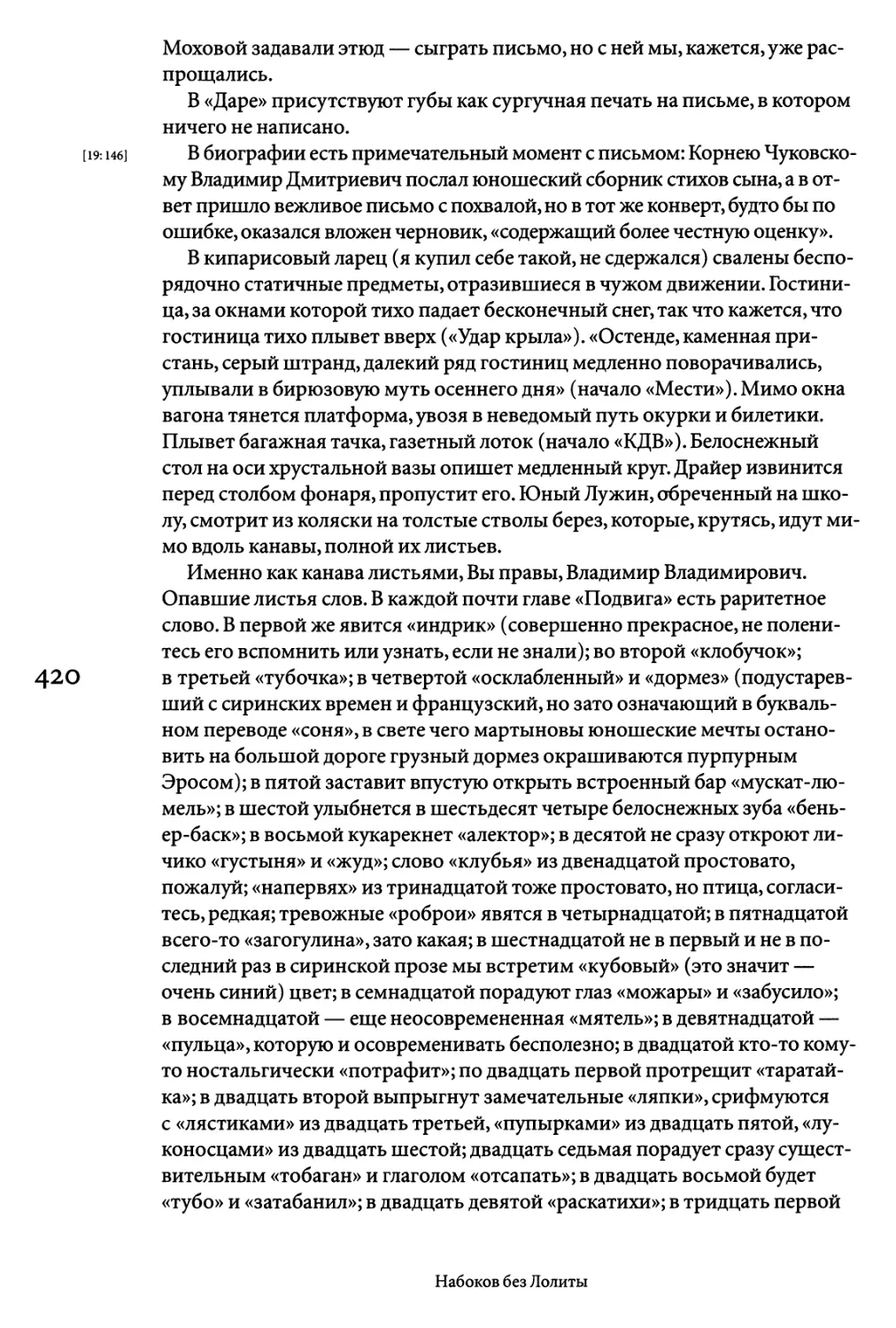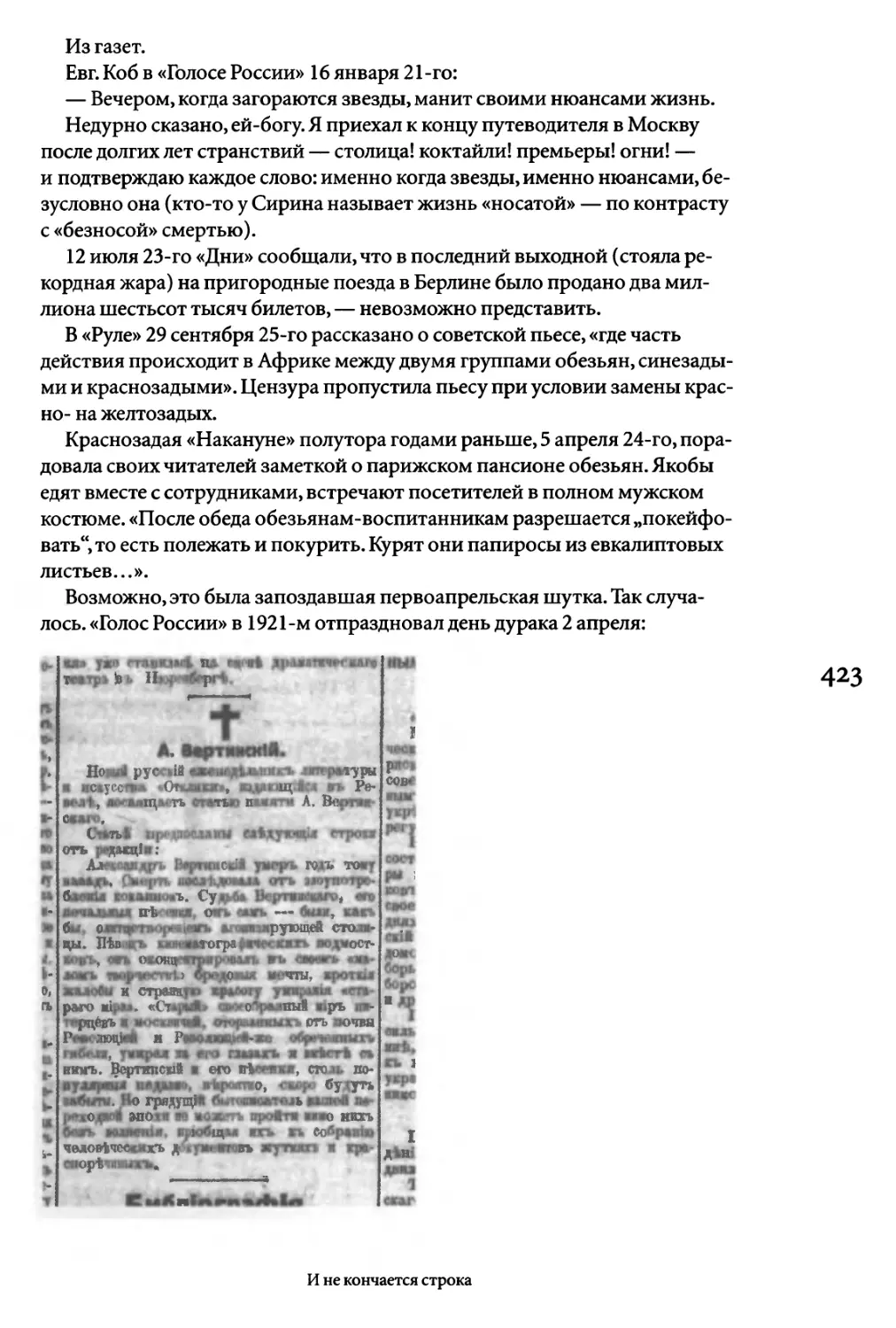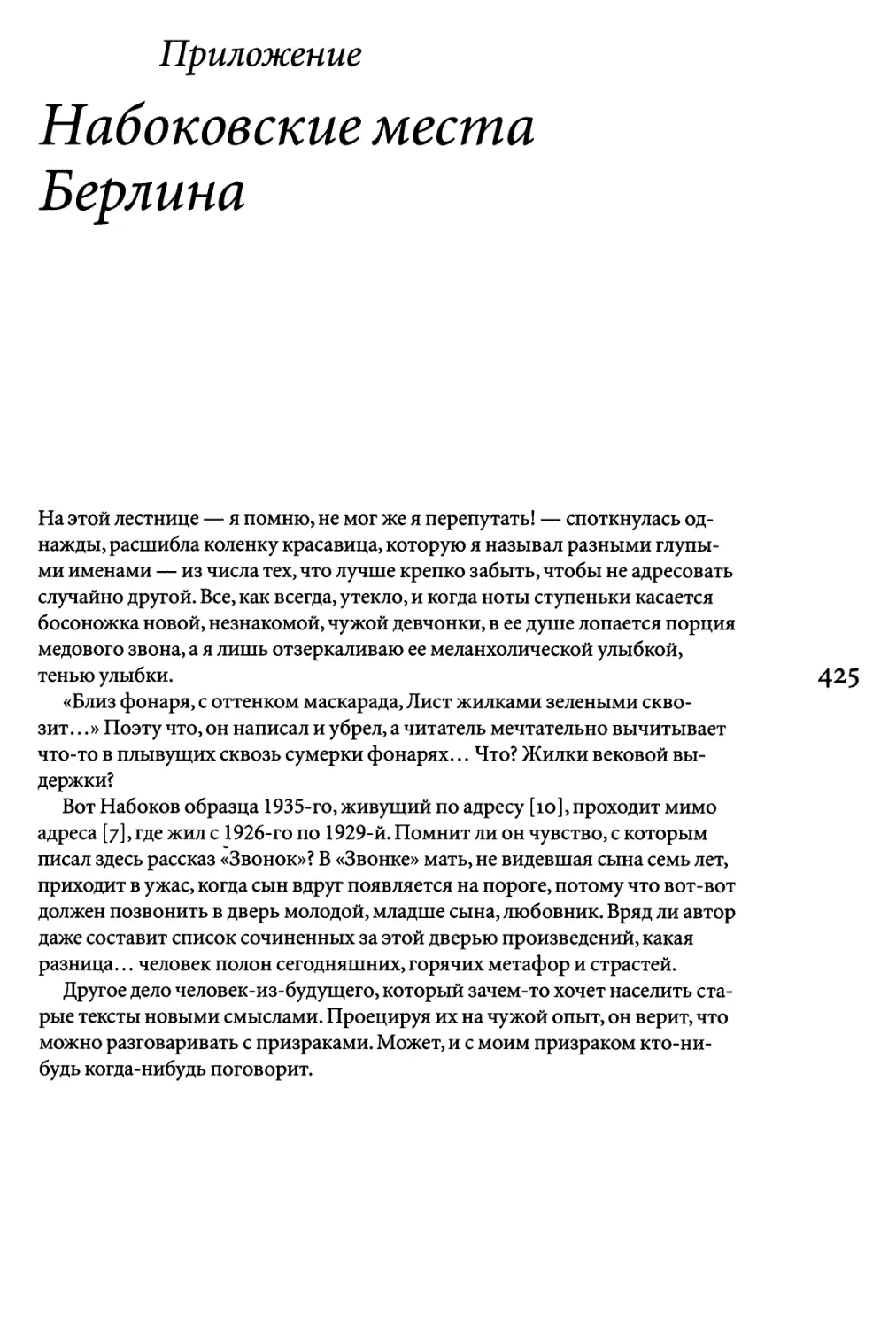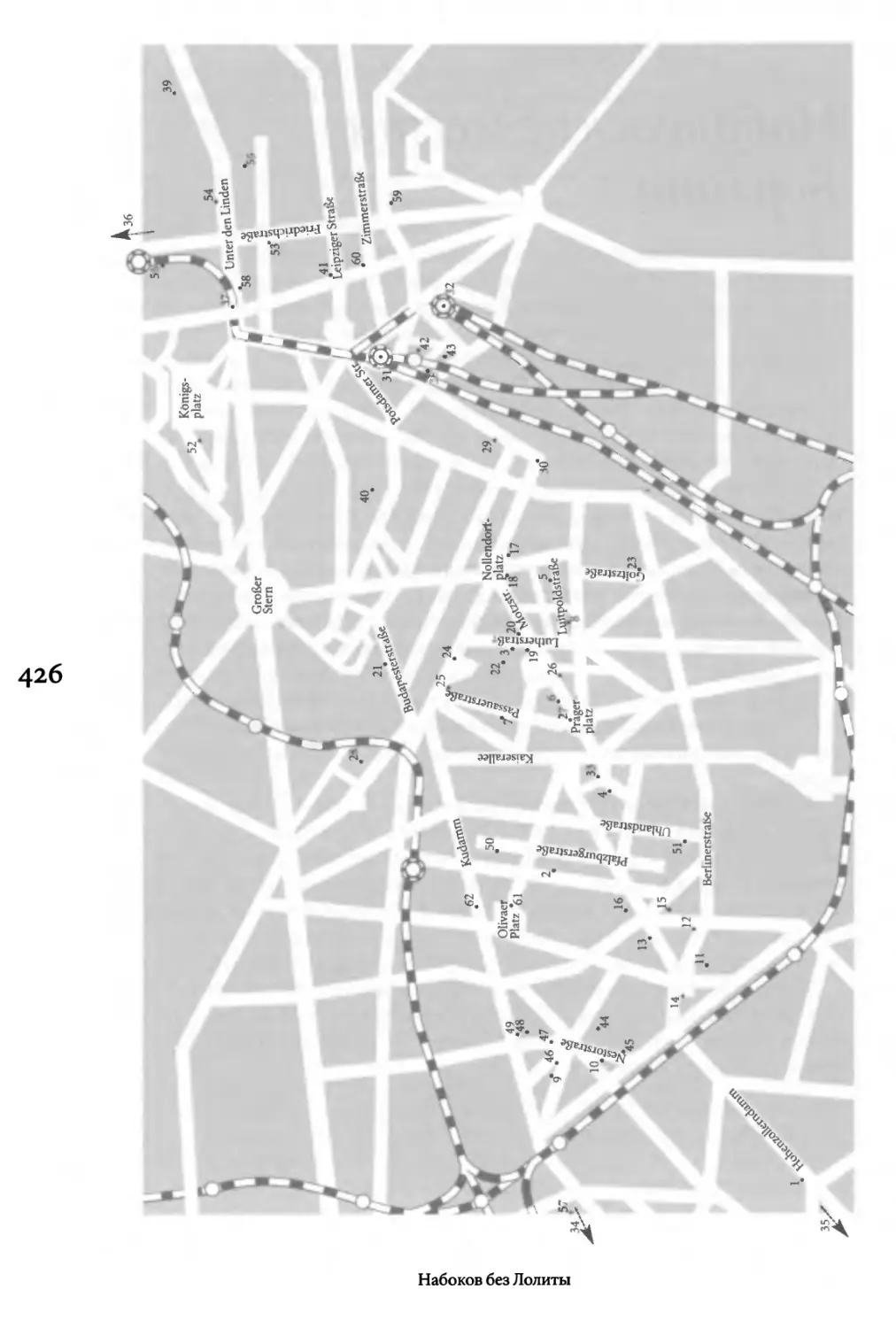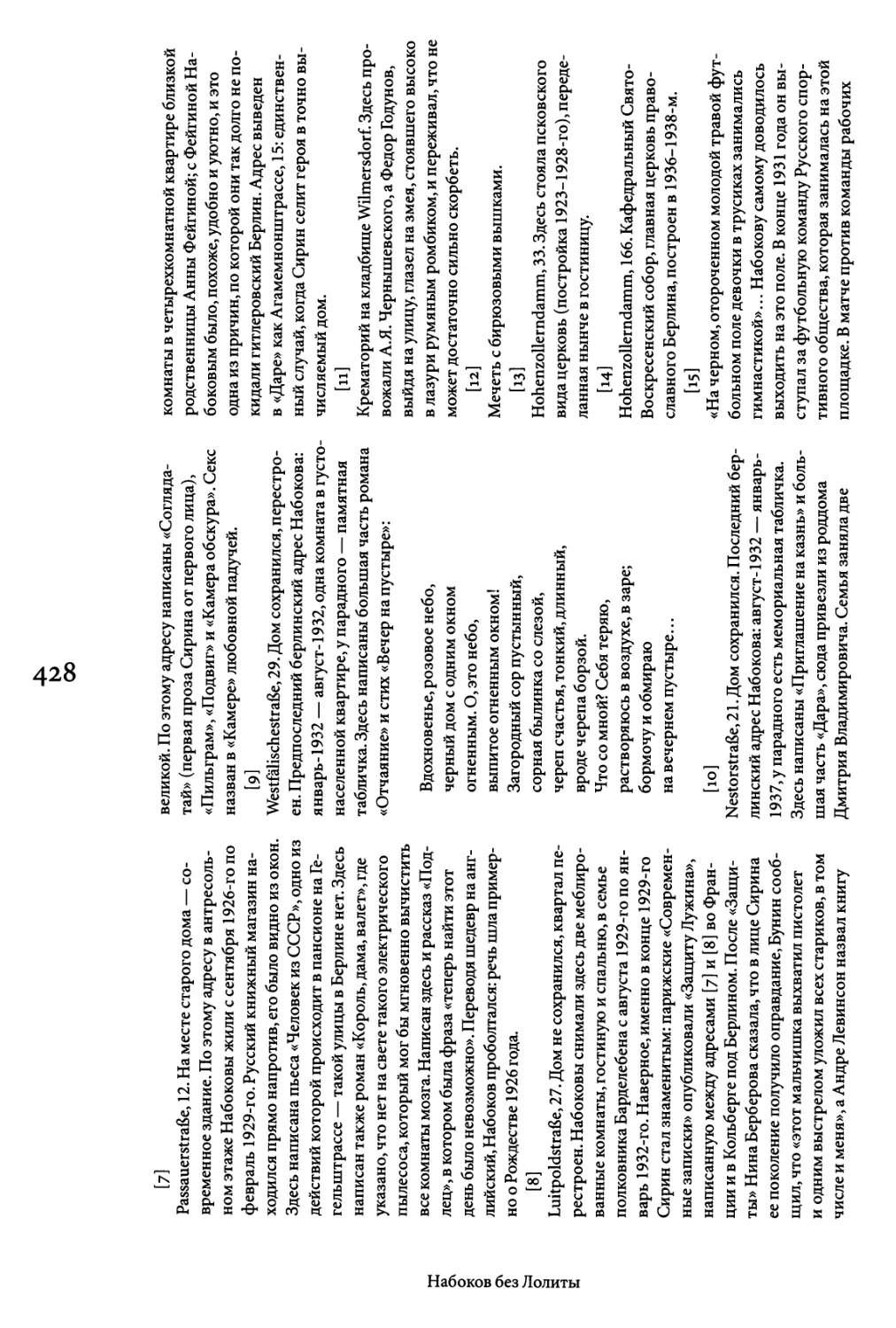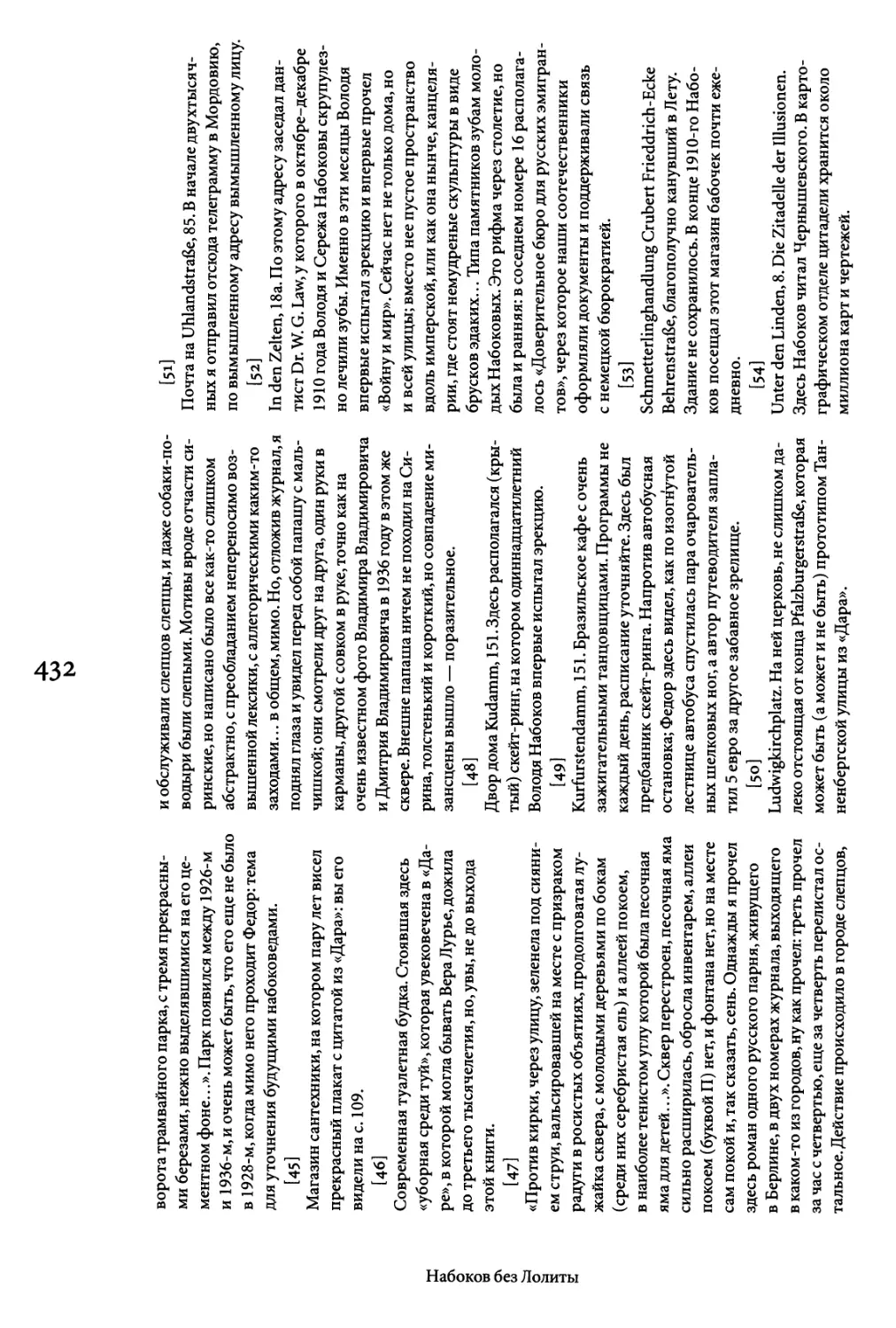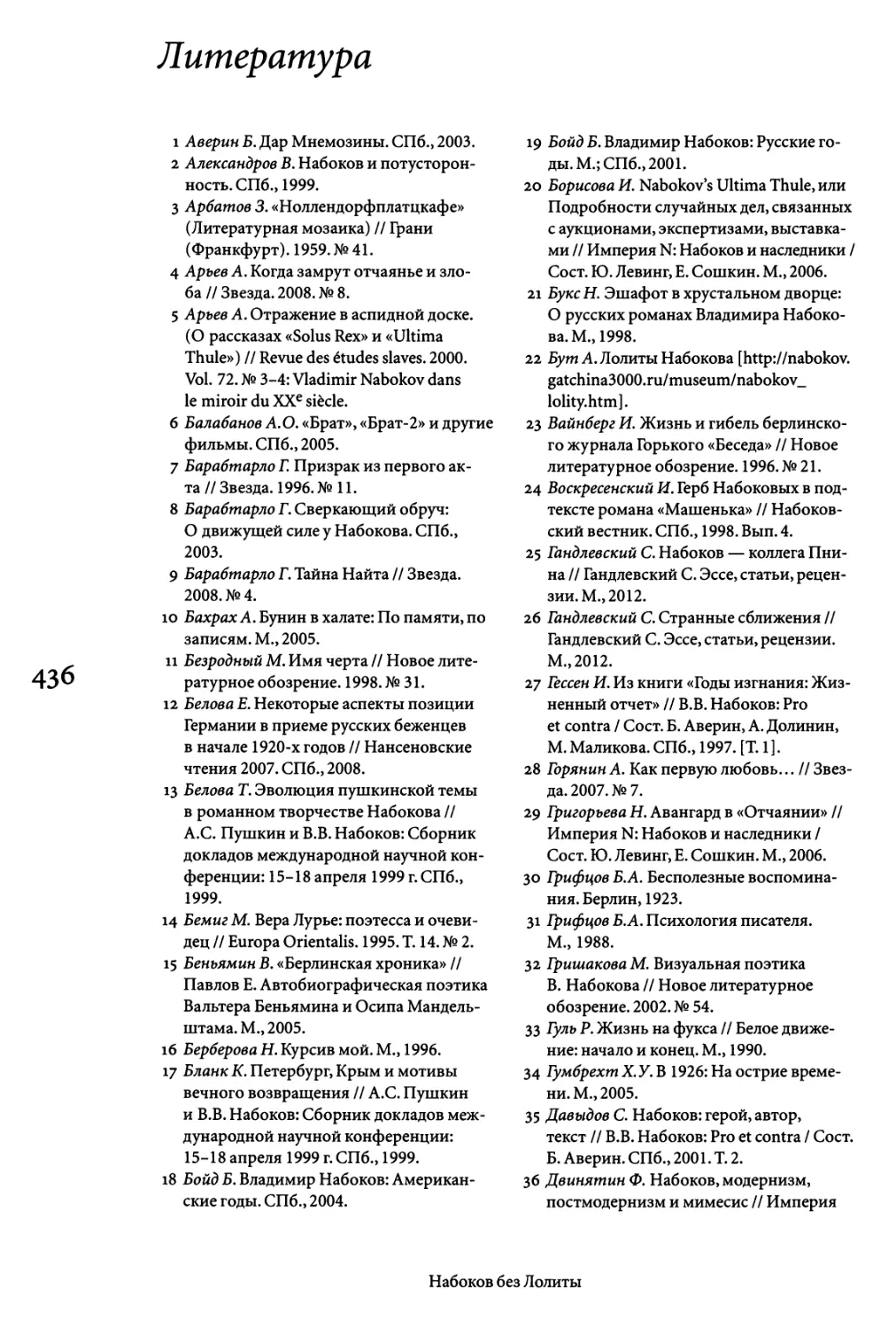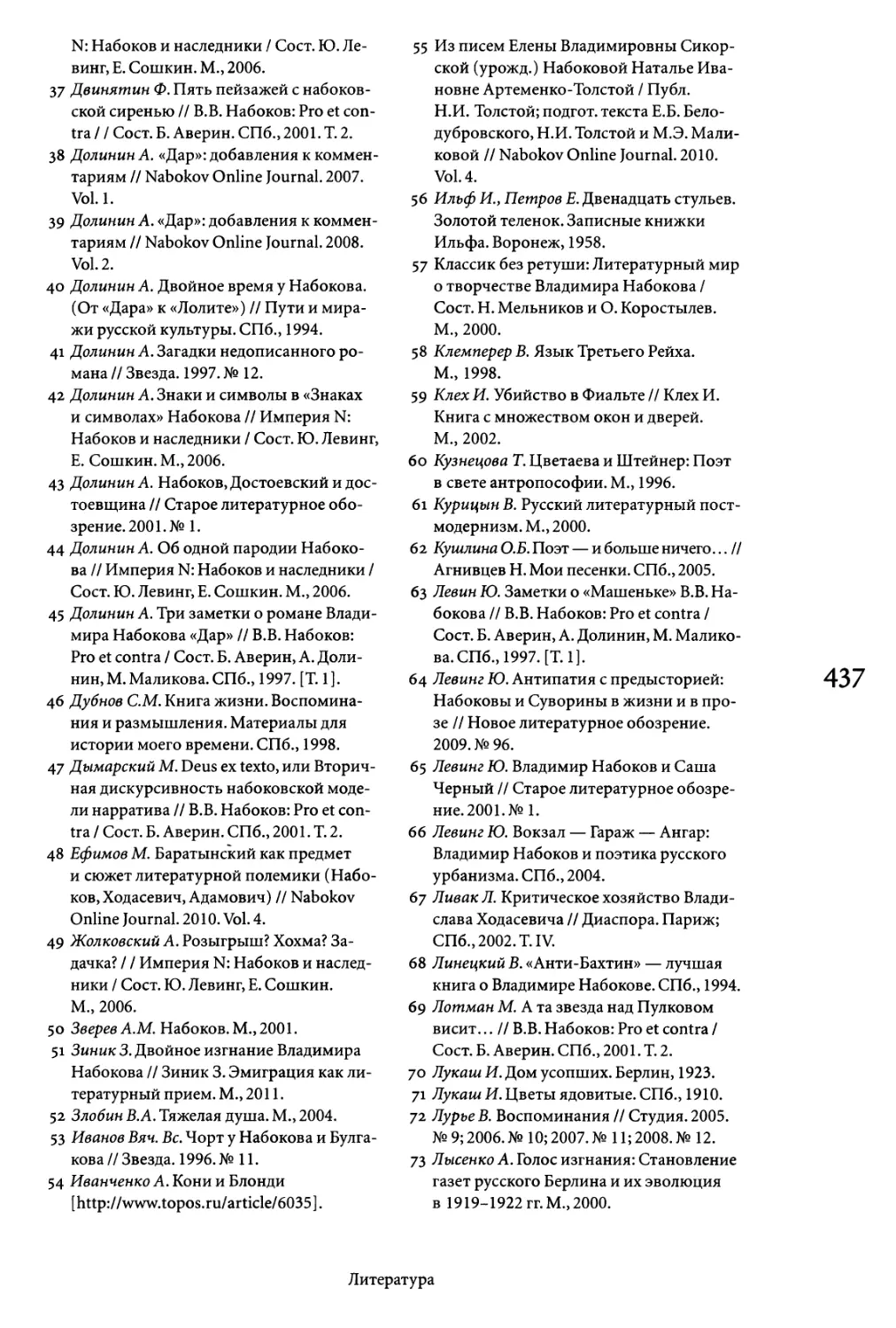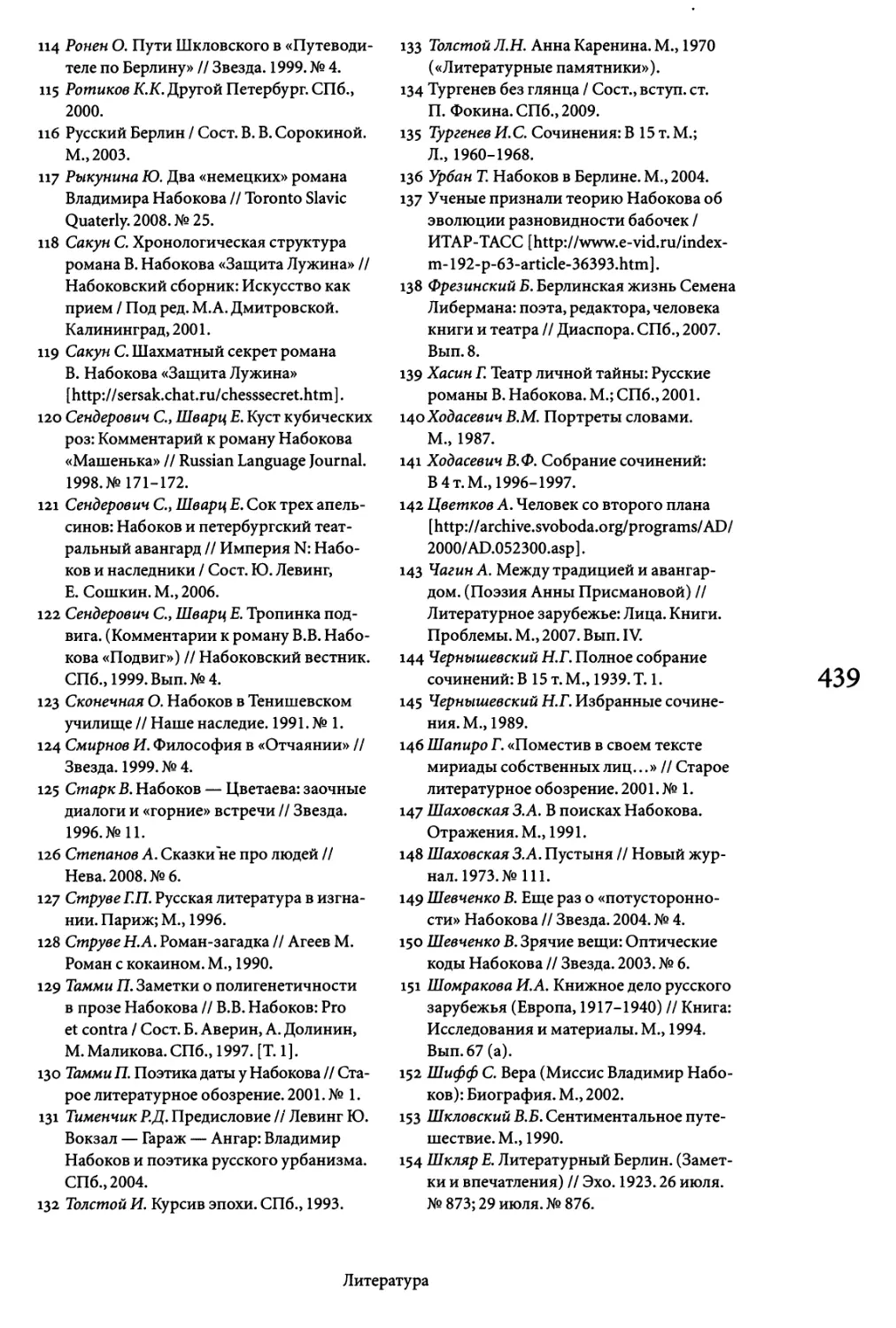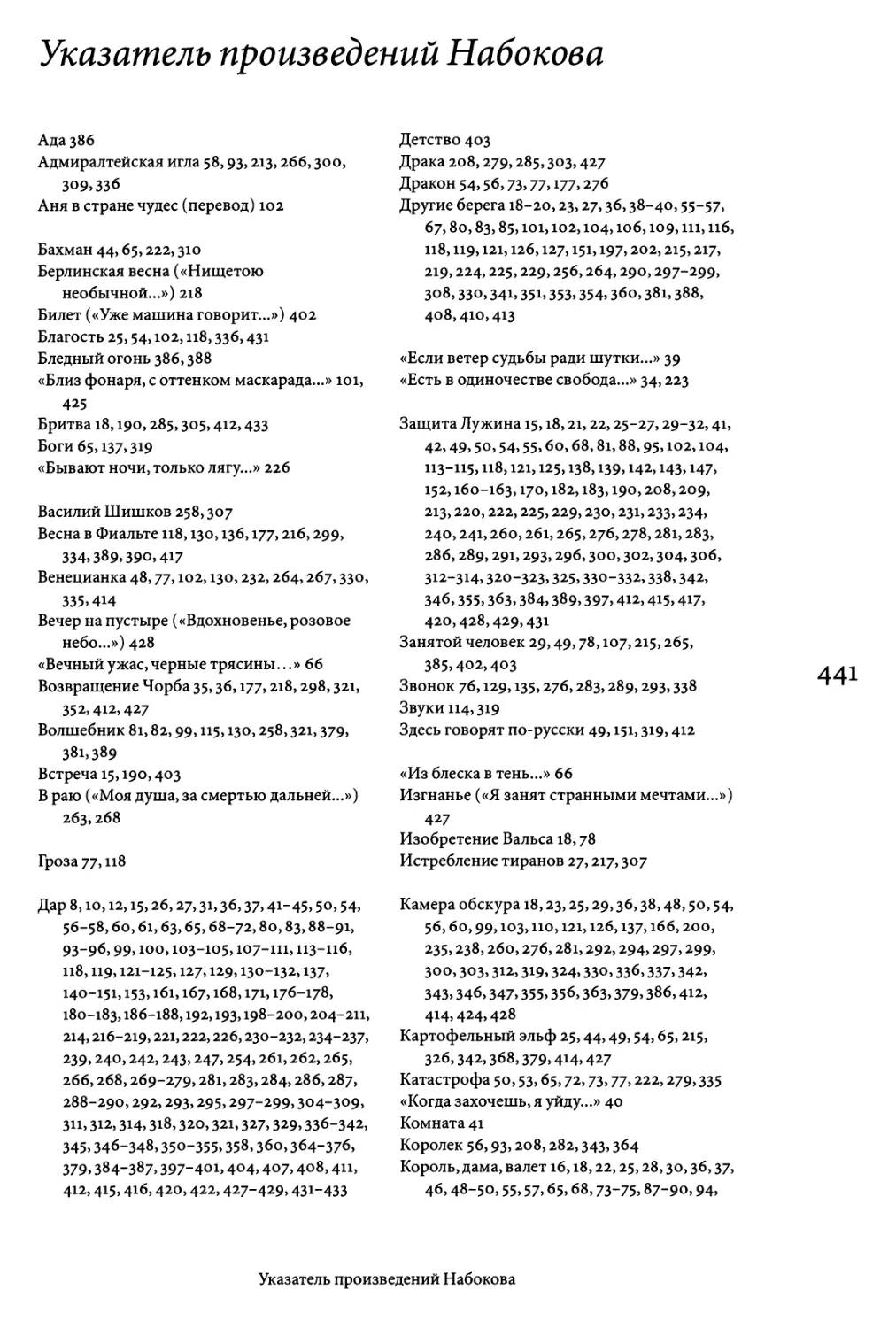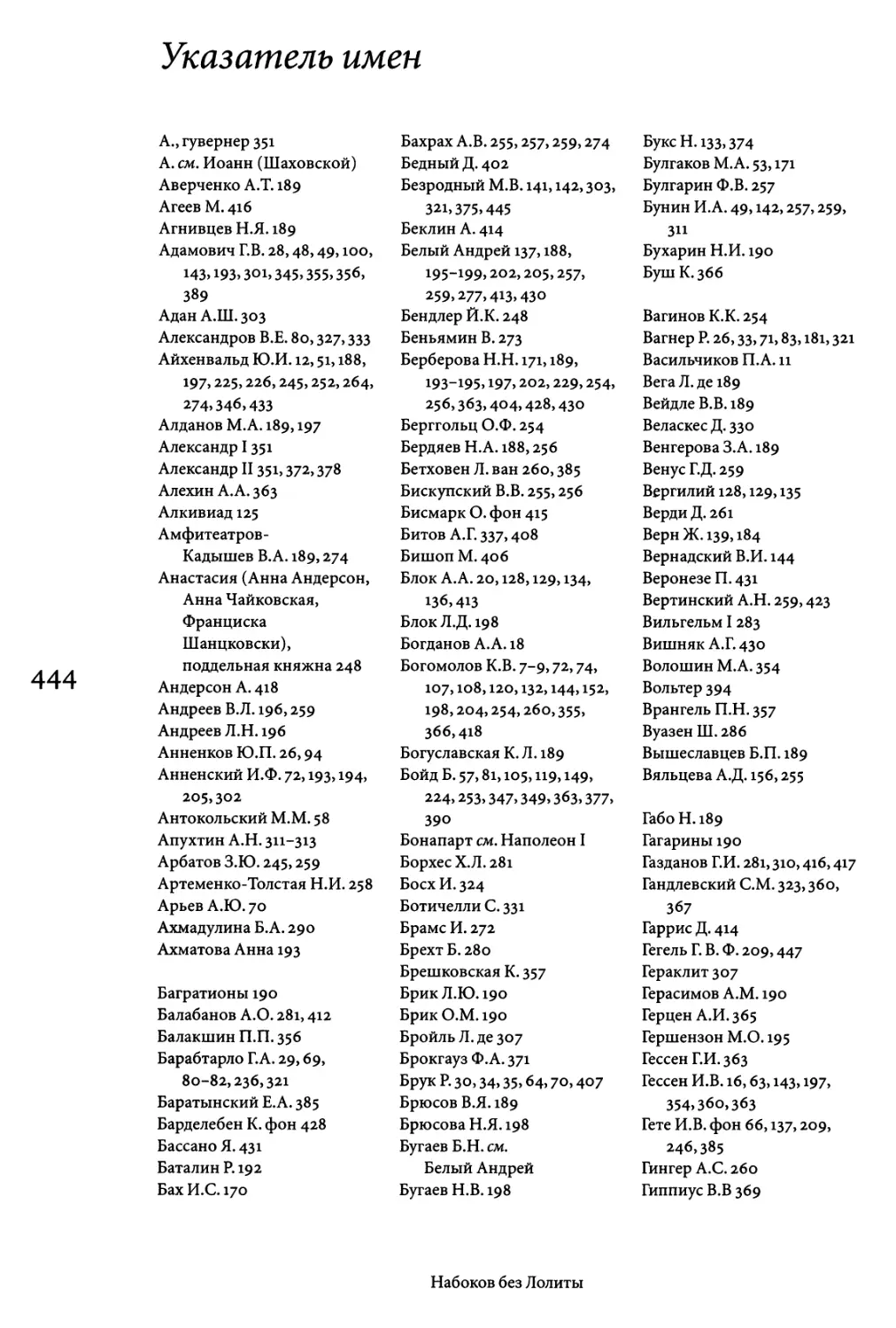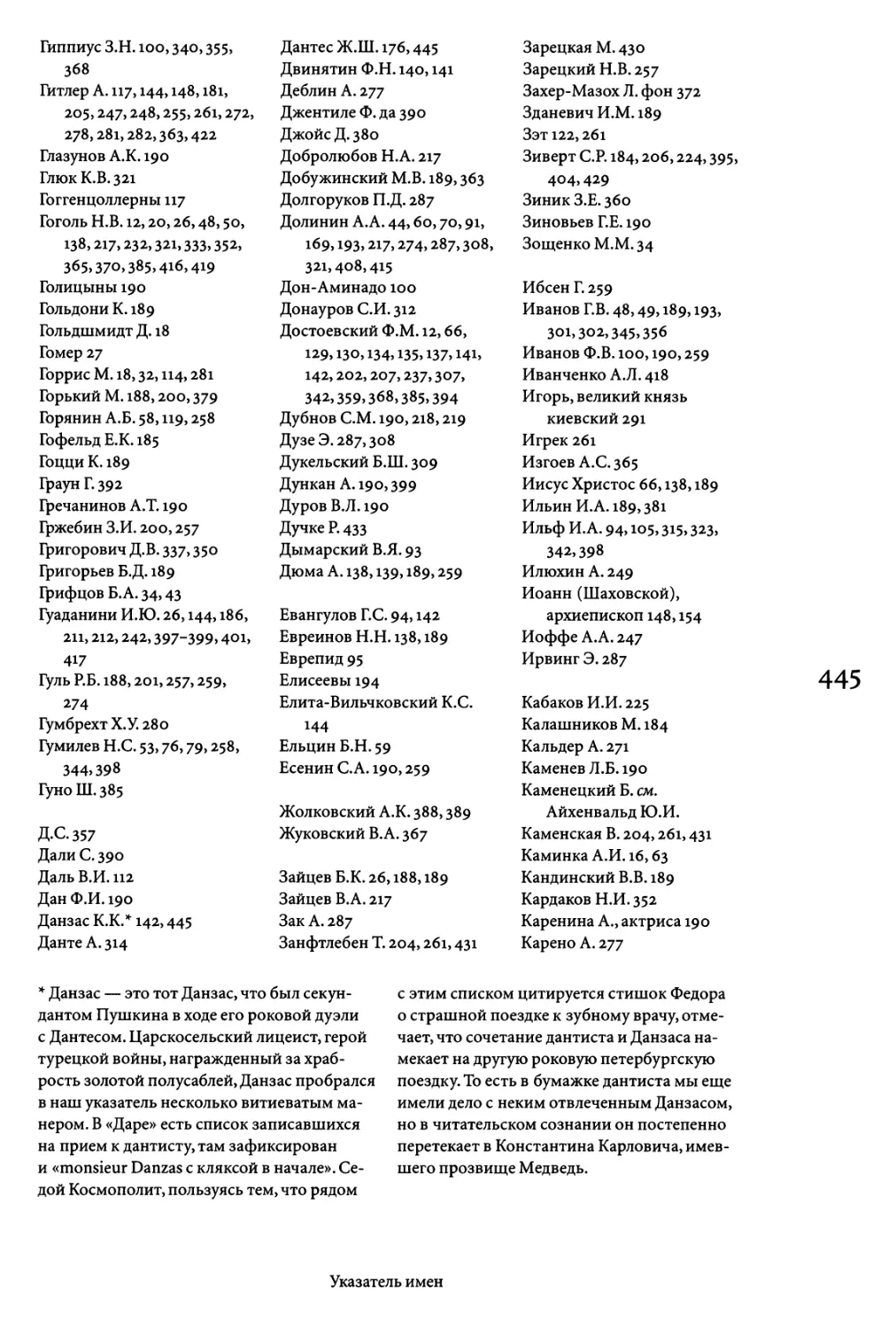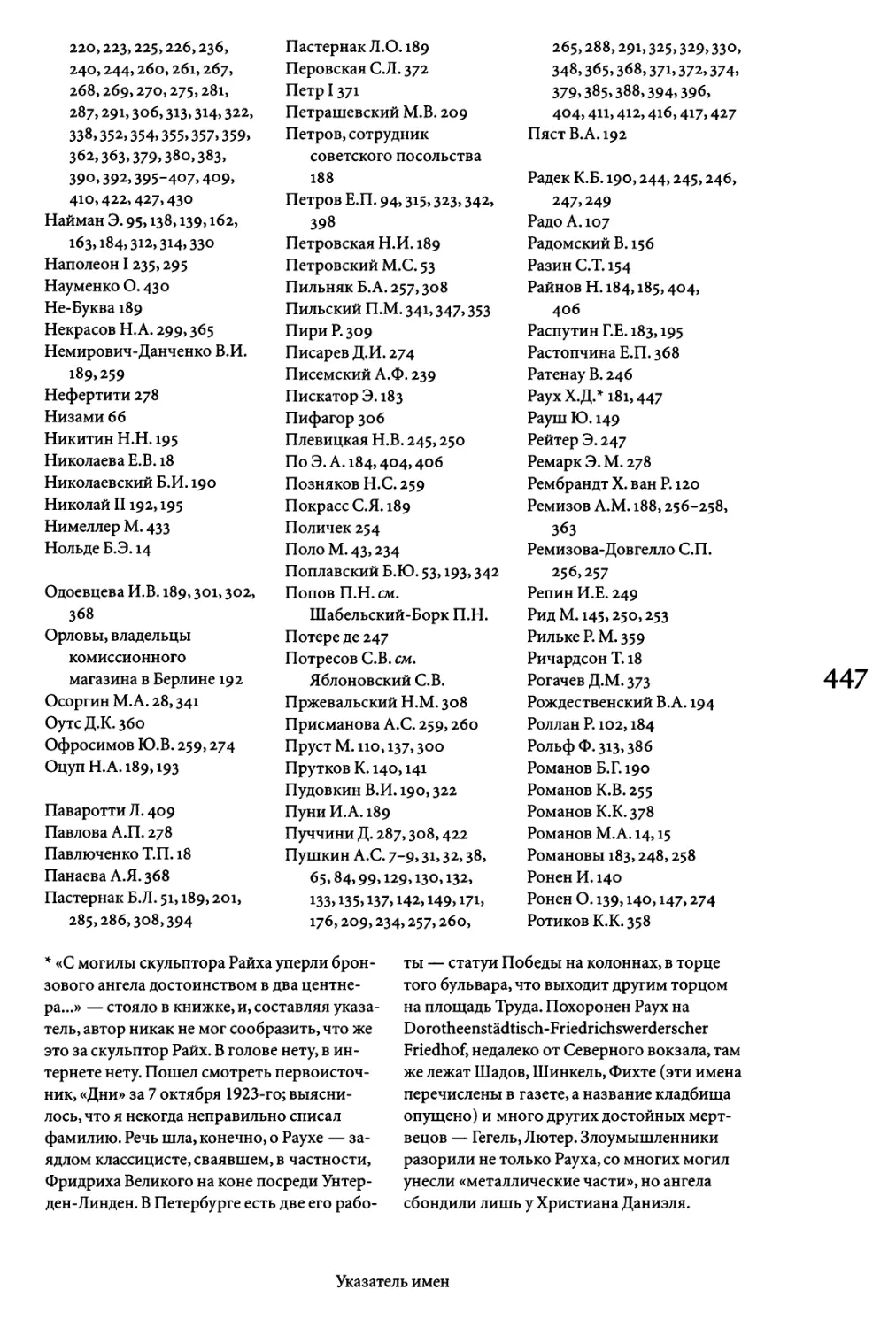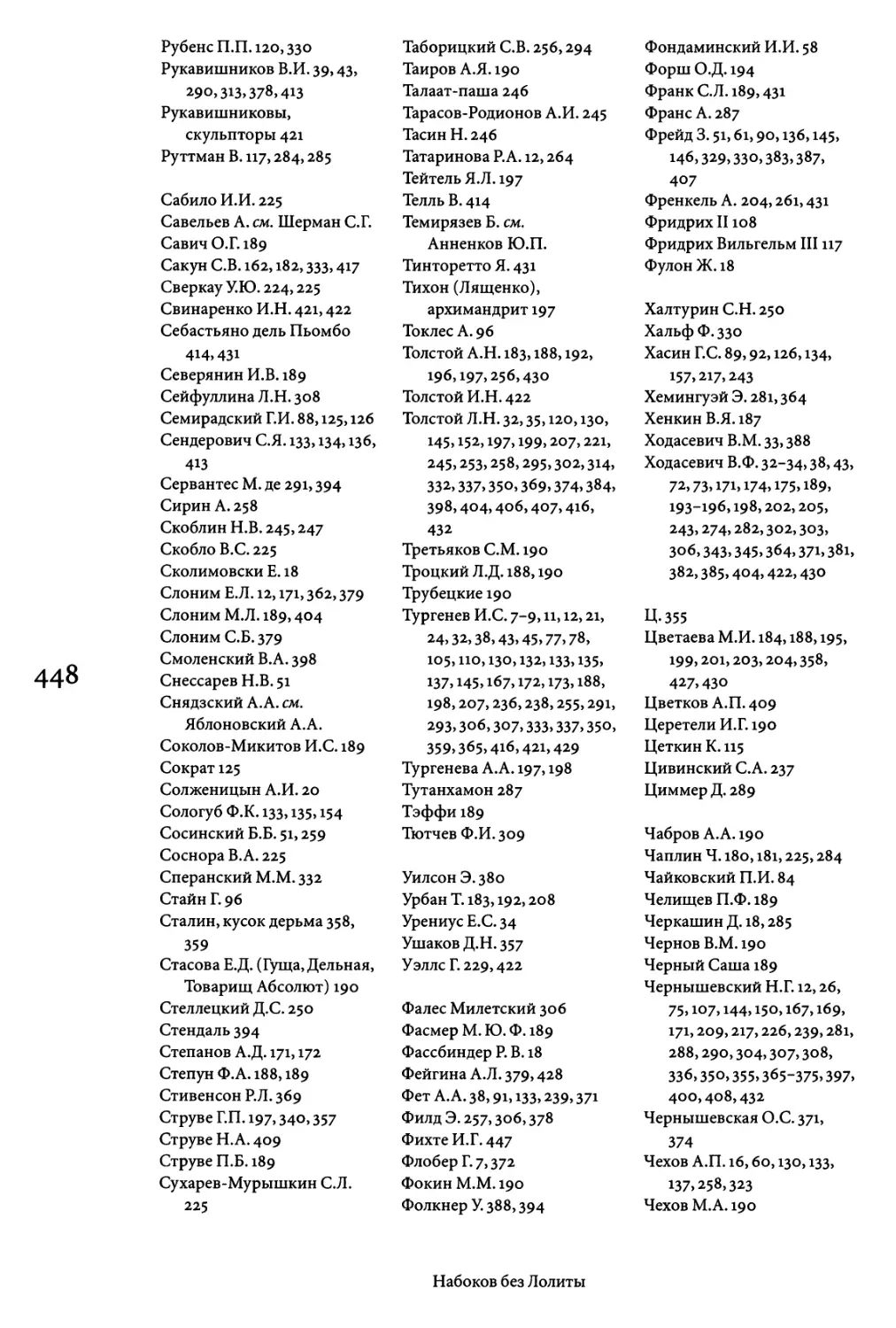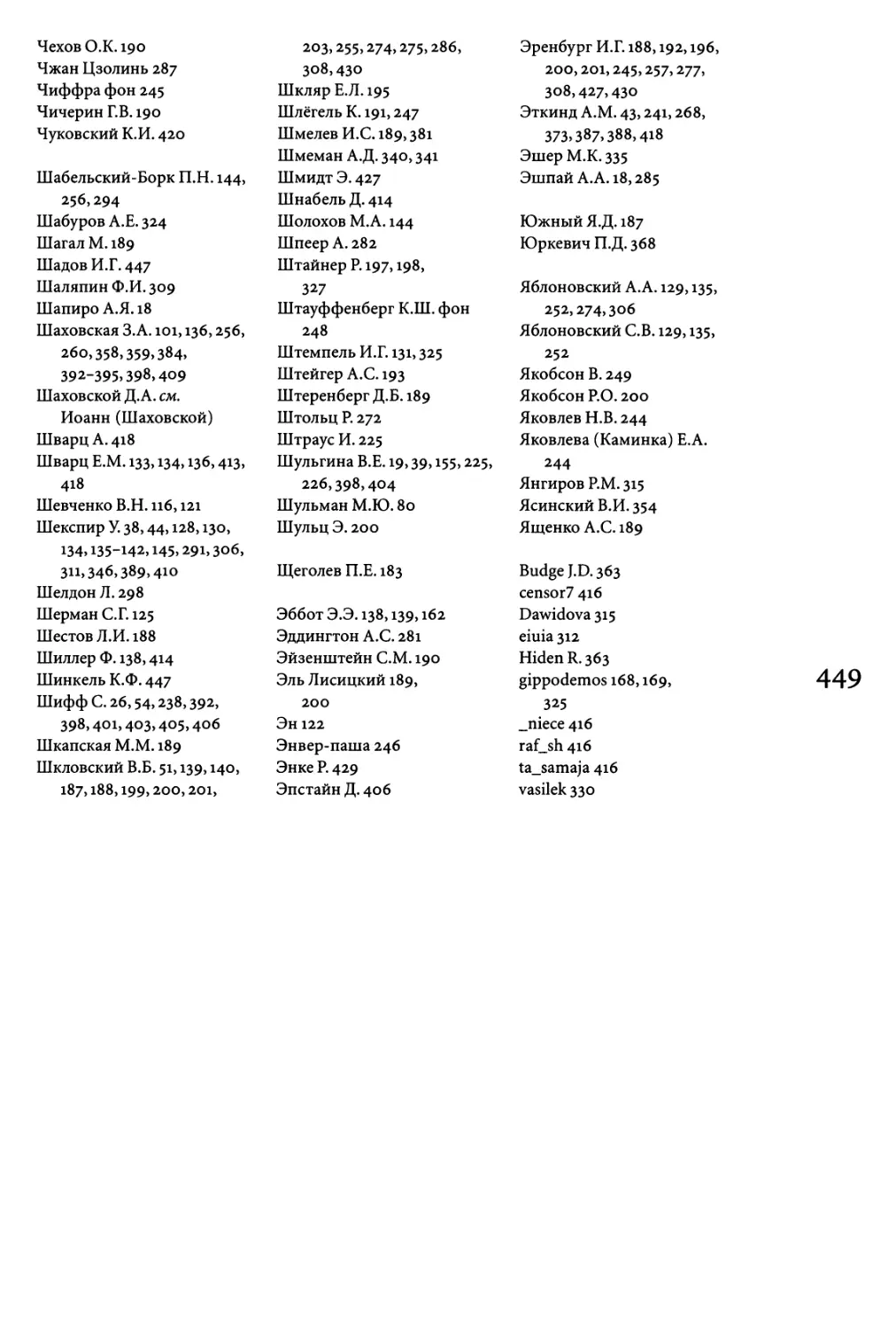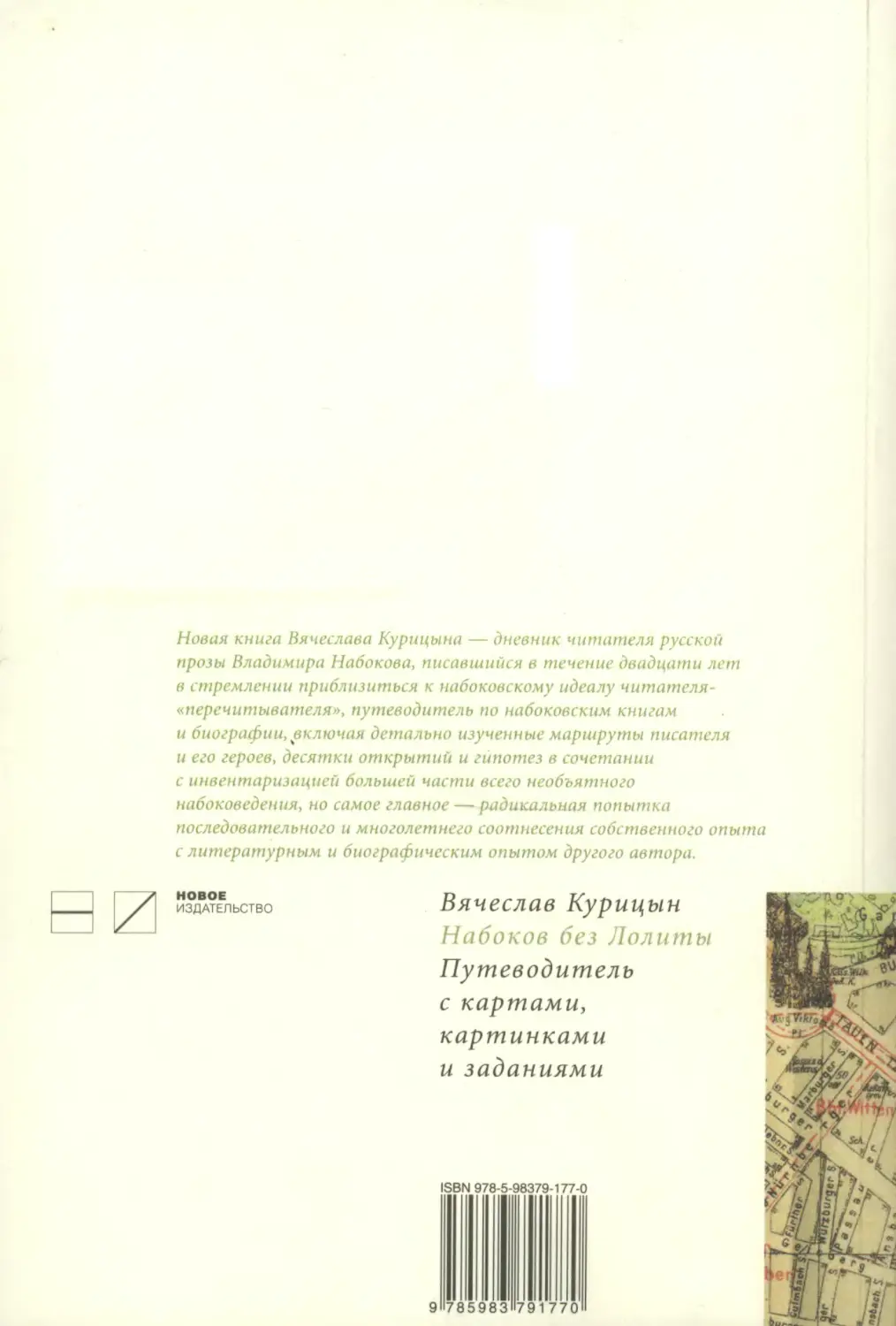Автор: Курицын В.Н.
Теги: общество и кино история киноискусства история киноискусство
ISBN: 978-5-98379-177-0
Год: 2013
Текст
Вячеслав Курицын
Набоков без Лолиты
Вячеслав Курицын
Набоков без Лолиты
Вячеслав Курицын
Набоков без Лолиты
Путеводитель
с картами, картинками
и заданиями
НОВОЕИЗДАТЕЛЬСТВО
УДК 791.43
ББК 85.373(3)
К93
Издатель Андрей Курилкин
Дизайн серии Анатолий Гусев
Редактор Андрей Курилкин
Издательство выражает благодарность литературному агентству Goumen&Smirnova
за содействие в приобретении прав
К93
Курицын В.Н.
Набоков без Лолиты: Путеводитель с картами, картинками и заданиями
М.: Новое издательство, 2013. — 452 с.
ISBN 978-5-98379-177-0
Новая книга Вячеслава Курицына — дневник читателя русской прозы Владимира Набокова,
писавшийся в течение двадцати лет в стремлении приблизиться к набоковскому идеалу чита-
теля-«перечитывателя», путеводитель по набоковским книгам и биографии, включая деталь-
но изученные маршруты писателя и его героев, десятки открытий и гипотез в сочетании
с инвентаризацией большей части всего необъятного набоковедения, но самое главное —
радикальная попытка последовательного и многолетнего соотнесения собственного опыта
с литературным и биографическим опытом другого автора.
УДК 791.43
ББК 85.373(3)
ISBN 978-5-98379-177-0
© Вячеслав Курицын, 2013
© Новое издательство, 2013
Оглавление
Побег от старой обезьяны 7
Имя льва 14
Когти льва 25
Утрата как ценность 33
Лифты (и прочие трамваи) 47
Велосипед в катафалке 63
Другие берега 76
Граница-гр алица 98
Касаться и набухать 113
Машенька и другие 128
Узоры (водяные рифмы) 146
Раскачиваться и окунаться 173
Белый мах. Четыре прохода Федора
по Берлину 180
Фланер, человек гуляющий 214
Призраки 228
Агенты реальные и нереальные 244
Взгляд из будущего 263
Явки, улики 276
Косвенные приметы, набокие зеркала 290
Царство Менетекелфареса 316
Стеклянныйшариксоспиралъювнутри 327
Выпить гусеницу 350
Кр. битва 362
Американская дырка 377
Мадам, я доктор, вот банан 392
Машины письма 402
И не кончается строка 411
Приложение. Набоковские места Берлина 425
Литература 436
Указатель произведений Набокова 441
Указатель имен 444
5
Побег от старой обезьяны
Мопассан, Флобер и Тургенев беседовали однажды о страхе. Иван Сергеевич
рассказал жуткую историю. Он охотился в лесу, устал и кстати вышел
к озеру. Решил искупаться, но едва залез в воду, как рядом вынырнула ста-
рая некрасивая обезьяна и бросилась на Тургенева.
Обезьяна не планировала утопить сочинителя. Она хотела заключить его
в любовные объятия, «с радостным визгом касалась его шеи, спины и ног».
Создатель «Записок охотника» выбрался на берег, кинулся наутек. Жиз-
нерадостная обезьяна припустила следом и почти настигла талантливого
литератора. Лишь появление пастушка с хлыстом спасло Тургенева от па-
радоксального романтического приключения.
Мопассан, к слову, именовал своего русского друга Тургенева серебряным
великаном из волшебной сказки. Оказалось, что страх ведом и великанам.
Пастушок объяснил писателю, что на озере шалит не обезьяна в пря-
мом смысле слова, а одичавшая местная сумасшедшая, уже сделавшая из-
рядный шаг по тропе обратной эволюции. К.В. Богомолов, которому по-
священа моя книга,узнал в сумасшедшей...
Стоп, скажет внимательный читатель, не было никакого посвящения!
Обычно оно располагается или на отдельном листе в начале книжки, или
вверху первой страницы. Пушкин, к примеру, сначала ставил «К***», а по-
том уже заводил песню про чудное мгновение.
Но мой герой, писатель Владимир Владимирович Набоков (1899-1977),
был большим любителем устанавливать собственные обычаи. Знаменит
он, кроме страсти к шахматам и бабочкам, еще и изощренной литератур-
ной изобретательностью.
В словесности сопротивление материала гораздо ниже, чем в скульпту-
ре, театре или кинематографе. Слово всегда под рукой, с ним можно сде-
лать все что угодно: оно и не пикнет.
[83VL413]
7
Побег от старой обезьяны
В снятом фильме не заменишь актера, Венеру не загонишь обратно
в мрамор, а внедриться в текст труда не составляет. Главный роман Набо-
кова «Дар» был сначала посвящен матери, а позже, в английском переводе,
перепосвятился в пользу жены. Хотя, казалось бы, посвящение матери,
к тому времени давно покойной, — не самый подходящий повод для «изо-
бретательности», хотя бы и литературной.
Эпиграф, как и посвящение, мы тоже привыкли видеть перед началом.
У Пушкина сперва указано «Береги честь смолоду» и лишь потом следу-
ет история капитанской дочки.
Но смотрим роман Набокова «Отчаяние»: седьмая глава содержит внут-
ри первого абзаца фразу «литература — это любовь к людям», которую
рассказчик объявляет «эпиграфом». Эпиграфом «не к этой главе, а так,
вообще».
На его книгах менялось имя автора. Сейчас в любом магазине вы може-
те купить роман «Владимир Набоков. Машенька». Но когда эта книжка
впервые, в 1926 году, вышла в Берлине, на обложке стояло — «В. Сиринъ.
Машенька».
На обложке немецкого перевода романа (1928) при этом значилось
«Sie kommt — kommt sie?» («Она приедет — приедет ли она?»). В данном
случае инициатором переименования был издатель, что в порядке вещей
при переводах; издателям должно быть виднее, какие названия румяней
и белее для торговли. Но в дальнейшем, перелагая свои тексты с русского
на английский и наоборот, Набоков и сам, по творческому, а не коммерче-
скому наитию, модифицировал их имена.
8 С номерами глав у него возникали фокусы — в одном романе («Подвиг»)
нет одиннадцатой главы, а в другом («Отчаяние») — две семнадцатые.
Словом, когда речь идет о Набокове, не надо бояться нестандартных
решений. Для начала приутопим посвящение в глубь текста.
К.В. Богомолов узнал в существе, что набросилось на Тургенева, по-
старевшую и несколько подурневшую героиню его повести «Ася».
Собственно Асю.
В этой повести молодой человек двадцати пяти лет от роду шатается по
Европе в поисках смысла жизни, что не было редкостью в XIX столетии
в среде обеспеченных русских дворян. В маленьком рейнском городке он
знакомится с соотечественниками, сводными братом и сестрой. Ася роди-
лась от отца-дворянина у бывшей горничной его покойной жены. Дикова-
тая красавица-несмеяна, она оживает от знакомства с рассказчиком, да
и он испытывает к девице нежные и аккуратные чувства. Читатель уже
различает вдалеке звуки свадебной песни. Рассказчик размышляет, пора ли
ему под венец или разумно слегка погодить... Мешает чепуха. Ася прого-
варивается брату, что любит рассказчика, а самому рассказчику пишет
письмо (!) и тем самым губит дело.
— Зачем вы сами выдали вашу тайну? — шумит герой. — Кто заставлял
вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне
ваш разговор с ним. Теперь все пропало, все, все.
Набоков без Лолиты
Современному читателю затруднительно понять, что стряслось. Мож-
но — не без некоторого внутреннего сопротивления — предположить, что
кодекс тогдашней чести категорически запрещал признаваться в лириче-
ских настроениях братьям. А писать письма взрослым мужчинам, если вы
юная девушка, считалось в высшей степени неприличным. Татьяна, сочи-
няющая письмо Евгению Онегину, знает, что в воле адресата — ее пре-
зреньем наказать. Признательное письмо мужчине — плохой поступок.
Мы помним, что для Татьяны эпистола обернулась потерей Онегина (На-
боков, впрочем, сомневался, что между главными героями пушкинского [88 593]
романа в стихах «ничего не было»).
Обитателю XXI столетия кажется, что рассказчик в «Асе» просто вос-
пользовался неловкостью девушки, чтобы разорвать отношения. Пробле-
мы-то не было: любишь — люби. Уж можно было бы как-нибудь простить
девушку за письмо. И брат, открытый, покладистый малый, с энтузиазмом
забыл бы неловкость.
А больше никто и не знал.
Нет же.
— Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами
разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во
мне, — герой все шумит.
Несколькими абзацами раньше, наедине с собой он сомневался, что
имеет нравственные силы жениться на юной девушке с козьим попрыгу-
чим характером. А теперь воспользовался оказией поругаться. Она своей
неловкостью будто бы освободила его от необходимости искать эти нрав-
ственные силы. 9
Развиться чувству, видите ли, не дала! Это не мешало герою бегать после
того битую ночь по полям, шепча (луне, облакам, «так, вообще»!) о любви
к Асе, руками размахивать... Луне-то несложно признаться, что полюбил
девушку. Проще, чем сделать ей самой об этом ответственное, чреватое
оргвыводами сообщение.
Словом, тургеневский герой предпочитает от любви ускакать.
Именно на «Асю» («Annouchka» во французском переводе) К.В. Богомо-
лов в начале 1990-х указал автору этих строк как на источник сиринской
«Машеньки».
Лев Ганин, герой этого романа, отказывается от титульной героини аж
дважды. Сначала, когда она пыталась отдаться ему в парках певучей
юности (дачная любовь, Петербургская губерния; «делай со мной что хо-
чешь» говорила Машенька, раскинувшись на мшистой каменной плите),
и вторым, контрольным выстрелом, на последних страницах, в 1924-м
в эмиграции.
Там герой напоил допьяна Алферова, мужа Машеньки, которая ранним
утром прибудет поездом в Берлин. Она едет к мужу, знать не зная, что того
угораздило поселиться в одном пансионе с Ганиным. Алферов почивает
без задних ног, а герой собирается встретить Машеньку (не виделись они
все эти годы, но любовь, как выяснилось, дремала в его сердце), увезти Бог
Побег от старой обезьяны
знает куда. В последний момент он соображает, что за несколько дней ак-
тивного ожидания пережил эмоции, которые сильнее реальности.
Настоящая Машенька не нужна. Она хороша в пространстве памяти.
«Там». Хороша «так»: не в этой жизни, а «вообще».
Герой идет к вокзалу, садится в сквере и видит, как медленно вкатывает
под вокзальные своды Машенькин поезд. Если Машенька в вагоне стоит
у окна, перед ее взором мог проплыть угол сквера, а в нем человек с макин-
тошем через плечо.
Человек мог показаться ей смутно знакомым.
Это вы в вагоне, вы притомились, не терпится размять ноги. Вещи собра-
ны, вы у окна. В сквере, уже исчезающем, бродит некто, ваш взор его заце-
пил. Это человек, которого вы когда-то празднично любили. Вы не поняли,
что это он. Вы не знаете, что он обитает в этом городе... жив ли вообще...
Произошло серьезное событие: вы видели его спину. Но это пустое со-
бытие: вы не знаете, что оно произошло.
Я всегда вздрагиваю, читая Набокова, в такие моменты несостоявшихся
узнаваний, промельков другой жизни, олимпийских шуток судьбы.
В первом английском романе, «Подлинной жизни Себастьяна Найта»
(написанном еще в европейский, сиринский период, меж русскими текста-
ми), беременная женщина переходит улицу, к ней приближается незнако-
мец, протягивает ключ, спрашивает, не она ли его обронила. Женщина ав-
томатически берет ключ, возвращает, отвечает отрицательно, продолжает
свой путь.
Ключ этот она держала в руках не впервые. Этим ключом она отворяла
1О прежде дверь человека, которого готова была любить вечно, если бы он
сам не смешал карты. Теперь, сосредоточенная на себе и на новом чело-
веке внутри, она не слышит энергий, сжавшихся в ключе. Они ей более
не нужны.
Я вздрагиваю и оборачиваюсь — не мелькнула ли вот сейчас, за плеча-
ми, тень моей прошлой жизни.
Федор Годунов-Чердынцев, главный герой «Дара», самый близкий авто-
ру сиринский персонаж, рассуждал, как было бы забавно вернуться в бы-
лое и увидеть там еще не знакомых сегодняшних знакомцев.
— Так, женщина, которую, скажем, со вчерашнего дня люблю, девочкой,
оказывается, стояла почти рядом со мной в переполненном поезде, а про-
хожий, пятнадцать лет тому назад спросивший у меня дорогу, ныне служит
в одной конторе со мной.
В жизни, несомненно, такие случаи бывают, с прохожими уж точно, да
и с любимыми бывают. Набоков свою будущую жену запросто мог встре-
чать в детстве на петербургской улице, а в Берлине она служила в конторе,
в которую он как раз хаживал.
Надо ли всматриваться во всех встречных-поперечных, гадая, не дове-
дется ли кого-то из них с течением времени полюбить или возненавидеть?
— А мы с вами встретимся уже как следует через четырнадцать лет!
— Конечно, дядя, а пока проходи. Не задерживай очередь...
Набоков без Лолиты
Грани, за которой начинается прямой разговор с прошлым, Сирин бла-
горазумно не пересекает.
Урок в том, что любой момент вашей жизни может значить гораздо
больше, чем кажется.
Жизнь может перевернуться с ног на голову (Набоков любил, когда вниз
головой) в любое мгновение.
Ганин берет такси, едет на другой вокзал и садится в поезд, идущий на юг.
Эмоциям девушки внимание в тексте отведено незначительное.
Машенька на платформе в большом незнакомом городе... законного му-
жа нет, беззаконного любовника тоже нет, никого нет... у ноги, как щенок,
притулился потрепанный чемоданчик... Или она с тюками, коробками?
Ганин убегает от Машеньки подобно тому, как тургеневский герой
драпал от Аси, а сам Тургенев — от старой непрезентабельной человеко-
образины.
Даже и без «Муму» мы найдем у Тургенева множество примеров избав-
ления от (зачастую любимых или кажущихся таковыми) существ женского
пола. «Дурацкие тэтатэты в акатниках» (ловкое выражение из «Дара»)
у Тургенева сплошь и рядом завершаются побегами.
Брутальный донельзя Базаров («Отцы и дети») бежит от Одинцовой,
которая ему откровенно нравится («Какое тело! Хоть сейчас в анатомиче-
ский театр!»).
Исчезает, вскружив голову Лизе, князь Н. из «Дневника лишнего че-
ловека».
В «Рудине» Наталья готова закрутить роман с заглавным героем вопре-
ки воле матери, но Рудин считает, что надо родительнице покориться. 11
В «Накануне» Елена навязывает себя болгарину Инсарову, а тот знай
твердит «Мне русской любви не нужно» и сбегает в итоге на тот свет.
В «Фаусте» (у Тургенева есть свой «Фауст») герой вот-вот встретит бы-
лую возлюбленную:
— Меня поразило то, что я ее на днях увижу. Прошедшее, словно из зем-
ли, внезапно выросло передо мною, так и надвинулось на меня.
Ганин в похожих словах переживает новость о приближении Машеньки:
— То, что случилось в эту ночь, то восхитительное событие души, пере-
ставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое.
Героя «Фауста» от приближения тени прошлого освободит смерть воз-
любленной; в «Машеньке» без этого обошлось, но позже в подобных ситуа-
циях и Сирин начнет прибегать к костлявым услугам.
В «Старухе» (стихотворение в прозе) рассказчик убегает от увязавшейся
за ним в широком поле непонятной старухи.
— Не уйти! не уйти! Что за сумасшествие? Надо попытаться. И я броса-
юсь в сторону, по другому направлению. Я иду проворно... Но легкие шаги
по-прежнему шелестят за мною... — явный рецидив происшествия с во-
доплавающей маньячкой.
Да что старуха: уже не лирический герой, а Тургенев, по воспоминаниям
камергера П.А. Васильчикова, собственной длинновязой персоной дернул
Побег от старой обезьяны
на прогулке от небольшой красивой березы. Жаловался потом друзьям,
поминутно озираясь:
— Мне показалось, не знаю почему, что она была женского рода; я ска-
[ 134: in] зал внутренно: я знаю, что ты женщина, говори; и в ту же минуту один сук
березы медленно, как будто с грустью, опустился. Волосы стали у меня ды-
бом от испуга, и я бежал опрометью...
От березы! Потому что она женского рода!
В «Нови» студент Нежданов уступает свою невесту Марианну (Машень-
ку, стало быть) эффективному менеджеру, человеку цифры Соломину,
а сам, по-свидригайловски выражаясь, уезжает в Америку; возможно, этот
[79:67] любовный треугольник отразился у Набокова в истории самоубийства
Яши Чернышевского из «Дара». Между прочим, именно Чернышевский,
правда, другой, Николай Гаврилович, революционный демократ, пер-
вым — и как раз в статье об «Асе» — обратил внимание на дурацкую при-
вычку героев Тургенева усвистывать чуть что в Баден-Баден — через три
четверти века Чернышевскому за Тургенева ответил Набоков.
«Машеньку» Сирин писал с весны до конца 1925 года. Бедный, светлый
и счастливый, он только что женился на Вере Слоним, с которой проживет
до конца своих дней, то есть 52 года.
23 января 1926 года он прочел роман в Литературном кружке, основан-
ном незадолго до того Раисой Татариновой и Юлием Айхенвальдом (Си-
рин, вопреки позднейшим утверждениям Набокова, не просто участвовал,
а очень активно участвовал в литературной жизни Берлина). Чтение про-
должалось три часа. По окончании Айхенвальд (лучший литературный
12 критик той эпохи) воскликнул:
[19:зоз] — У нас появился новый Тургенев!
Не новый Гоголь, заметьте, не новый Достоевский, а именно Тургенев:
с героем-бегающим-от-барышень.
И, подобно Тургеневу, Сирин тоже недолюбливал обезьян, что даже от-
разил в стихотворении 1921 года:
Обезьяну в сарафане
как-то ряженый привел;
вперевалку подбежала,
мягко вспрыгнула на стол.
Села (бисерные глазки,
гнусно выпученный рот...) —
с человеческой ужимкой
книгу чудище берет,
книгу песен, книгу неги...
А она-то лапой хвать! —
вмиг обнюхала страницы
и давай их вырывать!
Набоков без Лолиты
Пальцы рыжие топырит;
молчаливо, с быстротой
деловитою кромсает
сердце книги золотой...
Как звали ту обезьяну, в стихотворении не сообщено.
13
Имя льва
«Машенька» — первый роман Владимира Сирина. Опубликован тотчас
после сочинения, в марте 1926-го, в эмигрантском издательстве «Слово».
Сирин (мифологическая птица, олицетворяющая печаль), как уже было
сказано, — псевдоним Владимира Владимировича Набокова. Как Набоков
писатель больше и известен, хотя все его русские — и лучшие — книги
первоначально печатались под именем Сирина.
14 «Путеводитель по Сирину» — таким было бы точное название моей
книги, посвященной именно русским текстам мастера (англоязычные бу-
дут упоминаться крайне редко). «Путеводитель по Набокову» — звучит
плотнее, подобно стуку копыт на пыльной дороге, да и сиринские тома из-
дательская практика переписала на паспортную фамилию автора. В даль-
нейшем я буду называть своего героя то Сириным, то Набоковым (первое
из имен, конечно, не будет прилагаться к герою в зрелом американском
возрасте), руководствуясь скорее благозвучием конкретной строки, без до-
полнительных смыслов.
Родился будущий автор «Машеньки» на рассвете 10 апреля (по приня-
тому тогда календарю) 1899 года в Петербурге, на Большой Морской ули-
це, 47, в роскошном особняке, в богатой семье. Фантастически богатой
по линии матери, Е.И. Рукавишниковой (Рукавишниковы — сибирские
золотопромышленники), и не самой состоятельной, но весьма родовитой
по линии отца, В.Д. Набокова, активного общественного деятеля, одного
из лидеров партии кадетов, знаменитого юриста, борца со смертной
казнью, камер-юнкера, члена Государственной думы и управляющего дела-
ми Временного правительства.
Самое важное для русской истории сочинение Набокова-старшего опуб-
ликовано под чужой подписью. Вместе с бароном Нольде Владимир Дмит-
риевич составил и своей рукой написал текст отречения Михаила Романова
Набоков без Лолиты
от престола. В 2009 году в не слишком богатой экспозиции Дома-музея На-
бокова в Петербурге появился символический объект: стол посреди прос-
торной гостиной, на столе старинная пишущая машина, а в ней листок
с текстом отречения. Вообще Набокова-писателя интересовали властители
со странным статусом, и Михаил, в течение примерно суток, 2-3 марта
1917 года, бывший русским царем, по признаку «странности» — наш герой.
Помимо знаменитого августейшего документа Набоков-старший много
писал и публиковал под своим именем: политическую и юридическую пуб-
лицистику, мемуары о театральном Петербурге. Именно чтобы не путали
с отцом (печатались на соседних страницах в берлинском «Руле»), Влади-
мир-младший взял себе птичий псевдоним.
Дом на Большой Морской — в сохранности. Первый этаж — как раз му-
зей. Вы можете встать лицом к входу, поднять голову и увидеть справа на
втором этаже выступ, так называемый фонарь, расположенный в гарде-
робной матери. Именно там (не в выступе — в гардеробной) появился на
свет В.В. И был он вторым — годом раньше несостоявшийся первенец, то-
же мальчик, умер при родах. Несостоявшегося брата Набоков в своих ме-
муарах и интервью не упоминает.
Он и о том, что у родителей матери умерли молодыми семеро из девяти
детей, его дядь и теть, сообщает в автобиографии походя, полустрочкой...
У героев его русской прозы почти нет братьев и сестер... очень редко они
мелькают где-то сбоку, чтобы мгновенно покинуть повествование (сестра
Федора Таня в «Дар» и не заглянет, останется за текстом) и даже бренный
мир. Умерла в молодости сестра отца героя рассказа «Лебеда», от тифа скон-
чалась сестра антигероя «Машеньки» Алферова, у Лужина-старшего неког-
да умирал брат в иностранной санатории — все это безымянные братья
и сестры. Герой «Отчаяния» ближе к концу романа вдруг огорошивает жену
историей о своем брате-близнеце, на сей раз имеющем имя, но сам брат при
этом вымышленный и все равно вот-вот покончит жизнь самоубийством.
В рассказе «Встреча» рассказывается о встрече двух родных братьев.
Они долгие годы не общались (один живет в СССР, другой в эмиграции;
«Серафим ровно ничего не знал о брате, Лев почти ничего не знал о Сера-
фиме»), свидание вышло скомканным, даже чаю не выпили, поскольку за-
бастовала немецкая спиртовка, и вряд ли когда увидятся вновь. Братья друг
другу совершенно ненужные и чужие.
Итак, Владимир — старший ребенок в семье. Позже появятся два брата
и две сестры, отношения с ними у писателя сложатся разные. С Еленой
(1906-2000) — теплые, с младшим Кириллом (1911-1964), которому Влади-
мир был еще и крестным отцом, — тоже, с Ольгой (1903-1978) — холод-
ные, с Сергеем (1900-1945) — амбивалентные, но ни с кем — плотные.
С Сергеем Владимир долгое время делил спальню, но, тяготея с младых
ногтей к одиночеству и свободе, ухитрялся особенно не общаться.
— У нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — вспоми-
нает Набоков, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы под-
робно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув.
15
Имя льва
Иногда доводится слышать мнение, что, покидая в 1940 году Европу,
Владимир фактически бросил брата на произвол судьбы. Это несправедли-
во, писателя и его семью преследовала по пятам старая обезьяна истории,
земля полыхала под ногами, брат взрослый, но так или иначе Сергей остал-
ся и погиб в концлагере Нойенгамме (куда попал как гомосексуалист) под
Гамбургом в обидном 1945 году.
Даже само слово «брат» — не под запретом, конечно, но лишний раз ав-
тор его вставлять в строку не спешит.
— У тетки моей был сын, — рассказывает в «Отчаянии» бездомный Фе-
ликс, — который паясничал на ярмарках... пьяница и развратник... пока,
слава Богу, не разбился насмерть, грохнувшись с качелей...
Оно, может, и слава Богу, что развратник разбился, но ведь сын тетки—
это двоюродный брат, почему его так не назвать?
Эти смещенные братские сюжеты-несюжеты могут быть использованы
исследователем, увлеченным темой двойников-недвойников в творчестве
В.В. Я пока отмечу двоящихся собак.
[19: и] В 1917 году, после известных событий («Пока я писал, с улицы слыша-
лась сильная ружейная пальба и подлый треск пулемета» — помета Володи
на черновике стишка, над которым он корпел в ночь ленинского переворо-
та, призвана подчеркнуть высокую аполитичность юного поэта) семья бе-
жала в Крым, прихватив мизерную часть богатств, потом за море, мимо
Турции через Грецию, увозя с собой таксу Бокса Второго, внука или пра-
внука Хины и Брома, принадлежавших Чехову.
Осмотрелись в Лондоне, обосновались в Берлине, Владимир Дмитрие-
16 вич вместе с товарищами-кадетами И.В. Гессеном и А.И. Каминкой осно-
вал газету «Руль» (количество букв в названии, первая из них и политиче-
ская позиция продолжали российскую «Речь»). Володю командировали
в Кембридж, на оплату которого достало нитки жемчуга... Сергей также
отправился в Кембридж, проведя по дороге один семестр в Оксфорде, но
и я, находясь в энергетическом поле своего героя, о Сергее, как видите,
мгновенно забыл. Вскоре жемчуг кончился, учеба тоже, отец погиб 28 мар-
та 1922 года (в заварушке, возникшей в берлинской Старой филармонии
во время покушения зоологических монархистов на другого кадетского
лидера, П.Н. Милюкова, Набокову-старшему досталась чужая пуля), Вла-
димир осел в столице Германии, мать с младшими детьми и таксой пода-
лась в Прагу, где бедствовала до конца дней (умерла 2 мая 1939 года).
Владимир, сочиняя 15 лет в Берлине гениальную прозу, перебивался
уроками русского языка (ученики исчислялись десятками) и, реже, тенниса
и газетной поденщиной. Лишь один из его романов, второй, «Король, дама,
валет» (далее «КДВ»), принес (за счет публикации перевода в немецкой га-
зете, точнее — в целой сети региональных газет) приличный доход. Полу-
чив гонорар, Набоков немедленно двинул с женой во Францию ловить ба-
бочек, причем жена даже уволилась с работы, это выглядело очень странно
в нестабильном 1929-м, но Набоковы, похоже, решили в тот момент, что
литература может кормить; очень скоро эта иллюзия улетучилась.
Набоков без Лолиты
На Вере Слоним он женился в апреле 1925-го; 10 мая 1934-го родился
сын Дмитрий, единственный ребенок. О двух других возможных беремен-
ностях Веры в 30-е годы остались самые приглушенные сведения. Прокор-
мить было сложно и одного, гонорары и выступления приносили что кот
наплакал, круг читателей оставался крайне узким. Практически все тексты
быстро печатались в газетах-журналах и вскоре выходили отдельными
книжками, обильно рецензировались. Но — не переиздавались. Переводы
на иностранные языки случались редкие и малоденежные. Сирин, однако,
ни на день — в буквальном смысле слова — не прекращал писать, неизмен-
но проводил за рукописью много часов: десять, одиннадцать, двенадцать.
Всего под псевдонимом Сирин создано 71 прозаическое произведение
(восемь романов, две повести, три пьесы, 58 рассказов)*, несколько при-
горшней статей и рецензий. То, что он публиковал в газетах шарады, оста-
ется гипотезой, зато известно множество его шахматных задач и кроссвор-
дов. Последние он именовал крестословицами; распространено мнение, да
и Набоков утверждал, что слово «крестословица» — и впрямь прекрас-
ное — придумал он сам.
Еще смайлик придумал:
— Должен существовать специальный типографский знак, обозначаю- pi:2бо]
щий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки...
По стопам отца, энтомолога-любителя, много ловил и уже профессио-
нально изучал бабочек, серьезные труды сочинял, выдвигал долгоиграющие
гипотезы. Подтверждение одной из них, сформулированной в 1945-м — цз?]
что-то об эволюции Polyommatus blues, — последовало от Британской ака-
демии лишь в 2011-м, после анализа ДНК полиомматусов.
И стихи я чуть не забыл: стихов уйма. Не самых высокохудожественных,
но штук сто могли бы составить шедевральное избранное.
В конце 1930-х эпоха выдавила его и из Европы, сначала из Германии (Ве-
ра была еврейкой), потом из Франции. В 1940 году писатель приплыл в Аме-
рику, где начал (вернее, начал уже чуть раньше) сочинять по-английски:
— Мне пришлось оставить свой родной язык, родное наречие, мой беско-
нечно богатый И послушный русский ЯЗЫК ради второсортного английского. [91:122]
17
* Романы «Машенька», «Король, дама, ва-
лет», «Защита Лужина», «Подвиг», «Камера
обскура», «Отчаяние», «Приглашение на
казнь», «Дар». Повести «Соглядатай» и «Вол-
шебник». Рассказы (в том числе фрагменты,
предположительно предназначенные для
ненаписанных романов) «Нежить», «Сло-
во», «Звуки», «Удар крыла», «Боги», «Здесь
говорят по-русски», «Порт», «Благость»,
«Месть», «Картофельный Эльф», «Пасхаль-
ный дождь», «Случайность», «Катастрофа»,
«Русская река», «Гроза», «Наташа», «Вене-
цианка», «Бахман», «Дракон», «Рождество»,
«Письмо в Россию», «Драка», «Возвращение
Чорба», «Путеводитель по Берлину», «Брит-
ва», «Сказка», «Ужас», «Пассажир», «Зво-
нок», «Подлец», «Рождественский рассказ»,
«Пильграм», «Обида», «Занятой человек»,
«Terra incognita», «Уста к устам», «Встреча»,
«Лебеда», «Музыка», «Хват», «Совершенство»,
«Адмиралтейская игла», «Королек», «Круг»,
«Оповещение», «Памяти Л.И. Шигаева»,
«Красавица», «Тяжелый дым», «Набор», «Слу-
чай из жизни», «Весна в Фиальте», «Облако,
озеро, башня», «Истребление тиранов», «По-
сещение музея», «Лик», «Василий Шишков»,
«Solus Rex», «Ultima Thule». Пьесы «Человек
из СССР», «Событие», «Изобретение Вальса».
Имя льва
На «второсортном языке» он тоже создал немало, одних романов —
опять же восемь штук. Ни в какое сравнение с русскими шедеврами они
не идут, зато один из них, названный «Лолита», принес автору — в силу
сенсационной для своей эпохи игривости сюжета — мировую славу. После
«Лолиты» (она вышла в 1955-м во Франции, в 1958-м в Америке) Набокова
перевели и переиздали заподлицо, на всех языках. По его книгам настряпа-
ли фильмов (в том числе хорошие режиссеры Кубрик, Фассбиндер, Сколи-
мовский); из 15 известных мне — две «Лолиты», а остальные, что неудиви-
тельно, — по текстам русского периода*.
По «Лолите» позже и опера возникла, русского композитора.
Автор вернул себе сказочное богатство и провел остаток дней (растя-
нувшийся почти на два десятилетия), снимая несколько номеров в шикар-
ном отеле в швейцарском городе Монтре. Отлучался за бабочками, за пару
лет до смерти получил в горах травму, пять часов провалялся без помощи
на склоне, потом упал в ванной, затылком, с сотрясением, потом была опе-
рация предстательной железы... Набоков не сдавался, бодрился и писал
до последней секунды — пусть уже скучно, но страстно.
Судьба, конечно, закачаешься.
Из князей в грязи историческим ураганом, а потом, на зубах, обратно
в князья.
И что важно, в Америке он вновь стал Набоковым.
С именем то есть, так: Набоков (прекрасные детство и юность) — Си-
рин (нищета и гениальная литература) — Набоков-штрих (богатство
и творческий упадок).
18 Подобную схему мы видим и в «Машеньке».
Главного героя зовут Лев Глебович Ганин, но в дальнейшем выясняется,
что он хоть и Лев, но никак не Ганин: фамилия подложная.
В ней кстати анаграммировано изГНАНИе, но — подложная.
Предположим, настоящая фамилия — N.
У N те же, что у Набокова, прекрасные младые дни: многие детали
в «Машеньке» совпадают с соответствующими страницами «Других бе-
регов» (этот шедевр русской словесности создан на основе английской
автобиографии в 1954 году; «Другие берега» — главная, если не един-
ственная, творческая удача Набокова в американский период, таким
в нем торчащая особняком, что у нас сложилась традиция публиковать
мемуар в собраниях сочинений мастера среди текстов сиринской, рус-
ской эпохи).
* «Лолита» С. Кубрика, 1962; «Смех в темно-
те» (читай «Камера обскура») Т. Ричардсона,
1969; «Король, дама, валет» Е. Сколимовски,
1972; «Отчаяние» Р.В. Фассбиндера, 1978;
«Машенька» Дж. Гольшмидта, 1987; «Изо-
бретение Вальса» А. Шапиро, 1988; «Ма-
шенька» Т. Павлюченко, 1992; «Секс-сказка»
(по рассказу «Сказка») Е. Николаевой, 1991;
«Хват» А. Кельчевской, 2003 (короткомет-
ражный); «Мадемуазель О» Ж. Фулона, 1994;
«Лолита» Э. Лайна, 1997; «Желание любви»
(короткометражный по рассказу «Случай из
жизни») А. Богданова, 1999; «Защита Лужи-
на» М. Горриса, 2000; «Бритва» Д. Черкаши-
на, 2008 (короткометражный); «Событие»
А. Эшпая, 2008.
Набоков без Лолиты
И сам роман (не текст, а слияние сердец) совпадает: реальную героиню,
живую, с которой юный Набоков, как и герой «Машеньки» со своей ба-
рышней, познакомился в 1915 году, звали Валентина Шульгина, уменьши-
тельно ласкалась Валентина как Люся, в «Других берегах» она названа Та-
марой, ну и о Машеньке не забудем: аж четырьмя именами героини
компенсируется анонимность «Ганина».
А подложное отчество «Глебович» даст мужу Машеньки Алферову воз-
можность начать роман с оговорки:
— Лев Глево...
Есть версия, что в оговорке этой зашифрован набоковский родовой
герб, в котором присутствуют и лев, и меч (glaive по-французски). [24:127-135]
Довольно широко распространена точка зрения, что «Другие берега» авто-
биографией в прямом смысле считать не следует. Что это нечто среднее
между жизнеописанием и романом. Дескать, Набокову важны были не
столько факты, не столько точность узора витража в беседке, сколько твор-
ческое усилие воображения, каприз... и неоднократно уличен мэтр, что не-
кий факт искажен или подменен в угоду позднему представлению автора
Имя льва
о том, как должна выглядеть в глазах потомков его жизнь. Скажем, настаи-
[79:58] вал в зрелом возрасте на том, что являлся «порождением атмосферы
Серебряного века», едва ли не из шинели Блока шагнул в мир большой ли-
тературы, а на деле стихи в юности писал в традициях усадебного дворян-
ского дилетантизма, в актуальные литсалоны не ходил, сидел дома и ни-
какого Серебряного века в глаза не видал. Или утверждал, что зачислен
в Тенишевское училище в 1911 году сразу в третий семестр (как то могло
[123:109] произойти с особо одаренным ребенком), хотя в реальности был зачислен
в 1910-м подобно обычным смертным, в семестр первый.
А главное — Мнемозина, муза памяти, она ведь именно муза: воспоми-
нание — это художественный акт, идет ниточка к ниточке с фантазией, а то
и скручены они в такую веревочку, что не расплести. Это абсолютно спра-
ведливое мнение, нуждающееся, однако, в крошечном уточнении: чтобы
творчески вспоминать, чтобы сравнить воспоминание с фокусником, как
это происходит в «КДВ», не нужно быть Набоковым-Сириным. Так функ-
ционирует воспоминание любого человека, обладающего хотя бы мини-
мальным воображением, а иных людей на свете почти и нет.
— Голых фактов в природе не существует, — назидает Владимир Влади-
мирович, — потому что они никогда не бывают совершенно голыми; бе-
[90:109] лый след от часового браслета, завернувшийся кусочек пластыря на сбитой
пятке — их не может снять с себя самый фанатичный нудист. Простая ко-
лонка чисел раскроет личность того, кто их складывал.
Про колонку чисел слегка преувеличено, но в целом не поспоришь. Любое
воспоминание искажает, преувеличивает и преуменьшает: у кого, конечно,
20 в большей степени, у кого — в меньшей, но мерить тут нечем, соответствую-
щей астролябии не изобретено и не будет. Мы за собственное-то воспомина-
ние не ответим, насколько оно перемолото в фильтрах сознания и времени.
— Самая примитивная curriculum vitae кукарекает и хлопает крыльями
[90: Ю9] так, как это свойственно только ее подписавшему! — не унимается Набо-
ков. Эта его реплика, как и предыдущая, позаимствована из книжки о Гого-
ле; отсюда, наверное, и «кукареканье».
Сам Набоков обращал внимание на свойство памяти модифицировать
мир и как-то сознательно с ним «играл» (или «работал»); пенсионер спец-
службы, вспоминая боевые деньки, уверен, что «все так и было», а резуль-
тат одинаков: не точны оба. Так что не верьте, услышав про «не совсем
автобиография»: «Другие берега» — полноценная, просто очень художест-
венная документалистика. В ней больше смыслов, чем в сухой хронике, но
документалистикой она быть не перестает, как не перестает быть «исследо-
ванием», несмотря на свой выдающийся художественный уровень, солже-
ницынский «Архипелаг ГУЛАГ» (встреча двух гениев была запланирована
в 70-е годы, но по некоей мутной случайности не состоялась, кто-то кому-
то в ключевую минуту не дозвонился).
— Сомневаюсь, чтобы можно было назвать свой номер телефона, не со-
[90:109] общив при этом о себе самом!
Да, мы уже согласились, Владимир Владимирович.
Набоков без Лолиты
23-34 — таков был номер телефона на Большой Морской, 47. Полунедо-
симметричный.
Сирин часто возвращался к своему — богатому во всех смыслах —
детству, одаривая его осколками самых разных героев: кому как раз теле-
фон в дом установит, кому сине-красный мячик подсунет, кому — гувер-
нантку. По мере отдаления от гувернантки во времени и пространстве ши-
рится зазор между автором и героем, но юный N из «Машеньки» еще мало
отличим от юного Набокова.
Итак, в Берлине Набоков становится Сириным, a N — Ганиным.
Есть реальное время романа «Машенька»: время повествования. Весна
1924-го, герой Ганин прыгает по Берлину, автор Сирин готовится писать о Га-
нине и тоже прыгает по Берлину. В это реальное время Ганин сбрасывает томя-
щую связь с женщиной по имени Людмила, ехидной комбинацией устраняет
из сюжета Алферова, помогает старому поэту Подтягину выудить паспорт
с визой из вязкого бюрократического коридора — пребывает в отличной
форме. Как и Сирин, сочиняющий первый из череды великих романов.
Покидая Европу, Сирин превращается в Набокова-штрих.
Но ведь грозит возвращение фамилии и Ганину.
Кое-кому из лиц, упоминающихся в романе, она известна. А именно —
заглавной героине. Мы ее (фамилию) могли бы узнать, подойди «Лев Гле-
бович» к Машенькиному вагону... Увидав его, Машенька выкрикнула бы
в изумлении:
— Лева!
Или, что для классической русской литературы вполне характерно («Так
делали тургеневские девушки», — полагает называющая шахматиста Лу- 21
жина по фамилии невеста), фамилию бы выкрикнула. Например, Громов.
Или Никитин. Нет, лучше Манин. В смысле Машенькин.
— Манин, ты?!
Допустим, он не сразу подошел к вагону... Полюбовался со стороны на
Машеньку, на ее потрепанный чемоданчик... Дал ей время позлиться на
мужа... оценил в конце концов на расстоянии, как она выглядит нынче.
Мало ли что.
И только потом подошел. Без цветов, руки в карманах (свои чемоданы
пристроил в хранение: не пожалел монеты для эффектности жеста). Сам
серьезный, серые глаза смеются, а потом улыбка обнажает на миг влажно-
белые зубы, и густые брови распахиваются, как легкие крылья, и у Ма-
шеньки душа в пятки.
— Манин, как ты здесь?! Меня встречаешь?!
Да, встречает. Не сбежал на другой вокзал, а встретил.
Человек, бывший Маниным в пространстве памяти, Ганиным в настоя-
щем времени романа, вновь стал бы Маниным. И что? Ганин проигрывает
по своей воле Машеньку, не обретая настоящего имени,— но что бы он
выиграл, ее и его обретя?
Не оказался ли бы, как Набоков-в-Америке, всего лишь Маниным-
штрих?
Имя льва
Что он может предложить Машеньке, кроме эффектного появления на
перроне — черным призраком, в расстегнутом макинтоше, купленном за
один фунт у английского моряка? Тут даже ситуация с треугольным адюль-
терным балаганчиком выходит какой-то куцей: она разыгралась бы, допус-
тим, в декорациях пансиона, но комната, покинутая Ганиным утром, уже
сдана (причем именно Машеньке! Алферов снял ганинскую комнату для
жены), и куда он повлечет ее с вокзала? В грязный дешевый отель? Девушка
устала с дороги. В новый поезд? Опять же, устала с дороги... да и куда этот
поезд? У Манина-Ганина нигде ничего нет.
«Материально» Ганин ничего Машеньке дать не может, но и мораль-
но — не может. Способный любить только в памяти, у Мнемозины за пазу-
хой, «тургеневский мужчина» — партия сомнительная.
К тому же, как сказано в следующем романе Сирина, где герои будут пла-
нировать убийство, изощренные способы его по ходу планирования меня-
лись, но «неподвижной всегда оставалась жертва, словно она одеревенела,
ждала».
Такой одеревенелой и ждущей лежала Машенька на плите в старом пар-
ке, но за восемь лет могла она и раздеревенеть.
Может, Машенька Ганина и узнать не захочет.
Может, ее Алферов — не та сухая цифра, которую нам предвзято выка-
тил рассказчик («Цифра и цветок», — характеризует Ганин пару Алфе-
ров—Машенька), а вполне себе добрый человек. Конфетой в стену в сцене
вечеринки неопрятно плевался... бывает по пьяни. Противно, но прости-
тельно. Бутылку пустую на той же вечеринке хотел из окна эдак по-гусар-
22 ски метнуть, но ведь не метнул. Можно углядеть в этом граничащую
с тряпкостью нерешительность (нацелился — кидай!), но ведь и Ганин хо-
тел встретить Машеньку, а не встретил.
О Машеньке известно, что через несколько лет она живет с Алферовым.
Семья их трижды упомянута в «Защите Лужина», причем Машенька и там
не вполне выходит на сцену: Алферов машет руками, трындит, зазывает
встреченных на улице Лужиных в гости, а Машенька хоть и рядом, но не
произносит ни слова. Читатель, еще не остывший от «Машеньки», может
думать, что она остается при таком муже исключительно по скорбным
практическим соображениям (выживать в эмиграции непросто, а Алфе-
ров — практический талант, затевал некое «дело»), что в ее судьбе проис-
ходят какие-то события поинтереснее («Такому не изменять — грех», ду-
мает Ганин, слушая за обедом в пансионате слащавые рассказы Алферова
о жене, еще не зная, что жена эта — Машенька), но это все фантазии,
а семья Алферовых — вот, существует, и, может быть, там знают что-то
про любовь.
В то время как Ганина не слишком забавит даже ее плотская сторона.
Он овладел Людмилой в таксомоторе, на заднем сиденье, и именно
лихость, гусарский антураж этой ситуации был для Ганина главным:
дальнейшей связью с Людмилой он тяготится и рад возможности ее
разорвать.
Набоков без Лолиты
Клара, соседка по пансиону, всю книгу только и делает, что вздымает пе-
ред Ганиным высокую грудь, но сама понимает, что шансов у нее — ноль.
Хотя мог сделать девушке подарок на день рождения, который празднуется
в последний вечер романа.
Смотреть чужими глазами — важная для Сирина тема. Включим точку
зрения, например, карикатуриста Горна, персонажа «Камеры обскуры». Его
праздный ум горазд в изобретении жестоких развлечений. Он научил свою
боевую подружку Магду звонить, вооружившись телефонной книгой, не-
знакомым людям, фирмам, магазинам, заказывать на разные адреса слу-
чайные вещи... например, гроб.
Глянем на последние страницы «Машеньки» его шаловливыми глазами.
У Клары день рождения, утром Ганин уедет... почему ему не провести
с Кларой предутренние часы... в своей комнате, пожал бы плечами Горн.
Или в Клариной комнате — тогда вовсе через стенку от умирающего поэта
Подтягина.
Клара, например, уверена, что Ганин — вор, и это ее не отталкивает, это
лишь дополнительная краска в ее влечении. К Ганину у всех влечение. Гомо-
сексуалист Колин хочет стать Лёвиным, подкатывается к Ганину, смотрит
в глаза, напрашивается в гости и, даже перенося умирающего Подтягина,
норовит не старика поддерживать, а потрогать Ганина за руку. Людмила
Николаевна Дорн, немолодая хозяйка пансиона, видит Ганина во сне... эти,
конечно, ладно — но Клару-то почему нет?
Кощунственное соитие через стенку от трагедии лишь добавило бы
краски в будущие кларины страдания.
Девушки должны страдать, им это очень идет!
И все без обмана: Клара прекрасно знает, что Лев Глебович уже собрал
чемоданы.
Не захотел Ганин, не подарил Кларе ночь.
На рассвете в ванной взял душ, и, наверное, в суете вокруг умирающего
поэта никто в эту ванну до Машеньки не залезет, а она залезет. С дороги
долгой, даже если ванна ужас («грязнее французской общей ванной нет на
свете ничего, кроме немецкой» — указано в «Других берегах»), даже если
в доме уже и труп (который Алферов непременно использует для заглажи-
вания вины перед невстреченной женой, как он его использовал позже
в «Лужине»: любил врать, что на его руках скончался некогда старый поэт).
Окунется Машенька в чумазую ванную, не зная, что последним до нее,
всего три часа назад, здесь мылся Левушка.
Что на ржавом дне — тепло его пяток.
Это чужое тепло, растаявшее в железе — ключа ли из «Себастьяна Най-
та», ванны ли в «Машеньке», — не нужно женщинам, давным-давно по-
строившим себе другую жизнь.
Или — почувствует что-то Машенька. И не поймет — что.
И нет среди русских потерянных теней ни фотографа, ни художника,
никто Ганина не запечатлел, и фамилии настоящей убывшего постояльца
не знает никто.
23
Имя льва
Так, жил один сероглазый с острым лицом. Мало ли в эмиграции ост-
рых лиц.
Здесь еще бродит его призрак, Машенька столкнется с ним в коридоре...
поморщит носик... Ганин вспоминал тонкий изгиб ноздри, которая в ста-
рой России то щурилась, то расширялась...
Женщина, давшая роману имя, в реальном действии ни разу не появля-
ется. Участвует в книге, так сказать, заочно. Ее приезда ждет муж, потом ее
начинает ждать Ганин, увидавший фото, и я жду: где же Машенька, ау!
Приедет ли она? Хочется зреть ее во плоти.
Она доберется до пансиона, сложит вещи в шкаф, откуда вчера убрал
свои Левушка.
Машенька, там его запах, совсем свежий! Ты помнишь Левушку, Ма-
шенька?
Он сам четыре дня назад полетел в колодец воспоминаний о тебе, учу-
яв из гаража запах карбида, которым наполнялся фонарь велосипеда, что-
бы в темноте по дороге на свидание с тобой не натыкаться на корни. Запах
как источник воспоминаний — мотив популярный, и у Тургенева в «Асе»
он есть — там запах конопли напоминает герою родину.
Но Машенька Левиного запаха не почует... да? Или как вы думаете?
В прошлом Ганин, тренируя волю, вставал ночью с постели, одевался,
шел на улицу бросить окурок в почтовый ящик. Тоже — запах оставлял.
Непонятный след.
24
Когти льва
Сиринские курильщики рассовывают окурки и спички в разные замеча-
тельные места.
Рассеянному шахматисту Лужину родители жены выговаривают, что он
не умеет обращаться с последышами курения: однажды окурок обнару-
жился в пасти полярной медвежьей шкуры, частый гость он «во всех ва-
зочках», а на приеме у чиновника герой сунет окурок в карман.
В «КДВ» кто-то раздавил окурок на голове механического манекена, Та-
ня в «Круге» приспособила под пепельницу морскую раковину.
В «Ударе крыла» золотой окурок элегантно плещется в фарфоровой глу-
бине писсуара. Закадровый счастливый соперник рассказчика «Благости»
оставит окурок (опять золотой) и надгробную горстку пепла на спичечном
коробке. Писатель в «Пассажире» рассеянно бросит спичку в пустую рюм-
ку собеседника.
Карикатурист Горн, входя в лавку восточных тканей, любил пристроить
тлеющий окурок на сложенный в углу дорогой шелк и общаться с продав-
цом, пока окурок творил катастрофу, а Магда тушила папиросу о руку застен-
чивого молодого писателя (который героически улыбался и просил еще).
Проходной персонаж «Подлеца» кидает в тот же — хотя, возможно,
и в другой — почтовый ящик зажженные спички, и в каком-то из парал-
лельных миров стоят у обугленного ящика пожарный с почтальоном, цо-
кают языками — опять герои Сирина поднагадили, скорее бы он сбежал
от нашего нацизма во Францию.
Директор тюрьмы в «Приглашении на казнь» топит останки папиросы
в остатке соуса. Себастьян Найт в «Подлинной жизни Себастьяна Найта»
использует в качестве пепельницы комнатную туфлю.
Фокусник Шок («Картофельный Эльф») прячет за пазуху даже не оку-
рок, а горящую сигару.
25
Когти льва
[96 ii:670] Рецензируя в «Руле» очередной номер «Современных записок», Сирин
мигом обнаруживает у прозаика Темирязева (литпсевдоним художника
Юрия Анненкова) нищего персонажа, коему в шляпу бросил окурок игри-
[96Ш:681] вый прохожий. Оценивая сборник стиходрам В. Корвина-Пиотровского,
в первой же цитате упоминает горбатого коня в окурках и золе. Разбирая
повесть Бориса Зайцева, где человек, сгорающий от любви, уподоблен
спичке, учит со знанием дела:
[96 п: 669] — В жизни бывает, что вслух сравнивают жизнь со спичкой, но не быва-
ет, чтобы при этом так литературно описывали сам огонек спички.
[90:99] «Самым выразительным» в образе Манилова считает горки золы, кото-
рые прекраснодушный помещик выбивал из трубки и аккуратными ряд-
ками оставлял на подоконнике.
Годунов-Чердынцев («Дар»), приступая к освоению нового жилища,
прикидывает, сколько пепла надо просыпать под кресло «и в его пахи»,
чтобы оно стало пригодным для путешествий (имеются в виду мысленные
путешествия, когда уносишься куда-либо мечтой; «так», а не сам). В конце
же романа призрак Кончеева предполагает, что брал в библиотеке тот же
том Н.Г. Чернышевского, что и герой, ибо между страницами обнаружился
чердынцевский пепел (вряд ли в читальном зале дозволялось курить; Фе-
дор, видимо, пронес пепел для книги в кармане).
Гости других Чернышевских сбрасывают пепел в блюдце с вишневым
вареньем.
Антон Петрович («Подлец») пепельницу использует, но извращенным
образом — его в нее тошнит.
26 Ирина Гуаданини, единственная опасная для семейного счастья Набоко-
[ 152:120] ва его любовница, «обожала оставленный им в пепельнице окурок» — что
бы ни означала эта фраза Пулитцеровской Лауреатки, сочинившей биогра-
фию Веры Слоним.
Апофеоз же нецелевого использования реальности под окурки мы об-
наружим в рассказе «Облако, озеро, башня», героя которого, неудачно уго-
дившего в «увеселительную поездку» с бравыми немцами, попутчики за-
ставили окурок съесть.
Упражнения такого рода, конечно, связаны с желанием-умением Сири-
на рассовать по тексту толику милых объектов: окурок в медведе, спичка
в рюмке... Увидеть «гротеск», как сказано в «Даре», когда Федор и его мать
замечают из окна трамвая мотоциклиста, везущего в коляске бюст Вагнера
(неплохо было бы нацепить композитору еще и черные мотоциклетные
очки). Хорош схрон, сделанный в усадебном лесу юным Лужиным: вот уже
почесал в затылке лесной комиссар, чей служебный кобель вырыл из земли
коробку дорогих шахмат. Темна для полиции бутылка водки, выкопанная
близ места убийства в «Отчаянии»; в том же романе возникает эффектная
штука: кисточка для бритья на подножке автомобиля в заснеженном лесу.
В «Приглашении на казнь» остроумцы оставляют три аккуратные кучки
на идиллической скамейке (подделка из коричневой крашеной жести), там
же в камеру Цинциннату подсажен (подвешен) пластмассовый паук.
Набоков без Лолиты
Кто-то неведомый, но упорный притащил под куст шиповника в Груне-
вальдском лесу разбитый параличом ^атрибутированный гипсовый
бюст. Обнаруживается в чаще стенное зеркало, пьяное от смеси солнца
и зелени. Художник Романов в «Даре» рисует черную портняжную болван-
ку, сваленную в канаву великолепных кленовых листьев; диктатор в «Ист-
реблении тиранов» любуется глиняным слепком с рекордной двухпудовой
репы, а после встречи с умелой огородницей, расчувствовавшись, велит от-
лить репу из бронзы. И уж никак не мог пройти Набоков в мемуарах мимо
уха террориста, найденного в листве невинной липы в сквере против Иса-
акиевского собора: злоумышленник неряшливо переупаковывал смерто-
носный сверток в снятой неподалеку комнате.
Но на секунду представим, что злоумышленник переупаковывал свер-
ток как раз в высшей степени аккуратно: чтобы он рванул образом, необ-
ходимым и достаточным для перелета уха из окна до липы. Знак для прита-
ившегося в сквере наблюдателя. Было два варианта: если прилетит нос —
молниевидно двигаться в сторону Мариинского театра, а если ухо — валь-
яжно променировать к Адмиралтейству, ожидая дальнейших указаний.
Наблюдатель прокашлялся, затушил окурок меж ребер скамейки, чинно
встал, поправил кашне и побрел к Адмиралтейству.
И гипсовый бюст в Груневальде не атрибутирован лишь для профанов,
а тот, кому сигнал предназначался, понимал, что раскосое лицо значит од-
но, а сонное — другое.
Вот гроссмейстер Лужин уходит из жизни, у него есть несколько неболь-
ших минут до прыжка в холодную пропасть. Он выкладывает из карманов
на граммофонный шкафчик самопишущую ручку, смятый платок, еще 2/
платок (свежий), портсигар с тройкой на крышке, пустую красную коро-
бочку из-под папирос, две отдельные папиросы, бумажник, золотые часы
и крупную персиковую косточку.
Что он сделал? Просто сбросил перед полетом балласт? Балласт, то есть,
сбрасывается во время полета — значит, просто избавился от лишнего гру-
за? Претенденту на шахматный трон несолидно лететь из окна, роняя по
ветру коробочки и персиковые косточки.
Хотя брел же он по санаторной тропинке перед знакомством с будущей
женой, роняя последовательно носовой платок, смятую папиросу, потеряв-
шую половину своего нутра, орех и французский франк...
В рассказе про горячо уважаемого Набоковым Шерлока Холмса «Рейге-
тские сквайры» описано преступление, в ходе которого злоумышленники
унесли из дома томик переводов Гомера, два золоченых подсвечника,
пресс-папье из слоновой кости, маленький дубовый барометр да клубок
бечевки. Холмс предполагает, что такой набор не может иметь общего зна-
менателя, а значит, кража произведена для отвода глаз.
Но как знать — может быть, некто, знающий шифр, умеет сопрячь золо-
ченые подсвечники с дубовым барометром.
Тема тайного агента, шпиона, посланца с таинственной миссией —
сквозной сиринский интерес.
Когти льва
— Мне показалось однажды странным, что человек, которого я случай-
но заметил в трамвае — неприятный блондин с бегающими глазами, —
был в тот же день встречен мною опять: он стоял на углу моей улицы и де-
лал вид, что читает газету.
Это из «Соглядатая». Мир полон тайных агентов и секретных операций.
Мартын, герой «Подвига», хочет нелегально пробраться на 24 часа в Со-
ветскую Россию. Читатель вроде бы понимает, зачем затеян смертельный
кунштюк: из любви к искусству, из потребности в риске.
Мартын только и делает, что проверяет себя: а залезу ли я на вон ту вот
скалу, а смогу ли всерьез, в кровь подраться с лучшим другом, а проживу ли
своим трудом (батрачить поехал во Францию даже) без помощи дядюш-
ки... Постоянно берет себя «на слабо». Двинуть из-за этого переживания
в смертельную экспедицию — перебор, конечно, но Сирина такие пере-
борчивые ситуации и люди и интересуют, а мы, во всяком случае, пони-
маем Мартынову логику.
А вот современники не очень понимали, удивлялись, когда вышел роман.
— Цели в его «подвиге» нет; нет и достаточного мотива, даже личного, —
[57:94] это Михаил Осоргин в парижских «Последних новостях».
— Мартын едет в Советскую Россию, но мог бы с тем же основанием
[57:92-93] отправиться на Полинезийские острова, — Адамович в той же газете.
И любезный Дарвин, лучший друг и прекрасный драчун, не понимает,
чего добивается Мартын... может, за его безумием стоит обыкновенный
шпионский замысел (пронести через границу документ, бомбу с ухом)...
Замысел, кажется, как раз предельно абстрактен, именно что в жанре «так,
28 вообще», смысл его — магическое взаимодействие со своей судьбой, с не-
бесной Россией, а не с тайной организацией, но действительно, мало ли что
там на уме у суперагентов, до конца это нам никогда не известно.
Читатель, конечно, не суперагент. Утверждение, что читатель заброшен
в роман, как парашютист в тыл противника, излишне метафорично. Но
слегка потренироваться...
Легкое упражнение: гантель, тьфу, деталь, предсказывающая дальней-
шие события. При первом прочтении деталь такую обычно не замечаешь,
но при перечитывании радуешься ей, как родной. Умелая стратегия втаски-
вания читателя в текст: перебирая улики и обнюхивая следы, он доволен
своими находками и хочет еще.
Первая сцена «Машеньки», Ганин и Алферов застряли в лифте, Алферов
со скуки придумывает пти-жо, предлагает Ганину загадать двузначное чис-
ло... Раздраженному Ганину не до того, но позже, в глубинах романа, он на
этот вызов ответит — именно двузначным числом. Я попозже расскажу,
как именно, а пока дам возможность любителям и знатокам романа дога-
даться самостоятельно.
Первые сцены «КДВ»: на стене в купе, в котором едут и валет, и король
с дамой, фотографии — «какой-то собор, какой-то водопад». Через страни-
цу появится фраза дамы (посвященная еще не знакомому ей валету): «На-
воднять дело бедными родственниками», возражение короля: «Какое же
Набоков без Лолиты
наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник». И в кон-
це там будет много воды.
Можно и в соборе углядеть намек на проблемы, которым подвергнется
в книжке институт брака. Но, конечно, при перечитывании. Или есть осо-
бо чуткие агенты, у которых сердце аккуратно екает условленным еком во
всех заминированных местах при первом же знакомстве с текстом?
Первая глава «Защиты Лужина»: маленький герой сбежал со станции
(в город не хочется, там поведут в школу), забился на чердак, видит сверху,
как его ищут, как погоня поднимается по лестнице, «поминутно перегиба-
ясь через перила»: вдруг мальчик свалился вниз, и в этой сцене предсказан
финал («дефенестрация Лужина», по ловкому выражению Сверкающего [8:102]
Абракадабра).
Ближе к концу романа жена Лужина смотрит из окна спальни во двор,
куда из соседнего окна полетит в финале гроссмейстер, и видит лужу на ка-
менной панели вдоль газона. А сам Лужин замечает фотографию в газете,
как человек валится с крыши небоскреба, цепляется за карниз.
Завязка «Камеры обскуры»: Кречмар заходит в кинотеатр, где заканчи-
вается безымянный фильм, на экране непонятное разрешение каких-то
событий — «кто-то плечистый слепо шел на пятившуюся женщину». Это
разрешение всего романа, который нам только предстоит прочесть, а Креч-
мару пережить.
— Было странно подумать, что эти непонятные персонажи и непонят-
ные действия их станут понятными и совершенно иначе воспринимаемы-
ми, если он просмотрит картину с начала, — невозмутимо замечает рас-
сказчик.
Новичок, клюнувший на Набокова, заражается привычкой всюду ис-
кать подвох, наверное, не сразу: нужно время понять, что автора хлебом
не корми, а дай поиграть с читателем в кошки-мышки. Герои ближе к авто-
ру, чем читатели: науськаны на подвохи по праву крови.
Граф Ит из рассказа «Занятой человек» боится умереть в 33 года, и весь
календарный отрезок, что соответствует роковой цифре, он проводит
крайне осторожно, стараясь пореже высовывать нос на улицу и выгляды-
вая тайные знаки. Любитель описок, разных художественных казусов, он
вырезал из газеты квадратик со строкой «после долгой и продолжительной
болезни», а саму газету выбросил, но вскоре увидел этот же, с аккуратным
окошком, экземпляр в руках торговки, заворачивающей ему кочан капус-
ты. Тут знак не просто ложный, а очень сложный, совершенно не ясно, на
что намекает это маловероятное совпадение. Может быть, просто на то, что
небеса слышат его, сочувствуют его метаниям и сообщают: не суетись, мы
рядом. Но что такое «рядом» по отношению к небесам, от них в некотором
смысле Граф как раз и старается держаться подальше... И не ведет ли через
кочан капусты тайный ход в одно стихотворение о трамвае... Ничего не
ясно, всегда следует быть настороже!
Лужину всю вторую половину романа кажется, что мир плетет вокруг
него изощренный загадочный заговор. Внешне заговор выражается в том,
29
Когти льва
что в берлинской действительности один за другим повторяются образы
его детства (в вопросах врача, в реплике советской дамы, знававшей в Пе-
тербурге тетю, которая научила Лужина шахматам; на балу встречается од-
ноклассник. ..), смысл этих комбинаций фатума непонятен, а оттого особо
зловещ. Будешь тут рассовывать окурки по карманам и медведям.
Далеко я, между тем, ушел от окурков. Агенты и сыщики со своими
проблемами от нас никуда не денутся. Мы еще не разобрались с окурком,
который Ганин бросает ночью в почтовый ящик.
Шпионская версия хороша, но есть и объяснение попроще.
Владимир Владимирович был злостным чекуртабом. Высмаливал еже-
дневно, по примеру собственной матери, по три-четыре пачки сигарет-па-
пирос. Атрибуты дымчатого недуга окружали его в сто раз гуще, чем окру-
жают, допустим, почти равнодушного к табаку автора этих строк. Каждую
секунду на каждом метре его жизни присутствовали коробки, спички,
фильтры, просыпавшийся табак, пепел... в таких обстоятельствах нач-
нешь делиться всем этим барахлом с персонажами невольно, без всяких
задних идей.
Закуривая в пустынном лесу, Мартын чувствует во рту сладковатый
вкус от серной спички и замечает, что огонек ее почти незрим в знойном
воздухе: редкий пример столь пристального внимания к маленькой палоч-
ке с горючим наконечником. В «Подвиге» есть и коробок спичек, летящий
в пропасть, и спички, которыми торгует незрячий, «слепец, продающий
свет». В «Отчаянии» человек уподобляется ничтожной спичке, которой ба-
луется Высшее Существо.
30 В эссе «Руперт Брук» перед нами с лихорадочной торопливостью мельк-
нет человек, «который ищет спички в темной комнате, пока кто-то грозно
[96i:73i] стучится в дверь». Застань меня в темной комнате грозный стук, я не поле-
зу в карман за спичками, и не из концептуальных соображений, а потому
что их там нет.
А вот, например, спиртоносные жидкости герои употребляют, подобно
автору (парижская эмиграция будто бы даже злоязычила, что Набоков пьет
горячий шоколад вместо положенного литератору перно), значительно реже
и вне обрамления такими остроумными фокусами. Фокусы если и возника-
ют, то отменно нелепые: так в «Ударе крыла» двое мужчин в баре совершают
«странствие Вакха», то есть наворачивают по рюмке каждого напитка из об-
ширного меню по алфавиту... но мешать зелья, абстрагировавшись от со-
держания градусов и сахара, не станет ни один уважающий себя пьяница.
И дико выглядит приписанное Францу («КДВ») «пряное мотовство»
в виде рюмки густого белого кюрасо. Вот уж мотовство. Не сразу еще и со-
образишь, что это (этот?) кюрасо — с градусами (в том же абзаце в списке
мотовств явится огромный помпилиус, похожий на желтый череп, куплен-
ный как-то по дороге в школу, про который тоже не сразу сообразишь, что
речь о... о чем, кстати? о цветке? о пирожном?).
Исключение представлено парадом чортиков в белой горячке героя рас-
сказа «Памяти Л.И. Шигаева»:
Набоков без Лолиты
— Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобрев-
шую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках...
Прямо-таки чернокожие, Владимир Владимирович? Как негры?
— Да, черные, с одутловатыми, довольно, впрочем, добродушными мор-
дочками, они, группами по пяти, по шести, сидели на столе, на бумагах, на
томе Пушкина — и равнодушно на меня поглядывали; иной почесывал се-
бе ногой за ухом, жестко скребя длинным коготком, а потом замирал, за-
быв про ногу; иной дремал, неудобно налезши на соседа...
Очень хорошо. Но вряд ли парад списан с натуры. Вот и Юный Техник
спешит перевести стрелки — генеалогию чортиков — с алкоголя как раз [96 ш;825]
на Пушкина: рассказ написан вскоре после выхода монографии о пушкин-
ских рисунках, в которых щедро размалеван рогатый род.
Алкоголь представлен у Сирина крайне скромно... для русского-то пи-
сателя. В «Даре» даже присутствует оскорбительная фразочка «поганые
спиртные напиточки». Спичку в рюмку бросили, вот ведь! Даже мастер ле-
пить разнообразнейшие образы-типажи, игристый фантазер не способен
изжить из текста следов своей психосоматики.
Латинское выражение «Ех ungue leonem», «по когтям льва», знакомо
многим по названию эпиграммы Пушкина, где оно употребляется в смыс-
ле «большого писателя узнаешь по стилю», но значит оно, в общем, «по
когтям — любого из нас». У кого что болит, короче.
Львы, однако, не любят, когда их ловят за когти.
Машенька с Ганиным обнаружили на своем любимом садовом столике
хулиганскую надпись химическим карандашом. Деревенский озорник
соединил их имена коротким, грубым глаголом, безграмотно начав его 31
с буквы «и». И они начали спокойно молча стирать пучками травы сырой
лиловатый росчерк — не потому что надпись не соответствовала действи-
тельности, а потому что посягала на то, что касалось только их двоих.
В пансионе Клара застала Ганина открывающим ящик чужого стола,
а Ганин, уезжая, думал объяснить ей, в чем дело, да не стал. Репутацию вора
иметь мало кто хочет, но Ганина она устраивает — в качестве ложного сле-
да. Объяснившись про фотографию (истинную цель охоты), он выдал бы
свою связь с Машенькой.
Вот почта, казалось бы, зона ясности и четкости: штемпели, адреса, име-
на корреспондентов, сроки доставки.
Но в почтовом ящике болтается окурок, а Алферову в пансион прихо-
дит письмо от жены, на котором она «смешно написала» адрес. Эта загадка,
что за «смешно», не имеет, кажется, в романе ответа. Разве что провоциру-
ет новый вопрос: легко ли невстреченная Машенька нашла пансион по
смешному адресу?
Шахматист Лужин не слишком склонен к пустому потрясанию
чувством юмора. Но, выстучав в процессе овладения техникой машинопи-
си белиберду: «Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 нояб-
ря. Убийство и поджог. Здравствуйте, милостивая государыня. Теперь, ког-
да ты нужен, восклицательный знак, где ты? Тело найдено. Милостивая
Когти льва
государыня!!! Сегодня придет полиция!!! Аббат Бузони», он отправляет ее
выуженной из телефонной книги рантьерше Луизе Альтман. Обращение
к адресату, заметим, появляется в середине депеши. А в «Подлинной жизни
Себастьяна Найта» мы и вовсе встретим письмо, которое «было начато
с неделю назад и до слова „жизнь" предназначалось другому лицу. Затем
оно каким-то образом обратилось к тебе...».
Примеров странной почты у Сирина много, позже я найду для них мес-
то в путеводителе.
Мы не ведаем, кому пишем, и не знаем, как отзовутся наши следы и как
далеко они заведут.
Фамилия Ганин тоже могла быть позаимствована Сириным из «Аси»:
брата девушки там зовут Гагиным, а рассказчика — Н.Н. В результате не-
хитрого сложения и вышел Ганин.
В черновиках «Анны Карениной» (тоже книга с «женским названием»)
[из: 806] Гагиным звали Вронского, который, подобно Ганину, уехал в ключевой мо-
мент на поезде... Впрочем, развивая эту параллель, сравнивая человеков-
1133: воз] цифр Каренина и Алферова, отмечая, что в других толстовских черновиках
Вронский был Балашовым (такую же фамилию носил одноклассник В.В.,
сосед по поэтическому сборнику «Два пути»; в «Машеньке» и в «Лужине»
Сирин именовал Балашовским Тенишевское училище), потешаясь,что на
[1зз: 806] заре замысла «Анна Каренина» называлась «Молодец-баба», а первая ре-
дакция начиналась не унылым афоризмом про счастливые и несчастные
[1зз: 686] семьи, а хлесткой фразой «В Москве была выставка скота» (а через много
лет со слова «скот» начнется фильм «Защита Лужина»), помянув наконец
32 любимого Набоковым Лёвина (именно так, с «ё», звучал толстовский герой
для современников), мы слишком уйдем в сторону. Дилижанс лишь разго-
няется, приноравливается к колее, маршрут не устаканен.
Что до имени Машенька: так как героиня, по дружному мнению эми-
грантской и патриотической критики, к которому в данном случае глупо
не присоединиться, символизирует потерянную и не могущую быть вновь
обретенной Россию, то логично ей символизировать заодно и русскую сло-
весность. .. что легче всего, конечно, сделать, обратившись к посредничест-
ве и: ю] ву Пушкина. Ходасевич перечислял пушкинских Марий: главные героини
«Бахчисарайского фонтана», «Метели», «Капитанской дочки», «Дубровско-
го», «Полтавы», «Марии Шонинг»... плюс еще четыре второстепенные
Марии.
Пушкин с Ходасевичем к нам вернутся после короткой паузы.
Пока — Ганин убегает от женщины на юг.
Кстати, Тургенев, изрядный попрыгун, писал «Асю» пять месяцев... где?
В Зенциге, Баден-Бадене, Париже, Булони, Куртавнеле, Лионе, Марселе,
Ницце, Генуе, Риме.
Утрата как ценность
В 1925 году Владислав Ходасевич, единственный из живых литераторов, ко-
го мой герой признавал себе равным, сочинил жутковатый стишок:
Нет ничего прекрасней и привольней,
Чем навсегда с возлюбленной расстаться
И выйти из вокзала одному.
По-новому тогда перед тобою
Дворцы венецианские предстанут.
Помедли на ступенях, а потом
Сядь в гондолу. К Риальто подплывая,
Вдохни свободно запах рыбы, масла
Прогорклого и овощей лежалых
И вспомни без раскаянья, что поезд
Уж Мэстре, вероятно, миновал.
Потом зайди в лавчонку banco lotto,
Поставь на семь, четырнадцать и сорок,
Пройдись по Мерчерии, пообедай
С бутылкою Вальполичелла. В девять
Переоденься и явись на Пьяцце
И под финал волшебной увертюры
«Тангейзера» — подумай: «Уж теперь
Она проехала Понтеббу». Как привольно!
На сердце и свежо, и горьковато.
Как хорошо, дескать, на свете одному брести домой с шумящего вокзала.
Племянница Ходасевича Валентина в детстве называла будущего поэта
«царем и богом», которому, как известно из Пушкина, следует жить одному:
33
Утрата как ценность
[ 140: го] — Царь и бог! У меня не получается, сколько будет пять и три, — помоги.
Ходасевич сочинил про Тангейзера и Мерчерию по мотивам происшест-
вия аж 1911 года, вспомнив, как провожал на венецианском вокзале свою
возлюбленную Евгению Муратову, бывшую жену знаменитого искусство-
веда. Одновременно с Муратовой уехала тогда и жена Бориса Грифцова
Екатерина Урениус, будущая жена того же искусствоведа. Оставшиеся
[i4i ш:521] мужчины бродили, переживая «странную сладость в смущении, что лю-
бовь прошла».
Эти слова Грифцова из «Бесполезных воспоминаний» (написаны в 1915-м,
изданы в Берлине в 1923-м) и могли напомнить Ходасевичу старое
чувство. Тогда, по горячим слезам (это опечатка, но удачная), Ходасевич
составил эссе «Город разлук». Дескать, Венеция зело подходит для расстава-
ний, из нее всегда было принято легко уезжать за богатством или смертью
в бликующее неведомое:
[141 ш: и] — Ничего не стоит вдруг, ни с того ни с сего, пойти к себе, завязать чемо-
дан и уехать.
Грифцов не возражал:
[зо: 1 ю] — Легко знать, что ничем не связан, достаточно собрать эту горсточку
вещей за полчаса до отъезда...
Но вряд ли все стоит валить на Венецию. Это мужское чувство — заку-
рить первую свободную сигарету, проводив семью на таможенный, ска-
жем, контроль, либо самому переступив демаркационную линию, — от
географии не слишком зависит.
— Есть в одиночестве свобода, и сладость в вымыслах благих, — напо-
3 4 минает Владимир Владимирович.
Машенька и была овеществленной сладостью, которую заменили вы-
мыслы, но и Машенька теперь уже ни при чем.
Ее «образ закончен» («остался вместе с умирающим старым поэтом там,
в доме теней, который сам уже стал воспоминанием»), а с образом легче,
чем с живой — да Бог ее знает, может, еще и раздобревшей — Машенькой.
Например, Зощенко (он нравился Набокову) мог завершить свою «Ма-
шеньку» таким макаром: муж устранен, поезд подходит, но что же, ужели
вот та гражданочка поперек себя шире с полосатым узлом — та самая Ма-
шенька? Увольте.
[66:15] Или так: менее чем через год после выхода «Машеньки» в парижской
«Иллюстрированной России» увидел свет рассказ Ивана Кролика «Лямур
в метро и Норд-Сюде», в котором Иван Аполлонович знакомится в метро
с женщиной, приглашает ее в кафе, но бежит прочь, узнав, что его новая
спутница — русская. Это уж хватит, русских-то.
Тут я уронил планку, вернем ее на должную метафизическую высоту.
В 1922 году Сирин писал о британском стихотворце Руперте Бруке, что
тому не ущербное какое-нибудь некрасивое тело, а тело как таковое меша-
ет любить женщину.
Хорошо бы любить женщину, будь она цветущим деревом, сверкаю-
щим потоком... эх, да что там:
Набоков без Лолиты
— Хотел бы я, хотел, чтоб ты в гробу лежала, — так в результате Брук
в переводе Сирина обращается к возлюбленной. [96 ъ 739]
Ибо будет законченный образ.
Есть ветер, сигарета есть, лучше, наверное, сумерки (хотя Ганин на рас-
свете уезжал, тоже ничего), есть предвкушение пути и какая-нибудь не-
проглядная даль... новые запахи, вывески... волосы вот треплются... хо-
лодок. .. в солнечном сплетении такая пустота приуготавливается, будто
бы там вот-вот поселится целый новый космос.
А она... Ее образ закончен.
Созданием бессмертного образа погибшей возлюбленной занят герой
«Возвращения Чорба»: его жена как раз благополучно хранится в гробу, по-
гибла, схватившись рукой за голый провод, и Чорб теперь отматывает на-
зад медовое путешествие.
— Он отыскивал по пути все то, что отметила она возгласом: особенный
очерк скалы, домишко, крытый серебристо-серыми чешуйками, черную
ель и мостик над белым потоком, и то, что было, пожалуй, роковым прооб-
разом, — лучевой размах паутины в телеграфных проволоках, унизанных
бисером тумана.
С обнаружением предзнаменования агент запоздал. Но еще не поздно
замкнуть сюжет.
— Ему казалось, что, если он соберет все мелочи, которые они вместе
заметили, если он воссоздаст это близкое прошлое, — ее образ станет бес-
смертным и ему заменит ее навсегда.
Удобно. Бессмертная любовь налицо, и безо всякой сопутствующей от-
ветственности. 35
Тело при таком раскладе, конечно, — унылое недоразумение. Оно каза-
лось Чорбу чужим и ненужным уже через несколько мгновений, когда он
нес его на руках до ближайшей деревни.
Похорон Чорб не дождался. Смылся, добрался до начальной точки путе-
шествия, разместился в грязной гостинице, куда молодая чета сбежала из
чопорного дома родителей, из парадной спальни с периной и ковриком
«Мы вместе до гроба»: вот, кстати, еще одно сбывшееся предзнаменование.
Попал в тот же номер и привел с собой проститутку, вовсе не собираясь
вступать с ней в тесный контакт. Она нужна была как последний знак, как
обездушенное тело.
Знаки одиночества и свободы
В сиринском мире функционирует целый международный клуб, в сознании
членов которого связаны короткой алой молнией смерть жены и проституция.
Герой «Удара крыла» первую ночь после смерти жены проводит с прос-
титуткой, более активно, нежели Чорб.
В «речи Позднышева», которую Сирин произносил в июле 1926 года на
«литсуде» над героем «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого, сверкает такая
молния:
Утрата как ценность
— Это чувство непоправимого, невозвратимого я испытал только два
(97:544] раза в жизни: когда глядел на одевавшуюся проститутку (после потери
девственности. — В.К.) и много лет спустя, когда глядел на мертвое лицо
жены.
Озабоченный Кречмар из «Камеры», когда его жену увозят в родильный
дом, шалеет от двух мыслей: что жена может умереть и что он сам, не будь
таким трусом, мог бы найти сейчас в «каком-нибудь баре» женщину и при-
вести ее домой.
Соседствует тема смерти жены с упоминанием гигиенического вечера
в небольшом женском общежитии на бульваре Взаимности в «Ultima
Thule».
В черновиках второй, незаконченной части «Дара» сцена смерти Зины
записана рядом со сценами встреч Федора с парижской проституткой.
Есть еще инверсия в «КДВ»: там готовится убийство мужа, в энциклопе-
дии изыскиваются полезные сведения о ядах, а Франц вспоминает, как он
тайком в школьные годы читал в словаре статью о проституции.
Какая именно тут зарыта собака?
Проститутка у Сирина вообще желанная гостья, белеет березкой на
пути очередного фланирующего по ночному Берлину героя... но она
всегда мимолетна, призрачна, безымянна, молчалива... ни из «Других
берегов», ни из биографий, созданных исследователями, не следует, что
наш герой имел опыт проникновенного общения с представительница-
ми древнейшей профессии. У него высокий порог брезгливости. В петер-
бургский период романа Машеньки и Ганина они таскаются по мерзлому
36 городу и тискаются по музеям, но не суются в меблированные комна-
ты, заляпанные чужими страстишками. Даже со своей Машенькой,
с которой неплохо и в шалаше, не идет туда Ганин — не то что с чужой
проституткой.
Впрочем, если и имел В.В. такой опыт (в Париже, скажем, в конце трид-
цатых, как Федор в черновиках второй части «Дара»), то ведь он и есть —
мимолетный, призрачный, без запоминания имен. Проститутки не созда-
ния из плоти и крови, а голые знаки... знаки чего?
Вседоступная Марфинька из «Приглашения на казнь» объясняет лег-
кость своего поведения:
— Я же, ты знаешь, добренькая: это такая маленькая вещь, а мужчине
такое облегчение.
Такова же функция проститутки — облегчать.
И смерть жены — как радикальный вариант разлуки — есть облегчение.
— Ее нет, ничего не хочу знать, никаких похорон, — лютует в чернови-
ках второй части Федор над телом Зины — и впрямь уезжает (на юг, ясное
дело), не дождавшись похорон. Вообще говоря, мало кто из двуногих сбе-
гает с места тризны, не дождавшись похорон жены, но хотя бы один пред-
шественник — Чорб — у Федора был.
Так что голые знаки или одетые — но это знаки одиночества и свободы.
Набоков без Лолиты
Наслаждение изгнанием
Даже рецензируя в статье «Юбилей» 10-летие октябрьской революции, Си-
рин не упустил «насладиться... изощренным одиночеством в чужую [96 iv: 646-647]
электрическую ночь, на мосту, на площади, на вокзале».
Насладиться!
Плодами революции, изощренным статусом изгнанника.
Составляя в стихотворении «Лестница» реестр слышанных этим архи-
тектурным элементом звуков (палки деда стук, прыжки младенчества,
стремительная трель поспешности любовной), юный Сирин в финал ста-
вит картину собственного побега:
Но ты, о лестница, в полночной тишине
беседуешь с былым. Твои перила помнят,
как я покинул блеск еще манящих комнат
и как в последний раз я по тебе сходил,
как с осторожностью преступника закрыл
одну, другую дверь и в сумрак ночи снежной
таинственно ушел — свободный, безнадежный...
Как это возвышенно — таинственность и безнадежность! Кто-то подо-
зревал, что у Ганина проблемы со страстностью, но, может, он отказывает-
ся от Людмилы после сцены в такси и от Машеньки после ее слов «я твоя»
из концептуальных соображений.
Добился — ну и вот. Можно и отказаться. 37
Это будет таинственный свободный поступок.
Уже в первых романах писатель (только что женившийся) выразительно
живописует, как может надоесть женщина.
Ганин чувствует в запахе духов Людмилы «что-то неопрятное, несвежее,
пожилое». Героине меж тем двадцать пять лет. Ему противны губы, накра-
шенные до лилового лоску (еще губы названы «пурпурной резиной»), чул-
ки поросячьего цвета. Целуясь, он думает:
— А что, если вот сейчас отшвырнуть ее?
Или так предполагает сказать:
— Убирайся-ка, матушка, прощай.
Эффектненько бы вышло, Лев Глебович, да.
В следующем романе, «КДВ», опостылевшая любовница представляется
Францу жабой. Когда-то он встретил в поезде холодную, душистую, пре-
лестную даму, поразившую его необычайно.
— Он попытался воскресить в памяти ее черты, но это ему не удалось.
Была дама, стала жаба. Года не прошло.
В «Даре» сочувственно выведен бывший морской офицер, который го-
товится дать драпу в Мексику, тайно от своей сожительницы, шестипудо-
вой, страстной и скорбной старухи, случайно в одних розвальнях с ним бе-
жавшей в Финляндию и с тех пор в вечном отчаянии ревности кормившей
Утрата как ценность
его кулебяками, варенцом, грибками. Мартын в «Подвиге» бродит вокруг
Сони Зилановой с квелыми клиньями, дышит-трепещет, чуть что — стру-
ится из своего Кембриджа в Лондон, чтобы наткнуться на равнодушный
привет и кислую улыбку, но не унимается. Любит! Однако Зилановы наво-
стрились в Берлин. Коробки, сборы, вокзал, воздушный поцелуй из окна.
— Ну вот — уехали, — сказал он со вздохом и почувствовал облегчение.
Почувствовал его — и двинул на другой вокзал.
В «Машеньке» разлука (отъезд девушки зимой из Петербурга в Москву)
была для Ганина опять-таки облегчением.
Кузнецов, брутальный не менее Ганина герой пьесы «Человек из СССР»,
бежит сначала от жены (которую при этом по легенде нежно любит), а уж
от подруги жены, которую не любит, бежит тем паче. Невозможность жить
с женой объясняется высокими мотивами. Кузнецов настоящий — не
только метафизический, но и белый — агент, и красные ищейки не должны
знать, что у него есть сердечные привязанности... он и с подругой связался
из конспирологических соображений.
Какой, однако, издевкой полит следующий эпизод: Ольга, жена Кузнецова,
раскрывая душу общему другу барону Таубендорфу, говорит, что счастлива
была бы составить Кузнецову компанию хоть в тюрьме. Барон замечает:
— Он бежал бы.
Именно — бежал бы... оставив жену за решеткой?
«Она глядит ему в лицо.„Что с вами?“ — „Так“. — И на крыльцо».
Это эпиграф из «Онегина» — примерно к этой главе.
Нищая полоумная мать глядела, наверное, в лицо беспечно покидающе-
38 го ее художника Горна, а «на другой же день после его бегства упала в про-
лет лестницы и убилась насмерть».
Человек убегающий, тургеневский мужчина, для нашей словесности
не сказать что редкость. Он не только тургеневский: какой ловкой блохой
упрыгал от невесты Подколесин в гоголевской «Женитьбе» (у Ходасевича
[i4i iv:454] встречается глагол «сподколесничал»). И тургеневский шарахается не только
от женщин: Иван Сергеевич, скажем, спросил однажды поэта А.А. Фета, что
бы тот сделал, коли дверь отворилась бы и вместо слуги вошел Шекспир.
— Я старался бы рассмотреть и запомнить его черты, — сказал хозяй-
ственный Фет.
[134:71] — А я упал бы ничком да так бы на полу и лежал, — воскликнул Тургенев.
Ознобы и предвкушения
Но что в Набокове удивляет: мотив разлуки-утраты появляется в детстве,
когда большевиками уже, может, и пахло, но вряд ли кто представлял, ка-
кой они спровоцируют в России турнир по безвозвратным побегам.
— Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние го-
ды — еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было.
В 1904 году на адриатической вилле маленький мальчик тоскует по род-
ной усадьбе.
Набоков без Лолиты
— Пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль вы-
сокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес
подъезда... И при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается.
Первое же стихотворение, 1914-го, до нас не дошедшее, было посвящено
«утрате возлюбленной, которую я никогда не терял, никогда не любил, ни-
когда не встречал».
Состоявшаяся таки встреча — с Валентиной Шульгиной — вызвала
к жизни водопад, воплотившийся в 1916-м в первую книжку Набокова —
выпущенный за свой счет (за несколько месяцев до дядиного наследства,
так что пришлось продать портсигар) сборник «Стихи», полный призна-
ний типа «мне помнится обман изведанных годов» и «страну, где я любил,
я ныне не найду».
Себе Набоков это свойство души объяснял «патологической подопле-
кой» или наследственностью. Чего объяснять врожденное свойство.
Снится сам себе изгнанником в отрочестве Мартын, представляет ту-
манные будущие дебаркадеры, земляка, сидящего на сундуке в ночь озноба
и опозданий.
Первый роман — и реальный, и художественный — переживается под
дамокловым знаком.
Зимние петербургские прогулки с Тамарой проходят в «Других берегах»
в постоянном искании приюта, со странным чувством бездомности; лет-
ние встречи в лирических аллеях, под шорох листьев и шуршание дож-
дя, уже ближайшей зимой кажутся невозвратным раем, а сама зима — из-
гнанием.
То же и в «Машеньке»: юные герои пишут друг другу в первую зиму нос- 39
тальгические письма о прошлом, понимают, что «настоящее счастье минуло».
Толком не наступив.
И в «Берегах», и в «Машеньке» эти неурочно грянувшие безнадежность
с ностальгией приписаны обоим героям. Но с Тамары и Машеньки мы
показаний стрясти не можем. Лучше бы мужской персонаж говорил толь-
ко за себя.
В Набокове память о Вале-Тамаре Шульгиной не только дремала, но
и просыпалась, он представлял себе возможную новую встречу («Если ве-
тер судьбы, ради шутки / Вновь забросит меня / В тот город, пустынный и
жуткий...»), но не тянул кота за хвост и в том же стихотворении — это ап-
рель 1921-го — приходил к безутешному выводу:
Мы встретимся вновь — о, Боже,
как мы будем плакать тогда!
О том, что стали несхожи
за эти глухие года...
Схожи-несхожи, а возвращение в прошлое невозможно не только по
геополитическим показаниям. Первая строфа, которую я цитировал да не-
доцитировал в скобках, заканчивается строкой «Где ты вянешь день ото
Утрата как ценность
дня». То есть, начиная мысленный эксперимент «возможная встреча», ге-
рой заранее понимал, чем он закончится, и подстелил соломки: героиня-то
в любом случае вянет, чего там.
Но дело, конечно, в герое.
На Ганина каждую весну напрыгивает «тоска по новой чужбине».
«Утрату сладостно прославлю», обещал Сирин в раннем стихотворении,
и не обманул — славил и славил.
Мартын Эдельвейс долго мусолит слово «изгнанник», переживая всеми
фибрами сей «сладчайший звук». Страницей позже его состояние описы-
вается как «блаженство духовного одиночества», несколькими страницами
раньше шла речь о «чувстве богатого одиночества среди толпы».
И много-много железной дороги.
Сразу в «Машеньке» усадьба похожа на перрон с колоннами, а в стихах еще
раньше: я незнакомые люблю вокзалы... люблю вокзалов призраки, печаль...
прощаний отзвук, может быть, обманы... зеленый луч кидает семафор...
В «Письме в Россию» герой хоть и счастлив бродить по берлинским ули-
цам, но, когда он видит поезд, ему непременно хочется куда-нибудь ехать.
А ведь Берлин тем и отличается от Петербурга, что в нашей столице поезд
смирно утыкается рыльцем в вокзальный тупик, а в немецкой все время
проносится над улицами, над головами и перед глазами прохожих, терзая
тонкие струны души: то есть ехать сирийскому герою хочется всегда.
Более того, когда он уже едет, ему начинает хотеться хотеть ехать.
— Соприкосновение между экспрессом и городом давало мне повод во-
образить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида длинных карих
40 романтических вагонов...
Герой оказывается внутри исполнившейся мечты, блестящей оливковы-
ми вагонами, но вспоминает, что предвкушение было полнее реализации.
Так, бедный энтомолог Пильграм, ни разу не выбравшийся в экзотиче-
ские широты на волшебную охоту, бесится, слушая коллегу, повествующего,
где и при каких обстоятельствах он словил ту или иную бабочку. Пильгра-
му — думаю, небезосновательно — казалось, что рассказчик совершенно
равнодушен, пресыщен дальними странствиями и, должно быть, не испы-
тывал ничего, когда утром, в первый день приезда, выходил с сачком в степь.
Предвкушение пути и его начало вызывают эмоции сильнее, чем сам
путь.
В «Пассажире» повествователь признается, что очень любит дорожное
новоселье, холодноватое белье на койке, фонари станции, которые, тронув-
шись, медленно проходят за черным стеклом окна.
Станционные фонари и отчаливающие перроны в прозе Сирина — ста-
дами. Важна минута, когда отдаются швартовы, когда все удовольствие
еще впереди.
Ганину, залезшему в поезд в последних строчках «Машеньки», сразу дела-
ется уютно и покойно, но он, ни секунды не медля, с приятным волнением
подумал о том, как без всяких виз проберется через границу. Наслаждается
не дорогой, а мыслью о следующей дороге, хотя эта-то еще едва началась.
Набоков без Лолиты
И так далее: к середине и концу 1930-х все эти эмоции в силе. Яша Черны-
шевский в «Даре» встречает с друзьями Новый год на вокзале. Герой «Посе-
щения музея» вспоминает, «как странно горели лиловые сигнальные огни
во мраке за веером мокрых рельсов, как сжималось мое бедное сердце...».
И жаль, что не во всякий поезд залезешь:
Ах, чувствую в ногах отяжелевших,
как без меня уходят поезда, —
и сколько стран, еще меня не гревших,
где мне не жить, не греться никогда!
Шахматист Лужин погиб, конечно, в результате метафизического разла-
да, но мог не погибнуть, отправься с женой в разумно запланированное, но
бездарно отложенное путешествие.
А так, глядишь, напитался бы дорожным волнением, новыми впечатлениями.
Ведь, как справедливо замечал Лужин-старший, «проснувшись в чужом
городе, ожидаешь, еще не раскрыв век, необыкновенного сияющего утра».
Оно все так, но снова речь об ожидании, а не о его воплощении.
Вот стихотворение «Комната».
Лирический герой участливо, аккуратно, любовно раскладывает вещи
в новой комнате.
Наблюдает за ее плавным оживанием.
Замечает «добрую пасть» у комода.
И начинает грезить о следующей новой комнате, едва освоившись, еще
даже не доразобрав саквояж. 41
Включаю свет. Все тихо. На перину
свет падает малиновым холмом.
Все хорошо. И скоро я покину
вот эту комнату и этот дом.
Мартын, гуляя по Берлину, нарочно посещает места, где бывал в детстве,
но ничто не волнует душу, пока случайный запах угля (то есть железнодо-
рожный запах) не заставляет его проникнуться «тем отельным, бледно-ут-
ренним, чем некогда пахнул на него Берлин».
Но, Владимир Владимирович, эти все отели и съемные комнаты... жуть
ведь что на самом деле. В прозе вашей описания этих временных стоянок
человеческого духа и тела в лучшем случае нейтральные... нет ни одной
комнаты, которую любил бы герой.
Ганин собирает чемоданы, помните? Он швыряет в их разинутые пасти
без разбору комья грязного белья, русские книжки... что еще?
— И все те мелкие, чем-то милые предметы, к которым глаза и пальцы
так привыкают и которые нужны только для того, чтобы человек, вечно
обреченный на новоселье, чувствовал себя хотя бы немного дома, выкла-
дывая в сотый раз из чемодана легкую, ласковую, человечную труху.
Утрата как ценность
А пример ласковой трухи — можно?
Нельзя.
Не сказано, что за труха у Ганина.
И у других обреченных на новоселье героев ее нет.
Разве что в скарбе Лужина обнаружатся холщовый кушак с металличе-
ской пряжкой в виде буквы S, ножичек-брелок и пачка итальянских откры-
ток, но задержались они в чемоданах не из мнемотических соображений,
а вовсе наоборот: герой их не замечает и забывает выбросить.
А так — ни Ганин, ни кто другой из сиринских блуждающих героев не
вынул из чемодана в гостинице, в меблированной комнате, в купе долгого
поезда ни единой безделушки. Ни статуэтки графа, идущего за плугом, ни
фотографии, ни бабочки в рамке, ни табакерки с лаковой палехской сцен-
кой, как волки догоняют сани, ни иконки, ни ленточки...
И не стоило, конечно, называть Ганина «натурой, не способной ни к от-
речению, ни к бегству»: тут автор явно недоработал. Я прекрасно пойму
очередного издателя «Машеньки» или публикатора-специалиста, выверя-
ющего текст, если он вымарает из романа (втайне от правообладателей,
которые могут не согласиться, истекая ложно понятным чувством истори-
ческой ответственности) эту ошибочную характеристику.
Ровно наоборот: отрекся да убежал.
Чрезмерно раннюю упаковку себя в статус вечного изгнанника-стран-
ника можно, наверное, связывать с гиперчувствительностью будущего ху-
дожника: прозрел судьбу с младых очей. Для этого, в общем, и гением быть
не обязательно, многие художники гиперчувствительны.
42 Но вот отец Федора Годунова-Чердынцева, будучи заядлым естествоис-
пытателем, с 1885 по 1918 год провел восемь крупных экспедиций, в кото-
рых находился в общей сложности 18 лет. 1918 минус 1885 — это 33 года,
33 минус 18 — это 15 лет... Думаете, он эти 15 лет сидел дома? Дудки. «Во-
семь крупных экспедиций» — это не считая мелких, причем в разряд мел-
ких включено одно кругосветное путешествие. По ходу путешествия сва-
дебного он сбежал от жены за бабочкой, вынудив ее метаться, лепетать
и совать платья в чемоданы. И постепенно приучил ее к мысли, что не-
счастье его отсутствия — это одна из красок счастья. С ее стороны с такой
мыслью смириться было очень даже разумно. Ведь вся жизнь любимого
мужа и отца — один большой побег с редкими возвращениями.
— Удаляясь в свои путешествия, он не столько чего-то искал, сколько
бежал от чего-то, а затем, возвратившись, понимал, что оно все еще
с ним, — сообщает Федор Константинович.
Вряд ли будет некорректным предположить, что это «оно» — обычное
шило в заднице.
Для Федора Константиновича мир отца, состоящий из тысяч книг, пол-
ных рисунков животных, из драгоценных отливов коллекций, из геральди-
ки природы и кабалистики латинских книг, — это источник колдовской
легкости:
— Вот сейчас тронусь в путь...
Набоков без Лолиты
Эти рассуждения соседствуют в «Даре», как и в сюжете Грифцова-Хода-
севича, с Венецией: снаряжает свои корабли Марко Поло. На картине в ка-
бинете отца. Древние краски города «плывут перед глазами как бы в поис-
ках новых очертаний». Сама картина ищет в себе новых очертаний, ну
и созерцатель от картины не отстает.
Экономика шила
Конечно, шило следует ретроспективно умножать на арифметику обру-
шившейся нищеты.
Представьте как следует масштабы катастрофы.
В 1916-м Владимир получил в наследство от дяди особняк над рекой.
Он вырастает на холме по левую руку (наблюдатель едет из Петербурга
в Псков) как фата-моргана. Во-первых, прочие постройки такого качества
в округе исчезли, из трех рукавишниковских и набоковских рука-об-руку-
усадеб — Выра, Батово, Рождествено — только последняя и сохранилась.
А во-вторых, ни одно и не нависало столь торжественно над бренным ми-
ром, как этот застывший между землей и небом дворец. Он ведь еще и го-
рел (в 1995 году — «примерно тогда, когда в него могла бы вернуться тень
его владельца», по замечанию Соседа Утопленника), и потом вновь вырос, [iei:si9]
как сказочная птица... словом, всем домам дом: и в недвижимом, и в мета-
физическом аспектах.
Швейцария такая, ландшафтная симфония.
Денег в семье — на несколько поколений вперед. Хранить деньги было
принято в российских банках. Там они и сгинули. 43
А семья — кувырком с горки.
Цепляясь поначалу за камни, за кусты. Первое набоковское жилье в Бер-
лине — богатое, Эгерштрассе, 1, Груневальд, хозяйка — вдова переводчика
Тургенева, родители по петербургской памяти мечтают о культурном
центре. На последние деньги, один год. Август 20-го — сентябрь 21-го. Вто-
рое жилье, Зекзишештрассе, по декабрь 23-го, тоже еще с претензиями.
А потом — каморки в пансионах и в квартирах с хозяевами (отдельных
квартир иностранцы снимать не могли, даже если позволяли средства).
Дрязги, комнаты, сданные двоим разным жильцам, самые грязные в мире
общие ванные.
«Сменив больше пятидесяти квартир» за свои европейские годы, Набо-
ков и в Америке продолжал переезжать как заведенный. В 1958-м («Лолита»
уже зажигает в списках бестселлеров) Набоковы имеют недоразумения
с налоговыми органами, которые искренне не могут уяснить, почему люди
на протяжении ближайшего года собираются прыгать из штата в штат, как
неудачливые мошенники. Еще в 1962-м Вера не может дать сестре постоян-
ный адрес: пиши, говорит, нам на адрес любой крупной газеты, журнала, [ 152:355]
или библиотеки, или практически любого крупного издательства. Видимо,
имеется в виду, что оттуда как-нибудь когда-нибудь куда-нибудь перешлют.
А деньги, чтобы завести нормальный домашний адрес, при этом давно есть.
Утрата как ценность
За четыре года до смерти больной Набоков осознает свою беспомощ-
ность в тех же образах побега и перрона: просыпается в дикой панике пос-
ле того, как увидел во сне разлуку с Верой на непонятном итальянском вок-
зале, откуда он уезжает одиноко «на каком-то поезде».
Естественный сон при такой последовательной стратегии побега и утраты.
[96IV: 34] Старший Комментатор объясняет страсть к потерям еще и тем, что они
сторицей компенсируются творческими приобретениями: переплатил за
папиросы (см. начало «Дара») — получил художественную деталь в виде
необыкновенного жилета табачника.
Наверное, так. Даже наверняка.
Расстался с женщиной — садись да пиши роман.
Потерял Родину, Дом — есть основания посочинять великую литературу.
С младых ногтей выказывая готовность и склонность к утратам, наш ге-
рой, когда утрата стряслась, почти мгновенно получил взамен богатств, до-
ма, отца феерический, пушкинской силы Дар.
Его наградили сразу, как вступили в полные права нищета и сиротство.
До этого ждали, приглядывались, а тут заплатили целиком. Вся его даль-
нейшая жизнь, сколь угодно тяжелая, была освещена невероятным, горя-
чим и нежным, небывалым на свете внутренним солнцем.
Почти все, написанное Сириным в прозе, — шедевры. Да, несколько
текстов самого начала 1920-х (при живом отце) — еще разгон, нащупыва-
ние тропинок, сверка компаса, но маленький рассказ «Наташа» (1924) уже
не менее гениален, чем огромный «Дар» (1933-1938), просто в другом фор-
мате. И далее — чудеса косяком: искристое «Рождество», крохкое «Письмо
44 в Россию», а еще до «Наташи» — слезоточиво-кукольный «Картофельный
Эльф», клацающая «Месть», рядом нервический «Бахман».
Выше я признавался, что не восхищен поэзией Набокова, — для меня
это скорее элемент социального дизайна, атрибут высокой культуры быта
(всяк должен минимально уметь рифмовать-рисовать-музицировать-фех-
товать-гарцевать). Даже предисловие к тому мастера в «Библиотеке поэта»
[75:7] в первой же фразе сообщает: «Набоков — второстепенный русский поэт».
Но вот, пожалуйста, сочинение того же 1924 года «Трагедия господина
Морна». Драматический слон в стихах, в пяти полноценных действиях,
вещь настолько громоздкая, что не втиснулась в пятитомный трамвай со-
чинений Сирина. Я долго не решался ее прочесть, опасаясь объема и зануд-
ства. Прочел наконец: летит на всех парусах гордая стремительная исто-
рия, строфы несутся, как волны за кормой, оперные расклады, светлый
прозрачный слог, хоть сегодня на самую большую сцену.
Прямо-таки уж до уровня Шекспира недостает, положим, великой поэ-
зии — но это ведь самое начало, разминка по существу, упражнение...
юноше, хорошо знающему усадебную фауну да пляжи Ривьеры, нужно
элементарно было набрать мяса дней, съесть хотя бы четыре пуда соли
(этого человек обычно достигает уже заметно за двадцать), перетереть
в пальцах миллиард мгновений (для чего следует, если согласиться, что
мгновение занимает 0,76 секунды, дожить до возраста Ганина), сколько-то
Набоков без Лолиты
тысяч звуков перекатить по гортани... Он еще не определился даже, в стол-
бик добывать мировую славу или в строчку. Он, может, слегка — если срав-
нивать с иными моцартами — задержался на старте, но как включился, то
обошел всех современников как стоячих.
Уф, сколько пафоса. Он уместен, но и «тургеневскую» инфантильность
мы ни в коем случае не должны забывать. Что, если получить Такой Дар
можно было, лишь будучи согласным на Такую Утрату, будучи гораздым
на аховые побеги и потери? Что, если дар связан с желанием иметь меньше
привязанностей, а потому и ответственностей перед предметами и людь-
ми? С иллюзией, что побег что-то решает?
Это неправда — бегущий увозит все свои проблемы с собой, но, забира-
ясь в поезд, он прикидывается, что они остались на перроне.
Вжик, фьюить, новый путь, свежевыжатая декорация, ты заново свобо-
ден и можешь начинать топтаться по чистому листу. Чужая ночь на элект-
рическом мосту... ощущение, что ты никому — хотя бы в эту секунду —
в мире не нужен...
Новый год на вокзале. Мне с друзьями, как и Яше Чернышевскому, тоже
доводилось встречать Новый год на вокзале. В городе, чье имя поделено
пополам большой рекой. Мы нашли на дальних путях гостеприимно неза-
пертый вагон, чпокнули в потолок шампанскую пробку. Где-то вокруг, за
усталыми спинами электричек, звуками чужой дороги, где-то совсем близ-
ко шпарила планета, неслась сквозь космос, добросовестно отрабатывая
график (ровно год расстояния пролететь за год времени!), а наш поезд ни-
куда не мчался, мы взяли паузу... Нас будто бы вообще не было. То есть
мы, безусловно, существовали, но определенно не там и не так, где и как
весь остальной мир. Мы были агентами внеположенности, экстеррито-
риальности. .. как определить человека, которому важно быть не там, где
все остальные?
Позиция беглеца поднаддает метафизических измерений. Набоковский
герой лишь прикасается к миру, он дразнит или является дразнимым, но
не сливается, имущество его призрачно, а статус всегда переимчив, мир
всегда скользит и ускользает, мир словно бы не до конца воплощен, не со-
всем есть...
Вот и договорились: и агента отчасти нет, и мир не совсем есть.
Но тем, что он «не совсем есть», он не сокращается, а умножается.
Простой плотский пример.
Федор в пятой главе «Дара» борется с собой, ему очень хочется открыть
стеклянную дверь, за которой горит свет: там расположена Зина, она чита-
ет в постели и является объектом желания. Что он испытывает?
— Наплыв безнадежного желания, вся прелесть и богатство которого
были в его неутолимости.
Неутолимость — вот что придает немудреному желанию анонсирован-
ное метафизическое измерение. Утраты, потеря, недостижимость, неуто-
лимость: это дистанция между нами и бытием, зазор, в котором мерцает
тайна. Она и придает такую прелесть этой нечеловеческой прозе. Тайной
45
Утрата как ценность
46
Сирин стремится пропитать всякую букву, любую дверную ручку или гос-
тиничный умывальник (в «КДВ» есть гостиничный умывальник, в трещи-
нах которого мелко рассыпана целая оптическая концепция).
Побег, неожиданный рывок (часто и для самого героя неожиданный:
любознательный автор вдруг хватает его за шкирку и швыряет в вагон —
поглядеть, что получится), путь-дорога, разлука, открывающая возмож-
ность для встреч с новыми людьми, для повторных встреч с прежними —
один из простейших способов прикосновения к области тайны.
Вот Ганин в последний раз видит Машеньку. Роман их потух, но под Пе-
тербургом горят торфяники, огонь тлеет... Огонь еще тлеет. Лева случайно
встречает Машеньку в дачном поезде. Она кушает шоколад «Блигкен и Ро-
бинсон» (сейчас такого не делают), на нежной шее ее лиловатые кровопод-
теки, Лева рассказывает какую-то чепуху, торфяной сероватый дым мягко
и низко стелется, образуя две волны тумана, меж которых несется поезд.
Герои в тамбуре. Беседуют. Что было дальше, Владимир Владимирович?
— Она слезла на первой станции, и он долго смотрел с площадки на ее
удалявшуюся синюю фигуру, и чем дальше она отходила, тем яснее ему
становилось, что он никогда не разлюбил ее.
Именно так: «никогда не разлюбил» вместо «никогда не разлюбит».
«Не разлюбил» — действие уже состоявшееся, а «никогда» захватывает
и время, которое еще впереди.
«Никогда не разлюбил»: взгляд из будущего. В каком-то смысле взгляд
из будущего возможен, но это таинственный смысл.
В поезде закончится роман «Машенька», начавшийся в лифте.
Лифты
(и прочие трамваи)
Убийство в движущемся поезде, откуда некуда деться ни жертве (до), ни
подозреваемым (после), — инфинитив детектива. Агата Кристи загадыва-
ла в таком интерьере загадку с абсолютной, тоже как бы инфинитивной
разгадкой: преступником в «Убийстве в Восточном экспрессе» оказывается
не один, а все пассажиры вагона.
«Собрать разношерстную публику на небольшом пространстве (гости-
ница, остров, улица)» — такой прием Набоков именовал как раз «остро- [97:514]
вом». В ослабленном виде он есть в «Машеньке»: обитатели пансиона фрау 47
Дорн вольны в своих перемещениях, но в центре сюжета — коллизии меж-
ду соседями по этажу. И преступления тут имеют место — сначала умыка-
ние фотографии Машеньки из письменного стола, потом умыкание самой
Машеньки из жизни Алферова; обе кражи, правда, провалились.
Может быть, неудача первой (Клара спугнула Ганина) — это знак, что
и вторая провалится.
В «Подлинной жизни Себастьяна Найта» кратко представлены все ро-
маны заглавного персонажа-писателя, спроецированные на сиринские
тексты. «Машеньке» соответствует первый роман Найта «Граненая опра-
ва»: двенадцать жильцов пансиона (в «Машеньке» — шесть), сложные от-
ношения между ними, убийство, расследование, пропавший труп и развяз-
ка, в которой один из подозреваемых объявляет себя пропавшим трупом,
то есть и не трупом вовсе — он просто прикидывался убитым.
Тоже «цитата» из Агаты Кристи (прикидывается трупом один из ее «Де-
сяти негритят»), но я тут на другое обращу внимание: центральное собы-
тие «Оправы», убийство, в действительности не состоялось. Также не со-
стоялось центральное событие «Машеньки» — кража чужой жены.
Пансион — один из сотен способов «замкнуть» героев. Они у Набокова
все время оказываются в разных схлопнутых предметах, а то и сами норо-
вят туда залезть или пленить там ближнего своего.
Лифты (и прочие трамваи)
Гоголевский страх проснуться под землей в гробу (была у Николая Ва-
сильевича такая фобия — впасть в летаргию и быть зарытым заживо; су-
ществует, разумеется, целая литература о том, будто так оно и случилось,
что, по счастью, неправда) у Сирина отзовется минимум четырежды.
Один из персонажей «Венецианки» хочет кричать, биться, как человек,
проснувшийся в гробу.
Легендарное смятение человека, проснувшегося в могиле, посещает те-
ряющего зрение Кречмара.
Проснувшимся в гробу себя чувствует на миг Годунов-Чердынцев,
а в «Ultima Thule» мелькают дети, рождающиеся после смерти своей мате-
ри в могиле и именуемые «трупсиками».
Трупсики, впрочем, совсем надуманные, слово мерзотненькое («Ultima
Thule» — это еще русскоязычный, но уже косящий за океан, добирающий
крошки своего русского дара Набоков), но начитавшись в детстве околого-
голевских баек о летаргантах, разомкнувших вежды в домовине, я, помню,
опасался оказаться, когда грянет кладбищенский час, в подобной идиот-
ской ситуации... безвыходная ситуация-то! Родные и близкие, с которыми
я делился дальновидными сомнениями, смотрели на меня с беспокой-
ством и утешали тем, что наука ко дню моей смерти свершит немало семи-
мильных гитик, исключающих подобные сюрпризы, а кроме того, рядом
ведь будут они или скорее какие-то другие родные и близкие, которые —
проследят.
Родным и близким, однако, не всегда можно довериться.
В «КДВ» мелькнет малоаппетитный сундук с трупом невесты, оставлен-
48 ный злодеем-женихом на вокзале.
Скелет, плененный в чемодан и позже использованный для умерщвле-
ния как раз родного и близкого человека, фигурирует в рассказе «Месть»
(«Некогда было заколачивать в ящик. Притом вещь ценная, в багаж я не
отдал бы», — объясняет профессор таможеннику).
В скетче для «Синей птицы» (берлинское русское кабаре, для которого
наш герой в соавторстве с Иваном Лукашом сочинял маленькие сценки)
скелет просто, без экивоков, вываливался из открывшегося на тележке но-
сильщика чемодана, а носильщик деловито запихивал его обратно ногой.
Словно желая поучаствовать в Большом Набокове, как бывает Большой
Париж или Большая Москва, то есть город вместе с пригородами, Георгий
Иванов, заядлый литературный враг В.В., указывает, что другой литератур-
ный враг В.В., Георгий Адамович, бросил в феврале 1923-го шкатулку с го-
ловой убитого и расчлененного им и группой товарищей спекулянта
[4:70] в прорубь «наискосок особняка, облицованного розовым гранитом, —
особняка Набоковых, описанного в воспоминаниях Сирина». Сирин
в этой истории совершенно ни при чем, «искосок» тоже условный: место
у Мойки рядом с домом 20 по Почтамтской улице, где будто бы имела мес-
то расчлененка, прилично отстоит от набоковского жилища. Появление
Сирина объяснить можно единственно желанием автора встрять в «набо-
ковский текст» (вообще же этим фантастическим сообщением Иванов
Набоков без Лолиты
отмазывался от слуха, согласно которому он и сам наряду с Адамовичем
участвовал в убийстве — пусть не спекулянта, а лишь морячка).
В сиринском рассказе «Здесь говорят по-русски» владелец табачной лав-
ки Мартын Мартынович и его сын Петя ловят агента ГПУ и приговарива-
ют его к пожизненному заключению в ванной комнате. Горн запирает
в ванной сводню Левандовскую, чтобы похитить Магду, а потом Магда за-
пирает в спальне Кречмара.
Карлику в «Картофельном Эльфе» снится, что его заперли в цирковом
ящике так крепко, что вылезти уже невозможно: спасительный люк в полу
арены заштопался насовсем (а еще карлик Фред имеет «немного жуткий
вид напряженности, словно он крепился, чтобы не расти»: словно, дофан-
тазирую за Сирина, его ограничивает в росте невидимый воздушный
Прокруст).
В лифте застревает и пыхтит толстая гувернантка Лужина, соглядатай
Смуров мечтает, чтобы в этом достижении цивилизации застряли путаю-
щиеся под ногами родственники любимой девушки.
В списке смертельных опасностей, угрожающих Графу Иту («Занятой че-
ловек»), лифт — на первом месте. А сын Евгении Исаковны из «Оповеще-
ния» и вовсе погиб, упав в лифтовую шахту в далеком Париже (и в том же
Париже однажды шагнул в пустую шахту писатель Бунин, и его едва не раз-
давил спускавшийся лифт; а в хронике «Дней» от 13 июля 23-го мелькает не-
мецкий журналист, который, «вскакивая в лифт,упал и сломал себе ногу»).
В «Машеньке» автору приходится даже сломать лифт, чтобы герой спокой-
но, таинственно, свободно и безнадежно покинул дом по лестнице: вот бы
умора, кабы Ганин в финале застрял! Приезжает злая Машенька по «смешно-
му адресу», а один (законный) пьяный мумукает с полуконфетой во рту, дру-
гой (нежданный) в лифте сидит с чемоданом (где среди прочего дремлют ее
собственные письма), мрачно теребит железный прут, как оран-утан в Цоо.
Сначала увидала другого. Потрясенная, смотрит на Ганина (для нее он,
конечно, Манин) сквозь лифтовую проволоку, а тот говорит: не спеши,
твой там, наверху, вдрабадан, плюс на квартире свежий писательский труп.
Если ты меня как-нибудь вызволишь, мы можем удрать куда глядят все че-
тыре глаза... а впрочем, ты так раздобрела, что твой образ закончен: дви-
гай-ка лучше наверх.
Звучит юмористически? Как и тот факт, что летом 1926-го Владимир
и Вера коротко снимали в Берлине комнату у хозяйки, которая держала те-
лефон в ящике под замком?
Вернемся тогда в цирк. Цирк дело серьезное, там мучают живых существ,
заставляя их заниматься сильно сокращающими жизнь экзерсисами, упа-
ковывают даже не только в клетки и ящики, которые являются пусть и жес-
токо-пародийными, но все же домами, а в совершенно лишние вещи.
В «Машеньке» упомянут «цирковой пудель, который выглядит в человече-
ских одеждах до ужаса, до тошноты жалким», а в «КДВ» прыгать в челове-
ческих одеждах унизительно для шимпанзе (там же Марта, надевая платье,
чувствует, что этим платьем «ее душа на время окружена и сдержана»).
49
Лифты (и прочие трамваи)
В «Ударе крыла» герой запихивает в шкаф вонючего незваного ангела:
пример чистого интереса автора к запихиванию существ в шкафы, ибо по
сюжету действие это совершенно абсурдное. Ангела задерживать вовсе не
нужно, а нужно скорее погнать в окно, да и самому ангелу в шкафу делать
нечего.
Нечего делать в шкафу и досрочно вышедшему из тюрьмы злодею Бар-
башину из пьесы «Событие», но сестре главной героини снится, что его ту-
да заперли.
Марта в «КДВ» хочет запихнуть в чемодан книгу, открытую мужем, ата-
ковать Драйерову свободу воли: не надо читать в поезде, поезд создан, что-
бы ехать и наслаждаться дорогой. Будь эта книга «Мертвыми душами»
(а она ими со временем станет: в английский вариант Набоков вставит го-
голевское название), к нам бы изящным окольным образом вернулись те-
мы «мертвое в чемодане» и «Гоголь в гробу».
Заколоченный ящик в тусклом и пыльном коридоре в «Камере обскуре»
оказывается символом выцветшей, бессмысленной жизни (этот ящик свя-
зан в мозгу Кречмара, надо полагать, с дочкиным гробиком).
Бюрократические папки с бумагами поэт Подтягин, застрявший в Гер-
мании без выездной визы, называет в отчаянии «гроба картонные».
Сеют смерть или ассоциируются с нею движущиеся замкнутые про-
странства — трамваи.
Трамвай без номера с заколоченными окнами пронесется по мосту пе-
ред Францем, который как раз хотел загадать по номеру — чет или нечет
(умрет или не умрет мечущаяся в горячке Марта).
50 Антон Петрович («Подлец») в ночь перед дуэлью загадывает, «что, если
досчитает до трех и на три пройдет трамвай, он будет убит, — и так оно
и случилось — прошел трамвай». Антон Петрович убит, во всяком случае
до конца рассказа, не был, но вышло едва ли не хуже.
Приказчик Марк Штандфусс («Катастрофа») на ходу спрыгивает
с трамвая под колеса омнибуса.
В трамвае совершает свою последнюю земную поездку Лужин, возвра-
щаясь домой с киностудии, чтобы выброситься в окно (мог бы совершить
ее на лифте, но тот снова сломался).
Подтягин гибельно теряет паспорт в автобусе — да, не в трамвае, но
в любом новом издании «Машеньки» чуткий редактор может поменять
автобус на трамвай, как это сделано в одной из кинематографических «Ма-
шенек» ... Впрочем, это лишнее. В трамваях недостачи нет. А автобус под-
тягинский — с дополнительными смыслами: взобрался в кураже (паспорт
только что вызволен из присутствия) на второй этаж, на «империал»: воз-
несся, потеряв страх, и судьба не затянула с затрещиной.
На 57-м номере Яша Чернышевский и двое его друзей едут в апрель-
скую дырявую погоду в Груневальд, чтобы там, в глухом лесном месте, один
за другим застрелиться: один и впрямь застрелился. А Драйер в «КДВ» об-
ходится без царапин, врезавшись на автомобиле в 73-й номер, но эта исто-
рия подсказывает Марте и Францу, что можно ведь Драйера и убить.
Набоков без Лолиты
Упоминает трамвай незадачливый Павел Романович («Случай из жиз-
ни») — за мгновение до того, как начать палить из револьвера в невер-
ную жену.
Вообще связь мотивов трамвая и смерти в набоковской истории начи-
нается минимум в 1911 году, когда газета «Речь», одним из членов редак-
ции которой был Набоков-старший, обвинила г-на Н. Снессарева в полу-
чении взятки от компании «Вестингауз», которой Снессарев помог
заключить контракт на строительство трамвайных путей в Петербурге.
Снессарев отверг обвинения в другой газете, «Новом времени», попутно
оскорбив В.Д. Набокова, после чего едва не состоялась дуэль последнего
с редактором «Нового времени». Лояльные к семье Набоковых исследо-
ватели утверждают, что Снессарев был негодяем, а отец писателя про-
явил себя во всем благородстве; опубликованные ровно теми же самыми [64]
исследователями материалы этой идеальной формуле во многом проти-
воречат: из них скорее следует бездоказательность предъявленных
«Речью» г-ну Снессареву обвинений и амбивалентность поведения всех
сторон перед лицом возможной дуэли. Снессарева в конце концов и из
«Нового времени» вышибли — будто бы за то, что проворовался, а исто-
рия (оставившая след в мемуарах и рассказе «Лебеда») так перепахала
маленького Володю, что он до конца дней не мог отделаться от трамвай-
ной травмы.
Финал предыдущего абзаца, впрочем, Набоков заклеймил бы «венским
хламом». Австрийского врача-псикоаналитика Зигмунда Фрейда, приду-
мавшего выискивать у пациентов травматические переживания детства
и объявлять их причиной всех дальнейших неурядиц, В.В. не любил
с яростью болезненной, вот именно что «по Фрейду», при малейшей ока-
зии обрушиваясь на «венского шарлатана». Но тот факт, что Юлий Айхен-
вальд погиб под трамваем на Курфюрстендамм 15 декабря 1928 года, воз-
вращаясь с вечеринки у Набоковых (Владимир закрыл за ним дверь
подъезда и был последним видевшим его в живых знакомым), по ведомо-
сти хлама не проведешь.
Трамваи и сами по себе, будучи знаком новой цивилизации, символизи-
ровали лодку Харона, не говоря уж о том, что такая символизация перио-
дически провоцировалась городской хроникой.
Виктор Шкловский, готовя в 1923 году в Берлине к публикации «Сенти-
ментальное путешествие», приводит строчку из написанного в отечестве [153:249]
черновика: «так и умру на Невском против Казанского собора», и оговари-
вается: «теперь место предполагаемой смерти изменено: я умру в летучем
гробу ундергрунда».
Старый рабочий гибнет от разрыва сердца в подземном вагоне из рас-
сказа Бронислава Сосинского «Его смерть», опубликованном в декабрь- [66:27]
ском номере «Воли России» (уникальное издание, бывшее поначалу еже-
дневным, потом еженедельным, а еще потом, после переезда из Праги
в Париж, ежемесячным) за 1929 год, а в Москве в том же году помирает
в трамвае пастернаковский доктор Живаго.
51
Лифты (и прочие трамваи)
В 1925 году под трамваем ПОСТРАДАЛО
200 человек.
Набоков без Лолиты
В середине 1920-х Борис Поплавский добросовестно фиксирует в рифму
связь смерти, трамваев и экзистенциальных страданий:
Европа, Европа, сады твои полны народу,
Читает газету Офелия в белом такси,
А Гамлет в трамвае мечтает уйти на свободу,
Упав под колеса с улыбкою смертной тоски.
В сиринском рассказе «Сказка» женщина-чорт именно трамвай исполь-
зует для демонстрации своего дьявольского всесилия: «Видите, вон там
через улицу переходит господин в черепаховых очках. Пускай на него на- [53]
скочит трамвай». Естественно, существуют предположения, что отсюда
скопирована популярная сцена из начала «Мастера и Маргариты» Булгако- нов]
ва. Существует и уточнение, что обе эти сцены восходят к подобному эпи-
зоду из рассказа Куприна «Звезда Соломона».
И если уж я обмолвился о «Мастере и Маргарите», то упомяну и другой
хит, «Заблудившийся трамвай» Гумилева, что проносится мимо зеленной,
где «вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают».
Случайно, конечно — но так и подмывает написать «неслучайно», — пе-
ресекает он Исаакиевскую площадь, то есть проносится в двух шагах от до-
ма на Большой Морской, а адресовано стихотворение барышне с нашим
любимым именем:
— Машенька, здесь ты жила и пела, мне, жениху, ковер ткала...
В том же стихотворении есть потрясающая строфа про зоологический
сад, которую я непременно процитирую позже и которую поставил бы 53
«эпиграфом ко всему творчеству Набокова», если бы все это творчество не
противоречило самой идее единого ключевого эпиграфа.
Пока мы в трамвае. Или смотрим на него. Вот он проплывает за окном,
насквозь освещенный, как рыба в аквариуме (рассказ «Уста к устам»).
В «Катастрофе» по трамвайной проволоке с треском и трепетом стремится
вдаль бенгальская искра, лазурная звезда. Дядя Саша бросает нищенке ме-
лочь, и она звенит так же, как звякнет через секунды 12-й номер, сворачи-
вающий с Фридрихштрассе к Музейному острову. В «Путеводителе по Бер-
лину» есть великолепный фрагмент... Да вот он:
— На конечной станции передний вагон отцепляется, переходит на другие
рельсы, обходит оставшийся, возвращается с тыла, — и есть что-то вроде по-
корного ожидания самки в том, как второй вагон ждет, чтобы первый, му-
жеский, кидая вверх легкое трескучее пламя, снова подкатил бы, прицепился.
Славно, не правда ли?
Трамвай как законная черта берлинского пейзажа не может вечно быть
«в негативе». Как и прекрасный старший брат его, поезд. Сложно судить,
«позитивно» ли то, что годы спустя В.В. упорно (но все равно неубедитель-
но) утверждал, что чуть не ежедневно разъезжал осенью 1922-го или 1923-го
в одном трамвае с Францем Кафкой, не зная, что за странный глазастый чело-
век хмурится на соседнем сиденье: это удовольствие на любителя, конечно.
Лифты (и прочие трамваи)
Но каштаны, колотящие по крыше трамвая в финале «Благости» (срав-
ни дождевые капли по тугому зонтику в «Камере обскуре»: «сверху бараба-
нило счастье»; сравни звук деревянных ложек, которые «легко и плотно
постукивали о толстое стекло стаканов, в которых пряно дымилась крас-
ка», превращающая простые яйца в пасхальные), наполняют и рассказ,
и трамвай нежностью и уютом.
Пулитцеровская Лауреатка выбирает трамвайный мотив, чтобы воспро-
извести бытовые декорации новорожденного романа:
— За три месяца между первым свиданием Веры Слоним с Владимиром
[152:21] Набоковым и их новой встречей цена трамвайного билета возросла в семь-
сот раз.
В «Драконе» дракон принимает крыши вагонов спешащего поезда за
твердую роговину, под которой может прятаться нежное мясо.
Вагоны поезда бывают кому-то домом: в «Защите Лужина» бесколесный
желтый вагон второго класса превращен в человеческое жилье, подобные
афинские вагоны упомянуты в «Подвиге».
Мартыну Эдельвейсу в детстве подарили поезд с товарными вагонами,
и мальчик расстраивается, потому что хотелось пассажирских, чтобы туда,
соответственно, могли загрузиться пассажиры; глупый ребенок не по-
нимал, что прятать людей можно и в товарные, как то случалось с «нари-
цательными инициалами» из «Дара», которых через всю Россию везли
на убой.
Начиная роковое путешествие, Мартын берет с собой в дорогу резино-
вую ванну и принимает ее в туалете мчащегося вагона: вызывающий образ
54 «прайвеси», частного пространства, которое можно и должно сохранить
в ситуации любой антисанитарии. Отец В.В. затребовал такую ванну
в тюрьму, в Кресты, где куковал три месяца за излишний либерализм: впро-
чем, с кипой книг в удобной одиночке, которая и сама по себе «прайвеси»;
попытка же соседа, куковавшего через стенку, наладить сакраментальное
[96 V: 678] перестукивание вызвала лишь теоретическое замечание в мемуаре:
— В тюрьме менее чем где-либо возможно выбирать знакомства и есть
более всего шансов, что они окажутся маложелательными.
Карлик Картофельный Эльф, что страшится остаться забытым в ящике
под цирковой ареной, хочет тем не менее в сложной ситуации спрятаться
в шкаф.
Сам автор обожал в детстве прятаться в портьерах, под столами, за
спинными подушками обитых шелком оттоманок — и, разумеется, «в пла-
тяном шкафу, где под ногами хрустел нафталин и откуда можно было
в щель незримо наблюдать за медленно проходившим слугой».
Быть невидимым и наблюдать — формула, возможно, инфантильная,
но очень уж сладкая. Быть неуязвимым свидетелем — это статус сказоч-
ный, в реальной действительности едва ли возможный... Цинциннат жа-
луется:
— Одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь.
Так что прежде всего, конечно, невидимость, укромность.
Набоков без Лолиты
В детстве удобно прятаться в туалете, интимность процесса легитими-
рует защелку, никто не постучит, не войдет — в случае автора этих строк,
впрочем, взволнованные домочадцы, бывало, и стучали, когда он слишком
надолго забывался в укромном одиночестве.
— Обращаюсь ко всем родителям и наставникам, — учит Владимир
Владимирович, — никогда не говорите ребенку «Поторопись!».
Тут еще, конечно, зависит, какой туалет.
— Один из них, внизу, — вспоминает Набоков топографию родитель-
ской усадьбы в Выре, — был до странности роскошен... со своей дубовой
отделкой,тронной ступенью... В готическое окно можно было видеть ве-
чернюю звезду и слышать соловьев.
Синеет весеннее дачное небо в оконце чистенького туалета в доме дяди
Мартына Эдельвейса. Без малейшей, кажется, сюжетной и образной необ-
ходимости запирается на полторы строчки в туалете Драйер (и дремлют
там на беленой стене маленькие состарившиеся комары). Туалет, конеч-
но, — апофеоз частного пространства: в финале «Защиты Лужина» за-
гнанный шахматист прячется от мира в санузле, откуда и совершает пры-
жок — формально в окно.
Начинается этот роман как раз с переселения из личной реальности
в коллективную.
— Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужи-
ным, — первая фраза книжки.
Мальчика отправляют в школу, вытаскивают из индивидуального рая
особняка в сомнительные пространства класса и школьного двора, где он
будет жаться по ходу коллективных игр за поленницу в арке, то есть выго- 5 5
раживать себе приватный уголок, и где вместо домашнего имени, выделя-
ющего его из прочих Лужиных, его будут звать по фамилии, как, напротив,
принадлежащего к определенному классу существ.
И важнейшая для Лужина черта рая, который отбирает школьный ад, —
это возможность приятных раздумий после завтрака на диване, под тигро-
вым одеялом.
Рай — это личная территория под тигровым одеялом.
Лужин еще уточняет, будут ли его звать по фамилии дома, сохранится
ли личная территория хотя бы на часть суток.
Набоков, живавший и во дворцах, и в лачугах, чувствовал душу про-
странства.
— У комнаты был вид настороженный, неестественный, как это всегда бы-
вает, когда комната, особенно — маленькая, расстается со своим жильцом.
Очень хорошее, теплое наблюдение. Это Франц в «КДВ» покидает
царство Менетекелфареса.
— Забавно застать чужую комнату врасплох...
Да-да, это из «Соглядатая», Сирин внимателен к настроениям комнат. Но
вот в начале рассказа «Рождество» еще лучше, там совсем гениально. Как там?
— Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой,
есть нежилой угол.
Лифты (и прочие трамваи)
Здорово! Однажды влюбившись в эту фразу, я, наверное, до конца дней
буду озирать новые незнакомые комнаты в поисках этого самого нежило-
го угла.
И еще круче: Кречмар («Камера обскура») мало того что покинул семью
ради юной сучки, он еще стал причиной смерти собственной восьмилет-
ней дочери. Оставленная жена Аннелиза и ее брат Макс, однако, спасают
ненужного им Кречмара, когда он ослеп и остался беспомощным в лапах
сучки и ее козлоподобного подельника. Макс привозит Кречмара в Берлин.
Ему отводят комнату угробленной им Ирмы.
— Аннелиза сама удивилась тому, как легко ей было, ради этого нечаян-
ного жильца, нарушить сон комнатки, все в ней изменить, переставить,
приноровить ее к удобствам слепца.
Ох, Владимир Владимирович...
Еще был план рассказа «Комнаты» или «Сдается комната». О чем?
— Об этой длиннющей анфиладе комнат, через которую приходится
[93] странствовать, о том, что у каждой комнаты свой голос (замков, окон, две-
рей, стон шкафа и скрип кровати), о том, что зеркало смотрит на человека
как тихий больной,утративший разум...
Мальчик из «Других берегов» возводит крепость из подручного мате-
риала. Из диванных валиков строилась крыша, тяжелые подушки служили
заслонами с обоих концов.
— Мечтательнее и тоньше, — вспоминает В.В., стряхивая пепел в ды-
рочки электрической розетки, — была другая пещерная игра. Проснув-
шись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла...
5 6 Дракон из рассказа «Дракон» тысячу лет провел в пещере: не слишком
благоустроенной, зато родной. Обстоятельства заставили его выпростать-
ся на воздух, двинуть в город, после чего дракон, мгновенно впутанный
в карнавальные людские игрища, не прожил и суток.
Услышав в первой главе «Дара» телефонный анонс рецензии на свой
стихотворный сборник, Федор Константинович запирается на ключ
(действие явно избыточное: хозяйка не собирается врываться к новому
жильцу), чтобы перечесть книжку.
А с чего, собственно, он стал новым жильцом, что заставило его по-
гожим весенним днем переменить квартиру? В пансионе, где он обитал
до начала романа, поселились знакомые: милые, бескорыстно навязчи-
вые люди, которые «заглядывали поболтать». Их комната оказалась
рядом, и вскоре Федор Константинович почувствовал, что стена рас-
сыпается.
Жуткую историю проникновения чужих через стену Набоков нарисо-
вал в рассказе «Королек»: быдловатые братья Антон и Густав, в соседней
с которыми каморке завелся новый непонятный жилец, начинают атаку
на «прайвеси» со стука в дверь с предложением купить курительную труб-
ку (верно, не штопор же), а заканчивают убийством чужака.
В «Даре» присутствие в очередной новой квартире ее хозяина, про-
тивного Щеголева, отчима Зины, изрядно отравляет герою жизнь. Там
Набоков без Лолиты
невозможны нормальные отношения между молодыми людьми, посколь-
ку отчимом пропитана вся атмосфера.
Оставаясь в одиночестве, тот начинал скучать, и Федор Константинович
слышит из своей комнаты шуршащий рост этой скуки, словно квартира
медленно зарастает лопухами... так равнодушная природа поселяется
в забытой руине.
Даже фото своего умершего отца Зина показывает Федору на улице,
ночью, под фонарем: в квартире неподходящий для демонстрации тонких
чувств воздух. В полустрочке образ, достойный оперы: дух отчима выгоня-
ет под ночной дождь призрак отца.
Или дому Марты Драйер в «КДВ» — ему, дому, становится душно от
дыхания подарившего его некогда Марте Курта Драйера: хрипят часы,
задыхаются белые конусы салфеток.
В конце первой главы «Дара» Федор, вернувшись ночью домой, обнару-
живает, что не может попасть в подъезд; перед нами разыгрывается комич-
ная для зрителя, но не для героя драма нищего иностранца, который не ре-
шается разбудить вальяжного швейцара. Эта сцена быстро разрешается
к удовольствию пострадавшего, но в конце последней главы драма возвра-
щается бумерангом: Федор и Зина неторопливо приближаются в темноте
к дому, где должны провести первую ночь вдвоем; у обоих нет ключа, и оба
полагают, что ключ есть у другого.
Юный Техник считает источником этих сцен рассказ Саши Черного
«Как студент съел свой ключ и что из этого вышло». Русский студент воз- [66:53]
вращается в полночь после того, как «очень невредно провел время с зем-
ляками», и не обнаруживает ключа. Студент плохо говорит по-немецки, 57
и местные решают, что ключ он проглотил. В больнице студенту не слиш-
ком удачно взрезают живот. Студент умирает.
Конечно, это эмигрантское представление о роли ключа... тема беспри-
ютности, все такое.
Но юный Набоков, слушающий соловьев в туалете, бесприютен не был,
а метафизика уже работала как следует... Вы, конечно, надолго задержива-
лись в туалете, Владимир Владимирович, по оказиям, никак не связанным
с грубой физиологией?
— Там, в годы сирени и тумана, я сочинял стихи!
Вот именно.
В документальном фильме, который сотрудники музея на Большой
Морской включают для посетителей, если их набирается больше трех,
в библиотечной комнате (в начале «Лебеды» отец фехтует здесь с состоя-
щим из гуттаперчи и черной щетины французом), молниеносно, в первых
кадрах, сообщается, что известен народу Набоков прежде всего шахматами,
бабочками и интересом к маленьким девочкам. Это и впрямь главные ми-
фы, но просятся в этот ряд и истории о том, что в эмиграции нищему авто-
ру приходилось творить (в черновике стояло «писать») по ночам в туалете.
— Письменным столом ему служил положенный поверх биде чемо-
дан, — важно подтверждает Новозеландский Биограф. [ 19:574]
Лифты (и прочие трамваи)
— Чтобы творить, он запирается в крошечной уборной. Сидит там, как
[ 166:196] орел, и стучит на машинке, — уточняет Илья Фондаминский, который был
ближе к месту и времени событий.
Это, конечно, символ нищеты и неустроенности, но, мне кажется, Сири-
ну было уютно и в бедном туалете.
Как Годунову-Чердынцеву — в постели, когда он, закурив, лежа на-
взничь, натянув до подбородка простыню, а ступни выпростав, подобно
Сократу Антокольского, предается всем требованиям вдохновения.
— Мысль любит занавеску, — говорит поэт Кончеев.
Герман («Отчаяние») прячется в кровати с рукописью, которая должна
подтвердить безупречность его преступления и обеспечить, таким обра-
зом, его безопасность.
В Глинском (одна из многих инкарнаций реальных усадеб Выры и Рож-
дествено, на сей раз в «Адмиралтейской игле») юный поэт сочиняет стихи,
сидя в позе роденовского мыслителя в некоем неразъясненном закуте.
И в туалете или в ванной — нормально.
Позже Набоков-штрих не для красного писательского словца называл
машину «единственным местом в Америке, где тихо и не сквозит».
Вера отвозила его в лес, оставляла машину с мужем под деревом, чтобы
содержимому салона было уютно творить! В машине под деревом, в амери-
канском лесу!
Куда девалась при этом сама, в источнике не указано.
В трамваях, впрочем, он тоже в былое время писал, следуя от ученика
к ученику по огромному Берлину.
58 Отчеканивая (в 1940-м), что каждый нормальный писатель («истинный
[961:12] сочинитель») эмигрирует в свое творчество, а потому словосочетание
«эмигрантский писатель» — это тавтология, Набоков вспоминал, что из
крепости на Большой Морской «не только Кишинев или Кавказ казались
далеким изгнанием, но и Невский проспект».
Через 27 лет, январской зимой, Ташкентский Геолог, переводивший впо-
следствии англоязычного Набокова на русский, а тогда еще бедный аспи-
рант, не помышлявший о литературной деятельности, прилетел в Москву:
— Гостиничные номера МГУ являли собой узкие, как пенал, комнатки,
и, о радость, ты в этом пенале совершенно один. Обычно это способство-
[28:199] вало всяким романтическим приключениям, но тут мне судьба послала —
в день приезда! — в двух разных местах сразу две книги Набокова — «Дар»
и «Приглашение на казнь». В жизни именно так и бывает. Теперь я пони-
маю, что этот пенал, как субмарина — жизненно автономный, с душевой
и туалетом, — просто был создан для того, чтобы пережидать морозы за
чтением наилучшей прозы. Извините за рифму.
Извиняем. Тут нам все в тему — про субмарину, автономию и туалет.
Еще через 40 лет уже автору этих строк выпала ночь в дощатой гостини-
це города Р., что в Мордовии. Я полагал ночевать дома, в Санкт-Петербур-
ге, но глупое стечение обстоятельств потребовало продлить мое мордов-
ское пребывание до следующего полудня. По квадратному черному столу
Набоков без Лолиты
из потрескавшейся древесно-стружечной п (не могу сейчас вспомнить рас-
шифровку последней буквы; все же вспомнил, пока длил фразу, — плиты)
ползала зигзагами, ретируясь от занозистой трещины, дежурная муха, за
стеной клокотал чахоточный коммивояжер, обладатель чемоданчика с об-
разцами разнообразных остромодных изделий: наноподтяжки, нанокипя-
тильники, нанозубочистки. Голая лампочка почему-то слегка раскачива-
лась на длинном изгвазданном известкой шнуре. Я отдернул липкую
занавеску, стиранную, похоже, еще при Б.Н. Ельцине, глянул на тихую
круглую площадь перед гостиницей. Деловитый мужичок-с-ноготок споро
прокатил тачку с картонной коробкой с большими буквами «стекло». Под
единственным фонарем зябко топталась тонконогая проститутка; лица не
видать. На крыльце железнодорожной станции курили два парня в одина-
ковых черных куртках и шапочках, человек в рясе беседовал по мобильно-
му телефону... там мог быть хотя бы газетный киоск. Скорее всего, уже
закрытый на ночь, но проверить следовало. Во всяком случае, убьется
долька времени, да и я, признаться, люблю вокзалы не меньше автора «Ма-
шеньки». Расписание поездов местной ветки — поэма; незнакомые имена
городков и полустанков, на которые ничего не стоит, но никогда не дове-
дется попасть...
Где-то в промежутке между «ничего не стоит» и «никогда не доведется»
и возникает искусство. Девушки под фонарем уже не было — успела, что
ли, приманить клиента, пока я спускался по скрипучим ступеням, распугав
уже в самом низу группу мизерных свежих мышей. Газетный киоск на вок-
зале милым образом функционировал, и среди богатого ассортимента
почтовых карточек с лягушками всех мастей и размеров, бодро разеваю-
щих квакло навстречу скорому празднику, среди местных изданий (заби-
тых по традиции региональных российских СМИ последнего десятилетия
не городскими, увы, новостями и сюжетами, а большей частью дешевой
рекламой), среди глянцевых обложек с полуголыми суперменами, рубящи-
ми космическими катанами заросли гигантской марсианской конопли,
я обнаружил — о, чудо — набоковский «Подвиг» в удивительной для на-
шей эпохи скромной белой обложке безо всякой картинки... лишь имя
автора и название.
И менее чем через час, в уже умятой до условного уюта постели, мне
явился в предсонном полубреду образ «туалета в лифте»: раздвигаются
створки, и обнаруживается среди кабины абсурдный унитаз.
Образ явно набоковский, но, засыпая, я понял его неверно: как одну
из новых причуд начальников Зоорландии... В «Подвиге» это северная
тоталитарная страна, сочиненная Мартыном и его ненадежной подругой
Соней. Они придумывают за вождя по кличке Саван-на-рыло разнооб-
разные дурацкие законы: вроде всем людям бриться налысо, а гусени-
цам запретить окукливаться. И вот, скажем, на следующий день после
инаугурации очередной Саванарыл Саванарылович порадовал сограждан
остроумным указом совместить лифты с туалетами, для начала в гос-
учреждениях.
59
Лифты (и прочие трамваи)
6о
[9611:31]
Но утром — которое мудренее, и площадь была полна народом, у фона-
ря обменивались конспектами студентки техникума, мордовские голуби,
известные своей выучкой, перекурлыкивали автомобили — я догадался,
что оруэлловских коннотаций в этом образе нет, а есть чистая набоковская
радость. Веселое летучее озорство. Поживи наш гений подольше и, глав-
ное, обзаведись новым дворцом, непременно бы учинил себе такой под-
вижный кабинет для творчества.
Но и перечень осуществленных Сириным фокусов с лифтами не исчер-
пан. Лифт, скажем, — место, годное для тонкого психоделического пережи-
вания, испытываемого Ивановым из «Совершенства»: ему кажется при
подъеме, что он медленно растет, вытягивается, а дойдя головой до шесто-
го этажа, вбирает, как пловец, поджатые ноги. А вот поднимается слепой
Кречмар: «Лифт мягко застонал, голова слегка закружилась, потом ударило
под пятки, доехал».
Смотрите: лифт и человек словно бы поднимаются отдельно друг от
друга и лишь в последней точке совмещаются, возвращаются к привыч-
ным размерам и пропорциям. Всегда мерцает какой-то зазор. То, что выше,
кажется, мы называли зоной тайны.
— Когда мне было тринадцать лет, — вспоминает Ганин, — мы играли
в прятки, и я оказался со сверстником вместе в платяном шкафу. Он в темно-
те и рассказал мне, что есть на свете чудесные женщины, которые позволяют
раздевать себя за деньги... принститутка. Смесь институтки и принцессы.
Девушка Ваня во сне Смурова («Соглядатай») спрятана в табакерке,
а сам Смуров читает воспитанникам «Роман с контрабасом» — рассказ Че-
хова, в котором голый герой прячет голую девушку (у них на озере украли
одежду, как у Федора в «Даре») в контрабасовом футляре.
Иной чеховский футляр Старший Комментатор тревожит в связи с «За-
щитой Лужина». В сцене побега шахматиста мелькает дамский велосипед,
который напоминает о причине смерти Беликова (герой «Человека в фут-
ляре» вздумал обвинять барышню, что кататься на велосипеде неприлич-
но, за что был спущен с лестницы, в связи с чем скоро и испустил дух). Тема
же футляра, считает Старший Комментатор, важна для книги, наполнен-
ной «вместилищами, сопровождающими героя на всем протяжении рома-
на: ящик фокусника, в котором хранятся шкатулки с двойным дном, не-
сколько ящиков с шахматами, лужинский „клетчатый сундучок", шкафы,
портсигары...» Все это так, с той лишь поправкой, что «вместилищами»
щедро наполнен весь корпус текстов Сирина, в чем мы с вами уже как сле-
дует убедились.
В разных местах «Подвига» носильщик дважды прокатит по перрону
тачку с ящиком, на котором написано «Fragile» (хрупко!). В доме Зилано-
вых покорно ждет на столе тарелка, прикрытая другой.
— А что там была за пища — неизвестно, — торжествует автор.
Здесь же следует подробная сцена сборов в дорогу, и Соня долго не мо-
жет закрыть переполненный чемодан, а писатель и читатель за этим заин-
тересованно наблюдают.
Набоков без Лолиты
Юного Федора в «Даре» тревожит домовый музей Годунова-Чердынце-
ва-старшего — ряды дубовых шкафов с выдвижными ящиками, полными
распятых бабочек. День последнего возвращения отца из экспедиции Фе-
дор сохраняет, словно в бархатном футляре.
Целую кащееву процедуру мы встретим в «Приглашении на казнь»:
мсье Пьер «вынул из-под подушки кожаный кошелек, из кошелька — зам-
шевый чехольчик, из чехольчика — ключ».
В 1924 году Набоков пишет Вере Слоним:
— Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость: словно у тебя в ду-
ше есть заранее уготованное место для каждой моей мысли. Когда Мон- [ 152:23]
текристо приехал в купленный им дворец, он увидел, между прочим, на
столе какую-то шкатулку и сказал своему мажордому: «Тут должны быть
перчатки».
И там были перчатки.
В 1926-м описывает в письме к ней же дождь, который капает на подо-
конник, потрескивает, словно отпирает без конца тысячи крохотных [93]
шкапчиков, шкатулочек, ларчиков...
А полвека спустя, в интервью 1970 года, в списке из шести «недоброже-
лательных» предметов все шесть оказались связанными с закрыванием-за-
вязыванием-схлопыванием и с местами заточения вещей: «теряющиеся
футляры для очков; обрушивающаяся в стенном шкафу одежная вешалка; [ 152:73]
не тот карман. Спрятавшаяся потайная кнопка при раскрывании зонта.
Неразрезанные страницы книг,узлы на шнурках».
Шесть из шести, никакой Фрейд не поможет.
Прелестной издевкой судьбы выглядит предложение только что при- 61
ехавшему в Америку и жутко нуждающемуся в любом заработке В.В. от
директора книжного магазина: упаковывать пачки с книгами. Набоков от-
казался:
— Упаковка — это то немногое, к чему я решительно не приспособлен. [152:149]
— Дав прозе вы только и делаете, что упаковываете почем зря! — мог
бы возразить директор магазина.
Упакую-ка и я часть названия главы в сундучок скобок... проявлю с ге-
роем пунктуационную солидарность.
Тема закрытых-приоткрытых, прячущих-пленяющих объемов прохо-
дит через всю жизнь моего героя, и я вижу здесь не то что неуверенность
в границах своего и чужого пространства (четкое отделение своего от чу-
жого — болезненное отношение к «прайвеси»), но желание постоянно их
подтверждать и уточнять. Всегда нужно знать, где можно спрятаться от
опасности, но и какие прятки могут сами оказаться опасными — тоже
знать следует. Реальность зыбка, мир состоит немножко из песка, и склоны
его иногда осыпаются, надо ощупывать, проверять. Знать, что открыто, что
закрыто, что замкнуто, а что разомкнуто, где вход и где выход, наконец.
Куда, если что, бежать.
Мальчик Путя во время усадебной игры в прятки очень удачно спрятался
на пустой веранде (рассказ «Обида»). Под цветными стеклами, бросавшими
Лифты (и прочие трамваи)
на них цветные отражения, тянулись мягкие лавки, обитые сизым сукном
в махровых розах. Путю не нашли на веранде, но не потому, что он так здо-
рово спрятался, а потому, что о нем забыли.
Это обидно, да, но зато цветные отражения в махровых розах — его
мир, которым он может ни с кем не делиться.
Владимир Владимирович хорошо понимал, что такое автономный мир.
Вот здорово из «Машеньки»:
— Пять извозчичьих пролеток стояли вдоль бульвара, — пять сонных,
теплых, седых миров в кучерских ливреях, и пять других миров на больных
копытах, спящих и видящих во сне только овес, что с тихим треском льется
из мешка.
Владимиру Владимировичу не изменяла тема баланса между личным
пространством и общим, ловушкой и домом. Желанием быть невидимым,
но наблюдать, «внутренней эмиграцией» и насущным контактом с реаль-
ностью, без которой все же ни романа, ни рассказика не сочинишь.
Отказ строить в богатой старости свой дом, двадцатилетнее затворни-
чество в публичном месте, в гостинице, — вот удивительная финальная
формула такого баланса.
Лифт и трамвай: и потенциальные гробы, и полезные средства передви-
жения.
Или гроб — тоже средство передвижения?
62
Велосипед в катафалке
На окраине Берлина, в районе Тегель, под боком крупнейшей в Германии
тюрьмы, находится православное кладбище с русской землей: привезли
в конце XIX века четыре тонны из двадцати губерний, и липы с кленами
тоже свои привезли.
В «Руле» за 9 февраля 1923-го можно обнаружить заметку «На кладбище
(забытые)» за подписью «М.»: там повествуется о расположенной подле те-
гельского погоста артели увечных, у которых нет работы.
— Да, люди заживо оставлены на кладбище и... забыты. Именно так по-
нятны стали слова одного из них: «Смотришь на эти кресты и думаешь:
а хорошо бы на одном из них повеситься», — стоит в заметке.
Владимир Сирин, постоянный автор газеты (в «Даре» описаны ощуще-
ния поэта, который, открывая свежий номер, видит, что договоренного
стиха нет,что-то вытеснило... приходилось, следовательно, купить выпуск
и на следующий день), эту заметку, я думаю, читал.
К тому моменту отец Набокова, один из трех основателей «Руля», уже
покоился в Тегеле. Могиле Владимира Дмитриевича — она несколько
странно «заверстана» боком в тени другой могилы — можно поклониться
и сегодня.
— Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее, — написал Си-
рин в стихотворении памяти погибшего отца.
А заметку «На кладбище» он или запомнил, или старая газета в вещах
завалялась.
В пьесе «Человек из СССР» есть выразительная деталь: со шкафа перед
переездом свисают старые газеты: стаскивали, стало быть, чемоданы. Так
и 668-й «Руль» мог свеситься со шкафа в ходе переезда Набокова с кварти-
ры на квартиру.
бз
Велосипед в катафалке
64
[961:729]
И в начале 1925-го в «Руле» появился рассказ «Письмо в Россию», посвя-
щенный совершенному счастью человека в ботинках с дырявыми подош-
вами, который разгуливает по ночному Берлину.
— Прокатят века, школьники будут скучать над историей наших потря-
сений, все пройдет, но счастье мое останется, в мокром отражении фонаря,
в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды
канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро че-
ловеческое одиночество.
Про эффект счастливого одиночества на чужом мосту мы уже знаем.
Собственно, этот рассказ родился из заготовки к несостоявшемуся роману
под названием «Счастье», который предполагалось посвятить вольным
ощущениям изгнанника, понесшего сладкую высокую утрату.
Но что делает героя счастливым, кроме впрямь бесконечно прекрасного
мокрого отражения фонаря, какие предметы и сущности наполняют его
душу тихим золотым гудом?
Лужи, гранатовый огонек над ящиком пожарного сигнала, мягкий свет,
что вспыхивает ненадолго за дверью, которую только что открыл невиди-
мый в темноте человек (витает тема ключей), великолепный грррохот, с ко-
торым промахивает через мост освещенный всеми окнами поезд...
И история на православном кладбище. Увечный в газете лишь думал по-
кончить с собой, а в рассказе сделала это на могиле недавно умершего ста-
ричка семидесятилетняя старушка. Сторож, калека на костылях (из той
самой, догадываемся мы, артели инвалидов) показал крест, на котором ста-
рушка повесилась, и приставшие желтые ниточки там, где натерла веревка.
— Новенькая, — сказал он мягко.
У читателя перехватывает горло: но где же похоронят или уже похоро-
нили старушку? Ведь самоубийц не положено... рванувшись к своему ста-
ричку, она в результате оказалась за оградой?
— Потопталась маленько, а так, — чисто, — заметил спокойно сторож.
И взглянув на ниточки, на ямки, рассказчик вдруг понял, что «есть дет-
ская улыбка в смерти».
Еще раз:
— Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее...
Это Сирин напечатал в «Руле» в годовщину смерти В.Д. Набокова.
Я на месте редактора, признаться, переспросил бы, нет ли тут какой пу-
таницы.
— Странная нежность глубины смягчает потонувшие в ней краски,
раздробляет черный свет на его составляющие оттенки, подобно тому как
смерть расчленяет жизнь, — бормотал Сирин в эссе о Руперте Бруке.
То есть жизнь по этой схеме — черный свет, а безграничный фестиваль
оттенков, «утренний луч» в том числе, — это заслуга смерти.
Помутнение рассудка, трагический заштыр, скажет иной читатель. За-
щитная реакция, попытка заболтать черную яму судьбы. Но тогда придет-
ся признать, что помутненный рассудок сопровождал нашего автора по-
стоянно.
Набоков без Лолиты
Многие герои, для начала, умирают счастливыми.
Счастливым умер Картофельный Эльф, полагая, что у него есть сын,
и предполагая в ближайшее время с ним встретиться.
Марк из «Катастрофы» погибает, выскочив из трамвая под омнибус,
счастливым женихом: не подвернись смертоносное колесо, пришлось бы
ему познать на своем опыте, какие дозы алкоголя может воспринять моло-
дой немец, у которого украли любовь. Хорошо, если бы сам не укокошил
невесту-изменщицу (а труп в чемодан, а чемодан на вокзал).
Со счастливой улыбкой на устах угасает в «КДВ» Марта: ей бредится, что
хитрая комбинация по устранению мужа срослась.
Пильграм в одноименном сочинении «не умер», то есть не успел заме-
тить, что умер, а ушел искать синюю поляну, распрекрасных бабочек в ле-
гендарных землях.
— Вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей
на севильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки.
Тут, конечно, все ошибки. Сладкие заблуждения.
И героиня «Мести», скончавшаяся, обнимая скелет, полагает, возможно,
что обнимает своего потустороннего Джекки.
Но вот в «Рождестве» смерть маленького мальчика вполне трезво назва-
на «радостной».
И в рассказе «Боги» родители умершего малыша восхищаются богат-
ством оставшегося мира.
И в «Бахмане» Перова покидает наш мир «с выражением счастья»
на лице.
Лужин-старший после смерти жены издает плач, неотличимый от смеха,
в «Пассажире» рыдания таинственного пассажира, подозреваемого чита-
телем в женоубийстве, — «хахакающие», в «Случае из жизни» Павел Рома-
нович, рассказывая об измене жены, которую он в финале будет убивать,
тоже делает это «с хохотом», художник Синеусов («Ultima Thule») выбегает
после смерти жены из санатория «пританцовывая».
И пушкинской Машеньке Шонинг, помнится, у кровати покойного отца
(эта кровать мелькнет в «Даре») хотелось не плакать, а смеяться.
Тут, конечно, все судороги, внесодержательные истерики тела, которому
все равно, с каким звуком содрогаться.
Но все же...
В начале 1925-го напечатано «Письмо в Россию», а в конце того же года
в «Руле» появился «Путеводитель по Берлину» со схожим сюжетным мото-
ром: прогулка по городу и развернутые лирические впечатления. Там есть
трамваи (те, что ловко уподоблены самцу и самке), снег (на заснеженной тру-
бе кто-то написал «Отто», этого Отто я разъясню ниже), велосипеды, поч-
тальон (внимательный к «вместилищам» Набоков рисует, как подставляется
под почтовый ящик мешок, нацепляется снизу и опорожняется с поспеш-
ным шелестом), есть гигантская черепаха с пятипудовым куполом...
— Но, быть может, прекраснее всего — бланжевые, в розовых подтеках
и извилинах, туши, наваленные на грузовик...
65
Велосипед в катафалке
66
Ой, Владимир Владимирович! Туши мертвых животных? Прекраснее
всего? Да, он продолжает:
— .. .И человек в переднике, в кожаном капюшоне с долгим затыльни-
ком, который берет тяжкую тушу на спину и, сгорбившись, несет ее через
панель в румяную лавку мясника.
Автора этих строк смущают, признаться, туши мертвых животных, но я,
в общем, понимаю, что в каком-то смысле можно назвать прекрасными
натюрморты во фламандских залах Эрмитажа или на Кузнечном рынке.
Но у Сирина есть натюрморты и похлеще.
Садом шел Христос с учениками,
Меж кустов, на солнечном песке,
вытканном павлиньими глазками,
песий труп лежал невдалеке.
Труп гниющий, трескаясь, раздулся,
полный склизких, слипшихся червей...
Иоанн, как дева, отвернулся,
сгорбленный поморщился Матфей...
Говорил апостолу апостол:
«Злой был пес, и смерть его нага,
мерзостна...»
Христос же молвил просто:
«Зубы у него — как жемчуга...»
Это, правда, переложение перевода Гете из Низами, но простому читате-
лю «Руля» сия исследовательская находка неизвестна, он воспринимал стих
про зубы как сочинение «памяти Достоевского». Тоже, конечно, алиби: чего
не напишешь памяти эпилептика.
Есть и еще более крутой заход: не просто смерть воспета, но убийство
оказывается катализатором сознания.
Вообще сознания как космического феномена.
В стишке «Из блеска в тень» полунемой дикарь вслушивается в звук
стрелы, пущенной в орла, и звук этот певучий как-то в нем так затреньки-
вается, что он предается первым, возможно, в истории своего рода мечта-
ниям о чужой подруге в чужом шалаше... а лук сравнивается с призрачной
лирой.
А в стихотворении «Вечный ужас. Черные трясины...» герой охотится
уже далеко не на орла. Автор задается вопросом: где взял самосознание
«белый зверь, умеющий грешить», как ему удалось пережить допотопных
чудовищ без названия наподобие бегемота с лебединой шеей?
Может быть, я эту знаю тайну:
Поутру, бродя в лесной глуши,
Набоков без Лолиты
Острый камень ты нашел случайно
И впотьмах младенческой души
Боязливо, как слепой, пошарил,
Камень прочно к палке прикрепил,
Подстерег врага, в висок ударил
И задумался, когда убил.
Пусть юниорские искания (три последних примера — из самого начала
1920-х) — хвощи эпатажа, но целостная картина складывается.
Сознание, может, и не порождено убийствами, но, во всяком случае, На-
боков верил, что со смертью жизнь не заканчивается.
Или так: не верил, что она заканчивается со смертью.
А вы верите? В то, что не заканчивается? Чувствуете, что не может ждать
за могильной чертой вечная пустота, что грандиозные усилия по устраива-
нию бытия, предпринятые и вами, и, так сказать, Природой, никак не мо-
гут финишировать вселенским пшиком, черным швахом?
При этом вы не очень верите, что на небесах вас встретит с ключами
апостол Петр с приглаженной бородой, в свежей ризе, что вас ждет веч-
ность в гамаке с мохито и видом на лебединое озеро, а ваших сослужив-
цев — покрытые сажей котлы и шелудивые чортики с циклопическими
спичками? Вы считаете, что эти кукольные образы — лишь попытка огра-
ниченного человечьего разума представить непредставимое, которое, разу-
меется, существует, но не в упомянутых лубочных формах?
Даже мадам Отт из «Сказки» лубками возмущена:
— Очень напрасно меня воображают в виде мужчины с рогами и хвостом...
А ведь действительно, так и воображают.
Набоков не был церковным человеком и почти не писал о церкви, хотя,
казалось бы, запечатлевал все, что попадается по пути. Самая известная
сцена внутри (и то лишь наполовину «внутри») культового сооружения —
это последний пассаж первой главы «Других берегов». Сначала мы в набо-
ковской усадьбе, в многооконной ореховой столовой присутствуем при та-
инстве завтрака, но буфетчик сообщает отцу, что пришли мужики. Что-то
они просят, скосить что-то или срубить, и отец, выйдя на крыльцо, обык-
новенно сразу соглашается, и мужики по старинному обычаю подбрасыва-
ют барина в воздух. За окном является в лежачем положении раскинувша-
яся на воздухе фигура отца, а дальше происходит следующее:
— И вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы на-
век, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров не-
божители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих оби-
лием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как
внизу одна за другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя
рой огней в мреении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящие-
ся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней,
в еще не закрытом гробу.
67
Велосипед в катафалке
Мы в церкви, но вошли туда не с парадного хода, а вот такой головокру-
жительной сапой.
Существует абзац про венчание Лужина, но львиная его доля уделена
воспоминаниям Лужина-ребенка о ночных вербных возвращениях со све-
чечкой, ошалевшей от того, что ее вынесли из теплой церкви в неизвест-
ную ночь, и в конце концов умиравшей от разрыва сердца, когда на углу
улицы налетал ветер с Невы, о пасхальных медовых ночах, все в тумане;
к тому моменту Лужин не посещал храмов уже одиннадцать лет, прошед-
ших с отпевания матери, и на отчетное посещение потрачено не более пя-
ти строк.
Годунов-Чердынцев ежедневно проходит мимо кирхи, не забывая про-
резать ею пейзаж как элементом вертикальным, величественным и симво-
личным, но никогда не заходит — на звуки органа, на пару минут, на глоток
освященного воздуха.
И никто из многочисленных сиринских фланеров дверей храма не от-
крывает, хотя мы понимаем, что там таится калорийная пища для писа-
тельского взора. Ну, вот Франц («КДВ»), бесцельно шатаясь по Берлину,
в музее разглядывает египетские мумии, а в собор, на той же площади
стоящий, не суется.
В церковь хочется Жозефине Львовне, старой гувернантке из рассказа
«Пасхальный дождь», которая, всю жизнь прожив в России, боясь и не зная
ее, мечтая вернуться домой, в Швейцарию, теперь, в узкой Лозанне, тоскует
по заснеженному Петербургу. Ее русские знакомцы Платоновы в гречес-
кую церковь пойдут, но навязчивую старуху не пригласят, и вместе с Жозе-
6 8 финой Львовной не попадет в церковь и читатель. Смуглый блеск Исакия
нам явится в бреду героини, там же горы разноцветных яиц рассыплются
с круглым чоканьем; не то солнце, не то баран из сливочного масла, с золо-
тыми рогами, ввалится через окно и станет расти, жаркой желтизной за-
полнит всю комнату. Мы понимаем, что в желтизне этой жаркой явлены
нам некие формы вечной жизни, но — не церковные.
— Была некая сила, въ которую она крепко верила, столь же похожая на
Бога, сколь похожи на никогда невиденнаго человека его домъ, его вещи,
его теплица и пасека, далекш голосъ его, случайно услышанный ночью въ
поле. Она стеснялась эту силу назвать именемъ Божшмъ, какъ есть Петры
и Иваны, которые не могутъ безъ чувства фальши произнести Петя, Ваня,
межъ темъ, какъ есть друпе, которые, передавая вамъ длинный разговоръ,
разъ двадцать просмакуютъ свое имя и отчество, или еще хуже — прозви-
ще. Эта сила не вязалась съ церковью, никакихъ греховъ не отпускала и не
карала, — но просто было иногда стыдно передъ деревомъ, облакомъ, со-
бакой, стыдно передъ воздухомъ, такъ же бережно и свято несущимъ дур-
ное слово, какъ и доброе.
Это о матери Мартына Эдельвейса, но и очень похоже, что о матери Вла-
димира Владимировича, а наверное, и о нем самом.
Один фрагмент в путеводителе стоило процитировать в старой орфо-
графии — пусть будет этот.
Набоков без Лолиты
После известия о смерти отца Мартын долго бродит по парку и пред-
ставляет, что отец везде — спереди, позади, вот за тем кедром, вон на том
покатом лугу. Ночью он старательно храпел, чтобы мать в соседней комна-
те думала, что он спит, а сам изо всех сил думал об отце и даже производил
совсем не христианские опыты: вот пусть скрипнет половица или что-то
стукнет... это он, отец, слышит и отвечает. А в другом месте,устрашась
было встречи с призраками, думает, что «раз бродят души покойников, то
ВСЕ ХОРОШО». Это я выделил большими буквами.
Матери Набоков пишет, что всей семьей они встретятся «в неожиданном, [ 152:61]
но совсем естественном раю, в стране, где все — сияние и все прелесть». Году-
нов-Чердынцев отодвигает встречу с отцом «за предел земной жизни».
В общем, за гробом жизнь не кончается.
— Каждый — какую бы ни исповедовал веру — чует, что это не может
кончиться ТАК; что последним словом жизни не может быть молчание
смерти; что нелепостью было бы полагать, что единственная возможность
вечности есть лишь вечное расставание. Нет.
Конечно нет, Владимир Владимирович. Мы как раз обсуждали это с чи-
тателем: не может просто раз — и захлопнуться дверь.
— Слишком много начато, и обещано, и задумано земной жизнью,
слишком богата она многозначительными мгновениями подъема и про-
света, слишком пропитана какой-то дикой тоской по неслыханному, не-
изъяснимому, но, в сущности, естественному разрешению своему...
Да-да, каждый это знает, или почти каждый, или очень многие. Просто
не всякий научился сказать.
— Когда на кладбище, кроме нас, никого не осталось, я так зримо и ост-
ро ощутил: ты знаешь все, что будет после смерти, как знает птица, слетев-
шая с куста, что полетит, а не упадет. [ 152: во]
Это В.В. пишет Вере. Кладбище все то же, тегельское, навещали отца.
Вряд ли она знает совсем «все», но про полет — договорились.
— Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.
Это Годунов-Чердынцев — о том же.
— Я отказываюсь видеть в двери больше, чем дыру да то, что сделали
столяр и плотник, — это вымышленный философ Делаланд — все о том же.
И ясно, почему наши агенты так озабочены ключами.
— Трудно поверить, что нежность, теплота и прелесть их отношений
не сберегается где-то, как-то, каким-то бессмертным свидетелем смертной
жизни, — это из «Найта».
И не надо верить, конечно. Все это не может не сберегаться.
«Смерть мила — это тайна» — так Сверкающий Абракадабр переставил
буквы в неясной конструкции «Mali е trano t’amesti...». [9]
С этой тайной Сирин носился до конца своих русскоязычных дней.
В «Ultima Thule» есть персонаж Фальтер, в котором разорвалась «бомба
истины», которого поразила «сверхжизненная молния», в результате чего
ему открылась «сущность вещей». Автор, герой и рассказчик с велеречи-
востью, явно достойной лучшего применения, долго топчутся вокруг этой
69
Велосипед в катафалке
сущности вещей, но секрет оказывается все тем же, уже давно известным
читателям Сирина — начиная с его ранних стихов или, например, с расска-
за «Наташа»: загробный мир существует, и связь с ним возможна. Только
если в «Наташе» это доказывал обычный призрак, встреченный у газетно-
го ларька, то в случае Фальтера это выяснилось, лишь когда один исследо-
[5] ватель обратил внимание, что Фальтеру известно о любимых умершей же-
ной рассказчика (художника Синеусов а) иностранных деньгах и полевых
цветах, а узнать он о них мог, только подключившись к миру духов.
Что же известно о мире духов кроме того, что он существует?
Я согласен, что сам факт его существования — важная информация, но
коли она неоднократно озвучена и усвоена, то неизбежен вопрос о подроб-
ностях.
Существование за порогом смерти может оказаться не просто столь же
великолепным, красочным и творческим, как об эту сторону творения сто-
ляра и плотника, но и еще более сияющим и полным.
В переведенном В.В. стихотворении Руперта Брука идет речь о рыбах,
озабоченных тем же вопросом:
Мы знаем смутно, чуем глухо —
грядущее не вовсе сухо!
За гранью времени, далече,
иные воды разлились.
70 Там будет слизистее слизь,
влажнее влага, тина гуще...
Да, как-то так. Слизистее слизь.
Художник Синеусов, начиная письмо покойной жене, вспоминает, как
они завтракали, а в скобках после «завтракали» ставит «принимали пищу».
[5: збз] Есть версия, что Синеусов таким образом «ищет язык загробного мира, и
ему представляется, что это язык самых обобщенных понятий, усредненно
нивелированный язык...».
Старший Комментатор более оптимистичен:
[42] — Со смертью возвращается полнота понимания мира и способность
любить и сострадать.
Так, например, да.
— Вот из соседних ворот осторожно выехал и повернул по пустой улице
черный погребальный автомобиль, стоявший вчера у починочной мастер-
ской, и в нем, за стеклом, среди белых искусственных роз, лежал на месте
гроба велосипед: чей? почему?
Это одно из чудес, выданных Федору в «Даре». Он шатается по улицам
и вглядывается в гротески: на сей раз предоставлен такой. В награду за то,
что хорошо шатался и всматривался.
Велосипед в катафалке — удивительный образ.
Набоков без Лолиты
«Символичнее» некуда, но символ — вещь чаще одышливая, насуплен-
ная, а этот — легкий, летучий.
Замечательно еще, что вчера катафалк стоял у починочной мастерской:
сам, возможно, чинился, и есть дополнительная летучесть в том факте, что
орудие смертного ритуала поддается ремесленному латанию.
Объект, в общем, не хуже, чем бюст Вагнера в мотоциклетной коляске.
На одной из задних улиц берлинского района Моабит (он однажды упо-
минается у Сирина, с уточнением «чорт знает где»), перед выездом на трас-
су, ведущую в Тегель, мне довелось летом 2009 года сначала увидать унитаз,
стоявший в тележке из супермаркета, а на следующий день — небольшую
гордую дворнягу, везомую в такой же или даже в той же тележке старуш-
кой-собаковладелицей. Я зашел куда-то буквально на пару минут, навер-
ное в киоск за мерзавчиком доппелькорна, и вскоре вздрогнул, увидав эту
собаку в окне первого этажа: доставленная домой, она тявкала на праздных
прохожих через стекло, от чего на пленэре воздерживалась.
Унитаз в тележке и собачка в тележке — это рифмы к унитазу в лифте.
Цитаты из Вагнера в коляске, из велосипеда в катафалке.
Которые, в свою очередь, цитаты из того места, где все сияние и все —
прелесть.
Смерть не только не «конец пути», она и не только «в конце пути». Та-
лантливый наблюдатель способен почувствовать в повседневности ее жи-
вое присутствие. Время, иными словами, не слишком линейно.
— Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то пу-
тешествия, — это из рассуждений, которые принадлежат сначала вроде
рассказчику «Дара», а потом плавно перетекают в предсмертный бред 71
Александра Яковлевича.
В тот знаменитый бред, что входит в топ-10 цитат из Набокова; в бред,
завершающийся прощальной мыслью:
— Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь.
За окном в этот момент играет на черепицах весеннее солнце, а верхняя
квартирантка поливает на балконе цветы, и вода журчит вниз.
А Сирина волнует возможность пощупать загробное... осторожно...
как кошка воду лапой.
В «Подвиге» гибнет муж Нелли... «ненароком проскочил за черту, в еще
звеневшую отзвуком земной жизни область»... Вот как она звенит,эта об-
ласть, что там за отзвук?
Человек, допустим, мертв, а родители еще об этом не знают.
Евгения Исаковна в «Оповещении» пьет кофе, ссорится с квартирной
хозяйкой, получает от сына открытку из Парижа, вспоминает, что должна
забрать из ремонта его часы, а сын в этот момент уже стынет в морге.
Мать Мартына в «Подвиге» хранит несколько связок писем от сына,
и среди них последняя, тонкая: это письма, посланные другом Мартына
Дарвином уже после того, как их автор отправился в смертельное путеше-
ствие. Надеялся вернуться через месяц, написал несколько писем вперед,
чтобы мать не волновалась.
Велосипед в катафалке
Получая такое письмо, вздрагивает материнское сердце... чует, что что-
то не так с этим исписанным клочком бумаги?
Читатель дергается, да, хочет сунуться сквозь буковки, сквозь бумагу
в реальность текста, предупредить... что за глупость, о чем предупредить.
Друзья Евгении Исаковны несколько часов не решались, потом прорвали
пленку немоты... прямо-таки ором оповестили:
— Да что там в самом деле — умер, умер, умер!
Яша Чернышевский уже выстрелил в себя на берегу мутного озера,
а в его комнате «еще несколько часов держалась, как ни в чем не бывало,
жизнь, бананная выползина на тарелке, „Кипарисовый ларец“ и „Тяжелая
лира“ на стуле около кровати, пингпонговая лопатка на кушетке».
Пингпонговая лопатка должна, очевидно, свидетельствовать, что Яша
не очень большой поэт; большому поэту и теннис положен большой, но
читатель этот намек заметит скорее при перечитывании.
Пока тот же вопрос: про родительское сердце.
Мало ли зачем мог отворить отец дверь в комнату сына... там ведь уже
изменился состав воздуха, нет? Налилась агрессивными мертвенными от-
тенками бананная выползина на тарелке?
Что-то еще шелудит на краю сознания, что-то очень неприятное... был
у нас с К.В. Богомоловым знакомый поэт, который повесился в своей ком-
нате, когда родители были дома, пили чай за стеной... а Александра Яков-
левна потом подарит Федору галстук самоубийцы... нет, что-то другое.
Выползина. В «Подлеце» в последних строчках есть сальная выползина
из бутерброда героя, который в этот момент лучше всего может быть оха-
72 рактеризован формулой «ни жив, ни мертв».
И сами эти выползины — терпимая, но скользковатая бананная и совсем
мерзкая свиная — есть переход вещества в другую зону, в другое состояние...
посмотрел сейчас «Подлеца» — нет выползины, герой просто измазал паль-
цы и подбородок в сале... а, вот, страницей ранее он мечтал о ней — видел
в мечтах большой бутерброд с ветчиной, так чтобы торчало сальце... Бррр.
Это мы наблюдали со стороны, но «Катастрофа», «Совершенство», «Согля-
датай», «Пильграм», «Лик» — в этих сиринских прозах идет прямая транс-
ляция из сознания, проскакивающего за черту.
В «Катастрофе» и «Лике» оно заполнено образами, тесно связанными
с предметами из только что канувшей жизни. Герой первого рассказа ви-
дит, умерев, свою невесту, к которой, собственно, направлялся перед ги-
белью, герой второго беспокойно всматривается из-за грани бытия в судь-
бу новых (издевательски белых) ботинок, позабытых в гостях.
Пильграм уплывает в свою мечту: сознание его плещется на волнах пу-
тешествия, что начиналось в мгновение смерти:
— Вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек,
которых мечтал увидеть, — бархатно черных с пурпурными пятнами меж-
ду крепких жилок, густо синих и маленьких слюдяных с сяжками, как чер-
ные перья.
Набоков без Лолиты
Не слишком, в общем, далеко попал, в родные фантазии.
Щедрее всех награжден Иванов из «Совершенства»: по ходу рассказа он
задавался «неразрешимыми» вопросами, как и где моются трубочисты
после работы, изменилась ли за эти годы русская лесная дорога, которая
сейчас вспомнилась так живо среди берлинской суеты. За чертой или там,
на черте, в последних строках рассказа, на него обрушивается полнота
мира, и поперек зеленой дороги в поредевшем лесу лежат, еще дыша,
срубленные осины, и черный от сажи юноша, постепенно белея, моется
под краном на кухне: мертвый Иванов получил доступ не в свою мечту,
а в иные миры.
Да, забыт финал «Приглашения на казнь», где обезглавленный Цинцин-
нат... это вы должны помнить, впрочем. С меня менее раскрученные при-
меры.
Скажем, непонятно, мертв или жив герой во втором действии стихо-
творной драмы «Смерть». У профессора Гонвила умерла жена, его ученик
Эдмонд, тайно любивший Стеллу, готов покончить с собой. Гонвил выдает
Эдмонду яд, оговорив, что сознание погаснет не сразу. Во второй сцене
Эдмонд полагает, что мертв, а то, что Гонвил по-прежнему рядом, в той же
декорации — обещанная причуда сознания. Профессор выпытывает у Эд-
монда подробности любви к Стелле (их нет, имел место один лишь невин-
ный взгляд),успокаивается, сообщает Эдвину, что яд не был ядом, что он
жив и Стелла жива: это ее шаги на лестнице. Занавес. Читателю так и не яс-
но, кто жив, а кто мертв.
И не происходит ли в «Полюсе» возвращение Флэминга после смерти
капитана?
Вылез же из розоватой смертельной раны, нанесенной рыцарем дракон-
ше («Дракон»), толстый повар с огромным дымящимся сердцем под мыш-
кой.
Может быть — пускается в фантазии автор путеводителя, — вполне
мертв и кто-то еще из героев, кого читатели дружно считают живым?
Вот в «КДВ» эпизод с Францем, впервые решившимся поцеловать Мар-
ту. .. Он так живо вообразил, как войдет в гостиную, увидит ее и сразу
хвать крепко, до хруста, — так живо вообразил, что на мгновение увидел
впереди свою же удаляющуюся спину, так живо, что в этом «живо» слы-
шится противоположность.
Это совпадает с ощущениями умершего героя «Катастрофы» («увидел
поодаль свою же фигуру, худую спину Марка Штандфусса, который как ни
в чем не бывало шел наискось через улицу. Дивясь, одним легким движени-
ем он догнал самого себя») или застрелившегося рассказчика «Соглядатая»
(«я видел себя со стороны тихо идущим по панели»). Такие ощущения из-
вестны (даже если обойтись без стишка Ходасевича «Эпизод») по свиде-
тельствам людей, переживших клиническую смерть, глубокий наркоз или,
скажем, психоделический опыт. Последнее — если понимать психоделию
узко, как результат применения химических или природных препаратов —
к Набокову отношения не имеет, «наркотики» он не уважал, но зато пережил
73
Велосипед в катафалке
в мае 1917-го аппендицит и видел себя под эфиром ребенком, «напряжен-
[ 19:158] но расправляющим под руководством чересчур растроганной матери све-
жий экземпляр гладчатого шелкопряда», понимая при этом, что «расправ-
лен и распорот был собственно» он сам.
В том же «КДВ», впадая в смертельную болезнь, Марта начинает видеть
себя со стороны и называть «Мартой Драйер», и в рассказе «Подлец», гото-
вясь к дуэли, в которой у него нет шансов, Антон Петрович думает о себе
в третьем лице:
— Удивительная вещь, этот человек сохраняет полное хладнокровие.
Он даже не забывает завести часы.
Видеть свое отделившееся тело — значит умирать (или переходить в ка-
кой-то иной «иной мир»). Может, Франц умирает в какой-то момент рома-
на и дальнейший текст — его видения? Вот за пару абзацев до эпизода,
в котором Драйер едва не разоблачил любовников и мог, доводя ситуацию
до логического предела, убить одного или обоих, Франц «зачем-то» надел
свежее белье и носки, то есть поступил как щепетильный, уважающий
чувства родственников скорый покойник.
А сразу после этого эпизода с Драйером Франц вышел в коридор и уви-
дал и вовсе абсолютную метафору инверсии: старичок-хозяин в одном
нижнем белье стоял на четвереньках и, нагнув седовато-багровую голову,
глядел — промеж ног — на себя в трюмо.
По эту ли сторону творения столяра и плотника наблюдает Франц эту
жанровую сцену?
В этой связи затруднительно не процитировать адресованное мне пись-
74 мо К.В. Богомолова, отправленное в конце 1990-х годов (бумажной поч-
той) из Екатеринбурга в Москву:
— Прежде чем заняться нашими культурными делами, непременно по-
гляди в зеркало на свой зад, это направит тебя в нужное русло. Медленно
приспусти штаны в полной тьме, после чего зажги свечку, склони голову
как можно ниже в межножье, расположи свечу посередине между глазами
и зеркальной гладью и попытайся осмыслить увиденное. Возможно, это
поразит тебя, и ты разрушишь зеркало, возможно, это поразит зеркало,
и оно втянет твой зад; возможно, тебя просто развернет задом наперед —
многое возможно.
В «КДВ» безумный фокусник, увлеченный нетрадиционной гимнасти-
кой, — фигура, конечно, пародийная.
Но в дальнейшем мы увидим, что наш автор был горазд даже самые лю-
бимые свои мысли вкладывать в чуждые уста.
И желание глянуть себе между ног явно не было для него случайным.
Набоков-штрих всерьез советовал студентам практиковать метод Менете-
келфареса:
— Попытайтесь наклониться и снизу посмотреть назад между своими
коленями — вы увидите мир в совершенно ином свете.
В ином свете!
Набоков без Лолиты
Что, прямо на лекции, Владимир Владимирович? — могли бы спросить
студенты.
Или дома можно? Вы сами как, дома практикуете?
— Сделайте это на пляже: очень забавно видеть идущих вверх ногами
ЛЮДеЙ. [89:372]
Именно за ощущения пешехода, перевернутого вверх ногами, клеймил
Христофор Мортус (памфлетный критик из «Дара») автора «Жизни Чер-
нышевского»: произвольное вращание пестрых пятен, несуществующие
в природе цвета.
В рассказе «Ужас» описан еще один способ опрокинутого зрения: од-
нажды в детстве, проснувшись, герой поднял глаза и увидал спросонья,
как наклоняется над ним безносое лицо с черными гусарскими усиками
под глазами: то было перевернутое лицо матери.
В «КДВ» и «Ужасе» инверсированное зрелище происходит в темноте-
тесноте, в лекции — на солнечном просторе, но свет так или иначе можно
увидеть иной.
75
Другие берега
Я все же поставлю эпиграф из гумилевского «Заблудившегося трамвая».
76
Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
В этом четверостишии сообщается, что где-то существует некое —
с этим сквозистым прилагательным мы расстаемся ненадолго — «там».
Второе его имя — «зоологический сад планет» — намекает, что «там» рас-
положено скорее где-то «вверху», коли речь о планетах. Но «там» это все же
не беспредельное-отвязанное, оно обладает какими-то здешними свой-
ствами, поскольку зоосад — знак прирученной природы.
«Там», стало быть, одновременно располагается и в звездном небе,
и «здесь» (вспомним — «загробное окружает нас всегда», хотя сейчас речь
уже не идет исключительно о посмертных пределах).
«Там» является источником свободы и света. Важно, что «мы» — это
«люди и тени». И они, тени наши, стоят у входа наравне с нами, будучи, как
и мы, заинтересованы в свободе и свете или даже ими порождены.
Сирин любил Гумилева, писал о нем стихи, его герои дарят гумилевские
книжки возлюбленным, симпатичный персонаж «Звонка» имеет имя-от-
чество Николай Степанович, и вылущенная мною из эпиграфа идеология
резонирует.
С легкой руки Веры Набоковой, сообщившей в 1979-м, что сам В.В. счи-
[юо:348] тал своей главной темой «потусторонность», именно так чаще всего име-
нуется в набоковедении его иной свет.
Сиринская проза и впрямь кишит потусторонними идеями и сущностями.
Набоков без Лолиты
Для начала в прямом смысле, если таковой возможен. На уровне персо-
нажей и сюжетных ходов.
В «Нежити» действует леший-эмигрант, тоже не выдержал в России и дер-
нул при посредничестве водяного; какие-то водяные посредничали, вероят-
но, и автору, когда он бежал на греческом корабле из воюющего Крыма.
В «Слове» функционируют прекрасные ангелы, бредущие из ниоткуда
в никуда. В «Ударе крыла» ангел вонючий, но деятельный, вступает в ин-
тимную связь с земной женщиной. В «Мести» героиня общается с духами,
а письмо одному из них становится причиной ее гибели. В «Драконе» глав-
ный герой — натуральный сказочный дракон тысячи лет от роду, с пупы-
рышками.
В «Катастрофе» Марк видит собственный призрак.
В «Грозе» на землю спускается Илья Пророк, пусть ненадолго и нехотя
(колесо от небесной колесницы отвалилось).
В «Наташе» героиня, возвращаясь с прогулки, обнаруживает тяжело
больного отца у газетного киоска: возжелал новостей, вышел, а деньги за-
был, сходи, дочка, за деньгами. Поднимаясь в квартиру, Наташа видит под-
линную новость: отец мертв: на улице она встретила призрака.
Или этот призрак — «ненастоящий»? За минуту до встречи барон
Вольф сказал Наташе, что любит ее, и тут же — редкая скорость даже для
тургеневских — отрепетировал побег (метнулся в лавку за табаком), и она
бредет в тумане и думает, как скажет о словах Вольфа отцу. Вот ей и мере-
щится у киоска отец, которому, в свою очередь, — справедливо — помере-
щилось, что «сегодня в газете есть что-то изумительное», только новость
не в газете, а у Наташи в сердце.
Впрочем, тонкие различия между призраками бродящими и лишь кажу-
щимися таковыми мне пока не по плечу.
Продолжим.
В «Венецианке» лимон из художественного произведения лежит на тра-
ве. Вывалился из картины.
В «Сказке» на сцену выпущен чорт женского пола.
В «Соглядатае» почти сразу происходит самоубийство рассказчика,
дальнейшее повествование — агония его угасающего сознания.
Кроме того, в этой повести книготорговец Вайншток является любите-
лем сеансов поскрипывания и покашливания, в ходе которых его раз за ра-
зом обдуривает неизвестного происхождения дух Абум.
ВАЙНШТОК. Дух, кто ты?
ОТВЕТ. Иван Сергеевич.
ВАЙНШТОК. Какой Иван Сергеевич?
ОТВЕТ. Тургенев.
ВАЙНШТОК. Продолжаешь ли ты творить?
ОТВЕТ. Дурак.
ВАЙНШТОК. За что ты меня ругаешь?
ОТВЕТ (столик буйствует). Надул.Я — Абум.
Другие берега
Есть даже свидетельство, что сеансы эти не шулерские, а настоящие:
о духе, спугнувшем Тургенева, Вайншток в следующей строчке скажет
«прямо какая-то обезьяна».
В «Занятом человеке» у героя сосед — ангел. Послан на землю помочь
герою, хотя сам герой об этом не догадается.
В «Совершенстве» сознание Иванова продолжает работать после
смерти: он «оттуда» смотрит на наш здешний пляж.
В «Памяти Л.И. Шигаева» гримасничает и почесывается взвод
чертей.
В «Приглашении на казнь» Цинциннат остается в сюжете после отсе-
чения головы. Это не считая превращения директора в тюремщика и нао-
борот и прочих мелких волшебных эффектов вроде вывалившегося из
текста желудя (родственного лимону из «Венецианки», который, в свою
очередь, родствен локону женских волос в руке Аратова, общавшегося
с обладательницей этих волос в бреду героя тургеневской «Клары Милич»,
в которой есть и всплывающий в «Машеньке» мотив смерти актрисы
на сцене).
В «Изобретении Вальса» заглавный герой оказывается в результате су-
масшедшим, но умеет, однако же, фантастическим образом взрывать горо-
да и горы, так что читатель (или зритель — это пьеса) остается в недоуме-
нии относительно истинной природы событий.
В «Посещении музея» в этом учреждении культуры вдруг открывается
параллельное пространство, и, толкнув одну из новых дверей, герой с юга
Франции перенесся, прости, Господи, в Ленинград.
78 В «Лике» сознание Лика продолжает работать после смерти.
В «Ultima Thule» у Фальтера есть связь с загробным миром.
Наконец, в «Найте» мстительное привидение носит под мышкой
собственную голову.
Тут я пошутил. Привидение хорошее, но оно не «в прямом смысле».
Относится скорее к разряду потусторонних метафор.
Сверхъестественные моменты у Сирина чаще естественны, не вопию-
щи, вплавлены в быт. За исключением нескольких случаев, когда сказоч-
ность вынесена на вывеску («Нежить», «Дракон», «Сказка»; последнюю
мне довелось однажды встретить в антологии фантастического рассказа),
все загадки имеют прозаическое аварийное объяснение.
В «Занятом человеке» надо еще догадаться, что сосед по фамилии Эн-
гель, «представитель какой-то иностранной фирмы, очень иностранной»,
настоящий энгель (ангел), а телеграмма «soglassen prodlenie» касается зем-
ной жизни центрального персонажа. Ведь телеграмма может касаться ка-
ких-нибудь шпионских (срок пребывания красного агента за границей)
или коммерческих (срок действия неведомого нам контракта на поставку
надфилей и фистонов) хлопот доброго соседа.
Лимон в «Венецианке» мог не из картины вывалиться, сложно ли найти
в большом доме лимон. Или студент Симпсон, рядом с которым найден
плод, контрабандно пронес его в рассказ.
Набоков без Лолиты
Черти Л.И. Шигаева порождены не самим сатаной, а тоже сатанинской,
но имеющей банальные медицинские параметры белой горячкой, да и дру-
гие персонажи могут спать или бредить.
Герой «Удара крыла», с точки зрения которого мы оцениваем реальность
вонючего лохматого ангела, собирался покончить с собой: может быть, и по-
кончил, и видит настоящего ангела где-то совсем не здесь... просто самоубий-
цам таких выделяют ангелов: косорылых, со свалявшейся мокрой шерстью...
Сирин оставляет запасной выход. Приоткрывая люки в неведомое, он
готов передернуть и заявить, что иные миры причудились, что потусто-
ронность — это лишь потустраничность.
Потусторонность рядом, безусловно, но выпавший лимон — это не суть
ее, а случайное, необязательное проявление.
Они — другие берега — абсолютно точно каким-то образом существу-
ют, но вот каким, как, что за берега, что о них вообще можно сказать, кроме
того, что они другие и некие...
Тем более что перед глазами совсем недавний позорный пример симво-
листов, которые догадались, что грянула фандесьеклевая пора описывать
реальность, пульсирующую за гранью, но сообщить толком о ней ничего
не могли, а потому лишь топорщили пустые определения:
Безызмерность!
МнОГОЗЫблеМОСТЬ! [61:48-57]
Бездонность!
Кругозорность!
Алость! 79
Седмизрачность!
Утонули, короче, в потусторонности, только торчат культяпки седми-
зрачностей. И «з» занудно размножилась, зияет, заносится и занозится, хо-
тя я специально слов с нею не подбирал.
Гумилев меж тем со своим акмеизмом как раз разгулу многозыблемос-
тей противостоял, призывал искать не «зыбких слов», а «слов с более устой- [61:59]
чивым содержанием». Так и Набоков, понимая, что дверь в потусторон-
ность приоткрылась, не спешил делать вид, что умеет безошибочно
отличать бездонность от алости,хотя некоторую дань в ранних стихах ла-
зурным странам и лучезарным щитам отдал.
Публицистические высказывания В.В. в американский период, когда по-
явилась — не слишком здоровая — потребность комментировать свое
творчество, да, кстати, и возможность рассуждать о нем в интервью, кото-
рых у Сирина в русское время никто особо не брал, полны сентенций типа:
— Я знаю больше, чем могу выразить словами, то немногое, что я могу [95 пь588]
выразить, не было бы выражено, не знай я большего.
Там много рассуждений о тенях, сцепляющих «нашу форму бытия [951:507]
с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в ред-
кие минуты сверхсознательного восприятия».
Другие берега
Насчет редких минут, впрочем, писатель скромничает: всякий дельный
творческий акт можно назвать вспышкой сверхсознательного восприятия,
и герой Сирина, личность, как правило, не менее творческая, чем автор-
создатель, бывает полон таких вспышек и во время рядового берлинского
променада.
Еще раз из «Письма в Россию», мой любимый фрагмент:
— Прокатят века, школьники будут скучать над историей наших потря-
сений, все пройдет, но счастье мое останется, в мокром отражении фонаря,
в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды
канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро че-
ловеческое одиночество.
Но улыбка и отражение сами сгинут через мгновение.
Поворот каменных ступеней, конечно, задуман рукастым немецким
строителем с хеопсовым запасом прочности, но вряд ли именно так выгля-
дит идеальная ловушка для счастья, сохраняющая на века этот деликатный
продукт.
Скорее не счастье останется в отражении фонаря, а и счастье, и отраже-
ние фонаря, и улыбка останутся в некоем удивительном «там».
Слово-паразит «некоем», вновь высунувшее мордочку в предыдущем
предложении, в главке о запредельных сущностях должно чувствовать себя
вольготно... как слова «нечто» и «какой-то» в «Других берегах»:
— .. .Нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то
мгновенной физической пустоты...
Федор, герой «Дара», говорил о врожденной странности человеческой
8 О жизни, странности, ощущение которой отец ему таинственно же передал,
об «отвлеченной чистоте», которая достигается при сочинении шахматной
задачи. Там же утверждается, что мир скроен по мерке чего-то не совсем
понятного, но дивного и благожелательного.
Никуда не деться от столь приблизительной лексики и исследователям.
[9] Сверкающий Абракадабр упоминает «неисследимое», Взволнованный
[159:п-в] Модератор выискивает «некое таинственное сообщение... некое линзовое
[159:21] стекло» и подсчитывает, что в третьей главе «Дара» слова «тайна», «таин-
ственный» и «тень» употребляются три, девять и восемнадцать раз соот-
ветственно, а Истец Иного глубокомысленно изрекает:
— Хотя Цинциннат связан с потусторонним миром, примет последнего
[2:124] в романе немного, одно лишь ясно — он радикально отличается от мира
здешнего.
В действительности совершенно не ясно, насколько радикально, и ради-
кально ли. Ясно, что наши возможности прорваться к этому знанию огра-
ниченны, для прорыва нужны соответствующие условия. Удобна, напри-
мер, как раз смерть, но лучше такие условия, которые не помешают читать
и писать. До тех пор, пока мы способны говорить о потустороннем, нам
оно неведомо, а когда мы узнаем о нем что-то всерьез, то, очень может
быть, что в процессе познания утеряется способность к членораздельной
речи. Или желание соответствующее рассеется на фоне надвратных красот.
Набоков без Лолиты
Хорошо еще, если красот.
То, что смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее, есть лишь
рабочая гипотеза.
Неизвестность чревата не только лучами, но и опасностями, о которых
только и можно сказать, что они «некие» и «какие-то».
Шахматист Лужин в дебюте своего романа расцеплял в математических
небесах пересекающиеся линии, а в эндшпиле растворяется в головокру-
жительной шахматной вечности, и настолько вообще тяготится матери-
альным миром, что предпочитает орудовать «бесплотными величинами
в неземном измерении», играть вслепую, когда не нужно «иметь дела со
зримыми, слышимыми, осязаемыми фигурами, которые своей вычурной
резьбой, деревянной своей вещественностью всегда мешали ему, всегда ка-
зались грубой, земной оболочкой прелестных, незримых шахматных сил».
Звучит поэтично, однако немножко обидно за ладные фигуры, уничи-
жаемые в пользу незримых, назойливо сравниваемых с музыкальными
сил: силы силами, но и пешечки с кониками прекрасны.
Так вот: если в дебютном расщеплении линий «математические небе-
са» — только изящное выражение, то слепой контакт в середине партии
с неземными силами — это уже диагноз, и ничего странного, что в финале
герой вывалился из окна.
Не всякий готов к такому решительному штурму потусторонности.
Но и вовсе не совать в нее нос немыслимо для человека, который знает,
что она существует.
Все же — льва за когти. Души умерших — бродят? Потустороннее
ими — заселено? 81
Примериваясь к этим вопросам, Сирин обращается, по элегантному выра-
жению Сверкающего Абракадабра, к «гностического типа пневматологии».
Это когда «духи мягко вмешиваются в дела живых».
Есть мнение, что жизнь шахматиста Лужина и несчастной девочки из
«Волшебника» контролируется и направляется «оттуда» — их почившими
родственниками.
Согласно изысканиям Новозеландского Биографа, Лужина ведут по [i*390-394]
жизни два предка.
Дед-композитор, в годовщину смерти которого будущий гроссмейстер
услышал от скрипача на домашнем концерте, сколь божественна шахмат-
ная игра, тема которой до самого конца романа будет развиваться под му-
зыкальное сопровождение.
И отец-писатель, который «устраивает», уже после своей смерти, зна-
комство сына с доброй женщиной, что читала в детстве его книжки и спо-
собна вернуть Лужина к «нормальной», нешахматной жизни.
Двое мертвых мужчин борются за душу живого; душа не достается, как
в таких случаях принято, никому.
Согласно изысканиям самого Абракадабра, за девочкой из «Волшебни-
ка» приглядывает с других берегов мать. Она оставляет дочери — через [8:20]
Другие берега
подругу, минуя руки чудовищного героя (он женился на матери, чтобы
быть рядом с малолетней дочерью; позже этот сюжет повторится в «Лоли-
те») — талисман, золотую цепочку с медальоном или крестиком (мы не
можем разглядеть точнее). Когда девочка впервые надевает цепочку, отчим
чувствует, что она ему нравится меньше: мимолетно чувствует, преодоле-
вает защиту и продолжает движение к срамной цели. Позже, когда настает
пора домогательств, его прикосновение к цепочке мгновенно пробуждает
в мире силы — стук полицейского в дверь, дикий рев грузовика за ок-
ном, — которые в конце концов и предотвратят преступление.
Абракадабру принадлежит и мелькнувшая выше трактовка финала
рассказа «Месть». Героиня, ложась вечером в постель, обнаруживает под
одеялом вместо мужа скелет и умирает от разрыва сердца. Абракадабр
предположил, что не так и страшна была эта смерть: возможно, умирая,
женщина думает, что попала в мир духов, с которым сносится при по-
средничестве шотландского спирита и где, возможно, ее ждет нежный
юноша, безвременно почивший ухажер, «с которым до замужества она
блуждала в сумерках, когда так призрачно белеет цветущая ежевика»
(существо, добавлю я с читательских мест, безусловно более приятное,
нежели лысый муж-профессор). Непосредственно перед развязкой, за
ужином, несчастная хотела рассказать мужу о письме, написанном на тот
свет. Это перехваченное письмо и является поводом для адской ревнос-
ти-мести. .. расскажи она, что письмо адресовано мертвецу, не стал бы
профессор совать скелет в койку... Но не рассказала: так, может быть, ее
остановил как раз потусторонний Джэк, поторопив тем самым замогиль-
82 ную встречу?
Это, конечно, серьезнее, чем карикатурные грешники, вопящие в кот-
лах. Тут тонкие индивидуальные решения. Каждый проникает в тылы
к потустороннему со своим паролем.
И все же материала немного. Главным сообщением Сирина о других бе-
регах пока остается констатация того факта, что они существуют. И что с
ними возможен контакт. Каким-то и неким образом.
Где-то в начале третьего тысячелетия я видел в Zoo носорога, быстро хо-
дившего, склонив рог, одним и тем же зигзагом — по восьмерке. Он такую
вытоптал восьмерку, что ее, наверное, могла разглядеть птица с высоты
своего полета. Ни на секунду не тормозя, наяривал носорог тяжкой траги-
ческой поступью петля за петлей; месяц, очевидно, за месяцем.
Сейчас я уподобился этому носорогу. Прогулявшись по петлям, уткнул-
ся в вывод, звучавший в предыдущей главке, о смерти: о загробном извест-
но лишь то, что оно каким-то образом существует. Да, теперь этот вывод
распространен на все беспредельное, хотя «все беспредельное» звучит
юмористично (в черновике стояло милое «остальное запредельное», не ме-
нее абсурдно «беспредельное целиком»). И сам вывод столь же незатейлив.
Мы немного потоптались на месте, извините.
Самый момент спросить себя, какие образы потустороннего кажутся
каждому из нас наиболее вероятными, непротиворечивыми?
Набоков без Лолиты
Я, скажем, полагаю, что «там» существует, но связи с душами умерших,
в отличие от Набокова, не ощущаю. Мартын вслушивается в скрип поло-
виц под ногой призрака отца, призрак Яши Чернышевского взыскуется
родителями, Федор Константинович хочет и боится встретить канувшего
Константина Кирилловича. Для меня же этот выход закрыт, я на него не
слишком надеюсь, ровным счетом никаких сигналов от умерших родите-
лей, например, я пока не опознавал.
— Когда мне снятся умершие, — писал В.В., — они всегда молчаливы,
озабочены, смутно подавлены...
А мне умершие не снятся ни подавленными, ни веселыми.
Или, как знать, возможно, они и снятся, но я их не узнаю.
Однако — ахтунг — сообщение Набокова не закончено:
— Не в этих косматых снах дается смертному редкий случай заглянуть
за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске
сознания, в минуты радости, силы и удачи — на мачте, на перевале, за рабо-
чим столом...
Это мне понятнее. В минуты удач впрямь — думаю, что многим знаком
этот эффект, — кажется, что небо или обои загибаются каким-то особым
образом, позволяя заглянуть за.
И я горазд — вслед за Сириным — высматривать на перекрестках тай-
ные знаки, вагнеров в мотоколясках.
И верю — здесь я также солидарен с Сириным — в мистику и энергети-
ку пространств.
Я чувствую, что параллельно с Петербургом-2003 или Берлином-2010
в этих же координатах существуют города прошлого и будущего, иногда
мне мерещатся разбомбленные здания и слышатся голоса на непонятных
языках. Я знаю, что время от времени — не исключено, что и ежедневно, —
я прохожу мимо нор, ведущих в иные измерения, мимо мостов, пригла-
шающих на «другие берега».
О каких, кстати, берегах идет речь в мемуарной книге?
Невы, Оредежи, Грезны, Черного моря, Средиземного моря, Адриати-
ческого моря, Темзы, Шпрее и Сены...
Это все европейские берега, и поскольку автобиографию Набоков сочи-
нял в Америке, постольку европейские берега «другие» и есть.
Но этим содержание метафоры не исчерпывается.
Начинается книжка — помните, с чего?
— Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суе-
верий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого све-
та между двумя идеально черными вечностями.
То есть с первой строки задана тема совсем уж, «очень других» берегов.
Две черные вечности — они явно где-то не здесь. Причем их две, и «не
здесь», то есть «там», у каждой свое.
Но и «здесь» притаились другие берега. Маленький Набоков в мемуаре
(вслед за ним и маленький Федор в романе) болеет и видит в бреду, как
83
Другие берега
мать его выходит из саней на Невском проспекте у магазина канцелярских
принадлежностей и покупает обыкновенный фаберовский карандаш.
Через некоторое время открывается — уже наяву — дверь в спальню,
мать появляется с карандашом, но вовсе не с обыкновенным, а с огромным
рекламным карандашом из витрины, о котором мальчик давно и безна-
дежно мечтал.
Чуть больше километра от дома на Большой Морской до Невского, 18,
где располагался магазин Треймана: не так уж и много для ясновидца.
Черные вечности «никто не отменял» (ужасающее выражение, расцвет-
шее в русском общественном языке в конце 2000-х годов и связанное, види-
мо, с авторитарной риторикой «вертикали власти»; стыдно, но не выкорче-
вываю, пусть мелькнет в путеводителе, как когти эпохи), но есть, как мы
только что выяснили, другие берега и поближе — на углу Невского и Мой-
ки. В том же доме, где был куплен карандаш-гигант, Пушкин выпил лимо-
наду перед дуэлью, а Чайковский — стакан холерной воды перед смертью.
Метафора «другие берега» удачно сразу же была рождена во множест-
венном числе.
Их много, и они у каждого свои.
Пронизывающая набоковский космос идея индивидуальности требует
для каждого не только личной вилки и полотенца, но и эксклюзивных Рая
или Ада.
В этом смысле слово «потусторонность» менее удачно: надо, наверное,
говорить о «потусторонностях», в ассортименте.
В потусторонности, когда она в единственном, есть не слишком подхо-
84 дящее В.В. жесткое («гностическое») деление на стороны ту и эту. Есть этот
якобы свет, а есть свет иной. У нашего же автора берега и миры просвечи-
вают друг через друга, вставляются один в другой, перетекают плавно и во
многих волшебных случаях без швов.
Может быть, нам следует присмотреться к персонажам, отмеченным пе-
чатями потусторонностей?
Нас, наверное, интересуют люди, которые хотят прикоснуться к беспре-
дельностям, взойти на другие берега, хотят, а иногда и могут.
Нас интересуют агенты. Люди, раскачивающие в себе способность
к контакту и проникновению, видящие запредельное не только во сне, но
готовые выдвинуться за ним в дальний опасный поход, прислушивающие-
ся к шагам привидений, норовящие запрыгнуть в поезд и покатить в не-
ведомые небесные баден-бадены, находящие в утрате, то есть в порции
небытия, бытие... эти путешественники-на-другие-берега будут сопро-
вождать нас на страницах путеводителя.
Собственно, нас, может быть, интересуют не сами эти люди, а обнару-
женные ими механизмы проникновения в потусторонность, но о механиз-
мах в отрыве от людей мы рассуждать не сможем.
Или сможем?
Пока вот куда вернемся: нужны ли нам дополнительные доказательства,
что запредельное существует?
Набоков без Лолиты
Да, в этом не приходится сомневаться, каждый прожитый день и каж-
дый солнечный луч подтверждают, что вера нас не подведет, но вера не мо-
жет быть доказательством для других, «для печати».
Для человека, который не верит, ничего не стоят соображения типа
«слишком много обещано земной жизнью, чтобы она запросто хрясь,
хрупь, рвяк — и исчезла».
Наш автор, концептуальный аристократ, мог, казалось бы, не метать би-
сер перед неверующими, не рассыпаться в объяснениях. Он, однако, соби-
рает доказательства — скрупулезным исследованием структуры мира.
Мир многослоен, у всего есть тень, мир полон взаимных отражений, при-
зраков и танцующих зеркал, в нем есть «измерения».
Его устройство тотально трансцендентно: для всего и всегда существует
свое «вне», много разных «вне».
Сущее, скажем, на каждом шагу стремится воспроизвести отношения
прототипа и, как это сказать, самого типа.
Цинциннат Ц., изнывая в своем несовершенном, грубом, глупом, жесто-
ком сегодня, восклицает:
— Должен же существовать образец, если существует корявая копия.
Схожую, но несколько более сложную мысль мы обнаружим у Годунова-
Чердынцева, полагающего, что степень корявости копии зависит и от него
самого:
— Наши здешние дни только карманные деньги, гроши, звякающие
в темноте, а где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать
проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор.
Способность проникнуть к капиталу Сирин сравнивает со спецопера- 8 5
цией: «Каждый творец — заговорщик!», и ему лишь тогда удается решить
сложную творческую задачу, когда он уверен, «что воплощение замысла
находится в некоем другом мире», то есть состоит в контакте с потусторон-
ним сообщником.
Само же слово «прототип» является в финале «Других берегов», на по-
следнем европейском: семейство Набоковых бежит из Франции в Амери-
ку, родители ведут шестилетнего мальчика к океанскому лайнеру, он уже
виднеется впереди, но родители не спешат обращать на него внимание
сына:
— Не желая испортить ему изумленной радости самому открыть впере-
ди огромный прототип всех пароходиков, которые он, бывало, подталки-
вал, сидя в ванне.
Именно пароходиков в ванне в прозе Сирина нет, как нет и их властели-
на, маленького Дмитрия Владимировича. Зато всякий вспомнит, сколько
в ней моделек поездов во главе с украшающим не один текст чудом декора-
тивной техники, двухаршинным спальным вагоном в витрине железнодо-
рожного агентства на Невском (там сейчас авиакассы и касса Мариинского
театра) с досконально воспроизведенными диванчиками голубой обивки,
с тисненой кожей внутренних стенок и вделанными в них зеркалами
и тюльпанообразными лампочками.
Другие берега
Конечно, его очень хотелось купить, но деньги могут не все: моделька
не продавалась.
Карандаш-гигант тоже не продавался, но там уж, поскольку ребенок ле-
жал в бреду, матери удалось найти в себе запредельные залежи красноре-
чия... уговорила.
С экспрессом не выгорело.
Зато в телефильме, снятом к столетию Набокова (том самом, что вклю-
чают гостям музея), Дмитрий Владимирович хвастается садовой железной
дорогой: игрушечные вагончики доставляют ему из дома на лужайку вино
и фрукты.
Может быть, это сама историческая справедливость захотела восторже-
ствовать таким изысканным образом.
В прототипах что еще важно — они не всегда больше модельки... про-
тотип предшествует модельке, но ему самому может предшествовать
модель.
Прежде чем океанский лайнер стал прототипом маленького кораблика
в ванне, он сам имел прототип в виде маленького кораблика: макета, пред-
шествующего наряду с чертежами строительству лайнера.
Мартын за рулем мощной машины испытывает «почти то же, что
в детстве», когда он лишь представлял себя водителем, используя в качест-
ве руля сиденье музыкальной табуретки.
Наверное, в этом инфантильном переживании Мартына сыграло свою
роль то, что сам Набоков не умел управлять четырехколесным другом. Тем
внятнее смысл: берега могут меняться функциями, быть «другими» друг
8 6 для друга в разных ситуациях.
Но даже эта хитренькая формула не устраивает своей бинарностью:
есть, дескать, прототип, а есть порождаемый им объект. Нет, «другие бере-
га» не следуют один за другим (один над другим) в заданной последова-
тельности, где низший уровень подчинен высшему, а обнаруживают спо-
собности к более путаным связям.
Вот показательная цитата:
[90:424-425] — В 1841 году, за несколько месяцев до своей смерти, Михаил Лермон-
тов написал пророческие стихи: «В полдневный жар в долине Дагестана /
С свинцом в груди лежал недвижим я; / Глубокая, еще дымилась рана, / По
капле кровь точилася моя. И Лежал один я на песке долины; / Уступы скал
теснилися кругом, / И солнце жгло их желтые вершины / И жгло меня —
но спал я мертвым сном. И И снился мне сияющий огнями / Вечерний пир
в родимой стороне. / Меж юных жен, увенчанных цветами, / Шел разговор
веселый обо мне. И Но в разговор веселый не вступая, / Сидела там задум-
чиво одна, /Ив грустный сон душа ее младая / Бог знает чем была погру-
жена; //И снилась ей долина Дагестана; / Знакомый труп лежал в долине
той; / В его груди дымясь чернела рана, / И кровь лилась хладеющей стру-
ей». Это замечательное сочинение можно было бы назвать «Тройной сон».
Некто (Лермонтов, или, точнее, его лирический герой) видит во сне, буд-
то он умирает в долине у восточных отрогов Кавказских гор. Это Сон 1,
Набоков без Лолиты
который снится ПервомуЛицу. Смертельно раненному человеку (Второму
Лицу) снится, в свою очередь, молодая женщина, сидящая на пиру в петер-
бургском, не то московском особняке. Это Сон 2 внутри Сна 1. Молодой
женщине, сидящей на пиру, снится Второе Лицо (этот человек умирает
в конце стихотворения), лежащее в долине далекого Дагестана. Это Сон 3
внутри Сна 2 внутри Сна 1, который, сделав замкнутую спираль, возвра-
щает нас к начальной строфе.
Можно, конечно, поспорить, что «Первое Лицо» и «Второе Лицо» — это
разные лица и что вся ситуация приснилась самому Лермонтову, а не его
раненому герою. Набоков, похоже, ошибается, и делает это красноречивей
некуда: настойчиво множит уровни.
Его интересуют череда реальностей, ни одна из которых не является ос-
новной, и переплетения этих реальностей.
Герман Карлович, рассказчик-убийца из романа «Отчаяние», встречает
человека по имени Феликс, который, по мнению рассказчика, похож на не-
го, словно капля на каплю. Встречает двойника. Его можно подгримиро-
вать, нарядить, кокнуть и получить страховку. Рискованная, но прозрачная
конструкция. Сирин ее усложняет, как бы накладывает сверху еще одну та-
кую же конструкцию: Герман врет, что работает актером, и ему нужен дуб-
лер, то есть предлагает Феликсу быть не двойником, а дублером (что как
минимум является хитрым поворотом литературной истории двойников):
предлагает двойнику сыграть двойника.
В другом фильме, который смотрит в «КДВ» Франц, «волоокая дура
с черным сердечком вместо губ и с ресницами как спицы зонтика изобра-
жала богатую наследницу, изображавшую, в свою очередь, бедную контор-
скую барышню». Фраза построена так, что актриса — та, что со спица-
ми, — находящаяся вроде бы уровнем «выше», вне действия фильма,
оказывается в одном пространстве с наследницей и конторской служащей
и слегка путается, кто из них кого изображает, к какому контексту принад-
лежит.
Левушка не овладел Машенькой на мшистой плите. Сослался на звуки
в саду.
Потом, когда они шли к воротам по пятнистой от луны дорожке, Ма-
шенька подобрала светлячка. Рассмотрела и рассмеялась:
— В обчем — холодный червячок.
В романе есть и другие примеры, когда фраза, посвященная вроде бы
одному предмету, касается на самом деле (или одновременно) иного.
Алферов за обедом сшибает стакан Ганина, извиняется, а Ганин говорит:
«Пустой», и трудно здесь не расслышать оценку Ганиным алферовской
личности.
Прощаясь с Людмилой, Ганин говорит будто о погоде — «Пора пере-
стать топить. Весна». Пора, очевидно, самому Ганину перестать искус-
ственно подогревать угасшие чувства.
В одну единицу текста упаковано два смысла.
87
Другие берега
Как и в слово «новенькая» в «Письме в Россию», которое одновременно
«кодирует» и старушку, и веревку.
Федор Константинович мечтает, что, может быть, когда-нибудь не то че-
ловеком, не то привидением он выйдет на станции своего детства и прой-
дет стежкой вдоль шоссе с десяток верст до Лешина — «несмотря на иди-
отскую вещественность изоляторов». Изоляторы — электротехническое
приспособление на проводах, затрудняющее беспрепятственные буйства
отвлеченных энергий, сцеживающих людям свет. Но изоляторы, конеч-
но, — это и советские камеры временного содержания, угрожающие безза-
конному путешественнику. В первом своем значении (укрощения невиди-
мых энергий) они угрожают привиденческой ипостаси беззаконного
путешественника, во второй — его бренному телу.
У слов есть тень, и не всегда ясно, какое из работающих значений явля-
ется основным, солнечным, а какое — дополнительным, теневым.
Вот из «Защиты Лужина»:
— «Опять вышла нагишом», — со вздохом сказал издатель художест-
венного журнала, взглянув мимоходом на Фрину, которая, благодаря ис-
кусственному освещению, была особенно ярка. Тут маленький Лужин по-
пался ему под ноги и был поглажен по головке. «Какой он у вас стал
огромный», — сказал дамский голос сзади.
Далее последует замечание, что Лужин вовсе не огромен, а мал для своих
лет.
Но, может, «какой огромный» относилось к чему-то другому?
Взрослый читатель, только что ткнутый носом в обнаженную Фрину
8 8 (копия картины Семирадского из Русского музея), может подумать, что
в суете гостиной кто-то из впечатлительных гостей, давненько не видав-
ший обнаженных женщин хотя бы и маслом, просто натолкнулся сзади на
простосердечную даму, не догадавшуюся скрыть спонтанного изумления.
Да и Фрина — что значит «вышла»: вышла к храму Посейдона или вы-
шла у художника? Прием с двойным значением слов в этом абзаце повто-
рен дважды.
Это явный, «огромный» пример, есть и менее заметные. Вот про «ма-
ленького»: в конце первой главы «КДВ» пассажиры собираются покинуть
вагон, Марта замечает, что снаружи дождь.
— Совсем маленький, — тихо поправил Драйер.
Но перечитыватель (наш автор много раз говорил, что сочиняет для пе-
речитывателя, способного заметить и оценить упущенные при первом
знакомстве с текстом подробности) уже в курсе, что «много воды» для
Марты — это знак грядущего появления в ее жизни драйерова племянника
Франца. Реплика Драйера задним числом кажется читателю утешением
(«потоп будет маленьким») или предостережением (Франц совсем моло-
денький, мыслимо ли с ним связаться).
Так достигается густота прозы: есть фразы, имеющие несколько валент-
ностей: слово написано один раз, а срабатывает больше одного, в разных
контекстах.
Набоков без Лолиты
Так достигается и ощущение многомирия, самостоятельной жизни те-
ней, одновременного существования различных смысловых слоев, кото-
рые — еще раз (это важно) — чаще следуют не один за другим, а переслаи-
ваются, пропитываются друг другом.
Знаменитая цитата из «Дара»: влюбленный Федор чувствует... что?
— Странность жизни, странность ее волшебства, будто на миг она за-
вернулась и он увидел ее великолепную подкладку.
Прекрасный образ, но смотрите, в другом месте «Дара» ковер словно пе-
реворачивают, жизнь сама уже предстает изнанкой — «изнанкой велико-
лепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых образов
на другой ее стороне».
Образ ровно тот же, но ткань перевернута. Сирину безразлично, что
именно изнанка, а что лицо; между сторонами нет отношения затвержен-
ной иерархичности.
Так ведут себя дождевые капли на оконном стекле, вернее вся эта при-
родно-техническая конструкция, окно, двойное, со сползающими капля-
ми, с переслоенной зыбящейся картинкой, — конечно, я имею в виду окно
поезда, чтобы пейзаж скользил.
Так ведут себя любимые Сириным облака и тучи, набухая друг в друге,
проходя сквозь друг друга. Тучи не выясняют, какая главнее, а просто ле-
пятся в увлекательные формы. Годунов-Чердынцев, расположившись на
скамейке после кремации Александра Яковлевича, старался думать о смер-
ти, но «вместо этого думал о том, что мягкое небо, с бледной и нежной как
сало полосой улегшегося слева облака, было бы похоже на ветчину, будь
голубизна розовостью». 89
В сцене перечитывания Федором собственной книжки стихов Перевод-
чик Бодлера насчитал шесть временных слоев. [139:124]
Федор — автор «Дара» (слой 1, самый поздний) вспоминает себя в про-
цессе перечитывания своей первой книги (слой 2) и размышлений над вре-
менем, когда он ее писал (слой 3), вспоминая при сочинении стихов свое
детство (слой 4), в отдельные моменты которого, отраженные в отдельных
стихотворениях, он вспоминал еще более ранние эпизоды (слой 5) своей
жизни.
Цифры в скобках слои приобрели в ходе аналитической операции,
в тексте они пронизывают друг друга... как в ветчине. Я обещал шесть
слоев, в цитате пять, но между первым и вторым затаился еще один — в ка-
кой-то момент романа Федор вспомнит саму сцену перечитывания.
Вот Франц, проснувшись в первое берлинское утро в привокзальной
гостинице, пытается оценить степень призрачности вчерашних железно-
дорожных впечатлений.
— Очнешься и видишь, скажем, будто сидишь в нарядном купэ второго
класса, вместе с неизвестной изящной четой, а на самом деле это — про-
буждение мнимое, это только следующий слой сна, словно поднимаешься
со слоя на слой и все не можешь достигнуть поверхности, вынырнуть
в явь...
Другие берега
Так устроен сон, а вот как устроен в том же романе довольно обычный
деловой разговор. Что сказал дядя Драйер своему племяннику Францу при
первой берлинской встрече?
— Сказал, что Франц очень скоро превратится в прекрасного приказчи-
ка, что главный враг воздухоплавателя — туман и что, так как жалованье
будет сперва пустяковое, то он берется платить за комнату и очень будет
рад, если Франц будет хоть каждый день заходить, причем он не удивится,
если уже в будущем году установится воздушное сообщение между Евро-
пой и Америкой.
Разговор идет на разных этажах, темы перемешиваются в сплошном по-
токе речи. То есть, может быть, Драйер излагал и последовательно, а слое-
ный пирог отложился в сознании Франца благодаря слоеной же ситуации:
Франц разбил очки, попал в гости ко вчерашним попутчикам и выпил вина.
Все перепутали не только предательские градусы, а и любовь автора
к идее перемешивающих уровней и слоев.
Многие любимые идеи нашего писателя на протяжении десятилетий оста-
ются неизменными (уж не знаю, пристало ли это великому художнику или
нет), в слегка переупакованном виде — без развития — переходя от героя
к герою, и в большой перспективе — от Сирина к Набокову-штрих.
Такова, в частности, идея загробной жизни: как юный Сирин ликовал от
тайной догадки, что после смерти жизнь не кончается, с таким же востор-
гом взрослый Сирин в «Ultima Thule» объявляет это тайное знание Фальте-
ра высшим, невероятного значения знанием.
9 О Ненависть к колхозным обобщениям, «большим идеям», резкое проти-
вопоставление их милым частностям — из таких «красных нитей».
Издевательства над Фрейдом, упражнения в остроумии по поводу вен-
ского шамана развлекали В.В. не менее полувека (и, следует признать, осо-
бо ему удавались: мне, скажем, очень нравится — сейчас цитирую по памя-
ти — про излечение всех недугов путем ежедневного прикладывания
древнегреческих мифов к детородным органам).
Есть, короче, целый пучок твердых убеждений, которые не менялись,
но — менялась писательская оснастка, накачивались мускулы прозы, при-
емы оттачивались и совершенствовались.
Сейчас мы увидим, как в «Даре» известный нам прием (умножение ва-
лентностей слова), будучи приложен к известной нам мысли (о слоистости
мира) вскрывает существенно больше ларцов с новыми смыслами, чем
червячок и стакан в «Машеньке».
Федор Константинович бредет по обыкновению по улице, глазеет по
сторонам.
— В мокром луче фонаря работал на месте автомобиль: капли на кожухе
все до одной дрожали. Кто мог написать?
Вопрос относится к рецензии на сборник стихов Федора, якобы опубли-
кованной в этот день, 1 апреля? Ему сказали, что есть такая рецензия, и обе-
щали вечером газету.
Набоков без Лолиты
Но он может относиться к предыдущей фразе: кто ее мог написать, та-
кую, про мокрый луч и капли на кожухе. Старший Комментатор слышит [96 iv 643]
здесь, скажем, отголосок строфы из Фета:
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт^ и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Не самый очевидный отголосок, но это не важно, главное — Коммента-
тор не удовлетворен фабульным смыслом вопроса «кто мог написать?»,
ищет иной ответ. Исходит из того, что ответ, мотивированный сюжетом,
не единственный.
А опытный перечитыватель подумает, пожалуй, и о том, что «напи-
сать» может и живописец, и подумает, как эта картина могла преобра-
зиться под кистью мимолетного, но важного персонажа «Дара» худож-
ника Романова.
Важнее, однако, не то, что валентностей уже минимум три, а что среди
них есть направленная на свой собственный текст: кто мог написать эту,
только что написанную мной, автором «Дара», фразу?
Или еще раз о том же — чуть проще.
Вынесенная в отдельный абзац фраза «Как будто, пожалуй, и ничего, —
для мучительного начала», которую перечитыватель воспринимает как ав-
торскую оценку проделанного труда (как раз выходит на финишную пря-
мую первая глава «Дара»). 91
Хотя речь вроде бы идет о первых ощущениях от новых ботинок.
Автор оценивает собственный текст по ходу текста, «как будто и ниче-
го». Это «металитературный» прием.
«Металитература» — то, что по ходу дела задается вопросом о своем
собственном устройстве. Не только рассказывает, но и обращает внимание
на способ рассказывания. Сама себя как-то оценивает.
Есть еще слово «нарратология» — это наука, изучающая поведение рас-
сказчиков.
Слово неприятное, вроде «трупсиков», но в недра мы зарываться не ста-
нем, а близко ко входу ничего страшного нет.
Рассказчик может быть примерно равен автору. Так происходит в путе-
водителе, который вы сейчас читаете. Я пишу не просто от первого, а от
своего личного лица, никакого образа повествователя не моделирую, чита-
теля за нос в трех соснах не вожу (на весь путеводитель одна-единственная
мизерная мистификация, сколько-то страниц назад я приписал Сирину
чужой трамвай, и больше не стану).
Но рассказчики у Набокова — разные и мудреные.
Рассказчик, например, может знать меньше читателя.
Абсурд? Ведь все, что знает читатель, он узнает от того, кто ведет повест-
вование.
Другие берега
Но рассказчик, выставляя на сцену предметы или выкладывая на стол
карты, может не понимать истинного назначения предметов или стоимости
значков, начертанных на картах. Представьте повествование от лица дика-
ря, который видит человека в маске, в тяжких доспехах, с дубиной, с клинка-
ми, привязанными аж к ногам, — по мнению дикаря, это жуткий воин,
а читатель понимает, что в текст попал безобидный хоккейный вратарь.
Как раз хоккейного вратаря вспомнил тезка нашего писателя нацлидер
Путин, отвечая на вопрос журналиста, любит ли он Набокова.
[169] — Кто это? — задумался лидер. — Вратарь «Сан Хосе»?
Автор этого высказывания, Путин, безусловно понял, что речь идет
о Владимире Владимировиче, а не о Евгении Викторовиче Набокове, кото-
рый в 2010 году вернулся, в отличие от однофамильца, из Америки в Пе-
тербург играть за СКА, но долго не продержался, метнулся назад в США.
Однако дал слово для ответа сконструированному нарратору-простофиле.
В «Отчаянии» Сирин много раз более чем намекает, что жена повество-
вателя состоит в преступной связи со своим дальним родственником Арда-
лионом, но сам повествователь, шоколадный коммерсант Герман Карлович,
не видит этого. Простодушно докладывает читателю, явившись в гости
в неуговоренный час, как жена его валяется полуодетая на постели Ардали-
она, а сам Ардалион собирает по комнате свои раскиданные там и сям
шмотки, но — остается в неведении относительно значения этих незамыс-
ловатых картин. Не ставит под сомнение информацию, что Лида с Ардалио-
ном пошла в кинематограф и там у нее сильно прихватило «животик».
В конце романа Герман перечитывает свой текст. Перечитывание — вол-
92 шебное в сиринском мире слово — могло открыть ему глаза, он мог обра-
тить внимание на жену без платья... Но в своей повести он обнаруживает
куда более важную вещь: забытую в пожертвованном следствию автомо-
биле трость убитого.
В памяти она у него не сохранилась, и вот, обнаружив ее в собственном
тексте, Герман понимает, что совершил роковой промах. Трость эта поможет
определить личность жертвы, по документам которой убийца как раз живет.
— Автор и перечитыватель вместе наблюдают, как читатель слепо со-
[ 139:164] вершает свои ошибки, — к этому хорошему наблюдению Переводчика
Бодлера можно добавить случай с тростью и совершающим ошибки нар-
ратором.
В повести «Соглядатай» рассказчиком является один из героев: так,
собственно, очень часто бывает, но покус в том, что рассказчик называет
этого героя, самого себя, по фамилии и в третьем лице.
— Смуров вежливо улыбнулся, — стоит в тексте, и долгое время неизве-
стно, что эта фраза, как и множество иных фраз про другие, и не всегда бла-
говидные действия Смурова, принадлежит самому Смурову.
Только в конце сочинения, когда, открывая дверь магазина, рассказчик
увидит, как спешит к нему в зеркале отражение, молодой человек в котелке
и с букетом, он с этим отражением сольется, и читатель узнает, что этот мо-
лодой человек всю дорогу повествовал о самом себе.
Набоков без Лолиты
Трюк из «Соглядатая», насколько я могу судить, уникален для мировой
литературы. У Сирина заготовлено сюжетное объяснение столь заковы-
ристого решения: Смуров в начале книги стреляет в себя из пистолета,
не ясно, насколько фатально, а с недосамозастреленным сознанием воз-
можно всякое.
Но экзерсисами с нарратором, как мы видим, полны и произведения без
самоубийств.
В пьесе «Событие» герои придумывают иные варианты развития своей
собственной пьесы, «редактируют» детали, сами хотят быть повествова-
телями.
— Я бы взяла другого вестника, менее трафаретного. Явился, скажем, за-
бавный полицейский чиновник с красным носом или адвокат с еврейским
акцентом. Все это можно без труда подвзбить...
Это, впрочем, пример довольно безобидный — чтобы так подвзбить,
не обязательно быть Сириным.
Его интересуют более лукавые ситуации. Автор может не знать, скажем,
кто его герой. В рассказе «Королек» он подозревает, что нежный герой слу-
жит музе, но вот героя убивают, является полиция, и выясняется, что пер-
сонаж — только-только покинувший тюрьму фальшивомонетчик: у этих
парней, наверное, тоже есть своя Полигимния, но автор так или иначе об-
манут.
— Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный по
бедности жить в том черном квартале. Я подумал, судя по иным приметам,
что ты каждую ночь — выправляя стих или пестуя растущую мысль...
В «Наборе» и «Облаке, озере, башне» автор встречается со своим персо- 93
нажем в берлинской реальности, причем во втором рассказе они даже об-
суждают невозможность дальнейшего функционирования персонажа
в этом запаристом качестве — тому больше не хочется глотать немецкие
окурки.
Рассказ «Адмиралтейская игла» представляет собой письмо читателя
автору романа, то есть, по разумному наблюдению одного набоковеда, [47:247]
«читатель» выступает в функции автора, а «автор» — в роли адресата».
«Металитературность» размазана по сирийскому творчеству нерав-
номерно.
Она сгущается к середине, к концу 1930-х, к этой эпохе относятся и все
четыре упомянутых последними рассказа, и «Событие», и «Дар», полный
фраз вроде:
— И в то самое время, когда он решил больше не прислушиваться, Фе-
дор Константинович быстро встал и вошел в столовую.
На первый взгляд, в этой фразе орудуют два человека: «он» и Федор
Константинович. На самом деле «он» — это тоже Федор Константинович.
Проживая жизнь, он одновременно смотрит на себя со стороны, с «дру-
гого берега», и способен совершать неожиданные поступки: вроде за-
нят решением не прислушиваться — и вдруг застает себя идущим в сто-
ловую.
Другие берега
Повествование в «Даре» ведется то от первого лица, то от третьего, Фе-
дор Константинович Годунов-Чердынцев то называет себя «он», то, иногда
в той же самой фразе, говорит «я». Молодой поэт, понимающий, что ис-
тинное его призвание — проза, ищет и не может найти настоящую, кров-
ную тему для книги, на последних страницах находит, и тут выясняется,
что столь долго читавшееся нами и есть та самая заветная книга.
В одной из первых сцен Федор Константинович отправляется в гости —
«с расчетом прийти в рифму к девяти».
Сообщено — что? — что Федор Константинович собрался прийти в гос-
ти к девяти. Тут не сообщено, что он «пойдет в рифму», хотя такое значе-
ние в принципе возможно: допустим, человек с утра летел на самолете,
днем ехал на поезде, потом на трамвае, на велосипеде, и вот вечером он
идет пешком — способы передвижения могли бы составить цепочку пове-
денческих рифм.
Можно было бы что-то сделать и «в рифму к девяти». Допустим, человек
из тех же гостей ушел бы куда-то к шести, тогда вернуться к девяти было
бы рифмой.
Здесь другое: «в рифму» относится к самой фразе, она сообщает читате-
лю, что построена в рифму. Но каким-то образом «прийти в рифму к девя-
ти» остается комплексным действием Федора Константиновича. Его жизнь
построена в рифму в переносном смысле, весь «Дар» — отслеживание чу-
десных совпадений, «узоров судьбы», но этого автору мало, он хочет, чтобы
звучала и натуральная звуковая рифма, чтобы ткань жизни переслаивалась
с тканью письма.
94 В «КДВ» Драйер, оказавшись проездом в маленьком безымянном город-
ке, «зашел к кузине Лине».
В 1928-м, когда сочинялся роман, еще не могло быть написано «в рифму
зашел к кузине Лине».
Металитературные эффекты всегда интересовали Сирина, но поначалу
в умеренных дозах.
В начале 1929-го Сирин рецензировал в «Руле» очередной выпуск жур-
нала «Современные записки» и писал, в частности, о повести Евангулова
«Четыре дня» (и — в рифму — о повести Темирязева «Домик на 5-й Рож-
дественской», но нас интересует Евангулов).
Там страдает от голода русский эмигрант в Париже. Не ел, соответствен-
но, четыре дня — в далекую рифму к шести дням («Мсье, же не манж па
сис жур» написано Ильфом-Петровым в 1927-м).
— Прекрасно передана слабость от голода, тошнота, головокруженье,
хорош зеленый отсвет листьев в Булонском лесу на лице голодного че-
ловека.
Но в финале возникает нарратологическая проблема:
[96 п:670] — У автора были, вероятно, затруднения — как кончить повесть (она
написана от первого лица), не мог же герой умереть голодной смертью.
Последняя строка объясняет, как он был спасен: «две пары сильных рук
хватают меня за ноги и за плечи и несут куда-то». Удачно ли это.
Набоков без Лолиты
Знак вопроса после «удачно ли это» отсутствует, Сирин словно не прос-
то не разрешил мысль, а даже не задался ею в полной мере. То есть как раз
задался, впустил ее в себя.
В конце года он начнет «Соглядатая», повесть от первого лица мертвого
человека (и опубликует ее в тех же «Современных записках»). А непосред-
ственно перед этим сочинит «Защиту Лужина», произведение, которое
позже станет принято рассматривать с металитературных позиций. Вот
не сказать что бесспорный, но вполне чеканный приговор одного из набо-
коведов:
— Лужин — литературный персонаж, но конечной причиной всех его
страданий является воля автора, поместившего Лужина в роман, который [ioi: пб)
как раз и повествует о том, каково быть литературным персонажем.
В 1930-е писателя больше заботит вопрос, каково быть автором. Рас-
сказчик «Отчаяния» долгое время не может слиться с собственным
текстом:
— Он воет, он ускоряет ход, он сейчас уйдет за угол, непоправимо, —
могучий автобус моего рассказа... Я все еще бегу.
После «Дара» Сирин начинает переплавляться в Набокова-штрих.
В «Подлинной жизни Себастьяна Найта» сводный брат заглавного героя,
петлявший по тропкам его биографии и потерявший след, вновь обретает
ниточку благодаря встреченному в поезде загадочному сыщику Зильбер-
ману, который непонятным путем добывает необходимую информацию.
Он действует как бог-из-машины, deus ex machina — персонаж, появляю-
щийся обыкновенно в конце спектакля, чтобы разрешить безвыходную
ситуацию, с которой герои справиться уже никак не могут. А бог-из-маши- 9 5
ны (также именуемый иногда «роялем в кустах») может, потому что он су-
щество как бы из другого измерения (собственно^ Еврипида эту роль иг-
рали непосредственно боги, позже у французов таким персонажем мог
оказаться король, вдруг случившийся на месте событий).
Зильберман именно что из другого измерения.
Прежде чем оказаться героем «Подлинной жизни Себастьяна Найта»,
он был героем прозы Себастьяна Найта. «Пересажен», по выражению [76:115]
Строгой Эм, из его рассказа «Изнанка Луны», «что указывает на принад-
лежность В. (повествователя романа) художественному миру Себастьяна
и на то, что его авторство — второй (а если учитывать инстанцию импли-
цитного автора, то третьей) степени».
Не так важно, что за фрукт такой имплицитный... важно, что степени
множатся. Может быть, мы читаем очередной текст самого Найта, хитро-
вымудренно структурированную автобиографию: он пишет сам о себе
от лица сводного брата. Вот представьте, что вам нужно почему-то напи-
сать книжку о своей жизни, но так, чтобы рассказ шел не от первого лица,
а о вас рассказывал кто-то другой: мама («Маша с детства отличалась оп-
рятностью, хорошим вкусом...») или одноклассница («Когда Шеншина
появилась в нашей школе, все прибалдели: в клюве четыре серьги, полови-
на баллона бритая, вторая выкрашена ядовито-желтым...»).
Другие берега
Этот путаный прием встречается, как ни странно, в литературе: Гертруда
Стайн сочинила в 1933 году «Жизнь Алисы Б. Токлес» от лица реальной
Алисы, подруги писательницы, книга выглядела как автобиография, одна-
ко ее основным смыслом был рассказ о жизни самой Стайн.
Дар всякого писателя раскрывается постепенно. Нарастание проблем во
взаимоотношениях автора с персонажами, с нарраторами надцатых степе-
ней, объясняется плавным прорастанием зерна металитературности: зерну
нужен разгон.
Помогала этому процессу и проза жизни: к 1930-м годам Сирин уже
имел все основания считать себя гением, писателем во всех отношениях
блестящим и люто уникальным. Большинство рассказов охотно печатали
газеты (когда «Руль» отфутболил «Случайность» с резюме «мы не печатаем
анекдотов про кокаинистов», ее с удовольствием взяла рижская «Сего-
дня»), все романы бодро выходили и в журналах (кроме первых двух),
и книгами, но творчество по-прежнему приносило минимальный зарабо-
ток, широкая известность в узких эмигрантских кругах являлась скорее
утонченным издевательством судьбы, нежели утешением, тиражи вряд ли
превышали тысячу-полторы экземпляров на роман (хотя точных цифр,
оговорюсь, я не нашел), переизданий не было, переводы случались, но ма-
ло... доход по-прежнему обеспечивали уроки и жена, и был этот доход «до-
ходом» в глумливых кавычках — чтобы только не выйти на улицу совсем
без штанов.
Логично мучиться вопросами статуса, ранга, границы между признан -
9 6 ным, состоявшимся и благополучным, различных измерений и переходов
между измерениями. Логично видеть в черной краске, оттеняющей в нача-
ле «Дара» синие литеры на борту мебельного фургона, «недобросовестную
попытку пролезть в следующее по классу измерение».
Вот взять кота.
Федор Годунов-Чердынцев споткнулся об это небольшое животное в ко-
ридоре съемной квартиры.
— Он чуть не упал на тигровые полоски, не поспевшие за отскочившим
котом.
Кот — конечно, в данном случае лишь в воспаленных восприятиях Фе-
дора Константиновича — отслоился от своих полосок.
Или шницель взять. У него в «Отчаянии» «рыжий вкус». Можно предпо-
ложить, что в реальности у шницеля рыжий цвет, но этот признак (упорно
появляющийся на экране компьютера с опечаткой в четвертой согласной)
зажил самостоятельно.
— Движения его странно менялись, точно их кто-то тасовал, я его зараз
видел в разных позах, он снимал себя с себя, как будто состоял из многих
стеклянных Грегсонов, не совпадающих очертаниями.
Здесь, в рассказе «Terra Incognita», несовпадение-с-собой мотивировано
ядовитыми джунглями, птицами с пылающими хвостами, экстремальной
ситуацией.
Набоков без Лолиты
Но жизнь в общем и целом и есть экстремальная ситуация.
Тем более если речь об агентах, вечно ожидающих от мира подвоха или,
наоборот, стремящихся подвох учинить. Герман едет в «Отчаянии» «на де-
ло» (совершить убийство, которое он полагает актом искусства), очень
медленно ведет машину, по обочине еле проходят «сосны, сосны, сосны»,
но вместе с тем ему кажется, что машина буквально пожирает дорогу, как
фокусник, поглощающий длинную ленту.
Обочина и дорога живут на разных скоростях, реальность расплывается
прямо в руках, границы пляшут.
А ведь их задача — четко отделять одно от другого.
97
Граница-гр алица
Набоков дважды нелегально переходил границу.
Дважды туда и обратно, в сумме четырежды.
Во всяком случае, хвастался этим в письмах и интервью.
Первый раз это случилось в феврале 1936-го. Писатель гостил в Париже
(уже начался растянутый во времени побег из Берлина), публичные его
чтения имели большой успех, Сирина очень хотели услышать в Русском ев-
9 8 рейском клубе в Брюсселе, но времени на получение визы не было.
Набоков доехал до Шарлеруа, перешел по рельсам на другую платформу
[ 19:496] и залез там в брюссельскую электричку, «в которой паспорта никогда не
проверяют». Было бы эффектно, конечно, если бы автора «Случайности»
и «Сказки» переехала электричка.
В Брюсселе он прочел рассказ («Мадемуазель О», написанный по-фран-
цузски специально для этой гастроли) и через два дня вернулся обратно
тем же путем.
Второй случай датирован октябрем 1937-го. Набоковы уже покинули
Германию, жили во французской Ментоне, недалеко от итальянской грани-
цы, которую — по настойчивой просьбе маленького Дмитрия, хотя какое
понятие трехлетний человек может иметь о границах — будто бы тоже од-
нажды втихушку из забавы пересекли.
Не знаю, чем грозил закон за подобное нарушение. Высылка в Россию,
где революция как раз с хрустом пожирала собственных детей, точно не
предусматривалась. Скорее всего, такой переход трактовался как легкий
административный проступок. В «Отчаянии» бродяга Феликс рассказыва-
ет, как бродил через рубеж на другом конце Европы, когда жил в Саксонии:
— Мы каждый день с товарищем после работы переходили границу,
чтобы выпить по кружке пива. Десять верст туда и столько же обратно, оно
в Чехии дешевле.
Набоков без Лолиты
Вообще же впервые Набоков пересек черту задолго до того, как стал Си-
риным. Ему было два года, когда умерли дед и бабушка, родители матери;
вскоре после похорон Елена Ивановна и Владимир Дмитриевич с детьми
навострились в Биарицц. Впоследствии Набоковы отдыхали на юге Фран-
ции почти каждую осень, однажды провели за границей год (в Аббации,
Вене, Висбадене в 1905-1906-м), в 1910-м Володя и брат Сергей три месяца
лечили зубы в Берлине; словом, на пограничников он насмотрелся и проце-
дура смена колес под вагонами (в России и Европе ширина железнодорож-
ного полотна различается) была знакома ему хорошо. В отличие от своей
страны, которой он практически не видел (даже Москву, родину Пушкина,
ни разу не посетил).
Навсегда Россию он покидал в 1919-м по морю, уплывал из воюющего
Крыма, очень правильный побег, мифологический, архетипический —
волны за бортом. Люди на корабле — и сами части волны — «первой вол-
ны эмиграции».
Помните, мы обсуждали поведение человека, который попал из будуще-
го в переполненный поезд? — приплюснут там людским месивом к гряду-
щей своей любимой («суженой» ныне в одном, а позже в другом смысле),
мысленно ковыряет в носу и думает, огорошить ли ее неожиданной ин-
формацией через головы лет... «Контрабанда настоящего» — так опреде-
лена эта информация в пограничных терминах.
Покидая на «Надежде» бухающий канонадой порт (его как раз захваты-
вают красные, а в мае 1940-го Набоковы снова морем убегут в Америку из
Франции, по которой уже движутся нацисты), Владимир деланно-небреж-
но играет с отцом в шахматы и не забывает отметить, что у одного из коней
отломана голова. Подумаешь, навсегда уплываем. Жизнь-то впереди.
Но зрелый Сирин не раз вскидывается, а каково оно будет — мыслить по-
следние мысли, бредить последними образами, последние звуки издавать,
или слышать, или не слышать...
«Руплегрохотный ухмышь», «рвякая хрупь» — под такой саундтрек гиб-
нет персонаж «Волшебника». «Слишком сильно булькает, не надо буль-
кать», мельтешит в последнюю секунду в голове протагониста «Камеры
обскуры». Александр Яковлевич Чернышевский пытается сосредоточить-
ся на подробностях перехода, решает впопыхах за жизнь нерешенный во-
прос о небесных царствиях, хотя чего уже, вот-вот выяснится, ждать оста-
лось недолго. Герой Себастьяна Найта сожалеет на скорбном одре, что не
заговорил в лесу с прыткой школьницей с бесстыжими глазами, не рассме-
ялся в компании шутке некрасивой женщины и не дал монетки отчего-то
запомнившемуся старому скрипачу на промозглой улочке... ведь сколько
их было у меня, таких невознагражденных скрипачей.
«У меня» здесь мое: проняли именно Севастьяновы басни — про упу-
щенную школьницу, сбереженную монетку и неуклюжую шутку. Может
быть, как раз какие-то такие царапины будут складываться в кривые узоры
на моей последней пленке.
99
Граница-гралица
И у вас будет такая пленка... Многие успеют что-то вспомнить или пе-
реосмыслить в последние часы или секунды, и даже тот, кто умрет мгно-
венно, сделает это, видимо, все же не стопроцентно мгновенно, наверняка
строгая природа предусмотрела для каждого хотя бы минимальный зазор
для последней здешней-------.
Волна, вышвырнувшая эмигрантов в эмиграцию, обрушилась не вне-
запно; кое-кто различал ее приближение задолго, и накатывала она посте-
пенно, можно было завороженно наблюдать (так мы, россияне начала
третьего тысячелетия, завороженно смотрим, как наползает катастрофа,
и до последнего гвоздя надеемся, что пронесет), можно готовиться к ней
(у Мережковских была квартира в Париже, у тетки Адамовича — вилла
в Болье), а когда она хлынула, предстояло еще из нее выкарабкаться, для
многих путь из России превратился в мучительный переход через засне-
женный простреливаемый перевал, кто-то годами добирался до свободы
по-пластунски.
Но в целом, в историческом времени, штука вышла молниеносная: ката-
лись себе спокойно на «Норд-Экспрессе», вдыхали в усадьбе ароматы, про-
менировали по Невскому, растили детей, баловались шахматами, радова-
лись появлению новых звезд в театре, которые еще год-два — и затмят,
всполыхнутся... И уже сидит человек в рваных ботинках у канала в чужом
каменном городе, сосет дешевую папиросу, разгадывает кроссворды со-
звездий.
Может быть, ему чудится, что рука истории схватит его за шкирку
и столь же стремительно метнет в прежнюю жизнь.
1ОО Вот Федор Иванов размечтался (Голос России. 1921.2 февраля):
— Жизнь наша сплошной вагон. Сколько ярлыков пограничных знает
наш беженский чемодан. Иногда, сидя в вагоне, мчащем вас от Фридрих-
штрассе на Курфюрстендамм, не приходило ли вам в голову, как хорошо:
растворятся как-нибудь двери нашего беженского вагона, и кондуктор,
не тот немецкий, что похож на шуцмана и всегда кричит, а наш русский,
чернобровый, покручивая рукою заледеневшие на морозе усы, москов-
ским родным говором скажет: «Ваши билеты, господа. Станция — Россия».
И у Дона-Аминадо позже появится стишок «Если бы узкоколейка шла
из Парижа в Елец...».
Сирин не обошел вниманием эту иллюзию.
Безумный Лужин находит в берлинском парке тропинку, ведущую в рус-
скую усадьбу.
Федор Константинович в Берлине из аллейки хилых немецких рождест-
венских елочек выходит на солнечную поляну фамильного сада. Мечтает:
— Когда-нибудь, оторвавшись от писания, я посмотрю в окно и увижу
русскую осень.
И напротив: прямо из воспоминания (быстрого и безумного, находив-
шего на него как припадок смертельной болезни в любой час, на любом уг-
лу), прямо из оранжерейного рая прошлого пересаживается в берлинский
трамвай.
Набоков без Лолиты
— В Западной Европе (в отличие от Америки) все еще было почти свое,
домашнее, могущее переселиться в Россию. Берлинское небо еще нежно [и?: 58]
и над ним встает другое, «где верхушки лип прохвачены желтым солнцем».
Ганин и Набоков бродят в «светлом лабиринте памяти», они знают дорогу
и «на ощупь, и на глаз». На немецкой улице еще «блуждал призрак русского
бульвара». В Швейцарии Мартын, впервые увидевший горы «гуашевой бе-
лизны», вспомнил «густую еловую опушку русского парка», — замечает
княгиня Шаховская.
Но вот упомянутый Мартын Эдельвейс: да, в Швейцарии ему просвечи-
вает Россия, но в Кембридже уже просвечивает сама Швейцария.
В «Terra Incognita» через болотные испарения, разноцветных мух и золо-
той камыш просвечивают белесые штукатурные призраки, лепные дуги
и розетки, какими в Европе украшают потолки.
А в июньском лесу в «Отчаянии» «просвечивает будущее» в виде зимне-
го леса, в котором рассказчик нарушит шестую заповедь... дело то есть
не в ностальгии. Будущее — это вроде уже не родина.
У тех ворот — кривая тень Багдада,
а та звезда над Пулковом висит...
Это Годунов-Чердынцев гуляет по Шарлоттенбургу. Над Пулковом
«та звезда» удержалась одну строфу, а дальше:
За пустырем, как персик, небо тает:
вода в огнях, Венеция сквозит, — 101
а улица кончается в Китае,
А та звезда над Волгою висит.
Размашистые прогулки.
Не знаю, используют ли в российских школах для диктантов фрагмент из
«Других берегов», зафиксировавший грандиозный межконтинентальный
пролет бабочки... Стоило бы:
— Когда на другое утро Mademoiselle отперла шкап, чтобы взять что-
то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремилась
к растворенному окну и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в зо-
лотую точку, и все продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой,
на Вологду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верх-
неколымск, а из Верхнеколымска — где она потеряла одну шпору —
к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг,
вдоль Скалистых гор, где, наконец, после сорокалетней погони, я на-
стиг ее и ударом рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе
с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над
Боулдером.
Граница-гралица
Первой прозаической книжкой Сирина был не роман, а перевод. В начале
1920-х российский издательский бизнес в Берлине переживал кратчайший,
болезненный расцвет. Набокову тогда заказали два «переливания» (его
словцо для обозначения функции толмача). Наш герой нуждался и в лите-
ратурной практике, и в деньгах, и очень скоро вышли его версии кэррол-
ловской «Ани в стране чудес» (там многие английские реалии русифици-
рованы, не только имя девочки) и роменроллановского «Николки
Персика» («Кола Брюньона», следуя духу оригинала, Сирин героически пе-
ревел стихами). Не имея по поводу этих работ никаких интересных сооб-
ражений, я рад возможности хотя бы раз помянуть их в путеводителе...
помните, в начале путешествия в страну чудес девочка прыгает вслед за
кроликом-стилягой в тоннель-нору и оказывается в ином мире, «не заду-
мываясь над тем, как ей удастся вылезти обратно на свет Божий». Вполне
сиринская ситуация волшебного пересечения границы.
Полярная медвежья шкура в гостиной родителей невесты Лужина слов-
но летит в разверзшуюся бездну пола.
Выстреливший в себя Смуров, стоя на коленях, хочет упереться рукой
в пол, но рука погружается в него, словно в бездонную воду. Он же грезит
о том, чтобы лишний участник мизансцены провалился прямо в пасть
к синему персидскому льву, вытканному на ковре.
В «Подвиге» картина с лесной тропинкой висит над кроватью маленько-
го мальчика. Мама читает Мартыну английскую сказку, мальчик из которой
как раз ушел по нарисованной тропинке. Мартын боится, что мама заметит
это совпадение и снимет картину со стены... не сняла, и в конце романа
102 Мартын и впрямь ушел в какую-то довольно вымышленную страну.
В картину залез персонаж «Венецианки»... что он чувствует?
— Он увяз, как муха в меду, дернулся и застыл, и чувствовал, как кровь его
и плоть и платье превращаются в краску, врастают в лак, сохнут на полотне...
Сидит у входа в картину герой рассказа «Благость», Цинциннат хочет за-
лезть в витрину, где намалеван на заднике вялый и «непроворно» освещен-
ный вид Тамариных садов, в «Посещении музея» рассказчик углубляется
в экспозицию и оказывается за тридевять земель. Мартынова картина об-
наружится в «Других берегах», в набоковском детстве:
— Млея в припудренной, придремной, блаженной своей мгле, я сообра-
жал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес.
Да и в «Подвиге» не один Мартын исчезнет в произведении искусства,
схожая история стрясется с его дедом, который, правда, не сбежит, а плавно
растворится в фотографиях в грузном кожаном альбоме, и — что?
— И только в тысяча девятьсот восемнадцатом году дедушка Эдельвейс
исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал,
сгорела и вся усадьба, которую, по глупости, спалили целиком, вместо того,
чтобы поживиться обстановкой, мужички из ближней деревни.
Или не дедушка Эдельвейс исчез окончательно, а переход (через альбом)
закрылся, нора схлопнулась, пришел в негодность портал усадьбы... де-
душка-то, может, и блаженствует по ту сторону пожара.
Набоков без Лолиты
В «Даре» Годунов-Чердынцев-старший пересек удивительную горящую
границу... Как же там, Федор Константинович?
— Отец однажды, в Ордосе, поднимаясь после грозы на холм, ненаро-
ком вошел в основу радуги, — редчайший случай! — и очутился в цвет-
ном воздухе, в играющем огне, будто в раю. Сделал еще шаг — и из рая
вышел.
Такого, насколько я понимаю, не бывает. Войти то есть можно, но невоз-
можно продолжать видеть цветное сияние: спектр расфуфыривает свой
роскошный хвост только при взгляде со стороны. Очутиться в цветном
воздухе можно лишь на других берегах.
Цинциннат, привезенный обратно в крепость после оглашения смерт-
ного приговора, бродит по камере, и кажется ему, мечтается, что вот-вот он
так ступит, что «проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную
световую щель».
Палач заглянет, нюхая топор, чисто ли наточен, а Цинцинната нет.
Тут все вполне сказочно, в последних примерах. Заходя во французский
музей, ты в среднем случае не очень рискуешь выйти из него в Ленинграде.
Но и менее сенсационные пересечения границ и ситуации перехода — за-
метный слой сала в сиринской ветчине.
Ванная комната в гостинице из «Камеры обскуры». Вход в нее из двух но-
меров, в одном из которых живут Магда и Кречмар, а в другом — Горн. Да-
же тот, кто «Камеру» не читал, догадался сейчас, какую роль сыграет этот
«пропускной пункт».
Ганин, гуляя по Севастополю, заходит полюбоваться панорамой знаме- 103
нитого сражения, визуальным аттракционом, где бутафорские предметы
незаметно для глаза переходят в творение живописца-декоратора.
Автобус в «Подвиге» долго протискивается в Бранденбургские ворота,
под сурдинку наблюдаемых Мартыном русских детей.
— Как же он пролезет, — спросил старший, опасаясь за бока автобуса. —
Ужина-то какая!
— Пролез, — прошептал младший с облегчением.
Мартын как раз везет вещи на вокзал Фридрихштрассе, чтобы уехать
оттуда на восток и пролезть в ужину красной границы.
В стишке Годунова-Чердынцева просто мяч прокатывается через комна-
ту — из одной таинственной местности в другую:
Мяч закатился мой под нянин
комод, и на полу свеча
тень за концы берет и тянет
туда, сюда — но нет мяча.
Потом там кочерга кривая
гуляет и грохочет зря,
и пуговицу выбивает,
а погодя — полсухаря.
Граница-гралица
Но вот выскакивает сам он
в трепещущую темноту,
через всю комнату, и прямо
под неприступную тахту.
Похожее поведение мяча рекомендуется постановщикам пьесы «Собы-
тие» — он, по замыслу автора, должен прокатиться в начале спектакля че-
рез всю сцену, из кулисы в кулису.
В первом действии другой пьесы, «Человека из СССР», через сцену ходят
туда-сюда в нижней половине большого окна человеческие ноги.
— Как если бы брат был не членом нашей семьи, а неким странствующим
гостем, пересекающим освещенную комнату, чтобы опять надолго пропасть
в ночи, — это рифма к мячу и кулисам из «Подлинной жизни С. Найта».
Упоминается переход от граней кристалла к живым клеткам («Другие
берега»); из театральной семьи к кинематографической карьере; разобла-
ченный Герман Карлович не уверен, что его можно судить за убийство, по-
скольку не так-то просто понять, в какой момент прямоходящее существо
обернулось человеком, «когда перейдена грань, после которой софисту
приходится туго».
В лавке Пильграма, не способной существовать за счет одних бабочек,
появляются товары для школьников, учебные пособия, «естественным пе-
реходом к которым служил стеклянный ящичек с наглядной биографией
тутового шелкопряда».
104 Хороший естественный переход — это стеклянный ящичек болезни. Боль-
ной, лучше тяжелый, погружается на время недуга в зазор между мирами,
чтобы выйти оттуда — в новом теле и к новым горизонтам.
Пока юный Ганин болел тифом, в сознании его и в окрестностях усадь-
бы расцветала для любви к нему Машенька, и, выздоравливая, он чувство-
вал в воздухе сладкие туманы, а в комнате зарождался женский образ, вби-
рающий в себя всю солнечную прелесть.
В осенней опять же прелести окна, где-то за дверью, вокруг дрожит зага-
дочное, увертливое счастье: это Лужин отходит от болезни, а счастье мате-
риализуется в виде невесты (ранее на выходе из тяжелой болезни мальчик
Антоша, герой детской прозы Лужина-отца, сдружился с нелюбимой дото-
ле молодой мачехой).
Годунову-Чердынцеву туманное состояние младенца кажется медлен-
ным выздоровлением после страшной болезни, удалением от изначально-
го небытия.
Болезнь — «рождественская скарлатина или пасхальный дифтерит...
в полутропическом каком-то, полутаврическом саду» — оборачивается яс-
новидением: упоминавшуюся сложную покупку фаберовского карандаша
размером со слона Джумбо маленький Федор будто бы видел в своем бреду
в прямом эфире, и в этом паранормальном сеансе связи нет ничего необъ-
яснимого:
Набоков без Лолиты
— Мысль моя омылась, окунувшись недавно в опасную, не по земному
чистую черноту.
С окончанием долгой-долгой болезни связывает Федор надежды и на
сказочное возвращение эпоху назад сгинувшего отца...
Да, вот именно, не всем же везет из болезни вернуться.
Это зона тайны, внутри которой можно достичь других берегов и навсег-
да остаться на них, а можно вернуться из этой зоны другим человеком.
По утверждению Новозеландского Биографа, после опасной детской [ 19:88]
болезни (в те времена часто балансировали на грани летального исхода
даже богатые дети) Володя Набоков почти потерял довольно бурно цвет-
шие в нем математические способности, к чему есть замечательная, не
для смыслов нужная, а для чистой композиционной радости рифма из
И.С. Тургенева:
— До 14 лет я был очень мал ростом; был упрям, угрюм, зол и любил ма-
тематику. Четырнадцати лет я сильно заболел, пролежал несколько меся- [ 134:205]
цев в постели и встал почти таким высоким, каким вы меня теперь види-
те. .. Стал мягким, слабохарактерным, полюбил стихи, стал склонен
к мечтательности...
А с этим, в свою очередь, ненавязчиво рифмуется строка из записной
книжки Ильи Ильфа за 1927 год: «Она знала все языки, но после тифа все [56:597]
забыла».
У меня нет оснований утверждать, что Набоков вообще любил болеть.
Не всякий поверит, что спортивный и охочий до жизни литератор специ-
ально запирался в одиночку недуга, чтобы лучше слышать в тишине волх-
вование Музы. 10 5
Но постель была одним из любимых укрытий — и автора, и героев.
В «Даре» человек, собирающийся снять жилье, вскоре покидаемое
Щеголевыми, а вслед за ними и Годуновым с Зиной, осматривает квартиру,
в том числе «Федора Константиновича в постели», и остается доволен...
В реальности, полагаю, Годунова поперли бы на время осмотра, тем более
что новый съемщик с женой приходил, неловко зреть малобритого пиита
в кровати, но достоверность уступает место концепту. Постель — это ма-
ленький космос, прибор для путешествия на другие берега, после какового
путешествия — особенно, если оно с болезнью связано — происходит пе-
резагрузка.
Пересечение границы чревато преображением.
— Всякая краска жила волшебно умноженной жизнью и менялась масть
лошадей, входивших в тополевую прохладу! — это («Дар») милая безобид-
ная поэтическая модель порубежной перемены окраски.
В «Соглядатае» ситуация посложнее: Смурову является образ человека,
потерявшего рассудок оттого, что он начал явственно ощущать движение
земного шара — шаткость, качка, тошнота, «Здорово шпарит!», не за что
уцепиться. То есть переход в разряд «яснослышащих» оборачивается ре-
шеткой желтого дома.
Граница-гралица
А помните Ирину из «Подвига», толстую, громкую, членораздельно го-
ворить не умеющую, с искривленной физиономией, крест семейства Зила-
новых? Она не родилась такой, она преобразилась после поездки в поезде
с веселой солдатней, которая девочку слегка полапала, зато отца ее выпих-
нула по ходу движения в окно — не со зла, но лишь в порядке утверждения
революционного самосознания.
Поезд, конечно, — самый блестящий снаряд для преодоления границы
и революционной метаморфозы.
В автобиографии Набоков рассказывает два связанных с последним
российским железнодорожным траверсом страшных эпизода. В вагон на-
билась как раз солдатня, и, чтобы отстоять приватное купе, брату Сергею
пришлось имитировать приступ тифа (то есть преобразиться, чтобы избе-
жать, быть может, других, жестоких метаморфоз). Во втором эпизоде Вла-
димир прогуливался на стоянке с очень пижонской дорогой тростью,
трость упала, скатилась на рельсы, поезд тронулся, Володя дождался, пока
состав минет, схватил палку и влез на площадку последнего вагона только
благодаря благородной пролетарской руке.
Этим историям я не слишком верю. Особенно последней: в той ее части,
что касается ухарского пережидания вагонов драгоценного (не хотелось
бы в Гражданскую войну путешествовать по родной стране и тем паче от-
ставать от движения) поезда. В помогающую руку поверить как раз не-
сложно, русский (если вообще не всякий) человек звереет в коллективе,
а сам по себе он чаще добр.
Но это так, к слову. Если и нарушена правда факта, то налицо правда
юб переживания.
Заплеванный пол, сальные бумажки от еды под лавкой да еще и попут-
чик с изуродованным лицом (что не мешает, а может, и помогает ему чи-
тать журнал с голой красавицей на обложке) — антураж вагона третьего
класса, в котором Франц едет покорять столицу.
Первый естественный шаг к покорению — преображение себя.
Франц принимает верное решение — прикупить билету дополнитель-
ный чин, перебраться классом повыше.
Он в самом начале прекрасного побега — из провинциального болота,
от опостылевших матери и сестры. В конце своего романа он не чает, как
сбежать от другой женщины, но до этого еще триста страниц. Пока у Фран-
ца внутри, если воспользоваться образом из другого сирийского текста,
все летает с десятых этажей.
Сцена обставлена с должной архетипичностью. Священнодействие по-
купки статуса происходит на площадке между вагонами, все верно. Франц,
переходя, поправляет узел галстука — молодец, грамотно. «Гулким мраком
бабахнул короткий туннель», и нет кондуктора, а Франц допущен на сле-
дующий уровень.
В вагоне второго класса он встретит дядю (на чью помощь единственно
и надеется в столице) с женой, совпадение на месте не выяснится, пассажиры
узнают о нем лишь на следующий день. Да, Франц так или иначе спознался бы
Набоков без Лолиты
с четой Драйеров, уже назавтра явившись по адресу с драгоценной визит-
кой, но, не будь вагонного казуса, не наладились бы между ними настолько
особые отношения... Не было бы вообще карточного романа.
Кстати — обращаюсь к перечитывателям Сирина, — вы помните, поче-
му Драйеры-то едут во втором классе, когда им тоже положено по чину
в другом, только на уровень выше, в первом?
Второй класс — инициатива прижимистой Марты, ей также, чтобы
встретить Франца, нужно было совершить роковой переход... и поскольку
она-то играла на снижение, то в результате очутилась — какие, не знаю,
уместны тут выражения — существенно ниже плинтуса.
В эмиграции «смена классов» вообще была актуальным сюжетом:
графья водили такси, генералы бегали с подносами.
Машенька с Ганиным в последний раз встречаются «в год революции»
в пригородном поезде, причем ей, чтобы столкнуться с замеченным на
перроне Левушкой, пришлось пройти в вагон первого класса: необязатель-
ный, конечно, символ, но — именно он.
С пересечением символической черты может измениться не только ста-
тус, но и имя: скажем, герой рассказа «Занятой человек» придумал себе
«сословный» псевдоним Граф Ит, ожидая паром. А имя — у него же долж-
ны быть какие-то последствия; дед Н.Г. Чернышевского, крестя евреев,
давал им свою фамилию, и знакомство с Чернышевскими, потомками тех
евреев, натолкнуло Годунова-Чердынцева на идею написать биографию
Николая Гавриловича, за которую его потом обильно облили помоями
в полудюжине средств массовой информации.
Перемена фамилии, имени, участи, телесной оболочки — опасности, 107
подстерегающие агента, замахнувшегося на границу.
Финиш, как минимум промежуточный.
А вдруг после смерти ничего не будет?
А вдруг в первом классе меня не примут, буду кашлять там на правах
бедной птицы?
А вдруг солдаты все же ворвутся в купе, рассудив, что негоже бояться
буржуйских микробов?
А вдруг в тебе уже что-то изменилось на подходе к черте, а у хорошего
агента всегда есть глядящие в оба противники. Географ (и позже советский
разведчик в Швейцарии) Александр Радо ехал в начале 1920-х из России
в Германию и пережил на пограничной станции странную процедуру:
— Немецкие полицейские отвели меня в ванную, раздели, посадили [ 155:79]
в ванну и натерли мне спину какой-то жидкостью. Впоследствии я узнал,
что иногда секретным курьерам пишут на спине химическими чернилами
зашифрованные сообщения...
На спине! Чтобы агент сам не мог прочесть, чтобы не знал, что именно
он сообщает.
Я сочинял эту книжку двадцать лет. В самом начале 1990-х говорили мы
с К.В. Богомоловым о «Машеньке» и «Асе», к тому же времени относятся
Граница-гралица
первые заметки. Первое десятилетие работа шла бессистемными рывками,
потом более организованно, в специально выделенных временных пазухах,
потом она полностью овладела мною. Вкатившись в книгу, я чаще и чаще
навещал Берлин, начал снимать там квартиры на все лето, на месяц, на ка-
никулы, и проводил там времени куда больше, чем требовалось для изуче-
ния сиринских адресов. Будущему историку, возможно, будет небезынте-
ресно, что в означенную эпоху жить в Берлине было несколько дешевле, чем
в Петербурге, и тем более нежели в Москве, что выездных виз из России не
существовало, а въездные шенгенские доставались без танталовых мук. Тем
не менее усилий все это требовало, под возможность часто болтаться по бе-
регам Шпрее приходилось, в общем, структурировать всю жизнь. И когда
это дискретное путешествие потекло к концу, я, оглядываясь назад и пони-
мая, что в него реально вложено довольно много, спросил себя: зачем?
Ответ: я ловко преобразился в писателя-сочиняющего-болыпую-книгу-
о-Набокове, и мне совершенно не хотелось преображаться вспять, терять
этот крайне приятный статус. Большое счастье — работать над такой кни-
гой. Ловить приветы судьбы, знаки, подтверждающие верность пути.
Знаками этими путеводитель обильно не нафаршируешь, чаще они
просто являются непереводимой игрой теней на брандмауэре или слиш-
ком впаяны в мою жизнь, гаснут, если выдернуть контекст. Но, скажем, ис-
тория о том, как мой моабитский товарищ, сдав мне квартиру на пару не-
дель по случаю поездки в Одессу, утопил в Черном море все документы
и, чтобы восстановить их и вернуться в Германию, вынужден был зало-
жить сложнейший вираж по траектории Киев-Москва-Махачкала-Моск-
ю8 ва, и занял этот вираж четыре месяца, в течение которых я мог пользоваться
его жильем с гомерическим ангеботом: прекрасная нота в «тему ключей».
А однажды мы с К.В. Богомоловым оказались в гостинице на бывшей пло-
щади Анхальтского вокзала — может быть, ровно на том месте, где стояла
гостиница «Видэо», в которой Франц разбил очки, — и я в первый же вечер
разбил там очки, и, как и в параллельной сцене из «КДВ», на следующий
день было воскресенье, «Оптика» не работала. Я не мог поэтому посещать
сеансы кинофестиваля, на который мы, собственно, прибыли, но зато, гу-
ляя по городу, набрел на памятник женщине в сарафане, необыкновенно
похожей на обезьяну. И в руке она держала — уж извините — золотую кни-
гу, и приоткрывала ее, лезла пальцем в книгино сердце. Я проверил потом
по фотографиям: в реальности героиня памятника была куда симпатич-
нее, чем высек ее зловредный гэдээровский монументалист.
Придавать героям обезьяньи черты — есть, верно, неведомая мне ту-
земная традиция. Даже Фридрих Великий постоянно изображается с под-
черкнуто обезьяньей физиономией.
А на фасаде магазина сантехники у дома Набокова, в котором сочинялся
«Дар», — вдруг блестящая цитата из «Дара», где описана реклама с «опу-
щенными ресницами скромной цены»... значит, недаром я раз сорок посе-
тил Несторштрассе, при другом ритме поклонения этому «набоковскому
месту» я бы плаката (он висел там год, максимум полтора) не застал.
Набоков без Лолиты
109
Словом, совершенно не хочется расставаться со всеми этими маленьки-
ми ежедневными чудесами... Но многие преображения неизбежны...
нельзя всю жизнь сочинять одну книжку. Настанет мой последний день
в сиринском Берлине, уже совсем скоро. Я войду в восточный поезд, встану
у окна... нет, прощальный взгляд на фрески допотопных реклам, на фасад
антикварного кинотеатра, который все эти годы собирался посетить, но
не посетил, на эмблему лото, в которое планировал выиграть восемь мил-
лионов, да не выиграл, — это слишком сентиментально. Я лучше лягу, руки
под голову. В верхней части окна медленно поплывут наперегонки с обла-
ками телеграфные провода.
В «Машеньке» они поднимаются и исчезают, тают в дыму.
В «Других берегах» они «поднимаются все выше, с трогательным упор-
ством, вот-вот готовы достигнуть верхнего края оконницы, но всякий раз
их сбивает одним махом злостный столб, и приходится им опять подни-
маться с самого низа».
Граница-гралица
— Черный телеграфный столб пролетел, перебил плавный взмах прово-
лок. Они спустились, как флаг, когда спадает ветер. И вкрадчиво стали под-
ниматься опять... — рассказ «Случайность».
В «Подвиге» в списке железнодорожных привязанностей бывалого пу-
тешественника Мартына на первом месте — «телеграфные столбы, обры-
вающие взлет проводов».
И мимо широких рокочущих окон
свивался и таял за локоном локон
летучего дыма, и столб за столбом
проскакивал мимо, порыв прерывая
взмывающих нитей...
Как плотно, однако, В.В. зазомбирован одним и тем же оптическим эф-
фектом.
Очевидно, догадался, что этот упрямо повторяющийся знак мир адресу-
ет лично ему.
Ровно то же движение, лишь другими ингредиентами наполненное, об-
наруживается в «КДВ»:
— Поднимался по диагонали окна зеленый откос, заполнил окно довер-
ху, затем грохотнул сверху мост, и мгновенно зеленый скат пропал.
Нечто набирает-набирает высоту (подбирается к черте, примерива-
ется к границе), но в последний момент — отступает, обрушивается
вниз.
НО Сообразительная Маша Шеншина уже подумала... нет, Маши Шенши-
ной еще, кажется, нет в нашей книге, она отращивает косу, меняет гарде-
роб — будут скромные платья вместо кожаных мини-юбок, девушка повз-
рослела, но все равно, она скоро явится и подумает, что можно перенести
«эффект проводов» на психологию.
Ганин взобрался по эмоциональной и одновременно организационной
(в смысле, все организовал) лестнице к точке решающей встречи с Ма-
шенькой, а потом выдал великолепный пример, как резко способен сдавать
назад тургеневский мужчина.
Все верно.
В «Камере обскуре» дана характеристика прозе прустообразного писа-
теля Зегелькранца:
— Нарастали и проходили длинные предложения.
Это не совсем то, предложения не «нарастали и обваливались», но похоже.
Или буйство фауны на лесной полянке в «Даре», где из травы «вылетали,
тотчас падая вновь, бледные моли».
Не отстает от моли и муха на оконном стекле в комнате, где Федор дума-
ет про моль: нетерпеливо срывается, полупадает, полулетит вниз, и опять
принимается ползти.
Не отстает от глупого насекомого и сам Федор Константинович, анали-
зируя свое отношение к Зине в середине третьей главы: только доберется
Набоков без Лолиты
душа до таких высот нежности, страсти и жалости, до каких редкая любовь
доходит, как сразу и скатится вниз.
По этой тематической ветке можно проехаться со всеми остановками.
— Впереди великолепный крутой холм поднимался стеной в небо. Ре-
шил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом, — это сухой
отчет Германа Карловича из «Отчаяния».
В «КДВ» у матери Франца люстра старенькая, с серыми, как грязный ле-
док, стекляшками, и снова мухи: кружась вокруг, они норовят сесть все на
то же место.
В рассказе «Музыка» Виктор Иванович, зайдя на концерт, слышит «чер-
ный лес поднимающихся нот», и тут же — «скат, провал...».
В «Других берегах» опасливо идут и никуда не доходят тени.
И вот в «Даре» про тени подробнее...
— Страшно скоро стремились к бытию, но, недовоплотившись, раство-
рялись тонкие тени липовых ветвей.
Стремились, стало быть, проскочить через границу, но в последний мо-
мент решали остаться по ту сторону.
Выделяя сейчас эту матрицу, я прошу вас не забывать, что сам Сирин
ценил частное шибче общего. Стилистическое исполнение, воплоще-
ние метафоры интереснее матрицы... так, в списке предметов, переква-
лифицированных в пепельницы, мы радовались его разнообразию,
а не тому, что все предметы служат тупому делу расправы с обездушен-
ной гильзой.
Но с матрицей, в которой столбы пресекают взлет проводов, мы еще не
покончили. 111
Обнаруженный чертеж становится конструктивным принципом в до-
вольно объемных массивах текста.
Скажем, в первых главах «Подвига». Прикатит действие в 1918 год
да тут же отщелкнется в детство; еще раз накатит волной вперед — и снова
отлив; появится кадр из постмартыновой жизни, где мать перечитывает
старые письма, — и тут же возобновится колея последовательного
сюжета.
В «Отчаянии» рассказчик все норовит сунуться поперед читателя в сце-
ну убийства, но отпрядывает.
В иное, словом, измерение перехода не происходит, а происходит трынь-
брынь-движение на границе, прилив-отлив.
Так мальчик Путя в «Лебеде» бесцельно подымает-опускает, открывает-
закрывает крышку парты.
Лишь бы не прекращался этот космос смены-несмены состояний, драз-
нилка шансом на иное, вечный побег-непобег.
Или, как замечено в рассказе «Круг», мало что есть прекраснее, чем ку-
паться под теплым дождем на границе смешения двух однородных, но по-
разному сложенных стихий: толстой речной воды и тонкой воды небесной.
Другие берега — жизнь и смерть, в частности, — однородны, просто по-
разному сложены.
Граница-гралица
В «Приглашении на казнь» упомянут человек, во сне увидевший, что
идет по воде, но вдруг усомнившийся: да можно ли?
Это смотря кому.
Или когда как.
Мартын Эдельвейс двинул через советскую границу, навстречу неиз-
вестности, в сторону Режицы и Пыталова (эти географические названия
Сирин не выдумал, есть там такие), и сгинул, преобразился неведомым, но
страшным образом. А ведь до последних страниц можно было все обра-
тить в шутку...
Набоков пару раз отмечал, что разница между комическим и космиче-
ским только в одной свистящей согласной; у меня в предыдущей главе не
могли поделить согласную признак и призрак.
У границы тоже есть слово-напарник, бережно извлеченное Набоковым
из словаря Даля, — гралица.
Это слово, которое до сих пор можно было найти лишь у Даля да у Си-
рина, вот ему еще постелен мягкий уголок в моей книжке, означает дробно
отраженную в воде луну; такая, знаете, дорожка пляшущих пятен.
Тоже граница, но размывающаяся, с уплывшим ударением, с мягкой со-
гласной посередине.
112
Касаться и набухать
Гардеробщицы берут и уносят вещи, как спящих детей. Жена прихораши-
вается, муж подходит сзади и прикладывает прохладный номерок к неж-
ной впадине ее гладкой напудренной спины.
Приятное, должно быть, прикосновение.
Или тревожное?
Это Лужин на балу. Он еще только приехал, но ему уже нечего делать.
Развлекся таким шахматным образом: примерил предмет к впадине. 113
Разного рода балов в берлинской биографии Сирина много.
— Лекции, дурацкие доклады, благотворительные балы, годовщины —
сколько их уже было! — ворчит проходной персонаж «Человека из СССР».
На традиционном балу русской прессы В.В. как признанный знаток
бывал членом жюри конкурса красоты. Мисс Эмиграция, что ли, или Мисс
Русский Берлин.
Герои при этом ведут себя в соответствии с позднейшим мифом о пове-
дении своего автора: шумные сборища им претят.
Собрались на бал Зина с Федором, решили встретиться на месте, да Фе-
дор присел,уже в смокинге (sic!), подвзбить кое-что на скорую в рукописи
и оторвался от сладкого поцелуя музы среди ночи, когда вернулась оби-
женная Зина, хлопнула дверью в глубинах квартиры.
Лужин — муж послушный, на бал приехал, огляделся, чего тут и как,
и молниеносно приложил к спине номерок.
Механизм бала взведен. Сейчас он жену (напомню, у нее нет в рома-
не имени, да и у самого Лужина оно появится лишь в последней стро-
ке) поглотит, завертит в своих шестеренках. И Лужин, с женой таким
образом временно расставаясь, подает ей сигнал — поддержки ли, кон-
такта ли.
«Я на связи» — таково, например, значение этого жеста.
Касаться и набухать
Лужин с женой долгую часть романа неуклюже пытаются склеить мир,
который для обоих стал бы «своим», и читатель болеет за них, держит
пальцы крестом, чтобы получилось. На момент бала еще не получилось,
но пока это не беда, попытки не оставлены. Лужин еще может прохладным
прикосновением послать сигнал из своего космоса в космос Натальи
(Натальей Катковой нарекли ее экранизаторы «Защита Лужина»; неплохо
нарекли — могу однажды и я ее так назвать).
А в «Даре» идет дождь, и у Федора в Груневальде украли одежду, пока
купался, он идет по улице почти голый, и капли плюхают по нему... какое
ощущение, Федор Константинович?
— Словно кто-то прикладывал к разным частям тела серебряную
монету!
Короткие вылазки, заглядывания, прикосновения для большинства сирий-
ских героев — органичнее решительных пересечений границ.
Лето, дощатый биргартен, случайная компания, чья-то сестра в клетча-
той кепке рядом, я касаюсь волосками своей голой руки волосков на ее го-
лой руке, и прыскает электричество. На мгновение мы прикоснулись к дру-
гой, возможной судьбе. Открыли на секунду роман на чужом языке,
рассеянно пошелестели страницами: не нужен.
— .. .сделал я легкое, легкое движение, словно пустил душу скользить
по скату — и вплыл я в Пал Палыча, разместился в нем, почувствовал
как-то снутри и прыщик на морщинистом веке, и крахмальные крылыш-
ки воротника, и муху, ползущую по плеши. Я стал им. Я смотрел на все
114 его светлыми, блистающими глазами. Желтый лев над постелью показал-
ся мне знакомым, точно с детства он висел у меня на стене. Необычайной,
изящной, радостной стала крашенная открытка, залитая выпуклым
стеклом. Передо мной не ты сидела — а посетительница школы, мало
знакомая, молчаливая дама — в низком соломенном кресле, к которому
спина моя привыкла. И сразу тем же легким движением вплыл я в тебя,
ощутил повыше колена ленту подвязки, еще выше батистовое щеко-
танье, подумал за тебя, что скучно, что жарко, что хочется курить.
И в тот-же миг — ты вынула золотую шкатулочку из сумки, вставила
папиросу в мундштук. И я был во всем: в тебе, в папиросе, в Пал Палыче,
неловко чиркающем спичкой, — в стеклянном пресспапье, и в мертвом
шмеле на подоконнике...
Это из раннего рассказа «Звуки».
Герой во всем, в шмеле и в Пал Палыче, но — ненадолго.
Через пятнадцать лет батистовое щекотание развилось в знаменитую
сцену из «Дара», где Федор садится погостить в разных людей:
— Он старался вообразить внутреннее прозрачное движение другого
человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти
того служили ему подлокотниками и душа бы влегла в чужую душу, —
и тогда вдруг менялось освещение мира и он на минуту действительно был
Александр Яковлевич, или Любовь Марковна, или Васильев...
Набоков без Лолиты
В иной душе Федору уютно, в другой многое изумляет его, как чопорно-
го путешественника могут изумлять обычаи заморской страны, базар на
заре, голые дети, гвалт, чудовищная величина фруктов.
Но экспедиция в прозрачное кресло — «на минуту».
У Федора Константиновича даже дом подходящий, угловой, выпирает,
как огромный красный корабль, неся на носу стеклянно-сложное башен-
ное сооружение:
— Словно скучный солидный архитектор внезапно сошел с ума и про-
извел вылазку в небо.
Сооружение не выдумано, на доме по Несторштрассе, в котором Сирин
жил, сочиняя роман, и в который поселил Федора, впрямь красовался в их
годы шпиль не шпиль, башня не башня, такая плоская высокая штука
с буквами HANSA: сейчас, хоть сам дом и на месте, такого сооружения «на
носу» у него нет.
В «Лужине» показывают кино: доктор там читает в саду книгу, а из-за из-
городи вдруг вырастает девический пробор, потом пара большущих глаз.
Лужин-старший уезжает из имения в город (жена, влажно возражаю-
щая против поездки, обоснованно подозревает, что он едет не к издателю),
и из сада видна проносящаяся над оградой его шляпа.
Она чуть-чуть видна из-за ограды, шляпа. Лужин-старший не покинет
семью, он только совершит короткую электрическую вылазку к любовнице.
Старший Годунов-Чердынцев, напротив, возвращается домой из экспе-
диции, и видна из-за елок голова кучера.
Шляпа и пробор над изгородью — как марионетки над ширмой в ку-
кольном театре. Есть — нету. Хоп. 115
У Федора Константиновича разваливается летняя обувь, и сквозь стре-
мящуюся к исчезновению подошву он, идя по немощеной дороге, необык-
новенно живо осязает землю, чтобы в конце испытать острую радость кон-
такта босой ступни с асфальтом. Он, кстати, поперек обычаев эпохи, и
шляпу надевал редко; даже, кажется, есть где-то, не могу найти, выражение
типа «босая голова».
И грузный герой «Волшебника», нагишом спешащий на аутодафе,
к трассе, где он кинется под грузовик, воспринимает «босоту уже как про-
вал в другое».
Движение в безапелляционном направлении.
— Сними свои башмаки! Земля, на которой ты стоишь, это святая зем-
ля! — так описывала свои ощущения от пересечения советской границы [155:98]
Клара Цеткин, выступая в 1923 году в Лейпциге на съезде германской ком-
партии.
Лужина после свадьбы, перед брачной ночью, оставив шахматиста
ждать в спальне, забирается в ванну. С тревогой думает, что наступает пре-
дел ее женской расторопности и что есть область, где не ей путеводитель-
ствовать. Опустившись в воду по шею, она видит себя сквозь уже слегка
помутившуюся от пыльной пены воду тонкотелой, почти прозрачной, но
поднимается из воды колено, передавая привет шляпе над изгородью.
Касаться и набухать
По автобусу прошуршат концы мягких кленовых веток («Дар»); нежно
царапкаются они, просясь внутрь — или пассажирскую душу выманивая
на волю.
Мальчик едет в поезде.
— За стеклом был сказочный мир, — сказочный потому, что я его под-
глядывал нечаянно и беззаконно, без малейшей возможности принять
в нем участие... Разъединенная на части газета ехала, погоняемая толчка-
ми ветра, по вылощенной скамье. Ничего особенно замечательного не
было в случайной части безымянной станции, но почему-то я не мог ото-
рваться от нее, покуда она сама не уезжала.
Сказочность, заметьте, обеспечивается невозможностью принять учас-
тие в этой другой жизни.
Это и не нужно; нужнее сидеть у окна, у входа, и наблюдать, вгляды-
ваться.
— Я чуть не вывихивал разум, стараясь высмотреть малейший луч лич-
ного среди безличной тьмы по оба предела жизни! — это снова из начала
«Других берегов», о тьме посмертной и тьме пренатальной.
В «КДВ» упоминается «просвет в головокружительную разноцветность».
Хорошее слово — просвет.
Pro-свет. Prosvet. Просвет.
«О» такое разомкнутое, сквозь него мир озаряется, распахивается, как
волжский откос, большая поляна, куда вываливаешься из бурелома, доли-
на с меланхоличными коровами, к которым вдруг выводит скалистое
116 ущелье.
Ученик Кеплера не только выразительно, но и точно живописует:
[ iso: 212] — Обилие сквозистых проемов, цветовых просветов, дымчатых, таин-
ственных пробелов: терра инкогнита. Это не только зияющая на карте ази-
атская свобода, но и лирический всплеск, окошко счастья, ласковая про-
пасть, отзывчивая бездна, сияющее дно волшебной шахты.
В детстве Федор Годунов-Чердынцев, путешествуя в потемках постели,
видит в конце пещеры, сооруженной из простыни и одеяла, «синеватый
свет, ничего общего не имевший с комнатой, с невской ночью».
— Пещера, которую я исследовал, содержала в складках своих и прова-
лах такую томную действительность, полнилась такой душной и таин-
ственной мерой, что у меня как глухой барабан начинало стучать в груди,
в ушах; и там, в глубине, где отец мой нашел новый вид летучей мыши,
я различал скулы идола, высеченного в скале...
Идол, так сказать, двойной консервации: сначала ему нужно выпрос-
таться из скалы, а уж другим ходом — из темноты.
В Берлине 1928-го, каким его застал герой «КДВ», обнаруживаются
просветы-пробелы.
Францу не нравится, что в его квартале «так много простора, муравча-
тых скверов, сосен и берез, строящихся домов, огородов, пустырей». Он об-
ращает внимание на «странный простор» в конце Унтер-ден-Линден.
Набоков без Лолиты
Конечно, в Берлине 1928-го могли быть, и были, незастроенные участки,
и Франц мог жить в квартале, переполненном огородами и муравчатыми
скверами.
Но вообще город стоял плотный, и населения в нем было выше крыш,
и дома на улицах плечом к плечу: если, конечно, позволено судить о таких
пешеходных фактах по старым картам и фотографиям, по кинохронике
и, скажем, по фильму Вальтера Руттмана «Берлин. Симфония большого
города», снятому в 1927-м. С каких только ракурсов там город не показан,
и при любом ракурсе практически нет пустот.
Берлин как город тотальных просветов расцвел после Набокова, в 1940-е,
и остался таковым по сей день. То есть писатель почуял этот избыточный
простор заранее, через головы лет.
«Странный простор» в конце липового проспекта — это муравчатое по-
ле перед Берлинским собором, Люстгартен.
В феврале 1933-го сюда вышли двести тысяч противников Гитлера. Ис-
тория помнит здесь и полумиллионные сборища.
В Люстгартене сейчас ничего, кроме фонтана, нет, а Франц, гуляя, прохо-
дил там мимо бронзового мужика на коне, Фридриха Вильгельма III.
Ровно за пустотой торчит большой собор, главная церковь города, кото-
рая ощущение простора естественным образом скрадывает. А рядом с пус-
тотой, через дорогу, при Франце располагался огромный дворец. Собствен-
но, тот, в котором жили кайзеры; еще при Гогенцоллернах там заселилось
привидение Белой Женщины, шуровавшее вплоть до 1945-го. Потом дру-
гой дворец, гэдээровский, который снесли в 2006-2008-м. Теперь вновь на-
чали копаться, будут возводить третий, но вот как раз сейчас, в начале
10-х годов XXI века, пусто, простор перед наблюдателем разворачивается
вдвое с лишним более грандиозный, нежели перед Францем, и в обе стороны.
Ныне в Берлине поразительное обилие пустырей (до сих пор незастро-
енные пятна бомбежек), полос отчуждения у бесконечных железнодорож-
ных путей (а иногда шмат эстакады длиною в два-три вагона просто висит
в воздухе как память о канувшей в Лету ветке), гигантских прогалин, ос-
тавленных Стеной (вот уж зоорландское ноу-хау), заброшенных советских
и американских военных объектов и станций S-бана.
Плотность населения при этом невелика, и город даже в часы пик выгля-
дит эдак по-лунному. Поскольку люди не могут освоить всю территорию,
заходят животные. В Берлине мириады зайцев, не только в больших пар-
ках, но и в дежурных скверах... зайцев, впрочем, нынче по всей Европе
полно, но тут встречаются (прямо в Тиргартене, а это центр столицы Гер-
мании) симпатичные лисы двух марок, рыжей и серой, на окраинах все
смелее хрюкают дикие кабаны.
Набокову бы понравилось... Я впервые в путеводителе употребляю это
словосочетание? Слегка сесть в него, как в стеклянное кресло, глянуть его
глазами.
Просвечивание, медленное проступание, закипание, набухание — вот
естественные способы проявления Иного.
И7
Касаться и набухать
Белое небо над Фиальтой незаметно наливается солнцем, и белое сияние
ширится-ширится, и все растворяется в нем.
Касаться и набухать. Прикосновением ты провоцируешь Иное, возбуж-
даешь его, и оно может начать встречное движение.
Маленький Володя играет в постели... на творческом, так сказать, посту.
— Как, бывало, я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным,
хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Поже-
вав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал
в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленутые его плоскос-
ти, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влаж-
ную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения.
И эстетическая оценка увиденного:
— Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой.
«Непосредственность» красоты — это момент ее проявления, набуха-
ния, просачивания... когда чудо еще не произошло, но вот как раз проис-
ходит. Инициировал этот процесс наблюдатель, обслюнявив как следует
простыню.
Рубиновым набухает еще комар, присосавшийся к ободранной коленке
маленького Лужина.
Федор Константинович на пляже становится раскаленно-прозрачным,
наливается солнечным пламенем.
Во сне, при встрече с отцом, он наливается огромным, как рай, блажен-
но-счастливым, не перестающим расти теплом.
118 Комната Ганина наливается сумерками, и сумерки же заполняют его все-
го, «претворяют самую кровь в туман», то есть, если прочесть метафору
про туман буквально,угрожают герою преображением... как выглядит су-
щество с туманом вместо крови?
Шумно накипают ветром липы в «Других берегах».
Набухает душная мгла в «Грозе», с бьющейся, восходящей теплотой слез
сравнивается любовь в «Благости», с полотна кинематографа приближает-
ся, растет громадное женское лицо в «Письме в Россию», в высоком камен-
ном основании дома в серой замазке мерещатся в «Даре» круглые розовые
крупы замурованных коней.
В «КДВ» Марта оформляется из окружающего Франца (разбил очки)
блескотекущего марева; сам Франц «растет, сгущается, утверждается» в
другом эпизоде, когда решается на дерзкий взгляд; слову «дядя», прежде
чем выпустить его в речь, следует дать «созреть»; в скучной жизни Марты
перед началом романа с Францем начинают проступать «непонятные, но
значительные очертания», и здесь всплывет сравнение с фотодейством,
плещется темноватый раствор, в котором будут плавать и проясняться го-
ры на «еще не прозревших снимках».
Улицы, по которым едут ночью Франц с дядей, понемногу светлеют, наби-
раются света, разгораются пуще и, внезапно, уже с какой-то искристой уве-
ренностью, возмужав в тесноте тьмы, прорываются небывалыми огнями.
Набоков без Лолиты
— Портьера на окне странно шевельнулась, переменила складки, стала
медленно набухать, — и еще немного, кое-кто из гостей Марты выстрелил
бы в портьеру, за которой скрывается Драйер.
Некоторые вещи заразны: исследователи начинают описывать прозу
Сирина в терминах набухания и нарастающего заполнения. Ташкентский
Геолог наливается «Даром», как солнцем:
— Уже первые страницы «Дара» стали вызывать у меня тревогу: это не
может продолжаться долго, нет, автор не выдержит такого уровня на про- [28:199]
тяжении целой книги. Он слишком щедр, нельзя же так неэкономно. Не-
бось годами копил в записной книжке перлы своей наблюдательности
(устрашающей!), копил словесные находки — и ну вываливать, сейчас вы-
дохнется. Но автор не выдыхался, а, наоборот, все набирал сил. «Дар» — это
книга нарастания. Временами я прямо-таки выл от восторга, хохотал, как
гиена. Наслаждение от чтения росло, становясь почти невыносимым.
А Новозеландский Биограф, стилистически вообще весьма сдержан-
ный, вдруг разряжается смелой метафорой из области зоологии:
— Почти каждое длинное извилистое предложение разбухает скобками, [19:525]
подобно тому, как змея раздувается, проглотив слишком много толстых,
аппетитных мышей.
О прозе Сирина мог бы что-нибудь сказать офтальмолог.
— Сквозь веки солнце проникало сплошной мутноватой алостью, по
которой вдруг побежали чередой светлые полосы — прозрачный негатив
движущего леса, — это Марта скучает в вагоне.
У Кречмара перед глазами появляется мелкий черный дождь и что-то 119
вроде мерцания очень старых кинематографических лент (чуть комично
выглядит в книжке 1931 года упоминание «очень старых» фильмов).
Жмурится Иванов (рассказ «Совершенство»): по красному фону сколь-
зят оптические пятнышки, скрещиваются марсовы каналы.
— Трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную
улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: это выплыло из-за
облаков солнце, — монолог Цинцинната.
— Когда солнце слишком наваливалось, он закидывал голову на горя-
чий край спинки и долго жмурился, призрачные колеса городского дня
вращались сквозь внутреннюю бездонную алость, — Федор Константино-
вич в Груневальде.
— Какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наис-
кось в верхний угол подвечного зрения, — Федор Константинович дает
редкий случай усомниться в стиле, неуклюже вышло «подвечное зрение».
— Я попытался закрыть глаза и задремать, но изнанка век была выстла-
на текучим узором, крошечные световые узелки проплывали на манер ин-
фузорий, зарождаясь в одном и том же углу, — брат Себастьяна Найта
в тесном ночном поезде, еще надеясь застать заглавного героя в живых.
В «Других берегах» узелкам и инфузориям посвящен довольно большой
кусок. Там есть специальный термин rnuscae volitantes: перелетающие
Касаться и набухать
по латыни мухи, тени микроскопических пылинок — не сами, заметьте,
пылинки, а тени пылинок — в стеклянной жидкости глаза, которые про-
плывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю, и опять
начинают с того же угла, если перемигнешь. Есть рана продленного впечат-
ления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной
лампы. Не обошлось без рубиновых, уместной в этой главе масти, оптиче-
ских стигматов, из которых в мозгу наблюдателя вырастают Рубенсы-
Рембрандты и целые пылающие города.
Автору путеводителя описанные эффекты знакомы, многие — совпада-
ют в подробностях. Да, когда лежишь на солнце, обратная сторона век за-
хвачена разного оттенка красным — да, когда умирает свет, перед закрыты-
ми глазами плавают формы только что виденных объектов (путешествует,
скажем, вверх-вниз прямоугольничек: это привет от экрана телевизора) —
да, энтоптические стайки (другое название тенистых мух) норовят выплес-
киваться по диагонали и впрямь из одного и того же угла.
Но есть и отличия. Рубенсы в моем мозгу не вырастают... честно ска-
зать, Рубенсы-то и у Набокова произошли от рубинов (а Рембрандты от
Рубенсов),это поэтическая вольность, надежнее тут пылающие города.
У меня шаловливые пятнышки тоже способны пылать, довольно бесфор-
менно, но способны они и превращаться в небольшие, серебристо-серые
лица, которые прилетают из глубины, минуют поле зрения, растворяются
где-то за затылком, довольно часто я успеваю лицо рассмотреть, изредка
оно оказывается знакомым. Бывает, чтобы сделать его знакомым, я успе-
ваю как-то это лицо на лету перелепить.
120 Такого эффекта у Сирина не описано.
Насколько совпадают у разных людей тонкие физиологические ощу-
щения и их отражения в зеркале мозга? В том, что у тебя, дорогой чита-
тель, обратная сторона прикрытых на солнце или просто на свету век
тоже приблизительно красная, я не сомневаюсь, но в том, что энтопти-
ческие стайки твои тоже всегда бегут из одного угла по диагонали — тут
я уже не уверен. Может быть, кому-то из людей (тем, у кого пылинки
в стеклянной жидкости глаза не отбрасывают тени) и вовсе неведомы та-
кие стайки.
Вот Вронский овладел Анной Карениной и видит перед собой расчле-
ненное тело.
Мне знаком и этот эффект. Это я говорю из прошлого, давным-давно
я никакой расчлененки не вспоминал, но хорошо помню, как в молодости,
когда означенный акт происходил под лозунгами «овладеваний» и «побед»,
я мог чувствовать, что тело партнерши будто разваливается на куски,
и удовлетворенно соглашался сам с собой, что Толстой — прекрасный со-
чинитель, как это проворно он все осветил.
Но однажды я обратил внимание К.В. Богомолова на эту сцену из «Анны
Карениной», и выяснилось, что он ее считает надуманной... де, лишь в са-
мом исключительном, да и только с поправкой на толстовский авторитет,
случае это ощущение могло возникнуть у земного мужчины.
Набоков без Лолиты
С глазами у меня еще такое есть упражнение: если надавить пальцами на
глазные яблоки, мозг заполняет искрящая серебряно-ртутная матрица-
масса, набухает, колко пульсирует... явно хочет пролить в здешний мир со-
держимое других берегов. И тут я не знаю, насколько мои ощущения уни-
версальны...
Безусловный агент другого берега — женщина, еще не расчлененная, не на-
фаршировавшая собою, подобно толстой мыши, скобки змеи.
Как они появляются у Сирина? Слово Ученику Кеплера:
— Любимые не выходят на сцену из-за кулис, а сгущаются из светонос- [150:213]
ной субстанции, чтобы в ней же потом раствориться. Магда возникает из
тьмы и исчезает во тьме, Колетт появляется в пляжном мареве и раство-
ряется в парковых тенях. Городскими тенями прикрывается Зина Мерц.
Полинька вырастает прямо из закатного полумрака земли. Тамара являет-
ся в тающем блеске березняка... в изумрудном свете березовой рощи она
как бы зародилась среди акварельных деревьев с беззвучной внезапностью
и совершенством мифологического воплощения.
К этому списку можно добавить и Марту (чуть выше она у нас проявля-
лась из слепого пестрядного фона). Невеста Лужина выражает для угрю-
мого шахматиста все то ласковое и обольстительное, что можно извлечь
из воспоминаний детства, — словно пятна света, рассеянные по тропин-
кам сада на мызе, срослись теперь в одно теплое цельное сияние.
Глянем внимательнее, как сгущается Зина:
— Из темноты, для глаз всегда нежданно, она как тень внезапно появля-
лась, от родственной стихии отделясь. Сначала освещались только ноги, 121
так ставимые тесно, что казалось, она идет по тонкому канату. Она была
в коротком летнем платье ночного цвета — цвета фонарей, теней, стволов,
лоснящейся панели: бледнее рук ее, темней лица...
Зина появляется, отделясь от родственной стихии, но ведь ровно то же
самое происходит в этом абзаце со стихами: они плавно выходят к нам
навстречу, отделясь от родственной прозы.
Насколько легко опознаются стихи, запрятанные в прозу, — любопыт-
ный на самом деле лабораторный вопрос; можно, наверное, ставить экспе-
рименты над школьниками, засекая, кто почуял ритм с первой попытки.
В другом месте «Дара» есть подсказка, обнажение принципа: Годунов-
Чердынцев цитирует из Маркса:
...ума большого
не надобно, чтобы заметить связь
между ученьем материализма
о прирожденной склонности к добру,
о равенстве способностей людских,
способностей, которые обычно
зовутся умственными, о влияньи
на человека обстоятельств внешних,
Касаться и набухать
о всемогущем опыте, о власти
привычки, воспитанья, о высоком
значении промышленности всей,
о праве нравственном на наслажденье —
и коммунизмом.
— Перевожу стихами, чтобы не было так скучно, — объясняет он фокус.
Вышло и впрямь — с живинкой, с искринкой.
Но и зная принцип, можно не заметить смежившую крылья бабочку стиха.
Я лично, прочитав «Дар», может быть, раз пять, не замечал, пока меня не
ткнули носом, стихотворной вставки в притче о человеческом глазе:
— Пойдя с ней к ее старухе матери, царевич предложил дать в калым ку-
сок золота с конскую голову. «Нет, — сказала невеста, — а вот возьми этот
мешочек — он, видишь, едва больше наперстка, да и наполни его». Царе-
вич, рассмеявшись, бросил туда монету, бросил другую, третью, а там и все
бывшие при нем. Весьма озадаченный, пошел он к своему отцу. Все сокро-
вища собрав, все в мешочек побросав, хан опустошил казну, ухо приложил
ко дну, накидал еще вдвойне, — только звякает на дне. Призвали старуху.
«Это, — говорит, — человеческий глаз, хотящий вместить все на свете», —
взяла щепотку земли да и разом мешочек наполнила.
Читая в восьмой и в десятый раз, я, конечно, в нужном месте сразу впа-
даю в нужный ритм:
122
Все сокровища собрав,
все в мешочек побросав... —
но, повторяю, не замечал этого ритма полтора десятилетия.
Сейчас, перечитывая, не понимаю, как можно произносить про себя эти
слова без межстрочных пауз.
Это, Владимир Владимирович, похоже, наверное, на охоту как раз на ба-
бочек? Они мимикрируют, прячутся в веточках: можно смотреть в упор
и не замечать.
Но если увидел одну, то и остальные, сидящие неподалеку, уже не могут
чувствовать себя в безопасности.
Переполошились и летят в разные стороны.
Смотрите, сейчас я одним махом сбрею целую стаю.
В первой главе «Дара» Федор, узнав по телефону, что появилась рецен-
зия, которую обещают показать скорым вечером, срочно перечитывает
свой сборник «Стихи», содержащий около 50 двенадцатистиший, посвя-
щенных одной теме — детству.
Это очередной завой (Сирин употреблял это слово в неочевидном зна-
чении «завиток») темы перечитывателя: мне тоже ведомо, как захватываю-
ще интересно читать себя как бы чужими глазами, представлять, как вос-
примут очередной абзац Эн или Зэт, как покажется первая страница
человеку, которому я сегодня подарю книжку...
Набоков без Лолиты
От какого-то из двенадцатистиший нам перепадет строка, от какого-то
несколько, некоторые приведены целиком.
По четвергам старик приходит,
учтивый, от часовщика,
и в доме все часы заводит
неторопливая рука.
Он на свои украдкой взглянет
и переставит у стенных.
На стуле стоя, ждать он станет,
чтоб вышел полностью из них
весь полдень. И благополучно
окончив свой приятный труд,
на место ставит стул беззвучно,
и чуть ворча часы идут.
И тут происходит чудо.
Накачавшись ритмом двенадцатистиший, я начинаю замечать в листве
прозы, по ходу тех страниц, где читает себя Федор, затаившихся бабочек...
строчки, которые могли бы составить новые годуновские двенадцатисти-
шия (или составившие их за кадром — в романе же процитировано всего
несколько из полусотни миниатюр).
Вот они, бяк-бяк-бяк.
.. .когда в три медленных приема
.. .рука на миг среди существ
.. .старинных, кажется, игрушках
.. .кудауносится огонь
.. .когда чулки шерстят в поджилках
.. .Тот зуб придется удалить
.. .но счет растет и честь не тешит
Последний пример так аллитерирован, что хочется что-нибудь почесать.
а послезавтра неизбежно
он угловато застывал
Что же такое нужно свершить, чтобы застыть послезавтра — угловато
и неизбежно? То есть можно изобразить понурую статую после любого
конфуза, но что за секрет откладывает колдовство на два дня?
123
Касаться и набухать
124
музыка шелковой тугости
у входа в оснеженный сад
Почему бы и не тугОсти и оснежЁнный, если музЫка?
мы собрались назад в деревню
крокет, купанье, пикники
катанье на велосипеде
на так ли все мои стихи...
Да, они уже собираются самостийно в стайки, и автор путеводителя со-
жалеет, что лишен поэтического дара: славно было бы сбить из пойманных
строк двенадцатистишие в полный годуновский рост. Увы, крылатый мед-
ведь топчется в районе ушей, остается сорить одинокими находками.
.. .та-та позванивавшей где-то
.. .из накопляющихся пьесок
.. .он опадал, я просыпался
.. .тебе, расставившему руки
Вот еще несколько слиплись в пары.
воспоминанье либо тает
приобретает мертвый лоск
чтоб ударялись сзади в ноги
волей горячечной мечты
была попытка мимикрии
уже дала наклон рулю
Последняя пара даже и с некоторым смыслом вышла.
рифм превосходно оттеняет
присутствие малейших черт
Тут хорош «рифм»... Где-то у Сирина есть «мисты» (нормальный раз-
мер тех, кого уменьшительно кличут мистиками).
ум возвращается музыкой
как надобно читать стихи
Набоков без Лолиты
Недурной, право слово, вышел пример, как надобно писать и читать
прозу.
Вот важное:
да захватил ли я ключи?
Загляните в карман, закрывая дверь, особенно в Берлине. Здесь до сих
пор, если ты потерял ключ от подъезда, новый тебе в мастерской не испол-
нят без бумаги из районной управы и увесистого штрафа, а могут заста-
вить оплатить новый замок и ключи для всех обитателей лестницы (это
именно берлинская, а не всенемецкая ситуация).
По большой дуге к нам возвращается тема многофигурной картины.
Всматривающийся, касающийся — обрящет.
Фрина Генриха Семирадского, что вышла нагишом под полным назва-
нием «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине», — не самое выдаю-
щееся произведение мировой живописи, но и там есть что поразгляды-
вать. Кто с каким выражением в усы усмехается или руку взметнул, узрев
обнаженную диву. Народу там полно. Фигуру Фрины рассмотреть (круп-
ная, но не громоздкая, с аккуратными сферическими персями, выгодно от-
личающаяся от анорексичной коллеги, изображенной тем же автором на
холсте «Сократ застигает у гетеры своего ученика Алквиада»). Лицо слиш-
ком отвернуто, не очень ясно, как бы оно в жизни... У тех, кто в одежде —
покрой туники... Узор на ковре, опять же.
Современник Сирина Савелий Шерман, писавший под псевдонимом 125
А. Савельев, по шипящему признаку мог попасть в ряды карикатурных
литераторов из «Дара». В рецензии 1930 года он очень точно сообщил, что
наш герой работает «По методу старых мастеров, создававших гобелены: [57:84]
мириады живописнейших мелочей, отыскиванием которых наслаждались
люди нескольких поколений...»
Дело, понятно, не в технике, гобелен там или холст-масло, а в том, что
в эти тексты, как в большие картины, можно всматриваться бесконечно,
высасывать новые мелочи, замечать через двадцать лет всматривания, что
красный платочек на северо-западе картины перемигивается с красным
цветком на ее крайнем востоке.
Сам мастер не раз утверждал, что ясное видение сочиняющегося рома-
на стоит перед его внутренним взором всю дорогу, надо лишь разглядеть
это уже существующее в высоких пещерах произведение и бережно пере-
нести его на здешнюю бумагу. В какой-то момент Набоков даже стал со-
чинять на библиографических карточках, нелинейно, вытаскивал из ка-
таложного ящика ту, что сейчас вот набухла, и татуировал ее деталями
и эпитетами.
Так, собственно, орудует художник в узком смысле слова — живописец:
тут подкрасит, там подмалюет, улучшит солнечный блямс горшку на плет-
не, казачка третьего плана подчеркнет легким флюсом.
Касаться и набухать
Нечто схожее предлагается и перечитывателю: в тексте, который перед
тобой, много слоев, и нужно хорошо и добросовестно любить его, чтобы
проявилось для тебя больше отблесков, фигур и смыслов. Художник не для
того нарисовал десять тысяч мелких деталей, чтобы они заполняли фон:
над каждой оглоблей и ромашкой он работал столь же тщательно, как над
лицом главного героя.
[ 139:120] — Моменты времени существуют независимо друг от друга в качестве
частей некоего общего вневременного ландшафта, — говорит Переводчик
Бодлера о хронософии Набокова; можно эту формулу опрокинуть на ро-
ман, он существует не только последовательно, в движении от эпиграфа
к эпилогу, но и как нелинейная скульптурная группа, вокруг которой мож-
но долго бродить.
Со временем меняются интересы и вкусы, расширяется кругозор, то
один, то другой фрагмент картины приблизится к глазам, оживет.
Вот из «Других берегов»:
— Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дере-
ва, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне,
я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры,
смысл которых раскрывался с годами; раненого барабанщика, трофеи,
павшую лошадь, усачей со штыками и неуязвимого среди этой застывшей
возни, бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.
Детали картины выстраиваются при каждом вдохновенном прикос-
новении в разные созвездия. Если мы любуемся Фриной не по копии
в своем особняке, а ходим ежедневно на площадь Искусств, то попадаем
126 в музей в разном расположении духа, циркуляция публики в зале при-
нуждает нас смотреть с разных ракурсов, и вот сбоку видно то, чего не за-
метишь по центру... скажем, танец локтей в левом нижнем привлечет
внимание... как орудуют ими все эти вратари, что они так оживленно па-
рируют. Или придет в голову проследить линии взглядов, смыкающихся
на персях, или на другие глаза обратишь внимание, к упругим сферам как
раз не прикованные.
И нарастание опыта: с годами я больше узнаю о покрое туник, повадках
Посейдона, судьбе Семирадского, тени на картине благодаря этому пере-
ставятся, одни фрагменты подгаснут, но раскроется смысл других.
Кроме того (пожалуйте на глоток метафоры), существует зрение креа-
тивное, позволяющее увидеть, скажем, и то, что находится за нарисован-
ными на дальнем плане курящимися горами.
Приходишь утром после веселого сна, а на аквамариновым небе заве-
лась новая тучка птичка.
Последнюю метафору можно и материализовать. В собственном пере-
воде «Камеры обскуры» в «Смех в темноте», то есть на английский язык,
Набоков уточнил намеченную в русском романе мечту главного героя: де-
лать на основе полотен старых мастеров мультфильмы с соблюдением за-
данных пропорций — предполагается, что движения персонажей будут не
придуманы, а извлечены из самой древней работы.
Набоков без Лолиты
Предлагается то есть увидеть и то, что вроде не нарисовано, но шевелит-
ся сквозь первый, очевидный слой краски.
Набуханию этому, как уже было сказано, надо помочь.
— Повернувшись к стене, долго-долго помогал образоваться на ней ри-
сункам, покладисто составлявшимся из бугорков лоснившейся краски и
кругленьких их теней.
Это Цинциннат общается с тюремными тенями, а вот маленький Воло-
дя изучает пол усадебного туалета:
— Я упирался взглядом в линолеум и находил в ступенчатом рисунке его
лабиринта щиты и стяги, и зубчатые стены, и шлемы в профиль.
В «Других берегах» со способностью глядя на путаницу сучков и листь-
ев, понять, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом
деле птица или насекомое, сравнивается само «зарождение разума».
И в мемуарах, и в «Даре» карандаш белого цвета назначается главным.
Белым рисуют для того, кто способен рассмотреть, нежно и уверенно при-
коснуться.
Маленький Набоков у окна «Норд-экспресса»:
— Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лако-
мился сквозь тюль холодом стекла.
Чтобы полакомиться, надо поработать губами.
127
Машенька и другие
— Кто идет? — грозно спрашивает фигура, выросшая на повороте узкой
кремнистой дороги, в летней крымской ночи, бледной как мел от неживой
белизны татарских стен.
Мартын с досадой отметил, что сердце забилось часто, стушевался, но
ситуация сама рассосалась, фигура оказалась пьяной и быстро захрапела.
Читатель замечает в этой сцене лермонтовские мотивы, заданные
128 «кремнистой дорогой»: в популярном стишке «Выхожу один я на доро-
гу. ..» блестит сквозь туман кремнистый путь, а в последнем абзаце преды-
дущей главы «Подвига» была еще и подстелена подсказка в виде словосоче-
тания «сквозь туман».
Стишок про кремнистый туман читали все, заметить лермонтовскую
тему и помочь ей выпростаться из стены, зардеться из простыни, просо-
читься сквозь тюль несложно.
«Гамлета» в школе не проходят, его читали не все, но тоже многие, да
и кино про него есть. Лейтмотив «Прощай, прощай!» в устах Мартына лег-
ко опознать как привет неуравновешенному датскому принцу.
В том же романе Нелли, сонина сестра, умирает в Бриндизи, и тут уже
меньшая часть публики сообразит, что речь о том самом Бриндизи (Брун-
дизии), где умер Вергилий. Я, скажем, не знал, что он там умер, эту деталь
[96 ш: 729] мне помог разглядеть комментарий.
В «Сказке» толстая женщина-чорт, тяжело играя бедрами, пройдя меж
[96 и: 719] столиков, подходит к герою, и просвечивает сквозь ее грузный ход легкая
поступь блоковской незнакомки, что движется мимо столиков и меж пья-
ными, «всегда без спутников, одна...».
А Василий Иванович, скромный берлинец, выиграл на благотворитель-
ном эмигрантском балу билет на увеселительную поездку. Он хотел от
[96IV: 777] нее отказаться, всего лишь не поехать, но въедливый зритель способен
Набоков без Лолиты
расслышать здесь цитату из «Братьев Карамазовых»: «Не Бога я не прини-
маю. .. я только билет ему почтительнейше возвращаю».
Есть у меня сравненье на примете
для губ твоих, когда целуешь ты...
Федор Годунов-Чердынцев, сочиняя любовное послание Зине, не забы-
вает подмигнуть Пушкину. «Есть у меня приятель на примете» — строка
из стишка Александра Сергеевича «Картину раз высматривал худож-
ник. ..», и намек на этот стишок еще раз мелькнет в «Даре», в другой главе:
— Боюсь, что сапожник, заглянувший в мастерскую Апеллеса, был
скверный сапожник...
Эту комбинацию «рядовой читатель» с наскока скорее не осилит, но если
ему напомнить строку «суди, дружок, не выше сапога», он останется дово-
лен, что присутствовал при ловком фокусе.
А вот фамилия журналиста Грушевского, уезжавшего из Каира в Берлин
в рассказе «Звонок», может отозваться в душе только самого отъявленного [96 п: 723]
специалиста, помнящего, что во второй половине 20-х в «Руле» публиковались
египетские репортажи журналиста Яблоновского, о котором что-то ведомо
комментатору соответствующего тома набоковского собрания сочинений.
Приближают ли эти параллели, выуженные талантливыми, образован-
ными, не стесняющимися прикасаться к телу текста дамами и джентльме-
нами, к пониманию или уводят в ненужную сторону от истинного смысла
картины (рассказа, романа)? Можем ли мы вообще говорить об «истинном
смысле»? Если можем и уверены, что параллель шла в «ненужную сторо- 129
ну», должны ли мы зарекаться от ненужных сторон?
Бог знает, на каких пыльных тропинках судьба явит нам важнейшие
сюрпризы... сунуть нос в каждую из таких тропинок или придерживаться
столбовой дороги...
Нам с вами не миновать сумеречной зоны так называемых аллюзий
и реминисценций, населяющих текст отсылок к другим литературным
произведениям или не к произведениям, а к историческим, скажем, фак-
там вроде смерти Вергилия. Аллюзии бывают скрытые и откровенные,
случайные и нарочные, лукавые (как с блоковской матроной) или просто-
душные (чего же не вспомнить Лермонтова в ночных горах), и по глобусу
литературы они распределены неравномерно. Встречаются климатические
зоны, в коих, особо в засушливые эпохи, такую отсылку не расслышишь
в прозрачный день с лучшим слуховым аппаратом, а встречаются табаке-
рочные городки, где всякий фасад нависает энциклопедией, флюгера кру-
жатся эпиграфами, а ставни стучат на ветру в рифму.
Собственно, вся, к любому явлению или автору подклеенная, филология
интересуется пратекстами и заимствованиями, но Набоков — рекордный
кладезь для такого рода развлечений. От аллюзий, реминисценций и цитат
его тексты если и не лопаются, то лишь потому, что не создан пока носи-
тель текста, позволяющий ему лопаться.
Машенька и другие
Набоков, во-первых, прочел в детстве много книжек, а культурная па-
мять его была превосходна, и поскольку мировое эстетическое наследие
воспринималось им как дом родной, постольку для него было естественно
наводнять дело цитатами и параллелями.
Он активно эксплуатировал, скажем, стилистику якобы немилого Дос-
тоевского (это прежде всего об «Отчаянии» речь), у него находили аллюзии
на Кафку, которого он якобы долгое время просто не читал. Для него «ци-
таты» были способом окликнуть быстро уходящего по узкому переулку
(лица не видать, косая сажень, облитая лунным светом) Шекспира, Турге-
нева подколоть, Толстому поклониться («Лев Николаевич, помните, а мы
однажды встречались в Петербурге, в 1909 году, вы были еще живы, я гулял
с отцом, вы с ним о(б)суждали смертную казнь» ) — живой диалог со сво-
ими.
Менее «своих», во-вторых, он всегда был не прочь разыграть: ну-ка, все
[96 iv: 773] ли проворонили, что в «Весне в Фиальте» гора Святого Георгия упоминает-
ся не от балды, а в тесной связи с плетением паутины рассказа?
Набоковедение, в-третьих, над равниной филологии возвышается что
твой Эверест. Что набоковский особняк в Рождествено на холме над Грез-
ной: гордо, богато. Набоковедение — мощная (насколько это слово вообще
к науке о буковках применимо) индустрия. Сайты-журналы-сборники-
конференции-гранты-монографии: все пыхтит, все на потоке. Нет, всякие,
конечно, встречаются и в этом поезде пассажиры, но средний уровень тол-
кователей «Венецианки» и «Дара» высок, немало среди них людей сытно
начитанных и воздушно изобретательных, способных углядеть отпечаток
130 пальца Пушкина на листочке, трепещущем в самой высокой кроне...
Я знаю, насколько эта тема раздражает гуманитарный народ: дескать,
почти в чем угодно можно обнаружить отсылку ко всему что угодно, бы-
ло бы желание.
[ 146:32] Рассуждения вроде того, что служанка Мария из «Волшебника», заго-
няющая цыплят, отсылает к кличущей кур няне Марине из «Дяди Вани»,
премьера которого состоялась в 1899 году, что есть знак присутствия
автора в тексте, ибо он в том году и родился, — сочувствия, конечно,
не вызывают.
Видеть в каждом случае «возвращения билета» Достоевского и в каждой
Марии Марину из «Дяди Вани» — нудная, лишенная самоиронии страте-
гия. Приветствовать «незнакомку» во всякой особе, что идет меж столика-
ми в кафе, и впрямь можно лишь на смех цыплятам.
Этот сектор набоковедения напоминает иногда турнир бескомпромисс-
ных разгадывателей сканвордов или отважных бойцов с шарадами. Бойцов
много, ребусы рано или поздно падают чисто в силу количества атакую-
щих. Двести литературоведов не заметят параллели между «Машенькой»
и «Асей», а трехсотый — заметит неизбежно, триста седьмой и шесть ты-
сяч одиннадцатый — тоже.
Один набоковед, сообщая, что формула «память — злой властелин»
[96ш:81б] восходит («восходит» — как Моисей на гору!) к песенке «Ямщик, не гони
Набоков без Лолиты
лошадей...», не забыл выразить благодарность коллеге, который «указал»
на этот (не слишком сенсационный, правда?) факт раньше. Тут обратная
крайность: за науку выдается наблюдение, не притянутое за уши, а, напро-
тив, лежащее даже не то что под носом, а сразу автором в нос читателю
и засунутое. Такие благодарности коллегам превращают исследование в аб-
сурдный список изобретателей велосипедов.
Газета «Руль», в которой молодой Сирин публиковал шахматные задачи,
всякий раз указывала, кто первым прислал верный ответ.
Так, сиринский «мат в два хода» из «Руля» № 726 (от 20 апреля 1923 года)
быстрее всех расколол, что сообщено в № 738, И.Г. Штемпель из Аахена.
Аахенскому Штемпелю не помешала вкравшаяся в текст задачи опечатка.
Пешки, стоящие на еЗ и е5, отправлены оплошным наборщиком на с5 и е8.
Прелестно, что ошибка в шахзадаче настигла не сирийского героя, что бы-
ло бы логично, а самого автора; прелестно также, что ошибка состоялась
в первой же опубликованной задаче В.В. Позже Годунов-Чердынцев обна-
ружит в советском шахматном журнальчике композицию с девятью пеш-
ками у белых: возможно, это автоаллюзия.
Шахматы.
Шахматная вадача.
М&гь въ два хода.
Составить Вл. Скривъ
8
7
6
5
4
8
2
1
abcdefgh
(Б1дая: Краб, Фе8, Л<14, Kg8, СяЫ; п.п. аб.
с7, 48, *8, сб. g7, h5. — Чериыя; Крсб,
ФЬ8, ЛЬ6, К 45. Сл d8; гш. Ъ5, 47. е7, 14.
f7, Ь7. gfc)
PtoeKi* просятъ адресовать въ редакций
«РУЛЯ4 — шахматный отдЪъл
131
В деле воспевания первоугадавшего уподобляться «Рулю» не стоит. Каж-
дый раз указывать, какой именно житель древнего города раньше всех со-
образил, что злая память есть признак ямщикнегонилошадейности (это
Машенька и другие
не я слово придумал, в «Даре» оно есть) — ненужное начетничество. Но
бывают принципиальные случаи: скажем, указание на смежность «Аси»
и «Машеньки» я впервые услышал от К.В. Богомолова, и, поскольку эта
смежность без преувеличения оказалась зерном моей книги, я, разумеется,
обязан об этом сообщить.
Словом, пусть никого не бесит аллюзия сама по себе, как не должны бе-
сить сами по себе сонет, метафора, офорт, акварель или эстонский язык.
Всеми этими орудиями можно пользоваться по-разному.
Вольер с аллюзиями, этими обезьянками литературы.
«Машенька» похожа на «Асю», «Annushk’y», «происходит» от нее.
Хорошенько всмотревшись, мы заметили на заднем плане тургеневский
текст.
«Значит» ли это что-то?
Дополнительный смысл есть: склонность мужчин убегать от женщин
в сложных ситуациях укоренена в литературной традиции.
Вроде и не важно для конкретной женщины, Аси или Машеньки, освя-
щен очередной побег литературной традицией или так, без традиции этот
побег.
Но женщине, затеявшей разоблачительный спич в адрес русских муж-
чин как целого — целого ненадежного, трусливого и ускальзывающего по
железнодорожным щелям, — параллель явно пригодится.
У первого романа Сирина легко обнаруживается и множество иных
«пратекстов».
132 На один указывает эпиграф «Воспомня прежних лет романы, воспомня
прежнюю любовь» — он из «Евгения Онегина».
Как и Онегин, уносившийся мечтой к началу жизни молодой, уносится
тем же и туда же Ганин.
Ему, как и Онегину в начале пушкинского романа в стихах, 25 лет; не
только ему, но и Машеньке, и Людмиле, и Кларе до последних страниц —
25; как, собственно, было 25 и герою «Аси».
Черты Татьяны мелькнут в образе Клары. Проводив Ганина с чемода-
ном в финале романа, она что-то чертит рукой на стене — не иначе, за-
ветный вензель; в другом месте обозвана Ганиным «раненой ланью».
Мелькнут они, что логичнее, и в образе Машеньки: в ее письме цитирует-
ся Татьянино:
— Вам, конечно, странно, что я пишу вам...
Развязки обоих романов — несостоявшиеся адюльтеры.
Названия обоих романов — имена.
Плюс и там, и там затронута, но не раскрыта тема Крыма.
Плюс сочетание букв Лев Ганин можно, если очень хочется, толковать
[13:95; 17:139] как неполную анаграмму Евг. Онегина. Имя героя Пушкина «как бы за-
шифровано в этой анаграмме», изящно предполагают исследователи с фа-
милиями, ловко противопоставленными цвету кожи пушкинского предка
Ганнибала, чье имя звучит в первых трех буквах фамилии «Ганин», где,
Набоков без Лолиты
впрочем, и сам Пушкин безо всяких предков звучит, ибо у английского
слова gun есть значение «пушка». [24:133]
Людмила Рубанская (любовница Ганина, которую он оставляет, узнав
о скором приезде Машеньки), по мнению Американского Дуэта, произош- [ 120: iss-189]
ла от Людмилы Рутиловой из Рубанской губернии и книжки Ф. Сологуба
«Мелкий бес». Поэт Антон Сергеевич Подтягин «с инициалами и отчест- [96 п: щ
вом Пушкина, именем Чехова» и с рассуждениями о судьбах России ото-
шлет заодно и к герою тургеневского «Дыма» Потугину.
Владимир и Вера Набоковы без ума были от стихотворения Мюссе
«Майская ночь», в котором бодрая муза из сил выбивается, вдохновляя раз-
зевавшегося Поэта: чем не сюжет «Машеньки». Машенька и письма слала,
и из небытия волшебным образом в пансион летит что твоя комета...
Насколько все это важно, нужно ли об этом вообще говорить?
Можно, разумеется, — но насколько интересно и нужно?
Что дает уму и сердцу это перечисление ловких совпадений?
Восторженная Парижанка считает «метафорой-доминантой» всего ро- [21:39]
мана стихотворение А.А. Фета «Соловей и роза». Героям этого стихотворе-
ния не суждено совместное счастье, поскольку, когда роза цветет (она дела-
ет это днем), соловей спит, а когда он поет (ночью), выключается роза.
И романный расклад: Ганин принадлежит настоящему, Машенька —
прошлому.
Ты поешь, когда дремлю я,
Я цвету, когда ты спишь;
Я горю без поцелуя, 133
Без ответа ты грустишь.
Соловей начинает петь в апреле (в апреле происходит и действие «Ма-
шеньки»), Ганин похож на птицу, воспоминания его о любви носят «нок-
тюрный характер», все его встречи с Машенькой происходят более-менее
в темноте.
Машенька не названа розой впрямую, но это лишь фигура сокрытия
священного имени. Машенька цитирует Фета («Если ты возвратишься, за-
мучаю тебя поцелуями» — у девушки, «зацелую тебя, закачаю» — у цветка;
впрямь похоже). Ганин ходит озаренный, у Фета роза дарит соловью «заре-
вые сны».
Все женщины в романе ассоциированы с цветами. Хозяйка пансиона
Дорн — старый от розы шип («шип» по-немецки «дорн»), Людмила — ор-
хидея (она клянется в любви к этим многозначительным цветам), Клара —
цветок апельсина (который кстати символизирует невинность), Машень-
ка, как уже говорилось, — роза.
Мужчины похожи на птиц. Ганин и Алферов — соперничающие со-
ловьи, в первой же сцене запертые в одну клетку; обнаруживаются птичьи
черты и у Подтягина, а самое остроумное — деление пары Колин-Горно-
цветов на «птица-цветок» на основе внешности и фамилий.
Машенька и другие
Через семантический ряд «запах — дух плоти — дух — дыхание — душа»
и сквозь строки Фета «Для тебя у бедной розы Аромат, краса и слезы...» по-
является тема запаха. В «Машеньке» много нежных запахов, и функция их —
одухотворить образ Машеньки и самого Ганина тоже одухотворить. Враг
этого дела — ветер, уносящий шляпу Подтягина и машенькину любовь.
Я и свое лыко добавлю — 5 декабря 1920-го, отмечая столетие Фета,
«Соловья и розу» цитировал в «Руле» Набоков-старший.
Или Сирин потревожил в рассветном романе тень Достоевского, спаро-
[ 166:845] дировал «Идиота»? Есть такая точка зрения: князь Мышкин и Рогожин
в первых строках встречаются в поезде, а Ганин с Алферовым в лифте, при-
чем Алферов и Рогожин тут же, без долгих ящиков, начинают трындеть
о далекой героине, а потом покажут сопернику ее фото. И вообще Лев Га-
нин мог получиться из Льва Мышкина и Гани Иволгина.
А обошлась ли «Машенька» без какого-либо «интертекста» из Вильяма,
так сказать, нашего Шекспира? Глупо писать первый роман, вовсе не цити-
руя «Гамлета»? Глупо! Мало что бывает глупее!
[ 139:128] Так что, предполагает Переводчик Бодлера: Гамлет — Ганин, Полоний —
Подтягин, Клавдий — Алферов. Педерасты перпендикулярны Розенкран-
цу и Гильденстерну (то есть, конечно, параллельны, но какая аллитерация).
Людмила и Клара — Офелии и Гертруде. Машеньке пары не нашлось, зато
действия в обоих шедеврах начинаются в темноте (у Шекспира это смена
часовых), а опоение Алферова перекликается с отравлением Клавдия.
[121:315] Нужны, конечно, и источники поближе. Американский Дуэт напомнит
нам, что, проспав биографически Серебряный век (даже на «Балаганчик»
134 Блока, поставленный Мейерхольдом в апреле 1914-го в аудитории родного
Тенишевского училища, попасть не удосужился), Набоков наверстывает
отставание и наполняет апрельскую «Машеньку» мотивами петербург-
ских игр с комедией дель арте, в частности мотивами того же «Балаганчи-
ка». Ганин ускользает от «банального балагана, в котором ему выпала бы
роль Арлекина, а Машеньке-Коломбины, неверной жены».
Ему претят расхожие сюжеты и роли.
Вообразим идеального читателя или читательницу... вот, скажем, тени-
шевскую гимназистку... Ныне в здании Тенишевского училища на Мохо-
вой улице располагается театральное училище. Призовем на сцену его сту-
дентку, умную и симпатичную петербурженку из III тысячелетия, Машу
Шульгину, или Шеншину, которая впервые прочла «Машеньку» и которой
«Машенька» как славный роман понравилась.
Потом преподаватель словесности обратил внимание воспитанниц, что
в этой книжке женщины — цветы, а мужчины — птицы: и это понрави-
лось! Мужчины — птицы! Это и жизненно, и можно так творчески обыг-
рать, если затеять спектакль.
Никакого, то есть, очевидного вреда аллюзия не приносит, а польза —
налицо.
Хорошая аллюзия подсасывает смыслы.
Набоков без Лолиты
Между двумя, десятью, тысячью текстов просверлены скважины, по ко-
торым текут смыслы. Про тургеневских бегунов — пример такого пусть
не самого густого, но несомненно перекаченного по скважине смысла.
Лермонтовская кремнистая аллюзия окрашивает «Подвиг» (имевший
рабочее название «Романтический век») романтической дымкой, тень Вер-
гилия тронет тему неприкаянных странствий.
Но и в ситуации, когда смысл не протиснулся, застрял в силу несоответ-
ствия диаметру отверстия (как перекушавший меда и заткнувший собою
вход в нору медведь в «Винни-Пухе» Милна или громоздкая дьяволица
в «Сказке»: оба эти произведения созданы в 1926 году), скважина может
жить самостоятельной жизнью: свистеть, как пестрая лента, шуршать,
сквозить.
Алферов и Машенька поженились в Полтаве: предположим, это паро-
дийная отсылка к пушкинской «Полтаве», где молодая Мария бежит к ста-
рику Мазепе.
Смысл не в том, что ситуации Алферов-Машенька и Мазепа-Мария
концептуально похожи; они не похожи.
Но там, на облаке, сидит-хихикает Пушкин, и ему приятно, что о нем —
тоже ведь теперь старик почище Мазепы, если на других берегах не забыва-
ют подводить часы, — помнят.
Ответ на вопрос о ценности погони за параллелями зависит еще и от то-
го, насколько ты веришь в «другие берега».
Есть место или места («пространства»), где тусуются призраки литера-
турных героев и тени их авторов. Колин в таких местах искательно загля-
дывает в глаза Розенкранцу, Офелия отпихивает бедром от зеркала Люд- 13 5
милу: я опаздываю, а тебе все равно идти не с кем.
Да, в любой аллюзии есть что-то обезьянье, а обезьян стоит побаивать-
ся, поскольку нынешний смысл их существования — после-то того, как
одна из ветвей благополучно переконвертировалась в человека — подо-
зрителен. Да, в сцене между Людмилой и Офелией есть что-то достоевско-
коммунальное, какая-то корпоративная вечеринка.
Но это наша вечеринка, и наши Достоевский с Шекспиром, и обезьяны
не совсем чужие, и коли уж Ганин так запросто, с плеча бросил Людмилу
Рубанскую, словно она цветок или письмо, то давайте мы с вами о ней по-
заботимся.
Филологические штудии дают электричество-кровь бледному ми-
ру литературных призраков. Включают маршруты — скажем, из «Ма-
шеньки» в «Мелкого беса», — по которым охотно спешит бедное при-
видение.
То, что мы его «изучаем», помогает ему существовать.
У них там, наверное, холодно... А нам ведь — ничего не стоит...
Заселив в «Звонок» Грушевского, Сирин вывел нас на след Яблоновско-
го, и, возможно, когда я приступлю к чтению очерка Яблоновского в пыль-
ной подшивке «Руля», автору мягко икнется и одной теплой связью во все-
ленной станет больше.
Машенька и другие
Но чего следует опасаться — может, и шибче, чем обезьян, — так это
громких слов и многозначительных обобщений.
Американский Дуэт рассматривает связь Сирина с дель арте через Се-
[i2i] ребряный век. Дуэт не просто распутывает балаганные тесемочки набо-
ковской машинерии. Он устанавливает, что устойчивая эмблема балагана
у Набокова — апельсин. Что марионеточный мотив, отразившись в раз-
ных зеркалах эпохи, в частности в письме Блока Мейерхольду, где упоми-
нается одураченная материя, задает инвариантный (то есть воспроизводя-
щийся) конфликт косной тяжести с небесной легкостью.
И балаганное (а то не любое, прикушу пока язык в скобках) искусство
преодолевает косную тяжесть.
Преодолевает ее! — начиная с «Машеньки», и далее из романа в роман.
Иные примеры великолепны («одураченные слоны» есть в «Весне в Фиаль-
те»: центнеры, превращенные в перышки), но смущает, что сами исследо-
ватели считают свое апельсиново-марионеточное прочтение более глубо-
[121:343] ким. Так и пишут: де, обнаружили контуры «более глубоких историй».
Смущает слово «глубина». Или значение, в котором оно использовано.
Якобы глубокий смысл, позаимствованный у Блока и Мейерхольда, объяс-
няет стратегию Сирина: но что уж глубокого в мысли, что искусство пре-
одолевает тяжесть и косность.
Вот в «Путеводителе по Берлину» уже приглянувшаяся нам выворочен-
ная на зимнюю улицу труба — «покрытая тихим слоем снега, с двумя от-
верстиями и таинственной глубиной».
Здесь с глубиной все понятно. В том смысле, что непонятно. В глуби-
не — тайна.
А Дуэт ищет формулу («преодоление тяжести»), курощающую перелив-
чатость сиринских грез.
За это Набоков не любил Фрейда: сердце сложной личности венский чу-
чельник подменял каким-нибудь нехитрым комплексом.
В романе «Отчаяние» ненаблюдательный убийца удивлен, увидав карти-
ну своего сексуального сменщика Ардалиона — натюрморт, трубка и две
розы — там, где она вроде бы не могла оказаться. Позже выяснится, что это
другая картина. У Ардалиона нарисованы два больших персика и стеклян-
ная пепельница.
— Сходство видит профан, — справедливый комментарий Ардалиона.
Пародийный исследователь Белл, добившись встречи с набокоподоб-
[ 148] ным сочинителем Вальданом из рассказа княгини Шаховской «Пустыня»,
первым делом сообщает мэтру, что его поразило в пяти последних книгах
повторение ледяного мотива: «льдистость, льдины, айсберг».
Такова судьба набоковеда — вытаскивать из произведений любимца ин-
варианты. И жонглировать ими в собственную угоду: так, Шаховская эти-
ми льдинами уязвляет Веру Набокову.
Я тоже не обхожусь без обобщений и уже испытывал сложности при
перечислении условно-разнородных примеров, иллюстрирующих вроде
Набоков без Лолиты
одну и ту же идею, но призываю не забывать, что вылущивание инвариан-
та нужно для того, чтобы оттенить красоту варианта.
С другой стороны, обезьяна — это вполне себе вариант.
У Набокова отношение к волосатым сородичам сложнее, чем у Тургенева.
Иван Сергеевич просто драпал, без задних нюансов.
Набоков помнит, что обезьяна — существо переходное, балансирующее
на грани преображения; знакомая ситуация «и хочется, и колется». Нашему
герою балансирование на грани в радость, но он знает, какие в нем таятся
опасности.
— Две пыльные обезьяны в красно-желтых фуфайках, блестящий скат
щебня, чудовищный телеграфный столб, растопыренная рука Магды, —
последнее, что видит Кречмар, перед тем как неудачно повернуть руль
и ослепнуть.
То есть встречают его на решающей черте обезьяны (так наречены неза-
дачливые велосипедисты), да и в растопырившей лапу Магде обезьяньего
хоть отбавляй.
Сирин сам — заядлый пародист, литературный кривляка. Возьмем лю-
бой текст... что мы последнее цитировали... «Камеру обскуру». Там есть
огромная пародия на прозу Пруста, а Кречмар заказывает Горну иллюстра-
ции к статье в виде карикатур на картины. До этого шла речь о «Машень-
ке»: там пародии на усадебную поэзию в исполнении Подтягина.
В «Даре» пародийная проза Ширина, пародийная драма Буша... впрочем,
стоп-машина, список «чужих текстов» в произведениях Сирина необозрим.
Пародия не обязательно прямое высмеивание, Сирин и Пушкина паро- 137
дирует — в высоком смысле.
Он левитирует в мировой колбе, играет чужими образами и цитатами.
Все кривится и танцует, как в смешных зеркалах, пружинит, цитата не
узнает сама себя, но вот загудела, узнала, выпустила дымок.
Кажется, Мартын, планируя безумный тур в Советскую Россию, или сам
Набоков, фантазируя рвануть инкогнито к родным осинам... кто-то из
них, в общем, вслед за героем рассказа «Боги», предвкушает, как насыщен-
но будут гудеть на проселке, когда он будет проходить мимо, телеграфные
столбы.
Можно предложить иную метафору: какое прекрасное и загадочное гу-
дение раздается из пчелиного улья, да?
Это о прозе Сирина: она гудит, даже если просто приложить ухо к томи-
ку, не открывая. Там что-то шуршунничает, стучит, поскрипывает на пре-
пинаниях.
«Интертекстуальность» — это искусственная, самим автором, а не приро-
дой или Богом сотворенная потусторонность. Рукодельные Другие Берега.
В силу того что потусторонность эта благоприобретенная, она описа-
нию поддается.
И порождает еще другие «другие берега» — ульи, построенные исследо-
вателями.
Машенька и другие
Откроем наугад комментарии, например, к «Приглашению на казнь».
[96 iv:628-629] Пару страниц, один разворот. Здесь пахнет чичиковским слугой Петруш-
кой, клейкими листочками из Ивана Карамазова, Фауст помашет рукой
мгновению, пройдет с молчаливой улыбкой чеховский дядя Ваня, мелькнут
кошмары аж из двух сочинений Андрея Белого, подземный ход из Дюма
вильнет хвостом, насупились рядом Шиллер и Евреинов, ну и без аллюзии
на третье искушение Христа дьяволом не обошлось. Вот как обильно и раз-
номастно населен всего лишь один небольшой кусок потусторонности.
Важно забыть претензию на «глубину», на вскрывание заветных смыс-
лов, — и отдаться игре, радоваться веселой охоте. И тогда все получается —
великолепно.
Авторы каких-то из наблюдений, с которых я уже сдергиваю покрывало,
не удержались от уплощающих «глубинных» выводов, в дальнейшем с ни-
ми придется подискутировать, но пока — просто наблюдения.
Производство праздничной параллельной реальности.
Товарищеская побудка милых теней.
[юн 1. Морозный Ариозо предлагает прогуляться в викторианскую Англию:
— В «Защите Лужина» есть параллели с причудливой английской алле-
горией, впервые опубликованной в 1884 году «Флатландией», автором ко-
торой был педагог, теолог и шекспировед Э.Э. Эббот. Повествование в ней
ведется от лица «квадрата», который живет в двумерном мире, где все
действующие лица — «фигуры». Среди них есть круги и прямоугольники,
прямые, многоугольники и треугольники. Рассказчик во всех подробно-
13 8 стях разъясняет, как видится мир в двух измерениях — как он выглядит,
как живется на плоскости фигурам: «Вообразите огромный лист бумаги,
на котором прямые Линии, Треугольники, Квадраты, Пятиугольники, Шес-
тиугольники вместо того, чтобы оставаться прикованными к одному мес-
ту, свободно перемещаются туда-сюда, по или на поверхности, но не имея
власти подняться над ней или провалиться в нее, очень похожие на тени —
но твердые, с сияющими краями, — и вы таким образом получите вполне
точное представление о моем отечестве и соотечественниках». 31 декабря
1999 года к квадрату является непостижимое существо, которое оказыва-
ется сферой. Сфера мало-помалу доказывает квадрату, что третье измере-
ние существует, а потом вытаскивает его с плоскости Флатландии в трех-
мерное пространство. Тут у квадрата случается озарение: он догадывается,
что должно существовать и четвертое измерение, и пятое, но сфера отка-
зывается признать свою собственную относительность и швыряет квадрат
назад на его плоскую землю. Там квадрат пытается проповедовать истину
о множественности измерений, но его арестовывают и отдают под суд. На
процессе он дважды называет свое повествование — только что произо-
шедшую с ним историю — своей «защитой». «Флатландия» вызвала взрыв
интереса к четвертому измерению. Отчасти социальная сатира (разные
фигуры напоминают английские сословия), отчасти геометрический
трактат, книга стала популярна в Америке, где были отпечатаны крупные
Набоков без Лолиты
«пиратские» тиражи, но в Великобритании не переиздавалась до 1926 года.
Возможно, что Набоков узнал о ее существовании в Кембридже либо озна-
комился с книгой после появления второго издания. Толчком могла послу-
жить и смерть Эббота, скончавшегося в том же 1926 году. Как бы то ни бы-
ло, следует отметить, что имя Эббота (в английском написании «Abbott»)
вставлено в «Защиту»: Лужин, завладев жалкой пишущей машинкой, от-
стукивает безумную записку, которая, однако, так и не выбивается из узора
аллегории: ибо он подписывает ее «Аббат Бузони» («the Abbe Busoni»).
Этот псевдоним, под которым в «Графе Монте-Кристо» скрывается Эдмон
Дантес, заодно может оказаться конспиративной кличкой автора «Флат-
ландии».
Конспиративная кличка, конечно, на то и конспиративная, чтобы никто
не знал, кто за ней скрывается.
Но как вишенка на торте — аббат великолепен, и в целом все баско,
рельефно: придвинуто из глубины веков мощное произведение, точны хо-
ды с роковой границей и последующим преображением, стройна тень
«конфиденциальных разговоров», которые ведут на рисунке Лужина конус
и пирамида...
К этой концепции Морозного Ариозо я вернусь, поставим ее пока на па-
узу. Вот она стоит, подобно большому бумажному кубу, слегка покачиваясь
на сквозняке...
2. Шрам-56 расталкивает задремавшее привидение старой филологии. [iщ
Утверждает, что простейший с виду рассказ «Путеводитель по Берлину»
(1925) является полемикой с русскими формалистами, с их «обнажением
приема» и «остранением», а пуще всего с берлинской книжкой Виктора 139
Шкловского «ZOO, или Письма не о любви», написанной тремя годами ранее.
— Кому интересно знать, как вы сели в трамвай, как поехали в берлин-
ский Аквариум? Неинтересно... Скучно, одним словом.
Скучный, чужой город, — это говорит в «Путеводителе» собутыльник
рассказчика, а вот что говорит Шкловский:
— Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как весь го-
род одинаков.
Вы, друзья, просто плохо смотрите.
Шкловский признавал, что вот зоосад в Берлине интересен, ибо образ
зверей в клетке можно использовать для параллелей с русской эмиграцией,
а находящийся рядом аквариум с земноводными — нет, неинтересен.
Сирин же в аквариуме наблюдает баснословных черепах с гигантскими
панцирями-куполами и вспоминает волшебное путешествие капитана
Немо — в пику Шкловскому, сравнившему воду в аквариуме с банальным
лимонадом.
В начале сирийского рассказа вывалены под окнами трубы, «железные
кишки улиц, еще праздные, еще не спущенные в земляные глубины, под
асфальт». Это «обнажение приема»; есть и иные обнажения — разворочен-
ный асфальт вдоль трамвайных рельсов, корни лиственницы, которую ве-
зут на грузовике, освежеванная туша на плечах у мясника.
Машенька и другие
Ну, а самое знаменитое в этом рассказе — рассуждения о том, что пи-
сателю гоже изображать вещи «из будущего», как бы они отразились
в ласковых зеркалах грядущих времен — это, соответственно, дань тео-
рии «остранения».
Затем Шрам-56 сравнивает поздние, переделанные версии обоих текс-
тов: английский перевод «Путеводителя по Берлину» в сборнике 1976-го
и «ZOO» в советской книжке 1964-го, напечатанное там впервые после
долгого негласного запрета.
Вот чудо: из обновленных «Писем не о любви» Шкловский изъял прит-
чу, эпизод с воинами, у которых победивший противник поотрубал руки,
а Набоков в английской версии «Путеводителя» обновил образ рассказчи-
ка: тот, к немалому удивлению поклонников старого доброго русскоязыч-
ного «Путеводителя», оказался как раз одноруким.
— Набоков прибавил к новой версии своего старого берлинского рас-
сказа ту деталь, которую изъял Шкловский из переиздания знаменитой
своей берлинской книжки, — и мы аплодируем Шраму.
Не слишком задумываясь, насколько в реальности собирался Набоков
полемизировать со Шкловским образом выкопанной трубы.
В идею, что Набоков прочел советскую книжку 1964-го и отреагировал
на произведенную в ней редактуру, поверить вовсе невозможно, зато нель-
зя не порадоваться, какие яркие мысли способны вызывать сами тексты,
удачно сталкиваясь в начитанной голове. Это и есть их — иногда, надо же,
ни секунды не бледная — потусветная жизнь.
[112214-215] И уж только руками, пока их две, остается развести перед случаем
140 с Родственницей Шрама. Сделав предметом своего изучения храбрость
и трусость в «Подвиге», она сопоставила сцену ночной встречи Мартына
с пьяным крымским шатуном со сценой из «Героя нашего времени», в ко-
торой пьяный казак разрубил ударом шашки Вулича — от плеча до серд-
ца... таким образом, тема удара шашкой в набоковском космосе оказалась
для Шрамов семейной, и к лермонтовской берлоге прорыт облицованный
кремнием ход.
3. Знаток Сиреней перечитывает оперетту Козьмы Пруткова «Черепо-
слов, сиречь Френолог»:
— У живущего в России немца Шишкенгольма, последователя френоло-
гии (черепословия), есть дочь Лиза, а у дочери женихи. Достается Лиза, од-
нако, не этим женихам, а гидропату, тоже немцу, Курцгалопу...
Курцгалоп вламывается в квартиру Шишкенгольма с четырьмя солдата-
ми, которые тащат купальный шкаф. Оказывается, шкаф нужно доставить
на этаж ниже, но благодаря этой ошибке Курцгалоп знакомится с Лизой —
со счастливыми последствиями.
[36:453-456] Знаток Сиреней сравнивает эту сцену с историей знакомства Федора Го-
дунова-Чердынцева с Зиной Мерц: начинается роман с переноски мебели,
мелькают жильцы, которым она принадлежит, а имя их Федор узнает, «по
ошибке взлетев на верхнюю площадку». От посещающего же соседей ху-
дожника Романова он впервые услышит словосочетание «Зина Мерц».
Набоков без Лолиты
— Налицо, таким образом, ряд важных совпадений, — полагает Зна-
ток. — Судьба, сводящая будущих возлюбленных, случайная путаница
этажей, живущий этажом выше старик-немец, шкап, втаскиваемый в его
квартиру, — не купальный, но, в рифму, зеркальный.
Можно и еще одно совпадение в кисет исследователю добавить: у Зины
до встречи с Федором тоже был жених, получивший отставку.
Бонусом Знаток Сиреней вынимает из шляпы замечательную деталь:
в «Черепослове» Шишкенгольм «делает строгий знак Лизе указательным
перстом правой руки, качая оный неторопливо вправо и влево, как маят-
ник», а в «Даре» Федор недолюбливает немцев за «полишинелевый строй
движений, — угрозу пальцем детям — не как у нас стойком стоящее напоми-
нание о небесном Суде, а символ колеблющейся палки, — палец, а не перст».
И еще у нас есть, ваша честь, непрямое, но тонкое свидетельство: френо-
логию, науку, известную, прямо скажем, немногим (она исследует связи
между психикой человека и формой его черепа), Набоков упоминает в ин- [9i: leo]
тервью 1964 года.
Приятно при этом, что Знаток Сиреней — в отличие от многих коллег,
угораздившихся в схожие ситуации, — совершенно не настаивает, что име-
ло место не случайное совпадение, а заимствование.
Седой Космополит некогда замечал, что филологу вообще неплохо бы от-
казаться от концептуализаций, ограничиваясь перечислением параллель-
ных мест. Его коллега, последовавший совету, выложил в сети без коммен-
тариев две цитаты (первая из «Преступления и наказания», а вторая —
стишок из «Дара»). 141
— Вот чрез неделю, чрез месяц меня провезут куда-нибудь в этих арес-
тантских каретах по этому мосту, как-то я тогда взгляну на эту канаву, —
запомнить бы это? — мелькнуло у него в голове. — Вот эта вывеска, как-то
я тогда прочту эти самые буквы? Вот тут написано: «Таварищество», ну вот
и запомнить это а, букву а, и посмотреть на нее чрез месяц, на это самое а:
как-то я тогда посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать?..
И:
Как буду в этой же карете
чрез полчаса опять сидеть?
Как буду на снежинки эти
и ветви черные глядеть?
Как тумбу эту в шапке ватной
глазами провожу опять?
Как буду на пути обратном
мой путь туда припоминать? —
а Седой Космополит прогулялся по предложенной тропинке дальше: [ 171]
— Очень хорошо! Параллель интересная, тем более что само стих-е,
заканчивающееся: «Нащупывая поминутно / с брезгливой нежностью
Машенька и другие
платок, I в который бережно закутан / как будто костяной брелок» и не-
посредственно предшествующий отрывок — воспоминания о посещении
дантиста, помощница которого «прикидывала, куда бы вписать нас с Таней,
и наконец, с усилием и скрипом, пропихивала плюющееся перо промеж
la Princesse Toumanoff с кляксой в конце и Monsieur Danzas с кляксой в на-
чале. Вот описание поездки к этому дантисту, предупредившему накануне,
что that one will have to come out...» намекает (выразительным соседством
Дантиста и Данзаса) на совсем другую роковую петербургскую поездку.
От Достоевского через Годунова-Чердынцева Космополит вывернул
к Пушкину, и прогулка могла бы продолжаться. Если вас сочтут своим в са-
дах интертекстуальности, новые цитаты побегут на зов, как голодные козы.
Именно по этой причине настоящая глава могла оказаться самой длин-
ной в путеводителе: супермаркет набоковедения открыт круглосуточно,
и свежие, в том числе высококалорийные, аллюзии поставляются туда по-
стоянно.
Я уверен, что существует эрудит, способный на спор найти, скажем,
в «Даре» отголоски, допустим, тридцати шекспировских пьес. Или всех
пушкинских сказок, например, в «Подвиге». Там вот есть рогатый муж
Черносвитов, рекламирующий мазь для лица «Прыщемор»...
Пушкинскую сказку, кстати, никакой не эрудит, а Машенька (в глубоком
вырезе зеленый кулон; челка по краям, что ли, не знаю как называется, рас-
клешилась, торчат по краям рожки-завитки) Шеншина обнаружила— в рас-
сказе «Пильграм». Там в конце старуха остается над разбитой копилкой.
142 Какие источники, мне кажется, изучены слабее, чем того заслуживают, так
это ближайший контекст: периодика, которую Сирин читал в Европе
в 20-30-е годы. Досуг имея, там можно основательно поживиться.
а-b) Я доволен наблюдением про артель инвалидов и самоповешение на
кресте, которые перекочевали из заметки в «Руле» в «Письмо в Россию».
И соображение, что, рецензируя «Четыре дня» Евангулова, Сирин мог при-
думать «Соглядатая», не кажется мне пустым.
с) Меньше я уверен в том, что начало второй части бунинской «Жизни
Арсеньева»: «В тот день, когда я покинул Каменку, не понимая, что покинул
ее навеки, когда меня везли в гимназию...» — навеяло Сирину начало «За-
щиты Лужина» (расставание с усадьбой ради гимназии в первой же стро-
ке), но, во всяком случае, часть эта была напечатана в «Современных за-
писках» за год до «Лужина», в 1928-м, журнал этой фразой открывался
(Набоков мог мысленно увидеть книгу с подобным дебютом), и номер этот
Сирин рецензировал в «Руле».
d) Редкая фамилия Гнушке (секундант несчастного Антона Петровича
из «Подлеца») очень может быть что заимствована В.В. из фельетона Тома-
са Ли «Прокрустово ложе» в майском номере «Нашего мира» (недолго, па-
ру лет, продержавшееся приложение к «Рулю») за 1924 год. Там есть фраза
(собственно, тоже первая, дальше, может, Сирин и не читал): «Моя квар-
тирная хозяйка фрау Гнушке запретила мне кашлять».
Набоков без Лолиты
е) В кинохронике берлинской «Газеты» из «Дара» часто упоминается
фильмовая неудачница, дочка редактора Васильева «наша талантливая
соотечественница Сильвина Ли». А в номере «Голоса России» за 27 мая
1922-го проскользнула заметка, что «в июньскую программу театра „Ска-
ла" включено выступление нашей соотечественницы г-жи Валентины
Лин». Редактором «Голоса» в тот момент — если кто захочет пойти по следу
дальше — был Н.Н. Мартьянов.
f) В отзыве Георгия Адамовича в «Последних новостях» за 7 октября
1937 года на публикацию второй главы «Дара» прозвучали золотые слова:
— Удивляет и пленяет... слияние автора с предметом, способность вы-
сечь огонь отовсюду, дар найти свою, ничью другую, а именно свою тему,
и как-то так ее вывернуть, обглодать, выжать, что, кажется, больше ничего
из нее уж и извлечь невозможно.
Ближе к концу года Сирин сел за пятую главу, и почти списал из газе-
ты характеристику своего романа, вложенную в последней сцене в уста
Федора:
— Я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну... та-
ких своих специй добавлю, так пропитаю собой, что от автобиографии ос-
танется только пыль, — но такая пыль, конечно, из которой делается самое
оранжевое небо...
g) Другую характеристику Адамовича, адресованную Сирину — что его
героям «недостает чего-то неуловимого и важнейшего: последнего дунове- цз9:132]
ния, или, может быть, души», — В.В. со спокойной совестью использовал
в «Защите Лужина» в описании жены шахматиста:
— Чего-то недоставало ее мелким, правильным чертам. Как будто по-
следний, решительный толчок, который бы сделал ее прекрасной, <... >
не был сделан.
h) Есть соблазн углядеть в сцене писательского собрания в пятой главе
«Дара» отголосок заметки, появившейся в парижской «Бодрости» 1 марта
1937 года (Набоков в начале марта как раз вернулся в Париж из краткой от-
лучки в Англию):
— События, разыгравшиеся в Союзе Русских Журналистов и Писате-
лей — сплошной скандал. Тут все прелестно. И выход в отставку Председа-
теля Правления П.Н. Милюкова при несданных отчетах Правления за не-
сколько лет...
Напомню, что писательская сцена в «Даре», которую В.В. вот-вот сядет
писать, происходит вокруг неудовлетворительных отчетов Правления и вы-
хода в отставку его Председателя Георгия Ивановича Васильева, редактора
эмигрантской берлинской газеты «Газета», человека с инициалами и долж-
ностью Гессена Иосифа Владимировича, редактора «Руля» и старого сорат-
ника Милюкова, являвшегося в течение двадцати лет редактором «Послед-
них новостей», обозначенных в «Даре» как парижская газета «Газета».
Хотя писательские собрания Сирин видывал и своими глазами, и вооб-
ще эмигрантские склоки — сюжет естественный (должность старосты
в православном приходе в Тегеле тоже, допустим, делили со скандалом).
143
Машенька и другие
С «Бодростью» была другая история, довольно шпионская. Газета
с таким замечательным названием издавалась «младороссами», воин-
ствующими монархистами, поклонниками Гитлера («Хитлера», как тогда
писали). Формой младороссов были синие рубашки. Приветствие сопро-
вождалось вскидыванием правой руки и возгласом в честь вождя: «Гла-
ва, глава!»
Когда в «Современных записках» стал публиковаться «Дар», К.С. Елита-
Вильчковский, литобозреватель «Бодрости» (фамилия для русского монар-
хиста более подходящая, чем Шабельский-Борк, который, правда, по рож-
дению был элементарным Поповым), очень толково написал о поистине
удивительном искусстве Сирина, очаровании, тончайшей технике, ге-
[39] ниальном акробатстве. Собственно, это был самый адекватный и содер-
жательный из синхронных откликов на роман.
Каким-то образом Набоков вышел на связь с агентом в полногласно
вражеском (жена — еврейка, отец убит именно этой тусовкой) стане.
В «Бодрости» за 31 декабря 1939-го опубликован отрывок из четвертой гла-
вы «Дара», «Казнь Чернышевского» (напомню, что «Современные записки»
отказались публиковать всю четвертую, «Чернышевскую» главу, она впер-
вые увидела свет только в книжном издании — в Америке в 1952-м). Сирин
рядом с Хитлером — странно, конечно.
К.В. Богомолов с возмущением отказался допускать, что Набоков
собственноручно передал текст в нехорошую редакцию. Дескать, «Бод-
рость» публиковала куски и из «Сына трудового народа» В.П. Катаева,
и из «Тихого Дона» М.А. Шолохова, но, разумеется, согласия не спраши-
144 вала, а просто перетискивала из советских журналов. На резонный воп-
рос, как же рукопись могла попасть к бодрякам, К.В. Богомолов возразил,
что, наверное, они взяли ее в редакции «СЗ», а в ходе дальнейшего обсуж-
дения возникла версия о выкрадывании главы при деятельном участии
веревочной лестницы и шестипалого карлика на стреме. В начале 1937-го,
меж тем, в Париже разыгрался страстный роман между В.В. и Ириной
Гуаданини (той, что «обожала окурки»); как знать, возможно антисе-
митскую «Бодрость» Ирина или ее мать мадам Кокошкина, одобрявшая
связь дочери, подсунули Набокову в целях отвращения писателя от Ве-
ры Евсеевны...
Пожелав будущим сиринофилам удачи в архивах, я рад завершить эту
резиновую тему не слишком расплывчатым выводом.
Шкатулка мирового культурного наследия, содержимое которой замеча-
тельно оживает в набоковском космосе, — это очень хорошее, удобное
Иное, великолепный Другой Берег. Он может быть застигнут врасплох на
библиотечных полках, порожден трудом тысяч предшественников, освя-
щен усилиями миллионов читателей. При этом духовные сокровища име-
ют свойство отделяться от материальных носителей, пропитывать воздух,
организовываться в ноосферу (это сущность, сгущающаяся из паров
мышления; термин придуман поэтичными французами в развитие идей,
высказанных В.И. Вернадским в начале 1920-х).
Набоков без Лолиты
К этому космосу можно подключиться напрямую: параллельные места
в культурах, отстоящих друг от друга на парсеки, блуждающие мотивы, —
этими примерами переполнена история вечности.
Можно опосредованно, путем цитаты, которая создает брешь, сквозь
которую в твой мир сочится толстовский космос.
А тот факт, что «цитаты» могут быть как осознанными, так и совершен-
но случайными, подбавляет «инакости»: перед нами не обозримый объект,
покорно раскинувшийся на каменной плите в парке, но безграничная
млечность, пронизанная кометами перекличек и совпадений.
Удобно это Иное тем, что на него можно указать: вот здесь совпадение
с «Гамлетом», и даже когда все участники семинара понимают, что «цитата»
случайна, все равно есть повод включить фантазию.
Очень приятно услышать шаловливый свист в скважине, проложенной
сквозь ноосферу, даже если он равен самому себе, а не награждает нас но-
выми смыслами.
Дед Годунова-Чердынцева возвращается в Европу «после одной из тех
безобразно продолжительных, громких, дымных дуэлей в закрытом поме-
щении, бывших тогда фешенебельными в Луизиане». Это привет от люби-
мого маленьким Набоковым «Всадника без головы»: на дополнительные
значения не намекающий, а просто приятный.
Просто привет.
Мы помним, что Тургенев при встрече с Шекспиром собирался кинуть-
ся на пол, а вот Набоков пообещал в подобной ситуации рассказать бри-
танскому классику, как Фрейд интерпретировал его пьесы.
— Было бы здорово слышать дикий хохот Шекспира, — полагает Влади- 145
мир Владимирович.
Узоры (водяныерифмы)
Вот как Фрейд интерпретировал бы один фрагмент из романа «Отчаяние».
Герман Карлович садится за письменный стол с целью заняться худо-
жественной прозой, но вдохновения нет.
— Только замусолил перо да нарисовал несколько капающих носов... —
жалуется он читателю и топает к Ардалиону, дальнему родственнику жены
и другу семьи, благо обитает тот по соседству.
146 Жена, снарядившаяся вроде в кинематограф, обнаружена у Ардалиона
в виде, не оставляющем ни у кого (кроме рассказчика) сомнений в том, чем
они занимались, пока Герман мусолил перо.
Нарисованные им капающие носы имели на соседней улице добротную
рифму.
Расположены эти фрагменты гобелена близко — не только на соседних
улицах, но и на соседних страницах, — но соотнести их в один смысловой
узор все же должен читатель. Требуется минимальное творческое усилие
с его стороны.
Воздушная ниточка — оставаясь незаметной — может быть протянута
даже между соседними строчками.
Покинув шумное писательское сборище, Федор Константинович реша-
ет, на что потратить последний гривенник: на ночной трамвай или на зво-
нок Зине. Шкандыбать почти час, а звонок может не пройти. В том смысле,
что трубку возьмет не Зина, а мать: звать Зину к телефону через родствен-
ников не допускалось кодексом их любви.
Федор рискнул, шагнул в пивную (ровно в текущем 1929 году в Берлине
появится первая телефонная будка, но не успеет попасть в прозу Сирина),
позвонил. Соединили с неправильным номером.
Федор включает «пешедрал», на этом заканчивается абзац.
А следующий начинается так:
Набоков без Лолиты
— На следующем углу автоматически заработал при его приближении
кукольный механизм проституток, всегда стороживших там.
Кукольный механизм заработал... но ведь это сыграл федоров гривенник!
У Сирина часто включается не то, что включают, но «не то» приходит со
своими смыслами (проститутки — жетончик в тему преследующих Федора
по ходу затянувшейся платонической стадии романа с Зиной соблазнов).
Перечитыватель, сделавший это маленькое открытие, бьет себя ладонью
по лбу, как бьют по автомату, сожравшему мзду и зажавшему услугу.
И вспоминает: а ведь маленький Лужин на первых своих страницах броса-
ет монетку (русский гривенник) в автомат с вертящимися куклами на дач-
ной платформе, но прибор испорчен, куколки остаются безучастными!
Очень может быть, что и этот гривенник сыграет иначе, включит какой-то
иной механизм внутри «Защиты»...
И там, внутри романа, есть механические бурлески, которые можно на-
значить на роль эха дачного автомата. Пусть Маша Шеншина найдет их без
моей помощи; важно, что обнаружен принцип, связывающий потаенным
макаром элементы текста.
Вот названия главок «Путеводителя по Берлину».
I Трубы
II Трамвай
III Работы
IV Эдем
V Пивная
147
Какой тут задан ритм? Трубы, трамвай... Правильно: тр, тр.
А дальше?
А дальше, по наблюдению Шрама-56, происходит «синонимическое рас-
подобление ожидаемой после главок „Трубы" и „Трамвай" аллитерации [i uj
„Труды"...».
То есть мы ждем третьего «тр», «трудов», а нам тут подбрасывают «работы».
И тут же, после РАбот, следует Эдем — вместо напрашивающегося «РАй».
Возможно ли доказать, что катавасия тр-тр-ра-ра задумана автором, а не
вчитана в текст чрезмерно пытливым исследователем?
Похожий ритм мы встретим в мечтах Драйера, прикидывающего, как
занятно было бы кругосветное путешествие, посещение «Андалузии, Баг-
дада, Нижнего Новгорода...».
Третий пункт должен бы называться на «В»: что же, Новгород ведь быва-
ет и на «В». Великий. А Нижний, оттесняемый на четвертую позицию, в не-
далеком будущем начнет называться как раз на «Г», Горьким — хотя этого
Сирин, сочиняющий «КДВ», предусмотреть не мог.
Просто угадал: рабочая прозорливость гениального агента.
Агент, казалось бы, провалился, разоблачился: идет по улице голым, в од-
них лишь купальных трусиках (таким детским словцом в 20-30-е именова-
лись плавки). Это Годунов-Чердынцев, обворованный на пляже, спешит
Узоры (водяные рифмы)
к стоянке такси. Начинается дождь, и Федор Константинович, пожалуй,
сейчас станет чувствовать себя органичнее — в водной стихии.
Но путь ему преграждают полицейские, строго замечающие, что в та-
ком виде по городу гулять запрещается.
Не то что в Германии в 1929 году ненавидели голое тело. Немцы в начале
столетия нудизм сами и «изобрели»; чуть позже, при Гитлере, расцветет
концептуальная арийская обнаженка на фотографиях и холстах, а года за
три до происшествия с Федором был принят закон, защищающий право
граждан контактировать с природой без помехи в виде штанов. И гражда-
не с удовольствием контактировали: в Груневальде, из которого Федор
только что вышел, остались бесноваться на своих полянках нудисты, кото-
рых даже и странно, что Годунов не встретил, а Сирин не живописал.
Но то на полянках: выходя в город, будь добр, перемени имидж.
Герой объясняет, что случилось, но карикатурный полицейский не уни-
мается. Следует абсурдный диалог о том, может ли человек вдруг обрасти
костюмом. Подчеркивается, что в трусах разгуливать нельзя даже обворо-
ванным.
И Федор говорит:
— В таком случае вам остается пойти за такси для меня, а я пока постою
здесь.
— Стоять в голом виде тоже нельзя.
— Я сниму трусики и изображу статую.
Шутка как шутка, Годунов-Чердынцев вроде бы просто действует по си-
туации. Однако перечитыватель сообразит, что пока туманный вор овладе-
148 вал небогатым скарбом Годунова, сам Федор вел на другом берегу озера
мысленный диалог с Кончеевым, где, в частности, обсуждалось... Ох, прос-
тите, это не там обсуждалось, а гораздо раньше, в беседе с Зиной:
— Знаешь, что больше всего поражало самых первых русских паломни-
ков, по пути через Европу?
— Музыка?
— Нет, — городские фонтаны, мокрые статуи.
Сирин полон с хорошей горочкой такого рода внутренних рифм. В
прошлой главе я говорил, что вылущивание цитат и аллюзий, интертексту-
альных связей — один из главных хлебов набоковедения; так вот, главных
хлеба два: аллюзии и эти рифмы.
Колокольчик на земляничной поляне
Их расслышал едва ли не первый набоковед... ну набоковед — это громко
сказано. Рецензент первого же романа, «Машеньки», Д. Шаховской, подпи-
савший свою заметку в брюссельском журнале «Благонамеренный» (1926.
№ 2) лапидарным «А.», а позже ставший архиепископом Иоанном Сан-
Францисским, замечал:
[57:зз] — Кое-где повторение образа... стоило ли вторично вводить в роман
человека, собирающего окурки...
Набоков без Лолиты
Как выяснилось, на него, этого человека, появляющегося вдруг в переул-
ке романа в рифму к своему первому появлению, на этого агента тайных
сущностей, на неповторимую повторяемость его ходов и делалась ставка.
«Повторение образа» (с каждым шагом все менее повторение, все более
сложные комбинации), кроссворды с подчас и далеко отстоящими друг от
друга ящичками для букв — сиринская арматура.
— По характерному «набоковскому совпадению» Владимир Дмитрие- [ 19:45]
вич в последний раз выступил за ее (смертной казни. — В.К.) отмену
в статье, которую одна манчестерская газета получила в тот самый день,
когда на ее страницах было напечатано сообщение о его гибели, — сооб-
щает Новозеландский Биограф, и нет вопросов, что это за тип совпадения
такой, «набоковский».
Даже над могилой отца витает кроссворд.
Так легко в наш разговор вклинился другой берег: речь шла о рифмах,
придуманных писателем, и тут же по-пушкински «пришла третья», из
жизни и смерти.
— В 1913 году Рауш с матерью ездили отдыхать в Швейцарию, и вскоре
после его гибели, приехав в тот же отель и остановившись в том же номере, [112:218]
мать Юрия случайно обнаружила одного из его оловянных солдатиков —
крошечного кирасира без лошади...
Не уверен, что этот нарочитый случай с матерью двоюродного брата
и близкого друга Володи Набокова Юрия Рауша имел место в реальной
действительности. Номера в отелях вообще подвержены строгому кли-
нингу. Но в набоковедческом тексте естественно такое «характерное совпа-
дение». 149
Большинство примеров, прозвучавших выше, простые (ну, кроме изыс-
канных «труда-работы»), на один-полтора хода, связывающие пару эле-
ментов, но есть и комбинации на десяток ходов.
Словно прозвенел колокольчик на земляничной поляне, на опушке
отозвался другой, птица-перепел выждала четыре такта и поддержала мо-
тив, а ближе к вечеру в рифму ко всему этому сгорит во поле скирда.
Речь не о «мотиве»... то есть относятся к тому, о чем мы сейчас говорим,
и мотивы тоже.
Машеньку на протяжении всей «Машеньки» сопровождает мотив сла-
дости, об этом сейчас будет.
Но история с носами и замусоленным пером (да, Герман Карлович, они
и так делали) — это, допустим, сюжетный параллелизм, история с гривен-
ником и кукольным механизмом — композиционный каламбур.
За перечислением «трамвай-трубы-работы-Эдем» скрыт перещелкива-
ющий механизмик, подвижный, с отдачей, каркас, на который слова наса-
жены.
А вот абзац, в котором происходит, жуткое дело, целый, простите, пер-
форманс. Федор Константинович провожает мать из Берлина в Париж.
— В ожидании поезда они долго стояли на узком дебаркадере, у подъем-
ной машины для багажа, а на других линиях задерживались на минуту,
Узоры (водяные рифмы)
торопливо хлопая дверьми, грустные городские поезда. Влетел парижский
скорый. Мать села и тотчас высунулась из окна, улыбаясь. У соседнего доб-
ротного спального вагона, провожая какую-то простенькую старушку,
стояла бледная, красноротая красавица, в черном шелковом пальто с высо-
ким меховым воротом, и знаменитый летчик-акробат: все смотрели на не-
го, на его кашне, на его спину, словно искали на ней крыльев.
Сможете вычленить здесь логику чередования... слов?
Не торопитесь, попробуйте.
Ответ прост, как стрела.
Прикажите чаю, приспособьте под пепельницу апельсиновую корку...
не откажите себе в этом замечательном упражнении.
Логику обнаружил — под наши бурные аплодисменты — Юный Тех-
ник. Выразился громоздко, но понятно:
— Средства передвижения добавляются по параметру нарастающего
[66:326] потенциала их ускорения: нулевая точка ожидания («долго стояли») ->
медленный разгон («подъемная машина для багажа») -> городская элект-
ричка -> международный экспресс -> аэроплан -> летчик-икар.
Браво.
Ррраз — и выстроена на пустом месте, на плоском перроне сверкаю-
щая загогулина, великолепное созвездие... Оно, между тем, срифмовано
и с эпизодом отъезда другой матери, из четвертой главы.
Здесь «наконец, она собралась обратно в Париж» и легкий взлет.
Там «наконец, оне (так Н.Г. Чернышевский обозначал родительницу. —
В.К.) собрались обратно в Саратов. На дорогу оне купили себе огромную
150 репу» — вместо легкого взлета громоздкая тяжесть.
Да, рифма грубоватая на фоне танца со средствами передвижения, но о
том и речь, что рифм много и устроены они по-разному.
У элемента может быть много связей, звезда может входить в разные
созвездия.
По проводам пробегают искры смысла.
Обмусолить и капает — пародия на психоанализ, «тр-тр-ра-ра» — поле-
мика с формализмом, да и возвратно-поступательность, знакомая по ны-
ряющим мухам... У всякой связующей ниточки есть точечный смысл, но
важна и общая функция: эти сети обеспечивают единство большого слож-
ного космоса, удерживают систему на весу, на ходу.
Сети, рифмы, паттерны, динамическая лейтмотивная структура, водя-
ные знаки, матрицы, подкожные татуировки, орнаменты, узоры, пузеля,
контрапункты, арматурины, каркасы, «тайная связь, которая объяснила бы
все»... Мне и не нужно одно точное определение.
Мне нравится слово «узоры» (в «Машеньке» русская жизнь «проходит
ровным узором через берлинские будни», и часто появляется у Сирина об-
раз ковра, узоры на лицевой стороне которого управляются невидимыми
узорами на оборотной). То есть я просто к нему привык; много лет назад
оно случайно встало у входа в соответствующий файл. Это как раз слово
не самое точное, в нем нет очевидной «потусторонности», а для Сирина
Набоков без Лолиты
важно, что два, или пять, или десять пунктов текста начинают звучать
в унисон благодаря расположенной на заднем таинственном плане, на дру-
гих берегах начертанной схемке.
В «водяных знаках» есть этот смысл. «Водяные узоры» — тоже, навер-
ное, возможно. Это потому хорошо, что «водяные знаки» удостоверяют
подлинность (а Набоков, особенно с годами, был склонен называть под-
линным именно потайной сюжет), но в то же время они «водяные», чуть
приплясывают, как гралица на теплом озере, и лишены присущей «матри-
цам» или «паттернам» унылой твердости, да и какая там матрица, если узор
ни разу не повторяется. «Водяные созвездия» — тоже неплохо. Словом, не
важно.
И душу из земного мрака
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.
Важно, что есть всегда потусторонняя, хотя и зыбкая, связь.
Тайная легенда агента, которая, может, и затвержена назубок, но попро-
буй не расплескать молоко, летя сквозь планеты.
— Неплохо бы изучить порядок чередования трех-четырех сортов лавок
и вывести средний ритм для данного города: табачная, аптекарская, зелен-
ная, — мечтает Годунов-Чердынцев.
Да, неплохо бы. Еще в «Здесь говорят по-русски» (1923) молодой автор
примеривался к теме, замечал, что табачные лавки особо уютно чувствуют 151
себя в угловых зданиях.
Собственные сиринские и набоковские высказывания об идеологии во-
дяных рифм монументальны, пафосны. Так, главной задачей мемуариста
в «Других берегах» названо «развитие и повторение тайных тем в явной
судьбе».
Ближайший пример такого развития и повторения связан с любимой
темой спичек.
— Как-то в начале того же (1904-го. — В.К.) года, в нашем петербург-
ском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, пока-
заться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях.
Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на отто-
манку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая:
«Вот это-море-в тихую-погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую
чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал:
«А вот это — море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было пока-
зать другой — может быть лучший — фокус, но нам помешали. Слуга ввел
адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин,
в полтора как говорится приема, встал с оттоманки, причем разбросанные
на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верхов-
ным Главнокомандующим Дальневосточной Армии. Через пятнадцать лет
Узоры (водяные рифмы)
маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во
время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-
то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седоборо-
дый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца
не оказалось. Вдруг они узнали друг друга...
Будто бы это снова был Куропаткин (чего не могло произойти в реаль-
ности, но тут это не важно). Рассказав этот эпизод, Набоков закрепил фор-
мулу:
— Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие та-
ких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача...
В конце мемуаров та же идея будет выражена и вовсе душещипательной
метафорой.
Маленький Дмитрий собирает морскую белиберду на пляже в Ментоне
(эпилог европейских глав биографии), в том числе кусочки глиняной посу-
ды, еще сохранившие цвет и глазурь.
— Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майо-
лики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал,
как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903-ем году на
том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том
же самом Ментонском пляже моя мать нашла в 1885-ом году, и четвертого,
найденного ее матерью сто лет тому назад, — и так далее, так что если б
можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из
них целиком чаша, разбитая итальянским ребенком Бог весть где и когда,
но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок.
152 Проза Сирина и есть лепка подобных баснословных ваз, и счастье тому,
кто может слышать созвучия и совмещать орнаменты, пробегающие от
первой главы к последней, а там и за корешок, и на соседнюю полку, а отту-
да в окно — и по Сенной, по Садовой.
[во: зз9] Порадуемся за исследовательницу, заметившую, что «в „Защите Лужи-
на" контрасты черного и белого задаются задолго до появления темы шах-
мат, в первых усадебных сценах, где есть „черная грязь, белая баба", Акули-
на-молочница рядом с чернобородым мужиком и фарфоровая
чернильница».
Позавидуем К.В. Богомолову, обнаружившему элегантный подземный
ход между первыми сиринскими романами. В «КДВ» квартирный хозяин
Франца, безумный Менетекелфарес, ждет весь роман приезда жены. Потом
она вроде бы появляется, молча сидит в кресле спиной к дверному проему,
и каково же изумление Франца, когда он выясняет, что из-за спинки кресла
виден не человеческий затылок, а верхушка нахлобученного на швабру па-
рика. К.В. Богомолов узнает в этой конструкции развитие темы Машеньки,
которую на протяжении всего своего романа ждет и не может дождаться Ал-
феров: герой второго романа жену дождался и воссоединился с ней на свой
лад. А кто-то из вас вспомнил, читая этот абзац, как прошустрилась над изго-
родью шляпа Лужина-старшего и шляпа Весловского (или эта не выгляды-
вала?), обнаружив еще одно ответвление вскрытого подземного хода...
Набоков без Лолиты
Орнамент может убегать в сторону, поворачивать вспять. Пример с но-
сами может быть продолжен в анонсированном фрейдистском ключе:
именно в этой сцене Герман обнаружит, что у Ардалиона нет натюрморта
с трубкой и двумя розами, зато есть с пепельницей и двумя персиками. Все,
как отсутствующие, так и присутствующие на натюрморте предметы ра-
достно отзываются на венский свист.
Насколько далеко и размашисто продлится орнамент, зависит от фанта-
зии интерпретатора и его умения вовремя остановиться.
«Машенька»: сладость на два хода
В первой же сцене, когда мы застаем героев застрявшими в темном лифте,
Алферов предлагает Ганину сыграть в пти-жо.
— Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число.
— Увольте, — не согласен Ганин, бьет два раза кулаком в стенку, но два
раза — это еще не двузначное число.
Оно выпрыгнет в последний вечер, когда надо отстранить Алферова от
утренней встречи с Машенькой. Конкурент хорошенько напоен, но полон
решимости, просит Ганина завести будильник на половину восьмого.
Ганин ставит на двузначное десять, а потом переводит на одиннадцать.
Причем эту пакость конкурента Алферов предвосхитил дважды: предло-
жением «задумать число», а непосредственно в ключевой сцене — тем,
что, пометив химическим карандашом цифру восемь на наручном цифер-
блате, он позже смыл пометку каплей водки.
Во второй главе Алферов так навязчиво напевает в ночи (мы помним,
он птица), что Ганин не выдерживает, идет стучать в дверь, и она мгновен-
но распахивается, словно Алферов специально ждал на пороге. А в вось-
мой главе кто-то скребется уже в ганинскую дверь, уже Лев Глебович ее
резко отпахивает, готовый даже и к схватке со злоумышленником, и на не-
го с размаху, как громадная мягкая кукла, падает ничком человек: это Под-
тягину стало плохо.
В четвертой главе появляются «переставленные световые призмы»
всей ганинской жизни, это он узнал о скором явлении Машеньки и улетел
в воспоминания, а в последних абзацах призмы переставлены уже не мета-
форически, а буквально, на рассвете тени ложатся в другую сторону, чем
привычные вечерние, и Ганин понимает, что прошлое не просто так назы-
вается прошлым, а с намеком на то, что оно — прошло.
В конце четвертой главы возникает тема чужой собственности (Клара
застала Ганина выдвигающим ящик алферовского стола и решила, что он
ворует деньги), а в следующей главе берет чужие деньги Подтягин: ему ссу-
дил «двадцать марковей» с барского плеча старый приятель Куницын,
единственный во всем романе и потому, возможно, кажущийся лишним
персонаж второго плана; есть безымянные безмолвные герои плана треть-
его, но вот Куницын, имеющий фамилию и несколько реплик, выбивается
из конструкции, а Подтягин убивается, что не смог отказаться от подачки.
153
Узоры (водяные рифмы)
Ганин вспоминает (вторая глава), как снимался статистом в кино, и «ле-
нивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших
с балки на балку высоко наверху или наводивших слепительные жерла
юпитеров», а в финале строится дом, на легком переплете в утреннем небе
синеют фигуры рабочих, один из которых столь вольно движется по само-
му хребту, словно собирается улететь.
Дважды — в усадебных воспоминаниях и в берлинской реальности —
появится прорванный на щиколотке носок.
В восьмой главе Машенька и Ганин обнаружат на садовом столе посвя-
щенную их отношениям похабную надпись и начнут стирать ее пучками
сырой травы — рифма к разглагольствующему в начале романа Алферову,
который утверждает, что Россию стерли мокрой губкой, как рожицу с чер-
ной доски.
— Дело в шляпе, — радостно крякает Подтягин, получив с помощью
Ганина вожделенный паспорт, забирается на радостях по винтовой лест-
нице на империал автобуса, хватается как раз за шляпу, которую норо-
вит унести ветер и, отвлекшись, забывает на сиденье драгоценный до-
кумент.
Оставив Алферова дрыхнуть рядом с фальшивым будильником, Ганин
бренчит монетами в кармане: ими же в нем же он бренчал в комнате Люд-
милы, объявляя ей о конце романа.
Выйдя от Людмилы, Ганин слышит, как во дворе распевают по-немецки
«Стеньку Разина» (песню, в которой повествуется о брошенной за борт
княжне).
154 Ганин целует руку Л .Н. Дорн, возвращается в свою комнату и достает
машенькино письмо, написанное на бумаге, в углу которой помещен рису-
нок с целующим руку даме молодым человеком в лазурном фраке.
Да, рифмы нехитрые, но это первый роман.
Даже и странно, что брюссельский рецензент А. вменил в неряшливость
Сирину только один повтор.
Образ Машеньки в книжке выведен последовательно сладким.
За несколько секунд до того, как впервые увидеть каштановую косу
в черном банте, Ганин ощущает запах леденцов.
Машенька постоянно сосет травинку (высасывая из нее сладость) или
тот же самый леденец.
Она пользуется сладкими духами «Тагор» (чехарда букв — Ганин с Ма-
ниным были выше, чуть ниже вы встретите Вову-Леву — почему бы
и сладкий не только «Тагор», но и кагор?)
На последней встрече «в год революции» Машенька — с плиткой шоко-
лада, который она тут же предлагает Леве, как некогда предложила себя.
В сцене вечеринки Алферов (сахаристо посвистывающий, слащаво-
евангельский: не сладкий и сахарный, а слащавый и сахаристый) выплевы-
вает в стену конфету, цитируя «Мелкого беса» (съезжающие жильцы там
гадят в комнате, пинают обои, в частности конфетой плюются) и предвос-
хищая крах утренней встречи с женой.
Набоков без Лолиты
Она же, как мы помним, «символизирует Россию» (несколько неловко
такое нарядное выражение отпускать в путь без кавычек), а Подтягин, ло-
жечкой доставая из чая нерастаявший кусок сахара, думает... что, Антон
Сергеевич?
— Что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда
вот снег тает.
Россия еще будет хитро сопоставлена со сладостью в рассказе «Круг»:
герой вспоминает улетучивающееся, уходящее с годами прошлое и парал-
лельно, сидя в кафе, «разбавляет бледнеющую сладость струей из сифона».
Кларе же в «Машеньке» автор выделяет мотив апельсина: она ест эти
плоды, видит их во сне, пьет апельсиновый ликер; а для юного Ганина, ока-
завшегося по ходу бега от революции в Стамбуле, именно в оранжевом об-
разе концентрируется «чужое»: увидав груду апельсинов, он ясно осознает,
что родина кончилась.
Появляется в «Машеньке» и один уже довольно сложный узор. В пись-
мах сладкой девушки, спрятанных в ганинском чемодане (по некоторым
сведениям, Сирин использовал реальные письма Шульгиной; вряд ли это
хорошо с его стороны, но, с другой стороны, этот факт и не доказан), есть
пять поэтических цитат. Вот они:
1
Но сегодня весна и сегодня мимозы
Предлагают на каждом шагу.
Я несу тебе их, они хрупки, как грезы...
155
2
Сброшу с себя я оковы любви
И постараюсь забыться,
Налейте полнее бокалы вина,
Дайте вином мне упиться.
3
.. .ты моя маленькая, бледная жемчужина...
4
Над опушкою полная блещет луна,
Погляди, как речная сияет волна.
5
Расскажите, что мальчика Леву
Я целую, как только могу,
Что австрийскую каску из Львова
Я в подарок ему берегу.
Все пять имеют разную степень авторства.
Узоры (водяные рифмы)
156
Первый автор, который про мимозы и грезы, — просто исполненный
Сириным аноним, стилизация под чувствительную лирику.
Второй, про вино — реальный В. Радомский, тут Машенька и Сирин ци-
тируют романс из репертуара Анастасии Вяльцевой.
Третий, про жемчужину — его фамилия, Крапивницкий, указана в текс-
те письма, но это снова вымышленный поэт. От первого вымышленного
поэта он отличается наличием фамилии.
Четвертый, про луну и волну — опять вымышленный поэт с фамилией,
указанной в письме, но у него большая, чем у первого анонима и у Крапив-
ницкого, степень бытия. Это собственной персоной Антон Сергеевич Под-
тягин, сосед Ганина по пансиону.
Через несколько часов Машенька ахнет, обнаружив рядом с логовом му-
жа труп знакомого поэта, но не узнает никогда, что в ее комнате еще прош-
лым вечером находилось и даже перечитывалось ее собственное письмо
с цитатой из Подтягина.
Пятый автор, про каску из Львова, вновь реален, это Сергей Копытин
(довольно известный ныне благодаря эстрадным исполнителям замеча-
тельный текст «В полевом лазарете» был опубликован в «Кубанском ка-
зачьем вестнике» 21 сентября 1914 года). Отличие от случая номер два
в том, что Лева и Машенька выступили тут соавторами, переделали строч-
ку: в оригинале речь идет не о Леве.
А, как нетрудно догадаться, о Вове: вместо своего имени Сирин поста-
вил, замыкая звезду узора, имя героя с подложной фамилией.
«Король, дама, валет»: оптический балет
— Огромная, черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным
жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир, — ав-
тор бросит свой гривенник, и механизм романа двинется в путь.
Стрела дрогнула, поезд тронулся, поплыл перрон с окурками, плевками
и пятнами солнца, поехала тачка, но у нее еще не вращаются колеса.
То есть они вращаются, конечно, но скорость начинающего путь поезда
совпала на миг со скоростью тачки, и потому кажется, что колеса застыли.
Автор словно бы еще сомневается, включать — не включать. Первые
строки — это его, автора, зрение. Мешкать дальше нельзя, поезд набирает
ход, и автор передает зрение Францу, отправляющемуся покорять столицу.
Оторвавшись от окна, Франц идет в купе, где зрение его подвергается аг-
рессии: он видит человека с лицом, покрытым разноцветными гадостны-
ми пятнами, в руках журнал с голой теткой. Это довольно странный персо-
наж. .. наряден и статен на диво: шелковый галстук в нежных узорах
ныряет, слегка изогнувшись, под двубортный жилет. Речь, напомню, о купе
третьего класса, которое Франц еще не покинул.
Так исподволь начинаются «нежные узоры». Галстук — знак будущей бер-
линской карьеры «валета», неуместность шикарного господина на дешевых
местах задает сквозную тему статуса и подталкивает Франца к действиям.
Набоков без Лолиты
Богатый урод в третьем классе — нарушитель статуса.
Значит, статусы можно нарушать.
Под давлением неприятного взгляда «агента» Франц перетекает в вагон
второго класса, исполняет свою часть узора, другая часть которого нарисо-
вана чуть раньше Мартой. Здесь, в уютном купе, зазвучат мотивы и красот-
ки с обложки (Марта, потенциально голая тетка,уже ждет), и дальнейшего
тактильного кошмара (Марта довольно быстро станет для Франца мерз-
кой жабой; ему вообще по жизни везет на собачью блевоту, на обслюняв-
ленные конфеты, на младенцев, надувающих на улице использованный
презерватив). Впрочем, это была увертюра.
Король, дама, валет собраны в одном купе, на маленьком «острове»,
и сейчас заработает головокружительный калейдоскоп.
Раз. Франц тихо наблюдает за Мартой и Драйером из-за газеты. Марта
поправляет юбку, заметив, что попутчик в очках уставился на голый шелк
ее ног. Отказ от визуального контакта со стороны Марты.
Два. Вступает Драйер, с дежурным интересом хозяина жизни осматри-
вает Франца и оценивает его костюм: первый прямой контакт завязывает-
ся, но сейчас оборвется. Драйер отворачивается, когда в очках всплывают
встревоженные глаза. Боязнь контакта со стороны Франца и тут же отказ
со стороны Драйера.
Три. Марту освещает солнце, Франц смотрит смелее и восхищеннее.
Марта зевает, и Франц в ответ зевает (ведет себя как зеркало: чуть позже он
автоматически вытянет бутерброд, когда Драйеры соберутся в вагон-рес-
торан). Марта видит, что он зевнул, понимает, что зевнул он, глядя на нее,
и в ответ его равнодушно оглядывает. В глаза по-прежнему никто не смот-
рит (Переводчик Бодлера даже выводит из этой сцены закон «запрета на [ 139:42]
взгляд в глаза» в набоковском космосе), но взгляды интенсифицировались,
их все больше промахивает по купе, и произошла к тому же перекличка
зевков, так сказать, квазиоральный контакт, род воздушного поцелуя.
Четыре. Марта видит, вставая, что Франц достал бутерброд, а Франц, ви-
дя, что Драйеры встали, поджимает ноги.
Пять. Франц спит и видит голые плечи Марты, а Драйер, вернувшись из
вагона-ресторана, видит три кружка на лице юноши: очки и открытый рот.
В обоих случаях объект зрения застигнут врасплох, в интимной ситуа-
ции — Марта с голыми плечами, Франц с распахнутым ртом — и не знает,
что за ним наблюдают.
Шесть. Драйер вызывает Марту на контакт глазами, улыбается (то есть
провоцирует оральный ответ): нет контакта. Выходя прогуляться на плат-
форму, Драйер стучит пальцами по стеклу, улыбается из-за стекла: с тем же
эффектом. Не ответив мужу на заинтересованный взгляд, Марта обращает
на спящего Франца свой равнодушный. «Сейчас он съедет на пол»: равно-
душная-то равнодушная, но это первая ее оценка его телесности.
Семь. Драйер вскочил в чужой вагон, вернулся, Марта спит. Драйер бе-
рет газету, Марта смотрит в упор: «сумасшедший идиот». Драйер улыбает-
ся, Марта закрывает глаза. Марта заснула, реагируя на телесность Франца,
157
Узоры (водяные рифмы)
как он реагировал зевком на ее телесность, то есть вернула ход в зеркаль-
ной игре, и более того: уже спит рядом с Францем, на одной скамье (как
быстро все, в сущности, произошло).
Восемь. И поскольку их «совместный» сон был кульминацией эпизода,
а внимание уже занято приближающимся Берлином, текст расслабляет
суставы, герои заняты своим зрением: Франц смотрит на дождинки по
стеклу в коридоре, Драйер — на такие же дождинки в купе, а Марта —
в зеркальце на себя.
Девять. Под конец происходит и телесный контакт между Фран-
цем и Драйером: реагируя на то, что Драйер снимает чемодан, вскакивает
и Франц, как торопливое зеркало. Драйер смеется, Франц смущается, стал-
киваются они спинами, зрение — выключено.
Блестящая комбинация, ни одна виньетка не повторилась, а все спле-
лось, фигуры расставлены, конфликты завязаны, купе пронизано лучами
взглядов: герои уже прошли по платформе, отдали контролеру билеты, ми-
мо бесчисленных касс, расписаний, низких прилавков для багажа движутся
в гудящий город, а лучи, кажется, так и висят, недорастворившись, в пус-
том темном вагоне.
Нам все уже показали про героев, про их зрение, взвели силовые ли-
нии — Франц спешит отреагировать на провокацию (зевок-обед-чемо-
дан), Марта не спешит, полагая право провокаций за собой, Драйер удов-
летворяется поверхностной оценкой мира (мельком оценил Франца, не
обнаружил в нем угрозы, и уже не обнаружит).
Из купе — как из лифта в «Машеньке» — дальше будут разматываться
158 веревки романа.
«Другой берег», с которого транслируется воля узора, оборудован на на-
ших глазах в первой главе (в ней и время сконцентрировано: на все устрой-
ство механизма ушло пять-шесть часов, а дальше будут главы и по неделе,
и по месяцу).
Мы еще попадем по ходу романа под брызги оптических фокусов.
Драйеру Марта подарит увеличительное зеркало на шарнирах, с чело-
вечье лицо диаметром, с электрической лампочкой: такая зверь-машина,
ежеутренне являющая ярко освещенную, раза в три распухшую, оброс-
шую свиной щетиной морду.
Себе она купит на аукционе портрет старика благородного вида, с бака-
ми, в сюртуке 1860-х годов, с тростью. Рядом с портретом, писанным мас-
ляными красками, она повесит дагерротип своего деда-купца: тоже с бака-
ми, тростью и в сюртуке.
— Это мой дед, — говорит Марта, показывая на фото, и гость, переводя
глаза на картину рядом, сам делает неизбежный вывод.
Тема сконцентрируется в железном взгляде Марты, которым она боль-
шую часть романа будет, как пультом дистанционного управления, шуро-
вать Францем.
Промелькнет в двухходовой рифме со словом «Видэо»: так называет-
ся гостиница, куда нырнул из поезда Франц, а в курортной гостинице
Набоков без Лолиты
в ресторане в конце романа звучит песня с мотивом «Монтевидэо»,
и Драйер не может вспомнить какое-то важное ключевое слово, ключ
в корне «видэо»: в той же гостинице живет синещекий изобретатель, дове-
рие к которому позволило Драйеру избежать смерти.
Изобретатель, меж тем, жил не просто в той же гостинице, но и в том же
номере, что Франц (судьба, снарядив на погибель Драйеру племянника,
отправила позже по тому же маршруту изобретателя-избавителя), и, если
тщательно присмотреться, в линолеуме у рукомойника можно разглядеть
мельчайшую стеклянную пыль.
Франц разбил там очки в первое же берлинское утро.
Перечитывателю досадно, что в первой сцене в купе, когда солнечный
свет обнажил лицо Марты, окатил ее гладкие щеки, придал теплоту ее гла-
зам, оранжево-красная пыльца легкой косметики обнаружилась только
в морщинках губ.
Застань автор пыльцу в морщинках у глаз, пудрой бы пыхнула рифма
к стеклянной пыли под рукомойником.
Слепой Франц приходит в сад Драйера, видит (то есть не видит, все в ма-
реве) Марту, которая тоже не сразу узнает вчерашнего попутчика.
— Внезапно воспоминание, как фокусник, надело на это склоненное ли-
цо очки и сразу опять их сняло. Дама усмехнулась.
А Франц, признав соседку по купе, первым делом отметит, что она сего-
дня без шляпы.
Пусть неторопливо — очки, шляпа, — но они уже начали раздеваться!
Отмечу еще легкую кадриль чисел 5 и 11, промелькнувшую по двум гла-
вам: в поисках комнаты в Берлине Франц просматривает 11 вариантов, ав- 159
тор их перечисляет, но пресекается на пятом. Подходящий вариант уже
мелькнул, и он — в пятом этаже. Просят, правда, 55 марок, это дороговато.
Марта помогает сторговаться, снижает цену на пять, хозяин согласен, «но
если тушить после одиннадцати». Вскоре, благодаря робости Франца, цена
возвращается к 55. В пятницу в 11 вечера раздается страстно ожидаемый
звонок Драйера, и родственники едут в магазин с пятью витринами, на-
звание которого написано пятиаршинными буквами, а спустя паузу в не-
сколько глаз (глав, понятно, но тоже опечатка не из бессмысленных)
Драйер, сюрпризом воротившийся с курорта раньше срока, подъезжает
в 11 вечера к дому номер 5.
Прыгают и другие цифры: Марта умирает в комнате номер 21, а до этого
мелькнул номер такси 22221. Это демон очень средней руки мешает бочон-
ки лото.
Тот же не слишком разборчивый демон подсунет Францу во сне ажур-
ную ногу и красную туфлю без задника, и когда в другом районе романа
Марта, оплошно оказавшаяся одна в комнате любовника, будет из послед-
них сил держать дверь, кою с другой стороны открывает муж, с ее пятки
соскользнет как раз красная... Это, конечно, рифма очень театральная, ис-
кусственный плюш.
Узоры (водяные рифмы)
Вот потоньше: Франц в метро, в мозгу его щелкают всякие скучные
мысли, в том числе:
— Есть дураки, которые дамам уступают место.
Драйер в последних абзацах уступил: вместо него умерла Марта.
«Защита Лужина»:
конь со сломанной пружиной
— Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но, только он подни-
мал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра,
где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то вглубь дома,
оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет ко-
локольчиков на крышке рояля...
Это родители не решаются сообщить маленькому Лужину, что вот-вот,
едва лето канет, сдадут его в школу.
Допустим, мальчик чувствует, что спущен с цепи месседж, — но как ему
интерпретировать букет на рояле? Мать оставляет распахнутыми все две-
ри — это скорее не то что перед Лужиным открыты все дороги, а то, что
она, мать, идей не имеет,устраняется... да, есть рояль, можно пойти по сто-
пам деда-композитора, но вряд ли мальчика устроит в качестве решающе-
го сигнала неряшливый букет колокольчиков (колокольчик... неряшливый
букет звуков? сообщение, что дед был не лучшим повелителем нот?).
Знак отца понятнее. Барометр, вечный на шторме. Этот сигнал сбудется:
младшему Лужину всегда будет штормить. Барометр к тому же откупорит
16 О длинный список напичкавших текст сломанных механизмов.
Едва до станции доедут, на платформе вырастет сломанный аппарат
с безучастными к гривеннику марионетками. В конце того же абзаца по-
ступит первая версия, как сработал гривенник: Лужин, словно гуляя, до-
шел до края платформы «и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по сту-
пеням...».
Во второй главе в доме Лужиных валяется давно разбитый педометр
(шагомер, по-нашему), вновь вяло символизирующий неполадки в идее
пути.
В четвертой скрипит рычаг абстрактной испортившейся машины (он
использован как метафора вечного шаха) и плохо запирается застежка
дамской сумочки.
В шестой мы, наверное, со спокойной совестью можем отвергнуть сло-
манный гребешок и сломанную папиросу; то есть и то и другое, несомнен-
но, приборы, а в некотором смысле, особенно папироса, и механизмы, но
незначительные. Зато здесь обнаружится фабрикант, страдавший запо-
ром, — крупная рыба.
В восьмой главе голова главного (три слова с одним корнем, надо же) ге-
роя получит торжественное наименование:
— Драгоценный аппарат со сложным таинственным механизмом.
Его поломке и посвящен роман.
Набоков без Лолиты
Мелькнут (в десятой и четырнадцатой главах) старые знакомцы — сло-
манные лифты.
В двенадцатой главе присядет на балу в кресло рядом с Лужиным одно-
классник Петрищев, чтобы обмолвиться, что «жил с женой французского
инженера на Мадагаскаре»: это пример, конечно, с большой натяжкой, но
инженер, функционирование семейного механизма которого расстроено,
все же находится в дальнем родстве с запорным фабрикантом.
В последней, четырнадцатой, кроме сломанного лифта возникнет «стоп-
машина»: так жена откомментирует торможение Лужина, расшагивающе-
го по квартире перед прыжком.
Параллельно развивается узор тревожных телефонных звонков: при-
глушенно и долго раздается звонок в пустой усадьбе, в кабинете отца —
звонок приглашенному на концерт скрипачу в петербургский дом Лужи-
ных (эта трель предвосхищена волшебным знаком: блестящей точкой на
телефонной вилке в темноте кабинета) — звонок из школы (Лужин ее про-
гуливает!) — звонки Валентинова — череп на телефонной книжке (череп
связан с Валентиновым, носящим кольцо с «адамовой головой»)...
Между первыми двумя звонками — они оба в кабинеты отца, в усадьбе
и в городе — запущена гулкая рифма: когда звучит первый, Лужин скучает на
чердаке среди ненужных вещей, рядом, в частности, с совершенно неинтерес-
ной пока коробкой шахмат — когда настает время второго, скрипач, побесе-
довав с закадровой дамой, замечает прячущегося в кабинете Лужина и произ-
носит магические слова про шахматы, чем определяет судьбу мальчика.
К игре богов, то есть, взывал и первый звонок, но тогда час еще не пробил.
Выше я подчеркивал, что, вычленяя матрицы и мотивы, следует осто-
рожнее рассуждать об их глубине. Вот сломанные механизмы, не на по-
верхности сюжета, узор надо увидеть и проследить. Вполне могут олицет-
ворять содержание романа. «Защита Лужина» — роман о сломанных
механизмах, главный из которых — голова героя, драгоценный аппарат...
шахматы... бла-бла-бла...
Рассуждения эти общие настолько же эффектны, насколько и скучны,
а вот подробности — и прежде всего фабрикант с запором, человек добро-
душный, хотя и без фамилии-имени — как раз заставляют нас читать и пе-
речитывать книжки Владимира Сирина.
Пройдет сквозь роман бледный узор былых касаний-невстреч Лужина
и его супруги: один и тот же учитель географии у них преподавал (читатель
это заметит, а герои нет), с одноклассником-тихоней Лужина его будущая
невеста потом немного дружила (и этого герои не знают), книжки Лужи-
на-старшего в детстве читала... В «Даре» сеть совпадений в судьбах Зины
и Федора будет замечена, проговорена в качестве основы будущего
счастья, а Лужины не обратили внимания, прошли мимо и насквозь.
Собрать и классифицировать шахматные мотивы — задача приятная, до-
стойная и, скорее всего, необозримая, учитывая, сколь многими фарфоро-
выми чернильницами может разливать шахматность наш изобретательный
автор. Лужин реальность всю дорогу воспринимает как поле для «ходов»:
161
Узоры (водяные рифмы)
в детстве шагает так, чтобы каблук всякий раз попадал на границу плиты
тротуара, стрескав половину подарочных конфет, остальные раскладывает
в коробке так, чтобы было незаметно, а в половозрелом возрасте прикиды-
вает, можно ли ходом коня этим вот столбом взять ту вот липу.
Тому, что Лужин — именно конь (черный конь, а не белый король, как
считают романтически настроенные наблюдатели), посвящено скрупулез-
[139] нейшее исследование Благородного Скакуна, в котором присутствуют:
— анализ траекторий героя по берлинской и петербургской квартире,
внутри берлинского трамвая, по санаторной тропинке («вдруг оборачи-
вался, криво усмехался и присаживался на скамейку»);
— стоящие хронологическими скобками непосредственно перед рома-
ном и после него стихотворения «Шахматный конь» и «Стансы о коне»;
— «мохнатость» лица, шляпы и нового костюма героя («сукно... темно-
серое, но гибкое и нежное, даже как будто чуть мохнатое»: будто гладишь
лошадь);
— согбенная фигура Лужина и его профиль;
— множество черт, поразительно совпадающих с чертами Себастьяна
Найта (который уже безо всяких шифровок «подписывает» стихи фигур-
кой черного шахматного коня да и носит лошадиную фамилию; Knight —
шахматный конь);
— «лошадиность манер» («жмурясь, замотал головой», «радостно щелк-
нул зубами на жену, потом тяжело закружился»);
— Г-образные поцелуи — в правый глаз, потом в подбородок, потом
в левое ухо;
162 — множество доказательств того, что конь именно черный, а не белый...
А также подробный анализ собственно шахматной проблематики рома-
на: защита Лужина, согласно этому исследованию, — это защита шагнув-
шего на h5 черного коня от наступающих белых пешек с последующей его
сдачей, в свете чего прыжок Лужина из окна читается как пасхальная (он
сделал свои первые ходы на Пасху 1910 года) жертва...
Морозный Ариозо, развивая уже известную нам параллель между «Защи-
[ Mi] той Лужина» и древней «Флатландией», обнаруживает «главную структурную
оппозицию романа, конфликт между двумерным и трехмерным регистрами».
— Двумерные геометрические фигуры в «Защите» чаще всего служат
для описания мира прозаичной скуки, который Лужин должен терпеть,
когда он не играет в шахматы или не думает о них; эти фигуры либо опи-
сывают действия персонажей, окружающих (ключевое «двумерное» слово)
Лужина, либо характеризуют действия Лужина, когда он погружается
в этот мир. Непосредственно перед тем, как предложить своей избраннице
руку и сердце, Лужин «кругами зашагал по комнате». Родители Лужина
«ходили вокруг него, с опаской суживая круги». Многие персонажи в своем
видении мира ограничиваются «силуэтами» и «профилями»: жена Лужина
часто видит его в профиль, Лужин с невестой игриво уплощены в своем
прошении о вступлении в брак: «Мы с вами будем висеть на стене в продол-
жение двух недель». Жена Лужина пытается отвлечь его граммофонными
Набоков без Лолиты
пластинками, дисковидная форма которых подчеркивается. Она и ее семья
неоднократно помещаются в контекст каламбуров, обыгрывающих дву-
мерность, например, «она наметила план этой недели». С особенной энер-
гичностью Набоков настаивает на двумерности дурного или опошленного
искусства. Отец Лужина воображает, как спускается со свечой «в гостиную,
где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном черном роя-
ле»; позднее эту же сцену мы видим на гравюре в квартире взрослого Лу-
жина. Такому же низведению персонажа к двумерному изображению под-
вергается в тексте жена Лужина. Любуясь собой в зеркале после ванны, она
говорит: «Прекрасная турчанка»; эта фраза должна напоминать читателю
о уже дважды упомянутой в начале романа копии с «купающейся Фрины»,
висевшей в квартире родителей Лужина. Двумерная натура госпожи Лу-
жиной ярче всего изобличается ее отождествлением с литературными про-
изведениями, вызывавшими у Набокова презрение...
Сам же главный герой, как вы уже догадались, выламывается из скучной
двумерности.
— Невеста Лужина гадает, «как же она покажет этого человека отцу, ма-
тери, как это он будет сидеть у них в гостиной — человек другого измере-
ния, особой формы и окраски, не совместимый ни с кем и ни с чем». Трех-
мерность Лужина обыгрывается во многих местах романа: «Какой
неотесанный», — думает будущая жена Лужина. В этом слове заложена
идея сопротивления Лужина всем попыткам сделать из него гладкую плос-
кость. Когда Лужин начинает рисовать, находя в этом жалкую замену шах-
матам, портрет жены в профиль ему не удается, но работы, изображающие
глубину пространства или трехмерность — или хотя бы иллюзию трехмер-
ности, — выходят гораздо лучше: среди них — куб, отбрасывающий тень,
и «конфиденциальный разговор конуса с пирамидой». Образы трехмер-
ности маркируют срывы Лужина обратно в мир шахмат, случающиеся не-
сколько раз — например, когда у подкладки пиджака внезапно появляется
дополнительное измерение в форме дыры, и там, за подкладкой, оказыва-
ется шахматная доска. Здесь присутствует восхитительная ирония: лужин-
ский мир шахматного творчества прикован к доске, которая в буквальном
смысле имеет лишь два измерения; и однако, эта «подлинная шахматная
жизнь» — в силу своей близости к искусству — часто приобретает допол-
нительное измерение, связанное с «подлинным» миром набоковских пер-
сонажей. Лужин играет в шахматы «в неземном измерении»...
Прыгает в итоге в окно, где, впрочем, возможно тоже не находит иско-
мого дополнительного измерения: в последний момент перед его взором
развернулась все та же клетчатая шахматная бездна.
Внимательный читатель путеводителя, возможно, уже обнаружил в рас-
суждениях Морозного Ариозо «детскую», как говорят шахматисты, де-
бютную ошибку, несколько обессмысливающую эти изобретательные
конструкции; о ней позже, а тут я отмечу, что и сама стройность конструк-
ции — это уже «смысл», и орнамент, предложенный исследователем, зай-
мет достойное место в нашей коллекции.
163
Узоры (водяные рифмы)
«Подвиг»: кинжал с ноготок
[96111:17]
164
В первом абзаце романа, среди брелоков, украшающих пикейный жилет
деда главного героя, выделяется самый занимательный — кинжал с но-
готок.
У отца Мартына этот ноготок вырастает в целую коллекцию сабель
и кинжалов («спокойно читал газету и, не поднимая головы, изредка отве-
чал: „Да, отравленный"»). Младшим, так сказать, символом этой коллекции
оказывается неизменная пилочка для ногтей.
От отца она переходит к дяде Генриху, у которого пренебрежительно
именуется уже «ковырялкой для ногтей». Мне не очень импонирует гру-
бость исследователей, уничижающих жену Лужина или обзывающих дядю
Генриха «туповатым буржуа». Стоило бы деликатнее отнестись к этому
щедрому персонажу, который спас — если не от голодной смерти, то от го-
лодной жизни — мать Мартына и отчасти его самого. Но невозможно от-
рицать, что и Мартынове уважение к дяде неабсолютно, а обсасываемая
благодетелем зубочистка — худосочная племянница пилочки — вызывает
у него прямо-таки ненависть.
В его собственном мире зубочистка отсутствует, но других длинных-
острых колющих-режущих сущностей хватило бы на дюжину иных героев.
В восемь лет он пробовал остричь наголо дворовую собачку и порезал
ей ухо.
Когда «в сарае» (перепутанное со слуха «в Сараево») убивают австрий-
ского герцога, одиннадцатилетний Мартын очень живо представляет этот
сарай с хомутами на стене и герцога в шляпе с плюмажем, отражающего
шпагой потуги пятерых заговорщиков в черных плащах.
В пятнадцать лет в крымских мечтах он первым врывается на лихом ко-
не в мятежную Москву — конечно, с шашкой наголо. После купания лежит
нагишом на раскаленных камнях и смотрит на черные кинжалы кипари-
сов. В Берлине носит рубашку с острыми концами воротничка, во время
швейцарского происшествия на скале (залез, откуда не слезешь) его спаса-
ют острые ногти. В Лондоне глядит на пепельный нарост папиросы, схо-
жий с седой хвоей, в которой сквозит зловещий закат («кинжальность»
втекает в этот образ через ассоциации с кипарисами и кровавым окрасом
заката).
После кембриджской драки с Дарвиным, возвращаясь в лодке с поля
брани, чувствует себя Тристаном (в легенде о Тристане в соответствующем
эпизоде герой ранен копьем), а абзацем позже думает о полководце, кото-
рый принимает вольную смерть, падая грудью на меч.
Огонь сониной плиты выпускает когти, когда Мартын подносит к газу
спичку, а на ферме во Франции батрак Эдельвейс ловко орудует секатором.
Что до острого ногтя, Мартын пытался приспособить его к полезному
делу не только на скале, но и в более приятной ситуации в нежном отроче-
стве: у Лиды (пляж в послереволюционном Крыму) чесался на икре кома-
риный укус, и Мартын хотел показать ей, как нужно сделать ногтем крест
Набоков без Лолиты
на вздутии от укуса, и получил по рукам, не до конца сообразив, за что
именно. Эта сцена имеет Сонину рифму: «Можно снять муравья?» — «За-
висит откуда». — «С чулка». — «Убирайся, милый» — последняя реплика
адресована и муравью, и Мартыну. Лида еще чесала ногу во сне, явившемся
Мартыну после смерти отца, а Соня чешет ногу в момент последней встре-
чи с Мартыном перед гибельным походом.
«Острое-длинное» появляется в связи со многими милыми Мартыну
женщинами: у матери удлиненные мочки, и она прокалывает острием
трости опавшие листья (хотя именно эта привычка есть у героев разных
сиринских текстов), в шляпе Бэсс (приключение первой лондонской но-
чи) — булавка, у Сони раскосые глаза, а у танцовщицы из «Эреба» неес-
тественно тонкие брови (своей Вере Набоков писал в конце 1923 года, что
та вся состоит «из маленьких, стрельчатых движений»). В подобных эле- [152:55]
ментах внешности отказано «пошлым» Розе и горничной Марии, а также
поэтессе Алле Черносвитовой. Последнее странно: пусть девушка и не хва-
тала звезд с неба, но сыграла в жизни Мартына важную и праздничную
роль... Не считать же карандаш в ее руках и длинные каблуки. Разве что
бритва, с которой — чудится Мартыну — может напрыгнуть на него обма-
нутый муж Черносвитов... но бритва у мужа — тупая.
А сам Мартын, насколько остро его оружие? Насколько, иными слова-
ми, он готов к подвигу, к безумному перформансу «24 часа в Советской
России»?
Вот узкий-длинный-острый предмет — лыжи. Мартын спрашивает,
сколько они стоят в Швейцарии. В результате лыжи покупает ему дядя. Это
вряд ли верно: оружие следует приобретать самостоятельно. Мартын лю-
бит и умеет работать, на дядину шею присаживается кратко и нехотя, но
вот с лыжами — обмишулился.
В параллельном эпизоде старый Иоголевич, мастак переходить границу
в саване, спросит, сколько стоят в Берлине галоши, и можно не сомневать-
ся, что он, в отличие от Мартына, купит их себе сам.
Превосходство стариков подчеркнуто еще раз: Мартын в Швейцарии на
прогулке с организатором крестьянских восстаний Грузиновым устал на
крутой тропинке, и Грузинов извлек из кармана финский нож, выбрал де-
ревце и молча, очень точными ударами смастерил ему палку.
Наблюдатели трактуют палку-посох как грузиновское благословение
в добрый путь; давайте лучше протрактуем нож: старшее поколение много
лучше пользуется концептуальным колюще-режущим предметом.
Рано, рано Мартыну идти на подвиг. Вот и бритву в дорогу — последняя
вспышка — он забыл положить в чемодан. Нет, последняя через страницу:
с первого дня решительного похода чувства Мартына «заострены».
Но заостренные чувства — это еще не оружие. Внимательный читатель
уже на забытой бритве понял, что проект провалится.
И еще пропущена в нумерации романа цифра, похожая на две пики: гла-
вы 11 не было ни в журнале, ни в книжном издании, и во всех последую-
щих изданиях с тех пор сразу после десятой идет двенадцатая.
165
Узоры (водяные рифмы)
Вареные яйца
В «Камере обскуре» в глаза бросаются похождения цифры 8.
В первой главе появляется восьмилетняя Ирма, во второй — лакей, го-
ворящий на восьми языках.
Магда возникает в третьей главе: ей 16 (два раза по восемь), а ее
собственные злоключения, связанные с более чем привлекательной внеш-
ностью, начались в восемь, когда ее ущипнул соседский старик. В этой же
главе квартирная хозяйка варит девушке два яйца: кто-то усмотрит тут
предсказание парности грядущих эротических переживаний, но мне важ-
но, как крутится вареное яйцо — вытанцовывая все ту же восьмерку, да
и два яйца вместе именно ее и составляют.
В пятой главе лукавой цифры нет, но это сейчас, а раньше была, хоть
и располовиненная: в журнальной публикации Аннелиза с Ирмой уезжали
из дому «около четырех».
В шестой главе выяснится, что Аннелизе 35 лет (3 + 5 = 8, три женских
образа «Камеры» зарифмованы через восьмерку в отдельный терцет: у Ир-
мы восьмерка своя, родная, у Магды получается в результате деления попо-
лам, а у Аннелизы — сложением календарных цифр).
В седьмой главе торчат три пустые пивные бутылки на пятом этаже
(снова 3 + 5); и время около восьми.
В девятой главе компания заказывает дважды по четыре пива.
Семнадцатых глав (1 + 7 = 8) — две штуки. Одна семнадцатая глава
и другая семнадцатая глава. Сравни с отсутствием в «Подвиге» остроко-
166 нечной главы 11.
В двадцать пятой главе появится Зенгелькранц, с которым Кречмар не
встречался восемь лет, а в двадцать шестой главе этот Зенгелькранц «вось-
мерками» поливает песок из лейки.
И, наконец, в тридцать шестой около восьми вечера Макс доставляет
окончательно сломанного Кречмара к Аннелизе.
В начале «Отчаяния» нам покажут газоем на краю пейзажа, круглый, румя-
ный, похожий на исполинский футбольный мяч. Вскоре он срифмуется с как-
тусом на балконе — круглым, натуженным, седовласым. Потом замелькают
персики, шарики... наблюдателю слегка надоело. Кролик еще будет опреде-
лен как «самое овальное животное»... шар обовалился,растекается, лопнет...
Специалист, как известно, подобен флюсу. Он не понимает, до какой
степени непропорционально выглядит со стороны. Представляя себе про-
гулку с Машей, например, Шеншиной по громадным залам, где развешена
в виде гобеленов проза Сирина, я боюсь прескучить ей однотипностью
восторгов. — Смотри,Хрущов и Мухин (ближе к концу «Соглядатая») сто-
ят в дверном проеме как две кариатиды! — Вижу, — кивает Машенька. —
А в начале повести, когда Смурова избивал Кошмарин, мальчики-воспи-
танники точно в таких же позах стояли в дверях. — Точно! Надо же! —
А то! А смотри, Машенька, в «Ударе крыла» у героини вокруг шеи такая
черная бархатная полосочка... — Да, очень стильно! — Да, гм... Ну... Это
Набоков без Лолиты
ведь похоже, что у нее отрублена голова... — Почему?! — Ну, черная полос-
ка между телом и головой, будто там пустота! — Не очень похоже... — По-
хоже, не спорь... Она же погибнет в конце рассказа...
Обнаружив письмо Тургенева, в котором Иван Сергеевич неодобри-
тельно отзывается об одном сочинении Чернышевского, Сирин ликует,
что написал Тургенев письмо в свой день рождения.
— Совпадение годин, картотека дат... Так их сортирует судьба в предви-
дении нужд исследователя.
«Нужд исследователя», обратите внимания.
Этого я и опасаюсь, скашивая взгляд на машенькин профиль, на корич-
невый бант... горит ли ее карий татарский глаз, интересны ли ей подроб-
ности про дату письма... у читателя нужды иные, чем у исследователя.
На Моховой Маша Шеншина и ее однокурсницы планируют спектакль
по роману «Подвиг». Коллекция пик, зубочисток и кинжалов для спектак-
ля совершенно бесполезна, уверенно утверждаю я. Если настаивать на их
повторяемости, это будет навязчивая ненужная тенденциозность, вытас-
кивание в красный угол символа, вовсе на такое место не претендующе-
го... а если эти кинжалы аккуратно втыкать время от времени, зритель их
взаимосвязей и не заметит.
Машенька ничего не ответила, почесала левое крыло носа. Она недавно
вытащила из носа пирсинг... может быть, фантомно он еще там.
Острый ноготь Мартына на ноге Лиды, а потом попытка снять муравья
с чулка Сони — бодро продолжаю я, — эти эпизоды, пожалуй, можно оста-
вить и зарифмовать. Можно даже их сблизить: для театра нормально, если
и в Сонином случае речь пойдет не о муравье на чулке, а о комарином укусе
на голой ноге. И в первом, еще почти детском случае Лида как раз может
позволить Мартыну прочертить ей на голени крест, а уж Соня — вырази-
тельно даст по рукам. — Не очень видно, — возражает Машенька. — Из за-
ла покажется, что он просто хватает ее за ногу. Не разглядеть, что он чертит
крест. — А если это крупно видеопроекцией над сценой... Сейчас же во
всех театрах есть видеопроекции! — Ну, если только проекцию...
Мне кажется, неплохо. На что-то сгодился реестр кипарисов.
До «Дара» меж тем Сирину не приходило в голову подсказывать читате-
лю, где и какие дышат водяные паттерны. В «Даре» с расшифровкой важ-
нейшего подкожного орнамента романа, истории-траектории Зины и Фе-
дора, выступает на последних страницах сам рассказчик.
Он делится с Зиной замыслом романа. Основная идея — «нечто похожее
на работу судьбы в нашем отношении».
— Как она за это принялась три года с лишним назад... Первая попыт-
ка: аляповатая, громоздкая. Одна перевозка мебели... Шутка ли сказать, —
перевезти в дом, куда я только что въехал, Лоренцов и всю их обстановку!
Идея была грубая, через жену Лоренца познакомить меня с тобой, — а для
ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку... Все это гро-
моздкое построение пошло к чорту, судьба осталась с мебельным фурго-
ном на руках, затраты не окупились.
167
Узоры (водяные рифмы)
— Смотри, — сказала Зина, — на эту критику она может теперь оби-
деться — и отомстить.
— Она сделала вторую попытку, уже более дешевую, но обещавшую ус-
пех, потому что я-то нуждался в деньгах и должен был бы ухватиться за
предложенную работу — помочь незнакомой барышне с переводом каких-
то документов; но и это не вышло... Тогда-то наконец судьба решила бить
наверняка, то есть прямо вселить меня в квартиру, где ты живешь...
Дальше о том, что в квартире Федор встретил несимпатичного Зини-
ного отчима и хотел уже отказаться от комнаты, но судьба, «из крайних
средств», обратила внимание Федора на голубоватое бальное платье
на стуле. Федор, очевидно, представил платье с начинкой, с прекрасной
хозяйкой...
— Только это было не мое платье, а моей кузины Раисы... кажется, она
мне его оставила, чтобы что-то снять или пришить.
Это любимый момент — с чужим платьем.
Нам рисуют схему столь упертой и последовательной работы судьбы,
что она вот-вот с картонным грохотом обратится в фатум.
И это воздушное платье... очень кстати тут дыхание газовой случайности.
Не штырь судьбы из земли вылазит, а будто все вместе наряжаем елку.
На фразе «это было не мое платье» читатель качнется назад, к сцене,
в которой Федор не пошел на бал, и подумает, что другого-то случая у Го-
дунова увидать Зину в бальном платье, пожалуй, и не было.
До финала осталось две страницы, и тот, кто читает «Дар» впервые, мо-
жет подумать, что реплика Зины о возможной обиде и мести судьбы уже
168 не успеет сбыться... Перечитыватель помнит, как именно она сбудется.
Словом, в этой расшифровке тайных пружин романа все прелестно.
Лишь зная о неприятных подробностях грядущего превращения Сири-
на в Набокова-штрих, я с тревогой всматриваюсь в это вдруг возникшее
желание выпячивать свои узоры.
Устал быть недооцененным гением, сам кинулся объяснять, как у него
все ловко связано, какие он способен орнаменты выкаблучивать... Суетли-
вая стратегия, но в «Даре», повторяю, она еще только зарождается в форме
милой елочной шутки.
Мы к ней вернемся пренепременно.
Спасибо к тому же Федору за то, что он своим монологом о коленцах
судьбы избавляет от необходимости выглядывать в сложнейших ланд-
шафтах «Дара» какой-то иной сквозной рисунок. Он если и возможен —
при таком масштабе произведения, — то какой-нибудь слишком общий,
совсем условный.
Lj-юзер gippodemos отмечает «бабочкообразность, симметричность,
[168] двукрылость романа».
— Симметрия романа — от начала к середине и от конца к середине.
Центр композиции, «тело бабочки» — 3 глава, «но настоящий ее стер-
жень — любовное стихотворение, посвященное Зине» (предисл. к англ,
изд.). Половинки текста романа — взаимо-отражение в зеркале этого
Набоков без Лолиты
стихотворения. 4 крыла и тельце бабочки = 5 частей, 5 глав, 5 — многократ-
но повторяющееся число романа. Тема ключей: Начало романа — забытые
на столе ключи от новой квартиры, в кармане ключи от старой. Конец —
ключи в столе. Старые украдены. Дождь в сквере — дождь в Груневальде.
Авторецензия на стихи — авторецензия на роман о Чернышевском. Нена-
писанная книга об отце — книга о Чернышевском. А так же: Чемоданы
въезжающих Лоренцов и отъезжающих Щеголевых, сама жена Лоренца
встречающая и провожающая Чердынцева, Груневальд и смерть Черны-
шевского (Яши и Александра Яковлевича), Воображаемые беседы с Конче-
евым. Итд. итд. Часто симметрия выглядит как образ и отражение, преоб-
ражаясь согласно закону инверсии напр. Клара/Егда Стобой и ее квартира
наяву и во сне, книга об отце и книга о Чернышевском...
«Бабочка, симметрия» — самые элементарные степени смысла, но для
начинающего читателя симметричная крылатость романа может оказать-
ся неплохой рекламой.
Маша Шеншина, допустим, уже девушка искушенная, ее уже можно
соблазнять сообщением, что Старший Комментатор одним из источников
названия романа видит русскую поговорку «Даром и чирей не сядет». [зв]
А вот приглянувшийся Маше абитуриент Лева из Пскова — совсем юный,
ему, пожалуй, стоит сообщить про роман в форме бабочки.
Стройка или ремонт, работы, закрытые от прохожего взора гигантским
транспарантом.
На транспаранте сидит большая живая бабочка. Черная с оранжевыми
орнаментами, размах крыльев метров десять, крыльями то одним, то дру-
гим дергает, усиками колобродит. Это не в Берлине, а на Невском. Близко от 169
Литейного, у Дома актера. И указано:
«ДАР». ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
Но знание о ней — решающего значения не имеет.
Заходя в собор, облитый золотым блеском, который сливается в водах
большой реки с тополиным золотом новой осени, я могу не иметь ни малей-
шего понятия о контрфорсах и сопромате. Меня ослепляет перемигивание
витражей, мозг мой раздвигается в такт зеленоватым распоркам сводов, ко-
лонны текут ввысь, ангелы закипают над головой Марии, а потом Иосиф че-
шет за ухом ослика, я могу не знать имен этих странно одетых людей (осли-
ка трудно не опознать,это Иа-Иа), невидимый орган зыблет надо мной
тугую волну, я вовсе не знаю значения слова «крипта», не до конца пони-
маю конструкцию «алтаря», в похожей на дизайнерский фонтан в гостиной
олигарха штуковине я не сразу опознаю «купель»... каких-то витражей
и скульптур, притулившихся под самыми сводами, в верхних устьях колонн,
я не могу видеть, а некоторые — так они расположены — не разглядеть даже
в бинокль, они адресованы не прихожанину, не туристу, а только Богу.
Я могу не знать, не иметь понятий, не видеть, не читать никогда про ос-
лика и Иосифа, но машина храма работает, лучи пересекаются в важных
Узоры (водяные рифмы)
точках над моей головой, ангелы, пролетая, касаются меня крылами, воздух
дрожит, струится свет, шестеренки смыслов вращаются, душа подтягива-
ется, стройнеет, главное открывается — вне зависимости от моих пред-
ставлений об уловках архитектурного искусства, об ужимках декораторов
и о сюжетах икон. Чтобы напитаться Бахом, не нужны ни знания о конк-
ретной библейской подложке именно этого пассажа, ни представления
о том, какие тут именно заюзаны регистры и ноты. То же и с собором,
и с романом, да и высокие чувства, связанные с созерцанием далеких гор
или облаков чудовищно сложной лепки, не зависят от степени осведомлен-
ности в том, «как это сделано».
Следует просто верить, что всякая пылинка — не зря, что всякий цветок
имеет рифмы на других континентах и в далеком океане, что чудо может
грянуть в любое мгновение... то есть в любое мгновение оно тихо сочится
из слов и вещей. Не стоит коситься на всех барышень в переполненном по-
езде, жадно заглядывать им в лица — не та ли это та, что через несколько
лет полюбит меня? — все равно не угадать; тут, может, и фокус в том, что-
бы не заранее угадать, что будет покушением на авторские права судьбы,
а прозреть задним числом. Но ничто не мешает тебе думать обо всех жен-
щинах в этом поезде с той же теплотой, с которой ты думаешь о той един-
ственной; источать эту медленную, как бы из иных эпох проступающую
капельками росы теплоту; оттого, что ты всегда готов к чуду, всем станет
только лучше.
В хорошей книжке тоже все должно быть «не зря». Если писатель окра-
шивает собачку в лиловый цвет, это не значит, что ему нужно было просто
170 как-то ее окрасить и он взял первый попавшийся на глаза (глянул в зерка-
ло на свою вчерашнюю физиономию) оттенок: нет, автор думает над каж-
дым эпитетом, грызет карандаш, проливает на клавиатуру кофе, занозит
палец о потрескавшуюся конторку, подбирает слово, за которым горит
смысл. Это идеальная схема, многие даже и небесталанные сочинители не
соответствуют ей, ставят поперек строки необязательные слова, собачек
окрашивают из телевизора. Но Сирин в этом смысле безупречен, он не зря
говорил, что все контролирует в своих книжках, все его собачки устроены
в ритме чередования зеленных и кондитерских. Ступая в его текст, чита-
тель может быть уверен, что конструкция покачивается выверенная, все
в ней связано, писатель над ней поработал ответственно, как инженер ра-
ботает над конструкцией моста. Про роман Сирина известно, что в нем
царит гармония. Все ненапрасно и неслучайно. Система внутренних отсы-
лок и противовесов, как огромная арматурина, колеблется на ветру, но не
упадет.
Тут, конечно, слегка обалдеваешь, каково было удерживать на весу все
подробности схем-чертежей, не имея никакого, прости, Господи, компью-
тера, сочиняя порой на огромной скорости (черновик «Приглашения на
казнь» был якобы написан в две недели). Секрет, в общих чертах, поня-
тен.. . как там сказано про голову Лужина?
— Драгоценный аппарат со сложным таинственным механизмом.
Набоков без Лолиты
Да, именно он. Всего-то, драгоценный аппарат. Таинственный механизм,
делов-то. Но результат все равно потрясает, так и хочется найти недочеты
в конструкциях, промахи, ляпы... Вот чета зеленых кресел в «Машеньке»
расползлась вроде по комнатам Ганина и хозяйки, а одно из них позже
вдруг окажется в каморке Подтягина... Серьезная, конечно, придирка.
Собственно, это вопрос о Творце: как он мог предусмотреть и дальние
перелеты птиц, и вой одинокого кота перед отражением в лакированной
дверце шкафа, и форму желудя, и наклон ивы над речкой, и закаты над
прериями, и запахи сенокоса и конопли, и градины размером в перепели-
ное яйцо: никак не мог, такой расчет невозможен, но вот же — читаем,
пользуемся.
Узоры не статичны. Они шевелятся, дышат, обрастают валентностями,
могут оборачиваться аллюзиями, перекликаться с узорами из других кни-
жек того же автора и — вступать в продуктивные взаимодействия с
жизнью. Маленький Набоков восхищался моделью экспресса в окне же-
лезнодорожного агентства в начале Невского, Сирин потом всю жизнь
описывал поезда, Евсей Лазаревич Слоним, отец Веры, построил малень-
кую, но настоящую железную дорогу на Западной Двине, чтобы подвозить
к речке лес — для дальнейшего его сплава к городу Риге, а наследник, опер-
ный певец и автогонщик Дмитрий Владимирович Набоков, устроил у се-
бя в саду железную дорогу, по которой вагончики доставляли из кухни
в домашнюю модель Рая фрукты и вина: словно продолжается все тот же
фокус.
Зина читает вечерами Федорову «Жизнь Чернышевского»:
— Она, повторением ей особенно понравившихся сочетаний слов, обла- 1/1
гораживала их собственным тайным завоем.
Булгаковская Маргарита читает роман Мастера о Понтии Пилате:
— Она... нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей
понравились...
Это не «реминисценция», Сирин не мог прочесть булгаковский черно- [78:175]
вик, это просто кто-то поставил два небольших похожих домика на двух
берегах изумрудной реки, против друг друга.
Встречается на мосту приличный мужчина в перпендикулярных очках,
профессор университета, дарит журнальчик, названный в честь реки, в ко-
торую вот-вот впадет канал, через который перекинут мост. Много лет
изучал словесность, а теперь сам написал рассказ. Я открываю, вижу пер-
вые строки:
— Иван Тургенев, самец береговой гориллы двадцати трех лет отроду,
был в целом доволен своей жизнью. [ 126]
Что за блажь, почему так должны звать берегового самца?
Почему он береговой — в честь других берегов или в память о Ходасе-
виче, который говаривал Берберовой: «Не хочу быть береговым, хочу быть [i* 17ц
всамделишным»?
Почему, наконец, самец лишь двадцати трех лет отроду, если Онегину
и Ганину по двадцать пять?
Узоры (водяные рифмы)
172
Рассказываю профессору историю о Тургеневе и обезьяне, тот немнож-
ко растерян:
— Вы не подумайте, что это какая-то шутка!
Я и не подумал. Это, разумеется, часть сложнейшей комбинации, разыг-
рываемой внимательными агентами; комбинации, которая на одной из
своих излучин стала и маленьким событием моей жизни.
Узоры не сохнут меж сомкнутых на века страниц. Все двигается.
Раскачиваться
и окунаться
Смерть шагнула на Пильграма из полутьмы лавки, когда он нагнулся к рас-
катившимся монетам.
Все остальные деньги, а также немногие мелочи, которые можно про-
дать (бронзовую медаль в футляре, оставшуюся от тестя), он уже собрал
и вспомнил в последний момент про копилку.
Рядовой тургеневский мужчина просто бежит от женщины, а Пильграм
постарался еще и оставить жену без последнего гроша. Когда она утром 173
обнаружит это, ей будет хотеться кричать, бежать с брачным свидетельст-
вом в полицию, но она останется сидеть неподвижно — старая, глупая,
ограбленная в лучших чувствах, растрепанная, в светлых перчатках.
Читатель попадает на место преступления не сразу.
Вместе с одним из номеров трамвая мы сначала увлекаемся с людного
проспекта в тихую улицу, которая тянется в темноте «без витрин, без вся-
ких радостей».
Потом становится оживленнее: мы проезжаем мимо фруктовой лавки,
мимо табачной, колбасной, мимо аптеки и москательной (автора не отпус-
кают мерчендайзинговые фантазмы), и вдруг — магазин бабочек с огром-
ными яркими особями напоказ.
Читатель, наслышанный о любви автора к этим крылышкующим тва-
рям, полагает, что мы достигли цели, но нет, трамвай скрипит дальше: га-
лантерейная, угольный склад, булочная, трактир.
У трактира затруднительно не выйти.
Из трактира, где мы весьма шапочно увидимся с несколькими персона-
жами, еще не зная, какой из них «наш», начнется медленное — пешее —
движение вспять. Грузный человек с седоватыми усами чуть прихрамывая
следует против хода трамвая, добирается до магазина бабочек, но вновь
промахивает мимо.
Раскачиваться и окунаться
174
— Миновав витрину своей лавки, сворачивал сразу за ней в подворот-
ню, где в правой стене была дверь с латунной дощечкой...
Из квартиры можно попасть на улицу через магазин, но герой с автором
к прилавку не спешат, растворились (один другого растворил) в недрах
квартиры, а потом еще дальше, в чертогах сна под низко надвинутым на
лоб ночным колпаком.
Пусть, конечно, спознается с забытьем, утром ему деваться некуда, из
спальни двинет к прилавку, и мы за ним. Но впустую перещелкнут и этот
(четвертый, кажется) затвор, ибо утро оказывается воскресным, витрина
забрана ставнем, а Пильграм с женой идут гулять по окрестностям, то есть
вновь нарезают круги вокруг интересующей нас витрины... могли бы по-
сетить утреннюю службу, но нет, про храм автор привычно забывает. У не-
го на витрине свои алтари.
Когда все же настанет понедельник, мы некоторое время будем выслу-
шивать, что в придачу к «основному товару», который пока не назван,
Пильграм последнее время торгует школьными принадлежностями.
И лишь еще через густую страницу мы все же достигнем цели: да,
Пильграм и читатель находятся в лавке бабочек.
Маятник славно полетал вкруг мишени, раскачал весь окрест, прежде
чем за-тор-мо-зить.
Затухающие колебания маятника обыкновенно носят плавный харак-
тер, но вокруг бабочки мы качались вне ритма, в хитром, то есть, каком-то
ритме с непредсказуемыми замедлениями и ускорениями.
Так ловишь шарик в норку посреди изрытого лабиринтами диска: перекатил-
ся, недокатился, отпрянул,ушел на вираж... вот наконец удалось его угнездить.
Так человек может раскачиваться на стуле под свою внутреннюю музы-
ку, наращивая и замедляя движения согласно неведомому нам, начертан-
ному на нездешней стене плану.
Про стул есть, чтобы далекий вираж не закладывать, у Ходасевича. Сти-
шок от 1921 года:
Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей.
Кругом — освещенные тоже,
И стулья, и стол, и кровать.
Сижу — и в смущеньи не знаю,
Куда бы мне руки девать.
Морозные белые пальмы
На стеклах беззвучно цветут.
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.
Набоков без Лолиты
О, косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?
И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытьи.
Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла
И слово сильнее всего.
И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвие.
Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом.
И вижу большими глазами — 175
Глазами, быть может, змеи, —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.
И в плавный, вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.
И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает — Орфей.
Я бы последнюю строфу вычеркнул, но, по мнению рецензента Сирина
(«Руль» от 14 декабря 1927-го), на стуле поэт достигает пределов поэтиче-
ского мастерства.
— Поэт сидит у себя в комнате, в сухом блеске электричества, и вдруг на-
чинает качаться и петь, причем в этом месте дактилическая рифма вдруг
заменяет женскую...
Раскачиваться и окунаться
1/6
Качели сбили ритм и вышли к новому качеству.
Наездник пробил границы и окунулся в другие берега — стопами в под-
земное пламя, в текучие звезды челом.
Сирин, быть может, не знал, что «комната круглая» (на самом деле —
лишь с закруглением одной из стен) располагалась на углу Мойки и Нев-
ского, против дома, где раздулся до рекламных размеров фаберовский ка-
рандаш, где Пушкин выпил лимонаду, а уже против лимонада, через узкую
речку, дом голландской церкви, хорошо простреливаемый из окна круглой
комнаты, в бывшей мертвецкой ныне устраиваются выставки, и туда при-
везли бы отпевать Дантеса, избери себе ангелы в то утро иные маршруты.
Знай он это, стихотворение про острие качнуло бы его в собственное
прошлое.
Так Федор во второй главе «Дара», качаясь по Берлину, много раз окуна-
ется в заповедное Лешино и возвращается назад.
Собственно, раскачивание — это технология творчества.
Попросту качаясь взад-вперед на ничтожном стуле, вы каждым движе-
нием преодолеваете некую границу и обратным движением преодолеваете
ее в обратном направлении, пульсируете на кромке стихий, пробуждая
свернутые во всякой пограничной ситуации энергии.
В первой главе Федор, вернувшись в новый дом без ключей и кукуя
у подъезда, не знает, ждать ли неурочного жильца, искать ночного сторожа
в черном плаще или попробовать разбудить звонком враждебного, не
факт что готового просыпаться швейцара, которого к тому же следует от-
благодарить решительно отсутствующим гривенником.
Федор начинает «качаться»: шагать по панели до угла и обратно.
К нему присоединяется млечно-белый фонарь, на сыром асфальте слег-
ка колеблется призрачный круг.
— И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отноше-
ния к Федору Константиновичу, оно-то что-то столкнуло с края души, где
это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным
рокотом понеслось...
Понеслись стихи. Федор окунулся в «черновик», что плескался в мозгу
уже несколько часов. В ожидании вечернего лакомства в виде рецензии на
книжку «Стихотворения» стих складывался поначалу оптимистический.
Благодарю тебя, отчизна,
За тра-та и крылатый дар...
К вечеру ситуация уточнилась, рецензия оказалась первоапрельской шут-
кой, благодарность подвисла... осталась в строке, но пропиталась горечью.
Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.
Набоков без Лолиты
Да, не признан, но в разговор «самого с собою» тычутся иные голоса, Фе-
дор уже шагает «по несуществующей панели» (то есть он и по существую-
щей панели продолжает расшагивать, но сознание улетело в зоологичес-
кий сад планет) и уже заглядывает во вторую, «качавшуюся, за несколько
саженей, строфу»...
Выкачал Федор в результате не только стих, но и помощь.
Набирая новый разгон, он заметил, что за драгоценной дверью заклу-
бился свет.
Несколькими страницами ранее Яша Чернышевский читал стихи само-
забвенным певком, раздувая ноздри и раскачиваясь.
Еще несколькими страницами ранее Федор перечитывал свою книгу,
мысленно «выхаживая» каждый стих.
Раскачиваться — это и подчеркивать, снова и снова проходить по пане-
ли — или по силовой магической линии.
Уплотнять, в плотное стадо сбивать энергии своей жизни.
Обматывать себя воздушными лентами, что завихряются вокруг ка-
челей.
Когда у Чорба электричество сразило медовую жену, он включает обрат-
ный мах маятника, проматывает вспять весь одоленный вдвоем маршрут.
Очутившись в городе счастливого знакомства, он сначала промахивает
мимо грязной гостиницы, в которую несколько недель назад утащил не-
весту со свадьбы в приличном доме. Туда, к родителям, и направляется,
но их нет, и Чорб сейчас качнется назад, к ключевой точке... Гостиница
в центре, у оперы, а родители как раз в опере, и, вернувшись домой и узнав
от горничной, что приходил Чорб, они седлают маятник, чтобы качнуться 1/7
все к той же гостинице...
Одна из функций водяного узора, перекличек между далеко отстоящи-
ми скворечниками текста — качнуть читателя назад.
Сделать его перечитывателем.
Стакан с ярко-красным напитком, бросающим овальный отсвет на ска-
терть на столике анонимного англичанина ближе к финалу «Весны в Фи-
альте», устраивает в голове читателя маленький взрыв: что-то еще было
важное красное по ходу рассказа, где же, что это... читатель отправляется
в обратный путь... нужно вылистать эту алую сущность...
Рассказ «Дракон» устроен так, будто бы размеры сказочного существа
трижды меняются, и внимательный наблюдатель покачивается на его ко-
лышущемся загривке.
Качнулся, блестя на солнце, стебель травы в парке культуры и отдыха
Груневальд им. Ф.К. Годунова-Чердынцева, и Федор припоминает:
— Где это уже раз так было — что качнулось?
Вернее, сам-то он не припоминает, а переадресует вопрос преданному
читателю. Это мы уже должны сообразить, имеется ли в виду лешинский
цветок, выпрямившийся и закачавшийся, когда его покинула во второй
главе бабочка махаон, или это ветви качались в озере зеркального шкафа
в первых строчках романа. Ну и мы сами качнулись, уже и не раз.
Раскачиваться и окунаться
— Сначала освещались только ноги, так ставимые тесно, что казалось,
она идет по тонкому канату. Она была в коротком летнем платье...
Да-да, это ноги Зины, но мы помним стройные ноги, тесно мелькнув-
шие перед лицом читателя буквально за десять страниц... Чьи же, Федор
Константинович?
— С изогнутой лестницы подошедшего автобуса спустилась пара очаро-
вательных шелковых ног...
Точно, с автобуса. Вас еще не удовлетворило личико пассажирки, «пре-
гнусное».
Фрагмент с тесно ставимыми ногами в летнем платье — самый эротич-
ный про Зину. Среди ее «соперниц» (готовая прервать просветительскую
процедуру миловидная ученица, проститутки на улице, монашенки,
школьница в черном купальнике в Груневальде) многие — да вот хотя бы
и эти автобусные ноги — описаны чувственнее. Федора качает к одному,
третьему, пятому соблазну, но он сдерживает себя и возвращается мысля-
ми к Зине... сложный психологический маятник, если учитывать, что к мо-
менту знакомства с Зиной Федор хранит целомудрие восемь лет, а к фина-
лу романа — почти одиннадцать.
Этого я пока Машеньке Шеншиной говорить не стану... она всплеснет
«да можно ли?», и слишком откровенный — что рановато — будет предпо-
лагаться ответ.
Мы обсудим с ней сейчас сцену в седьмой главе «КДВ». Роман Марты
и Франца миновал начальную взрывную стадию. Насыщение свежими
ласками состоялось, пришла пора осмотреться, и Марта начинает зады-
178 хаться в собственном доме, не может переносить больше Драйера рядом,
«что-то нужно было сделать, как-нибудь расчистить путь для дыхания
жизни».
Звонок, начинаются гости.
— Марта похлопала себя по вискам, проверяя прическу, и быстро про-
шла — не в переднюю, а назад, к двери гостиной, — чтобы оттуда, через
холл, плавно выступить навстречу гостям.
«Грамотная фрау, — оценила Машенька. — Выкатилась вся такая. Сце-
нический круг включить. — И она еще раскач... разбегается, в смысле. Как
перед прыжком. — Пружинку заводит. — За голову подержалась, включи-
лась. — Там у нее кнопка».
Кнопки у Марты вообще нехитрые, автор и читатель видят ее насквозь.
Видят, как набухает в ней готовность упасть в объятия Франца: все набух-
ло, давно готово, но Франц не решается протянуть руку.
«Когда же он наконец раскачается?» — думает Марта.
Отпрядывание проводов и мух от других берегов — это стадия, фраг-
мент большой машинерии качелей. Набухание сквозь ткань или стекло,
валандание на границе двух миров, в зоне смешения стихий — это тоже
качели... только маленькие, с крохотной осторожной амплитудой.
Бывает сложно углядеть какую-то вещь не потому, что она слишком
маленькая, как пуговица на актрисе, а напротив — слишком большая.
Набоков без Лолиты
Приписываемые марсианам сюрреалистические спирали в южноамери-
канских пустынях или, скажем, свастика из лиственниц, высаженных в сос-
новом лесу лютым размашистым фашистом недалеко от Берлина (осенью
лиственницы коричневеют и выделяются на вечнозеленом)... некоторые
объекты видны только с самолетов, допустим.
Нужна дистанция.
В «КДВ» тринадцать глав, действие течет чуть менее года. В первых
строчках «валет» садится в поезд, где встретит «короля» и «даму», поезд
идет в Берлин через небольшой городок на большой реке где-то на юге Гер-
мании. .. Река может быть Дунаем... Городок, например (совсем напри-
мер), Ульм. .. нынче скорый поезд идет оттуда шесть или семь часов: в эту
дорогу укладывается первая глава.
Вторая занимает около суток, если считать от момента прибытия Фран-
ца в привокзальную гостиницу; он, правда, мгновенно заснул, и «ясного»
действия во второй главе — с утра до вечера следующего дня — часов де-
сять-двенадцать. Время вновь исчислимо с точностью до часа, до двух.
Исчислимо оно и в третьей главе: пять суток, в ходе которых Франц
ждет звонка Драйера.
От главы к главе роман набирает ход, прогоны все длиннее: к четвертой
главе, которая укладывается в месяц с небольшим, поезд идет на полной
скорости. Четвертая глава — месяц, пятая — месяц, шестая — две недели,
седьмая чуть меньше двух, восьмая больше двух месяцев, девятая — пол-
тора-два, десятая — два: несмотря на колебания от двух недель до двух ме-
сяцев разница в течении времени уже не различается, пейзаж за окном
дрожит в ровном ритме, время похоже на толстую, хорошо набитую, рит-
мично покачивающуюся колбасу.
Ближе к финишу замедление: на события одиннадцатой главы ушло не
более десяти дней, двенадцатой — пять дней, тринадцатой и последней —
сутки с небольшим. Разумеется, читатель не оглядывается на перонные ча-
сы романа: вся эта конструкция входит в него сама брильянтовой узкой
змеей.
179
Белый мах
Четыре промелька Федора
по Берлину
В пятой главе «Дара» Федор Константинович совершает четыре эпических
прохода по Берлину. Наносит на карту города широкие мазки... с запада
на восток... с востока на запад...
Большой колышущийся механизм, гигантские качели...
Иногда герой пользуется городским транспортом, так что слово «про-
ход» не подходит... но и «проезд» отпадает... может быть, подошел бы
18 О плавный метафорический «проплыв»... ну и слово «просвет» мы по-преж-
нему любим. В Эрмитаже есть зал под названием «большой итальянский
просвет»... нам предлагаются большие берлинские.
Несторштрассе — крематорий —
Прейссенпарк—Ноллендорфплатц
Александра Яковлевича Чернышевского кремировали весной 1929-го на
кладбище Вильмерсдорфа [и] *, недалеко от комнаты Ф.К. на Агамемнон-
штрассе, 15, и от квартиры Набоковых на Несторштрассе, 22: это один
и тот же адрес [ю]. Оттуда, скорее всего, Ф.К. на кладбище (держа курс на
юго-восток) и прибыл.
Отделясь после церемонии от траурной группы, Федор Константинович
оказывается возле бронзовых боксеров, вокруг которых зыблются на
клумбе анютины глазки, личиками несколько похожие на Чарли Чаплина,
и садится на ту же скамейку, где пару раз сиживал с Зиной.
Боксеров бронзовых в живописных окрестностях крематория сейчас нет.
Ухнули на переплавку в жерло вечности или сгинули, будучи призванными
* Здесь и далее в квадратных скобках — ад-
реса с карты, помещенной в Приложении.
Набоков без Лолиты
на фронт без преображения, прямо в бронзовом обличье, под Сталингра-
дом. Может, пали жертвой бытовой корысти, случается (в «Руле» от 4 ян-
варя 23-го прошла заметка о том, что на Прейссенплатц «отпилили из
группы бронзовых боксеров одну фигуру в человеческую величину»;
«Дни» от 7 октября 23-го рассказывали, как с могилы скульптора Рауха
уперли бронзового ангела достоинством в два центнера).
Анютиных глазок везде хватает, а Чарли Чаплин тут оказывается
обезьяной Гитлера. Малыш Дмитрий опознал в анютиных глазках — по
усикам и по наущению отца — букет беснующихся фюреров; сравнение
переадресовали актеру. Сцена с сыном отнесена в парк у Фербеллинплатц,
который находится от крематория в пяти минутах ходьбы и который,
собственно, и есть Прейссенплатц, ныне Прейссенпарк, то есть и боксеры
бронзовые, и глазки анютины перенесены к крематорию через дорогу!
Конечно, можно умыкнуть у реальности художественную деталь (тот же
жилет табачника) в Астрахани и впаять ее в текст, действие которого про-
исходит в Сызрани, но, право же, детали лучше чувствуют себя, будучи
привязанными к родной географии.
Анютины глазки в любой точке мира могут быть похожи на Гитлера
и Чаплина, который в 1940 году сыграл Гитлера в кино; в самой знаменитой
сцене фильма «Великий диктатор» сатрап танцует под Вагнера с мячом-
глобусом, понаддает его задницей и принимает иные достойные Менете-
келфареса позы.
Но особо похожи они в Берлине.
Федор вышел из крематория... что открылось его взору?
— За серым с гуттаперчивым отливом куполом крематория виднелись
бирюзовые вышки мечети, а по другую сторону площади блестели зеленые
луковки белой, псковского вида, церкви, недавно выросшей вверх из угло-
вого дома...
Мечеть [12] на месте, церковь, выросшую из углового дома в середине
20-х, переделали ныне в отель [13], но вместо нее поблизости построили
Свято-Воскресенский собор [14].
Ровно такого ракурса, чтобы за куполом виднелись вышки и луковки,
мне найти не удалось. Такого ракурса, как я понял, можно добиться, лишь
слегка воспарив, иначе застит крематорий. Или уйти сильно за спину кре-
матория, чтобы не застил, но там кладбище, и вовсе не место для клумбы
с анютиными; кроме того, там не место для соседней скамейки, где женщи-
на со спицами выгуливает ребенка... И еще видел Федор, покинув кремато-
рий, отороченное молодой травой футбольное поле, которое могло зани-
мать спортплощадку между Бриеннерштрассе и Барштрассе [15] (ее видно
на картах 30-40-х, теперь на ее месте административное здание с просве-
том двора). Словом, смотрел он в сторону Прейссенпарка и двинул туда,
и анютины глазки на месте, никуда их автор не перенес, и боксеров к Федо-
рову времени могли восстановить (они названы в романе недавно постав-
ленными) на террасе у входа в парк... определим место для скамейки [16]
у этого входа, где Фербеллинерплатц переходит в Прейссенпарк...
181
Белый мах
А ракурс пусть останется подвешенным. Зрение полетало над пейзажем.
[93] Оно давно тут летало, в письме от лета 1926-го обнаруживается взгляд от
Гогенцоллерндамма:
— Мне явился восточный вид: настоящая мечеть, фабричная труба, по-
хожая на минарет, купол (крематорий), деревья на фоне белой стены похо-
жи на кипарисы — и две козы лежащих на желтой траве, среди маков.
Удвоение мечети подчеркивается парностью коз. А мое настроение под-
черкивается тем, что, двигаясь впервые к этому месту, пешком и издалека,
я ориентировался некоторое время на упомянутую (та же ли самая?) фаб-
ричную трубу, тоже путая ее — нес минаретом, но с трубой крематория.
Для сиживания с Зиной, между тем, скамейка слегка далековатенькая,
1210 метров от дверей подъезда, «последнее время какое-то беспокойство
вынесло их далеко за пределы тихой, темной улицы, где они встречались сна-
чала». Беспокойство не особо «какое-то», просто «дружат» они уже скоро три
года, дальше поцелуев дело не двинулось. Негде: дома неприятные родите-
ли — отели накладны и неприемлемы по соображениям высокой брезгли-
вости, — и ночная скамейка, видимо, не вполне поэтична... Хотя последнее
возражение почти невозможно принять вне сказочной атмосферы их романа.
Федор имел любовницу в России, но последние десять лет посвятил фи-
лигранному искусству сублимации, у Зины жених был относительно не-
давно, но это относительно лишь федорового библейского воздержания...
гонит их неутоленное желание, и круги, которые они нарезают вокруг до-
ма, — это тоже такое предвкушающее раскачивание.
Федор собирается восвояси, когда его окликает литератор Ширин, оза-
182 боченный судьбой кассы писательского союза и предстоящими выборами
в правление, а после разговора, в следующем абзаце Ф.К. оказывается на
писательском собрании в заведении «Леон» [17] на Ноллендорфплатц.
Как если бы продолжил движение на восток.
Ноллендорфплатц —
Викториа-Луизаплатц—Прагерплатц —
Агамемнонштрассе—Груневальд
Второй начинается там, где завершился первый, у кафе «Леон», Ноллен-
дорфплатц, угол с Бюловштрассе. Наши соотечественники использовали
«Леон» для лекций, собраний и прочих гуманитарных мероприятий. Здесь
заседали Союз русских писателей, Дом искусств и сменивший его Клуб пи-
сателей, тут же тусовались мелкие группы вроде «Веретена», куда входил Си-
рин, «Накануне» дважды в неделю приглашала сюда на сходки берлинского
отделения советской организации печатников. Сюда пришел — Благород-
[П8] ным Скакуном вычислено, что 27 марта 1928 года, за год с небольшим до
прохода Федора — на встречу с собратьями по перу Лужин-старший, пере-
путав среду со вторником. Он не огорчился: рассеянность входит в число
добродетельных недостатков мастера букв. Лужин-старший с удоволь-
ствием посидел и в одиночестве — прижав палец к виску и процитировав
Набоков без Лолиты
тем свою фотографию, которую Лужин-младший видел некогда в доме ры-
жеволосой тети.
Выйдя из собрания (ушел, не дождавшись результатов), Федор соверша-
ет ночную прогулку в обратном направлении, от Ноллендорфплатц на Ага-
мемнонштрассе. Он выходит в маслянисто-черную, трубящую улицу.
«Трубящая» она не только в унисон клаксонам: посередине ее проложен
воздушный тоннель городской электрички, схожий с трубой. Взбираются
на небеса буквы на рекламе мюзик-холла.
В роскошном театре ([18], единственное сохранившееся здание на пло-
щади) мог как раз заканчиваться спектакль абонировавшего его в эти годы
знаменитого авангардиста с пролетарскими девиациями, располагавшего
на сцене соты с комнатками, в каждой из которых шло свое действие, что-
бы полнее донести до зрителя смысл, например, пьесы А. Толстого и П. Ще-
голева «Распутин, Романовы, Война и Народ, который восстал против
них». Одновременно почти в соседних зданиях шли авангардная постанов-
ка о великих потрясениях и пародийное собрание вокруг активов в разме-
ре трех тысяч семидесяти шести марок пятнадцати пфеннигов: видимо,
это и называется иронией истории. Расписание спектаклей можно обнару-
жить в архивах, но у писательского собрания нет точной даты.
Щеголев — уж не знаю, кстати ли — фамилия не только советского пуш-
киниста, соавтора «красного шута» Толстого, но и фамилия отчима Зины,
в квартиру которого Федор сейчас и двинет. До дома четыре с небольшим
километра, меньше часа пешком. Федор, вероятно, закуривает. Тетешкает
в кармане последний гривенник, о судьбе которого мы уже знаем. Гривен-
ник ею, судьбой, пожран, и Федор споро рулит на запад, навстречу приви-
дениям сирени и чудным голым запахам, стелющимся по газонам.
Вот угол [19], на котором включатся проститутки: Мартин-Лютерштрас-
се (во времена Сирина просто Лютерштрассе) и Моцштрассе. Замечатель-
ным образом хохотушки-поскакушки и поныне здесь. Не стоят, правда, све-
чечками на улице (уличные сейчас, на любой вкус и цену, дислоцируются на
Курфюрстштрассе, тоже пять минут от Ноллендорфплатц, но в другую сто-
рону), а ждут в уютном клубе (выводок борделей тянется от самого угла
почти на квартал). Когда я впервые искал на этом углу дом по Лютерштрас-
се, 21, то был разочарован, что бордели находятся напротив, а в самом доме
по этому адресу есть лишь пиццерия «Луна» (куда, конечно, могут ходить
обедать через дорогу Мими и Лулу) да швуль- (по-нашему, гей-) офис [20].
Кроме того, это не соответствовало описанию из русского перевода немец-
кой книжки о набоковском Берлине, обещавшему, что теперь на этом месте
(настоящий дом лег в бомбежку) находится «одноэтажное торговое зда-
ние». Потом я сообразил по картам, что улица поменяла нумерацию. изб: од
На месте двадцать первого номера как раз и стоит приземистое строе-
ние [3] с гигиеническим заведением «Калигула».
Вероятно, переводчики постеснялись уточнять функцию «торгового
здания». Посмотрел позже в немецком оригинале (с несколько цветастым
для книги о Набокове названием «Голубые вечера в Берлине») — тоже од-
ноэтажное торговое здание.
183
Белый мах
Набоковедение — цитадель целомудрия.
Но почему именно номер 21 меня интересовал, спросите вы?
Потому что по этому адресу на протяжении семи месяцев 1924 года
обитал в пансионе «Андерсен» (четыре марки в день) Владимир Сирин.
Это первая его берлинская самостоятельная комната, без родителей -
братьев-сестер.
Прежняя семейная конструкция развалилась. Отец, напомню, погиб
в конце марта 1922-го. Летом Владимир предложил руку и сердце семнад-
цатилетней Светлане Зиверт, с которой познакомился на год раньше (она
была двоюродной сестрой кембриджского товарища Набокова Михаила
Калашникова). Предложение было сделано в Аквариуме при Цоо [21],
в царстве капитана Немо (место, конечно, имело для Владимира значение:
он не раз указывал, что собственный его отец сделал предложение его буду-
щей матери на велосипедной прогулке, и был известен подъем тропинки,
ставший свидетелем счастливой минуты). Родители Светланы были не про-
тив — при условии, что жених найдет себе постоянную работу. Он даже буд-
то бы (сведения об этом эпизоде не слишком внятны) поступил на работу
в немецкий банк, вместе с братом Сергеем; брат продержался на службе не-
делю, а Владимир — три часа. В январе 1923-го по инициативе родителей
Светланы их помолвка была расторгнута, за неустроенностью кандидата.
К осени мать собралась в Прагу: чешское правительство назначило ей, как
и еще довольно многим русским эмигрантам (Цветаевой, в частности,
уехавшей из Берлина в Прагу в начале года) небольшую пенсию. В Граждан-
скую войну чешскому легиону, воевавшему за Колчака, досталась белогвар-
184 дейская касса, и чехи таким образом возвращали долг. Сначала мать поехала
с Еленой, за ними последовала Ольга. Пустела большая квартира на Зекзи-
шештрассе [2], второе берлинское жилье семьи Набоковых. Здесь Федор мог
пройти, избери он непрямой, с крюком вправо, путь. Дом на Зекзише, в риф-
му ко вдове переводчика Левенфельда, принадлежал потомку стихотворца
Клейста. Прабабушка хозяина делала пристальные пренеприятные глаза на
портрете, если Сирин засиживался ночью за стихом или шахзадачей. Брата
Кирилла и таксу Бокса в Прагу Владимир отвез в конце года.
Утрата отца, как мы с вами выше уже замечали, возместилась Даром
(первым тактом вышли меньше чем за полгода, с ноября 1922-го по март
1923-го четыре разгонные книжки — перевод «Николки Персика», стихо-
творные сборники «Гроздь» и «Горний путь», перевод «Ани в стране чудес»;
сразу после них покатила из-под пера великая литература).
Расставание же с матерью, с братьями-сестрами и с первой невестой
обернулось появлением Веры Слоним.
Наверное, все же не на Лютерштрассе, 21, Владимир впервые-----
с Верой. Познакомились они еще в мае 1923-го, Владимир, правда, сразу, че-
рез день после первой беседы, уехал потрудиться на свежем воздухе на
французской ферме. Вернулся к осени. В эти месяцы они состояли в пере-
писке, а Вера публиковала на страницах «Руля» переводы: один из Эдгара
По и несколько с болгарского.
Набоков без Лолиты
Kmrt загадить.
По далеке» доотаммъ холмам* жег да
доИ амтам Пни — шг одвыв
дуга, вл которых* сгЬгятся подъ вечор*
свЪтлякн: л. лк* легли долНя тЪни в*
НУ TUW*. ** МУЛА ВИДНО глыу-
...Ты же прнвьм в* втоть м*л жь
шатер* мо*. А обещала цридтк. 6 пего
м прявл ml — —
По длмвсь* штатам* холлам*
блесяетъ по пру отроков море опта **•
как* «слое •&>, м которому л поЛдежь
окохышгь count: ты* будет* блеогЬть
бйлый сжЬть л иуетымф, пока ве спм-
ГМты
...Раж» утром* шрждешь ты л маторь
моС Ко ты же оМйма аралж От»-го
ты вв oPtaaaat ** «
По ааШМгь Ж стал ъ холмам* агу*
ща тся таима йФржм мри* ип
темнее огчшие, гь котором* быгаш душ
отв юлыбык До смер га: — пп ыуОмт*
см беалвшш мрак* л жуетюгК — оом
ram ram, и» и етшИот* motor*,
яовв м гмрт амоИть
***1 прима Семь Войди ** Лздп
Добьггу. И rWw nv грома та», ММЦ
— простерлась по небу в сиали шгЬзоы
в* иеШштаъ обч япяхъ.
...lUraa умригь «рема ьвонъ, вы-
йелъ »эъ wepmw оолтса Htoia муж* —
К лило его сверкало, вага пурпурная
угасшая звезда. На голов* его — Шра
шаг Ткани, расппггол лотосами к дамками
пли ^Мм И ядовитая стрелы, напминыя
кровью нт к ыадиа. сметав ни оъ
желчью и мадягь, еисЪли въ колчак! изг
apamimicrt костн. А рука его походил
ва дуть па> мш. *- а стал ва колояну
вгь мрамора.
И «такоши'ся Мужъ а рааверк^лъ ц!
амш ММщМ ВММВе
И пш1 готовился читать...
... Когда удара» второ* вмять.м
И толш холм*, офосшШ традоп гбво-
рптъ б тот, нто здШ некогда жил* Ч*.
ллНГЬ
♦
iuiHBa е»*т<***
<Я — Альфа творейд!» II годита пср-
мто млегВаа
Мршва оадаагв:
«Я — Альфа TUpfWtah
И уважь cepnro tmmUa.
Любовь свилхс
U • АльФе тмореаигЬ
W ома рошшш м смертью.
Д1 •
Мву ооФямшь шин вам* апг.1
достова.
Мшоро tab» пеуетм агат.
И агав ет штлвяъ, которым
вмМп сажу шь всфмж ообамвамж —
•ервж
Ш от со&мваь. вой» которым*
Им мрпо Оовсааьао: — мша
* lepHtb, егава. те® стаи!
Пореви* В. а
185
Вряд ли они «береглись соблазна» всю осень до Нового года, даже до
31 января, когда Владимир, вернувшись из Праги, поселился в «Андерсене».
«Сошлись» они, надеюсь, заметно раньше... пока писал, подоспела пуб-
ликация нескольких писем Набокова Вере, и вот письмо от 8 ноября 1923-го
(из Берлина в Берлин) уже не вызывает сомнений в характере их отноше-
ний и заканчивается сообщением, что В.В. ждет корреспондентку завтра
после 11 вечера — чорт его знает, где ждет (сравни со вторым абзацем пе-
ревода на картинке), разумно предположить, что на Зекзишештрассе, хотя
к тому дню в квартире еще оставались брат, такса, служанка, компаньонка
матери Евгения Гофельд...
На Лютерштрассе с конца января мешать уже было некому. Здесь нахо-
дилась первая вроде как общая явка наших героев.
Такой вот угол: медовое время с Верой у рассадника платной любви.
Белый мах
Когда Владимир съезжал, хозяйка забрала в залог пальто — за неопла-
ченные дни. Вера потом его выкупила.
Уходить с угла не хочется, вязнешь в слоистом времени. Сквозь двад-
цать четвертый (время «Андерсена») проглядывает не только двадцать
девятый (время прохода Федора), но и тридцать седьмой, время сочине-
ния фрагмента про двадцать девятый (когда у Владимира или только что
закончился, или как раз заканчивался страстный роман с парикмахершей
по собакам Ириной Гуаданини; хотя и стишки она писала: на картинке
опубликованный в канадском журнале в начале 60-х).
СВИДАНЬЕ
Душа крылата — а тело —
а тело клетка душе.
Сквозь пространство душа прилетела
на свиданье во сне к тебе.
Металось испуганно тело:
“Почти жизнь в разлуке прошла!”
А душа прильнув к тебе пела
от радостных слез слепа...
И. Гуаданини
— Дусенька, — сказала Федору одна из девушек с вопросительным
186 смешком.
Другая изображала даму, замешкавшуюся у витрины, и было грустно
думать, что эти розовые корсеты на золотых болванках она знает наизусть,
наизусть...
Теперь витрины с розовыми корсетами нет, но есть зато (об руку с «Ка-
лигулой») аптека St. Hubertus, а перед ней — стеклянная клетка, в которой
стоит медный перегонный аппарат чуть меньше рояля, трубы-змеи, ступы
какие-то с пестиками: исторический уголок, короче, приятный городской
объект. Весной 2010-го мне показалось, что объектов в клетке поубавилось
по сравнению с прошлым и позапрошлым летом, а уже летом я и вовсе за-
стал ее пустой: внизу белая галька и лишь восьмигранный след периметра
от змеевика, а напротив — четыре кирпича, служившие, видимо, подстав-
кой для одного из приборов и располагавшиеся неровным ромбом с неко-
торым смещением относительно друг друга, отдаленно напоминая свасти-
ку. Впечатление достаточно, доложу вам, магическое: стеклянный ящик
посреди города, белая галька на дне, октаэдр и четыре деликатно отцентро-
ванных кирпича.
Чего значат, кому какое сообщение передают — неизвестно.
В.В. бы понравилось.
К концу 2010-го объект исчез целиком.
А нам и Федору дальше.
Набоков без Лолиты
Тут еще рядом (за спиной набоковского пансиона) варьете «Скала» [22] ,
знаменитый бренд... о еще одной «полемике» между Сириным и Шклов-
ским «ZOO», вокруг этого варьете, я расскажу в другой главе.
Мы в «русском Берлине». За спиной и налево располагалось кабаре «Си-
няя птица» (открылось в 1921-м стараниями Якова Южного как наследни-
ца московской «Летучей мыши»). «Где была до сих пор наша русская синяя
птичка? Она куда-то забилась, спряталась и молча чего-то выжидала» —
приветствовал заведение журнал «Театр и жизнь». Предприятие оказалось
успешным, работало несколько составов, когда один гастролировал где-
нибудь в Стокгольме, другой собирал аншлаги на Гольтцштрассе, 9 ([23],
ныне тут рядовой жилой дом). Звездой кабаре был Виктор Хенкин с купле-
тами на близкую всякому эмигранту тему других берегов:
На одном берегу [пб: по]
Ишак стоит
На другом берегу
Его мать плачит
Он его любит
Он его мать
Он его хочет
Обнимать
Наш герой для «Птицы» в 1923-1925-м сочинял скетчи в соавторстве
с Иваном Лукашом. Кроме уже упоминавшегося скетча со скелетом, скак-
нувшим из чемодана на перрон, был про парикмахера, который долго-дол-
го бреет-стрижет мохнатого-лохматого клиента, в результате чего от того
остается голова юмористически маленького размера. Был про слепца в Ве-
неции, который брел по берегу канала, постукивая тростью. Что еще виде-
ли зрители, Владимир Владимирович?
— Зрители видели кромку воды и дугу, отражавшуюся в воде. [19:272]
Очень хорошо! А что еще?
— Слепец подходил все ближе и ближе, в самый последний момент, ког-
да он уже заносил ногу над водой, он доставал платок, сморкался и, повер-
нувшись кругом, уходил, постукивая тростью.
Не удалось зрителю посмеяться над чужой бедой, как это любят некото-
рые сиринские персонажи. Магда с Горном или Марта Драйер, следящая
в окно за скользящей по гололеду дамой, вяло размышляя, что очень
смешно, когда шлепается пожилая дама.
Федор еще на углу Лютерштрассе, «дамы» вопросительно на него смотрят.
Направо, мимо выводка борделей и через педерастическую ныне Фуг-
герштрассе («Рай для гомосексуалистов за шестьдесят и любителей садо-
мазо» — уточнено в московском журнале «Афиша» от 14 апреля 2008-го)
можно проследовать к месту, где В.В. обитал долго, с осени 1926-го по нача-
ло 1929-го [7].
187
Белый мах
Пассауэрштрассе, 12, в антресольном этаже против русского ресторана
и русского магазина (там Федор приобрел советский шахматный журналь-
чик «8 х 8»). Именно отсюда 15 декабря 1928-го вышел в свою последнюю
ночь Юлий Айхенвальд. Набоков спускался с ним из квартиры, запирал
(тема ключей) за гостем дверь парадного.
Федор идет по пятой главе в конце апреля 1929-го. Сирин недавно съехал
с Пассауэрштрассе, у него вообще нет сейчас берлинского адреса, он ловит
во Франции бабочек и не знает, куда именно вернется. Но кусочек города
между домом, у которого мы задержались, и станцией метро «Виттенберг-
платц» [24] описан в «Даре» раньше, в третьей главе.
На улице (неназванная Пассауэрштрассе), которая начинается под по-
кровительством огромного универсального магазина ([25], в золотые рус-
ские годы наши соотечественники чувствовали себя там вольготно,
в 1923-м сотрудник посольства Петров даже ухитрился прямо в KaDeWe
попасться на торговле оружием), и заканчивается в бюргерской тиши то-
полевой тенью на асфальте (как раз у сирийского жилья), Федор «как всег-
да» встретил несколько соотечественников.
Видел Кончеева, читающего на ходу парижскую «Газету», еще двух лите-
раторов, инженера Керна, выходящего из гастронома, свою квартирную
хозяйку Марианну Николаевну Щеголеву с другой женщиной, с подачи ко-
торой Ф.К. к Щеголевым и попал, мерещится ему Александр Яковлевич...
Собственно, и Сирина мог встретить, это сцена из весны 1928-го, наш ге-
рой как раз вовсю сочинял тут «КДВ», на который 21 марта подписал дого-
вор с немецким издательством (единственный, как уже говорилось, выгод-
188 ный договор Сирина; на эти деньги он и дунул ловить бабочек).
Многовато знакомых. Автор вынужден оговориться, что это похоже на
стечение людей во сне или в последней главе тургеневского «Дыма».
Но это в 1928-м, большинство русских из города уже поразъехались.
В начале 20-х, когда Сирин болтался между Берлином и Кембриджем, такие
толпы стекались и в реальности.
Затрагивая тему «русского Берлина», невозможно избежать некоторого
гама. Гула. Вышел каламбур, ибо вот порция от Романа Гуля.
— На Курфюрстендамме — Максим Горький. На Виктория-Луизен-
[зз: во] пляц — Андрей Белый. На Кирхштрассе завесил комнату чертями, бу-
мажными прыгунчиками, игрушками Алексей Ремизов, пугая немецкую
хозяйку, сидел в драдедамовом платке с висюльками. В комнате на Лютер-
штрассе — отец декадентов Н.М. Минский. Где-то — Лев Шестов. В Шене-
берге — Алексей Толстой. В кафе «Прагер Диле» — И. Эренбург. Над ним
в пансион взлетала Марина Цветаева. Грустя о березах, ходил Борис Зайцев.
Об антихристе читал лекции Бердяев. Всем недовольный, вбежал Шклов-
ский. Приехал навсегда высланный Ю.И. Айхенвальд с Ф.А. Степуном...
Последние «высланы навсегда» на «философском пароходе» в 1922 году
в компании других сомнительных гуманитариев, о которых Троцкий диа-
лектически выразился, что «расстрелять их не было повода, а терпеть бы-
ло невозможно». Могли бы, чего уж там, и без повода расстрелять, но вот
Набоков без Лолиты
выслали. Пароход могли утопить по дороге, но не стали. Это не в пользу
большевиков доброе слово — скорее напоминание о том, что силы зла ни
над кем никогда не властвуют безраздельно.
* Пароходов, меж тем, было два: Oberburgermeister Haken (отплыл из Пет-
рограда в Штеттин 29 сентября) и Prussia (отплыла оттуда же туда же 16 но-
ября), «философский пароход» — обобщенная кличка двух посудин. Туда
загрузили 160 с небольшим человек, но были еще синхронные высылки на
поездах из Москвы и еще на одном пароходе с Украины. Пинок Родины под
зад был спасением, и я не смею предположить, все ли высылаемые это по-
нимали. Многие из пассажиров этих рейсов обосновались на первое время
на берегах Шпрее.
Среди «культурных» русских, населявших город, замечены Эль Лисиц-
кий и Иван Мясоедов (до эмиграции цирковой борец и «гиревик», в Герма-
нии дважды сидел в тюрьме как талантливый фальшивомонетчик, позже
нарисовал первые почтовые марки Лихтенштейна, умер в Буэнос-Айресе),
Мстислав Добужинский и Борис Пастернак (раньше в Берлин переехали
родители; отец было начал писать портрет поэта, но не закончил, и больше
они не виделись), Шагал и Кандинский, Наум Габо и Давид Штеренберг, Се-
верянин (осевший в результате в таинственной Эстонии) и Александр Ку-
сиков (вопрошал в «Вещи»: «Разве Христос породил христианство? Разве
Муххамед — мусульманство? Разве имажинисты — имажинизм?»), один
брат Покрасс, Алданов, Зайцев и Евреинов, М. Шкапская и Соколов-Мики-
тов (после эмиграции — покоритель Арктики), П. Струве и И. Ильин,
Ф. Степун и С. Франк, Б. Григорьев (сбежавший в 1919 году на лодке через
Финский залив) и П. Челищев, Николай Агнивцев (мастер бессмысленных
куплетов типа «Крокодил и негритянка», в Берлине возглавлял кабаре
«Ванька-Встанька», позже в СССР сочинит блокбастер «Ленин-мозг»
о спецмиссии красных агентов по рассеиванию частиц серого вещества
вождя по сохнущей без оного планете) и He-Буква (это псевдоним челове-
ка), переводчица 3. Венгерова, А. Ященко (издавал «Новую русскую кни-
гу») и Саша Черный, Макс Фасмер (автор этимологического словаря, он
хоть и немец, но из Петербурга), Василий Немирович-Данченко (хвастав-
ший, что по объему написанного он на втором месте среди писателей,
уступая лишь Лопе де Вега и опережая бронзового медалиста Дюма-отца)
и Нина Петровская (Рената из романа Брюсова «Огненный ангел»), Надеж-
да Лаппо-Данилевская и Марк Слоним, Овадий Савич и Михаил Осоргин
(переводивший Гоцци и Гольдони), Павел Муратов и Борис Вышеславцев,
Аверченко и Тэффи, Иван Пуни и Ксения Богуславская (супружеская пара
из гомосексуалиста и лесбиянки), В. Корвин-Пиотровский и В. Амфитеат-
ров-Кадышев, Владимир Вейдле, Берберова и Ходасевич (назвавший Бер-
лин «мачехой российских городов»), Георгий Иванов и Ирина Одоевцева
(подрасставшись в России, они в Берлин прибыли раздельно и здесь вос-
становили свой союз), Лев Лунц и Лев Карсавин, Н. Лосский и Н. Оцуп,
Иван Шмелев, Илья Зданевич (автор фразы «здесь ни знают албанскава
изыка и бискровнае убийства дает действа па ниволи бис пиривода»)
189
Белый мах
и Сергей Мельгунов, Федор Иванов и Лазарь Мейерсон («были так бедны,
[72, № ю] что не только снимали вместе меблированную комнату, но у них на двоих
была одна пара ботинок и одно пальто; если один из них выходил из дома,
другой должен был оставаться»), Симон Дубнов и Александр Чабров, Оль-
га Чехова и Михаил Чехов, А. Каренина, А. Керн и В. Ленский (именно в та-
ком порядке по велению алфавита украсившие звучными именами список
актеров одного из русских театров), Н. Метнер, А. Глазунов, А. Гречанинов,
Н. Колин, М. Фокин, Борис Романов и Борис Николаевский («тот самый»
архивист).
Здесь же тусовались политики всех, как принято выражаться, мастей
(глава Временного правительства Керенский, белый генерал Краснов,
меньшевики Мартов и Дан, эсеры Чернов и Церетели, бывший шеф тай-
ной полиции Александр Герасимов).
Ошметки высшего русского дворянства — Гагарины, Трубецкие, Голи-
цыны, Багратионы.
По-прежнему существовали лагеря для интернированных, с войны еще
бывшие русские пленные обитали, например, в Винсдорфе под Цессеном
(40 км от столицы), катались, раздобыв копейку, в Берлин. Коммунисты
слали сюда своих эмиссаров в надежде ускорить мировую революцию,
с 1919 года орудовал Западноевропейский секретариат Коминтерна (в ко-
тором, в частности, заседала цельнометаллическая Елена Стасова, она же
Гуща, она же Дельная, она же Товарищ Абсолют), советское торгпредство
активно торговало (в «Защите Лужина» и рассказах «Бритва» и «Встреча»
Сириным увековечены командировки советских спецов), высшие чины не
19 О брезговали заграничными бонусами («Бухарин, Каменев, Зиновьев, Чиче-
[ 155:249] рин по дороге на курорт в Висбаден, Троцкий — к своему берлинскому
врачу, Луначарский — вроде вечного гостя, и точно так же Карл Радек, Сер-
гей Третьяков и Осип Брик...»), красная богема: Лиля Брик, Маяковский,
Эйзенштейн, Пудовкин, Владимир Дуров (носивший с собой в деревянном
ящике крысу Финьку) и Владимир Лидин («паноптикумы светились, такси
крякали» — так описал Лидин Берлин в «Повести о многих днях»), Есенин
с Дункан, Таиров с Коонен, Малевич, Мейерхольд, театры труппами, ки-
ношники группами — наезжала на гастроли.
В короткий период 1922-1923 годов русских здесь было циклопическое
количество. Люди бежали из России налегке (сначала поставил ошибочно
«натощак», но и это, конечно, не совсем ошибка). Если что и вывезли, то
драгоценности и наличные доллары. Мать Набокова закопала драгоцен-
ности в тальк, дед Веры Лурье зашил бранзулетки в пальто. Это валюта
твердая, очень уместная в Германии, где свирепствовала инфляция.
[ Ю4: из] 2 января 1920 года — 49
2 января 1922 года — 186
2 января 1923 года — 7260
1 августа 1923 года — 1 100 000 000
1 ноября 1923 года — 130 000 000 000
Набоков без Лолиты
Потом и биллионы появились. Это курс доллара. Сколько он весит ма-
рок. Нули сыплются с десятых этажей.
— В одну из саксонских психиатрических больниц определено несколько
женщин, помешавшихся на высоких цифрах, — это «Дни» 9 сентября 23-го.
Цены менялись утром, после обеда и к ужину. В каждом номере «Дней»
была рубрика «Дороговизна», фиксировавшая вчерашние повышения
(от недели к неделе неизменно указывалась актуальная стоимость крема-
ции). Драмтеатр в Штеглице на пике галопа вывесил на кассе сообщение,
что «стоимость билета на лучшее место равняется цене одного фунта мас-
ла, на дешевые места — стоимости яиц».
Есть фотографии, как купюрами обклеивают вместо обоев стены, как
дети строят на улице гигантские башни из десятков толстенных пачек де-
нег. Креативные пиарщики разбрасывали из автомобилей пачки настоя-
щих стомарковых банкнот с наклеенной блямбочкой рекламы; банкноты
почти ничего не стоили, но за них, однако же, завязывались потасовки
(«вид денег имеет все же известную притягательную силу» — меланхолич-
но заметил по этому поводу 19 июля 23-го автор «Дней»).
Пару лет в Берлине многие вчерашние изгнанники и завтрашние нищие
могли чувствовать себя богачами. Меняли жемчуга и американские деньги
на уровень жизни.
По несколько полос «Руля» и «Дней» ежедневно занимала коммерческая
реклама, разнообразие которой и некий, что ли, стилистический опти-
мизм, как сегодня выражаются, внушали.
Н a d е n s а
191
MlpoBMNM авторитетами прятано м наилучшм протяаогтрроядалыюо средство.
Бохыпая
тубочка съ
отаенчиаахи
щейса
канюлей.
UThi мар.
якнется «о
асЪхъ аптека».
Hadens>а
Hadema-Gesellschaft m-b-H
\eriin -Lichterfrldi
HiTb частя
саЪта гъ
готороМ н«
имелась бы
H&densa.
Bi Trail ошгб ГЦ1 мы мадам И m “ дадатдатмьст шдатй
— Йрцстштип! да Rawш i Систем! Гкй ир
Меша-бшИмАаН й.Й.1, ага-рдав.гдаж Bertta-Udttotekte.
Точной цифры, сколько именно наших соотечественников нашло себе
в эту эпоху приют в немецкой столице, нет. Советский публицист Мень-
шой, автор книжки «Мы с вами в Берлине» (1924), наполненной в основ-
ном раблезианскими описаниями витрин магазинов и меню ресторанов,
утверждал, что «наших» в городе официально семьсот пятьдесят тысяч
и еще столько же — неофициально.
Это явное преувеличение, но из тех, к которым применима поговорка
про дым и огонь.
Силезский Связной, посвятивший исследованию темы «русские в Бер-
лине» не одно десятилетие, считает, что на пике волны в Берлине находи- [ 155: iв ]
лось одновременно до трехсот тысяч русских. Это одновременно, а кое-кто
Белый мах
ведь сразу уезжал, то есть просеялось через город существенно больше. Ве-
черний Гуляка располагает информацией, что лишь в 1923 году прошение
[ 136:16] о предоставлении убежища подали в Берлине 360 000 бывших подданных
Николая Второго.
Они не только проедали брильянты, они вкладывали деньги в бизнес —
скажем, в издательский, который тогда казался прочным, да и понятным:
пролетариев умственного труда в первой волне эмиграции хватало. Во-
семьдесят шесть русских издательств насчитывалось в Берлине. Ожи-
дая друг от друга конкуренции, они решительно наполняли портфели.
[юб: 298] «Покупается все», — пишет Толстой Бунину в Париж, «здесь очень легко
[160:132] и быстро можно продать рукописи (прозу и стихи)», — пишет Эренбург
в Москву сразу Союзу писателей и Союзу поэтов, предлагая пересылать
ему тексты и обещая гонорары в твердой валюте.
Печатать книжки было дешево, а продавать их, надеясь в том числе,
а очень часто и в первую голову, на советский рынок, предполагали доро-
го. С 1918 по 1924 год Берлин выпускал русских книг больше, чем Москва
и Петербург, свыше двух тысяч наименований. Чего только не издавали.
В. Пяст, допустим, перевел в 1911-м в Петербурге пьесу «Дон Хиль Зеленые
штаны» Тирео де Молина, тогда она не пригодилась, кому больно нужно,
а в 1923-м вышла в Берлине отдельной брошюркой.
«Руль» тоже рассчитывал на советский рынок, даже типографию пла-
нировали устроить в Данциге (где устроили, не знаю): с советским не выго-
рело, но отлично вышло с эмигрантским, который съедал двадцать тысяч
экземпляров:
192 — «Руль» продавался в трехстах шестидесяти девяти городах тридцати
[ 19:234] четырех стран, от Маньчжурии до Аргентины.
И по городу российские адреса раскиданы размашисто. Зиверты, ска-
жем, жили в Лихтерфельде, Центральный комитет Союзов колонистов из
России располагался в замке Бельвю, несколько юридических организаций
кучковалось на Ин ден Цельтен (напротив Рейхстага; в 1910 году малень-
кий Набоков лечил на этой улице зубы), общество взаимопомощи бывших
«преображенцев» (Преображенский полк имеется в виду) нашло себе офис
на Инвалиденштрассе, магазин «Урал» дислоцировался на Фридрихштрас-
се, там же большая комиссионка братьев Орловых. Старичок Ступишин
в «Даре» все время переезжает, но с окраины на окраину, «за горизонтом
забот», так что он должен уйти со второй части литературного вечера: ему
нужен «редкий, почти легендарный» номер трамвая.
Но концентрировались русские в Вильмесдорфе и Шарлоттенбурге.
«Санкт-Петербург на Виттенбергплатц» — название детектива, вышедше-
го в Берлине в начале 30-х (автор — Р. Баталин — сочинил его на немец-
ком). Были популярны топоним «Шарлоттенград» и анекдот про немца, ко-
торый повесился от тоски, не слыша на пересекающий этот район Кудамм
(свойское именование Курфюрстендамм) родной речи. Воры, пролезшие
в ночь с 6 на 7 июня 1923 года («Руль» об этом рассказал 9-го) в книжный
магазин на углу Кудамм и Оливаэрплатц, не в книжный магазин лезли, а из
Набоков без Лолиты
него, ломая стены, дальше в глубь здания, но попалась упрямая стена, и зло-
умышленникам пришлось ретироваться, взяли лишь «миниатюрные изда-
ния Ахматовой, прельстившись замшевыми переплетами».
Параллельно Кудамм, ниже ее по карте и проходит Федор — прямо от
игривого угла.
Мы выходим вслед за ним на роскошную и отменно сохранившуюся
Виктория-Луизаплатц, с фонтаном в дебюте, а в эндшпиле с колоннадой,
похожей на оперный задник. Платц прогулочная, дети прыгают, очкарики
втыкают в ридеры, летом газоны полны загорающих, в фонтане беснуются
языкастые собаки.
Слева по ходу дом номер девять [26]. Берлинский адрес любимого поэта
моего героя, с которым он лично подружится позже.
Любимый поэт покинул Россию в июне 1922-го. Собственно, вскоре его
выслали бы на одном из философских пароходов, он был, кажется, в «спис-
ках», но на пароход не взяли бы подругу поэта, Нину Берберову. Да и новые
исследования и ему в месте в списках отказывают, и есть предположение,
что Нину «в качестве секретаря при поэте» бонвиван Луначарский выпус- [158:451]
тил из мужской солидарности.
Роман их начинался в Петербурге, в той самой «комнате круглой», где
поэт раскачивался на стуле и сочинял «Тяжелую лиру».
Это, меж тем, книжка, застигнутая читателем «Дара» на другом стуле:
у берлинской кровати Яши Чернышевского, в паре с «Кипарисовым лар-
цом» Иннокентия Анненского.
Старший Комментатор обнаруживает на стуле содержательную аллю- [39]
зию. Тут лежат две различные философии творчества. Кипарис — это сим- 193
вол отчаяния и скорби, как и вся поэзия Анненского. Ходасевич еще
в 1922 году сочинил эссе об этом поэте, где выражал недовольство его тя-
гой к тлению, волей к смерти, неготовностью к «моральному просветле-
нию». А «парижская нота» во главе с потрепанным в «Даре» Георгием
Адамовичем превозносила Анненского и его уныние как настроение, соот-
ветствующее содержанию эпохи. В стихах Б. Поплавского, А. Штейгера,
Г. Иванова, Н. Оцупа современники находили тяжелую ауру «последнего из
царскосельских лебедей», один из рецензентов составленной Адамовичем
антологии «Якорь» говорил о «душном тупичке имени Иннокентия Ан-
ненского». Ходасевич же подредактировал и вновь опубликовал в середине
1930-х в парижском «Возрождении» упомянутое эссе; мнение, что у Аннен-
ского «жуткая, безжалостная и некрасивая жизнь», словно развивая тему
тупичка, «упирается в такую же безжалостную и безобразную смерть», ста-
ло, на фоне унылых настроений «Якоря» и «Чисел» (издания упомянутой
«парижской ноты»), актуальным полемическим высказыванием.
В «Тяжелой лире» мир тоже, мягко говоря, мрачноват, но поэт с благодар-
ностью принимает его «как невероятный Твой подарок», что соответствует
мировосприятию Годунова-Чердынцева и вообще духу «Дара». Вихри отвле-
ченных дискуссий разрешились в сердце несчастного Яши, который в по-
следнюю ночь прочел больше страниц из Анненского, чем из Ходасевича.
Белый мах
Комната, где сочинялась «Тяжелая лира», находилась в Доме искусств
(«Диском» его сокращенно называли, а Ольга Форш назвала «Сумасшед-
шим кораблем»; бывший дом семейства купцов Елисеевых, угол Мойки
и Невского, красный, где был кинотеатр «Баррикада»), куда сердобольная
советская власть загрузила на некоторое время пожительствовать нищих
литераторов. Учитывая нужды исследователя, судьба и кипарисовый ла-
рец подкинула в Дом искусств. Он хранился у Всеволода Рождественско-
го: не сборник одноименный, а сам ларец, кипарисовая шкатулка Аннен-
ского с его рукописями. Рождественский давал читать эти рукописи
Берберовой.
Зафиксированные в «Моем курсиве» (название мемуаров Нины Бербе-
ровой «Курсив мой» — издревле повод для филологических шуток: как
правильно сказать, в «Ее курсиве»?) проходы героини по Невскому не толь-
ко подтверждают статус этой книги как чуда русской прозы, но и рифму-
ются с сиринскими перечитываниями пространств:
[ 16:169] — Я, уже начиная с Гостиного двора, старалась различить его окно, свет-
лую точку в ясном вечернем воздухе или мутную каплю света, появляв-
шуюся в темной дали, когда я бывала на уровне Казанского собора. В этом
окне, под лампой «в шестнадцать свечей», я видела его зимой, за двойными
рамами, а весной — в раме открытого окна; он видел меня далеко-далеко,
когда поджидал мой приход, различая меня среди других на широком тро-
туаре Невского, или следил за мной, когда я уходила от него: поздним вече-
ром черной точкой, исчезающей среди прохожих, глубокой ночью — таю-
щим силуэтом, ранним утром — делающей ему последний знак рукой
194 с У17121 Екатерининского канала.
У Ходасевича есть парное высказывание:
[ 141 и487] — И зиму, и лето подолгу сижу я перед окном: по утрам, когда, подни-
маясь из-за вокзала, «течет от солнца желтая струя»; вечерами, когда луна
медленно движется над крышами строгановского дворца; и — в белые ночи.
По цитатам понятно, что как раз эти двое никаких долларов в эмигра-
цию вывезти, с такими-то медитативными повадками, не могли. Они ловят
преломленный свет русских брильянтов (гонорары за публикации в жур-
налах, существующих на волне благополучия соплеменников), но очень
преломленный.
— В шкафу давно уже спят ваш нищенский плащ и ваш тюрбан, уста-
лые от переодеваний. Фонарь наш больше не нужен в свете дня. Скорее га-
сите лампу. Слегка вздохнув, встаете вы, вкалываете в шитье иголку...
Это из берлинского рассказа Павла Муратова «Шехерезада», посвящен-
ного Берберовой (напечатан в двадцатой книге «Современных записок»
в 1924-м). Помимо тюрбанов, он полон калифов и прочих арабесок, но ни-
щенский плащ и тяжелое шитье — детали реалистические.
Вокруг при этом жуткая безработица, продукты по талонам, драки меж-
ду покупателями на рынках, ежедневные погромы магазинов, самоубий-
ства на почве нужды. У наших хоть ручейки гонораров, да еще и сверху
щедро намазано свободой.
Набоков без Лолиты
Есть время бесцельно слоняться по Моцштрассе, «где днем чинно ходят [ 16:203]
в школу чахлые немецкие дети — те, что родились в эпоху газовых атак на
западном фронте и которых перебьют потом под Сталинградом». В этом
же доме живет Михаил Гершензон, смертельно боящийся кафе, и поти-
хоньку выживающая из ума вице-губернаторша М., находящаяся «в глубо- [16:186]
ком трауре то ли по Николаю Второму, то ли по Распутину». Все они посто-
яльцы пансиона Крампе, занимающего два этажа — и по фасаду, и вокруг
двора. Через двор можно заглядывать в окна других постояльцев Крампе.
Берберова видит комнату, куда заселился «серапионов брат» Н. Никитин,
вчера приехавший из Петербурга.
— Буйный, как с цепи сорвавшийся, весь день покупал себе носки [ i& 195]
и галстуки в магазине Кадеве, потом выпил и привел себе уличную девицу
с угла Моцштрассе (с того самого угла с «кукольным механизмом», от него
до дверей пансиона 550 шагов. — В.К.). Она, совершенно голая, жеманится
в кресле, он — на кровати, видна только высоко закинутая волосатая нога.
Это хорошо, что привел девицу. А то совсем недавно, 9 апреля 22-го, «Го-
лос России» сообщал тревожную новость с берегов Невы — дескать, Ники-
тин пролил на себя бутылку с ядовитым составом для зажигалки и обжег
«центральное место». Стало быть, обошлось.
В соседней с Никитиным комнате человек выдвинул ящик стола, а за-
двинуть не может, вытаскивает, ставит на пол, совершает над ящичком
странные движения, шепчет что-то. И деревянный контрагент сдается, со
следующей попытки входит в законные пазы.
Это Андрей Белый, самый беспокойный постоялец девятого номера на
Виктория-Луизаплатц. 195
Евгений Шкляр (поэт и журналист, проживавший в Литве) делился
слухами:
— По преданию, существующему среди писателей и журналистов Бер- [ 154]
лина, ежедневно, в 6 часов утра, из окна 6-го этажа пенсиона Крампе высо-
вывается облысевшая голова автора «Петербурга», и тогда на всю площадь
раздается петушиный голос: существую ли я, или не существую?
Многочисленные очные свидетели дают немало примеров тогдашнего
его полупьяного, полусумасшедшего существования.
В чужие комнаты ночами ломился, выходил на Викторию-Луизу по-
орать, мог за один вечер трижды рассказать одним и тем же людям какую-
нибудь жуткую историю любви из Серебряного века. А главное: беспрес-
танно танцевал в стиле, насколько я смог понять по описаниям, жестокий
фьюжн с элементами трю-фрю-фокстрота.
Его, по словам Ходасевича, «чудовищная мимодрама», а по словам Цве- [ 141 iv: бо]
таевой, «христопляска» могла начаться утром дома, продолжиться на ули- [ 116:208]
цах, в кабаках, потрясая публику энергией и несообразными па.
— Возвращаясь домой, раздевался догола и опять плясал, выплясывая [141 rv- 61]
свое несчастье. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у не-
го такое неиссякаемое физическое здоровье: уж лучше бы заболел, свалил-
ся, — выводит в «Некрополе» Ходасевич.
Белый мах
[116:188]
196
[116:25]
Наблюдал, значит, из окна в окно; прекрасная сцена, один напивается
и пляшет, другой убивается и наблюдает.
Плясал по Моцштрассе, из кабака в кабак, в сторону ближайшей Прагер-
платц [27]. Здесь вообще места веселые. В «Руле» в 1923-м печатался цикл
репортажей «Когда зажигаются фонари» — о незаконных ночных забавах
германской столицы. «Полицейский час» заставлял злачные заведения за-
крываться не позже полуночи (одно время и одиннадцати вечера), в кафе
танцевать разрешали три-четыре дня в неделю, были, кроме того, запреще-
ны азартные игры, и даже не самым оторванным, а вполне мирным бюрге-
рам приходилось пользоваться услугами незаконных заведений, клубов
и «нахт-локалей», причем существовал жанр клубов, открывающихся на
одну ночь, в помещениях, арендованных типа для дружеской вечеринки...
В репортажах «Руля» фигурируют и Прагерплатц, и Байришерплатц (она
неподалеку, и в рассказе Сирина «Тяжелый дым» упомянута; собственно,
рядом с ней родился Дмитрий Набоков), а про Моцштрассе (в репортаже
от 29 июня) и вовсе сказано, что в начале 1920-х «в каждом втором доме
помещался клуб или притон».
У замаскированных входов в притоны и клубы танцует Белый. В доме
номер 52 товарищество «Феррейн» предлагает «Агрессит», «новое превос-
ходное средство для дам». Белый может остановиться, сообщить вдруг, ес-
ли верить сыну Леонида Андреева Вадиму:
— Когда обезьяна на берегу пустынного моря увидела горизонт и под-
вернувшейся под руку палкой провела на песке прямую черту, она сошла
с ума, стала человеком и приобрела творческую память.
Не все хвостатые соплеменники поняли тогда эту обезьяну. И Белого,
как он жаловался в затеянном Горьким журнале «Беседа», тоже не все по-
нимали:
— Уже в восемь часов запираются двери в Берлине; ни к кому не пой-
дешь; после дня трудового естественно отдохнуть в разговоре; и отогреть-
ся в духовном общении...
Но есть на Прагерплатц кафе «Прагер-диле», место духовного общения.
Илья Эренбург сидел в углу, дымил трубкой, тут же сочинял свою бойкую
прозу, был символом заведения. У Эренбурга деньги как раз водятся, проза
сразу превращается в гонорары. Водятся они у Алексея Толстого и у других
сотрудников «Накануне» (эта формально эмигрантская газета существова-
ла на красные деньги, провозглашала «смену вех», то есть необходимость
смириться с тем, что случилось с Россией, и распространялась в РСФСР).
Да и Белый за два года в Берлине выпустил шестнадцать книг, пусть и то-
неньких, пусть почти половина — переиздания, пусть в одной из них опе-
чатка была прямо на обложке — «Глоссалолия» вместо «Глоссолалия» (пре-
дупреждая вопросы, можно ли, наклюкиваясь каждый вечер до положения
риз, по утрам напряженно работать, писать книги и заведовать литотделом
в «Днях», коротко отвечу, что можно, и довольно долгий срок).
Существовал глагол «прагердильстовать», обозначавший веселое вре-
мяпрепровождение.
Набоков без Лолиты
Маяковский умел веселиться. Немецких нищих одаривал не слишком нуж-
ным им пивом — одним на двоих, приговаривая: «От меня и моего гения».
Газета «Время» 30 января 1922-го напечатала анкетку «Ваше мнение
о кутежах русских».
— Бальтазаров пир в полном смысле этого слова. Что же делать, когда
после молебна отправляются кутить, это пир во время чумы. Это кутеж
среди покойников. Русские люди пропивают колоссальные суммы, — воз-
мущался архимандрит Тихон.
Я.Л. Тейтель из Союза русских евреев признавался:
— Несмотря на свой преклонный возраст, ни разу не слышал очень из-
вестного русского певца. Я ненавижу его нутро фальшивое и по одному
этому я уже лишен удовольствия его слушать...
Фальшивое нутро проявляется в преувеличенной любви к шампанскому.
Короче всех высказался В.Д. Набоков:
— Вопрос настолько ясен, что нет необходимости его дебатировать.
Сын его, приезжая из Кембриджа на каникулы, «Прагер-диле» не посе-
щал. Нина Берберова заканчивает обзор берлинских тусовок следующим
замечанием:
— Кадетов мы не видим, и в газете их («Руль») пишут далекие от нас лю- цв:187]
ди: сам редактор И.В. Гессен, Ю. Айхенвальд, Глеб Струве, молодой Набоков.
Молодой Набоков живет близко, скоро поселится совсем в этих краях,
но уже немножко в иную эпоху.
Александр Бахрах вспоминает, как сидел в кафе с Алдановым:
— Нежданно появился Набоков, который еще именовал себя тогда Си- [ 10:499-500]
риным. Сообщил, что будто бы впервые «осилил» «Войну и мир». Алданов 197
из вежливости спросил об его впечатлениях. — Есть отличные сцены. Вот,
к примеру, ампутированная, белая нога Анатоля, ничего не скажешь, эта
сцена здорово передана. — Вы уж лучше этого никому не рассказывайте, —
заметил Алданов, покрасневший как рак.
Сирин, боюсь, снисходительно усмехнулся, хотя как раз именно Алдано-
ва любил.
А вот мемуар самого Набокова из 1922 года:
— Мы сидели спинами друг к другу с Андреем Белым, обедавшим [ 19:235]
с Алексеем Толстым за соседним столиком. Оба писателя были в то время
настроены просоветски (и собирались вскоре вернуться в Россию), и на-
стоящий белый, каковым я в этом смысле и сейчас себя считаю, ни за что
не заговорил бы с болыпевизаном...
Андрей «ненастоящий» Белый (его подлинное имя — Борис Николае-
вич Бугаев) болыпевизаном, однако, не был. Он был обычным безумным
поэтом, запутавшимся в любви и философии. Белый некогда строил
в Дорнахе, это под Базелем, антропософский храм Гетеанум. Гетеанум ско-
ро сгорел, второй строили без Белого: поэт поссорился с лидером движе-
ния Рудольфом Штайнером и был изгнан из рая, где осталась разлюбив-
шая его жена Ася Тургенева, связь с которой Белый надеялся восстановить
и через десять с лишним лет.
Белый мах
Асе (двоюродной внучке Ивана Сергеевича) посвящено письмо К.В. Бо-
гомолова, отправленное мне электронной почтой летом 2010 года из Екате-
ринбурга в Берлин:
— Белый пишет, как на Сицилии она рисует, стоя прямо на скале, а мест-
ные мальчишки гурьбой стоят внизу и кричат: обезьянка. Будешь в биб-
лиотеке, возьми сборник «Восток — Запад», выпуск 3, М., 1989. Там письма
Белого из Африки, где он, в 1912, путешествует с Асей. Асю местные назы-
вают «обезьянкой»!
Я ответил К.В. Богомолову, что хорошо, что на скале (ведь у Тургенева
в «Асе» заглавная героиня прыгает козой по развалинам), а потом нашел
и другие скважины, ведущие в уже родные путеводителю адреса. Это вос-
поминания о неполиткорректной внешности его отца, профессора Бугае-
ва. («Однажды в концерте Н.Я. Брюсова, толкнув локтем Андрея Белого,
Ii4i IV:43] спросила его: „Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?" —
„Это мой папа"»), и о том, что когда Ася Тургенева рассталась с Белым, осев
среди антропософов, он грозился поехать в Дорнах и крикнуть Штайнеру
«Господин доктор, вы старая обезьяна».
О другом совпадении я умолчал: название рекомендованного К.В. Бого-
моловым сборника соответствует направлению, по которому следует сей-
час Федор.
В Советскую Россию Белый вернулся вовсе не по идейным соображени-
ям, а просто места нигде и никакого себе не мог найти и, уезжая, шумел на
проводах в ресторане, что едет дать распять себя за всех остающихся.
[16:198] — Только не за меня! — возразил Ходасевич.
198 Сирин его на всякий случай пихнул, и совершенно не по делу.
Для утверждения своего самостояния. Отдельности.
Позиция «невписывания» — она адекватна для нашего гения, но в ней
есть свои сложности.
Конечно, ему совершенно ни к чему было общение с тем же Белым, ко-
[ 16:190] торый был способен дважды без передышки рассказать «в мельчайших
подробностях всю драму своей любви к Л.Д. Блок» и тут же начать в третий
раз, так что слушатели натурально падали в обморок.
Сиринской светлой музе присутствовать при таких сценах необяза-
тельно.
Но, наверное, чуть-чуть зудело, что обошлись без него.
В начале 1930-х Сирин, примериваясь к автобиографическому жанру,
написал два рассказа про мальчика Путю. Один из них повествует, как ге-
рою не хочется ехать на именины к родственнику-ровеснику. Путя не лю-
бит коллективных игр. Он предпочел бы остаться в одиночестве дома. Это
мы знаем: диван, тигровое одеяло.
Но привезли, что делать.
Среди гостей есть девочка Таня. Путя собирает для нее горсть черники.
Таня чернику милостиво принимает. Но от второй горсти отказывается
и сообщает, что вообще решила больше с ним не разговаривать.
— Почему? — пробормотал Путя, густо покраснев.
Набоков без Лолиты
— Потому что вы ломака.
А потом играли в прятки, и хорошо спрятавшегося Путю не нашли... но
не просто не нашли, а обидно забыли.
Вернувшись домой, Путя, конечно, предался уютным забавам и про
обиду, наверное, тоже забыл. Но все же — ребенок. Одиннадцать лет — не
так еще много. И называется рассказ — «Обида».
Для двадцатислишнимлетнего Сирина неучастие и невписывание было
концептуальным выбором. Не то что нужно непременно именно «пихать»
современников, но это один из механизмов, с помощью которых можно
чувствовать себя в стороне или «над», не здесь.
Подчеркивать, что ты живешь на других берегах.
Что в беседе о Льве Толстом тебе интересен собеседник, который в ответ
на реплику об ампутированной ноге Анатоля Курагина вспомнит сцену
с расчлененкой после грехопадения Анны Карениной. То есть собеседник,
которого в компании почти наверняка нет. Да и вообще много где его нет,
такого зондерспециального собеседника. «Кончеев» нужен. Это персонаж
«Дара» с самым странным статусом: выдающийся поэт, с которым Федор
все время хочет по душам побеседовать и даже имеет два длиннющих
изысканных разговора, но, как потом выясняется, разговора не реальных,
а воображаемых.
И для Федора, и для Сирина, и впоследствии для уже всемирно извест-
ного своим «снобизмом» Набокова эта позиция принципиальной инакос-
ти — естественная... если роман за романом распутываешь слоистые от-
ношения между ломтями других берегов. Такова природа засевшего
в Сирине гения... он подчеркнуто «из другого измерения». И Путя из
«Обиды» на взгляд читателя ничуть не ломака, а добрый и умный маль-
чик — из другого измерения.
Но интеллигентные мальчики-девочки, читающие мой путеводитель,
могут примерить ситуацию «мало играет с другими детьми» на себя. Уве-
рен, кому-то из вас она знакома. Сколь бы огромный объем понятия «не
вписываюсь» ни занимало олимпийское «не хочу», все равно остаются
дольки процента для «не могу» и «не взяли». А это хорошая питательная
среда для комплекса, в результате которого появляется не самое светлое же-
лание показать, что относишься к кому-то свысока, желание кого-нибудь
пнуть-пихнуть: сейчас Белого, в другой раз другую жительницу Вильмерс-
дорфа, Цветаеву, потом еще кого-нибудь...
Пока ряды тусовщиков истончились: начиная с 1924 года русские начи-
нают разъезжаться, кто домой (в частности, Шкловский и Белый), многие
в Париж, кто вот в Прагу или в Ригу (Иван Лукаш в 1925-м), или в Италию
(Павлу Муратову, еще до войны сочинившему классические «Образы Ита-
лии», эта дорога и выпала), или в Америку.
Германию меж тем перестало трясти (оставляю за кадром бурные собы-
тия начала 1920-х, замечу лишь, что среди них было несколько неудавших-
ся путчей, в том числе коммунистический и гитлеровский). Страна, нашко-
дившая на Первую мировую, перестала быть изгоем, ее приняли в Лигу
199
Белый мах
наций, произошла денежная реформа, инфляция высохла, для немецкой эко-
номики наступили «золотые двадцатые» (продлились они не сильно больше
пяти лет, но это другая история), а для эмигрантов — очередные кранты.
Издательства поразорялись. Советская Россия, собиравшаяся вроде бы
в массовом порядке направлять в родные палестины берлинские тиражи,
об обещаниях своих забыла. То есть ничего как раз не забыла: посулы
впускать тиражи были частью плана по изведению эмиграции. Сначала
впускала, даже что-то сама заказывала ввиду разрухи в собственных ти-
пографиях (ВСНХ, допустим, попросил берлинское издательство напеча-
тать книжку Шульца «Болезни электрических машин»). Потом стала акку-
ратно расставлять рогатки: таможенные, цензурные. Неплатежи —
неплохая тактика борьбы.
Известный арт-медиа-проект Эль Лисицкого и Эренбурга, журнал
«Вещь» (между нами, бессмысленная листовка с супрематической
версткой, а не журнал; вышло два номера, по нумерации три, в 1922-м) це-
ликом предполагалось распространять в России. На первой же странице
первого номера сообщалось, что блокада России кончается и что «Вещь» —
«стык двух союзных окопов». Печаталось письмо Шкловского Якобсону
с призывом к «Ромке» возвращаться домой, тем более абсурдное, что к вы-
ходу журнала автор письма сам прискакал в Берлин. В результате возникли
сложности даже с транспортировкой тиража.
Горьковский журнал «Беседа» (1923-1924, шесть номеров, по нумерации
семь) был задушен по такой же схеме. Зиновий Гржебин, знаменитый изда-
тель, скупил права на сотни произведений современных авторов и в ре-
20 О зультате умер в нищете. Какие-то из зарегистрированных издательств так
и не выпустили ни одной книжки: к их числу относился «Орбис», основан-
ный отцом Веры Слоним. Его фирма по продаже сельскохозяйственной
техники на Балканы тоже приказала долго жить. Время в очередной раз
продемонстрировало способность ломаться с чудовищной скоростью,
с сухим безапелляционным треском.
В Париж стремится старый поэт Подтягин из «Машеньки»: там и де-
шевле (после укрепления марки в конце 1923-го), и племянница зовет.
Федор идет по Моцштрассе (на которой сохранилось довольно много
старой застройки) в сторону Прагерплатц (полностью разрушена и за-
строена заново). Он идет не просто по русским, но по самым что ни на
есть набоковским местам.
Здесь живут герои «Камеры обскуры». Слепой Кречмар едет в такси из
квартиры шурина в свою, стрелять в Магду. Угадывает повороты.
— Сейчас будет Моцштрассе... Опять поворот, — это, должно быть,
Виктория-Луизе-Плац. Или Прагер-Плац? Сейчас будет Кайзер-Аллее.
Где-то здесь обитают А.Я. и А.Я. Чернышевские. Ближайшее похоронное
бюро расположено на углу Кайзер-Аллеи, а после самоубийства их сына его
несостоявшийся коллега по суициду Рудольф, отбыв номер покаянного
посещения родителей друга, уходит своей чудной легкой походкой по си-
нему после весеннего ливня Курфюрстендамм.
Набоков без Лолиты
Сам Набоков жил на Моцштрассе, между Прагерплатц и Викториа-Луи-
зой, с осени 1925-го — дописывал «Машеньку» ([6], на углу с Айнсбахер,
на мыске: именно там стоял дом 31, а нынешний адрес Моцштрассе, 31,
что ближе к Ноллендорфплатц, к нашему герою отношения не имеет; это
я потому подчеркиваю, что некоторые берлиносиринофилы, гуляя по
заветным адресам, не учитывают — сужу по их отчетам в интернете —
что номера домов могут меняться). Сразу за Кайзер-Аллее, в пансионе
на Траутенауштрассе, 9 [4], он «Машеньку» весной того же года начинал.
Между этими двумя комнатами было еще четыре месяца на Луитпольд-
штрассе, 13 [5],это тоже совсем рядом. В общем, вся «Машенька» сочинена
в этой местности. Логично, если где-то здесь располагался и лифт, в кото-
ром застряли Алферов с Ганиным.
Из трех адресов физически сохранился — в несколько перестроенном
виде — лишь один, первый по времени. На доме Траутенауштрассе, 9 висит
ныне мемориальная доска. Она возвещает, что здесь обитала Марина Цве-
таева (в промелькнувшем выше в цитате из Р. Гуля пансионе на Прагер-
платц тоже обитала, но несколько дней). О том, что здесь же живали Эрен-
бург (переехал по цветаевским следам) и Набоков, досок нет. Все дело в ин-
дивидуальной инициативе: ее проявили студенты, изучающие Цветаеву.
До вокзала Цоо, на который могла приехать Машенька, ровно два кило-
метра. Ганин поутру шествует туда с двумя чемоданами. Может идти через
Кайзер-Аллею или Фазаниенштрассе — два варианта. Шкловский в «ZOO»
утверждал, что, когда встает солнце, Кайзер похожа на Каменноостровский
проспект. Там стояла гимназия Шкловского.
А может быть, Ганин выбрал путь через Фазаниенштрассе, больше похо-
жую на Моховую, где стояло и стоит училище Набокова и М. Шеншиной.
Это тоже была улица пансионов, напичканных русскими, здесь жил, в част-
ности, Пастернак, улицу они свою называли просто Фазаньей (в «Согляда-
тае» герои живут на Павлиньей).
Сейчас однозначно идти следует по Фазаниен, Кайзер (раздробившаяся
на несколько отрезков с разными именами) выглядит неуютно; правда,
тогда, может, и была уютной.
Лавки еще спят за решетками, с черных веток спархивают с воздушным
шорохом воробьи.
С двумя чемоданами красоты наблюдать, конечно, не слишком сподруч-
но. В прозе Сирина человек с тяжелой поклажей — не частый прохожий.
Франц с чемоданом запечатлен на перроне Анхальтского вокзала, но в гос-
тиницу он въехал на вокзальной же площади, долго не таскался. Мартын,
приехав на Анхальтский с вещами, было дернулся на вокзал Фридрих-
штрассе пешком, но чемодан оказался тяжелым, пришлось благоразумно
сесть в автобус.
В общем, Ганин доплелся до Цоо.
Возможно ли найти сейчас сквер, в котором он проводит час до прибы-
тия поезда с девушкой-из-прошлого? Хороший сквер, там герой понимает
«с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда».
201
Белый мах
Зелени вокруг вокзала достаточно, но все это зелень, абонированная
зоопарком и Тиргартеном, — для замкнутого скверика места вроде бы нет.
Как минимум мы можем утверждать, что Ганин прошел вдоль вокзала,
к дальней его стороне. Иначе он не увидал бы, как «по железному мосту
медленно прокатил шедший с севера экспресс». К Цоо он подходит с севе-
ра и физически (ветка, идущая с востока, огибая Тиргартен, падает вниз),
и еще в одном смысле, о чем чуть ниже.
Интересующий нас клочок природы мог располагаться рядом с нынеш-
ней автобусной площадкой, на месте которой некогда функционировала
площадка спортивная, а еще раньше — как раз при Ганине — ипподром [28].
Не в помпезно-размашистом смысле этого слова, скорее ипподромчик,
но все же. Наверное, именно здесь арендовывала животных для верховых
прогулок по Тиргартену не пренебрегавшая конным спортом юная Вера
Слоним.
Вообще поезда на восток отправлялись с далекого от нас сейчас Силез-
ского (ныне Восточного) вокзала, и, соответственно, с востока они на него
прибывали. Но были и проходящие, благо восточно-западная ось города
пронизывалась единой веткой (на юге же и севере поезда утыкались в ко-
нечные тупиковые станции).
С Цоо уезжал в октябре 1923-го Белый. По свидетельству провожавшей
его поэтессы Веры Лурье, в последнюю минуту он выскочил из поезда
[16:199] с криком «не сейчас, не сейчас, не сейчас». Кондуктор втянул его обратно.
В воспоминаниях самой Веры Лурье (оставшейся в Берлине до самой
своей смерти в девяностосемилетнем возрасте в 1998-м), впрочем, это-
202 го «не сейчас» нет. Там сообщено, что «поезд отъезжает и небольшая
[72,№ ю] фигура Белого постепенно исчезает из вида». Висит он, что ли, на под-
ножке, если видно, как исчезает фигура.
«Не сейчас» мы обнаружим в пересказе Берберовой (к ней и Ходасевичу
Лурье пришла прямо с вокзала). Может быть, Берберова досочинила эту
подробность ради красного комментария:
— Это напомнило мне сцену в «Бесах», когда Верховенский входит к Ки-
риллову и тот в темном углу повторяет: «сейчас, сейчас, сейчас».
Кириллов, напомню, собирается покончить с собой... вообще, тема
присутствия постороннего лица при самоубийстве — сиринская.
«Priedu subbotu 8 utra» — такова была телеграмма Машеньки, а потом
Алферов сходил на вокзал и принес точный час прихода северного поез-
да — 8.05.
Северный поезд — не в том, я думаю, смысле, что из Копенгагена. Ско-
рее из Зоорландии. Северный он, наверное, в честь роскошного «Норд-
экспресса», воспетого в «Других берегах». Коричневый, под дубовую об-
шивку крашенный вагон с медной надписью над окнами почти ежегодно
переносил хрупких Набоковых из одного рая в другой.
На рубеже XIX и XX веков он преодолевал расстояние между Санкт-Пе-
тербургом и Берлином за 31 час (Набоковы следовали дальше, до Парижа,
но и до Берлина у них была поездка в 1910 году). Сейчас можно доехать за
Набоков без Лолиты
36 часов; примерно так же возили и в 1920-е. Такой экспресс был бы Ма-
шеньке не по карману, да и не ходил он после начала Первой мировой вой-
ны. Скоро, правда, уже в 1927-м, он возобновится, но лишь до Варшавы
и Риги.
Мы не знаем точно, откуда прибывает Машенька. По словам Алферова,
она застряла в России, но это и Украина может иметься в виду (за Алферо-
ва она, как вы помните, вышла замуж в Полтаве), и Рига.
Объявить Траутенауштрассе, 9 точным адресом Ганина, братьев-акро-
батьев Колина-Горноцветова, а впоследствии и Машеньки невозможно,
впрочем, по одной важной причине. Дом, в котором расположено заведе-
ние Л.Н. Дорн, плотно примыкает к железной дороге. Окна Ганина выходят
на рельсы, которые, что ли, огибают пансион, и можно каждые пять минут
наблюдать «городской поезд» (U-бан то есть, или S-бан), въезжающий под
дом или «изверженный домом». Ганину даже кажется, что поезда незримо
идут сквозь толщу самого здания, а позже прямо сказано, без «кажется»,
что они проходят насквозь. Такие дома, в плоть которых натурально заез-
жают составы, в Берлине были, а как минимум один даже и сейчас есть, на
краю Глайздрайека [29]. Вздымается громада дыма, призрачный гул расша-
тывает стену. По названному адресу такого эффекта не наблюдается.
«Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль / Копыта — как рукоплеска-
нья», — писала в Траутенаухаусе Цветаева, но копыто — не колесо паровоза.
Один из домов с железной дорогой внутри располагался недалеко от на-
чальной точки второго Федорова прохода, у станции Бюловштрассе. Из не-
которых окон можно было положить на крышу проходящего вагона лиш-
ний труп (схожий случай описан у доктора Ватсона). Дом [30] упомянут
у Шкловского в «ZOO», там поезд проскакивает через пролом, как через
триумфальную арку. Соблазн застать там героев «Машеньки» не слишком
велик: во-первых, сам Сирин именно в тех местах не квартировал, во-вто-
рых, вокзалы, до которых оттуда можно легко дойти пешком с чемодана-
ми, Потсдамский ([31], исчез) и Анхальтский ([32], ныне от него остался
крохотный, на полглотка, кусок краснокирпичной стены), к восточному
направлению отношения не имеют.
С первого отправлялись поезда на Страсбург, Франкфурт-на-Майне,
Аахен, Кельн, Париж (поезд в «Случайности», следующий через Кельн
в Париж, мог отойти, таким образом, с Потсдамского, и уютно думать, что
медные гири висячих ламп, которые мутно поблескивали под высоким по-
толком, списаны с реальных тамошних гирь, а не «так»), со второго — на
Базель к антропософам, опять же на Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Вену.
На Анхальтский (это в тексте указано) прибыл из Швейцарии Мартын
ближе к финалу «Подвига». Сюда же (скорее всего) приехали из Альп
Драйеры в «КДВ», а с ними и Франц. Сюда приехал, надо полагать, на такси
от Цоо не встретивший Машеньку Ганин, вострящий лыжи «на юг».
А дом с Бюловштрассе Сирин перенес на условную Траутенауштрассе.
Там, кстати, просвечивает небольшой узорчик с участием Цветаевой.
Она жила в пансионе на три года раньше Набокова, в берлинское ее время
203
Белый мах
они, похоже, даже не виделись. Но зато общались в конце 1923-го в Праге,
куда Сирин перевозил родных, а Цветаева переехала сама (первое время
[19:261] жила в предместье Горние Мокропсы). Совершили «странную лирическую
прогулку» по холмам при сильном ветре, который, возможно, как-то риф-
муется с мокропсами. Вскоре после этой прогулки Цветаева выехала из
своей пражской квартиры на склоне горы (Шведская улица, 1373), и туда
заселилась Елена Ивановна Набокова с домочадцами.
В Берлине уже совсем стемнело, Федору идти еще долго. Остановимся
вместе с ним на секунду в двух шагах от Траутенаухауса, у сквера, посреди
которого стоит совмещенный с фонтаном памятник [33]. Девушка с гусем.
Пусть Федор покурит спокойно: не все же смолить на ходу (кстати,
не знаю, делали ли так В.В. и Ф.К.; Ганин делал). Это памятник «гусиной
Лизе», их несколько по стране. Лиза — героиня немецкого фольклора,
не какой-то конкретной сказки персонаж, а прибаутки: что-то вроде на-
шей Маши-растеряши. Летом 2010 года я проводил экскурсию по набо-
ковским местам и услышал от экскурсантки на ярко-желтом велосипеде,
что Лиза эта фигурирует в последнем альбоме музыкального коллектива
«Раммштайн». Сочиняя «Машеньку», Набоков проходил мимо памятника
каждый день... Коса, босые ноги... можем назначить эту скульптуру па-
мятником Машеньке.
Отсюда Федору нужно вывернуть на Гогенцоллердамм, по которому
в марте 1923-го ехали в пятьдесят седьмом номере трамвая в Груневальд,
чтобы там, в глухом месте леса, один за другим застрелиться, Яша Черны-
шевский, Рудольф Бауман и Ольга Г.
204 Их прототипы — Алексей Френкель, Валерия Каменская и Татьяна
Занфтлебен — предприняли свое роковое путешествие позже, в апреле
1928-го. Алексей убил Валерию, а потом и себя, Татьяна стреляться не ста-
ла, позвала полицию. У Набокова в романе гибнет только Яша, остальные
зовут полицию. Апрельские стрелялись в глубине Груневальда, на Чорто-
вом озере [34], а мартовские (учитывая, что, войдя в лес, Федор сразу уты-
кается в озеро, где имело быть скорбное происшествие) получается что на
Груневальдзее [35], поближе к цивилизации. Если это, конечно, принци-
пиально меняет дело.
Насчет «меняет дело» я вспоминаю сейчас анекдот, уместность которого
в путеводителе обсужу попозже с редактором. Где-то в начале 2000-х мы
с К.В. Богомоловым, распивая на набережной Яузы, встретили большего-
лового человека, чемпиона по академической гребле, переквалифициро-
вавшегося недавно в литературные критики. Он набросился на нас как на
знакомцев свежесамоубившегося поэта с вопросами, главный из которых
звучал так:
— А правда, что он повесился на поясе от кимоно?!
Мы не знали, кажется, отгадки, сейчас уж не помню. Какая разница, на
чем повесился.
— Как же! — вскричал большеголовый. — Если на поясе от кимоно, это
символ, это меняет дело!
Набоков без Лолиты
Задание читателю: сообрази-ка, насколько этот символический пояс
«менял дело» для родителей поэта.
Насколько меняли дело для родителей Яши Чернышевского «Тяже-
лая лира» и «Кипарисовый ларец» на стуле, бананная выползина на
тарелке?
Насколько менял дело тот факт, что Яша в результате умер один, а по-
дельники его выжили?
Вот трясутся трое с бледными, распухшими лицами, на задней площадке
пятьдесят седьмого, ветер играет дождичком, во всех скверах еще не похожие
на Гитлера анютины глазки, Оля все наступает нечаянно на рычажок неж-
ного звоночка в полу (предназначенного каменной ножище вагоновожато-
го, когда зад вагона становится передом).
Сразу после этих скобок, намекающих, что спасение возможно, зад еще
может «стать передом», из вагона нашу группу видит бывший репетитор
Яшиного двоюродного брата. Он манит Яшу в вагон, сообщает, что едет
с пятилетней дочкой проведать жену в родильном приюте, воспользовав-
шись остановкой (соскочил на проводе контактный шест), вписывает но-
вый адрес на свою визитку и просит передать ее кузену, задолжавшему ре-
петитору книги.
Перед Яшей будто звезда упала и разбилась на несколько лучей, на мно-
го дорог, как Хохмайстерплатц у дома Сирина на Несторштрассе разбива-
ется на семь улиц. И книги, и брат, и Базель (где находится кузен и куда
хочет Андрей Белый, коего, еще танцующего по-над лужами на Гогенцол-
лердамм, могли ребята увидеть с задней площадки), и пятилетняя дочь,
и родильный приют, сколько вокруг жизни! Да еще вагон затормозил...
Будь Яша на площадке вместе с Олей и Рудольфом, когда вагон затормо-
зил, может быть, все трое прониклись бы этой идеей — затормозить.
А так — Яша был отвлечен разговором, а другие двое — прониклись, но
без него.
И когда он вновь вышел на площадку, что-то загадочным образом изме-
нилось, союз как бы нарушился... как бы это получше сформулировать,
Владимир Владимирович?
— Он, не зная этого, как и они не знали, уже был совсем сам по себе, при-
чем незаметная трещина неудержимо, по закону всех трещин, продолжала
ползти и шириться.
Это хороший может быть этюд, упражнение для училища на Моховой.
Трое трясутся на погибель в мокром пестром воздухе, и каковы их лица,
и как недоуменно смотрят они на сумасброда с русским лицом, мечуще-
го ананас у станции «Гогенцоллернплатц», и как Шеншина в роли Оли на-
ступает на звоночек. Рудольф без шапки, а Яша в старой кепке, которую
четыре года не носил, а сегодня надел почему-то. Машенька выберет,
играть Леве из Пскова Руфольфа ли, Яшу ли играть. А потом один отлу-
чился, и лица оставшихся, и были ли взгляды, а может, и жесты, а потом
отлучавшийся прилучился, вот и показать, что треугольник безмолвно
треснул.
205
Белый мах
Безмолвное упражнение, для молчания. На театре могут исполнить не-
мые актеры.
Никто не знает, на каком перекрестке отскочил от пятьдесят седьмого
контактный шест? Как бы узнать. Может быть, на Фербеллинплатц — Фе-
дору как раз здесь сворачивать на Вестфалишештрассе, и по ней прямо,
уже почти пришел.
Он еще минует трамвайный парк, о котором есть что сказать, но ладно,
позже.
Отпустим героя. Он добирается до квартиры, заваливается спать, но
промельк не завершен: через пару абзацев (но через пару месяцев) его по-
ступательное движение на запад продолжается в Груневальд. Тоже серьез-
ный маршрут, от дома до озера пять километров, да еще и в лесу Ф.К. бро-
дит-плавает, пока у него не воруют одежду и обувь.
Груневальд—Агамемнонштрассе—
Штеттинский вокзал
После чего и начинается третий большой мах через город, запад — восток,
тоже из двух частей, самый масштабный, но не пешком: голым на такси из
Груневальда домой и из дома на автобусе до вокзала. Как и в остальных
случаях, перед обратным движением нет паузы: дойдя до конца маршрута,
герой словно разворачивается на каблуках и качается обратно.
Про каблуки не очень удачно вышло.
Федор обворованный, босой. Один ботинок ему вор-юморист оставил,
206 Федор сам не взял. Федор прыгает в плавках в такси и едет на Агамемнон-
штрассе, откуда пришел утром. По дороге в лес, на финише второго маха,
он проходил через богатый район, «мимо чугунных оград, мимо глубоких
садов банкирских вилл», сейчас он едет обратно и проезжает мимо впада-
ния в Гогенцоллерндамм короткой Эгерштрассе.
Здесь, в доме номер 1, семья Набоковых обитала с августа 1920-го по
сентябрь 1921-го (Владимир наезжал на каникулы, в один из визитов по-
знакомился со Светланой Зиверт). Эта явка [1] — одна из четырех физиче-
ски сохранившихся.
Три другие — та, куда Федор едет на такси [ю], адрес совсем рядом с Нес-
торштрассе, Вестфалишештрассе, 29 [9], и дом на Траутенауштрассе [4], о ко-
тором речь шла выше. Все три подверглись частичной перестройке после по-
жаров и прочих оплеух времени, а на Эгерштрассе все по-прежнему. Сытые
ангелы на столбах, розы в палисаднике. Сейчас, в начале XXI века, здесь видны
следы поразившей прошлое столетие социальной чересполосицы (совсем
поблизости от солидного комода номер 1 растет что-то вроде коллективных
бараков), но следы единичные: районы вокруг Груневальда продолжают оста-
ваться дорогими и престижными. Здесь, возможно, находится коттедж, пода-
ренный Драйером своей бессмысленной жене (никаких, впрочем, подсказок
в романе нет; предположение основано на презумпции экономии вырази-
тельных средств, проще ведь поселить героев в знакомый район).
Набоков без Лолиты
Квартира на Эгерштрассе, 1 принадлежала, мы уже знаем, вдове Р. Ле-
венфельда, переводившего на немецкий Тургенева и Толстого. Сочиняй
я художественное произведение, такое бодрое возвращение мотива пока-
залось бы надуманным, зачем опять Тургенев, не держит ли он в кармане
новую обезьяну... но, по счастью, для путеводителя значимые совпадения
собирает сама натура.
Их тут и еще несколько сгуртовалось, гулких камешков в плетеной коро-
бочке. 31 января 1922 года эмигрантская газета «Новый мир» (просоветское
издание, жившее на красные деньги и предшествовавшее более известно-
му в этой роли «Накануне») опубликовала заметку А. Коврова о выходе
книги, посвященной пробелам в немецких переводах из русской классики.
Пробелы касались нелицеприятных высказываний отечественных гениев
о германской нации.
Есть такая русская игра «ущипни немца».
— Немец-перец-колбаса!
Немец, особенно культурный, относится с пониманием. Но испытывает
иногда дискомфорт при переводе на свой язык уничижительных пунктов.
Наш Левенфельд, например, смягчил реплику Наташи Ростовой: «Разве
мы немцы какие-нибудь?..»
Мережковский, под редакцией коего выходили «Братья Карамазовы»,
удалил из текста Достоевского «картофельное и всегда радостно-самодо-
вольное немецкое остроумие».
Тургенев, мы знаем, тоже в остроумии на немцах практиковался. Так,
например:
— Жена его была довольно молода, но уже не имела ни одного переднего 20/
зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого
украшения человеческого тела.
Один из мифов о Сирине также гласит, что этот автор и человек активно
недолюбливал немцев. Бабочек с шахматами любил, а немцев не очень. Даже
немецкого языка принципиально не учил, прекрасно зная английский и фран-
цузский и вообще обладая выдающимися в этой сфере способностями. Са-
мое время поговорить об этом, пока голый Федор скрипит зубами в такси.
Что за картофельные попались полицейские, устроили склоку, когда
следовало проявить сочувствие!
Там же, на груневальдской прогулке, нам было предъявлено главное сви-
детельство набоковской германофобии. Картина маслом, тошнотворное
месиво релаксирующей человечины. Грядет щедрая цитата, которую и про-
тивно, и необязательно читать целиком, но я ее все же приведу, чтобы са-
мому потом не переживать, что скрывал вещдоки.
Что вы, Федор Константинович, увидали на песчаном берегу озера?
— Серые, в наростах и вздутых жилах, старческие ноги, какая-нибудь
плоская ступня и янтарная, туземная мозоль, розовое, как свинья, пузо,
мокрые, бледные от воды, хриплоголосые подростки, глобусы грудей и тя-
желые гузна, рыхлые, в голубых подтеках, ляжки, гусиная кожа, прыщавые
лопатки кривоногих дев, крепкие шеи и ягодицы мускулистых хулиганов,
Белый мах
безнадежная, безбожная тупость довольных лиц, возня, гогот, плеск — все
это сливалось в апофеоз того славного немецкого добродушия, которое
с такой естественной легкостью может в любую минуту обернуться беше-
ным улюлюканьем. И над всем этим, особенно по воскресеньям, когда тес-
нота была всего гаже, господствовал незабываемый запах, запах пыли, по-
та, тины, нечистого белья, проветриваемой и сохнувшей бедности, запах
вяленых, копченых, грошовых душ.
Мерзко, кто же спорит. Постарался автор. Самому-то приходилось пере-
читывать, торцы фразы обрабатывать золотым напильником, не противно
ведь было. Правил — зажимал нос.
Или вывел единой линией, задержав дыхание, а когда шли оттиски, звал
Веру глянуть на тошнотворную фразу. Сам я ее тоже не буду перепрове-
рять в верстке.
Антиколбасные моментики обнаруживаются и в других местах «Дара»,
и в рассказах «Королек» и «Озеро, облако, башня», где выведено не просто
тошнотворное на запах и цвет, но агрессивное и насильничающее дойче-
быдло. Однако этими примерами список исчерпывается.
И — когда все эти тексты написаны?
Федор гуляет по Груневальду в июне 1929-го, но Сирин-то пишет эту
главу в конце 37-го, в 38-м. И «Королек» с «Озером» — тоже гитлеровская
Германия в соку.
Удивляться, что наблюдатель недоволен, не стоит.
Посмотрите наполовину пляжный рассказ «Драка» (лето 1925-го), там
тоже груневальдская толпа — смешной младенец с мягким клювиком меж-
20 8 ду ног, его миловидная мама, на диво сложенные молодцы, бессмертный
аттический размах дискобола в движении коричневых юношей, играющих
в мяч: те же граждане описаны с нескрываемой симпатией.
Надо соскрябать с Сирина глупый миф о его неприятии немцев.
В «Подвиге» есть эпизод с «толстой расписной» русской дамой, которая
фыркает в трамвае, потому что местные невежи не уступают ей места; дама
пренеприятная, в то время как немцы, «усталые, голодные, работящие»,
выведены очень сочувственно.
Даже квартирные хозяйки у Сирина выведены сдержанно. Самому до-
водилось страдать, пальто за неуплату арестовывалось аж дважды, но с ге-
роями подобных казусов не происходит. Кашлять им хозяева не запреща-
ют. Хотя вообще эмигрантские тексты полны ненависти к этим созданиям.
Веру Лурье в 1995 году спросили, что она помнит из литературных собы-
тий семидесятилетней давности, и она ответила, что литературных собы-
тий особо не помнит, зато как перед глазами стоит, как квартирная хозяйка
отнимала у ее младшей сестры телефонную трубку, как жаловалась, что ве-
[ и: 28] рина мать «в мыслях ее презирает».
— .. .Обращают на себя внимание только своими неприятными качест-
[136: us] вами, — пишет про немецких героев Набокова немецкий исследователь,
Вечерний Гуляка. — Так, в «Защите Лужина» герой окружен немцами, кото-
рые или вечно пьяны или страдают запором.
Набоков без Лолиты
Это неправда, дорогой читатель!
Страдающий запором фабрикант в «Защите» есть, в единственном чис-
ле, с уважением отзывается о Лужине, охарактеризован как человек «доб-
родушный, приятный, не без вкуса одетый». Вечно пьяных немцев нету,
есть одна веселая компания, которой Лужин если и окружен, то в самом
удачном смысле: подгулявшие аборигены обнаруживают шахматиста без
сознания на улице и доставляют его по спасительному адресу. В этом мало
неприятного, по функции в тексте они — «волшебные помощники», хоро-
шие люди.
Спасительный адрес — родителей невесты — тоже тут мог, кстати, рас-
полагаться, в зеленой зоне. Такси застыло на стоп-кадре на фоне банкир-
ских вилл. Марта Драйер скончалась год назад, вдовец, надеюсь, уже при-
шел в себя: именно ему, ценителю казусов, и заметить бы, что из такси,
притормозившего на светофоре, зыркает голый долговязый мужчина.
Драйеру бы понравилось.
Годунов-Чердынцев в ответ на замечание приставучих полицейских, что
в голом виде нельзя ни стоять, ни ходить, предлагает, как вы помните,
снять трусики и изобразить статую.
— Фамилия и адрес, — сказал полицейский, кипя.
Он хочет записать их в блокнотик.
— Федор Годунов-Чердынцев.
— Перестаньте делать вицы и скажите ваше имя, — заревел полицейский.
«Делать вицы» — значит «острить», Witze zu machen. Полицейский ре-
шил, что Федор над ним издевается.
Может быть, он вспомнил эпизод из берлинских оперативных сводок
шестилетней давности (Дни. 1923.22 июля), когда остроумный мошен-
ник являлся перед обитателями дачных поселков в купальном наряде,
жалуясь, вот как Федор, на пляжное воровство, а потом торговал костю-
мами, которые ему жертвовали веселые Драйеры. Или ломает заносить
в блокнотик фамилию с «ч» да с «ц», которые очень неохотно передаются
в немецком письме.
Выбирая фамилию для главного героя «Дара», Сирин такую и заказы-
вал. Просил у специалиста список угасших аристократических родов и ис-
кал для своего героя фамилию с шипящей.
Шипящая пригодилась не только для Федора. «Дар» переполнен фами-
лиями с неудобными для языка Гете и Гегеля буквами.
Помимо Чердынцева в романе орудуют Кончеев, толпа Чернышевских,
Щеголевы, Буш, Ширин, Ступишин, некто Шуф, Шахматов, Лишевский,
Чарский, Пышкин, упомянуты Пушкин, Шполянский и Петрашевский.
Особо хорош Сухощеков — Suchoschtschokow.
Русские девять букв в немецком написании фамилии превращаются
в шестнадцать.
Шестнадцать вместо девяти — надо было постараться.
Если таким образом автор выражал неприязнь к Германии, делал ей
«вицы», что же — довольно артистичный образ.
209
Белый мах
Прогулка из Груневальда по Гогенцоллерндамм — пешая — описана
в письме Вере от 6 июля 1926 года. Тогда на озере тоже было «очень людно»,
но при этом «удивительно хорошо», никаких претензий к «копеечным ду-
шам». С симпатией выведен торговец, несущий на отвесе нити разноцвет-
ных бус, выкрикивая «метр один грош»: оказалось, что это бумажные лен-
ты леденцов. На Гогенцоллерндамм В.В. видит строящийся дом, и листву
сквозь кирпичные проймы, и как солнце омывает пахнущие сосновые бал-
ки. Зер гут.
Федор наконец приехал на Агамемнон, 15. Там сборы, ящики в коридо-
ре, шум, вечером прощальный ужин Щеголевых. Назавтра они уезжают,
Федор сходил за такси, остается ждать, когда Зина вернется с вокзала...
Но проезд Груневальд-Агамемнон слишком короток для третьего маха,
нужно продолжить движение на восток, и выясняется, что к стоянке такси
Федор вышел без ключей.
Верно, в прошлый раз он забывал их в первой главе, три года назад, сле-
дует подвзбить тему. Зина, рассчитывает Федор, раньше чем через три часа
не появится. На улице герою делать нечего. Книги с собой нет. Одет Федор
хоть и затрапезно (ночные туфли, старейший мятый костюм с недостаю-
щей на гульфике пуговицей и материнской заплатой сзади), но все же не
так вызывающе, как вчера. И он садится в автобус (не совсем ясно, почему
у него в домашней одежде деньги, ну ладно) и держит путь на вокзал.
Едет мимо мрачной политической процессии на Тауэнтциенштрассе
(даже лозунг — «За Серб и Молт!» — процитирован, это величайшая ред-
кость в прозе Сирина), мимо Потсдамской площади, «всегда искалеченной
210 городскими работами» (сейчас работ нет, но в конце XX века здесь была ед-
ва не самая грандиозная стройплощадка в истории Европы), по «псевдопа-
рижскому пошибу» Унтер-ден-Линден, по узким торговым улочкам, через
мост...
Федор повторяет путь, который только что проделали Щеголевы и кото-
рый четвертым, последним, махом им предстоит проделать в обратном
направлении с Зиной. Перетаптывание маршрута, свисты и шорохи энер-
гетических линий, что шипуче искрят, когда тропа автобуса отклоняется от
курса такси.
На вокзальной лестнице он увидал Зину, и влюбленные не замедлили
двинуться — можно теперь сказать, восвояси.
Штеттинский вокзал —
сквер с рестораном—Агамемнонштрассе
Вокзал назывался Штеттинским [36], с него отправлялись поезда в Копен-
гаген (куда и уезжают Щеголевы) и вообще в сторону Балтики. В «Даре»
мелькнул полустрочкой «балтийский барон», любовник Зининой матери,
и рассеялся, но балтийский след — вот он.
Отсюда Набоков стартовал на остров Рюген летом 1927-го, сопровождая
на каникулы ученика (бывал в «уроках» такой приятный почти отпускной
Набоков без Лолиты
бонус; причем в данном случае июль Набоков провел на море с учеником,
а август уже с Верой), и летом 1928-го он тоже ездил на Балтику. А между
этими двумя поездками уместилось сочинение «КДВ» с летальными бал-
тийскими водами. Когда Марта умирала, Францу пришлось метнуться на
несколько часов в Берлин с поручением от Драйера — снова через Штет-
тинский вокзал.
Сейчас Штеттинского нет (как и большинства других больших берлин-
ских вокзалов, функционировавших при Сирине: Анхальтского, Герлитц-
кого, Потсдамского, Леттерского), располагался он на месте нынешнего
Северного (который не вокзал, а скромная городская станция).
Федор и Зина садятся в тот же автобус, проделывают обратный путь, ми-
нуют «теснину Бранденбургских ворот» [37]. Зина вынимает из сумки све-
жеотпечатанные фотографии (Зина на улице, Зина на подоконнике), но
Федор держит снимки в руках в течение одного короткого, сухого и доволь-
но невыразительного абзаца, напоминая, что не только фотографии
в творчестве Сирина нет особого места, но и Зине отдельно от Федора, ее
закадровой жизни, в романе, посвященном дару главного героя, места по-
ложено немного.
«За Потсдамской площадью, при приближении к каналу» в салоне обна-
руживается скуластая дама, шатается, «борясь с призраками». За Потсдам-
ской площадью, при приближении к каналу» [38] — автобус проезжает
в этот момент мимо места убийства Набокова-старшего.
Федору кажется, что он скуластую даму встречал: конечно, это фрау Ло-
ренц, перевозившая вещи на первой странице романа и пустившая Федора
в подъезд, когда он забыл ключи, там же, в первой главе.
Роман вот-вот закончится. Федор и Зина выходят из автобуса, немного
не доезжая до дома [61].
В ресторанчике за скромным ужином («лунные вулканы картофельного
пюре», редкий случай упоминания пищи; про еду у Сирина вообще очень
мало) происходит разговор о работе судьбы, об оранжевой пыли, о том,
что «Дар» есть огромный узор невстреч Зины и Федора.
Автор, под сурдинку армии роз, сует читателю в нос выгодную Федору
версию, чем отвлекает наше внимание от других узоров романа. В том
числе от четырехтактного маха, от этой мобильной арматурины гипер-
качелей...
Четыре большие дуги, все мгновенно переходят в следующую на стыках,
и все, кроме последней, имеют временной разрыв посередине.
Чтобы — повторюсь — почувствовать воздействие этого грандиозного,
но ничуть не громоздкого механизма, читателю вовсе не обязательно знать
о его существовании. Может, лучше и не знать: фиксация часто мешает
переживанию. Следует впасть в ритм и верить, что какой-который, а уж
этот мост спроектирован прочно, что на этих волнах тебя качают без на-
мерения утопить.
Набоков сочинял пятую главу на фоне опасного романа с агентшей
Гуаданини. Романа, грозившего разрывом с семьей и, кстати, имеющего
211
Белый мах
отношение к оппозиции сторон света. Владимир сошелся с Ириной на за-
паде, в Париже (уже покинув Германию), а Вера, задержавшаяся в Берлине,
не только во Францию недостаточно споро, по мнению В.В., собиралась, но
еще и непременно хотела в последний раз посетить свекровь в Праге, на
востоке. Иной наблюдатель может трактовать маятник Федора как мета-
ния на заданную семейную тему.
В том же, что у нашего просторного узора четыре крыла, вряд ли стоит
искать метафизический смысл. Концептуально Сирина интересовали ско-
рее конструкции не столь символично-симметричные, как число «четыре»,
важничающее стихиями и сторонами света, похожее на большой оперный
куб, жеманно отбрасывающий четыре одинаково четкие тени.
Но сама по себе четверка, цифра с подогнутой ножкой, фламинго ариф-
метики, не виновата в том, что ее любят нагружать символами. Нормаль-
ная хорошая цифра, и узоров с ней у Сирина хватает.
Отменна хрустальная комбинация «восемь русских романов и восемь
английских». Пусть идея помножить одну сторону шахматной доски на
другую не поражает оригинальностью, но это ведь не стишок срифмовать
с лукавозамороченным узором. Он на эти восьмерки жизнь расчертил.
География его жизни развалена на четыре почти одинаковых куска: хлеб
ломают руками, поровну никогда не выходит.
Золотые горячие крошки обратились в звезды иных берегов.
Он ровно двадцать лет дислоцировался в России (Петербург с губернией
и Крым), двадцать один год и еще один месяц в Европе (перед Германией
немного Англии, после Германии чуть-чуть Франции), девятнадцать лет
212 и четыре месяца в Америке (там много переезжал) и восемнадцать лет без
пары месяцев снова в Европе (в швейцарском Монтре).
Жаль, что четвертая порция до двадцатки не дотянула.
С другой стороны, проживи Набоков подольше, он досочинил бы заду-
манный и начатый роман, который стал бы девятым английским и разбил
шахматный витраж. Кроме того, В.В. страдал чудовищным псориазом, ко-
торый буквально обгладывает человека, в набросках к девятому роману
есть убедительные сцены с гниющими конечностями героя; вопрос о по-
следней визе стоял, похоже, во весь рост.
Если считать не порты приписки, а дни, проведенные в тех или иных во-
дах, получится, что в Берлине Владимир Владимирович провел больше вре-
мени, чем даже в Петербурге. Подневной летописи не существует, но при-
мерно сообразить можно. Из восемнадцати петербургских лет вычитаются
около пятнадцати усадебных летних ломтей, причем дошкольные лета слу-
чались с майскими гаками и сентябрьскими маленькими тележками: это
сразу четыре года долой. Минус несколько осенних поездок к теплому мо-
рю, минус несколько заграничных месяцев в 1901-1902-м и в 1905-1906-м,
минус одна полностью усадебная зима в 1906-м, минус три стоматологи-
ческих месяца в Берлине в 1910-м.
И в плюс эти месяцы соответственно Берлину, из пятнадцати принадле-
жащих которому лет тоже кое что вычитается (Прага, Балтика, экспедиции
Набоков без Лолиты
за бабочками, короткие гастроли в Лондон, Париж и Брюссель), но сущест-
венно меньшее.
В общем, в Петербурге меньше двенадцати лет, а в Берлине больше две-
надцати, как-то так.
В детстве гулять по городу славно, но прогулки эти минимизированы
распорядком дня. В отрочестве главный маршрут, школьный, проделывал-
ся на автомобиле. Есть беззаконные маршруты маленького прогульщика
Лужина, есть серебристые блуждания с Машенькой, где-то еще (в рассказе
«Адмиралтейская игла») раскрошены невские прогулки; в общем, это все.
В Америке он служил в университетах в маленьких городках, по кото-
рым особо не побродишь, да и бродить предпочитал в насекомых окрест-
ностях. Второй европейский срок пришелся уже на пенсионный возраст.
Много Сирин ходил, получается, если города брать, только по Берлину.
213
Фланер, человек гуляющий
Вчера около девяти я вышел пройтись, чувствуя во всем теле
то грозовое напряженье, которое является предвестником
стихов...
Из письма Вере от 7 июня 1926 года
На последнем отрезке второго большого прохода, от дома на Агамемнон
до Груневальда, Федор восхищается утренним солнцем, что играет на раз-
нообразных предметах, выбирая, как сорока, маленькие и блестящие, ра-
дуется вольной поэзии железнодорожных откосов.
За мостом, возле скверика, Федор наблюдает следующее:
— Двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочно-
214 го автомата, на цыпочках, один за другим, один подражая жестам другого,
из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко
и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком по-
щекотать ему нос.
И тут же:
— Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает
меня?
Можно немедленно употребить для составления практического руково-
дства: «Как Быть Счастливым».
Быть Счастливым значит вольно бродить и наблюдать чудеса Природы
и Цивилизации.
Эта проза плотно набита прогулками и прекрасными их трофеями.
За возможность составить руководство «Как Быть Счастливым» рас-
сказчику хочется благодарить — «а благодарить некого».
— Список уже поступивших пожертвований: 10 000 дней — от Неизве-
стного.
В качестве дара прямо заявлены дни, но самая сладкая их начинка — это
щелкающие, как кадры в диапроекторе, короткие зрелища.
— Облупившиеся стены старых домов греют на утреннем солнце татуи-
рованные спины, а вечером мало кого оставит равнодушным зевок дамы,
начавшийся в освещенном окне головного вагона, и законченный другою —
Набоков без Лолиты
в последнем. Лужи состоят уже не просто из пресной воды, а из какой-то
синей, искрящейся жидкости. Два пузатых шофера, чистильщик задних
дворов в своем песочного цвета фартуке, горничная с горящими на солнце
волосами, белый пекарь в башмаках на босу ногу, бородатый старик-ино-
странец с судком в руке, две дамы с двумя собаками и господин в сером бор-
салино, в сером костюме столпились на панели, глядя вверх на угловой бель-
ведер супротивного дома, где, пронзительно переговариваясь, роилось штук
двадцать взволнованных ласточек. Резкие тени деревьев тянутся по солнеч-
ному газону — все в одну сторону, как будто им хочется посмотреть, кто
первый дотянется до боковой стены сада, до высокой кирпичной стены, охва-
ченной понизу тысячелапым ползучим растением... Забавным лучом пау-
тинка косо идет от крайнего цветка на перилах к столу... Прошли два госпо-
дина в цилиндрах; цилиндры, как пробки на воде, проплыли над оградой...
Драйер слегка удивлен:
— Совершенно непонятно, почему они в цилиндрах.
Сразу видно, что он не читал нашего путеводителя. В цилиндрах — что-
бы они проплыли над оградой. Легкое «над» — это прикосновение к дру-
гим берегам, знак постоянного присутствия чуда в мире.
Даже не слишком возвышенному Графу Иту дается понимание, что «на
самой скучной улице дома все разные, разные, и сколько есть на них... ни-
кчемных на вид, но жертвенной прелести полных украшений».
— А еще выше, над домами, перистые облака, вроде небесных борзых...
Жгучее солнце пробирается к углу окошка и вдруг обливает желтую лав-
ку. .. Другие облака то и дело сметают солнце, но оно показывается опять,
как монета фокусника. Апрельские облака плывут по нежному берлинско-
му небу... Нежен и туманен Берлин в апреле, под вечер...
Есть у Сирина персонажи, которым не нравится Берлин: это, как прави-
ло, антагонисты. В «Путеводителе по Берлину» фразу «скучный, чужой го-
род и жить в нем дорого» произносит случайный вялый собутыльник.
В «КДВ» город скучен Францу: эй, Франц, ты нам тоже скучен. Тебе повез-
ло, что ты стал персонажем гротеска, происшествия в купе, а то бы и
Драйер с тобой возиться не стал, плюнув на родственные узы.
— Человек не может провидеть, какую мелочь он будет вспоминать веч-
но — световую ли рябь на стене вдоль воды или кружащийся кленовый
лист, — замечает автор в «Картофельном Эльфе».
Верно, этого не провидеть, но не подвергается сомнению, что мелочь,
застрявшая в вечности, будет иметь визуальный характер.
— Я понял, что единственное счастье в этом мире — это наблюдать, со-
глядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, — не делать ни-
каких выводов, — просто глазеть, — это мнение соглядатая Смурова из од-
ноименной повести.
Глазеть, скажет кто-то, не обязательно на ходу. Выше была сцена с гон-
кой теней по газону, с цилиндрами над забором: это Драйер наблюдал из
укрытия, из своего сада. Как маленький Володя в «Других берегах» наблю-
дал из шкафа за маневрами слуги.
215
Фланер, человек гуляющий
Ходьба, однако, есть способ укрытия, не требующий инвентаря. Фланер
прячется в ходьбу, в самодостаточность ее ритма, в анонимность фигуры
прохожего.
Иногда он может, конечно, притормозить... позевать. Драйер в одном
эпизоде отвернулся, подобно удовлетворенному зеваке, после того как
уличный торговец поднял и снова положил на возок нечаянно рассыпав-
шиеся апельсины.
Зевака нечаянно подглядел и тут же отвернулся: лошадь не моя.
Взгляд фланера внеморален. Он не сочувствует торговцу, рассыпавшему
апельсины, и не помогает их подбирать. Ему интересна картинка — ее ди-
намика, краски.
Небольшой автомобиль с сильно поврежденным крылом, разбитыми
стеклами и окровавленным платком на подножке и румяная нищая с отре-
занными до таза ногами, приставленная, как бюст, к стене дома, следуют
через безразличную запятую. К нищей сочувствия тоже нет, зато отмечено,
что она торгует «парадоксальными шнурками», — это как раз искомый
вкусный гротеск.
В Груневальде Федор осматривает место, где на днях упал небольшой
аэроплан... интересно, Федор Константинович?
— Я пришел, к сожалению, с опозданием: обломки успели убрать...
Славно это вот «к сожалению». Лучше бы, конечно, застать сам момент
«удалой смерти». Остается подобрать рифму: у раненной небесной экви-
либристикой сосны делает друг перед другом несложную гимнастику чета
пенсионеров. И начало следующего абзаца: «дальше становилось совсем
216 хорошо...»
Еще лучше, чем рифма несложной гимнастики со смертельной акроба-
тикой, Федор Константинович?
Мы помним, как после похорон Александра Яковлевича он старался ду-
мать о смерти и вместо этого глазел и думал о том, что небо похоже на го-
лубое сало.
Сирин в курсе, что зевака внеморален. «Как зеваки смотрят на уличное
препирательство, найденыша или раненого» — это из «Весны в Фиальте».
Смысл в акте отстраненного, с другого берега, зрения.
Фланер не вмешивается в течение жизни. Так агент, спешащий с отрав-
ленной депешей на Кокушкин мост или на Кэтценбрюке, не имеет права
остановиться, скажем, чтобы спасти тонущего ребенка.
Ему нельзя сесть на велосипед — Сирин, казалось бы, мог катать по Бер-
лину на серебристых колесах, здесь это очень даже принято, — но нет, ни-
чего в его немецкой биографии не намекает на двухколесные досуги, и Фе-
дор все время пешком. Дорожная ситуация отвлекает, пешком сподручней
глазеть.
С самых ранних рассказов задана эта формула — автономно шатаю-
щийся и вылавливающий картинки фланер. В «Письме в Россию» фланер
не видит в темноте человека, возвращающегося домой, но таится, гадает,
какая именно парадная дверь оживет, а потом блаженствует — от того, как
Набоков без Лолиты
«в глубине, за дверным стеклом, засияет на одну удивительную минуту
мягкий свет». И ему нравится, что жизнь не знает, что ее преследуют: фла-
нер, агент беспечного зрения, должен оставаться в тени.
Мир для слепцов необъясним,
но зрячим все понятно в мире
В «Отчаянии» Ардалион рисует портрет Германа Карловича без глаз, остав-
ляя их «на потом»: напомню, что слепота Карловича делает его убийцей.
— Всякий пессимист человек до смешного ненаблюдательный, — сказа-
но в «Подлеце».
В «Облаке, озере, башне» предвестием беды оказывается усекновение
вида из вагонного окна, куда можно глазеть лишь урывками после того,
как экскурсантам выдали текст коллективистской песни.
Слова родового герба монарха из фрагмента «Solus Rex» — «sassed ud
halsem» — остряки переделали в «sasse ud hazel»... было «видеть и владеть»,
стало — «кресло и ореховая водка», то есть «сидеть и заливать шары».
В «Истреблении тиранов» будущий диктатор идет много верст по трак-
ту «между незамеченных нив». Ландшафт, воспетый Гоголем, остается вту-
не для Н.Г. Чернышевского, ибо всю дорогу из Саратова в Петербург он чи-
тает книжку. Любезный Чернышевскому Варфоломей Зайцев (известный
тем, что назвал Лермонтова разочарованным идиотом) ни черта не видел
и «по близорукости часто грохался с лестницы».
Заблудившимся поэтом
— Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе, — «простое пра-
вило» набоковской матери.
— Вот запомни, — говорила она, обращая внимание на заветную под-
робность: жаворонка в мутно-перламутровом небе, вспышки ночных зар-
ниц, клинопись птичьей прогулки...
Любовь, таким образом, равняется зрению и запоминанию.
Зрение как главное из человеческих чувств — общее место набоковеде-
ния. Старший Комментатор составляет коллекцию слепцов в «Даре» [45: юб]
(у Христофора Мортуса «неизлечимая болезнь глаз», у Добролюбова «ма-
ленькие близорукие глаза», Ширин «слеп как Мильтон»), Строгая Эм под- [76:109]
черкивает, что мать, предлагающая «вот запомни», «привлекает его вни-
мание только к визуальным деталям, которые автор, в свою очередь,
соотносит с визуальными искусствами — фотографией («всполохи ноч-
ных зарниц»), живописью (жаворонок),каллиграфией (клинопись)». Пе-
реводчик Бодлера обращает внимание, что две знаменитые черные бездны [139: iso]
из самого начала «Других берегов» (тьма посмертная и тьма пренатальная)
описываются исключительно в терминах зрения и видения: вглядываться,
щель слабого света, черные вечности, просматривать фильм, луч, мираж,
высмотреть...
217
Фланер, человек гуляющий
Фланер умеет «высмотреть»... но где здесь любовь? Не хочет ли он поде-
литься с кем-то результатами своих наблюдений?
Он охотно делится ими с читателем, но есть кого обрадовать чудом зре-
ния на месте, сказать кому-то близкому: «вот посмотри»?
Первые недели знакомства Федора с Зиной Мерц они упиваются прогул-
ками и вместе совершают визуальные открытия:
— Не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже
она указывала ее.
Прекрасно... только ни одного примера совместно выловленной забавной
черты ночи почему-то нет. Это странно — одинокий фланер такими чертами
сыплет как из ведра. А что углядели с Зиной — загадочное умолчание.
Отношения влюбленных быстро меняют конфигурацию: Федор днями
напролет загорает в Груневальде или предается высокой страсти в библио-
теке, оформляет результат своих бдений в виде замечательной поэзии и ве-
ликолепной прозы. Зина в это время горбатится за машинкой в сальной ад-
вокатской конторе Траума, Баума и Кезебира, а вечерами благоговейно
внемлет порожденной Федором литературной продукции.
Едва же наметившееся парное фланерство развития не получает.
Была еще попытка Чорба, который вместе с женой выискивал прелести
пейзажа, обсуждал, напоминает ли оттенок листвы берез пятна нежной
ржавчины на выглаженном белье, — что же, соратницу по креативному
зрению автор, не мешкая, укокошил.
Фланеру хорошо одному... это входит в его природу.
218
Где я только не шатаюсь
в пустоте весенних дней! —
И к подруге возвращаюсь
все позднее и поздней.
Стишок написан в мае 1925 года, через месяц после бракосочетания.
Подруга стала женой, пусть сидит на работе и дома.
Как хорошо в поющем мире этом,
скользя плечом вдоль меловых оград,
быть русским заблудившимся поэтом
средь лепета латинского цикад.
В сочинении «Слоняюсь переулками без цели» цикады лепечут на ма-
лознакомом языке. Это, впрочем, я забегаю вперед.
Шататься и слоняться без видимой цели — вот что мило сердцу поэта.
Художника, ученого, философа.
Берлинские страницы воспоминаний Симона Дубнова (классик еврей-
ской историографии, 1860-1941) посвящены большей частью работе над
верстками и встречам с коллегами. Город в них возникает крайне редко,
лишь в связи с одинокими прогулками.
Набоков без Лолиты
— Отрываюсь от гула веков за письменным столом, шагаю к зеленому
царству Груневальда и Далема, и гремит надо мною в вышине птичий хор,
псалмы небес... [46:529]
— Как хороша беззвучная утренняя молитва в час прогулки по просы-
пающимся улочкам, среди дремлющих в густых садах вилл! [46:529]
Фланер наедине с Творцом. Собственно, даже его замещает. Бродит,
вглядывается, придирчиво оценивает мироздание: все ли сверкает долж-
ным манером, не отпоролась ли где штакетина.
«Норд-экспресс» сбавляет ход, тише и тише шагают огни, световой цир-
куль все медленнее мерит мрак купе. Бессонный мальчик пробирается по
нижней полке в сторону окна — отцепить шторку, полюбоваться накатив-
шей станцией. Поезд тормозит.
— Сверху вдруг падало что-нибудь (например, братние очки).
Не книга, например, не игрушка, заметьте, даже не футляр от очков. Са-
ми очки. Снаряд для зрения.
«Я вижу, а брат нет» — вот смысл этого «например».
Герои Сирина ревнивы к чужому взгляду. Зачем Ганин хочет похитить
у Алферова из ящика стола фотографию Машеньки? Оно бы понятно, ес-
ли в бессильной злобе, из зависти к удачливому сопернику, но ведь Ганин
сильнее, что он и доказывает последующим развитием сюжета. Или дело
в большой жабе-чернильнице, украшающей столешницу, — взяла да зада-
вила? Ганину просто не хочется, чтобы Алферов пялился на Машеньку?
Хочется смотреть самому-одному?
В Груневальде не только копченые души загорают с мозолями.
— Иногда, рядом со школьным портфелем и сверкающим велосипедом, 219
прислоненным к стволу, лежала одинокая нимфа, раскинув обнаженные
до пахов замшево-нежные ноги, заломив руки...
Федор опытным глазом уловляет среди стволов трех неподвижных
ловцов, которые делят девушку взглядами, способными прожечь дырку
в черном купальном трико. И больше не смотрит: слишком велика конку-
ренция.
Он отдельно отмечал, что всеми визуальными радостями, всеми подар-
ками «летнее утро награждает меня и только меня».
Я думаю, что рядом с этим «только меня» все же присутствует призрач-
ный образ второго адресата. Зины-Веры, перед которой можно похвастать
подарками вечером. Будущего читателя. Но вечером. Но будущего. «Люди
и тени стоят у входа». У фланера за плечом теневое «я», портативный Кон-
чеев за пазухой. Он находится в столь интенсивной беседе с самим собой,
что расчленяется внутри себя на парочку собеседников.
Фланер спрятан в трубе ходьбы, полностью отдаваясь процессу, он вы-
ключает себя из окружающей действительности, относится к ней как
к проходящей мимо веренице кадров... иногда он резко клюет, прикасает-
ся и отпрядывает, пока что-нибудь не слишком активно набухло в ответ.
Годунов-Чердынцев «в пивные и кафе никогда не захаживал, ненавидя их
люто», но ведь и в церкви сиринские герои не захаживают и за полутора
Фланер, человек гуляющий
исключениями не захаживают в музеи. Они никуда не ныряют, не внедря-
ются глубоко, не суются туда, где можно влипнуть.
Есть легенда, что Владимир Владимирович в Берлине ни разу не потра-
тил денег на книгу: целые тома постепенно прочитывал прямо в книжных
магазинах.
Спускаясь, скажем, с антресольного этажа на Пассауэрштрассе по лю-
бой надобности, он хоть на пять минут да заглядывал в расположенный
напротив русский книжный, а за пять минут как раз можно прочесть две
страницы для дальнейшего осмысления по ходу энергичной ходьбы.
Не забывая о темных сторонах бедности, вынуждающей к подобным
полулегальным встречам с прекрасным, я и здесь найду повод порадовать-
ся за молодого литератора. Распоряжаться временем прогулок и торчать
у полок в книжных — это счастье стоит иных богатств, чьи хозяева привя-
заны к своим деньгам, как бобик к столбику.
Письма В.В. к Вере несколько уточняют картинку: деньги он таки тра-
тил, брал книжки в магазинах напрокат. Но касательное чтение подтверж-
дается — так, 16 июня 1926 года Сирин, разжившись новой порцией книг,
[93] «направился в сквер на Виттенбергплац. Там на скамейке, между старичком
и нянькой, читал с полчасика, наслаждаясь прерывистым, но жарким солн-
цем». Нырнул, стало быть, в книжку, и снова в путь.
Презумпция передвижения
Ходьба — это машина раскачивания, подзавод ремней, что отвечают за
220 бесперебойное производство внутренних смыслов и за связь с демонами
места.
— Чувство России у него в ногах, мог бы пятками ощупать и узнать ее
всю, как слепой ладонями...
Совпис Новодворцев из «Рождественского рассказа», воодушевленный
идеей безымянного критика забабахать к празднику рождественскую ис-
торию на новый рабочий лад, ходит по комнате, совпадая с траекторией,
по которой бороздил ее критик: чтобы и с идеей плотнее совпасть.
— Он быстро пошел по мокрому тротуару, бессознательно стараясь де-
лать такие шаги, чтобы каждый раз каблук попадал на границу плиты, —
эта детская игра знакома всякому, но Сирин, конечно, развлек ею Лужина.
Агент Барбошин («сыщик с надрывом» из «События») презентует сек-
рет патрулирования под окнами оберегаемых особ.
— Только пошляки ходят маятником, а я делаю так. Озабоченно иду по
одной стороне, потом перехожу на другую по обратной диагонали... Вот...
И так же озабоченно по другой стороне. Получается сначала латинское «н».
Затем перехожу по обратной диагонали накрест... Опять — к исходной
точке, и все повторяю сначала.
Иллюзия, что добросовестная ходьба с выкладкой и вычуром способ-
ствует установлению контактов с иными силами, здесь пародируется, ко-
нечно, но Сирин часто пародировал собственные заветные заблуждения.
Набоков без Лолиты
У него вообще есть презумпция небессмысленное™ передвижения.
Фланер, как и прыгун-от-женщины-в-поезд, выполняет видимую глазу
физическую работу, внутри его, раскачанная ходьбой или иным способом
пожирания пространств, кипит работа метафизическая... не может же все
это проходить бесследно. Это сильная иллюзия. Даже Толстой перед
смертью — рванул.
Рассказывая о «холодном червячке», о том, что Манин не смог соответ-
ствовать открытости Машеньки при их свидании в старом парке, я не
уточнял, что происходило непосредственно перед свиданием.
А перед свиданием — Лева на него добирался.
В это, второе, лето усадебной части романа родители Машеньки сняли
дачу в другом поселке, за пятьдесят верст от Левушкиного имения. И наши
герои созвонились встретиться.
Выехал он около трех часов дня, ветер был в спину; выбирая гладкие
места между острых камешков на шоссе, он вспоминал, как проезжал ми-
мо Машеньки всего год назад, когда еще не был с ней знаком. На пятнадца-
той версте лопнула задняя шина, он долго чинил ее, сидя на краю канавы.
Понимая, что опаздывает, он свернул в лес, наискосок, но свернул неверно
и долго колесил, прежде чем попал на правильную дорогу. Когда остава-
лось всего двенадцать верст, переехал острый камушек и опять свистнула
и осела та же шина.
Было уже темновато, когда он прикатил... «Темновато» в петербургской
губернии в начале лета — это ближе к девяти, если не позже. Левушка катил
к Машеньке шесть часов, совсем не по автобану.
Она, конечно, хмыкнула про холодного червячка, но должна была оце-
нить мужскую силу этого лирического рывка.
Она оценила, безусловно.
Еще и обратно в темноте переть.
Но мы не должны забывать, что сиринские мужчины в среднем случае
переоценивают метафизический вес рывка, терпения дороги. У Сирина
эти штуки абсолютизируются, но окружающим нужны еще и какие-то
свои смыслы, попроще.
Машенька «ждала его у ворот парка, как было условлено, но уже не на-
деялась, что он приедет, так как ждала уже с шести часов. Увидя его, она от
волнения оступилась, чуть не упала».
Не надеялась, но ждала. Увидя, от волнения оступилась, через запя-
тую — чуть не упала! Возможно ли выразить проще, точнее?
Эти женские переживания тем ценнее в мужчиноцентричной сирий-
ской прозе. Женским места уделено немного, но оно всегда есть, и сильный
читатель может раздуть разбросанные по тексту тлеющие угольки в полно-
форматные картины.
Машенька, которая (в белом сквозистом платье, без банта, с васильками
в подобранных волосах) два или три часа ждет Левушку у ворот парка.
Зина ждет Федора на балу, на который тот не смог вырваться из объя-
тий Музы.
221
Фланер, человек гуляющий
Жена Лужина понимает, что не одолеть ей его косматой темной тяжести.
Перова из «Бахмана» минимизирует последствия пьяных рывков пси-
хического пианиста. Невеста погибшего Марка из «Катастрофы»,
о чувствах которой ни гроша не обронено... вот и простор для фантазии.
Маше Шеншиной и ее подругам есть кого в этой жизни играть, пока
мужчина-фланер бродит по сквозистым паркам.
Я, кстати, думаю, что Ф.К. после писательского собрания не слишком
огорчился потере гривенника. Пешедрал на час, смакуя значимый недо-
звон, — что же, это его стихия. Доволен и автор: в несостоявшийся теле-
фонный разговор он впихнул уморительную загогулину. Федора не просто
неправильно соединили, а с номером, дозваниваясь на который, постоянно
попадает как раз к Щеголевым невезучий закадровый абонент. Читатель
почесывает переносицу, соображает, что Федору об этом знать неоткуда,
что это Сирин лукаво нам подмигнул. Или это Федор успел нафантазиро-
вать для стишка, который можно сочинить по дороге?
Фланеру потому еще нужно слоняться в одиночестве, что дома одиноче-
ства нет. Усадебные парки и весь мир у ног юного аристократа схлопнулись
до арендованной комнаты. Ванна общая, за стеной соседи или квартирная
хозяйка.
Или вот жена завелась, любимая, но с весом, с запахом, с размером. Не
тень. Она как раз горазда стать тенью, но нужно время. Набоковы даже
в самые тяжкие периоды норовили снимать две комнаты, чтобы Влади-
мир — страдавший всю жизнь будто бы бессонницей — мог остаться
ночью один.
222 Фланировать ведь можно не только наяву и ногами. Покидающий тиф
юный Левушка бродит в полубреду взглядом по обоям.
— Странствуешь глазами вверх и вниз, стараясь не задеть по пути ни
одного листика, находишь лазейки в узоре, проскакиваешь, возвращаешь-
ся вспять...
Федор Годунов работает над тем, чтобы кресло стало пригодным для пу-
тешествий, удобряя его пахи пеплом, а пока путешествует лежа и ощущает
свое тело на диване «далекой синей линией, горизонтом себя самого».
В «Даре» есть фрагмент, который мне настойчиво кажется пародийным,
хотя в задачи автора такой эффект не входил.
К Федору приехала погостить мать, и они забавляются вечерами не-
сколько болезненным^на мой взгляд, образом. Сидят рядом и молча про
себя воображают, что каждый совершает одну и ту же усадебную прогул-
ку — из парка, вдоль пбля, через речку, через тенистое кладбище... Иногда
останавливаются и говорят друг другу, кто где находится, и часто получает-
ся, что ни один не обогнал другого, остановившись в том же перелеске, что
порождает у обоих улыбку сквозь слезу.
Не слишком ли сентиментально, розово... похоже на злую советскую
сценку про охреневших эмигрантов, ползающих в памяти («в уме», гы-гы)
по квадратным сантиметрам реквизированной революционным народом
земли. Нет, я ошибаюсь?
Набоков без Лолиты
Как он ловко, однако, избавился от компании матери: кажется, что игра-
ют вместе, а сидят-то молча и ходят по отдельности, лишь на секунду на-
клоняясь друг к другу на тенистом кладбище.
Есть в одиночестве свобода,
и сладость в вымыслах благих.
Звезду, снежинку, каплю меду
я заключаю в стих.
Диагонали детская и не очень
Звезда, еще не замкнутая в медовую капсулу стиха, покачивалась над прос-
пектом, имя которого обещало стрекот цикад, запахи сеновала, теплое ды-
хание коровы в сенях — не мне, впрочем, обещало, а возможно, и не сейчас,
но почувствовать себя внутри сиринской прогулки получилось благодаря
аллитерации: загаданный выше проспект именовался Загородным, пере-
секал Звенигородскую, ну и звезда. У красной «М» курили два мента, ко-
торых еще до завершения мною работы над книгой ожидало переимено-
вание в полицаев, один вальяжно играл в углу рта непомерно длинной,
трофейной по всему, сигаретой, другой курил торопливо, поминутно огля-
дываясь, пряча после каждой затяжки сигарету в рукав.
— Сами ангелы курят в рукав, а когда проходит архангел — папиросу
бросают: это и есть падающие звезды, — писал Набоков Вере одним из ян-
варей.
Звезды, падая, бывает что и ушибают.
Под правым глазом мента переливался синяк, крупная дворняга спо-
койно стояла перед ступенями, поглядывая на выходящих, словно догово-
рилась встретиться здесь с кем-то без четверти восемь. Выпал из пасти
подземки крупный стихотворец в черных пальто и бейсболке, с краснова-
тым мятым лицом: его фамилию я тщетно пытался запомнить все семь
лет, в ходе которых он принимал участие в устраиваемых мною в Петер-
бурге поэтических турнирах. Мы молча поручкались, поэт двинул по Зве-
нигородской, у пыльных фонарей, скупо освещавших мелкие апрельские
лужи, не трепыхалось ни единой бабочки.
Я отправился следом, наблюдая за уклончивой походкой поэта — нельзя
сказать, что он хромал, нельзя также сказать, что его корчили колики, но
спина в черном пальто стягивалась при каждом шаге по диагонали, а по-
том растягивалась по другой диагонали, как играет гримом шаропожира-
ющий клоун... как кусман черной жевательной резинки, усердно обраба-
тываемой желвами мироздания. Я знал простой русский корень его
фамилии, но не был уверен в приставках и окончаниях.
На углу Марата поэт затоптался у ступенек, ведущих в полуподвал.
Прямо в лицо светила ему откровенная зеленая рюмка, которой тут
еще на днях не было, и замешательство поэта могло объясняться как
благородной привычкой заходить по возможности во все питейные
223
Фланер, человек гуляющий
заведения (в этом случае он прикидывал именно наличие возможности),
так и тем, что новая рюмочная стала для него таким же сюрпризом, как
и для меня.
Трезвость восторжествовала, а я сокрушенно подумал, как легко вылез-
ла переливчатым флюсом не слишком сиринская алкогольная тема, и до-
гадался, что поэт держит путь в новый офис Союза писателей, где бе-
зобразнейшим для такого рода организаций образом отсутствовал буфет,
и, возможно, люди, открывшие рюмочную, учитывали при выборе места
и этот красноречивый факт. Поэт, стряхнув соблазн энергичным зигзагом
пальто, нырнул в литературную подворотню, я подождал, пока он пересе-
чет освещенный двор, и поступил аналогичным образом.
Объявления А4 гласили, что слева, в либеральной секции Союза, только
что начался семинар объединения «Заблудившийся всадник» (мой поэт,
кажется, состоял одним из его вагоновожатых), а справа, у писателей-пат-
риотов, докладчик с космополитической фамилией и словом «Германия»
не в кавычках, но в скобках, тоже совсем недавно начал доклад на тему «Две
диагонали Владимира Набокова», и я скрипнул патриотической дверью.
Докладчик оказался сухоньким бородатеньким старичком в лазоревой
кацавейке с бранденбургами: крепко ухватившись за карточку в форме
чуть удлиненной открытки, он как раз излагал биографию героя, а не-
большой зал населяли большей частью дремлющие старушки, одна из
которых, впрочем, почти тут же очнулась на зов мобильного телефона
и долго кричала в трубку: «Да уже началось!» и «А может, и позвоню!»
Докладчику пришлось прерваться, ожидая окончания сеанса связи, он по-
224 кашлял, испил воды из графина и возобновил лекцию, но через минуту
его перебил худой человек с круглой, несколько тошнотворной лысиной
из первого ряда; он выкрикнул: «А при чем здесь царица Тамара?» Доклад-
чик пояснил, что Тамара не царица, а героиня произведения «Другие бере-
га». Сидящая в президиуме обширная женщина в высокой, зиккуратом,
прическе, объявила басом, что все вопросы в конце, иначе маэстро сбива-
ется, что не помешало ей мгновенно встать, с громовым топотом подойти
ко мне и всучить бумагу и ручку: надлежало оставить свою фамилию
с инициалами и подпись, что я и поспешил сделать, заметив, что до меня
в списке значится У.Ю. Сверкау.
Докладчик работал с выражением, с жестикуляцией; правда, содержание
исчерпывалось длинными цитатами из «Других берегов» и книги Новозе-
ландского Биографа, а логические связки и собственные соображения, ес-
ли они и существовали, гость опускал, зато и листок после очередной цита-
ты опускал — весьма решительно, и поглядывал в зал с некоторой даже
и победоносностью. Будучи хорошо знаком с обоими представленными
в речи ее источниками, я сосредоточился на поисках отсебятины. Добыча
себя ждать не заставила: говоря словами Новозеландца о расторжении по-
молвки Набокова со Светланой Зиверт — «родители не решились дове-
рить молодому мечтателю и денди свою семнадцатилетнюю дочь», доклад-
чик добавил «хотя целый раздел только что вышедшего стихотворного
Набоков без Лолиты
сборника „Гроздь" был посвящен ей»: от себя докладчик ввел «хотя», пола-
гая, очевидно, вклад Владимира в семейное благополучие в виде несколь-
ких стихотворений достаточным основанием для того, чтобы родители по-
торопили свадьбу.
В задних рядах грянула мелодия из «Летучей мыши», кто-то зашепеля-
вил, и старушка, которая ранее сама нарушала «мобильный этикет»,
рявкнула «Покиньте здесь разговаривать!», чем на некоторое время пара-
лизовала все звуки в зале, а я подумал, не является ли именно она Улья-
ной Юлиановной или Умедой Юнусовной Сверкау (дома я залез в спра-
вочник Союза и обнаружил, что такого писателя нет ни в либеральном,
ни в почвенном крыле; хотя есть Сабило, Скобло, Соснора и Сухарев-
Мурышкин).
Завершив реферирование набоковской биографии (в финале была со-
чувственно процитирована фраза Веры Евсеевны, сказанная после похо-
рон В.В. сыну Дмитрию: «Давай наймем аэроплан и разобьемся»), доклад-
чик перешел к «эссе» про диагонали, причем женщина в зиккурате все
спешила в зал с раздаточным материалом, но виновник торжества не пус-
кал ее твердыми «не к месту» и «рано». Он подробно цитировал из «Защи-
ты Лужина», как маленький Лужин первый раз прогуливает школу, резко
отворачиваясь от попавшегося по дороге учителя географии к парикма-
херской витрине с тремя завитыми головами восковых дам (слушатели на
этом пункте могли дружно повернуть головы и глянуть на прическу по-
мощницы докладчика), спешит к тете, вот и дом тети — «сливовый, с голы-
ми стариками, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными
стеклами в парадных дверях», — и этот дом был знаком Володе не впри-
глядку, ибо в 1906-1908 годах Набоковы в нем снимали квартиру (не буду-
чи в состоянии находиться на Большой Морской после того, как в Крова-
вое воскресенье в двух шагах от дома пролилась кровь)----а вот
теперь можно раздать картинку.
Картинка оказалась выполнена в стилистике И.И. Кабакова: на лист ват-
мана криво пришлепнуты любительские цветные фото «дома тети» (Сер-
гиевская, ныне Чайковского, 38), из-под фото вылазит клей, а ниже стенга-
зетовской вязью — цитата из «Защиты». Вскоре последовал второй лист,
с фотографией дома 59, принадлежавшего ранее дяде писателя, а ныне со-
держащего на первом этаже клуб имени комика Чаплина, причем дом 38
был сфотографирован от дома 59, и наоборот, и именно таким образом
была получена первая, она же «детская», набоковская диагональ.
Далее докладчик отпустил мысль: не оставляя цитаций из «Других бере-
гов», он всерьез погрузился в поэтическое наследие любимого автора. Пол-
дюжины стихотворений, посвященных Люсе (Валентине) Шульгиной, бы-
ли прочитаны полностью, причем одно из них с паузой: маэстро выхватил
из кармана свежую карточку с текстом, выписанным (в отличие от осталь-
ных, принтованных) от руки, вскрикнул: «А вот что писал о романе „Ма-
шенька" известный критик Юлий Айхенвальд!», зачел длинный кусок из
рецензии, а уж потом вернулся к стихотворению.
225
Фланер, человек гуляющий
Было ясно, что свое удовольствие он получает от декламации фрагмен-
тов, в ходе цитации он и сам становился отчасти Набоковым, а публика ис-
пользовалась скорее как повод для сладких камланий. В самом деле зачи-
тывать по бумажке своему отражению в эмигрантском зеркале «Бывают
ночи: только лягу, — в Россию поплывет кровать», а уж тем более из Айхен-
вальда, может показаться глуповатым даже самому зачитывателю, хотя, на-
верное, при продолжительной безлекционной засухе общение с амальга-
мой неизбежно.
Читатель видит, что я искренне избегаю сатирических нот; читатель еще
и не знает, что я комкаю описание вечера: в действительности я поспел к на-
чалу и застал первый номер программы — женщина-бард в синем платье
исполнила свое стихотворение, навеянное пейзажами Выры и Рождествено,
а потом две песни на стихи классика — «Рождество» и «Обезьяну в сарафа-
не». Включать юмор здесь неуместно: люди коротают свою не самую рос-
кошную вечность, и как же бросить язвительный камень в их хрупкие ра-
дости. Но любопытно, какими глазами смотрел бы на это (или смотрит
посредством командированного духа?) сам Владимир Владимирович...
Никто не спрашивал у докладчика, когда же он вернется к теме диагона-
ли, под потолком плавали стихи о волчьем профиле Веры Евсеевны, слу-
шатели большей частью дремали, только худой с лысиной иногда вскаки-
вал и широко расхаживал по зальчику, громко цыкая зубом, щелкая
длинными кривоколенными пальцами и потирая ладони; по ходу выясни-
лось, что он представляет Союз писателей, заведует, вероятно, ключом от
зала, и ему на помехи пенять президиум не решался. Диагональ все же
226 всплыла в наглядных пособиях: дом 48 по Фурштатской (соседней с Серги-
евской) улице был сфотографирован от дома номер 9, и наоборот, в этих
домах жили соответственно при царском режиме Валентина (Люся) Шуль-
гина и Вера Слоним, и эта вторая диагональ, по логике, должна была назы-
ваться «недетской».
Нехотя покончив со стихами, докладчик сказал, что обе диагонали пере-
секают проспект Чернышевского (в прошлом Вознесенский) и он, доклад-
чик, надеется дожить до того светлого времени, когда роман «Что делать?»
не будет изучаться в школах и университетах. В дальнейшем, когда я буду
утверждать, что четвертая глава романа «Дар» является в гораздо меньшей
степени «пасквилем» на Чернышевского, чем то принято считать, мне име-
ет смысл помнить об этой мечте: все же Набоков научил некоторое количе-
ство людей ненависти к Чернышевскому, пусть и работал тут принцип
«Весь лоб расшибет».
На вопросы я не остался. Фонари, по-прежнему не удостоенные общест-
ва бабочек, светили ярче, звезда спряталась. Чуть впереди, у закрытой уже
рюмочной, чернели поэты («Медный рыцарь» закончил свой семинар), вот
они двинулись к ночному магазину, мгновенно появились с бренчащим
пакетом, перешли дорогу в сквер.
Я, пребывая в статусе воздерживающегося алкоголика, решил постоять
рядом, порадоваться за собратьев по цеху, к тому же запах водки навевает
Набоков без Лолиты
на меня лирические воспоминания. Я уже различал знаки на лицах поэтов,
уже внятно звучали их голоса («У него есть одна гениальная строчка —
„Нева накинута уздой на морду Финского залива“, остальное плохо, но
это...»), когда знакомые стражи порядка, без синяка и с синяком, пронес-
лись мимо меня со вздыбленными резиновыми дубинками (в начале 90-х
это орудие внутренних дел именовали «демократизатором») с возгласами
«Распиваем!», и не моргнул я и глазом, как дубинки посыпались на головы
несчастных виршетворцев, один удар, пятый, и все стихло, менты растая-
ли, поэты стояли (один лежал), оглушенные происшествием, и бутылка
разбилась, текла в лужу... Все, в общем, неплохо, без серьезных поврежде-
ний, без продолжения вечера в кутузке, но очень и очень странно. Фантас-
тично было не нападение милиции на людей, а то, что людей никуда не за-
брали, и у них у самих ничего не забрали... У Набокова есть такие ходы:
пустые действия — иногда сложные, трудозатратные, — которых вроде бы
и не было.
Да и то еще, что злодеи с дубинками просвистели практически сквозь
меня, прошли по занятой мною узенькой тропинке как призраки, будто
происходили все события в каком-то петербургском рассказе.
Так и набоковский фланер: его активное существование в своем измере-
нии, в реальности своего искусства, словно отменяет полноту его сущест-
вования в измерениях, доступных другим.
227
Призраки
Мартын и Алла Черносвитова уже успели «заглянуть в рай» в комнате, ко-
торую Мартын делит с мужем Аллы. Алла на кушетке, поправляет платье,
Мартын, вспотевший и растрепанный, ищет запонку, тут дверь открыва-
ется и входит обманутый муж, вроде бы уехавший по делам.
Скандал с элементами кровопролития?
Отнюдь. Алла и Черносвитов замыкаются в разговор, что-то о письме
228 Спиридонова, о некоей отсрочке, Алла мигом забывает о Мартыне, а Чер-
носвитов (он роется в вещах, ищет бумажку) — такое впечатление, что
Мартына просто не заметил, словно тот где-то не здесь. То есть это Черно-
свитовы не здесь, а внутри своего разговора.
Не замечает связи жены с Францем Драйер, мы помним. И Герман Кар-
лович в упор не видит измены Лиды.
Да, легендарная слепота рогатого мужа, но в случае Мартына мы имеем
дело и с идеей невидимости.
Мартын удивлен происходящим. Мне даже помнилось, будто Мартын
обиделся, что его не замечают, нет, просто очень удивлен. Не сделал ли он
в тот момент роковой вывод о своей склонности и способности к невиди-
мости?
Быть невидимым — очень удобно.
Взгляд беспокоит и может ранить. Мальчик Путя в «Обиде» болезненно
переносит необходимость пересечь на пути к играющим детям открытую,
хорошо простреливаемую площадку. Ситуация эта обозначается как
«прескверная».
— Надо было проделать этот путь одному, приближаться, без конца
приближаться, постепенно входить в поле зрения многих глаз.
Виктор Иванович (рассказ «Музыка») попадает на музыкальный вечер,
где присутствует его бывшая жена. Он не сразу ее замечает, а когда замечает,
Набоков без Лолиты
ему становится плохо оттого, что она наверняка видела, как он шел через
комнату «на цыпочках, ныряя корпусом» — «будто его застали врасплох,
нагишом, или за глупым пустым делом...»
Антон Петрович, заведомо слабый участник дуэли («Подлец»), планиру-
ет, как вести себя перед схваткой.
— Да, конечно, он где-нибудь в стороне поставит ногу на пень и будет
так — непринужденно — ждать.
Но что, если Берг, сильный, передразнит и тоже станет ногой на пень?
«Выйдет опять безобразие».
Герои Сирина не могут жить «на глазах у совершенно чужих вещей».
Франц не доверяет стенам и не может говорить при собаке. С Гербертом
Уэллсом, автором «Человека-невидимки», Набоков в 1914 году обедал у се-
бя дома, на Большой Морской, и в дальнейшем, несмотря на политические
кульбиты проникшегося вдруг к большевизму фантаста, В.В. уважал его
дар сочинять поучительные истории.
Цинциннат разоблачается:
— Встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубаш-
ку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку,
как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол.
То, что оставалось он него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух.
Это ему мерещится, наверное. Мечтается. Лучший способ сбежать из
тюрьмы — рассеяться в воздухе. Изумленный тюремщик проглатывает
все ключи.
В «Подвиге» раздевается сосед Мартына по купе. Стянул манжеты, слов-
но отвинтил руки. Отцепил воротник и галстук, и так как галстук был гото- 229
вый, пристяжной, то опять было впечатление, что человек разбирается по
частям и сейчас снимет голову.
Мартын наблюдает за ним из идеи своего подвига, тайного пересечения
границы Советской России. Репетирует способность к мимикрии (тому же
соседу представился англичанином).
Герой, погруженный в свои страсти, часто не виден самому себе. «Он
только изредка замечал, что существует» — это о Лужине, захваченном
строительством защиты от Турати.
«С чувством бесплотности» летит на велосипеде рассказчик «Других бе-
регов». Ардалион и Лида при Германе говорят о нем так, будто его нет.
— Точно я и вправду присутствую в качестве отражения, а тело мое —
далеко.
Реалистично настроенная Нина Берберова, мечтая о невидимости
и рифмуя ее со свободой, подбирала все же жизненную ситуацию:
— Я свободна на улицах больших городов, где никто не видит меня, ког-
да Я ИДУ ПОД ПрОЛИВНЫМ ДОЖДеМ. [ 16:32]
Но из-за дождя прохожего не совсем не видно. Он мутнеется там, сереет,
темнеет, валандается.
При этом подойти к человеку, бредущему совсем уж под проливным
дождем, не всякий рискнет. В каком-то он очень своем сюжете.
Призраки
Улица полна неожиданностей
Болтаясь в третьей главе по Пассауэрштрассе, Федор видит инженера Кер-
на, выходящего из гастронома (инженер боязливо сует в портфель какой-
то пакетик — так и останется тайной, с чем), и еще с полдюжины знако-
мых, но ни к кому из них не подходит, от прогулки не отвлекает.
Они отвечают тем же. В смысле, никак и не отвечают.
Может, кто-то из них или даже все они тоже заметили Федора Констан-
тиновича, но предпочли не поднимать глаз. Кончеев на ходу читает с ан-
гельской улыбкой на круглом лице парижскую «Газету» (где, как на следую-
щей странице выяснится, опубликована разгромная рецензия Христофора
Мортуса на его свежую публикацию). Он весь в тексте, ему не до Федора.
Может быть, в свой текст — в свой мемуар или в поэму свою — он Федора
вставит; обронит, как гулял у Виттенбергской площади, заметил промчав-
шегося мимо Годунова...
Важно, что друг друга они не окликают.
В «Даре» есть рассуждение о прохожем, спросившем на улице дорогу, но
самого этого прохожего решительно нет. Рассуждение гласит, что жизнь
устроена таким хитрым образом, что прохожий, Бог знает когда спросив-
ший у тебя дорогу, может работать ныне в одной конторе с тобой. В «Ма-
шеньке» упоминается прохожий с похожим статусом, он может вдруг оста-
новить тебя и спросить что-нибудь незначительное; может, но не спросит,
зависнет в теоретическом рассуждении о том, что голос у него будет обык-
новенным, но зато таким, какого уже никогда не услышишь.
230 Прохожий, короче, не может существовать как просто случайный про-
хожий, обратившийся вдруг с безобидным вопросом, а лишь как свидетель
волшебной близости времен и берегов, проводник в Иное.
У набоковских фланеров экстерриториальный статус, они защищены
концептуальным одиночеством жанра прогулки. К ним не должен обра-
щаться «простой прохожий».
Все случаи, когда эта капсула протыкается, связаны с решительным,
иногда и роковым нарушением упаковки. Актер Лик (рассказ «Лик»), напо-
ровшись в приморском городке на дальнего родственника, в результате
этой встречи через несколько страниц умер. Франц столкнулся на улице
с Драйером, и это едва не закончилось разоблачением его связи с Мартой.
Больного Лужина незнакомцы подобрали на улице — спасли, напротив, от
гибели. В конце третьей главы к Ф.К. обратился полузнакомый литератор
Буш — и через него нашла издателя залегшая в стол «Жизнь Чернышев-
ского». Встреча Яши с репетитором в трамвае посвящена топтанию на ре-
шающей границе, между ветреной задней площадкой и кипарисовым лар-
цом вагона. Никитину в «Порту» кажется, что проститутка на улице
южного города — это не кто иная, как-----. Мы не знаем, за кого он
ее принял — за жену, за сестру?
Женщина, с которой встретился в кафе Эрвин, оказалась чортом и по-
манила героя «Сказки» в натуральную сказку. В «Соглядатае» уличная
Набоков без Лолиты
встреча с Кошмариным не только может выгодным образом изменить
жизнь героя: именно в тот же момент рассказчик обретает идентичность,
мы понимаем, о ком, собственно, текст. Рассказчик в «Себастьяне Найте»
пытается всучить беременной Клэр Бишоп ключ от совсем другой жизни.
Не слишком внятна тема других берегов в сцене уличной встречи Лужи-
ных с Алферовыми? — ну как же, это пункт перехода в другой роман Сири-
на. Встреча Федора с полицейскими на выходе из Груневальда не вполне
случайна, но и тут мы присутствуем при попытке выдернуть Федора из его
текста о фонтанах и статуях.
Действительно случайно столкновение Драйера с его бывшей подругой
Эрикой. Встреча не отражается ни на судьбе героя, ни на течении романа;
разве что мы узнаем, что мужа Марты зовут Куртом, для чего не обязатель-
но было городить отдельную декорацию. При переводе «КДВ» на англий-
ский автор эту сцену (целую главку) купировал. Вообще изменения, вно-
симые Набоковым при переводах в романы Сирина, отнюдь не всегда
способствовали украшению последних, но в данном случае все логично,
усекновению подверглась обычная случайная уличная встреча.
(Хотя мне, честно сказать, и ненужную Эрику было бы жаль, исчезни
она из русского текста. У нее челка и пегое пальто, пятилетний мальчишка
на велосипеде, а в передней у нее картина, составленная из почтовых ма-
рок. Драйер, расставаясь некогда с ней, очень глупо пошутил, и как имен-
но — непонятно... сбежал, поди, в какой-то остроумный момент. Жаль
Эрику с ее загадкой, но скобка уже захлопывается, лифт ушел.)
Не только с чужаками не заговаривают на улицах сиринские герои; чу-
раются, как мы видим, и добрых знакомцев. Федор Константинович вместе 231
с Кончеевым выходит в первой главе из гостей, хочет поговорить с ним, со-
бирается окликнуть... Но проще оказывается выстроить в сознании боль-
шой содержательный диалог, топая к дому, чем впрямь окликнуть. Проще
разыграть контакт в уме, чем в реальности.
Горячее сияние и ртуть порукам
У Федора, как и у автора «Дара», нет отца, но если могила В.Д. Набокова
совсем недалеко, то Константин Кириллович Годунов-Чердынцев сгинул
в тьмутаракани, и, как знать, может быть, он еще жив.
— Где-то в Тибете, в Китае, в плену, в заключении, в каком-то отчаянном
омуте бед и затруднений...
Что же, Федор Константинович, вообще известно о нем?
Да ничего толком не известно.
— Глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил!
И мать, приехавшая на побывку в Берлин из Парижа, в первый же вечер
призналась, что все больше верит в то, что он вдруг, с шумом распахнув
дверь и притопнув на пороге, войдет.
И Федора охватывает «тошный страх», что внезапно на улице («есть
в Берлине такие тупички, где в сумерках душа как бы расплывается»)
Призраки
подойдет в сказочных отрепьях нищий старик, обросший до глаз бородой,
и вдруг подмигнет и скажет: «Здравствуй, сыне!»
Гипотетически возвращающийся отец прямо назван призраком («не
просто призрак страшно было представить, а призрак, который бы страш-
ным не был»). Ну верно, речь ведь идет о возвращении с того света. Как
отнестись к такому явлению? — не обман ли зрения, не обман ли худший,
нежели обман зрения, не обман ли «так, вообще»? Герой «Отчаяния», на-
пример, потому еще не верит в религиозную картину мира, что все норовят
надуть: предъявят на небесах родственников, а это могут быть поддельные
родственники, и никак не проверишь.
— Как бывает в балагане, когда расписная бумажная завеса прорывает-
ся звездообразно, пропуская живое, улыбающееся лицо, — это Лужин
пытается осмыслить появление в своей судьбе нового человека, будущей
невесты.
Но ведь то балаган, и завеса бумажная, представление.
А если пленку жизни прорвет даже и улыбающееся лицо, явившееся
с той стороны, с другого берега... Доброй ли покажется такая улыбка и эда-
кая живость.
Тему опасности несогласованного воплощения призрака еще Гоголь
поднимал в «Портрете». Художник Чертков в этом сочинении приобрел
старый портрет и замечает первой же ночью, что глаза у мрачного старика
на картине не нарисованные будто бы, а живые... Он чувствует в них
«странную живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из
могилы».
232 Одно дело, если мальчик Мартын залезет во сне в висящую над кро-
ватью картину с тропинкой, а другое дело, если из картины ночью ринется
на мальчика голодный волк.
Симпсон в сиринской «Венецианке» сам сходил за лимоном в старый
итальянский холст... наверняка это страшно, слазать в картину, но Симп-
сон ведь уже вернулся, вывалился из рамы, лежит на траве, приходит в се-
бя — на нашем берегу, в безопасности.
А во сне гоголевского Черткова старик, подобно волку, вылез с деньгами
из рамы в наш мир, проткнул оболочку, вот будет он тут с нами дальше
как-то бытовать, бородатый масляный призрак: настоящий кошмар.
Чертков, приняв от потустороннего старика деньги, поплатился Даром.
Он в своем творчестве начинает «схватывать одно только целое, одно об-
щее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности». На-
боковское понимание таланта как раз предполагает, что «общее выраже-
ние» ни в коем случае не должно затмевать «утонченных подробностей».
Идея твоего личного пересечения границы может приятно дразнить,
оставаясь чисто теоретической. Творческой такой конструкцией. В одной
пограничной ситуации Федор чувствует, «как вокруг его лица собирается
некое горячее сияние, а по рукам бежит ртуть», в другой испытывает «лег-
кий нарзанный укол преображения». Прекрасно сказано, и, возможно,
соответствует ощущениям земного агента, который вследствие удара
Набоков без Лолиты
молнии превращается на глазах у изумленных зевак в неземное зеркальное
привидение... но все же метафора.
А вот когда представитель другого берега — линяющий призрак, агент
потусторонности — вваливается в твою жизнь, жди беды.
В самый ответственный момент операции по спасению Лужина на голо-
ву его жене свалилась дамочка из Советской России. Сама, может, и не агент
в прямом конспирологическом смысле (может, и ответственный ее муж
тоже не агент, в смысле агент лишь торговый или промышленный), но яв-
но «призрак коммунизма», она заболтала Лужину, сожрала ее время, а упу-
щенный шахматист отполз в нору и сгинул.
Когда Лик узнает, что Колдунов, жестоко изводивший Лика в отрочест-
ве, живет в том же городе, куда его занесла актерская судьба, и вот-вот за-
явится в гости, он оказывается во власти «той беспомощности, которая да-
вила его во сне, когда из-за ширмы, осклабясь, поигрывая пряжкой пояса,
выходил хозяин сна». Призрак (Лик был уверен, что Колдунов мертв) шаг-
нул из-за ширмы — жизнь Лика оборвалась.
Удобно — когда сам из-за ширмы.
Высунулся в мир, заглянул в русский книжный (а не хочется, так прошел
мимо), бросил каштан в Шпрее... что-то такое.
Приятно, когда мир, как собака, стоит ждет, чтобы с ним поиграли. Тако-
вы, скажем, отношения Драйера с Томом, умеющим включаться по коман-
де. Новичок Франц сначала страдает от пса («как только он поднял шар,
призрак собаки вынырнул из солнечного тумана, стал живым, теплым,
дышащим и прыгнул, чуть не свалив его со стула»), но надо ведь лишь на-
учиться бросать шар, этот собачий пульт управления.
Евгения Исаковна из рассказа «Оповещение», старенькая, небольшого
формата дама, носившая только черное, ощущает несомненное превосход-
ство над своей квартирной хозяйкой фрау доктор Шульц и вообще над лю-
бым лицом, с которым не хочет коммуницировать.
Как она добивалась, Евгения Исаковна, этого превосходства?
— Просто выключался слух, весь помещавшийся у нее в черном аппара-
тике наподобие сумки.
Вкл-выкл.
У Евгении Исаковны, между тем, погиб накануне сын. Он в морге, еще
частично с нами, хотя на самом деле — уже с другими.
«Оповещение» посвящено страданиям друзей Евгении Исаковны, кото-
рые должны насильно включить слуховой аппарат, сообщить ей трагиче-
скую весть. В последнем абзаце пленка прорывается истошным воплем
старого друга Бориса Львовича Чернобыльского:
— Умер, умер, умер!
Вопрос о прорыве оболочки, собственном преображении, полноценном
явлении призрака по определению всегда откладывается; он из тех, что
должен быть разрешен — если вообще должен — на последнем рубеже. Но
как «загробное окружает нас всегда», так и призрачными метафорами про-
питана всякая сиринская страница.
233
Призраки
Лучшие из теней
О тенях Сирин пишет в первой строчке первого же опубликованного рас-
сказа, «Нежити», где лирический герой меланхолично обводит тень чер-
нильницы (сразу чернильницы, творческого снаряда). В дальнейшем он бу-
дет щедро окатывать своих героев лучшими из теней... вот как волшебно
происходит это в «Сказке», хочется отложить перо и выбежать на бульвар:
— Глянцевитые листья лип трепетали, темные сердечки их трепетали
на гравии, поднимались легкой стаей по штанам и юбкам гуляющих, взбе-
гали, рассыпались по лицу и плечам, — и всею стаей соскальзывали опять
на землю, где, чуть шевелясь, ожидали следующего прохожего.
В «Даре» наступит осень, листья облетят, но и тогда Сирин не забудет
наклониться к асфальту, проверить, все ли в порядке с законами оптики:
— Опавшие листья лежали на панели не плоско, а коробясь, жухло, так
что под каждым торчал синий уголок тени.
Или вот о разговорных практиках Лужина:
— Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов, — но иног-
да вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающая на какие-то другие
слова, живые, насыщенные тонким смыслом, которые он выговорить не
мог. Несмотря на невежественность, несмотря на скудость слов, Лужин та-
ил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им.
Да, тень, а непосредственно перед этим пассажем шла речь о «призраке
какой-то просвещенности».
Сирин промышленно разрабатывает призрачную образность, достигая
234 пика в последнем романе.
В «Даре» фигурирует бродячий призрак государства, деревья в саду
изображают собственные призраки, Федор фантазирует, как вернется без-
законно в Россию, чувствуя себя привидением, жизнь Александра Яковле-
вича пропускает в себя неземное, Федору мерещится красавица во мраке
сквера, оказавшаяся тенью ствола.
Как встречающие на дымном дебаркадере, стоят бледные и озябшие
предметы. Кончеев вспоминает о галилейском призраке у Лескова, про-
хладном и тихом, в длинной одежде цвета зреющей сливы.
Есть рассуждение Сухощекова:
— Говорят, что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощу-
щает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществую-
щие мышцы.
Участвует в романе «легкомысленно вызванный дух Пушкина», с до-
машним привидением, обиходной галлюцинацией сравнивается наука эн-
томология, фигурирует бесплотный представитель Федора-отрока, кото-
рый втайне от отца принимал участие в его экспедициях.
За призраки, занесенные игрою лучей, отец Федора принимает в Гоби
двух американских велосипедистов в китайских сандалиях и круглых фет-
рах, невозмутимо накручивающих педали в тысячах км от цивилизации.
Вслед за Марко Поло Константин Кириллович слышит «шепот духов,
Набоков без Лолиты
отзывающих в сторону» с экспедиционного маршрута, и среди странного
мерцания воздуха без конца проходят навстречу ему «вихри, караваны
и войска призраков, тысячи призрачных лиц, как-то бесплотно прущих на
тебя, насквозь тебя и вдруг рассеивающихся». В очередное путешествие его
провожает в родной усадьбе тень умершего прошлой осенью Жаксыбая
(киргизского старика, былого спутника, некогда спасшего К.К. жизнь).
Тень Бонапарта приходит к антиквару Штольцу за своей треуголкой.
Что за антиквар такой, на что выпечена тут аллюзия, неизвестно, и анти-
квар выходит совсем призрачным. («Торговец антиквариатом убит за то,
что поставил сковородку на роман „Машенька"» — это из пьяного смс-со-
общения моего немецкого друга. Наутро он этого своего креатива не пом-
нил, а зря, — может быть, антиквар имелся в виду тот же самый.)
К телефонному звонку Федор Константинович проносится по передней
«как дух», обращает к Зине стихи «и странно мне по сумраку Берлина с по-
лувиденьем странствовать вдвоем», рецензия Мортуса превращает книгу
Кончеева «в жалкий и сомнительный призрак», Щеголев «переставляет
призрачную мебель» (так определена возня с настройками частот в радио-
приемнике, там еще есть выражение «удавлять пискунов, скрипунов»).
Федор и Зина образуют одну тень «чего-то не совсем понятного», у Зины
призрачные локти...
И это мы прогулялись лишь по первой половине романа.
Совершеннейшими привидениями, обезьянами Зазеркалья выступают
для ослепшего Кречмара его зрячие мучители Магда и Горн. В поезде Креч-
мара подташнивает оттого, что он не может отождествить вагонную тряс-
ку с движением, не может представить ландшафта. На улицах он переме-
щается среди невидимых людей и несуществующих, но постоянно чуемых
им перекладин, перегородок, выпирающих углов. Магда не хочет, чтобы
больной ее трогал, но иногда Кречмару удается схватить Магду, и он ощу-
пывает ее голову и тело, пытаясь материализовать в мозгу ее образ. Призра-
ком другого слоя, призраком-штрих сидит в этот момент в углу комнаты
Горн. Иногда он подходит к Кречмару босиком на цыпочках и дотрагивает-
ся, а Кречмар воображает, что это Магда. Сама Магда показывает слепому
язык. Я хотел обсудить эту сцену с Машей Шеншиной, как она себя вообще
видит в роли Магды. Посидеть в кальянной-чайной наискосок от Дома ки-
но, там есть отсеки уютные, куда забираешься без обуви, подушками об-
кладываешься), но Маша торопилась, отдала мне книгу, взяла другую
и побежала по Итальянской в сторону реки, не оборачиваясь, и рассеялись
вдруг облака, прямо в Машу светило круглое, не по-осеннему яичное солн-
це, и она превратилась в черный силуэт, иероглиф, явно наполненный для
кого-то оперативным смыслом.
— Кречмару показалось, что кто-то, не Магда, а как бы около Магды,
гнусаво усмехнулся, — пишет беспощадный Сирин, а я, продолжая следить
за ускользающим значком Машеньки, думаю о том, какие многочисленные
«кто-то» клубятся «как бы около» всякого из нас, иногда гнусаво усмехаясь,
иногда просветленно улыбаясь, и мы не видим их не потому, что слепы. Для
235
Призраки
зрения на каждом из берегов нужно новое, лишь этому берегу любезное
оборудование.
О призраках известно, что они иногда проходят сквозь нас, мы можем
видеть их проекции, проступившие на папиросных слоях воздуха. Бродят
по Берлину многия Федоры Константиновичи, каждый запакован в свое
яйцо, что ли, полупрозрачное, без скорлупы, позволяющее прикоснуться,
но не слишком: на цыпочках, босиком.
Хорошая оболочка — язык. В нашем случае немецкий. Набоков неод-
нократно подчеркивал, что так и не овладел сосисочно-капустным наречи-
ем. «Порядочным людям стыдно хорошо говорить по-немецки», указано
еще Тургеневым в «Дворянском гнезде».
Насколько он в действительности, будучи лингвистическим гением (стал
позже англоязычным автором, а мог и франкоязычным; один рассказ, «Маде-
муазель О» по-французски написал на пробу, нормально вышло), мог не знать
языка города, в котором провел полтора десятилетия, регулярно посещая, ска-
жем, световые балаганы кинематографа, — вопрос скользкий. В Тенишевском
язык изучали, за второе полугодие 1913/14-го у Набокова стоит «хорошо» (по
французскому и по русскому тоже лишь «хорошо»), но с началом войны из
патриотических соображений с крыши германского посольства на Исаакиев-
ской скинули Диоскуров с конями и изучать немецкий перестали.
Общаться только с русскими он в Германии, несмотря на толщь диаспо-
ры, не мог. Трамваи, табачные лавки, государственные присутствия, квар-
тирные, наконец, хозяева. В письме от 7 июня 1926-го он благодарит Веру за
то, что она перевела для него несложный документ на немецкий язык. Публи-
236 катор письма, Сверкающий Абракадабр, пишет в комментариях: «Утверж-
[93:146] дая, что сам не сможет составить грамотный ответ, он попросил жену...»
В этом «утверждая» слышится недоверие... не водил ли Сирин за нос
и Веру, утверждая, что не сможет... Трудно ведь поверить, что в этого чело-
века язык не вошел сам, без малейшего изучения... окружая с утра-то до
вечера... сочась изо всех информационных щелей...
Трудно поверить, но: не знать немецкий, какими-то специальными образа-
ми не открывать навстречу ему уши и чакры, было бы очень по-сирински. Тут
я с легким сердцем сошлюсь на собственный опыт. Я, «работая над книгой»
в Берлине, языка не знаю в заведомо большей степени, нежели Набоков, и ис-
пытываю ощущения, логичные именно для этого путеводителя. Существо-
вать в коконе чужой речи — это творчески весьма удобная ситуация, я прису-
тствую в немецком мире, но одновременно меня там как бы и нет, я не
включаюсь в его смыслы, а фланирую меж ними, и это интенсифицирует мою
внутреннюю жизнь, поэтическое (допустим, я — Федор Годунов) брожение.
В результате не только немцы представляются мне отчасти призраками,
но и сам я оказываюсь призраком. Бытую в немецком контексте, не обла-
дая важным признаком полнокровности — речью.
Играл Сирин в незнание немецкого или нет — это все равно ситуация
дополнительного замыкания в своем шкафу.
Все друг другу призраки, вот что.
Набоков без Лолиты
В «Машеньке» в пансионе фрау Дорн живут «шесть русских потерянных
теней», но слово «тень» адресовано и коренному населению.
Это в первом романе Сирина; та же картина и в последнем. В одной фразе,
оброненной Набоковым недалеко от Виттенбергплатц, содержатся одновре-
менно «призрак русского бульвара» и «бледные тени» местных жителей.
В обоих то есть случаях ни эмигрантская, ни туземная реальность не яв-
ляется лицевой, солнечной, обе — призрачные, теневые. Погружаясь друг
в друга, они рискуют прорвать оболочку.
Герой «Подлеца» «на ходу крикнул, так что вздрогнул прохожий». Ну да.
Так шатун-алкоголик проносится сквозь петербургскую метель внутри
своего бреда, погруженный в пучину родного галлюциноза, но ему нужно
иногда заскочить в рюмочную. Не только «за горючим». У этих нырков
в слабоосвещенные каморки, кишащие синими Достоевскими завсегдатая-
ми, есть и иные функции. Коротко пощупать реальность; удостовериться,
что она еще здесь и что сам ты еще щупать способен.
Крикнув как следует на ходу, несчастный Антон Петрович заглянул в ка-
бак, «который обступил его, как сон, и снова отошел, удаляясь, как задний
огонь поезда». А я заглянул проверить цитату: даже ведь и не выпил в каба-
ке Антон Петрович, а лишь позвонил.
Алкогольные штуки, как мы знаем, не особо уместны в набоковском
космосе.
Адекватна была бы кавалеристская касательная эротика, порнография да-
же. Агент других берегов, фланируя-рыская по Берлину, высматривает в окнах
и на бульварах красавиц, которые отдаются ему без особых прелиминарий, по-
рой и немедленно, порой тут же и на бульваре, ибо он — призрак, выскочил из
иного мира. Реалистичный вариант: поэт, сошедший со сцены под шквал ап-
лодисментов, красивый, как Сирин на известном рисунке Цивинского.
237
В. Сиринъ.
Призраки
У него мало времени, его манит всеми гудками Иное, контакт с ним,
сколь угодно беззаконный, не подлежит здешним оценкам. Ибо все тут
нездешнее: и агент, и женщина, улетевшая вдруг на какую-то Луну. А уж
как это для фланера органично: внутри себя подготовил как следует ситуа-
цию, дал соответствующим фантазиям сконцентрироваться и набухнуть,
метнулся с номерком наперевес к голой спине, овладел и ускакал (жела-
тельно выжать позже из утраты волнительный стих).
— Берлин очень красив сейчас, благодаря весне, которая в этом году осо-
бенно хороша, и я, как пес, дурею от всевозможных привлекательных запа-
[ 152:127] хов... — сообщение из письма.
Да, как-то так.
Нечто подобное есть в «Сказке»: Эрвин волен шататься по городу и на-
бирать себе гарем. С поправкой — девушки не сразу распахивают объятия,
все опосредовано довольно громоздкой декорацией, которая в конце рух-
нулась и раздавила сюжет. Мигоментального результата такого рода доби-
вается лишь герой «Хвата» — автору и читателю неприятный.
Фирменные же сиринские призраки в мгновенных сексуальных проты-
каниях реальности не замечены. Они уж если любят, так засасывают их
другие берега. Ганин долго топтался на границе, вылез, не ухнул, догадался
отказаться от Машеньки. Но Франц ухнул — и едва не стал убийцей. Креч-
мар тоже ухнул и преобразился в слепца. Берг думал, что затеял интрижку,
а обернулось дуэлью (с прямой дорогой в тюрьму, ведь он застрелил бы
Антона Петровича).
Однако, если не было в прозе, то, может, было в жизни?
238 Сколь ни фантастично звучит гипотеза, что для агента Сирина было ес-
тественно вдруг овладеть на бульваре незнакомой дамой, что-то подобное,
похоже, с ним происходило.
Пулитцеровская Луареатка приготовила список мимолетных связей мо-
лодого Набокова... с кем?
— С немочкой, случайно встреченной в груневальдском лесу; с ужасной
трагической женщиной с чудными глазами; с томной дурой, которой он
[152:126] давал уроки и которая сама себя предложила...
Там еще есть барышни, в списке, но я голосую за первую же лесную кан-
дидатуру. Она хороша именно в свете незнания кавалером немецкого.
И рифмуется с озерной симпатизанткой Тургенева, уже покинувшей зону
речевой членораздельности.
Прямо лабораторный-архетипический вариант контакта с потусторон-
ностью — стремительная случка в хвое и тине, со звуками, но без языка.
Веселая немка, рассказывая подруге, как на нее ринулся из чащи рыча-
щий дикарь, наверняка воспользуется метафорами из мифологии и
фольклора.
Что до уроков: посетить ученика-ученицу даже и с мирной целью, без
сеанса секса, все равно соответствует стратегии призрака. Это род мимо-
летного прорыва оболочки: нырнул из прогулки в озерцо урока, и ррррраз
назад.
Набоков без Лолиты
Оборотился снова в заблудившегося поэта, покуривает на Виттенберг-
платц, складывает стишок.
Степени призрачности
Призраки бывают разной воплощенности. Об одном ты только слышал,
второй мерещится и напрыгивает в лесу, с третьим плавно сталкиваешься
в гостях. Один субъект может наливаться разными степенями потусто-
ронности.
Среди гостей Чернышевских в первой главе «Дара» выделяется углова-
то-чувствительный юноша, чем-то похожий на Федора Константиновича
(острые локти, колени, щуплое плечо). Это призрак Яши Чернышевского,
застрелившегося пленника кипарисовых ларцов. Сначала кажется, что
призрак является отцу, Александру Яковлевичу, который с какого-то мо-
мента романа много времени начинает проводить в «желтоватом доме» (по
его собственному определению). Потом выясняется, что призрак живет во
взгляде Федора Константиновича, который пробует представить себе, как
бы виделся он Александру Яковлевичу. В восприятии Ф.К. призрак не-
сколько размывается, у А.Я. он достовернее, что объяснимо — все же при-
видение сына.
Не очень понятен статус Кончеева. Пусть покажут мультфильм, как
в нем набухает призрак. Как он закрашивается собственной тенью.
Нарисован сначала сутулый контур молчаливого поэта. Четкий контур
на белом или сливочном фоне: реальный обитатель светлой стороны мира.
В романе, вы знаете, есть две обширные литературные беседы Федора
с Кончеевым. Они обсуждают тайную слабость Фета — «рассудочность
и подчеркивание антитез» (и то верно, роза-то с соловьем), сапог, которым
перекидываются лакеи в романе Писемского, а также несладкую судьбу
яйца, лежащего на дороге, по которой без конца проходит армия. После
каждой из бесед разъясняется их призрачный характер: Федор выступал
за обоих участников.
Беседы занимают три четверти массива букв, имеющих касательство до
Кончеева. Мы видим в мультфильме, как в два приема три четверти контура
Кончеева закрашиваются темным. На эти четверти романный Кончеев —
ненастоящий, придуманный Федором.
Остается одна четверть присутствия Кончеева в «Даре», но из нее поло-
вина — кончеевская рецензия на годуновскую «Жизнь Чернышевского».
Считать ли ее реальностью? Сам ли сочинил ее выведенный в романе
Кончеев или это вновь фантазии Ф.К.? Текст рецензии настолько соответ-
ствует представлениям Федора о литературе, что, возможно, тоже домыс-
лен Годуновым.
Темный колор разливается по контуру — контур аж вздрагивает. Неза-
крашенным остается десять, от силы пятнадцать процентов... настолько
мало, что и эта светлая зона начинает мерцать, и на нее покушается темный
сегмент.
239
Призраки
Если в романном образе Кончеева реального Кончеева не больше пят-
надцати процентов, так, может, он целиком придуман Годуновым?
Или — лучше — автор Сирин, замечая, что его герою не с кем словом пе-
ремолвиться, втихушку подселил ему туда бутафорского Кончеева, а Фе-
дор, не замечая подвоха, пытается общаться с призраком так, словно тот из
плоти и крови. Призрак не отвечает. С Маргаритой Павловной, с редакто-
ром Васильевым беседует, а на Федора — ноль внимания. Федор не знает,
что и беседа Васильева с Кончеевым ему примерещилась. Чтобы не отстать
от коллег, он придумывает свои беседы... Только про них он знает, что они
вымышленные, а беседы Кончеева с окружающими искренне мнит реаль-
ными. .. Не всегда ясно, какая инстанция может определить, кому из героев
что кажется, а что им навязано автором.
Можно по ходу знакомства с «Отчаянием» сразу догадаться, что Герман
Карлович — ненадежный рассказчик, много там подозрительного, но, ду-
маю, девяносто девять процентов первочитателей удивлены, когда в конце
выясняется, что рассказчик заблуждался в главном: он совершенно не по-
хож на своего якобы двойника.
Сирин и свою тень любил запустить в книжку. Агента с инспекцией —
все ли тут в порядке, в моем романе?
В балтийских сценах «КДВ» не укрылась от нас чета иностранцев.
Она в синем платье, он загорелый и в старомодном смокинге, большело-
бый, с зализами на висках. Это Владимир Набоков и Вера Слоним
(впрямь находившиеся в описываемое время на балтийском курорте).
Мелькают, «как повторный образ во сне, как легкий лейтмотив». Франц
240 завидует чете, он догадывается, что отношения у них — не такие, как
у него с Мартой.
(В скобках прорыт легкий туннельчик между вторым и третьим сирин-
скими романами: чета иностранцев носит, вероятно, фамилию Порохов-
щиковы, которую, ломая язык, вычитывает из гостиничной книги Драйер,
а пьяные немцы, спасающие на улице Лужина, путают его с Пульвельмахе-
ром, который в переводе тоже Пороховщиков.)
В «Даре» на писательском собрании замечен писатель Владимиров
в спортивном свэтере с оранжево-черной каймой по вырезу, с крупным
носом и ранними залысинами. Во Владимирове Сирин вывел чуть-чуть
себя, чтобы отвести подозрения в автобиографичности фигуры Федора,
в которой он тоже вывел более-менее себя.
Василий Иванович, герой «Набора», присаживается на скамейку, на ко-
торой сидит представитель автора, а в «Облаке, озере, башне» представите-
лем наречен уже герой, тоже в конце текста встречающийся с автором.
Это все фигуры, посаженные примерно на авансцену. Их хорошо вид-
но. Но вот жених Зины, с которым она рассталась, уже когда Федор засе-
лился на Агамемнонштрассе (из-за жильца, поди, и рассталась; вблизи
увидала, какие бывают удивительные мужчины). Имя его она отказалась
сообщить наотрез. Годунов доволен — без имени и среды, де, призрак легче
гаснет. У Федора до конца «Дара» так и не появилось предположений, кого
Набоков без Лолиты
могла любить Зина. Но поскольку у меня, в отличие от Ф.К., нет при-
чин ревновать Зину Мерц к теням прошлого, зато есть время спокойно
всматриваться в гобелен романа, я выследил этого жениха — им был
живописец Романов.
О женихе известно, что сей болезненный, странный, неуравновешенный
господин — «человек в некотором роде гениальный». Высокого мнения
о таланте Романова придерживается даже критичный Федор.
Зина часто бывала у Лоренцев на Танненбергской улице, когда там жил
Федор и тусовался Романов. Логично, если жених был из той же тусовки, на
посещение других у рабочей лошадки Зины времени вряд ли доставало.
Романов сам звал Федора на эти вечеринки, обещая, в частности, позна-
комить с Зиной Мерц.
Романов «теперь в Мюнхене»... но ведь «рассталась с женихом» может
означать и то, что он сбежал от нее на юг... как Ганин от Машеньки.
В сцене первого серьезного разговора Зины и Федора присутствуют га-
зетные вырезки Годунова и журнальные репродукции Романова... своего
рода сцена «соперничества», которое — в области искусства — и сам Федор
готов признать:
— Меня неопределенно волновала эта странная, прекрасная, а все же
ядовитая живопись, я чувствовал в ней некое предупреждение, в обоих
смыслах слова: далеко опередив мое собственное искусство, оно освещало
ему и опасности пути.
Но, Федор Константинович, замечаете ли вы, что «опасности пути» в ва-
шей речи могут касаться и отношений с Зиной?
Она сама заговаривает с Федором о Романове и предлагает посмотреть 2ф1
репродукции (хвастается или сравнивает кавалеров).
Женский интерес Зины к Романову объясняет странные эротические
мотивы в описании картины «Футболист»:
— Натянутые мускулы голой шеи... забрызганные трусики... общее
напряжение и порыв... главное, конечно, ноги... бесформенные, а все-таки
отмеченные какой-то необыкновенно точной и изящной силой... уда-
рить — и как ударить!
Если это смотрит Федор, возникают оттенки смысла не то что очевидно
педерастические, но несколько странные. Сосед Утопленника, анализируя
этот фрагмент, аж слово «гомотекстуальность» придумал («центральные [ i6i: 354]
герои Набокова автопортреты, нарциссичны, соблазнительны»). То есть
Федор, глядя на форварда, не другим мужчиной любуется, а тем мужским
в нем, что ценит в себе.
Но если это взгляд Зины, картинка яснеет и без гомотекстуальности.
Да, еще и фамилия у художника царская, так же как у Годунова. Зине, ко-
нечно, положен жених из особенно благородных.
И «поспешная, шепелявая речь, сопровождающаяся никак с нею не свя-
занным машинальным маячанием лучистых глаз» Романова, — сравните
ее с «тревожными глазами» призрака жениха, а «темные кривые зубы» пер-
вого с «отсутствием улыбки» второго.
Призраки
В результате призраки жениха и Романова поменяли ранг бытия. Слились
в один и переслоились с одних других берегов на другие, но тоже другие.
Это, мне кажется, пример правильного чтения Сирина. Не в том смысле,
что В.В. точно зашифровал жениха в живописце: чорт его знает, даже и та-
кое количество совпадений может оказаться случайным.
В том смысле, что читатель Сирина — охотник на бабочек, которому
всегда имеет смысл быть настороже. В любой строчке может мелькнуть
кисейный призрак.
Вообще всякий из нас — автономная капсула медовых смыслов. Мы
настолько разные, что называть мир всякого «потусторонним» по отно-
шению к миру другого — совершенно естественно. Соприкосновения ми-
ров — дежурная космическая катастрофа, разрыв границы.
Но все мы по-разному к этому факту относимся. Кто-то просто не поймет,
о чем шла речь в предыдущем абзаце. Кто-то кивнет головой: да, все так, но
это, в общем, банальность, хорошо известный интеллектуальный конструкт.
А для сиринских людей это вовсе не конструкт, а ежедневная лихорадка тамо-
женного досмотра, сомнения в своих границах, в собственной идентичности.
Эта ситуация взыскует постоянного творчества. Если ты горазд разва-
ливаться на слоистые тени, от тебя постоянно требуется усилие по поддер-
жанию цельности личности, ибо цельность эта не задана, а всегда заново
лепится здесь и сейчас.
Сирин был внимателен к бултыханию на границе стихий... более то-
го — ему нравилось казаться призраком. Ему нравилось подчеркивать, что
он всегда не здесь... представляет очень иностранную фирму. Кичился,
242 я бы сказал, своим летучим статусом. Список барышень, коими овладевал
на берлинских улицах Сирин-вихрь, попал в биографическую книжку из
письма Сирина Ирине Гуаданини. Это он перед ней хвастался своим меж-
галактическим бытием. Может быть, просто врал, но врал-то таким имен-
но образом.
Работая над «КДВ», писатель будто бы решил выяснить подробности
проистекания стремительной легочной болезни, от которой умрет Марта
Драйер. Явился к врачу и, не выдавая истинных целей, расспрашивал его,
как болезнь работает.
Потом якобы сказал:
[ 19:325] — Я вынужден убить ее.
Врач остался в большом замешательстве.
А Сирин скосил двух зайцев.
Предстал перед врачом в искомом образе летучей тени. Что это был за
человек, не примерещился ли, вот вроде в книге посетителей расписался,
дверь приоткрыта, сквозняк... кого убить... красный агент, может, зеле-
ный, фиолетовый агент? сумасшедший? — нервно курит врач.
Кроме того, он перед нами, будущими поклонниками, выступил как
вольный фланер, имеющий досуг озорно шугануть врача. Человек, развлек-
шийся изысканнейшим аристократическим способом. Причем ведь не раз-
влечение это, а —«писатель работает над книгой». Если он так проводит
Набоков без Лолиты
свое время, дразня врачей ради нескольких строчек в романе (особой ме-
дицинской мудрости в сцене смерти Марты, честно сказать, не видать), то
он, безусловно, небожитель.
Переводчик Бодлера именует сирийскую стратегию «театрализацией са- из*166-170]
мосокрытия», спектаклем невидимости. Федор Годунов по ходу «Дара»
скрывает от нас, что он автор текущей книги, и в конце, когда это выяснит-
ся, читатель должен восхититься, как автор-персонаж все ловко устроил.
В том же ряду — страстный интерес нашего автора к шахматным задачам,
которые «приглашают нас искать решение и после того, как оно найдено,
оценить способ, которым оно маскировалось».
И мимикрия, которой Набоков не просто интересовался с детства: он
был готов в зрелом возрасте заняться книгой о всех случаях мимикрии
в природе, найдись издатель, способный заказать такой проект. Смысл ми-
микрии, по авторитетному мнению Годунова-Чердынцева-старшего, не
только в обмане случайных врагов. В ней присутствует избыточность, не-
вероятное художественное остроумие, она «словно придумана забавни-
ком-живописцем как раз ради умных глаз человека».
Словно Бог дразнит наблюдателя: вот как я еще умею.
Давно не было стихов Ходасевича. Человеку на похоронах приспичило
представить себя покойником.
Отстав от шествия тайком,
Воображаясь мертвецом,
Тогда пред стеклами витрин 243
Из вас, быть может, не один
Украдкой так же сложит рот,
И нос тихонько задерет,
И глаз полуприщурит свой,
Чтоб видеть, как закрыт другой.
Полуприщурить — да, хорошо. Исполнить у витрины обезьяну покой-
ника. Вот уж порадуется булочник или бабочник по ту сторону стекла.
Агенты реальные
и нереальные
Однажды Сирина хотели познакомить с Карлом Радеком. Когда Радек за-
шел в кафе, Сирин вскочил и выскочил, словно увидел чорта.
Имея представление о внешности Радека, которого мемуаристы и кари-
катуристы упрямо сравнивали с приматом, мы не удивимся, что Набоков
не захотел заводить лишнего знакомства.
Вообще он был довольно активным антисоветчиком. Дискутировал в Кем-
244 бридже с малоумками, сочувствующими алой идее. Воротил нос от болыпеви-
занов. К десятилетию Октября напечатал в «Руле» безапелляционное эссе:
[96 и: 645] — Я презираю не рабочего Сидорова, а ту уродливую, тупую идейку, ко-
торая из людей делает муравьев... Я презираю коммунистическую веру как
идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории че-
ловечества, как отрицание земных и небесных красот...
Герой пьесы «Человек из СССР», Алексей Кузнецов, — белый агент. Чет-
кий и хваткий, он прибыл в Берлин для подготовки чего-то важного. Чего
именно — останется за кулисами. На сцене Кузнецов замечен лишь в слож-
ной комбинации по маскировке подробностей своей личной жизни.
Сам Набоков в 1926 году состоял (по словам Веры Евсеевны) в тайном
антисоветском обществе под названием «ВИР» (как расшифровывается,
неизвестно; вряд ли «Взрежь извергов России»), основанном Николаем
Яковлевым (автор «Руля», возглавлявший одно время русскую гимназию
в Берлине) и его женой Еленой (дочерью Августа Каминки). Поскольку об-
щество тайное, постольку и следов его деятельности не осталось — думаю,
это была чисто символическая затея.
Связи моего героя с белым движением вряд ли были более глубокими,
чем связи Мартына Эдельвейса: с кем-то был знаком, имел, может, пару ни
к чему не обязывающих разговоров. Но сиринский Берлин кишел красны-
ми агентами, с которыми волей-неволей приходилось сталкиваться.
Набоков без Лолиты
Сцена явления Радека Набокову известна лишь по мемуару итальянско- [ 136: iosj
го режиссера фон Чиффра. С такой фамилией мог, конечно, и приврать.
Больше известно о беседе Сирина с красным курьером и литератором
Тарасовым-Родионовым, который уговаривал Набокова вернуться в СССР.
Обещал ему «лучшую из всех возможных свобод — свободу в границах, [ 19:438]
установленных коммунистической партией». Молодец. И откровенно сказал,
и диалектично. В повести Тарасова-Родионова «Шоколад» (1922) расстрели-
вают заведомо ложно оговоренного старого коммуниста, и это хорошо, а то
вдруг кто-то еще не догадался, что революция не щадит и своих. На шкуре
самого шоколадного автора диалектика также восторжествовала, в 38-м.
Сирин общался с певицей Надеждой Плевицкой и ее мужем генералом
Скоблиным, которых позже разоблачили как советских агентов. Один из
его собственных учеников был вроде агентом ГПУ. Трудно, наверное, жить,
думая, что на всяком литературном вечере хоть один — да приставлен.
Нет-нет, кого-нибудь заподозришь, противно.
В 1959-м году франкфуртский журнал «Грани» опубликовал берлинский
мемуар некоего 3. Арбатова. Я не люблю слова «некий» применительно
к людям. Оно почти всегда используется для оскорбления, в значении
«я этого типа знать не знаю и презирать презираю». Но мемуары Арбатова
столь неприятны по тону, что пусть он будет неким. Основная забота авто-
ра — обнаружить и заклеймить красноватость того или иного белоэми-
гранта. А если до красноватости не доскрестись, надо найти червоточину
в каком-либо ином пункте. Так, о Ю. Айхенвальде мемуарист первым де-
лом сообщает, что тот, будучи сыном одесского раввина, «предал религию
предков», приняв православие. А когда Айхенвальд рассказывает, что с ним 245
как-то не поздоровался на улице Лев Толстой, Арбатов уверенно называет
причину: автор «Филиппка», ясный пень, не хотел узнавать человека, изме-
нившего предкам.
— Со страшным беспокойством мы наблюдали за частыми появления- [з: Ю7]
ми среди нас в кафе Ильи Эренбурга, — сообщает, в частности, Арбатов.
Де, из кафе Эренбург (который, по всем прочим свидетельствам, проводил
время в совсем другом кафе) непременно спешил в посольство и обо всем
там докладывал.
Другие мемуаристы Эренбурга стукачом не называют, но они просто
могут неверно интерпретировать бросающиеся в глаза улики. Вера Лурье
вспоминает:
— Однажды утром жена Эренбурга нашла перед дверью комнаты их [72, № ю]
пансиона намордник.
Через несколько абзацев вспоминает так:
— Однажды утром перед их дверью стояла коробка с мылом.
Лурье трактует первый эпизод как намек на зачастую злобный характер
писаний Эренбурга, а второй — как намек на его антисанитарные привыч-
ки (создатель «Хулио Хуренито» описан как тип запредельно неряшли-
вый). Но мы понимаем, что и намордник, и мыло — элементы тайного ко-
да секретных агентов.
Агенты реальные и нереальные
Берлин был набит людьми с двусмысленным статусом; артистичные
призраки Сирина могли питаться кровью реальных феноменов.
Радек, рекультиватор
[155:4оо] О коммунистическом агенте Силезский Связной даже говорит как о «но-
вом культурном типе».
Чтобы далеко не ходить — вот Радек (Собельсон). Он родился в 1885-м
в Галиции, в Лемберге (тогда это была Австро-Венгерская империя, сейчас
Лемберг называется Львовом), в семье польских евреев. В Тарнове и Вар-
шаве якшался с польскими социал-демократами, потом жил в Германии.
В 1915-м перебрался в Швейцарию, там сблизился с нашими социал-де-
мократами в лице Ленина. Вместе с ним ехал сквозь Германию в пломбиро-
ванном вагоне (в «Отчаянии» названном «болыпевичным консервом»);
сначала задержался в качестве большевистского эмиссара в Стокгольме, но
после революции таки добрался до Петрограда. Ни разу не русский (не
только в смысле национальности, а вообще ни в каком), впервые попал
в Россию и оказался одним из основателей советского государства.
В конце 1918-го был делегирован на Всегерманский съезд советов, гра-
ницу пересек нелегально, сразу был объявлен в розыск как опасный агент,
в феврале 1919-го заточен в одиночную Моабитскую тюрьму. При обыске
у него, если не свистит в мемуаре, обнаружили карманное издание «Фаус-
та», что сразу в нужную сторону изменило отношение охраны. Потом Ук-
раина объявила его своим полпредом, в результате чего у Радека в тюрьме
2ф6 оказался какой-то хитрый статус: грязную парашу ему заменили на фаян-
совый горшок. В своей одиночке он мог почти свободно принимать по-
сетителей — к нему приходили молодые коммунисты и пролетарские
писатели, промышленники и журналисты, беглые турецкие лидеры Тала-
ат-паша и Энвер-паша и даже министр иностранных дел Германии Вальтер
Ратенау (когда в 1922-м Ратенау убили, с ним пришли попрощаться два
миллиона человек). Коммунисты обсуждали с ним свое внутрипартийное
устройство, капиталисты — будущее устройство Европы.
После Моабита Радека из Германии выдворили. Но он много раз возвра-
щался в Берлин — легально и нелегально — налаживать важные для совет-
ской России экономические связи и вести со столь же загадочными, как он
сам, личностями переговоры Бог знает о чем в приватных кабинетах и на
раутах, куда одновременно приглашались националисты, демократы
и большевики. Он ездил по Германии, удерживая немецких коммунистов
от восстаний, которые помешали бы наметившейся дружбе Москвы и Бер-
лина. Обсуждал возможную дружбу уже против Берлина — между Моск-
вой и Парижем. Фельетонист «Дней» Н. Тасин писал в номере от 15 августа
1923-го:
— Радек накануне лишь прилетел в Москву и не успел еще как следует
спасти Россию, как получил срочную телеграмму от «Роте Фане» с мольбой
немедленно вернуться в Берлин спасать Германию.
Набоков без Лолиты
Его брошюрка «Немецкий ноябрь» начинается со звонка советского
полпреда в Берлине тов. Иоффе с важной новостью. Радек строго пере-
спросил, уверен ли полпред в новости, и лишь потом передал ее «совет-
скому правительству». А мог и не передать? Далее там такой еще есть ми-
лый пассаж:
— Ко мне прибежал австрийский посол де-Потере, чистенький, глад- [но:5]
ко выбритый старичок, словно игрушка, изображающая бюрократа
XVIII столетия. Он был в полной растерянности. По карте я объяснил
ему требования, которые Италия предъявила Австрии. Старичок разры-
дался. — Ну, бросьте, — пытался я успокоить его. — Что вам, венгерско-
му итальянцу, волноваться, если Австрию обкорнают или она немножко
распадется.
По мнению Силезского Связного, «проект» Радека не был ни больше-
вистским, ни антибольшевистским. Он принадлежал к силам, которые за-
ботила «рекультивация и рецивилизация континента». «Интернационал
менеджеров и инженеров против распада и анархии». Какой-то, короче,
фантастический заговор интеллектуалов. Банда рекультиваторов. Допус-
тим. Распада избежать не удалось, менеджеры разлетелись, как планеты
после Большого Пинка. Эрнст Рейтер, например, вместе с которым Радек
в 1918-м нелегально пересекал границу с документами австрийских воен-
нопленных и поддельным свидетельством об избавлении от вшей, после
Второй мировой стал бургомистром Берлина. Радек еще успел перевести
на русский «Майн кампф» для служебного пользования и сгинул, как по-
ложено, в ГУЛАГе.
— То ли его зарезал другой заключенный, то ли забили до смерти тю-
ремщики, то ли его голову размозжили о бетонный пол... [155:344]
Впрямь небывалый культурный тип, что скажешь. Планировался
мировой пожар, и Берлин мог стать его центром. «Для ускорения рево-
люции» тамошние коммунисты даже пытались взорвать в Тиргартене
колонну Победы. Москва выделяла на революцию деньги, эпоха —
людей. Авантюристы старались не только за доллары, но и за идею, за
адреналин. Генерал Скоблин был одновременно вождем русских монар-
хических сил в эмиграции, агентом НКВД и агентом гестапо, чего мело-
читься. На Кайзераллее в Вильмерсдорфе (не в задней ли комнате упо-
мянутого в «Даре» похоронного бюро?) функционировала контора по
производству фальшивых документов. Когда ее накрыли, там обнару-
жилось пять тысяч готовых паспортов — почти всех европейских стран.
Пять тысяч — не успели раздать заказчикам, но работала мастерская —
годами.
Я думаю, что призраки этих фантастических агентов бродят и по сей
день. Хороший город сохраняет свежими и самые древние тени, а этим-
то и ста лет нету, шарашатся, отслаиваясь; скользят в снах старых пло-
щадей. Энергия истории питает их пылом и жаром, а в то время мир
пучился от невиданных ранее смыслов, и Берлин был одним из главных
мест силы.
247
Агенты реальные и нереальные
Анастасия поддельная
17 февраля 1920 года с Бендлербрюке (жирное подбрюшье Тиргартена)
бросилась в Ландверкканал загадочная красавица. Два года она проводит
в психиатрической больнице, имя ее и судьба неизвестны, сюжет требует
продолжения, и вот здравствуйте. Покинув дом скорби, женщина объявля-
ет себя великой княжной Анастасией, чудесным образом спасшейся из
подвала Ипатьевского дома, где упромыслили царскую семью. Поддельных
Анастасий вообще было несколько, но эта (она же Анна Андерсон, Анна
Чайковская, Франциска Шанцковски) продержалась у рампы до самой
смерти в 1984 году (позже анализ ДНК окончательно доказал, что княжна
фальшивая). Она затевала грандиозные судебные процессы о находящем-
ся в берлинском банке царском наследстве (звонко проиграв в 1938-м,
вновь шла с бумагами в суд в 50-х, в 60-х). Знала мелкие подробности цар-
ского быта, ее опознавали свидетели, ей верили в редакциях бульварных
газет и принимали в монархических домах Европы. Это призрак нового
типа, раздутый прессой, звезда масс-медиа. Если Анна и не была Анастаси-
ей в привычном смысле глагола, то после ледяной купели и желтой койки
хоть частично в нее да преобразилась.
Мост ныне скучный, с дурацкими перилами годов эдак 1980-х, без ма-
лейшего фонаря. Я пришел на закате дня с тремя нулями и четырьмя еди-
ницами, второй Новый год подряд летала метель, проштриховался суту-
лый старик с седоносой индифферентной дворнягой. Напротив курится
Бендлерблок — квартал военных ведомств, через него просвечивают огне-
248 вые времена, здесь было замышлено в 44-м покушение на Гитлера, а после
провала организаторов тут же, во дворе, и расстреляли. Стоит памятник
немецкому Сопротивлению в виде голого парня с небольшой, но очень ак-
куратной пиписькой. Улицу отобрали у чиновника Бендлера, теперь она
называется в честь главного заговорщика, полковника Штауффенберга.
Переназван ли мост, я не понял. На картах он без имени, и на самом себе
тоже без имени, табличек нет.
Чайковская красавица, наверное, бросалась (невысоко, кстати), когда
мост сторожили орлы, медведи или лисицы, можно поискать фото или
описания старых скульптур... не в этой книжке.
Исследователь, с головой погружающийся в предмет, знает, как далеко
могут увести боковые следы. Слепые ссылки в примечаниях вырастают до
размера крупных кошек, если пойти по рисовой цепочке книг. Фамилия
цепляется за фамилию, за каждой набухает судьба с новым обвалом доку-
ментов и лиц, и есть, наверное, в укромищах газетного хранилища на Фон-
танке или за строем каталогов на площади Островского комната с нарисо-
ванным очагом, через которую можно выйти на станцию Виттенбергплатц
середины 1920-х.
Набоков без Лолиты
Иван, мальчик из академии
Спешит куда-то Иван Лукаш (1892-1940), нос у которого пуговкой. Вместе
с ним В.В. клепал скетчи для «Синей птицы», а также сочинил либретто для
пантомим «Агасфер» В.Ф. Якобсона и «Кавалер Лунного света» А. Илюхина
(кавалер носит имя Смерть, закутан в плащ и уносит с собой, вопреки цвету
света, принцессу; это дело даже поставили в Кенигсберге в начале 1925-го)
и какие-то киносценарные разработки. Еще они хотели основать журнал
под названием «Рука».
Лукаш — единственный, наверное, соавтор Сирина. Есть, правда,
письмо матери, в котором Владимир сообщает, что работает над сцена-
риями еще с двумя имяреками, но следов от этой работы не осталось.
Есть еще глухие сведения, что в середине 20-х Сирин выпустил вдвоем
с карикатуристом Михаилом Мадом (в скобках мадов портрет Радека,
249
Тов. Радекъ найдеть ce6t> мФ>сто на
Foire de Neuilly.
если вы успели по нему заскучать) книжку карикатур: В.В. сочинил к ним
подписи. Но это не соавторство в буквальном смысле; каждый делал свою
работу. С Лукашом же они вместе писали тексты.
Отец Лукаша служил сторожем в Академии художеств, позировал Репи-
ну (на почтовой картине с него выписан запорожец с повязанной головой).
Мать там же заведовала столовой, Иван и родился в здании академии, а еще
Агенты реальные и нереальные
в тамошнем музее хранится голова мальчика, слепленная Д.С. Стеллецким
с юного Ивана.
В юности он бежал из дома с планом попасть «в Америку», под впечат-
[82:54] лением от Майна Рида. В ходе побега «сломал себе руку и остался на всю
жизнь с вывихнутым пальцем». Окончил юрфак, воевал в Добровольче-
ской армии.
Как-то в кино Набоков увидал на экране себя (сцены с Ганиным-статис-
том в «Машеньке» вроде бы автобиографичны, Набоков тоже «продавал
свою тень», в какие фильмы — не установлено), дернул Лукаша за рукав, но
тот не заметил и не поверил. Слегка опростоволосился Лукаш на агентском
фронте — слишком доверительно болтал с Плевицкой (не зная, конечно,
что изнутри она выстлана кумачом).
У Сирина есть на соавтора эпиграмма:
[82:55] Большой роман принес Лукаш!
А нелюбезнейший, покажь! —
из которой следует, что ударение в его фамилии падало на второй слог (это
подтверждается и рифмой «Лукаша — хороша» из стиха князя Н. Кудаше-
ва; может, для вас это и очевидно, но я долгие годы считал, что ударять со-
автора надо на «у»).
Он имел псевдоним Иван Оредеж... получается, что в честь набоков-
ской детской речки.
Отца его — задолго до рождения Ивана, 5 февраля 1880-го — отпустили
250 из караула к больной жене. Заменивший его товарищ погиб при взрыве,
устроенном на Миллионной Халтуриным, — инверсионная рифма к судь-
бе В.В., отец которого, напротив, заменил товарища на пути пули.
В «Руле» от 9 февраля 1923-го рассказ Лукаша «Метель» начинался фразой:
— На металлическом циферблате дрогнула черная, узкая стрела и дви-
нулась, дрожа, на цифру II.
В сиринском «КДВ» в первой фразе стрела на циферблате огромная, но
тоже черная и тоже дрогнула.
Вообще Лукаш был довольно плодовитым прозаиком. Нельзя сказать,
что его активно переиздают, но на сломе тысячелетий в Москве выпустили
аж двухтомник. Он лет, чтоб не соврать, пять провел на моем рабочем сто-
ле и в его ближайших окрестностях, но ни разу не мог я одолеть более абза-
ца, на чем бы ни открыл. Очень уж подвывернуто, декадентщина сказом
погоняет.
Почитал для очистки в библиотеке старые книжки.
«Цветы ядовитые» (СПб., 1910) начинаются со слова «Смерть» (назва-
ние первой новеллы) и заканчиваются словосочетанием «мокрицы без-
цветные». Там есть фрейлины и скелеты, склепы, девушка чистая в двенад-
цать часов танцует между узкими бокалами сонной пляской, только груди
трепещут белыми птицами, и повторяет:
— Для никого — Я. Для никого — Я.
Набоков без Лолиты
У Канада.
У канала рЪшетки чугунныя уползаютъ въ з^въ
арки моста. Туманъ безглазый ползетъ у канала,
когда уходить ночь, и видится разевать. Клубится
гривами туманъ зловонный
Въ туманЪ я видЪлъ трехъ женщинъ.
Трехъ женщинъ бЪлыхъ на мосту я видЪлъ. От-
вислыя груди, съ сосцами припухшими, и рты гнилые...
Шепчутся онЪ. ОнЪ слЪпыя. И шопотъ ихъ въ
моей душЪ качается неслышно.
О трехъ кладбищахъ онЪ шептали. Отъ трехъ
воротъ городскихъ вм'Ьст'Ь съ туманомъ пришли и.
шептали...
...Кости трушатся въ могилахъ. Узк1е черви воро-
шатся въ липкомъ мозгу. Девичьи очи въ могилахъ
З1’яютъ проваломъ нЪмымъ. Мясо смердитъ и плЪс-
н£етъ... Сердца же людск!я теплы и вкусомъ пре-
красны—шептали он*Ь. И улыбкой дышали прогнивш!е
рты...
---- 251
Не ходите къ каналу тому. На разсвЪтЬ спите.
Спите снами юными, вешними, робкими.
Не сказать, что мне сильно понравилось, но тексты страстные и корот-
кие, во всей книжке — всего семь страниц.
«Дом усопших» (вышел в 1923-м в берлинском издательстве «Медный
всадник») начинается с симпатичной фразы: «Виноградная кожура мокла
в песке и скользила под подошвами». Но следующие два абзаца все про ту
же кожуру, и уже трудно.
Я перетерпел, и был вознагражден мотивами из «Машеньки».
Действие происходит в пансионате. Героя зовут Глеб (сравни с отчеством
Ганина). Другой герой, Кузмичев, «в классном вагоне» приехал из Москвы.
— Вот, думал, приеду на юг, где тепло, солнце. А выходит, что никакого
юга и нет...
Хорошая фраза... могли бы ее сказать многие тургеневские мужчины.
Потом Кузмичев обращается к Глебу.
— У вас, товарищ, спички, похоже, есть. Одолжите, пожалуйста, парочку.
И Глеб думает: «Вот о спичках что-то настоящее». А то ему Кузмичев казал-
ся фальшивым. Мы из Сирина знаем, что про спички — точно настоящее.
Агенты реальные и нереальные
После спичек возникает и обезьяна. Кто-то из участников философской
дискуссии утверждает, что социалисты заменили Богочеловека человеко-
обезьяной, что «человек заговорил языком гориллы».
Употреблено слово «труперда» (которое почему-то «ласково успокаивает»
санитара Гришку; пансионат вообще для умирающих советских работников).
Есть, наконец, редкое сокращение в конце следующего пассажа:
— Мы, гадкие змеи, быдло земли, пушками всаднем по всем твоим Фло-
ренциям, все нутро твое вывернем, — м. т. е.
Иноязычный агент сокращения, пожалуй, и не поймет.
Яблоновские псевдонимы
По следу журналиста Яблоновского, который, без инициала, объявлялся
в комментарии к «Звонку» прототипом журналиста Грушевского, я не со-
бирался идти, но обнаружил, читая «Руль», что Яблоновских там двое. Ре-
шил все же их разъяснить. Для начала выяснилось, что оба они не слишком
Яблоновские. Один Снядзский (1870-1934, Александр Александрович),
другой Потресов (1870-1953, Сергей Викторович).
Александр писал в «Руле» много. 3 января 1923-го он отметился фельетоном
«Эмигрантское косноязычие», в котором поднял вечнозеленую тему чистоты
букваря. В эмиграции чистота теряется, что плохо. Русское дитя, имеющее укра-
инскую няню, может брякнуть на трех языках сразу — «Фогель полепв домой».
— Никакой опасности? Нет, «фогель» вещь серьезная, — уверен А. Яб-
лоновский. Среди других выражений, попавших под критику, — стенание
252 малоросса «какой тупой лошадь», а также синтагмы «Пятый год большеви-
ки верзильничают в Кремле» и «Это совсем не мой родственник, это прос-
то седьмой кисель».
Два последних примера, по-моему, вполне выразительные. Больно уж
придирчив Снядзский Яблоновский.
Фельетон, видимо, имел успех: 18 января последовало «Косноязычие-2»,
где среди «лингвистических безобразий» разоблачались словосочетания
«я каждый день зарабатываю свежий рубль», «подсудимый и потерпи-
мый» и «красивая музыка», а 28 января раздался еще и читательский
отклик, в котором указывалось, что Яблоновский недоклеймил разруши-
телей языка, надо еще врезать по тем, кто говорит «комната с кюхенбенут-
цунге» вместо «комната с пользованием кухней».
«На книжках Сирина лежит печать культурности», — сообщал в том же
номере Борис Каменецкий (псевдоним Айхенвальда) в заметке о двух сти-
хосборниках молодого Набокова, а мы с вами чуть позже заметим, что
в дальнейшем на его книжки ляжет уверенная печать интереса к непра-
вильности, к искажению, к «лингвистическому безобразию»: из того, что
Яблоновский скучно клеймил, Сирин будет делать искусство.
А. Яблоновский еще был автором рассказа «Филька», вышедшего от-
дельной книжкой: о том, как злые взрослые обманули детей, зарезав сим-
патичную хрюшку.
Набоков без Лолиты
— Рассказ кончается сценой похорон поросеночка, к этому моменту уже
изжаренного, — резюмирует рецензент «Дней» 15 июля 23-го.
Встречались, наверное, с Сириным в редакции. Позже В.В. посылал Яб-
лоновскому в Париж экземпляр «Отчаяния».
Второй Яблоновский, Сергей, сразу обитал в Париже и давал оттуда в «Руль»
стихи и статьи о театре (исторические штудии и впечатления от гастролей).
Яблоновский-Потресов был первым читателем, приславшим автору
Сирину письмо. Первый откликнувшийся читатель! — у каждого публи-
кующегося сочинителя был такой. Видимо, это была реакция на первую же
сиринскую публикацию в «Руле» в начале 1921-го (три стишка и рассказик
«Нежить» 7 января; на самом деле первый стишок В.В. появился в «Руле»
раньше, 27 ноября 1920-го, но тогда он подписался псевдонимом Cantab,
что значит «кембриджский студент»).
Сирин отвечал Потресову, что «невыразимо тронут и необычайно обод-
рен письмом вашим», «застыдился и возгордился». Докладывал:
— Мне 22 года года, а моей музе — двенадцать. Десяти лет, помнится,
я перевел с английского на французский, в невероятных александрийских [94]
стихах, роман Майнрида «Всадник без головы»...
Эта фраза про всадника в самой популярной книге о Набокове, в труде
Новозеландского Биографа, раскавычилась и превратилась в реальный [19: юи
факт. Помню, я удивлялся, читая Новозеландского, этому мутному сооб-
щению. Глянув письмо, понимаешь, что мы имеем дело скорее с летучей
фантазией. Исследователи, открою вам секрет, довольно часто уверенно
вставляют в биографию на правах факта сообщения типа «В.В. сказал док-
тору: „Я вынужден ее убить“», вместо того чтобы сообщить правду, коя 253
состоит в том, что у В.В. на сей счет есть изящное воспоминание. Это не
в укор никому; просто напоминаю, что из глубины веков факты доходят
расплывающимися тенями.
Встречался ли Набоков с Потресовым лично, живя в Париже, не знаю.
Что до «египетских репортажей», из-за которых я и озаботился Ябло- [ 163]
новскими, они написаны Александром Александровичем. С осколками
Добровольческой армии он эвакуировался в Египет, и фрагменты про ко-
рабельный быт, про гору багажа в пятнадцать тысяч предметов, в которой
так и не удалось разыскать свои, про палаточный лагерь в пустыне, про
изгнанников, похожих на героев Толстого (Кити стирает детские руба-
шонки, Лёвин стоит в очереди за кипятком, Каренин держит в руках мис-
ку скверного бараньего супа, Стива уже увивается за кем-то) — лучшее,
что мне довелось у Яблоновского прочесть. Сирин знал, на что заводить
аллюзию.
Другая Вера
Точно (хотя, опять же, какое «точно» — правильнее «по ее словам») не был
Сирин знаком с Верой Лурье (1901-1998), своей соседкой и по Большой
Морской, и по району Хохмайстерплатц.
Агенты реальные и нереальные
В Петербурге она часто видела двух сыновей В.Д. Набокова, гуляющих
[72,№ ю] с воспитателем. Братья «были одеты на английский манер в бриджи и по-
лосатые твидовые костюмы». Редкий случай, когда герой путеводителя за-
мечен с братом. В своих воспоминаниях он всегда один.
Вера с родителями жила на углу Исаакиевской площади, с видом на
[72, № ю] собор. Отец был врачом, у матери хранился альбом с фотографиями «из-
вестных революционеров и террористов». Было бы мило, перепаковывай
именно у Лурье в гостях роковой сверток невезучий террорист — тот, чье
ухо улетело в конспиративную липу.
Вера Лурье писала стихи, у нее дома собирался в начале 1920-х поэтиче-
ский кружок «Островитяне», лидером которого был возлюбленный Веры,
выдающийся прозаик и таинственный поэт Константин Вагинов.
В одном ее стихотворении происходит ровно то же, что во второй главе
«Дара». Там Федор из оранжерейного рая прошлого пересаживается в бер-
линский трамвай и обратно, а Лурье едет в поезде «В третьем классе» (на-
звание стишка):
Все вперед! А мимо дни и годы,
Как в окно открытое, летят:
Нет вагона, немки с бутербродом,
Снова дача и фруктовый сад!
В воспоминаниях Веры не указаны точные адреса, но из постоянных
проговорок так выходит, что она буквально всю дорогу, три четверти века,
254 жила около Хохмайстерплатц, рядом с главным берлинским адресом На-
бокова на Несторштрассе. Я впервые приехал в Берлин в 1996-м. Вера Лурье
еще могла гулять — быть возимой, скажем, в коляске. Или могла зыркать
с балкона, как это принято у пожилых интеллигентных дам. Я мог ее видеть.
Случается с фотографиями женщин иных эпох, что кривая звезда вдруг
пробивает хрустальный свод сна, душа приплясывает, а в пальцах ломается
спичка. Мне хочется оказаться рядом, в мутных портьерах старого сним-
ка... нет, туда не хочется, что это я... преображаться увольте... но вот
встретить их старухами, встать на колено, поцеловать морщинистую руку
(предсказуемая шутка К.В. Богомолова по этому поводу в путеводитель не
попадет)... Я некогда работал над книгой из ленинградских 40-х XX века,
и такой эффект производила на меня Ольга Берггольц, из теней этого пу-
теводителя бередит Нина Берберова, и вот еще — Вера Лурье.
Я вижу сквозь облака времени, как учитель химии Поличек завлек Веру
в свою квартиру (тоже рядом с Несторштрассе) «с условием, что ничего
не произойдет». Дал честное слово. Ему, как Алферову, нужно было утром
идти на вокзал Цоо встречать невесту. Веру он на всякий случай решил по-
целовать, а та поцеловаться была не прочь, но не хотела «дальше», и случи-
лась ссора.
[72, № ю] — Он очень разозлился, что я отвергла его, и в отместку укусил меня
в шею так сильно, что спустя месяцы у меня был на этом месте синяк.
Набоков без Лолиты
Милая Вера! Синяк спустя месяцы, ай-ай. Так жалко, знаете, что вы не
познакомились с Сириным... мне было бы очень приятно, случись у вас
тогда роман.
Но вот не познакомились. Работали в параллельных газетах, Вера писала
в «Днях», Сирин — в «Руле», в том числе об одном и том же. Сирин полеми-
зировал со шкловским «ZOO» рассказом, а Вера (в соавторстве с А. Бахра-
хом) просто напечатала недружелюбную рецензию (Шкловский прибежал
в редакцию и стучал стулом об пол).
Вера, правда, написала о «Горнем пути» Сирина, что это скучная книга. [57:24]
Мнение справедливое, но Сирину вряд ли понравилось. И такие романы
не редкость: сначала поругаться как следует, а потом уж слиться в поцелуе.
В кино так часто бывает, и в жизни тоже.
Хотя, конечно, Сирину не нужна была девушка, хоть на секунду усом-
нившаяся в его гении.
Но сколь ни нелепа попытка свести их на страницах итинерария, вы при
ней присутствуете.
Спешит на помощь история, проращивает узор. Вера Лурье была потря-
сена в пятилетием возрасте молодым и красивым гвардейским офицером,
приходившим в гости к ее отцу, Василием Бискупским. А отец ее некогда
жил в Киеве вместе со своим старшим братом, у которого была юная лю-
бовница, девушка из шляпного ателье.
Много лет спустя линии Бискупского и девушки из ателье сошлись —
к тому моменту она, а звали ее Анастасия Вяльцева (1871-1913), стала зна-
менитой романсовой певицей.
Машенька в «Машеньке», напомню, цитирует песню Вяльцевой. 255
Левушка — он типа Набокова, из благородных, а Машенька из мещан.
Первые слова, которые Левушка говорит Машеньке и ее подругам, —
«В парке нельзя гулять посторонним». Последняя их встреча — Левуш-
ка едет в вагоне первого класса, а Машенька пробирается к нему из вто-
рого. Тамара, героиня параллельного романа из «Других берегов», под-
черкивает неравенство усмешливым «Что ж, мы, мещаночки, мы ничего,
значит, и не знаем», а когда Володя заикается, что они поженятся, едва он
закончит гимназию, отвечает, что он очень ошибается или нарочно гово-
рит глупости. Коллизия тургеневской Аси в том еще состоит, что влюб-
ленный герой не может решить, должно ли ему жениться на незаконно-
рожденной.
«Мещаночкой» была и Вяльцева, и правила запрещали ей появляться
в салонах для гвардейских офицеров. Чтобы жениться на ней, Бискупский
оставил гвардию и стал офицером регулярной армии. Брак их долго не
продлился, Вяльцева умерла от лейкемии.
Потом Бискупский стал адъютантом великого князя Кирилла Владими-
ровича, главы дома Романовых в эмиграции, участвовал в монархических
заговорах, а при Гитлере руководил «Доверительным пунктом для русских
эмигрантов» ([52], пункт располагался в доме, соседнем с тем зубным прак-
сисом, где братья Набоковы в 1910-м вынуждены были во всем доверяться
Агенты реальные и нереальные
стоматологу). В какой-то момент к Бискупскому приставили двух геста-
повцев, только что вышедших из тюрьмы. Это были убийцы В.Д. Набокова
Таборицкий и Шабельский-Борк.
Ремизов, друг животных
Многие мемуаристы рассказывают о плюшкинских коллекциях А.М. Ре-
мизова, собиравшего всякий забавный хлам. На веревках, протянутых под
потолком его берлинского жилища, висели бумажные чортики, птичьи
лапки и рыбьи скелеты. Вокруг были разбросаны альбомы с вклеенными
обертками от скушанных хозяином конфет.
Веревка фигурирует и в следующем замечательном эпизоде. Жена пи-
[юз:2оо] сателя, Серафима Павловна, была «вдвое выше его и вчетверо толще»,
[и?: 125-126] «Изюминка и кулич» — так определяла семейную пару княгиня Зинаида
Шаховская. Она же именовала Ремизова «сгорбленным колдунком»,
[ 16: зо5] «колдуном-карликом» называла его Берберова, а автору «Других берегов»
его внешность напоминала шахматную ладью после несвоевременной
рокировки. Жены колдунок побаивался и был вовсе перепуган, когда
она залегла с простудой в постель — мрачнее тучи. Желая во что бы то
ни стало суженую развеселить, он вызвал врача и натянул в коридоре ве-
[юз: 126] ревку: врач грохнулся, «больная залилась смехом, обрадовав Алексея
Михайловича».
Берберову он как-то запер на пару часов в своей квартире, ускользнув
с остальными гостями, — довольно безобидная шутка для колдуна-карлика.
> Литературное и художественное наследие Ремизова — сильно на любите-
[юз:21] ля. Чичирявые жанры типа некрологов на живых друзей («Покойный не лю-
бил выпить, он только увлекался шампанским и ризлингом» — о Бердяеве),
ритмизованная ухабистая проза, образы, как непропеченные колобки.
«Звезда надзвездная» — так называлась книга Ремизова, на которую
[96 п: Сирин в 1928-м опубликовал в «Руле» нелицеприятную рецензию. Безна-
665-667] дежная пресность, небрежность, случайный подбор слов, суконный язык:
я в целом согласен с этими сиринскими оценками.
Другое дело, что Ремизов любезен космосу скорее не как автор текстов,
а как производитель контекста, художник жизни, строитель творческих
ситуаций.
Еще в 1908 году он создал Обезьянью Великую и Вольную Палату. У его
[юз: 55] брата в Москве жил зверь по кличке Обезьян Иванович. «Занимался
с обезьяной: обезьяна чахлая и озабоченная», — докладывал Ремизов
в письме Серафиме Павловне. Этой ли именно особи мы обязаны любви
колдуна к приматам, не знаю. Была еще история с хвостом, коим Ремизов
восхитил гостей маскарада, ибо даже ухитрялся им как-то помахивать. По-
том выяснилось, что хвост этот отрезан от дорогой обезьяньей шкуры, ко-
торую бережно хранил писатель Сологуб, и мои коллеги долго разбирались
в печати, в эпистоляриях и на каких-то судах писательской чести, кто отре-
зал от шкуры хвост, сам Ремизов или записной охальник А.Н. Толстой.
Набоков без Лолиты
Палата же — «Обезвевопал» сокращенно — процветала и в Берлине
начала 1920-х. Любезным ему гражданам Ремизов тщательно вырисовы-
вал потешные грамоты со званиями. Бахрах у него — рыбак обезьяний,
Белый — митрофорный кавалер, Гржебин — зауряд-князь, Гуль — кава-
лер 1-й степени с васильками, Вера Лурье — служка обезьянья, компози-
тор Лядов — кикимора, композитор Николай Набоков — конь рыцаря
пламенного меча К. Мочульского, Пильняк — царский хвостобрей, Эрен-
бург — кавалер с хоботком жужжелицы (именно такой, с тремя «ж»).
Ремизов писал тексты на тарабарщине, с детьми беседовал на обезьянь-
ем языке — словом, человеком был интересным. Рыцарем искусств, так
сказать. Набоков это понимал, говорил Австралийскому Биографу о пре-
лестной преданности Ремизова литературе. [96 и: 775]
Рецензия в «Руле» сильно возмутила друга Ремизова и обладателя ре-
кордного числа обезьяньих грамот Николая Зарецкого (прошедшего
с 23-го по 49-й год путь от кавалера 1-й степени с чудесным фиником до
Великого князя Обезвевопала). Он написал отлуп Сирину, в четыре с поло-
виной раза превосходящий по объему рецензию, опубликовать его не
удалось, пришлось огласить — в присутствии Сирина — на вечере в поэ-
тическом кружке. Сперва Зарецкий показал Сирину надпись « Achtung» на
обложке розовой тетрадки, куда была занесена эскапада (В.В. возразил, что
по-немецки не читает), а потом уже огласил.
— Выступление рецензента подобно плевку на алтарь поэта, где пылает [ юз: 252]
его священный огонь, — стояло, в частности, в ответе.
Сирину не понравилось другое: сравнение рецензии в «Руле» с нападка-
ми Булгарина на Пушкина. Имела место экспрессивная сцена. Сирин поки-
нул собрание, а предварительно, если верить воспоминаниям художника,
то ли «выругался», то ли сказал Зарецкому «дерзость». По версии другой [юз: 259]
стороны, Сирин заявил: «Если бы не ваш возраст, я бы разбил вам морду». [ 19:337]
В общем, друг другу версии не противоречат.
Семейство автора «Звезды надзвездной» следило за событиями из Пра-
ги. Серафима Павловна предположила, что Сирин сочинил пасквиль по на-
ущению Бунина, который, по ее мнению, считал Ремизова своим главным
и единственным конкурентом. Ремизов поблагодарил Зарецкого за защи-
ту, но по существу вопроса высказываться не стал.
Еще через десять лет тени Ремизовых неожиданно появятся в «Под-
линной жизни Себастьяна Найта». Заглавный герой летом 1917 года дер-
нул вдруг сопровождать на провинциальных гастролях поэта-футуриста
Алексея Пана, шумливого коротышку с искрами истинного дара в сумбу-
ре невразумительных стишат, и его лошадеподобную жену, которая во
время выступлений поэта сидела на сцене, пришивая пуговицы либо
починяя старые брюки («жаль только, что в повседневной жизни она ни-
чего подобного для мужа не делала»). Пан в начале 1920-х повесился на
подтяжках, а мать Себастьяна вместе с автором романа удивляются слу-
чайности эпизода, как и читатель, который Ремизова у Набокова встре-
тить не ожидал.
257
Агенты реальные и нереальные
Дело, быть может, в том, что сочинение англоязычной «Подлинной жиз-
ни» (на рубеже 1938-1939 годов, в Париже, еще в сирийское время, до
«Василия Шишкова», «Волшебника», «Solus Rex» и «Ultima Thule») сопро-
вождалось своего рода переучетом. Словно бы автор прикидывает, что из
русского багажа пригодится на других берегах. Романы самого Найта, как
я уже говорил, параллельны романам Сирина, заново проворачивается ис-
тория дуэли отца (здесь состоявшейся и роковой), заново перебуторива-
ются шахматные кружева, цитируется «Заблудившийся трамвай» («лицо
г-на Гудмэна обладало сходством с коровьим выменем»), задействована
уже опробованная в «Лужине» чеховская реникса... Может быть, огляды-
ваясь назад, наш сочинитель обнаружил, что был слишком резок к Ремизо-
ву, и дал его призраку еще один шанс.
Самый, впрочем, жирный призрак — призрак текста в натуральную ве-
личину — обнаружен в «Найте» его переводчиком на русский, Ташкент-
ским Геологом, который... к какому пришел убеждению?
[28:207] — К убеждению, что Набоков первоначально сочинял роман по-русски
(по крайней мере в уме), потому что ничем не замечательные английские
словосочетания вдруг оборачивались в практически буквальном переводе
совсем не случайной цепочкой аллитераций: «если бы щетина моей щеки
коснулась шелка кашне, я бы лишился чувств».
И прочие действующие лица
258
Я сижу на скамейке на липовом бульваре, напротив нашего посольства
[58], заношу на бумажку метафору. Удобны для этих целей рекламные от-
крытки со стоек в кафе: в Германии у них, как правило, чистая оборотная
сторона, а в России она плотно зарисована подробностями продвигаемой
услуги. На лицевой стороне цветущая акация, с легкостью уступившая
свои ароматы какой-то косметике. Вера Лурье сидела как-то с подругой на
скамейке, сорвала ветку акации: подскочил немецкий господин, огрел
тростью. В середине 1970-х бывшая невестка Алексея Толстого послала из
Ленинграда в подарок Набокову свою трость, но трость не успела дойти,
адресат умер. В старом посольстве была церковь, где отпевали Владимира
Дмитриевича. В первые годы после революции, когда в посольстве уже
верзильничали большевики, встроенный храм оставался эмигрантским
центром. Немцы поначалу не собирались отдавать Советам здание, фор-
мальную собственность семьи Романовых. 2 апреля 1921-го «Голос России»
сообщал, что советское представительство купило дом на Ноллендорф-
платц, рядом с «Леоном», 26 января 1922-го — что под посольство, возмож-
но, будет отведен дом на Потсдаммерштрассе. Но после договора в Рапалло
(апрель 1922-го; договор полностью восстанавливал дипотношения между
двумя странами) недвижимость на Унтер-ден-Линден все же отдали Моск-
ве. После Великой Отечественной строительством нового здания посоль-
ства руководил инженер по фамилии Сирин. Было бы ловко, появись сей-
час на бульваре Машенька Шеншина, я бы ее эффектно окликнул.
Набоков без Лолиты
Афроберлинец в лиловых трусах фланирует мимо, зело пританцовывая,
в зубах банан. С Белым у Веры Лурье роман как раз был. Другого ее воз-
любленного звали Лазарем Мейерсоном: этот тот, что делил с Федором
Ивановым комнату и гардероб. Еще одного возлюбленного, Познякова, су-
дили за фальшивые деньги вместе с художником Мясоедовым. Мясоедов
заявил на суде, что «во сне имел божественное видение, раскрывшее ему
тайну водяных знаков американской валюты» (Дни. 1923.31 июля).
Федор Владимирович Иванов жил недолго (1892-1923). Скончался от ту-
беркулеза, по мнению В. Лурье и А. Бахраха, от последствий контузии (Ива-
нов воевал в Добровольческой армии) по другому мнению Бахраха (некро-
лог в «Днях» от 10 августа 1923-го), от порока сердца — по Ю. Офросимову
(некролог в «Руле» от 8 августа), от последствий ранения в область сердца, по
сведениям Р. Гуля. «Руль» и Гуль собирали деньги на его похороны (Руль.
1923.19 августа). Иванов, кроме полуботинок, мелькал выше с кондуктором,
который возьмет да и объявит в берлинском трамвае: «Станция — Россия».
Он работал в газете «Голос России», существовавшей с 1919-го по 1922-й
и сменившейся «Днями». В 192 Ьм ездил по лагерям интернированных, пе-
чатал цикл очерков, не брезговал литературными обзорами, публиковал
(16 марта 21-го) «кусочки» белогвардейского дневника (не знаю, изданного
ли целиком) и вел авторскую рубрику. «Мысли на ходу» она называлась,
в жанре нынешней «колонки», где и рассуждению о пьесе Ибсена место,
и библейской цитате, и рядом фразе «Милый мичман в улыбчатых песен-
ках Вертинского — давно взял топор и надел рабочую блузу». Одна из ко-
лонок Иванова начиналась словами «Жизнь — жестоковыйна» (6 января
21-го), другая заканчивалась пассажем «Одна ласточка весны не делает.
Весну и не надо делать. Сама придет» (8 февраля 21 -го). Хотел, чтобы все
жили дружно, мечтал помирить интеллигенцию с народом, призывал ми-
лость к лицам, случайно угораздившимся в красный стан, осуждал Бунина
за презрение к русскому мужику, дрючил Есенина. Издал сборник расска-
зов и сборник статей.
В Ленинке и Публичке их нет, но я уже понял, что Федор был славным
парнем, а еще мне кажется, что он (что бы под этим «он» ни подразумева-
лось) чувствует сейчас, что я (как бы мое «я» оттуда ни воспринималось)
передаю ему товарищеский писательский привет.
Федор, я еще найду твои книжки!
Но вряд ли прочту хоть одну книгу Немировича-Данченко, брата теат-
рального деятеля и соперника Дюма («некий Арбатов» утверждал, будто,
опубликовав сто романов, сам автор «помнит только два-три заглавия из [з: i и]
них: не то „Орлы Кавказа", не то „Горные орлы"»). Он так и останется для
меня тенью — кубически зыбкой в свете двойной фамилии.
Быстро растают и тени просоветской берлинской поэтической группы
1923 года «4 + 1»(из ее членов упоминались Вадим Андреев и Бронислав Соси-
нский, а еще в ней состояли Георгий Венус, Семен Либерман и Анна Присма-
нова), но при случае я выясню, как развивалась мысль в стихе Либермана, на-
чинавшемся с интригующей строки «Если в городе нет Эйфелевой башни...».
259
Агенты реальные и нереальные
Стихи Присмановой более известны. Хорошо у нее про лебедя:
Неузнаваем лебедь на воде —
Он, как Бетховен, поднимает ухо.
Отлично про кобылу:
К нам каждой ночью в три часа
Приходит белая кобыла.
Мужа ее звали Александр Гинтер — тоже поэт (и по совместительству
буддист). В «4 + 1» не входил.
[ из: 56] — Доходящая порой до карикатурности неуклюжесть образов, свойст-
венная и поэзии А. Гинтера, — сообщает современный исследователь, —
совпадала и с внешним обликом необычайной супружеской пары.
Тут вот интересно, трактует ли исследователь фото (которые сплошь
[ 148:148] и рядом ой как врут), судит по свидетельству 3. Шаховской — «Обликом
походили они несколько на химер» — или по каким-то иным источникам.
Сирин посвятил Гинтеру и Присмановой по полторы строчки — безоце-
ночных, просто по цитате привел в заметке о коллективном сборнике.
Все эти люди удаляются, унося под мышками свернутые в трубочку за-
дания, волоча свои миссии по разбухшим аллеям; очертания, извиваясь
восьмерками, пропадают в воздухе, но еще поблескивают там и сям осве-
щенные точки.
2бО Все они умерли... но, наверное, не «все» — в смысле из пушкинского
стишка про памятник.
Не забыть проследить вылазки героев одних сиринских сочинений
в другие. Мартын заходит в «Пир горой», где Ганин служил официантом...
нет, это осень 1924-го, Ганин уже несколько месяцев «на юге». Но Мартын
был в городе и в дни «Машеньки», Соня все куда-то пропадала вечерами,
и был у него короткий роман с танцовщицей из «Эреба». Францу мерещит-
ся, что в молоденькой девушке с подпрыгивающей грудью, в красном
платье, которая побежала через улицу со связкой ключей, он узнает дочку
швейцара: читатель было узнает в ней Магду из «Камеры», но это анахро-
низм, время не совпадает, да и знал Франц дочку швейцара в другом горо-
де. Франц, выйдя из египетского музея, мог столкнуться с Лужиным, следу-
ющим в Гемельдгалерею, которая тоже находилась тогда на Музейном
острове [39]... И здесь мимо — Франц мог видеть на улице Лужина, езжи-
вавшего в Берлин к отцу, но музейные вылазки по времени не совпадают,
Франц туда ходит где-то на год раньше шахматиста.
Однако чета Алферовых с четой Лужиных в «Защите» встречаются.
В «Камере обскуре» героя зовут на бал к Драйерам, из чего может следо-
вать, что действие «Камеры» происходит в 1928-м или раньше, а если все же
в 1931 -м, в год написания текста, это значит, что Драйер уже снова женил-
ся («не на Франце ли?» — жду я шутки от К.В. Богомолова). Вера Слоним
Набоков без Лолиты
жила близко от тети Лужина, он мог встречать будущую жену своего авто-
ра, бегая на беззаконные шахматные уроки. Лужин-старший прямо упо-
минается в «Даре», наряду с Подтягиным из «Машеньки» и Зилановым из
«Подвига» приводится Шириным в пример в качестве порядочного чело-
века, не чета нынешнему писательскому контингенту; и мы с Владимиром
Владимировичем солидарны с Шириным.
Берлин Лужина-младшего — это лето 1928-го — конец весны 1929-го.
Это и Берлин Федора Годунова, и валет Франц после событий на Балтике
вернулся, наверное, с Драйером в столицу. Ничто не мешало всем троим
оказаться в какой-то час в одном сквере. Можно поручить пытливым
студентам составить постраничные хронологические таблицы, засесть
в засаде (читатель всегда в некоторой засаде по отношению к герою, бул-
тыхающемуся между строк) и отслеживать передвижения теней...
Это для тех студентов, что уже отработали слежку за тенями внутри от-
дельных романов. Все ли разглядели в одноруком мужчине, с которым бы-
ла знакома в Финляндии будущая жена Лужина, его, Лужина, хорошо за-
маскированного одноклассника? Всякий ли засек в сцене бала в том же
романе неназванного Валентинова? Маша Шеншина вытянула на зачете
такой билет, первый вопрос угадала, а второй нет.
«Набоков, выходи!»
Новый 2010-й, год в Берлине выдался снежный и даже буранный, за сутки
до смены цифр я выпил после долгого воздержания, потом еще выпил,
и в результате 2 или 3 января среди ночи поехал с Зэтом и Игреком в Груне-
вальд, на Чортово озеро. В лес протянуто несколько транспортных нито-
чек, по одной из них, самой длинной, мы хотели забраться на такси макси-
мально далеко, но уже на середине ниточки водитель начал настойчиво
рекомендовать нам пересмотреть маршрут. «Шнель, Гитлер капут!» — оса-
дили его мои товарищи, и таксист, напряженно озираясь (на заднем си-
денье я распивал из бутылки и напевал из «Риголетто»), медленно рулил
сквозь белые вихри.
Если бы среди нас, вместо одного из нас, была девушка, или две — вместо
двух, таксист, конечно, решил бы, что вот, русские едут на Чортово озеро, ци-
тируя случай с Каменской, Френкелем и Занфтлебен, или, на худой конец,
выстраивая аллюзию на сцену с участием Яши, Оли и Рудольфа в первой
главе «Дара», чтобы покончить там коллективным самоубийством («покон-
чить с самоубийством» напечаталось), но поскольку мы были без них, так-
сист и не знал, что подумать. Машина наконец уткнулась в сугроб. Как па-
рень развернулся, не ясно, но двинуться дальше не смог, закричал о помощи
в три спины, таявшие уже в черно-белом лесу, и долго толкали мы жалко
визжащий автомобильчик; наконец, хрюкнув, он перевалил через невиди-
мый барьер и пропал в пелене, забыв поблагодарить нас задними огнями.
Мы двинули к озеру, сразу не туда, потом опять не туда, к Чортову
берегу вышли через час, водка кончилась, но зато и буря растворилась
261
Агенты реальные и нереальные
за шеренгами высоких сосен. Товарищи мои (непрестанно кричавшие
внутри метели «Набоков, выходи!», сколь ни убеждал я их, что в «Даре» са-
моубийство случилось на другом озере, а тут стрелялись всего-то лишь
прототипы) приумолкли, и путники долго шли в торжественной тишине.
Луна молча крутилась то по часовой стреле, то против — чистым серебря-
ным диском, без единого кратера или что у нее там, какие родимые вулка-
ны. На перекрестках аллей слушали, как шуршит, замедляя ход, время. Фе-
дор написал бы пару стихотворений, я лишь чутко внимал. Через час сочли
за благо идти не по плану, а наудачу. Товарищи предались своей традици-
онной забаве, о которой я раньше лишь слышал, но воочию впервые уви-
дал на берегу Чортова озера.
Один из них кружился в вальсе, обнимая невидимую талию, и летели
комья снега: это он танцевал со своей покойной матерью.
Другой наливал из воображаемой бутылки в изображаемую рюмку, рез-
ко выбрасывал последнюю вперед и производил губами и щеками вирту-
озный чпок: это он чокался с покойным отцом.
Потом они спросили меня, не считаю ли я столь энергичное общение
с мертвецами некоторым кощунством.
— Какое же кощунство, друзья, — отвечал я, — если видно, что вами
движет любовь.
2б2
Взгляд из будущего
Покойники тоже не сидят сложа руки.
У Сирина есть стишок «В раю».
Провинциальный натуралист умер и, фланируя в кущах, набредает на
«полупавлиньего» ангела —
.. .Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,
2бЗ
соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... Но только нет журнала,
и нет читателей в раю.
И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему...
Об этом синем, сонном звере
кому расскажешь ты, кому?
Чтобы подобных вопросов не возникало, мы с вами и следовали тенью
за одиноким гулякой. Чтобы мог он обернуться и подмигнуть: гля, гротеск,
настоящих нищих мало, посадили на углу куклу нищего, макет, на радость
нашей породе.
Да, фланер жаждет индивидуальной прогулки, ни с кем, даже с люби-
мой, не хочет делиться сокровищами дня, но вечером, уплетая сливовое ва-
ренье, ему нужно похвастать, что видел нынче две автокатастрофы, одну
аварию дирижабля и безногую чету слепых лилипутов.
А за спиной маячит еще и автор, который замкнет гротески пейзажей
в шкатулочку типографской выделки.
Взгляд из будущего
Уклончивое одиночество, предполагает читателя.
Или какую-то иную инстанцию взгляда со стороны.
Последняя главка «Путеводителя по Берлину» — «Пивная». Бильярд, бу-
тылки на полках, табачный дым, два тучных шофера с кружками. Пример-
но это видно из дальней тесной комнаты (часть убогой квартиры хозяина)
белокурому ребенку. Рассказчик уверен: что бы ни случилось с ним, с этим
мальчиком, в жизни, он навсегда запомнит картинку, которую в детстве
ежедневно видел из своей утлой комнаты.
Приятель рассказчика не понимает, почему тот вперился в банальную
декорацию.
— И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоми-
нание? — отвечает герой одной из тех сиринских фраз, за счастье сочинить
которую---------.
Зачем-то нужен этот очень сторонний взгляд.
В ожидании биографа
«Путеводитель» написан в 1925-м, тема возникла раньше. В докладе «Оп
Generalities» («Об обобщениях»), прочитанном в 1923-м в кружке Айхен-
вальда-Татариновой, Сирин говорил, что занятно помечтать о том XX ве-
ке, который представится воображению профессора истории лет через
[85:12] пятьсот, «и о том гомерическом хохоте, который стал бы нас разбирать,
если бы мы заглянули в будущие учебники».
Но заглянуть любопытно.
264 Б «Венецианке» (1924) реставратор Магор признается:
— Я позволяю иногда себе роскошь вообразить современный мир, на-
ши машины, наши моды такими, какими они будут казаться потомкам
нашим через четыреста-пятьсот лет...
В рассказе «Совершенство» учитель Иванов, глядя на своего бестолко-
вого ученика Давида, предвидит, что не раз будет сниться ему — через
тридцать, через сорок лет: человеческий сон злопамятен.
Он представляет, что почувствует Давид в 1970-м (они похожи на теле-
фонные номера, эти цифры еще далеких годов), если ему на глаза попадет-
ся картина, ныне висящая у него в спальне (щенок, грызущий теннисный
шар). Ссорясь с воспитанником, который не ценит счастья блуждания по
густым зарослям с черникой и пяденицами, Иванов вещает:
— Если когда-нибудь ты, не дай Бог, ослепнешь, или попадешь в тюрь-
му, или просто в страшной нищете будешь заниматься гнусной беспро-
светной работой, ты вспомнишь об этой нашей прогулке в обыкновен-
ном лесу как о сказочном блаженстве.
Другие дети, воспитанники незадачливого Смурова из «Соглядатая»,
стали свидетелями чудовищного унижения рассказчика, он боится, что
этот его образ останется в них «жить цепким паразитом».
В «Ударе крыла» всплывает мутный субъект, любящий присутство-
вать при самоубийствах (у него есть столь же мутный прототип в «Других
Набоков без Лолиты
берегах»): вот уж аллегория уходящего за семафоры будущего, восторже-
ствовавшего над прихлопнутым настоящим.
Федор в Груневальде «набрел на ямку (бережно вырытую перед
смертью), в которой лежал, удивительно изящно согнувшись, лапы к ла-
пам, труп молодой, тонкомордой собаки волчьих кровей»: труп молодой,
а почуяла, что грядет, бережно вырыла, чтобы предстать перед грядущим
наблюдателем в достойном честной собаки виде.
В «Даре» встречаются и улицы, купившие «место в будущем воспомина-
нии», и прелестный «укол упущенного случая», который чувствует Федор,
преодолевший в себе соблазн овладеть красивой, готовой к этому, но бес-
смысленной молодой ученицей (отмечено, что этот укол — «пошлее всего
на свете»; возможно, чтобы пошлого чувства не испытывать, реальный На-
боков соблазна иной раз и не преодолевал).
Есть там большой фрагмент про Пушкина, который в рамках розыгры-
ша, устроенного молодыми повесами своему другу, предку Федора, не
умер: как он выглядит, старый, в театральной ложе...
— Ни один поэт, кажется, так часто, то шутя, то суеверно, то вдохновен-
но-серьезно, не вглядывался в грядущее...
Стишок Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных», где поэт тщится
угадать дату своей смерти, встречается у Сирина несколько раз.
Вообще тема «чьего-то воспоминания» имеет суетливый извод тщесла-
вия сочинителя, которому колется знать, насколько бесконечно размотает-
ся его слава в анфиладе веков.
— Что мне внимание при жизни, — пыхтит про себя Федор, спешащий
на рандеву с несуществующей рецензией, — коли я не уверен в том, что до
последней, темнейшей своей зимы мир будет вспоминать обо мне?
Это в первой главе, там же мелькнет «предварительный проблеск его бу-
дущей славы» (это когда молодые люди твоих лет провожают тебя тем осо-
бенным взглядом, что ласточкой скользит по зеркальному сердцу поэта),
а в пятой виртуальный Кончеев отметится афоризмом:
— Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одно-
го: будущего,—который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени.
Таких степеней отзеркаливания поди, однако, достигни.
Граф Ит («Занятой человек»), представляя свой собственный газетный
некролог, с ужасом думает, что вокруг будет сиять равнодушная газетная
природа — лопухи фельетонов,хвощи хроники...
Иван Лужин пишет в синих школьных тетрадках — ив скобках сам оце-
нивает это как «прихоть, которую, быть может, оценит будущий биограф».
Биограф, правда, парадоксальным образом становится «по мере прибли-
жения к нему во времени все призрачнее, все отдаленнее». Лужину самому
приходится составить и послать в газету заметку о том, что он после долго-
го молчания работает над новой повестью.
Заметку разместили — надо полагать, в «Днях», где была соответствую-
щая рубрика (в «Руле» такой не было), — Лужин трижды перечел ее, выре-
зал, положил в бумажник...
265
Взгляд из будущего
О, как беспощаден наш автор даже и к симпатичным героям!
Сам-то он дожил до биографов. В толстом набоковском возрасте опа-
сался уже не забвения, а забвений-штрих-штрих, колебания волн общест-
венного интереса:
[91:144] — 3 допомогою диявола я вщкриваю газету за 2063 piK i в певшй стати
з огляду книговидань я знаходжу: «HixTO вже не читае Набокова та Фулмер-
форда». Незграбне запитання: хто такий цей недолашний Фулмерфорд?
Ради крашеного словца?
Сама реальность существует как будущее воспоминание о ней. Помните,
в «Машеньке» герои в разгар любви начинают думать о ней уже в прошед-
шем времени. То же происходит в «Адмиралтейской игле»:
— Нам с Катей тоже хотелось вспоминать, но так как вспоминать было
нечего, мы подделывали даль и свое счастливое настоящее отодвигали ту-
да. Мы превращали все видимое в памятники, посвященные нашему —
еще не бывшему — былому...
Мы помним и о результате погружения Ганина в чертоги Мнемозины:
воспоминание ярче и слаще реальности. Это и Федор Годунов неплохо
сформулировал:
синеет, синего синей,
почти не уступая в сини
воспоминанию о ней —
266
и не важно, что именно там синело.
Отпрянем чуть назад, к темнеющему на груневальдской скамейке Кон-
чееву, пока он не растворился в голубом воздухе. Попросим на бис:
— Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одно-
го: будущего,—который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени.
То есть и в будущем, получается, достойного читателя нет, и оттуда мо-
жет оценить только представитель автора, засланный через головы эпох?
Похожие мысли Набоков продвигал в предисловии к английскому пере-
воду «Отчаяния», утверждая, что любовь молодого писателя к гипотети-
ческому себе же старому — это самая похвальная форма честолюбия,
пусть юношеские потуги любящего и вызовут у маститого старика лишь
раздраженную гримасу.
Проще выражается один из героев «Соглядатая», ведущий подробный
дневник:
— И когда-нибудь, когда Роман Богданович будет очень стар, сядет Ро-
ман Богданович за стол и начнет перечитывать свою жизнь. Вот для кого
я пишу — для будущего старика с рождественской бородой.
Вообще, конечно, формула «для себя, для своих призраков и проекций»
удовлетворяет образу самодостаточного гения, что снисходительно цедит
сквозь зубы похвалу ампутированной войной и миром ноге.
Набоков без Лолиты
Может быть, Набоков впрямь считал себя самого и разнообразные
свои тени (одной из которых смогла во плоти стать Вера Евсеевна; ос-
тальные обитали в призрачных садах планет) единственной инстанцией,
способной оценить всю красоту набухающих рубиновых яиц. Даже ког-
да я думаю о своих читателях — как, дескать, воспримет именно этот
абзац уважаемый Зэт, деликатно ли я описал пантомиму с покойным
отцом, — я не абстрактно смотрю из личности другого, я в нее уже мыс-
ленно проник и, следовательно, воспринимаю эту личность как отчасти
себя, как Зэта с примесью стольких-то процентов автора всученного
ему текста.
Но всерьез и надолго задержаться на этом чересчур возвышенном вы-
ступе скалы над испещренном орлами ущельем — скучно. «Пишу для про-
екции» — поза, вызванная к жизни потребностью в адресате. Проекция —
тоже адресат, пусть привилегированный («моя»!), но по функции все же
обычный, со штемпелем во лбу, с индексом.
Когда Сирин хвастается своим гипервозвышенным образом жизни —
дескать, работая над романом, всякий раз захожу к легочному специалисту,
чтобы мелькнуть пред ним в виде тени неизвестно кого, решившего неиз-
вестно кого грохнуть, — тут он точно не к проекции адресуется, а еще
и к толпам будущих сочинителей, которые в этот момент должны раззу-
дить плечо, бздрыкнуть стулом об пол — «Чтоб я так жил!».
Вроде не предусмотрена рисовка в следующем, например, моменте из
«Ultima Thule», где герой сочиняет письмо покойной жене: «Если после
твоей смерти я и мир еще существуем, то лишь благодаря тому, что ты мир
и меня вспоминаешь», но рассказчик не скрывает, что говорит так «ради
крашеного словца».
Метафизика вкусна и полезна
Конструирование внеположенных инстанций, плавные перемещения по
шкале воплощенностей, взгляды из других эпох — способы создать или за-
фиксировать зазор между человеком и его тенью. Между разными поту-
сторонностями. Так вырабатывается вещество метафизики, питаясь кото-
рым (вот она, роскошь, лелеемая Магором), автор и герой чувствуют себя
если не равными богам, то безусловно причастными к Иному.
Приятно при этом, что метафизика взгляда из будущего конвертируема.
Переводится на язык земных осин.
а) Ее можно переплавить в мораль. В рассказе «Тяжелый дым» бедный
поэт-эмигрант из Вильмерсдорфа тяготится тесным сосуществованием
с сестрой, и особенно с отцом, мрачным, деспотичным, обсыпанным пеп-
лом и перхотью. И вот, глядя на такого, нелюбимого отца, герой озаряется
«будущим воспоминанием», схожим по градусу непоправимой остроты
с настоящими воспоминаниями об умершей и тоже нелепой матери, с ко-
торой можно ведь было как-то иначе... и, может быть, герой в отношениях
с отцом еще что-то поправит.
267
Взгляд из будущего
6) Понятая как ответственность перед прошлым, она облагораживает
науку:
— Выяснить и сохранить давнее туземное название перевала всегда
и научнее, и благороднее, чем нахлобучить на него имя доброго знакомо-
го... — нравоучил Годунов-Чердынцев-старший.
в) Отвечает на вопрос «как быть счастливым?». Переживать мгновение,
если оно выдалось прекрасным, так, словно ты о нем вспоминаешь: это да-
же арифметически делает тебя вдвое богаче, а речь ведь о геометрии с ал-
геброй.
г) Озаряет твою прозу радужными переливами умножающихся значе-
ний. В «Путеводителе по Берлину» есть на сей счет формулировка для
учебника литературы:
— Смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи
так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить
в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потом-
ки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по
себе прекрасной и праздничной.
д) Помогает обмануть саму историю. Мадемуазель О привезли слуховой
аппарат. Старушка быстро нацепила его и сделала вид, что все прекрасно
слышит, хотя аппарат еще не был включен. Дарителей, стоящих рядом, не
проведешь. Но кто-то смотрит издалека.
Может не различать, что старушка мухлюет. Предстает перед одурачен-
ным наблюдателем в качестве слышащего человека.
Что-то подобное, кажется, имеет в виду Сосед Утопленника, когда го-
268 ворит:
[161:319] — Его жизнь воплощала его веру в обратимость истории... Мировая
знаменитость, он продолжал жить как перемещенное лицо... Беглый ко-
роль, он никогда не покупал недвижимости. Завести другой дом значило бы
признать, что история необратима... и что отец уже никогда не вернется...
Впрочем, сколь абвгд ни прекрасны, для автора первичен сам выход в зо-
ну метафизики.
[97:584] — Побежит по бумаге та крылатая тень, ради которой только и стоит
писать, — это он уже в 1937 году, в зрелом возрасте сообщал Вере.
Этой тенью художник прошмыгнет на другие берега.
Потому что прошмыгивать основным своим телом, как тут уже отмеча-
лось, страшно.
Лирический герой стишка «В раю» пересек границу с билетом в один ко-
нец. И что же? Ему некому рассказать о новых прекрасных открытиях.
Потому что в раю нет будущего. Оно уже наступило.
Прогулки с Сириным
Сиринский фланер в своих блужданиях часто обращает внимание на недо-
строенный дом. Лаконичный образ, охотно заселяющийся роями смыслов.
Есть, кажется, исследование (я до него не добрался; некоторые углы следует
Набоков без Лолиты
оставлять нежилыми, чтобы не мешать сквознячкам), что стройка у наше-
го автора символизирует черновики книги.
В письме Вере 6 июля 1926-го В.В. описывает свой пеший путь из Груне- [93]
вальда и обращает внимание на строящийся на Гогенцоллерндамм особняк:
— Сквозь него, в кирпичные проймы, видна была листва, солнце омыва-
ло чистые, пахнущие сосной балки — и не знаю почему, но какая-то была
старинность, божественная и мирная старинность развалин, — в кирпич-
ных переходах этого дома, в неожиданной луже солнца в углу: дом, в кото-
рый жизнь еще не вселилась, был похож на дом, жизнь из которого уже
ушла.
Через три года, 28 июня 1929-го, строящийся дом примерно на том же
месте увидал, следуя в обратном направлении, Федор Годунов-Чердынцев.
— На вчерашнем пустырьке между домами строилась небольшая вилла,
и так как небо глядело в провалы будущих окон, и лопухи да солнце, по слу-
чаю медленности работ, успели устроиться внутри белых недоконченных
стен, они отдавали задумчивостью развалин, вроде слова «некогда», кото-
рое служит и будущему и былому.
В районе многое уцелело, вилла с некоторой степенью вероятности рас-
тет там и поныне. Ничто не мешает глянуть на каждый дом по обе стороны
улицы на гуманной протяженности участке, и я увижу эту виллу, пусть и не
поняв, что это она, а может быть, и пойму — благодаря какому-то совер-
шенно будничному знаку. Ну, человек сиганет с крыши по ходу моего
взгляда, но не насмерть — снимают фильм.
Агент, скользящий между будущим и былым, — это ведь, в частности,
про меня.
Я носитель того самого взгляда из будущего: причем нацеленного, куда
указывает В.В. Разгуливая по набоковским местам, кладя ладони на стволы
платанов, чей возраст предполагает, что и Вы, Владимир Владимирович,
могли класть на них ладони, я ищу контакта с энергиями, питавшими Вас.
Вот я иду, подобно Федору в третьей главе, мимо того травяного прямо-
угольника, что обозначается Вами как «запущенное футбольное поле» ([47],
на карте 1928 года оно помечено как «Sportplatz der Berliner Hochschul
Sportvereinigung»), а ныне служит местом для детских игр и взрослого зага-
ра (играть в футбол тут нельзя, ибо поле покрыто непонятного происхож-
дения буераками, словно в него угодила свежая бомба или тут пытались
создать, не преуспев, площадку для мини-гольфа). Федор видит, как попе-
рек пролета проносится автобус: остановка сразу за углом, и Федор не успе-
вает добежать.
Я свернул на Кудамм, вытащил из кармана открытку, чтобы сделать за-
метку, и, вытаскивая, выронил бумажку в пять евро.
Я затупил, сделал еще сколько-то шагов, потом удостоверил утрату,
обернулся и увидал, как что-то поднимает на ходу с асфальта джинсовая
девчушка. Поднимает — и оборачивается! — ловит мой взгляд, заливается
краской, отворачивается, следует дальше... все это очень быстро, в ритме
большого города.
269
Взгляд из будущего
Владимир Владимирович, признаюсь — только Вам, а уж Вы никому, —
в первое мгновение я думал даже строго окликнуть, вернуть законную
собственность, но вовремя устыдился. И, в рифму, в глаза бросился плакат
с ближайшей тумбы — на меня оборачивалась идущая по берлинской ули-
це модель с бесконечно длинными ногами в минимальной юбке и, кажется,
вовсе без трусов. Смысл ее взгляда был довольно простым: «Пялишься на
мою задницу,--------?»: он резко контрастировал с потупленным взором
новой владелицы моей банкноты, и фигуры их тоже рифмовались — жи-
вая девушка была кругленькая и очень небольшого роста.
Хорошая, мне кажется, сценка... за пять евро. Для меня одного. Особен-
но, если учесть, что, когда Федор дождался следующего автобуса, с изогну-
той его лестницы спустилась пара очаровательных шелковых ног.
Владимир Владимирович, на этом углу Вы наблюдали безногую нищен-
ку — она переехала к станции «Ноллендорфплатц», я вижу ее там уже не-
сколько лет. Почти горизонтально расположенная в скриплой конструк-
ции, в чем-то между инвалидной и младенческой колясками, она как будто
торгует газетами с названиями вроде «R.I.P.», благодарит жертвователей да-
лекой эфирной улыбкой. В рождественские праздники она нахлобучивает
мягкие оленьи рога или колпак Николауса, а 14 июля 2007-го, в день семиде-
сятилетия вашего признания Вере в супружеской измене, я отследил, как
она попросила прохожих передислоцировать коляску в другой угол вести-
бюля, к телефону-автомату, скормила ему монетку, проворно прошлась по
кнопкам набора: может быть, звонила Вам, Владимир Владимирович.
Пройтись по современному Берлину с Набоковым-стариком, показать
27О ему, что и как тут ловко перерисовалось, разузнать, какие на каких пере-
крестках пузеля сплетались при нем, — этого бы я не хотел. Слишком гро-
моздко, пафосно, как если бы несчастный петербуржский-----зама-
ливал грехи в Исаакиевском соборе, а из иконы вдруг шагнул в полтора
человеческих роста святой в пропотевшей хламиде и огрел грешника мо-
гучей отшельнической дубиной.
Но с призраком молодого Набокова, Сирина ли, Федора ли Константи-
новича я иной раз беседую, рассказывая ему из будущего о его прекрасном
городе.
Вот мы у старой филармонии [42]. Когда убивали Владимира Дмитрие-
вича, пейзаж был совсем иной. Сразу за зданием филармонии плескалась
вода — маленькая гавань [43] у Ландверкского канала. Сбоку гремела же-
лезная дорога: задние строения Потсдамского вокзала и рельсы, рельсы.
Сейчас на месте путей — длиннющий променад несколько супрематиче-
ской конфигурации, расчищенный для рифмы с новой архитектурой
Потсдаммерплатц, где торчат, например, высоченные дома, устроенные
так, что с некоторых сторон кажутся тонкими листами бумаги. Ему бы
понравилось.
Вместо гавани (она вся вытекла в название площади) — парк имени
комп. Мендельсона. Филармонию разбомбили, стоит лишь памятный знак
в виде ворот, украшенных кривыми рожками, шлем Зигфрида, что ли.
Набоков без Лолиты
Бомбы сюда сыпались щедро (место между двумя вокзалами), и двор
взрыт изрядно, полон ступенек, у стоящего по периметру дома разная
этажность, вход в парадные с разных уровней, настоящий ландшафт, как
в Рождествено или Швейцарии... Вам бы понравилось.
Половина двора — и вовсе огромная яма, а в ней деревянная будка —
пропилея к забранному невысоким металлическим заборчиком озеру. Озе-
ро плотно засажено длинной камышеобразной флорой. Информацион-
ный щит на будке объясняет, что объект является экспериментальным
экофильтром, перерабатывающим дождевую воду в питьевую для жителей
двора, заодно предохраняет от заболачивания местности и успешно слу-
жит рассадником эксклюзивных трав, служащих пристанищем для пре-
восходных безопасных инсектов. Это бы уж точно В.В. вдохновило.
Еще по двору и вокруг озера то снуют-насвистывают (руки в карманы),
то вдруг вырастают из-под земли личности афроарабского вида, торгую-
щие, по всему, продуктами переработки конопли. Словом, на месте исто-
рического убийства ныне цветет бодрый крылышкующий космос, и Фе-
дор, верно, одобрил бы многообразие его форм.
Филармония располагалась в здании, изначально предназначенном под
скейт-ринг. Скейты царили в начале XX века, большой крытый каток стоял,
скажем, на Марсовом поле в Петербурге, где сейчас вечный огонь и кладби-
ще жертв революции.
В «Даре» дважды возникает тема погребальной рекламы. В первой главе
мелькнет «черная инфернальная красота дубовых гробов среди пальм
в витрине», а в пятой описан макет крематория, выставленный «в виде
приманки» в окне похоронного бюро на углу Кайзераллее.
— Ряды стульчиков перед крохотной кафедрой, на них сидящие куколки
величиной с согнутый мизинец и впереди, немножко отдельно, можно бы-
ло различить вдовицу по квадратному сантиметру платочка, поднятого
к лицу.
На Кайзераллее половина углов разбомблена, да и похоронные бюро
столько не живут, но я там все-таки потолкался, пытаясь найти хоть кве-
лую погребальную рифму, — пусто, пришлось поехать к крематорию, и на-
до же, первым делом уткнулся в развеселый похоронный пиар.
Макеты захоронений с необычными дизайнерскими памятниками вроде
кальдеровских мобилей или, ей-богу, виселицы. Последнюю, думаю, только
сам будущий покойник имеет право себе заказать при жизни... чтобы та-
кое поставить родственнику, нужно какое-то чрезмерное остроумие. Зимой
табличка, разоблачающая рекламный характер могил, спряталась под сне-
гом, и виселица торчала из сугроба как настоящее погребение. Все вокруг
занесено и только бережно расчищена небольшая площадка — корм насы-
пать для птиц. А в двух шагах, на кладбище, настоящая могила — с легко-
мысленной фотографией танцующей женщины. Мне понравилось.
От крематория рукой подать до главного набоковского места, до Хох-
майстерплатц. Вот здесь, Владимир Владимирович, располагался воспетый
Вами трамвайный парк, видите, что здесь сейчас? Мило, правда? Меня тоже
271
Взгляд из будущего
порадовала эта исполненная собственного достоинства работа времени: на
месте трамвайного парка функционирует автобусный. Если свернуть к Ва-
шему дому, не переходя к кирхе, на первом здании слева — мемориальная
доска Роберта Штольца, композитора (1880-1975). Собирал марки (первые
получил в шестилетнем возрасте в подарок от Брамса), в Вене сочинял опе-
ретты, владел кабаре. На Хохмайстер дислоцировался в середине 1930-х,
мог встречать Вас, гуляющим с Дмитрием... наверняка то есть сталкива-
лись, это по дороге в сквер, в ста шагах от Вас. Имел ли он основания ду-
мать, что из Вашего мальчугана вырастет оперный певец... ведь и Вы, на-
верное, не знали, что решительный господин в котелке с толстыми
подпрыгивающими усами — серийный агент, регулярно вывозит в тайни-
ке своего лимузина в Австрию преследуемых Гитлером граждан; вот прямо
в эти дни, когда Вы с сынишкой проходите мимо его окон. Во Франции поз-
же улизнул из лагеря, девушка помогла, они потом с ней прожили сорок
лет. В начале 1970-х сочинил «Филателистический вальс». Хороший сосед.
На Вашем доме тоже мемориальная доска — Ваша (одна из двух в Бер-
лине, вторая за углом, по Вестфалишештрассе, 29). Совсем скромная, не
доска, табличка. Давно потемнела, сливается со стеной, не всякий фланер
заметит. Русских фамилий на кнопках у парадной нынче нет. Прямо у две-
ри локальная кнайпе по имени «Всемирный фонарь», местные пенсионеры
кучкуются здесь в выходные и по вечерам. В 2008-м, в 2009-м у таблички
хостился — похоже, что безотвязно — антикварный желтый мотороллер
несколько отвлеченного вида, потом исчез.
Вы писали где-то, что маленький Дмитрий приветствовал обилие гара-
272 жей и автомастерских подле Вашего жилища (вырос, сам собрал коллек-
цию гоночных авто). Эти радости на месте, на углу магазин гигиенических
жидкостей для четырехколесных друзей (с торца, где в Ваши годы был па-
радный вход в дом), дальше по Несторштрассе салон, копят лошадиные
силы черные поджарые машины с именами больших пятнистых кошек.
Где улица в конце чуть ломается, направо шиномонтаж. На левом конце
улицы, до излома, притаился тот самый сантехнический супермаркет [45],
с цитатой из «Дара».
Вернулись на площадь — по левую руку, увы, невосполнимая потеря.
Воспетого в «Даре» туалетного домика, похожего на пряничную избушку
бабы Яги, примерно с начала III тысячелетия не существует ([46], там те-
перь скучный сити-туалет, часто поломанный). Но на месте сквер [47], для
новых детей устроена поляна с современными лазательными и прыгатель-
ными снарядами, рядом баскетбольный загончик, ну а дальше то стран-
ным образом перебуторенное футбольное поле, мимо которого спешил на
автобус Федор Константинович.
Мы бредем теперь тут с Машей Шеншиной, цветут и линяют душные
липы, тротуар полон их сора, который Вы как-то назвали «протертым на-
возцем» — имея в виду, я думаю, запах, впрямь напоминающий... думаю
сказать об этом Машеньке, но осекаюсь, неудобно сразу уж так о запахе
навозца.
Набоков без Лолиты
Я завожу ее в большой пустой двор [48], говорю: смотри: вот сюда тя-
нулся скейт-ринг, вход был с Кудамм, но сам ринг тянулся досюда. Теперь
тут гуртятся мусорные баки, спуск в подземный паркинг. Невыразитель-
ный двор, если ограничиваться текущими берегами. Но здесь, где мы сто-
им сейчас, где Маша прикуривает длинную сигарету (она многовато, на
мой вкус, курит), или в двадцати шагах в сторону Володя Набоков в конце
1910-го впервые испытал эрекцию. Девушки, знаешь, катались на коньках
в коротких юбках, «группа молодых американок», и одна его особенно за- [19:105]
ворожила. Вот здесь (мы с Машенькой уже вышли со двора и свернули на
Кудамм) был вход в скейт, а теперь вход в бразильское кафе [49]. Трижды
в неделю прыгают танцовщицы в желтых лифчиках и зеленых трусах, та-
кие бразильские, что, будь В.В. жив, он, несмотря на свой стадесятилетний
возраст, вновь испытал бы эрекцию.
— Последнюю, — хмыкнет в кулачок Машенька.
Но мне неловко рассказывать ей про эрекцию, она хихикает про себя над
осовелым писателем с Сенной площади, зачем он смущает актриску с самой
Моховой, да и нет тут никакой Машеньки... она хочет весной поехать сюда
с подругой (так она сказала), и необходимо все заранее расследовать, чтобы
случайно встретить ее у Цоо или на Липовом, но пока ее тут нет.
Но скейт-ринги: надо же, как аукнулись. В городе одно за другим возво-
дились помещения для катания на катках, чтобы стать потом аренами для
моих путеводительствований. Под Ледовый дворец строилось здание,
превратившееся позже в варьете «Scala» ([22], стояло на Лютерштрассе
у жилья Сирина, в пятидесяти шагах от уже затоптанного нами угла
с проститутками). Сын одного из крупных пайщиков дворца увидал на его
открытии в год эрекции Набокова «шлюху в белом, плотно облегающем [15]
матросском костюме», которая «на долгие годы определила» его «эротиче-
ские фантазии». Сын этот позже сочинит и фланерские записки о Берлине,
и книгу о Москве, которую посетит в середине 1920-х, и любовь к русской
женщине переживет, хорошо, что он нам встретился («Младым бараном
выпет первый слог...» — так можно начать шараду его фамилии).
Понравился Владимиру Владимировичу пузель, который я так ловко сло-
жил из катков, смертей и эрекций? То есть сложила-то его натура, а я лишь как
следует всмотрелся в гобелен. Сирин может поморщиться тем — грубым, на-
верное, — смыслам, что я развешиваю по ветвям истории, но Федор Констан-
тинович, он ведь правильно поступает, сутулый писатель, слегка небритый
и никогда не расчесанный, докативший от самого Петербурга колесо упрямого
взгляда? Вы просили взглядов из будущего, они у нас есть, какие уж выросли.
Взгляды из будущего пробуждают спящие узоры, расколдовывают ал-
люзии. .. Нет-нет, писатель зарывает в текст секретик вовсе не для того,
чтобы его шумно выкорчевал, помяв, как дворник бабочку, шустрый кри-
тик в пестрых очках... Главное бытие секретика — в своей среде, в тайных,
не предназначенных ушам профанов ауканиях с себе подобными. Но иног-
да приятно, сознайтесь, если какую-то хорошо запрятанную штуковину
все же вытаскивают на Божий свет. Отряхнули, включили — работает!
273
Взгляд из будущего
Еще чуть-чуть «полемики со Шкловским»
Тр-тр-ра-рами, обнаруженными Шрамом-68 в «Путеводителе по Берли-
ну», победы над этим текстом не ограничились. Старший Комментатор,
[45:724] раскручивая тему полемики с формалистами, заметил в рассказе не только
идеи Шкловского, но и самого Шкловского. Черепаха в аквариуме жует
мокрые овощи, и виден ее язык, «чем-то напоминающий язык гугнивого
кретина, которого вяло рвет безобразной речью...».
Это характеристика стиля Шкловского, писавшего короткими, часто из
одной фразы, абзацами.
Еще он в «ZOO» надругался над образом гиены, заявил, что у нее задние
ноги поставлены близко к тазу, в то время как ничто не может быть постав-
лено ни далеко, ни близко к тому, из чего непосредственно исходит. Сирин
вспомнил об этом моменте в пятой главе «Дара», когда писатель Ширин
смотрит в зоопарке на клетку как раз с гиеной и едва понимает, по косми-
ческой невнимательности, что в этом саду содержатся звери.
Берлинская колония любила пихнуть Шкловского. В «Днях» его высме-
яли Бахрах и Лурье совместно, в «Новой русской книге» — Роман Гуль
[пб: 147] и Ю. Офросимов раздельно, в «Руле» над ним издевался А. Яблоновский,
25 марта 1923-го снова хихикал Офросимов над его книжкой статей о ки-
но, 24 июня того же года В. Кадашев выражал неудовольствие уровнем
работы Шкловского о Чаплине, 14 августа Каменецкий называл автора
«ZOO» психически несовершеннолетним вечным абитуриентом. Причем
Яблоновский и Офросимов начинали свои заметки с одного и того же
274 пункта: де, Шкловский полагает, что литературное наследование проис-
ходит не от отца к сыну, а от дяди к племяннику, ха-ха-ха, а кто же у
Шкловского дядя.
[45:726] Наконец, строгий Ходасевич сравнивал Шкловского с Писаревым: де,
и тот и другой — экстремисты, ибо отрывают форму от содержания
(Ш. выпячивает первую, П. — второе), а ведь всякий, сочинивший хоть
один стишок, должен вроде бы понимать, что такой оппозиции не сущест-
вует, произведение рождается сверкающим монолитом. При этом Ходасе-
вич оговаривался, что по-человечески Писарев много симпатичнее.
Заклевали болыпевизантствующего (он скоро отбыл в Москву) фор-
малиста.
В утешение ему замечу, что хотя бы в короткой заочной «дискуссии»
Шкловского с Набоковым относительно внешнего вида станции U-бана
«Виттенбергплатц» хочется принять сторону Виктора Борисовича. У не-
го станция похожа на большую кротовую нору: сравнение, в котором,
мне кажется, уловлена некая темная мутность, присущая этому шедевру
городской архитектуры. Несмотря на величие замысла, на шары в вести-
бюле и великолепные старые рекламы, украшающие стены, снаружи
она напоминает гауптвахту, а изнутри — общественный предбанник
(не знаю, все ли сто лет ее существования пассажиров встречает этот
тусклый желтый кафель). Кроме того, в науке топологии обнаружилось
Набоков без Лолиты
понятие «кротовая нора», это туннели в пространстве, позволяющие
при определенных условиях мгновенно телепортироваться из точки Бэ
в точку Цэ.
В «Даре» же дрожат на ветру розы вокруг античной лестницы, ведущей
на эту станцию; прекрасно, розы с тех пор так и дрожат на ветру, но там нет
античной лестницы (снаружи вообще никакой, внутри пять скромных
ступенек), и — смотрю я старые фото — раньше лестницы не было. Хотя,
может, это значимая неточность, сигнал агенту, наблюдающему из 2063 го-
да, когда, как знать, лестницу на Виттенбергплатц какую-нибудь да заведут.
Описано у Шкловского и варьете «Scala» — гимнасты, балалаечники, ве-
лосипеды. Человек, который зубами поднимал стулья, Шкловскому не по-
нравился, ибо у самого у него зубы были плохие. Зато получилось сделать
оптимистическое обобщение:
— Самое живое в современном искусстве — это сборник статей и театр-
варьете, исходящий из интересности отдельных моментов, а не из момента
соединения...
Представление варьете посещают и герои «КДВ». Возможно, тоже
«Scala» (хотя варьете было море): все же рядом с домом автора (когда сочи-
нялся роман, жили уже не в том же дворе, но в километре), да и Вера Евсе-
евна оставила свидетельство, что в «Scala» Набоковы хаживали.
Господин в цилиндре набекрень жонглирует серебристыми бутылками;
белая, словно запудренная лошадь нежно переставляет ноги в такт музыке;
семья велосипедистов расширяет представления о свойствах колеса. Си-
рин никаких обобщений не делает. Использует тьму тесной ложи, где спра-
ва прижимается шелковым коленом к затекшей ноге Франца Марта, а сле-
ва опирается на его плечо и щекочет ему ухо программкой Драйер, для
уточнения координат любовного треугольника.
И в том «полемика», что у Шкловского тут же выскочила теория, а Си-
рин изображает жизнь... но и в том еще она, что вывески с названием за-
ведения мы в «КДВ» не увидели.
275
Явки, улики
Вывески, афишные тумбы, логотипы, витрины, плакаты, золотые и медные
блюда над парикмахерскими, фрески устарелых реклам на слепых сте-
нах — почти в каждом сиринском сочинении. То чей-то шоколад окликнет
с пятисаженного объявления («Пассажир»), то герой полюбуется брильян-
товой рекламой, проедающей темноту («Звонок»). В «Драконе» реклама
в центре фабулы: табачный магнат (автор лютого креатива «Кто не курит
276 моих папирос — дурак») обклеивает несчастную рептилию плакатами.
Стишки «Чисти зубы нашей пастой, улыбаться будешь часто» выучил
Франц. Лужин, увлекшийся рисованием, копирует закат из рекламного
проспекта Ривьеры. Дарвин, друг Мартына, в траншеях Первой мировой
издавал газету, где помещал красоты ради случайные клише, рекламы
дамских корсетов, найденные в разгромленных типографиях. Самого Мар-
тына восхищает до слез автомобильная реклама, ярко алеющая в диком
ущелье, на совершенно недоступном месте альпийской скалы. Магда ви-
дится Кречмару восхитительной заставкой, возглавляющей всю его жизнь.
Три загоревших до разных стадий тела на озере — белое, розовое, коричне-
вое — кажутся Федору Константиновичу тройным образцом действия
солнца, будто это не озеро, а буклет.
Реклама, как и писатель, имеет дело с буквами. Огненные буквы ярче, ве-
селее звезд высыпают одна за другой над черной крышей, семенят гуськом
и разом пропадают во тьме («Машенька»). Аэроплан величиной с комари-
ка выпускает молочно-белые буквы во сто крат больше него самого, повто-
ряя в божественных размерах росчерк фирмы («Подвиг»). В рекламной
фильме находят свое место смешанные буквы, причем одна из них напо-
следок как-то еще переворачивается, поспешно став на ноги («Дар»).
В «КДВ» со щедростью лучших живописцев выведена витрина, в ко-
торой жарко цвели галстуки, то красками переговариваясь с плоскими
Набоков без Лолиты
шелковыми носками, то млея на сизых и кремовых прямоугольниках сло-
женных рубашек, то лениво свешиваясь с золотых суков, — а в глубине, как
бог этого сада, стояла во весь рост опаловая пижама с восковым лицом.
Но почти никогда за опаловой пижамой мы не заметим улыбки произ-
водителя.
Что за фирма снарядила авиатора выдувать в облаках молочные буквы,
Сирин не выдаст.
В считанных случаях прототип продвигаемого товара вычисляется. «Вот
есть такая реклама шин — человек, состоящий из шин...» («Месть»). Та же
история с автомобильной фирмой на «Да...».
В иных случаях товар или фирма окрещены — магазин Драйера называ-
ется «Дэнди», перевозчичья фирма в начале «Дара» — «Макс Люкс». Но это
придуманные имена.
Ресторан «Pit Goroi» из «Машеньки» и «Подвига» может намекать алли-
терацией на «Тагу Вагу» (располагались в сиринские времена на Нюрнберг-
штрассе), а может и не намекать.
Очень редко агент теряет бдительность и выдает истинное название
бренда. Шоколад «Блинкен и Робинсон», папиросы «Роза Востока» до буду-
щего не дожили. Дожило пиво «Львиная брага», пенящееся в «Путеводите-
ле по Берлину»... кажется, это единственная реальная, ныне действующая
и открыто названная торговая марка во всем наследии Сирина. Нет, еще
есть кубики «магги», недоглядел. Если законодатели будут и дальше с на-
бранной скоростью катить под гору свои навозные шары, будущим издате-
лям Набокова придется или получать с кубиков деньги за плейсмент-про- 277
дакшн, или вычеркивать их из рассказа.
В сравнении с другими агентами Сирин — образец конспирологической
аккуратности.
Андрей Белый на одной Виктория-Луизаплатц насчитывал 13 пивных, [155=290]
«прославляющих вывеску фирмы» — «Patzendorf», «Schultheis», «Berliner
Kindi», «и все это в бурой тоскливой дымке». Годунов-Чердынцев в табач-
ной лавке ищет анонимные папиросы с русским окончанием, а Эренбург
в схожей ситуации не только называет марку, но и указывает стоимость
товара. Альфред Деблин в «Берлин, Александрплатц» (1929) сыплет
собственными именами — селедки «Бисмарк», кофе «Сантос» и «Меланж»,
прачечные «Адлер» и «Аполлон». Есть у него и львиная брага.
При том ни Белый, ни Деблин (чей роман начинается с того, что герой
выходит из Тегельской тюрьмы и долго не решается сесть в трамвай), ни
даже Эренбург не были петрушками, нанятыми для прославления соответ-
ствующих фирм. Они следовали «духу времени»: модно было заклеивать
прозу этикетками, как чемодан стикерами отелей. Чтобы она была отчет-
ливо сОвРеМеНнОй, подчеркнуто сегодняшней, давилась «фактом», кри-
чала: вот я, написана в таком-то году по такому-то адресу.
Герой прозы профессора-таксиста А. Карено (его записки публикова-
лись в «Руле») «в Старом Музее долго стоял в египетском отделе перед [155=296]
Явки, улики
головой Нефертити. У царицы необычайно дивные черты лица». Франц
в том же самом «музее древностей провел два часа, с ужасом разглядывая
пестрые саркофаги и портреты носастых египетских младенцев».
Разница не в том, что одному дивно, а другому жутко. У конспиратора
Сирина младенцы анонимные.
Он не слишком пускает в прозу историю. Действие «Машеньки» происхо-
дит в апреле 1924 года. 1 апреля огласили приговор Гитлеру, ему дали 5 лет
условно, по стране прокатываются протесты против мягкости приговора.
Продолжаются экономические волнения, с трудом удалось «избегнуть»
(так выразились в «Накануне» 8 апреля) крупной железнодорожной забас-
товки, иначе попали бы под сомнение сцены с поездами на последних стра-
ницах романа. На две недели закрыли коммунистическую газету «Роте
Фане». 10-го числа объявлено, что в конце мая прибудет Анна Павлова.
В Лондоне молодому Набокову довелось как-то танцевать с ней фокстрот.
Из обитателей пансиона фрау Дорн ее приезд мог бы заинтересовать по-
стояльцев из шестого номера... Но никаких следов газетного контекста мы
в романе не обнаружим.
Только ли потому, что герои — русские?
В следующем романе, «КДВ», в героях аборигены, но ветра эпохи и туда
особо не задувают. Сказано мельком, что некогда Драйер разбогател на
воздушных шарах инфляции, но на дворе 1928-й, совсем иное время, не
только инфляция подзабылась, но и золотая пятилетка немецкой экономи-
ки завершается, нависает тень нового кризиса. «Три товарища» Ремарка
278 (действие: март 1928-го — март 1929-го) — роман о банкротствах, массо-
вых самоубийствах, аукционах имущества бедняков... Государство в это
время раскидывает густую сеть женских школ домоводства, в Берлине про-
ходит выставка «Питание», научающая граждан экономно и рационально
использовать продукты... Этими насущностями в «КДВ» и не пахнет; как
и в «Защите Лужина», берлинские сцены которой с «Тремя товарищами»
тоже совпадают во времени. Пьянчужки, выручающие на улице Лужина,
не слишком похожи на людей, которые завтра застрелятся.
Новинки эпохи присутствуют в прозе Сирина, но не маркируются как
новинки. Сцены с радио и светофорами выдержаны в такой интонации,
будто светофоры мигают на свете тысячи лет, чуть меньше, чем звучит ра-
дио, хотя на деле эти блага цивилизации только-только получили массовое
распространение. Первый светофор, с горизонтальными, по образу и по-
добию своего конструктора, глазами, вырос в Берлине в 1925-м на Потс-
даммерплатц, где и сейчас представлен в статусе памятника. Число пользо-
вателей радио с 1924-го по начало 1926-го увеличилось с полутора тысяч
человек до миллиона с горкой, еще за год до начала бума само слово «ра-
дио» не устоялось, новое явление именовали «радиофоном».
[34:255] С 15 августа 1926-го восторжествовал прямой набор телефонного но-
мера: то есть Александр Яковлевич еще правомерно звал Федора полако-
миться рецензией через телефонистку, а вот когда Александра Яковлевна
Набоков без Лолиты
пристраивает Федора на новую квартиру и говорит барышне буквы и циф-
ры, мы можем заподозрить автора в анахронизме — на дворе 1928-й. Не
стал он, то есть, обыгрывать новинку.
Разве что описание рентгеноскопа в первой главе «Дара», аппарата из
обувного магазина, в который следовало совать ногу с ботинком, чтобы ви-
деть на экране, плавно ли косточки примыкают к изделию, кажется прома-
хом. Здесь время выдано с головой, такая техника стояла в обувных очень
ограниченный период... но могли ведь ногоскопы не вымирать, сохра-
ниться до наших дней, тогда эта улика не работала бы.
У Сирина есть рассказы — «Сказка», или «Катастрофа», или «Драка», —
которые могли быть написаны сегодня слово в слово.
Трамвай, кофе с яблочным тортом, фунт стерлингов, мундштук с папи-
росой, увеселительный парк, свет кинематографа, обливающий тротуар...
Это я перебираю вещный мир «Сказки». Ничего такого, чего не существо-
вало бы нынче.
Мужчина кричит «Да! Да! Да!» не в мобильный телефон, а в стацио-
нарный, в ресторане? — что же, и сегодня полно телефонов-автоматов
(в Берлине людей, прибегающих к их услугам, доводится видеть чаще,
чем в Петербурге).
Упомянут неясный «шалаш уборной на углу»? Ко всякому сирому стро-
ению применим «шалаш», к тому же в Берлине культивируются уличные
туалеты, стилизованные под старину.
Не слишком распространены сегодня гонки на велосипедах без колес,
когда победитель определяется по выражению циферблата? Сама по себе
такая конструкция как раз хорошо известна юзерам тренажеров, а уж то,
что в каком-то парке есть аттракцион, лично читателем не виданный, сей-
час никого не удивит.
При взгляде из будущего не совсем понятно, на что опираться, чтобы
датировать невероятное приключение Эрвина.
Сирин выгребает планктон: предметы обыденные, долгоиграющие, не
замкнутые в узком пенале современности. Гротеск — велосипед в катафалке,
Вагнер в мотоциклетке, безногая, торгующая шнурками, слепец, продающий
спички, — состоит из элементарных частиц окружающей действительности.
На этих прихотливых сочетаниях обыкновенных элементов стоит си-
рийская подпись.
Соответственно, игнорируется гротеск, где красуется размашистая под-
пись эпохи. Берлинские актуальные дэнди разгуливали по Тауэнциентштрас-
се с лисами и поросятами на поводке: будучи законченным произведением
искусства, их перформансы попадали в газеты (Дни. 1923.1 августа), но не
в сиринскую прозу.
Велосипеды в реальном сиринском Берлине подвергались и другим —
помимо лишения колес и погружения в катафалк — изощренным испыта-
ниям. Существовали, скажем, «шестидневные гонки». 144 часа отводилось
спортсмену, чтобы он проехал по замкнутому кольцу «Спортпаласта»
больше километров, чем друзья-соперники. Когда уставал, заныривал
279
Явки, улики
в палатку, установленную в середине арены. Там не слишком уютно: на
трибунах колобродят болельщики, рядом, во внутреннем круге гонки, звя-
[34:285] кают вилками рестораны, дрыгоножат канканы, «проститутки высокого
класса на глазах у тысяч зрителей ищут себе клиентов», наяривает оркестр.
Нужно столько миллионов раз провернуть педали, чтобы отрубиться на
несколько часов, не отметив даже краешком уха, из Моцарта шпарят или
современное. На иной вкус, это и есть образ ада, более реалистичный, чем
черти со спичками. Во всяком случае, представление ярчайшее, для писате-
ля, казалось бы, лакомое.
А знаете про «публичное голодание»? Человек в прозрачной клетке все-
народно не жрет неделями. Не требует ни вывода снусмумриков из Зоор-
ландии, ни регистрации запрещенной партии. Просто не жрет под секун-
домер. В 1926 году в Берлине было установлено подряд два мировых
рекорда в этом мужественном виде спорта: в марте «мастер голодания»
Джолли фиксирует 44 дня жизни без пищи, в апреле его превосходит груп-
па «Гарри и Фастелло» — 45 дней.
Еще потеха, «индустриальные эстафеты». В команде толпа народу, пер-
вый этап верхом, второй за рулем, третий с веслами, потом просто вплавь,
потом бегом. В «КДВ» Франц видит с моста у Музейного острова двух жен-
щин «в блестящих купальных шлемах, которые, сосредоточенно отфырки-
ваясь и равномерно разводя руками, плыли рядом, по самой середине вод-
ной полосы». Плавать средь бела дня по рабочему каналу нужды, кажется,
особой нет, там снуют грузовые баржи... может быть, Франц застал фраг-
мент индустриальной эстафеты?
280 Идея сомнительная (наверное, по случаю соревнования на мосту дисло-
цировался бы не только Франц, но и куча болельщиков), однако если бы ин-
дустриальная эстафета, событие исключительное, выпуклое и знаковое, по-
пала в сиринскую прозу, то именно так — деталью в дымке и без этикетки.
Безусловные улики, выдающие время и место с головой, не нужны.
Исследователь, вдоль и поперек изучивший реалии 1926 года в Берлине,
Нью-Йорке и Париже, назначает символом эпохи бриллиантин, каучуковый
крем, от которого волосы кажутся гладкими и блестящими. Они там, в 1926-м,
вообще будто бы любили, чтобы все у человека блестело. Женщины втирают
в кожу масло грецкого ореха, трусы и халаты боксеров сверкают и пере-
ливаются, «внешнюю привлекательность пловцов, переплывающих Ла-
Манш, оттеняет блеск жира, которым они натирают тело»... Что там еще?
— Молодые интеллектуалы, такие, как Бертольд Брехт, в одежде отдают
[34:89] предпочтение узким черным кожаным курткам.
Вот-вот. У Сирина бриллиантин один раз упоминается (Ганин работал
спекулянтом, интересовался и этим товаром), но люди совершенно не
блестят. Асфальт под дождем блестит через рассказ, а трусы и халаты не
сверкают. Марта, глупая кукла, внимательная к моде, могла бы переливать-
ся: дудки. Тюлень, смазанный салом, однажды встречается, это правда.
Блестящие шапочки двух таинственных пловчих — может быть, это дань
бриллиантиновому духу времени? Скромная дань.
Набоков без Лолиты
Бокс был в моде, о боксе писали Борхес, Хуан Миро, Кокто, Хемингуэй, Газ-
данов. Физик Эддингтон в книжке «Внутреннее устройство звезд» объяснял
астрономические загвоздки через боксовую метафору. У Набокова, который
сам хуки знавал не понаслышке и посвятил однажды этому виду спорта га-
зетный репортаж, в прозе бокса нет: ни состязаний, ни героев-боксеров.
Наиболее выразительным образом у него нет фашизма.
Он писал в Берлине до 1937-го, Гитлер стал канцлером в начале 1933-го.
Действие сиринских романов не заглядывает далее 1932-го («Отчаяние»,
да и то, если там изображен текущий год). Позже сочинены «Приглашение
на казнь» (условное государство в условную эпоху) и «Дар» (действие про-
исходит в 1926-1929-м). В «Дар» ретроспективно опрокидывается дух во-
нючего коллективизма, есть два «антитоталитарных» рассказа, «Облако-
озеро» и «Королек», но свастика ни единая не пролезла.
Это озадачивает кинематографистов, вынужденных помнить о «духе
эпохи». В англо-французской «Защите Лужина» шахматиста, которого, по
(дурковатой, прямо скажем) версии режиссера, демон Валентинов завез
и выкинул среди донельзя условных холмов, выручают штурмовики на мо-
тоциклах. Брат Магды вступает в СА в синопсисе (фильм не состоялся)
«Камеры обскуры» А.О. Балабанова. У него в первой же фразе указано, что [в:278]
действие происходит на фоне зарождающегося фашизма. Ничего такого
у Сирина нет. В этом же смысле я говорил где-то выше об уникальности
мелькнувшего в «Даре» лозунга «За Серб и Молт» — уникален не сам при-
зыв, а маркированный текст с плаката как таковой.
В рассказе «Оповещение» (март 1934 года) все персонажи — евреи.
О том, что на улице Гитлер, читатель не догадается. Евреи демонстративно
заняты общими вопросами жизни и смерти и частной проблемой слухово-
го аппарата. Интереса к промежуточной ступени, цайт гейсту, не выдают.
Могло быть написано при Ангеле Меркель.
Следует ли считать игнорирование самого горячего содержания эпохи
проявлением осторожности, отказом дразнить гусей, с которыми, как
знать, еще куковать и крестить?
Или это широко закрытые глаза, нежелание признавать уже свершив-
шееся под соусом надежды на какой-нибудь глобальный авось?
Репетиции еврейских погромов прошли в Берлине аж в ноябре 1923-го:
что же, тогда впрямь можно было с чистой совестью надеяться, что как-ни-
будь да пронесет. Через десять лет товар был очень даже лицом. Арийских
граждан не пускали в еврейские магазины, а самих евреев не пускали, на-
пример, в библиотеки. Когда Набоков корпел в книгохранилище на Унтер-
ден-Линден ([54], где-то он хорошо назвал библиотеку «цитаделью иллю-
зий») над биографией Чернышевского, Вере туда пути уже не было.
15 сентября 1935-го приняли закон о гражданстве и расе, согласно кото-
рому еврей не мог вступить в брак с арийцем. В конце года к закону вышло
пояснение, лишавшее евреев гражданских прав и возможности занимать
государственные должности.
281
Явки, улики
К ноябрю 1938-го («хрустальная ночь») евреям уже крепко было запре-
щено посещать рестораны, в кинотеатры доступ им был открыт только
в определенное время, нельзя было водить машину, работать адвокатами
и врачами, у них реквизировали и умерщвляли собак и канареек... при
этом 90 процентов сынов и дочерей Израилевых оставалось в Берлине.
Инерция повседневности — страшная сила. Казалось бы, вот он, джа-
гернаут истории, катит в окно, но ведь это надо встать, собраться... проще
заболтать историю... например, прозой, в которой ее, истории, нет.
Инерция, наверное, объясняет, почему люди не бежали без задних ног
из хронотопа, который при взгляде из будущего вызывает космический
ужас. Но отсутствие этого хронотопа в сиринской прозе вызвано и более
специфическими художественными соображениями. Сирин был един-
ственным автором того Берлина, что мы знаем по его прозе. Гитлера и его
Шпееров он в соавторах видеть не желал.
[67:424] Эпоха настаивала. Первым словом Дмитрия Набокова, если верить
письму его отца к Ходасевичу, было «Хайль».
[77:86] — Невозможно сделать снимок в центре Берлина так, чтобы в кадр не
попали многочисленные красные знамена со свастикой, орлы, различные
аббревиатуры и форменные мундиры, — замечает исследователь.
Потому и не делал Сирин снимков в гитлеровском Берлине.
[58:43] Один из мемуаристов 27 марта 1933-го видел в магазине игрушек мячик
с изображением свастики.
У Сирина много мячиков. Только в пьесе «Событие» (1937) их по сцене
катается пять штук. Мячиков, таинственно созданных драматургом Сири-
282 ным.
Свастика на мячике — это подпись эпохи. Она кичится авторством,
посягает на прерогативы Творца. Меж тем известно, что, хотя дорогу ре-
монтирует рабочий, а дом строит каменщик, они следуют потусторонне-
му плану.
Детский мячик создал не Гитлер, а Бог. Дома растут не в каком-то там по
счету рейхе, а прямо в космосе. Или декоратор, беспристанно чихая, их рас-
ставляет по сцене впопыхах, опаздывая к началу представления.
— Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже
пришел и стал где ему приказано — у высокой кирпичной стены, — цели-
ком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой,
мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонь-
кие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая
тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене.
Тополек, крест, бочки откуда-то доставлены, из соседнего спектакля. Си-
рин — маленькое министерство по спасению вещей от штемпеля эпохи.
Его интересует их азбучный, элементарный смысл. Запечатлевать интерес-
но предмет, а не текст на нем (еще одна норка в тему «Сирин против фото»,
которая в путеводителе, впрочем, раскрыта не будет).
Очень много всего в Берлине, что появилось до Гитлера и будет после
Гитлера. Деревья, почва, колонии микроорганизмов... звери в Цоо, кстати.
Набоков без Лолиты
Древние черепахи в Аквариуме, перед взором которых человек может
пройти маленьким ребенком, а через сколько-то десятилетий предстать
с собственным внуком. Черепаха едва успела перемигнуть.
При этом в описании самих вещей, вне навязанного им духа эпохи, На-
боков может быть точен. Зима 1928/29-го была жуткой, с минусом в трид-
цать пять... как сказано в «Лужине», даже полярные медведи в зоопарке
находили, что дирекция переборщила. Летом 1917-го под Петербургом го-
рели торфяники: они и горят в «Машеньке».
В «Путеводителе по Берлину» сообщено, что почтовый ящик «кобальто-
вый» — такого цвета он и был.
Подземную дорогу манифестирует «белая буква на синем стекле» — та-
кая и была там, и сейчас есть.
Но это, мне кажется, вовсе не преклонение перед идолами Точности,
а просто экономия выразительных средств. Чего фантазировать лишнего,
если можно не фантазировать.
— Уже вечерело, и очаровательным мандариновым светом налились
в сумерках стеклянные ярусы огромного универсального магазина, — бла-
женствует автор.
А опытный читатель прикидывает: так, ярусы явно перенесены в цитату
из универмага «KaDeWe», значит, написано, скорее всего, между 1926-м
и 1929-м, когда автор жил за углом. Так и есть — «Звонок». И роман, написан-
ный за этим углом, бесхитростно назван — чтобы далеко не ходить — «КДВ».
Все путешествия Набокова добросовестно делились декорациями с ро-
манами, герои которых отлучаются из Берлина в Швейцарию, Францию
и Прагу примерно в пропорции отлучек своего автора. Мартын весной 283
19-го уплывает из Крыма, несколько дней болтается в Афинах, вскоре посту-
пает в Кембридж: все по стопам Набокова. Действие второй части «Дара» про-
исходит в конце 30-х в Париже, куда Годунов-Чердынцев и Зина «недавно [41:217]
приехали из Германии» — тоже в соответствии с обстоятельствами сочините-
ля. И т.д.,и т.п.: наш герой не был склонен искать обстоятельств на стороне.
Но и не был склонен как-то особенно их маркировать.
У Эрики, мгновенной героини «КДВ», в прихожей висит картина, состря-
панная из почтовых марок. А в Музее коммуникаций висит портрет канц-
лера Вильгельма, скончавшегося в 1888 году. Его исполнил неизвестный
берлинский Briefmarkenfreund («друг почтовых марок») из почтовых, соот-
ветственно, марок. Потратил 5000 штук с датами гашения 1863-1899 годов.
Может быть, как раз заложил эту милую традицию. Сейчас вот интернет
подсказывает, что один англичанин по имени Питер сваял из двадцати ты-
сяч марок принца Уильяма с невестой, тоже монархический сюжет.
В «Облаке, озере, башне» читатель может удивиться самой ситуации:
герой выигрывает путевку на увеселительную поездку. Что это за забавы
такие странные, проводить выходные в компании чужаков? Оказывается,
распространенная была практика. В дневниках одного весьма антиколлек-
тивистски настроенного филолога-еврея пару раз упоминается — как
нечто обыденное — участие в такого рода потехах.
Явки, улики
[58:48] — Мы приняли участие в увеселительной поездке, — два автобуса,
80 человек, антисемитский анекдот...
В другой раз:
[58:200] — Помню, как массовик во время так называемой «Поездки в никуда»...
Была то есть такая дикая, на мой, например, взгляд, но популярная тра-
диция.
Но судить по Сирину о традициях и обычаях мы вряд ли можем — ред-
кие и пыльные они оставляют следы.
Для личного, в чулане с огарком, пользования у меня есть теорийка, что
Сирин был всегда точен в описании конкретного объекта как объекта, а не
как представителя класса. То есть: вот девочка бросила письмо Германа в
почтовый ящик, и мне кажется, Сирин имел в виду совершенно конкрет-
ный ящик. Ничем не примечательный, но именно этот, с угла такой-то
платц.
Теорийка недоказуемая и необязательная... но душу греет.
В 1927 году появился фильм Вальтера Руттмана «Берлин. Симфония боль-
шого города», шедевр документалистики. Семьдесят две минуты столи-
цы: ранним утром выходят на службу дворники — поздней ночью гаснут
огни утех.
В «Симфонии» запечатлен ровно тот же город, что в сиринской прозе, —
в смысле азбуки, кирпичей.
Первый акт (так у Руттмана обозначены части фильма): отпрядываю-
щие железнодорожные провода — рекламы на брандмауэрах — «проша-
284 гала фабрика» — вокзал — льют на фабрике лампочки — заходятся в воз-
вратно-поступательном танце механизмы.
Второй акт: гимнастика жалюзи — «городские работы» мусорщиков
и почтальонов — витрины — манекены — блестящий таз парикмахера —
дождь по асфальту — пара шелковых ног на лестнице автобуса — прохо-
жая женщина с теннисной ракеткой — лифты — пишущие машины.
Третий: «работы» в виде забивания сваи — велосипедисты — уличная
драка — подъемная машина для багажа — проверка билетов на выходе
с платформы (Франц застигнут проверкой на Анхальтском вокзале,
и в фильме она, как на заказ, на Анхальтском) — поезд проходит сквозь жи-
лой дом — знакомство с проституткой под присмотром сияющей витрины.
Четвертый: стрела часов вот-вот дрогнет — строящийся дом — зоо-
парк — Луна-парк — шляпа, уносимая ветром.
Пятый: призраки автомобилей на столбах мокрого света — ноги Чапли-
на на экране, а туловища не видно — наслаивающиеся и расслаивающиеся
брильянтовые рекламы в темном воздухе — варьете-цирк-гимнасты-
жонглеры-наездники — сплошь зеркальный трамвай (трамвай, разумеет-
ся, в каждом акте) — хоккейный матч.
Отдельные фрагменты кажутся прямыми цитатами из сочинений
Сирина. Девочка-школьница в начале второго акта (15'25") спускается
по лестнице из темноты по формуле «сначала освещались только ноги»,
Набоков без Лолиты
а через две минуты к ней в рифму потекут вверх жалюзи модного магази-
на, открывая вид на кокетливых манекенок в длинных платьях, и солнце
хлынет на них снизу вверх, начав, опять же, с ног.
Как и у Сирина, у Руттмана элементарный ассортимент объектов. Ника-
кой экзотики, все предельно буднично. На экране именно то, что ежеднев-
но размазывается по зрению с раннего утра до позднего вечера. Спортив-
ное состязание — хоккей, изобретенный на века, а не новомодная
какая-нибудь индустриальная эстафета.
Город нарисован ракурсами и монтажами. Руттману в известном смысле
сложнее, чем Сирину: камере не увернуться от вывесок, они так или иначе
попадают в кадр. У него попадают именно «иначе», не со своими собствен-
ными сообщениями, а как часть орнамента. В фильме (кадры из которого
используются в экранизациях перенесенного в Берлин «События» и «Брит-
вы», в спектакле одного московского театра по «Человеку из СССР», в ре-
жиссерских разработках «Машеньки» в училище на Моховой), кажется,
осуществлен принцип, объявленный Сириным в рассказе «Драка»:
— Может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих,
а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот
сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом.
А может быть, автор слегка погорячился, и «дело» не только в игре све-
та, но и в страданиях с радостями, но в любом случае только художник,
а не эпоха, может наделять все эти вещи значениями. Художник выдирает
мир из волосатых лап истории и организует свой маленький зоологиче-
ский сад.
Пастернак в Берлине осмотрелся, быстро сочинил стихотворение «Глайз-
драйек»:
Чем в жизни пробавляется чудак,
Что каждый день за небольшую плату
Сдает над ревом пропасти чердак
Из Потсдама спешащему закату.
Он выставляет розу с резедой
В клубящуюся на версты корзину,
Где семафоры спорят красотой
Со снежной далью, пахнущей бензином.
В руках у крыш, у труб, у недотрог
Не сумерки, карандаши для грима.
Туда из мрака вырвавшись, метро
Комком гримас летит на крыльях дыма.
Gleisdreieck, «треугольная платформа», — и впрямь рев пропасти и на
версты корзина. В начале XX века благодаря какой-то уникальной технологии
285
Явки, улики
там соединились линии нескольких городских поездов, и здесь же проходи-
ли подъездные пути Анхальтского и Потсдамского вокзалов, в результате
чего на одном участке сконцентрировалось рекордное количество рельсов
и шпал.
Пастернак водил сюда Маяковского, а сам ежедневно забирался на ка-
кую-нибудь арматурину и предавался ожесточенной медитации.
Есть про Глайздрайек и у Шкловского:
— Кругом, по крышам длинных желтых зданий, идут пути, пути идут по
земле, по высоким железным помостам, пересекают железные помосты,
проходя по другим помостам, еще более высоким. Тысячи огней, фонарей,
стрелок, железные шары на трех ногах, семафоры, кругом семафоры...
Я долго ходил по мостикам над путями, которые перекрещиваются здесь,
как перекрещиваются нити шали, проводимой через кольцо...
Фактура, короче, выразительнее не придумаешь. Понятно, что у Сирина
о «треугольнике» ничего нет. Он бы скорее сегодня о нем написал. Там пер-
вая авария случилась мгновенно после стройки, после чего — по разным
причинам — количество рельсов неуклонно уменьшалось, и сейчас там
в компании пары веток — правильно, очень большой просвет. С притаив-
шимся сбоку большим, но в масштабах Глайздрайека маленьким Техниче-
ским музеем.
Вообще, когда говорится, что действие «Машеньки» происходит в апреле
1924 года, правильнее бы ставить дату в кавычки — «в апреле 1924 года».
Художественное время астрономическому не равно, они сделаны из разно-
286 го теста.
Да, Алферов прямо сообщает, что бежал в 20-м году, а в другом месте —
что не видел жену четыре года. Да, Ганин прощается с Машенькой в год рево-
люции, из чего следует, что сцена с велозаездом относится к 1916-му, знаком-
ство к 1915-му — и прямо указано, что произошло это знакомство девять
лет назад. И в «Защите Лужина», когда рыжая тетя балаболит за обедом, что
«Антуанетта» Латама пятый день не может подняться, а Вуазен летает как за-
водной, имеется в виду конкретный авиационный праздник в Коломягах,
[не] и таким образом точно известна дата, когда Лужин впервые сыграл в шахма-
ты, — 25 апреля 1910 года. Но вообще Сирину, последовательно отстаивав-
шему автономность искусства, точное попадание в отдельные даты могло
быть важно в качестве внутренних мотивировок некоей метафизической
честности текста: задачи совпадать с реальностью он перед собой не ставил.
Напротив, ставил задачу реальность как-нибудь лишний раз расслоить.
[40:290] Про «Дар» известно, что он начинается 1 апреля 1926-го и завершается
29 июня 1929-го.
Первая фраза текста, впрочем, гласит:
— Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля
192... года (иностранный критик заметил как-то, что,хотя многие романы,
все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу
оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единиц)...
Набоков без Лолиты
Честность, надо думать, в том и состоит, что время реальное и литера-
турное — разные сущности и совпадать не могут.
От общечеловеческого календаря романный во многих местах лукаво
отслаивается. 1 апреля 1926-го — не было вторником, как это следует из
текста. 18 апреля 1923-го в романе помечено четвергом — но и это был не
четверг. Такие вещи легко проверяются; значит, Сирин специально дает
ложные показания. Последний день книжки, 29 июня, по реальному кален-
дарю суббота, однако Зина говорит, что завтра получит зарплату, что вряд
ли возможно в воскресенье: еще одна щепотка перца в носы шерлоков-
холмсов, полагающих, что агента можно поймать за руку.
Старший Комментатор досконально исследовал хронологическое уст-
ройство «Дара». Вот его анализ одного фрагмента романа, обильно нашпи-
гованного историческими событиями:
— В монтаж разнородных фактов из разряда газетных сенсаций Набо- ио:288]
ков включает несколько заведомых анахронизмов, не позволяющих счи-
тать его хроникой какого-то определенного года: «В России наблюдалось
распространение абортов и возрождение дачников, в Англии были какие-то
забастовки, кое-как скончался Ленин, умерли Дузе, Пуччини, Франс, на вер-
шине Эвереста погибли Ирвинг и Маллори, а старик Долгорукий, в кожа-
ных лаптях, ходил в Россию смотреть на белую гречу, между тем как в Бер-
лине появились, чтобы вскоре исчезнуть опять, наемные циклонетки,
и первый дирижабль медленно перешагнул океан, и много писалось о Куэ,
Чан-Солине, Тутанкомоне...» Если смерть Ленина, Дузе, Пуччини и Франса,
а также трагически закончившееся восхождение английских альпинистов
на Эверест относятся к 1924 г., то все прочие поддающиеся датировке аллю-
зии выводят нас за эти рамки: крупные забастовки в Англии происходили
в 1925-1926 гг., тогда же совершил два нелегальных перехода советской гра-
ницы старейший деятель кадетской партии П.Д. Долгоруков, первый дири-
жабль «перешагнул» Атлантический океан еще в 1919 г., а Северный Ледо-
витый — в мае 1926 г., в 1926 г. умер французский психиатр Э. Куэ, о чем
много писали газеты, гробницу Тутанхамона раскопали в 1922 г., а китай-
ский генерал Чжан Цзолинь захватил власть лишь через пять лет после это-
го. Очевидно, что перед нами квазихроника, иронический взгляд повество-
вателя на двадцатые годы из неопределенного будущего...
Можно еще добавить про наемные циклонетки. 15 июня 1926-го В.В.
писал Вере:
— Я хотел поехать к Заку на мотоцикле, но шофер отказался ехать, —
слишком скользко от дождя. Целый ряд мотоциклов, а шоферов не видать. [93]
Личному времени героя в «Даре» — возвращаюсь к выкладкам Старше-
го Комментатора — читатель, в отличие от времени исторического, созна-
тельно путаного, может доверять. Исчисление во внутренней хронологии
Федора возводится к решающим, поворотным моментам судьбы и вроде
бы вопросов не вызывает.
— Так, в самом начале повествования Годунов-Чердынцев безусловно
знает, что идет «Год Семь» его эмиграции и что «вот уже лет восемь» он [40:289]
287
Явки, улики
оплакивает свою первую любовь; аналогично, во второй главе, действие
которой происходит в канун Рождества, полтора года спустя, он, думая
о матери, отмечает, что «вот уже скоро девятый год», как она пытается не
верить в гибель мужа, или в финале романа точно помнит, что они с Зиной
знакомы ровно четыреста пятьдесят пять дней.
Однако именно тот факт, что Федор следит за количеством дней, ставит
под сомнение и его личную хронологию. 28 июня, в предпоследний день
романа, он отмечает круглый юбилей — «10 000 дней от Неизвестного».
Следовательно, родился Федор 10 февраля 1902 года, в день памяти Пуш-
кина. Что противоречит сообщению в первой главе:
— Наш поэт родился двенадцатого июля 1900 года в родовом имении
Годуновых-Чердынцевых Лешино. Мальчик еще до поступления в школу
перечел немало книг из библиотеки отца. В своих интересных записках та-
кой-то вспоминает, как маленький Федя с сестрой, старше его на два года,
увлекались детским театром...
Противоречие, впрочем, легко рассасывается.
Точная дата рождения — та, что с пушкинским подтекстом, — загадана
в нехитрой задачке про 10 000 дней. А подкинутое на видное место сооб-
щение про 1900-й и детский театр, интонационно принадлежащее вообра-
жаемому рецензенту (Федор перечитывает свой стихотворный сборник),
в следующей же фразе прерывается от первого, годуновского, лица: «Лю-
безный мой, это ложь». При первом чтении это звучит как опровержение
театральных досугов малыша, но вполне может относиться и ко всему пас-
сажу. Тем более что по началу пятой главы мы знаем шифр ненадежного
288 рецензента: критик Валентин Линев называет Федора Константиновича
Борисом и уверен, что «казнь» Чернышевского в Овсянниковском садике
была не «гражданской», то есть символической, а реальной. Тем более что
дата 12 июля к Чернышевскому как раз и отсылает — это день рождения
Николая Гавриловича.
Словом, какой бы из двух дней рождения Годунова-Чердынцева мы ни
признали подлинным, у сторонников иной цифры будут свои аргументы.
Мерцает дата. Я видел на кладбище в Германии — хотел соврать, что
в Вильмельсдорфе, но ладно уж, на Мелатене в Кельне — могилу человека
с двумя датами смерти и пару дней ходил с ощущением тайны, пока мне
не объяснили, что так бывает: первая — клиническая. Почему не быть
двум дням рождения.
В кавычки следовало бы забрать и адреса — когда я живописал, как Году-
нов-Чердынцев свернул на Моцстрассе, точнее звучало бы «Моцштрассе».
Да, Федору, направившемуся из «Леона» к трамваю, а потом свернувшего
к дому, некуда было деваться, кроме как на Моцштрассе, но названия ули-
цы в романе не звучит. Это моя экстраполяция, в литературе пространство
так или иначе мифологическое.
Реальные улицы мелькают — скажем, красавица, героиня «Красавицы»,
живет на Аугсбургштрассе, «там, где часы».
Набоков без Лолиты
Но на Аугсбургштрассе, Владимир Владимирович, нет часов. Закатились
под нянин. Ни в той ее части, что до сих пор Аугсбург, ни в той, что ныне пере-
именовалась в Фуггер, подходящих часов нет. А номера дома Вы не сообщили.
В тех случаях, когда номер указан — Гофмана, 6 (адрес не состоявшейся
оргии Эрвина), Рабенштрассе, 82 (офис Валентинова), Планнерштрассе, 59
(там живет мать Николая Степановича из «Звонка») — улиц таких в реаль-
ности нет (Рабенштрассе сейчас есть, на глухой окраине, но во времена Лу-
жина в город не входила, если вообще существовала).
Лишь в одном случае — квартира Щеголевых на Агамемнонштрассе —
можно утверждать, что она соответствует квартире Набоковых на Нестор-
штрассе; очень уж подробно описаны и география, и архитектура. Но пар-
ный к этому адрес — Танненбергская, 7, на которой начинается роман, где
Федор в первой и второй главах квартировал у фрау Стобой, — мерцает.
Известно, что расстояние от старого до нового жилья «примерно такое,
как где-нибудь в России от Пушкинской — до улицы Гоголя». В Ленинграде
от Пушкинской до Гоголя (переименованная в советское время Большая
Морская) по Невскому — 3 км. В Берлине Танненбергской улицы нет. Есть,
правда, Танненбергская аллея, причем расположенная близ Груневальда, но
до нее дальше и слишком уж в другую сторону, из города, прочь от году-
новских маршрутов.
Танненбергская из «Дара», подобно эпистолярному роману, начиналась
почтой и заканчивалась церковью. С этими А и Б наперевес Ошуйный
Бриз отсчитывал три километра от Хохмайстерплатц в сторону традици-
онных центров русской жизни. Нужное сочетание он нашел на Пфальц-
бургерштрассе (она пересекает Гогенцоллерндамм между памятником Ма- 289
шеньке и квартирой Набоковых на Зекзишештрассе).
Это такое весьма условное предположение, улица может и не иметь пре-
курсора. Ныне там есть только церковь [50], впрямь недалеко отстоящая от
конца улицы; почтового отделения нет. Было ли при Годунове? На одной из
старых карт я нашел почтовый значок на противоположном от церкви кон-
це Пфальцбургер, но карта может обманывать. На современной карте при-
мерно в том же месте есть подобный значок, но он относится к почте [51]
с соседней улицы, от Пфальцбургер сто метров... Можно ли пренебречь
этой сотней метров? Или старый значок относился к другому объекту?
Я побарражировал, конечно, как следует по Пфальцбургер, понавтыки-
вал окурков по перекресткам. Медлительный господин в пестром пальто
и черной войлочной шляпе с серыми пятнами, похожий на птицелова,
сморкнулся в шарф. Бабушка в мохеровом берете провезла в сидячей ко-
ляске, назвала русским «сынок» мальчугана лет трех, очень важного, в чер-
ных очках, какие бывают в синематографе у высокопоставленных поли-
цейских-негров, и самого черного аки смоль. Сменилась картинка на
рекламном модуле: выгодные полеты уступили место бравому пенсионеру,
который, выйдя из сберкассы, перепрыгнул, опершися на трость, через
живую изгородь. Можно условно переименовать Пфальцбургер в Таннен-
бергскую, переименовал же я памятник.
Косвенные приметы,
набокиезеркала
Его едва не окрестили Победителем.
Мать успела поправить бестолкового протоиерея сквозь «вопли полу-
у топленного полувиктора».
Владимиром, в честь отца, хотели, наверное, назвать первенца. Если
так, мой герой нес через жизнь имя, адресованное умершему при родах
брату. Не ему предназначалась и усадьба Рождествено, дворец на хол-
290 ме: Василий Иванович купил ее для сына, но тот рано умер, и дворец
достался племяннику. Который, впрочем, ввиду революции в нем по-
жить не успел.
В этом узоре есть и третий мертвый маленький мальчик, сын Черны-
шевского, снова Виктор, которого близорукий отец называл в письмах Са-
шенькой, и он скоро скончался — в «Даре» указано, что «судьба детей та-
ких описок не прощает».
А искусство ими — описками, смещениями, неправильностями —
живет.
— Род Набоковых произошел, — сообщается в «Других берегах», —
не от кривобокого, набокого, как хотелось бы, а от обрусевшего татарского
князька по имени Набок.
Но мы знаем зато, как хотелось бы.
Шестью восемь — двадцать три
Горазды кособочить набоковские цифры. Родился Владимир Владимиро-
вич — по старому стилю — 10 апреля (я тоже родился 10 апреля, в чем сам,
не дожидаясь биографа, угляжу Важный Намек; 10 апреля родился и един-
ственный советский писатель, удостоенный аудиенции с Набоковым
в Монтре, Б.А. Ахмадулина).
Набоков без Лолиты
При Советах стиль поменялся, юлианский календарь сменили на григо-
рианский, «как в Европе». Помнили о разнице стилей всегда, номер «Нового
времени», вышедший в день рождения Володи, имел двойную дату —
10 (22) апреля. Другие газеты — «Биржевые ведомости», скажем, столь же
значительное издание той поры — обходились лишь «русской» датой,
но, в общем, образованная публика не забывала, что живет в двух систе-
мах отсчета.
«Кончена в 10-30 вечера (15/27.11.57)» — так написал Тургенев на по-
следней странице рукописи «Аси». 135vil421
В зрелые годы В.В. отмечал свой день рождения не 22, а 23 апреля. Фокус
в том, что при пересчитывании из одного стиля в другой в XVIII столетии
нужно, ублажая демонов астрономии, прибавлять 11 дней, в XIX — 12,
в XX — 13. Пользуясь сменой столетия, Набоков приписал своей дате лиш-
нюю единичку; ему нравилось, что 23 апреля будто бы выступил в поход
князь Игорь, умер Сервантес и родился Шекспир. Кроме того, эта игра дво-
ек, троек и четверок (номер апреля) удачно перекликалась с номером теле-
фона на Большой Морской — 24-43, половинкой которого Сирин поделил-
ся с Машенькой; 34 — ее номер в Полтаве.
Лишняя единичка — нечестная. Поскольку родился В.В. хоть и близко
к XX веку, но в XIX, постольку и положено ему не 23-е, а лишь 22-е (что
хорошо понятно читателям путеводителя старшего возраста, много лет
твердо знавшим дату рождения Ленина). В противном случае, свое сто
второе или сто пятое рождение мой герой праздновал бы, довелись до-
жить, уже 24-го. Но, в общем, чего мелочиться, единичка туда, единич-
ка сюда. 291
Не надо, кстати, представлять дело так, что, живучи в России с ее «невер-
ным» временем, щепетильные граждане внутренне существовали по евро-
пейскому: переехав в Европу, они начали «помнить» в другую сторону.
Оповещая город и мир о своем браке (это обязательная процедура,
вдруг кто-то уже в узах, проходят через нее брачующиеся и в «Защите Лу-
жина»), Владимир и Вера пометили дату церемонии двумя стилями:
Monsieur Vladimir Nabokoff
Mademoiselle Vera Slonim
2/15 avril 1925
[19:282]
К этому моменту первая из дат, «старый стиль», уже семь лет как отме-
нена. Но в том же 1925-м эмиграция отмечала день рождения Пушкина
по новому стилю — и отметила 8 июня вместо 6-го.
Природа ошибки ясна: вместо приличествующей осьмнадцатому сто-
летию цифры 11 добавили 13, как если бы Пушкин родился в одном веке
со мной. Легко перепутать, когда постоянно нужно то прибавлять, то
отнимать.
Советские ученые, отважно включившие в 1968-м заметку о Набокове
в «Краткую литературную энциклопедию», плясали от шекспировской да-
Косвенные приметы, набокие зеркала
ты как от «старой», в результате у них Владимир Владимирович родился
[88: ю] «23IV (5V)». Не знаю, донеслись ли до него вести об этой милой ошибке,
но не исключаю, что ему бы так — «набок» — понравилось.
Путаница со стилями — неплохой шифр. Себастьян Найт увидел белый
свет 31 декабря 1899 года в Петербурге — по старому стилю. Но если бы —
включаем шифр — 31-е было бы по новому, то по старому вышло бы 18-е,
а это в России — день святого Себастьяна.
В «Сказке» Эрвин волен набрать себе в гарем любое нечетное количест-
во дам, но близится полночь, цифра неверная, нужна еще одна пленница,
и выбранная в темноте оказывается той самой, что была выбрана пер-
вой. .. тут, конечно, аллюзия на последних, становящихся первыми, но
вряд ли даром путаница происходит именно между двенадцатой и три-
надцатой.
В мемуарах Набокова, как и в его биографиях, нет крупным планом ни
единого его дня рождения. Как он отмечал эти даты, в каком кругу, по ка-
ким сценариям — я не знаю. Но приятно, что сухогруз «Надежда», на кото-
ром Набоковы покинули Россию, отчалил из Севастополя 2 апреля по ста-
рому стилю и прибыл в Пирей 22 апреля по новому. Двадцатый день
рождения скомкался в волнах.
И уж если цементные блоки целых дней можно перетаскивать по кален-
дарю, то нет никакого смысла давать покой легковесным часам и минутам.
Ганин, словно цитируя сиринскую «Университетскую поэму» («.. .после
бала / Легко все поезда проспать»), переводил, мы помним, стрелку на ал-
феровском будильнике. Это далеко не единственный хронометр, на долю
292 которого выпало подобное испытание.
«На циферблате лет / Назад, назад я стрелку передвину», — говорит
герой ранней стиходрамы «Скитальцы».
У Федора Константиновича стрелки часов пошаливают, двигаются ино-
гда против времени.
Годунов человек небогатый, и часы у него, наверное, старые, но вот
и у состоятельного Кречмара сильно заспешил в какой-то момент на руке
хронос, в результате чего он угодил в паузу, убил ее в кинематографе, из
темноты которого и набухла роковая Магда — в рифму к этому эпизоду
ближе к концу романа Магда обманет слепого Кречмара, узнающего время
ощупыванием стрелок на будильнике.
В «Приглашении на казнь» выведен хронометр, стрелки на коем не
ощупаешь: каждые полчаса сторож смывает старую и малюет новую.
В том же романе часы пробили было одиннадцать, подумали и пробили
еще раз.
В английском автопереводе рассказа «Пильграм» автор зачем-то поме-
нял роковую полночь на одиннадцать. Набоков, впрочем, и на своей руке
не давал времени покоя: в старости ставил ходики на полчаса вперед, что-
бы поскорее настал час охоты на бабочек.
Пусть время будет неправильным, зато результат правильный: помахать
вволю сачком.
Набоков без Лолиты
Когда включается не то, что включают
Бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом,
понятным для глухонемого.
«Приглашение на казнь»
Федору, когда он пришел снимать комнату на Агамемнонштрассе, не гля-
нулся хозяин. Федор логичным образом хотел отказаться, но заметил на
высоком кресле вольное и воздушное газовое платье, очень короткое, как
носили тогда на балах, и согласился вдруг.
Интуиция его не подвела, в квартире, помимо душного Щеголева, обна-
ружилась обворожительная Зина.
На последних страницах, однако, выяснится, что платье газовое — не зи-
нино, а, в рифму, кузинино — она попросила что-то там перешить.
Ложное предположение, что в подобном платье должна быть заключена
замечательная красавица, привело к верному результату.
Николай Степанович («Звонок») в поисках матери набредет на табличку
дантиста Вайнера — не тот ли, что потчевал семью пломбами еще в Петер-
бурге? Нет, тот жил на Мойке, а этот с Загородного, но судьба вышла из по-
ложения: теперь мать лечится у этого Вайнера, и адресок записан.
Больного Лужина подгулявшие немцы спасли, ошибочно приняв за не-
ведомого нам Пульвельмахера.
Мартын, навострившийся побатрачить на свежем воздухе, не знает, где
сойдет с французского поезда. Железнодорожная ночь дарит ему волшеб-
ное зрелище — огни, далеко, среди темных холмов... как-то ловко там
у Вас, Владимир Владимирович, не могу найти страницу... как-то очень
прекрасно про эти огни...
— Вот кто-то их пересыпал из ладони в ладонь и положил в карман.
Именно! Эти — именно эти! — бархатные огни Мартын помнил по
детским поездкам в трансевропейском экспрессе. Кстати случилась стан-
ция, Мартын выскочил из поезда, выяснил, что видел огни деревеньки по
имени Молиньяк. Пятнадцать км пешком, для сирийского фланера не
крюк. Он провел в Молиньяке сколько-то недель, разрыхлял и подкучивал
землю в угоду молодой кукурузе, щелкал секатором, чавкал, творя запруду,
по щиколотку в жирной лиловой грязи, выпивал полтора литра вина в сут-
ки, вечерами шел покурить и погрезить к пробковой роще за фермой
и был абсолютно счастлив. И лишь уехав уже, выяснил, что огни среди тем-
ных холмов не были огнями Молиньяка, Молиньяк с дороги не виден.
Не все, конечно, ошибки столь благотворны.
С железнодорожной ночи (маршрут примерно тот же, что в «Подвиге»,
Париж — Марсель) и таинственных огней начинается рассказ Мопассана
«Страх», в котором Тургенев повествует о мокром свидании с фальшивой
обезьяной. Ровно в полночь мелькает за вагонным окном освещенная по-
ляна, двое у костра — «преступники, уничтожавшие следы злодеяния, или
знахари, готовившие волшебное зелье».
293
Косвенные приметы, набокие зеркала
Шабельский-Таборицкий не планировали убивать Набокова-старшего,
но по факту добычей остались довольны.
Неизвестно, как сработает кнопка, в какую именно сторону обманет
сигнал.
Францу мерещится на берлинской улице дочка швейцара из его прош-
лого, которой нечего делать в Берлине, но видит-то он, похоже, Магду Пе-
терс из «Камеры обскуры», то есть дочку другого швейцара.
Актер Курт Винтер гибнет в автокатастрофе, спеша к больной жене —
газетное сообщение в «КДВ». Это ложное предвосхищение дальнейших со-
бытий: Курт Драйер в автокатастрофе отделается испугом; заболеет и ум-
рет как раз жена.
Спешит к умирающему брату рассказчик «Подлинной жизни Себастья-
на Найта», успевает, проводит ночь у его постели, но темнота — хоть выко-
ли, а к утру выяснится, что персонал перепутал фамилию. Рассказчик сидел
с чужим больным, а Себастьян скончался накануне. С самим Себастьяном
подобная история случилась в начале романа, он искал и нашел место
смерти матери (пансион «Фиалки» в Рокбюрне), а спустя полгода выясни-
лось, что это был не тот Рокбюрн.
Отправить героя или читателя по сбитому следу очень приятно.
За читателем не всегда уследишь, дернулся ли он по ложной тропинке,
но поиздеваться над героем — милейшее дело.
Герой, допустим, считает, что врет, а на самом деле говорит правду. Креч-
мар, запертый Магдой в спальне, лжет шурину, что его запер вор: что же,
Магда в последней сцене явится в ту же квартиру воровать гравюры.
294 Можно говорить «о том», не понимая этого, не слыша себя.
Герман поддакивает «очень все это правильно» словам Феликса, что все
жены изменяют мужьям. При этом он просто поддерживает общение, ему
в голову не приходит числить свою Лиду среди «всех жен».
В «Подвиге» проходной персонаж, не знающий русского, случайно на-
звал Соню Зиланову «маленькой сучкой» и был жутко смущен, узнав
смысл словосочетания. Меж тем Соне, долго и бессмысленно водившей за
нос Дарвина, Мартына и Бубнова, такое определение вполне подходит.
— Если в первом действии висит на стене ружье, — сказано в «Собы-
тии», — то в последнем оно должно дать осечку.
Хорошо сказано, но тоже — не символ веры. Может дать осечку, а может
и ухайдакать монаршью особу. Дело случая.
Можно возвести лес многоэтажных надежных схем, но затешется в боти-
нок мелкий камешек, дядя Паша перепутает фамилии Смуров и Мухин, пле-
мянник встретит тетю в поезде, муж пройдет мимо купе потерянной жены,
не заглянув в проем, через страницу жена одного тамбура не дошагнет до ва-
гона-ресторана, где служит муж, красный агент заглянет не в ту табачную
лавку или парикмахерскую, Кречмар разминется на пять минут с почтальо-
ном, кого-то соединят с неверным номером, и покатится жизнь — боком.
— Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом,
что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или
Набоков без Лолиты
борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио акку-
ратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, на-
родными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его
двумя бедными «у», безнадежно аукающимися в чащобе экономических
причин. К счастью, закона никакого нет, — зубная боль проигрывает бит-
ву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж...
Особо трогательно, что эту тираду (полемика с философией истории
из «Войны и мира», и наполеоновский зуб оттуда), которую Набоков мог
выкатить и из собственных уст, Сирин доверил сомнительному соглядатаю
Смурову.
Красивую-стройную, казалось бы, нарисовал схему убийства Герман
Карлович, шоколадный коммерсант.
Застраховаться и подложить следствию широкоформатную неопровер-
жимую свинью. Известно, что трюки со страховками редко выгорают, но
здесь-то все расчислено большим художником. Налицо четкий труп (пере-
одетый двойник), налицо убийство (выстрел сделан с такого расстояния,
что суицид исключен).
Мысль вылизана, через какое дупло держать связь, где бросить машину,
через какой лес на какую уплыть тихой сапой станцию. Плановый отдел
поработал на славу.
— Одна уж наличность такой подозрительной ладности построения ни-
когда не позволила сделать из всего этого рассказ, — сказано в «Даре» о ро-
дившемся в идиллическом кольце любовном треугольнике с участием Яши
Чернышевского.
Ладные планы не срабатывают, поскольку подлинные планы — потусто-
ронние. Склеиваются на небесах.
А над земными счетоводами судьба смеется. В машине забыта трость,
сучковатая улика.
Германа подвела вера в то, что возможно обойтись без случайности.
Что план может полностью совпасть с реальностью.
Тут место для обобщения: наивно полагать, что вообще что-то с чем-то
может совпасть. Что существуют, в частности, двойники. О ненадежности
идеи двойничества сама жертва Герману в начале романа рассказала:
— Вот помню на ярмарке двух близнецов... так там действительно —
нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдет
примету. Хорошо, говорит рыжий Фриц, и бах одному из близнецов в ухо...
Природа не терпит двойников — не мытьем, так катаньем.
Герман — больной человек, ибо повернут на идее похожести. Трубка и ро-
зы кажутся ему пепельницей и персиком. В безымянном немецком селении
ему встречается домишко, двойник виденного на Охте, лавка старьевщика
с костюмами знакомых покойников (привет лермонтовскому «знакомому
трупу»), береза с таким же, как и у давней московской березы, раздвоением
ствола, татарин, который надцать лет назад где-то далече мельтешил. Он со-
чиняет сюжет об Игреке Иксовиче, который безответно любил прелестную
барышню, встретил загорелого моряка Дика, сущего двойника, отправил его
295
Косвенные приметы, набокие зеркала
к барышне под своим именем, сам оказался в хижине той, по кой сох как раз
Дик, и все эти опереточные переживания, связки летучих рыб под потолком
сирой хижины... ни к чему, в общем, хорошему не привели.
Все в жизни Германа так вертится, что должен он наконец обратить вни-
мание на вопиющую маниакальность своей веры в двойничество. Автор
не брезгует и самыми грубыми средствами. Газетная заметка про попугай-
ную болезнь здесь столь изысканна, словно она цитата из какого-нибудь
Киркегора. Все проще. Из двадцати пяти почерков, коими герой думает что
владеет, особо он ценит крупный, четкий и твердый, словно пишет им
абстрактная, в схематической манжете, рука, изображаемая в учебниках
физики и на указательных столбах. Коммунизм описывается как «прекрас-
ный квадратный мир одинаковых здоровяков». Зеркало обращается
в олакрез. «Мне грезится новый мир, где все люди будут друг на друга похо-
жи, как Герман и Феликс, — мир Геликсов и Ферманов».
Нет у Сирина ни одного другого романа, где центральный мотив вспа-
хивался столь бы кряжисто и стоеросово.
Это потому, что сам мотив двойничества — стоеросов.
На участке Ардалиона растут две березы — или четыре, если считать их
отражения; в витрине торжественно и глупо белеют две ванны. Как им еще
белеть.
Идея совпадения, двойничества, похожести — торжественна, глупа и гу-
бительна.
Я уже упоминал, как герой «Подлеца» перебирает в памяти эффектные,
достойные позы, в частности размышляет, не поставить ли где в стороне
296 ногу на пень непринужденно, но опасается, что Берг тоже поставит ногу на
пень, передразнит, «и выйдет опять безобразие». А через пару тяжелозвон-
ких мгновений — и наповал.
Свою будущую жертву, якобы двойника, шоколадный Герман Карлович
впервые видит спящей, отмечает «деревянность» ее фигуры. И, помните,
присмотренная жертва в «КДВ» словно бы одеревенела, ждала, пока ее
грохнут Марта и Франц. Предполагается, что у жертвы, у двойника нет ме-
тафизического измерения, тени (ее место как раз двойник и занимает). Гер-
ман сам делает все нужные выводы: в совершенном покое тождество до-
стигает крайней своей очевидности... смерть — это покой лица... жизнь
только портит мне двойника.... Так ветер туманит счастие Нарцисса...
В посюсторонней жизни, в общем, двойников нет.
«Ход коня, перемена теней,
сдвиг, смещающий зеркало»
В «Найте» в первой главе отец кидается хлебными шариками накануне ро-
ковой дуэли, крошат хлеб Мун из «Подвига» и Картофельный Эльф Фред.
В начале «Защиты» рыжеволосая тетя швыряется за обедом хлебными
крошками в Лужина-старшего, жена его понимает, что крошки летают
с эротическим подтекстом, — а позже Лужин-старший, отлучившись из
Набоков без Лолиты
усадьбы в город «повидать издателя», возвращается веселый со сведения-
ми, которые мог узнать лишь от рыжеволосой тети. И в бороде у него —
хлебная крошка.
Это все в статусе лирического завитка... тема кружит.
Мартын слепил из хлебных крошек шарик. Если его трогать с двух сто-
рон скрещенными пальцами, указательным и средним, вы явственно
чувствуете, что шариков — два.
Мартын порадовал хлебным фокусом сумасшедшую Ирину из семей-
ства Зилановых. Как обезьянка, которая, видя свое отражение в осколке
зеркала, подглядывает снизу, нет ли там другой обезьянки, она все приги-
бала голову, думая, что и впрямь под пальцами два катыша, и полезла по-
том под стол отыскивать закатившийся шарик.
Увы.
Двойник если существует, то в какой-то иной реальности.
В «Других берегах» мы удивимся секретному, будто египетскому, фокусу
в исполнении дяди Васи, который умел заставить свою тень извиваться на
песке без малейшего движения со стороны фигуры.
За Цинциннатом следит человек, тень которого не сразу следует за хозя-
ином, цепляется за шероховатость стены.
В том же романе закон требует, чтобы адвокат и прокурор были едино-
утробными братьями, но подобрать не всегда возможно, и приходится
гримироваться. А шкаф там является на свидание в тюрьму со своим до-
машним отражением — приоткрытая дверь, одна перчатка (у Сирина
и другие случаются непарные перчатки — в «Подлеце», в акте убийства
в «Камере», в «Даре»).
В «Событии» изверга Барбашина ловит сыщик Барбошин. Там же
действуют Мешаев Первый и Мешаев Второй — близнецы по списку
действующих лиц, на сцене они появляются исключительно порознь, и ре-
маркой отмечено, что их может играть один актер.
Если тождество все же устанавливается, то в результате длительного пе-
реливания чуткой плазмы из колбы в колбу. В «Даре» мрачно сидит за сто-
лом президиума член писательского сообщества, единственным печатным
произведением которого «было письмо в редакцию одесской газеты, в ко-
тором он возмущенно отмежевывался от неблаговидного однофамильца,
оказавшегося впоследствии его родственником, затем — его двойником,
и наконец — им самим». После такой перегонки сквозь змеевики упо-
доблений — какое там тождество, тем паче что вся история с одесским
письмом — невнятного статуса слух.
В посюсторонности все смещено. Сиринская оптика — система не сим-
метрий, но сдвигов.
«Стул из тонкого железа с паукообразной тенью под ним, слегка сме-
щенной с центра» — с сиринским клеймом стул.
В арсенале берлинского фланера Годунова-Чердынцева есть легкий
жульнический ход: при хорошем знании трамвайных маршрутов можно
прямой путь незаметно обратить в дугу, загибающуюся к отправной точке,
297
Косвенные приметы, набокие зеркала
298
и заплатить лишь однажды, не покупать два разных законных билета. Этот
невинный обман мы легко простили бы нашему герою, ибо он основан на
прорехе в железном немецком расчете, на использовании именно что логи-
ческого сдвига... который, впрочем, мгновенно будет отыгран. Федор
Константинович «по рассеянности, по неспособности длительно ласкать
мыслью выгоду и думая уже о другом, машинально платил наново за би-
лет, который намеревался сэкономить».
Двойная милая нелепость — в системе немецкой защиты и в федоровом
эрзац-практицизме — сиринская стихия.
— Всякое подлинно новое есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещаю-
щий зеркало.
Иной раз даже досадно, как ловко наш автор все формулировал, отбивая
хлеб у исследователя. В другом месте он обмолвится об «упоительном впе-
чатлении непрямого узнавания, смещенных теней».
Вот Кончеев — «близорукий человек с какой-то неправильностью во
взаимном положении лопаток». То-то же он такой прекрасный, что у него
в лопатках сдвигаются зеркала... вот-вот вылезут крылья.
Вот лицо красавицы из «Красавицы» остается очень красивым не благо-
даря, а вопреки тому, что оно перестаралось по части правильности
(и, в скобках, счастья ей такая правильная красота не приносит).
В «Даре» упомянута старая гравюра — на зеркальный выворот, с пере-
становкой ростральной колонны по отношению к соседним зданиям. Бог
знает, что имеет в виду лукавый автор. Гравюра — она, с одной стороны,
всегда навыворот, то есть не она, а доска, с которой делается отпечаток,
должна быть навыворот, чтобы в результате вышло натурально. С другой
стороны, выворот тут уже в самой фразе: здание-то там, по существу, одно,
Биржа, а колонн как раз две, а у Сирина заявлено наоборот.
Преломленные взоры
Солнечный лоск половиц, прежде чем добраться до глаза читателя, отра-
зится в наклонном зеркале... Это первое зеркало в собрании сочинений
(рассказ «Слово»), и сразу наклонное. Много лет спустя желтый паркет бу-
дет низвергаться из овального зеркала в «Других берегах».
В «Ударе крыла» мы увидим ножки стула не впрямую, а снова отражен-
ными — как раз уже в паркете.
В «Мести» даже внешность героя отражена в другом человеке: кому-то
на палубе кажется, что герой-профессор похож на Шелдона, а Шелдон был
комическим актером — лысым великаном с круглым рыхлым лицом.
Собор в «Возвращении Чорба» читателю покажут только отраженным
в реке, но не в городе, через который она протекает.
Там же, вместо того чтобы сообщить, что Чорб (при)открывает калитку,
автор интересничает:
— Тень калитки ломаным решетом хлынула к нему с панели, опутала
ему ноги.
Набоков без Лолиты
В «Машеньке» Людмила наблюдает за бродящим по комнате Ганиным
«искоса в зеркало», и это могло бы как-то ее характеризовать, если бы иско-
са в зеркало у Сирина не пялились решительно все. Сам Ганин в зеркале ви-
дит комнату Алферова, вспоминая Машенькины фотографии, томящиеся
в ящике чужого стола.
Желтый паркет в той же книжке не утерпел, снова полился из наклонно-
го зеркала в овальной раме.
Из зеркала вываливается в «Путеводителе по Берлину» полукруглый
стол, покрытый клетчатой клеенкой.
В зеркале видит Франц заявившегося в магазин Драйера.
В зеркале наблюдает Смуров обнаженную спину Вани.
В зеркале Мартын видит «солнечную рану» двери, через которую захо-
дит мать с письмом от Сони.
В «Музыке» отражение Виктора Ивановича поправило узел галстука,
а руки пианиста застигнуты со своей шутовской мимикой в лаковой глу-
бине крышки рояля.
Даже дым, сущность туманная, в «Камере обскуре» герою виден не сам
по себе, а в виде тени, струящейся по стене.
Магда, одеваясь (чтобы идти к Кречмару), поднимает в зеркале бурю:
это видит Горн, а через несколько страниц Кречмар видит в зеркале, как
она раздевается (зеркальным образом — для Горна): стремительно проле-
тают джампер, юбка, что-то светлое, еще что-то светлое.
Художник Трощейкин, малюющий сына ювелира, работая над детским
портретом, сперва хочет «закрепить» отблеск от мячей, а лишь потом
пристроить к отблеску его источник — сами мячи. 299
В «Даре» тень прохожего по тумбе пробегает (как соболь пробегает через
пень), а сам прохожий не пробегает. Цитируется Некрасов, про пожарных:
И на окнах аптек в разноцветных шарах
вверх ногами на миг отразились.
Есть в «Даре», в азиатских главах, такие миражи, что в мерещейся воде
отражаются настоящие скалы. Это, мне кажется, как раз возможно, силы
надежды и самообмана безграничны.
Приврано в следующем примере, когда в угоду кривому взгляду вы-
ставлен непролазным дураком ни в чем не повинный китаец, который
якобы деловито-прилежно-без устали обливал водой отблеск пламени на
стенах своего жилища. Впрочем, тут угода двойная — и монетка в чехарду
кривых отражений, и завиток в узор, куда входят и отражавшиеся в шарах
пожарные.
В «Весне в Фиальте» в зеркальной колонне отражается страусовая ляжка
арфы.
В «Других берегах» замки чемоданчика, с коим Набоковы в энный раз
пересекают границу империи, не просто, а «демонстративно» отражаются
в оконном стекле.
Косвенные приметы, набокие зеркала
В «Адмиралтейской игле», чтобы описать юные формы героини, ее нуж-
но не просто обнажить — но обнажить перед трюмо.
Зеркало может быть «голосовым»: так, невеста Лужина впервые появля-
ется в романе через переспрашивание, в лужинской реплике «Что? мне на-
деть шляпу? Солнце, говорите, печет?».
Читатель Зегелькранца, писателя из «Камеры обскуры», Средиземное
море видит в стеклянном колпаке, накрывающем часы, а перечитыватель-
рецидивист ликует, поймав Сирина на «сиринщине», на неряшливых льви-
ных когтях — сочинителю-гомункулусу вовсе не обязательно было одал-
живать свои приемы, интереснее бы придумать для него оригинальные.
Тем более что Зегелькранц вроде бы — пародия на Пруста, не грешив-
шего набокими зеркалами.
Но льву сложно поменять когти; все отражается и смещается, плывет на
столбах отражения корабль, на столбах мокрого блеска безмятежно прока-
тывает автомобиль, параллелепипед белого ослепительного неба колеблет-
ся в экране выгружаемого из фургона зеркального шкафа, на дощатой
стенке купальни золотом переливается отражение воды.
Все вертится
Зыбкий отблеск заплывшей свечи, глянец, углы и грани громадных моза-
ичных скал, ослепительные пропасти, зеркальное сверкание многих озер.
Цветы проливают на лету свой влажный блеск, слепят огненные паутины,
брызги, узоры. В небе вольно вспыхивает исполинская бездна, бесконечно
ЗОО раскручиваются прозрачные спирали, текут цветной зыбью в паркете
японские фонари. А вот промахнули сплошной полосой освещенные окна,
и вода серебряным гибким веером хлещет из блестящей кишки. Влажно
блестит хрустальный огонь стаканов, и черные кусты, словно облитые
ртутью, блестят под звездами. Очертания крыш меняются благодаря не-
верным внутренним переливам стекла, солнце лужами топленого меда го-
рит на полу. Словно цветистый огонь фейерверка пылает в лиловом сумра-
ке кафе, а почтовые тумбы на углах тоже пылают, но румяным лаком.
Прокатывает блеск и шелест автомобилей, на соседней улице катятся, осле-
пительно вспыхивая спицами, другие автомобили, черные и дорогие, а на
стене вдоль воды играет световая рябь. В зеркальную мглу улицы убегает
последний трамвай, и над ним, по проволоке, с треском и трепетом стре-
мится вдаль бенгальская искра, лазурная звезда. Крыши под луной лоснят-
ся: серебряные углы, косые провалы мрака.
Слева, на задней голой стене дома, распластались гигантские черные
сердца — увеличенная во много раз тень липы, стоящей близ фонаря на
краю тротуара. Огненный закат млеет в пролете канала, и влажный мост
вдали окаймлен тонкой золотой чертой. Оранжевая стрела проткнула
лакированный башмак какого-то франта, выскочившего из автомобиля.
Еще не высохли лужи, окруженные темными подтеками; живые глаза
асфальта отражают нежный вечерний пожар. Дома серые, но зато крыши,
Набоков без Лолиты
лепка над верхними этажами, золотые громоотводы, каменные купола,
столбики, которых днем не замечаешь, так как люди днем редко глядят
вверх, теперь омыты ярким охряным блеском, воздушной теплотой вечер-
ней зари, и оттого волшебными, неожиданными кажутся эти верхние вы-
ступы, балконы, карнизы, колонны, резко отделяющиеся желтой яркостью
своей от тусклых фасадов внизу.
Сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые
статуи, поднимающиеся к небу золотые, нестерпимо горящие лиры. Бледное
блистание летает по небу как быстрый отсвет исполинских спиц, и блестит
асфальт, сырой, смазанный черным салом, и текут в нем отблески фонарей.
На беленую лавку легли райскими ромбами отражения цветных стекол,
при сером свете фонаря шевелились петлистые тени деревьев, ветки отра-
жались в небольшой луже, похожей на плохо промытую фотографию, ряд
огоньков по туманному фасаду, наискось уходившему в сумрак, скользили,
играя фонарями и блестя гладкими крышами, отблеск освещенного трам-
вая взмыл оранжевой зарницей.
Все эти чудеса позаимствованы из первого — из одного! — тома сирий-
ского пятитомника, в котором и прозы-то сильно меньше, чем стихов и пе-
реводов. В дальнейшем В.В. лишь оттачивал мастерство изображения ко-
сых отблесков в мокром асфальте. Десятилетие спустя в одном из рассказов
он автопародийно оборвет стартовавшее было скольжение горящих крыш:
— Шел утром дождь, дело было ранней весной, одна часть Берлина отра-
жалась в другой — пестрое зигзагами в плоском — и так далее...
Вот именно что «и так далее». Одна часть Берлина отражается в другой —
и так далее.
Да, почти все эти отблески пойманы хищным зрачком писателя и поса-
жены на острое перо в будто бы обрыдлом городе Берлине. Сплошной не-
мецкий экспрессионизм, но не надсадно-гавюжий, а спектрально-празд-
ничный — во все горизонты.
— Тень железного узора на двери изгибалась через нее и продолжалась
на нем наискось как портупея, а по темной стене ложилась призматическая
радуга...
Кто мог написать?
Дурная бесконечность симметрии
Одним из главных «литературных противников» Сирина был неудачливый
стихотворец и скандальный мемуарист Георгий Иванов, демон-самогон-
щик, договорившийся в результате до уже упоминавшейся мною фантас-
магории: будто бы критик Адамович (не просто какой тезка, а друг и сорат-
ник Иванова!) в начале 1920-х в Петербурге расчленял и топил по частям
в Фонтанке толстосума-ротозея.
Вражда началась на рубеже 20-30-х годов. Жена Иванова Ирина Одоев-
цева («я маленькая поэтесса с огромным бантом») прислала Сирину
из Парижа свой роман «Изольда» (кто-то уже каламбурит, что по дороге
301
Косвенные приметы, набокие зеркала
в Берлин презент мог и растаять) с дарственной надписью «Спасибо за
„Король, дама, валет“».
Надпись, рассчитанная на «взгляд из будущего». Издалека может казать-
ся, что обитатели эмигрантского Парнаса обменивались нектаром благо-
уханной прозы любезно и взаимно.
Сирин, заинтересованный на своем облаке слоновых когтей в дружбах
не с будущими обитателями словаря «Русская муза в изгнании», а с музами
[96 п: 680] а ля натюрель, написал о романе Одоевцевой что думал («англичанин пах-
нет клюквой... общее неприятное впечатление...»). Вскоре — а именно
в первом номере «Чисел», новом органе «парижской ноты», появившемся
весной 1930-го, — Иванов, брызгая и брюзжа, бряцая брылами, изошел
[57: iso] в адрес Сирина выражениями типа «смерд, кухаркин сын и черная кость»;
это звучало настолько странно, что исключало возможность дуэли, о кото-
рой Набоков для порядку «подумывал».
Вражда из-за рецензии — вечный сюжет хрестоматий литературного
быта. Бубнов, прозаик из «Подвига», склонен считать, что всякая бранная
рецензия на его книги подсказана побочными причинами — завистью,
личной неприязнью или желанием отомстить за обиду. Еще в «Анне Каре-
ниной» Кознышев долго не мог ничем объяснить, за что его печатно взду-
ли, пока не вспомнил, как поправил критика «в выказывавшем его невеже-
ство слове». Но даже если и верить, что макраме литературных репутаций
плетутся из веревочек кровных обид (публика склонна к конспирологии,
в этой части своего коллективного тела она типичная дура), все же сооб-
щаю, на правах человека, сведущего в предмете, что первый камешек с го-
30 2 ры, как правило, сталкивает честная, концептуальная несовместимость.
В чем же они были несовместимы?
Самые знаменитые строки Георгия Иванова:
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.
То есть отраженья вроде бы искажаются, но ключевое слово — «взаим-
но». Картинка нарисована симметричная. И поставлены зеркала олакреза-
ми, визавями, тетатетом глаз-в-глаз.
Ходасевич, пламенный курощатель «парижской ноты», которую воз-
главляли Иванов и Адамович, писал в «Возрождении» от 14 марта 1937 года
о поэзии Иннокентия Анненского, знамени этой самой ноты, об «ужасе
двух зеркал, отражающих пустоту друг друга».
В голове хворого Лужина вырастали два отражающих друг друга зерка-
ла: Лужин за шахматной доской, и опять Лужин за шахматной доской,
только поменьше, и потом еще меньше, и так далее, бесчетное количество
раз: и это не философская глубина, а дурная бесконечность.
Но даже бабочка симметрична лишь для проформы и для профана,
а под микроскопом любомудра полна боевых царапин и увертливых нару-
шений гармонии.
Набоков без Лолиты
В «Путеводителе по Берлину» скептический читатель найдет повод ущу-
чить автора путеводителя по Набокову. Как прекрасно сияет симметрич-
ное слово, любовно выписанное неизвестным ангелом на заснеженной
трубе! Процитировать этот ласковый фрагмент всегда приятно:
— Сегодня на снеговой полосе кто-то пальцем написал «Отто», и я поду-
мал, что такое имя, с двумя белыми «о» по бокам и четой тихих согласных
посередке, удивительно хорошо подходит к этому снегу, лежащему тихим
слоем, к этой трубе с ее двумя отверстиями и таинственной глубиной.
Согласен, волшебненько вышло, но все же настаиваю, что проворонен-
ную симметричность Сирин старательно дезавуировал.
И в «Сказке», наделяя чорта женского пола фамилией «Отт».
И — по наблюдению Седого Космополита — в «Приглашении на казнь», [i ь 276]
где симметричность «тут» (toot) трактуется как замкнутость и тупость
(кстати, и у Ходасевича в одном из стишков курсивным тот обозначается
именно чорт в автомобиле).
И в «Драке», где выведен пускай и не мерзкий, но жалкий и бессмыслен-
ный Отто.
И совсем противный Отто, любивший повторять, ударяя кулаком по
столу: «Человек первым делом должен жрать, да!», встретится нам в «Каме-
ре обскуре» (Сирин осторожно заметит, что эта его аксиома сама по себе
довольно правильная).
Сирина раз за разом тянет к асимметричным решениям, сдвинутым от-
ражениям.
В «Драке» поведение людей, застигнутых небесным капризом, сравнива-
ется с последними днями Помпеи, только прячутся они — в преисподнюю, 3^3
на станцию подземки.
Для Драйера источником непрестанного наслаждения является внеш-
ность профессора и скульптора, трудящихся над волшебными манекена-
ми: профессор хайраст и неряшлив, скульптор — солиден, в высоком крах-
мальном воротничке, наглядно переворачивает стереотип ожидания.
В «Приглашении на казнь» дебютантов особо завораживают «нетки»:
бесформенные, пестрые, в дырках и пятнах рябые крякобрязины, которые,
отразившись в специальном зеркале, обращаются в цветок или корабль.
Я был как-то на капустнике на Моховой, на одном из тех праздников, где
все студенты независимо от половой принадлежности облачены в разно-
цветные трико и ноздри их припудрены, как перед представлением у импе-
ратрицы, так что гостям там, по уму, делать нечего, и я лишь из-за кулисы
вполглаза глянул на Танец Нетков: Лева из Пскова и Гуля из Луги были обря-
жены в драных плюшевых обезьян (Гуля к тому же в инвалидной коляске,
это вообще ее амплуа), а потом сыпалось с колосников блескучее зеркало,
пропитанная елочным боем вата, и Гуля с Левой обращались в серебристую
Машеньку в ртутной тунике и алых туфельках, и она проносилась над сце-
ной, что твоя Жизель, и взгляд не успевал за ножницами ее ножек.
В какой-то сиринской книжке плеснет зеркало, что сразу треснуло бы,
отразись в нем хоть одно подлинно человеческое лицо.
Косвенные приметы, набокие зеркала
Лужин знакомится с невестой, когда она поднимает его платок: она, а не
он. К рыжей тете, любовнице Лужина-старшего, ходит младший Лужин —
стучать в шахматы. В проспекте туристической фирмы Лужина магнети-
зирует сахарно-белая гостиница с пестрым флагом, веющим в другую сто-
рону, чем дымок парохода на горизонте.
Полной симметрии не бывает. Природа не повторяется. Известна исто-
рия о фильмовом режиссере, который для ускорения съемок детского се-
риала нагнал в кадр близнецов — исполнителей главных ролей: не выгоре-
ло, ибо близнецы — совершенно разные люди.
Маленький Лужин вновь и вновь давит камнем только что раздавленно-
го жука, «стараясь повторить первоначальный сдобный хруст».
Тщетно.
В «Даре», правда, есть усадебный сторож, дважды опаленный ночной
молнией, но и опалить-скрючить («корявый старик») молния уж наверня-
ка постаралась в соответствии со всеми требованиями асимметрии.
— В порыве к асимметрии слышится мне вопль по настоящей свобо-
де, — резюмирует наконец один из Кончеевых.
Непохожесть интереснее похожести, частное важнее общего, «сходство
видит профан», а знаток — подробности.
Чернышевский любил энциклопедии, Годунов-Чердынцев собирает
«случайные, неучтенные детали». В «Посещении музея» терпеливо пере-
числяются сокровища провинциального собрания — две чучельные совы,
фотография удивленного господина в эспаньолке, черные шарики различ-
ной величины (с виду — подмороженный навоз), компания пористых ока-
304 менелостей, бледный червяк в мутном спирту. В «Ультима Туле» прибой не
поленился засыпать берег коробочкой из-под папирос, камнем, похожим
на ступню помпеянца, фарфоровым ивернем... великолепна в этом переч-
не «безотносительная ржавка».
[86:88] — Я всегда был страстно охоч именно до мелкого шрифта, а зевалось
мне именно над принципиально общедоступным, которое, разумеется,
и не усваивалось мною из-за того, что я избирал для мечтаний заповедные
чащи петита, — так Вы писали, Владимир Владимирович, во «Втором до-
полнении к ,,Дару“».
Исход битвы решает не движение исторических масс, а гуляка-случай
с прикушенным языком на плече.
Марширующий по главной дороге лишен возможности насладиться
прелестью миниатюрной рощицы, уникальным ракурсом, требующим
хоть шажка да на обочину, цветком под листком.
Общие слова некролога — «пламенел любовью к России», «всегда вы-
соко держал перо» — унижают покойного Иоголевича, в котором Мар-
тыну жальче действительно незаменимого — лепных морщин, пиджач-
ной пуговицы, висевшей на нитке, манеры всем языком лизнуть марку,
прежде чем ее налепить на конверт, да хлопнуть по ней кулаком. Это,
считает Мартын, в каком-то смысле ценнее общественных заслуг по-
койного.
Набоков без Лолиты
Лида в «Отчаянии» из деревьев отличает только березу, Л.И. Шигаев в по-
священном ему рассказе не отличает пчелы от шмеля и ольхи от орешника.
— Молодые поэты любят сравнивать себя со зверьми, причем неизвест- [96ш:692]
но с какими, — это из сиринской рецензии, и в быту он любил подтруни-
вать над приятелями, путающими апельсины с осинами.
Брезгливое отношение к любого рода обобщениям — один из столпов
набоковской галактики, в чем, конечно, зияет известная логическая дыра:
столпы-то все сомнительны, в том числе и этот.
«По-русски»
Справедливости ради: В.В., во всяком случае в сиринском возрасте, умел
посмеяться над собой первым. У последнего, а может и предпоследнего, из-
гиба кротового коридора, откуда скалится плесневелая зга, за рулонами
былых рубероидов, между остовом дамского велосипеда и безголовым ра-
хитичным скелетом маркитанта кряхтит дубовый амбар с позолоченной
вывеской «Русское». Сюда призыв «Не обобщай!» не распространяется.
Сюда Сирин валит повадки и улики, что частично и впрямь имеют каса-
тельство к национальному ведомству, но в целокупности производят впе-
чатление довольно ерническое.
Здесь Берг сверху, с размаху, по русскому обычаю, коршуном налетает
на вашу руку и крепко пожимает ее («Подлец»).
Здесь разоблачаются ухватки российских стригунов, которые, как изве-
стно, много стрекочут ножницами впустую («Бритва»).
Здесь мреют «слегка тревожные взгляды, которыми за границей обме- 3^5
ниваются русские» («Соглядатай»).
В Марианне из «Человека из СССР» «по ногам и губам можно сразу
признать русскую»: все ли режиссеры сойдутся с актрисами, как во испол-
нение этой ремарки следует кривить ноги и губы?
У Мартына кожа кремового оттенка с многочисленными родинками,
«как часто бывает у русских».
Иванов («Совершенство») не снимал пиджака, ибо, как многие русские,
«стеснялся появляться при дамах в подтяжках»».
В «Отчаянии» подчеркнуто, что снимать перчатку при рукопожатии —
это правило русской вежливости.
Шелудивые черти в «Памяти В.И. Шигаева» естественно именуются «са-
мой что ни на есть русской галлюцинацией».
В «Круге» играет на скатерти русский пятнистый свет, и не всякий ангел
отличит его от норвежского или немецкого пятнистого света.
Вот славно и на сей раз точно, по-моему, в «Тяжелом дыме»: «страстный,
русского порядка, спор у знакомых о том, как ближе пройти от такой-то до та-
кой-то улицы, по которым, впрочем, никто из спорящих никогда не хаживал».
Сцена из «Дара»:
— Накинув на шею серополосатый шарфик, он по-русски задержал его
подбородком, по-русски же влезая толчками спины в пальто.
Косвенные приметы, набокие зеркала
Там же лыбится одним из тех открытых русских лиц, открытость кото-
рых уже почти непристойна, Щеголев.
[152:38] Австралийскому Биографу В.В. говорил, что для русских, более чем для
других народов, значимо детство.
И представители референтной группы сунули в амбар пару-тройку
[134: юз] свитков со своими лептами. Тургенев обращал внимание на «русскую ма-
неру» не писать адреса (и тем лишать собеседника возможности тотчас от-
ветить на письмо).
Ходасевич вспоминал встречу с кем-то:
— Знакомимся, но по-русскому обычаю фамилии так произносятся, что
не разобрать их.
Особо хороша лепта от Веры Слоним. Австралийский Биограф написал,
что Набоков-штрих, ужиная как-то со студентками, обронил, что любит
женщин с маленькой грудью.
Вера возмущенно начертала на полях:
[ 152:192] — Такого быть не может! Исключено для русского человека!
Комната смеха
Хамелеонное словцо из тридцать третьей главы «Подвига»:
— Дбллары, доллары, доллара...
Зачем подмигивают они сороконогими ударениями?
Сирин, вслед за Снядзским Яблоновским, высмеивает «эмигрантское
косноязычие»?
ЗОб Или, напротив, радуется разнообразию словоформ?
Журналист Барс в «Защите Лужина» — когда, подгоняя извилистую
мысль, он высекает из нее стройность и благородство, это связано с упо-
треблением неправильных ударений.
Себастьян Найт — герой с проблесками автобиографичности — не там
ставит ударения в словах типа «статуя» или «библиотека», неверно произ-
носит Аполлона и Дездемону.
Чемпионы по неправильной речи — роялист Зильберман из «Найта»
и рижанин Буш из «Дара».
Первый изъясняется синтагмами типа «гаврит парусски?».
Второй представляет в литературном кружке философскую траге-
дию, в прологе которой Одинокий Спутник стучится в ворота примор-
ского городка, а потом мы присутствуем при следующем разговоре на
Улице Греха:
первая ПРОСТИТУТКА: Все есть вода. Так говорит гость мой
Фалес.
ВТОРАЯ ПРОСТИТУТКА: Все есть воздух, сказал мне юный
Анаксимен.
ТРЕТЬЯ ПРОСТИТУТКА: Все есть число. Мой лысый Пифагор
не может ошибиться.
Набоков без Лолиты
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОСТИТУТКА: Гераклит ласкает меня, шептая:
все есть огонь.
СПУТНИК (входит): Все есть судьба.
Потом возникают два хора, из которых один каким-то образом пред-
ставляет волну физика де Бройля и логику истории, а другой, хороший
хор, с ним спорит, и начитанный перечитыватель зрит тут отсылку к пе-
нию минерала в приписанной Достоевским Тургеневу пьеске — кажется,
в «Бесах».
Потом еще явится у Буша Торговка Лилий, Торговка Фиалок, Торговка
Разных Цветов, заметелится Танец Масков — как славно переставлять из
черного тома в файл эту арлекиниаду; называйте их пародией, не называй-
те, а мне — и Сирину! — это не помешает наслаждаться пластилиновой
податливостью первосортного языка, а также отметить, что хор, представ-
ляющий «логику истории», то есть некое Правило, противопоставлен «хо-
рошему» хору. «Занавес» Буш ударяет на последний слог — но ведь и это
логично, занавесом действие завершается. Занавешивается, не побоюсь
этого слова.
Сверх того милейшие Зильберман и Буш оказываются волшебными по-
мощниками: первый помогает рассказчику «Найта» набрести на след бра-
та, а через посредничество Буша выходит в свет Федорова «Жизнь Черны-
шевского».
Коверкают великим могучего и неприятные герои: Трощейкин, живо-
писец с лицом цвета бюджетной ветчины, произносит «возбуждение» как
«вызбюздение» (впрямь брр); неприятно «чичас» в устах действующего
лица той же пьесы (речь о «Событии») Элеоноры Шнап; «осколки сткла»,
«речные Праги» «и мудро наши ветринары вылечивают млечных крав» —
иезуитский дискурс тоталитарного гос-ва в «Истреблении тиранов». Но
как музыкно выквыряет ветрнар все сткло из облых крав (обтрескавшись
полынных трав)! И сколько читателей улыбнулись «фальшивым» рифмам
дважды-псевдо-Шишкова (есть у Сирина и такой коллекционный метали-
тературный монстр): «жасмина — выражала ужас мина», «беседки — бес
едкий», «ноктюрны — брат двоюродный».
Стихи Яши Чернышевского невысоко ценит Федор Годунов-Чердын-
цев, но с удовольствием нанизывает на шампур неудачные ударения —
«предан — передан», «обезличить — отличить», смакует звучание слова
«октябрь», который развалился на трех креслах в стихотворном дорме-
зе, заплатив лишь за два, вовсе не смеется над тем, что «пожарище» озна-
чает большой пожар, а скорее удивляется, что вот еще и так можно.
И «фрески Врублева» не уничижает, а именует трогательным прелестным
гибридом.
Сирин любит неправильные слова, ему нравится искажать — пусть
и руками недотеп-героев. Чужими руками — но ведь каштаны!
Он с удовольствием отмечает, когда в результате нарушения рифмы
«строка перелилась через край».
307
Косвенные приметы, набокие зеркала
— Жители Пекина льют все помои на улицу, и здесь постоянно можно
видеть, идя по улице, сидящих орлов, то справа, то слева, — смачно цити-
рует он ошибку компиляторши, принявшей человеческую физиологию
в Пржевальском документе за занимательную орнитологию.
От лица рецензента Линева, тиснувшего отзыв на «Жизнь Чернышев-
ского», Сирин радостно перевирает название пахотного романа («Что нам
делать»), даты жизни Николая Гавриловича, а также, между прочим, нахо-
дит в труде Годунова-Чердынцева забавное неблагозвучие, которого ни Фе-
дор, ни Сирин не обнаружили, — «Их сортирует (?) судьба в предвидении
нужд (!!) биографа». В последнем примере всезнающего гениального авто-
ра ставит на место абсолютно ненадежный персонаж-графоман.
Есть в «Даре» и принципиальная, на иной взгляд, пародия на активиста
союза русских писателей в Германии Ширина. В его романе «Седина» Брод-
вей изнывает в шорохе долларов, гетеры в гетрах кусают за хвост золотого
тельца, в тот же миг в Париже, в низкопробном притоне, старик Лашез,
бывший пионер авиации, а ныне дряхлый бродяга топчет расписными
сапогами старую проститутку Бюль-Бюль-де-Сюиф. Из московского под-
вала меж тем выходит палач, дабы потюлюкать махонького щенка, в Лон-
доне лорды и леди распивают под джимми коктайль, в арктических снегах,
на пустом ящике из-под мыла ковыряется в ноздре покоритель Эриксен,
гадает на козуле — «полюс или не полюс?». И таинственный Иван Червя-
ков средь всей этой пляски стихий бережно обстригает бахрому един-
ственных брюк.
[45:760] Старший Комментатор замечает, что отрывок из «Седины» «представ-
ЗО8 ляет собой синтетическую пародию на целый ряд тематических стереоти-
пов (связанных главным образом с критикой разлагающегося Запада)
и модных стилистических приемов современной прозы, как советской,
так и эмигрантской». Щекочутся тени Пильняка, Эренбурга, Маяковского,
Пастернака, Сейфуллиной, Лавренева, истрепанная тень Шкловского бол-
тается на тыну.
Все так. Синтетическая пародия.
Выше, однако, цитировался построенный по тому же монтажному
принципу фрагмент, в котором возрождение дачников в России и шелест
английских забастовок перемежались смертями Дузе и Пуччини, неудач-
ным покорением Эвереста и плыла надо всем этим сребристая сигара ди-
рижабля, передававшая привет незадачливым берлинским циклонеткам.
И этот фрагмент принадлежал Сирину — ну пусть он пародийно отражал
кашу в котелках пикейных жилетов, но в любом случае являлся текстом не
ширинским, а сиринским.
Пародия — если уж так нравится это слово, самим звучанием своим ис-
кажающее высокую породу, — это не только уничижение-разоблачение-
насмешка, а деконструкция, что ли, образное средство, уместное в богатом
загашнике.
В «Других берегах» тот же прием лишен, по видимости, малейшего иро-
нического подтекста:
Набоков без Лолиты
— В апреле того года Пири дошел до Северного полюса. В мае пел в Па-
риже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых выводках цеппели-
нов, американский военный министр бла-бла-бла...
Может быть, в иной книжке это нанизывание газетных шапок и играло
роль пародии, разоблачало колчечленность стиля, но здесь-то и следа от та-
кой иронии нет (если, конечно, не считать Набокова-штрих в целом паро-
дией на Сирина).
Кривые зеркала, набокие завой — да, кривые они и набокие. Но в этом
мало того что нет ничего дурного — кривизна и набокость размывают
косную симметрию, гальванизируют скучное смертеподобное двойниче-
ство... именно в них занимается жизнь.
Сирин ворчал в «Адмиралтейской игле», что «достаточно одного прила-
гательного, поставленного, ради красоты, позади существительного, чтобы
извести лучшее воспоминание», пенял сонеторезу Бенедикту Дукельскому [96 ц:636]
на незамысловатые ходы типа «руки твои» вместо «твои руки»... а сам-то,
сам-то, Владимир Владимирович!
Река илистая, город мглистый — не из Вашей ли «Русской реки?». Бред
прихотливый — не из «Нежити» ли?
Правила и вкус — записаны в меню, куда же без них, но вот детская ра-
дость словесной игры, коверканья и ковярканья, глокая куздрость — это
тоже искусство, которому, может, еще не успели подшуровать правил.
Цепкой ли бедой
— Мы слизь. Реченная есть ложь,— не дылда-второгодник, сын зобастого 3^9
золотаря, куражится над тютчевской строкой, а интеллигентнейший Васи-
лий Иванович, мученик облака, озера и башни, прямо названный «предста-
вителем автора», коверкает бессмертную поэзию. Собственно, чего уж, сам
Сирин и коверкает.
— Возьми-ка слово «ропот», — говорил Цинциннату его шурин, остряк
похлеще Сирина, — и прочти обратно. А? Смешно получается?
Конечно, Владимир Владимирович! Мы с Вами еще название Машень-
киных духов «Тагор» в ее романе обратно читали... нет, это мы без Вас,
простите.
— Поросший кашкою и цепкой ли бедой, — шалит в тетрадке школь-
ник из «Лебеды» (поисковик сознался, что это искаженный Майков, но
спросил на всякий случай, не имел ли я в виду «поросший кошкою и цап-
кой лебедой»).
Одному из героев «нравится ставить слова в глупое положение, сочетать
их шутовской свадьбой каламбура, выворачивать их наизнанку, заставать
врасплох. Что делает советский ветер в слове ветеринар? Откуда томат в ав-
томате? Как из зубра сделать арбуз?»
Опасностью, что из космического или умозрительного одна буква выпа-
дет, Сирин делится неоднократно, только вот не опасность для него эта
склонность букв к чехарде, а новые возможности.
Косвенные приметы, набокие зеркала
— Положение становится парадоксальным, если не попросту саль-
ным, — это шуточка Трощейкина.
— У хризантемы всегда есть темы, — вторит Трощейкину Ревшин,
любовник его жены.
Но придуманы-то эти каламбуры Владимиром Сириным.
Так же как и остроумная рифмочка «у стойки» и «неустойки» из
«Бахмана».
И поучительная диктовка «Это ложь, что в театре нет лож», и искромет-
ное предложение придумать рифму на слово «опыты» — это все сирий-
ское, а не «ширинское».
Оценка экзерсисов зависит, конечно, и от степени пуризма наблюдателя.
Человеку изысканно остроумному придумывание рифм к «опытам» мнит-
ся одним из благороднейших времяпрепровождений, даруемых нам релик-
вариумами первосортного языка, иной ревнитель словесности предпочтет
примеры с более богатой литературной родословной; что же, и за такими
дело не станет.
Я уже поминал добрым словом убитого в континентальном сарае
австрийского герцога, страницей до его смерти в «Подвиге» читали «Отче
наш» по-славянски, «причем какого-то Якова мы оставляли должникам
нашим» (об этой молитве едва не лучше есть в «Вечере у Клэр» Гайто Газда-
нова, где один из героев воспринимает синтагму «иже еси на небеси» как
«если уж ты там, то чего ж тебе стоит...»).
Слова сами выстраиваются в веселые загадочные картинки. «Ветер был
одинок — только вдали бегал непривлекательный сеттер, — да пользова-
ЗЮ лась его предложным падежом крымская гора. А родительный — пригла-
шал геометра».
Сами высекают из заслуженных паркетин крутьверти чечетки: «То ты
пишешь не то, Тото, то — то то, то это мешает писать вообще».
Скаркиваются в скороговорки: «Колокололитейщики переколотили вы-
карабкавшихся выхухолей».
Анаграммы — другое, туда буквы надо пленять силком. Мало какая доб-
ровольно полезет за пазуху кому-либо из нижеперечисленных господ...
всяк явно с вывертом.
Блавдак Виномори
Mr. Vivian Badlook
Vivian Darkbloom
Vivian Bloodmark
Baron Klim Avidov
Van Bock
Вивиан Дамор Блок
Adam von Librikov
Тут точно не вся компания. Один-другой сбежали, я уж махнул рукой от-
лавливать. Всех, как любили повторять иные конспираторы, не перевешаете.
Набоков без Лолиты
Одну я взамен сам придумал женскую: Кавадина Биломор, очкастая, с пе-
ром в шляпе, в полосатых чулках, 24 года, автор строки «Шницель из слез
под брильянтовым соусом», которую (строку) Маяковский, мнится мне,
хотел выкупить за двадцать рублей, потом давал сорок, сорок два с полти-
ной, но девушка предпочла Мовлади Вокнабира.
Мне вот занятно, насколько случайной читатель сочтет иллюминацию
сада в «Приглашении на казнь» — на вечеринке, устроенной в честь палача
мсье Пьера и Цинцинната, накануне торжества казни:
— Миллион лампочек, призванный составить по всему ночному ланд-
шафту грандиозный вензель из П. и Ц.
Машенька Шеншина пришла в восторг, поделилась с завкафедром За-
богдановым, и он под такую декорацию обещал снять Летний сад. А в lj-co-
обществе ru_nabokov воротили от вензеля носы: дескать, наш мастер не та-
ков. А по-моему, как раз таков.
Йеллоу блю ваз
Слово «нимфетка» — это простой перевод слова «бабочка». Калька. цеп359]
Сирин, творя абзац про цепкую лебеду, может, и не имел сразу в виду
полиязычной искры, но, взявшись позже за перевод рассказа, ликовал,
что orache (лебеда по-англ.) «по чудотворному совпадению воспроиз-
водит в написании „или беда“, or achey предполагаемое русским ориги-
налом».
В большинстве случаев не о совпадениях, конечно, речь, а о бряцаниях
языками, которые у нашего благородного дона отскакивали от любых, вот ЗИ
будто за вычетом немецких, зубов.
— Зад, как сказал бы Шекспир, зад из зык вещан, — речет Писатель
в «Событии», и что возразить, если тут впрямь, как полагает комментатор,
намек на Ивана Бунина, говаривавшего: «А вы много знаете русских слов [96 V: 764]
для обозначения зада? А есть прекраснейшие!»
Неловкую конструкцию из «Соглядатая» — «Его немецкое „спасибо"
в точности прорифмовало с предложным падежом банка, в котором он,
кстати сказать, служил» — мог я, наверное, в путеводителе проигнориро-
вать, не первостатейный шедевр, что же, вот и первостатейный, даром что
из Набокова-штрих.
Явившись в 1951-м в какой-то из американских щелей на первое заня-
тие со студентками, охочими до русских букв, Владимир Владимирович
увидал на столе желтую вазу с голубыми цветами.
— Йеллоу блю ваз, — мгновенно среагировал опытный голкипер Набо-
ков. — Это, вероятно, важнейшая фраза, которой я вас научу.
Милейший перевод из Апухтина в исполнении дальней родственницы
Годунова-Чердынцева тети Ксении:
Le gros grec d’Odessa, le juif de Varsovie,
Le jeune lieutenant, le general ag£,
Косвенные приметы, набокие зеркала
Tous ils cherchaient en elle un peu de folle vie,
Et sur son sein revait leur amour passager —
перевод будто бы первой строфы его «Пары гнедых» —
Грек из Одессы и жид из Варшавы,
Юный корнет и седой генерал —
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал, —
но эта первая строфа сама есть перевод из французского романса С.И. До-
наурова, и, соответственно, это у Апухтина перевод, а не из Апухтина. Ка-
кие, право, кружева...
В «Даре» болтается на столбе клочок объявления о расплыве синеватой
[по] собаки, и в ru_nabokov lj-юзер eiuia не просто пояснит, что буквами verschw
начинаются глаголы «расплываться» и «пропадать» (verschwimmen и ver-
schwinden), но и выскажет предположение, что имя собаки — Азор, при-
мчавшийся из известного палиндрома о розе. Azur verschw! — Азор поте-
рялся! С лазурным Азором, может, и фантазия, объявления о собачьих
пропажах так не начинаются, синеватость скорее касается чернил, а не име-
ни пса, но в целом — великолепная конструкция на столбе.
В «горсточке текучего золота» («Подвиг»), выделяется французское на-
именование этого деликатного металла.
Мы еще встретим его во франкоязычной шараде из Федорова детства,
312 где загадан через золото и ангела апельсин, orange:
mon premier est un metal precieux,
mon second est un habitant des cieux,
et mon tout est un fruit delicieux.
Русское «Повар ваш Илья на боку» из «Ultima Thule» — это французское
«Pauvre vaches, il у en a beaucoup» («бедные коровы, как их много»).
В «Камере» Магда выучивает французскую тарелку — она по-ихнему
будет soucoupe, — и не расслышим ли мы здесь демонического «суккуб»
применительно к самой Магде?
Вот удачный еще комментарий Морозного Ариозо к телефонному мо-
нологу лужинского демона Валентинова:
[Ю1:181] — «Каждая секунда дорога. Я его жду сегодня ровно в двенадцать. По-
жалуйста, передайте ему. Каждая секунда» («Every second is precious. Every
second»). Идея повторения, заложенная в этимологии слова «секунда» (веду-
щего свое происхождение от латинского термина «второе деление»), здесь
подчеркивается повтором самого этого слова в монологе Валентинова.
И последняя капля в эту маленькую коллекцию: трехъязычная реплика,
адресованная очередной оставленной барышней «человеку из СССР»:
— Ну-с, по-немецки — орех, по-гречески — надежда....
Набоков без Лолиты
К, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т ?
В отрочестве Володя мог погнать ночью на велосипеде из Выры в Рождест-
вено (это близко, две версты, с изгибами трассы чуть побольше), чтобы
разбудить дядю Василия Ивановича, не любившего вообще-то неурочных
визитов, и взять томик Фета.
Приспичило выяснить, кто написал «Сияла ночь...» Отец Фета знал хо-
рошо и в полиграфическом доказательстве своей правоты не нуждался,
а Владимир-младший, настаивавший на Апухтине (что-то он у нас зачас-
тил), наверное, не столько вопрос «кто мог написать» решал, сколько радо-
вался свежему рывку в спелую августовскую темноту да возможности ли-
рически выкурить на косогоре сигарету.
Человек устроен по-разному, в том числе один и тот же человек в разные
моменты своей жизни. Теплая ночь, звезды размером с телят, мать велела вы-
носить кефир, дочери воркуют над вязанием, Елене не дается пассаж в англий-
ском учебнике, кликнуть бы брата, кружится семейное тело, но Володя оседлал
двурогого друга, чтобы махнуть через речку за, видите ли (это Ольга фыркну-
ла, а отец усмехнулся в усы), Фетом... парень курит на мосточке, опершйся на
рога (на велосипедные!),а в шустром его мозжочке (ударения сбивать — так
парами) наливается строка (стихотворного стиха). Сердце наблюдателя сжи-
мается до сухофрукта, до каучукового жеваного вырваня, оно не столько бо-
лит, сколь мироточит, буде возможно сие в крестословице грудных жил и кос-
тей, и наблюдатель почти не плачет, поскольку уже понял, более чем до
половины-то добредя, что о значении слов «семейное счастье» ничего не изве-
стно ему настолько, что не стоит и рыпаться. Все слезы его будут — ни о чем.
Наблюдатель лишь заметит, что Володя в этой картине «Счастье семей-
ное» — на обочине, в другом слое. Присел мотыльком, что ли, на раму.
Путти Володя.
На знаменитой фотографии старые Вера и Владимир играют в шахматы
на витом балкончике на фоне далеких гор, столь сложно вылепленных, что,
если на заказ, всех гонораров от «Лолиты» не хватило бы. Тоже семейная сце-
на, и, безусловно, счастливая, хотя я чувствую некоторый надрыв в привычке
пожилых Набоковых развлекать нечастых гостей пти-жо домашней выпеч-
ки, вопросами типа «Из чего делается голубое вино?». «Туда добавляются
можжевеловые ягоды», — выдержала экзамен Филиппа Рольф, шведская по-
этесса. Ей сразу еще тестовые вопросы: «Снятся ли вам цветные сны?», [152:364]
«Видятся ли причудливые образы в потеках на потолке и в рисунке обоев?»
Это все бы хорошо, когда родители в комплекте (пусть один временно
и рокирован в экспедицию), детей горсть, толстая няня вздорит, что поте-
рялись очки, бурчит такса... а когда два старика накидываются с голубым
вином на случайного гостя... грустно?
И есть что-то от желтоватого дома, когда берлинский шахматист пробует
развлечь дубоватого совмальчика Митяя. Орет «Але!» — указывая на телефон.
— Поезд и пропасть! — попробовал опять Лужин и простер другую ру-
ку, указывая на собственную картину на стене.
313
Косвенные приметы, набокие зеркала
— Автор одной божественной комедии! — это бюст Данте подвернулся.
Морозный Ариозо меж тем нашел во всей этой лихорадке стройную
шараду.
Телефон означает «Алло», надвигающаяся катастрофа (поезд рухнется
в пропасть) намекает на «горе» («несчастье»), а Данте — Алигьери; отсюда
целое — это «аллегория», самая ткань «Защиты Лужина». Ну пусть.
В воспоминаниях Николая Набокова (кузена и композитора) есть мо-
менты о Володе-изверге, который буквально в краску вгонял несчастных
сородичей, не умеющих отличить, скажем, Антананариву от какого-либо
столь же сомнительного населенного пункта.
Представляю, как он мог достать своей выспренней эрудицией. Но и как
мог радовать близких — готовностью уже из себя краску выжать ради ра-
дости своего Другого. Его письма Вере полны головоломок и акростихов.
Есть письмо с кроссвордом в форме бабочки, Владимир пишет, что два ча-
са рисовал-составлял...
Жизнь отвечает той же монетой — Федор и Зина встречают на ночной
улице забор бродячего цирка, составленный из досок, чей порядок при
новой сборке нарушен — тут нога зебры, там спина тигра, а чей-то круп
соседствует с чужой перевернутой лапой. И массивы домов как темные
крестословицы, в которых еще не все решил желтый свет.
В американской лекции о Толстом Набоков сочувственно цитирует
фрагмент из «Анны Карениной», где Кити и Лёвин пишут мелом длинню-
щие фразы из одних первых букв — и ухитряются их разгадывать. Вы, ко-
нечно, помните в общих чертах этот фантастический эпизод. Лёвин пишет
314 «к, в> м>о: э> н> м> з, л, э, н, и, т», а Кити все поняла:
— Когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это что ни-
когда, или тогда?
Набоков согласен, что «все это немножко натянуто», но тут же замечает,
[90:244] что любовь творит чудеса и наводит телепатические мосты, потому «вся
сцена художественно оправданна».
Вот подлинное чудо «художественной оправданности» из «Отчаяния».
— Мое первое, — сказала Лида, лежа с закрытыми глазами, — мое пер-
вое — большая и неприятная группа людей, мое второе — зверь по-фран-
цузски, а мое целое — такой маляр.
Это из уже упоминавшейся сцены слепоты Германа, который не сообра-
жает, что его жена лежит на кровати «маляра» Ардалиона после сеанса
любви, и чудо в том, что Сирин таким — вот уж неожиданным — образом
заставил блаженствующую после соития женщину произнести имя только
что оставившего ее любовника.
Сцена эта набита намеками на свое истинное содержание. Ардалион,
скажем, ковыряется в трубке и просыпает золу на пол, а малярский балахон
оказывается напялен у него прямо на кальсоны. Это все подсказки читате-
лю, поверх головы несчастного Германа.
Зато в своем мире отвлеченных комбинаций он достигает подлинных
изысков:
Набоков без Лолиты
— Я двинулся дальше, стараясь помножить в уме два неуклюжих числа,
неизвестно что означавших и откуда всплывших, но раз они появились,
нужно было их стравить, — и вот они сцепились и рассыпались.
Торговка яблоками, четыре землекопа
и Некто, завещавший детям караван дробей
Ухитрившись отметиться опечаткой в первой же опубликованной шахмат-
ной задаче, Сирин не пал духом и продолжал окормлять «Руль» продукта-
ми своего композиторского искусства.
«Планетариум мысли»: высокая оценка жанра шахматной композиции.
Гонорариум за планетариум вряд ли полагался галактический, но полагался.
В середине 1920-х на радость нашему затейнику возникла мода на крос-
сворды, которые не сразу обрели свое благородное имя. Набоков придумал
слово «крестословица» — калька, зато какая удачная. Я не очень понимаю,
почему это слово не распространилось. В парижской «Иллюстрированной
России» его и не пытались пробовать, сразу использовали безликую рубри-
ку «Скрещивающиеся слова» — кальку, в свою очередь, с франц, les mots
croises. Слово не вовсе издохло, иногда тот или иной эстет впустит его в свой
журнальчик, автор этих строк сам неоднократно называл кроссворды крес-
тословицами на подведомственных ему печатных площадях... увы, увы.
Но такое увы, мелкое. Да и крупным кроссвордистом Сирин не был, хотя
иные его определения достойны соответствующих антологий. «Любимое
слово лакеев» — «Да-с», «неприятный звук» — «ик», «обращение к люби-
мой женщине» — «Дуся», «фамилия большевика (род. падеж)» — «Каца».
«А третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея», как указано
у Ильфа и Петрова.
В «Руле» шахзадачи и кроссворды, появившись, уже не исчезали, а по-
настоящему расцвели они на страницах воскресного и более развлекатель-
ного приложения «Наш мир», где публиковались и ребусы, и шарады, и ло-
гогрифы, и разные прочие метаграммы.
Вот про одну советскую организацию — в № 8 за 1924 год — загадка
с текстом много длиннее отгадки: я всего две русских буквы, к ним тире
и лишь две точки (да-да, был такой момент в истории правописания «ч. —
к.»), я короче вздоха птицы и длиннее я удава.... Я без чести... я без пра-
ва... Ближе к концу будет строка «Я — ужаснее мандриллы».
Велик соблазн предположить, что среди этой веселой насекомости и обезь-
янности также цвели шедевры сирийского пера. Один из исследователей до- [ 164:438]
казывает,что не цвели — ему удалось обнаружить экземпляр еженедельника
с редакционной гонорарной разметкой, и вся игровая мелочовка там была
решительно приписана человеку по фамилии Dawidova. Аргумент не убийст-
венный, гонорарная разметка (не буду вдаваться в подробности, профессио-
налы знают) — вещь условная, да и нет у меня в любом случае цели доказать
авторство того или иного набокого ребуса. Я лишь про атмосферу словесной
игры, окружавшую нашего героя по всем наивозможным гипотенузам.
315
Царство
Менетекелфареса
Глава-дивертисмент,
которую можно пропустить
или прочесть наискосок,
а подробности оставить на сладкое
316
Вот вам горсточка занятных заданий — скоротать ломтик вечности.
Задание 1, издевательское
Столица большого государства, в которой происходит действие романа
«КДВ», не названа прямо, дана ребусом. «Увесистый грохот первого сло-
га и легкий звон второго». Внимание, вопрос: о каком городе могла бы
идти речь?
Задание 2. Метаграмма из «Нашего мира»
С 3 живу по богачам,
А с Д нужен столярам,
Но с Б опасен мог быть вам
О1ОЕО9 — OlOKOtf — О1ОЕО£
Задание 3. Шарада из «Нашего мира»
Я — русский город; когда к началу
Еще две буквы мне придашь,
Получишь снова город русский,
Но уж крупней во много раз
Когда ж к концу, а не к началу
Четыре буквы мне придашь,
То снова город, город русский
Перед тобой встает опять
Набоков без Лолиты
Тут надо иметь в виду ер в качестве четвертой буквы, сегодня писалось бы
«когда ж к концу, а не к началу / Три буквы мне придашь»... Города все из-
вестные, хотя третий из них относится ныне к братскому украинскому го-
сударству. Подсказка: первый из трех городов — недалече от Петербурга.
яэнвлХк — biXevx — eiXk
Задание 4, из «Нашего мира» —
с набоковским флером... хотя, конечно,
ход коня—отмычка универсальная
Колыбельная лЪснь.
отъ блестя если когда безъ съ
крова* вой крот- ко пой бойца вой- ной тобою тебя бит- вою
звез- дочка ты поет- ся выра- стешь удер- живай много
бит- вы надъ боль- шой любя съ тро- гай въ крова- вой
людей Смо- тритъ прель- щайся и крови Гос- подь
зем- лею не мо- литвы всЪхъ спи не пес- нями греш- номъ
силою лучше спи- усни го- нись сердца м!рЪ дитя сла- вой
съ льется мое за
317
Прочесть данные въ квадратахъ слова ходомъ шахматнаго коня. При
этомъ должна получиться русская колыбельная песнь.
ня1И9 иоявяойя ю
ВЙИО9 ивяижсЬаХ и
1ЧЯ1ИЕСЖ ОЮЕИЭ Э
vtitfdao иювнээп HEiodi
взхэоп рЮоя ион
В90Ш иэ!Тош хээя эгпьХв
ВЭ1ЭЧЕ adnw wonmadj я
В9Э1 £Э9 ojohw HHod)j
HOHBHodH 0ЮЯ1И9 э
иониоя Hi BOHBtnqiradn эн
ИОЯВЮ Е£ ЧЭИНО1 эн
ИОШЧЕО9 qmaiovdiqfl июд
010901 э qtfonooj ипэ
BIHtf ЭОИ1 инэХ-инэ
(ИЭЕИЭЕ ЙЕН OMlodM
В1ЭЭ1Г9 ЯЛЬОАЕЭЯЕ IHdlOWQ
Царство Менетекелфареса
318
Задание 5, из «Нашего мира» — с более явным
набоковским следом: спички!
Загадка спичекъ.
Прочтите» получатся стихи.
‘ЧЭОЛЯ ИЛЬИПЭ ‘OWKdn ИЯЬИПЭ
‘qcoda ильино ‘wotf nd ильинэ
Задание 6, требует знания
пары немецких слов
На всем громадном побережье сизого озера, куда приехали стреляться
в третьей главе «Дара» незадачливые бойцы с судьбой, не было никого,
кроме маленького человека по фамилии Штокшмайсер, который «по
просьбе пса»... что он делал по просьбе пса в воду?
Хлквп ifBoodg
Задание 7, возвышенное
«Можно ли видеть солнце во сне?» — задается шоколадный коммерсант
Герман Карлович.
Ответа в путеводителе можно не искать: это скорее тема для эссе в лите-
ратурном кружке.
Набоков без Лолиты
Задание 8, еще одна шарада из «Отчаяния»
Мое первое — «жарко» по-французски, на мое второе сажают турка, мое
третье — место, куда мы рано или поздно попадем.
ЙВ-ЕОЯ-ОП1
Задание 9, что станет со временем
бесполезным
К моменту выхода этой книжки ситуация, может, и изменится, но к концу
работы над ней три рассказа Владимира Сирина — «Звуки», «Боги»
и «Здесь говорят по-русски» — не были еще опубликованы на языке ори-
гинала и оставались известны любителям лишь в переводах В.Д. Набокова
на английский. Я предложил в lj-сообществе ru_nabokov предпринять об-
ратный перевод первого абзаца «Здесь говорят по-русски»: вот же будет
интересно сравнить результат, когда мы увидим оригинал!
Итак, вариант Набокова-младшего:
— Martin Martinich’s tobacco shop is located in a corner building. No won-
der tobacco shops have a predilection for corners, for Martin’s business is
booming. The window is of modest size, but well arranged. Small mirrors make
the display come alive. At the bottom, amid the hollows of hilly azure velvet,
nestles a motley of cigarette boxes with names couched in the glossy interna-
tional dialect that serves for hotel names as well; higher up, rows of cigars grin
in their lightweigh boxes. 3^9
'нЛвлиэ яояиюоЯ
хиллэк хиояэ ей чэиев^чеХеес! ояосЗиш
ЭППЧЯОП ^ИЭЮХО ЕНЭИ1И И ЛЭККЯЕЛЭОП ОЛЬ
‘ЭЛЛЭКЕИН1 WOHtfodEHXtf ЖЭЮ ионэйтое WO1 ен
ИИКИНЕЯЁЕН Э HMQOdOM эннэойипвп эиккээп
кэлкАеэн л ‘EXExdEp ojoaadoEBir aowirox
и нийепя Htfado ‘Хеинд Tqiawtfadn лошкяижо
WEHdae эилянэкЕр^ THaodiaX оньикло
он ‘rdawEBd oiOHWodxD EHHdiHg -xaEiafliiodn
BHHldBp^ окэй и ‘xekiX вн OHlOlX EdEHOl
Xtfod Xwoxg -grootf мояоклХ я енэжотюгк^
EhHaOHHldEp^ EHHldEp^ ЕЛЯЕК KEHhEQEJ, —
:эяе9ее я эилэеьХ xHmaKHHdn ‘яокифолорЕН
хилчколээн ииеиэХ илохи оюнгс
Э1ЧННЭЙЭЯЙОП :ЕЛХ1ЧПОП олэ е ‘ХЭЯХО ИЕЭ ЭН
Задание 10, аккуратное
«Я хочу тебя. Гораздо вреднее, что вот уже два месяца мы не...», — гово-
рит Магде слепой Кречмар, а далее следует «самодельный, так сказать, гла-
гол, домашний, ласкательный, из их любовного лексикона», и у читателя
в голове пробегает стайка подобных глаголов, столь интимных, что он сам
Царство Менетекелфареса
лишний раз не хотел бы поднимать их со дна памяти, и читатель краснеет
и даже испуганно оборачивается, не подсмотрел ли кто лишний его мысль.
Задание: слегка покраснеть за свои домашние глаголы. И пусть никто не
подсмотрит.
Задание 11, с лицами и цифрами
Щеголевы покидают Берлин, квартира сдана, но не сразу:
— Еще в течение месяца после отъезда Щеголевых Зина и жилец могли
в ней оставаться. Они считали дни: полсотни, сорок девять, тридцать, двад-
цать пять — каждая из этих цифр имела свое лицо: улей, сорока на дереве,
силуэт рыцаря, молодой человек.
Что это за шифр... Почему у этих цифр эти именно «лица»?
ЯЭЯОЕЭЬ иойоксж
« олоИоесж кинвЬ'рскэ + яэяокдь
« « чхкп чхвЫЛшИ (д?
^vtnqd jeKifHO « члуДОИЛ (ОС
agadntf вн вяОсЮЭ « чхкдн1Т ЯОсЮЭ (6fr
иэеХ «1ЧЮЭ « ИН1ОЭЕОН (OS
ло>(одви_ги а ввннвюрвЗня ‘киэсЬд
Задание 12, тянет на дипломную работу
Перед прыжком, в ходе последней беседы с женой Лужин выложил из кар-
320 манов на граммофонный шкафчик самопишущую ручку, смятый платок,
еще платок (свежий), портсигар с тройкой на крышке, пустую красную ко-
робочку из-под папирос, две отдельные папиросы, бумажник, золотые ча-
сы и крупную персиковую косточку.
К этому наборчику есть явная рифма — покидавшие карманы Лужина
через дыру в подкладке перед первой встречей шахматиста и будущей же-
ны грязный клетчатый носовой платок, сломанная папироса с высыпав-
шимся табаком, орех и французский франк. Смотрите: клетчатый платок
соответствует двум платкам из первого списка, одинокая папироса — всей
курительной группе (и звучит внутренняя рифма иного ранга — из ко-
робочки в первом случае вываливались папиросы, а во втором — из папи-
росы табак), монета перемигивается с золотом и бумажником, орех —
с косточкой... самопишущая ручка, как атрибут литературы, выведена
в эпиграф.
Между этими коллекциями мелькал еще один занимательный набор-
чик: забирая из санатория скарб заболевшего Лужина, жена удивленно об-
наруживает кучу ненужных вещей: холщовый кушак с металлической
пряжкой в виде буквы S и с кожаным карманчиком сбоку, ножичек-брелок,
отделанный перламутром, пачку итальянских открыток, маленькие счеты
с красными и белыми костяшками и настольный календарь от 1918 года
(надворе 1929-й)...
Набоков без Лолиты
Сравнить структуру этого наборчика с двумя предыдущими — хоро-
шая для тебя забава, читатель.
Но вот главная задача. Лужиных покинули гости, Лужин остался сидеть
боком к столу, на котором замерли в разных позах, как персонажи в заключи-
тельной сцене «Ревизора», остатки угощения, пустые и недопитые стаканы...
Попробуйте выстроить финал «Ревизора» из какого-либо из трех пере-
численных выше наборчиков или из их элементов: это будет настоящий
набоковедческий подвиг.
Задание 13, от Седого Космополита
— Включенный в роман «Дар» сонет разделен на две части, одна из кото- [173]
рых открывает главу, а другая завершает. Подобный же композиционный
прием — включенное в текст стихотворение разорвано, и вторая его часть
завершает главу — использован еще в одном русском прозаическом произ-
ведении. В каком? Подсказки: оно опубликовано раньше, чем «Дар»; оно
широко известно.
«иилонийо oXdun 1ээиэд»
Задание 14, ювелирное
Угадайте профессию «волшебника» из одноименной повести. Она не на-
звана прямо. Известно, что «у него была тонкая, точная и довольно при-
быльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая $21
зрение яркой точкой на черном бархате, — тут были и цифры, и цвет,
и целые хрустальные системы». Ему нужно «зоркое зрение», он «оценщик
граней и игры». Эмоции, связанные с его преступной страстью, вредят
«точности глаза и граненой прозрачности заключений». Сверкающий Аб-
ракадабр полагает, что волшебник торит блестящую стезю ювелира, но его
справедливо поправляет Старший Комментатор.
Волшебник — не ювелир, а... кто?
иэнгсрл xiqHHaiiojpdtf лийшэйо ‘joirowwaj
Задание 15, оперное
Еще тема для турнира эссеистов. Родители погибшей героини «Возвраще-
ния Чорба» слушают в вечер рокового возвращения вдовца оперу «Пар-
сифаль». При этом у здания оперного театра стоит скульптура Орфея,
другого оперного героя, и в рассказе можно найти мотивы как того, так
и другого сюжета. Пусть ваши студенты или студийцы разделятся на две
команды и жонглируют аллюзиями — одни из Вагнера, а другие из Мон-
теверди или Глюка (эти двое последних трактовали историю Орфея по-
разному).
Царство Менетекелфареса
Задание 16, на развитие внимания
Курт Драйер часто играл сам с собой, вспоминая, какие картины были на
стенах в чужом кабинете. Попробуйте вспомнить, какие картины вы виде-
ли в течение вчерашнего дня. В кафе, в гостях, в офисе банка, в приемной
вашего стоматолога?
Это задание для нормального человека. Вере Слоним Набоков давал
и телепатические. Письмо от 14 октября 1942-го:
— Сосредоточься и постарайся мне сказать, какие две картины висят
у меня в номере?
•ondas еееьэяю и Edag
‘0НЖ0МЕ0Я ‘qiEHE ЛЕЯ ‘К1ОХ ’ХлЬИШ ЕН ХйЕЭ
s oiXinKdiowo ‘ХльояэК — KEiXdtf е ‘ncoiad
ЕЕ ИЖЙЭНОЛ HWEmiqdH HWHHOEdH 3 Э1Ч1ГЭ9
lЭEЖEd90EИ EHHldEH EHtfO ЮНЖОМЕОЯЭН
oi-qindasodn и HiqdoiOM ‘laaiQ
Задание 17, клетчатое
В «Защите Лужина» герою противопоказаны шахматы, и жена очень опасает-
ся, когда диаграмма мелькает в газете или партия вдруг обнаруживается в ки-
но. Может, дескать, спровоцировать рецидив. Но вообще, конечно, допуще-
ние, что в повседневной жизни шахматы не мелькают на каждом углу—дань
высокой романтической условности. В фильме В.И. Пудовкина «Шахматная
322 горячка» (1925) грузчик вынимает шахматный комплект из валенка, а осталь-
ные герои — изо всех других пазух: допустим, в Берлине грузчики валенок не
носят, но все же... Вот про Берлин из августовского (от 17 августа 1924 года)
номера «Нашего мира»: «В настоящее время последний крик моды — чулки
с квадратиками. Эти чулки оригинальны, изящны своим строгим сочетанием
черного и белого и, напоминая шахматную доску, поднимают настроение сво-
ей обладательнице, вселяя в нее уверенность, что ей будет нетрудно, при неко-
торой энергии, сделать шах и мат своему партнеру». Ну и далее: в сентябре
присутствует фотография советской забавы, игра в «живые шахматы» (фигу-
ры — люди) на Дворцовой площади, в октябре предлагается читать слова
в стишке «ходом шахматного коня», потом перепечатка карикатуры про шах-
турнир из «Смехача», где в роли ферзя — «женотдел», ну и задачи, задачи...
А сегодня? Я писал этот абзац году эдак в 2008-2009-м в городе Петербурге:
выйдя из дома, первые шахматы я застал через две минуты в подземном пе-
реходе (реклама банка,что-то про разумные кредиты), еще через пять минут
я обнаружил столики с нанесенными прямо на поверхность шахматными
досками в кафе. Девушку в шахматной юбке некоторое время пришлось по-
искать глазами: нашлась минут через десять; а вот клеточного экс-чемпиона
Г.К. Каспарова в рюмочной искать не пришлось: бодро грянул с телеэкрана.
Задание: покинуть свое жилище и засечь, сколь быстро кинутся вам
в глаза атрибуты и признаки игры мудрецов.
Набоков без Лолиты
Задание 18, срениксой
Для тех, кто не помнит или еще не знает, что такое «бак берепом». В «Защите
Лужина» подгулявшие немцы решают спасти от сна на улице еще более под-
гулявшего, по их мнению, соотечественника. В действительности это Лужин,
потерявший сознание от переутомления. В поисках адреса несчастного спа-
сители заглядывают ему в карман, где обнаруживают половинку открытки.
— «Бак берепом», — прочел Курт по системе «реникса»,что было прос-
тительно.
Что же такое «бак берепом»?
По той же системе в «Себастьяне Найте» будет загадано «дот чету», но
это населенный пункт, его запросто не угадать. А «бак берепом» — легко.
wodahaa зад
Задание 19, оставляющее простор
для фантазии
В черновике Себастьяна Найта некий Роджер Роджерсон, любитель по-
спать, смертельно боится пропустить завтрашнее утреннее событие и при-
носит-заводит то ли восемь, то ли одиннадцать будильников, «отчего его
спальня стала слегка напоминать». Напоминать — что?
Fiasio хан ааолоран Э1элэ1 g
323
Задание 20, от Азбучного Навыка.
Отличить Набокова от Ильфа с Петровым
— Иногда углы зрения трех писателей, их манера видения — кинематогра- [26: зог-зоз]
фическая, чуть ли даже не мультипликационная — настолько совпадают,
что кажется, будто все эти неправдоподобно осязаемые описания — дело
рук одного гениального «оператора», впору устраивать викторину.
1 .«.. .со звуком перелистываемой книги набегал легкий прибой».
2 .«.. .ветки отражались в небольшой луже, похожей на плохо промытую
фотографию».
3 . «По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длин-
ный синий рельс, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не
рельс, а оглушительную музыкальную ноту».
4 . «Купе тряслось и скрипело. Ложечки поворачивались в пустых стака-
нах, и все чайное стадо потихоньку сползало на край столика».
5 .«.. .но он ограничился сияющей улыбкой и чуть не упал на тигровые
полоски, не поспевшие за отскочившим котом».
Где Набоков?
g и 1 — яолоррн
Царство Менетекелфареса
Задание 22, острокреативное
Кречмар, художественый критик, снаряжаясь сочинять статью о выставке, просит содействия Гор-
на: нарисовать карикатуры на кое-какие картины. Между прочим, богатейший жанр, — рецензи-
рование изобразительного искусства путем карикатур. Ныне жанр этот почти не развит. Специ-
ально для путеводителя я попросил Александра Шабурова нарисовать карикатуру на «Страшный
суд» Босха в копии Кранаха. Лужин с большим вниманием всматривался в персонажей этого ше-
девра. Наверное, любопытствовал, какие фигуры распространены в иных измерениях.
Задание для художественных критиков и карикатуристов: не стесняйтесь возрождать в совре-
менных СМИ этот благородный жанр.
Со
S
S
X
S
Набоков без Лолиты
о
Sc
2
О
д«
р
00
S
Д
Д
Д
Р
Задание 23, конспирологическое
В письме матери, где идет речь о работе над романом «Машенька», Сирин
пишет, что среди действующих лиц не обошлось без киевской еврейки —
имеется в виду Клара.
Задание: проверить в романе, какие черты облика-образа Клары под-
тверждают ее запланированный статус.
Задание 24,
не менее креативное
«Трагедия господина Морна» не может быть поставлена на сцене, посколь-
ку утеряно несколько десятков сиринских строк. Набоков дописал пуш-
кинскую «Русалку»; думаю, современным поэтам было бы любопытно за-
вершить сиринский текст.
Задание 25, проваленное автором
этих строк
В детстве будущий гроссмейстер Лужин немножко баловался математи-
кой. «Была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое
число, в решительный миг, после многих приключений, без остатка делит-
ся на девятнадцать». В недрах романа мелькнет соблазнительная цифра:
18 лет 3 месяца и 4 дня: ровно столько герой играет в шахматы ко дню от-
вета на соответствующий вопрос будущей жены. Начал играть в шахматы
Лужин на Пасху 1910 года, 25 апреля, на восемнадцать лет пришлось пять
високосных, один из трех месяцев — тридцатиоднодневный май... вычис-
ление дает цифру, которая на 19 не делится, но впечатляет: Лужин играет
в шахматы 6666 дней. Гм... На 19 бы делилось 6669: в общем, почти верный
ответ, одну шестерку наш хитрец просто перевернул.
Перепроверив через час все цифры, автор этих строк обнаружил, что за-
был прибавить к годам и месяцам четыре дня... с ними получается 6670,
катастрофа... Впрочем, напротив. В первый раз Лужин прикоснулся к шах-
матам утром в Петербурге, а разговор про годы и месяцы происходит днем
в Германии: не закончен еще семидесятый день; полных дней Лужин играет
6669. Я нашел в «Защите Лужина» достаточно длинное число, которое де-
лится без остатка на 19!
Я молодец, я встал на одну доску с Аахенским Штемпелем.
Но стоило мне впасть в подобную гордыню и разместить находку в lj-
сообществе ru_nabokov, как юзер hippodemos охладил мой пыл: не с апреля
следует считать, а с мая, ибо время перетекло на новый стиль, и три месяца
(май-июнь-июль) — это 92 дня, а 6671 ну уже никак на 19 не поделишь.
Впрочем, ничто не мешает надеяться, что запрятана здесь какая-нибудь
пружинка, с помощью которой великолепное 19, безупречно поделенное,
выкатилось бы к нам во всей своей весенней красе.
325
Царство Менетекелфареса
326
Иногда создается впечатление, что Сирин в каждом абзаце стремится
учредить перформанс, напоминая этим фокусника Шока из «Картофель-
ного Эльфа», который «не мог пропустить случая, чтобы не сотворить об-
мана, мелкого, ненужного, но изысканно хитрого».
Случалось, что за обедом он изумлял жену необычной прожорли-
востью, сочно чавкал, обсасывал кости, снова и снова накладывал себе пол-
ную тарелку, а погодя горничная, хихикая в передник, докладывала, что
господин Шок и не притрагивался к обеду, что весь его обед остался в трех
новых кастрюлях под столом.
Стеклянныйшарик-
соспиралъювнутри
У этой книги нет центра.
Основной мысли, материнского магнита, к которому сбегались бы
скрепки мотивов.
Хотя создать стволовую концепцию несложно. Есть, скажем, книга, рас-
сматривающая Набокова как гностика, то есть человека, для которого мир
жестко распорот на истинный высший и обманный профанный. Есть
книжка, простодушно именованная «Набоков и потусторонность». Это 3^-7
легкий список, его можно тянуть, как масляничную конфету.
Но у путеводителя нет парадного входа. Главной главы, которая бы все
объясняла, к которой стекались бы ручейки мыслей. Эпиграфа.
Константин Кириллович Годунов-Чердынцев, страстный исследова-
тель отдаленных насекомых, свободно путешествовал под флагом не-
реальной харизмы своей по самым закрытым для иностранцев местам
Тибета, был в непосредственной близости от Лхасы, но не удосужился
туда заглянуть.
За это ему потом обильно пеняли ошарашенные коллеги, но Константин
Кириллович лишь улыбался в усы.
— Не хотелось пожертвовать ни одним часом охоты ради посещения
еще одного вонючего городка.
Охота, как вы понимаете, не на тигров, а на бабочек... миллионы порха-
ющих смыслов.
А ведь в этом городке обитала, вроде, какая-то высшая истина.
— Доктор, скажите нам последнюю тайну! — орал Мережковский. [во]
— Если вы сначала скажете мне предпоследнюю, — торговался
Штайнер.
Не надо стремиться сообщить «главное»: даже если оно существует,
вам о нем ничего не известно.
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
328
В начале пути, двадцать лет назад, был у меня соблазн вытянуть всего
Набокова из темы памяти, из манеры его обращения с этим деликатным
продуктом. Какая она, дескать, хулахупная мнемозинерша... и все проис-
ходит исключительно в щели между «как было» и «как запомнилось».
Другая идея касалась «Машеньки»: я собирался вытягивать из дебют-
ного романа все сиринские темы... ну, как принято обращаться с чашеч-
кой цветка. «Машенька и другие» — назывался этот том при СССР, ког-
да был тоненькой тетрадкой в клетку с насупленным Ломоносовым на
обороте.
Шахматная идея легко вынесла бы на себе мощный талмуд. «Набоков
и шахматы» — а там и о черно-белых дуализмах, и о фигуре одинокого на-
сморочного короля, и о каверзных загогулинах судьбы.
В книге «Набоков и реклама» могли сплестись в плотный клубок тыся-
чи нитей. Есть в этой теме настоящее драматическое напряжение. Эпигра-
фом — стишок 1925 года:
Играй, реклама огневая,
над зеркалами площадей,
взбирайся, молния ручная,
слова пылающие сей.
Не те, угрозою священной
явившиеся письмена,
что сладость отняли мгновенно
у вавилонского вина.
В цветах волшебного пожара
попроще что-нибудь пиши,
во славу ходкого товара,
в утеху бюргерской души.
И в лакированной коробке,
в чревовещательном гробу,
послушна штепселю и кнопке,
пой, говори, дуди в трубу.
И не погибель, а погоду
ты нам из рупора вещай.
Своею жизнью грей нам воду,
страницу книги освещай.
Беги по проводу трамвая,
бенгальской искрою шурша,
и ночь сырая, городская
тобою странно хороша.
Набоков без Лолиты
Но иногда, когда нальется
грозою небо, иногда
земля притихнет вдруг, сожмется
как бы от тайного стыда.
И вот — как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.
И снова мир, как много сотен
глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.
Здесь реклама «дана» нам и как набухающие огневые письмена на валта-
саровой сцене, и как тщета человечьей коммерции, и как борьба демонов
света и тьмы, и цивилизация со своим электричеством (которому, соб-
ственно, посвящен стишок) не зря явилась, а уж сколько поводов пораз-
мышлять о соотношении внешнего и внутреннего, подлинного и мнимо-
го, и все это впрямь будут живые набокие темы.
Монография «Мимикрия у Набокова» могла бы включить в себя все ря-
ды волшебных изменений милых лиц и ситуаций, трудное приспособление
мира к самому себе. И о бабочках не забыть — инкунабулой в размер бао-
баба.
Можно вынести в красный угол важное для Сирина понятие «пош-
лость». Poshlost. Пошлость для Набокова — это китч, выдающий себя за
высокую культуру. Не дешевка сама по себе пошла, которая может быть
уместна и адекватна, а пластмасса, прикидывающаяся жемчугом. Поддель-
ное чувство. Как сказано на первой странице «Дара» про буквы на мебель-
ном фургоне, «недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу
измерение». Желание пересечь границу с фальшивым диагнозом.
Бытие как капитал, жизнь как рынок — тоже перспективная и почти не
затронутая пока исследователями тема.
Всякий хороший мир можно описать разными языками, а такой бога-
тый космос, сиринский, и языков притягивает — любое множество. Автор
все от Фрейда отбрыкивался... а, ведь если не пережимать,чем плохо вы-
шло про капающие носы из «Отчаяния». Или вот стишок Пушкина, зало-
женный вязовым листком в собрании сочинений в шкафу съемной квар-
тиры в Шарлоттенбурге:
В роще карийской, любезной творцам, таится пещера,
Стройные сосны кругом склонились ветвями, и тенью
Вход ее заслонен на воле бродящим в извивах
Плющем, любовником скал и расселин. С камня на камень
329
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
Звонкой струится дугой, пещерное дно затопляет
Резвый ручей. Он, пробив глубокое русло, виется
Вдаль по роще густой, веселя ее сладким журчанием.
Разве становится стих хуже от того, что охотно прочитывается во
«фрейдистском ключе»? Только лучше он от этого становится. Венский код
вполне смысловыжимателен — как один из многовозможных. Непорядок
начинается, когда какой-то из языков называется «главным».
«Наталья Каткова»
И через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней
стороны к переливчатому солнцу, голая рука девочки, лениво
вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то —
быть может, щипцов для орехов.
«Другие берега»
В последний раз возвращаюсь к конструкции Морозного Ариозо, согласно
которой Лужин — хрустальный предмет среди стеклянных, трехмерная
залепуха среди двухмерных, к коим относится, увы, и его «недалекая» жена.
Вот и место прояснить давно анонсированную «детскую ошибку». Дет-
ской, на самом деле, я ее для блезиру назвал: в нее вляпываются и самые
взрослые. Да, Лужин и Наталья находятся в разных измерениях, но одно
из них не выше другого. Измерения разнятся не по вертикали, их взаимное
расположение в плоскостях галактик куда как заковыристее. Не обязатель-
330 но навязывать измерениям линейную последовательность.
Наталья относится к слою «воплощенных сладостей», женщин, кото-
рые, вслед за Машенькой, любят леденцы и шоколад, этим самым символи-
зируют Россию и сохраняют сахарное воспоминание о ней. Лужина — из
касты высасывающих сладость из стебелька.
Больше того: она принадлежит к касте зрячих, каковыми в сиринской
прозе обычно оказываются фланеры мужского пола. В паре из «Защиты
Лужина» видит женщина. С ее зрением связаны самые воздушные «искус-
ствоведческие» фрагменты всего Сирина:
— Несколько раз она повела его в музей, показала ему любимые свои
картины и объяснила что во Фландрии, где туманы и дождь, художники
пишут ярко, а в Испании, стране солнца, родился самый сумрачный мас-
тер. Говорила она еще, что вон у того есть чувство стеклянных вещей,
а этот любит лилии и нежные лица, слегка припухшие от небесной просту-
ды, и обращала его внимание на двух собак, по-домашнему ищущих кро-
шек под узким, бедно убранным столом «Тайной вечери».
Искусствоведы-профессионалы — Магор из «Венецианки» и Кречмар
из «Обскуры» — ничего столь же интересного о живописи не говорят (за-
нятным образом и о процитированном фрагменте интереснее высказа-
лись не штатные комментаторы, а lj-юзер vasilek, увидевшая в ярком масте-
ре Рубенса, в сумрачном Веласкеса, в мастере стекла Хальфа, а в любителе
Набоков без Лолиты
небесных припухлостей — Боттичелли; и лишь вечерних собак ни ей, ни
автору этих строк не удалось пока найти ни в берлинских, ни в каких иных
галереях).
Наталья хочет вывезти Лужина в великолепное продувное путешествие,
показать ему города и страны, во многих из которых он, может, и бывал по
клетчатым надобам, но ничего не помнит, кроме такси и кафе. Героически
планируя (возможно, что спасительное для Лужина) путешествие, она вре-
менами впадает в отчаяние, представляя, как вот этого слепого, хмурого
Лужина станет возить по Ривьере, и всего только и увидела: Лужин сидит
в номере гостиницы, уставившись в пол. Утверждать при этом, что моно-
ман, видящий в трещинах пола тараканьи побежки пешек (или как Пиль-
грам, махи золоченых крыльев), находится измерением «выше», означает
прежде всего не представлять себе, что значит быть мономаном. Все время
глядящий «вниз» (так уж принято располагать шахматы) — уж этим-то
точно не «выше».
Наталья не хочет видеть в Лужине мономана, ей обидно, что она не мо-
жет разделить муки его искусства, но уверена, что гениальность не может
исчерпываться только шахматной игрой, что шахматная горячка отхлы-
нет, а гениальность останется, и в Лужине заиграют неведомые соки, он
расцветет, проснется, проявит свой дар и в других областях жизни.
Лужин предпочел бы играть не фигурками, а незримыми шахматными
силами, бежит телесности, а жена хочет от него секса. Лужин один раз, еще
до свадьбы, ловко потерся о невесту, эякулировал и тем самым счел свои
супружеские обязанности исчерпанными: и кто же из супругов тут богаче
«измерениями»?
На прогулке Наталье бросаются в глаза прекрасные сиринские чудеса
Берлина. Самый бойкий из конькобежцев, молодец в светэре, изящно рас-
катился голландским шагом и с размаху сел на лед. По убеленной мостовой
проехал автобус, оставив за собой две толстых черных полосы. Из магазина
говорящих и играющих аппаратов раздалась зябкая музыка, и кто-то
прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась: прекрасный нежнейший
Сирин.
Лужин же не видит ровно ничего, пока не натыкается на серокаменный
дом «Тридцать пять А»:
— Тут мой папаша обитал.
Лужина не просто повторяет «Тридцать пять А», а напоминает, что надо
выписать из Парижа оставшиеся от Лужина-старшего вещи, что нужно
срочно ехать к нему на Тегельское кладбище... она все время идет навстре-
чу, роет свой отрезок туннеля...
Она — в отличие от Лужина — стремится. Старается.
В том числе стремится проникнуть в иное измерение, называй его выс-
шим, перпендикулярным или параллельным.
Голая протянутая-вытянутая рука невесты, а потом жены Лужина,
словно бы нащупывающая другие берега, — один из сквозных жестов
романа.
331
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
Так летаргантка цвета болотной тины — вспыхивает в сумраке чьего-
то — не моего ли? — сознания треснувшая пластинка волшебного фо-
наря — тянет бледную, почти неживую уже руку из серой песчаной осыпи,
и крохотная брусничина крови, меньше кошкиного глотка, — главный
источник света на этой картине...
В «Защите Лужина» с освещением полный порядок.
Первое ее появление начинается фразой «Она быстро протянула руку»,
потом выясняется, что «она носила очень простые, очень хорошо сшитые
платья, обнажала руки и шею, немного щеголяя их нежной свежестью».
Один раз она протягивает голую руку по двери, весело поглядывая на Лу-
жина, в другой раз протянет ее по столу и опустит на нее голову.
На балу она поднимет ее, выгнет по-лебединому, в воздух, а то вдруг за-
гнет обе руки к одному плечу, скрепив пальцы, или вдруг плавно вытянет,
чтобы потрогать блестящий предмет на скатерти, или причудится с голы-
ми руками во сне Лужину — словно ищет непрестанно что-то, нашарива-
ет, нащупывает какую-то новую потусторонность.
Сыграют в паре эпизодов свои роли словно отсеченные от Натальи но-
ги: пара дамских ног в блестящих серых чулках будет совершать сложные
зигзаги среди публики в кафе по ходу первых партий шахматного турнира,
сбегут две тревожные ноги по освещенной парадной лестнице, когда под-
выпившие берлинцы привезут лже-Пульвельмахера по адресу из открыт-
ки... Плюс великолепное колено в сцене перед загубленной Лужиным
(хрустальный, тоже мне, нашелся шар) брачной ночи, когда, сидя в ванне,
она наблюдает свое чуть-чуть поднимающееся из воды колено, и «этот
332 круглый, блестящий розовый остров был как-то неожиданен своей несо-
мненной телесностью».
Все эти безобидные по отдельности автономные колени и руки приоб-
ретают, накапливаясь, оттенки именно что потусторонние, и когда мать не-
весты ревет в отчаянии: «На куски разрубит, в печке тебя сожжет», внима-
тельный читатель видит здесь не столько истерику, сколько реальную
судьбу нежной барышни, сунувшейся в шестерни Иных Измерений. Вечно
голая извивающаяся рука начинает напоминать руки Сперанского в «Вой-
не и мире», порхавшие по книжке словно отдельно от своего хозяина, ну
и расчлененное тело Анны Карениной под хищным взором Вронского.
Елена Ивановна Набокова, кстати, хранила до гробовой доски слепок
руки Владимира Дмитриевича: вечное рукопожатие с других берегов.
Мы не желаем «Наталье Катковой» радикального перехода в иное измере-
ние (хотя у Сирина в черновиках была версия, что тучный шахматист разда-
вит жену в постели, как это позже учудил герой какого-то из англоязычных
его анекдотов). Да, что-то не удалось ей, какой-то решающий толчок. Она
зря доверилась психоаналитику с маслянистым взором, который потребо-
вал удалить из жизни Лужина пешку, слона и ладью. Может быть, ей стоило
самой справиться с безумным гамбитом, без маслянистых посредников.
Плохо, что они не двинулись в «ее» заграничную поездку, плохо, что
не добрались до могилы его отца.
Набоков без Лолиты
Любовь, как и шахматы, — творчество, и творить в обоих случаях долж-
ны двое.
Жена прятала Лужина от шахмат, а Лужин прятал шахматы от жены,
и все знают, насколько печально кончилась эта повесть. Им был дан шанс,
с появлением невесты Лужин обрел в игре неведанное прежде вдохнове-
ние, но роковая подлая болезнь и подлый диагноз психиатра с агатовыми
глазами (то есть как раз спеца по «главному») — и выписано отлучение от
клетчатой вселенной, одновременно с которым начинается смерть недо-
развившейся любви. Семья и шахматы, две прекрасные вещи, две сферы
творчества, остались взаимонепроницаемыми, захлопнутыми в ящик, да
хоть бы и в кавычки «иными мирами».
Лужин ждал «содрогания, которого он без чужой помощи испытать не
мог». Лужина очень хотела, но не смогла помочь ему в этом решительном
содрогании.
Это роман о людях, которые могли... могли да не смогли помочь друг
другу.
Она, видит Бог, очень старалась. Он тоже не бездельничал, но в результа-
те таки разрешил ситуацию привычным тургеневско-ганинско-подколес-
ничьим гэгом: сбежал в окно.
Этот, во всяком случае, вежливо попрощался. Наяривая по квартире хо-
дом коня перед роковым прыжком, он остановился, подошел к жене, поце-
ловал ей руку, потом другую и сказал:
— Было хорошо!
И прыгнул.
До свидания, Александр Иванович. 333
Смысл вашей трагедии не в том, что вы были измерением выше, глав-
нее, а в том, что не справились с самим фактом различия измерений.
Но люди говорят о центральных смыслах и главных ключах не из вред-
ности, а лишь по недостаточному разумению. Им хочется открыть тайну,
получить звездочку на фюзеляж.
Вот Благородный Скакун, завертев великолепное исследование про чер-
ного коня, сообщает в конце, что «Защита Лужина» «выводит нас к пробле- шя
мам куда более серьезным, чем отмеченные критической литературой те-
мы творческого профессионализма, гения и мастера, мастера и толпы,
творчества и безумия и проч.»... Под «более серьезной» он имеет в виду
проблему «христианской жертвенности» в «Лужине». Важнейшая пробле-
ма, богатый код, но называть ее «куда более серьезной» — зачем?
Это лишь маленькая слабость исследователя — пусть? Конечно же. Пусть.
Истец Иного неловок:
— Внешне «ЗЛ» — рассказ о гроссмейстере Лужине, русском гении шах- [2:76]
мат, утратившим границу между игрой и жизнью, сошедшим с ума, покон-
чившим самоубийством... По сути же, в романе выражена заветная мысль
Набокова о трагическом разрыве между материей и духом, а также о транс-
цендентальной природе шахматного искусства.
Но и его мы не будем шпынять за это «по сути же».
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
[96IV: 773]
334
«По сути». Научились же выражаться. По жизни лиса, допустим, слопала
колобка, а «по сути» это лопнул перцептив рецептива.
Шпынять не надо, но стоит в иных случаях аккуратно поправлять. Вот
Юный Техник комментирует в собр. соч. рассказ «Весна в Фиальте»:
— Рассказ являет собой модернистскую модель мифа о св. Георгии, в ко-
тором дракона представляет Фердинанд, а его противника — сам повест-
вователь.
Это неправда, милый читатель. Рассказы не «являют собою» модели че-
го бы то ни было. «Весна в Фиальте» — рассказ о любви человека, который
--------к человеку, который------, и перепетии их водометов не
нуждаются в мифологических костылях. Хотя прикупить костыль можно.
Лишняя краска — чего же дурного. И эта чешуистая веревочка в хозяйстве
нашем сгодится.
Следует лишь грамотно употреблять русские слова, не настаивая на
«центральных мотивах».
Я понимаю исследователей: внутри сиринской машинки впрямь маячит
всегда некий центр, который — кажется — вот-вот да ухватишь. Маячит
иерархия... которая, однако, все время обновляется. Вроде взторчала вер-
тикальная вертикаль, музыканты вздыбили смычки, гонг лопнул, а верти-
каль растеклась гралицей. Смысл, «главное содержание» — только что бы-
ло тут, но уже усвистало на империале автобуса.
Нет центра, или смещенный он, центр.
Пустое действие
Пришла альпийская почта. Драйер в Давосе. Светлый лыжный костюм.
Светлые палки, лыжи, кругом яркий свет, а на снегу — тень фотографа.
Отличный спортивный снимок.
Марта, доставшая фото из конверта, никогда не узнает, что, едва щелк-
нул затвор, Драйер неловко двинул левой лыжей и грохнулся на спину,
свернулся носом в снег.
Действие, не попавшее на фотографию.
Мы таких уже много встречали историй. Несостоявшихся, неузнанных
или с размазанным, не высветившимся смыслом.
Марта Драйер умирает и улыбается своим мечтам. Там, в голубом калей-
доскопе, Курт убит и накрывается скатерть для безоблачной влажной жиз-
ни с Францем. А муж уверен, что улыбается она ему, верит, что они встре-
тятся на иных берегах.
Читатель вспоминает не только другую улыбку Марты — в момент, когда
Драйер без предупреждения вернулся с лыжного отдыха, едва не застав Фран-
ца в своем доме в преступно неурочный час (на пять минут разминулись).
Тогда она улыбалась, поверх головы обманутого супруга, затейнице-судьбе.
Вспоминаем мы, не ленимся, и предсмертную гримасу героини «Ужаса»:
— Она меня не узнала, но я чувствовал по улыбке, раза два легко при-
поднявшей утолок ее губ, что она в своем тихом бреду видит меня...
Набоков без Лолиты
А что, если нет?
Что, если за время отсутствия героя закрутила она, подобно Марте, разу-
хабистый роман, а в плане этого романа кульминационной главой значи-
лось убийство рассказчика?
В «КДВ» не произошло главного события, к которому катил весь
экспресс книжки, — покушения на убийство.
Событие, в честь которого получила название пьеса «Событие», не со-
стоялось: покинувшего тюрьму злодея на сцене не дождались, он только
мелькнул на вокзале.
Перед тем как мелькнуть, он передал одному из горожан записку — пус-
той внутри лист. А я как-то нашел на ночной скамейке у канала в Кройц-
берге листок, адресованный ndchst (в смысле — вновь подошедшему, то
есть ситуативно мне): при разворачивании записка, понятно, оказалась
пустой.
В скетче для «Синей птицы» Сирин и Лукаш заставили слепца обсту-
чать своей белой палкой поребрик венецианского канала, но в последний
момент купание отменилось — слепец развернулся и пошел искать новый
канал.
Не узнал о главном событии «Катастрофы», измене невесты, главный
герой рассказа, Марк.
Рецензия на стихи Федора — первоапрельское пустое действие. Нашпи-
гованные высокими мыслями беседы с Кончеевым — просто фантазии.
Прямо манифест поругания фабулы — рассказ «Пассажир». Всю ночь
на верхней полке ночного поезда воет навзрыд мужчина, к утру появляют-
ся полицейские, выясняется, что вечером в городке, через которой прохо-
дил состав (и где, кажется, сел булькающий мужчина), стряслось кровавое
убийство из ревности; вот и пела во весь голос, полагает читатель, крими-
нальная птичка — ан нет... мужчина с верхней полки со страшной ногой
(ее я подвешиваю в дебрях путеводителя как довольно подлую приманку
замедленного отвращения) обыкновеннейшим оказался пассажиром, оби-
леченным и неокровавленным.
Пустое действие — дурашливая «еда» героев «Наташи», когда они, гуляя
вне сезона по ветреному Груневальду, располагаются в закрытом кафе и де-
лают вид, что поглощают нечто невидимыми вилками из невидимых таре-
лок, — и дьявольское пустое действие Магды, которая показывает язык
слепому Кречмару.
Есть множество подвешенных — на хлипких паутинках, но навсегда —
малых тайночек: уверенность Франка в предательстве Симпсона («Вене-
цианка»), убежденность Клары в воровских склонностях Ганина и полное
горло слез в сцене чтения Слепцовым дневника покойного сынишки...
«Ездил, как всегда, на велосипеде», стояло дальше. «Мы почти перегля-
нулись. Моя прелесть, моя радость...»
— Это немыслимо, — прошептал Слепцов, — я ведь никогда не узнаю...
Есть пустые чтения — фрау Дорн, хозяйка ганинского пансиона, вече-
рами развлекала себя тем, что просматривала «бумаги покойного мужа,
335
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
в которых не понимала ни аза», а Чернышевский в студеной ссылке читал
собратьям по несчастью длинные истории — из пустой тетрадки.
[76:si] Есть целый класс текстов, запущенных в недоступного адресата; так бу-
мажный кораблик, спроваженный в океан, имеет немного шансов достичь
гавани. Это «Благость» (письмо растаявшей в небе над Берлином возлюб-
ленной) и «Письмо в Россию» (адресат которого если и жив, то уж точно
лишен индекса), «Ultima Thule» (письмо мертвой жене) и отчасти «Адми-
ралтейская игла» (письмо автору романа, относительно личности которого
автор письма с высокой степенью вероятности пребывает в заблуждении).
В «Камере обскуре» есть беззвучные разговоры: между Магдой и Горном
и Максом и Аннелизой.
Когда Марта неожиданно заходит к Францу, он произносит длинную
фразу и с удивлением замечает, что слова не отпечатались, как будто про-
стучал по пишущей машинке, в которую забыл вставить ленту.
Звонки по ложным телефонным номерам (несколько в «Даре» и один
короткий, но резкий в конце третьей главы «Отчания»).
И есть многоэтажный, «эшеровский» особняк сквозняков в «Машень-
ке». Ганин, следя за действием «замечательной, хорошо сделанной» филь-
мы, вдруг обнаруживает среди статистов себя (свою «тень») и вспоминает
момент съемок. Массовка, стусованная в большой сарай, обратившийся на
экране в уютный театр, пребывала в неведении относительно сюжета и ап-
лодировала сцене, на которой орал в рупор толстый человек, а вовсе не раз-
ворачивалось подразумеваемое священнодейство. Но и в фильме зал апло-
дировал, так сказать, мимо темы: оперная дива рухнула на подмостки не
ззб в пароксизме высокохудожественное™, а вполне себе замертво, сраженная
страшным воспоминанием. А сосед Ганина по массовке, чернобородый,
во фраке с лентой через белую грудь, благодаря эффектной внешности
всегда попадавший в первые ряды, служит в типографии наборщиком, то
есть исполняет — с тем же, надо полагать, равнодушием, что и «пустые»
аплодисменты, — чужие тексты. Мы не знаем пьесы, в которой играем, —
мысль нехитрая, но как нарисовано — браво, браво.
И снова все «скаты», о которых мой путешественник уже успел, навер-
ное, подзабыть, — провода, сраженные на взлете, мухи, отпрядыващие от
щелей, приближение, неминуемо оборачивающееся отдалением. И струк-
турно примыкающий к этим скатам сон Германа Карловича:
— Из темноты, навстречу мне, выставив челюсть и глядя прямо в глаза,
шел Феликс. Дойдя до меня, он растворялся, и передо мной была длинная
пустая дорога: издалека появлялась фигура, шел человек, стуча тростью по
стволам придорожных деревьев, приближался, я всматривался, и, выста-
вив челюсть и глядя мне прямо в глаза, — он опять растворялся...
Два отменяющих сами себя происшествия возникают на первых стра-
ницах «Дара» — сначала на стволе мелькнет то самое объявленьице
«о расплыве синеватой собаки», а через строчку запах, отказавшийся в по-
следнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось,
завопить, да так и оставшийся — «самой за себя заскочившею тайной».
Набоков без Лолиты
Их много — самих за себя заскочивших тайн. Так и не выяснили мы
с тобой, перечитыватель, берег ли свой воротник новый шофер Драйера:
он унес тайну в могилу.
Я избегаю в путеводителе рейдов в будущее, но от одного не удержусь.
Есть в «Пушдоме» Андрея Битова великолепная набоковская тема раз-
грома музея: два оставшихся на праздничное дежурство башибузука по-
колотили витрины, распотрошили усы Тургенева, вырвали сколько-то
важных страниц из Толстого и даже посмертной маске Григоровича
откусили гипсовый нос — но, поелику праздники длинные, имели воз-
можность все упомянутое не только восстановить, но частию и улуч-
шить: грандиозного события — будто бы и вовсе не было. Смотришь
на маску Григоровича, а это не она, или она, но другая, или Григоровича,
но не того.
Черные трупы удавленных слов
Многие сиринские герои ловят себя на ощущении, знакомом, конечно,
и многим из вас: когда ты оторопью понимаешь, что слово, например,
«улица» совершенно произвольно привязано к тому, что оно волею линг-
вистических судеб обозначает. Если долго повторять одно слово, смысл
из него выжимается, слово обращается в пустую оболочку... в шкурку
бабочки...
«Умерла», — повторяет Кречмар несколько раз, и это слово не помогает
ему представить, что Ирмы больше нет на свете. Герой «Подлеца» начина-
ет думать о смерти, и уже через минуту это слово теряет всякий смысл. 337
О черных трупах удавленных слов рассуждает Цинциннат, а в трупе ведь
нет души... как в трупах Зины или жены Чорба не было этих прелестных
барышень. Мартын так долго перекатывает по языку и альвеолам слово
«изгнанник», что оно превращается в пустую оболочку. В «Даре» двое
с портфелями обсуждают некую сделку с такими диалектическими под-
робностями, что сущность товара пропадает, как при беглом чтении те-
ряешь обозначенный лишь заглавной буквой предмет брокгаузовской
статьи.
— Знаешь: потолок: па-та-лок, pas ta loque, паталог... пока «потолок» не
становится совершенно чужим и одичалым, как «локотоп» или «покотол».
Я думаю, что когда-нибудь со всей жизнью так будет.
Смысл из нее выльется, как из горшка с трещиной. Кончеев, вникнув
как-то во все слова любимой молитвы, поняв их смысл, — мгновенно ее за-
был. Воспоминание Дарвина похоже на выцветшую вывеску.
И уж не знаю, для этой ли главки казус из «Иностранной литературы»
от осени 1961-го, хладнокровно сообщившей, что режиссер Стэнли Куб- [28:197]
рик снимает в Голливуде фильм о роковой любви взрослого мужчины
к девочке по скандальному роману «Лолита». И юная исполнительница
заглавной роли не знает, о чем фильм, и не увидит его до совершенно-
летия!
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
Дымка, тайна, загадочная недоговоренность
Из второй главы «Дара», несостоявшийся эпиграф:
— В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было
что-то, трудно передаваемое словами, дымка, тайна, загадочная недогово-
ренность. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек,
был овеян чем-то, еще неизвестным, но что может быть было в нем са-
мым-самым настоящим. Оно не имело прямого отношения ни к нам, ни
к моей матери, ни к внешности жизни, ни даже к бабочкам (ближе всего
к ним, пожалуй); это была и не задумчивость, и не печаль, — и нет у меня
способа объяснить то впечатление, которое производило на меня его лицо,
когда я извне подсматривал, сквозь окно кабинета, как, забыв вдруг работу,
слегка отвернув большую, умную голову от письменного стола и подперев
ее кулаком, так что от щеки к виску поднималась широкая складка, он си-
дел с минуту неподвижно.
Не забудьте привезти штиблеты
Это сказал кто-то на улице, уходя в морось... нет, это в «Машеньке» в теле-
фонном разговоре прошло фоном (кто-то чужой подсоединился), и никто
никогда по умрет не узнает, какого цвета штиблеты и почему были столь
необходимы.
— Открываешь случайную книгу, и, как освобожденная пружина, выска-
кивает кусочек романа, конец непонятного разговора, — сказано в «Лужине».
33^ «В трауре», — говорит Марта Францу. — «В трауре», — со смехом повторя-
ет он, — и даже фокстерьер, на пару с которым услышал эти случайные репли-
ки бродивший вокруг фонаря господин, не смог бы понять, что они означают.
Заметки на полях чужой жизни, фрагменты чужих книг.
В другом месте «КДВ» уже Францу кажется, что степенная чета на ку-
рорте произносит его фамилию (что как раз вероятно, ибо это семья Набо-
ковых, инспектирующих течение романа), и у него появляется чувство тре-
воги, ибо совершенно не ясно, зачем его фамилия надобна чужому ветру.
Готовящийся к убийству Павел Романович («Случай из жизни») расска-
зывает случайному собеседнику в пивной: «Мой отец не хотел влипнуть
в историю и поэтому решил окружить его забором... От нас до них как
примерно до трамвая... Провести всю осень в Вильне без света это не шут-
ка...» — и поскольку тут же начинает стрелять, даже полиция вряд ли бу-
дет интересоваться, что за забор там попал в окружение.
На улицах Берлина (а герой «Звонка» только вернулся из-за морей) там
и сям накрапывает лишенная контекста русская речь:
— Сколько раз я тебя просила...
Или:
— Он мне предлагает их купить, но я, по правде сказать...
Или:
— Казалось, прошло, — а теперь и Гриша слег...
Набоков без Лолиты
— Его зовут Круглов и он женат на турчанке, — говорит о ком-то
в «Подвиге» Грузинов.
Агент Мартын мог озаботиться и выяснить, о ком речь... В порядке ре-
петиции будущих подвигов. Не выяснил, сгинул.
— Ведь это не одно и то же, что кажется или на самом деле. Забываю, —
это уже не из Сирина. Затесалось просто. Это я иду по каналу Грибоедова
(бывший Екатерининский, бывшая речка Кривуша) к Невскому, и где-то
на уровне железнодорожных касс доносится до меня такой вот бабусин
бубнеж. Кажется, лето.
Стеклянныйшарикхрусталъныйвнутри
Какое-то из перестроечных предисловий к томику свежеоткупоренного
Набокова называлось подобной фразой — «Стеклянный шарик с радуж-
ной спиралью внутри», как-то так. Это, несомненно, предмет из самого
Владимира Владимировича. Откуда, не помню. Фраза мне не понравилась,
во-первых, избыточной кондитерскостью, символичностью, а во-вто-
рых — замкнутым геометризмом, правильностью формулировки, той са-
мой «ладностью», которая не позволила бы сделать рассказ из больно уж
стройной истории Яши Чернышевского и его друзей.
С годами я стал терпимее к символам и символистам, да и представил
себе всю эту модель со спиралью в динамике. Спираль кружится, по ходу
внутри себя перелетая, меняя направление движения и ось; меняя, разуме-
ется, цвет. Сам шарик хоть и хрустальный, но упругий, им можно шарах-
нуть в асфальт и он подскочит, радужно воссияв выше иного тополя. И ес-
ли еще убрать межбуквенные пробелы, не такой и пошлый получился для
сиринской прозы символ. Со смещенным центром тяжести: не знаешь, ку-
да он поскачет, ибо то спираль двинет вспять, то розовый запунцовеет,
а вес у оттенков разный.
У этого шарика, несмотря на то что он «по сути» шарик, нет центра.
За что его ненавидят?
Сирина-Набокова, гения двух наций и поп-звезду, многие именно не-на-
ви-дят: всем жестким чередованием гласных-согласных этого стиснувшего
сфинктер глагола, всеми его хищными фибрами. Чаще про себя или уст-
но... публично поносить автора «Машеньки» не очень принято, но мне
лично известны десятки людей, относящихся к В.В. с зубостирательной
степенью отторжения.
За что?
За «моральный релятивизм». За «внешний блеск» прозы при отсутствии
«подлинной глубины». За отвлеченность поступков героев — ну что, пра-
во, за чухню провернул Ганин?
Вот из отчета «простой библиотекарши» из «Грасского дневника» Г. Куз-
нецовой ответ на вопрос о Сирине:
339
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
[162:212] — Берут, но немного. Труден. И потом, правда, что вот хотя бы «Ма-
шенька». Ехала-ехала и не доехала! Читатель таких концов не любит!
Или из того же источника — отзыв Зинаиды Гиппиус:
— В конце концов так путает, что не знаешь, правда или неправда, и сам
он — он или не он...
И зачем поперся в Россию Мартын, и побег его почему называется под-
вигом? И что за уклончивая непонятность простейших, казалось бы, обра-
зов — Цинцинната судят за непрозрачность, ну и что же это такое?
За «равнодушие к человеку», статус которого в этой прозе никак не вы-
ше статуса шахматной пешки, и в одну ложу второго яруса засажены ба-
бочка с хитреньким выражением крыльев, чистое синее озеро с необык-
новенным выражением воды, и женщина с тупым выражением груди,
а еще где-то кашлянул музыкант с нервным выражением пальцев. И сказа-
но в одном случае, что перед собакой стыдно за недоброе слово, а человек
в этом чувстве опущен.
За то, что герои его — куклы, лишенные души. Им, дескать, недостает
последнего дуновения, чтобы схема обросла плотью, а та, в свой черед, на-
лилась кровью.
Звучат эти претензии, слегка меняя огласовку, вот уж скоро как век,
и не только из--------ртов----------и---------; звучат они и из самых
достойных уст.
Глеб Струве, подвижник и пропагандист русской литературы в изгна-
нии, одним из первых вознес Сирина на высшие ступени пьедестала, но...
[ 127:198] — У него отсутствует, в частности, столь характерная для русской лите-
340 ратуры любовь к человеку, — себя раннего цитирует Струве в итоговом
труде и сам себя комментирует. — Правильнее, может быть, было сказать,
что в его романах нет живых людей, что он их не видит... У персонажей
Сирина просто «нет души»...
Протопресвитер Александр Шмеман записывает в дневнике 20 апреля
1973 года:
[156:27-28] — Две главы из «Дара» Набокова, который перечитывал много раз.
Смесь восхищения и возмущения: какое тонкое разлито во всей этой книге
хамство. Хамство в буквальном, библейском смысле этого слова: самодо-
вольное, самовлюбленное издевательство над голым отцом. И бесконечная
печаль набоковского творчества в том, что он хам не по природе, а по вы-
бору, гордыне. А гордыня с подлинным величием несовместима. Он не «ха-
мит» с природой, и тут его творчество подчас прекрасно, велико («И хочет-
ся благодарить, а благодарить некого...»). «Хамит» он исключительно
с людьми, которых он видит «по-хамски»: подобное становится подобным.
Гоголь видел «пошлость». Но он не «хамил». Потому у него трагедия. Ника-
кого трагизма, ни малейшего, в творчестве Набокова нет. Откуда же ему
взяться в этом хамском и пошлом мире? Набоков тоже в конце концов —
«спекуляция на понижение». Беспримерное торжество, удача этого
«хамства» — чего стоят отчим и мать Зины в «Даре» или Ширин. И полный
крах, когда он, как говорят, «выводит положительные типы», то есть тех,
Набоков без Лолиты
кого он любит и с кем не «хамит». Отец, мать (и в «Даре», и в «Других бере-
гах»), Зина, жена, сын. Уж такие они не как все, с такой тонкостью, с такой
несводимостью ни к чему обычному, общему. Тут хамству противостоит
мелкий «снобизм». Но горе в том, что это не природа Набокова, что
и хамство, и снобизм он выбрал. И там, где их нет («Василий Иванович»
и др.), там видно, с какой возможной, данной и заданной ему, полноты он
«пал». И, упав, смеется и страшно доволен собой.
Петр Пильский, добросовестный критик-современник, тоже про «Дар»:
— Поворачивает людей смешными и отталкивающими сторонами, уко- [50:252]
рачивает их рост, гримирует, делает из их лиц маски, щелкает их по лбу
и радуется, что все сумел так структурировать, что при щелчке в лоб полу-
чается звонкий звук, будто из пустого сосуда.
Михаил Осоргин, признающий за Сириным «благородство таланта»: [57:94]
— По благородству таланта автор не снисходит до откровенных карика-
тур — зато его портреты (Зиланов, дядя Генрих, писатель Бубнов, высокий
заговорщик Грузинов) уничтожающи.
Снова Пильский, утверждающий, что наш герой издевается над
Федором:
— Герой «Дара» пишет стихи. Из них Сирин приводит отрывки. Они [57:152]
не всегда бездарны, но Сирин их уродует, вставляет глупые строки, делает
их нарочно беспомощными и жалкими...
Иной раз такие пассажи и не знаешь с какой стороны начать подгрызать.
Кто-то из любителей «Дара» согласится, что автор уродует стихи люби-
мого Годунова-Чердынцева?
Благородный и смелый Зиланов, мудрый Грузинов, недалекий, но доб- 341
рый дядя Генрих, нелепый, но искренне страдающий писатель Бубнов, ко-
торому даже и в таланте не отказано... Все четыре кандидата Осоргина на
уничтожающие портреты — мимо. Для меня, читателя рубежа тысячеле-
тий, все четверо без исключения симпатичные люди.
В списке похамленных у Шмемана — писатель Ширин. Да, звезд с неба
не хватает, в зоопарке не замечает животных, пишет в расхожей «модной»
манере... но ведь и сам Набоков ни в «Даре», ни в «Других берегах» не брез-
говал, как мы знаем, этой манерой. А потуги Ширина на захват власти в пи-
сательском сообществе — он же вроде ради дела старается. А не ради кас-
сы; во всяком случае, Сирин на это не намекает, и соратников в новое
правление Ширин хочет привлечь — порядочных.
Остаются отчим и мать Зины: ну да, никаких особо теплых слов о них
не сказано (хотя вот Щеголев назван «добрым, в сущности, человеком»),
а некоторые черты их характеров явно отталкивающи... Но разве мало
в литературе — отталкивающих героев?
В чем же это тонкое различие между «пошлостью», которую видел Го-
голь, и набоковским «хамством»? Хорошо наблюдение, что Набоков лоялен
не людям, но природе. И цивилизации, я бы добавил: сердце сжимается «от
нежности рано зажженных фонарей», которая тоже своего рода природа,
тоже ведь творцами сотворена.
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
Однако, однако... Вот воскресная прогулка Пильграма с женой, «молча-
ливая, медленная прогулка, которую Элеонора всю неделю прилежно
предвкушала», и трудно не содрогнуться от мысли о судьбе этой забитой
женщины.
И пустой «подлец» Антон Петрович — разве не подступает сочувствие
комом к горлу, когда видишь, с какой легкостью злодейка-судьба может
растоптать человека?
И Слепцов, которому не суждено узнать, кого называл прелестью умер-
ший сын.
И героиня «Пасхального дождя», которую русские знакомые не пригла-
сили на службу в церковь... Она плачет:
— В черную шлюпку, что хлюпала внизу, влезает что-то большое, бе-
лое. .. Присмотрелась сквозь слезы: громадный старый лебедь топорщил-
ся, бил крылом, и вот, неуклюжий, как гусь, тяжко перевалился через борт;
шлюпка закачалась, зеленые крути хлынули по черной маслянистой воде,
переходящей в туман.
И одинокий, как отрубленный перст, карлик из «Картофельного Эль-
фа», и Аннелиза из «Камеры обскуры», обустраивающая злосчастному
слепцу комнатку погубленной им дочурки... разве требуется тут коммен-
тарий, разве не полны эти образы и фрагменты самой что ни на есть чис-
той хрустальной слезой? О жене Лужина сказано уже много, и если недо-
статочно, что же — у меня еще припасена на ее счет важная тема, ближе
к финалу.
Хрустальная слеза, однако, считывается далеко не всеми. Почему?
342
Безответственность творца
Иногда кажется, что Сирину все равно, злодею или благородному дону до-
верить заветную мысль, драгоценное имя, хрупкую вазу. В «Приглашении
на казнь» имя трагического Раскольникова посечено между карикатурны-
ми тюремщиками: Родион, Роман. Имена пародийных жуликов Александ-
ра Яковлевича и Александры Яковлевны из «12 стульев» ничтоже сумня-
шеся (сдобное выражение, я не очень умею его уместно употреблять)
переадресованы в «Даре» несчастным родителям Яши Чернышевского.
[36:449-450] Черты поэзии Б. Поплавского передаются (по наблюдению Знатока Сире-
ней) одновременно графоману Яше Чернышевскому и гению Кончееву.
Оказываются верными пошловатые суждения Щеголева о войне. «Хам
и дурак» Пальчин из «Себастьяна Найта» отважно встречает красную
смерть, а у самого Себастьяна «была странная привычка»:
— Даже самых гротескных своих персонажей он одаривал мыслями,
желаниями и впечатлениями, с которыми носился сам.
То есть эта привычка осознавалась и, похоже, пестовалась: не центро-
вать заветных мыслей.
Принципиально сиринская философия истории («зубная боль про-
игрывает битву» и пр.) вложена в жухлые уста Смурова. Подонок Горн
Набоков без Лолиты
великолепно высказывается о писательском мастерстве, придумывает
пример гениальной фразы:
— Я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голу-
бой лес.
Помните о воздухе, который одинаково бережно несет и дурную, и доб-
рую весть?
И в «Корольке» хорошо сказано про пеструю пустоту мира.
Остановить эту пестрядь, отделить дурное слово от доброго, «закрыть
тему», короче, кто-то должен: а автор увиливает.
Писатель Зегелькранц в «Камере обскуре» совершил чудовищный по-
ступок. Он записал в черный блокнотик любовное воркование Горна
и Магды, а потом прочел фрагмент Кречмару, не подозревая, что выдает
ему страшную тайну. Тут же в романе произошел маленький взрыв с по-
летом вещей и захлопыванием чемоданов, маленький автомобильчик
помчался по шоссе и въехал, что ли, в дерево, с очень неприятными для
Кречмара последствиями. Зегелькранц «по сути» ослепил Кречмара.
Магия слова!
Несколько страниц писатель угрызается совестью, потом едет в Берлин,
докладывает родственникам Кречмара о его слепоте и уходит даже очень
довольный.
— И кто знает, быть может, не сегодня, конечно, и не завтра, но когда-
нибудь, когда-нибудь (скажем, через месяц) можно будет кое-что извлечь
из всей этой истории, изобразить, скажем, вдохновенного, не от мира сего,
писателя... и так далее, и так далее. Чистые мысли, прекрасные мысли...
Творцу, понимаете ли, удался сюжет.
Веселый творец — Курт Драйер из «КДВ». Жизнь представляется ему
чередой легких остроумных поступков, вечным воскресеньем, если, ко-
нечно, согласиться с тем сектором религии, согласно которому в день
седьмой Творец создавал вино, изобретал велосипеды, трещотки и флю-
гера. Драйер своими руками сложил любовный треугольник при учас-
тии жены и племянника и, с помощью верных слуг, изобретателя мане-
кенов и собственно манекенов, этот треугольник походя разрушил:
конечно, это творец совсем безотчетный, создал и разрушил мир, даже
не заметив этого.
Заподозрив шофера в чрезмерном интересе к алкоголю, Драйер устраи-
вает ему не медицинскую, а практическую проверку: посмотрим, как обер-
нется. Шофер в итоге разбился насмерть.
Сам Драйер спасается, творя. Мир для него — собака, взыскующая иг-
ры, а не неподвижная жертва. Его — не умеющего плавать — уже должны
вытолкнуть из лодки в лазурную волну — а тут он между делом сообщает,
что завтра продает манекенов на сто тысяч. Убийство откладывается. Уми-
рает другой человек, Драйер плачет, не понимая, что спасла его собствен-
ная моцартианская игра.
Драмой художника, а не убийцы, называл «Отчаяние» Ходасевич: не вы-
гораживая Германа-бандита, он замечал, что тот — никудышный творец.
343
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
Читательская кровь
В «Отчаянии» еще только начали продавать участки будущего садового по-
селка, но уже понавтыкали указателей — «К пляжу», «К кафе», хотя там нет
еще ни малейшего кафе.
Читатель ждет уж знака «К центру». А знака такового нет.
Ответственность перекладывается на плечи читателя, вот что норовит
учудить Сирин.
Писатель не обязан заваливать центр смыслами — напротив, его следу-
ет оставлять пустым. Чтобы там могли встретиться и станцевать два или
несколько творческих сознаний.
Сирин всегда обращается к сотворцу, вот что.
— Бледные организмы литературных героев, питаясь под руководством
автора, наливаются живой читательской кровью, — такую, например,
предлагает формулу.
Не знаю, «новое» ли это «слово», но точно — редкое. Олимпийские —
казалось бы, самодостаточные — тома Сирина на самом деле некомплект-
ны: читатель должен приложить к книжке свой «взгляд из будущего». То,
что литература неполна без читателя, соображение слишком общее; сирий-
ское уточнение — книжка неполна без читателя-агента-призрака-творца.
Ловушки узоров одурманивают читателя, он берет книжку наново и пре-
ображается в искомую фигуру — в перечитывателя. Это «пере» запускает
пронизывающие друг друга миры. Перечитывателя соблазняют идеями
уйти в картинку, завязнуть в масле на холсте, залезть в тело героя. Поль-
344 зуясь известным термином, перечитывателю, а не автору должно принад-
лежать «завершающее сознание». Завершить окончательно, пожалуй,
не удастся, останется мерцать зазор, и в этом зазоре я и сочинитель —
вместе любуемся красотой, и кое-кто из персонажей («люди и тени») то-
же рядом...
Скажите Вы, Владимир Владимировичу Вас лучше выходит.
— Это блаженство, упоение фразой одинаково и для читателя, и для
писателя — то есть для удовлетворенного собой автора и для благодарного
читателя, или — что по сути то же — для творца, благодарного неведомым
силам своего воображения за подаренную комбинацию образов, и для
творческого читателя, которому эта комбинация приносит удовлетворение.
Ответственность творца
Слово «Творец» по отношению к Всевышнему у Сирина, думаю, встречает-
ся чаще, чем «Бог» (хотя специально я не считал).
Набоков неоднократно объявлял себя и Бога коллегами.
— Писатель обязан внимательно изучать произведения своих соперни-
[91:142] ков, включая Всевышнего, — это из интервью «Плейбою».
А Бог — отвечающий, казалось бы, за содержание пустых действий
и заполнение пустого центра — он ведь, по существу, фланер. Он создает,
Набоков без Лолиты
наблюдая: так берлинские чудеса прозы Сирина созданы не только горо-
дом, но и взглядом писателя.
— Знаете, как возникла поэзия? — задавался В.В. вопросом в интервью pi: 119]
1966 года и сам себе отвечал, да так, чтобы в ответе сошлись важные темы
волчьей маски (она еще появится) и старой обезьяны. — Мне всегда ка-
жется, что она началась с первобытного мальчика, бежавшего назад, к пе-
щере, через высокую траву, и кричавшего на бегу: «Волк! Волк!» — а волка-
то и не было. Его бабуинообразные родители, большие приверженцы
правды, наверняка задали ему хорошенькую трепку, но поэзия родилась...
Ответственность творца, стало быть, в другом. Не в том, чтобы сказать
правду или в нужный момент протянуть руку помощи нуждающемся герою.
Всем созданиям тянуть руку помощи — никаких рук не хватит. А глав-
ное — никакой не было бы словесности при обилии рук. Нужно иногда
и Марте посочувствовать, которой нравится смотреть, как шлепается на
лед старая дама: помог даме — нет сцены.
Ответственность художника — не в расстановке морально-нравствен-
ных ударений, не в проповеди, а в красоте комбинации. История должна
сомкнуться в гармоничную постройку, в облако, что размывается, но все-
таки держит форму.
У Набокова много высказываний в том духе, что литература внемораль-
на, что ее нельзя оценивать по законам жизни. Цель искусства — красота,
и ничего дурного, если в центре этой красоты мы вдруг обнаружим гроб
с несчастной барышней, через которую метнулся в землю демон электри-
чества. Важно, чтобы сплелся узор.
«Парижская нота» Адамовича и Иванова взывала к литературе как к «че-
ловеческому документу»: дескать, в наше страшное время важно запечатлеть
и отметить правду факта и температуру отчаяния. Сирин с Ходасевичем (лю-
ди менее состоятельные, замечу в скобках, нежели Иванов и Адамович) про-
тивопоставляли человеческому документу чистую игру красок и теней.
Подобную повадку — любовь к игре теней и красок — Набоков припи-
сывает и Создателю. Вот Годунов-старший рассказывал:
— .. .о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не
объяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволю-
ции), излишне изысканна для обмана случайных врагов и словно приду-
мана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека; он рас-
сказывал об этих магических масках мимикрии: о громадной ночнице,
в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи; об одной
тропической пяденице, окрашенной в точное подобие определенного вида
денницы, бесконечно от нее отдаленной в системе природы, причем ради
смеха иллюзия оранжевого брюшка, имеющегося у одной, складывается
у другой из оранжевых пахов нижних крыльев; и о своеобразном гареме
знаменитого африканского кавалера, самка которого летает в нескольких
мимических разновидностях, цветом, формой и даже полетом подражаю-
щих бабочкам других пород (будто бы несъедобным), являющимся мо-
делью и для множества других подражательниц.
345
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
В другом месте «Дара» (во «Втором добавлении» к нему) ухищрения ми-
микрии сравниваются с томиком Шекспира, лежащим раскрытым в пыли
беспредельной пустыни.
Творец — творит, творец с маленькой буквы тоже творит, а вместе с ни-
ми творит и читатель: мы, все трое, оказываемся коллегами.
Наивный добрый Лужин с нежностью относился к очертаниям матери-
ков, считал, что экватору не везет, — все больше идет по морю, находил
что-то акробатическое во взаимном расположении двух Америк. Но в об-
щем считал, что все можно было устроить пикантнее:
— Нет тут идеи, нет пуанты...
Это шутка, конечно, да. Каждый должен творить на своем, как бы это
сказать, рабочем месте. В творчестве еще то важно, что оно — труд. Усилие,
преодоление, череда рабочих преображений.
Трубы — трамвай — работы — Эдем: творчество — любовь — труд —
Бог. Примерно рифма.
Откуда вообще такое ощущение света, бьющего из сиринских окон,
если — «пустое действие» и тайничок, дверца в который захлопнута пе-
ред носом читателя? Если для его героев истории сплошь и рядом закан-
чиваются швахом? Герои «Машеньки» в раздрае, кто рожей в салат, кто
с узлами на перроне, Подтягин умирает, Марта гибнет, Драйер рыдает
[57:37] (и по ловкому словцу Айхенвальда, «торжествует в романе совсем не доб-
родетель, а беспощадный дух иронии»), Лужин дефенестрируется, Мар-
тын, видимо, гибнет под пытками, Кречмар не только слеп, но и мертв,
Герман не только убийца, но и схвачен, Цинциннату отрубают голову,
34^ и в рассказах сплошь на кончиках сюжета детские и взрослые смерти,
крах надежд, унижение...
Вот откуда: из атмосферы тотального творчества. Судьба вяжет голо-
вокружительные петли, писатель приколачивает эпитеты, читатель вы-
уживает аллюзию. Нет дела на свете лучше, чем творить. Строить, возво-
дить, создавать, изобретать, проявлять.
Как происходит банальное чудо выпекания стишка?
— Вытягивалась и загибалась стихотворная строка; на повороте жарко
зажигалась рифма, и тогда появлялась, как на стене когда поднимаешься
на лестнице со свечой, подвижная тень дальнейших строк.
Подвижная тень будущего. Люди и тени стоят у входа. Переслаиваются
несимметрично, играя таинственными просветами. Человек испускает
призрака. Там, где заводится метафизика, появляется шанс на любовь. Ибо
лишь осознавая несовпадение измерений, можно в полный рост увидеть
другого как Другого. Лишь отслоившись от самого себя, можно утонуть
в Танце Масков. Кипит в белоснежном котле золотое творчество. Нас при-
гласили сдать кровь, свою читательскую кровь. Смерть неизбежна, но
флейта продленного дня встретит нас у синих ворот.
[19:21] — В мире искусства страдания не реальны и отнюдь не хуже наслажде-
ния: чем сильнее страдает Лир, тем больше обогащается наш мир. Может
быть, так же обстоит дело с человеческими надеждами и страхами с точки
Набоков без Лолиты
зрения потусторонности, и поэтому в конечном счете важно не то, что мы
чувствуем, но ответное сострадание или восторг, которые наши чувства
вызывают у того или у тех, кто наблюдает за нами, — очень, мне кажется,
неплохо сформулировал Новозеландский Биограф.
О, поклянись, что веришь в небылицу,
Что будешь только вымыслу верна.
Души своей не заточишь в темницу,
Не скажешь, руку протянув: стена...
А начинался так стишок (это Федор — Зине):
Люби лишь то, что редкостно и мнимо,
что крадется окраинами сна,
что злит глупцов, что смердами казнимо,
как родине, будь вымыслу верна.
А «человеческий документ», рабское следование натуре, как подметила
Строгая Эм, это — донос Зегелькранца. Натуру следует создавать. [76: i ю]
Мир не мог возникнуть без творческого жеста, и мы сами творцы, спо-
собные своим радостным усилием создавать и запускать настоящие, теп-
лые миры, и это столь же ясно, как идет дождь, и было ясно сразу, с первого
романа, сочиняя который, наш герой писал матери:
— Я знаю, как пахнет каждый, как ходит, как ест, и так хорошо понимаю, [96 п 25]
что Бог — создавая мир — находил в этом чистую и дарующую отраду. 347
Да, Владимир Владимирович. Что делает настоящее искусство?
— Приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного [90: iss]
творца!
Но Богом-то быть трудно
Представить себя Создателем — непростой аттракцион. Люди любят, когда
полочки, иерархии, каталоги — когда все это уже есть, и надо просто впи-
сать нужную цифру в клетку, самому вписаться в подходящий файл. Так
проще, чем строить новое, корпеть над собственным каталогом, лепить
свою иерархию. Люди бродят в полях здравого смысла (о котором у Набо-
кова есть ворчливое эссе), но, чтобы творить, необходимо для начала за-
блудиться в лесу, нырнуть в озеро, подняться хотя бы на холм. Совершить
неочевидное усилие: ненадежное, избыточное, сумасбродное. Риск всерьез
преобразиться — тоже, знаете ли...
И нет ли во мнении Пильского, что герои Сирина — пустые сосуды, эле-
ментарного неумения заполнить своей собственной читательской кровью
зону таинственной пустоты, сделать творческий шаг навстречу героям? Та-
ланта не хватает, навыка, свободы в крови, чего-то ненужного, по большо-
му счету, как сама красота.
Стеклянныйшариксоспиральювнутри
Сиринский Создатель при этом — какой-то, что ли, не совсем хрис-
тианский. Оставляет рядом с собой место для других творческих со-
знаний. Могут возникнуть сомнения в надежности фигуры Творца, ко-
торый удерживает нарратив, что твой жонглер — чайный сервиз на
коленке.
Зачем вообще нужна вся эта металитература, кроме того чтобы пока-
зать, как ненадежны источники голоса и взгляда?
У нормального Бога вроде крепкое личное местоимение, а, скажем,
в «Даре» «я» и «он» начинают путаться уже на первых страницах. Тут же
появляется некто с другого уровня, который внутри у Федора нужную ху-
дожественную информацию «записал и припрятал». Еще через пару стра-
ниц закрутится в голове повествователя рецензия на его стихи, сочиненная
неизвестным — и ненадежным, разумеется, рецензентом. Заболевший
мальчик с трудом верит, что его обмякшее тело вот еще только что играло,
«ползало по полу зала, по ковру, пока врем».
«Пока врем» — это типа «в рифму к девяти». Автору путеводителя, как
вы могли заметить, все эти эффекты нравятся, но читатель, взыскующий
залитого содержанием центра, может и усомниться, насколько крепко
Сирин держит поводья.
Вот одна из любимейших моих цитат — мальчик как раз болеет:
— Она подносит раскаленный градусник к свету и, сдвинув очарова-
тельные котиковые брови, которые унаследовала и Таня, долго смотрит...
и потом, ничего не сказав, медленно отряхнув градусник и вкладывая
его в футляр, глядит на меня, словно не совсем узнает, а отец, задумав-
348 шись, едет шагом по весенней, сплошь голубой от ирисов, равнине...
Сначала сын смотрит на движения матери, потом взгляд переходит к са-
мой матери, а, учитывая упоминания бровей сестры, приобретает, что ли,
семейный характер, и этот взгляд видит сквозь лицо больного Федора еду-
щего по ирисовой равнине отца... но последние кадры могут быть не фан-
тазией, а прямым репортажем: какой-то космический взор спроецировал
сюда происходящую сейчас реально сценку из Гоби....
А чуть позже (в смысле страниц, а не лет), когда Федор перечитывает
свои стихи, «материнская слеза обожгла ему край век». И голос отца соль-
ется вдруг с голосом Пушкина.
Они продолжают сливаться и расплываться, взгляды и голоса.
Нет чтоб застыть.
Любоваться этим: да здоровое ли дело?
Восприятие мира как дара и есть высшее блаженство?
Да, но Вы-то, Владимир Владимирович, его достигли, а многие нет, и это
может «многих» элементарно злить.
Тут и простая социальная арифметика против нас, Владимир Владими-
рович; люди в большинстве своем убиваются в поте лица на скучных
маршрутах... Их часто раздражают существа, вольно шагающие по кры-
шам, как синие ангелы, путающие свой голос с чужим, ныряющие в про-
светы. И ради чего?
Набоков без Лолиты
— Всякая душа станет твоей, если уловить ее биение и следовать за ним.
Посмертное существование — это, может быть, наша полная свобода осо-
знанно поселяться в любой душе по выбору, — рассуждение из Себастьяна
Найта.
Более конкретное, кстати, чем «слизистее слизь». Это свойство загроб-
ности — возможность путешествия по чужим душам — не то чтобы силь-
но нравится мне, я не уверен, что хочу залазить в чужие подлокотники...
но что-то подсказывает, что это теплая версия: нечто подобное и произой-
дет. Ждет слоистая слиянность, межперсональные какие-то нырки, чужая
слеза на моем веке, которого — века — у меня не будет, у меня ведь не будет
тела, и в каком виде сохранится вообще моя личность, очень ведь может
быть, что нету там никаких «я».
Хороша свобода. Да что же это за ценность — нырять по чужим душам?
Не всякий читатель, привыкший жить без тайн, будет готов к такой сво-
боде. Если не уметь ею воспользоваться, можно оказаться в неудобосказуе-
мой ситуации. Надо заранее тренироваться свистать по уровням и слоям.
Речь ведь снова о преображении, о превращении в тень, в перечитывателя,
который не равен читателю... сколько мороки!
Искусство — приоткрою я вам одну из тайн — небесполезно. Оно тре-
нирует те мышцы души, которые понадобятся Там, после Преображения.
Но Там — легко может так случиться — не будет верха и низа, а будет
сплошной головокружительный полет сквозь, и — особенно первое вре-
мя, если оно будет, время — возникнут проблемы, за что уцепиться, как
ловчее ухватиться... чтобы лучше рассмотреть.
Новозеландский Биограф предполагает, анализируя очередной рассказ,
где проглядывает тема внемирной творческой фантазии или творящей
природы, «и быть может, по ту сторону этой силы таится и еще одна?».
Очень может быть, что тут скажешь. Да наверняка таится, чего уж там.
Есть нам с вами дело до тех, кого раздражают пустые центры, если их
требуется заполнять самим, кому не нравится многослойность, когда она
не рядками-ярусами, а сама с собою переплетена, когда субъект расплыва-
ется, когда «уровни» — это не обязательно «над» и «под», но и «в сторону»,
и «внутрь»? Мы могли бы махнуть рукой на этих несчастных?
349
Выпить гусеницу
Но вынуждены признать, что Набоков сам дает хорошую дополнительную
пищу для раздражения.
Выдувая вселенную, в которой измерения не иерархичны, а взаимноша-
рикоспиральнопрослоены, для себя Сирин (и, по нарастающей, Набоков-
штрих) выделяет все же уровень особый. Он кичится своими метафизиче-
скими зазорами и перепадами слоев, это правда.
350 Выше я защищал Зиланова из «Подвига»: де, он и честный, и благород-
ный, и сильный... Но он не закрывает дверь при посещении туалета,
и строгий Сирин не преминул на это обратить внимание.
Все ж таки аристократ.
Сирин с презрением отрицал связь своей ненависти к советской власти
с потерянными капиталами — ив этом отрицании, кажется, нет фальши.
В «Жизни Чернышевского» он замечает «классовый душок в отношении
к Чернышевскому русских писателей, современных ему. Тургенев, Григо-
рович, Толстой называли его „клоповоняющим господином", всячески
между собой над ним измываясь...» — тем самым от подобного «душка»
отмежевываясь.
Полностью вычеркнуть из формуляра полученные по рождению пре-
восходства, конечно, невозможно, и вот маленький герой «Дара» и его
сестра Таня издеваются над салазками сверстников, которые беспомощ-
но крутятся вокруг оси, не в силах без помощи хозяина достичь конца
ледяной дорожки — в то время как богатые санки от Сангалли по
щучьему велению домчат куда скажешь. Но детям простительно,
ерунда.
Наш автор, однако, всегда подчеркивал свою особость, пусть она прояв-
ляется в постоянной готовности к творчеству, а не в богатстве и не в знат-
ности рода.
Набоков без Лолиты
В наследии Сирина обнаруживается длиннющий список, как бы мы
сейчас выразились, перформансов, у большинства которых в жизни был
какой-то внутренний смысл (словить хорошую бабочку), но в книж-
ках смысл может быть и другим: подразнить профана, осмеять непосвя-
щенного.
Весьма положительно оценивается, например, «тихая эксцентричность» [19:212]
соученика по Кембриджу, который однажды, сидя с друзьями у камина, как
ни в чем не бывало проглотил содержимое пузырька с чернилами. Мартын
Эдельвейс — давно у нас не всплывала тема горящей почты — там же,
в Кембридже, занавешивал пасть камина листом «Таймс», устраивал тягу,
достигая сначала палимпсеста (строки мешались с просвечивающими
строками на исподе), а потом и замечательного физического эффекта:
вспыхнувшая газета всасывалась камином и вылетала в трубу. Друг Мар-
тына Дарвин в секунду, когда ему исполнилось 24 года, дернул стоп-кран
и остановил поезд. Или снова проглатывание ненужного: Ваня Тучков
в «Обиде» закидывает в рот гусеницу, публика довольна.
Герман («Отчаяние») рисует на осиновых стволах в лесу кричащие бе-
лые рожи, расстреливает их из револьвера, редактор Васильев в «Даре» хо-
дит с большим макетом сердца, гувернер А., реальное лицо, скачет в лесу
набоковского детства вокруг осины, на которой некогда повесился таин-
ственный бродяга, изображает нечто демоническое, хлопая черными, вам-
пировыми крылами: осваивает таким образом территорию, вступает
в контакт с духами местности.
Престарелый Дмитрий Николаевич, дедушка автора, министр юстиции
при Александрах II и III, которому маленький Володя показал красивый 351
камешек, медленно осмотрел этот камешек и медленно положил в рот.
А с самим Владимиром Владимировичем, приболевшем в сорокапятилет-
нем возрасте, приключилось еще более оплошное событие, о котором он
с удовольствием рассказал приятелю как о происшествии исключительном:
— Меня вырвало в телефон, чего, я думаю, еще никогда ни с кем не [ 18:91]
бывало.
Не отказал он себе в старости и в удовольствии сообщить в телеин-
тервью, как удобно жить в Швейцарии:
— Однажды утром сломал нижнюю вставную челюсть, в одиннадцать [ 18:547]
часов послал ее по почте в Лозанну и уже в девять часов вечера получил об-
ратно готовой!
Какое оригинальное происшествие!
Мартын Эдельвейс гибнет, осуществляя грандиозный хеппенинг: тайно
перейти границу Советской России, провести там 24 часа и вернуться
вспять. Подобный бессмысленный («чистейший, отвлеченный» — подби-
рает синонимы Сирин) подвиг совершил доктор Онзе во фрагменте «Solus
Rex»: чтобы сделать достоянием общественности рекордно распутные по-
хождения неприкасаемого принца, тишайший доктор приписал себе ров-
но те же деяния (атрибутированные частному лицу, они смогли попасть
в суд и в газеты).
Выпить гусеницу
Что думали кучера?
В начале апреля члены Русского энтомологического общества по традиции
отправлялись за Черную речку, где «в березовой роще, еще голой и мокрой,
еще в проплешинах ноздреватого снега, водилась на стволах, плашмя при-
жимаясь к бересте прозрачными слабыми крыльцами», местная, губерн-
ская редкость. И вот пожилые семейные люди, старые театральный критик,
врач-гинеколог, профессор международного права, даже настоящий гене-
рал, присев на корточки, ковыряются совочком в песке, и занимает рассказ-
чика вопрос, что же думали обо всем этом ожидавшие на дороге кучера.
Не имущественная особость, не классовая, коими стыдно гордиться, но
вот такая особость, которая точно уж доказывает, что генерал и гинеколог
в сравнении с кучерами — в привилегированных живут измерениях.
Это из «Дара». Там же с непроворным воображением кучера сравнива-
ется... что?
— Степенное убеждение старейшего в горной деревушке жителя, что
вон на ту гору никогда никто не взбирался и не взберется; в одно прекрас-
ное холодное утро появляется длинный, легкий англичанин — и жизнера-
достно вскарабкивается на вершину.
[86:90] Во «Втором добавлении к ,,Дару“» пастух «с раздражением невежества»
наблюдает за судорогами безумца с сачком, который извивается на скале
в борьбе с ценным чешуекрылым.
Это невежество может быть агрессивным: в письме Вере от 8 июня 1926-го
[93] описываются злоключения встреченного в Берлине энтомолога Кардакова,
3 5 2 настрадавшегося от сибирских крестьян, которые чуть не прикончили его
за то, что он отказывался лечить больных (должен уметь, коли ученый!), да
за то, что платит мальчишкам по две копейки за пойманного жука, которо-
го потом наверняка сбывает за тыщу рублей.
Необязательно именовать это классовым душком, но с ощущением своего
космического превосходства здесь все в порядке. Как и в следующей фразе:
[90:37] — Литературная карьера Гоголя началась так же, как и окончилась лет
двадцать спустя, — аутодафе, причем в обоих случаях ему помогал покор-
ный и ничего не разумеющий крепостной.
Героиня «Возвращения Чорба» ловит на лету осенний лист — при помо-
щи лопатки, которую нашла близ груды розовых кирпичей, там, где чини-
ли улицу.
— Отдыхавший каменщик смотрел, подбоченясь, на легкую, как блек-
лый лист, барышню, плясавшую с лопаткой в поднятой руке...
Каменщик, конечно, не безответный слуга, не крепостной, он прекрасно
понимает всю психологию происходящего и завидует, конечно, завидует,
и рассказчик — да, признаем это — рад быть объектом такой зависти.
— Пройдитесь-ка по деревне в купальных трусиках — я пробовал, —
увидите, что будет: мужчины остолбенеют, женщины будут фыркать в ла-
дошку, как горничные в старосветских комедиях, — так утверждал свою
особость шоколадный коммерсант Герман.
Набоков без Лолиты
И еще где-то у Сирина затопочут, заполнят гвалтом комнату, в открытое
окно которой влетело нечто редкое, странные люди, приехавшие издалека,
перепугав содержателя скверной гостиницы... ну, ясно.
Тут ведь что: кучер или даже содержатель скверной гостиницы, каким-
нибудь космическим образом осознавший счастье охоты на чешуекры-
лых, не мог бы найти для удовлетворения внезапно вспыхнувшей страсти
ни досуга, ни морилки с расправилкой. Что же, все-таки «классовый ду-
шок»? — такой же, как и во фразе из «Других берегов»: «Особой причиной
раздражения было еще то, что шофер в ливрее привозит барчука на авто-
мобиле, между тем как большинство хороших тенишевцев пользуется
трамваем»?
Но герой Сирина сохраняет свою особость и перед лицом равных. Он,
грубо говоря, при всяком подходящем случае выкаблучивается, выделы-
вается. Годунова-старшего ориенталисты умоляли привезти из дальних
странствий хоть одну свадебную песенку: нет, тот занимался только ба-
бочками.
Когда однажды граф Б., управитель одной из центральных губерний, то-
варищ детства и дальний родственник Годунова-Чердынцева, обратился
к нему с официальной и дружеской просьбой указать радикальный способ
борьбы с какой-то весьма энергичной гусеницей, внезапно остервенив-
шейся на губернские леса, отец отвечал:
— Сочувствую тебе, но не считаю возможным вмешиваться в частную [86:96]
жизнь насекомого, поскольку этого не требует наука.
В общем, не будучи в силах полностью стряхнуть с плеч перхоть арис-
тократической спеси (а многим ли это по силам?), он прекрасно понимал 353
суету спесивых сует. В «Даре» есть сцена прикуривания: юный барчук вы-
шел в поле с папиросами, попросил у пастуха огонь, а не может зажечь
спичку, транжирит их на ветру одну за одной под внимательным крестьян-
ским взглядом: сцена для учебников социологии и психологии! Знал, о чем
писал. Ответка, так сказать, от пастуха, который будто бы недостаточно хо-
рошо понимал про бабочек.
Хотя дар и творчество — вещи, впрямь не зависящие от социальных
стратификаций.
Петр Пильский совершенно разумно писал о главном интересе героев
Сирина; интерес сей — «в раздумьях, комбинациях и келейничестве, в кон- [57:89]
це концов, в непонятности, т.е. в отсутствии шаблона, в непохожести на
других».
В футболе, в команде Кембриджа, Набоков исполнял роль вратаря и —
надо же! — ухитрялся расценивать это как внеположенность по отноше-
нию к коллегам:
— В его одинокости и независимости есть что-то байроническое... Он
носит собственную форму; его вольготного образца свэтер, фуражка, толс-
тозабинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана труси-
ков, резко отделяют его от десяти остальных одинаково полосатых членов
команды. Он белая ворона, он железная маска...
Выпить гусеницу
Там длиннющий дальше (это «Другие берега») пассаж о причудливых
сторонах голкиперского искусства, завершающийся:
— Неудивительно, что товарищи мои по команде не очень меня жаловали.
Верно, другое удивительно: находить во вратарской работе байронизм.
Нервный бульдог устроительницы
Сирин был чрезвычайно тщеславен.
Явившись в литературный кружок, Федор мгновенно приуныл, заметив
впервые заглянувшего сюда Кончеева, чья звезда сияла все ярче и чей таин-
ственно разраставшийся талант только дар Изоры мог бы пресечь. Но сза-
ди кто-то произнес с ответной объясняющей интонацией «Годунов-Чер-
дынцев», и тот успокоился, усмехнулся — «ничего, мы еще кокнемся,
посмотрим, чье разобьется». И дальше знаменитая формула про зеркаль-
ное сердце:
— Когда молодые люди его лет, любители стихов, провожали его, быва-
ло, тем особенным взглядом, который ласточкой скользит по зеркальному
сердцу поэта, он ощущал в себе холодок бодрой живительной гордости.
[93] Сирин писал Вере из Праги (в конце 23-го), как встретил на приеме да-
му, сообщившую: «Вообще в наше трудное время книги очень помогают.
Возьмешь, бывало, Волошина или Сирина, и сразу на душе легче».
Писал матери в Прагу (в 1925-м):
[19:275] — Не проходит дня, чтобы я на улице не встречал бы каких-нибудь рус-
ских, которые,оглянувшись, свистящим шепотом «.. .Владимир Сирин...»
354 и в городском шуме теряется глагол.
Преувеличивал, как вы понимаете, насчет «не проходит дня», или прос-
то мерещилось, но мать точно была довольна.
Писал Вере из Берлина на курорт в (1926-м):
[93] — В полной тишине Ясинский назвал меня. И сразу обрушились руко-
плесканья. .. И когда я кончил читать (а прочел я без запинки и, кажется, дос-
таточно громко), весь огромный зал, набитый битком, так захлопал, так за-
шумел, что даже приятно стало. Я трижды выходил. Грохот все не умолкал...
Несколько людей меня снова вытолкнули на сцену — и зала не хотела смол-
кать, орали и «бис», и «браво», и «Сирин». Тогда я повторил опять мое сти-
хотворенье и прочел его еще лучше — и опять — грянуло. Когда я вышел
в залу, ко мне бросились всякие люди, стали трясти руку, Гессен с размаху ло-
бызнул меня в лоб, вырвал мой листок, чтобы стишок напечатать в Руле...
[18:859] Писал матери в 1935-м об очередном своем триумфе: выступление «пре-
рывалось аплодисментами, при которых бомбой вылетал из залы старый
и нервный бульдог устроительницы».
Немножко слишком, да? Такое болезненное отношение к своей самости
среди творческих людей не редкость, и немало примеров, когда художники,
не умеющие придать самости должную огранку, впадают в спесь, начинают
хамить окружающим, выпадают в изгои, а при случае сильно получают
по голове.
Набоков без Лолиты
Есть у нас с К.В. Богомоловым знакомый небогатый киновед, который,
впервые добравшись до Берлинского кинофестиваля и остановившись
у старого доброго приятеля, через полчаса обозвал того микроцефалом за
недооценку творческого потенциала азиатского режиссера Ц. и для выра-
зительности плюнул в флорентийское зеркало, за что был изгнан из квар-
тиры и ночевал потом весь фестиваль на лавочке в парке имени компози-
тора Мендельсона.
Набокова, конечно, берегли ангелы: не часто доводится заботиться о та-
ком гении. Берегла Вера. Хотя литературным противникам он хамил по
полной программе.
«Жоржики»
Вечным оппонентом Сирина считается Георгий Адамович, откликавшийся
практически на каждый чих моего героя — всегда с неизменным выводом
типа «мастерством не скроешь пустоты внутри». Так гласят легенды, и гла-
сят верно, но, как это бывает у легенд принято, часто упускают важные
подробности. В частности, то, что ни один отклик Адамовича о Сирине не
обходился без — иногда и очень щедрых — похвал.
— Повесть безупречно логична в своем ходе и увлекательна, — о «За- [57:56]
щите Лужина».
— В каждой странице есть или безошибочно меткий эпитет, или острое
наблюдение, — в следующем отклике о «Защите Лужина»; было принято [57:59]
рецензировать новые тексты в том числе и по мере публикации, в «Совре-
менных записках» шли главы романа, а в «Последних новостях» (это все
парижские издания, Берлин был центром литературной жизни недолго) —
синхронные разборы критика.
— Несомненная для нашей словесности новизна, — о «Соглядатае». [57:во]
— Изобретательность автора неистощима. Фабула развивается прихот- [57: юг]
ливо и свободно. Для любителей высокопробного занимательного чте-
ния — подлинная находка. Талант подлинный, несомненный, абсолютно
очевидный, — о «Камере обскуре».
О «Даре»: исключительная словесная одаренность. [57:92]
— Восхитительный по мастерству, своеобразию, одушевлению рассказ [57:154]
об отце героя, не менее восхитительные строки о Пушкине...— тоже о «Даре».
Далеко не всякий писатель за всю свою жизнь услышит столько лестных
слов, тем паче от «литературного противника».
Но Сирину мало было признания одаренности; ощущая себя неземным
гением, он полагал, что способный критик обязан превозносить его творе-
ния — до небес, в рост.
В «Даре» он вывел Адамовича (скрестив его с Зинаидой Гиппиус) в образе
критика Христофора Мортуса, которому приписана наиболее бестолковая
из пародийных рецензий на «Жизнь Чернышевского». В романе поминается
«мышиный писк нашей адамовой головы» — в энтомологическом пассаже,
но у литературных современников не было сомнений, на кого тут намек.
355
Выпить гусеницу
Та же голова крупным планом явится в поэме «Ночное путешествие»,
переводе-мистификации из вымышленного Вивиана Калмбруда:
Бедняга! Он скрипит костями,
Бренча на лире жестяной;
он клонится к могильной яме
Адамовою головой.
Не слишком любезно в отношении человека, который называл тебя та-
лантом подлинным, несомненным, абсолютно очевидным.
Другая мистификация, уязвившая Адамовича, была более безобидна:
Набоков опубликовал под псевдонимом Василий Шишков стихи, которые
Адамович расхвалил, после чего, конечно, псевдоним был раскрыт.
Это впрямь просто литературная игра, но ни в какие ворота не лезет
посмертное унижение Адамовича снисходительной фразой:
[96 V: 739] — В его жизни было лишь две подлинных страсти: русская поэзия
и французские матросы.
В пару с Адамовичем любил обвинять Набокова в «пустоте» Георгий
Иванов, разместивший — об этом я уже упоминал — в первом номере
журнала «Числа» в марте 1930 года (парижское издание, «альтернатив-
ное» «Современным запискам») и впрямь запредельно хамскую заметку
о четырех сиринских книжках. Иванова Набоков немножко помял эпи-
граммой:
356
«Такого нет мошенника второго
Во всей семье журнальных шулеров».
— «Кого ты так?» — «Иванова, Петрова,
Не все ль равно...» — «Постой, а кто ж Петров?»
Похоже, в нашем гении этот вот неразличающий механизм «не все ль
равно» срабатывал, как бы это поделикатнее выразиться, с излишней тща-
тельностью. Да, можно себе представить, как бесили его отзывы типа
«В основу романа Сирина положены человеческие коллизии, он на них не
скупится; и чувство долга перед женой, и непоборимое влечение к другим
женщинам (какие-то молоденькие полуголые); зов к умирающей дочери
и требование Магды остаться с ней; боязнь Кречмара жены и боязнь Маг-
ды; боязнь Магды Горна; издевательства Горна над Кречмаром и вместе
[57: юб] с тем боязнь его...», завершавшиеся странными выводами, что это «не
страсть и страх, а похоть и боязнь, чувства низшего порядка». Это пишет
критик Петр Балакшин, которому, очевидно, ведомы лишь чувства высше-
го порядка. Он еще осмеливается давать советы типа «Алеша-ша, возьми
полтона ниже». Тут спесь, конечно, взыграет, тем паче что шлейф непони-
мания тянется уж Бог знает сколько лет.
Учитель Евстифеев говорил об 11-летнем еще Набокове:
— Для меня загадка. Слог — стиль — есть. Сути — нет.
Набоков без Лолиты
Что имеет смысл поставить в вину герою путеводителя — это его при-
ступы яростного неразличания и частое нежелание выбирать слова. Перед
выходом «Подвига» Набоков не слишком политкорректно писал Струве,
что роман появится «под тихий свист Содомовича и других Жоржиков».
Что до слова «Жоржик», то в словаре Ушакова оно обозначает матроса-
франта, что, возможно, Сирин тоже имел в виду. Но в эмигрантском быту
у него были и иные значения. 26 сентября 1923-го Д.С. из Белграда размес-
тил в берлинских «Днях» заметку «Жоржики», из которой следовало, что
это вообще принятое именование франтоватых офицеров.
— В скучной, серой толпе они заметны издалека своим гордым и побе-
доносным видом, развинченной походкой кавалеристов, туго перетянуты-
ми тальями и неизменными блестящими сапогами...
Увы, эпоха заставляет их сливаться с рабочей средой, искать себе любую
работу, примиряться с действительностью. Но остаются отдельные «чер-
ные комсомольцы», которые ничего не читают, ибо «вся печать в руках жи-
дов», для которых сам Врангель «слишком демократичен», но которые са-
ми, если что, воевать не пойдут... То есть здесь «жоржики» — трусливые
реликтовые монархисты.
А 9 октября «Дни» напечатали заметку К. Брешковской из Праги «Дру-
гие „жоржики"»: дескать, описанные ранее еще ничего, но вот появились
новые.
— Юнцы и юницы предались потреблению наркозов, быстро отравляю-
щих нервную систему человека. Морфий и кокаин стали излюбленным от-
равляющим средством и спрос на них вырос до степени спроса китайцев
на опиум...
Словом, слово с целой лавиной сомнительных значений.
Содомовичи
Шутка про Содомовича — не высочайшего, наверное, из пошибов.
Библейский Хам отличился тем, что указал братьям на наготу отца свое-
го, чтобы посмеяться над ним. Почти то же Володя совершил в отрочестве
по отношению к брату своему Сергею: обнаружив страницу братнего
дневника, выдававшую его склонность к гомосексуализму, наш герой из
«дурацкого восторга» сделал ее достоянием семейной общественности.
(В скобках — странное неуважение к «прайвеси» брата сохранилось
в зрелом возрасте, в письме Вере от 15 июня 1926 года он переписывает
письмо Сергея матери о переходе того в католицизм; хорош же был и по-
ступок матери, переписавшей это письмо для Владимира.)
В начале столетия из семейства Набоковых, несмотря на весь либера-
лизм Владимира Дмитриевича, выгнали гувернантку-лесбиянку.
Педерасты в книжках Сирина или неприятны (Мун в «Подвиге»), или
как-то подчеркнуто нелепы по роли в тексте (у Менетекелфареса был со-
житель, в «Случае из жизни» герой раскрывает в пивной душу перед го-
лубым немцем). Ганину не хочется порицать «счастье голубиной четы»
357
Выпить гусеницу
Колина—Горноцветова; но, значит, предполагается, что вообще-то есть ос-
нования порицать? У Набокова-штрих эта черта только усиливается (в од-
ном из романов даже действует жуткий голубой тиран).
Цепкие и неприятные замечания о гомосексуалистах раскиданы по всем
[и?: 19] его биографиям. По сообщению Зинаиды Шаховской, Сирин не любил
Маритэна, потому что о нем «с такой елейной любовью говорят педерас-
[152:447] ты». В старости Набоков волновался, «а не голубой ли тот ученый, который
только что приезжал?».
Забавит, конечно, вопрос, чем же В.В. так не потрафили лица нетради-
ционной ориентации.
Петербуржский исследователь педерастии даже руками разводит:
[us: 157] — Неожиданностью является как раз очевидная гетеросексуальная
ориентация, противоречащая, казалось бы, характеру исходного материа-
ла: худенький некрасивый (?! — В.К.) мальчик, не по летам развитый, нерв-
ный, тонкий, обожаемый матерью и страстно любящий отца. Все, на пер-
вый взгляд, должно бы соответствовать известным симптомам — ан нет!
Возможно, Набоков не считал педерастов «особенными» — слишком уж
расхожая особость.
Возможно, если не забывать о нашей теории умножения измерений и
слоев, гомосексуализм представлялся ему скорее не добавлением, а исклю-
чением «измерения».
А возможно, он очень любил одного мужчину — себя.
Красота—это все
Ганин не здоровается с Алферовым в коридоре пансиона. Еще до лифта:
столкнулись в узеньком коридоре пансиона, и Ганин ухитрился не поздо-
роваться. Даже и странно. Крохотный пансион... ясно, что новый сосед.
В берлинском автобусе Федора Константиновича обращает в бешенство
мужчина с толстым портфелем, сконцентрировавший, казалось, всю не-
мецкую пошлость. «Фольмильх и экстраштарк — подразумевающие за-
конное существование разбавленного и поддельного; культ конторы; дубо-
вый юмор и пипифаксовый смех; толщина задов у обоего пола», — это
перечисление немецких грехов длится, пока мужчина не вытаскивает из
кармана, кашлянув с русской интонацией, Васильевскую «Газету». Что не
помешает Федору при другом удобном случае (месиво тел на озере) вновь
окрыситься на немцев с той же яростью неразличания.
[99:1зз] Композитор Николай Набоков вспоминает, что еще в юности кузен его
все делал с несравненным высокомерием, мог окатить градом насмешек за
неточную цитату из стишка.
[44:356] В 1937-м Сирин зачем-то приписывает Цветаевой сталиножополижест-
во в маловысокохудожественной пародии:
Иосиф Красный, — не Иосиф
прекрасный: препре-
Набоков без Лолиты
красный, — взгляд бросив,
сад вырастивший! Вепрь
горный! Выше гор! Лучше стал Лин-
дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из-под толстых усов
Солнце России: Сталин!
Он может и не собирался никого обижать, просто играл, божество иг-
рает. .. Тут мне важно не свалиться в обилие старческих примеров, не уйти
от сиринской темы, но без каких-то эпизодов-штрих я все же не обойдусь.
Студенты перегревались, как электроприборы, от его высокомерия:
— Студентка, собиравшаяся писать дипломную работу по германисти- [so: 334]
ке, посреди лекции вышла из аудитории, когда услышала, что Томас Манн
рядом с Кафкой литературное ничтожество, как, впрочем, и Рильке. Другой
студент вслух предложил, что сам проведет семинар по Достоевскому, по-
скольку профессор явно не в состоянии это сделать. Набоков вскипел, ки-
нулся к декану, требуя исключить наглеца из университета...
Вера Набокова, слившаяся в послевоенные годы с мужем в «одно целое»,
огорошила студентку со слабым зрением, сдавшую работу с извинением,
что «писала с трудом», ответом: «Похоже, и мы с трудом будем это читать». [152:2зв]
В 1959 году штрих, всемирно известный теперь благодаря «Лолите»,
прибыл в Париже на тусовку издательства «Галлимар». Княгиня Зинаида
Шаховская, ближайший друг Сирина в довоенные годы, устраивавшая ему
вечера, привечавшая его в Брюсселе, с возмущением рассказывала о встрече: 359
— Еле-еле пожимая мне руку, нарочно не узнавая меня, сказал мне:
«Bonjour, Madame». [147:зв]
Возмущение было столь сильно, что позже, сочиняя книгу о бывшем
друге, княгиня придумывала для него смешные претензии типа «Набоков [м*63]
никогда не знал запаха конопли, нагретой солнцем...» — или эта конопля
попала в книжку как рифма с «Асей», герою которой ее запах как раз напо-
минал родину.
«Бонжур-Мадам», так или иначе, свинское.
Вера Набокова позже объясняла, что подслеповатый мастер просто не
узнал Шаховскую.
Может, и не узнал.
Актрису Лоллобриджиду, скажем, тоже не узнал.
С другой стороны, в бедные годы ему не доводилось ночевать у Лолло-
бриджиды в мансарде.
Обсуждая с американским коллегой не самую радивую студентку, наш
штрих обратил внимание на ее необычайную красоту, а на слова коллеги,
что красота — это еще не все, предложил не заблуждаться:
— Не будем обманываться. Красота — это все. [ 152:11]
Красота — это вроде Дара. Богом выписанный билет во внеположен-
ность.
Выпить гусеницу
[76:61]
[51:162]
[74:34]
Збо
[26:277]
В «Других берегах» есть фрагмент, связанный с Русско-японской вой-
ной. Не на театре военных действий, конечно, а где-то на теплом курорте.
Отец не захотел находиться в одном кафе с японскими офицерами, а моро-
женое уже принесли, и Володя ухватил в рот холодную лимонную бомбоч-
ку; эти ощущения мороза во рту и представляют в мемуарах войну.
Строгая Эм, комментируя эту ситуацию, напоминает слова Гессена
в предисловии к 1-му тому «Архива русской революции»: «Важнее всего
отрешиться от собственной личности, не делать ее центральной фигурой».
Набоков поступает ровно наоборот.
Он — центральная фигура любых раскладов.
Это может бесить, даже когда он просто курит в сторонке. Вот призна-
ние одного советского диссидента, который в 60-е зачитывался в Москве
«Даром», воспринимая красоту чужого изгнания как некую личную цен-
ность. Но годы шли, искусство уже примеривало соц-арт, а страстные по-
клонники Набокова продолжали существовать в своем совершенно обо-
собленном мирке.
— Этот культ отнимал у меня мое настоящее. Обожателям Набокова
нравились темные аллеи, старинные поместья и экзотические бабочки; бо-
лезненно-хрупкую претенциозность Петербурга они предпочитали мос-
ковской вульгарной толчее. Они были аристократами, мы — пролами. Их
Набоков нас игнорировал; он был нашим классовым врагом.
Какие страсти! — и Набоков сам ни при чем, молчит, да попросту уже
и умер. А иногда он ведь был жив и говорил (в 1941-м):
— В современной русской литературе я занимаю особое место новатора,
писателя, чье творчество стоит совершенно в стороне от творчества его
современников.
Ну стоит, казалось бы, и стоит, занимаешь и занимаешь. Пушкин вот
тоже занимал, но при этом не надувался от важности, а бил себе бодро
ножкой об ножку. На въезде в усадьбу свою поставил на столбике пушеч-
ку бронзовую, приписав на табличке, что пушечка сия поставлена для
увеселения друзей, а более ни для чего. А Набоков, став знаменитым, мо-
чил в интервью «Плейбою» Константина Мочульского (он, впрямь ориги-
нал, в «Машеньке», выпущенной как стрела из лука, ухитрился найти вя-
лость-дряхлость), имени которого до той минуты (и после нее) в Америке
ни один чорт не слыхал. Несолидно, Владимир Владимирович! Для Ваше-
го ранга.
Получив трибуну (кафедру, полосы для интервью) Набоков-штрих гро-
мит мировых гениев через одного, модных авторов — дюжинами.
— Суждения Набокова об искусстве абсолютно независимы и выска-
заны с позиции силы. Это впечатляет... Набоков говорит как власть
имеющий и спуску никому не дает, — замечает Азбучный Навык. —
Старея, Набоков все сильней распаляется, будто какой-нибудь тиран,
и прилежно и последовательно, по наблюдению американской писатель-
ницы Джойс Кэрол Оутс, «очищает вселенную от всего, что не является
Набоковым».
Набоков без Лолиты
Есть в этом размахе упоение даром как знаком свыше. Человек совер-
шенно не собирается скрывать, что он отмечен.
Отмеченным вообще быть в известном смысле удобно. Если жизнь не
сложилась у менеджера или баскетболиста, ему гораздо сложнее найти уте-
шение, чем художнику. Художник — всякий, даже самый неудачливый —
имеет всегда в кармане аттестат небесмысленности. Творил, с небом об-
щался, метафизикой ворочал... не зря, значит, жил, инвестиции в метафи-
зику бесследными не бывают.
Но это — про утешение, а не про упоение.
В олимпийских же громоверзиях В.В. есть что-то мелочное, насеко-
мое, весом в раздел сканвордов и карикатур на последней странице еже-
недельника.
Данной тебе небесами внеположенностью можно было распоряжаться
аккуратнее, как, собственно, и распоряжался ею прозаик Сирин на своем
отрезке эстафеты.
Ценил, как сформулировано в раннем «Письме в Россию», «возвышен-
ную стыдливость слова». Именно такая достойна королевских особ.
361
Кр. битва
Королевской особой в сиринский, русский период Набоков стать не смог.
Да, он писал Вере:
[152:23] — Ты пришла в мою жизнь — не как приходят в гости, а как прихо-
дят в царство, где все реки ждали твоего отражения, все дороги — твоих
шагов...
[152:41] Да и Вера была уверена, что ее отец «происходил по прямой линии от из-
вестного толкователя Талмуда, процветавшего в Испании в XVI веке, кото-
рый, в свою очередь, происходил по прямой линии от ветхозаветных иу-
дейских царей».
Но это все идеи наследственные. Набоков был прекрасным принцем, но
король — это вот точно уровнем выше, а не вбок. Это именно высшее, за-
мыкающее мир измерение — иногда и тяжелая задница, плотно усевшаяся
на крышке универсума.
Уничтожение метафизического зазора, из которого, как мы с вами выяс-
нили, и струится небывалый сиринский свет.
Русский период творчества В.В. начинается и заканчивается странней-
шими королями.
В «Трагедии господина Морна» (1924) некоей стране повезло с новым
королем: он прекратил распри, при нем расцвели цивилизация и культура.
Вместе с тем король правит анонимно — вот уж сиринская идея. Гражда-
нам он известен под именем господина Морна. В смысле, гражданам извес-
тен г-н Морн, но короля в нем ничто не выдает. Любовная история завер-
шается дуэлью, по условиям которой проигравший — вытянувший
нехорошую карту — должен застрелиться. Карту вытягивает Морн, но
стреляться трусит и уезжает, как Ганин, на юг. Весть о смерти короля обле-
тает страну, торжествует кровавая революция, а живой и талантливый мо-
нарх, лично всю эту кашу заваривший, кушает финики на далеком пляже
Набоков без Лолиты
и ничем не может помочь своему народу. Уже у двадцатипятилетнего Си-
рина король — законный и успешный! — не способен быть королем.
А в «Solus Rex» (1940) Кр. — так по-шахматному его именует автор, —
загнанный судьбой в монаршью клетку, которая ничуть его не прельщала,
начинает день с поисков завтрака. Он может быть подан в одни из пяти по-
коев: такого рода проблемы возникают с владениями у настоящих королей.
И слово Кр. — кстати. Кр., а не король. Больному маленькому Лужину,
кутающемуся в тигровый плед, макаку мантии, было приятно представ-
лять себя королем, но королем, то есть чемпионом мира, он так и не стал.
Водил потом пальцем по карте полушарий, не вполне одобряя взаимное
расположение континентов.
Сирин жаждал большого будущего, и кандидатов в подданные хватало.
Большой художник Добужинский слал письмо:
— Вы когда-то написали маленькие стихи, посвященнные мне. Их у ме- [ 107]
ня нет, а я очень ими дорожу, как знаком отличия. Это для меня Владимир
1-й степени и с короной.
Георгий Гессен (сын И.В. Гессена) писал:
— Прочитал «Дар» и хочу тебе сказать, что ты — гений. Ах, если ты отда- [19:555]
ленно играл бы так в шахматы, или в теннис, или в футбол, как пишешь,
подлец, то мог бы дать пешку Алехину, + 15 Budge’y и в любой профессио-
нальной команде сделать Hiden’a запасным вратарем.
Но слишком много тут «если бы», немножко напоминает «знаки отли-
чия» короля обезьяньего Ремизова, забытые иностранные чемпионы ка-
жутся героями комиксов.
Письмо Гессена я цитирую по книжке Новозеландского Биографа: цита-
та взята с первой страницы главки, которая называется «В нищете».
Королю же желательно иметь власть и сокровища. Даже и ладно, в рус-
ской традиции можно заменить это общественным признанием: но не вспо-
лохами аплодисментов (короля на бис не вызывают), а отсветом нимба на
челе. Ничего такого Набоков к середине 1930-х не добился. Обидно не про-
биться в короли, являясь гением. К этому времени он оставил уроки: деньги
приносила Вера, служившая секретаршей (ее таланты позволяли находить
работу и при гитлеровском режиме), и скромные гонорары за публикации
в газетах и журналах (теперь в парижских — «Последних новостях» и «Со-
временных записках»). По идее, семейную кассу должен был наполнять ру-
чеек переводов — в списке доходов за 1934 год есть авансы за французскую
и чешскую «Камеру обскуру», за шведского «Лужина», а стран, казалось бы,
на свете много, но ручеек никак не хотел превращаться в полноводную реку.
Отвечая Нине Берберовой, порекомендовавшей ему очередного литератур-
ного агента, Сирин сетовал, что агентов у него больше, чем читателей.
— Если бы всех этих мужчин и дам собрали, то вышел бы огромный меж-
дународный санаторий, ибо после первого страстного периода телеграмм еле- [ 1* 496]
дует таинственное молчание, которое — после запросов — объясняется «бо-
лезнью»; из одних моих переводчиц можно было бы составить небольшой
госпиталь в сосновом лесу, — вот оно, сиринское сказочное королевство.
363
Кр. битва
Квартирный хозяин Менетекелфарес мог по своему хотению превра-
щаться в маленькую девочку или полосатую лошадку... маловато.
В «Даре» идет речь о «совершенной свободе в мире теней». В мире теней.
Кажется, в путеводителе еще не цитировалась самая знаменитая фраза
о Набокове-писателе, из статьи Ходасевича «О Сирине»:
[141 п:з91] — Его произведения населены не только действующими лицами, но и бес-
численным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя
между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачи-
вают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых
разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются его
неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна
из главных задач его — именно показать, как живут и работают приемы.
К этому справедливому замечанию нужна маленькая поправка: до поры
до времени Сирин, завороженный эстетикой тайны, жизнь приемов так
отчаянно все же не выпячивал (сколько, скажем, потребовалось десятиле-
тий, чтобы обнаружить их копошение в «Путеводителе по Берлину»!).
Статья Ходасевича опубликована в парижском «Возрождении» в 1937-м —
к этому времени гномы и эльфы действительно активизировались; рассказ
«Королек», в начале которого на глазах читателя собирается декорация, по-
явился, допустим, в 1933-м. Но так или иначе, да — эльфы и гномы.
Вот кем повелевал наш великолепный Кр. Где-то еще он обещает в рас-
сказах и крокодильчиков, и аромат пестрых пинкертончиков — тоже слав-
ные подданные. А в письмах Елены Сикорской-Набоковой несколько по-
тусторонним манером там и сям и абсолютно ни к селу ни к городу
Зб4 мелькает Цинциннат, продолжающий жить в прохладных потустороннос-
тях своим чередом: вдруг взял да написал в фантазиях Елены картину,
[92:12,37] изображающую Китеж, да не может продать.
Ну и бабочки, конечно. Набоков недолюбливал Хемингуэя, который охо-
тился на тигров. Нет ли тут повода для зависти — сравни тигра с бабочкой...
Грубых противопоставлений не хочется. Бабочку тоже пойди улови.
Многочасовые блуждания в лесах и скалах, терпеливые засады. Летом
1975-го, в холодное утро, добывая горных бабочек, В.В. скатился с сурового
склона и ожидал спасателей пять часов — многим охотникам на более
крупную дичь удается всю жизнь избежать подобных приключений. Бо-
рясь с крылатыми эфемерностями, он получал настоящие раны.
Сирин мог быть литературным королем в волшебной России, той, что
рисует на стекле морозные узоры и выпекает на Масленицу солнечные
блины, не оборвись так бездарно она в 1917-м. Для новой России — и на
красном, и на белом ее полушариях — он оказывался долговязым бестол-
ковым аристократом, отягощенным сказочным даром.
Другое дело — грядущая Америка, где амплуа короля-фокусника на-
много уместнее.
Но еще на этих берегах, в российском общественном поле, он учинил-
таки свою Кр. битву: с человеком, который, не превосходя Сирина по числу
ломаных грошей, сумел стать властителем дум и душ.
Набоков без Лолиты
Черный Кр.
Один из первых рецензентов «Машеньки» (А.С. Изгоев) заметил, что
Н.Г. Чернышевский гнобил «ганиных» еще аж в статье «Русский человек
на rendez-vous»:
— За 70 лет этот облик российского интеллигента все еще не изменился, [57:29]
несмотря на революцию. А пора бы!
Чернышевский сделал свой ход в 1858 году, опубликовав в журнале
«Атеней» большой отклик на тургеневскую «Асю». Его претензии к глав-
ному герою (и в его лице ко всему русскому обществу) — безволие
и бездействие. Герой Аси трусит жениться. Но в контексте тогдашних
общественно-политических дискуссий под «решительными действиями»
подразумевалась не только женитьба, а и требование перемен в русской
жизни. Там, собственно, не только о Тургеневе шла речь: упоминались
столь же нерешительные персонажи Некрасова и Герцена:
— Пока о деле нет речи, надобно только занять праздное время, напол- [145:432]
нить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой
очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои
чувства и желания, — большая часть героев начинает уже колебаться
и чувствовать неповоротливость в языке.
Федор Годунов в «Жизни Чернышевского» работы про рандеву не упо-
минает, но коллизию рассматривает схожую: апелляцию Чернышевского
к дурно понятой и неосвоенной реальности при полном непонимании
существа искусства, то есть праздных якобы разговоров и мечт. Да и лич-
но Годунова могло кое-что задеть: как герой «Аси» не знает, что ответить
на любовное признание героини, так Федор в последней сцене на вопрос
Зины «Но любишь ли ты меня?» уклончиво сообщает, что его разглаголь-
ствования о проделках судьбы «и есть в некотором роде объяснение
в любви».
Напомню историю «Жизни Чернышевского». Федор Годунов-Чердын-
цев, молодой поэт, тоскующий о прозе, потерпел неудачу в попытке на-
писать книгу об отце: задача оказалась слишком ответственной, автор не
вытянул необходимую теме «пушкинскую» ноту. В Берлине меж тем со-
стоялся очередной его переезд, причем новое жилье отстояло от старого
на такое расстояние, как где-нибудь в России улица Гоголя от улицы Пуш-
кина. Вместо «пушкинской» светлой поэмы об отце Федор принялся за
«гоголевский» темноватый портрет Чернышевского. Толчком послужил
случайно купленный шахматный журнальчик с двумя столбцами из юно-
шеского дневника Николая Гавриловича. Этот материал был последним
в разгаданном насквозь журнале, но в какой-то момент очередь дошла
и до него. И Федора настолько позабавило, что автор с таким умствен-
ным и словесным стилем («словно у человека руки были в столярном
клее, и обе были левые») мог повлиять на литературную судьбу России,
что на другое же утро он выписал в библиотеке полное собрание сочине-
ний Чернышевского.
365
Кр. битва
Знакомые знали об увлечении Федора и ждали текста, редактор «Газеты»
Васильев даже предполагал выпустить сочинение о знатном революционе-
ре специальным приложением, но результат оказался перпендикулярен
ожиданиям.
— Вот ваша рукопись, — проговорил Васильев, насупив брови и протя-
гивая ему папку. — Никакой речи не может быть о том, чтобы я был при-
частен к ее напечатанию. Я полагал, что это серьезный труд, а оказывается,
что это беспардонная, антиобщественная, озорная отсебятина... — и через
паузу: — Есть традиции русской общественности, над которыми честный
писатель не смеет глумиться... Писать пасквиль на человека, страданиями
и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостой-
но никакого таланта... Не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою
литературную карьеру... от вас все отвернутся.
Издатель в результате нашелся задорным окольным образом — через
графомана рижанина Буша (видимо, здесь у меня будет последний случай
упомянуть, что набоковская усадьба Рождествено в 1872-1878 годах при-
надлежала рижскому купцу первой гильдии К.Я. Бушу, владельцу местной
лесопилки), — пресса разразилась полновесным залпом рецензий, некото-
рые из которых и впрямь упрекали Федора в предательстве идеалов, но
вроде бы никто в результате особо не отвернулся.
Так в романе. В жизни вышло несколько косолапее: четвертую главу
«Дара» (написанную раньше остального романа, в 1934 году, вокруг «При-
глашения на казнь»), которая и представляет из себя «Жизнь Чернышев-
ского», «Современные записки», уже начавшие печатать роман, публико-
366 вать наотрез отказались. Аргументы были те же самые, что у редактора
Васильева.
119:514- 515] Существует даже письмо Набокова, в котором он утверждает, что этот
отказ вообще отнимает у него возможность печатать «Дар» в «СЗ», ибо как
же нелепо будет выглядеть сочинение, где после третьей главы идет не чет-
вертая, а отзывы на вставной текст, эту самую четвертую и составлявший.
Но одно дело «отнимает возможность», другое — насущная потребность
в гонораре. В результате так и пришлось поступить: в начале пятой главы
читатели получили подборку рецензий на оставшуюся неведомой им
«Жизнь Чернышевского». Полностью роман вышел только в 1952 году
в Нью-Йорке. А я помню еще конец 1980-х, «перестройку и гласность»:
публикацию «Дара» заявил журнал «Урал», где я тогда активно сотрудни-
чал (и где до сих пор служит К.В. Богомолов), и все литераторы, совавшие
нос в редакцию, неизбежно уточняли про четвертую главу: еще тогда она
казалась «одиозной».
Между тем многое зависит от оптики. Не все так однозначно в «памфле-
те» о Чернышевском. Тексты Николая Гавриловича сравниваются с хлебом.
С хлебом! Идет речь о жаре, который таится как бы промеж слов, и следует
замечание — «как бывает горяч только хлеб». Образ, конечно, с двойным
дном, жар обречен рассеяться со временем («как лишь хлеб умеет стано-
виться черствым») — однако же!
Набоков без Лолиты
Стихи, обрамляющие четвертую главу, Азбучный Навык оценивает так:
— Белая кость и олимпиец, Набоков посвящает Чернышевскому сонет [25:21ц
такой красоты и великодушия, перед которым меркнут все демократиче-
ские славословия.
Напомнить этот сонет?
Что скажет о тебе далекий правнук твой,
то славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?
Что подвиг твой не зря свершался — труд сухой
в поэзию добра попутно обращая
и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой?
Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,
с улыбкой женскою и детскою заботой,
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.
Федор понимает, что «такие герои, как Чернышевский, при всех их 367
смешных и страшных промахах были, как ни верти, действительными
героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более
тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы, и что
либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым
меньше этих железных забияк».
Федору искренне нравится, как «Чернышевский, противник смертной
казни, наповал высмеивал гнусно-благостное и подло-величественное
предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической
таинственностью...».
«Человек прямой и твердый», «самый честнейший из честнейших».
В гимназии «показал себя учителем крайне симпатичным».
Федор восхищен поведением Чернышевского в конфликте с дежурным
офицером, которому Николай Гаврилович запретил зайти в класс. «Офи-
цер оскорбился. Учитель извиниться не пожелал и вышел в отставку».
При чтении Чернышевского охватывает «чистое чувство, от которого
вдруг становится легче дышать» — не менее сильно, чем про хлеб.
С глубоким сочувствием пишет наш «зоил» о «дребезжащей нежности
к жене» (которую расслышал в эротических сценах романа «Пролог»),
о «чистом звуке» его супружеских писем из ссылки.
Не слишком похоже на памфлет, правда?
Кр. битва
— Никогда власти не дождались от него тех смиренно-просительных
посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Се-
мипалатинска к сильным мира сего, — неподдельное уважение.
— Мыслитель, труженик, светлый ум, — это почти самый финал чет-
вертой главы.
Свой человек
Более того, многие из характеристик героя «Жизни Чернышевского» мы
можем найти у обобщенного — любимого! — сирийского героя.
— Работал так лихорадочно, так много курил, так мало спал... — ну это
просто можно подумать, что не про Чернышевского, а про Годунова-Чер-
дынцева.
— Не селадонничал с пишущими дамами, энергично разделываясь с Ев-
докией Растопчиной или Авдотьей Панаевой...
Хочется добавить: как и Набоков не считал нужным селадонничать
с Ириной Одоевцевой или Зинаидой Гиппиус.
Недружественную статью критика Юркевича Чернышевский, не снис-
ходя до комментариев, просто перепечатал в своем журнале (сколько поз-
воляло авторское право), оборвав на полуслове. Но Федор (или Сирин,
здесь разница не шире малейшей зги) тут же сочувственно цитирует Пуш-
кина, который, смеясь в Болдино над бранчливыми критиками, полагал,
что лучший способ дезавуировать такие писания — перепечатать их без
всякого комментария. Как — сценический круг проворачивается — сам
368 Сирин в начале пятой главы без особых комментариев «перепечатывал»
рецензентов «Жизни Чернышевского», полагая, что глупый текст сам за
себя все скажет.
Или вот узор:
— Удовольствие, которое в юности он испытывал от стройного распре-
деления петербургских вод, получило теперь (в ссылке. — В.К.) позднее
эхо: от нечего делать он выкапывал каналы...
Но Владимир Владимирович, и это Ваша родная тема: вспомним хотя
бы сыщика из «События», закладывающего трапеции перед домом объек-
та опеки.
Чернышевский любил фокусы, рецензируя брошюру «Комнатная ма-
гия», поверял у себя дома опыт по переноске воды в решете — хорошо же,
но как же наш милейший фокусник Шок?
И Набоков, и Чернышевский любили чертить схемы. Нерадивые учени-
ки умели отвлечь внимание преподавателя от проверки заданий вопроси-
ком насчет Конвента, — и вот Николай Гаврилович уже загорелся, крошит
о доску мел, какой там у Конвента был зал заседаний, где располагалась та-
кая партия, где сякая.
Среди чертежей Чернышевского есть презанимательнейшие, включая
вечный двигатель или вот такое отеческое напутствие сыну из далекой
ссылки:
Набоков без Лолиты
Что тебе написать. Саша, кроме разве того, что в ДАВС имеем
sin угл. В ’• S. уг. С ’• sin уг. А=ст. В: стороне С: ст. А.
Но по положению уг. А>уг.
В 4- С след., как угол А>уг.
В 4-С, так и сторона А>ст. I
В 4* С, след., в тупоугольном треуг.
сторона, противолежащая тупому s Ъ •
углу, > двух других сторон, а лектор Набоков прославился тем, что
чертил план вагона, в котором езживала между столицами Анна Каренина.
Рисовал жука из «Превращения» Кафки, чтобы доказать, что это именно
жук, а не таракан, с помощью штришков и кружочков показывал слиян-
ность-разлиянность добра и зла в докторе Джеке и мистере Хайкилле. Дру-
гое дело, что все приведенные в пример схемы В.В. — это из Набокова-
штрих, могло сработать правило «с кем поведешься».
Чернышевский лихо сокращает слова — «слабь!» и «глупь!» в значении
«слабость» и «глупость», у него есть брыкающийся гибрид «свбды-ва»,
означающий одновременно «свободы и равенства», но мы ведь уже вроде
договорились, что всякого рода Торговки Разных Цветов — это не только
пародии, но и акробатика гуттаперчивого языка.
Принято высмеивать Чернышевского за фразу «Они долго щупали бока
одному из себя», а Набоков-штрих в каком-то, не помню, романе выдал на
нее вариацию... что-то там было про драку... я перекатился через него, мы
перекатились через себя, как-то, кажется, так...
В ссылке, коротая длинные северные вечера, Чернышевский читает за-
ключенным увлекательную повесть; впоследствии выясняется, что читал
он из пустой тетрадки. Из головы. Для этого, согласитесь, не только неза-
урядный ум нужен, это еще и рифма к происшествию с Набоковым-тени-
шевцем: взамен (хотя, в общем, и не «взамен») сочинения на тему «Лень»
Володя сдал словеснику Владимиру Гиппиусу пустой лист. Повесть Черны-
шевского из пустой тетрадки именовалась «Не для всех» и была про лю-
бовь втроем (героям хорошо на необитаемом острове, но в Англии они по-
падают под суд: темка набоковская).
И анонимное письмо, которое Чернышевский подумывает написать
Василию Лободовскому, в жену которого влюблен, — ложное письмо,
призванное возбудить ревность... не слишком ли ладный экспонат в си-
рийскую коллекцию странной почты?
И тема ненадежного нарратора налицо: когда арестовали чересчур сво-
бодолюбивый дневник Чернышевского, автор старался выдать крамоль-
ные записи за черновик романа:
— Я ставлю себя и других в разные положения и фантастически разви-
ваю. .. Какое-то «я» говорит о возможности ареста, одного из этих «я» бьют
палкой при невесте...
Получив в 1872-м, уже совершенно ненужном году (хотя жить оста-
валось еще целых семнадцать лет) марксов «Капитал», Чернышевский
повел себя как тот самый внеположенный аристократ, олимпийскому
поведению которого непременно должны завидовать наблюдающие
с других берегов:
369
Кр. битва
— Просмотрел, да не читал, а отрывал листик за листиком, делал из них
кораблики и пускал по Вилюю.
И без темы обезьян, конечно, глупо было бы, коли бы обошлось. Вот
сон, виденный Николаем Гавриловичем в Петропавловской крепости
в 1863 году:
[ 144:647] — Обезьяны очень высокого роста, — с высокого человека и необыкно-
венно сильные, — сильнее медведя, и страшные лицами, похожими на че-
ловеческие, напали на группу людей, в числе которых был и я, стали бить,
кусать и тащить к себе в лес...
Свой человек—2
По праздникам Чернышевский озорничал в Божьем храме, смеша невесту.
Марксистский комментатор видит в этом «здоровую кощунственность»,
лепую для революционного демократа.
— Какие глупости, — замечает Федор Константинович, — сын священ-
ника, Николай чувствовал себя в церкви как дома (королевич, венчающий
кота отцовской короной, отнюдь не выражает этим сочувствия к народо-
властию).
«Королевич, корона». Кр. битва. Среди своих.
Среди чужого
Сей, однако, мыслитель, этот, впрочем, труженник, данный светлый ум, че-
370 ловек смелый, искренний и самоотверженный — он раз за разом оказыва-
ется обидно бит той самой реальной действительностью, к которой всю
жизнь страстно и упрямо взывал.
— Любовь к вещественности без взаимности, — так называет Влади-
мир Владимирович романтическую юдоль Николая Гавриловича.
Он рвался что-то изобретать, пять лет, скажем, носился с идеей вечного
двигателя, у рассудительного юноши «глаза как у крота, а белые, слепые ру-
ки движутся в другой плоскости, нежели его плошавшая, но упрямая и
мускулистая мысль».
— Этот певец реальности никогда не научился ни плавать, ни лепить во-
робьев из глины, ни мастерить сетки для ловли малявок: ячейки получа-
лись неровные, нитки путались.
Нитки запутываются в узор, в возвращающийся унизительный мотив:
штопая панталоны, герой не находит черных ниток, потому макает, какие
нашлись, в чернила, в результате чего лишь забрызгивает оными чужую
книгу.
Другая возвращающаяся тема — близорукость. Близорукость естест-
венная, в смысле болезнь, умножается на близорукость экзистенциальную.
— Ландшафт, воспетый Гоголем, прошел незамеченным мимо очей во-
семнадцатилетнего Николая Гавриловича, неторопливо, на долгих, ехавшего
с матерью в Петербург. Всю дорогу он читал книжку. И то сказать — скло-
Набоков без Лолиты
нявшимся в пыли колосьям он предпочел словесную войну (это свойство
Чернышевского Сирин припишет Зиланову из «Подвига»: едва очутив-
шись в поезде, тот утыкается взором в бумаги).
Третий узор — нечистоплотность, неряшливость, частые колики, рвота-
понос да наливные прыщи, которые Ч. давил так нещадно, что не смел по-
том показываться на людях. Ходасевич, кстати, начинал (недописанную) [ш ш:54]
биографию Пушкина с того, как Петр Великий вытаскивает из задницы
арапчонка длиннющего глиста, но не делал из этого «темы».
Водяной татуировкой проходят еще и бесконечные измены супруги,
Ольги Сократовны: перед нами, в общем, портрет человека, чьи высокие
устремления неизменно заканчивались вляпыванием в дерьмо. И это не
просто невезение, «лузерство», а, похоже, лукавая задумка Творца.
— Удивительно, как то все горькое и героическое, что жизнь изготовляла
для Чернышевского, непременно сопровождалось привкусом гнусного фарса.
— За все его лягает собственная диалектика, за все мстят ему боги...
Есть еще выражение «отрицательная сторица», приписанное выдуман-
ному биографу Страннолюбскому.
За что же все-таки мстят боги?
За идею.
За утверждение вторичной роли искусства по отношению «к действи-
тельности», за ставку на «пользу», а не на кисейные трепетания души, за ве-
ру в «здравый смысл»...
За желание объяснить идеальное утилитарным.
— Подробно мечтая о том, как у Лободовского (друг. — В.К.), перед ко-
торым искренне преклоняется, разовьется чахотка, и о том, как Надежда 371
Егоровна останется молодой вдовой, беспомощной, обездоленной, он
преследует особую цель. Подставной образ нужен ему, чтобы оправдать
свою влюбленность, заменив ее жалостью к жертве, т.е. подведя под влюб-
ленность утилитарную основу. Ведь иначе сердечных волнений не объяс-
нить ограниченными средствами топорного материализма, которым он
уже безнадежно прельстился.
Материализмом поверяются даже изящные картинки, выставленные
в витринах на Невском: у витринной красавицы не вышел нос, в то время
как у Надежды Егоровны все вышло надлежайшим образом. Следовало бы
живописцам оставить мазню с претензиями на утонченность, а сосредото-
читься на честном описании современного быта.
Поверяя искусство жизнью, Чернышевский отказывал ему в звании дру-
гих берегов, клена не отличал от липы, частному знанию (в своих потугах на
энциклопедическую деятельность) предпочитал неуклюжие обобщения;
желая перевести Брокгауза по своему разумению, объяснял это тем, что
«напихают туда всякой дряни, вроде мелких немецких художников»...
— Лобачевского знала вся Казань, — писал он детям, — вся Казань еди-
нодушно говорила, что он круглый дурак.
Фета называл за «Шелест, робкое дыханье...» (разумея под шелестом
шепот) «идиотом, каких мало».
Кр. битва
Захер-Мазоха считал много выше Флобера. Пушкина не признавал ге-
нием из-за количества черновиков. Дескать, «здравый смысл высказывает-
ся сразу, ибо знает, что хочет сказать». И ни слова о зоне тайны.
У вещей, как и у слов, бывают падежи, Чернышевский все видел в име-
нительном, замечает Годунов-Чердынцев. Стоит падежу отклониться —
вся жизнь валится под откос.
Автору четвертой главы «невесело» читать об изобретательских неуда-
чах Чернышевского, сочувствует он «выражению чудной какой-то бес-
помощности», Н.Г. «очень жаль» из-за поведения более чем неверной
супруги его.
Но Чернышевский сам виноват, нечего было носиться с настолько ту-
пой идейкой. Все обидные темы в сочинении Федора вытащены швами
наружу, Сирин — и вот почему его «Жизнь Чернышевского» многие счи-
тают памфлетом-пасквилем — не упускает ни одной уничижительной
подробности. Образ создается вонючий, бомжеватый... словно сама ма-
шина литературности прошлась по человеку с целью доказать незряш-
ность всех своих лошадиных сил.
Сирин вроде имеет в виду выкраденный из железной часовни серебря-
ный венок Чернышевского, когда говорит:
— Есть еще посмертное надругание, без коего никакая святая жизнь не
совершенна.
Но и его собственный труд оказывается подобным инструментом со-
вершенствования святой жизни. Примеры затрещин судьбы Набоков от-
кровенно смакует (тут точно лучше обойтись без цитат), он понимает
37^ судьбу, он солидарен с ее мотивами, он — признаем это — злорадствует.
Можно было бы обойтись без эскалации, без педалирования, без нагне-
тания, без выставления на первый план узоров вони и рвоты? Это уж явно
вышло бы поблагороднее.
Что сделал
Нервничает Сирин потому, что Чернышеский в этой партии одержал
победу. Его творческая стратегия оказалась успешной. Шуруя двумя ле-
выми руками, изгвазданными столярным клеем, Николай Гаврилович
ухитрился понавыдвигать пешек в ферзи. Наивно путая отношения
действительности и искусства, дело которого порождать иллюзии, Чер-
нышевский развернул свою игру так, что его тексты стали порождать
жизнь — и какую!
Кто эта девушка в черном платье с белым отложным воротничком,
с кругленьким лицом и щеками, как два горшочка? Это Софья Перовская,
которая, пройдя школу «рахметовщины» (реально спала на соломе да бро-
дила по деревням знакомиться с бытом крестьян, как учил автор «Что де-
лать?»), устроила потом самый что ни на есть реальный взрыв, при кото-
ром погиб император Александр Второй и еще четыре человека (в том
числе ребенок), и это не считая двух десятков раненых.
Набоков без Лолиты
Фантом, выпущенный, как слизистая белесость из лопнувшего в каст-
рюльке яйца, романом «Что делать?», обернулся фонтанами крови.
Не достаточно ли одного такого факта, чтобы не жалеть расстроенного
Чернышевского живота?
Александр Маликов пытался образовать на стекольной фабрике под Ка-
лугой коммуну; кооператив по рецептам «Что делать?». цеп70]
— Дмитрий Рогачев, народнический кандидат в цари-самозванцы, делал
свою биографию по «Что делать?», будто по сценарию: как Рахметов, нани- [iei:вз]
мался в бурлаки; как Лопухов, вступил в фиктивный брак; и как Кирсанов,
признавал «свободу чувств» своей жены, которую звали Верой Павлов-
ной, — рассказывает Сосед Утопленника.
В том причина немилосердной тактики Сирина в Кр. битве, что она была
проиграна еще до начала. Голый Кр. Николай Гаврилович Чернышевский
создал своими руками полчища народных освободителей (тут я утрирую,
конечно, герой четвертой главы орудовал отнюдь не в одиночку), которые
и вытряхнули семейство Набоковых из Рождествено и с Большой Морской.
Другая смерть
За эту победу Чернышевский подвергся «стихийной, мифологической ка-
ре, не входившей в расчет его человеческих судей».
Он был казнен 19 мая 1864-го в 8 утра на Мытнинской площади (там
сейчас садик, именуемый Овсянниковским, а также пожарная часть). Доб-
рые полторы набоковские страницы читатель, плохо знакомый с историей,
пребывает в уверенности, что казнь — это виселица и вечный покой-бес-
покой, но казнь была так называемой гражданской. Над Чернышевским
преломили плохо подпиленную шпагу и отправили в ссылку, где он прове-
дет, страшно сказать, еще двадцать пять лет. Эту четверть века Сирин
воспринимает как смерть, как посмертное бытие, в котором — о, нет, у нас
будет не так, совсем не так! — сочинялась еще какая-то проза, делались
плохие бумажные кораблики для якутских детей.
Никакой не утренний луч, никакого пробужденья весеннего, а поруга-
ние самой идеи смерти, грубейшая кондовая рытвинность вместо грани-
цы-гралицы, кандальный и сумасшедший кошмар. Двадцать пять лет заб-
вения с кривыми всполохами вздорных идей не только выкрасть
Чернышевского, но и сделать его Царем — не оставляет королевская тема.
В общем, суровое наказание: не сияние и прелесть по ту сторону дверей,
а кирзовый ссыльный быт. Суровое и справедливое.
Мы будем тусоваться в раю, любуясь подробностями рассвета-заката,
а смерть Чернышевского — кусок нерасчленимой грязи. Безо всяких под-
робностей.
— Подробности были для него лишь аристократическим элементом
в государстве общих понятий, — вот еще в чем упрекал Годунов Черны-
шевского.
Смотрите, пролез все же — аристократический элемент.
373
Кр. битва
В «Дар», кстати, много всего пролезло, как бы это выразиться, не слиш-
ком благостного. Про затаптывание немцев мы уже говорили. Рекламе —
в большинстве сочинений Сирина субстанции праздничной и творче-
ской — посвящено несколько строжайших абзацев: дескать, изображает
жизнерадостных идиотов, которые приветствуют покупку нового набора
кастрюль, как, не знаю, Рождество. На последних страницах рядом с Зи-
ной и Федором «жрут кабан с кабанихой». Видно, видно, что автор нерв-
ничает.
Роман-извинение
Сам Сирин, похоже, чувствовал, что перегнул палку в деле посмертного по-
ругания черного Кр. Летом 1934-го, параллельно работе над «Жизнью Чер-
нышевского», он очень быстро сочинил «Приглашение на казнь», герой ко-
торого, приговоренный к казни Цинциннат Ц., есть еще один вариант
образа Чернышевского — светлая, так сказать, проекция.
[21:118-124] Это наблюдение принадлежит Восторженной Парижанке. Чернышев-
ский преподавал в гимназии в Саратове, Цинциннат работал учителем
в детском саду. Чернышевский как литературный критик создавал дико-
винные, «чучельные» образы отечественных писателей, Цинциннат изго-
товлял «мягких кукол для школьниц — тут был и маленький волосатый
Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и стари-
чок Толстой, толстоносенький в зипуне...».
И Чернышевский, и Цинциннат имели удивительно распутных жен.
374 Чернышевского власти считают «сердцем черноты», Цинцинната судят
за непрозрачность, он кажется темным, «как будто был вырезан из куби-
ческой сажени ночи».
Схожим балаганным образом описаны казни обоих героев — причем
если Чернышевскому после «казни» на Мытнинской жить еще четверть
века, то обезглавленный Цинциннат направляется «в ту сторону, где, судя
по голосам, стояли существа, подобные ему».
Сны Цинцинната пересекаются со снами Веры Павловны. Цинциннат
обвинен в «гносеологической гнусности», и те же самые слова сопровожда-
ют в «Даре» Чернышевского — он, во-первых, попадается на гносеологи-
ческом дуализме, а, во-вторых, словцо «гнусность» начинает оживлять его
журнальные публикации.
Они похоже одеты в своих крепостях: Ц. — в черном халатике и фило-
софской ермолке на макушке, Ч. — в байковом халате, в картузе. Тюрем-
щик делает Ц. выговор за бесполезность его существования: «Вы бы лучше
научились, как другие вязать... связали бы мне фаршик», который появ-
ляется из перевранного шарфика и согласуется с убеждением Ч., «что вы-
прясть пфунт шерсти полезнее, чем написать том стихов».
Кстати, в начале пятой главы «Дара» в рецензии Кончеева приводится
картина бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающие-
ся уносят с собой все, что успевают схватить, причем непременно кто-нибудь
Набоков без Лолиты
тащит с собой большой, в раме, портрет давно забытого родственника:
смысл в том, что не с реальным Чернышевским-человеком разделывается
Набоков, но лишь с портретом... это тоже попытка отговорки, извине-
ния, но написать в порядке такого извинения целый роман — очередной
уникальный фокус героя моего путеводителя.
Мы так не дымаем?
Размышляя выше о водяных узорах и орнаментах, мы неизменно обраща-
ли внимание на роль перечитывателя: именно его острый глаз, чуткое ухо
и ушлый нюх призваны поднимать со дна текстов тонкие рифмы и тайные
связи.
В «Жизни Чернышевского» тайна выпячивается. Автор прямо указывает
на развитие, провисание и возвращение тех или иных тем (близорукости,
офицеров, кондитерских, желудка). В повествовании о человеке, не ува-
жавшем тайны природы, логично, быть может, обнажить прием, выта-
щить на свет собственную повествовательную стратегию.
Но в конце «Дара» Зина и Федор усаживаются за столик в открытом за-
гончике ресторанчика, отделенного беленым барьером с петуньями от
бездревесного сквера с целой армией роз, и Федор тащит на свет божий
узор всего романа: конспективно излагает стратегию судьбы. Сначала
она хотела свести наших влюбленных на вечеринке в доме на Таннен-
бергской, потом предлагала герою работу, связанную с помощью в пере-
водах некоей барышне, и тут сорвалось, потом то, потом се... «Дара» эти
шрамы вытащенных на поверхность узоров испортить не могут, ана- 375
грамматически придают ему шарм, ибо в храме романа столько узоров
и рифм (в том числе и таких, до коих не добрался пока ни один читатель),
что здесь игра с выданными темами кажется просто очередным метали-
тературным фортелем.
Но недаром тонкий наблюдатель Седой Космополит обращает внима-
ние на мелькнувшего в «Даре» присяжного поверенного Пышкина, «кото-
рый произносил в разговоре с вами: „Я не дымаю“ и „Сымасшествие“, —
словно устраивая своей фамилье некое алиби».
— Последнее уточнение кажется избыточным, — замечает Космопо- [172]
лит. — Здесь, думаю, мы имеем дело с проявлением авторского малодушия
или, если взглянуть на это иначе, с упущенной возможностью польстить
самолюбию читателей, и, возможно, именно эти проявления малодушия
имел в виду ученик Набокова, формулируя в своем лучшем рассказе кредо
настоящего победителя: «Никто, кроме самого гроссмейстера, не знал, что
его простые галстуки помечены фирменным знаком „Дом Диора“ Эта ма-
ленькая тайна всегда как-то согревала и утешала молодого и молчаливого
гроссмейстера».
Не буду раскрывать фамилию ученика, читателю путеводителя лишняя
загадка не повредит (чур не тарабанить тотчас цитату в поисковик), дело
не в ней. А в том, что уже после слова «сымасшествие» читатель должен
Кр. битва
догадаться, что Пышкин отсылает слушателя к «ы» в своей собственной
фамилии. Дальнейшее уточнение про алиби — лишняя подсказка.
В «Даре», повторяю, эти моменты недоверия к читателю — сущая ме-
лочь. В такой щедрой книге они даже и уместны — пусть будет представле-
на вся радуга возможного отношения к тайне. На то оно и вершинное про-
изведение.
Но заметим, что сбой этот происходит — в битве с черным Кр. Наш ге-
рой получил рану, поначалу незаметную, но мы ведь знаем закон трещин...
рану, из которой начало сочиться-------.
Здесь прозвучит, уже звучит потихоньку, не решаясь рвануть, тезис, ко-
торый я предлагаю принять на веру: нет, щепотка примеров будет, но по-
скольку я не собираюсь фланировать по текстам Набокова-штрих, то заяв-
лю аксиомой: американское преображение, которое уже не за горами, будет
состоять в уменьшении зоны тайны — в пользу фокусов, которые непре-
менно должны быть разгаданы.
376
Американская дырка
Набоков радовался, что Николай Козлов, его прадед по материнской ли-
нии, был автором работы «Сужение яремной дыры у людей умопомешан-
ных и самоубийц», то есть человеком, так скажем, неординарным. Призна-
вал, что «Сужение дыры» стало «забавным прототипом» его собственных [ 19:42]
сочинений.
Опыт студента-естественника (в первый год Кембриджа Набоков «про-
ходил», по его словам, зоологию, «препарировал рыб», хотя доказательств 377
тому нет) воспевал пряными гекзаметрами:
или же сердцем живым распятой лягушки любуюсь:
сладостно рдеет оно, будто спелая, липкая вишня...
Как вишня, так бы и скушал!
И освежеванные туши, напомню, — краше всех в «Путеводителе по Бер-
лину».
Набокова вообще «занимали извращенность, безумие, жестокость, сек- [ 19:13]
суальные отклонения от нормы... А сам он оставался абсолютно „нор-
мальным" человеком: у него был светлый, здравый ум, он не терпел наси-
лия, умел хранить верность в любви...».
Не подвергая сомнению оптимистический вывод Новозеландского Био-
графа (хотя с верностью в любви он слегка пережал), заметим, что есть
в этой ситуации серьезное — «экзистенциальное» — напряжение. Интерес
к сужению яремных либо каких-то иных специальных дыр — ноша не-
легкая. Даже искушением не назовешь... искушают-то вещи приятные —
жена ближнего, обильная гастрономия, пенистый кубок Бахуса, кал золо-
того тельца.
А что приятного в сузившейся, а даже и в расширившейся яремной дыре?
Американская дырка
Болезненный, так скажем, несколько интерес. Темный. Скользкие шмат-
ки этого интереса, жировые бляшки его обильно расплесканы по набоков-
ской биографии.
Бабушка нашего сочинителя, Мария Фердинандовна, урожденная фон
Корф, в юности попала во вполне сиринский переплет. Ее мать, баронесса
и жена генерала Нина фон Корф, имела пылкую связь с Дмитрием Никола-
евичем Набоковым, тем самым, что министр юстиции, скушавший в ста-
рости камешек. Чтобы иметь возможность кататься по заграницам в его
обществе, баронесса придумала выдать замуж за любовника семнадцати-
летнюю Марию. Сопровождать в Париж собственную невесту, хотя бы
и в компании ее матери, было уже прилично. Это перевернутый сюжет
«Лолиты»: в американском бестселлере мужчина женится на старшей, что-
бы быть рядом с младшей.
В том же Париже Мария Фердинандовна впоследствии и сама не отказы-
вала себе в громких перформансах. С мужем она не жила, развлекалась са-
мостоятельно. Однажды явились с подругами в Опера Гарнье, под звуки
увертюры разделись в аванложе догола, закрылись, расселись — прелесть,
просидели в таком виде целый акт, жаль, что не указано в мемуаре, что
именно пели.
[99:140] — Это было чудесно! Сидеть в ложе и наблюдать, как все бинокли отво-
рачиваются от сцены и устремляются на нас!
Этот эпизод она с плезиром вспоминала в старости, уже в восемьдесят,
может, как знать, путает желаемое с действительным или придумала от
нечего делать. Хотя как «нечего делать»: именно когда ей стукнуло восемь-
378 десят, к ней воспылал страстью бывший русский сенатор балтийского
происхождения — спеша с букетом, он погиб под колесами авто... Еще
[99:142] у бабушки был медальон, в котором она держала вьющиеся волосы «не
с головы»: веселая, в общем, была бабуся.
Опираясь на эти несколько мутные факты, Австралийский Биограф
[so:4зз] предполагал, что у Набокова (у нашего, В.В.) были подавленные влечения
насильника, в детстве желавшего близости с Марией Фердинандовной.
Предположение, конечно, мы спишем на репутацию Австралийца как
биографа-путаника...
[18:719-720] Тот же автор муссировал слух о том, что отец Набокова был незаконно-
рожденным сыном Александра II или, на худой конец, великого князя
[18:741] Константина. Он же утверждал, что Владимир Владимирович в письме
назвал свою родную мать Лолитой (на самом деле это было плотно зачерк-
нутое слово «радость»; тоже, конечно, странная история, вымарывать об-
ращение из письма, которое показываешь биографу).
[18:736] Сам наш герой специальную любовь к старушкам отрицал. Был у не-
го в старости сон — «попытка холодного и безрадостного совокупления
с толстой старухой, к которой испытываю столько же влечения, сколько
к горилле или мусорному бачку».
[161:405] Не нравилась В.В. и гипотеза Австралийца, что юный Набоков был со-
вращен родным дядей (тем, что завещал мальчику имение).
Набоков без Лолиты
Но темы кружатся, язык сам идет в пляс, и вот уже лояльнейший отече-
ственный биограф подметит, что наш объект «испытывал к утопленницам [so: 274]
особый интерес» (конечно, в связи с тем, что Ф. Годунов-Чердынцев закан-
чивает пушкинскую «Русалку», а не в прямом значении слов «утопленни-
цы» и «особый интерес»). И — шутки тут уместны, чтобы не впадать
в венский мрак, — Набоков, который «всю жизнь считал себя безруким»,
оказался очень ловок в деле препарирования гениталий бабочек, причем
именно генитальными исследованиями и заработал себе лепидоптериче-
ское имя.
Или ключевая фраза не про бабушку и не про бабочку, а про девочку из
«Себастьяна Найта»? Человек там на смертном одре жалеет, «что не загово-
рил с той школьницей с бесстыдными глазами, невесть куда державшей
путь через пустынную поляну». Школьница в конце концов и оказалась той
ассистенткой фокусника, что набросила на него самую звездную мантию.
Он долго к ней подбирался. Просеменила рядом с пожилым импозантом
малютка в «Сказке», и у нее слишком глубоко была приоткрыта грудь, Ще-
голев в «Даре» мечтал о взрослеющей Зине, была, наконец, повесть «Вол-
шебник», уже почти «Лолита». Там есть едва опушившийся толстый мысок
двенадцатилетней героини — и много еще всякого такого задорного.
Был и секс с громоздким, в грязной коричневой шерсти, злостным анге-
лом в «Ударе крыла», был секс — в «Картофельном Эльфе» — с карликом...
с тягой подложить в постель той или иной добропорядочной даме что-ли-
бо неживое (скелет в «Мести», восковую куклу опять же в «Картофельном
Эльфе») Сирин боролся не изо всех сил.
Тычется, не проявившись, слепой мордочкой тема секса при мертвеце. 379
Покойник за кадром в «Хвате» (когда герой овладевает героиней, он, в от-
личие от нее, знает, что у героини только что умер отец), маячит (тут скорее
моими стараниями) в «Машеньке», помните, «внутренний Горн» думал,
как ловко можно провести время с Кларой за стенкой умирающего Подтя-
гина. В «Даре», наконец, есть намек на то, что связь Оли и Рудольфа нача-
лась при застрелившемся Яше, прямо над телом, — сам автор, впрочем,
свой же намек отвергает как слишком плоский.
В «Даре» же некто, разводясь с женщиной, обвиняет ее в сожительстве
с догом (дворничиха слышала через дверь, как негодяйка выражает псу
восхищение относительно некоторых деталей его организма).
Из писателя Горького для лекционного анализа Набоков выбрал рассказ [90: з81-звз]
«На плотах»: вспомните или посмотрите, что там за сюжет.
На заре романа Владимира Набокова и Веры Слоним отец Веры ушел
от матери к ее племяннице (и, соответственно, двоюродной сестре Веры),
Анне Фейгиной, моложе его на 25 лет. Новозеландский Биограф в своем
циклопическом труде зачем-то скрывал эту подробность, и читателю оста-
валось удивляться, отчего так часто и близко мелькает в сюжете Анна Фей-
гина. Эту тему мы ведем по законам четвертой главы «Дара», по принципу
«всякому овощу свой аршин»: вот пожалуйста, в свидетельстве о смерти
отца (1928) Вера значилась как его жена.
Американская дырка
[50:343]
[89:370]
38о
[91:126]
В «Solus Rex» описано, как радостно принц балуется половыми органами
приятеля: из публикации в «Современных записках» наиболее откровен-
ные строки убрали, автор потом восстановил их в английском тексте. Сре-
ди творческих планов Набокова-штрих значился роман о любовной связи
сиамских близнецов. Эдмунд Уилсон удивлялся, с какой медицинской по-
следовательностью русский гений калечит онегинские строфы, утверждая
свою теорию перевода, и подозревал Набокова в ликовании садомазохис-
та: это, разумеется, метафора, и не самая, возможно, изящная, но вот имен-
но такую метафору избрал для своего возмущения г-н Уилсон.
Прославила Набокова в результате, как известно, метапедофилическая
книжка, работая над которой он заполнил тысячи карточек с выписками из
«научных наблюдений за физическим и психологическим развитием двенад-
цатилетних школьниц»; прославила и обогатила, возместив капиталы, имев-
шие происхождение приисковое: Лолиту свою Набоков вычерпал до донца.
Самый большой роман-штрих, старперский волюм, который автор счи-
тал вершиной своего творчества (творцам, впрочем, свойственно держать
за вершины позднейшие достижения, иначе получается, что как бы зря
живешь, без развития), посвящен инцестуальной связи сестры и брата.
И пример, бьющий наповал. Защищая Леопольда Блума, героя «Улисса»,
от литературоведов, склонных «рассматривать его как натуру заурядную»,
Набоков прибегает к обескураживающей аргументации:
— Блум позволяет себе действия и мечты явно не вполне нормальные
в зоологическом, эволюционном смысле... В сознании Блума и в книге
Джойса тема секса постоянно переплетается с темой уборной... Я возра-
жаю против того, чтобы Блума объявляли заурядным гражданином.
Ловкое же придумано доказательство незаурядности (хотя лично автора
этих строк в теме «Набоков и туалет» больше всего порадовало наличие в их
с Верой американском доме розово-пушистого прикрытия для унитаза)!
Все скользкие набоковские фантазии — разумеется, только фантазии:
связь самого зрелого В.В. с маленькой девочкой «в реале» вообразить сложно.
Завсегдатаем порносайтов — это уже легче, им бы В.В. стал наверняка: см.
выше о тысячах карточек, а ведь фотосессия или видео скажут не меньше...
Разумеется, его об этом спрашивали: о героях-извращенцах. И он — не
уходил от ответа.
— Они пребывают вне моего Я, подобно горестным монстрам на фасаде
собора — демонам, установленным там потому лишь, чтобы показать, что
их вышвырнули пинком под зад.
Зачем делать сложно то, что проще простого
Вообще природе известен менее затруднительный, нежели сочинение
сложных книжек, способ учинить горестному монстру пинок под зад.
Этому способу — обряду Онана — В.В. уделял нешуточное внимание.
Собственно, нет сочинителя, у которого мастурбировали бы так часто
и вкусно, как у Сирина.
Набоков без Лолиты
В «КДВ» мы находим тончайшее описание ритуала, исполненного
ощущения кружения и легкости, мгновенного явления значения всех
огней, гудков и женских взглядов, отпущенных сегодня городом, прохода
сквозь зеркальную залу, обрывающуюся к воде, — и финала в виде «вски-
певшего блаженства». В соответствии с любимой В.В. синхронизацией
узоров Марта — в ту секунду, когда Франц кончает, — открывает глаза
в своей спальне.
Философствует об одинокой схватке отрока со стыдным пороком рас-
сказчик «Отчаяния», а у рассказчика «Соглядатая» «по ночам душеразди-
рающие свидания» с недоступным наяву предметом страсти.
Юный герой «Круга» грезит ночами о Тане: «иная греза принимала осо-
бый оборот, — сила ощущения как бы выносила его из круга сна, — и неко-
торое время он оставался лежать как проснулся, боясь из брезгливости
двинуться». В этом примере речь, возможно, идет о непроизвольной пол-
люции. Как и в случае с Поленькой, дочерью кучера, о коей сказано, что
«она была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света
и сладости прожигать мой сон насквозь». Но в природе всех остальных
примеров сомневаться не приходится.
В «Приглашении на казнь» тюремные правила запрещают узнику прово-
цирующие сны, предлагающие половое общение с особами, в виде реаль-
ном и в состоянии бодрствования не подпускающими данного лица.
— Это — словесное рукоблудие. (Оно и не словесное там дано), — ру- [162:215]
гался Иван Шмелев на этот роман в письме к Ивану Ильину.
В «Волшебнике» герой ложится навзничь и, вызывая единственный
образ, восемью щупальцами оплетает добычу, чтобы изойти черным 3^1
туманом.
Сирин-критик восхищался посвященным мастурбации стихом Ходасе-
вича — он не стал цитировать его в рецензии, чтобы не дробить прекрас-
ное на фрагменты, но в нашем путеводителе уже сложилась традиция при-
водить тексты Ходасевича целиком:
Где пахнет черною карболкой
И провонявшею землей,
Стоит, склоняя профиль колкий,
Пред изразцовою стеной.
Не отойдет, не обернется,
Лишь весь качается слегка,
Да как-то судорожно бьется
Потертый локоть сюртука.
Заходят школьники, солдаты,
Рабочий в блузе голубой —
Он все стоит, к стене прижатый
Своею дикою мечтой.
Американская дырка
Здесь создает и разрушает
Он сладострастные миры,
А из соседней конуры
За ним старуха наблюдает.
Потом в открывшуюся дверь
Видны подушки, стулья, стклянки.
Вошла — и слышатся теперь
Обрывки злобной перебранки.
Потом вонючая метла
Безумца гонит из угла.
И вот, из полутьмы глубокой
Старик сутулый, но высокий,
В таком почтенном сюртуке,
В когда-то модном котелке,
Идет по лестнице широкой,
Как тень Аида, — в белый свет,
В берлинский день, в блестящий бред.
А солнце ясно, небо сине,
А сверху синяя пустыня...
И злость, и скорбь моя кипит,
И трость моя в чужой гранит
Неумолкаемо стучит.
382
Пример из «Подвига» — Мартын одевается на футбол, и вдруг появля-
ются некие ночные мечтания, потом ритмическое забытье, в котором эро-
тические фантазмы замещены иными сластями: «Стоило прикрыть глаза
и вообразить футбольное поле или, скажем, длинные, коричневые, гармо-
никами соединенные вагоны экспресса, которыми он сам управляет, и по-
степенно душа улавливала ритм», думает Мартын в это время о Соне,
а упомянутые ночные мечты «крепнут, наполняются жизнью, как окрепла
и оделась плотью греза...», тут же появятся чулки и черные трусики, а в на-
чале нового абзаца Мартын «крякнул и разогнулся» — я согласен, этот
пример можно считать натяжкой.
Но вот начало рассказа «Сказка»:
— Фантазия, трепет, восторг фантазии... Эрвин хорошо это знал.
В трамвае он садился всегда по правую руку — чтобы ближе быть к тротуа-
ру. Ежедневно, дважды в день, в трамвае, который вез его на службу и со
службы обратно, Эрвин смотрел в окно и набирал гарем. Один тротуар он
разрабатывал утром, когда ехал на службу, другой — под вечер, когда воз-
вращался, — и сперва один, потом другой купался в солнце, так как солнце
тоже ехало и возвращалось. Нужно иметь в виду, что только раз за свою
жизнь Эрвин подошел на улице к женщине, — и эта женщина тихо сказа-
ла: «Как вам не стыдно... Подите прочь». С тех пор он избегал разговоров
Набоков без Лолиты
с ними. Зато, отделенный от тротуара стеклом, прижав к ребрам черный
портфель и вытянув ногу в задрипанной полосатой штанине под супро-
тивную лавку, — Эрвин смело, свободно смотрел на проходивших жен-
щин, — и вдруг закусывал губу; это значило — новая пленница; и тотчас он
оставлял ее, и его быстрый взгляд, прыгавший, как компасная стрелка, уже
отыскивал следующую. Они были далеко от него, и потому хмурая робость
не примешивалась к наслаждению выбора. Если же случалось, что мило-
видная женщина садилась против него, он втягивал ногу из-под лавки
со всеми признаками досады — не свойственной, впрочем, его очень
юным летам, — и потом не мог решиться посмотреть в лицо этой женщи-
ны, — вот тут, в лобных костях, над бровями, так и ломило от робости, —
словно сжимал голову железный шлем, не давал поднять глаза, — и какое
это было облегчение, когда она поднималась и шла к выходу. Тогда, в при-
творном рассеянии, он оборачивался, хапал взглядом ее прелестный заты-
лок, шелковые икры, — и приобщал ее к своему несуществующему гарему.
И потом снова лился мимо окон солнечный тротуар, и Эрвин, вытянув од-
ну ногу, повернув к стеклу тонкий, бледный нос, с заметной выемкой на
кончике, выбирал невольниц, — и вот, что такое фантазия, трепет, восторг
фантазии.
Фраза, начинающая и завершающая цитату, кажется чужеродной для
Сирина, грубой, хромой, неинтересной — до того момента, пока не пой-
мешь, что это конспект акта онанизма: соответствующие картинки во
внутреннем взоре (фантазия) — соответствующие движения (трепет) —
оргазм (восторг фантазии). Вооружившись этим кодом, мы обнаружим
в цитате множество намеков на упомянутый акт: и правую руку (чтобы 3^
ближе к тротуару!), и возвратно-поступательное движение (солнце тоже
ехало и возвращалось), и вытягивание-втягивание ноги, и взгляд, прыгаю-
щий как стрелка компаса, со следующей на следующую (так на вершине
мастурбакта мельтешат в мозгу заводные картинки), и сжимающий голову
железный шлем, и нос с заметной выемкой на кончике...
Рассказ этот (с первоначальным названием «Нечет») сочинялся в сере-
дине июня 1926 года. «Я облизывался, когда приступил» — сообщал автор [93]
в письме жене 15 июня. Жена отдыхала на курорте с матерью, и, собствен-
но, ее отсутствие под рукой и провоцировало тему (в письме от следующе-
го дня Набоков указывал, что считает дни своей «соломенности»).
В «Даре» есть «грубая минутка», в которую Федор все собирался подыс-
кать себе молодую немку, есть «неравная борьба с плотью, кончавшаяся
тайным компромиссом», есть «взять себя в руки: монашеский каламбур».
Американский В.В. не пожалеет усилий и страниц на анализ мастурба- [89:407,4зз-43б]
ции Леопольда Блума... поверьте, это не все примеры.
Тут самое время поймать себя на плоском фрейдизме. Бедный старший
Лужин, Лужин-писатель, который сам сочинил и отправил в газету заметку
о том, что начал работу над новой повестью. Отметив невиданное обилие
мастурбационных сцен еще у Сирина, в русские годы, в дальнейшем мы
будем понимать мастурбацию расширительно.
Американская дырка
У американского Набокова творчество все плотнее замыкается на писа-
тельском ремесле.
На своем, так сказать, приборе.
[ ив: 32] — Орудие стало и самодовлеющей целью, — изящно сформулировано
в «Пустыне» 3. Шаховской.
На своем приборе
В восьми из восьми англоязычных романов (а если считать недописанный,
то и в девяти) активно действуют писатели-поэты, профессора, преподава-
тели литературы, сочинители биографий, редактора и комментаторы, час-
то — чохом. В последнем, восьмом романе автор выводится сам собою, под
именем Вадима Вадимовича.
Не слишком ли — в восьми из восьми? Нос в его текст литераторы со-
вали, иногда и некоротко, и в русских произведениях, но в целом, исключая
«Дар», оставались на задних планах (не всякий читатель сразу вспом-
нит, что отец Лужина писал книги для детей, так же как не всякий вспомнит,
что Анна Каренина у Толстого сочинила книгу — тоже детскую).
Но в английский период уже не о том речь, что упоминается писатель,
что поднимается тема... Она и поднимается, и укладывается и поперек,
и вдоль. Таинственная тема взаимодействия творца и создания, автора
и героя в англоязычных томах превращается в загадочные картинки отно-
шений писателя и литсекретаря, поэта и комментатора, Набоков может
вставить в текст рецензию на этот самый текст, сочинить по ходу пародию
384 на себя, отвечать в послесловии на редакторские поправки: мы подобные
трюки и по «Дару» знаем, но там плела узоры судьба, а тут Менетекелфарес
складывает карточную пирамиду, и раз за разом примерно одну и ту же.
Сравню-ка я «Дар» с мощным оргазмом, тщательно и прекрасно подго-
товленным всем, что роднит искусство и эрос! — все, уже сравнил. В таком
случае англоязычные сочинения В.В. — пятна спермы на простыне, жалкие
подсыхающие лужицы.
Вот читает девушка книжку в электричке... А ведь у всякой — у вся-
кой! — книжки есть редактор. Где в данный момент редактор книги, кото-
рую читает девушка?
С детства запомнилось мне начало юмористического рассказа из журнала
типа «Крокодил». Автора не помню, а несколько первых фраз — наизусть.
— Замуровали, значит, соколика под самый Юрьев день. Жена напосле-
завтра кинулась искать: у соседей нету, у ларька нету. Ну, думает, замуро-
вали. Пришли, разворотили стену, а он там сидит, облигации по газетке
проверяет...
Все верно, где же ему еще быть.
Так и с редактором: в той же, разумеется, электричке, где ему еще быть.
Имеет отличный повод и шанс: повод познакомиться с девушкой и шанс
познакомиться с ней поближе.
Как не воспользоваться... таким сюжетом?
Набоков без Лолиты
Будто не знает автор, что делать с даром. Столь безразмерен дар, что
предметом речи соразмерно безразмерному дару избрать и нечего... разве
что сам этот дар.
Стало не стыдно
Сюжеты книжек на второсортном языке много скучнее, чем у Сирина
(что, собственно, ясно уже из того, что экранизируются почти исключи-
тельно сиринские тексты). Потому, может, что теперь их задача не затво-
рить створки тайны, а распахнуть окна ребуса. Англоязычному Набокову
хочется выдавать тайны, расшифровывать секретики и развешивать таб-
лички с объяснениями происходящего. То, что оставалось за кадром, за
сценой, и звенело оттуда ласковым колокольчиком, тащится теперь с гро-
хотом к самой рампе.
В английском переводе «Сказки» граммофон начинает играть цветоч-
ную арию из «Фауста» — в русском варианте он промолчал, справедливо
полагая, что дьявольщинки в тексте — достаточно.
В английском «КДВ» вводится дата смерти Марты — 15 июля. Это дата [130:24-25]
смерти Лермонтова, что, очевидно, должно углубить и расширить; в том же
романе обретет название безымянная книга, которую Драйер читает в по-
езде в первой главе, она окажется «Мертвыми душами», что задаст, види-
мо, мотив дороги, ну и охарактеризует как следует героев.
В переводе «Отчаяния» идут косяком анаграммы фамилии Достоев- [43]
ский, что подсказывает прочитывать роман в гораздо большей степени
как «раскольниковский», нежели это получалось у ненагруженного лиш-
ними аллюзиями русского читателя.
Выдавая в предисловии к английской «Машеньке» на поверхности ле- [121:313]
жащий «апельсиновый» мотив Клары, автор острит, что не следует вос-
принимать orange как анаграмму organe.
В переводе «Занятого человека» прямо указывается, что определенные
строки — цитата из Пушкина, та же операция совершена в переводе
«Ultima Thule». В переводах статьи «О Ходасевиче» и рассказа «Уста к ус-
там» выдается цитата из Баратынского. Это как раз, может, и правильно: [48]
наших классиков иноземцы точно не почуят, а так хоть реклама Пушкина.
С другой стороны, предполагалось ведь, что можно обойтись без осознан-
ного считывания, что слово штука волшебная, способная действовать на-
прямую. .. Или уже не волшебная?
Предваряя перевод «Пассажира», мэтр замечает:
— К концу рассказа все, кажется, уже забывают о горелой спичке в бока- [ 19:320]
ле — сегодня бы я подобного не допустил.
Чего бы Вы не допустили, Владимир Владимирович? Летучего элегант-
ного секрета? Ткнули бы читателя носом: вот он, секрет! Своими руками
задушили б рассказ?
Единственная фраза, добавленная в «Дар» при издании 1952 года — ка-
ламбур «Слеп как Мильтон, глух как Бетховен и глуп как бетон», — это про
385
Американская дырка
386
Ширина. Тоже налицо тяга «расшифровать» — и вышло довольно неук-
люжненько.
В «Смехе в темноте» (американское название «Камеры обскуры») кино-
афиша с пожарным, несущим женщину, замещается другой — мужчина
задирает голову, глядя на окно, в котором виднеется ребенок в ночной ру-
башке. Тем самым афиша предвосхищает смертельную простуду дочери
главного героя, она заболела, выглянув из окна в поисках папы. Это, соб-
ственно, родовой сиринский прием, но характерно в Набокове-штрих —
вот это желание непременно, навязчиво, дополнительно подчеркнуть:
в том же «Смехе» в одной из первых сцен в кинотеатре Альбинус («содер-
жательно» переименованный Кречмар; а Зингелькранц там переименован
в Конрада — для лишней аллюзии) увидит на экране столь же пророчески
извивающийся на краю пропасти автомобиль.
Он делает это и показывает всем, как делает.
— Ты обещал поменьше английских примеров, — дергает меня за ру-
кав Машенька Шеншина, — поскольку ты не можешь прочесть его книж-
ки на английском...
— Я не по этой причине обещал поменьше примеров, — немножко сер-
жусь я.
Но Машенька права: не надо увлекаться доказательствами принятого
за аксиому.
Нарастание мастурбационного пафоса у Набокова объясняется и появ-
лением в жизни писателя нового важного измерения: обилия версток.
Переиздания и переводы, числу которых логично расти с ростом как уве-
личивающейся товарной массы, так и популярности, это не только корм, но
и бич всякого не оставляющего активности литератора в возрасте. Возись
с обложками, жонглируй составами сборников, следи за только и ждущими
напакостить корректорами, поправляй аннотации и прочий аппендикс.
Но Набоков-то — не чета большинству — еще переводил сам себя
с языка на язык, переписывая и добавляя, с лупой отслеживал чужие пере-
воды (как-то пресек никуда не годящийся шведский... тираж сожгли!),
причпокивал новые и новые предисловия... возился с корпусом своих
текстов, со своим, то есть, корпусом: тут подмять, здесь прижулькать, тут
понюхать — как пахнет свежая типографская краска (однажды даже пред-
ложил понюхать верстку гостье как раз из Швеции).
Неудивительно, что растет и количество «аллюзий ради аллюзий», осо-
бо кишмя кишат они в «Бледном огне» и «Аде», в «Арлекинах» они к тому
же в значительной мере автоаллюзии... Я понимаю, что формула «аллю-
зия ради аллюзии» червивоватенька. Попробуй докажи, что у Сирина эти
обезьянки словесности приращивали смыслы и звенели, неопознанные,
иволгами на заре (обязьянки звенели иволгами: лихо завернуто), а у штри-
ха нужны лишь дабы побряцать эрудицией... Что они стоят в начале
уже пройденного культурой пути, маяком на котором в какой-то момент
воссияет лозунг «искусство прежде всего должно осмыслять свой язык»,
а в конце загорится табличка «медиа есть месседж»...
Набоков без Лолиты
Но ведь это сам автор, не кто-нибудь, предваряя предисловием «Память,
говори», указывает, что лишь один критик сообразил, рецензируя первый
вариант автобиографии, что Sigismond Lejozeux — это очередная какашка
в карман рыцарю кушетки!
Может, конечно, и больше сообразило, нежели один, но поскольку Фрейд
уже все занозы со стенок гроба собрал в перманентном вращении, критики
из деликатных могли благоразумно аллюзией и поперхнуться. Хорош, одна-
ко же, В.В., тщательно отследивший критика с калькулятором в крепкой ру-
ке. Всего один отреагировал на изящную аллюзию! Бисер перед свиньями!
И это еще полбеды: в последнем предложении части второй (одинна-
дцатая глава) того же произведения никто не нашел имени великого кари-
катуриста!
— Писателю в высшей степени стыдно самому указывать на такие ве- [49:4зв]
щи, — замечает Набоков, указывая.
Так не указывайте!
Значит, стало не стыдно. Агенты разоблачены. Пересмотрен тезис:
— Лучший читатель — это эгоист, который наслаждается своими на- [21:58-59]
ходками, укрывшись от соседей.
Так метафизика превращается в эзотерику. Тайна — в тайное знание,
которое не прочь стать явным.
Воздушный мост между метафорами, притаившимися на разных полю-
сах романа, тонкая перекличка радуг, звонкий говор скрытых рифм, —
не безотчетное ли упоение гармонией есть смысл и цель этой прекрасной
игры? Теперь смыслом становится разгадка, отчетность.
Во второй виртуальной беседе Федора и Кончеева последний отказывал- 3^7
ся говорить о своих стихах.
— У меня есть основание думать, что они вам по душе, но я органически
не выношу их обсуждения. Когда я был мал, я перед сном говорил длинную
и малопонятную молитву, которой меня научила покойная мать, — набож-
ная и очень несчастная женщина... Эту молитву я помнил и повторял дол-
го, почти до юности, но однажды я вник в ее смысл, понял все ее слова, —
и как только понял, сразу забыл, словно нарушил какие-то невосстанови-
мые чары. Мне кажется, что то же самое произойдет с моими стихами, —
что если я начну о них осмысленно думать, то мгновенно потеряю способ-
ность их сочинять.
Не то чтобы прямо совсем не следует «осмысленно думать» о произведе-
ниях искусства... Но в желании быть прокомментированным и объяснен-
ным не стоит заходить слишком далеко. Сосед Утопленника, мне кажется,
удачно выразился:
— В рецензиях, комментариях, биографиях и состоит литературный цбьзги
успех. Автор стремится к успеху и боится комментариев. Это одна из при-
чин, по которой он сам становится комментатором.
И еще, чуть ниже, где пятно от кофе:
— Всякий комментарий низводит автора до героя, превращает его из [i6i. 324]
субъекта его собственного слова в объект чужого ему слова комментатора...
Американская дырка
Набоков превратился не просто в героя комментаторов, но и в героя
своих собственных комментариев.
Фокусник раскланивается, предъявляет кролика, тот, оказывается, все
время сидел за кулисой.
— Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях
Флобера, — из «Других берегов».
Да никто не заметит, Владимир Владимирович, и слава Богу, пусть тайна
остается тайной.
Или мог бы заметить безнадежный перечитыватель, что грезился и ле-
леялся в прежней, сиринской жизни. Теперь, в припадке аутоэротизма, ге-
ний спешит прокомментировать себя сам.
[88: юз, 109] Его колоссальный комментарий к «Онегину» набит сведениями о роде
комментатора и его собственном детстве, в то время как годом рождения
Онегина В.В. в одном месте объявляет 1800-й, а через несколько страниц —
[161:387] 1795-Й.
— Жаль, Набоков не писал комментарии к пушкинским сказкам, — шу-
тит Сосед Утопленника, — не то бы, наверное, отметил, что «Царствуй, ле-
жа на боку» рифмуется с его фамилией.
А вот как характеризует «Бледный огонь» одна заокеанская исследова-
[Ю2:47б] тельница:
— Это шкатулка с сюрпризами, ювелирное изделие Фаберже, механи-
ческая игрушка, шахматная задача, адская машина, западня для критиков,
игра в кошки-мышки и набор для любителя самоделок.
Остается воскликнуть: как хорошо, что по-русски он писал романы!
388
О несовпадении вековых загадок, окутанных
мистической тайной, сокрытой в святая
святых, с эффектными розыгрышами,
прикрытыми трюками, спрятанными
внутри фокусов, прикинувшихся секретами
мастерства
И можно представить себе Стройного Профессора, который, поддавшись
азарту ловца насекомых, лениво проследил, как стихотворение Ходасевича
«Обезьяна» —
.. .Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скалы, привстала
И — этот миг забуду ли когда? —
Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула... —
аукнулось в мемуарном фрагменте Набокова про его собственное первое
стихотворение и в разных других набоковских «контекстах»... Проследил,
значит, лениво, обнаружил, что смысла аллюзии не приращивают, зевнул
Набоков без Лолиты
и написал-таки статью (не пропадать же расследованию), но присовоку-
пил и постскриптум:
— Вступая в ряды профессиональных дешифровщиков набоковских [49:440]
ребусов, невольно задаешься и метавопросом: не лучше ли было бы пере-
играть их изощренного составителя, просто проигнорировав вызов? Ведь
это не вековые загадки, окутанные мистической тайной, сокрытой в святая
святых, а эффектные розыгрыши, прикрытые трюками, спрятанными
внутри фокусов, прикинувшихся секретами мастерства.
В каком-то из английских романов прошуршат автомобили с номерами
ВШ 1564 и ВШ 1616. Цифры — годы рождения и смерти Шекспира. Стоило
впрямь городить столько огородов, чтобы прийти к таким фокусам внут-
ри трюков.
Перекошенный телевизор
Набоков все же сделал это, но преображение оказалось на счастье легким,
детским, рождественским, невинным, шутовским, анимационным. Он
стал американским иллюзионистом, щелкунчиком из-под елки, персона-
жем светской хроники, «Фаберже», Самоделкиным с осанкой аристократа,
своим собственным героем и героем Адамовича, как бы оправдав задним
числом все прозрения критика о мишуре мастерства.
Он появился на кафедрах американских университетов как неизвестное
существо с других берегов, отличавшееся невиданной свободой суждений
и говорившее о себе самом как о великом писателе, короле из России. Блис-
тательный страшный фрик. Первые годы, пока еще не сильно раздался, де-
вушки продолжали ронять ресницы, и бродят по страницам «американ-
ского периода» призрачные студентки, укрытые с В. В. одним плащом.
Потом все же раздался и слегка обрюзг, но грянула «Лолита» с зеленым
шлейфом, и преображение завершилось.
Оно произошло бы так или иначе, независимо от бомбежек Парижа
и лайнера в Америку. «Дар» был вершиной, автор уперся в радугу, дальше
только ангелам, а идущие следом «Solus», «Ultima» и «Волшебник» очень
заметно отличаются от других русских текстов, причем вовсе не в сторону
коммерческого письма, — там, напротив, какой-то темный гул слышен,
легкий призрак даже и желтоватого дома... За сочинителя даже и тревож-
но. «Ultima Thule» в первом номере нью-йоркского «Нового журнала»
(1942) опубликовал за двойной подписью Сирин-Набоков, словно нащу-
пывая новую личность.
Очень удачно сложилось, что он именно таким выгодным образом пре-
образился, просто шагнул в свой собственный текст. Русский читатель мо-
жет быть недоволен этим, потеряли, де, гения, но мне лично восьми рома-
нов и самосвала рассказов хватает... как бы ни писал Набоков-штрих,
нашего Сирина у нас не отобрать.
Он, кажется, сам предсказал свою траекторию в образе Фердинанда, вен-
герца, пишущего по-французски, из «Весны в Фиальте».
389
Американская дырка
— В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его
поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно-знакомое
расположение деревьев. ..нос каждым годом роспись становилась все гу-
ще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через
это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна
лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь.
Только у Сирина сквозь расписные окна бил не просто какой-то, а самый
лучший сад... и лиловизна-розовость-ночь у Набокова-штрих не совсем
все же глухие... но направление движения при этом указано верное.
Сад уплыл в шлюпке Мнемозины, на сцену выволокли трон.
[91:138] — Около восьми бритье, завтрак, тронные размышления, ванна, — так
сам он описывал свой поздний, королевский, чаемый быт.
В старости он почти не говорил по телефону... не царское дело.
Якобы боялся выключателей.
Утверждал, что стоит ему самому включить телевизор, как изображение
перекашивается.
Лучше бы перекрашивалось, конечно.
Что еще?
[18:261] — Он в принципе питал отвращение к покупкам, — подсказывает Но-
возеландский Биограф.
Да, конечно.
На выборах никогда не голосовал... понятно.
Интервью он давал, лишь получив предварительно вопросы, ответы
зачитывал по бумажке, в том числе и в телевизионной программе:
390 — Мы увидели Сальвадора Дали, переодетого швейцарским нота-
[ 147:44] риусом, — отреагировал один французский критик, посмотрев такую
передачу.
Бабочек он стал собирать не только настоящих, но и живописных. Был
недоволен в 1969 году, когда во всем Ватиканском музее «поймал» лишь па-
русника-зебру в «Мадонне с младенцем» Джентиле.
Сохранилась исполненная рукой мастера «Программа дня (26.XI —
З.ХП. 1967)». Вера уехала на неделю за границу, и нужна была помощница,
для которой В.В. сочинил памятку.
6:30 — 10:30 VN пьёт соки, пишет в постели, потом за контор-
кой.
Перерывы: 7:45 бритьё, 8:00 — 8:30 брекфаст, просмотр поч-
ты, молчание, J. De Geneve для Ел. 8:30 возвращение к лютрену.
10:30 — 11-15 ванна, одевание. 11:00 М-me Фюрер прих. «кюир».
11:30 Аида и слуга убирают. VN и Ел. вых. на прогулку (беседы
с купцами и т.д.)
12:15 М-me Ф. подает завтрак. Бордо. 1:00 — 3:00 сиеста
3:00 — 6.00 VN пьет vin de ViaL пишет за конторкой или
в кресле. Перерывы для просмотра почты, набравшейся
с 2:00. Первое пиво. 5:30 тихо прих. М-me Ф.
Набоков без Лолиты
6:00 — 9:00 игры (scrabble), обм. впеч. 7:00 M-me Ф. Подает
обед. Второе пиво.
9:00 конец интересного дня. VN читает в постели до 10:30. Пе-
рерывы старческие — около полночи и на заре. 6:30 — 10:30
VN пьёт соки, пишет и т.д.
I. Обязанности гостьи: опрятный вид, варка утр. кофе (VN
пьет две чашки), звонки утром поставщикам***. Приём теле-
фонов <... > Стучать к VN. Иногда он подходит.
В 9:00 РМ запираются три двери: кухни, ливинга и угловой.
Ключ кухонный уносится гостьей к себе на случай ночного
голода <... > и непременно возвращается рано утром (*).
Мыть чашки (только) утром в воскр. (только). Пров, вечер,
закр. ли обе плиты. Нигде не гадить.
II. Привилегии: пользование ливингом, где уютнее, чем в зелё-
ном будуаре (60). Пробираясь ночью за очками в ливинг,или
за кэксом на кухню, пользоваться корид. маршр. В иное вре-
мя: внутр, маршрутом — предпочтительнее, чем демонстра-
тивно по корридору****. Радио пускать тихо (есть TV внизу
для любимых программ). Можно брать книги в дебара или
у VN. Можно употреблять для туалетных принадл. или тай-
ных яств столик (зеленая стрелка) в горнице.
III. Не допускается: впархивать на кухню, когда там Ф.: для со-
ветов, «русских» рецептов, сравниваний недугов, рассказов об
Индии и львах, и т.д.
*** только если нужно спиртное или что-нибудь такое. Или
если не донесли чего из молочной. Тел. номера у Т64.
(*) а то М-ше Ф. не сможет пробраться прямо из кухни в кло-
зет слуг, если ей будет нужно.
**** топая (мы не одни в отеле)
Прим.: мелочь в стекл. пепельнице у телефона (64) — для на-
чаёв поставщикам и т.д., а не для гостей.
О себе в третьем лице. Когда Федор о себе в третьем лице, это еще мета-
литература, а когда старый В.В. — монарший манускрипт. Под «гостьей»
или «гостями», которым нельзя «впархивать на кухню», подразумевается
родная сестра Елена Сикорская, выписанная из Женевы.
В некотором, короче, смысле, может, и Кр., а «так, вообще» — настоящий
король.
391
Мадам, я доктор,
вот банан
Королем его сделала Вера.
С середины 1930-х, чуть раньше, Сирин перестал зарабатывать уроками,
полностью сосредоточившись на творчестве, которое не кормило. Один
раз вдруг капнула (в 1936-м) тысяча марок — часть денег за проданное
имение композитора Генриха Грауна, одним из многих потомков которого
был — по линии бабушки Корф — Набоков, но погоды эта тысяча не дела-
392 ла. Погоду обеспечивала Вера — еврейка в гитлеровской Германии. Мы
и представить не можем, каких это стоило ей усилий. Но она знала, в кого
инвестирует — в лучшего русского писателя, и не прогадала.
Из книжки Пулитцеровской Лауреатки я узнал слово «укзориозный».
Так назвал Набокова один коллега из Корнелльского университета: дескать,
[ 152: п] Набоков — «самый укзориозный мужчина» из всех его знакомых. Означа-
ет это — чрезмерно привязанный к жене.
Та же идея имеет и довольно остроумное беллетристическое воплоще-
[148] ние: рассказ княгини Шаховской «Пустыня», напечатанный «Новым жур-
налом» еще при жизни — это, наверное, следует поставить автору в ви-
ну — Владимира Владимировича и Веры Евсеевны.
— Жена Вальдена умерла шесть недель тому назад. Вальден сидел
в холле международной гостиницы, грузный большой человек со стран-
но тонкими руками, нарочито неряшливо одетый, как будто хотел под-
черкнуть, что гениальному да и богатому человеку нечего и заботиться
о том, какое впечатление он производит. Сезон еще не начался, холл был
почти пуст.
За большим окном шатаются от мистраля пальмы, солнце нехотя све-
тит, вы, наверное, сразу предположили, что под именем «Вальден» тут вы-
веден один знакомый нам крупный писатель. Так и есть: в следующем же
абзаце появится верная примета:
Набоков без Лолиты
— Вальден принялся было за крестословицу, но счел ее слишком прими-
тивной и опять, в сотый раз, профессионально запоминающим взглядом
стал рассматривать — хрустальный шатер люстры (две лампочки горели
ярче остальных), оливковое лицо бармана (с одной розовой щекой от аба-
журчика), даму, неторопливо кормящую бисквитами болонку, — но любо-
пытства к ним не испытывал. Он уже много лет предпочитал лица и пред-
меты выдумывать, а не наблюдать.
Про две более яркие лампочки — похоже. Сиринская деталь. Розовая
щека «бармана» напомнит фрагмент из древнего «Письма в Россию». Там
старый дог, стуча когтями по панели, нехотя водит гулять миловидную де-
вицу, и «когда проходит она под красным огоньком, который висит слева,
под пожарным сигналом, одна тугая черная доля зонтика влажно багрове-
ет». Не исключено, что у Шаховской тут прямо и аллюзия.
Оппозиция «выдумывать, а не наблюдать» — фантомноватая, конечно,
но что-то в ней есть. Шеншина права, я плохо знаю англоязычные тексты,
чтобы предъявить им такую претензию: пусть же она прозвучит из кня-
жеских уст.
— Странно было, что он один и что, вот скоро, нужно будет самому вы-
бирать себе блюда на ресторанной карточке, а в конце недели платить кас-
сиру, подписывать чеки — все это давно делала за него жена.
Здесь, да: все точно. О том, что Владимир Владимирович в Америке не
мог без Веры Евсеевны выбрать себе соус к пасте, сообщают многие мемуа-
ристы.
Дальше немножко фантазии: про кремацию жены да про дочь, которая
держала Вальдена за руку по ходу скорбной процедуры. На следующее утро
дочь улетела в Рим по кинематографическим делам.
— Она была красива и не лишена таланта, но играла по-любительски —
избалованная, взбалмошная дочь богатого человека.
В жизни, видите, все вышло наоборот: избалованный сын и похороны
отца, но кто умрет первым, автор «Пустыни» не отгадала.
— Через час должен был приехать попросивший еще у жены свидания
с ним молодой филолог, готовящий о нем диссертацию — ему было назна-
чено свиданье именно в этой гостинице, чтобы Вальден мог встать и уйти,
когда гость ему надоест. Эта ли гостиница, другая ли — дома у Вальдена
давно не было. За последние годы они всегда жили в таких склепоподоб-
ных палатах, окруженные равнодушными и хорошо вышколенными слу-
гами, как будто осуществляя давнюю мечту очень бедных людей, желаю-
щих, чтобы роскошь ежеминутно напоминала им об успехе.
Про роскошь-успех, мне кажется, сильно напутано. На мелочности На-
боковых ловить глупо, сразу ясно, что свои мелочные выдаешь чувства. Но
вообще многолетняя жизнь в гостинице — богатая тема, и пусть будет
версий побольше, так что и эта не повредит. Я вот еще подумал, что без-
домный — он бестелеснее, что ли. Ближе к другим берегам.
— Веснушчатый Белл сразу обнаружил свое глубокое знание произведе-
ний мэтра, несколько произвольно вставив в свою речь излюбленные
393
Мадам, я доктор, вот банан
Вальденом метафоры, и заметил, что его поразило в последних пяти кни-
гах Вальдена настойчивое повторение ледяного мотива: льдистость, льди-
ны, айсберг, леденяще, ледовый, ледяной...
Впрямь, есть ли у нашего автора группы мотивов, сгущающихся в опре-
деленные периоды творчества, в какой-либо группе книг? Ответ навскидку
окажется отрицательным — водяные знаки скорее ровно размазаны по его
собранию сочинений; по сирийскому, я хотел сказать. К старости, может,
какая метафора и заела.
— Сознавал ли Вальден, что улыбка его была помимо его воли презри-
тельной и насмешливой даже и теперь, когда он чувствовал себя потерян-
ным, так как за долгие годы впервые жена не присутствовала при ин-
тервью? Он привычно, перед каждым словом или ответом, отводил глаза
в сторону, ища уже исчезнувшее лицо. Оглядываться было не на кого. Ее
не было.
Вальден, кстати, может, и пригласил бы Белла на обед (тем более что од-
ному тоскливо сидеть в столовой), но элементарно не догадался: отвык
приглашать людей без Ее разрешения.
— Тоску Белл все-таки развеял. Вальден так любил ошеломлять читате-
лей и собеседников, раздражать их заковыристыми заявлениями: «Мо-
царт — третьеразрядный тапер в провинциальном кино начала века»,
«Пушкин, что о нем говорить, поскольку в ясности своей он доступен лю-
бому дураку».
Именно про Моцарта и Пушкина Набоков так не выражался, но про
иных коллег (в числе которых Вольтер, Сервантес, Достоевский, Фолкнер,
394 Томас Манн, Стендаль, Пастернак-прозаик) еще и не так выражался. Ша-
ховская имеет в виду, что это выглядело столь же нелепо, как если бы про
Пушкина с Моцартом.
— На столике лежали гранки новой книги — и стояла фотография же-
ны. Ее голубые глаза казались прозрачными, тонкие губы были сжаты и все
тонконосое острое лицо носило отпечаток выработанной высокомерно-
сти, которую она считала признаком аристократизма именно потому, что
к аристократии не принадлежала.
Тут все эдак так без нажима. Не сказано ведь, что прототип — еврейка,
отмечено лишь, что героиня не была аристократкой, но очень хотела ею
быть. А прозрачные голубые глаза — они тонко напомнят читателю о на-
растающем мотиве льдин и айсбергов.
— Уже совсем стемнело, и на набережной зажглись дуги фонарей, белые
и чистые. Море, шумы которого до комнаты не доносились, серыми пятна-
ми накатывалось на белеющий пляж.
Это был самый сиринский абзац в рассказе.
— Более пятидесяти лет назад, в этом же приморском южном городе,
двадцатилетним он расстался со своей шестнадцатилетней почти-невес-
той, такой славянской девушкой с широко расставленными, всегда удив-
ленными глазами. Как легко вились каштановые волосы по девичьей
шее и над невысоким выпуклым лбом. Звали ее Эллой. Она была совсем
Набоков без Лолиты
беззащитна, несмотря на бойкость разговора и шаловливость, доходящую
до редкости... Но писательской удачи с Эллой он бы не добился. В простоте
своей она и не догадывалась, что в молодом Вальдене таятся вот такие воз-
можности славы и денег. Писанье казалось ей совсем никчемным заняти-
ем. И уж наверное не догадалась бы Элла первые годы кормить мужа сво-
им трудом, кропотливым изготовлением аляповатых фальшивых
драгоценностей, бывших тогда в моде...
Элла по совету отца отказалась от этой бесперспективной любви: схо-
жим образом поступило и семейство Зиверт.
Эти рассуждения, между тем, как раз вроде бы в пользу Веры Евсеев-
ны. Ей писанье никчемным не казалось, и кормить мужа она была готова,
так же как «переносить бедность и не замечать оскорблений, связанных
с нуждой».
Но не потому ли только была она к этому готова, намекает автор «Пус-
тыни», что догадалась, какая в молодом Владимире таится возможность
славы и денег?
Вон он сидит в одиноком номере, сосет леденец, что твоя Машенька, ту-
пит в паркет. Нарастает и страх.
— Откуда он? Потеря жены? Да, конечно, но еще больше угнетала его
безысходность своего существования, собственная беззащитность, кото-
рую он раньше не чувствовал. Как император...
Конечно, этого сравнения не избежать:
— Как император, теряющий одну за другой все части своей империи,
Вальден за последние годы как-то беднел с незаметной постепенностью.
Твердо, под предлогом заботы о нем, об его освобождении от хлопот, она
отняла от него участие в жизни, обессилила его. Только ей читал он свои
рукописи, только ее советам следовал, она подписывала контракты, прави-
ла гранки, возила его на автомобиле, заказывала ему одежду, билеты на са-
молеты, решала, кого он может видеть и кого он видеть не должен. У него
и денег-то никогда не бывало в кармане, она была его кассиром и манадже-
ром, и вне ее у него не было ничего, кроме того, что он выдумывал и о чем
писал... Сперва метелицей, затем метелью, потом бураном было сметено,
отброшено все то, что дает человеку ощущение собственной жизни...
Отброшены друзья, уничтожены старые письма, счастливое детство, тре-
вожная трудная молодость, а ведь и память, и общение с другими — пища
писателя. Все бездушнее, запутаннее рождались в нем образы его персона-
жей. И уже ими не интересуясь, их не любя, Вальден любил в писательстве
только тонкое словесное кружево, замысловатое словосплетение...
Сейчас последует фраза, которую я уже сочувственно цитировал...
Вот она:
— Оружие стало самодовлеющей целью.
Самодовлеющей целью!
— Вальден криво улыбнулся, неожиданно уловив, что среди абстракций,
уже не символов, не аллегорий, а чудовищ, ставших героями его книг, ужас-
нее всего были женские образы, — «ледяные змеи»...
395
Мадам, я доктор, вот банан
В последних строчках герой вынимает из рамки фотографию жены,
прячет ее в стол и чувствует себя свободнее.
Хорошо, хоть не порвал фотографию.
Захочется обратного чувства: можно вынуть.
Прежде чем ответить на вопрос интервьюера, Набоков как-то обернул-
ся к жене:
[22] — В действительности я не встречал никаких Лолит, не правда ли, дорогая?
Хорош был бы ее ответ вроде:
— Ты забыл, милый, ту-------, которую ты так рьяно------в Тир-
гартене, и помнишь, была еще малютка в Итаке, с которой вы---!
[ и?: 42] В Швейцарии американский профессор с женой в 1969-м «в горах уви-
дали знакомого по фотографии знаменитого писателя, с сачком, охотяще-
гося на бабочек. Преодолевая робость, они к нему приблизились и предста-
вились. В. был очень приветлив, улыбался. Охотно начал разговаривать. Но
вскоре показалась В.Е. Она его позвала. Набоков заторопился, на ходу с ни-
ми попрощался и пошел на зов».
Или о работе над «Евгением Онегиным»:
[88:9] — Этот опус обязан своим рождением замечанию-, которое сделала ми-
моходом моя жена в 1950 году — в ответ на высказанное мною отвращение
к рифмованному переводу «Онегина», каждую строчку которого мне при-
ходилось исправлять для моих студентов: «Почему бы тебе самому не сде-
лать перевод?» И вот результат. Потребовалось примерно десять лет труда.
С последним примером я перегнул, виноват. Но осадок уже остался,
и вычеркивать поздно.
396
Так было не всегда
Эпоха укзориозности — это американский период. В золотые сиринские
годы отношения супругов строились иначе.
[152:17] Да, «ты единственный человек, с которым я могу говорить об оттенках
облака», это из письма 1923 года.
Но мы отмечали, что в эпоху вольного фланерства Владимир предпочи-
тал обсуждать с женой оттенки облака за вечерним чаем. «Выхаживать»
тексты по городу он любил в одиночестве.
Письмо Вере от 8 ноября 1923 года все состоит из любовных признаний,
но в нем есть фраза:
[93] — Без тебя мне жизнь как-то не представляется — несмотря на то, что
думаешь, что мне «весело» два дня не видеть тебя.
Думаю, проницательная Вера была права: не видеться с любимой Сири-
ну было, может, не «весело», но крайне необходимо: писателю дышать не-
чем без одиночества.
Летом 26-го жена уехала на курорт, сразу заскучала, запросилась домой,
но Сирин вовремя вспомнил тему пленения в тесные места:
[93] — Нет, обезьяныш, не возвращайся — будешь сунут в самый старень-
кий, самый гаденький чемоданчик и отослан обратно.
Набоков без Лолиты
В начале этого письма обращение еще более замысловатое — «мой
обезьянысч».
Прошел целый месяц, Сирин все твердит:
— Чем дольше ты там пробудешь, тем лучше тебе будет, жизнь моя. [93]
У Веры, между прочим, был пистолет, носила с собой в сумочке. Такой
решительный настрой на жизнь. После свадьбы нашей пары по русскому
Берлину ходили слухи, что она приставила пистолет к груди Набокова:
«Женись, не то пристрелю!» Кстати и то, что 8 апреля 23-го, на благотвори-
тельном балу, где они познакомились, Вера была в черной маске с волчьим
профилем.
От Машеньки герой, мы помним, сбежал, в «КДВ» Драйер не решается
есть без жены ветчину, начинать ужин, ее капризы мешают осуществить
мечту Драйера о кругосветном путешествии.
Робкий Лужин-писатель избавляется от жены в книгах: у маленького ге-
роя Антоши — молодая мачеха. В том же романе упоминается «брачный
приговор»: словцо явно крашеное, принадлежащее не миру героев романа,
а проговорившемуся рассказчику.
Пильграм думает, что неплохо бы взять топор и шмякнуть жену по те-
мени.
Счастливых пар у Сирина категорически нет, даже когда они есть: воз-
любленные Чорба и Синеусова («Solus Rex») умирают, а жизни Федора
с Зиной Мерц автор нам не покажет. Не пускает читателя в (свою счастли-
вую с Верой) частную жизнь, хранит самое интимное под прекрасным по-
кровом. Любовь — величайшая тайна... что же тут молоть языком.
Но зачем в продолжении «Дара» Федор, оглядев в полицейском участке 397
труп любимой жены, быстренько смывается?
— Рано утром уехал на юг. Ее нет, ничего не хочу знать, никаких похо-
рон, некого хоронить, ее нет.
Знала бы Зина Мерц, деля с Годуновым-Чердынцевым волшебные под-
робности ночи, что ее рыцарь даже не станет ее хоронить!
Из-за каждого угла мысли
Долгие годы любовь к Вере не мешала не только тяге к естественному писа-
тельскому уединению, но и случайным связям.
В 1937-м едва не стряслась связь роковая: В.В. затеял в Париже роман
с Ириной Гуаданини, женщиной на три года младше Веры. Роман не без
узора: Ирина была падчерицей Кокошкина, который был братом того Ко-
кошкина, что вместе с В.Д. Набоковым занимался еще в России партий-
ным строительством. В оглавлении там мысли о самоубийстве, обострение
псориаза на нервной почве, желание рвать сердце пополам, едва не готов-
ность бросить жену с младенцем, анонимное письмо, полученное Верой
(написанное, скорее всего, матерью Ирины мадам Кокошкиной), тяжелое
признание Владимира, обещание прервать отношения и — обман... прямо
в стилистике главы о Чернышевском В.В. получал письма до востребования
Мадам, я доктор, вот банан
на фамилию шаловливой бабушки фон Корф... есть там и вовсе мелодра-
матический эпизод: Ирина (которую Вера не знала в лицо) наблюдала за
соперницей на пляже в Каннах, хоть кино снимай.
В конце концов Набоков остался с семьей, молодец. Любовь и долг как
минимум... Но могли ему подсказать решение соображения художествен-
ного толка.
В рассказе «Туннель», написанном Ириной по следам всей истории, упо-
минаются Остап Бендер, шифр Кити и Лёвина, «аннакаренинский» финал.
Там семнадцать стихотворных эпиграфов на тринадцать главок (из Сири-
на, Д. Кнута, В. Смоленского, Гумилева...). Еще там есть прямая речь героя-
гения, внука знаменитого полярного исследователя:
— Ты всегда выходишь из-за каждого угла моей мысли своей щенячьей
походкой.
Или:
— Что я особенно люблю в тебе, это прелесть мысли твоей и эту безоши-
бочность, прямо пугающую меня, верность всех твоих движений по отно-
шению ко мне.
Или:
— Пойми, ты не доставала мне круглые сутки, именно круглые нули
времени — ведь ты живешь у меня в каждой минуте!
Третий пример, возможно, и отсебятина, но два первых — явные цитаты
из писем Набокова Ирине. Цитаты, по свидетельству Пулитцеровской Лау-
[152:125] реатки, читавшей письма, «вольные», но от этого не менее узнаваемые: это
практически повторение слов, которые Набоков ранее адресовал Вере Сло-
398 ним. Сравниваем. Владимир писал Вере:
— Мы с тобой совершенно особенные люди; чудеса, понятные нам, не
поймет никто другой...
— Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость: словно у тебя в ду-
ше есть заранее уготовленное место для моей мысли...
— Ты единственный человек, с которым я могу говорить об оттенках
облака, о пении мысли...
Вот что его должно было напугать: симметрия, двойничество, повтор,
ступание в собственные следы.
Сирин стал повторяться, и это могло быть важным аргументом: в этой
новой любви нет преображения, и надо достигать его с Верой и с сыном.
(В скобках — неприятно, если твои письма цитируются вдруг в рассказе,
но тут было чему аукаться: и братнее, помните, письмо, переписанное ма-
терью для Владимира и Владимиром для Веры, и, возможно, письма Люси
Шульгиной, если они действительно использованы в «Машеньке».)
Через год после окончания романов — «Дара» и романа с Гуаданини —
Набоков сочинит «Себастьяна Найта»: альтернативную историю гения,
который пошел на огонь ненужной страсти и сгорел, что твой мотылек.
Можно только догадываться, какая прекрасная судьба его ожидала, ос-
танься он с верной Клэр Бишоп, вериным отражением из «Подлинной
жизни».
Набоков без Лолиты
Проверка балом
Было и более приближенное к оригиналу отражение Веры — Зина Мерц.
И в разгар романа с Гуаданини, и сразу после его окончания Сирин работа-
ет над «Даром», пишет третью и пятую главы. В июне он скажет Ирине, что [152:125]
«написал дурацкое сочинение про верность». Действительно, Федор Году-
нов-Чердынцев, в отличие от Владимира Сирина, не соблазняется легкой
поживой в лице готовой к объятиям ученицы. Он верен Зине все 455 дней
их платонического знакомства: немалый срок! Он хладнокровно отвергает
ученицу, спокойно проходит мимо кукольных механизмов проституток
и не принимает участия в визуальной охоте на школьницу, раскинувшую
в жарком Груневальде замшевые подмышки и пахи.
Сейчас последует абзац, который логично объяснить перегретым на
солнце мозгом исследователя: я пишу адским июлем 2011-го в каменном
мешке Петербурга после комично сорвавшейся попытки хоть на несколь-
ко дней уехать на дачу к приятелю, а Машенька Шеншина, между прочим,
только что улетела к каким-то влажным фьордам с высоким, как теннис-
ный чемпион, женихом, занимающим еще не слишком высокий, но перс-
пективный пост в очень крупной газовой компании.
Вот этот абзац. В Германии, о чем уже шла речь, в 1926 году приняли за-
кон в пользу любителей «культуры свободного тела», проще говоря, нудис-
тов, активно тусовавшихся в зеленых зонах, в том числе и Груневальда. Это
первый факт, второй же состоит в том, что в те годы в Европе был популя-
рен изобретенный Айседорой «дунканизм», или естественный танец. Тан-
цор должен переводить в видимые глазу и неструктурированные па поры-
вистые движения души. Я видел записи игрищ нудистов-дунканистов, как
они прыгают на цыпочках по лесной поляне, вкручивая в воздух невиди-
мые электрические лампочки, — очень замечательно. Так вот, помните
в пятой главе Федор наблюдает за странным танцем пяти евангелических
сестер, как они срывают и собирают в призрачный пучок невидимые цве-
ты, сопровождая свои движения незамысловатой песенкой? Гипотеза состо-
ит в том, что Федор как раз набрел на полянку нудистов, но превратил их
в романе в евангелических сестер, чтобы подчеркнуть и свое целомудрие.
Третья и пятая главы — проверка не только Федоровой верности, но
и зининого терпения.
Была проверка балом. Договорились встретиться уже там, на костюми-
рованной сходке у знакомого Зине художника. Федор должен был идти
в полумаске и смокинге, а Зина придумала себе наряд, но осеклась, утаила.
— Мы будем целую ночь вместе, и никто не будет знать, кто ты, и я при-
думала себе костюм специально для тебя.
Федор должен был явиться на час позже, но присел на полминуты вы-
черкнуть одну из вчерашних фраз. Когда он опять взглянул на часы, был
третий час утра.
— Мимоходом из передней в его полуоткрытую дверь Зина увидела
его, бледного, с разинутым ртом, в расстегнутой крахмальной рубашке,
399
Мадам, я доктор, вот банан
с подтяжками, свисающими до пола, в руке перо, на белизне бумаг чернею-
щая полумаска.
Мы подглядели будущее зинино воспоминание.
Там много проверок. Когда Васильев отказывается публиковать в при-
косновенном к «Газете» издательстве «Жизнь Чернышевского», Зина мгно-
венно начинает искать деньги на выпуск книги. Тут не понадобились, по-
мог Буш, но в конце романа Федору нечем платить за квартиру, и Зина дает
ему двести марок, которые Федор принимает как естественный дар судь-
бы... Вере в августе 1924-го пришлось выкупать пальто Владимира у хо-
зяйки пансиона «Андерсон», когда тому нечем было заплатить. В «Ма-
шеньке» Подтягин принял двадцать марок от старого приятеля Куницына,
и тяготится этим, а Федор с Владимиром — не очень.
В третьей главе Зина жалуется на феноменальную усталость, на хребет,
который болит от пишмашины, на хама отчима, а Федор замечает, что и у
него день был несимпатичный: стихи как-то недоочистились. В пятой
расклад будет подтвержден:
— В то время как Зина изнемогала от зловонной жары в конторе, Федор
Константинович с раннего утра уходил на весь день в-Груневальд, забросив
уроки и стараясь не думать (вот этот курсив точно мой. — В.К.) о давно
заброшенном платеже за комнату.
Выгодный для героя расклад. Дописывая «Дар», Сирин доказывает себе,
что конечно же оперные страсти побоку, надо оставаться с Верой. На по-
следней странице «Дара» выскакивает формула «груз и угроза счастья».
Чуть раньше:
40 О — Чего мы, собственно, ждем? Все равно лучшей жены не найду. Но
нужна ли мне жена вообще? «Убери лиру, мне негде повернуться...» Нет,
она этого никогда не скажет — в том-то и штука.
В «Даре» вообще маловато Зины. Учиняя подруге строгую проверку,
автор дает понять, что место ее в жизни героя будет прекрасным, но слу-
жебным. Зина некогда брала уроки рисования — и что? На прогулке она
начинает важный рассказ о своем отце, какой у него был слух, но Федор
небрежно ее прерывает, уводит разговор в сторону. На последних страни-
цах она показывает ему пачку своих свежеотпечатанных фотокарточек,
снятых в конторе, — Федор едва удостаивает их взглядом. А ведь кто-то
снимал... есть у Зины в конторе, стало быть, какая-то подруга. Нет, ничего
не интересно.
Структура «Дара» такая размашистая, там есть и миллион пародий,
и книга стихов, и записки об отце, и повесть о Яше Чернышевском, и це-
лый роман о Чернышевском Н.Г., и рецензии на него. «Есть рассказ о том,
как пассажир, нечаянно выронивший из оконного окна перчатку, немед-
ленно выбросил вторую, чтобы по крайней мере у нашедшего оказалась
пара». Вполне могло найтись там место и рассказу из жизни Зины, о каком-
нибудь приключении с былым женихом, мало ли о чем: нет такого места.
— Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но в об-
щем-то мне все равно, иду на это.
Набоков без Лолиты
Автор-герой «Дара» откровенно обрисовал условия, на которых он сда-
ет жене свою мужскую вольницу.
— Жизнь с женой, чьи взгляды на секс останутся нам неизвестны, — [152:217]
очень деликатна Пулитцеровская Лауреатка.
Ирина Гуаданини была не последним увлечением мастера. Какие-то, как
я уже говорил, раскиданы по биографии призрачные студентки: с кафедры
можно столь же успешно соблазнять, как и со сцены. Профессор был оша-
рашен «при виде такого подарка судьбы, как американские студентки», но
и аудитория была впечатлена. Прививка, однако, уже была сделана и прин-
ципиально вопрос решен: Набоков до конца дней своих остался с Верой.
Начиная с 45-го он начал толстеть, расставшись летом с привычкой вы-
куривать по четыре пачки сигарет в день. Пять-шесть леденцов из черной
патоки вместо сигарет делали свое тучное дело: к декабрю В.В. прибавил
около 80 фунтов (потолстел с 56 до 91 кг). Еще в сентябре 47-го журнал
«Мадемуазель» его назвал преподавателем, «снискавшим небывалое обо-
жание студенток», но здесь мы имеем дело со случаем, когда информация
досадно устаревает по ходу составления и верстки журнальной книжки.
В конце 47-го начал харкать кровью, «сначала врачи ошибочно оценили [152:193]
это как туберкулез, а затем и как рак». Тогда обошлось, но вся дальнейшая
биография В.В. полна медицинских эпизодов. В 49-м, в возрасте всего-то
50 лет, он фигурирует в отчете ФБР как «пожилой мужчина с иностранным [152:200]
акцентом» (в скобках объяснялось, при чем тут вообще ФБР, но не буду
объяснять, вильну секретом). Такому можно уже нырять в укзориоз —
с головой. Тем более что узы не распространялись на быт: Вере довольно
было души.
В 1957-м в Нью-Йорке была суровая зима. Владимир любовался куста-
ми можжевельника, которые казались ему «верблюдами-альбиносами»,
в то время как Вера разбиралась со снегом, завалившим жилище.
— Набоков шагал, — описывается другой год, переезд в новый дом, — [152:204]
с шахматами и маленькой лампой, а Вера ковыляла за ним с двумя увесис-
тыми чемоданами.
Что касается названия главы: в 1926 году Владимир начал работу (доде-
ланную позже Верой) над руководством по русской грамматике для немцев
с такого милого упражнения: «Мадам, я доктор, вот банан».
401
Машины письма
[56:597] Машина, которая печатает, складывает и даже прочи-
тывает журнал.
Илья Ильф. Записные книжки
В результате они превратились с Верой в идеальный агрегат, единую маши-
ну по производству литературы.
Не будем стесняться технической терминологии.
Несмотря на боязнь выключателей, о механизмах и Сирин, и Набоков-
штрих говорят с нежностью.
402
Уже машина говорит: «Жую;
бумажную выглаживую кашу;
уже пласты другой передаю».
Та говорит: «Нарежу и подкрашу» —
это из стихотворения «Билет» (описан процесс производства железнодо-
рожного билета), знаменитого тем, что оно была перепечатано в «Правде»
вместе с плотоядным комментарием Демьяна Бедного: штык вам, дескать,
в брюхо, а не «на родину билет».
Редактор Васильев, работая, сопит, как мощная машина.
Лесной кузнечик заводит свой маленький мотор.
[85:14] В эссе «On Generalities» Сирин воспевает «восхитительные механизмы,
огромные гостиницы, развалины которых грядущее будет лелеять, как мы
лелеем Парфенон». Там же сообщает:
[85:21] — Человек — подобие Божие, вещь — подобие человеческое. Автомат
в некотором роде наиболее похож на человека.
В письме матери (февраль 1930 года) критикует стихи брата Кирилла:
[ 19:423] — Что за наивная антитеза, — там звезды, тут фабрики, там розы, тут
электричество — чем фабрика хуже роз, спрашивается?
В описании дирижабля в «Занятом человеке»:
Набоков без Лолиты
— По ясно-золотому фону, под длинной пепельной тучей, низко, дале-
ко и очень медленно проплывал, тоже пепельный, тоже продолговатый,
воздушный корабль. Дивная, древняя красота его движений... — показа-
тельно слово «древняя», примененное к чуду актуальной техники, в кото-
ром проницательный современник способен рассмотреть — ну, вот Пар-
фенон.
Во «Встрече»: Серафим «нежно повертел винт» спиртовки.
Чорб думает о гибели жены:
— Ничто не может быть чище вот такой именно смерти, — от удара
электрической струи, которая, перелитая в стекла, дает самый чистый и яр-
кий свет.
В «Подвиге» упомянута ласковость трактора и линотипа.
И прекрасная собака из «Обиды», одна из лучших собак из числа
описанных в литературе, которая «молча, копя лай, выбежала из-за ворот,
перемахнула через канаву, и только тогда залилась лаем, когда догнала
коляску», — не уподоблена ли она ловкой машине с умным поддонни-
ком для накопления лая, чтобы в нужную секунду выстрелила пружинка
звука?
Благословенное прошлое в «Приглашении на казнь» набито машинами:
«маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой».
— Многое в сочинениях Набокова основано на потаенном родстве ело- [ш:7]
ва и машины, — замечает исследователь. — Думается, что не случаен был
материал для сотворенной им в детстве потешной железной дороги:
Из толстых словарей мосты сооружал, 4^3
И поезд заводной уверенно бежал...
Уверенно бежал.
ВерВолодя
— Это история о женщине, о мужчине, о семейном союзе, о триединстве, [152:9]
которое складывается в каком угодно порядке, — в первой же строке био-
графии Веры Пулитцеровская Лауреатка подчеркивает «агрегатность»
семейной конструкции.
При первой же берлинской встрече она стала декламировать ему его
стихи: ясно, как это отразилось в зеркальном сердце, да только ли в сердце,
поэта.
— С любимым нужно стать сиамским близнецом, так чтобы один чих- [152:67]
нул, когда другой нюхает табак, — это Сирин писал сестре Елене через год
после своей свадьбы.
Образ несколько литературный, но и весь образ «машины письма» мо-
жет показаться довольно искусственным.
Здесь важно, чтобы у любящих сердец совпадали представления о текс-
туальности.
Машины письма
Есть такой не слишком понятный мне жанр — «донжуанский список».
Предыдущей невесте, Светлане Зиверт, Владимир вручил дневник
с описанием любовных похождений, с поименным списком фигуранток:
ориентируясь, возможно, на опыт своего любимого толстовского героя
Лёвина, показавшего соответствующие записи Кити. Кити поплакала
и успокоилась, Светлана же швырнула дневник в лицо автору, и вскоре их
обручальные кольца пошли в переплавку, на изготовление иконных окла-
дов. Вера, когда Набоков сунул ей исправленный и дополненный донжуан-
ский лист, вела себя спокойнее. И даже указывала впоследствии на литера-
турную природу такого поведения, апеллируя, правда, не к Толстому,
а к Пушкину (а где Пушкин, там и Ходасевич: тоже составлял для Берберо-
вой такой документ). Для замыкания узора Вера получила список на дело-
вом бланке своего отца, Евсея Слонима.
Вера признавала литературную природу реальности.
Он восхищался, как четко Вера выговаривает слова, уверял, что не мо-
жет написать ни слова, пока не услышит, как Вера это слово произносит, —
«в некотором роде», воспользуемся формулой Федора Годунова-Чердынце-
ва, это признание в любви.
Обращал внимание, что инициалы Веры совпадают с инициалами про-
тотипа Машеньки (Valentina Shulgina) и что обменялся с ней инициалами
при женитьбе:
[152:71] — Вера Слоним, выйдя замуж за Владимира Сирина, получила Влади-
мира Набокова; Сирин, женившись на Вере Слоним, оказался вместе с Ве-
рой Набоковой.
404 Ловко!
Искал общее в работе их механизмов:
[152:57] — Знаешь, мы ужасно с тобой похожи. Например, в письмах: мы оба
любим (1) ненавязчиво вставлять иностранные слова, (2) приводить цита-
ты из любимых книг, (3) переводить свои ощущения из одного органа
чувств (например, зрения) в ощущения другого (например, вкус)...
Отдельно от Владимира Вера Слоним словесностью занималась немно-
го. В самом начале их романа, пока Владимир, подобно Мартыну, батрачил
во Франции, она опубликовала в «Руле» несколько переводов из Николая
Райнова и Эдгара По, на этом ее личные творческие амбиции почти исчер-
пались. Хотя Вера и была, подобно Зине Мерц, мастерицей выглядывать за-
нятные черты дня и ночи, мы не знаем, попали ли какие-нибудь отмечен-
ные ею детали в сочинения Сирина и Набокова-штрих. Про американский
период известно, что В.В., уютно расположившись в пассажирском кресле
авто, записывал иногда в блокнот Верины наблюдения вроде «посмотри,
дерево присело на корточки» или «в окне отражается ключ в зажигании».
Первый из двух примеров гораздо выразительнее, второй возвращает нас
к теме любимых Набоковым непрямых отражений.
На плановую мощность агрегат вышел в Америке. Там деньги с перво-
го дня начал зарабатывать Владимир (до «Лолиты» — преподаванием
в различных университетах), а Вера смогла сосредоточиться на давно
Набоков без Лолиты
задуманном превращении в его тень. Или на его превращении в стремя-
щийся к бестелесности, особожденный от бытовых контекстов творче-
ский снаряд.
Вера была Владимиру машинисткой (разбогатев, взяли помощницу, но
самые ответственные перепечатки оставались за Верой), редактором, кон-
сультантом, литературным агентом (была агентша во Франции, а все ос-
тальные бесчисленные договора Вера вела сама), секретарем, водителем,
телохранителем даже (в Америке она вновь завела пистолет — официаль-
но для защиты от форс-мажоров при охоте на бабочек в диких уголках
страны), бухгалтером, переводчиком, ассистентом на лекциях. Последнее
поражало американских студентов:
— Контраст между ее царственной осанкой, лучезарной седовласой кра- [ i& leoj
сой — многие признавались, что никогда не видели столь красивой жен-
щины ее возраста — и ее, как они считали, лакейской должностью...
Но быть частью агрегата — не лакейская должность, конечно. В едином
механизме, как в футбольной команде, да как, собственно, просто в едином
организме, его составляющие не очень озабочены иерархией.
Тем более что ассистент очень часто брал на себя и основные функции
агрегата.
Когда муж болел, она читала его лекции сама (а он именно «читал»,
по бумажке, вновь слегка уподобляясь автомату), однажды замещала
его, больного, целых три месяца. Более того, она сама порой готовила его
лекции и проверяла студенческие работы. Когда выступала в роли ассис-
тентки, некоторым студентам казалось, что он адресуется не к аудитории,
а к ней.
Она сама переводила его произведения и редактировала чужие перево-
ды на разнообразные языки, она (осенью 48-го, в городе Итака, во дворе
дома по Сенека-стрит) вырвала из его рук предназначенную огню руко-
пись «Лолиты» (Набоков счел, что все равно не удастся опубликовать сей
странный сон). Она участвовала в его интервью, и, правя итог журналист-
ской работы, Владимир заменял «она сказала» на «он сказал», то есть заби-
рал себе ее реплики. Львиная доля подписанных им — во второй половине
жизни — писем сочинена Верой.
— С разной степенью недовольства родственники постепенно привык- [152:211]
ли получать от Владимира написанные Верой письма. Лет десять Верины
письма Елене начинались извинениями, что ей снова поручено отвечать на
послание золовки. В конце концов, не перестав их писать, Вера извиняться
перестала.
Исследование Пулитцеровской Лауреатки полно примеров почтового
кавардака, когда корреспондент Набокова не знал, с кем именно он перепи-
сывается и чей голос слышит:
— Владимир начал это письмо, но ему срочно пришлось переключиться [152:298]
на другое дело и он попросил, чтобы я его докончила...
— С этого момента письмо диктует Владимир... [ 152:410]
— Вера кланяется вам от души (я уже давно подделываю Верин почерк!). [152:177]
405
Машины письма
Надо ли добавлять, что Вера прекрасно подделывала почерк Владимира.
Бытовали обращения «Дорогие В.В.», «Дорогие ВерВолодя», «Дорогие
автор и миссис Набоков».
[152:297] — Дорогие В.&В. Благословен английский язык с его вторым лицом
множественного числа! — писал друг семьи Морис Бишоп, подводя теоре-
тическую базу под эпистолярную свистопляску. — Мне не нужно выде-
лять, обращаюсь ли я к одному из вас или к обоим вместе; вы сливаетесь
или разделяетесь сами когда хотите.
«Щупали бока одному из себя». Словно описываются нравы сказочно-
го королевства, монарх которого избрал такой способ общения с под-
данными, чтобы те всегда путались, в какой из своих ипостасей он к ним
обращается.
Удивительно, но супруги Набоковы воплотили этот сказочный принцип
в реальность и долгие годы общались в таком режиме с издателями,
родственниками, друзьями и агентами.
Мы решили выйти на улицу
Дневник они вели один на двоих. О еженедельнике, стартовавшем 20 мая
1958 года:
И52: зо2-зоз] — Первая запись сделана рукой Владимира, хотя не целиком в его стиле:
«Большие расстояния всегда способствуют сближению, как утверждает Ве-
ра. Звонок в десять утра от Джейсона Эпстайна из «Даблдей», спрашивает,
не возьмусь ли я за перевод рассказов Толстого — «Хаджи Мурат» и проч.
Вера ответила, что я над этим подумаю». Следующая строка — также Вла-
димира: «Около полудня Вера отправилась искать себе новое платье». Аб-
зац продолжается другим почерком: «Вера вернулась без платья. Покупать
в Итаке — сущее бедствие. Одна нью-йоркская фирма выставила посред-
ственную коллекцию, заняв половину обшарпанного ресторанчика, снято-
го для этой цели. Ни распродажи дамской одежды. Ни примерочных. Ни
единого приличного платья». Приписка — Верина, в третьем лице. Как бы
появление персонажа из чьего-то романа. На нескольких последующих
страницах высказывания супругов чередуются довольно бессвязно. Похо-
же, что дневник переходит из рук в руки, как впоследствии будет циркули-
ровать и единственная пара очков.
Право же, трудно отделаться от впечатления, что мы имеем дело с реаль-
но — а вовсе не метафорически — Преобразившимся Существом.
Однажды Вера дала настойчивому студенту, посланному братией за ав-
тографом мастера, расписку, удостоверяющую, что Набоков автографов не
дает. Впору считать такую записку метаавтографом.
Пулитцеровская Лауреатка делает одно избыточное, пожалуй, предполо-
жение, что именно Вера убедила Набокова в существовании загробной
жизни, поскольку как раз ее переводы свидетельствуют об интересе к по-
тустороннему миру, а По и Райнова роднит восхищение перед запредель-
ностью. Но мы, кажется, видели, что в запредельность Набоков заглядывал
Набоков без Лолиты
и до встречи с Верой Слоним. Эссе о Бруке, приветствующее радужную
смерть, написано еще в Кембридже.
Зато они читали друг другу вслух «Войну и мир». Зато он спрашивал,
глядя в меню:
— Вера, что я буду есть? [ 152:4ю]
Зато она писала в письме — «у нас из носа течет, мы сморкаемся, но се- [152:4i i]
годня решили выйти на улицу» — имея в виду Владимира.
Зато он практиковался в металогике:
— Он завел обыкновение сначала наплести нечто, заведомо из разряда
небылиц, а потом уверять, что все — чистая правда, потому что уже Вере
это рассказал, как будто сам факт рассказывания Вере свидетельствовал
о достоверности самого рассказа.
Им здесь, по эту сторону творения плотника, удалось переслоиться теня-
ми. Вера стала (невозможным, казалось бы, в реальности) двойником: тем
самым, о котором всякий из нас, бывало, мечтал, когда нужно было, не отры-
ваясь от работы, поговорить по телефону. Вера стала живым зеркалом, в ко-
торое он смотрелся с кафедры и от которого мог в любую секунду получить
уточнение по цитате или дате. Она стала его текстом: есть немало изумленных
свидетельств, что не только стихи, но и романы с рассказами она помнила на-
изусть. Протагонист Набокова плавал между местоимениями «я» и «он»; Ве-
ре в мемуарах досталось «ты». Последнее публичное выступление В.В. со-
стоялось за 13 лет до смерти; что ж, Вера заменила ему аудиторию. «Посреди
разговора они спариваются, словно бабочки за кустом, и отъединяются друг
от друга настолько быстро, что замечаешь это не сразу», все время касаются
друг друга, обмениваются репликами, темными для других участников раз-
говора. Когда она улетает на восемь дней, вслед несется отчаянное письмо:
«Твой отъезд жестокий удар для меня» (а помните, из Берлина на курорт [93]
он слал требования оставаться на отдыхе). Фрейд заметит, что Вера в этой
семейной конструкции не пренебрегает ролью матери; вновь посмеемся над
Фрейдом, напомнив, что связи тут куда более заковыристее. В конце жизни,
в беседах с репортерами и прочей общественностью, Вера избрала позицию
принципиального отрицания всего — того, что гордится Дмитрием, своего
сходства с Зиной Мерц, пометок на полях рукописи, сделанных ее рукой:
призрак не способен гордиться, походить, делать пометки. Набокову сни-
лось, что он диктует ей продолжение «Дара»: позволю себе назвать это сим-
волом в кубе, не вдаваясь в дискуссию, почему не в квадрате.
Это, возможно, и есть любовь: слипнуться в агрегат, стать призраками
друг другу, как, наверное, и случается в Раю. «Возможно», «наверное», «в не-
котором роде» — а точнее о любви мужчина и не скажет.
Последний боковой ход
Сама идея агрегата, машины литературности окрепла в Сирине, види-
мо, в процессе сочинения «Дара». Роман — и сам по себе многочленный
агрегат (от идеи писать это слово с двумя «г», как в иностранных аналогах
407
Машины письма
и в старой русской практике, «аггрегат»,я,уж не помню почему, отказался),
состоящий из нескольких художественных произведений разной степени
воплощенности (книга об отце в виде замысла, книга стихов в отрывках,
книга о Чернышевском в натуральную величину, рецензии на нее в пере-
сказе и пр.).
Но к нему есть и два приложения, которые Набоков предполагал напе-
чатать в несостоявшемся книжном издании «Дара». Это отрывок, назван-
ный «вторым приложением» и представляющий из себя энтомологиче-
ский трактат Годунова-Чердынцева-старшего — как раз рассуждения об
избыточности, а следовательно, художественности явления мимикрии. Есть
первое приложение — рассказ «Круг» (первоначально опубликованный
в газете под названием просто «Рассказ»), повествование там ведется от име-
ни сына школьного учителя из Лешино, и у него, у сына этого, развиваются
романтические отношения с сестрой Федора Таней. В «Круге», как и в чет-
вертой главе «Дара», действие закольцовано — конец переходит в начало.
Есть и менее очевидное ввиду громоздкости, но столь же законное при-
ложение в виде романа «Приглашение на казнь», «парное» к «Жизни Чер-
нышевского» ... светлого, так сказать, ее варианта.... Хотя чего уж светлого,
в последних строчках на героя надевают красный колпак... в общем, и
«Приглашение» просится под метаобложку «Дара».
Но есть, как мы уже знаем, и наброски второй части романа, анализируя
которые, Старший Комментатор пришел к выводу, что вторая часть «Дара»
должна была строиться так же агрегатно, как и первая, иметь вставные
тексты, два из которых написаны, — это, по мнению, Комментатора,
408 «Ultima Thule» и «Solus Rex», а одно дописано героем за Пушкина: это пред-
ложенный Федором финал «Русалки». Все эти тексты, таким образом, тоже
просятся под метаобложку, составляя с «Даром» сложное, но очевидное
единство...
(Наследующий «Дару» «Пушдом» — пусть еще разок промелькнет
будущее — наследует и принцип: в нем есть и вставные тексты, вроде пуш-
кинистского исследования Левы Одоевцева, а есть и приложение в жанре
авторских комментариев — «Близкое ретро».)
Сын как текст
Был еще и наследник, Дмитрий (1934-2012).
В «Других берегах» есть пассаж о Елене Ивановне:
— Как-то в Сочельник, месяца за три до рождения ее четвертого ребен-
ка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания...
У четвертого ребенка есть, несомненно, имя, это сестра, в честь матери
Елена — причем самая близкая Владимиру из братьев и сестер.
И тем не менее — такой отстраненный тон.
«Ее четвертого ребенка». Не «моей любимой сестры».
В мемуарах Набокова семья его состоит, кажется, из трех человек: мате-
ри, отца и самого будущего гения. Остальные домочадцы тают на полях.
Набоков без Лолиты
Пражский знакомый Елены Ивановны Набоковой писал, будто в городе
о ней многие говорили, что она «любит только двух живых существ, сына [ш: nsj
Владимира и собаку Бокса, а к остальным детям и, само собой, к остальным
существам совершенно равнодушна».
Да и сам факт, что старший сын с матерью в переписке постоянно
о(б)суждают других детей...
Тоже странно. Эгоист Владимир — ладно, но, похоже, и для матери их
семья была прежде всего тройственным союзом с мужем и «лучшим» сыном.
Семья самого Владимира имела ту же конфигурацию — он, Вера и сын
Дмитрий, а вычитать на поля никого не нужно было, поскольку других де-
тей не было.
— Возьми меня и наших к себе, — писала ему Елена в 1945-м. — Неуже- [92:7]
ли мы никогда не будем жить вместе? Подумай только, мы уже старики.
В будущем году мне будет 40 лет, а тебе в этом году будет 46...
Но Владимиру с Верой не нужны были родственники для «вместе». Еле-
не еще повезло — в реальной старости ее пригласили поухаживать за бра-
том, даже сочинили ради нее инструкцию, где «гостье» запрещалось брать
мелочь, отложенную на чаевые.
Сын Дмитрий выучился на оперного певца. В 60-м или 61-м пел в «Боге-
ме» с Паваротти (отец был на представлении). Не знаю вот, кого пел.
В главной тройке там два тенора и баритон, а у Дмитрия был бас, и петь он
мог, например, таможенного сержанта.
Увлекался спортом вообще и автогонками в частности, собрал большую
коллекцию гоночных автомобилей. В 1999-м продал на аукционе коллек-
цию «Бабочки Веры: первые издания Набокова, подписанные его жене». 4^9
135 штук на многих языках! И не просто подписанные, понятно, а каждый
раз с бабочкой, а бабочек Набоков рисовал не как Бог на душу. Продал хо-
рошо — за $ 3 395 000.
Не привык лазить за словом в карман: на лекции в Петербурге в 95-м от-
метил, помимо положительных явлений в набоковиане, «бред всяких про- [98:6]
хвостов, всяких филдов, зинаид, Струве» (под Зинаидой имеется в виду
Шаховская, устраивавшая В.В. гастроли, чтобы он мог заработать лишнюю
копейку и привезти пряник сыну; под Струве — Никита, рискнувший
утверждать, что Набоковым написан «Роман с кокаином»).
В 2009-м Дмитрий Владимирович отметился двусмысленной историей
с публикацией фрагментов романа «Оригинал Лауры», который отец заве-
щал уничтожить, если не успеет дописать. И он не то что не дописал, а едва
начал — в тексте, который выдается за роман, не более шестидесяти тысяч
знаков, это тридцать страниц книжки, а то и двадцать, если верстать нор-
мально, а не огромными буквами и с большими полями. Дмитрий несколь-
ко раз выступал с заявлениями, что вот-вот сожжет рукопись, но не побо-
рол искушения и издал книгу. Разразился вполне предсказуемый скандал,
один хороший поэт даже заявил, что «Дмитрий продал труп отца». [ 142]
А мне кажется, что Набоков-штрих, сам тот еще трюкач, поаплодировал бы
ловкости, с которой сын сбыл сырой товар. Грандиозная пиар-компания,
Машины письма
издание сразу двумя книжками (со сканерами карточек, на которых сочи-
нялся текст, и без таковых),успех продаж, редкий для текста, который поч-
ти невозможно читать. Машины сработали. Ведь важно, чтобы Им было —
вне зависимости от наших мнений о должном и возможном в деле волеис-
полнений — хорошо Там, в заслуженном Владимиром и Верой потусто-
роннем.
Тем более что, объявляя решение о публикации «Лауры», Дмитрий Вла-
димирович сообщил, что ему явился дух отца и разрешил предать обрыв-
ки тиснению. У нас, в общем, нет оснований не верить наследнику. По
«Гамлету» известно, что, когда является дух отца, это сразу ясно; никто еще
не путал дух отца с собственными пьяными, допустим, видениями; мне,
скажем, понятно, что встреть я настоящее привидение — без труда отличу
его как от игры теней на портьере, так и от игр разума.
Игры же с призраком Дмитрия Владимировича после его смерти ждать
себя не заставили. Опубликовалось интервью, будто бы данное Д.В. семь
лет назад; заголовок гласил «Я работал на ЦРУ». Сыну нашего гения припи-
сался следующий пассаж:
— Я работал на ЦРУ. Меня пригласили, и идеологически это было впол-
не оправданно. Все происходило на очень высоком дипломатическом уров-
не. Я работал, главным образом, в Италии. Там в 60-х годах существовала
большая опасность: страна стала съезжать влево. Довольно реальная была
опасность. Мне нужно было найти подпорку для правых партий, понять
их намерения, что-то изменить. Сложно было — как шахматная игра. К со-
жалению, американцы не всегда точно понимали некоторые вещи. Когда-
4Ю нибудь расскажу об этом более подробно.
Для подозрительных, вроде меня, рядом с текстом подвешена ссылка на
аудио, на фрагмент, где и звучат процитированные слова. Что же, я нажал на
ссылку. Нехотя пришли в движение ржавые плагины, со скрипом открылся
вход в древний файл. Фразы «Я работал на ЦРУ» в начале фрагмента нет,
и вообще нет! Зато есть фраза в конце — «Это отчасти вошло в мой роман».
Что за роман, науке, впрочем, тоже неизвестно. Наверное, Дмитрий
Владимирович просто разыграл журналиста, позволил себе маленький
аристократический перформанс. Отец был бы доволен, да и я согласен, что
молодец.
Но досадно, что сын умер в 2012-м (есть, конечно, два варианта даты
смерти — 22 и 23 февраля) и не оставил потомства. На нем род Набоковых
пресекся. Горькой иронией в этой связи звучит, что Сирин искал фамилию
[96 iv:638] для Федора в «угасшем роде». Какой-то не очень ловкий вышел у судьбы
выкрутас.
«Внуки наших внуков» — была у раннего Сирина такая стихотворная
строчка. А в «Других берегах» упоминались «Предыдущие набоковские
мальчики», как бы подразумевающие последующих.
Не сбылось.
И не кончается строка
«Дар» завершается записанными в строчку стихами, онегинской строфой.
— Прощай же, книга! Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С ко-
лен поднимется Евгений, — но удаляется поэт. И все же слух не может сра-
зу расстаться с музыкой, рассказу дай замереть... судьба сама еще зве-
нит, — и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я:
продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние
облака, — и не кончается строка.
После текста книжки гораздо реже ставится слово «конец», чем после
фильма. Если не читал «Дар» много лет или, есть же такие счастливчики,
прочел его впервые, можно сразу вернуться к началу и поехать наново.
И на первой же странице обнаружить фрау Лоренц, следящую за выгруз-
кой своих вещей (при первом чтении романа мы еще не были с ней знако-
мы), а в глубине главы вдруг увидеть следующее:
— Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще
совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана, и тут
же общественная уборная, похожая на пряничный домик Бабы-яги.
И понять, что никто еще в романе не ужинал, и сообразить, что «мы
ужинали» относится к недавно прочитанной последней сцене, ужину Фе-
дора и Зины в конце пятой главы: книжка пошла по кругу.
«С колен поднимется Евгений, но удаляется поэт»... В комментариях
к «Онегину» Набоков на секунду задержался и подчеркнул, что ответ «Но
я другому отдана и буду век ему верна» «вовсе не звучит с той величавой [88:593]
бесповоротностью, которую слышат в нем комментаторы». Татьяна уже
обсуждает тему своей верности, и как знать, что у них еще впереди.
И нам хочется заглядывать за отвороты набоковских проз: спасибо, ува-
жаемый автор, Вы нам оставили щелочку для вопроса — а что же было
дальше?
411
И не кончается строка
Чем разрешится молчание в концовке «Возвращения Чорба», какими
словами он сообщит родителям жены о ее гибели?
Как скоро после смерти отца начнутся «отношения» Наташи и Вольфа?
Как долго просидит запертым в ванне красный агент из «Здесь говорят
по-русски»?
А что, если в «Бритве» герой ошибся и в его кресле был вовсе не красный
палач: с какой же интонацией тогда посетитель будет тем же вечером рас-
сказывать друзьям о сумасшедшем цирюльнике.
В опустевшую комнату Подтягина заселится очередной русский — мо-
жет быть, Кларе наконец повезет и это будет жених для нее?
Федор и Зина посмеются, конечно, над ухмылкой судьбы, отобравшей
у них ключи, побредут сквозь очередную ночь... будут дожидаться утра,
чтобы дверь сломал слесарь?
Среди гостей, которые ходят на «приемы» к Лужиным, есть один, кото-
рый нравится хозяйке своей невзрачностью, неприметностью черт, «словно
он был сам по себе только некий сосуд, наполненный чем-то таким священ-
ным и редким, что было бы даже кощунственно внешность сосуда расцве-
тить. Его звали Петров, он ничем в жизни не был замечателен, ничего не
писал, жил, кажется, по-нищенски, но об этом никогда не рассказывал...
Только очень редко, только когда улавливал в собеседнике родственную бе-
режность, показывал на миг — из всего того огромного и таинственного,
что он в себе нес, — какую-нибудь нежную, бесценную мелочь, строку из
Пушкина или простонародное название полевого цветка». Не этот ли Пет-
ров в будущем — идеальный жених для вдовы Лужина? А что живет по-ни-
412 щенски, мать снова поворчит, но после Лужина будет счастлива.
А что станется с Францем и Драйером, будет ли племянник по-прежне-
му ходить обедать к дяде, как делал это при живой «тете»? В фильме Сколи-
мовского придумана остроумная концовка: Менетекелфарес там умеет ле-
пить восковые фигуры, он слепил для Франца его возлюбленную и принес
ее потихоньку к двери, за которой как раз обсуждают будущее Драйер
и Франц. Дверь вот-вот откроется, и явится искусственная Марта в пол-
ный рост (ее в фильме играла Лоллобриджида).
Менее удачной получилась метаморфоза набоковской концовки
у А.О. Балабанова. В синопсисе «Камеры обскуры» в предпоследней сцене
[6:282] Аннелиза говорит: «Бруно, я так люблю тебя» и умирает, а в последней
Магда просто спокойно собирает вещи. Впрочем, это лишь синопсис. Дой-
ди до дела, режиссер, вероятно, не отказался бы от эффектной пистолетной
атаки в исполнении слепого стрелка. В одном из черновиков Сирина, кста-
ти, Кречмар все же убивал Магду.
И не вернется ли вдруг Мартын? Это я, конечно, совсем разминдальни-
чался, но ведь так хочется верить в лучшее.
Кое-какие следы Мартына, кстати, прослежены набоковедением. Первая
главка «Подвига» завершается нелицеприятным спичем в адрес детской
отечественной словесности вообще и журнала «Задушевное слово» (он
назван прямо) в частности. Вторая главка начинается с описания картины
Набоков без Лолиты
над кроватью, в которую картину из которой кровати может убежать маль-
чик: «густой лес и уходящая вглубь витая тропинка». Именно «Тропин-
кой» — сейчас я пересказываю статью Американского Дуэта — назывался [122]
альтернативный «Задушевному слову» детский журнал. В нем публикова-
лись Белый, Блок и статьи с позитивными знаниями. Была статья о цикаде
(взрослый Набоков рисовал ее на доске в американском университете), бы-
ла о мимикрии (любимая тема моего героя). Вот его обложка:
413
— В гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое
воображение и знание, — сказано в «Других берегах».
После смерти Василия Ивановича Рукавишникова, оставившего Набоко-
ву состояние, которым тот не смог воспользоваться, дядя (будто бы) при-
снился Володе с обещанием вернуться под видом неких Гарри и Кувыркина.
И не кончается строка
Именно продюсерская компания Стэнли Кубрика и Джеймса Гарриса купи-
ла права на экранизацию «Лолиты» за 150 000 долларов, что было в 17 раз
больше годового оклада Набокова в Корнельском университете.
В «Камере обскуре» мелькала актриса Дорианна Каренина, а роль Марго
(Магды) в фильме «Смех в темноте» сыграет Анна Карина.
Тексты умеют размыкаться в жизнь. За пару часов до чтения «Согляда-
тая» в 2008 году (после долгого перерыва) я имел просмотр художествен-
ного фильма «Скафандр и бабочка», парализованный герой которого пи-
шет книгу наиболее трудоемким из вообразимых способов: специально
обученная красавица зачитывает ему алфавит, и герой выбирает букву
шлепком ресниц. И что же? В «Соглядатае» не только возникла тема выбо-
ра букв стуком (способ коммуникации духов на спиритических сеансах),
но спустя несколько страниц грянули и ресницы, которыми Ваня словно
расставляет пусть не буквы, но знаки препинания (!) в рассказе Смурова.
А прочитав, что Набоковы владели автомобилем марки «Импала» (это
вид косули, но я не знал этого слова), я через пару дней встретился с косу-
лей-импалой в берлинском зоопарке.
А перелистав уже на стадии корректуры избранные страницы биогра-
фий, я ясно увидел то, чего не понимал раньше: Вера с Володей сошлись
не после Нового года, и не осенью, а сразу в день встречи, 8 мая 1923 года,
на благотворительном балу. Как я долго не замечал многочисленных набо-
ких улик — не ясно; да многого я, думаю, не заметил — даже при надцатых
перечитываниях.
Мне трудно признаться самому себе, что книжка закончилась. Я сижу
414 перед ворохом бумаг, перед коробочкой с лишними фактами, полумаска
валяется на полу. Мой поезд уже гудит, пора ставить точку. Сколько вкус-
ного не влезло в текст... уцепить на прощание еще несколько радостных
доказательств, что вся эта история произошла со мной, что это я сочинял
путеводитель, провел в библиотеках сотни часов и, уже не помню, был при
этом, наверное, счастлив.
Предыдущий абзац написан осенью 2011-го, а осенью 2012-го я добавлю
вот что: хорошо, что редактор возился с путеводителем десять месяцев, за
это время я от него отдохнул, и появились новые мысли, и ошибки себя ус-
пели обнаружить, да и автор стал на год мудрее. И вот уже снова я купаюсь
в любимом файле, приструниваю точки с запятой, подковываю наречия,
похлопываю цитаты по холкам, безжалостно удаляю откровенную глу-
пость, паркую на ее место то, что зачем-то кажется умным именно сейчас.
Никуда не пригодился список всех произведений изобразительного ис-
кусства, застигнутых творчеством Сирина. А ведь там чего только нет: кар-
тина с Вильгельмом Теллем, пронзающим яблоко на голове сына в «Ударе
крыла», комар-обманка в центре тарелки с золотой каемкой в «Случайно-
сти», «Римлянка» Лучиано, переименованная в «Венецианке» в «Венециан-
ку», гравюра с сенбернаром и ослабевшим путником в «Картофельном
Эльфе», «рисунок слона, как видишь его сзади» в «Рождестве», «Тайная
вечеря» и «Остров мертвых» в «Машеньке», бюст Шиллера и олеография
Набоков без Лолиты
с Бисмарком в «КДВ», аппетитные персики вокруг нарезанного арбуза
и работа, на которой «баба в кумачовом платке до бровей ест яблоко, и ее
черная тень на заборе ест яблоко побольше», в «Лужине», Вестминстерское
аббатство, срисованное знаменитым художником с фунта стерлингов
в «Сказке», стриженая Венера Милосская в «Подлеце» и много-много раз-
ного другого, куда теперь приткнуть этот список?..
Раскрасить, распечатать, повесить на стену?
Рядом со сценой, в которой на кухню заходит Марианна Николаевна, за
секунду до чего помещение покидает Зина, а Федор остается один в дурац-
кой позиции человека, который собрался украсть сахар из буфета; ну то
есть Зину, русскую сладость?
Рядом с другой кухонной сценой из «Дара». Зина и Федор не позволяют
себе ни малейших «отношений» в квартире Щеголевых. Словом лишним
не перемолвятся, ибо в пошлой атмосфере жилища на Агамемнонштрассе
любая симпатия превратится в «шашни». То, что родители полтора года не
замечают этих симпатий, не слишком реалистично, но таковы правила иг-
ры в этом романе. Но вот после того как Федор явился домой голым, Зина
за ужином «с непривычной откровенностью науськивала Федора Констан-
тиновича на водку, явно опасаясь, что он простудится». И в следующем же
абзаце Щеголев вспоминает, что «там» (в буфете, видимо) стоит еще буты-
лочка, везти ее незачем, и следует отдать Касаткиным. Щеголев почуял что-
то особое в зинином поведении?
Прелестна история с салипирином, лекарством из «Отчаяния»:
— Бедный, — сказала она. — Ложись. Прими что-нибудь, у нас есть са-
липирин. Я, знаешь, пойду в кафе одна. 4^5
Старший Комментатор (филолог-тяжеловес!) комментирует:
— Заметим, что несуществующее название средства от головной боли «са- из: 45]
липирин», которое Лида предлагает мужу, содержит, если дважды использо-
вать «с», роспись автора: «Писал Сирин» (или констатацию: «Липа. Сирин»).
Салипирин при этом преспокойно существует во всех фармацевтиче-
ских справочниках, и лишь подвисает вопрос: видел ли анаграммы сам ав-
тор или они выскакивали у него автоматически... как гривенники из авто-
мата, испорченного в пользу клиента.
Помню, что несколько лет собирался процитировать одно волшебное [96 п 17]
наблюдение Старшего Комментатора, но так и не собрался: что же, можно,
пожалуй, еще успеть. Собственно, он просто предложил сравнить два
фрагмента — из раннего (1923) стишка и из «Дара».
На солнце золотом сияет дождь летучий,
Озера в небесах синеют горячо,
и туча белая из-за лиловой тучи
встает, как голое плечо.
— Редкие стрелы дождя, утратившего и строй, и вес, и способность шу-
меть, невпопад, так и сяк, вспыхивали на солнце. В омытом небе, сияя всеми
И не кончается строка
подробностями чудовищно сложной лепки, из-за вороного облака выпрас-
тывалось облако упоительной белизны.
Число внутренних рифм и перекличек у Сирина, по всей вероятности,
стремится к бесконечности. Новые и новые поколения исследователей бу-
дут находить все новые узоры, но никогда не исчерпают колодец до дна.
«Набоковская индустрия» — это не только фокусы с «Лаурой», но
и тексты, вываливающиеся в реальность, и чьи-то вещие сны, и вдохно-
венные lj-юзеры ru_nabokov, плетущие год от года паутину настоящей
любви. Юзер raf_sh обнаруживает шажки тупых ножек черноглазой девоч-
ки в «Войне и мире» и вспоминает тупые ножки фрау Дорн из «Машень-
ки», юзер _niece видит в «Несчастной» Тургенева пратекст отношений
в семье Щеголевых, а когда высняется, что это уже известно официально-
му набоковедению, не сдается и вычитывает из «Несчастной» кривой
взгляд под опущенными веками, очень изысканно отразившийся в «Даре»,
ta_samaja считает кофе в набоковских текстах и докладывает, что оно у не-
го чаще среднего рода (приятный сюрприз, я давно бубню, что мужской
род этому напитку следует оставить лишь в стойком сочетании «черный
кофе»), a censor? ловит на ошибке Набокова, который-в комментах к «Оне-
гину» оплошал, пытаясь поймать на ошибке Пушкина, который будто бы
неправильно употребил слово «курок», — а это наш Владимир Владимиро-
вич за курок держал совершенно другую детальку ружья.
В «Даре» присутствует альматалитовый божок, не зафиксированный ни
единым словарем: бурная дискуссия в ru_nabokov идентифицировала в
нем в конце концов божка агальматолитового, что, конечно, не повод заме-
416 нять в тексте неправильное слово на правильное. В мраморе текста навеки
выдолблен ошибочный — альматолитовый.
Щелкнута и загадка М. Агеева, автора появившегося в 1934-м в «Совре-
менных записках» «Романа с кокаином», который некоторые исследовате-
ли приписывают Сирину; вернее — приписывали, ныне личность авто-
ра — Марка Леви — уже подробно разъяснена. Там, чтобы понять, что это
не Сирин, довольно прочесть пару страниц: нас не обманешь, когти — чу-
жие, но есть отдельные фрагменты, где когти настолько те же самые, что
впору развести своими:
— К вечеру дождь перестал, но тротуары и асфальт были еще мокры,
и фонари в них отсвечивались, как в черных озерах. Гигантские канделябры
по бокам гранитного Гоголя тихо жужжали. Однако их молочные, в сетча-
той оправе, шары, висевшие на вышках этих чугунных мачт, плохо светили
вниз и только кое-где, в черных тучах мокрой листвы мигали их золотые
монеты. А когда мы проходили мимо, — с острого, с каменного носа отпала
дождевая капля, в падении зацепила фонарный свет, сине зажглась и тут же
потухла. — Вы видели? — спросила Соня. — Да. Конечно. Я видел.
В романе Гайто Газданова «Вечер у Клэр» (1929) герой путешествует
взглядом по стене:
— Лиловый бордюр обоев изгибался волнистой линией, похожей на ус-
ловное обозначение пути, по которому проплывает рыба в неведомом море.
Набоков без Лолиты
Газданов, может, и не пушкинской силы талант, таких вообще не много,
но при этом писатель замечательный, из самых алмазных, тем страннее раз
за разом натыкаться в его текстах на фразы дистиллированно сиринские...
как можно обезьянничать, не являясь подражателем, как можно совпадать,
не обезьянничая... Загадки для новых книжек, и, кажется, не моих.
Вот Фазан Полесья написал замечательную статью «Убийство в Фиаль- [59]
те», с сюжетом, стилем и психологий. Дескать, укокошив в рассказе «Весна
в Фиальте» легкомысленную в любви главную героиню, Сирин тем самым
символически избавился от Ирины Гуаданини, роман с которой как раз пе-
реживал в 1937-м, после чего было легче расстаться с героиней наяву. Одна
незадача — рассказ был написан и опубликован до едва не ставшего роко-
вым романа, в 1936-м. Но в своей ошибочной датировке Фазан Полесья
был не одинок: сам автор пометил рассказ, публикуя его в сборнике, 1938-м.
Возможно, сам счел его задним числом собственной реакцией на роман
с мастерицей по стрижке собак.
И коли Ганин (это наблюдение Благородного Скакуна) в седьмой класс [ив]
Данишевского училища пошел в 16 лет в 1915 году, то поступил он туда
в 1909-м, то есть одновременно с Лужиным, и был одноклассником буду-
щего шахматного гения: например, Громовым (или Арбузовым, или Креб-
сом). Мы ведь знаем, что он не Ганин. Может быть, его фамилия Никитин?
Бывший офицер, ныне эмигрант, бегущий на юг, — ровно такого героя мы
встречали в рассказе «Порт».
Вот еще из Благородного Скакуна: схема передвижений Лужина по
квартире перед прыжком в окно. Оказывается, он метался ходом коня:
417
И не кончается строка
И раскрашен чертеж в клетки в соответствии с подсказками из романа:
в кабинете всегда темно, в кухне и людской побелили потолки...
Просто славная опечатка в комментариях к собранию сочинений:
[96 п: 706] — Играющий черными Кизерицкий, приняв от Андерсона жертву двух
людей, терпит поражение. (Восемью годами раньше при тех же странных
обстоятельствах он уступает победу Шварцу.)
Выскочивший из глубин «цитадели иллюзий» сборник литераторов из
числа железнодорожников. Он называется «Норд-Экспресс» (Пб., 1913; из-
дание газеты «Семафор»), и там нет ни единого упоминания «Норд-
экспресса», зато в рассказе Алексея Лесного «Прямое сообщение на тот
свет» действует Сатана Вельзевулович Чортов.
Довольно-таки сатанинский узор сплелся как-то между петербургским
и екатеринбургским водоемами... это я собираюсь выдать тайну агентского
имени Сосед Утопленника. Нет, я не забыл, что тайны следует оставлять тай-
ными, но одну-то можно раскрыть, одного из десятка агентов кинуть на ал-
тарь занимательности. В начале нулевых я гулял по СПб в компании, и, пере-
ходя мост через одну из рек и каналов (как правильно — «через одно из рек
и каналов»?), вспомнил со странной ясностью, как видел много лет назад
в Ебурге (тогда он был Свердловском) утопленника, которого доставали из-под
моста подъемным краном. Озадаченно поделился воспоминанием с друзья-
ми. Сразу за питерским мостом стоял дом, в котором жил литературовед Э.
Мы посвистели в серебристый свисток, Э. помахал из окна, спустился на ули-
цу и рассказал (не зная, что продолжает начатую без него тему), как вытаски-
вали утопленника из-под этого уже вот моста, на котором вспомнился очень
418 и очень далеко отстоящий мертвец. Так что рабочие имена, под которыми
я вывел в путеводителе задорных коллег, далеко не все высосаны из пальца.
Лето-2012 я, сам того от себя не ожидая, провел в Екатеринбурге, в об-
нимку с распечаткой очередной редактуры: сходил, в том числе, на тревож-
ный мост и жил несколько дней у К.В. Богомолова. Идея путеводителя
описала круг-внутри-спирали, вернулась к истоку. Именно в эти дни я вы-
черкнул лирическое отступление, в котором были слова:
— Исполинские, базедового размаха снежинки вольно ластились к об-
наженным машенькиным ключицам, и я завидовал снегу, но Машенька
отказалась от моего шарфа. Снегопад щедро штриховал небо, еще с утра
голубое, с желтком, а под мостом дышали и оседали, как земля в провали-
вавшуюся могилу, ленивые йогурты.
В эти же дни мы с К.В. Богомоловым не посетили мужской клуб Nabo-
kov, что притаился на Метеогорке. Цены там очень кусачие, но ради краше-
ного абзаца в финале можно было пойти и на форс-мажорную трату. Нас
напугали позиции в меню: «Облить девушку бармена (в майке) водой
и возбудить ее соски льдом» и все такое. Мы поняли, что будем чувство-
вать там себя в совершенно чужих тарелках.
Вот еще из уральских рецепций: Ночной Сапер, наш старинный това-
рищ, опубликовал продолжение воображаемого диалога Кончеева и Году-
нова-Чердынцева... причем речь там у них докатилась до Сирина.
Набоков без Лолиты
КОНЧЕЕВ Слова у Сирина тоже вроде живые, со свежими [54]
крахмальными складками, но как-то не румяны и астматичны
и без гоголевского, что ли, задора, хруста. К ним боишься при-
коснуться, словно в стерильной операционной. Антиквариат,
не бывший никогда в употреблении.
годунов-чердынцев Это оттого, что под его словами воз-
дух.
КОНЧЕЕВ Может быть. Хотите метафору? В вашем вкусе.
годунов-чердынцев Валяйте.
КОНЧЕЕВ Сирин словно сверхметкий снайпер, всегда стреля-
ющий в единственно смертельное мгновение, нажимающий
спусковой крючок в безошибочно точный момент — как раз
между ударами своего —
годунов-чердынцев — и читательского —
КОНЧЕЕВ сердца — и поэтому поражает цель наповал.
Была обещана и не нашла своего места почтовая коллекция.
В «Найте», помимо уже упоминавшегося послания, обращенного до слова
«жизнь» к одному лицу, а потом поворотившего к другому, есть авиаавария,
разметавшая по полю с полдюжины писем, среди которых одно адресовано
женщине, но начинается «Уважаемый господин Мортимер...» и посвящено
размещению заказа, а другое, отправленное в адрес торговой фирмы, пове-
ствует «Бедная любовь моя. Это будет больно. Пикник наш окончен...».
В «Событии» тоже есть письмо о расставании: кажется, что ящик, в ко-
тором оно лежит, разбух и сейчас разорвется, как бомба. 4^9
В «Посещении музея» директор оного запечатывает письмо и бросает
его в мусорную корзину.
В «Машеньке» Сирин замечает устами Ганина:
— Надушить письмо то же, что опрыскать духами сапоги для того, что-
бы перейти улицу.
В «Соглядатае» есть фрагмент:
— На столе лежало письмо — опустошенный конверт, — как старая не-
нужная мать, — и листок, в сидячем положении, как большое дитя.
Там же Смуров выхватывает из рук Романа Богдановича письмо с кри-
ками «Я опущу, опущу, опущу» и, подбегая к почтовому ящику, незаметно
сует конверт себе за пазуху.
Характеристика жены рассказчика в «Отчаянии» — «дать ей опустить
письмо равнялось тому, чтобы бросить его в реку, положась на растороп-
ность течения и рыболовный досуг получателя».
Там же есть письмо с шантажом, отправленное, однако, «до востребо-
вания».
Там же рассказчик не хочет опускать обратное письмо шантажисту сво-
ими руками и просит об этом ребенка, играющего на улице.
Цинцинната в «Приглашении» заставляют писать письма к различным
предметам и явлениям природы; тут вспоминается Шеншина, которой на
И не кончается строка
Моховой задавали этюд — сыграть письмо, но с ней мы, кажется, уже рас-
прощались.
В «Даре» присутствуют губы как сургучная печать на письме, в котором
ничего не написано.
[ 19:146] В биографии есть примечательный момент с письмом: Корнею Чуковско-
му Владимир Дмитриевич послал юношеский сборник стихов сына, а в от-
вет пришло вежливое письмо с похвалой, но в тот же конверт, будто бы по
ошибке, оказался вложен черновик, «содержащий более честную оценку».
В кипарисовый ларец (я купил себе такой, не сдержался) свалены беспо-
рядочно статичные предметы, отразившиеся в чужом движении. Гостини-
ца, за окнами которой тихо падает бесконечный снег, так что кажется, что
гостиница тихо плывет вверх («Удар крыла»). «Остенде, каменная при-
стань, серый штранд, далекий ряд гостиниц медленно поворачивались,
уплывали в бирюзовую муть осеннего дня» (начало «Мести»). Мимо окна
вагона тянется платформа, увозя в неведомый путь окурки и билетики.
Плывет багажная тачка, газетный лоток (начало «КДВ»). Белоснежный
стол на оси хрустальной вазы опишет медленный крут. Драйер извинится
перед столбом фонаря, пропустит его. Юный Лужин, обреченный на шко-
лу, смотрит из коляски на толстые стволы берез, которые, крутясь, идут ми-
мо вдоль канавы, полной их листьев.
Именно как канава листьями, Вы правы, Владимир Владимирович.
Опавшие листья слов. В каждой почти главе «Подвига» есть раритетное
слово. В первой же явится «индрик» (совершенно прекрасное, не полени-
тесь его вспомнить или узнать, если не знали); во второй «клобучок»;
420 в третьей «тубочка»; в четвертой «осклабленный» и «дормез» (подустарев-
ший с сиринских времен и французский, но зато означающий в букваль-
ном переводе «соня», в свете чего Мартыновы юношеские мечты остано-
вить на большой дороге грузный дормез окрашиваются пурпурным
Эросом); в пятой заставит впустую открыть встроенный бар «мускат-лю-
мель»; в шестой улыбнется в шестьдесят четыре белоснежных зуба «бень-
ер-баск»; в восьмой кукарекнет «алектор»; в десятой не сразу откроют ли-
чико «густыня» и «жуд»; слово «клубья» из двенадцатой простовато,
пожалуй; «напервях» из тринадцатой тоже простовато, но птица, согласи-
тесь, редкая; тревожные «роброи» явятся в четырнадцатой; в пятнадцатой
всего-то «загогулина», зато какая; в шестнадцатой не в первый и не в по-
следний раз в сиринской прозе мы встретим «кубовый» (это значит —
очень синий) цвет; в семнадцатой порадуют глаз «можары» и «забусило»;
в восемнадцатой — еще неосовремененная «мятель»; в девятнадцатой —
«пульца», которую и осовременивать бесполезно; в двадцатой кто-то кому-
то ностальгически «потрафит»; по двадцать первой протрещит «таратай-
ка»; в двадцать второй выпрыгнут замечательные «ляпки», срифмуются
с «лястиками» из двадцать третьей, «пупырками» из двадцать пятой, «лу-
коносцами» из двадцать шестой; двадцать седьмая порадует сразу сущест-
вительным «тобаган» и глаголом «отсапать»; в двадцать восьмой будет
«тубо» и «затабанил»; в двадцать девятой «раскатихи»; в тридцать первой
Набоков без Лолиты
«душка» (та, что у вас на пальто, а не в том смысле, что у лягушки душа
есть, но маленькая и летает низэнько); тридцать вторая — «растяпистый»;
«кана-инум» в тридцать четвертой; тридцать семь — «мослаки»; тридцать
восемь — «чарчафа»; тридцать девять — «дрок»; оскомину и шарабан не
считаем, но вот в сорок второй — «тянушки»; в сорок четвертой «байбак»;
в сорок пятой «просадь»; в сорок восьмой «проникер»; в пятидесятой
и последней — грустный тяжеловесный «мораториум».
До могилы Набокова (он похоронен близ Монтре) я не доехал: в какой-
то период планировал это сделать, но не нашлось денег, да на самом деле
и желания: все же это книжка о Сирине.
Отмечу лишь, что предсказанный Набоковым памятник — «тень рус-
ской ветки будет колыхаться на мраморе моей руки» — стоит пока лишь
в Монтре (его сделали скульпторы Рукавишниковы, родственники нашего
гения, и для нашего провального для монументальной скульптуры време-
ни это просто отличное произведение), а в Петербурге есть только концеп-
туальная какашка во дворе филфака университета, что-то железное и гра-
вированное: ни мрамора, ни руки.
Посетил я городок Линц на Рейне, подразумеваемый в «Асе», — населен-
ный пункт, где и произошло знакомство с необычайной девушкой. Удиви-
тельным образом с дома, где останавливался Тургенев, исчезла к моменту
моего пребывания (что-то вроде лета 2010-го) мемориальная табличка, ви-
севшая там, если верить интернету. В городке Зенциг, из которого в повес-
ти герой плавает с лодочником на свидания к Асе, мне тоже довелось побы-
вать — надо прямо сказать, что, хоть они и расположены по диагонали
через Рейн и могут быть условно названы соседними, расстояние между
ними слишком велико, чтобы коммуникация осуществлялась так свобод-
но, как это описано у Ивана Сергеевича. Зато, ужиная в Линце на главной
площади, где герой впервые увидел героиню, я придумал новое название
для этой книжки: из «Путеводителя по Набокову» она превратилась в «На-
бокова без Лолиты».
В октябре-2012 в Петербурге казаки сорвали спектакль по «Лолите»: хо-
телось бы, чтобы файл скорее превратился в верстку, а верстка — в книж-
ку, и мне не пришлось бы разбрасывать по последней главе следы новых
когтей... Но версткой не запахло и к январю-2013, когда в окно музея на
Большой Морской метнули бутылку с меморандумом против блуда. Еще
через несколько дней избили продюсера вышеупомянутого спектакля.
Россия совсем понеслась комом с горки, хорошо бы оставить хронику но-
вых бед за пределами этой обложки.
Все, уже почти все. Я ковыряюсь в последних цитатах, уже явно избы-
точных, желая не столько выловить упущенную жемчужину (я много их
повыкидывал, труд не может быть бесконечным), сколько еще на несколь-
ко мгновений продлить свое существование в качестве человека-пишуще-
го-путеводитель. Вот слова журналиста Игоря Свинаренко о смерти:
— Это будет остро и пронзительно, быстро, противно и легко — как ста-
кан водки залпом после долгого воздержания.
421
И не кончается строка
Здесь они уместны, поскольку выписал я их из статьи о встрече Свина-
ренко с Дмитрием Владимировичем.
[35:327] При кремации В.В. звучали арии из «Богемы»: «Che gelida manina...»
и «Si, Michiamano Mimi...».
Закатился в дебрй черновика эпиграф из Ходасевича, уже ни к какой гла-
ве, из стишка 1934 года:
О, хороши сады за огненной рекой,
Где черни подлой нет, где в благодатной лени
Вкушают вечности заслуженный покой
Поэтов и зверей возлюбленные тени.
Тему агентов мог бы оживить тот факт, что «старик сутулый и высо-
кий», мастурбирующий в туалете, был реально застигнут Ходасевичем
на Викториа-Луизаплатц, что был он не стариком, а мужчиной лет пятиде-
сяти, и что Владислав Фелицианович зачем-то проследил его путь до Кур-
фюрстендамм.
Тему преображения дополнит грустная история с братом Владимира
[ш: in] Кириллом: есть свидетельство, что он умер от передозировки таблеток для
похудания. Работал в Праге на «Свободе», ждал из-за океана даму сердца,
хотел явиться пред ней в стройном теле, для чего и усвоил одномоментно
полугодовую дозу.
[93] Пара цитат из писем остались подвешены между абзацами. 6 июля 26-го
Сирин читал рассказ Уэллса о том, как вследствие электрического удара
422 глаза героя переселились на отдаленный остров с пингвинами, видеть он
мог только его, хотя сам по-прежнему оставался в Лондоне, слышал голоса
друзей, мог осязать предметы: это, возможно, к теме слоистой реальности.
[93] А 14 октября 42-го в письме к Вере всплыла благодатная тема спичек: бе-
седуя со скучным сахарозаводчиком из Флориды, Набоков случайно, спич-
ки как раз ища, вынул из кармана коробок, который носил с со(бой на слу-
чай ночных бабочек. Выяснилось, что у сахарозаводчика в кармане такой
же — он тоже оказался энтомологом.
Какого-то также октября, только года 2012-го, я посетил в Москве спек-
такль по «Дару»: там на сцену выведена отдельным персонажем Литератур-
ная Необходимость. Ее играла очень симпатичная тетенька, и она путалась
у всех между ног и давала советы. Не сказать, что мне понравилось, как это
все устроено, но структурно ход сиринский — ввести лишнюю инстанцию.
Вот фактик про Милюкова: после пальбы в филармонии он не остался
на похороны соратника, усвистал в Париж.
Вот штришок к намерению моего героя назвать спервоначалу «Дар»
просто «Да»: перед плебисцитом в поддержку Гитлера в конце 33-го злоб-
ные молодчики приставали к прохожим с просьбой-требованием купить
табличку с возгласом «Да!».
Бесполезно шелестеть отброшенными черновиками, все равно вот-вот
кончится.
Набоков без Лолиты
Из газет.
Евг. Коб в «Голосе России» 16 января 21-го:
— Вечером, когда загораются звезды, манит своими нюансами жизнь.
Недурно сказано, ей-богу. Я приехал к концу путеводителя в Москву
после долгих лет странствий — столица! коктайли! премьеры! огни! —
и подтверждаю каждое слово: именно когда звезды, именно нюансами, бе-
зусловно она (кто-то у Сирина называет жизнь «носатой» — по контрасту
с «безносой» смертью).
12 июля 23-го «Дни» сообщали, что в последний выходной (стояла ре-
кордная жара) на пригородные поезда в Берлине было продано два мил-
лиона шестьсот тысяч билетов, — невозможно представить.
В «Руле» 29 сентября 25-го рассказано о советской пьесе, «где часть
действия происходит в Африке между двумя группами обезьян, синезады-
ми и краснозадыми». Цензура пропустила пьесу при условии замены крас-
но- на желтозадых.
Краснозадая «Накануне» полутора годами раньше, 5 апреля 24-го, пора-
довала своих читателей заметкой о парижском пансионе обезьян. Якобы
едят вместе с сотрудниками, встречают посетителей в полном мужском
костюме. «После обеда обезьянам-воспитанникам разрешается „покейфо-
вать", то есть полежать и покурить. Курят они папиросы из евкалиптовых
листьев...».
Возможно, это была запоздавшая первоапрельская шутка. Так случа-
лось. «Голос России» в 1921-м отпраздновал день дурака 2 апреля:
«а» ужо гтжяж1а< пд иичгб драдамаагаиг»
Ка р II ,
423
чаоа
*
•о
L
Ь
0,
гь
Но руссНй аваифМьникт. -у₽ы
мсвуссща vOnoMKJr», едн-щач ьь Й-
иы1, деалщдеть стштью пиятм Л. Ввртм-
сдвго.
Сплъ! иродвммш аНдуяяцй строи
ОТЬ ; дзсц!я:
Ал j ВаргкнсвШ уперт ГОЛ то«т
«ШД. ОМГМОММ ОТЪ SJUJBUlp.
бмнй Ж»СудМН ВвртВЛааГО, «ж
деажлмиа 1гЬ- огь <шгь —* быш, жжгъ
би ожпфтвормйагъ шоакирующеЙ стаж-
ЦЫ. ntn е ъ кжнгва.ТОГраИ*««^ СДМОСТ-
ВОрт, on V ОИД ' П. СЖИМГ1. «ЖВ-
ЖИТЬ яартвегтЬ брадо.'ця м‘ЧТЫ, кротки
жалобы к странную мжият ужвравй «етж-
раго «СтАрмЬ а о'г* пыЙ «,ръ
могши ай, ппумтпггъ ргь почвы
Рев<люцН м РицаидН аа абримяыгь
nrftaa, уаартл ж «го гзажгь a arbrrt «а
нюгь. Вертипсий а его г ян, столь по-
пу длуава ширма, Шфипао, евор булуть
вараны. Но грядупря (кпчяаммгшь ашай ж-
Cojpol вяйп яе велеть opofrni пиво нгсгь
ъ мамяй, пюбщм агь гъ соврджй®
чвловЬ’тессмх’ъ д чре-атовь жутосп я гря-
aiopinuBuiTb.
рл »
сове
ЯЫМ'
у яр-
П
поет
воап
свое
ДМ3
ciit
Л0«.
бО|И
боре
вши
art.
п» 1
ужум
мае
I
Д1И
ДЖ>
1
сжат
I
И не кончается строка
[132] Свалился под ноги, едва не наступил, вкладыш «Замеченные опечатки»
к книжке Пивного Магистра, посвященной перестроечным изданиям
эмигрантов первой волны. Из заметки в заметку Пивной отмечает
(и впрямь царивший в тот эон) непрофессионализм составителей, ком-
ментаторов, редакторов, корректоров; вкладыш про опечатки, таким об-
разом, это метажест. Там есть «Мандшельстам» вместо «Мандельштам»,
«независисти» вместо «независимости» и, конечно, первой строкой —
«Набокому» вместо «Набокову».
Остался неотраженным в путеводителе любимый фрагмент из «Камеры
обскуры». Двадцать третья главка, Магда встретила на улице приятеля сво-
его брата, человека из прошлой жизни. Короткий разговор, Магда села
в такси. Каспар «вскочил на велосипед и до следующего угла быстро ехал за
автомобилем. Магда ему помахала рукой, он плавно, как птица, повернул
и стал удаляться по боковой улице».
Меня неизменно волнует этот плавный разворот... словно на берлин-
ском перекрестке сгустился в воздухе знак: толстая линия от автомобиля
и этот плавный тонкий перпендикуляр от велосипеда... Конечно, знак этот
рассеялся в несколько минут, знаки такой природы не висят по восемьде-
сят лет, но иногда, гуляя по Берлину, то на том, то на этом углу я представ-
лял себе расставание машины и велосипедиста...
Последнее о Берлине: в 2011 -м, развивая угасшую, казалось бы, тему
прохождения поезда через дом, вдруг нахлобучили новую гостиницу пря-
мо на ветку U-бана. Кто-то с кем-то поспорил, наверное, о чудо-возмож-
ностях современной вибро- и шумоизоляции. Случилось это у станции
424 Мендельсона, рядом со Старой филармонией...
Теперь точно все.
— Цель жизни — счастье, — без обиняков указано в «Даре».
Не знаю...
Правда, не знаю.
Приложение
Набоковские места
Берлина
На этой лестнице — я помню, не мог же я перепутать! — споткнулась од-
нажды, расшибла коленку красавица, которую я называл разными глупы-
ми именами — из числа тех, что лучше крепко забыть, чтобы не адресовать
случайно другой. Все, как всегда, утекло, и когда ноты ступеньки касается
босоножка новой, незнакомой, чужой девчонки, в ее душе лопается порция
медового звона, а я лишь отзеркаливаю ее меланхолической улыбкой,
тенью улыбки. 4^5
«Близ фонаря, с оттенком маскарада, Лист жилками зелеными скво-
зит. ..» Поэту что, он написал и убрел, а читатель мечтательно вычитывает
что-то в плывущих сквозь сумерки фонарях... Что? Жилки вековой вы-
держки?
Вот Набоков образца 1935-го, живущий по адресу [ю], проходит мимо
адреса [7], где жил с 1926-го по 1929-й. Помнит ли он чувство, с которым
писал здесь рассказ «Звонок»? В «Звонке» мать, не видевшая сына семь лет,
приходит в ужас, когда сын вдруг появляется на пороге, потому что вот-вот
должен позвонить в дверь молодой, младше сына, любовник. Вряд ли автор
даже составит список сочиненных за этой дверью произведений, какая
разница... человек полон сегодняшних, горячих метафор и страстей.
Другое дело человек-из-будущего, который зачем-то хочет населить ста-
рые тексты новыми смыслами. Проецируя их на чужой опыт, он верит, что
можно разговаривать с призраками. Может, и с моим призраком кто-ни-
будь когда-нибудь поговорит.
К>
о\
Набоков без Лолиты
39
Набоковские места Берлина
[1]
Egerstrafie, 1. Дом сохранился. Здесь, на втором
этаже, поселилась семья Набоковых (включая ба-
бушку Марию Фердинандовну) по прибытии
в Берлин и обитала с августа 1920-го по сентябрь
1921-го.
[2]
Sachsischestrafie, 67. На месте старого дома — со-
временное здание. Здесь семья Набоковых жила
с сентября 1921-го по декабрь 1923-го. Владимир
сюда (как и на Эгерштрассе) наезжал на канику-
лы из Кембриджа, совсем приехал в июне 1922-го.
Здесь вечером 28 марта 1922-го раздался звонок;
Володя, отложив томик Блока (обсуждали как раз
с матерью, является ли корректным сравнение
Флоренции с дымчатым ирисом), взял трубку...
[3]
Martin-Lutherstrafie, 18. Некогда тут стоял дом
(Lutherstrafie, 21), в котором с конца января по
начало августа 1924 года Набоков жил в пансионе
«Андерсон». Здесь написано несколько рассказов,
в частности «Месть» и «Картофельный Эльф»,
где стареющий карлик, как мальчик, маленький
и жуткий в своей длинной сорочке, семенил
ночью по холодному полу в буфет за шоколадны-
ми конфетами. Ныне на месте пансиона распола-
гается бордель.
[4]
Trautenaustrafie, 9. Дом сохранился, перестроен.
Набоков жил здесь в пансионе Элизабет Шмидт
с августа 1924-го по май 1925-го. Ранее в этом
пансионе обитали Эренбург и Цветаева. До двери
Веры (она жила с родителями на Landhausstra-
Ве, 41) было 210 метров. Здесь Сирин начал де-
лать наброски к роману «Счастье», из которых
потом выросла «Машенька». Составной частью
романа должен был стать и рассказ «Письмо
в Россию».
— А знаешь ли, — спрашивал лирической герой
этого рассказа свою далекую подругу, — с каким
великолепным грохотом промахивает через мост,
над улицей, освещенный всеми окнами своими
поезд?
[51
Luitpoldstrafie, 13. Здание не сохранилось, квартал
перестроен. По этому адресу Набоков провел
время с апреля по июль 1925 года. В этой кварти-
ре уже жила некоторое время Вера, вскоре после
свадьбы в освободившуюся комнату переехал
Владимир (поскольку писатель ночами курил,
писал или просто любил пострадать бессонни-
цей, Набоковы сразу и почти всегда спали в раз-
ных помещениях). Здесь продолжалась «Ма-
шенька», написаны «Драка» и стишок о том, как
бы Пушкин очутился вдруг в эмигрантском Бер-
лине.
Быть может, нежностью и гневом —
как бы широким шумом крыл, —
еще неслыханным напевом
он мир бы ныне огласил.
А может быть и то: в изгнанье
свершая страннический путь,
на жарком сердце плащ молчанья
он предпочел бы запахнуть, —
боясь унизить даже песней,
высокой песнею своей,
тоску, которой нет чудесней,
тоску невозвратимых дней...
Но знал бы он: в усадьбе дальней
одна душа ему верна,
одна лампада тлеет в спальне,
старуха вяжет у окна.
Голубка дряхлая дождется!
Ворота настежь... Шум живой...
Вбежит он, глянет, к ней прижмется
и все расскажет — ей одной.
[6]
Motzstrafie, 31. Дом не сохранился, стоял на углу
Ansbacherstrafie (ныне дом с таким номером нахо-
дится в другом хвосте улицы). С сентября 1925-го
по май 1926-го Набоковы снимали комнаты у по-
жилой вдовы майора, «которая и сама могла сойти
за майора». Здесь дописана «Машенька», сочине-
ны «Возвращение Чорба» и «Путеводитель по
Берлину». «Машенька» вышла в конце марта, пер-
вые рецензии увидели свет 31 марта и 1 апреля
(в «Даре» 1 апреля 1926-го герою обещают пока-
зать рецензию на его книжку — и обманывают).
В «Путеводителе» же сообщено, что есть нечто ан-
гельское в человеке, обсыпанном мукой.
00
Набоков без Лолиты
[7]
Passauerstrafie, 12. На месте старого дома — со-
временное здание. По этому адресу в антресоль-
ном этаже Набоковы жили с сентября 1926-го по
февраль 1929-го. Русский книжный магазин на-
ходился прямо напротив, его было видно из окон.
Здесь написана пьеса «Человек из СССР», одно из
действий которой происходит в пансионе на Ге-
гелыптрассе — такой улицы в Берлине нет. Здесь
написан также роман «Король, дама, валет», где
указано, что нет на свете такого электрического
пылесоса, который мог бы мгновенно вычистить
все комнаты мозга. Написан здесь и рассказ «Под-
лец», в котором была фраза «теперь найти этот
день было невозможно». Переводя шедевр на анг-
лийский, Набоков проболтался: речь шла пример-
но о Рождестве 1926 года.
[8]
Luitpoldstrafie, 27. Дом не сохранился, квартал пе-
рестроен. Набоковы снимали здесь две меблиро-
ванные комнаты, гостиную и спальню, в семье
полковника Барделебена с августа 1929-го по ян-
варь 1932-го. Наверное, именно в конце 1929-го
Сирин стал знаменитым: парижские «Современ-
ные записки» опубликовали «Защиту Лужина»,
написанную между адресами [7] и [8] во Фран-
ции и в Кольберге под Берлином. После «Защи-
ты» Нина Берберова сказала, что в лице Сирина
ее поколение получило оправдание, Бунин сооб-
щил, что «этот мальчишка выхватил пистолет
и одним выстрелом уложил всех стариков, в том
числе и меня», а Андре Левинсон назвал книгу
великой. По этому адресу написаны «Согляда-
тай» (первая проза Сирина от первого лица),
«Пильграм», «Подвиг» и «Камера обскура». Секс
назван в «Камере» любовной падучей.
[9]
Westfalischestrafie, 29. Дом сохранился, перестро-
ен. Предпоследний берлинский адрес Набокова:
январь-1932 — август-1932, одна комната в густо-
населенной квартире, у парадного — памятная
табличка. Здесь написаны большая часть романа
«Отчаяние» и стих «Вечер на пустыре»:
Вдохновенье, розовое небо,
черный дом с одним окном
огненным. О, это небо,
выпитое огненным окном!
Загородный сор пустынный,
сорная былинка со слезой,
череп счастья, тонкий, длинный,
вроде черепа борзой.
Что со мной? Себя теряю,
растворяюсь в воздухе, в заре;
бормочу и обмираю
на вечернем пустыре...
[ю]
Nestorstrafie, 21. Дом сохранился. Последний бер-
линский адрес Набокова: август-1932 — январь-
1937, у парадного есть мемориальная табличка.
Здесь написаны «Приглашение на казнь» и боль-
шая часть «Дара», сюда привезли из роддома
Дмитрия Владимировича. Семья заняла две
комнаты в четырехкомнатной квартире близкой
родственницы Анны Фейгиной; с Фейгиной На-
боковым было, похоже, удобно и уютно, и это
одна из причин, по которой они так долго не по-
кидали гитлеровский Берлин. Адрес выведен
в «Даре» как Агамемнонштрассе, 15: единствен-
ный случай, когда Сирин селит героя в точно вы-
числяемый дом.
[и]
Крематорий на кладбище Wilmersdorf. Здесь про-
вожали А.Я. Чернышевского, а Федор Годунов,
выйдя на улицу, глазел на змея, стоявшего высоко
в лазури румяным ромбиком, и переживал, что не
может достаточно сильно скорбеть.
[12]
Мечеть с бирюзовыми вышками.
[131
Hohenzollerndamm, 33. Здесь стояла псковского
вида церковь (постройка 1923-1928-го), переде-
ланная нынче в гостиницу.
[14]
Hohenzollerndamm, 166. Кафедральный Свято-
Воскресенский собор, главная церковь право-
славного Берлина, построен в 1936-1938-м.
[15]
«На черном, отороченном молодой травой фут-
больном поле девочки в трусиках занимались
гимнастикой»... Набокову самому доводилось
выходить на это поле. В конце 1931 года он вы-
ступал за футбольную команду Русского спор-
тивного общества, которая занималась на этой
площадке. В матче против команды рабочих
Набоковские места Берлина
Набокову сломали ребро, и он отказался от ам-
биций стать вторым Робертом Энке задолго
до появления первого. Сейчас на месте поля
располагается административное здание, точ-
нее его двор.
[16]
Скамейка у входа в Preissenpark на Ferbelliner-
platz. Маленький Дмитрий Владимирович — по
науськиванию отца — опознал здесь в клумбе
анютиных глазок («на личике каждого цветка бы-
ло темное пятно вроде кляксы усов») толпу бес-
нующихся на ветру маленьких гитлеров, а Зина
с Федором сиживали на этой скамейке лириче-
скими ночами и, возможно, целовались, глупо же
не целоваться. С другой стороны, целоваться
впустую еще глупее, но если верить рассказчику,
герои не притрагивались друг к другу 455 дней.
Другое дело, что рассказчик может заблуждаться;
более того, насчет Федора и Зины мог заблуж-
даться даже и автор.
[17]
Кафе «Леон», угол Nollendorfplatz и Biilowstrafie.
Традиционное место встреч различных русских
писательских организаций первой волны эми-
грации. Сам Набоков бывал здесь неоднократно
и привел сюда героев — Лужина-старшего и Фе-
дора Годунова-Чердынцева. Федор смотрел в ши-
рокое окно второго этажа, в блестящую ночь со
световыми рекламами двух оттенков, озонно-ла-
зурного и портвейно-красного. Во время посеще-
ния «Леона» Лужиным-старшим в кафе алела ар-
бузная рана. Площадь как следует разбомбило,
сейчас на месте «Леона» супермаркет. Если вас до-
вел до него этот путеводитель, возьмите там стек-
ляшечку сто грамм немецкого пойла, типа корн
или доппелькорн, выпейте за Набокова и за меня.
[18]
Nollendorfplatz, 5. Прекрасное здание театра
«Метрополь», ныне в нем располагается очень
элитарный клуб: паркет из мореного дуба и сте-
ны, покрытые белой кожей. Перед театром стоит
памятный знак в честь гомосексуалистов.
[19]
На углу Lutherstrafie и Motzstrafie сто лет назад
проститутки терпеливо сторожили клиентов.
[20]
Martin-Lutherstrafie, 21. В доме, которому принад-
лежит этот номер сегодня, находится пиццерия,
из окна которой удобно наблюдать за посетите-
лями расположенного напротив борделя: вот гос-
подин моих лет в пегом плаще поздоровался
с охранником, кинул окурок в урну, шагнул было
в дверь, но обнаружил, что окурок прицепился
к плащу, стал отпихивать полу плаща, споткнул-
ся, смешно запрыгал на одной ноге.
[21]
Aquarium при Zoo. «В сияющих углублениях
скользят, вспыхивая плавниками, прозрачные
рыбы, дышат морские цветы, и на песочке лежит
живая пурпурная звезда о пяти концах. Вот, зна-
чит, откуда взялась пресловутая эмблема: с само-
го дна океана...» Здесь Владимир Набоков летом
1922-го предложил руку и сердце Светлане Зиверт;
предложение было принято, но через полгода
помолвку расторгли — жених показался родите-
лям слишком уж ненадежным.
[22]
Варьете «Scala». Набоковы не только жили рядом,
но и посещали представления. Ныне на его мес-
те — prosvet во дворе.
[23]
GoltzstraBe, 9. На месте старого дома — современ-
ное здание. В русском кабаре «Синяя птица» испол-
няли, в частности, скетчи Ивана Лукаша и Влади-
мира Сирина, а также стих в прозе И.С. Тургенева
«Как хороши, как свежи были розы...».
[24]
Станция «Wittenbergplatz», роскошный павильон
построен в 1913-м. В начале двадцатых вокруг бы-
ло полно русских мест: магазинов, ресторанов,
пансионов. В сквере у станции Набоков читал — на
лавочке и на солнышке — книжки, взятые в прокат
в близлежащем русском книжном. На платформе
номер 1 есть табличка с надписью названия стан-
ции в стилистике лондонского метрополитена: по-
дарок от британских товарищей. На этой платфор-
ме я погладил однажды по голове и слегка дернул
за волосы подругу попилившего наверх за сосиска-
ми товарища, чем она была несказанно удивлена,
а через пару лет получила возможность вспомнить
этот невинный эпизод в новом свете.
[25]
KaDeWe (Kaufhaus des Westens) был открыт
в 1907-м и слыл в свое время крупнейшим мага-
зином континентальной Европы. Продуктовый
отдел на последнем этаже до сих пор сохраняет
О
Набоков без Лолиты
славу богатейшего в городе. Алексей Толстой яко-
бы видел в 1923-м (биржевой кризис), как у рас-
положенного в одной из витрин биржевого табло
на его глазах люди теряли состояния. «На верху
широкой лестницы кричали несколько сотен че-
ловек, лезли к черным доскам. Проворные руки
стирали губками меловые цифры, и мгновенно
на черном возникали новые цифры. Из дверей
выходили люди с остановившимся взором», —
написал Толстой в рассказе «Черная пятница».
Я думаю, ничего он не видел, сцену выдумал,
и выдумал довольно халтурненько.
Андрей Белый жил тут в пансионе на углу Пасса-
уэрштрассе, против бокового входа в магазин,
распинался о градациях нежных шелков, что-то
о переходах от голубого к лимонному, от ярко-
оранжевого к смутно-лиловому.
[26]
Viktoria-Luiseplatz, 9, дом сохранился. «Крампе
серьезная, деловая, лысая старая дева; впрочем,
живет она с художником, лет на двадцать моложе
ее» («Курсив мой»). Здесь — на четвертом и пя-
том этажах — располагался пансион Крампе,
в котором жили, в частности, Белый, Берберова
и Ходасевич. Последний выложил в социальной
сети моментальную фотографию:
С берлинской улицы вверху луна видна,
В берлинской улице ночная тень длинна,
Дома, как демоны, между домами мрак,
Шеренги демонов и между них сквозняк.
Дневные помыслы, дневные души — прочь!
Дневные помыслы перешагнули в ночь.
Опустошенные, на перекрестке тьмы,
Как ведьмы, по трое, тогда выходим мы.
Нечеловечий дух, нечеловечья речь,
И песьи головы поверх сутулых плеч.
Зеленой точкою глядит луна из глаз,
Сухим неистовством обуревая нас,
В асфальтном зеркале сухой и мутный блеск,
И электрический над головами треск.
[27]
Pragerplatz. Площадь разбомблена и застроена за-
ново. Помимо пансиона, в котором жили Эрен-
бурги и Цветаева, в том же доме (номер 4) нахо-
дилось кафе «Прагердиле», присутствующее
почти во всех эмигрантских мемуарах, а также
в современных стихотворных рецепциях.
Любимое место — кафе Прагердиле,
Здесь о поэзии все говорили,
О Мандельштаме, Андрее Белом...
О царстве духа над бренным телом...
(О.М. Науменко)
Глава «Геликона» — известный издатель,
Поэтов разных активный читатель,
Абрам Вишняк — в кафе «Прагердиле»
За стол к Эренбургу его усадили
Рядом с Мариной — знакомство, встреча.
Как проведут они будущий вечер?
Но запишет Марина: «В рассветные щели
Нам птицы не пели...» Они не успели...
(М. Зарецкая)
[28]
На месте автобусной стоянки у вокзала Zoo сто
лет назад располагался ипподром. Вера Слоним,
занимавшаяся до замужества конным спортом
в Тиргартене, брала здесь лошадей.
[29]
DennewitzstraBe, 5. Один из сохранившихся до на-
ших дней берлинских домов, сквозь который
проходит поезд.
[30]
Пересечение Dennewitzstrafie с веткой U2: здесь
стоял знаменитый дом с аркой для поезда: он час-
то встречается на открытках и описан у Виктора
Шкловского.
[31]
Здесь находился Potsdammerbahnhof. Отсюда
отправлялись поезда в Париж, Федор Константи-
нович провожал мать, и она вдруг отдала ему
семьдесят оставшихся марок: Федор живо вооб-
разил себе годовой билет в библиотеку, молоч-
ный шоколад и молодую немку. «Годовой, молоч-
ный и молодую» стояло в моем черновике.
[32]
Здесь находился Anhalterbahnhof. В финале пер-
вой главы «КДВ» огромная железная полость
Набоковские места Берлина
вокзала медленно, уверенно втягивает в себя сра-
зу отяжелевший поезд, но автор делает вид, что
ничего такого он в виду не имел.
[зз]
Nikolsburgerplatz. Памятник Машеньке.
[34]
Teufellsee. Весной 1928-го (смотри «Руль» от
19 и 20 апреля) студент-медик Алексей Френкель
(21 год) застрелил из соображений высокого де-
каданса ученицу художественной школы Валерию
Каменскую (22 года); третья участница окаянной
группы, Татьяна Занфтлебен, стреляться не стала.
22 апреля Семен Франк в той же газете отклик-
нулся на страшное событие рассуждениями об
общей опустошенности души, коя охватила души
эмигрантской молодежи. В последний момент
озеро не втиснулось на карту путеводителя; что
же, посмотрите его на другой карте, вы ведь на-
верняка захотите посетить столь ключевое место.
[35]
Grunewaldsee. Здесь в марте 1923-го застрелились
юные герои «Дара», здесь Годунов имеет вторую
виртуальную беседу с Кончеевым, здесь, наконец,
у Федора украли одежду. На карту с «набоковскими
местами» и это озеро не влезло.
[36]
Stettinerbahnhof, третий объект, не указанный на
карте. Им пользовались для поездок на Балтику
Набоковы и Драйеры с Францем, а Щеголевы
уехали отсюда в Копенгаген. Находился на месте
нынешнего Nordbahnhof. Там рядом два роскош-
ных кладбища и парк на месте Стены.
[37]
Brandenburgtor действуют в «Даре», в «Подвиге», но
дебют их в прозе Сирина состоялся в раннем рас-
сказе «Благость»: там солдат угощает старушку ко-
фе, старушка дарит солдату открытки, а рассказчик
чувствует нежность мира, глубокую благость все-
го, что окружает, сладостную связь со всем сущим.
[38]
За Потсдамской площадью, при приближении
к каналу, пожилая скуластая дама, с глазастой,
дрожащей собачкой под мышкой, рванулась
к выходу, шатаясь, борясь с призраками...
[39]
Museumsinsel. Франц любуется здесь в одном из
музеев носатыми египетскими младенцами,
а в другом жена показывает Лужину свои люби-
мые картины — у того, дескать, мастера есть
чувство стеклянных вещей, а этот любит лилии
и нежные лица, слегка распухшие от небесной
простуды. Упомянуты еще две собаки, по-до-
машнему ищущие крошек под узким, бедно
убранным столом «Тайной вечери». «Вечеря» эта,
по-видимому, придумана Сириным. Собаки на
картинах с этим сюжетом замечены у Веронезе,
Тинторетто, Бассано, но все эти прекрасные про-
изведения находятся в Италии.
[40]
Gemaldegalerie. Современное здание Картинной
галереи, Stauffenbergstrafie, 42. Небесные лица,
стеклянные вещи, кранахову копию босхова
«Страшного суда», которой любовался Лужин,
а также картину дель Пьомбо «Римлянка», пред-
ставленную в рассказе «Венецианка» как картина
«Венецианка», в наши дни можно увидеть здесь.
[41]
Угол Wilhelmstrafie и Leipzigerstrafie. Откровен-
ный Летун считает, что здесь Сирину пришла
в голову идея рассказа «Набор», в котором сказа-
но, что счастье обращает душу во что-то боль-
шое, прозрачное и драгоценное.
[42]
Квартал между Bemburgerstrafie, Kothenerstrafie,
Hafenplatz и Dessauerstrafie. Здесь стояла Старая
Филармония, в которой в 1922-м убили отца На-
бокова. Ныне во дворе многоэтажки крайне сим-
патичная экологическая инсталляция (озеро
и научный домик) и богатый ландшафт, вылеп-
ленный бомбардировками в 45-м. Маша Шенши-
на с друзьями забрела сюда весной 2013-го, пили
вино из горлышка, играли в салки, и этот парень
(я знаю его имя, но к чему оно вам) почти поце-
ловал ее, ткнулся носом в губы.
[43]
Mendelsohn-Bartoldi-Park. Между парком и кварта-
лом Филармонии коротенький переулок, называю-
щийся при этом Hafenplatz. На месте парка раньше
располагалась крохотная гавань, исчезла в пятиде-
сятые годы прошлого века; ее видно на карте 1957-го
но нет на карте 1960-го. Гуляя по парку, вы можете с
видом знатока цокать языком: дескать, да, этим то-
полям лет пятьдесят-шестьдесят, не больше.
[44]
Автобусный парк у Hohmeisterplatz описан в «Да-
ре» еще как трамвайный: «Справа виднелись
СМ
Ю
Набоков без Лолиты
ворота трамвайного парка, с тремя прекрасны-
ми березами, нежно выделявшимися на его це-
ментном фоне..Парк появился между 1926-м
и 1936-м, и очень может быть, что его еще не было
в 1928-м, когда мимо него проходит Федор: тема
для уточнения будущими набоковедами.
[45]
Магазин сантехники, на котором пару лет висел
прекрасный плакат с цитатой из «Дара»: вы его
видели на с. 109.
[46]
Современная туалетная будка. Стоявшая здесь
«уборная среди туй», которая увековечена в «Да-
ре», в которой могла бывать Вера Лурье, дожила
до третьего тысячелетия, но, увы, не до выхода
этой книги.
[47]
«Против кирки, через улицу, зеленела под сияни-
ем струи, вальсировавшей на месте с призраком
радуги в росистых объятиях, продолговатая лу-
жайка сквера, с молодыми деревьями по бокам
(среди них серебристая ель) и аллеей покоем,
в наиболее тенистом углу которой была песочная
яма для детей...». Сквер перестроен, песочная яма
сильно расширилась, обросла инвентарем, аллеи
покоем (буквой П) нет, и фонтана нет, но на месте
сам покой и, так сказать, сень. Однажды я прочел
здесь роман одного русского парня, живущего
в Берлине, в двух номерах журнала, выходящего
в каком-то из городов, ну как прочел: треть прочел
за час с четвертью, еще за четверть перелистал ос-
тальное. Действие происходило в городе слепцов,
и обслуживали слепцов слепцы, и даже собаки-по-
водыри были слепыми. Мотивы вроде отчасти си-
рийские, но написано было все как-то слишком
абстрактно, с преобладанием непереносимо воз-
вышенной лексики, с аллегорическими каким-то
заходами... в общем, мимо. Но, отложив журнал, я
поднял глаза и увидел перед собой папашу с маль-
чишкой; они смотрели друг на друга, один руки в
карманы, другой с совком в руке, точно как на
очень известном фото Владимира Владимировича
и Дмитрия Владимировича в 1936 году в этом же
сквере. Внешне папаша ничем не походил на Си-
рина, толстенький и короткий, но совпадение ми-
зансцены вышло — поразительное.
[48]
Двор дома Kudamm, 151. Здесь располагался (кры-
тый) скейт-ринг, на котором одиннадцатилетний
Володя Набоков впервые испытал эрекцию.
[49]
Kurfurstendamm, 151. Бразильское кафе с очень
зажигательными танцовщицами. Программы не
каждый день, расписание уточняйте. Здесь был
предбанник скейт-ринга. Напротив автобусная
остановка; Федор здесь видел, как по изогнутой
лестнице автобуса спустилась пара очарователь-
ных шелковых ног, а автор путеводителя запла-
тил 5 евро за другое забавное зрелище.
[50]
Ludwigkirchplatz. На ней церковь, не слишком да-
леко отстоящая от конца Pfalzburgerstrafie, которая
может быть (а может и не быть) прототипом Тан-
ненбергской улицы из «Дара».
[51]
Почта на Uhlandstrafie, 85. В начале двухтысяч-
ных я отправил отсюда телеграмму в Мордовию,
по вымышленному адресу вымышленному лицу.
[52]
In den Zelten, 18а. По этому адресу заседал дан-
тист Dr. W. G. Law, у которого в октябре-декабре
1910 года Володя и Сережа Набоковы скрупулез-
но лечили зубы. Именно в эти месяцы Володя
впервые испытал эрекцию и впервые прочел
«Войну и мир». Сейчас нет не только дома, но
и всей улицы; вместо нее пустое пространство
вдоль имперской, или как она нынче, канцеля-
рии, где стоят немудреные скульптуры в виде
брусков эдаких... Типа памятников зубам моло-
дых Набоковых. Это рифма через столетие, но
была и ранняя: в соседнем номере 16 располага-
лось «Доверительное бюро для русских эмигран-
тов», через которое наши соотечественники
оформляли документы и поддерживали связь
с немецкой бюрократией.
[53]
Schmetterlinghandlung Crubert Frieddrich-Ecke
BehrenstraBe, благополучно канувший в Лету.
Здание не сохранилось. В конце 1910-го Набо-
ков посещал этот магазин бабочек почти еже-
дневно.
[54]
Unter den Linden, 8. Die Zitadelle der Illusionen.
Здесь Набоков читал Чернышевского. В карто-
графическом отделе цитадели хранится около
миллиона карт и чертежей.
Набоковские места Берлина
[55]
Bebelplatz. Die alte Zitadelle der Ulusionen. Постро-
ена по проекту одного из корпусов венского
Хофбурга на 50 лет раньше, чем проект реализо-
вали в Австрии: редкий пример, когда копия
впрямь предшествует оригиналу.
[56]
Wintergarten находился в Central Hotel am Bahn-
hof FriedrichstraBe, в квартале Friedrichstrafie 143-149,
между DorotheenstraBe и вокзалом Friedrichstra-
Be. Здание не сохранилось, улица поменяла нуме-
рацию. Здесь юный Володя вновь увидел девуш-
ку, которая возбудила его по адресу [48]: она
оказалась всего лишь танцовщицей кордебалета.
[57]
Halensee. Ныне на его брегах тусуются нудисты,
а в сиринское время был Луна-парк. Из воспоми-
наний Веры Лурье: «Как все остальные, живущие
по соседству с Луна-парком, мы получали в каче-
стве компенсации за шум и фейерверки билеты
на свободное посещение парка. Рядом с Халензее,
под открытым небом играл оркестр, имелся тир,
можно было пострелять, купить лотерейный би-
лет в киоске. Но шум был все-таки ужасный...»
Из воспоминаний Федора Крандиевского: «Фан-
тазия владельцев аттракционов была неудержи-
ма. На помосте стояли рядом две кровати. На них
в пижамах лежали он и она. Над изголовьем по-
мещался черный круг, окруженный концентри-
ческими кольцами. Это был тир. При попадании
в черный круг обе кровати со скрипом перевора-
чивались, и он и она сваливались на пол. Это вы-
зывало дружный хохот непривередливой публи-
ки. Он и она вставали, устанавливали кровати
и с серьезными равнодушными лицами ложи-
лись на свои места...»
[58]
Российское посольство. В его здании нахохлилась
церковь, в которой отпевали Владимира Дмитри-
евича. Ныне на бульваре перед посольством час-
то проходят акции протеста, связанные с тем или
иным очередным фортелем наших властей. Буль-
вара из окон толком не видно, на акции никто
внимания не обращает.
[59]
KohstraBe 23-26 (ныне Rudu-Dutschkestrafie 17-28).
Квартал перестроен, участок улицы поменял на-
звание (в честь героя студенческого движения
шестидесятых, столь авторитетного в своей сре-
де, что ему, мертвому, один берлинский теолог ус-
тупил свой участок на кладбище в Далеме). Здесь
в «Улыптайнхаусе» располагалась редакция «Ру-
ля» в первые годы.
[6о]
ZimmerstraBe, 7-8. Здесь проходила Стена, квар-
тал, соответственно, перестроен, ныне на месте
дома просвет с биргартеном; в четные лета, когда
футбол, в загончике вывешивают большой экран.
Сюда «Руль» переехал с начала 1926-го, в три тес-
ные шумные комнатки. Первым рассказом, напе-
чатанным ВВ по новому адресу, оказалась «Брит-
ва» (19 февраля, через неделю после сочинения).
Там сообщено, что человек по фамилии Штейн
нередко становится превосходным минералогом.
[61]
Olivaerplatz. На последних страницах «Дара» Фе-
дор с Зиной ужинают в «бездревесном сквере», от
которого до адреса [ю] — двадцать минут не-
спешной ходьбы. Здесь Федор разглагольствует
об узорах, что наплела судьба меж ним и Зиной,
а по темному бархату неба медленно скользит
брошка с тремя рубинами, так высоко, что даже
грома мотора не слышно. Перед тем как попасть
в этот сквер, наши герои сошли с автобуса, кото-
рый шел по Кудамм; возможно, ресторанчик, от-
деленный барьером с петуньями поверху, распо-
лагался на обширной Olivaerplatz, в разное время
обладавшей разной степенью обдревешенности
на разных своих полюсах.
[62]
Примерно здесь, наверное, погиб под трамваем
Юлий Айхенвальд, выйдя из другого трамвая —
после вечеринки по адресу [7] — и направляясь
к себе домой на Bayerischestrafie, 9. Меж тем пеш-
ком от дома Набокова до роковой точки было ме-
нее 2 км; манкируй Айхенвальд трамваем, был
бы, глядишь, и жив.
Карты к главе «Белый мах.
Четыре прохода Федора по Берлину»
434
Набоков без Лолиты
435
Литература
436
1 Аверин Б. Дар Мнемозины. СПб., 2003.
2 Александров В. Набоков и потусторон-
ность. СПб., 1999.
3 Арбатов 3. «Ноллендорфплатцкафе»
(Литературная мозаика) // Грани
(Франкфурт). 1959. № 41.
4 Арьев А. Когда замрут отчаянье и зло-
ба // Звезда. 2008. № 8.
5 Арьев А. Отражение в аспидной доске.
(О рассказах «Solus Rex» и «Ultima
Thule») И Revue des 6tudes slaves. 2000.
Vol. 72. № 3-4: Vladimir Nabokov dans
le miroir du XXе $1ёс1е.
6 Балабанов A.O. «Брат», «Брат-2» и другие
фильмы. СПб., 2005.
7 Барабтарло Г. Призрак из первого ак-
та И Звезда. 1996. № 11.
8 Барабтарло Г. Сверкающий обруч:
О движущей силе у Набокова. СПб.,
2003.
9 Барабтарло Г. Тайна Найта И Звезда.
2008. №4.
ю Бахрах А. Бунин в халате: По памяти, по
записям. М., 2005.
11 Безродный М. Имя черта И Новое лите-
ратурное обозрение. 1998. № 31.
12 Белова Е. Некоторые аспекты позиции
Германии в приеме русских беженцев
в начале 1920-х годов И Нансеновские
чтения 2007. СПб., 2008.
13 Белова Т. Эволюция пушкинской темы
в романном творчестве Набокова И
А.С. Пушкин и В.В. Набоков: Сборник
докладов международной научной кон-
ференции: 15-18 апреля 1999 г. СПб.,
1999.
14 Бемиг М. Вера Лурье: поэтесса и очеви-
дец И Europa Orientals. 1995. Т. 14. № 2.
15 Беньямин В. «Берлинская хроника» И
Павлов Е. Автобиографическая поэтика
Вальтера Беньямина и Осипа Мандель-
штама. М., 2005.
16 Берберова Н. Курсив мой. М., 1996.
17 Бланк К. Петербург, Крым и мотивы
вечного возвращения // А.С. Пушкин
и В.В. Набоков: Сборник докладов меж-
дународной научной конференции:
15-18 апреля 1999 г. СПб., 1999.
18 Бойд Б. Владимир Набоков: Американ-
ские годы. СПб., 2004.
19 Бойд Б. Владимир Набоков: Русские го-
ды. М.; СПб., 2001.
20 Борисова И. Nabokov’s Ultima Thule, или
Подробности случайных дел, связанных
с аукционами, экспертизами, выставка-
ми И Империя N: Набоков и наследники /
Сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин. М., 2006.
21 БуксН. Эшафот в хрустальном дворце:
О русских романах Владимира Набоко-
ва. М., 1998.
22 Бут А. Лолиты Набокова [http://nabokov.
gatchina3000.ru/museum/nabokov_
lolity.htm].
23 Вайнберг И. Жизнь и гибель берлинско-
го журнала Горького «Беседа» И Новое
литературное обозрение. 1996. № 21.
24 Воскресенский И. Герб Набоковых в под-
тексте романа «Машенька» // Набоков-
ский вестник. СПб., 1998. Вып. 4.
25 Гандлевский С. Набоков — коллега Пни-
на // Гандлевский С. Эссе, статьи, рецен-
зии. М., 2012.
26 Гандлевский С. Странные сближения //
Гандлевский С. Эссе, статьи, рецензии.
М.,2012.
27 Гессен И. Из книги «Годы изгнания: Жиз-
ненный отчет» // В.В. Набоков: Pro
et contra I Сост. Б. Аверин, А. Долинин,
М.Маликова. СПб., 1997. [Т. 1].
28 Горянин А. Как первую любовь... И Звез-
да. 2007. №7.
29 Григорьева Н. Авангард в «Отчаянии» //
Империя N: Набоков и наследники /
Сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин. М., 2006.
30 Грифцов Б.А. Бесполезные воспомина-
ния. Берлин, 1923.
31 Грифцов Б.А. Психология писателя.
М., 1988.
32 Гришакова М. Визуальная поэтика
В. Набокова И Новое литературное
обозрение. 2002. № 54.
33 Гуль Р. Жизнь на фукса // Белое движе-
ние: начало и конец. М., 1990.
34 Гумбрехт Х.У. В 1926: На острие време-
ни. М.,2005.
35 Давыдов С. Набоков: герой, автор,
текст И В.В. Набоков: Pro et contra I Сост.
Б. Аверин. СПб., 2001. Т. 2.
36 Двинятин Ф. Набоков, модернизм,
постмодернизм и мимесис // Империя
Набоков без Лолиты
N: Набоков и наследники / Сост. Ю. Ле-
винг, Е. Сошкин. М., 2006.
37 Двинятин Ф. Пять пейзажей с набоков-
ской сиренью // В.В. Набоков: Pro et con-
tra 11 Сост. Б. Аверин. СПб., 2001. T. 2.
38 Долинин А. «Дар»: добавления к коммен-
тариям // Nabokov Online Journal. 2007.
Vol.l.
39 Долинин А. «Дар»: добавления к коммен-
тариям // Nabokov Online Journal. 2008.
Vol. 2.
40 Долинин А. Двойное время у Набокова.
(От «Дара» к «Лолите») // Пути и мира-
жи русской культуры. СПб., 1994.
41 Долинин А. Загадки недописанного ро-
мана И Звезда. 1997. № 12.
42 Долинин А. Знаки и символы в «Знаках
и символах» Набокова // Империя N:
Набоков и наследники / Сост. Ю. Левинг,
Е. Сошкин. М., 2006.
43 Долинин А. Набоков, Достоевский и дос-
тоевщина И Старое литературное обо-
зрение. 2001. № 1.
44 Долинин А. Об одной пародии Набоко-
ва И Империя N: Набоков и наследники /
Сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин. М., 2006.
45 Долинин А. Три заметки о романе Влади-
мира Набокова «Дар» // В.В. Набоков:
Pro et contra I Сост. Б. Аверин, А. Доли-
нин, М. Маликова.СПб., 1997. [Т. 1].
46 Дубнов С.М. Книга жизни. Воспомина-
ния и размышления. Материалы для
истории моего времени. СПб., 1998.
47 Дымарский М. Deus ex texto, или Вторич-
ная дискурсивность набоковской моде-
ли нарратива // В.В. Набоков: Pro et con-
tra I Сост. Б. Аверин. СПб., 2001. Т. 2.
48 Ефимов М. Баратынский как предмет
и сюжет литературной полемики (Набо-
ков, Ходасевич, Адамович) // Nabokov
Online Journal. 2010. Vol. 4.
49 Жолковский А. Розыгрыш? Хохма? За-
дачка? / / Империя N: Набоков и наслед-
ники / Сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин.
М., 2006.
50 Зверев А.М. Набоков. М., 2001.
51 Зиник 3. Двойное изгнание Владимира
Набокова // Зиник 3. Эмиграция как ли-
тературный прием. М., 2011.
52 Злобин В.А. Тяжелая душа. М., 2004.
53 Иванов Вяч. Вс. Чорт у Набокова и Булга-
кова И Звезда. 1996. № 11.
54 Иванченко А. Кони и Блонди
[http://www.topos.ru/article/6035].
55 Из писем Елены Владимировны Сикор-
ской (урожд.) Набоковой Наталье Ива-
новне Артеменко-Толстой / Публ.
Н.И. Толстой; подгот. текста Е.Б. Бело-
дубровского, Н.И. Толстой и М.Э. Мали-
ковой // Nabokov Online Journal. 2010.
Vol. 4.
56 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев.
Золотой теленок. Записные книжки
Ильфа. Воронеж, 1958.
57 Классик без ретуши: Литературный мир
о творчестве Владимира Набокова /
Сост. Н. Мельников и О. Коростылев.
М., 2000.
58 Клемперер В. Язык Третьего Рейха.
М., 1998.
59 Клех И. Убийство в Фиальте И Клех И.
Книга с множеством окон и дверей.
М., 2002.
6о Кузнецова Т. Цветаева и Штейнер: Поэт
в свете антропософии. М., 1996.
61 Курицын В. Русский литературный пост-
модернизм. М., 2000.
62 Кушлина О.Б. Поэт — и больше ничего... И
Агнивцев Н. Мои песенки. СПб., 2005.
63 Левин Ю. Заметки о «Машеньке» В.В. На-
бокова И В.В. Набоков: Pro et contra /
Сост. Б. Аверин, А. Долинин, М. Малико-
ва. СПб., 1997. [Т.1].
64 Левинг Ю. Антипатия с предысторией:
Набоковы и Суворины в жизни и в про-
зе // Новое литературное обозрение.
2009. №96.
65 Левинг Ю. Владимир Набоков и Саша
Черный // Старое литературное обозре-
ние. 2001. № 1.
66 Левинг Ю. Вокзал — Гараж — Ангар:
Владимир Набоков и поэтика русского
урбанизма. СПб., 2004.
67 Ливак Л. Критическое хозяйство Влади-
слава Ходасевича // Диаспора. Париж;
СПб., 2002. Т. IV.
68 Липецкий В. «Анти-Бахтин» — лучшая
книга о Владимире Набокове. СПб., 1994.
69 Лотман М. А та звезда над Пулковом
висит... И В.В. Набоков: Pro et contra I
Сост. Б. Аверин. СПб., 2001. Т. 2.
70 Лукаш И. Дом усопших. Берлин, 1923.
71 Лукаш И. Цветы ядовитые. СПб., 1910.
72 Лурье В. Воспоминания И Студия. 2005.
№ 9; 2006. № 10; 2007. № 11; 2008. № 12.
73 Лысенко А. Голос изгнания: Становление
газет русского Берлина и их эволюция
в 1919-1922 гг.М.,2000.
437
Литература
438
74 Маликова М. Дар и успех Набокова И
Империя N: Набоков и наследни-
ки / Сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин. М.,
2006.
75 Маликова М. Забытый поэт И Набоков В.
Стихотворения. СПб.,2002 («Новая биб-
лиотека поэта»).
76 Маликова М. Набоков: авто-био-графия.
СПб., 2002.
77 Марабини Ж. Повседневная жизнь Бер-
лина при Гитлере. М., 2003.
78 Маслов Б. Поэт Кончеев: опыт текстоло-
гии персонажа // Новое литературное
обозрение. 2001. № 47.
79 Маслов Б. Традиции литературного ди-
летантизма и эстетическая идеология
романа «Дар» И Империя N: Набоков
и наследники / Сост. Ю. Левинг, Е. Сош-
кин. М., 2006.
8о Медарич М. «Защита Лужина» В. Набоко-
ва как феномен русской словесности И
Revue des ёшбез slaves. 2000. Vol. 72.
№ 3-4.
81 Меньшой М. Мы с вами в Берлине.
М., 1924.
82 Михайлов О. Лукаш // Литература рус-
ского зарубежья, 1920-1940. М., 2008.
Вып. 4.
83 Мопассан Г. де. Собрание сочинений:
В 6 т. СПб., 1992-1993.
84 Музей-усадьба «Рождествено»
[http://gatchina3000.ru/literatura/nabokov
_v_v/museum/dacha_museum.htm].
85 Набоков В. On Generalities. Гоголь. Чело-
век и вещи / Публ. и примеч. А. Долини-
на И Звезда. 1999. № 4.
86 Набоков В. Второе добавление к «Дару» /
Вступ. заметка Б. Бойда И Звезда. 2001.
№ 1.
87 Набоков В. Истинная жизнь Себастьяна
Найта / Пер. А. Горянина, М. Мейлаха //
Набоков В. Романы. М., 1991.
88 Набоков В. Комментарий к роману
А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
СПб., 1998.
89 Набоков В. Лекции по зарубежной лите-
ратуре. М., 1998.
90 Набоков В. Лекции по русской литерату-
ре. М., 1996.
91 Набоков о Набокове и прочем: Ин-
тервью, рецензии, эссе / Ред.-сост.
Н. Мельников. М., 2002.
92 Набоков В. Переписка с сестрой. Анн-
Арбор, 1977.
93 Набоков В. Письма к Вере И Сноб. 2010.
№11.
94 Набоков В. Письмо к С.В. Потресову /
Публ. и вступ. заметка И.А. Доронченко-
ва И Звезда. 1996. № 11.
95 Набоков В. Собрание сочинений амери-
канского периода: В 5 т. СПб., 1997-1999.
96 Набоков В. Собрание сочинений русско-
го периода: В 5 т. СПб., 2000-2003.
97 Набоков В. Трагедия господина Морна:
Пьесы. Лекции о драме. СПб., 2008.
98 Набоков Д. Запись выступления в На-
циональной российской библиотеке.
С.-Петербург, 12 июня 1995 года И Звез-
да. 1996. №11.
99 Набоков Н. Багаж: Мемуары русского
космополита. СПб., 2003.
loo Набокова В. Предисловие к сборнику:
В. Набоков. Стихи (1979) И В.В. Набо-
ков: Pro et contra I Сост. Б. Аверин, А. До-
линин, М.Маликова.СПб., 1997. [Т. 1].
Ю1 Найман Э. Литландия: аллегорическая
поэтика «Защиты Лужина» // Новое ли-
тературное обозрение. 2002. № 54.
102 Носик Б. Мир и дар Владимира Набоко-
ва. М., 1995.
103 Обатнина Е. Царь Асыка и его поддан-
ные: обезьянья Великая и Вольная Пала-
та А.М. Ремизова в лицах и документах.
СПб., 2001.
104Палий И.Н. Быт и нравы Веймарской
Германии в произведениях Э.М. Ремар-
ка И Веймарская республика: История,
источниковедение, историография.
Иваново, 1987.
105 Пастернак Е.Б. Борис Пастернак: Био-
графия. М., 1997.
юб Переписка А.Н. Толстого: В 2 т. М., 1998.
Т.1.
107 Переписка Владимира Набокова
с М.В. Добужинским И Звезда. 1996.
№ 11.
108 Петровский М. Заблудившийся трам-
вай: К истокам набоковского рассказа //
Toronto Slavic Quaterly. 2005. № 14.
109 Пяст Вл. Встречи / Вступ. статья, под-
гот. текста и коммент. Р.Д. Тименчика.
М., 1997.
но Радек К. Немецкий ноябрь. М., 1927.
ill Раевский Н. Воспоминания о Владимире
Набокове И Простор. 1989. № 2.
112 Ронен И. Храбрость и трусость в романе
Набокова «Подвиг» И Звезда. 2010. № 4.
113 Ронен О. Vera // Звезда. 2002. № 1.
Набоков без Лолиты
114 Ронен О. Пути Шкловского в «Путеводи-
теле по Берлину» И Звезда. 1999. № 4.
115 Ротиков К.К. Другой Петербург. СПб.,
2000.
116 Русский Берлин / Сост. В. В. Сорокиной.
М.,2003.
117 Рыкунина Ю. Два «немецких» романа
Владимира Набокова И Toronto Slavic
Quaterly. 2008. № 25.
118 Сакун С. Хронологическая структура
романа В. Набокова «Защита Лужина» //
Набоковский сборник: Искусство как
прием / Под ред. М.А. Дмитровской.
Калининград, 2001.
119 Сакун С. Шахматный секрет романа
В. Набокова «Защита Лужина»
[http://sersak.chat.ru/chesssecret.htm].
120 Сендерович С., Шварц Е. Куст кубических
роз: Комментарий к роману Набокова
«Машенька» И Russian Language Journal.
1998. №171-172.
121 Сендерович С., Шварц Е. Сок трех апель-
синов: Набоков и петербургский теат-
ральный авангард // Империя N: Набо-
ков и наследники / Сост. Ю. Левинг,
Е. Сошкин. М., 2006.
122 Сендерович С., Шварц Е. Тропинка под-
вига. (Комментарии к роману В.В. Набо-
кова «Подвиг») И Набоковский вестник.
СПб., 1999. Вып. №4.
123 Сконечная О. Набоков в Тенишевском
училище И Наше наследие. 1991. № 1.
124 Смирнов И. Философия в «Отчаянии» //
Звезда. 1999. №4.
125 Старк В. Набоков — Цветаева: заочные
диалоги и «горние» встречи // Звезда.
1996. №11.
126 Степанов А. Сказки не про людей //
Нева. 2008. №6.
127 Струве Г.П. Русская литература в изгна-
нии. Париж; М., 1996.
128 Струве Н.А. Роман-загадка И Агеев М.
Роман с кокаином. М., 1990.
129 Томми П. Заметки о полигенетичности
в прозе Набокова И В.В. Набоков: Pro
et contra I Сост. Б. Аверин, А. Долинин,
М.Маликова.СПб., 1997. [Т. 1].
130 Тамми П. Поэтика даты у Набокова // Ста-
рое литературное обозрение. 2001. № 1.
131 Тименчик Р.Д. Предисловие // Левинг Ю.
Вокзал — Гараж — Ангар: Владимир
Набоков и поэтика русского урбанизма.
СПб., 2004.
132 Толстой И. Курсив эпохи. СПб., 1993.
133 Толстой Л.Н. Анна Каренина. М., 1970
(«Литературные памятники»).
134 Тургенев без глянца / Сост., вступ. ст.
П. Фокина. СПб., 2009.
135 Тургенев И.С. Сочинения: В 15 т.М.;
Л., 1960-1968.
136 Урбан Т Набоков в Берлине. М., 2004.
137 Ученые признали теорию Набокова об
эволюции разновидности бабочек /
ИТАР-ТАСС [http://www.e-vid.ru/index-
m-192-p-63-article-36393.htm].
138 Фрезинский Б. Берлинская жизнь Семена
Либермана: поэта, редактора, человека
книги и театра И Диаспора. СПб., 2007.
Вып. 8.
139 Хасин Г. Театр личной тайны: Русские
романы В. Набокова. М.; СПб., 2001.
140Ходасевич В.М. Портреты словами.
М., 1987.
141 Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений:
В 4 т.М., 1996-1997.
142 Цветков А. Человек со второго плана
[http://archive.svoboda.org/programs/AD/
2000/AD.052300.asp].
143 Чагин А. Между традицией и авангар-
дом. (Поэзия Анны Присмановой) И
Литературное зарубежье: Лица. Книги.
Проблемы. М., 2007. Вып. IV.
144 Чернышевский Н.Г. Полное собрание
сочинений: В 15 т.М., 1939. Т. 1.
145 Чернышевский Н.Г. Избранные сочине-
ния. М., 1989.
146 Шапиро Г. «Поместив в своем тексте
мириады собственных лиц...» И Старое
литературное обозрение. 2001. № 1.
147 Шаховская З.А. В поисках Набокова.
Отражения. М., 1991.
148 Шаховская З.А. Пустыня // Новый жур-
нал. 1973. № 111.
149 Шевченко В. Еще раз о «потусторонно-
сти» Набокова И Звезда. 2004. № 4.
150 Шевченко В. Зрячие вещи: Оптические
коды Набокова И Звезда. 2003. № 6.
151 Шомракова И.А. Книжное дело русского
зарубежья (Европа, 1917-1940) И Книга:
Исследования и материалы. М., 1994.
Вып. 67 (а).
152 Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набо-
ков): Биография. М., 2002.
153 Шкловский В.Б. Сентиментальное путе-
шествие. М., 1990.
154 Шкляр Е. Литературный Берлин. (Замет-
ки и впечатления) И Эхо. 1923.26 июля.
№873; 29 июля. №876.
439
Литература
155 Шлегель К. Берлин, Восточный вок-
зал: Русская эмиграция в Германии
между двумя войнами (1918-1945).
М., 2004.
156 ШмеманА. Дневники, 1973-1983. М.,
2009.
157 Шраер М.Д. Набоков: темы и вариации.
СПб., 2000.
158 Шубинский В. Владислав Ходасевич: ча-
ющий и говорящий. СПб., 2011.
159 Шульман М.Ю. Набоков, писатель: Ма-
нифест. М., 1998.
160 Эренбург И.Г. Письма, 1908-1967: В 2 т.
М., 2004. Т. 1: Дай оглянуться... Письма,
1908-1930.
161 Эткинд А.М. Толкование путешествий.
М.,2001.
162 «Я не понимаю, из чего сотворен его
мир...»: Владимир Набоков в переписке
и дневниках современников И Ино-
странная литература. 2009. № 4.
163 Яблоновский А. Египет (1921-1922).
Гости английского короля И Россий-
ский архив: Альманах. М., 2004.
[Т.ХШ].
1б4Янгиров Р. Из наблюдений об опытах
«ретроградного анализа» и «загадках пе-
рекрестных слов» Владимира Набоко-
ва // Новое литературное обозрение.
1997. №23.
165 Янгиров Р. «Чувство фильма»: заметки
о кинематографическом контексте в лите-
ратуре русского зарубежья 1920-1930-х гг.
И Империя N: Набоков и наследники /
Сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин. М., 2006.
166 Яновский А. О романе Набокова «Ма-
шенька» // В.В. Набоков: Pro et contra I
Сост. Б. Аверин, А. Долинин, М. Малико-
ва. СПб., 1997. [Т.1].
167 Aletrus. Туннель И Современник (Торон-
то). 1961. №3.
168 LiveJournal: запись gippodemos:
http://gippodemos.livejournal.com/
3100.html.
169 LiveJournal: комментарий de_che:
http://ru-nabokov.livejournal.com/
153343.html#comments.
170 LiveJournal: запись eiuia: http://ru-nabokov.
livejournal.com/150002.html.
171 LiveJournal: комментарий Михаила Без-
родного: http://borisl.livejournal.com/
146165.html?thread= 1585397.
172 LiveJournal: запись Михаила Безродного:
http://m-bezrodnyj.livejournal.com/
257755.html.
173 LiveJournal: запись Михаила Безродного:
http://m-bezrodnyj.livejournal.com/
288338.html.
174 LiveJournal: запись raf_sh: http://ru-nabokov.
livejournal.com/235542.html.
440
Указатель произведений Набокова
Ада 386
Адмиралтейская игла 58,93,213,266,300,
309,336
Аня в стране чудес (перевод) 102
Бахман 44,65,222,310
Берлинская весна («Нищетою
необычной...») 218
Билет («Уже машина говорит...») 402
Благость 25,54,102,118,336,431
Бледный огонь 386,388
«Близ фонаря, с оттенком маскарада...» 101,
425
Бритва 18,190,285,305,412,433
Боги 65,137,319
«Бывают ночи, только лягу...» 226
Василий Шишков 258,307
Весна в Фиальте 118,130,136,177,216,299,
334>389,39О,417
Венецианка 48,77,102,130,232,264,267,330,
335,414
Вечер на пустыре («Вдохновенье, розовое
небо...») 428
«Вечный ужас, черные трясины...» 66
Возвращение Чорба 35,36,177,218,298,321,
352,412,427
Волшебник 81,82,99,115,130,258,321,379,
381,389
Встреча 15,190,403
В раю («Моя душа, за смертью дальней...»)
263,268
Гроза 77,118
Дар 8, ю, 12,15,26,27,31,36,37,41-45,50,54,
56-58,6о, 61,63,65,68-72,8о, 83,88-91,
93-96,99, юо, 103-105,107-111,113-116,
118,119,121-125,127,129,130-132,137,
140-151,153,161,167,168,171,176-178,
180-183,186-188,192,193,198-200,204-211,
214,216-219,221,222,226, 230-232,234-237,
239, 24O, 242, 243, 247, 254, 261, 2б2, 265,
266, 268, 269-279, 281, 283, 284, 286, 287,
288-290,292,293,295,297-299,304-309,
311,312,314,318,320,321,327,329,336-342,
345,346-348,350-355,358,360,364-376,
379,384-387,397-401,404,407,4О8,411,
412,415,416,420,422,427-429,431-433
Детство 403
Драка 208,279,285,303,427
Дракон 54,56,73,77,177,276
Другие берега 18-20,23,27,36,38-40,55-57,
67,8о, 83,85, Ю1, Ю2,104, юб, 109,111,116,
118,119,121,126,127,151,197,202,215,217,
219,224,225,229,256,264,290,297-299,
308,330,341,351,353,354,360,381,388,
408,410,413
«Если ветер судьбы ради шутки...» 39
«Есть в одиночестве свобода...» 34,223
Защита Лужина 15,18,21,22,25-27,29-32,41,
42,49,50,54,55,6о, 68,81,88,95,102,104,
113-115,118,121,125,138,139,142,143,147,
152,160-163,170,182,183,190,208,209,
213, 220, 222, 225, 229, 230, 231, 233, 234,
240, 241, 2бо, 261, 265, 276, 278, 281, 283,
286,289,291,293,296,300,302,304,306,
312-314,320-323,325,330-332,338,342,
346,355,363,384,389,397,412,415,417,
420,428,429,431
Занятой человек 29,49,78,107,215,265,
385,402,403
Звонок 76,129,135,276,283,289,293,338
Звуки 114,319
Здесь говорят по-русски 49,151,319,412
«Из блеска в тень...» 66
Изгнанье («Я занят странными мечтами...»)
427
Изобретение Вальса 18,78
Истребление тиранов 27,217,307
Камера обскура 18,23,25,29,36,38,48,50,54,
56,6о, 99,103, но, 121,126,137,166,2оо,
235,238,260,276,281,292,294,297,299,
Зоо, 303,312,319,324,330,336,337,342,
343,346,347,355,356,363,379,386,412,
414,424,428
Картофельный эльф 25,44,49,54,65,215,
326,342,368,379,414,427
Катастрофа 50,53,65,72,73,77,222,279,335
«Когда захочешь, я уйду...» 40
Комната 41
Королек 56,93,208,282,343,364
Король, дама, валет 16,18,22,25,28,30,36,37,
46,48-50,55,57,65,68,73-75,87-90,94,
441
Указатель произведений Набокова
442
io6-io8, но, in, 116-119,121,147,152,
156-160,178,179,188,203,209,214-216,
228,230,231,233,238,240,242,243,250,
253,260,261,267,275-278,280,283,284,
294,296,299,302,303,316,322,324,
334-336,338,343,357,364,38b 384,385,
397,412,415,420,428,430,431
Красавица 288,298
Круг 25, in, 155,305,381,408
Лебеда 15,57, ш, 309,311
Лестница 37
Лик 72,78,230,231,233
Мадемуазель 018,98,236,268
Машенька 8-н, 12,14,15,18-24,28,30-32,
34-42,44,46,47,49,50,59,6о, 62,78,
87,90, Ю1,103,104,107, ио, 118,130,
132-137,142,148,149,150,152-156,158,
171, 200-204, 213, 219, 221, 222, 225, 230,
235,237,238,241,250,251,254,255,260,
261, 266, 276-278, 283, 285, 286, 291, 299,
303,309,325,328,336,338,339,340,346,
357,358, Збо, 362,365,379,385,395,397,
398,400,404,412,414,416,417,419,427,
431
Месть 44,48,65,77,82,298,379,420,427
Музыка in, 228,299
Набор 93,240,431
«На солнце золотом сияет дождь летучий...»
415
Наташа 44,77,335,412
Нежить 77,234,309
Николай Гоголь 20
Николка Персик (перевод) 102
Ночное путешествие 356
«Обезьяну в сарафане...» 12,226
Обида 61,62,198,199,228,403
Облако, озеро, башня 26,93,208,217,240,
283,309,341
Оповещение 49,71,72,233,281
Оригинал Лауры 409,416
Отчаяние 8,15,16,18,26,30,58,87,92,95-98,
Ю1,104, in, 119,136,149,150,153,166,217,
228,229,232,240,246,253,266,281,284,
294-296,305,309,314,315,318,319,336,
343,344,346,351,352,381,385,415,419,428
Памяти Л.И. Шигаева 30,31,78,79,305
Память, говори 387
Пассажир 25,40,65,276,335,385
Пасхальный дождь 54,68,342
Пильграм 40,65,72,104,142,173,174,292,
342,397,428
Письмо в Россию 40,44,65,8о, 88,118,142,
216,336,361,393,427
Подвиг 8,28,30,38-41,54,55,59,6о, 68,69,
71,83,86,101-103, юб, но-112,128,135,
137,140,142,146,164-167,201-203,208,
228,229,232,260,261,276,277, 293, 294,
296,297,299,302,304-306,310,339-341,
346,350,351,357,371,381,403,412,413,420,
428,431
Подлец 25,26,50,72,74,142,217,229,237,238,
296,297,305,337,342,428
Подлинная жизнь Себастьяна Найта ю, 23,
25,32,47,69,78,95,99,104, И9,162,231,
257,258,292,294,296,306,323,342,349,
379,398,419
Полюс 73
Порт 230,417
Посещение музея 78,102,304,419
Посмотри на Арлекинов 383,386
Приглашение на казнь 26,36,54,58,61,73,
78,8о, 85, Ю2,103, И2,119,127,138,170,
229,292,293,297,303,309, ЗИ, 337,340,
342,346,364,374,381,403,408,419,428
«Пустяк — названье мачты...» 41
Путеводитель по Берлину 53,65,66,136,139,
140,147,150,215,264,268,274,277,283,
299,303,364,377,427,429
Рождественский рассказ 220
Рождество 44,55,65,335,342,414
Рождество («Мой календарь полу-
опалый...») 226
Руперт Брук 30,34,35,70
Русская река 309
«Садом шел Христос с учениками...» 66
Сказка 18,53,67,77,78,98,128,135,230,234,
238,279,289,292,303,379,382,383,385,
415
Скитальцы 292
Слово 77
«Слоняюсь переулками без цели» 218
Слово 298
Случай из жизни 18,51,65,338,357
Случайность 96,98, по, 203,414
Смерть 73
Смерть («Утихнет жизни рокот жадный...»)
151
«Смерть — это утренний луч...» 63
Смех в темноте 386
Событие 18,50,93,104,220,282,285,294,
297,299,307, ЗЮ, 311,335,368,419
Набоков без Лолиты
Совершенство 6о, 72,73,78,119,264,305
Соглядатай 28,49,55,6о, 72,73,77,92,93,95,
Ю2,105,142,166,201,215,230,264,266,294,
295,299,305, ЗИ> 342,355,381,414,419,428
Стансы о коне 162
Трагедия господина Морна 44,325,362
Тяжелый дым 267,305
Удар крыла 25,30,35,50,77,79,166,264,298,
379,414,420
Ужас 75
Университетская поэма 292
Уста к устам 53
Хват 18,238,379
Человек из СССР 38,63,104,113,244,285,
305,312,428
Шахматный конь 162
Электричество («Играй, реклама
огневая...») 328,329
Юбилей 37
Biology («Муза меня не винит: в науке
о трепетах жизни...») 377
Solus Rex 217,258,351,363,380,389,397,
408
Terra Incognita 96,101
Ultima Thule 36,48,65,69,70,78,90,258,
267,304,312,336,389,408
443
Указатель имен
444
А., гувернер 351
А. см. Иоанн (Шаховской)
Аверченко А.Т. 189
Агеев М. 416
Агнивцев Н.Я. 189
Адамович Г.В. 28,48,49, юо,
143,193>3O1,345,355>356,
389
Адан А.Ш. 303
Александров В.Е. 8о, 327,333
Айхенвальд Ю.И. 12,51,188,
197,225,226,245,252,264,
274,346,433
Алданов М.А. 189,197
Александр 1351
Александр II 351,372,378
Алехин А.А. 363
Алкивиад 125
Амфитеатров-
Кадышев В.А. 189,274
Анастасия (Анна Андерсон,
Анна Чайковская,
Франциска
Шанцковски),
поддельная княжна 248
Андерсон А. 418
Андреев В.Л. 196,259
Андреев Л.Н. 196
Анненков Ю.П. 26,94
Анненский И.Ф. 72,193,194,
205,302
Антокольский М.М. 58
Апухтин А.Н. 311-313
Арбатов З.Ю. 245,259
Артеменко-Толстая Н.И. 258
Арьев А.Ю. 70
Ахмадулина Б.А. 290
Ахматова Анна 193
Багратионы 190
Балабанов А.0.281,412
Балакшин П.П. 356
Барабтарло Г.А. 29,69,
80-82,236,321
Баратынский Е.А. 385
Барделебен К. фон 428
Бассано Я. 431
Баталин Р. 192
Бах И.С. 170
Бахрах А.В. 255,257,259,274
Бедный Д. 402
Безродный М.В. 141,142,303,
321,375,445
Беклин А. 414
Белый Андрей 137,188,
195-199,2.02,205,257,
259,277,413,430
Бендлер Й.К. 248
Беньямин В. 273
Берберова Н.Н. 171,189,
193-195,197,202,229,254,
256,363,404,428,430
Берггольц О.Ф. 254
Бердяев Н.А. 188,256
Бетховен Л. ван 260,385
Бискупский В.В. 255,256
Бисмарк О. фон 415
Битов А.Г. 337,408
Бишоп М. 406
Блок А.А. 20,128,129,134,
136,413
Блок Л.Д. 198
Богданов А.А. 18
Богомолов К.В. 7-9,72,74,
107,108,120,132,144,152,
198,204,254,260,355,
366,418
Богуславская К. Л. 189
Бойд Б. 57,81,105,119,149,
224,253,347,349,363,377,
390
Бонапарт см. Наполеон I
Борхес Х.Л. 281
Босх И. 324
Ботичелли С. 331
Брамс И. 272
Брехт Б. 280
Брешковская К. 357
Брик Л.Ю. 190
Брик О.М. 190
Бройль Л. де 307
Брокгауз Ф.А. 371
Брук Р. 30,34,35,64,70,407
Брюсов В.Я. 189
Брюсова Н.Я. 198
Бугаев Б.Н. см.
Белый Андрей
Бугаев Н.В. 198
Букс Н. 133,374
Булгаков М.А. 53,171
Булгарин Ф.В. 257
Бунин И.А. 49,142,257,259,
зи
Бухарин Н.И. 190
Буш К. 366
Вагинов К.К. 254
Вагнер Р. 26, зз, 71,83,181,321
Васильчиков П.А. п
Вега Л. де 189
Вейдле В.В. 189
Веласкес Д. 330
Венгерова З.А. 189
Венус Г.Д. 259
Вергилий 128,129,135
Верди Д. 261
Верн Ж. 139,184
Вернадский В.И. 144
Веронезе П. 431
Вертинский А.Н. 259,423
Вильгельм I 283
Вишняк А.Г. 430
Волошин М.А. 354
Вольтер 394
Врангель П.Н. 357
Вуазен Ш. 286
Вышеславцев Б.П. 189
Вяльцева А.Д. 156,255
Габо Н. 189
Гагарины 190
Газданов Г.И. 281,310,416,417
Гандлевский С.М. 323,360,
367
Гаррис Д. 414
Гегель Г. В. Ф. 209,447
Гераклит 307
Герасимов А.М. 190
Герцен А.И. 365
Гершензон М.0.195
Гессен Г.И. 363
Гессен И.В. 16,63,143,197,
354,3бо,з6з
Гете И.В. фон 66,137,209,
246,385
Гингер А.С. 260
Гиппиус В.В 369
Набоков без Лолиты
Гиппиус З.Н. loo, 340,355,
368
Гитлер А. 117,144,148,181,
205,247,248,255,261,272,
278,281,282,363,422
Глазунов А.К. 190
Глюк К.В. 321
Гоггенцоллерны 117
Гоголь Н.В. 12, 20, 26,48,50,
138,217,232,321, ззз, 352,
365,37О,385>416,419
Голицыны 190
Гольдони К. 189
Гольдшмидт Д. 18
Гомер 27
Горрис М. 18,32,114,281
Горький М. 188,200,379
Горянин А.Б. 58,119,258
Гофельд Е.К. 185
Гоцци К. 189
Граун Г. 392
Гречанинов А.Т. 190
Гржебин З.И. 2оо, 257
Григорович Д.В. 337,350
Григорьев Б.Д. 189
Грифцов Б.А. 34,43
Гуаданини И.Ю. 26,144,186,
211,212,242,397-399,401,
417
Гуль Р.Б. 188,201,257,259,
274
Гумбрехт Х.У. 280
Гумилев Н.С. 53,76,79,258,
344,398
Гуно Ш. 385
Д.С. 357
Дали С. 390
Даль В.И. 112
Дан Ф.И. 190
Данзас К.К.* 142,445
Данте А. 314
Дантес Ж.Ш. 176,445
Двинятин Ф.Н. 140,141
Деблин А. 277
Джентиле Ф. да 390
Джойс Д. 380
Добролюбов Н.А. 217
Добужинский М.В. 189,363
Долгоруков П.Д. 287
Долинин А.А. 44,6о, 70,91,
169,193,217,274,287,308,
321,408,415
Дон-Аминадо юо
Донауров С.И. 312
Достоевский Ф.М. 12,66,
129,130,134,135,137,141,
142,202,207,237,307,
342,359,368,385,394
Дубнов С.М. 190,218,219
Дузе Э. 287,308
Дукельский Б.Ш. 309
Дункан А. 190,399
Дуров ВЛ. 190
ДучкеР. 433
Дымарский В.Я. 93
Дюма А. 138,139,189,259
Евангулов Г.С. 94,142
Евреинов Н.Н. 138,189
Еврепид 95
Елисеевы 194
Елита-Вильчковский К.С.
144
Ельцин Б.Н. 59
Есенин С.А. 190,259
Жолковский А.К. 388,389
Жуковский В.А. 367
Зайцев Б.К. 26,188,189
Зайцев В.А. 217
Зак А. 287
Занфтлебен Т. 204,261,431
Зарецкая М. 430
Зарецкий Н.В. 257
Захер-Мазох Л. фон 372
Зданевич И.М. 189
Зэт 122, 261
Зиверт С.Р. 184,206,224,395,
404,429
Зиник З.Е. 360
Зиновьев Г.Е. 190
Зощенко М.М. 34
Ибсен Г. 259
Иванов Г.В. 48,49,189,193,
301,302,345,356
Иванов Ф.В. loo, 190,259
Иванченко АЛ. 418
Игорь, великий князь
киевский 291
Игрек 261
Изгоев А.С. 365
Иисус Христос 66,138,189
Ильин И.А. 189,381
Ильф И.А. 94,105,315,323,
342,398
Илюхин А. 249
Иоанн (Шаховской),
архиепископ 148,154
Иоффе А.А. 247
Ирвинг Э. 287
Кабаков И.И.225
Калашников М. 184
Кальдер А. 271
Каменев Л.Б. 190
Каменецкий Б. см.
Айхенвальд Ю.И.
Каменская В. 204,261,431
Каминка А.И. 16,63
Кандинский В.В. 189
Кардаков Н.И. 352
Каренина А., актриса 190
Карено А. 277
445
* Данзас — это тот Данзас, что был секун-
дантом Пушкина в ходе его роковой дуэли
с Дантесом. Царскосельский лицеист, герой
турецкой войны, награжденный за храб-
рость золотой полусаблей, Данзас пробрался
в наш указатель несколько витиеватым ма-
нером. В «Даре» есть список записавшихся
на прием к дантисту, там зафиксирован
и «monsieur Danzas с кляксой в начале». Се-
дой Космополит, пользуясь тем, что рядом
с этим списком цитируется стишок Федора
о страшной поездке к зубному врачу, отме-
чает, что сочетание дантиста и Данзаса на-
мекает на другую роковую петербургскую
поездку. То есть в бумажке дантиста мы еще
имели дело с неким отвлеченным Данзасом,
но в читательском сознании он постепенно
перетекает в Константина Карловича, имев-
шего прозвище Медведь.
Указатель имен
446
Карина А. 414
Карсавин Л.П. 189
Каспаров Г.К. 322
Катаев В.П. 144,321
Кафка Ф. 53,130,359,369
Кельчевская А.Л. 18
Керенский А.Ф. 190
Керн А., актриса 190
Кизерицкий Л. 418
Киркегор (Кьеркегор) С.
296
Клемперер В. 282-284
Клейст Г. Фон 184
Клех И.Ю. 417
Кнут Д.М. 398
Коб Е. 423
Ковров А. 207
Козлов Н.И. 377
Кокошкин В.Ф. 397
Кокошкин Ф.Ф. 397
Кокошкина В. 144,397
Кокто Ж. 281
Кольвиц К. 108
Колин Н.Ф. 190
Колчак А.В. 184
Конан-Дойл А. 27,203
Конрад Д. 386
Коонен А.Г. 190
Копытин С. 156
Корвин-Пиотровский В.Л.
26,189
Корф (Шишкова) Н.А. фон
378>392,398
Крампе 195
Кранах Л., ст. 324
Крандиевский Ф.Ф. 433
Краснов П.Н. 190
Кристи А. 47
Кролик И. 34
Кубрик С. 18,337,414
Кудашев Н.Д. 250
Кузнецова Г.Н. 339,340
Куприн А.И. 53
Куропаткин А.Н. 151,152
Кусиков А.В. 189
Куэ Э. 287
Кэррол Л. 184
Лавренев Б.А. 308
Лайн Э. 18
Лаппо-Данилевская Н.А.
189
Латам Ю. 286
Левенфельд Р. 43,184,207
Леви М.Л. см. Агеев М.
Левинг Ю.П. 31,57,130,150,
334
Левинсон А. 428
Ленин В.И. 246,287,291
Ленский В., актер 190
Лермонтов М.Ю. 86,87,
128,129,135,140,217,
385
Лесков Н.С. 234
Лесной А. 418
Ли Т. 142
Либерман С.П. 259
Лидин В.Г. 190
Лин В. 143
Линдберг Ч. 359
Лобачевский Н.И. 371
Лободовская Н.Е. 369,371
Лободовский В.П. 369,371
Лоллобриджида Д. 359,412
Ломоносов М.В. 328
Лосский Н.0.189
Лукаш И.С. 48,187,199,
249-252,335,429
Луначарский А.В. 190,193
Лунц Л.Н. 189
Лурье В.И. 190,202,208,245,
253-255,257-259,274,
432,433
Лютер М. 447
Лядов А.К. 257
М., автор «Руля» 63
М., вице-губернаторша 195
Мад М.А. 249
Майков А.Н. 309
Малевич К.С. 190
Маликов А. 373
Маликова М.Э. 95,217,347,
360
Маллори (Мэллори) Д. 287
Мандельштам О.Э. 424,430
Манн Т. 359,394
Марабини Ж. 282
Маритен Ж. 358
Маркс К. 121,369
Мартов Ю.0.190
Мартьянов Н.Н. 143
Маяковский В.В. 190,197,
286,308,311
Медарич М. 152
Мейерсон Л.С. 190,259
Мейерхольд В.Э. 134,136,190
Мельгунов С.П. 190
Мендельсон Ф. 270,355,424
Меньшой А. 191
Мережковский Д.С. юо,
207,327
Меркель А. 281
Метнер Н.К. 190
Милн А. 135
Мильтон Д. 385
Милюков П.Н. 16,143,422
Минский Н.М. 188
Миро X. 281
Молина Т. де 192
Монтеверди К. 321
Мопассан Г. де 7,293
Моцарт В.Т.А. 280,394
Мочульский К.В. 257,360
Муратов П.П. 34,189,194,
199
Муратова Е.В. 34
Мюссе А. 133
Мясоедов И.Г. 189,259
Набоков В.Д. 14-16,44,51,
54,63,64,67,69,99,134,
144,149,151,152,184,197,
211,231,258,290,332,357,
378,379,397,420,433
Набоков Д.В. 17,85,86,98,
171,181,196,225,272,282,
319,407-410,429,432
Набоков Д.Н. 351,378
Набоков Е.В. 92
Набоков К.В. 15,184,402,422
Набоков Н.Д. 257,314,358
Набоков С.В. 15,16,99, юб,
184,219,254,255,357,398,
432
Набокова (Сикорская) Е.В.
15,184,364,390,391
Набокова (Рукавиш-
никова) Е.И. 14,16,30,74,
84,86,99,152,190,204,
212,332,354,357,378,391,
398,402,403,405,408,
409,427
Набокова (фон Корф) М.Ф.
378,427
Набокова (Петкевич) О.В.
15,184
Набокова (Слоним) В.Е. 12,
16,17,26,43,44,54,58,61,
69,76,85,96,97,133,136,
144,165,171,184,185, 200,
202, 208, 210-212, 214,
Набоков без Лолиты
220, 223, 225, 226, 236, Пастернак Л.0.189 265,288,291,325,329,330,
240,244,260,261,267, Перовская С.Л. 372 348,365,368,371,372,374,
268,269,270,275,281, Петр 1371 379,385,388,394,396,
287, 291, ЗОб, 313, 314, 322, Петрашевский М.В. 209 404,411,412,416,417,427
338,352,354,355,357,359, Петров, сотрудник Пяст В. А. 192
362,363,379,380,383, советского посольства
390,392,395-407,409, 188 Радек К.Б. 190,244,245,246,
410,422,427,430 Петров Е.П. 94,315,323,342, 247,249
Найман Э. 95,138,139,162, 398 Радо А. 107
163,184,312,314,330 Петровская Н.И. 189 Радомский В. 156
Наполеон 1235,295 Петровский М.С. 53 Разин С.Т. 154
Науменко 0.430 Пильняк Б.А. 257,308 Райнов Н. 184,185,404,
Не-Буква 189 Пильский П.М. 341,347,353 406
Некрасов Н.А. 299,365 Пири Р. 309 Распутин Г.Е. 183,195
Немирович-Данченко В.И. Писарев Д.И. 274 Растопчина Е.П. 368
189,259 Писемский А.Ф. 239 Ратенау В. 246
Нефертити 278 Пискатор Э. 183 РаухХ.Д.* 181,447
Низами 66 Пифагор 306 Рауш Ю. 149
Никитин Н.Н. 195 Плевицкая Н.В. 245,250 Рейтер Э. 247
Николаева Е.В. 18 По Э. А. 184,404,406 Ремарк Э. М. 278
Николаевский Б.И. 190 Позняков Н.С. 259 Рембрандт X. ван Р. 120
Николай II192,195 Покрасс С.Я. 189 Ремизов А.М. 188,256-258,
Нимеллер М. 433 Поличек 254 ЗбЗ
Нольде Б.Э. 14 Поло М. 43,234 Ремизов а-Довгелло С.П.
Поплавский Б.Ю. 53,193,342 256,257
Одоевцева И.В. 189,301,302, Попов П.Н. см. Репин И.Е. 249
368 Шабельский-Борк П.Н. Рид М. 145,250,253
Орловы, владельцы Потере де 247 Рильке Р. М. 359
комиссионного Потресов С.В. см. Ричардсон Т. 18
магазина в Берлине 192 Яблоновский С.В. Рогачев Д.М. 373
Осоргин М.А. 28,341 Пржевальский Н.М. 308 Рождественский В.А. 194
Оутс Д.К. 360 Присманова А.С. 259,260 Роллан Р. 102,184
Офросимов Ю.В. 259,274 Пруст М. но, 137,300 Рольф Ф. 313,386
Оцуп Н.А. 189,193 Прутков К. 140,141 Романов Б.Г. 190
Пудовкин В.И. 190,322 Романов К.В. 255
Паваротти Л. 409 Пуни И.А. 189 Романов К.К. 378
Павлова А.П. 278 Пуччини Д. 287,308,422 Романов М.А. 14,15
Павлюченко Т.П. 18 Пушкин А.С. 7-9,31,32,38, Романовы 183,248,258
Панаева А.Я. 368 65,84,99,129,130,132, Ронен И. 140
Пастернак Б.Л. 51,189,201, 133,135,137,142,149,171, Ронен 0.139,140,147,274
285,286,308,394 176,209,234,257,260, Ротиков К.К. 358
447
* «С могилы скульптора Райха уперли брон-
зового ангела достоинством в два центне-
ра...» — стояло в книжке, и, составляя указа-
тель, автор никак не мог сообразить, что же
это за скульптор Райх. В голове нету, в ин-
тернете нету. Пошел смотреть первоисточ-
ник, «Дни» за 7 октября 1923-го; выясни-
лось, что я некогда неправильно списал
фамилию. Речь шла, конечно, о Раухе — за-
ядлом классицисте, сваявшем, в частности,
Фридриха Великого на коне посреди Унтер-
ден-Линден. В Петербурге есть две его рабо-
ты — статуи Победы на колоннах, в торце
того бульвара, что выходит другим торцом
на площадь Труда. Похоронен Раух на
Dorotheenstadtisch-Friedrichswerderscher
Friedhof, недалеко от Северного вокзала, там
же лежат Шадов, Шинкель, Фихте (эти имена
перечислены в газете, а название кладбища
опущено) и много других достойных мерт-
вецов — Гегель, Лютер. Злоумышленники
разорили не только Рауха, со многих могил
унесли «металлические части», но ангела
сбондили лишь у Христиана Даниэля.
Указатель имен
448
Рубенс П.П. 120,330
Рукавишников В.И. 39,43,
290,313,378,413
Рукавишниковы,
скульпторы 421
Руттман В. 117,284,285
Сабило И.И. 225
Савельев А. см. Шерман С.Г.
Савич О.Г. 189
Сакун С.В. 162,182, ззз, 417
Сверкау У.Ю. 224,225
Свинаренко И.Н. 421,422
Себастьяно дель Пьомбо
414,431
Северянин И.В. 189
Сейфуллина Л.Н. 308
Семирадский Г.И. 88,125,126
Сендерович С.Я. 133,134,136,
413
Сервантес М. де 291,394
Сирин А. 258
Скоблин Н.В. 245,247
Скобло В.С. 225
Сколимовски Е. 18
Слоним Е.Л. 12,171,362,379
Слоним М.Л. 189,404
Слоним С.В. 379
Смоленский В.А. 398
Снессарев Н.В. 51
Снядзский А.А. см.
Яблоновский А.А.
Соколов-Микитов И.С. 189
Сократ 125
Солженицын А.И. 20
Сологуб Ф.К. 133,135,154
Сосинский Б.Б. 51,259
Соснора В.А. 225
Сперанский М.М. 332
Стайн Г. 96
Сталин, кусок дерьма 358,
359
Стасова Е.Д. (Гуща, Дельная,
Товарищ Абсолют) 190
Стеллецкий Д.С. 250
Стендаль 394
Степанов А.Д. 171,172
Степун Ф.А. 188,189
Стивенсон Р.Л. 369
Струве Г.П. 197,340,357
Струве Н.А. 409
Струве П.Б. 189
Сухарев-Мурышкин С.Л.
225
Таборицкий С.В. 256,294
Таиров А.Я. 190
Талаат-паша 246
Тарасов-Родионов А.И. 245
Тасин Н. 246
Татаринова Р.А. 12,264
Тейтель Я.Л. 197
Телль В. 414
Темирязев Б. см.
Анненков Ю.П.
Тинторетто Я. 431
Тихон (Лященко),
архимандрит 197
Токлес А. 96
Толстой А.Н. 183,188,192,
196,197,256,430
Толстой И.Н. 422
Толстой Л.Н. 32,35,120,130,
145,152,197,199,207,221,
245,253,258,295,302,314,
332,337,350,369,374,384,
398,404,406,407,416,
432
Третьяков С.М. 190
Троцкий Л.Д. 188,190
Трубецкие 190
Тургенев И.С. 7-9, п, 12,21,
24,32,38,43,45,77,78,
105,110,130,132,133,135,
137,145,167,172,173,188,
198,207,236,238,255,291,
293,306,307,333,337,350,
359,365,416,421,429
Тургенева А.А. 197,198
Тутанхамон 287
Тэффи 189
Тютчев Ф.И. 309
Уилсон Э. 380
Урбан Т. 183,192,208
Урениус Е.С. 34
Ушаков Д.Н. 357
Уэллс Г. 229,422
Фалес Милетский 306
Фасмер М. Ю. Ф. 189
Фассбиндер Р. В. 18
Фейгина А.Л. 379,428
Фет А.А. 38,91,133,239,371
Филд Э. 257,306,378
Фихте И.Г. 447
Флобер Г. 7,372
Фокин М.М. 190
Фолкнер У. 388,394
Фондаминский И.И. 58
Форш О.Д. 194
Франк С.Л. 189,431
Франс А. 287
Фрейд 3.51,61,90,136,145,
146,329,330,383,387,
407
Френкель А. 204,261,431
Фридрих II ю8
Фридрих Вильгельм III117
Фулон Ж. 18
Халтурин С.Н. 250
Хальф Ф.330
Хасин Г.С. 89,92,126,134,
157,217,243
Хемингуэй Э. 281,364
Хенкин В.Я. 187
Ходасевич В.М. 33,388
Ходасевич В.Ф. 32-34,38,43,
72,73,171,174,175,189,
193-196,198, 202, 205,
243, 274, 282, 302, 303,
306,343,345,364,371,381,
382,385,404,422,430
Ц-355
Цветаева М.И. 184,188,195,
199,201,203,204,358,
427,430
Цветков А.П. 409
Церетели И.Г. 190
Цеткин К. 115
Цивинский С.А. 237
Циммер Д. 289
Чабров А.А. 190
Чаплин Ч. 180,181,225,284
Чайковский П.И. 84
Челищев П.Ф. 189
Черкашин Д. 18,285
Чернов В.М. 190
Черный Саша 189
Чернышевский Н.Г. 12,26,
75,107,144,150,167,169,
171,209,217,226,239,281,
288,290,304,307,308,
336,350,355,365-375,397,
400,408,432
Чернышевская О.С. 371,
374
Чехов А.П. 16,6о, 130,133,
137,258,323
Чехов М.А. 190
Набоков без Лолиты
Чехов O.K. 190
Чжан Цзолинь 287
Чиффра фон 245
Чичерин Г.В. 190
Чуковский К.И. 420
Шабельский-Борк П.Н. 144,
256,294
Шабуров А.Е. 324
Шагал М. 189
Шадов И.Г. 447
Шаляпин Ф.И. 309
Шапиро А.Я. 18
Шаховская З.А. 101,136,256,
260,358,359,384,
392-395>398,4О9
Шаховской Д. А. см.
Иоанн (Шаховской)
Шварц А. 418
Шварц Е.М. 133,134,136,413,
418
Шевченко В.Н. 116,121
Шекспир У. 38,44,128,130,
134,135-142,145,291,306,
311,346,389,410
Шелдон Л. 298
Шерман С.Г. 125
Шестов Л.И. 188
Шиллер Ф. 138,414
Шинкель К.Ф. 447
Шифф С. 26,54,238,392,
398,401,403,405,406
Шкапская М.М. 189
Шкловский В.В. 51,139,140,
187,188,199, 200, 201,
203,255,274,275,286,
308,430
Шкляр Е.Л. 195
Шлегель К. 191,247
Шмелев И.С. 189,381
Шмеман А.Д. 340,341
Шмидт Э. 427
Шнабель Д. 414
Шолохов М.А. 144
Шпеер А. 282
Штайнер Р. 197,198,
327
Штауффенберг К.Ш. фон
248
Штемпель И.Г. 131,325
Штейгер А.С. 193
Штеренберг Д.Б. 189
Штольц Р. 272
Штраус И. 225
Шульгина В.Е. 19,39,155,225,
226,398,404
Шульман М.Ю. 8о
ШуЛЬЦ Э. 200
Щеголев П.Е. 183
Эббот Э.Э. 138,139,162
Эддингтон А.С. 281
Эйзенштейн С.М. 190
Эль Лисицкий 189,
200
Эн 122
Энвер-паша 246
Энке Р. 429
Эпстайн Д. 406
Эренбург И.Г. 188,192,196,
200,201,245,257,277,
308,427,430
Эткинд А.М. 43,241,268,
373,387,388,418
Эшер М.К. 335
Эшпай А.А. 18,285
Южный Я.Д. 187
Юркевич П.Д. 368
Яблоновский А.А. 129,135,
252,274,306
Яблоновский С.В. 129,135,
252
Якобсон В. 249
Якобсон P.O. 200
Яковлев Н.В. 244
Яковлева (Каминка) Е.А.
244
Янгиров Р.М. 315
Ясинский В.И. 354
Ященко А.С. 189
Budge J.D. 363
censor7 416
Dawidova 315
eiuia 312
Hiden R. 363
gippodemos 168,169,
325
_niece 416
raf_sh 416
ta_samaja 416
vasilek 330
449
В той же серии
Карина Добротворская
Блокадные девочки
Книга Карины Добротворской могла быть написана только девочкой, ро-
дившейся в Ленинграде. Ненамного раньше нее в этом же городе родилась
и окрепла блокадная мифология, которая поддерживает свойственное его
жителям ощущение мученичества и избранности. Как всегда, в этих ощу-
щениях много выдуманного, навязанного, шаблонного. Но для женщины,
преодолевшей свою собственную блокаду, отделявшую ее от большого ми-
ра, от красоты, успеха, карьеры, — тема ленинградского голода раскрывает-
ся совсем с другой стороны. Оказывается, что пережитый Ленинградом
ужас никуда не делся из ее жизни.
Линор Горалик
Частные лица
Читателю никогда не приходится рассчитывать на то, что поэт напишет
собственную автобиографию; в большинстве случаев поэты никогда этого
и не делают. Поэту же, по большому счету, никогда не приходится рассчи-
тывать на то, что ему будет предоставлено право представить читателю
собственную жизнь так, как сам поэт пожелал бы. Долгосрочный проект
Линор Горалик «Частные лица: биографии поэтов, рассказанные ими сами-
ми» — это попытка предоставить сегодняшним поэтам свободу рассказать
о себе на своих условиях.
Лев Лосев
Меандр
Издание объединяет мемуарную прозу поэта и литературоведа Льва Лосе-
ва — сохранившуюся в его архиве книгу воспоминаний о Бродском «Про
Иосифа», незаконченную автобиографию «Меандр», очерки неофициаль-
ной литературной жизни Ленинграда 50-70-х годов прошлого века и порт-
реты ее ключевых участников. Знакомые читателю по лосевским стихам
непринужденный ум, мрачноватый юмор и самоирония присущи и мему-
арной прозе поэта, а высказывания, оценки и интонации этого невымыш-
ленного повествования, в свою очередь, звучат в унисон лирике Лосева,
ставя его прозу в один ряд с лучшими образцами отечественного мемуар-
ного жанра — воспоминаниями Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича.
Вячеслав Курицын
Набоков без Лолиты
Путеводитель с картами, картинками
и заданиями
Выпускающий редактор Мария Котова
Корректор Елена Елочкина
Верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант
Новое издательство
119017, Москва
Пятницкая улица, 41
телефон / факс (495) 951 6050
e-mail info@novizdat.ru, sales@novizdat.ru
http://www.novizdat.ru
Подписано в печать 21 мая 2013 года
Формат 70x100/16
Гарнитура Minion
Объем 36,44 условных печатных листа
Бумага офсетная
Печать офсетная
Заказ № 126
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
141406, Московская область
Химки, Библиотечная улица, 11
Новая книга Вячеслава Курицына — дневник читателя русской
прозы Владимира Набокова, писавшийся в течение двадцати лет
в стремлении приблизиться к набоковскому идеалу читателя-
«перечитывателя», путеводитель по набоковским книгам
и биографии, ^включая детально изученные маршруты писателя
и его героев, десятки открытий и гипотез в сочетании
с инвентаризацией большей части всего необъятного
набоковедения, но самое главное — радикальная попытка
последовательного и многолетнего соотнесения собственного опыта
с литературным и биографическим опытом другого автора.
НОВОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Вячеслав Курицын
Набоков без Лолиты
Путеводитель
с картами,
картинками
и заданиями
ISBN 978-5-98379-177-0
9 78 98 79177