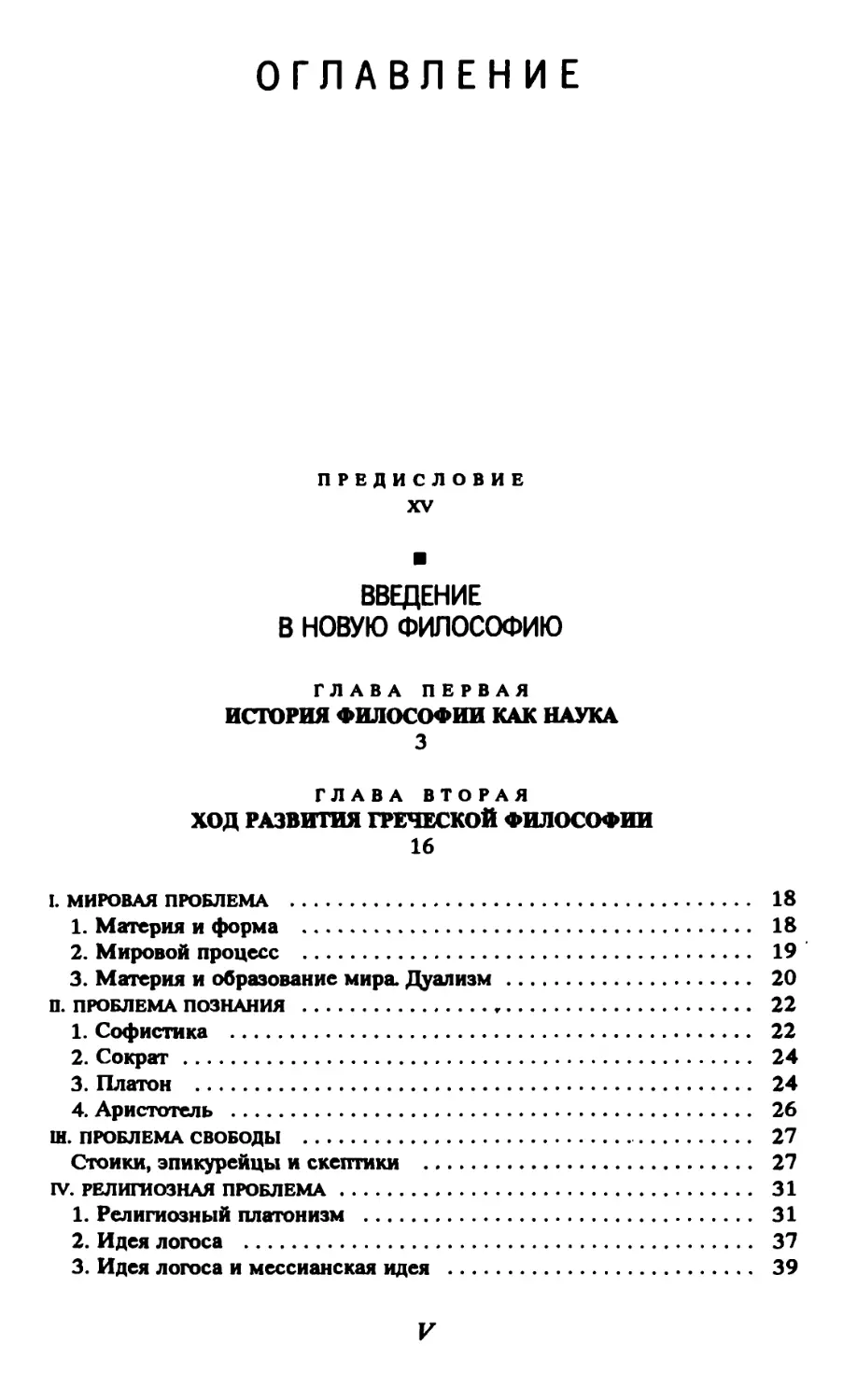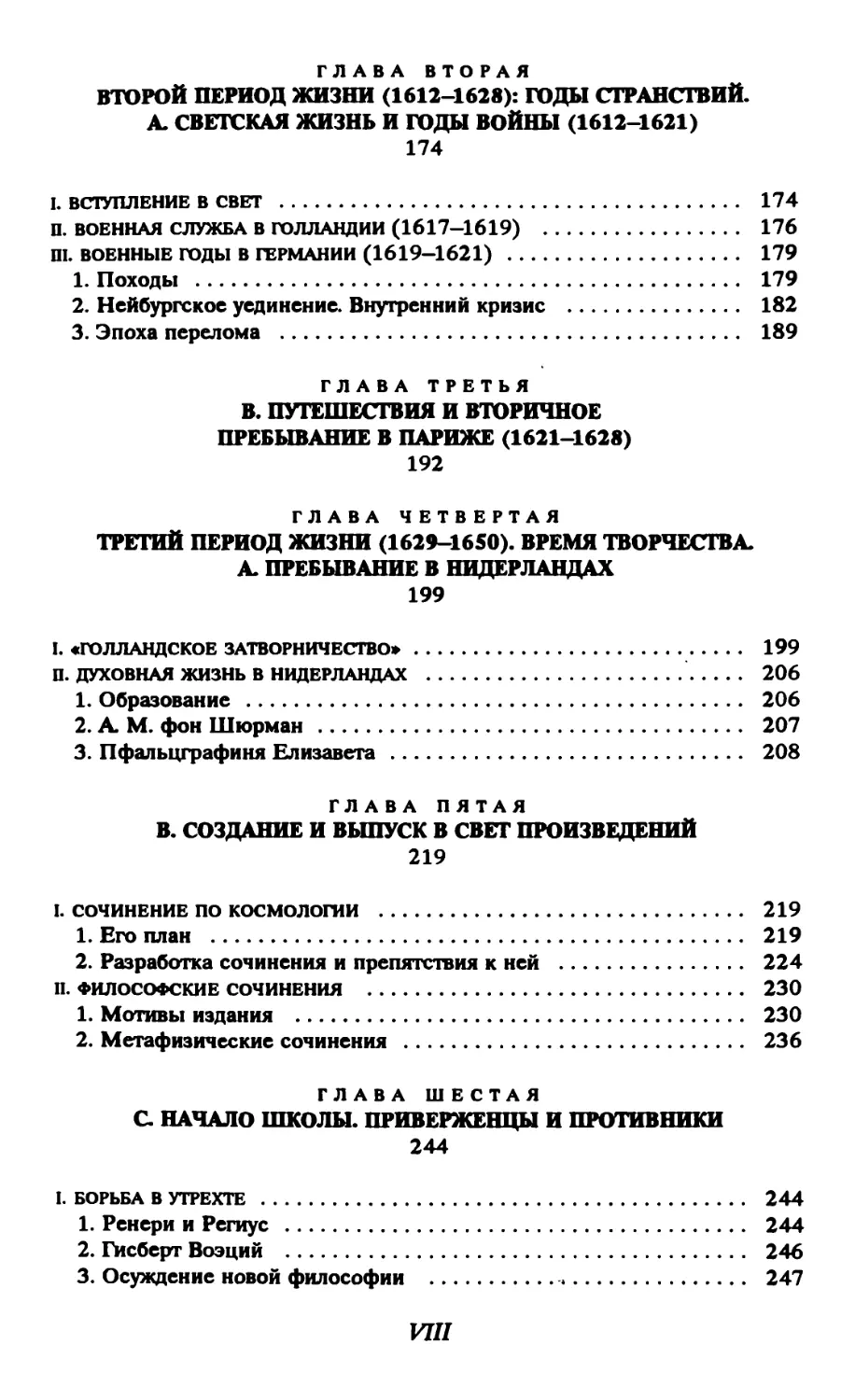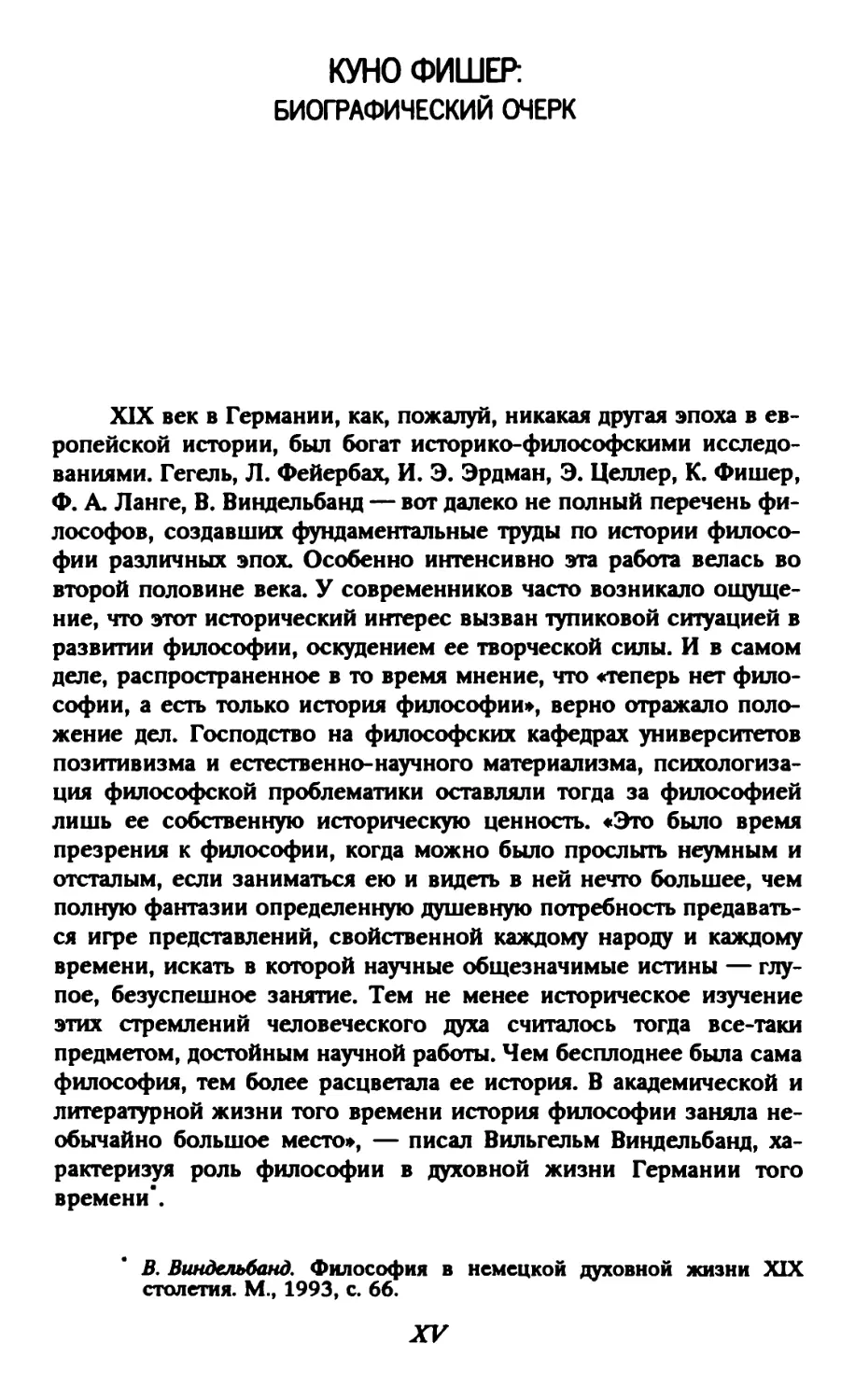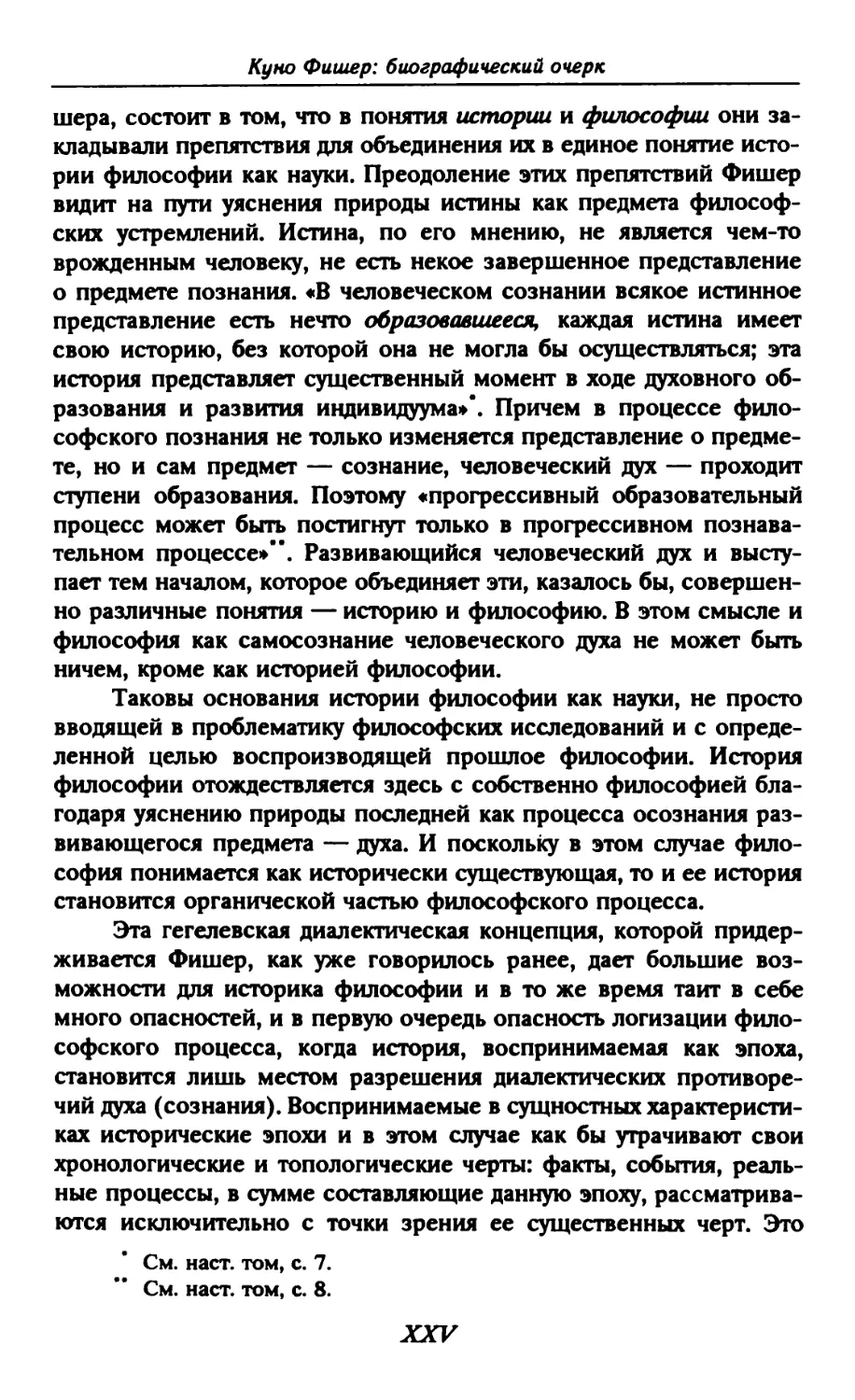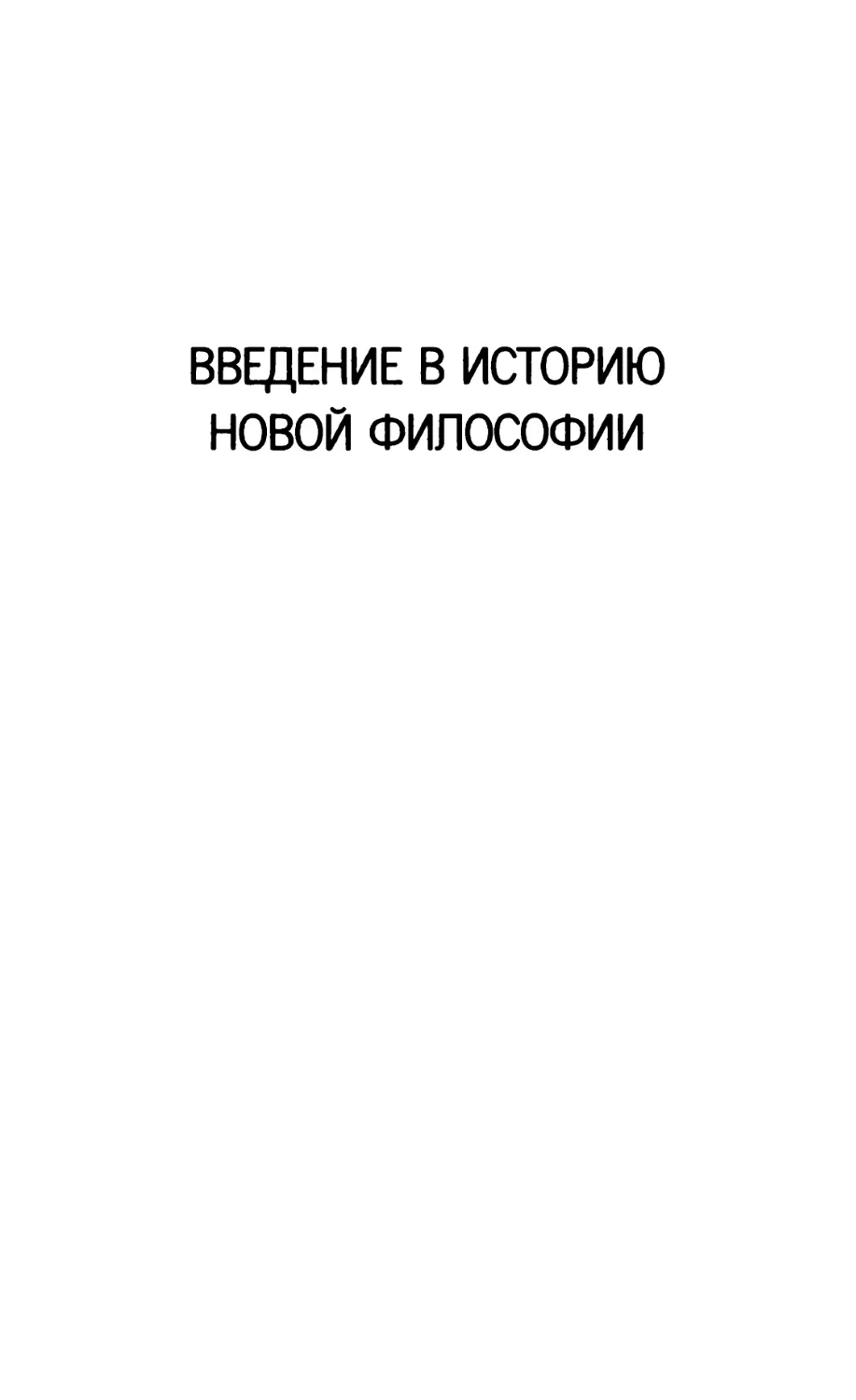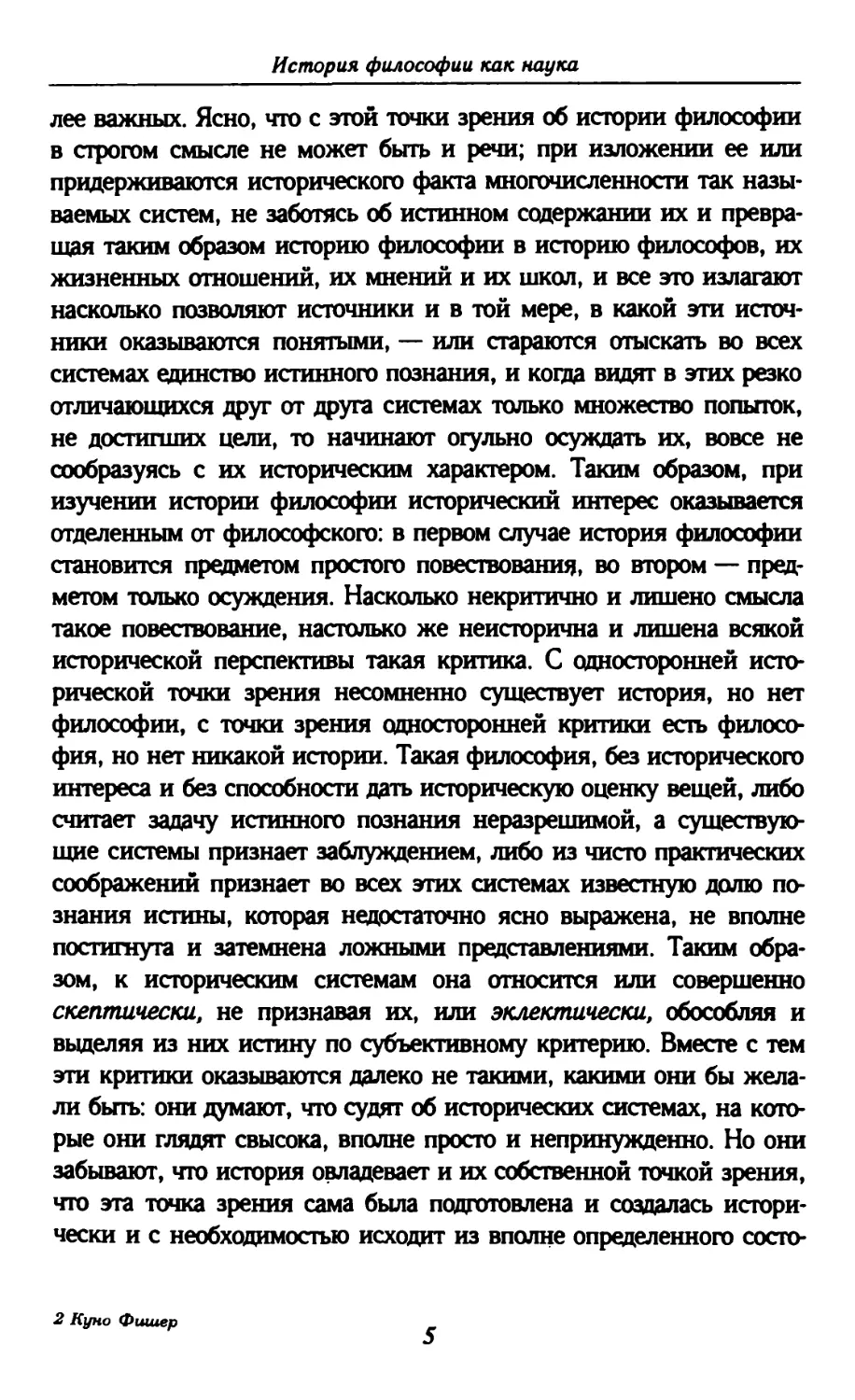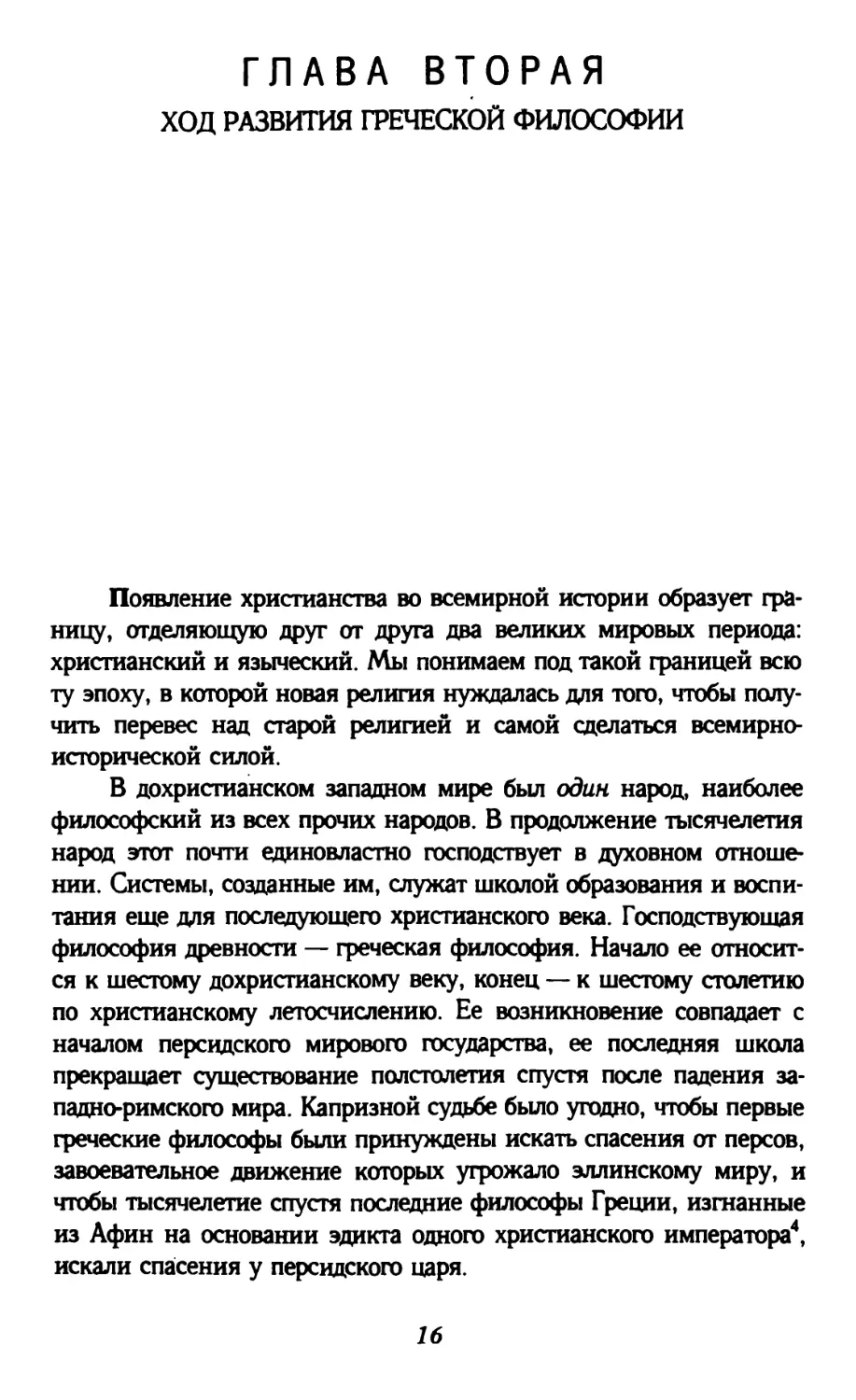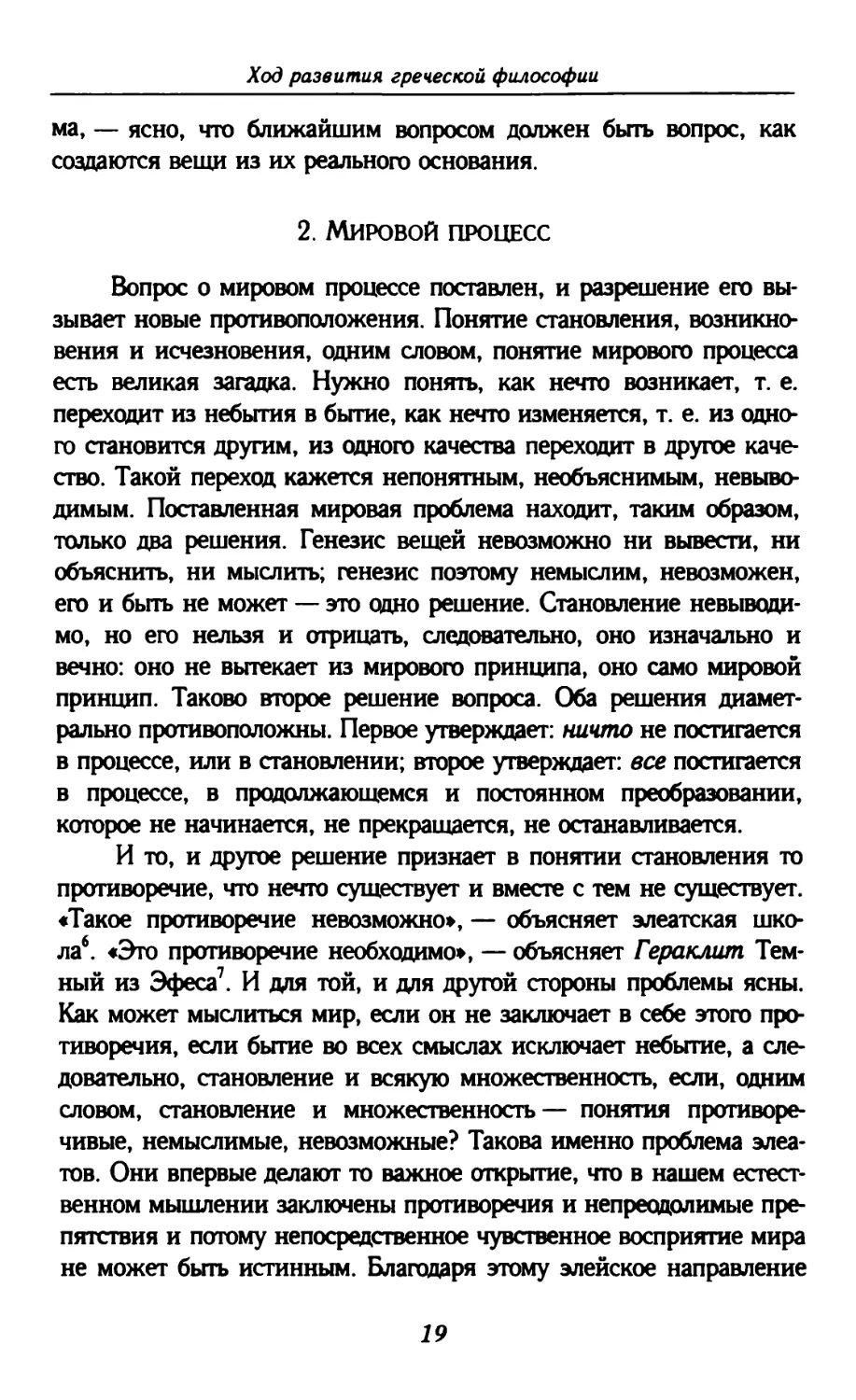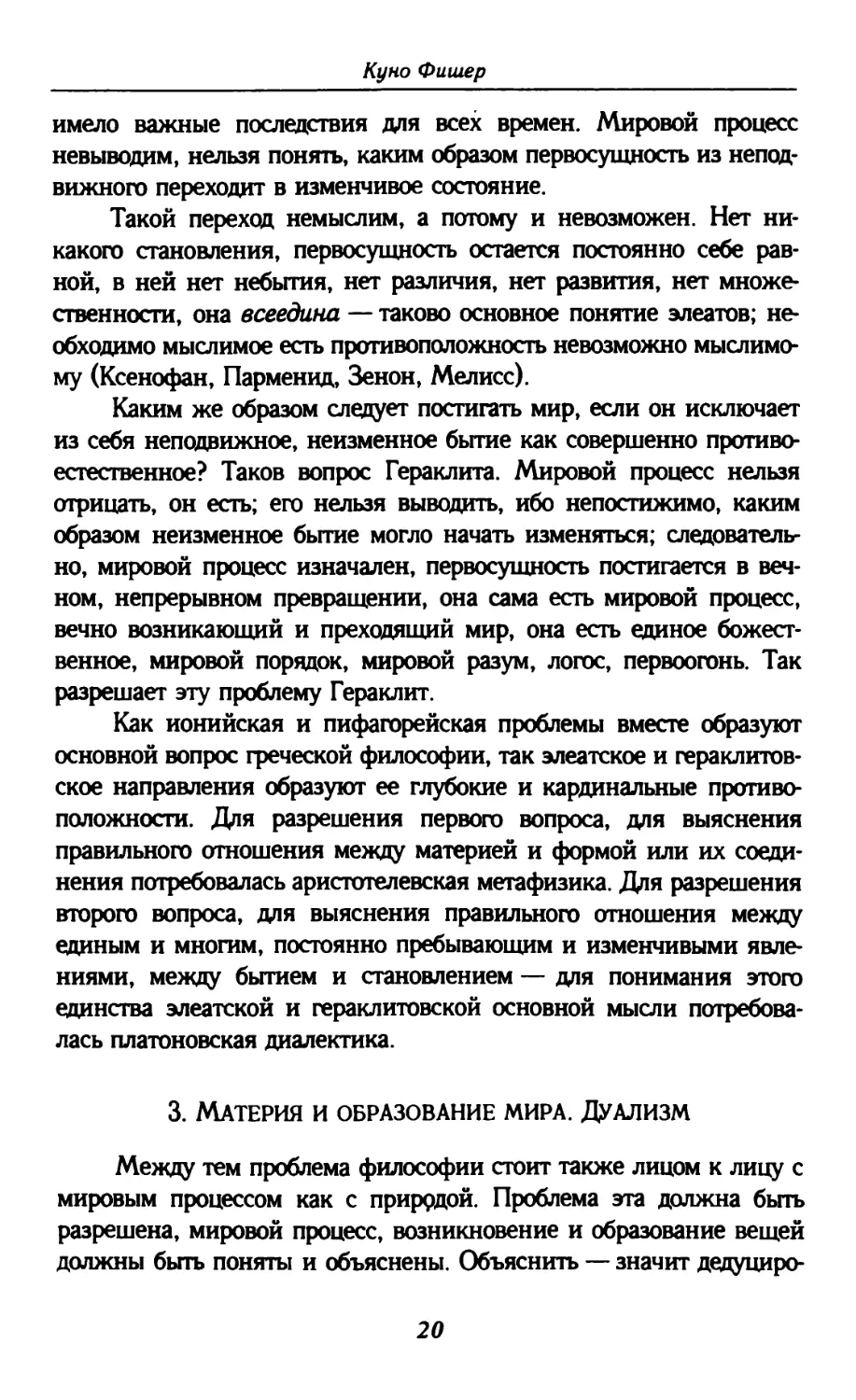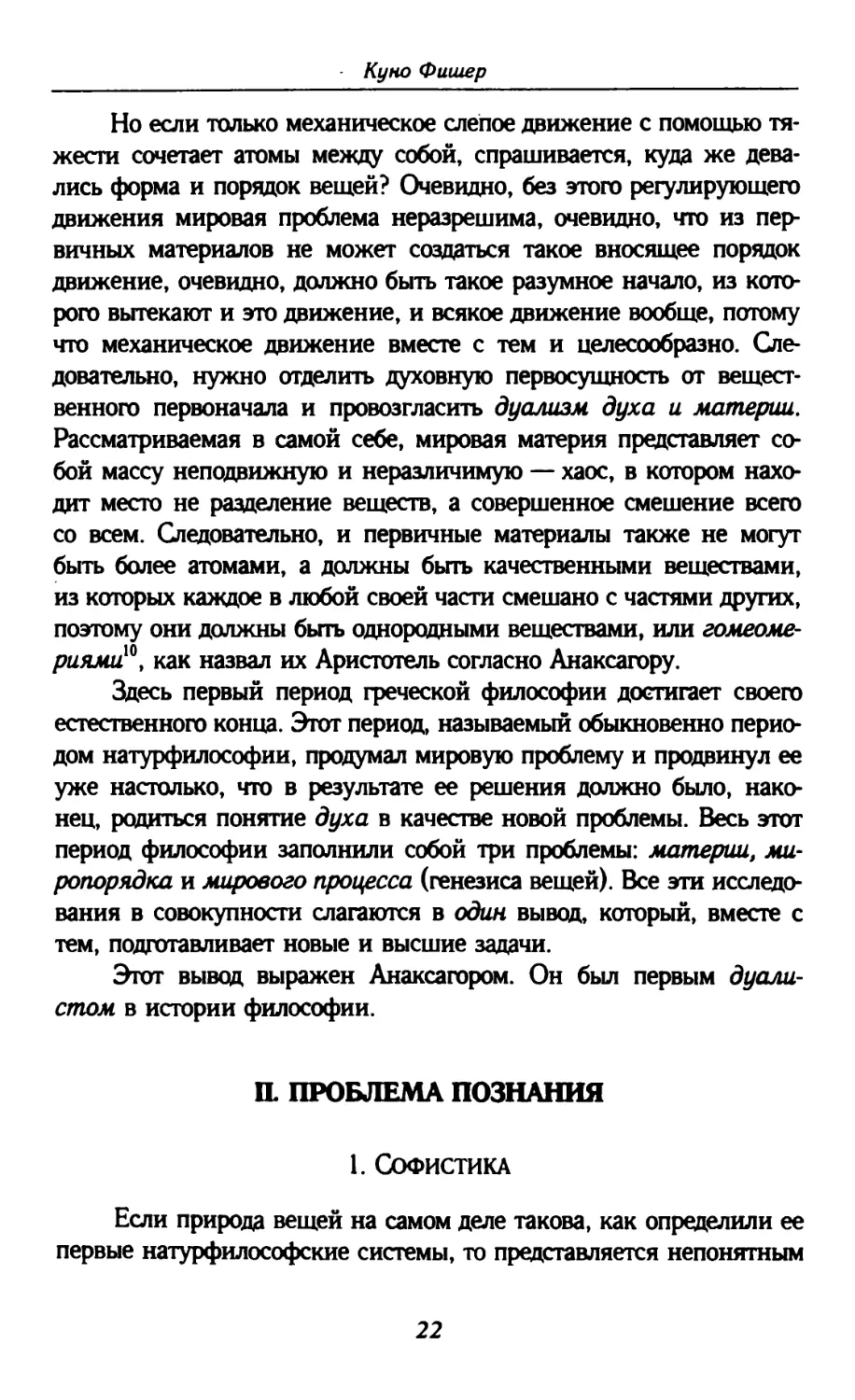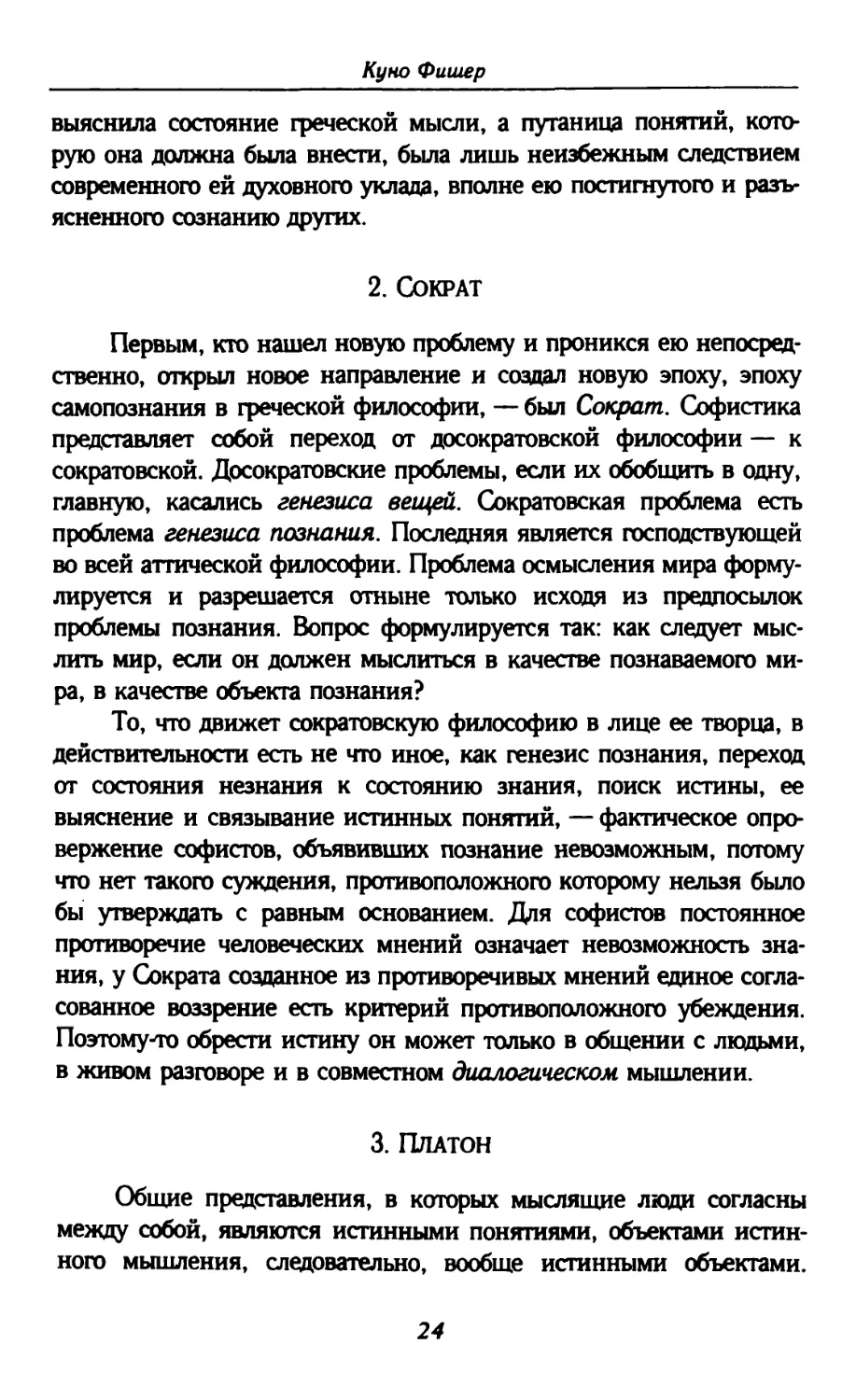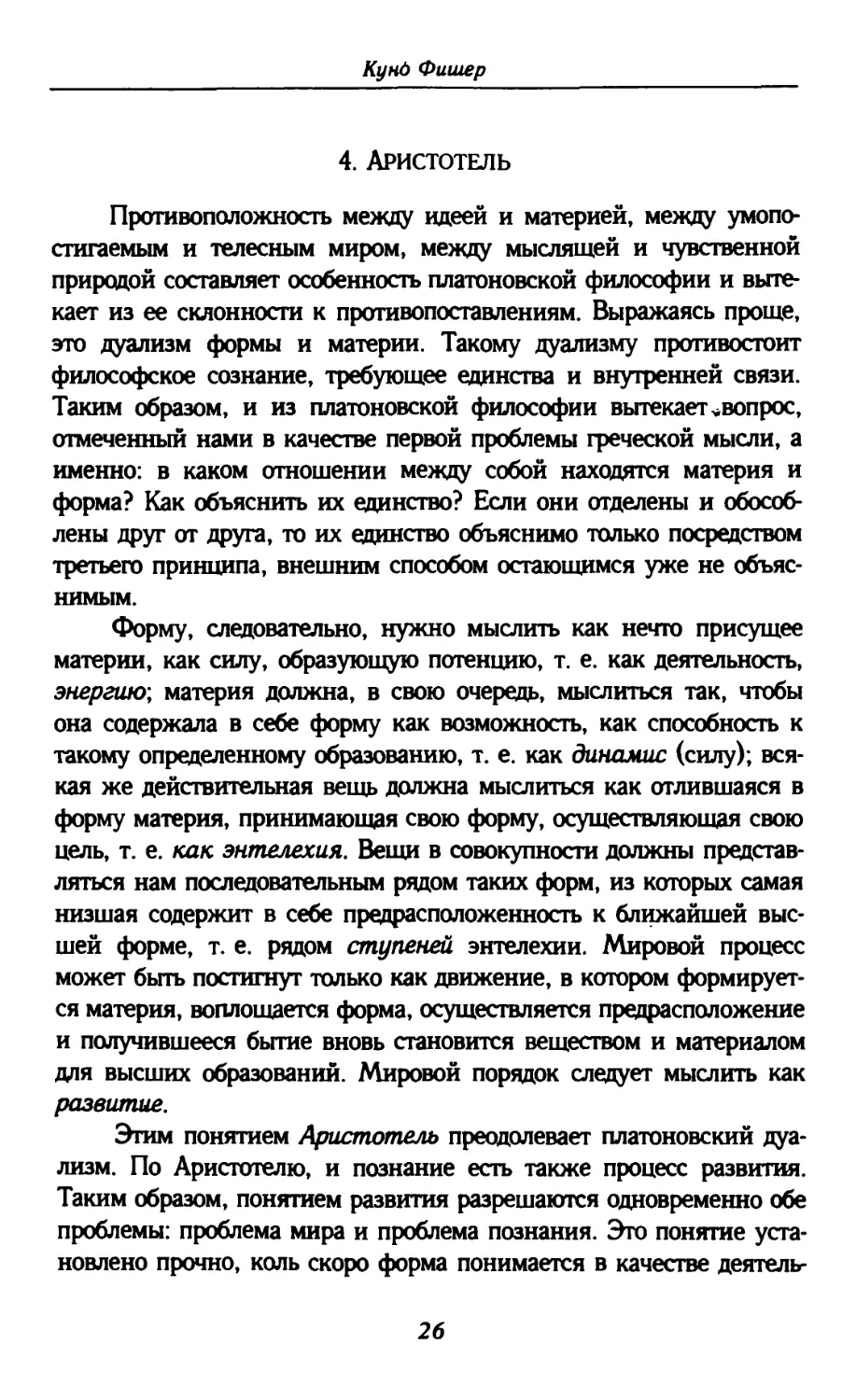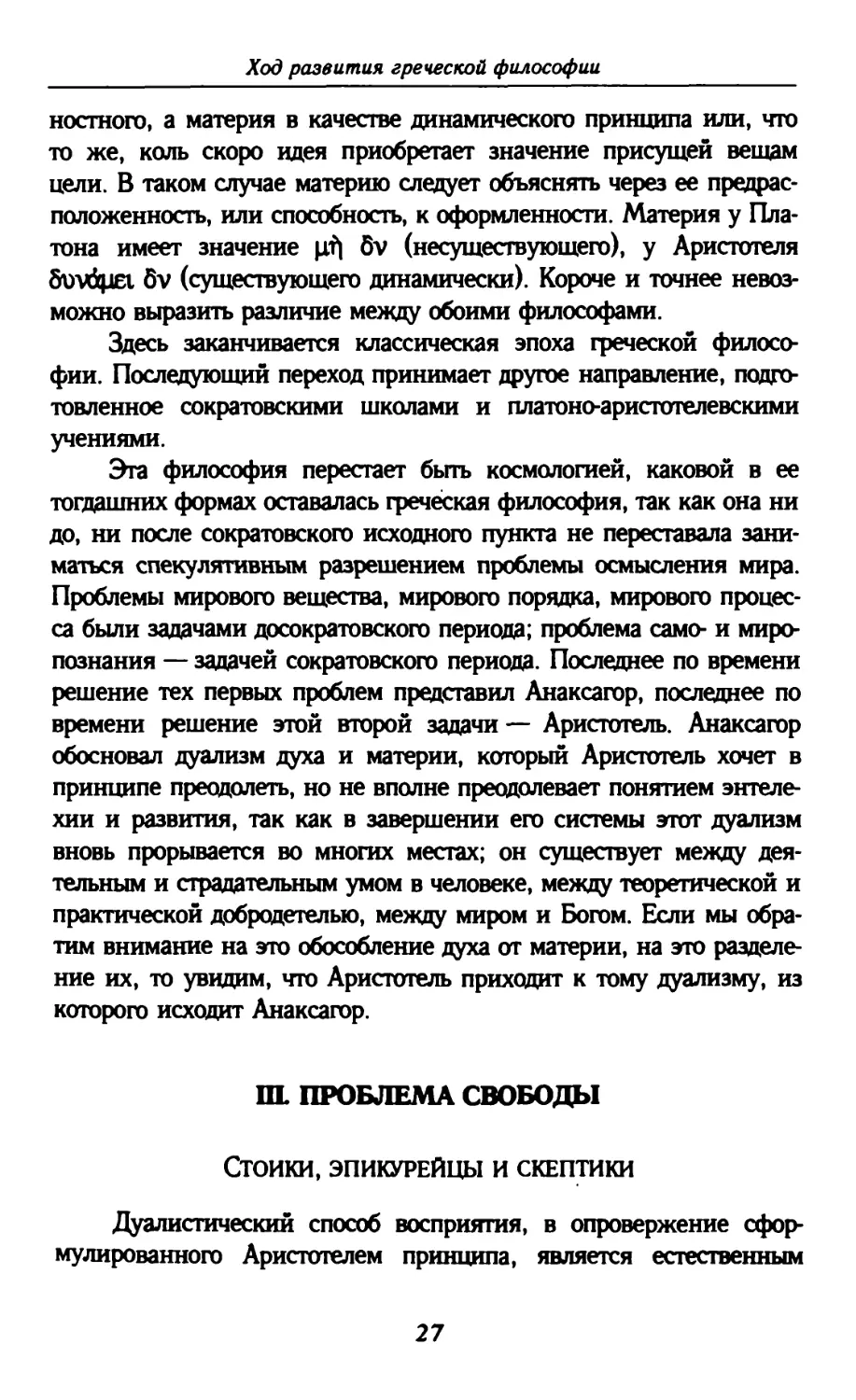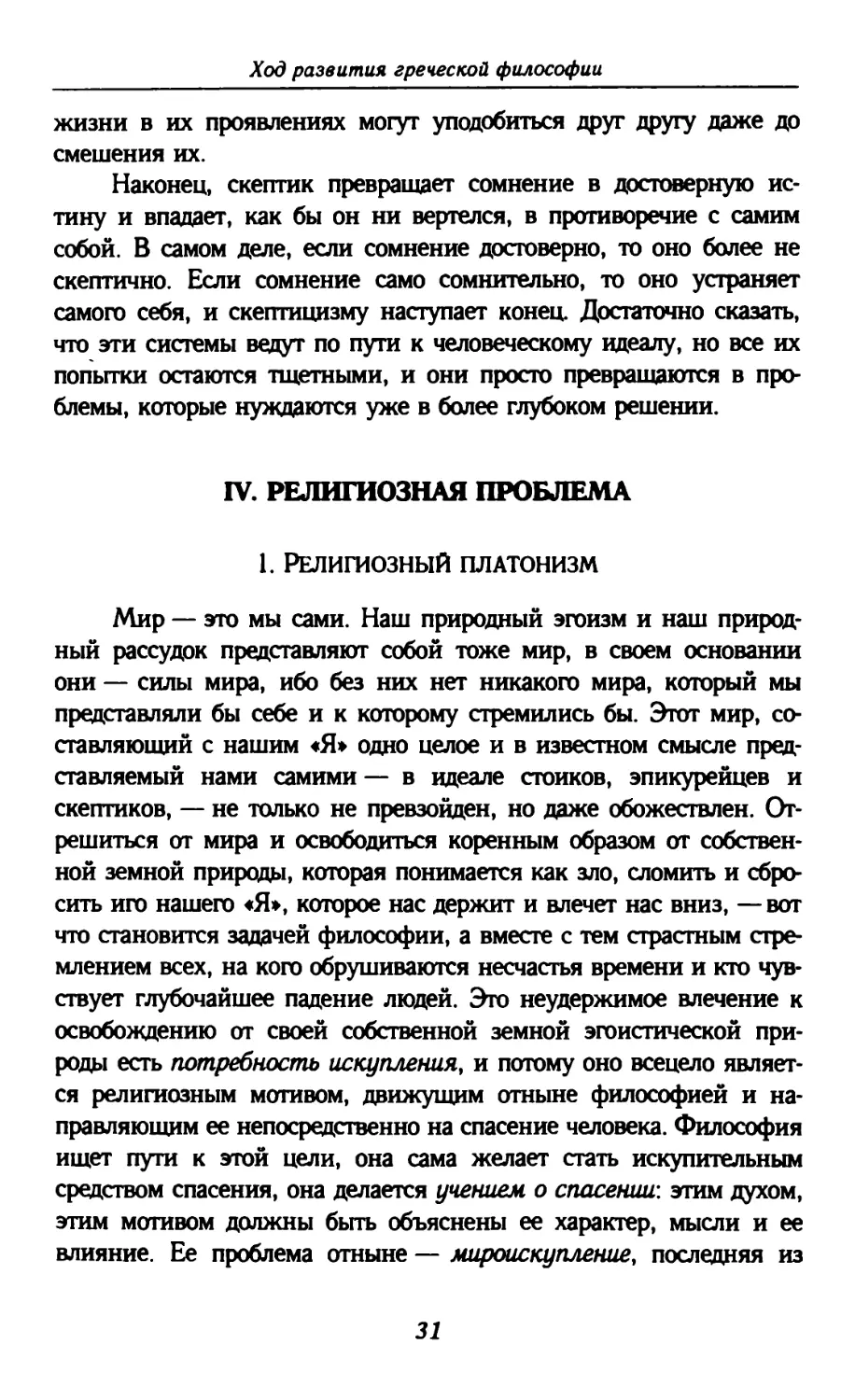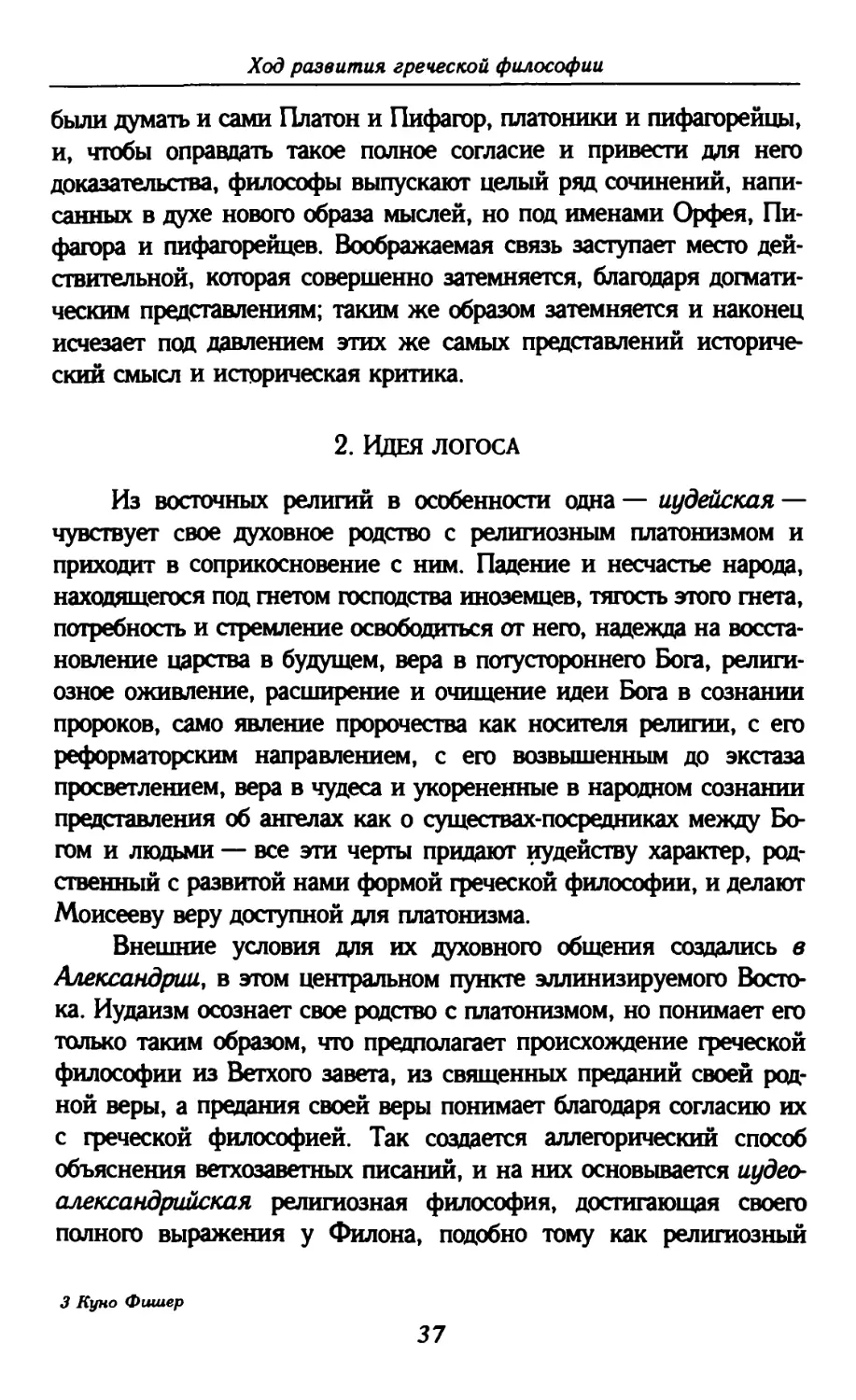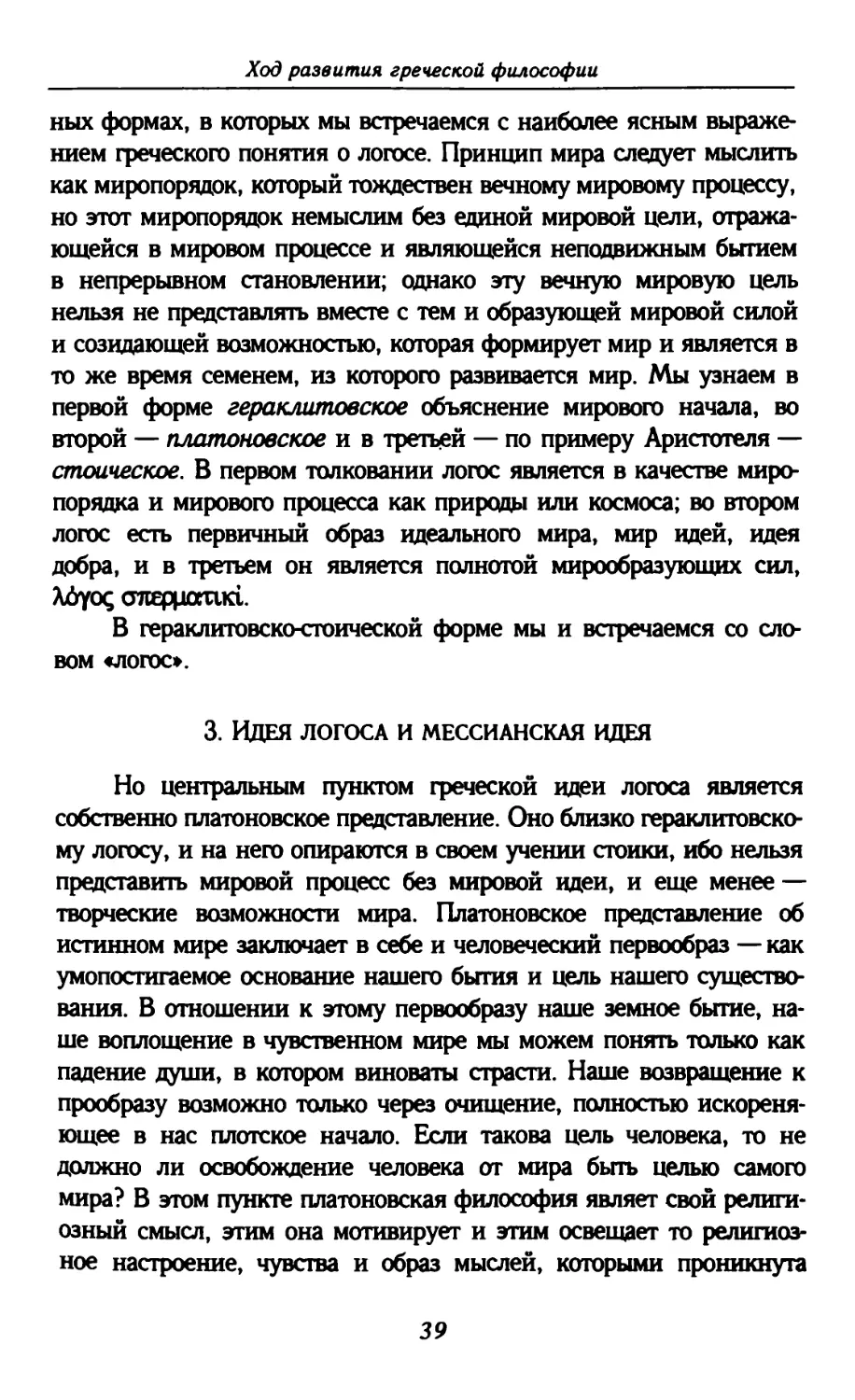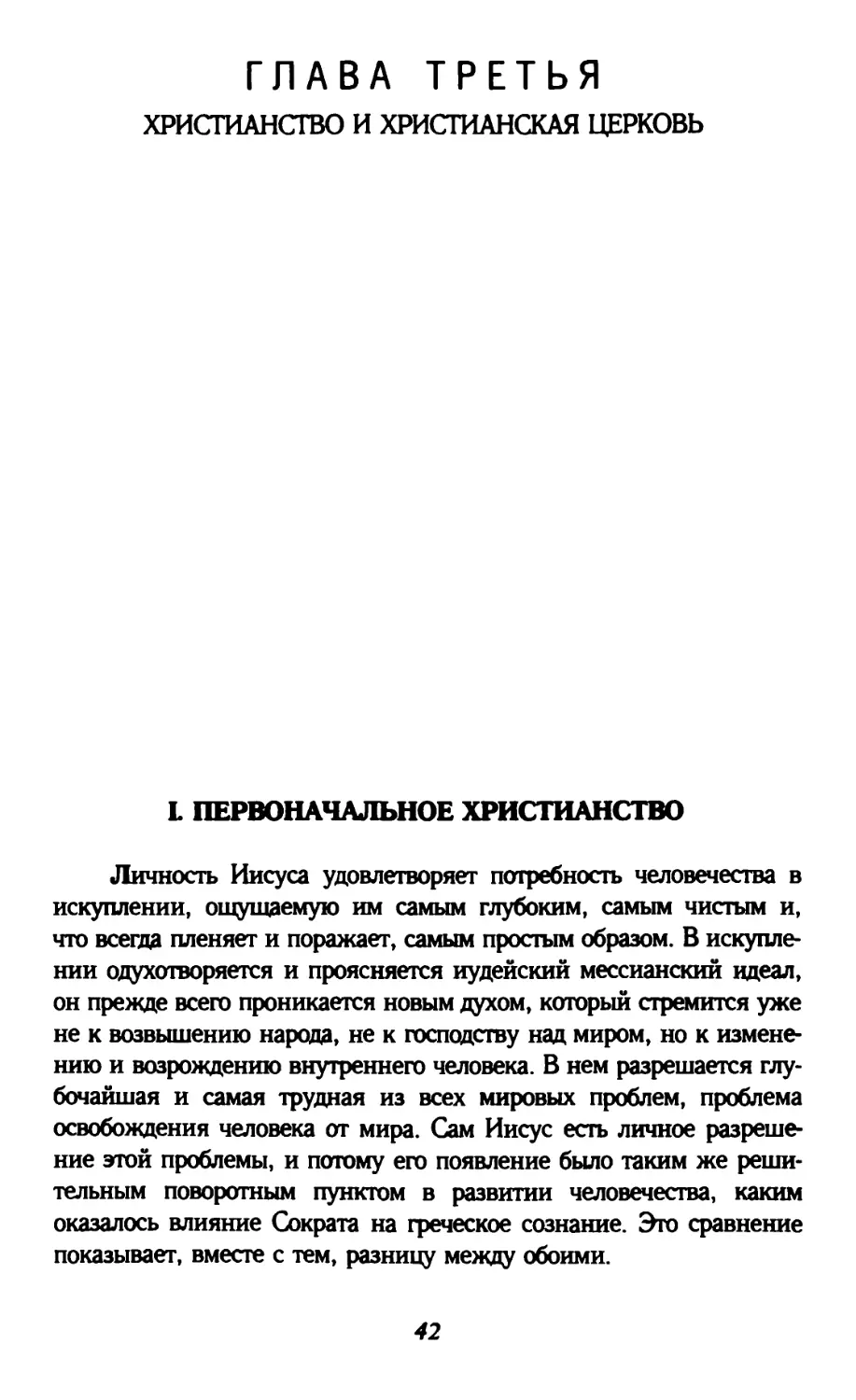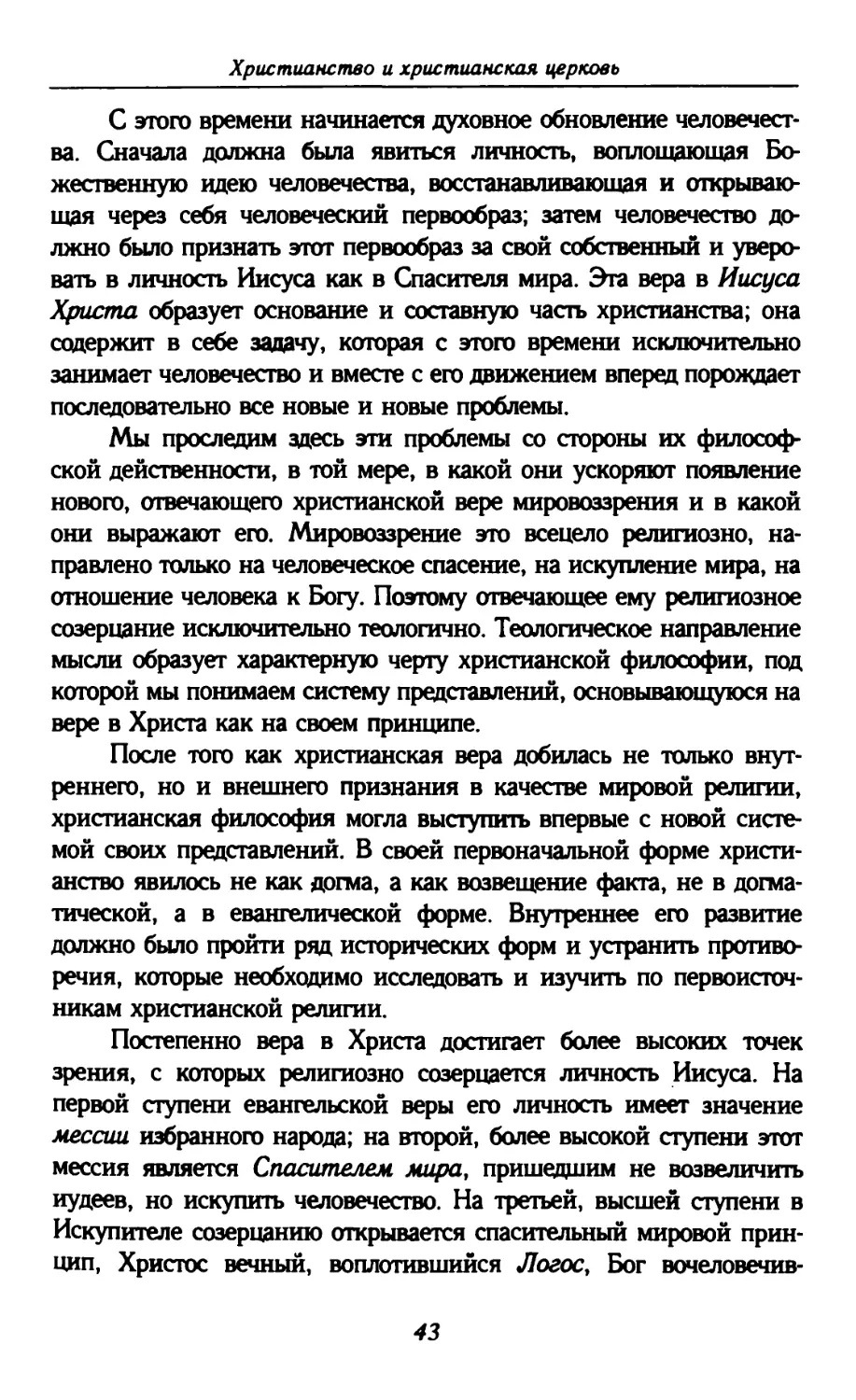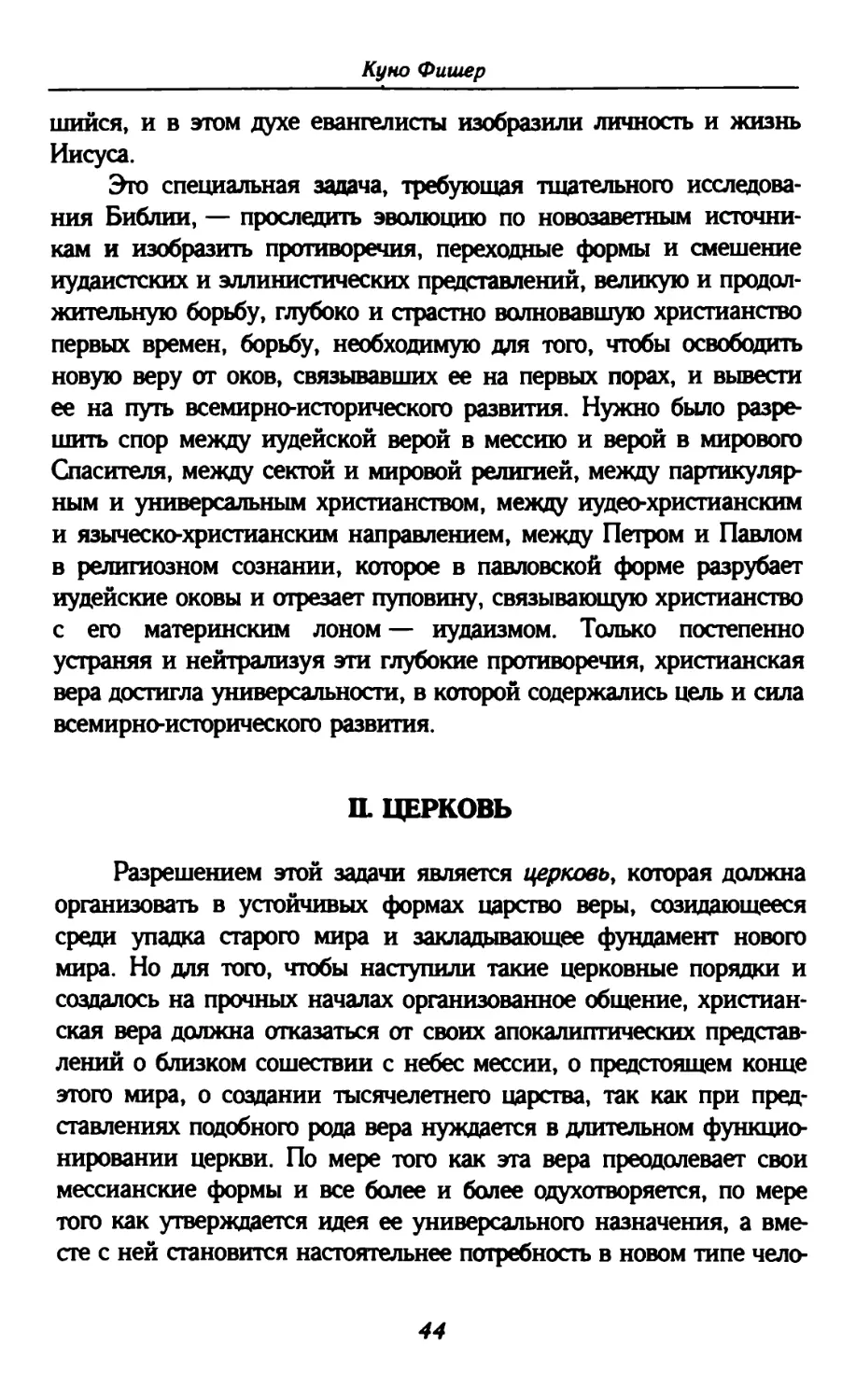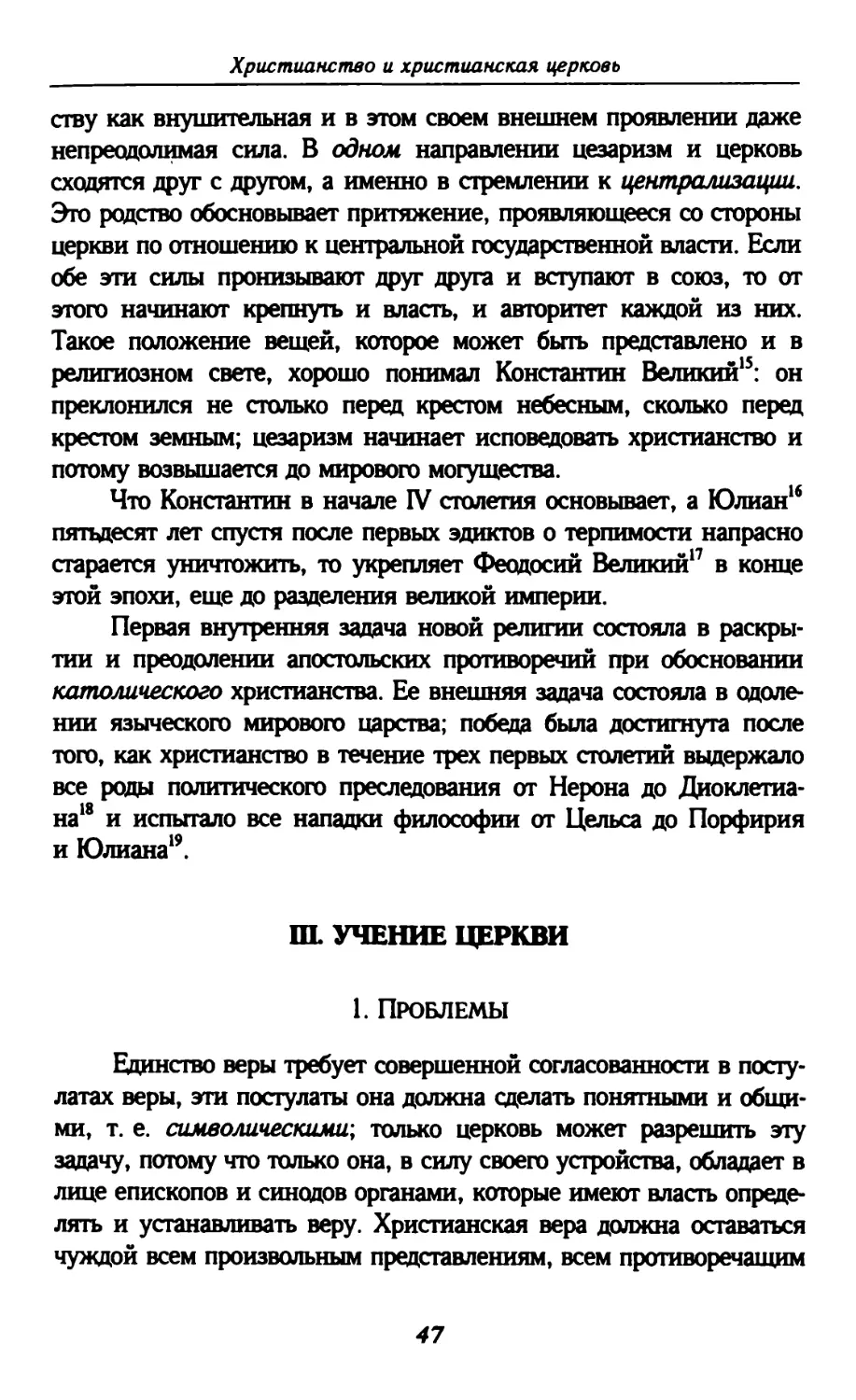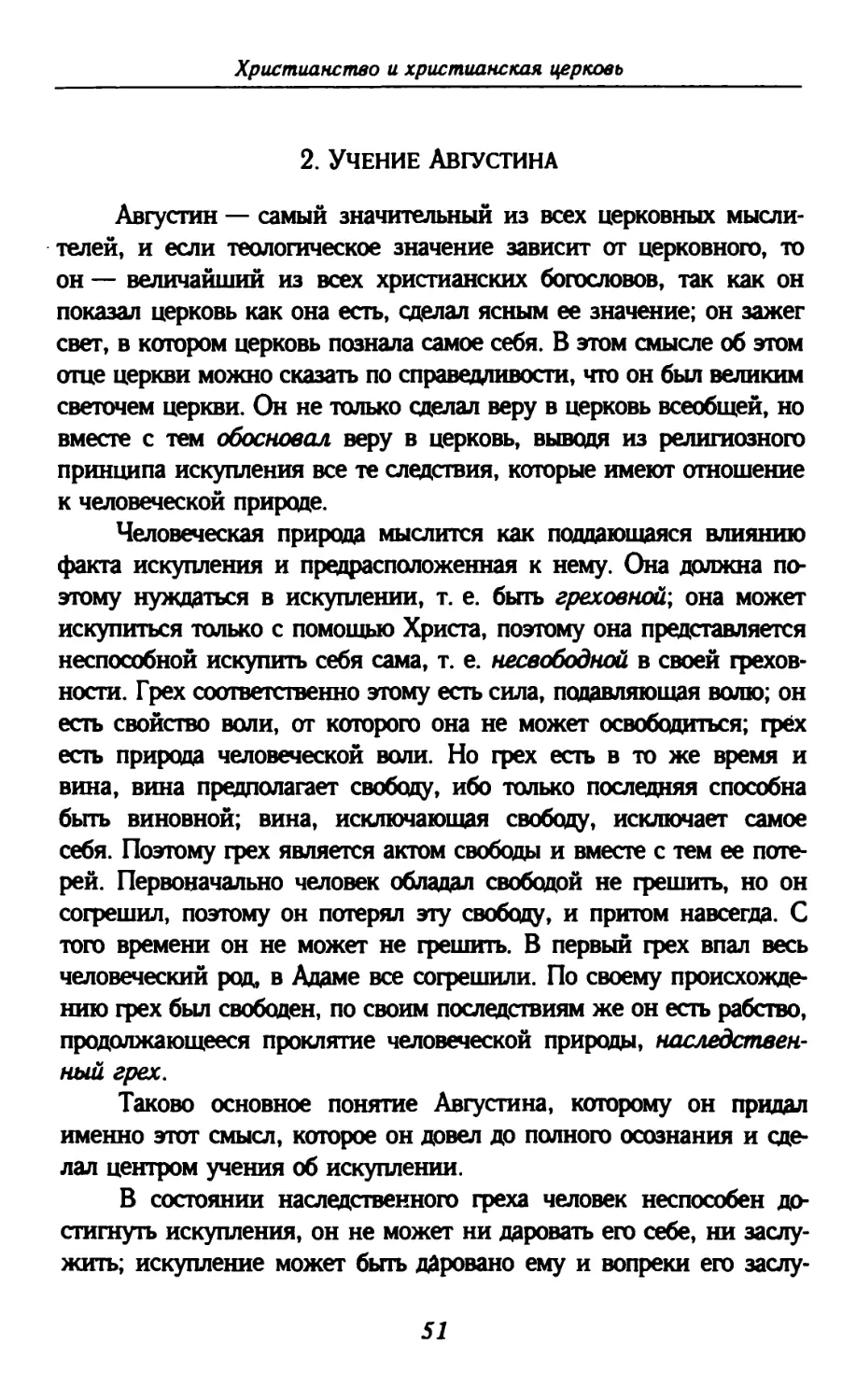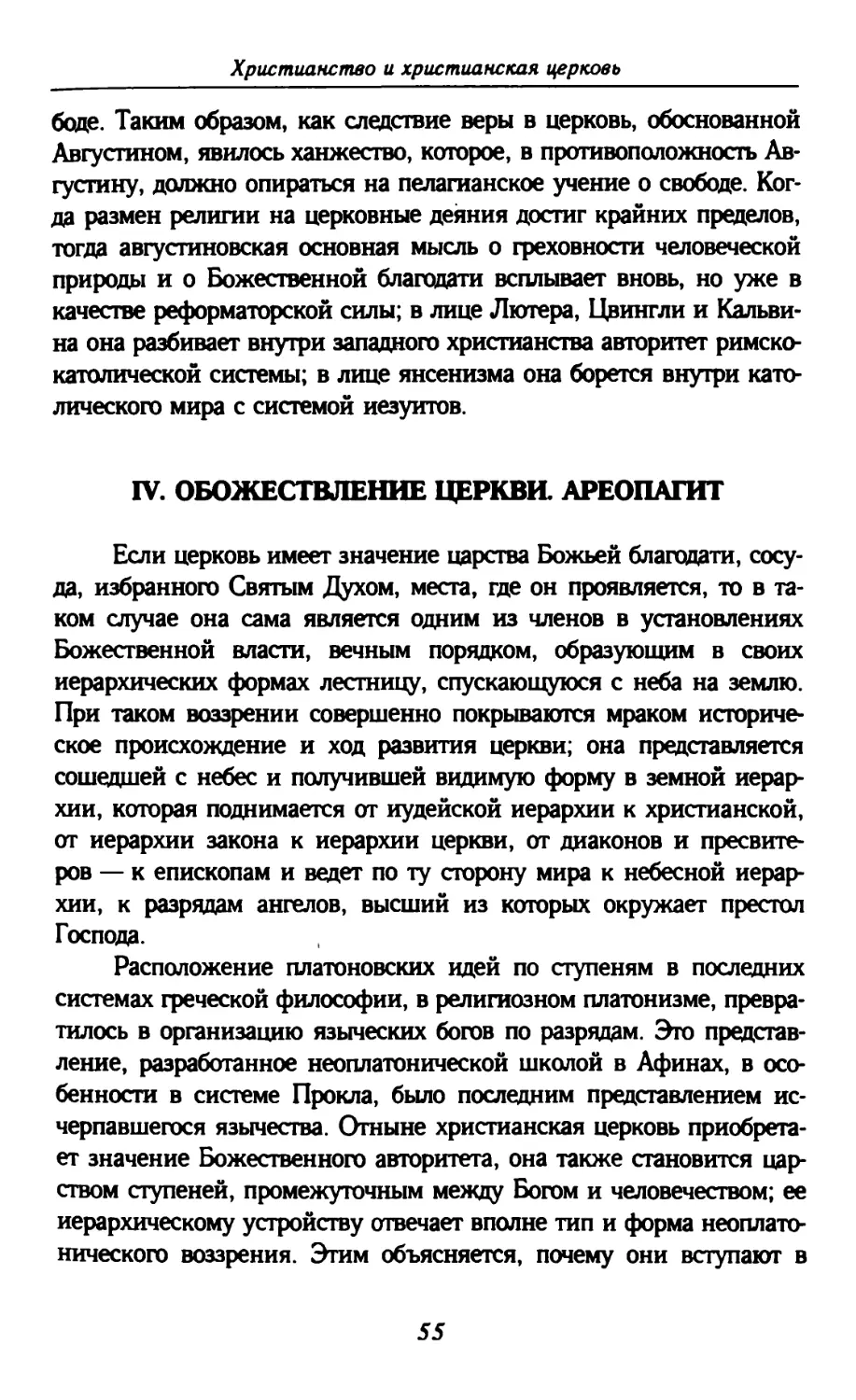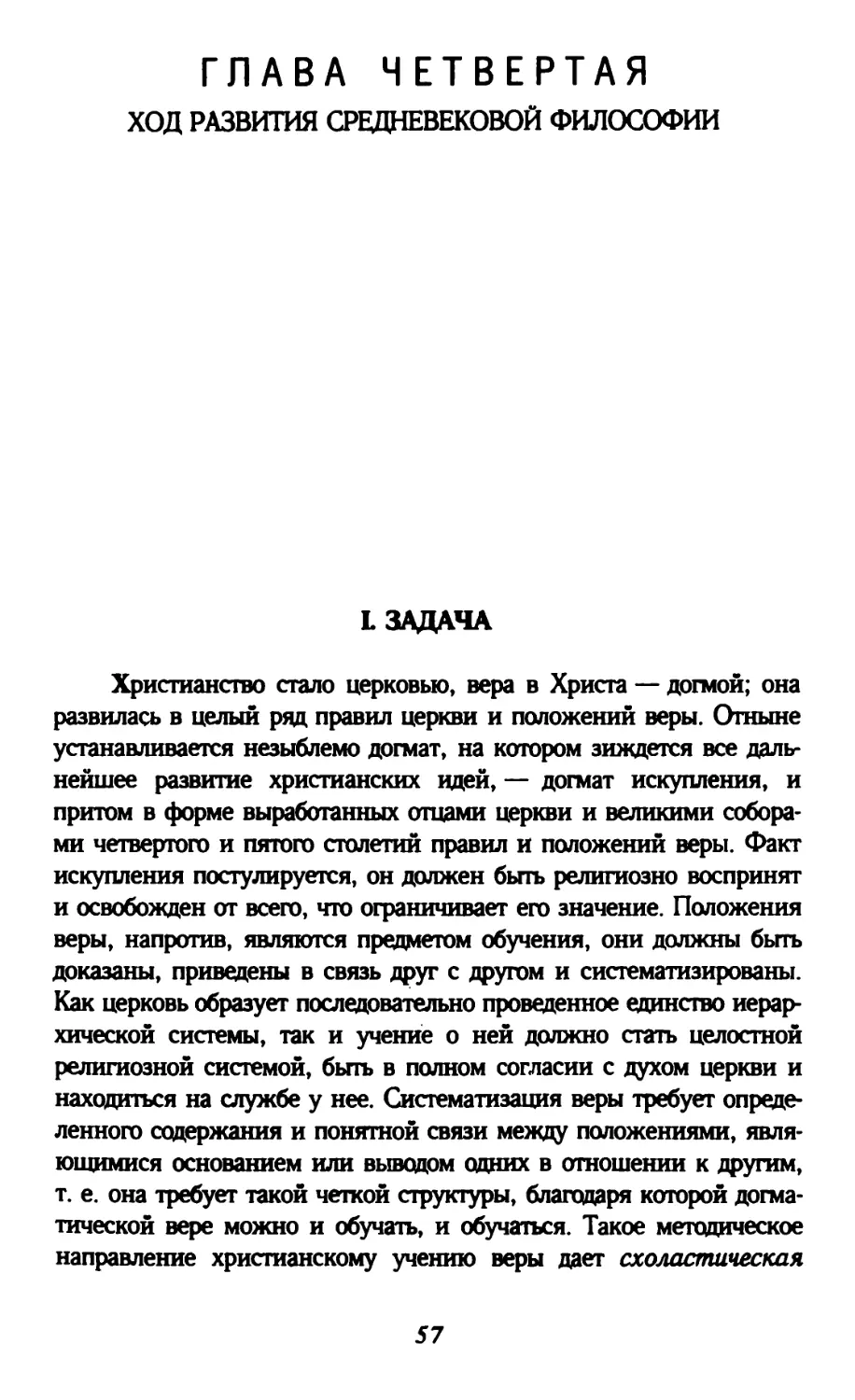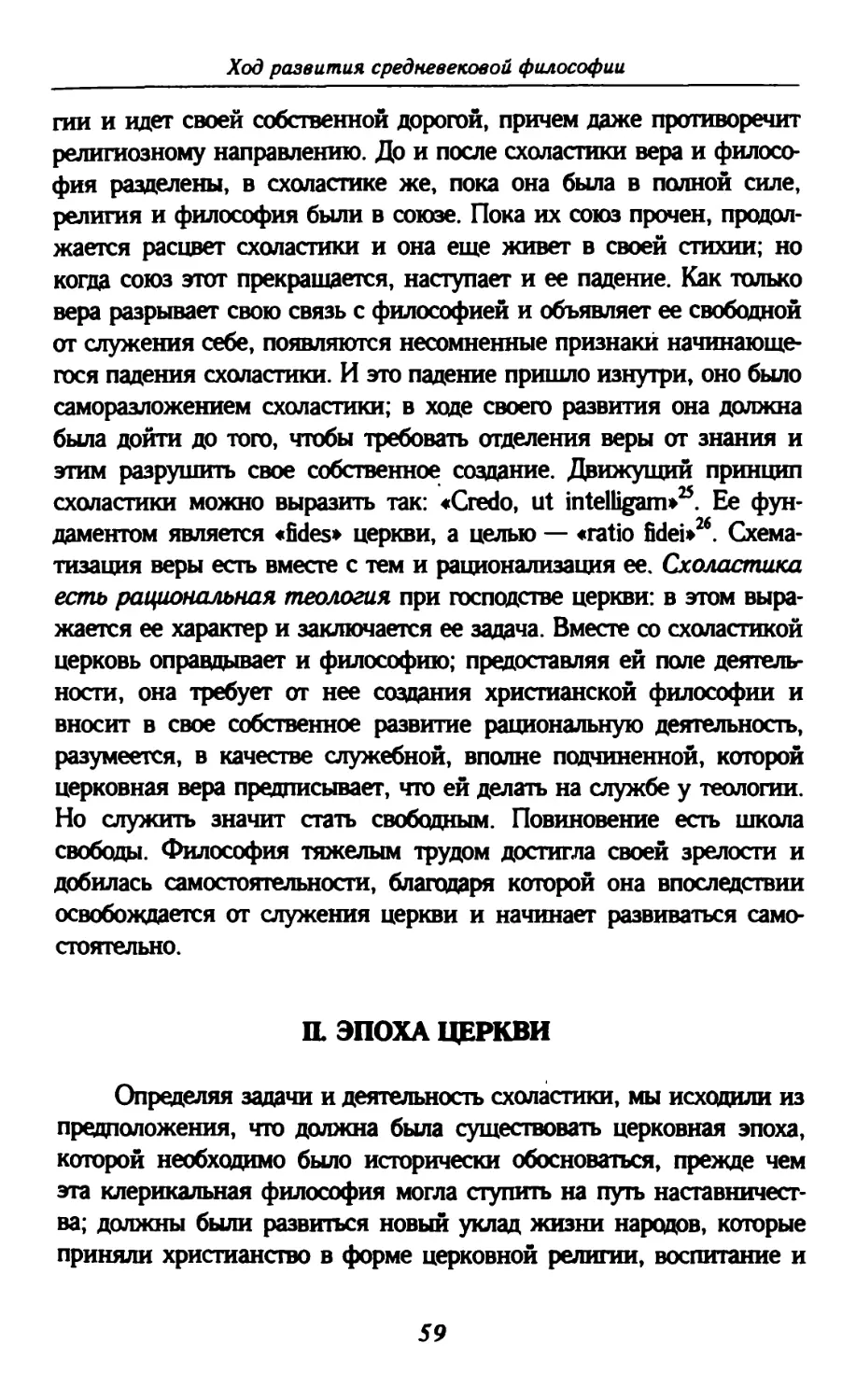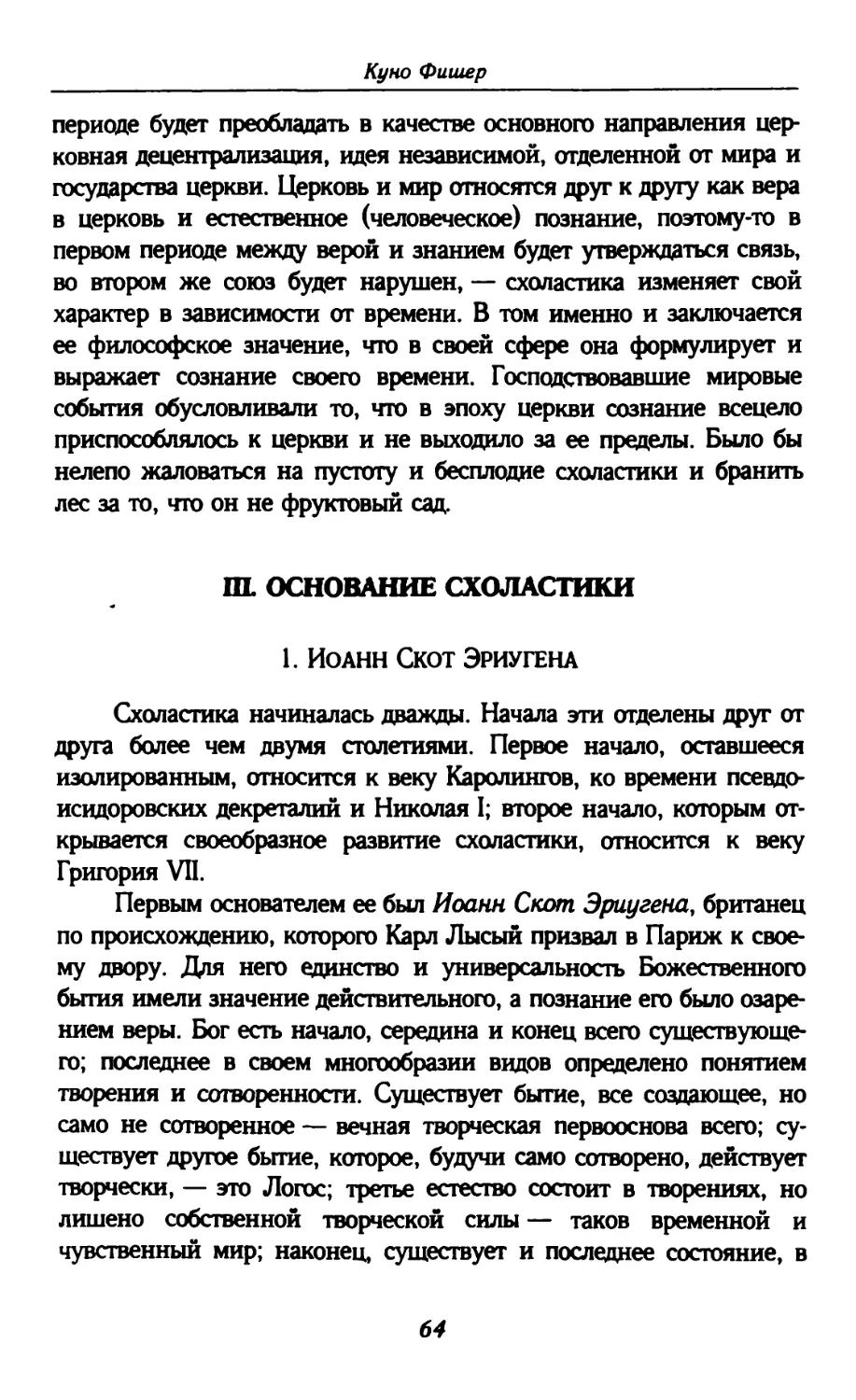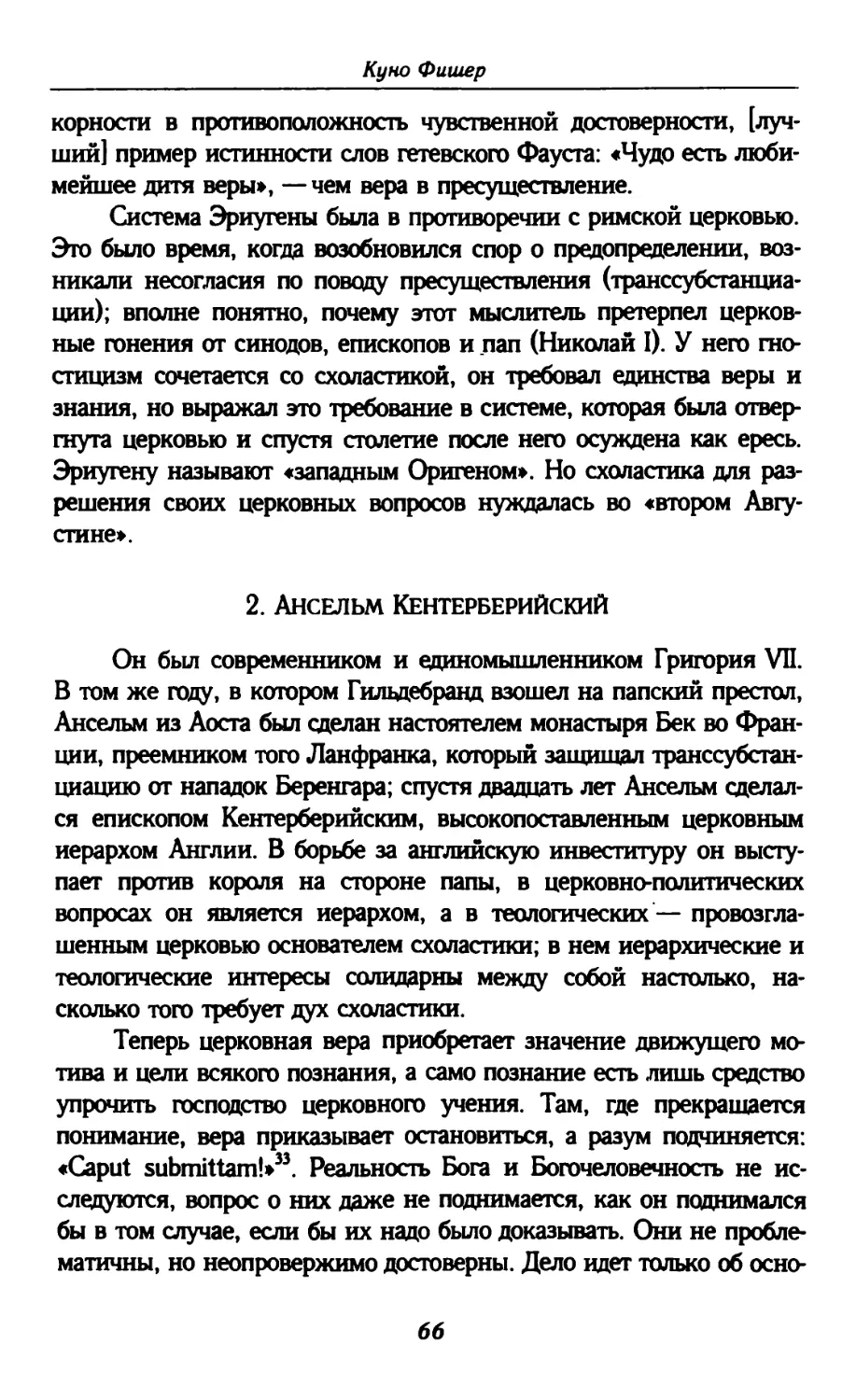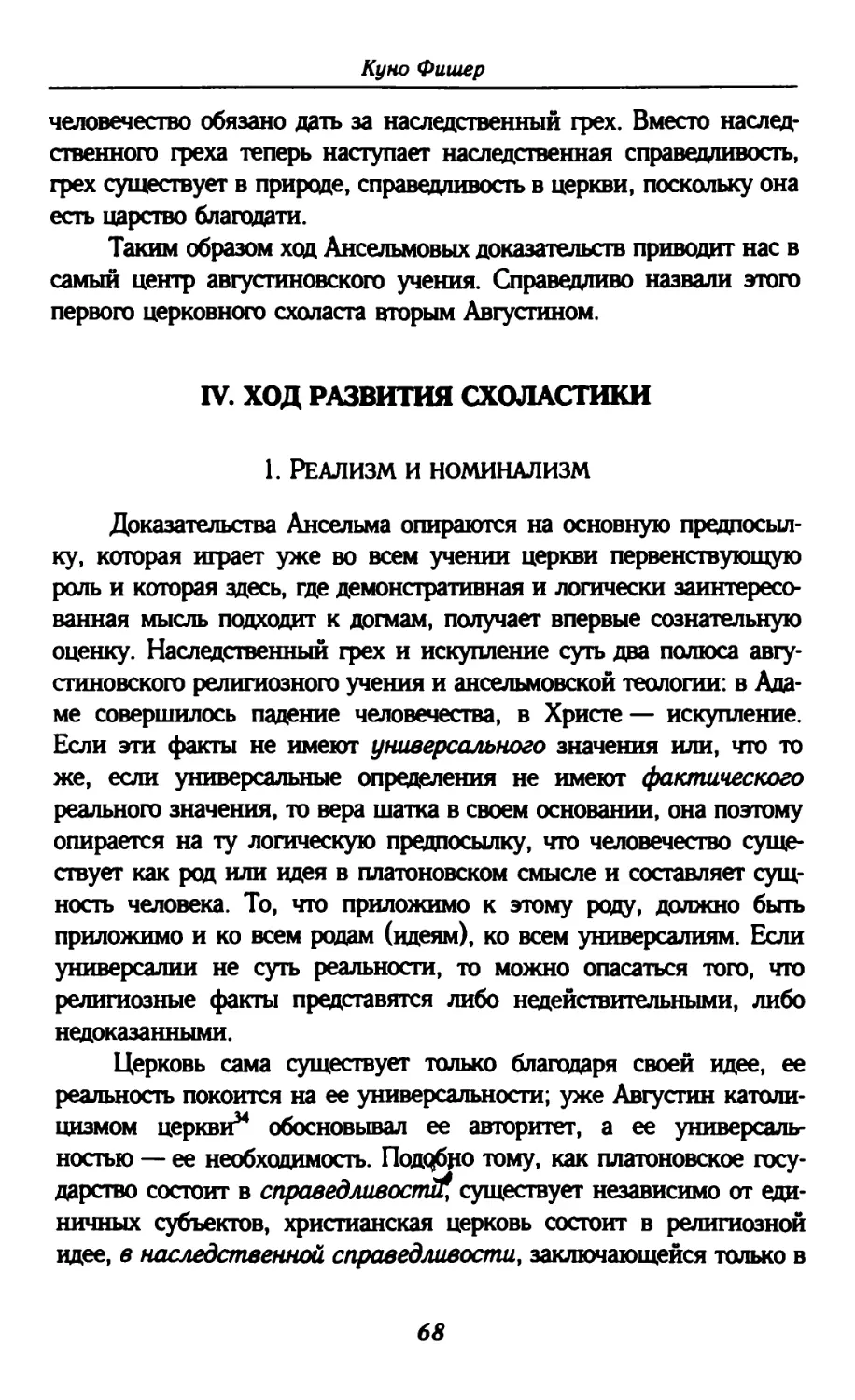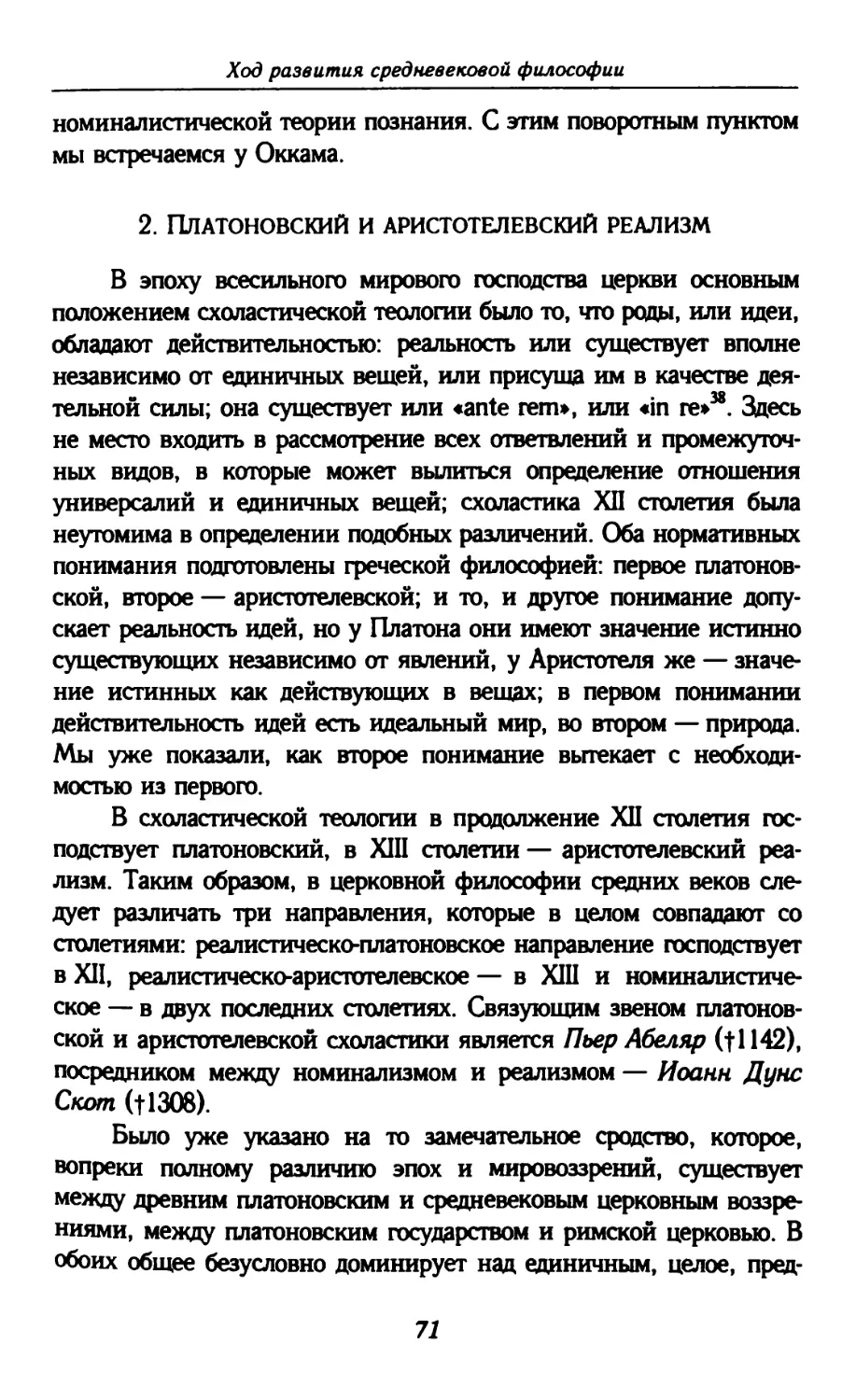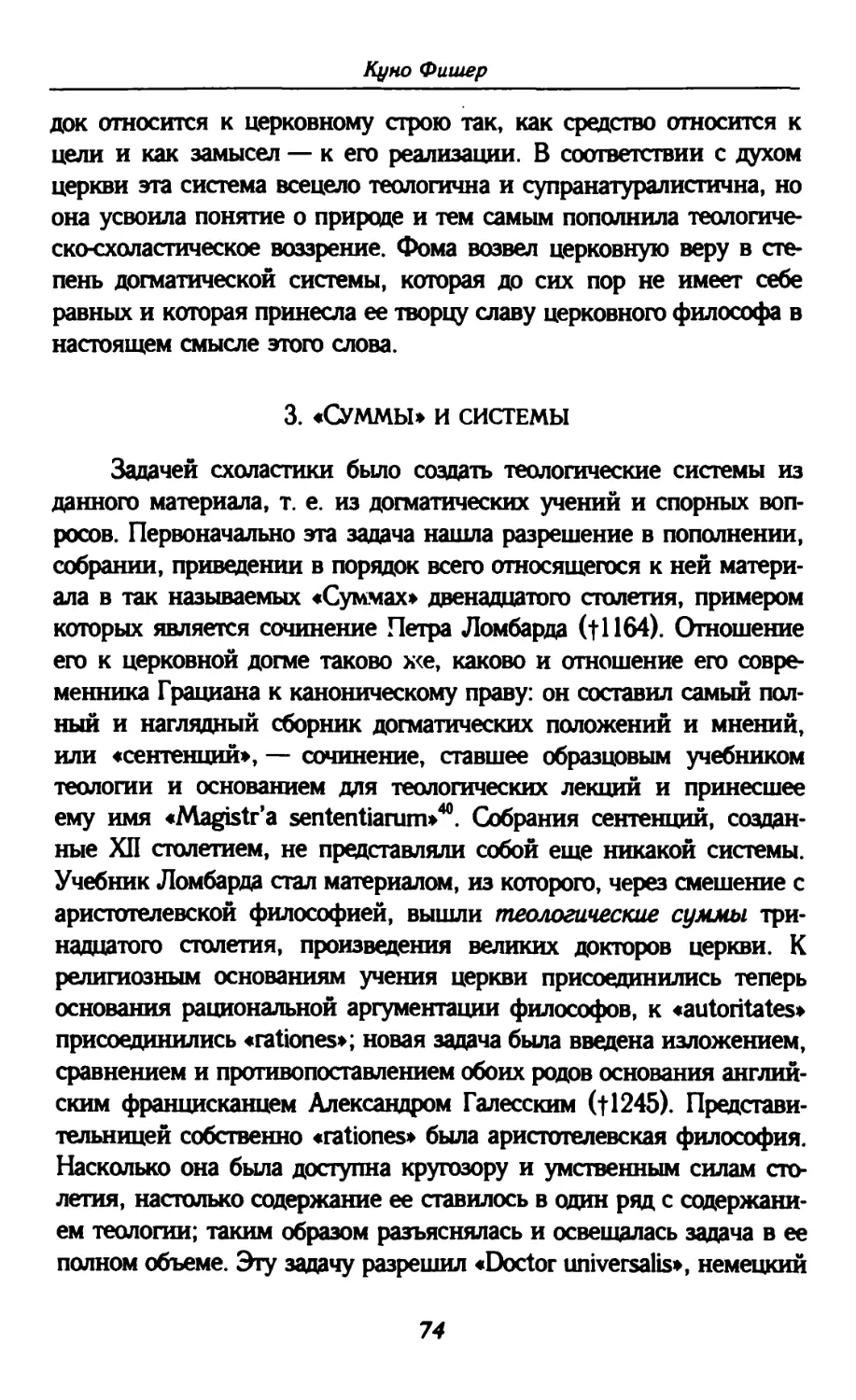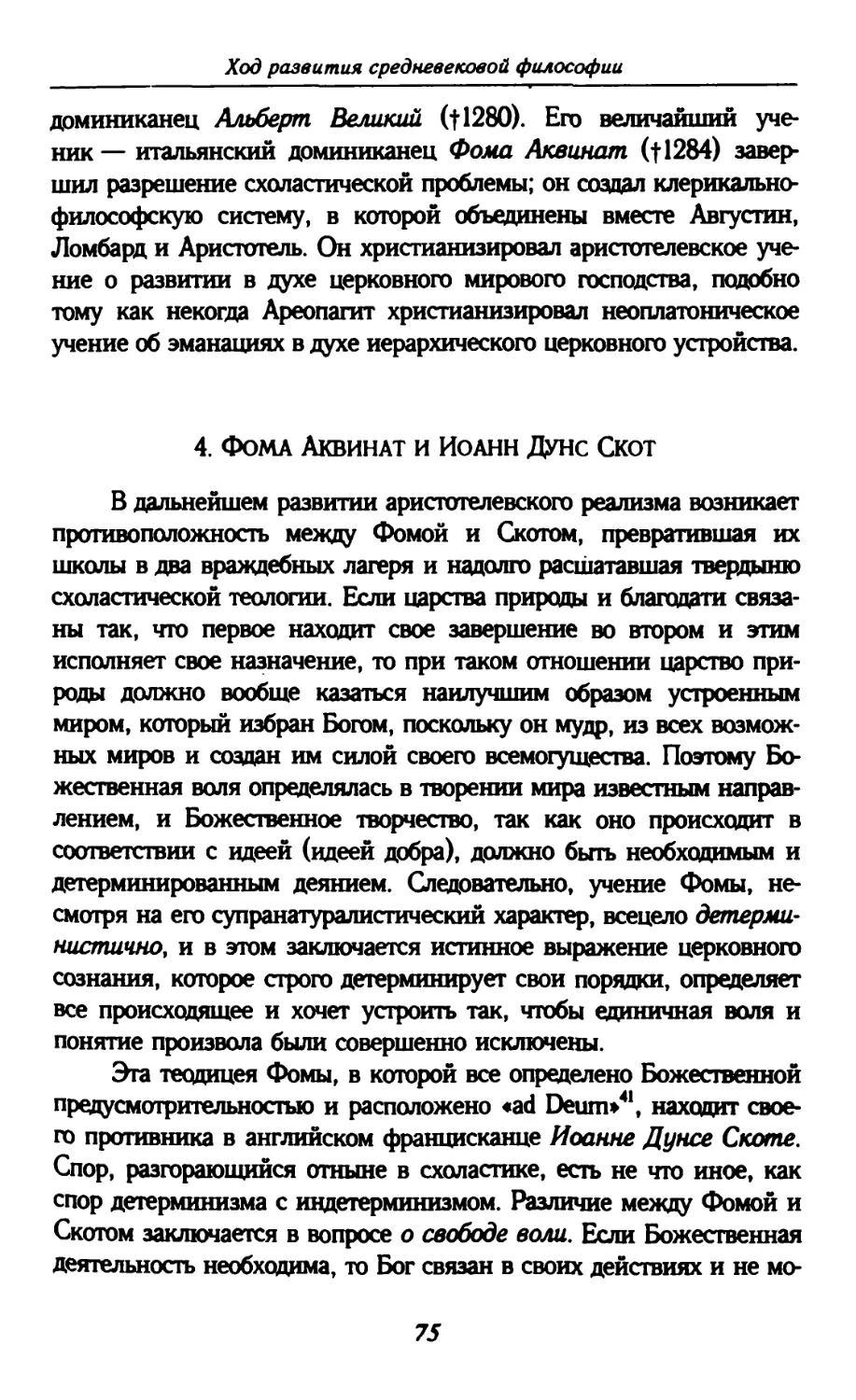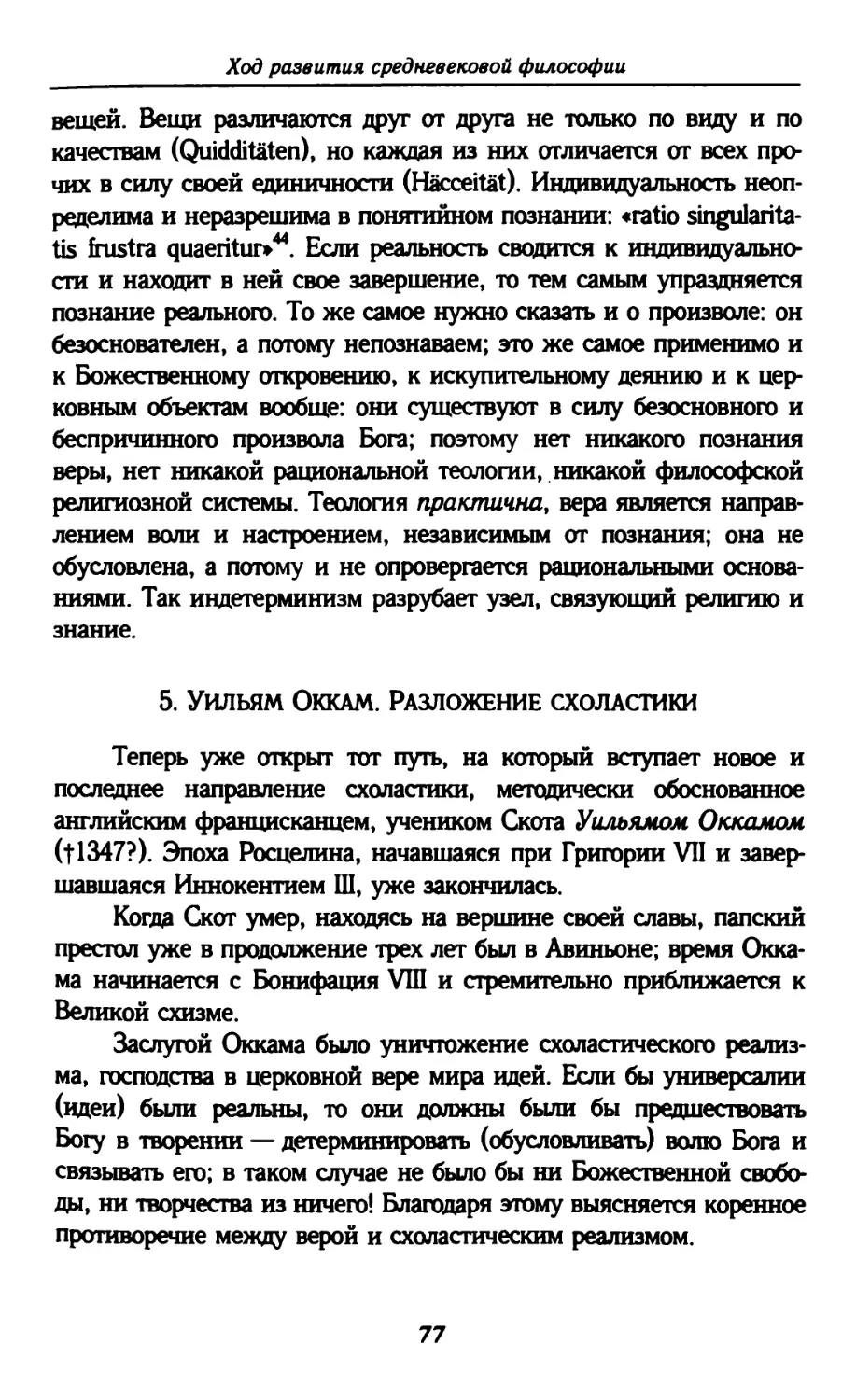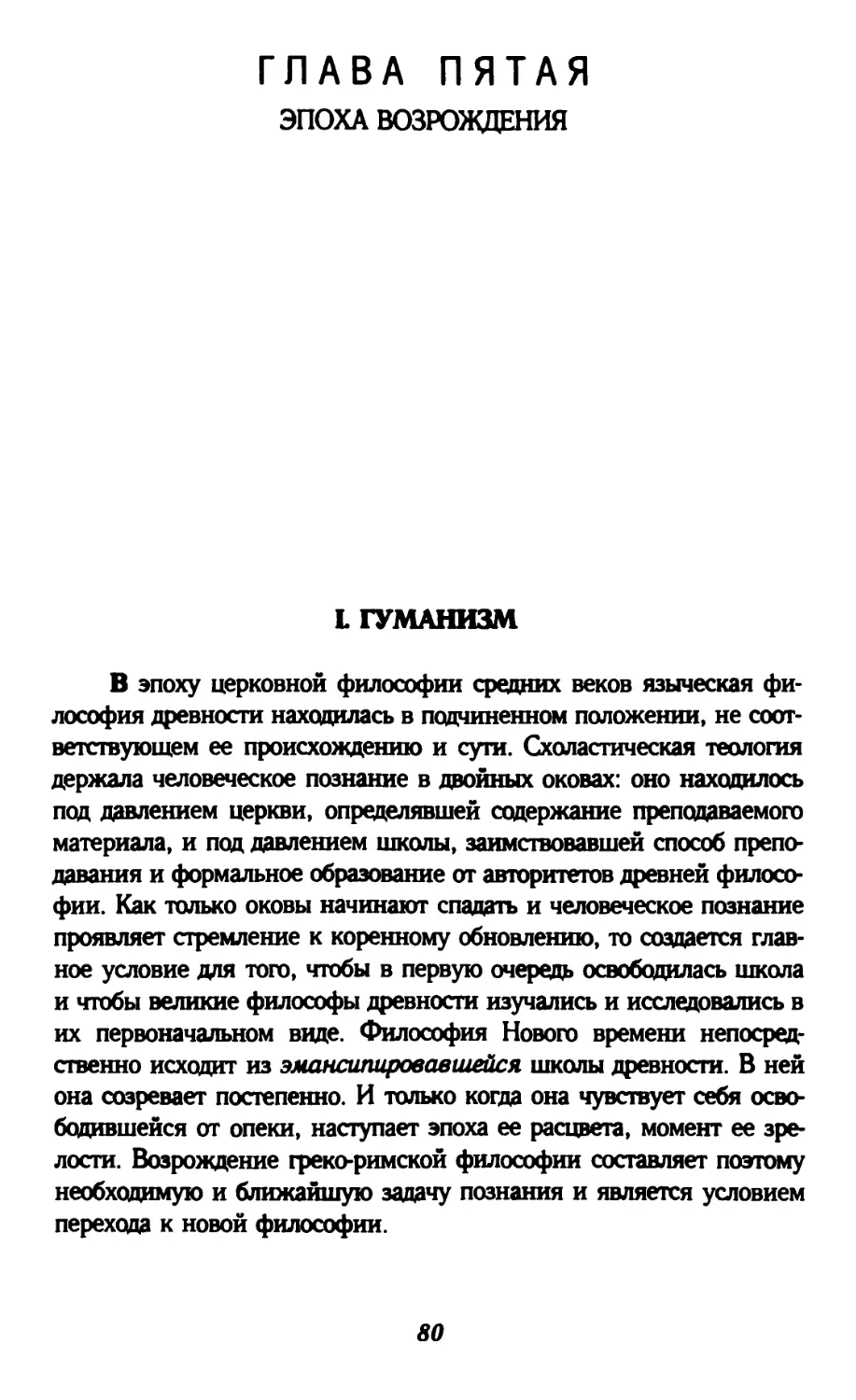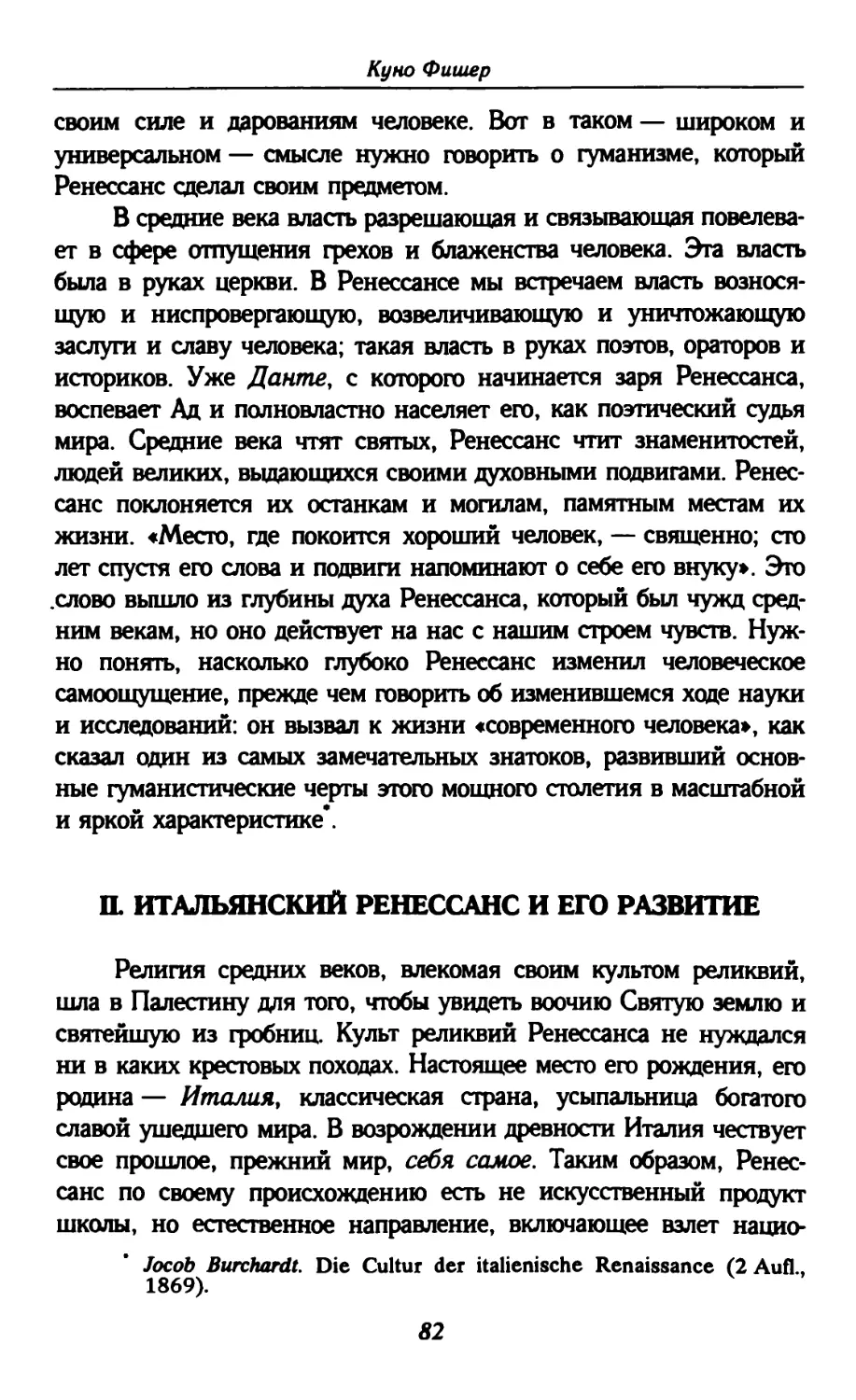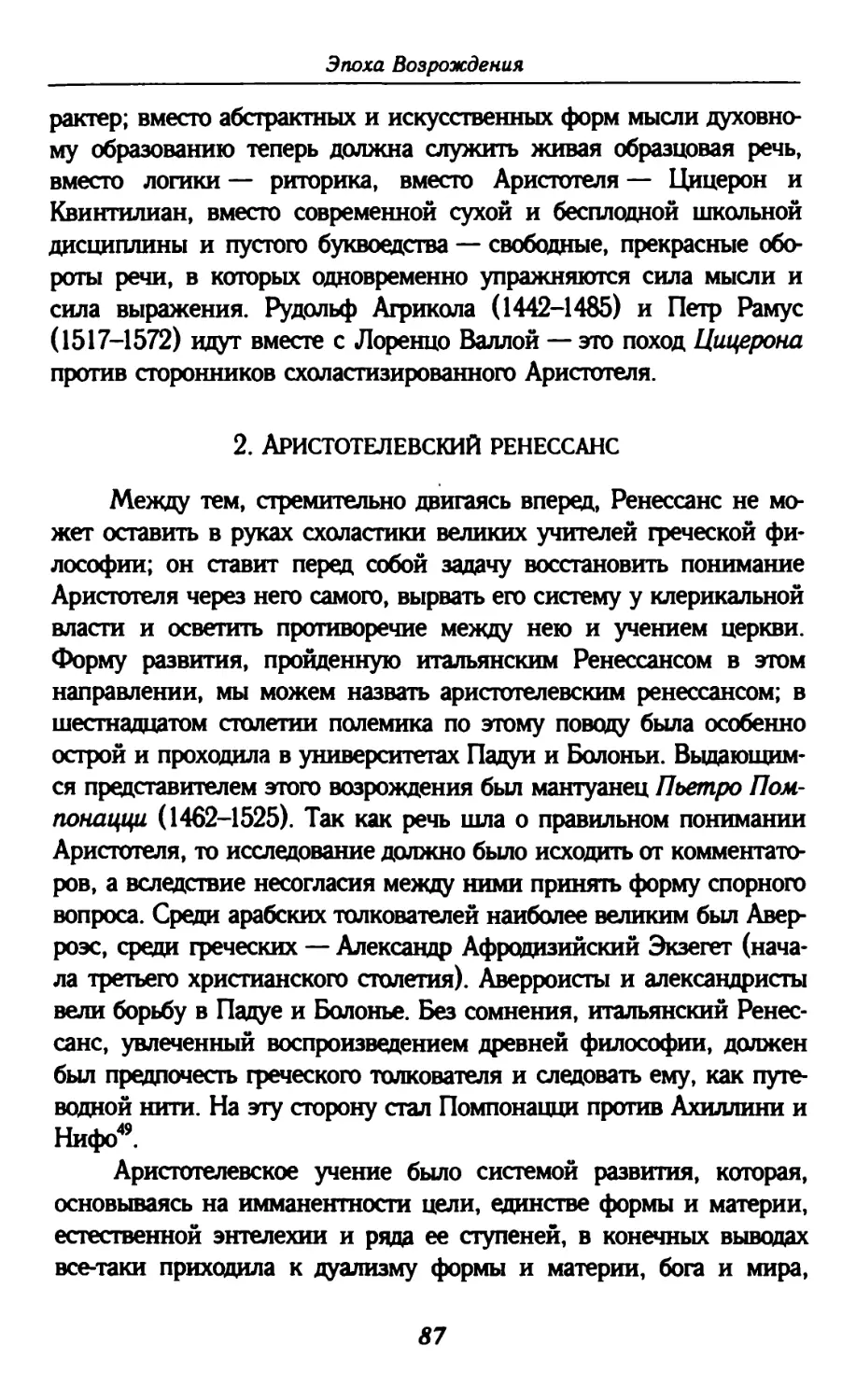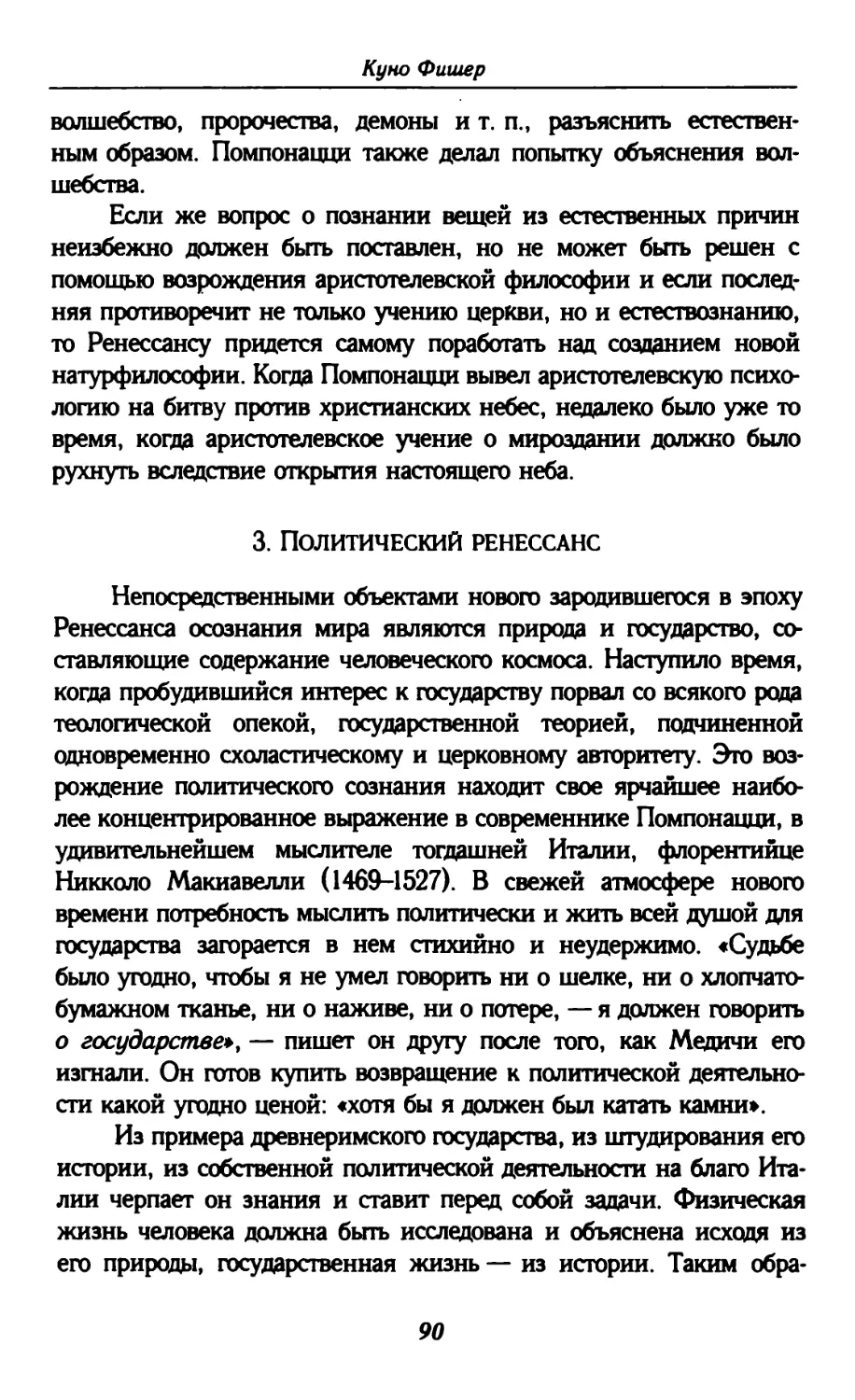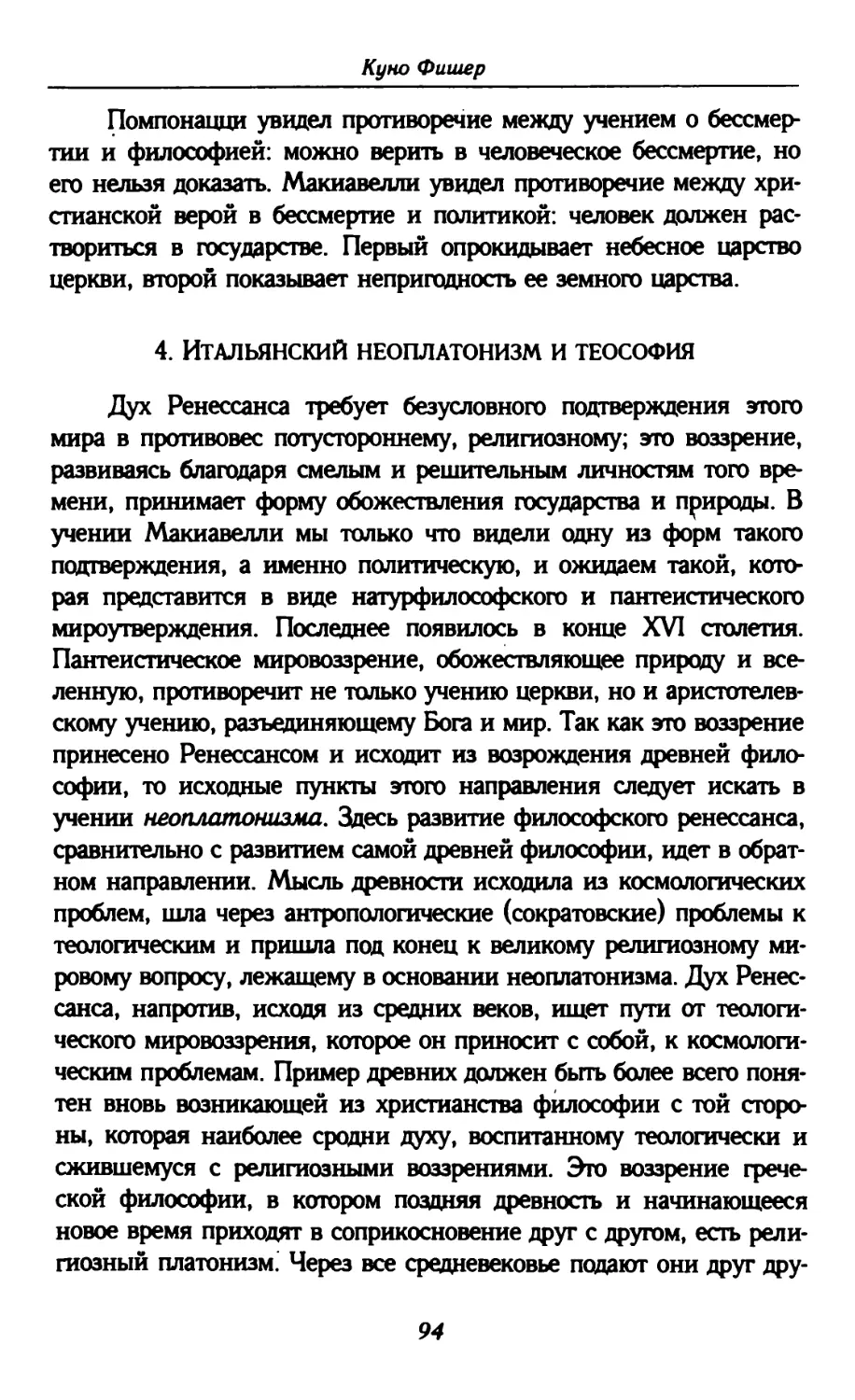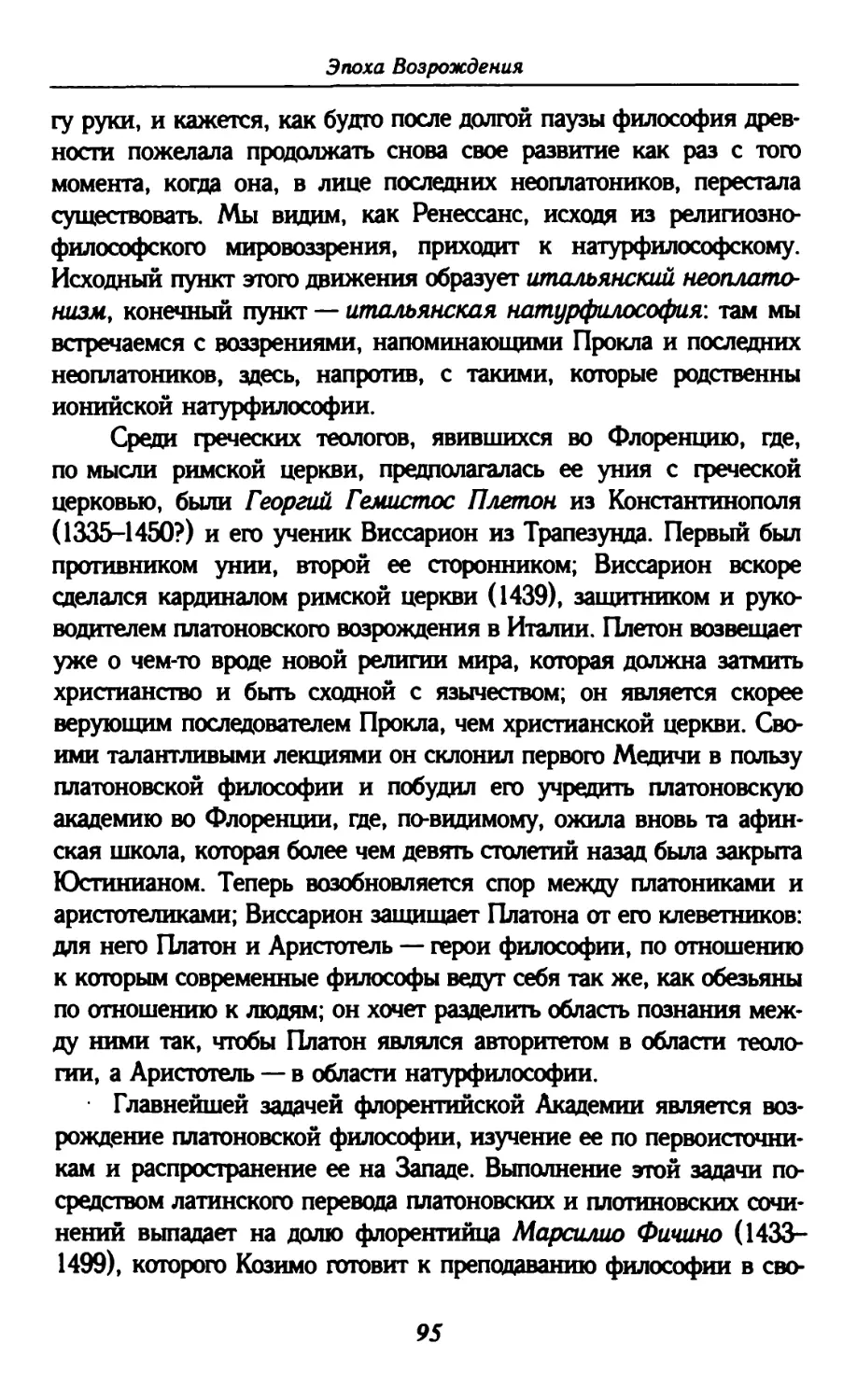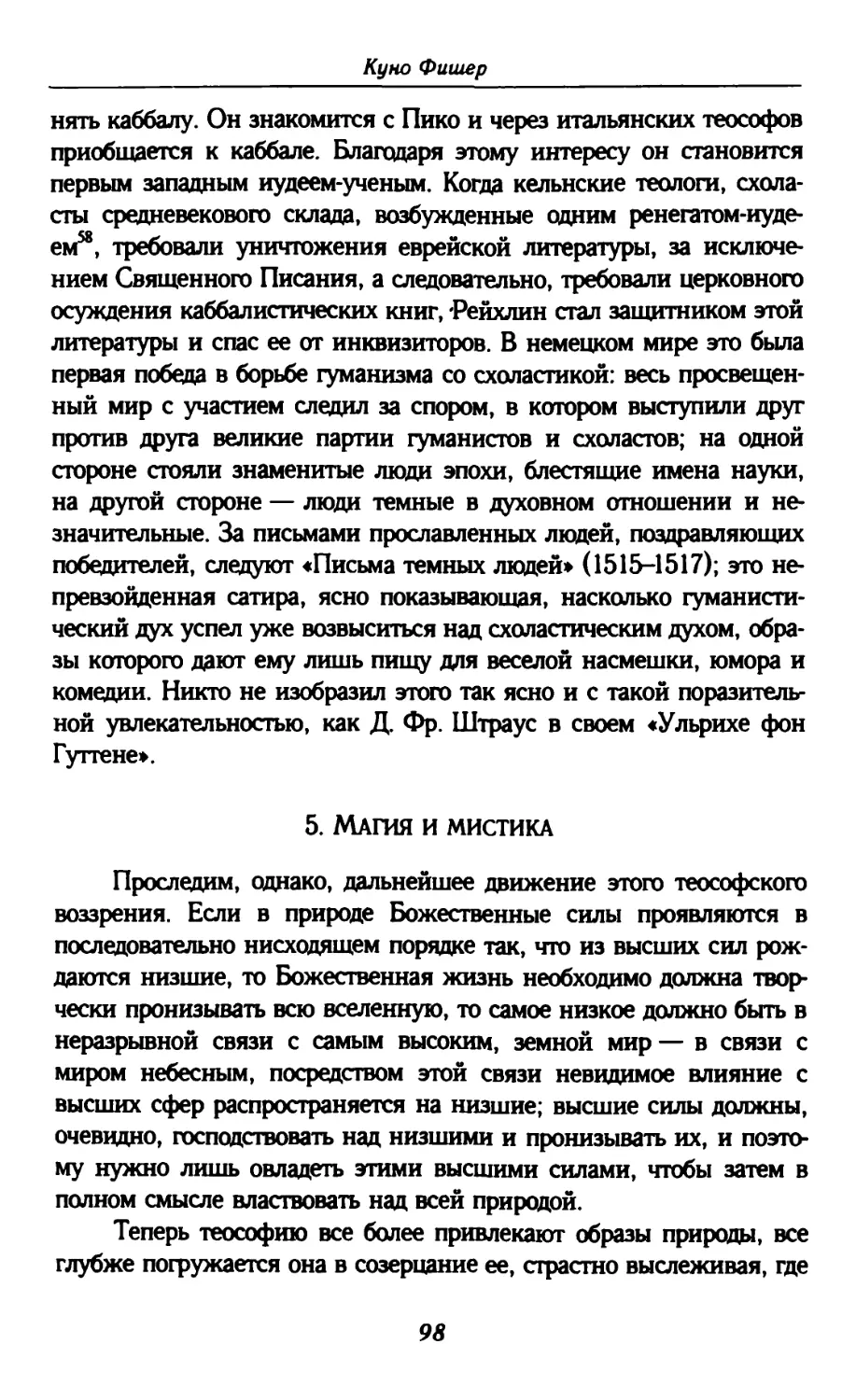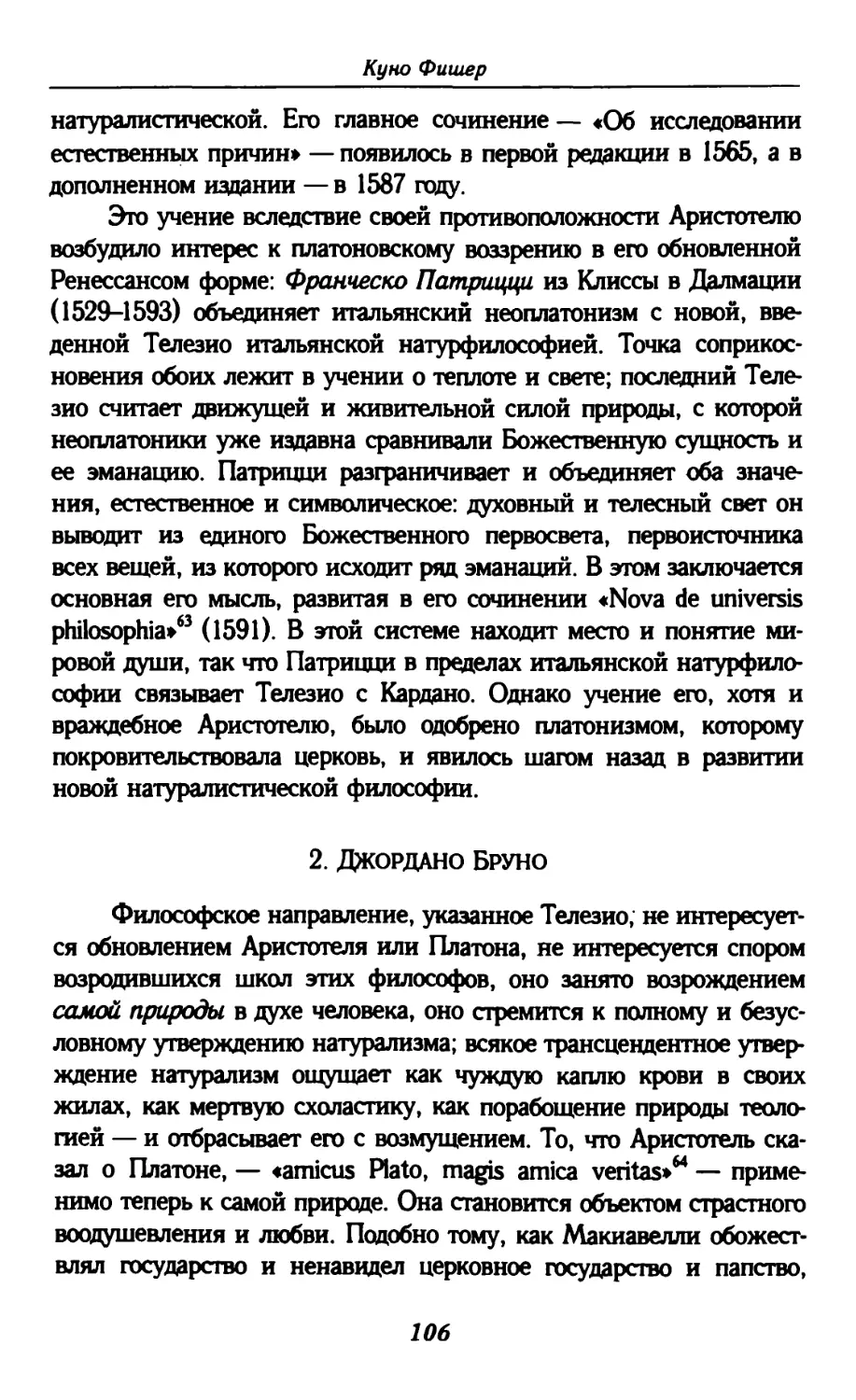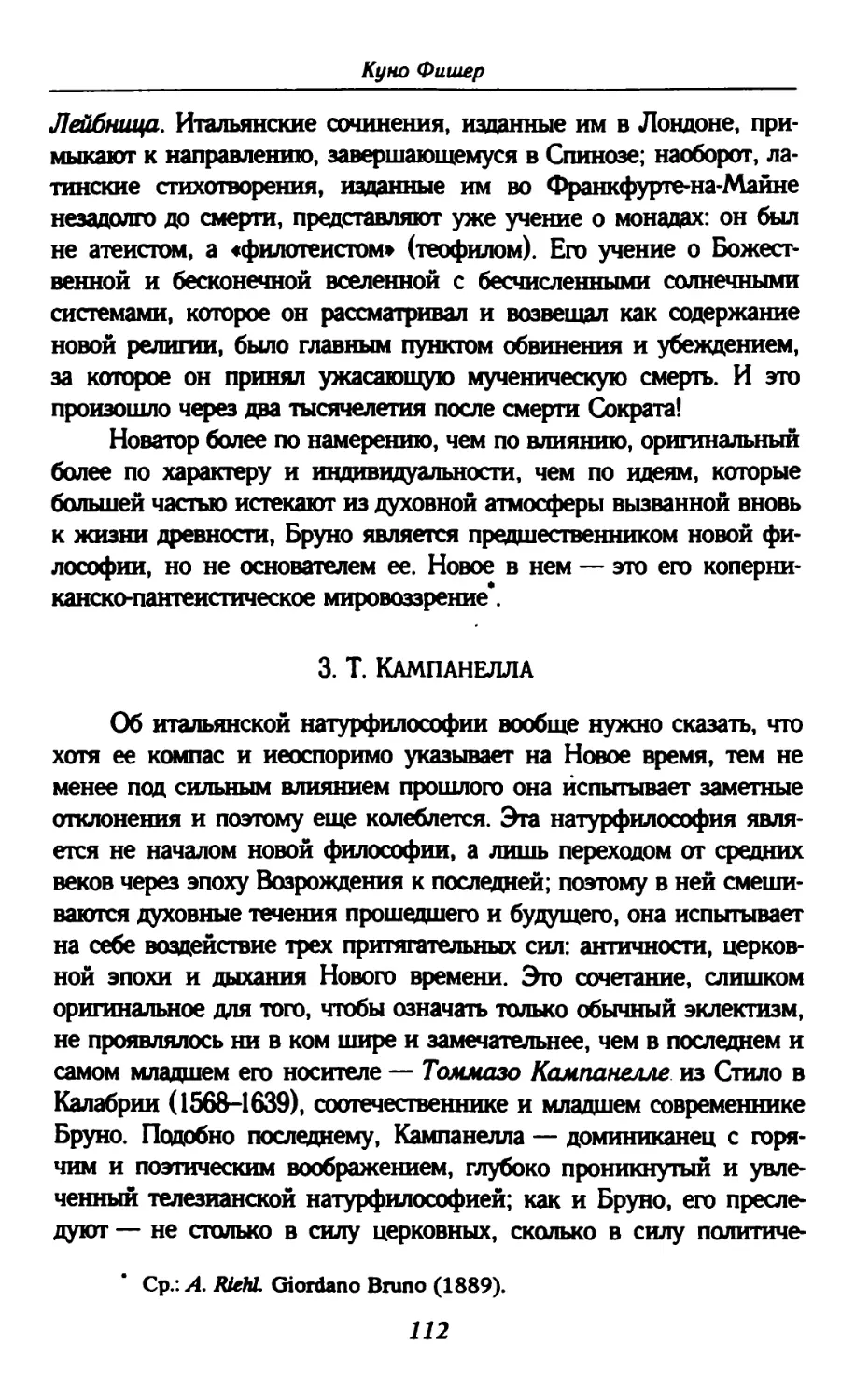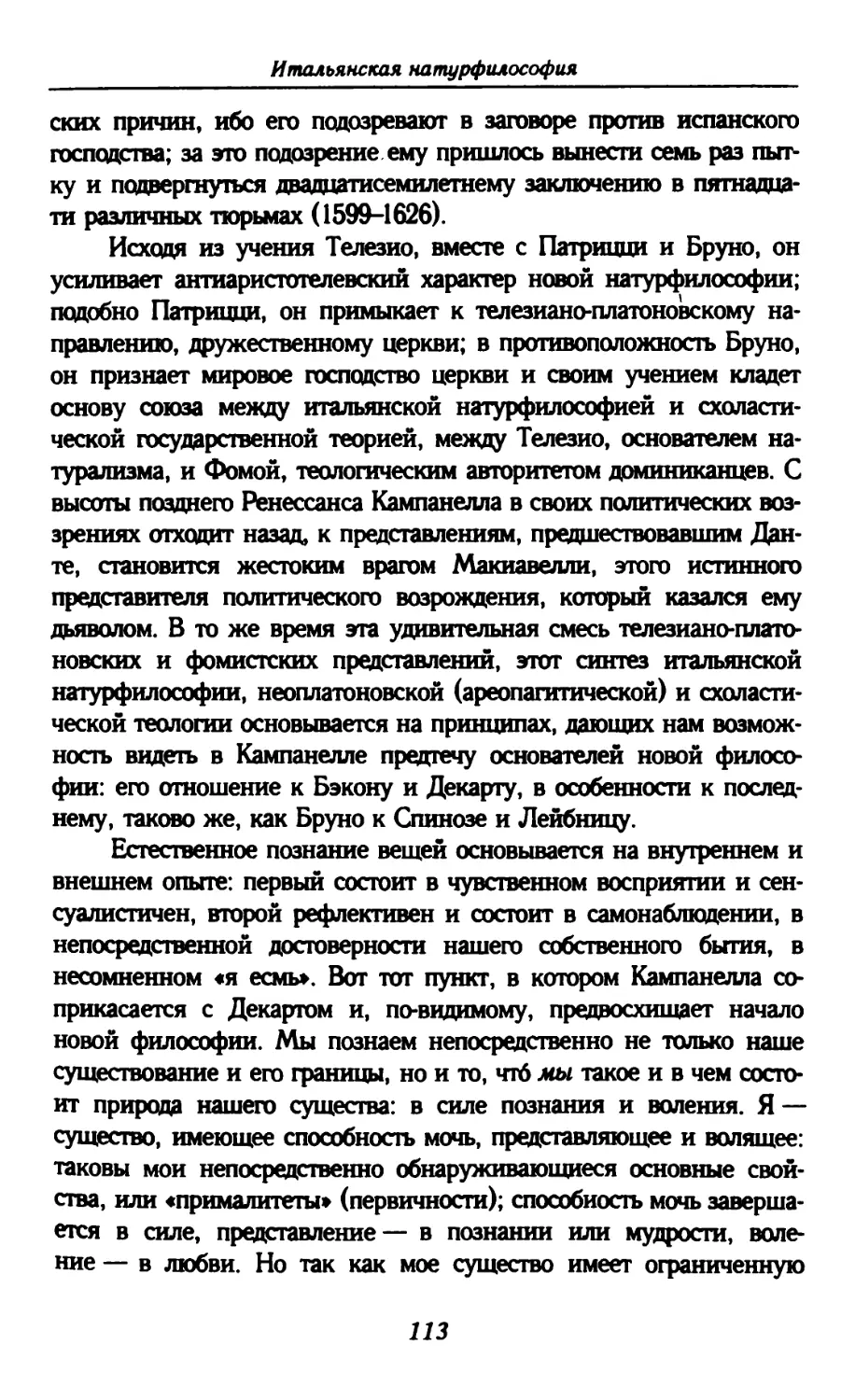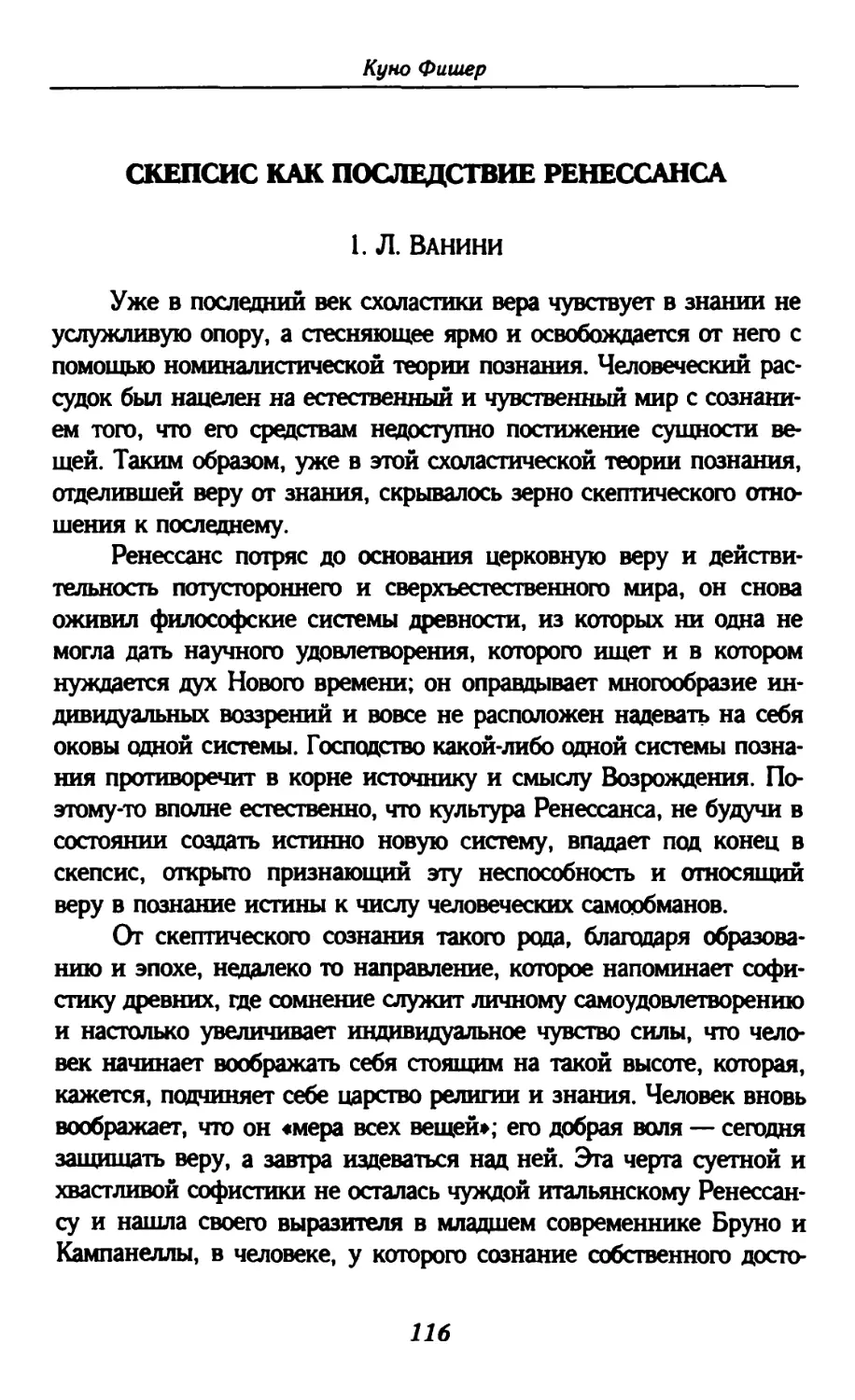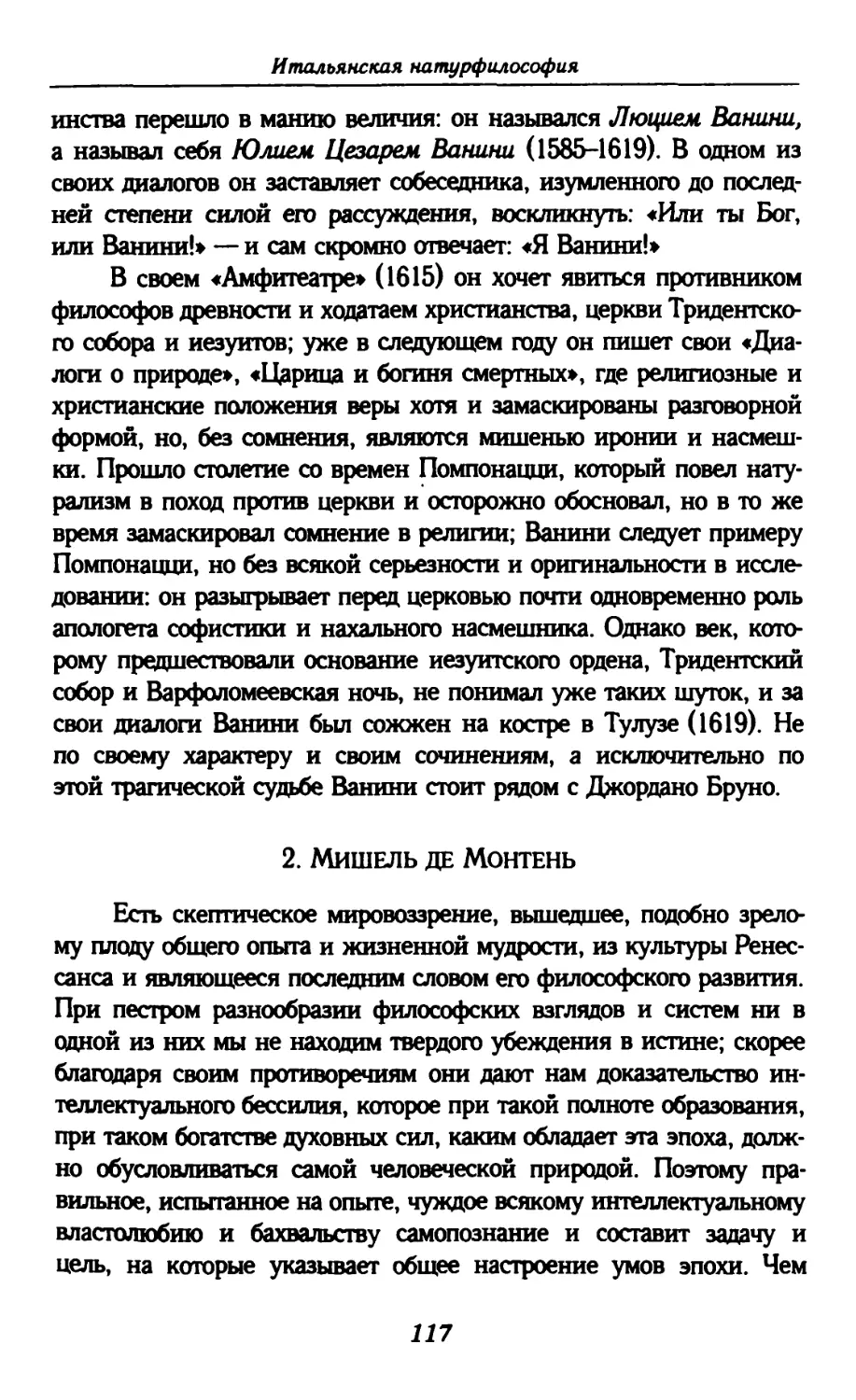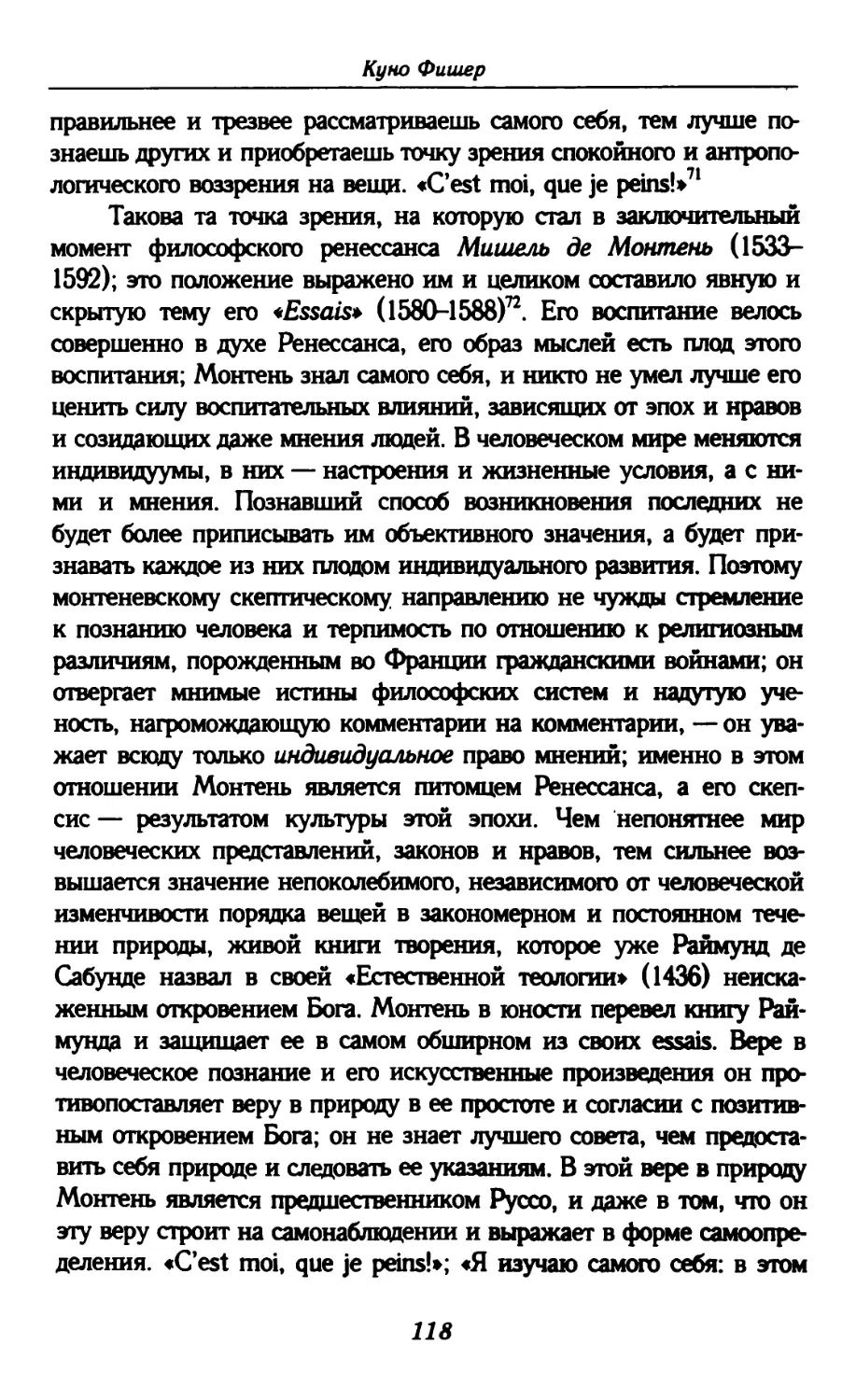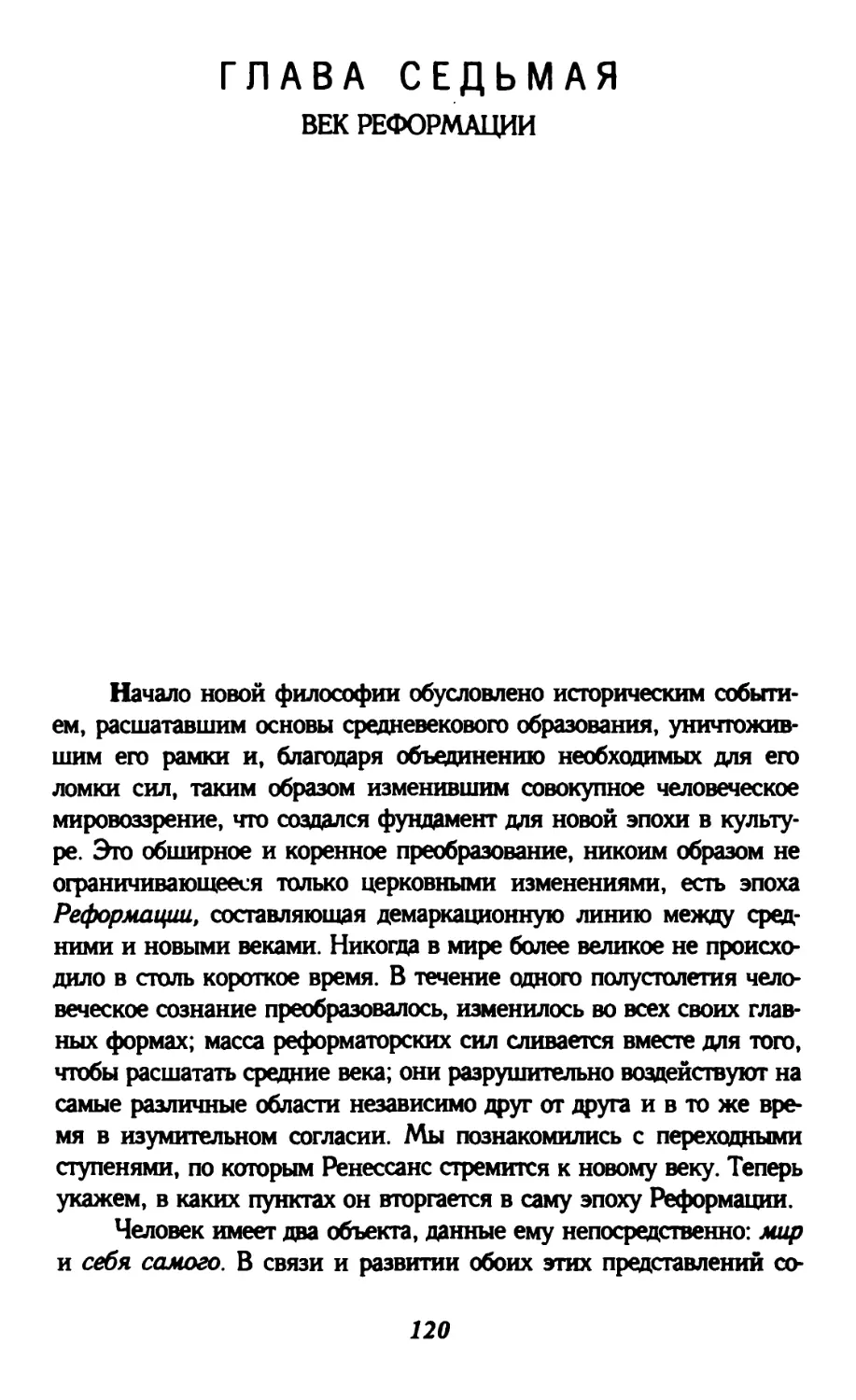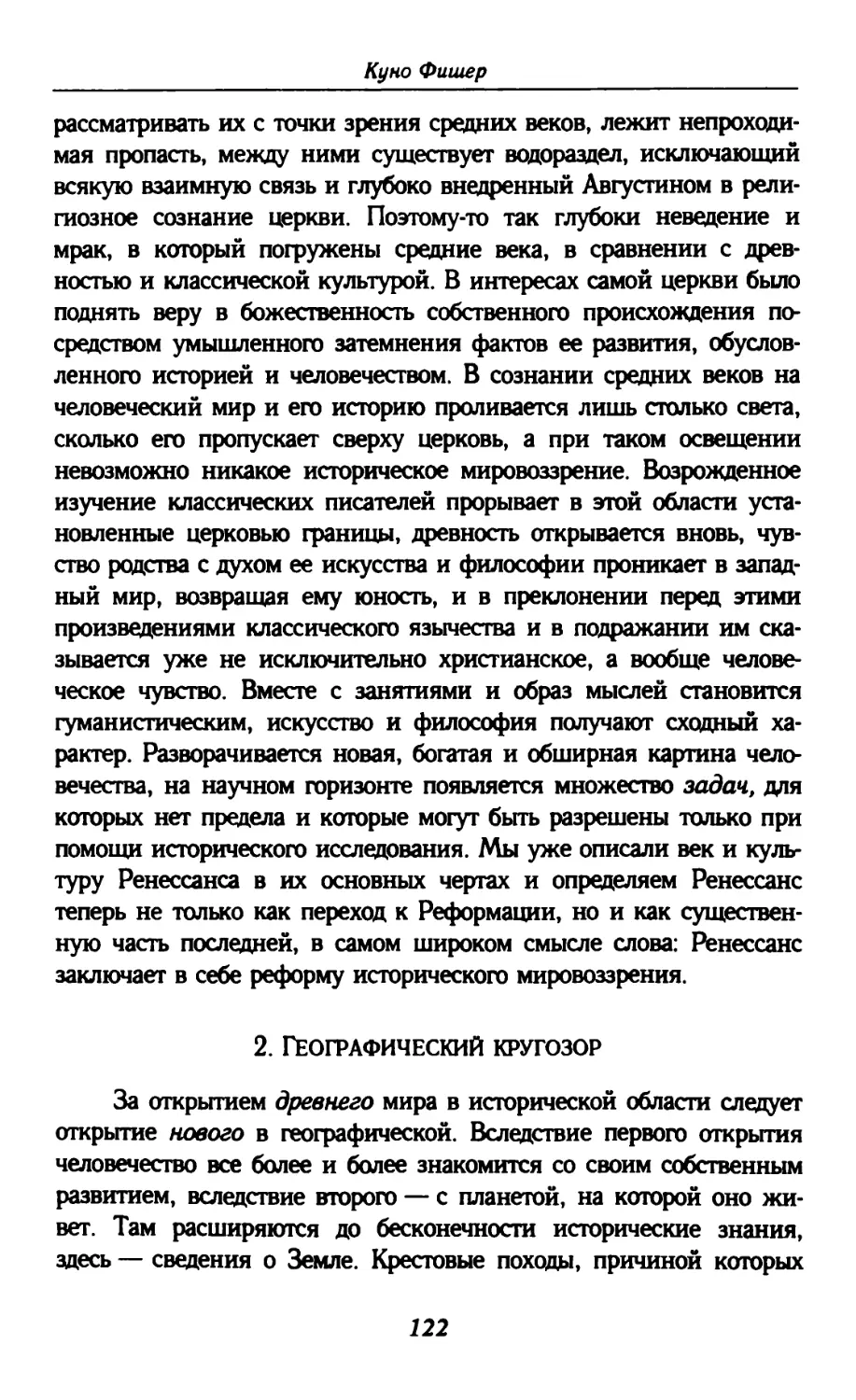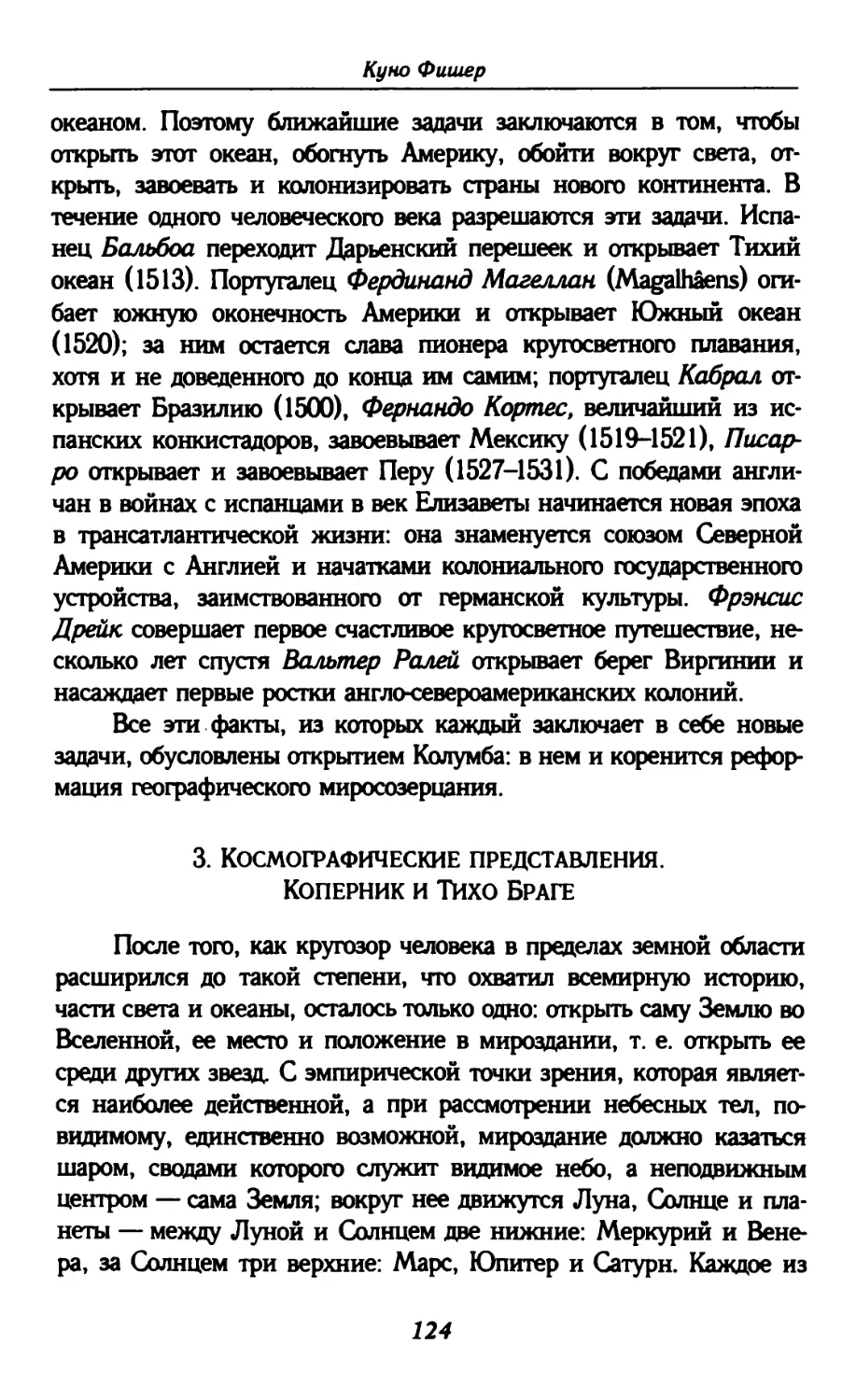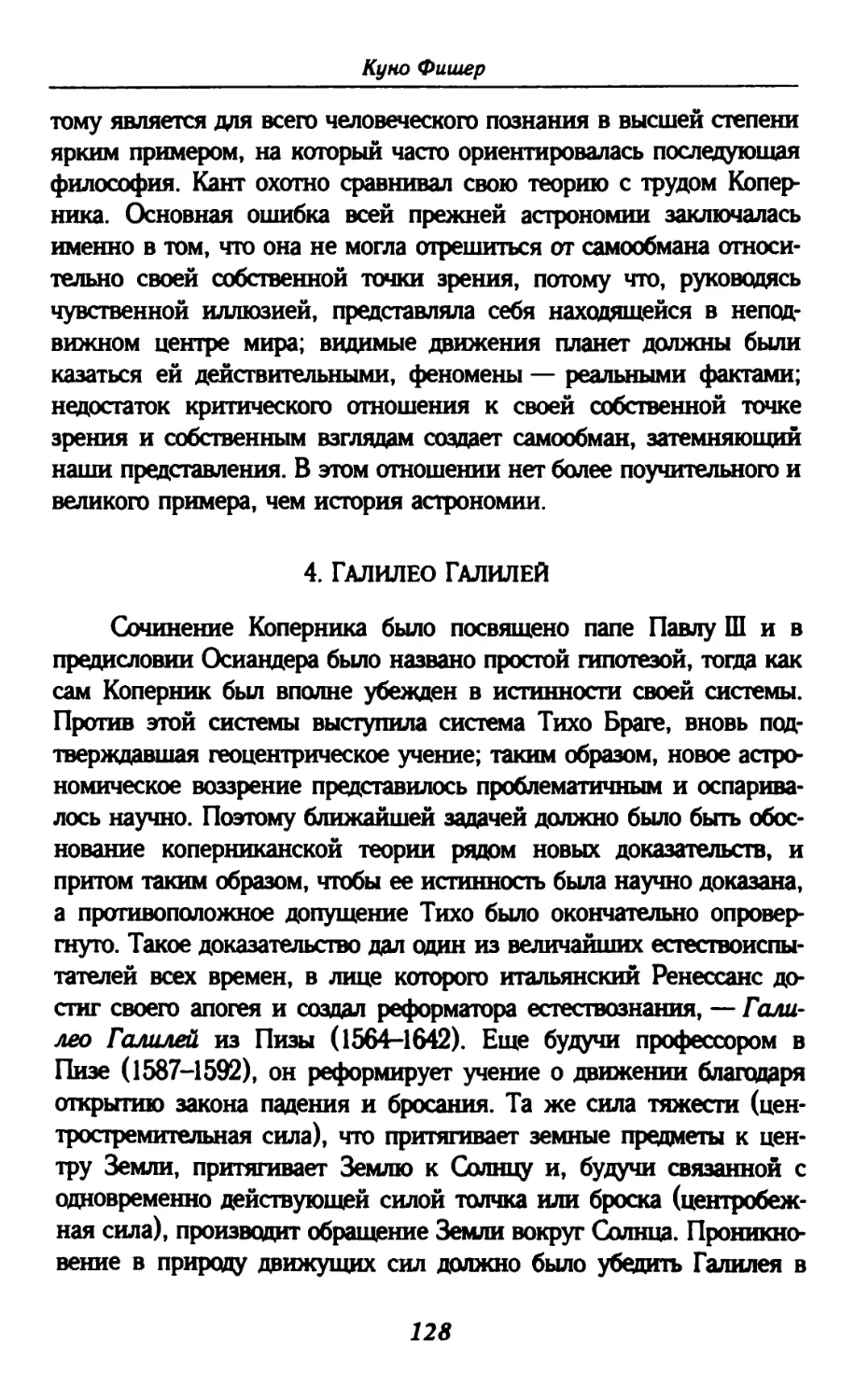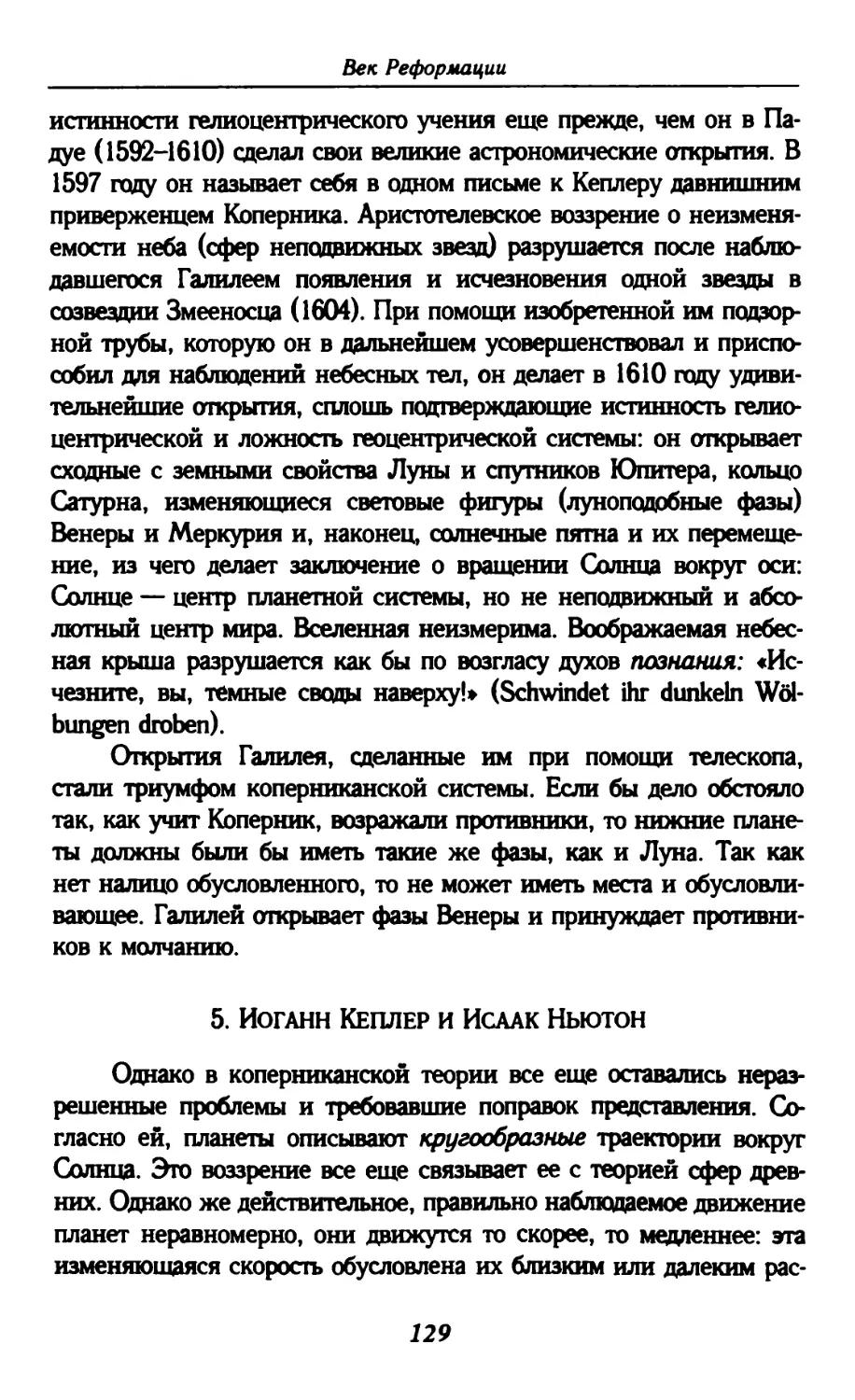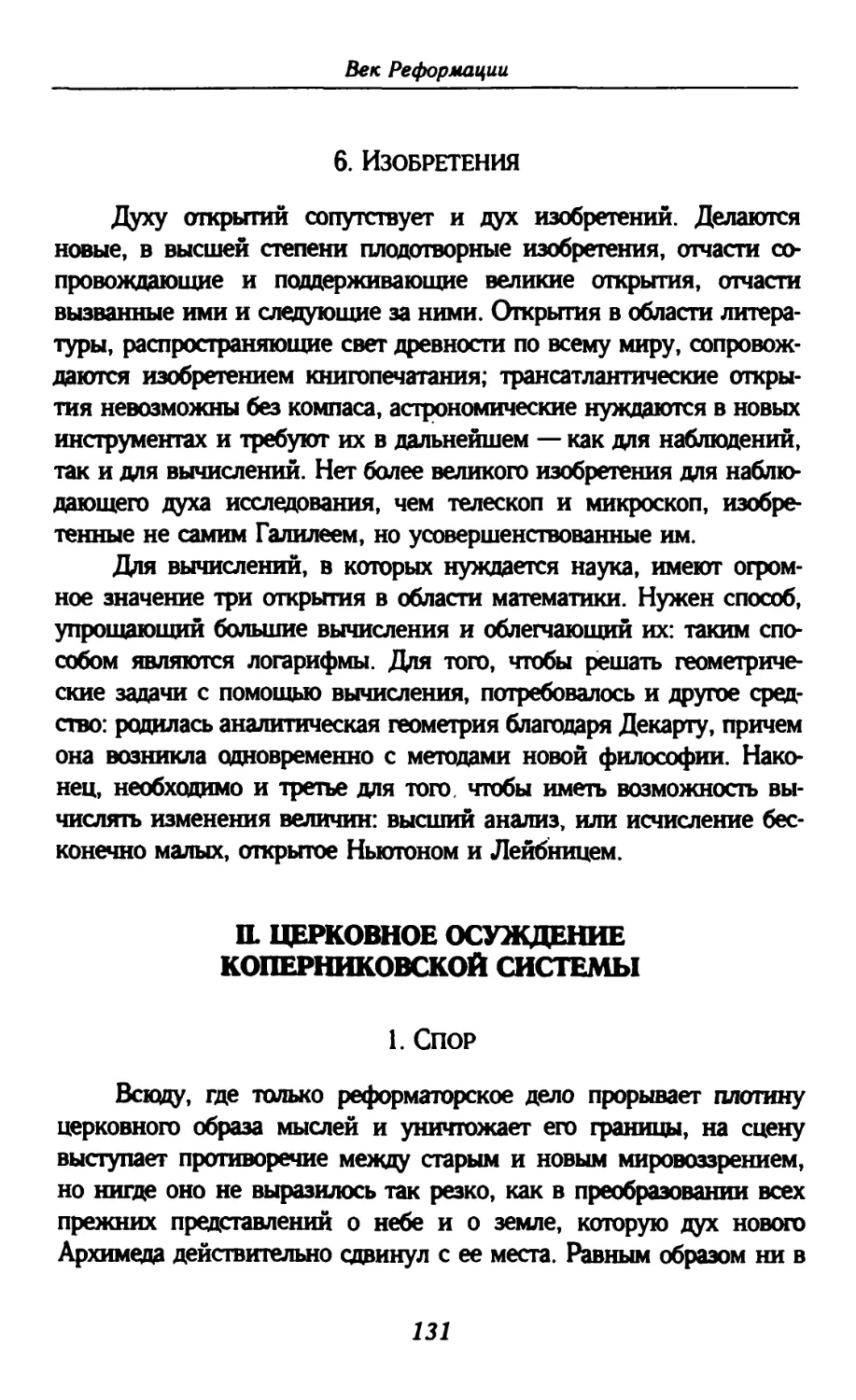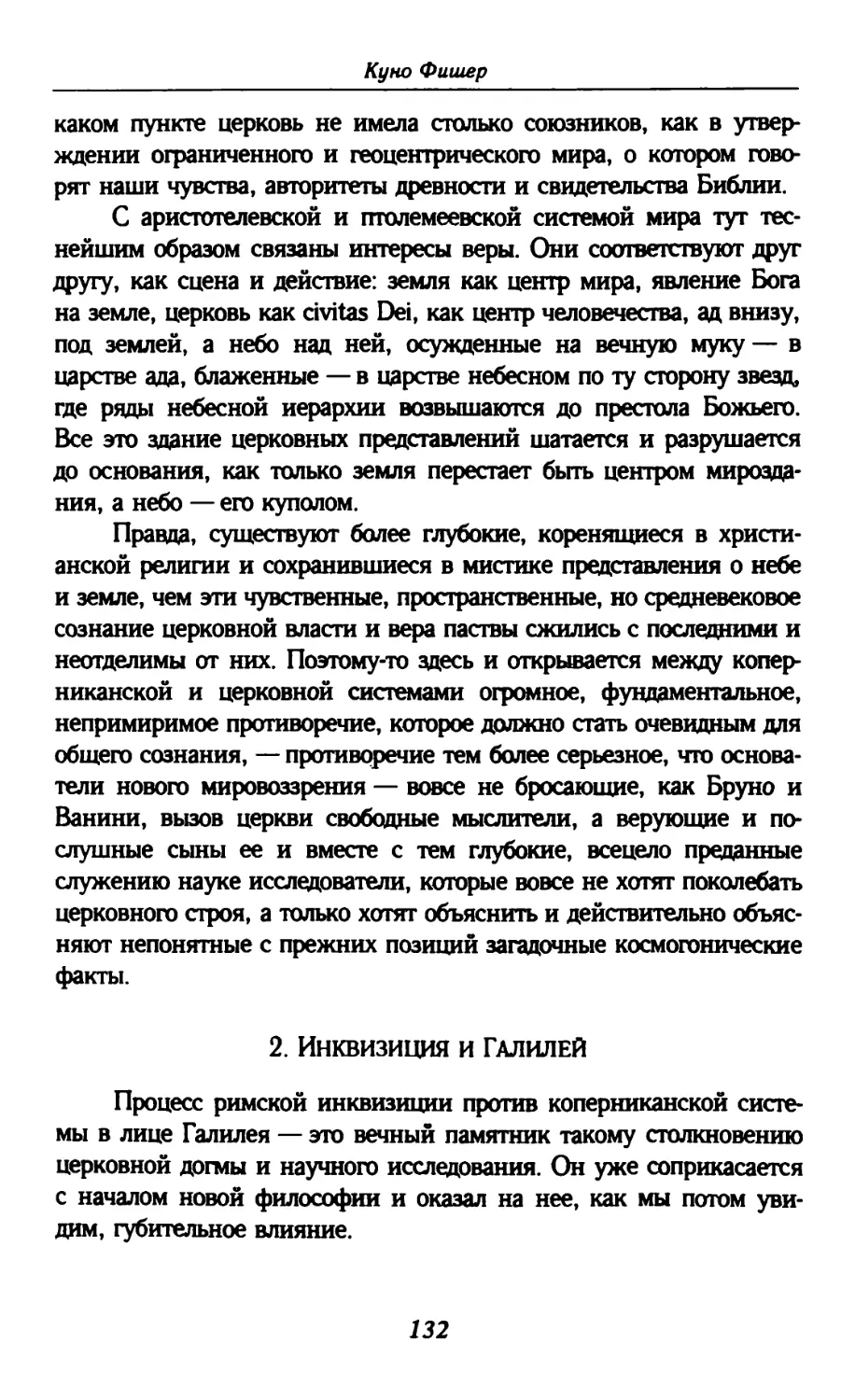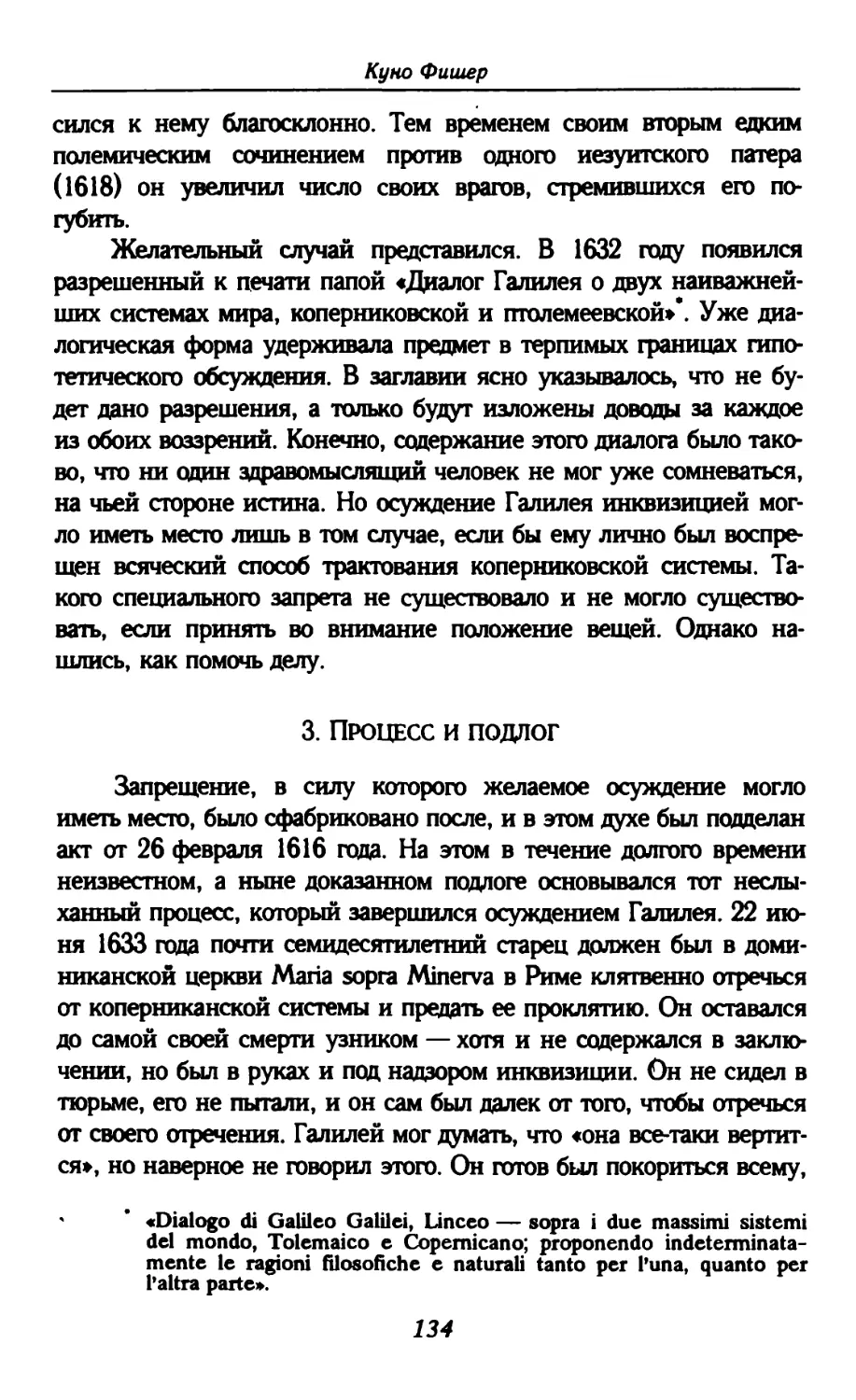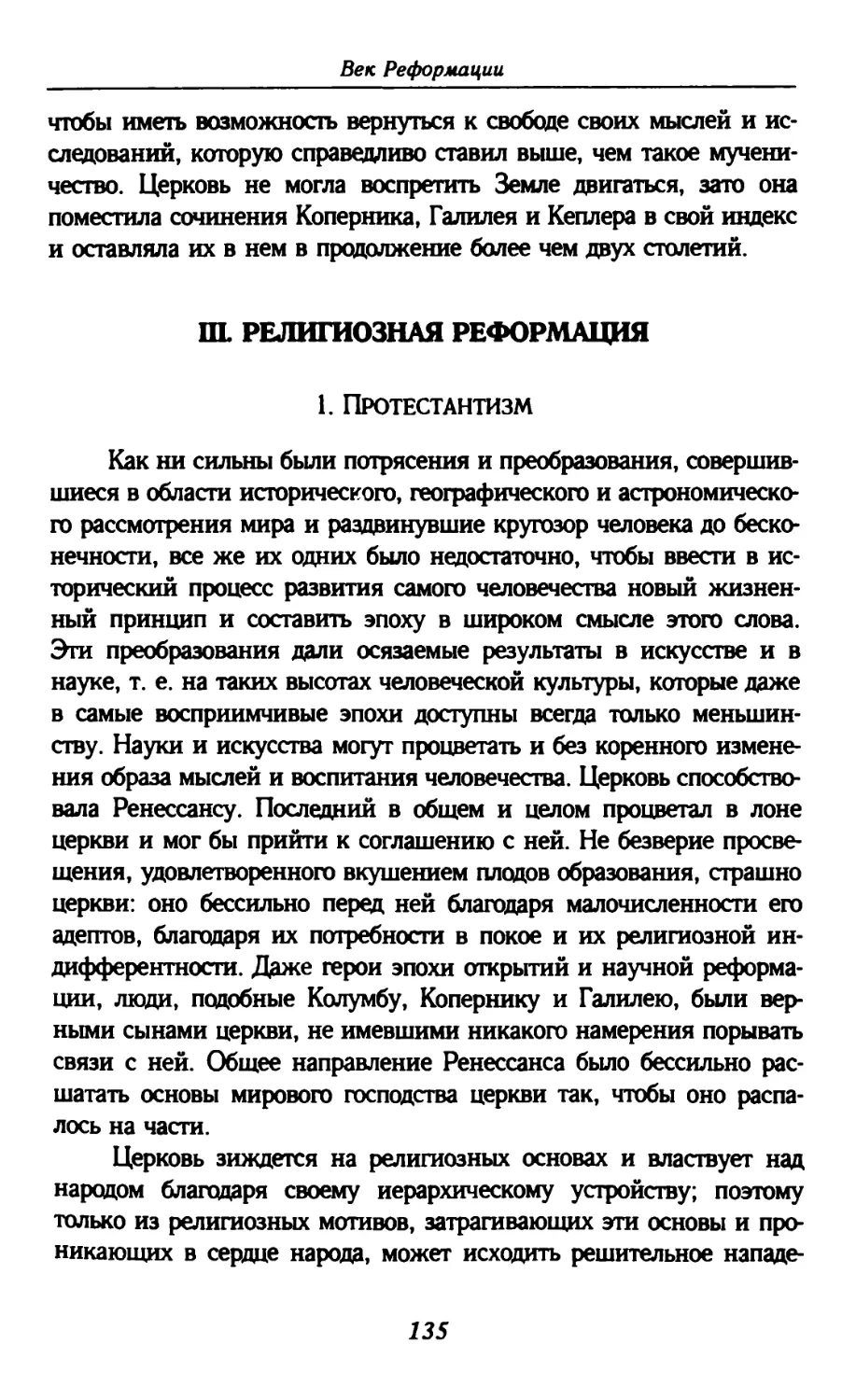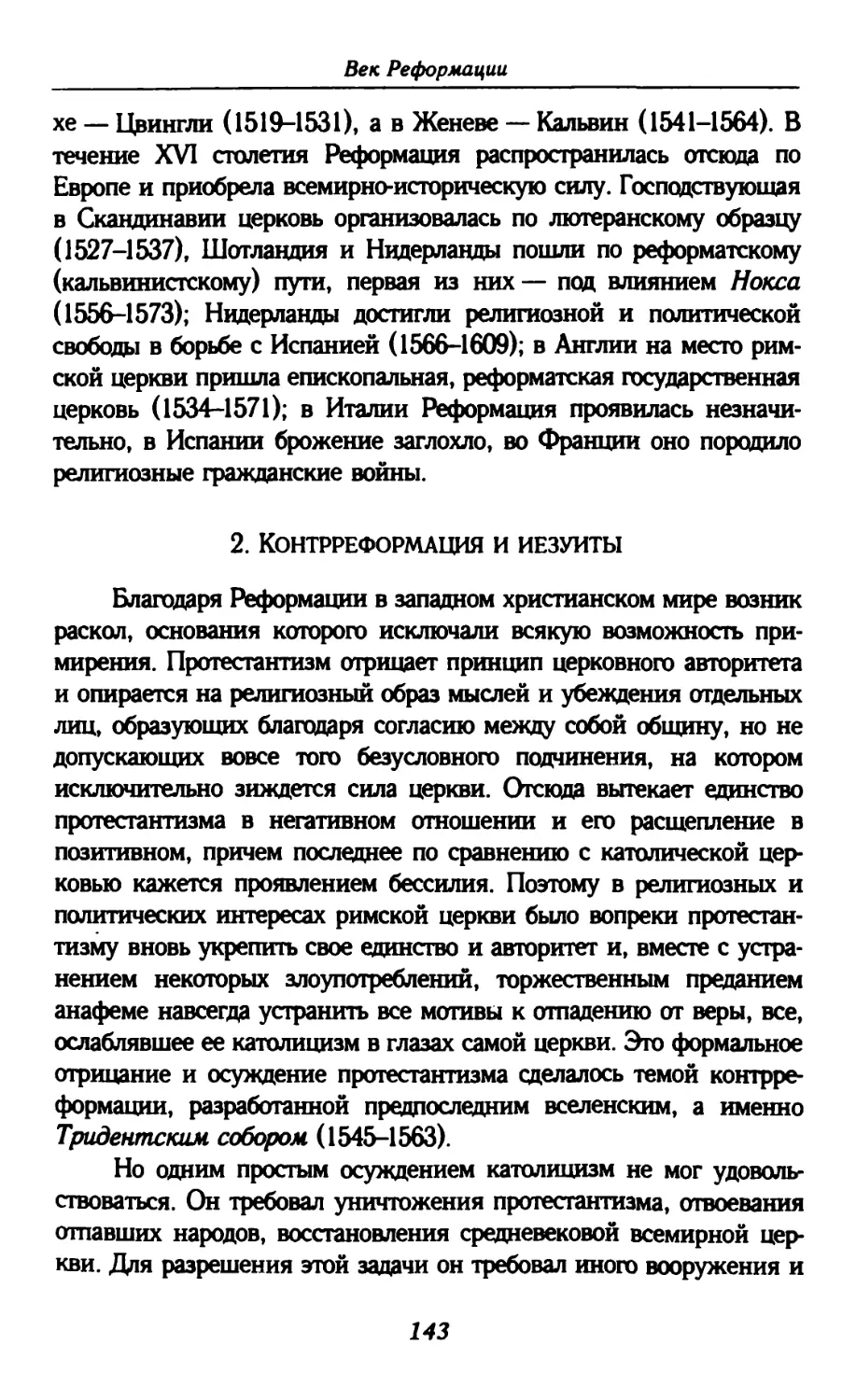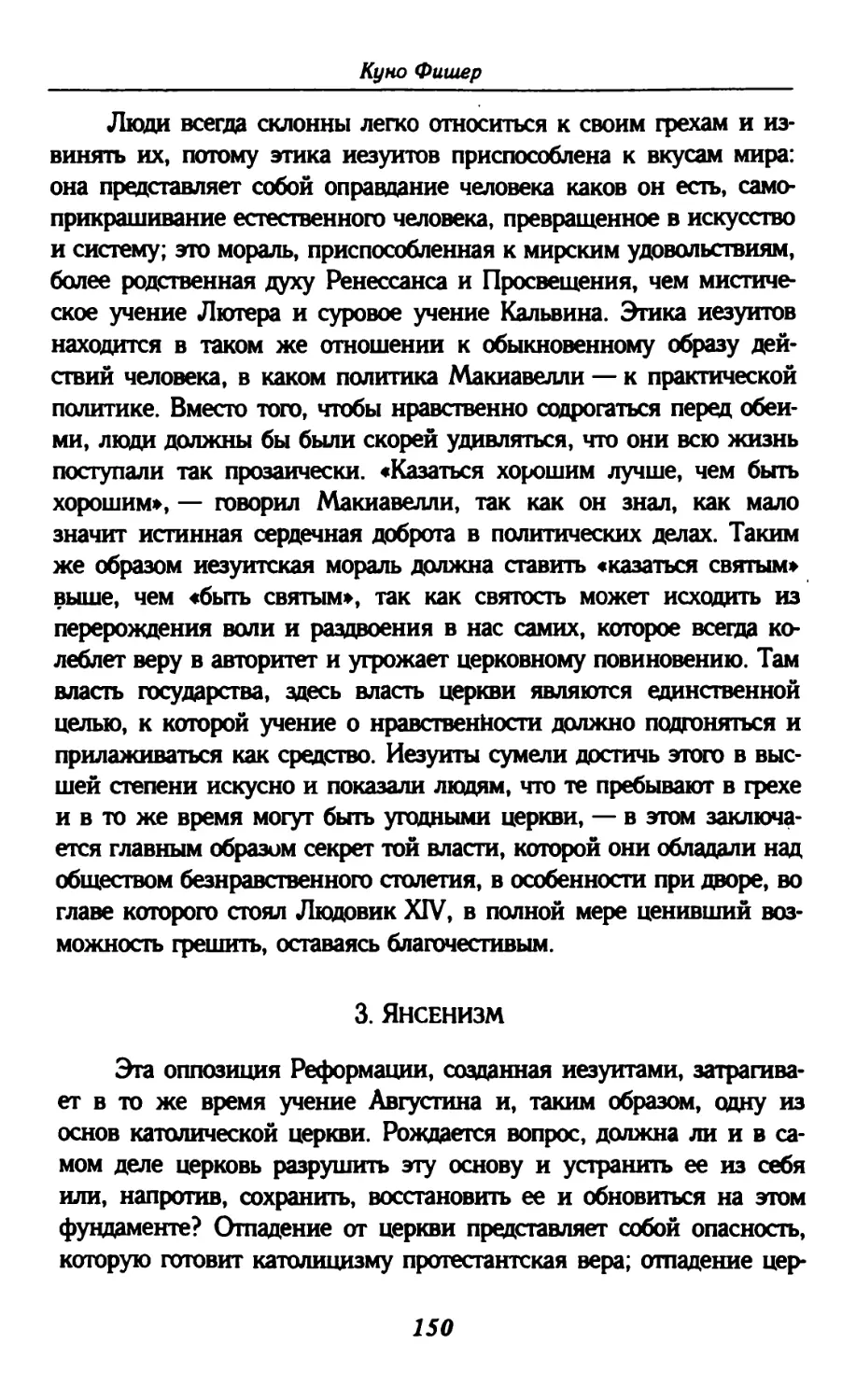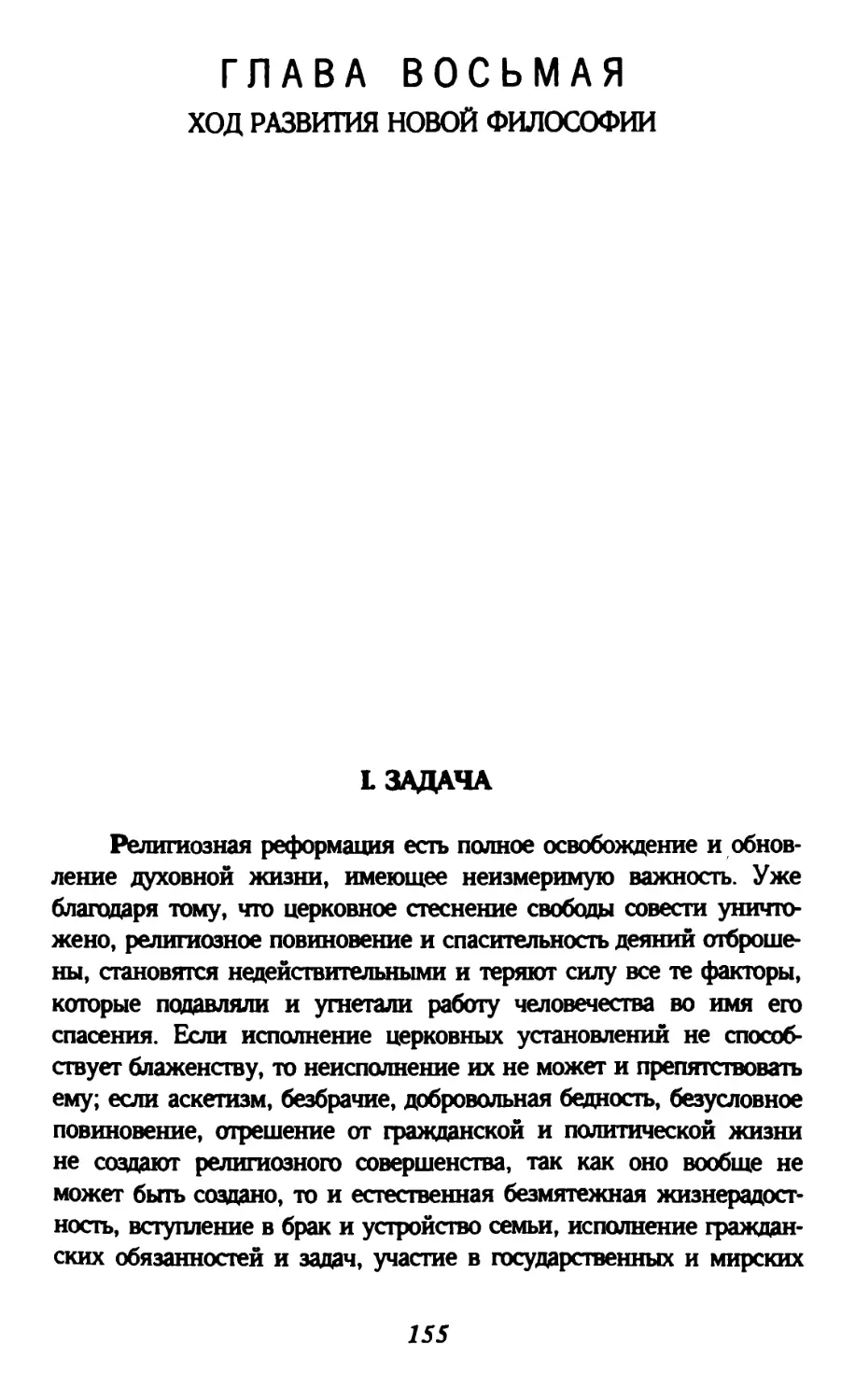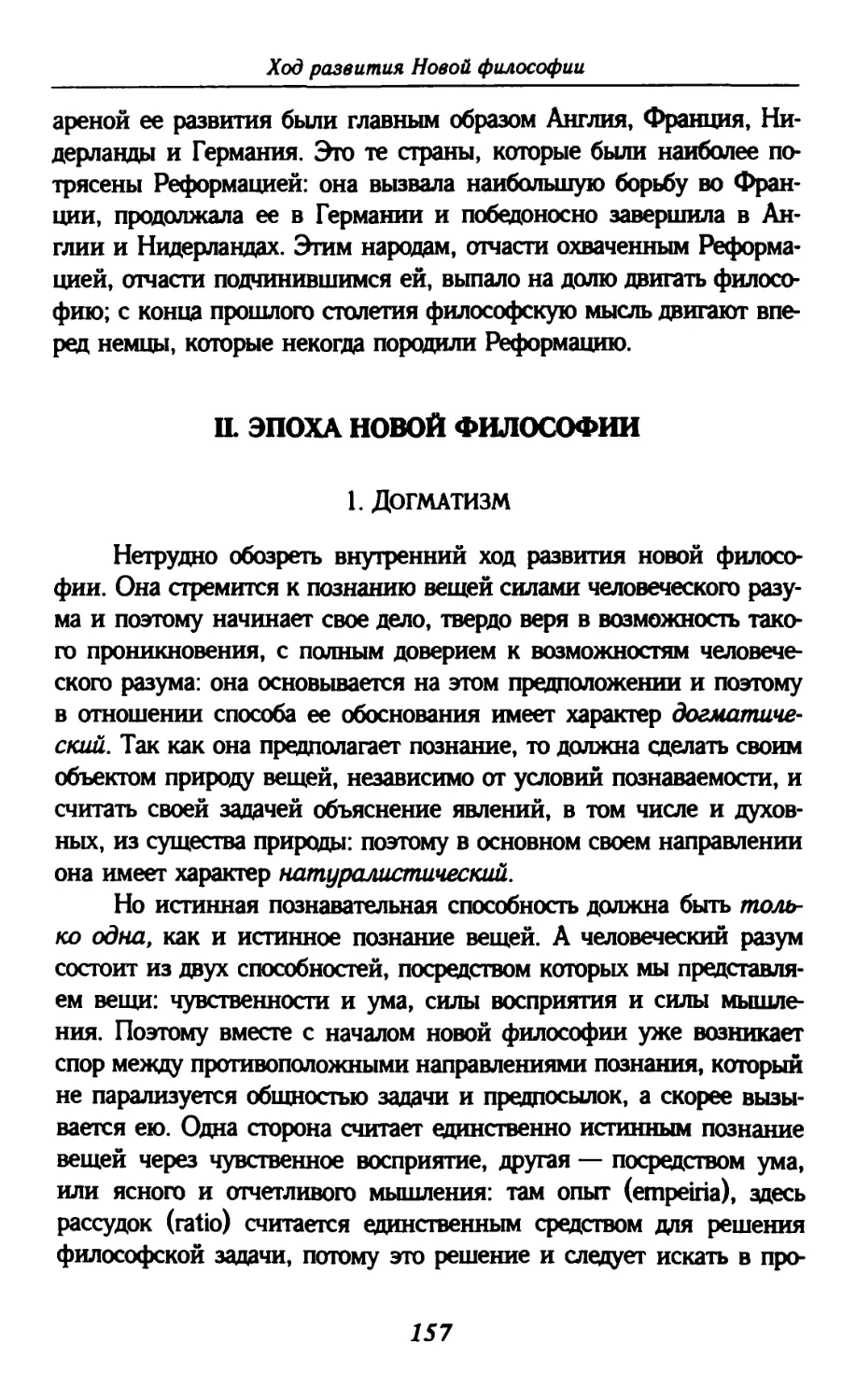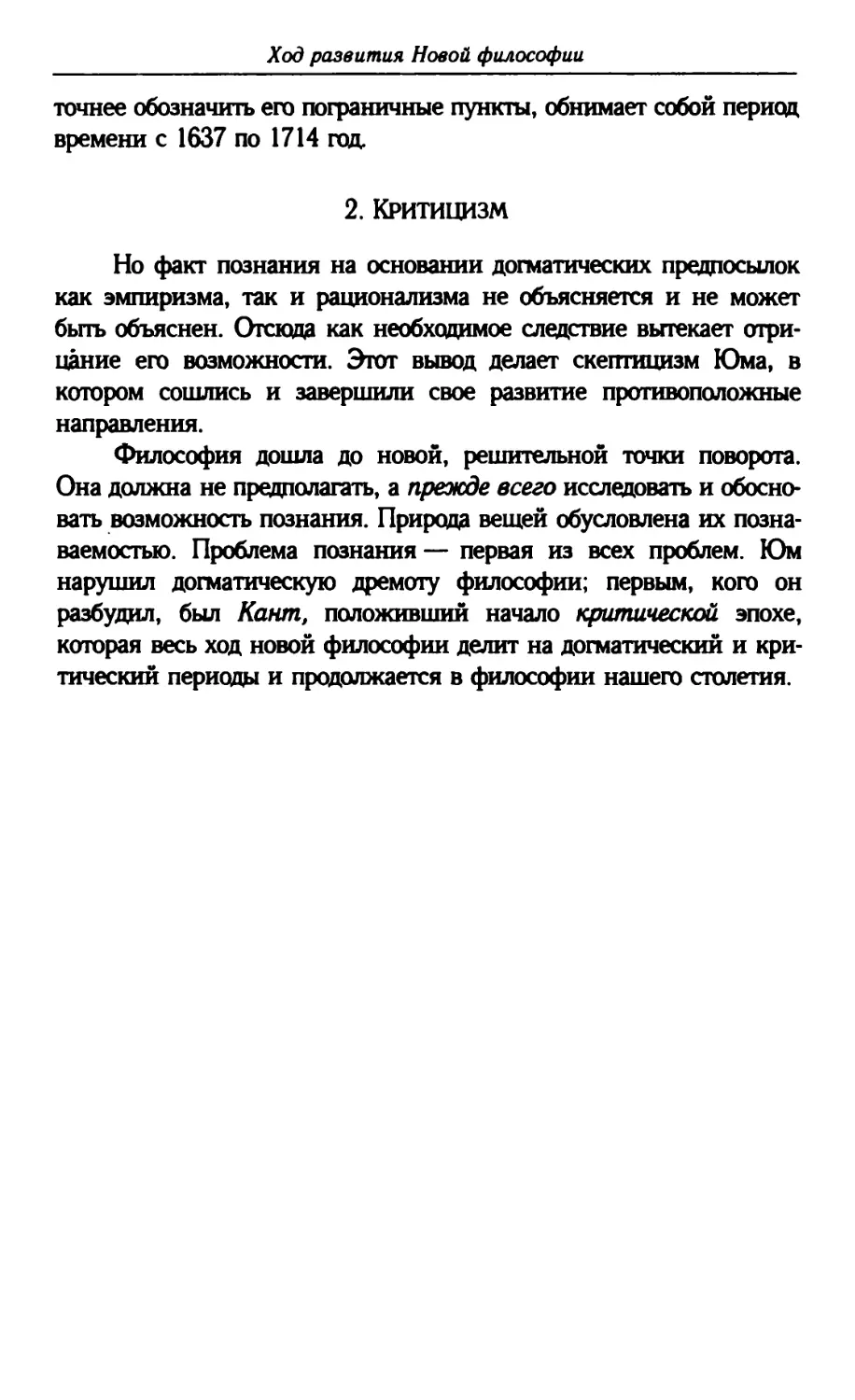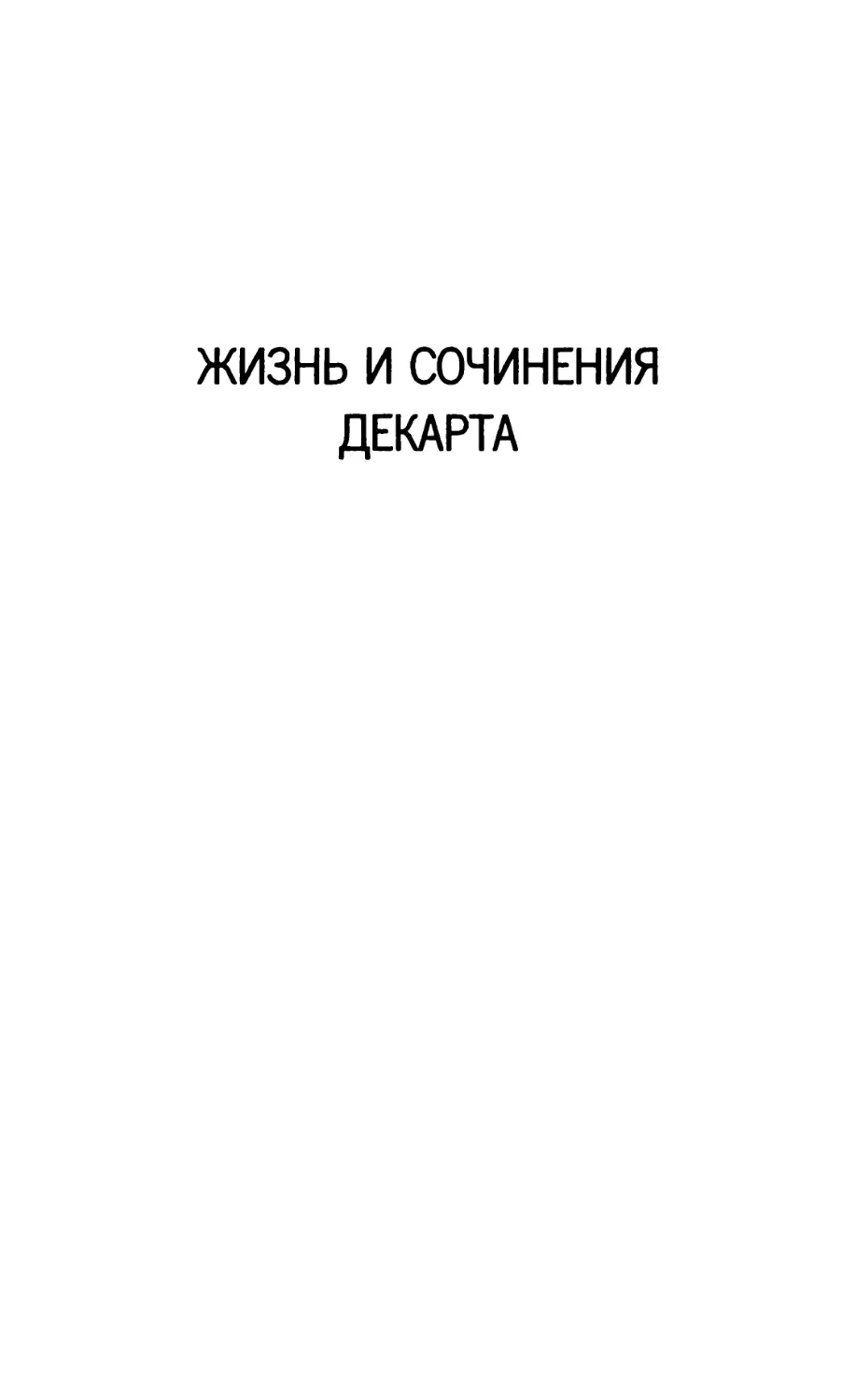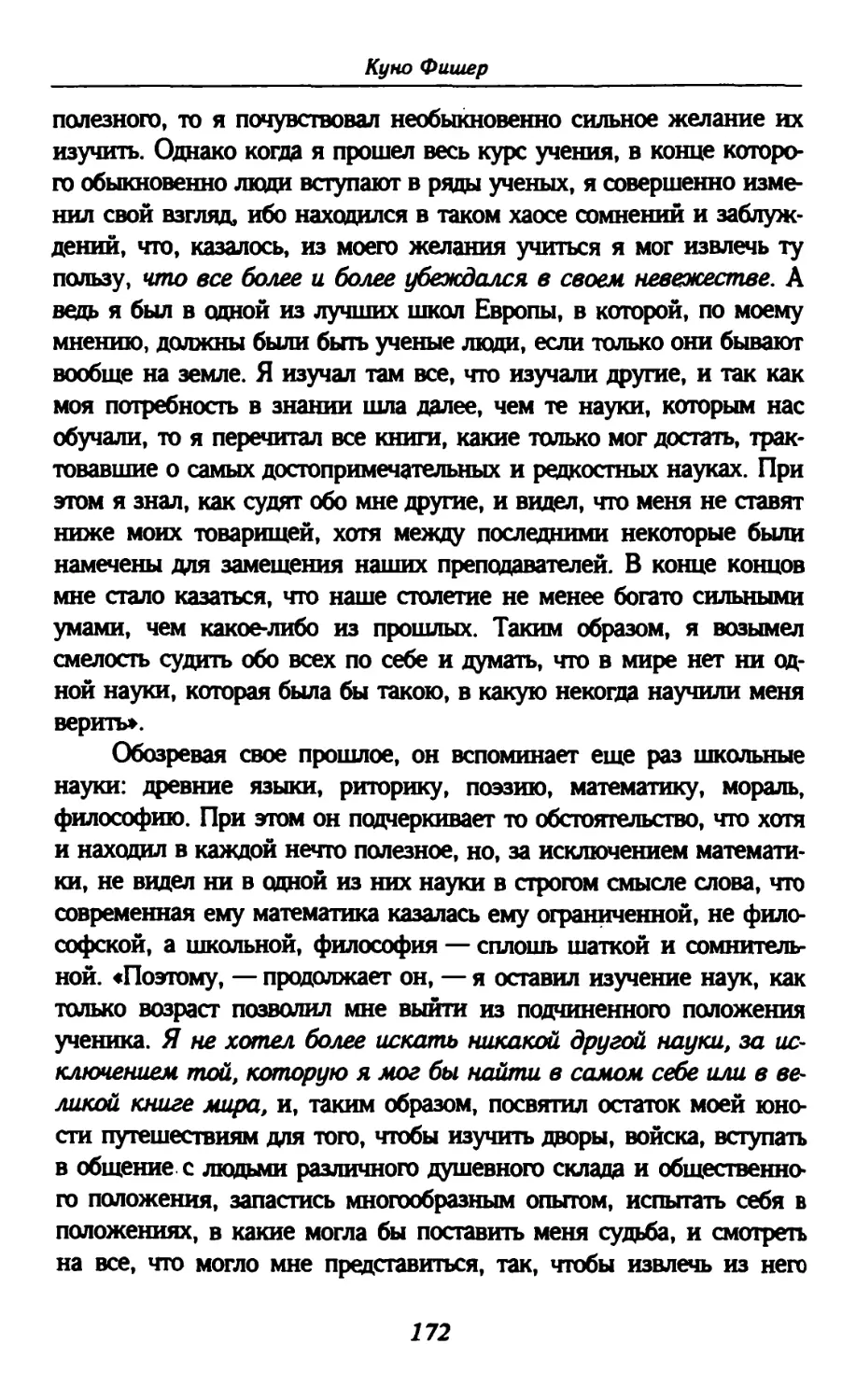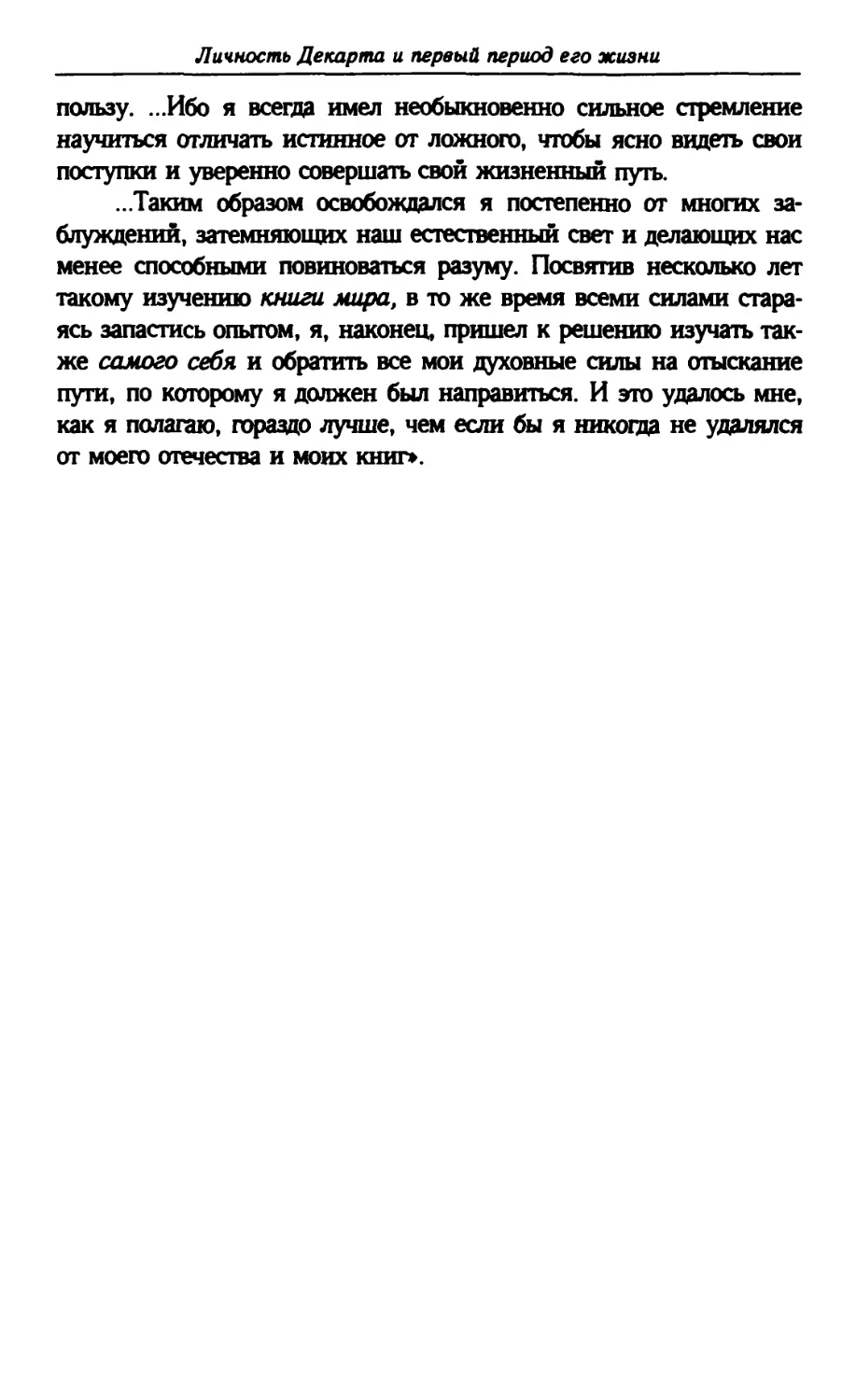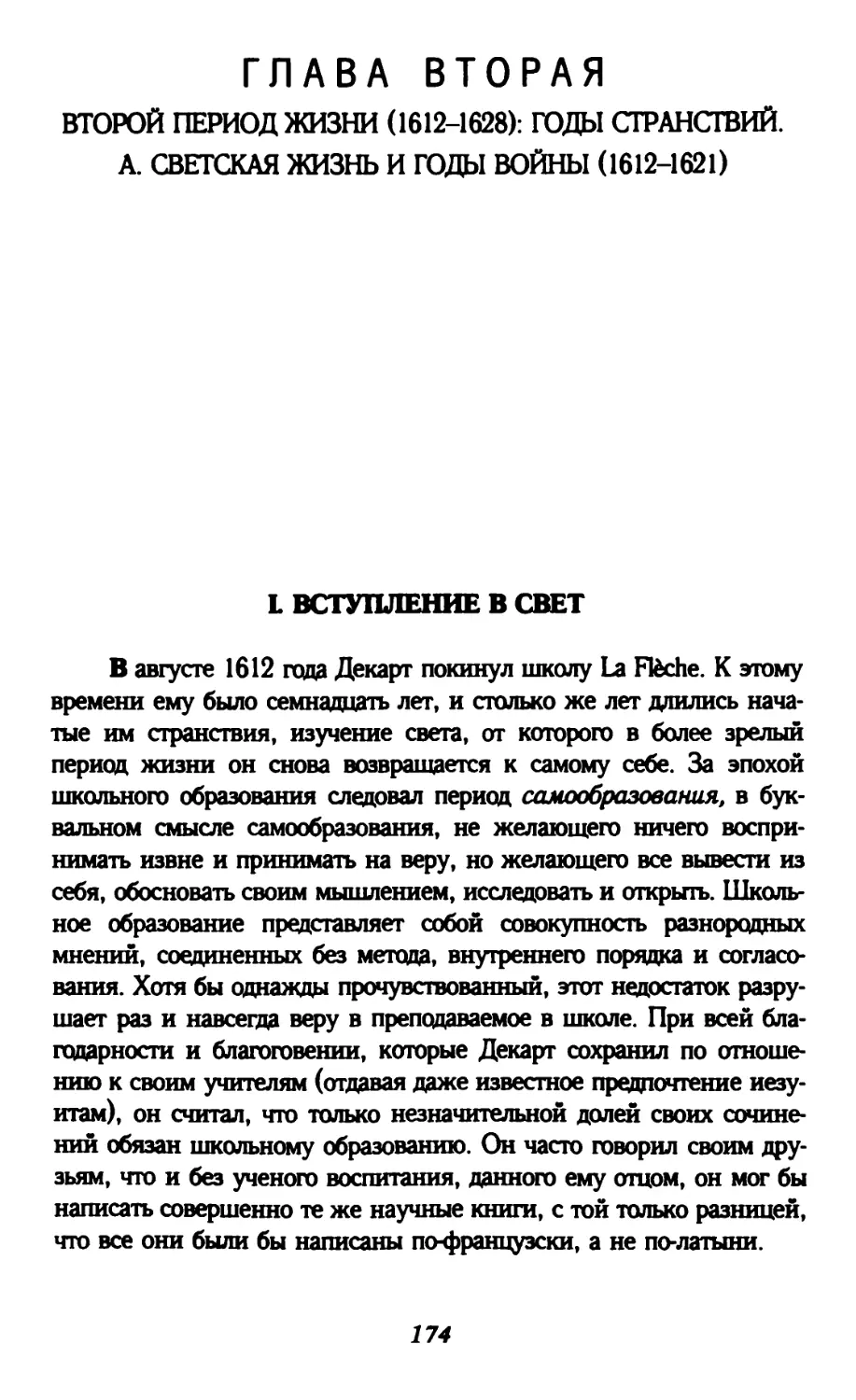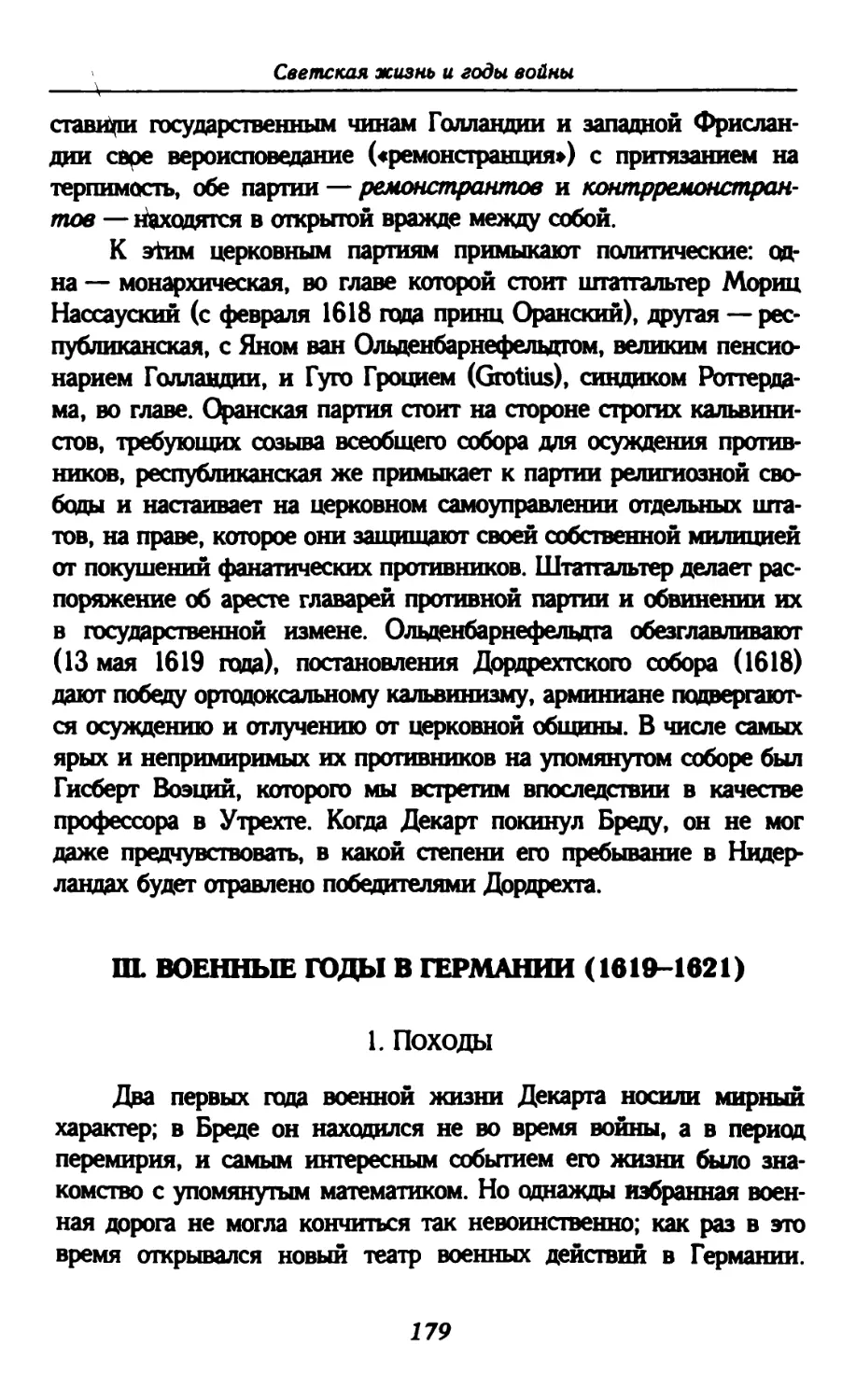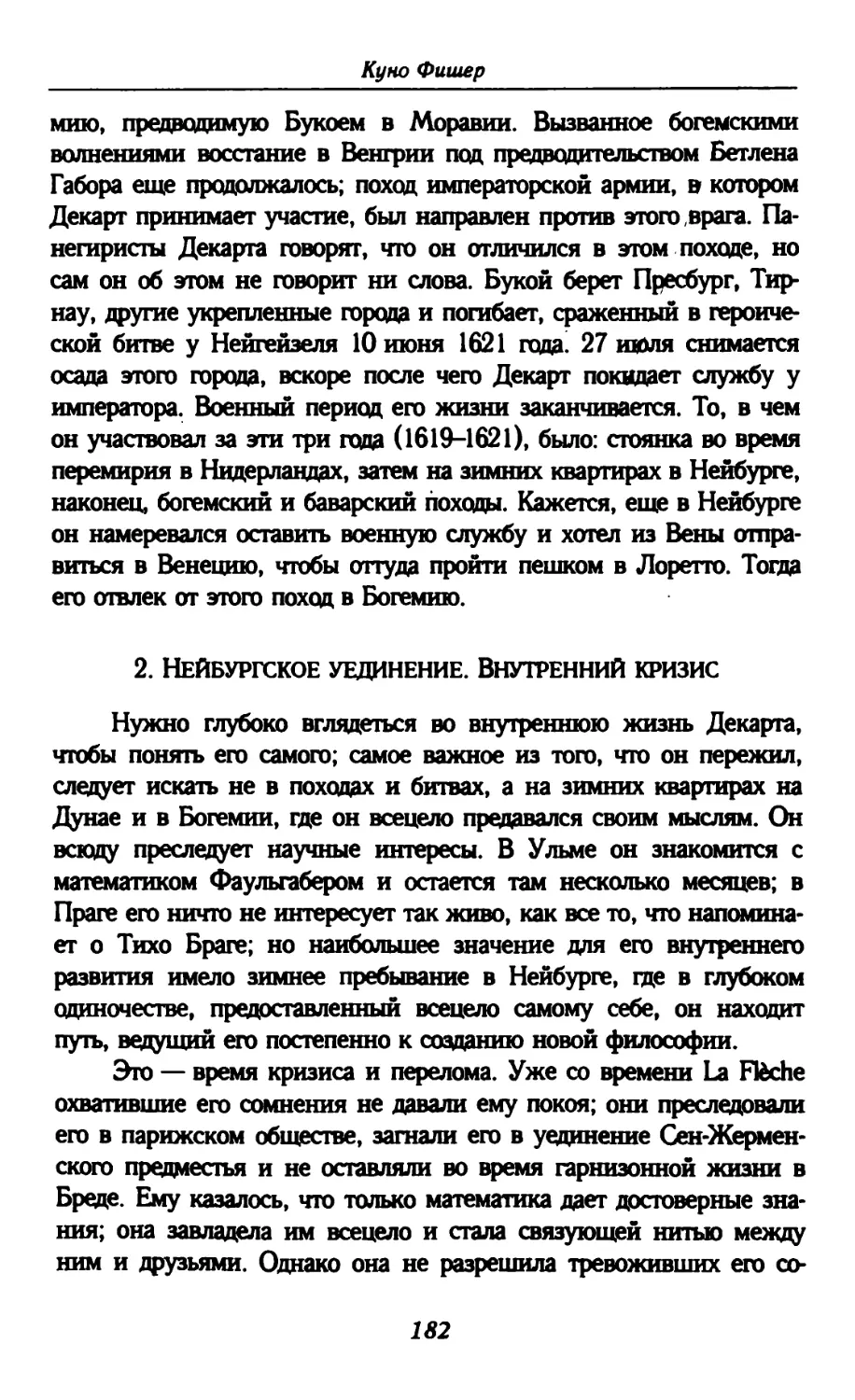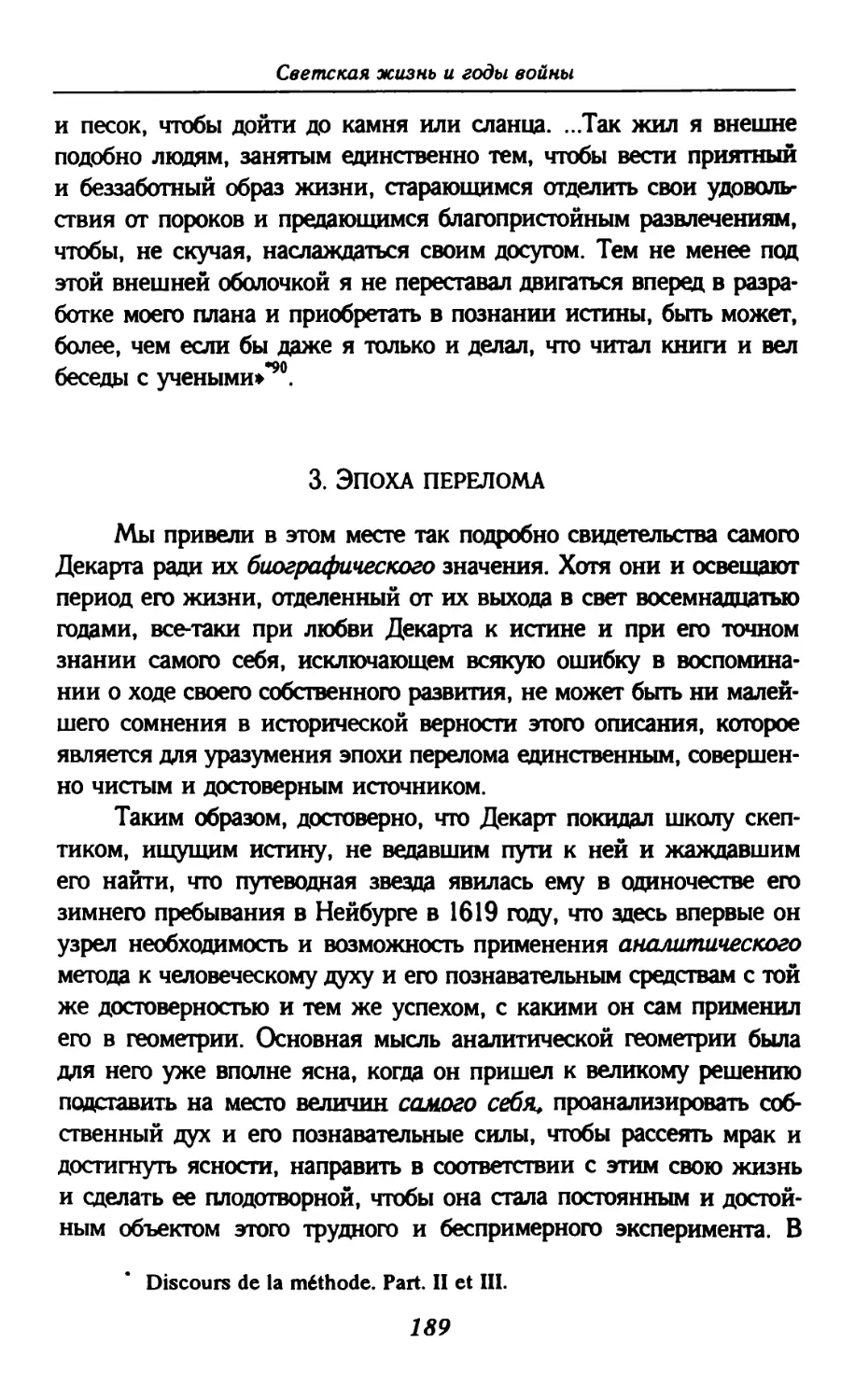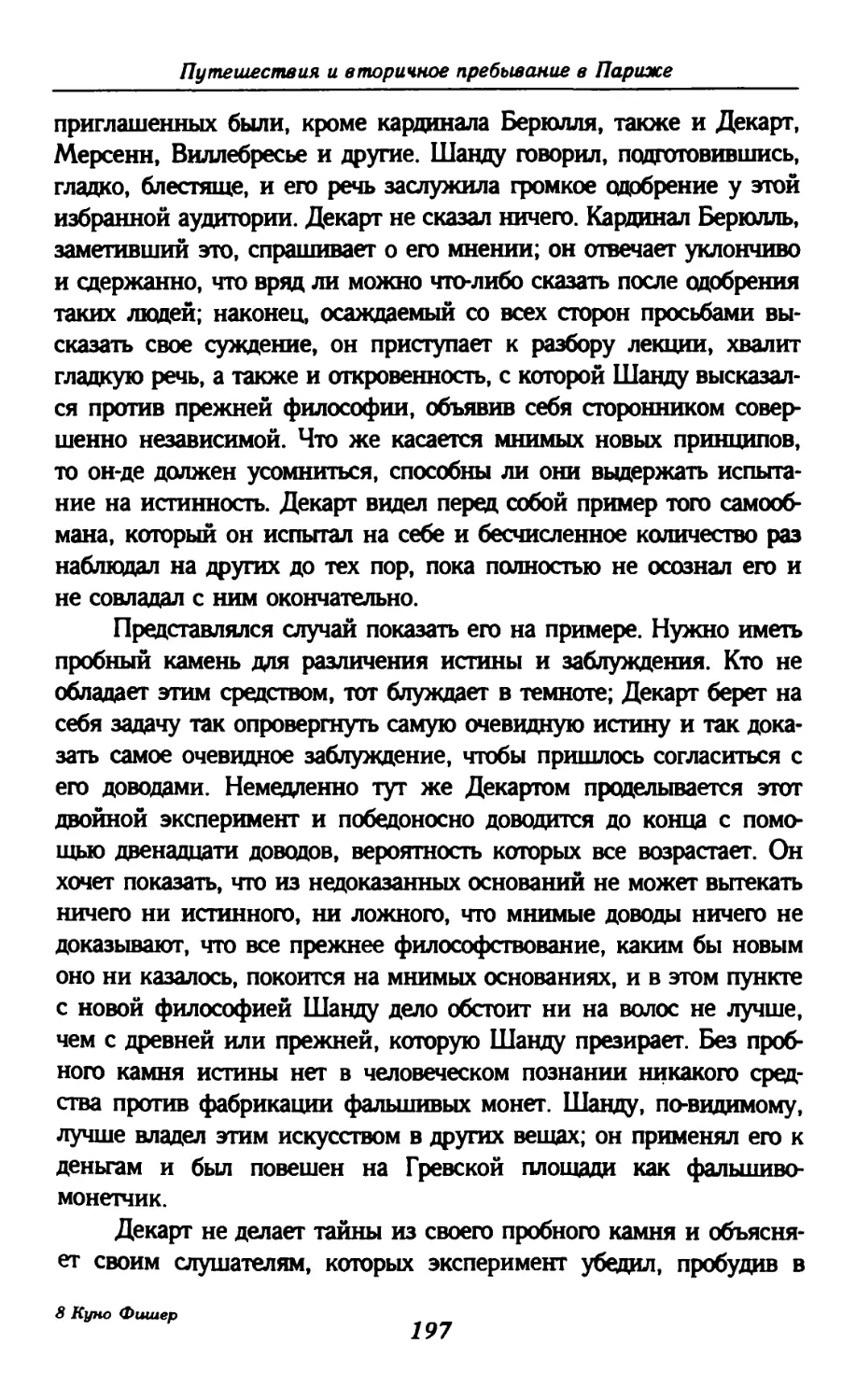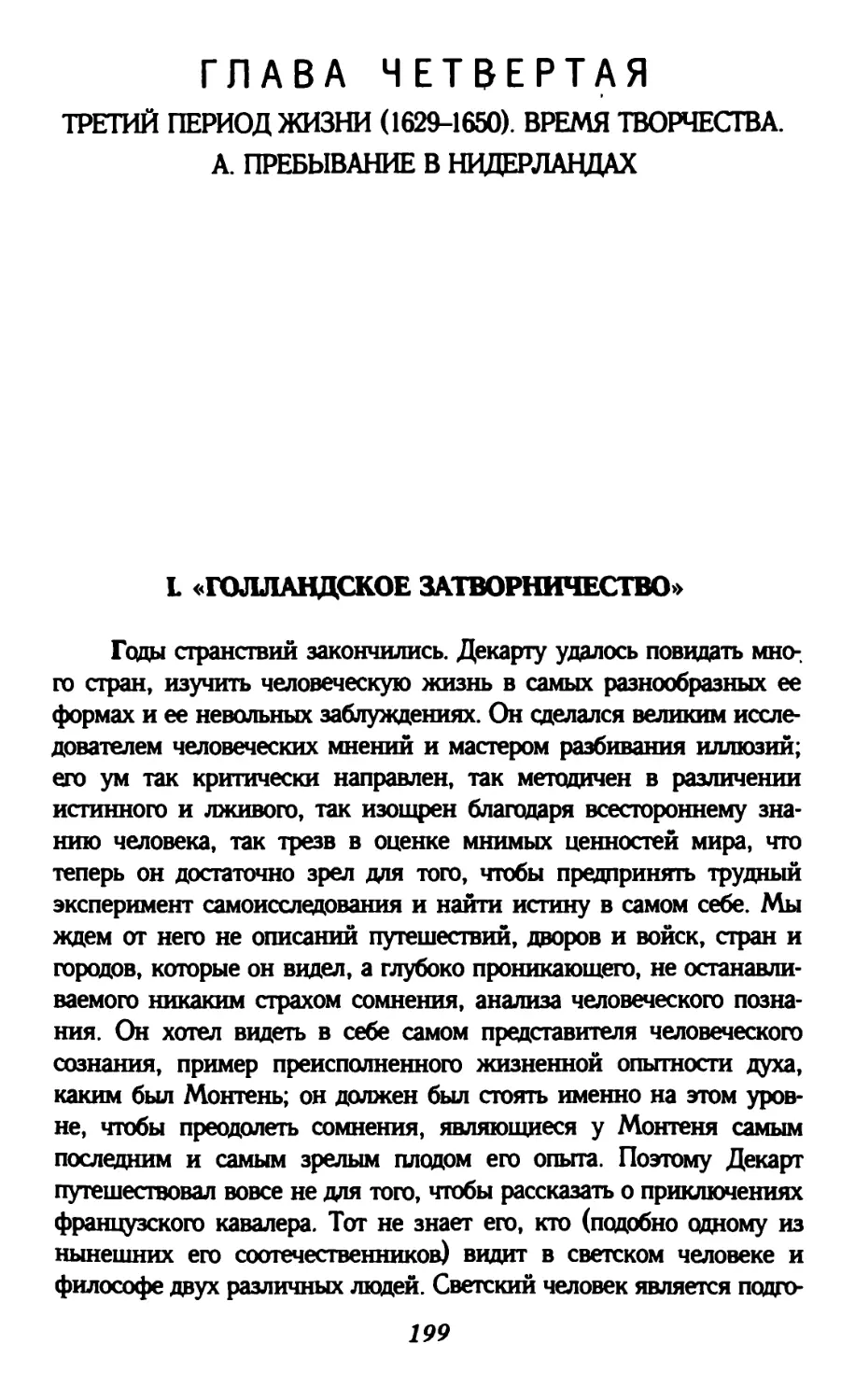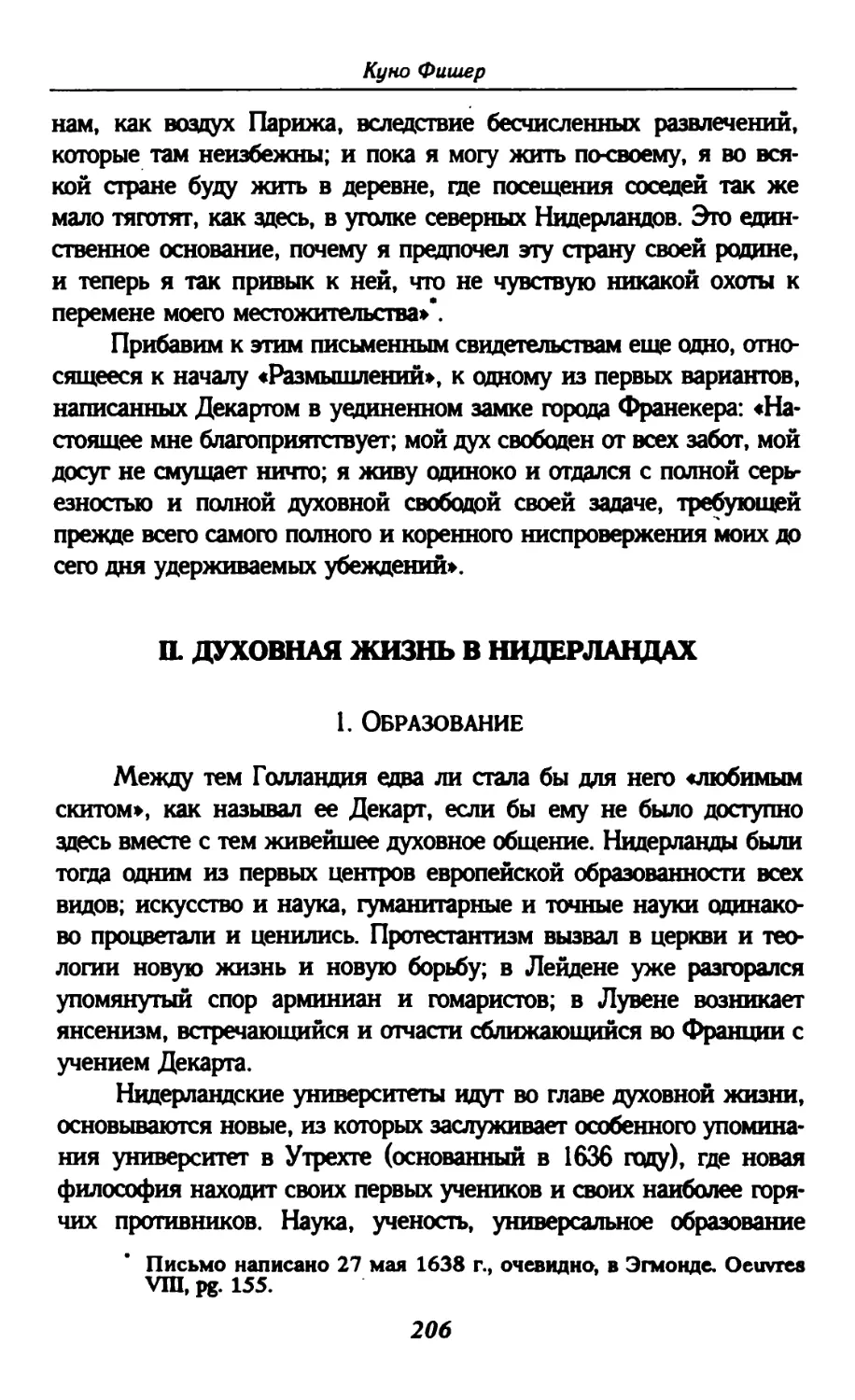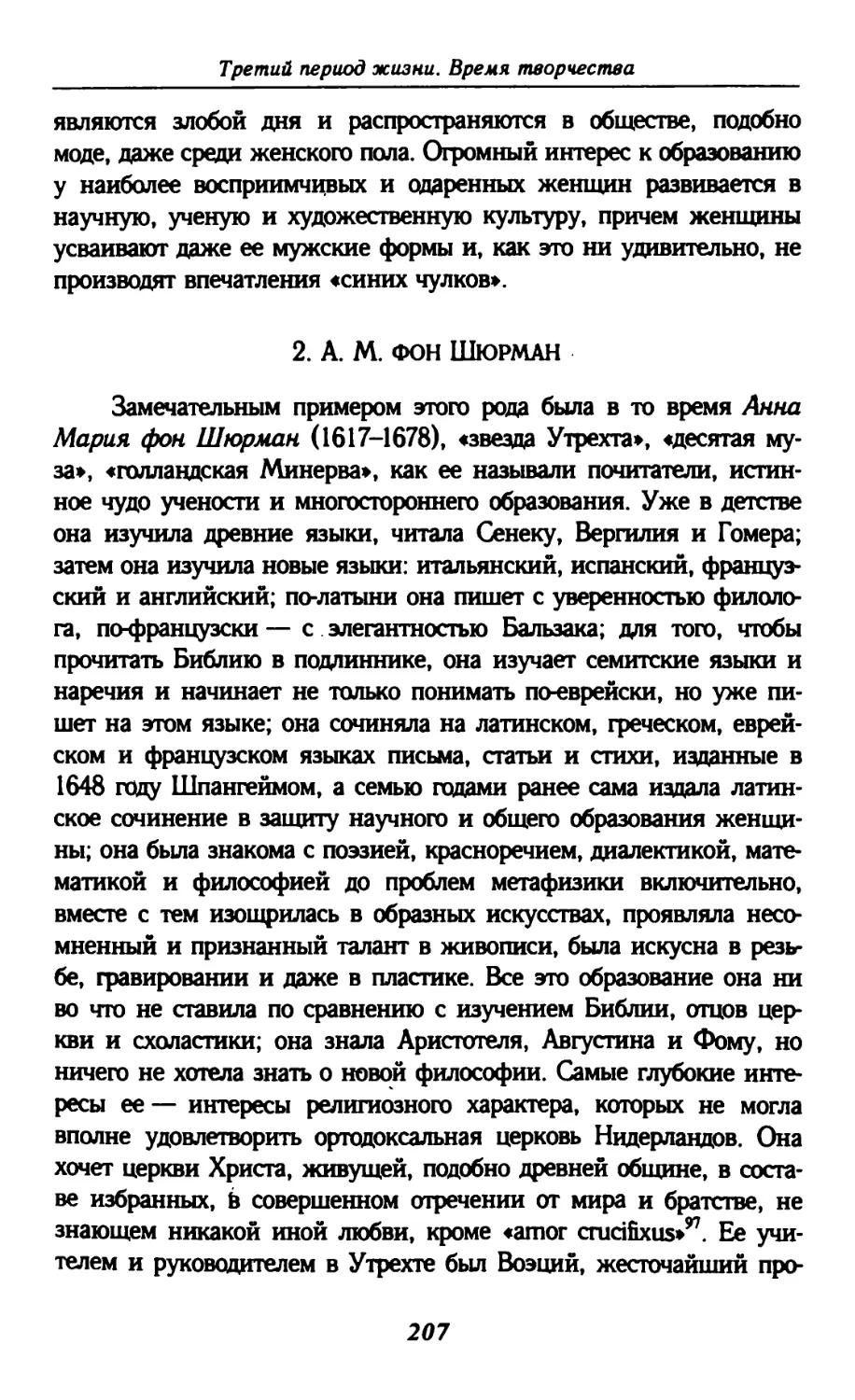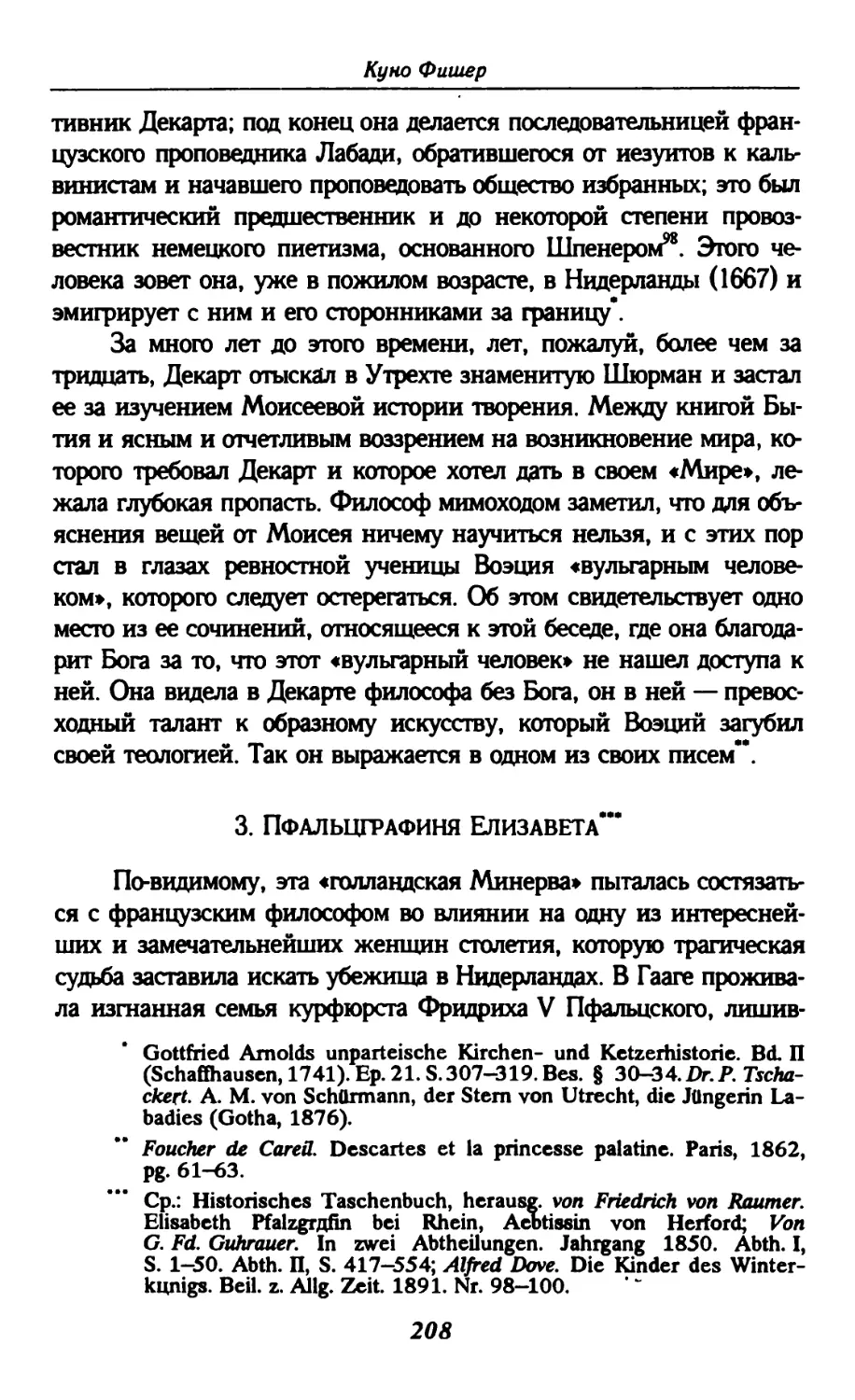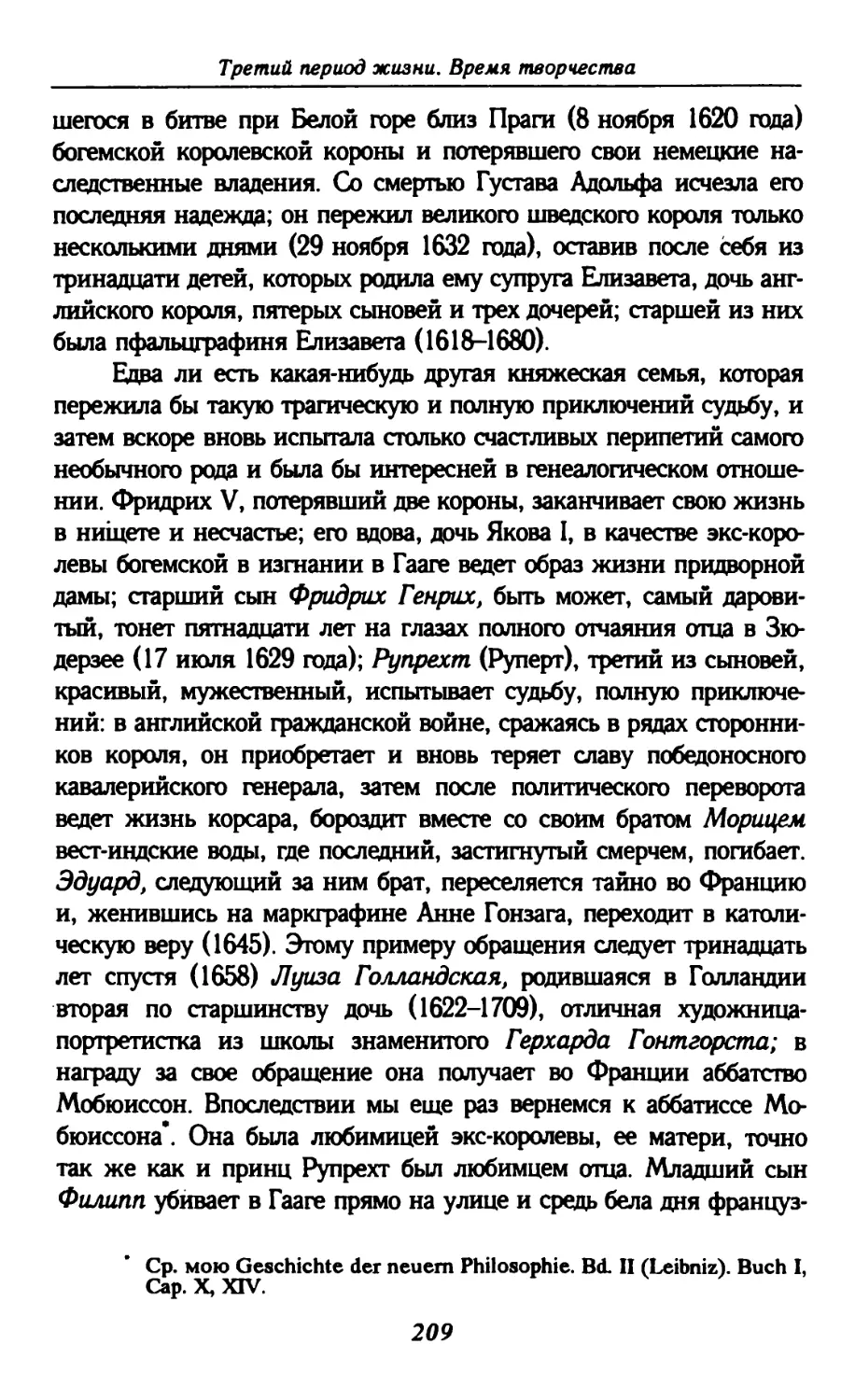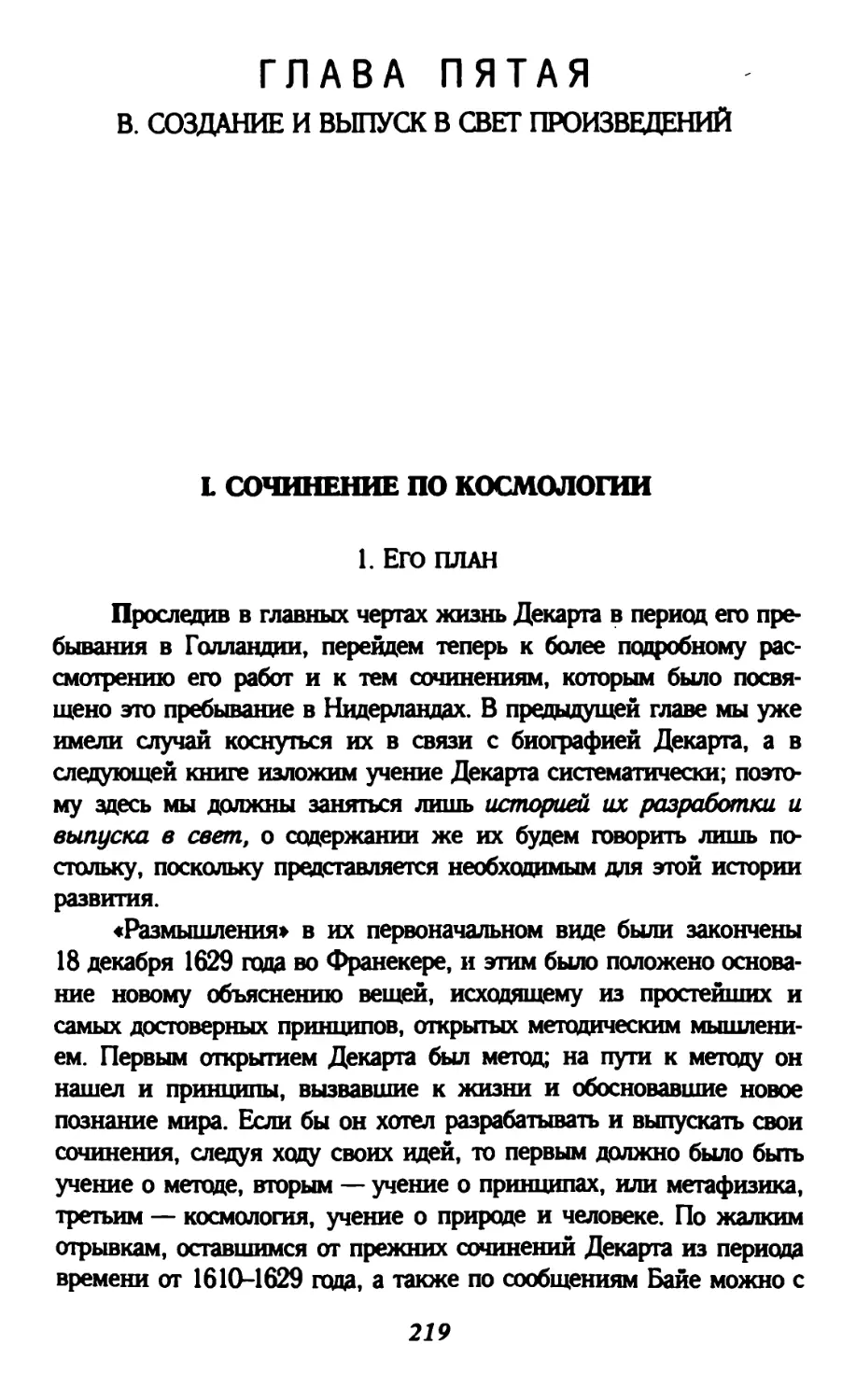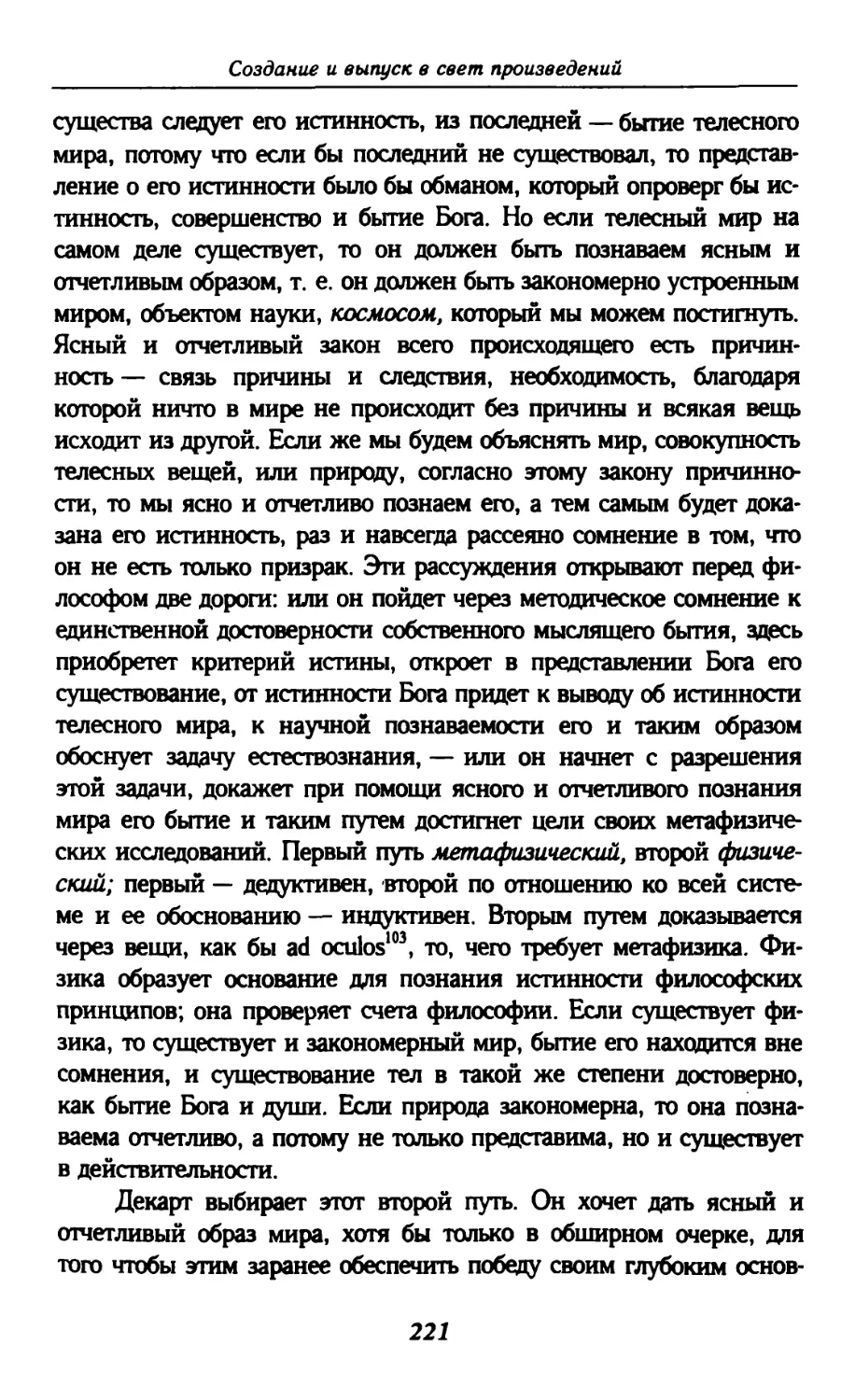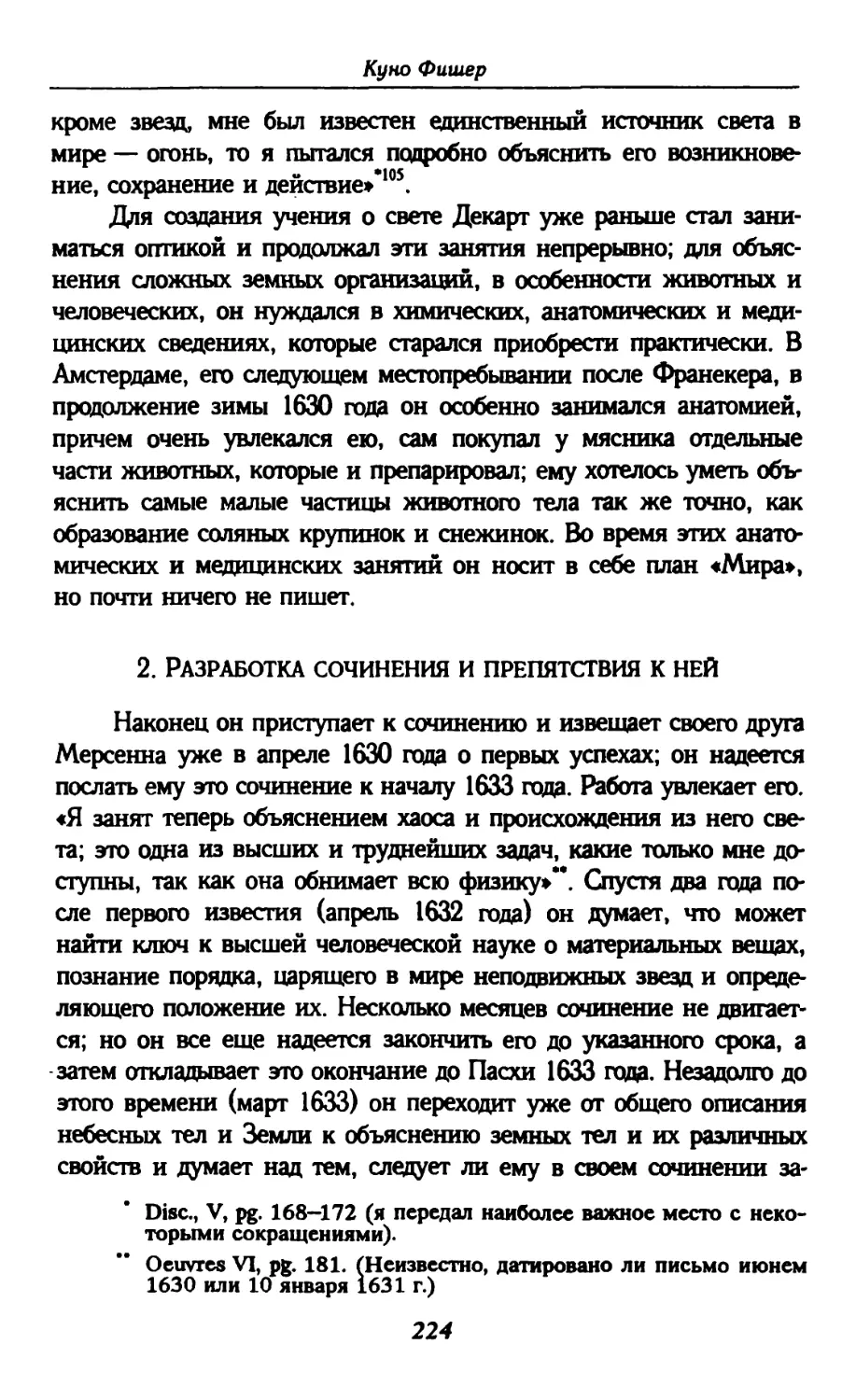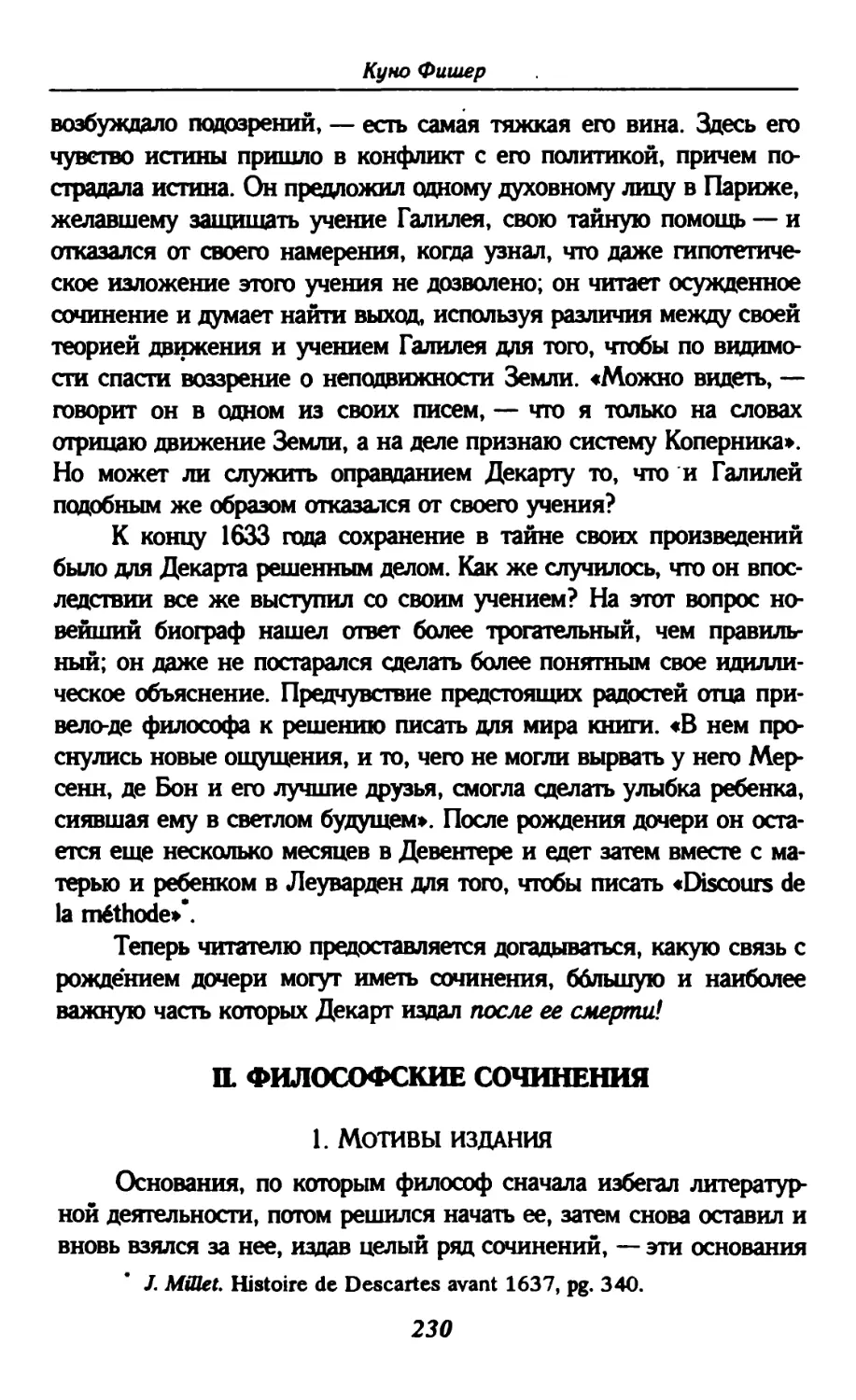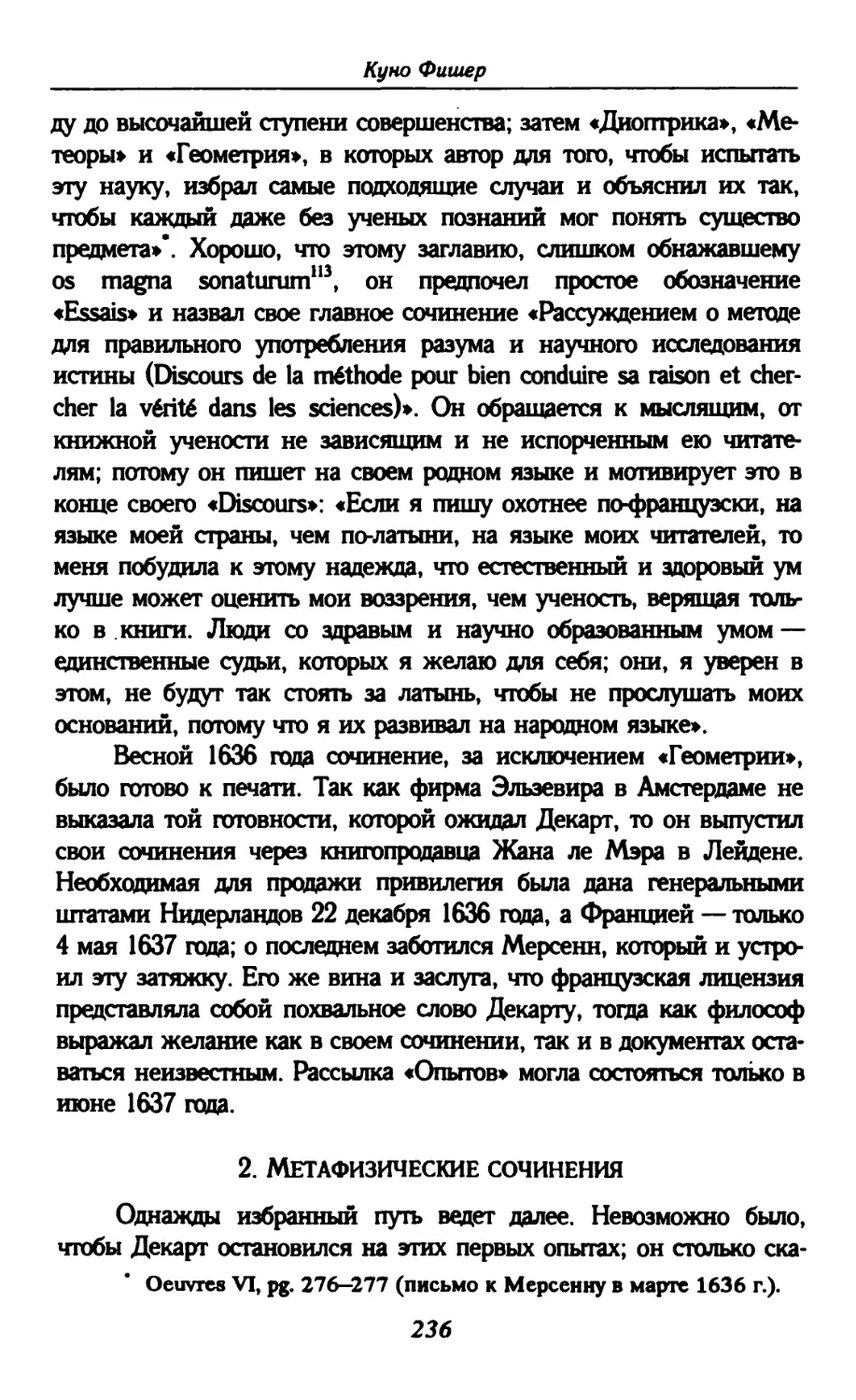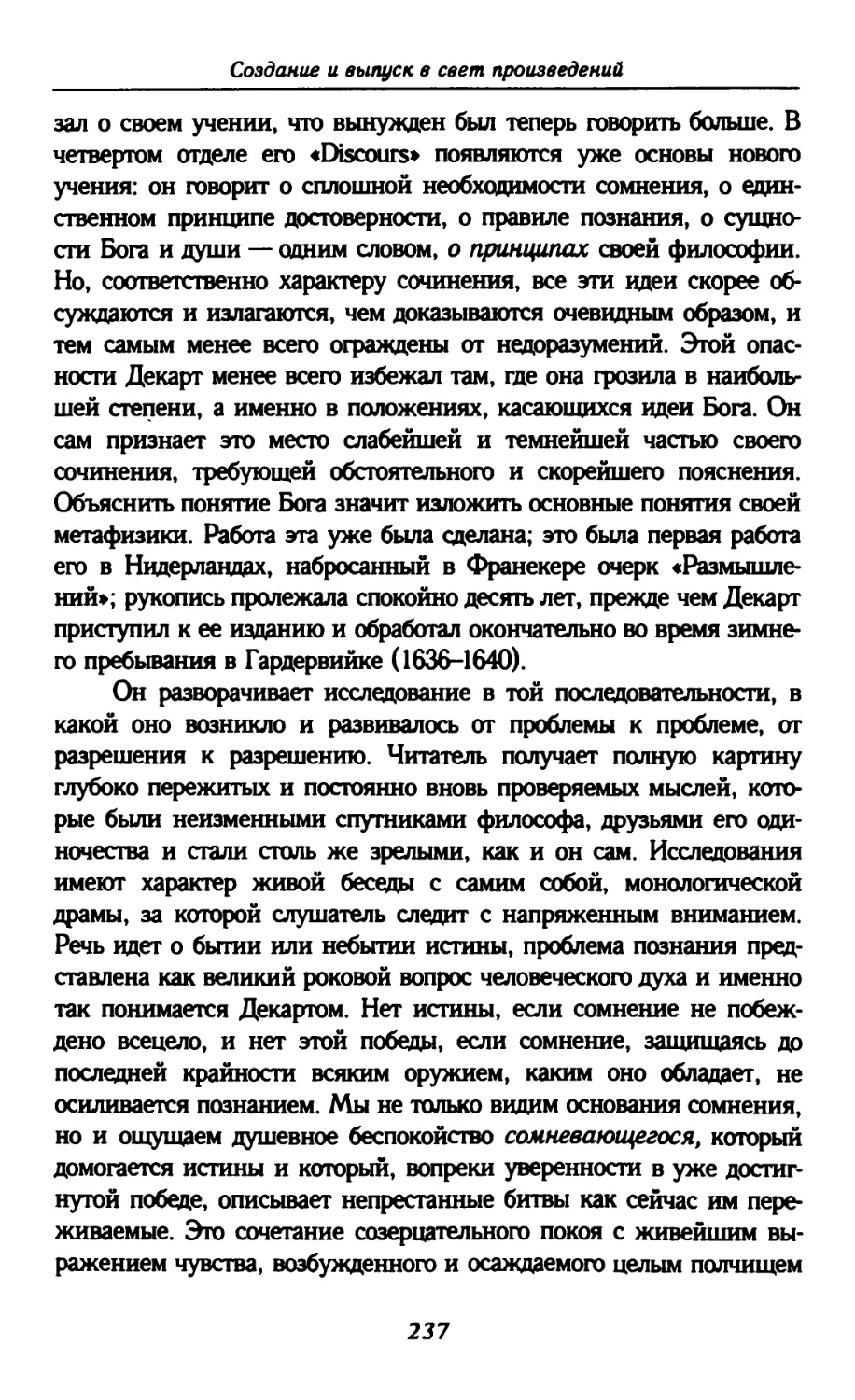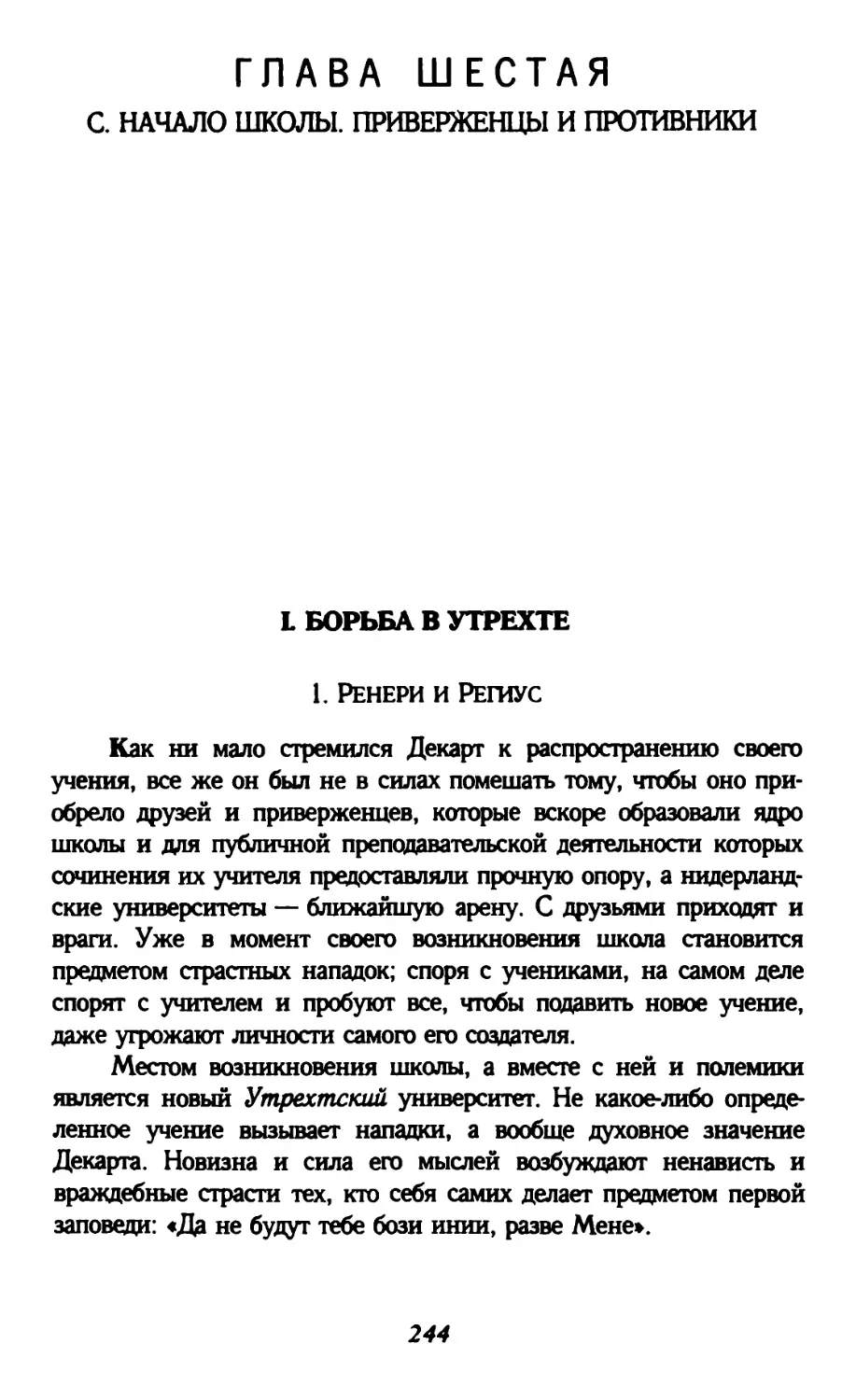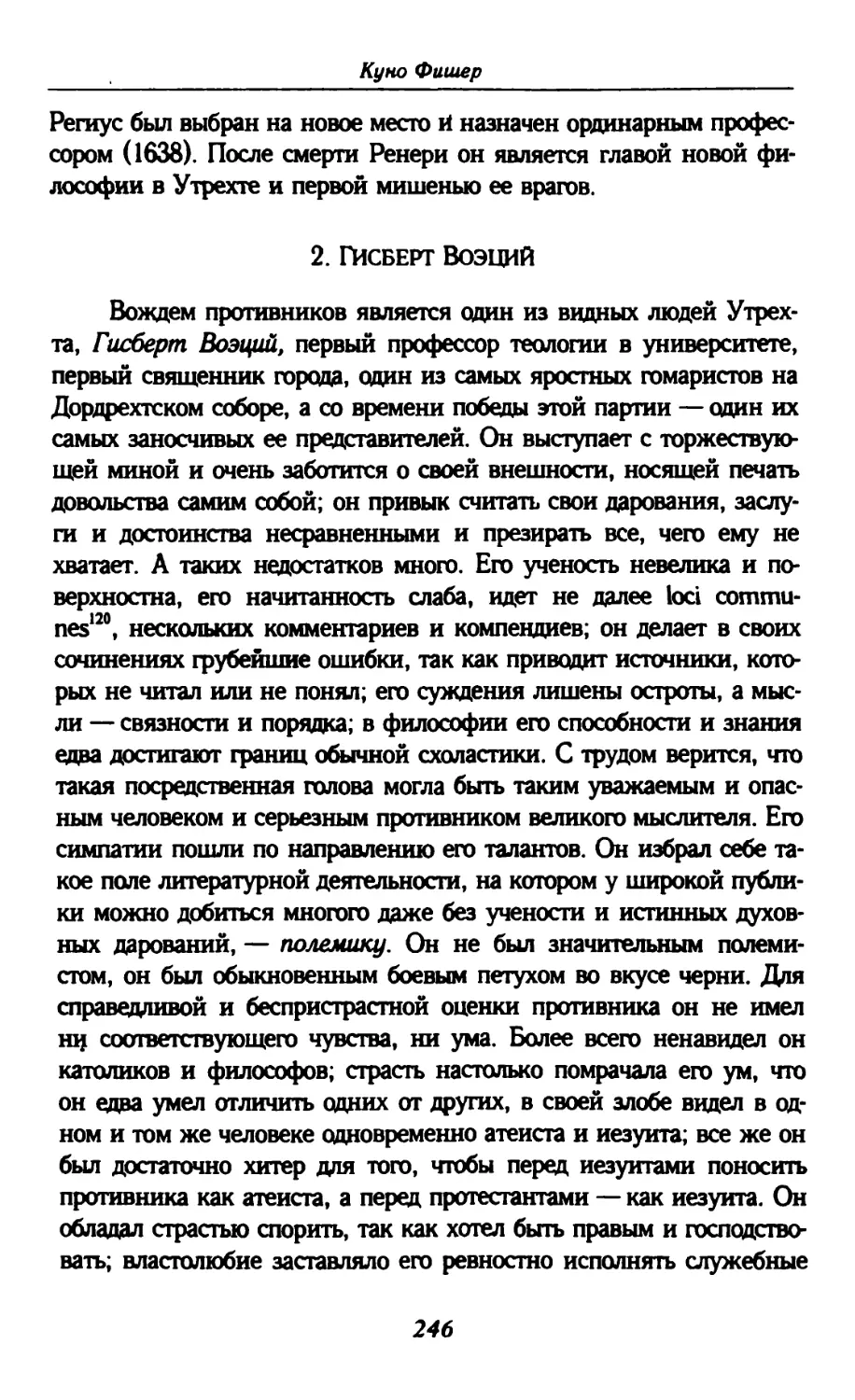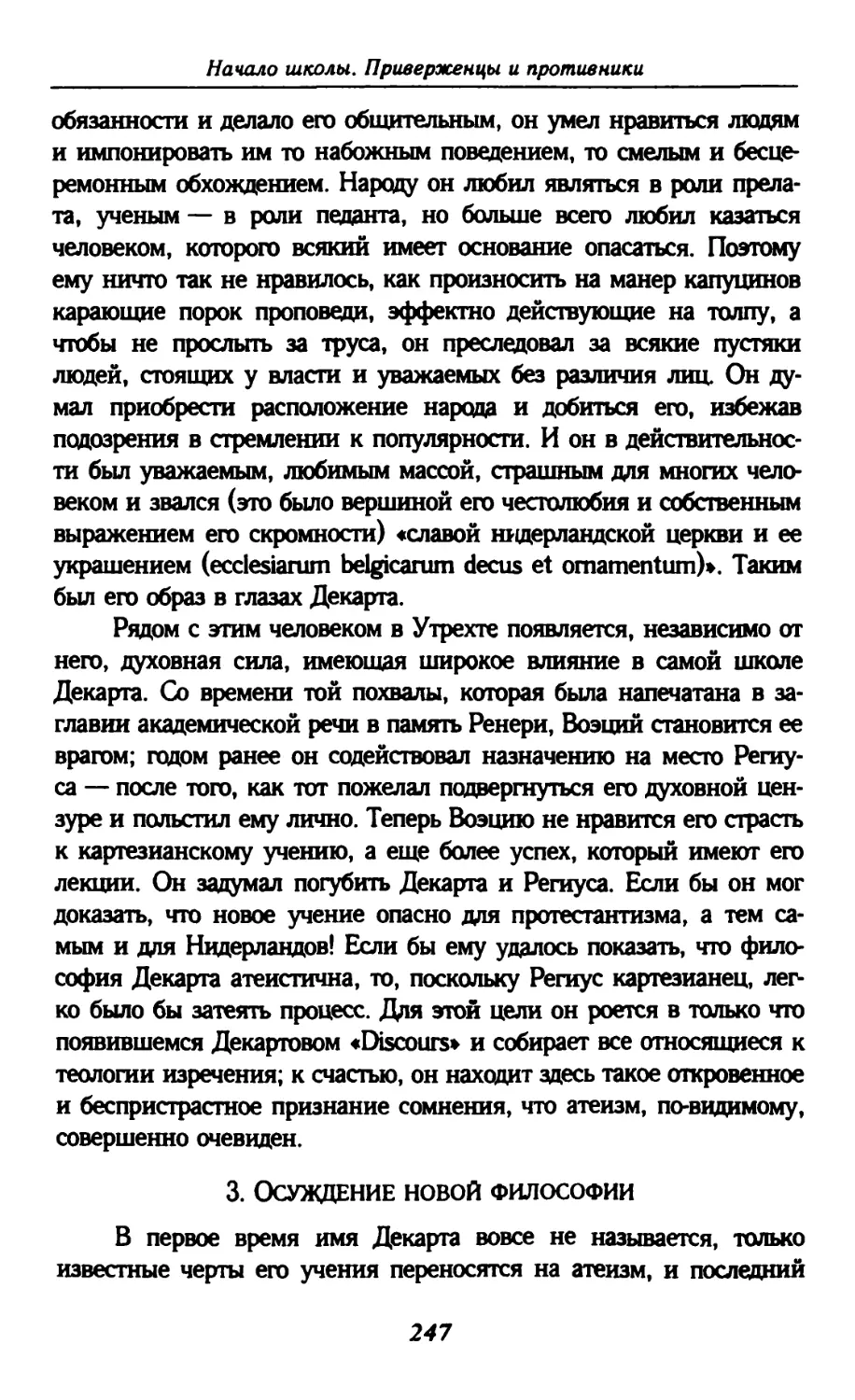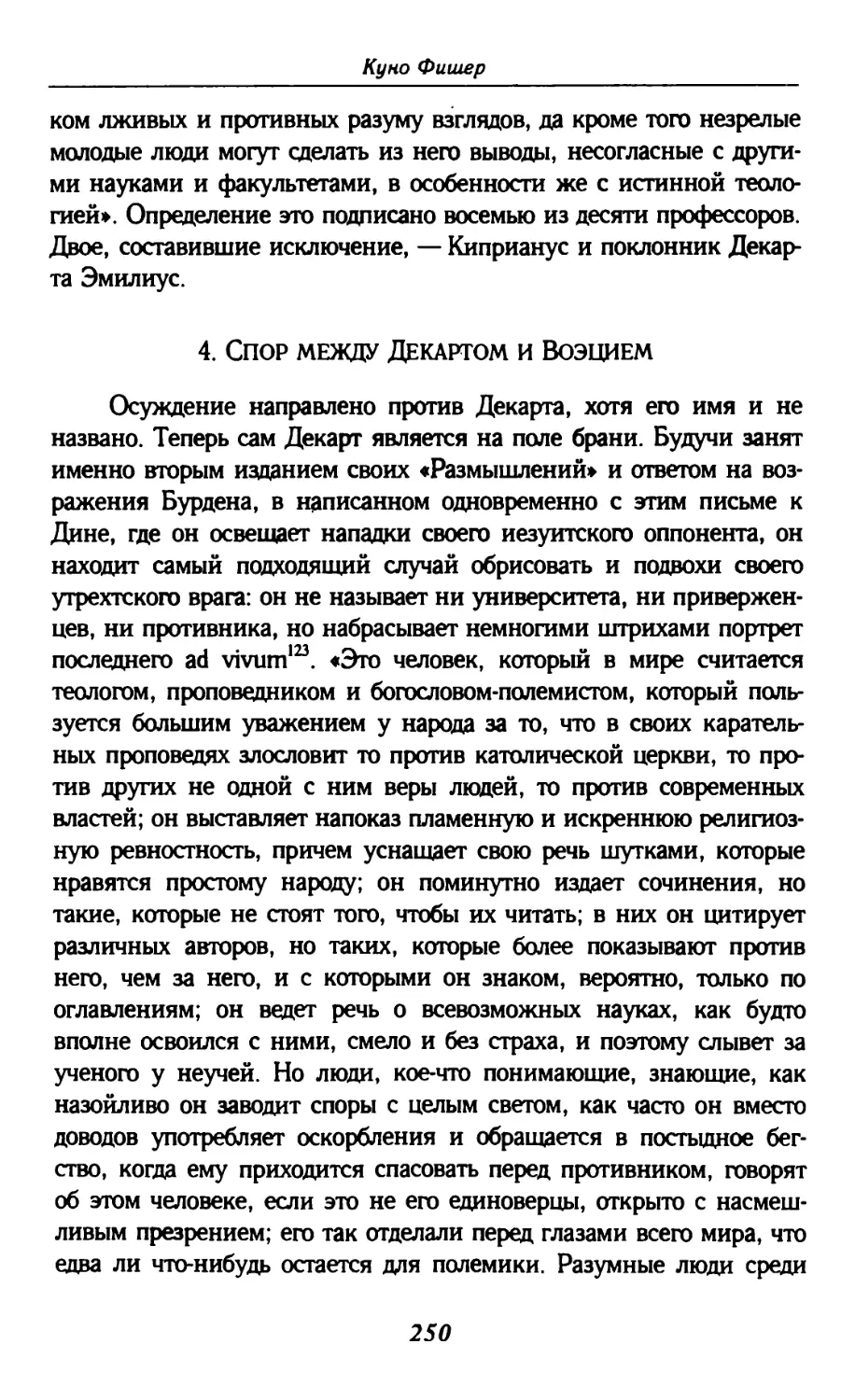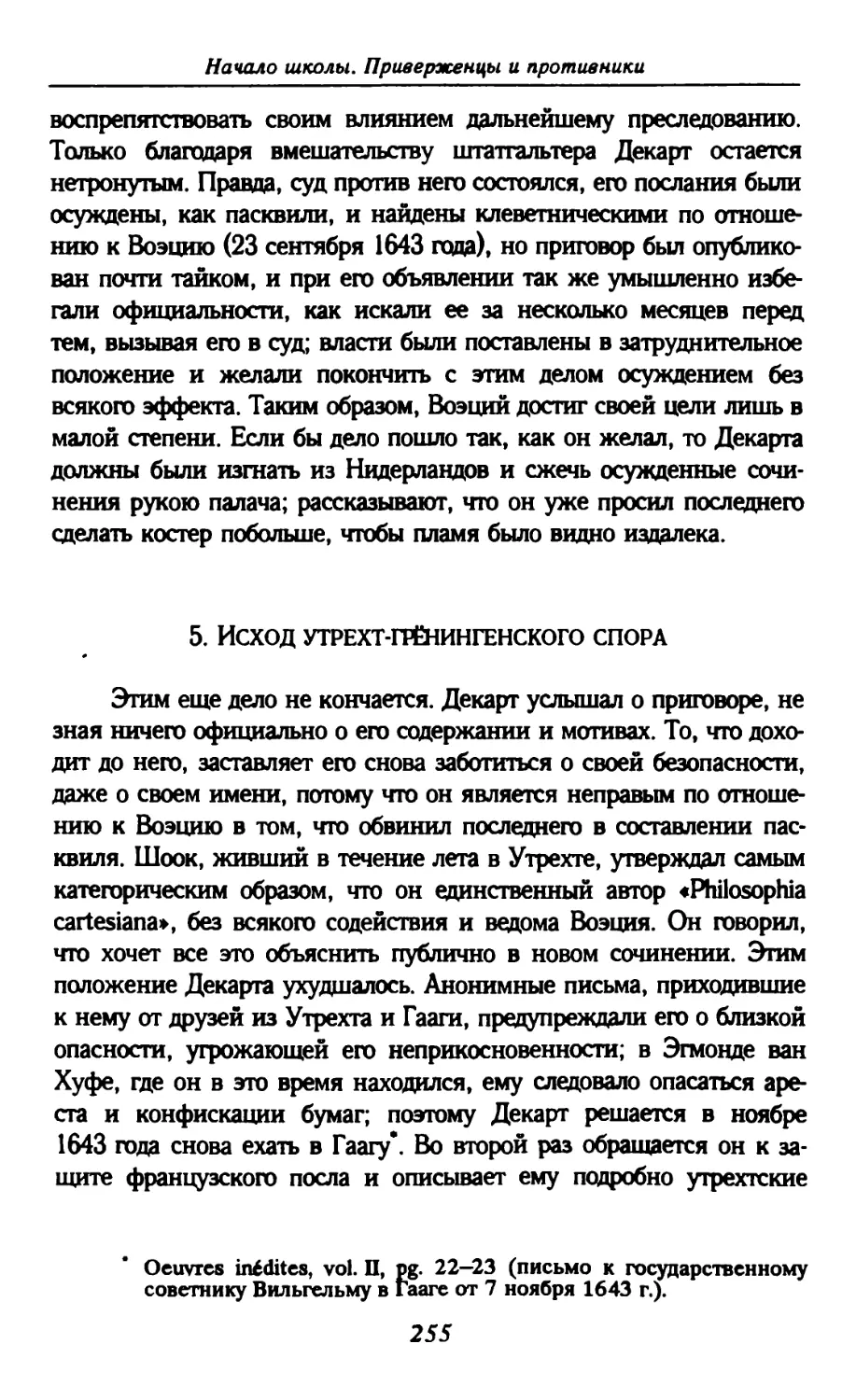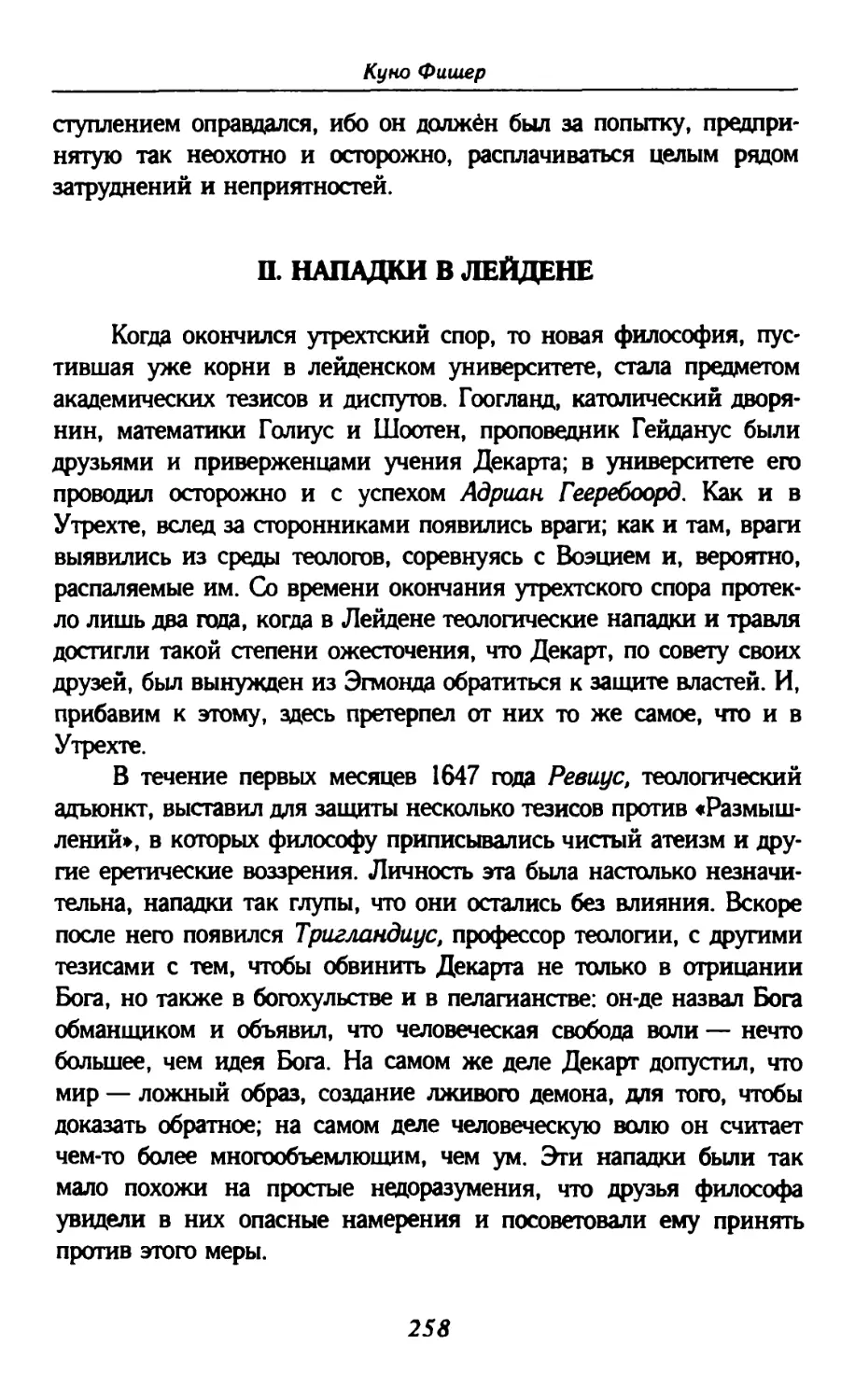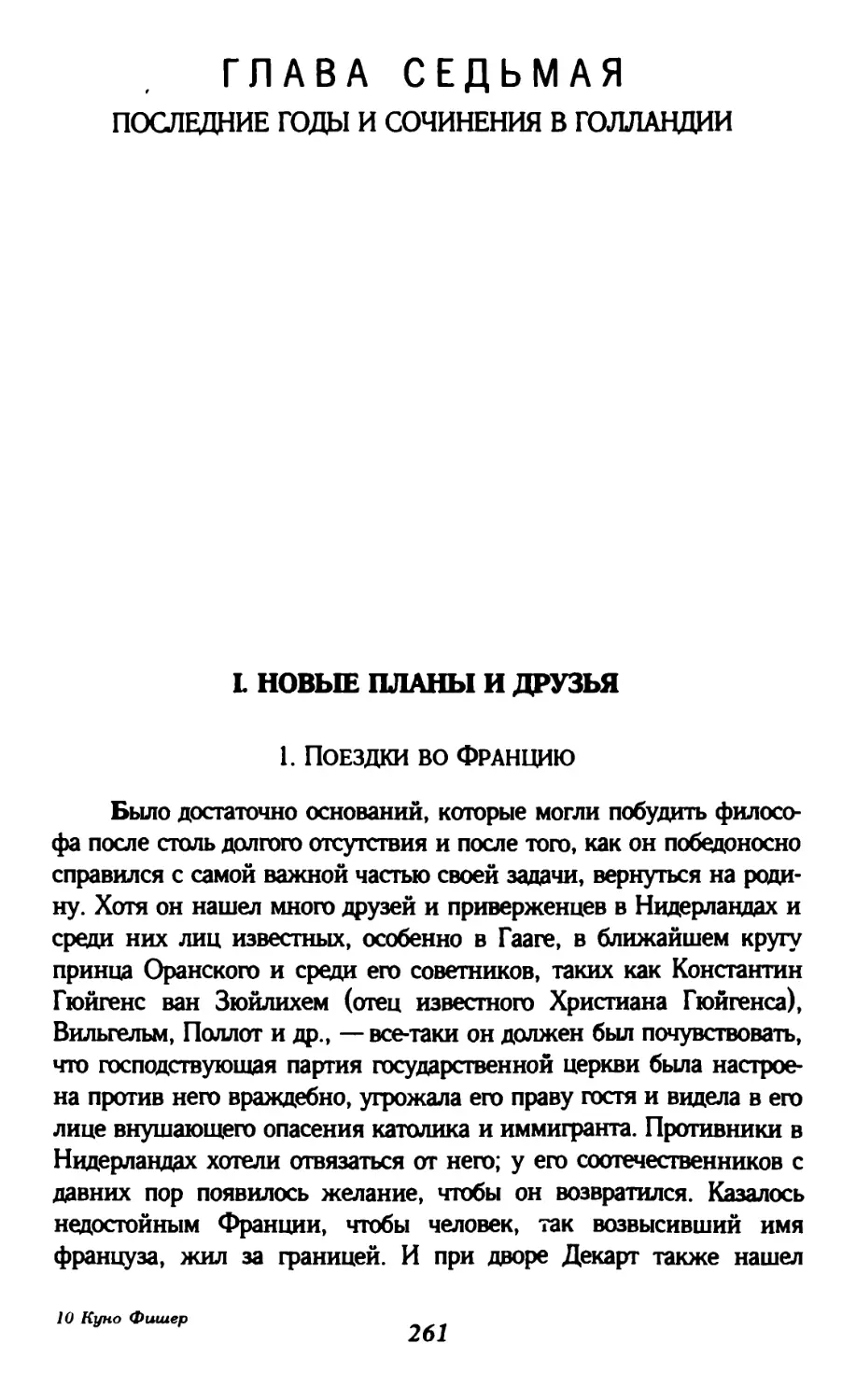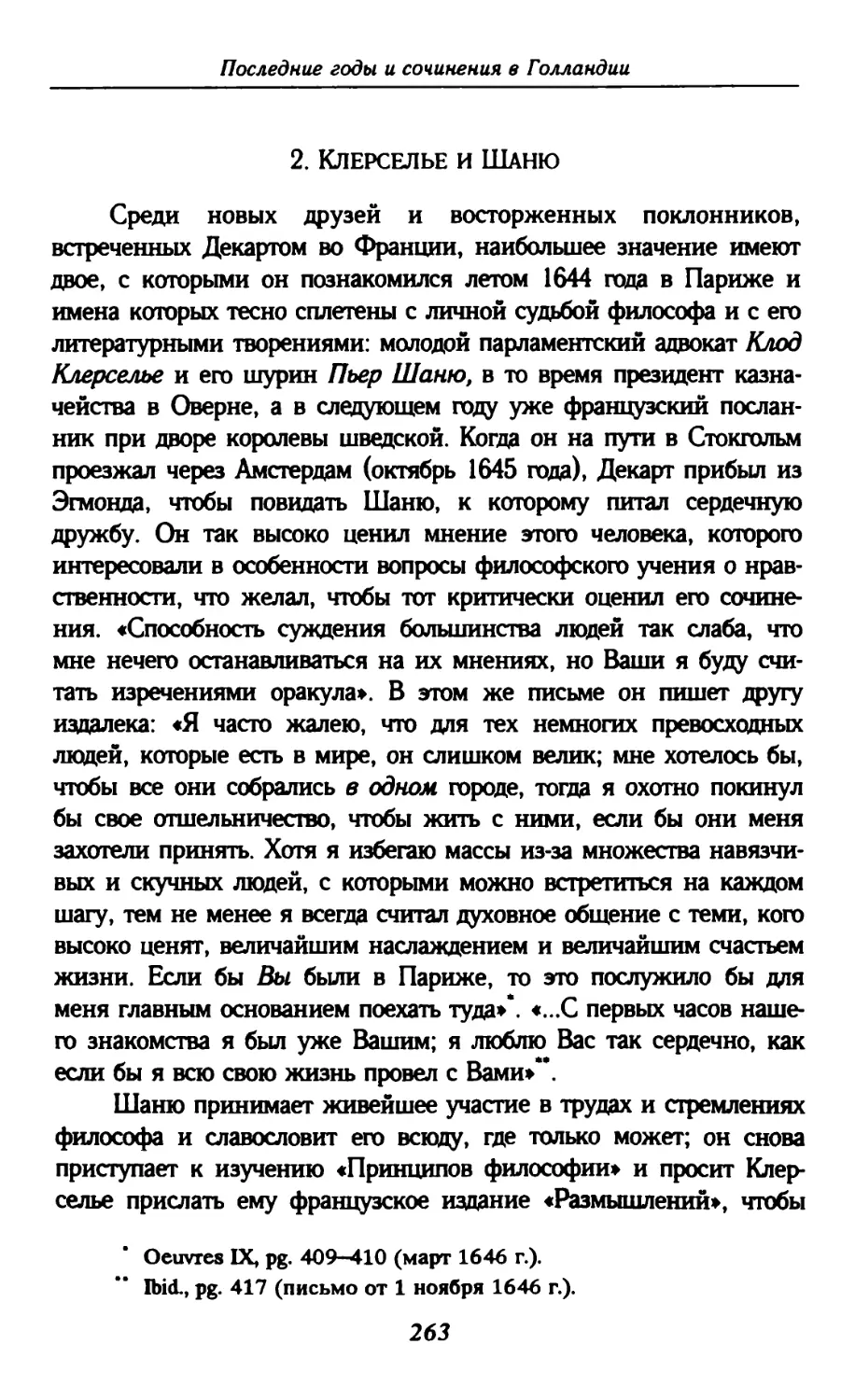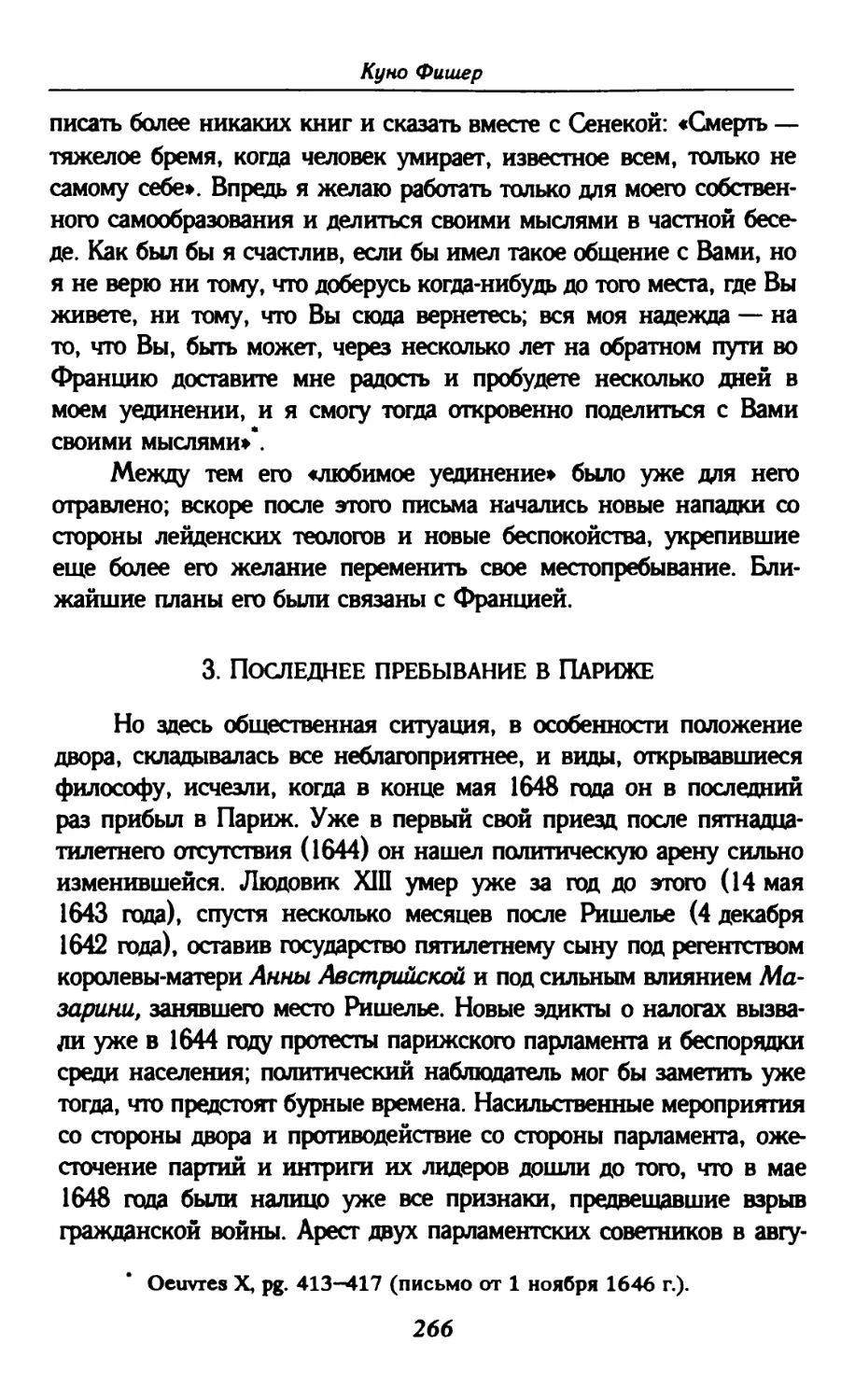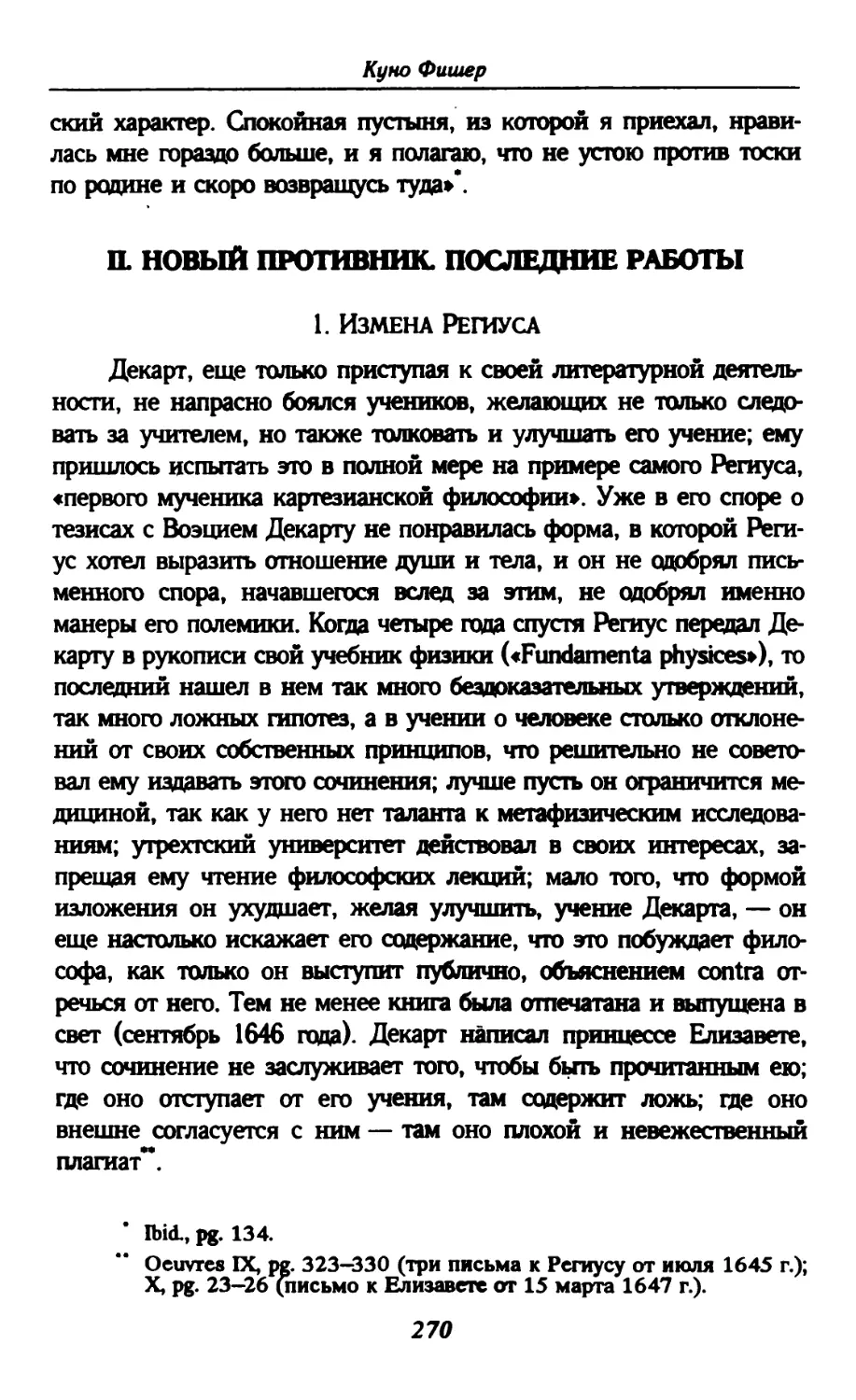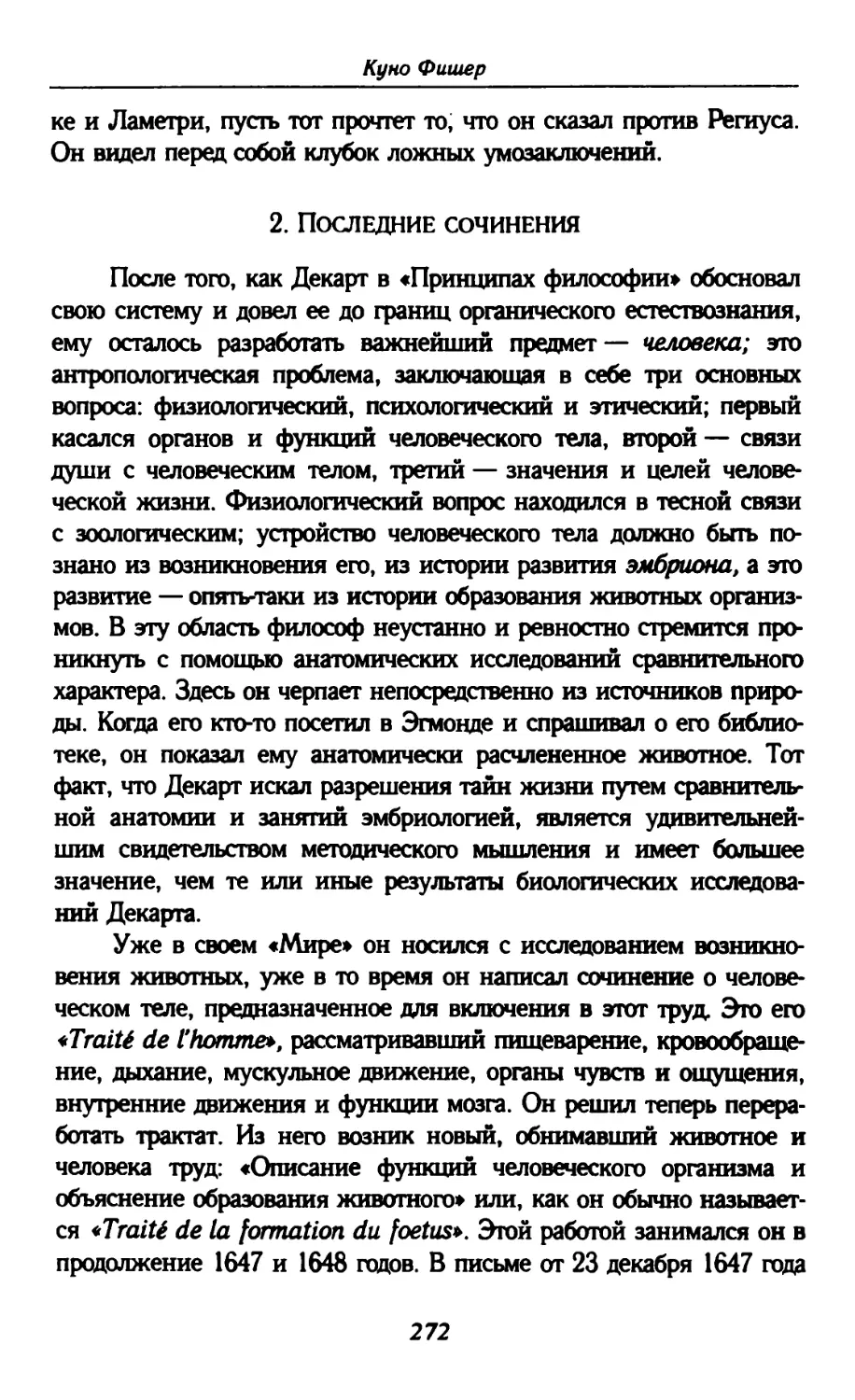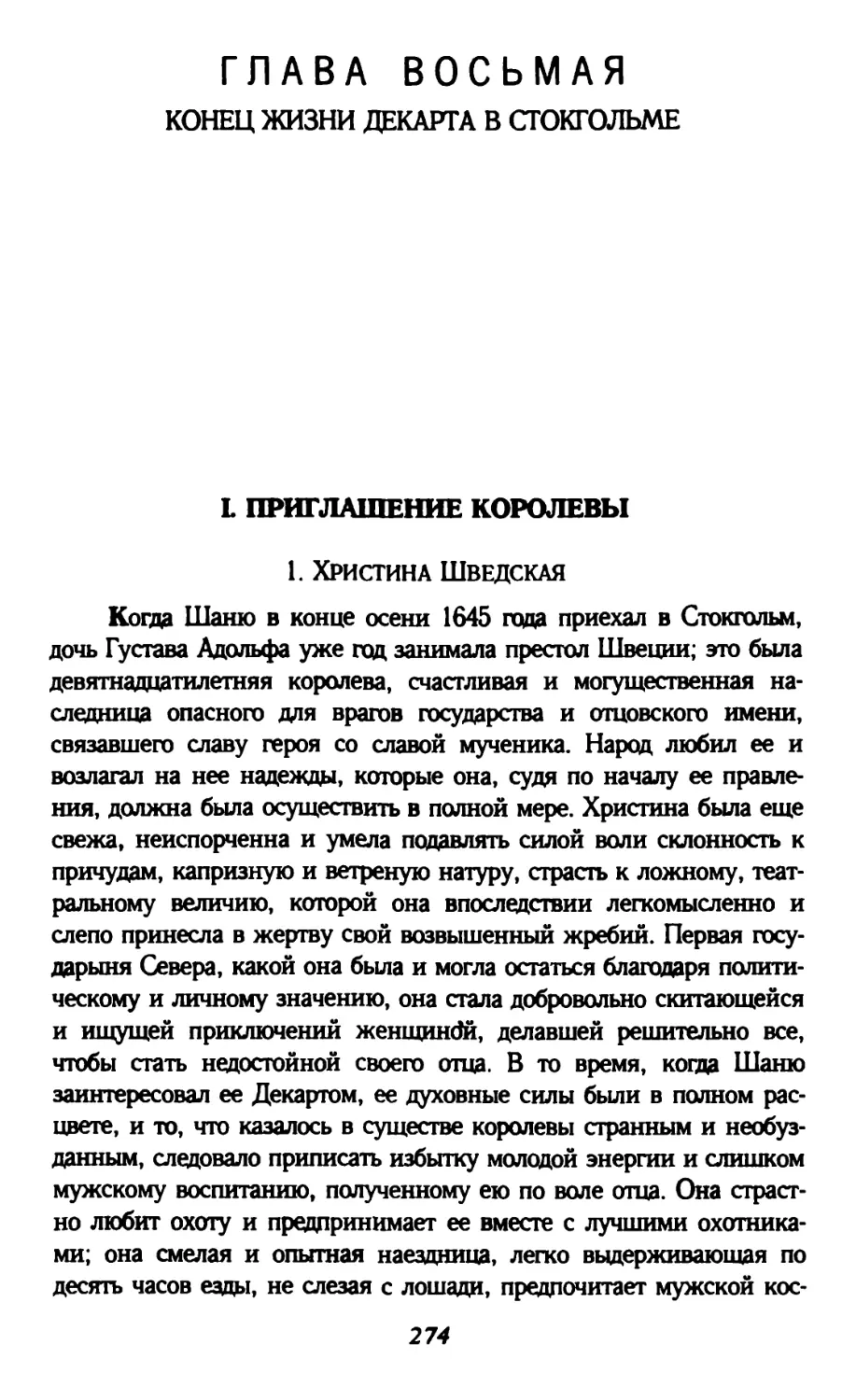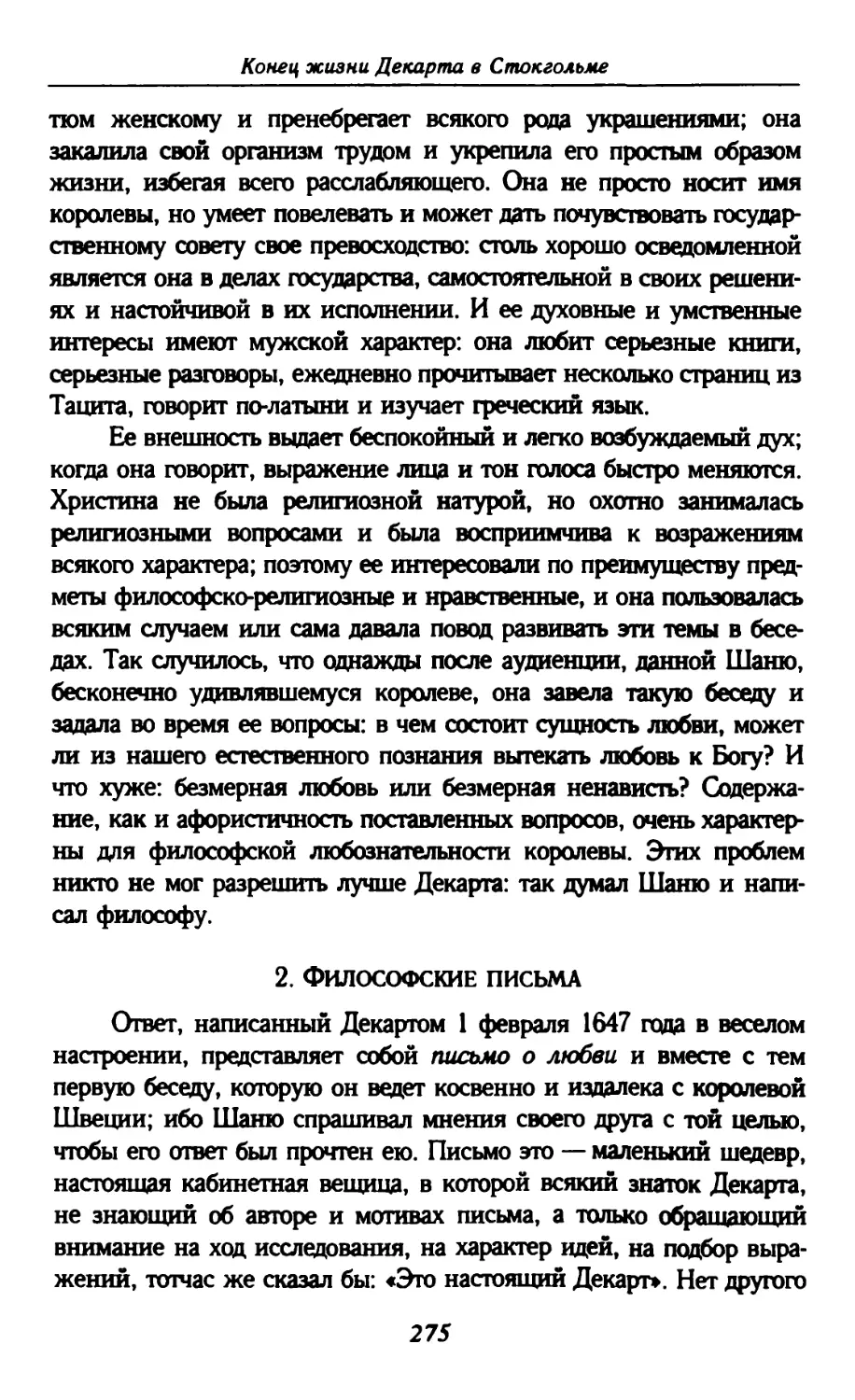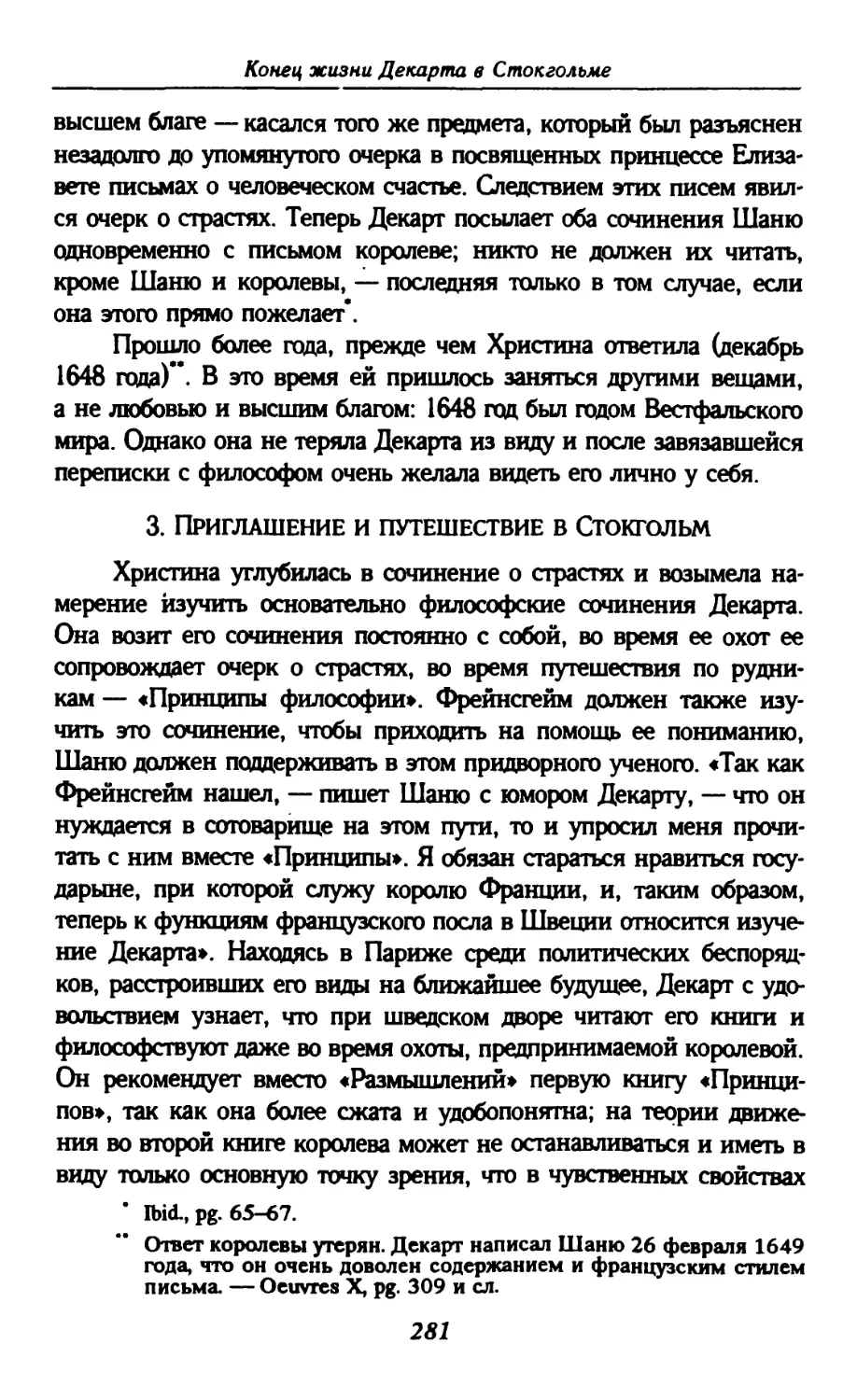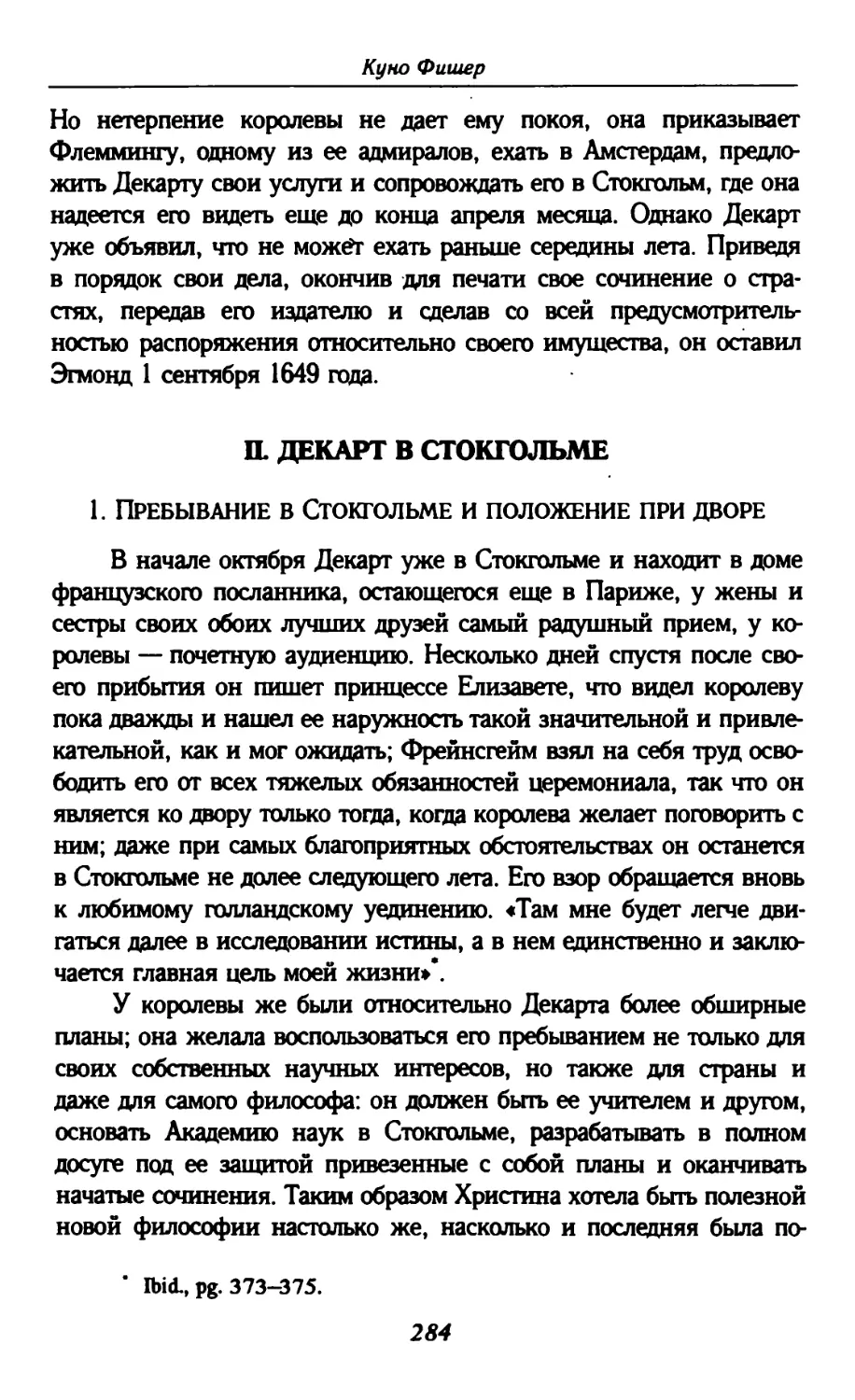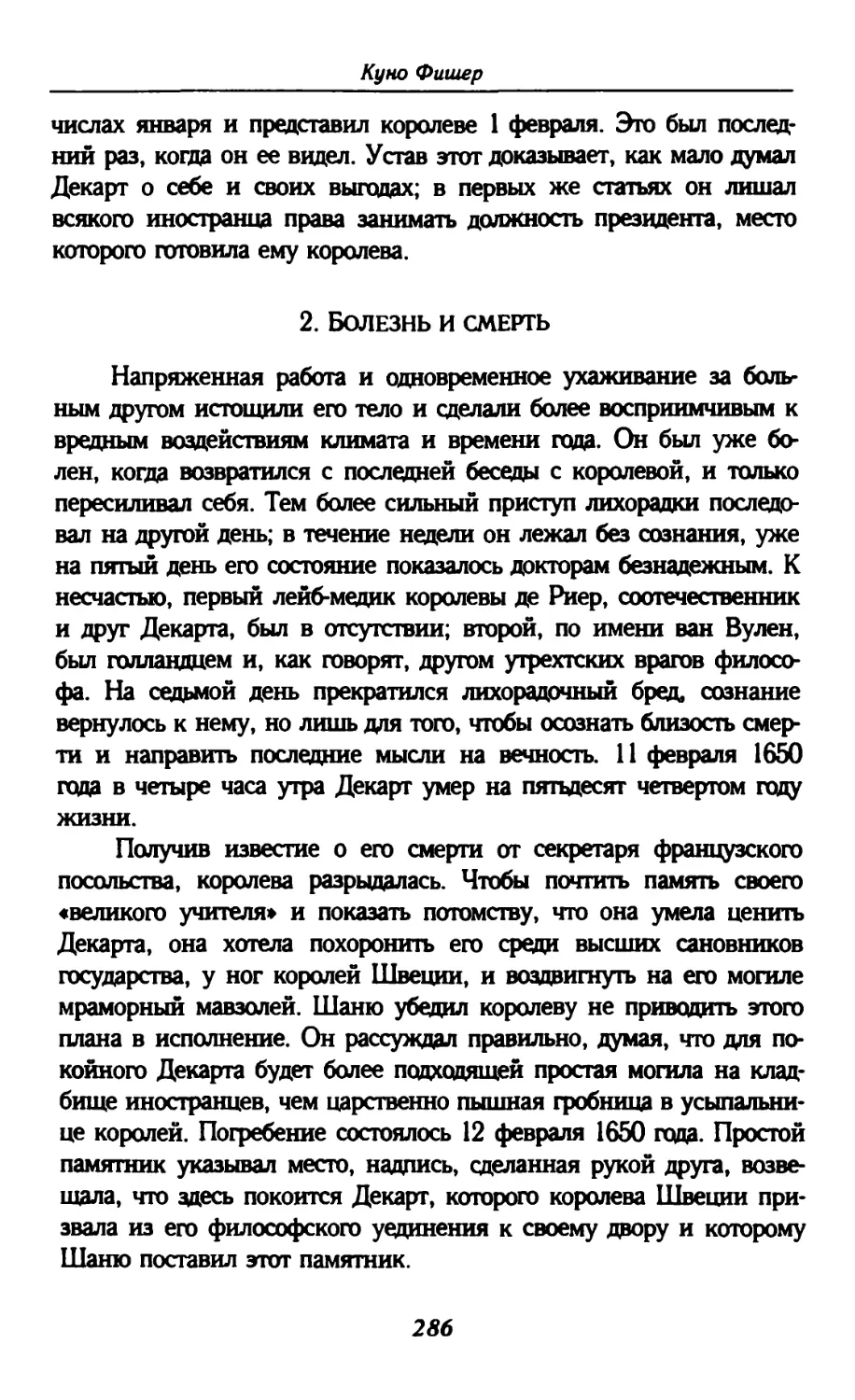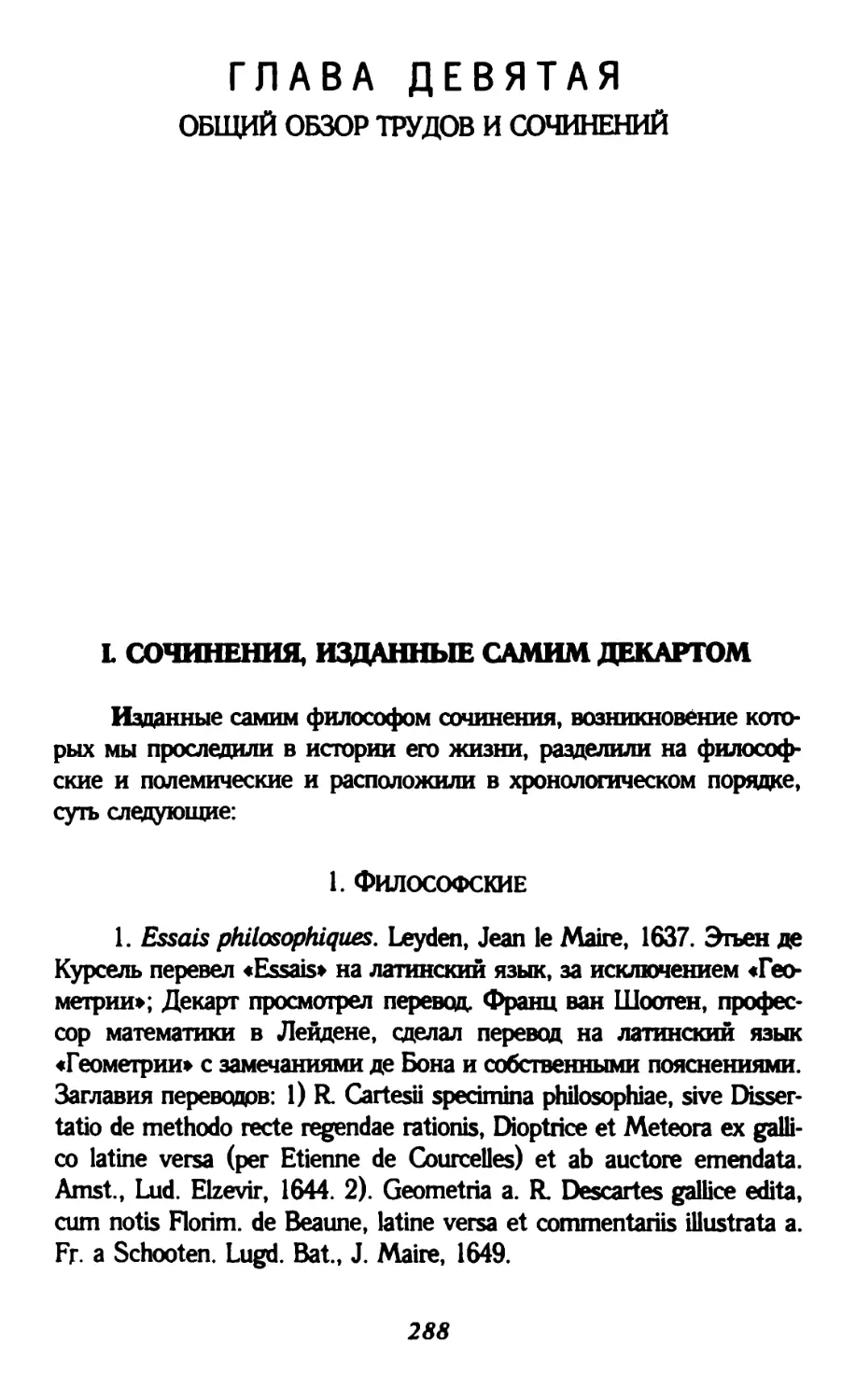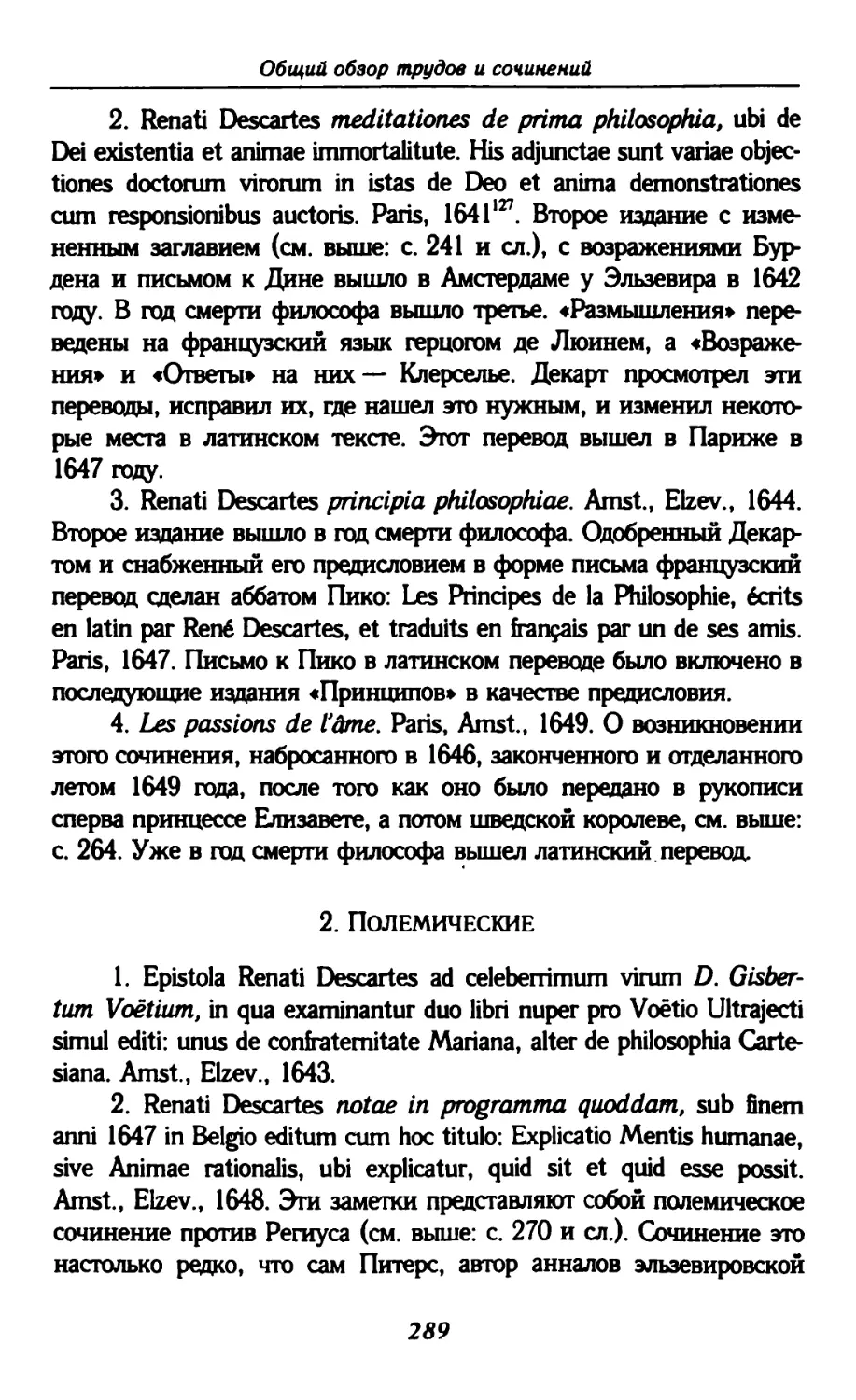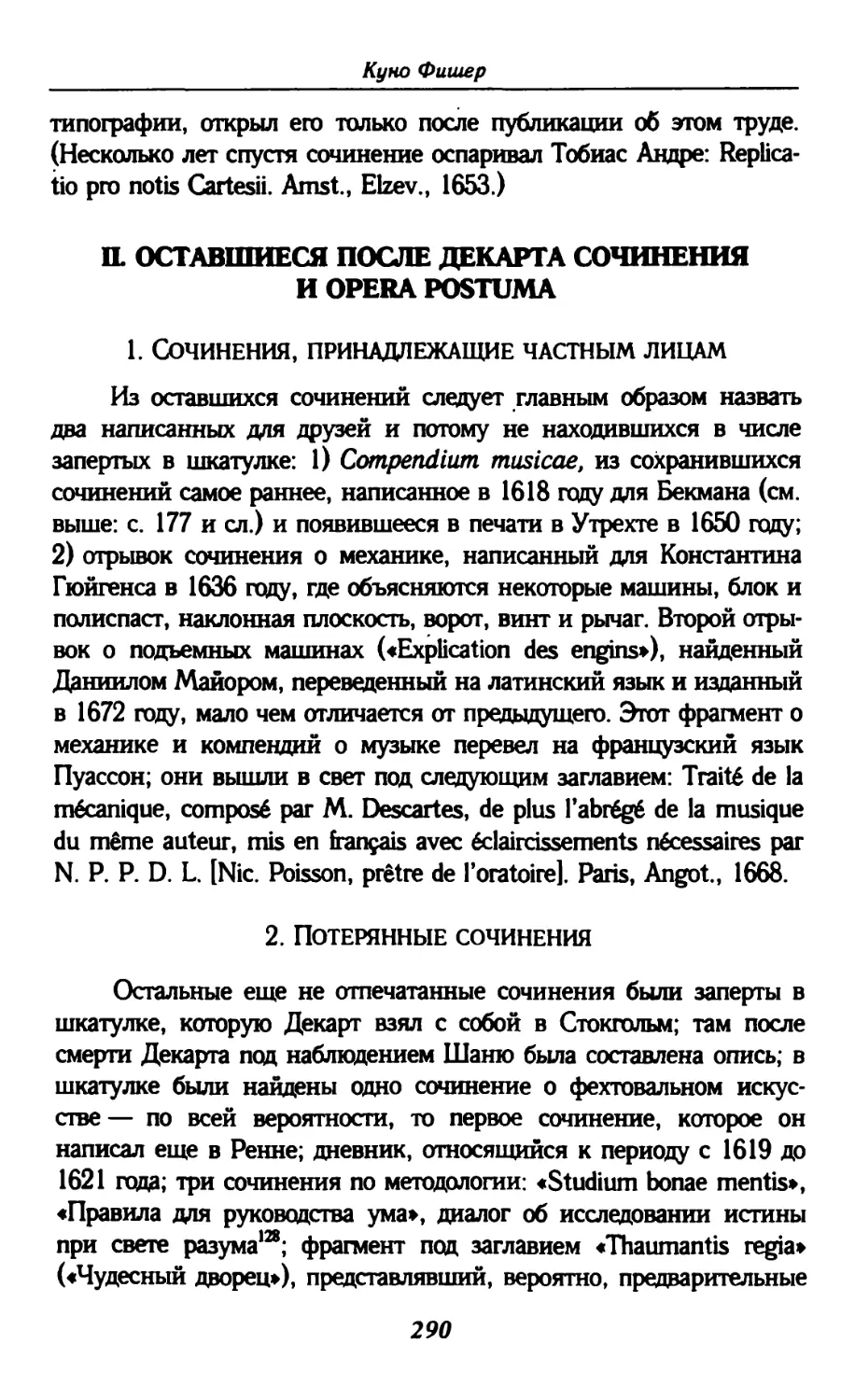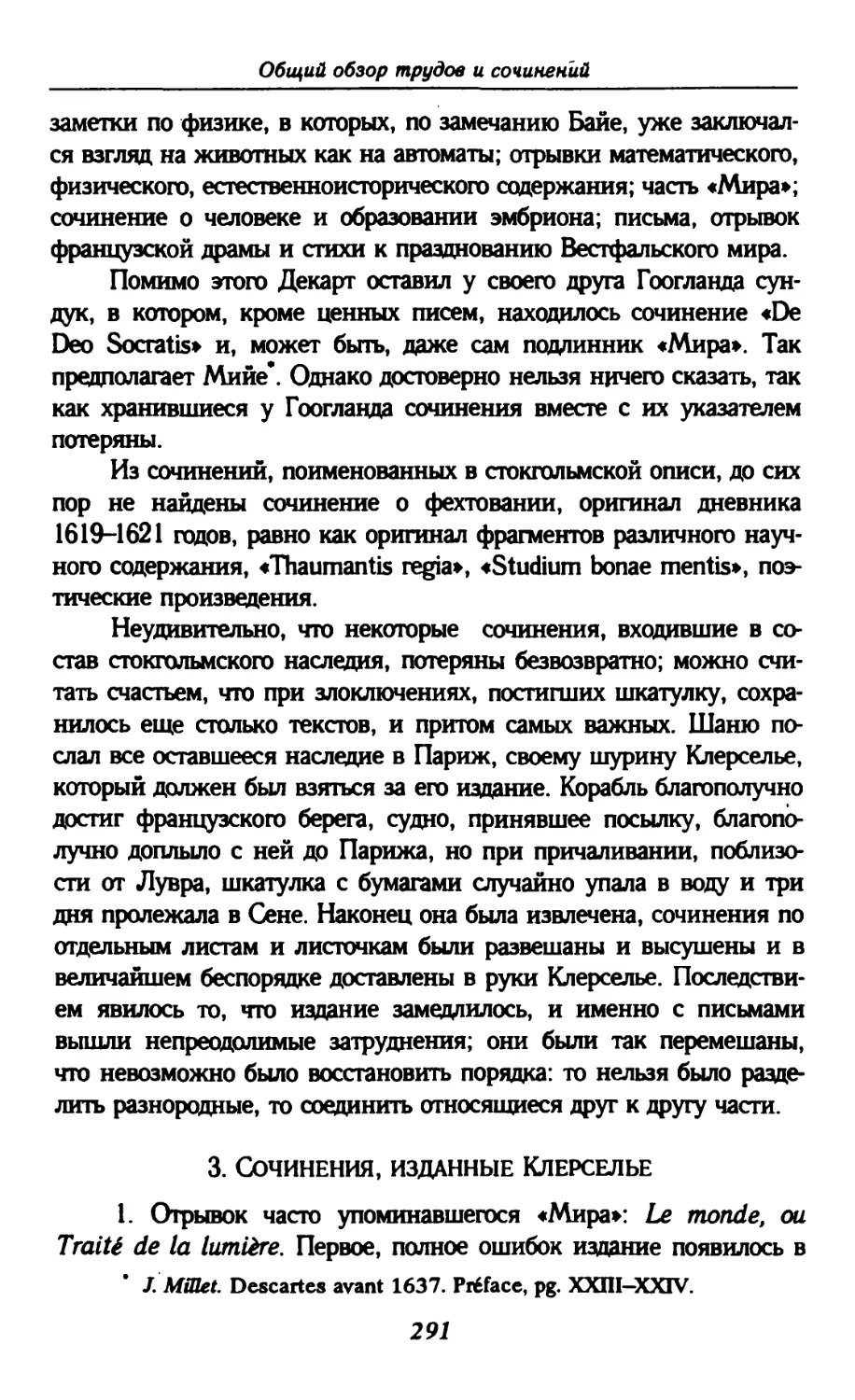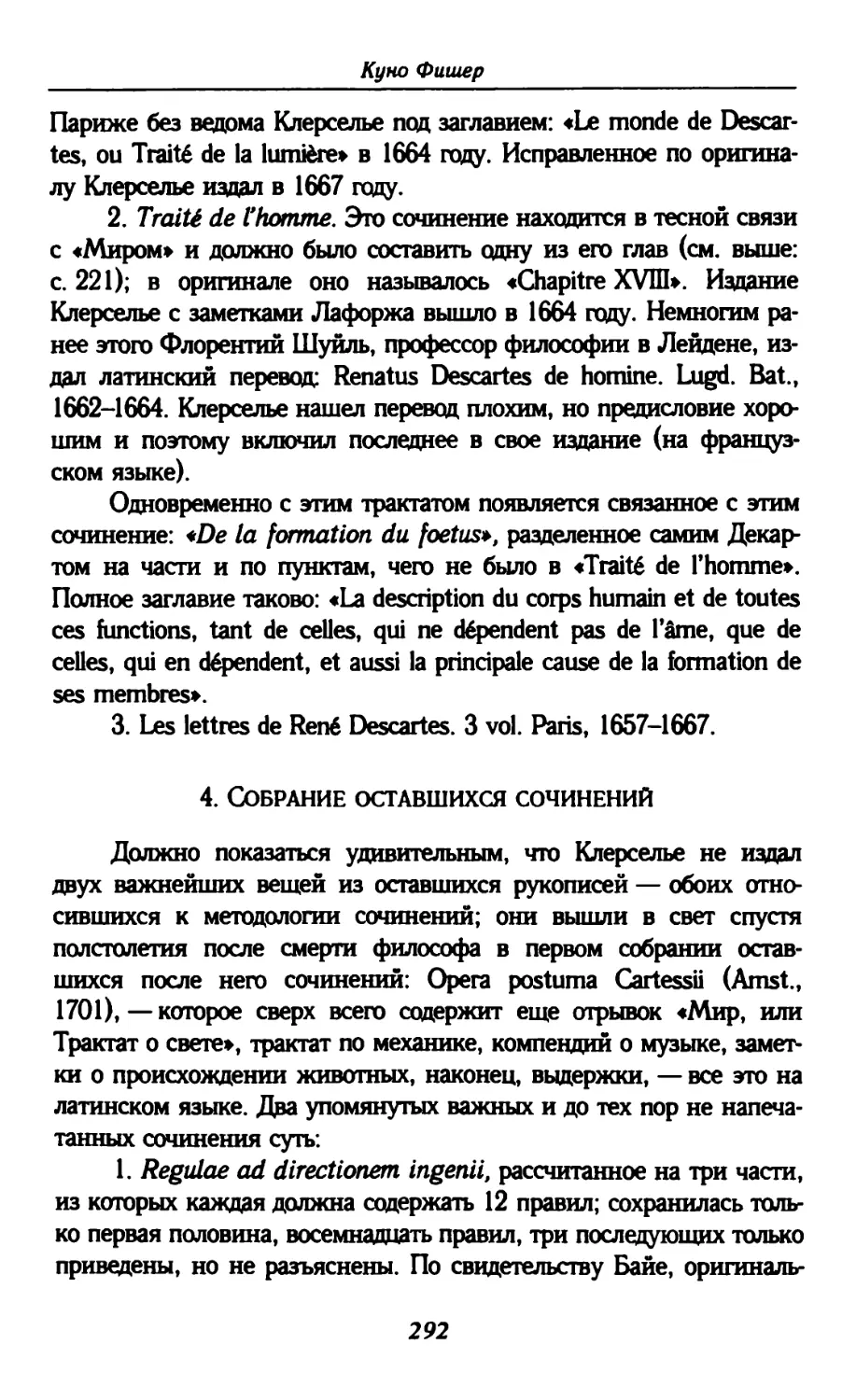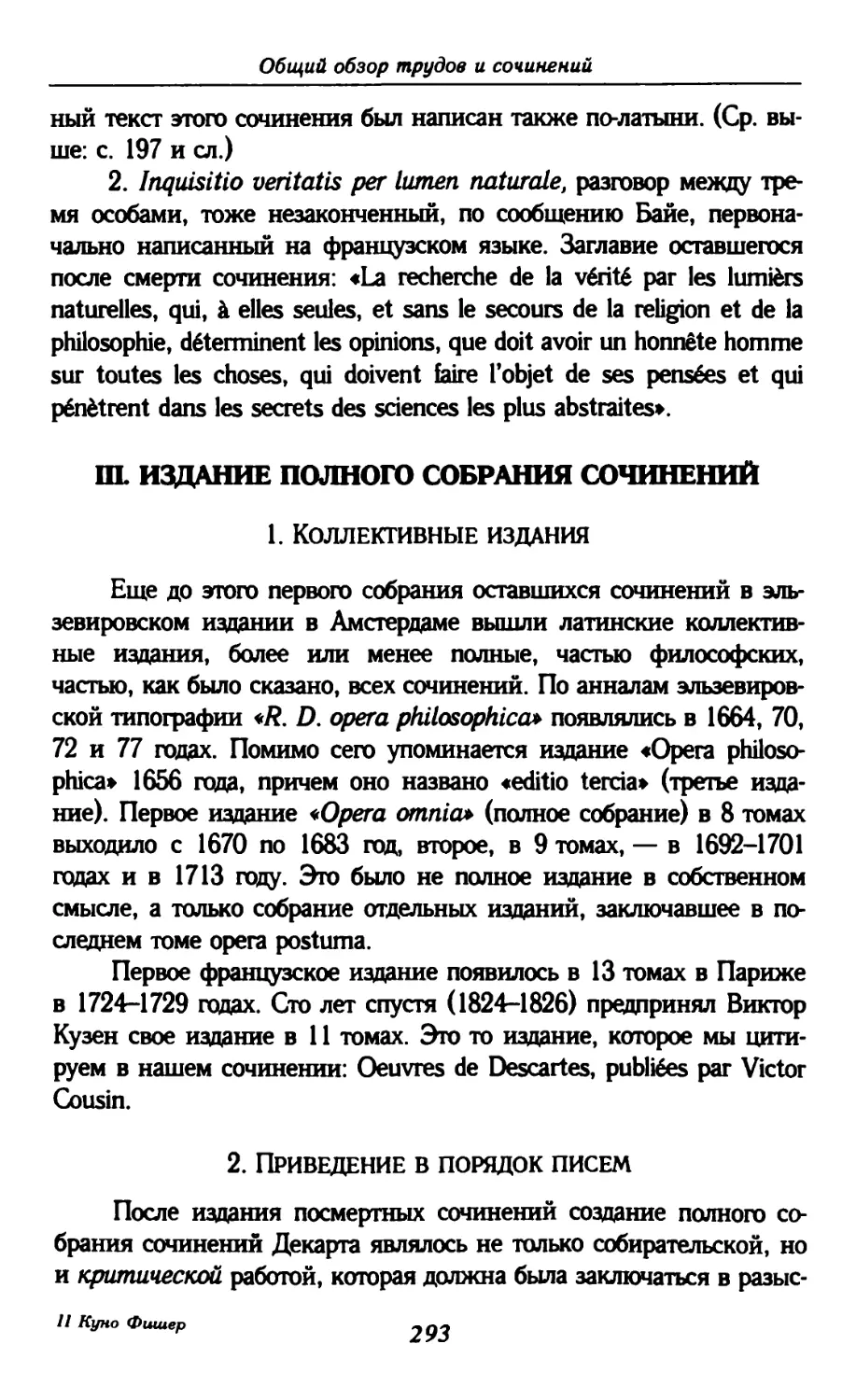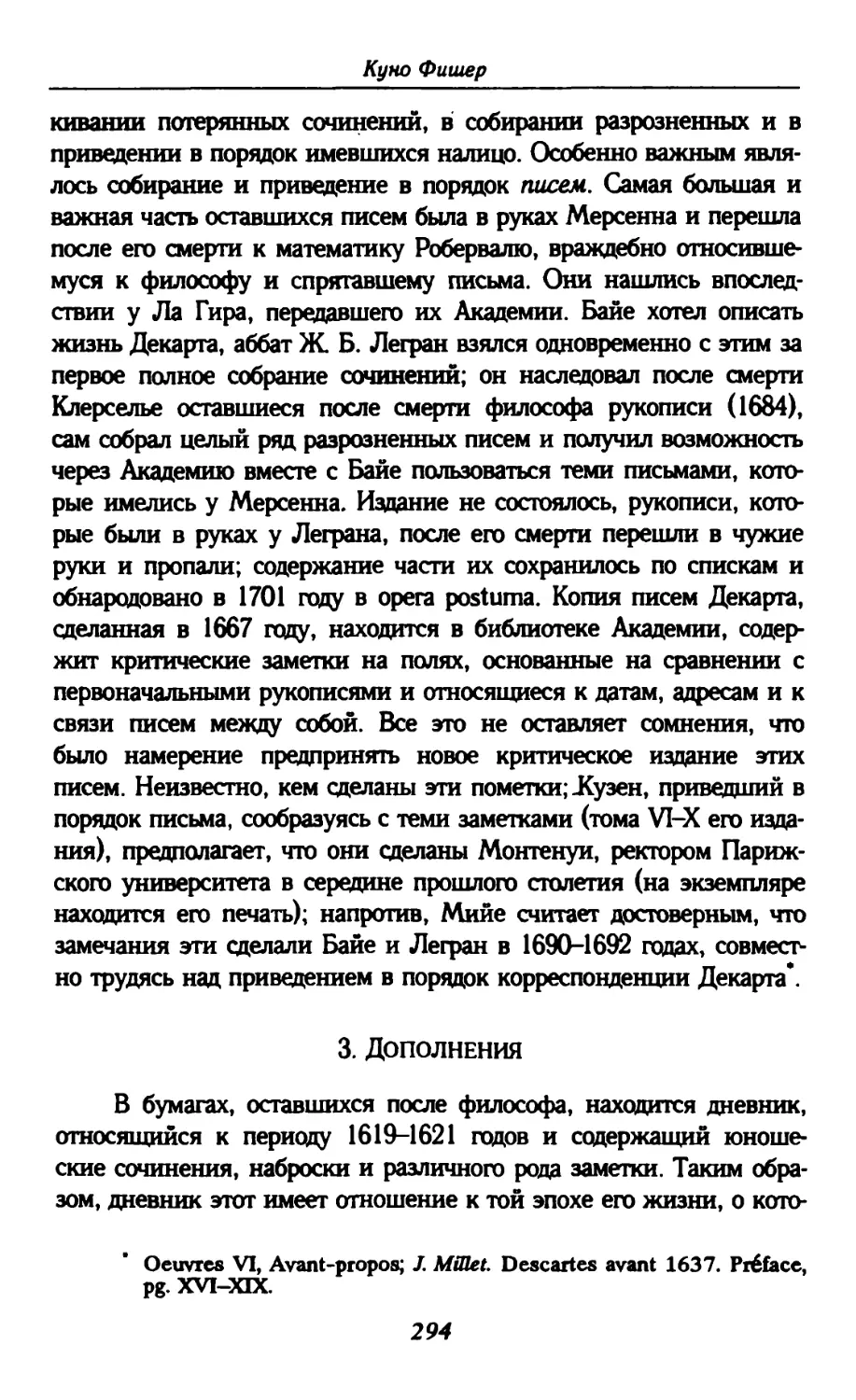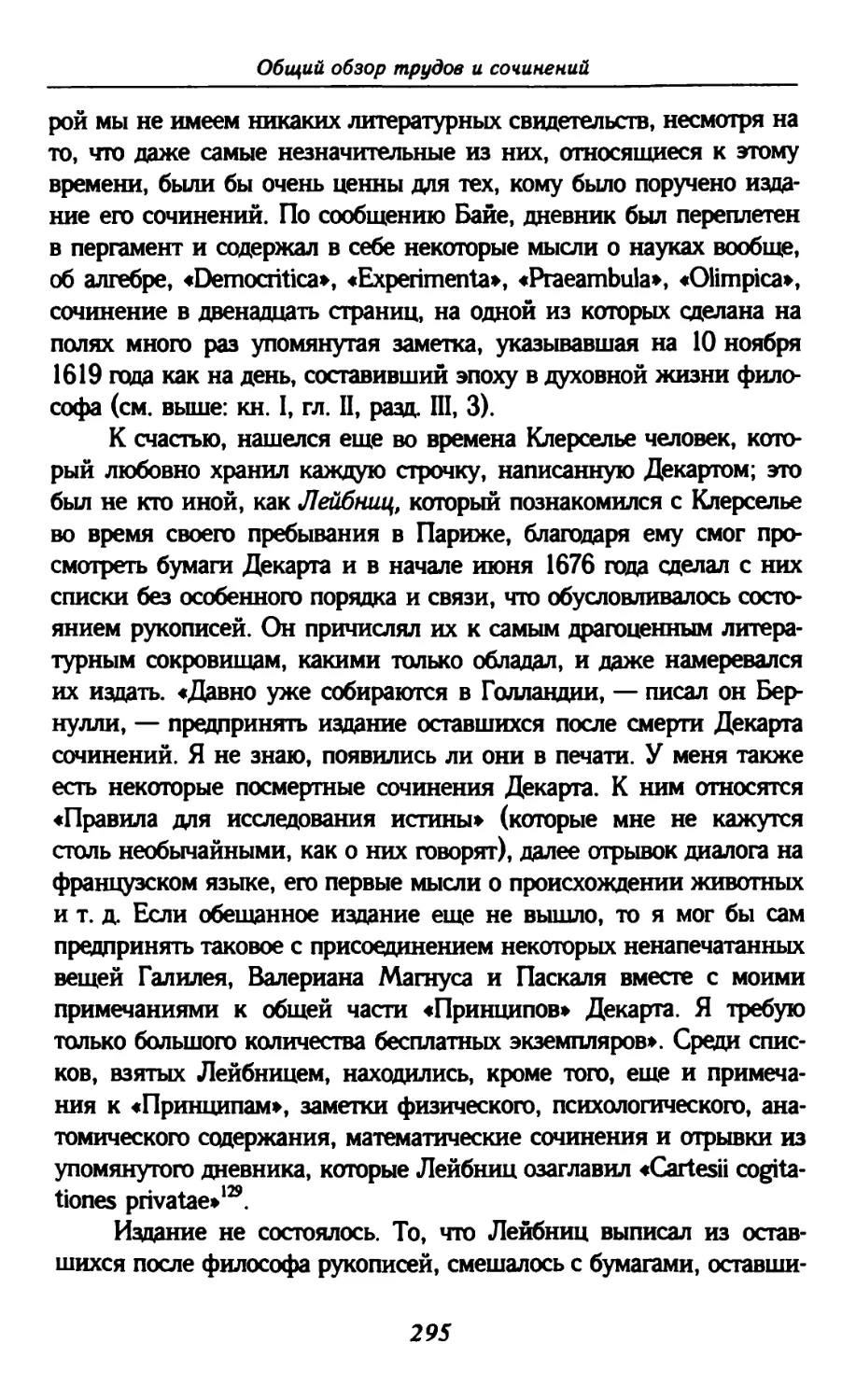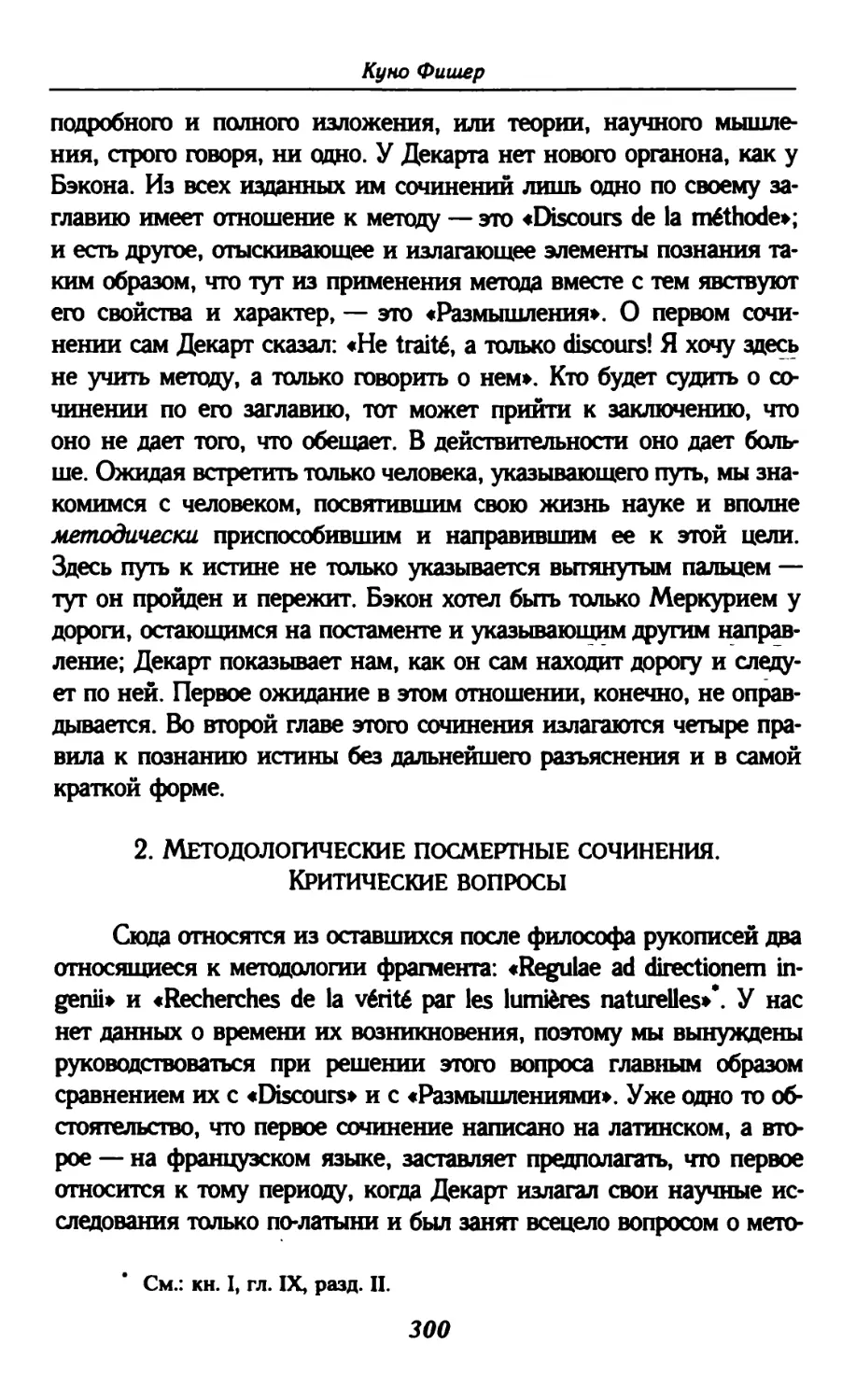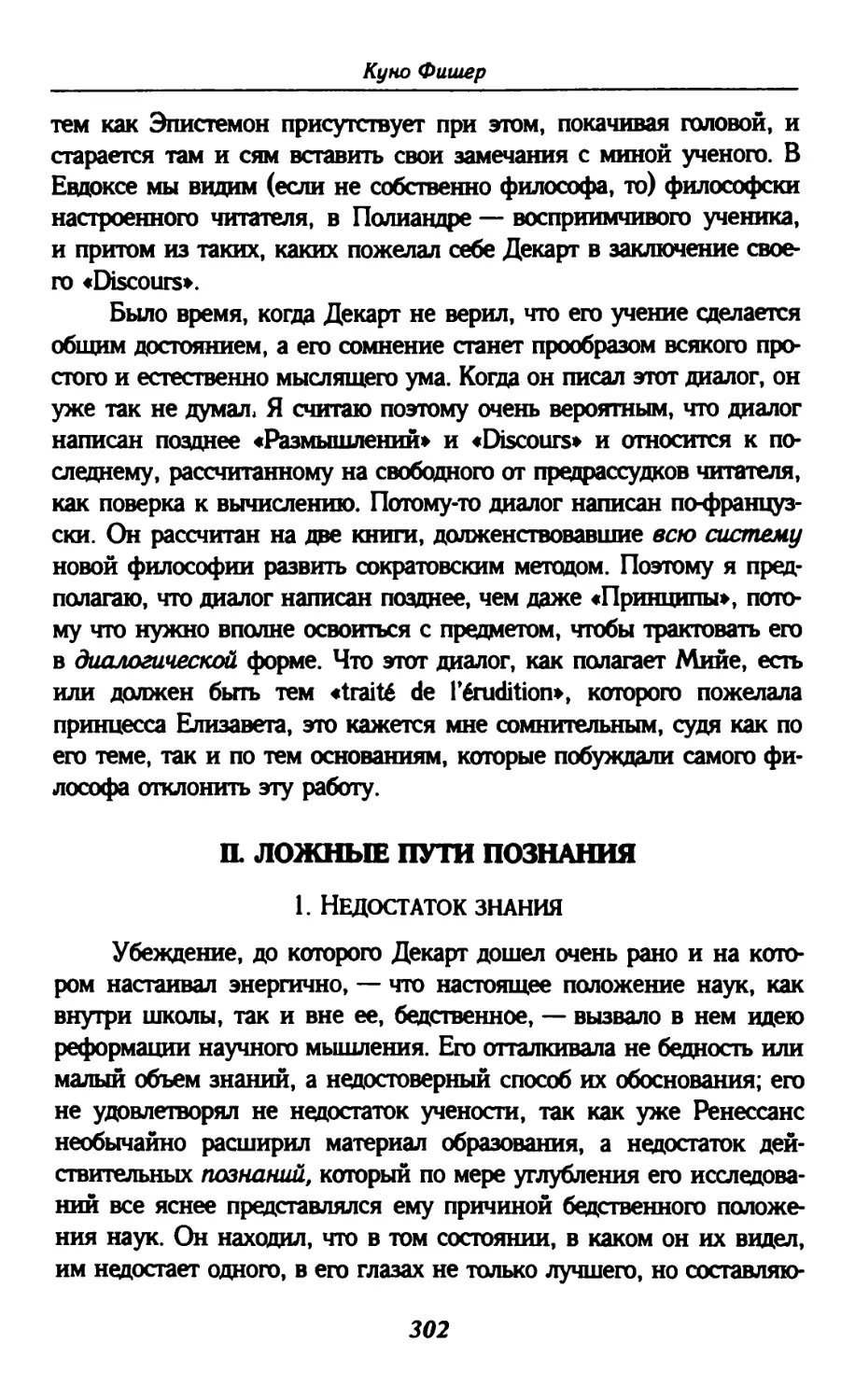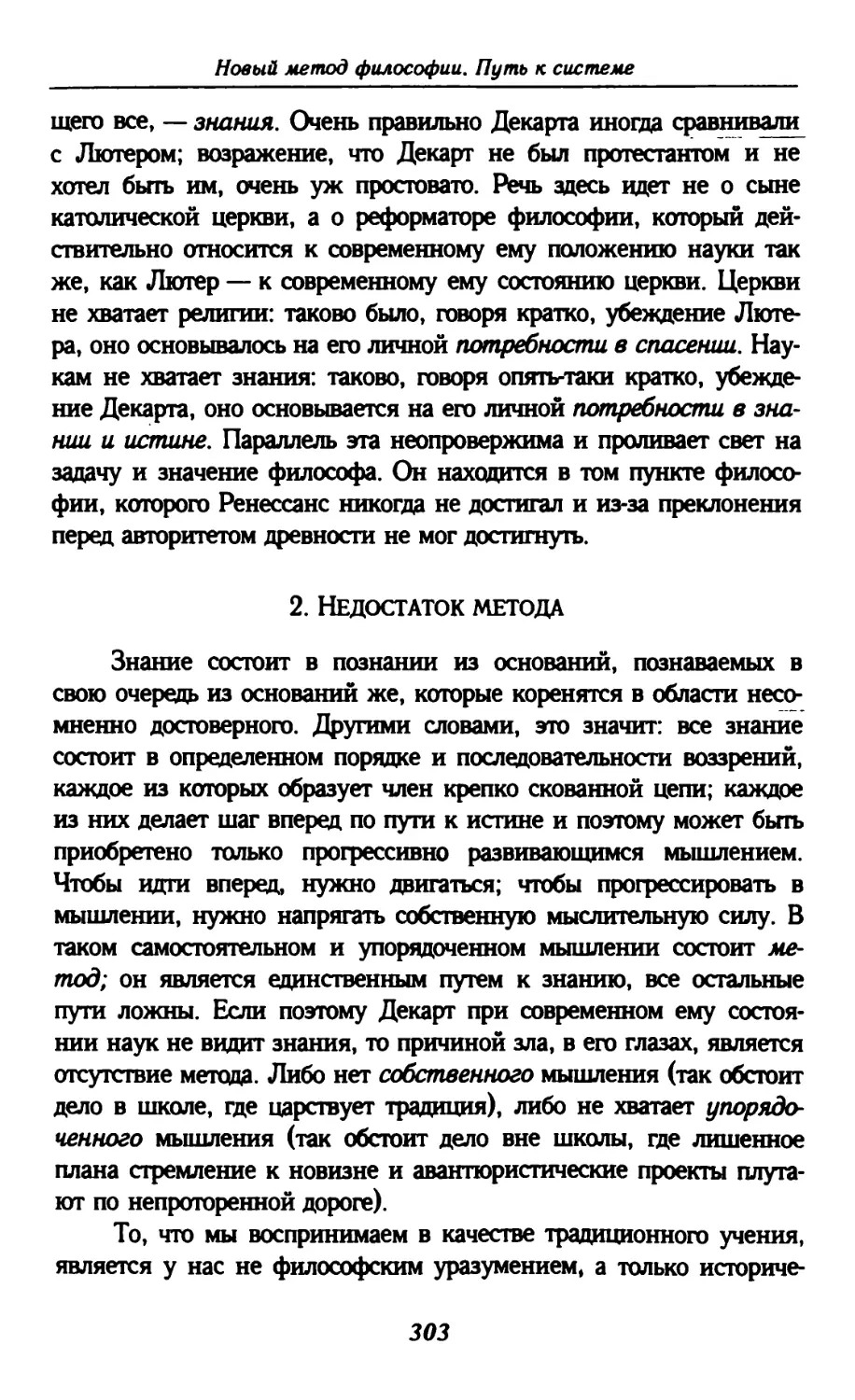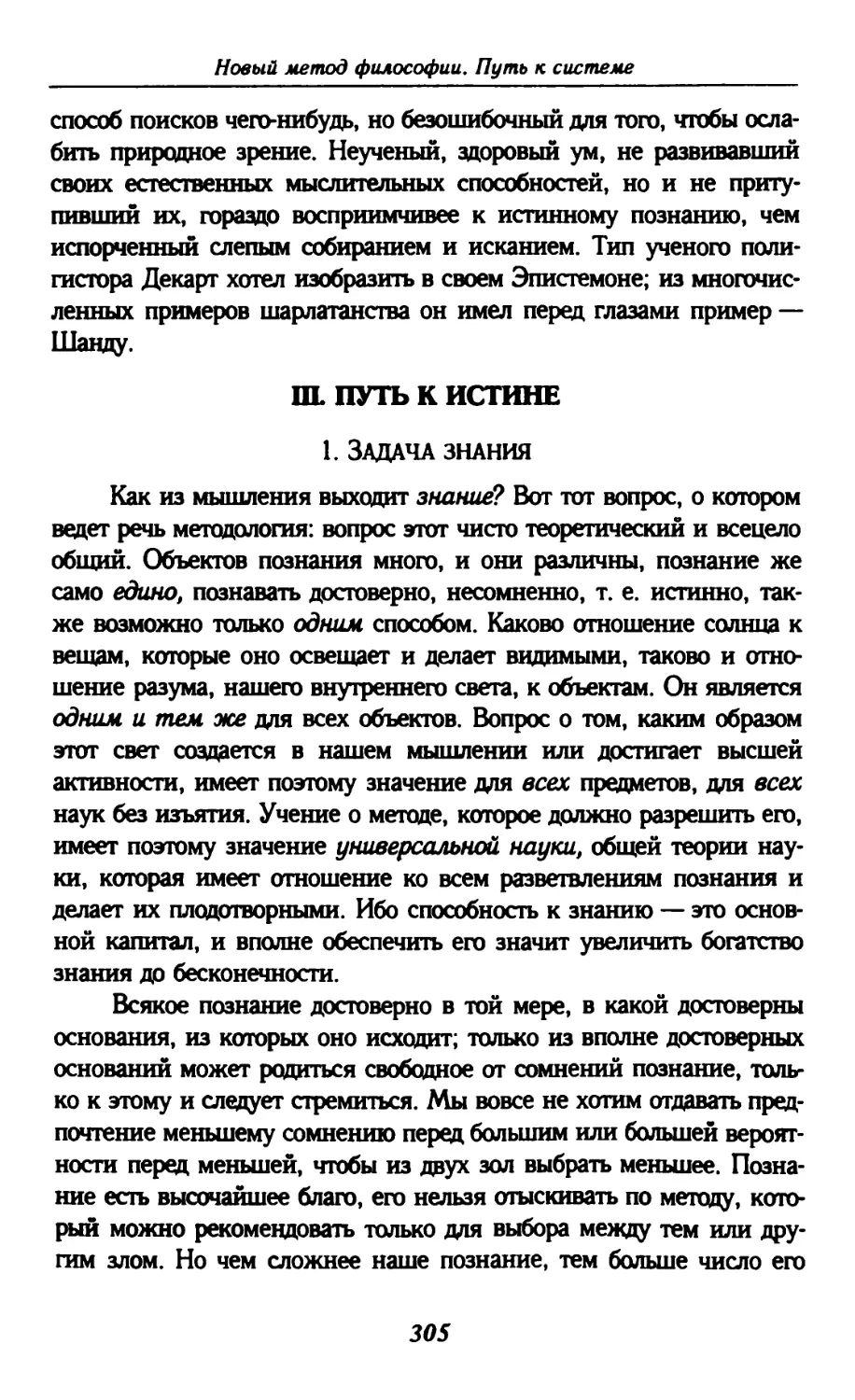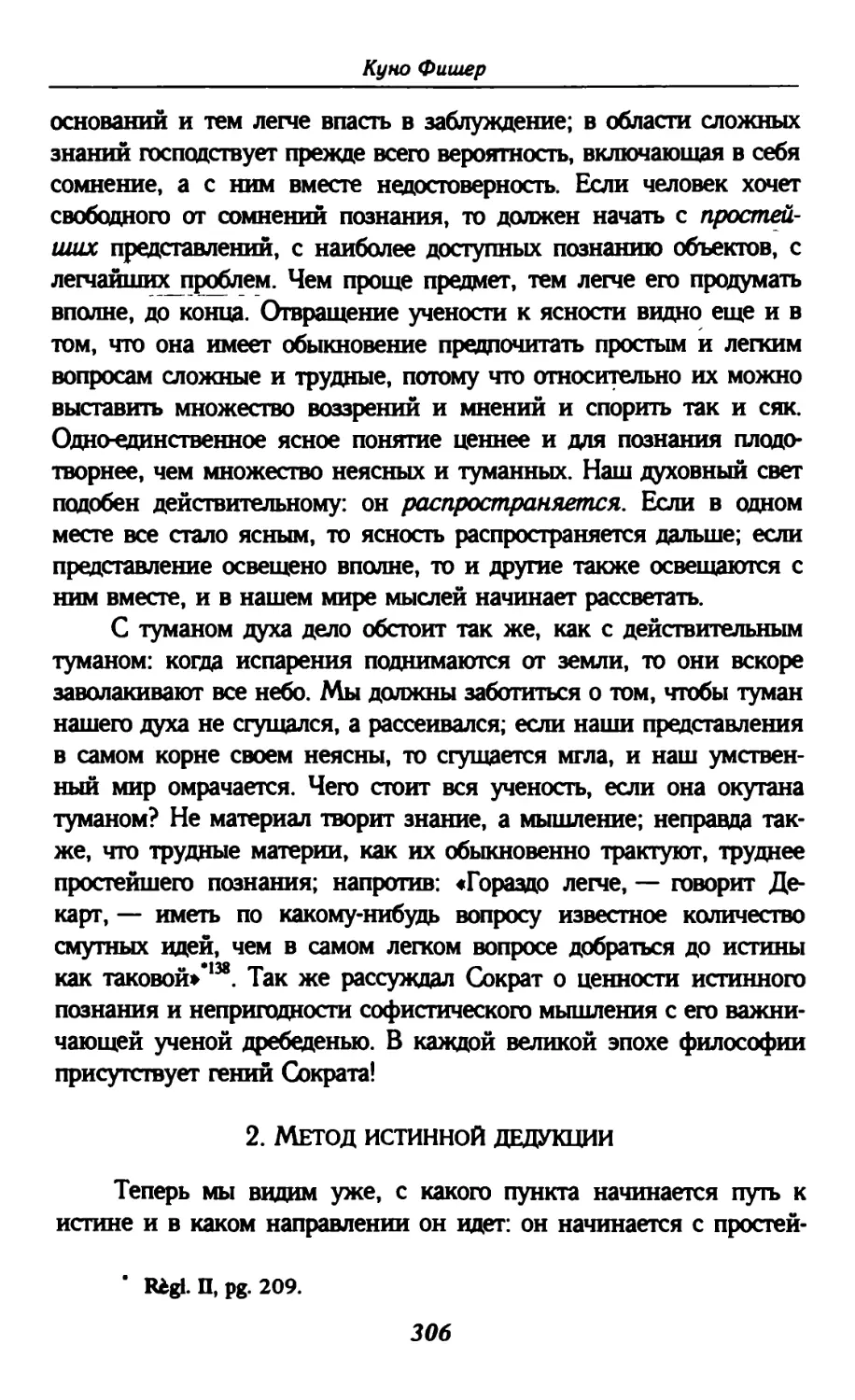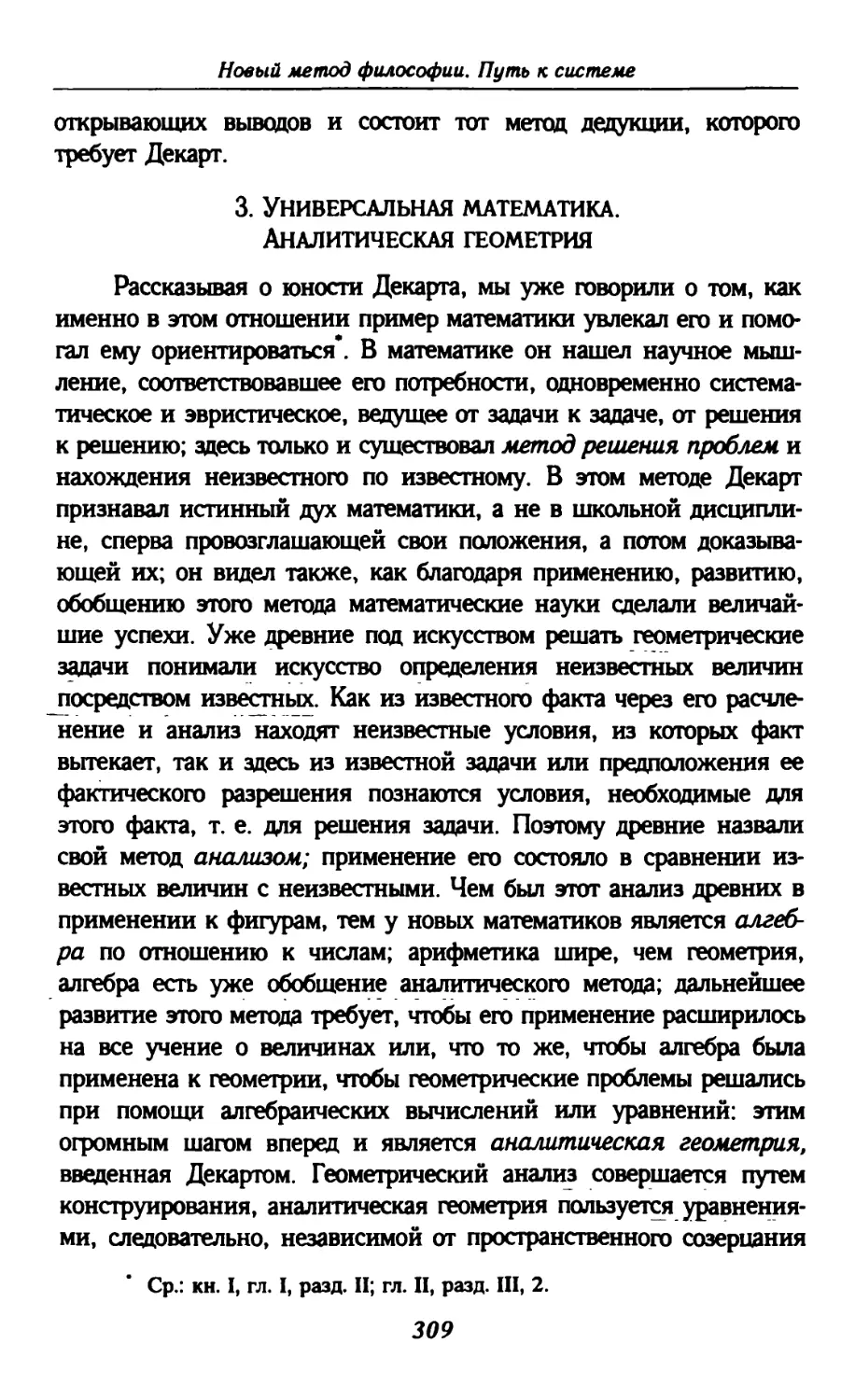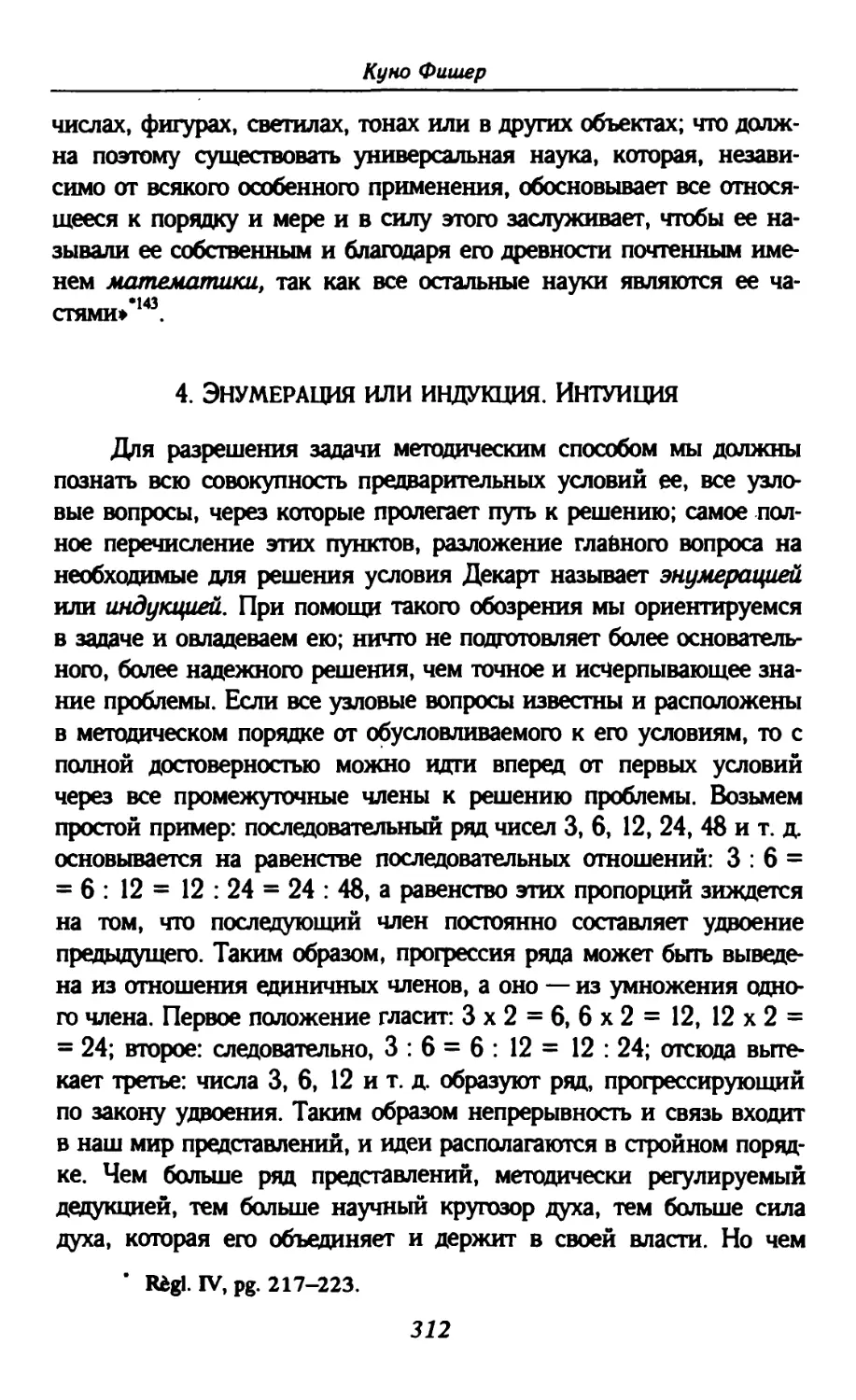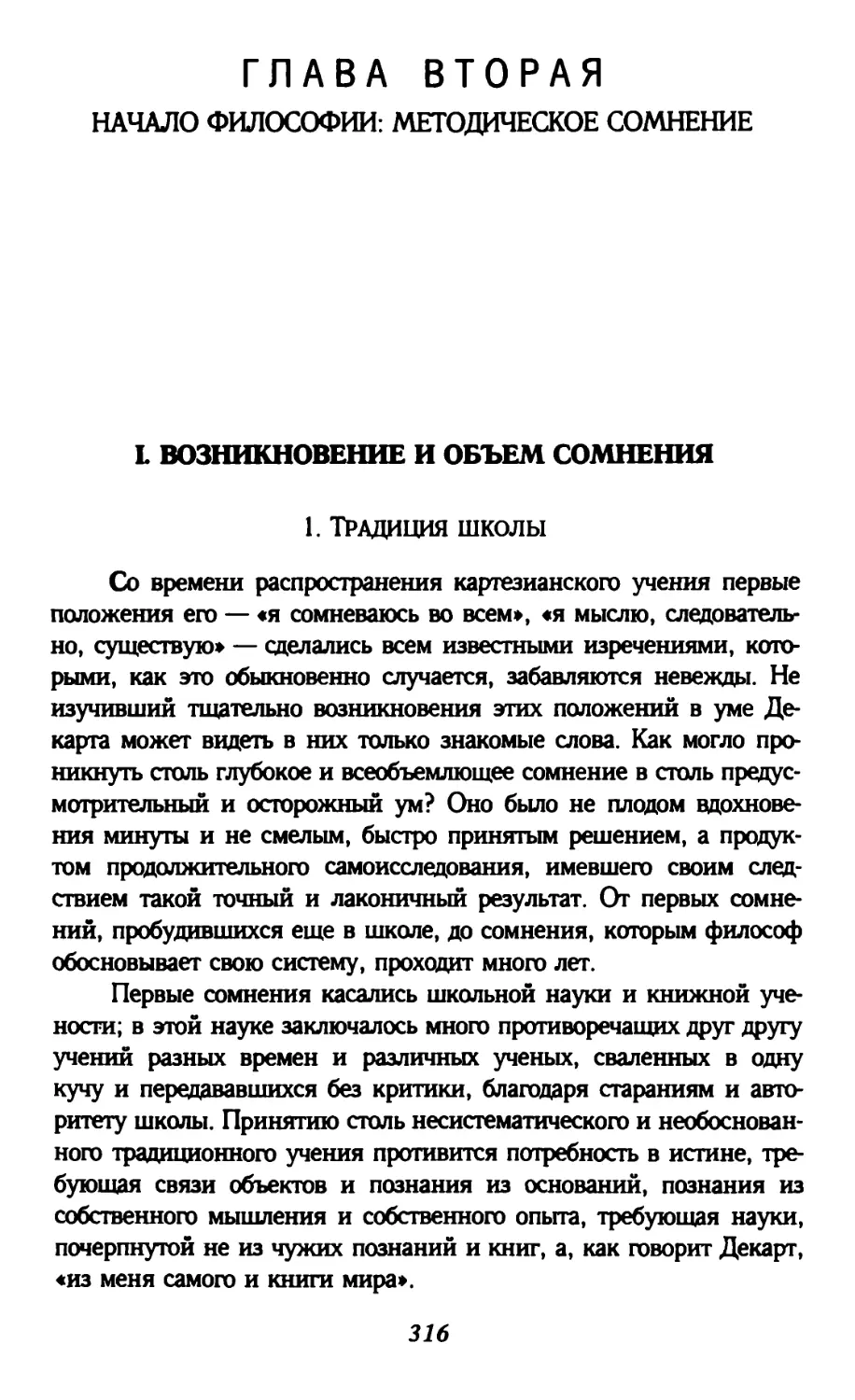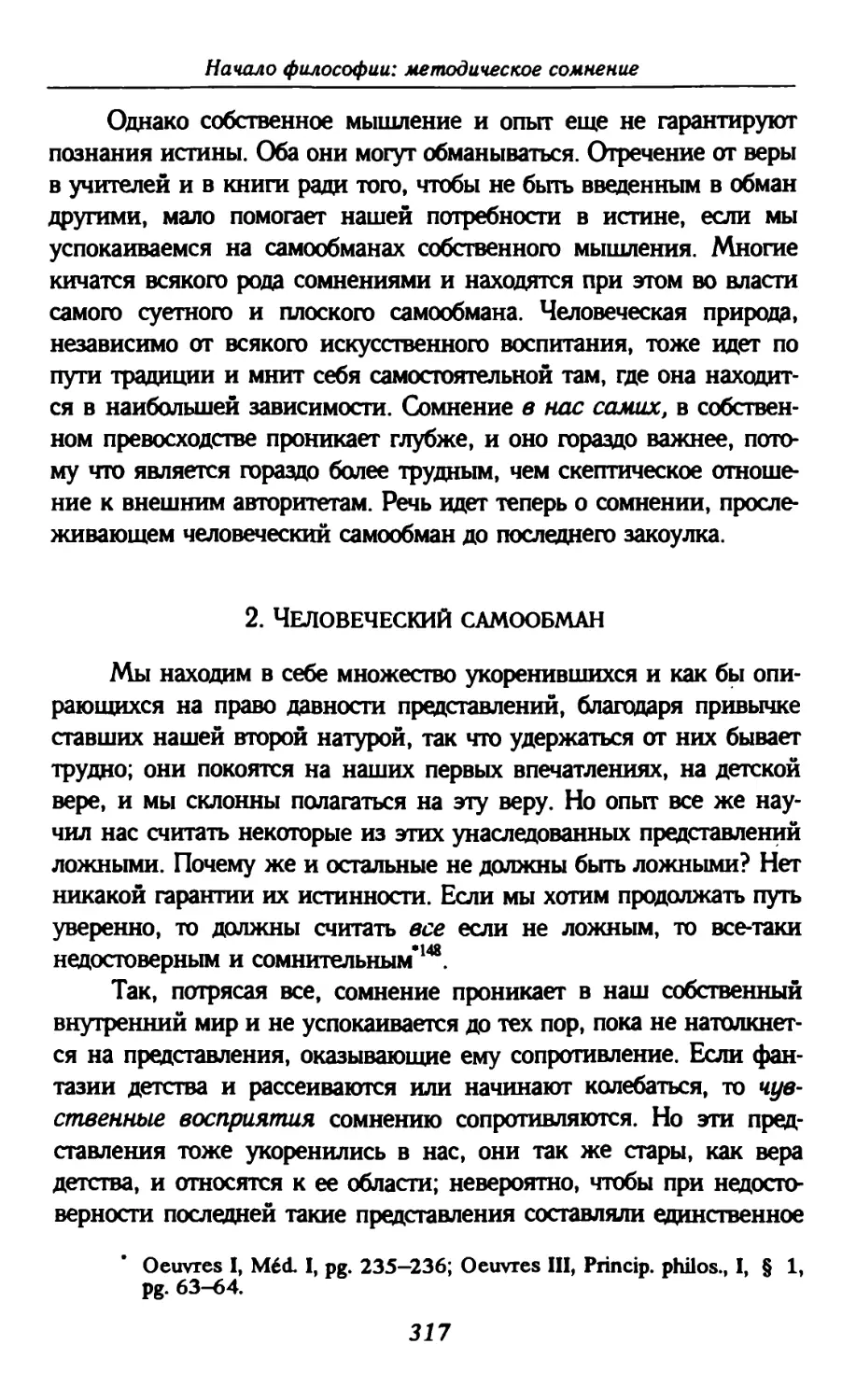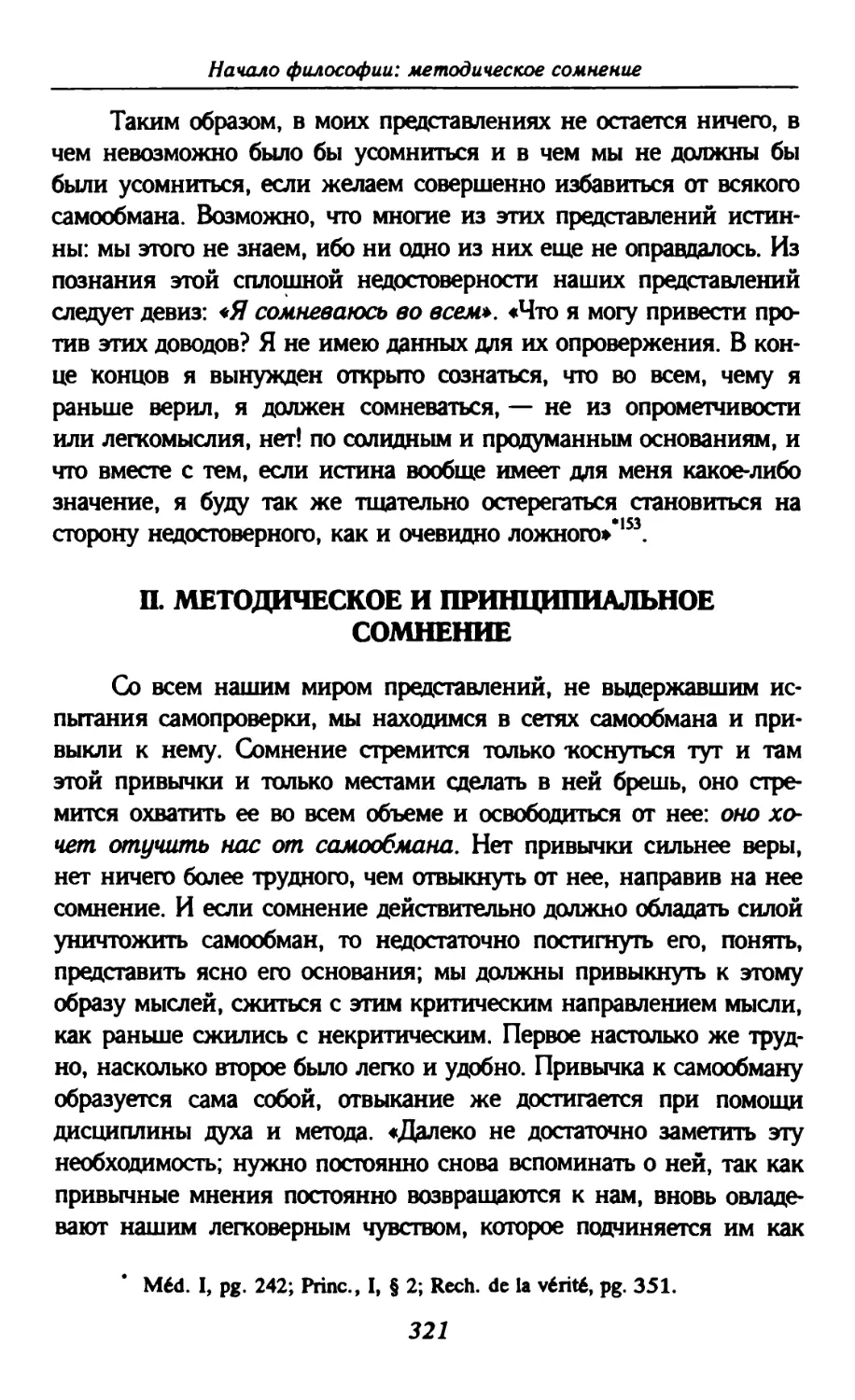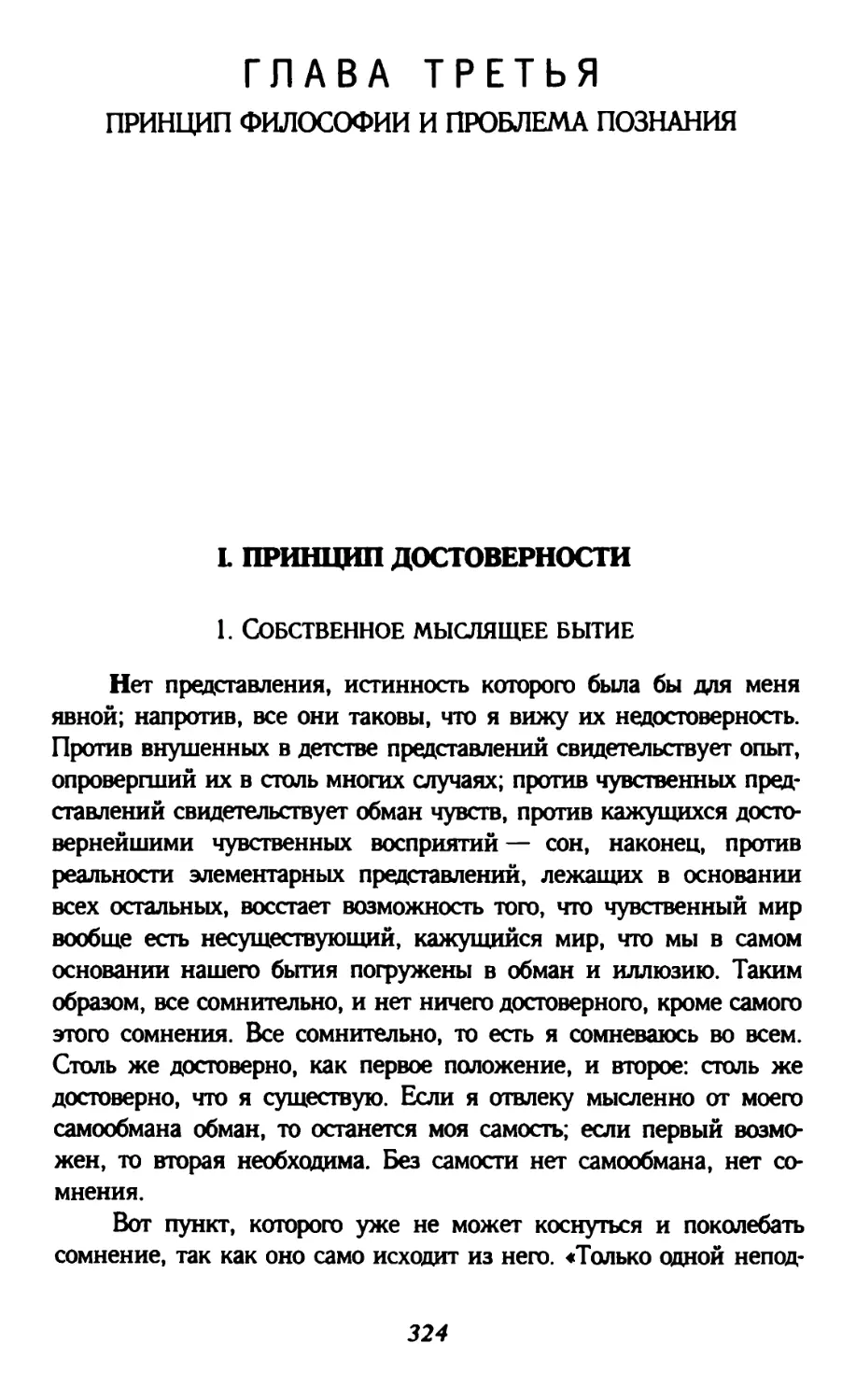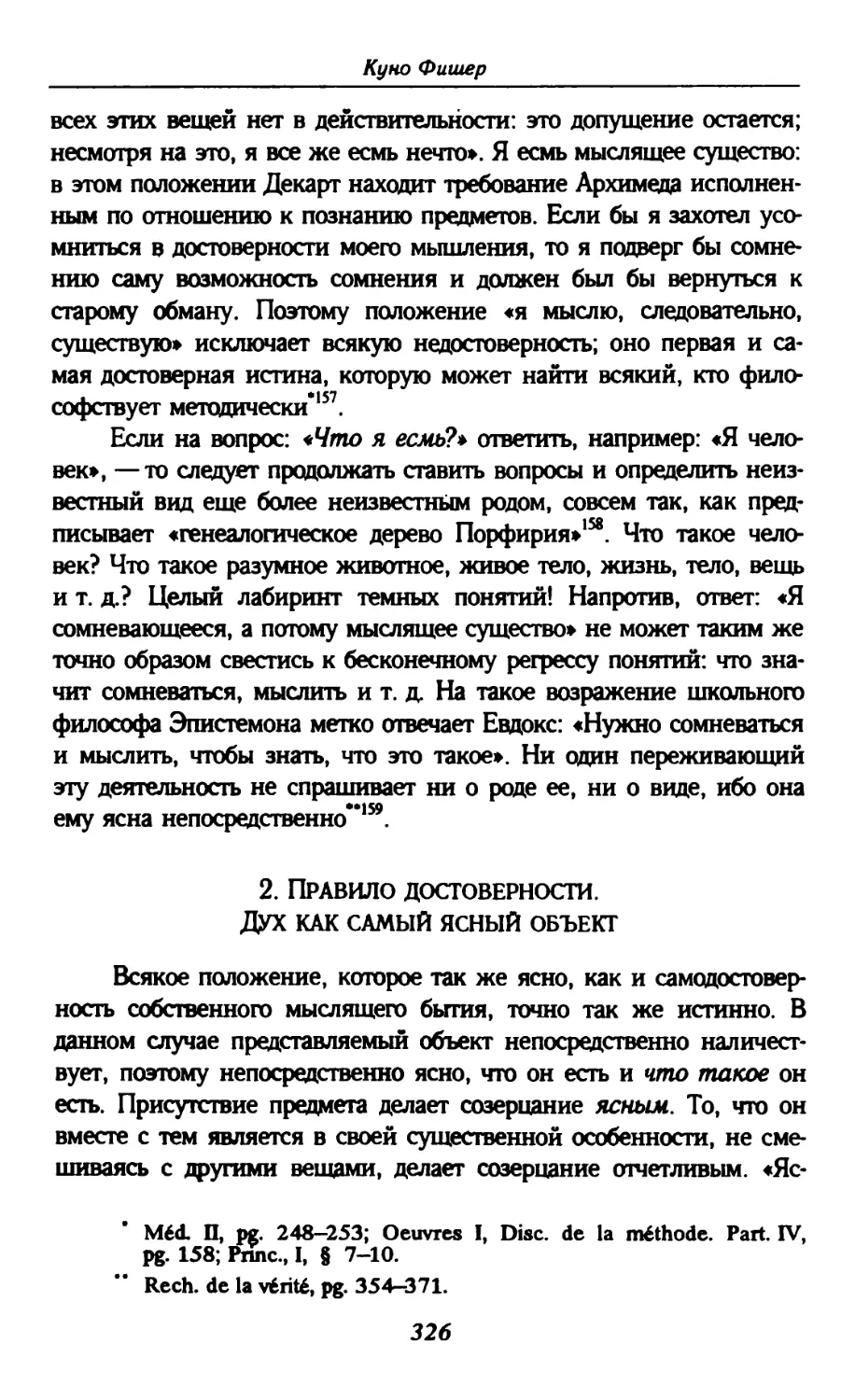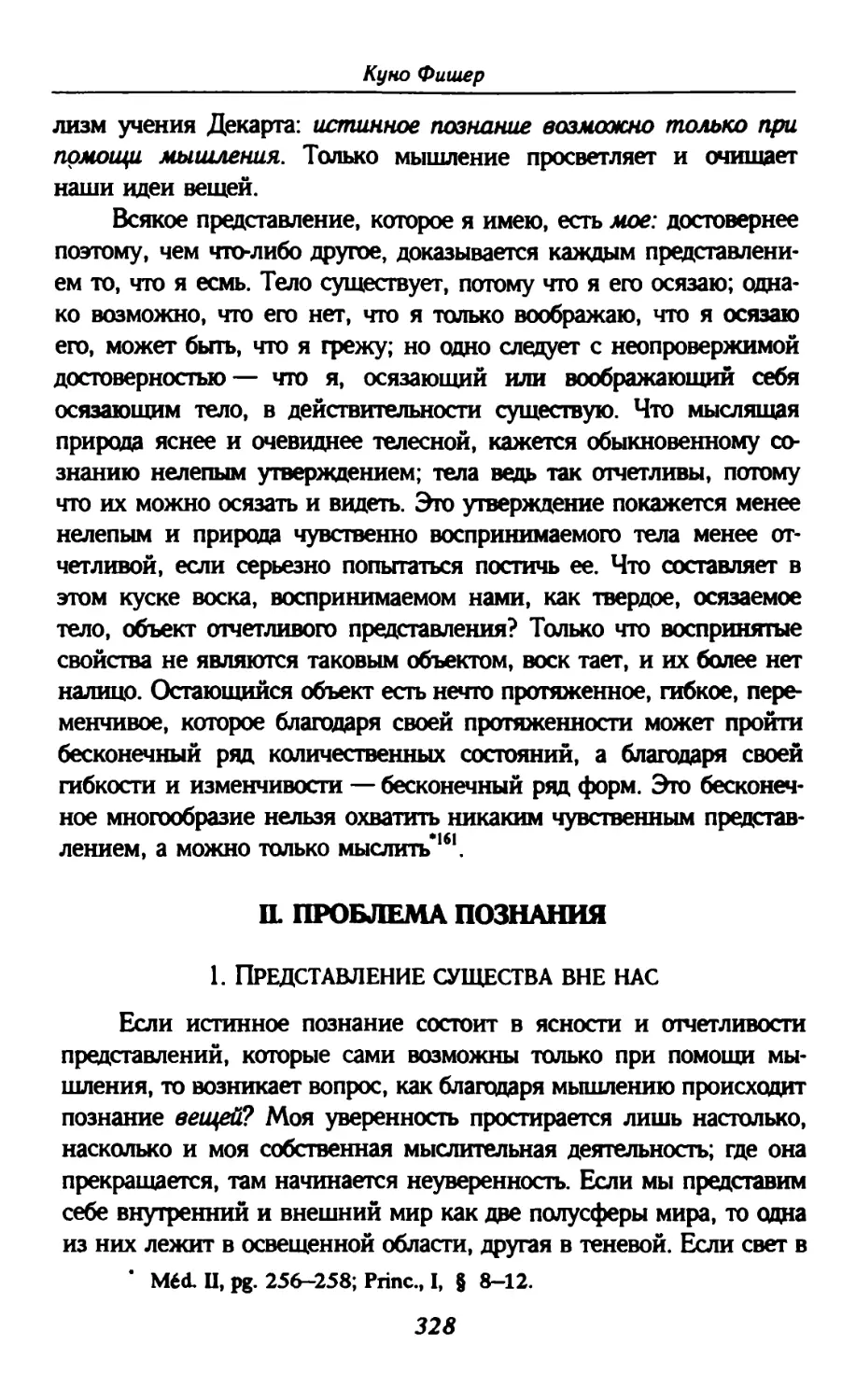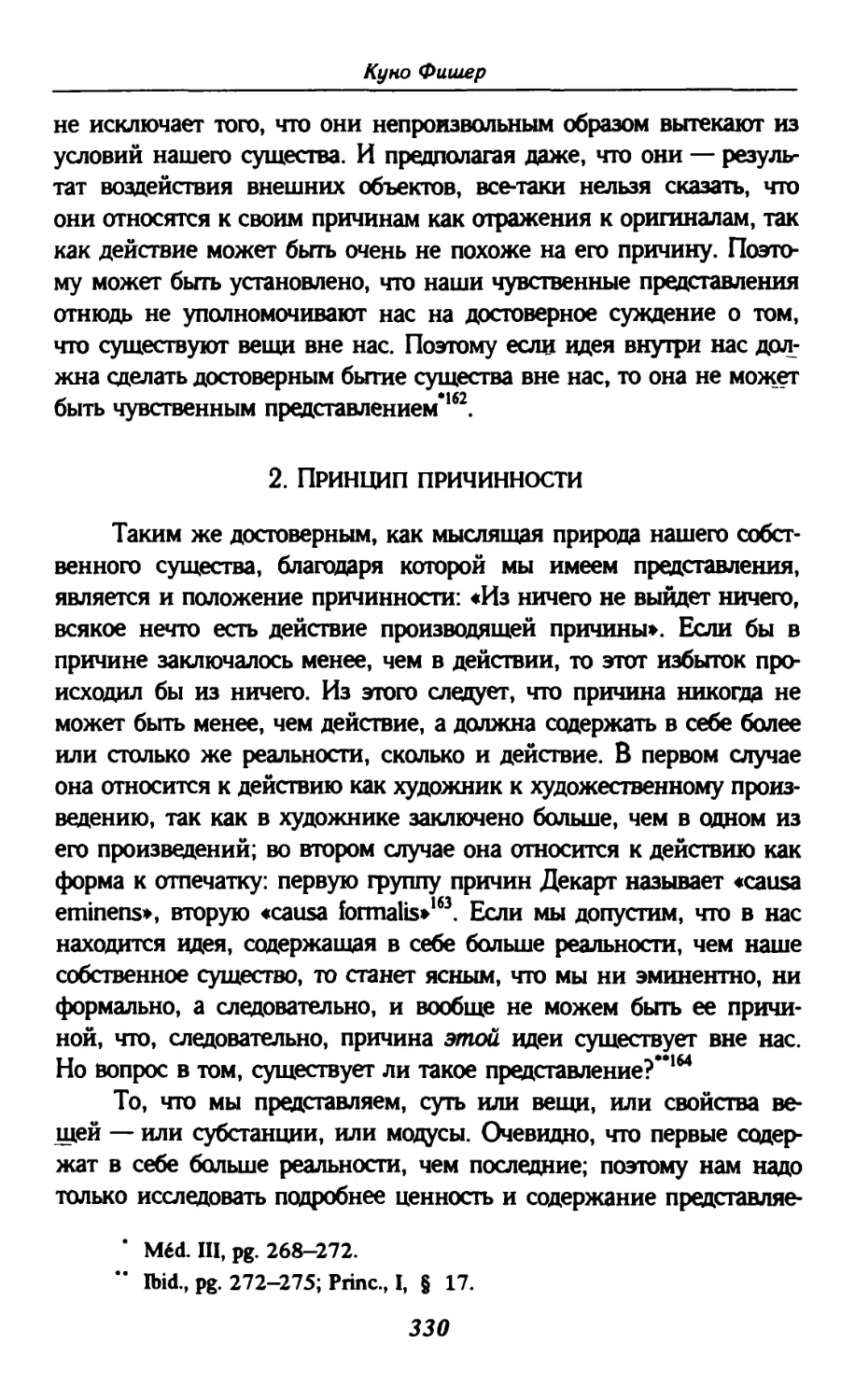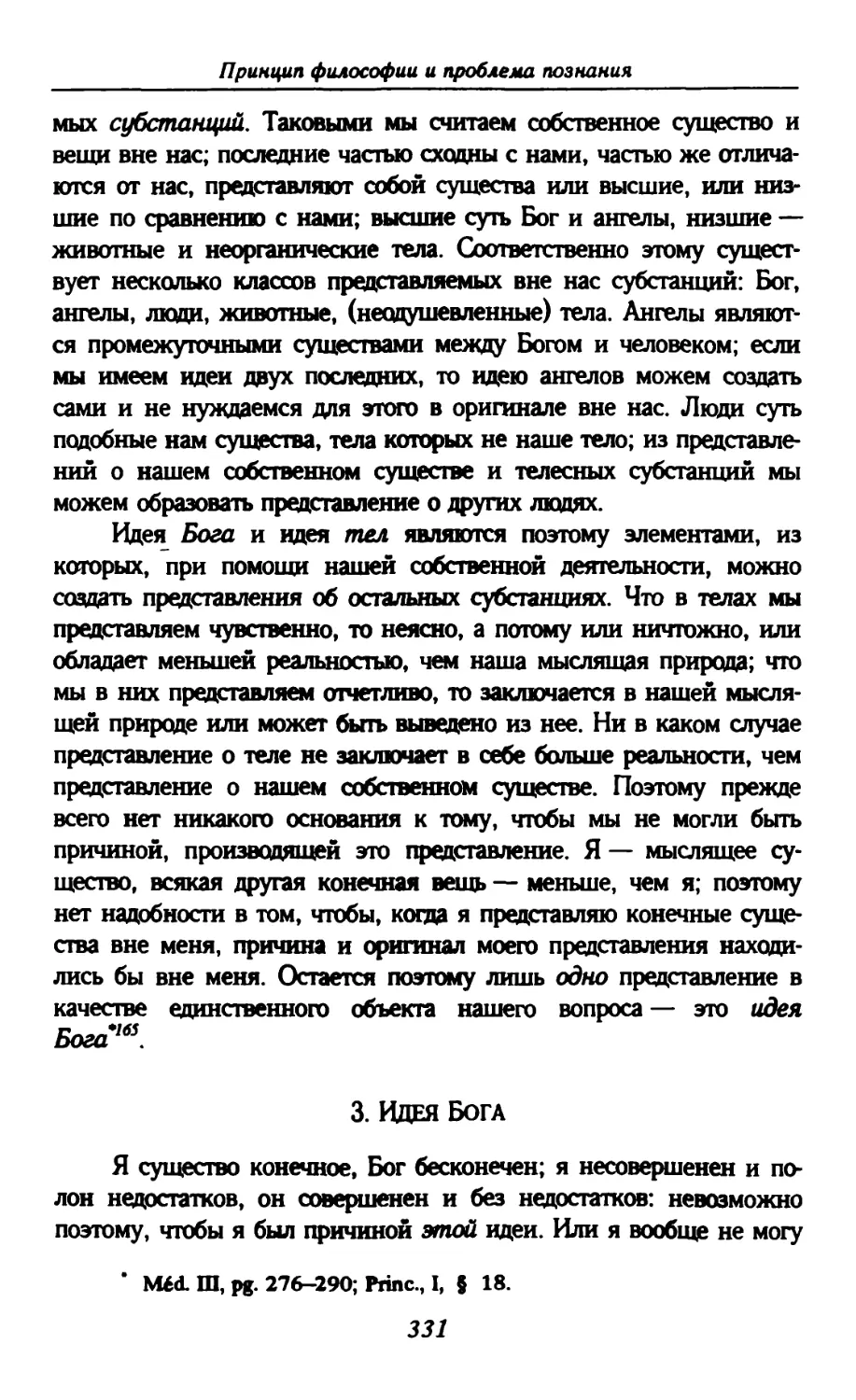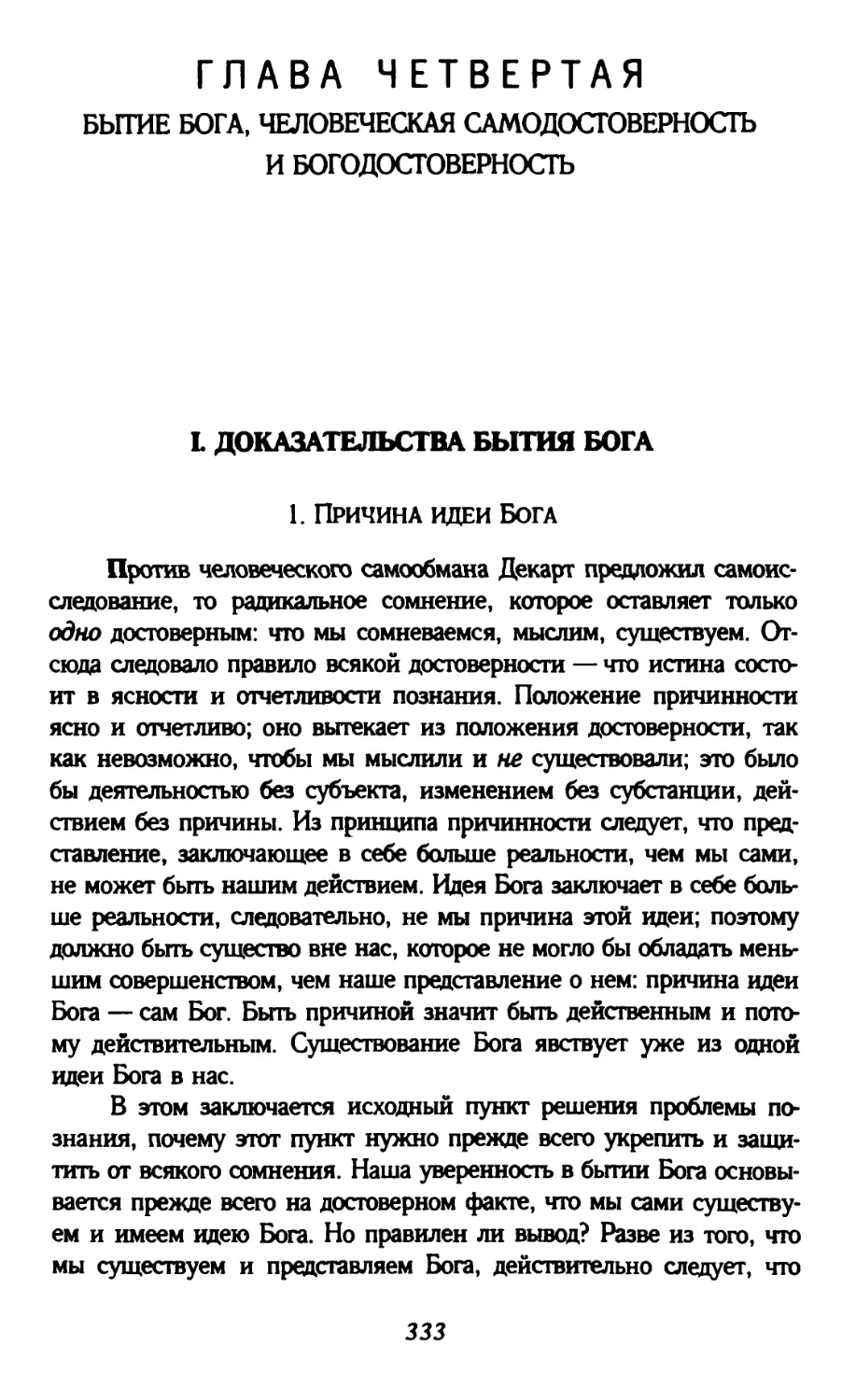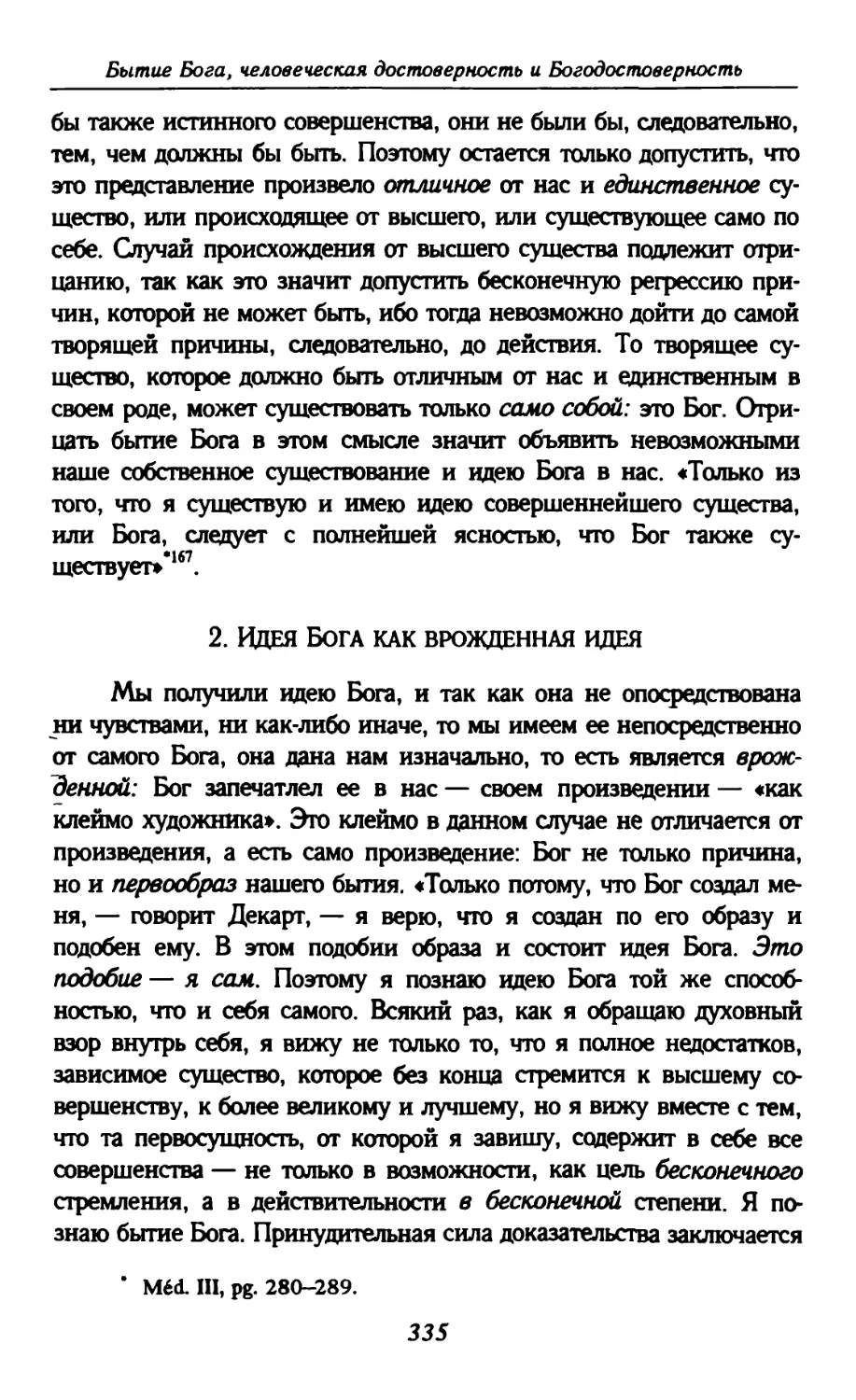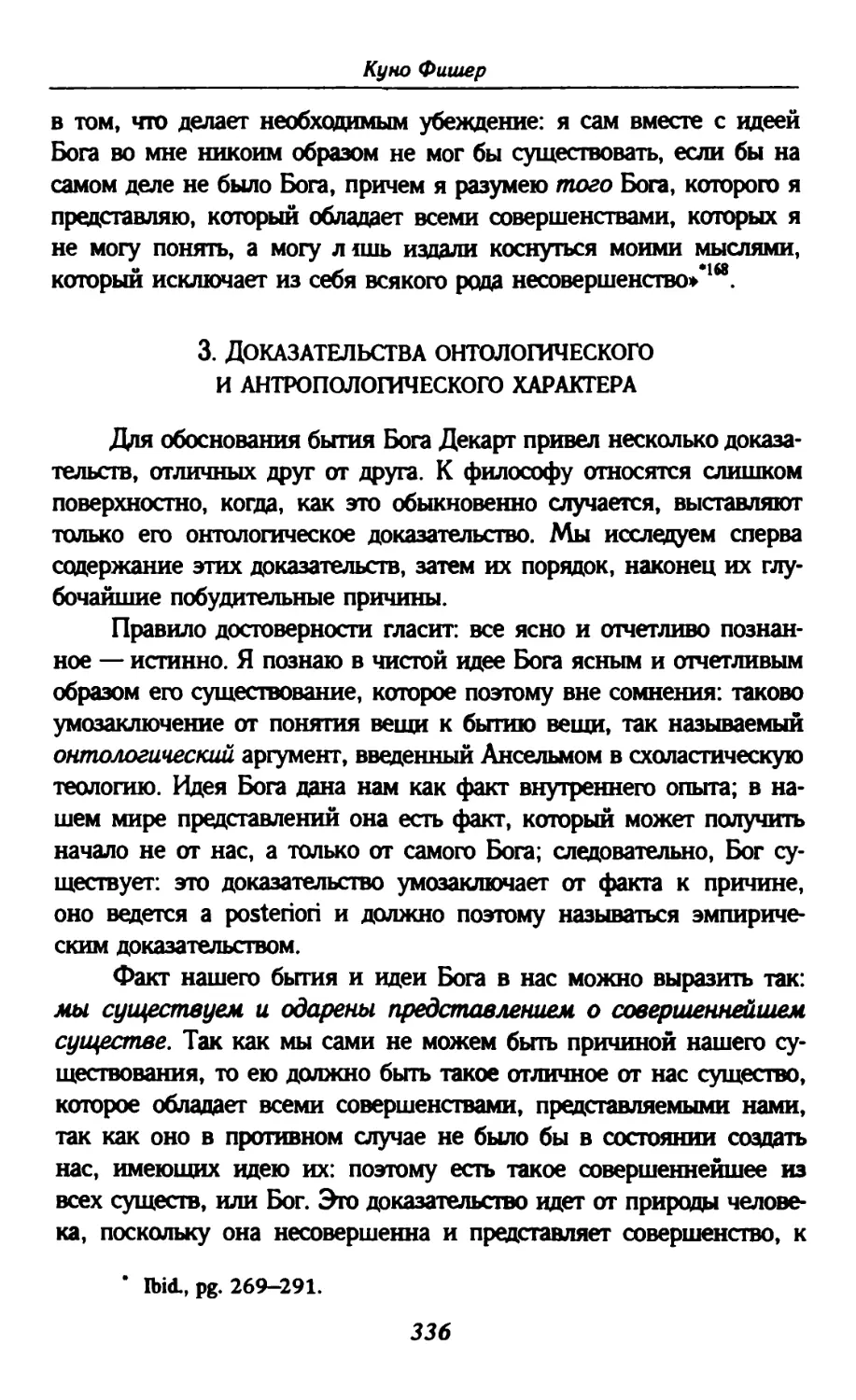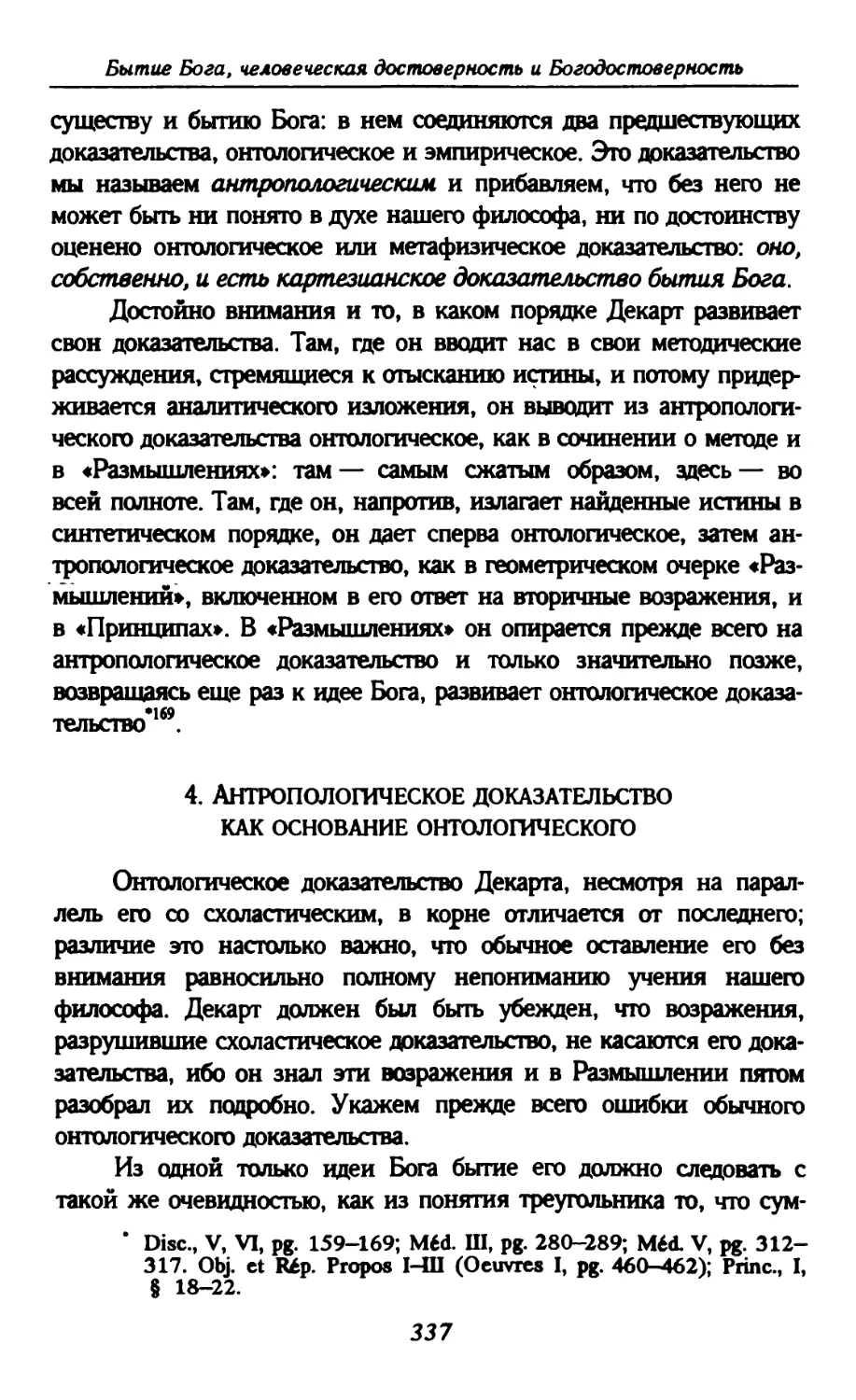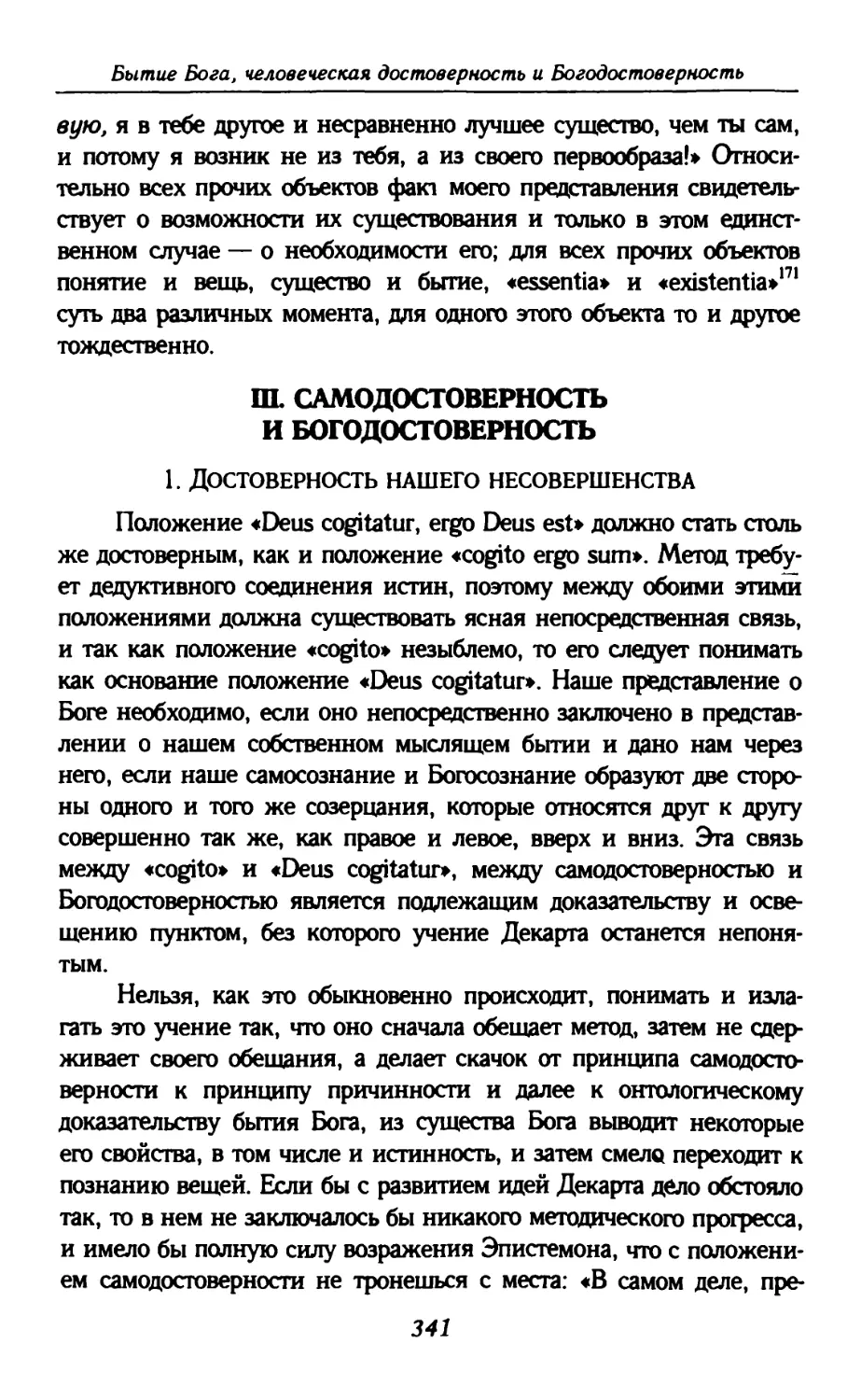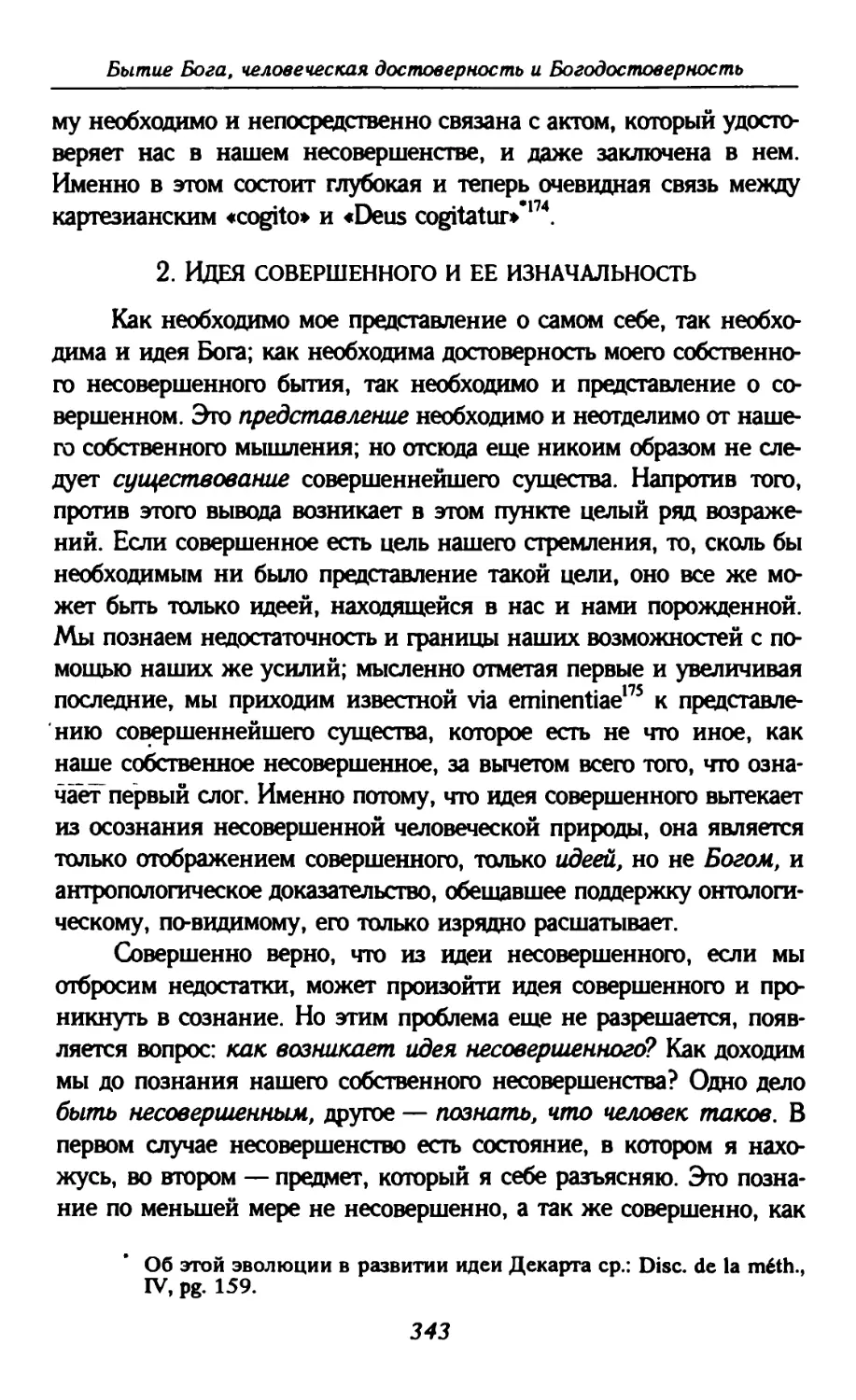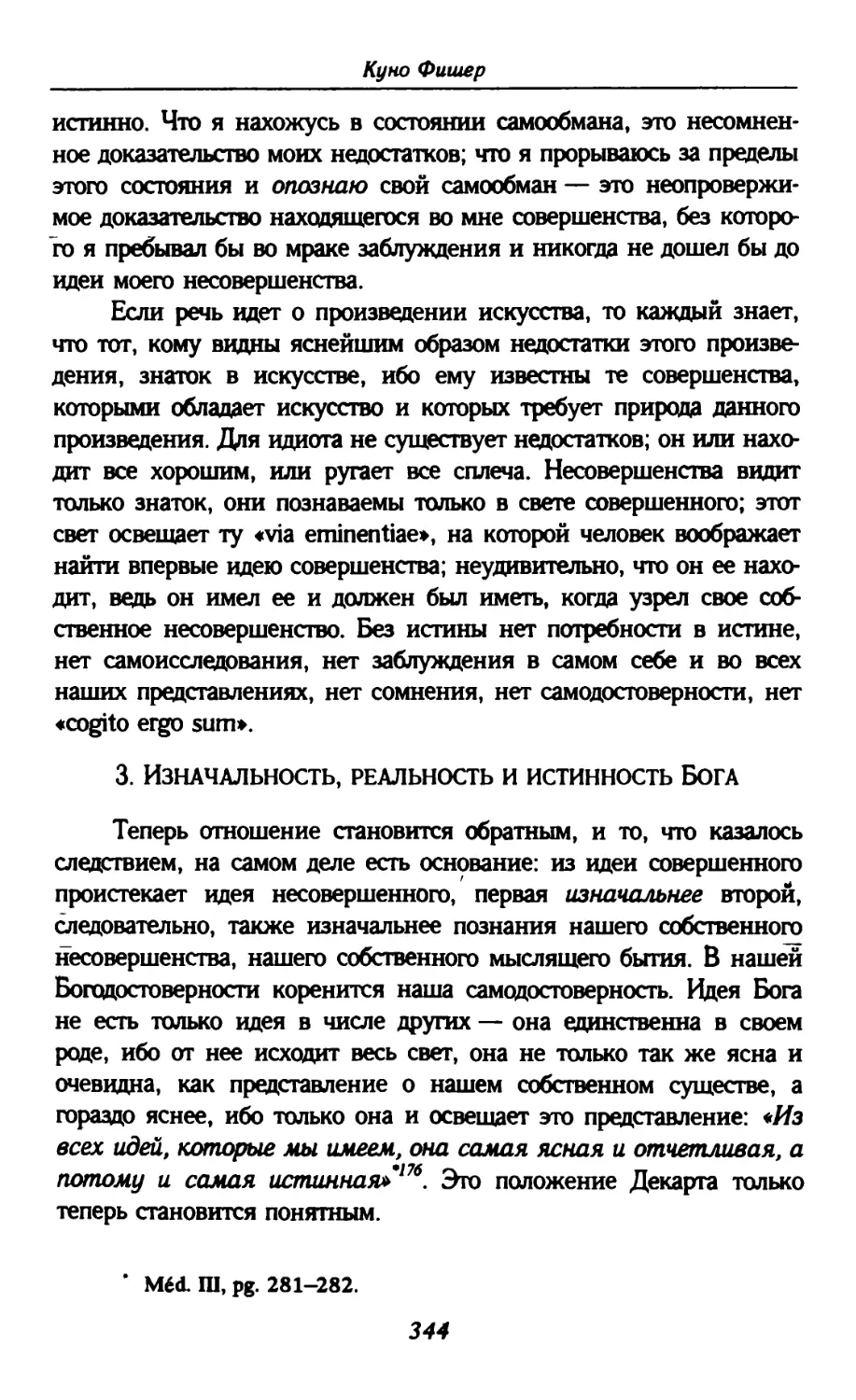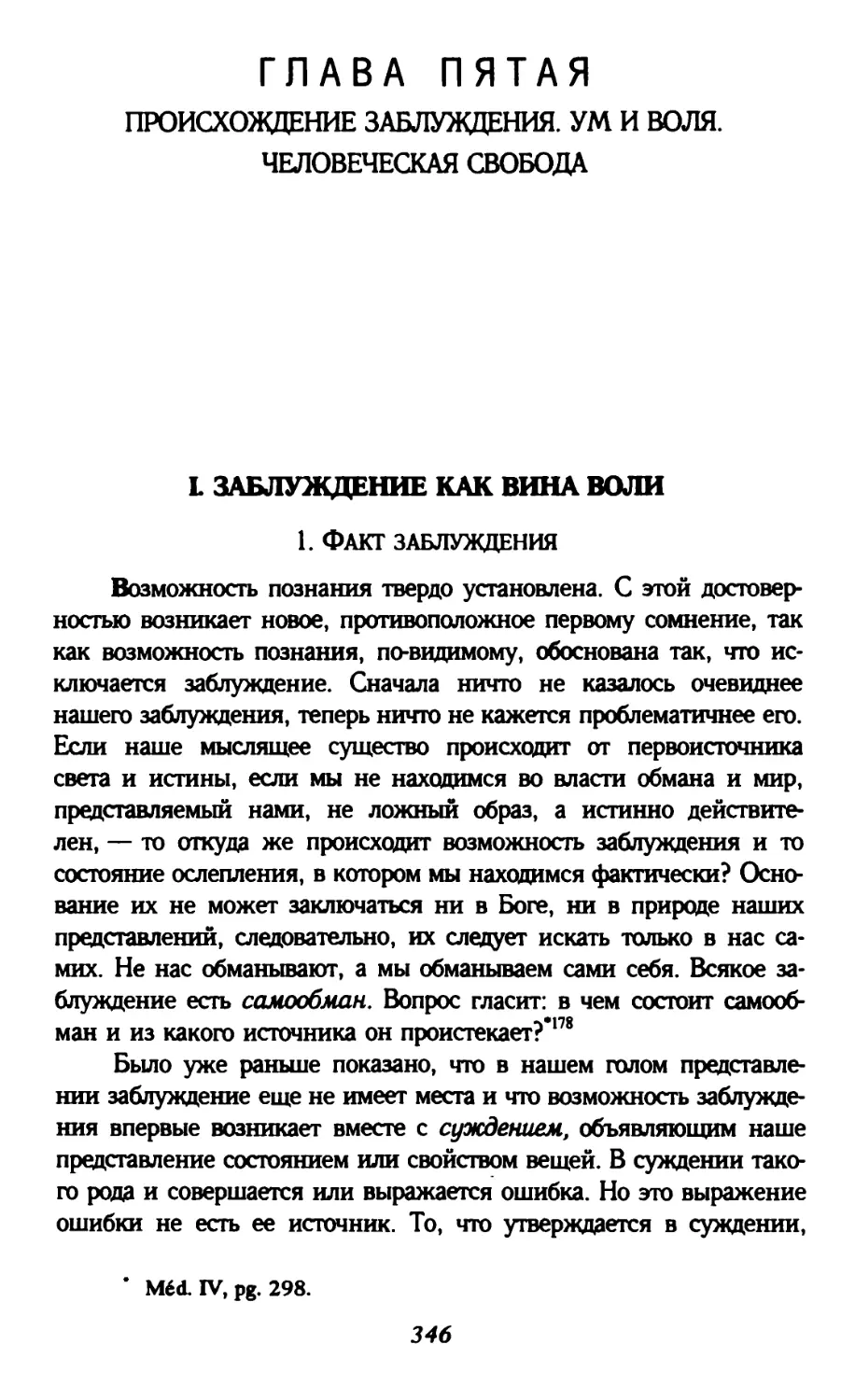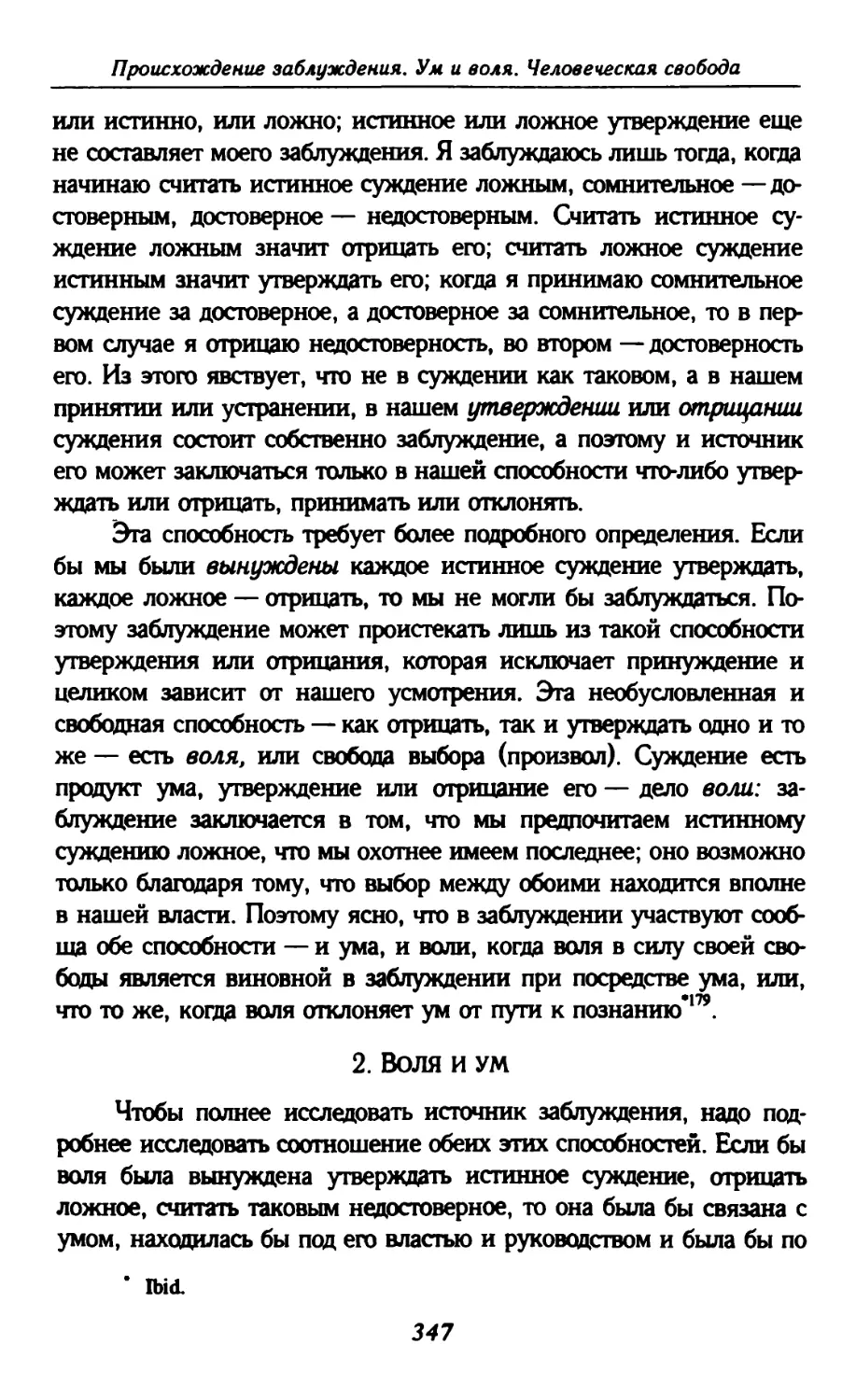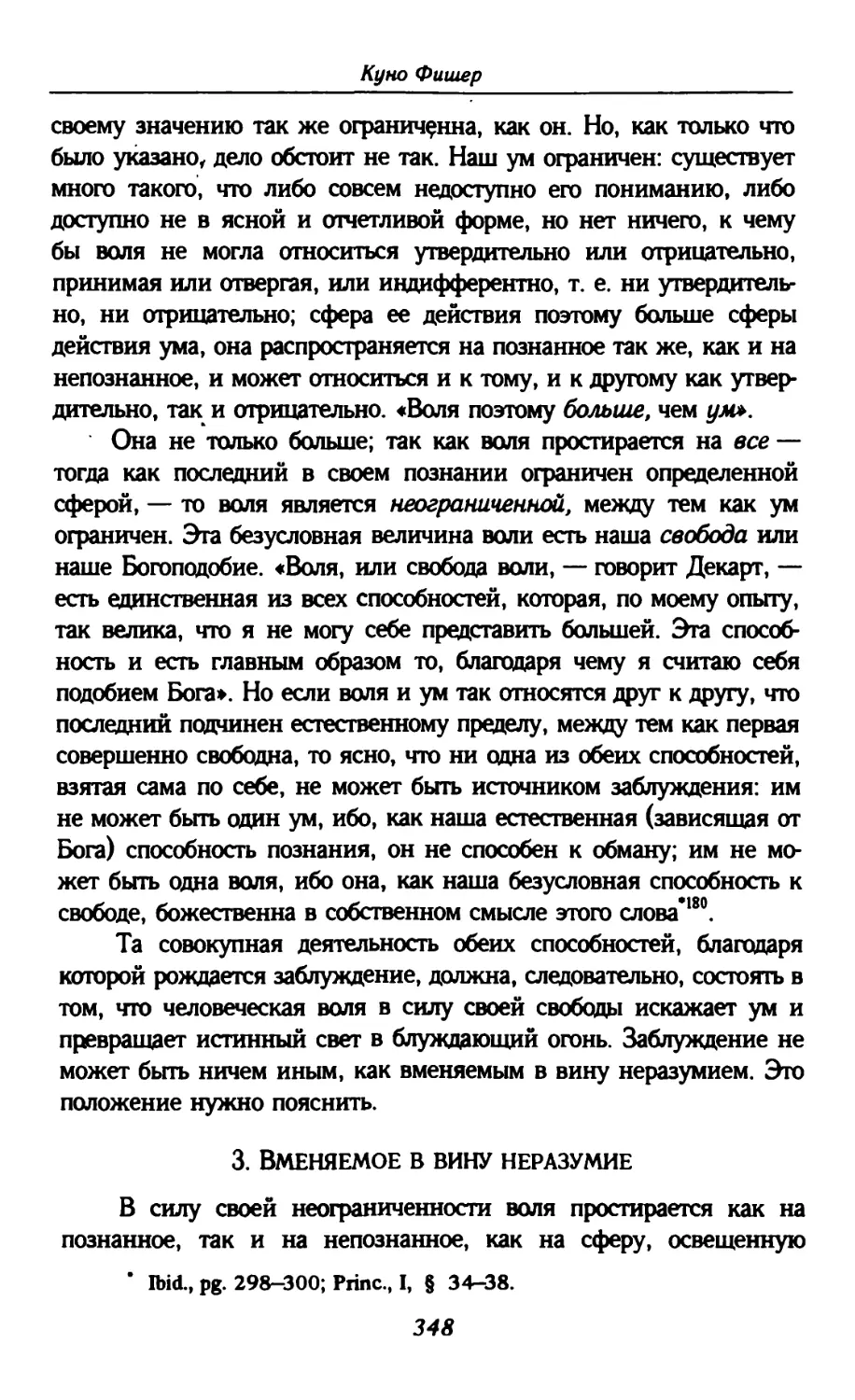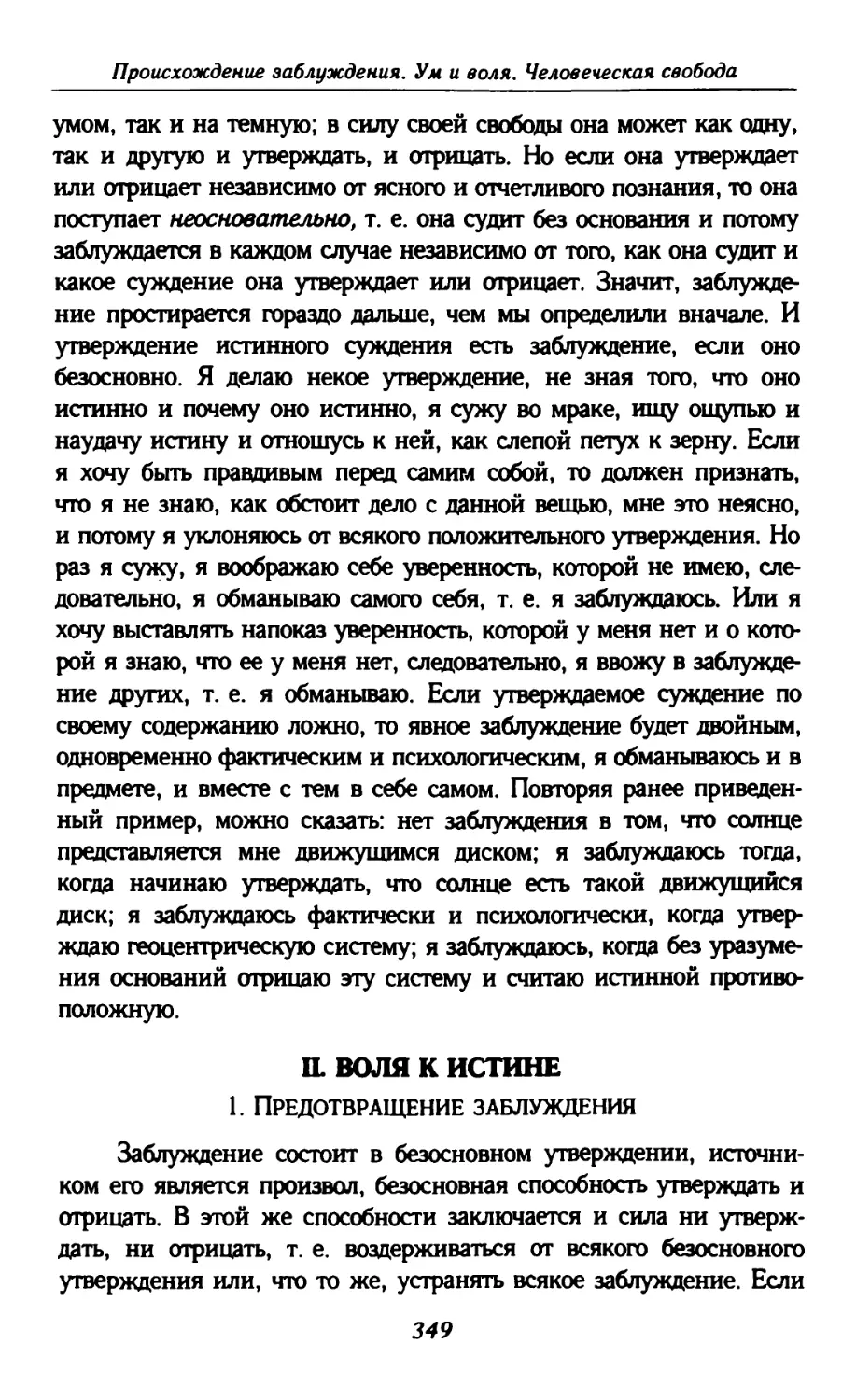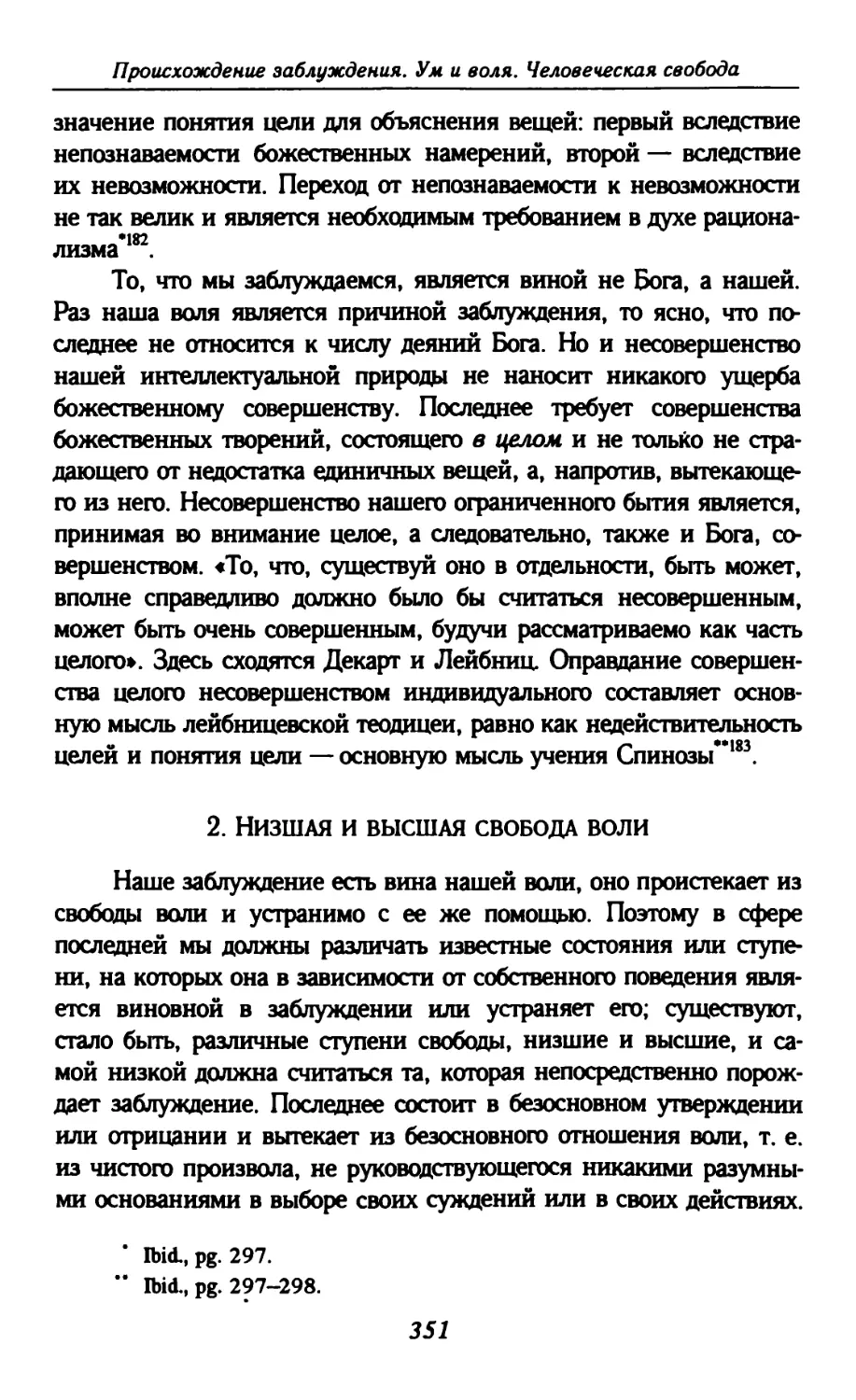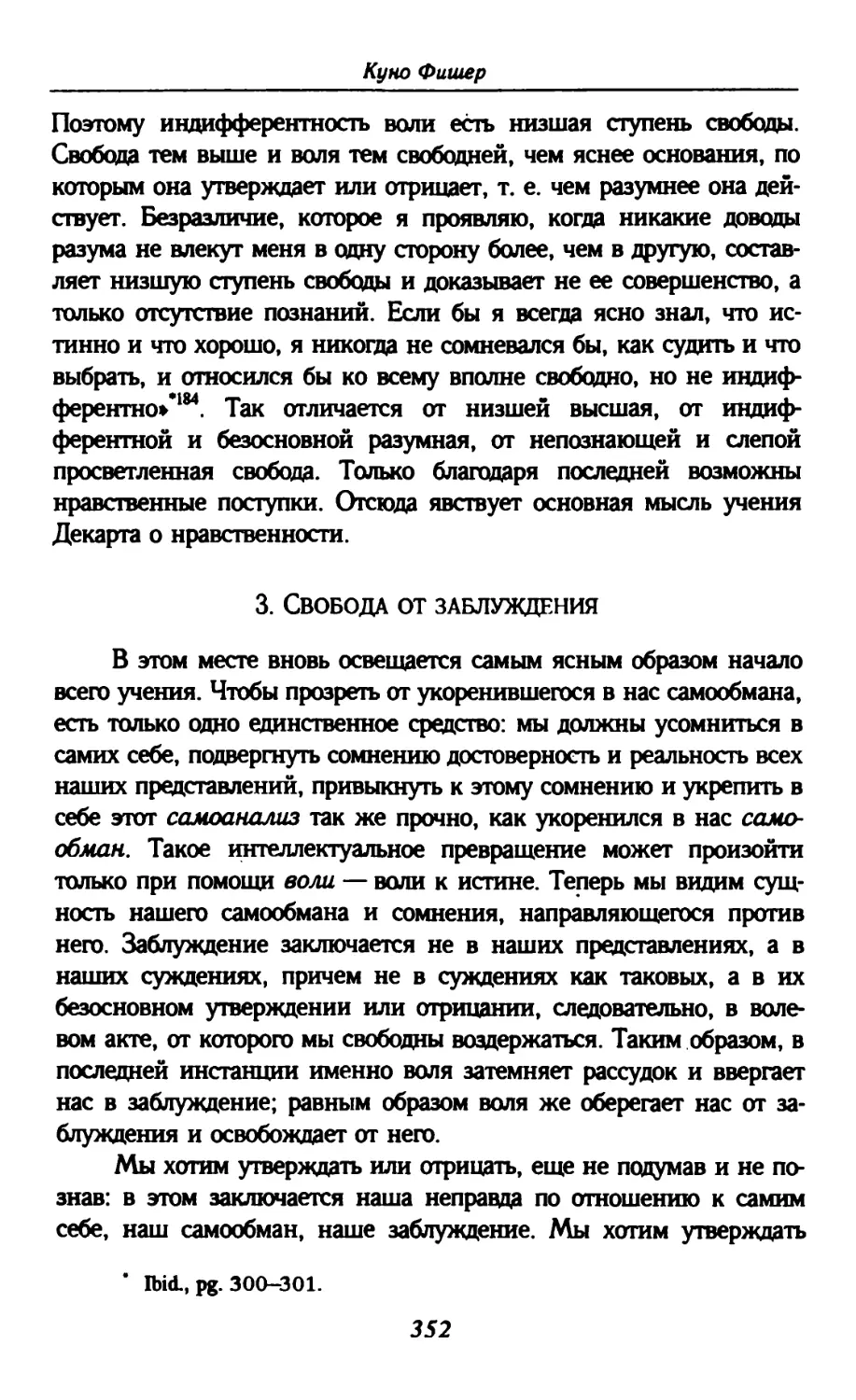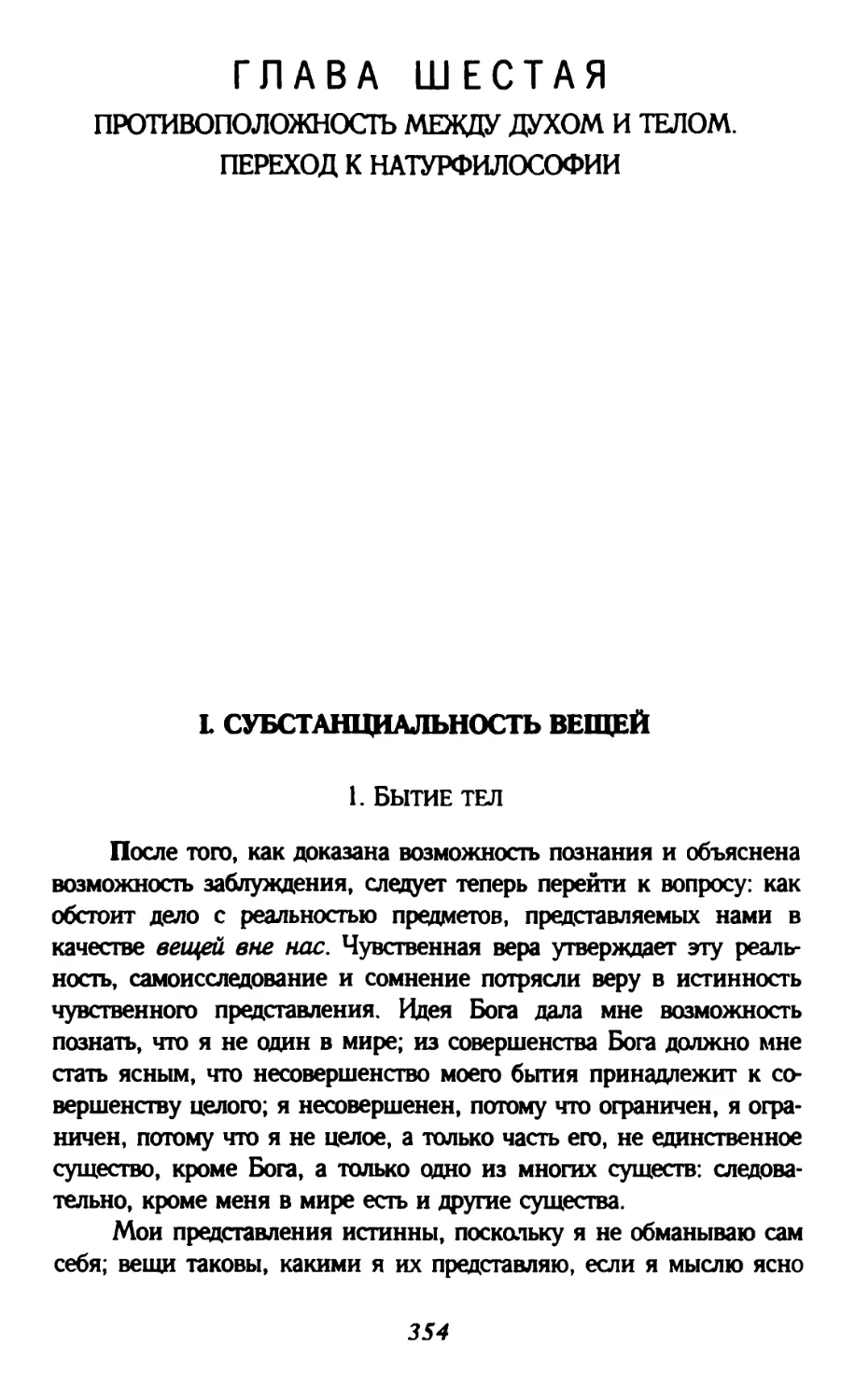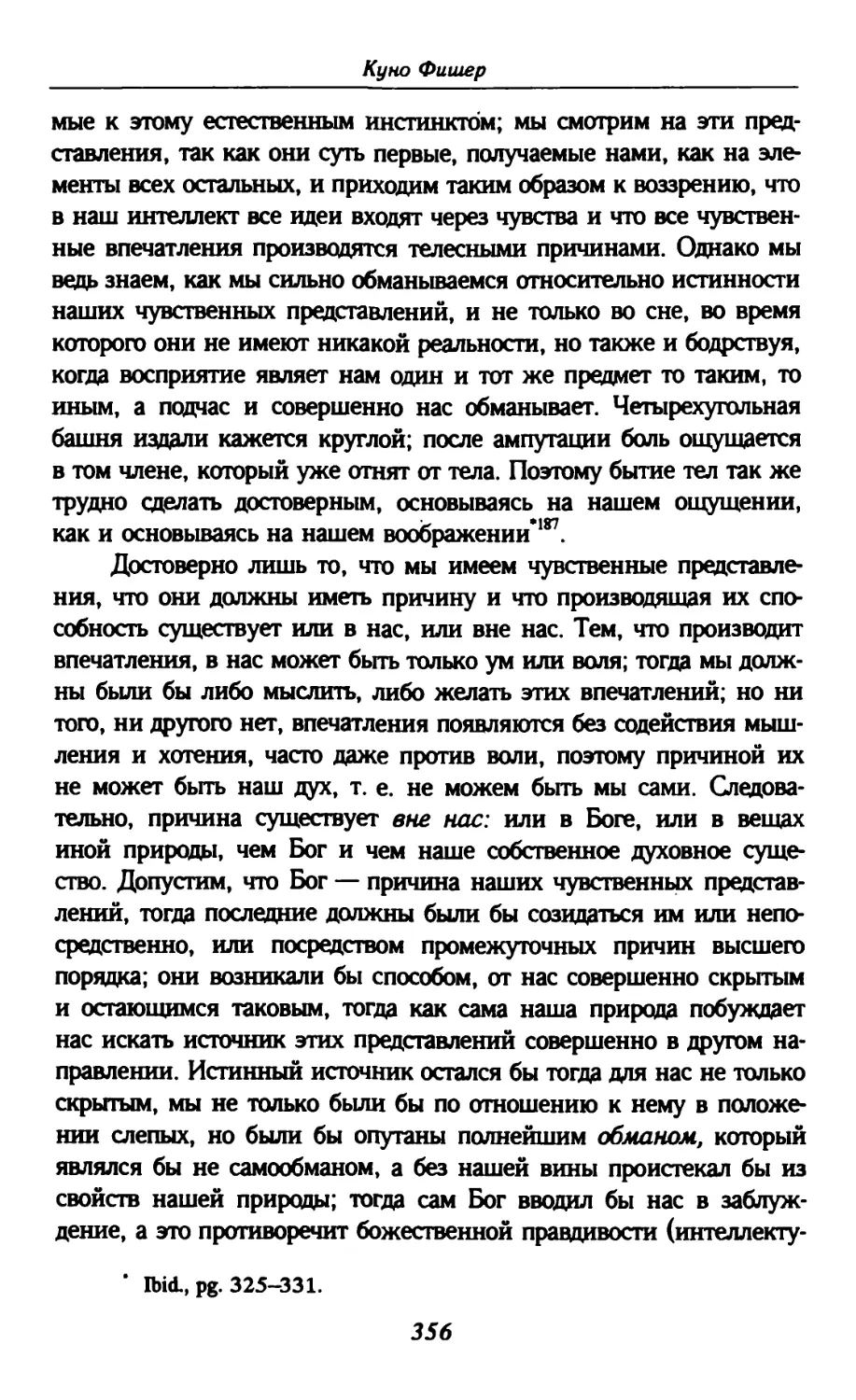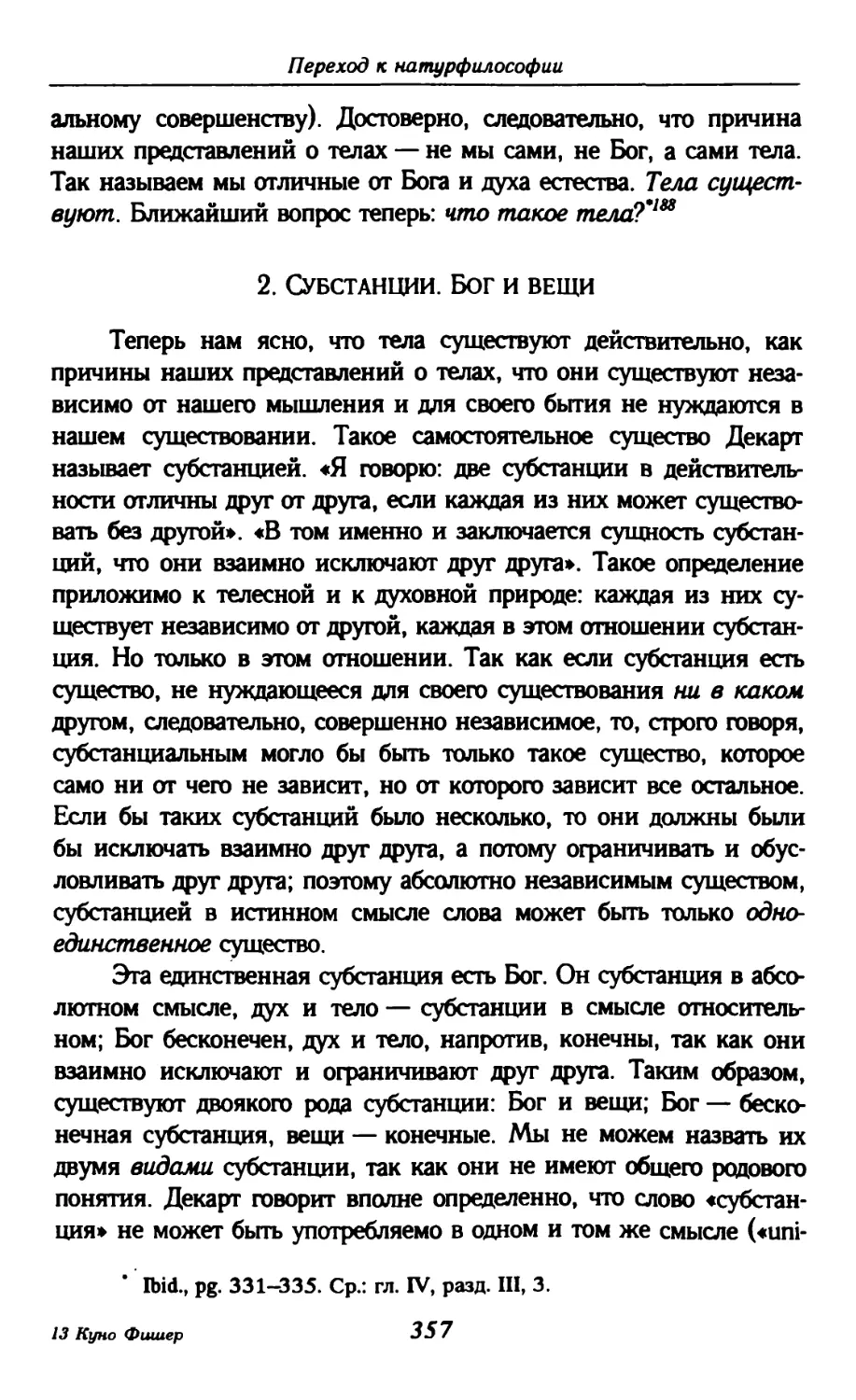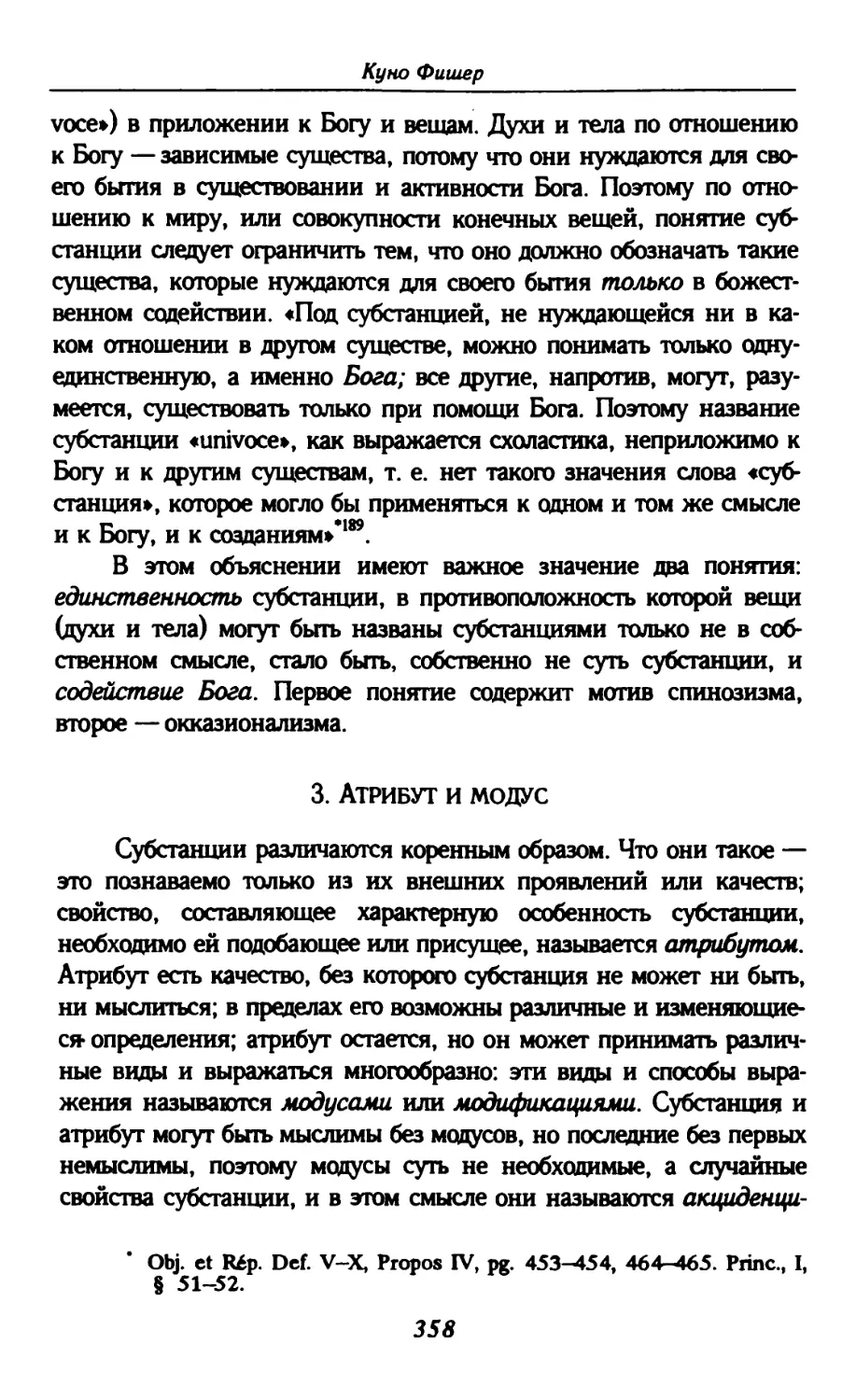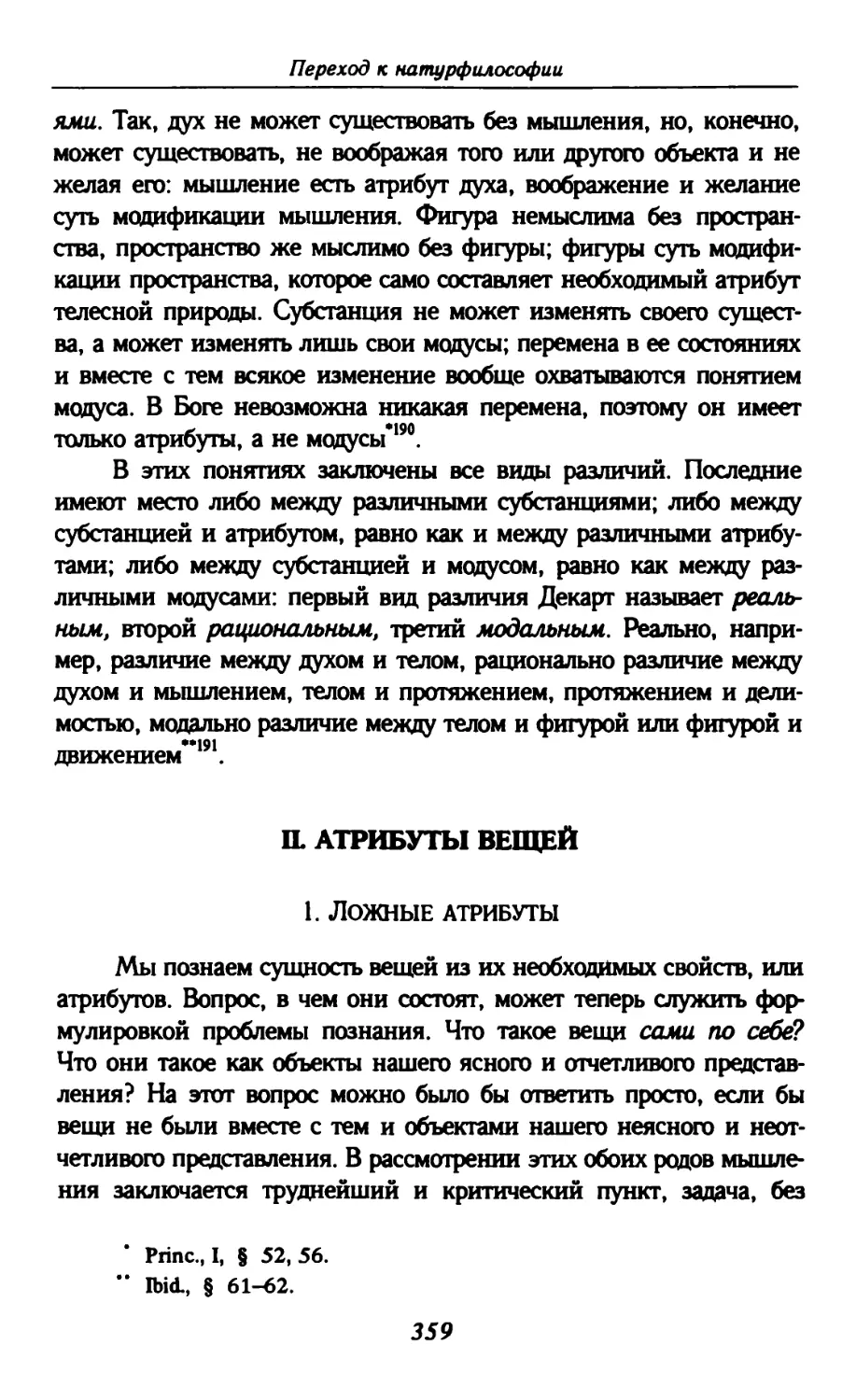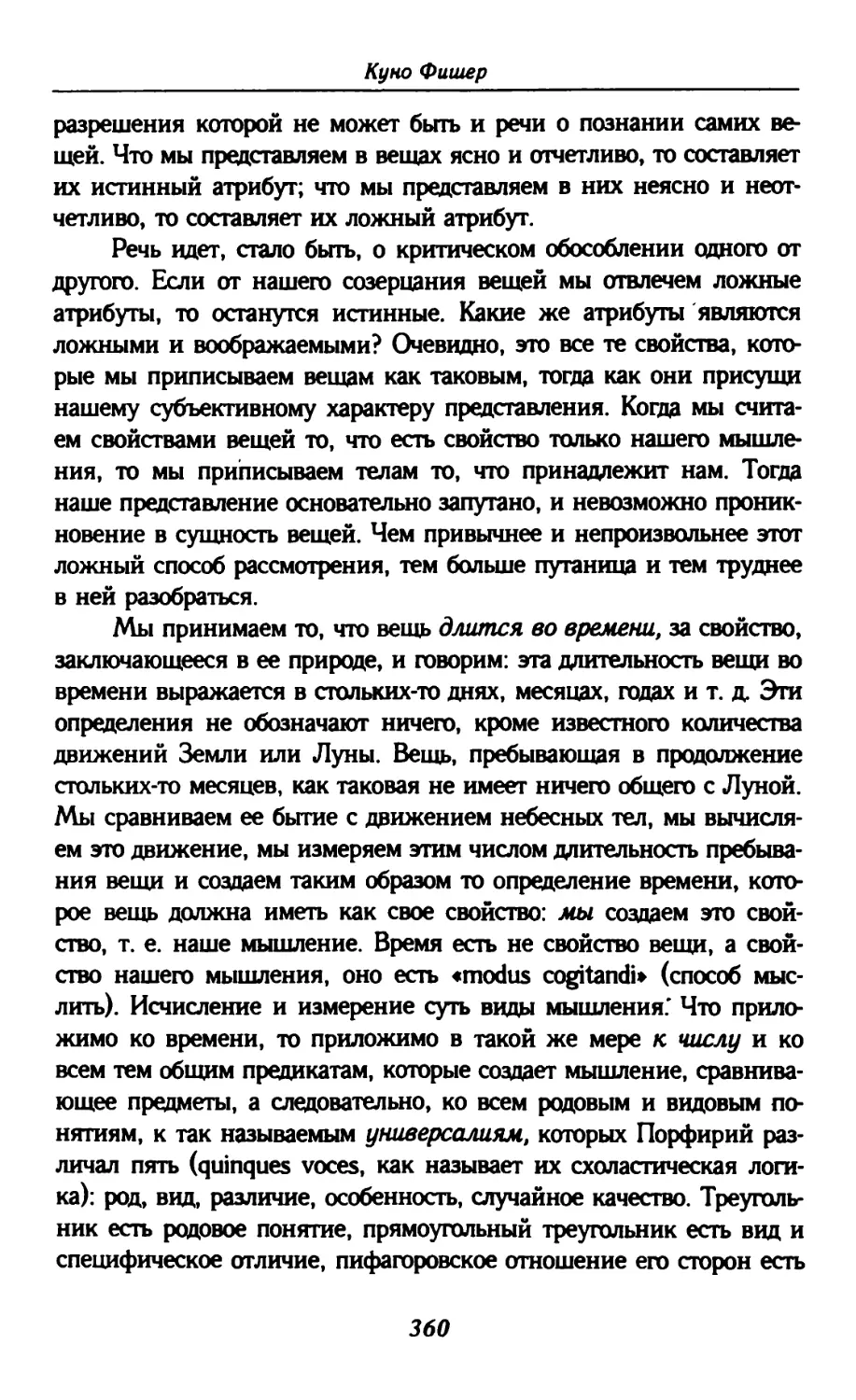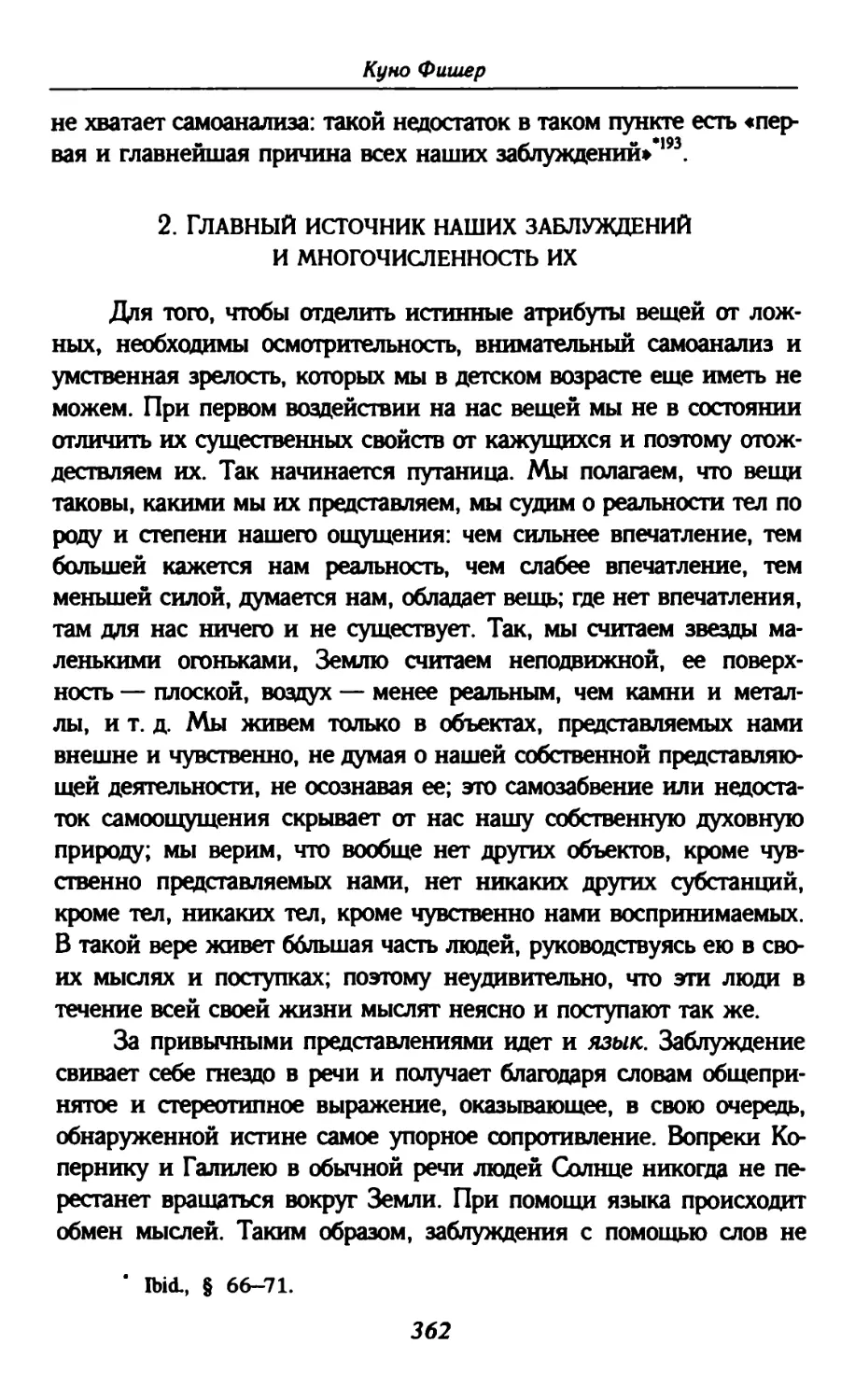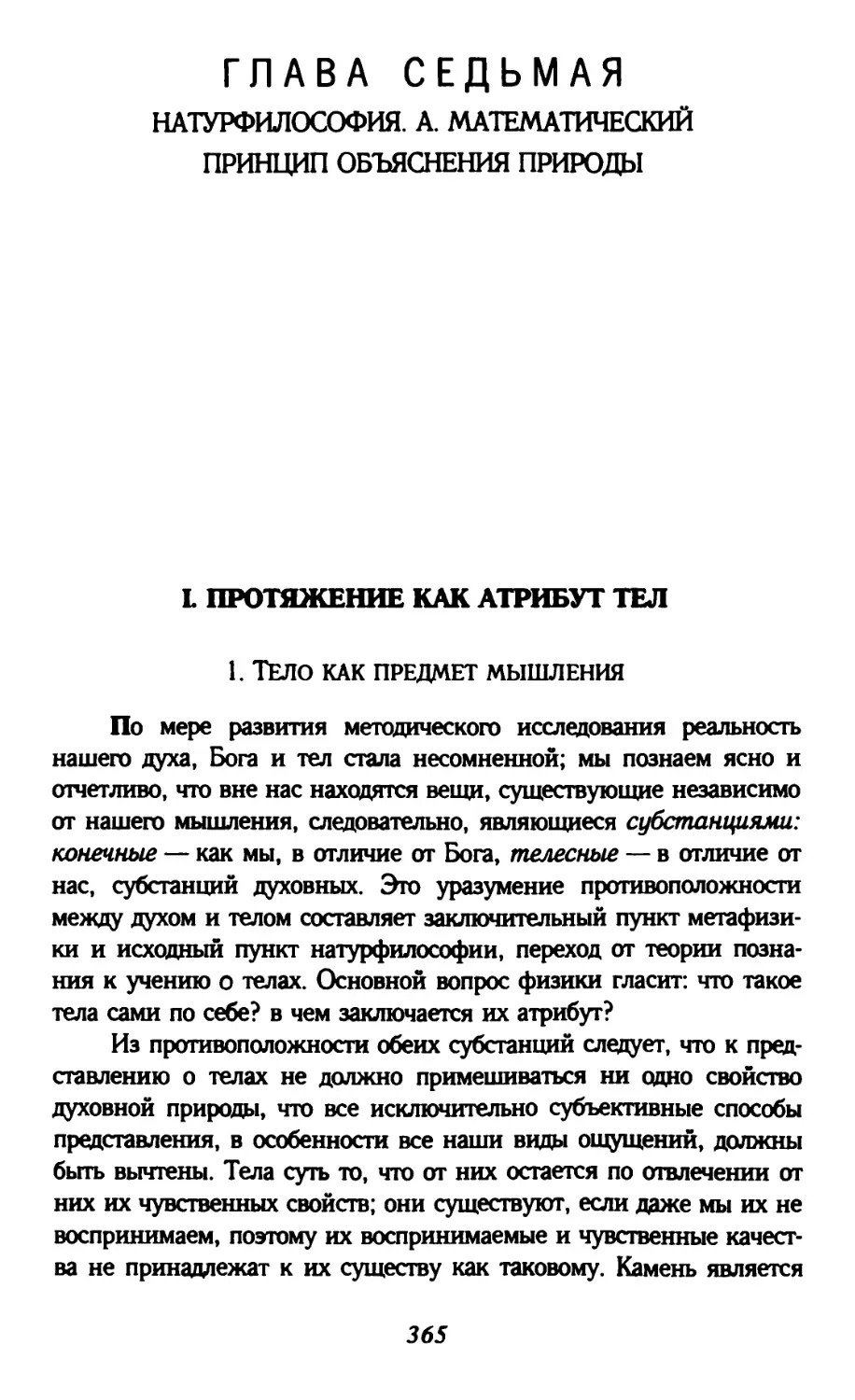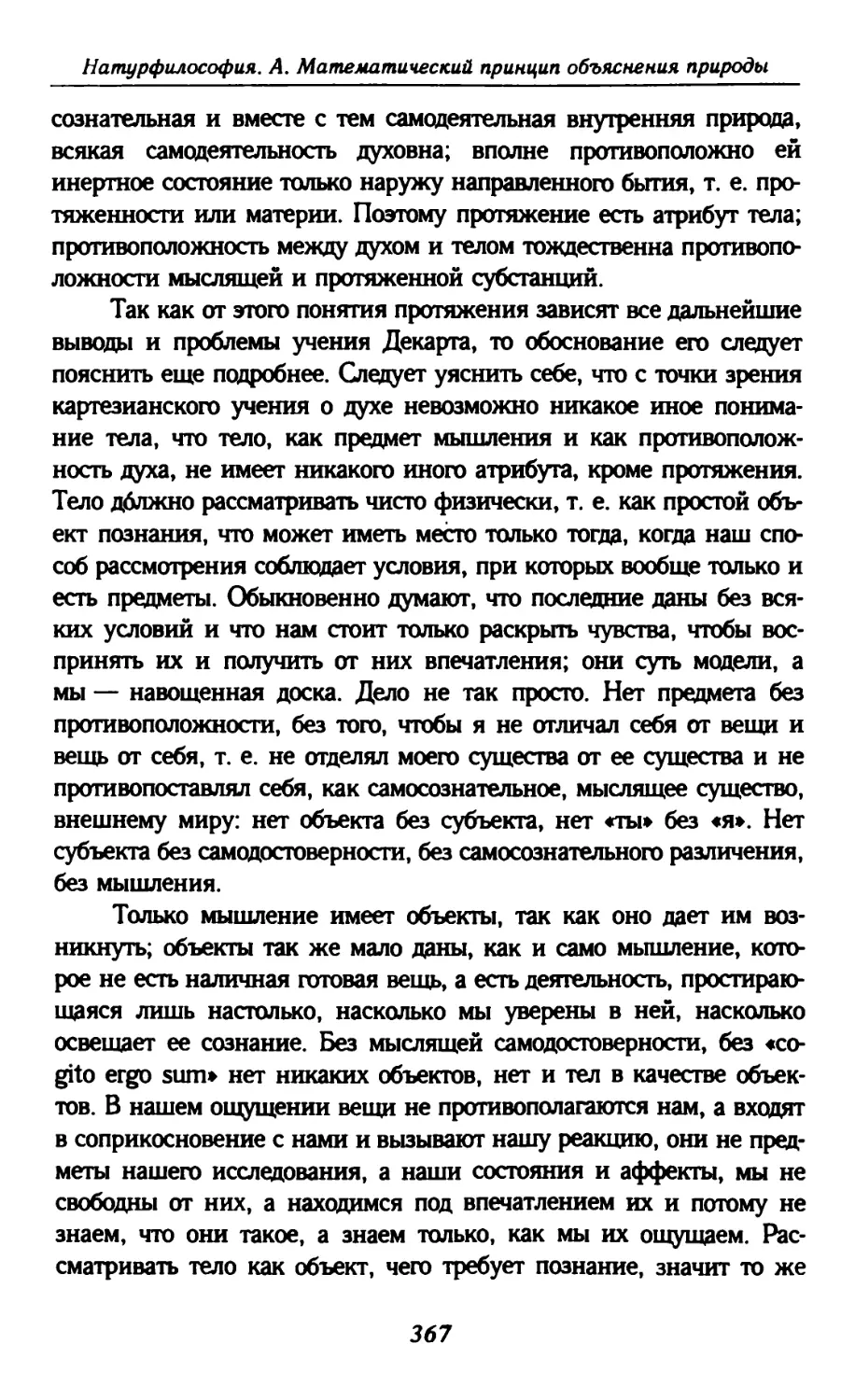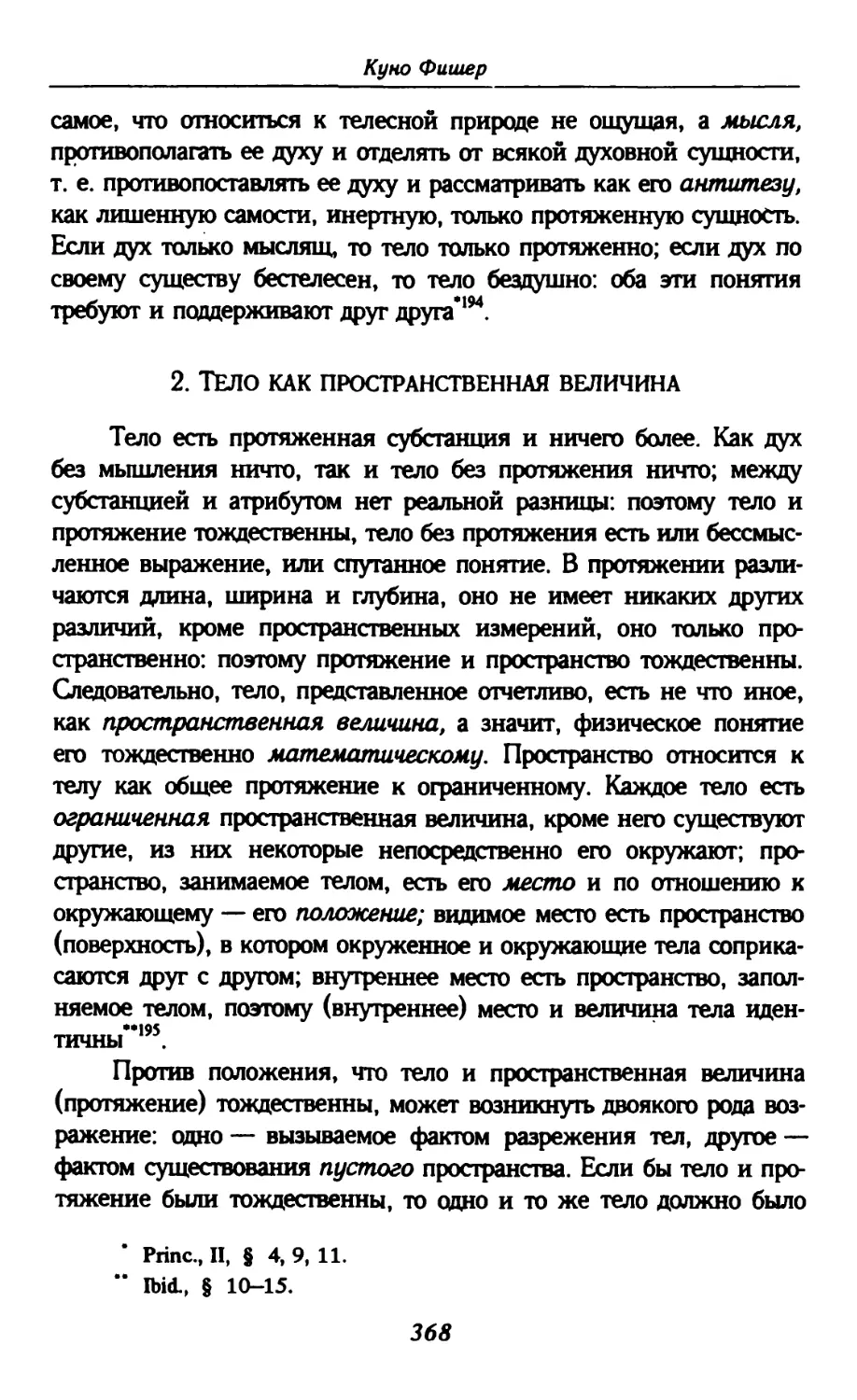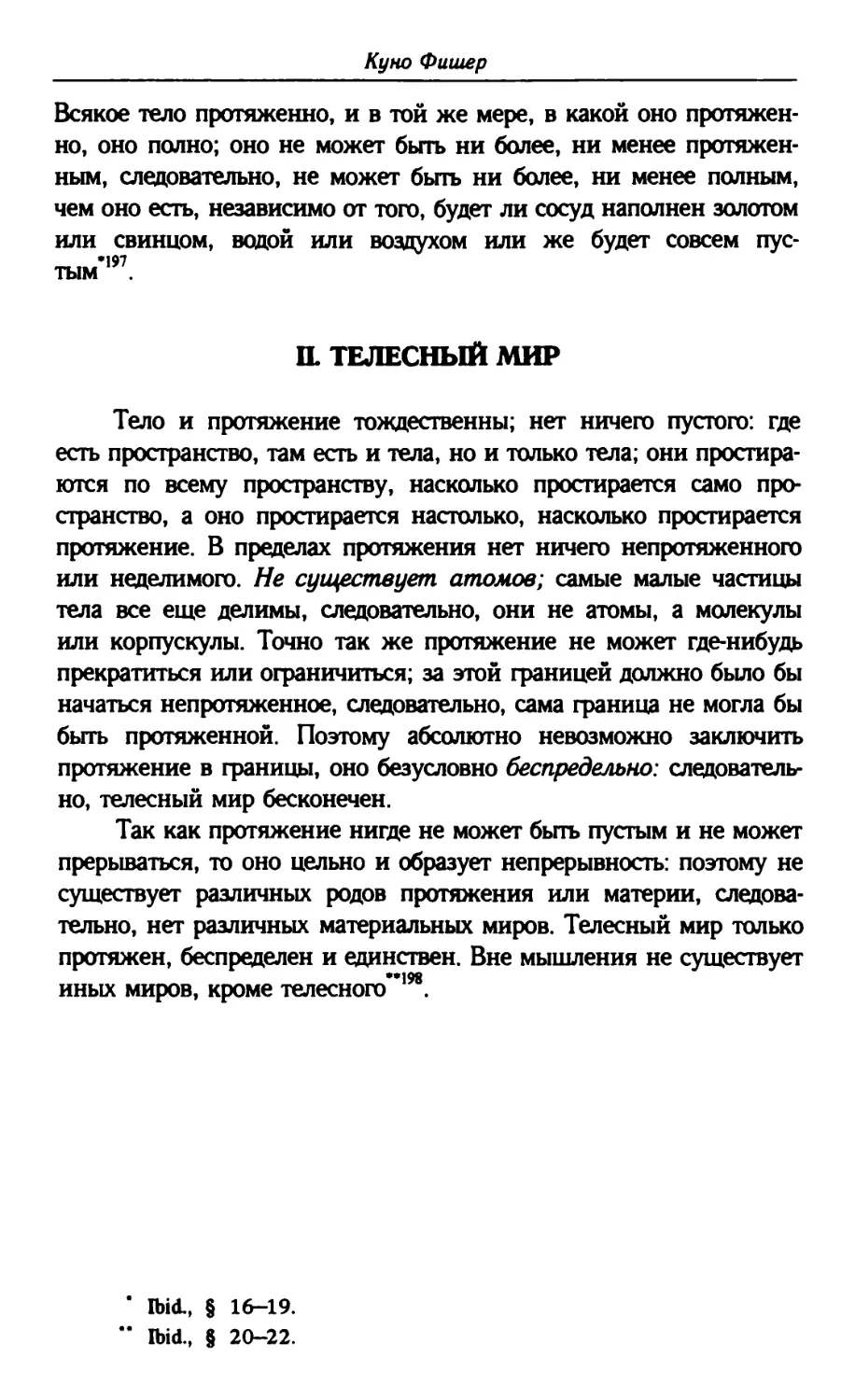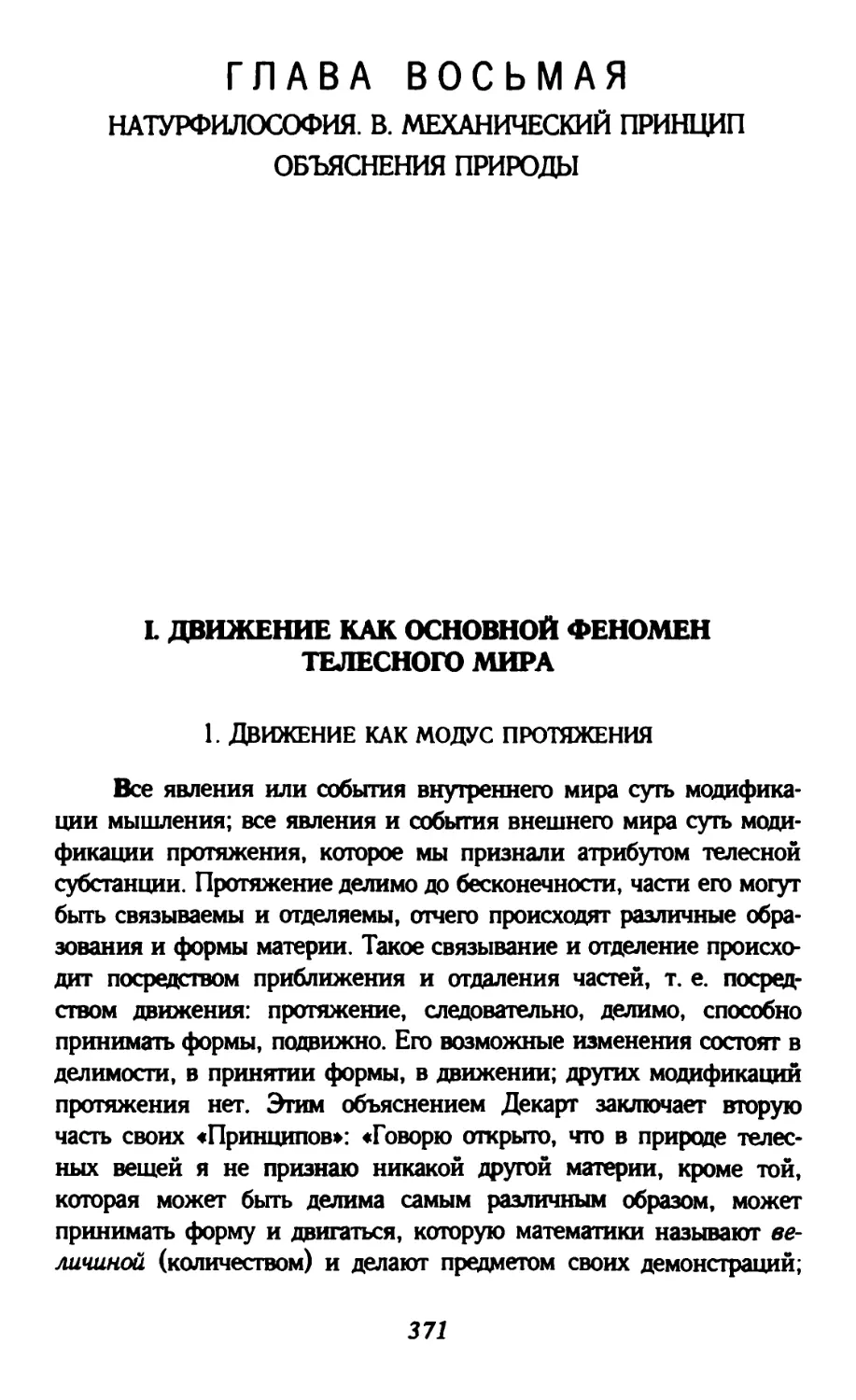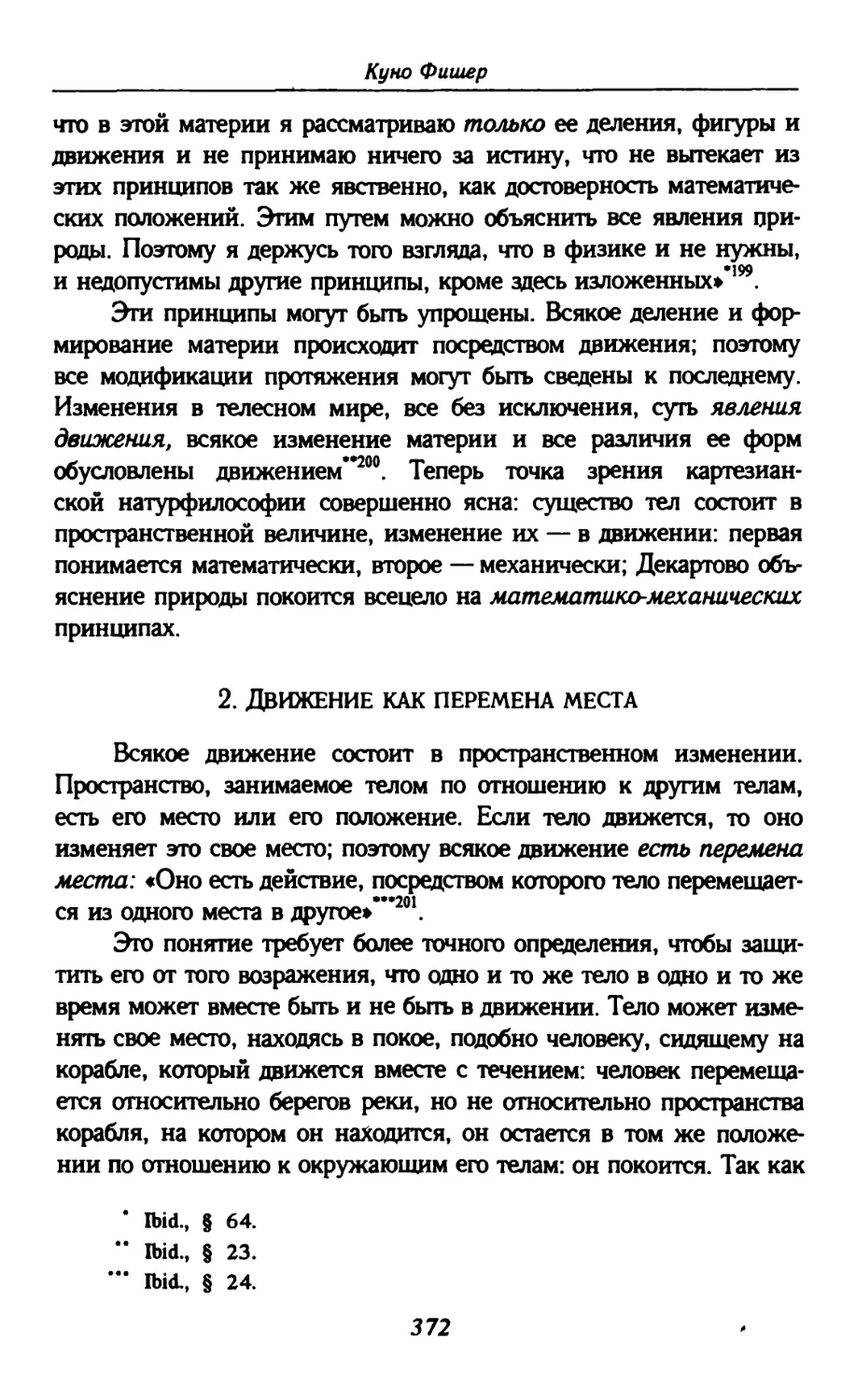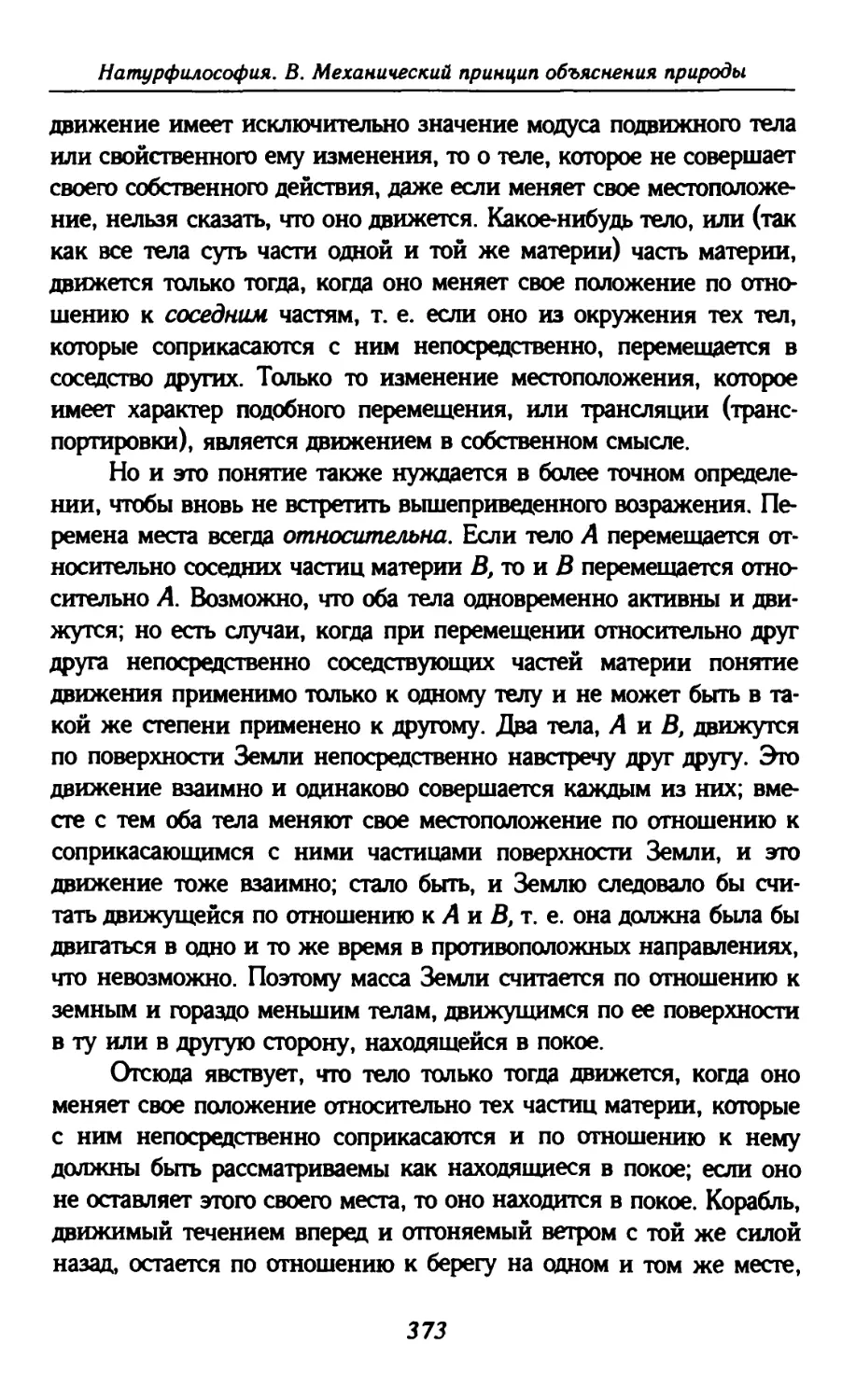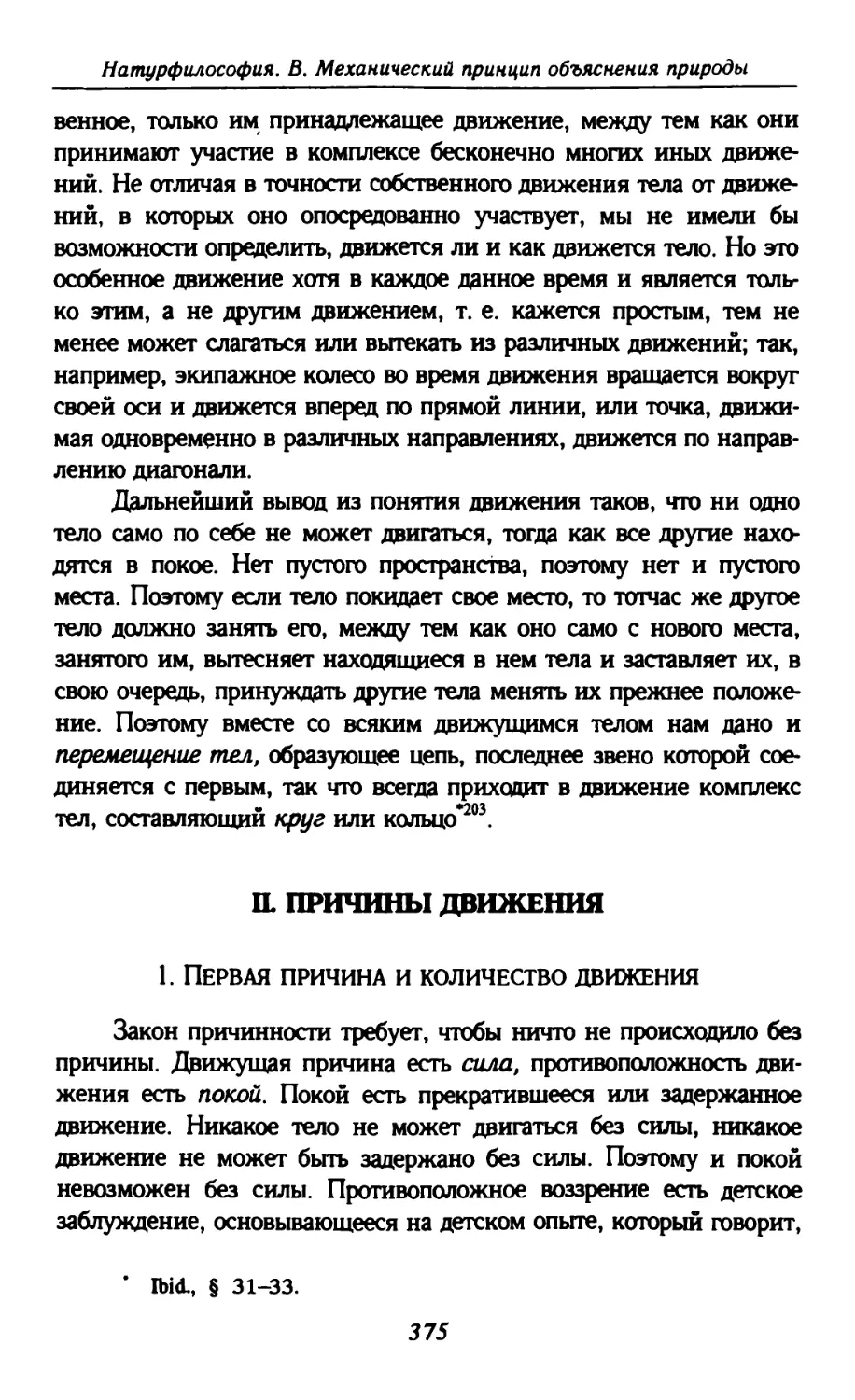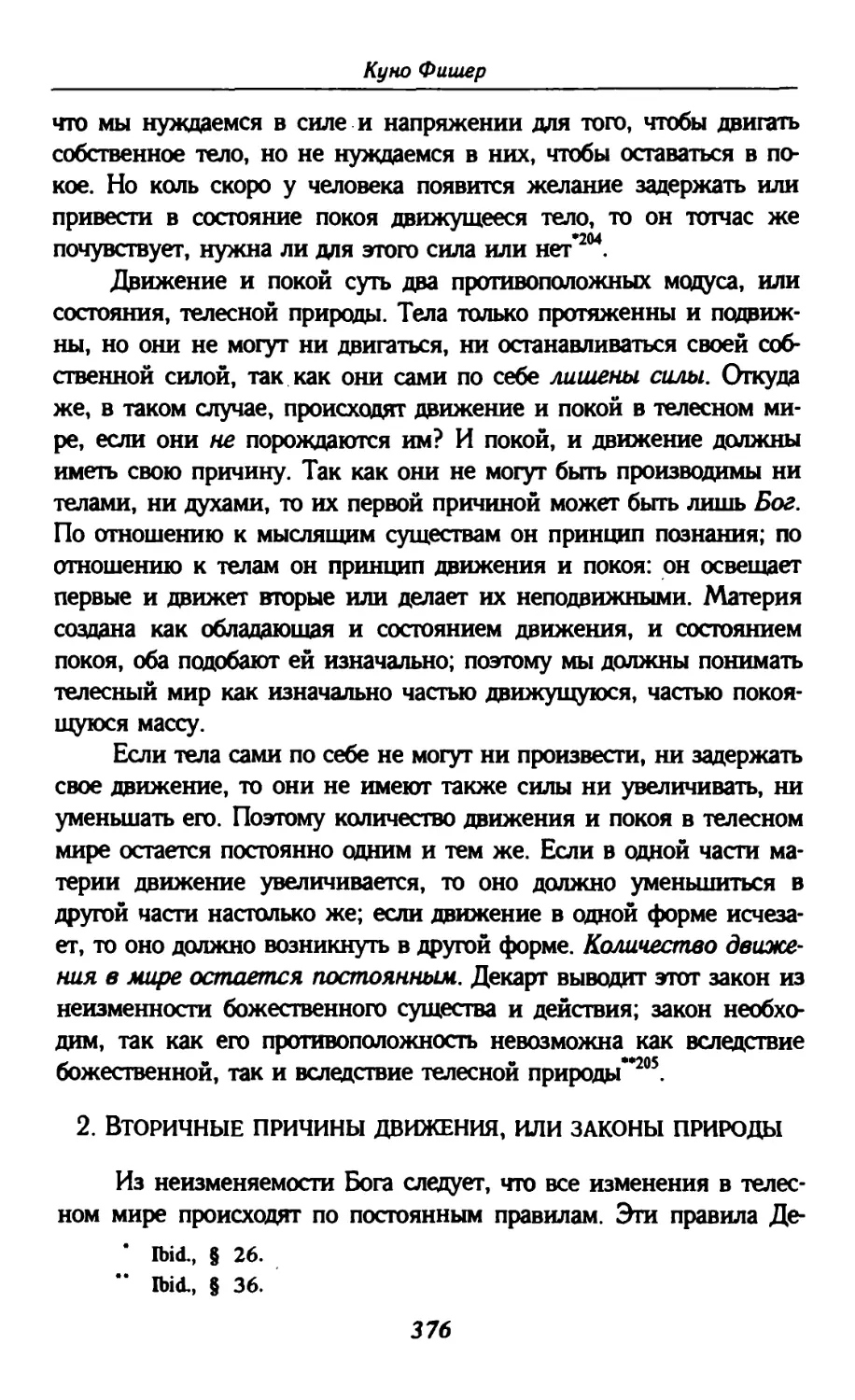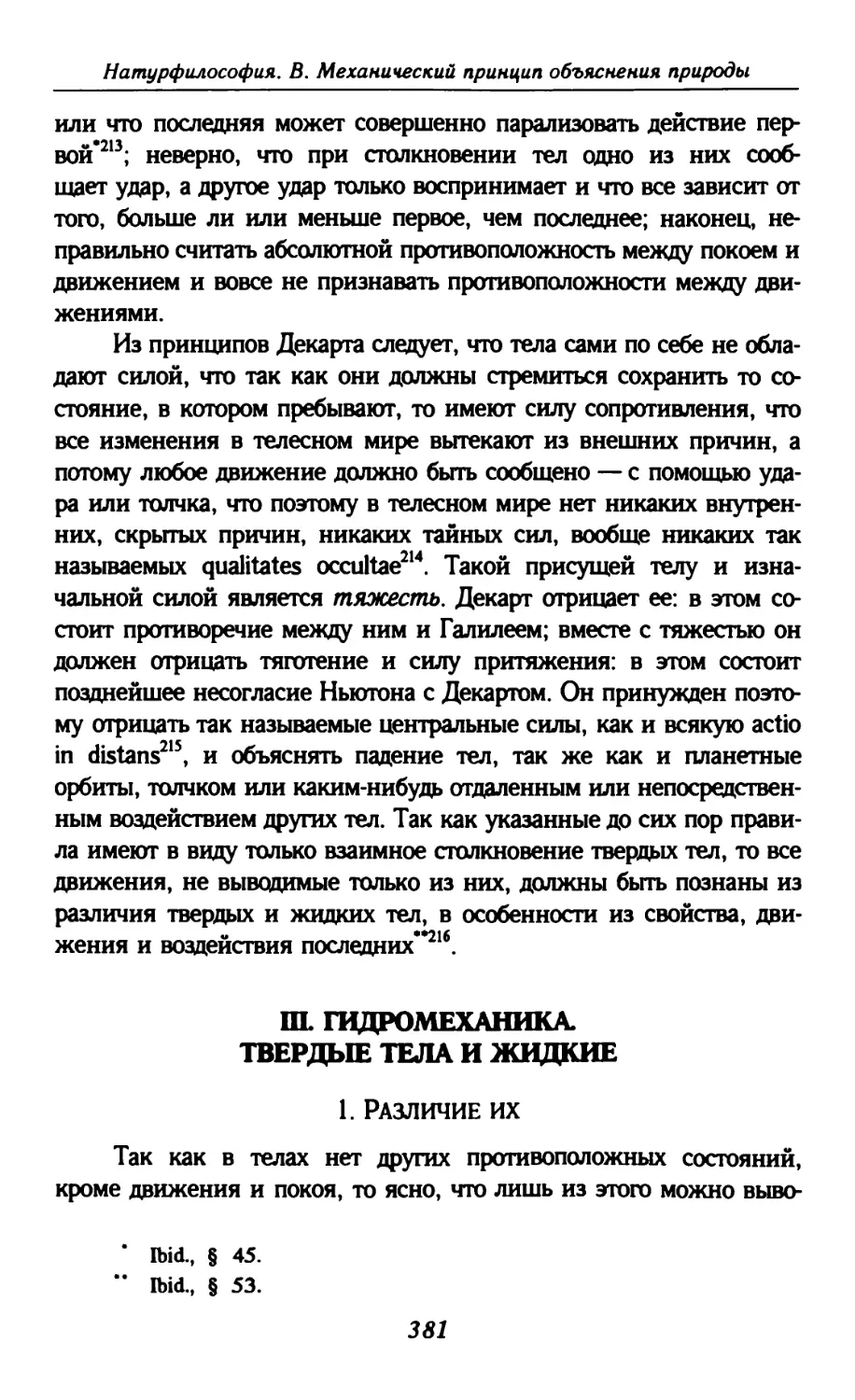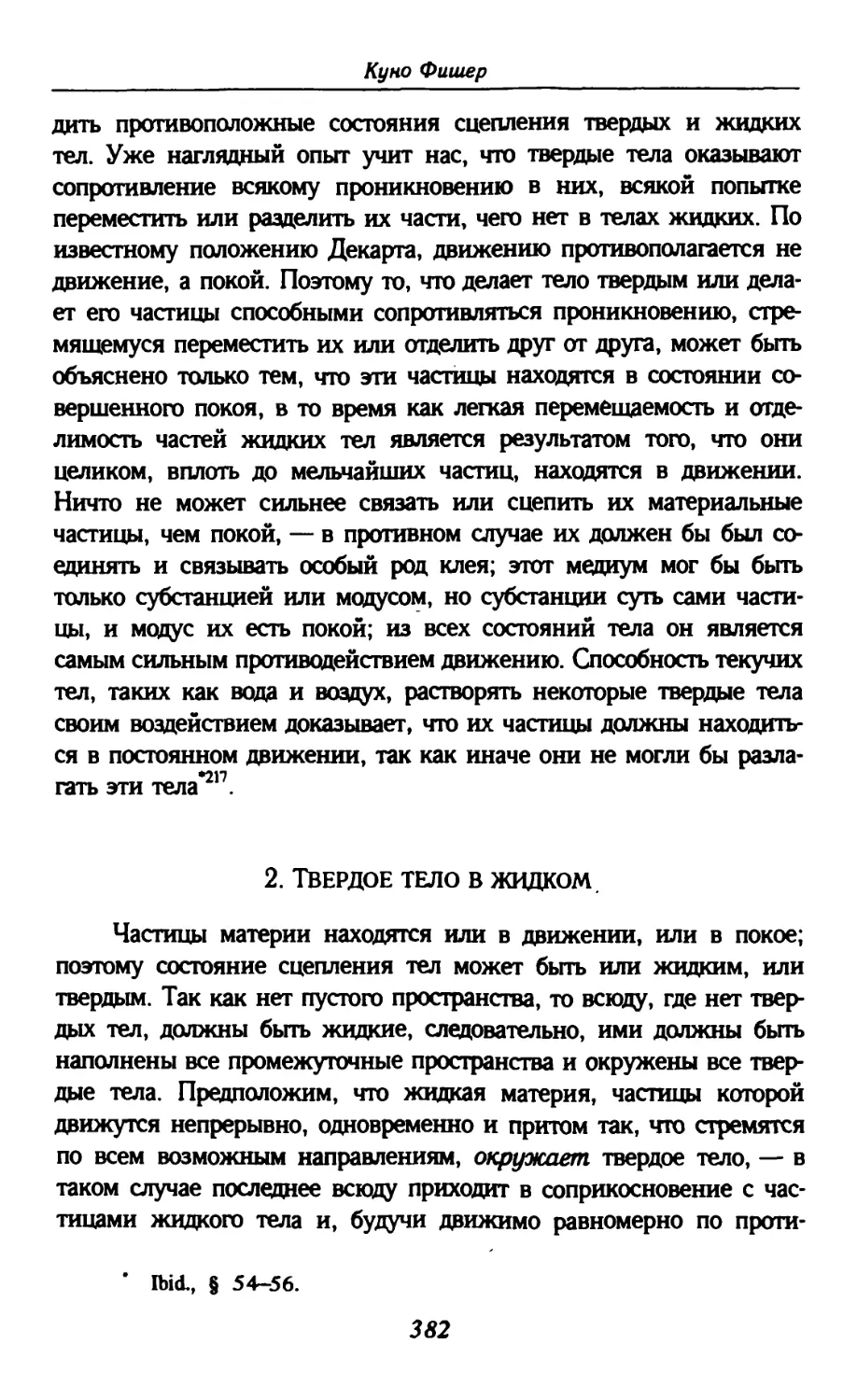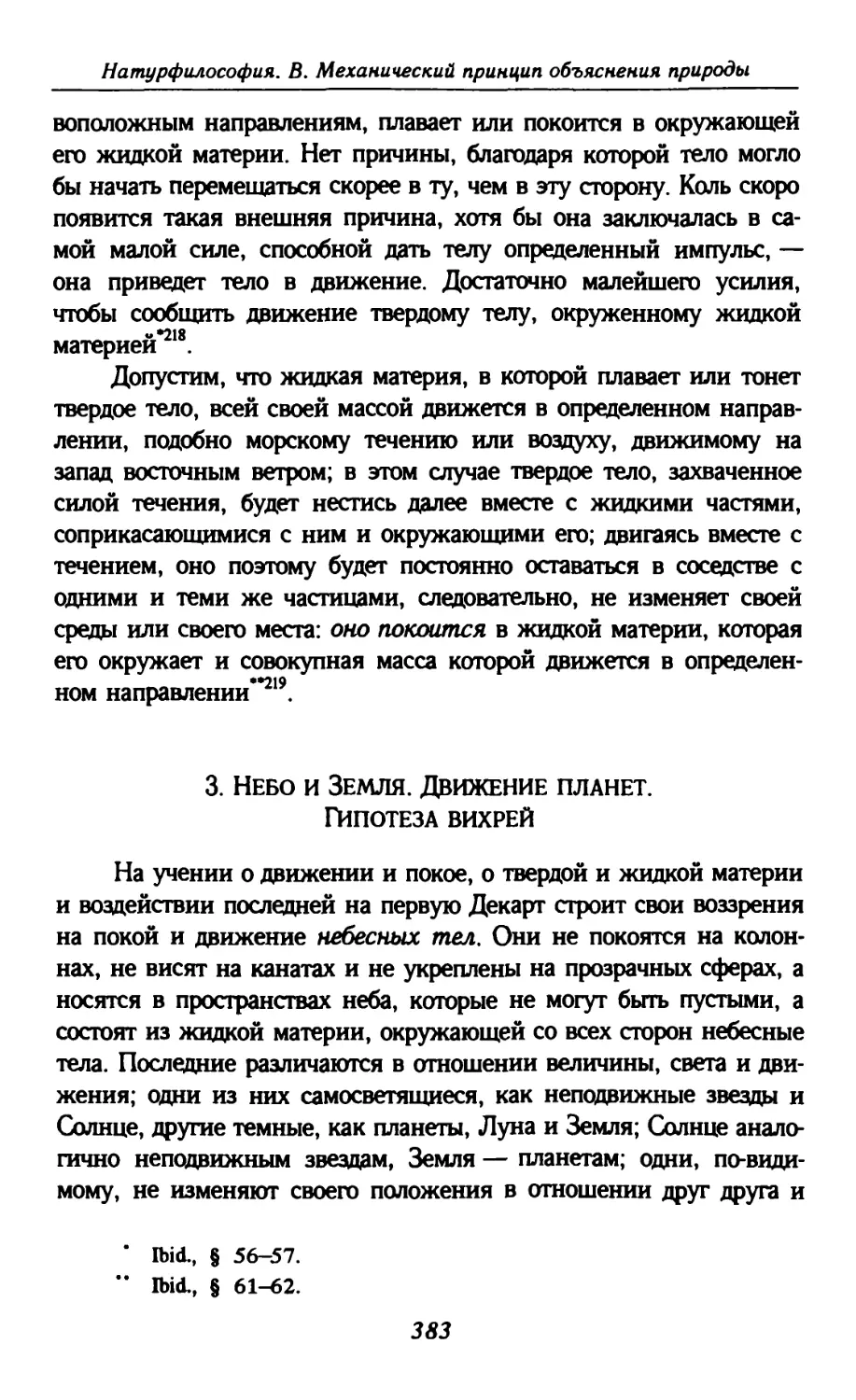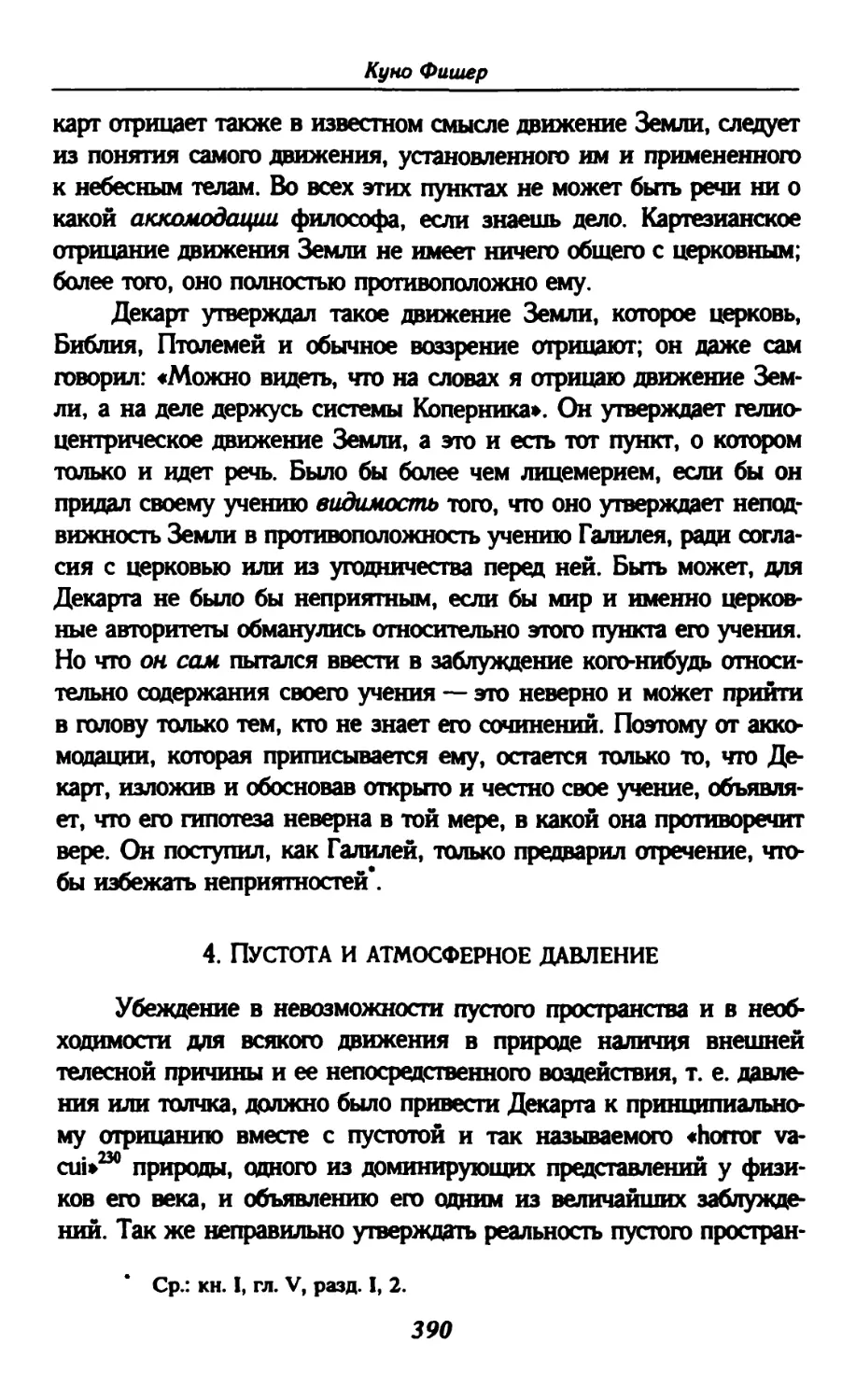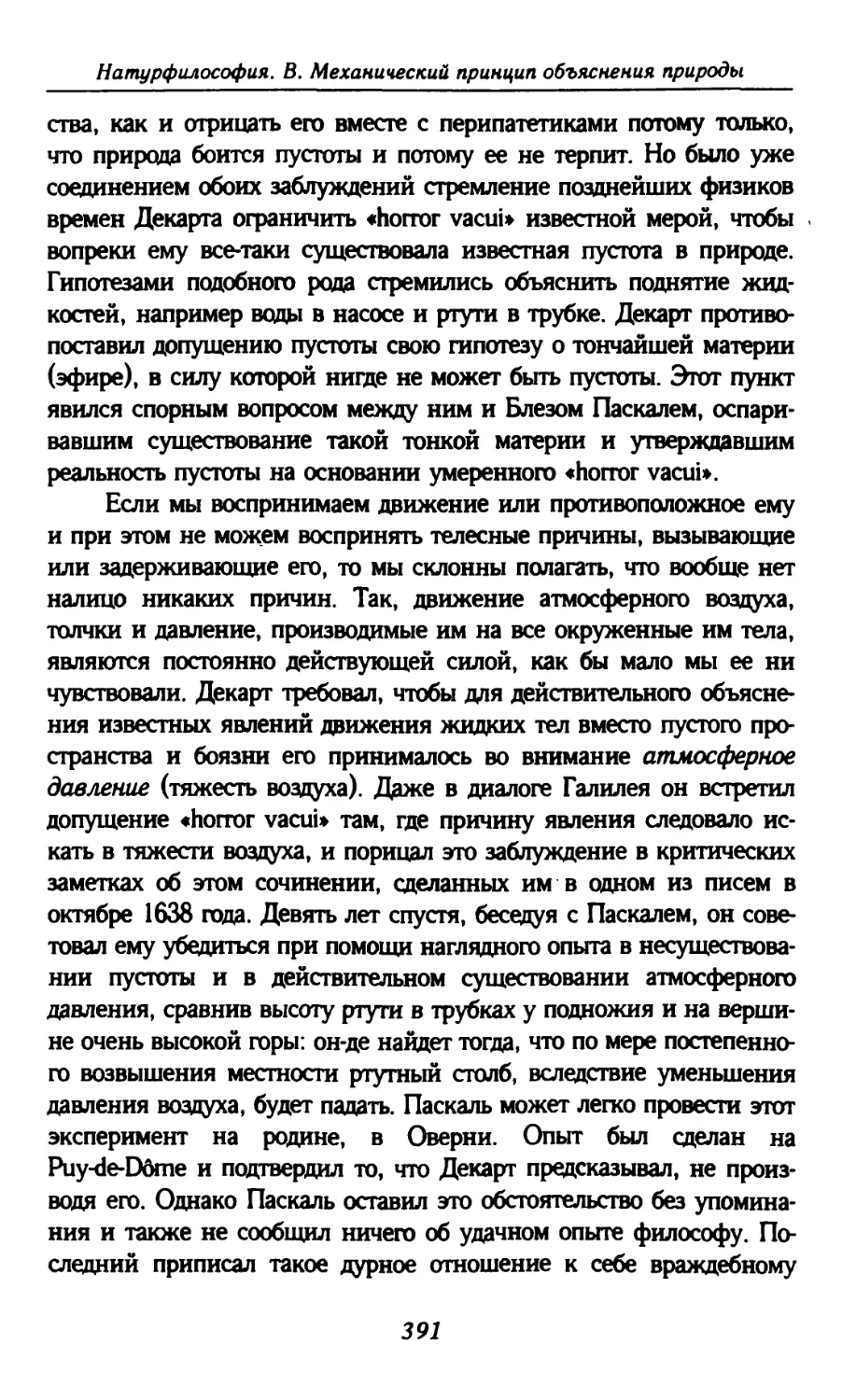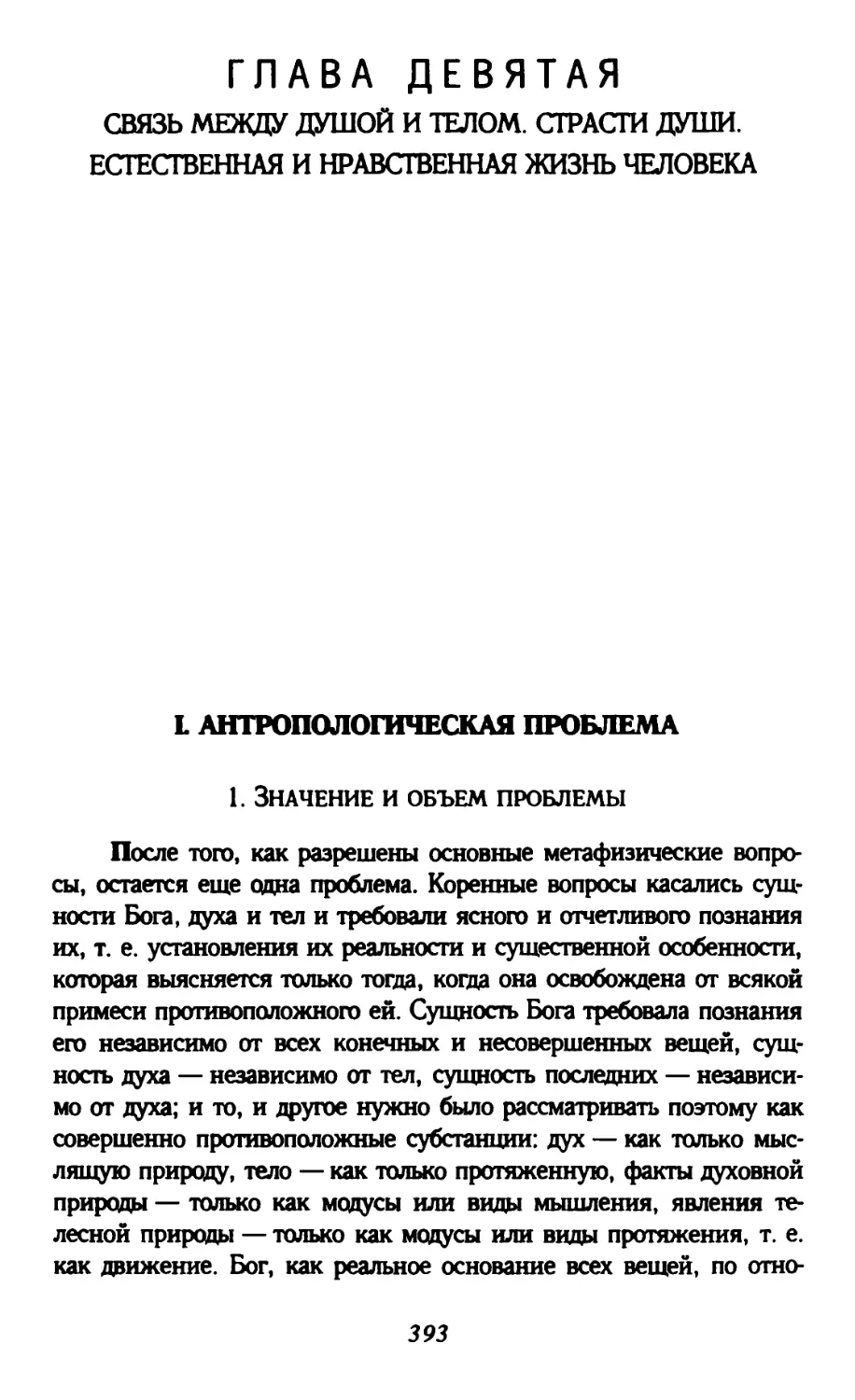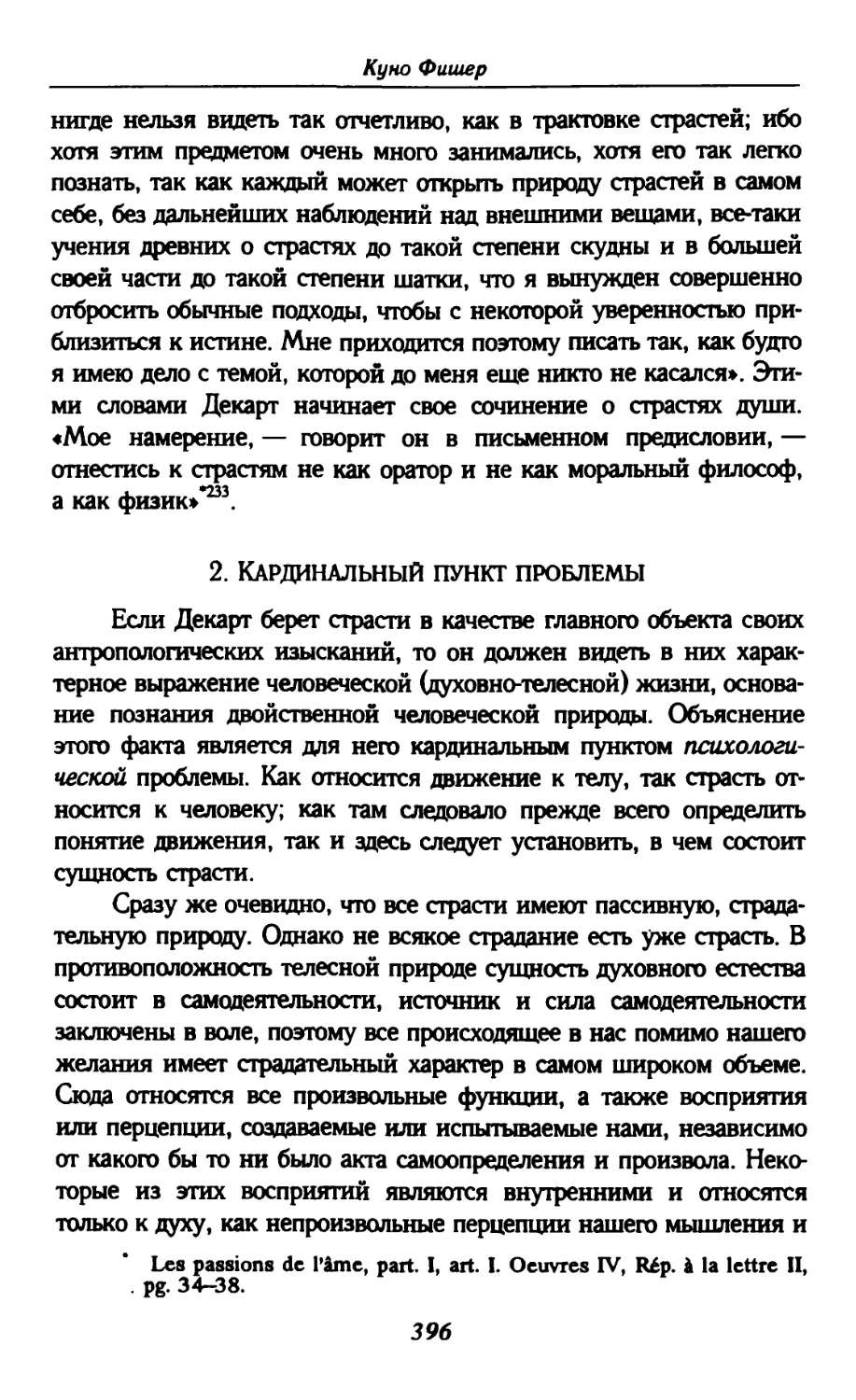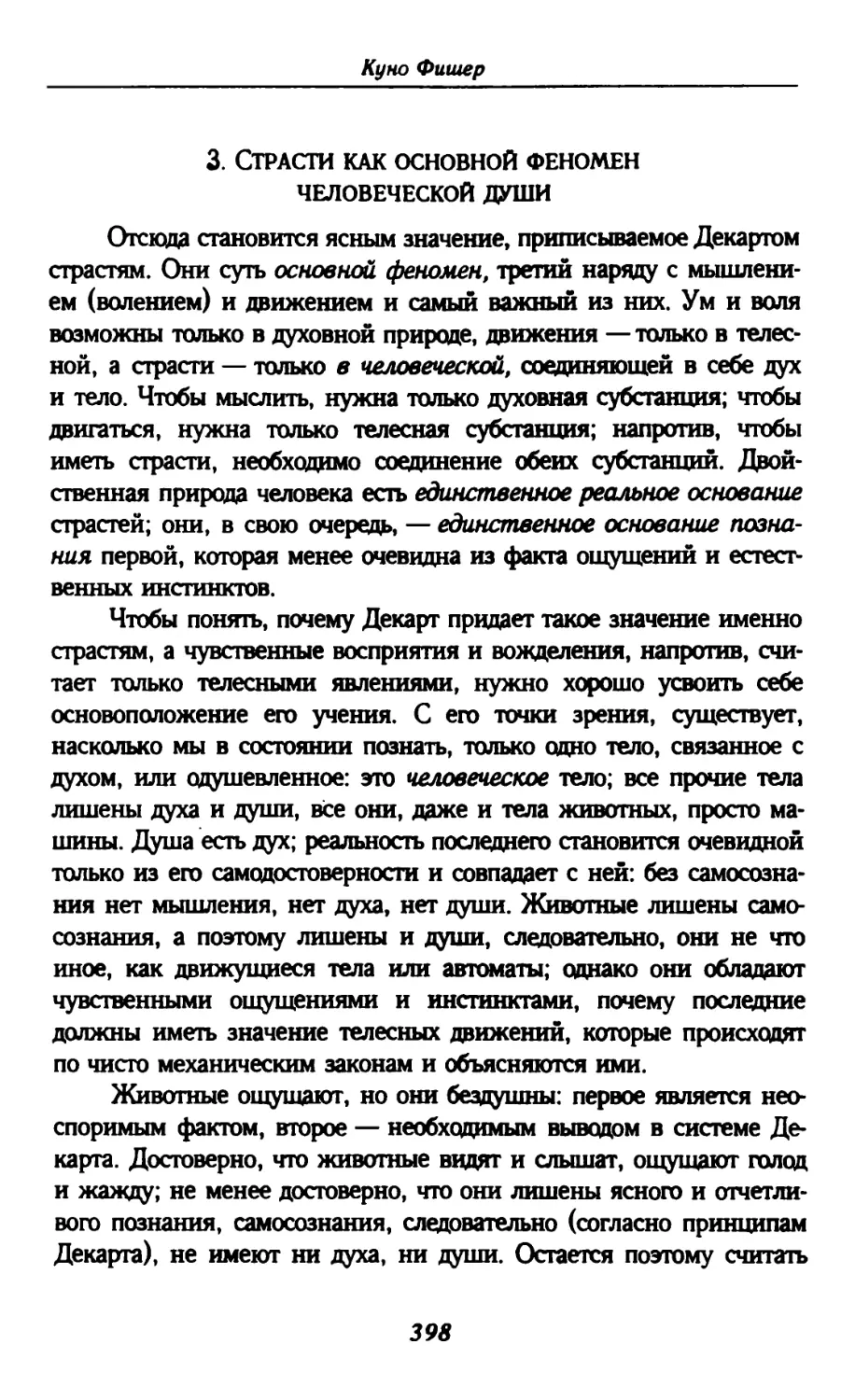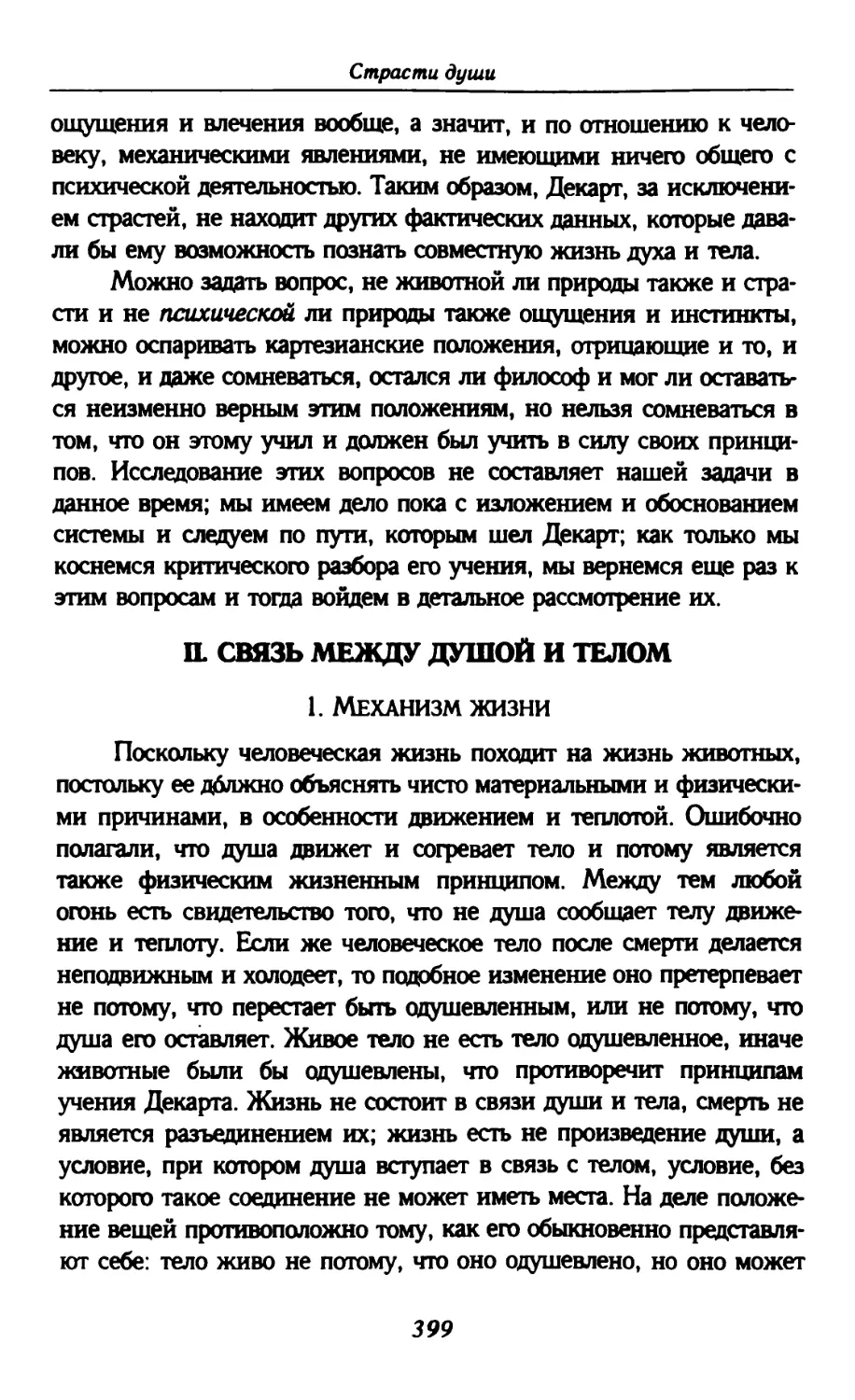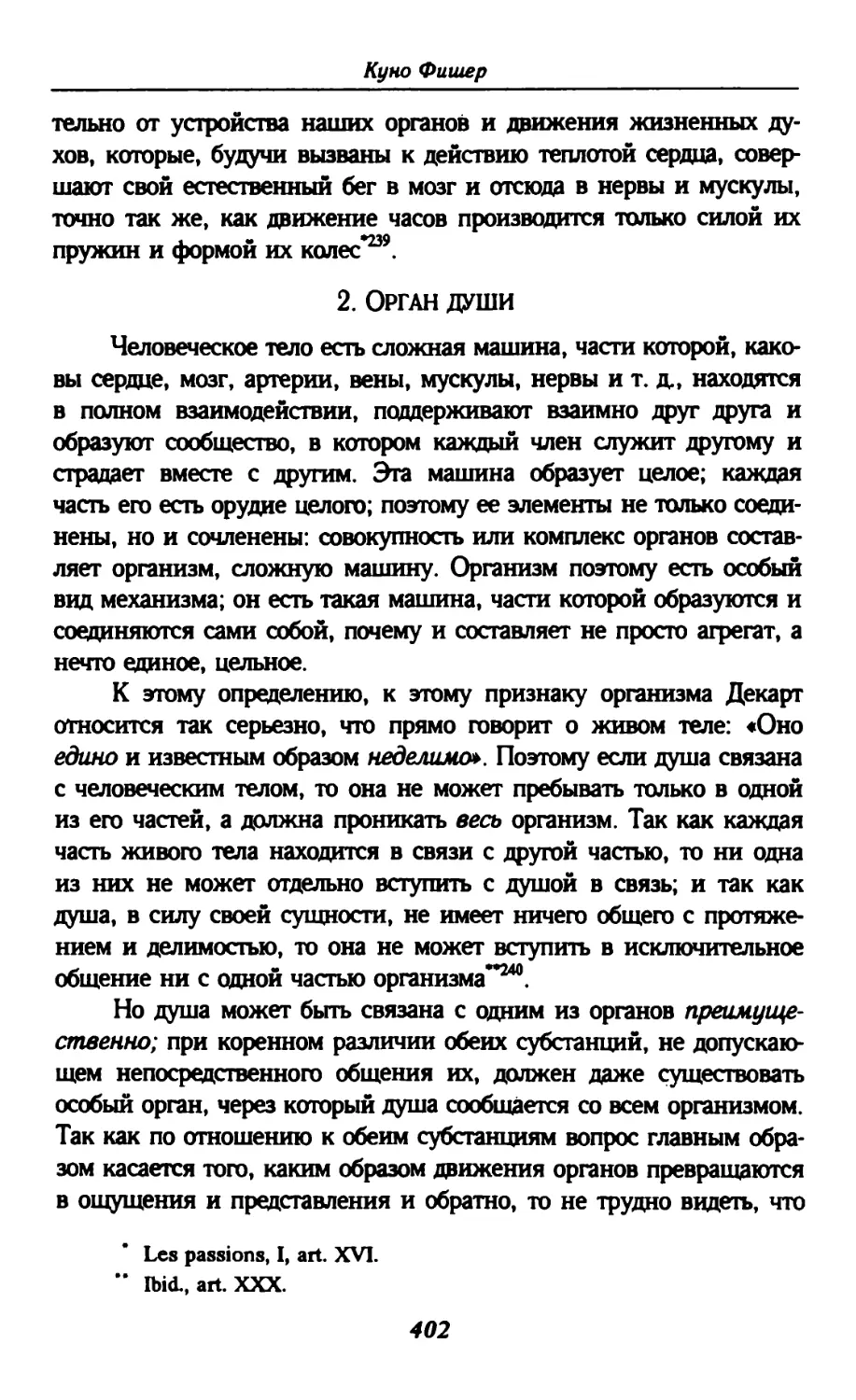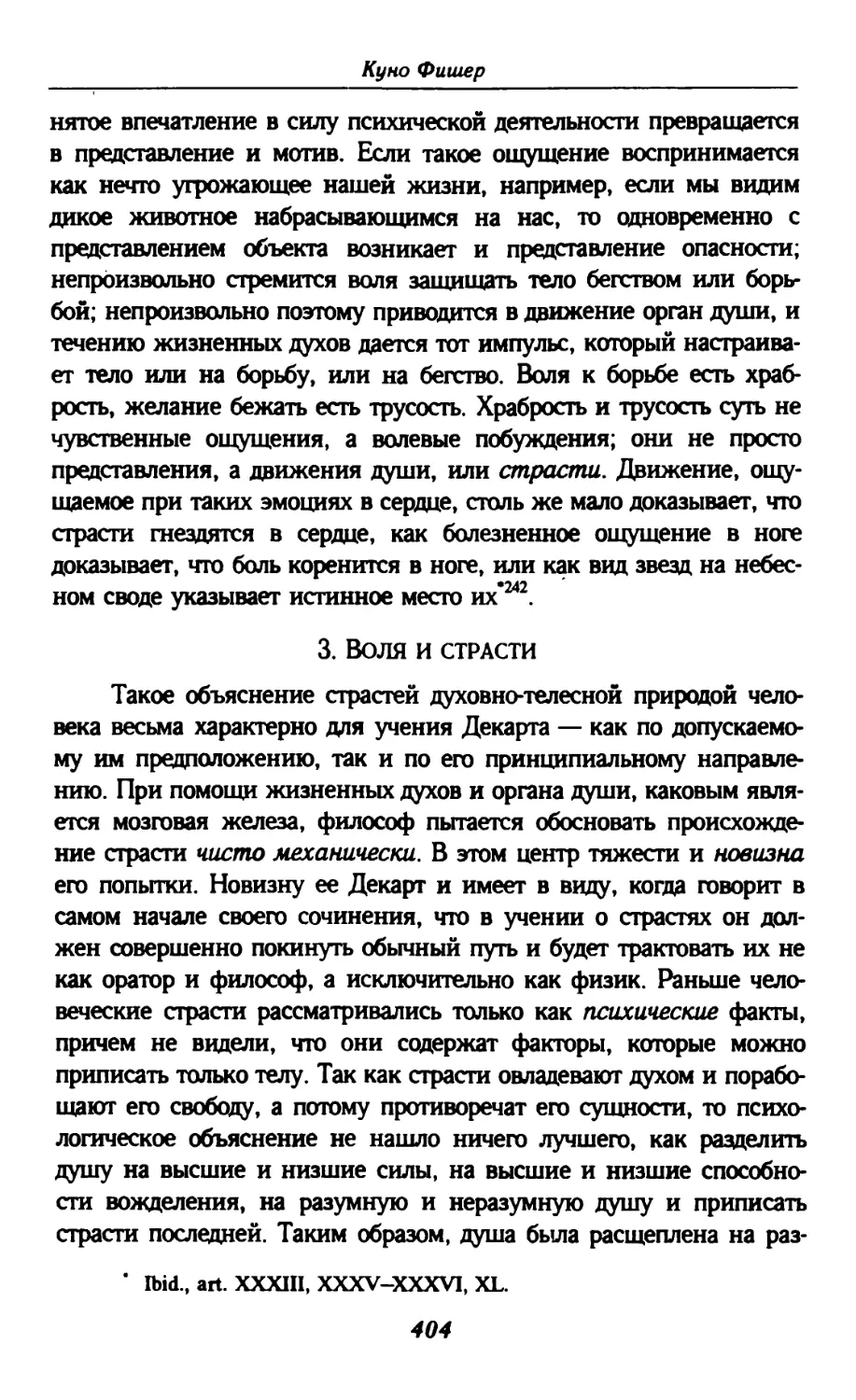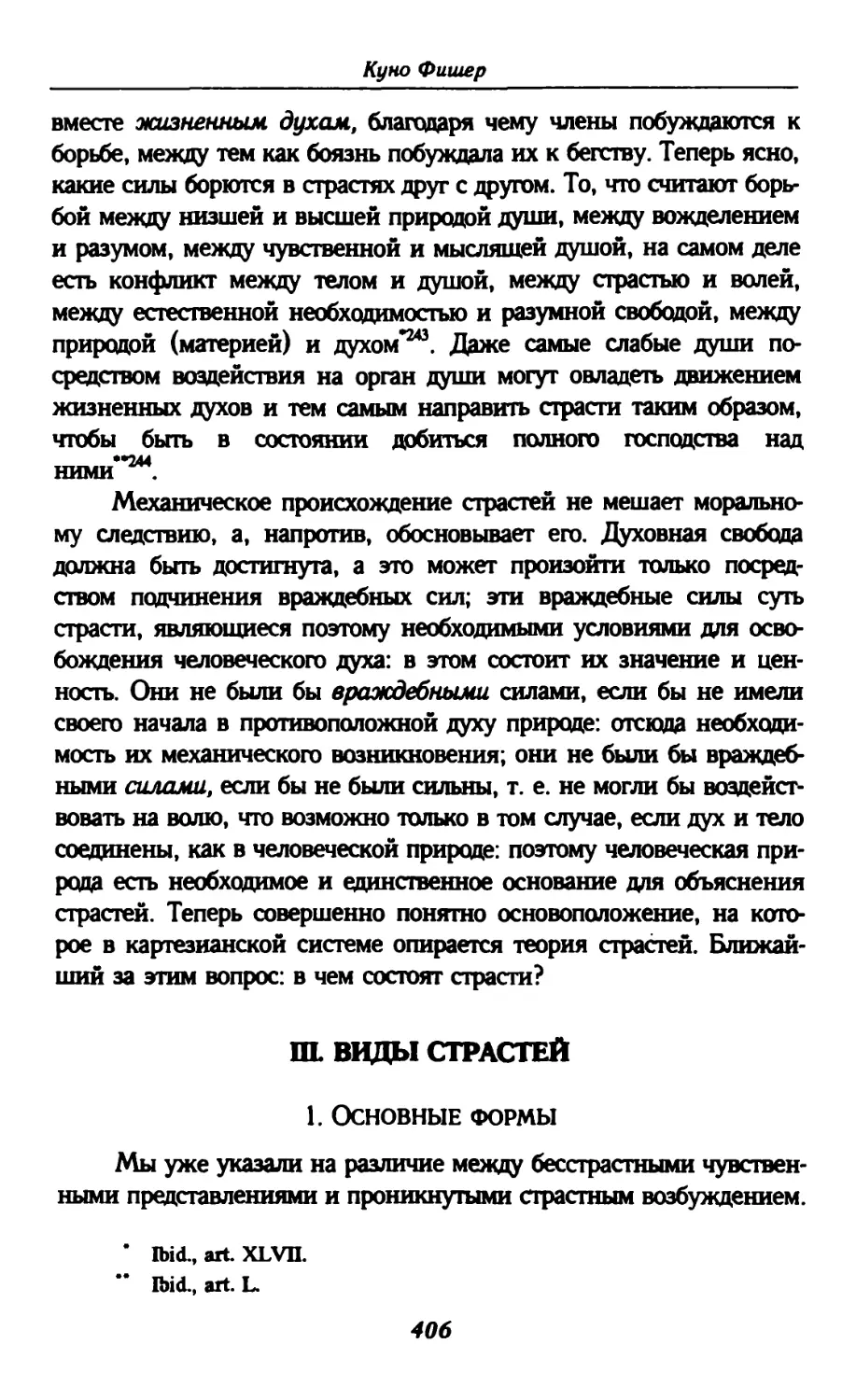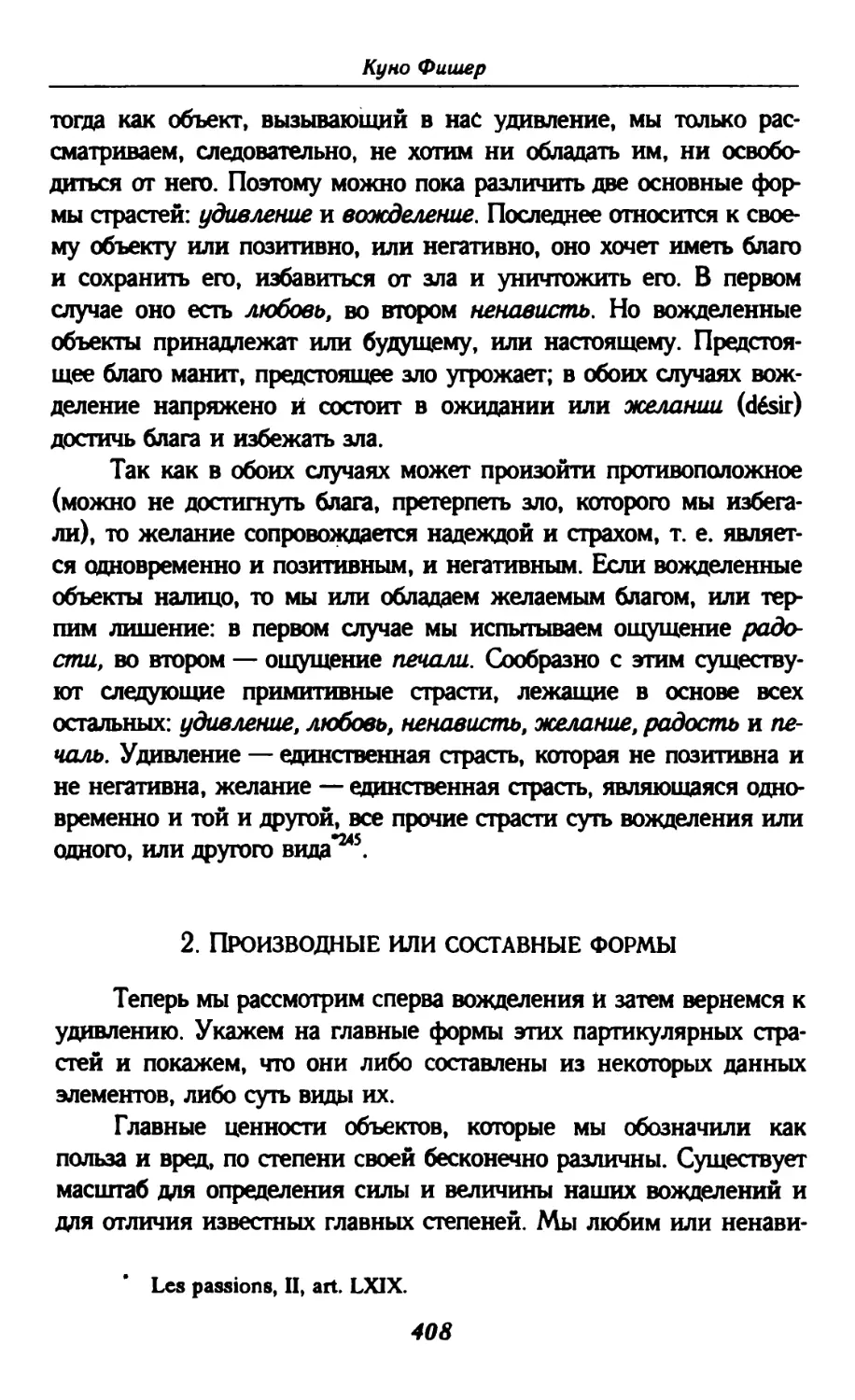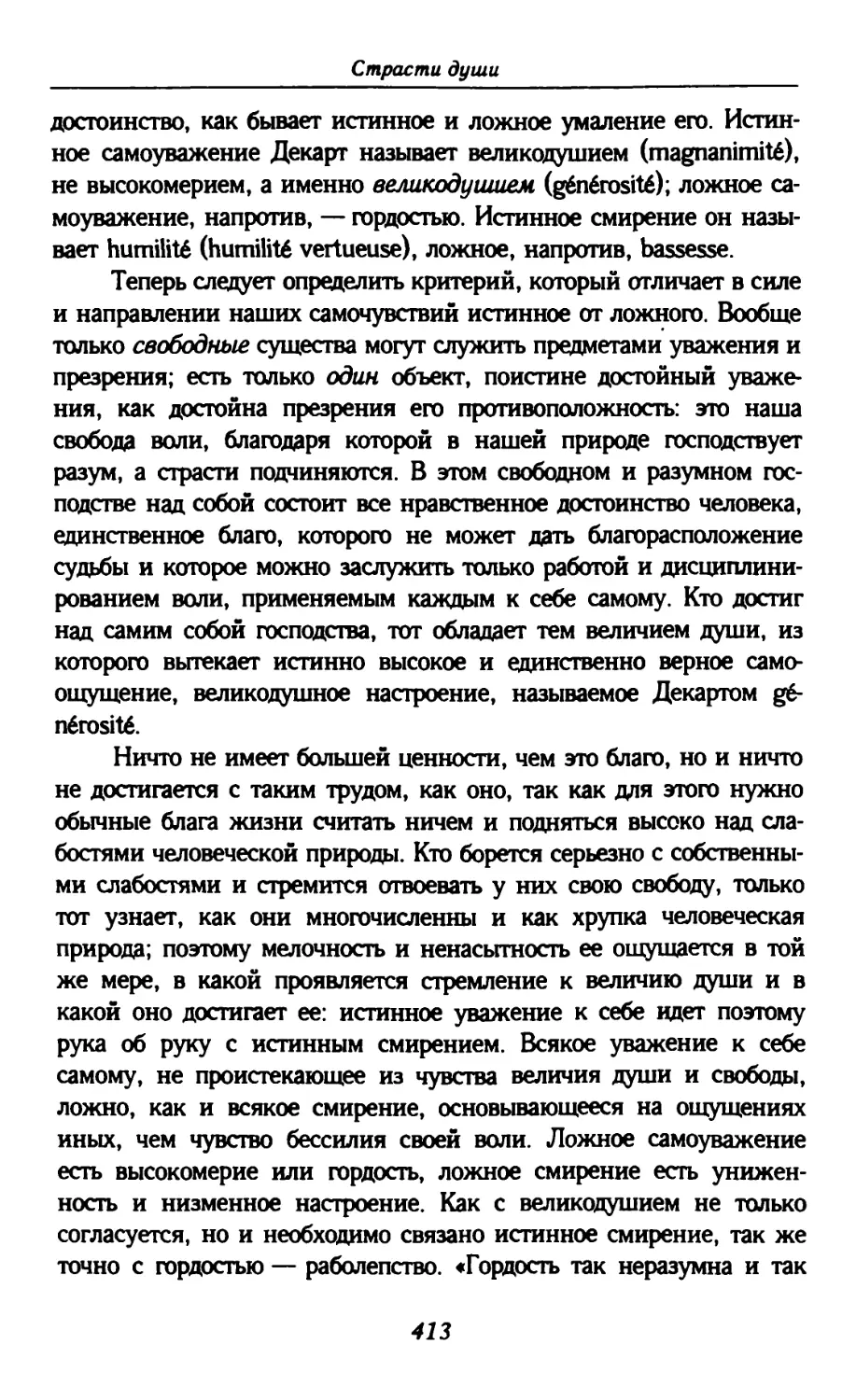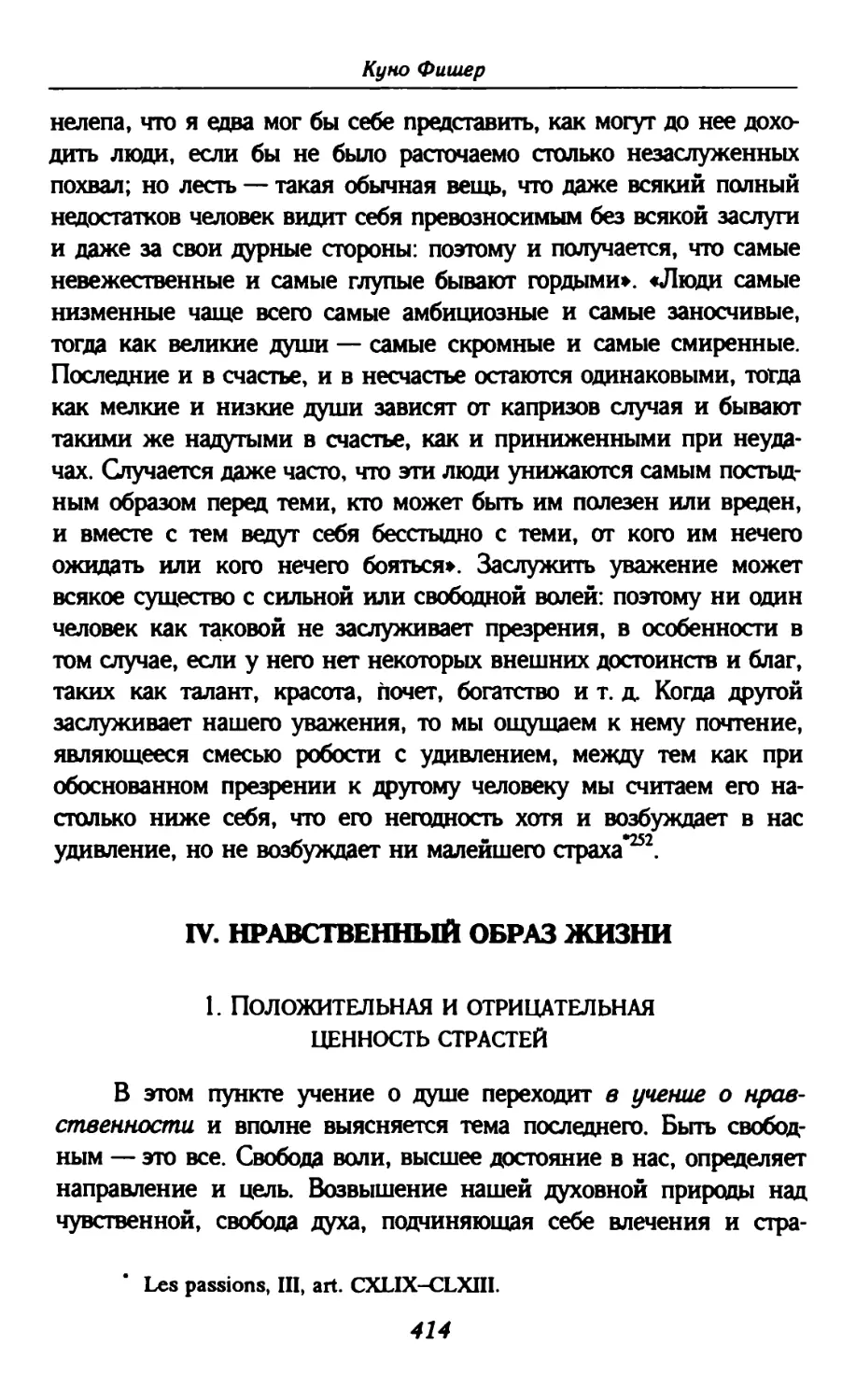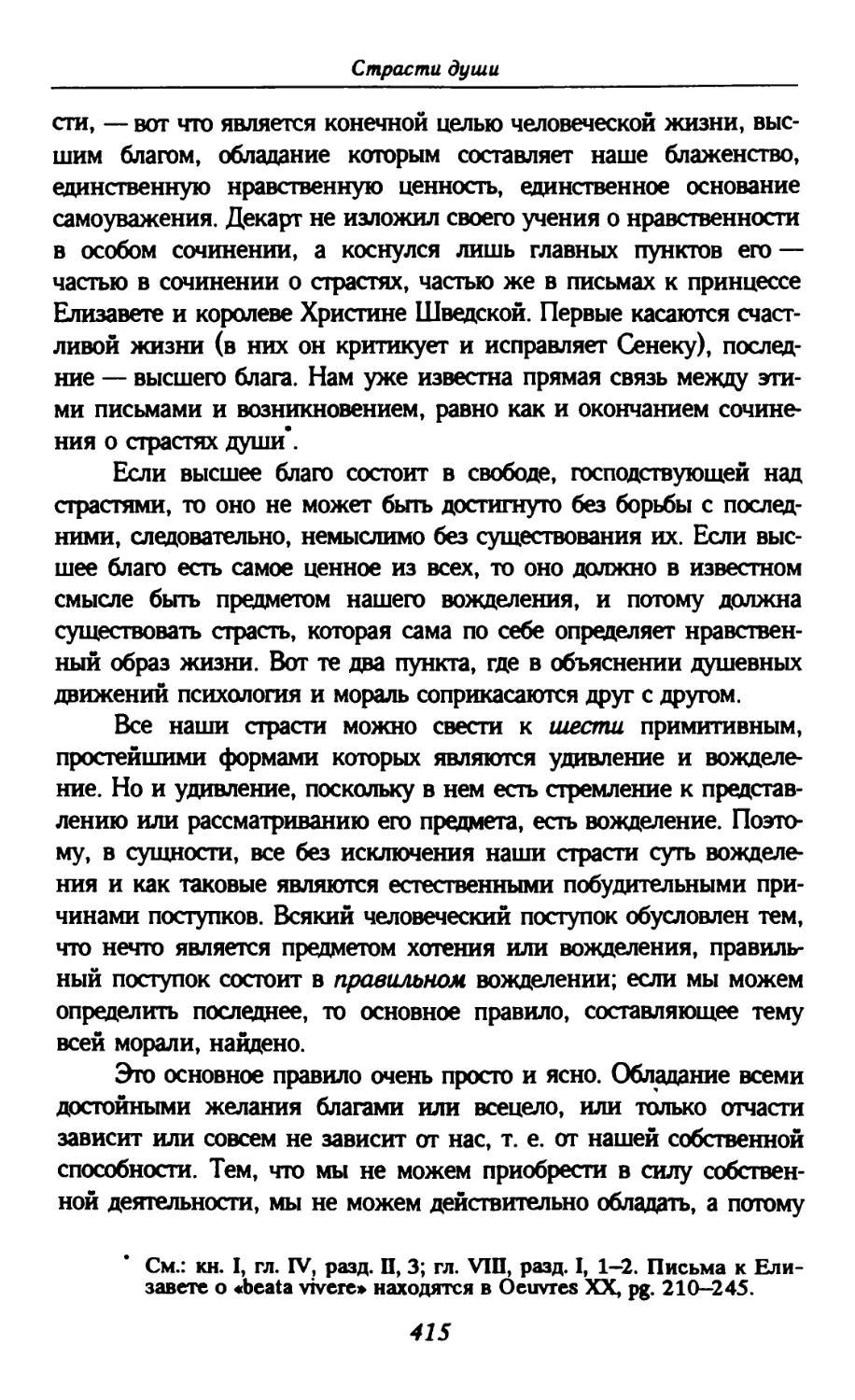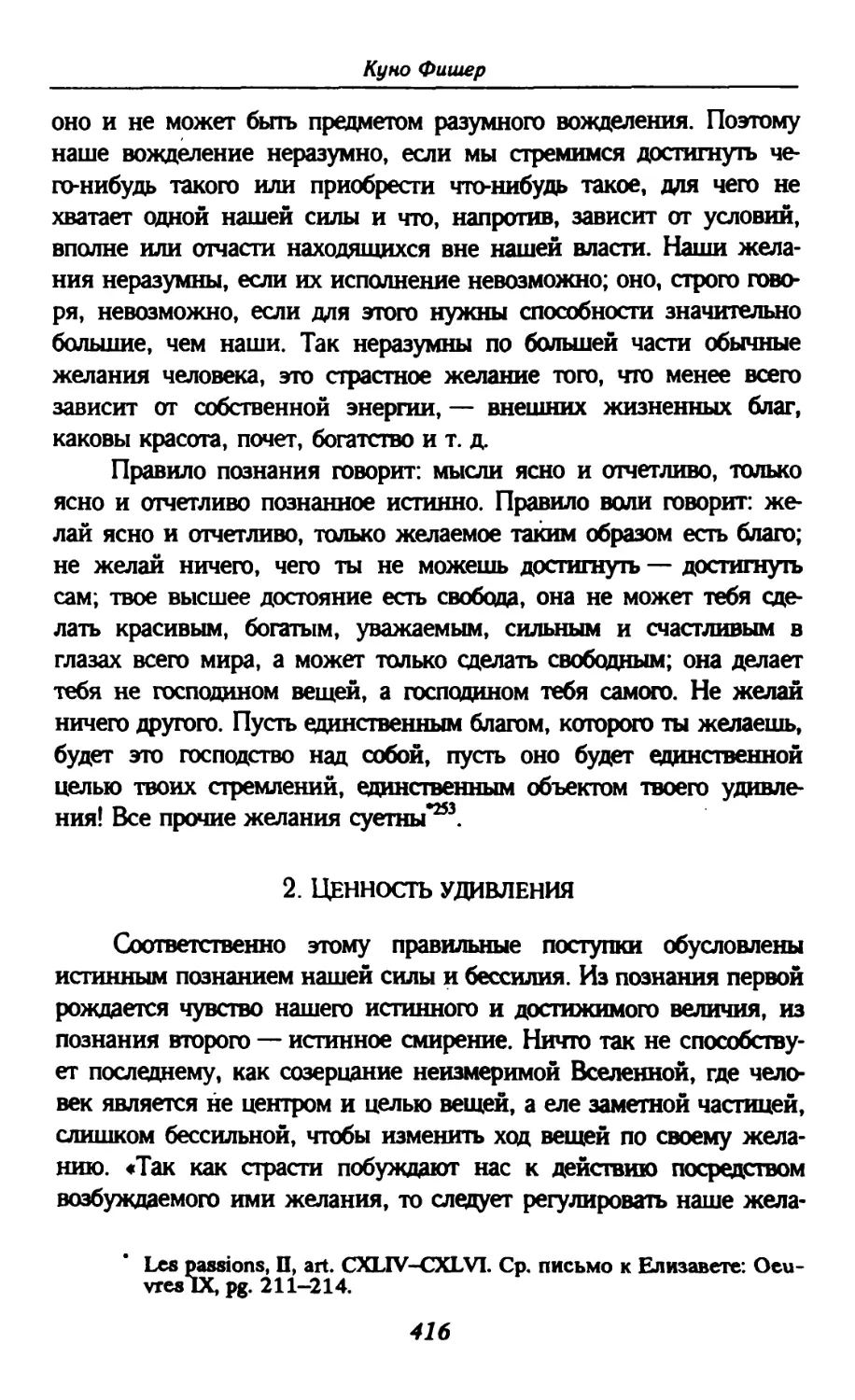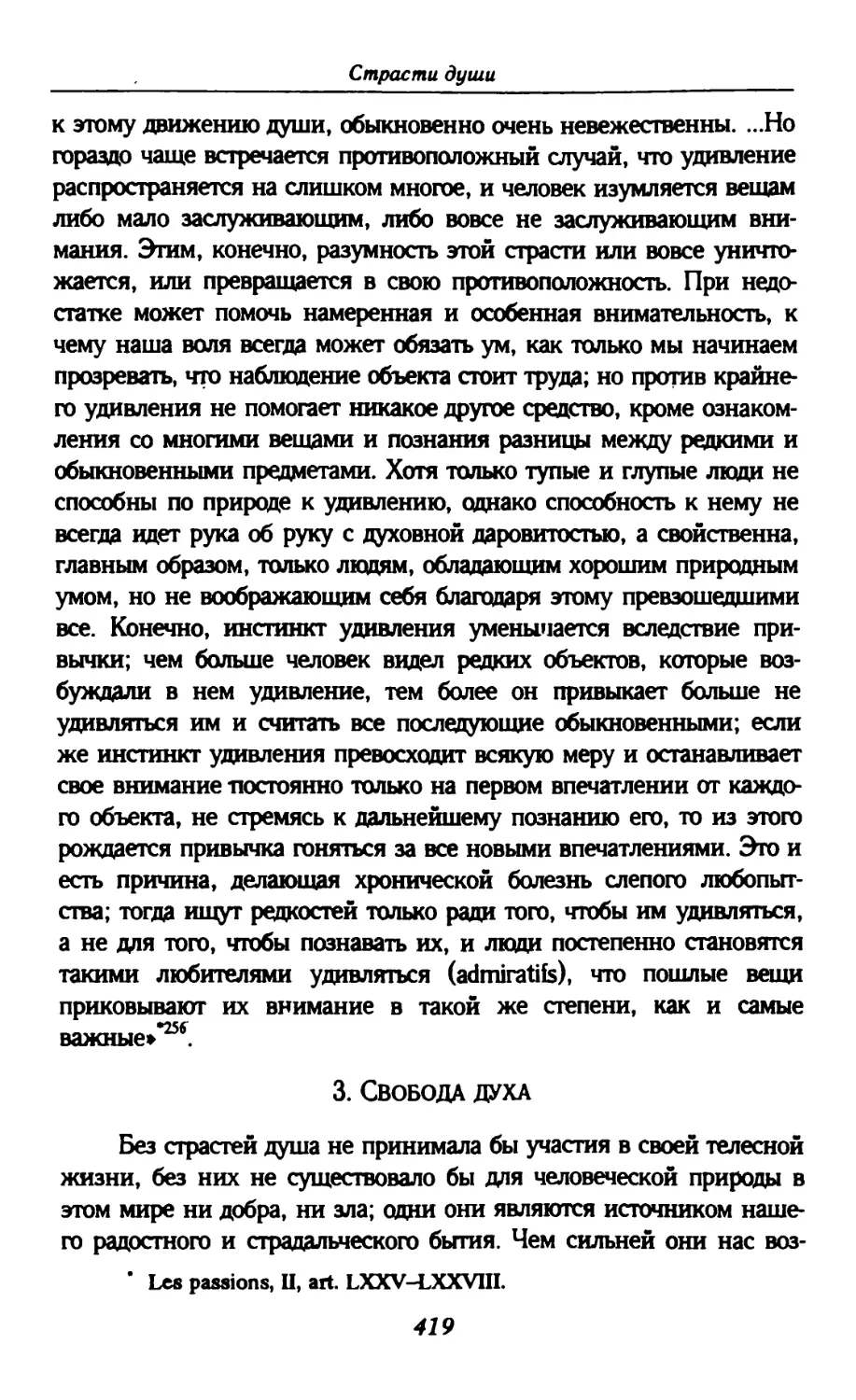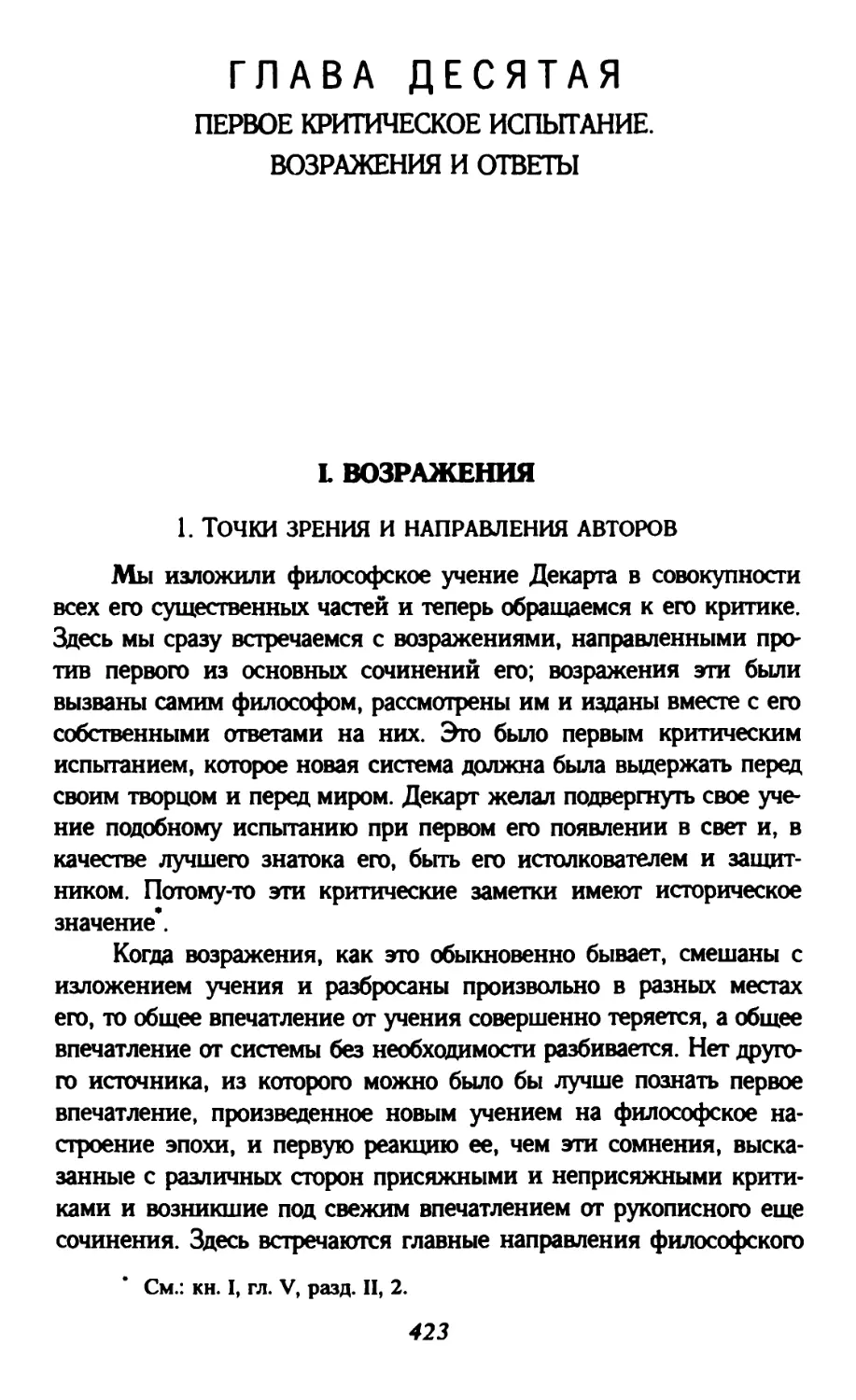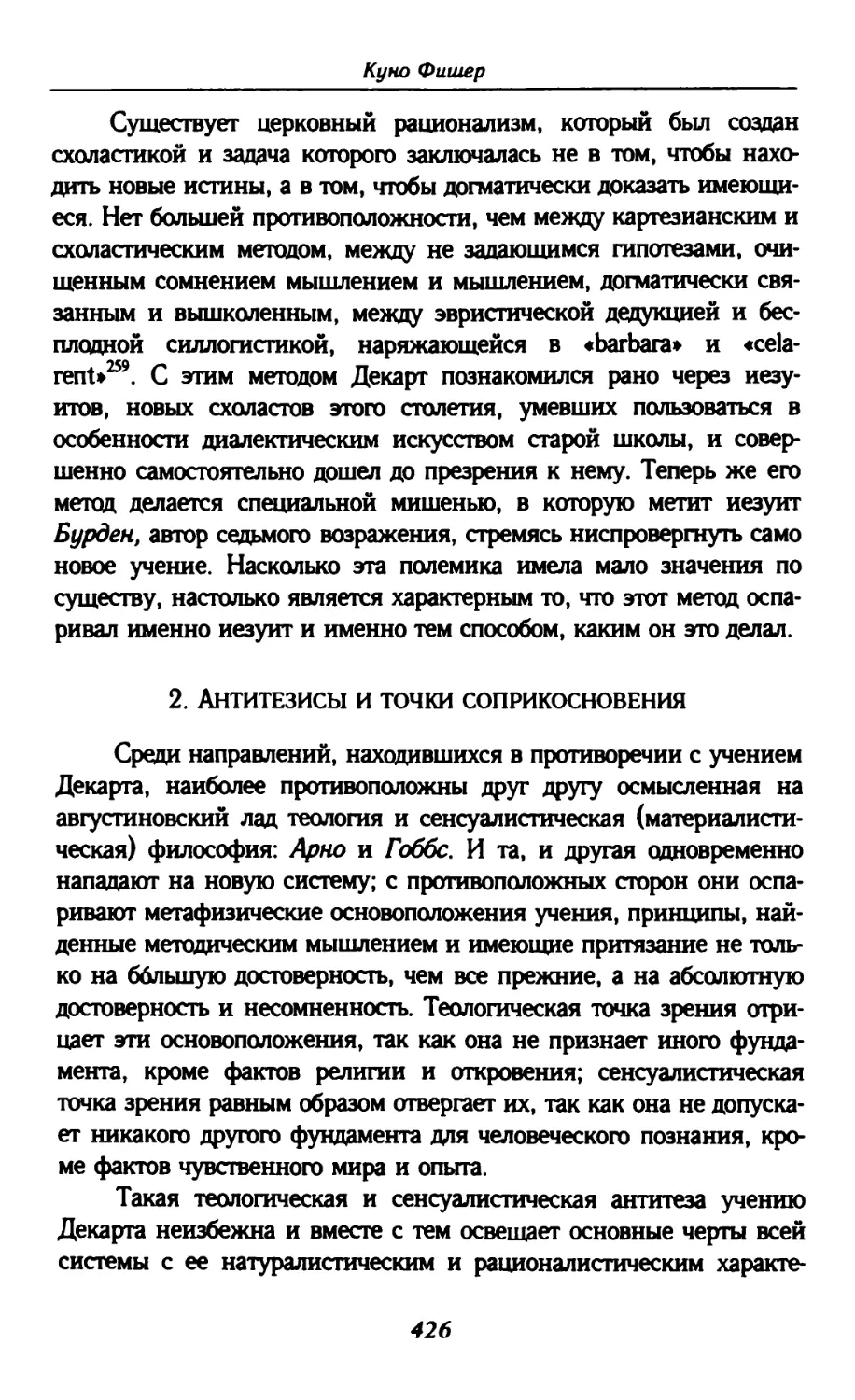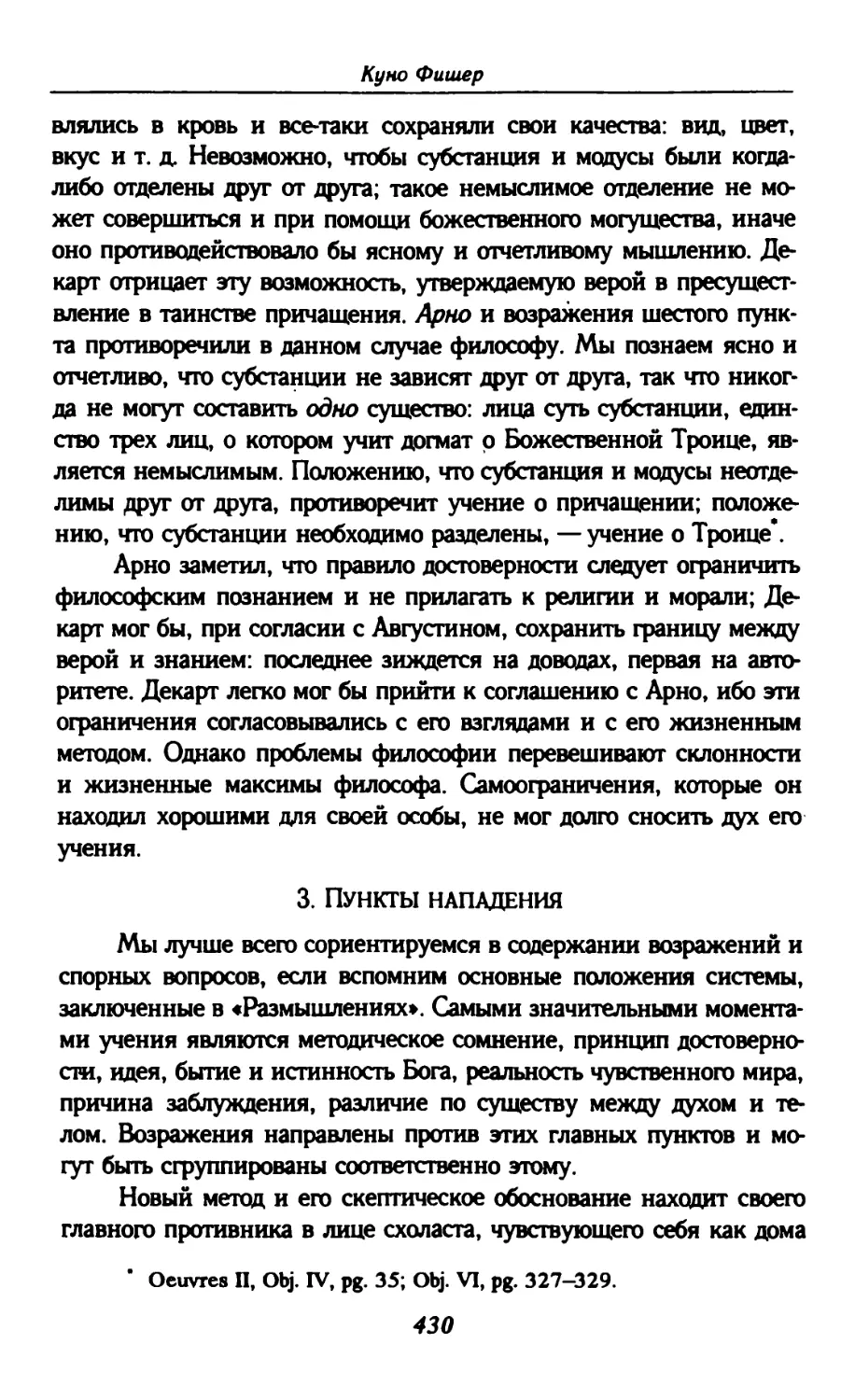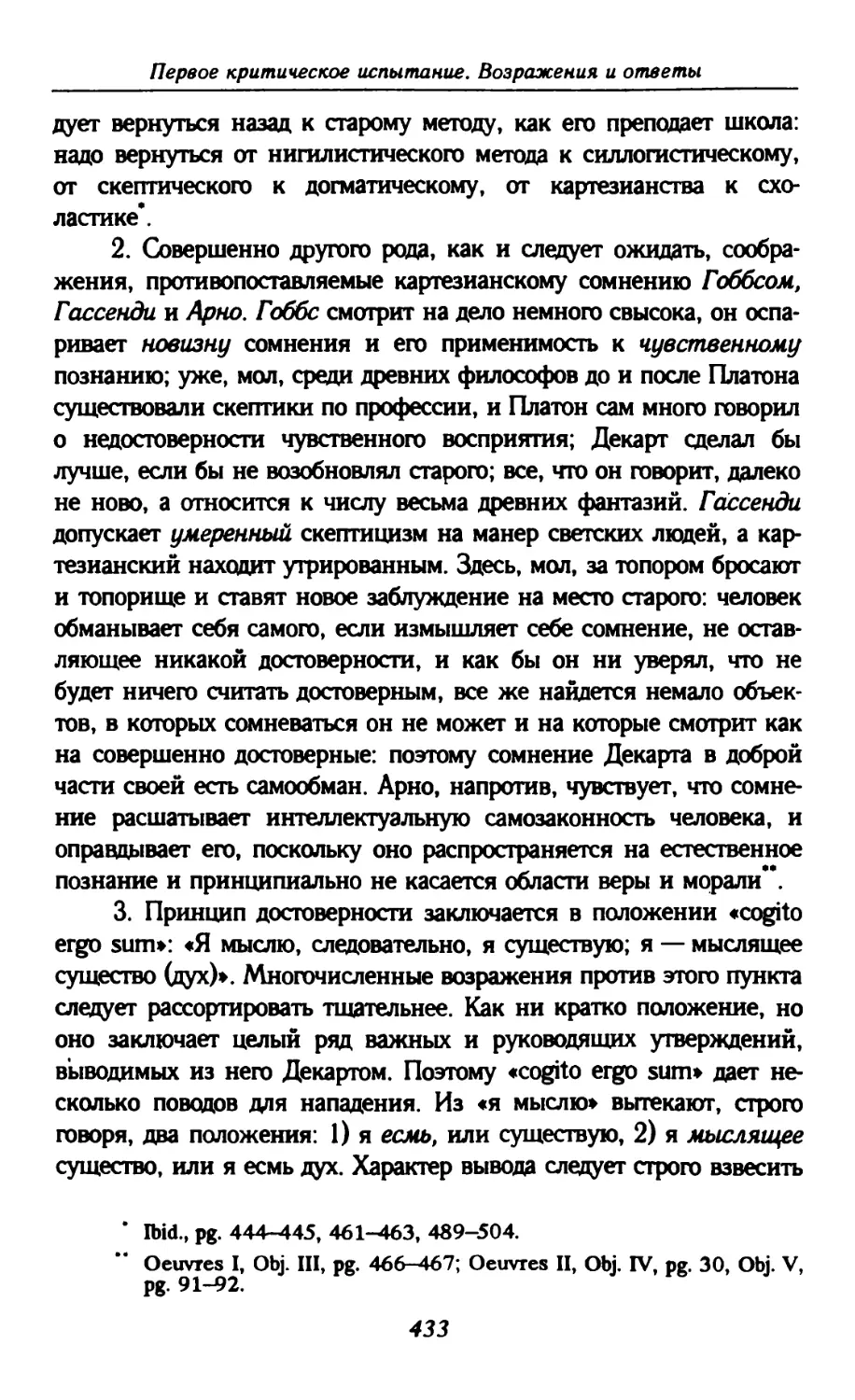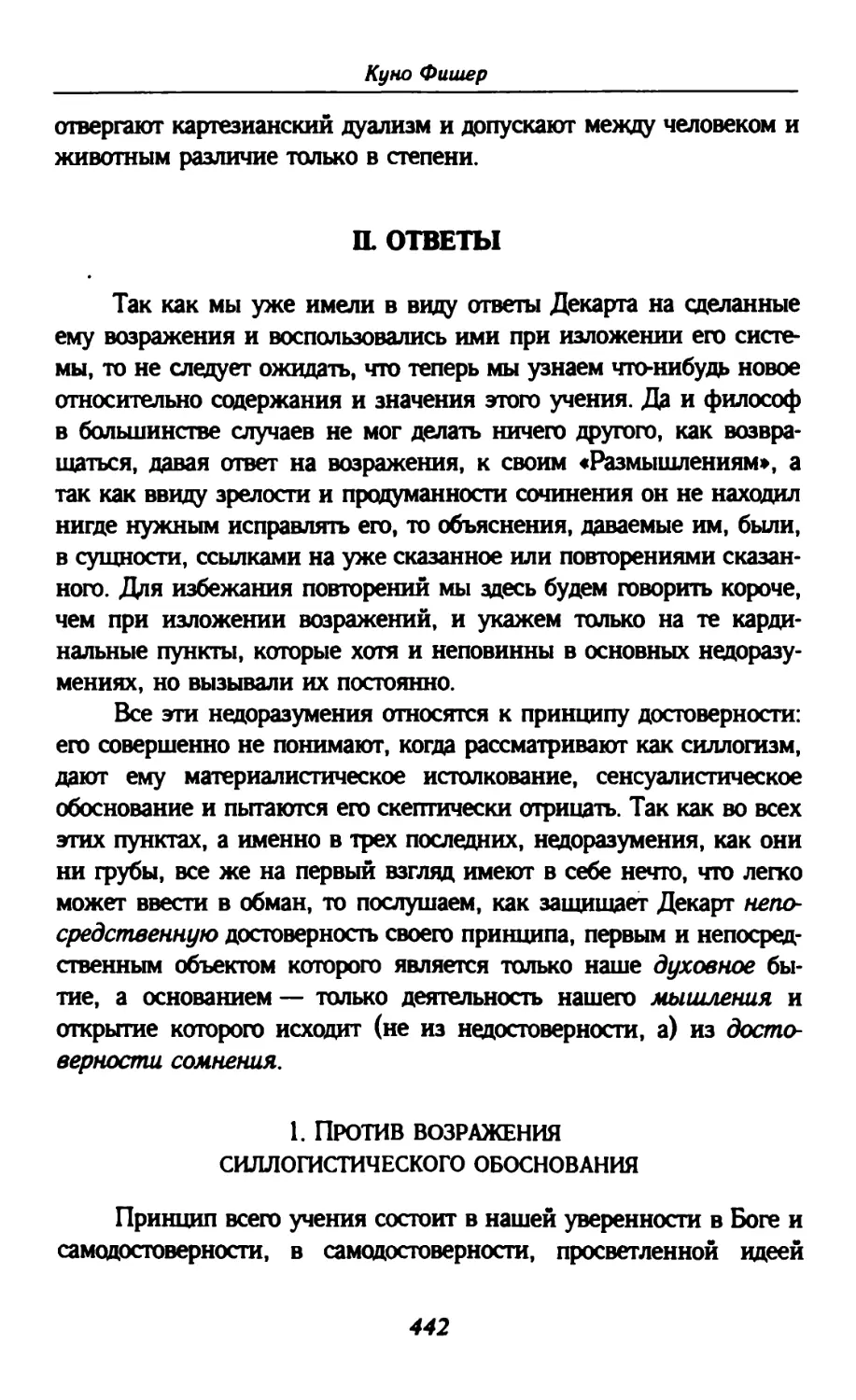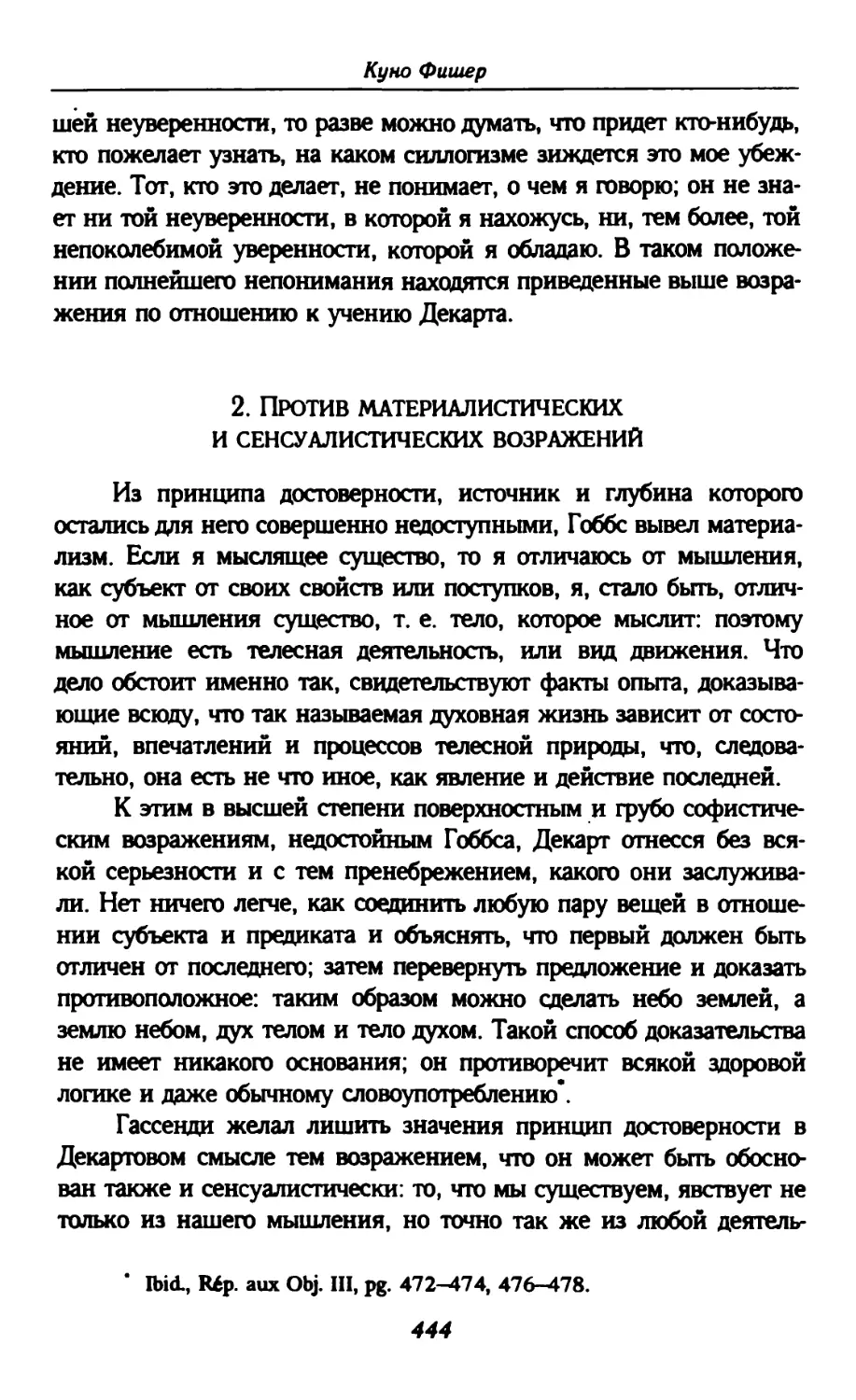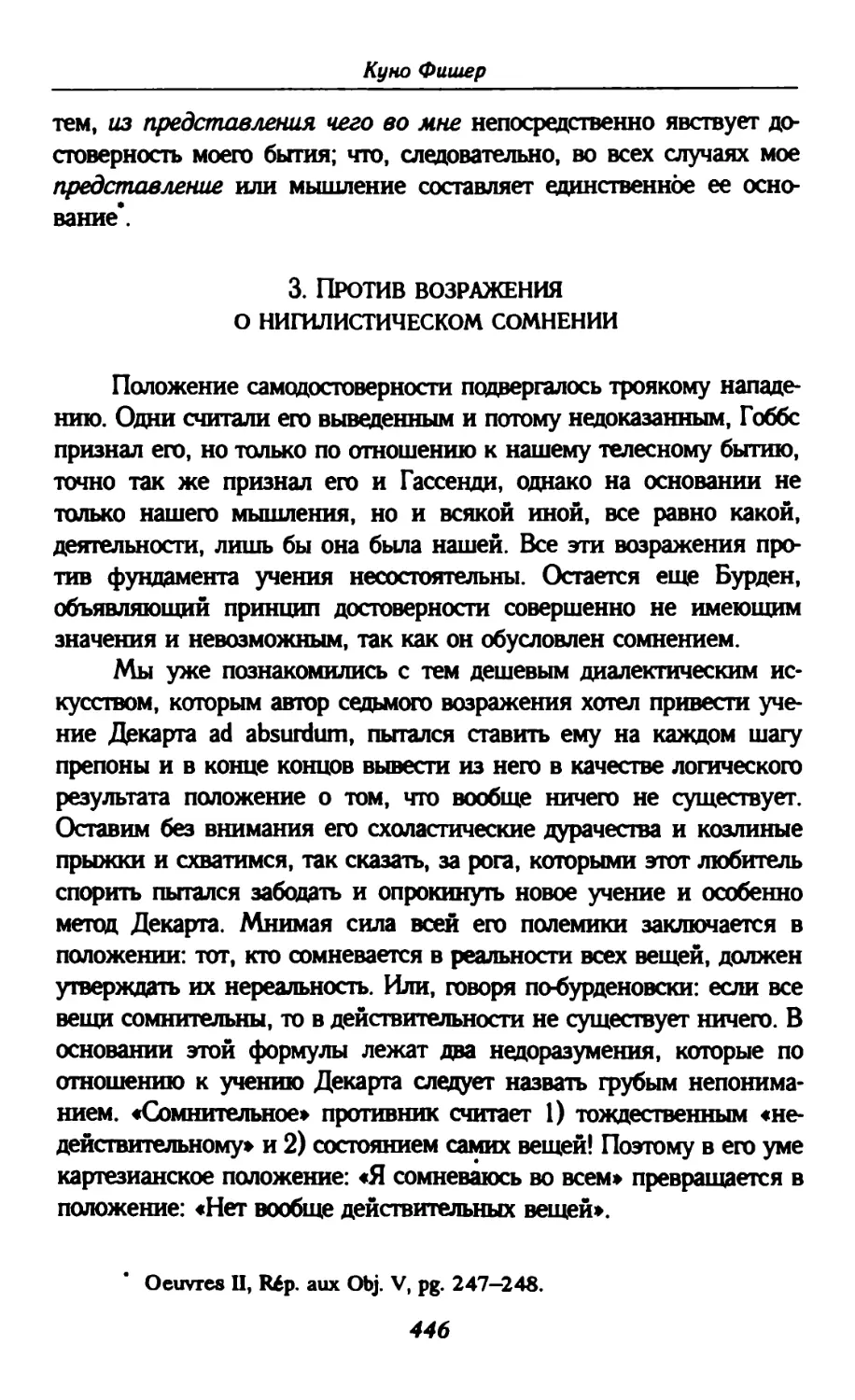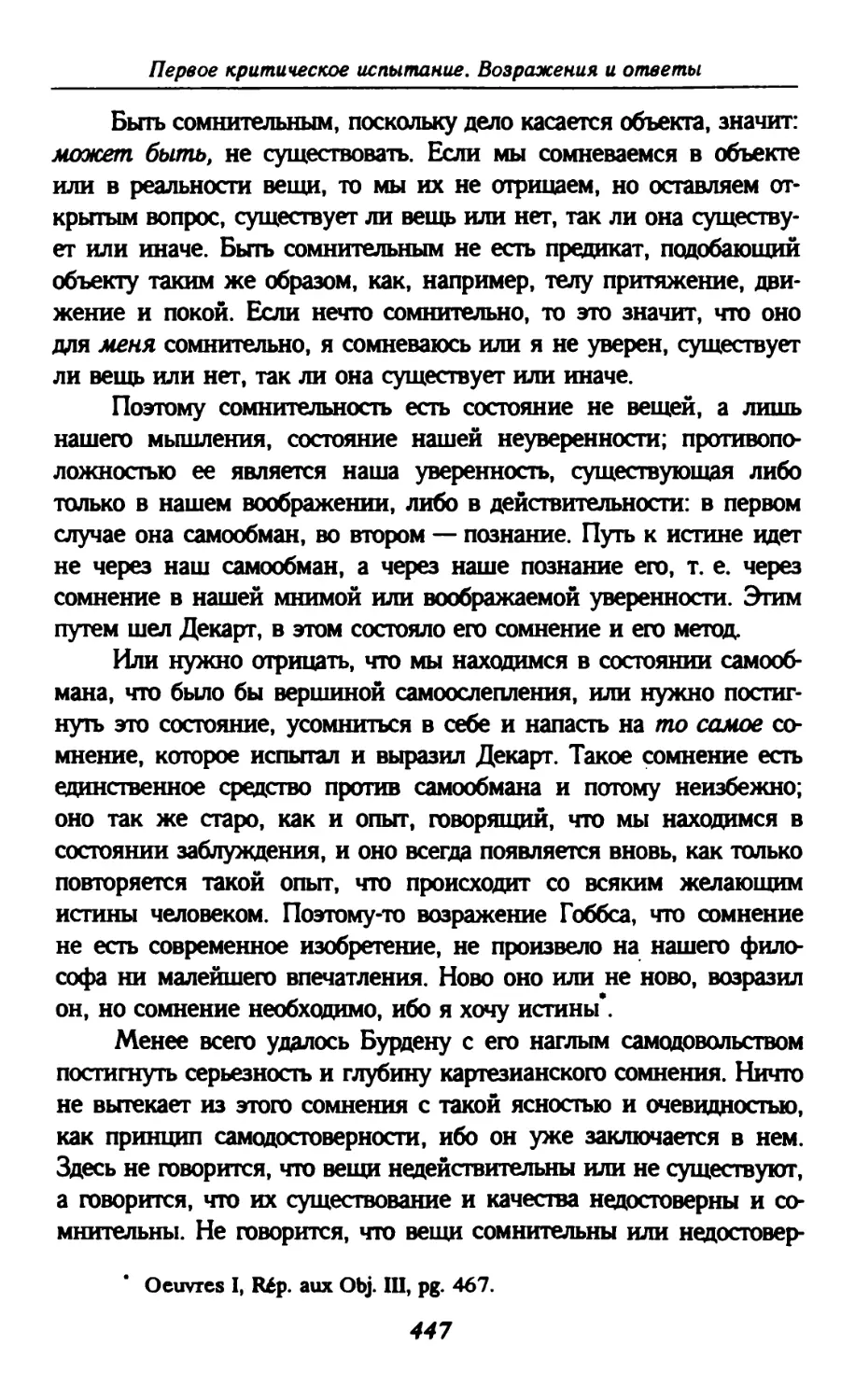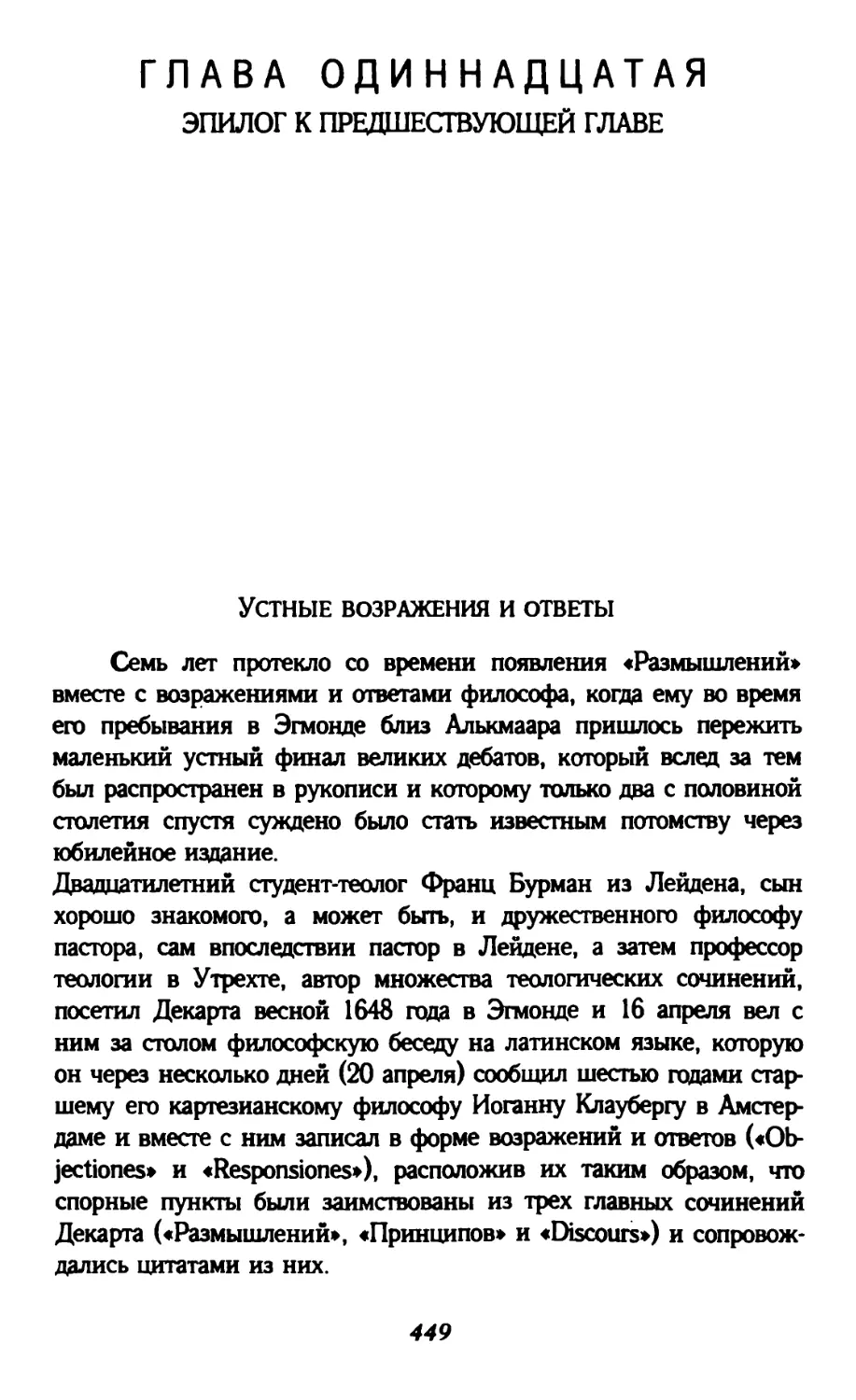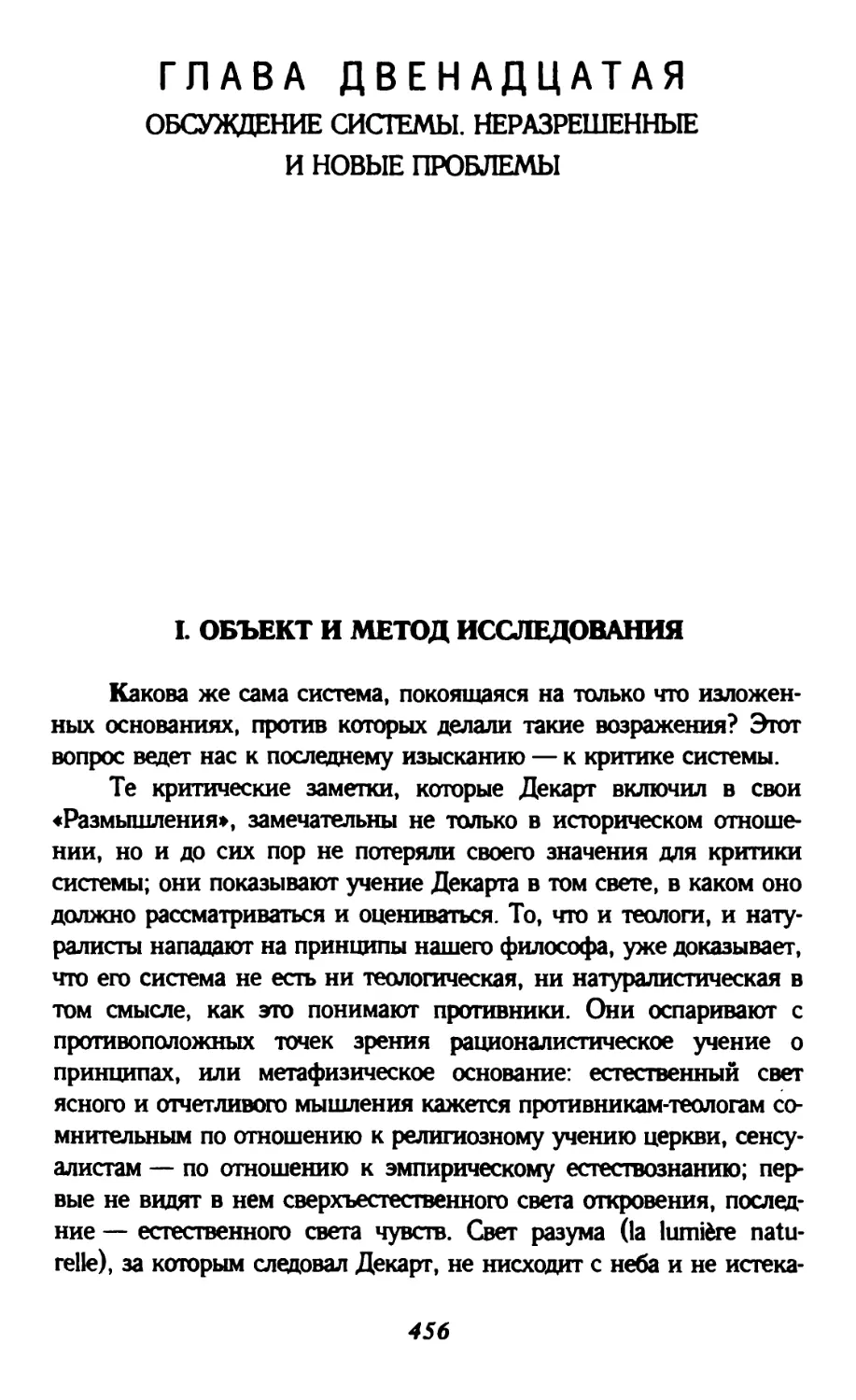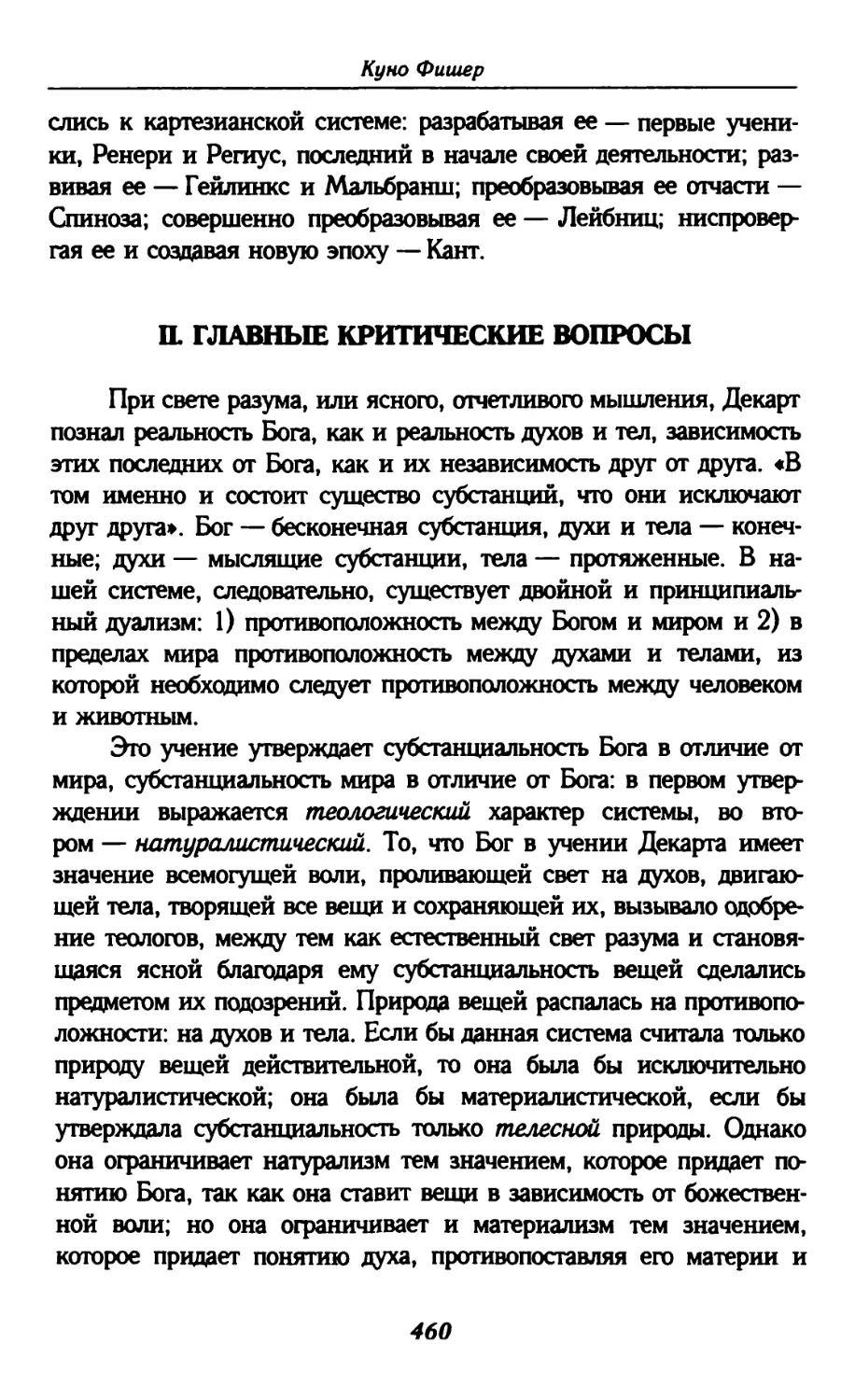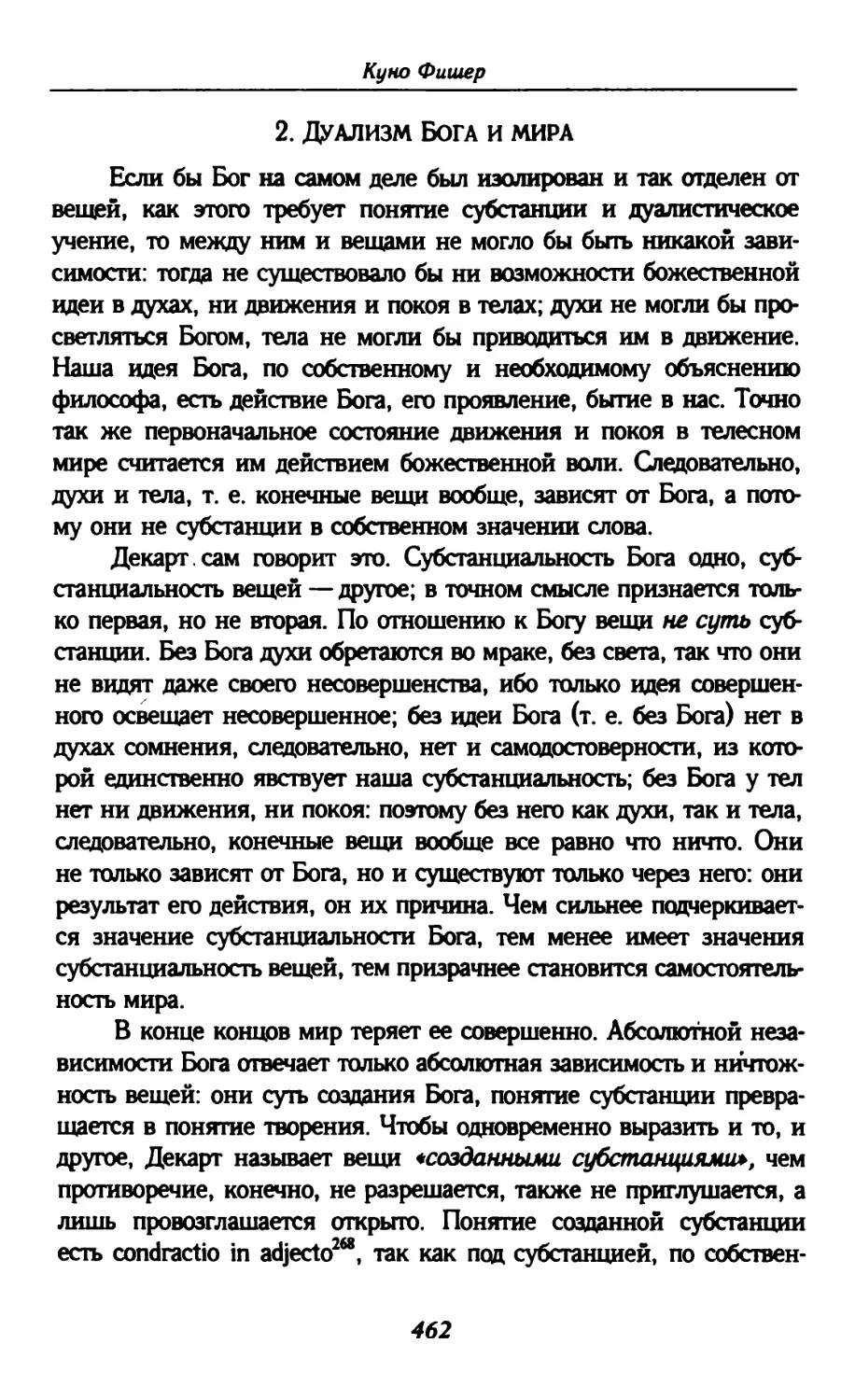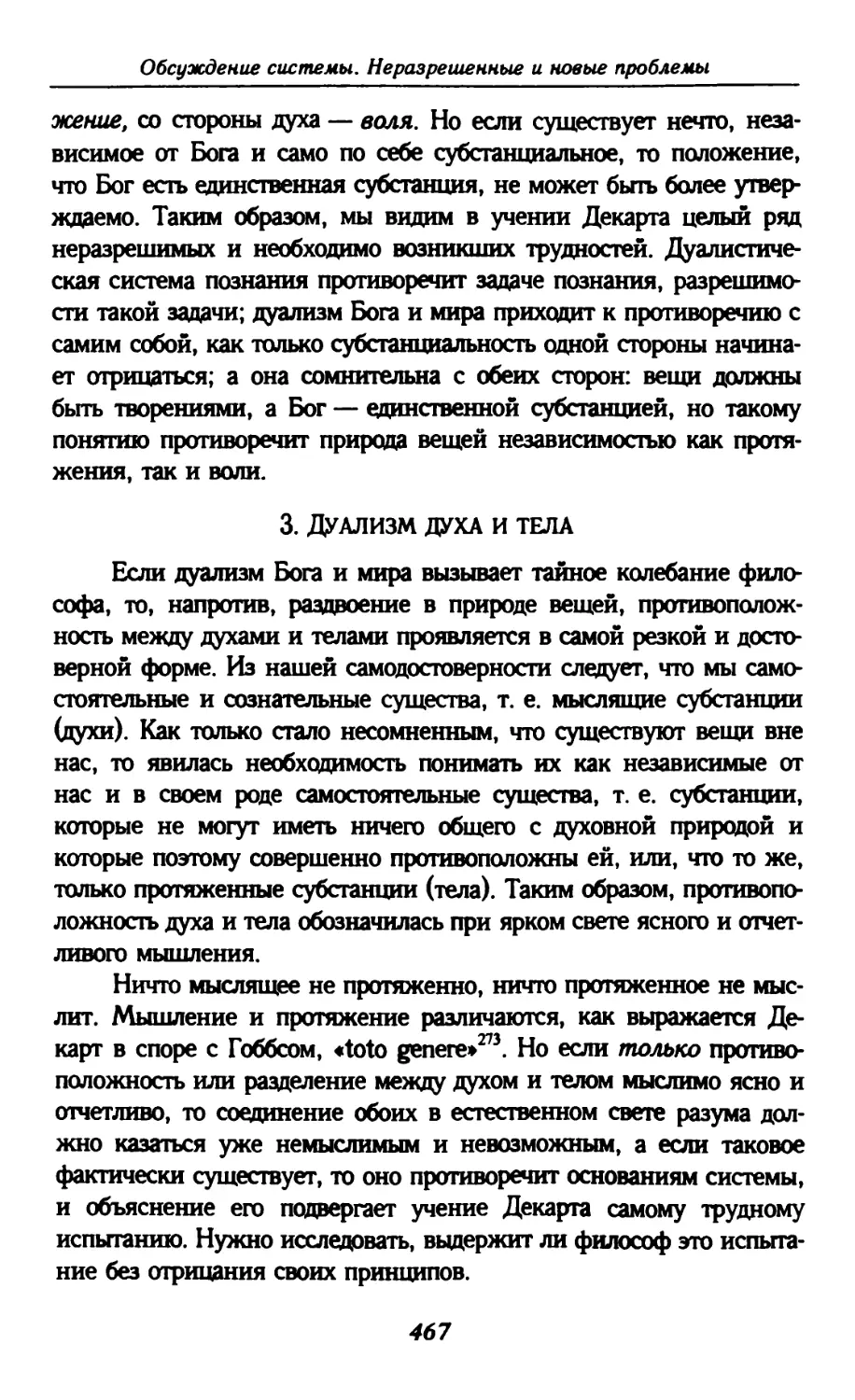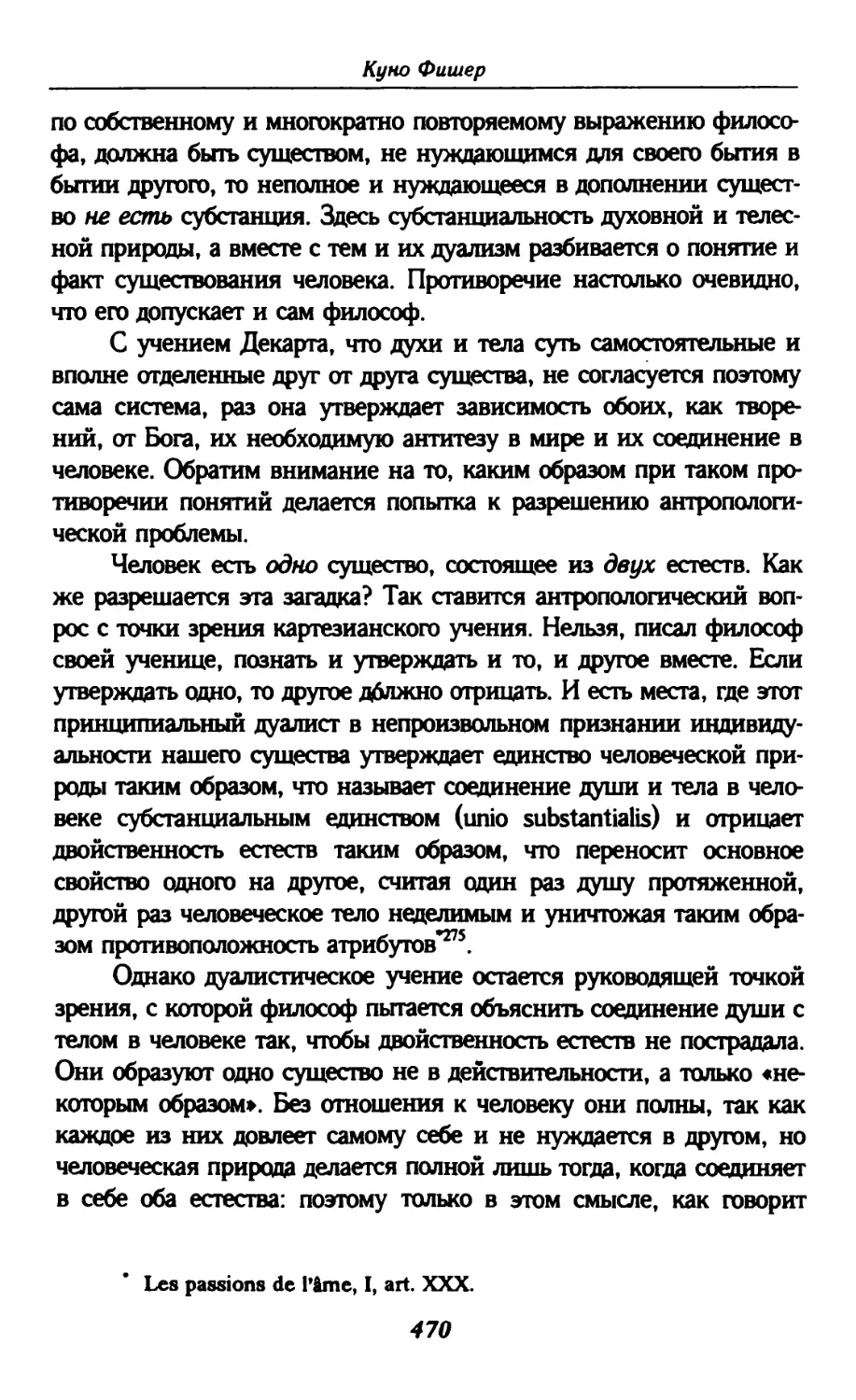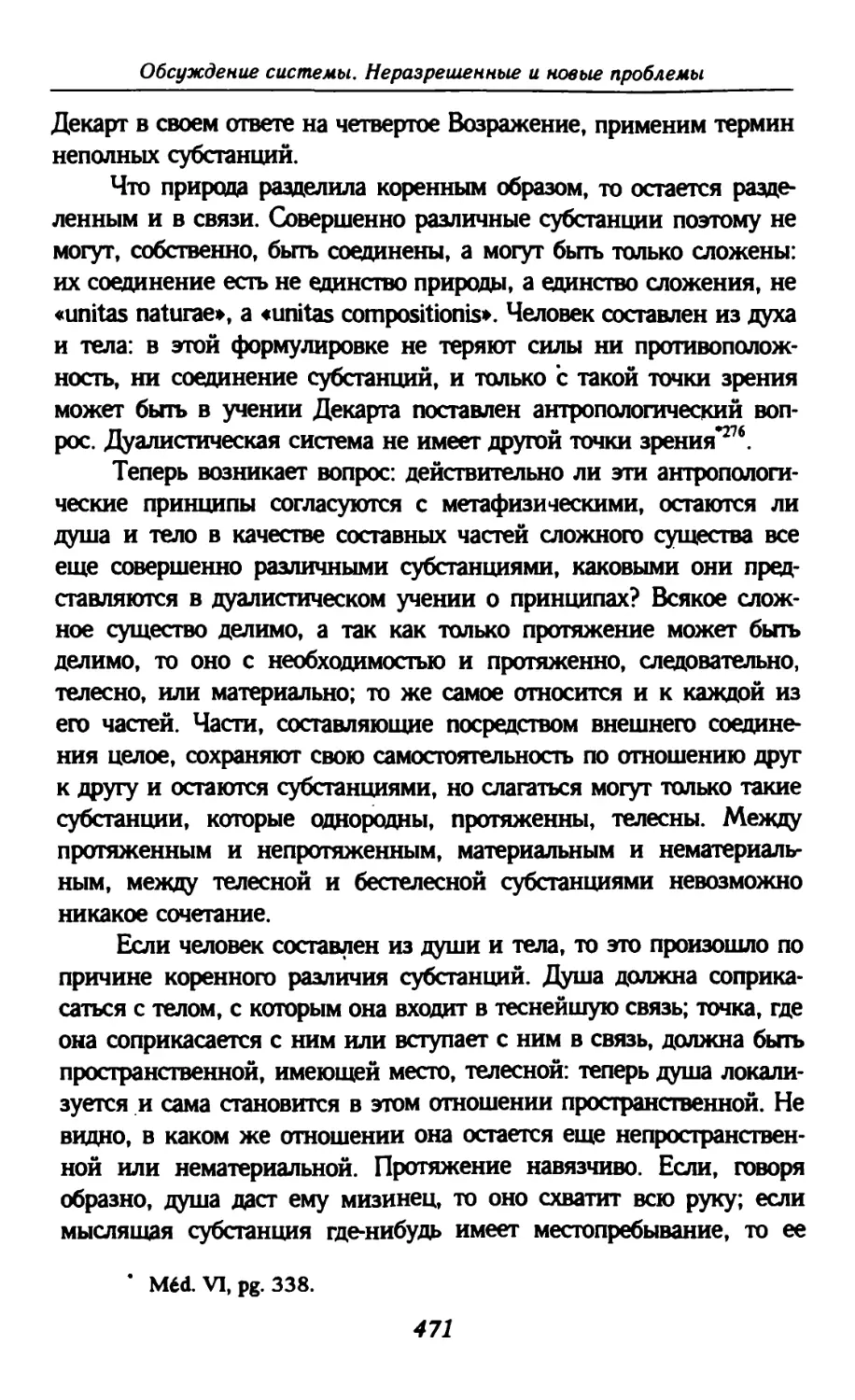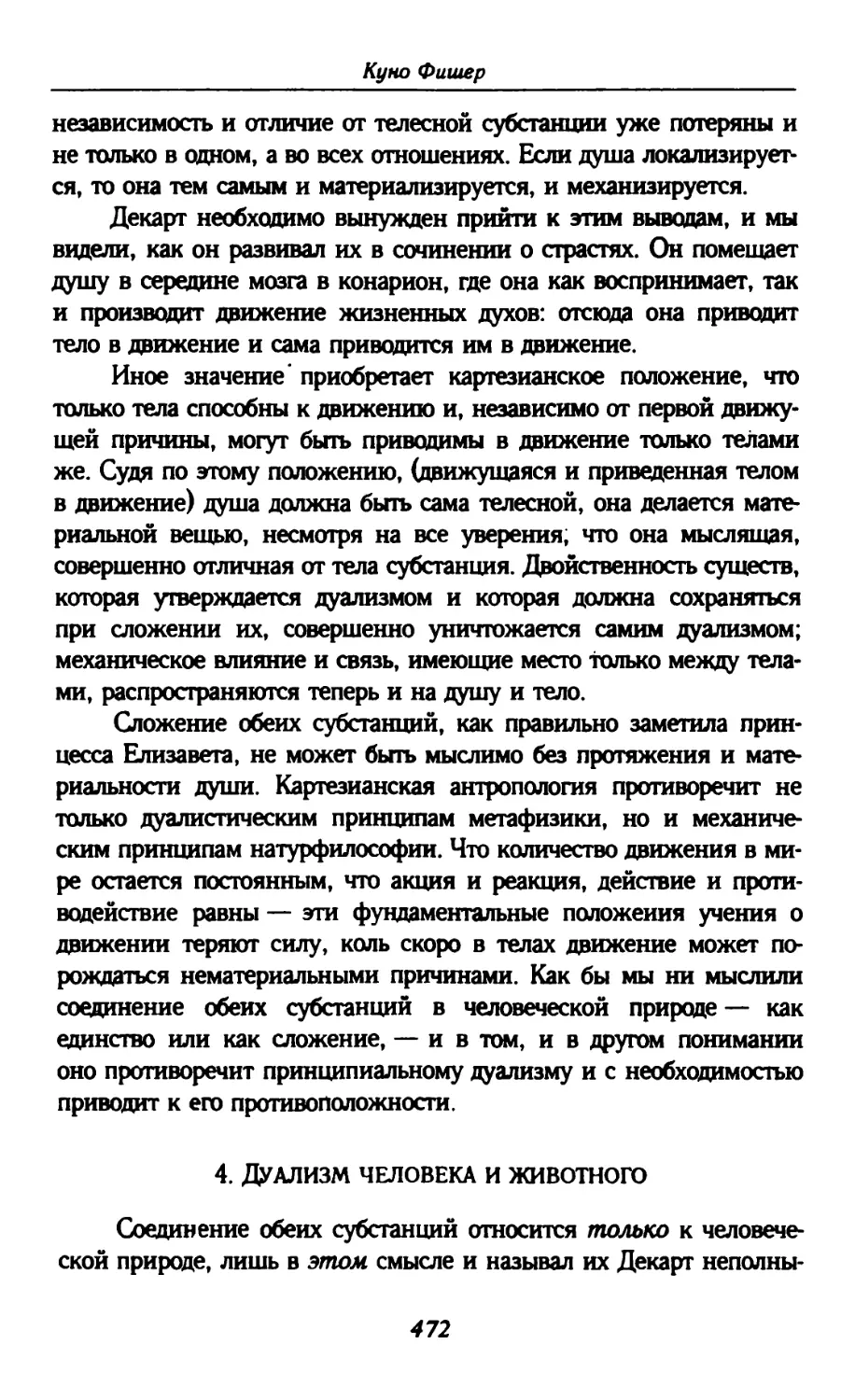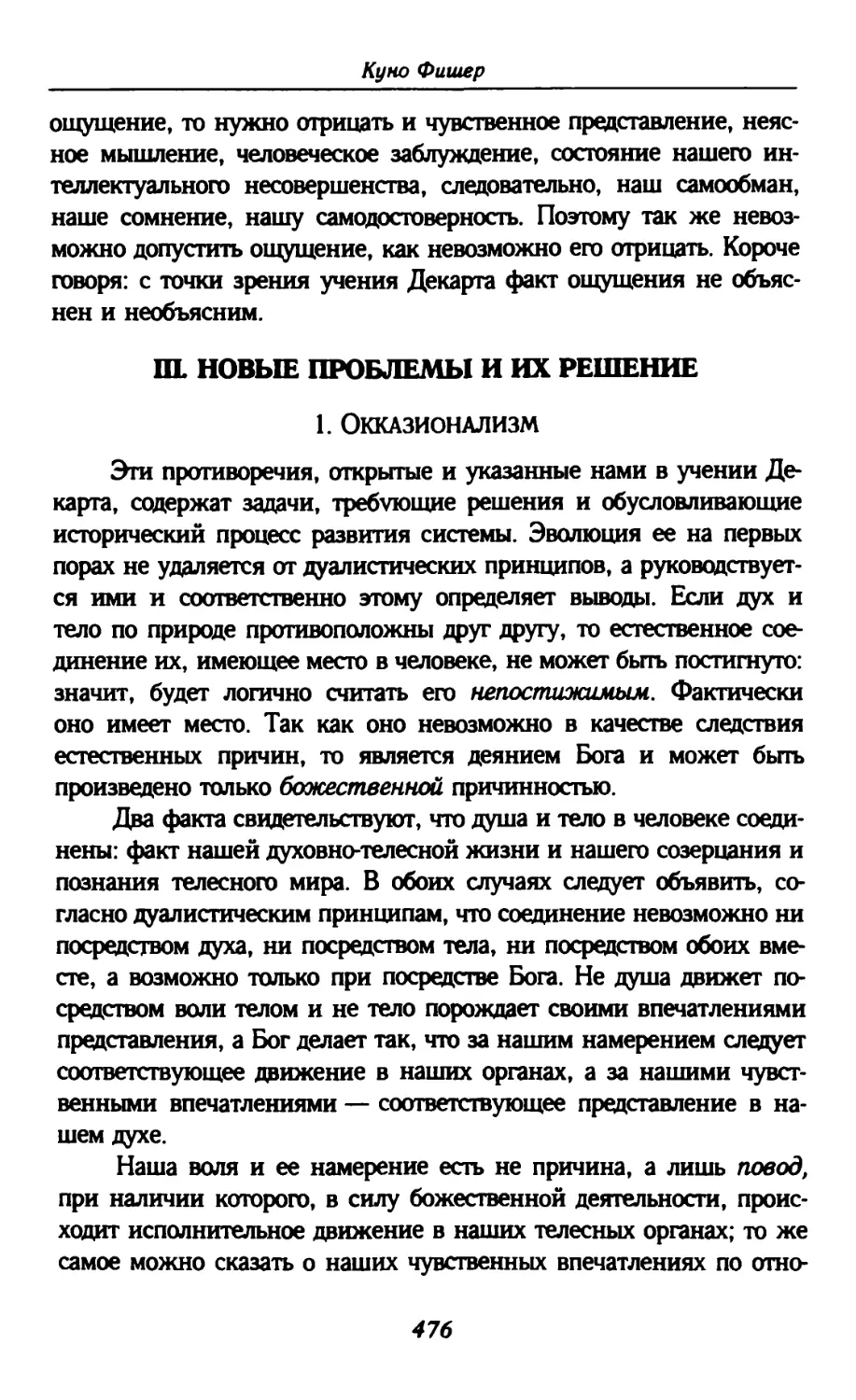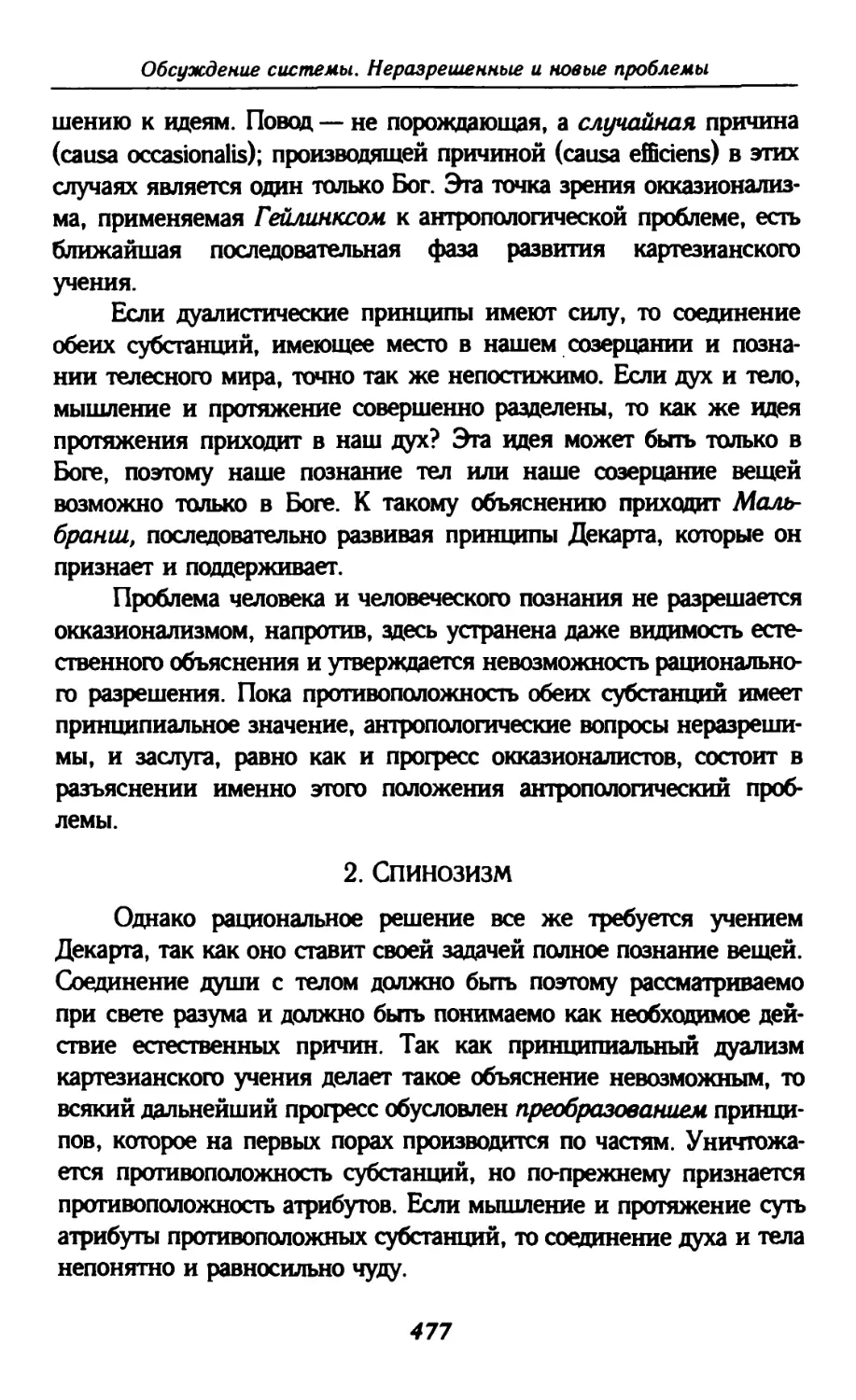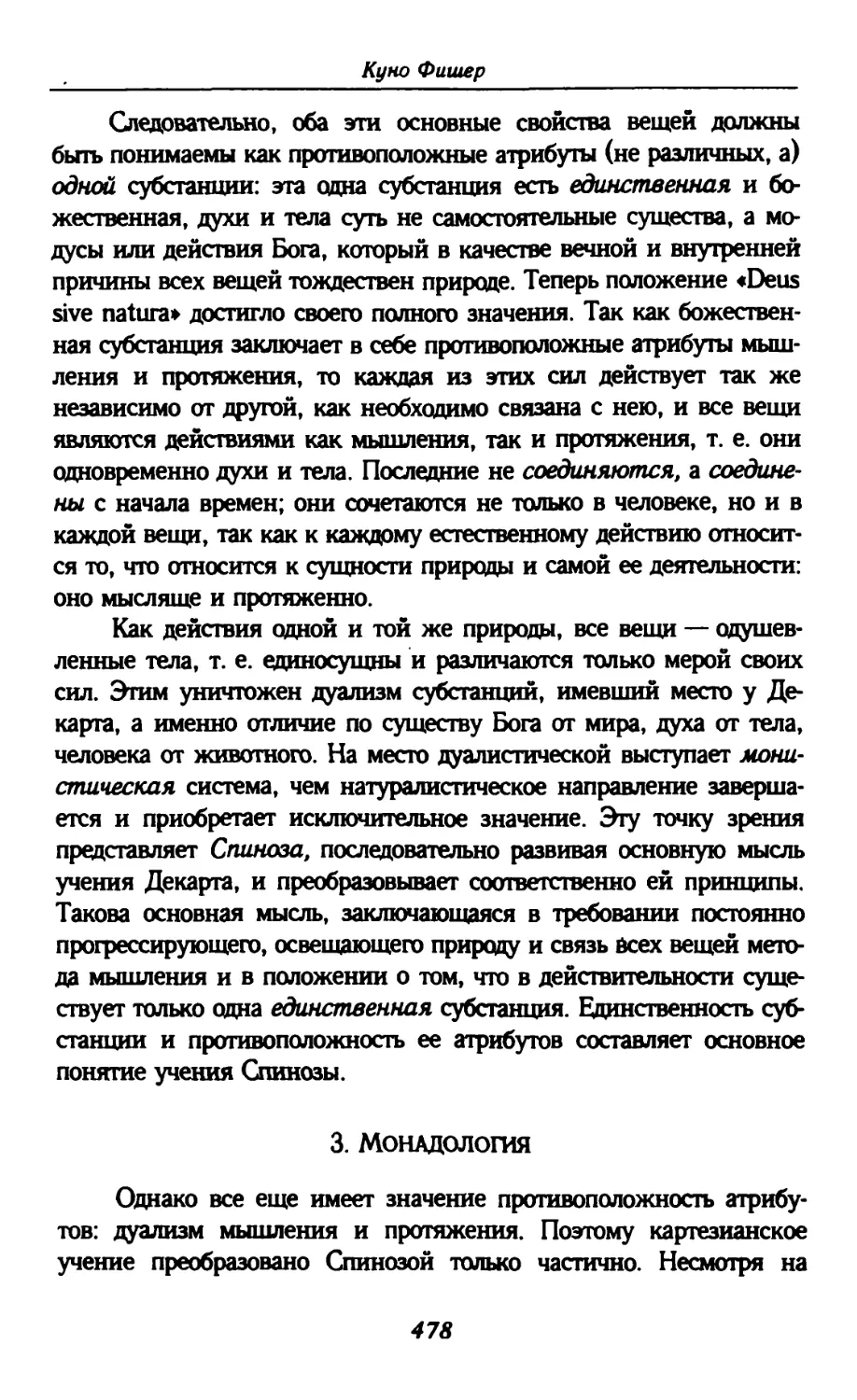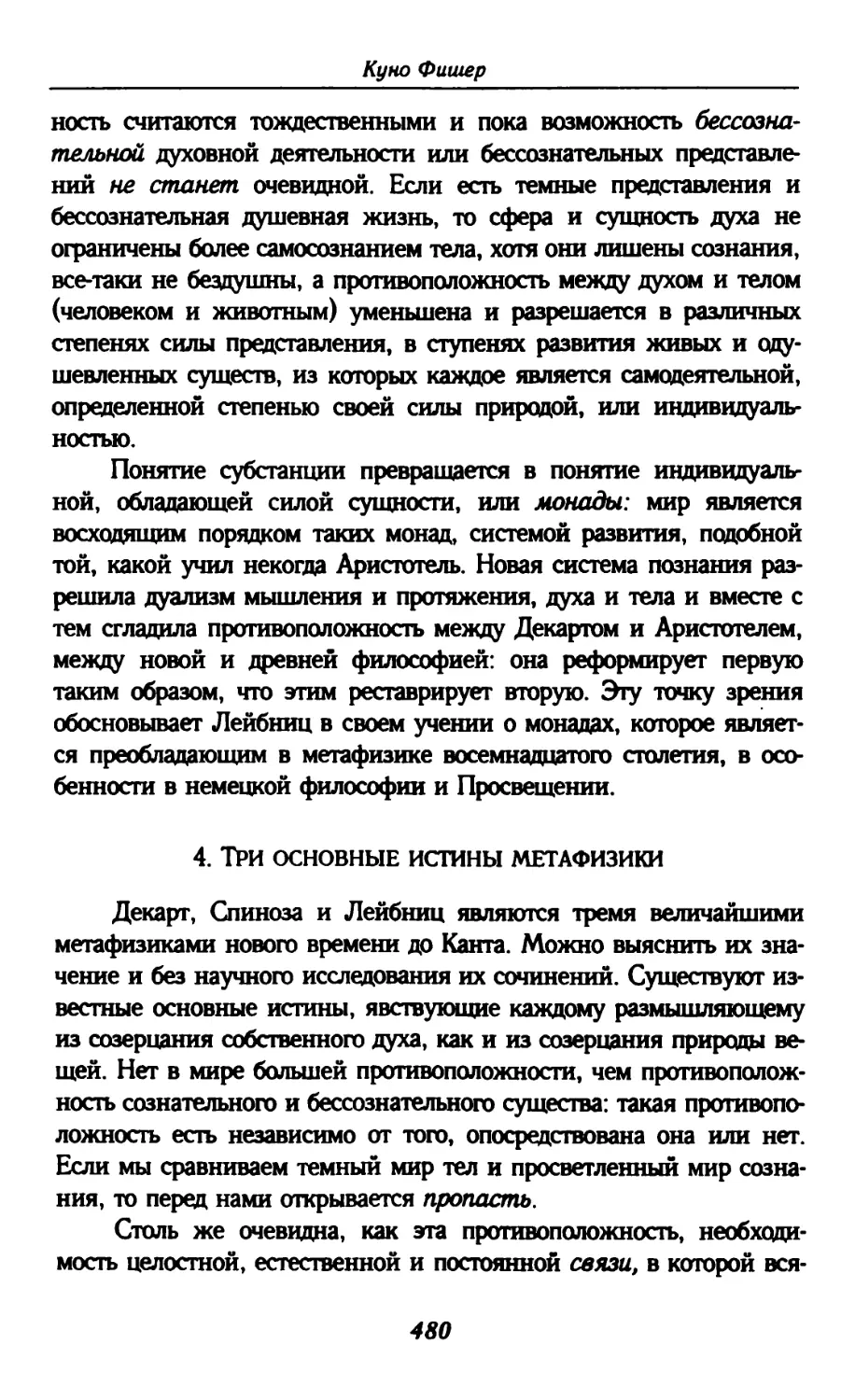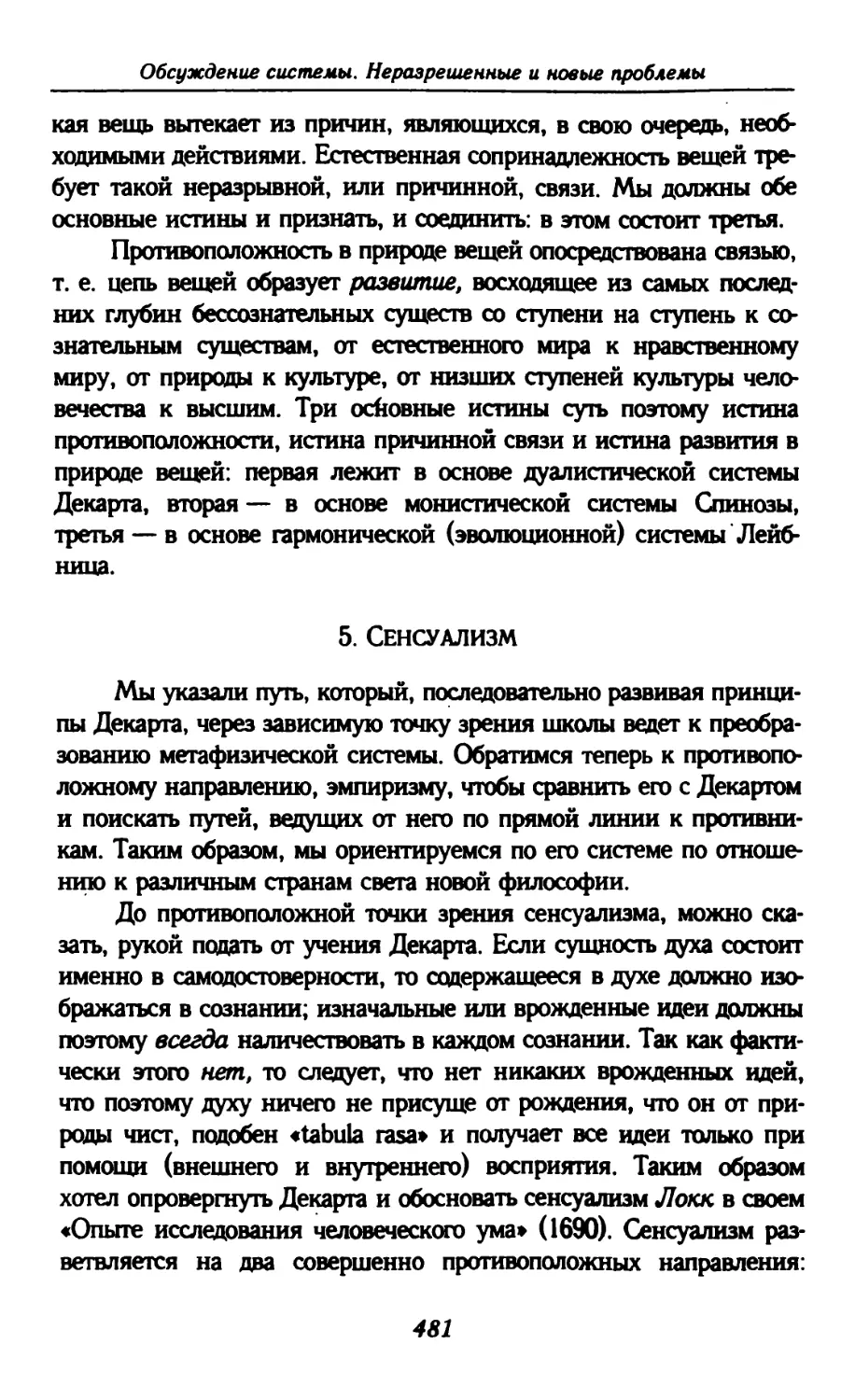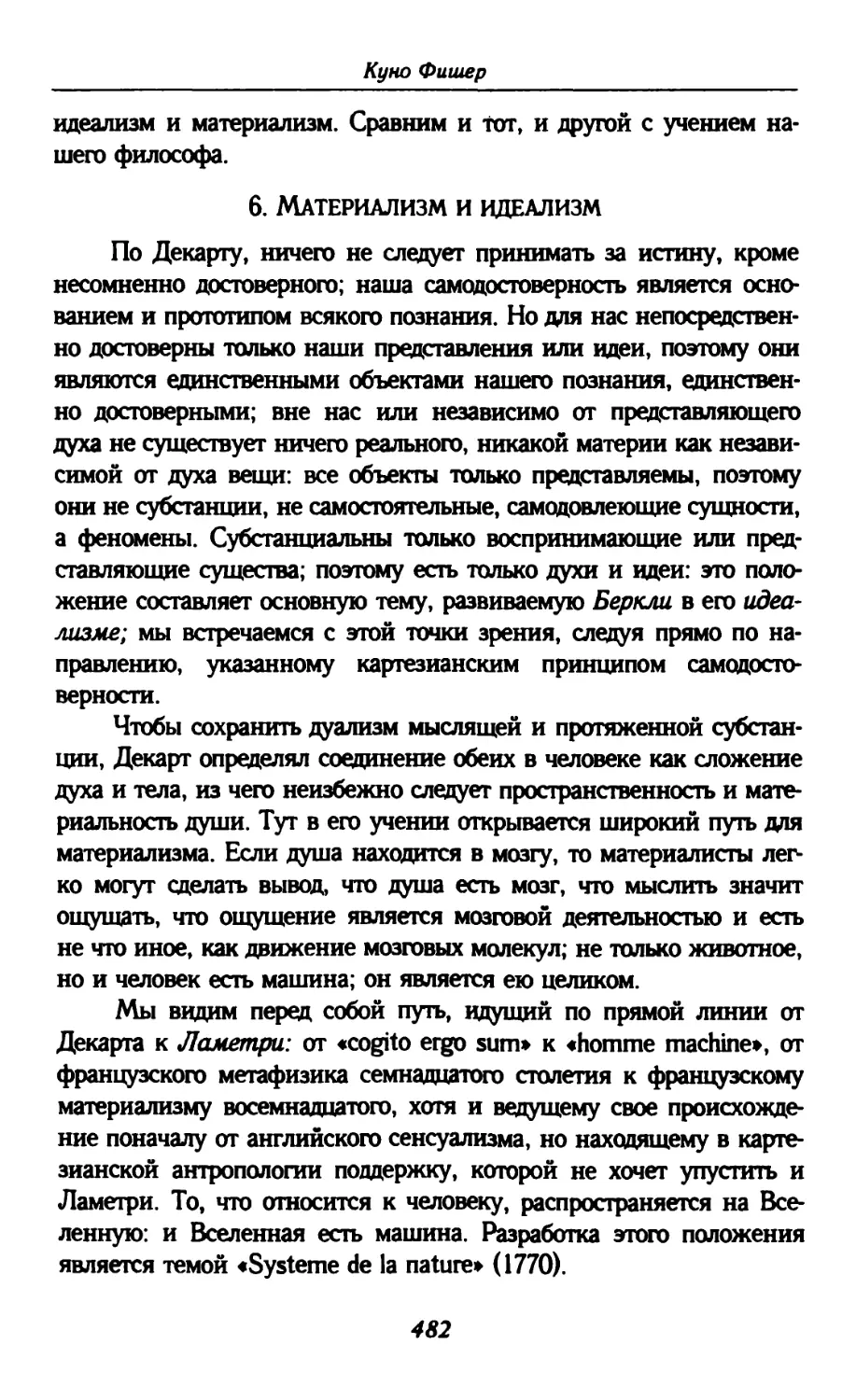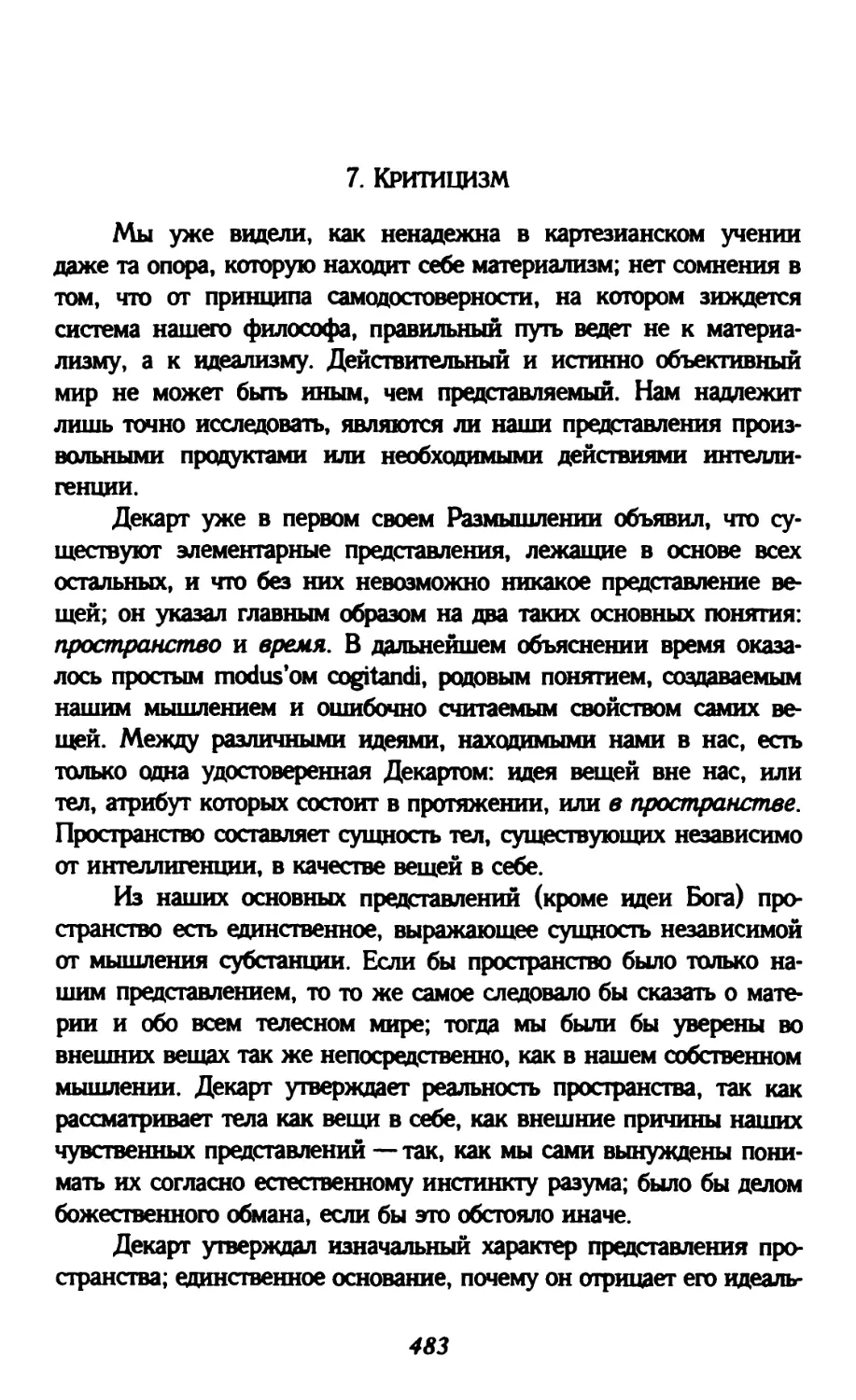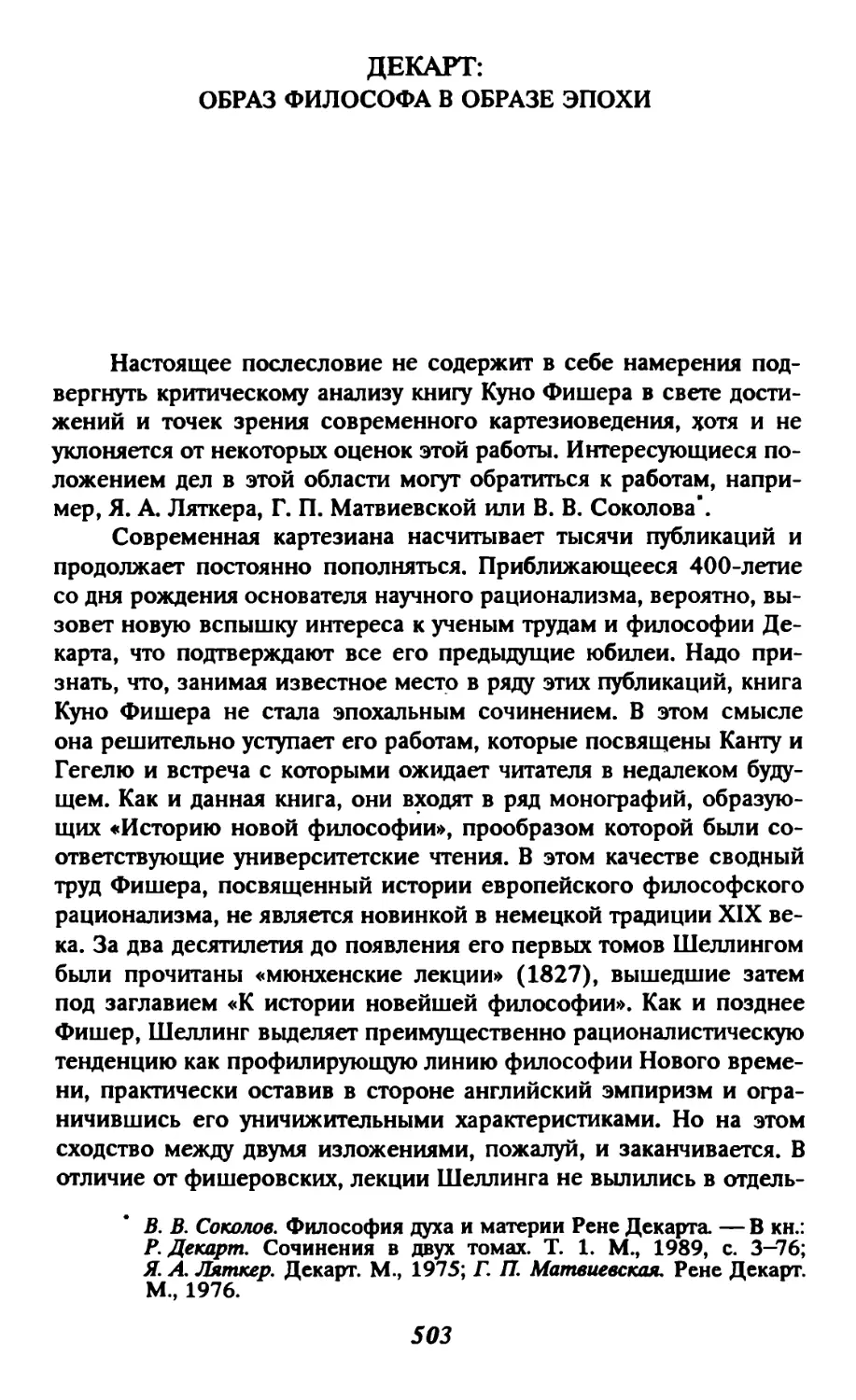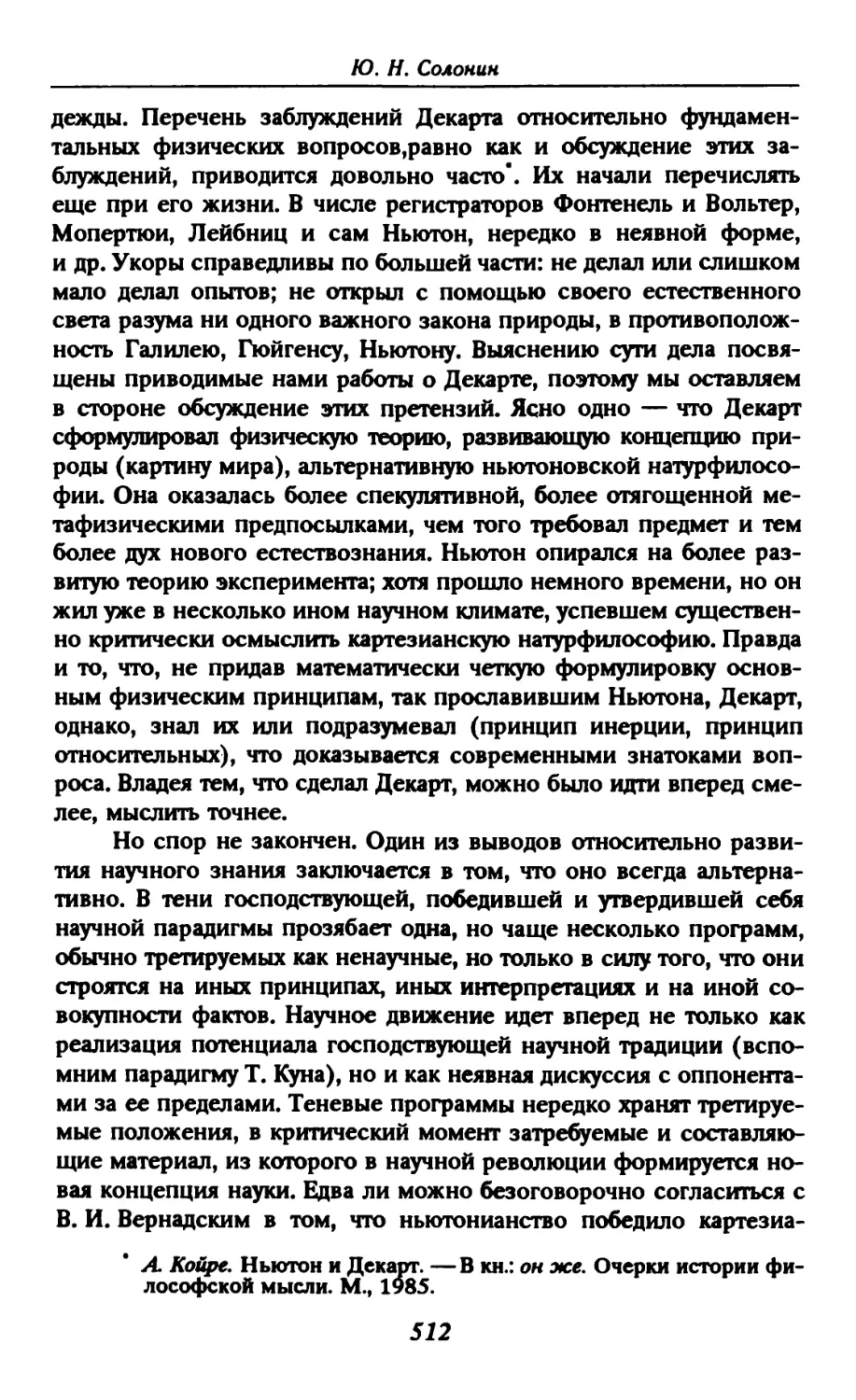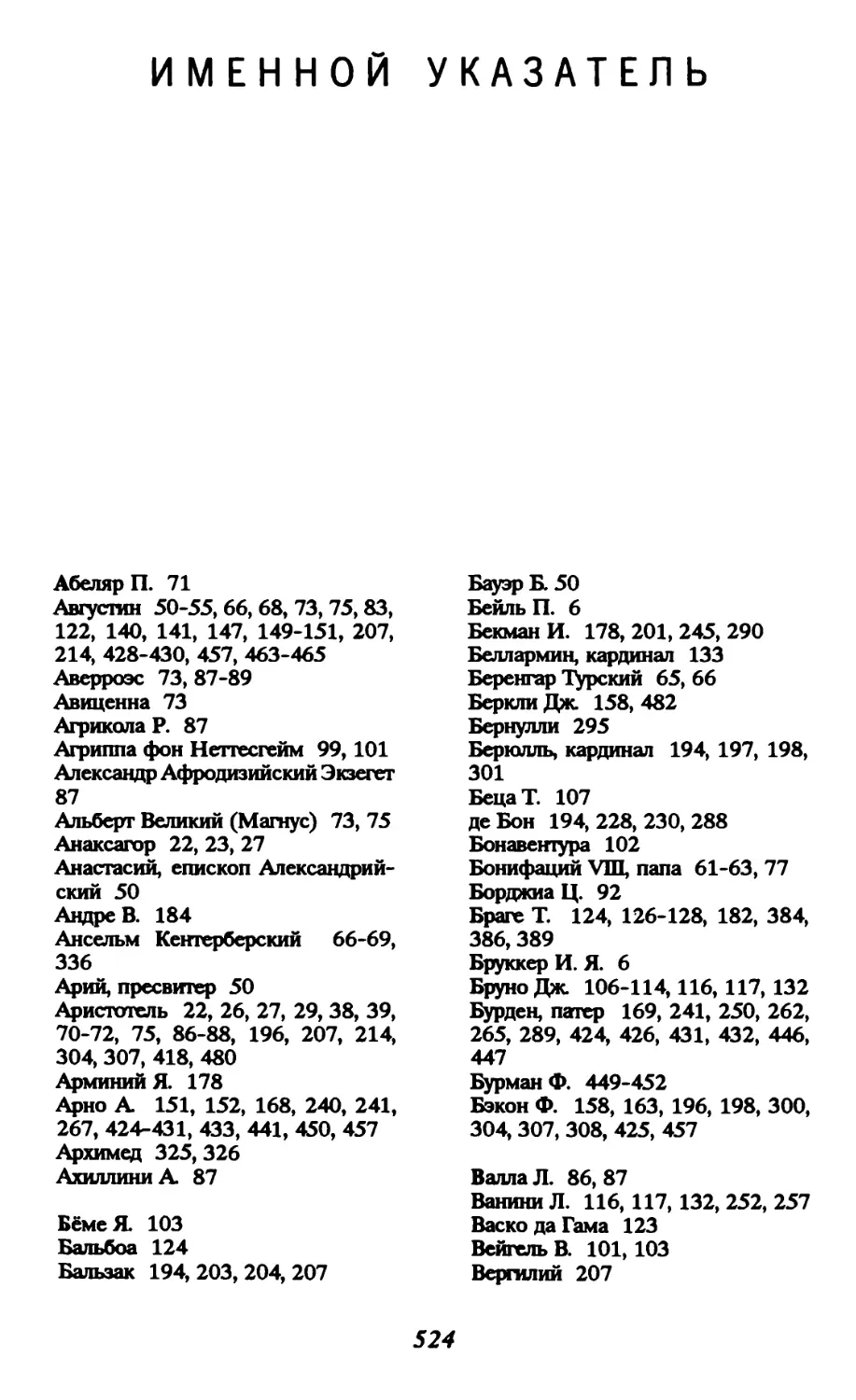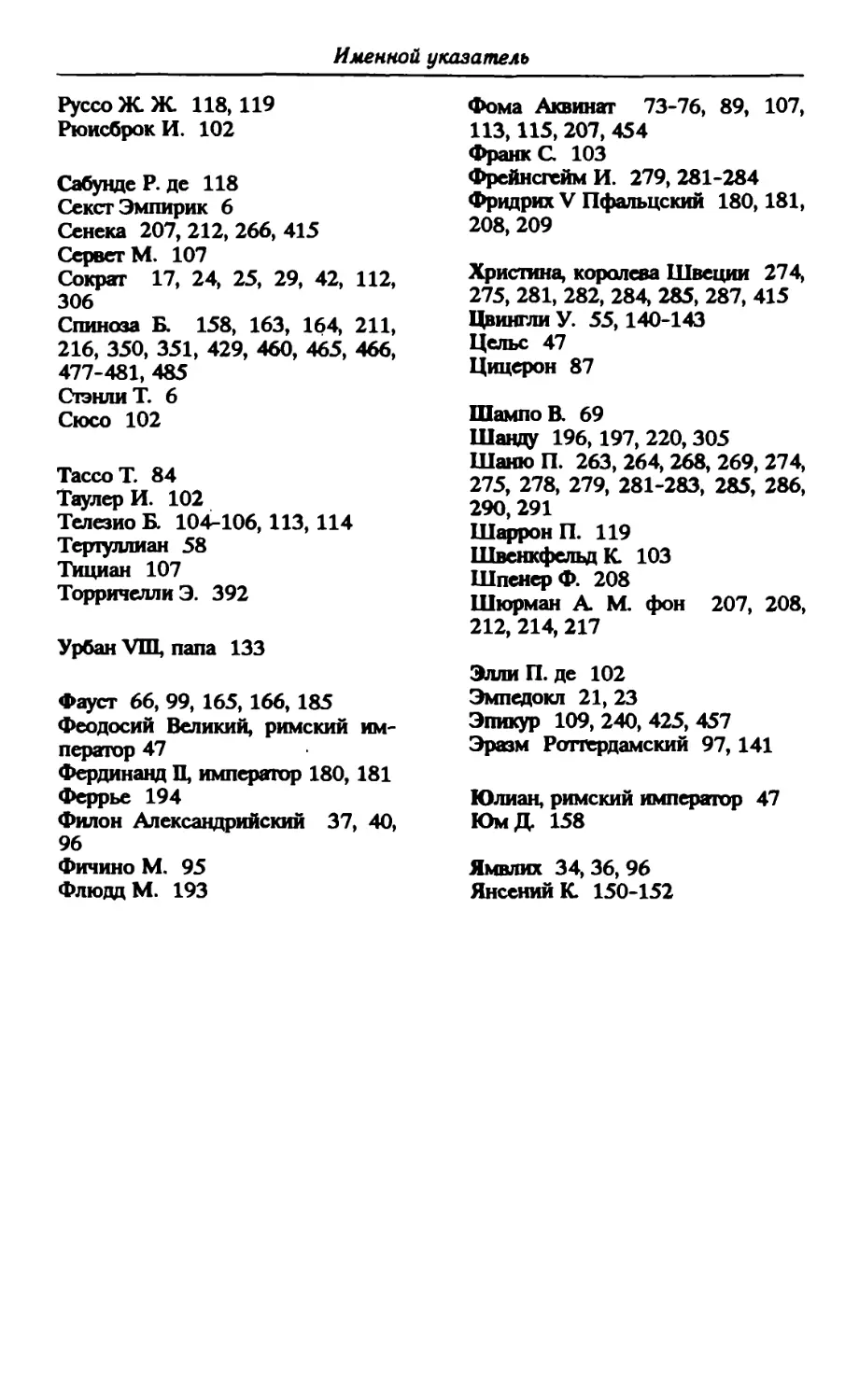Текст
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ КНИЖНОГО ИСКУССТВА
"ЧИСТОЕ ПОЛЕ"
КУНО ФИШЕР
ИСТОРИЯ новой
ФИЛОСОФИИ
БЭКОН • ДЕКАРТ • СПИНОЗА
ЛЕЙБНИЦ • КАНТ • ФИХТЕ
ШЕЛЛИНГ • ГЕГЕЛЬ
ШОПЕНГАУЭР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ КНИЖНОГО ИСКУССТВА
"ЧИСТОЕ ПОЛЕ"
КУНО ФИШЕР
ИСТОРИЯ новой
ФИЛОСОФИИ
ДЕКАРТ
его жизнь,
СОЧИНЕНИЯ И УЧЕНИЕ
МИФРИЛ 1994
Фишер, Куно
История Новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения
и учение. — СПб.: Мифрил, 1994. — 560 с.
Книгой «Декарт: Его жизнь, сочинения и учение» издательство
«Мифрил» начинает переиздание классического труда Куно
Фишера (1824—1907) — его знаменитой «Истории Новой философии»,
включающей в себя помимо монографии о Декарте
фундаментальные жизнеописания и изложения философских систем Бэкона,
Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и
Шопенгауэра. В первой части книги дан панорамный обзор развития
философии с момента ее возникновения в Древней Греции до конца XVI
века, во второй наряду с творческой биографией Р. Декарта
подробно освещены источники (научные, философские, культурные,
религиозные, социально-политические и т. д.) и условия
трансформации европейской мысли, имевшей своим итогом возникновение
новой науки и новой философии.
Книга является классическим образцом историко-философской
литературы и представляет несомненную ценность как для
специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся
историей философии. Завершается работа по подготовке к печати
монографий К. Фишера о Фихте и Канте.
ISBN 5-86457-006-0 (т. 1)
ISBN 5-86457-005-2
О А Б. Рукавишников, предисловие, комментарии, 1994
О Ю. Н. Солонин, послесловие, 1994
С А. Г. Наследников, оформление, 1994
Научный редактор
А. Б. Рукавишников
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
XV
■
ВВЕДЕНИЕ
В НОВУЮ ФИЛОСОФИЮ
ГЛАВА П ЕРВАЯ
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК НАУКА
3
ГЛАВА ВТОРАЯ
ХОД РАЗВИТИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
16
I. МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА 18
1. Материя и форма 18
2. Мировой процесс 19
3. Материя и образование мира. Дуализм 20
П. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ г 22
1. Софистика 22
2. Сократ 24
3. Платон 24
4. Аристотель 26
Ш. ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ 27
Стоики, эпикурейцы и скептики 27
IV. РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА 31
1. Религиозный платонизм 31
2. Идея логоса 37
3. Идея логоса и мессианская идея 39
V
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ХРИСТИАНСТВО И ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
42
I. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО 42
II. ЦЕРКОВЬ 44
III. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ 47
1. Проблемы 47
2. Учение Августина 51
IV. ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ. АРЕОПАГИТ 55
ГЛАВА ЧЕТВЕ РТАЯ
ХОД РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
57
I. ЗАДАЧА 57
П. ЭПОХА ЦЕРКВИ 59
Ш. ОСНОВАНИЕ СХОЛАСТИКИ 64
1. Иоанн Скот Эриугена 64
2. Ансельм Кентерберийский 66
IV. ХОД РАЗВИТИЯ СХОЛАСТИКИ 68
1. Реализм и номинализм 68
2. Платоновский и аристотелевский реализм 71
3. «Суммы» и системы 74
4. Фома Аквинат и Иоанн Дуне Скот 75
5. Уильям Оккам. Разложение схоластики 77
глава п ятАЯ
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
80
I. ГУМАНИЗМ 80
П. ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС И ЕГО РАЗВИТИЕ 82
1. Неолатинский ренессанс 85
2. Аристотелевский ренессанс 87
3. Политический ренессанс 90
4. Итальянский неоплатонизм и теософия 94
5. Магия и мистика 98
ГЛАВА Ш Е СТАЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ НАТУРФИЛОСОФИЯ
104
1. Д. Кардано. Б. Телезио. Фр. Патрицци 104
2. Джордано Бруно 106
3. Т. Кампанелла 112
VI
СКЕПСИС КАК ПОСЛЕДСТВИЕ РЕНЕССАНСА 116
1. Л. Ванини 116
2. Мишель де Монтень 117
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ВЕК РЕФОРМАЦИИ
121
I. НОВОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ 121
1. Исторический горизонт 121
2. Географический кругозор 122
3. Космографические представления.
Коперник и Тихо Браге 124
4. Галилео Галилей 128
5. Иоганн Кеплер и Исаак Ньютон 129
6. Изобретения 131
II. ЦЕРКОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ КОПЕРНИКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 131
1. Спор , 131
2. Инквизиция и Галилей 132
3. Процесс и подлог 134
Ш. РЕЛИГИОЗНАЯ РЕФОРМАЦИЯ 135
1. Протестантизм 135
2. Контрреформация и иезуиты 143
3. Янсенизм 150
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ХОД РАЗВИТИЯ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ
155
I. ЗАДАЧА 155
II. ЭПОХА НОВОЙ ФИЛОСОФИИ 157
1. Догматизм 157
2. Критицизм 159
КНИГА ПЕРВАЯ
ЖИЗНЬ
И СОЧИНЕНИЯ ДЕКАРТА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЛИЧНОСТЬ ДЕКАРТА И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ
163
I. ЕГО НАТУРА 163
П. ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА (1596-1612) 166
VII
ГЛАВА ВТО РАЯ
ВТОРОЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ (1612-1628): ГОДЫ СТРАНСТВИЙ.
А. СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ И ГОДЫ ВОЙНЫ (1612-1621)
174
I. ВСТУПЛЕНИЕ В СВЕТ 174
П. ВОЕННАЯ СЛУЖБА В ГОЛЛАНДИИ (1617-1619) 176
Ш. ВОЕННЫЕ ГОДЫ В ГЕРМАНИИ (1619-1621) 179
1. Походы 179
2. Нейбургское уединение. Внутренний кризис 182
3. Эпоха перелома 189
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
в. путешествия и вторичное
ПРЕБЫВАНИЕ В ПАРИЖЕ (1621-1628)
192
ГЛАВА ЧЕТВЕ РТАЯ
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ (1629-1650). ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА.
А. ПРЕБЫВАНИЕ В НИДЕРЛАНДАХ
199
I. «ГОЛЛАНДСКОЕ ЗАТВОРНИЧЕСТВО» 199
П. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В НИДЕРЛАНДАХ 206
1. Образование 206
2. А. М. фон Шюрман 207
3. Пфальцграфиня Елизавета 208
ГЛАВА ПЯТАЯ
В. СОЗДАНИЕ И ВЫПУСК В СВЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
219
I. СОЧИНЕНИЕ ПО КОСМОЛОГИИ 219
1. Его план 219
2. Разработка сочинения и препятствия к ней 224
II. ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 230
1. Мотивы издания 230
2. Метафизические сочинения 236
ГЛАВА Ш ЕСТАЯ
С НАЧАЛО ШКОЛЫ. ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ПРОТИВНИКИ
244
I. БОРЬБА В УТРЕХТЕ 244
1. Ренери и Региус 244
2. Гисберт Воэций 246
3. Осуждение новой философии 247
VIII
4. Спор между Декартом и Воэцием 250
5. Исход утрехт-гренингенского спора 255
II. НАПАДКИ В ЛЕЙДЕНЕ 258
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И СОЧИНЕНИЯ В ГОЛЛАНДИИ
261
I. НОВЫЕ ПЛАНЫ И ДРУЗЬЯ 261
1. Поездки во Францию 261
2. Клерселье и Шаню 263
3. Последнее пребывание в Париже 266
II. НОВЫЙ ПРОТИВНИК. ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ 270
1. Измена Региуса 270
2. Последние сочинения 272
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
КОНЕЦ ЖИЗНИ ДЕКАРТА В СТОКГОЛЬМЕ
274
I. ПРИГЛАШЕНИЕ КОРОЛЕВЫ 274
1. Христина Шведская 274
2. Философские письма 275
3. Приглашение и путешествие в Стокгольм 281
II. ДЕКАРТ В СТОКГОЛЬМЕ 284
1. Пребывание в Стокгольме и положение при дворе 284
2. Болезнь и смерть 286
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ОБЩИЙ ОБЗОР ТРУДОВ И СОЧИНЕНИЙ
288
I. СОЧИНЕНИЯ, ИЗДАННЫЕ САМИМ ДЕКАРТОМ 288
1. Философские 288
2. Полемические 289
II. ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ДЕКАРТА СОЧИНЕНИЯ
И OPERA POSTUMA 290
1. Сочинения, принадлежащие частным лицам 290
2. Потерянные сочинения 290
3. Сочинения, изданные Клерселье 291
4. Собрание оставшихся сочинений 292
Ш. ИЗДАНИЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 293
1. Коллективные издания 293
2. Приведение в порядок писем 293
3. Дополнения 294
IX
КНИГА ВТОРАЯ
УЧЕНИЕ ДЕКАРТА
ГЛАВА П ЕPBАЯ
НОВЫЙ МЕТОД ФИЛОСОФИИ. ПУТЬ К СИСТЕМЕ
299
I. ИСТОЧНИКИ МЕТОДОЛОГИИ 299
1. Тема 299
2. Методологические посмертные сочинения.
Критические вопросы 300
П. ЛОЖНЫЕ ПУТИ ПОЗНАНИЯ 302
1. Недостаток знания 302
2. Недостаток метода 303
ш. путь к истине 305
1. Задача знания 305
2. Метод истинной дедукции 306
3. Универсальная математика
Аналитическая геометрия 309
4. Энумерация или индукция. Интуиция 312
ГЛАВА ВТО РАЯ
НАЧАЛО ФИЛОСОФИИ: МЕТОДИЧЕСКОЕ СОМНЕНИЕ
316
I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОБЪЕМ СОМНЕНИЯ 316
1. Традиция школы 316
2. Человеческий самообман 317
П. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОМНЕНИЕ 321
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПРИНЦИП ФИЛОСОФИИ И ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ
324
I. ПРИНЦИП ДОСТОВЕРНОСТИ 324
1. Собственное мыслящее бытие 324
2. Правило достоверности.
Дух как самый ясный объект 326
II. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ 328
1. Представление существа вне нас 328
2. Принцип причинности 330
3. Идея Бога 331
X
ГЛАВА ЧЕТВЕ РТАЯ
БЫТИЕ БОГА, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ САМОДОСТОВЕРНОСТЬ
И БОГОДОСГОВЕРНОСГЬ
333
I. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА 333
1. Причина идеи Бога 333
2. Идея Бога как врожденная идея 335
3. Доказательства онтологического
и антропологического характера 336
4. Антропологическое доказательство
как основание онтологического 337
Ш. САМОДОСТОВЕРНОСТЬ И БОГОДОСТОВЕРНОСТЬ 341
1. Достоверность нашего несовершенства 341
2. Идея совершенного и ее иэначальность 343
3. Иэначальность, реальность и истинность Бога 344
ГЛАВА ПЯТАЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ. УМ И ВОЛЯ.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВОБОДА
346
I. ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК ВИНА ВОЛИ 346
1. Факт заблуждения 346
2. Воля и ум 347
3. Вменяемое в вину неразумие 348
п. воля к истине 349
1. Предотвращение заблуждения 349
2. Низшая и высшая свобода воли 351
3. Свобода от заблуждения 352
ГЛАВА Ш ЕСТАЯ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ ДУХОМ И ТЕЛОМ.
ПЕРЕХОД К НАТУРФИЛОСОФИИ
354
I. СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ ВЕЩЕЙ 354
1. Бытие тел 354
2. Субстанции. Бог и вещи 357
3. Атрибут и модус 358
П. АТРИБУТЫ ВЕЩЕЙ 359
1. Ложные атрибуты 359
2. Главный источник наших заблуждений
и многочисленность их 362
XI
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
НАТУРФИЛОСОФИЯ. А. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРИНЦИП ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ
365
I. ПРОТЯЖЕНИЕ КАК АТРИБУТ ТЕЛ 365
1. Тело как предмет мышления 365
2. Тело как пространственная величина 368
П. ТЕЛЕСНЫЙ МИР 370
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
НАТУРФИЛОСОФИЯ. В. МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ
371
I. ДВИЖЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ФЕНОМЕН ТЕЛЕСНОГО МИРА 371
1. Движение как модус протяжения 371
2. Движение как перемена места 372
II. причины движения 375
1. Первая причина и количество движения 375
2. Вторичные причины движения,
или законы природы 376
Ш. ГИДРОМЕХАНИКА. ТВЕРДЫЕ ТЕЛА И ЖИДКИЕ 381
1. Различие их 381
2. Твердое тело в жидком 382
3. Небо и Земля. Движение планет.
Гипотеза вихрей 383
4. Пустота и атмосферное давление 390
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
СВЯЗЬ МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ. СТРАСТИ ДУШИ.
ЕСТЕСТВЕННАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
393
I. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 393
1. Значение и объем проблемы 393
2. Кардинальный пункт проблемы 396
3. Страсти как основной феномен
человеческой души 398
II. СВЯЗЬ МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ 399
1. Механизм жизни 399
2. Орган души 402
3. Воля и страсти 404
III. ВИДЫ СТРАСТЕЙ 406
1. Основные формы 406
2. Производные или составные формы 408
IV. НРАВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 414
1. Положительная и отрицательная
ценность страстей 414
XII
2. Ценность удивления 416
3. Свобода духа 419
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ПЕРВОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ.
ВОЗРАЖЕНИЯ И ОТВЕТЫ
423
I. ВОЗРАЖЕНИЯ 423
1. Точки зрения и направления авторов 423
2. Антитезисы и точки соприкосновения 426
3. Пункты нападения 430
II. ОТВЕТЫ 442
1. Против возражения силлогистического
обоснования 442
2. Против материалистических
и сенсуалистических возражений 444
3. Против возражения о нигилистическом сомнении 446
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ЭПИЛОГ К ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ
449
Устные возражения и ответы 449
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ОБСУЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ. НЕРАЗРЕШЕННЫЕ
И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
456
I. ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 456
П. ГЛАВНЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 460
1. Дуалистическая система познания 461
2. Дуализм Бога и мира 462
3. Дуализм духа и тела 467
4. Дуализм человека и животного 472
Ш. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 476
1. Окказионализм 476
2. Спинозизм 477
3. Монадология 478
4. Три основные истины метафизики 480
5. Сенсуализм 481
6. Материализм и идеализм 482
7. Критицизм 483
ПРИМЕЧАНИЯ
487
ПОСЛЕСЛОВИЕ
503
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
524
КУНО ФИШЕР
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
XIX век в Германии, как, пожалуй, никакая другая эпоха в
европейской истории, был богат историко-философскими
исследованиями. Гегель, Л. Фейербах, И. Э. Эрдман, Э. Целлер, К. Фишер,
Ф. А. Ланге, В. Виндельбанд — вот далеко не полный перечень
философов, создавших фундаментальные труды по истории
философии различных эпох. Особенно интенсивно эта работа велась во
второй половине века. У современников часто возникало
ощущение, что этот исторический интерес вызван тупиковой ситуацией в
развитии философии, оскудением ее творческой силы. И в самом
деле, распространенное в то время мнение, что «теперь нет
философии, а есть только история философии», верно отражало
положение дел. Господство на философских кафедрах университетов
позитивизма и естественно-научного материализма,
психологизация философской проблематики оставляли тогда за философией
лишь ее собственную историческую ценность. «Это было время
презрения к философии, когда можно было прослыть неумным и
отсталым, если заниматься ею и видеть в ней нечто большее, чем
полную фантазии определенную душевную потребность
предаваться игре представлений, свойственной каждому народу и каждому
времени, искать в которой научные общезначимые истины —
глупое, безуспешное занятие. Тем не менее историческое изучение
этих стремлений человеческого духа считалось тогда все-таки
предметом, достойным научной работы. Чем бесплоднее была сама
философия, тем более расцветала ее история. В академической и
литературной жизни того времени история философии заняла
необычайно большое место», — писал Вильгельм Виндельбанд,
характеризуя роль философии в духовной жизни Германии того
времени'.
В. Виндельбанд. Философия в немецкой духовной жизни XIX
столетия. М., 1993, с. 66.
XV
А. Б. Рукавишников
Но мы допустили бы ошибку, если бы удовлетворились только
таким объяснением положения дел. Интерес к
историко-философским исследованиям зарождается в пору наиболее продуктивного
философского творчества, в период расцвета немецкого
классического идеализма. Уже для романтиков принципиальным идеалом
философского творчества была выработка нового в процессе
сознательного усвоения всех великих приобретений человечества в
прошлом. Глубокое и наиболее полное развертывание эта идея
получила у Гегеля, увидевшего в исторически сменявших друг друга
философских доктринах ступени последовательного приближения
к истинной философии.
Гегель первым указал на необходимость и разумность
преемственной смены философских систем. По его мнению, каждая из
них развивает одно из определений особенного, соединить
которые в связную теорию и представить как единое целое стало
задачей его логики. С этой точки зрения история философии
представляется как общий, целостный взгляд на историческое движение
философской мысли. Завершающая, последняя философская
система рассматривалась Гегелем как необходимый результат всего
предшествующего развития философии, и поэтому она в истории
философской мысли должна найти собственное оправдание.
Гегелевская идея прогрессивного развития философской мысли,
постигающего истину в собственной истории, имела своим
результатом становление истории философии как науки и быстро
распространившийся в академических кругах интерес к историко-
философским исследованиям.
К середине XIX века эта идея среди историков философии
становится практически общепризнанной, ею руководствуются в
своих исследованиях как сторонники, так и противники
гегелевской системы. В рамках же гегелевской школы история
философии постепенно превращается в особый, чуть ли не
самостоятельный раздел философии, претендующий на роль не просто общей
пропедевтики, а теоретического введения в разработку
философских проблем. Осуществление такого рода претензии ставило
перед исследователями довольно трудные задачи: требовалось
критически осмыслить великое множество факторов — политических,
экономических, литературно-художественных научных,
религиозных и т. д., — влиявших на философские доктрины. Гегелевские
же «Лекции по истории философии», в которых была блестяще
изложена логика философского развития, даже его учениками и
сторонниками не могли быть приняты за образец написания истории
XVI
Куно Фишер: биографический очерк
философии: для реалистического мышления XIX века
конструирование истории философии с несколько произвольным отношением
к Историческим фактам и зачастую искусственным истолкованием
философских учений в интересах целостности концепции
выглядело занятием подозрительным и неплодотворным в научном
плане. Не подвергая ни малейшему сомнению историко-философскую
концепцию, то есть собственно идею Гегеля о необходимой и
преемственной связи философских систем, его ученики И. Э. Эрдман,
Э. Целлер, К. Фишер и другие нацеливают свои усилия на
адекватную, по их мнению, реализацию этой идеи, а именно на
фактологически точное и логически непротиворечивое воспроизведение
диалектического и исторического развития философии.
Наиболее выдающихся результатов на этом пути добились
Эдуард Целлер" и Куно Фишер, создавшие фундаментальные
труды по истории древней и новой философии. На их работах было
воспитано не одно поколение студентов-философов. И до сего дня
их «Истории» не утратили своей значимости, оставаясь
классическими образцами воссоздания развития философской мысли.
Особое место в немецкой духовной культуре XIX столетия занимает
Куно Фишер. Его более чем полувековая литературная и
педагогическая деятельность, преследующая цель через воспроизведение и
актуализацию философских доктрин прошлого реабилитировать в
глазах современников саму философию, принесла ему известность
и славу Философа. «Именно ему, писателю и преподавателю,
немцы обязаны тем, что философия в Германии после Гегеля (в
60-70-х гг. XIX в. —А. Р.) вновь получила свое признание»".
■
Куно Фишер родился 23 июля 1824 года в местечке Грос-
Зандевальд в Силезии. Отец его был лютеранским священником,
став впоследствии суперинтендантом.
Уже в гимназические годы наряду с историей и филологией
Фишера интересует философия. Поступив в Лейпцигский универ-
Основные труды Э. Целлера (1814-1908) посвящены истории
античной философии. Его «Философия греков», написанная в
1844—1852 гг. и составляющая в обработке В. Нестле 6 томов
(издание начато в 1923 г.), до сих пор остается незаменимым
пособием, в котором критико-филологические принципы
исследования сочетаются с историко-философскими.
Neue deutsche Biographie. Bd. 5. Berlin, 1961.
XVII
А. Б. Рукавишников
ситет, он изучает языки и богословие. Однако эти предметы не
вытесняют его интереса к философии, он все более и более
проникается идеей изучить ее систематически. В 1844 году он переезжает
в Галле, где в это время И. Э. Эрдман читает курсы гегелевской
философии. Глубокие, позволяющие понять сущность гегелевской
системы лекции Эрдмана подтолкнули Фишера к окончательному
выбору — основательно изучить философию. Не оставляя занятий
богословием и филологией в чисто практических целях (ведь они
могли дать в будущем не отягощенному состоянием молодому сту-
диозису средства к существованию), Фишер увлеченно штудирует
системы великих философов. В 1847 году он с успехом защищает
докторскую диссертацию о «Пармениде» Платона («De Platonico
Parmenide»). По свидетельству В. Виндельбанда, уже тогда
22-летний соискатель блеснул ясностью взглядов, причем отличился
глубокими познаниями не только в философии, но и в истории.
После защиты диссертации Фишер некоторое время жил в
родительском доме, а затем поступил воспитателем в одно из
богатых семейств Пфорцгейма. Работа оставляла достаточно времени
для занятий философией. Вскоре он публикует свое первое
крупное произведение «Диотима, идея прекрасного» (1849), в котором,
используя широко распространенный тогда эпистолярный стиль,
излагает основные принципы гегелевской эстетики. Здесь
сказалось также влияние на Фишера идей немецкого Просвещения и
романтизма.
С осени 1850 года начинается его преподавательская
деятельность — он становится приват-доцентом Гейдельбергского
университета по кафедре философии. Молодой приват-доцент начал
читать одновременно логику, метафизику и историю философии.
Чтение этих курсов с самого начала сопровождал большой успех.
От семестра к семестру росла слава Фишера как блестящего
лектора. В это же время он интенсивно работает над новыми книгами. В
1852 году выходит в свет «Система логики и метафизики, или Нау-
коучение», в которой он излагает свои систематические взгляды на
философию. В том же году он публикует «Чтения по истории
новой философии», ставшее прообразом его многотомной «Истории
новой философии».
В 1853 году преподавательская деятельность Фишера
неожиданным образом прервалась: приказом министра просвещения Ба-
денского правительства многообещающий приват-доцент был
отстранен от преподавания. Эта история получила тогда очень
широкую огласку, и личность Фишера стала на некоторое время предме-
XVIII
К у но Фишер: биографический очерк
том участливого внимания всей просвещенной Германии. Суть
«дела Фишера» заключалась в том, что его коллега, профессор
теологии, церковный советник Даниэль Шенкель усмотрел в
«Чтениях по истории новой философии» проповедь пантеизма. В
Германии того времени этого обвинения было вполне достаточно,
чтобы в церковных и государственных кругах прослыть человеком
подозрительным. В постановлении высшего церковного совета по
этому поводу Фишер был представлен как пропагандист крайне
опасных заблуждений и атеист. И, несмотря на единодушную
поддержку со стороны коллег по философскому факультету,
реакционно настроенный министр фон Вехмар «отрешил» Фишера от
должности.
Свой вынужденный отдых Фишер полностью посвятил
научным и литературным занятиям. Успеху этих занятий во многом
способствовало его гейдельбергское окружение. Штраус, Герви-
ниус, Шлоссер, Гейссер, с которыми он завязал дружеские
отношения, оказали плодотворное влияние на его духовное развитие.
Особенно близок он был с опальным Давидом Фридрихом
Штраусом, автором знаменитой «Жизни Иисуса». В это время одна за
другой выходят книги Фишера, посвященные крупнейшим
философам Нового времени — Декарту, Спинозе, Лейбницу, Бэкону.
Литературные и научные заботы не заглушают интереса
Фишера к непосредственному общению с публикой, стремления к
преподавательской кафедре. В 1855 году он хлопочет о приеме в
приват-доценты Берлинского университета. Философский
факультет во главе с Тренделенбургом (тем самым Фридрихом Адольфом
Тренделенбургом, который в 60-70 годы будет вести с Фишером
серьезную полемику по поводу интерпретации кантовской
философии) соглашается на это. Но прошло около двух лет, прежде чем
этот вопрос официально был решен в пользу Фишера — да и то
только после вмешательства прусского короля Фридриха
Вильгельма IV, на которого оказал воздействие А. Гумбольдт. Правда,
воспользоваться этим решением Фишеру не пришлось. В 1857 году
он получил приглашение стать ординарным профессором в Йен-
ском университете, где успешно продолжил преподавание
философских дисциплин. В это не самое лучшее для философии время,
когда немецкие студенты в основной своей массе к ней
относились равнодушно, самая большая аудитория Йенского
университета, в которой читал свои курсы новый профессор, не вмещала всех
желающих слушать его лекции. Такого интереса к философским
XIX
А. Б. Рукавишников
дисциплинам йенские студенты не проявляли со времен Шиллера,
Фихте и Рейнгольда.
Слава о лекциях Фишера широко распространяется по
немецким университетам. Многие иностранцы, изучавшие философию в
Германии, стремились послушать его. Вот что писал о своих
впечатлениях от его лекций российский стажер М. И. Каринский:
«В Германии он известен как профессор, отличающийся
блистательными способностями преподавания. Действительно, мне
никогда доселе не удавалось слышать с кафедры такую живую,
свободную и при этом ясную и изящно обработанную речь, какую я
слышал, посещая чтения Фишера; за то его аудитория, самая
большая в Йенском университете, всегда была полна слушателей.
Фишер читал древнюю историю философии. Его изложение
отличается той же особенностью, какой отличаются все его
историко-философские сочинения. Уметь схватить самую существенную мысль
философа, поставить ее в живую непосредственную связь со
всеми частностями его учения, стараться представить все развитие
системы до мельчайших подробностей, как развитие мысленно
необходимое, и при этом, излагая и разъясняя мысли того или
иного философа, вполне сливаться с ними своею мыслью, как бы
совсем предаваться излагаемому предмету, — все эти черты так же
отличают устое преподавание Куно Фишера, как отличают они его
сочинения: на слушателя действуют они еще сильнее, чем на
читателя»*.
Помимо чтения лекций по метафизике, логике, истории
философии, эстетике Фишер продолжает осуществление своего
грандиозного замысла: он публикует книги о Канте, Фихте, Шеллинге,
переиздает ранее опубликованные.
После пятнадцатити лет преподавания в Йенском
университете он неожиданно для себя получает приглашение в... Гейдельбер-
гский университет, откуда 19 лет назад был изгнан. Приглашение
это последовало после того, как Э. Целлер, его друг и
единомышленник, переходя на философский факультет Берлинского
университета, на свое место в Гейдельберге как самого достойного
преемника рекомендовал Баденскому правительству Куно Фишера.
Авторитет последнего в ученых кругах был очень высок, к этому
времени изменилась и интеллектуальная атмосфера в Германии,
поэтому правительство не колеблясь последовало рекомендации
Э. Целлера, и Фишер с почетом возвратился на свою первую ка-
М. И. Каринский. Критический обзор последнего периода
германской философии. СПб., 1873, с. 106.
XX
Куно Фишер: биографический очерк
федру. Политические круги, по-видимому стараясь загладить
причиненную некогда обиду, осыпали философа необычными для
университетского профессора почестями. Фишер был награжден
многочисленными орденами, имел чин действительного тайного
советника, ему был даже присвоен титул Exellenz. И нужно заметить, что
сам Фишер весьма охотно принимал эти почести и ревниво
относился к своим чинам и титулам, по поводу чего в университетских
кругах ходило много анекдотов.
6 Гейдельберг Фишер вернулся как корифей философии,
известный и блестящий лектор и как автор к тому времени уже
многотомной «Истории новой философии». До самой смерти он не
покидал его, несмотря на то, что Берлинский университет не
только охотно принял бы его, но был бы польщен его согласием на
переход. Эту верность Гейдельбергу чрезвычайно ценили как его
коллеги, так и горожане, гордившиеся своим философом. Сам же
Фишер почивать на лаврах не собирался.
В 1877 году он завершает работу над своей «Историей...»,
большую часть книг которой к этому времени уже переиздает. В
Гейдельберге основное время у него занимает преподавание —
его прямое призвание. «Прирожденного властителя кафедры»
(В. Виндельбанд) по-прежнему отличает авторитетность тона,
полная ясность мысли, живость и образность изложения. Он никогда
не держал перед собой каких-либо записей, даже листка с
цитатами, тем не менее их точность можно было не проверять.
Отношение студентов к своему кумиру было просто благоговейным. В
связи с его семидесятилетием они устроили в Гейдельберге
грандиозное факельное шествие.
Здесь Фишер значительно расширяет тематику своих лекций,
помимо философских курсов читает историю немецкой
литературы, уделяя основное внимание Лессингу, Гете, Шиллеру,
романтикам. Особенно его привлекает фигура Шиллера. Результатом этих
лекционных курсов были публикации книг о Шиллере, Лессинге,
Гете\
В 1897 году, когда немецкая университетская общественность
торжественно отмечала пятидесятилетие Doctorat'a, т. е. собственно
преподавательской деятельности Фишера, ему было предложено
издать в наиболее полном и заново отредактированном виде
«Историю новой философии». Несмотря на уже почтенный возраст, он
Schillers Schriften. Heidelberg, 1891-1892; G. E. Lessing als
Reformator der deutschen Literatur. Stuttgart, 1881; Goethes Schriften.
Heidelberg, 1888.
XXI
А. Б. Рукавишников
с энтузиазмом принял это предложение и за несколько лет
подготовил юбилейное издание, написав специально для него большой,
в двух частях том о Гегеле. Десятитомная «История новой
философии» вышла в 1897-1904 годах и стала последним прижизненным
изданием.
В 1906 году Фишер оставил кафедру, уйдя на пенсию. Через
год, 5 июля 1907 года, немного не дожив до 83-х лет, он умер.
«История новой философии» была широко известна в
Германии, известность Фишеру еще при жизни она принесла и в
Европе: многие тома этого труда были переведены на иностранные
языки. Следует отметить, что особенный интерес она вызывала у
российских издателей и, соответственно, у российского читателя.
Уже в 1862 году Н. Страховым был сделан перевод ее
четырехтомного издания. В последующие годы русское издание постоянно
пополнялось переводами новых томов, появлявшихся в Германии. В
начале нынешнего века группой переводчиков и издателей был
предпринят новый наиболее полный перевод «Истории» с
последнего юбилейного издания. В 1901-1906 годах вышли первые
восемь томов о Декарте, Спинозе, Лейбнице, Канте, Фихте,
Шеллинге и Гегеле, и если учесть, что ранее уже выходили книги Фишера
о Шопенгауэре и Бэконе, то можно сказать, что со своей задачей
переводчики и издатели справились. С тех пор этот труд в России
не переиздавался, хотя спрос на книги Фишера всегда был велик.
Только однажды была предпринята попытка переиздать том,
посвященный Гегелю, но и она окончилась неудачно". В результате к
настоящему времени фишеровская «История новой философии»
стала библиографической редкостью.
Изложение философских учений прошлого у Фишера
подчинено довольно ясной и четкой концепции, позволяющей не только
композиционно строго расположить богатый фактический
материал, но и отчетливо показать общие тенденции развития философии
от одной системы к другой.
Положительная, ценная сторона гегелевского взгляда на
историю философии, равно как и осознание допущенных Гегелем
К. Фишер. Гегель. Его жизнь, сочинения и учение. I полутом.
М.-Л., 1933.
XXII
Куно Фишер: биографический очерк
ошибок при ее изложении образовали ту почву, на которой
сформировалась историко-философская концепция Куно Фишера. В ее
основе лежит мысль об аналогии между индивидуальным
философским развитием и развитием философского сознания
человечества. Во введении к первому изданию «Истории новой
философии» (1853), в дальнейшем несколько переработанном, эта мысль
звучит следующим образом: «Если справедливо, что история есть
человеческая жизнь в больших размерах, то должна быть аналогия
между методом, по которому история развивает истину в
мыслящих умах, и тем методом, по которому мы производим в себе эту
истину. Ступени, которые пробегает история для того, чтобы
произвести философскую систему, должны соответствовать фазам
нашего собственного сознания, когда мы начинаем
философствовать. В макрокосме истории мы найдем эти ступени развития
только в больших и, следовательно, более ясных чертах; мы узнаем их
в превосходнейших примерах и, следовательно, наилучшим
образом. Поэтому большое изображение мы предпочитаем малому, и
как Платон строит государство для того, чтобы найти
справедливость, так и мы будем смотреть на историю философии как на
Пропилеи, которые наилучшим образом введут нас в самое
философию. Конечно, при этом допускается двоякое предположение:
во-первых, что философия совпадает с той ступенью, на которой
она теперь находится, и, во-вторых, что философия идет по
закономерному развитию от одной системы к другой, что системы
следуют друг за другом не случайно, а необходимо... Оба эти
предположения составляют философские спорные точки, и чем
сильнее на них нападали, тем более требуется, чтобы их защитили»'.
Защита вышеназванных предположений у Фишера не
преследует цели придать законченный характер движению философской
мысли за счет признания исключительной истинности гегелевской
системы: «Если я, — пишет он, — саму философию
отождествляю с ее позднейшей системой, то я, однако, далек от того, чтобы
принять догмат, который действительно был принят в этой
системе... Философия столь же мало исчерпывается одной системой, как
искусство — одним художественным произведением, как
религия — одной догматикой, как справедливость — одним
государством. Поэтому я не отождествляю философию с одним из ее
результатов, даже и с самым последним; никакой философской
системы, даже и последней (то есть гегелевской. —А. Р.), я не
признаю свободной от тех ограничений, которые налагает на нее из-
К. Фишер. История Новой философии. Т. 1. М., 1862, с. 2-3.
XXIII
А. Б. Рукавишников
вестное время. Отрешить какую-либо философскую систему от
этих ограничений — значит уничтожить саму историю»'.
Ограниченность той или иной философской системы своим временем
понимается Фишером не как момент, ступень на пути к истине, а как
вполне истинное и полное знание о предмете, каким он сам
является в момент этого знания. «Истина — дочь времени» — этот
бэконовский афоризм, вынесенный Фишером в качестве эпиграфа
к одному из томов своего труда, очень точно характеризует его
отношение к сущности и развитию философского сознания.
Истина об одном предмете всегда одна, а так как история
философии представляет собой ряд разнообразных, сменяющих
друг друга воззрений, то ее понятие, на первый взгляд, содержит в
себе противоречие: ведь история немыслима без преемственности
событий во времени, а философия — без познания истины.
Истинным же является лишь то представление, которое находится в
полном соответствии с вещью и со своим предметом. Если
сосредоточиться на истории, то есть на данных во времени
разнообразных мнениях, то история философии превратится в простую
хронику разнообразных философских воззрений. Это будет история
мнений, зачастую совершенно не связанных между собой, но не
история философии. Если же преимущество отдать философии, то
тогда исследование учений прошлого своей целью будет иметь
исключительно положительное разрешение философских проблем.
В этом случае возникает критический взгляд на движение
философской мысли скептического или эклектического толка, согласно
которому задача истинного познания считается неразрешимой и
существующие системы признаются заблуждением, либо в чисто
практических интересах во всех этих системах признается
известная доля истины, которая недостаточно ясно выражена, не вполне
постигнута и затемнена ложными представлениями. И тот, и
другой подход не соответствуют действительности
историко-философского процесса. «Насколько некритично и лишено смысла такое
повествование, настолько же неисторична и лишена всякой
исторической перспективы такая критика. С односторонней
исторической точки зрения несомненно существует история, но нет
философии, с точки зрения односторонней критики есть философия, но
нет никакой истории»".
Но так ли уж фатален этот разрыв между философией и
историей? Ошибка историков философии прошлого, по мнению Фи-
Там же, с. 3-4.
См. наст, том, с. 5.
XXIV
Куно Фишер: биографический очерк
шера, состоит в том, что в понятия истории и философии они
закладывали препятствия для объединения их в единое понятие
истории философии как науки. Преодоление этих препятствий Фишер
видит на пути уяснения природы истины как предмета
философских устремлений. Истина, по его мнению, не является чем-то
врожденным человеку, не есть некое завершенное представление
о предмете познания. «В человеческом сознании всякое истинное
представление есть нечто образовавшееся, каждая истина имеет
свою историю, без которой она не могла бы осуществляться; эта
история представляет существенный момент в ходе духовного
образования и развития индивидуума»'. Причем в процессе
философского познания не только изменяется представление о
предмете, но и сам предмет — сознание, человеческий дух — проходит
ступени образования. Поэтому «прогрессивный образовательный
процесс может быть постигнут только в прогрессивном
познавательном процессе»". Развивающийся человеческий дух и
выступает тем началом, которое объединяет эти, казалось бы,
совершенно различные понятия — историю и философию. В этом смысле и
философия как самосознание человеческого духа не может быть
ничем, кроме как историей философии.
Таковы основания истории философии как науки, не просто
вводящей в проблематику философских исследований и с
определенной целью воспроизводящей прошлое философии. История
философии отождествляется здесь с собственно философией
благодаря уяснению природы последней как процесса осознания
развивающегося предмета — духа. И поскольку в этом случае
философия понимается как исторически существующая, то и ее история
становится органической частью философского процесса.
Эта гегелевская диалектическая концепция, которой
придерживается Фишер, как уже говорилось ранее, дает большие
возможности для историка философии и в то же время таит в себе
много опасностей, и в первую очередь опасность логизации
философского процесса, когда история, воспринимаемая как эпоха,
становится лишь местом разрешения диалектических
противоречий духа (сознания). Воспринимаемые в сущностных
характеристиках исторические эпохи и в этом случае как бы утрачивают свои
хронологические и топологические черты: факты, события,
реальные процессы, в сумме составляющие данную эпоху,
рассматриваются исключительно с точки зрения ее существенных черт. Это
См. наст, том, с. 7.
См. наст, том, с. 8.
XXV
А. Б. Рукавишников
волей-неволей ведет к деиндивидуализации, обезличению истории,
абсолютизации одной объективной стороны движения
философской мысли. Для Фишера же человеческий дух — это не вне- и
надмировая сущность; человеческий дух — это мы, люди,
существующие в этом реальном мире. Иными словами, «то, что служит
нам объектом, есть наша собственная жизнь, и в то время когда
мы противополагаем ей себя в содержании, мы сами становимся
явлением для себя. Самосознание превращает наше состояние в
наш предмет, и силу, под давлением которой мы жили,
представляет нам в качестве объекта»".
Аналогия между индивидуальным самопознанием и
историческим развитием философии позволяет Фишеру уяснить и
воспроизвести «интимную» сторону философского процесса, а именно:
возникновение тех или иных философских систем понять как
глубоко личностное осознание и разрешение философских проблем,
как результат самосознания творца системы в определенную
историческую эпоху, воздействующую на него всеми элементами.
Мысль о том, что нет ни одной значимой философской доктрины,
свободной от влияния личности ее создателя, позволила Фишеру
исторически конкретизировать процесс самопознания
человеческого духа, то есть показать, как фактически он протекал. Этим
обусловлена и методика написания «Истории новой философии».
Скрупулезнейшее исследование громадного количества фактов
биографии отдельных мыслителей давало возможность Фишеру
наглядно и достоверно показать, как уклад жизни, то или иное
жизненное событие сказывались на восприятии и разрешении ими
философских проблем. Все те малозначительные детали образа
жизни — сколько времени проводил по утрам в постели Декарт,
во что одевался и сколько зарабатывал и тратил Кант, как
относился к еде Гегель и т. п., — которые вроде бы не имеют никакого
отношения к размышлениям философов, для Фишера несут
определенный смысл. Все они отображают структуру
жизнедеятельности конкретной личности, позволяют полнее воссоздать ее
портрет, глубже проникнуть в мир ее чувств и мыслей и тем самым
установить ясную взаимосвязь между системой и ее творцом.
Несомненно, позднейшие историко-философские исследования,
опирающиеся на современные методы (феноменологию,
герменевтику), дают более глубокие, часто противоречащие фишеровским
См. наст, том, с. 13, 14.
XXVI
Куно Фишер: биографический очерк
опыты воспроизведения духовного мира своих персонажей'. Тем
не менее Фишеру нельзя отказать в искусстве входить в образ того
или иного мыслителя, проникнуться, в меру собственного
понимания, его чувствами и мыслями и истолковать его творчество
изнутри, с его же позиций.
Методическая тщательность и критическое осмысление
фактического материала являлись для Фишера главным принципом
при изображении философского процесса. Этот по сути
эмпирический прием часто создавал впечатление извращенного по
сравнению с гегелевским понимания истории философии как сугубо
философской дисциплины. Но для Фишера, по известным уже нам
причинам, он был необходим, и поэтому ему приходилось
постоянно балансировать между «эмпиризмом» и «историцизмом», между
отождествлением духовного мира с физическим (по крайней мере,
по методу изображения) и «логизацией» и деиндивидуализацией
исторически существующего человеческого духа. Этот
методологический «компромисс», собственно, и позволил Фишеру написать
«Историю новой философии», не умаляя достоинства и
уникальности философии и подчинив изображение ее истории
требованиям исторической науки того времени — наглядности и
достоверности.
По редакторским соображениям данный очерк о Куно
Фишере имеет скорее справочный, чем аналитический характер. Вряд ли
имеет смысл предварять «Историю философии», тем более такую,
как фишеровский труд, ее критическим анализом. С целью же
ознакомления читателя с современным истолкованием творчества
новоевропейских философов все тома «Истории новой
философии» К. Фишера сопровождаются послесловием.
См., напр.: М. Мамардашвшш. Картезианские
М., 1993.
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ
НОВОЙ ФИЛОСОФИИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК НАУКА
Предмет этого труда составляет философия Нового времени.
Как ни своеобразны те жизненные начала, которые она носит в
себе, как ни понятны сами по себе и ни просты те задачи, которые
она ставит себе по собственному разумению, все же в
возникновении своем она обусловливается историей философии, которая ей
предшествует. Возникновение новой философии знаменуется
полным, сознательным разрывом с прошлым и основано на ясно
выраженном убеждении в необходимости начать все дело сначала. В
своих основных положениях она стремится освободиться от
предвзятых мнений и стать полностью независимой от всех
традиционных учений, от любых исторически признанных авторитетов. И
таковой она является на самом деле. Однако эта независимость духа
сама, в свою очередь, сложилась исторически, эта свобода от
предвзятых мнений обусловлена исторически, она медленно
прокладывала себе путь и подготавливалась в значительном отдалении от
основ предшествующей философии. Существуют такие поворотные
пункты, начиная с которых человеческий дух, пресытившись
настоящим, набирается своей первоначальной силы и из этого
неиссякаемого источника обновляет свое развитие. Эти поворотные пункты
коренятся глубоко в ходе развития человечества, долго
подготавливаются и потому крайне редки. Они наступают только тогда, когда
наступает для этого подходящий момент. И для возникновения
новой философии должно было наступить свое время. При всей неза-
3
Куно Фишер
висимости ее мысли, при всей новизне ее основных положений
новая философия продолжает все-таки пребывать в постоянном
общении с историческими предпосылками; она противоречит им в
исходных пунктах, обостряет это противоречие, доводя его до
полного разрыва, но в дальнейшем своем движении начинает снова
склоняться к этим предпосылкам, чувствовать свое духовное
родство с ними. В последнее столетие она вновь подчеркивает как
свою противоположность, так и свое родство с ними. Таким
образом, новая философия находится в постоянном, и притом
определенном, отношении к прежней философии и никогда не дает ей
исчезнуть со своего горизонта. Вот почему во введении к этой
книге мы должны выяснить, при каких исторических условиях
возникает новая философия и в какой связи с общим ходом
развития человечества начинается ее эпоха.
Уже в понятии истории философии заключаются такие
трудности, которые могут настроить скептически относительно ее
возможности. Понятие является трудным, если признаки его
нелегко объединить. Оно становится невозможным, если признаки
вовсе не объединимы. По-видимому, между понятиями истории и
философии существует такое противоречие: история немыслима без
преемственности событий во времени, философия — без познания
истины, а истинным является лишь то представление, которое
находится в полном соответствии с вещью и со своим предметом.
Но здесь существуют две возможности: или представление
соответствует предмету, или оно не соответствует ему. В первом случае
представление истинно, во втором — ложно. Истина же только
одна, она не имеет в себе ни рода, ни преемственности событий во
времени, а следовательно, не имеет, по-видимому, и истории.
Поэтому история философии, или ряд следовавших друг за другом
различных систем, часто взаимно исключающих одна другую, но
никогда не достигающих полного согласия, представляется прямой
противоположностью самой философии и самым очевидным
показателем ее невозможности. Вот почему те, кто сомневается в
возможности истинного познания, постоянно ссылаются на споры
философов между собой, на множество и различие их систем. Среди
возражений, которые приводились древними скептиками против
философии, противоречие систем было одним из первых и наибо-
4
История философии как наука
лее важных. Ясно, что с этой точки зрения об истории философии
в строгом смысле не может быть и речи; при изложении ее или
придерживаются исторического факта многочисленности так
называемых систем, не заботясь об истинном содержании их и
превращая таким образом историю философии в историю философов, их
жизненных отношений, их мнений и их школ, и все это излагают
насколько позволяют источники и в той мере, в какой эти
источники оказываются понятыми, — или стараются отыскать во всех
системах единство истинного познания, и когда видят в этих резко
отличающихся друг от друга системах только множество попыток,
не достигших цели, то начинают огульно осуждать их, вовсе не
сообразуясь с их историческим характером. Таким образом, при
изучении истории философии исторический интерес оказывается
отделенным от философского: в первом случае история философии
становится предметом простого повествования, во втором —
предметом только осуждения. Насколько некритично и лишено смысла
такое повествование, настолько же неисторична и лишена всякой
исторической перспективы такая критика. С односторонней
исторической точки зрения несомненно существует история, но нет
философии, с точки зрения односторонней критики есть
философия, но нет никакой истории. Такая философия, без исторического
интереса и без способности дать историческую оценку вещей, либо
считает задачу истинного познания неразрешимой, а
существующие системы признает заблуждением, либо из чисто практических
соображений признает во всех этих системах известную долю
познания истины, которая недостаточно ясно выражена, не вполне
постигнута и затемнена ложными представлениями. Таким
образом, к историческим системам она относится или совершенно
скептически, не признавая их, или эклектически, обособляя и
выделяя из них истину по субъективному критерию. Вместе с тем
эти критики оказываются далеко не такими, какими они бы
желали быть: они думают, что судят об исторических системах, на
которые они глядят свысока, вполне просто и непринужденно. Но они
забывают, что история овладевает и их собственной точкой зрения,
что эта точка зрения сама была подготовлена и создалась
исторически и с необходимостью исходит из вполне определенного состо-
2 Куно Фишер
S
Куно Фишер
яния философии, а потому только временно имеет право на
существование.
Понятно, почему история философии как предмет
рассматривалась на первых порах с такой исторической и с такой
критической точек зрения. В первое время ее излагают или историки, или
скептики и эклектические философы. Три важных источника
нашего знания древней философии представляют собой вместе с тем
примеры такого исторического, скептического и эклектического
способа рассмотрения (Диоген Лаэрций, Секст Эмпирик и Иоанн
Стобей1). Из числа же первых писателей, изложивших и
представивших в новое время оценку систем философии, трое, а именно
Томас Стэнли, Пьер Бейль и Яков Бруккер2, по своим отправным
пунктам сравнимы с названными древними писателями.
При таком разделении исторической и критической точек
зрения задача, которую ставит перед собой история философии, не
разрешается, а только обходится трудность, заключающаяся в
предмете. В одном случае мы получаем историю без философии, в
другом случае философию без истории. Само собою разумеется, что
история философии как понятие немыслима с этих точек зрения.
И мы здесь возвращаемся к вопросу о том, как возможна история
философии как наука.
Исследуем поближе, исключает ли собой философия, как
любовь к мудрости, как стремление к истине и к истинному
познанию, понятие истории. Допустим, что обыкновенное объяснение,
по которому истина состоит в адекватном представлении, т. е. в
совершенном согласии нашего понятия с его предметом,
правильно. Если мы предположим существование законченного в самом
себе объекта, пребывающего неизменно равным самому себе, то и
тогда возможны два случая: один — когда представление
соответствует предмету, другой — когда оно не соответствует ему.
Допустим, что такое совершенное, соответствующее предмету
представление существует; тогда возможны опять-таки два случая: в одном
случае мы обладаем таким истинным представлением, а потому
обладаем и истиной, в другом мы лишены его, а вместе с тем
лишены и истины. Тогда всякого рода история исключается сама
собой из области истины.
6
История философии как наука
Однако ни в каком случае дело не обстоит так. Пусть
предмет нашего познания будет закончен и неизменен по своей
природе, все-таки соответствующее ему с нашей стороны представление
не дано нам в такой законченности, чтобы мы сразу могли
овладеть предметом или сразу же потерпеть неудачу в этом отношении.
Даже если бы мы имели врожденные истинные представления, то
мы все же должны были бы постепенно осознать их и пройти
мысленно через известный процесс выяснения, который и был бы
историей нашего осознания. Но если истинные представления не
даны нам готовыми с самого начала, то им предстоит еще родиться
из духа, т. е. образоваться, следовательно, пройти процесс
образования, который не может быть ничем иным, как постепенно
прогрессирующим упорядочением наших понятий, которые в их
первоначальном естественном укладе не соответствуют объектам. В
человеческом сознании всякое истинное представление есть нечто
образовавшееся, каждая истина имеет свою историю, без которой она
не могла бы осуществиться; эта история представляет
существенный момент в ходе духовного образования и развития
индивидуума. Чем больше трудностей приходится преодолевать, чем больше
задач нужно разрешить для того, чтобы высветить истину, тем
долее, естественно, длится этот процесс развития; целые столетия
были скованы заблуждениями, понять, рассеять и преодолеть которые
способна была только сила Нового времени. Столетия принимают
участие в таком процессе образования. Такая истина имеет
историю в большом масштабе. Человеческие науки сложились
исторически и могли стать тем, чем они являются теперь, только путем
постепенного совершенствования. Мироздание в своем строении, в
своих законах, в своем механическом порядке как объект
человеческого созерцания остается неизменно одним и тем же, однако
астрономия должна была создать целый ряд представлений,
обосновать их, вновь разрешить и устранить, чтобы этим путем спустя
много столетий достигнуть, наконец, истинных воззрений. Как ни
ошибочна была ее старая система, тем не менее она составляла
необходимую предварительную ступень к новой и более
правильной системе.
Из вышеприведенных предположений неправильно, таким
образом, второе, а именно: что истинные представления находятся в
7
Куно Фишер
нас ясно выраженными и изначально готовыми; они скорее только
задачи, которые нужно решать. Но и первое положение, что
предмет нашего познания остается неизменно одним и тем же, не
всегда верно. Что, если предмет этот сам образует процесс и
постигается в постоянно возобновляющемся изменении, однако не в таком
изменении, которое происходит по одним и тем же законам,
подобно движению созвездий или круговороту жизни, а в творческой
деятельности и действительно развивающемся образовании? Если
предмет этот не только имеет свою историю, но и развивает и
обнаруживает свою сущность в этой истории, не исчерпываясь ни
в одном из ее отделов? Если, одним словом, природа этого
предмета жизненна и духовна? Ясно, что наше познание такого
предмета нуждается не просто в образовании, подобно всякому
человеческому убеждению, — для того, чтобы познание находилось в
согласии со своим объектом, оно само должно быть постигнуто в
историческом развитии. Прогрессирующий процесс образования
можно постигнуть только в прогрессирующем процессе познания.
Этот развивающийся процесс образования есть человеческий
дух, этот развивающийся процесс самопознания есть философия
как самопознание человеческого духа, ибо ясно, что человеческий
дух в качестве самосознающей сущности должен стать своим
объектом, а потому он должен попытаться разрешить эту проблему; он
не может существовать без такого стремления. Вот это-то
стремление духа и есть философия. Без него дух не мог бы стать ни своей
собственной проблемой, ни своим объектом, а следовательно, не
мог бы стать и самосознающим бытием. Человеческое
самосознание содержит в себе проблему, которую разрешает философия.
Человеческий дух подобен историческому развитию, проходящему
через многообразные формы, ряд систем образования, которые дух
порождает из себя, наполняет, переживает и из которых, как из
своего материала, творит новые культурные формы. Чем же может
быть, в противоположность этому объекту, познание, желающее
соответствовать ему, как не многообразием, как не рядом систем
познания, которые, подобно их объекту, живут исторической
жизнью? Чем другим поэтому может быть философия в этом
смысле, как не историей философии? Она подобна величине, значение
которой определяется целым рядом величин. С первого взгляда
8
История философии как наука
казалось, что философия исключает собой историю, как нечто
несовместимое с ней, однако теперь мы видим, что философия не
только допускает историческое развитие как нечто возможное, но
даже требует его в качестве необходимого условия, что в каждой
философской системе наряду с ее историческим своеобразием
содержится также собственная историческая истина, что каждая из
этих систем должна изучаться столько же со стороны ее
исторических особенностей, сколько со стороны истинного содержания и
что, тем самым, история философии как наука тесным образом
соединяет историческую точку зрения с критической,
исторический интерес с философским. Если бы объектом был философский
камень, то истина была бы находкой, кладом, который можно
было бы и приобрести, и потерять. Если же объектом является
человеческий дух, то истина сама становится полной жизни историей.
Она должна развиваться в великом процессе образования
человечества.
Так это и должно быть, если только действительно
человеческий дух составляет предмет изучения философии, если она по
своему направлению и по своим задачам есть не что иное, как
самопознание духа, человеческое самопознание в целом. Но
правильно ли это предположение? Не является ли это объяснение
узким, ограниченным? И не охватывает ли философия по своим
задачам больше, чем познание человеческого духа? Мы называем
философию самопознанием, а она называет себя мировой
мудростью. Самопознание относится к мировой мудрости, как
человеческий дух к миру, т. е. как часть к целому. Но не делаем ли мы
софистического заключения, целиком распространяя на
философию то, что приложимо к ней только в известном смысле,
приписывая ей вообще то, что правильно лишь отчасти? Во всяком
случае, правильно, что далеко не все из исторически существовавших
систем выдвигали на первый план вопросы человеческого
самопознания и далеко не все ставили в зависимость от них свои задачи;
напротив, только в редкие моменты на протяжении всей истории
дельфийское изречение3 выражает самую сущность философии
вместе с сознанием того, что оно представляет собой самую первую
философскую задачу. Но вслед за тем всякий раз в ходе развития
философии наступал решительный поворотный пункт, подобный
9
Куно Фишер
тому, какой наступил в древности в сократическую эпоху, а в
Новое время — в кантовскую. Легко показать, что значение этих
поворотных пунктов распространяется на всю предшествовавшую и
на всю последующую философию, что по отношению к первой они
являются результатом, а по отношению к последней — условием,
что они всецело завершают предшествующую философию и дают
направление всей последующей. Поэтому ясно и согласно с
историческим опытом то, что человеческое самопознание составляет
главную тему всех систем, всех, если только системы не
обособляются, но рассматриваются в их внутренней зависимости. В
действительности оно и представляет собой настоящую задачу
философии, которую подготавливает ясный рассудок в системах одного
порядка и из которого сознательно исходят системы другого порядка.
Эпохи, в которые осознание этой задачи выявляется, не осветили
бы так ясно путей философии в обе стороны и не были бы
пунктами, благодаря которым мы легко и просто ориентируемся по всем
направлениям, если бы только они не раскрывали всю природу
вещи во всем ее объеме.
Что доказывает, таким образом, исторический опыт, тому учит
при правильном понимании и понятие философии. Ибо
человеческое самопознание не только самая глубокая, но и самая обширная
научная проблема. Философия как самопознание охватывает собой,
очевидно, и философию как мировую мудрость. Бессмысленное
представление, конечно, находит в отношении самопознания к
миропознанию — «Я* к миру — подобие отношения части к
целому, оно видит в «Я» единичную вещь, в мире — содержание
вещей: как же не быть самопознанию меньше мировой мудрости? Но
ведь нетрудно также видеть, что мир как содержание вещей
предполагает существо, представляющее такое содержание,
следовательно, разумеющее существо, ибо содержание само по себе есть
ничто; нетрудно видеть, что мир как предмет нашего исследования,
как проблема нашего познания возможен только при условии
существования субъекта, делающего его своим объектом,
следовательно, созерцающего, представляющего, одним словом,
самосознательного существа; что это существо в качестве единичной веши, в
качестве части мира само принадлежит к объектам, созерцаемым,
представляемым, объективируемым, следовательно, предполагаю-
10
История философии как наука
щим изначальное «Я», которое составляет скрытое зерно нашего
бытия. В этом заключена величайшая загадка вещей, побуждающая
к разгадке, проблема всех проблем. Мир и «Я» относятся друг к
другу не как целое к части и не как две противоположности,
исключающие друг друга, но как объект к субъекту, обусловливаемое
к условию — как реальное к идеальному, употребляя обычную
формулу, которой обыкновенно так охотно выражают отношение
между объектом и субъектом, между миром и «Я». Мир — это
наш объект, наше представление; он ничто помимо нашего
представления, а представление — ничто помимо нашего «Я». Мир —
это мы сами. Всякое ложное мировоззрение есть самообман, всякое
истинное мировоззрение есть самопознание. Как не существует
мира помимо нашего «Я», которому он является или которое его
созерцает, так нет миропонимания, которое было бы независимым
и обособленным от человеческого самопознания. Здесь возможны
только два случая: или наше самопознание зависит от нашего
мировоззрения, или, напротив, наше мировоззрение зависит от
нашего самопознания. Истине соответствует второй случай, но
убеждение в необходимости этого должно быть еще завоевано, и
философии предстоит пройти целый ряд предположений, прежде чем она
дойдет до этого воззрения. Благодаря этому и различаются ее
главные направления. Вначале мир кажется первым, а «Я» вторым, и
так продолжается до тех пор, пока самообман, лежащий в
основании этой точки зрения, не станет очевидным, а в сознании
философии их отношение — обратным.
Этим мы хотим установить, что философия по самому своему
понятию не может быть ничем иным, как самопознанием
человеческого духа, и, как только она преодолела первый самообман, она
и сознательно не желает быть ничем иным. Исторический ход ее
развития подтверждает эту истину.
Это понятие дает целый ряд легко постигаемых выводов,
освещающих историю философии, устраняющих ряд предрассудков,
которые препятствуют установлению правильного взгляда на
исторические формы образования философии.
Первый из этих выводов тот, что философия, как и сам
человеческий дух, способна к историческому развитию и нуждается в
нем, что она принимает живейшее участие в системах образова-
11
Куно Фишер
ния, которые охватывают эпохи и народы, и поэтому подчиняется
их судьбам и законам их развития. Философия есть человеческое
самопознание в широком смысле. Человек в широком смысле есть
человечество на одной из ступеней его развития, подчиненного
определенному и ясно выраженному способу формирования.
Философия имеет целью постигнуть эту форму образования, понять ее
из ее внутреннего мотива и объяснить, что она собой представляет
и к чему она стремится. Этот внутренний мотив должен
проявиться, дух должен осознать его в себе, если только он хочет осознать
себя. Ибо он сам и есть этот внутренний мотив. А для достижения
этой цели нет другого средства, кроме философии.
Задача эта становится тем труднее, чем богаче и
многообразнее мир образований, объяснение которых должно стать
центральным пунктом философии. Духовные направления и интересы,
выступающие на арену жизни, многочисленны, разнохарактерны,
противоположны и находятся в борьбе между собою. Столь же
разнохарактерны в духовной жизни человека и его движущие
мотивы. Так же многоразличны должны быть поэтому сами
философские направления в одну и ту же эпоху, и поэтому ясно само
собой, что противоречия каждой эпохи должны выразиться во
враждебных друг другу системах, из которых каждая научно
представляет только одну сторону господствующего человеческого духа и тем
самым пополняет другую, для того чтобы разрешить философские
задачи эпохи.
Существуют эпохи с такими доминирующими
направлениями, которые или приобретают исключительное значение, или же
получают заметный перевес над остальными направлениями и
пользуются услугами действующих в истории сил, опираясь или на
великие задачи времени, на высокие интересы человеческого духа,
отодвигающие на задний план и заслоняющие собой все прочие
интересы, или на интересы массы, которой, благодаря
значительности ее жизненных целей, удается выступить на первый план и
временно эксплуатировать все другие творческие интересы. Таким
же точно образом в философии возникают господствующие
системы двоякого рода: одни — наиболее глубокие, которым удается
проникнуть в тайники человеческого духа, и другие —
популярные, постигающие не более того, что доступно массе.
12
История философии как наука
Между тем как бы ни был организован проясняющийся в
философии исторический дух, все же это прояснение больше, чем
простое изображение. Представляя отношение более крупным
планом, можно сказать: философия так относится к историческому
духу человечества, как самопознание к нашей жизни. Что же
заключает в себе акт самопознания? Мы извлекаем себя мысленно
из внешнего мира, в котором пребываем, и анализируем себя. То,
что служит нам объектом, есть наша собственная жизнь, и
одновременно с противополаганием себя ей в созерцании мы сами
становимся явлением для себя, перестаем сливаться с нашим
наличным существованием, но поднимаемся выше него, подобно
тому как взор художника поднимается выше того создания,
которое возникает под его руками. Глаз художника, погруженного в
работу, видит иначе, чем глаз художника критикующего,
опускающего кисть, отступающего от своей работы и обозревающего целое
из удачно выбранной точки наблюдения. Теперь он видит
недостатки, скрывавшиеся от него прежде: здесь обнаруживается
несоответствие частей, там одна часть нарушает симметрию целого. В
подходящем освещении, которое он теперь нашел, он видит, насколько
одно гармонирует с другим, и начинает ясно понимать, что
нарушает эту гармонию. Что же должен делать художник? Должен ли
он отказаться от произведения, потому что оно незаконченно и
потому что оно кажется ему неудачным? Или, напротив, он
должен взяться снова за труд и работать правильнее и лучше
сообразно той истинной идее, которую он постиг в момент критики?
Оставим картину. Художники — это мы сами,
художественное произведение — наша жизнь, испытующий взор,
созерцающий творение, — самопознание, врывающееся в жизнь. Мы
отвлекаем себя мысленно от того бытия, которым мы до сих пор жили,
как художник отвлекается от своего творения, мы удаляемся от
него на такое расстояние, с которого наше собственное
существование становится для нас объектом, и приобретаем ясное
самосозерцание; таким образом, мы выходим из теперешнего состояния
жизни и никогда уже не можем вернуться к укладу этой жизни. Так
самопознание определяет в нашем бытии момент, который
замыкает собой один жизненный период и открывает другой; оно создает
кризис в развитии и образует поворотный пункт или эпоху в жиз-
13
Куно Фишер
ни. Оно не просто отражение жизни, но вместе с тем
преобразование ее. Мы освобождаемся от наших страданий, когда начинаем
думать о них; страдания перестают быть нашими состояниями с
того момента, как они становятся нашим объектом; мы перестаем
их ошушать, как только начинаем созерцать их. В этом все
значение самопознания, кризис, который оно создает в нашей жизни.
Самопознание превращает наше состояние в наш предмет, и
силу, под давлением которой мы жили, противопоставляет нам в
качестве объекта. Каков же необходимый вывод из всего этого? Мы
находимся уже не в том состоянии, мы уже не подчинены более
этой силе, мы, таким образом, уже не таковы, какими были.
Серьезное самопознание есть коренное освобождение и обновление
нашей жизни; оно действительно является кризисом, которым
настоящее отделяется от прошедшего и которым подготавливается
будущее; акты самопознания в нашей жизни — то же, что
монологи в драме: действие с живой сцены внешнего мира перемещается
во внутренний мир и здесь, в тиши размышления, создает и
распутывает свои проблемы.
Такие глубоко захватывающие моменты присуши всякому
духовно подвижному бытию, и каждый находит их в своем
собственном опыте. Невозможно, чтобы мы постоянно полностью сливались
с тем состоянием жизни и образования, в котором находимся.
Незаметно рождается и постепенно растет недовольство. Так же
постепенно гаснет интерес к пережитым образовательным формам,
они перестают наполнять нас, мы пресыщены ими, чувство тоски и
недовольства становятся все сильней, мучительней, и под конец
мы остаемся наедине с собой. Одно только достоверно, что мы
стали чужды бывшим жизненным состояниям, внутренне с ними
развязались и от них освободились. Теперь мы чувствуем впервые
нашу самостоятельность и в душе вознаграждены этим великим
сознанием за все то, к чему мы более не стремимся или думаем,
что более не стремимся. С этих пор начинается для нас
размышление о нас самих, о проблеме нашего бытия, о проблеме мира. Мы
начинаем философствовать, насколько это нам под силу, насколько
хватает нашего образования. Философия есть плод нашего
образования — зрелый или незрелый; она обусловливается степенью
нашей образованности, из нее она исходит и от нее же нас осво-
14
История философии как наука
бождает. Поэтому она необходимо является показателем высоты
нашего образования. На основе опыта и развития единичной
жизни я обрисовал настроение души, в котором воля начинает
склоняться к размышлению и к самопознанию и зарождаются первые
стимулы к философствованию; есть такие моменты, когда в
горячих душах пробуждается страстная потребность познать
философию и получить от нее удовлетворение, которого жизнь более
не дает.
То, что в развитии индивидуума является полным смысла
самосозерцанием, то в социальной жизни людей составляет
выдающиеся системы философии; эти системы не сопровождают
развивающийся дух человечества, а овладевают незаметно, но властно его
прогрессом; они превращают в объекты рассмотрения то, что до
этого имело значение господствующего состояния, они
освобождают мир от подчинения и действуют, восполняя настоящее,
подготавливая и обосновывая новую человеческую культуру; они
действуют как всемирно-исторические факторы, благодаря которым
получают жизнь великие культурные системы и которые порождают
великие культурные кризисы. Человечество — это проблема,
которая в истории раскрывается все полнее и полнее, в философии же
все более получает освещение и постигается все глубже. В этом,
собственно, все содержание истории философии, содержание
самого высокого исторического значения. История философии тогда
представится в истинном свете, когда ей удастся познать ход
развития, в котором необходимые проблемы человечества определяются
с возможной ясностью и разрешаются так, что каждое такое
разрешение в последовательном порядке рождает все новые и более
глубокие проблемы.
В этом ходе развития мы должны ориентироваться для того,
чтобы установить тот пункт, с которого мы сами начинаем его
изложение.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ХОД РАЗВИТИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Появление христианства во всемирной истории образует
границу, отделяющую друг от друга два великих мировых периода:
христианский и языческий. Мы понимаем под такой границей всю
ту эпоху, в которой новая религия нуждалась для того, чтобы
получить перевес над старой религией и самой сделаться всемирно-
исторической силой.
В дохристианском западном мире был один народ, наиболее
философский из всех прочих народов. В продолжение тысячелетия
народ этот почти единовластно господствует в духовном
отношении. Системы, созданные им, служат школой образования и
воспитания еще для последующего христианского века. Господствующая
философия древности — греческая философия. Начало ее
относится к шестому дохристианскому веку, конец — к шестому столетию
по христианскому летосчислению. Ее возникновение совпадает с
началом персидского мирового государства, ее последняя школа
прекращает существование полстолетия спустя после падения
западно-римского мира. Капризной судьбе было угодно, чтобы первые
греческие философы были принуждены искать спасения от персов,
завоевательное движение которых угрожало эллинскому миру, и
чтобы тысячелетие спустя последние философы Греции, изгнанные
из Афин на основании эдикта одного христианского императора4,
искали спасения у персидского царя.
16
Ход развития греческой философии
Не раз проводили параллели между греческой и новой
философией. При этом Сократа сравнивали обыкновенно с Кантом, а
точки зрения досократовских направлений — с докантовскими. Но
и в философах после Канта находили примечательное сходство с
великими аттическими философами5 после Сократа. Однако в
целом основания обоих периодов существенно различны. Я хотел бы
здесь держаться этого сравнения хотя бы только для того, чтобы
совершить обзор быстрее. Если в развитии древности следует
различать периоды сообразно общим схемам деления истории на
древнюю, среднюю и новую, то греческая философия в этом последнем
из отделов начинается в такую эпоху, которая, несомненно,
характеризуется как реформационная эпоха. Творцы древней философии
были проникнуты потребностью полного религиозно-нравственного
преобразования греческого мира; философия является на помощь
этому реформаторскому стремлению. Мне достаточно назвать имя
Пифагора для обозначения типа и прообраза того направления,
которое отразилось на греческой философии уже в момент ее
возникновения и возобновлялось постоянно в течение всего ее
развития. В реформационную эпоху греческого мира возникает древняя
философия, а в реформационную эпоху христианского мира —
новая философия. Между концом одной и началом другой лежит
целое тысячелетие специфически христианской культуры, новый
религиозный принцип которой строит мировой порядок на
господстве церкви, а мировую систему — на теологической основе.
Таким образом, философские проблемы древности и теологические
проблемы христианства, рассматриваемые в целом, создают ход
развития философии, который предшествует нашему предмету в
качестве его исторического условия.
Греческая философия как в создании, так и в
последовательном движении ее проблем представляет собой достойный
удивления и ни с чем не сравнимый пример глубочайшего и вместе с тем
простого и естественного развития. Здесь ничто не выдумано,
нигде в развивающемся ходе идей не встречается скачков, всюду
мысль продумала и установила соединительные промежуточные
члены; живая связь соединяет члены этого широко раскинувшегося
ряда в одно целое, в великолепных формах которого мы вновь
познаем творческий дух классического искусства. Такое впечатление
17
Куно Фишер
производит только греческая философия. Идеальный мир этой
философии создан одним народом, одним языком, и потому в ней
не чувствуется разнохарактерности, присущей философии,
созданной в разные века разными народами. И какое богатое
содержанием развитие переживает греческая философия! При зарождении
своем она все еще сливается с космологической поэзией
естественной религии, в конце ее мы находим ее стоящей лицом к лицу с
христианством, которое она не только воспроизводит в качестве
существенного фактора, но требует в качестве необходимого
образовательного средства.
I. МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА
1. Материя и форма
Первая задача философии состоит в объяснении мира, каким
он представляется в качестве природы созерцающему духу. Первые
мысли ее, которые должны были разрешить эту проблему, очень
просты. Из чего состоит мир? Каково основное вещество, материя,
создающая его и лежащая в его основе? Но мир не только
вещество и материя, он вместе с тем форма и порядок, мироздание,
космос. В чем заключается основная форма, каков правящий
принцип мира? Оба эти вопроса суть первые вопросы. Разрешение
одного из них, а именно определение основной материи, берет на себя
ионийская натурфилософия, разрешение другого, высшего, именно
определение основной формы, — пифагорейская философия.
Если мы объединим эти два вопроса, то получим основную
проблему всей греческой философии, разрешаемую только в
классическом периоде ее развития: как объединяются материя и
форма? Как материя становится формой? Как создается мир? Как
возникают вещи? Это образование или возникновение в самой
простой форме есть становление, процесс, изменение. И здесь, таким
образом, создается третья элементарная, но великая проблема —
проблема мирового процесса, возникновения мира. Если
определен принцип, реальное основание вещей — материя это или фор-
18
Ход развития греческой философии
ма, — ясно, что ближайшим вопросом должен быть вопрос, как
создаются веши из их реального основания.
2. Мировой процесс
Вопрос о мировом процессе поставлен, и разрешение его
вызывает новые противоположения. Понятие становления,
возникновения и исчезновения, одним словом, понятие мирового процесса
есть великая загадка. Нужно понять, как нечто возникает, т. е.
переходит из небытия в бытие, как нечто изменяется, т. е. из
одного становится другим, из одного качества переходит в другое
качество. Такой переход кажется непонятным, необъяснимым,
невыводимым. Поставленная мировая проблема находит, таким образом,
только два решения. Генезис вещей невозможно ни вывести, ни
объяснить, ни мыслить; генезис поэтому немыслим, невозможен,
его и быть не может — это одно решение. Становление
невыводимо, но его нельзя и отрицать, следовательно, оно изначально и
вечно: оно не вытекает из мирового принципа, оно само мировой
принцип. Таково второе решение вопроса. Оба решения
диаметрально противоположны. Первое утверждает: ничто не постигается
в процессе, или в становлении; второе утверждает: все постигается
в процессе, в продолжающемся и постоянном преобразовании,
которое не начинается, не прекращается, не останавливается.
И то, и другое решение признает в понятии становления то
противоречие, что нечто существует и вместе с тем не существует.
«Такое противоречие невозможно», — объясняет элеатская
школа6. «Это противоречие необходимо», — объясняет Гераклит
Темный из Эфеса7. И для той, и для другой стороны проблемы ясны.
Как может мыслиться мир, если он не заключает в себе этого
противоречия, если бытие во всех смыслах исключает небытие, а еле
довательно, становление и всякую множественность, если, одним
словом, становление и множественность— понятия
противоречивые, немыслимые, невозможные? Такова именно проблема элеа-
тов. Они впервые делают то важное открытие, что в нашем
естественном мышлении заключены противоречия и непреодолимые
препятствия и потому непосредственное чувственное восприятие мира
не может быть истинным. Благодаря этому элейское направление
19
Куно Фишер
имело важные последствия для всех времен. Мировой процесс
невыводим, нельзя понять, каким образом первосущность из
неподвижного переходит в изменчивое состояние.
Такой переход немыслим, а потому и невозможен. Нет
никакого становления, первосущность остается постоянно себе
равной, в ней нет небытия, нет различия, нет развития, нет
множественности, она всеедина — таково основное понятие элеатов;
необходимо мыслимое есть противоположность невозможно
мыслимому (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс).
Каким же образом следует постигать мир, если он исключает
из себя неподвижное, неизменное бытие как совершенно
противоестественное? Таков вопрос Гераклита. Мировой процесс нельзя
отрицать, он есть; его нельзя выводить, ибо непостижимо, каким
образом неизменное бытие могло начать изменяться;
следовательно, мировой процесс изначален, первосущность постигается в
вечном, непрерывном превращении, она сама есть мировой процесс,
вечно возникающий и преходящий мир, она есть единое
божественное, мировой порядок, мировой разум, логос, первоогонь. Так
разрешает эту проблему Гераклит.
Как ионийская и пифагорейская проблемы вместе образуют
основной вопрос греческой философии, так элеатское и гераклитов-
ское направления образуют ее глубокие и кардинальные
противоположности. Для разрешения первого вопроса, для выяснения
правильного отношения между материей и формой или их
соединения потребовалась аристотелевская метафизика. Для разрешения
второго вопроса, для выяснения правильного отношения между
единым и многим, постоянно пребывающим и изменчивыми
явлениями, между бытием и становлением — для понимания этого
единства элеатской и гераклитовской основной мысли
потребовалась платоновская диалектика.
3. Материя и образование мира. Дуализм
Между тем проблема философии стоит также лицом к лицу с
мировым процессом как с природой. Проблема эта должна быть
разрешена, мировой процесс, возникновение и образование вещей
должны быть поняты и объяснены. Объяснить — значит дедуциро-
20
Ход развития греческой философии
вать. Но такое объяснение естественного становления невозможно
как с точки зрения элеатов, так и с точки зрения Гераклита: те
считают мировой процесс невозможным, последний считает его
изначальным, о выведении не может быть речи ни с одной из этих
точек зрения.
Если должно выводить мировой процесс, то необходимо,
чтобы в основании его лежало нечто, что само не становится, нечто
изменению не поддающееся, следовательно, первоначальное и
неизменное, нечто такое, в чем возникновение и исчезновение не
находят себе места, т. е. сущее бытие — в том смысле, в каком
понимали его элеаты. Мировой процесс существует. В сущем, в
бытии он не находит себе места. Что же остается? Как же, в таком
случае, нужно его мыслить, если очевидно, что мировой процесс
должен мыслиться так, чтобы первосущность сама уже не
изменялась? Именно так и стоит отныне проблема греческой философии.
Ей находится и решение, причем единственно возможное. Сущее
бытие мыслимо не в качестве единого, а как множество, как
множественность первосущностей; мировой процесс, т. е. все
естественные изменения, всякое возникновение и исчезновение вещей,
может быть понят только как постоянная смена соединения и
разделения первосущностей, т. е. как механический процесс.
Эти первосущности, так как они должны быть связаны и
разделены, не могут, естественно, быть ничем иным, как только
веществами, первичными материалами. Но каковы же эти
материалы? Первая по времени теория приравнивает их к четырем
стихиям (Эмпедокл)8. Но элементы изменчивы, делимы по природе,
первичные материалы же должны быть неизменными, этого
требует логический принцип элеатов, которому это направление в
данном пункте остается верным, причем верным как своей догме.
Если же они должны быть неизменными, то они уже не могут
обладать теми или иными качествами, следовательно, быть
элементами неоднородными и вообще четырьмя элементами, но'должны
быть лишенными качеств, неопределенно множественными и
неделимыми веществами, т. е. бесчисленными, только количественно
различными атомами, разнообразные сочетания которых образуют
вещи (Левкипп и Демокрит)9.
21
Куно Фишер
Но если только механическое слепое движение с помощью
тяжести сочетает атомы между собой, спрашивается, куда же
девались форма и порядок вещей? Очевидно, без этого регулирующего
движения мировая проблема неразрешима, очевидно, что из
первичных материалов не может создаться такое вносящее порядок
движение, очевидно, должно быть такое разумное начало, из
которого вытекают и это движение, и всякое движение вообще, потому
что механическое движение вместе с тем и целесообразно.
Следовательно, нужно отделить духовную первосущность от
вещественного первоначала и провозгласить дуализм духа и материи.
Рассматриваемая в самой себе, мировая материя представляет
собой массу неподвижную и неразличимую — хаос, в котором
находит место не разделение веществ, а совершенное смешение всего
со всем. Следовательно, и первичные материалы также не могут
быть более атомами, а должны быть качественными веществами,
из которых каждое в любой своей части смешано с частями других,
поэтому они должны быть однородными веществами, или гомеоме-
риями10, как назвал их Аристотель согласно Анаксагору.
Здесь первый период греческой философии достигает своего
естественного конца. Этот период, называемый обыкновенно
периодом натурфилософии, продумал мировую проблему и продвинул ее
уже настолько, что в результате ее решения должно было,
наконец, родиться понятие духа в качестве новой проблемы. Весь этот
период философии заполнили собой три проблемы: материи,
миропорядка и мирового процесса (генезиса вещей). Все эти
исследования в совокупности слагаются в один вывод, который, вместе с
тем, подготавливает новые и высшие задачи.
Этот вывод выражен Анаксагором. Он был первым
дуалистом в истории философии.
П. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ
1. Софистика
Если природа вещей на самом деле такова, как определили ее
первые натурфилософские системы, то представляется непонятным
22
Ход развития греческой философии
и потому невозможным, чтобы человеческая природа познавала
веши. Познание есть духовный процесс. Если нет вообще никакого
процесса, как утверждают элеаты, то не должно быть и духовного
процесса. Если же существует только процесс и нет ничего
постоянного, как объясняет Гераклит, то ни субъект, ни объект не
постоянны, нет, таким образом, ни познающего, ни познаваемого, а
следовательно, нет и никакого познания. При существовании
исключительно механического процесса и вещественных соединений
и разъединений, как учат Эмпедокл и атомисты, нет уже
духовного, а следовательно, и познавательного процесса. Если же духовный
процесс обусловлен внемировой сущностью, как думает Анаксагор,
то нет естественного познавательного процесса, а следовательно,
нет человеческого познания. Общий вывод: человеческое познание
невозможно, оно невозможно со всех точек зрения философии
того периода; оно не может иметь места в мире, понимаемом
таким образом.
Итак, не остается более ничего, кроме отрицания всего. Нет
познания, а следовательно, нет истины, следовательно, и ничего,
имеющего значение ни само по себе, ни объективно, ни в
научной, ни в нравственной области; не остается более ничего, кроме
субъективного мнения и искусства его доказывать, ничего, кроме
отдельного человека, провозглашающего самого себя мерилом всех
вещей: такова тема софистики (Горгий, Протагор)11. Софистика
образует собой переход от миропознания к самопознанию;
софистика есть кризис греческой философии, она ведет к новой
проблеме, господствующей в последующий период классического века
аттических мыслителей: софистика в целом объясняет современное
ей состояние мышления, ясно показывая, что в таком его
состоянии совершенно очевидна невозможность познания, а вместе с тем
и самой философии. Софистика сама была действительно
убеждена в этой невозможности, по крайней мере в лице выдающихся
представителей, так как она не видела никакого выхода для
философии. В этом ее убеждении она не лишена была принципа, и
если понимать ее правильно и в целом, то нужно сказать, что она
не только благотворно повлияла на просвещение своего века, но и
осветила состояние философии таким образом, что для
развивающегося духа сама собой появилась новая проблема. Она вполне
23
Куно Фишер
выяснила состояние греческой мысли, а путаница понятий,
которую она должна была внести, была лишь неизбежным следствием
современного ей духовного уклада, вполне ею постигнутого и
разъясненного сознанию других.
2. Сократ
Первым, кто нашел новую проблему и проникся ею
непосредственно, открыл новое направление и создал новую эпоху, эпоху
самопознания в греческой философии, — был Сократ. Софистика
представляет собой переход от досократовской философии — к
сократовской. Досократовские проблемы, если их обобщить в одну,
главную, касались генезиса вещей. Сократовская проблема есть
проблема генезиса познания. Последняя является господствующей
во всей аттической философии. Проблема осмысления мира
формулируется и разрешается отныне только исходя из предпосылок
проблемы познания. Вопрос формулируется так: как следует
мыслить мир, если он должен мыслиться в качестве познаваемого
мира, в качестве объекта познания?
То, что движет сократовскую философию в лице ее творца, в
действительности есть не что иное, как генезис познания, переход
от состояния незнания к состоянию знания, поиск истины, ее
выяснение и связывание истинных понятий, — фактическое
опровержение софистов, объявивших познание невозможным, потому
что нет такого суждения, противоположного которому нельзя было
бы утверждать с равным основанием. Для софистов постоянное
противоречие человеческих мнений означает невозможность
знания, у Сократа созданное из противоречивых мнений единое
согласованное воззрение есть критерий противоположного убеждения.
Поэтому-то обрести истину он может только в общении с людьми,
в живом разговоре и в совместном диалогическом мышлении.
3. Платон
Общие представления, в которых мыслящие люди согласны
между собой, являются истинными понятиями, объектами
истинного мышления, следовательно, вообще истинными объектами.
24
Ход развития греческой философии
Разве не обязателен вывод, что эти роды или идеи, выражающие
собой сущность вещей, и составляют на самом деле сущность
вещей, что истинные объекты являются истинно действительным
первоначальным бытием и что, следовательно, они и образуют тот
истинный умопостигаемый, первообразный мир, который в*
чувственном мире проявляет себя как в своем отражении, подобно
идее в художественном произведении. Если есть истинное
познание, то его объект должен быть истинно действительным, — в
этом заключается переход от Сократа к Платону. С этой точки
зрения философия превращается в учение об идеях и мир
представляется отражением идей, как вечно живое произведение
искусства, естественным творением космоса и нравственным созданием
государства. Этот идеальный мир возникает в философском
сознании, он становится доступным человеку только через возвышение
до своей мыслящей, или идеальной, природы, и само это
возвышение возможно только благодаря очищению от чувственного
содержания, от того, что составляет в своей основе чувственность:
таковыми являются страсти, помрачающие в нас идеальный мир и
низводящие нас до уровня простого вещественного материала. Эта
философия должна требовать отвратиться от страстей и обратиться
к идеям; возвышение мира до идеала она должна ставить в
зависимость от внутреннего очищения человека, от его нравственного
перерождения. Теперь приобретено представление о единой вечной
мировой цели, раскрывающейся жизненно, зримо в мире вещей,
представляющейся человеческому бытию в виде первообраза,
соответственно которому должна складываться и устраиваться наша
нравственная жизнь. В этом стремлении воздействовать на
нравственное преобразование человеческой жизни платоновская
философия религиозна и исполнена реформаторства. В этом пункте
Платон чувствует свое родство с Пифагором. Будущие столетия
почувствуют свое родство с Платоном. Настанет время, когда люди
будут страстно стремиться заглянуть в тот умопостигаемый мир,
который Платон мыслил все-таки как великий пластический
художник и который противопоставил своему миру в качестве
единственного спасения от уже начинавшегося упадка.
25
Куна Фишер
4. Аристотель
Противоположность между идеей и материей, между
умопостигаемым и телесным миром, между мыслящей и чувственной
природой составляет особенность платоновской философии и
вытекает из ее склонности к противопоставлениям. Выражаясь проще,
это дуализм формы и материи. Такому дуализму противостоит
философское сознание, требующее единства и внутренней связи.
Таким образом, и из платоновской философии вытекает ^вопрос,
отмеченный нами в качестве первой проблемы греческой мысли, а
именно: в каком отношении между собой находятся материя и
форма? Как объяснить их единство? Если они отделены и
обособлены друг от друга, то их единство объяснимо только посредством
третьего принципа, внешним способом остающимся уже не
объяснимым.
Форму, следовательно, нужно мыслить как нечто присущее
материи, как силу, образующую потенцию, т. е. как деятельность,
энергию; материя должна, в свою очередь, мыслиться так, чтобы
она содержала в себе форму как возможность, как способность к
такому определенному образованию, т. е. как динамис (силу);
всякая же действительная вещь должна мыслиться как отлившаяся в
форму материя, принимающая свою форму, осуществляющая свою
цель, т. е. как энтелехия. Вещи в совокупности должны
представляться нам последовательным рядом таких форм, из которых самая
низшая содержит в себе предрасположенность к ближайшей
высшей форме, т. е. рядом ступеней энтелехии. Мировой процесс
может быть постигнут только как движение, в котором
формируется материя, воплощается форма, осуществляется предрасположение
и получившееся бытие вновь становится веществом и материалом
для высших образований. Мировой порядок следует мыслить как
развитие.
Этим понятием Аристотель преодолевает платоновский
дуализм. По Аристотелю, и познание есть также процесс развития.
Таким образом, понятием развития разрешаются одновременно обе
проблемы: проблема мира и проблема познания. Это понятие
установлено прочно, коль скоро форма понимается в качестве деятель-
26
Ход развития греческой философии
ностного, а материя в качестве динамического принципа или, что
то же, коль скоро идея приобретает значение присущей вещам
цели. В таком случае материю следует объяснять через ее
предрасположенность, или способность, к оформленности. Материя у
Платона имеет значение u.f| öv (несуществующего), у Аристотеля
ôuvàpei öv (существующего динамически). Короче и точнее
невозможно выразить различие между обоими философами.
Здесь заканчивается классическая эпоха греческой
философии. Последующий переход принимает другое направление,
подготовленное сократовскими школами и платоно-аристотелевскими
учениями.
Эта философия перестает быть космологией, каковой в ее
тогдашних формах оставалась греческая философия, так как она ни
до, ни после сократовского исходного пункта не переставала
заниматься спекулятивным разрешением проблемы осмысления мира.
Проблемы мирового вещества, мирового порядка, мирового
процесса были задачами досократовского периода; проблема само- и миро-
познания — задачей сократовского периода. Последнее по времени
решение тех первых проблем представил Анаксагор, последнее по
времени решение этой второй задачи — Аристотель. Анаксагор
обосновал дуализм духа и материи, который Аристотель хочет в
принципе преодолеть, но не вполне преодолевает понятием
энтелехии и развития, так как в завершении его системы этот дуализм
вновь прорывается во многих местах; он существует между
деятельным и страдательным умом в человеке, между теоретической и
практической добродетелью, между миром и Богом. Если мы
обратим внимание на это обособление духа от материи, на это
разделение их, то увидим, что Аристотель приходит к тому дуализму, из
которого исходит Анаксагор.
Ш. ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ
Стоики, ЭПИКУРЕЙЦЫ И СКЕПТИКИ
Дуалистический способ восприятия, в опровержение
сформулированного Аристотелем принципа, является естественным
27
Куно Фишер
выводом из его философии. Эта философия видит в мире ряд
ступеней энтелехии, она мыслит этот ряд как завершенное целое, она
требует последнего члена, последней энтелехии, т. е. такой, из
которой уже не может возникнуть чего-либо высшего, которая,
следовательно, в любом случае не содержит склонности к новому
образованию и которая поэтому не вещественна по природе, но
является вполне нематериальной; ее следует мыслить как чистую
форму, как простую энергию; она сама по себе только цель, мысль,
созерцающая самое себя, дух, Бог. Приводя все в движение, он сам
пребывает в неподвижности. Не будучи захвачен мировым
процессом, он возвышается над миром, и на этой высоте он абсолютно
совершенен. Он находит удовлетворение в самом себе. Такая
автаркия представляется совершенным состоянием, которое достижимо
только для духа, покоящегося на своем самосознании и
остающегося свободным от движения мира. Человек также является
осознающим себя существом. Если бы он был свободным от мира, он был
бы совершенным. Это совершенство становится его целью, его
высшей задачей. То, к чему он стремится, есть совершенное
состояние жизни, личный идеал. Философия, избравшая это
направление, является скорее не отвлеченной, а жизненной мудростью; то,
что рисуется ей впереди, не столько идея, сколько идеал, не
столько истина, сколько мудрец, прообраз которого она старается
познать для того, чтобы воплотить его в жизнь. Главное направление
этой философии, практическая ее задача — восстановить
божественное совершенство в человеке, внутреннюю преисполненностъ
человека, который может приблизиться к божеству; ее цель —
богочеловеческое состояние или, если можно так выразиться, бо-
гостановление человека. Разрешение этой задачи возможно только
через освобождение человека от мира. В этом смысле новая
проблема может быть названа проблемой мироосвобождения
(освобождения не самого мира, но человека от мира). Здесь мы уже
видим, как греческая философия, преисполненная стремления к
человеческому идеалу, отрешается от мира и направляется к цели,
которая незаметно ведет по пути, открывающемуся и
достигающему своего конечного пункта в христианстве.
Но как же возможно это освобождение от мира, которым
достигается личная автаркия? Пока мы находимся во власти миро-
28
Лоб развития греческой философии
вого процесса, во власти мира, мы находимся в зависимости от
него и несвободны. В этой зависимости мы будем находиться до
тех пор, пока будем жаждать мира, тосковать по нему и стремиться
к нему, до тех пор, пока будем увлечены благами мира, его
пороками, его вожделениями. Для полного освобождения от мира нужно
перестать желать, страдать, стремиться, перестать домогаться
решения мирских проблем. Мы должны перенестись в такое состояние,
в котором мир для нас не представляет собой уже никакого блага,
для которого нет ничего достойного желания, когда алчность и
страсти немеют, воля ничем не колеблется и не приводится в
движение, — таким состоянием является добродетель стоиков. Мы
должны защищаться от мира и достигнуть такой формы жизни,
которая давала бы нам меньше страдания и возможно больше
наслаждения; таким состоянием является блаженство эпикурейцев.
Наконец, для освобождения от томления духа нужно перестать
стремиться к разгадке мировых проблем и отказаться от них,
вполне убедившись в их неразрешимости. Это сомнение есть покой
скептиков. То, что началось после Сократа в кинической, киренай-
ской и мегарской школах12, появляется вновь, но с еще большей
силой после Аристотеля в родственных им направлениях стоиков,
эпикурейцев и скептиков. Все эти различные системы движимы
одним мотивом и ведут к одной цели. Этот общий мотив есть
идеал освобожденного от мира человека, пребывающего в спокойном
самосознании и совершенной автаркии. Этот тип объединяет
между собой стоиков, эпикурейцев и скептиков.
Если мы сравним средства, которые предлагаются для
освобождения человека, с той силой, от которой должно освободиться,
то последняя покажется большей, чем первые. Философы хотят
быть независимыми от мирового процесса, но он сильнее их, и
идеал мудреца разбивается о не поддающуюся воздействию силу
вещей. Стоической добродетели противостоит изменение мира с
постоянно обновляющейся силой естественных влечений;
эпикурейскому блаженству мировое течение противостоит всей силой
зла, и если эпикурейцы не спасаются бегством в потусторонний
мир к своим богам, то они и не избегают зол мира; наконец,
скептическому сознанию, отрицающему общезначимые истины,
мировое течение противостоит силой господствующих представлений и
29
Куцо Фишер
целей, которые скептик не способен рассеять и от которых сам не
может освободиться. Невозможно достигнуть борьбой идеала
автаркии в мировом процессе, извлечь его во всей чистоте и
победоносно удержать неприкосновенным в борьбе с силами мира: в борьбе
человека с этими силами упомянутый идеал — слабейшая сторона,
которая, наконец, подчиняется.
Средства сопротивления мировому течению, в сущности,
сами черпаются из него же. Стоик ищет освобождения при
помощи автаркии воли, называемой им добродетелью: эта
добродетель — горделивое чувство собственного достоинства, это чувство
идет по пути человеческого тщеславия, ведущего как раз в центр
мирового течения. Эпикуреец ищет освобождения в наслаждении,
которое он мог бы превратить в постоянное состояние. Это
наслаждение — приятное чувство собственного благополучия, и это
чувство встречается в центре мирового течения. Скептик ищет
освобождения при помощи сомнения, которому подвергает
естественные воззрения и проблемы, но само это сомнение опирается на
естественные основания, на воззрения естественного рассудка,
который сам принадлежит мировому процессу. Идеал, который
должен одержать победу над мировым течением, соткан из вещества,
созданного силами мира.
Таким образом, каждое из этих направлений оказывается в
своеобразном противоречии с самим собой. Стоику хорошо от
сознания своей добродетели, в ней он чувствует себя возвышенно, в
возвышенности — счастливым и удовлетворенным; как и
эпикуреец в самонаслаждении, он удовлетворен сознанием того, что он не
нуждается в благах мира и не стремится к ним, в этом сознании
он может ими наслаждаться, и наслаждаться впервые с правом на
то. Словом, стоик из добродетели создает себе удовольствие.
Эпикуреец ищет наслаждения как самого совершенного
состояния жизни, которое исключает все страдания, насколько то
возможно; но главный враг наслаждения — это наслаждения,
поэтому эпикуреец осторожно сходит с пути наслаждений и
предписывает себе ради достижения наслаждения отказ от наслаждений и
такую умеренность, которая могла бы сделать честь любому стоику.
Короче говоря, эпикуреец из наслаждения делает добродетель. И
таким образом оба противоположных направления и обе системы
30
Ход развития греческой философии
жизни в их проявлениях могут уподобиться друг другу даже до
смешения их.
Наконец, скептик превращает сомнение в достоверную
истину и впадает, как бы он ни вертелся, в противоречие с самим
собой. В самом деле, если сомнение достоверно, то оно более не
скептично. Если сомнение само сомнительно, то оно устраняет
самого себя, и скептицизму наступает конец. Достаточно сказать,
что эти системы ведут по пути к человеческому идеалу, но все их
попытки остаются тщетными, и они просто превращаются в
проблемы, которые нуждаются уже в более глубоком решении.
IV. РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА
1. Религиозный платонизм
Мир — это мы сами. Наш природный эгоизм и наш
природный рассудок представляют собой тоже мир, в своем основании
они — силы мира, ибо без них нет никакого мира, который мы
представляли бы себе и к которому стремились бы. Этот мир,
составляющий с нашим «Я» одно целое и в известном смысле
представляемый нами самими — в идеале стоиков, эпикурейцев и
скептиков, — не только не превзойден, но даже обожествлен.
Отрешиться от мира и освободиться коренным образом от
собственной земной природы, которая понимается как зло, сломить и
сбросить иго нашего «Я», которое нас держит и влечет нас вниз, — вот
что становится задачей философии, а вместе с тем страстным
стремлением всех, на кого обрушиваются несчастья времени и кто
чувствует глубочайшее падение людей. Это неудержимое влечение к
освобождению от своей собственной земной эгоистической
природы есть потребность искупления, и потому оно всецело
является религиозным мотивом, движущим отныне философией и
направляющим ее непосредственно на спасение человека. Философия
ищет пути к этой цели, она сама желает стать искупительным
средством спасения, она делается учением о спасении: этим духом,
этим мотивом должны быть объяснены ее характер, мысли и ее
влияние. Ее проблема отныне — мироискупление, последняя из
31
Куно Фишер
проблем древности. Эта проблема была вызвана к жизни мировой
религией, которая пыталась разрешить ее, оставаясь на почве
язычества, а именно сначала путем очищения веры в древних богов, а
потом путем восстановления ее. С этой мыслью она идет навстречу
христианству, подготавливая его; состязается с ним, вступая с ним
в борьбу с желанием одолеть его; но победу одерживает новая
религия. Тем не менее идея искупающей мир религии родилась и
выросла на почве греческого мира, и когда возвышенное духом
христианство разбило оковы иудаизма, для того чтобы стать
искупителем мира, то оно нашло для этого в греческом мире
благодатнейшую почву.
Та потребность в искуплении, которая заполняет философию
древности в ее последний период и объясняет образ ее мыслей,
состоит в стремлении человека избавиться от мира, отрешиться от
него или, что то же, соединиться с существом изолированным,
стоящим совершенно в стороне от чувственного мира и свободным
от его гнета и его зла. Поэтому точка зрения такой философии
требует потусторонности Бога в самом точном смысле этого
слова. Но для такой потребности искупления человека Бог не может
быть в достаточной степени потусторонним, или трансцендентным.
Именно благодаря отрешенности от мира, именно потому, что он
свободен от всего того, от чего человек только хотел бы быть
свободным, он и делается предметом и целью религиозного
стремления. В представлении величайшей пропасти, отделяющей Бога от
мира, и лежит поэтому религиозное удовлетворение. Бог должен
представляться так, чтобы человек мог сказать себе: если бы я был
при нем, то я нашел бы блаженство. Около него нет того, что меня
давит и стесняет! Дуалистический образ мыслей делается
характерной чертой этой философии и мотивируется в своем основании
вполне религиозно. Бог относится к миру не как правящее начало
к хаосу, не как движущая сила к приводимому в движение
космосу, но как место блаженства к месту зла; он не принцип,
объясняющий вещи, но цель для нуждающегося в спасении человека.
Религиозная страсть расширяет до крайности пропасть, отделяющую
Бога от мира и от человека; но вместе с тем она жаждет и
единения с ним. Как же возможно, однако, это единение? Естественным
путем, конечно, оно недостижимо, следовательно, оно возможно
32
Ход развития греческой философии
только сверхъестественным путем, а именно чудесным
откровением со стороны Бога, чудесным созерцанием со стороны человека и
таинством внутреннего просветления. Высшим состоянием,
доступным человеку, является не состояние самоудовлетворения, но
состояние религиозного подъема, не автаркия, а экстаз. Такое
состояние не имеет ничего общего с природным разумом и недостижимо
для последнего: оно полно таинственности; философия,
стремящаяся к такому состоянию, мистична.
То, что выпадает на долю философа и отвлекает его от
обыденного сознания, есть чудесное возвышение, состояние экстаза,
которое не может возникнуть естественным путем; оно наступает
внезапно и исчезает как мгновение Божественного просветления.
Сам по себе человек не может создать такого состояния, он может
его только испытать и сделать себя восприимчивым к нему путем
постоянного очищения своей жизни, продолжительного отрешения
от мира и борьбы с природными страстями — до наивысшего
воздержания. Отсюда вытекает и строгая аскетическая форма жизни,
проповедуемая этой благочестивой философией. Но бесконечно
огромная пропасть между Божественным и человеческим
существом все-таки остается; только на одно мгновение экстаз подымает
человека выше его самого, выше его обычного уровня; но это
просветляющее мгновение исчезает, и человек вновь погружается в
темный и нечистый мир своего природного сознания.
Религиозное стремление нуждается в промежуточных этапах,
которые могли бы заполнить эту пропасть. Естественные существа
не могут быть такими промежуточными ступенями, следовательно,
ими должны быть высшие, сверхъестественные существа. От мира
нет лестницы, ведущей вверх к Богу, следовательно, такая
лестница должна спускаться от Бога вниз, к страждущему миру
человечества. Эти промежуточные существа поэтому являются
сверхчеловеческими, но ниже Бога стоящими существами: они
суть демоны, исполняющие роль посредников между Богом и
человеком. Вера в демонов овладевает всецело вниманием религиозной
философии, и тот самый мотив, который в представлении доводит
отделение Бога от мира до самого крайнего выражения,
изображает их отношения дуалистически и делает Бога существом
потусторонним, человеческое сознание Бога мистическим, а человеческую
33
К у но. Фишер
жизнь аскетической, — тот же самый мотив в интересах
опосредствования отношений Бога с миром превращает философию в
демонологию.
Естественно, при таких условиях не может родиться новой
научной системы, да в ту эпоху в ней и не ощущалось
потребности. Философия возвращается назад к прошлому, и все
родственное ей в системах прошлого она усваивает, преобразовывает,
обновляет в религиозном духе, который теперь руководит ею. В этом
отношении интересны главным образом два направления, которые
идут навстречу господствующей потребности, и так как они
проникнуты одинаковыми реформаторскими и религиозными мотивами,
то и представляются типическими. Таковы пифагорейское и
платоническое учения, творцы которых теперь окружены ореолом
божественного величия. Благодаря религиозному духу этого времени
оба направления получают теологический характер. Этот характер
проявляют неоплатоническая и неопифагорейская философии.
Для того, чтобы пифагорейское учение превратить в теологическое
и обновить его в этом духе, необходимо его понятия об устройстве
мира выдать за мысли Бога, числа же, которые выражают этот
порядок в пифагорейской системе, должны пониматься образно в
качестве символов или знаков понятий, а следовательно, в качестве
самих идей, и в учение о числах нужно вложить учение об идеях,
т. е. в пифагорейскую философию вложить платоновскую. Таким
образом, Платоново учение является орудием создания того
религиозного мировоззрения, в котором так нуждалась древность
последнего периода.
На этом основании все это направление можно назвать
религиозным платонизмом, который начинается неопифагорейцами,
систематически развивается и живет в неоплатонических школах
(Плотин и Порфирий, Ямвлих и Прокл)13. И в самом деле, это
страстное стремление к сверхчувственному, чистому,
умопостигаемому миру, это влечение к освобождению от чувственного мира, к
освобождению от зла, эта воля, направленная к внутреннему
просветлению, — эти глубочайшие стремления, открывающие в
философии доступ религиозному духу, вряд ли могли найти высший и
более ясный образ, чем учение Платона об идеях. И сами
платоновские идеи, идущие ступенями от высшего единства вниз ко все
34
Ход развития греческой философии
возрастающему множеству до самой крайней границы, где формы
соединяются с материей, представляются как бы посредниками,
связующими членами, ступенями, которые ведут от Бога вниз к
миру; этот идеальный мир представляет собою удобную схему, в
которой философия, верующая в демонов, может уместить и
уложить свое представление о подчиненных Богу
существах-посредниках.
Это дает нам возможность легко определить ту
систематическую форму, в которую последняя школа древности облекает свою
задачу и в которой она ее разрешает. Здесь дело идет о системе,
которая должна удовлетворить двум условиям: с одной стороны,
довести дуализм Бога и мира до крайней степени, с другой
стороны, опосредствовать этот дуализм целым рядом промежуточных
существ, которые должны составить один бесконечный ряд. Эти
промежуточные существа следует мыслить в виде
последовательного сходящего вниз ряда ступеней, иначе говоря, в виде царства
ступеней, в виде убывающего совершенства, которое исходит из
самого совершенного существа и кончается самым несовершенным,
т. е. чувственным миром, но вместе с тем тяготеет к своему
первоисточнику. Божественное первосущество следует мыслить как
существо потустороннее не только по отношению к миру, но и по
отношению ко всякой духовной деятельности, даже по отношению
к мысли и к воле, ибо как таковое оно недостижимо для человека.
Это царство ступеней должно исходить из божественного
первоисточника не при помощи воли или мысли, но как необходимое
следствие, проистекающее из полноты первоначального существа без
уменьшения этой полноты, как действие, из которого вновь
рождаются новые и все менее совершенные действия; иначе говоря, этот
ряд ступеней посредствующих существ следует мыслить в виде
последовательного ряда божественных эманации. То, что в
платоновской философии — идеи, то в неоплатонизме — эманации, в
которых освобождение от мира или стремление души,
отдалившейся от Бога, к соединению с ним мыслится в форме вечного
мирового и естественного процесса. Здесь мы ясно видим, как
религиозный мотив укладывается в языческом представлении. Эманация —
легко усвояемый материал для всех форм мифологии. То, что у
35
Куно Фишер
Плотина — эманации, для Ямвлиха уже — потомки богов и
демонов, которых Прокл группирует и систематизирует.
Из центрального пункта религиозного платонизма,
составляющего его основу, это мировоззрение описывает круг, который
более широк, чем кругозор Пифагора, и выходит далеко за пределы
греческого мира. Религиозные ощущения как таковые родственны
друг другу. Всякое явление с ясно выраженным религиозным
характером имеет важность для данного времени. Так как настроение
этого времени мистично, то религиозные, наиболее таинственные
формы образования и носящая характер Божественного
откровения религиозная мудрость приобретают теперь особенное значение.
Этим объясняется могучая и полная фантазии прелесть, с которой
обставлялись мистерии греков, орфические таинства, восточные
религии. Чем явление таинственнее, тем оно более матично и тем
действеннее производимое им впечатление, и чем оно темнее и
непроницаемее, т. е. чем отдаленнее, тем таинственнее оно должно
быть. Отсюда и стремление этого платонизирующего направления
отодвинуть источники религиозной мудрости за пределы истории и
скрыть их во мраке времен. Люди этого времени, полного
религиозной мудрости, желали бы, чтоб она родилась во мраке, оттуда
проникла в философию и религию и при помощи гениев, этих
светочей мира, достигла их времени, в котором обновляются
древние полные таинственности откровения. Характерно для
религиозных представлений и для догматов философии этого времени то,
что они находятся в согласии со всеми религиозными
мыслителями прошлого и, в соответствии со своими религиозными
предпосылками, приводят их в согласие между собой. Зга философия
всюду, как в зеркале, видит отражение своего собственного образа
мыслей, она открывает свои представления в платоновской
философии, платоновскую философию открывает в древней мудрости
Пифагора, а эту последнюю — в египетских таинствах, в мудрости
магов и браминов и в откровениях иудейских пророков; она
чувствует себя звеном в этой великой духовной цепи, посредством
которой передаются божественные откровения и в человечестве. Ее
же собственное отражение в прошлом представляется ей
первообразом, от которого она хочет получить свой собственный свет. Как
думают эти религиозно-платонизирующие философы, так должны
36
Ход развития греческой философии
были думать и сами Платон и Пифагор, платоники и пифагорейцы,
и, чтобы оправдать такое полное согласие и привести для него
доказательства, философы выпускают целый ряд сочинений,
написанных в духе нового образа мыслей, но под именами Орфея,
Пифагора и пифагорейцев. Воображаемая связь заступает место
действительной, которая совершенно затемняется, благодаря
догматическим представлениям; таким же образом затемняется и наконец
исчезает под давлением этих же самых представлений
исторический смысл и историческая критика.
2. Идея логоса
Из восточных религий в особенности одна — иудейская —
чувствует свое духовное родство с религиозным платонизмом и
приходит в соприкосновение с ним. Падение и несчастье народа,
находящегося под гнетом господства иноземцев, тягость этого гнета,
потребность и стремление освободиться от него, надежда на
восстановление царства в будущем, вера в потустороннего Бога,
религиозное оживление, расширение и очищение идеи Бога в сознании
пророков, само явление пророчества как носителя религии, с его
реформаторским направлением, с его возвышенным до экстаза
просветлением, вера в чудеса и укорененные в народном сознании
представления об ангелах как о существах-посредниках между
Богом и людьми — все эти черты придают иудейству характер,
родственный с развитой нами формой греческой философии, и делают
Моисееву веру доступной для платонизма.
Внешние условия для их духовного общения создались в
Александрии, в этом центральном пункте эллинизируемого
Востока. Иудаизм осознает свое родство с платонизмом, но понимает его
только таким образом, что предполагает происхождение греческой
философии из Ветхого завета, из священных преданий своей
родной веры, а предания своей веры понимает благодаря согласию их
с греческой философией. Так создается аллегорический способ
объяснения ветхозаветных писаний, и на них основывается иудео-
александрийская религиозная философия, достигающая своего
полного выражения у Филона, подобно тому как религиозный
3 Куно Фишер
37
К у но Фишер
платонизм греков достиг своего выражения у позднейших
неоплатоников.
Эта иудейская философия тождественна религиозному
платонизму, под именем которого поэтому мы обобщаем все
движущие факторы духа последнего дохристианского времени. Чтобы не
потеряться в частностях, так как мы должны иметь в виду только
главные мотивы, нам следует отыскать главный пункт всего этого
направления. Господствующая проблема этой философии —
искупление мира; главная мысль, разрешающая проблему, есть мысль о
мироискупительном принципе. Последний может быть мыслим
только как Божественная мировая цель, как мотив к творению, как
мирорегулируюшая и присутствующая в созидании вещей идея,
которая привносится во вселенную в творении, тогда как сам Бог
пребывает совершенно свободным и изолированным в чистой
потусторонности мира. Следовательно, миротворящий и мироискупи-
тельный принцип нужно отличать от Бога, он не Бог, но исходит
от Бога, как Слово от Духа; он есть, если выразить его наглядно,
слово Божие — Божественный логос. В этом понятии сведены
воедино все существа-посредники между Богом и людьми,
независимо от того, называть ли их демонами, как называли их греки,
или ангелами, как называли иудеи. Логос играет роль посредника
между Богом и человечеством.
Идея логоса развилась в греческой философии. Чтобы войти в
сознание человека, идея,эта требовала такого направления мысли,
которое с самого начала сделало принцип мира своей основной
задачей. Греческая философия с самого своего возникновения
постоянно имела в виду мировой принцип; свою мысль о нем она
развила и приспособила в досократовскую эпоху — к объяснению
вещей, в классический период — к объяснению познания вещей,
в эпоху, непосредственно следующую за Аристотелем, — к
осуществлению человеческого идеала, в последний период — к тому,
чтобы понять освобождение человека от мира. Если мы пожелаем
обозначить мировой принцип словом «логос» — так как под
логосом и нужно понимать мировой принцип, хотя это обозначение не
было постоянным, — то мы можем сказать, что греческая
философия была почти всецело занята вопросом о том, что такое логос.
Из ряда знакомых нам решений я хочу остановиться на трех глав-
38
Ход развития греческой философии
ных формах, в которых мы встречаемся с наиболее ясным
выражением греческого понятия о логосе. Принцип мира следует мыслить
как миропорядок, который тождествен вечному мировому процессу,
но этот миропорядок немыслим без единой мировой цели,
отражающейся в мировом процессе и являющейся неподвижным бытием
в непрерывном становлении; однако эту вечную мировую цель
нельзя не представлять вместе с тем и образующей мировой силой
и созидающей возможностью, которая формирует мир и является в
то же время семенем, из которого развивается мир. Мы узнаем в
первой форме гераклшповское объяснение мирового начала, во
второй — платоновское и в третьей — по примеру Аристотеля —
стоическое. В первом толковании логос является в качестве
миропорядка и мирового процесса как природы или космоса; во втором
логос есть первичный образ идеального мира, мир идей, идея
добра, и в третьем он является полнотой мирообразующих сил,
ЛЛуос отерцахш.
В гераклитовско-стоической форме мы и встречаемся со
словом «логос».
3. ИЦЕЯ ЛОГОСА И МЕССИАНСКАЯ ИДЕЯ
Но центральным пунктом греческой идеи логоса является
собственно платоновское представление. Оно близко гераклитовско-
му логосу, и на него опираются в своем учении стоики, ибо нельзя
представить мировой процесс без мировой идеи, и еще менее —
творческие возможности мира. Платоновское представление об
истинном мире заключает в себе и человеческий первообраз — как
умопостигаемое основание нашего бытия и цель нашего
существования. В отношении к этому первообразу наше земное бытие,
наше воплощение в чувственном мире мы можем понять только как
падение души, в котором виноваты страсти. Наше возвращение к
прообразу возможно только через очищение, полностью
искореняющее в нас плотское начало. Если такова цель человека, то не
должно ли освобождение человека от мира быть целью самого
мира? В этом пункте платоновская философия являет свой
религиозный смысл, этим она мотивирует и этим освещает то
религиозное настроение, чувства и образ мыслей, которыми проникнута
39
Куно Фишер
греческая философия последних веков. Отныне логос является
искупительным мировым принципом, Божественной мыслью об
освобождении мира, в которой заключена тайна, т. е. внутренняя
цель творения; логос — мотив творения, он есть созидающее слово
Бога. Слово исполняется в том человеке, который умеет побороть в
себе мир и таким образом восстановить в себе чистый первообраз
человека.
Наступил момент, когда греческая и иудейская трактовки
проблемы искупления должны были столкнуться и обнаружить во
многих сходных представлениях свою религиозную общность.
Первая опирается на понятие логоса, вторая — на представление о
мессии: логос есть обобщенный мировой принцип, стремящийся к
воплощению в личности, мессия — лично понятый народный
идеал, который должен еще обобщиться. Оба направления стремятся
дополнить друг друга. К такому самовосполнению в особенности
стремится иудейская сторона. Ввести платонизм в иудейство
значит усмотреть в представлении о мессии идею логоса. Эту задачу,
подготовленную уже в иудео-александрийской книге мудрости14,
разрешает Филон, сделавший Логос-Мессию центральным пунктом
своей философии; Логос-Мессия у него посредник и искупитель
мира.
Проблема искупления требует личного освобождения.
Искупление должно наступить с того момента, когда появится человек,
действительно преодолевший в себе мирское в самом глубоком
смысле этого слова, истинно свободный от мира человек, в котором
все человечество признает свой первообраз и в которого поэтому
оно начнет верить как в искупителя мира. Для разрешения
проблемы создания мировой религии такая форма представляется
единственно возможной. Должна явиться такая личность, которая
освободит себя от мира, а через веру в себя искупит и мир, такая
личность, о которой можно будет сказать, что в ней свершилось
искупление, проявилась идея, в ней логос стал телом, а Бог
человеком. Только верой в такую личность может быть удовлетворена
потребность человека в искуплении.
С точки зрения идеи логоса как она понималась греческой
философией, такого человека нельзя найти, потому что идея не
содержит в себе указания на определенный индивидуум, на
существо
Ход развития греческой философии
вующего человека, идея не дает вере, которую она наполняет
собой, никакого направления, ведущего к личности. Между логосом
и человеком лежит непроходимая пропасть, которая не исчезнет
оттого, что она будет все более и более наполняться разрядами
богов. Идея логоса могла бы найти свое воплощение в личности,
но естественная человеческая жизнь ни в чем не походит на идею
и не соответствует ей. Мысль об освобождении находится в
противоречии с человеческой природой; она остается по ту сторону
действительности как чтото общее, нежизненное, и, таким образом,
на основании такого представления потребность искупления
остается без будущего, без перспективы и без надежды.
Напротив, у иудеев потребность в искуплении исполнена
чаяний и надежд; у них национальный идеал сложился в образе
мессии; они ожидают этого грядущего спасителя, избавителя
народа, того народа, которого Бог избрал и которого хранит для
господства над миром; этот повелитель мира, мессия, которого
предвидели в будущем пророки Израиля, составляет предмет высочайших
упований и веры иудейского народа. Когда явится мессия, который
будет и искупителем, но явится не так, как ожидает его иудейская
религия, а как жаждет видеть его идея логоса, т. е. в качестве
искупителя мира, тогда исполнятся все условия, в которых
религиозная мировая проблема найдет свое всемирно-историческое
разрешение. Исходный пункт этого лежит в иудейском народе.
Мессианская идея привносит личную направленность, недостающую идее
логоса. Поэтому потребность искупления должна примкнуть к
этому направлению, чтобы при помощи мессианской веры достигнуть
своей цели, через которую утверждается вера в воплощение логоса,
в вочеловечение Бога как в историческое событие. Для веры нет
пути от логоса к человеку, но есть путь от человека к мессии и от
этого мессии, искупителя не в иудейском смысле, к логосу.
Историческая эволюция идет этим путем: путь этот окольный, но
кратчайший, потому что он ведет к цели, а еще Лессинг сказал, в
«Воспитании человеческого рода»: «Неправда, что прямая линия всегда
кратчайший путь».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ХРИСТИАНСТВО И ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
L ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО
Личность Иисуса удовлетворяет потребность человечества в
искуплении, ощущаемую им самым глубоким, самым чистым и,
что всегда пленяет и поражает, самым простым образом. В
искуплении одухотворяется и проясняется иудейский мессианский идеал,
он прежде всего проникается новым духом, который стремится уже
не к возвышению народа, не к господству над миром, но к измене
нию и возрождению внутреннего человека. В нем разрешается
глубочайшая и самая трудная из всех мировых проблем, проблема
освобождения человека от мира. Сам Иисус есть личное
разрешение этой проблемы, и потому его появление было таким же
решительным поворотным пунктом в развитии человечества, каким
оказалось влияние Сократа на греческое сознание. Это сравнение
показывает, вместе с тем, разницу между обоими.
42
Христианство и христианская церковь
С этого времени начинается духовное обновление
человечества. Сначала должна была явиться личность, воплощающая
Божественную идею человечества, восстанавливающая и
открывающая через себя человеческий первообраз; затем человечество
должно было признать этот первообраз за свой собственный и
уверовать в личность Иисуса как в Спасителя мира. Эта вера в Иисуса
Христа образует основание и составную часть христианства; она
содержит в себе задачу, которая с этого времени исключительно
занимает человечество и вместе с его движением вперед порождает
последовательно все новые и новые проблемы.
Мы проследим здесь эти проблемы со стороны их
философской действенности, в той мере, в какой они ускоряют появление
нового, отвечающего христианской вере мировоззрения и в какой
они выражают его. Мировоззрение это всецело религиозно,
направлено только на человеческое спасение, на искупление мира, на
отношение человека к Богу. Поэтому отвечающее ему религиозное
созерцание исключительно теологично. Теологическое направление
мысли образует характерную черту христианской философии, под
которой мы понимаем систему представлений, основывающуюся на
вере в Христа как на своем принципе.
После того как христианская вера добилась не только
внутреннего, но и внешнего признания в качестве мировой религии,
христианская философия могла выступить впервые с новой
системой своих представлений. В своей первоначальной форме
христианство явилось не как догма, а как возвещение факта, не в
догматической, а в евангелической форме. Внутреннее его развитие
должно было пройти ряд исторических форм и устранить
противоречия, которые необходимо исследовать и изучить по
первоисточникам христианской религии.
Постепенно вера в Христа достигает более высоких точек
зрения, с которых религиозно созерцается личность Иисуса. На
первой ступени евангельской веры его личность имеет значение
мессии избранного народа; на второй, более высокой ступени этот
мессия является Спасителем мира, пришедшим не возвеличить
иудеев, но искупить человечество. На третьей, высшей ступени в
Искупителе созерцанию открывается спасительный мировой
принцип, Христос вечный, воплотившийся Логос, Бог вочеловечив-
43
Куно Фишер
шийся, и в этом духе евангелисты изобразили личность и жизнь
Иисуса.
Это специальная задача, требующая тщательного
исследования Библии, — проследить эволюцию по новозаветным
источникам и изобразить противоречия, переходные формы и смешение
иудаистских и эллинистических представлений, великую и
продолжительную борьбу, глубоко и страстно волновавшую христианство
первых времен, борьбу, необходимую для того, чтобы освободить
новую веру от оков, связывавших ее на первых порах, и вывести
ее на путь всемирно-исторического развития. Нужно было
разрешить спор между иудейской верой в мессию и верой в мирового
Спасителя, между сектой и мировой религией, между
партикулярным и универсальным христианством, между иудео-христианским
и языческохристианским направлением, между Петром и Павлом
в религиозном сознании, которое в павловской форме разрубает
иудейские оковы и отрезает пуповину, связывающую христианство
с его материнским лоном — иудаизмом. Только постепенно
устраняя и нейтрализуя эти глубокие противоречия, христианская
вера достигла универсальности, в которой содержались цель и сила
всемирно-исторического развития.
П. ЦЕРКОВЬ
Разрешением этой задачи является церковь, которая должна
организовать в устойчивых формах царство веры, созидающееся
среди упадка старого мира и закладывающее фундамент нового
мира. Но для того, чтобы наступили такие церковные порядки и
создалось на прочных началах организованное общение,
христианская вера должна отказаться от своих апокалиптических
представлений о близком сошествии с небес мессии, о предстоящем конце
этого мира, о создании тысячелетнего царства, так как при
представлениях подобного рода вера нуждается в длительном
функционировании церкви. По мере того как эта вера преодолевает свои
мессианские формы и все более и более одухотворяется, по мере
того как утверждается идея ее универсального назначения, а
вместе с ней становится настоятельнее потребность в новом типе чело-
44
Христианство и христианская церковь
веческого общения и в новых порядках жизни, соответствующих
этой идее — по мере этого церковь становится необходимой для
христианства. Вместо ожидаемого от мессии тысячелетнего царства
теперь основывается на земле церковь в качестве царства
невидимого Христа, царства хотя не от мира сего, но в мире сем и
предназначенного для мира сего.
Зго царство требует единения всех верующих, которым
должны совершенно проникнуться и которому должны подчиниться
новые жизненные порядки. Но единение верующих в Христа
может быть только единением во Христе. Вместе с тем единение это
для своего осуществления на земле требует видимой формы.
Общество верующих должно знать свою связь в одном главном лице,
представляющем Христа в глазах общества и заступающем его
место в общине. Задача единства веры, которая тождественна
задаче церкви, может быть разрешена через идею замещающей Христа
должности, т. е. через идею епископата. Епископы суть
представители Христа на земле, они могут быть этими заместителями только
в качестве преемников Христа, но не непосредственных —
таковыми являются апостолы, — а непрямых заместителей, т. е. в
качестве преемников апостолов. Так оправдывается смысл епископата
идеей апостольского преемства.
Епископов много, а идея единения, тождественная идее
церкви, требует, чтобы они сплотились в еще более высокое единство.
Должен существовать старший епископ. Из идеи апостольского
преемства следует, что такой старший епископ должен иметь
статус преемника старшего апостола, т. е. преемника Петра. И вот
теперь по всей римской империи раскидывается церковь, в ней она
находит сложившиеся политические порядки, с которыми
соотносится как с реальными условиями. Политические центры этого
мира кажутся предлагаемыми самой историей объединяющими
пунктами церковного управления. Таким образом, все главные
города провинции сами собой становятся местом пребывания
епископов, главные города империи — местопребыванием
митрополитов и патриархов, столица империи — местопребыванием старшего
епископа. Политическими основаниями обусловливается, что
объединяющее церковь начало, или епископский примат, находится в
Риме; клерикальными основаниями обусловлено, что этот примат
45
Куно Фишер
должен быть прямым преемником и заместителем Петра. Из этих
обоих условий, действующих в данном случае с необходимостью
совокупно, следует, что римский епископ есть преемник Петра, а
апостол Петр есть основатель христианской общины в Риме. И,
таким образом, в этот период развития церкви возникает идея
папства, осуществившаяся в западной церкви.
В высшей степени поучительное исследование, проливающее
свет как на состояние мысли, так и на развитие
иудео-христианского склада мышления, показало, как представление о пребывании
и деятельности Петра в Риме создалось сперва из враждебных
Павлу тенденций, как впоследствии оно приняло смягченную форму
петро-павловской легенды и стало одной из твердых традиций, на
основании которых римские епископы основывают свое церковное
первенство.
Если нужен пример исторического развития, которое
начинается исключительно на почве идеи, движется и проникнуто ею,
то едва ли существует среди разнородных типов жизнеустройства и
всех форм образования человечества более величественный
пример, чем христианская церковь, которая, исходя из идеи единства
веры, придает ей определенные формы и, расширяясь, постепенно
становится управляющей миром силой. Ее основная форма в
высшей степени проста. Она так устроена, что верующие могут быть в
живом и действительном общении с Христом, что личность Христа
через непрерывный ряд посредников кажется связанной с
христианской общиной; эта церковная связь опосредствована через
епископов, их зависимость от Христа в свою очередь опосредствована
через апостолов и через отцов церкви: поэтому историческая
реальность личности Христа приобретает значение неопровержимой
церковной аксиомы.
В короткое время церковь превращается в полную жизни
нерушимую силу. Постепенно она укрепляется, несмотря на
преследования римского государства и даже благодаря этим
преследованиям; внутри языческого мирового государства, которое
расползается по швам и лишается внутренней сплачивающей силы,
христианская церковь несколько столетий спустя становится живым
самодовлеющим единством. Единство государства покоится на
цезаризме, религиозное единство — на церкви, противостоящей государ-
46
Христианство и христианская церковь
ству как внушительная и в этом своем внешнем проявлении даже
непреодолимая сила. В одном направлении цезаризм и церковь
сходятся друг с другом, а именно в стремлении к централизации.
Это родство обосновывает притяжение, проявляющееся со стороны
церкви по отношению к центральной государственной власти. Если
обе эти силы пронизывают друг друга и вступают в союз, то от
этого начинают крепнуть и власть, и авторитет каждой из них.
Такое положение вещей, которое может быть представлено и в
религиозном свете, хорошо понимал Константин Великий15: он
преклонился не столько перед крестом небесным, сколько перед
крестом земным; цезаризм начинает исповедовать христианство и
потому возвышается до мирового могущества.
Что Константин в начале IV столетия основывает, а Юлиан16
пятьдесят лет спустя после первых эдиктов о терпимости напрасно
старается уничтожить, то укрепляет Феодосии Великий17 в конце
этой эпохи, еще до разделения великой империи.
Первая внутренняя задача новой религии состояла в
раскрытии и преодолении апостольских противоречий при обосновании
католического христианства. Ее внешняя задача состояла в
одолении языческого мирового царства; победа была достигнута после
того, как христианство в течение трех первых столетий выдержало
все роды политического преследования от Нерона до
Диоклетиана18 и испытало все нападки философии от Цельса до Порфирия
и Юлиана19.
Ш. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ
1. Проблемы
Единство веры требует совершенной согласованности в
постулатах веры, эти постулаты она должна сделать понятными и
общими, т. е. символическими; только церковь может разрешить эту
задачу, потому что только она, в силу своего устройства, обладает в
лице епископов и синодов органами, которые имеют власть
определять и устанавливать веру. Христианская вера должна оставаться
чуждой всем произвольным представлениям, всем противоречащим
47
Куно Фишер
точкам зрения и достигнуть устойчивой формы. В такой форме
нуждается церковь, так как единство веры требует также единства
религиозного сознания; этим самым и церковь впервые
приобретает внутреннюю прочность. Люди, закладывавшие фундамент
церкви, эти творцы религиозного учения, с полным правом
называются отцами церкви, patres ecclesiae; они превращают веру в
положения веры, или догмы, они основывают учение церкви, а вместе
с этим и ее внутреннее религиозное единство, они разрешают
основные задачи теологии, которая, как и этот период развития,
называется патриотической.
Разрешение задачи достигается регулятивной точкой зрения.
Критерий церковного единства веры определен учением Христа и
апостолов. Истинно то, чему они учили, и то, что в качестве их
учения продолжалось и передавалось в строгой последовательности
преемниками апостолов, с которыми церковь считает себя, и только
себя, в исторически живой связи и зависимости. Истинно поэтому
то, что согласуется с апостольской традицией. Как апостольское
преемство создает единство церковной веры, так и апостольская
традиция создает норму и канон для религиозного учения церкви.
По этой точке зрения и по основной идее христианства можно
проследить, как ставится и разрешается патриотическая задача. То,
во что должно верить, есть Христос, искупитель человечества. В
него же нужно уверовать как в то лицо, в котором исполнилось
мироискупление. Вера в этот факт создает прочную предпосылку,
на которую опирается церковь; этот факт дает надежное
направление вере, регулирующее религиозные представления и вносящее в
них определенный порядок. То, что противоположно этому
направлению, ложно; то, что соответствует ему, истинно. Так
различаются между собой в христианских понятиях ортодоксия и гетеро-
доксия. Задача церкви в том, чтобы соответственно этому
направлению изобразить и прочно установить ортодоксальное религиозное
учение. В этом же самом факте веры заключается и основной
вопрос христианской теологии. В личности Христа исполнился акт
искупления мира, следовательно, в Христа нужно верить как в
мироискупителя, как в мироискупающий принцип, который вечен,
подобно Божественной мировой цели, подобно Божественному
творческому мотиву, вечен, как сам Бог. В мироискупительный же
48
Христианство и христианская церковь
принцип, в свою очередь нужно верить как в личность Христа —
как в определенное историческое лицо. Оба религиозных момента
должны быть оценены в одинаковой степени, и оба они требуют
объединения в церковном учении. Если мы предположим
известный способ представления, признающий в Христе искупительное
мировое начало и освещающий Его таким образом, что этим самым
историческая, человеческая личность исчезает и делается
нереальной, то тем самым устранится и перестанет быть историческим и
действительным фактом акт искупления. Такой способ представлю
ния поэтому ложен. Или если мы допустим другой способ
представления, освещающий в личности Искупителя конечное и твар-
ное, так что низводится и делается незначительной Его
Божественная природа, то факт искупления оказывается невозможным, и
потому такое воззрение противоречит тому, во что следует верить.
Так в спорах с противоположными религиозными воззрениями
церковному учению приходится создавать свое собственное
воззрение; ему угрожают с двух сторон. Но обе враждебные ему стороны
находятся во вражде между собой: с одной стороны, Божественное
явление Христа переоценивается в ущерб Его исторической и
человеческой реальности; с другой стороны, напротив, придается
большее значение Его тварной сущности, чем Божественной. В первом
случае нужно бороться с гностико-докетическим, во втором — с
рационалистически-арианским10 воззрениями.
Если мы допустим факт искупления во Христе как
первоначально данный, то задачей патриотической теологии является
согласование с этим фактом религиозных представлений, приведение
в согласие с ними религиозного принципа и определение их таким
образом, чтобы они не противоречили этому первоначальному
основанию. Человечество должно быть искуплено Христом, т. е.
примирено с Богом. Это событие является вместе с тем как бы
результатом трех факторов: Бога, Христа и человечества. В отношении ко
всем трем факторам мыслима некоторая группа представлений,
которая не соответствует акту искупления, поэтому все такие
представления, по понятию церкви, ложны и должны быть таковыми;
следовательно, в отношении ко всем трем условиям, только
известные представления могут быть истинными. Поэтому задача церкви
и состоит в том, чтобы определить такие истинные представления.
49
Куно Фишер
Если Бог будет мыслиться не как источник искупительного
мирового принципа, являющегося в личности Христа и искупающего
общество верующих, то факт искупления ничтожен. Если личность
Христа будет мыслиться не как исполнение искупления, то этот
факт будет безразличным и он мог бы не случиться в мире. Если
человеческая природа не будет мыслиться как нуждающаяся в
таком искуплении и восприимчивая к нему, то факт искупления
останется бесцельным и пустым.
В отношении к этим первоначальным фактам веры развитие
церковного учения преимущественно сосредоточивается на
решении следующих трех проблем: как нужно мыслить существо Бога,
Христа и человека, чтобы во всех трех пунктах наши
представления о факте искупления согласовывались между собой? Первый
вопрос — это теологическая проблема, второй — христологиче-
ская, третий — антропологическая. Церковное решение первого
вопроса дает Анастасий, епископ Александрийский, в споре с
пресвитером Арием; решение это, по меткому выражению Бауэра21,
так же относится к догме, как Григорий VII к церкви; второй
вопрос разрешает Кирилл, патриарх Александрийский, в споре с Не
сторием, патриархом Константинопольским; третий разрешается
Августином, епископом из Гиппо, в споре с монахом Пелагием.
Решение первого вопроса требует различения Божественных
ликов и отождествления их сущности: установления отношений в
Божестве, или понятия троичности. Решение второго вопроса
требует различения и объединения двоякого естества в Христе, т. е.
установления понятия Богочеловечества. Решение третьего
вопроса состоит в учении о Божьей благодати и о греховной природе
человека, которой определяется понятие человеческой свободы. Тут
впервые церковная религиозная система находит свое полное
выражение, принципиально противопоставляя себя языческому миру.
Это противопоставление христианства и язычества проводит
Августин, характеризуя оба эти миропорядка как непримиримые в
самом основании: язычество — как царство этого мира» «civitas
terrena»; христианство — как царство Бога, «civitas DeU.
SO
Христианство и христианская церковь
2. Учение Августина
Августин — самый значительный из всех церковных
мыслителей, и если теологическое значение зависит от церковного, то
он — величайший из всех христианских богословов, так как он
показал церковь как она есть, сделал ясным ее значение; он зажег
свет, в котором церковь познала самое себя. В этом смысле об этом
отце церкви можно сказать по справедливости, что он был великим
светочем церкви. Он не только сделал веру в церковь всеобщей, но
вместе с тем обосновал веру в церковь, выводя из религиозного
принципа искупления все те следствия, которые имеют отношение
к человеческой природе.
Человеческая природа мыслится как поддающаяся влиянию
факта искупления и предрасположенная к нему. Она должна
поэтому нуждаться в искуплении, т. е. быть греховной; она может
искупиться только с помощью Христа, поэтому она представляется
неспособной искупить себя сама, т. е. несвободной в своей
греховности. Грех соответственно этому есть сила, подавляющая волю; он
есть свойство воли, от которого она не может освободиться; грех
есть природа человеческой воли. Но грех есть в то же время и
вина, вина предполагает свободу, ибо только последняя способна
быть виновной; вина, исключающая свободу, исключает самое
себя. Поэтому грех является актом свободы и вместе с тем ее
потерей. Первоначально человек обладал свободой не грешить, но он
согрешил, поэтому он потерял эту свободу, и притом навсегда. С
того времени он не может не грешить. В первый грех впал весь
человеческий род, в Адаме все согрешили. По своему
происхождению грех был свободен, по своим последствиям же он есть рабство,
продолжающееся проклятие человеческой природы,
наследственный грех.
Таково основное понятие Августина, которому он придал
именно этот смысл, которое он довел до полного осознания и
сделал центром учения об искуплении.
В состоянии наследственного греха человек неспособен
достигнуть искупления, он не может ни даровать его себе, ни
заслужить; искупление может быть даровано ему и вопреки его заслу-
51
К у но Фишер
гам, т. е. при помощи благодати; эта благодать со стороны
человека ничем не заслужена, она поэтому не обусловлена, она действует
безосновательно и является актом Божественного произвола. Бог
независимо от деяний человека ниспосылает на него благодать,
т. е. избирает его к искуплению, — поэтому искупление имеет
значение избрания благодатью, избрания, независимого от
человеческих поступков и деяний, которыми выбор мог бы
руководствоваться; оно предшествует человеку и поэтому должно мыслиться
как Божественное предопределение, или предистинация. Избирать
значит предпочитать: одни избраны Богом к блаженству, другие
обречены на осуждение. Теперь по божественному определению,
раскрывшемуся в факте искупления, человек может приобщиться к
Божественной благодати только через Христа, общение с Христом
возможно только через церковь, следовательно, церковь есть
царство милости Божьей, Божественное учреждение благодати на
земле, обусловливающее человеческое искупление и являющееся
средством для него. Нет Спасения вне искупления, следовательно,
нет Спасения вне церкви: таково понятие о церкви, которая одна
ведет людей к блаженству. Nulla salus extra ecclesiam22.
Религиозный факт искупления требует, чтобы природа
человека мыслилась находящейся во власти наследственного греха. К
такому же требованию приводят понятия Бога и церкви. Бог
должен мыслиться как необусловленная, т. е. всемогущая воля, он не
только сила, но и воля: это понятие отрицает всякую эманацию.
Он безусловная воля, не ограничиваемая ничем вне ее,
следовательно, вне ее нет ничего, что могло бы ее ограничивать. Это
понятие отрицает всякий дуализм. Религиозный платонизм,
неоплатоники, христианские гностики мыслили дуалистически и эманатив-
но. Августиновская теология совершенно противоположна этим
системам представлений.
Если Бог есть воля, то мир есть творение его воли, т. е. мир
является созданным, а Божественная деятельность — творческой.
Если Бог — безусловная воля, то мир, так как он не исходит из
Божественной сущности, может быть создан при помощи
Божественной воли только из ничего, он создан «per Deum de nihilo»;
поэтому так как мир в себе ничтожен, то сохранение мира
является непрерывающимся творением со стороны Бога, «creatio соп-
52
Христианство и христианская церковь
tinua», таким образом, все происходящее в мире определено, т. е.
предопределено Божественной волей. Согласно такому
предопределению, люди предназначены одни к блаженству, другие к
осуждению; таким образом, искупление не может быть ничем
обусловлено со стороны человека, т. е. люди сами по себе совершенно
неспособны к искуплению, так как они настолько находятся во
власти греха, что последний образует свойство их воли, которое
передается по наследству из рода в род. Здесь августиновская
теология оканчивается понятием наследственного греха.
Два главных понятия августиновской системы, по-видимому,
находятся в противоречии между собой: понятие Бога требует
безусловности воли, а безусловная воля — понятия
предопределенности, исключающей человеческую свободу; но без свободы нет
греха, без греха нет потребности искупления, а без этой последней
нет искупления. То, что отрицается понятием Бога, утверждается
понятием искупления. Это противоречие Августин хочет
разрешить тем, что он не отрицает человеческой свободы как таковой.
Бог дал человеку свободу, тот ее потерял, совершив грех, через это
грех стал наследственным грехом.
Понятие церкви требует понятия наследственного греха.
Смысл этой зависимости для августиновской системы вполне
понятен. Если церковь имеет значение единственного царства, войдя в
которое, мы сможем вступить в общение с Христом и тем самым
приобщиться к Божественной благодати, то она обладает властью
отпущения грехов, и только ею и могут быть отпущены нам грехи.
Это спасение нисходит на человека, когда церковь принимает его в
лоно свое через таинство крещения. Церковь же, в качестве
царства Божьей благодати, как и эта благодать, ничем не обусловлена
и не зависит от деяний человека; она предшествует индивиду, она
представляется, подобно государству у древних, целым, которое
предшествует частям: поэтому она приемлет человека в самом
начале его земного существования, при самом вступлении его в мир;
она должна присоединять к себе и детей, крестя их. Через
крещение и на детей распространяется отпущение грехов, следовательно,
и они должны нуждаться в прощении им грехов, т. е. быть уже
греховными, что, в свою очередь, возможно только как следствие
наследственного греха.
53
К у но Фишер
Весьма знаменательно то, что об осуждении некрещеных
детей разгорается спор между Пелагием и Августином. Если вне
церкви нет спасения и блаженства можно достигнуть только через
нее, то внецерковное состояние лишено спасения, по сю сторону
крещения царит проклятие, в царстве природы господствует грех,
ведущий к осуждению. Если нет наследственного греха, нет и
греховности детей, нет необходимости, в таком случае, в
отпущении грехов, нет необходимости в крещении детей; тогда церковь не
имеет преимущества перед единичными лицами, она не имеет
безусловного значения, иначе говоря, церковь не есть царство
благодати. Поэтому учение о наследственном грехе занимает
центральное место в учении церкви. Вера в церковь требует веры в
осуждение естественного человека и наоборот; что касается вечного спасе
ния человека, то его естественный человек не достигает, спасение
достигается только через церковь. Таков центральный пункт авгу-
стиновского учения, с беспощадной резкостью и энергией
выводящий все следствия, каких требует лежащий в основании
религиозный принцип, даже когда эти следствия ведут к неизбежным
противоречиям.
На этой системе основана церковь средних веков, отсюда идет
ее сознание своего безусловного верховенства. По мере развития
церкви в ней должны были создаваться такие явления, которым
предстояло отодвинуть на задний план учение Августина.
Вера в церковь выражается в безусловном послушании, в
исполнении всех требований церкви. Повиновение может проявиться
только одним способом: через угодные церкви деяния, через
внешнее действие, т. е. через церковное приношение. Деяние,
рассматриваемое с внутренней стороны, может оказаться лишенным
смысла, оцениваемое же с внешней стороны, оно может намного
превышать меру требуемого приношения и вполне удовлетворять
целям церкви, а потому быть богоугодным и святым деянием. В
природе поступка лежит возможность внешней оценки его. Отныне
можно приобретать заслуги перед церковью и оправдываться перед
ней поступками. Раз деяние человека приобретает значение как
средство оправдания, то оно более уже не исключается из числа
условий искупления, и потому поскольку деяние может быть
угодным Богу, постольку должно быть уделено место человеческой сво-
54
Христианство и христианская церковь
боде. Таким образом, как следствие веры в церковь, обоснованной
Августином, явилось ханжество, которое, в противоположность
Августину, должно опираться на пелагианское учение о свободе.
Когда размен религии на церковные деяния достиг крайних пределов,
тогда августиновская основная мысль о греховности человеческой
природы и о Божественной благодати всплывает вновь, но уже в
качестве реформаторской силы; в лице Лютера, Цвингли и
Кальвина она разбивает внутри западного христианства авторитет римско-
католической системы; в лице янсенизма она борется внутри
католического мира с системой иезуитов.
IV. ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ. АРЕОПАГИТ
Если церковь имеет значение царства Божьей благодати,
сосуда, избранного Святым Духом, места, где он проявляется, то в
таком случае она сама является одним из членов в установлениях
Божественной власти, вечным порядком, образующим в своих
иерархических формах лестницу, спускающуюся с неба на землю.
При таком воззрении совершенно покрываются мраком
историческое происхождение и ход развития церкви; она представляется
сошедшей с небес и получившей видимую форму в земной
иерархии, которая поднимается от иудейской иерархии к христианской,
от иерархии закона к иерархии церкви, от диаконов и
пресвитеров — к епископам и ведет по ту сторону мира к небесной
иерархии, к разрядам ангелов, высший из которых окружает престол
Господа.
Расположение платоновских идей по ступеням в последних
системах греческой философии, в религиозном платонизме,
превратилось в организацию языческих богов по разрядам. Это
представление, разработанное неоплатонической школой в Афинах, в
особенности в системе Прокла, было последним представлением
исчерпавшегося язычества. Отныне христианская церковь
приобретает значение Божественного авторитета, она также становится
царством ступеней, промежуточным между Богом и человечеством; ее
иерархическому устройству отвечает вполне тип и форма
неоплатонического воззрения. Этим объясняется, почему они вступают в
55
Куно Фишер
союз, почему христианизируется этот тип и почему, в свою оче
редь, церковь обожествляется в этих воззрениях. Подобного рода
соединение неоплатонических форм с верой в церковь, подобного
рода обожествление церкви составляет смысл и тему
произведений, в шестом христианском столетии приобретшие известность
как сочинения Дионисия Ареопагита, который был в числе первых
христиан, найденных апостолом Павлом в Афинах, и которого
молва превратила в первого епископа Афин, а франкская легенда
под именем Св. Дениса — в основателя общины в Париже.
Воззрения ареопагитической теологии, видящей и прославляющей в
церкви небесное царство, глубоко отразились на религиозной
фантазии и мистике средних веков. Это было учение, отвечавшее
запросам церкви.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ХОД РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
L ЗАДАЧА
Христианство стало церковью, вера в Христа — догмой; она
развилась в целый рад правил церкви и положений веры. Отныне
устанавливается незыблемо догмат, на котором зиждется все
дальнейшее развитие христианских идей, — догмат искупления, и
притом в форме выработанных отцами церкви и великими
соборами четвертого и пятого столетий правил и положений веры. Факт
искупления постулируется, он должен быть религиозно воспринят
и освобожден от всего, что ограничивает его значение. Положения
веры, напротив, являются предметом обучения, они должны быть
доказаны, приведены в связь друг с другом и систематизированы.
Как церковь образует последовательно проведенное единство
иерархической системы, так и учение о ней должно стать целостной
религиозной системой, быть в полном согласии с духом церкви и
находиться на службе у нее. Систематизация веры требует
определенного содержания и понятной связи между положениями,
являющимися основанием или выводом одних в отношении к другим,
т. е. она требует такой четкой структуры, благодаря которой
догматической вере можно и обучать, и обучаться. Такое методическое
направление христианскому учению веры дает схоластическая
57
Куно Фишер
теология. Место отцов церкви заступают учителя церкви в точном
смысле слова, «patres ecclesiae» заменяются «doctores ecclesiae».
Теология становится предметом преподавания, философией
церковной школы, схоластической философией. В таком виде она
образует философию той великой церковной эпохи, которую
обыкновенно называют средними веками мировой истории.
Этим точно определяются характер и задача схоластики. Она
состоит на службе у господствующей церкви и находится в строгой
зависимости от иерархической системы, ее работа в существенных
чертах формальна, ей предстоит из данного материала, по
предписанному плану, в определенном направлении соорудить систему
догм, вполне соответствующую зданию мировой церкви; в качестве
теологии схоластика — служебный член церкви, в качестве
философии она «прислужница теологии».
Но как бы ни было сковано в схоластический период
положение философии давлением церкви и теологии, все-таки в этой
скованности сказывается новое и своеобразное отношение,
установившееся в этот период между философией и верой. Учение
церкви определяет то, во что следует верить; схоластика должна
выяснить, почему предмет веры истинен. Догма гласит: «Deus homo»,
схоластика задается вопросом: «Сиг Deus homo?»23 Нужно, чтобы
религиозное учение стало ясным для естественного рассудка;
человеческое познание должно прийти в согласие с религией: это
согласие составляет ясно выраженную задачу и вместе с тем
программу схоластики. В этом заключается отличие схоластики от
теологического развития, которое ей предшествует, и от
философского развития, которое следует за нею.
Религиозному учению церкви, в противоположность
гностицизму, который ему предшествовал, и в противоположность вообще
философии, исходящей от язычества и казавшейся церкви матерью
всякого еретического мышления, в это время предстояло еще
сложиться. Философия, а с ней вместе и естественное рациональное
познание являлись в глазах церкви антирелигиозным принципом,
в положениях которого Тертуллиан видел критерий безверия и
полную противоположность Божественной религиозной правде и
который он сразил своим «credo quia absurdum»24. В следующую
за схоластикой эпоху философия становится независимой от рели-
58
Ход развития средневековой философии
гии и вдет своей собственной дорогой, причем даже противоречит
религиозному направлению. До и после схоластики вера и
философия разделены, в схоластике же, пока она была в полной силе,
религия и философия были в союзе. Пока их союз прочен,
продолжается расцвет схоластики и она еще живет в своей стихии; но
когда союз этот прекращается, наступает и ее падение. Как только
вера разрывает свою связь с философией и объявляет ее свободной
от служения себе, появляются несомненные признаки
начинающегося падения схоластики. И это падение пришло изнутри, оно было
саморазложением схоластики; в ходе своего развития она должна
была дойти до того, чтобы требовать отделения веры от знания и
этим разрушить свое собственное создание. Движущий принцип
схоластики можно выразить так: «Credo, ut intelligam»25. Ее
фундаментом является «fides» церкви, а целью — «ratio fidei»26.
Схематизация веры есть вместе с тем и рационализация ее. Схоластика
есть рациональная теология при господстве церкви: в этом
выражается ее характер и заключается ее задача. Вместе со схоластикой
церковь оправдывает и философию; предоставляя ей поле
деятельности, она требует от нее создания христианской философии и
вносит в свое собственное развитие рациональную деятельность,
разумеется, в качестве служебной, вполне подчиненной, которой
церковная вера предписывает, что ей делать на службе у теологии.
Но служить значит стать свободным. Повиновение есть школа
свободы. Философия тяжелым трудом достигла своей зрелости и
добилась самостоятельности, благодаря которой она впоследствии
освобождается от служения церкви и начинает развиваться
самостоятельно.
П. ЭПОХА ЦЕРКВИ
Определяя задачи и деятельность схоластики, мы исходили из
предположения, что должна была существовать церковная эпоха,
которой необходимо было исторически обосноваться, прежде чем
эта клерикальная философия могла ступить на путь
наставничества; должны были развиться новый уклад жизни народов, которые
приняли христианство в форме церковной религии, воспитание и
59
Куно Фишер
культура которых исходила от церкви. Исчезновение древнего
мира, разрушения, принесенные переселением народов, распад
Римской империи, из всех наличных сил пережитый только церковью,
образование феодальных государственных порядков, принятие
христианства новыми народами, разделяющимися на романские,
германские и славянские, наконец образование нового
франко-каролингского королевства — вот условия, которые проложили путь
наступлению эпохи церкви и предшествовали появлению
схоластики. Сферой ее действия является западный мир, мир романо-гер-
манский: Испания, Франция, Италия, Британия и Германия.
Духовный центр этого нового мира — Рим, не древний Рим
цезарей, но Рим церковный, в мировом господстве которого и
состоит эпоха, названная нами церковной. Главенство церкви
покоится на ее единстве и централизации; центр мировой империи, а
потому и мировой церкви — Рим. Возвышение римского епископа
до степени главы церкви есть явление, обусловливающее и
составляющее содержание всей церковной эпохи. Этот высший римский
епископат есть папство, которое мало-помалу в продолжение
целых столетий поднимается по ступеням вверх и достигает высоты,
с которой оно зрит и церковь, и мир у своих ног.
Первой ступенью к такому возвышению было достижение
церковного первенства, на которое притязал в качестве преемника
Петра римский епископ и которого за несколько десятков лет до
падения Западной Римской империи добивается папа Лев I,
основываясь на достоинстве и главенствующем значении римской
церкви. В течение последующего времени, т. е. в период быстрой
смены политических судеб Италии (господство готов уступило место
господству греков, а последних сменили лангобарды), внешняя
независимость преемников Петра все более и более укреплялась.
Вторым большим успехом было достижение в восьмом столетии
союза с франкскими государями, о котором думал еще Григорий I.
Союз этот впервые позволяет римскому епископу владеть землей, а
после разрушения лангобардского государства, у самого порога
девятого столетия, создает тот полный значения и роковой момент,
который знаменует новое состояние исторического мира:
коронование Карла Великого на императорство первым епископом Запада,
церковное освящение средневековой империи цезарей, подчинение
60
Ход развития средневековой философии
мира двум властям, отныне согласным и равноправным, —
императору и папе. Так возник дуализм, который необходимо должен был.
вызвать борьбу между этими двумя властями за мировое
господство.
Наступил и третий подъем, который римско-католическому
примату и связываемому с ним значению придал видимость
законной основательности: это было появление собрания так
называемых исидоровских ложных декреталий27. Создавшееся теперь
положение отныне считалось изначальным положением, а римский
епископ получил статус издавна признанного епископа мировой
церкви, которому уже Константин предоставил господство над
Римом и Италией. Теперь впервые завершается иерархическая
система, пирамидальное здание церкви; римский епископ — не
только первый, но и верховный епископ христианского мира, глава
и владыка церкви. В этой централизации власти, в сущности, и
заключается папство. Псевдоисидоровские декреталии появились в
середине девятого столетия, вышли из лона франкского
епископата, возникнув в интересах последнего, ибо непосредственное
подчинение римскому владыке освобождало епископов франкского
государства как от светских, так и церковных властей
(митрополитов), стеснявших их своей близостью. Независимо от этих
поддельных декреталий постепенно сложившееся значение папы в
качестве церковной центральной власти энергично и вполне сознательно
подчеркивается папой Николаем I (858-867).
В борьбе за мировое господство и в последовавшей за ней
победе папство доходит до своей кульминационной точки, и в этот
момент церковная эпоха достигает своего апогея. Можно различить
три момента в возвышении папства: начало мирового господства,
кульминационный пункт и начало падения. На заре папского
могущества стоит Григорий VII (1073-1085), в зените—
Иннокентий III (1198-1216) и на закате— Бонифаций УШ (1294-1303).
Римским епископам недостаточно считаться преемниками Петра,
они становятся его заместителями; в этом направлении действует
Григорий VII. У церкви крепнет сознание своей силы.
Недостаточно быть и заместителями Петра; папы становятся викариями
Христа — наместниками Бога на земле, непогрешимым авторитетом в
человеческом образе. Сами епископы превращаются в папских
61
Куно Фишер
викариев, папа не только старший, но и, благодаря абсолютной
полноте его власти, единственный епископ. Таково положение
папства со времен папы Иннокентия Ш, положение, которое
опиралось на новый сборник принятых в течение ХП столетия
церковных постановлений, вышедший из рук Грациана и известный под
именем «Decretum Gratiani». В этом высшем подъеме власти
заключается папская система.
В мировой борьбе за универсальное господство можно
различить три крупных фазы. В первой фазе идет принципиальная
борьба между церковью и миром, или государством: таков спор между
Григорием VII и Генрихом IV28. Во второй фазе борьба происходит
из-за светской власти, и в особенности из-за обладания Италией: в
это время разгораются роковые войны между папами и Гогенштау-
фенами29; в третьей фазе возобновляется прежний спор между
церковью и государством, который принимает своеобразный
оборот, а именно: теперь политической силе приходит на помощь
национальное самосознание, римской центральной власти
противостоит уже независимость националистически настроенных
государств. Такова борьба, которую ведут против Бонифация король и
сословия Франции.
На арене противоборства появляются две сильные
организации, которые в форме пирамиды образовались в средние века:
иерархическая церковь и феодальное государство. Органы церкви,
будучи членами государства и входя в качестве частей в его
механизм, заплатили дань светскости и одичанию. Отторжение церкви
от светской власти, которая держала ее в оковах, освобождение ее
от всяких уз, опутывавших клир в обществе и государстве, и
отрешение церкви от мира, однако без потери ею сил, т. е. возвышение
церкви в ущерб государству, — вот что признавал Григорий VII
своей реформаторской задачей. Он запрещает браки духовных лиц,
продажу духовных должностей (симонию), светскую
инвеституру30 и вассальное подчинение епископов. Спор за инвеституру
продолжается и после него и кончается компромиссом сторон.
В борьбе с Гогенштауфенами побеждают папы, но средства,
благодаря которым они достигли торжества, несли в себе зерно их
погибели. Никогда Немезида не управляла так продолжительно и
так величественно в мировой истории. Ради уничтожения герман-
62
Ход развития средневековой философии
ского императорского рода папская политика создает в Италии
французский престол, необходимым последствием этого было
увеличение французского влияния на римский престол. В спор с
Францией вступает могущественный Бонифаций VIII. Он, более
всех других пап исполненный сознания своего величия и
непогрешимости, попадает в качестве пленника в руки короля Франции, а
второй из его преемников, папа французский, спустя два года
после смерти Бонифация переселяется в Авиньон (1305). Таким
образом, падение Гогенштауфенов, вызванное французской политикой
пап, обусловило французское пленение их, так называемое
«вавилонское пленение» (1305-1377): благодаря этому папство
провалилось в бездну, на краю которой стоял уже Бонифаций VIII.
Ближайшим последствием этого пленения было начало Великой
схизмы (1378)31, распад церковного единства, вызвавший
реформаторские соборы XV столетия, которые потерпели неудачу в своих
начинаниях. Реформирование церкви нельзя было объединить с
реставрацией папства. Что же еще оставалось, кроме как начать
церковную реформацию снизу; она была необходима, но оказалось
невозможным провести ее через соборы, как показали неудавшиеся
попытки. Как только время достаточно созрело, появился Лютер.
Таким образом, церковная эпоха охватывает весь период от
Григория VII до начала немецкой Реформации, которая образовала
в церкви непоправимую брешь. К этому времени относится
схоластика, связанная в своей духовной деятельности с церковью; она
продолжается с конца XI до конца XV столетий. Ход ее развития
вполне соответствует ходу развития церкви. В схоластике можно
ясно различить два периода: один — папского мирового господства,
или церковной централизации, другой — начинающегося
разложения и децентрализации. Первый период охватывает XII и XIII,
второй — XIV и XV столетия. Первые два столетия составляют эпоху
крестовых походов (1095-1291), во время которых папство стоит во
главе народов и которые (незадолго до Бонифация VIII)
оканчиваются потерей всех завоеваний. Естественно ожидать, что и на
развитии схоластики, зависящей от светского положения самой
церкви, отразится различие обеих эпох: что в ее первом периоде будет
преобладать идея церковной централизации, мысль о всемогущей
универсальной Церкви, связующей единичные силы, а во втором
63
Куно Фишер
периоде будет преобладать в качестве основного направления
церковная децентрализация, идея независимой, отделенной от мира и
государства церкви. Церковь и мир относятся друг к другу как вера
в церковь и естественное (человеческое) познание, поэтому-то в
первом периоде между верой и знанием будет утверждаться связь,
во втором же союз будет нарушен, — схоластика изменяет свой
характер в зависимости от времени. В том именно и заключается
ее философское значение, что в своей сфере она формулирует и
выражает сознание своего времени. Господствовавшие мировые
события обусловливали то, что в эпоху церкви сознание всецело
приспособлялось к церкви и не выходило за ее пределы. Было бы
нелепо жаловаться на пустоту и бесплодие схоластики и бранить
лес за то, что он не фруктовый сад.
Ш. ОСНОВАНИЕ СХОЛАСТИКИ
1. Иоанн Скот Эриугена
Схоластика начиналась дважды. Начала эти отделены друг от
друга более чем двумя столетиями. Первое начало, оставшееся
изолированным, относится к веку Каролингов, ко времени псевдо-
исидоровских декреталий и Николая I; второе начало, которым
открывается своеобразное развитие схоластики, относится к веку
Григория VII.
Первым основателем ее был Иоанн Скот Эриугена, британец
по происхождению, которого Карл Лысый призвал в Париж к
своему двору. Для него единство и универсальность Божественного
бытия имели значение действительного, а познание его было
озарением веры. Бог есть начало, середина и конец всего
существующего; последнее в своем многообразии видов определено понятием
творения и сотворенности. Существует бытие, все создающее, но
само не сотворенное — вечная творческая первооснова всего;
существует другое бытие, которое, будучи само сотворено, действует
творчески, — это Логос; третье естество состоит в творениях, но
лишено собственной творческой силы — таков временной и
чувственный мир; наконец, существует и последнее состояние, в
64
Ход развития средневековой философии
котором все творение и всякая тварь достигают своего
назначения, — это конец всех вещей в новом воссоединении с Богом.
Соответственно этому сущее, или природа в своей целокуп-
ности, делится на следующие виды сущности: Бог, мир в Боге
(Логос), мир вне Бога, возврат мира к Богу. В этом состоит «divisio
naturae»32 Эриугены; в форме этого деления нетрудно узнать
мыслителя платоновской школы. В манере Эриугены характеризовать
первосущность как лишенное различия единство и, подобно
пантеизму и учению об эманациях, определять остальные виды естества
как ступени жизни, имеющей источник в едином Боге, отделенной
от Него и возвращающейся к Нему, — в этой манере, несомненно,
выступают те черты его духа, которые родственны основному
воззрению неоплатоников и ареопагитической теологии. Не из одних
внешних побуждений он переводит Ареопагита.
По системе Эриугены, Божественная жизнь в мире имеет
только одно начало — происхождение от отца всех вещей, а
человечество — только одну конечную цель, соединение с Богом; в ней
нет поэтому другого, подобного первосуществу божества, нет
двойственности Божественного естества, нет двоякого исхождения
Святого Духа, нет двойного предопределения. Так как конечная цель
человечества состоит в одухотворении и просветлении и в новом
воссоединении с Богом (adunatio), то его общение с Богом в
видимой церкви и присутствие Христа в таинстве могут иметь только
художественное и символическое значение.
Эта система находится в противоречии с догматом о
троичности, с Богочеловечностью, с Божественным предопределением и с
возникшим учением о пресуществлении в жертвенных дарах.
Благодаря вековому культу в фантазии верующих символическая
жертва постепенно претворилась в реальную жертву. В эпоху
Эриугены из этого культа создалось учение Пасхазиуса Радбертуса о
пресуществлении (831), и тогда же начались споры о причащении,
которые при Григории VII возобновились между Ланфранком и Бе
ренгаром Турским и которые имели следствием то, что вызванное
интересами и устройством церкви учение о пресуществлении
сделалось церковным догматом при Иннокентии Ш (1215).
Вряд ли найдется более значительный пример развития
догмата из культа, пример более сильного испытания религиозной по-
65
Куно Фишер
корности в противоположность чувственной достоверности,
[лучший] пример истинности слов гетевского Фауста: «Чудо есть
любимейшее дитя веры», — чем вера в пресуществление.
Система Эриугены была в противоречии с римской церковью.
Это было время, когда возобновился спор о предопределении,
возникали несогласия по поводу пресуществления (транссубстанциа-
ции); вполне понятно, почему этот мыслитель претерпел
церковные гонения от синодов, епископов и пап (Николай I). У него
гностицизм сочетается со схоластикой, он требовал единства веры и
знания, но выражал это требование в системе, которая была
отвергнута церковью и спустя столетие после него осуждена как ересь.
Эриугену называют «западным Оригеном». Но схоластика для
разрешения своих церковных вопросов нуждалась во «втором
Августине».
2. Ансельм Кентерберийский
Он был современником и единомышленником Григория VII.
В том же году, в котором Гильдебранд взошел на папский престол,
Ансельм из Аоста был сделан настоятелем монастыря Бек во
Франции, преемником того Ланфранка, который защищал транссубстан-
циацию от нападок Беренгара; спустя двадцать лет Ансельм
сделался епископом Кентерберийским, высокопоставленным церковным
иерархом Англии. В борьбе за английскую инвеституру он
выступает против короля на стороне папы, в церковно-политических
вопросах он является иерархом, а в теологических—
провозглашенным церковью основателем схоластики; в нем иерархические и
теологические интересы солидарны между собой настолько,
насколько того требует дух схоластики.
Теперь церковная вера приобретает значение движущего
мотива и цели всякого познания, а само познание есть лишь средство
упрочить господство церковного учения. Там, где прекращается
понимание, вера приказывает остановиться, а разум подчиняется:
«Caput submittam!»33. Реальность Бога и Богочеловечность не
исследуются, вопрос о них даже не поднимается, как он поднимался
бы в том случае, если бы их надо было доказывать. Они не
проблематичны, но неопровержимо достоверны. Дело идет только об осно
66
Ход развития средневековой философии
ваниях доказательства для их демонстрации. Аргументы,
приводимые Ансельмом Кентерберийским в пользу бытия и
вочеловечения Бога в его *Proslogiurn'e», а также в сочинении «Сиг Deus
homo?», хорошо знакомят с характером схоластики.
Он доказывает бытие Бога онтологически. Из нашего
понятия совершеннейшего существа явствует его реальность, так как
если бы ему недоставало бытия, оно было бы неполным, а
следовательно, и наше представление не было бы тогда тем, чем оно
является, — представлением о совершеннейшем существе.
Вочеловечение Бога он доказывает тем, что только при этом условии грешный
человек и может быть искуплен. Ведь грехопадение, как проступок
против Бога, является бесконечной виной, которая не может быть
ни просто прощена, ни наказана соответствующим образом:
прощение без наказания было бы несправедливо, а заслуженное
наказание равнялось бы уничтожению; одно противоречило бы
Божественной справедливости, другое лишало бы смысла Божественное
творение. Единственный выход состоит в том, чтобы загладить
вину или доставить Богу удовлетворение: искупление возможно
только через сатисфакцию. Но эта удовлетворяющая и
погашающая нашу бесконечную вину деятельность должна, в свою очередь,
быть бесконечной заслугой, а к этому греховное человечество не
способно; за него безгрешное существо должно принять на себя
страдания, равные греховной вине: сатисфакция возможна только
посредством страданий заместителя. В этом случае только Бог
может представить человечество, потому что только он один
безгрешен, страдания через представителя требуют поэтому
вочеловечения Бога, которое не должно зависеть от тех условий, благодаря
которым наследственный грех продолжает передаваться,
следовательно, вочеловечение должно совершиться только через
сверхъестественное рождение; оно возможно только в лице Иисуса, сына
девы Марии, принесшего себя в жертву за человечество и через
жертвенную смерть приобретшего заслугу, за которую Бог воздаст
не Ему самому, а только тем, для которых Богочеловек принес себя
в жертву. Это воздаяние есть прошение греха, или искупление
человечества. Теперь вычисление получается без остатка,
искупление происходит через вочеловечение Бога, последнее обусловлено
заместительством, заместительство— удовлетворением, которое
67
Куно Фишер
человечество обязано дать за наследственный грех. Вместо
наследственного греха теперь наступает наследственная справедливость,
грех существует в природе, справедливость в церкви, поскольку она
есть царство благодати.
Таким образом ход Ансельмовых доказательств приводит нас в
самый центр августиновского учения. Справедливо назвали этого
первого церковного схоласта вторым Августином.
IV. ХОД РАЗВИТИЯ СХОЛАСТИКИ
1. Реализм и номинализм
Доказательства Ансельма опираются на основную
предпосылку, которая играет уже во всем учении церкви первенствующую
роль и которая здесь, где демонстративная и логически
заинтересованная мысль подходит к догмам, получает впервые сознательную
оценку. Наследственный грех и искупление суть два полюса
августиновского религиозного учения и ансельмовской теологии: в
Адаме совершилось падение человечества, в Христе— искупление.
Если эти факты не имеют универсального значения или, что то
же, если универсальные определения не имеют фактического
реального значения, то вера шатка в своем основании, она поэтому
опирается на ту логическую предпосылку, что человечество
существует как род или идея в платоновском смысле и составляет
сущность человека. То, что приложим) к этому роду, должно быть
приложимо и ко всем родам (идеям), ко всем универсалиям. Если
универсалии не суть реальности, то можно опасаться того, что
религиозные факты представятся либо недействительными, либо
недоказанными.
Церковь сама существует только благодаря своей идее, ее
реальность покоится на ее универсальности; уже Августин
католицизмом церкви34 обосновывал ее авторитет, а ее
универсальностью — ее необходимость. Подобно тому, как платоновское
государство состоит в справедливости*, существует независимо от
единичных субъектов, христианская церковь состоит в религиозной
идее, в наследственной справедливости, заключающейся только в
68
Ход развития средневековой философии
ней и продолжающей действовать благодаря ей, — потому
сравнение платоновского государства и христианской церкви и
правильно, и метко.
Из этого коренного воззрения церкви вытекает положение, в
котором схоластика признает свой принцип: «universalia sunt геа-
lia»35. Родовые понятия суть нечто действительное. Довольно
знаменательно, что первым схоластическим доказательством бытия
Бога был онтологический аргумент Ансельма.
На положение о действительности универсалий опирается
средневековый реализм — первое основное направление
схоластики, вызывающее к жизни противоположное направление. Задача
схоластики соответствует также и требованиям естественного
рассудка; однако ему единичные вещи кажутся действительными
объектами, а роды, напротив, только понятиями и абстракциями,
которые мы создаем и обозначаем словами. Соответственно этому для
рассудка «universalia» не имеют значения «realia», а суть «flatus
vocis», «vocalia» или «nomina»36. На этом положении о
нереальности универсалий основан средневековый номинализм, второе
главное направление схоластики, появившееся сразу вслед за
реализмом. Уже в конце одиннадцатого века в споре между Росцелином
и Ансельмом, между Вильгельмом Шампо и Росцелином
выясняется спорный вопрос и противоречие обоих направлений.
Важность номиналистического воззрения может быть теперь
же взвешена. Познание происходит посредством представлений и
понятий, суждений и определений. Так как понятия не обладают
реальностью и не содержат ее, то нет и познания реальностей, и
далее, так как объекты веры истинно действительны, то нет
никакого познания веры. Если поэтому номинализм утверждает в духе
схоластики реальность религиозных объектов, то он, в противовес
основному схоластическому принципу, должен отрицать их
познаваемость. Как только такое воззрение становится преобладающим,
то разрывается связь, т. е. единство, веры и знания, в котором
средневековая теология находила свою опору. Отсюда можно
обозреть путь развития схоластики: в XII и XIII столетиях господствует
реализм, в XIV возвышается и получает преобладание
номиналистическое направление, ведущее к падению схоластики и
образующее собой переход к новой философии, свободной от давления
4 Куно Фишер
69
Куно Фишер
религии. Таким образом, оба основных направления схоластики,
рассматриваемые в целом, совпадают с теми двумя периодами,
которые мы различили выше в отношении мирового положения
церкви: реализм отвечает веку мирового господства церкви и
централизации, номинализм — начинающемуся ее разложению и
децентрализации.
С недавнего времени стали оспаривать такое понимание
внутреннего хода развития схоластики и теперь вообще стараются
ограничить спорный вопрос между реализмом и номинализмом первой
взаимной встречей обоих направлений, когда Росцелин объявил,
что универсалии — «flatus vocis». Если желательно только это
тщетное возражение последнего обозначить словом «номинализм»,
то для последующего противоположного реализму и победоносного
направления нужно выбрать уже другое название. На самом же
деле этим ничего не изменяется в только что поясненной и
общеизвестной противоположности обоих схоластических веков. Так же
мало достигается тем возражением, что дальнейшее движение
схоластики было лишь расширением, многократным увеличением
познавательного материала, другими словами, что дальнейший ход
развития состоял в более глубоком ознакомлении с
аристотелевским учением. Образовательный материал, воспринятый средними
веками от древнего мира, был весьма скуден. Из философии
Аристотеля, которой предстояло господствовать в схоластике во время
ее высшего расцвета, хорошо знали только незначительную часть
«Логики», да и то в переводе Боэция37, и учение об определении
и категориях; к этому присоединялось Порфириево «Введение» к
последнему и книга Пятисловия (quinque voces); впервые в ХП
столетии познакомились с «Органоном» в его полном объеме, в
следующем, ХШ столетии впервые — с реальной философией
Аристотеля: метафизикой, физикой, психологией и т. д. — в латинских
переводах, которые делались сначала с еврейского и арабского, а
впоследствии и с греческого, и так продолжалось до тех пор, пока
не возродилось изучение древности.
Это хождение на помочах Аристотеля означает не что иное,
как развитие светского элемента в схоластической теологии,
результатом которого был под конец разрыв веры и знания, победа
70
Ход развития средневековой философии
номиналистической теории познания. С этим поворотным пунктом
мы встречаемся у Оккама.
2. Платоновский и аристотелевский реализм
В эпоху всесильного мирового господства церкви основным
положением схоластической теологии было то, что роды, или идеи,
обладают действительностью: реальность или существует вполне
независимо от единичных вещей, или присуща им в качестве
деятельной силы; она существует или «ante rem», или «in ге»38. Здесь
не место входить в рассмотрение всех ответвлений и
промежуточных видов, в которые может вылиться определение отношения
универсалий и единичных вещей; схоластика ХП столетия была
неутомима в определении подобных различений. Оба нормативных
понимания подготовлены греческой философией: первое
платоновской, второе — аристотелевской; и то, и другое понимание
допускает реальность идей, но у Платона они имеют значение истинно
существующих независимо от явлений, у Аристотеля же —
значение истинных как действующих в вещах; в первом понимании
действительность идей есть идеальный мир, во втором — природа.
Мы уже показали, как второе понимание вытекает с
необходимостью из первого.
В схоластической теологии в продолжение ХП столетия
господствует платоновский, в XIII столетии — аристотелевский
реализм. Таким образом, в церковной философии средних веков
следует различать три направления, которые в целом совпадают со
столетиями: реалистическо-платоновское направление господствует
в XII, реалистическо-аристотелевское — в XIII и
номиналистическое — в двух последних столетиях. Связующим звеном
платоновской и аристотелевской схоластики является Пьер Абеляр (fl 142),
посредником между номинализмом и реализмом — Иоанн Дуне
Скот (fl308).
Было уже указано на то замечательное сродство, которое,
вопреки полному различию эпох и мировоззрений, существует
между древним платоновским и средневековым церковным
воззрениями, между платоновским государством и римской церковью. В
обоих общее безусловно доминирует над единичным, целое, пред-
71
Куно Фишер
шествующее своим частям, имеет значение единственно
деятельной, независимой от единичной воли силы. Поэтому нисколько не
странно, что при безусловном господстве средневековой церкви
могла развиться платоновская схоластика, что эта схоластика шла
рука об руку с эпохой крестовых походов, что церковь так ревниво
принимала меры против прогрессирующего отчуждения от этого
реалистического воззрения, что она противилась сближению с
аристотелевским учением и его вторжению и что она уступила
необходимости, которой не могла более подавить.
Натурфилософские и философские творения Аристотеля были осуждены еще в
самом начале ХШ столетия, затем разрешены, хотя и неохотно,
сначала артистам, потом теологам; впоследствии же изучение
аристотелевской философии даже требовалось, и по отношению к
языческому философу церковь проявила большое уважение в вопросах
естественного познания.
Как, однако, объяснить это поразительное явление, эту связь,
в которую церковь средних веков вступает с Аристотелем? Как
только схоластика признала естественное познание, хотя бы только
в качестве орудия веры, в ходе ее развития необходимо должен
был наступить такой момент, когда она должна была постигнуть
также и природу в качестве объекта и это понятие включить в
свою систему, подобно тому как церковь включила в себя
государство и подчинила его своему господству. Церковь должна была с
течением времени признать такую задачу необходимой и
совместимой со своей собственной системой. Схоластика имела потребность
в теологическом понятии природы. Приобретя его, схоластика
завоюет этим самым для церкви огромную область,
представляющуюся ей враждебной до тех пор, пока теология ее чуждается. Но под
теологическим учением о природе разумеется такое воззрение,
которое рассматривает Бога как последнее основание и цель
природы, а природу с этой точки зрения — как царство ступеней
телесных и живых форм, зависящих от Божественной цели, движимых
Богом и осуществляющихся в нем. Аристотелевская философия
дает такое понятие о природе, а потому понятно и ее значение для
схоластики и церкви. Языческий дух ее возбуждает сначала
подозрение, но затем, благодаря своему теологическому характеру, она
72
Ход развития средневековой философии
становится самым подходящим орудием для разрешения той
задачи, в разрешении которой церковь торжествует.
Но Западу аристотелевская философия почти неизвестна. Для
решения этой проблемы логические трактаты не имеют никакого
значения; и без того огромная разница между западным и
греческим образованием увеличивается еще пропастью, отделяющей обе
церкви. Длинными окольными путями удается при посредстве
арабских философов X, XI и XII столетий ввести аристотелевскую
философию в школы западного христианства. Величайшим из
арабских философов Востока является Авиценна (fl036), из испанских
философов —Аверроэс (fl 198). Последний, ближайший к нам,
более всего содействовал пониманию греческого философа как
объемом своих комментариев, так и способов своего объяснения.
Тринадцатый век — великая эпоха схоластики. Основная ее
забота — включить понятие природы в теологическую систему,
чтобы таким образом завершить ее как систему. Царство благодати
является для естественного познания вполне прочно
установленным только тогда, когда царству благодати подчиняется царство
природы и когда оно мыслится в связи с последним. Задача состоит
в том, чтобы связать эти две области. Царство природы должно
служить предварительной ступенью к царству благодати, так чтобы
царство благодати было уже заложено, подготовлено в природе,
чтобы оно являлось целью природы, чтобы церковный порядок
являлся завершением естественного порядка. Такова основная мысль
схоластической философии тринадцатого столетия, существенный
мотив систем великих теологов этого столетия: Александра Галес-
ского, Альберта Магнуса и Фомы Аквината39.
Тот, кто разрешит эту проблему наилучшим образом в
церковном смысле, займет в схоластике такое же место, какое занимает
Августин в учении веры. Таким величайшим схоластом был Фома
Аквинат. В его системе природа представляется царством
ступеней, восходящих до церкви: шкала телесных предметов
завершается естественной человеческой жизнью, шкала естественной жизни
человека завершается церковными установлениями благодати, т. е.
таинствами. Учение Фомы о таинствах характерно для духа всей
этой теологии; все системы ее основаны на аристотелевском
понятии о развитии. В миросозерцании Фомы естественный миропоря-
73
Куно Фишер
док относится к церковному строю так, как средство относится к
цели и как замысел — к его реализации. В соответствии с духом
церкви эта система всецело теологична и супранатуралистична, но
она усвоила понятие о природе и тем самым пополнила теологиче-
ско-схоластическое воззрение. Фома возвел церковную веру в
степень догматической системы, которая до сих пор не имеет себе
равных и которая принесла ее творцу славу церковного философа в
настоящем смысле этого слова.
3. «Суммы» и системы
Задачей схоластики было создать теологические системы из
данного материала, т. е. из догматических учений и спорных
вопросов. Первоначально эта задача нашла разрешение в пополнении,
собрании, приведении в порядок всего относящегося к ней
материала в так называемых «Суммах» двенадцатого столетия, примером
которых является сочинение Петра Ломбарда (tl 164). Отношение
его к церковной догме таково же, каково и отношение его
современника Грациана к каноническому праву: он составил самый
полный и наглядный сборник догматических положений и мнений,
или «сентенций», — сочинение, ставшее образцовым учебником
теологии и основанием для теологических лекций и принесшее
ему имя «Magistr'a sententiarum»40. Собрания сентенций,
созданные ХП столетием, не представляли собой еще никакой системы.
Учебник Ломбарда стал материалом, из которого, через смешение с
аристотелевской философией, вышли теологические суммы
тринадцатого столетия, произведения великих докторов церкви. К
религиозным основаниям учения церкви присоединились теперь
основания рациональной аргументации философов, к «autoritates»
присоединились «rationes»; новая задача была введена изложением,
сравнением и противопоставлением обоих родов основания
английским францисканцем Александром Галесским (fl245).
Представительницей собственно «rationes» была аристотелевская философия.
Насколько она была доступна кругозору и умственным силам
столетия, настолько содержание ее ставилось в один ряд с
содержанием теологии; таким образом разъяснялась и освещалась задача в ее
полном объеме. Эту задачу разрешил «Doctor universalis», немецкий
74
Ход развития средневековой философии
доминиканец Альберт Великий (fl280). Его величайший
ученик — итальянский доминиканец Фома Аквинат (fl284)
завершил разрешение схоластической проблемы; он создал клерикально-
философскую систему, в которой объединены вместе Августин,
Ломбард и Аристотель. Он христианизировал аристотелевское
учение о развитии в духе церковного мирового господства, подобно
тому как некогда Ареопагит христианизировал неоплатоническое
учение об эманациях в духе иерархического церковного устройства.
4. Фома Аквинат и Иоанн Дуне Скот
В дальнейшем развитии аристотелевского реализма возникает
противоположность между Фомой и Скотом, превратившая их
школы в два враждебных лагеря и надолго расшатавшая твердыню
схоластической теологии. Если царства природы и благодати
связаны так, что первое находит свое завершение во втором и этим
исполняет свое назначение, то при таком отношении царство
природы должно вообще казаться наилучшим образом устроенным
миром, который избран Богом, поскольку он мудр, из всех
возможных миров и создан им силой своего всемогущества. Поэтому
Божественная воля определялась в творении мира известным
направлением, и Божественное творчество, так как оно происходит в
соответствии с идеей (идеей добра), должно быть необходимым и
детерминированным деянием. Следовательно, учение Фомы,
несмотря на его супранатуралистический характер, всецело детерми-
нистично, и в этом заключается истинное выражение церковного
сознания, которое строго детерминирует свои порядки, определяет
все происходящее и хочет устроить так, чтобы единичная воля и
понятие произвола были совершенно исключены.
Эта теодицея Фомы, в которой все определено Божественной
предусмотрительностью и расположено «ad Deum»41, находит
своего противника в английском францисканце Иоанне Дунсе Скоте.
Спор, разгорающийся отныне в схоластике, есть не что иное, как
спор детерминизма с индетерминизмом. Различие между Фомой и
Скотом заключается в вопросе о свободе воли. Если Божественная
деятельность необходима, то Бог связан в своих действиях и не мо-
75
Куно Фишер
жет существовать без них, в таком случае независимость Бога, а
следовательно, и его существование должны быть отрицаемы; если
же все определено Божественной необходимостью, а последняя, в
свою очередь, — идеей добра, то в таком случае нет ни
случайного, ни зла, в таком случае Бог не только первая, но в своей основе
единственная причина; он тождествен природе вещей, и потому
пантеизм является неизбежным следствием этого. Таковы самые
веские основания, выставляемые Скотом против Фомы.
Из факта присутствия случая и зла в мире вытекает
невозможность детерминизма, по которому Божественная воля связана с
идеей добра. Но Божественная воля не связана ничем; она
действует без основания, абсолютно произвольно, она может творить
и не творить, создать этот мир, как и иной мир, но может и не
создавать никакого мира; не воля определяется целью, но наоборот:
«voluntas superior intelectu»42. Благо имеет значение не само по
себе, но благодаря Божественному волеопределению, не «per se»,
но «ex instituto»43, оно не рационально, но позитивно; Бог
пожелал не потому, что нечто было добром, напротив, нечто стало им
после того, как Бог его пожелал. Вместе с произволом
уничтожается и воля, устраняется различие между естественными и волевыми
причинами, и тогда нет вообще никакой воли — ни
Божественной, ни человеческой. Скот признает человеческую свободу и ее
роль в достижении Божественной благодати, заслугу деяний,
которые оправдывают праведных не в силу их собственных свойств, а
также и не в силу намерения, которым они проникнуты, но только
потому, что Бог по собственному произволу соединил с этим
деянием такое последствие. Церковное деяние является, независимо
от всякого намерения, внешним сообразным предписанию
поступком, «opus operatum». Так рассуждает схоластический
индетерминизм, приспособленный к служению могуществу и интересам
церкви.
Человеческая свобода включает в себя самоопределение,
личную волю, индивидуальное бытие; благодаря ей всякий человек не
только вещь среди других вещей, но данная отдельная, единичная
сущность для себя. С этим в сознании схоластики зарождается
понятие единичности, или индивидуальности, представление не
только о специфическом, но также об индивидуальном различии
76
Ход развития средневековой философии
вещей. Вещи различаются друг от друга не только по виду и по
качествам (Quidditàten), но каждая из них отличается от всех
прочих в силу своей единичности (Häcceität). Индивидуальность
неопределима и неразрешима в понятийном познании: «ratio singularita-
tis frustra quaeritur»44. Если реальность сводится к
индивидуальности и находит в ней свое завершение, то тем самым упраздняется
познание реального. То же самое нужно сказать и о произволе: он
безоснователен, а потому непознаваем; это же самое применимо и
к Божественному откровению, к искупительному деянию и к
церковным объектам вообще: они существуют в силу безосновного и
беспричинного произвола Бога; поэтому нет никакого познания
веры, нет никакой рациональной теологии, никакой философской
религиозной системы. Теология практична, вера является
направлением воли и настроением, независимым от познания; она не
обусловлена, а потому и не опровергается рациональными
основаниями. Так индетерминизм разрубает узел, связующий религию и
знание.
5. Уильям Оккам. Разложение схоластики
Теперь уже открыт тот путь, на который вступает новое и
последнее направление схоластики, методически обоснованное
английским францисканцем, учеником Скота Уильямом Оккамом
(tl347?). Эпоха Росцелина, начавшаяся при Григории VII и
завершавшаяся Иннокентием Ш, уже закончилась.
Когда Скот умер, находясь на вершине своей славы, папский
престол уже в продолжение трех лет был в Авиньоне; время Окка-
ма начинается с Бонифация УШ и стремительно приближается к
Великой схизме.
Заслугой Оккама было уничтожение схоластического
реализма, господства в церковной вере мира идей. Если бы универсалии
(идеи) были реальны, то они должны были бы предшествовать
Богу в творении — детерминировать (обусловливать) волю Бога и
связывать его; в таком случае не было бы ни Божественной
свободы, ни творчества из ничего! Благодаря этому выясняется коренное
противоречие между верой и схоластическим реализмом.
77
Куно Фишер
Если бы универсалии (роды), которые общи всем вещам,
были сами вещами, то одна вещь должна была бы присутствовать во
многих вещах одновременно, что невозможно. Идеи не вещи, они
не реальности, но представления, обозначающие вещи и сами
обозначаемые словами, как последние — буквами: они суть поэтому
знаки или «signa», основное определение которых образуют «ter-
mini». Эта последние суть единичные и общие представления,
звуковые и письменные знаки, а следовательно, образные
восприятия, понятия, слова; образное восприятие представляет единичную
вешь, понятие занимает место многих единичных представлений,
слово — занимает место понятия. Все человеческое познание
происходит благодаря терминам, поэтому оно термшшстично и,
поскольку передаваемые знаки представлений суть «vocalia» или «по-
mina», — номиналистично. Познание посредством единичных
представлений интуитивно и реально, так как такие представления
стоят «pro ге»45; познание при помощи общих понятий и
суждений, слов и положений рационально и подчинено логике (сермо-
ционально). Поэтому нет никакого познания действительных
вещей. Действительность состоит из единичных вещей,
индивидуумов, простых субстанций; наше представление не есть ни вешь, ни
субстанция; оно не просто, оно тем более неясно, чем более оно
абстрактно; поэтому нет никакого соответствия между
представлением и вещью, а следовательно, нет и познания истины.
Между представлением и реальностью лежит непроходимая
пропасть. Из этого выясняется невозможность онтологического
доказательства бытия Бога, так как его предпосылка о реальности
представления о Боге в основании своем неправильна; и
космологические доказательства также не достигают своей цели, потому
что они предполагают существование первой и последней причины
и невозможность движения в бесконечность в процессе
обоснования. Но именно это предположение и ложно в своей основе:
напротив, такое движение даже необходимо предполагать. Нет
поэтому никакого доказательства бытия Бога, никакой рациональной
теологии. Из невозможности познания следует необходимость
веры, опирающейся на единственное основание церковного
авторитета. Отношению веры к знанию соответствует отношение церкви
к миру. Необходимо произвести разделение и в том, и в другом
78
Ход развития средневековой философии
случае, необходимо, чтобы вера и церковь отрешились от мира.
Пришло время, когда связанные церковью силы — государство и
народы, науки и искусства — стали центробежными и начали
освобождаться от церковного господства. Одновременно со
стремлением к отрешению церкви от мира появилось и требование
независимости государства от церкви. «Обороняй меня мечом, я буду
зашишзть тебя пером», — сказал будто бы Оккам во время спора
между императором и папой Людовику Баварскому.
Следует обратить особенное внимание на то, как
номиналистическая теория познания, обосновывающая разрыв между верой
и знанием, теологией и философией и выражающая сознание
эпохи, относится к ним обеим. Она желает их разделения в интересах
самой религии и церкви; ее цель — очищение и укрепление
религии и церкви через отрешение их от мира. Не простая
случайность, что люди этого направления по большей части принадлежат
к строгим францисканцам. Вера не хочет более иметь дела с
дряхлым знанием, рассчитывающим только на человеческие средства,
не хочет иметь ничего общего с этим чуждым и опасным
союзником. Поскольку вера отказывается от всякого естественного и
рационального познания, постольку крепнет ее супранатуралистиче-
ский характер, ее позитивное значение, ее церковный авторитет.
Задача номиналистической теологии — укрепить и сделать
неопровержимым авторитет церкви. Поэтому эта теология в существе
своем схоластична. Но она порвала связь с идеей церковного
мирового господства и задалась целью исправить церковь, давая исход
реформаторским устремлениям внутри самой схоластики.
Благодаря отделению веры она освобождает и философию, указывая
последней на веищ мира, и тем расчищает внутри схоластики путь
для новой философии. Эта теология отвергла возможность
истинного познания вещей при помощи человеческих способностей и
этим подготовила скептицизм, из которого возникает и
развивается новая философия; в пределах человеческого познания эта
теология признала реальным только созерцательное и чувственное
познание, и в этом пункте она явилась схоластической
предвестницей того эмпиризма и сенсуализма, которым открывает шествие
новая философия на родине Оккама.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
L ГУМАНИЗМ
В эпоху церковной философии средних веков языческая
философия древности находилась в подчиненном положении, не
соответствующем ее происхождению и сути. Схоластическая теология
держала человеческое познание в двойных оковах: оно находилось
под давлением церкви, определявшей содержание преподаваемого
материала, и под давлением школы, заимствовавшей способ
преподавания и формальное образование от авторитетов древней
философии. Как только оковы начинают спадать и человеческое познание
проявляет стремление к коренному обновлению, то создается
главное условие для того, чтобы в первую очередь освободилась школа
и чтобы великие философы древности изучались и исследовались в
их первоначальном виде. Философия Нового времени
непосредственно исходит из эмансипировавшейся школы древности. В ней
она созревает постепенно. И только когда она чувствует себя
освободившейся от опеки, наступает эпоха ее расцвета, момент ее
зрелости. Возрождение греко-римской философии составляет поэтому
необходимую и ближайшую задачу познания и является условием
перехода к новой философии.
80
Эпоха Возрождения
Задача эта составляет только часть того филологического
изучения древности, на которое, в свою очередь, нужно смотреть как
на особую ветвь возродившейся науки о древности. Для того,
чтобы философия от средних веков направилась по пути к нашему
времени, нужно было, чтобы духовное возрождение древности,
называемое обыкновенно Ренессансом, нашло этот путь и осветило
его. Значение возрождения ее никоим образом нельзя
ограничивать филологическими штудиями, ибо оно не только результат
деятельности школ и ученых, но составляет эпоху, вдохновляющую
развивающееся человечество, пронизывающую всю человеческую
культуру, эпоху неисчерпаемую, имеющую влияние и в наши дни
и живую по сей день. Ренессанс по своим задачам и духовному
направлению так же мало может быть введен в границы, как и
Реформация, и если то и другое приурочивается к определенному
веку — Ренессанс в его расцвете ко второй половине XV,
Реформация к первой половине XVI столетия, — то эти хронологические
рамки лишь обозначают их начало и время существования.
Ренессанс в корне изменил человеческие воззрения на жизнь
и на мир, освободил их от сил, давивших в средние века, и стал по
отношению к этим силам в такую оппозицию, которую церковь,
сама охваченная вначале духовным движением времени, не
замечала, которую, помогая этому движению, даже ускорила и которую
распознала впервые позднее, уже после того, как расцвет
Ренессанса завершился, а Реформация успела окрепнуть. Основной темой
средних веков было восстановление и возвеличение «civitas Dei»,
того Божественного царства на земле, которое господствует над
миром в виде неосязаемых для чувств законов и связует
индивидуумов. Основная тема Ренессанса исходит из вполне
противоположного направления: она состоит в прославлении человека, его
величия, его славы; она состоит в культе человеческой
индивидуальности, его гения, его сил, его неизмеримой естественной свободы.
Если существовал когда-нибудь век, который верил в человеческий
ум, универсальный гений, человеческое могущество и магию,
который произвел духовно сильных личностей и испытал их
очарование, обожествил человеческое начало в природе, государстве и
искусстве, то именно таким был век Ренессанса. Весь его интерес
сосредоточен на естественном, бесконечно возвышенном благодаря
81
К у но Фишер
своим силе и дарованиям человеке. Вот в таком — широком и
универсальном — смысле нужно говорить о гуманизме, который
Ренессанс сделал своим предметом.
В средние века власть разрешающая и связывающая
повелевает в сфере отпущения грехов и блаженства человека. Эта власть
была в руках церкви. В Ренессансе мы встречаем власть
возносящую и ниспровергающую, возвеличивающую и уничтожающую
заслуги и славу человека; такая власть в руках поэтов, ораторов и
историков. Уже Данте, с которого начинается заря Ренессанса,
воспевает Ад и полновластно населяет его, как поэтический судья
мира. Средние века чтят святых, Ренессанс чтит знаменитостей,
людей великих, выдающихся своими духовными подвигами.
Ренессанс поклоняется их останкам и могилам, памятным местам их
жизни. «Место, где покоится хороший человек, — священно; сто
лет спустя его слова и подвиги напоминают о себе его внуку». Это
.слово вышло из глубины духа Ренессанса, который был чужд
средним векам, но оно действует на нас с нашим строем чувств.
Нужно понять, насколько глубоко Ренессанс изменил человеческое
самоощущение, прежде чем говорить об изменившемся ходе науки
и исследований: он вызвал к жизни «современного человека», как
сказал один из самых замечательных знатоков, развивший
основные гуманистические черты этого мощного столетия в масштабной
и яркой характеристике*.
П. ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС И ЕГО РАЗВИТИЕ
Религия средних веков, влекомая своим культом реликвий,
шла в Палестину для того, чтобы увидеть воочию Святую землю и
святейшую из гробниц. Культ реликвий Ренессанса не нуждался
ни в каких крестовых походах. Настоящее место его рождения, его
родина — Италия, классическая страна, усыпальница богатого
славой ушедшего мира. В возрождении древности Италия чествует
свое прошлое, прежний мир, себя самое. Таким образом,
Ренессанс по своему происхождению есть не искусственный продукт
школы, но естественное направление, включающее взлет нацио
Jocob Burchardt. Die Cultur der italienische Renaissance (2 Aufl.,
1869).
82
Эпоха Возрождения
нального самосознания, объект и тема национальных радостей и
самовозвеличения. Августин, последний из великих отцов церкви,
в древнеримском государстве и его народе видел завершение
«civitas terrena» (земного царства), обреченного на погибель, видел
падший из-за грехов язычества мир, который в своем величии и в
своей земной славе получил воздаяние и возмездие за свои дела.
Данте, первый национальный поэт Италии, вновь превозносит
римский народ как самый благородный народ мира, как первый из
всех, кому подобает господствовать на земле и на кого снисходит
благодать Бога, помимо Церкви и папы. Он прославлял Рим, как
возвышенную вдовицу, ожидающую страстно своего Цезаря; поэта
воодушевляет вечный город в развалинах, внушающих
благоговение. Спустя несколько десятилетий после Данте явился известный
фантастический трибун Кола ди ( Риенцо46 и импровизировал
восстановление мирового римского владычества в покинутом,
истощенном Риме и разорванной на клочки Италии. Еще до начала
средних веков Августин видит восход нового мирового царства
церкви и разрушение мирового царства цезарей; на пороге же
Ренессанса Данте в новом Августе видит земное спасение мира и
человечества.
Духовному возрождению древности благоприятствовало то
обстоятельство, что не существовало единой центральной римской
власти и что она менее всего была возможна именно в Италии.
Политическое единство и централизация связали бы силы, которые
для раскрытия новой духовной жизни нуждались в полной свободе
и подвижности; никогда не могло бы создаться такого
многообразия в индивидуальном бытии, того богатства и широты
человеческих характеров и страстей, того соревнования государств и
городов, которые вызвали и ускорили появление талантов во всех
областях. Децентрализация Италии благоприятствовала порыву
Возрождения так же, как децентрализованная Германия — реформаци-
онному порыву. Распад Италии вследствие борьбы папы и Гоген-
штауфенов, наличие множества маленьких государств и их
различие, беспрестанные изменения в их состоянии, внутренние
раздоры партий и внешние войны, узурпаторы и тираны, изобретение и
применение всех средств насилия, которые служили политическим
интересам, возвышали славу князей, завоевывали и порабощали
83
Куно Фишер
массы, и среди этого неповторимые великолепные произведения
искусства — все эти моменты в судьбе Италии в продолжение XIV
и XV столетий представляют зрелище, которое невольно
напоминает о подобных отношениях и судьбах греческого мира в VII и VI
столетиях дохристианской эпохи. Тогда из живой жизни выросла и
созрела своего рода полнота мирского опыта и человеческого
знания и богатство образования, из которых вышла греческая
философия. Эта аналогия знаменательна. Едва ли в мировой истории
существуют две эпохи, представляющие столько родственных
элементов, имеющих основание в состояниях народов. Неудивительно
поэтому, что из этих условий, из такого сходного с древним
положения вещей в Италии развивается воззрение на жизнь и
образование, которое сознает свое родство с древностью и принимается
вновь за оставленные в забвении духовные сокровища, и что
итальянцы — ранее всех европейских народностей освободившиеся от
средних веков — признают себя потомками греков и римлян и
вступают с этим гордым чувством в наследование предшествующе
го времени. Нужно как следует подытожить все эти факторы для
того, чтобы понять естественное происхождение и характер
итальянского Ренессанса. К открытию античных руин и произведений
искусств вскоре присоединяется открытие авторов, сочинения
которых переписываются, размноживаются, собираются в библиотеки и
приводятся в порядок; в возрастающем знакомстве с авторами
состоит литературный ренессанс и расширение научного кругозора
этой эпохи.
Эпоха эта простирается с начала XIV до конца XVI столетия,
от Данте до Тассо; ее подъем начинается при папе Николае V
(1447-1455), основателе ватиканской библиотеки, и идет
непрерывно до Льва X (1513-1521), который, в окружении ватиканских
муз47, предпочел бы не знать о взрыве немецкой Реформации. Два
периода времени, из которых один предшествует этому расцвету, а
другой следует за ним, обозначаются как «ранний» и «поздний»
Ренессанс.
На расширение и укрепление нового духовного течения
большое влияние имели некоторые события середины пятнадцатого
столетия: изобретение книгопечатания и возобновившаяся связь
между латинским и греческим миром, между расцветающим италь-
84
Эпоха Возрождения
янским Ренессансом и греческими учеными. Униатские соборы,
организованные папой Евгением VI, дали повод для такой встречи,
не принесшей церкви никакой, а Ренессансу — огромную пользу.
Греческие теологи через римского посла Николая Кузанского —
немца по происхождению, человека, движимого глубочайшими
идеями греческой философии, — приглашаются на церковный
собор, который открывается в Ферраре, а в следующем году
переносится во Флоренцию. Несколько лет спустя после этого пала и
Восточная Римская империя. Разрушение Константинополя
турками (1453) увеличивает эмиграцию греческих философов,
встречающих в Италии радушный прием. Это продолжающееся
переселение, усилившееся после последней победы варваров, приобретает
характер духовной колонизации. Во второй раз Италия заслужила
название Великой Греции.
Мы должны теперь ближе проследить развитие философского
Ренессанса, который, удаляясь от схоластики и укрепляясь в
собственном влечении к познанию, создает условия перехода от
средних веков к новой философии. Этим определяется закон его
развития. Недостаточно познать вновь античные творческие формы и
системы в их истинном виде, откопать их и очистить, подобно
руинам древности, от зарослей, которыми снабдила их схоластика,
сделав их таким образом недоступными для знания; недостаточно
подражать древним в философствовании и идти по их следам,
нужно философствовать оригинально, как они, и уподобляться им
в поисках собственными силами нового познания мира,
сообразуясь с потребностями своего века. Таким образом, Ренессанс в
первой своей половине репродуктивен в отношении к древности, во
второй продуктивен и руководим духом Нового времени.
1. Неолатинский ренессанс
В начале итальянского Возрождения ближайший интерес из
греко-римской древности представляет классический Рим: римские
ораторы и поэты, мастера и учителя красноречия, системы,
входившие в римское образование, жизненные воззрения послеаристоте-
левской философии — эпикурейцев, стоиков и скептиков.
Воспроизведение этого духовного создания римлян и составляет неолатин-
85
Куно Фишер
ский ренессанс, признающий своими наставниками Цицерона и
Квинтилиана и имеющий своего самого замечательного
представителя в лице римлянина Лоренцо Ветлы (1406-1457). Здесь
оппозиция средним векам и схоластике выражена вполне: варварской
церковной латыни противополагается чистая, изученная на
Цицероне латынь, догматизму церковных положений —
филологическая критика. Валла исследует «Вульгату»48 и показывает ее
ошибки, он сомневается в правдивости апостольского символа,
опровергает происхождение церковного государства от Константина в
своем знаменитом сочинении «О ложно принятом на веру и
вымышленном даре Константина». Псевдоисидоровские декреталии
немедленно кодифицировали эту небылицу, позднейшая папистская
система не довольствуется даром: Константин-де только возвратил
папе то, чем папа обладал уже издавна в качестве наместника Бога.
Данте отбрасывает правомерность императорского дарения, но не
оспаривает самого факта, Валла же доказывает, что его никогда не
было, что папы — узурпаторы и похитители, которые заслуживают
того, чтобы их иго было сброшено. Потому неудивительно, что
этого человека стали преследовать. Он нашел защиту в
критическую минуту в Неаполе у арагонцев. Гораздо более характерно то
обстоятельство, что папа Николай V взял его к себе на службу.
Валла желал написать сочинение ради «религии, истины и славы».
Когда он захотел возвратиться в Рим, он заявил о своей готовности
к отречению. Его смелый духовный подвиг был вызван в такой же
степени честолюбием, как и любовью к истине. Подвиг должен
был его прославить, а не сделать нищим. При тех интересах,
которые составляли век Ренессанса, мученичество потеряло цену, и
поэтому не следует измерять силу характеров того времени
способностью к самопожертвованию, предполагающему власть
нерушимой веры над человеком.
Так как схоластика оказалась тесно связанной с Аристотелем,
особенно в области логики, то полемика с ней должна была
распространиться и на логику. Неолатинский ренессанс в его
антисхоластическом и антииерархическом стремлениях становится
одновременно врагом Аристотеля и его логики. Это относится в
особенности к Балле и ко всем, кто за ним следует. В учебниках
схоластов аристотелевская логика получила смешной и варварский ха-
86
Эпоха Возрождения
рактер; вместо абстрактных и искусственных форм мысли
духовному образованию теперь должна служить живая образцовая речь,
вместо логики — риторика, вместо Аристотеля — Цицерон и
Квинтилиан, вместо современной сухой и бесплодной школьной
дисциплины и пустого буквоедства — свободные, прекрасные
обороты речи, в которых одновременно упражняются сила мысли и
сила выражения. Рудольф Агрикола (1442-1485) и Петр Рамус
(1517-1572) идут вместе с Лоренцо Валлой — это поход Цицерона
против сторонников схоластизированного Аристотеля.
2. Аристотелевский ренессанс
Между тем, стремительно двигаясь вперед, Ренессанс не
может оставить в руках схоластики великих учителей греческой
философии; он ставит перед собой задачу восстановить понимание
Аристотеля через него самого, вырвать его систему у клерикальной
власти и осветить противоречие между нею и учением церкви.
Форму развития, пройденную итальянским Ренессансом в этом
направлении, мы можем назвать аристотелевским ренессансом; в
шестнадцатом столетии полемика по этому поводу была особенно
острой и проходила в университетах Падуи и Болоньи.
Выдающимся представителем этого возрождения был мантуанец Пьетро Пом-
понацци (1462-1525). Так как речь шла о правильном понимании
Аристотеля, то исследование должно было исходить от
комментаторов, а вследствие несогласия между ними принять форму спорного
вопроса. Среди арабских толкователей наиболее великим был Авер-
роэс, среди греческих — Александр Афродизийский Экзегет
(начала третьего христианского столетия). Аверроисты и александристы
вели борьбу в Падуе и Болонье. Без сомнения, итальянский
Ренессанс, увлеченный воспроизведением древней философии, должен
был предпочесть греческого толкователя и следовать ему, как
путеводной нити. На эту сторону стал Помпонацци против Ахиллини и
Нифо49.
Аристотелевское учение было системой развития, которая,
основываясь на имманентности цели, единстве формы и материи,
естественной энтелехии и ряда ее ступеней, в конечных выводах
все-таки приходила к дуализму формы и материи, бога и мира,
87
Куно Фишер
духа и тела. Таким образом, в самом строении этого учения
заключалась двойственность монистического и дуалистического
направлений и возможность противоположных толкований, зависевших от
того, становилась доминирующей точкой зрения при исследовании
и обсуждении имманентность целей или трансцендентность Бога.
Первая точка зрения определяет натуралистическое, вторая —
теологическое понимание аристотелевской философии; первая
была развита в среде греческих толкователей сначала Стратоном, а
потом Александром, вторая — неоплатониками, от которых эта.
точка перешла к арабским философам, сделавшим Аристотеля в
теософской форме пригодным для западной схоластики. Если
расположить и рассмотреть аристотелевскую систему развития сверху
вниз (теологически), то она представится рядом ступеней
интеллигенции50, которые спускаются вниз от надмирового Божества и
каждая из которых, будучи заключена в высшей интеллигенции и
подчинена ей, сама в разделенном на ступени космосе стоит во
главе одной определенной сферы, а низшая ступень в подлунном
мире образует собой дух человечества. Такова была основная
форма учения Аверроэса, отталкивавшего схоластику своим
пантеистическим характером, но привлекавшего ее своим теологическим
воззрением на мир и на природу.
Теперь дело идет об очищении аристотелевского учения от
чуждых наслоений, привнесенных неоплатонистскими, арабскими
и схоластическими его толкователями; дело идет о познании
истинного Аристотеля, различия между ним и Платоном, между ним
и христианским религиозным учением. Итальянские аристотелики,
придерживающиеся Александра, проникнуты желанием
возвратиться к подлинному Аристотелю. Нет другого такого пункта, в
котором все эти противоречия могли бы проявиться так сильно и
так ясно и вместе с тем так живо возбудить и приковать к себе
внимание всего столетия, как вопрос о бессмертии души.
Аристотель учил, что душа составляет индивидуальную жизненную цель
органического тела, что дух, или разум, неуничтожим и
бессмертен; он делал различие между душой и духом (разумом), между
пассивным и активным разумом и утверждал бессмертие
последнего. Здесь же возникал вопрос: не является ли бессмертный дух
человека также личным и индивидуальным, не существует ли лич-
88
Эпоха Возрождения
ного бессмертия? Только решением этого вопроса и можно было
угодить вере и церкви. Если по Аристотелю на этот вопрос должно
ответить отрицательно, то пропадает само собой условие, при
котором только и может иметь место для людей потустороннее
воздаяние, потусторонний мир, действующая за пределами этой жизни
власть церкви, т. е. та сила, на которой целиком зиждется
главенство церкви. В этом случае между аристотелевским учением и
учением церкви существует величайшее противоречие, и тогда
рушится догматическое здание схоластики.
Если провозгласить дух, или деятельный (постигаемый в
познании) разум, бестелесным и индивидуальным, то этим при
помощи аристотелевской психологии будет доказано личное бессмертие
человека ad majorem Dei gloriam51, как того хотел Фома Аквинат.
Если деятельный ум отождествить с общим человеческим духом, то
нужно будет заодно с Аверроэсом признать бессмертие вообще, но
отрицать личное бессмертие. Наоборот, если деятельный разум
есть, согласно натуралистическому пониманию, продукт развития,
продукт всегда индивидуальный и обусловленный органически, то
не может быть речи ни о каком человеческом бессмертии — ни о
внеличностном, ни об индивидуальном. Этот довод приводит Пом-
понацци в своем знаменитом сочинении «De immortalitate ani-
mae»52 (1516). Бессмертие есть просто предмет церковной веры, и
в качестве такового Помпонаици допускает и признает его.
Ставшее уже обычным противопоставление веры и знания, теологии и
философии теперь доводится до крайней степени и
сосредоточивается вокруг наиболее важного и практически наиболее значимого
вопроса. Это противоречие между Аристотелем и Фомой касается
всего потустороннего мира, ради которого церковь господствует в
этом мире.
Что могло быть ценнее для жаждущего духа Возрождения,
чем это косвенное указание на силы, скрытые в настоящей
жизни? Снова возникает ряд великих проблем, связанных
непосредственно с судьбой человека: таковы вопросы об устройстве мира и
о необходимости, царящей в нем, о предопределении и фатуме, о
возможности человеческой свободы — все это темы, которых
касается уже Помпонацци. Задача поставлена четко: она состоит в том,
чтобы все явления, в том числе и сверхъестественные, такие как
89
Куно Фишер
волшебство, пророчества, демоны и т. п., разъяснить
естественным образом. Помпонацци также делал попытку объяснения
волшебства.
Если же вопрос о познании вещей из естественных причин
неизбежно должен быть поставлен, но не может быть решен с
помошью возрождения аристотелевской философии и если
последняя противоречит не только учению церкви, но и естествознанию,
то Ренессансу придется самому поработать над созданием новой
натурфилософии. Когда Помпонацци вывел аристотелевскую
психологию на битву против христианских небес, недалеко было уже то
время, когда аристотелевское учение о мироздании должно было
рухнуть вследствие открытия настоящего неба.
3. Политический ренессанс
Непосредственными объектами нового зародившегося в эпоху
Ренессанса осознания мира являются природа и государство,
составляющие содержание человеческого космоса. Наступило время,
когда пробудившийся интерес к государству порвал со всякого рода
теологической опекой, государственной теорией, подчиненной
одновременно схоластическому и церковному авторитету. Это
возрождение политического сознания находит свое ярчайшее
наиболее концентрированное выражение в современнике Помпонацци, в
удивительнейшем мыслителе тогдашней Италии, флорентийце
Никколо Макиавелли (1469-1527). В свежей атмосфере нового
времени потребность мыслить политически и жить всей душой для
государства загорается в нем стихийно и неудержимо. «Судьбе
было угодно, чтобы я не умел говорить ни о шелке, ни о
хлопчатобумажном тканье, ни о наживе, ни о потере, — я должен говорить
о государстве», — пишет он другу после того, как Медичи его
изгнали. Он готов купить возвращение к политической
деятельности какой угодно ценой: «хотя бы я должен был катать камни».
Из примера древнеримского государства, из штудирования его
истории, из собственной политической деятельности на благо
Италии черпает он знания и ставит перед собой задачи. Физическая
жизнь человека должна быть исследована и объяснена исходя из
его природа, государственная жизнь — из истории. Таким обра-
90
Эпоха Возрождения
зом, политический кругозор расширяется до исторического
кругозора; политический интерес пробуждает исторический, а из
соответственного их природе соединения того и другого рождается
политическая наука истории и историография. В этом духе и
изучает Макиавелли Ливия и пишет флорентийскую историю.
Человек во все времена один и тот же; одни и те же причины всегда
производят одни и те же следствия; последние изменяются и
ухудшаются в связи с определенными причинами. Эти слишком общие
и очевидные истины Макиавелли неоднократно повторяет и
применяет к своему веку и к своей родине. Величие древнего Рима и
нищета новой Италии: там — постепенно расширяющееся
господство окрепнувшего и могущественного народа, здесь —
увеличивающееся рабство его потомков, которые служат варварам и
являются в настоящем лишь игрушкой, разжигающей завоевательные
устремления врагов; там — возвысившийся до мирового господства
Рим, здесь — униженная, разложившаяся, порабощенная и
постоянно ожидающая нашествий Италия. Откуда же взялось то
величие и этот упадок? Отчего выродились потомки римлян? Как
образовалась пропасть между римлянами Цезаря и нынешними
итальянцами? Здесь сосредоточены великие исторические вопросы,
которые постоянно занимают ум Макиавелли и которые он вслед за
Ливием старается разрешить в своих рассуждениях, сообразуясь с
законом исторической причинности. Итальянцам Возрождения
надо было сказать, что они хотя и признанные, но погрязшие в
пороках наследники римской древности, что возрождение требует
духовного подъема. «Получай то, что ты наследовал от твоих
предков, чтобы владеть им». Выражение это, обращенное к
наследникам римлян, обозначает именно ту задачу итальянского
Ренессанса, которую Макиавелли взял на себя как государственный человек
и как писатель.
Своими историческими исследованиями он пытается открыть
путь к политической реформации Италии. В этом его цель, его
особая патриотическая задача. Поучительным образцом,
ориентиром является то государство, о котором говорит Макиавелли в
своих рассуждениях о первой декаде Ливия53, постоянно
сопровождаемых сравнительным обзором событий современности. Задача
современников — освобождение Италии от варваров и восстанов-
91
Куно Фишер
ление ее единства. Эта политическая реформация может исходить
только от такого итальянского города, который благодаря своей
коммуне, своему республиканскому устройству и политическому
развитию является самым богатым и самым опытным; реформация
может быть достигнута только при помощи деспотии, знающей и
применяющей все средства, которыми власть обосновывается,
удерживается и усиливается; таким городом является Флоренция,
таким деспотом должен быть правнук великого флорентийского
гражданина, названного «отцом отечества»54. Политическое
призвание и значение Флоренции выясняется из истории, написанной
Макиавелли с этой целью и доведенной им до смерти того
мужа55, сына которого (Лоренцо II) он хотел бы видеть повелителем
Италии.
Для него-то он и стремился в своей книге «О князе»
нарисовать властителя, в котором нуждается Италия для того, чтобы
выполнить первое условие своего политического возрождения, т. е.
сделаться сильной. Это то общее, что связывает между собой
сочинения «История Флоренции», *0 государстве» и «О князе». Если
уяснить себе разницу между развивающимся могуществом
сильного и здорового народа, не переносящего власти тирана, и
бессилием опустившегося и сбившегося с пути народа, нуждающегося для
своего объединения в повелителе, то уже нельзя найти
противоречия между автором сочинения «О государстве», который
отворачивается от великого Цезаря, и автором «Князя», который желает
для Италии такого человека, как Цезарь Борджиа. И так как
известно, что политические вопросы о власти никогда, и тем более у
разлагающегося народа, не разрешаются моральными средствами,
то становится непонятным, к чему было поднимать крик из-за
книги «О князе». Макиавелли намеревался нарисовать портрет
властителя, а не монастырского отшельника, — одного из тех
властителей, ничего общего с добротой не имеющих, только силе и успеху
которых привык удивляться век Возрождения.
Выясняя причины, сделавшие римлян великими, а
итальянцев злосчастными, Макиавелли особенно выделяет рели-
гаю. Здесь обнаруживается все противоречие Ренессанса и церкви.
Религия Древнего Рима была государственной религией, а
поддержание ее было делом политики и патриотизма; христианство, на-
92
Эпоха Возрождения
против, с самого же начала обратилось к потустороннему миру,
отвернулось от земного мира и государства, оно было
антиполитическим в своем источнике, оно сделало людей чуждыми
государству и ослабило политическую силу. К этому первому злу оно
присоединило второе. Христианская религия не осталась верной
своему первоначальному духу, она выродилась; на вере в небо
обосновалось господство церкви на земле, поглотившее государство и
превзошедшее его. Это второе зло есть церковная иерархия и папство,
имеющее престол в Риме и владеющее частью Италии. Нет больше
го зла, чем клерикальное государство, это самое сильное из всех
препятствий для объединения Италии.
Здесь Макиавелли сталкивается с худшим врагом своей
реформаторской идеи. В отношении папства к Италии мыслимы три
формы: или папа повелевает всей Италией, или он властвует
только над церковным государством, или же он является главой только
церкви без всякой светской власти. В первом случае Италия не
государство, а только церковная провинция, во втором случае она
продолжает быть разрозненной и ее единство невозможно, в
третьем случае, которого желал Данте, папа нуждается в защите
посторонней силы, могущей постоянно угрожать самостоятельности
Италии: нет поэтому такого положения, в котором папство могло
бы ужиться с политической реформацией Италии. Таким образом,
они абсолютно несовместимы, и Макиавелли желает уничтожения
папства. В нем он видит корень зла. Папство погубило и церковь,
и государство: церковь оно сделало лицемерной, а государство
ничтожным; отсюда стала распространяться зараза, которая отравила
нравы народов; чем ближе они к главе церкви, тем менее они
религиозны, поэтому-то среди христианских народов наиболее
испорчены романские народы, а среди них больше всех —
итальянцы. Главная цель Макиавелли есть уничтожение римской
церкви, секуляризация религии; на место новоримской религии он
охотно поставил бы древнеримскую, на место церкви —
государство, а на место религии — патриотизм. Он обожествляет
государство. Такой взгляд должен был проявиться в эпоху Ренессанса:
Макиавелли проникся им и неподражаемым образом и с
гениальной энергией выразил его согласно духу этого столетия.
93
Куно Фишер
Помпонацци увидел противоречие между учением о
бессмертии и философией: можно верить в человеческое бессмертие, но
его нельзя доказать. Макиавелли увидел противоречие между
христианской верой в бессмертие и политикой: человек должен
раствориться в государстве. Первый опрокидывает небесное царство
церкви, второй показывает непригодность ее земного царства.
4. Итальянский неоплатонизм и теософия
Дух Ренессанса требует безусловного подтверждения этого
мира в противовес потустороннему, религиозному; это воззрение,
развиваясь благодаря смелым и решительным личностям того
времени, принимает форму обожествления государства и природы. В
учении Макиавелли мы только что видели одну из форм такого
подтверждения, а именно политическую, и ожидаем такой,
которая представится в виде натурфилософского и пантеистического
мироутверждения. Последнее появилось в конце XVI столетия.
Пантеистическое мировоззрение, обожествляющее природу и
вселенную, противоречит не только учению церкви, но и
аристотелевскому учению, разъединяющему Бога и мир. Так как это воззрение
принесено Ренессансом и исходит из возрождения древней
философии, то исходные пункты этого направления следует искать в
учении неоплатонизма. Здесь развитие философского ренессанса,
сравнительно с развитием самой древней философии, идет в
обратном направлении. Мысль древности исходила из космологических
проблем, шла через антропологические (сократовские) проблемы к
теологическим и пришла под конец к великому религиозному
мировому вопросу, лежащему в основании неоплатонизма. Дух
Ренессанса, напротив, исходя из средних веков, ищет пути от
теологического мировоззрения, которое он приносит с собой, к
космологическим проблемам. Пример древних должен быть более всего
понятен вновь возникающей из христианства философии с той
стороны, которая наиболее сродни духу, воспитанному теологически и
сжившемуся с религиозными воззрениями. Это воззрение
греческой философии, в котором поздняя древность и начинающееся
новое время приходят в соприкосновение друг с другом, есть
религиозный платонизм. Через все средневековье подают они друг дру-
94
Эпоха Возрождения
гу руки, и кажется, как будто после долгой паузы философия
древности пожелала продолжать снова свое развитие как раз с того
момента, когда она, в лице последних неоплатоников, перестала
существовать. Мы видим, как Ренессанс, исходя из религиозно-
философского мировоззрения, приходит к натурфилософскому.
Исходный пункт этого движения образует итальянский
неоплатонизм, конечный пункт — итальянская натурфилософия: там мы
встречаемся с воззрениями, напоминающими Прокла и последних
неоплатоников, здесь, напротив, с такими, которые родственны
ионийской натурфилософии.
Среди греческих теологов, явившихся во Флоренцию, где,
по мысли римской церкви, предполагалась ее уния с греческой
церковью, были Георгий Гемистос Плетон из Константинополя
(1335-1450?) и его ученик Виссарион из Трапезунда. Первый был
противником унии, второй ее сторонником; Виссарион вскоре
сделался кардиналом римской церкви (1439), защитником и
руководителем платоновского возрождения в Италии. Плетон возвещает
уже о чем-то вроде новой религии мира, которая должна затмить
христианство и быть сходной с язычеством; он является скорее
верующим последователем Прокла, чем христианской церкви.
Своими талантливыми лекциями он склонил первого Медичи в пользу
платоновской философии и побудил его учредить платоновскую
академию во Флоренции, где, по-видимому, ожила вновь та
афинская школа, которая более чем девять столетий назад была закрыта
Юстинианом. Теперь возобновляется спор между платониками и
аристотеликами; Виссарион защищает Платона от его клеветников:
для него Платон и Аристотель — герои философии, по отношению
к которым современные философы ведут себя так же, как обезьяны
по отношению к людям; он хочет разделить область познания
между ними так, чтобы Платон являлся авторитетом в области
теологии, а Аристотель — в области натурфилософии.
Главнейшей задачей флорентийской Академии является
возрождение платоновской философии, изучение ее по
первоисточникам и распространение ее на Западе. Выполнение этой задачи
посредством латинского перевода платоновских и плотиновских
сочинений выпадает на долю флорентийца Марсилио Фичино (1433-
1499), которого Козимо готовит к преподаванию философии в сво-
95
Куно Фишер
ем доме и во флорентийской Академии. По своему мировоззрению
он неоплатоник. В философии Платона он видит источник всякой
мудрости, ключ к христианству и вместе с тем средство к
одухотворению и обновлению последнего; она великая тайна, в которой
заключена вся мудрость прошедшего и которой проникнута вся
премудрость последующего времени. Платон — истинный
наследник Пифагора и Зороастра; Филон, Нумений56, Плотин, Ямвлих,
Прокл— истинные наследники Платона, открывшие тайну его
учения. Этот свет освещал путь и носителям христианской
мудрости: Иоанну, Павлу и Ареопагиту.
В этих воззрениях, основные черты которых не новы, весьма
важно ухватить основную мысль. Она заключается в том, что
христианство и неоплатонизм должны быть согласованы, что
теологический дух одного должен быть согласован с космологическим
духом другого. Неоплатонизм родствен христианству в своем
религиозном мотиве, в стремлении к единению с Богом; он чужд
христианству по своему языческому свойству обожествлять мир. Тут мир
представляется как нечто находящееся в естественно-необходимой
связи божественного и вечного, как следствие первосушности, как
ступенчатое проявление божественных сил; здесь космос
представляется как божественный поток жизни, естественным образом
истекающий из первоосновы и в порядке постепенно убывающего
совершенства наполняющий формы чувственного мира, чтобы
отсюда, где Божественная жизнь наиболее отдалена от своего
первоисточника, вновь повернуть к нему свое течение. Здесь единение
с Богом есть один из моментов в вечном круговороте вселенной,
сама природа ищет возврата в своем наибольшем отдалении от
вечной первоосновы. Принцип христианства есть искупление мира
через Христа, принцип неоплатонизма есть (опосредованная)
эманация мира из Божественного первосущества. Для согласования
христианства с неоплатонизмом нужно, чтобы теологический дух
проникся представлением об эманации, т. е. принял бы
космологические формы, и чтобы Божественная тайна мироискупления
понималась так, что она открывается (не только в церкви, но)
также и в мировой и естественной жизни, и притом в истинном и
неподдельном происхождении из глубины самой Божественной
сущности. Теперь на природу смотрят как на источник истинного
96
Эпоха Возрождения
богопознания, как на путеводительницу к единению с Богом. Она
приобретает такое религиозное значение, которое угрожает
популярности церкви. В глубине природа кроется тайна Божества.
Созерцающий природу глядит в Божественную сущность. Таким
образом, природа является великой тайной, которую надо
раскрыть.
Если эта загадка разрешена, то снят покров с Божества и
найдено слово примирения для всех противоречий мира.
Допустим, что познание Бога обусловлено фактом мироискупления во
Христе: в этом случае мы имеем принцип и форму христианской
теологии; если же допустим, что познание Бога обусловлено
тайной природы, то в таком случае мы имеем принцип и форму
теософии, и эта теософская форма есть именно та форма, которую
принимает философия, вызванная к жизни платонизмом. Таков
первый шаг на пути к натурфилософии. Однако с этой точки
зрения природа представляется не предметом методически
исследующего познания, но тайной, для которой нужно найти слово
разгадки; она представляется книгой, находящейся под замком,
недоступной земному рассудку, для понимания ее нужен ключ столь же
таинственный, как сама книга. Следовательно, то, что ищет
теософский дух, есть тайная наука, открывающая ему сокровенный
смысл природы и разрешающая полную таинственности загадку. И
подобно тому как однажды греческая идея логоса встретилась с
иудейским мессианским идеалом, так теперь этот теософский дух,
пробужденный в христианском мире неоплатонизмом, увлечен
иудейской тайной наукой, каббалой, которая из Божественных
откровений древней эпохи хочет почерпнуть разрешение загадки
творения. В такой связи с каббалой, с этим иудейским гнозисом,
мы и находим платоновскую теософию в изображении Джованни
Пико делла Мирандолы, талантливейшего представителя
итальянского неоплатонизма.
Интерес к каббалистическим учениям и сочинениям делается
в эту эпоху живым и деятельным фактом уже потому, что
благодаря ему пробудился интерес к иудейской литературе и был дан
толчок к изучению еврейской культуры. Наряду с Эразмом
выдвигается Рейхлин57, делающий иудаизм предметом научных
исследований с намерением пролить свет на Священное Писание и по-
97
Куно Фишер
нять каббалу. Он знакомится с Пико и через итальянских теософов
приобщается к каббале. Благодаря этому интересу он становится
первым западным иудеем-ученым. Когда кельнские теологи,
схоласты средневекового склада, возбужденные одним
ренегатом-иудеем58, требовали уничтожения еврейской литературы, за
исключением Священного Писания, а следовательно, требовали церковного
осуждения каббалистических книг, Рейхлин стал защитником этой
литературы и спас ее от инквизиторов. В немецком мире это была
первая победа в борьбе гуманизма со схоластикой: весь
просвещенный мир с участием следил за спором, в котором выступили друг
против друга великие партии гуманистов и схоластов; на одной
стороне стояли знаменитые люди эпохи, блестящие имена науки,
на другой стороне — люди темные в духовном отношении и не
значительные. За письмами прославленных людей, поздравляющих
победителей, следуют «Письма темных людей» (1515-1517); это
непревзойденная сатира, ясно показывающая, насколько
гуманистический дух успел уже возвыситься над схоластическим духом,
образы которого дают ему лишь пишу для веселой насмешки, юмора и
комедии. Никто не изобразил этого так ясно и с такой
поразительной увлекательностью, как Д. Фр. Штраус в своем «Ульрихе фон
Гуттене».
5. Магия и мистика
Проследим, однако, дальнейшее движение этого теософского
воззрения. Если в природе Божественные силы проявляются в
последовательно нисходящем порядке так, что из высших сил
рождаются низшие, то Божественная жизнь необходимо должна
творчески пронизывать всю вселенную, то самое низкое должно быть в
неразрывной связи с самым высоким, земной мир — в связи с
миром небесным, посредством этой связи невидимое влияние с
высших сфер распространяется на низшие; высшие силы должны,
очевидно, господствовать над низшими и пронизывать их, и
поэтому нужно лишь овладеть этими высшими силами, чтобы затем в
полном смысле властвовать над всей природой.
Теперь теософию все более привлекают образы природы, все
глубже погружается она в созерцание ее, страстно выслеживая, где
98
Эпоха Возрождения
и как возможно проникнуть в секрет природы и овладеть ее
потаенными силами. Так постепенно теософия делается магией,
великим искусством« которое основывается на глубочайшей и
таинственной науке. В связи с теософией развивается магическо-кабба-
листическое направление в лице Агриппы фон Неттесгейма
(1487-1535).
Эта магия есть вера в природу как в загадку, в которой
кроется Божество; она является в то же время и верой в разрешимость
такой загадки. Если в природе существуют Божественные силы,
почему бы человеку не дана была возможность овладеть ими?
Стоит овладеть ими и привести их в действие, и человек становится
магом. Та эпоха верила в такую возможность. Это направление
выражается в целом ряде причудливых характеров и находит,
наконец, в легенде о Фаусте свое типическое выражение, а в поэме
Гете59 — прометеевское:
«Не замкнут мир духов; твой смысл померкнул, сердце
мертво. Вспрянь, ученик! Купай, не унывая, земную грудь ты в
утреннем багрянце».
В шестнадцатом столетии это гете-фаустовское слово жило в
людской вере. И представление о вселенной, лежащее в основании
этой веры, нельзя выразить лучше, чем словами Фауста, когда он
рассматривает знаки макрокосма:
Как в одно целое сплетается все тут,
Одно в другом все действует, живет!
Как неба силы воздымаются, нисходят,
Передают одна другой златые ведра!
На благодатью дышащих крылах
С небес чрез землю проникают,
Сквозь всю вселенную гармонией звучат.
Но как же завладеть этими высшими Божественными силами
природы так, чтобы действовать с их помощью? Во-первых, их
нужно познать. Они сокрыты в природе, и притом в ее низших
формах. Они кажутся сокрытыми и стесненными в своих проявлениях
из-за влияния внешних вещей и враждебных действий. Эти
препятствия должны быть устранены, покровы сорваны, а потому не
обходимо самому проникнуть в телесный мир и, не довольствуясь
99
Куно Фишер
созерцанием великой драмы мировых сил, раскрыть каждую силу в
отдельности, разрывая все, что ее связывает, стесняет, и
подсматривая у природы ее искусство.
Магия требует химического искусства, химической операции.
Если существует искусство устранять все препятствия, то благодаря
ему возможно будет излечивать и болезни: мысль о панацее лежит
в самой основе этой магии, желающей через химию способствовать
и развитию медицины. Но самое важное то, что при таком
направлении магия начинает общение с самой природой, делает опыты,
прикасается к вещам и производит эксперименты, как того требует
действительное исследование вещей природы. Вот какой
практический, а потому и знаменательный поворот принимает магия в лице
чудодейственного врача Парацельса (1493-1541), продолжая,
однако, оставаться всецело на почве своих теософских принципов.
Если в тайниках природы присутствует и действует
Божественная жизнь, то не присутствует ли она и в тайниках
человеческой природы, в ядре человеческого существа? Нигде
Божественная мистерия не может для нас осветиться непосредственнее,
светлее, яснее, чем в сокровенной глубине нашего собственного
внутреннего бытия. Мы должны вглядеться в эту глубину, сорвать
покров, окутывающий и затемняющий ядро, в котором слабо мерцает
искра Божественного света. И здесь необходима своего рода химия,
отделяющая и удаляющая все то чуждое и враждебное, что
проникает в наше внутреннее бытие из внешнего мира и мутит наш
рассудок. Страсти и желания, вовлекающие нас в мир, суть шлаки,
которые примешаны к золоту в глубоких шахтах нашей души. Вот
эту-то смесь и нужно разложить, очистить истинное от
неистинного, для того чтобы дать свету пробиться сквозь тьму и осветить
наши духовные силы. Есть один путь, непосредственно ведущий к
Богу, он идет через центр нашего собственного «Я», он требует
самоуглубления, тихого проникновения в наше внутреннее бытие,
отречения от суетного желания, одним словом, совершенно
чистого созерцательного смирения, благодаря которому мы становимся
тем, чем мы являемся в первоисточнике нашего существа. Это уже
путь не магии, а мистики.
И та, и другая суть формы теософии, ищущей пути к Богу
через мистерию вещей; магия направляется через внешний мир,
100
Эпоха Возрождения
мистика — через внутренний, одна через тайну природы,
другая — через тайну человека. Мистика как форма глубже,
устойчивее, ибо она идет по верному пути, ведущему ко все новым и
новым открытиям. Обе согласны в том, что они преследуют одну и ту
же цель, что они стремятся достигнуть ее непосредственно через
полное проникновение в саму жизнь; отсюда у обеих одно и то же
отрицательное отношение к воспринятой извне традиции, к
преданию школы, ко всякому научному и книжному знанию; они
стряхивают с себя книжную пыль, чувствуя, что нечто новое с
непосредственной, но неудержимой силой пробивается изнутри
наружу. Страстное возмущение против традиционных понятий есть
только форма, в которой порывается связь с прошлым, показатель
кризиса, которым одна эпоха отделяется от другой. Отвращение к
школьной учености такой мистик, как Валентин Вейгель,
испытывает не менее сильное, чем Агриппа и Парацельс.
В христианском мире мистика прошла ряд форм развития,
прежде чем она была охвачена в XVI столетии тем теософским
направлением, которое исходило от платоновского ренессанса и
тесно связало мистику с магией. В своей простой форме мистика
эта есть выражение внутренней религиозной жизни, ищущей в
тишине и глубине души путей к Богу, жизни, направленной к
единению с Богом через просветление сердца, без которого
немыслимо христианское смирение. Зга основная черта присуща
христианству и образует в разнообразных формах, меняющихся в
соответствии с самосознанием разных эпох, постоянную тему всякой
христианской мистики, неиссякаемый источник, из которого
постоянно вновь и вновь пробивается поток живой религии всякий раз,
как христианству начинает угрожать опасность благодаря его
церковной институционализации застыть в догматических формах и,
заблудившись в лабиринтах мирских интересов и теологических
школьных систем, стать чуждым своему искупительному
призванию. Потому-то в каждом столетии средневековья рядом со
схоластикой стояла мистика, которая отчасти боролась с церковной
теологией, объятой формализмом и диалектикой, отчасти дополняла
ее и являлась по отношению к ней тем, чем является аффект по
отношению к доктрине, жизнь по отношению к учению.
5 Куно Фишер
101
Куно Фишер
В ХП столетии появились люди в монастыре св. Виктора в
Париже (монахи Гуго, Рихард, Вальтер), которые ввели мистику в
церковную схоластику и, относясь с отвращением к школьным
доктринам схоластики, боролись против поглощения религии
теологией.
В следующем столетии, когда церковносхоластическое
мировоззрение достигает наибольшей полноты и завершения, мистика
образует собой благодетельное дополнение его и находит свое
могущественное выражение в Бонавентуре и Данте, рисующих нам
душевную жизнь человека в ходе ее религиозного развития и в ее
движении к Богу. В эпоху, когда начинает распространяться
номиналистическая теория познания и начинается раздробление между
знанием и верой, философией и теологией, последняя должна
была возвратиться в область практических и религиозных
интересов и приобрести даже характер мистического направления. Но
при первых движениях церковной децентрализации и религиозная
жизнь также стремится освободиться от своей связи с церковью и
более чем когда-либо утвердиться независимо от поступательно
развивающегося учения церкви, стремится к собственному
внутреннему обновлению как единственному пути к спасению.
Поэтому-то в последних столетиях схоластики мы и
встречаемся с церковно настроенной и со свободной от давления
клерикальной религии, независимой мистикой: первая стоит в
связи с реформаторскими соборами и находит свое выражение у
двух французских теологов, Пьера &Элж (1320-1425) и Иоанна
Жерсона (1363-1429), последняя же является провозвестницей
немецкой Реформации и имеет своим главой Мейстера Экхар-
та60, за которым следуют немецкие и голландские мистики: Сюсо
(Генрих Берг, 1300-1365), Иоанн Таулер (1290-1361), Иоанн Рю-
исброк (1293-1381) и неизвестный франкфуртец, автор ^Немецкой
теологии*, изданной Лютером год спустя после того, как он
провозгласил свои тезисы в ответ на отлучение. Реформация XVI
столетия пробуждает в Германии протестантски настроенную
мистику, которая выступает против зарождающейся лютеранской
схоластики, против веры в букву внешнего Богослужения, в телесное
присутствие Христа в таинстве причащения, вновь выдвигает
старую и вечную тему о духовном возрождении, об аде, который со-
102
Эпоха Возрождения
стоит в себялюбии, о рае, который заключается в самоотречении, о
Христе, которого мы должны оживить и испытать в себе, для того
чтобы быть блаженными в Нем. Это и есть религиозное,
проникнутое протестантизмом самопознание, в лице Каспара Швенкфельда
(1490-1561), Себастьяна Франка (1500-1545), Валентина Вейге-
ля (1533-1588) и Якоба Бёме (1585-1624) противодействующее
внешнему лютеранству, которое постепенно укрепляется в конце
столетия и замыкается в религиозных тисках «формул конкор-
дии»61, где, наконец, и глохнет.
Самый глубокомысленный и значительный из этих
мистиков — Якоб Бёме, в котором соединяются оба фактора: магическо-
каббалистическое мировоззрение, связанное с Ренессансом и
вдохновлявшее Парацельса, и мистика, вызвавшая к жизни
протестантизм. Божественная тайна в человеке тождественна тайне
природы; если первая раскрыта, то разрешается загадка и секрет
творения. Религиозное самопознание — это взгляд в самую
внутреннюю и сокровенную глубину нашего существа: в возрождении
Бёме видит проявление «внутреннего человека» и смерть
«мерзкого», одержимого самомнением, в рождении естественной (самост-
ной) воли — рождение вещей вообще, открывающихся по
собственной воле от Бога; поэтому существует первоначальное
состояние вещей, или природа в Боге, которая так же относится к
Божественной жизни и откровению, как в человеке естественная
воля относится к возродившейся. Ибо откровение Бога есть
возрождение и просветление мира (человечества), отражающего
Божественный свет так, как металлическое зеркало отражает свет
естественный. На связи и противоречии Божественных и
естественных жизненных сил, целью которых может быть только
состояние, свободное от всякого противоречия, основывается магическо-
мистическое мировоззрение Бёме, его теософский взгляд на вещи,
в котором искренность благочестивого чувства уживается с
жизнерадостной фантазией, наполненной образами природы.
Религиозное самопознание — основа философского. Мистика Экхарта,
достигающая своей высоты в немецкой теологии, предшествовала
Реформации; протестантская мистика, нашедшая свое полное
выражение у Якоба Бёме, является предтечей новой философии и
стоит у ее порога.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ НАТУРФИЛОСОФИЯ
1. Д. Кардано. Б. Телезио. Фр. Патрицци
Мы возвращаемся к Ренессансу, чтобы воспроизвести в его
философии ряд характерных черт. Возрождение неоплатонизма
имело последствием теософское рассмотрение природы, которое с
каждым шагом все более удалялось от теологического понятия
схоластики и от Аристотеля, все яснее выражало свой
пантеистический характер и достигло в своем натуралистическом
мировоззрении цели, прямо противоположной схоластике. Значение природы
признается ради нее самой, она носит закон, силу и цель своей
деятельности в самой себе и, следовательно, должна
истолковываться не из теологических оснований, но «juxta propria prin-
cipia»62. Это направление подхватывается итальянской
натурфилософией, ставшей последним звеном философского развития
Ренессанса, первым звеном которого была платоновская школа во
Флоренции.
Уже задачи, поставленные перед собой итальянской
натурфилософией, противоречат основному воззрению Аристотеля.
Природа не может быть объяснима из самой себя, пока внемировой
Бог признается ее движущим основанием и целью; это понятие
Бога связано с учением об ограниченности вселенной, о
геоцентрической системе мира, о противоположности между небом и зем-
104
Итальянская натурфилософия
лей, об образовании элементов, конструируемых из различия
движения (перемены места), которым должна объясняться
противоположность между высшим, или небесным, элементом (эфир) и
четырьмя низшими (огнем, воздухом, теплотой и холодом);
соответственно огонь признается веществом, теплота и холод, легкость и
тяжесть— противоположными свойствами или состояниями
вещества. В самих основах аристотелевского учения кроется
противоречие между представлением теологическим и натуралистическим,
между метафизикой и физикой, между трансцендентностью и
имманентностью цели, между целью (формой) и материей.
Основателем нового натурализма, оспаривающего Аристотеля,
устраняющегося от церкви и берущего природу своей
единственной путеводной нитью, является Бернардино Телезио из Козенца в
Калабрии (1509-1588). Он является главой натурфилософской
школы, сосредоточивающейся в козентинской Академии. Его
предшественником был авантюрист Джироламо Кардана из Милана
(1500-1577), указавший философии на познание природы, на
внутреннюю связь всех явлений, на всепроникающее единство всей
живой и одушевленной природы и воскресивший понятие мировой
души, понимаемой им как свет и тепло. Учение Телезио,
являющееся фундаментом собственно, итальянской натурфилософии,
упрощает принципы, которые следует выводить из наблюдения над
самими вещами. В природе все нужно объяснять из вещества и
силы, из материи и присущих ей сил, действие которых состоит в
распространении и сокращении; свойства эти следует уподобить
свету и темноте, холоду и теплоте; они концентрируются в солнце
и земле. Как бы ни были неразвиты представления Телезио, все же
здесь центром натурфилософии становится учение о силах
природы и предположение о единстве этих сил. Теплота уже не
вещество, но движение или причина движения, а его следствиями
являются огонь, воздух и вода. Этим разрушается аристотелевская
физика в одном из ее главных пунктов — в учении об элементах, и
так как все следует объяснять естественными силами, то и
познание нужно выводить из ощущения, разум — из чувственности,
нравственное поведение — из страстей, добродетель — из
потребности самосохранения. Устранив теологические и религиозные
вопросы, система Телезио становится вполне монистической и
105
К у но Фишер
натуралистической. Его главное сочинение — «Об исследовании
естественных причин» — появилось в первой редакции в 1565, а в
дополненном издании — в 1587 году.
Это учение вследствие своей противоположности Аристотелю
возбудило интерес к платоновскому воззрению в его обновленной
Ренессансом форме: Франческо Патрицци из Клиссы в Далмации
(1529-1593) объединяет итальянский неоплатонизм с новой,
введенной Телезио итальянской натурфилософией. Точка
соприкосновения обоих лежит в учении о теплоте и свете; последний
Телезио считает движущей и живительной силой природы, с которой
неоплатоники уже издавна сравнивали Божественную сущность и
ее эманацию. Патрицци разграничивает и объединяет оба
значения, естественное и символическое: духовный и телесный свет он
выводит из единого Божественного первосвета, первоисточника
всех вещей, из которого исходит ряд эманации. В этом заключается
основная его мысль, развитая в его сочинении «Nova de universis
philosophia»63 (1591). В этой системе находит место и понятие
мировой души, так что Патрицци в пределах итальянской
натурфилософии связывает Телезио с Кардано. Однако учение его, хотя и
враждебное Аристотелю, было одобрено платонизмом, которому
покровительствовала церковь, и явилось шагом назад в развитии
новой натуралистической философии.
2. Джордано Бруно
Философское направление, указанное Телезио, не
интересуется обновлением Аристотеля или Платона, не интересуется спором
возродившихся школ этих философов, оно занято возрождением
самой природы в духе человека, оно стремится к полному и
безусловному утверждению натурализма; всякое трансцендентное
утверждение натурализм ощущает как чуждую каплю крови в своих
жилах, как мертвую схоластику, как порабощение природы
теологией — и отбрасывает его с возмущением. То, что Аристотель
сказал о Платоне, — «amicus Plato, magis arnica veritas»64 —
применимо теперь к самой природе. Она становится объектом страстного
воодушевления и любви. Подобно тому, как Макиавелли
обожествлял государство и ненавидел церковное государство и папство,
106
Итальянская натурфилософия
считая их источником политических бедствий, так теперь
обожествляется природа и идет борьба с церковью вплоть до ее
основания — христианской веры. Этот смелый, с необходимостью
вызванный духом итальянского Возрождения и его натурфилософии
шаг делает доминиканский монах Джордано Бруно из
неаполитанской Нолы (1548-1600), который сбрасывает с себя одеяние ордена
и пускается в авантюристские странствия. За три столетия до него
его соотечественник Фома Аквинский решил уйти из мира и
искать спасения в рясе доминиканца. Так меняются времена!
В доминиканском монастыре в Неаполе, где когда-то жил и
учил Фома, начал Бруно свое послушничество, сделался членом
ордена (1563-1572). Здесь он получил взамен крестного имени
Филиппо орденское имя Джордано. После принятия посвящения и
после того, как он подвизался в разных местах Кампании в
качестве священника, он возвратился в Конвент в Неаполь, будучи
заподозренным уже во многих ересях. Его первые сомнения касаются
Троицы; революция в его идеях произошла после изучения им
книги Коперника. Чтобы ускользнуть от испанской инквизиции в
Неаполе, перед которой провинциальное отделение ордена
возбудило против него грозное обвинение, он бежал в Рим, где
обвинение его преследовало. Здесь ему угрожала римская инквизиция. С
этого времени начинаются пятнадцатилетние его скитания (1576—
1591), которым суждено было закончиться в темнице венецианской
инквизиции.
После кратковременных остановок в Ноли вблизи Генуи, в
Савоне, Турине, Венеции (во время чумы, от которой умер
Тициан), Бергамо, Шамбери он пробыл некоторое время в Женеве, где
при Беце65 царил суровый кальвинизм. Здесь по требованию
Кальвина был сожжен за двадцать пять лет до этого Мишель Сервет. В
течение следующих десяти лет Бруно уже без рясы, в светском
костюме, продолжает свою деятельность во Франции и Англии,
поучая словом и письмом. Он преподавал в Тулузе, Париже,
Оксфорде и Лондоне. Пребывание в Лондоне (1584-1586) было
знаменательным для его учения. Здесь под покровительством королевы
Елизаветы и французского посланника Кастельно де Мовиссьера
он напечатал свои философские диалоги на итальянском языке:
«Трапеза в страстную среду», «О причине, принципе и едином»,
107
К у но Фишер
«О бесконечном и мирах», ♦Изгнание торжествующего зверя», «О
героическом энтузиазме»".
В продолжение последних пяти лет он живет и проповедует в
Германии. Марбург закрыл перед ним двери, Виттенберг принял
его, Гельмштед почтил его со стороны лютеран. В Виттенберге он
проповедовал почти два года и 8 марта 1588 года сказал
благодарственную прощальную речь, восторженную по отношению к
Лютеру и Германии; здесь он сравнивает Лютера с Геркулесом, а
голову, носящую тиару, с Цербером. Наиболее важным и
существенным для развития его учения было пребывание во Франкфурте-на-
Майне (1588-1591), где он издал три дидактических стихотворения
на латинском языке: «О трояко-малом», «О единстве, числе и
фигуре», «О неизмеримой Вселенной и бесчисленных мирах»**.
Его статьи и лекции об искусстве Луллия66, касавшиеся в то
же время и искусства памяти, создали представление о том, будто
Бруно обладает необыкновенным мнемоническим и магическим
искусством, которому у него можно поучиться. Такое мнение о
нем сложилось во время его пребывания в Париже вследствие
интереса, который выказал к нему король Генрих III. Теперь и
венецианский дворянин Джованни Мочениго пожелал быть
посвященным этим магом в его тайное искусство; он неоднократно
приглашал его и обещал ему обеспеченную жизнь.
В октябре 1591 года Бруно приехал в Венецию. Мочениго
брал у него уроки, но магом не сделался и по своей
ограниченности и коварству, из услужливости и преданности инквизиции
решил отомстить еретику Бруно страшным образом. Ночью он напал
на своего готовящегося к отъезду гостя и препроводил его
инквизиции (22 мая 1592 года). Бруно оставил венецианскую инквизицию
только для того, чтобы переменить ее на инквизицию Рима, где он
провел последние семь лет своей жизни (с 27 февраля 1593 до
17 февраля 1600 года).
Этот человек с горячими чувствами, сын солнца и матери-
земли, как он себя называл, совершенно не был рожден для муче-
«La cena delle ceneri», «Della causa, principio ed ano», «Del infinito
universo e mondi», «Spaccio della bestia trionfante», «Degli eroici
furori».
«De triplici minimo et mensura», «De Monade, numero et figura»,
«De immenso et innummerabilibus sive de Universo et mundis».
108
Итальянская натурфилософия
ничесгва. Когда в Венеции он понял свое опасное положение, то
был готов к отречению и на допросе 30 июля 1592 года униженно
молил за свою жизнь. Но в Риме от него хотели большего, чем
только отречения: этот архиеретик должен был внутренно
отречься, обратиться, должен был убедиться, что нет бесчисленных
миров, а существует лишь один мир, в котором имеет место
искупление и в котором церковь призвана к владычеству. Но все попытки
сломились о его убежденность в неизмеримости вселенной и
существовании бесчисленных миров.
Когда 8 февраля 1600 года ему объявили приговор, то он был
расстрижен, отлучен от церкви и препровожден светской власти
для того, чтобы она наказала его как можно мягче, без пролития
крови, т. е. для того, чтобы дать ему умереть самой медленной,
мучительной смертью на огне; тогда он крикнул своим судьям: «Вы
больше меня дрожите!» Он был сожжен 17 февраля 1600 года в
Риме на Campo di йоге. 9 июля 1889 года на том месте, где
находился костер, ему был воздвигнут памятник.
Бруно воплощает собой натуралистический ренессанс подобно
тому, как Макиавелли— ренессанс политический. Главный его
мотив, главная развиваемая им тема — это обожествление
природы и вселенной, Божественное единство, это пантеизм в
противоположность всем церковным представлениям. Это воззрение
пронизывает все его мышление и творчество и делается для него вполне
новым мировоззрением, которое он проповедует как связь религии
и познания. Монашескую рясу он променял на жезл Вакха! Он
чувствует себя в духовном родстве с философами древности,
признававшими божественный космос: с Пифагором и Платоном,
стоиками и Эпикуром; они к нему тем ближе, чем менее дуалистичны
их представления и чем более согласуются они с естественным
порядком вещей; поэтому он ставит Платона выше Аристотеля,
Пифагора выше Платона, учение Эпикура и Лукреция выше, чем
учение стоиков. Наоборот, он отвергает схоластику, в особенности
аристотелевскую, и прежде всего Дунса Скота, который принес
природу в жертву Божественному произволу. Как система вещей
может быть только едина, так и наши понятия должны
укладываться в систему и таблицу: потому-то он и заинтересовывается Лулли-
евым искусством. Дуализму Бога и мира, формы и материи он про-
109
Куно Фишер
тивопоставляет полное единство противоположностей (coincidentia
oppositorum), которое впервые еще у порога Ренессанса высказал и
сделал принципом своего учения глубокомысленный Николай Ку-
занский. Для Бруно вселенная является истинным и
единственным откровением Бога; поэтому он спорит против веры в
персонифицированного Богочеловека, на которой зиждется христианство,
и против учения о греховной природе, на котором основывает
католицизм оправдание только через церковь, а протестантизм —
только через веру: лютеранская аксиома «sola fide»67 заключает так же
мало смысла, как и римская «nulla salus extra ecclessiam». Только
природа есть царство Божье, обретаемое в живых и истинных
воззрениях на веши, а не в книгах и не достигаемое при помощи
буквоедства. Преисполненный стремления к познанию природы,
Бруно отворачивается от филологического духа Ренессанса,
формализма, логики и риторики. Здесь натурализм направляется против
гуманизма в узком смысле.
Из основного воззрения Бруно, отрицающего всякое внемиро-
вое и надмировое бытие Бога и рассматривающего вселенную как
полное его присутствие, непосредственно вытекает тождество Бога
и вселенной, учение о безусловной имманентности Бога. «Ему
подобает давать внутреннее движение миру, заключать природу в
себе и себя в природе». Итак, вселенная тождественна Богу,
поэтому она неограниченна и неизмерима, обнимает бесчисленное
множество миров и солнечных систем; звездное небо не крыша
мирового здания, земля не неподвижный центр мира; нет вообще
такого абсолютного центра, само солнце только в относительном
смысле центрально, только в качестве центрального пункта нашей
системы планет: поэтому Бруно согласен с коперниковским
воззрением на мир, которое предшествовало ему и которое он защищает
против аристотелевской, птолемеевской и церковной систем. В
своих выводах он идет дальше, чем Коперник, и является
предшественником Галилея. Здесь не место рассматривать вопрос о
том, существует ли между пантеистическим и коперниканским
учением в конечном счете необходимая связь. Более наглядно то,
что из отрицания геоцентрической системы следовало отрицание
ограниченности мира, утверждение неограниченного и
неизмеримого мира, благодаря чему обычные представления о трансцендент-
110
Итальянская натурфилософия
ности распадаются сами собой и достигается отождествление Бога
со вселенной.
Божественное всеединство нужно понимать в том смысле, что
все происходящее в природе вещей исходит из Божественной
природы; она есть все охватывающее и носящее в себе, все
производящее, всем движущее, во все проникающее, все познающее
единство: материя, сила и дух в одном. Поэтому отношение Бога к
вселенной равно необходимому порядку вещей, или природе.
Учение Бруно о всеединстве натуралистично. Бог относится к миру,
как творящая природа к сотворенной, он есть «natura naturans»,
мир явлений — «natura naturata»68. Бог в качестве причинной
природы или все производящей силы есть в то же время и
материя, и дух, вещество и интеллигенция, протяжение и мышление.
В этом пункте мы узнаем в Бруно предшественника Спинозы.
Но природа есть вместе с тем продукт Божественного
художественного творчества, в котором внутренно творящий художник
изображает и обнаруживает самого себя, переходя постепенно от
бессознательной природы к сознательной, от материального
выражения своих идей к их духовному выражению, от «vestigia» к
«umbrae»69, являющихся отражениями в нас божественных идей.
Это естественное и непрерывное откровение Бога в мире есть
процесс развития, которому присущи божественные цели, или
вселенский замысел, в качестве движущих сил и из которого они
исходят в виде объекта познания, как плод из семени. Вселенная,
рассматриваемая как живое произведение искусства, есть
саморазвитие Бога. Он относится к миру подобно тому, как основание
развития относится ко всей совокупности форм и ступеней
развития, как зародыш к растению, как точка к пространству, как атом к
телу, как монада (единица) к числу: поэтому Бог есть и самое
малое, и величайшее и образует на самом деле единство всех
противоположностей. В нем мир содержится, как сказал уже Кузанский,
потенциально, в нераскрытом зачатке, в состоянии ♦implication; Бог
существует в мире в состоянии «explication, в состоянии
бесконечной полноты и раскрытия всех своих сил.
Таким образом, вселенная является развивающейся системой,
элементы которой суть нераскрытые развивающиеся силы, или
монады вещей. Здесь мы узнаем в Бруно предшественника нашего
111
Куно Фишер
Лейбница. Итальянские сочинения, изданные им в Лондоне,
примыкают к направлению, завершающемуся в Спинозе; наоборот,
латинские стихотворения, изданные им во Франкфурте-на-Майне
незадолго до смерти, представляют уже учение о монадах: он был
не атеистом, а «филотеистом» (теофилом). Его учение о
Божественной и бесконечной вселенной с бесчисленными солнечными
системами, которое он рассматривал и возвещал как содержание
новой религии, было главным пунктом обвинения и убеждением,
за которое он принял ужасающую мученическую смерть. И это
произошло через два тысячелетия после смерти Сократа!
Новатор более по намерению, чем по влиянию, оригинальный
более по характеру и индивидуальности, чем по идеям, которые
большей частью истекают из духовной атмосферы вызванной вновь
к жизни древности, Бруно является предшественником новой
философии, но не основателем ее. Новое в нем — это его коперни-
канско-пантеистическое мировоззрение*.
3. Т. Кампанелла
Об итальянской натурфилософии вообще нужно сказать, что
хотя ее компас и неоспоримо указывает на Новое время, тем не
менее под сильным влиянием прошлого она испытывает заметные
отклонения и поэтому еще колеблется. Эта натурфилософия
является не началом новой философии, а лишь переходом от средних
веков через эпоху Возрождения к последней; поэтому в ней
смешиваются духовные течения прошедшего и будущего, она испытывает
на себе воздействие трех притягательных сил: античности,
церковной эпохи и дыхания Нового времени. Это сочетание, слишком
оригинальное для того, чтобы означать только обычный эклектизм,
не проявлялось ни в ком шире и замечательнее, чем в последнем и
самом младшем его носителе — Томмазо Кампанелле из Стило в
Калабрии (1568—1639), соотечественнике и младшем современнике
Бруно. Подобно последнему, Кампанелла — доминиканец с
горячим и поэтическим воображением, глубоко проникнутый и
увлеченный телезианской натурфилософией; как и Бруно, его
преследуют — не столько в силу церковных, сколько в силу политиче-
Ср.: A. RiehL Giordano Bruno (1889).
112
Итальянская натурфилософия
ских причин, ибо его подозревают в заговоре против испанского
господства; за это подозрение ему пришлось вынести семь раз
пытку и подвергнуться двадцатисемилетнему заключению в
пятнадцати различных тюрьмах (1599-1626).
Исходя из учения Телезио, вместе с Патриции и Бруно, он
усиливает антиаристотелевский характер новой натурфилософии;
подобно Патрицци, он примыкает к телезиано-платоновскому
направлению, дружественному церкви; в противоположность Бруно,
он признает мировое господство церкви и своим учением кладет
основу союза между итальянской натурфилософией и
схоластической государственной теорией, между Телезио, основателем
натурализма, и Фомой, теологическим авторитетом доминиканцев. С
высоты позднего Ренессанса Кампанелла в своих политических
воззрениях отходит назад, к представлениям, предшествовавшим
Данте, становится жестоким врагом Макиавелли, этого истинного
представителя политического возрождения, который казался ему
дьяволом. В то же время эта удивительная смесь телезиано-плато-
новских и фомистских представлений, этот синтез итальянской
натурфилософии, неоплатоновской (ареопагитической) и
схоластической теологии основывается на принципах, дающих нам
возможность видеть в Кампанелле предтечу основателей новой
философии: его отношение к Бэкону и Декарту, в особенности к
последнему, таково же, как Бруно к Спинозе и Лейбницу.
Естественное познание вещей основывается на внутреннем и
внешнем опыте: первый состоит в чувственном восприятии и
сенсуалистичен, второй рефлективен и состоит в самонаблюдении, в
непосредственной достоверности нашего собственного бытия, в
несомненном «я есмь». Вот тот пункт, в котором Кампанелла
соприкасается с Декартом и, по-видимому, предвосхищает начало
новой философии. Мы познаем непосредственно не только наше
существование и его границы, но и то, что мы такое и в чем
состоит природа нашего существа: в силе познания и воления. Я —
существо, имеющее способность мочь, представляющее и волящее:
таковы мои непосредственно обнаруживающиеся основные
свойства, или «прималитеты» (первичности); способность мочь
завершается в силе, представление— в познании или мудрости, воле-
ние — в любви. Но так как мое существо имеет ограниченную
ИЗ
Куно Фишер
природу, то я подвержен и противоположности этого
совершенства — бессилию, неведению и ненависти. Познание же требует
единства и связи всех сущностей, причины возникновения
которых должны быть аналогичны. Таким образом, моя убежденность в
собственном существовании освещает мне непосредственно
последние принципы, или первоначальные основания вещей.
Из упомянутых «primalitates» (первичностей) собственного
существа Кампанелла познает «proprincipia» (предварительные
принципы), составляющие тему его новой метафизики.
Бессознательные естественные существа, стоящие ниже меня, представляют
собой в низшей степени то, что я представляю собой в высшей;
Бог есть в высшей, абсолютной степени то, что все конечные
существа суть в низшей: он — всемогущество, мудрость и любовь.
Нет поэтому действительной вещи, которая не чувствовала бы
бытия Бога и не стремилась бы к нему, которая в силу своей
природы не ощущала бы и не волила, хотя бы и в бессознательной
форме. Всякое действительное бытие есть в то же время
самоощущение, воля к бытию, влечение к самосохранению. Из
безжизненного никогда не может родиться живое, из бесчувственного —
ощущение и перцепция (впечатление); следовательно, сила
представления и сила воли — первоначальные силы, обосновывающие
всякое бытие, дающие ему жизнь и созидающие постепенный ход
вещей. В этом глубокомысленном воззрении Кампанеллы мы
видим приближение к Лейбницу и в той же степени удаление от
Спинозы, в какой Бруно был близок к последнему. Он стоит
между Телезио и Декартом; вместе с Бруно он стоит между Телезио и
Лейбницем, но не стоит, подобно Бруно, между Телезио и
Спинозой. Телезианское учение о противоположности и вражде сил в
природе вещей Кампанелла обосновывает тем, что чувство и
ощущение живут во всех вещах, что из их влечения к
самосохранению, воли к бытию, присущей уже сопротивлению косных масс,
следуют симпатия, антипатия, притяжение, отталкивание: все это
70 о
он выводит из «sensus rerum» , оригинальной темы своего
первого философского сочинения, содержащего уже основную мысль его
метафизики и появившегося в Неаполе в том же году, что и новая
философия Патриции в Ферраре и латинские стихотворения Бруно
во Франкфурте.
114
Итальянская натурфилософия
Если мир рассматривать с точки зрения естественных вещей,
то он предстанет как развитие, как постепенное движение
прогрессирующего совершенства и просветления, завершающегося в Боге.
Если его рассматривать исходя из идеи Бога, то он предстанет как
создание всемогущей мудрости и любви, которое должно быть, в
отличие от Бога, конечным и несовершенным и, следовательно,
образует по мере удаления от Бога нисходящий ряд возрастающих
несовершенств и усиливающейся тьмы, в котором непременно
должны быть промежуточные ступени идей, духов и душ. Мир духов
обнимает собой и чины ангелов, небесную иерархию, согласно
учению Ареопагита. Учение Кампанеллы о творении имеет своего
предтечу в лице Фомы, а представление о нисходящих ступенях
вселенной — в неоплатоническом учении об эманации.
Но в человечестве духовный мир снова вздымается из темных
недр природы и стремится ввысь: он должен образовать новое
царство света, «царство солнца», отражение царства Божия. Должно
быть едино стадо и един пастырь. Поэтому Кампанелла и
настаивает на необходимости единства и централизации религии, церкви
и государства — мирового царства, объединяющего все ступени, на
которых стоит человечество, под одним вселенским повелителем,
царства, подчиняющегося наместнику Бога на земле, верховному
главе мировой церкви как выразителю Божественного всемогуще
ства, римскому папе. Такова поэтическая, ретроспективная,
серьезно продуманная реконструкция церковной эпохи из времен
Иннокентия Ш, философская фантазия, созданная уже после того, как
Данте предал проклятию светскую власть папства, Макиавелли —
церковную, а Реформация уже пробила в ней непоправимую
брешь. Однако почему фантазия Ренессанса, обладавшая
магической силой заклинать мертвых, не могла еще раз помечтать об этом
идеале средневековья в лице одного из ее запоздалых
представителей? Ведь было же между платоновским государством и римской
церковью древнее родство, которое могло овладеть воображением
Кампанеллы и вдохновить одинокого узника в его тюрьме.
115
Куно Фишер
СКЕПСИС КАК ПОСЛЕДСТВИЕ РЕНЕССАНСА
1. Л. Ванини
Уже в последний век схоластики вера чувствует в знании не
услужливую опору, а стесняющее ярмо и освобождается от него с
помошью номиналистической теории познания. Человеческий
рассудок был нацелен на естественный и чувственный мир с
сознанием того, что его средствам недоступно постижение сущности
вещей. Таким образом, уже в этой схоластической теории познания,
отделившей веру от знания, скрывалось зерно скептического
отношения к последнему.
Ренессанс потряс до основания церковную веру и
действительность потустороннего и сверхъестественного мира, он снова
оживил философские системы древности, из которых ни одна не
могла дать научного удовлетворения, которого ищет и в котором
нуждается дух Нового времени; он оправдывает многообразие
индивидуальных воззрений и вовсе не расположен надевать на себя
оковы одной системы. Господство какой-либо одной системы
познания противоречит в корне источнику и смыслу Возрождения.
Поэтому-то вполне естественно, что культура Ренессанса, не будучи в
состоянии создать истинно новую систему, впадает под конец в
скепсис, открыто признающий эту неспособность и относящий
веру в познание истины к числу человеческих самсобманов.
От скептического сознания такого рода, благодаря
образованию и эпохе, недалеко то направление, которое напоминает
софистику древних, где сомнение служит личному самоудовлетворению
и настолько увеличивает индивидуальное чувство силы, что
человек начинает воображать себя стоящим на такой высоте, которая,
кажется, подчиняет себе царство религии и знания. Человек вновь
воображает, что он «мера всех вещей»; его добрая воля — сегодня
защищать веру, а завтра издеваться над ней. Эта черта суетной и
хвастливой софистики не осталась чуждой итальянскому
Ренессансу и нашла своего выразителя в младшем современнике Бруно и
Кампанеллы, в человеке, у которого сознание собственного досто-
116
Итальянская натурфилософия
инства перешло в манию величия: он назывался Люцием Ванини,
а называл себя Юлием Цезарем Ванини (1585-1619). В одном из
своих диалогов он заставляет собеседника, изумленного до
последней степени силой его рассуждения, воскликнуть: «Или ты Бог,
или Ванини!» — и сам скромно отвечает: «Я Ванини!»
В своем «Амфитеатре» (1615) он хочет явиться противником
философов древности и ходатаем христианства, церкви Тридентско-
го собора и иезуитов; уже в следующем году он пишет свои
«Диалоги о природе», «Царица и богиня смертных», где религиозные и
христианские положения веры хотя и замаскированы разговорной
формой, но, без сомнения, являются мишенью иронии и
насмешки. Прошло столетие со времен Помпонацци, который повел
натурализм в поход против церкви и осторожно обосновал, но в то же
время замаскировал сомнение в религии; Ванини следует примеру
Помпонацци, но без всякой серьезности и оригинальности в
исследовании: он разыгрывает перед церковью почти одновременно роль
апологета софистики и нахального насмешника. Однако век,
которому предшествовали основание иезуитского ордена, Тридентский
собор и Варфоломеевская ночь, не понимал уже таких шуток, и за
свои диалоги Ванини был сожжен на костре в Тулузе (1619). Не
по своему характеру и своим сочинениям, а исключительно по
этой трагической судьбе Ванини стоит рядом с Джордано Бруно.
2. Мишель де Монтень
Есть скептическое мировоззрение, вышедшее, подобно
зрелому плоду общего опыта и жизненной мудрости, из культуры
Ренессанса и являющееся последним словом его философского развития.
При пестром разнообразии философских взглядов и систем ни в
одной из них мы не находим твердого убеждения в истине; скорее
благодаря своим противоречиям они дают нам доказательство
интеллектуального бессилия, которое при такой полноте образования,
при таком богатстве духовных сил, каким обладает эта эпоха,
должно обусловливаться самой человеческой природой. Поэтому
правильное, испытанное на опыте, чуждое всякому интеллектуальному
властолюбию и бахвальству самопознание и составит задачу и
цель, на которые указывает общее настроение умов эпохи. Чем
117
К у но Фишер
правильнее и трезвее рассматриваешь самого себя, тем лучше
познаешь других и приобретаешь точку зрения спокойного и
антропологического воззрения на веши. «C'est moi, que je peins!»71
Такова та точка зрения, на которую стал в заключительный
момент философского ренессанса Мишель де Монтень (1533-
1592); это положение выражено им и целиком составило явную и
скрытую тему его *Essais» (1580-1588)72. Его воспитание велось
совершенно в духе Ренессанса, его образ мыслей есть плод этого
воспитания; Монтень знал самого себя, и никто не умел лучше его
ценить силу воспитательных влияний, зависящих от эпох и нравов
и созидающих даже мнения людей. В человеческом мире меняются
индивидуумы, в них — настроения и жизненные условия, а с
ними и мнения. Познавший способ возникновения последних не
будет более приписывать им объективного значения, а будет
признавать каждое из них плодом индивидуального развития. Поэтому
монтеневскому скептическому направлению не чужды стремление
к познанию человека и терпимость по отношению к религиозным
различиям, порожденным во Франции гражданскими войнами; он
отвергает мнимые истины философских систем и надутую
ученость, нагромождающую комментарии на комментарии, — он
уважает всюду только индивидуальное право мнений; именно в этом
отношении Монтень является питомцем Ренессанса, а его
скепсис — результатом культуры этой эпохи. Чем непонятнее мир
человеческих представлений, законов и нравов, тем сильнее
возвышается значение непоколебимого, независимого от человеческой
изменчивости порядка вещей в закономерном и постоянном
течении природы, живой книги творения, которое уже Раймунд де
Сабунде назвал в своей «Естественной теологии» (1436)
неискаженным откровением Бога. Монтень в юности перевел книгу Рай-
мунда и защищает ее в самом обширном из своих essais. Вере в
человеческое познание и его искусственные произведения он
противопоставляет веру в природу в ее простоте и согласии с
позитивным откровением Бога; он не знает лучшего совета, чем
предоставить себя природе и следовать ее указаниям. В этой вере в природу
Монтень является предшественником Руссо, и даже в том, что он
эту веру строит на самонаблюдении и выражает в форме
самоопределения. «C'est moi, que je peins!»; «Я изучаю самого себя: в этом
118
Итальянская натурфилософия
моя метафизика и физика». Это выражение нашего скептика мог
бы сделать своим девизом и Руссо.
Монтень стоит у порога новой философии, которого он не
переступает. Последняя начинается тем, чем он кончает:
сомнением, основывающимся на самонаблюдении и самоисследовании,
заключающим в себе также и веру в природу, но не в
познаваемость ее. Это сомнение, ищущее и прокладывающее путь знанию,
присуще в одинаковой мере и Бэкону, и Декарту, этим
основателям новой философии. Отец Монтеня был соотечественником
Бэкона, избравшего форму «essais» для своих первых значительных
сочинений; сам Монтень — соотечественник Декарта. Он является
типичным представителем скептического образа мыслей, который
является в южной Франции как бы последней станцией на пути от
Ренессанса к Декарту. В лице проповедника Пьера Шаррона
(1541-1603) этот скептицизм становится подчеркнутым указанием
на религиозную веру; в лице профессора медицины Франциска
Санхеца (1562-1632) он становится естественным наблюдением
вещей. Суть этого наблюдения выражена Шарроном: «Истинный
предмет изучения человека есть человек».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ВЕК РЕФОРМАЦИИ
Начало новой философии обусловлено историческим
событием, расшатавшим основы средневекового образования,
уничтожившим его рамки и, благодаря объединению необходимых для его
ломки сил, таким образом изменившим совокупное человеческое
мировоззрение, что создался фундамент для новой эпохи в
культуре. Это обширное и коренное преобразование, никоим образом не
ограничивающееся только церковными изменениями, есть эпоха
Реформации, составляющая демаркационную линию между
средними и новыми веками. Никогда в мире более великое не
происходило в столь короткое время. В течение одного полустолетия
человеческое сознание преобразовалось, изменилось во всех своих
главных формах; масса реформаторских сил сливается вместе для того,
чтобы расшатать средние века; они разрушительно воздействуют на
самые различные области независимо друг от друга и в то же
время в изумительном согласии. Мы познакомились с переходными
ступенями, по которым Ренессанс стремится к новому веку. Теперь
укажем, в каких пунктах он вторгается в саму эпоху Реформации.
Человек имеет два объекта, данные ему непосредственно: мир
и себя самого. В связи и развитии обоих этих представлений со-
120
Век Реформации
стоит его миросозерцание, а в последнем — самая высшая форма
его образования; оба подвержены самообману и правильны только
в той степени, в какой они прозрели от слепоты и освободились от
кажимости вещей. Первое представление, объект которого есть
наличный мир, может быть названо внешним миросозерцанием;
второе, объект которого находится в самом человеческом суще
стве, — внутренним. Последнее реализуется в достоверности
высочайшей конечной цели, которой мы служим, высочайшей силы, от
которой мы зависим; оно в этой форме религиозно; внешнее же,
наоборот, находит в существующем мире свои определенные
объекты и задачи. Данный мир есть человечество, в поток развития
которого мы включены, планета, на которой человечество обитает, Все
ленная, или космос, в котором находится эта планета, — поэтому
человечество, Земля, Вселенная суть объекты нашего внешнего
миросозерцания. В соответствии с этим мы различаем в нем три
великие области человеческого образования: историческую,
географическую, космографическую.
Предмет первого есть человечество в его развитии, предмет
второго — Земля как место обитания человека, предмет
третьего — Вселенная как вместилище мировых тел. От этих форм
нашего внешнего миросозерцания мы отличаем наше внутреннее
религиозное сознание как самую глубокую форму. Если сравнить
представления, господствовавшие во всех этих областях до
Реформации, с теми, которые возникли после нее, то с первого взгляда
мы увидим большую перемену; человеческое миросозерцание
представится в корне изменившимся во всех его областях, во всех его
существенных условиях.
L НОВОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
1. Исторический горизонт
Прежде всего исторический .кругозор подвергается
значительному расширению и преобразованию, которые освобождают
сознание, имеющее своим предметом само человечество, от его
средневековых границ. Между языческим и христианским мирами, если
121
Куно Фишер
рассматривать их с точки зрения средних веков, лежит
непроходимая пропасть, между ними существует водораздел, исключающий
всякую взаимную связь и глубоко внедренный Августином в
религиозное сознание церкви. Поэтому-то так глубоки неведение и
мрак, в который погружены средние века, в сравнении с
древностью и классической культурой. В интересах самой церкви было
поднять веру в божественность собственного происхождения
посредством умышленного затемнения фактов ее развития,
обусловленного историей и человечеством. В сознании средних веков на
человеческий мир и его историю проливается лишь столько света,
сколько его пропускает сверху церковь, а при таком освещении
невозможно никакое историческое мировоззрение. Возрожденное
изучение классических писателей прорывает в этой области
установленные церковью границы, древность открывается вновь,
чувство родства с духом ее искусства и философии проникает в
западный мир, возвращая ему юность, и в преклонении перед этими
произведениями классического язычества и в подражании им
сказывается уже не исключительно христианское, а вообще
человеческое чувство. Вместе с занятиями и образ мыслей становится
гуманистическим, искусство и философия получают сходный
характер. Разворачивается новая, богатая и обширная картина
человечества, на научном горизонте появляется множество задач, для
которых нет предела и которые могут быть разрешены только при
помощи исторического исследования. Мы уже описали век и
культуру Ренессанса в их основных чертах и определяем Ренессанс
теперь не только как переход к Реформации, но и как
существенную часть последней, в самом широком смысле слова: Ренессанс
заключает в себе реформу исторического мировоззрения.
2. Географический кругозор
За открытием древнего мира в исторической области следует
открытие нового в географической. Вследствие первого открытия
человечество все более и более знакомится со своим собственным
развитием, вследствие второго — с планетой, на которой оно
живет. Там расширяются до бесконечности исторические знания,
здесь — сведения о Земле. Крестовые походы, причиной которых
122
Век Реформации
был завоевательный дух церкви, пробудили влечение вдаль и
имели последствием эти первые вызванные страстью к открытиям
путешествия, целью которых были удивительные страны Востока.
Затем появляется жаждуший общения со всем миром,
преисполненный торговых устремлений дух Возрождения, развивающийся
главным образом в итальянских приморских городах. Не случайно
именно венецианцы предпринимают великие путешествия на
Восток и открытие, составляющее целую эпоху, совершено одним из
сынов Генуи.
Во второй половине тринадцатого столетия старшие Поло
переплывают из Венеции в восточную Азию; Марко Поло, их
племянник, сопровождавший их во втором путешествии, хорошо
знакомится с Китаем и Индией (1271-1295) и своими
повествованиями приобретает себе славу «Геродота средних веков» в то самое
время, когда оканчиваются без всякого успеха крестовые походы, а
Данте начинает свою карьеру.
Теперь морской путь в Индию является уже великой торговой
проблемой Запада, разрешение которой пытаются найти или
обогнув Африку, или путем трансатлантического плавания —
вторая мысль, так сказать, отторгающая человека от берегов Старого
света, самая смелая. В ней, если она осуществится, и заключается
эпохальное событие.
Если Азия очень далеко тянется на восток и форма Земли
шарообразна, то восточная Азия должна близко подходить с запада
к нашей части света, и эта близость должна быть тем большей,
цель тем более достижимой, чем меньше поверхность земного
шара. Из этих предположений, из коих и то и другое ошибочно,
слагает и разрешает Христофор Колумб (Христофоро Коломбо) свою
проблему. Его вера в западный мир, лежащий по ту сторону
океана, непоколебима и основана еще на нескольких фактических
указаниях, более надежных, чем эти предположения. Он открывает
страну на западе, находясь все еще в том заблуждении, что он
достиг Индии. Спустя пять лет португалец Васко да Гама огибает
южную оконечность Африки и окончательно пролагает морской
путь в Индию.
Теперь предстоит еще узнать, что западный мир не Азия, а
самостоятельный материк, отделенный от восточных границ Азии
123
Куно Фишер
океаном. Поэтому ближайшие задачи заключаются в том, чтобы
открыть этот океан, обогнуть Америку, обойти вокруг света,
открыть, завоевать и колонизировать страны нового континента. В
течение одного человеческого века разрешаются эти задачи.
Испанец Бальбоа переходит Дарьенский перешеек и открывает Тихий
океан (1513). Португалец Фердинанд Магеллан (Magalhâens)
огибает южную оконечность Америки и открывает Южный океан
(1520); за ним остается слава пионера кругосветного плавания,
хотя и не доведенного до конца им самим; португалец Кабрал
открывает Бразилию (1500), Фернандо Кортес, величайший из
испанских конкистадоров, завоевывает Мексику (1519-1521), Писар-
ро открывает и завоевывает Перу (1527-1531). С победами
англичан в войнах с испанцами в век Елизаветы начинается новая эпоха
в трансатлантической жизни: она знаменуется союзом Северной
Америки с Англией и начатками колониального государственного
устройства, заимствованного от германской культуры. Фрэнсис
Дрейк совершает первое счастливое кругосветное путешествие,
несколько лет спустя Вальтер Ролей открывает берег Виргинии и
насаждает первые ростки англо-североамериканских колоний.
Все эти факты, из которых каждый заключает в себе новые
задачи, обусловлены открытием Колумба: в нем и коренится
реформация географического миросозерцания.
3. Космографические представления.
Коперник и Тихо Браге
После того, как кругозор человека в пределах земной области
расширился до такой степени, что охватил всемирную историю,
части света и океаны, осталось только одно: открыть саму Землю во
Вселенной, ее место и положение в мироздании, т. е. открыть ее
среди других звезд, С эмпирической точки зрения, которая
является наиболее действенной, а при рассмотрении небесных тел, по-
видимому, единственно возможной, мироздание должно казаться
шаром, сводами которого служит видимое небо, а неподвижным
центром — сама Земля; вокруг нее движутся Луна, Солнце и
планеты — между Луной и Солнцем две нижние: Меркурий и
Венера, за Солнцем три верхние: Марс, Юпитер и Сатурн. Каждое из
124
Век Реформации
этих небесных тел участвует в суточном обращении небесного
свода и имеет в то же время свою особенную (для нас прозрачную,
а потому и невидимую) сферу, в которой оно закреплено и
собственным движением которой объясняются различные движения
планет. В этом типе геоцентрического миросозерцания и застыла
космография древних, исключая пифагорейцев, создавших в силу
догматических оснований гипотезу о центральном огне в середине
мира, а в силу пристрастия к числу десять придумавших Противо-
землю: исходя из ложных предположений, они учили
негеоцентрической системе мира, содержавшей в себе данные, из которых
уже в древности вышла обособленная гелиоцентрическая гипотеза.
Учение Аристотеля о мироздании покоилось на
геоцентрическом воззрении и на теории сфер. Но фактические данные о
движении планет противоречили учению о круговом, обусловленном
сферой вращении, а так как учение это было возведено в принцип,
то возникла задача: согласовать с ним замеченные отклонения.
Искусственное и окончательное решение ее дал во втором веке
христианской эры александрийский астроном Птолемей в своем
сочинении об устройстве планетной системы, реуйАт| oôvraÇiç73,
названном в арабском переводе «Алмагест». Планеты должны
вращаться вокруг Земли колесообразно по кругам, центр которых
движется по периферии другого (деферирующего) круга. Эти круги
называются эпициклами, а линия, описываемая таким образом
планетой, эпициклоидой. Однако действительное движение планет
отнюдь не согласуется с этой искусственно созданной линией.
Очень часто наблюдаемое место планеты не совпадает с
вычисленным, планета не стоит точно в том пункте, в каком должна бы
находиться согласно геометрическому построению; постоянно
обнаруживаются новые противоречия между действительным
движением планет и его объяснением, и постоянно приходится
придумывать новые эпициклы для устранения этих противоречий. Ввиду
этих свойств движения планет и исходя из простоты и
правильности хода вещей в природе возникает недоверие к птолемеевско-
му учению; так неправильно и запутанно природа действовать не
может. Это учение не может быть истинным, в основании его
должно лежать ложное предположение. Задача сводится к тому, чтобы
найти это основное заблуждение.
125
Куно Фишер
В конце концов вся эта космография зиждется на том, что
планеты движутся вокруг Земли, а последняя помещается в центре
мира. Чтобы освободиться от эпициклов, стоит только отбросить
первое из предположений: планеты не вращаются около Земли.
Теперь их орбиты ставятся в зависимость от Солнца, и картина их
становится ясной. Основываясь на истинном удалении планет,
вычисленном датским астрономом Тихо Браге (1546-1601), можно
доказать, что они действительно вращаются вокруг Солнца. Птоле-
меевская система вычислила отношение диаметра эпициклов к
диаметру деферирующих кругов; Тихо Браге вычисляет отношение
первых к диаметру эклиптики и находит, что отношение диаметров
эпициклов к диаметрам деферирующих кругов совершенно такое
же, как к диаметрам эклиптики. В каждом пункте своего эпицикла
Меркурий виден равноудаленным от Солнца; так же и Венера; то,
что справедливо для нижних планет, можно доказать и для
верхних. Следовательно, можно утверждать обо всех планетах, что
Солнце составляет центр их эпициклов или, что то же, что дефери-
рующий круг есть эклиптика. Согласно птолемеевской системе,
центральные пункты эпициклов пусты; теперь же этим центром
планетных орбит является Солнце. Следовательно, по отношению к
Солнцу орбиты планет являются уже не эпициклоидными, а
кругообразными; эпициклы устранены, планеты описывают свой путь
вокруг Солнца по периферии их деферирующих кругов.
При этом предположении, устраняющем теорию эпициклов и
тем существенно изменяющем птолемеевскую систему, вопрос
относительно космического центра остается еще открытым. Весьма
возможно, что Солнце, составляя центр планетных орбит, само
движется вокруг Земли как космического центра. В таком случае
птолемеевская система остается в силе во второй своей основной
гипотезе, а вместе с ней — чувственное и церковное
представление о мире. Пока еще мыслимо и то, и другое: либо планеты
движутся вокруг Солнца, вращающегося, в свою очередь, вокруг
Земли как космического центра; либо планеты движутся вокруг
Солнца, образующего вместе с тем космический центр, а то, что
представляется движением Солнца, есть на самом деле движение
Земли, являющейся, следовательно, уже не неподвижным центром
мира, а планетой между планетами. Солнце и Земля меняются
126
Век Реформации
местами и ролями во Вселенной. По одному воззрению Земля, по
другому Солнце — космический центр: первое есть
геоцентрическая, второе — гелиоцентрическая гипотеза. Сторонником первой
является Тихо Браге, сторонником второй — немецкий астроном,
настоятель Фрауенбургского собора Николай Коперник (1473-
1543). Оба расходятся с птолемеевской системой в том, что
считают Солнце центром всех планетных орбит, но система Тихо Браге
разделяет с птолемеевской геоцентрическую гипотезу, между тем
как коперниканская устраняет и ее и таким образом ниспровергает
в принципе старую систему. Коперниканское мировоззрение
предшествует мировоззрению Тихо Браге, которое поэтому
представляет собой не предшествующую ступень его, а скорее попытку
согласовать новое учение со старым, коперниканское с птолемеевским.
Знаменитое сочинение Коперника «De revolutionibus orbium coeles-
tium»74 появилось в год его смерти (1543), сочинение Тихо «Astro-
nomiae instauratae progymnasmata»75 — спустя сорок шесть лет
после того (1589).
Благодаря точке зрения Коперника космографические
представления делаются простыми и ясными. Чувственное
представление отбрасывается вовсе, получая в то же время совершенно
понятное объяснение. Действительное вращение Земли вокруг оси
объясняет кажущееся (суточное) движение небесного свода,
действительное обращение Земли вокруг Солнца объясняет
кажущееся (годовое) движение Солнца вокруг Земли и вместе с тем
мнимые эпициклоидальные орбиты планет. При этих условиях
созерцание Вселенной расширяется до бесконечности. Если Земля
меняет свое место в мировом пространстве, то почему мы не видим того
же самого у неподвижных звезд? В обоих пунктах земной орбиты,
наиболее отстоящих друг от друга, земная ось обращена к одним и
тем же звездам. Следовательно, перемена места на величину
диаметра земной орбиты, т. е. на сорок миллионов миль, является по
отношению к неподвижным звездам ничтожной, а потому
последние должны быть бесконечно удаленными, или, в соответствии с
представлением о шарообразности мира, диаметр сфер
неподвижных звезд неизмеримо велик.
Это опровержение птолемеевского мировоззрения есть вместе
с тем и опровержение чувственного способа представления и по-
127
Куно Фишер
тому является для всего человеческого познания в высшей степени
ярким примером, на который часто ориентировалась последующая
философия. Кант охотно сравнивал свою теорию с трудом
Коперника. Основная ошибка всей прежней астрономии заключалась
именно в том, что она не могла отрешиться от самообмана
относительно своей собственной точки зрения, потому что, руководясь
чувственной иллюзией, представляла себя находящейся в
неподвижном центре мира; видимые движения планет должны были
казаться ей действительными, феномены — реальными фактами;
недостаток критического отношения к своей собственной точке
зрения и собственным взглядам создает самообман, затемняющий
наши представления. В этом отношении нет более поучительного и
великого примера, чем история астрономии.
4. Галилео Галилей
Сочинение Коперника было посвящено папе Павлу Шив
предисловии Осиандера было названо простой гипотезой, тогда как
сам Коперник был вполне убежден в истинности своей системы.
Против этой системы выступила система Тихо Браге, вновь
подтверждавшая геоцентрическое учение; таким образом, новое
астрономическое воззрение представилось проблематичным и
оспаривалось научно. Поэтому ближайшей задачей должно было быть
обоснование коперниканской теории рядом новых доказательств, и
притом таким образом, чтобы ее истинность была научно доказана,
а противоположное допущение Тихо было окончательно
опровергнуто. Такое доказательство дал один из величайших
естествоиспытателей всех времен, в лице которого итальянский Ренессанс
достиг своего апогея и создал реформатора естествознания, —
Галилео Галилей из Пизы (1564-1642). Еще будучи профессором в
Пизе (15874592), он реформирует учение о движении благодаря
открытию закона падения и бросания. Та же сила тяжести
(центростремительная сила), что притягивает земные предметы к
центру Земли, притягивает Землю к Солнцу и, будучи связанной с
одновременно действующей силой толчка или броска
(центробежная сила), производит обращение Земли вокруг Солнца.
Проникновение в природу движущих сил должно было убедить Галилея в
128
Век Реформации
истинности гелиоцентрического учения еще прежде, чем он в
Падуе (1592-1610) сделал свои великие астрономические открытия. В
1597 году он называет себя в одном письме к Кеплеру давнишним
приверженцем Коперника. Аристотелевское воззрение о
неизменяемости неба (сфер неподвижных звезд) разрушается после
наблюдавшегося Галилеем появления и исчезновения одной звезды в
созвездии Змееносца (1604). При помощи изобретенной им
подзорной трубы, которую он в дальнейшем усовершенствовал и
приспособил для наблюдений небесных тел, он делает в 1610 году
удивительнейшие открытия, сплошь подтверждающие истинность
гелиоцентрической и ложность геоцентрической системы: он открывает
сходные с земными свойства Луны и спутников Юпитера, кольцо
Сатурна, изменяющиеся световые фигуры (луноподобные фазы)
Венеры и Меркурия и, наконец, солнечные пятна и их
перемещение, из чего делает заключение о вращении Солнца вокруг оси:
Солнце — центр планетной системы, но не неподвижный и
абсолютный центр мира. Вселенная неизмерима. Воображаемая
небесная крыша разрушается как бы по возгласу духов познания:
«Исчезните, вы, темные своды наверху!» (Schwindet ihr dunkeln
Wölbungen droben).
Открытия Галилея, сделанные им при помощи телескопа,
стали триумфом коперниканской системы. Если бы дело обстояло
так, как учит Коперник, возражали противники, то нижние
планеты должны были бы иметь такие же фазы, как и Луна. Так как
нет налицо обусловленного, то не может иметь места и
обусловливающее. Галилей открывает фазы Венеры и принуждает
противников к молчанию.
5. Иоганн Кеплер и Исаак Ньютон
Однако в коперниканской теории все еще оставались
неразрешенные проблемы и требовавшие поправок представления.
Согласно ей, планеты описывают кругообразные траектории вокруг
Солнца. Это воззрение все еще связывает ее с теорией сфер
древних. Однако же действительное, правильно наблюдаемое движение
планет неравномерно, они движутся то скорее, то медленнее: эта
изменяющаяся скорость обусловлена их близким или далеким рас-
129
Куно Фишер
стоянием от Солнца, следовательно, оно находится не в центре их
орбит, а последние вместе с тем — не правильные круги. В
соответствии с этим ближайшая задача сводится к тому, чтобы найти
закономерную форму этих орбит. Движение планет также должно
быть законосообразным, в нем должно иметь место определенное
отношение между временами и пробегаемыми пространствами.
Нахождение этого отношения составляет вторую задачу. Время
обращения планет различно, оно тем больше, чем больше удалены
они от Солнца; время их обращения обусловлено их удалением;
между тем и другим должно существовать определенное
отношение, открытие которого является третьей задачей. Если будут
уяснены эти законы, то мировая гармония, которую некогда искали
пифагорейцы, действительно будет найдена в ее истинных формах
и числах. Этой цели достигает немецкий математик и астроном
Иоганн Кеплер из Вейля в Вюртемберге (1571-1630), современник
Галилея, его почитатель и друг.
Первый из найденных им законов определяет траекторию
планет как эллипс, в одном из фокусов которого находится центр
Солнца; второй закон определяет соотношение пространственных и
временных характеристик в движении планет: прямая линия,
соединяющая центр планеты с центром Солнца (radius vector),
описывает в равные промежутки времени равные площади; третий закон
определяет отношение времени обращения к удалению от Солнца:
квадраты времен обращения пропорциональны кубам средних
удалений. Законы Кеплера основываются на его наблюдениях над
планетой Марс, изложенных в его главном произведении «Nova
astronomie» (1609)76. Таким образом, остается только разрешить
еще одну задачу для завершения первой эпохи новой астрономии.
Найденные Кеплером путем наблюдения и индукции законы
планетного мира должны быть выведены, или дедуцированы, из
одного принципа, уже познанного Галилеем: эту задачу разрешает
величайший математик Англии Исаак Ньютон (1642-1727) с
помощью принципа всемирного тяготения.
Астрономические открытия, обосновывающие новые
представления о Вселенной, исходят от Коперника подобно тому, как
трансатлантические — от Колумба.
130
Век Реформации
6. Изобретения
Духу открытий сопутствует и дух изобретений. Делаются
новые, в высшей степени плодотворные изобретения, отчасти
сопровождающие и поддерживающие великие открытия, отчасти
вызванные ими и следующие за ними. Открытия в области
литературы, распространяющие свет древности по всему миру,
сопровождаются изобретением книгопечатания; трансатлантические
открытия невозможны без компаса, астрономические нуждаются в новых
инструментах и требуют их в дальнейшем — как для наблюдений,
так и для вычислений. Нет более великого изобретения для
наблюдающего духа исследования, чем телескоп и микроскоп,
изобретенные не самим Галилеем, но усовершенствованные им.
Для вычислений, в которых нуждается наука, имеют
огромное значение три открытия в области математики. Нужен способ,
упрощающий большие вычисления и облегчающий их: таким
способом являются логарифмы. Для того, чтобы решать
геометрические задачи с помощью вычисления, потребовалось и другое
средство: родилась аналитическая геометрия благодаря Декарту, причем
она возникла одновременно с методами новой философии.
Наконец, необходимо и третье для того чтобы иметь возможность
вычислять изменения величин: высший анализ, или исчисление
бесконечно малых, открытое Ньютоном и Лейбницем.
П. ЦЕРКОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ
КОПЕРНИКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
1. Спор
Всюду, где только реформаторское дело прорывает плотину
церковного образа мыслей и уничтожает его границы, на сцену
выступает противоречие между старым и новым мировоззрением,
но нигде оно не выразилось так резко, как в преобразовании всех
прежних представлений о небе и о земле, которую дух нового
Архимеда действительно сдвинул с ее места. Равным образом ни в
131
Куно Фишер
каком пункте церковь не имела столько союзников, как в
утверждении ограниченного и геоцентрического мира, о котором
говорят наши чувства, авторитеты древности и свидетельства Библии.
С аристотелевской и птолемеевской системой мира тут
теснейшим образом связаны интересы веры. Они соответствуют друг
другу, как сцена и действие: земля как центр мира, явление Бога
на земле, церковь как civitas Dei, как центр человечества, ад внизу,
под землей, а небо над ней, осужденные на вечную муку — в
царстве ада, блаженные — в царстве небесном по ту сторону звезд,
где ряды небесной иерархии возвышаются до престола Божьего.
Все это здание церковных представлений шатается и разрушается
до основания, как только земля перестает быть центром
мироздания, а небо — его куполом.
Правда, существуют более глубокие, коренящиеся в
христианской религии и сохранившиеся в мистике представления о небе
и земле, чем эти чувственные, пространственные, но средневековое
сознание церковной власти и вера паствы сжились с последними и
неотделимы от них. Поэтому-то здесь и открывается между копер-
никанской и церковной системами огромное, фундаментальное,
непримиримое противоречие, которое должно стать очевидным для
общего сознания, — противоречие тем более серьезное, что
основатели нового мировоззрения — вовсе не бросающие, как Бруно и
Ванини, вызов церкви свободные мыслители, а верующие и
послушные сыны ее и вместе с тем глубокие, всецело преданные
служению науке исследователи, которые вовсе не хотят поколебать
церковного строя, а только хотят объяснить и действительно
объясняют непонятные с прежних позиций загадочные космогонические
факты.
2. Инквизиция и Галилей
Процесс римской инквизиции против коперниканской
системы в лице Галилея — это вечный памятник такому столкновению
церковной догмы и научного исследования. Он уже соприкасается
с началом новой философии и оказал на нее, как мы потом
увидим, губительное влияние.
132
Век Реформации
В своем полемическом сочинении, направленном против
одного иезуита и посвященном открытию и объяснению солнечных
пятен (1613), Галилей впервые публично высказался за истинность
коперниковского учения и возбудил тем гнев монашеского ордена
настолько, что насторожившаяся инквизиция стала относиться к
нему подозрительно. Распространявшаяся в течение семидесяти лет
и терпимая в качестве гипотезы система Коперника была, по
приказанию Павла V, рассмотрена сведущими богословами святого
судилища и отвергнута; гелиоцентрическое учение было признано
противным разуму и еретическим; негеоцентрическое —
противным разуму и ошибочным. Это заключение было обнародовано
24 февраля 1616 года. Уже на следующий день кардинал Беллар-
мин получил папское послание с требованием убедить
пребывавшего в Риме Галилея отречься от коперниковского учения. Если же
он уклонится, то инквизиция должна выступить против него.
Галилей подчинился тотчас же (26 февраля); поэтому не было никакой
необходимости ни в какой дальнейшей инквизиторской процедуре,
ни в каком формальном и отдельном запрете. В таком именно ходе
дела и в таком его окончании не оставляют ни малейшего
сомнения предписание папы Беллармину от 25 февраля, доклад
последнего в заседании святого судилища от 3 марта, лично выданное
Беллармином Галилею свидетельство от 25 марта и, наконец,
одновременные с этим письма самого Галилея. Решением,
опубликованным 5 марта 1616 года касательно учения Коперника, конгрегацией
индекса77 были совершенно запрещены такие сочинения, в
которых утверждалась истинность этого учения, другие же — лишь
предварительно, до исправления; к числу последних относились те,
в которых после исправления некоторых мест воззрение Коперника
превращалось из истины в гипотезу. К этой категории
принадлежало и сочинение самого Коперника.
Поэтому не подлежит сомнению, что после упомянутых
переговоров в начале 1616 года, касавшихся Галилея, коперниковская
теория продолжала быть терпимой в качестве математической
гипотезы. Старания Галилея в течение своего нового пребывания
в Риме (1624) добиться большей свободы и получить право
доказывать истинность гелиоцентрической системы как таковой и за-'
шищать ее были напрасными, несмотря на то, что Урбан VIII отно-
6 Куно Фишер
133
Куно Фишер
сился к нему благосклонно. Тем временем своим вторым едким
полемическим сочинением против одного иезуитского патера
(1618) он увеличил число своих врагов, стремившихся его
погубить.
Желательный случай представился. В 1632 году появился
разрешенный к печати папой «Диалог Галилея о двух
наиважнейших системах мира, коперниковской и птолемеевской»*. Уже
диалогическая форма удерживала предмет в терпимых границах
гипотетического обсуждения. В заглавии ясно указывалось, что не
будет дано разрешения, а только будут изложены доводы за каждое
из обоих воззрений. Конечно, содержание этого диалога было
таково, что ни один здравомыслящий человек не мог уже сомневаться,
на чьей стороне истина. Но осуждение Галилея инквизицией
могло иметь место лишь в том случае, если бы ему лично был
воспрещен всяческий способ трактования коперниковской системы.
Такого специального запрета не существовало и не могло
существовать, если принять во внимание положение вещей. Однако
нашлись, как помочь делу.
3. Процесс и подлог
Запрещение, в силу которого желаемое осуждение могло
иметь место, было сфабриковано после, и в этом духе был подделан
акт от 26 февраля 1616 года. На этом в течение долгого времени
неизвестном, а ныне доказанном подлоге основывался тот
неслыханный процесс, который завершился осуждением Галилея. 22
июня 1633 года почти семидесятилетний старец должен был в
доминиканской церкви Maria sopra Minerva в Риме клятвенно отречься
от коперниканской системы и предать ее проклятию. Он оставался
до самой своей смерти узником — хотя и не содержался в
заключении, но был в руках и под надзором инквизиции. Он не сидел в
тюрьме, его не пытали, и он сам был далек от того, чтобы отречься
от своего отречения. Галилей мог думать, что «она все-таки
вертится», но наверное не говорил этого. Он готов был покориться всему,
«Dialogo di Galileo Galilei, Linceo — sopra i due massimi sistemi
del mondo, Tolemaico e Copernicano; proponendo indeterminata-
mente le ragioni filosofiche e naturali tanto per l'una, quanto per
l'altra parte».
134
Век Реформации
чтобы иметь возможность вернуться к свободе своих мыслей и
исследований, которую справедливо ставил выше, чем такое
мученичество. Церковь не могла воспретить Земле двигаться, зато она
поместила сочинения Коперника, Галилея и Кеплера в свой индекс
и оставляла их в нем в продолжение более чем двух столетий.
Ш. РЕЛИГИОЗНАЯ РЕФОРМАЦИЯ
1. Протестантизм
Как ни сильны были потрясения и преобразования,
совершившиеся в области исторического, географического и
астрономического рассмотрения мира и раздвинувшие кругозор человека до
бесконечности, все же их одних было недостаточно, чтобы ввести в
исторический процесс развития самого человечества новый
жизненный принцип и составить эпоху в широком смысле этого слова.
Зги преобразования дали осязаемые результаты в искусстве и в
науке, т. е. на таких высотах человеческой культуры, которые даже
в самые восприимчивые эпохи доступны всегда только
меньшинству. Науки и искусства могут процветать и без коренного
изменения образа мыслей и воспитания человечества. Церковь
способствовала Ренессансу. Последний в общем и целом процветал в лоне
церкви и мог бы прийти к соглашению с ней. Не безверие
просвещения, удовлетворенного вкушением плодов образования, страшно
церкви: оно бессильно перед ней благодаря малочисленности его
адептов, благодаря их потребности в покое и их религиозной
индифферентности. Даже герои эпохи открытий и научной
реформации, люди, подобные Колумбу, Копернику и Галилею, были
верными сынами церкви, не имевшими никакого намерения порывать
связи с ней. Общее направление Ренессанса было бессильно
расшатать основы мирового господства церкви так, чтобы оно
распалось на части.
Церковь зиждется на религиозных основах и властвует над
народом благодаря своему иерархическому устройству; поэтому
только из религиозных мотивов, затрагивающих эти основы и
проникающих в сердце народа, может исходить решительное нападе-
135
Куно Фишер
ние на церковь и борьба с ней. Чтобы сдвинуть с места мир,
нужно искать точку опоры вне его. По отношению к церкви дело
обстоит иначе. Нужно пребывать в ней и притом иметь самую
глубокую веру, чтобы подорвать господство церкви и изменить основы
веры. Это преобразование и обновление религиозного сознания
есть реформация в церковном смысле, без которой средние века
продолжались бы, несмотря на все открытия.
Как не случайно и не внезапно приняла церковь форму
иерархии и римского папства, так же не случайно и не внезапно
наступила реформация. Она вышла из самой церкви, в которой
созревала постепенно. Не было эпохи в истории церкви без
реформаторских движений и потребностей. Церковь вместе с
обмирщением, требуемым условиями жизни людей, — и благодаря ему —
всегда чувствовала врожденное ей христианским духом стремление
к отрешению от мира и очищению; только пути, которыми шли к
обновлению, были различны в каждую данную эпоху. Чтобы
освободить христианскую жизнь из сетей мира и способствовать ее
отчуждению от него, образовались в первые века монашеские ордена;
чтобы освободить церковное государство от феодальных уз
светского, явился Григорий VII в качестве реформатора иерархии; в то же
время, когда римское церковное главенство достигло своей
вершины, Иннокентий Ш видел опасность, угрожающую единству веры
со стороны еретиков, противопоставлявших уже евангелие церкви,
и признавал настоятельную необходимость реформации светского
мира по отношению к церковной вере. Когда, наконец, единство
церковного главенства распалось в самом папстве благодаря схизме,
состоялись соборы XV столетия, пытавшиеся реформировать
церковь — как в отношении ее главы, так и в отношении ее членов.
Задача осталась неразрешенной и неразрешимой: нельзя было
реформировать церковь, реставрируя папство и подавляя всякое
антииерархическое движение. Ярче всего осветило эту невозможность
пламя костра, на котором реформаторский Констанцский собор
сжег Яна Гуса. Его смерть на костре указала Реформации путь от
Констанца к Виттенбергу. Так как она не могла пробиться сверху,
то должна была прийти снизу, пробивая себе путь в лице Лютера,
когда пришло время — спустя столетие после Гуса.
136
Век Реформации
Реформация XVI столетия воздвигает на фундаменте
христианства противопоставление религии и церкви. Оппозицию,
боровшуюся с церковной системой по религиозным мотивам, мы
называем протестантизмом — придавая этому названию более широкое
значение, чем содержавшееся в нем исторически. В отрицании
римского католицизма заключается его негативный характер, а в
христианской основе веры, на которую он опирается, —
позитивный, без коего он никогда не сделался бы религиозной силой. То,
что этот протестантизм утверждает и делает своим принципом,
явствует из того, что он отрицает и отвергает. Религия средних веков
заключается в вере в церковь как в божественный и нерушимый
авторитет, в религиозном повиновении, основанном на вере в то,
чему учит церковь, и исполняющем то, чего она требует; как
всякое повиновение, оно должно проявляться во внешних деяниях.
Эта вера могла проявляться в церковном подвижничестве, в
исполнении религиозных обязанностей и благочестивых, угодных церкви
и полезных поступках. Тот, кто, служа церкви, делает больше, чем
она требует, действует похвально. Есть поступки корректные и
похвальные с точки зрения церкви, оправдывающие верующих в ее
глазах, а потому и перед Богом. Религиозное повиновение
заключается поэтому в вере в спасение через исполнение культа и деяния:
это есть вера в святость деяний, считающая их заслуживающими
похвалы и поэтому подтверждающая и допускающая человеческую
свободу. Внешний поступок совершается независимо от
настроения, в качестве «opus operatum»78; с точки зрения церкви
понятно, что она не ставит своего господства в зависимость от
настроений отдельных лиц и поэтому видит благочестие в повиновении
церкви, т. е. в угодных церкви делах. Между Богом и человеком
стоит вина грехопадения, которая может быть искуплена путем
выполнения церковных установлений — исповедью и покаянием,
путем церковного очищения и наказания, продолжительность
которых, в зависимости от тяжести человеческих грехов, может не
ограничиться даже пределами земной жизни. Благочестивые,
угодные церкви поступки многообразны, и так как церковь решает
вопрос об их достоинстве и судит о них в соответствии со своими
интересами, то в ее власти заменять одно другим, возмещать одно
внешнее деяние другим внешним же деянием иного рода, догтус-
137
Куно Фишер
кать вместо покаяния его эквивалент, сокращающий его
продолжительность или вообще его заменяющий.
Таким внешним деянием иного рода может быть и дар,
обогащающий церковь. Отныне покаяние — это условие искупления
греха — само становится предметом торговли. Если же покаяние
включается в тариф церковной торговли, то ничто уже не мешает
ради пользы самой церкви поместить в число его эквивалентов и
денежную мзду. Таким образом, как необходимое следствие веры в
оправдание делами возникает индульгенция, не имеющая
недостатка в дополнительных догматических обоснованиях. Так как в лоне
церкви есть много членов, которые каялись больше, чем грешили,
то должны быть и такие, которые за счет святых могут грешить
больше, чем каяться, а дефицит покрывать деньгами. Если же
грешникам засчитывать излишек покаяния святых, то в покаянии
последних не будет никакой нехватки для них самих.
Система индульгенций свидетельствует яснейшим образом о
невероятном противоречии, существующем между церковью и
религией. Последняя требует в-качестве непременного условия
отпущения грехов глубокого, сокровенного и преображающего
сердце раскаяния, церковь же заменяет раскаяние денежным
взносом! Тут-то и вступает в борьбу с церковной системой религия.
Теми тезисами против индульгенции, которые Лютер прибил к
церкви замка в Виттенберге79, дано начало Реформации, так как
дело теперь уже идет о конфликте религии с церковью. И если в
своих тезисах он в основном нападал только на злоупотребление
индульгенциями (он осуждал их как средство к спасению, а не как
средство замены церковных и земных наказаний) — то серьезность
его религиозных мотивов неудержимо влекла его дальше. Ибо
индульгенции не являются случайным злоупотреблением, а вытекают
из веры в спасительность дел, как последняя вытекает, в свою
очередь, из религиозного повиновения, являющегося следствием
безусловного, не зависящего от религиозного образа мыслей авторитета
церкви. То, чем движим реформатор, есть страх за спасение душ
человеческих; он видит, что римская церковь посягает на это
спасение.
Этот мотив ведет его дальше. Вскоре он начинает отрицать и
догматическое обоснование индульгенций, ценность добрых дел,
138
Век Реформации
веру в святых, покаяние в отдельных грехах (ведь их нельзя
исчислить). Он должен в принципе отрицать спасительность дел, а
потому расшатать основу, на которой она покоится: иерархическую
систему церкви, главенство папы и непогрешимость соборов; он
должен кончить тем, что станет оспаривать у церкви религиозное
господство, а потому, отказываясь от религиозного повиновения,
провозгласит свободу веры ради самой религии. Теперь
Реформация в своей стихии, она является по отношению к католической
церкви религиозным, делом обновленного христианства, а по
отношению к римскому католицизму — национальным делом
немецкого народа. Этой точки зрения, развиваемой в его революционных
сочинениях 1519-1520 гг. «О причастии» («Vom Abendmahl»), «К
христианскому дворянству немецкой нации об улучшении
положения христианства» («An den christlichen Adel der deutschen Nation
von des christlichen Standes Besserung»), «О вавилонском пленении
церкви» («Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche») —
отважный муж достиг благодаря тяжелой борьбе, ибо свергнутое им
иго было и его собственными основами и лежало бременем в
глубине его совести.
То, что, следовательно, отрицает протестантизм, есть учение
об оправдании делами: ни одно деяние не обладает искупительной
силой; каждое, каким бы святым оно ни казалось, может быть
совершено как показной, не соответствующий убеждениям
поступок, только как «opus operatum», и в качестве такового не
способствует блаженству; упование на то, что деяние ведет в спасению,
является даже пагубным. Все угодные церкви поступки, даже
самое крайнее отречение от мира, могут совершаться с большим
тщанием, и все-таки человек внутренно может остаться тем, что он
есть; они поэтому не имеют религиозной ценности. Религиозное
деяние заключается в нравственном возрождении, в изменении
образа мыслей и сердца, состоящем в вере — вере в оправдание
через Христа, а не через церковь. Позитивное положение
протестантизма таково: «Только вера делает блаженным*.
Вера эта не есть деяние, могущее быть совершенным и
заслуженным по произволу человека, а есть акт Божественной
благодати, нисходящей на человека и не зависящей от догм церкви,
которые являются человеческим делом. Таким образом, Реформация
139
Куно Фишер
возвращается к источникам христианской веры и христианской
религии для того, чтобы вновь восстановить само христианство из
этих его первоначальных истоков; Реформация, в
противоположность догматическим положениям церкви, опирается на
Священное писание как свидетельство о Божественном откровении, на
учение апостолов, в особенности an. Павла, впервые разбившее
ярмо закона и законных деяний и возвестившее о спасении через
веру, на учение отцов церкви, и в особенности на учение
Августина, осветившее человеческую греховность в ее полном
объеме — как деяние и потерю свободы — и поместившее в центре
христианского вероучения именно ту неотъемлемую, присущую
человеческой природе вину, которую церковь сделала предметом
торговли. Не денежная жертва, а жертвование человеческим
сердцем и его эгоизмом ведет к спасению. В этом заключалась тема
«Немецкой теологии», которую Лютер именно поэтому ценил
наравне с Библией и Августином. Каждый должен жертвовать самим
собой, своим собственным греховным сердцем: в этом состоит
всеобщее священство христианского народа в противоположность
рукоположенному священству церкви и священству таинства;
отсюда вытекает и отрицание Реформацией иерархии и ее
прославления в культе, в особенности в культе святого причастия; поэтому
преобразование учения о таинствах, прежде всего учения о
таинстве причастия, очищение и упрощение культа является для
Реформации главным предметом, одной из самых важных задач, даже
ее исходным пунктом, ее простейшим и самым осязаемым началом.
Таинство причащения — вершина культа, культ — подлинная
родина народной религии, поэтому-то реформа культа является
самым непосредственным и действительным преобразованием
религиозной жизни народа.
Таковы главные положения, признаваемые христианским
протестантизмом; в них солидарны друг с другом великие
реформаторы Лютер, Цвингли и Кальвин: это вера в Священное писание,
учение Павла, учение Августина, очищение культа и
преобразование учения о таинстве святого причастия. Пунктами разногласия
между ними являются в учении Августина — предопределение, а
в учении о таинстве святого причастия — вопрос о
действительном присутствии Христа. Учение о Божественном предопределе-
140
Век Реформации
нии во всей его строгости и последовательности, на которую не
отваживался даже Августин, обосновывает Кальвин. Учение о
таинстве святого причастия в его символическом смысле,
исключающем всякого рода пресуществление, как магическое, так и
мистическое, устанавливает Цвингли. Несмотря на борьбу, делавшую
объединение против общего врага настоятельной необходимостью,
век Реформации не смог сгладить этих разногласий и помешать
распадению протестантизма на лютеранское и реформатское
исповедания.
Ренессанс предшествует Реформации и сопутствует ей.
Обновление древней науки, филологии, изучение греческого и
еврейского языков необходимо вело к новым и более просвещенным
взглядам на происхождение христианства, к новому и лучшему
пониманию библейских источников, а вместе с этим и к знаниям,
в которых нуждалась церковная реформация, идя по пути
исследований истории и Св. писания. Она обязана своим научным
вооружением Ренессансу. Когда немецкая Реформация еще только
начиналась, а немецкий ренессанс, пришедший из Италии, находился в
полном расцвете, был момент, когда оба они ухватились друг за
друга в полном сознании их общего происхождения и их общего
национального смысла. Ощущение новой эпохи глубоко овладело
умами. В ногу с возрождением древности стремилось идти
возрождение христианства, а с ними обоими — возрождение немецкого
народа и империи; научная и религиозная реформация стремилась
сделаться вместе с тем национальной и политической. Носителем
этой идеи был Ульрих фон Гуттен80, ярко выразивший ее в
своих последних сочинениях (1519-1523). Но политическая реформа
должна была потерпеть крушение, потому что религиозная
сильнее, чем когда-либо, раздробила германскую империю. Пути
Ренессанса и Реформации также столкнулись. С духовным
аристократизмом, желавшим жить в спокойном наслаждении высокой
просвещенностью древних, не согласовалась буря народной революции,
порожденная Реформацией; с возродившимися идеями древней
философии, утверждавшими свободу человеческого духа, не
согласовалось обновленное Лютером учение Августина о полной
несвободе человека: эта противоположность между Ренессансом и
Реформацией получила яркое выражение в споре между Эразмом и
141
Куно Фишер
Лютером81. Между тем сила эпохи была на стороне религиозной
мысли и подчинила себе также мыслителей Ренессанса. С этой
стороны подошел Цвингм/2 со своим простым и естественным
пониманием таинства причастия, которое Лютер отверг с
характерным замечанием: «У нас иной дух, чем у вас!» Но среди немецких
реформаторов нашелся один, который соединил оба направления:
это был Меланхтон83, получивший образование в духе
Ренессанса и вступивший в ряды немецких реформаторов, человек,
родственный Рейхлину, вышедший из его школы, сподвижник Лютера,
его лучший друг и помощник. В нем воплотился религиозный и
либеральный образ мыслей Ренессанса, примирившийся с
противоречиями, которых не мог выносить Лютер, и склонный к
известным компромиссам между католицизмом и протестантизмом,
между лютеранским и реформатским направлениями. Лютеранство
оттолкнуло от себя этот посредствующий и миролюбивый элемент.
После того, как в «Аугсбургском исповедании»84 оно само было
догматизировано (1530), затем после заключения религиозного
мира в Аугсбурге (1555) стало еще более узким, выливаясь во все
более неподвижные формы, и наконец, превратившись в формулу
конкордии (1577), сделало невозможным всякое соглашение с
реформатами, совершенно уничтожив достижения Меланхтона, —
немецкий протестантизм распался на лютеранское и
немецко-реформатское исповедания, и то церковнополитическое расщепление
Германии, которое привело к Тридцатилетней войне, завершилось
окончательно.
Реформация не была причиной политического разъединения
Германии, но она усилила его и способствовала ему. Это было
таким необходимым и неизбежным следствием, что его нельзя
поставить в вину Реформации. Не будь распавшейся и
децентрализованной Священной римской империи, возможность возникновения
Реформации была бы так же мала, как и возможность
возникновения римской церкви без централизованной древнеримской
империи, а Ренессанса — без распадения и децентрализации Италии.
Не случайно, а в силу исторических процессов Реформация
возникла в Германии и Швейцарии: ее центрами были Виттенберг,
Цюрих и Женева; в Виттенберге руководителем немецкой
реформации был Лютер (1517-1546), а швейцарской руководили в Цюри-
142
Век Реформации
хе — Цвингли (1519-1531), а в Женеве — Кальвин (1541-1564). В
течение XVI столетия Реформация распространилась отсюда по
Европе и приобрела всемирно-историческую силу. Господствующая
в Скандинавии церковь организовалась по лютеранскому образцу
(1527-1537), Шотландия и Нидерланды пошли по реформатскому
(кальвинистскому) пути, первая из них — под влиянием Нокса
(1556-1573); Нидерланды достигли религиозной и политической
свободы в борьбе с Испанией (1566-1609); в Англии на место
римской церкви пришла епископальная, реформатская государственная
церковь (1534-1571); в Италии Реформация проявилась
незначительно, в Испании брожение заглохло, во Франции оно породило
религиозные гражданские войны.
2. Контрреформация и иезуиты
Благодаря Реформации в западном христианском мире возник
раскол, основания которого исключали всякую возможность
примирения. Протестантизм отрицает принцип церковного авторитета
и опирается на религиозный образ мыслей и убеждения отдельных
лиц, образующих благодаря согласию между собой общину, но не
допускающих вовсе того безусловного подчинения, на котором
исключительно зиждется сила церкви. Отсюда вытекает единство
протестантизма в негативном отношении и его расщепление в
позитивном, причем последнее по сравнению с католической
церковью кажется проявлением бессилия. Поэтому в религиозных и
политических интересах римской церкви было вопреки
протестантизму вновь укрепить свое единство и авторитет и, вместе с
устранением некоторых злоупотреблений, торжественным преданием
анафеме навсегда устранить все мотивы к отпадению от веры, все,
ослаблявшее ее католицизм в глазах самой церкви. Это формальное
отрицание и осуждение протестантизма сделалось темой
контрреформации, разработанной предпоследним вселенским, а именно
Тридентским собором (1545-1563).
Но одним простым осуждением католицизм не мог
удовольствоваться. Он требовал уничтожения протестантизма, отвоевания
отпавших народов, восстановления средневековой всемирной
церкви. Для разрешения этой задачи он требовал иного вооружения и
143
Куно Фишер
организации церковных сил, которые должны были начать борьбу с
Реформацией и ее веком; он нуждался в новом, только этой цели
посвященном церковном ордене, который и был основан испанцем
Игнатием Лойолой (1491-1556) в виде «общества» или, как
гласило характерное боевое выражение, в виде *воинства Иисуса*
(1534); этот орден был утвержден папой в 1540 году. Если вполне
отождествлять религиозные цели римской церкви с ее
политическими целями, т. е. с сохранением и увеличением ее мирового
могущества, то иезуитизм представляется тождественным римскому
католицизму и является носителем ультрамонтанской системы85.
Два направления, настолько противоположные по своему
характеру, что даже невозможно соединить их в сознании,
сочетаются в иезуитстве: с одной стороны готовое на всевозможные
жертвы стремление к идеалу прошлого, к восстановлению
средневековой церкви после эпохи Возрождения и Реформации — с другой
стороны в высшей степени тонкая политика, прекрасно знакомая
со всеми вопросами современности, с каждым изменением
политических условий, со всеми средствами, способствующими усилению
власти, умелая и решительная в их применении и предельно
систематичная в их сочетании! Кто бы мог подумать, что
мечтательность Дон-Кихота и политика Макиавелли когда-нибудь могут
соединиться в стремлении к одной и той же цели? Они соединены
в ордене иезуитов. Дух враждебного церкви Макиавелли нигде не
проявился могущественнее, действительнее и грознее, чем здесь,
где дело касается исключительно интересов и власти церкви.
Иезуитство есть церковный макиавеллизм. Быть может, никогда не
было человека, более похожего на Дон-Кихота, чем его
соотечественник Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, перешедший
сперва от рыцарских романов к легендам о святых, от Амадиса к
Франциску, и потом стоявший на ночной страже вооруженным
перед образом Марии на Montserrat, подобно дворянину из Ламан-
чи в том деревенском кабаке, который он принимал за рыцарский
замок. Без основной черты — мечтательности, увлеченной
святыми образами средневековья, идея иезуитского ордена никогда бы и
не возникла. Прежде чем Игнатий Лойола сделался воином
Иисуса, он дал обет быть рыцарем Марии; это было в том же году, в
котором Лютер предстал перед сеймом в Вормсе8*. Новая идея
144
Век Реформации
ордена развивается одновременно с протестантизмом и
отливается—в противовес ему как своему врагу, с которым ему придется
сразиться, — в устойчивую, организованную форму воинства
Иисуса.
Церковь находится в опасности, от которой она может
избавиться, только восстановив свое прежнее могущество с помощью
абсолютизма центральной церковной власти, постоянной папской
диктатуры. Поэтому безусловное и слепое подчинение воле папы,
этот особенный вид подчинения, соответствующий военной
субординации, и есть, собственно, подлинный обет иезуитов,
являющийся, помимо трех обычных обетов — девственности, бедности и
повиновения, — особой отличительной чертой этих новых
монахов. Мир, который они должны одолеть и покорить, можно
победить не бегством в монастырь, а многосторонним влиянием на все
человеческие интересы, живя среди самой мирской суеты. В
ордене иезуитов соединились два жизненных направления, нигде в
других случаях не сливавшиеся: монах и мирянин, первый в самой
резкой, последний в самой мягкой форме; это соединение,
знаменующее в истории монашеских орденов совершенно новую
ступень, служит исключительно римскомонархической церкви,
посылающей учеников Лойолы против неверующих и, прежде всего,
против протестантов с указанием: ♦Идите отсюда во все концы
мира», Подобно тому как некогда иудео-христианская легенда
заставляла своего Петра всюду следовать по пятам за ненавистным
апостолом, насадившим христианство среди язычников, для того
чтобы разрушать его деяния, так и теперь эти новые последователи
Петра действительно поставили себе целью повсюду преследовать
ненавистную Реформацию — это новое учение Павла — и
подкапываться под нее. Светская деятельность иезуитов, направленная
к достижению церковно-политических целей, имеет более важное
значение, чем отнимающие время и силы труды обыкновенных
монахов; поэтому иезуиты не связаны теми аскетическими и
церемониальными обязанностями, которые регулируют праздную
монашескую жизнь.
Безусловному повиновению, покорности всякому желанию
папы, составляющей особую цель ордена и обет собственно профес-
сов (professi quatuor votorum), отвечает во внутреннем строе ордена
145
Куно Фишер
строжайшая субординация и восходящая градация чинов: от
испытуемых к схоластам, затем к светским и духовным коадъюторам, к
профессам, принимающим три обета, и, наконец, к тем, которые
принимают четвертый; они-то, собственно, и являются
миссионерами. Во главе стоит генерал, управляющий всем орденом,
разделенным на коллегии, провинции и области. Одна цель движет
всеми членами и создает тот единый вышколенный орденский тип,
который выказывает во внешности и манере держать себя, в
жестах и выражении лица обдуманную, мудрую сдержанность и
подкупающее самообладание. Пути, по которым должен был идти
орден, требовали змеиной мудрости, которая не могла сочетаться с
голубиной кротостью. Обращение языческих народов,
предпринятое уже первыми иезуитами в Индии, Китае и Бразилии,
составляло их иноземную миссию; задача внутренней состояла в господстве
над христианскими народами.
Для достижения этой цели иезуиты прибегали к трем весьма
успешным средствам; этими средствами являются культ,
воспитание и влияние на государство. Так как величественный, роскошно
обставленный чувственный культ в высшей степени по душе
народу, то они старались сделать все, чтобы в этом отношении развить
и обогатить его. Их искусство также несет на себе отпечаток
чрезмерной, безвкусной роскоши, которая нравится простому народу. В
интересах иезуитов было поддержать догму культа, возвысить культ
Марии и примкнуть к францисканцам в учении о непорочном
зачатии. Ведь стать рыцарем Марии было первым идеалом их
учредителя! Что учение о непререкаемом авторитете, или
непогрешимости, папы культивировалось в качестве формального догмата
ордена — это следовало непосредственно из принципов иезуитов.
Свою педагогическую систему они использовали для целей церкви,
приспосабливая ее к образованию народа, светских людей, ученых
теологов и духовных лиц, и настолько сумели приспособить ее к
потребностям времени, что их школы даже противниками
признавались образцовыми воспитательными заведениями.
Посредством власти над народом они достигают власти над
государством, ибо государство зиждется на народе, подобно тому
как власть церкви — на Боге; церковная монархия (папство)
вытекает из Божественного всемогущества, а потому она непоколебима,
146
Век Реформации
в противоположность светской (княжеству), зиждущейся на
народном суверенитете и потому законной до тех пор, пока она служит
народному благу, которое неразрывно с церковным. Так как
церковь не может иногда непосредственно управлять государством, то
она должна управлять им опосредованно — через народ,
абсолютно зависимый в церковном отношении и самодержавный в
политическом. Поэтому иезуиты становятся первыми провозвестниками
народного суверенитета, в силу которого князья могут быть
лишены престола, а в случаях, когда отпадением от церкви или
неповиновением ей они посягают на благо народа, — даже должны быть
лишены его. Подобное отпадение или неповиновение превращает
князя в тирана; те же самые иезуиты, которые при католических и
лояльных по отношению к церкви дворах были
аристократическими воспитателями принцев и духовниками, являются по
отношению к отпавшим от церкви или подозрительным для нее князьям
революционерами, проповедующими «смерть тиранам»,
прославляющими убийство их и побуждающими к нему. Так, иезуит Мариа-
на восхваляет в своем сочинении о королевской власти (1598)
убийцу Генриха Ш. Когда князь отпадает от церкви, т. е. делается
тираном, то народ не только имеет право, но и обязан отпасть от
своего государя.
Иезуиты не довольствуются тем, что благодаря своему
влиянию на культ, воспитание и государство притесняют
протестантизм, — им нужно запустить свой рычаг еще глубже и попытаться
вырвать с корнем основное религиозное воззрение всей
Реформации. Учение об оправдании верой и благодатью зиждется на
сущности человеческой греховности, на том учении Августина о
наследственном грехе, которое сделало людей несвободными и
рабами своего эгоизма. Устранение этого кардинального пункта
протестантской веры и затемнение его в человеческом сознании и
составляет истинную цель иезуитской морали, которая может быть
правильно понята только в том случае, если мы обратим внимание на
источник ее. Чем серьезнее протестантизм вникает в тяжесть греха
и видит в нем основу терзаний совести — здесь-то и есть
основание, из которого вышла Реформация, — тем менее превозносят ее
иезуиты. Протестантское учение о вере и благодати в их глазах —
много шума из ничего! Грех понят очень уж мистически и траги-
147
Куно Фишер
чески; если на него посмотреть просто и разумно, то он окажется
не таким уж тяжким; он состоит не в мистическом первородном
грехе, раз навсегда испортившем все, а в отдельных поступках, из
которых каждый должен быть взвешен и обсужден, смотря по
сопровождавшим его обстоятельствам и намерениям. Таким образом,
грех рассматривается казуистически, и этим в большой степени
умаляется его тяжесть. Тяжесть греха, пригибающая человека к
земле, как бы рассыпается в прах. В этике иезуиты —
совершеннейшие индивидуалисты. Вся их система морали направлена к
тому, чтобы умалить грех, разбивая грехопадение на отдельные
случаи: отсюда их казуистика, находящая всюду коллизии и
превращающая сомнения совести в проблемы совести, разрешение
которых только и определяет, согрешил ли человек или нет. Когда
совесть начинает доискиваться, то она перестает судить. Чтобы
подорвать значение этого судьи, иезуиты и прибегают к остроумию
казуистической морали, которым они щеголяют.
В каждом отдельном поступке прежде всего нужно
исследовать намерение. Кто решится оставить без внимания намерение,
которое мотивировано или может быть мотивировано благой целью
или мнением признанного авторитета? Если побудительные
мотивы поступка таким образом становятся правдоподобными и
превращаются в извиняющие и заслуживающие одобрения основания, то
добрая доля оправдания уже совершилась: отсюда значение
пробабилизма в иезуитской морали. Пробабилизм есть искусство
создавать из совести теорию вероятностей, и притом такую, которая
уменьшает вероятность греховных мотивов.
Отныне всякое намерение становится, по сути, внутренним,
поэтому нужно делать различие между выраженным и истинным
намерениями, из которых только последнее определяет греховность
поступка. Благодаря скрытой оговорке (так называемой резервации
или рестрикции) поступок может оказаться противоречащим
данному слову, но вполне соответствовать истинному намерению и
тем самым быть оправданным. Резервация — это искусство
исключать злые мотивы из поступка или, точнее говоря, устранять их из
суждения. Чем больше грех, тем невероятнее допущение полной
ясности осознания и намеренности греха в поступке; поэтому чем
больше грех, тем меньше его вероятность, так что в конце концов
148
Век Реформации
смертные грехи становятся невероятными и даже невозможными.
Таким образом, человек совершенно подчиняет свои намерения
своему произволу, он может направлять их с помощью допущений
и резерваций так, как ему это удобнее; при помощи такой морали
также легко вовсе освободиться от грехов, ибо, вообще говоря, при
ее наличии затруднительно грешить. Иезуитская мораль вполне
возвращает человеку свободу не грешить, совершенно утраченную
им, по учению Августина и реформаторов, по собственной воле, и
доводит до крайности церковное пелагианство в учении о
естественной свободе человека.
Нравственную ценность человеческих поступков определяет, в
соответствии с этим, не истинный образ мыслей и намерение, как
это кажется с виду, а суждение о них; но нравственный суд
принадлежит только церкви, и вся иезуитская мораль приобретает
значение и желает иметь значение антиреформаторского орудия и
сильного средства в ее руках. Реформаторы сделали для грешника
церковь с ее спасительностью деяний страшной и невыносимой,
иезуитизм делает ее такой приятной и удобной, как никогда
раньше. После того, как грехи превратились в извинительные слабости,
остается только само прощение, которое церковь может даровать
лишь по исполнении церковных обязанностей, ибо в противном
случае грех остается непрощенным и осужденным. Чем чаще
грешит человек, тем чаще он должен исповедоваться, и понятно само
собой, что в иезуитской исповедальне с отпущением греха
поступают просто, как и с самим грехом. Отпущение обусловлено простым
церковным послушанием, точным исполнением церковных
обязанностей, той лояльностью по отношению к церкви, в которой только
и состоит благочестие. Для кого церковь — мать, для того и Бог —
отец. Богу особенно приятно прощать добрым детям, живущим на
радость матери и снискивающим благорасположение своих
воспитателей (отцов иезуитов). Так проста и так естественна благость
Бога, из которой реформаторы сделали такое мрачное учение!
Только теперь, после того, как пробабилистская мораль дошла до
бесконечного облегчения греховности и отпущения греха, можно
понять, как сказал иезуит Эскобар, что означают слова Иисуса: «Иго
мое благо и бремя мое легко есть!»
149
Куно Фишер
Люди всегда склонны легко относиться к своим грехам и
извинять их, потому этика иезуитов приспособлена к вкусам мира:
она представляет собой оправдание человека каков он есть, само-
прикрашивание естественного человека, превращенное в искусство
и систему; это мораль, приспособленная к мирским удовольствиям,
более родственная духу Ренессанса и Просвещения, чем
мистическое учение Лютера и суровое учение Кальвина. Этика иезуитов
находится в таком же отношении к обыкновенному образу
действий человека, в каком политика Макиавелли — к практической
политике. Вместо того, чтобы нравственно содрогаться перед
обеими, люди должны бы были скорей удивляться, что они всю жизнь
поступали так прозаически. «Казаться хорошим лучше, чем быть
хорошим», — говорил Макиавелли, так как он знал, как мало
значит истинная сердечная доброта в политических делах. Таким
же образом иезуитская мораль должна ставить «казаться святым»
выше, чем «быть святым», так как святость может исходить из
перерождения воли и раздвоения в нас самих, которое всегда
колеблет веру в авторитет и угрожает церковному повиновению. Там
власть государства, здесь власть церкви являются единственной
целью, к которой учение о нравственности должно подгоняться и
прилаживаться как средство. Иезуиты сумели достичь этого в
высшей степени искусно и показали людям, что те пребывают в грехе
и в то же время могут быть угодными церкви, — в этом
заключается главным образом секрет той власти, которой они обладали над
обществом безнравственного столетия, в особенности при дворе, во
главе которого стоял Людовик XIV, в полной мере ценивший
возможность грешить, оставаясь благочестивым.
3. Янсенизм
Эта оппозиция Реформации, созданная иезуитами,
затрагивает в то же время учение Августина и, таким образом, одну из
основ католической церкви. Рождается вопрос, должна ли и в
самом деле церковь разрушить эту основу и устранить ее из себя
или, напротив, сохранить, восстановить ее и обновиться на этом
фундаменте? Отпадение от церкви представляет собой опасность,
которую готовит католицизму протестантская вера; отпадение цер-
150
Век Реформации
кви от августинизма составляет ту опасность, которая возникла
вместе с орденом иезуитов. И то, и другое зло должно быть
устранено обновленным августинизмом, пребывающим в лоне церкви и
противодействующим иезуитизму. Это стремление, начавшееся в
католических Нидерландах и с особенной силой проявившееся во
Франции, можно было бы назвать католическим протестантизмом,
потому что, не разрывая с церковью, оно разделяет августиновское
этическое основание Реформации. Первым его выразителем был
Корнелий Янсений (1585-1638), профессор теологии в Лувене,
обширный труд которого об Августине появился в том же году, когда
иезуиты праздновали первый столетний юбилей своего ордена
(1640).
Ощущение того, что католическая церковь нуждается в
религиозном и нравственном обновлении, возникло еще до
Реформации и вовсе не исчезло после нее ни под влиянием Тридентского
собора, ни под влиянием иезуитов; оно продолжало воодушевлять
отдельные кружки людей и снова разбудило именно во Франции
дух созерцательного и аскетического благочестия, серьезное
отношение к покаянию, религиозное и совестливое исполнение
церковных установлений и обрядов, таким образом не допуская, чтобы
католицизм без остатка выродился в иезуитство. Это направление
согласовалось с учением Августина о греховной природе человека
и с его обновлением Янсением. Оно нашло благоприятную почву в
уединенном провинциальном женском монастыре Port royal des
Champs под реформаторским руководством строгой и благочестивой
аббатиссы Анжелики Арно (с 1607), откуда перешло в основанный
в Париже филиал монастыря Port royal de Paris и благодаря
влиянию Дю Вержье, аббата Сен-Сирана, ближайшего друга и
единомышленника Янсения, приняло янсенистский характер.
В тиши провинциального монастыря живет целая группа
замечательных людей одинакового религиозного направления;
среди этих отшельников есть научные и теологические знаменитости,
становящиеся на защиту янсенизма и образующие духовно
сильную церковно-религиозную партию. Это — мужи Пор-Рояля, во
главе которых стоят теолог Ашпуан Арно («великий Арно», 1612-
1694) и математик Блез Паскаль (1623—1662), «гений Пор-Рояля».
Уже появляется опасение, что возникнет церковь в самой церкви.
151
Куно Фишер
Борьба с иезуитами вытекает отсюда сама собой, борьба же с
авторитетом папы вызывается иезуитами.
В 1653 году Иннокентий X осудил как еретические некоторые
положения Янсения, и притом такие, которые нельзя признать
янсенистскими; после того, как вторая булла закрепила и этот
пункт (1654), Арно, не оспаривая права папы судить о догматах
веры, восстал против его власти над тем, чтобы несовершившиеся
факты объявлять совершившимися (1655). Заключается ли в
известных положениях ересь, об этом папа может судить, но
находятся ли эти положения в сочинении Янсения — это вопрос,
касающийся фактов (question du fait), и он может быть разрешен не
резолюцией власти, а историческим исследованием. Такое
ограничение папского авторитета является отрицанием его
непогрешимости, составляющей догмат ордена иезуитов. Доктора Сорбонны
осудили Арно большинством голосов, из которых треть состояла из
монахов. «Противники, — сказал Паскаль, — располагают более
монахами, чем доводами».
Еще десятью годами ранее, чем вышла булла о положениях
Янсения, Арно начал борьбу с иезуитами, на стороне которых
стояли король и придворные епископы. Мы уже знаем связь
между казуистической моралью иезуитов и их ссылкой на церковные
обычаи, частым прибеганием к исповеди и причащению, при
котором на искренность раскаяния и серьезность сознания греха не
обращалось вовсе внимания. В своем сочинении «О частом
причащении» Арно показывает бесплодность иезуитской морали, в
другом он нападает даже «на теологическую этику иезуитов»".
В угоду этому ордену папская непогрешимость была
выставлена против исторической истины для осуждения янсенизма, и
авторитетом папы, по его ли собственному заблуждению или с
помощью сознательного обмана, злоупотребили для
санкционирования лжи. Пришло время осветить иезуитство во всем его объеме,
вплоть до самых сокровенных мотивов, и разоблачить его перед
всем миром как систему обмана, превращающую ложь в истину и
грех в справедливость. Это исполнено в ряде писем, следовавших
за нападками Арно на папскую непогрешимость и написанных
«De la fréquente communion» (1643); «La morale pratique des
jésuites. La théologie morale des jésuites» (1650).
152
Век Реформации
неким Луи Монталем к другу в провинции: это ^Провинциальные
письма* Паскаля («Lettres provinciales», 1656-1657), один из
величайших и наиболее плодотворных шедевров полемической
литературы благодаря значению предмета, мощи доказательств и
совершенству изложения, вооруженного всеми действенными
средствами речи, не исключая и насмешки. Из всех обитателей Пор-Рояля
Паскаль был самым мощным по духу и самым религиозным; он
обнажил сущность иезуитства, причем так, как никто ни до, ни
после него, и отрицал папскую непогрешимость без всяких
оговорок, которые он считал у янсенистов двусмысленными и даже
иезуитскими. Невозможно изменить природу вещей одним
властным постановлением церкви; декреты против Галилея столько же
доказывают, что Земля покоится, сколько и декреты против
антиподов доказали, что таковых вовсе нет. Если папы вообще
ошибаются, то и в вопросах веры они не непогрешимы. С этим открытым
и ясно выраженным убеждением Паскаль стоит на пути, ведущем
от католицизма к протестантизму; он познал половинчатость, в
которой янсенизм застрял и изнемог, так как не мог более
признавать власти римской церкви, но все-таки не отваживался
отвергнуть ее. Старый Пор-Рояль был разрушен, булла Unigenitus (1713),
продиктованная иезуитами, осудила кенелевский «Новый завет»87,
не заботясь о том, предаются ли вместе с тем анафеме также авгу-
стиновские и библейские догмы, и в союзе с государственной
властью положила конец французскому янсенизму (1730).
Католицизм и протестантизм являются
всемирно-историческими антитезами, охватывающими и исчерпывающими в пределах
христианства принципы религиозной жизни, а потому не
допускают никакого смешения, никакого компромисса, никакого
сосуществования, а также никаких промежуточных форм. Если появляется
такая форма, то она всегда есть лишь видоизменение одного из
них и, взятая сама по себе, представляет собою бессильный
гермафродитизм. Вера в авторитет и свобода веры (я беру последнюю
не как пустую фразу, а как требование, выставленное Лютером)
находятся в принципиальной религиозной борьбе друг с другом,
приведшей Реформацию к отпадению от церкви, а церковь — к
тридентским постановлениям. Что протестантизм не может
существовать в католицизме, что никакой родственный ему образ мыслей
153
Куно Фишер
не может жить в лоне церкви и под гнетом веры в авторитет —
это янсенизм испытал на себе и еще раз доказал это миру.
Французский янсенизм XVII столетия как бы доказывает, что, объявив о
своем отпадении от церкви, немецкая Реформация шестнадцатого
века руководствовалась верным расчетом.
Католицизм и протестантизм в христианском мире вместе с
тем составляют ступени развития и воспитания народов; первый
еще далеко не изжил себя, второй далеко еще не достиг своего
полного развития.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ХОД РАЗВИТИЯ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ
L ЗАДАЧА
Религиозная реформация есть полное освобождение и
обновление духовной жизни, имеющее неизмеримую важность. Уже
благодаря тому, что церковное стеснение свободы совести
уничтожено, религиозное повиновение и спасительность деяний
отброшены, становятся недействительными и теряют силу все те факторы,
которые подавляли и угнетали работу человечества во имя его
спасения. Если исполнение церковных установлений не
способствует блаженству, то неисполнение их не может и препятствовать
ему; если аскетизм, безбрачие, добровольная бедность, безусловное
повиновение, отрешение от гражданской и политической жизни
не создают религиозного совершенства, так как оно вообще не
может быть создано, то и естественная безмятежная
жизнерадостность, вступление в брак и устройство семьи, исполнение
гражданских обязанностей и задач, участие в государственных и мирских
155
Куно Фишер
делах не могут препятствовать и угрожать делу религиозного
спасения. Скорее преодоление мира через разрешение его задач и
посредством бескорыстного, готового на жертвы труда должно
способствовать человеческому очищению и тем самым служить путем
к спасению. Работа человека на пользу человеческой культуры
вовсе не находится в противоречии с его работой над самим собой,
над собственным очищением и нравственной зрелостью, и так как
протестантизм должен требовать последней, то он не может
препятствовать и первой, а должен поощрять и даже требовать ее с
точки зрения своей исторической воспитательной задачи. Таким
образом, религия уже не оказывает давления на мирской труд и
жизненный путь человека; она делает его по отношению к миру
внутренне свободным и дает ему возможность самому искать и
достигать своих целей. Религиозный дух Реформации встречается
здесь вновь с гуманистическим духом эпохи Возрождения, но не
для того, чтобы с ним сразиться, а для того, чтобы укрепить его в
его охоте к мирскому труду и освободить полнее, чем он мог это
сделать сам. Видеть в Реформации противоположность Ренессансу
и даже протест против него — значит обнаруживать только свою
односторонность и скудоумие.
Среди новых задач человеческой деятельности на первом
месте стоят задачи науки и познания. Философия должна идти по
пути, открытому и проторенному Реформацией, она должна
следовать за ней. Подобно тому, как Реформация стремится
восстановить христианство из его первоисточников— Бога, человека и
Библии, стремится и философия обновить познание, выводя его из
его первоначальных условий, естественных источников
человеческого разума, независимо от всех преданий, от прошлого, от всех
тех обстоятельств, которые не заключаются в нем самом, т. е. в
человеческой познавательной способности. В таком
самообновлении и состоит в данном случае дело Реформации. Вместе с вполне
сознательной постановкой такой задачи, с объявлением такой
самостоятельности, с попыткой нового познания в этом духе
наступает эпоха новой философии. Она начинается с первой трети XVII
столетия и простирается до наших дней. С начала ее первого
обоснования до завершения ее последних исторически
достопримечательных систем протекло около двух столетий, в течение которых
156
Ход развития Новой философии
ареной ее развития были главным образом Англия, Франция,
Нидерланды и Германия. Это те страны, которые были наиболее
потрясены Реформацией: она вызвала наибольшую борьбу во
Франции, продолжала ее в Германии и победоносно завершила в
Англии и Нидерландах. Этим народам, отчасти охваченным
Реформацией, отчасти подчинившимся ей, выпало на долю двигать
философию; с конца прошлого столетия философскую мысль двигают
вперед немцы, которые некогда породили Реформацию.
IL ЭПОХА НОВОЙ ФИЛОСОФИИ
1. Догматизм
Нетрудно обозреть внутренний ход развития новой
философии. Она стремится к познанию вещей силами человеческого
разума и поэтому начинает свое дело, твердо веря в возможность
такого проникновения, с полным доверием к возможностям
человеческого разума: она основывается на этом предположении и поэтому
в отношении способа ее обоснования имеет характер
догматический. Так как она предполагает познание, то должна сделать своим
объектом природу вещей, независимо от условий познаваемости, и
считать своей задачей объяснение явлений, в том числе и
духовных, из существа природы: поэтому в основном своем направлении
она имеет характер натуралистический.
Но истинная познавательная способность должна быть
только одна, как и истинное познание вещей. А человеческий разум
состоит из двух способностей, посредством которых мы
представляем веши: чувственности и ума, силы восприятия и силы
мышления. Поэтому вместе с началом новой философии уже возникает
спор между противоположными направлениями познания, который
не парализуется общностью задачи и предпосылок, а скорее
вызывается ею. Одна сторона считает единственно истинным познание
вещей через чувственное восприятие, другая — посредством ума,
или ясного и отчетливого мышления: там опыт (empeiria), здесь
рассудок (ratio) считается единственным средством для решения
философской задачи, потому это решение и следует искать в про-
157
Куно Фишер
тивоположных направлениях — эмпиризме и рационализме.
Номиналистическая теория познания подготовила эмпиризм;
последний, сделавшись вполне независимым, явился началом новой
эпохи и вызвал в противовес себе рационализм. Почему это
произошло, понятно всем. Вещи должны быть познаны такими, каковы
они суть, независимо от того, как мы их воспринимаем и какими
они являются нашему чувству; истинная природа вещей не может
быть поэтому воспринята чувственно, а может быть познана лишь
посредством мышления. Вот источник того великого спора,
который господствует в новой философии на первых ступенях ее
развития и отмечает каждый ее шаг антитезой.
Эмпирическая философия обоснована англичанином
Фрэнсисом Бэконом (1561-1626) и разработана в период с 1605 до 1623
года; она развивается в Англии благодаря Томасу Гоббсу и Джону
Локку, основателю сенсуализма (1690), и разветвляется затем на
англо-французское просвещение, дошедшее до материализма
(1690-1770), и на последовательную разработку сенсуалистского
учения, развиваемого и завершаемого английскими философами
Беркли и Юмом (1710-1740). Это направление новой философии,
отцом которого является Бэкон, изложено мною в особом
сочинении, куда я и отсылаю читателя, так как оно только по чисто
внешним побудительным причинам издано отдельно от
настоящего труда*.
Рационализм обосновывает француз Рене Декарт; он дает
новой философии направление, создавшее новое рациональное
учение о принципах (метафизику), главные моменты которого
разрабатывались во Франции, Нидерландах и Германии.
Представителями этих главных фаз являются Декарт, Спиноза и Лейбниц,
подобно тому как главные ступени эмпиризма представляют Бэкон,
Гоббс и Локк. Невольно приходят на ум эти параллели,
являющиеся в то же время ясно выраженными антитезами: Декарт с
Бэконом, Спиноза с Гоббсом, Лейбниц с Локком. Последний является
исходной точкой для Вольтера и для французского Просвещения,
Лейбниц — для Вольфа и немецкого Просвещения.
Фундаментальное развитие новой метафизики от Декарта до Лейбница, если
Francis Bacon und seine Nachfolger. Entwickelungsgeschichte der
Erfahrungsphilosophie. 2 umgearbeitete Aufl. (Leipzig, F. A. Brockhaus,
158
Ход развития Новой философии
точнее обозначить его пограничные пункты, обнимает собой период
времени с 1637 по 1714 год.
2. Критицизм
Но факт познания на основании догматических предпосылок
как эмпиризма, так и рационализма не объясняется и не может
быть объяснен. Отсюда как необходимое следствие вытекает
отрицание его возможности. Этот вывод делает скептицизм Юма, в
котором сошлись и завершили свое развитие противоположные
направления.
Философия дошла до новой, решительной точки поворота.
Она должна не предполагать, а прежде всего исследовать и
обосновать возможность познания. Природа вещей обусловлена их
познаваемостью. Проблема познания — первая из всех проблем. Юм
нарушил догматическую дремоту философии; первым, кого он
разбудил, был Кант, положивший начало критической эпохе,
которая весь ход новой философии делит на догматический и
критический периоды и продолжается в философии нашего столетия.
ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ
ДЕКАРТА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЛИЧНОСТЬ ДЕКАРТА И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ
L ЕГО НАТУРА
У людей, заложивших фундамент новой эпохи философии,
последняя является продуктом не их академической деятельности и
преподавания, а внутреннего призвания и свободного,
независимого досуга. Их задача состоит не в насаждении традиционного
учения, а в создании элементов и положений нового учения; поэтому
схоластической памяти «munus professorium»88 не отвечает
стремлениям этих первых философов, имеющих достаточно забот по
приведению в систему своих мыслей и удовлетворению своей
потребности в истине. Вне философского досуга эти философы или
вращаются в большом свете и преследуют цели, более
удовлетворяющие их честолюбие и любознательность, чем академическая
деятельность, или посвящают себя всецело скромному служению
познанию; они либо светские люди, подобно Бэкону и Лейбницу,
либо отшельники, подобно Декарту и Спинозе.
Однако в Декарте некоторым образом соединены черты обоих
типов. В сравнении с Бэконом и Лейбницем он кажется
отшельником философии, в силу глубокой внутренней склонности
пренебрегавшим блеском и обязанностями светского положения и так
сильно ощущавшим потребность в познании, что перед ней умолкало
163
Куно Фишер
всякое честолюбие и даже стремление к научной славе. «Я не
ощущаю удовольствия, — пишет он в конце своей автобиографии, —
в том, чтобы быть замеченным в свете, и всегда буду считать
наслаждение ненарушаемым досугом большим благом, чем
почетнейшие должности на земле». Эта черта говорит о сходстве его со
Спинозой; тем не менее в сравнении с ним Декарт — знатный и
богатый светский человек, находящий себе место в обществе
великих мира сего, пользовавшийся короткое время теми же, что и
они, благами жизни, навсегда сроднившийся с их нравами,
заботливо сохранявший внешнюю солидарность со светскими
условиями, в которых он жил, избегающий и даже боящийся всякого
конфликта с ними — боящийся борьбы, которой не искал, но в
которую вступил и которую мужественно выдержал Спиноза, —
наконец, достаточно богатый для того, чтобы жгучую жажду знания
света утолить в подвижной жизни, в больших и полных
разнообразия путешествиях. В жизни Спинозы нет годов странствий,
школу которых основательно прошел Декарт. Подобно тому как его
учение содержит в себе семена, из которых вышли системы,
разработанные Спинозой и Лейбницем, так и его характер и натура
соединяют в себе черты обоих, но таким образом, что здесь
светский человек подчинен отшельнику, а стремление к познанию
определяет основное направление и строй всей его жизни.
Потребность в истине заставила его броситься в водоворот
большого света и вести жизнь почти авантюриста; он хочет
изучить многообразную природу вещей и людей, чтобы собрать
материал для своих размышлений. Не сама мирская суета привлекает
его, а ее созерцание, оно оплодотворяет его и по удовлетворении
его любознательности находит свою истинную жизненную форму
в абсолютном и свободном досуге одинокого мыслителя. Он все
время живет только для себя и своего интеллектуального
самообразования. Личные склонности и принципы заставляли его
уклоняться от внешней борьбы, но не дали ему возможности избежать ее,
хотя он никогда не стремился к ней. Он знал, почему он
относится к миру так спокойно; его консервативное поведение было
настолько же продуманным, насколько и естественным; оно
обусловливалось не только методом и принципами, но было вместе с тем
необходимым следствием его духовного склада, так как интеллекту-
164
Личность Декарта и первый период его жизни
альное беспокойство его духа было столь велико, что он нуждался
во внешнем покое и не хотел жертвовать им ни за какие блага.
Он не избежал внутренней борьбы, сильнее, чем любая
другая, потрясающей человека. Если из истины человек делает долг,
то за него он ответственен прежде всего перед самим собой. Быть
правдивым по отношению к самому себе есть основное условие
всяческой правдивости. Большинство хвалится своей искренностью
по отношению к другим и живет в величайшем ослеплении
относительно себя самого; из всех обманов самообман — самый
худший и наиболее часто встречающийся. От этого злейшего врага
истины хотел защититься Декарт путем основательного
самоисследования и смелого сомнения. Всякая мнимая истина и
воображаемое познание состоят в интеллектуальном самообмане, который, в
сущности, есть самообман моральный. Вот тот враг, с которым
борется Декарт и которого не отпускает до тех пор, пока не
убеждается, что окончательно сразил его. В этом постоянном
стремлении к истине, в этой борьбе с интеллектуальным самообманом в
какой бы то ни было форме Декарт был одним из бесстрашнейших
и величайших мыслителей мира.
Одного взгляда на внутреннюю борьбу, описанную в
некоторых его произведениях именно так, как он ее пережил, достаточно,
чтобы узнать этого человека, которого при поверхностном
знакомстве с ним так мало понимают и так часто неправильно и
невежественно осуждают. Во всей философской литературе нет
произведения, в котором стремление к истине было бы изображено так же
жизненно, индивидуально, захватывающе и вместе с тем так ясно,
как в трактате Декарта о методе и в его первых «Размышлениях».
Тут мы встречаем то мощное влечение к познанию, то пресыщение
книжной ученостью, то сомнение во всем выученном, то
отвращение ко всякого рода поучению и улучшению других, ту жажду
мира и жизни, то стремление к коренному самообновлению —
словом, все те черты, которые выражены в такой грандиозной форме
только еще в одном произведении немецкой поэзии.
Вспомним гетевского Фауста, этого глубокомысленного, до
всего доискивающегося мыслителя, стремящегося к познанию,
попадающего в водоворот сомнений, начинающего с этих пор искать
истину только в себе самом и в книге мира, убегающего из учено-
7 Куно Фишер
165
Куно Фишер
го кабинета в огромный мир, где он начинает жить лихорадочной
и романтической жизнью, не делаясь, однако, его пленником;
поищем для этого образа реального человека, пережившего эти
моменты, эту борьбу и совершившего такие странствия, — и окажется
(еще близко к тому столетию, которое начало слагать легенду о
Фаусте), что едва ли кто-нибудь подходит более к этому
возвышенному типу, чем Декарт. Ведь и в его жизни был такой момент
исканий, когда он надеялся на магическую помощь.
Жизнь философа делится на три эпохи, в которых только что
очерченный процесс его развития выражается столь рельефно, что
их разграничение явствует само собою. Первые 16 лет —
ученические годы, последующие 16 — годы странствий, а последние 22 —
время творчества и трудов.
П. ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА (1506-1612/
Наш философ происходит из древнего французского знатного
и богатого рода в Турени; фамилия его в старой орфографии
писалась Des Quartes, но в ХГУ столетии получила уже
латинизированную форму De Quartis. Знатное происхождение обеспечивало в ту
пору доступ к высшим государственным должностям, и на таких
должностях, особенно военных и церковных, выдвинулись
некоторые члены этой фамилии. Наряду с армией и церковью и высшие
суды Франции, парламенты, предоставляли подобающую знатному
происхождению арену общественной деятельности, и советники
парламента составляли особый класс французской знати,
бюрократическое дворянство, пользовавшееся полнейшей независимостью
благодаря своему положению.
Среди сочинений Декарта для изучения его жизни и его
развития самым важным является его «Discours de la méthode». По-
немецки в моем переводе: «René Descartes' Hauptschriften zur
Grundlegung seiner Philosophie» (Mannh., 1863). Из биографий
можно назвать: A. Baulet. La vie de M. Descartes (2 vol. Paris,
1691. В извлечении, Paris, 1692); Thomas. Eloge de René Descartes
(1767). К нему «Notes sur l'éloge de Descartes» (Oeuvres de Des-
cartes publ. par V. Cousin. T. I, pg. 1-117. Заметки помещены в
виде извлечений); Fr. Bouülier. Histoire de la philosophie
cartésienne (2 vol. Paris, 1854); /. Mulet. Histoire de Descartes avant
1637 (Paris, 1867), depuis 1637 (Paris, 1870).
166
Личность Декарта и первый период его жизни
Один из Декартов был архиепископом в Туре; дед философа
воевал с гугенотами, его отец, Иоаким Декарт, принял мантию и
сделался советником парламента в Ренне. Фамильные традиции
были не таковы, чтобы воспитать философа, а тем более
реформатора философии и новатора в области науки; они, напротив,
складывались так, чтобы направить карьеру Декартов по обычной и
удобной колее лояльного дворянства и отвращать их от
современных им новшеств. Влияние этого фамильного духа сказалось и в
жизни нашего философа; им обусловливается то обстоятельство,
что Декарт — при том, что он нуждался в научной деятельности и
в жизни в максимальной духовной свободе, что он был источником
коренной реформы мышления, — не только из принципа, но и по
врожденной склонности был врагом всякой насильственной
реформы общественной жизни, всякого рода переворотов в церкви и
государстве и в этом смысле никогда не переставал быть старым
французским дворянином консервативного склада; с другой
стороны, этот фамильный дух не мог воспрепятствовать Декарту при его
научном, удаленном от всяких официальных должностей роде
занятий становиться все более и более чуждым своей семье, так что
именно старший брат его, считавший его ничтожеством, смотрел
на него с презрением даже тогда, когда философ сделал известной
всему миру фамилию Декартов. С отцом, разглядевшим в нем уже
в детстве научное призвание и заботившимся о его развитии, он
сохранял всегда самые лучшие отношения.
Родовые имения, в которых отец Декарта попеременно
проводил парламентские каникулы, находились в южной Турени и
Пуату; из них назову местечко La Haye, принадлежавшее частью
Декартам, и Perron. В La Haye и родился Рене Декарт, третий сын
от первого брака, в конце марта 1596 года. Мать его (Жанна Бро-
шар) умерла спустя несколько дней после родов от грудной
болезни, перешедшей к сыну. Бледный вид ребенка, слабенькое
телосложение и сухой кашель не давали, по мнению врача, никакой
надежды на долгую жизнь. То, что ребенок все-таки выжил,
составляет всецело заслугу его кормилицы, к которой Декарт всегда питал
чувство благодарности. В отличие от брата, его титуловали по
небольшому поместью Перрон в Пуату, которое должно было перейти
к нему: «René Descartes seigneur du Perron»; в семье его звали про-
167
Куно Фишер
сто Перрон; сам же он, не обращая никакого внимания на свой
дворянский титул, называл себя в свете просто Рене Декартом, а в
своих латинских сочинениях — Renatus Descartes;
латинизированное, искаженное имя Cartesius было ему противно.
Его маленькое, слабое здоровьем тело требовало в детстве
величайшего ухода. Ему необходимо было избегать всякого
умственного напряжения, и учение его должно было вестись
вперемежку с играми. Однако его необычайное стремление к науке
проявилось в нем так рано и так живо, что отец имел обыкновение
называть его в шутку своим маленьким философом. На восьмом году
жизни он уже казался достаточно сильным, чтобы приняться за
систематическое школьное учение. В начале 1604 года в
королевском замке La Flèche в Анжу была открыта новая школа,
основанная Генрихом IV и предназначенная для того, чтобы сделаться
первым и самым аристократическим учебным заведением для
французского дворянства. После того, как король принес в жертву
короне свою веру и нантским эдиктом обеспечил терпимость своим
прежним единоверцам, он захотел проявить свое благоволение и
по отношению к своим врагам, иезуитам. Актом, подсказанным
безумным великодушием, он призвал их обратно в страну, откуда
они за десять лет перед тем были изгнаны (1594) после первого
покушения на жизнь короля, на которое отважился один из них. В
то время отец «великого Арно» громил иезуитов Филиппинами;
король же подарил ордену замок La Flèche и передал в его ведение
школу, в которой должны были воспитываться сто молодых
французских дворян. Заведение было устроено с королевским
великолепием и роскошью; в знак своего благоволения король повелел
похоронить в церкви La Flèche свое сердце.
В числе первых воспитанников этой школы был Декарт,
остававшийся в ней до окончания курса. Он не только прошел, но и в
совершенстве изучил школьные науки, когда оставил заведение на
семнадцатом году жизни. Ректор коллегии патер Шарле
приходился ему родственником и относился с особенной заботой к своему
питомцу, который, что редко бывает у гениальных мальчиков,
благодаря послушанию, исполнительности и старанию в занятиях стал
очень скоро действительно образцовым учеником. Шарле поручил
мальчика специальному вниманию и заботам патера Дине, кото-
168
Личность Декарта и первый период его жизни
рый впоследствии был провинциалом ордена и духовником
королей Людовиков ХШ и XIV. К авторитету этого расположенного к
нему человека обратился Декарт тогда, когда во время научной
полемики на него делал гнусные нападки иезуит Бурден. В школе
же познакомился он впервые с Марином Мерсенном, вступившим
впоследствии в орден минимов (отшельников-братьев св. Франче-
ско де Паола); по окончании школы Декарт весьма кстати вновь
встретился с ним в Париже. Я выделяю это имя, так как в кругу
друзей философа он занимает главное место. Когда новая теория
начала распространяться среди ученого мира и вызвала
возражения, требовавшие объяснений, Мерсенн, живший в столице
Франции, — в то время как Декарт жил в полном уединении, — был,
так сказать, научным агентом и поверенным своего друга; его
называли резидентом Декарта в Париже и деканом картезианцев. Когда
они встретились в La Flèche, то Мерсенн, который был восемью
годами старше, уже кончал школу, между тем как Декарт только
поступил в нее; первый был уже в классе философии, последний
же только начинал класс грамматики. Величайшим и ужаснейшим
событием, пережитым Декартом во время школьного периода его
жизни, было убийство Генриха IV; он был в числе тех избранных
воспитанников, которые 4 июня 1610 года торжественно встретили
сердце короля.
Занятия в школе начались изучением древних языков,
которые Декарт легко усваивал, причем он не только читал древних
авторов, но и наслаждался этим чтением и умел подражать им;
затем следовал двухлетний курс философии: в первый год логика и
мораль, во второй — физика и метафизика. За это время мальчик
созрел в юношу и его умственная деятельность стала намного
интенсивнее благодаря знакомству с философскими науками (1610-
1611). Эти школьные предметы повлияли на него в том, что, не
удовлетворяя его потребности знания, наводили его на
размышления, вызывали его критику и дали первый толчок к сомнениям,
с которыми он в конце концов оставил школу и схоластическую
науку.
Наконец дошла очередь и до математики, совершенно
завладевшей его умом; из всех дисциплин школы это была
единственная, которая занимала его и побуждала к дальнейшему творчеству.
169
Куно Фишер
Для него было важно не многознание, а исключительно
уверенность, ясность и отчетливость знания, т. е. действительное
познание; не разнообразие объектов познания, а способ его.
Любознательность влекла его не к всезнайству, а всецело к философскому
познанию. Целью его стремлений были не те или иные сведения,
а истина: ясность и отчетливость понятий, ясная
последовательность и порядок мыслей. Потому-то из всех наук его увлекает и
удовлетворяет только одна математика; она своим примером
объясняет ему, что значит знать и чем отличается истинное познание
от ложного; она указывает ему направление, по которому должна
идти мысль, чтобы отыскать истину. Таким образом, еще будучи
учеником, Декарт придает значение математике не только
благодаря ее проблемам, живо интересовавшим его, а прежде всего
благодаря ее методу. Он руководствуется этим методом как образцом в
своем взгляде на науку вообще; чем более его ум свыкается с
ясностью и отчетливостью представлений, с эвристическим ходом
мысли математики, тем рельефней выступает перед ним полная
противоположность всему этому в остальных науках: в
силлогистике недостаток эвристического мышления, в морали бесплодность
теорий, в физике и метафизике неясные, темные, неустойчивые
представления, из которых состоит вся система, возведенная на
самом шатком фундаменте. Видно, что этот ум не останавливается
на математике как на особенной науке, наиболее отвечающей его
дарованию, а ориентируется ею, развивается через нее и
возвышается до свободного и обширного кругозора над человеческим
знанием как таковым. Математика становится для него пробным камнем,
которым он проверяет всякое познание и судит о его истинности;
она пробуждает в нем философский дух, находящий, сообразно
роду своей познавательной потребности, в математике свое первое
удовлетворение и дающий здесь свои первые плоды. Глубокая
любовь к этой науке является в Декарте основной чертой
методического мыслителя, а отвращение к школьной философии —
основной чертой скептика. Таким образом, уже в школьнике вызревает
цель, которой он посвящает всю свою жизнь: коренным образом
реформировать науки при помощи нового метода по образцу
математики. Сначала цель еще далека и темна для него, но ему
уже ясно* что единственный путь к истине есть правильный метод
170
Личность Декарта и первый период его жизни
мышления, что надо найти этот метод или, что то же, надо
открыть доступ математике в область философии.
Метод, которого ищет Декарт и который он хочет ввести в
философию, не есть искусство схоластически правильного
изложения — таким искусством обладает уже силлогистика: он стремится
не к изложению известного, а к отысканию неизвестного, к тому,
чтобы вывести его из неизвестного и развить методически; поэтому
в математике его интересуют не столько доказательства теорем,
сколько решения задач, анализ и алгебра. Во время одной из
лекций по анализу ему приходит в голову идея, что анализ не что
иное, как алгебра, что последняя содержит ключ к разрешению
геометрических задач, что геометрические величины могут быть
выражены уравнениями и, таким образом, найдены
арифметически. Это была первая, в высшей степени плодотворная идея новой
науки— аналитической геометрии., создателем которой он и
должен был стать. Это величайшее открытие есть первый плод его
методического мышления. Он усваивает математику со стороны ее
метода, пользуется ею как орудием для решения задач и умеет
весьма искусно применять это орудие по-новому к решению самых
трудных вопросов. Так разрабатывается математика ее создателями,
и Декарт, еще будучи на школьной скамье, уже осознает, что
станет таким мэтром. Беспрерывно занят он в тиши математическими
проблемами; он сам ставит их перед собой и решает с помощью
своего метода. Для него нет ничего приятнее этих размышлений в
уединении, которым благоприятствуют заботы о его здоровье; ему
разрешают вставать позднее, чем полагается по школьным
правилам остальным пансионерам; в эти утренние часы, которые он
проводит в постели, он без всякой помехи с увлечением отдается
своим мыслям; это часы его полного и плодотворнейшего досуга. С
течением времени он настолько привыкает к этому своеобразному
способу работы, что никогда не меняет его и в полной мере
пожинает плоды золотых утренних часов.
Вот как описывает сам Декарт то состояние, в котором он
находился в конце ученического периода своей жизни. «С
детства, — говорит он, обращаясь мысленно к тому времени, — меня
воспитывали для занятий науками, и так как меня уверили, что с
помощью их можно достигнуть ясного и прочного знания всего
171
Куно Фишер
полезного, то я почувствовал необыкновенно сильное желание их
изучить. Однако когда я прошел весь курс учения, в конце
которого обыкновенно люди вступают в ряды ученых, я совершенно
изменил свой взгляд, ибо находился в таком хаосе сомнений и
заблуждений, что, казалось, из моего желания учиться я мог извлечь ту
пользу, что все более и более убеждался в своем невежестве. А
ведь я был в одной из лучших школ Европы, в которой, по моему
мнению, должны были быть ученые люди, если только они бывают
вообще на земле. Я изучал там все, что изучали другие, и так как
моя потребность в знании шла далее, чем те науки, которым нас
обучали, то я перечитал все книги, какие только мог достать,
трактовавшие о самых достопримечательных и редкостных науках. При
этом я знал, как судят обо мне другие, и видел, что меня не ставят
ниже моих товарищей, хотя между последними некоторые были
намечены для замещения наших преподавателей. В конце концов
мне стало казаться, что наше столетие не менее богато сильными
умами, чем какое-либо из прошлых. Таким образом, я возымел
смелость судить обо всех по себе и думать, что в мире нет ни
одной науки, которая была бы такою, в какую некогда научили меня
верить».
Обозревая свое прошлое, он вспоминает еще раз школьные
науки: древние языки, риторику, поэзию, математику, мораль,
философию. При этом он подчеркивает то обстоятельство, что хотя
и находил в каждой нечто полезное, но, за исключением
математики, не видел ни в одной из них науки в строгом смысле слова, что
современная ему математика казалась ему ограниченной, не
философской, а школьной, философия — сплошь шаткой и
сомнительной. «Поэтому, — продолжает он, — я оставил изучение наук, как
только возраст позволил мне выйти из подчиненного положения
ученика. Я не хотел более искать никакой другой науки, за
исключением, той, которую я мог бы найти в самом себе или в
великой книге мира, и, таким образом, посвятил остаток моей
юности путешествиям для того, чтобы изучить дворы, войска, вступать
в общение с людьми различного душевного склада и
общественного положения, запастись многообразным опытом, испытать себя в
положениях, в какие могла бы поставить меня судьба, и смотреть
на все, что могло мне представиться, так, чтобы извлечь из него
172
Личность Декарта и первый период его жизни
пользу. ...Ибо я всегда имел необыкновенно сильное стремление
научиться отличать истинное от ложного, чтобы ясно видеть свои
поступки и уверенно совершать свой жизненный путь.
...Таким образом освобождался я постепенно от многих
заблуждений, затемняющих наш естественный свет и делающих нас
менее способными повиноваться разуму. Посвятив несколько лет
такому изучению книги мира, в то же время всеми силами
стараясь запастись опытом, я, наконец, пришел к решению изучать
также самого себя и обратить все мои духовные силы на отыскание
пути, по которому я должен был направиться. И это удалось мне,
как я полагаю, гораздо лучше, чем если бы я никогда не удалялся
от моего отечества и моих книг».
ГЛАВА ВТОРАЯ
ВТОРОЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ (1612-1628): ГОДЫ СТРАНСТВИЙ.
А. СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ И ГОДО ВОЙНЫ (1612-1621)
L ВСТУПЛЕНИЕ В СВЕТ
В августе 1612 года Декарт покинул школу La Flèche. К этому
времени ему было семнадцать лет, и столько же лет длились
начатые им странствия, изучение света, от которого в более зрелый
период жизни он снова возвращается к самому себе. За эпохой
школьного образования следовал период самообразования, в
буквальном смысле самообразования, не желающего ничего
воспринимать извне и принимать на веру, но желающего все вывести из
себя, обосновать своим мышлением, исследовать и открыть.
Школьное образование представляет собой совокупность разнородных
мнений, соединенных без метода, внутреннего порядка и
согласования. Хотя бы однажды прочувствованный, этот недостаток
разрушает раз и навсегда веру в преподаваемое в школе. При всей
благодарности и благоговении, которые Декарт сохранил по
отношению к своим учителям (отдавая даже известное предпочтение
иезуитам), он считал, что только незначительной долей своих
сочинений обязан школьному образованию. Он часто говорил своим
друзьям, что и без ученого воспитания, данного ему отцом, он мог бы
написать совершенно те же научные книги, с той только разницей,
что все они были бы написаны по-французски, а не по-латыни.
174
Светская жизнь и годы войны
Но от первых сомнений, касающихся современного ему
состояния наук, до открытия новых прочных основ путь еще длинен, и
цели еще не видно в темной дали. Декарт переживает теперь
момент полного неведения о своей дальнейшей судьбе. Ученая
карьера его не манит, в своем философском призвании он неуверен, он
думает, что имеет талант механика, но отец, согласно фамильным
традициям, предназначает ему военную карьеру, после того как
старший брат его избрал судейскую. Однако его организм
недостаточно крепок для военной службы. Для укрепления его и для
подготовки к будущей деятельности он упражняется в Ренне, где
проводит первое время после школы в верховой езде и фехтовании.
Французский кавалер того времени должен был вращаться
среди парижской знати. Уже в начале следующего года (1613)
Декарт отправляется в Париж в сопровождении нескольких слуг,
чтобы здесь в кругу людей своего общества изучить тон и нравы
большого света. Некоторое время ему нравится водоворот новой,
богатой развлечениями и удовольствиями жизни, и он отдается ее
течению; но вскоре, при встрече с родственными ему по духу
людьми, в нем пробуждаются великие потребности его мыслящей
природы. Он знакомится с математиком Мидоржем и встречает в
монастыре минимов своего школьного друга Мерсенна, философа
среди монахов, с которым вступает в близкое, живое духовное
общение — к сожалению, лишь на короткое время, так как
провинциал ордена посылает Мерсенна в Невер в качестве учителя
философии (1614).
Научные разговоры ближе его душе, чем игра, составлявшая
любимое развлечение кавалеров. Декарт внезапно исчезает из
знатного общества; никто не знает, где он находится, а он живет в
Париже, в глуши предместья Сен-Жермен, совершенно уединенно,
скрываясь от друзей и даже от своей семьи. Он занимается только
математикой, видится только с несколькими учеными людьми и
избегает всякого появления в свете, которое могло бы его выдать.
Так живет он, тщетно разыскиваемый, два года в самой столице.
Наконец, в конце 1616 года один из друзей, которых он избегает,
встречает его случайно на улице. Наступает конец его свободе и
одиночеству, он принужден согласиться вернуться еще раз в
надоевшее ему общество. Но теперь его увлекает и дает пишу его духу
175
Куно Фишер
не игра, а музыка. Рассеянную жизнь Декарт мог вести, но он не
мог вести ее бессмысленно. То, что его занимает, становится тотчас
же предметом его анализа. Он занимается рыцарскими
упражнениями и в то же время пишет сочинение о фехтовальном искусстве;
он играет, но его занимает не выигрыш, а расчет, поэтому он
избегает азартных игр; в музыкальном искусстве его мысль привлекают
главным образом математические отношения, пропорциональность
числа колебаний; его первым сочинением, самым ранним из
сохранившихся, был трактат о музыке.
П. ВОЕННАЯ СЛУЖБА В ГОЛЛАНДИИ (1617-1619)
Политические обстоятельства Франции столь же мало
интересовали Декарта, как и среда знати. Величайшим событием того
времени был созыв государственных чинов в 1614 году, последний
во Франции до 1789 года. В то время, когда весь Париж бежал
посмотреть на торжественное шествие депутатов в Нотр-Дам, Декарт
уже скрывался в Сен-Жермене, углубляясь в математические
проблемы. Дела двора были в ту пору очень запутанны. Правила
королева-мать, Мария Медичи, руководимая недостойным фаворитом,
маршалом д'Анкр, которого она возвысила. Принцы с оружием в
руках восстали против гнусного правительства, но падение его
состояло лишь в том, что преобладающее влияние фаворитов
честолюбивой и'развратной королевы сменилось влиянием фаворитов
слабого и опекаемого короля. Один фаворит устранял другого с
помощью наемных убийц. Естественно, что при таких
обстоятельствах Декарт, бывший еще в Париже во время катастрофы (1617)89,
уклонился от военной службы во Франции и предпочел своей
родине дружественную соседнюю страну.
Вместе с перемирием в 1609 году соединенные Нидерланды
добились впервые после долгих и упорных войн признания их
независимости; Франция из старой вражды к испано-австрийской
монархии покровительствовала этому возвышающемуся
протестантскому государству и позволяла сражаться там своим воинственным
сынам, которые таким образом боролись с общим врагом. На
службе у Морица Нассауского было много французских дворян. В число
176
v Светская жизнь и годы войны
их попал и Декарт. Он приехал в мае 1617 года в Бреду и вступил
добровольцем-кадетом на службу к штатгальтеру. То
обстоятельство, что воспитанник иезуитов школы La Flèche вступает в рады
солдат, которыми командует сын великого принца Оранского, не
должно удивлять нас, если мы примем во внимание обстоятельства
того времени; мы скоро увидим, как тот же человек, который был
только что волонтером у Морица Нассауского, будет продолжать
свою военную службу под знаменами Тилли.
Вообще же его военной службе нельзя придавать такого
большого значения, какое придают ей глупые панегиристы. Ом Декарт
не дает к этому никакого повода. У него в одинаковой мере
отсутствовали военное честолюбие и телесная сила, делающие людей
солдатами по профессии. Ему хотелось изучить великий и
незнакомый ему мир как драму, но не в качестве актера, а в качестве
зрителя. Военная служба впервые давала ему возможность
путешествовать и видеть свет, военное ремесло интересовало его в
отношении механических изобретений и фортификационного
искусства, но отталкивало его своей грубостью во всех ее проявлениях, в
лагере и на поле битвы. Военный мундир был как бы паспортом, с
помощью которого было легче всего близко познакомиться с тем,
что привлекало его любознательность. Он был не столько солдатом,
сколько туристом и избрал военную жизнь не как карьеру, а как
костюм. Поэтому он остался добровольцем и отказался от чинов и
жалованья; последнее он взял только один раз, ради своего звания,
«как некоторые странники берут милостыню», и сохранил как
напоминание о годах своей военной службы.
В Бреде он застал вооруженный мир, который длился еще
четыре года и поэтому предоставлял ему полный досуг. Ничто не
мешало ему предаваться научным занятиям, причем благодаря
счастливому случаю он свел знакомство с человеком, с которым
мог делиться тем, что интересовало его. Штатгальтер также умел
ценить математику и предпочитал ее вследствие ее значения для
военного искусства всем другим наукам. Поэтому математика
процветала под его покровительством, и случалось, что математические
задачи вывешивались публично в виде объявлений для решения.
Однажды Декарт увидел такое объявление на голландском языке и
попросил своего случайного соседа перевести его на французский
177
Куно Фишер
или латинский язык; этим случайным соседом оказался ученый и
известный математик Исаак Бекман из Миддельбурга, который,
удивившись вопросу французского кадета, объяснил ему задачу, в
шутку поставив условие, чтобы он ее решил. На другой день
Декарт принес ему решение, и из случайного знакомства развились
вскоре, несмотря на большую разницу в летах, дружественные
отношения на научной почве. Побуждаемый Бекманом, Декарт
пишет в Бреде свой «Compendium musicae» (1618), который
посвящает своему другу с убедительной просьбой держать его в тайне;
сочинение это было отпечатано лишь после смерти Декарта (1650).
Вероятно, тогда же он написал трактат об алгебре, оставленный
ему же; по крайней мере судя по одному из его писем,
относящемуся к более позднему времени (октябрь 1630 года), такое
сочинение должно было находиться у Бекмана. Дружеская связь их
впоследствии порвалась благодаря хвастливому и бестактному
тщеславию Бекмана, который в неравенстве лет видел неравенство
знаний и выдавал Декарта за своего ученика, между тем как тот
сознавал, что своему старшему другу он многое сообщил, но ничему
у него не научился или научился ровно настолько, насколько (как
он прямо говорит ему в упомянутом письме) привык учиться у
всех, даже у муравьев и червей.
Как в Париже, так и в Бреде Декарт живет своими идеями, и
его мало заботят бурные явления, происходящие вокруг него. В то
время, когда в Нидерландах прекратились вследствие перемирия
внешние войны, внутри страны разгорелась роковая партийная
вражда церковного и политического характера. Церковная вражда,
раздвоившая протестантизм в Нидерландах, началась в Лейденском
университете между двумя профессорами теологии — Яковом Ар-
минием и Францем Гомарусом; она касалась вопроса о
безусловности Божественного предопределения, которое Гомарус признавал
в строго кальвинистическом духе, а Арминий опровергал,
отстаивая свободу человека. Оба эти лица воплощают собой
противоположные учения — ортодоксального кальвинизма и рационализма.
Спорный вопрос с университетских кафедр переносится на
церковные и вскоре приобретает значение и силу, разбивающую
церковную жизнь Нидерландов на партии арминиан и гомаристов. С
1610 года, когда арминиане выступили в качестве общины и пред-
178
Светская жизнь и годы войны
ставили государственным чинам Голландии и западной
Фрисландии свое вероисповедание («ремонстранция») с притязанием на
терпимость, обе партии — ремонстрантов и контрремонстран-
тов — находятся в открытой вражде между собой.
К этим церковным партиям примыкают политические:
одна — монархическая, во главе которой стоит штатгальтер Мориц
Нассауский (с февраля 1618 года принц Оранский), другая —
республиканская, с Яном ван Ольденбарнефельдтом, великим пенсио-
нарием Голландии, и Гуго Гроцием (Grotius), синдиком
Роттердама, во главе. Оранская партия стоит на стороне строгих
кальвинистов, требующих созыва всеобщего собора для осуждения
противников, республиканская же примыкает к партии религиозной
свободы и настаивает на церковном самоуправлении отдельных
штатов, на праве, которое они защищают своей собственной милицией
от покушений фанатических противников. Штатгальтер делает
распоряжение об аресте главарей противной партии и обвинении их
в государственной измене. Ольденбарнефельдта обезглавливают
(13 мая 1619 года), постановления Дордрехтского собора (1618)
дают победу ортодоксальному кальвинизму, арминиане
подвергаются осуждению и отлучению от церковной общины. В числе самых
ярых и непримиримых их противников на упомянутом соборе был
Гисберт Воэций, которого мы встретим впоследствии в качестве
профессора в Утрехте. Когда Декарт покинул Бреду, он не мог
даже предчувствовать, в какой степени его пребывание в
Нидерландах будет отравлено победителями Дордрехта.
Ш. ВОЕННЫЕ ГОДЫ В ГЕРМАНИИ (1610-1621)
1. Походы
Два первых года военной жизни Декарта носили мирный
характер; в Бреде он находился не во время войны, а в период
перемирия, и самым интересным событием его жизни было
знакомство с упомянутым математиком. Но однажды избранная
военная дорога не могла кончиться так невоинственно; как раз в это
время открывался новый театр военных действий в Германии.
179
Куно Фишер
Известия о богемских волнениях, послуживших началом
Тридцатилетней войны, уже успели распространиться по Нидерландам.
Протестантские чины страны были охвачены желанием защищать с
оружием свои права, открыто восстать против императорского
авторитета и оказать сопротивление наследованию престола
Фердинандом, который должен был получить богемскую корону от своего
двоюродного брата Матвея и поставил себе задачей искоренить
протестантизм сперва в наследственных землях, а потом, если
возможно, и в империи. Во главе вооруженного восстания в Богемии
стояли граф Турн и Мансфельд, во главе императорских войск —
Букой.
Император Матвей умер 20 марта 1619 года. Несмотря на
протесты богемских чинов, Фердинанд в качестве курфюрста Богемии
едет во Франкфурт, где его избирают 28 августа 1619 года римским
королем, и 9 сентября коронуется, как император, под именем
Фердинанда П. Еще раньше его коронования богемские чины
избрали своим королем протестантского князя, курфюрста
Фридриха V Пфальцского, главу унии. Так война из-за богемской короны
между императором и этим королем, избранным богемцами, стала
неизбежной. Однако здесь крылся только исходный пункт борьбы,
которая должна была, судя по положению вещей, тотчас же
принять более широкий размах. Дело шло не только о владении
Богемией, а более того — о существовании протестантизма, о борьбе
протестантских и католических интересов в империи,
защитниками которых являлись с одной стороны уния, с другой — лига. Во
главе последней стояла Бавария с герцогом Максимилианом,
армией которого командовал Тилли. Таким образом, был готов горючий
материал для того, чтобы взорвалась общеевропейская война,
опустошавшая немецкие земли в течение 30 лет.
Декарт меняет Нидерланды на эту арену действий. В июле
1619 года он прибывает во Франкфурт-на-Майне, застает здесь
приготовления к выборам императора и видит своими глазами его
коронацию — это великолепнейшее из зрелищ тогдашнего
времени. Спустя некоторое время он вступает в баварское войско, и,
таким образом, в начале Тридцатилетней войны мы находим его
добровольцем в войсках главы лиги. Сначала баварская армия
двинулась на Вюртемберг, герцог которого стоял на стороне унии; она
180
Светская жизнь и годы войны
\
направилась к Донауверту, но поход был остановлен
дипломатическими переговорами; начали располагаться на зимних квартирах, и
Декарт провел зиму 1619-1620 года в полнейшем и для своих
мыслей полезнейшем одиночестве в Нейбурге на Дунае.
Инициатива дипломатического вмешательства исходила от
Франции. Император искал союза с Францией; австрийской
партии удалось склонить на свою сторону влиятельнейшее лицо при
дворе Людовика ХШ, любимца короля герцога де Люиня, и было
отправлено блестящее посольство во главе с герцогом Ангулемским
из Франции в Германию, чтобы примирить враждующие партии в
интересах императора. Посольство избрало сперва местом своего
пребывания швабский имперский город Ульм, призвало туда
враждебные партии империи и добилось в июле 1620 года договора, по
которому война на первых порах была локализирована в Богемии
как дело, исключительно касающееся Фердинанда и Фридриха
Пфальцского, а протестантские князья Германии не должны были
принимать в ней участия. Из Ульма посольство переехало в Вену.
Герцог Баварский в качестве союзника императора ведет войска в
верхнюю Австрию, покоряет восставших протестантов, соединяется
в Богемии с императорской армией, предводимой Букоем, и эта
соединенная армия наносит поражение в битве при Праге 8
ноября 1620 года богемскому восстанию и королю-сопернику Фридриху
Пфальцскому, который в тот самый день, когда победоносные
войска вступали в Прагу, бежал в Силезию.
В этот период Декарт все время был при армии, в которой он
служил. После зимнего пребывания в Нейбурге он едет в июне
1620 года в Ульм, где находит своих соотечественников и где
остается на несколько месяцев ради своих научных занятий; в
сентябре он едет в Вену, где было в то время французское посольство, и
возвращается в баварскую армию, находившуюся в Богемии,
вероятно, незадолго до битвы при Праге. В Праге он остается до конца
года; после этого на зимних квартирах на южной границе Богемии
он проводит снова несколько месяцев в одиночестве, посвящая их
размышлению, и так как баварская армия окончила свой поход, а
ему хотелось продолжать еще некоторое время жизнь солдата,
которая как раз теперь давала ему возможность освоиться с воинским
делом, то он и поступает в начале 1621 года в императорскую ар-
181
Куно Фишер
мию, предводимую Букоем в Моравии. Вызванное богемскими
волнениями восстание в Венгрии под предводительством Бетлена
Габора еще продолжалось; поход императорской армии, в котором
Декарт принимает участие, был направлен против этого врага.
Панегиристы Декарта говорят, что он отличился в этом походе, но
сам он об этом не говорит ни слова. Букой берет Пресбург, Тир-
нау, другие укрепленные города и погибает, сраженный в
героической битве у Нейгейзеля 10 июня 1621 года. 27 июля снимается
осада этого города, вскоре после чего Декарт покидает службу у
императора. Военный период его жизни заканчивается. То, в чем
он участвовал за эти три года (1619-1621), было: стоянка во время
перемирия в Нидерландах, затем на зимних квартирах в Нейбурге,
наконец, богемский и баварский походы. Кажется, еще в Нейбурге
он намеревался оставить военную службу и хотел из Вены
отправиться в Венецию, чтобы оттуда пройти пешком в Лоретто. Тогда
его отвлек от этого поход в Богемию.
2. Нейбургское уединение. Внутренний кризис
Нужно глубоко вглядеться во внутреннюю жизнь Декарта,
чтобы понять его самого; самое важное из того, что он пережил,
следует искать не в походах и битвах, а на зимних квартирах на
Дунае и в Богемии, где он всецело предавался своим мыслям. Он
всюду преследует научные интересы. В Ульме он знакомится с
математиком Фаульгабером и остается там несколько месяцев; в
Праге его ничто не интересует так живо, как все то, что
напоминает о Тихо Браге; но наибольшее значение для его внутреннего
развития имело зимнее пребывание в Нейбурге, где в глубоком
одиночестве, предоставленный всецело самому себе, он находит
путь, ведущий его постепенно к созданию новой философии.
Это — время кризиса и перелома. Уже со времени La Flèche
охватившие его сомнения не давали ему покоя; они преследовали
его в парижском обществе, загнали его в уединение Сен-Жермен-
ского предместья и не оставляли во время гарнизонной жизни в
Бреде. Ему казалось, что только математика дает достоверные
знания; она завладела им всецело и стала связующей нитью между
ним и друзьями. Однако она не разрешила тревоживших его со-
182
Светская жизнь и годы войны
мнений; ее ясность не делает ясными другое науки, достоверность
математических воззрений не помогает против недостоверности
философских. Если бы можно было и их сделать столь же
достоверными, как первые, если бы можно было, мысля с
математической ясностью, проникнуть в природу вещей и создать философию
по геометрическому методу, тогда можно было бы создать систему
истинного познания, правда, очень медленно, но с величайшей
уверенностью в ее прочности! Такова задача, зреющая в этой
настолько же скептической, насколько и математической голове.
Философия простирается перед ним, как темный хаос; математика
светит ему с полной ясностью. Если бы можно было внести этот
свет в тот хаос! Но как это возможно? Над этим вопросом
раздумывает Декарт; он чувствует, что он у ворот истины, но не может
войти в них; в каждую минуту уединения его влечет к себе эта
задача, от которой он не может избавиться и которую не может
решить. Чувствуя свое бессилие, он молит о просветлении свыше
и дает обет совершить паломничество в Лоретта
Не будучи в состоянии найти в себе самом источник помощи,
он ищет его вне себя; ему кажется, что кто-то может подсказать
ему слово разгадки или что оно скрыто где-нибудь, как тайное
сокровище, подобно философскому камню, которым обладают
только адепты. Среди сомнений в нем пробуждается стремление к
таинственному и магическому. В этом настроении он слышит, что
говорят о каком-то ^братстве розенкрейцеров*, которое,
возникнув мистическим образом и будучи посвящено в истинное
познание вещей, имеет целью просветить мир и освободить науку от ее
заблуждений; члены его внешне не узнаваемы и не должны ничем
себя выдавать. Тем более привлекают они воображение людей;
баснословнейшие слухи переходят из уст в уста, появляются
сочинения за и против. Интерес нашего философа возбуждается в
высшей степени, он всячески старается познакомиться с одним из
посвященных, быть может, с помощью сочинения, заглавие
которого сохранилось и которое он имел в виду посвятить
розенкрейцерам; но все его старания оказались напрасными, он в своей жизни
так и не смог отыскать ни одного члена этого тайного союза. И по
очень простой причине — потому что таких не было.
183
Куно Фишер
Декарт стал их искать, когда слух о таком обществе только
что возник и появились печатные сочинения (с 1614 года),
сообщавшие басню о розенкрейцерах, об их реформаторских планах, о
чудесной истории основателя общества и ордена. Вся история не
имела под собой никакой почвы, это была чистая фикция, роман,
вымышленный швабским теологом Валентином Андре (1586-1654)
с благой целью отбить у людей охоту к магии и ее
псевдореформаторам посредством доведенной до крайности сатиры и указать им
на истинную реформацию с помощью библейского и практического
христианства. Он хотел высмеять глупость времени, но вынужден
был убедиться, что весьма способствовал ее распространению, дав
ей новую пищу, которую все поглощали с жадностью. Всюду
искали розенкрейцеров, которых нигде не было. Никогда еще сатира не
была так неудачна в смысле предполагаемого воздействия на
общество, и никогда она не достигала результатов столь
противоположных. Она стала общей мистификацией, впервые
распространившей ложное убеждение в существовании розенкрейцерства,
обманувшей даже такого человека, как Декарт, и спустя пятьдесят лет
после своего возникновения возбудившей любопытство Лейбница.
Но что сказать на это, если и в наши дни новейший французский
биограф Декарта принимает за чистую монету басню о
розенкрейцерах и даже предполагает, что Декарт был членом этого братства,
а основателем и тогдашним главой его был Андре! Конечно, Декарт
всегда отрицал и то, что он был розенкрейцером, и то, что он знал
некоторых из них; но это-де ничего не доказывает, ибо он этих
сведений не имел права сообщать*.
Состояние беспомощности, в котором Декарт дал обет
паломничества и жаждал знакомства с розенкрейцерами, прошло;
истину нельзя воспринять извне, ее надо искать на самостоятельно
открытом и проложенном пути; этим правильным и верным путем
служит метод, уже существующий в математике и логике; теперь
надлежит сделать его универсальным, т. е. философским,
упростить и освободить от всех недостатков и односторонности. Декарт
уже начинает постигать известные правила, указующие путь
ищущему истину духу: познание простирается лишь настолько,
насколько простирается ясное и отчетливое мышление; темные пред-
/. Millet. Histoire de Descartes, I, pg. 93.
184
Светская жизнь и годы войны
ставления следует разлагать на их составные части и прояснять их
медленно, шаг за шагом; ясные представления надо так
систематизировать и сочетать, чтобы их связь была не менее ясна, чем они
сами. Сначала все темно. Поэтому нужен сплошной и
основательный анализ наших представлений, разложение их на их
простейшие элементы, неразложимость которых тождественна абсолютной
ясности и достоверности. Недостаточно только знать эти правила,
нужно и следовать им; они требуют внутреннего самопознания,
которое освещает человека и которому должны быть посвящены
все духовные силы, а значит, вся жизнь, которое указывает на
самообучение как на единственную цель. Всякая зависимость от
чужих мнений есть отклонение от этой цели, есть ложный шаг в
жизни, которая должна сохранять полнейшую самостоятельность в
мышлении и суждении; но эта самостоятельность не идет дальше,
чем мысли. Дальше она не должна и не может идти.
Здесь находится граница, несоблюдение которой было бы
также ложным шагом; поэтому самообучение требует вместе с тем
и величайшего самоограничения. Мышление идет своим
собственным путем, для открытия и прокладывания которого достаточно
одной головы, причем одна сделает это лучше, чем несколько. Во
внешнем мире, напротив, царствует хаос человеческих интересов, с
трудом соединяемых в больших социальных корпорациях, медленно
сложившихся и не поддающихся влиянию каждой навязываемой
теории, каждому методическому устроению, которое мышление
могло бы дать им, сообразуясь с собственным направлением. Тут
теоретическая жизнь совершенно расходится с практической;
первая требует систематического, руководствующегося одной основной
мыслью порядка, между тем как последняя не переносит такого
порядка; поэтому реформа мысли — нечто совсем другое, чем
реформа общества, и стремящееся к истине самообразование не
имеет ни сил, ни возможностей для исправления мира.
Непосредственное перенесение теории в общественную и практическую
область является в глазах Декарта неправильнейшим применением
метода и потому неметодичным приемом самого худшего рода,
отвергаемым им принципиально. Самообучение для него
становится задачей всей жизни, задачей чисто личной, частной, не
могущей быть никогда теоретическим примером для другого. Слова Фа-
185
Куно Фишер
уста: «Я не воображаю, что могу научить чему-нибудь, исправить
людей и обратить на путь истины» — для Декарта не выражение
душевной горечи, а благодушное и скромное выражение его
жизненного направления; эта невозможность здесь вместе с тем и
принципиальное нежелание. То, что установилось в общественной
жизни, может быть изменено и реформировано только постепенно;
лучше, чтобы оно оставалось таким, как есть, чем если оно
внезапно ниспровергнется какой-нибудь абстрактной теорией: последнее
приводит к еще большим бедствиям.
На таком рассуждении основывает Декарт свой
консервативный образ мыслей. В своем мышлении он хочет быть свободным,
поэтому ищет одиночества, избегает всякого официального
положения в обществе и относится к суете мира не столько как
соучастник, сколько как наблюдатель. В строе своей жизни он не
изменяет ничего, из благочестия и по принципу остается верным
законам своей страны, религии отцов, обычаям своего сословия, и где
его мысли противоречат общественным авторитетам, там он
заранее решает лучше не высказывать этих мыслей, чем смущать ими
умы и колебать сросшиеся с церковью и государством
представления. Этот образ мыслей, которому можно отказать во внешней
активности, в реформаторском мужестве, но за которым следует
признать мудрую осторожность, зрелое и проверенное жизненным
опытом суждение и большое знание человека, укрепился у Декарта
в качестве метода уже в то время, когда он двадцатипятилетним
молодым человеком покидал военную службу. Его признания
относительно этого пункта столь просты и прямы, что надо специально
не прочесть их, чтобы принимать осторожное, порой боязливое
поведение Декарта за бесхарактерность.
♦Я был тогда, — пишет он в своем «Рассуждении о
методе», — з Германии, куда повлекла меня война, которая там еще не
окончилась, и когда я с коронования императора вернулся опять к
войску, то пробыл начало зимы в таком месте, где без всяких
рассеивающих бесед, а также, к счастью, без всяких забот и
треволнений сидел целыми днями взаперти в своей квартире и имел
полный досуг для того, чтобы заниматься своими мыслями. Одна из
первых же привела меня к тому воззрению, что творения,
составленные из разнородных кусков, часто не так совершенны, как со-
186
Светская жизнь и годы войны
зданные одним человеком. Так, мы видам, что те здания, которые
были начаты и окончены одним и тем же архитектором,
обыкновенно красивее и лучше построены, чем те, над
усовершенствованием которых трудились многие, пользуясь для этого старыми
стенами, возведенными в иных целях. ...Конечно, мы не видим того,
чтобы люди разрушали все дома какого-нибудь города с
исключительной целью восстановить их в другом виде и сделать улицы
более красивыми, но часто бывает, что многие сносят свои дома,
чтобы построить их заново, а иной раз и бывают вынуждены к
этому, если дома угрожают падением и их фундамент недостаточно
прочен. Подобно этому я убедился, что поистине совершенно
неразумно желание отдельного человека реформировать государство
или хотя бы лишь обычные науки и их установленную школьную
систему, и притом так, чтобы изменить в ней все коренным
образом и разрушить целое для того, чтобы вновь все воссоздать.
Относительно моих личных воззрений я, напротив того, полагал, что не
могу сделать ничего лучшего, чем решительно отказаться от них,
чтобы потом постепенно либо заменить их новыми, либо вернуться
к ним после того, как разум оправдает их. И я был убежден, что
мне таким образом удастся устроить мою жизнь гораздо лучше,
чем если бы я стал строить только на старых основаниях и
сохранил бы принципы, принятые в юности без проверки их
истинности. Хотя и тут я встретил некоторые затруднения, но они не были
неразрешимы и во всяком случае не могут быть сравнимы с теми,
которые влекут за собой самые ничтожные реформы общественной
жизни. Великие общественные организации могут быть
восстановлены лишь с большим трудом, если они ниспровергнуты; их также
трудно поддержать, если они колеблются, и их падение всегда
очень тяжело. Что же касается их недостатков, то с течением
времени они всегда смягчаются, и даже многие из тех, которым
нельзя помочь никакими разумными средствами, незаметно
устраняются или улучшаются; наконец, такие недостатки в конце
концов сносней, чем их преобразование. С этим дело обстоит так же,
как и с большими дорогами, извивающимися зигзагами между
горами и благодаря ежедневному пользованию ими постепенно
делающимися настолько удобными, что лучше следовать по ним,
чем избирать прямой путь, карабкаясь на скалы и спускаясь на дно
187
Куно Фишер
обрывистых пропастей. Поэтому я никогда не отнесусь с
одобрением к тем беспокойным и сумбурным головам, которые, не будучи
ни рождением, ни судьбой призваны к руководству
общественными явлениями, все-таки желают производить реформы в этой
сфере сообразно своим идеям; и если бы я думал, что это сочинение
содержит нечто такое, что могло бы дать повод заподозрить меня в
такой глупости, то мне было бы очень неприятно, что я допустил
его выход в свет. Мое намерение не простирается дальше попытки
реформировать свои собственные мысли и построить их на
основании, которое заключено всецело во мне самом. Если же я
показываю вам здесь образчик моего труда, так как я им доволен, то
это происходит не потому, что я хочу кому-нибудь советовать
подражать мне. Другие, лучше наделенные Богом дарованиями, могли
бы иметь в виду, быть может, и гораздо большее; однако я боюсь,
что мое намерение уже слишком смело для многих. Уже
решимость освободиться от всяких мнений, которые когда-то были
приняты на веру, не пригодна для всякого». Развив свой метод и его
принципы с теоретической и практической стороны и изложив их
как максимы, которыми он руководствуется в жизни, Декарт
продолжает: «Так как я постиг эти жизненные принципы и обосновал
их вместе с предписаниями веры, которые для меня постоянно
играли первостепенное значение, то я полагал, что к остальной
части моих воззрений я имею право отнестись и ее исследовать с
полнейшей свободой. Последнее же, думалось мне, можно
успешнее сделать с помощью живого общения с людьми всех состояний,
чем если бы я и далее продолжал пребывать взаперти в своей
келье, где я уже продумал эти мысли. Поэтому еще до окончания
зимы я отправился путешествовать. И в продолжение девяти
последующих лет я ничего другого не делал, как колесил по свету,
потому что в его комедиях мне больше хотелось быть зрителем, чем
актером; в каждой веши я тщательно выделял то, что могло делать
ее сомнительной и давать повод к обману, и таким образом с
течением времени я вырвал с корнем все заблуждения, которые когда-
либо вкрались. Но я не подражал в этом отношении скептикам,
которые сомневаются только для того, чтобы сомневаться, и
остаются постоянно в нерешительности; скорее я стремился к
противоположному: я хотел приобрести уверенность, устранить зыбкий грунт
188
Светская жизнь и годы войны
и песок, чтобы дойти до камня или сланца. ...Так жил я внешне
подобно людям, занятым единственно тем, чтобы вести приятный
и беззаботный образ жизни, старающимся отделить свои
удовольствия от пороков и предающимся благопристойным развлечениям,
чтобы, не скучая, наслаждаться своим досугом. Тем не менее под
этой внешней оболочкой я не переставал двигаться вперед в
разработке моего плана и приобретать в познании истины, быть может,
более, чем если бы даже я только и делал, что читал книги и вел
беседа с учеными»*90.
3. Эпоха перелома
Мы привели в этом месте так подробно свидетельства самого
Декарта ради их биографического значения. Хотя они и освещают
период его жизни, отделенный от их выхода в свет восемнадцатью
годами, все-таки при любви Декарта к истине и при его точном
знании самого себя, исключающем всякую ошибку в
воспоминании о ходе своего собственного развития, не может быть ни
малейшего сомнения в исторической верности этого описания, которое
является для уразумения эпохи перелома единственным,
совершенно чистым и достоверным источником.
Таким образом, достоверно, что Декарт покидал школу
скептиком, ищущим истину, не ведавшим пути к ней и жаждавшим
его найти, что путеводная звезда явилась ему в одиночестве его
зимнего пребывания в Нейбурге в 1619 году, что здесь впервые он
узрел необходимость и возможность применения аналитического
метода к человеческому духу и его познавательным средствам с той
же достоверностью и тем же успехом, с какими он сам применил
его в геометрии. Основная мысль аналитической геометрии была
для него уже вполне ясна, когда он пришел к великому решению
подставить на место величин самого себя, проанализировать
собственный дух и его познавательные силы, чтобы рассеять мрак и
достигнуть ясности, направить в соответствии с этим свою жизнь
и сделать ее плодотворной, чтобы она стала постоянным и
достойным объектом этого трудного и беспримерного эксперимента. В
Discours de la méthode. Part. II et III.
189
К у но Фишер
этом намерении заключены все те правила, которые уже тогда
сделались его путеводной нитью. Он чувствует себя еще далеко от
цели, к которой хочет идти медленно и верно, но чувствует, что
находится на пути к ней. В 23 года человек еще не знаток людей,
он еще не обладает своим собственным опытом, который должен
предшествовать основательному и методическому
самоисследованию. Поэтому Декарт откладывает последнее до окончания своих
странствий и с этого времени старается использовать путешествия
для решения задачи своей жизни и своего метода. Цель,
отыскиваемая на этом пути, не могла быть иной, кроме принципов новой,
основанной Декартом философии. Зерно ее возникло во время
зимнего одиночества в Нейбурге, но понадобилось девять лет,
прежде чем этот эмбрион достиг полной зрелости. Уверенность в
переломе наполняла его душу безмерной радостью, ему открывались
новые перспективы, и вдали светились олимпийские высоты
познания. Мы пользуемся его собственной метафорой.
По-видимому, можно определить первый день этого
знаменательного периода жизни: это было 10 ноября 1619 года. В
дневнике философа, относящемся к тому времени и, к сожалению, до
сих пор не найденном, — мы знаем это лишь из сообщений Байе
и неполных копий, сделанных Лейбницем и изданных Фуше де
Карейлем, — была заметка с заглавием «Olympica», и на поля было
вынесено: «10 ноября меня озарил свет удивительного открытия
(intelligere coepi fundamentum inventi mirabilis)». В лейбницевском
списке назван 1620 год, по свидетельству же Байе, слова Декарта
гласили: «10 ноября 1619 года открыл я, охваченный восторгом,
основания удивительнейшей науки (cum plenus forem enthusiasmo
et mirabilis scientiae fundamenta reperirem)». Признание самого
философа отмечает без дальнейших подробностей начало зимы 1619
года как эпоху перелома. Далее в дневнике значится следующее:
«В конце ноября я буду в Лоретто, к Пасхе окончу свое сочинение
и издам его, как обещаю это сегодня, 23 сентября 1620».
Предметом этого сочинения могло быть только то открытие, за которое и
был дан обет паломничества в Лоретто. Но оно последовало спустя
пять лет, а издание сочинения — спустя семнадцать лет; если же
под ним разумелись основания системы — то лишь спустя
двадцать лет.
190
Светская жизнь и годы войны
Сведения о первом открытии шатки; новейший биограф
считает «scientia mirabilis» и «inventum mirabile» двумя разными
открытиями, из которых первое Декарт сделал 10 ноября 1619, а второе
11 ноября 1620 года; предметом первого является, по его мнению,
новый метод философии и вместе с тем аналитическая геометрия,
предметом же последнего — неизвестно что, скорее всего, что-либо
специально математическое и относящееся к уравнениям. По/гагар,
что эта комбинация ни на чем не основана. В рукописи Декарта,
насколько скопировал ее Лейбниц и сообщил Фуше де Карейль, об
11 ноября 1620 года не говорится ни слова. В тексте сказано: «В
1620 году меня озарил первый свет удивительного открытия»; на
полях помечена в качестве даты 10 ноября, а далее мы читаем, что
Декарт хотел в ноябре 1620 года совершить паломничество из
Венеции в Лоретт
Взвесив все это и проверив собственными свидетельствами
Декарта, по-видимому, с достоверностью можно допустить, что
10 ноября 1619 года было тем знаменательным днем, когда
родилась первая получившая дальнейшее развитие мысль его
философии. (Год 1620 в связи с этой датой, вероятно, ошибка, сделанная
Лейбницем при списывании.)
Байе повествует, беря эти сведения из дневника Декарта, что
последний непосредственно вслед за радостным возбуждением
этого чреватого последствиями дня видел три удивительнейших
сна, описанных им подробно и объясненных им, как символы его
прошедшего и будущего. В первом он видел себя обессиленным,
гонимым бурей и ищущим зашиты в церкви, во втором он слышал
громоподобный глас и узрел вокруг себя только огненные искры, в
третьем он открыл стихи Авзония и прочитал слова: *Quod vitae
sectabor iter?»91 После долгого бессилия и внутренних бурь Декарт
услышал за день до этого голос истины, внезапно увидел свет и
нашел свой жизненный путь".
В «Olympica» (по копии Лейбница) после даты его первого
«удивительного открытия» тотчас же говорится: «В ноябре 1619 мне
снилось одно стихотворение, начинавшееся словами: Quod vitae
sectabor iter?» Из этого также можно заключить, что
непосредственно перед этим не мог быть указан 1620, а следует читать
1619 год, с пометкой на полях: 10 ноября и т. д.
Ср.: Foucher de Careä. Oeuvres inédites de Descartes, I (Paris, 1859).
Préf. IX-XIII. Introd. XI-XV; /. Mület. Histoire de Descartes, I, pg.
74^82, pg. 96-98.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В. ПУТЕШЕСТВИЯ И ВТОРИЧНОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ В ПАРИЖЕ (1621-1628)
Прошло восемь месяцев, прежде чем Декарт закончил свой
обратный путь во Францию из Венгрии, где он оставил военную
службу. Ему захотелось постранствовать еще некоторое время, ибо
его путешествия являлись для него изучением великой книги
мира, а его родина как раз в этот момент представляла собой очень
мало привлекательного; разразившаяся во Франции война с
гугенотами и чума, свирепствовавшая в Париже уже в продолжение
целого года, — два обстоятельства, заставившие его продлить
пребывание за границей. Он едет через Моравию и Силезию в Бран-
денбург и Померанию, где мы застаем его в начале осени 1621
года; отсюда он направляется в Мекленбург и Гольштинию, а
затем из Эмдена морем в западную Фрисландию. Во время переезда
с ним произошло рассказанное им самим в заметке, относящейся к
этому времени (под заглавием «Expérimenta»), приключение, в
котором его находчивость и нравственная сила блестяще
выдержали испытание. Корабельщики, с которыми он ехал, вознамерились
его ограбить и убить; в полном убеждении, что чужой человек не
понимает их языка, они обсуждают свое предприятие совершенно
открыто, но Декарт догадывается об их замыслах, быстро обнажает
шпагу и своей решимостью так действует на разбойников, что
спасает и себя, и своего слугу. Из западной Фрисландии он едет в
Голландию, где проводит часть зимы и посещает в Гааге двор прин-
192
Путешествия и вторичное пребывание в Париже
ца Оранского, а непосредственно затем в Брюсселе — двор
инфанты Изабеллы.
В марте 1622 года он возвращается во Францию, получает
материнскую часть наследства и переезжает в феврале 1623 года в
Париж. Среди новостей дня, занимающих общественные круги
столицы, на первом плане стоят военные события в Германии и
тайный союз розенкрейцеров. Никто не в состоянии конкурировать
с Декартом по части сведений о немецкой войне и последних
событиях, и его рассказы слушаются с величайшим вниманием;
распространяется между прочим слух, что розенкрейцеры, члены этого
ордена «невидимых», находятся в Париже, и что Декарт состоит с
ними в близкой связи, даже сам принадлежит к таинственному
ордену. Вопрос о розенкрейцерах и здесь становится предметом
литературных споров; Мерсенн полемизирует по этому вопросу с
английским натурфилософом Робертом Флюддом, защищающим
розенкрейцеров, между тем как Гассенди, состязавшийся
впоследствии с Декартом за честь быть первым философом Франции,
становится на сторону противников. После девятилетней разлуки
Декарт вновь встречается со старым другом Мерсенном, который,
вернувшись в Париж, жил в монастыре вблизи Place royale и в это
время был занят изданием своего толкования книги Бытия. Что
касается розенкрейцеров, то Декарт на вопросы любопытных мог
ответить шутя, что его присутствие служит доказательством того,
что он не один из «невидимых».
На этот раз его пребывание в Париже продолжается всего
несколько месяцев. Навестив свою семью в Бретани и продав свои
имения в Пуату, он снова отправляется путешествовать в сентябре
1623 года, на этот раз на юг. Он хочет познакомиться с Италией и
прожить в Риме часть юбилейного года, который должен начаться
с Рождества 1624 года. В это время папский город представляет
собой собрание всего цвета Европы. Декарт едет через Швейцарию
в Тироль и посещает в Инсбруке двор эрцгерцога Леопольда; оттуда
он едет в Венецию и в день Вознесения присутствует на большом
морском празднестве; вслед за тем он отправляется на богомолье в
Лоретто, чтобы исполнить обет, данный им пятью годами ранее в
Нейбурге. В начале празднеств он находится уже в Риме и
остается там до начала следующего года. На обратном пути он посещает
193
Куно Фишер
Флоренцию и двор великого герцога Фердинанда П, но не Галилея,
величайшего человека времени, который впоследствии оказал
роковое влияние на его жизнь. Сообщение, будто он познакомился с
Галилеем, противоречит его собственным словам в одном
позднейшем письме к Мерсенну. Через Пьемонт и Альпы он возвращается
уже в середине 1625 года во Францию.
Последующие три года с некоторыми перерывами Декарт
проводит в Париже, куда он прибывает в начале лета. Незадолго до
этого он, по-видимому, имел намерение купить в Шательро
предложенную ему должность, соответствовавшую его рангу. Но вскоре
он оставляет эту мысль, если и относился к ней когда-нибудь
серьезно, и сохраняет, верный своему первому решению, полную
независимость и досуг. Круг его ученых знакомых и друзей
расширяется, к нему стремятся отовсюду, он пользуется уже славой одного
из первых математиков и философов своего века. К этому кругу
принадлежат известнейшие математики, физики и теологи
столицы: назову из них Гарди, де Бона, Морена, Дезарга, Бальзака,
врача Виллебресье, теологов Жибьефа, де ла Барда, де Санси и прежде
всего первого благожелателя Декарта кардинала Берюлля. В
последующие годы между врачом Виллебресье, аббатом Пико и
Декартом устанавливается тесная связь. Его интимнейшими друзьями
еще со времени первого пребывания в Париже остаются Мерсенн
и Мцдорж, занимавшийся как раз в то время оптическими
опытами и возбудивший в Декарте интерес к этим исследованиям,
плодом чего впоследствии была его «Диоптрика». И того, и другого
поддерживает в этих занятиях один из первых оптиков Парижа,
выдающийся ученый и техник — Феррье, который изготавливает
инструменты, проектируемые Мидоржем, и у которого Декарт сам
изучает искусство шлифования стекол. Декарт так высоко ценил
Феррье, что впоследствии ни с кем так охотно не разделил бы
своего отшельничества в Голландии, которого так старательно
искал и которое так бдительно охранял.
Из дома своего приятеля Ле Вассера д'Эгиоль, где
квартировал сначала, Декарт снова переселился в предместье Сен-Жермен в
августе 1626 года, чтобы пожить некоторое время более уединенно.
Возвратившись в дом Ле Вассера и к своим друзьям, круг которых
расширился, он снова завязывает с ними отношения на научной
194
Путешествия и вторичное пребывание в Париже
почве, и в этом доме образуется своя маленькая академия, душой
которой является Декарт. Здесь в дружеских беседах он впервые
высказывает свои философские мысли, созревшие в уединении;
своей новизной и глубиной они до такой степени поражают
слушателей и кажутся им столь убедительными, что уже теперь
друзья, ученые и книгопродавцы торопят его поведать миру свои идеи.
Но Декарт заранее решил остерегаться всякой торопливости и
всякой необъективности в этом деле, он хочет дать взойти посеянному
в нем семени и подождать с жатвой до той поры, пока не вступит
в совершенно зрелый возраст. Вскоре и общество, и визиты опять
становятся для него тягостными, снова просыпается непреодолимая
потребность в одиночестве, он бежит из гостеприимного дома и
скрывается на окраине Парижа в квартире, известной только
интимнейшим его друзьям (лето 1628 года). «Пе Вассер ищет его, но
тщетно; наконец он встречает его слугу, заставляет его показать
ему квартиру и в ней находит Декарта, за которым незаметно
наблюдает в течение некоторого времени; он видит его
размышляющим по обыкновению около 11 часов в постели и время от
времени пишущим.
Как раз в то время, когда Декарт покидал впервые Францию,
Людовик ХШ освободился от материнской опеки и находился под
влиянием своего любимца92; когда Декарт вернулся в Париж,
господство фаворита уже миновало, и рядом со слабым королем
возвысился замечательный политик, действительно имевший
призвание управлять государством. Годом ранее Ришелье был сделан
кардиналом, спустя два годэ он вступил, благодаря возобновившемуся
влиянию королевы-матери, в государственный совет и вскоре
сделался первым министром, а в действительности полновластным
правителем. Его политика не терпела внутри Франции никакой
силы, противостоящей или угрожающей королевской власти, и
требовала в связи с этим подчинения и разоружения протестантов и их
укрепленных пунктов, самым важным из которых была Ла Рошель.
Город предполагалось взять измором, а потому его надо было
осадить так, чтобы сделать невозможными всякий подвоз и помощь.
Благодаря положению города фортификационное искусство
встретилось при осаде с величайшими трудностями, и так как оно
преодолело их, то осада Ла Рошели является одной из замечательных
195
Куно Фишер
страниц военной истории. Множество любопытных устремилось
сюда, чтобы посмотреть на все, созданное военным искусством, —
и в числе их Декарт, вознаградивший себя под Ла Рошелью за
утраченное парижское уединение. Его друг Дезарг работал у
осадных машин в качестве инженера и впервые познакомил Декарта с
Ришелье. Король сам присутствовал при осаде, и это заставило
дворян, привлеченных любопытством, не ограничиваться ролью
праздных зрителей. Когда король предпринял рекогносцировку
английского флота, тщетно пытавшегося помочь осажденным, и
вступил впоследствии в добровольно сдавшийся город, Декарт
также находился в его свите. В начале ноября 1628 года Декарт
возвратился из этого своего последнего похода (если только его можно
так назвать) обратно в Париж: прошло ровно девять лет с тех пор,
как впервые в Нейбурге он узрел тот путь, на котором теперь
почти достиг цели.
Несколько дней спустя после своего возвращения Декарт
праздновал победу, для него более достопамятную, чем его
походы, — это был триумф его метода, блестяще выдержанное перед
избранным кружком замечательных и уважаемых лиц испытание.
Когда новые идеи носятся в воздухе, многие начинают думать, что
они уже постигли их, и рядом с истинным автором открытия
постоянно встречается множество мнимых новаторов, обманывающих
и себя, и других. Обыкновенно такие люди обладают
всевозможными сведениями, — и при этом настолько, насколько это требуется,
чтобы создавать впечатление, — нахальной самоуверенностью,
поразительной находчивостью и умением говорить перед публикой:
словом, качествами, способными ослеплять именно аристократов,
порой с трудом отличающих золото от золотистой слюды.
Человеком этого рода, успевшим возбудить к себе внимание Парижа, был
некий Шанду, по своему ремеслу медик и химик; Аристотель и
схоласты были в его устах чем-то архаическим; он умел
полемизировать с ними так же современно, как Бэкон, Гоббс и Гассенди; он
постоянно повторял слова: «новая философия», «новые
непоколебимые принципы», самостоятельным открытием которых он хвалился.
Папского нунция, маркиза де Банье, это хвастовство действительно
пленило; он пожелал показать это светило своему кругу и
пригласил к себе самых знатных людей, чтобы послушать Шанду. Среди
196
Путешествия и вторичное пребывание в Париже
приглашенных были, кроме кардинала Берюлля, также и Декарт,
Мерсенн, Виллебресье и другое. Шанду говорил, подготовившись,
гладко, блестяще, и его речь заслужила громкое одобрение у этой
избранной аудитории. Декарт не сказал ничего. Кардинал Берюлль,
заметивший это, спрашивает о его мнении; он отвечает уклончиво
и сдержанно, что вряд ли можно что-либо сказать после одобрения
таких людей; наконец, осаждаемый со всех сторон просьбами
высказать свое суждение, он приступает к разбору лекции, хвалит
гладкую речь, а также и откровенность, с которой Шанду
высказался против прежней философии, объявив себя сторонником
совершенно независимой. Что же касается мнимых новых принципов,
то он-де должен усомниться, способны ли они выдержать
испытание на истинность. Декарт видел перед собой пример того
самообмана, который он испытал на себе и бесчисленное количество раз
наблюдал на других до тех пор, пока полностью не осознал его и
не совладал с ним окончательно.
Представлялся случай показать его на примере. Нужно иметь
пробный камень для различения истины и заблуждения. Кто не
обладает этим средством, тот блуждает в темноте; Декарт берет на
себя задачу так опровергнуть самую очевидную истину и так
доказать самое очевидное заблуждение, чтобы пришлось согласиться с
его доводами. Немедленно тут же Декартом проделывается этот
двойной эксперимент и победоносно доводится до конца с
помощью двенадцати доводов, вероятность которых все возрастает. Он
хочет показать, что из недоказанных оснований не может вытекать
ничего ни истинного, ни ложного, что мнимые доводы ничего не
доказывают, что все прежнее философствование, каким бы новым
оно ни казалось, покоится на мнимых основаниях, и в этом пункте
с новой философией Шанду дело обстоит ни на волос не лучше,
чем с древней или прежней, которую Шанду презирает. Без
пробного камня истины нет в человеческом познании никакого
средства против фабрикации фальшивых монет. Шанду, по-видимому,
лучше владел этим искусством в других вещах; он применял его к
деньгам и был повешен на Гревской площади как
фальшивомонетчик.
Декарт не делает тайны из своего пробного камня и
объясняет своим слушателям, которых эксперимент убедил, пробудив в
8 Куно Фишер
197
Куно Фишер
них интерес к более глубокому пониманию, что всякая истина
может быть открыта только при помощи методического мышления
и должна выдержать испытание им. На кардинала Берюлля все это
произвело величайшее впечатление; он признал в Декарте ум,
прокладывающий новые пути и призванный к реформированию
философии, признал в нем реформатора науки, который мог бы
быть для Франции тем же, чем был Бэкон для Англии; в одной
приватной беседе он его буквально обязывал написать и издать
сочинение о своем методе. Внушение такого человека должно было
укрепить философа в созревшем уже намерении с этого времени
всецело посвятить жизнь изложению своего труда. Для того, чтобы
вполне собраться с мыслями, он нуждается в досуге и уединении,
которых не давал ему Париж. Видимо, он еще некоторое время
оставался жить вблизи Парижа в деревне и, быть может, здесь
набросал первый очерк своего учения о методе: «Правила для
руководства ума (Regulae ad directionem ingenii)», от которого остался
только один отрывок.
Обсудив хорошенько вопрос о том, где он встретит меньше
всего помех для осуществления своего намерения, он переселяется
на следующие двадцать лет в Нидерланды.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ (1629-1650). ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА.
А. ПРЕБЫВАНИЕ В НИДЕРЛАНДАХ
L «ГОЛЛАНДСКОЕ ЗАТВОРНИЧЕСТВО»
Годы странствий закончились. Декарту удалось повидать
много стран, изучить человеческую жизнь в самых разнообразных ее
формах и ее невольных заблуждениях. Он сделался великим
исследователем человеческих мнений и мастером разбивания иллюзий;
его ум так критически направлен, так методичен в различении
истинного и лживого, так изощрен благодаря всестороннему
знанию человека, так трезв в оценке мнимых ценностей мира, что
теперь он достаточно зрел для того, чтобы предпринять трудный
эксперимент самоисследования и найти истину в самом себе. Мы
ждем от него не описаний путешествий, дворов и войск, стран и
городов, которые он видел, а глубоко проникающего, не
останавливаемого никаким страхом сомнения, анализа человеческого
познания. Он хотел видеть в себе самом представителя человеческого
сознания, пример преисполненного жизненной опытности духа,
каким был Монтень; он должен был стоять именно на этом
уровне, чтобы преодолеть сомнения, являющиеся у Монтеня самым
последним и самым зрелым плодом его опыта. Поэтому Декарт
путешествовал вовсе не для того, чтобы рассказать о приключениях
французского кавалера. Тот не знает его, кто (подобно одному из
нынешних его соотечественников) видит в светском человеке и
философе двух различных людей. Светский человек является подго-
199
Куно Фишер
товительной школой философа. Таков был план его жизни, по его
собственным свидетельствам. Теперь он стоит у цели, откуда путь
должен направиться не в сторону внешнего, а исключительно в
сторону внутреннего мира. Теперь он ищет, как некогда Монтень,
«спокойного местечка».
Ожидания света были, однако, несколько преждевременны.
Когда Декарт покидал Париж, была закончена лишь выработка
собственного метода, завершено скептическое и негативное
обоснование нового учения, а не позитивное. То обстоятельство, что мир
ожидал от него такого труда и даже думал, что он его уже
окончил, побуждало Декарта серьезно приступить к делу. Он не мог
допустить, чтобы люди, суждениям которых он придавал большое
значение, ошиблись в своем мнении о нем. По крайней мере, сам
Декарт, бросая семь лет спустя (1636) ретроспективный взгляд на
прошедший период странствий (1619-1628), указывает на эти
мотивы как на последние, принудившие его совершенно уединиться
в мастерской философа. «Эти девять лет протекли, а я не сумел
разобраться окончательно в спорах ученых и приступить к закладке
основания новой философии, более достоверной, чем обычная.
Пример стольких превосходных умов, имевших такое же
намерение и, как мне казалось, не достигших цели, показал мне так
много трудностей в этом деле, что я не скоро еще отважился бы на это
предприятие, если бы не распространился слух о том, что я уже
справился с задачей. На чем основывалось это мнение, я сказать не
могу, но если оно вызвано моими высказываниями, то
единственная моя вина в том, что я более открыто, чем это обыкновенно
делают другие ученые, признавал свое незнание и приводил
основания, почему мне многое, считаемое другими достоверным,
казалось неизвестным, — а отнюдь не в том, что я хвалился своим
учением. Но будучи слишком честным для того, чтобы хотеть
казаться чем-то большим, чем я был в действительности, я счел тогда
своей обязанностью постараться всеми силами добиться того, чтобы
заслужить славу, выпавшую мне на долю. Поэтому я ровно восемь
лет тому назад пришел к решению избегать всех мест, где я мог бы
найти знакомых, и возвратиться сюда, в страну, где
продолжительная война имела последствием то, что находящиеся в ней войска
дают возможность более уверенно пользоваться плодами мира, и
200
Третий период жизни. Время творчества
где в массе великого и весьма деятельного народа, занятого своими
собственными делами более, чем чужими, я мог бы жить, не
лишаясь удобств самых населенных городов, так же уединенно, как в
• • *9Э
отдаленнейшей пустыне» .
Для того, чтобы с полной свободой отдаться своему труду,
Декарт нуждался в благоприятном климате и полном уединении:
он не имел этого во Франции и в Париже, но обрел и то, и другое
в Голландии, куда отправился в начале 1629 года, ровно десять лет
спустя после того, как покинул Бреду. С величайшей
осторожностью он избегает всяких внешних помех. Со своей семьей он
простился письменно и только ближайшим друзьям в Париже сделал
прощальные визиты. Аббат Пико берет на себя заботу о его
материальных делах, Мерсенн — о литературных, и именно через его
руки направляются все письма, которые Декарт пишет во
Францию и получает оттуда. Надоедливое любопытство не должно знать,
где он живет. Он скрывает свое местопребывание даже
фальшивыми датами, часто меняет его и предпочитает захолустье: пригороды,
деревни, отдаленные загородные виллы. Равным образом и в
Голландии имел он для своей корреспонденции в различных местах
агентов в лице друзей, пересылавших адресованные ему письма,
как, например, Бекмана в Дордрехте, Блёмаерта в Гаарлеме, Рей-
ниера в Амстердаме, Гоогланда в Лейдене. Он живет в своем
отшельничестве кочевником, «как иудеи в Аравийской пустыне». В
течение двадцати лет, проведенных в Голландии (1629-1649), он
переменил двадцать четыре раза свое местожительство и жил в
тридцати различных местах: назову Амстердам, Франекер, Девен-
тер, Утрехт, Амерсфорт, Леуварден, аббатство Эгмонд у Алькмаара,
Эгмонд ван Гуф Гардервийк у Зюдерзее, Лейден и замок Эндегест
близ Лейдена. Теперь он вполне господин и своего времени, и
своего образа жизни, он может жить даже в самых населенных
городах, бывать в обществе и поддерживать отношения с друзьями,
предаваться полезным развлечениям и вновь забираться в глушь,
как только наступает потребность сосредоточиться и работать. Здесь
он в большей безопасности, чем в Сен-Жерменском предместье. В
этом уединении рождаются и зреют творения, сделавшие его
основателем новой философии и предметом удивления целого мира.
Oeuvres I. Discours de la méthode. Part Ш, pg. 155-156.
201
Куно Фишер
По месту возникновения его сочинений важнейшими
пунктами были Франекер и Леуварден во Фрисландии, Гардервийк в
Гельдерне, Эндегест близ Лейдена и Эгмонд в северной
Голландии. Замок Эндегест еще и до последнего времени считался
священным, как место, где жил Декарт.
Во Франекере, куда он переехал из Амстердама вскоре после
своего переселения (он внес 16 апреля 1629 года свое имя «Renatus
Descartes Gallus philosophus» в альбом университета), он поселился
в уединенном замке, отделенном от города рвом, и создал здесь
первый набросок своих ^Размышлений*94, которые спустя десять
лет были закончены в Гардервийке (1639-1640). В Леувардене в
течение зимы 1635-36 года возникли его Юпытш, заключавшие
в себе «Discours de la méthode», первое изданное им самим
сочинение; в Эндегесте были начаты «Принципы»95, главное
произведение его философии (1641-1643), и закончены в Эгмонде. В этом
селении, одном из красивейших в северной Голландии, Декарт
жил с. особенным удовольствием и прожил наиболее
продолжительное время. В первый раз он провел здесь зиму 1637-38 года,
непосредственно после издания своих «Опытов», в последний —
годы 1643-1649, т. е. конечный период своего голландского
уединения, которое за это время было прервано троекратной поездкой во
Францию в 1644, 1647 и 1648 годах.
Таким образом, пребывание Декарта в Голландии можно
разделить на три периода: первый (1629-1636) предшествует изданию
его главных произведений, второй (1637-1644) совпадает с ним,
третий (1644-1649) следует за ним. В течение первого периода
Декарт, покинув Франекер, жил главным образом в Амстердаме,
Девентере, Утрехте, Леувардене, в течение второго — сперва в
Эгмонде, затем в Гардервийке, Амерсфорте, Амстердаме, Лейдене и в
замке Эндегест, в течение третьего — в Эгмонде.
Вслед за наброском «Размышлений», которые в первой
редакции были готовы в декабре 1629 года, Декарт стал разрабатывать
обширное главное творение, где он хотел объяснить мир, исходя из
своих новых принципов; он предполагал озаглавить его иМир» и
издать ранее других; сочинение было почти окончено, когда
Декарт — по причинам, приведенным нами ниже, — принял
решение никогда не издавать его. Этой работе были посвящены годы с
202
Третий период жизни. Время творчества
1630 по 1633. После того, как намерение выступить в качестве
учителя мира при первой же попытке окончилось неудачей, Декарт
долго колебался, не следует ли ему навсегда отказаться от него.
Вскоре вслед за этим имел место эпизод, которого Декарт не
предусмотрел в своем жизненном плане; но страсти часто бывают
сильней принципов: он познакомился зимой 1634-35 года в
Амстердаме с девушкой, которую полюбил и сделал своей женой без
соблюдения законной формы; она родила ему (в Девентере 19
июня 1635 года) дочь; он дал ей свое имя — Францина Декарт — и
воспитывал с нежной любовью. Однако ему не суждено было долго
наслаждаться счастьем отца; ребенок умер в Амерсфорте 7
сентября 1647 года".
Декарт широко пользуется независимостью и досугом,
которых искал постоянно и обрел впервые в Голландии в полной мере.
От некоторых писем первых лет веет веселым и довольным
настроением, благотворно действующим на читателя. Своему другу
Бальзаку в Париже, известному протеже Ришелье, у которого он был в
чести как историограф и писатель, Декарт описывает с большим
юмором свою голландскую идиллию. Он пишет весной 1631 года
из Амстердама, в то время, когда Бальзак возвратился из своего
родового имения обратно в Париж: «Я, право, колебался нарушать
Ваш деревенский покой и поэтому предпочел переждать со своим
письмом, пока не пройдет время Вашего одиночества. Несмотря на
то, что я собирался написать Вам в течение первых восьми дней, я
оставлял Вас в покое целые восемнадцать месяцев, со времени
отъезда до возвращения, а Вы не благодарите меня за это. Теперь
же, когда Вы опять в Париже, я должен выпросить у Вас часть
времени, пропадающего от стольких назойливых визитов, и сказать
Вам, что в продолжение двух лет, которые я живу за границей, я
ни разу не испытывал соблазна возвратиться в Париж; только
после того, как я знаю, что Вы опять там, я мог бы быть счастливее
где-нибудь в другом месте, чем здесь. И если бы меня не
задерживала работа, значительнейшая, по моему мнению, из всех, какие
мне могли бы встретиться, то желание наслаждаться Вашей бесе-
Все более подробные обстоятельства неизвестны. В метрической
книге реформатской церкви в Девентере мать называется
«Hélène fille de Jean». Ср.: /. Mulet. Histoire de Descartes, I,
pg. 339-340.
203
Куно Фишер
дой и непосредственно от Вас воспринимать те полные силы
мысли, которые вызывают наше удивление в Ваших сочинениях, —
эта надежда одна могла быть достаточно сильной, чтобы изгнать
меня отсюда. Не спрашивайте меня, пожалуйста, какого рода эта
работа, кажущаяся мне столь важной; признание бросило бы меня
в краску, я стал настолько философом, что презираю многое из
того, что ценится в мире, и высоко ставлю то, на что не обращают
внимания. Впрочем, я знаю, что Вы думаете иначе, чем толпа. Вы
судите обо мне лучше, чем я заслуживаю, и я хотел бы в свое
время откровенно поговорить с Вами о моих работах. Сегодня же
скажу лишь следующее: я не расположен писать книг; я не
презираю известности, если человек, подобно Вам, в состоянии
приобрести действительно великую и прочную славу; напротив того,
посредственной и непрочной славе, на какую я разве только и мог
бы надеяться, я предпочитаю мир и покой души, каковыми я
обладаю. Я сплю здесь каждую ночь по десяти часов, не тревожимый
никакой заботой. Я вижу во сне все прекрасные вещи, леса, сады
и сказочные волшебные дворцы и, пробуждаясь, еще более
наслаждаюсь окружающим меня чувственным миром. Недостает только
Вашей близости!»
Когда же Бальзак написал другу, что и он теперь склонен
поселиться отшельником в Голландии, Декарт ответил: «Я протер
себе глаза и все думал, что вижу сон, когда прочел, что Вы хотите
сюда приехать. Нет, конечно, ничего удивительного, когда такой
высоко одаренный дух, как Ваш, не может более выносить оков
двора; и если, как Вы пишете, Господь внушил Вам оставить
светскую жизнь, то я, разумеется, согрешил бы против Святого Духа,
если бы стал отклонять Вас от такого решения. Напротив, я
приглашаю Вас избрать Амстердам своим убежищем и отдать ему
предпочтение не только перед всеми капуцинскими и
картезианскими96 монастырями, где столько уважаемых людей нашло
прибежище, но даже перед красивыми резиденциями всей Франции и
Италии, и даже перед знаменитым местом Вашего прошлогоднего
отшельничества. Как бы совершенно ни был обставлен
деревенский дом, все же в нем будет не хватать бесчисленного множества
удобств, которые можно иметь только в городе, и даже само
уединение, которое человек думает найти в деревне, не может быть
204
Третий период жизни. Время творчества
полным. Ну, положим, Вы найдете ручей, превращающий в
мечтателей величайших болтунов, или уединенную долину, радующую
и восхищающую взор, но там вместе с тем явится и множество
маленьких соседей, делающих визиты, более нежелательные, чем те,
которые приходится принимать в Париже. Напротив, здесь, в этом
большом городе, я единственный человек, не занимающийся
торговлей, все другие так заняты своими собственными интересами,
что я здесь мог бы провести всю свою жизнь, не будучи кем-либо
замеченным. Я гуляю ежедневно в самой сутолоке большой толпы
народа так свободно и спокойно, как Вы в своих аллеях; я
рассматриваю людей, движущихся вокруг меня, как деревья в Ваших
лесах и зверей в Ваших лугах, даже шум от их сутолоки так же мало
прерывает мои мечты, как журчание ручья. С тем же
удовольствием, с каким Вы смотрите на крестьян, пашущих свои поля, я
гляжу здесь, как работа всех этих людей направлена к тому, чтобы
красивее и приятнее устроить место, в котором я живу. Как Ваш
взор радует вид множества созревающих плодов в Ваших садах, так
восхищает здесь меня вид прибывающих кораблей, приносящих
нам в изобилии произведения обеих Индий и редкости Европы.
Нигде в мире нельзя приобрести все удобства жизни так легко, как
здесь. Нет страны, где гражданская свобода была бы полней,
безопасность обеспеченней, преступления реже, старая наследственная
простота нравов более велика. Я не понимаю, как вы
предпочитаете Италию, где жара днем невыносима, свежесть вечера нездорова,
темнота ночи, скрывающая разбой и убийство, так опасна; Вы
боитесь зимы севера, но какая тень, какие опахала и источники в
состоянии так же хорошо оградить вас от жары в Риме, как здесь
от холода печка и хороший огонь? Приезжайте же в Голландию, я
ожидаю Вас с маленьким собранием моих мечтаний, которые, быть
может, Вам понравятся»".
После обнародования Декартом первого произведения
распространился слух, что Ришелье хочет пригласить философа в Париж.
«Я не думаю, — пишет Декарт Мерсенну, — чтобы мысли
кардинала могли спуститься до такого человека, как я. Впрочем, говоря
между нами, ничего нет столь мало соответствующего моим пла-
Первое письмо Декарта, по мнению Кузена, от 27 марта 1631 г.,
второе от 15 мая; ответ Бальзака относится к этому промежутку
и имеет датой 25 апреля 1631 г. Oeuvres VI, pg. 197-203.
205
Куно Фишер
нам, как воздух Парижа, вследствие бесчисленных развлечений,
которые там неизбежны; и пока я могу жить по-своему, я во
всякой стране буду жить в деревне, где посещения соседей так же
мало тяготят, как здесь, в уголке северных Нидерландов. Это
единственное основание, почему я предпочел эту страну своей родине,
и теперь я так привык к ней, что не чувствую никакой охоты к
перемене моего местожительства»*.
Прибавим к этим письменным свидетельствам еще одно,
относящееся к началу «Размышлений», к одному из первых вариантов,
написанных Декартом в уединенном замке города Франекера:
«Настоящее мне благоприятствует; мой дух свободен от всех забот, мой
досуг не смущает ничто; я живу одиноко и отдался с полной
серьезностью и полной духовной свободой своей задаче, требующей
прежде всего самого полного и коренного ниспровержения моих до
сего дня удерживаемых убеждений».
П. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В НИДЕРЛАНДАХ
1. Образование
Между тем Голландия едва ли стала бы для него «любимым
скитом», как называл ее Декарт, если бы ему не было доступно
здесь вместе с тем живейшее духовное общение. Нидерланды были
тогда одним из первых центров европейской образованности всех
видов; искусство и наука, гуманитарные и точные науки
одинаково процветали и ценились. Протестантизм вызвал в церкви и
теологии новую жизнь и новую борьбу; в Лейдене уже разгорался
упомянутый спор арминиан и гомаристов; в Лувене возникает
янсенизм, встречающийся и отчасти сближающийся во Франции с
учением Декарта.
Нидерландские университеты идут во главе духовной жизни,
основываются новые, из которых заслуживает особенного
упоминания университет в Утрехте (основанный в 1636 году), где новая
философия находит своих первых учеников и своих наиболее
горячих противников. Наука, ученость, универсальное образование
Письмо написано 27 мая 1638 г., очевидно, в Эгмонде. Oeuvres
УТЛ, pg. 155.
206
Третий период жизни. Время творчества
являются злобой дня и распространяются в обществе, подобно
моде, даже среди женского пола. Огромный интерес к образованию
у наиболее восприимчивых и одаренных женщин развивается в
научную, ученую и художественную культуру, причем женщины
усваивают даже ее мужские формы и, как это ни удивительно, не
производят впечатления «синих чулков».
2. А. М. ФОН ШЮРМАН
Замечательным примером этого рода была в то время Анна
Мария фон Шюрман (1617-1678), «звезда Утрехта», «десятая
муза», «голландская Минерва», как ее называли почитатели,
истинное чудо учености и многостороннего образования. Уже в детстве
она изучила древние языки, читала Сенеку, Вергилия и Гомера;
затем она изучила новые языки: итальянский, испанский,
французский и английский; по-латыни она пишет с уверенностью
филолога, по-французски — с элегантностью Бальзака; для того, чтобы
прочитать Библию в подлиннике, она изучает семитские языки и
наречия и начинает не только понимать по-еврейски, но уже
пишет на этом языке; она сочиняла на латинском, греческом,
еврейском и французском языках письма, статьи и стихи, изданные в
1648 году Шпангеймом, а семью годами ранее сама издала
латинское сочинение в защиту научного и общего образования
женщины; она была знакома с поэзией, красноречием, диалектикой,
математикой и философией до проблем метафизики включительно,
вместе с тем изощрилась в образных искусствах, проявляла
несомненный и признанный талант в живописи, была искусна в
резьбе, гравировании и даже в пластике. Все это образование она ни
во что не ставила по сравнению с изучением Библии, отцов
церкви и схоластики; она знала Аристотеля, Августина и Фому, но
ничего не хотела знать о новой философии. Самые глубокие
интересы ее— интересы религиозного характера, которых не могла
вполне удовлетворить ортодоксальная церковь Нидерландов. Она
хочет церкви Христа, живущей, подобно древней общине, в
составе избранных, в совершенном отречении от мира и братстве, не
знающем никакой иной любви, кроме «amor crucifixus»97. Ее
учителем и руководителем в Утрехте был Воэций, жесточайший про-
207
Куно Фишер
тивник Декарта; под конец она делается последовательницей
французского проповедника Лабади, обратившегося от иезуитов к
кальвинистам и начавшего проповедовать общество избранных; это был
романтический предшественник и до некоторой степени
провозвестник немецкого пиетизма, основанного Шпенером98. Этого
человека зовет она, уже в пожилом возрасте, в Нидерланды (1667) и
эмигрирует с ним и его сторонниками за границу*.
За много лет до этого времени, лет, пожалуй, более чем за
тридцать, Декарт отыскал в Утрехте знаменитую Шюрман и застал
ее за изучением Моисеевой истории творения. Между книгой
Бытия и ясным и отчетливым воззрением на возникновение мира,
которого требовал Декарт и которое хотел дать в своем «Мире»,
лежала глубокая пропасть. Философ мимоходом заметил, что для
объяснения вещей от Моисея ничему научиться нельзя, и с этих пор
стал в глазах ревностной ученицы Воэция «вульгарным
человеком», которого следует остерегаться. Об этом свидетельствует одно
место из ее сочинений, относящееся к этой беседе, где она
благодарит Бога за то, что этот «вульгарный человек» не нашел доступа к
ней. Она видела в Декарте философа без Бога, он в ней —
превосходный талант к образному искусству, который Воэций загубил
своей теологией. Так он выражается в одном из своих писем**.
3. Пфальцграфиня Елизавета***
По-видимому, эта «голландская Минерва» пыталась
состязаться с французским философом во влиянии на одну из
интереснейших и замечательнейших женщин столетия, которую трагическая
судьба заставила искать убежища в Нидерландах. В Гааге
проживала изгнанная семья курфюрста Фридриха V Пфальцского, лишив-
Gottfried Arnolds unparteische Kirchen- und Ketzerhistorie. Bd. П
(Schaffhausen, 1741). Ep. 21. S. 307-319. Bes. § 30-34. Dr. P. Tscha-
ckert. А. M. von Schürmann, der Stern von Utrecht, die Jüngerin La-
badies (Gotha, 1876).
Foucher de Careu. Descartes et la princesse palatine. Paris, 1862,
pg. 61-63.
Ср.: Historisches Taschenbuch, herausg. von Friedrich von Raumer.
Elisabeth PfalzgrAfin bei Rhein, Aebtisein von Herford; Von
G. Fd. Guhrauer. In zwei Abtheilungen. Jahrgang 1850. Abth. I,
S. 1-50. Abth. П, S. 417-554; Alfred Dave. Die Kinder des Winter-
kiuiigs. Beil. z. Allg. Zeit. 1891. Nr. 98-100.
208
Третий период жизни. Время творчества
шегося в битве при Белой горе близ Праги (8 ноября 1620 года)
богемской королевской короны и потерявшего свои немецкие
наследственные владения. Со смертью Густава Адольфа исчезла его
последняя надежда; он пережил великого шведского короля только
несколькими днями (29 ноября 1632 года), оставив после себя из
тринадцати детей, которых родила ему супруга Елизавета, дочь
английского короля, пятерых сыновей и трех дочерей; старшей из них
была пфальцграфиня Елизавета (1618-1680).
Едва ли есть какая-нибудь другая княжеская семья, которая
пережила бы такую трагическую и полную приключений судьбу, и
затем вскоре вновь испытала столько счастливых перипетий самого
необычного рода и была бы интересней в генеалогическом
отношении. Фридрих V, потерявший две короны, заканчивает свою жизнь
в нищете и несчастье; его вдова, дочь Якова I, в качестве
экс-королевы богемской в изгнании в Гааге ведет образ жизни придворной
дамы; старший сын Фридрих Генрих, быть может, самый
даровитый, тонет пятнадцати лет на глазах полного отчаяния отца в Зю-
дерзее (17 июля 1629 года); Рупрехт (Руперт), третий из сыновей,
красивый, мужественный, испытывает судьбу, полную
приключений: в английской гражданской войне, сражаясь в рядах
сторонников короля, он приобретает и вновь теряет славу победоносного
кавалерийского генерала, затем после политического переворота
ведет жизнь корсара, бороздит вместе со своим братом Морицем
вест-индские вода, где последний, застигнутый смерчем, погибает.
Эдуард, следующий за ним брат, переселяется тайно во Францию
и, женившись на маркграфине Анне Гонзага, переходит в
католическую веру (1645). Этому примеру обращения следует тринадцать
лет спустя (1658) Луиза Голландская, родившаяся в Голландии
вторая по старшинству дочь (1622-1709), отличная художница-
портретистка из школы знаменитого Герхарда Гонтгорста; в
награду за свое обращение она получает во Франции аббатство
Мобюиссон. Впоследствии мы еще раз вернемся к аббатиссе Мо-
бюиссона*. Она была любимицей экс-королевы, ее матери, точно
так же как и принц Рупрехт был любимцем отца. Младший сын
Филипп убивает в Гааге прямо на улице и средь бела дня француз-
Ср. мою Geschichte der neuern Philosophie. Bd. II (Leibniz). Buch I,
Cap. X, XIV.
209
Куно Фишер
ского дворянина, маркиза д'Эпине (21 июня 1646 года), коварно
напавшего на него накануне ночью вместе с другими
сотоварищами; мать проклинает его, и его изгоняют навсегда. Была молва, что
этот француз, опасный для женщин и пользовавшийся дурной
славой, был ей более близок, чем подобало достоинству королевы,
матери и матроны.
Упоминая об этих превратностях судабы, испытанных и
пережитых Елизаветой, мы имеем в виду, что ее философский
руководитель и друг, конечно, достаточно хорошо знал обо всем этом, ибо
он стоял настолько близко к ней, чтобы иметь возможность
письменно объясниться на этот счет.
Из всех детей несчастного курфюрста наиболее
замечательными по своим личным качествам и судьбе являются, без сомнения,
пфальцграфиня Елизавета, ее старший брат Карл Людвиг (1617—
1685) и младшая сестра София (1630-1714). По Вестфальскому
миру Карл Людвиг был вновь восстановлен в своих
наследственных правах, правда, в значительной степени урезанных и
ограниченных; благодаря административным способностям, в числе
которых большую роль играла бережливость, являвшаяся по
отношению к его семейству порой даже чрезмерной скупостью, ему
удалось возродить Пфальц после опустошений, которые принесла
Тридцатилетняя война. Его дочь Елизавета Шарлотта («Лиза-
Лотта»), сумевшая сохранить родные ей пфальцские симпатии и
привычки в то время, когда она была герцогиней Орлеанской и
свояченицей Людовика XIV, после смерти ее брата, курфюрста
Карла (1685), с которой прекращается линия Пфальц—Зиммерн,
становится без всякой вины со своей стороны причиной
разбойничьей орлеанской войны, разорившей ее отечество и
разрушившей ее родной город («Heidelberga deleta»); через своего сына
Филиппа, регента, она становится родоначальницей нынешнего Бур-
боно-Орлеанского дома и через своего племянника Франца I,
супруга императрицы Марии Терезии, — родоначальницей дома Габс-
бург-Лотарингского. Ее идеалом была пфальцграфиня София, ее
тетка, младшая дочь «зимнего короля», в лице которой взошла
новая блестящая звезда пфальцского дома: она сделалась первой
курфюрстиной Ганновера (1673), «великой курфюрстиной»; ее сын
Георг, как ее наследник, стал впоследствии первым из Ганновер-
210
Третий период жизни. Время творчества
ского дома королем Великобритании, ее дочь София
Шарлотта— первой королевой Пруссии (1701)".
То обстоятельство, что эти три члена Пфальцского дома
благосклонно относились к трем величайшим философам века,
возвысило их славу в потомстве: Карл Людвиг, отличавшийся широкой
терпимостью, звал Спинозу в Гейдельберг, София и ее дочь
избрали Лейбница в качестве доверенного советника, Елизавета была
прилежной ученицей и другом Декарта~.
Судьба Елизаветы была такова, что свое детство она провела
вдали от родителей, под надзором своей бабушки Луизы Юлианы
(вдовы курфюрста Фридриха IV Пфальцского), дочери великого
принца Оранского, в Кроссене в Бранденбурге. Фридрих
Вильгельм, курпринц Бранденбургский, впоследствии великий
курфюрст (1640-1688), по своей матери Елизавете Шарлотте также
внук Юлианы, приходился ей двоюродным братом и был для
Елизаветы в течение ее полной превратностей жизни не раз зашитой
и прибежищем. Еще в ранние годы Елизавета прибыла в Гаагу ко
двору своей матери (1626?), и здесь-то, в стране, где искусство и
науки находились в полном расцвете, ее блестящие духовные
дарования, бывшие предметом забот и попечений ее бабушки,
развернулись быстро и пышно. Будучи натурой созерцательной и вместе
с тем настолько же предназначенной, насколько и способной к
высшей духовной жизни, она, тем не менее, была не прочь
вступить в равный брак, который согласовался бы с политическими
интересами ее дома. По-видимому, представлялся и удобный
случай: на пятнадцатом году ее жизни (1633) Владислав IV, польский
король (1632-1648), стал просить ее руки. Не король, а сейм и
польские епископы отвергли такой смешанный брак и потребовали
от «англичанки» и еретички отречения от своей веры. В этом
пункте, однако же, англичанка и еретичка, мать и дочь были
непреклонны, и таким образом дело расстроилось, несмотря на все
желание короля.
О Елизавете Шарлотте ср.: Ludwig Häuser. Geschichte der
rheinischen Pfalz. Bd. П (1845). S. 712-732; /. Wille. Pfalzgräfin Elisabeth
Charlotte, Herzogin von Orléans. Vortrag (1895); моя Geschichte
der neuem Philosophie. Bd. П. Cap. XTV.
Моя юбилейная речь к пятисотлетнему юбилейному торжеству
Ruprecht-Karls-Hochschule. 4 августа 1886. 2-е изд., с. 70-77.
211
Куно Фишер
В «звезде Утрехта» просвещенная и полная возвышенных
стремлений Елизавета видела лучезарный образ; она
познакомилась с Шюрман и находилась с ней некоторое время в дружеской
переписке. В это время вышли в свет первые сочинения Декарта
(1637), которыми увлекалась девятнадцатилетняя принцесса: она
прочла сочинение о методе и попытке его применения к
математике и физике и пожелала познакомиться с человеком, учение и
метод которого настолько захватили ее своей глубиной и ясностью,
что все предшествовавшее казалось ей ничтожным. Она находилась
в исключительно благоприятных условиях в том отношении, что
одинаково хорошо могла понять и оценить и математика, и
метафизика. Отныне уже «звезда Утрехта» меркнет перед звездой
Декарта. Елизавета добивается страстно желанного знакомства с Де
картом (1640), ответившим всем сердцем на поклонение молодой
принцессы; Декарт становится ее учителем и до конца своей
жизни другом, быть может самым верным из всех, которых она когда-
либо имела. Чтобы быть ближе к ней, Декарт весной 1641 года
избирает своим местожительством замок Эндегест близ Лейдена:
он посвящает ей свое главное произведение «Принципы
философии» (1644); в утешение ей в дни ее душевных и физических
страданий он (весной 1645 года) пишет письма о человеческом счастье,
поясняющие книги Сенеки de vita beata99, составляющие часть
учения Декарта о нравственности и обусловливавшие появление
его последнего, им же самим изданного сочинения Ю страстях
души», которое он написал зимой 1646 года и с которым тотчас же
познакомил свою царственную подругу.
Нет лучшего памятника для принцессы Елизаветы, чем
посвящение, предпосланное Декартом своему главному сочинению.
«Величайшее преимущество, которым я обязан своим произведениям,
заключается в том, что они доставили мне честь познакомиться с
Вашим Высочеством и дали мне возможность порой беседовать с
Вами. Таким образом, на мою долю выпало счастье быть
свидетелем Ваших высоких и редких качеств, и я оказываю услугу
потомству, показывая ему этот образец Было бы глупо с моей стороны
льстить этими словами или говорить о том, чего я не думаю, —
здесь, на первой странице сочинения, в котором я пытаюсь
изложить основные истины всего человеческого познания. Мне знако-
212
Третий период жизни. Время творчества
ма Ваша высокая скромность, и я знаю, что Вам милее простое,
искреннее слово человека, говорящего только то, о чем он думает,
чем изысканные и тонкие хвалебные речи изучающих искусство
быть вежливыми. В этом посвящении я буду говорить только о
том, что мне стало известно и что я знаю, и буду писать так же,
как и во всем остальном сочинении, т. е. как философ».
Несколькими штрихами Декарт рисует характер истинного человеческого
достоинства, разницу между настоящими и ложными
добродетелями, уподобляющимися блуждающим огням. Удальство ценится
более, чем подлинное мужество, мотовство более, чем истинная
щедрость, истинная сердечная доброта кажется менее
благочестивой, чем суеверие и лицемерие; часто за добродушием скрывается
простота, а стимулом к мужеству является отчаяние. Сущность
всякой добродетели есть мудрость, отчетливо познающая добро и
творящая его твердо и неуклонно; мудрость не блестит подобно
мнимым добродетелям; она менее заметна, а потому и менее
восхваляется, она требует ума и характера; ум по силе и обширности
не у всех одинаков, твердость же воли может быть одинаково
сильной у всех. Â в ком с такой волей соединены ясный ум и
серьезное образование, тот представляет собой настоящий расцвет
добродетели. «Эти три условия Вы соединяете в себе в полной мере.
Придворные развлечения и тот способ, каким обыкновенно
воспитываются принцессы, препятствуют изучению наук. То, что Вы
побороли эти препятствия и пожали лучшие плоды наук,
доказывает, с какой серьезностью Вы работали над своим образованием; а
то, что вы достигли этой цели в такое короткое время,
свидетельствует о превосходных ваших талантах. У меня же на этот счет
есть еще и особый критерий, имеющий отношение ко мне лично:
я еще не находил никого, кто так хорошо понимал бы мои
сочинения, как Вы; даже среди лучших и ученейших голов есть многие,
считающие их темными; мне приходится почти постоянно
наблюдать, как одни легко схватывают математические истины,
метафизические же остаются для них недоступными, между тем как о
других можно сказать обратное. Насколько простирается мой опыт,
единственный ум, которому доступно и то и другое, это Ваш. Вот
почему я ценю его так высоко. Но что еще увеличивает мое
удивление, так это то, что личностью с таким широким научным обра-
213
Куно Фишер
зованием является не старый муж, посвятивший многое годы
своему образованию, а еще молодая принцесса, которая по своей
прелести походит скорее на граций, как их описывают поэты, чем на
муз или на мудрую Минерву. Я вижу в Вас все те силы, которые
требуются истинной и высшей мудростью не только от ума, но
также от воли и характера: великодушие и мягкость в соединении
с высоким образом мыслей, которого не могла изменить
несправедливая судьба, несмотря на продолжительные и постоянно
возобновляемые преследования. Эту-то высокую мудрость и чту я в Вас
более всего: ей я посвящаю не только этот труд, трактующий о
философии, об изучении мудрости, но и мою личность и мое
служение».
В том же году, в котором Елизавета получила это
посвящение, Шюрман написала ей письмо, в котором ясно выразилась ее
недоброжелательность по отношению к Декарту. Она признается в
своем преклонении перед учителями церкви, не желающими быть
новаторами, но идущими скромно по пути, освещенному
Августином и Аристотелем, этими двумя величайшими светилами науки о
Божественных и человеческих вещах, которых никто не мог
затмить, несмотря на то, что их яркий свет старались заслонить
мрачные тучи и хаос заблуждений*.
Личные свидания между Декартом и принцессой были
наиболее часты во время его пребывания в Эндегесте; за год перед тем
он жил в Лейдене (с апреля 1640 по апрель 1641), затем провел
два года в замке, отстоящем от него только на полмили (апрель
1641-конец марта 1643), а отсюда поехал через Амстердам, где
пробыл несколько недель, в Эгмонд, находящийся в северной
Голландии у Алкмара, чтобы заняться там в полном покое изданием
своих «Принципов». Переписка между принцессой и Декартом
начинается немедленно после того, как они расстались, и
продолжается с начала пребывания Декарта в Эгмонде (май 1643 года) до
его прибытия в Стокгольм (октябрь 1649 года). Она ждет от него
решения разного рода вопросов по философии, геометрии и
физике. Первый и самый важный вопрос, который она ему предлагает,
касается соединения души и тела, главной проблемы его учения; в
целом ряде писем он излагает обширную тему о ценности и значе-
Foucher de Careü. Descartes et la princesse palatine, pg. 11—12.
214
Третий период жизни. Время творчества
нии человеческой жизни (май и июнь 1645 года). Елизавета
посылает ему книгу Макиавелли *0 князе» со своими пометками и
желает иметь также его замечания (осень 1646 года). Достойно
удивления, что Декарт только на шестом десятке впервые знакомится с
этой книгой благодаря своей ученице. Он постоянно сопровождает
ее на ее жизненном пути, окружает ее советами и выражениями
сердечного участия. Для Елизаветы наступили тяжелые времена:
болезни и неудачи всякого рода, отпадение брата и сестры от веры
отцов, раздоры в доме матери, падение Стюартов в Англии. После
обращения ее брата Эдуарда (164S) и после казни ее дяди Карла I
(январь 1649 года) Декарт писал ей утешительные и ободряющие
письма. Он думал о Елизавете и о судьбе королевского дома, когда
вступил в переписку с королевой Швеции и принял приглашение
в Стокгольм, полный надежды, что ему удастся сблизить обеих
женщин и использовать могущественное влияние Швеции к
выгоде Елизаветы и ее дома; он заранее радовался возможности жить в
близком будущем с ней вместе при дворе в Гейдельберге.
План философа, вполне гармонировавший с желаниями и
надеждами богемской королевы и ее дочери, разбился, однако,
частью о франко-шведскую политику, находившую желательным
поддержание баварских притязаний против королевского дома,
частью же о ревность королевы Христины, которая не желала
делиться славой ученой и умной женщины с пфальцграфиней и (по
достойным веры свидетельствам) в своем мелочном тщеславии,
усиливавшемся с годами, даже не хотела о ней ни знать, ни
слышать.
Вскоре после ужасного случая в Гааге, стоившего
французскому авантюристу жизни, а ее брату — пребывания в Гааге и в доме
матери, Елизавета (заподозренная без основания в соучастии)
оставила двор королевы и провела следующие годы в Кроссене около
Берлина. После реабилитации ее брата пфальцграфиня
возвратилась в родной город Гейдельберг (1650 или 1651) и жила здесь при
дворе курфюрста до тех пор, пока семейные неурядицы между
Карлом Людвигом и его супругой Шарлоттой Гессенской не внесли
разлада и в отношения брата и сестры. Елизавета, стоявшая на
стороне невестки, вынуждена была навсегда покинуть Гейдельберг
и уехала в Кассель (1662).
215
Куно Фишер
Елизавета первая посеяла семена картезианской философии
как в Берлине, так и в Гейдельберге, и если Карл Людвиг много
лет спустя хотел пригласить философа Спинозу в Гейдельберг
(1673), то только потому, что знал, что Спинозе принадлежит
лучшее изложение учения о принципах Декарта*, По пути в
Гейдельберг Елизавета не упустила случая осмотреть учрежденную
герцогом Августом в Вольфенбюттеле библиотеку (1644) и своими
библиографическими сведениями вызвала удивление тамошних
ученых.
Благодаря влиянию великого курфюрста, ее двоюродного
брата, имперскокняжеское аббатство в Герфорде в Вестфалии,
находившееся под покровительством последнего, избрало Елизавету
коадъюторшей аббатиссы (1 мая 1661), а после смерти последней
Елизавета была назначена имперскокняжеской аббатиссой (30
апреля 1667 года). С 1565 года аббатиссы могли быть избираемы
только из лютеранок, а в течение XVII столетия и реформатское
исповедание перестало быть этому препоной. Принцесса Елизавета
была не первой реформатской аббатиссой старого Герфордского
аббатства, основанного Людовиком Благочестивым в 939 году.
Байе, биограф Декарта, пустил в ход выдумку, сделав из нее
приятную fable convenue для своих соотечественников, — что
благодаря Елизавете аббатство Герфорд из монастыря превратилось в
философскую академию и убежище ученых людей всякого рода;
эту басню в новейшее время повторил Жаннель".
Дело обстояло иначе. Философские интересы Елизаветы,
конечно, не исчезли, да это и невозможно, если интерес однажды
достиг такой высоты, как у нее; но они были отодвинуты на
задний план религиозными интересами, постепенно овладевшими
ее душою после стольких тяжелых ударов судьбы и стольких
потрясений. Она осталась такой же, какой была всегда: богатым,
постоянно ищущим и глубоким духом, который жаждал истины, а здесь,
в тиши монастыря, ощущал потребность в религиозном пробужде-
Ср. мою Geschichte der neuem Philosophie. Bd. I. Zweiter Theil
(3 Aufl.). Buch I, Cap. V, S. 164-166.
CharUs-Julien JeanneL Descartes et la princesse palatine. Paris, 1869,
pg. 22: «Сделавшись аббатиссой богатого протестантского
аббатства Герфорда, она превратила его не в суровый монастырь, а в
свободную философскую академию и в убежище для ученых
людей всех наций, всякого вероисповедания и всякой секты».
216
Третий период жизни. Время творчества
нии и просветлении, потребность, не удовлетворенную ни
господствующей теологией, ни господствующей церковью.
Когда старый друг Елизаветы, А. М. Шюрман, спустя 15 лет
снова сблизившаяся с ней, вымаливала у нее покровительства и
защиты для Лабади и новой христовой общины, Елизавета охотно
дала это убежище. Лабади и его присные явились в Герфорд в
ноябре 1670 года. Но тут начались жаркие споры между городом
Герфордом и городским духовенством с одной стороны и
аббатиссой и курфюрстом Бранденбургским с другой о том, следует ли
терпеть лабадистов. Так как это дело тянулось долго и принимало
по отношению к лабадистам угрожающий характер, то последние
удалились добровольно (июнь 1672 года).
Впрочем, Елизавета в этом весьма томительном споре
доказала, что она не просто скромная аббатисса, но княжна и
прирожденная властительница. Она стояла твердо на своем и не оробела
даже перед угрожающими императорскими указами со стороны
имперского суда в Шпейере в то время, когда курфюрст сам стал
относиться подозрительно к коммунистическим учреждениям
новой общины.
Среди общин, вызванных к жизни всеобщим религиозным
пробуждением этого века, создавшего целый ряд многообразных
форм, ни одна не возбуждала в Елизавете большего интереса, чем
квакеры; из квакеров же самое сильное впечатление производил на
нее Уильям Пенн, впоследствии основатель и законодатель
Пенсильвании. Пени дважды был в аббатстве Герфорд. В своем
сочинении «No cross, no crown»100, которое он написал еще в Европе,
прежде чем переселился в Америку для выполнения своей великой
миссии (1682), он посвятил один отдел памяти принцессы
Елизаветы, думая о незабвенных для него последних ее словах, когда она
прощалась с ним в Герфорде: «Помните обо мне, которая живет
так далеко от Вас и более не увидит Вас. Я благодарю Вас за это
прекрасное время и уверена, что, несмотря на многообразные
соблазны, которые создает мне мое положение, моя душа все-таки
будет ощущать сильнейшее стремление только к истинно доброму».
Принцесса, как это явствует из ее писем к Пенну, прекрасно
чувствовала, что в ее природе есть нечто такое, что остается чуждым
как лабадизму, так и квакерству.
217
Куно Фишер
По дороге в Оснабрюк Лейбниц, бьшший уже на службе у
герцога Ганноверского, познакомился лично с аббатиссой в Герфор-
де (декабрь 1679 года), а через нее и с весьма известной книгой
Мальбранша «Conversations chrétiennes»101. «Я получил Ваши
христианские беседы, — пишет он автору, — благодаря любезности
принцессы Елизаветы, которая столь же высока по своему уму, как
и по рождению»*.
Елизавета умерла в своем аббатстве 8 февраля 1680 года,
через тридцать лет после Декарта.
Ср. мою Geschichte der neuem Philosophie. Bd. I, Zweiter Theil
(3 Aufl.); Bd. П (3 Aufl.).
ГЛАВА ПЯТАЯ
В. СОЗДАНИЕ И ВЫПУСК В СВЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
L СОЧИНЕНИЕ ПО КОСМОЛОГИИ
1. ЕГО ПЛАН
Проследив в главных чертах жизнь Декарта в период его
пребывания в Голландии, перейдем теперь к более подробному
рассмотрению его работ и к тем сочинениям, которым было
посвящено это пребывание в Нидерландах. В предыдущей главе мы уже
имели случай коснуться их в связи с биографией Декарта, а в
следующей книге изложим учение Декарта систематически;
поэтому здесь мы должны заняться лишь историей их разработки и
выпуска в свет, о содержании же их будем говорить лишь
постольку, поскольку представляется необходимым для этой истории
развития.
«Размышления» в их первоначальном виде были закончены
18 декабря 1629 года во Франекере, и этим было положено
основание новому объяснению вещей, исходящему из простейших и
самых достоверных принципов, открытых методическим
мышлением. Первым открытием Декарта был метод; на пути к методу он
нашел и принципы, вызвавшие к жизни и обосновавшие новое
познание мира. Если бы он хотел разрабатывать и выпускать свои
сочинения, следуя ходу своих идей, то первым должно было быть
учение о методе, вторым — учение о принципах, или метафизика,
третьим — космология, учение о природе и человеке. По жалким
отрывкам, оставшимся от прежних сочинений Декарта из периода
времени от 1610-1629 года, а также по сообщениям Байе можно с
219
Куно Фишер
некоторой вероятностью предположить, что во фрагменте «Studium
bonae mentis»102 и в упомянутых уже «Правилах для руководства
ума» заключались наброски, относящиеся к учению о методе.
Декарт, однако, думал, что он поступит лучше и в смысле
назидательности правильнее, если изберет противоположный путь
в разработке своих сочинений: оставит пока метод и принципы в
покое и подвергнет их публичному испытанию непосредственным
применением к делу, т. е. объяснением самих вещей. Такой путь
казался ему лучшим введением в его новую философию; мир
должен был судить о его учении согласно слову: «По плодам их
познаете их!» Для того, чтобы уразуметь план Декарта, нам
необходимо бросить взгляд на его главные идеи, которые я постараюсь не
столько обосновать, сколько изложить.
Все его мысли с давних пор были направлены на решение
вопроса, по какому безошибочному критерию можно отличить
истину от заблуждения, правильное представление от ложного,
действительность от воображения. Что он обладал этим искусством
различать, он доказал еще в последние дни своего пребывания в
Париже, в знаменитом споре с Шанду. Он нашел, что в наших
представлениях нет такого критерия, что так называемые
действительные явления могут с тем же успехом сойти и за простые
сновидения и ничем от них не отличаются; остается только одна
достоверность, а именно не то, что наши представления означают
действительные веши или что предметы, которые нам являются,
существуют в действительности, а только то, что мы обладаем
такими представлениями, что нам являются такие предметы.
Достоверно лишь то, что существует наше представление, что
существует наше мышление, и так как каждый может быть уверен только в
своем мышлении, то поэтому единственное неопровержимое
положение должно быть выражено так: я есмь мыслящий. Я мыслю,
следовательно, я существую. Это положение вполне ясно и
понятно, поэтому что может быть познано в такой же мере ясно и
отчетливо, то так же достоверно. Здесь-то и открывается искомый
критерий: ясное и отчетливое познание решает вопрос о бытии и
небытии, ясность и отчетливость представления служит
доказательством его реальности; из представления о совершенном существе
явствует ясно и отчетливо его существование, из природы этого
220
Создание и выпуск в свет произведений
существа следует его истинность, из последней — бытие телесного
мира, потому что если бы последний не существовал, то
представление о его истинности было бы обманом, который опроверг бы
истинность, совершенство и бытие Бога. Но если телесный мир на
самом деле существует, то он должен быть познаваем ясным и
отчетливым образом, т. е. он должен быть закономерно устроенным
миром, объектом науки, космосом, который мы можем постигнуть.
Ясный и отчетливый закон всего происходящего есть
причинность— связь причины и следствия, необходимость, благодаря
которой ничто в мире не происходит без причины и всякая вещь
исходит из другой. Если же мы будем объяснять мир, совокупность
телесных вещей, или природу, согласно этому закону
причинности, то мы ясно и отчетливо познаем его, а тем самым будет
доказана его истинность, раз и навсегда рассеяно сомнение в том, что
он не есть только призрак. Эти рассуждения открывают перед
философом две дороги: или он пойдет через методическое сомнение к
единственной достоверности собственного мыслящего бытия, здесь
приобретет критерий истины, откроет в представлении Бога его
существование, от истинности Бога придет к выводу об истинности
телесного мира, к научной познаваемости его и таким образом
обоснует задачу естествознания, — или он начнет с разрешения
этой задачи, докажет при помощи ясного и отчетливого познания
мира его бытие и таким путем достигнет цели своих
метафизических исследований. Первый путь метафизический, второй
физический; первый — дедуктивен, второй по отношению ко всей
системе и ее обоснованию — индуктивен. Вторым путем доказывается
через вещи, как бы ad oculos103, то, чего требует метафизика.
Физика образует основание для познания истинности философских
принципов; она проверяет счета философии. Если существует
физика, то существует и закономерный мир, бытие его находится вне
сомнения, и существование тел в такой же степени достоверно,
как бытие Бога и души. Если природа закономерна, то она
познаваема отчетливо, а потому не только представима, но и существует
в действительности.
Декарт выбирает этот второй путь. Он хочет дать ясный и
отчетливый образ мира, хотя бы только в обширном очерке, для
того чтобы этим заранее обеспечить победу своим глубоким основ-
221
Куно Фишер
ным идеям. Он не мог бы избрать пути более педагогического.
Поэтому тут он оставляет метафизические исследования и
начинает ряд физических работ, которые должны были войти в одно
сочинение, объясняющее весь мир целиком, начиная с небесных тел и
кончая человеком. Соответственно теме Декарт называет это
сочинение «Le monde»104. Эта космология есть первое из
предназначавшихся им для печатания сочинений. Он хочет из законов
материи вывести мир, как бы создать его перед нашими глазами и
предоставить читателю самому сравнить этот таким образом
объясняемый, построенный в виде гипотезы мир с действительным миром,
чтобы прийти к заключению о тождестве первого и второго.
Сначала следует объяснить возникновение света из
хаотической материи, затем образование неба и небесных тел,
самосветящихся звезд, неподвижных звезд и Солнца, темных небесных тел,
планет, комет и Земли, затем историю Земли, образование ее
атмосферы, поверхности и их продуктов: возникновение элементов,
смену приливов и отливов, течения воды и воздуха (ветры),
появление морей и гор, источников и рек, металлов и растений,
животных и человеческих тел, вплоть до соединения души и тела,
которое образует целостного человека и исходную точку духовной и
нравственной жизни. Здесь открываются вопросы о различии по
существу между духом и телом, о соединении обоих в человеке, об
освобождении духовной жизни от уз физической: первый
вопрос— метафизический, второй— психологический и третий —
морально-философский; учение о принципах составляет основание
космологии, учение о душе — его границу, учение о
нравственности — самую высшую и последнюю часть практической
философии, которая в своей первой части учит о движении физического
тела при помощи человека, а во второй — об искусстве обращения
с человеческим телом, ухода за ним и врачевания его.
Практическое учение о движении составляет механику, практическая
антропология — медицину, практическое учение о духе — мораль:
таковы плодоносные ветви на дереве познания, корни которого
составляет метафизика, а ствол — естествознание. Этот ствол Декарт и
хотел изобразить в своем «Мире». «Я хотел изложить в нем все,
что, казалось мне, я знал о природе материальных вещей до того,
как принялся за это сочинение. Но подобно тому как художники
222
Создание и выпуск в свет произведений
не могут изобразить на плоскости различных сторон
действительного тела и потому вынуждены ограничиваться главными сторонами,
которые они только и освещают; оставляя остальные, напротив, в
тени и в перспективном изображении, так и я опасался, что в
моем сочинении мне не удастся изложить всех моих мыслей.
Поэтому я избрал для обстоятельного изложения мою теорию о свете
и хотел вместе с главным предметом коснуться Солнца и
неподвижных звезд, потому что свет исходит почти только от этих тел,
затем среда небесных сфер, потому что они пропускают свет,
планет, комет и Земли, потому что они отражают его, и в особенности
всех земных тел, потому что они являются либо окрашенными,
либо прозрачными, либо светящимися, наконец, человека, потому
что он созерцает все эти объекты. Но для того, чтобы несколько
отодвинуть все эти предметы в тень и иметь возможность выразить
мои воззрения свободнее, не ставя перед собой необходимости
либо принимать обычные мнения ученых, либо опровергать их, я
решил оставить весь этот мир в жертву кафедральным войнам и
говорить лишь о том, что произошло бы в новом мире, если бы Бог
где-нибудь в воображаемых пространствах создал для этого
материю, привел ее в хаотическое движение и подчинил ее твердо
установленным и неизменным законам. Все должно было
произойти самым естественным и самым понятным образом. Я показал, как
наибольшая часть материи должна организоваться по этим законам
и принять форму, сходную с нашим небом. Здесь я
распространился подробно о происхождении, распространении и отражении
света и дал понять читателю, что в небесах и звездах этого мира
нельзя найти ничего такого, что не являлось бы или не могло бы
быть сходным с описанным мною миром. После этого я начал
говорить о Земле и показал, как можно объяснить без допущения
тяжести стремление всех ее частей к центру, далее, как на ее
поверхности, покрытой водой и окруженной воздухом, под влиянием
светил, главным образом Луны, возникает прилив и отлив,
подобный этому явлению в наших морях, как возникает движение с
востока на запад воды и воздуха, подобное тому, которое замечается в
наших тропиках, как образуются естественным образом горы и
моря, источники и реки, металлы в недрах земли, как растут
растения на полях, и как вообще возникают сложные тела. А так как,
223
Куно Фишер
кроме звезд, мне был известен единственный источник света в
мире — огонь, то я пытался подробно объяснить его возникнове-
ние, сохранение и действие»
Для создания учения о свете Декарт уже раньше стал
заниматься оптикой и продолжал эти занятия непрерывно; для
объяснения сложных земных организаций, в особенности животных и
человеческих, он нуждался в химических, анатомических и
медицинских сведениях, которые старался приобрести практически. В
Амстердаме, его следующем местопребывании после Франекера, в
продолжение зимы 1630 года он особенно занимался анатомией,
причем очень увлекался ею, сам покупал у мясника отдельные
части животных, которые и препарировал; ему хотелось уметь
объяснить самые малые частицы животного тела так же точно, как
образование соляных крупинок и снежинок. Во время этих
анатомических и медицинских занятий он носит в себе план «Мира»,
но почти ничего не пишет.
2. Разработка сочинения и препятствия к ней
Наконец он приступает к сочинению и извещает своего друга
Мерсенна уже в апреле 1630 года о первых успехах; он надеется
послать ему это сочинение к началу 1633 года. Работа увлекает его.
♦Я занят теперь объяснением хаоса и происхождения из него
света; это одна из высших и труднейших задач, какие только мне
доступны, так как она обнимает всю физику»**. Спустя два года
после первого известия (апрель 1632 года) он думает, что может
найти ключ к высшей человеческой науке о материальных вещах,
познание порядка, царящего в мире неподвижных звезд и
определяющего положение их. Несколько месяцев сочинение не
двигается; но он все еще надеется закончить его до указанного срока, а
затем откладывает это окончание до Пасхи 1633 года. Незадолго до
этого времени (март 1633) он переходит уже от общего описания
небесных тел и Земли к объяснению земных тел и их различных
свойств и думает над тем, следует ли ему в своем сочинении за-
Disc, V, pg. 168-172 (я передал наиболее важное место с
некоторыми сокращениями).
Oeuvres VI, pg. 181. (Неизвестно, датировано ли письмо июнем
1630 или 10 января 1б31 г.)
224
Создание и выпуск в свет произдедений
няться также возникновением животного царства. Чтобы не
увеличивать его объема, он исключает эту тему; сочинение во время
работы сильно разрослось, вышло за пределы намеченного объема
и не могло уже более служить для приятного «послеобеденного
чтения»*, как хотел вначале Декарт. Следовало включить в него
только кое-что относящееся к человеческой природе.
Так обстоит дело в начале июня 1633 года во время его
пребывания в Девентере. «В своем сочинении я буду говорить о
человеке более, чем намеревался; я хочу объяснить все главные его
функции и уже описал некоторые жизненные отправления, такие
как пищеварение, биение пульса, распределение питательных
веществ и т. д. вместе с пятью чувствами. Я исследую анатомически
головы различных животных, чтобы посмотреть, где заключается
память, воображение и проч.». Во время этой работы он получил
знаменитое сочинение Гарвея «О движении сердца (De motu сог-
dis)», появившееся уже пятью годами ранее (1628), и изучил его.
На это сочинение Мерсенн обращал несколько раз его внимание.
«Я нахожу, что мои взгляды мало расходятся с его взглядами, хотя
я прочитал книгу только после того, как написал мои объяснения
этого явления»**.
Вдруг работа Декарта останавливается, и окончание ее, по-
видимому, отдаляется на неопределенное время. «Мое сочинение
почти окончено, — пишет он 22 июля 1633 года, — остается
только еще поправить и переписать его, но я питаю такое отвращение
к работе, что если бы я Вам три года тому назад не обещал
прислать его еще до конца нынешнего, то могло бы пройти еще много
времени, прежде чем я был бы в состоянии достигнуть цели. Но я
хочу попытаться сдержать обещание»***.
Что же случилось? В этом совершенно законченном
сочинении он объяснил мир согласно закону причинности, исходя из
математико-механических принципов, и вывел движение Зелии
как необходимое следствие механического порядка небесных тел.
Учение Коперника было доказано Галилеем и именно в это время
защищалось им в новом сочинении под видом гипотезы. Его знаме-
ibid, pg. 101.
Ibid., pg. 235.
'" Ibid, pg. 237-238.
225
Куно Фишер
нитый диалог о дэух наиболее важных мировых системах появился
в 1632 году и был приговорен римской инквизицией к
уничтожению как раз за четыре недели до того, как Декарт написал
вышеприведенное письмо". Но он знал лишь о процессе, не зная ничего
об осуждении. Достаточно было даже известия о следствии, чтобы
отбить у него охоту к его работе. 20 сентября 1633 года в Люттихе
публикуется приговор суда, состоявшегося над Галилеем, и тут-то
Декарт узнает, что учение о движении Земли осуждено также и в
качестве гипотезы, так как в обвинительном приговоре стояли
слова: «quamvis hypothetice a se illam proponi simulareU106.
Прошел почти год, прежде чем он познакомился с самим сочинением
(август 1634), и то только мельком; он должен был наскоро
перелистать его, так как оно было дано ему тайно и всего на несколько
часов. И тут он видит, что ему угрожает один из тех конфликтов,
которых он принципиально старался избегать. Если он издаст свое
сочинение так, как оно есть, то вступит в борьбу с церковью и
будет причислен к опасным новаторам, казавшимся ему самому
достойными осуждения. Если же он не хочет уродовать своего
сочинения и лишить его смысла, то не остается ничего больше, как
скрыть его и отказаться от всякого намерения поведать миру свои
мысли. Остается молчать. «Я хотел, — пишет он 28 ноября 1633
года Мерсенну, — сделать то же, что и неаккуратные
плательщики, которые приходят постоянно к своим кредиторам просить еще
небольшой отсрочки, когда видят, что приближается срок платежа.
Я действительно собирался сделать Вам новогодний подарок моим
«Миром» и приблизительно две недели тому назад твердо решил
послать по крайней мере часть его, если бы не успел переписать к
тому времени всего. Но я справлялся на днях в Лейдене и
Амстердаме, нет ли там сочинения Галилея о системе мира, так как мне
казалось, я слышал, что оно появилось в Италии в прошлом году;
вдруг я узнаю, что оно действительно отпечатано, но все
экземпляры немедленно сожжены в Риме, а сам Галилей приговорен к
покаянию. Это меня настолько потрясло, что я твердо решился сжечь
все мои бумаги или по крайней мере не показывать ни одному
человеку. Я тотчас же подумал, что даже ему, итальянцу, причем,
как я слышал, пользующемуся благосклонностью папы, поставили
См. выше: Введение, гл. VI, 2.
226
Создание и выпуск в свет произведений
в вину не что иное, как его учение о движении Земли, которое
уже ранее некоторые кардиналы, насколько мне известно,
объявили неприемлемым. Но, несмотря на это, насколько простираются
мои сведения, оно распространялось непрерывно в самом Риме, и
я сознаюсь, что если оно ложно, то все основания моей
философии также ложны, так как они поддерживают взаимно друг
друга; это учение находится в такой тесной связи со всеми
частями моей философии, что я не могу выкинуть его, не испортив
совершенно всего остального. Но я ни за что не хочу издавать
сочинения, в котором любое слово могло бы не понравиться церкви,
поэтому я лучше скрою его, чем решусь выпустить в искаженном
виде. Я не имел никогда охоты к писанию книг и если бы не
обещал Вам и нескольким другим друзьям своего сочинения, чтобы,
стремясь сдержать свое слово, предаться тем ревностнее работе, то
никогда не достиг бы таких результатов. В конце концов, я все-
таки уверен, что Вы не пришлете ко мне экзекутора, чтобы
заставить платить долг и, быть может, охотно откажетесь от труда
читать плохие вещи. ...Между тем после всех моих многих и
многолетних обещаний я не имел права отказаться по такому
внезапному капризу от моих обязательств; поэтому я пошлю Вам возможно
скорее мое сочинение и прошу только отсрочки на один год, чтобы
его просмотреть и отделать. Вы же сами приводили мне слова
Горация: «Nonumque prematur in annum»107, а прошло всего три года,
как я начал свою работу, которую думаю Вам переслать. Напишите
мне, прошу Вас, что Вы знаете о деле Галилея»*.
Но уже в следующем (в пути потерянном) письме он берет
обратно это обещание. «Вы найдете мои основания вполне
вескими, — пишет он 10 января 1634 года, — и, будучи далеки от того,
чтобы порицать мою решимость держать сочинение в тайне, Вы
скорее будете первым, кто поддержит ее. Без сомнения, Вы знаете,
что Галилей не так давно наказан инквизицией и его воззрения о
движении Земли осуждены как еретические. Я же Вам объясняю,
что все то, что я изложил в моей книге, представляет одну цепь, в
которой это воззрение о движении Земли образует одно звено;
если в строе моей теории есть хоть что-нибудь ложное, то тогда все
доказательства неправильны, и хотя я их считаю очень верными и
Oeuvres VI, pg. 238-240.
227
Куно Фишер
очевидными, я все-таки не хотел бы ни за какие деньги позволить
им поколебать авторитет церкви. Я хорошо понимаю, что
заключение инквизиции еще не догма, для этого должен собраться собор,
но я не настолько влюблен в свои мысли, чтобы для их защиты
прибегать к столь необычайному средству. Мое желание
направлено к покою, я устроил свою жизнь сообразно моей максиме «Вепе
vixit, bene qui latuit»108 и намерен продолжать ее так же; я не
чувствую теперь боязни, что в моем сочинении перешел
желательную меру познания, и приятное чувство свободы у меня больше,
чем сожаление о потерянных при разработке сочинения времени и
труде».
В одном из позднейших писем Мерсенн, очень желавший
выманить у него это сочинение, угрожал в шутку, что еще,
пожалуй, Декарта убьют для того, чтобы познакомиться с его
сочинениями. «Я смеялся, — отвечает Декарт, — когда читал это место.
Мои сочинения так хорошо скрыты, что убийцы напрасно искали
бы их. Мир увидит мое сочинение не ранее, чем через сто лет
после моей смерти»*. В другое время он не отрицает
категорически возможности, что сочинение появится либо при его жизни,
либо после его смерти. Одному из любимых друзей, де Бону,
настоятельно просившему его не держать долее в тайне сочинения,
так как иначе оно легко может потеряться, Декарт пишет (июнь
1639 года): «Обыкновенно плоды оставляют на деревьях до тех пор,
пока они не созреют и не станут лучшими, хотя хорошо
понимают, что бури, град и другие ненастья могут погубить их каждую
минуту; я считаю мой «Мир» таким плодом, который надлежит
оставить на дереве зреть и который никогда не будет поздно
сорвать с дерева»**. Опасения де Бона сбылись. Сочинение
потерялось, только краткий в первоначальных границах набросанный
очерк его, который Декарт позже или составил, или издал,
нашелся в оставшихся после него рукописях и появился под заглавием:
«Мир, или Трактат о свете» (1664).
Непредвиденная катастрофа побудила философа удержаться
от первого шага на литературном поприще. Нужно близко ознако-
IbicL, pg. 242-243 (письмо лета 1637 г. после издания «Discours
de la méthode»).
Oeuvres УШ, pg. 127.
228
Создание и выпуск в свет произведений
миться по письмам с его настроениями и мотивами, чтобы
правильно судить об этом поступке. Во всяком случае, он боялся
участи Галилея; он видел в ней фактический конфликт между
учением, признаваемым им истинным, и авторитетом, уважаемым им в
силу его практических жизненных принципов: это был тот случай,
в котором, согласно его максимам, теория должна уступить
политическим и клерикальным интересам. Этот конфликт он ощущает во
всей его тяжести, не выказывая и следа того реформаторского
мужества, которое пробуждается жаждой борьбы. Но он не скрывал
этого — я разумею его боязнь борьбы — ни от себя, ни от других.
Все же поведение Декарта будет непонятно и потому
неправильно оценено, если считать этот мотив единственным. Он мог
бы избегнуть конфликта, оставив сочинение неизданным и
относясь к этой необходимости с сердечной болью. Но это было не так.
Судьба Галилея дает ему скорее желанный повод освободиться от
обязательства, которое его давит; данные им друзьям обещания
написать и издать сочинение были тоже принуждением, еще более
для него мучительным, чем противоположное, влекшее за собою
конфликт с инквизицией. Он мог сказать теперь в духе своих
максим: «Я не имею нужды сдерживать моих обещаний, имею право
держать мои мысли при себе, и перед публикой я не в долгу. Вы
видите, мир не хочет иметь моей книги!»
В таком настроении пишет он с явным облегчением и с
юмором своим друзьям. И то, что он тогда говорил им, он повторил и
всему свету в первом изданном им сочинении. Изложив в нем
мотивы, по которым он решился на литературную деятельность, он
переходит к встретившимся препятствиям и к отказу от своих
намерений и совершенно открыто объявляет: *Хотя те мотивы и
были, очень сальны, все же мое глубокое отвращение к книгопи-
сательству немедленно нашло другие достаточные основания к
моему оправданию*109. Осуждение Галилея служит ему
удобной и желанной зашитой, за которую он прячется от света вместе
со своими сочинениями.
Было бы лучше, если бы Декарт остановился на этом так
мотивированном отказе от издания своего учения о движении
Земли. То, что он до известной степени исказил его, чтобы оно не
Disc, VI, pg. 191.
9 Куно Фишер
229
Куно Фишер
возбуждало подозрений, — есть самая тяжкая его вина. Здесь его
чувство истины пришло в конфликт с его политикой, причем
пострадала истина. Он предложил одному духовному лицу в Париже,
желавшему защищать учение Галилея, свою тайную помощь — и
отказался от своего намерения, когда узнал, что даже
гипотетическое изложение этого учения не дозволено; он читает осужденное
сочинение и думает найти выход, используя различия между своей
теорией движения и учением Галилея для того, чтобы по
видимости спасти воззрение о неподвижности Земли. «Можно видеть, —
говорит он в одном из своих писем, — что я только на словах
отрицаю движение Земли, а на деле признаю систему Коперника».
Но может ли служить оправданием Декарту то, что и Галилей
подобным же образом отказался от своего учения?
К концу 1633 года сохранение в тайне своих произведений
было для Декарта решенным делом. Как же случилось, что он
впоследствии все же выступил со своим учением? На этот вопрос
новейший биограф нашел ответ более трогательный, чем
правильный; он даже не постарался сделать более понятным свое
идиллическое объяснение. Предчувствие предстоящих радостей отца при-
вело-де философа к решению писать для мира книги. «В нем
проснулись новые ощущения, и то, чего не могли вырвать у него Мер-
сенн, де Бон и его лучшие друзья, смогла сделать улыбка ребенка,
сиявшая ему в светлом будущем». После рождения дочери он
остается еще несколько месяцев в Девентере и едет затем вместе с
матерью и ребенком в Леуварден для того, чтобы писать «Discours de
la méthode»".
Теперь читателю предоставляется догадываться, какую связь с
рождением дочери могут иметь сочинения, большую и наиболее
важную часть которых Декарт издал после ее смерти!
П. ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
1. Мотивы ИЗДАНИЯ
Основания, по которым философ сначала избегал
литературной деятельности, потом решился начать ее, затем снова оставил и
вновь взялся за нее, издав целый ряд сочинений, — эти основания
/. Mulet. Histoire de Descartes avant 1637, pg. 340.
230
Создание и выпуск в свет произведений
следует искать в нем самом и в задаче всей его жизни, тем более
что заключение его первого главного сочинения подробно говорит
о них. Противники часто утверждают, что страх заставил его
держать в тайне свои сочинения, а честолюбие побудило его издать
их. Первое утверждение очень поверхностно, второе совершенно
ложно. Каковы бы ни были внешние влияния, тормозившие его
литературную деятельность или способствовавшие ей, все же
внутренним, соответствующим его характеру мотивом, на первых
порах удерживавшим его от издания своих сочинений, а затем
постепенно побудившим его к нему, было самообучение, эта путеводная
нить его жизни. Им объясняются все противоречия и колебания в
его решениях, относящихся к литературной деятельности.
Начинающий самообучение избегает всякого рода выпуска в свет своих
трудов как потери времени и помехи, между тем как, развившись,
он уже чувствует потребность в открытом изложении и обмене
идей. Декарт идет сперва по пути исключительного самообучения,
углубленный в свои мысли, которые он или вовсе не записывает,
или записывает кратко и наскоро. Потом приходит время, когда
лучшим пробным камнем зрелости и ясности развившихся идей
является их изложение и формулировка.
Кто сам себя учит, тот должен и сам себя подвергать
испытанию. Письменное изложение своих мыслей есть такое испытание,
и Декарт слишком методичен и основателен, чтобы желать
избежать его. Так возникают старательно разработанные и
систематизированные сочинения, готовые к печати труды, служащие для
него самого проверкой, для других поучением, но они имеют в
виду не пользу современников, а пользу потомства, и не из
жажды посмертной славы, а вследствие огромности этой пользы. Чем
спокойнее и увереннее он может продолжать эвристически
развивать свои идеи, тем большего он достигнет, тем больше получит от
него мир. Поэтому он решается держать в тайне свои сочинения
до тех пор, пока живет. Он боится потери времени, необходимо
сопряженной с изданием сочинений; ему придется отражать
нападки, устранять недоразумения, спорить с противниками и
обмениваться мыслями со сторонниками. Даже достигнутая слава будет
отнимать у него досуг. Благодаря оглашению приобретенного
умственного богатства его увеличение делается невозможным. «Мир
231
Куно Фишер
должен знать, что те немногие познания, которых я до сих пор
достиг, почти ничто в сравнении с тем, что еще не постигнуто
мною, но что я могу надеяться постичь. С наукой дело обстоит так
же, как с богатством. Когда человек начинает богатеть, то ему
становится легче, много легче делать большие приобретения, чем в
бедности меньшие. Делающие открытия в царстве истины подобны
также и полководцам, силы которых растут обыкновенно с
победами и от которых требуется больше искусства, чтобы удержаться
после проигранной битвы, чем для того, чтобы занять города и
провинции после выигранной: ибо это значит поистине давать
сражения, когда стремишься преодолеть все трудности и
заблуждения, препятствующие нам в познании истины, и это значит
проиграть одно из этих сражений, когда принимаешь ложные воззрения
там, где дело идет о вещах огромного значения и важности. Чтобы
затем вернуться к первоначальной духовной свободе, необходимо
более искусства, чем для больших успехов, если только человек
владеет прочными принципами. Я могу утверждать на основании
собственного опыта: если я до этого открыл несколько истин в
науках, то это только следствия того, что мне удалось одержать
победу в пяти или шести трудных пунктах; это я тоже считаю
битвами, где счастье было на моей, стороне; говорю смело: мне
необходимо выиграть еще две или три таких битвы, чтобы
оказаться у цели всех моих стремлений, и я еще не так стар, чтобы
бояться умереть до достижения этой цели. Но с временем, которое мне
еще остается, я должен обращаться бережно, тем бережнее, чем
лучше я могу его использовать; издание же моей физики отняло
бы, несомненно, много времени. Какими бы ясными и
исчерпывающими ни были доказательства моих положений, все-таки
невозможно, чтобы они согласовались со взглядами всего мира, а
потому, я вижу наперед, вызвали бы всякого рода споры и помехи».
Таковы основания, по которым философ считал всякое
издание своих сочинений не соответствующим цели; в своих
собственных глазах он уподобился бы завоевателю, который, одерживая
победу за победой, вздумал бы в то же время писать книги по
военному искусству и вести о нем споры. Философу указывали на
то, как полезно было бы и для него, и для самого учения его
распространение: одни обратили бы его внимание на некоторые недо-
232
Создание и выпуск в свет произведений
статей, другие оценили бы учение практически, по полезности
выводов, и, таким образом, его система с посторонней помощью
была бы исправлена и расширилась бы. Но это не повлияло на его
решение. Что касается недостатков его учения, то нет никого, кто
был бы в состоянии лучше понять, строже и справедливее
рассмотреть их, чем он сам; что же касается применения и оценки, то его
труд еще не настолько созрел, чтобы приносить практические
плоды. Если бы даже дело и было настолько продвинуто, то никто не
мог бы с большим успехом воспользоваться этими плодами, чем он
сам, так как изобретатель всегда и лучший знаток, и единственный
хозяин в своем деле. Декарт боится не только противников, но и
школы, которая могла бы примкнуть к нему и исказить его
творение; он хорошо знал, что делали школы каждой эпохи из их
создателей, и уже заранее остерегался «картезианцев». Он открыто
предупреждает потомство, чтобы оно не считало картезианством
ничего, кроме того, что написано им самим. Самыми вредными
являются именно те ученики, которые не только повторяют, но хотят
разъяснить учителя, дополнить его и знать более, чем он сам.
«Они подобны плющу, который поднимается не выше деревьев, его
поддерживающих, и даже часто, достигнув вершины их, спускается
вниз; мне кажется, что, подобно ему, идет вниз, т. е. спускается
ниже уровня простого невежества тот сорт учеников, который не
довольствуется взглядами учителя, а приписывает ему все, что
только возможно, — разрешение многих проблем, о которых он
ничего не говорил и, быть может, никогда не думал. Эти люди
довольствуются темными понятиями, имея которые можно очень
удобно философствовать, очень смело говорить и бесконечно
спорить; они кажутся мне слепцами, которые хотят без ущерба для
себя бороться со зрячим и для этой цели сходят в самую глубь
совсем темного подвала; они должны радоваться тому, что я не
издаю своих принципов философии, потому что они настолько
просты и очевидны, что, сделай я это, я, так сказать, открыл бы окна
и напустил бы света в тот подвал, куда они спустились для того,
чтобы драться»*110.
Но наряду с этими простыми причинами, заставляющими
философа держать свои сочинения в тайне, возникают другие до-
' Disc. VI, pg. 196-203.
233
Куно Фишер
воды, говорящие за издание их и склоняющие весы в свою
сторону. Первое основание, существовавшее уже в начале создания его
сочинения, не переставало напоминать ему о себе: ему хотелось
оправдать доверие и сдержать слово. Слава в свете, которая не
замедлит явиться вместе с распространением его сочинений, будет
врагом его покоя, но и чувство невыполненных обещаний — такой
же враг. Страстное желание известности так же препятствует
занятиям, как и боязливое избегание ее. Декарт не делал ни того, ни
другого; он допустил, чтобы молва произвела его в великие
мыслители, и не хотел прослыть за шарлатана, незаконно пользующегося
такой славой и возбуждающего надежды, которые он, как
приходится в конце концов заключить, не мог оправдать, потому что
фактически не оправдал. «Хотя я и не очень люблю славу, даже,
можно сказать, ненавижу ее, поскольку считаю ее врагом
спокойствия, которое для меня выше всего, все-таки я никогда не
старался тщательно скрывать моих действий, подобно преступлениям,
а также не пытался из особой предусмотрительности оставлять их
в неизвестности. Я считал бы все это несправедливостью по
отношению к себе самому и привел бы себя этим в тревожное и
беспокойное настроение, так же мало согласующееся с полным
душевным спокойствием, которого я ищу. Таким образом, при этом
постоянном нейтралитете между заботой стать известным и заботой
остаться в неизвестности я не мог препятствовать себе приобрести
известное имя и теперь считаю своим долгом сделать все для того,
чтобы оно было не из худших».
Но самое важное основание, решившее окончательно вопрос
об издании им своих сочинений, лежало, как было сказано, в
потребности самообразования. В этом отношении Декарт не дает
повода к какому-бы то ни было сомнению. «Я вижу ежедневно все
более и более, как, благодаря этой проволочке, страдает цель моего
самообразования, ибо я нуждаюсь в бесконечно многих опытах,
которых не могу сделать без помощи других, и хотя я не льщу себя
надеждой, что публика примет большое участие в моих
стремлениях, однако вовсе не хочу, чтобы будущее поколение в один
прекрасный день сделало бы мне справедливый упрек, что оно было
бы лучше осведомлено относительно многих пунктов, если бы я не
очень пренебрегал поучением там, где оно было необходимо для
234
Создание и выпуск в свет произведений
моих планов»*111. Именно это соображение философ открыто
называет вторым мотивом, побудившим его написать «Discours».
Таким образом, одно и то же основание, заключающееся в
самообразовании, сначала препятствует ему письменно изложить свои
мысли, потом заставляет его решиться на это, вновь уклониться от их
опубликования и вновь предпринять таковое.
Он осторожно приступает к сочинению и издает сперва не
систему, а только свои пробы, или опыты (essais), относящиеся
только к методу и его применению. Он не дает еще самой
методологии, а дает лишь предварительное ориентирование, которое
является в точном смысле не «traité»112, а просто «discours de la
méthode», цель которого —служить лишь предисловием к методологии и
быть скорее обоснованием ее практического значения, чем ее
изложением. «Я не имею намерения учить здесь моему методу, а хочу
только говорить о нем»"*.
Между тем пригодность метода необходимо было тут же
подтвердить, применив его к области математики и физики. Поэтому
вслед за главным сочинением Декарт выпускает еще три кратких
труда, которые намеренно подобраны так, что первый относится к
области математической физики, второй — физики, третий —
чистой математики: тема первого труда диоптрика, второго —
метеоры и третьего — геометрия. «Диоптрика» трактует о
преломлении света, о зрении и оптических стеклах, в «Метеорах» Декарт
желает объяснить природу соли, причины ветра и непогоды*
формы снежинок, цвета радуги и свойства отдельных красок, круги
Солнца и Луны, в особенности ложные солнца (паргелии), которые
наблюдались в Риме за каких-нибудь четыре года до того времени
и были подробно ему описаны; «Геометрия» подтверждает
открытый им самим метод анализа решением совершенно новых задач. В
«Диоптрике» и «Метеорах» Декарт хочет показать читателю
значение и пригодность своего метода лишь в смысле его допустимости,
в «Геометрии», напротив, доказать его неопровержимость. Эти
четыре опыта должны были выйти под следующим заглавием:
«Очерк универсальной науки, которая может поднять нашу приро-
Ibid., pg. 20&-210.
Oeuvres VI, pg. 138 (письмо к Мерсенну летом 1637 г.). Ср.:
pg. 305 (письмо к другу Мерсенна, апрель 1637 г.).
235
Куно Фишер
ду до высочайшей ступени совершенства; затем «Диоптрика»,
«Метеоры» и «Геометрия», в которых автор для того, чтобы испытать
эту науку, избрал самые подходящие случаи и объяснил их так,
чтобы каждый даже без ученых познаний мог понять существо
предмета»*. Хорошо, что этому заглавию, слишком обнажавшему
os magna sonaturum113, он предпочел простое обозначение
«Essais» и назвал свое главное сочинение «Рассуждением о методе
для правильного употребления разума и научного исследования
истины (Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et
chercher la vérité dans les sciences)». Он обращается к мыслящим, от
книжной учености не зависящим и не испорченным ею
читателям; потому он пишет на своем родном языке и мотивирует это в
конце своего «Discours»: «Если я пишу охотнее по-французски, на
языке моей страны, чем по-латыни, на языке моих читателей, то
меня побудила к этому надежда, что естественный и здоровый ум
лучше может оценить мои воззрения, чем ученость, верящая
только в книги. Люди со здравым и научно образованным умом —
единственные судьи, которых я желаю для себя; они, я уверен в
этом, не будут так стоять за латынь, чтобы не прослушать моих
оснований, потому что я их развивал на народном языке».
Весной 1636 года сочинение, за исключением «Геометрии»,
было готово к печати. Так как фирма Эльзевира в Амстердаме не
выказала той готовности, которой ожидал Декарт, то он выпустил
свои сочинения через книгопродавца Жана ле Мэра в Лейдене.
Необходимая для продажи привилегия была дана генеральными
штатами Нидерландов 22 декабря 1636 года, а Францией — только
4 мая 1637 года; о последнем заботился Мерсенн, который и
устроил эту затяжку. Его же вина и заслуга, что французская лицензия
представляла собой похвальное слово Декарту, тогда как философ
выражал желание как в своем сочинений, так и в документах
оставаться неизвестным. Рассылка «Опытов» могла состояться только в
июне 1637 года.
2. Метафизические сочинения
Однажды избранный путь ведет далее. Невозможно было,
чтобы Декарт остановился на этих первых опытах; он столько ска-
Ocuvrcs VI, pg. 276-277 (письмо к Мерсенну в марте 1636 г.).
236
Создание и выпуск в свет произведений
зал о своем учении, что вынужден был теперь говорить больше. В
четвертом отделе его «Discours» появляются уже основы нового
учения: он говорит о сплошной необходимости сомнения, о
единственном принципе достоверности, о правиле познания, о
сущности Бога и души — одним словом, о принципах своей философии.
Но, соответственно характеру сочинения, все эти идеи скорее
обсуждаются и излагаются, чем доказываются очевидным образом, и
тем самым менее всего ограждены от недоразумений. Этой
опасности Декарт менее всего избежал там, где она грозила в
наибольшей степени, а именно в положениях, касающихся идеи Бога. Он
сам признает это место слабейшей и темнейшей частью своего
сочинения, требующей обстоятельного и скорейшего пояснения.
Объяснить понятие Бога значит изложить основные понятия своей
метафизики. Работа эта уже была сделана; это была первая работа
его в Нидерландах, набросанный в Франекере очерк
«Размышлений»; рукопись пролежала спокойно десять лет, прежде чем Декарт
приступил к ее изданию и обработал окончательно во время зимне
го пребывания в Гардервийке (1636-1640).
Он разворачивает исследование в той последовательности, в
какой оно возникло и развивалось от проблемы к проблеме, от
разрешения к разрешению. Читатель получает полную картину
глубоко пережитых и постоянно вновь проверяемых мыслей,
которые были неизменными спутниками философа, друзьями его
одиночества и стали столь же зрелыми, как и он сам. Исследования
имеют характер живой беседы с самим собой, монологической
драмы, за которой слушатель следит с напряженным вниманием.
Речь идет о бытии или небытии истины, проблема познания
представлена как великий роковой вопрос человеческого духа и именно
так понимается Декартом. Нет истины, если сомнение не
побеждено всецело, и нет этой победы, если сомнение, защищаясь до
последней крайности всяким оружием, каким оно обладает, не
осиливается познанием. Мы не только видим основания сомнения,
но и ощущаем душевное беспокойство сомневающегося, который
домогается истины и который, вопреки уверенности в уже
достигнутой победе, описывает непрестанные битвы как сейчас им
переживаемые. Это сочетание созерцательного покоя с живейшим
выражением чувства, возбужденного и осаждаемого целым полчищем
237
Куно Фишер
сомнений в то время, как созерцающий дух уже приводит в
порядок и подчинение весь этот сонм, — дает «Размышлениям»
Декарта неодолимую притягательную силу и характер в своем роде
несравненного философскохудожественного произведения.
В первый раз он является миру без покрова, как мыслитель,
каким он был в действительности. Наконец-то он высказал
основные мысли, которые вынашивал в себе в продолжение 20 лет для
того, чтобы поведать их миру; он не утаил в них ничего, но при
издании своего сочинения соблюдал большую осторожность.
Сочинение предназначалось первоначально только для ученого мира и
потому было написано на латинском языке; но это еще не
защищало его от подозрений и ложных толкований. Он опасался, как
бы его физические принципы не встретили возражений аристоте-
лианцев, а теологические — не вызвали противоречия с церковью.
В его «Размышлениях» заключены основные понятия его
естествознания, но выводы еще скрыты. Если школьным философам не
скажут ясно, что речь идет о чисто механической физике, то они
этого не заметят, и, может быть, не удастся склонить их на свою
сторону прежде, чем они узнают, что они уничтожены. Поэтому
Декарт желает, чтобы о его физике сперва молчали: «tl ne faut pas
le dire»114, — значится в указании, даваемом им по этому поводу
своему другу Мерсенну.
В то же время Декарт настолько ясно осветил свою идею о
Боге, что это учение нужно не замалчивать, а только охранять. Он
старается осторожно отклонить всякое подозрение церкви
предисловиями и посвящениями: он определяет главную тему
«Размышлений» как «бытие Бога и бессмертие души» и посвящает
сочинение докторам Сорбонны, теологическому престижу Парижа,
университет которого еще со времен глубокого средневековья считался
высшим богословским авторитетом церкви. Будучи убежден, что
действительные доказательства разума в пользу бытия Бога и
бессмертия души не введут в заблуждение верующих, могут обратить
неверующего, а потому согласуются с интересами церкви,
изречениями Библии и постановлениями Латеранского собора, он
подвергает свое сочинение цензуре теологов Парижа и возлагает на
них его защиту. Те не нашли, что возразить; патер Жибьеф,
которого он особенно просил дать свое заключение, выразил ему пол-
238
Создание и выпуск в свет произведений
ное одобрение. Тем не менее избежать конфликта с церковью не
удалось; спустя 22 года после появления это первое сочинение,
заложившее фундамент новой французской философии, было
включено в римский индекс с добавлением: «dones corrigatur»115.
Декарт мог предвидеть, что его сочинение обратит на себя
внимание ученого мира новизной мыслей и вызовет возражения
всякого рода; он пожелал ознакомиться с некоторыми избранными
суждениями еще до издания и отпечатать сочинение вместе со
своими ответами в качестве приложения к «Размышлениям». Мера
эта была благоразумна, сочинение вышло в свет уже с
возражениями на него и зашитой; критика, которая в других случаях следует
за изданием и часто дает общественному суждению превратное
направление, здесь заранее устранялась и прилагалась к самой
книге таким образом, что автор имел перед публикой последнее
слово. Для этой цели было сделано несколько списков, эти копии
были переданы друзьям, а последними распространены в кругу
людей, способных к оценке; ими же были собраны особенно важные
суждения и частью сообщены философу, частью пересланы в
подлинном изложении.
В Нидерландах получили списки Блёмаёрт и Банниус,
единственные католические священники Голландии, с которыми Декарт
был в дружбе"; агентом во Франции, как и следовало ожидать,
был Мерсенн. Два вышеназванных друга передали рукопись
уважаемому ученому их церкви Катерусу из Антверпена, доктору
теологического факультета в Лувене, миссионерствовавшему в
Голландии и проживавшему в Алкамаре. Его суждение было первым,
которое Декарт получил и послал Мерсенну вместе со своими
возражениями (ноябрь 1640 года).
Мерсенн распространяет «Размышления» в парижских
ученых кругах, предлагает их на отзыв теологам и математикам и
передает автору два сборника различных мнений, слышанных им
об этом сочинении. К числу высказывавшихся присоединяются и
голоса трех выдающихся и исторически замечательных людей,
среди которых два философа, один английский и один
французский, — современники и противники Декарта. И того, и другого
Мерсенн побудил прочесть «Размышления» и дать им письменную
Oeuvres VIII, pg. 424-425.
239
Куно Фишер
оценку; это были английский философ Томас Гоббс и
французский — Пьер Гассенди. Гоббс, спасаясь от английской
гражданской войны, прибыл в конце 1640 года снова в Париж, где прожил
несколько лет, составивших самую важную литературную эпоху в
его жизни, так как он написал здесь свои известнейшие
сочинения. Мерсенн убедил его вскоре после его приезда прочесть
«Размышления» и высказать свое суждение; Декарт получил первую
часть возражений этого оппонента 20 января 1641 года во время
пребывания в Лейдене и ответил на них уже на следующий день;
вторая часть была переслана в первую неделю февраля.
В этом месяце приехал в Париж и Гассенди, занимавшийся
тогда своими главными сочинениями об Эпикуре и его учении, и,
получив предложение письменно откликнуться на новый труд
Декарта, ознакомился с ним через Мерсенна. Гассенди имел
страсть к тому, чтобы его хвалили и цитировали; он был любезен в
обращении, расточителен на похвалы, за исключением тех случаев,
когда дело касалось аристотелевских схоластических философов, но
слишком тщеславен, чтобы быть беспристрастным критиком; он
был настроен против Декарта за то, что тот в своем сочинении о
метеорах не процитировал его объяснения о паргелиях, это
Гассенди находил «praeter décorum»116. В дурном настроении и не
вникнув хорошенько в учение Декарта, сформулировал он свои
возражения («Disquisitio metaphisica seu dubitationes»)117, которые
Мерсенн получил в конце мая 1641 года; в заключении, разумеется, не
было недостатка в банальных риторических похвалах. На
возражения Декарта он написал ответ («Instantiae»), изданный его
учеником Сорбьером с провозглашением полного триумфа (1643).
Третьим среди известнейших и замечательных людей,
высказавших суждения о «Размышлениях», был еще молодой теолог
Антуан Арно, вскоре после этого избранный в число докторов
Сорбонны (1643), заслуживший впоследствии имя «великого
Арно»* и ставший одним из самых знаменитых янсенистов. Его
возражения за их вдумчивость, стиль и математическую отчетливость
Декарт объявил самыми важными и ставил их значительно выше
всех других. В последующем заключении союза между картезиан-
См.: Введение, Ш, 3.
240
Создание и выпуск в свет произведений
ской философией и янсенистами Пор-Рояля Арно должен
считаться посредником и инициатором.
Декарт пожелал, чтобы Мерсенн передал список и патеру
Жибьефу, члену оратории Иисуса, и математику Дезаргу.
Последний стоил в его глазах трех теологов. Но появился еще один
противник из общества Иисуса, патер Бурден, профессор математики
в коллегии Клермон, со страстной ненавистью оспаривавший в
своих лекциях «Диоптрику» и «Метеоры» Декарта и выступивший
теперь так же враждебно против «Размышлений». Философу эти
нападки пришлись очень не по вкусу, он знал, как единодушно
действуют иезуиты, и с неудовольствием видел себя вовлеченным
в борьбу с орденом, с которым хотел сохранить из благочестия и
политических соображений старые дружеские отношения. То, что
член общества Иисуса выступал против него так враждебно и с
такой подозрительностью, он должен был ощущать вдвойне
мучительно, так как одновременно находился в неприятном споре с
кальвинистами в Нидерландах. Между тем орден не имел ничего
общего с полемикой Бурдена; провинциал Дине стоял на стороне
Декарта и сумел прекратить спор; сам Бурден после того, как
познакомился с философом лично, перестал быть его врагом.
Мы имеем здесь дело с историей, а никак не с содержанием
этих «Objectiones» и «Responsiones»118, как бы составляющих
вторую, большую часть «Размышлений». Их было семь, и они
расположены в хронологическом порядке: на первом месте стоят
возражения доктора Катеруса, на втором и шестом — сборники Мерсенна,
на третьем — Гоббса, на четвертом — Арно, на пятом — Гассен-
ди; возражения Бурдена на седьмом месте могли быть помещены
только при втором издании «Размышлений».
Первое издание вышло в Париже под заглавием: «Meditati-
ones de prima philosophia, ubi de Dei existentia et animae immortalita-
te» — «Размышления о первой философии, в которых
доказывается бытие Бога и бессмертие души» (1641). Философу пришлось на
этот раз преодолеть свое отвращение к имени «Cartesius», так как
имя «Декарт» казалось ему «un peu trop rude en latin»"119. Второе
издание появилось y Эльзевира в Амстердаме с измененным
заглавием: «Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia et
Oeuvres VIII, pg. 439.
241
Куно Фишер
animae humanae a corpore distinctio demonstratur» —
«Размышления о первой философии, в которых доказывается бытие Бога и
отличие души человека от тела». Основание этого изменения
довольно очевидно: бытие Бога есть метафизический принцип;
бессмертие души не является таковым, а есть только различие по
существу между душой (духом) и телом; это различие составляет
фундамент всего картезианского учения, подлинную тему его
«prima philosophia» (первой философии). Поэтому-то второе заглавие
есть исправление первого; оно выбрано в силу теологических и
религиозных соображений, как показывает посвящение. На
различии по существу между душой и телом основывается учение
Декарта о бессмертии, а в метафизике следует говорить об
основаниях, а не о выводах. Объяснение новейшего биографа,
ссылающегося в данном случае на чувства философа, снова приносит в жертву
умилению правильность. В то время, как Декарт был занят
изданием своих «Размышлений», умерла его дочь, почти одновременно с
ней его отец и старшая сестра. Для философа, которому пришлось
оплакать эти три смерти, было, конечно, необычайно утешительно
читать в заглавии своей книги «de animae immortalitate» (о
бессмертии души)! Это было, собственно, не заглавием его труда, а
надгробной надписью. Если бы подобные чувства вообще
нуждались в выражении в таком месте, то слова «animae humanae a
corpore distinctio» (отличие души человека от тела) были бы столь же
утешительны*.
«Размышления» раскрывают ту последовательность, в которой
были найдены и прочно установлены основные понятия нового
учения. Ближайшей задачей является теперь изложение всего
учения в систематическом порядке; Декарт приступает к работе
немедленно вслед за изданием «Размышлений» и заканчивает ее в
течение одного года: это его второе основное сочинение, тоже
весьма обширное, — ^Принципы философии» в четырех книгах (1644,
издательство Эльзевира в Амстердаме). Первая книга посвящена
принципам человеческого познания, вторая — принципам тел,
третья касается видимого мира и четвертая — Земли. Первые две
образуют собственно учение о принципах: метафизику и
натурфилософию. В дальнейшем ряду сочинений «Размышления» являют-
/. Mulet. Descartes, son histoire depuis 1637, pg. 23-25.
242
Создание и выпуск в свет произведений
ся, как по времени, так и по существу, посредствующим звеном
между методологическими опытами и системой метафизики.
Декарт также назвал их своими «метафизическими опытами» и метко
выразил этим то, что они объединяют в себе природу
«философских опытов» и «принципов философии».
Время, когда он писал это сочинение, было счастливейшим
временем его жизни. Успех предыдущих сочинений возвысил его,
боязнь публичной литературной деятельности побеждена, ему надо
дать форму и порядок материалу, над которым он является полным
господином,' и ничто не доставляет его методологическому уму
больше удовольствия, чем такая приводящая в порядок и
формирующая деятельность. Теперь он погружен в искусство строителя,
которое он охотно приводит в качестве примера, делающего
очевидными недостатки компиляции в сравнении с планомерной,
проникнутой единым настроением композицией: он возводит здание
своих идей; живет в сельском замке в Эндегесте, дарящем ему
идиллический досуг, в постоянной близости, часто даже в общении
с молодой высокоодаренной принцессой, которая его вполне
понимает и ценит. В то время он видел в пфальцграфине Елизавете тот
мир, для которого писал, и посвящал ей свои сочинения, не
заботясь о докторах Сорбонны. Но на новое учение и на самого
философа уже надвигалась буря.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
С. НАЧАЛО ШКОЛЫ. ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ПРОТИВНИКИ
L БОРЬБА В УТРЕХТЕ
1. Ренери и Региус
Как ни мало стремился Декарт к распространению своего
учения, все же он был не в силах помешать тому, чтобы оно
приобрело друзей и приверженцев, которые вскоре образовали ядро
школы и для публичной преподавательской деятельности которых
сочинения их учителя предоставляли прочную опору, а
нидерландские университеты — ближайшую арену. С друзьями приходят и
враги. Уже в момент своего возникновения школа становится
предметом страстных нападок; споря с учениками, на самом деле
спорят с учителем и пробуют все, чтобы подавить новое учение,
даже угрожают личности самого его создателя.
Местом возникновения школы, а вместе с ней и полемики
является новый Утрехтский университет. Не какое-либо
определенное учение вызывает нападки, а вообще духовное значение
Декарта. Новизна и сила его мыслей возбуждают ненависть и
враждебные страсти тех, кто себя самих делает предметом первой
заповеди: «Да не будут тебе бози инии, разве Мене».
244
Начало школы. Приверженцы и противники
Чтобы понять ход и характер утрехтских споров, нам придется
начать несколько издалека. Уже во время своего первого
пребывания в Нидерландах Декарт познакомился в Амстердаме с Генрихом
Репера (Ренье). Последний учился в Люттихе и Лувене, оставил
католическую религию и принял реформатскую, за что был лишен
наследства отцом; он был изгнан из отечества, искал убежища в
Голландии и основал в Амстердаме частную школу. Его знакомство
с Декартом совершилось благодаря Бекману. Общение с Декартом
пробуждает у Ренери любовь к философии, и благодаря
ревностным занятиям он вскоре приобретает такой вес, что после смерти
аристотелика в Лейдене он был приглашен тамошним
университетом, затем его позвали в Девентер, а в 1634 году — в Утрехт.
Первый ученик Декарта был приглашен первым во вновь
учрежденный университет, с историей которого в первые годы была
связана история картезианского учения. Преподавательская
деятельность Ренери в Утрехте коротка по времени, но значительна по
результатам. В течение пяти лет он является украшением
университета; после его ранней смерти (март 1639) его память чтится
учреждениями города и университетом с большой
торжественностью. Надгробная речь, которую держит профессор истории и
красноречия Ант. Эмилиус, сам приверженец новой философии,
есть в то же время хвалебная речь Декарту. Правительство
пожелало, чтобы, во славу философа и его учения, речь эта была
отпечатана. На ее заглавии Ренери значится другом и учеником Декарта,
«Атласа и Архимеда нашего столетия». За этой публичной,
несколько чрезмерной похвалой, свойственной академическому
красноречию, следует завистливая ненависть, стремящаяся уязвить
философа сначала в лице его приверженцев.
Среди учеников Ренери в Утрехте был талантливый
юноша-медик по имени Региус (Генрих Леруа), который отдался с
пламенным рвением новому учению, овладел им и умел так
излагать его во время своих приватных лекций по физиологии, что
вскоре приобрел большое количество восторженных учеников. В
университете была только одна кафедра медицины, профессором
которой был Страатен. Последний, однако, пожелал преподавать
только анатомию и практическую медицину и занялся поэтому
учреждением новой кафедры ботаники и теоретической медицины.
245
Куно Фишер
Региус был выбран на новое место ri назначен ординарным
профессором (1638). После смерти Ренери он является главой новой
философии в Утрехте и первой мишенью ее врагов.
2. ГИСБЕРТ ВОЭЦИЙ
Вождем противников является один из видных людей
Утрехта, Гисберт Воэций, первый профессор теологии в университете,
первый священник города, один из самых яростных гомаристов на
Дордрехтском соборе, а со времени победы этой партии — один их
самых заносчивых ее представителей. Он выступает с
торжествующей миной и очень заботится о своей внешности, носящей печать
довольства самим собой; он привык считать свои дарования,
заслуги и достоинства несравненными и презирать все, чего ему не
хватает. А таких недостатков много. Его ученость невелика и
поверхностна, его начитанность слаба, идет не далее loci
communes120, нескольких комментариев и компендиев; он делает в своих
сочинениях грубейшие ошибки, так как приводит источники,
которых не читал или не понял; его суждения лишены остроты, а
мысли — связности и порядка; в философии его способности и знания
едва достигают границ обычной схоластики. С трудом верится, что
такая посредственная голова могла быть таким уважаемым и
опасным человеком и серьезным противником великого мыслителя. Его
симпатии пошли по направлению его талантов. Он избрал себе
такое поле литературной деятельности, на котором у широкой
публики можно добиться многого даже без учености и истинных
духовных дарований, — полемику. Он не был значительным
полемистом, он был обыкновенным боевым петухом во вкусе черни. Для
справедливой и беспристрастной оценки противника он не имел
ни ахлветствующего чувства, ни ума. Более всего ненавидел он
католиков и философов; страсть настолько помрачала его ум, что
он едва умел отличить одних от других, в своей злобе видел в
одном и том же человеке одновременно атеиста и иезуита; все же он
был достаточно хитер для того, чтобы перед иезуитами поносить
противника как атеиста, а перед протестантами — как иезуита. Он
обладал страстью спорить, так как хотел быть правым и
господствовать; властолюбие заставляло его ревностно исполнять служебные
246
Начало школы. Приверженцы и противники
обязанности и делало его общительным, он умел нравиться людям
и импонировать им то набожным поведением, то смелым и
бесцеремонным обхождением. Народу он любил являться в роли
прелата, ученым — в роли педанта, но больше всего любил казаться
человеком, которого всякий имеет основание опасаться. Поэтому
ему ничто так не нравилось, как произносить на манер капуцинов
карающие порок проповеди, эффектно действующие на толпу, а
чтобы не прослыть за труса, он преследовал за всякие пустяки
людей, стоящих у власти и уважаемых без различия лиц. Он
думал приобрести расположение народа и добиться его, избежав
подозрения в стремлении к популярности. И он в
действительности был уважаемым, любимым массой, страшным для многих
человеком и звался (это было вершиной его честолюбия и собственным
выражением его скромности) «славой нидерландской церкви и ее
украшением (ecclesiarum belgicarum decus et omamentum)». Таким
был его образ в глазах Декарта.
Рядом с этим человеком в Утрехте появляется, независимо от
него, духовная сила, имеющая широкое влияние в самой школе
Декарта. Со времени той похвалы, которая была напечатана в
заглавии академической речи в память Ренери, Боэций становится ее
врагом; годом ранее он содействовал назначению на место Региу-
са — после того, как тот пожелал подвергнуться его духовной
цензуре и польстил ему лично. Теперь Воэцию не нравится его страсть
к картезианскому учению, а еще более успех, который имеют его
лекции. Он задумал погубить Декарта и Региуса. Если бы он мог
доказать, что новое учение опасно для протестантизма, а тем
самым и для Нидерландов! Если бы ему удалось показать, что
философия Декарта атеистична, то, поскольку Региус картезианец,
легко было бы затеять процесс. Для этой цели он роется в только что
появившемся Декартовом «Discours» и собирает все относящиеся к
теологии изречения; к счастью, он находит здесь такое откровенное
и беспристрастное признание сомнения, что атеизм, по-видимому,
совершенно очевиден.
3. Осуждение новой философии
В первое время имя Декарта вовсе не называется, только
известные черты его учения переносятся на атеизм, и последний
247
Куно Фишер
оспаривается в нескольких академических тезисах (июнь 1639
года); этим Воэций начинает свой поход, который, при
благоприятном для него обороте дела, должен завершиться изгнанием Декарта
из Нидерландов. Некоторое время спор разворачивается в форме
академических тезисов и диспутов. Целью действий избирается
Региус, для погибели которого Воэций готов пустить в ход все:
уважение к нему профессоров, свою власть ректора, свое влияние
на начальство.
Региус, по своей молодости и некоторой незрелости, дал
почувствовать в нескольких подходящих случаях преимущество новой
философии защитникам старой и даже высмеял последних, чем
возбудил против себя некоторых своих коллег. Позиция его
противников была выгодной. Когда в июне 1640 года он защищал
публично новое учение о кровообращении по Гарвею и Декарту, ему
было сделано указание не слишком удаляться в своих положениях
от обычной медицины и защищать новые учения только «exerritii
causa»121.
В следующем году Воэций становится ректором. Спор
становится оживленней, не выходя, однако, за пределы академических
тезисов и диспутов. Среди тезисов Региуса есть положение о том,
что связь души и тела состоит в соединении двух субстанций, а
потому представляет собой не действительное единство, не «unum
per se», a «per accidens»122. Как раз в этом пункте противоречие
картезианского учения аристотелевско-схоластическому учению об
энтелехии души и субстанциальности форм является самым
очевидным. И вот Воэций становится в позу и объявляет в своих
антитезисах новые учения еретическими. Представление о
субстанциальности тела и о том, что человек состоит из двух субстанций
(unum per accidens), по его мнению, неразумно, учение о
движении Земли, которое ввел Кеплер (!), противоречит Священному
писанию и всей прежней философии, отрицание субстанциальных
форм находится в том же самом противоречии, оно порождает
скептицизм и опасно для веры в бессмертие, в Троицу, в
вочеловечение, в первородный грех, в чудеса, в пророчества, в благодать, в
воскресение и т. п. Эти тезисы характеризуют человека и его
духовный склад.
248
Начало щколы. Приверженцы и противники
Теперь академический устный диспут переходит в
письменную полемику. Региус защищается против тезисов Боэция и,
вопреки советам Декарта и.своих утрехтских друзей, печатает свое
сочинение. Вообще Декарт был не очень доволен вызывающим
поведением Региуса, ему, с его образом мыслей, не нравится тот
оскорбительный тон, которым Региус говорит со школьной
философией; не следует, поучает его Декарт, выставлять прошлое на смех,
он не видит в споре, предстоящем Региусу, ни пользы, ни плана.
Если уже необходимо напечатать сочинение против Боэция — чего
он не советует делать, — то форма этого сочинения должна быть
спокойной и свободной от всяких предосудительных выражений.
Региус следует этому совету, но как ни осторожны и даже льстивы
его слова, обращенные к Боэцию, последний уже в том, что Региус
осмелился вообще писать против него, видит непростительное
преступление; к тому же сочинение появилось без разрешения к
печати; типограф был католик, издатель — ремонстрант. Боэций
открывает целое гнездо еретиков, которое должно быть уничтожено.
По приказанию начальства сочинение конфискуется,
запрещение делает его популярнее, его распространение превращает гнев
Боэция в бешенство, и дело доходит до того, что, по его
настоянию, профессору Региусу запрещается чтение философских
лекций. Теперь появляется повод напасть на новую философию как
таковую и защищать древнюю. Боэций-сын пишет тезисы против
Региуса, студент Ватерле, креатура Боэция-отца, издает сочинение
в защиту находящейся в большой опасности ортодоксальной
философии. Но главный удар наносит Боэций через управляемый им
университет: академический сенат выносит заключение, состоящее
в формальном неодобрении сочинения и учения Региуса, а вместе
с тем и в формальном осуждении новой философии. Определение
16 марта 1642 года гласит: «Мы, профессора университета Утрехта,
не признаем и осуждаем эту новую философию, во-первых, потому
что она противоречит древней и ниспровергает основы последней;
во-вторых, потому что она отвлекает юношество от занятий
древней философией и поэтому препятствует его научному
образованию, так как юношество, посвященное в основы этой мнимой
мудрости, не в силах больше уразуметь академической школьной
терминологии; наконец, потому что это учение является источни-
249
Куно Фишер
ком лживых и противных разуму взглядов, да кроме того незрелые
молодые люди могут сделать из него выводы, несогласные с
другими науками и факультетами, в особенности же с истинной
теологией». Определение это подписано восемью из десяти профессоров.
Двое, составившие исключение, — Киприанус и поклонник
Декарта Эмилиус.
4. Спор между Декартом и Воэцием
Осуждение направлено против Декарта, хотя его имя и не
названо. Теперь сам Декарт является на поле брани. Будучи занят
именно вторым изданием своих «Размышлений» и ответом на
возражения Бурдена, в написанном одновременно с этим письме к
Дине, где он освещает нападки своего иезуитского оппонента, он
находит самый подходящий случай обрисовать и подвохи своего
утрехтского врага: он не называет ни университета, ни
приверженцев, ни противника, но набрасывает немногими штрихами портрет
последнего ad vivum123. «Это человек, который в мире считается
теологом, проповедником и богословом-полемистом, который
пользуется большим уважением у народа за то, что в своих
карательных проповедях злословит то против католической церкви, то
против других не одной с ним веры людей, то против современных
властей; он выставляет напоказ пламенную и искреннюю
религиозную ревностность, причем уснащает свою речь шутками, которые
нравятся простому народу; он поминутно издает сочинения, но
такие, которые не стоят того, чтобы их читать; в них он цитирует
различных авторов, но таких, которые более показывают против
него, чем за него, и с которыми он знаком, вероятно, только по
оглавлениям; он ведет речь о всевозможных науках, как будто
вполне освоился с ними, смело и без страха, и поэтому слывет за
ученого у неучей. Но люди, кое-что понимающие, знающие, как
назойливо он заводит споры с целым светом, как часто он вместо
доводов употребляет оскорбления и обращается в постыдное
бегство, когда ему приходится спасовать перед противником, говорят
об этом человеке, если это не его единоверцы, открыто с
насмешливым презрением; его так отделали перед глазами всего мира, что
едва ли что-нибудь остается для полемики. Разумные люди среди
250
Начало школы. Приверженцы и противники
его единоверцев, правда, извиняют и терпят его, насколько хватает
сил, но втихомолку считают его столь же презренным»*.
Воэций узнал свой портрет и воспылал местью. Он должен
был теперь открыто выступить против Декарта и повести борьбу
прямо, но спрятался в засаду и искал людей, готовых идти за него
в огонь и в воду; он искал кого-нибудь, кто сразился бы с
Декартом на почве науки, и другого, кто мог бы написать пасквиль на
философа или же прикрыть своим именем памфлет,
сфабрикованный самим Воэцием. При этом он разыгрывает роль оскорбленного
человека: он сам был чистой невинностью, Декарт -^.злым
клеветником. С союзником, которому он думал предоставить поле
научной борьбы, решительно ничего не вышло; нельзя было приступить
к делу бессмысленнее и неудачнее. Воэций, заклятый враг
католической церкви, написал с этой целью одному католическому
теологу, который к тому же был давнишним и преданным другом
Декарта, — Мерсенну! И как писал он? В письме, которое
относится к началу спора и предшествует обвинительному приговору
университета, говорится между прочим: «Без сомнения, Вы прочитали
философские опыты, изданные Декартом на французском языке;
по-видимому, он хочет основать новую, доселе неслыханную секту
и находит приверженцев, которые ему удивляются и молятся, как
сошедшему с неба Богу. Вашей критике и Вашей цензуре должны
подвергнуться эти ейрфоеха124. Ни один физик или философ не
мог бы его победоноснее опровергнуть, чем Вы, потому что Вы
являетесь выдающимся знатоком именно тех предметов, в которых
считает себя сильным Декарт: в геометрии и оптике. Это было бы
достойной работой для Вашей учености и Вашего остроумия. Вы
защитили истину и согласовали теологию и естествознание,
метафизику и математику, потому-то истина зовет Вас выступить за
нее мстителем!» Мерсенн, возмущенный этим письмом, разделался
с Воэцием так, как тот заслуживал; он долго заставил его ждать
ответа и, наконец, ответил очень резким и пристыжающим
отказом. Одновременно он прислал письмо и ответ Декарту.
С памфлетом, под которым должен был подписаться союзник
Воэция, махинация удалась. Он нашел человека, согласившегося
послужить для пасквиля, задуманного и отчасти сочиненного Воэ-
Oeuvres IX, pg. 34-35. Ср. выше: с. 246-247.
251
Куно Фишер
цием, своим именем и пером: это был Мартин Шоок, профессор в
Гренингене, некогда ученик Воэция, а ныне его креатура.
Сочинение появляется год спустя после упомянутого академического
осуждения (март 1643 года) под заглавием: «Philosophie Cartesiana sive
admiranda methodus novae philosophiae Renati Decartes»125; по
стилю и тенденциям это был злой пасквиль. Предисловие направлено
против письма к Дине, в котором Декарт оскорбил-де
реформатскую религию, евангелическую церковь Нидерландов, в
особенности ее пастырей; далее новая философия обвиняется в опасных
следствиях, которые она порождает, — неверии, атеизме и
безнравственности. Декарт — второй Ванини, лицемер и атеист, как
и тот, который поэтому был осужден и сожжен в Тулузе. Это
сравнение, от которого попахивает костром и которое приведено с
особенной, рассчитанной обстоятельностью, является, несомненно,
делом самого Воэция.
Памфлет появился в Утрехте. Уже во время печатания Декарт
получает отдельные листы и, прочтя шесть первых, приступает к
ответу, являющемуся шедевром его полемики: «Epistola ad celeberri-
mum virum D. Gisbertum Voëtium» («Послание к знаменитому
мужу Д Гисберту Воэцию»). Возражение имеет троякую цель:
оправдать характеристику противника, заключающуюся в письме к
Дине, опровергнуть подписанный именем Шоока пасквиль и
одновременно с этим предать критике новое, только что появляющееся
кропанье Воэция. Так растет начавшаяся полемика, и из письма
создается книга из девяти частей.
Еще раньше, чем философу были переданы последние листы
«Philosophie Cartesiana», Воэций выпустил пасквиль «О братстве
Марии (De confraternitate Mariana)». Оба сочинения — как ни
различаются они темой — по образу мыслей, манере письма и
полемической методе столь похожи друг на друга, что легко можно
признать в них литературных близнецов. Тогда Декарт прерывает
спор, берется за этот новый объект, которому посвящает шестую
часть послания, и, получив последние листы памфлета,
возвращается к первоначальной теме.
Этот перерыв оказывается неблагоприятным для композиций
полемического сочинения. Спор внезапно перескакивает в другую
область и распространяется на чуждай материал, только призрачно
2S2
Начало школы. Приверженцы, и противники
увеличивающий его силу, на деле же раздробляющий его и
нарушающий впечатление целого. Этот прием объясняется столько же
полемическим запалом, сколько в особенности тем
обстоятельством, что Декарт получил в руки явное сочинение Воэция, между
тем как принужден был писать против скрытого. Если он докажет,
что автор «Philosophie cartesiana» и «Confratemitas Mariana» — одна
и та же личность, то он получит сильное оружие против Воэция и
изобличит его в двух гнусностях — в клевете и лжи.
Тема второго сочинения как таковая не имеет ничего общего
с делом Декарта. В Герцогенбуше существовало с католических
времен общество Святой Девы, обладавшее известными правами и
доходами и числившее среди своих членов знатнейших людей
города. После освобождения от испанского господства и победы
Реформации это братство было признано новым правительством
(1629), сохранило свои права и доходы, потеряв именно поэтому
церковный характер, из которого осталось одно лишь имя
учреждения, и продолжало существовать теперь в качестве гражданской
общины. Но для того, чтобы предупредить образование здесь
тайного гнезда католицизма и очага опасной для государства пропаганды,
правительство потребовало принятия реформированных членов, и
сам бургомистр Герцогенбуша вместе с тринадцатью уважаемыми
протестантами вступил в братство. Это событие воспламенило гнев
Воэция. Сначала он метнул своими тезисами, этими перунами, за
которые он всегда хватался первым делом, в «идолатрию», которой
предаются в Герцогенбуше. Начальство города спокойно и
осторожно опровергло через одного из своих духовных лиц брошенные ему
упреки в атеизме, религиозном индифферентизме и безбожной
терпимости, но Воэций или его единомышленники ответили
анонимным пасквилем, и когда последний был запрещен в
Герцогенбуше, Воэций написал книгу «De confraternitate Mariana».
Оба противника с их сочинениями теперь вплотную подошли
друг к другу. Четыре года назад Воэций начал нападки и с тех пор
продолжает борьбу в тезисах, диспутах, лекциях, частных письмах;
он подстроил обвинительный приговор утрехтского университета
против «новой философии» и хвастался этим в письме, которое
дошло до Декарта, он скрылся, наконец, за спиной Шоока для того,
чтобы пасквилем набросить на философа тень подозрения и опоро-
253
Куно Фишер
чить Декарта и его учение. Только спустя несколько лет Декарт
сам вступил в спор и написал два полемических сочинения:
письмо к Дине и письмо к Воэцию; оба сочинения были переданы от
его имени уважаемыми людьми первым бургомистрам города
Утрехта.
Теперь письменная полемика превращается в процесс. Воэций
разыгрывает преследуемого, который должен страдать за веру; Де-
карт-де иезуит и прибыл в качестве эмиссара и шпиона иезуитов в
Нидерланды, чтобы возбуждать раздоры и споры; потому-то он
прежде всего напал и оклеветал его, «славу и украшение
нидерландской церкви», он же сам Декарту не причинял ни малейшей
обиды; сочинение против Декарта написано не им, а Шооком.
Таким образом он сумел вызвать раздражение в утрехтском
обществе, в особенности же в правящих кругах, всецело ставших
на его сторону; у них искал преследуемый муж зашиты от клеветы
иноземца-философа. 13 июня 1643 года Декарту было послано
требование явиться лично и подтвердить свои обвинения против
Боэция, а именно указать, что не Шоок, а Воэций написал
направленное против него сочинение. Если бы обвинения Декарта оказались
верными, то этим был бы нанесен огромный вред университету и
городу. Приглашение было обставлено со всеми формальностями
официального извещения; вызов был сделан при звоне колокола
перед народом, отпечатан, расклеен и разослан. Уже такой способ
приглашения указывал на враждебное настроение; он был
лишним, ибо знали, где можно было найти Декарта.
В Эгмонде, где он проживал короткое время, он получает
приглашение, на которое отвечает письменно на местном языке; он
благодарит правительственное учреждение за намерение
исследовать дело и готов доказать свои обвинения, но, как француз, он
должен оспаривать право преследования его судом. Так как
клеветническое сочинение против него появилось в Утрехте, то он вправе
ожидать, что следствие прежде всего откроет автора и привлечет
его к ответственности. Между тем он чувствует, что угрожают его
безопасности, он боится приказания об аресте, который в Эгмонде
может быть произведен немедленно. Поэтому он отправляется в
Гаагу и отдается под защиту французского посла de la Thuillière,
который принимает участие в деле и побуждает принца Оранского
254
Начало школы. Приверженцы и противники
воспрепятствовать своим влиянием дальнейшему преследованию.
Только благодаря вмешательству штатгальтера Декарт остается
нетронутым. Правда, суд против него состоялся, его послания были
осуждены, как пасквили, и найдены клеветническими по
отношению к Воэцию (23 сентября 1643 года), но приговор был
опубликован почти тайком, и при его объявлении так же умышленно
избегали официальности, как искали ее за несколько месяцев перед
тем, вызывая его в суд; власти были поставлены в затруднительное
положение и желали покончить с этим делом осуждением без
всякого эффекта. Таким образом, Воэций достиг своей цели лишь в
малой степени. Если бы дело пошло так, как он желал, то Декарта
должны были изгнать из Нидерландов и сжечь осужденные
сочинения рукою палача; рассказывают, что он уже просил последнего
сделать костер побольше, чтобы пламя было видно издалека.
5. ИСХОД УТРЕХТ-ГРЁНИНГЕНСКОГО СПОРА
Этим еще дело не кончается. Декарт услышал о приговоре, не
зная ничего официально о его содержании и мотивах. То, что
доходит до него, заставляет его снова заботиться о своей безопасности,
даже о своем имени, потому что он является неправым по
отношению к Воэцию в том, что обвинил последнего в составлении
пасквиля. Шоок, живший в течение лета в Утрехте, утверждал самым
категорическим образом, что он единственный автор «Philosophia
cartesiana», без всякого содействия и ведома Боэция. Он говорил,
что хочет все это объяснить публично в новом сочинении. Этим
положение Декарта ухудшалось. Анонимные письма, приходившие
к нему от друзей из Утрехта и Гааги, предупреждали его о близкой
опасности, угрожающей его неприкосновенности; в Эгмонде ван
Хуфе, где он в это время находился, ему следовало опасаться
ареста и конфискации бумаг; поэтому Декарт решается в ноябре
1643 года снова ехать в Гаагу*. Во второй раз обращается он к
защите французского посла и описывает ему подробно утрехтские
Oeuvres inédites, vol. П, pg. 22-23 (письмо к государственному
советнику Вильгельму в Гааге от 7 ноября 1643 г.).
255
К у но Фишер
события. Письмо только частью дошло до нас и обнародовано
недавно Фуше де Карейлем".
Так как Шоок сам объявил себя единственным автором
памфлета, то Декарт вынужден теперь обратиться в сенат
университета Грёнингена с формальнрй жалобой. Здесь дело принимает
совершенно иной оборот, чем в Утрехте. Случилось, что обвиняемый
как раз в это время состоял ректором университета. Чтобы
пощадить свое временное начальство и быть справедливым к философу,
сенат приходит к решению избежать формы приговора и дать
удовлетворительное объяснение, в котором выражается сожаление,
что Шоок вмешался в спор против Декарта и направил против его
учения совершенно неосновательные обвинения. Шоок сам дает
показание под присягой в том, что Воэций принудил его издать
сочинение, большую часть которого сам написал в Утрехте; он же
доставил материал для этого и во время печатания включил в
сочинение наиболее сильные оскорбительные выражения против Де
карта, поставив имя Шоока в заглавии и в предисловии против
воли последнего; сочинение в том виде, как оно есть, Шоок не
может признать своим собственным и должен объявить его
недостойным порядочного человека и ученого; ни в чем он так горько
не раскаивается, как в своем вмешательстве в это дело; он-де уже
порвал с Воэцием и отказал ему в подписи под ложным
показанием.
Таким образом, совершенно доказана правота Декарта в
отношении Воэция и утрехтский обвинительный приговор лишен
всякого основания. Декарт посылает грёнингенский акт от 10 апреля
1645 года утрехтским властям, справедливо ожидая, что они
признают причиненную ему несправедливость и исправят ее новым
официальным актом. Однако произошло лишь то, что 11 июня
1645 года вышел приказ типографам и книготорговцам в Утрехте,
запрещавший выпускать или продавать какие бы то ни было
сочинения за и против Декарта. Одна половина этого запрета
направлена против философа, другая остается недействительной, ибо оба
Ibid., II, pg. 43-63 (письмо к M. de la Thuillière). Из первых слов
письма явствует, что Декарт в таких же точно обстоятельствах в
первый раз обращался к консулу незадолго до этого, что,
по-видимому, пропускает новый биограф (J. Mulet. Histoire de
Descartes, II, pg. 127-129).
256
Начало школы. Приверженцы и противники
Воэция, отец и сын, не перестают агитировать письменно и
продолжают заниматься пасквилями. Молодой Воэций пишет
сочинение в защиту своего отца и памфлет против грёнингенского
университета, в котором он снова поносит личность и учение Декарта,
соглашается с содержанием первого пасквиля и отрицает только
авторство старшего Воэция. Последний жалуется на Шоока своим
грёнингенским коллегам, но не возбуждает судебного
преследования; оба почтенных мужа находят полезным своевременно
примириться, так как они строили слишком много козней сообща и
каждый имел причину опасаться разоблачений другого.
Наконец Декарт заканчивает (в последнюю неделю июня 1645
года) утрехтский спор, длившийся от первого повода к нему до
означенного момента шесть лет, своим ^Апологетическим письмом
к властям города Утрехта против Воэциев, отца и сына*. В
нем рассказывается обстоятельно весь ход споров и письмами
Воэция к Шооку документально доказывается, что он замыслил
оскорбительный для чести Декарта памфлет, разрабатывал его,
сделал сравнение с Ванини, сам написал предисловие — худшую
часть сочинения — и оставил в руках Шоока; власти города
Утрехта в продолжение четырех лет одобряли и щадили обоих Воэциев,
с ним же, напротив, обращались несправедливо и противозаконно,
призвав его сперва к ответу, как бродягу, потом осудив как
клеветника; это осуждение не было отменено даже после
гренингенского объяснения, и дело покончено — без единого слова
реабилитации — по видимости нейтральным, в действительности же
партийным запрещением; он ожидает от справедливости властей, что
они дадут ему наконец должное удовлетворение".
Утрехтские власти оставались глухими и не признавали
никаких доводов. Их партийность выглядит тем более враждебной, чем
осторожнее было поведение, миролюбивее характер и незаметнее
жизнь того, кого преследовали. Без основания ему почти отказали
в гостеприимстве в свободной стране, где он не искал ничего,
кроме досуга и уединения, и отравили пребывание в ней самым
чувствительным образом. Его страх перед всякого рода публичным вы-
Oeuvres IX. Lettre apologétique de M. Descartes aux magistrats de
la ville d'Utrecht contre MM. Voëtius père et fils. — pg. 250-
322. — Региус получил это «fasciculum epistolarum», как он
называет документ, 22 июня 1645 г.
257
/Ci/ко Фишер
ступлением оправдался, ибо он должен был за попытку,
предпринятую так неохотно и осторожно, расплачиваться целым рядом
затруднений и неприятностей.
П. НАПАДКИ В ЛЕЙДЕНЕ
Когда окончился утрехтский спор, то новая философия,
пустившая уже корни в лейденском университете, стала предметом
академических тезисов и диспутов. Гоогланд, католический
дворянин, математики Голиус и Шоотен, проповедник Гейданус были
друзьями и приверженцами учения Декарта; в университете его
проводил осторожно и с успехом Адриан Гееребоорд. Как и в
Утрехте, вслед за сторонниками появились враги; как и там, враги
выявились из среды теологов, соревнуясь с Воэцием и, вероятно,
распаляемые им. Со времени окончания утрехтского спора
протекло лишь два года, когда в Лейдене теологические нападки и травля
достигли такой степени ожесточения, что Декарт, по совету своих
друзей, был вынужден из Эгмонда обратиться к защите властей. И,
прибавим к этому, здесь претерпел от них то же самое, что и в
Утрехте.
В течение первых месяцев 1647 года Ревиус, теологический
адъюнкт, выставил для зашиты несколько тезисов против
«Размышлений», в которых философу приписывались чистый атеизм и
другие еретические воззрения. Личность эта была настолько
незначительна, нападай так глупы, что они остались без влияния. Вскоре
после него появился Тригландиус, профессор теологии, с другими
тезисами с тем, чтобы обвинить Декарта не только в отрицании
Бога, но также в богохульстве и в пелагианстве: он-де назвал Бога
обманщиком и объявил, что человеческая свобода воли — нечто
большее, чем идея Бога. На самом же деле Декарт допустил, что
мир — ложный образ, создание лживого демона, для того, чтобы
доказать обратное; на самом деле человеческую волю он считает
чем-то более многообъемлющим, чем ум. Эти нападки были так
мало похожи на простые недоразумения, что друзья философа
увидели в них опасные намерения и посоветовали ему принять
против этого меры.
258
Начало школы. Приверженцы и противники
4 мая 1647 года Декарт послал кураторам университета и
магистрату города Лейдена письмо, в котором просил
удовлетворения за причиненную ему лживыми обвинениями несправедливость
и зло. 22 мая он получил ответ, что были созваны ректор
университета и профессора теологического и философского факультета и
что им запрещено всякое упоминание об учении Декарта, будь то
за или против него; далее высказывается надежда, что философ с
своей стороны прекратит всякое дальнейшее разъяснение спорных
пунктов учения*.
Данное удовлетворение заключалось, стало быть, в том, что
оспариваемые мнения были сочтены картезианскими, и все учение
Декарта в лейденском университете подверглось чему-то вроде
интердикта, причем даже требовали от философа применить эту
меру к самому себе. Возмущенный несправедливостью и
нелогичностью этого поступка, Декарт ответил властям, что он, по всей
вероятности, не понял смысла их письма; ему совершенно все
равно, будет ли произноситься его имя в лейденском университете,
но в интересах общественного о себе мнения он должен требовать
объяснения, что оспариваемые учения не принадлежат ему*".
«Разве я Герострат, что запрещают называть мое имя? — писал он
в это время своим голландским друзьям. — Я никогда не обращал
внимания на распространение известности моего имени и желал
бы, чтобы ни один педант на земле не знал ничего обо мне! ...Но
дело дошло теперь до того, что или пусть дают мне отчет, или
пусть публично объявят, что ваши господа теологи имеют право
лгать и клеветать, причем человек моего положения не может
ожидать ни малейшей справедливости в этой стране»***.
Незадолго до этого он описывает принцессе Елизавете свои
новые бедствия: «Я написал длинное письмо кураторам
лейденского университета, чтобы добиться справедливой защиты от клеветы
двух теологов; еще не знаю, что они ответят мне, но не жду
многого, ибо знаю, как люди здесь настроены; они дрожат не перед
справедливостью или добродетелью, а перед бородой, голосом и
бровями теологов. Они наложат пластырь на рану, но не излечат ее.
Oeuvres X, pg. 26-27.
" Ibid., pg. 29-34.
Ibid., pg. 36-40.
259
Куно Фишер
...Если я не добьюсь здесь, как и предвижу, справедливости, то
думаю немедленно оставить эту страну. ...Только что я получил
письма из Гааги и Лейдена, где говорится, что собрание кураторов
отложено. Значит, теологи желают быть судьями. В этом случае я
иду на инквизицию, худшую, чем испанская, и окажусь с печатью
врага их веры. Поэтому мне советуют обратиться к
покровительству французского посла и авторитету принца Оранского,
добиваться не справедливости, а воспрепятствования, благодаря их
вмешательству, крайним мероприятиям противников. Но я не думаю, что
последую этому совету. Я хочу справедливости, и если ее нельзя
добиться, то тогда буду считать за лучшее приготовляться в полной
тиши к отступлению»*.
Декарт судил совершенно правильно, когда в своем письме к
принцессе считал лейденские нападки следствиями утрехтских и
говорил о «теологической лиге», которая ополчилась на него,
решив подавить его учение. Ортодоксальные кальвинисты
Нидерландов были единодушны в осуждении новой философии и не имели
никакого намерения входить в обсуждение ее качеств и
оснований; они хотели сократить процесс и воспретить теологам
синодским постановлением всякое обращение к учению Декарта, как
устное, так и письменное. Спустя десять лет эта цель была
достигнута. Это был первый конфликт между новой философией и
новым церковным вероисповеданием.
Вместе с этим прошла безвозвратно и идиллическая жизнь
нашего философа в Нидерландах; утрехт-лейденский спор обострил
его отношение к стране и людям; он имел полное основание
чувствовать себя в опасности и думать о новом спокойном
местожительстве.
IbiA, pg. 40-44 (письмо от 12 мая 1646 г.).
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЬ1 И СОЧИНЕНИЯ В ГОЛЛАНДИИ
L НОВЫЕ ПЛАНЫ И ДРУЗЬЯ
1. Поездки во Францию
Было достаточно оснований, которые могли побудить
философа после столь долгого отсутствия и после того, как он победоносно
справился с самой важной частью своей задачи, вернуться на
родину. Хотя он нашел много друзей и приверженцев в Нидерландах и
среди них лиц известных, особенно в Гааге, в ближайшем кругу
принца Оранского и среди его советников, таких как Константин
Гюйгенс ван Зюйлихем (отец известного Христиана Гюйгенса),
Вильгельм, Поллот и др., — все-таки он должен был почувствовать,
что господствующая партия государственной церкви была
настроена против него враждебно, угрожала его праву гостя и видела в его
лице внушающего опасения католика и иммигранта. Противники в
Нидерландах хотели отвязаться от него; у его соотечественников с
давних пор появилось желание, чтобы он возвратился. Казалось
недостойным Франции, чтобы человек, так возвысивший имя
француза, жил за границей. И при дворе Декарт также нашел
10 Куно Фишер
261
Куно Фишер
почитателей. 6 сентября 1646 года была назначена ему без всякого
повода королевская пенсия; под условием новой, патент на
которую он получил спустя полтора года (март 1648 года), его
приглашали жить в Париж, в подходящей для него и благоприятной для
его досуга обстановке. И до этого страстное желание вновь
повидать старых друзей, приобрести новых, а затем деловые заботы —
привести в порядок свои семейные дела после смерти отца —
побуждали его прерывать свой досуг в Эгмонде и ездить на время во
Францию.
Обе первые поездки в 1644 и 1647 годах были обусловлены
главным образом заботами о наследстве и семейных делах: мы
видим из писем, что он 1 мая 1644 года оставляет Эгмонд ван Гуф,
едет через Гаагу, Лейден и Амстердам во Францию, а 10 июля
уезжает из Парижа в Бретань, чтобы там остаться месяца на два*.
В начале октября он вновь в Париже у своего друга Пико, в
середине ноября он возвращается обратно в Эгмонд. Его поездке
предшествовало утрехтское осуждение и подача жалобы на Шоока в
Грёнинген. Спустя два года мы находим его в начале июня в Гааге
собирающимся снова во Францию; он покидает Париж 15 июля,
чтобы снова ехать по делам в Бретань и Пуату; в начале осени он
возвращается в Эгмонд. Непосредственно до этого второго
путешествия начались те неприятные нападки на него в Лейдене,
вследствие которых он тайно решился на «отступление». Он
носился с мыслью прочно обосноваться во Франции и потому согласился
на это подходящее для него приглашение, которое является
единственным мотивом его третьей и последней поездки в Париж.
Следует упомянуть вкратце, что он познакомился в Париже с
двумя противниками своих «Размышлений» и позабыл про вражду
с ними: в первое свое пребывание — с иезуитом Бурденом, в
последнее — с Гассенди. Летом 1647 года он познакомился с
молодым Паскалем, которого часто видел и старался убедить, что в
природе нет «vacuum» (пустоты) и нет никакого «horror vacui»
(боязни пустоты): не такими фикциями должно объяснять явление
движения жидких тел, например поднятие вода в трубе насоса, а
давлением воздуха.
Oeuvres inédites, II, pg. 31 (письмо к Вильгельму в Гаагу 9 июня
1644 г. Декарт извещает в этом письме о грёнингенском деле).
262
Последние годы и сочинения в Голландии
2. КЛЕРСЕЛЬЕ И ШАНЮ
Среди новых друзей и восторженных поклонников,
встреченных Декартом во Франции, наибольшее значение имеют
двое, с которыми он познакомился летом 1644 года в Париже и
имена которых тесно сплетены с личной судьбой философа и с его
литературными творениями: молодой парламентский адвокат Клод
Клерселье и его шурин Пьер Шаню, в то время президент
казначейства в Оверне, а в следующем году уже французский
посланник при дворе королевы шведской. Когда он на пути в Стокгольм
проезжал через Амстердам (октябрь 1645 года), Декарт прибыл из
Эгмонда, чтобы повидать Шаню, к которому питал сердечную
дружбу. Он так высоко ценил мнение этого человека, которого
интересовали в особенности вопросы философского учения о
нравственности, что желал, чтобы тот критически оценил его
сочинения. «Способность суждения большинства людей так слаба, что
мне нечего останавливаться на их мнениях, но Ваши я буду
считать изречениями оракула». В этом же письме он пишет другу
издалека: «Я часто жалею, что для тех немногих превосходных
людей, которые есть в мире, он слишком велик; мне хотелось бы,
чтобы все они собрались в одном городе, тогда я охотно покинул
бы свое отшельничество, чтобы жить с ними, если бы они меня
захотели принять. Хотя я избегаю массы из-за множества
навязчивых и скучных людей, с которыми можно встретиться на каждом
шагу, тем не менее я всегда считал духовное общение с теми, кого
высоко ценят, величайшим наслаждением и величайшим счастьем
жизни. Если бы Вы были в Париже, то это послужило бы для
меня главным основанием поехать туда»*. «...С первых часов
нашего знакомства я был уже Вашим; я люблю Вас так сердечно, как
если бы я всю свою жизнь провел с Вами»**.
Шаню принимает живейшее участие в трудах и стремлениях
философа и славословит его всюду, где только может; он снова
приступает к изучению «Принципов философии» и просит
Клерселье прислать ему французское издание «Размышлений», чтобы
Oeuvres IX, pg. 409-410 (март 1646 г.).
Ibid., pg. 417 (письмо от 1 ноября 1646 г.).
263
Куно Фишер
передать его королеве; он радуется тому, что Декарт в продолжение
зимы (1645-46) написал маленькую брошюрку о природе
человеческих страстей, и убеждает друга не давать лежать долго этому
сочинению, тесно связанному с вопросами, относящимися к
учению о нравственности. Такое участие действует освежающим
образом на одинокого, расстроенного последними событиями философа.
«Я очень охотно написал бы теперь еще что-нибудь другое, — заме
тал Декарт, когда тот упомянул про трактат о страстях, — но я
вижу, как мало людей в мире считают стоящим труда чтение моих
произведений, и отвращение к этому делает меня ленивым»*.
То, что молодая королева шведов должна получить его
«Размышления» из дружественных рук и хочет прочесть их, было ему
очень приятно и заметно разогнало несколько удрученное
настроение, охватившее его под влиянием враждебной и тупой толпы.
Невольно он мысленно сравнивает образ северной повелительницы
с образом принцессы Елизаветы и находит их сходными. В нем
пробуждаются смутные желания и надежды, высказываемые им в
ближайшем письме к Шаню, которое занимает видное место в
числе признаний философа. Среди оскорблений и неприятностей
последнего года он очень часто раскаивался в том, что изменял
своей максиме: «bene qui latuit bene vixit». Он хочет теперь видеть
мир лишь в своих друзьях. Может быть, Стокгольм смутно
представляется ему тем городом родственных по духу людей, в котором
жить он считает за высочайшее благо! «Если бы я не имел
совершенно исключительного уважения к Вашей остроте ума и
сильного желания учиться у Вас, то я никогда не просил бы с такой
настойчивостью о критике моих сочинений. Кроме Вас я никого не
утруждаю такой просьбой. Я выпустил свои сочинения в свет без
всяких украшений, бросающихся в глаза; люди, гоняющиеся за
блеском, не должны их даже заметить; я хочу только одного —
чтобы некоторые хорошие головы обратили на них внимание и для
моего назидания взяли на себя труд исследовать их. Хотя Вы мне
этого благоволения еще и не оказали, но в других вещах Вы
вызвали во мне чувство глубокой благодарности; я знаю, что Вы
отзываетесь обо мне благоприятно, и слышу от Клерселье, что хотите дать
мои «Размышления* королеве. Я никогда не был столь честолюбив,
Ibid., pg. 413 (письмо от 16 июня 1646 г.).
264
Последние годы и сочинения в Голландии
чтобы желать сделаться известным таким высоким лицам, и если
бы я был так умен, как, по мнению дикарей, умны обезьяны, то
ни один человек в мире не знал бы, что я пишу книги. Дикари,
как говорят, думают, что обезьяны могли бы разговаривать, если бы
захотели, но они этого нарочно не делают, чтобы их не заставили
работать. Я был не так умен, чтобы бросить писательство, потому я
и не имею столько досуга и покоя, сколько имел бы, если бы
соблюдал молчание. Между тем ошибка уже сделана, меня знают
многочисленные последователи школ, смотрящие косо на мои
сочинения и жаждущие вредить мне всеми способами; поэтому я, без
сомнения, смею желать быть известным и лучшим людям,
имеющим силу и желание меня защищать. Об этой же королеве я
слышал столько хорошего, что сердечно благодарен Вам за то, что Вы в
этом случае подумали обо мне, между тем как раньше я всегда
жаловался, когда кто-либо хотел устроить для меня знакомство с
высокопоставленным лицом. Я бы не поверил и наполовину
описанию королевы, данному мне де ла Тюйльером после его
возвращения из Швеции, если бы не убедился сам на примере принцессы,
которой я посвятил свои «Принципы философии», что высоким
особам — все равно, какого они пола — не нужно быть старыми,
чтобы далеко опередить других в научном и нравственном
образовании. Боюсь только, что королева не будет благодарна Вам за
рекомендацию моих сочинений. Быть может, они показались бы
более достойными прочтения, если бы трактовали предметы
морали, но это тема, которой я совершенно не смею касаться. Ведь
горячатся же профессора из-за невинных принципов моей физики;
они не дали бы мне покоя, если бы я написал о морали. Один
патер (Бурден) обвинил меня в скептицизме, так как я опроверг
скептиков; один проповедник (Боэций) кричал обо мне как об
атеисте, так как я попытался доказать бытие Бога. Что они сказали
бы, если бы я пожелал исследовать истинную ценность всех
вещей, которых человек желает и гнушается, состояние души после
смерти, то, насколько мы обязаны любить жизнь и как мы должны
быть устроены, чтобы не бояться смерти! И как бы мои убеждения
ни сообразовались с религиозной верой, как бы они ни были
полезны государству, все-таки с обеих сторон мне навязали бы как
раз противоположные мнения. Поэтому я считаю за лучшее не
265
Куно Фишер
писать более никаких книг и сказать вместе с Сенекой: «Смерть —
тяжелое бремя, когда человек умирает, известное всем, только не
самому себе». Впредь я желаю работать только для моего
собственного самообразования и делиться своими мыслями в частной
беседе. Как был бы я счастлив, если бы имел такое общение с Вами, но
я не верю ни тому, что доберусь когда-нибудь до того места, где Вы
живете, ни тому, что Вы сюда вернетесь; вся моя надежда — на
то, что Вы, быть может, через несколько лет на обратном пути во
Францию доставите мне радость и пробудете несколько дней в
моем уединении, и я смогу тогда откровенно поделиться с Вами
своими мыслями»".
Между тем его «любимое уединение» было уже для него
отравлено; вскоре после этого письма начались новые нападки со
стороны лейденских теологов и новые беспокойства, укрепившие
еще более его желание переменить свое местопребывание.
Ближайшие планы его были связаны с Францией.
3. Последнее пребывание в Париже
Но здесь общественная ситуация, в особенности положение
двора, складывалась все неблагоприятнее, и виды, открывавшиеся
философу, исчезли, когда в конце мая 1648 года он в последний
раз прибыл в Париж. Уже в первый свой приезд после
пятнадцатилетнего отсутствия (1644) он нашел политическую арену сильно
изменившейся. Людовик ХШ умер уже за год до этого (14 мая
1643 года), спустя несколько месяцев после Ришелье (4 декабря
1642 года), оставив государство пятилетнему сыну под регентством
королевы-матери Анны Австрийской и под сильным влиянием Ма-
зарини, занявшего место Ришелье. Новые эдикты о налогах
вызвали уже в 1644 году протесты парижского парламента и беспорядки
среди населения; политический наблюдатель мог бы заметить уже
тогда, что предстоят бурные времена. Насильственные мероприятия
со стороны двора и противодействие со стороны парламента,
ожесточение партий и интриги их лидеров дошли до того, что в мае
1648 года были налицо уже все признаки, предвещавшие взрыв
гражданской войны. Арест двух парламентских советников в авгу-
Oeuvres X, pg. 413-417 (письмо от 1 ноября 1646 г.).
266
Последние годы и сочинения в Голландии
сте этого же года повлек за собой восстание народа, и когда Декарт
в конце августа покидал столицу, он видел, как возводились
баррикады, которыми началась война Фронды. Но французская
монархия стремилась к абсолютизму, и последняя еще остававшаяся
призрачная власть законодательного органа помимо короны была
уничтожена после ряда столкновений.
Об обещанном Декарту месте, даже о содержании, которое
гарантировали ему, при таких обстоятельствах не могло быть и
речи. Единственной пользой от его путешествия была философская
переписка с Арно (в июле 1648 года) и последнее посещение друга
Мерсенна, которого он оставил тяжело больным и известие о
смерти которого получил вскоре после своего возвращения в Эгмонд.
От намерения остаться во Франции он должен был пока
отказаться. «Я хорошо сделал бы, — пишет он принцессе Елизавете вскоре
после своего приезда в Париж, — если бы остался в стране, где
царит уже мир, и если эти бури не скоро прекратятся, то через
шесть или восемь недель я возвращаюсь в Эгмонд и буду ждать
там, пока небо Франции не очистится от туч. Мое положение я
нахожу тем не менее счастливым; оно свободно, ибо я одной ногой
стою во Франции, другой в Голландии»*.
Бури, однако, становились все сильней, и Декарт чувствовал
себя еще счастливее от того, что и другая нога его не стояла более
во Франции, а обе были в Эгмонде. «Слава Богу! — пишет он
отсюда. — Мое путешествие во Францию, к которому меня
формально обязывали, стало уже прошлым; я не огорчен тем, что мне
пришлось его проделать, но в высшей степени рад своему
возвращению. Я не нашел никого, кому можно было бы позавидовать, и
окруженные величайшим блеском заслуживают величайшего
сострадания. Для того, чтобы понять, как счастлива спокойная и
уединенная жизнь и каким богатством являются самые умеренные
материальные средства, — для этой цели я не мог бы выбрать
лучшего времени посетить Францию». Он видел королеву,
окруженную баррикадами, и считает Елизавету счастливой, когда
сравнивает ее жребий с судьбой королев и принцесс Европы: она в
гавани, а те плавают по открытому бурному морю! «Нужно быть
ibid., pg. 136.
267
К у но Фишер
довольным, когда находишься в гавани, все равно, каким путем ее
достиг, хотя бы и вследствие кораблекрушения»*.
Несколько месяцев спустя он извиняется в письме к Шаню за
то, что еще не написал ему о своем возвращении; он охотнее
умолчал бы об этом, потому что описание пережитого им легко могло
бы показаться упреком тем благомыслящим людям, которые его
пригласили. «Я смотрел на них, как на друзей, пригласивших меня
к обеду; когда я пришел, то нашел их кухню в беспорядке и их
горшки опрокинутыми; поэтому я возвратился, не говоря ни слова,
чтобы не увеличивать их огорчения. Но я хочу, чтобы это
послужило мне уроком, и никогда не буду по одним обещаниям, хотя бы
они были написаны на пергаменте, пускаться в путешествия»**.
Однако к тому, что он обманулся, Декарт не всегда относился
так равнодушно; уже в следующем письме к Шаню он подробнее
описывает свои недавние парижские приключения и говорит о них
в несколько мрачном тоне. «Я никогда не рассчитывал на богиню
счастья и всегда так устраивал свою жизнь, чтобы не подвергаться
ее влиянию; из-за этого она, по-видимому, стала очень ревнивой,
ибо не упускает удобного случая вредить мне, где только может. Я
это испытал в достаточной степени во время всех трех
путешествий, которые предпринял отсюда во Францию, в особенности же
во время последнего, совершить которое мне было приказано как
бы от имени короля. Чтобы принудить меня к этому путешествию,
мне присылали письма на пергаменте с государственными
печатями, содержавшие хвалу моим заслугам и гарантию приличного
годового содержания; эти королевские документы сопровождались
частными письмами, в которых мне обещали еще больше после
моего прибытия. Но когда я прибыл туда, вследствие внезапно
наступивших волнений дело повернулось совсем в другую сторону.
Ни одно из данных обещаний не было исполнено, одного моего
родственника даже заставили заплатить за изготовление патента;
родственнику, конечно, я должен был возвратить деньги; вышло
так, будто я ездил в Париж для того, чтобы купить самый дорогой
и самый бесполезный пергамент из всех, какие мне только прихо
Ibid., pg. 165-166 (письмо к Елизавете от 1 октября 1648 года,
по предположению Кузена).
Ibid., pg. 310 (письмо от 26 февраля 1649 г.).
268
Последние годы и сочинения в Голландии
далось видеть. Но все это для меня безразлично, и я приписал бы
все исключительно неблагоприятным обстоятельствам, если бы
только люди, пригласившие меня, как-нибудь использовали мое
присутствие. То, что они этого не сделали, рассердило меня больше
всего; никто не желал ничего другого, как видеть мое лицо; право,
я должен думать, что меня пригласили во Францию не ради
серьезной цели, а исключительно в качестве редкости, как слона или
пантеру. Я хорошо понимаю, что в том месте, где вы живете,
ничего подобного не произойдет, но после плохих последствий всех
путешествий, совершенных мной с двадцати лет, для нового, как я
опасаюсь, остается только одно — чтобы по дороге я был ограблен
разбойниками или погиб в кораблекрушении»*.
Пришло приглашение в Швецию, и философом овладели
дурные предчувствия. Угрожало третье обстоятельство, более
вероятное, чем разбойники или кораблекрушение: неблагоприятный
климат, от которого он сам предостерегал Шаню в прежних письмах и
который был впоследствии причиной его собственной
преждевременной смерти.
Париж и Декарт не были созданы друг для друга. Каждый
раз, когда он живет там, его начинает одолевает стремление к
уединению и тишине; эта потребность в прежнее время
неоднократно гнала его в пригороды и наконец заставила покинуть
Францию. В том же настроении, в каком он 20 лет назад покидал
Париж, вернулся он теперь в свою голландскую деревню и
чувствовал себя здесь, как в гавани. Замечательная черта в Декарте, не
приняв которую во внимание, невозможно судить ни о характере,
ни о духовном складе его: этот величайший мыслитель Франции,
быть может, был единственным французом, не имевшим силы
жить в Париже и чувствовавшим естественное отвращение к
столице мира. «Если я из тщеславия надеюсь на благосклонность
королевы, — пишет он Шаню вскоре после приезда в Париж, —
то в этом не столько виновато мое чувство, сколько здешний
воздух; я Вам, помнится, говорил уже раньше, что атмосфера Парижа
вызывает в моей голове всегда химеры вместо философских
мыслей. Я вижу так много людей, ошибающихся в своих мнениях и
расчетах, что, по-видимому, иллюзия в Париже имеет эпидемиче-
Ibid., pg. 325-326 (письмо от 31 марта 1649 г.).
269
Куно Фишер
ский характер. Спокойная пустыня, из которой я приехал,
нравилась мне гораздо больше, и я полагаю, что не устою против тоски
по родине и скоро возвращусь туда»*.
П. НОВЫЙ ПРОТИВНИК. ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ
1. Измена Региуса
Декарт, еще только приступая к своей литературной
деятельности, не напрасно боялся учеников, желающих не только
следовать за учителем, но также толковать и улучшать его учение; ему
пришлось испытать это в полной мере на примере самого Региуса,
«первого мученика картезианской философии». Уже в его споре о
тезисах с Воэцием Декарту не понравилась форма, в которой Реги-
ус хотел выразить отношение души и тела, и он не одобрял
письменного спора, начавшегося вслед за этим, не одобрял именно
манеры его полемики. Когда четыре года спустя Региус передал
Декарту в рукописи свой учебник физики («Fundamenta physices»), то
последний нашел в нем так много бездоказательных утверждений,
так много ложных гипотез, а в учении о человеке столько
отклонений от своих собственных принципов, что решительно не
советовал ему издавать этого сочинения; лучше пусть он ограничится
медициной, так как у него нет таланта к метафизическим
исследованиям; утрехтский университет действовал в своих интересах,
запрещая ему чтение философских лекций; мало того, что формой
изложения он ухудшает, желая улучшить, учение Декарта, — он
еще настолько искажает его содержание, что это побуждает
философа, как только он выступит публично, объяснением contra
отречься от него. Тем не менее книга была отпечатана и выпущена в
свет (сентябрь 1646 года). Декарт написал принцессе Елизавете,
что сочинение не заслуживает того, чтобы быть прочитанным ею;
где оно отступает от его учения, там содержит ложь; где оно
внешне согласуется с ним — там оно плохой и невежественный
плагиат**.
Ibid., pg. 134.
Oeuvres IX, ре. 323-330 (три письма к Региусу от июля 1645 г.);
X, pg. 23—26 (письмо к Елизавете от 15 марта 1647 г.).
270
Последние годы и сочинения в Голландии
В конце 1647 года появились два сочинения против
картезианского учения: одно называлось «Consideratio Reviana»126 и как
по имени автора, так и по брани, заключавшейся в нем, имело
явно враждебный характер. Декарт оставил его без внимания.
Второе было полностью анонимным листком, в котором в двадцати
одном тезисе излагалось учение о человеческом духе; не упоминая
имени Декарта, оно настолько согласовалось с положениями,
заключавшимися в сочинении Региуса, что не могло быть сомнения
в его авторе. В этом листке Декарт увидел враждебное ему (если
не по намерению, то на деле) сочинение, такое искажение и
такую карикатуру на свое учение из-за вредных и неправильных
воззрений, что решился, во избежание всяких недоразумений,
написать подробную антикритику, которая, однако, была,
по-видимому, отпечатана в незначительном количестве экземпляров*. Кто
мог думать, что последним противником, с которым ему пришлось
сражаться в Нидерландах, будет тот самый человек, которого он
некогда назвал своим лучшим и преданнейшим учеником?
Заметим вкратце, что направление, принятое Региусом и с
величайшим неудовольствием замеченное Декартом уже в
учебнике физики, стремилось основное учение его, а именно дуализм
духа и тела, превратить в материализм и уже предшествовало
тому направлению, которым пошла французская философия
восемнадцатого века в лице Кондильяка и Ламетри. Мышление и
протяжение должны быть понимаемы этим направлением не как
противоположные атрибуты различных субстанций, а как различные
атрибуты одной субстанции, а именно телесной; душа есть якобы
модус тела и, находясь в связи с ним, вполне зависит от его
состояний и изменений в нем; поэтому и дух не обладает врожденными
идеями и не нуждается в них, а получает свои представления
извне. Что касается субстанциальности человеческого духа и его
отличия по существу от тела, то достоверность этого учения
основывается на религии и откровении. Тенденции нельзя не узнать:
дуализм относится к религии, материализм — к философии.
Тезисы листка имели целью разрушение картезианской метафизики.
Если бы кто-нибудь хотел знать, что сказал бы Декарт о Кондилья-
Oeuvres X, pg. 70-111 (написано в Эгмонде в конце декабря
1647 г.).
271
Куно Фишер
ке и Ламетри, пусть тот прочтет то, что он сказал против Региуса.
Он видел перед собой клубок ложных умозаключений.
2. Последние сочинения
После того, как Декарт в «Принципах философии» обосновал
свою систему и довел ее до границ органического естествознания,
ему осталось разработать важнейший предмет— человека; это
антропологическая проблема, заключающая в себе три основных
вопроса: физиологический, психологический и этический; первый
касался органов и функций человеческого тела, второй — связи
души с человеческим телом, третий — значения и целей
человеческой жизни. Физиологический вопрос находился в тесной связи
с зоологическим; устройство человеческого тела должно быть
познано из возникновения его, из истории развития эмбриона, а это
развитие — опять-таки из истории образования животных
организмов. В эту область философ неустанно и ревностно стремится
проникнуть с помощью анатомических исследований сравнительного
характера. Здесь он черпает непосредственно из источников
природы. Когда его кто-то посетил в Эгмонде и спрашивал о его
библиотеке, он показал ему анатомически расчлененное животное. Тот
факт, что Декарт искал разрешения тайн жизни путем
сравнительной анатомии и занятий эмбриологией, является
удивительнейшим свидетельством методического мышления и имеет большее
значение, чем те или иные результаты биологических
исследований Декарта.
Уже в своем «Мире» он носился с исследованием
возникновения животных, уже в то время он написал сочинение о
человеческом теле, предназначенное для включения в этот труд. Это его
«Traité de l'homme*, рассматривавший пищеварение,
кровообращение, дыхание, мускульное движение, органы чувств и ощущения,
внутренние движения и функции мозга. Он решил теперь
переработать трактат. Из него возник новый, обнимавший животное и
человека труд: «Описание функций человеческого организма и
объяснение образования животного» или, как он обычно
называется «Traité de la formation du foetus*. Этой работой занимался он в
продолжение 1647 и 1648 годов. В письме от 23 декабря 1647 года
272
Последние годы и сочинения в Голландии
принцесса Елизавета пожелала, чтобы он написал сочинение о
воспитании; Декарт ответил, что ему мешают исполнить это три
причины, «третьей является то, что я сейчас занят другим
сочинением, которое, я надеюсь, Вам понравится более, а именно
описанием животных и человеческих функций, так как то, что я
двенадцать или тринадцать лет тому назад набросал бегло и показал Вам,
попадало неоднократно в неловкие руки; я чувствую теперь
необходимость привести все это в лучший порядок, т. е. переработать, и
даже осмелился (но впервые дней восемь или десять тому назад)
развить историю образования животного от начала его
возникновения, я говорю животного вообще, так как то, что касается человека
в особенности, я за недостатком надлежащего опыта разработать не
могу. Эти последние зимние месяцы, быть может, самое спокойное
время из всего оставшегося мне в жизни вообще; поэтому я желал
бы скорее посвятить его этой работе, чем другой, для которой
нужно менее сосредоточенности*.
Его предчувствие оказалось верным. Это было последнее
спокойное время, прожитое им; ему предстояла в близком будущем
поездка во Францию с ее обманами, затем последовали еще более
тревожные дни, и они были сочтены.
Психологическую задачу Декарт в главных чертах разрешил
уже в сочинении Ю страстях души*: это было последним
изданным им самим сочинением. Он набросал его в 1645-1646 годах,
развил впоследствии и издал в год своей смерти. О морали и
воспитании Декарт не хотел писать, чтобы сильнее не разжечь уже
возбужденного спора, чего можно было ожидать при трактовке
вопросов такого практического значения; свои мысли о ценности и
цели человеческой жизни он доверял письмам, которые получали
от него две царственных женщины: принцесса Елизавета и
шведская королева.
Ibid., pg. 121-122 (письмо не могло быть написано ранее
февраля 16% г.).
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
КОНЕЦ ЖИЗНИ ДРКАРТА В СТОКГОЛЬМЕ
L ПРИГЛАШЕНИЕ КОРОЛЕВЫ
1. Христина Шведская
Когда Шаню в конце осени 1645 года приехал в Стокгольм,
дочь Густава Адольфа уже год занимала престол Швеции; это была
девятнадцатилетняя королева, счастливая и могущественная
наследница опасного для врагов государства и отцовского имени,
связавшего славу героя со славой мученика. Народ любил ее и
возлагал на нее надежды, которые она, судя по началу ее
правления, должна была осуществить в полной мере. Христина была еще
свежа, неиспорченна и умела подавлять силой воли склонность к
причудам, капризную и ветреную натуру, страсть к ложному,
театральному величию, которой она впоследствии легкомысленно и
слепо принесла в жертву свой возвышенный жребий. Первая
государыня Севера, какой она была и могла остаться благодаря
политическому и личному значению, она стала добровольно скитающейся
и ищущей приключений женщиной, делавшей решительно все,
чтобы стать недостойной своего отца. В то время, когда Шаню
заинтересовал ее Декартом, ее духовные силы были в полном
расцвете, и то, что казалось в существе королевы странным и
необузданным, следовало приписать избытку молодой энергии и слишком
мужскому воспитанию, полученному ею по воле отца. Она
страстно любит охоту и предпринимает ее вместе с лучшими
охотниками; она смелая и опытная наездница, легко выдерживающая по
десять часов езды, не слезая с лошади, предпочитает мужской кос-
274
Конец жизни Декарта в Стокгольме
том женскому и пренебрегает всякого рода украшениями; она
закалила свой организм трудом и укрепила его простым образом
жизни, избегая всего расслабляющего. Она не просто носит имя
королевы, но умеет повелевать и может дать почувствовать
государственному совету свое превосходство: столь хорошо осведомленной
является она в делах государства, самостоятельной в своих
решениях и настойчивой в их исполнении. И ее духовные и умственные
интересы имеют мужской характер: она любит серьезные книги,
серьезные разговоры, ежедневно прочитывает несколько страниц из
Тацита, говорит по-латыни и изучает греческий язык.
Ее внешность выдает беспокойный и легко возбуждаемый дух;
когда она говорит, выражение лица и тон голоса быстро меняются.
Христина не была религиозной натурой, но охотно занималась
религиозными вопросами и была восприимчива к возражениям
всякого характера; поэтому ее интересовали по преимуществу
предметы философско-религиозные и нравственные, и она пользовалась
всяким случаем или сама давала повод развивать эти темы в
беседах. Так случилось, что однажды после аудиенции, данной Шаню,
бесконечно удивлявшемуся королеве, она завела такую беседу и
задала во время ее вопросы: в чем состоит сущность любви, может
ли из нашего естественного познания вытекать любовь к Богу? И
что хуже: безмерная любовь или безмерная ненависть?
Содержание, как и афористичность поставленных вопросов, очень
характерны для философской любознательности королевы. Этих проблем
никто не мог разрешить лучше Декарта: так думал Шаню и
написал философу.
2. Философские письма
Ответ, написанный Декартом 1 февраля 1647 года в веселом
настроении, представляет собой письмо о любви и вместе с тем
первую беседу, которую он ведет косвенно и издалека с королевой
Швеции; ибо Шаню спрашивал мнения своего друга с той целью,
чтобы его ответ был прочтен ею. Письмо это — маленький шедевр,
настоящая кабинетная вещица, в которой всякий знаток Декарта,
не знающий об авторе и мотивах письма, а только обращающий
внимание на ход исследования, на характер идей, на подбор
выражений, тотчас же сказал бы: «Это настоящий Декарт». Нет другого
275
Куно Фишер
сочинения такого же маленького объема (ибо оно не выходит за
рамки письма), по которому можно было бы лучше узнать этого
мыслителя, умея только читать философа между строк.
Декарт различает интеллектуальную и аффективную любовь
и определяет сперва при помощи аналитического исследования
существо любви вообще: оно состоит в том, что мы представляем
объект, присутствие которого и обладание которым причиняет нам
радость, отсутствие и потеря которого причиняет страдание,
поэтому мы стремимся к такому объекту со всей энергией нашей воли;
мы хотим соединиться с ним или образовать с ним одно целое и
быть сами только одной частью такого целого; любовь необходимо
связана с радостью, скорбью и желанием; эти четыре
направления воли имеют свои корни в природе духа и свойственны
душе без связи с телом; они заключены в познавательной
потребности мыслящего существа; мы, как мыслящие существа, любим
познание вещей, ощущаем радость от наслаждения ими и скорбь
от лишения их и добиваемся обладания ими. Тут нет ничего
темного: только воля к познанию движет нашей душой, мы знаем, что
мы любим, и к чему стремимся, и что радует и омрачает нас.
Радости и страдания интеллектуальной любви суть поэтому не
страсти, а ясные идеи. Впервые от их затемнения возникает
аффективная и чувственная любовь, исходящая из связи души с телом. Эю
суть телесные состояния и изменения, которым соответствуют
известные стремления в нашей душе, причем сходство и связь
между ними неявны для нас. Так возникают неясные чувственные,
аффективные желания, имеющие известные объекты, стремящиеся
избавиться от других, ощущающие радость от обладания одними и
болезненное страдание от присутствия других, любящие предметы
стремлений и ненавидящие предметы отвращения: радость и
скорбь, любовь и ненависть — таковы основные формы
чувственных желаний, элементарные и главные страсти, из смешения и
изменений которых созидаются все остальные, и единственные,
которые мы имели еще до рождения, ибо они проявляются уже во
время питания зародыша. Интеллектуальная любовь совпадает с
потребностью познания в мыслящей природе, чувственная
коренится в потребности в пище органической природы. Есть
представление достойных стремления объектов (интеллектуальная любовь)
276
Конец жизни Декарта в Стокгольме
без чувственного возбуждения и чувственного желания, и, равным
образом, последнее может иметь место без познания; есть любовь
без страстей и страсть без любви; в человеческой любви, в
обыкновенном смысле, соединены оба элемента. Тело и душа
соединены таким образом, что определенные состояния представлений и
воли сопутствуют определенным состояниям телесных органов и
вызывают друг друга взаимно, как мысль и слово. Таким же
образом представление достойных наших стремлений объектов, или
любовь, находит в возбуждении сердца и учащенном движении
крови свое непроизвольное, телесное выражение. Эта
духовно-чувственная любовь, это соединение понимания и стремления
образует то ощущение, о существе которого спросила королева.
Отсюда, по-видимому, следует, что Бог слишком возвышен
для того, чтобы быть достижимым, и слишком духовен, чтобы быть
чувственно представляемым, а потому не может быть предметом
любви в свете естественного познания, потому что чувственное
представление (Versinnlichung) божества является либо таинством
воплощения, как в христианстве, либо заблуждением
идолопоклонства, как в языческой религии, где человек, подобно Иксиону,
обнимает облако вместо богини. Однако с помощью глубокого
размышления идея Бога может стать любовью, и при этом самой
сильной из всех страстей, когда мы познаем в Боге начало, а
потому и цель нашей духовной жизни; но эту цель не должно
представлять в виде богостановления, иначе мы впадем в опасное
заблуждение: это значит не любить Бога, а желать божественности;
напротив, мы познаем в Боге начало не только нашего духовного
существования, но всего мироздания, которому не нужно быть
шаром для того, чтобы иметь во власти Бога единственное
основание и прочность; это познание всемогущей воли так возвышенно,
что наполняет нас радостью и стремлением следовать смиренно
воле Бога. В этом состоит истинная, освещаемая естественным
познанием любовь к Богу, которая настолько могущественна, что
захватывает сердце и нервы. Чувство благоговения не наносит
ущерба любви, а связывает с ней стремление к покорности и к
самопожертвованию; уже дружба способна к пожертвованию, еще
более патриотизм; чем возвышеннее объекты, которые мы любим,
тем добровольней и радостней будет подчинение собственной зна-
277
Куно Фишер
чимости, ибо ничто не препятствует тому, чтобы в одном и том же
чувстве соединялись высочайшее почитание и любовь. Эту истину
Шаню мог бы сам подтвердить лучше всего, так как он ее
переживает. «Если бы я спросил Вас по совести, не любите ли Вы
возвышенную королеву, вблизи которой Вы теперь живете, Вы могли бы
сколько угодно уверять меня в том, что Вы по отношению к ней
ощущаете только почтение, благоговение и удивление, а я все-таки
счел бы Ваше чувство за весьма горячую симпатию, так как всякий
раз, когда Вы говорите о государыне, Ваши слова льются так полно
и в таком изобилии, что, как ни верно ваше изображение — я
знаю вашу любовь к истине и слышал о ней от других, — я все
же убежден в том, что Вы не могли бы изобразить королеву так
живо, если бы Вы не были пламенно взволнованны и Ваше сердце
не было бы согрето. Да иначе и быть не может вблизи такого
света!»
Какая же из двух страстей, любовь или ненависть, хуже в
своей чрезмерности? Чем более начинает страдать от силы аффекта
наше благожелательство, чем более уменьшается наше довольство
и, наоборот, увеличивается количество разрушительных выходок,
тем хуже страсть и ее состояние. Нет сомнения в том, что
ненависть питает злобу и отравляет даже самые добродушные натуры,
что она есть мучительное и печальное ощущение, лишенное
всякого истинного утешения; удовольствие, доставляемое ненавистью,
демонично и присуще адским духам в месте мучений. Что касается
вредных выходок, то большая чрезмерность есть в то же время и
нечто худшее; поэтому следует спросить, какая из этих двух
страстей имеет вообще большую склонность к чрезмерности? Здесь
Декарт отвечает: не ненависть, а любовь! Она пламеннее, а потому
сильнее и прочнее, чем ненависть: натуры вроде Геркулеса,
Роланда и т. д. более теряли меру в любви, чем в ненависти; любовь
соединяет, ненависть разъединяет; если первая приковывает нас к
лишенному ценности объекту, то этим она вредит гораздо более,
чем когда вторая разлучает с лучшим объектом; наконец, чем
страстней воспламеняется любовь, тем она беспощадней ко всему, что
ей препятствует и угрожает, она дает свободу ненависти
действовать более чем в одном направлении и тем самым освобождает от
278
Конец жизни Декарта в Стокгольме
оков целую дружину зол; ведь любовь породила те злосчастные
семена, из которых впоследствии вышел пожар Трои*.
Когда королева прочла письмо, она сказала Шаню: «Насколько
я могу узнать Декарта из этого письма и вашего описания, он
счастливейший из людей, и его жизнь кажется мне достойной
зависти; скажите ему, что я его очень высоко ценю». Некоторые
более подробные разъяснения, которые королева пожелала еще
получить, Декарт дал в письме к Шаню (от 6 июня 1647 года). Но
вскоре опять представился случай, возбудивший в ней сильное
желание вновь узнать взгляды философа.
Среди ученых Швеции был в то время и немецкий филолог
Иоанн Фрейнсгейм из Ульма, знаменитый своими дополнениями,
или суплементами, к Ливию. Его хвалебная речь Густаву Адольфу
повлекла за собой приглашение в Упсалу в качестве профессора
политики и красноречия; спустя пять лет он был приглашен в
Стокгольм в качестве историографа и библиотекаря королевы
(1647). Его прощальная речь в Упсале, при которой присутствовала
королева вместе с французским послом и некоторыми вельможами
двора, трактовала понятие высшего блага. Сама королева пожелала
этой темы. Выслушав речь, излившуюся в формах латинской
риторики, она заметила Шаню: «Эти господа могут касаться таких
предметов только поверхностно, следует послушать об этом Декарта».
Вопрос был ему предложен, и он ответил на него в письме о
высшем благе, написанном в ноябре 1647 года и отправленном
непосредственно королеве.
Несколькими штрихами Декарт набрасывает основания своего
учения о нравственности и своих руководящих правил жизни. Он
хочет определить высшее благо не в абсолютном смысле — таковое
было бы Богом, — а по отношению к человеческому бытию: не к
бытию человечества, высшее благо которого состоит в сумме всех
материальных и духовных благ, а к бытию единичного человека.
Рассматриваемое в таком его ограничении, высшее благо должно
быть достижимым, т. е. иметь такие свойства, чтобы мы были в
состоянии обладать им или приобрести его; поэтому оно должно
находиться вполне в нашей власти. Все внешние и материальные
блага находятся вне нашей власти, высшее благо можно искать
Ibid., pg. 2-22.
279
Куно Фишер
поэтому только в самом духе, в области познания и воли; но
познание в его различных степенях обусловлено способностями и
обстоятельствами, зависящими не исключительно от нас самих: таким
образом, областью, в которой надлежит искать неизвестную
величину, остается только воля; она постоянно находится в нашей
власти, так как составляет нашу собственную и высшую
способность, нашу внутреннюю самость, зерно нашего существования.
Воля к познанию находится в нашей власти; мы можем твердо и
настойчиво приводить в исполнение решение всегда поступать
согласно нашим лучшим взглядам; если мы делаем это, то мы
добродетельны и вместе с тем счастливы и соединяем стоическую цель
жизни с эпикурейской. Единственно эта воля является в мире
истинно достойным почитания. «Конечно, богатства обыкновенно
всегда ценятся выше, но так как я убежден, что Вы, Ваше
Величество, придаете большую цену Вашей добродетели, чем Вашей
короне, то скажу откровенно, что для меня добродетель является
единственной ценностью. Прочие блага все вместе следует ценить, но
не уважать, не высоко чтить, все равно, смотреть ли на них как на
дары Бога или как на средства, которым можно дать хорошее
применение благодаря свободной воле, — ибо честь и хвала суть
воздаяния, и только то, что творит воля, может награждаться или
наказываться. Величайшее благо человека есть состояние его
величайшего удовлетворения, последнее же, какого бы рода оно ни
было, находится только в нас самих, только душа довольна, а она
довольна только тогда, когда обладает желаемым предметом; ее
представление о благе часто очень спутанно, она представляет себе
многие блага более великими, чем они суть, и живет среди
призрачных ценностей; ее удовлетворение всегда так велико, как
велико и воображаемое благо, которым она обладает. Но нет ценности
выше, чем хорошее применение сообразно свободной воле: поэтому
эта воля и есть высшее благо, — только она одна»*.
Так удачно сложилось, что эти философские и вызванные
различными поводами письма, написанные Декартом в Стокгольм,
трактуют темы, которые вполне соответствовали тому, над чем он
работал: первый вопрос — о любви — совпал как раз с очерком
♦О страстях души», возникшим за год до этого; второй вопрос — о
Ibid., pg. 59-64 (написано в Эгмонде 20 ноября 1647 г.).
280
Конец жизни Декарта в Стокгольме
высшем благе — касался того же предмета, который был разъяснен
незадолго до упомянутого очерка в посвященных принцессе
Елизавете письмах о человеческом счастье. Следствием этих писем
явился очерк о страстях. Теперь Декарт посылает оба сочинения Шаню
одновременно с письмом королеве; никто не должен их читать,
кроме Шаню и королевы, — последняя только в том случае, если
она этого прямо пожелает*.
Прошло более года, прежде чем Христина ответила (декабрь
1648 года)**. В это время ей пришлось заняться другими вещами,
а не любовью и высшим благом: 1648 год был годом Вестфальского
мира. Однако она не теряла Декарта из виду и после завязавшейся
переписки с философом очень желала видеть его лично у себя.
3. Приглашение и путешествие в Стокгольм
Христина углубилась в сочинение о страстях и возымела
намерение изучить основательно философские сочинения Декарта.
Она возит его сочинения постоянно с собой, во время ее охот ее
сопровождает очерк о страстях, во время путешествия по
рудникам — «Принципы философии». Фрейнсгейм должен также
изучить это сочинение, чтобы приходить на помощь ее пониманию,
Шаню должен поддерживать в этом придворного ученого. «Так как
Фрейнсгейм нашел, — пишет Шаню с юмором Декарту, — что он
нуждается в сотоварище на этом пути, то и упросил меня
прочитать с ним вместе «Принципы». Я обязан стараться нравиться
государыне, при которой служу королю Франции, и, таким образом,
теперь к функциям французского посла в Швеции относится
изучение Декарта». Находясь в Париже среди политических
беспорядков, расстроивших его виды на ближайшее будущее, Декарт с
удовольствием узнает, что при шведском дворе читают его книги и
философствуют даже во время охоты, предпринимаемой королевой.
Он рекомендует вместо «Размышлений» первую книгу
«Принципов», так как она более сжата и удобопонятна; на теории
движения во второй книге королева может не останавливаться и иметь в
виду только основную точку зрения, что в чувственных свойствах
Ibid., pg. 65-67.
Ответ королевы утерян. Декарт написал Шаню 26 февраля 1649
года, что он очень доволен содержанием и французским стилем
письма. — Oeuvres X, pg. 309 и ел.
281
Куно Фишер
вещей нет ничего объективного, кроме величины, фигуры и
движения, что из этих основных свойств объясняются также свет и
теплота, существующие, подобно щекотанью и боли, только в
наших чувствах*.
Вскоре, однако, Христина находит, что трудности учения
Декарта распутывать лучше при его же помощи, чем при помощи
Фрейнсгейма или Шаню, и что ей это учение вообще станет
понятней из уст философа, чем из его книг; она желает
настоятельно, чтобы Шаню пригласил его приехать в Стокгольм, чтобы он
повторил приглашение. Первое письмо, пришедшее в Париж в то
время, когда Декарт уже уехал, последний получил только в
середине февраля 1649 года, второе — в конце следующего месяца. Он
ответил (вероятно, 31 марта 1649 года) в двух письмах к Шаню, из
которых одно могло быть показано королеве; в нем он принимает
приглашение и обещает приехать в середине лета с тем, чтобы
остаться на зиму в Стокгольме. Несколько по-иному говорится в
интимном письме. Множество сомнений, гораздо больше, чем он
думал, пробудилось в нем, он имел со своей философией и со
своими путешествиями столько неприятностей, так мало нашел
истинных ценителей его учения: на первый взгляд оно кажется
многим поразительным и особенным, после же некоторого уразумения,
напротив, настолько простым и естественным, что перестает быть
объектом их внимания, так как истина подобна здоровью души, с
которым дело обстоит так же, как с здоровьем тела; человек ценит
его только пока им не обладает. Нигде такая философия так не у
места, как при дворах царственных особ, где один интерес сменяет
другой. Если королева обладает для его учения досугом и
достаточным запасом усидчивости, тогда он приедет. Если же, напротив, ее
интерес только скоропреходящее любопытство, то пусть друг
сделает все, чтобы ему не нужно было ездить**.
Все эти сомнения усиливаются в его родном Эгмонде; он
становится нерешительным, принимая во внимание далекую поез-
IbicL, ре. 308—309. Вместе с этим письмом к Шаню от 26
февраля 1649 г. Декарт отвечает одновременно на письмо королевы;
он называет свой ответ «un compliment fort stérile». В конце стоит
уверение, что его преданность королеве не могла бы быть более
сильной, если бы он был шведом или финном.
Ibid., pg. 320-327.
282
Конец жизни Декарта в Стокгольме
дку в чужую страну. «Неудивительно, — пишет он несколько дней
спустя Шаню, — что Улисс покинул счастливые острова Калипсо
и Цирцеи, где к его услугам были все мыслимые наслаждения,
чтобы жить в каменистой и бесплодной стране, ибо она была его
родиной; но человеку, родившемуся среди садов Турени и
живущему теперь в стране, где течет если не больше меда, то, вероятно,
больше молока, чем в земле обетованной, очень трудно прийти к
решению оставить такое местожительство для того, чтобы ехать в
страну медведей, в страну скал и льдов»*. Не только природа
пугает его, но также и двор, где будет еще больше противников и
завистников, злословия и всякого рода интриг, чем в его
голландском одиночестве; он боится, что станут подозревать королеву в ее
собственной стране, потому что она пригласила его; ее
расположение к ученым и ее ревность к занятиям уже критикуются;
насмехаются над тем, что она собрала вокруг себя педантов Европы и
что Швецией скоро будут править грамматики. Его очень беспокоит
то, что его завзятые противники, слышавшие о цели его
путешествия, успели уже распространить враждебные слухи о его учении, и
тогда его пребывание вблизи королевы может послужить только ей
во вред. Он пишет об этом с полной откровенностью и со всей
сердечностью Фрейнсгейму и просит у него ответа и совета**.
Ответ он получил такой, что мог себя успокоить.
Каждый шаг, который отнимает что-либо от его
независимости или уединения, наш философ ощущает как переход из своей
собственной стихии в чужую; всякий раз, когда в своей жизни он
должен был переходить эту границу, он останавливался в
нерешительности; к своей шведской поездке он относится теперь так же,
как раньше относился к изданию своих сочинений: лучше было
бы, если бы он их тогда не выпускал в свет, лучше было бы, если
бы он теперь никуда не трогался. Шаню весной во время поездки в
Париж, где ему надлежало оставаться до поздней осени, посетил
философа в Голландии и рассеял некоторые его сомнения. Декарт
охотно дождался бы возвращения друга, чтобы ехать с ним вместе.
Ibid., pg. 300-331 (по предположению Кузена, письмо от 4
апреля 1649 г.).
Ibid., ре. 335-337 (письмо, по предположению Кузена, от 10
июня 1649 г. В конце письма Декарт спрашивает, желает ли
королева разрешить издание его сочинения о страстях).
283
Куно Фишер
Но нетерпение королевы не дает ему покоя, она приказывает
Флеммингу, одному из ее адмиралов, ехать в Амстердам,
предложить Декарту свои услуги и сопровождать его в Стокгольм, где она
надеется его видеть еще до конца апреля месяца. Однако Декарт
уже объявил, что не може?г ехать раньше середины лета. Приведя
в порядок свои дела, окончив для печати свое сочинение о
страстях, передав его издателю и сделав со всей
предусмотрительностью распоряжения относительно своего имущества, он оставил
Эгмонд 1 сентября 1649 года.
П. ДЕКАРТ В СТОКГОЛЬМЕ
1. Пребывание в Стокгольме и положение при дворе
В начале октября Декарт уже в Стокгольме и находит в доме
французского посланника, остающегося еще в Париже, у жены и
сестры своих обоих лучших друзей самый радушный прием, у
королевы — почетную аудиенцию. Несколько дней спустя после
своего прибытия он пишет принцессе Елизавете, что видел королеву
пока дважды и нашел ее наружность такой значительной и
привлекательной, как и мог ожидать; Фрейнсгейм взял на себя труд
освободить его от всех тяжелых обязанностей церемониала, так что он
является ко двору только тогда, когда королева желает поговорить с
ним; даже при самых благоприятных обстоятельствах он останется
в Стокгольме не долее следующего лета. Его взор обращается вновь
к любимому голландскому уединению. «Там мне будет легче
двигаться далее в исследовании истины, а в нем единственно и
заключается главная цель моей жизни»*.
У королевы же были относительно Декарта более обширные
планы; она желала воспользоваться его пребыванием не только для
своих собственных научных интересов, но также для страны и
даже для самого философа: он должен быть ее учителем и другом,
основать Академию наук в Стокгольме, разрабатывать в полном
досуге под ее зашитой привезенные с собой планы и оканчивать
начатые сочинения. Таким образом Христина хотела быть полезной
новой философии настолько же, насколько и последняя была по
" Ibid., pg. 373-375.
284
Конец жизни Декарта в Стокгольме
лезна ей самой. Но тогда Декарт должен был остаться в Швеции, а
не только быть в ней проездом или в гостях. Поэтому королева
стала хлопотать о его формальном переселении; она имела в виду
наделить его наследственным владением и предоставить ему место
среди магнатов страны. Когда Шаню вернулся в ноябре, королева
сообщила ему свой план и выразила желание, чтобы он склонил к
нему своего друга. Декарт, сам по себе не склонный к этому,
отговаривался тем, что он должен опасаться вредного влияния климата
на свое здоровье; это было единственным затруднением, имевшим
значение в глазах королевы, сумевшей, однако, легко устранить
его; Декарт получит владение в южной Швеции; Шаню и одному
члену государственного совета было поручено приискать поместье
для Декарта в епископстве Бремен и Померании, которые только
что были присоединены к Швеции по Вестфальскому миру. Это
поместье должно было давать хороший годовой доход и переходить
по наследству в его семье. Дело было уже в ходу, как вдруг
прервалось болезнью Шаню и потому было отложено; но оно не было
еще закончено, когда Декарт умер. Таким образом, своеобразная
судьба Декарта привела к тому, что этот величайший и для
немецкой философии самый важный мыслитель Франции по милости
дочери Густава Адольфа чуть не сделался владельцем поместья в
немецкой стране.
Философские занятия королевы начались в ноябре, после того
как Декарт несколько освоился с новой обстановкой. Для того,
чтобы быть в соответственном настроении для восприятия трудного
предмета и вполне свободной от государственных дел, Христина
избрала самый ранний утренний час. Ежедневно в пять часов
Декарт должен был в холодную северную зиму, которая к тому же
была особенно сурова в тот год, отправляться во дворец и здесь
ожидать в библиотеке свою царственную ученицу. Он недаром
боялся климата. После совместной прогулки с Шаню (18 января
1650 года) последний заболел воспалением легких, принявшим
острую форму и подвергшим его жизнь опасности. С величайшей
заботливостью посвятил Декарт себя ухаживанию за другом. После
бессонных ночей каждое утро в 5 часов он являлся в библиотеку к
королеве; он совещался с ней и в послеобеденные часы по поводу
проектируемой Академии, устав которой он составил в последних
285
Куно Фишер
числах января и представил королеве 1 февраля. Это был
последний раз, когда он ее видел. Устав этот доказывает, как мало думал
Декарт о себе и своих выгодах; в первых же статьях он лишал
всякого иностранца права занимать должность президента, место
которого готовила ему королева.
2. Болезнь и смерть
Напряженная работа и одновременное ухаживание за
больным другом истощили его тело и сделали более восприимчивым к
вредным воздействиям климата и времени года. Он был уже
болен, когда возвратился с последней беседы с королевой, и только
пересиливал себя. Тем более сильный приступ лихорадки
последовал на другой день; в течение недели он лежал без сознания, уже
на пятый день его состояние показалось докторам безнадежным. К
несчастью, первый лейб-медик королевы де Риер, соотечественник
и друг Декарта, был в отсутствии; второй, по имени ван Вулен,
был голландцем и, как говорят, другом утрехтских врагов
философа. На седьмой день прекратился лихорадочный бред, сознание
вернулось к нему, но лишь для того, чтобы осознать близость
смерти и направить последние мысли на вечность. 11 февраля 1650
года в четыре часа утра Декарт умер на пятьдесят четвертом году
жизни.
Получив известие о его смерти от секретаря французского
посольства, королева разрыдалась. Чтобы почтить память своего
«великого учителя» и показать потомству, что она умела ценить
Декарта, она хотела похоронить его среди высших сановников
государства, у ног королей Швеции, и воздвигнуть на его могиле
мраморный мавзолей. Шаню убедил королеву не приводить этого
плана в исполнение. Он рассуждал правильно, думая, что для
покойного Декарта будет более подходящей простая могила на
кладбище иностранцев, чем царственно пышная гробница в
усыпальнице королей. Погребение состоялось 12 февраля 1650 года. Простой
памятник указывал место, надпись, сделанная рукой друга,
возвещала, что здесь покоится Декарт, которого королева Швеции
призвала из его философского уединения к своему двору и которому
Шаню поставил этот памятник.
286
Конец жизни Декарта в Стокгольме
Еще в год смерти в Голландии в честь философа была отлита
медаль с символическим изображением солнца, освещающего
землю. Французское национальное чувство страдало от того, что
останки величайшего из всех французских философов покоились на
далекой чужбине. Спустя 16 лет после смерти философа д'Алибер,
один из его друзей, при содействии Терлона, тогдашнего
французского посланника в Швеции, сделал распоряжение о перевезении
праха Декарта за свой счет во Францию; 1 мая 1666 года он был
перенесен Стокгольм на корабль и 25 июня 1667 года погребен
торжественно в церкви св. Женевьевы, нынешнем Пантеоне.
Церковные власти долго не соглашались оказать праху человека, имя
которого несколько лет стояло в индексе, такие высокие церковные
почести. Их упорное сопротивление удалось побороть тем, что
философу приписали большую заслугу перед церковью. Королева
Христина в 1654 году отреклась от короны и вскоре после этого
перешла в католицизм. Декарт в продолжение нескольких месяцев
состоял ее учителем; и вот была сделана попытка связать эти два
факта, несмотря на их полную независимость, и представить
философа миссионером, которому удалось обратить дочь Густава
Адольфа. И так как она сама согласилась объяснить свое обращение
влиянием Декарта, то он стал из философа миссионером, прах
которого был принят духовенством в церковь св. Женевьевы.
Показание королевы было неправильно и являлось
легкомысленной услугой, в чем она довольно откровенно признавалась в
частных разговорах. Ничто не было так чуждо характеру Декарта,
как прозелитизм. Он оставался верным той церкви, в которой
родился, потому что родился в ней, но с обращением в нее не имел
ничего общего. Его жизнь, насколько она могла устроиться по его
свободному выбору и сообразно его гению, принадлежала
философии и уединению.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ОБЩИЙ ОБЗОР ТРУДОВ И СОЧИНЕНИЙ
L СОЧИНЕНИЯ, ИЗДАННЫЕ САМИМ ДЕКАРТОМ
Изданные самим философом сочинения, возникновение
которых мы проследили в истории его жизни, разделили на
философские и полемические и расположили в хронологическом порядке,
суть следующие:
1. Философские
1. Essais philosophiques. Leyden, Jean le Maire, 1637. Эгьен де
Курсель перевел «Essais» на латинский язык, за исключением
«Геометрии»; Декарт просмотрел перевод. Франц ван Шоотен,
профессор математики в Лейдене, сделал перевод на латинский язык
«Геометрии» с замечаниями де Бона и собственными пояснениями.
Заглавия переводов: 1) R. Cartesii specimina philosophiae, sive Disser-
tatio de methodo recte regendae rationis, Dioptrice et Meteora ex gaffi-
co latine versa (per Etienne de Courcelles) et ab auctore emendata.
Amst., Lud. Elzevir, 1644. 2). Geometria a. R. Descartes gallice édita,
cum notis Florim. de Beaune, latine versa et commentariis illustrata a.
Fr. a Schooten. Lugd. Bat., J. Maire, 1649.
288
Общий обзор трудов и сочинений
2. Renati Descartes meditationes de prima philosophia, ubi de
Dei existentia et animae immortalitute. His adjunctae sunt variae objec-
tiones doctorum virorum in istas de Deo et anima demonstrationes
cum responsionibus auctoris. Paris, 1641127. Второе издание с
измененным заглавием (см. выше: с. 241 и ел.), с возражениями Бур-
дена и письмом к Дине вышло в Амстердаме у Эльзевира в 1642
году. В год смерти философа вышло третье. «Размышления»
переведены на французский язык герцогом де Люинем, а
«Возражения» и ♦Ответы» на них— Клерселье. Декарт просмотрел эти
переводы, исправил их, где нашел это нужным, и изменил
некоторые места в латинском тексте. Этот перевод вышел в Париже в
1647 году.
3. Renati Descartes prineipia philosophiae. Amst, Elzev., 1644.
Второе издание вышло в год смерти философа. Одобренный
Декартом и снабженный его предисловием в форме письма французский
перевод сделан аббатом Пико: Les Principes de la Philosophie, écrits
en latin par René Descartes, et traduits en français par un de ses amis.
Paris, 1647. Письмо к Пико в латинском переводе было включено в
последующие издания «Принципов» в качестве предисловия.
4. Les passions de l'âme. Paris, Amst., 1649. О возникновении
этого сочинения, набросанного в 1646, законченного и отделанного
летом 1649 года, после того как оно было передано в рукописи
сперва принцессе Елизавете, а потом шведской королеве, см. выше:
с. 264. Уже в год смерти философа вышел латинский перевод.
2. Полемические
1. Epistola Renati Descartes ad celeberrimum virum D. Gisber-
tum Voètiwn, in qua examinantur duo libri nuper pro Voëtio Ultrajecti
simul editi: unus de confratemitate Mariana, alter de philosophia Carte-
siana. Amst., Elzev., 1643.
2. Renati Descartes notae in programma quoddam, sub finem
anni 1647 in Belgio editum cum hoc titulo: Explicatio Mentis humanae,
sive Animae rationalis, ubi explicatur, quid sit et quid esse possit.
Amst., Elzev., 1648. Эти заметки представляют собой полемическое
сочинение против Региуса (см. выше: с. 270 и ел.). Сочинение это
настолько редко, что сам Питере, автор анналов эльзевировской
289
Куно Фишер
типографии» открыл его только после публикации об этом труде.
(Несколько лет спустя сочинение оспаривал Тобиас Андре: Replica-
tio pro notis Cartesii. Amst, Elzev., 1653.)
П. ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ДЕКАРТА СОЧИНЕНИЯ
И OPERA POSTUMA
1. Сочинения, принадлежащие частным лицам
Из оставшихся сочинений следует главным образом назвать
два написанных для друзей и потому не находившихся в числе
запертых в шкатулке: 1) Compendium musicae, из сохранившихся
сочинений самое раннее, написанное в 1618 году для Бекмана (см.
выше: с. 177 и ел.) и появившееся в печати в Утрехте в 1650 году;
2) отрывок сочинения о механике, написанный для Константина
Гюйгенса в 1636 году, где объясняются некоторые машины, блок и
полиспаст, наклонная плоскость, ворот, винт и рычаг. Второй
отрывок о подъемных машинах («Explication des engins»), найденный
Даниилом Майором, переведенный на латинский язык и изданный
в 1672 году, мало чем отличается от предыдущего. Этот фрагмент о
механике и компендий о музыке перевел на французский язык
Пуассон; они вышли в свет под следующим заглавием: Traité de la
mécanique, composé par M. Descartes, de plus l'abrégé de la musique
du même auteur, mis en français avec éclaircissements nécessaires par
N. P. P. D. L. [Nie. Poisson, prêtre de l'oratoire]. Paris, Angot, 1668.
2. Потерянные сочинения
Остальные еще не отпечатанные сочинения были заперты в
шкатулке, которую Декарт взял с собой в Стокгольм; там после
смерти Декарта под наблюдением Шаню была составлена опись; в
шкатулке были найдены одно сочинение о фехтовальном
искусстве— по всей вероятности, то первое сочинение, которое он
написал еще в Ренне; дневник, относящийся к периоду с 1619 до
1621 года; три сочинения по методологии: «Studium bonae mentis»,
«Правила для руководства ума», диалог об исследовании истины
при свете разума128; фрагмент под заглавием «Thaumantis regia»
(«Чудесный дворец»), представлявший, вероятно, предварительные
290
Общий обзор трудов и сочинений
заметки по физике, в которых, по замечанию Байе, уже
заключался взгляд на животных как на автоматы; отрывки математического,
физического, естественноисторического содержания; часть «Мира»;
сочинение о человеке и образовании эмбриона; письма, отрывок
французской драмы и стихи к празднованию Вестфальского мира.
Помимо этого Декарт оставил у своего друга Гоогланда
сундук, в котором, кроме ценных писем, находилось сочинение «De
Deo Socratis» и, может быть, даже сам подлинник «Мира». Так
предполагает Мийе*. Однако достоверно нельзя ничего сказать, так
как хранившиеся у Гоогланда сочинения вместе с их указателем
потеряны.
Из сочинений, поименованных в стокгольмской описи, до сих
пор не найдены сочинение о фехтовании, оригинал дневника
1619-1621 годов, равно как оригинал фрагментов различного
научного содержания, «Thaumantis regia», «Studium bonae mentis»,
поэтические произведения.
Неудивительно, что некоторые сочинения, входившие в
состав стокгольмского наследия, потеряны безвозвратно; можно
считать счастьем, что при злоключениях, постигших шкатулку,
сохранилось еще столько текстов, и притом самых важных. Шаню
послал все оставшееся наследие в Париж, своему шурину Клерселье,
который должен был взяться за его издание. Корабль благополучно
достиг французского берега, судно, принявшее посылку,
благополучно доплыло с ней до Парижа, но при причаливании,
поблизости от Лувра, шкатулка с бумагами случайно упала в воду и три
дня пролежала в Сене. Наконец она была извлечена, сочинения по
отдельным листам и листочкам были развешаны и высушены и в
величайшем беспорядке доставлены в руки Клерселье.
Последствием явилось то, что издание замедлилось, и именно с письмами
вышли непреодолимые затруднения; они были так перемешаны,
что невозможно было восстановить порядка: то нельзя было
разделить разнородные, то соединить относящиеся друг к другу части.
3. Сочинения, изданные Клерселье
1. Отрывок часто упоминавшегося «Мира»: Le monde, ou
Traité de la lumière. Первое, полное ошибок издание появилось в
" J. Mulet. Descartes avant 1637. Préface, pg. ХХШ-XXIV.
291
Куно Фишер
Париже без ведома Клерселье под заглавием: «Le monde de
Descartes, ou Traité de la lumière» в 1664 году. Исправленное по
оригиналу Клерселье издал в 1667 году.
2. Traité de l'homme. Это сочинение находится в тесной связи
с «Миром» и должно было составить одну из его глав (см. выше:
с. 221); в оригинале оно называлось «Chapitre XVÏÏI». Издание
Клерселье с заметками Лафоржа вышло в 1664 году. Немногим
ранее этого Флорентий Шуйль, профессор философии в Лейдене,
издал латинский перевод: Renatus Descartes de homine. Lugd. Bat.,
1662-1664. Клерселье нашел перевод плохим, но предисловие
хорошим и поэтому включил последнее в свое издание (на
французском языке).
Одновременно с этим трактатом появляется связанное с этим
сочинение: «De la formation du foetus*, разделенное самим
Декартом на части и по пунктам, чего не было в «Traité de l'homme».
Полное заглавие таково: «La description du corps humain et de toutes
ces functions, tant de celles, qui ne dépendent pas de l'âme, que de
celles, qui en dépendent, et aussi la principale cause de la formation de
ses membres».
3. Les lettres de René Descartes. 3 vol. Paris, 1657-1667.
4. Собрание оставшихся сочинений
Должно показаться удивительным, что Клерселье не издал
двух важнейших вещей из оставшихся рукописей — обоих
относившихся к методологии сочинений; они вышли в свет спустя
полстолетия после смерти философа в первом собрании
оставшихся после него сочинений: Opera postuma Cartessii (Amst.,
1701),—которое сверх всего содержит еще отрывок «Мир, или
Трактат о свете», трактат по механике, компендий о музыке,
заметки о происхождении животных, наконец, выдержки, — все это на
латинском языке. Два упомянутых важных и до тех пор не
напечатанных сочинения суть:
1. Regulae ad directionem ingenii, рассчитанное на три части,
из которых каждая должна содержать 12 правил; сохранилась
только первая половина, восемнадцать правил, три последующих только
приведены, но не разъяснены. По свидетельству Байе, оригиналь-
292
Общий обзор трудов и сочинений
ный текст этого сочинения был написан также по-латыни. (Ср.
выше: с. 197 и ел.)
2. Inquisitio veritatis per lumen naturale, разговор между
тремя особами, тоже незаконченный, по сообщению Байе,
первоначально написанный на французском языке. Заглавие оставшегося
после смерти сочинения: «La recherche de la vérité par les lumière
naturelles, qui, à elles seules, et sans le secours de la religion et de la
philosophie, déterminent les opinions, que doit avoir un honnête homme
sur toutes les choses, qui doivent faire l'objet de ses pensées et qui
pénètrent dans les secrets des sciences les plus abstraites».
Ш. ИЗДАНИЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
1. Коллективные издания
Еще до этого первого собрания оставшихся сочинений в эль-
зевировском издании в Амстердаме вышли латинские
коллективные издания, более или менее полные, частью философских,
частью, как было сказано, всех сочинений. По анналам эльзевиров-
ской типографии «/?. D. opéra philosophica» появлялись в 1664, 70,
72 и 77 годах. Помимо сего упоминается издание «Opera
philosophiez» 1656 года, причем оно названо «editio tercia» (третье
издание). Первое издание «Opera omnia* (полное собрание) в 8 томах
выходило с 1670 по 1683 год, второе, в 9 томах, — в 1692-1701
годах ив 1713 году. Это было не полное издание в собственном
смысле, а только собрание отдельных изданий, заключавшее в
последнем томе opéra postuma.
Первое французское издание появилось в 13 томах в Париже
в 1724-1729 годах. Сто лет спустя (1824-1826) предпринял Виктор
Кузен свое издание в 11 томах. Это то издание, которое мы
цитируем в нашем сочинении: Oeuvres de Descartes, publiées par Victor
Cousin.
2. Приведение в порядок писем
После издания посмертных сочинений создание полного
собрания сочинений Декарта являлось не только собирательской, но
и критической работой, которая должна была заключаться в разыс-
// Куно Фишер
293
Куно Фишер
кивании потерянных сочинений, в собирании разрозненных и в
приведении в порядок имевшихся налицо. Особенно важным
являлось собирание и приведение в порядок писем. Самая большая и
важная часть оставшихся писем была в руках Мерсенна и перешла
после его смерти к математику Робервалю, враждебно
относившемуся к философу и спрятавшему письма. Они нашлись
впоследствии у Ла Гира, передавшего их Академии. Байе хотел описать
жизнь Декарта, аббат Ж. Б. Легран взялся одновременно с этим за
первое полное собрание сочинений; он наследовал после смерти
Клерселье оставшиеся после смерти философа рукописи (1684),
сам собрал целый ряд разрозненных писем и получил возможность
через Академию вместе с Байе пользоваться теми письмами,
которые имелись у Мерсенна. Издание не состоялось, рукописи,
которые были в руках у Леграна, после его смерти перешли в чужие
руки и пропали; содержание части их сохранилось по спискам и
обнародовано в 1701 году в opéra postuma. Копия писем Декарта,
сделанная в 1667 году, находится в библиотеке Академии,
содержит критические заметки на полях, основанные на сравнении с
первоначальными рукописями и относящиеся к датам, адресам и к
связи писем между собой. Все это не оставляет сомнения, что
было намерение предпринять новое критическое издание этих
писем. Неизвестно, кем сделаны эти пометки; .Кузен, приведший в
порядок письма, сообразуясь с теми заметками (тома VI-X его
издания), предполагает, что они сделаны Монтенуи, ректором
Парижского университета в середине прошлого столетия (на экземпляре
находится его печать); напротив, Мийе считает достоверным, что
замечания эти сделали Байе и Легран в 1690-1692 годах,
совместно трудясь над приведением в порядок корреспонденции Декарта*.
3. Дополнения
В бумагах, оставшихся после философа, находится дневник,
относящийся к периоду 1619-1621 годов и содержащий
юношеские сочинения, наброски и различного рода заметки. Таким
образом, дневник этот имеет отношение к той эпохе его жизни, о кото-
Oeuvres VI, Avant-propos; /. Mulet. Descartes avant 1637. Préface,
pg. XVI-XDC.
294
Общий обзор трудов и сочинений
рой мы не имеем никаких литературных свидетельств, несмотря на
то, что даже самые незначительные из них, относящиеся к этому
времени, были бы очень ценны для тех, кому было поручено
издание его сочинений. По сообщению Байе, дневник был переплетен
в пергамент и содержал в себе некоторые мысли о науках вообще,
об алгебре, «Democritica», «Expérimenta*, «Praeambula», «Olimpica»,
сочинение в двенадцать страниц, на одной из которых сделана на
полях много раз упомянутая заметка, указывавшая на 10 ноября
1619 года как на день, составивший эпоху в духовной жизни
философа (см. выше: кн. I, гл. II, разд. Ш, 3).
К счастью, нашелся еще во времена Клерселье человек,
который любовно хранил каждую строчку, написанную Декартом; это
был не кто иной, как Лейбниц, который познакомился с Клерселье
во время своего пребывания в Париже, благодаря ему смог
просмотреть бумаги Декарта и в начале июня 1676 года сделал с них
списки без особенного порядка и связи, что обусловливалось
состоянием рукописей. Он причислял их к самым драгоценным
литературным сокровищам, какими только обладал, и даже намеревался
их издать. «Давно уже собираются в Голландии, — писал он Бер-
нулли, — предпринять издание оставшихся после смерти Декарта
сочинений. Я не знаю, появились ли они в печати. У меня также
есть некоторые посмертные сочинения Декарта. К ним относятся
«Правила для исследования истины» (которые мне не кажутся
столь необычайными, как о них говорят), далее отрывок диалога на
французском языке, его первые мысли о происхождении животных
и т. д. Если обещанное издание еще не вышло, то я мог бы сам
предпринять таковое с присоединением некоторых ненапечатанных
вещей Галилея, Валериана Магнуса и Паскаля вместе с моими
примечаниями к общей части «Принципов» Декарта. Я требую
только большого количества бесплатных экземпляров». Среди
списков, взятых Лейбницем, находились, кроме того, еще и
примечания к «Принципам», заметки физического, психологического,
анатомического содержания, математические сочинения и отрывки из
упомянутого дневника, которые Лейбниц озаглавил «Cartesii cogita-
tiones privatae»129.
Издание не состоялось. То, что Лейбниц выписал из
оставшихся после философа рукописей, смешалось с бумагами, оставши-
295
Куно Фишер
мися после него, и сохранялось в библиотеке Ганновера без более
подробного каталоги^еского обозначения; только на списках
психологического и анатомического характера значилось «Excerpta ex
Cartesii manuscriptis»130. Все же остальные оставались
неизвестными, пока некоторое время назад Фуше де Карейль не открыл часть
их и не издал под заглавием: «Oeuvres inédites de Descartes»131
(Paris, 1859-1860).
Критически приведенное в порядок, точное и полное издание
сочинений Декарта составляет задачу будущего. Перевод
сочинения не есть само сочинение. Поэтому нужно, чтобы латинские
сочинения были даны в оригинальном виде, либо одни, либо с
французским переводом*.
* Такое издание приурочено к трехсотлетию со дня рождения Декарта;
оно будет осуществлено под покровительством министра народного
просвещения и под наблюдением ученой комиссии. По утвержденному уже плану
издание будет состоять из десяти томов in quarto, первая половина которых
будет содержать собственно труды, а вторая корреспонденцию.
В первый том войдут. Compendium musicae; Studium bonae mentis; Regu-
lae ad directionem ingenii; Inquisitio veritatis per lumen naturale; Le monde, ou la
Traité de la lumière; Discours de la méthode, suivi de la Dioptrique, des Météores,
de la Géométrie; petit Traité du mécanique, ou explication des engins; écrits
mathématiques de Walsenaer et de Stampion.
Второй и третий: Les méditations suivies des Objections et des Réponses
(texte latin et traduction française revue et corrigée par Descartes).
Четвертый: Les principes de la philosophie (texte latin et traduction
française).
Пятый: Traité des passions de l'âme; L'homme de René Descartes, la
description du corps humain ou formation du foetus; Ecrits polémiques; Papiers
intimes; Inédites (dont plusieurs très importants retrouvés par Mr. Adam en Hollande
[correspondance avec Huyghens] et à Gottingen); Reproduction d'un conversation,
dans la quelle Descartes répondait à des objections faites à sa philosophie. (Cp.
наст, изд., кн. П, гл. X.) Tableau bibliographique; ТаЫе générale des matières.
Остальные пять томов будут содержать письма в хронологическом
порядке — как письма Декарта, так и всех его корреспондентов; издатели
разделят эту корреспонденцию таким образом, что каждый ее том будет
соответствовать тому или другому тому сочинений и служить ему, благодаря
систематическим и взаимным ссылкам, комментарием. Каждому
корреспонденту будут посвящены примечания для более подробной характеристики.
Что касается внешнего вида, т. е. бумаги, печати, виньеток, фигур и
гравюр, то в этом отношении за образец будет взято эльзевировское
оригинальное издание. Цена всего издания 250, по подписке —150 франков.
Издатель Поль Таннери и Шарль Адам.
Этим письменным сообщением я обязан члену названной комиссии,
вместе с тем директору одного из самых почтенных философских
журналов — «Revue de Méthaphysique et de Morale», господину Ксавье Леону.
УЧЕНИЕ
ДЕКАРТА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
НОВЫЙ МЕТОД ФИЛОСОФИИ. ПУТЬ К СИСТЕМЕ
L ИСТОЧНИКИ МЕТОДОЛОГИИ
1.ТЕМА
Ввести в учение Декарта может нас его метод, поэтому его и
нужно прежде всего иметь в виду. Философ часто и настойчиво
указывает на то, что в научном исследовании метод — главное и
что он нашел новый и надежный метод, единственно с помощью
которого достиг сведений, приобретенных им в области наук. И
если бы даже он не дал нам такого объяснения и не сделал бы
путь к исследованию истины темой нескольких сочинений, все-
таки мы по другим сочинениям, по их композиции, по порядку и
связи идей признали бы мастера метода, искусства вносить свет в
мышление. Чтобы пользоваться этим искусством так, как умел это
делать Декарт, нужно сначала изучить его. Хотя нам и пришлось
уже в различных местах предыдущей книги говорить о методе
Декарта, так как путеводная нить его мысли была и путеводной
нитью его жизни, тем не менее в настоящей главе мы не избегнем
повторений многого из того, что нам уже известно".
Методическое мышление и методологические
исследования — две различные веши: первое состоит в использовании и
применении метода, второе — в учении о методе. Методическими
являются все сочинения Декарта, методологическим же в смысле
См.: кн. I настоящего сочинения, гл. I, разд. П; гл. П, разд. Ш, 2;
гл. Ш; гл. V, разд. 1,1 и П, 1.
299
Куно Фишер
подробного и полного изложения, или теории, научного
мышления, строго говоря, ни одно. У Декарта нет нового органона, как у
Бэкона. Из всех изданных им сочинений лишь одно по своему
заглавию имеет отношение к методу — это «Discours de la méthode»;
и есть другое, отыскивающее и излагающее элементы познания
таким образом, что тут из применения метода вместе с тем явствуют
его свойства и характер, — это «Размышления». О первом
сочинении сам Декарт сказал: «Не traité, а только discours! Я хочу здесь
не учить методу, а только говорить о нем». Кто будет судить о
сочинении по его заглавию, тот может прийти к заключению, что
оно не дает того, что обещает. В действительности оно дает
больше. Ожидая встретить только человека, указывающего путь, мы
знакомимся с человеком, посвятившим свою жизнь науке и вполне
методически приспособившим и направившим ее к этой цели.
Здесь путь к истине не только указывается вытянутым пальцем —
тут он пройден и пережит. Бэкон хотел быть только Меркурием у
дороги, остающимся на постаменте и указывающим другим
направление; Декарт показывает нам, как он сам находит дорогу и
следует по ней. Первое ожидание в этом отношении, конечно, не
оправдывается. Во второй главе этого сочинения излагаются четыре
правила к познанию истины без дальнейшего разъяснения и в самой
краткой форме.
2. Методологические посмертные сочинения.
Критические вопросы
Сюда относятся из оставшихся после философа рукописей два
относящиеся к методологии фрагмента: «Regulae ad directionem
ingénu» и «Recherches de la vérité par les lumières naturelles»*. У нас
нет данных о времени их возникновения, поэтому мы вынуждены
руководствоваться при решении этого вопроса главным образом
сравнением их с «Discours» и с «Размышлениями». Уже одно то
обстоятельство, что первое сочинение написано на латинском, а
второе — на французском языке, заставляет предполагать, что первое
относится к тому периоду, когда Декарт излагал свои научные
исследования только по-латыни и был занят всецело вопросом о мето-
См.: кн. I, гл. IX, разд. II.
300
Новый метод философии. Путь к системе
де: поэтому оно должно предшествовать философским «Essais». То,
что «Discours» излагает вкратце в своих четырех познавательных
правилах и только как бы намечает, «Правила для руководства
ума» содержат в более развитом, хотя и незаконченном виде. Это
внутреннее основание говорит за то, что «Правила» предшествуют
«Discours» и что уже поэтому Декарт не хотел более расширять
регулятивную часть последнего сочинения.
Наконец, существует еще другое внутреннее основание,
разрешающее проблему. Мы знаем, что для Декарта математический
метод служил подготовительной школой для философского. В
«Правилах» между прочим говорится: «Поэтому я до сих пор по мере
сил изучал эту универсальную математическую науку так, что
имею возможность в будущем отдаться высшим исследованиям, не
боясь, что мои силы еще недостаточно зрелы»*132. Это было
написано философом еще до того, как он приступил к
«Размышлениям». «Правила» поэтому предшествуют последним; вероятно, они
были написаны во Франции, после известной беседы с Берюллем и
до того, как Декарт удалился в Нидерланды, чтобы написать
«Размышления»**.
Не так точно можно определить время возникновения второго
сочинения, содержание и ход идей которого так строго, часто
дословно совпадает с «Размышлениями», что связь обоих ясна, как
день. Совершенно тем же путем доходит исследование до
принципа достоверности: «я мыслю, следовательно, существую»; здесь оно
прерывается. То, что излагается в «Размышлениях» в форме беседы
с самим собой, здесь развивается в диалоге троих; лица подобраны
так: Евдокс, главный собеседник, в своем сельском уединении
представляет здоровый и естественный, свободный от всякой
школьной учености и трезвый ум, Полиандр — светского и
придворного человека, интересующегося философией, но ничего о ней
не знающего, Эпистемон — школьного ученого и полигистора133,
верящего в книги древних и презирающего естественное,
нешкольное мышление. Полиандр с возрастающим интересом и быстро
усваивает то, на что наводит его вопросами по сократическому
способу философствующий в духе «Размышлений» Евдокс, между
Oeuvres XI, Règles pour la direction de l'esprit, Règl. IV, pg. 224.
См.: кн. I, гл. Ш.
301
Куно Фишер
тем как Эпистемон присутствует при этом, покачивая головой, и
старается там и сям вставить свои замечания с миной ученого. В
Евдоксе мы видим (если не собственно философа, то) философски
настроенного читателя, в Полиандре — восприимчивого ученика,
и притом из таких, каких пожелал себе Декарт в заключение
своего «Discours».
Было время, когда Декарт не верил, что его учение сделается
общим достоянием, а его сомнение станет прообразом всякого
простого и естественно мыслящего ума. Когда он писал этот диалог, он
уже так не думал, Я считаю поэтому очень вероятным, что диалог
написан позднее «Размышлений» и «Discours» и относится к
последнему, рассчитанному на свободного от предрассудков читателя,
как поверка к вычислению. Потому-то диалог написан
по-французски. Он рассчитан на две книги, долженствовавшие всю систему
новой философии развить сократовским методом. Поэтому я
предполагаю, что диалог написан позднее, чем даже «Принципы»,
потому что нужно вполне освоиться с предметом, чтобы трактовать его
в диалогической форме. Что этот диалог, как полагает Мийе, есть
или должен быть тем «traité de l'érudition», которого пожелала
принцесса Елизавета, это кажется мне сомнительным, судя как по
его теме, так и по тем основаниям, которые побуждали самого
философа отклонить эту работу.
П. ЛОЖНЫЕ ПУТИ ПОЗНАНИЯ
1. Недостаток знания
Убеждение, до которого Декарт дошел очень рано и на
котором настаивал энергично, — что настоящее положение наук, как
внутри школы, так и вне ее, бедственное, — вызвало в нем идею
реформации научного мышления. Его отталкивала не бедность или
малый объем знаний, а недостоверный способ их обоснования; его
не удовлетворял не недостаток учености, так как уже Ренессанс
необычайно расширил материал образования, а недостаток
действительных познаний, который по мере углубления его
исследований все яснее представлялся ему причиной бедственного
положения наук. Он находил, что в том состоянии, в каком он их видел,
им недостает одного, в его глазах не только лучшего, но составляю-
302
Новый метод философии. Путь к системе
щего все, — знания. Очень правильно Декарта иногда сравнивали
с Лютером; возражение, что Декарт не был протестантом и не
хотел быть им, очень уж простовато. Речь здесь идет не о сыне
католической церкви, а о реформаторе философии, который
действительно относится к современному ему положению науки так
же, как Лютер — к современному ему состоянию церкви. Церкви
не хватает религии: таково было, говоря кратко, убеждение
Лютера, оно основывалось на его личной потребности в спасении.
Наукам не хватает знания: таково, говоря опять-таки кратко,
убеждение Декарта, оно основывается на его личной потребности в
знании и истине. Параллель эта неопровержима и проливает свет на
задачу и значение философа. Он находится в том пункте
философии, которого Ренессанс никогда не достигал и из-за преклонения
перед авторитетом древности не мог достигнуть.
2. Недостаток метода
Знание состоит в познании из оснований, познаваемых в
свою очередь из оснований же, которые коренятся в области
несомненно достоверного. Другими словами, это значит: все знание
состоит в определенном порядке и последовательности воззрений,
каждое из которых образует член крепко скованной цепи; каждое
из них делает шаг вперед по пути к истине и поэтому может быть
приобретено только прогрессивно развивающимся мышлением.
Чтобы идти вперед, нужно двигаться; чтобы прогрессировать в
мышлении, нужно напрягать собственную мыслительную силу. В
таком самостоятельном и упорядоченном мышлении состоит
метод; он является единственным путем к знанию, все остальные
пути ложны. Если поэтому Декарт при современном ему
состоянии наук не видит знания, то причиной зла, в его глазах, является
отсутствие метода. Либо нет собственного мышления (так обстоит
дело в школе, где царствует традиция), либо не хватает
упорядоченного мышления (так обстоит дело вне школы, где лишенное
плана стремление к новизне и авантюристические проекты
плутают по непроторенной дороге).
То, что мы воспринимаем в качестве традиционного учения,
является у нас не философским уразумением, а только историче-
303
Куно Фишер
скими сведениями. «И если бы мы прочли каждое слово Платона и
Аристотеля, то все же без уверенности в собственном суждении не
сделали бы и шагу далее в философии; обогатились бы только
наши исторические сведения, а не наше знание»*134. Чем менее
школьная ученость и обыкновенная философия — вульгарная, как
называет ее Декарт, — обладают действительными знаниями, тем
неустаннее собирают они с ненасытным любопытством сведения,
заполняющие память и возбуждающие дух, но не питающие его.
«Я думаю, что организм, больной водянкой, чуть-чуть более
нездоров, чем дух ненасытных многознаек»**135. Охота и погоня за
всякого рода сведениями есть смерть для методического мышления,
идущего вперед основательно и потому медленно, без всякого
стремления к нездоровой и бесплодной полноте. Многознайки не
мыслители, а собиратели; мыслитель ищет уразумения, и самое
ясное из них для него наиболее дорого, единственно ценно;
собиратель ищет сведений всякого рода, и самые редкие — для него
самые желанные; первый ценит выше всего ясность, второй —
редкость. Чем редкостнее скарб его сведений, чем труднее добыть его,
тем более значительным считает себя полигистор: он знает то, чего
другие не знают, он учен, другие неучены. К ложному знанию
присоединяется и ложное воображение, мания учености, на
которую еще Монтень смотрел как на чуму. Этим глубоким
отвращением к школьной учености и многознайству Декарт заставляет нас
вспомнить выражение Гераклита: жАлдаВСп vfov ob Siôôcora,136.
Не менее бесплодной, чем слепая погоня за ученостью,
представляется ему и слепая охота за открытиями, которой предаются
непризванные новаторы, научные авантюристы, похожие на
искателей кладов, которые копают землю на авось: они в большинстве
случаев ищут напрасно и если находят что-нибудь, то это
происходит не «par art», a «par un coup de fortune»"**137. Примерно так
же рассуждал и Бэкон, когда увидел необходимость сделать
мышление изобретательным, "а саму изобретательность — методической,
чтобы дело слепого случая стало намеренным делом искусства.
Лучше совсем не искать, чем искать впотьмах; это сквернейший
" Règl. HI,pg. 211.
Oeuvres XI, Rech, de la vérité, pg. 338.
■" Règl. X, pg. 253.
304
Новый метод философии. Путь к системе
способ поисков чего-нибудь, но безошибочный для того, чтобы
ослабить природное зрение. Неученый, здоровый ум, не развивавший
своих естественных мыслительных способностей, но и не
притупивший их, гораздо восприимчивее к истинному познанию, чем
испорченный слепым собиранием и исканием. Тип ученого поли-
гистора Декарт хотел изобразить в своем Эпистемоне; из
многочисленных примеров шарлатанства он имел перед глазами пример —
Шанду.
Ш. ПУТЬ К ИСТИНЕ
1. Задача знания
Как из мышления выходит знание? Вот тот вопрос, о котором
ведет речь методология: вопрос этот чисто теоретический и всецело
общий. Объектов познания много, и они различны, познание же
само едино, познавать достоверно, несомненно, т. е. истинно,
также возможно только одним способом. Каково отношение солнца к
вещам, которые оно освещает и делает видимыми, таково и
отношение разума, нашего внутреннего света, к объектам. Он является
одним и тем же для всех объектов. Вопрос о том, каким образом
этот свет создается в нашем мышлении или достигает высшей
активности, имеет поэтому значение для всех предметов, для всех
наук без изъятия. Учение о методе, которое должно разрешить его,
имеет поэтому значение универсальной науки, обшей теории
науки, которая имеет отношение ко всем разветвлениям познания и
делает их плодотворными. Ибо способность к знанию — это
основной капитал, и вполне обеспечить его значит увеличить богатство
знания до бесконечности.
Всякое познание достоверно в той мере, в какой достоверны
основания, из которых оно исходит; только из вполне достоверных
оснований может родиться свободное от сомнений познание,
только к этому и следует стремиться. Мы вовсе не хотим отдавать
предпочтение меньшему сомнению перед большим или большей
вероятности перед меньшей, чтобы из двух зол выбрать меньшее.
Познание есть высочайшее благо, его нельзя отыскивать по методу,
который можно рекомендовать только для выбора между тем или
другим злом. Но чем сложнее наше познание, тем больше число его
305
Куно Фишер
оснований и тем легче впасть в заблуждение; в области сложных
знаний господствует прежде всего вероятность, включающая в себя
сомнение, а с ним вместе недостоверность. Если человек хочет
свободного от сомнений познания, то должен начать с
простейших представлений, с наиболее доступных познанию объектов, с
легчайших проблем. Чем проще предмет, тем легче его продумать
вполне, до конца. Отвращение учености к ясности видно еще и в
том, что она имеет обыкновение предпочитать простым и легким
вопросам сложные и трудные, потому что относительно их можно
выставить множество воззрений и мнений и спорить так и сяк.
Одно-единственное ясное понятие ценнее и для познания
плодотворнее, чем множество неясных и туманных. Наш духовный свет
подобен действительному: он распространяется. Если в одном
месте все стало ясным, то ясность распространяется дальше; если
представление освещено вполне, то и другие также освещаются с
ним вместе, и в нашем мире мыслей начинает рассветать.
С туманом духа дело обстоит так же, как с действительным
туманом: когда испарения поднимаются от земли, то они вскоре
заволакивают все небо. Мы должны заботиться о том, чтобы туман
нашего духа не сгущался, а рассеивался; если наши представления
в самом корне своем неясны, то сгущается мгла, и наш
умственный мир омрачается. Чего стоит вся ученость, если она окутана
туманом? Не материал творит знание, а мышление; неправда
также, что трудные материи, как их обыкновенно трактуют, труднее
простейшего познания; напротив: «Гораздо легче, — говорит
Декарт, — иметь по какому-нибудь вопросу известное количество
смутных идей, чем в самом легком вопросе добраться до истины
как таковой»*138. Так же рассуждал Сократ о ценности истинного
познания и непригодности софистического мышления с его
важничающей ученой дребеденью. В каждой великой эпохе философии
присутствует гений Сократа!
2. Метод истинной дедукции
Теперь мы видим уже, с какого пункта начинается путь к
истине и в каком направлении он идет: он начинается с простей-
' Règl. П, pg. 209.
306
Новый метод философии. Путь к системе
шего воззрения, в котором все совершенно ясно, и идет далее к
сложным, составляющимся из достоверных и уясненных
элементов, как произведение из множителей. Метод познания поэтому
синтетичен, так как он приобретает и образует истины путем
прогрессивного сложения.
Все дальнейшие познания истинны только в том случае, если
они так же незыблемы и достоверны, как первое, а они могут быть
таковыми только в том случае, если яснейшим образом вытекают
из него: поэтому синтез состоит в логическом выведении всякой
истины из предшествующей и всех истин — из первой. Эта первая
истина является принципом всего познания, каждое выведенное
познание— принципом следующего. Доказывание при помощи
принципов Аристотель назвал в узком смысле силлогизмом, по-
латыни такое силлогистическое доказательство называется
дедукцией: этим словом Декарт обозначает свой метод, который он
отличает от аристотелевской дедукции так же, как Бэкон отличал свою
индукцию от аристотелевской.
По Декарту, нет другого критерия истины, кроме правильно
понятой дедукции. Нужно найти источник истины и отсюда
проследить направление движения с величайшей точностью и
осторожностью, шаг за шагом. «Что касается объектов научного
рассмотрения, то тут мы не должны руководствоваться чужими
мыслями и нашими собственными предположениями, а должны
следовать только тому, что мы сами можем познать ясно и отчетливо
или уверенно вывести». «Исходный пункт есть простейшая истина,
цель — совершенное познание вещей». «Нужно, —- говорит
Декарт, — постоянно иметь в виду следующие два пункта: не делать
ложных предположений и искать пути к познанию всех
• *139
вещей» .
По-видимому, два пути ведут к этой цели: опыт и дедукция.
Основатели новой философии стояли у этого перепутья и сделали
выбор в противоположных направлениях. Бэкон принял опыт за
единственный путь к истинному познанию, Декарт — дедукцию.
Ясно, почему он отверг бэконовский метод. Опыт начинается с
факта восприятия, т. е. со сложных объектов, познание которых
подвержено многочисленным иллюзиям. Из числа существующих
" Règl. Ш, pg. 209 и ел.
307
Куно Фишер
наук одни — диалектические, другие — эмпирические;
единственно дедуктивными являются математические, которые поэтому
одни свободны от заблуждений и недостоверности, ибо опыт
подвержен невольному обману, дедукция — нет. «Из этого вовсе не
следует, что арифметика и геометрия являются единственными
науками, достойными изучения; но отсюда вытекает, что кто ищет
пути к истине, тот должен заниматься только такими объектами,
познание которых столь же достоверно, как арифметические и
«140
геометрические доказательства» .
Декарт отличает этот дедуктивный метод не только от
эмпирического, но и от диалектического направления мышления,
господствующего в школьных науках. Опыт недостоверен, а
диалектика по отношению к истинному познанию бесполезна. В этом
именно пункте Декарт противополагает аристотелевской дедукции
свою собственную: первая состоит в диалектических ухищрениях
школы, в обычной силлогистике, при помощи которой приводится
в порядок и излагается в форме умозаключений то, что уже
известно, но не открывается неизвестное; она не создает познания, но
предполагает его, и относится не к философии, а к риторике. О
бесплодности этого рода дедукции, или обыкновенного силлогизма,
Декарт думает совершенно так же, как Бэкон. «Диалектики не
могут создать силлогизма, заключительный вывод которого
содержал бы истину, если его содержание уже не известно им заранее.
Поэтому обыкновенная диалектика совершенно непригодна для
исследования истины, она может служить только для того, чтобы
изложить результаты познания и объяснить их другим; поэтому ее
место вовсе не в философии, а в риторике»**141.
Наука должна, напротив, выводить из известного
неизвестное, находить новые истины, делать открытия, и притом
методическим путем, идущим от открытия к открытию. Каждая новая
истина есть задача, которую можно решить основательно и верно лишь
в том случае, если ясно познаны все условия, из которых решение
вытекает необходимо; они поэтому должны составлять ряд, в
котором каждый член является очевидным основанием
непосредственно за ним следующего. В такой непрерывности прогрессирующих и
" Règl. II, pg. 209.
" Règl. IV, pg. 217; X, pg. 256.
308
Новый метод философии. Путь к системе
открывающих выводов и состоит тот метод дедукции, которого
требует Декарт.
3. Универсальная математика.
Аналитическая геометрия
Рассказывая о юности Декарта, мы уже говорили о том, как
именно в этом отношении пример математики увлекал его и
помогал ему ориентироваться*. В математике он нашел научное
мышление, соответствовавшее его потребности, одновременно
систематическое и эвристическое, ведущее от задачи к задаче, от решения
к решению; здесь только и существовал метод решения проблем и
нахождения неизвестного по известному. В этом методе Декарт
признавал истинный дух математики, а не в школьной
дисциплине, сперва провозглашающей свои положения, а потом
доказывающей их; он видел также, как благодаря применению, развитию,
обобщению этого метода математические науки сделали
величайшие успехи. Уже древние под искусством решать геометрические
задачи понимали искусство определения неизвестных величин
посредством известных. Как из известного факта через его
расчленение и анализ находят неизвестные условия, из которых факт
вытекает, так и здесь из известной задачи или предположения ее
фактического разрешения познаются условия, необходимые для
этого факта, т. е. для решения задачи. Поэтому древние назвали
свой метод анализом; применение его состояло в сравнении
известных величин с неизвестными. Чем был этот анализ древних в
применении к фигурам, тем у новых математиков является
алгебра по отношению к числам; арифметика шире, чем геометрия,
алгебра есть уже обобщение аналитического метода; дальнейшее
развитие этого метода требует, чтобы его применение расширилось
на все учение о величинах или, что то же, чтобы алгебра была
применена к геометрии, чтобы геометрические проблемы решались
при помощи алгебраических вычислений или уравнений: этим
огромным шагом вперед и является аналитическая геометрия,
введенная Декартом. Геометрический анализ совершается путем
конструирования, аналитическая геометрия пользуется
уравнениями, следовательно, независимой от пространственного созерцания
Ср.: кн. I, гл. I, разд. II; гл. II, разд. III, 2.
309
Куно Фишер
логической операцией, метод которой одновременно обобщает и
упрощает математическое мышление.
Следует обратить особенное внимание на то, что саму
аналитическую геометрию Декарт открыл методическим путем,
вознамерившись соединить анализ древних и алгебру, ибо он познал их
тождество. «Человеческая душа имеет божественную способность к
познанию, давшую, несмотря на ложные пути, по которым идет
изучение, свои естественные плоды. В самых легких из всех наук,
в арифметике и геометрии, мы находим тому подтверждение. Уже
древние применяли в геометрии при решении проблем известного
рода анализ; в арифметике, как мы видим, цветет алгебра, цель
которой — применить к числам тот метод, который древние
применяли к фигурам. Эти оба вида анализа суть невольные плоды
принципа естественного мышления; я не удивляюсь, что в применении
к столь простым предметам они оказались гораздо плодотворнее,
чем в других науках, где на пути их развития стояли более
значительные препятствия, хотя они могли бы и здесь достичь полной
•142
зрелости, если тщательно развивать их» .
Здесь Декарт доходит до своей подлинной проблемы, для
познания и разрешения которой развитие математического метода в
анализе древних, в алгебре новых и в открытой им самим
аналитической геометрии является предварительной ступенью. После того
как он сделал универсальным этот метод в области математики,
или учения о величинах, оставалось только сделать познание всех
предметов математическим. Он должен сделать последний шаг в
расширении и обобщении математического метода, он должен
применить анализ ко всей совокупности человеческого познания и его
целей, для того чтобы увидеть, из каких условий вытекает истина
и из каких — заблуждение; Он должен поэтому разложить все
вольные и невольные ошибки человеческой природы на их
элементы.
Величина, к которой он хочет применить метод анализа, есть
человеческий дух. Это сам философ собственной персоной**.
Самый сложный из всех объектов должен быть разложен на его
простейшие факторы: в этой задаче заключались невероятные трудно-
' Régi. IV, pg. 217-218.
Ср.: кн. I, гл. П, разд. III, 3.
310
Новый метод философии. Путь к системе
сти, с которыми Декарт так долго боролся. Этот путь привел его
через область математики к такому пункту, где он как бы стоял
уже перед последней завесой. Поднять ее, дать полное и
универсальное распространение методу, все еще связанному с учением о
величинах и скрытому в нем, — вот то дело, которое он
предпринимает. Дело касается применения математического метода к,
познанию вселенной, дело идет о математике не только как об
учении о величинах, а как о теории науки, как об универсальной
математике. Метод, который по собственным словам Декарта,
закутан и закрыт в учении о величинах, должен быть в буквальном
смысле открыт. «В этом заключается цель, — продолжает Декарт
в вышеупомянутом месте, — которую я преследую настоящим
сочинением. Я не придавал бы такого большого значения этим
правилам, если бы они служили только для разрешения известных
проблем, которыми занимаются счетчик и землемер. В этом случае
я занимался бы только пустяками, быть может, с несколько
большей утонченностью, чем другие. Если же я и в этом сочинении
часто говорю о фигурах и числах, так как не могу ни у какой
другой науки заимствовать более ясных и более верных примеров, то
внимательный читатель без труда увидит, что я никоим образом не
занимаюсь обыкновенной математикой, а излагаю метод,
являющийся в математике более скрытым, чем глубоким. Этот метод
должен содержать элементы человеческого разума и служить для того,
чтобы извлекать из каждого предмета скрытые в нем истины.
Говоря откровенно, я также убежден, что он превосходит всякое другое
человеческое познавательное средство, ибо он начало и источник
всякой истины. ...Поэтому я оставил специальное занятие
арифметикой и геометрией, чтобы посвятить себя исследованиям
универсальной математической науки. Я сперва спросил себя, что,
собственно, понимается под «математикой», почему только
арифметика и геометрия считаются ее частями, а астрономия, музыка,
оптика, механика и столь многие другие науки не считаютсяр^лово
«математика» обозначает науку, поэтому поименованные
дисциплины имеют такое же право на это название, как и геометрия. ...При
внимательном рассмотрении этих вещей я нашел, что все науки,
имеющие дело с исследованием порядка и меры, относятся к
математике, совершенно безразлично, отыскивают ли они эту меру в
311
Куно Фишер
числах, фигурах, светилах, тонах или в других объектах; что
должна поэтому существовать универсальная наука, которая,
независимо от всякого особенного применения, обосновывает все
относящееся к порядку и мере и в силу этого заслуживает, чтобы ее
называли ее собственным и благодаря его древности почтенным
именем математики, так как все остальные науки являются ее ча-
•143
стями» .
4. Энумерация или индукция. Интуиция
Для разрешения задачи методическим способом мы должны
познать всю совокупность предварительных условий ее, все
узловые вопросы, через которые пролегает путь к решению; самое
полное перечисление этих пунктов, разложение главного вопроса на
необходимые для решения условия Декарт называет энумерацией
или индукцией. При помощи такого обозрения мы ориентируемся
в задаче и овладеваем ею; ничто не подготовляет более
основательного, более надежного решения, чем точное и исчерпывающее
знание проблемы. Если все узловые вопросы известны и расположены
в методическом порядке от обусловливаемого к его условиям, то с
полной достоверностью можно идти вперед от первых условий
через все промежуточные члены к решению проблемы. Возьмем
простой пример: последовательный ряд чисел 3, 6, 12, 24, 48 и т. д.
основывается на равенстве последовательных отношений: 3:6 =
= 6 : 12 = 12 : 24 = 24 : 48, а равенство этих пропорций зиждется
на том, что последующий член постоянно составляет удвоение
предыдущего. Таким образом, прогрессия ряда может быть
выведена из отношения единичных членов, а оно — из умножения
одного члена. Первое положение гласит: 3 х 2 = 6, 6 х 2 = 12, 12 х 2 =
= 24; второе: следовательно, 3:6 = 6: 12 = 12 : 24; отсюда
вытекает третье: числа 3, 6, 12 и т. д. образуют ряд, прогрессирующий
по закону удвоения. Таким образом непрерывность и связь входит
в наш мир представлений, и идеи располагаются в стройном
порядке. Чем больше ряд представлений, методически регулируемый
дедукцией, тем больше научный кругозор духа, тем больше сила
духа, которая его объединяет и держит в своей власти. Но чем
* Règl. ГУ, pg. 217-223.
312
Новый метод философии. Путь к системе
далее идет рад, тем более отдаляются его члены от первых условий,
породивших их, а вместе с тем и от источника их света. Можно
опасаться, что с этим возрастающим удалением ясность познания
будет умаляться. Поэтому следует часто пробегать весь ряд
мысленно, всякий раз скорее, пока не создастся возможность вполне
овладеть им и обозреть его в целом одним взглядом. Таким способом
человек отучает себя от естественной медлительности духа и
расширяет все более и более свой духовный кругозор, мышление
ускоряется, и вместе с тем создается большое облегчение для памяти,
ибо для того, чтобы удержать много представлений, нет лучшего
средства, чем продуманное, дедуктивное связывание их. Методи-
•144
ческое мышление — самая надежная мнемоника
Но как же начинается дедукция? Этот вопрос,
указывающий уже на начало системы и подготавливающий переход к ней,
мы умышленно поставили в конце учения о методе. Каждый член
ряда обоснован предыдущим, следовательно, он опосредствован
всеми предшествующими членами, и в тем большей степени, чем
далее он отстоит от первого члена, не зависящего уже ни от какого
предыдущего. Поэтому началом дедукции является не
умозаключение, а непосредственная достоверность, вполне ясное при свете
разума созерцание или интуиция, как говорит Декарт. Путь
познания должен начинаться с интуиции и проходить через
дедукцию — оба эти рода познания являются единственным средством
достоверности, единственными условиями, благодаря которым
существует наука. «Принципы могут быть познаваемы только
интуицией, дальнейшие следствия — только через дедукцию». «Весь
метод состоит в порядке и в последовательности объектов, в
отношении которых дух пытается исследовать истину. Чтобы следовать
за руководящей нитью этого метода, нужно шаг за шагом сводить
запутанные и темные положения ко все более простым и затем
исходить из созерцания последних для того, чтобы также шаг за
шагом доходить до познания последующих. Только в этом состоит
полнота метода, и этого правила всякий, желающий проникнуть в
науку, должен держаться так же, как нити Тезея — тот, кто хочет
пройти через лабиринт. Есть, конечно, много людей, которые, по
незнанию или нежеланию, оставляют без внимания методологию
" Règl. VI, pg. 226-233, Vni, pg. 23Ф-235, XI, pg. 257-258.
313
Куно Фишер
и желают труднейшие вопросы разрешить таким же
малоподходящим образом, как тот, кто задался целью одним прыжком достать
до верха высокого здания, потому что он или пренебрегает
лестницей, ведущей туда ступень за ступенью, или вовсе ее не замечает.
Так поступают астрологи, которые, не производя наблюдений над
природой и движением звезд, определяют их действие; так
поступают многие люди, занимающиеся механикой без физики и
наудачу фабрикующие машины; так поступает и большая часть
философов, не заботящихся об опыте и думающих, что истина
выпрыгнет из их голов так же, как Минерва из головы Юпитера»"145.
Методическое решение задачи требует систематической эну-
мерации или индукции всех ее условий, которые должны быть
сведены к интуитивному познанию, исходя из которого дедукция
систематически продвигается вперед. В этом состоит вся
картезианская методология. Дедукция начинается с интуиции. Но каков
объект последней? Он не может быть ничем, кроме условия
всякой дедукции, которая как таковая сама уже ниоткуда не
выводима. Как все видимые предметы существуют при условии зрения,
так и все познаваемые предметы существуют при условии
познания, или интеллигенции. Достоверность последней должна
предшествовать поэтому познанию вещей. В ней заключается принцип
дедукции, и мы видим уже многозначительное начало системы. По
методологическим соображениям Декарт требует исследования
способности познания прежде всего, и критический дух его
философии является в этом требовании таким ясным и
самосознательным, что можно подумать, что в этом месте мы уже касаемся
порога кантовской философии. «Важнейшей из всех проблем,
требующих решения, является уразумение природы и границ
человеческого познания: эти два пункта мы сливаем в один вопрос,
который нужно методически исследовать прежде всего. Этим вопросом
должен задаться хоть раз в жизни каждый, кто имеет хоть
малейшую любовь к истине, потому что ее исследование заключает в се
бе весь метод и как бы истинный органон познания. Ничто не
кажется мне нелепее смелых и бесплодных споров о тайнах
природы, о влиянии светил, о сокровенных вещах будущего без того,
' Règl. Ш, pg. 211-212, pg. 214; V, pg. 225.
314
Новый метод философии. Путь к системе
чтобы хоть раз исследовать, может ли человеческий дух идти так
•146
далеко» .
Единственный объект интуитивного познания есть в то же
время и основание всех познаваемых вещей и потому путеводная
нить дедукции; это основание — сама интеллигенция. Все прочее
я познаю путем умозаключений, следовательно, с помощью
промежуточных членов; в одном объекте я уверен непосредственно: в
себе самом, в своем собственном бытии, в своем мышлении.
«Каждый может интуитивно познать, что он существует, что он
мыслит»*"147. Эти положения Декарт дает в своем учении о методе
в качестве примеров интуиции или непосредственной
достоверности. Это принципы его системы. Посмотрим теперь, как эти
основные истины отыскиваются методическим путем и как при их
помощи разрешаются дальнейшие задачи.
" Régi. VDJ, pg. 245-246.
"• Règl. Ш, pg. 212.
ГЛАВА ВТОРАЯ
НАЧАЛО ФИЛОСОФИИ: МЕТОДИЧЕСКОЕ СОМНЕНИЕ
L ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОБЪЕМ СОМНЕНИЯ
1. Традиция школы
Со времени распространения картезианского учения первые
положения его — *я сомневаюсь во всем», *я мыслю,
следовательно, существую» — сделались всем известными изречениями,
которыми, как это обыкновенно случается, забавляются невежды. Не
изучивший тщательно возникновения этих положений в уме
Декарта может видеть в них только знакомые слова. Как могло
проникнуть столь глубокое и всеобъемлющее сомнение в столь
предусмотрительный и осторожный ум? Оно было не плодом
вдохновения минуты и не смелым, быстро принятым решением, а
продуктом продолжительного самоисследования, имевшего своим
следствием такой точный и лаконичный результат. От первых
сомнений, пробудившихся еще в школе, до сомнения, которым философ
обосновывает свою систему, проходит много лет.
Первые сомнения касались школьной науки и книжной
учености; в этой науке заключалось много противоречащих друг другу
учений разных времен и различных ученых, сваленных в одну
кучу и передававшихся без критики, благодаря стараниям и
авторитету школы. Принятию столь несистематического и
необоснованного традиционного учения противится потребность в истине,
требующая связи объектов и познания из оснований, познания из
собственного мышления и собственного опыта, требующая науки,
почерпнутой не из чужих познаний и книг, а, как говорит Декарт,
«из меня самого и книги мира».
316
Начало философии: методическое сомнение
Однако собственное мышление и опыт еще не гарантируют
познания истины. Оба они могут обманываться. Отречение от веры
в учителей и в книги ради того, чтобы не быть введенным в обман
другими, мало помогает нашей потребности в истине, если мы
успокаиваемся на самообманах собственного мышления. Многие
кичатся всякого рода сомнениями и находятся при этом во власти
самого суетного и плоского самообмана. Человеческая природа,
независимо от всякого искусственного воспитания, тоже идет по
пути традиции и мнит себя самостоятельной там, где она
находится в наибольшей зависимости. Сомнение в нас самих, в
собственном превосходстве проникает глубже, и оно гораздо важнее,
потому что является гораздо более трудным, чем скептическое
отношение к внешним авторитетам. Речь идет теперь о сомнении,
прослеживающем человеческий самообман до последнего закоулка.
2. Человеческий самообман
Мы находим в себе множество укоренившихся и как бы
опирающихся на право давности представлений, благодаря привычке
ставших нашей второй натурой, так что удержаться от них бывает
трудно; они покоятся на наших первых впечатлениях, на детской
вере, и мы склонны полагаться на эту веру. Но опыт все же
научил нас считать некоторые из этих унаследованных представлений
ложными. Почему же и остальные не должны быть ложными? Нет
никакой гарантии их истинности. Если мы хотим продолжать путь
уверенно, то должны считать все если не ложным, то все-таки
недостоверным и сомнительным .
Так, потрясая все, сомнение проникает в наш собственный
внутренний мир и не успокаивается до тех пор, пока не
натолкнется на представления, оказывающие ему сопротивление. Если
фантазии детства и рассеиваются или начинают колебаться, то
чувственные восприятия сомнению сопротивляются. Но эти
представления тоже укоренились в нас, они так же стары, как вера
детства, и относятся к ее области; невероятно, чтобы при
недостоверности последней такие представления составляли единственное
Oeuvres I, Méd I, pg. 235-236; Oeuvres III, Princip. philos., I, § 1,
pg. 63-64.
317
Куно Фишер
исключение. Вещ» чувства уже так часто обманывали нас, что для
нас невозможно считать истинными все их представления. Если
мы всерьез хотим уберечься от самообмана, то нам следует не
вполне доверяться нашим чувственным восприятиям, и потому нужно
впустить сомнение и в эту мнимую крепость достоверности. Ибо
непродуманная и потому опрометчивая вера в реальность наших
чувственных впечатлений есть также самообман.
Однако некоторые из этих восприятий, по-видимому,
несомненно достоверны. Наше собственное тело и его члены, наши
нынешние телесные состояния и деятельность, очевидно, суть
явления, реальности которых никто не оспаривает. Но и здесь
уместно усомниться, имеет ли эта реальность значение при всякого рода
обстоятельствах. Существуют довольно частые и известные случаи,
когда эти чувственные представления, казалось бы, достовернейше-
го характера оказываются пустыми фантазиями, вводящими нас в
заблуждение одной видимостью действительности. Всякий раз,
когда мы грезим, мы испытываем эту иллюзию. Мы переживаем то,
что видим во сне, и видим во сне то, что переживали; одни и те
же явления являются то объектами опыта, то образами
сновидения: в первом случае они считаются истинными, во втором —
ложными. Поэтому в том, что представляется, нет гарантии его
реальности; объекты чувств реальны не потому, что они
чувственны, и не потому, что они эти объекты, так как они как таковые
могут быть также и воображаемыми. Они существуют в
действительности, если они не сновидения. Для познания этой
действительности и устранения всякого сомнения в ней должен
существовать признак, по которому мы были бы в состоянии отличить
точно, безошибочно и в любом случае сон от бодрствования. Такого
критерия нет. «Тщательно обдумывая этот вопрос, я не нахожу ни
единого признака, по которому достоверно можно было бы
отличить состояние сна от бодрствования. Они так походят друг на
друга, что я бываю озадачен и не знаю, не грежу ли в данный
момент!»*149.
В дальнейшем ходе самоисследования Декарта факт сна
является значительным моментом, тяжесть которого неоднократно
падает на чашу весов сомнения. На этой стадии он разбивает якобы
' Méd. I, pg. 238; Princ, I, § 4, pg. 64-65.
318
Начало философии: методическое сомнение
большую достоверность чувственных объектов. «Как же ты можешь
быть уверен, — спрашивает Евдокс, — в том, что вся твоя
жизнь не непрерывное сновидение?»150. Эти слова напоминают
нам глубокомысленное изречение Кальдерона: «В этом мире чудес
вся жизнь есть лишь сон, и человек, думается мне, видит во сне и
свое бытие, и свои поступки, словом, на этом земном шаре все
грезят о том, что переживают!»
Пока ясно, что те же самые явления, которые в состоянии
сна вполне воображаемы, во время бодрствования могут считаться
реальными только тогда, когда мы будем иметь возможность
отличить оба состояния самым достоверным образом.
Однако в чувственных объектах остается еще нечто,
оказывающее сопротивление сомнению. Если бы даже эти объекты все без
исключения были сновидениями, все-таки не все в них могло бы
быть измышлено и воображено; образ сновидения, как и всякий
образ, есть синтез, состоящий из известных элементов, без которых
не может составиться никакая композиция. Как бы воображаема
она ни была, ее основные составные части даны и имеют
неоспоримое притязание на реальность. Без некоторых элементарных
представлений, таких как пространство, время, протяжение,
фигура, величина, число, место, продолжительность и т. п., не может
быть никаких чувственных объектов, никаких образов, никаких
сновидений. Как картина предполагает краски, а не творит их, —
так же и эти элементы относятся к пестрому и многообразному
миру наших представлений. Перед этими последними условиями
всех чувственных объектов сомнение, по-видимому, должно
остановиться**151.
Но следует прежде всего спросить, кем даны эти элементы, из
которых состоят все наши представления и фантазии, и ручается
ли за их реальность тот, кто нам их дал? Ибо данное и извне
воспринятое еще не имеет как таковое печати истины, иначе всякое
предание следовало бы считать достоверным. Но ведь сомнение
уже в начале своих исследований столкнулось с традиционными
представлениями и нашло их сомнительными потому, что они
были только традиционными. Конечно, недостоверность этих тради-
Rech. de la vérité, pg. 350.
" Méd. I, pg. 238-240.
319
Куно Фишер
ций относится на счет их человеческого происхождения, теперь
же, напротив, вопрос касается таких представлений, которые
кажутся нам врожденными и не относятся к произведениям
человеческого предания: поэтому их происхождения нужно искать по ту
сторону человеческих вещей, в самом Боге как основе нашего
бытия и причине мира.
Таким образом, сомнение стоит непосредственно перед
высшим объектом веры, и возникает вопрос, следует ли нам в
интересах серьезного самоисследования успокоиться на допущении
мысли о божественном происхождении некоторых наших
представлений и исключается ли при таком допущении сама собой
возможность обмана? Чем несовершеннее представляем мы себе этого
Бога — в виде ли судьбы, или случая, или естественной
необходимости — тем менее он имеет силы предохранить нас от обмана;
чем более совершенным является он, как всемогущий дух, тем
более он имеет силы ввергнуть нас в обман. Если же он имеет
силу, то почему ему не хотеть этого? Может быть, вследствие его
благости? Если он не хочет, чтобы я заблуждался, то почему я
заблуждаюсь? Очевидно, его воля не удерживает меня от
заблуждения, а его сила в состоянии меня ослепить. Возможно, что я живу
в мире миражей, в мире обмана и мечты — для того ли, чтобы
когда-нибудь от него освободиться, или для того, чтобы никогда не
достигнуть света истины; возможно, что божественное
всемогущество меня создало так, что мир, мной представляемый, существует
только в моем воображении, сам по себе не имея ни истинности,
•152
ни реальности
Во всяком случае, такое допущение возможно и есть нечто
большее, чем просто выдумка мучающегося собой мечтателя;
представление о том, что чувственный мир, в котором мы живем, есть
призрачный мир, ослепляющий нас и вводящий в обман, в виде
идеи Майи составляет тему самых древних религий мира. Так
глубоко опускается при самоисследовании у нашего философа лот
сомнения, что проникает также и в это представление, причем
оправдывается его возможность, и с этим вместе рушится
последняя твердыня, в которой обычная, питающаяся чувственной
достоверностью вера защищается от скептика.
' Ibid., pg. 240-242; Princ, I, § 5, pg. 65-66.
320
Начало философии: методическое сомнение
Таким образом, в моих представлениях не остается ничего, в
чем невозможно было бы усомниться и в чем мы не должны бы
были усомниться, если желаем совершенно избавиться от всякого
самообмана. Возможно, что многие из этих представлений
истинны: мы этого не знаем, ибо ни одно из них еще не оправдалось. Из
познания этой сплошной недостоверности наших представлений
следует девиз: «Я сомневаюсь во всем*. «Что я могу привести
против этих доводов? Я не имею данных для их опровержения. В
конце концов я вынужден открыто сознаться, что во всем, чему я
раньше верил, я должен сомневаться, — не из опрометчивости
или легкомыслия, нет! по солидным и продуманным основаниям, и
что вместе с тем, если истина вообще имеет для меня какое-либо
значение, я буду так же тщательно остерегаться становиться на
•153
сторону недостоверного, как и очевидно ложного» .
П. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ
СОМНЕНИЕ
Со всем нашим миром представлений, не выдержавшим
испытания самопроверки, мы находимся в сетях самообмана и
привыкли к нему. Сомнение стремится только коснуться тут и там
этой привычки и только местами сделать в ней брешь, оно
стремится охватить ее во всем объеме и освободиться от нее: оно
хочет отучить нас от самообмана. Нет привычки сильнее веры,
нет ничего более трудного, чем отвыкнуть от нее, направив на нее
сомнение. И если сомнение действительно должно обладать силой
уничтожить самообман, то недостаточно постигнуть его, понять,
представить ясно его основания; мы должны привыкнуть к этому
образу мыслей, сжиться с этим критическим направлением мысли,
как раньше сжились с некритическим. Первое настолько же
трудно, насколько второе было легко и удобно. Привычка к самообману
образуется сама собой, отвыкание же достигается при помощи
дисциплины духа и метода. «Далеко не достаточно заметить эту
необходимость; нужно постоянно снова вспоминать о ней, так как
привычные мнения постоянно возвращаются к нам, вновь
овладевают нашим легковерным чувством, которое подчиняется им как
* Méd. I, pg. 242; Princ, I, § 2; Rech, de la vérité, pg. 351.
321
Куно Фишер
бы по праву давности; невольно возвращаются они ко мне назад, и
я не могу отвыкнуть соглашаться с этими представлениями и
доверять им. Хотя я знаю, насколько они сомнительны, все-таки они
кажутся настолько истинными, что охотнее веришь в них, чем в
•154
них сомневаешься»
Сомнение становится принципом, критическое направление
ума — сознательным решением воли и максимой. Я хочу быть
свободным от самообмана, и притом не в том или другом случае, не
только здесь или теперь, но принципиально и полностью. Как
самообман является сплошным и привычным, так и сомнение,
призванное устранить его, должно стать таким же сплошным и
укорениться в нашем образе мыслей. Нужно хорошенько заметить, куда
направляет это сомнение свое жало. Оно противодействует не тому
или иному представлению, не религиозным представлениям,
например, о которых многие прежде всего думают, когда заходит речь
о сомнении, а направляется против такого состояния человека,
которое видит даже близорукий: против состояния нашего
самообмана, воображения, ослепления. Кто отвергает или оспаривает
сомнение Декарта, тот должен одобрять состояние нашего
самообмана. Кто считает полезным не предаваться такому сомнению, тот
должен считать за лучшее, чтобы мы коснели в нашем
самоослеплении. Стало быть, бояться такого сомнения может не серьезное
религиозное чувство, а ослепленное. Противоположностью
самообмана является правдивость перед самим собой. Из этого источника
исходит всякая истина и всякое стремление к истине. Кто не
искренен с самим собой и не имеет мужества узреть своих
ослеплений, тот не имеет вообще никакой любви к истине, он вообще
неискренен, и откровенность, свойственная ему в других
обстоятельствах, ложна по своей сути. Вот какова, стало быть, цель
картезианского сомнения и задача, которую оно себе ставит: будь
правдив по отношению к самому себе. Не убеждай себя и не позволяй
убеждать себя, что ты таков, каков ты не есть, что ты познал то,
что тебе не совсем ясно, что ты веришь в то, в чем, в сущности,
сомневаешься или должен бы сомневаться!
Так глубоко проникает исследующий и критический дух
Декарта: он хочет вместо самообмана самопросветления, он заботится
" Méd. I, pg. 242-243.
322
Начало философии: методическое сомнение
только о собственном интеллектуальном укладе, а не о мире, его
сомнение направлено только против значимости наших
представлений, а не против состояний мира, и поэтому оно является не
практическим, а исключительно теоретическим.. «Я знаю, что это не
породит ни опасности, ни заблуждения, мне нечего бояться
чрезмерности недоверия, так как я занят в настоящее время не
практическими, а теоретическими задачами. Таким образом, я допускаю,
что не всеблагой Бог есть источник истины, а какой-нибудь злой и
вместе с тем сильный демон, прилагающий все свое искусство к
тому, чтобы ввергнуть меня в обман. Я хочу держаться того
мнения, что небо, воздух, земля, краски, формы, тона и все, что я
воспринимаю извне, суть ложные образы сновидений, с помощью
которых этот злой дух расставляет сети моему легковерию; я хочу
рассматривать себя самого так, как если бы я не имел в
действительности ни глаз, ни плоти, ни крови, ни какого бы то ни было
чувства, а обладал бы всем этим только в воображении; я хочу
остановиться на таком способе рассмотрения вещей и укрепиться в
нем. Если тогда не в моей власти будет познать истину, то все-таки
я буду в состоянии уберечься от заблуждения; я хочу поднять ум
против этого духа лжи, и будь он еще сильней и еще хитрей, он
не пересилит меня! Однако мне предстоит очень трудное дело.
Инертность постоянно тянет меня назад к старой привычке жизни,
и как пленник, радующийся во сне воображаемой свободе,
страшится проснуться, когда начинает замечать, что он спит, и
старается возможно дольше удержать благодетельные образы сна, так и я
гляжу на старые представления и страшусь проснуться; я боюсь
бодрствующего полного забот бытия, которое будет следовать за
приятным сном и сулит в будущем не ясный свет, а
беспросветную темноту уже возбужденного сомнения»*155.
Отступление невозможно. Из самого сомнения должен выйти
свет истины.
* Ibid., pg. 243-245.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПРИНЦИП ФИЛОСОФИИ И ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ
I. ПРИНЦИП ДОСТОВЕРНОСТИ
1. Собственное мыслящее бытие
Нет представления, истинность которого была бы для меня
явной; напротив, все они таковы, что я вижу их недостоверность.
Против внушенных в детстве представлений свидетельствует опыт,
опровергший их в столь многих случаях; против чувственных
представлений свидетельствует обман чувств, против кажущихся досто-
вернейшими чувственных восприятий — сон, наконец, против
реальности элементарных представлений, лежащих в основании
всех остальных, восстает возможность того, что чувственный мир
вообще есть несуществующий, кажущийся мир, что мы в самом
основании нашего бытия погружены в обман и иллюзию. Таким
образом, все сомнительно, и нет ничего достоверного, кроме самого
этого сомнения. Все сомнительно, то есть я сомневаюсь во всем.
Столь же достоверно, как первое положение, и второе: столь же
достоверно, что я существую. Если я отвлеку мысленно от моего
самообмана обман, то останется моя самость; если первый
возможен, то вторая необходима. Без самости нет самообмана, нет
сомнения.
Вот пункт, которого уже не может коснуться и поколебать
сомнение, так как оно само исходит из него. «Только одной непод-
324
Принцип философии и проблема познания
вижной точки опоры требовал Архимед для того, чтобы поднять
землю; мы также можем надеяться на многое, если только найдено
хоть самое малое, установленное прочно и непоколебимо».
Допуская даже, что мы загнаны злым демоном в мир иллюзии и обмана,
мы все-таки существуем, все равно, в каком состоянии духовного
ослепления, но мы существуем. «Если этот демон меня
обманывает, то ведь ясно, что и я существую; пусть он обманывает меня,
сколько может; никогда ему не удастся сделать так, чтобы до тех
пор, пока я мыслю, что нечто существует, я сам не существовал
бы. И таким образом, после многих и многих обсуждений, я
прихожу к заключению, которое неоспоримо: что положение «я есмь, я
существую» в тот момент, когда я его высказываю или мыслю,
необходимо истинно»*156.
Следующий вопрос гласит: что я есмь? Нельзя дать ответ «я
человек» или «я — это тело», так как ведь возможно, что тела
вообще только призраки; поэтому я не имею права объяснять
особенность моего существа при посредстве такой деятельности,
которая, подобно самодвижению, питанию, ощущению, хотя и
приписывается душе, но не может существовать без тела. Если я отделю
от себя все сомнительное, то не остается ничего, кроме самого
сомнения. Если не существует ничего из того, что я считаю
недостоверным, все же остается моя неуверенность; если я не
представляю собой ничего из того, что я о себе воображаю, то все-таки
остается мое воображение; если ложно все, что я утверждаю или
отрицаю, то истинно все же то, что я утверждаю или отрицаю.
Итак, сомнение, воображение, утверждение, отрицание и т. д. суть
роды мышления. Мышление остается по отвлечении всего
сомнительного, в нем поэтому заключается неотъемлемая особенность
моего существования, мое мышление есть мое истинное бытие. Я
мыслю, сжомательно, существую. «Зачем мне создавать себе
другие фантазии? Я не есмь тот организм, который называется
человеческим телом, я также не тонкое проникающее во все члены
эфирное вещество, не ветер, не огонь, не пар или дыхание, ничто
из всего того, что я есмь в моем воображении. Я ведь допустил, что
Méd. II, pg. 246-248; Princ, I, § 7. В «Rech, de la vérité» Евдокс
обозначает сомнение во всем (ce doute universel)
вышеприведенным выражением «Размышлений» — как «un point fixe et
immuable».
12 Куно Фишер
325
Куно Фишер
всех этих вещей нет в действительности: это допущение остается;
несмотря на это, я все же есмь нечто». Я есмь мыслящее существо:
в этом положении Декарт находит требование Архимеда
исполненным по отношению к познанию предметов. Если бы я захотел
усомниться в достоверности моего мышления, то я подверг бы
сомнению саму возможность сомнения и должен был бы вернуться к
старому обману. Поэтому положение «я мыслю, следовательно,
существую» исключает всякую недостоверность; оно первая и
самая достоверная истина, которую может найти всякий, кто
философствует методически*157.
Если на вопрос: *Что я есмь?* ответить, например: «Я
человек», — то следует продолжать ставить вопросы и определить
неизвестный вид еще более неизвестным родом, совсем так, как
предписывает «генеалогическое дерево Порфирия»158. Что такое
человек? Что такое разумное животное, живое тело, жизнь, тело, вещь
и т. д.? Целый лабиринт темных понятий! Напротив, ответ: «Я
сомневающееся, а потому мыслящее существо» не может таким же
точно образом свестись к бесконечному регрессу понятий: что
значит сомневаться, мыслить и т. д. На такое возражение школьного
философа Эпистемона метко отвечает Евдокс: «Нужно сомневаться
и мыслить, чтобы знать, что это такое». Ни один переживающий
эту деятельность не спрашивает ни о роде ее, ни о виде, ибо она
**159
ему ясна непосредственно .
2. Правило достоверности,
дух как самый ясный объект
Всякое положение, которое так же ясно, как и
самодостоверность собственного мыслящего бытия, точно так же истинно. В
данном случае представляемый объект непосредственно
наличествует, поэтому непосредственно ясно, что он есть и что такое он
есть. Присутствие предмета делает созерцание ясным. То, что он
вместе с тем является в своей существенной особенности, не
смешиваясь с другими вещами, делает созерцание отчетливым. «Яс-
' Méd. П, pg. 248-253; Oeuvres I, Disc, de la méthode. Part. IV,
pg. 158; Prmc, I, § 7-10.
" Rech, de la vérité, pg. 354-371.
326
Принцип философии и проблема познания
ным я называю представление, если оно наличествует перед
внимательным духом и открыто ему, подобно тому как говорится, что
мы видим ясно, если объект присутствует перед созерцающим
глазом и зрительное впечатление достаточно сильно и определенно;
отчетливым же я называю представление, которое ясно и вместе с
тем так определенно отличается от всех других, что даже в своей
особенности оно очевидно для правильного рассмотрения». И то, и
другое может быть отнесено к положению самодостоверности: оно
вполне ясно и отчетливо; оно было бы менее достоверным, т. е.
недостоверным, как все прочее, если бы имело эти качества в
меньшей степени. Ясность и отчетливость суть поэтому критерии
достоверности, или истины; принцип или «régula generalis» последней
наш философ соответственно этому выражает следующей
формулой: «Что я постигаю ясно и отчетливо, то истинно»160.
Из положения о достоверности следует правило познания.
Важно немедленно же сформулировать одно из его следствий. Чем
меньше ясность и отчетливость представления, тем меньше степень
его достоверности, с которой явствует его истинность и реальность.
Но ясность обусловлена присутствием объекта или
непосредственностью наших представлений, поэтому чем более опосредованны
последние, т. е. чем больше число промежуточных членов между
представлением и объектом, тем менее ясно наше познание. Ничто
не стоит перед нами так непосредственно, как наше собственное
существо; положение, что каждый ближе всего самому себе, нигде
не имеет большего права на признание, чем в познании. Я есмь
мыслящее существо, или дух. Дух поэтому самый ясный из всех
объектов, его бытие и существо очевиднее, чем существование
вещей вне нас, телесных объектов, представление которых
опосредствовано чувствами. Чувственные представления не ясны, потому
что они опосредствованы; они не отчетливы, потому что к природе
предмета примешивается природа моих чувств. Сделать предмет
отчетливым значит представить его в чистом виде, выделить из
него все чуждое, а это можно сделать только путем исследования и
критического отношения, т. е. путем суждения и мышления.
Представлять ясно и отчетливо значит мыслить. Из правила
достоверности следует поэтому положение, в котором выражается рациона-
' Méd. III, pg. 264; Disc, IV, pg. 159; Princ, I, § 45.
327
Куно Фишер
лизм учения Декарта: истинное познание возможно только при
помощи мышления. Только мышление просветляет и очищает
наши идеи вещей.
Всякое представление, которое я имею, есть мое: достовернее
поэтому, чем что-либо другое, доказывается каждым
представлением то, что я есмь. Тело существует, потому что я его осязаю;
однако возможно, что его нет, что я только воображаю, что я осязаю
его, может быть, что я грежу; но одно следует с неопровержимой
достоверностью— что я, осязающий или воображающий себя
осязающим тело, в действительности существую. Что мыслящая
природа яснее и очевиднее телесной, кажется обыкновенному
сознанию нелепым утверждением; тела ведь так отчетливы, потому
что их можно осязать и видеть. Это утверждение покажется менее
нелепым и природа чувственно воспринимаемого тела менее
отчетливой, если серьезно попытаться постичь ее. Что составляет в
этом куске воска, воспринимаемом нами, как твердое, осязаемое
тело, объект отчетливого представления? Только что воспринятые
свойства не являются таковым объектом, воск тает, и их более нет
налицо. Остающийся объект есть нечто протяженное, гибкое,
переменчивое, которое благодаря своей протяженности может пройти
бесконечный ряд количественных состояний, а благодаря своей
гибкости и изменчивости — бесконечный ряд форм. Это
бесконечное многообразие нельзя охватить никаким чувственным
представлением, а можно только мыслить*161.
П. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ
1. Представление существа вне нас
Если истинное познание состоит в ясности и отчетливости
представлений, которые сами возможны только при помощи
мышления, то возникает вопрос, как благодаря мышлению происходит
познание вещей? Моя уверенность простирается лишь настолько,
насколько и моя собственная мыслительная деятельность; где она
прекращается, там начинается неуверенность. Если мы представим
себе внутренний и внешний мир как две полусферы мира, то одна
из них лежит в освещенной области, другая в теневой. Если свет в
* Méd. II, pg. 256-258; Princ, I, § 8-12.
328
Принцип философии и проблема познания
нас не освещает темного мира вне нас, то мы остаемся
относительно бытия его в состоянии неуверенности и сомнения. Вот пункт,
заключающий в себе проблему познания: каким образом из нашей
самодостоверности вытекает достоверность того, что существуют
вещи вне нас? Обобщая вопрос, мы должны спросить, есть ли
вообще такое существо вне нас, бытие которого явствовало бы для
нас с такой же ясностью и отчетливостью, как собственное
мыслящее бытие? Есть ли в нас такое представление, из которого
явствовало бы бытие такого существа?
Исследуем несколько подробнее разнообразные виды
представлений, находимые нами в нашем внутреннем мире: одни из них
кажутся нам изначальными, или врожденными, другие—
произвольно созданными, большая часть— воспринятыми извне.
Последние — чувственные — представления мы считаем действием
или отражением внешних вещей и потому — несомненным
свидетельством существования вещей вне нас. Мы уже знаем, как
необоснованно такое воззрение, как часто чувства и всякий раз сны
обманывают нас. Чувственное представление как таковое никогда
не бывает ложным. Достоверно, что я имею это восприятие, что я
представляю себе солнце как круглый движущийся диск; из этого,
однако, не следует, что солнце есть на самом деле такой диск. В
этом умозаключении кроется заблуждение; оно коренится не в
свойстве моего представления, а в том, что я мое восприятие
считаю свойством и состоянием вещи вне меня, а это значит не иметь
представление, а судить о нем. Когда мы говорим, что
представление в нас есть действие или отражение вещи вне нас, мы судим;
когда мы относим чувственное представление к внешнему
объекту, то наше суждение необоснованно. Здесь еще не место решать
окончательно вопрос, может ли вообще существование тел быть
обосновано нашими чувственными восприятиями. Здесь мы только
объясняем, что чувственная структура наших представлении не
дает оснований искать причину или оригинал вне нас самих.
Основания, приводимые в защиту этого положения, ничего не
доказывают; напрасно ссылаются на то, что чувственные представления
возникают непроизвольно и что их отношение к внешним
предметам вызывается природным инстинктом. Эти инстинкты не
безошибочны: независимость этих представлений от нашего произвола
329
Куно Фишер
не исключает того, что они непроизвольным образом вытекают из
условий нашего существа. И предполагая даже, что они —
результат воздействия внешних объектов, все-таки нельзя сказать, что
они относятся к своим причинам как отражения к оригиналам, так
как действие может быть очень не похоже на его причину.
Поэтому может быть установлено, что наши чувственные представления
отнюдь не уполномочивают нас на достоверное суждение о том,
что существуют веши вне нас. Поэтому если идея внутри нас
должна сделать достоверным бытие существа вне нас, то она не может
быть чувственным представлением*162.
2. Принцип причинности
Таким же достоверным, как мыслящая природа нашего
собственного существа, благодаря которой мы имеем представления,
является и положение причинности: «Из ничего не выйдет ничего,
всякое нечто есть действие производящей причины». Если бы в
причине заключалось менее, чем в действии, то этот избыток
происходил бы из ничего. Из этого следует, что причина никогда не
может быть менее, чем действие, а должна содержать в себе более
или столько же реальности, сколько и действие. В первом случае
она относится к действию как художник к художественному
произведению, так как в художнике заключено больше, чем в одном из
его произведений; во втором случае она относится к действию как
форма к отпечатку: первую группу причин Декарт называет «causa
eminens», вторую «causa formalis»163. Если мы допустим, что в нас
находится идея, содержащая в себе больше реальности, чем наше
собственное существо, то станет ясным, что мы ни эминентно, ни
формально, а следовательно, и вообще не можем быть ее
причиной, что, следовательно, причина этой идеи существует вне нас.
Но вопрос в том, существует ли такое представление?**164
То, что мы представляем, суть или вещи, или свойства
вещей — или субстанции, или модусы. Очевидно, что первые
содержат в себе больше реальности, чем последние; поэтому нам надо
только исследовать подробнее ценность и содержание представляе-
" Méd. III, pg. 268-272.
" Ibid., pg. 272-275; Princ, I, § 17.
330
Принцип философии и проблема познания
мых субстанций. Таковыми мы считаем собственное существо и
веши вне нас; последние частью сходны с нами, частью же
отличаются от нас, представляют собой существа или высшие, или
низшие по сравнению с нами; высшие суть Бог и ангелы, низшие —
животные и неорганические тела. Соответственно этому
существует несколько классов представляемых вне нас субстанций: Бог,
ангелы, люди, животные, (неодушевленные) тела. Ангелы
являются промежуточными существами между Богом и человеком; если
мы имеем идеи двух последних, то идею ангелов можем создать
сами и не нуждаемся для этого в оригинале вне нас. Люди суть
подобные нам существа, тела которых не наше тело; из
представлений о нашем собственном существе и телесных субстанций мы
можем образовать представление о других людях.
Идея Бога и идея тел являются поэтому элементами, из
которых, при помощи нашей собственной деятельности, можно
создать представления об остальных субстанциях. Что в телах мы
представляем чувственно, то неясно, а потому или ничтожно, или
обладает меньшей реальностью, чем наша мыслящая природа; что
мы в них представляем отчетливо, то заключается в нашей
мыслящей природе или может быть выведено из нее. Ни в каком случае
представление о теле не заключает в себе больше реальности, чем
представление о нашем собственном существе. Поэтому прежде
всего нет никакого основания к тому, чтобы мы не могли быть
причиной, производящей это представление. Я — мыслящее
существо, всякая другая конечная вещь — меньше, чем я; поэтому
нет надобности в том, чтобы, когда я представляю конечные
существа вне меня, причина и оригинал моего представления
находились бы вне меня. Остается поэтому лишь одно представление в
качестве единственного объекта нашего вопроса — это идея
Бога165.
3. Идея Бога
Я существо конечное, Бог бесконечен; я несовершенен и
полон недостатков, он совершенен и без недостатков: невозможно
поэтому, чтобы я был причиной этой идеи. Или я вообще не могу
* Méd. Ш, pg. 276-290; Princ, I, § 18.
331
Куно Фишер
иметь такого представления, или его причиной должно быть
существо той же реальности, т. е. сам Бог. Но я имею идею Бога. В
этом случае иметь значит то же, что воспринять. Каждое
представление, как и каждое явление, имеет свою причину. Если я
понимаю ясно и отчетливо, что я не могу быть этой причиной, то я так
же ясно и отчетливо познаю, что эта причина должна быть вне
меня, что, следовательно, есть существо вне меня. «Если в одной
из моих идей представляется столь мощная реальность, что я
уверен, что во мне она не может содержаться ни формально*, ни
эминентно, что я поэтому не могу быть творцом этой идеи, то
следует, что я не один только в мире, но что существует еще и
другое существо в качестве причины этого представления. Если же
такая идея не находится во мне, то нет и основания, могущего
доказать мне существование отличного от меня существа. Я
рассмотрел дело со всех сторон и со всей тщательностью и до сих пор
••166
не мог найти никакого другого результата»
При помощи идеи Бога должен проясниться мрак вне нашей
одинокой самодостоверности и должна быть решена проблема
познания. Теперь вопрос гласит: как возможно при помощи идеи
Бога познание вещей? На этот пункт направлено дальнейшее
исследование, и можно сказать уверенно, что без него не могут быть
поняты ни глубина, ни смысл учения Декарта.
Для разъяснения выражения «содержаться формально» может
послужить следующее замечание: действовать (у Аристотеля)
значит образовывать или формировать. То, что представляется,
Декарт называет объективным; то, что фактически
существует,— формальным. Представляемая вещь называется «realitas
objectiva», действительная — «realitas actuahs sive formalis». То,
что причина содержит формально, есть не что иное, как
содержание действия.
" Disc, IV, pg. 160; Méd. III, pg. 276.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
БЫТИЕ ЮГА, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ САМОДОСТОВЕРНОСТЬ
И БОГОДОСТОВЕРНОСГЬ
L ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА
1. Причина идеи Бога
Против человеческого самообмана Декарт предложил
самоисследование, то радикальное сомнение, которое оставляет только
одно достоверным: что мы сомневаемся, мыслим, существуем.
Отсюда следовало правило всякой достоверности — что истина
состоит в ясности и отчетливости познания. Положение причинности
ясно и отчетливо; оно вытекает из положения достоверности, так
как невозможно, чтобы мы мыслили и не существовали; это было
бы деятельностью без субъекта, изменением без субстанции,
действием без причины. Из принципа причинности следует, что
представление, заключающее в себе больше реальности, чем мы сами,
не может быть нашим действием. Идея Бога заключает в себе
больше реальности, следовательно, не мы причина этой идеи; поэтому
должно быть существо вне нас, которое не могло бы обладать
меньшим совершенством, чем наше представление о нем: причина идеи
Бога — сам Бог. Быть причиной значит быть действенным и
потому действительным. Существование Бога явствует уже из одной
идеи Бога в нас.
В этом заключается исходный пункт решения проблемы
познания, почему этот пункт нужно прежде всего укрепить и
защитить от всякого сомнения. Наша уверенность в бытии Бога
основывается прежде всего на достоверном факте, что мы сами
существуем и имеем идею Бога. Но правилен ли вывод? Разве из того, что
мы существуем и представляем Бога, действительно следует, что
333
Куно Фишер
Бог существует? Ведь могло бы быть, что мы были бы в состоянии
создать идею Бога собственными силами или что не Бог, не мы
сами, а какая-нибудь другая причина произвела бы нас самих и
идею Бога в нас. Если можно доказать, что без существования
совершеннейшего существа мы и идея его в нас никоим образом
не могли бы существовать, то эти сомнения будут рассеяны.
Мы должны были бы быть совершенными для того, чтобы
создать идею совершенного. Этого требует принцип причинности.
Фактически мы несовершенны, и если бы даже мы имели
способность или задатки к совершенству, то такое совершенство было бы
не актуальным, а лишь потенциальным, т. е. становящимся или
растущим совершенством, а это то же, что наличное
несовершенство. Становление бесконечно, возрастающее совершенство никогда
не заканчивается. Поэтому мы постоянно находимся в таком
состоянии, которое по сравнению с идеей Бога менее совершенно, чем
она. Задатки к совершенству являются фактическим
несовершенством; голые задатки еще не деятельность, не производящая
причина, следовательно, также и не причина идеи Бога.
Принцип причинности применим не только к нашим идеям,
но в такой же степени и к нашему бытию. Допустим, что причина
его не есть совершенное существо, в таком случае ею должно быть
менее совершенное: или я сам, или мои родители, или другие
существа, будь их одно или несколько. Если бы я был своим
собственным создателем, то я имел бы силу дать себе все те
совершенства, которые я имею способность представить: тогда я сделался бы
Богом. Я не обладаю этими совершенствами, они были, значит, не
в моей власти, я не был моим собственным создателем. Сохранять
значит продолжать творить; только тот, кто может творить, может
сохранять: я не имею силы сохранять себя, следовательно, не имел
и силы создать себя. Продолжительность моего существования не в
моей власти и не во власти моих родителей, поэтому и они также
не были моими создателями. В качестве мыслящего существа,
каковым я являюсь, я должен был бы сознавать это полновластие,
если бы имел его; я сознаю противоположное, следовательно, я не
причина моего существования. Так же мало мыслимо, чтобы
божественные совершенства, представляемые мной, имели более
одной причины, так как кроме единства этим причинам не хватало
334
Бытие Бога, человеческая достоверность и Богодостоверность
бы также истинного совершенства, они не были бы, следовательно,
тем, чем должны бы быть. Поэтому остается только допустить, что
это представление произвело отличное от нас и единственное
существо, или происходящее от высшего, или существующее само по
себе. Случай происхождения от высшего существа подлежит
отрицанию, так как это значит допустить бесконечную регрессию
причин, которой не может быть, ибо тогда невозможно дойти до самой
творящей причины, следовательно, до действия. То творящее
существо, которое должно быть отличным от нас и единственным в
своем роде, может существовать только само собой: это Бог.
Отрицать бытие Бога в этом смысле значит объявить невозможными
наше собственное существование и идею Бога в нас. «Только из
того, что я существую и имею идею совершеннейшего существа,
или Бога, следует с полнейшей ясностью, что Бог также су-
»167
шествует» .
2. Идея Бога как врожденная идея
Мы получили идею Бога, и так как она не опосредствована
ни чувствами, ни как-либо иначе, то мы имеем ее непосредственно
от самого Бога, она дана нам изначально, то есть является
врожденной: Бог запечатлел ее в нас — своем произведении — «как
клеймо художника». Это клеймо в данном случае не отличается от
произведения, а есть само произведение: Бог не только причина,
но и первообраз нашего бытия. «Только потому, что Бог создал
меня, — говорит Декарт, — я верю, что я создан по его образу и
подобен ему. В этом подобии образа и состоит идея Бога. Это
подобие — я сам. Поэтому я познаю идею Бога той же
способностью, что и себя самого. Всякий раз, как я обращаю духовный
взор внутрь себя, я вижу не только то, что я полное недостатков,
зависимое существо, которое без конца стремится к высшему
совершенству, к более великому и лучшему, но я вижу вместе с тем,
что та первосущность, от которой я завишу, содержит в себе все
совершенства — не только в возможности, как цель бесконечного
стремления, а в действительности в бесконечной степени. Я
познаю бытие Бога. Принудительная сила доказательства заключается
* MéA III, pg. 280-289.
335
Куно Фишер
в том, что делает необходимым убеждение: я сам вместе с идеей
Бога во мне никоим образом не мог бы существовать, если бы на
самом деле не было Бога, причем я разумею того Бога, которого я
представляю, который обладает всеми совершенствами, которых я
не могу понять, а могу л инь издали коснуться моими мыслями,
* *168
который исключает из себя всякого рода несовершенство»
3. Доказательства онтологического
и антропологического характера
Для обоснования бытия Бога Декарт привел несколько
доказательств, отличных друг от друга. К философу относятся слишком
поверхностно, когда, как это обыкновенно случается, выставляют
только его онтологическое доказательство. Мы исследуем сперва
содержание этих доказательств, затем их порядок, наконец их
глубочайшие побудительные причины.
Правило достоверности гласит: все ясно и отчетливо
познанное — истинно. Я познаю в чистой идее Бога ясным и отчетливым
образом его существование, которое поэтому вне сомнения: таково
умозаключение от понятия веши к бытию веши, так называемый
онтологический аргумент, введенный Ансельмом в схоластическую
теологию. Идея Бога дана нам как факт внутреннего опыта; в
нашем мире представлений она есть факт, который может получить
начало не от нас, а только от самого Бога; следовательно, Бог
существует: это доказательство умозаключает от факта к причине,
оно ведется a posteriori и должно поэтому называться
эмпирическим доказательством.
Факт нашего бытия и идеи Бога в нас можно выразить так:
мы существуем и одарены представлением о совершеннейшем
существе. Так как мы сами не можем быть причиной нашего
существования, то ею должно быть такое отличное от нас существо,
которое обладает всеми совершенствами, представляемыми нами,
так как оно в противном случае не было бы в состоянии создать
нас, имеющих идею их: поэтому есть такое совершеннейшее из
всех существ, или Бог. Это доказательство идет от природы
человека, поскольку она несовершенна и представляет совершенство, к
* Ibid., pg. 269-291.
336
Бытие Бога, человеческая достоверность и Богодостоверностъ
существу и бытию Бога: в нем соединяются два предшествующих
доказательства, онтологическое и эмпирическое. Это доказательство
мы называем антропологическим и прибавляем, что без него не
может быть ни понято в духе нашего философа, ни по достоинству
оценено онтологическое или метафизическое доказательство: оно,
собственно, и есть картезианское доказательство бытия Бога.
Достойно внимания и то, в каком порядке Декарт развивает
свои доказательства. Там, где он вводит нас в свои методические
рассуждения, стремящиеся к отысканию истины, и потому
придерживается аналитического изложения, он выводит из
антропологического доказательства онтологическое, как в сочинении о методе и
в «Размышлениях»: там— самым сжатым образом, здесь— во
всей полноте. Там, где он, напротив, излагает найденные истины в
синтетическом порядке, он дает сперва онтологическое, затем
антропологическое доказательство, как в геометрическом очерке
«Размышлений», включенном в его ответ на вторичные возражения, и
в «Принципах». В «Размышлениях» он опирается прежде всего на
антропологическое доказательство и только значительно позже,
возвращаясь еще раз к идее Бога, развивает онтологическое доказа-
*1б9
тельство .
4. Антропологическое доказательство
как основание онтологического
Онтологическое доказательство Декарта, несмотря на
параллель его со схоластическим, в корне отличается от последнего;
различие это настолько важно, что обычное оставление его без
внимания равносильно полному непониманию учения нашего
философа. Декарт должен был быть убежден, что возражения,
разрушившие схоластическое доказательство, не касаются его
доказательства, ибо он знал эти возражения и в Размышлении пятом
разобрал их подробно. Укажем прежде всего ошибки обычного
онтологического доказательства.
Из одной только идеи Бога бытие его должно следовать с
такой же очевидностью, как из понятия треугольника то, что сум-
" Disc, V, VI, pg. 159-169; Méd. III, pg. 280-289; Méd. V, pg. 312-
317. Obj. et Rep. Propos I-Ш (Oeuvres I, pg. 460-462); Princ, I,
§ 18-22.
337
Куно Фишер
ма его углов равна двум прямым, и как из понятия круга —
равенство радиусов. Как мы не можем себе представить горы без
долины, так точно нельзя мыслить Бога без бытия; как гора необходимо
связана с долиной, так неразделимы понятие Бога и бытие его.
Или он совершеннейшее существо, или его вообще нет — ибо
совершеннейшее существо не было бы тем, что оно есть, если бы ему
чего-нибудь не хватало, а именно — ни много ни мало самой
реальности. Тотчас же возникает следующее возражение: наша идея
Бога есть такое же представление, как и всякое другое; нельзя
допустить, чтобы к этому представлению было применимо то, что
неприменимо к другим, а именно что мыслимое существование
есть уже действительное. Во всяком другом случае представленный
объект только возможен, но не действителен. Один Бог, согласно
онтологическому доказательству, составляет исключение: он
существует, потому что я его мыслю. А если я его не мыслю? Разве
мое мышление не в моей власти? Разве мои мысли не
произвольны? Тогда от меня зависело бы, должно ли существовать
доказательство бытия Бога или нет! Поэтому следует требовать в качестве
главного условия возможности онтологического Д01<азательства,
чтобы идея Бога в нас была не произвольной, а необходимой и
неразрывно связанной с нашим существом мыслью. Если эта
необходимость не может найти основания в существе человека, то
онтологическое доказательство ошибочно и шатко уже в своем
первом исходном пункте, так как ему не хватает солидного основания,
на котором бы оно могло покоиться. Из этого явствует, что оно
должно быть обосновано и оправдано антропологически.
Между тем, даже если это первое условие исполнено, мы
далеки еще от цели. Пусть идея Бога в нас будет необходимой
идеей. Разве из этого уже следует бытие Бога? Если мы
вынуждены представлять совершеннейшее существо, то, конечно, должны
его мыслить действительным, но разве мыслимая действительность
есть уже реальная? Непонятно, каким образом мое представление
и мышление могут когда-нибудь выйти из самих себя и
свидетельствовать о реальности существа, находящегося по ту сторону всех
представляемых и представимых объектов. Поэтому до тех пор,
пока идея Бога есть только мое представление, создана моим
мышлением, — до тех пор, как бы необходимо ни было это мышление,
338
Бытие Бога, человеческая достоверность и Богодостоверностъ
существование Бога есть также только идея. Мыслимое
существование есть и остается только возможным; независимая от меня и
моего представления действительность отнюдь не может быть
доказуема одним онтологическим путем. Если идея Бога во мне должна
доказать бытие Бога, то она должна быть чем-то большим, чем
только мое представление, она должна не только представлять
бытие Бога, но в известном смысле быть им самим. Допустим, что
эта идея, которую я имею, есть выражение Богом своего
собственного существа, его непосредственное действие— и в качестве
такового она возвещается мне; тогда она, без сомнения, была бы
прямым доказательством божественной причинности,
следовательно, божественного бытия. Но как же я могу идею, которую
нахожу, как представление, в числе других моих представлений,
рассматривать как действие Бога? И не достаточно того, чтобы я имел
право ее рассматривать таким образом, напротив, должно быть так,
чтобы я не мог на нее смотреть иначе. Как достоверно то, что
существую я сам, так же достоверно эта идея должна быть не моим
созданием, а действием Бога во мне. Это и есть подлежащий
доказательству пункт, к которому все сводится в учении Декарта о
Боге. Если будет доказано, что идея Бога в нас 1) необходима, 2)
невозможна в качестве нашего собственного создания, то вопрос
будет решен.
Следовало бы показать, что несовершенное существо,
подобное нам, не в состоянии создать представление о совершенном. Во
всяком случае, познание нашего несовершенства и бессилия, стало
быть, исследование собственного существа — наш самоанализ
должен быть первым шагом на пути к Богопознанию. Не только
первым шагом, но также и светом на этом пути! Этого света,
освещающего учение Декарта о Боге и его онтологический аргумент,
совершенно нет у схоластического доказательства. В последнем
главное дело в том, что мы представляем себе совершенное
существо; главный же пункт доказательства Декарта — в том, что мы
представляем совершенство, которого мы сами не имеем и
потому что мы его не имеем. Поэтому онтологическое доказательство
идет у него рука об руку с антропологическим, основывающимся
на человеческом самопознании. Если из человеческой природы
явствует, что она должна представлять совершенное существо,
339
Куно Фишер
тогда только онтологическое доказательство имеет верный
исходный пункт; если, равным образом, из человеческой природы
явствует, что Божественная идея не ее создание, а проявление или
действие Бога в ней, тогда только этот аргумент может достичь
цели.
Условиями, которые должны сопутствовать нашей идее Бога
для того, чтобы она имела силу доказательства бытия Божия,
являются поэтому ее необходимый или изначальный замысел и ее
божественное происхождение: и то, и другое Декарт соединяет в
выражении «врожденная идея». Не из простой идеи Бога
выводится его существование, а из врожденной идеи, которая в качестве
проявления или действия Бога есть выражение божественного
бытия в нас. Из этой присущей нам от рождения идеи Бога вывести
его существование значит то же, что из бытия Бога в нас познать
бытие Бога. Это не опосредованное умозаключение, а
непосредственный вывод, не силлогизм, а простая достоверность; мы
переходим от понятия Бога к его бытию не как к чему-то новому, а в
понятии открываем бытие, не как признак в числе других — это
понятие есть само божественное действие и бытие. Познание
последнего не обусловлено поэтому никакими промежуточными
членами, оно так же интуитивно, как наша самодостоверность; и то, и
другое одинаково ясно, одинаково достоверно. Как из «cogito»
непосредственно следует «sum», так же из «Deus cogitatur» следует
непосредственно «Deus est»170. Совершенно так же достоверно,
как то, что я есмь, и то, что есть существо вне меня; совершенно
так же достоверно, как и то, что я есмь, я знаю теперь, что я не
один, что вне и независимо от меня есть еще другое
самостоятельное существо. В положении «cogito ergo sum» дух был как бы
погружен в себя монологически, он отвратился от рассмотрения
внешних вещей и из своего внутреннего мира не добыл никакой
другой достоверности, кроме достоверности своего собственного
существования. Производя смотр своим идеям, он открывает одну,
превосходящую все остальные и обнаруживающую с первого же
взгляда свое высшее происхождение; между тем как все прочие
представления постоянно повторяют одинокому мыслителю: *Ты
существуешь, я только зеркало твоего существования, действие
твоей способности!» — только это одно возвещает ему: «Я сущест-
340
Бытие Бога, человеческая достоверность и Богодостоверность
вую, я в тебе другое и несравненно лучшее существо, чем ты сам,
и потому я возник не из тебя, а из своего первообраза!»
Относительно всех прочих объектов фаю моего представления
свидетельствует о возможности их существования и только в этом
единственном случае — о необходимости его; для всех прочих объектов
понятие и вещь, существо и бытие, «essentia» и «existentia»171
суть два различных момента, для одного этого объекта то и другое
тождественно.
Ш. САМОДОСТОВЕРНОСТЬ
И БОГОДОСТОВЕРНОСТЬ
1. Достоверность нашего несовершенства
Положение «Deus cogitatur, ergo Deus est» должно стать столь
же достоверным, как и положение «cogito ergo sum». Метод
требует дедуктивного соединения истин, поэтому между обоими этими
положениями должна существовать ясная непосредственная связь,
и так как положение «cogito» незыблемо, то его следует понимать
как основание положение «Deus cogitatur». Наше представление о
Боге необходимо, если оно непосредственно заключено в
представлении о нашем собственном мыслящем бытии и дано нам через
него, если наше самосознание и Богосознание образуют две
стороны одного и того же созерцания, которые относятся друг к другу
совершенно так же, как правое и левое, вверх и вниз. Эта связь
между «cogito» и «Deus cogitatur», между самодостоверностью и
Богодостоверностью является подлежащим доказательству и
освещению пунктом, без которого учение Декарта останется
непонятым.
Нельзя, как это обыкновенно происходит, понимать и
излагать это учение так, что оно сначала обещает метод, затем не
сдерживает своего обещания, а делает скачок от принципа
самодостоверности к принципу причинности и далее к онтологическому
доказательству бытия Бога, из существа Бога выводит некоторые
его свойства, в том числе и истинность, и затем смело переходит к
познанию вещей. Если бы с развитием идей Декарта дело обстояло
так, то в нем не заключалось бы никакого методического прогресса,
и имело бы полную силу возражения Эпистемона, что с
положением самодостоверности не тронешься с места: «В самом деле, пре-
341
Куно Фишер
красное познание! Вы обладаете методом, который позволяет все
подвергнуть сомнению для того, чтобы не оступиться, и поэтому
топчетесь на одном месте, не делая ни одного шага вперед!» Эпи-
стемон говорит то, что влагает ему в уста Декарт! Философ знал
это возражение"172.
Чтобы открыть методическую эволюцию мысли от
самодостоверности до Богодостоверности, нужно положение первой — «cogi-
to» или «sum cogitans» — понимать именно в том смысле, какой
имеет в виду философ. Потребность в истине требует самоанализа,
приводящего к выводу, что мы действительно обманываемся в
столь многих случаях — а потому возможно, что и постоянно, —
что не имеем основания считать какое-либо из наших воззрений
истинным, а, напротив, находимся в состоянии сплошной
неуверенности и совершенно лишены истины. На этом самопознании
основывается то всеобъемлющее сомнение, которое допускает
возможность обмана во всех без исключения случаях и ясно познает,
что нам недостает истины. Картезианское сомнение есть не что
иное, как достоверность этого недостатка, этого нашего
сплошного интеллектуального несовершенства. В одном и том же акте
сомнение открывает нам и нашу мыслящую природу, и нашу
несовершенную интеллигенцию. Не напрасно «cogito ergo sum» следует
непосредственно из «de omnibus dubito»173. Существо, бытие
которого мне непосредственно явствует, — это я сам; существо, в
обладании которого истиной я всецело сомневаюсь, относительно
умственного превосходства которого я совершенно заблуждаюсь,
тоже я сам. Кто в картезианском «cogito», в этом самодостоверном
выражении собственного мышления, не усматривает вместе с тем
(что относится к настоящему состоянию мышления) признания
своей полной интеллектуальной нищеты, тот не понимает, каков
смысл упомянутого положения, и не знает ни его темы, ни его
происхождения. Самодостоверность собственного мыслящего бытия
проистекает из сомнения и проникнута убеждением в том, что
наше мышление лишено познания, не обладает истиной и
несовершенно.
Познать собственное несовершенство значит стремиться к
совершенству и потому представлять его. Идея совершенства поэто-
" Rech, de la vérité, pg. 372-373.
342
Бытие Бога, человеческая достоверность и Богодостоверность
му необходимо и непосредственно связана с актом, который
удостоверяет нас в нашем несовершенстве, и даже заключена в нем.
Именно в этом состоит глубокая и теперь очевидная связь между
картезианским «cogito» и «Deus cogitatur»*174.
2. Идея совершенного и ее изначальность
Как необходимо мое представление о самом себе, так
необходима и идея Бога; как необходима достоверность моего
собственного несовершенного бытия, так необходимо и представление о
совершенном. Это представление необходимо и неотделимо от
нашего собственного мышления; но отсюда еще никоим образом не
следует существование совершеннейшего существа. Напротив того,
против этого вывода возникает в этом пункте целый ряд
возражений. Если совершенное есть цель нашего стремления, то, сколь бы
необходимым ни было представление такой цели, оно все же
может быть только идеей, находящейся в нас и нами порожденной.
Мы познаем недостаточность и границы наших возможностей с
помощью наших же усилий; мысленно отметая первые и увеличивая
последние, мы приходам известной via eminentiae175 к
представлению совершеннейшего существа, которое есть не что иное, как
наше собственное несовершенное, за вычетом всего того, что
означает первый слог. Именно потому, что идея совершенного вытекает
из осознания несовершенной человеческой природа, она является
только отображением совершенного, только идеей, но не Богом, и
антропологическое доказательство, обещавшее поддержку
онтологическому, по-видимому, его только изрядно расшатывает.
Совершенно верно, что из идеи несовершенного, если мы
отбросим недостатки, может произойти идея совершенного и
проникнуть в сознание. Но этим проблема еще не разрешается,
появляется вопрос: как возникает идея несовершенного? Как доходим
мы до познания нашего собственного несовершенства? Одно дело
быть несовершенным, другое — познать, что человек таков. В
первом случае несовершенство есть состояние, в котором я
нахожусь, во втором — предмет, который я себе разъясняю. Зго
познание по меньшей мере не несовершенно, а так же совершенно, как
Об этой эволюции в развитии идеи Декарта ср.: Disc, de la méth.,
rv, pg. 159.
343
Куно Фишер
истинно. Что я нахожусь в состоянии самообмана, это
несомненное доказательство моих недостатков; что я прорываюсь за пределы
этого состояния и опознаю свой самообман — это
неопровержимое доказательство находящегося во мне совершенства, без
которого я пребывал бы во мраке заблуждения и никогда не дошел бы до
идеи моего несовершенства.
Если речь идет о произведении искусства, то каждый знает,
что тот, кому видны яснейшим образом недостатки этого
произведения, знаток в искусстве, ибо ему известны те совершенства,
которыми обладает искусство и которых требует природа данного
произведения. Для идиота не существует недостатков; он или
находит все хорошим, или ругает все сплеча. Несовершенства видит
только знаток, они познаваемы только в свете совершенного; этот
свет освещает ту «via eminentiae», на которой человек воображает
найти впервые идею совершенства; неудивительно, что он ее
находит, ведь он имел ее и должен был иметь, когда узрел свое
собственное несовершенство. Без истины нет потребности в истине,
нет самоисследования, нет заблуждения в самом себе и во всех
наших представлениях, нет сомнения, нет самодостоверности, нет
«cogito ergo sum».
3. ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ, РЕАЛЬНОСТЬ И ИСТИННОСТЬ БОГА
Теперь отношение становится обратным, и то, что казалось
следствием, на самом деле есть основание: из идеи совершенного
проистекает идея несовершенного, первая изначальнее второй,
следовательно, также изначальнее познания нашего собственного
несовершенства, нашего собственного мыслящего бытия. В нашей
Богодостоверности коренится наша самодостоверность. Идея Бога
не есть только идея в числе других — она единственна в своем
роде, ибо от нее исходит весь свет, она не только так же ясна и
очевидна, как представление о нашем собственном существе, а
гораздо яснее, ибо только она и освещает это представление: «Яз
всех идей, которые мы имеем, она самая ясная и отчетливая, а
потому и самая истинная*176. Это положение Декарта только
теперь становится понятным.
' Méd Ш, pg. 281-282.
344
Бытие Бога, человеческая достоверность и Богодостоверность
Но раз изначальность идеи Бога, ее независимость от нашего
мышления и бытия, то, что она является причиной нашего
самопознания, становится очевидным, то вместе с этим сама собой ясна
и реальность Бога. Доказано, что идея совершенства, при ее изна-
чальности, не только идея, но и сам Бог. Без действительности
Бога невозможна никакая идея о нем, никакая идея о
совершенном в нас, никакое познание нашего собственного несовершенства,
никакое «de omnibus dubito» и никакое «cogito ergo sum». В этой
связи мы познаем ход идей Декарта в его методической
основательности.
И не только то, что существует Бог, теперь вне всякого
сомнения (потому что бытие и идея Бога вообще только и делают
возможным истинное сомнение), но также и то, что он такое.
Идея, которая освещает для нас состояние нашего
интеллектуального несовершенства, не может быть ничем иным, кроме самого
интеллектуального совершенства, с которым несовместимы
никакие недостатки. Этот Бог поэтому есть сама абсолютная истина и
истинность, исключающая вместе с обманом и всякое намерение
обманывать*177.
Вместе с этим устраняется последнее и самое сильное
сомнение, стоявшее в нашем самоанализе на пути возможности
истинного познания. Теперь я знаю, что никакой демон не загнал меня
в призрачный мир и не поразил полной слепотой. Если бы я был
безвыходно заключен в иллюзии, как в темной, подобной
лабиринту тюрьме, то я не мог бы сомневаться, так как сомнение уже
доказывает, что я познаю обман и что мне присуща частица
истинного света. Теперь сомнение разрешено: познание вещей
возможно, мои представления не обманчивые образы, вещи таковы,
какими я их представляю, когда созерцаю их в этом истинном свете,
т. е. когда познаю их ясно и отчетливо.
Рассмотрев таким образом учение Декарта о Боге в его
истинной целостности, мы должны прийти к выводу, что положения об
идее, реальности и истинности Бога не назидательные
утверждения, а принципы, обосновывающие познание, на которых зиждется
дальнейшая часть системы.
" Ibid., pg. 291, IV, pg. 294; Princ, I, § 29.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ПГОИСХОЖДЕНИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ. УМ И ЮЛЯ.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВОБОДА
L ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК ВИНА ВОЛИ
1. Факт заблуждения
Возможность познания твердо установлена. С этой
достоверностью возникает новое, противоположное первому сомнение, так
как возможность познания, по-видимому, обоснована так, что
исключается заблуждение. Сначала ничто не казалось очевиднее
нашего заблуждения, теперь ничто не кажется проблематичнее его.
Если наше мыслящее существо происходит от первоисточника
света и истины, если мы не находимся во власти обмана и мир,
представляемый нами, не ложный образ, а истинно
действителен, — то откуда же происходит возможность заблуждения и то
состояние ослепления, в котором мы находимся фактически?
Основание их не может заключаться ни в Боге, ни в природе наших
представлений, следовательно, их следует искать только в нас
самих. Не нас обманывают, а мы обманываем сами себя. Всякое
заблуждение есть самообман. Вопрос гласит: в чем состоит
самообман и из какого источника он проистекает?"178
Было уже раньше показано, что в нашем голом
представлении заблуждение еще не имеет места и что возможность
заблуждения впервые возникает вместе с суждением, объявляющим наше
представление состоянием или свойством вещей. В суждении
такого рода и совершается или выражается ошибка. Но это выражение
ошибки не есть ее источник. То, что утверждается в суждении,
* Méd. ГУ, pg. 298.
346
Происхождение заблуждения. Ум и воля. Человеческая свобода
или истинно, или ложно; истинное или ложное утверждение еще
не составляет моего заблуждения. Я заблуждаюсь лишь тогда, когда
начинаю считать истинное суждение ложным, сомнительное
—достоверным, достоверное — недостоверным. Считать истинное
суждение ложным значит отрицать его; считать ложное суждение
истинным значит утверждать его; когда я принимаю сомнительное
суждение за достоверное, а достоверное за сомнительное, то в
первом случае я отрицаю недостоверность, во втором — достоверность
его. Из этого явствует, что не в суждении как таковом, а в нашем
принятии или устранении, в нашем утверждении или отрицании
суждения состоит собственно заблуждение, а поэтому и источник
его может заключаться только в нашей способности что-либо
утверждать или отрицать, принимать или отклонять.
Эта способность требует более подробного определения. Если
бы мы были вынуждены каждое истинное суждение утверждать,
каждое ложное — отрицать, то мы не могли бы заблуждаться.
Поэтому заблуждение может проистекать лишь из такой способности
утверждения или отрицания, которая исключает принуждение и
целиком зависит от нашего усмотрения. Эта необусловленная и
свободная способность — как отрицать, так и утверждать одно и то
же — есть воля, или свобода выбора (произвол). Суждение есть
продукт ума, утверждение или отрицание его — дело воли:
заблуждение заключается в том, что мы предпочитаем истинному
суждению ложное, что мы охотнее имеем последнее; оно возможно
только благодаря тому, что выбор между обоими находится вполне
в нашей власти. Поэтому ясно, что в заблуждении участвуют
сообща обе способности — и ума, и воли, когда воля в силу своей
свободы является виновной в заблуждении при посредстве ума, или,
•179
что то же, когда воля отклоняет ум от пути к познанию .
2. ВОЛЯ И УМ
Чтобы полнее исследовать источник заблуждения, надо
подробнее исследовать соотношение обеих этих способностей. Если бы
воля была вынуждена утверждать истинное суждение, отрицать
ложное, считать таковым недостоверное, то она была бы связана с
умом, находилась бы под его властью и руководством и была бы по
' Ibid.
347
Куно Фишер
своему значению так же ограниченна, как он. Но, как только что
было указано, дело обстоит не так. Наш ум ограничен: существует
много такого, что либо совсем недоступно его пониманию, либо
доступно не в ясной и отчетливой форме, но нет ничего, к чему
бы воля не могла относиться утвердительно или отрицательно,
принимая или отвергая, или индифферентно, т. е. ни
утвердительно, ни отрицательно; сфера ее действия поэтому больше сферы
действия ума, она распространяется на познанное так же, как и на
непознанное, и может относиться и к тому, и к другому как
утвердительно, так и отрицательно. «Воля поэтому больше, чем ум».
Она не только больше; так как воля простирается на все —
тогда как последний в своем познании ограничен определенной
сферой, — то воля является неограниченной, между тем как ум
ограничен. Эта безусловная величина воли есть наша свобода или
наше Богоподобие. «Воля, или свобода воли, — говорит Декарт, —
есть единственная из всех способностей, которая, по моему опыту,
так велика, что я не могу себе представить большей. Эта
способность и есть главным образом то, благодаря чему я считаю себя
подобием Бога». Но если воля и ум так относятся друг к другу, что
последний подчинен естественному пределу, между тем как первая
совершенно свободна, то ясно, что ни одна из обеих способностей,
взятая сама по себе, не может быть источником заблуждения: им
не может быть один ум, ибо, как наша естественная (зависящая от
Бога) способность познания, он не способен к обману; им не
может быть одна воля, ибо она, как наша безусловная способность к
свободе, божественна в собственном смысле этого слова*180.
Та совокупная деятельность обеих способностей, благодаря
которой рождается заблуждение, должна, следовательно, состоять в
том, что человеческая воля в силу своей свободы искажает ум и
превращает истинный свет в блуждающий огонь. Заблуждение не
может быть ничем иным, как вменяемым в вину неразумием. Это
положение нужно пояснить.
3. Вменяемое в вину неразумие
В силу своей неограниченности воля простирается как на
познанное, так и на непознанное, как на сферу, освещенную
" Ibid., pg. 298-300; Princ, I, § 34-38.
348
Происхождение заблуждения. Ум и воля. Человеческая свобода
умом, так и на темную; в силу своей свободы она может как одну,
так и другую и утверждать, и отрицать. Но если она утверждает
или отрицает независимо от ясного и отчетливого познания, то она
поступает неосновательно, т. е. она судит без основания и потому
заблуждается в каждом случае независимо от того, как она судит и
какое суждение она утверждает или отрицает. Значит,
заблуждение простирается гораздо дальше, чем мы определили вначале. И
утверждение истинного суждения есть заблуждение, если оно
безосновно. Я делаю некое утверждение, не зная того, что оно
истинно и почему оно истинно, я сужу во мраке, ищу ощупью и
наудачу истину и отношусь к ней, как слепой петух к зерну. Если
я хочу быть правдивым перед самим собой, то должен признать,
что я не знаю, как обстоит дело с данной вещью, мне это неясно,
и потому я уклоняюсь от всякого положительного утверждения. Но
раз я сужу, я воображаю себе уверенность, которой не имею,
следовательно, я обманываю самого себя, т. е. я заблуждаюсь. Или я
хочу выставлять напоказ уверенность, которой у меня нет и о
которой я знаю, что ее у меня нет, следовательно, я ввожу в
заблуждение других, т. е. я обманываю. Если утверждаемое суждение по
своему содержанию ложно, то явное заблуждение будет двойным,
одновременно фактическим и психологическим, я обманываюсь и в
предмете, и вместе с тем в себе самом. Повторяя ранее
приведенный пример, можно сказать: нет заблуждения в том, что солнце
представляется мне движущимся диском; я заблуждаюсь тогда,
когда начинаю утверждать, что солнце есть такой движущийся
диск; я заблуждаюсь фактически и психологически, когда
утверждаю геоцентрическую систему; я заблуждаюсь, когда без
уразумения оснований отрицаю эту систему и считаю истинной
противоположную.
П. ВОЛЯ К ИСТИНЕ
1. Предотвращение заблуждения
Заблуждение состоит в безосновном утверждении,
источником его является произвол, безосновная способность утверждать и
отрицать. В этой же способности заключается и сила ни
утверждать, ни отрицать, т. е. воздерживаться от всякого безосновного
утверждения или, что то же, устранять всякое заблуждение. Если
349
К у но Фишер
я правдив по отношению к самому себе, то я должен познать
состояние моей личной неуверенности и недостаток моего
понимания, а в силу этого познания я буду в состоянии удержаться от
всякого суждения и призрачного знания. Но если в каждом
случае, когда мы заблуждаемся, возможность не заблуждаться нам
доступна, то всякое заблуждение, в которое мы впадаем, является
нашим собственным делом и виной; мы не заблуждались бы, если
бы наше познание было совершенно, но оно несовершенно, это
несовершенство не наша вина, а недостаток или ограниченность
нашей природы; без этого недостатка не было бы никакой
возможности заблуждаться, но и имея его, мы все-таки могли бы избежать
заблуждения, если бы предусмотрительно воздерживались от
суждения и никогда не желали бы казаться знающими более того, что
в действительности уразумели ясно и отчетливо, — если бы мы
обоснованному суждению никогда не предпочитали
необоснованного. Такой выбор порождает заблуждение, наша свобода воли
делает возможным выбор. Обоснованных суждений мало,
необоснованных много, казаться более знающим, чем на самом деле
знаешь, очень соблазнительно, и это дает повод к злоупотреблению
свободой, благодаря которому мы оказываем предпочтение
необоснованным суждениям перед обоснованными. Теперь можно сказать
точнее, что вносит в заблуждение ум и что — воля: вклад ума
заключается в его ограниченности, вклад воли — в ее вине;
ограниченность ума — естественный недостаток, вина воли —
нравственный, это изъян в личной правдивости, в истинном самопознании и
•181
самоанализе .
Из данного объяснения следует, что мы повинны в
заблуждении, когда трактуем непознанное как познанное. К непознанному
относится также непознаваемое. Намерения Бога мы не в
состоянии познать, поэтому также не имеем права хотеть что-либо
познавать при помощи этих намерений: теологическое объяснение
естественных вещей есть, стало быть, заблуждение. «Уже на этом
основании весь род причин, заимствованных из понятия цели, не
должен, по моему мнению, иметь места в объяснении природы,
так как я считаю безумной отвагой домогаться узнать намерения
Бога». Тут Декарт сходится со Спинозой, и тот, и другой отрицают
* Méd. IV, pg. 304-308.
350
Происхождение заблуждения. Ум и воля. Человеческая свобода
значение понятия цели для объяснения вещей: первый вследствие
непознаваемости божественных намерений, второй — вследствие
их невозможности. Переход от непознаваемости к невозможности
не так велик и является необходимым требованием в духе
рационализма*182.
То, что мы заблуждаемся, является виной не Бога, а нашей.
Раз наша воля является причиной заблуждения, то ясно, что
последнее не относится к числу деяний Бога. Но и несовершенство
нашей интеллектуальной природы не наносит никакого ущерба
божественному совершенству. Последнее требует совершенства
божественных творений, состоящего в целом и не только не
страдающего от недостатка единичных вещей, а, напротив,
вытекающего из него. Несовершенство нашего ограниченного бытия является,
принимая во внимание целое, а следовательно, также и Бога,
совершенством. «То, что, существуй оно в отдельности, быть может,
вполне справедливо должно было бы считаться несовершенным,
может быть очень совершенным, будучи рассматриваемо как часть
целого». Здесь сходятся Декарт и Лейбниц. Оправдание
совершенства целого несовершенством индивидуального составляет
основную мысль лейбницевской теодицеи, равно как недействительность
целей и понятия цели — основную мысль учения Спинозы**183.
2. Низшая и высшая свобода воли
Наше заблуждение есть вина нашей воли, оно проистекает из
свободы воли и устранимо с ее же помощью. Поэтому в сфере
последней мы должны различать известные состояния или
ступени, на которых она в зависимости от собственного поведения
является виновной в заблуждении или устраняет его; существуют,
стало быть, различные ступени свободы, низшие и высшие, и
самой низкой должна считаться та, которая непосредственно
порождает заблуждение. Последнее состоит в безосновном утверждении
или отрицании и вытекает из безосновного отношения воли, т. е.
из чистого произвола, не руководствующегося никакими
разумными основаниями в выборе своих суждений или в своих действиях.
Ibid., pg. 297.
" Ibid., pg. 297-298.
351
Куно Фишер
Поэтому индифферентность воли есть низшая ступень свободы.
Свобода тем выше и воля тем свободней, чем яснее основания, по
которым она утверждает или отрицает, т. е. чем разумнее она
действует. Безразличие, которое я проявляю, когда никакие доводы
разума не влекут меня в одну сторону более, чем в другую,
составляет низшую ступень свободы и доказывает не ее совершенство, а
только отсутствие познаний. Если бы я всегда ясно знал, что
истинно и что хорошо, я никогда не сомневался бы, как судить и что
выбрать, и относился бы ко всему вполне свободно, но не
индифферентно»*184. Так отличается от низшей высшая, от
индифферентной и безосновной разумная, от непознающей и слепой
просветленная свобода. Только благодаря последней возможны
нравственные поступки. Отсюда явствует основная мысль учения
Декарта о нравственности.
3. Свобода от заблуждения
В этом месте вновь освещается самым ясным образом начало
всего учения. Чтобы прозреть от укоренившегося в нас самообмана,
есть только одно единственное средство: мы должны усомниться в
самих себе, подвергнуть сомнению достоверность и реальность всех
наших представлений, привыкнуть к этому сомнению и укрепить в
себе этот самоанализ так же прочно, как укоренился в нас
самообман. Такое интеллектуальное превращение может произойти
только при помощи воли — воли к истине. Теперь мы видим
сущность нашего самообмана и сомнения, направляющегося против
него. Заблуждение заключается не в наших представлениях, а в
наших суждениях, причем не в суждениях как таковых, а в их
безосновном утверждении или отрицании, следовательно, в
волевом акте, от которого мы свободны воздержаться. Таким образом, в
последней инстанции именно воля затемняет рассудок и ввергает
нас в заблуждение; равным образом воля же оберегает нас от
заблуждения и освобождает от него.
Мы хотим утверждать или отрицать, еще не подумав и не
познав: в этом заключается наша неправда по отношению к самим
себе, наш самообман, наше заблуждение. Мы хотим утверждать
* Ibid., pg. 300-301.
352
Происхождение заблуждения. Ум и воля. Человеческая свобода
или отрицать только после того, как познали ясно: в этом
заключается правда по отношению к самим себе, сомнение в правильности
наших представлений, уразумение нашего незнания, твердая
решимость мыслить ясно и отчетливо и не судить до тех пор, пока
мы не познаем ясно. Соблюдать это решение как непреложный
закон — это дело воли и характера. «Так приобретаем мы свободу не
заблуждаться, как род привычки, и в этом заключается величайшее
и самое главное совершенство человека»*185.
' Ibid., pg. 306-307.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПЮТИЮПОЛОЖНОСГЬ МЕЖДУ ДУХОМ И ТЕЛОМ.
ПЕРЕХОД К НАТУРФИЛОСОФИИ
L СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ ВЕЩЕЙ
1. Бытие тел
После того, как доказана возможность познания и объяснена
возможность заблуждения, следует теперь перейти к вопросу: как
обстоит дело с реальностью предметов, представляемых нами в
качестве вещей вне нас. Чувственная вера утверждает эту
реальность, самоисследование и сомнение потрясли веру в истинность
чувственного представления. Идея Бога дала мне возможность
познать, что я не один в мире; из совершенства Бога должно мне
стать ясным, что несовершенство моего бытия принадлежит к
совершенству целого; я несовершенен, потому что ограничен, я
ограничен, потому что я не целое, а только часть его, не единственное
существо, кроме Бога, а только одно из многих существ:
следовательно, кроме меня в мире есть и другие существа.
Мои представления истинны, поскольку я не обманываю сам
себя; вещи таковы, какими я их представляю, если я мыслю ясно
354
Переход к натурфилософии
и отчетливо. Они являются мне как тела. Не самообман ли это
явление? Существуют ли тела в действительности?
Достоверно, что представления или образы тел имеются
налицо перед моим духом, что я воображаю себе бытие последних.
Если мое мышление может быть единственной причиной этого
воображения или, что то же, если мышление и воображение
совершенно идентичны, то нет основания объяснять внешней
причиной тот факт, что я представляю себе тела. Но воображение, по-
видимому, отлично от чистого мышления. Я ощущаю это различие,
коль скоро к одному и тому же объекту отношусь мысля или
воображая его; довольно трудно образно представить тысячеугольник,
тогда как его так же легко мыслить, как и треугольник. Так как
сущность духа состоит в мышлении, то, очевидно, способность
воображения не только зависит от духовной природы, но и требует
связи ее с телесной; видимо, без тел невозможно было бы наше
воображение тел. Поэтому факт этого воображения должен иметь
силу основания, из которого должно явствовать бытие тел. Все
доказательство зиждется на недоказанном предположении, что
мышление и воображение отличны друг от друга и что
воображение нечто иное, чем простая модификация мышления. Этим путем
бытие тел в лучшем случае можно сделать вероятным, но не досто-
•186
верным .
Искомое доказательство, как кажется, с гораздо большей
уверенностью может опереться на факт нашего чувственного
восприятия. Как возможны без действительности тел такие аффекты, как
удовольствие и скорбь, такие позывы, как голод и жажда, такие
настроения, как радость и печаль, такие ощущения, как твердость
и мягкость, теплота и холод, цвета и тона, ощущения запаха и
вкуса? Достоверно, что мы имеем такие представления, что они
самые живые и самые сильные из всех, что они возникают без
нашего содействия, следовательно, по-видимому, происходят от
вещей, вне нас находящихся, что о последних мы не можем
получить никаких сведений иначе, как через наши чувственные
впечатления, почему мы считаем их выражением самих вещей, их
вернейшими отпечатками. Непроизвольно относим мы наши
чувственные представления к телесным причинам, как бы побуждае-
" MéA VI, pg. 322-325.
355
Куно Фишер
мые к этому естественным инстинктом; мы смотрим на эти
представления, так как они суть первые, получаемые нами, как на
элементы всех остальных, и приходим таким образом к воззрению, что
в наш интеллект все идеи входят через чувства и что все
чувственные впечатления производятся телесными причинами. Однако мы
ведь знаем, как мы сильно обманываемся относительно истинности
наших чувственных представлений, и не только во сне, во время
которого они не имеют никакой реальности, но также и бодрствуя,
когда восприятие являет нам один и тот же предмет то таким, то
иным, а подчас и совершенно нас обманывает. Четырехугольная
башня издали кажется круглой; после ампутации боль ощущается
в том члене, который уже отнят от тела. Поэтому бытие тел так же
трудно сделать достоверным, основываясь на нашем ощущении,
как и основываясь на нашем воображении*187.
Достоверно лишь то, что мы имеем чувственные
представления, что они должны иметь причину и что производящая их
способность существует или в нас, или вне нас. Тем, что производит
впечатления, в нас может быть только ум или воля; тогда мы
должны были бы либо мыслить, либо желать этих впечатлений; но ни
того, ни другого нет, впечатления появляются без содействия
мышления и хотения, часто даже против воли, поэтому причиной их
не может быть наш дух, т. е. не можем быть мы сами.
Следовательно, причина существует вне нас: или в Боге, или в вещах
иной природы, чем Бог и чем наше собственное духовное
существо. Допустим, что Бог — причина наших чувственных
представлений, тогда последние должны были бы созидаться им или
непосредственно, или посредством промежуточных причин высшего
порядка; они возникали бы способом, от нас совершенно скрытым
и остающимся таковым, тогда как сама наша природа побуждает
нас искать источник этих представлений совершенно в другом
направлении. Истинный источник остался бы тогда для нас не только
скрытым, мы не только были бы по отношению к нему в
положении слепых, но были бы опутаны полнейшим обманом, который
являлся бы не самообманом, а без нашей вины проистекал бы из
свойств нашей природы; тогда сам Бог вводил бы нас в
заблуждение, а это противоречит божественной правдивости (интеллекту-
' Ibid., pg. 325-331.
356
Переход к натурфилософии
альному совершенству). Достоверно, следовательно, что причина
наших представлений о телах — не мы сами, не Бог, а сами тела.
Так называем мы отличные от Бога и духа естества. Тела
существуют. Ближайший вопрос теперь: что такое тела?*188
2. Субстанции. Бог и вещи
Теперь нам ясно, что тела существуют действительно, как
причины наших представлений о телах, что они существуют
независимо от нашего мышления и для своего бытия не нуждаются в
нашем существовании. Такое самостоятельное существо Декарт
называет субстанцией. «Я говорю: две субстанции в
действительности отличны друг от друга, если каждая из них может
существовать без другой». «В том именно и заключается сущность
субстанций, что они взаимно исключают друг друга». Такое определение
приложимо к телесной и к духовной природе: каждая из них
существует независимо от другой, каждая в этом отношении
субстанция. Но только в этом отношении. Так как если субстанция есть
существо, не нуждающееся для своего существования ни в каком
другом, следовательно, совершенно независимое, то, строго говоря,
субстанциальным могло бы быть только такое существо, которое
само ни от чего не зависит, но от которого зависит все остальное.
Если бы таких субстанций было несколько, то они должны были
бы исключать взаимно друг друга, а потому ограничивать и
обусловливать друг друга; поэтому абсолютно независимым существом,
субстанцией в истинном смысле слова может быть только одно-
единственное существо.
Эта единственная субстанция есть Бог. Он субстанция в
абсолютном смысле, дух и тело — субстанции в смысле
относительном; Бог бесконечен, дух и тело, напротив, конечны, так как они
взаимно исключают и ограничивают друг друга. Таким образом,
существуют двоякого рода субстанции: Бог и вещи; Бог —
бесконечная субстанция, вещи — конечные. Мы не можем назвать их
двумя видами субстанции, так как они не имеют общего родового
понятия. Декарт говорит вполне определенно, что слово
«субстанция» не может быть употребляемо в одном и том же смысле («uni-
* Ibid., pg. 331-335. Ср.: гл. IV, разд. III, 3.
13 Куно Фишер 357
К у но Фишер
voce») в приложении к Богу и вещам. Духи и тела по отношению
к Богу — зависимые существа, потому что они нуждаются для
своего бытия в существовании и активности Бога. Поэтому по
отношению к миру, или совокупности конечных вещей, понятие
субстанции следует ограничить тем, что оно должно обозначать такие
существа, которые нуждаются для своего бытия только в
божественном содействии. «Под субстанцией, не нуждающейся ни в
каком отношении в другом существе, можно понимать только одну-
единственную, а именно Бога; все другие, напротив, могут,
разумеется, существовать только при помощи Бога. Поэтому название
субстанции «univoce», как выражается схоластика, неприложимо к
Богу и к другим существам, т. е. нет такого значения слова
«субстанция», которое могло бы применяться к одном и том же смысле
и к Богу, и к созданиям»*189.
В этом объяснении имеют важное значение два понятия:
единственность субстанции, в противоположность которой вещи
(духи и тела) могут быть названы субстанциями только не в
собственном смысле, стало быть, собственно не суть субстанции, и
содействие Бога. Первое понятие содержит мотив спинозизма,
второе — окказионализма.
3. Атрибут и модус
Субстанции различаются коренным образом. Что они такое —
это познаваемо только из их внешних проявлений или качеств;
свойство, составляющее характерную особенность субстанции,
необходимо ей подобающее или присущее, называется атрибутом.
Атрибут есть качество, без которого субстанция не может ни быть,
ни мыслиться; в пределах его возможны различные и
изменяющиеся* определения; атрибут остается, но он может принимать
различные виды и выражаться многообразно: эти виды и способы
выражения называются модусами или модификациями. Субстанция и
атрибут могут быть мыслимы без модусов, но последние без первых
немыслимы, поэтому модусы суть не необходимые, а случайные
свойства субстанции, и в этом смысле они называются акциденци-
' Obj. et Rcp. Def. V-X, Propos IV, pg. 453-454, 464-465. Princ, I,
§ 51-52.
358
Переход к натурфилософии
ями. Так, дух не может существовать без мышления, но, конечно,
может существовать, не воображая того или другого объекта и не
желая его: мышление есть атрибут духа, воображение и желание
суть модификации мышления. Фигура немыслима без
пространства, пространство же мыслимо без фигуры; фигуры суть
модификации пространства, которое само составляет необходимый атрибут
телесной природы. Субстанция не может изменять своего
существа, а может изменять лишь свои модусы; перемена в ее состояниях
и вместе с тем всякое изменение вообще охватываются понятием
модуса. В Боге невозможна никакая перемена, поэтому он имеет
только атрибуты, а не модусы*190.
В этих понятиях заключены все виды различий. Последние
имеют место либо между различными субстанциями; либо между
субстанцией и атрибутом, равно как и между различными
атрибутами; либо между субстанцией и модусом, равно как между
различными модусами: первый вид различия Декарт называет
реальным, второй рациональным, третий модальным. Реально,
например, различие между духом и телом, рационально различие между
духом и мышлением, телом и протяжением, протяжением и
делимостью, модально различие между телом и фигурой или фигурой и
»»191
движением .
П. АТРИБУТЫ ВЕЩЕЙ
1. Ложные атрибуты
Мы познаем сущность вещей из их необходимых свойств, или
атрибутов. Вопрос, в чем они состоят, может теперь служить
формулировкой проблемы познания. Что такое вещи сами по себе?
Что они такое как объекты нашего ясного и отчетливого
представления? На этот вопрос можно было бы ответить просто, если бы
вецщ не были вместе с тем и объектами нашего неясного и
неотчетливого представления. В рассмотрении этих обоих родов
мышления заключается труднейший и критический пункт, задача, без
" Рппс.,1, § 52,56.
" Ibid., § 61-62.
359
Куно Фишер
разрешения которой не может быть и речи о познании самих
вещей. Что мы представляем в вещах ясно и отчетливо, то составляет
их истинный атрибут; что мы представляем в них неясно и
неотчетливо, то составляет их ложный атрибут.
Речь идет, стало быть, о критическом обособлении одного от
другого. Если от нашего созерцания вещей мы отвлечем ложные
атрибуты, то останутся истинные. Какие же атрибуты являются
ложными и воображаемыми? Очевидно, это все те свойства,
которые мы приписываем вещам как таковым, тогда как они присущи
нашему субъективному характеру представления. Когда мы
считаем свойствами вещей то, что есть свойство только нашего
мышления, то мы приписываем телам то, что принадлежит нам. Тогда
наше представление основательно запутано, и невозможно
проникновение в сущность вещей. Чем привычнее и непроизвольнее этот
ложный способ рассмотрения, тем больше путаница и тем труднее
в ней разобраться.
Мы принимаем то, что вещь длится во времени, за свойство,
заключающееся в ее природе, и говорим: эта длительность вещи во
времени выражается в стольких-то днях, месяцах, годах ит.д. Эти
определения не обозначают ничего, кроме известного количества
движений Земли или Луны. Вещь, пребывающая в продолжение
стольких-то месяцев, как таковая не имеет ничего общего с Луной.
Мы сравниваем ее бытие с движением небесных тел, мы
вычисляем это движение, мы измеряем этим числом длительность
пребывания вещи и создаем таким образом то определение времени,
которое вещь должна иметь как свое свойство: мы создаем это
свойство, т. е. наше мышление. Время есть не свойство веши, а
свойство нашего мышления, оно есть «modus cogitandi» (способ
мыслить). Исчисление и измерение суть виды мышления: Что прило-
жимо ко времени, то приложимо в такой же мере к числу и ко
всем тем общим предикатам, которые создает мышление,
сравнивающее предметы, а следовательно, ко всем родовым и видовым
понятиям, к так называемым универсалиям, которых Порфирий
различал пять (quinques voces, как называет их схоластическая
логика): род, вид, различие, особенность, случайное качество.
Треугольник есть родовое понятие, прямоугольный треугольник есть вид и
специфическое отличие, пифагоровское отношение его сторон есть
360
Переход к натурфилософии
его особенность (proprium), покой или движение — его случайное
свойство (accidens)*192.
Абстрактные признаки вещей суть наши способы мышления,
чувственные качества их — наши способы восприятия. Мы
думаем, что вещь жестка или мягка, холодна или тепла, горька или
сладка, ясна или темна, что она имеет тот или другой цвет, тот
или другой тон и т. д. Все эти определения — не качества вещей,
а ощущения наших органов чувств. Чтобы познать так называемые
чувственные качества ясно и отчетливо, мы должны проводить
четкое различие между нашей природой и природой вещей и не
приписывать второй того, что принадлежит первой. Ощущения
находятся в нас, не в вещах. Коль скоро мы начинаем
примешивать к вещам свою природу, представление о вещах становится
темным, и познание спутывается. Нам кажется, что свет и цвет
действительно присуши вещи, которую мы видим, а боль или
щекотка — тому члену нашего тела, где мы их чувствуем. И мы не
заблуждаемся, пока просто утверждаем, что это так кажется.
Только суждение, что это так есть, составляет заблуждение:
это суждение, которое основывается на видимости. Если мы
позволяем этой видимости обманывать нас, то мы находимся во власти
самообмана. Что мы имеем определенные ощущения — верно; что
мы представляем их себе как свойства вещей— неправильно.
Ощущение как состояние нашего чувства ясно; как свойство
вещей оно неясно. Что в природе вещи отвечает этому нашему
ощущению или вызывает его, то сначала неясно; поэтому если мы
чувственные качества приписываем самим вещам, то мы
представляем нечто, о чем не знаем, что оно такое, т. е. мы имеем неясное
представление. Ясно и отчетливо мы познаем в телах протяжение,
фигуру, движение, но не так ясно — цвета и тона, теплоту и
холод и т. п. Наше ощущение в качестве свойства вещи есть
совершенно неясное представление. Мы судим: веши таковы, какими
мы их ощущаем. Теперь ясно, какова цена этому суждению. Это
совершенно то же самое, как если бы мы сказали: вещи таковы,
каковыми мы их представляем, когда мы их представляем неясно и
неотчетливо. Такое суждение ложно в корне. Не ощущение ложно,
а необдуманно и некритически основанное на нем суждение. Тут
" Ibid./ § 57-59.
361
Куно Фишер
не хватает самоанализа: такой недостаток в таком пункте есть
«первая и главнейшая причина всех наших заблуждений»*193.
2. Главный источник наших заблуждений
и многочисленность их
Для того, чтобы отделить истинные атрибуты вещей от
ложных, необходимы осмотрительность, внимательный самоанализ и
умственная зрелость, которых мы в детском возрасте еще иметь не
можем. При первом воздействии на нас вещей мы не в состоянии
отличить их существенных свойств от кажущихся и поэтому
отождествляем их. Так начинается путаница. Мы полагаем, что вещи
таковы, какими мы их представляем, мы судим о реальности тел по
роду и степени нашего ощущения: чем сильнее впечатление, тем
большей кажется нам реальность, чем слабее впечатление, тем
меньшей силой, думается нам, обладает вещь; где нет впечатления,
там для нас ничего и не существует. Так, мы считаем звезды
маленькими огоньками, Землю считаем неподвижной, ее
поверхность — плоской, воздух — менее реальным, чем камни и
металлы, и т. д. Мы живем только в объектах, представляемых нами
внешне и чувственно, не думая о нашей собственной
представляющей деятельности, не осознавая ее; это самозабвение или
недостаток самоощущения скрывает от нас нашу собственную духовную
природу; мы верим, что вообще нет других объектов, кроме
чувственно представляемых нами, нет никаких других субстанций,
кроме тел, никаких тел, кроме чувственно нами воспринимаемых.
В такой вере живет большая часть людей, руководствуясь ею в
своих мыслях и поступках; поэтому неудивительно, что эти люди в
течение всей своей жизни мыслят неясно и поступают так же.
За привычными представлениями идет и язык. Заблуждение
свивает себе гнездо в речи и получает благодаря словам
общепринятое и стереотипное выражение, оказывающее, в свою очередь,
обнаруженной истине самое упорное сопротивление. Вопреки
Копернику и Галилею в обычной речи людей Солнце никогда не
перестанет вращаться вокруг Земли. При помощи языка происходит
обмен мыслей. Таким образом, заблуждения с помощью слов не
' Ibid., § 66-71.
362
Переход к натурфилософии
только закрепляются, но и передаются, распространяются из рода в
род; понятия постепенно так тесно срастаются со словами, что их
отделение делается очень трудным; большинство держится только
слов, не сознавая смысла понятий. Слово является заместителем
вещи. «Так как мы легче вспоминаем слова, чем веши, то понятие
вещи почти никогда не бывает у нас столь отчетливым, чтобы мы
были в состоянии отделить его от всех значений слова. И
мышлению почти всех людей приходится иметь дело больше со словами,
чем с вещами, поэтому они обыкновенно относятся одобрительно к
непонятным словам, так как думают, что они их когда-то поняли
или восприняли от заслуживающих веры авторитетов». Поэтому-то
книжная ученость и школьная мудрость так бедна истинным
познанием и так бесплодна: она зиждется на вере в слова.
Слова запечатлеваются в памяти, и если они сохраняются
здесь в течение некоторого времени, то возникает видимость того,
что вместе с ними представления и вещи —также давно знакомые
нам объекты и что исследование их вовсе не нужно. Слово
делается вполне обычным и известным объектом памяти, знакомое слово
считается известной нам вещью, т. е. неизвестное считается
известным, а известное — познанным: вместе с этим готово и
заблуждение в его основной форме. Просто нам знакомое
обыкновенно менее всего нами познано, ибо оно менее всего исследовано,
так как исследование его кажется нам ненужным; видимость
известного — величайший враг познания и сильнейшее прикрытие
для самообмана. Таким образом, заблуждение достигает своего
полного выражения в самой худшей, ибо самой враждебной к
самоанализу форме и становится хроническим. «Чаще всего мы
заблуждаемся потому, что думаем о многих вещах, что мы их
знаем давно, и потому предоставляем их памяти и считаем их вполне
знакомыми объектами, между тем как на самом деле они никогда
не были нами познаны».
Не чувственное представление есть заблуждение, а наша вера
в него. Из этого заблуждения вытекают все остальные; язык и
память всячески способствуют тому, чтобы закрепить и
распространить заблуждения и допустить такое господство самообмана, что
воля к самоисследрванию совершенно исчезает. «Чтобы
философствовать серьезно и исследовать истину всех познаваемых ве-
363
Куно Фишер
щей, — так заканчивает Декарт первую книгу своих
«Принципов *, — мы должны освободиться от всех предрассудков и
тщательно остерегаться принимать на веру традиционные мнения, если мы
их не исследовали и не нашли истинными; затем нам нужно
исследовать наши собственные воззрения методически и внимательно
и считать истинным лишь то, что мы понимаем ясно и отчетливо.
При таком исследовании мы впервые познаем, что мы сами
мыслящие существа, что есть Бог, от которого мы зависим и из
которого, как из причины всех вещей, следует возможность истинного
познания последних, что, кроме того, мы носим в себе вечные
истины, например, закон причинности; что мы представляем
телесную или протяженную, делимую или подвижную природу как
действительный объект, что мы обладаем известными аффектами и
чувствами, причины которых нам еще неизвестны. В этих
немногих положениях заключены, как мне кажется, все основные
принципы человеческого познания». «Философ не должен считать
ничего истинным, пока он в этом не убедился; если он без критики
верит чувствам, то он доверяет детскому воображению больше, чем
прозрениям зрелого рассудка».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
НАТУРФИЛОСОФИЯ. А. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРИНЦИП ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ
I. ПРОТЯЖЕНИЕ КАК АТРИБУТ ТЕЛ
1. Тело как предмет мышления
По мере развития методического исследования реальность
нашего духа, Бога и тел стала несомненной; мы познаем ясно и
отчетливо, что вне нас находятся веши, существующие независимо
от нашего мышления, следовательно, являющиеся субстанциями:
конечные — как мы, в отличие от Бога, телесные — в отличие от
нас, субстанций духовных. Это уразумение протиюположности
между духом и телом составляет заключительный пункт
метафизики и исходный пункт натурфилософии, переход от теории
познания к учению о телах. Основной вопрос физики гласит: что такое
тела сами по себе? в чем заключается их атрибут?
Из противоположности обеих субстанций следует, что к
представлению о телах не должно примешиваться ни одно свойство
духовной природы, что все исключительно субъективные способы
представления, в особенности все наши виды ощущений, должны
быть вычтены. Тела суть то, что от них остается по отвлечении от
них их чувственных свойств; они существуют, если даже мы их не
воспринимаем, поэтому их воспринимаемые и чувственные
качества не принадлежат к их существу как таковому. Камень является
365
К у но Фишер
твердым, когда мы его касаемся; будучи превращен в пыль, он не
перестает быть камнем, но перестает быть твердым. Что верно
относительно твердости, то имеет место и по отношению к теплоте и
к холоду, цвету, тяжести ит.д. Цвет не принадлежит к существу
камня, так как существуют прозрачные камни, тяжесть не
относится к существу тела, ибо существуют такие тела, которые не
тяжелы, как, например, огонь.
При рассмотрении и анализе понятия телесной природы
Декарт следует точно такому же методу, как и при исследовании
духовной. При самопознании речь шла о чистом понятии нашего
существа, при познании внешнего мира речь идет о чистом
понятии тела. При самопознании нужно было отделить от нашего
существа все, не принадлежавшее к нему необходимо, все,
реальность чего была под сомнением. По отвлечении всего такого не
осталось ничего, кроме мыслительной деятельности, она и
оказалась атрибутом духа. Точно таким же образом нужно от существа
тела отделить все то, что не принадлежит ему необходимо, все, что
можно отделить, не уничтожая самостоятельного бытия, или
субстанции, телесной природы; таким образом, останется только
чистая материальность, или протяжение: оно и есть атрибут тела.
Если мы смешаем эти два противоположных атрибута,
рассматривая наши способы мышления и ощущения как свойства тел,
то возникнет двойная путаница, и мы начнем заблуждаться как
относительно существа материальной природы, так и относительно
нашего собственного существа. Представлять тела носителями
общих понятий и чувственных свойств — это значит превращать их
в мыслящие естества, антропоморфизировать. Именно против
этого направлена принципиально картезианская натурфилософия;
она стремится освободить физику от всякого рода
антропоморфизма и познать телесную природу по отвлечении от нее духовной
природы человека. Мы непроизвольно переносим наши
особенности на тела, и тот способ, которым мы их рассматриваем, есть
вместе с тем завеса, скрывающая от нас тела. Необходимо поэтому
снять с них покров — это первое условие их познания. Если
спадет покров, как бы сотканный из материи духовной природы, то
раскроется не что иное, как тело в своей наготе, в своей
противоположной духу природе: оно есть голое протяжение. Дух есть само-
366
Натурфилософия. А. Математический принцип объяснения природы
сознательная и вместе с тем самодеятельная внутренняя природа,
всякая самодеятельность духовна; вполне противоположно ей
инертное состояние только наружу направленного бытия, т. е.
протяженности или материи. Поэтому протяжение есть атрибут тела;
противоположность между духом и телом тождественна
противоположности мыслящей и протяженной субстанций.
Так как от этого понятия протяжения зависят все дальнейшие
выводы и проблемы учения Декарта, то обоснование его следует
пояснить еще подробнее. Следует уяснить себе, что с точки зрения
картезианского учения о духе невозможно никакое иное
понимание тела, что тело, как предмет мышления и как
противоположность духа, не имеет никакого иного атрибута, кроме протяжения.
Тело должно рассматривать чисто физически, т. е. как простой
объект познания, что может иметь место только тогда, когда наш
способ рассмотрения соблюдает условия, при которых вообще только и
есть предметы. Обыкновенно думают, что последние даны без
всяких условий и что нам стоит только раскрыть чувства, чтобы
воспринять их и получить от них впечатления; они суть модели, а
мы — навощенная доска. Дело не так просто. Нет предмета без
противоположности, без того, чтобы я не отличал себя от веши и
вещь от себя, т. е. не отделял моего существа от ее существа и не
противопоставлял себя, как самосознательное, мыслящее существо,
внешнему миру: нет объекта без субъекта, нет «ты» без «я». Нет
субъекта без самодостоверности, без самосознательного различения,
без мышления.
Только мышление имеет объекты, так как оно дает им
возникнуть; объекты так же мало даны, как и само мышление,
которое не есть наличная готовая вещь, а есть деятельность,
простирающаяся лишь настолько, насколько мы уверены в ней, насколько
освещает ее сознание. Без мыслящей самодостоверности, без «со-
gito ergo sum» нет никаких объектов, нет и тел в качестве
объектов. В нашем ощущении вещи не противополагаются нам, а входят
в соприкосновение с нами и вызывают нашу реакцию, они не
предметы нашего исследования, а наши состояния и аффекты, мы не
свободны от них, а находимся под впечатлением их и потому не
знаем, что они такое, а знаем только, как мы их ощущаем.
Рассматривать тело как объект, чего требует познание, значит то же
367
Куно Фишер
самое, что относиться к телесной природе не ощущая, а мысля,
противополагать ее духу и отделять от всякой духовной сущности,
т. е. противопоставлять ее духу и рассматривать как его антитезу,
как лишенную самости, инертную, только протяженную сущность.
Если дух только мыслящ, то тело только протяженно; если дух по
своему существу бестелесен, то тело бездушно: оба эти понятия
требуют и поддерживают друг друга*194.
2. Тело как пространственная величина
Тело есть протяженная субстанция и ничего более. Как дух
без мышления ничто, так и тело без протяжения ничто; между
субстанцией и атрибутом нет реальной разницы: поэтому тело и
протяжение тождественны, тело без протяжения есть или
бессмысленное выражение, или спутанное понятие. В протяжении
различаются длина, ширина и глубина, оно не имеет никаких других
различий, кроме пространственных измерений, оно только
пространственно: поэтому протяжение и пространство тождественны.
Следовательно, тело, представленное отчетливо, есть не что иное,
как пространственная величина, а значит, физическое понятие
его тождественно математическому. Пространство относится к
телу как общее протяжение к ограниченному. Каждое тело есть
ограниченная пространственная величина, кроме него существуют
другие, из них некоторые непосредственно его окружают;
пространство, занимаемое телом, есть его место и по отношению к
окружающему — его положение; видимое место есть пространство
(поверхность), в котором окруженное и окружающие тела
соприкасаются друг с другом; внутреннее место есть пространство,
заполняемое телом, поэтому (внутреннее) место и величина тела
идентичны*"195.
Против положения, что тело и пространственная величина
(протяжение) тождественны, может возникнуть двоякого рода
возражение: одно — вызываемое фактом разрежения тел, другое —
фактом существования пустого пространства. Если бы тело и
протяжение были тождественны, то одно и то же тело должно было
* Princ, И, § 4, 9, 11.
" Ibid., § 10-15.
368
Натурфилософия. А. Мате Апатический принцип объяснения природы
бы иметь всегда одно и то же протяжение и не могло бы быть то
более, то менее протяженным, что случается, когда тело
разрежается или сгущается. Возражение это неправильно. Разрежение не
есть увеличившееся протяжение, ибо протяжение как материя
состоит из некоторого количества частиц, разрежение же не
состоит в увеличении количества частиц тела, а состоит в том, что
увеличились промежутки между ними или что в них вошли другие
тела. Так, напитанная водой губка увеличивается не потому, что
частицы губки увеличились в числе, а потому, что в промежутках
между ними находится больше воды, чем прежде. Разрежение и
сгущение тела состоит, значит, не в увеличении или уменьшении
• 196
его протяжения, а в увеличении или уменьшении его пор .
Но пустые промежутки суть пустое пространство;
последнее есть протяжение без тел, а следовательно, фактическое
доказательство того, что тело и протяжение не тождественны. Но и это
возражение ничтожно и опирается на смутные понятия. Пустота
принимается либо в относительном, либо в абсолютном смысле: в
первом случае она не пуста, во втором бессмысленна. Кружка от
воды, рыбный садок, торговое судно называются пустыми, если в
первой нет воды, во втором рыбы, в третьем товаров, хотя в них
находятся другие тела, наполняя вместилища. Пустым называют
пространство, в котором недостает известных тел, которые
ожидают там либо найти, либо вообще чувственно воспринять. Однако
это обыкновенное (относительное) понятие пустоты породило
философское (абсолютное). Между сосудом и его содержанием нет
необходимой связи; в теле может быть и вода, и воздух, и песок, и
может ничего не быть. Если нет никакого содержания, то сосуд
абсолютно пуст. Абсолютная пустота есть ничто, пространство есть
нечто; пустого пространства так же нет, как не существует нечто,
которое было бы ничем. Сосуд может быть без того или иного
содержания, без того или другого тела, но не может быть абсолютно
пустым, в противном случае он был бы сам невозможен. При
абсолютной пустоте не было бы буквально ничего, что отделяло бы
вогнутые стенки сосуда друг от друга, они должны были бы
совпадать, а потому не было бы ни конфигурации, ни сосуда. В
действительности нет никакой пустоты, а есть только видимость пустоты.
* Ibid., § 5-7.
369
К у но Фишер
Всякое тело протяженно, и в той же мере, в какой оно
протяженно, оно полно; оно не может быть ни более, ни менее
протяженным, следовательно, не может быть ни более, ни менее полным,
чем оно есть, независимо от того, будет ли сосуд наполнен золотом
или свинцом, водой или воздухом или же будет совсем пус-
тым'197.
П. ТЕЛЕСНЫЙ МИР
Тело и протяжение тождественны; нет ничего пустого: где
есть пространство, там есть и тела, но и только тела; они
простираются по всему пространству, насколько простирается само
пространство, а оно простирается настолько, насколько простирается
протяжение. В пределах протяжения нет ничего непротяженного
или неделимого. Не существует атомов; самые малые частицы
тела все еще делимы, следовательно, они не атомы, а молекулы
или корпускулы. Точно так же протяжение не может где-нибудь
прекратиться или ограничиться; за этой границей должно было бы
начаться непротяженное, следовательно, сама граница не могла бы
быть протяженной. Поэтому абсолютно невозможно заключить
протяжение в границы, оно безусловно беспредельно:
следовательно, телесный мир бесконечен.
Так как протяжение нигде не может быть пустым и не может
прерываться, то оно цельно и образует непрерывность: поэтому не
существует различных родов протяжения или материи,
следовательно, нет различных материальных миров. Телесный мир только
протяжен, беспределен и единствен. Вне мышления не существует
••198
иных миров, кроме телесного
* Ibid., § 16-19.
" Ibid., § 20-22.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
НАТУРФИЛОСОФИЯ. В. МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ
I. ДВИЖЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ФЕНОМЕН
ТЕЛЕСНОГО МИРА
1. Движение как модус протяжения
Все явления или события внутреннего мира суть
модификации мышления; все явления и события внешнего мира суть
модификации протяжения, которое мы признали атрибутом телесной
субстанции. Протяжение делимо до бесконечности, части его могут
быть связываемы и отделяемы, отчего происходят различные
образования и формы материи. Такое связывание и отделение
происходит посредством приближения и отдаления частей, т. е.
посредством движения: протяжение, следовательно, делимо, способно
принимать формы, подвижно. Его возможные изменения состоят в
делимости, в принятии формы, в движении; других модификаций
протяжения нет. Этим объяснением Декарт заключает вторую
часть своих «Принципов»: «Говорю открыто, что в природе
телесных вещей я не признаю никакой другой материи, кроме той,
которая может быть делима самым различным образом, может
принимать форму и двигаться, которую математики называют
величиной (количеством) и делают предметом своих демонстраций;
371
Куно Фишер
что в этой материи я рассматриваю только ее деления, фигуры и
движения и не принимаю ничего за истину, что не вытекает из
этих принципов так же явственно, как достоверность
математических положений. Этим путем можно объяснить все явления
природы. Поэтому я держусь того взгляда, что в физике и не нужны,
•199
и недопустимы другие принципы, кроме здесь изложенных»
Эти принципы могут быть упрощены. Всякое деление и
формирование материи происходит посредством движения; поэтому
все модификации протяжения могут быть сведены к последнему.
Изменения в телесном мире, все без исключения, суть явления
движения, всякое изменение материи и все различия ее форм
обусловлены движением"*200. Теперь точка зрения
картезианской натурфилософии совершенно ясна: существо тел состоит в
пространственной величине, изменение их — в движении: первая
понимается математически, второе — механически; Декартово
объяснение природы покоится всецело на математико-механических
принципах.
2. Движение как перемена места
Всякое движение состоит в пространственном изменении.
Пространство, занимаемое телом по отношению к другим телам,
есть его место или его положение. Если тело движется, то оно
изменяет это свое место; поэтому всякое движение есть перемена
места: «Оно есть действие, посредством которого тело
перемещается из одного места в другое»***201.
Это понятие требует более точного определения, чтобы
защитить его от того возражения, что одно и то же тело в одно и то же
время может вместе быть и не быть в движении. Тело может
изменять свое место, находясь в покое, подобно человеку, сидящему на
корабле, который движется вместе с течением: человек
перемещается относительно берегов реки, но не относительно пространства
корабля, на котором он находится, он остается в том же
положении по отношению к окружающим его телам: он покоится. Так как
* Ibid., § 64.
" Ibid., § 23.
"* Ibid., § 24.
372
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
движение имеет исключительно значение модуса подвижного тела
или свойственного ему изменения, то о теле, которое не совершает
своего собственного действия, даже если меняет свое
местоположение, нельзя сказать, что оно движется. Какое-нибудь тело, или (так
как все тела суть части одной и той же материи) часть материи,
движется только тогда, когда оно меняет свое положение по
отношению к соседним частям, т. е. если оно из окружения тех тел,
которые соприкасаются с ним непосредственно, перемешается в
соседство других. Только то изменение местоположения, которое
имеет характер подобного перемещения, или трансляции
(транспортировки), является движением в собственном смысле.
Но и это понятие также нуждается в более точном
определении, чтобы вновь не встретить вышеприведенного возражения.
Перемена места всегда относительна. Если тело А перемешается
относительно соседних частиц материи В, той В перемешается
относительно А Возможно, что оба тела одновременно активны и
движутся; но есть случаи, когда при перемещении относительно друг
друга непосредственно соседствующих частей материи понятие
движения применимо только к одному телу и не может быть в
такой же степени применено к другому. Два тела, А и В, движутся
по поверхности Земли непосредственно навстречу друг другу. Это
движение взаимно и одинаково совершается каждым из них;
вместе с тем оба тела меняют свое местоположение по отношению к
соприкасающимся с ними частицами поверхности Земли, и это
движение тоже взаимно; стало быть, и Землю следовало бы
считать движущейся по отношению к А и В, т. е. она должна была бы
двигаться в одно и то же время в противоположных направлениях,
что невозможно. Поэтому масса Земли считается по отношению к
земным и гораздо меньшим телам, движущимся по ее поверхности
в ту или в другую сторону, находящейся в покое.
Отсюда явствует, что тело только тогда движется, когда оно
меняет свое положение относительно тех частиц материи, которые
с ним непосредственно соприкасаются и по отношению к нему
должны быть рассматриваемы как находящиеся в покое; если оно
не оставляет этого своего места, то оно находится в покое. Корабль,
движимый течением вперед и отгоняемый ветром с той же силой
назад, остается по отношению к берегу на одном и том же месте,
373
Куно Фишер
он не изменяет своего места, а находится в покое, между тем как
частицы воды и воздуха, окружающие его, непрерывно движутся.
«Если мы хотим знать, — говорит Декарт, — что такое на самом
деле движение, то для того, чтобы определить его точно, мы
должны сказать следующее: «Движение есть перемещение
(транспортировка) одной части материи или одного тела из соседства тех тел,
которые непосредственно соприкасаются с ним и считаются
находящимися в покое, в соседство с другими. Под телом, или частью
материи, я понимаю совокупность движущейся массы, независимо
от частей, из которых она состоит и которые могут одновременно
иметь еще и другие движения. Я говорю: движение есть
перемещение, а не сила или деятельность, которая производит эту перемену,
чтобы указать этим выражением на то, что движение постоянно
имеет место в подвижных объектах, а не в движущих причинах,
так как, по моему мнению, обыкновенно этих двух вещей не
различают с необходимой точностью. Как сформованная и
находящаяся в покое вещь обладает в качестве свойства некоей фигурой, так,
полагаю, и движение является свойством подвижной вещи, а не
сущностью самой по себе, или субстанцией»*202.
Из данного объяснения можно сделать некоторые выводы по
отношению как к простому, так и к комплексному и сложному
движению.
Ближайший вывод тот, что каждое тело — так как перемена
места имеет значение только по отношению к соседней с ним и
покоящейся материи — в одно и то же время имеет и может
иметь только одно ему свойственное движение. Но в качестве
части большего тела, движущегося свойственным ему образом и
опять-таки составляющего часть еще большего и тоже по-своему
движущегося тела, оно может без ущерба для своего собственного
движения принимать участие в бесконечно многих движениях. Так
движутся колеса часового механизма свойственным им образом,
между тем как они в составе часов в кармане какого-нибудь
моряка, качающегося на судне вверх и вниз, принимают участие в
движениях последнего, вместе с моряком — в движениях судна,
вместе с судном — в движениях моря, а вместе с морем — в
движениях Земли вокруг оси и т. д. Колеса этих часов имеют свое собст-
* Ibid., §§ 15, 24-30.
374
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
венное, только им принадлежащее движение, между тем как они
принимают участие в комплексе бесконечно многих иных
движений. Не отличая в точности собственного движения тела от
движений, в которых оно опосредованно участвует, мы не имели бы
возможности определить, движется ли и как движется тело. Но это
особенное движение хотя в каждое данное время и является
только этим, а не другим движением, т. е. кажется простым, тем не
менее может слагаться или вытекать из различных движений; так,
например, экипажное колесо во время движения вращается вокруг
своей оси и движется вперед по прямой линии, или точка,
движимая одновременно в различных направлениях, движется по
направлению диагонали.
Дальнейший вывод из понятия движения таков, что ни одно
тело само по себе не может двигаться, тогда как все другие
находятся в покое. Нет пустого пространства, поэтому нет и пустого
места. Поэтому если тело покидает свое место, то тотчас же другое
тело должно занять его, между тем как оно само с нового места,
занятого им, вытесняет находящиеся в нем тела и заставляет их, в
свою очередь, принуждать другие тела менять их прежнее
положение. Поэтому вместе со всяким движущимся телом нам дано и
перемещение тел, образующее цепь, последнее звено которой
соединяется с первым, так что всегда приходит в движение комплекс
тел, составляющий круг или кольцо .
П. ПРИЧИНЫ ДВИЖЕНИЯ
1. Первая причина и количество движения
Закон причинности требует, чтобы ничто не происходило без
причины. Движущая причина есть сила, противоположность
движения есть покой. Покой есть прекратившееся или задержанное
движение. Никакое тело не может двигаться без силы, никакое
движение не может быть задержано без силы. Поэтому и покой
невозможен без силы. Противоположное воззрение есть детское
заблуждение, основывающееся на детском опыте, который говорит,
" Ibid., § 31-33.
375
Куно Фишер
что мы нуждаемся в силе и напряжении для того, чтобы двигать
собственное тело, но не нуждаемся в них, чтобы оставаться в
покое. Но коль скоро у человека появится желание задержать или
привести в состояние покоя движущееся тело, то он тотчас же
»204
почувствует, нужна ли для этого сила или нет .
Движение и покой суть два противоположных модуса, или
состояния, телесной природы. Тела только протяженны и
подвижны, но они не могут ни двигаться, ни останавливаться своей
собственной силой, так как они сами по себе лишены силы. Откуда
же, в таком случае, происходят движение и покой в телесном
мире, если они не порождаются им? И покой, и движение должны
иметь свою причину. Так как они не могут быть производимы ни
телами, ни духами, то их первой причиной может быть лишь Бог.
По отношению к мыслящим существам он принцип познания; по
отношению к телам он принцип движения и покоя: он освещает
первые и движет вторые или делает их неподвижными. Материя
создана как обладающая и состоянием движения, и состоянием
покоя, оба подобают ей изначально; поэтому мы должны понимать
телесный мир как изначально частью движущуюся, частью
покоящуюся массу.
Если тела сами по себе не могут ни произвести, ни задержать
свое движение, то они не имеют также силы ни увеличивать, ни
уменьшать его. Поэтому количество движения и покоя в телесном
мире остается постоянно одним и тем же. Если в одной части
материи движение увеличивается, то оно должно уменьшиться в
другой части настолько же; если движение в одной форме
исчезает, то оно должно возникнуть в другой форме. Количество
движения в мире остается постоянным. Декарт выводит этот закон из
неизменности божественного существа и действия; закон
необходим, так как его противоположность невозможна как вследствие
божественной, так и вследствие телесной природы**205.
2. Вторичные причины движения, или законы природы
Из неизменяемости Бога следует, что все изменения в
телесном мире происходят по постоянным правилам. Эти правила Де-
" Ibid., § 26.
" Ibid., § 36.
376
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
карт называет законами природы. Так как все изменения материи
суть движение, то все законы природы суть законы движения; так
как Бог для Декарта есть первая причина движения, то эти законы
названы им вторичными причинами (causae secundae) его. Тела по
своей природе лишены силы, поэтому ни одно из них не может
изменить состояния, в котором тело находится: оно имеет данную
конфигурацию и положение, пребывает в данном состоянии своего
покоя и движения, пока внешняя причина не произведет в нем
изменения.
1). В этом заключается первый закон природы. Все изменения
в телесном мире вытекают из внешних причин. Этот закон можно
назвать законом инерции или косности; но под этим не следует
понимать только покой и думать, например, что тело само по себе
имеет стремление к покою, стремление пребывать в покое,
возвращаться из состояния движения в состояние покоя. Как будто тело
больше предрасположено к покою, чем к движению, или к
бездействию, чем к действию! Такое представление в корне неправильно.
Если бы такое стремление имело место, то всякое тело, коль скоро
внешняя причина его движения перестала бы действовать, тотчас
же приходило бы в состояние покоя. Тогда тело, которое мы
отталкиваем рукой, остановилось бы в тот самый момент, когда наша
рука удалилась бы от него; напротив, оно продолжает свое
движение до тех пор, пока внешние причины, т. е. другие на его пути
находящиеся тела, не помешают ему и не остановят его. Так как
мы не видим этих причин, то мы думаем, что тело пришло в покой
не по внешним причинам, а по собственному стремлению. Это
суждение, основанное на незнании, есть заблуждение*206.
Если вообще можно говорить о стремлении тела, то таковое
может быть только стремлением к косности; оно заключается не
в том, что одно из его состояний достигается за счет другого, а в
том, что то состояние, в котором тело находится, — безразлично,
покоится оно или движется. — сохраняется, т. е. что тут
оказывается сопротивление всякой внешней причине, приходящей с ним
в соприкосновение. Это стремление к косности совпадает с бытием
тела. Каждая вещь хочет сохранить свое бытие и обороняется
против своего уничтожения; каждое тело, благодаря своей инерции,
' IbiA, § 37-38.
377
К у но Фишер
или косности, защищается от уничтожения имеющегося
состояния, т. е. сопротивляется всякой внешней причине, изменяющей
это состояние. Без такого сопротивления количество движения в
телесном мире не было бы постоянным. Поэтому сопротивление
необходимо. Но всякое действие есть выражение силы, поэтому
можно говорить о силе сопротивления телесной природы и в этом
смысле уделить понятию силы место в телесном мире. Тела не
имеют никакой первоначальной силы для действия, но имеют силу
сопротивляться внешним воздействиям. «Способность всякого тела
оказывать воздействие на другое тело или сопротивляться его
воздействию состоит в том, что каждая вещь, насколько может,
стремится, согласно первому закону природы, пребывать в том
состоянии, в котором она находится». Этой силой обладает каждая
частица материи; чем больше поэтому частиц в теле, тем больше у него
силы. Множество частиц называется массой, величина
движения — скоростью. Чем больше поэтому движущаяся масса, тем
больше работа, следовательно, и сила. Отсюда мера силы равна
•207
произведению массы на скорость
2). Из закона косности следует, что каждое движущееся тело
продолжает свое движение, и притом в том направлении, которое
остается неизменно тем же самым. Если тело описывает кривую,
то направление изменяется в каждый момент, что может случиться
только при постоянном влиянии какой-нибудь внешней причины.
Неизменно одинаковое направление есть прямая линия. Поэтому
всякое движущееся тело должно само по себе стремиться
продолжать свое движение по прямой линии, а если оно в силу внешней
причины (как камень в праще) движется по кругу — то по
касательной к нему. Каждое тело должно сохранять свое состояние
движения, поэтому оно должно стремиться двигаться вперед по
прямой линии, так как всякое отклонение от нее может быть
только следствием внешних причин. В этом состоит второй закон ПрИ-
роды .
3). Пустого пространства не существует, поэтому всякое
движущееся тело, стремящееся продолжать свой путь по прямой
линии, должно встречаться с другим телом, с которым оно сталкива-
' Ibid., § 43.
" Ibid., § 39.
378
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
ется. Столкновение происходит либо в противоположном, либо в
том же направлении. В первом случае или оба тела движутся,
или одно из них находится в покое. Если предположить, что оба
находятся в движении, то можно различить три возможных
случая, смотря по тому, равны ли с обеих сторон массы и скорости,
или при неравных массах равны скорости, или при равных массах
неравны скорости. Если предположим, что одно из тел находится в
покое, то опять-таки возможны три различных случая, смотря по
тому, будет ли покоящаяся масса больше, или меньше, или равна
по величине движущейся массе. Во втором из вышеупомянутых
случаев — если встречающиеся тела направляются в одну и ту же
сторону, — меньшая и быстрее движущаяся масса должна
нагонять большую и движущуюся медленнее, причем в зависимости от
отношения различия масс к различию скоростей есть опять-таки
три возможности, которые не должны быть, однако,
рассматриваемы как отдельные случаи. В общей сложности Декарт различает
при столкновении тел семь случаев и соответственно этому семь
правил, согласно которым должно происходить изменение, вытека-
•209
ющее из столкновения тел .
Эт правила выводятся при следующих предположениях:
1) что у различных тел противоположны не движения, а лишь
движение и покой, поэтому среди движущихся тел невозможна
никакая иная противоположность, кроме противоположности их
направлений; 2) что сталкивающиеся тела вполне тверды и прочны;
3) что совершенно не принимается во внимание всякое
воздействие окружающих тел, могущих увеличить или уменьшить
движение сталкивающихся тел, в особенности влияние жидких тел.
При этих допущениях в каждом из различаемых случаев должно
быть определено правило, по которому тела вследствие
столкновения изменяют свое движение и направление. Изменение
вызывается силой сопротивления тел и вычисляется по ее величине.
Большая сила сопротивления, так считает Декарт, преодолевает
меньшую или препятствует ее действию**210.
Если поэтому тело В движется по прямой линии и
встречается с другим телом С большей силы сопротивления, то оно не мо-
* Ibid., § 46-52.
" Ibid., §§ 44, 45, 53.
379
Куно Фишер
жет его ни сдвинуть, ни столкнуть с его места, так как С, согласно
предположению, совершенно твердо, В же, вследствие
сопротивления, не может продолжать своего пути, а должно пойти назад в
противоположном направлении, оно теряет поэтому свое
направление, но не движение, ибо противоположны друг другу
направления, а не движения. Если же тело В имеет большую силу
сопротивления, то оно будет продолжать идти своим путем вместе с
телом С; оно изменит не свое направление, а только величину
своего движения, из которой оно потеряет столько, сколько
сообщит другому телу. Так как количество движения (движущейся
массы), т. е. произведение массы на (простую) скорость, остается
постоянно одной и той же, то скорость должна уменьшаться в той
же мере, в какой увеличивается или возрастает движущаяся масса;
она может возрасти только благодаря сообщенному движению,
поэтому всякое тело, приводящее в движение другое тело, должно
потерять от собственного движения столько, сколько оно сообщило
•211
последнему
Если мы назовем движение, сообщаемое одним телом
другому, его действием, а потерю движения, испытываемую им самим
от этого, — противодействием, то в каждом сообщаемом движении
действие постоянно равно противодействию, акция — реакции.
И так как в самой природе движение не создается, а всякий раз ей
сообщается, ибо оно может быть только следствием внешних, т. е.
телесных, причин, то это равенство имеет значение основного
закона механически движущегося телесного мира. Что Декарт
рассматривает этот закон, выводимый им из постоянства или
сохранения количества движения в мире**212, как особенный случай, а
не распространяет его на все виды столкновения, — это ошибка,
обусловленная ложными предположениями его теории движения.
Если все изменения телесных состояний вытекают из внешних
причин, то и потеря телом своего движения должна
рассматриваться как действие внешней причины: ею является сила
сопротивления того тела, которому оно сообщило движение, независимо от
того, велика или мала его сила сопротивления. Неверно, что
меньшая действующая сила не оказывает воздействия на большую силу
* Ibid., § 40-^2.
" Ibid., § 42.
380
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
или что последняя может совершенно парализовать действие
первой"213; неверно, что при столкновении тел одно из них
сообщает удар, а другое удар только воспринимает и что все зависит от
того, больше ли или меньше первое, чем последнее; наконец,
неправильно считать абсолютной противоположность между покоем и
движением и вовсе не признавать противоположности между
движениями.
Из принципов Декарта следует, что тела сами по себе не
обладают силой, что так как они должны стремиться сохранить то
состояние, в котором пребывают, то имеют силу сопротивления, что
все изменения в телесном мире вытекают из внешних причин, а
потому любое движение должно быть сообщено — с помощью
удара или толчка, что поэтому в телесном мире нет никаких
внутренних, скрытых причин, никаких тайных сил, вообще никаких так
называемых qualitates occultae214. Такой присущей телу и
изначальной силой является тяжесть. Декарт отрицает ее: в этом
состоит противоречие между ним и Галилеем; вместе с тяжестью он
должен отрицать тяготение и силу притяжения: в этом состоит
позднейшее несогласие Ньютона с Декартом. Он принужден
поэтому отрицать так называемые центральные силы, как и всякую actio
in distans215, и объяснять падение тел, так же как и планетные
орбиты, толчком или каким-нибудь отдаленным или
непосредственным воздействием других тел. Так как указанные до сих пор
правила имеют в виду только взаимное столкновение твердых тел, то все
движения, не выводимые только из них, должны быть познаны из
различия твердых и жидких тел, в особенности из свойства,
движения и воздействия последних**216.
Ш. ГИДРОМЕХАНИКА.
ТВЕРДЫЕ ТЕЛА И ЖИДКИЕ
1. Различие их
Так как в телах нет других противоположных состояний,
кроме движения и покоя, то ясно, что лишь из этого можно выво-
" Ibid., § 45.
" Ibid., § 53.
381
Куно Фишер
дить противоположные состояния сцепления твердых и жидких
тел. Уже наглядный опыт учит нас, что твердые тела оказывают
сопротивление всякому проникновению в них, всякой попытке
переместить или разделить их части, чего нет в телах жидких. По
известному положению Декарта, движению противополагается не
движение, а покой. Поэтому то, что делает тело твердым или
делает его частицы способными сопротивляться проникновению,
стремящемуся переместить их или отделить друг от друга, может быть
объяснено только тем, что эти частицы находятся в состоянии
совершенного покоя, в то время как легкая перемещаемость и
отделимость частей жидких тел является результатом того, что они
целиком, вплоть до мельчайших частиц, находятся в движении.
Ничто не может сильнее связать или сцепить их материальные
частицы, чем покой, — в противном случае их должен бы был
соединять и связывать особый род клея; этот медиум мог бы быть
только субстанцией или модусом, но субстанции суть сами
частицы, и модус их есть покой; из всех состояний тела он является
самым сильным противодействием движению. Способность текучих
тел, таких как вода и воздух, растворять некоторые твердые тела
своим воздействием доказывает, что их частицы должны
находиться в постоянном движении, так как иначе они не могли бы разла-
гать эти тела .
2. Твердое тело в жидком.
Частицы материи находятся или в движении, или в покое;
поэтому состояние сцепления тел может быть или жидким, или
твердым. Так как нет пустого пространства, то всюду, где нет
твердых тел, должны быть жидкие, следовательно, ими должны быть
наполнены все промежуточные пространства и окружены все
твердые тела. Предположим, что жидкая материя, частицы которой
движутся непрерывно, одновременно и притом так, что стремятся
по всем возможным направлениям, окружает твердое тело, — в
таком случае последнее всюду приходит в соприкосновение с
частицами жидкого тела и, будучи движимо равномерно по проти-
" Ibid., § 54-56.
382
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
воположным направлениям, плавает или покоится в окружающей
его жидкой материи. Нет причины, благодаря которой тело могло
бы начать перемещаться скорее в ту, чем в эту сторону. Коль скоро
появится такая внешняя причина, хотя бы она заключалась в
самой малой силе, способной дать телу определенный импульс, —
она приведет тело в движение. Достаточно малейшего усилия,
чтобы сообщить движение твердому телу, окруженному жидкой
«*218
материей .
Допустим, что жидкая материя, в которой плавает или тонет
твердое тело, всей своей массой движется в определенном
направлении, подобно морскому течению или воздуху, движимому на
запад восточным ветром; в этом случае твердое тело, захваченное
силой течения, будет нестись далее вместе с жидкими частями,
соприкасающимися с ним и окружающими его; двигаясь вместе с
течением, оно поэтому будет постоянно оставаться в соседстве с
одними и теми же частицами, следовательно, не изменяет своей
среды или своего места: оно покоится в жидкой материи, которая
его окружает и совокупная масса которой движется в
Определению
ном направлении .
3. Небо и Земля. Движение планет.
Гипотеза вихрей
На учении о движении и покое, о твердой и жидкой материи
и воздействии последней на первую Декарт строит свои воззрения
на покой и движение небесных тел. Они не покоятся на
колоннах, не висят на канатах и не укреплены на прозрачных сферах, а
носятся в пространствах неба, которые не могут быть пустыми, а
состоят из жидкой материи, окружающей со всех сторон небесные
тела. Последние различаются в отношении величины, света и
движения; одни из них самосветящиеся, как неподвижные звезды и
Солнце, другие темные, как планеты, Луна и Земля; Солнце
аналогично неподвижным звездам, Земля — планетам; одни,
по-видимому, не изменяют своего положения в отношении друг друга и
* Ibid., § 56-57.
" Ibid., § 61-62.
383
К у но Фишер
неподвижны, другие меняют свои места и считаются
блуждающими звездами: первые тела называются неподвижными звездами,
вторые — планетами. Система небесных тел, в особенности
планет, является поэтому специальным случаем и вместе с тем
грандиознейшим примером того, как жидкая материя окружает со всех
сторон другие тела"220.
Для того, чтобы объяснить движение, планет, следует прежде
всего определить ту точку зрения, с которой оно будет
рассматриваться и обсуждаться. Ибо все дело в том, будет ли эта точка по
отношению к планетам сама неподвижной или подвижной.
Существуют три гипотезы, пытающиеся объяснить движение планет:
гипотеза Птолемея в древности и гипотезы Коперника и Тихо в
новое время.
Птолемеевская отвергнута наукой, ибо она противоречит до-
стовернейшим фактам, установленным новейшим наблюдением и
исследованием, в особенности открытым с помощью телескопа
фазам Венеры, похожим на фазы Луны. Поэтому вопрос может
касаться только гипотез Коперника и Тихо, которые согласны
относительно гелиоцентрического движения планет, но не согласны
относительно движения Земли, утверждаемого Коперником и
отрицаемого Тихо.
Покоится Земля или движется? В этом состоит спорный
вопрос, в решении которого Декарт не соглашается ни с одним из
обоих астрономов. Хотя коперниковская гипотеза признается
проще и яснее гипотезы Тихо, все же она не делает достаточно
строгого различия между движением и покоем, в то время как Тихо
отрицает движение Земли в смысле, противоречащем истине. Так
как Тихо не выяснил в достаточной степени, в чем собственно
состоит движение, то он хотя на словах и утверждает
неподвижность Земли, на самом же деле заставляет ее двигаться еще более,
чем даже Коперник. Надо поэтому рассуждать осторожнее, чем
Коперник, и правильнее, чем Тихо. «Я отличаюсь от этих двух
астрономов только тем, — говорит Декарт несколько
двусмысленно, — что, относясь к вопросу внимательнее, чем Коперник,
отрицаю движение Земли и стараюсь обосновать свой взгляд на это
правильнее, чем Тихо; я изложу здесь гипотезу, которая мне пред-
" Рппс.,Ш, § 5-14.
384
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
ставляется самой простой из всех и самой пригодной как для
познания явлений, так и для исследования их естественных причин.
Между тем я не хочу, о чем и заявляю прямо, никоим образом
выдавать мой взгляд за совершенную истину, а считаю его только
гипотезой или допущением, которое может быть и ошибоч-
•221
ным» .
Декарт пытается вывести свое объяснение на основании двух
существенных предположений: неизмеримости Вселенной и
несуществовании пустого пространства. Из первого предположения
следует, что мир не является шарообразным телом и не состоит из
концентрических сфер, к которым прикреплены звезды; что
поэтому по ту сторону самой верхней планеты (Сатурна) нет никакой
сферы неподвижных звезд и что Солнце не лежит на одной
сферической поверхности с неподвижными звездами. Из второго
предположения следует, что небесные пространства наполнены жидкой
материей, а небесные тела окружены ею со всех сторон и
находятся под ее воздействием. Вот тот пункт, где Декарт применяет
гидромеханические принципы к движению небесных тел, т. е. к
планетам и Земле. Земля окружена текучей небесной материей и,
подобно твердому телу в жидком, движется равномерно по всем
направлениям или уносится вместе с ее течением; она покоится в
небе, как корабль на море, который, не будучи приводим в
движение ни ветром, ни рулем и не будучи удерживаем на месте
якорем, спокойно движется вместе с течением моря. То же самое
относится к другим планетам: «Каждая планета покоится в
небесном пространстве, где она находится, и всякая перемена места,
наблюдаемая нами в этих телах, происходит исключительно от
движения небесной материи, окружающей их со всех сторон».
Усвоив себе истинное понятие движения, нельзя поэтому
сказать, что планеты и сама Земля движутся: так было бы, если бы
они изменяли свою среду, т. е. если бы окружающее их небесное
пространство оставалось неподвижным, в то время как планета
пересекала бы его. Но это небесное пространство есть само во всех
частях жидкая, постоянно движущаяся материя, не перестающая
как таковая окружать небесные тела, хотя приходящие в
соприкосновение с ними частицы постепенно сменяются, т. е. хотя с по-
Ibid., § 15-19. Ср.: введение, гл. VII.
385
Куно Фишер
верхностью этих тел соприкасаются то одни, то другие частицы той
же материи. Так на поверхности Земли вода и воздух находятся в
непрерывном движении, а между тем Земля по отношению к
частицам воды и атмосферы не считается движущейся. Она покоится
в своем движущемся небесном пространстве, в этой текущей
материи, которая окружает ее и относительно которой она не
изменяет своего места; но, покоясь, она изменяет свое положение
относительно других небесных тел. Если, говоря обычным языком,
мы будем приписывать Земле движение, то она движется так же,
как человек, спящий на корабле в то время, как он идет из Кале
в Дувр*222.
Предположим теперь, что поток небесной материи,
окружающей планеты и уносящей их с собой, подобно вихрю, описывает
окружность, в центре которой находится Солнце, и что Земля
является одной из этих планет, — тогда станет ясно, в каком смысле
Декарт учит, подобно Копернику, гелиоцентрическому движению
Земли, не отрицая вместе с ним ее покоя и еще менее, чем Тихо,
утверждая, что она покоится в центре космоса; становится ясным,
как он объясняет движение Земли и планет не тяжестью и силой
притяжения, а исключительно движущей силой непосредственно
« u **223
окружающей их и соприкасающейся с ними материи .
Кругообразный поток или движение материи вокруг центра
Декарт называет вихрем (tourbillon)***224 и объясняет им
движение блуждающих звезд (планет, Луны, комет). С движением неоес-
ной материи дело обстоит так же, как и с водоворотами, которые
кружатся все более расширяющимися кругами около центра и
увлекают за собой всякое плавающее тело, попадающее в них. Чем
ближе к центру, тем быстрее вращение, тем ускореннее
обращение; чем дальше от него, тем оно медленнее. «Подобно тому как
движущаяся вода, если она принуждена к обратному течению,
образует водоворот и увлекает в вихреобразное движение легкие
плавающие в ней тела, например, солому, подобно тому как затем
эти тела, захваченные водоворотом, часто вращаются вокруг
собственного центра и повсюду более близкие к центру водоворота
* Princ, III, § 20-29.
" Ibid., § 30.
'*' Ibid., § 47.
386
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
завершают свое обращение раньше, чем более отдаленные от него,
подобно тому как, наконец, водовороты хотя и совершают круговое
движение, но почти никогда не описывают точного круга,
протягиваются иногда больше в ширину, иногда больше в длину,
вследствие чего их периферия бывает отдалена от центра на
неодинаковое расстояние, — подобно этому легко можно представить себе,
что и с движением планет дело обстоит так же и что нет
необходимости в каких-либо других условиях, чтобы объяснить все отно-
•225
сящиеся к ним явления» .
Из них в особенности важны движение и время обращения
планет и солнечных пятен, Земли и Луны, наклонение орбит
Земли и планет (эклиптика), эллиптическая форма этих орбит,
обусловленное ею неравномерное отдаление планеты от Солнца,
обусловленная последним неравномерность в скорости обращения
планеты. «Мне нет необходимости объяснять далее, как исходя из
этой гипотезы можно объяснить смену дня и ночи, времен года,
фаз луны, затмения Солнца и Луны, стояние и обратное течение
планет, предвидение равноденствий, изменение в наклонении
эклиптики и подобные им явления, так как все они легко ПОНИМа-
^226
ются, если только человек немного сведущ в астрономии» .
Теперь мы знаем, от каких предпосылок зависит и в чем
состоит картезианская гипотеза. Мы удалились бы слишком далеко
от системы, если бы захотели проследить подробнее те пути,
которыми Декарт идет к обоснованию своей гипотезы и старается
показать, каким образом из хаоса по законам движения возникает
именно так устроенный мир, жидкая и твердая материя,
кругообразные движения жидкой материи, виды ее и небесных тел. Он
предполагает, что материя в ее первоначальном состоянии была
разделена известным равномерным образом, что в некоторых
областях ее частицы имели вращательное движение, из чего
образовались жидкие массы, вращавшиеся вокруг общего центра, между
тем как каждая из частиц двигалась вокруг своего собственного
центра, отчего произошло различие центральных и периферических
масс; что вращающиеся и разнообразные по форме молекулы
вследствие взаимного соприкосновения и трения изменяли свою
* Ibid., § 30.
" Ibid., § 31-37.
387
Куно Фишер
конфигурацию, притупляли свои углы и постепенно закруглялись
таким образом, что приняли сферическую форму маленьких
шариков; так возникли интервалы, которые должны были заполняться и
заполнились еще меньшими и еще быстрее двигавшимися
частицами, отпавшими во время упомянутого взаимного притупления и
округливания молекул; излишек этих отломков был унесен в центр
кругообразных течений и стал материалом, из которого
образовались центральные массы (неподвижные звезды), между тем как
окружающие массы, движущиеся в концентрических сферах и
принявшие в своих мельчайших частицах шарообразную форму,
образовали небесные области. Из законов движения следует, что
каждое кругообразно движущееся тело, подобно камню в праще,
всегда стремится отдалиться от центра и пойти по прямой линии;
это центробежное стремление имеет всякая частица центральной
массы и небесной материи; в этом стремлении состоит свет. По
отношению к свету различаются между собой и виды материи и
небесных тел. Последние бывают самосветящимися, прозрачными
и темными; самосветящиеся тела суть центральные тела
(неподвижные звезды и Солнце), прозрачные тела — небо, темные
тела — блуждающие звезды (планеты, кометы, Земля и Луна).
Существует, таким образом, три рода материи или элементов: первый
род составляют те мельчайшие и быстрейшие подвижные тела, из
которых образованы самосветящиеся тела; вто^й род состоит из
сферических телец, образующих материал неба; к третьему
относится такая материя, которая в силу величины и формы менее
подвижна и более груба и образует материал для блуждающих
звезд. Самая легкая, самая подвижная, совершающая самое
быстрое движение тонкая материя есть мировой эфир, наполняющий
•227
всякое кажущееся пустым пространство .
Если Декарт прямо говорит, что его гипотеза для объяснения
мироздания не только может быть ложной, но в известном смысле
даже такова и есть, то этим он хотел, конечно, избежать участи
Галилея. Ибо, судя по опыту последнего, было отнюдь не
достаточно выдать свое мировоззрение за простую гипотезу; нужно было
положительно объявить, что оно ошибочно. Декарт сказал это
добровольно наперед, чтобы не быть вынужденным сказать после. Он
* Ibid., § 54-64.
388
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
сознавался в своем заблуждении, так как его объяснение не
согласовалось с библейской историей творения. Последняя утверждает,
что система мировых тел сотворена, между тем как он для того,
чтобы сделать ее понятной человеческому познанию, рисует
картину ее постепенного возникновения по чисто механическим
•228
законам
Такой поворот должен быть отнесен на счет его времени и
его личности и после подробных объяснений, данных нами по
этому поводу в истории жизни философа, не нуждается ни в
каком дальнейшем оправдании и осуждении. В попытке объяснить
возникновение мира чисто механически состоит значение его
натурфилософской системы. Такова была цель его первого
сочинения, которое осталось неизданным по известным нам причинам и
из которого пропало все, за исключением трактата о свете;
существенное из него содержится в последних двух книгах «Принципов»,
и можно допустить, что после издания этого сочинения издание
«Le monde» фактически явилось бы лишним.
Что касается отношения нашего философа к новой
астрономии, в особенности к Копернику и Галилею, то теперь можно
высказать на этот счет окончательное суждение. Великие открытия
Кеплера оставлены им без упоминания и, по всей вероятности, не
были ему известны. Геоцентрическую гипотезу Тихо он отверг.
Если допустить вращение неба вокруг Земли и понимать движение
в его относительном и взаимном значении правильно, то, согласно
воззрению Тихо, Земле придется приписать гораздо больше
движения относительно неба, чем утверждал даже Коперник**229.
Декарт учит, что движение планет гелиоиентрично и что
Земля — планета, он учит суточному вращению ее вокруг оси и
годовому движению ее вокруг Солнца по эллиптическому пути:
следовательно, в этом он согласен с Коперником и Галилеем. Но
он, в отличие от Галилея, обосновывает свое воззрение
механическими законами иного рода; обоснование это, как мы знаем,
вытекает из его принципов и, как бы ни обстояло дело с ценностью и
правильностью его, разница между ним и Галилеем в том, что
касается этого пункта, никоим образом не искусственна. Что Де-
* Ibid., § 43-45.
" Ibid., § 38-39.
14 Куно Фишер
389
Куно Фишер
карт отрицает также в известном смысле движение Земли, следует
из понятия самого движения, установленного им и примененного
к небесным телам. Во всех этих пунктах не может быть речи ни о
какой аккомодации философа, если знаешь дело. Картезианское
отрицание движения Земли не имеет ничего общего с церковным;
более того, оно полностью противоположно ему.
Декарт утверждал такое движение Земли, которое церковь,
Библия, Птолемей и обычное воззрение отрицают; он даже сам
говорил: «Можно видеть, что на словах я отрицаю движение
Земли, а на деле держусь системы Коперника». Он утверждает
гелиоцентрическое движение Земли, а это и есть тот пункт, о котором
только и идет речь. Было бы более чем лицемерием, если бы он
придал своему учению видимость того, что оно утверждает
неподвижность Земли в противоположность учению Галилея, ради
согласия с церковью или из угодничества перед ней. Быть может, для
Декарта не было бы неприятным, если бы мир и именно
церковные авторитеты обманулись относительно этого пункта его учения.
Но что он сам пытался ввести в заблуждение кого-нибудь
относительно содержания своего учения — это неверно и может прийти
в голову только тем, кто не знает его сочинений. Поэтому от
аккомодации, которая приписывается ему, остается только то, что
Декарт, изложив и обосновав открыто и честно свое учение,
объявляет, что его гипотеза неверна в той мере, в какой она противоречит
вере. Он поступил, как Галилей, только предварил отречение,
чтобы избежать неприятностей*.
4. Пустота и атмосферное давление
Убеждение в невозможности пустого пространства и в
необходимости для всякого движения в природе наличия внешней
телесной причины и ее непосредственного воздействия, т. е.
давления или толчка, должно было привести Декарта к
принципиальному отрицанию вместе с пустотой и так называемого «horror va-
cui»230 природы, одного из доминирующих представлений у
физиков его века, и объявлению его одним из величайших
заблуждений. Так же неправильно утверждать реальность пустого простран-
Ср.: кн. I, гл. V, разд. I, 2.
390
Натурфилософия. В. Механический принцип объяснения природы
ства, как и отрицать его вместе с перипатетиками потому только,
что природа боится пустоты и потому ее не терпит. Но было уже
соединением обоих заблуждений стремление позднейших физиков
времен Декарта ограничить «horror vacui» известной мерой, чтобы
вопреки ему все-таки существовала известная пустота в природе.
Гипотезами подобного рода стремились объяснить поднятие
жидкостей, например воды в насосе и ртути в трубке. Декарт
противопоставил допущению пустоты свою гипотезу о тончайшей материи
(эфире), в силу которой нигде не может быть пустоты. Этот пункт
явился спорным вопросом между ним и Блезом Паскалем,
оспаривавшим существование такой тонкой материи и утверждавшим
реальность пустоты на основании умеренного «horror vacui».
Если мы воспринимаем движение или противоположное ему
и при этом не можем воспринять телесные причины, вызывающие
или задерживающие его, то мы склонны полагать, что вообще нет
налицо никаких причин. Так, движение атмосферного воздуха,
толчки и давление, производимые им на все окруженные им тела,
являются постоянно действующей силой, как бы мало мы ее ни
чувствовали. Декарт требовал, чтобы для действительного
объяснения известных явлений движения жидких тел вместо пустого
пространства и боязни его принималось во внимание атмосферное
давление (тяжесть воздуха). Даже в диалоге Галилея он встретил
допущение «horror vacui» там, где причину явления следовало
искать в тяжести воздуха, и порицал это заблуждение в критических
заметках об этом сочинении, сделанных им в одном из писем в
октябре 1638 года. Девять лет спустя, беседуя с Паскалем, он
советовал ему убедиться при помощи наглядного опыта в
несуществовании пустоты и в действительном существовании атмосферного
давления, сравнив высоту ртути в трубках у подножия и на
вершине очень высокой горы: он-де найдет тогда, что по мере
постепенного возвышения местности ртутный столб, вследствие уменьшения
давления воздуха, будет падать. Паскаль может легко провести этот
эксперимент на родине, в Оверни. Опыт был сделан на
Puy-de-Dôme и подтвердил то, что Декарт предсказывал, не
производя его. Однако Паскаль оставил это обстоятельство без
упоминания и также не сообщил ничего об удачном опыте философу.
Последний приписал такое дурное отношение к себе враждебному
391
Куно Фишер
влиянию Роберваля, который был другом Паскаля и сделал своей
профессией быть врагом Декарта*.
Что касается самого дела, то первенство открытия не может
быть признано за Декартом. Опыт, рекомендованный им Паскалю
летом 1647 года, состоит в барометрическом измерении высот, а
барометр был изобретен Торичелли несколькими годами раньше
(1643). Однако сам закон, на котором зиждется открытие, Декарт
знал раньше, как это доказывают письма 1631 и 1638 годов. И нет
надобности ни в каких письменных подтверждениях этого, так как
закон, как мы видели, вытекает с необходимостью из его
принципов. Применяя его к движению плавающих тел (твердых тел в
воде), легко произвести и объяснить действием и изменением
атмосферного давления то открытие, которое известно под именем
картезианского водолаза231.
О декартовском учении об атмосферном давлении см. письма
его от 2 июня 1631 г., от октября 1638 г. к Мерсенну
(касающиеся Галилея), от 11 июня и 17 августа 1649 г. к Каркави
(касающиеся Паскаля). — Oeuvres VI, pg. 204; VII, pg. 436; X, pg. 343,
351; /. Mulet. Descartes etc., II, pg. 214-216.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
СВЯЗЬ МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ. СТРАСТИ ДУШИ.
ЕСТЕСТВЕННАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
L АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
1. Значение и объем проблемы
После того, как разрешены основные метафизические
вопросы, остается еще одна проблема. Коренные вопросы касались
сущности Бога, духа и тел и требовали ясного и отчетливого познания
их, т. е. установления их реальности и существенной особенности,
которая выясняется только тогда, когда она освобождена от всякой
примеси противоположного ей. Сущность Бога требовала познания
его независимо от всех конечных и несовершенных вещей,
сущность духа — независимо от тел, сущность последних —
независимо от духа; и то, и другое нужно было рассматривать поэтому как
совершенно противоположные субстанции: дух — как только
мыслящую природу, тело — как только протяженную, факты духовной
природы — только как модусы или виды мышления, явления
телесной природы — только как модусы или виды протяжения, т. е.
как движение. Бог, как реальное основание всех вещей, по отно-
393
Куно Фишер
шению к духу должен был иметь значение первоисточника
познания, по отношению к телам — первоисточника движения.
Если существуют процессы духовного характера, соединенные
с физическими движениями настолько, что без них не могут иметь
места, то перед нами факт, заключающий в себе новую проблему.
Такой факт нельзя объяснить, исходя из дуализма духа и тела, из
этого основного понятия учения Декарта о принципах: поэтому
новая проблема не метафизическая. Связь духа с телом может
иметь место только в существе, состоящем и из того, и из другого.
Такими существами являемся мы сами, причем из всех конечных
субстанций — только мы, ибо мы являемся мыслящими натурами
и как таковые познаем непосредственно, а потому с несомненной
достоверностью нашу сущность и бытие; вместе с тем мы связаны
с телом, которое мы представляем как наше. Наши внешние
чувственные восприятия доказывают существование тел вне нас,
наши аффекты и естественные инстинкты доказывают, что одно из
этих тел есть наше. «Ничему меня природа не учит так явственно,
как тому, что я имею тело, которому бывает худо, когда я ощущаю
боль, и которое нуждается в пище и питье, когда я испытываю
голод или жажду. Я не могу сомневаться в том, что в этих
ощущениях есть нечто реальное. Мои аффекты и инстинкты делают для
меня ясным, что я нахожусь в собственном теле не как пловец в
лодке, а связан с ним самым тесным образом и как бы смешан, так
что мы некоторым образом образуем одно существо. Иначе я в
силу моей духовной природы не ощущал бы боли при
повреждении тела, а только опознавал бы это повреждение как объект
познания, подобно тому как корабельщик усматривает, когда что-либо
в судне ломается. Когда тело нуждается в пище и в питье, я знал
бы об этих состояниях и не имея неясных ощущений голода и
жажды. Эти ощущения в самом деле неясные представления,
происходящие от соединения и как бы смешения духа с телом». В
такой фактической связи с телом из всех познаваемых духов
находится только человеческий дух: новая проблема поэтому — пробле-
+232
ма антропологическая .
Сущность духа состоит в мышлении, истинное познание
состоит в ясном и отчетливом мышлении; абсолютной силой воли
" Méd. VI, pg. 335-336.
394
Страсти души
можно как стремиться к такому мышлению и достигать его, так и
препятствовать ему и не достигать его. Истинная свобода воли
ищет истинного познания и поступает сообразуясь с ним: этим
завершает человеческий дух свое существо и назначение". В связи
с телом ясность духа омрачается и его свобода ограничивается;
следовательно, он сам находится в состоянии, не соответствующем
его сущности. Тут свобода воли и ясность мышления, т. е.
истинная духовная свобода, является целью, которой нужно достичь,
предстоящей работой, подлежащей решению и лишь с помощью
надлежащей энергии воли решаемой задачей. Таким образом,
антропологическая проблема заключает в себе этическую.
Но это связанное с телом духовное состояние в своем роде
также естественно, так как оно обосновано порядком вещей;
поэтому мы не имеем права рассматривать нашу телесную жизнь,
подобно Платону, как рок или как наказание за отпадение от духовного
мира или влечение к земным наслаждениям, а должны
рассматривать ее как нечто возникшее согласно естественным законам. Но
если связь духа и тела соответствует естественным законам, то и
по отношению к духу она не может быть противоестественной, как
бы мало ни согласовалась она с сущностью; более того, вместе с
естественностью следует признать и правильность такой связи и
всех тех явлений, которые необходимо вытекают из совместной
жизни духа и тела, т. е. инстинктов, склонностей, страстей и т. п.
Все эти движения человеческой природы как таковые хороши и
являются полезными условиями или орудиями духовной жизни.
Если они препятствуют ей и затемняют ее, то это не следствие
природы, а вина воли. Не их первоначальное направление ложно,
а отклонение от него есть наше заблуждение; плох не
естественный характер, а вырождение его под влиянием нашей воли. Что
встречается в двойственной человеческой природе, то нужно
объяснять естественно и оценивать морально, т. е. познать в его
ценности по отношению к освобождению духа.
В особенности к страстям прилагает Декарт точку зрения
чистого естественного познания, будучи вполне убежден, что он
этим пролагает совершенно новый путь в исследовании страстей.
Насколько велики недостатки наук, переданных нам древними,
Ср.: кн. П, гл. V, разд. II.
395
Куно Фишер
нигде нельзя видеть так отчетливо, как в трактовке страстей; ибо
хотя этим предметом очень много занимались, хотя его так легко
познать, так как каждый может открыть природу страстей в самом
себе, без дальнейших наблюдений над внешними вещами, все-таки
учения древних о страстях до такой степени скудны и в большей
своей части до такой степени шатки, что я вынужден совершенно
отбросить обычные подходы, чтобы с некоторой уверенностью
приблизиться к истине. Мне приходится поэтому писать так, как будто
я имею дело с темой, которой до меня еще никто не касался».
Этими словами Декарт начинает свое сочинение о страстях души.
«Мое намерение, — говорит он в письменном предисловии, —
отнестись к страстям не как оратор и не как моральный философ,
j. *233
а как физик» .
2. Кардинальный пункт проблемы
Если Декарт берет страсти в качестве главного объекта своих
антропологических изысканий, то он должен видеть в них
характерное выражение человеческой (духовно-телесной) жизни,
основание познания двойственной человеческой природы. Объяснение
этого факта является для него кардинальным пунктом
психологической проблемы. Как относится движение к телу, так страсть
относится к человеку; как там следовало прежде всего определить
понятие движения, так и здесь следует установить, в чем состоит
сущность страсти.
Сразу же очевидно, что все страсти имеют пассивную,
страдательную природу. Однако не всякое страдание есть уже страсть. В
противоположность телесной природе сущность духовного естества
состоит в самодеятельности, источник и сила самодеятельности
заключены в воле, поэтому все происходящее в нас помимо нашего
желания имеет страдательный характер в самом широком объеме.
Сюда относятся все произвольные функции, а также восприятия
или перцепции, создаваемые или испытываемые нами, независимо
от какого бы то ни было акта самоопределения и произвола.
Некоторые из этих восприятий являются внутренними и относятся
только к духу, как непроизвольные перцепции нашего мышления и
Les passions de l'âme, part. I, art. I. Oeuvres IV, Rép. à la lettre II,
. pg. 34-38.
396
Страсти души
ведения. Пассивна не наша мыслящая природа, а ее восприятие,
поскольку оно навязывается нам само собой, и мы принуждены
создавать его. Существуют другие восприятия, относящиеся только к
телам, — все равно, к внешним или к нашему собственному; к
ним принадлежат чувственные ощущения или впечатления, такие
как цвета, тона и т. д., телесные аффекты, такие как удовольствие
и боль, телесные позывы, к каковым относятся голод и жажда. Все
подобного рода восприятия, внутренние и внешние, суть виды
страдания, но не страсти в собственном смысле; мы относимся к
•234
ним страдательно, но не страстно
Существует третий род страдательных состояний, которые
относятся не к одному духу и не к одному телу, а к обоим
вместе, — состояния, при которых вследствие влияния и
одновременного с душой действия тела страдает сама душа: она может
оставаться равнодушной в зрении и слухе, в голоде и жажде, но не
может оставаться спокойной в радости и гневе; только душа способна
возбуждаться к радости и печали и быть движимой любовью и
ненавистью, но она не могла бы проявить себя таким образом,
если бы была бестелесна. В таком виде страдания и состоит
страсть. Наши страсти не были бы в состоянии так сильно, как это
бывает, возбуждать, оживлять, потрясать, если бы они не были
духовными силами; они не были бы в состоянии так сильно, как
это случается, затемнять и вводить в заблуждение наш дух, если
бы они не были вместе с тем и телесной природой. Они суть
состояния духа, но не такие, которые создаются свободной энергией его,
а такие, которые охватывают его и завладевают им непроизвольно.
Они суть состояния ощущения, но такие, которые находятся не в
теле, а в душе; одним словом, они суть движения души (émotions
de l'âme), смешанные из обоих естеств — телесного и духовного.
«Можно определить их как восприятия, как ощущения или как
движения души, которые принадлежат собственно ей и
вызываются деятельностью жизненных духов, поддерживаются и усиливают-
••235
ся ею» .
" Ibid., art. XDC, ХХШ и XXTV.
" Ibid., art. XXV, ХХУП-ХХ1Х.
397
Куно Фишер
3. Страсти как основной феномен
человеческой души
Отсюда становится ясным значение, приписываемое Декартом
страстям. Они суть основной феномен, третий наряду с
мышлением (волением) и движением и самый важный из них. Ум и воля
возможны только в духовной природе, движения — только в
телесной, а страсти — только в человеческой, соединяющей в себе дух
и тело. Чтобы мыслить, нужна только духовная субстанция; чтобы
двигаться, нужна только телесная субстанция; напротив, чтобы
иметь страсти, необходимо соединение обеих субстанций.
Двойственная природа человека есть единственное реальное основание
страстей; они, в свою очередь, — единственное основание
познания первой, которая менее очевидна из факта ощущений и
естественных инстинктов.
Чтобы понять, почему Декарт придает такое значение именно
страстям, а чувственные восприятия и вожделения, напротив,
считает только телесными явлениями, нужно хорошо усвоить себе
основоположение его учения. С его точки зрения, существует,
насколько мы в состоянии познать, только одно тело, связанное с
духом, или одушевленное: это человеческое тело; все прочие тела
лишены духа и души, все они, даже и тела животных, просто
машины. Душа есть дух; реальность последнего становится очевидной
только из его самодостоверности и совпадает с ней: без
самосознания нет мышления, нет духа, нет души. Животные лишены
самосознания, а поэтому лишены и души, следовательно, они не что
иное, как движущиеся тела или автоматы; однако они обладают
чувственными ощущениями и инстинктами, почему последние
должны иметь значение телесных движений, которые происходят
по чисто механическим законам и объясняются ими.
Животные ошушают, но они бездушны: первое является
неоспоримым фактом, второе — необходимым выводом в системе
Декарта. Достоверно, что животные видят и слышат, ошушают голод
и жажду; не менее достоверно, что они лишены ясного и
отчетливого познания, самосознания, следовательно (согласно принципам
Декарта), не имеют ни духа, ни души. Остается поэтому считать
398
Страсти души
ощущения и влечения вообще, а значит, и по отношению к
человеку, механическими явлениями, не имеющими ничего общего с
психической деятельностью. Таким образом, Декарт, за
исключением страстей, не находит других фактических данных, которые
давали бы ему возможность познать совместную жизнь духа и тела.
Можно задать вопрос, не животной ли природы также и
страсти и не психической ли природы также ощущения и инстинкты,
можно оспаривать картезианские положения, отрицающие и то, и
другое, и даже сомневаться, остался ли философ и мог ли
оставаться неизменно верным этим положениям, но нельзя сомневаться в
том, что он этому учил и должен был учить в силу своих
принципов. Исследование этих вопросов не составляет нашей задачи в
данное время; мы имеем дело пока с изложением и обоснованием
системы и следуем по пути, которым шел Декарт; как только мы
коснемся критического разбора его учения, мы вернемся еще раз к
этим вопросам и тогда войдем в детальное рассмотрение их.
П. СВЯЗЬ МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ
1. Механизм жизни
Поскольку человеческая жизнь походит на жизнь животных,
постольку ее должно объяснять чисто материальными и
физическими причинами, в особенности движением и теплотой. Ошибочно
полагали, что душа движет и согревает тело и потому является
также физическим жизненным принципом. Между тем любой
огонь есть свидетельство того, что не душа сообщает телу
движение и теплоту. Если же человеческое тело после смерти делается
неподвижным и холодеет, то подобное изменение оно претерпевает
не потому, что перестает быть одушевленным, или не потому, что
душа его оставляет. Живое тело не есть тело одушевленное, иначе
животные были бы одушевлены, что противоречит принципам
учения Декарта. Жизнь не состоит в связи души и тела, смерть не
является разъединением их; жизнь есть не произведение души, а
условие, при котором душа вступает в связь с телом, условие, без
которого такое соединение не может иметь места. На деле
положение вещей противоположно тому, как его обыкновенно
представляют себе: тело живо не потому, что оно одушевлено, но оно может
399
Куно Фишер
быть одушевленным, потому, что оно живет; не потому, что душа
отделяется от тела, оно становится недвижимым и холодеет, но
потому, что оно умирает, душа его оставляет.
Смерть есть уничтожение жизни и необходимое следствие
физических причин; жизнь есть механизм, смерть — разрушение
его; она наступает, если одна часть живого тела испытывает такое
повреждение, что вся машина останавливается. Против
заблуждения, по которому душа является принципом жизни, Декарт
выставляет следующее объяснение: «Смерть наступает всегда не
вследствие того, что душа отходит, но вследствие того, что разрушается
один из главных органов тела; поэтому можно сказать, что тело
живого человека отличается от тела мертвого так же, как часы
(или автомат другого рода, т. е. какая-нибудь самодаижущаяся
машина), которые, наряду со всеми необходимыми для их
деятельности условиями, носят в себе физический принцип движений,
которые они должны совершать, и идут, когда их заводят, —
отличаются от сложного часового механизма, в котором движущий
принцип перестал действовать»*236.
Душа может быть связана только с живым телом. Так как
она духовна, а следовательно, среди конечных существ, насколько
они нами познаваемы, она по своей природе исключительно
человеческая, то подобная связь может иметь место только в
человеческом теле.
Человеческое тело, как и тело животных, есть машина. Его
жизненный принцип есть тот огненный очаг в нем, который
готовит жизненную теплоту и сообщает ее всему организму: огонь,
топливом для которого является кровь, а очагом сердце. Великое
достижение Гарвея — открытие движения сердца и
кровообращения у животных — объяснило это основное условие жизненного
механизма и составило эпоху в истории биологии. Декарт
познакомился с этим открытием, когда, занятый переработкой своего
«Мира» и углубленный в исследование человеческого тела, он дошел
самостоятельно до аналогичного воззрения. Это учение показалось
ему таким важным, таким великим и таким очевидным триумфом
механической физики и научного метода вообще, что он изложил
его в качестве примера научного метода в пятом отделе своего «Dis-
Ibid., art. rv-VI.
400
Страсти души
cours» и здесь объяснил движение сердца и циркуляцию крови по
артериальным и венозным сосудам, указав на знаменитое открытие
Гарвея*237.
После этих основных условий Декарт объясняет остальные
части и функции машины животно-человеческого тела. Органы
движений суть мускулы, органы ощущений — нервы;
центральный орган крови и движения есть сердце, центральный орган
нервов — мозг. Между ними Декарт помещает деятельный
промежуточный член, возникновение и деятельность которого он отмечает
как достойное удивления жизненное явление. Тончайшие,
подвижнейшие и самые горячие частицы крови, производимые в сердце
как бы дистилляцией, поднимаются вверх по механическим
законам через артерии в мозг и отсюда по нервам проводятся к
мускулам; они-то и производят в этих органах ощущение и движение,
следовательно, заведуют подлинными жизненными функциями:
поэтому-то Декарт называет их жизненными духами (esprits
animaux). «Самое замечательное в этих вещах — возникновение
жизненных духов, которые походят на очень легкий ветер или, лучше
сказать, на чистое и живое пламя, непрерывно подымающееся в
большой массе из сердца в мозг, отсюда через нервы входящее в
мускулы и сообщающее движение всем членам. Но почему
подвижнейшие и легчайшие кровяные частицы« составляющие как
таковые наиболее пригодный материал для жизненных духов, идут
главным образом в мозг, а не в какое-либо другое место, — это
объясняется просто тем, что артерии, ведущие в мозг, прямее всех
других выходят из сердца; если же несколько вещей стремятся
одновременно по одному и тому же направлению, между тем как
для всех не находится достаточно места, как это бывает с
кровяными частицами, стремящимися из левой полости сердца в мозг, —
то по законам механики, которые тождественны законам природы,
следует, что слабые и менее подвижные должны уступить сильным
••238
и что поэтому только последние достигают цели»
Таким образом, все наши непроизвольные движения, как
вообще все действия, общие у нас с животными, зависят исключи-
Disc, V, pg. 174-184; Les passions, I, art. VII; см.: кн. I, гл. V,
разд. I, 2.
Disc., V, pg. 183-184; Les passions, I, art. 1-ХП1.
401
Куно Фишер
тельно от устройства наших органов и движения жизненных
духов, которые, будучи вызваны к действию теплотой сердца,
совершают свой естественный бег в мозг и отсюда в нервы и мускулы,
точно так же, как движение часов производится только силой их
пружин и формой их колес*239.
2. Орган души
Человеческое тело есть сложная машина, части которой,
каковы сердце, мозг, артерии, вены, мускулы, нервы и т. д., находятся
в полном взаимодействии, поддерживают взаимно друг друга и
образуют сообщество, в котором каждый член служит другому и
страдает вместе с другим. Эта машина образует целое; каждая
часть его есть орудие целого; поэтому ее элементы не только
соединены, но и сочленены: совокупность или комплекс органов
составляет организм, сложную машину. Организм поэтому есть особый
вид механизма; он есть такая машина, части которой образуются и
соединяются сами собой, почему и составляет не просто агрегат, а
нечто единое, цельное.
К этому определению, к этому признаку организма Декарт
относится так серьезно, что прямо говорит о живом теле: «Оно
едино и известным образом неделимо*. Поэтому если душа связана
с человеческим телом, то она не может пребывать только в одной
из его частей, а должна проникать весь организм. Так как каждая
часть живого тела находится в связи с другой частью, то ни одна
из них не может отдельно вступить с душой в связь; и так как
душа, в силу своей сущности, не имеет ничего общего с
протяжением и делимостью, то она не может вступить в исключительное
общение ни с одной частью организма*"240.
Но душа может быть связана с одним из органов
преимущественно; при коренном различии обеих субстанций, не
допускающем непосредственного общения их, должен даже существовать
особый орган, через который душа сообщается со всем организмом.
Так как по отношению к обеим субстанциям вопрос главным
образом касается того, каким образом движения органов превращаются
в ощущения и представления и обратно, то не трудно видеть, что
Les passions, I, art. XVI.
" Ibid., art. XXX.
402
Страсти души
жизненные духи должны являться такими факторами ощущения и
движения, опосредующими общение между душой и телом. В их
движении существует два центра: сердце и мозг; в сердце они
рождаются, в мозг они поднимаются и воздействуют отсюда на органы.
Поэтому душа, если она приходит в соприкосновение с организмом
через жизненных духов, должна быть соединена с одним из
центральных органов преимущественно. Более точное решение
вытекает само собой. Так как подлинная деятельность жизненных духов
исходит из мозга, то он и должен быть этим привилегированным
органом, и только в нем, как выражается Декарт, следует искать
^местопребывание души*.
Местоположение подлинного органа души является в
центральном органе нервов опять-таки центральным, это сердцевина
мозга, где жизненные духи обеих частей его — передней и задней
полости — сообщаются друг с другом, так что здесь он легче всего
может быть приводим ими в движение и в свою очередь двигать
их. Декарт считает истинным органом души именно мозговую
железу, или конарион (gians pinealis). Он указывает еще на одно
особенное основание для подкрепления этой гипотезы.
Чувственные впечатления нашего зрения и слуха, как и сами органы,
которыми впечатления эти воспринимаются, даются в двух
экземплярах, между тем как чувственный объект сам однороден, как и
наше представление о нем, что не было бы возможно, если бы в
центральном органе не происходило соединения двух впечатлений.
Таким образом, по-видимому, необходимо, чтобы в мозгу
существовал один орган, воспринимающий двойные впечатления и
являющийся единственным в своем роде. Такой орган Декарт видит в
мозговой железе; поэтому он считает ее главным
местопребыванием (principal siège) души, поскольку она та часть человеческого
тела, с которой душа теснее всего (étroitement) связана.
Центральное положение и единственность этой части мозга были
основаниями, дававшими философу возможность локализовать в этом месте
физическую деятельность, поскольку ею воспринимаются и созда-
•241
ются телесные ощущения .
Выясненной теперь нами взаимной связью между душой и
телом объясняется естественное происхождение страстей. Воспри-
* Ibid., art. XXXI-XXXII, XXXTV, XLI.
403
Куно Фишер
пятое впечатление в силу психической деятельности превращается
в представление и мотив. Если такое ощущение воспринимается
как нечто угрожающее нашей жизни, например, если мы видим
дикое животное набрасывающимся на нас, то одновременно с
представлением объекта возникает и представление опасности;
непроизвольно стремится воля защищать тело бегством или
борьбой; непроизвольно поэтому приводится в движение орган души, и
течению жизненных духов дается тот импульс, который
настраивает тело или на борьбу, или на бегство. Воля к борьбе есть
храбрость, желание бежать есть трусость. Храбрость и трусость суть не
чувственные ощущения, а волевые побуждения; они не просто
представления, а движения души, или страсти. Движение,
ощущаемое при таких эмоциях в сердце, столь же мало доказывает, что
страсти гнездятся в сердце, как болезненное ощущение в ноге
доказывает, что боль коренится в ноге, или как вид звезд на небес-
•242
ном своде указывает истинное место их
3. Воля И СТРАСТИ
Такое объяснение страстей духовно-телесной природой
человека весьма характерно для учения Декарта — как по
допускаемому им предположению, так и по его принципиальному
направлению. При помощи жизненных духов и органа души, каковым
является мозговая железа, философ пытается обосновать
происхождение страсти чисто механически. В этом центр тяжести и новизна
его попытки. Новизну ее Декарт и имеет в виду, когда говорит в
самом начале своего сочинения, что в учении о страстях он
должен совершенно покинуть обычный путь и будет трактовать их не
как оратор и философ, а исключительно как физик. Раньше
человеческие страсти рассматривались только как психические факты,
причем не видели, что они содержат факторы, которые можно
приписать только телу. Так как страсти овладевают духом и
порабощают его свободу, а потому противоречат его сущности, то
психологическое объяснение не нашло ничего лучшего, как разделить
душу на высшие и низшие силы, на высшие и низшие
способности вожделения, на разумную и неразумную душу и приписать
страсти последней. Таким образом, душа была расщеплена на раз-
' Ibid., art. XXXIII, XXXV-XXXVI, XL.
404
Страсти души
ные части; выходило, что она как бы состоит из разных личностей
или душ, терялось ее единство и неделимость, а вместе с этим
совершенно отрицалась ее сущность. На этот-то пункт и нападает
Декарт, называя его заблуждением, опутавшим все прежнее
учение о душе.
Совершенно верно, что разум борется со страстями, что он
может в этой борьбе победить или подчиниться, что здесь в
человеческой природе вступают в борьбу две силы, из которых большая
одерживает победу. Но совершенно неправильно объяснять этот
факт так, что эта борьба имеет место в духовной природе человека
и что последняя как бы восстает против самой себя. На самом деле
происходит конфликт между двумя противоположными по своему
направлению движениями, которые сообщаются органу души:
одно — телом через жизненных духов, другое — душой через
волю; первое движение непроизвольно и определено
исключительно телесными впечатлениями, второе движение сознательно и
мотивировано намерением, устанавливаемым волей. Телесные
впечатления, возбуждаемые жизненными духами в органе души, а
через него и в самой душе, превращаются здесь в чувственные
представления, которые или оставляют волю в покое, как это
происходит при обыкновенном восприятии объектов, или тревожат и
возбуждают своим непосредственным отношением к нашему
бытию: представления первого рода лишены страсти, и нет никакого
основания бороться с ними, представления второго рода, напротив
того, имеют своим необходимым последствием возбуждение
страсти, так как они обрушиваются на волю и вызывают с ее стороны
противодействие.
Воздействие вытекает из телесных причин; оно происходит с
естественно-необходимой силой и совершается по механическим
законам; в его интенсивности заключается сила страстей;
противодействие свободно, оно действует духовной, бесстрастной самой по
себе силой, оно может поэтому бороться и победить страсти:
крепостью этой силы обусловлена власть над последними. Душа,
осаждаемая впечатлениями жизненных духов, может начать
испытывать страх, но, ободренная собственной же волей, может сохранить
мужество и побороть страх, внушенный вначале страстью; она
может дать противоположное направление органу души, а с ним
405
Куно Фишер
вместе жизненным духан, благодаря чему члены побуждаются к
борьбе, между тем как боязнь побуждала их к бегству. Теперь ясно,
какие силы борются в страстях друг с другом. То, что считают
борьбой между низшей и высшей природой души, между вожделением
и разумом, между чувственной и мыслящей душой, на самом деле
есть конфликт между телом и душой, между страстью и волей,
между естественной необходимостью и разумной свободой, между
природой (материей) и духом*243. Даже самые слабые души
посредством воздействия на орган души могут овладеть движением
жизненных духов и тем самым направить страсти таким образом,
чтобы быть в состоянии добиться полного господства над
**244
НИМИ .
Механическое происхождение страстей не мешает
моральному следствию, а, напротив, обосновывает его. Духовная свобода
должна быть достигнута, а это может произойти только
посредством подчинения враждебных сил; эти враждебные силы суть
страсти, являющиеся поэтому необходимыми условиями для
освобождения человеческого духа: в этом состоит их значение и
ценность. Они не были бы враждебными силами, если бы не имели
своего начала в противоположной духу природе: отсюда
необходимость их механического возникновения; они не были бы
враждебными силами, если бы не были сильны, т. е. не могли бы
воздействовать на волю, что возможно только в том случае, если дух и тело
соединены, как в человеческой природе: поэтому человеческая
природа есть необходимое и единственное основание для объяснения
страстей. Теперь совершенно понятно основоположение, на
которое в картезианской системе опирается теория страстей.
Ближайший за этим вопрос: в чем состоят страсти?
Ш. ВИДЫ СТРАСТЕЙ
1. Основные формы
Мы уже указали на различие между бесстрастными
чувственными представлениями и проникнутыми страстным возбуждением.
" Ibid., art. XLVn.
" Ibid., art. L.
406
Страсти души
Не в объекте как таковом заключается основание страстного
ощущения, а в том участии, которое принимает воля в его бытии, или
в том, как объект относится к нашему бытию и как мы ощущаем
это отношение. Характер последнего бесконечно разнообразен, ибо
он зависит от различия индивидуальностей и наших временных
душевных состояний: что одному кажется страшным, к тому
другой относится презрительно, третий безразлично. При
изменчивости наших состояний и настроений один и тот же предмет
производит на одну и ту же личность то радостное, то противоположное
этому впечатление, то совсем не производит никакого. Потому-то
многообразие страстей бесконечно. Но из сущности страстного
возбуждения можно вывести вообще известные простые и
необходимые формы, относящиеся ко всем остальным как основные формы
к модификациям или как (данные в теории соединений) элементы
к вариациям.
Основные формы Декарт называет первоначальными или
примитивными, выводимые из них или комбинируемые формы —
особенными или партикулярными страстями. С этой точки
зрения можно различать и классифицировать наши страсти. То, что
возбуждает в нас страсть, есть не вещь, а ценность ее, т. е. польза
или вред, который мы получаем или думаем, что получаем от
веши. Возможно, по-видимому, что третий случай, когда объект не
воспринимается ни как полезный, ни как вредный, исключает
всякую ценность объекта и поэтому всякое возбуждение страсти.
Однако это не так. Есть объекты, которые привлекают с
неудержимой силой нашу душу мощью и новизной впечатления, нимало не
возбуждая нашего вожделения. С представлениями этого рода,
вследствие их непроизвольного и мощного действия, соединяется
страстное возбуждение, которое Декарт обозначает словом
«удивление». Мы познаем тотчас же, что это ощущение аффективно и не
обладает ни обычным характером вожделения, ни еще менее —
равнодушия.
То, что мы представляем полезным или способствующим
нашему бытию, кажется достойным желания, или благом;
противоположное ему есть зло, уничтожения которого мы желаем. Благом
хотим мы обладать, от зла хотим избавиться: в первом случае мы
желаем приобрести объект, во втором — освободиться от него,
407
Куно Фишер
тогда как объект, вызывающий в нас удивление, мы только
рассматриваем, следовательно, не хотим ни обладать им, ни
освободиться от него. Поэтому можно пока различить две основные
формы страстей: удивление и вожделение. Последнее относится к
своему объекту или позитивно, или негативно, оно хочет иметь благо
и сохранить его, избавиться от зла и уничтожить его. В первом
случае оно есть любовь, во втором ненависть. Но вожделенные
объекты принадлежат или будущему, или настоящему.
Предстоящее благо манит, предстоящее зло угрожает; в обоих случаях
вожделение напряжено и состоит в ожидании или желании (désir)
достичь блага и избежать зла.
Так как в обоих случаях может произойти противоположное
(можно не достигнуть блага, претерпеть зло, которого мы
избегали), то желание сопровождается надеждой и страхом, т. е.
является одновременно и позитивным, и негативным. Если вожделенные
объекты налицо, то мы или обладаем желаемым благом, или
терпим лишение: в первом случае мы испытываем ощущение
радости, во втором — ощущение печали. Сообразно с этим
существуют следующие примитивные страсти, лежащие в основе всех
остальных: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и
печаль. Удивление — единственная страсть, которая не позитивна и
не негативна, желание — единственная страсть, являющаяся
одновременно и той и другой, все прочие страсти суть вожделения или
•245
одного, или другого вида .
2. Производные или составные формы
Теперь мы рассмотрим сперва вожделения И затем вернемся к
удивлению. Укажем на главные формы этих партикулярных
страстей и покажем, что они либо составлены из некоторых данных
элементов, либо суть виды их.
Главные ценности объектов, которые мы обозначили как
польза и вред, по степени своей бесконечно различны. Существует
масштаб для определения силы и величины наших вожделений и
для отличия известных главных степеней. Мы любим или ненави-
Les passions, II, art. LXIX.
408
Страсти души
дим то, что кажется нам полезным или вредным: поэтому наша
любовь к себе является мерой, с помощью которой можно
сравнивать наше вожделение вещей и определять его величину. Мы
можем любить другие существа или меньше, или так же, или еще
больше, чем самих себя. Наша любовь к объекту может быть, по
сравнению с любовью к самим себе, слабее, столь же сильна или
сильнее: в первом случае она есть склонность (affection), во втором
дружба, в третьем преданность (dévotion). То, что мы любим в
высшей степени, т. е. с готовностью к самопожертвованию, — суть
силы, от которых зависит и которыми обусловлено наше бытие,
каковы Бог, отечество, человечество и т. д. Между объектами,
возбуждающими в нашей душе любовь и ненависть, следует в
особенности указать на прекрасное и безобразное как на предметы
чувственного восхищения и отвращения: любовь к прекрасному есть
удовольствие (agrément); противоположное ощущение есть
отвращение (horreur); так как обе эти страсти возбуждают чувство, то
они являются сильнейшими видами любви и ненависти, но также
более всего обманывающими*246.
Мы определили желание как вожделение, возбужденное
предстоящим благом или злом, как страстное, еще неуверенное
ожидание. В зависимости от степени его неуверенности это
ожидание есть или надежда (espérance), или боязнь (crainte); высшая
степень надежды есть уверенность (sécurité), высшая степень
боязни — отчаяние (désespoir). В числе прочего ревность Декарт
называет одним из видов боязни. Если последствие, на которое мы
надеемся или которого боимся, зависит не от внешних
обстоятельств, а от нас самих и нашей собственной деятельности, если
мы можем приобрести благо и избежать зла исключительно
своими собственными силами и должны выбрать средства для
достижения этой цели, выполнить известные действия и бороться при
этом с трудностями, то сообразно с этим модифицируются надежда
и боязнь. Опасение ошибиться при выборе средств не приходит
из-за множества сомнений и соображений ни к какому выводу и
превращается в нерешительность (irrésolution); большая надежда
на возможность бороться и преодолеть все трудности есть
храбрость (courage) и отвага (hardiesse); противоположное ощущение,
" Ibid., art. LXXIX-LXXXV.
409
Куно Фишер
которое боится трудностей дела и страшится их, есть трусость
(lâcheté) и ужас (épouvante)*247.
Представление наличных благ и зол возбуждает в нас радость
(joie) или печаль (tristesse). Если это благо или зло касается не нас,
а других, то нас радует или печалит чужое счастье или несчастье.
Сообразно с этим модифицируются радость и печаль, любовь и
ненависть. Радость по поводу чужого счастья есть
благожелательство, сочувствие чужому несчастью есть сострадание (pitié); если
нас опечаливает счастье другого, то мы испытываем зависть
(envie), если нас радует его несчастье, то мы испытываем злорадство.
Эти ощущения Декарт поставил в зависимость от морального
условия, которое не должно было бы иметь места при естественном
объяснении страстей: он допускает, что чужое счастье и несчастье
может быть заслуженным или незаслуженным, что испытывающие
их лица могут заслуживать или не заслуживать их, так что они по
справедливости могут испытывать что-нибудь хорошее или дурное.
В таком случае мы обращаем внимание не столько на чужое
счастье или несчастье, сколько на заслуженность их, и радуемся
справедливому течению вещей. Только заслуженное счастье
другого человека возбуждает наше благожелательство, а
незаслуженное— нашу зависть; только заслуженное несчастье возбуждает
наше злорадство, незаслуженное — наше сострадание. Теперь эти
душевные движения кажутся справедливыми, кажутся известными
видами нашего естественного правового чувства, удовлетворение
которого доставляет нам радость, а оскорбление — страдание.
Зависть и сострадание относятся к роду печальных,
благожелательство и злорадство — к роду радостных возбуждений, только
различие между последними ощущениями состоит в том, что
радость по поводу заслуженного счастья настраивает нас серьезно, к
радости же по поводу заслуженного несчастья примешивается
презрение и насмешка (moquerie)"*248. Легко заметить, что в
объяснении этих страстей Декарт недостаточно отделил друг от друга
естественные и моральные мотивы. Чувство права может усилить
наше благожелательство и сострадание, но не имеет ничего общего
с злорадством и завистью. Философ в этом месте уклонился от
" Ibid., art. LVII-LIX.
" Ibid., art. LXI-LXII.
410
Страсти души
естественного объяснения, которое следовало дать, и заговорил о
страстях не как «физик», вопреки своему желанию.
Добрые и злые дела людей составляют особый вид полезных и
вредных объектов; они суть поэтому особые предметы нашей
радости и печали, которые принимают различные формы, смотря по
тому, мы ли сами или другие являются виновниками этих
действий и относятся ли к нам чужие поступки или нет. Радость по
поводу своего собственного доброго дела есть довольство самим
собой (satisfaction de soi-même), противоположное ему есть
раскаяние (repentir). Уважение, заслуженное нами во мнении других,
есть слава (gloire), противоположное ей есть стыд (honte). Чужие
заслуги пробуждают в нас благорасположение (faveur) к другим и,
если они способствуют нашему личному благу, — благодарность
(reconnaissance); напротив, злодей возбуждает наше негодование
(indignation) и, если им нанесен вред нам, наш гнев (colère). Благо
и зло, доставшееся нам на долю, бывает или продолжительным,
или непродолжительным; долгая привычка притупляет ощущение
и превращает под конец насытившуюся радость в пресыщение
(dégoût), в то же время постепенно умаляя печаль от наших потерь
и страданий. И хорошие, и плохие времена, переживаемые нами,
проходят; мы с сожалением (regret) смотрим, как исчезают первые,
и с радостью (allégresse) ощущаем конец вторых*249.
Среди всех примитивных страстей Декарт отметил удивление
(admiration) как самую первую и по отношению к остальным
возвышенную страсть. Рассмотрим теперь несколько подробнее
характер, разновидности и особые свойства этой страсти. Она постоянно
вызывается новым и необычайным, редким и из ряда вон
выходящим объектом, впечатление от которого захватывает нашу душу и
ощущается как неожиданность. Его сила не растет постепенно, а,
так как оно прерывает все обычные впечатления, проявляется
тотчас же во всей своей полноте: поэтому удивление — самая
сильная из всех страстей; как и всякая неожиданность, оно
действует внезапно. Во всех движениях души мы бываем захвачены
непроизвольно, но нигде состояние такого увлечения предметом не
выражается так чисто и так полно, как в удивлении, сущность
которого оно и составляет; поэтому удивление некоторым образом
" Ibid., art. LXIII-LXVII.
411
К у но Фишер
связано со всеми страстями или, другими словами, известная доза
этого рода ощущения заключается в каждой из них. Сила
удивления бывает так велика, что исключает всякое сопротивление и не
только возбуждает, но завораживает и сковывает душу до такой
степени, что все жизненные духи устремляются в мозгу к месту
впечатления и здесь концентрируются, тогда как все тело
становится недвижимым и мы как бы застываем в созерцании объекта;
затем удивление переходит в изумление (étonnement) и вырождается
•250
через эксцесс .
Пока мы возбуждены силой нового и непривычного
впечатления, мы совершенно не ощущаем полезности или вредности
объекта, что составляет основную тему всех других страстей; поэтому
удивление предшествует им, оно есть первая из страстей и не
имеет ничего общего с допускающей противоположное природой
остальных. Его истинной противоположностью было бы такое
душевное состояние, которое чуждо какому бы то ни было
возбуждению и совершенно бесстрастно в своей невосприимчивости к силе
впечатлений: поэтому не существует противоположной удивлению
страсти, т. е. удивление не имеет контраста. Однако существуют
различные виды удивления в зависимости от объекта,
исключительность которого нас поражает, смотря по тому, состоит ли его
необычный характер в величии или ничтожестве, смотря по тому,
являемся ли этим объектом мы или другие свободные существа.
Декарт называет обе основные формы удивления уважением
(estime) и презрением (mépris): в соответствии с этим самооценка
является или великодушием (magnanimité) и гордостью (orgueil),
или малодушием (humilité) и приниженностью (bassesse), между
тем как поражающее впечатление чужого величия или
ничтожества возбуждает в нас почтение (vénération) или пренебрежение
(dédain)"251.
Среди этих видов удивления наиболее достойна внимания
наша собственная самооценка. Ничто так не бросается в глаза в
поведении человека, в выражении лица, в жестах и походке, как
необычайно приподнятое или подавленное чувство своей личности.
В наших самооценках бывает истинный и ложный взгляд на свое
* Ibid., art. LXX, LXXII-LXXIII.
" Ibid., art. LIII-LV.
412
Страсти души
достоинство, как бывает истинное и ложное умаление его.
Истинное самоуважение Декарт называет великодушием (magnanimité),
не высокомерием, а именно великодушием (générosité); ложное
самоуважение, напротив, — гордостью. Истинное смирение он
называет humilité (humilité vertueuse), ложное, напротив, bassesse.
Теперь следует определить критерий, который отличает в силе
и направлении наших самочувствий истинное от ложного. Вообще
только свободные существа могут служить предметами уважения и
презрения; есть только один объект, поистине достойный
уважения, как достойна презрения его противоположность: это наша
свобода воли, благодаря которой в нашей природе господствует
разум, а страсти подчиняются. В этом свободном и разумном
господстве над собой состоит все нравственное достоинство человека,
единственное благо, которого не может дать благорасположение
судьбы и которое можно заслужить только работой и дисциплини-
рованием воли, применяемым каждым к себе самому. Кто достиг
над самим собой господства, тот обладает тем величием души, из
которого вытекает истинно высокое и единственно верное
самоощущение, великодушное настроение, называемое Декартом
générosité.
Ничто не имеет большей ценности, чем это благо, но и ничто
не достигается с таким трудом, как оно, так как для этого нужно
обычные блага жизни считать ничем и подняться высоко над
слабостями человеческой природы. Кто борется серьезно с
собственными слабостями и стремится отвоевать у них свою свободу, только
тот узнает, как они многочисленны и как хрупка человеческая
природа; поэтому мелочность и ненасытность ее ощущается в той
же мере, в какой проявляется стремление к величию души и в
какой оно достигает ее: истинное уважение к себе идет поэтому
рука об руку с истинным смирением. Всякое уважение к себе
самому, не проистекающее из чувства величия души и свободы,
ложно, как и всякое смирение, основывающееся на ощущениях
иных, чем чувство бессилия своей воли. Ложное самоуважение
есть высокомерие или гордость, ложное смирение есть
униженность и низменное настроение. Как с великодушием не только
согласуется, но и необходимо связано истинное смирение, так же
точно с гордостью — раболепство. «Гордость так неразумна и так
413
Куно Фишер
нелепа, что я едва мог бы себе представить, как могут до нее
доходить люди, если бы не было расточаемо столько незаслуженных
похвал; но лесть — такая обычная вещь, что даже всякий полный
недостатков человек видит себя превозносимым без всякой заслуги
и даже за свои дурные стороны: поэтому и получается, что самые
невежественные и самые глупые бывают гордыми». «Люда самые
низменные чаще всего самые амбициозные и самые заносчивые,
тогда как великие души — самые скромные и самые смиренные.
Последние и в счастье, и в несчастье остаются одинаковыми, тогда
как мелкие и низкие души зависят от капризов случая и бывают
такими же надутыми в счастье, как и приниженными при
неудачах. Случается даже часто, что эти люда унижаются самым
постыдным образом перед теми, кто может быть им полезен или вреден,
и вместе с тем ведут себя бесстыдно с теми, от кого им нечего
ожидать или кого нечего бояться». Заслужить уважение может
всякое существо с сильной или свободной волей: поэтому ни один
человек как таковой не заслуживает презрения, в особенности в
том случае, если у него нет некоторых внешних достоинств и благ,
таких как талант, красота, почет, богатство и т. д Когда другой
заслуживает нашего уважения, то мы ощущаем к нему почтение,
являющееся смесью робости с удавлением, между тем как при
обоснованном презрении к другому человеку мы считаем его
настолько ниже себя, что его негодность хотя и возбуждает в нас
удавление, но не возбуждает ни малейшего страха*252.
IV. НРАВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1. Положительная и отрицательная
ценность страстей
В этом пункте учение о душе переходит в учение о
нравственности и вполне выясняется тема последнего. Быть
свободным — это все. Свобода воли, высшее достояние в нас, определяет
направление и цель. Возвышение нашей духовной природы над
чувственной, свобода духа, подчиняющая себе влечения и стра-
Les passions, III, art. CXLIX-CLXIII.
414
Страсти души
ста, — вот что является конечной целью человеческой жизни,
высшим благом, обладание которым составляет наше блаженство,
единственную нравственную ценность, единственное основание
самоуважения. Декарт не изложил своего учения о нравственности
в особом сочинении, а коснулся лишь главных пунктов его —
частью в сочинении о страстях, частью же в письмах к принцессе
Елизавете и королеве Христине Шведской. Первые касаются
счастливой жизни (в них он критикует и исправляет Сенеку),
последние — высшего блага. Нам уже известна прямая связь между
этими письмами и возникновением, равно как и окончанием
сочинения о страстях души*.
Если высшее благо состоит в свободе, господствующей над
страстями, то оно не может быть достигнуто без борьбы с
последними, следовательно, немыслимо без существования их. Если
высшее благо есть самое ценное из всех, то оно должно в известном
смысле быть предметом нашего вожделения, и потому должна
существовать страсть, которая сама по себе определяет
нравственный образ жизни. Вот те два пункта, где в объяснении душевных
движений психология и мораль соприкасаются друг с другом.
Все наши страсти можно свести к шести примитивным,
простейшими формами которых являются удивление и
вожделение. Но и удивление, поскольку в нем есть стремление к
представлению или рассматриванию его предмета, есть вожделение.
Поэтому, в сущности, все без исключения наши страсти суть
вожделения и как таковые являются естественными побудительными
причинами поступков. Всякий человеческий поступок обусловлен тем,
что нечто является предметом хотения или вожделения,
правильный поступок состоит в правильном вожделении; если мы можем
определить последнее, то основное правило, составляющее тему
всей морали, найдено.
Это основное правило очень просто и ясно. Обладание всеми
достойными желания благами или всецело, или только отчасти
зависит или совсем не зависит от нас, т. е. от нашей собственной
способности. Тем, что мы не можем приобрести в силу
собственной деятельности, мы не можем действительно обладать, а потому
См.: кн. I, гл. IV, разд. П, 3; гл. VIII, разд. I, 1-2. Письма к
Елизавете о «beata vhrere» находятся в Oeuvres XX, pg. 210-245.
415
Куно Фишер
оно и не может быть предметом разумного вожделения. Поэтому
наше вожделение неразумно, если мы стремимся достигнуть
чего-нибудь такого или приобрести что-нибудь такое, для чего не
хватает одной нашей силы и что, напротив, зависит от условий,
вполне или отчасти находящихся вне нашей власти. Наши
желания неразумны, если их исполнение невозможно; оно, строго
говоря, невозможно, если для этого нужны способности значительно
большие, чем наши. Так неразумны по большей части обычные
желания человека, это страстное желание того, что менее всего
зависит от собственной энергии, — внешних жизненных благ,
каковы красота, почет, богатство и т. д.
Правило познания говорит: мысли ясно и отчетливо, только
ясно и отчетливо познанное истинно. Правило воли говорит:
желай ясно и отчетливо, только желаемое таким образом есть благо;
не желай ничего, чего ты не можешь достигнуть — достигнуть
сам; твое высшее достояние есть свобода, она не может тебя
сделать красивым, богатым, уважаемым, сильным и счастливым в
глазах всего мира, а может только сделать свободным; она делает
тебя не господином вещей, а господином тебя самого. Не желай
ничего другого. Пусть единственным благом, которого ты желаешь,
будет это господство над собой, пусть оно будет единственной
целью твоих стремлений, единственным объектом твоего
удивления! Все прочие желания суетны*253.
2. Ценность удивления
Соответственно этому правильные поступки обусловлены
истинным познанием нашей силы и бессилия. Из познания первой
рождается чувство нашего истинного и достижимого величия, из
познания второго — истинное смирение. Ничто так не
способствует последнему, как созерцание неизмеримой Вселенной, где
человек является не центром и целью вещей, а еле заметной частицей,
слишком бессильной, чтобы изменить ход вещей по своему
желанию. «Так как страсти побуждают нас к действию посредством
возбуждаемого ими желания, то следует регулировать наше жела-
Les passions, II, art. CXLIV-CXLVI. Ср. письмо к Елизавете:
Oeuvres IX, pg. 211-214.
416
Страсти души
ние, и в этом состоит главная польза морали». «Существует два
средства против наших суетных желаний: первое состоит в
высоком и истинном самоощущении (générosité), о котором я буду
говорить позже, второе— в рассуждении, к которому мы должны
чаще прибегать: что божественное провидение предвечно
определяет ход вещей, подобно року или неизменной необходимости,
которую следует противопоставлять слепой судьбе, чтобы разрушить эту
химеру, этот призрак нашего воображения. Ибо мы можем желать
только того, что, по нашему мнению, входит в области наших
возможностей; что, напротив, не зависит от нашей собственной силы,
то мы можем считать возможным только в том случае, если
считаем, что оно зависит от этой слепой судьбы, и думаем, что оно
могло бы случиться и что подобное ему некогда уже случалось. Мы
верим в случай, так как не знаем действующих причин. Если
событие, которое, по нашему мнению, зависит от случая, не наступает,
то ясно, что недостает одной из производящих €го причин, что оно
поэтому не могло случиться и что подобного никогда не случалось,
т. е. не случалось чего-нибудь без причины. Если бы мы ясно
осознавали ранее этот необходимый ход вещей, то не принимали бы
желаемое за возможное, а потому и не желали бы его»*254. Все
суетные желания суть заблуждения, истинные, напротив, суть
необходимые последствия нашей истинной самооценки и
основанного на ней возвышенного настроения (générosité); поэтому Декарт
и называет последнее «как бы ключом всех прочих добродетелей и
главным средством против опьянения страстей» .
Самоуважение есть род удивления. Это движение души
самостоятельно избирает нравственный путь и указывает его всем
другим. Ибо удивление есть желание, которое находит
удовлетворение не в обладании, а в представлении или созерцании вещей и
потому направляет душу на стезю, предшествующую познанию и
подготавливающую его. Когда мы находимся во власти поражающе
го нас впечатления, нового, необычайного и редкого объекта, то мы
как бы растворяемся в созерцании его; в данный момент ничто не
может быть естественнее желания завершить это созерцание или
уяснить его подробным исследованием. В этом уяснении состоит
Les passions, II, art. CXUV-CXLV.
Les passions; Ш, art. CLXI.
417
Куно Фишер
познание. Из влечения к созерцанию вытекает естественным
образом влечение к познанию.
Из всех наших страстей ни одна не является столь
теоретической и столь подходящей для познания, как удивление. Оно
находится на пути к цели, оно стоит у начала этого пути:
положение Аристотеля, что философия начинается удивлением, значимо
и в учении Декарта, не противореча собственному объяснению
последнего, что началом философии является сомнение. Воля к
познанию — одно, его достоверность — другое: первая рождается
из удивления, второе — из сомнения. Мы знаем, какое значение
приписывает учение Декарта воле по отношению к познанию
истины и устранению заблуждения. Удивление непроизвольно дает
воле теоретическое направление и склоняет ее к познанию:
поэтому в глазах нашего философа оно не только первая среди
примитивных, но и самая важная из всех страстей.
Здесь речь идет о естественном и здоровом удивлении,
возбуждающем, а не сковывающем человеческую душу,
пробуждающем, а не задерживающем влечение к познанию. Тут Декарт
различает (что сделал Аристотель по отношению к естественным
инстинктам вообще) обе ошибочных крайности: слишком мало и
слишком много — недостаток и избыток, притупленность и
неумение сопротивляться силе впечатления, неспособность к удивлению
и манию удивления. Первый род чувства состоит в совершенном
равнодушии, которого никто не может затронуть и задеть,
второй — в слепом любопытстве, гоняющемся за новыми
впечатлениями и отдающемся каждому из них без побуждения к
исследованию: этот род удивления есть не движение души, а душевное
спокойствие, собственно, не удивление, а, как Декарт сказал уже
раньше, изумление.
Ценность удивления состоит именно в том, что оно в
сильнейшей степени ощущает не полезный или вредный, а редкий и
необычайный характер впечатлений и запечатлевает его в душе,
обеспечивая интеллектуальную разработку их и вызывая нас на
размышление. «Другие страсти могут служить тому, чтобы
заставить нас обратить внимание на полезные и вредные объекты, одно
только удивление обращает внимание на редкие объекты. Мы
видим также, что люди, лишенные всякой естественной склонности
418
Страсти души
к этому движению души, обыкновенно очень невежественны. ...Но
гораздо чаще встречается противоположный случай, что удивление
распространяется на слишком многое, и человек изумляется вещам
либо мало заслуживающим, либо вовсе не заслуживающим
внимания. Этим, конечно, разумность этой страсти или вовсе
уничтожается, или превращается в свою противоположность. При
недостатке может помочь намеренная и особенная внимательность, к
чему наша воля всегда может обязать ум, как только мы начинаем
прозревать, что наблюдение объекта стоит труда; но против
крайнего удивления не помогает никакое другое средство, кроме
ознакомления со многими вещами и познания разницы между редкими и
обыкновенными предметами. Хотя только тупые и глупые люди не
способны по природе к удивлению, однако способность к нему не
всегда идет рука об руку с духовной даровитостью, а свойственна,
главным образом, только людям, обладающим хорошим природным
умом, но не воображающим себя благодаря этому превзошедшими
все. Конечно, инстинкт удивления уменьшается вследствие
привычки; чем больше человек видел редких объектов, которые
возбуждали в нем удивление, тем более он привыкает больше не
удивляться им и считать все последующие обыкновенными; если
же инстинкт удивления превосходит всякую меру и останавливает
свое внимание -постоянно только на первом впечатлении от
каждого объекта, не стремясь к дальнейшему познанию его, то из этого
рождается привычка гоняться за все новыми впечатлениями. Это и
есть причина, делающая хронической болезнь слепого
любопытства; тогда ищут редкостей только ради того, чтобы им удивляться,
а не для того, чтобы познавать их, и люди постепенно становятся
такими любителями удивляться (admiratifs), что пошлые вещи
приковывают их внимание в такой же степени, как и самые
важные» .
3. Свобода духа
Без страстей душа не принимала бы участия в своей телесной
жизни, без них не существовало бы для человеческой природы в
этом мире ни добра, ни зла; одни они являются источником
нашего радостного и страдальческого бытия. Чем сильней они нас воз-
" Les passions, II, art. LXXV-LXXVIII.
419
Куно Фишер
буждают и потрясают, тем восприимчивее мы к радостям и
страданиям жизни, тем слаще кажутся нам первые и тем горше
последние; последние при этом ощущаются тем больнее, чем менее мы
можем управлять нашими страстями и чем враждебнее
складывается наша внешняя судьба. Но существует средство обуздать наши
страсти и умерить их настолько, чтобы зло от них сделалось
сносным и чтобы все они сами превратились в источник радостной
жизни. Это единственное средство есть мудрость. Этим объясне-
тт *257
нием Декарт заканчивает свое сочинение о страстях души
Естественный импульс к тому, чтобы идти по пути, цель
которого составляет мудрость, дает удивление; оно освобождает от уз
инстинкт познания, который не может удовлетвориться без
самопознания, без понимания нашего самообмана, без радикального
сомнения, ведущего к достоверности, к истинному самопознанию,
а потому и к истинной самооценке, на которой основывается
просветленное самоуважение, истинное чувство свободы, совпадающее
с истинным познанием и определяющее нравственную ценность.
Таким образом, из инстинкта удивления рождается влечение к
познанию, из последнего вытекает сомнение и самодостоверность,
а отсюда при свете разума — то удивление, объектом которого
является величайшая и самая возвышенная из всех возможностей —
свобода воли. Отсюда проистекает то движение души, которое
Декарт назвал величием души (magnanimité или générosité) и которое
держит в своих руках узду нравственной жизни.
Перед этим познанием исчезают воображаемые ценности
вещей, кажущиеся прелести мира, вожделения, ослепленные
видимостью, могущество всех страстей, основой которых является^ этот
род вожделений или эгоизм. Пока душа отдается этим страстям, до
тех пор она является их игрушкой, она может преодолеть одни,
подчинись в то же время другим, и таким образом меняет одного
господина на другого. Такой триумф призрачен; торжествует не
душа, а одна из ее страстей, она же сама остается несвободной.
Если, напротив того, она силой своей воли и свободы, при
посредстве ясного и отчетливого познания, поднялась над уровнем этих
вожделений, то только тогда она побеждает *своим собственным
оружием», и потому ее победа истинна.
Les passions, III, art. CCXII.
420
Страсти души
Такая победа есть торжество свободы духа. «То, что я называю
его собственным оружием (ses propres armes), суть незыблемые и
достоверные суждения о добре и о зле, сообразно с которыми душа
решила поступать. Только самые слабые души, не платя дани
познанию, позволяют своей воле следовать за различными страстями
то в одном, то в противоположном направлении; эти страсти
обращают волю против самой себя и доводят душу до самого
бедственного состояния, в каком только она может очутиться. Так, с одной
стороны, страх являет нам смерть величайшим злом, которого
можно избежать только при помощи бегства, с другой стороны,
честолюбие заставляет нас смотреть на такое постыдное бегство как на
худшее зло, чем смерть. Обе страсти влекут волю по различным
направлениям, и она, попадая то под влияние одной, то под
влияние другой, постоянно борется сама с собой, делая таким образом
положение души рабским и бедственным»*258.
На этом заканчивается учение Декарта, возвращаясь к своим
глубочайшим основоположениям. То, что лежит в основании
сомнения, есть воля, стремящаяся разрушить самообман и пробиться
к достоверности; достоверность состоит в ясном и отчетливом
самопознании и Богопознании, откуда вытекает ясное и отчетливое
познание бытия и природы вещей вне нас. Мы познали при свете
разума полную противоположность между душой и телом. Но
наши страсти убеждают нас в их связи, ибо только она может быть
их источником: они отрицают то, что утверждает ясное познание.
Таково противоречие между нашим разумным убеждением и не
произвольными движениями души. Заключающаяся в этом
противоречии проблема разрешается тем, что мы познаем страсти,
прозреваем воображаемые ценности объектов и сокрушаем их силу.
Противоположность между душой и телом не препятствует их
связи в человеческой природе; такая связь нисколько не мешает их
противоположности друг другу, напротив, последняя находит свое
истинное и энергичное выражение в возвышении души над
телесным бытием, в освобождении от страстей и вожделений, одним
словом, в духовной свободе. Страсти относятся к нашей мыслящей
природе так же, как неясные представления к ясным; в этой их
неясности заключается их бессилие. Если воля силой сомнения
Les passions, I, art. XXVIII.
15 Куно Фишер
421
Куно Фишер
могла разрушить самообман и силой мышления могла достигнуть
ясного и отчетливого познания, то она может посредством этого
познания совладать и с силой страстей, ибо вожделения суть
также самообманы, ослепляющие нас призрачной ценностью вещей и
держащие нас в этом ослеплении. Сомнение поражает и колеблет
каждый из наших самообманов, а также и силу страстей, и
духовная свобода, т. е. познанием просветленная воля, побеждает
каждый из них.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ПЕРВОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ.
ВОЗРАЖЕНИЯ И ОТВЕТЫ
L ВОЗРАЖЕНИЯ
1. ТОЧКИ ЗРЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ АВТОРОВ
Мы изложили философское учение Декарта в совокупности
всех его существенных частей и теперь обращаемся к его критике.
Здесь мы сразу встречаемся с возражениями, направленными
против первого из основных сочинений его; возражения эти были
вызваны самим философом, рассмотрены им и изданы вместе с его
собственными ответами на них. Это было первым критическим
испытанием, которое новая система должна была выдержать перед
своим творцом и перед миром. Декарт желал подвергнуть свое
учение подобному испытанию при первом его появлении в свет и, в
качестве лучшего знатока его, быть его истолкователем и
защитником. Потому-то эти критические заметки имеют историческое
значение*.
Когда возражения, как это обыкновенно бывает, смешаны с
изложением учения и разбросаны произвольно в разных местах
его, то общее впечатление от учения совершенно теряется, а общее
впечатление от системы без необходимости разбивается. Нет
другого источника, из которого можно было бы лучше познать первое
впечатление, произведенное новым учением на философское
настроение эпохи, и первую реакцию ее, чем эти сомнения,
высказанные с различных сторон присяжными и неприсяжными
критиками и возникшие под свежим впечатлением от рукописного еще
сочинения. Здесь встречаются главные направления философского
См.: кн. I, гл. V, разд. И, 2.
423
К у но Фишер
сознания эпохи, и представителями некоторых из них являются
знаменитейшие люди. Поэтому достойно труда сделать
внимательный и вместе с тем краткий обзор этой группы первых критиков
Декарта.
Независимо от общего отчета Мерсенна, рассмотренного
Декартом во втором и шестом пункте, он получил возражения Кате-
руса, Гоббса, Арно, Гассенди, Бурдена в указанном порядке и в
том же порядке ответил на них. Позднейшие возражения, которые
можно назвать восьмым и девятым, не могли уже быть включены в
издание «Размышлений» и были разобраны в письмах. Сюда
относятся возражения от имени некоего Гиперасписта и английского
философа Генриха Мура; первые едва заслуживают упоминания,
так как они повторяют лишь то, что уже было сказано; вторые
вновь выставляют против Декарта теософическую точку зрения;
они оспаривают голую материальность протяжения и утверждают
нематериальное протяжение, которое должно относиться к
духовным существам и объяснить существование Бога в мире, равно как
и души в теле*.
Второе и шестое Возражения, в которых собраны сомнения
различных философов и теологов и в которые Мерсенн, конечно,
вставил много своих возражений, носят дилетантский характер; но
ими все-таки не следует из-за этого пренебрегать, так как в такую
подвижную и чуткую в философском отношении эпоху, какой
была картезианская эпоха, подыгрывающие дилетанты оказываются
немаловажной силой. Возражения Катеруса относятся только к
понятию Бога, в особенности к онтологическому доказательству,
поэтому не касаются главного направления и основоположений
нового учения.
Для того, чтобы уразуметь принципиальные и достойные
внимания антитезы, мы должны вспомнить фундаментальные мысли,
на которых зиждется вся картезианская система. Методическое
познание вещей в естественном свете разума, или мышления,
было задачей и главной темой философа. Поскольку свет
познания — естественный свет и стремится быть им (les lumières
naturelles), мы называем его направление натуралистическим; по-
Переписка между Г. Муром и Декартом относится к
последнему периоду жизни философа (с декабря 1648 по октябрь
1649 г.). — Oeuvres X, pg. 178-296.
424
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
скольку этот естественный свет есть разум, или чистое (ясное и
отчетливое) мышление, мы обозначаем это натуралистическое
направление познания рационализмом. В способе, каким этот свет
открывается и создается в мышлении так, что освещает веши,
состоит метод.
Таковы основные идеи. Кто на них нападает, тот оспаривает
принципиально новое учение. Эта оппозиция может быть троякого
рода. Можно утверждать естественный свет познания, но отрицать
вместе с тем, что он возникает и действует в мышлении; этот свет
следует искать не в разуме, а в чувствах: в этом случае оспаривают
не натурализм, а рационализм Декарта, не философское
(естественное), а метафизическое (рациональное) познание вещей,
противопоставляя ему эмпирическое или сенсуалистическое познание.
Этот сенсуализм так же стар, как атомистский характер
мышления, и так же нов, как бэконовская философия. Ренессанс
воскресил древнее учение Демокрита, подновленное Эпикуром, а после
него Лукрецием еще в древности. Такую оппозицию Декарту
представляет Гассенди, в лице которого мы можем видеть запоздалого
мыслителя эпохи Ренессанса, так как он брал за образец Эпикура.
Из обновления философии Бэконом, положившим начало
эмпиризму, должно было родиться сенсуалистическое направление, уже
несшее в себе материализм: в такой оппозиции против Декарта
стоит Гоббс. Мы имеем перед собой ту антитезу, возникновение
которой мы видели при первом же обзоре хода развития новой
философии*. Эта антитеза — первая из перечисленных.
Но и естественный свет познания не остается неоспоренным.
Враждебной натурализму силой является сверхъестественный свет
веры и откровения, освещающий царство благодати и церкви:
теологическая и, точнее, августиновская система, которую
Реформация возродила как мощное оружие против римской церкви и
которую хотел восстановить в последней янсенизм; он возник
одновременно с учением Декарта и должен рассматриваться как ярчайшее
выражение религиозного сознания времени. С этой стороны
выступает против новой философии настроенный на августиновский лад
Арно, один из значительнейших теологов тогдашней Франции,
впоследствии глава янсенистов.
См.: Введение, гл. VII.
425
Куно Фишер
Существует церковный рационализм, который был создан
схоластикой и задача которого заключалась не в том, чтобы
находить новые истины, а в том, чтобы догматически доказать
имеющиеся. Нет большей противоположности, чем между картезианским и
схоластическим методом, между не задающимся гипотезами,
очищенным сомнением мышлением и мышлением, догматически
связанным и вышколенным, между эвристической дедукцией и
бесплодной силлогистикой, наряжающейся в «ЬагЬага» и «cela-
renU259. С этим методом Декарт познакомился рано через
иезуитов, новых схоластов этого столетия, умевших пользоваться в
особенности диалектическим искусством старой школы, и
совершенно самостоятельно дошел до презрения к нему. Теперь же его
метод делается специальной мишенью, в которую метит иезуит
Бурден, автор седьмого возражения, стремясь ниспровергнуть само
новое учение. Насколько эта полемика имела мало значения по
существу, настолько является характерным то, что этот метод
оспаривал именно иезуит и именно тем способом, каким он это делал.
2. Антитезисы и точки соприкосновения
Среди направлений, находившихся в противоречии с учением
Декарта, наиболее противоположны друг другу осмысленная на
августиновский лад теология и сенсуалистическая
(материалистическая) философия: Арно и Гоббс. И та, и другая одновременно
нападают на новую систему; с противоположных сторон они
оспаривают метафизические основоположения учения, принципы,
найденные методическим мышлением и имеющие притязание не
только на большую достоверность, чем все прежние, а на абсолютную
достоверность и несомненность. Теологическая точка зрения
отрицает эти основоположения, так как она не признает иного
фундамента, кроме фактов религии и откровения; сенсуалистическая
точка зрения равным образом отвергает их, так как она не
допускает никакого другого фундамента для человеческого познания,
кроме фактов чувственного мира и опыта.
Такая теологическая и сенсуалистическая антитеза учению
Декарта неизбежна и вместе с тем освещает основные черты всей
системы с ее натуралистическим и рационалистическим характе-
426
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
ром. Потому-то возражения, сделанные Гоббсом, Гассенди и Арно
против «Размышлений», являются для нас достойными внимания и
поучительными. Хотя Гоббс имеет большее значение и явился
позже, чем Гассенди, однако он отнесся к спорному вопросу
несколько поверхностно и обсудил его не так строго и подробно, как
последний, вследствие чего Декарт прекратил спор с ним и
продолжал его до конца с Гассенди. По этим соображениям мы должны
смотреть на Арно и Гассенди, двух соотечественников философа,
как на более важных противников, от которых надо было
защищать новое учение.
Не меньшее значение, чем антитезы, имеют точки
соприкосновения между философией Декарта и теологией августиновского
направления, между ней и материалистически направленным
сенсуализмом. Как только мы устраним метафизическое
(рациональное) обоснование, тотчас с обеих сторон ясно выступают черты
сходства. Сенсуалистическое учение по своему характеру
склоняется к материалистическому и механическому объяснению природы:
Декарт дал такое объяснение, оно не могло бы быть выдержано
строже. Гоббс, сразу же заметивший эту сторону нового учения,
думал уже, что оно вполне согласуется с его учением. Между тем
картезианское объяснение природы было необходимым следствием
известных нам дуалистических принципов, его чисто
материалистическое и механистическое направление вышло из совершенно
другой области, чем у философов-сенсуалистов.
Последние думали: так как природа материальна, то
материален и дух; так как она может быть объяснена только
материалистически, то и духовная деятельность должна быть объясняема так же.
В учении же Декарта дело обстоит наоборот: так как дух
совершенно нематериален, то лишь телесный мир материален; так как
явления духовного мира совершенно не могут быть выведены из
материальных условий, то явления телесного мира объяснимы только
такими условиями; так как дух есть антитеза материи, то и
материя также есть антитеза духа. В этом заключался спорный вопрос
между нашим философом с одной стороны и Гоббсом и
Гассенди — с другой.
В противопоставлении духовного естества телесному, в
решительном дуализме того и другого заключался центр тяжести новой
427
К у но Фишер
системы. Именно это место, которое оспаривалось сенсуалистами,
невольно привлекало теолога августиновского направления. Декарт
сам чувствовал свою большую родственность ему, чем своим
противникам-философам; он видел, что Арно гораздо лучше понимал
его, чем Гоббс и Гассенди, весь образ мыслей которых его
отталкивал, и считал возражения, сделанные ему Арно, гораздо более
важными, чем все остальные. Нам известно его глубокомысленное
исследование понятия Бога и решающее значение результата этого
исследования для всей системы. Когда философ объявил, что этим
направлением своего учения он способствует делу религии и
придает ей внутреннюю крепость, то это не были пустые или лишь
предусмотрительно-консервативные слова. Он честно принял
сторону религиозных интересов. Именно этому симпатизировал Арно. К
этому присоединилось и буквальное согласие с Августином,
которое должно было прийтись по сердцу теологу и казаться тем более
значительным, что оно обнаруживалось как раз в том месте,
которое Декарт называл архимедовским пунктом своей философии, —
в принципе достоверности. Для доказательства бытия Бога
Августин берет в своем сочинении о свободной воле нашу
самодостоверность своим исходным пунктом; его Алипий обращается к Ево-
дию с следующими словами: «Я хочу начать с несомненной вещи;
поэтому я спрашиваю тебя прежде всего, существуешь ли ты, или
в твоем ответе на этот мой вопрос ты боишься заблуждения, хотя
здесь невозможна никакая ошибка, так как если бы ты не был, то
и не мог бы заблуждаться». Совершенно так же выразился Декарт
в своих «Размышлениях», не зная того, что его «cogito ergo surm
имеет в Августине своего предшественника. Когда он узнал об
этом от Арно, то благодарил его за неожиданное для него
радостное известие.
Однако схожими исходными точками так же мало
доказывается действительное и окончательное согласие, как и схожими
результатами. Направления, исходящие из различных принципов,
могут в некоторых пунктах сходиться, как, например,
картезианское и сенсуалистическое учение относительно механического
объяснения природы; таким же точно образом из одного общего
начала могут выйти направления, которые в дальнейшем течении
далеко расходятся: так обстоит дело в известном смысле с картезиан-
428
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
ским и августиновским учением. Если проследить их содержание и
сравнить исторические формы развития того и другого, то
открывается такой контраст между ними, больше которого и быть не
может: из августиновской системы возникло церковное сознание
средних веков и господство схоластики, из учения Декарта —
система Спинозы.
Между тем такой контраст не осознавался нашим
философом. Поскольку обоснованное им направление философии
развилось и выразилось в нем самом, он мог обманываться относительно
коренной противоположности своего учения теологической системе
и считать их в существенных пунктах согласными друг с другом.
Ведь и для него бытие вещей, познание духов и движение тел
было творческим делом Бога. Человеческий дух был бы окутан
непроницаемым мраком, если бы его не освещала идея Бога, т. е.
сам Бог; телесный мир был бы неподвижен и безжизнен, если бы
его не двигал сам Бог; вещи не могли бы ни быть, ни продолжать
свое существование, если бы их не сотворил и не поддерживал
Бог. Таким образом, человеческое познание в его последнем
основании есть освещение, бытие мира — творение, его
продолжительность— продолжающееся творение. Всему этому учил и
Августин, но его учение опиралось на супранатуралистические доводы,
ссылающиеся на факты веры и христианского откровения, тогда
как Декарт хотел доказать то же самое при свете естественного
разума, источник коего он видел в Боге. Путеводной нитью
августиновской системы являются интересы христианской веры и
решительно сверхъестественный факт искупления; путеводной нитью
картезианской системы служит лишь естественный свет разума,
ясное и отчетливое мышление. В этом состоит полная
противоположность обеих.
Арно чувствовал эту противоположность; его сомнения
касались рационалистического образа мышления и его необходимых
последствий. С методом ясного и отчетливого мышления
несовместима истина церковного вероучения. Мы познаем ясно и
отчетливо, что модусы не могут быть без субстанции, данные качества не
могут быть без той вещи, которой они свойственны; невозможно,
чтобы качества существовали, когда вещи более нет, чтобы они
остались, тогда как она изменилась, чтобы хлеб и вино пресущест-
429
Куно Фишер
влялись в кровь и все-таки сохраняли свои качества: вид, цвет,
вкус и т. д. Невозможно, чтобы субстанция и модусы были когда-
либо отделены друг от друга; такое немыслимое отделение не
может совершиться и при помощи божественного могущества, иначе
оно противодействовало бы ясному и отчетливому мышлению.
Декарт отрицает эту возможность, утверждаемую верой в
пресуществление в таинстве причащения. Арно и возражения шестого
пункта противоречили в данном случае философу. Мы познаем ясно и
отчетливо, что субстанции не зависят друг от друга, так что
никогда не могут составить одно существо: лица суть субстанции,
единство трех лиц, о котором учит догмат о Божественной Троице,
является немыслимым. Положению, что субстанция и модусы
неотделимы друг от друга, противоречит учение о причащении;
положению, что субстанции необходимо разделены, — учение о Троице*.
Арно заметил, что правило достоверности следует ограничить
философским познанием и не прилагать к религии и морали;
Декарт мог бы, при согласии с Августином, сохранить границу между
верой и знанием: последнее зиждется на доводах, первая на
авторитете. Декарт легко мог бы прийти к соглашению с Арно, ибо эти
ограничения согласовывались с его взглядами и с его жизненным
методом. Однако проблемы философии перевешивают склонности
и жизненные максимы философа. Самоограничения, которые он
находил хорошими для своей особы, не мог долго сносить дух его
учения.
3. Пункты нападения
Мы лучше всего сориентируемся в содержании возражений и
спорных вопросов, если вспомним основные положения системы,
заключенные в «Размышлениях». Самыми значительными
моментами учения являются методическое сомнение, принцип
достоверности, идея, бытие и истинность Бога, реальность чувственного мира,
причина заблуждения, различие по существу между духом и
телом. Возражения направлены против этих главных пунктов и
могут быть сгруппированы соответственно этому.
Новый метод и его скептическое обоснование находит своего
главного противника в лице схоласта, чувствующего себя как дома
" Oeuvres П, Obj. ГУ, pg. 35; Obj. VI, pg. 327-329.
430
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
в старой области силлогизмов и соритов. Принцип достоверности
чистого мышления и основанное на нем учение об абсолютной
независимости духа от тела оспаривается
философами-сенсуалистами, держащимися чувственного образа мыслей, господствующего в
сознании большинства людей. Поэтому тут скапливается
наибольшее количество возражений: здесь к Гоббсу и Гассенди
присоединяются те «различные теологи и философы», от которых исходят
второе и шестое возражения. Против доказательств бытия и
истинности Бога, в особенности против вывода, что Бог не мог бы
обмануть, возникает целый ряд сомнений, в которых неизвестные
теологи состязаются с Катерусом и Арно; только последний, глубже
проникший в дух нового учения, имел перед ними то
преимущество, что понимал, что Декартово онтологическое доказательство не
было схоластическим.
1. У всякого философа Нового времени, какого бы
направления он ни был, есть неизменная черта — глубокое презрение к
старой школе, в особенности к искусству спорить, пожинавшему
свои лавры на средневековых кафедрах. Право, по которому они
смотрят на схоластику сверху вниз, лучше всего обсудить на
конкретном примере, посмотрев, как забияка старой диалектики
заносит копье на основателя нового, эвристического метода. В этом
отношении возражения иезуита Бурдена характерны и даже не
лишены культурно-исторического интереса. Противник желает
доказать по правилам силлогистики, что метод Декарта
невозможен, что он не может ни начать, ни продолжить, ни доказать что-
либо, исключая чистое ничто: он одновременно абсурден и ниги-
листичен в смысле полного ничтожества.
Принцип достоверности, с которого начинается методическое
познание, основывается на совершенном сомнении, отрицающем
всякую достоверность. Сначала говорится: «Ничто не достоверно»;
затем отсюда же доказывается: «Нечто достоверно». Из
общеотрицательного суждения выводится частно-утвердительное, что по
правилам силлогизма невозможно: таким образом, невозможно
положение о достоверности, мнимое начало всего познания.
То же самое относится к положению о сомнении. Так как мы
в нескольких случаях обманулись, то возможность обмана
распространяется на все случаи. Такое умозаключение невозможно, так
431
Куно Фишер
как из суждения, имеющего частное значение, нельзя выводить
общего положения; таким образом, невозможен принцип
сомнения — мнимое начало философии. Если бы принцип сомнения
имел действительное значение, то он должен был бы иметь силу
обратного действия и разрушил бы свое собственное
предположение: если ничто не достоверно, то недостоверно также и то, что
нечто недостоверно. Таким образом, невозможны не только
результат, но и начало сомнения*.
О невозможность обосновать универсальное суждение
частным разбивается, по мнению Бурдена, вся картезианская
философия, равно как и дуализм духа и материи, и физика, опирающаяся
на положение, что телесная природа только протяженна. Если
некоторые тела протяженны, то не следует вовсе, что это свойство
может распространяться на все тела, еще менее следует, что оно
составляет их сущность и что потому душа, так как она неделима
(непротяженна), никоим образом не может быть телесной
природы. Таким образом обыкновенно доказывают крестьянину, что
свойства, которые он знает в своих домашних животных, все
являются существенными для животного, и потому волк уже не
животное".
Как невозможна всякая попытка начать познание по методу
Декарта, так невозможно и его дальнейшее развитие. Каждый шаг,
который оно делает, ведет в бездну, в пустое ничто. Нужно только
обсудить ход этого метода по указанию силлогистики и продолжить
по правильным формам «celarent», «cesare» и т. д, чтобы видеть,
куда оно ведет. Все существа, бытие которых сомнительно,
нереальны: существование тела сомнительно, следовательно, тело не
реальное существо, следовательно, ни одно реальное существо не
есть тело; я реален, следовательно, я не тело. Но, по Декарту, все
сомнительно, а следовательно, и дух; стало быть, он столь же мало
реален, как и тело; поэтому мы сами ни дух, ни тело, значит,
ничто. Так как все должно быть либо духовной, либо телесной
природы и не может быть ни тем, ни другим, то вообще нет ничего.
Ясно поэтому, что по его новому методу познания невозможно ни
начать, ни продолжить, ни достичь какой-либо цели. Поэтому сле-
" Ibid., Obj. VII, pg. 393-404, 412-415.
Ibid., pg. 441-443.
432
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
дует вернуться назад к старому методу, как его преподает школа:
надо вернуться от нигилистического метода к силлогистическому,
от скептического к догматическому, от картезианства к
схоластике*.
2. Совершенно другого рода, как и следует ожидать,
соображения, противопоставляемые картезианскому сомнению Гоббсом,
Гассенди и Арно. Гоббс смотрит на дело немного свысока, он
оспаривает новизну сомнения и его применимость к чувственному
познанию; уже, мол, среди древних философов до и после Платона
существовали скептики по профессии, и Платон сам много говорил
о недостоверности чувственного восприятия; Декарт сделал бы
лучше, если бы не возобновлял старого; все, что он говорит, далеко
не ново, а относится к числу весьма древних фантазий. Гассенди
допускает умеренный скептицизм на манер светских людей, а
картезианский находит утрированным. Здесь, мол, за топором бросают
и топорище и ставят новое заблуждение на место старого: человек
обманывает себя самого, если измышляет себе сомнение, не
оставляющее никакой достоверности, и как бы он ни уверял, что не
будет ничего считать достоверным, все же найдется немало
объектов, в которых сомневаться он не может и на которые смотрит как
на совершенно достоверные: поэтому сомнение Декарта в доброй
части своей есть самообман. Арно, напротив, чувствует, что
сомнение расшатывает интеллектуальную самозаконность человека, и
оправдывает его, поскольку оно распространяется на естественное
познание и принципиально не касается области веры и морали**.
3. Принцип достоверности заключается в положении «cogito
ergo sum»: «Я мыслю, следовательно, я существую; я — мыслящее
существо (дух)». Многочисленные возражения против этого пункта
следует рассортировать тщательнее. Как ни кратко положение, но
оно заключает целый ряд важных и руководящих утверждений,
выводимых из него Декартом. Поэтому «cogito ergo sum» дает
несколько поводов для нападения. Из «я мыслю» вытекают, строго
говоря, два положения: 1) я есмь, или существую, 2) я мыслящее
существо, или я есмь дух. Характер вывода следует строго взвесить
* Ibid., pg. 444-445, 461-463, 489-504.
" Oeuvres I, Obj. III, pg. 466-467; Oeuvres II, Obj. IV, pg. 30, Obj. V,
pg. 91-42.
433
К у но Фишер
в трояком отношении: 1) достоверность собственного бытия следует
только из мышления и ни из какой другой деятельности; 2) из
мышления следует прежде всего только достоверность собственной
мыслящей природы и никакая иная. 3) Эта достоверность вытекает
из мышления (не опосредованно, а) непосредственно:
положение — это не силлогизм, а непосредственная, или интуитивная,
достоверность.
Из всего этого вытекают следующие возражения: 1) из «я
мыслю» вытекает, конечно, положение «я есмь», или «существую»,
но не «я есмь дух*; 2) положение «я есмь» никоим образом не
вытекает только из моего мышления, но совершенно так же
следует из каждого другого моего деяния; 3) положение «я мыслю,
следовательно, я существую» есть силлогизм и полагает то, что хочет
доказать, если его первая посылка не доказана; оно представляет
собою «petitio principii»260 и как таковое не обладает никакой
достоверностью. Первое возражение делает Гоббс, второе — Гассен-
ди, а третье, пользуясь случаем, делает Декарт самому себе и
опровергает вместе со вторым возражением.
Из «я мыслю» следует, без сомнения, что я есмь и что к моей
деятельности или к моим свойствам относятся деятельность и
свойства мышления; поэтому можно с уверенностью высказать
суждение: «я мыслящий», или «я мыслящее существо», но никак не: «я
есмь дух», или «моя сущность состоит в мышлении». Это значило
бы делать свойство самой вещью. Первое положение верно, второе
абсурдно. Мышление так же не есть сама по себе существующая
сущность, как и гуляние. С таким же правом можно сказать: «Я
гуляю, следовательно, я прогулка»*. Из положения «я мыслю»
логически вытекает: я есмь мыслящее существо, т. е. субъект,
которому в числе других свойств или родов деятельности подобает
свойство мышления. Очевидно, что деятельность не может быть также
субъектом деятельности, мышление не может быть также
субъектом мышления. Я могу, конечно, сказать: «я мыслю, что я
мыслил», т. е. я вспоминаю то, что составляет особый вид мышления,
но будет абсурдом сказать: «мышление мыслит» или «я мыслю, что
я мыслю», ибо это повело бы к бесконечному регрессу и сделало
Oeuvres I, Obj. III, pg. 468-469.
434
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
бы невозможным всякое мышление, так как при этом никогда
нельзя дойти до субъекта, носителя мышления.
Нет ничего яснее различия между субъектом и
деятельностью, между вещью и свойством; поэтому я, как субъект
мышления, представляю собой отличное от мышления существо, т. е. я
есмь тело, которое мыслит. Этим положением наносится
окончательный удар картезианству, и сенсуалистический материализм
занимает его место*. Дух есть мыслительная деятельность тела,
мышление — сочетание слов, обозначающих представления или
образы, вызванные движением и впечатлением телесных органов:
поэтому все идеи имеют чувственное происхождение, и дух не есть
нечто независимое от тела. Ясные и неясные представления суть
не что иное, как ясные и неясные впечатления; близкий объект
мы видим ясно, отдаленный неясно; вооруженным глазом мы
видим ясно то, что невооруженный видит неясно или вовсе не
видит. Астрономическое представление небесных тел относится к
обыкновенному их созерцанию так же, как телескопическое зрение
к обыкновенному зрению, как ясное впечатление к неясному. Оба
рода представлений чувственны.
Все наши представления только чувственны; так называемые
общие понятия абстрагированы из наших впечатлений и не имеют
никакого реального значения, а имеют только номинальное. То,
что мы воспринимаем чувственно, суть не сами вещи, а их
свойства и проявления: поэтому понятие субстанции есть
представление без объекта. Все впечатления мы воспринимаем извне,
поэтому нет врожденных идей, никакого особенного духовного
приданого, которым бы человек обладал по сравнению с другими
существами: поэтому он не по природе, а только по степени отличается от
животных**.
4. Итак, мое мышление не есть единственная деятельность,
из которой вытекает достоверность того, что я существую. Без
сомнения, такая достоверность вытекает из деятельности моего
мышления, но не потому, что она деятельность мышления, а потому,
что она моя деятельность. Положение: «Я иду гулять, следователь-
* Ibid., pg. 460-470, 475. Ср.: Oeuvres II, Obj. VI, pg. 318-319.
" Oeuvres I, Obi. III, pg. 476-477, 485^87, 483. Ср.: Oeuvres II,
Obj. VI, pg. 320-321.
435
Куно Фишер
но, я есмь» — так же достоверно, как и «cogito ergo sum»*. Если
бы мое бытие состояло в мышлении, то я не мог бы существовать
без мышления ни одного мгновения; тогда человек должен был бы
мыслить и в эмбриональном состоянии, и в летаргическом сне. Мы
не можем мыслить без сознания, но можем существовать без него;
поэтому наше бытие и наше мышление никоим образом не
тождественны".
Кроме того, как находит Гассенди, принцип достоверности не
дает нам того, чего мы от него вправе были бы ожидать, судя по
обещаниям Декарта: точнейшего и глубочайшего познания нашей
собственной природы. Что мы приобретаем нового и особенного с
познанием того, что мы мыслящие существа? Мы узнаем то, что
знаем давным-давно. Если кто-либо обещает нам основательные
сведения о природе вина, то мы ожидаем обстоятельного
химического анализа его состава, а не объяснения, что вино — жидкое
тело. Мы обладаем свойством мыслить, как вино — свойством
быть жидким. Но что же дальше? Таким общим местом является
картезианский принцип достоверности**".
5. Но положение это вовсе не достоверно, так как, 1) по
собственному признанию философа, обусловлено нашей уверенностью
в Боге, поэтому все сомнения в пригодности доказательств бытия
Бога применимы и к нему (возражение, которое повторялось
неоднократно), и 2) оно есть силлогизм, опирающийся на недоказанное
предположение. Силлогизм в своей полной форме таков: «Все
мыслящие существа суть или существуют, я мыслю, следовательно, я
существую». Для того, чтобы доказать первую посылку, нужно
предпослать ей заключение, почему этот силлогизм есть не только
petitio principii, а и circulus vitiosus261, как говорят логики. Оба
соображения попадали бы в цель в том случае, если бы положение о
достоверности было силлогизмом. Подождем, что ответит
Декарт"***.
6. Последним основанием всякой достоверности и познания
является идея Бога в нас, причиной которой может быть только
Oeuvres II, Obj. V, pg. 93. Ср.: pg. 248; Oeuvres I, pg. 451-453.
" Oeuvres II, Obj. V, pg. 101-102.
"' Ibid., pg. 122-123.
Oeuvres I, Obj. И, pg. 403-404.
436
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
fcaM Бог. Таково в кратких словах онтологическое доказательство,
доказательство, с глубоким обоснованием которого в учении
Декарту мы познакомились подробно и которого ни один из противников
не сумел оценить в достаточной степени. Тут возражения особенно
многочисленны. Чтобы обособить пункты нападения, разделим по
рубрикам положения, заключающиеся в доказательстве.
Требуется, 1) чтобы закон причинности распространялся также на идеи,
2) чтобы идея Бога в особенности нуждалась в реальной причине,
3) чтобы эта идея была нам врождена, 4) чтобы из этой
врожденной идеи явствовала бы реальность Бога непосредственно, 5) чтобы
Бог был причиной самого себя и потому бесконечен. Каждое из
этих положений является предметом опровержения.
Идеи суть мыслимые вещи, обладающие не реальным, а
только номинальным существованием; поэтому они не нуждаются ни в
каких реальных или активных причинах, менее всего нуждаются в
таких, которые содержат в себе больше «объективной реальности»,
чем они сами. Это возражение Катерус поставил во главе своих
соображений*.
Идея Бога не является для нас врожденной, иначе она
должна была бы постоянно сопутствовать нам, даже и во сне; многие
ее вовсе не имеют и никто не имеет постоянно: поэтому причиной
ее не может быть Бог. Мы сами являемся этой причиной, идея
Бога — наша фикция, создание человеческого ума, составляющего
представление о совершенном и бесконечном существе, причем он
усиливает известные ему совершенства, раздвигает границы и
игнорирует несовершенства. Так посредством усиления и
абстрагирования возникает в нашем воображении идея Бога. Неверно, что
представление бесконечного существа должно быть вызвано им
самим. Бесконечная Вселенная тоже не причина нашего
представления о нем; мы достигаем этой идеи мира, расширяя наше
сначала ограниченное мировоззрение и распространяя его в конце
концов до бесконечности"*.
Наша идея о Боге не содержит в себе поэтому ничего из
реальности Бога. Последняя не может быть доказана также из бытия
* Ibid., Obj. I, pg. 355-356.
" Ibid., Obj. II, pg. 400-^02, Obj. III, pg. 479-480; Oeuvres II, Obj. V,
pg. 139-140.
437
Куно Фишер
вещей, ибо предположение последней или первой причины не
выдерживает критики, так как причинная связь вещей бесконечна
и мы не вправе ставить ей предел. Но даже если допустить, что
есть существо, являющееся причиной самого себя, то из этой
безусловности (aseitas) еще не вытекает его бесконечность.
Из идеи Бога не вытекает бытие Бога, не говоря уж о том,
что оно не явствует из нее ясно и отчетливо. Если бы это было
так, то прежде всего сама эта идея должна бы была быть ясной и
отчетливой; она же, напротив, не ясна и не отчетлива, даже по
собственному убеждению Декарта, так как мы являемся
конечными и несовершенными существами, тогда как Бог и бесконечен, и
совершенен. Если бы идея Бога была основанием всякой
достоверности, то было бы непонятно, каким образом атеисты могут
считать свои математические познания несомненными*.
Идея Бога и не врождена, и не ясна, и не отчетлива. Гоббс
идет дальше и оспаривает вообще ее возможность, так как у такой
идеи нет источника, так как она беспредметна и несостоятельна.
Так как она не врождена, то должна быть отвлечена от вещей; от
тел ее нельзя абстрагировать, нельзя и от представления души, ибо
о последней мы вообще не имеем никакого определенного
представления. Предметом этой идеи должна быть бесконечная
субстанция, превосходящая все другие вещи своей реальностью; но о
субстанции не может быть вообще никакого представления, и вещь,
которая должна быть более вещью, чем все другие, немыслима.
Все мышление состоит в выведении следствий: поэтому
безусловное немыслимо, идея Бога непостижима и все исследования ее
бесполезны. Но на идее Бога в нас зиждется вся сила
картезианских аргументов. Если бы Бог не существовал в действительности,
то в нас не могла бы существовать его идея. Присутствие этой
идеи в нас, говорит Гоббс, не доказано, недоказуемо и, по его
мнению, невозможно. Поэтому Декарт не доказал бытия Бога и еще
менее доказал творение**.
7. Если не существует вообще рационального Богопознания,
то на нем нельзя также основывать возможность познания вещей.
Декарт строит его на правдивости Бога, на невозможности обмана
* Ibid., Obj. V, pg. 174-175; Obj. VI, pg. 321-322.
" Oeuvres I, Obj. III, pg. 484, 493.
438
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
с его стороны. Если допустить Богопознание, то все же этот
вывод неправилен при свете как откровения, так и разума. Или
Библия содержит недостойное веры, или существуют обманы, которых
пожелал Бог; он ослепляет фараона, он заставляет пророков
предсказывать вещи, которые не сбываются; Священное писание как
Ветхого, так и Нового завета учит, что мы блуждаем во мраке.
Доводы разума не дают также возможности постичь, почему обман
мог бы противоречить сущности Бога или быть его недостойным.
Существуют спасительные обманы, совершаемые с лучшими и
мудрейшими намерениями. Так родители обманывают детей, а
доктора больных*.
То, что Бог не может быть источником наших заблуждений,
есть, следовательно, утверждение, с которым нельзя согласиться.
Декарт объясняет заблуждение нашей свободой воли и считает его
виной воли. Следует ожидать, что против этой вины станут
возражать теологи, а против этой свободы — сенсуалисты. Если всякое
принятие за истину вследствие неясного понимания составляет
уже вину, предосудительный и злонамеренный поступок, то плохо
обстоит дело с обращением в христианство, совершающимся в
очень редких случаях в силу ясного и твердого убеждения; в таком
случае церкви следовало бы отказаться от своей миссии. Волевое
безразличие, т. е. необусловленный и совершенно
недетерминированный произвол, означает для Декарта низшую ступень свободы,
тогда как высшей является просветленная, или детерминированная
разумом, воля. Произвол несовместим с мудростью: первый
абсолютно свободен, он может делать и не делать, что ему угодно;
вторая связана с необходимостью мышления и законов разума, по
отношению к ней в Боге нет произвола: учение, очень характерное
для картезианской и очень сомнительное с теологической точки
зрения!*"
Сенсуалисты не могут допустить независимую от
естественных условий способность и потому оспаривают человеческую
свободу воли. Ее оспаривают уже издавна, ее никогда не удавалось
доказать, а строго верующие кальвинисты совсем отрицали ее.
" Ibid., Obj. II, pg. 404-406; Obj. III, pg. 501-502; Oeuvres II, Obj. VI,
pg. 322-324.
Oeuvres I, Obj. II, pg. 406; Oeuvres II, Obj. VI, pg. 324-325.
439
Куно Фишер
Даже Гоббс в этом случае ссылается на кальвинистов. Свобода не
только не доказана, она недоказуема, как все безусловное; она
невозможна по естественным основаниям. Выводить заблуждение
из свободы воли значит известное объяснять неизвестным и
непознаваемым, естественное — невозможным. Заблуждение скорее
всего есть естественное и весьма понятное следствие нашей
ограниченной способности познания*.
8. Из принципа освещенной идеей Бога самодостоверности
вытекал картезианский дуализм, а именно убеждение, что дух и
тело — субстанции, и притом совершенно противоположные друг
другу; отсюда следует независимость духовной природы от
телесной. Против этого пункта направлены возражения всех
противников, несмотря на все их расхождения в остальном: теологи и
сенсуалисты оспаривают это учение сообща, их доводы тождественны,
их мотивы противоположны.
Сенсуалисты высказываются за зависимость духа от телесной
природы, так как имеют в виду независимость и господство
последней; теологи высказываются против свободы и независимости духа,
так как для них все основано на полнейшей зависимости человека.
Слабости телесной природы в достаточной степени очевидны. Если
наша духовная природа связана с телесной и зависит от нее, то
слабость и бессилие человека доказаны настолько, насколько это
нужно теологической системе. Своим участием в телесной природе
(конечные) духи отличаются от Бога; по мнению отцов церкви и
платоников, даже духи высшего порядка являются телесными;
Латеранский собор потому и разрешил рисовать ангелов.
С тем меньшим правом может человеческий дух вообразить
себе, что он независим от тела. Из различия обеих субстанций,
если бы даже оно было вполне доказано, еще не вытекает
бессмертие души; она может по существу своему быть бестелесной, но
божественное всемогущество может разрушить ее. Кроме того,
подобное заключение доказывает больше, чем хочет доказать; в
таком случае и души животных, также отличные от тела, должны
быть бессмертны, что никому не придет в голову утверждать.
Декарт, конечно, отрицает, что животные одушевлены, и считает их
' Oeuvres I, Obj. И, pg. 494-495; Oeuvres U, Obj. V, pg. 186-192.
440
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
только машинами, но это воззрение настолько противоречит опыту,
что едва ли кого-нибудь убедит*.
Между тем, как находит Арно, и доказательство, уясняющее
противоположность между телом и духом, неверно. То, что может
быть мыслимо без понятия другого существа, должно быть
способно существовать без его бытия, следовательно, быть независимым
от него; таково отношение понятия духа к понятию тела и
наоборот. Это заключение от идеи к бытию веши неправильно, ибо оно
доказывает слишком много. Я могу представить себе
прямоугольный треугольник и без знания теоремы Пифагора, длину без
ширины, ширину без глубины: однако нет ни одного прямоугольного
треугольника без свойств, доказанных Пифагором, и в
действительности нет одного измерения без других.
Что мы можем ясно и отчетливо представить понятие духа
без понятия тела, не есть поэтому доказательство бестелесного
существования духа. Противоположность субстанций не может
быть также выводима из противоположности атрибутов (мышления
и протяжения), понятия которых необходимо должны быть
разделяемы. Что применимо к мышлению, то поэтому еще не
применимо к духу, иначе существо духа нужно было бы отождествить с
сознательной деятельностью мышления и объявить невозможными
все неясные и бессознательные духовные состояния, каковы
состояния эмбриональной жизни, сна и т. д. Опыт учит, что наша
душевная жизнь находится под влиянием телесных состояний, что наше
духовное развитие идет рука об руку с телесным и здоровая
духовная деятельность прерывается вследствие физических причин. В
детстве дух дремлет, у безумного он погашен. Факты этого рода
свидетельствуют против чисто духовной природы человека, и не
нужно быть материалистом, чтобы считать их заслуживающими
внимания**.
Нет необходимости вдаваться в дальнейшие подробности того,
как на основании этих и подобных им фактов сенсуалисты
утверждают полнейшую зависимость духовной природы от телесной,
' Oeuvres I, Obi. II, pg. 403-409; Oeuvres II, Obj. IV, pg. 15-16;
Obj. VI, pg. 319-320;.
" Ibid., Obj. IV, pg. 11-15, 30.
441
Куно Фишер
отвергают картезианский дуализм и допускают между человеком и
животным различие только в степени.
П. ОТВЕТЫ
Так как мы уже имели в виду ответы Декарта на сделанные
ему возражения и воспользовались ими при изложении его
системы, то не следует ожидать, что теперь мы узнаем что-нибудь новое
относительно содержания и значения этого учения. Да и философ
в большинстве случаев не мог делать ничего другого, как
возвращаться, давая ответ на возражения, к своим «Размышлениям», а
так как ввиду зрелости и продуманности сочинения он не находил
нигде нужным исправлять его, то объяснения, даваемые им, были,
в сущности, ссылками на уже сказанное или повторениями
сказанного. Для избежания повторений мы здесь будем говорить короче,
чем при изложении возражений, и укажем только на те
кардинальные пункты, которые хотя и неповинны в основных
недоразумениях, но вызывали их постоянно.
Все эти недоразумения относятся к принципу достоверности:
его совершенно не понимают, когда рассматривают как силлогизм,
дают ему материалистическое истолкование, сенсуалистическое
обоснование и пытаются его скептически отрицать. Так как во всех
этих пунктах, а именно в трех последних, недоразумения, как они
ни грубы, все же на первый взгляд имеют в себе нечто, что легко
может ввести в обман, то послушаем, как защищает Декарт
непосредственную достоверность своего принципа, первым и
непосредственным объектом которого является только наше духовное
бытие, а основанием — только деятельность нашего мышления и
открытие которого исходит (не из недостоверности, а) из
достоверности сомнения.
1. Против возражения
силлогистического обоснования
Принцип всего учения состоит в нашей уверенности в Боге и
самодостоверности, в самодостоверности, просветленной идеей
442
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
Бога, или, если предпочтительнее такая формулировка, в
доказательствах нашего духовного бытия и бытия Бога. Мы показали, как
тесно и непосредственно связаны эти убеждения и как они
выясняют один и тот же предмет с различных сторон. Поэтому-то что
относится к одному, то сохраняет силу и по отношению к другому:
оба достоверны либо непосредственно, либо опосредованно; в
последнем случае они обоснованы силлогистически, т. е. они
остаются недоказанными и потому не имеют силы. Если понимать
картезианское доказательство бытия Бога, в особенности в его
онтологической форме, силлогистически, то оно уподобится
схоластическому доказательству и заслужит те нарекания, которые последнее по
справедливости вызывает.
Такое недоразумение разъясняет Декарт в своем ответе на
возражения Катеруса, указывая, чем его онтологический аргумент
отличается от томистского (он должен был бы сказать «от ансель-
мовского): его доказательство есть не умозаключение, а
непосредственная достоверность, ибо в идее Бога его существование
познается ясно и отчетливо без опосредствования. То же самое
относится и к принципу самодостоверности, также не выводимому путем
силлогизма или через промежуточные члены, а явствующему
непосредственно, или интуитивно. Это последнее объяснение Декарт
дает в своем ответе на второе возражение: « Если кто-нибудь
говорит: *Я мыслю, следовательно, я есмь, или существую», то он не
выводит бытия из мышления с помощью силлогизма, а познает его
как нечто непосредственно известное, при помощи простого
самосозерцания духа»*. Кто вник в учение Декарта, тому только что
упомянутые недоразумения покажутся не только неразумными, но
даже смешными. Картезианская самодостоверность основывается
не на том или другом положении, а на сознании нашего
собственного интеллектуального несовершенства, которое должно было
получить свет от идеи интеллектуального совершенства; эта идея,
так как она предшествует нашему сознанию и обосновывает его, с
необходимостью не зависит от него и имеет характер изначально-
сти, т. е. она не только идея, но и Бог. Если я впал в заблуждение
относительно самого себя и всего, что я себе воображаю, и в то же
время объясняю с полным убеждением это мое состояние полней-
Oeuvres I, Rép. aux Obj. I, pg. 318-385; Rép. aux Obj. П, pg. 427.
443
Куно Фишер
шей неуверенности, то разве можно думать, что придет кто-нибудь,
кто пожелает узнать, на каком силлогизме зиждется это мое
убеждение. Тот, кто это делает, не понимает, о чем я говорю; он не
знает ни той неуверенности, в которой я нахожусь, ни, тем более, той
непоколебимой уверенности, которой я обладаю. В таком
положении полнейшего непонимания находятся приведенные выше
возражения по отношению к учению Декарта.
2. Против материалистических
и сенсуалистических возражений
Из принципа достоверности, источник и глубина которого
остались для него совершенно недоступными, Гоббс вывел
материализм. Если я мыслящее существо, то я отличаюсь от мышления,
как субъект от своих свойств или поступков, я, стало быть,
отличное от мышления существо, т. е. тело, которое мыслит: поэтому
мышление есть телесная деятельность, или вид движения. Что
дело обстоит именно так, свидетельствуют факты опыта,
доказывающие всюду, что так называемая духовная жизнь зависит от
состояний, впечатлений и процессов телесной природы, что,
следовательно, она есть не что иное, как явление и действие последней.
К этим в высшей степени поверхностным и грубо
софистическим возражениям, недостойным Гоббса, Декарт отнесся без
всякой серьезности и с тем пренебрежением, какого они
заслуживали. Нет ничего легче, как соединить любую пару вещей в
отношении субъекта и предиката и объяснять, что первый должен быть
отличен от последнего; затем перевернуть предложение и доказать
противоположное: таким образом можно сделать небо землей, а
землю небом, дух телом и тело духом. Такой способ доказательства
не имеет никакого основания; он противоречит всякой здоровой
логике и даже обычному словоупотреблению".
Гассенди желал лишить значения принцип достоверности в
Декартовом смысле тем возражением, что он может быть
обоснован также и сенсуалистически: то, что мы существуем, явствует не
только из нашего мышления, но точно так же из любой деятель-
" Ibid., Rép. aux Obj. III, pg. 472^474, 476-478.
444
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
ности другого характера. С таким же правом, как «cogito ergo
sum», можно выставить: «ambulo ergo sum»262, положение «я иду
гулять, следовательно, я существую» было бы столь же
достоверным, как и положение Декарта «я мыслю, следовательно,
существую». Декарт сам пользуется этим примером, чтобы пояснить
соображение Гассенди. Из всех возражений это возражение имеет для
обычного сознания наибольшую кажущуюся справедливость, и
если это так в действительности, то картезианский принцип
достоверности рушится.
Из каждой деятельности, которую я представляю, следует
несомненно положение: я есмь. Более подробные определения
деятельности при этом являются совершенно побочным
обстоятельством и не имеют значения; самое главное и единственное
основание, из которого проистекает эта достоверность, — то, что я
представляю эту деятельность. Представлять деятельность или
сознавать ее значит мыслить. Из всякой деятельности, поскольку я
представляю или мыслю ее, следует, что я существую. Если я ее не
представляю, то для моего сознания ничего и не вытекает. Гуляние
есть состояние движения человеческого тела; из него не следует,
что я существую; только когда я представляю это тело и его
состояние движения как мое тело, получает силу предложение «Я
гуляю». Возможно, что это движение имеет место не в
действительности, а только в моем воображении или во сне, возможно, что я
прогуливаюсь не на самом деле, но невозможно, чтобы я,
имеющий такое представление, не существовал. Поэтому достоверность
моего собственного бытия следует не из моего движения, а только
из моего представления, т. е. из моего мышления.
Решительно все равно, что я представляю, — является ли
объектом мое собственное гуляние или гуляние другого, оно может
быть в обоих случаях воображаемым; но что я представляю, это
достоверно, и из этого только вытекает достоверность моего бытия.
Поэтому положение «я мыслю, следовательно, я существую» имеет
неоспоримое значение. По отношению к этому положению
Гассенди находился в двойном заблуждении: он не видел того, что
помимо представления и моего сознания не существует деятельности,
которую я мог бы назвать своей; еще менее видел он, что и
деятельность всякого другого, равно как любой объект, может быть
445
Куно Фишер
тем, из представления чего во мне непосредственно явствует
достоверность моего бытия; что, следовательно, во всех случаях мое
представление или мышление составляет единственное ее
основание .
3. Против возражения
о нигилистическом сомнении
Положение самодостоверности подвергалось троякому
нападению. Одни считали его выведенным и потому недоказанным, Гоббс
признал его, но только по отношению к нашему телесному бытию,
точно так же признал его и Гассенди, однако на основании не
только нашего мышления, но и всякой иной, все равно какой,
деятельности, лишь бы она была нашей. Все эти возражения
против фундамента учения несостоятельны. Остается еще Бурден,
объявляющий принцип достоверности совершенно не имеющим
значения и невозможным, так как он обусловлен сомнением.
Мы уже познакомились с тем дешевым диалектическим
искусством, которым автор седьмого возражения хотел привести
учение Декарта ad absurdum, пытался ставить ему на каждом шагу
препоны и в конце концов вывести из него в качестве логического
результата положение о том, что вообще ничего не существует.
Оставим без внимания его схоластические дурачества и козлиные
прыжки и схватимся, так сказать, за рога, которыми этот любитель
спорить пытался забодать и опрокинуть новое учение и особенно
метод Декарта. Мнимая сила всей его полемики заключается в
положении: тот, кто сомневается в реальности всех вещей, должен
утверждать их нереальность. Или, говоря по-бурденовски: если все
вещи сомнительны, то в действительности не существует ничего. В
основании этой формулы лежат два недоразумения, которые по
отношению к учению Декарта следует назвать грубым
непониманием. «Сомнительное» противник считает 1) тождественным
«недействительному» и 2) состоянием самих вещей! Поэтому в его уме
картезианское положение: «Я сомневаюсь во всем» превращается в
положение: «Нет вообще действительных вещей».
Oeuvres II, Rep. aux Obj. V, pg. 247-248.
446
Первое критическое испытание. Возражения и ответы
Быть сомнительным, поскольку дело касается объекта, значит:
можем быть, не существовать. Если мы сомневаемся в объекте
или в реальности веши, то мы их не отрицаем, но оставляем
открытым вопрос, существует ли вещь или нет, так ли она
существует или иначе. Быть сомнительным не есть предикат, подобающий
объекту таким же образом, как, например, телу притяжение,
движение и покой. Если нечто сомнительно, то это значит, что оно
для меня сомнительно, я сомневаюсь или я не уверен, существует
ли вещь или нет, так ли она существует или иначе.
Поэтому сомнительность есть состояние не вещей, а лишь
нашего мышления, состояние нашей неуверенности;
противоположностью ее является наша уверенность, существующая либо
только в нашем воображении, либо в действительности: в первом
случае она самообман, во втором — познание. Путь к истине идет
не через наш самообман, а через наше познание его, т. е. через
сомнение в нашей мнимой или воображаемой уверенности. Этим
путем шел Декарт, в этом состояло его сомнение и его метод.
Или нужно отрицать, что мы находимся в состоянии
самообмана, что было бы вершиной самоослепления, или нужно
постигнуть это состояние, усомниться в себе и напасть на то самое
сомнение, которое испытал и выразил Декарт. Такое сомнение есть
единственное средство против самообмана и потому неизбежно;
оно так же старо, как и опыт, говорящий, что мы находимся в
состоянии заблуждения, и оно всегда появляется вновь, как только
повторяется такой опыт, что происходит со всяким желающим
истины человеком. Поэтому-то возражение Гоббса, что сомнение
не есть современное изобретение, не произвело на нашего
философа ни малейшего впечатления. Ново оно или не ново, возразил
он, но сомнение необходимо, ибо я хочу истины .
Менее всего удалось Бурдену с его наглым самодовольством
постигнуть серьезность и глубину картезианского сомнения. Ничто
не вытекает из этого сомнения с такой ясностью и очевидностью,
как принцип самодостоверности, ибо он уже заключается в нем.
Здесь не говорится, что вещи недействительны или не существуют,
а говорится, что их существование и качества недостоверны и
сомнительны. Не говорится, что вещи сомнительны или недостовер-
Oeuvres I, Rép. aux Obj. Ш, pg. 467.
447
Куно Фишер
ны, а говорится, что я — таков, я не уверен, и притом во всем.
Из положения: «Я не уверен* следует непосредственно положение:
«Я если», потому что оно заключается в нем*.
Необходимость сомнения, принцип самодостоверности,
обоснование последнего нашим сомнением или мышлением,
единственное и непосредственное значение этого основания, а потому
и принципиальная достоверность нашего духовного
существования — эти основы учения Декарта твердо и незыблемо
противостоят возражениям; они были оспариваемы всеми, но не разрушены
никем.
Oeuvres II, Obj. Vu. Remarques de Descartes, pg. 385-387, 405-
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ЭПИЛОГ К ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ
Устные возражения и ответы
Семь лет протекло со времени появления «Размышлений»
вместе с возражениями и ответами философа, когда ему во время
его пребывания в Эгмонде близ Алькмаара пришлось пережить
маленький устный финал великих дебатов, который вслед за тем
был распространен в рукописи и которому только два с половиной
столетия спустя суждено было стать известным потомству через
юбилейное издание.
Двадцатилетний студент-теолог Франц Бурман из Лейдена, сын
хорошо знакомого, а может быть, и дружественного философу
пастора, сам впоследствии пастор в Лейдене, а затем профессор
теологии в Утрехте, автор множества теологических сочинений,
посетил Декарта весной 1648 года в Эгмонде и 16 апреля вел с
ним за столом философскую беседу на латинском языке, которую
он через несколько дней (20 апреля) сообщил шестью годами
старшему его картезианскому философу Иоганну Клаубергу в
Амстердаме и вместе с ним записал в форме возражений и ответов («ОЬ-
jectiones» и «Responsiones»), расположив их таким образом, что
спорные пункты были заимствованы из трех главных сочинений
Декарта («Размышлений», «Принципов» и «Discours») и
сопровождались цитатами из них.
449
Куно Фишер
С клауберговского списка была сделана копия в Дордрехте 13
и 14 июля, но мы не знаем, кем и в каком году. Эта дордрехтская
копия неизвестно каким образом оказалась во владении профессора
Крузиуса и из его библиотеки попала в университетскую
библиотеку Геттингена (1751?), где она вместе с пятью другими рукописями
филологического содержания сохранялась в одной папке и в
каталоге значилась как «очень важная и неизвестная».
Как только издатели находящегося в стадии проекта издания
полного собрания сочинений Декарта узнали об этой рукописи,
они постарались добиться возможности издать ее. Библиотека
университета в Геттингене предоставила в октябре 1895 года
университетской библиотеке Дижона на три месяца трудночитаемую и
переполненную сокращениями рукопись; она была разобрана и
издана сначала в виде манускрипта в Дижоне, откуда мне любезно
прислали этот манускрипт. Г. Шарль Адам, как было уже
упомянуто, опубликует этот манускрипт в пятом томе своего юбилейного
издания".
Заглавие нынешней брошюры таково: «Manuscrit de Goettin-
gen. Descartes «Méditations», «Principes», «Méthode». Заглавие Бур-
ман-клаубергской рукописи было: «Responsiones Ranati Descartes ad
quasdam difficultates ex Meditationibus ejus etc. ab ipso haustae. Eg-
mondae. April 16, 1648»263. В конце стоит: «Amstelodami, April 20.
Anno 1648».
Заглавие дордрехтского списка: «Per Burmannum qui 20 aprilis
deinde communicavit Amstelodami cum Claubergio, ex cujus Manu-
scripto ipsemet descripsi. Dordraci: Ad 13 et 14 Iuli»264.
Если бы это сочинение было опубликовано в момент его
возникновения, то его философское значение не было бы оценено
высоко по сравнению с возражениями столь знаменитых людей,
как Арно, Гассенди и Гоббс, по сравнению с письменной,
предназначенной к опубликованию разработкой этих возражений и по
сравнению с продуманными, письменно переработанными и
предназначенными для опубликования ответами Декарта. Представьте
себе в сравнении с ними эту беседу за столом со студентом,
возражения и вопросы которого характеризуют начинающего,
выискивающего и находящего трудности там, где их вовсе нет, и часто счи-
См.: кн. I, гл. IX, разд. III, 3.
450
Эпилог к предшествующей главе
тающего положения и изречения философа в его сочинениях
противоречивыми потому, что он их понимает неправильно, т. е. не
принимая во внимание их взаимосвязи. Теперь благодаря
огромному промежутку времени эти заметки сделались литературным uni-
cum'oM. Читая их, мы как бы являемся свидетелями философской
застольной беседы, которую Декарт вел в год Вестфальского мира с
одним студентом из Лейдена.
1. Что всемогущее существо могло забросить нас в
призрачный мир и повергнуть в неискоренимое заблуждение, кажется
молодому теологу полным противоречий допущением, так как
всемогущество и злая воля (malignitas) несовместимы. Он
предпосылает всему правдивость Бога, которую философ сперва желает
обосновать достовернейшим из всех положений.
2. Принцип всякой достоверности, достоверность собственного
мыслящего бытия, Бурман считает невозможным положением, так
как невозможно одновременно и думать, и сознавать свое
мышление, одновременно представлять две веши (мыслимый предмет и
мышление). Это возражение Декарт опровергает фактом настоящей
застольной беседы, при которой он принужден представлять
одновременно как то, что он ест, так и то, что он говорит*265.
3. Так как мышление проявляется и протекает во времени (а
не в одно мгновение без всякой длительности), то оно должно
быть временным, следовательно, делимым, протяженным —
словом, должно обладать свойствами, противоречащими его существу.
То, что имеет значение по отношению к действиям и их
продолжительности, отвечает философ, неприменимо также и к существу
веши; в противном случае и Бог, существующий и продолжающий
пребывать во все времена, точно так же должен бы быть
безвременным, делимым и протяженным существом**.
4. Но так как два отличных акта мышления не могут иметь
места в одно и то же время, то они должны следовать один за
другим. Двумя такими различными актами являются: «я мыслю» и
«я знаю, что я мыслю». Первый предшествует второму, второй
следует за первым; стало быть, следует сказать не «я знаю, что я
«Exempli gratia jam ego concipio et cogito simul me loqui et me
edere». — Manuscrit de Goettingen, pg. 12, 15.
Ibid., pg. 12 и ел.
4SI
Куно Фишер
мыслю», а «я знаю, что я мыслил». Так полагает Бурман. Однако
можно даже без труда выполнять и представлять различные виды
деятельности в одно и то же время, как уже выяснилось из
настоящей беседы. Можно мыслить и вместе с тем рефлектировать свое
мышление, т. е. сознавать его. Так говорит Декарт .
5. Как протяжение относится к телу, так мышление
относится к духу; тело не может быть без протяжения, дух — без
мышления: следовательно, дух и душа должны постоянно мыслить, а
значит, и душа ребенка, что противоречит всяческому опыту. Так
говорит Бурман. Конечно, нужно согласиться с тем, что душа
постоянно мыслит, равным образом и душа ребенка, только
последняя находится в такой зависимости от телесных состояний, что ее
представления и стремления должны отличаться чувственным
характером. Но все представления и стремления суть виды или
модусы мышления. Мы имели много представлений, которых не
помним более, из чего вовсе не следует, что мы этих
представлений не имели. Так говорит Декарт**.
6. К нашим врожденным идеям относится и идея Бога, из
которой объясняется бытие, совершенство и правдивость Бога. В
нашем изложении картезианского доказательства бытия Бога мы
указали на различие антропологического и онтологического
характера доказательства: первое идет «ab affectu»266, второе «a priori».
В «Размышлениях» Декарт идет от антропологического
доказательства к онтологическому, в «Принципах» — наоборот. Совершенно
так же различает он и здесь, в своей беседе с Бурманом, по
отношению к доказательству существования Бога оба эти главных
сочинения и их методы. «Размышления» описывают путь исследования
и отыскания, «Принципы» — путь системы и изложения: первые
оперируют аналитически, последние — синтетически. «In Principiis
autem illud (argumentum a priori) praemisit, quia alia est via et ordo
inveniendi, alia docendi; in Principiis autem docet et synthetice
agit»"*287.
7. Однако как же возможно от сомнения в самих себе,
являющегося признанием нашего собственного несовершенства, добрать-
Manuscr., pg. 13.
Ibid., pg. 13, 14.
Ср.: кн. II, гл. IV, разд. I, 3 и Manuscr., pg. 17.
452
Эпилог к предшествующей главе
ся до познания бытия и совершенства Бога? Так одновременно и
возражает, и спрашивает молодой теолог. На это философ дает в
сжатом виде тот ответ, который мы развили как подлинное зерно и
глубочайшую сущность его учения о врожденной идее Бога. Места
из его сочинения о методе, на которые опирается это возражение,
уже содержат в себе экстракт (epitome) объяснений, данных им в
«Размышлениях». Там сказано implicite то, что развито здесь
explicite. Ибо если принимать дело explicite, то мы должны познавать
наше несовершенство раньше, чем совершенство Бога, ибо наше
внимание раньше направляется на нас самих, а потом уже на
Бога, и мы сознаем свою конечность прежде, чем бесконечность Бога;
однако implicite познание Бога и его совершенства должно всегда
предшествовать познанию нас самих и наших несовершенств. Ибо
что касается самого дела, то бесконечное совершенство Бога
предшествует нашему несовершенству, так как последнее состоит в
дефекте или недостатке совершенства и таким образом необходимо
предполагает его". Без нашей идеи Бога и его совершенств нет
идеи нашего собственного интеллектуального несовершенства, нет
сомнения в истинности всех наших представлений и познаний,
нет достоверности этого нашего сомнения, мышления, мыслящего
бытия: наша самодостоверность коренится в Богодостоверности,
наша идея Бога есть не просто идея, а действие Бога, как бы его
знак и монограмма в нас; из такого первенства божественной идеи
непосредственно явствует ее реальность; из «Deus cogitatur»
явствует *Deus est» столь же непосредственно, столь же ясно и
отчетливо, как из «cogito» — «sum»*".
8. Мы — создания Бога. Юному теологу неясно, почему из
того, что Бог — причина нашего бытия, должно вытекать наше
богоподобие. Ведь и архитектор является творцом здания, однако
не говорят, и нельзя говорить, о подобии между ним и его
созданием. Потому, отвечает Декарт, что и архитектор, и художник
вообще придают своему творению только форму, но отнюдь не
творят. Так как Бог созидает вещи из ничего, то он творит с
большим или меньшим совершенством по своему образу. И тела, такие
как, например, камень, тоже богоподобны, так как они вещи или
Manuscr., pg. 18.
Ср.: кн. П, гл. IV, разд. I, 3; Manuscr., pg. 18.
16 Куно Фишер АС1
Куно Фишер
субстанции, как и Бог; мы богоподобны, так как мы мыслящие и
самосознательные субстанции, как и он. Тела только приводятся в
движение Богом, духи же им просветляются".
Картезианское возражение опирается на томистское учение о
творении, по которому оно подчинено идее божественного
совершенства и детерминировано ею. «Я беру здесь, — говорит
Декарт, — слово «imago Dei» (образ Божий) не в узком и
обыкновенном смысле, в котором оно обозначает отражение или
изображение, а в более широком значении подобия, в каком оно
употребляется также Св. писанием»"*.
9. Напротив, Декарт проявляет себя крайним
антитомистом, отвечая на новый вопрос, находящийся в близкой связи с
только что разъясненным. Как обстоит дело с нашей идеей и
познанием ангелов, так как эта идея, очевидно, есть наше создание и
создана по идее нашего собственного духа и аналогии с ним?
Ангел и человек суть оба не что иное, как мыслящие существа: в чем
же их отличие друг от друга?
Отличие может состоять только в степени, отвечает Декарт;
но это различие по степени может быть столь велико, что,
пожалуй, является специфической разницей, и потому ангелы могут
быть иным видом, чем мы. Но об этом мы ничего не знаем, а
только должны в этом отношении верить тому, что рассказывает
Писание.
Святой Фома, конечно, претендовал на точное знание свойств
ангелов; он различал виды их и описал некоторые из них
настолько подробно, как будто сам находился среда них. Этим-то он и
приобрел себе имя и славный титул «Doctor Angelicus». Но как
святой муж нигде не проявил столько ревностности, так он нигде
не проявил и столько нелепости"". Я сомневаюсь, чтобы Декарт
включил это предложение в свои «Размышления» и посвятил
докторам Сорбонны.
Manuscr., pg. 21-22.
«Non sumo autem hit imaginem, ut vulgo sumitur, pro eo scilicet
quod ad aliud effigiatum est et depictum, sed latius pro eo quod simi-
htudinem cum alio etc. habet, et ideo eas voces adhibui in Medita-
tionibus, quia passim in Scriptura ad imaginem Dei conditi dici-
mur». — ibid., pg. 21.
«Sed ut nullibi fere magis occupatus, ita et nullibi ineptior est». —
Ibid., pg. 22-23.
454
Эпилог к предшествующей главе
10. Так как человеческий ум познает совершенство Бога, то
он и ничем, собственно, не отличается от божественного ума, хотя
последний объемлет большее количество предметов, чем первый.
Декарт не признает такого вывода, так как человеческий ум в
своей конечности и ограниченности пребывает всегда в темноте и
неведении*.
11. Не на уме, а на воле основывается наше богоподобие.
Воля неограниченна, как это может познать каждый из созерцания
нашей внутренней сущности, воля больше ума и потому более
подобна Богу**. Всякое непостоянство и колебание нашего воле-
ния проистекает из несовершенства наших суждений. Воление как
таковое всегда совершенно. Наша свобода воли, в которой нас не
превосходит ни одно существо, дает нам возможность либо
утверждать, либо отрицать суждение, во всяком случае, воздержаться от
согласия и этим предотвратить зло. Пусть себе теологи
рассказывают, что через грехопадение наша воля приобщилась к
испорченности. Он же мыслит как философ, и как таковой рассматривает
человека, каков тот от природы; он писал как философ и изложил
свое учение, которое не подчинено никакой религии, не вводит ни
одной из них в соблазн и потому может быть принято всюду, даже
у турок***.
Такое признание, как оно ни искренно, Декарт охотнее
сделал перед голландским студентом во время застольной беседы в Эг-
монде, чем в своем сочинении для докторов Сорбонны.
Ibid., pg. 24.
«In ео igitur major est voluntas intellectu et Deo similior». — Ibid.,
pg. 24.
Ibid., pg. 25.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ОБСУЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ. НЕРАЗРЕШЕННЫЕ
И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
I. ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Какова же сама система, покоящаяся на только что
изложенных основаниях, против которых делали такие возражения? Этот
вопрос ведет нас к последнему изысканию — к критике системы.
Те критические заметки, которые Декарт включил в свои
«Размышления», замечательны не только в историческом
отношении, но и до сих пор не потеряли своего значения для критики
системы; они показывают учение Декарта в том свете, в каком оно
должно рассматриваться и оцениваться. То, что и теологи, и
натуралисты нападают на принципы нашего философа, уже доказывает,
что его система не есть ни теологическая, ни натуралистическая в
том смысле, как это понимают противники. Они оспаривают с
противоположных точек зрения рационалистическое учение о
принципах, или метафизическое основание: естественный свет
ясного и отчетливого мышления кажется противникам-теологам
сомнительным по отношению к религиозному учению церкви,
сенсуалистам — по отношению к эмпирическому естествознанию;
первые не видят в нем сверхъестественного света откровения,
последние — естественного света чувств. Свет разума (la lumière
naturelle), за которым следовал Декарт, не нисходит с неба и не истека-
456
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
ет из чувств: теологам он кажется естественным и потому чем-то
чуждым религиозному характеру их созерцания, сенсуалистам,
напротив, неестественным и потому тоже чем-то чуждым
чувственному характеру их представлений; для первых новое учение слишком
натуралистично, для последних недостаточно натуралистично. С
одной стороны выражается опасение, что теология будет натурали-
зироваться и потому изменит церкви, с другой стороны боятся
того, что естествознание будет рационализироваться и потому начнет
чуждаться опыта.
Так объединяются против Декарта, несмотря на их взаимную
вражду, теологическое направление, идущее от Августина и
схоластики, и сенсуалистическое, у Гассенди имеющее исток в Эпикуре,
а у Гоббса — в Бэконе. В то же время каждая из этих двух точек
зрения находит в новом учении сторону, обращенную к ней, и
замечательно, что именно между Арно и Декартом нашлись пункты
соприкосновения, которые и тот, и другой ощущали как духовное
родство. Ни с одним из авторов возражений Декарт не чувствовал
такого близкого духовного родства, ничьему согласию с ним он не
придавал большего веса. Он хотел так соединить в своем учении
теологическую и натуралистическую системы, чтобы они могли
заключить союз, причем ни одна из них, в особенности же
теологическая, не потерпела бы ущерба. Верно также и то, что они
заключены в новой системе и связаны не только внешним и
искусственным образом, а в единстве продуманы философом. Тут
возникает вопрос: действительно ли в учении Декарта соединяются и
сливаются эти направления, вне его противоречащие друг другу и,
напротив, сходящиеся в полемике с ним?
Нельзя правильно и по существу дела обсудить систему,
применяя к ней масштаб чужих воззрений и определяя по нему ее
приемлемость и достоинство: примером такой субъективной
оценки служат возражения, с которыми мы познакомились. Всякая
продуманная система — в том виде, как она исходит из духа
великого философа — есть в своем роде целое, которое должно быть
исследуемо и оцениваемо как таковое. Нужно поэтому исследовать,
справилась ли она на деле с задачей, которая составляла ее
основную мысль. Как необходима задача, так необходимы должны быть
и условия, без которых невозможно ее решение: такими условия-
457
Куно Фишер
ми являются принципы системы; в полном и последовательном
развитии их состоит решение задачи.
Исследовать систему по существу значит поэтому сравнить ее
решение с ее задачей, ее результаты с ее принципами, ее выводы с
ее основаниями и посмотреть, достигнуто ли то, к достижению
чего она стремилась. Положим, что учение какого-либо философа
законченно и не имеет недостатков, — тогда ничего не остается,
как признать и распространять его, как и делают приверженцы,
считающие сочинение учителя совершенным. Познание
недостатков — дело подробной и развивающейся критики, которая сначала
не оспаривает ни правильности выводов, ни правильности
принципов, а только исследует, все ли выводы, которые могли быть
сделаны из принципов, сделаны в действительности. Если они не
сделаны, то систему надлежит еще пополнить и закончить: в этом
состоит усовершенствование ее, составляющее подлинное и
первое дело школы.
Второе исследование проникает глубже: оно касается
правильности выводов, согласованности следствий с основаниями, приме
нения принципов, значение которых неоспоримо, — короче, оно
касается правильности решения. Если в этом пункте найдутся
недостатки, то необходимо изменить систему в отношении выводов
и исправить ее таким образом, чтобы последние не находились в
противоречии, а вполне согласовались с принципами. В этом
заключается развитие учения: такова работа прогрессирующей
школы..
Вместе с полнотой и правильностью системы в только что
объясненном смысле достигается то, что может быть достигнуто в
пределах данных, еще твердых принципов. -Если, несмотря на это,
задача не разрешена, то причина этого заключается в принципах и
несоответствии между данной задачей и данными принципами, в
недостаточной формулировке последних. Ясно, что познанные в
системе и признанные проблемы не могут быть разрешены при
наличии ее основоположений. К такому убеждению ведет третье,
проникающее в суть дела исследование; оно не касается уже
полноты и правильности выводов, а касается только полноты и
правильности принципов; оно, собственно, и производит ту
критическую проверку, из которой становится ясным, верен ли счет или
458
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
нет. Ошибки в выводах имеют второстепенное значение; ошибки в
основаниях, напротив, первостепенное. Если счет неверен, то в
системе открываются первостепенные недостатки; тогда нужно
изменить принципы, исправить и привести в соответствие с
поставленной задачей: в этом состоит преобразование системы,
которое выходит за границы школы в узком смысле.
Но и в преобразовании различаются свои ступени, на
важнейшие из которых мы сейчас укажем. На первой ступени,
составляющей начало, руководящие принципы преобразовываются по
частям, чтобы они соответствовали своей задаче. Этим
достигаются пределы развития школы, и еще вопрос, достигла ли прогресса
школа или нет. Но если, несмотря на эти изменения в основаниях
системы, задача все-таки не разрешается, то нужно подняться на
вторую ступень и заняться полным преобразованием принципов; в
этом случае уже нет сомнения, что старая школа совершенно
оставлена. Если преследуемая цель на новом пути все еще не
достигнута, то очевидно, что недостаток, т. е. как бы ошибки вычисления,
следует искать не только в формулировке принципов, но и в самой
задаче, в постановке последней — так сказать, в данных
вычисления. Тогда должно сделать задачу разрешимой через изменение
основного вопроса, через исправление всей проблемы: такое
преобразование есть переворот или эпоха.
Таким образом, дельная и правильно развивающаяся критика
великой и составившей эпоху системы состоит в тех выводах,
которые вытекают из системы, рассматривают ее направление,
развивают, совершенствуют и, наконец, преобразовывают ее. В то время
как задача в ее дальнейшей формулировке еще остается
неизмененной, принципы сначала по частям, затем полностью
подвергаются преобразованию; наконец изменяется и сама задача,
ниспровергается господство всей прежней философии и создается новая
эпоха. С такой критикой по существу дела, идущей вперед от
вопроса к вопросу, как мы видим, совпадает ход исторического
развития самой философии.
Учение Декарта есть такая великая, составившая эпоху
система, по отношению к которой можно указать все ступени критики
и исторического развития. Мы говорим о них здесь только для
примера, так как они будут рассмотрены впоследствии. Так огне
459
Куно Фишер
елись к картезианской системе: разрабатывая ее — первые
ученики, Ренери и Региус, последний в начале своей деятельности;
развивая ее — Гейлинкс и Мальбранш; преобразовывая ее отчасти —
Спиноза; совершенно преобразовывая ее — Лейбниц;
ниспровергая ее и создавая новую эпоху — Кант.
П. ГЛАВНЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
При свете разума, или ясного, отчетливого мышления, Декарт
познал реальность Бога, как и реальность духов и тел, зависимость
этих последних от Бога, как и их независимость друг от друга. «В
том именно и состоит существо субстанций, что они исключают
друг друга». Бог — бесконечная субстанция, духи и тела —
конечные; духи — мыслящие субстанции, тела — протяженные. В
нашей системе, следовательно, существует двойной и
принципиальный дуализм: 1) противоположность между Богом и миром и 2) в
пределах мира противоположность между духами и телами, из
которой необходимо следует противоположность между человеком
и животным.
Это учение утверждает субстанциальность Бога в отличие от
мира, субстанциальность мира в отличие от Бога: в первом
утверждении выражается теологический характер системы, во
втором — натуралистический. То, что Бог в учении Декарта имеет
значение всемогущей воли, проливающей свет на духов,
двигающей тела, творящей все веши и сохраняющей их, вызывало
одобрение теологов, между тем как естественный свет разума и
становящаяся ясной благодаря ему субстанциальность вещей сделались
предметом их подозрений. Природа вещей распалась на
противоположности: на духов и тела. Если бы данная система считала только
природу вещей действительной, то она была бы исключительно
натуралистической; она была бы материалистической, если бы
утверждала субстанциальность только телесной природы. Однако
она ограничивает натурализм тем значением, которое придает
понятию Бога, так как она ставит вещи в зависимость от
божественной воли; но она ограничивает и материализм тем значением,
которое придает понятию духа, противопоставляя его материи и
460
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
объясняя его независимо от нее. Поэтому материалисты здесь
чувствуют себя стесненными и отбитыми с двух сторон; они согласны
с учением Декарта лишь в том, что субстанциальность материи
все-таки утверждается и телесный мир объясняется чисто
механически.
Из того же самого принципа, в котором лежит центр тяжести
всей системы, разрешается его двойной дуализм. Он приходит
через сомнение к самодостоверности и через нее к познанию Бога
и тел. Из нашей самодостоверности непосредственно следует
самостоятельность и субстанциальность духа, его отличие по существу
от Бога и тел, следовательно, противоположность как между
конечной и бесконечной, так и между мыслящей и протяженной
сущностью. Дуалистический характер системы вызывается принципом,
а потому является принципиальным. Теперь предстоит исследовать,
согласуются ли эти дуалистические принципы с задачей,
согласуются ли все последующие положения с этими принципами, т. е.
нет ли в системе чего-то такого, что противоречит дуализму Бога и
мира, духа и тела, человека и животного? Все эти вопросы
относятся к главным критическим пунктам.
1. Дуалистическая система познания
Так как, согласно объяснению Декарта, субстанции
исключают друг друга и не зависят друг от друга, то между ними нет ни
взаимной, ни односторонней зависимости, ни взаимодействия, ни
причинности, следовательно, никакого общения и связи. Задача
познания требует полной взаимосвязи вещей, а дуализм
устанавливает разделение, поэтому он противоречит задаче, подлежащей его
решению, т. е. дуалистическая система познания оказывается в
противоречии сама с собой. Метод Декарта должен был (его
собственный образ) служить нитью Ариадны, путеводной нитью,
выводящей шаг за шагом познание на постоянный и верный путь из
лабиринта вещей. Но пропасть дуализма разверзается более чем в
одном месте и преграждает путь познанию. Отсюда явствует, что
учение Декарта, руководствуясь принятыми им принципами, не
может решить своей задачи познания, что последняя обнимает
большую сферу, чем система.
461
Куно Фишер
2. Дуализм Бога и мира
Если бы Бог на самом деле был изолирован и так отделен от
вещей, как этого требует понятие субстанции и дуалистическое
учение, то между ним и вещами не могло бы быть никакой
зависимости: тогда не существовало бы ни возможности божественной
идеи в духах, ни движения и покоя в телах; духи не могли бы
просветляться Богом, тела не могли бы приводиться им в движение.
Наша идея Бога, по собственному и необходимому объяснению
философа, есть действие Бога, его проявление, бытие в нас. Точно
так же первоначальное состояние движения и покоя в телесном
мире считается им действием божественной воли. Следовательно,
духи и тела, т. е. конечные вещи вообще, зависят от Бога, а
потому они не субстанции в собственном значении слова.
Декарт.сам говорит это. Субстанциальность Бога одно,
субстанциальность вещей — другое; в точном смысле признается
только первая, но не вторая. По отношению к Богу вещи не суть
субстанции. Без Бога духи обретаются во мраке, без света, так что они
не видят даже своего несовершенства, ибо только идея
совершенного освещает несовершенное; без идеи Бога (т. е. без Бога) нет в
духах сомнения, следовательно, нет и самодостоверности, из
которой единственно явствует наша субстанциальность; без Бога у тел
нет ни движения, ни покоя: поэтому без него как духи, так и тела,
следовательно, конечные веши вообще все равно что ничто. Они
не только зависят от Бога, но и существуют только через него: они
результат его действия, он их причина. Чем сильнее
подчеркивается значение субстанциальности Бога, тем менее имеет значения
субстанциальность вещей, тем призрачнее становится
самостоятельность мира.
В конце концов мир теряет ее совершенно. Абсолютной
независимости Бога отвечает только абсолютная зависимость и
ничтожность вещей: они суть создания Бога, понятие субстанции
превращается в понятие творения. Чтобы одновременно выразить и то, и
другое, Декарт называет веши ^созданными субстанциями*, чем
противоречие, конечно, не разрешается, также не приглушается, а
лишь провозглашается открыто. Понятие созданной субстанции
есть condractio in adjecto268, так как под субстанцией, по собствен-
462
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
ному признанию философа, следует понимать вещь, не
нуждающуюся для своего бытия в бытии другого, между тем слово
«творение» обозначает существо, не могущее ни быть, ни мыслиться без
воли Бога. И не только для начала своего существования, но также
для продолжения его вещи нуждаются в воле и творческой силе
Бога. Так как они существуют не сами по себе, то не могут и
поддерживать себя собственной силой: поэтому Декарт вместе с
Августином называет развитие мира продолжающимся творением (сгеа-
tio continua). Конечные субстанции, таким образом, зависимы и
несамостоятельны не в одном каком-либо отношении, а во всяком;
строго говоря, нет уже трех субстанций, а существует лишь одна:
Бог есть единственная субстанция. Сам Декарт делает такой
вывод, противоречащий дуалистической системе познания: «Под
субстанцией следует понимать только существо, не нуждающееся для
своего бытия в бытии другого; эта независимость может относиться
только к единственному существу, а именно к Богу, все остальные
вещи, само собой разумеется, могут существовать только благодаря
содействию Бога. Нет такого значения слова «субстанция», которое
могло бы относиться и к Богу, и к творениям вместе»*269.
Вот тот пункт, где решается критический вопрос: соединены
ли в учении Декарта теологическая и натуралистическая системы
так, что каждая из них имеет свои права? На вопрос этот следует,
на первый взгляд, ответить отрицательно. Субстанциальность
вещей (мира) не может уже устоять перед субстанциальностью Бога;
на стороне последней оказывается не только перевес, но вся сила,
и конечные субстанции теряют в сравнении с бесконечной в конце
концов всякую самостоятельность. Место природы занимает
понятие творения, продолжающегося творения, не оставляющего вещам
никакой самостоятельности: таким образом, по-видимому, в учении
Декарта теологический элемент достигает такого исключительно
преобладающего значения, что тут августинианство одерживает
победу над натурализмом.
Однако нас не должна обманывать эта видимость. В
действительности Бог Августина очень не похож на Бога нашего
философа. Основание познания августиновского Бога иного рода, чем
познание картезианского: Бог Августина явствует из факта искуп-
Oeuvres III, Princ, I, § 51.
463
Куно Фишер
ления, Бог Декарта — из факта человеческой самодостоверности.
Бог Августина избирает одних для блаженства, других для
осуждения, одних он просветляет, других поражает ослеплением, он
спасает кого хочет и милует кого хочет; он абсолютное всемогущество
и безосновный произвол*.
Напротив, в учении Декарта Бог имеет значение причины
(реального основания) нашей самодостоверности, составляющей
принцип познания, путеводной нитью которого является ясное и
отчетливое мышление; такое мышление есть естественный свет в
нас, никогда нас не обманывающий; источником его является Бог
поэтому для такого Бога обман невозможен. Если бы такой обман
мог иметь место, то человеческое познание было бы невозможно
и были бы разрушены основы, на которых твердо стоит учение
Декарта.
Обратим внимание на этот пункт. Существует нечто, что, по
учению нашего философа, невозможно для божественной воли и
потому ограничивает божественный произвол значительным
образом: невозможно в Боге то, что превратило бы наше познание в
ничто, а естественный свет в ложный. Декарт ясно говорит:
«Первое свойство Бога состоит в том, что он абсолютно правдив и
есть податель всяческого света. Неразумно поэтому думать, что
он может нас обмануть или быть в подлинном и позитивном
смысле причиной заблуждений, которым мы, как показывает опыт,
подвержены. Иметь возможность обманывать могло бы означать
у нас, людей, признак ума, хотеть обманывать есть всегда
несомненное следствие злобы, боязни или слабости и потому не может
относиться к Богу»**270.
Человеческое познание возможно только в том случае, если
обман человека со стороны Бога невозможен. Чем менее Бог хочет
нашего заблуждения и имеет право его хотеть, тем менее имеет он
право действовать незаконно и произвольно, а может только
поступать, сообразуясь с закономерной необходимостью, тождественной
его существу и воле. Если бы он был безосновным произволом, как
является абсолютным всемогуществом, то почему он не имел бы
права хотеть человеческого обмана по своему неисповедимому ре-
См.: Введение, гл. Ш.
" Princ, I, § 29.
464
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
шению, и что бы нам гарантировало, что он этого никогда не
пожелает? Как могли бы мы так познать непостижимую волю Бога,
что уразумели с полной достоверностью, что одного он не может
никогда желать, а именно нашего обмана? Кроме того, мы вместе с
тем видим, чего он постоянно хочет, — именно нашего познания.
Из этого следует, что божественная воля для нас познаваема,
чего не могло бы быть, если бы она была безосновным произволом;
она не такова, ибо не может в такой же степени желать нашего
заблуждения, как нашего познания, а желает лишь последнего;
поэтому-она не индифферентна, а постоянно освещена
отчетливейшим уразумением. Божественная воля не отличается от
божественного света: естественный свет, так как он не ложен, тождествен
божественному. Чем же отличается еще сущность Бога от
сущности природы? В одном из замечательнейших своих положений
Декарт говорит: «Достоверно, что во всем, чему нас учит природа,
должна заключаться истина. Ибо под природой вообще я разумею
только либо самого Бога, либо установленный Богом
миропорядок, а под моей собственной природой в частности — только
совокупность данных мне Богом сил»*271.
Мы теперь видим, как обстоит дело с единственной
субстанциальностью Бога в учении Декарта. Чем больше
натуралистический элемент отступает и исчезает перед теологическим, тем
больше самостоятельность вещей растворяется в самостоятельности
Бога, тем больше в теологическом элементе появляется вновь
натуралистического, тем более картезианский Бог перестает быть
сверхъестественным существом, тем более натурализируется это
понятие Бога и отдаляется от августиновского, превращаясь даже в его
полную противоположность. Из дуалистической формулы — «Бог
и природа» — вырастает уже монистическая: «Бог или природа
(Deus sive natura)». Декарт только касается ее, Спиноза же дает ей
преобладающее значение. По видимости приближаясь к Августину,
Декарт на самом деле приближается к Спинозе; он идет ему
навстречу и заходит так далеко, что уже выражает формулу,
заключающую в себе спинозизм.
Чувствуя себя по своим личным склонностям влекомым к
отцу церкви и к настроенному на августиновский лад теологу и
* Oeuvres I, Méd. VI, pg. 335.
465
Куно Фишер
радуясь тому, что в его учении замечают согласование с августини-
анством, Декарт подготавливает духом своего учения такое
направление, которое завершает натурализм и противопоставляет его в
самой резкой форме теологической системе. Судьбы философии
важнее, чем лица, являющиеся ее носителями и орудиями. Декарт
стоит на пути, ведущем к Спинозе, думая между тем, что он
обосновал религиозное учение церкви глубже, и призывая докторов
Сорбонны в свидетели того, что его работа благотворна для церкви.
Он охвачен силами, о которых говорится: nolentem trahunt!272
Основное направление его системы, проникающее насквозь и
подчиняющее себе теологическую систему, есть направление
натуралистическое.
Однако в учении Декарта понятие Бога как единственной
субстанции еще отнюдь не получает преобладающего значения.
Дуализм обороняется против монизма. В природе вещей остается
еще нечто, принадлежащее им одним и составляющее их
неприкосновенную основную сущность. Бог движет тела, которые сами
по себе лишь подвижны, ибо они только протяженны. Но
протяженность, или материя, по собственному объяснению Декарта, не
может быть выведена из нематериального. Так как Бог
нематериален, то материя не может проистекать от Бога; таким образом, это
противоречит ясному и отчетливому мышлению, а следовательно,
и существу Бога, если Декарт трактует материю как нечто
сотворенное. Мы замечаем характерное противоречие, возникающее в
этом месте: тело по отношению к Богу не может быть
субстанцией, протяжение не может быть созданием Бога. Таким образом
единственность божественной субстанции опять ставится под
вопрос, так как рядом с ней протяжение приобретает значение
независимой от Бога существенной особенности тел. Бог освещает духов;
в этом просветлении, в естественном свете разума они не могут
заблуждаться; однако они все-таки заблуждаются; основанием их
заблуждения не может быть никакое другое существо, кроме них
самих, кроме их воли: в силу этой воли они самовластные, само1
стоятельные, независимые от Бога существа.
Против исключительного значения божественной
субстанциальности поднимаются поэтому в природе вещей две силы,
притязающие на самостоятельную реальность: со стороны тел — протя-
466
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
жение, со стороны духа — воля. Но если существует нечто,
независимое от Бога и само по себе субстанциальное, то положение,
что Бог есть единственная субстанция, не может быть более
утверждаемо. Таким образом, мы видим в учении Декарта целый ряд
неразрешимых и необходимо возникших трудностей.
Дуалистическая система познания противоречит задаче познания,
разрешимости такой задачи; дуализм Бога и мира приходит к противоречию с
самим собой, как только субстанциальность одной стороны
начинает отрицаться; а она сомнительна с обеих сторон: веши должны
быть творениями, а Бог — единственной субстанцией, но такому
понятию противоречит природа вещей независимостью как
протяжения, так и воли.
3. Дуализм духа и тела
Если дуализм Бога и мира вызывает тайное колебание
философа, то, напротив, раздвоение в природе вещей,
противоположность между духами и телами проявляется в самой резкой и
достоверной форме. Из нашей самодостоверности следует, что мы
самостоятельные и сознательные существа, т. е. мыслящие субстанции
(духи). Как только стало несомненным, что существуют вещи вне
нас, то явилась необходимость понимать их как независимые от
нас и в своем роде самостоятельные существа, т. е. субстанции,
которые не могут иметь ничего общего с духовной природой и
которые поэтому совершенно противоположны ей, или, что то же,
только протяженные субстанции (тела). Таким образом,
противоположность духа и тела обозначилась при ярком свете ясного и
отчетливого мышления.
Ничто мыслящее не протяженно, ничто протяженное не
мыслит. Мышление и протяжение различаются, как выражается
Декарт в споре с Гоббсом, «toto génère»273. Но если только
противоположность или разделение между духом и телом мыслимо ясно и
отчетливо, то соединение обоих в естественном свете разума
должно казаться уже немыслимым и невозможным, а если таковое
фактически существует, то оно противоречит основаниям системы,
и объяснение его подвергает учение Декарта самому трудному
испытанию. Нужно исследовать, выдержит ли философ это
испытание без отрицания своих принципов.
467
Куно Фишер
Нет более сильных возражений против данной системы
познания, чем неопровержимые факты самой природы. Инстанцией,
отрицающей полный дуализм духовной и телесной природы,
является человек, так как он и то, и другое вместе. В нем дух и тело
связаны, и притом так тесно, что, по собственному выражению
Декарта, образуют одно существо*274. Куда же девается ясно и
отчетливо познанная противоположность обеих субстанций при
сопоставлении ее с этим фактом? Философ объясняет: «В
действительности дух и тело совершенно отделены друг от друга, нет
никакого общения между ними, я познаю это при свете разума».
Человеческая природа убеждает в противоположном, ибо она
представляет собой такое общение. По понятиям дуалиста, естественные
веши суть или духи, или тела. Человек — живое доказательство
обратного: он естественное существо, являющееся одновременно и
тем, и другим. Голос его самодостоверности говорит ему: «Ты дух!»,
голос его естественных влечений и потребностей говорит так же
явственно: «Ты тело!».
Когда принцесса Елизавета, самая прилежная ученица
Декарта, изучила «Размышления», первый вопрос, на который она
пожелала получить письменный ответ, был: как объясняется соединение
души и тела? Декарт ответил, что никакого другого вопроса нельзя
предложить с большим правом, но ответ, данный им, не
представлял собой удовлетворительного объяснения. Он не разрешил
проблемы, а только видоизменил ее. Ясно и отчетливо человек познает
только противоположность души и тела, но не их соединение. Что
существенная особенность духа состоит в мышлении и в волении,
а тела — в протяжении и его модификациях, это является
объектом отчетливейшего уразумения; напротив, соединение обоих и их
взаимное воздействие воспринимается только чувственно.
«Человеческий дух не способен постигнуть отчетливо различие природы
души и тела и вместе с тем их соединение, так как он должен был
бы понимать их как единое существо и вместе с тем как два
различных существа, а это противоречит одно другому**. Такое при-
" Méd. VI, pg. 336.
Ср. оба первых письма к Елизавете, написаных весной 1643 г.
(Oeuvres IX, pg. 123-135). См. кн. I, гл. IV, разд. II, 3. Ср.: Ма-
nuscr., pg. 30.
468
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
знанное противоречие обозначает, что разрешение
антропологической проблемы не согласуется с дуализмом принципов.
Нет сомнения, что целокупная природа человека состоит в
соединении духа и тела, что поэтому ни одна из этих субстанций
по сравнению с человеческой природой не обладает характером
полноты. Различные отношения, в которых дух и тело могут быть
рассматриваемы, следует точно отличать друг от друга, чтобы
исследовать, оправдываются ли дуалистические принципы. Дух и тело
суть конечные субстанции, противоположные друг другу сущности
и составные части человеческой природы. Они являются
конечными существами в отличие от Бога, противоположными по
отношению друг к другу, составными частями, взаимно дополняющимися
по отношению к человеку. В каждом из этих трех отношений
модифицируется характер их субстанциальности.
В первом отношении дух и тело, как уже было показано, не
собственно субстанции, а только творения (substantiae creatae);
если же они вообще не субстанции, то они не могут также быть и
противоположными друг другу: здесь их дуализм разбивается о
понятие Бога, которое уничтожает самостоятельность вещей или
лишает ее значения. Во втором отношении они полные субстанции
(substantiae completae), так как противоположны и взаимно
исключают друг друга. Но взаимное исключение есть обоюдность,
следовательно, вид общения. Если два существа относятся друг к другу
таким образом, что каждое из них должно быть понимаемо как
противоположность другого, то ни одно из них не может быть
постигнуто без другого: оба, благодаря характеру антитезы,
составляющей их существенную особенность, связаны друг с другом.
Сущность тела состоит в чистом протяжении, так как оно должно
состоять в полной противоположности мышлению. Таким образом,
дуализм духа и тела разбивается о понятие самой субстанции,
исключающее всякое отношение между субстанциями, а
следовательно, также и противоположность. В третьем отношении, т. е. в
отношении человеческой природы, дух и тело являются неполными
субстанциями (substantiae incompletae), каждая из них нуждается в
другой для своего дополнения и, рассматриваемая сама по себе, так
же не составляет целого, как рука не составляет всего
человеческого тела. Декарт сам пользуется этим сравнением. Если субстанция,
469
Куно Фишер
по собственному и многократно повторяемому выражению
философа, должна быть существом, не нуждающимся для своего бытия в
бытии другого, то неполное и нуждающееся в дополнении
существо не есть субстанция. Здесь субстанциальность духовной и
телесной природы, а вместе с тем и их дуализм разбивается о понятие и
факт существования человека. Противоречие настолько очевидно,
что его допускает и сам философ.
С учением Декарта, что духи и тела суть самостоятельные и
вполне отделенные друг от друга существа, не согласуется поэтому
сама система, раз она утверждает зависимость обоих, как
творений, от Бога, их необходимую антитезу в мире и их соединение в
человеке. Обратим внимание на то, каким образом при таком
противоречии понятий делается попытка к разрешению
антропологической проблемы.
Человек есть одно существо, состоящее из двух естеств. Как
же разрешается эта загадка? Так ставится антропологический
вопрос с точки зрения картезианского учения. Нельзя, писал философ
своей ученице, познать и утверждать и то, и другое вместе. Если
утверждать одно, то другое должно отрицать. И есть места, где этот
принципиальный дуалист в непроизвольном признании
индивидуальности нашего существа утверждает единство человеческой
природы таким образом, что называет соединение души и тела в
человеке субстанциальным единством (unio substantialis) и отрицает
двойственность естеств таким образом, что переносит основное
свойство одного на другое, считая один раз душу протяженной,
другой раз человеческое тело неделимым и уничтожая таким
образом противоположность атрибутов"275.
Однако дуалистическое учение остается руководящей точкой
зрения, с которой философ пытается объяснить соединение души с
телом в человеке так, чтобы двойственность естеств не пострадала.
Они образуют одно существо не в действительности, а только
«некоторым образом». Без отношения к человеку они полны, так как
каждое из них довлеет самому себе и не нуждается в другом, но
человеческая природа делается полной лишь тогда, когда соединяет
в себе оба естества: поэтому только в этом смысле, как говорит
Les passions de l'âme, I, art. XXX.
470
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
Декарт в своем ответе на четвертое Возражение, применим термин
неполных субстанций.
Что природа разделила коренным образом, то остается
разделенным и в связи. Совершенно различные субстанции поэтому не
могут, собственно, быть соединены, а могут быть только сложены:
их соединение есть не единство природы, а единство сложения, не
«imitas naturae», a «imitas composition^». Человек составлен из духа
и тела: в этой формулировке не теряют силы ни
противоположность, ни соединение субстанций, и только с такой точки зрения
может быть в учении Декарта поставлен антропологический
вопрос. Дуалистическая система не имеет другой точки зрения*276.
Теперь возникает вопрос: действительно ли эти
антропологические принципы согласуются с метафизическими, остаются ли
душа и тело в качестве составных частей сложного существа все
еще совершенно различными субстанциями, каковыми они
представляются в дуалистическом учении о принципах? Всякое
сложное существо делимо, а так как только протяжение может быть
делимо, то оно с необходимостью и протяженно, следовательно,
телесно, или материально; то же самое относится и к каждой из
его частей. Части, составляющие посредством внешнего
соединения целое, сохраняют свою самостоятельность по отношению друг
к другу и остаются субстанциями, но слагаться могут только такие
субстанции, которые однородны, протяженны, телесны. Между
протяженным и непротяженным, материальным и
нематериальным, между телесной и бестелесной субстанциями невозможно
никакое сочетание.
Если человек составлен из души и тела, то это произошло по
причине коренного различия субстанций. Душа должна
соприкасаться с телом, с которым она входит в теснейшую связь; точка, где
она соприкасается с ним или вступает с ним в связь, должна быть
пространственной, имеющей место, телесной: теперь душа
локализуется и сама становится в этом отношении пространственной. Не
видно, в каком же отношении она остается еще
непространственной или нематериальной. Протяжение навязчиво. Если, говоря
образно, душа даст ему мизинец, то оно схватит всю руку; если
мыслящая субстанция где-нибудь имеет местопребывание, то ее
* Méd. VI, pg. 338.
471
Куно Фишер
независимость и отличие от телесной субстанции уже потеряны и
не только в одном, а во всех отношениях. Если душа
локализируется, то она тем самым и материализируется, и механизируется.
Декарт необходимо вынужден прийти к этим выводам, и мы
видели, как он развивал их в сочинении о страстях. Он помешает
душу в середине мозга в конарион, где она как воспринимает, так
и производит движение жизненных духов: отсюда она приводит
тело в движение и сама приводится им в движение.
Иное значение' приобретает картезианское положение, что
только тела способны к движению и, независимо от первой
движущей причины, могут быть приводимы в движение только телами
же. Судя по этому положению, (движущаяся и приведенная телом
в движение) душа должна быть сама телесной, она делается
материальной вещью, несмотря на все уверения, что она мыслящая,
совершенно отличная от тела субстанция. Двойственность существ,
которая утверждается дуализмом и которая должна сохраняться
при сложении их, совершенно уничтожается самим дуализмом;
механическое влияние и связь, имеющие место только между
телами, распространяются теперь и на душу и тело.
Сложение обеих субстанций, как правильно заметила
принцесса Елизавета, не может быть мыслимо без протяжения и
материальности души. Картезианская антропология противоречит не
только дуалистическим принципам метафизики, но и
механическим принципам натурфилософии. Что количество движения в
мире остается постоянным, что акция и реакция, действие и
противодействие равны — эти фундаментальные положения учения о
движении теряют силу, коль скоро в телах движение может
порождаться нематериальными причинами. Как бы мы ни мыслили
соединение обеих субстанций в человеческой природе— как
единство или как сложение, — и в том, и в другом понимании
оно противоречит принципиальному дуализму и с необходимостью
приводит к его противоположности.
4. Дуализм человека и животного
Соединение обеих субстанций относится только к
человеческой природе, лишь в этом смысле и называл их Декарт неполны-
472
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
ми сущностями, подобно тому как только по отношению к Богу
они являются созданными субстанциями, стало быть, не
собственно субстанциями. В остальном дуализм полностью сохраняет свое
значение. Среди всех конечных существ человек есть
единственное состоящее из души и тела; из всех живых тел он единственное
одушевленное. Все прочие вещи (насколько простирается наше
знание) суть или духи, или тела, все остальные тела бездушны;
они механически организованные и движимые массы, просто
машины, — даже и животные. В этом состоит существенное отличие
человека от животного, необходимо вытекающее из
принципиального дуализма учения Декарта и никоим образом не являющееся
парадоксом со стороны философа. Душа есть дух, признак
последнего — самодостоверность, она составляет единственное основание
познания нашего духовного бытия; где нет самосознания, там нет
духа и души: поэтому животные лишены души, так как они не
обладают самосознанием, тогда как человек в силу своей
самодостоверности является духовной природой. Противоположность между
человеком и животным относится поэтому к противоположности
духа и тела как частный случай к общему или как следствие к
основанию. Положение, что животные суть автоматы, вытекает из
существенного отличия человека от животного.
Теперь нам предстоит разобрать, согласуются ли в данном
случае выводы с принципами, может ли этот особого рода дуализм
отстоять себя в учении Декарта в той же степени, в какой он
необходимо требовался, и как разделывается философ с фактами,
противоречащими его учению как со стороны человеческой, так и со
стороны животной природы. Мы пришли к ранее уже указанному
месту, требующему более подробного рассмотрения этого
критического вопроса. Ядро его заключается в объяснении жизненных
явлений, общих у животного с человеком, каковы ощущения и
инстинкты. Если Декарт отказывает животным в страстях, так как
они суть движения души, то он все-таки не может отрицать того,
что они обладают ощущениями. Как же их объяснить? Телесны
они или духовны, относятся они к психической или к
механической области, суть ли они виды мышления или движения? При
ответе на эти вопросы Декарт впадает в целый ряд неизбежных
противоречий.
473
Куно Фишер
1. Всякое истинное познание состоит, согласно правилу
достоверности, в ясном и отчетливом мышлении. Если бы наше
мышление было только ясным и отчетливым, то не было бы заблуждений,
в заблуждениях повинна воля, утверждающая ложные суждения;
такие суждения возникают, когда мы принимаем чувственные
представления (впечатления) за свойства вещей. Ощущения не
порождают заблуждения, но без них не было бы материала, из
которого воля могла бы создать его. Если заблуждение состоит в
ложном суждении, то ощущения состоят в чувственных
представлениях, и последние являются материалом, из которого создаются
суждения. Представления существуют только в духе, они суть
виды мышления: поэтому ощущения относятся к психической
области. Между различными идеями, которые мы имеем, находятся и
представления тел; Декарт оставляет еще открытым вопрос, мы ли
сами или веши вне нас создают эти идеи, но он не сомневается,
что наши ощущения суть представления; поэтому он относит их
только к духу277.
2. Мы невольно относим наши ощущения к телам вне нас
как к их причинам. Если бы не существовало таких тел, то наше
представление чувственного мира было бы естественным,
следовательно, в последнем основании исходящим от самого Бога
обманом, что, по Декарту, невозможно. Поэтому наши чувственные
представления вызваны также телесными причинами, т. е. они
суть вместе с тем телесные движения и впечатления и могут иметь
место только в таком духе, который теснейшим образом связан с
телом. Теперь Декарт относит ощущения не только к духу, но и к
**27Я
человеку, как существу, составленному из духа и тела .
3. Участие в ощущениях, требуемое телом, становится все
больше и в конце концов возрастает в такой степени, что дух
теряет свою долю и ощущения переходят в полную собственность тела.
Так как они общи у человека с животными, то они также и
животные явления и, как таковые, только механические, только
впечатления и движения, без представления и перцепции. Благодаря
этому ощущение перестает быть тем, что оно есть. Из положения,
что животные только машины, следовало положение, что они не
' Méd. III, pg. 277-279.
" Méd. VI, pg. 336-340.
474
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
имеют ощущений, чем картезианцы совершенно серьезно хотели
оправдать вивисекцию. Но раз ощущения стали рассматриваться
как феномены животно-человеческой жизни, то они могли быть
отнесены только к телам.
Мы замечаем, что учение Декарта колеблется по отношению
к ощущениям и в силу его дуалистических и антропологических
принципов идет по трем совершенно различным направлениям.
Первые Размышления трактуют ощущения и чувственные
восприятия как психические факты и относят их только к духу, последнее
Размышление считает их антропологическими фактами и относит к
связи духа и тела, а сочинение о страстях придает им значение
только телесно-психических фактов и относит ощущения и инстин-
*279
кты исключительно к телу .
Из этого следует двоякого рода антиномия: 1) тезис:
ощущения, как неясные представления, суть модификации духа,
следовательно, психической природы. Антитезис: ощущения, как
чувственные представления, не только психические феномены, но вместе и
телесные. 2) Тезис: ощущения (как явления человеческой
природы) не только телесны. Антитезис: ощущения (как явления
животной природы) только телесны и механичны.
4. Если ощущения только механичны, то о перцепции и о
чувстве не может быть речи, их тогда вообще нет. Что относится к
животному ощущению, то относится и к человеческому, ибо
живое тело в обоих случаях есть только машина, а следовательно,
нечувствительно, и притом в каждой из своих частей,
следовательно, и в мозгу. Если же вообще нет ощущений, то — если
понимать это правильно — выходит, что невозможны и чувственные
представления, неясные мысли, заблуждения. Таким образом,
учение Декарта оказывается в неизбежном и характерном положении:
оно должно как утверждать, так и отрицать факт ощущений и
вместе с тем не может сделать ни того, ни другого.
Попытка объяснить их запутывает поэтому нас в тенетах
антиномии и дилеммы. Если ощущение будет допущено, то нужно
допустить его и у животного; в таком случае его уже нельзя
считать лишенным души, и исчезает различие по существу между
человеком и животным, между духом и телом. Если же отрицать
Les passions, I, art. ХХШ-XXIV.
475
Куно Фишер
ощущение, то нужно отрицать и чувственное представление,
неясное мышление, человеческое заблуждение, состояние нашего
интеллектуального несовершенства, следовательно, наш самообман,
наше сомнение, нашу самодостоверность. Поэтому так же
невозможно допустить ощущение, как невозможно его отрицать. Короче
говоря: с точки зрения учения Декарта факт ощущения не
объяснен и необъясним.
Ш. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
1. Окказионализм
Эти противоречия, открытые и указанные нами в учении
Декарта, содержат задачи, требующие решения и обусловливающие
исторический процесс развития системы. Эволюция ее на первых
порах не удаляется от дуалистических принципов, а
руководствуется ими и соответственно этому определяет выводы. Если дух и
тело по природе противоположны друг другу, то естественное
соединение их, имеющее место в человеке, не может быть постигнуто:
значит, будет логично считать его непостижимым. Фактически
оно имеет место. Так как оно невозможно в качестве следствия
естественных причин, то является деянием Бога и может быть
произведено только божественной причинностью.
Два факта свидетельствуют, что душа и тело в человеке
соединены: факт нашей духовно-телесной жизни и нашего созерцания и
познания телесного мира. В обоих случаях следует объявить,
согласно дуалистическим принципам, что соединение невозможно ни
посредством духа, ни посредством тела, ни посредством обоих
вместе, а возможно только при посредстве Бога. Не душа движет
посредством воли телом и не тело порождает своими впечатлениями
представления, а Бог делает так, что за нашим намерением следует
соответствующее движение в наших органах, а за нашими
чувственными впечатлениями — соответствующее представление в
нашем духе.
Наша воля и ее намерение есть не причина, а лишь повод,
при наличии которого, в силу божественной деятельности,
происходит исполнительное движение в наших телесных органах; то же
самое можно сказать о наших чувственных впечатлениях по отно-
476
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
шению к идеям. Повод — не порождающая, а случайная причина
(causa occasionalis); производящей причиной (causa effîciens) в этих
случаях является один только Бог. Эта точка зрения
окказионализма, применяемая Гейлинксом к антропологической проблеме, есть
ближайшая последовательная фаза развития картезианского
учения.
Если дуалистические принципы имеют силу, то соединение
обеих субстанций, имеющее место в нашем созерцании и
познании телесного мира, точно так же непостижимо. Если дух и тело,
мышление и протяжение совершенно разделены, то как же идея
протяжения приходит в наш дух? Эта идея может быть только в
Боге, поэтому наше познание тел или наше созерцание вещей
возможно только в Боге. К такому объяснению приходит Маль-
бранш, последовательно развивая принципы Декарта, которые он
признает и поддерживает.
Проблема человека и человеческого познания не разрешается
окказионализмом, напротив, здесь устранена даже видимость
естественного объяснения и утверждается невозможность
рационального разрешения. Пока противоположность обеих субстанций имеет
принципиальное значение, антропологические вопросы
неразрешимы, и заслуга, равно как и прогресс окказионалистов, состоит в
разъяснении именно этого положения антропологический
проблемы.
2. СПИНОЗИЗМ
Однако рациональное решение все же требуется учением
Декарта, так как оно ставит своей задачей полное познание вещей.
Соединение души с телом должно быть поэтому рассматриваемо
при свете разума и должно быть понимаемо как необходимое
действие естественных причин. Так как принципиальный дуализм
картезианского учения делает такое объяснение невозможным, то
всякий дальнейший прогресс обусловлен преобразованием
принципов, которое на первых порах производится по частям.
Уничтожается противоположность субстанций, но по-прежнему признается
противоположность атрибутов. Если мышление и протяжение суть
атрибуты противоположных субстанций, то соединение духа и тела
непонятно и равносильно чуду.
477
Куно Фишер
Следовательно, оба эти основные свойства вещей должны
быть понимаемы как противоположные атрибуты (не различных, а)
одной субстанции: эта одна субстанция есть единственная и
божественная, духи и тела суть не самостоятельные существа, а
модусы или действия Бога, который в качестве вечной и внутренней
причины всех вещей тождествен природе. Теперь положение «Deus
sive natura» достигло своего полного значения. Так как
божественная субстанция заключает в себе противоположные атрибуты
мышления и протяжения, то каждая из этих сил действует так же
независимо от другой, как необходимо связана с нею, и все вещи
являются действиями как мышления, так и протяжения, т. е. они
одновременно духи и тела. Последние не соединяются, а
соединены с начала времен; они сочетаются не только в человеке, но и в
каждой веши, так как к каждому естественному действию
относится то, что относится к сущности природы и самой ее деятельности:
оно мысляще и протяженно.
Как действия одной и той же природы, все вещи —
одушевленные тела, т. е. единосущны и различаются только мерой своих
сил. Этим уничтожен дуализм субстанций, имевший место у
Декарта, а именно отличие по существу Бога от мира, духа от тела,
человека от животного. На место дуалистической выступает
монистическая система, чем натуралистическое направление
завершается и приобретает исключительное значение. Эту точку зрения
представляет Спиноза, последовательно развивая основную мысль
учения Декарта, и преобразовывает соответственно ей принципы.
Такова основная мысль, заключающаяся в требовании постоянно
прогрессирующего, освещающего природу и связь всех вещей
метода мышления и в положении о том, что в действительности
существует только одна единственная субстанция. Единственность
субстанции и противоположность ее атрибутов составляет основное
понятие учения Спинозы.
3. Монадология
Однако все еще имеет значение противоположность
атрибутов: дуализм мышления и протяжения. Поэтому картезианское
учение преобразовано Спинозой только частично. Несмотря на
478
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
монистический характер спинозизма, его основы отчасти еще
коренятся в дуалистической системе учителя и поэтому находятся в
зависимости от него. Следующим шагом в историческом развитии
философии должно быть отрицание также противоположности
атрибутов и полное преобразование принципов, установленных
Декартом, без изменения самой задачи познания.
Если в действительности существует только одна субстанция,
как это уже объявил Декарт и установил Спиноза, то все прочие
веши суть только модификации ее, следовательно, сплошь
зависимы по своей природе, и ни одна отдельная и конечная вещь, стало
быть, также и духи, и человеческий дух, не является
самостоятельным существом. Поэтому самодостоверность духа неосновательна и
невозможна, так как она была выражением и основанием
познания его субстанциальности. Без самостоятельности нет
самодостоверности, без самодостоверности нет вообще никакой
достоверности и не существует возможности познания. Вот тот пункт, в
котором учение Декарта стоит непоколебимо.
О силу этого принципа разбивается монистическая система, и
поэтому, чтобы философию двинуть далее, нужно вернуться сперва
к началам картезианского учения и попытаться сделать такой шаг,
благодаря которому можно было бы избежать дуалистической
системы и преодолеть ее окончательно. В этом именно состоит
полное преобразование, или реформа, философии. Понятие
субстанции следует понимать так, чтобы с ним могла совместиться
самодостоверность человеческого духа, чтобы самостоятельность
единичных существ не исключалась ею, а, напротив, обосновывалась.
Поэтому допускается субстанциальность единичных существ:
существует не единая субстанция, а бесконечное множество их. Если они
опять-таки противоположны друг другу и должны распасться на два
вида — духов и тела, — то мы вновь приходим к старому
картезианству и должны отсюда во второй раз совершить путь через
окказионализм к монистическому учению Спинозы. Поэтому следует
реформировать понятие субстанции таким образом, чтобы исчезло
противопоставление мышления и протяжения, этот остаток
дуалистической системы.
Такое противопоставление неразрешимо, пока дух и
самодостоверность, мышление (представление) и самосознательная деятель-
479
Куно Фишер
ность считаются тождественными и пока возможность
бессознательной духовной деятельности или бессознательных
представлений не станет очевидной. Если есть темные представления и
бессознательная душевная жизнь, то сфера и сущность духа не
ограничены более самосознанием тела, хотя они лишены сознания,
все-таки не бездушны, а противоположность между духом и телом
(человеком и животным) уменьшена и разрешается в различных
степенях силы представления, в ступенях развития живых и
одушевленных существ, из которых каждое является самодеятельной,
определенной степенью своей силы природой, или
индивидуальностью.
Понятие субстанции превращается в понятие
индивидуальной, обладающей силой сущности, или монады: мир является
восходящим порядком таких монад, системой развития, подобной
той, какой учил некогда Аристотель. Новая система познания
разрешила дуализм мышления и протяжения, духа и тела и вместе с
тем сгладила противоположность между Декартом и Аристотелем,
между новой и древней философией: она реформирует первую
таким образом, что этим реставрирует вторую. Эту точку зрения
обосновывает Лейбниц в своем учении о монадах, которое
является преобладающим в метафизике восемнадцатого столетия, в
особенности в немецкой философии и Просвещении.
4. Три основные истины метафизики
Декарт, Спиноза и Лейбниц являются тремя величайшими
метафизиками нового времени до Канта. Можно выяснить их
значение и без научного исследования их сочинений. Существуют
известные основные истины, явствующие каждому размышляющему
из созерцания собственного духа, как и из созерцания природы
вещей. Нет в мире большей противоположности, чем
противоположность сознательного и бессознательного существа: такая
противоположность есть независимо от того, опосредствована она или нет.
Если мы сравниваем темный мир тел и просветленный мир
сознания, то перед нами открывается пропасть.
Столь же очевидна, как эта противоположность,
необходимость целостной, естественной и постоянной связи, в которой вся-
480
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
кая вещь вытекает из причин, являющихся, в свою очередь,
необходимыми действиями. Естественная сопринадлежность вещей
требует такой неразрывной, или причинной, связи. Мы должны обе
основные истины и признать, и соединить: в этом состоит третья.
Противоположность в природе вещей опосредствована связью,
т. е. цепь вещей образует развитие, восходящее из самых
последних глубин бессознательных существ со ступени на ступень к
сознательным существам, от естественного мира к нравственному
миру, от природы к культуре, от низших ступеней культуры
человечества к высшим. Три основные истины суть поэтому истина
противоположности, истина причинной связи и истина развития в
природе вещей: первая лежит в основе дуалистической системы
Декарта, вторая — в основе монистической системы Спинозы,
третья — в основе гармонической (эволюционной) системы
Лейбница.
5. Сенсуализм
Мы указали путь, который, последовательно развивая
принципы Декарта, через зависимую точку зрения школы ведет к
преобразованию метафизической системы. Обратимся теперь к
противоположному направлению, эмпиризму, чтобы сравнить его с Декартом
и поискать путей, ведущих от него по прямой линии к
противникам. Таким образом, мы ориентируемся по его системе по
отношению к различным странам света новой философии.
До противоположной точки зрения сенсуализма, можно
сказать, рукой подать от учения Декарта. Если сущность духа состоит
именно в самодостоверности, то содержащееся в духе должно
изображаться в сознании; изначальные или врожденные идеи должны
поэтому всегда наличествовать в каждом сознании. Так как
фактически этого нет, то следует, что нет никаких врожденных идей,
что поэтому духу ничего не присуще от рождения, что он от
природы чист, подобен «tabula rasa» и получает все идеи только при
помощи (внешнего и внутреннего) восприятия. Таким образом
хотел опровергнуть Декарта и обосновать сенсуализм Локк в своем
«Опыте исследования человеческого ума» (1690). Сенсуализм
разветвляется на два совершенно противоположных направления:
481
Куно Фишер
идеализм и материализм. Сравним и тот, и другой с учением
нашего философа.
6. Материализм и идеализм
По Декарту, ничего не следует принимать за истину, кроме
несомненно достоверного; наша самодостоверность является
основанием и прототипом всякого познания. Но для нас
непосредственно достоверны только наши представления или идеи, поэтому они
являются единственными объектами нашего познания,
единственно достоверными; вне нас или независимо от представляющего
духа не существует ничего реального, никакой материи как
независимой от духа веши: все объекты только представляемы, поэтому
они не субстанции, не самостоятельные, самодовлеющие сущности,
а феномены. Субстанциальны только воспринимающие или
представляющие существа; поэтому есть только духи и идеи: это
положение составляет основную тему, развиваемую Беркли в его
идеализме; мы встречаемся с этой точки зрения, следуя прямо по
направлению, указанному картезианским принципом
самодостоверности.
Чтобы сохранить дуализм мыслящей и протяженной
субстанции, Декарт определял соединение обеих в человеке как сложение
духа и тела, из чего неизбежно следует пространственность и
материальность души. Тут в его учении открывается широкий путь для
материализма. Если душа находится в мозгу, то материалисты
легко могут сделать вывод, что душа есть мозг, что мыслить значит
ощущать, что ощущение является мозговой деятельностью и есть
не что иное, как движение мозговых молекул; не только животное,
но и человек есть машина; он является ею целиком.
Мы видим перед собой путь, идущий по прямой линии от
Декарта к Ламетри: от «cogito ergo surm к «homme machine», от
французского метафизика семнадцатого столетия к французскому
материализму восемнадцатого, хотя и ведущему свое
происхождение поначалу от английского сенсуализма, но находящему в
картезианской антропологии поддержку, которой не хочет упустить и
Ламетри. То, что относится к человеку, распространяется на
Вселенную: и Вселенная есть машина. Разработка этого положения
является темой «Systeme de la nature» (1770).
482
7. Критицизм
Мы уже видели, как ненадежна в картезианском учении
даже та опора, которую находит себе материализм; нет сомнения в
том, что от принципа самодостоверности, на котором зиждется
система нашего философа, правильный путь ведет не к
материализму, а к идеализму. Действительный и истинно объективный
мир не может быть иным, чем представляемый. Нам надлежит
лишь точно исследовать, являются ли наши представления
произвольными продуктами или необходимыми действиями
интеллигенции.
Декарт уже в первом своем Размышлении объявил, что
существуют элементарные представления, лежащие в основе всех
остальных, и что без них невозможно никакое представление
вещей; он указал главным образом на два таких основных понятия:
пространство и время. В дальнейшем объяснении время
оказалось простым modus'oM cogitandi, родовым понятием, создаваемым
нашим мышлением и ошибочно считаемым свойством самих
вещей. Между различными идеями, находимыми нами в нас, есть
только одна удостоверенная Декартом: идея вещей вне нас, или
тел, атрибут которых состоит в протяжении, или в пространстве.
Пространство составляет сущность тел, существующих независимо
от интеллигенции, в качестве вещей в себе.
Из наших основных представлений (кроме идеи Бога)
пространство есть единственное, выражающее сущность независимой
от мышления субстанции. Если бы пространство было только
нашим представлением, то то же самое следовало бы сказать о
материи и обо всем телесном мире; тогда мы были бы уверены во
внешних вещах так же непосредственно, как в нашем собственном
мышлении. Декарт утверждает реальность пространства, так как
рассматривает тела как веши в себе, как внешние причины наших
чувственных представлений — так, как мы сами вынуждены
понимать их согласно естественному инстинкту разума; было бы делом
божественного обмана, если бы это обстояло иначе.
Декарт утверждал изначальный характер представления
пространства; единственное основание, почему он отрицает его идеаль-
483
Куно Фишер
ность, есть правдивость Бога. То же самое основание должно было
бы заставить его считать чувственные качества свойствами тел
самих по себе, однако он объявил такое понимание жесточайшим
самообманом и многократно подтверждал, что для ясного и
отчетливого познания того, что такое тела сами по себе, нужно отвлечь
от представления их наш способ мышления и ощущения. Если
отвлечь от нашего представления вещей известные представления, то
невозможно понять, как должно остаться нечто, совершенно
отличное от всяческого мышления. По Декарту, не остается ничего,
кроме пространства или протяжения. Поэтому пространство
должно быть тем представлением, от которого мы не можем
отказаться или которое не можем отвлечь от нашей представляющей
деятельности, т. е. необходимым действием нашей интеллигенции.
Если мышление и протяжение вполне друг другу
противоположны, как полагает Декарт, то в нашем мышлении не может быть
и идеи протяжения, как правильно заключил из этого дуализма
Мальбранш. Если же в нас есть идея протяжения, основное
представление пространства, как настойчиво утверждает Декарт, то
мышление и протяжение не противоположны друг другу, а
протяжение, или пространство, принадлежит к природе мышления, к
строю нашего разума; оно и телесный мир в нем суть тогда только
наши представления. Теперь вопрос уже не таков: «Как
соединяются дух и тело, будучи противоположными субстанциями?», он
гласит: «Как дух доходит до представления пространства, или как
соединяются мышление и (внешнее) созерцание, ум и
чувственность?»
Именно к этому вопросу свел Кант психологическую
проблему учения Декарта, после того как он доказал, что пространство
само по себе ничто, а есть только наше представление,
необходимое созерцание нашего разума. Эту истину Кант открыл своим
критическим исследованием, испытующим естественный свет
чувств и мышления, но ни в коем случае не предполагающим его
безошибочности. Здесь тот поворотный пункт, в котором
преобразовывается не только принцип философии, но и сама ее задача и
ставится вопрос о возможности и условиях познания, прежде чем
выяснится, познаваема ли и в чем состоит сущность вещей. Когда
Декарт ссылался на правдивость Бога и природы, чтобы поставить в
484
Обсуждение системы. Неразрешенные и новые проблемы
зависимость от нее безошибочность нашей интеллигенции, этого
света разума, в котором тела кажутся вещами в себе, он обосновал
догматическую философию. Когда Спиноза объяснял, согласно
своей идее Бога, что в природе вещей вместе с их вечным порядком
дано также изначально их адекватное познание, тогда
догматическая философия достигла своего апогея.
Однако и задача критической философии уже заключалась в
учении Декарта и в его первом методологическом сочинении —
«Правила для руководства ума» — выражена так, что Кант мог бы
дословно повторить эту формулу: «Важнейшей из всех проблем
является уразумение природы и границ человеческого познания.
Этот вопрос приходится исследовать один раз в своей жизни
каждому, кто питает хотя бы малейшую любовь к истине, так как его
исследование заключает в себе весь метод и как бы истинный
органон познания. Ничто не представляется мне более нелепым, как
смело попусту спорить о тайнах природы, о влиянии звезд и о
сокровенных вещах будущего, ни разу не задавшись вопросом,
• *280
может ли идти так далеко человеческий ум» .
Мы заканчиваем этим указанием на Канта, к чему учение
Декарта дает в приведенном месте столь благоприятный и,
по-видимому, близкий повод.
" Règl. VIII, pg. 245-246. Ср.: кн. П, гл. I, разд. Ш, 4.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Диоген Лаэрций (1-я пол. III в.) —греческий писатель.
Знаменит своим трудом в 10-ти книгах, полное название которого
«Жизнь и мнения прославленных философов вместе с
сокращенным сводом воззрений каждой философской школы». Это
единственный сохранившийся биографический очерк древнегреческой
философии. Труд Лаэрция — компиляция, состоящая из цитат
многочисленных предшественников (цитаты нередко вставлены
одна в другую, что нарушает связность изложения) и зачастую
ошибочно приписывающая взгляды одних философов другим.
Секст Эмпирик (кон. II в. - нач. III в.) — древнегреческий
философ, систематизировавший идеи скептицизма. Его труды
«Пирроновы основоположения» и «Против ученых» являются
основным источником сведений об античном скептицизме.
Иоанн Стобей (нач. VI в.) — византийский компилятор.
Составил собрание отрывков из сочинений различных авторов по
физике, истории и по вопросам нравственности. В качестве
источников использовал сочинения более чем пятисот древних поэтов,
историков, ораторов и философов.
2 Стэнли, Томас (1625-1678) — английский философ,
профессор в Оксфорде. Первым из англичан написал «Историю
философии» в 3 тт. (1655-1661).
Бейль, Пьер (1647-1706) — французский философ и
публицист, один из первых представителей Просвещения. Широкую
известность ему принес двухтомный «Исторический и критический
словарь» (1695-1697), ставший образцом для «Энциклопедии»
французских просветителей XVIII столетия.
Бруккер, Иоганн Якоб (1696-1770) —немецкий историк
философии, автор одного из первых в Германии трудов по истории
философии «Historia critica philosophia (Критическая история
философии)» в 5 тт. (1742-1744).
3 «Познай самого себя» — широко известное
древнегреческое изречение, высеченное на колонне храма в Дельфах и
ставшее основополагающим принципом философии Сократа.
♦ 489
Примечания
4 Речь идет об императоре Восточной Римской империи
Юстиниане I (482-565), который поддерживал ортодоксальную
христианскую церковь, боролся против монофизитов. В 529 году
закрыл афинскую Академию как оплот неоплатонизма. В 531 году
сразу несколько афинских неоплатоников ушли ко двору
персидского царя Хосрова.
6 Аттика — полуостров в юго-восточной части средней
Греции, на равнинной части которого расположены Афины. Здесь
имеются в виду представители афинских философских школ, и в
первую очередь — Платон и Аристотель.
6 Элеатская (элейская) философская школа существовала в
Древней Греции в конце VI - начале V вв. до н. э. Главные ее
представители — Парменид и его ученики Зенон Элейский и
Мелисс Самосский. На становление идей элеатов сильное воздействие
оказали пифагорейцы, и в особенности Ксенофан, которого часто
называют родоначальником этой школы. Элеаты стремились
постичь истину о мире исключительно силой разума, исходя из
тождественности мыслимого и сущего, так как чувственное познание
дает нам лишь ложные мнения, а не достоверные знания.
7 Гераклит Темный из Эфеса (Гераклит Эфесский, 554-483
до н. э.) — древнегреческий философ. За глубину мыслей,
которые часто выражал метафорически, притчами и загадками, получил
прозвище «Темный». Из основного произведения «О природе» до
нас дошли лишь отдельные фрагменты. Первооснову мира видел в
постоянном движении, изменении, выраженном в формуле «panta
rei» — «все течет».
8 Эмпедокл (495-435 до н. э.) — древнегреческий философ.
В круг его интересов входили астрономия, космология,
математика, физиология, психология. В сочинении «О природе»
(сохранились лишь фрагменты) изложена его натурфилософия. «Корни
всех вещей», по Эмпедоклу, — четыре стихии: огонь, вода, воздух
и земля. Они вечны, неизменны, несоздаваемы и неразрушаемы.
9 Левкипп (ок. 460 до н. э.) — древнегреческий философ,
ученик Зенона Элейского. По преданиям, в середине V века
основал философскую школу в Абдерах; учитель Демокрита и
основоположник атомистики, принципы которой сформулировал на
основе опровержения учения Зенона о невозможности существования
бесконечно малых частиц.
Демокрит (460-371 до н. э.) — главный представитель
древнегреческой атомистики, развивший и систематизировавший идеи
Левкиппа.
10 Гомеомерии — термин древнегреческой философии,
введенный Анаксагором из Клазомен (500-428 до н. э.), обозначал
490
Примечания
мельчайшие частицы (♦семена») всевозможных веществ, смеси
которых образуют все вещи.
11 Горгий (485-380 до н. э.) и Протагор (480-410 до
н. э.) — знаменитые афинские просветители, так называемые
«старшие» софисты.
12 Киническая, киренайская (киренская) имегарская школы —
древнегреческие философские школы, возникшие в IV веке до
н. э. В основу своих доктрин положили различные интерпретации
философии Сократа, за что и получили названия сократических
школ.
13 Плотин (204-270) — основатель неоплатонизма. Порфи-
рий (233-300) — ученик и биограф Плотина, комментатор и
издатель основного труда своего учителя — «Эннеады». Ялшлих (280-
330) — основатель сирийской школы неоплатонизма. Прокл
(412-485) — греческий философ, систематизировавший
неоплатонизм.
14 Имеется в виду Библия.
16 Константин Великий (272-337) — римский
император (306), всемерно поощрявший деятельность христианской
церкви. В 325 г. на созванном в Никее I Вселенском соборе заложил
основы превращения христианства в государственную религию.
Церковные историки нарекли императора Константина Великим и
провозгласили образцом христианского правителя.
16 Юлиан (331-363) — римский император (361). Ребенком
получил строгое христианское воспитание, но в юности,
познакомившись с неоплатоником Максимом, увлекся греческой
философией и обратился к язычеству. Став императором, пытался
возродить его, за что и получил прозвище «Отступник». Реформы,
которые проводил Юлиан в отношении религии и церкви, не нашли
поддержки и вскоре после его смерти сошли на нет.
17 Феодосии Великий (347-395) — римский император (379).
Оставил заметный след в истории христианства: занимал
непримиримую позицию в отношении арианцев, на созванном им в 381
году II Вселенском соборе провозгласил единую (католическую)
религию в качестве государственной, бескомпромиссно боролся с
язычеством, запретив нехристианские культы (391-392) и даже
Олимпийские игры (394).
18 Имеется в виду период с I по начало III вв., когда римские
императоры обвиняли христиан в различных преступлениях,
объявляли их вне закона и жестоко преследовали — вплоть до
физического уничтожения членов христианских общин.
19 Политические преследования христиан постоянно
сопровождались и идеологическими нападками на их вероучение со
стороны многих широко известных тогда литераторов и филосо-
491
Примечания
фов. Цельс в 176 г. написал полемическое сочинение «Правдивое
слово», в котором, отвергая христианскую мифологию и основные
догматы воплощения, воскресения, откровения, библейскую
космогонию и эсхатологические чаяния, обвинил христиан в
нравственной и интеллектуальной деградации и призвал их отказаться
от своей исключительности и признать официальный римский
культ. Порфирий, руководивший после смерти Плотина римской
школой неоплатоников, написал сочинение «Против христиан», в
котором подверг аргументированной исторической критике
библейские тексты (в 448 г. по указу императора книга была
сожжена). Император Юлиан также выступил с сочинением «Против
христиан», в котором критиковал библейские тексты, а также
христианские вероучение и культ.
20 Имеются в виду христианские ереси. Гностицизму
разновидностью которого был докетизм, возник во Н-Ш вв. За
божеством как самым совершенным существом гностики не признавали
телесности: облеченность Христа в тело, по их мнению, была
только кажущейся (dokeo (греч.) — казаться). Арианство возникло в
IV-VI вв., связано с именем александрийского священика Ария
(ум. в 336 г.), утверждавшим, что Бог-сын по существу своему
отличен от Бога-отца и создан последним. Для обоих течений
характерно рационалистическое постижение бытия Бога.
21 Бауэр, Бруно (1809-1882) —немецкий философ,
младогегельянец. Широкую известность ему принесла «Критика
евангелий» (1850-1852), где оспаривается реальное историческое
существование Христа.
22 нет спасения вне церкви, (лат.)
23 Бог — человек; Почему Бог человек? (лат.)
24 верую, ибо абсурдно (лат.).
26 верю, чтобы понимать (лат.).
28 fides — вера; ratio fidei — способ веры (лат.).
27 Псевдоисидоровские декреталии — сборник наполовину
подложных документов канонического права, ссылки на который
впервые появились в 852 г. Автор этого сборника скрывался под
именем Исидора Меркатора («святого Исидора»).
28 Императоры Священной Римской империи от Отгона I до
Генриха III удерживали за собой административную власть над
Римом и право назначения пап. После смерти Генриха III началось
движение за независимость церкви от светских властей, в первую
очередь от Империи. Особой остроты эта борьба за первенство в
христианском мире достигла в споре между папой Григорием VII
(1020-1085) и императором Генрихом IV (1050-1106),
продолжавшемся с 1077 по 1084 гг. Уже в это время словесная полемика
492
Примечания
между папами и императорами начала перерастать в вооруженные
конфликты.
29 Вооруженная борьба между Империей и папством достигла
своей кульминации при императоре Фридрихе II Гогенштауфене
(1194-1250).
30 Инвеститура — распространение вассальной зависимости
от светских князей не только на землю, находящуюся во владении
монастырей и епископов, но и на церковные должности.
31 В 1302 г. папа Бонифаций VIII провозгласил абсолютное
господство папского престола над земными владыками. Король
Франции Филипп IV Красивый (1285-1314) в ответ на эти
претензии отправился походом в Италию и арестовал папу в 1303 г.
После смерти Бонифация французские короли установили господство
над папами, особенно после того, как папа Климент V в 1308 г.
перенес свою резиденцию из Рима во Францию, в Авиньон.
Период с 1308 по 1378 гг. (у Фишера границы этого периода указаны
неточно) называют «авиньонским» или «вавилонским пленением
пап». В 1376 г. папа Григорий XI перенес престол в Рим, но
после его смерти в 1378 г. часть кардиналов избрала папу в Риме,
другая часть — антипапу в Авиньоне. Начался Великий раскол
(схизма) (1378-1417) — один из самых драматических периодов
в истории католической церкви.
32 разделение природы (лат.).
33 Да склоню голову! (лат.)
34 Под католицизмом здесь понимается всеобщность,
вселенская природа церкви.
36 всеобщее есть реальное (лат.).
36 flatus vocis — звуки голоса; vocalia — гласные; nomina —
имена (лат.).
37 Боэций (480-524) — римский философ, христианский
теолог, поэт и политический деятель. Своим творчеством оказал
исключительное влияние на средневековую культуру. Его переводы
на латынь «Органона» Аристотеля и «Введения» Порфирия,
комментарии к аристотелевским логическим текстам, оригинальные
теологические сочинения заложили основу аристотелизма и
схоластики в средние века. Написанный в тюрьме трактат Боэция
«Утешение философией» вошел в сокровищницу мировой
литературы.
38 ante rem — перед вещью; in ге — в самой вещи (лат.).
39 Александр Галесский (1185-1245) — с 1236 г. монах-
францисканец, основатель францисканской школы в Парижском
университете. Один из первых комментаторов «Сентенций» Петра
Ломбардского.
493
Примечания
Альберт Великий (Магнус) (1193-1280) — немецкий
философ, член ордена доминиканцев, преподавал в Париже и Кельне. В
1931 г. католическая церковь канонизировала его.
Фома Аквииский (1225-1274) — ученик Альберта Великого,
систематизатор схоластики, с его именем связано одно из
направлений религиозной философии — томизм. В 1567 г. официально
признан «пятым учителем церкви».
40 наставника в суждениях (лат.).
41 к Богу (лат.).
42 воля превыше разума (лат.).
43 самоочевидно; по установлению (лат.).
44 напрасно измысливается характер единичности (лат.).
46 pro ге — сообразно с вещью (лат.).
46 Кола ди Риенцо (1313-1354) — политический деятель
Рима, выдающийся оратор. В 1347 г. был избран народным
трибуном. Испытав влияние античной литературы, предпринял попытку
восстановления Римской республики.
47 Лев X — папа, известный широким покровительством,
которое оказывал поэтам и художникам.
48 «Вульгата» — латинский перевод Библии, сделанный в
IV в. Иеронимом. В 1546 г. Тридентский собор объявил этот
перевод каноническим. Почти без изменений используется католиками
до сих пор.
А9Ахиллшш, Александр (ум. 1512) —противник учения Авер-
роэса о бессмертном человеческом разуме. Нифо, Августин
(1473-1546) — преподаватель философии; в своих комментариях
к Аверроэсу стремился смягчить противоречие между его учением
и ортодоксией. По поручению Льва X написал опровержение труда
П. Помпонацци «О бессмертии души».
60 т. е. разумной, постигающей сущности.
51 к вящей славе Божией (лат.).
62 «О бессмертии души» (лат.).
63 Трактат «Рассуждения на I декаду Тита Ливия», написанный
Н. Макиавелли в 1531 г.
64 Подразумевается Козимо Старший Медичи, возродивший
платоновскую Академию во Флоренции в 1459 г.
56 Речь идет о Лоренцо Великолепном Медичи.
66 Нумений из Апамеи (Сирия) (вторая пол. II в.) — античный
философ, неопифагореец; в Платоне видел ученика Пифагора и
преемника восточной мудрости.
67 Рейхлин, Иоганн (1455-1522) — виднейший немецкий
гуманист, первым начавший в Германии систематическое
преподавание древних языков (латыни, греческого и древнееврейского).
494
Примечания
Позиция Рейхлина в вопросе о сохранении не принадлежавших
Ветхому завету произведений иудеев послужила поводом к
написанию «Писем темных людей» (1515-1517); она отчетливо
проявилась в споре Рейхлина с вождем кельнских теологов Ортуином
Грацием относительно замысла крещеного еврея Пфефферкорна
уничтожить иудейскую письменность. Авторами «Писем», стиль
которых пародировал ученую латынь, считали гуманистов К. Рубиана,
У. фон Гуттена и Г. фон Буше. «Письма» были наиболее ярким
сатирическим произведением немецких гуманистов против схолас-
тизированной латыни и схоластики вообще.
68 имеется в виду Пфефферкорн.
69 В «Фаусте».
80 Мейстер Экхарт (1260-1328) — немецкий
философ-мистик, монах-доминиканец. Проповеди и трактаты Мейстера Экхарта
как по своей форме, так и по содержанию были далеки от канонов
схоластики, в них он доводил до крайности идеи христианских
неоплатоников, в особенности Псевдо-Дионисия Ареопагита.
81 Конкордия, конкордат (concordatum) —
соглашение (лат.).
82 в соответствии с собственными началами (лат.).
83 «Новая философия об универсуме» (лат.).
84 Платон — друг, но больший друг — истина (лат.).
86 Беца (Без), Теодор (1519-1605) — помощник Кальвина, а
после его смерти — глава кальвинистов в Женеве.
88 Луллий, Раймунд (1235-1315) — философ, богослов. В
своем основном сочинении «Великое искусство» разработал
методы моделирования логических операций, используя символические
обозначения предельных понятий. Это привело его к
теоретической разработке первой логической машины.
87 только верой (лат.).
68 природа творящая; природа сотворенная (лат.).
89 следы; тени (лат.).
70 ощущение вещей (лат.).
71 Я тот, от кого страдаю, (фр.)
72 «Опытов» (фр.).
73 «Великий свод» (гр.).
74 «Об обращении небесных тел» (лат.).
76 «Предварительные упражнения в восстановленной
астрономии» (лат.).
78 «Новая астрономия» (лат.).
77 Конгрегация индекса — одно из учреждений папской курии
495
Примечания
(кардинальской коллегии), ведавшее составлением списка
запрещенных книг.
78 результат действия (лат.).
79 31 октября 1517 г. Лютер вывесил на дверях замковой
церкви в Виттенберге 95 тезисов против торговли индульгенциями
и других злоупотреблений католического духовенства.
80 Ульрих фон Гуттен (1488-1523) — гуманист, поэт,
непримиримый борец против папства; в 1517 г. опубликовал сочинение
Лоренцо Баллы «О даре Константина», считался автором второй
части «Писем темных людей».
81 Этот спор происходил в 1524-1527 гг.
82 Цвингли, Ульрих (1484-1531) — как некогда Лютер, в
1522 г. обнародовал 67 тезисов, в которых изложил принципы
реформирования церкви. В доктрине Цвингли отвергались
христианские таинства. Оставленные Лютером крещение и евхаристия
рассматривались Цвингли как чисто символические акты, с чем
Лютер не соглашался.
83 Меланхтон, Филипп (1497-1560) — немецкий гуманист,
теолог и педагог, друг и сподвижник Лютера, систематизатор его
теологии. После смерти Лютера (1546) возглавил лютеранство.
84 «Аугсбургское исповедание» — составленный Меланхтоном
под наблюдением Лютера свод важнейших положений
лютеранского вероучения.
86 Улътрамонтане — сторонники распространения папской
власти на область мирских политических дел.
86 После угрозы папы Льва X об отлучении и проклятии
император Карл V вызвал Лютера на сейм в Вормсе (1521),
пообещав ему беспрепятственное возвращение на родину. В Вормсе
Лютер перед лицом императора отказался отречься от своих
взглядов, если их ошибочность не будет доказана «Святым писанием и
ясными доводами». Вормский сейм — это кульминационный
момент в жизни Лютера. Окруженный сочувствием и даже
поклонением, Лютер с этого времени становится героем нации.
87 Кенелевский «Новый завет» — «Reflexions sur le Nouveau
Testaments» — сочинение Кенеля Пасхазия (1634-1719), в 1681 г.
примкнувшего к янсенистам.
88 учительский труд (лат.).
89 Речь идет о борьбе Людовика XIII против власти матери,
Марии Медичи, и ее фаворитов, в результате которой по приказу
Людовика был убит один из фаворитов королевы, а сама она
отправилась в изгнание.
90 Ср.: Р. Декарт. Рассуждение о методе. — В кн.: Р. Декарт.
496
Примечания
Сочинения в 2-х тт. Т. 1. М., 1989, (в дальнейшем: Сон.) с. 256-
268. Здесь и далее во всех цитатах из Декарта курсив К. Фишера.
91 Какому жизненному пути я последую? (лат.)
92 Имеется в виду Люин, ставший после убийства фаворита
Марии Медичи Кончини, главой правительства Людовика XIII.
93 Ср.: Соч., с. 267-268.
94 Фишер имеет в виду «Метафизические размышления».
95 Имеются в виду «Первоначала философии».
96 Капуцины — монахи нищенствующего ордена,
основанного в 1525 г. в Италии в целях борьбы с Реформацией. Картезианцы
(картузианцы) — монахи ордена, основаного во Франции в
1084 г. в местности Шартрез (лат. — Cartasia), откуда они и
получили свое название.
97 жажда мучений (лат.).
98 Шпенер, Филипп (1635-1705) — протестантский
проповедник, настаивавший на сугубо религиозном укладе жизни мирян.
99 о прекрасной жизни (лат.).
100 «Ни креста, ни короны» (англ.) — книга английского
религиозного и политического деятеля Уильяма Пенна (1644-1718),
основавшего в Северной Америке колонию Пенсильвания.
101 Полностью работа Н. Мальбранша называется
«Conversations métaphysiques et chrétiennes» — «Беседы о метафизике и
христианстве» (1676).
102 «Рвение доброго ума» (лат.).
103 наглядно (лат.).
104 «Мир» (фр.). В издании К. Фишера 1906 г. название этого
сочинения переведено как «Космос».
106 Ср.: Соч., с. 274-276.
108 Смысл цитаты таков: сколько бы он ни притворялся, что
его учение было им предложено гипотетически, (лат.)
107 «Пусть хранится до девятого года» (лат.) — цитата из
«Науки поэзии» Горация, рекомендующая не торопиться с
публикацией литературного произведения, требующего тщательной
обработки.
108 Хорошо прожил тот, кто жил незаметно, (лат.)
109 Ср.: Соч., с. 285.
110 Там же, с. 291.
111 Там же, с. 293-294.
112 трактат (фр.).
113 уста, вещающие великое (лат.) — цитата из «Сатир»
Горация.
114 Нет необходимости это говорить, (фр.)
497
Примечания
115 до тех пор, пока не исправится (лат.).
118 вопреки приличию (лат.).
117 «Метафизические изыскания и сомнения» (лат.).
118 «Возражения» и «Ответы» (фр.).
119 несколько грубо на латыни (фр.).
120 общих мест (лат.).
121 ради упражнения (лат.).
122 единственное в своем роде; случайное
обстоятельство (лат.).
123 очень живо (лат.).
124 изыскания (греч.).
126 «Картезианская философия, или Удивительный метод
новой философии Рене Декарта» (лат.).
126 «Рассуждение Ревиуса» (лат.).
127 Название «Метафизические размышления» появилось в
1647 г.
128 Имеется в виду «Разыскание истины посредством
естественного света».
129 «Частные размышления Декарта» (лат.).
130 «Извлечение из рукописей Декарта» (лат.).
131 «Неизданные сочинения Декарта» (фр.).
132 См.: Соч., с. 91.
133 Полигистор — многознающий (гр.).
134 См.: там же, с. 83.
136 См.: там же, с. 156.
138 многознание уму не научает (гр.).
137 с помощью искусства; по счастливой случайности (фр.).
См.: там же, с. 88, 109.
138 См.: там же, с. 82.
139 См.: там же, с. 82-85.
140 См.: там же, с. 82.
141 См.: там же, с. 87, 110.
142 См.: там же, с. 87.
143 См.: там же, с. 87-90.
144 См.: там же, с. 92-96, 104-105, 111-112.
146 См.: там же, с. 83-84, 85, 91-92.
148 См.: там же, с. 104.
147 См.: там же, с. 84.
148
См.: Рене Декарт. Избранные произведения. М., 1950,
498
Примечания
с. 335-336 (далее при ссылках на это издание: Избр. пр. ); Соч.,
с. 314.
149 См.: Избр. пр., с. 337; Соч., с. 315.
160 См.: Соч., с. 163.
161 См.: Избр. пр., с. 338-339.
152 См.: Избр. пр., с 338-340; Соч., с. 316-317.
163 См.: Избр. пр., с. 340; Соч., с. 314, 165-166.
164 См.: Избр. пр., с. 339.
166 См.: там же, с. 340.
166 См.: Избр. пр., с. 340; Соч., с. 316.
167 См.: Избр. пр., с. 344; Соч., с. 269, 316-317.
168 Логическое понятие, иллюстрирующее многоступенчатую
субординацию родовых и видовых понятий.
169 См.: Соч., с. 167 и ел.
160 См.: Избр. пр., с. 353; Соч., с. 269, 333-334.
161 См.: Избр. пр., с. 347-350; Соч., с. 316-318.
162 См.: Избр. пр., с. 355-358.
163 телесная причина; формальная причина (лат.).
164 См.: Избр. пр., с. 358-361; Соч., с. 320-321.
166 См.: Избр. пр., с. 367-370; Соч., с. 321.
186 См.: Соч., с. 270; Избр. пр., с. 360.
187 См.: Избр. пр., с. 362-370.
188 См.: там же, с. 352-370.
189 См.: Соч., с. 282-289; Избр. пр., с. 360-370, 381-388.
170 Бог мыслим; Бог есть (лат.).
171 сущность; существование (лат.).
172 См.: Соч., с. 176-177.
173 сомневаюсь во всем (лат.).
174 См.: Соч., с. 269.
175 путем сравнения (лат.).
176 См.: Избр. пр., с. 362-363.
177 См.: Избр. пр., с. 369-370; 371-372; Соч., с. 328.
178 См.: Избр. пр., с. 376.
179 См.: там же.
180 См.: Избр. пр., с. 374-376; Соч., с. 327-329.
181 См.: Избр. пр., с. 378-380.
182 См.: там же, с. 374.
183 См.: там же, с. 374-375.
184 См.: там же, с. 377.
186 См.: там же, с. 380.
499
Примечания
88 См.: там же, с. 390.
87 См.: там же, с. 390-391.
88 См.: там же, с. 392-396.
89 См.: Соч., с. 334-336.
90 См.: там же, с. 334-336.
91 См.: там же, с. 339-340.
92 См.: там же, с. 337-338.
93 См.: там же, с. 341-345.
94 См.: там же, с. 350, 353-354.
96 См.: там же, с. 353-356.
98 См.: там же, с. 350-352.
97 См.: там же, с. 356-358.
98 См.: там же, с. 358-359.
99 См.: там же, с. 386.
200 См.: там же, с. 359-360.
201 См.: там же, с. 360.
202 См.: там же, с. 355-356, 360-363.
203 См.: там же, с. 363-366.
204 См.: там же, с. 361.
206 См.: там же, с. 367-368.
206 См.: там же, с. 368-369.
207 См.: там же, с. 372-373.
208 См.: там же, с. 369-370.
209 См.: там же, с. 374-377.
210 См.: там же, с. 373, 377-378.
211 См.: там же, с. 371-372.
212 См.: там же.
213 См.: там же, с. 373.
214 скрытые качества (лат.).
216 воздействие на расстоянии (лат.).
218 См.: Соч., с. 377-378.
217 См.: там же, с. 378-380.
218 См.: там же, с. 379-382.
219 См.: там же, с. 383-384.
220 См.: там же, с. 388.
221 См.: там же.
222 См.: там же, с. 388-389.
223 См.: там же, с. 389.
224 См.: там же, с. 393-394.
226 См.: там же, с. 389.
500
228 См.: там же.
227 См.: там же, с. 396-397.
228 См.: там же, с. 390-391.
229 См.: там же, с. 389.
230 horror vacui — боязнь пустоты (лат.).
231 Основанная на принципе Архимеда игрушка,
представляющая собой полую резиновую куклу, весом несколько легче
вытесняемого ею объема воды, а потому плавающую в сосуде,
наполненном жидкостью и закрытом сверху упругой перепонкой.
Нажимая на перепонку, можно заставить водолаза погрузиться на
большую или меньшую глубину.
232 См.: Избр. пр., с. 398.
233 См.: Соч., с. 482.
234 См.: там же, с. 491-493.
236 См.: там же, с. 493-^95.
236 См.: там же, с. 483-484.
237 См.: там же, с. 277-282, 484.
238 См.: там же, с. 281-282, 482-488.
239 См.: там же, с. 490.
240 См.: там же, с. 495.
241 См.: там же, с. 495-497, 499-500.
242 См.: там же, с. 496, 497-498, 499.
243 См.: там же, с. 502.
244 См.: там же, с. 505-506.
246 См.: там же, с. 511.
246 См.: там же, с. 514-518.
247 См.: там же, с. 508-509.
248 См.: там же, с. 509.
249 См.: там же, с. 509-510.
260 См.: там же, с. 511, 513.
281 См.: там же, с. 507.
262 См.: там же, с. 546-553.
283 См.: там же, с. 542-545.
254 См.: там же, с. 542-543.
286 См.: там же, с. 552.
288 См.: там же, с. 513-514.
287 См.: там же, с. 572.
288 См.: там же, с. 503-504.
269 Barbara, celarent (лат.) — фигуры силлогизма.
260 предвосхищение основания (лат.).
261 порочный круг (лат.).
282 прогуливаюсь, следовательно, существую (лат.).
283 «Ответы Рене Декарта на некоторые трудности из его
«Размышлений» etc., собранные им самим. Эгмонд. 16 апреля 1648»
(лат.).
284 «По Бурману, который 20 апреля сообщил Клаубергу, с
коей рукописи я сам снял копию. Дортрехп 13 и 14 июля» (лат.).
501
Примечания
265 «Ради примера я уже представляю и мыслю, что я
одновременно говорю и ем» (лат.).
288 из аффекта (лат.).
267 «Однако в «Принципах» он предпослал следующее
соображение (в качестве априорного аргумента): способ и порядок
нахождения отличен от обучения ему; но в «Принципах» он учит и
упражняется синтетически» (лат.).
288 противоречие в определении (лат.).
269 См.: Соч., с. 334.
270 См.: там же, с. 325.
271 См.: Избр. пр., с. 397-398.
272 влечение против воли (лат.).
273 всеобщим образом (лат.).
274 См.: Избр. пр., с. 398.
276 См.: Соч., с. 495.
276 См.: Избр. пр., с. 391.
277 См.: там же, с. 355.
278 См.: там же, с. 391-394.
279 См.: Соч., с. 492-493.
280 См.: там же, с. 104.
502
ДЕКАРТ:
ОБРАЗ ФИЛОСОФА В ОБРАЗЕ ЭПОХИ
Настоящее послесловие не содержит в себе намерения
подвергнуть критическому анализу книгу Куно Фишера в свете
достижений и точек зрения современного картезиоведения, хотя и не
уклоняется от некоторых оценок этой работы. Интересующиеся
положением дел в этой области могут обратиться к работам,
например, Я. А. Ляткера, Г. П. Матвиевской или В. В. Соколова".
Современная картезиана насчитывает тысячи публикаций и
продолжает постоянно пополняться. Приближающееся 400-летие
со дня рождения основателя научного рационализма, вероятно,
вызовет новую вспышку интереса к ученым трудам и философии
Декарта, что подтверждают все его предыдущие юбилеи. Надо
признать, что, занимая известное место в ряду этих публикаций, книга
Куно Фишера не стала эпохальным сочинением. В этом смысле
она решительно уступает его работам, которые посвящены Канту и
Гегелю и встреча с которыми ожидает читателя в недалеком
будущем. Как и данная книга, они входят в ряд монографий,
образующих «Историю новой философии», прообразом которой были
соответствующие университетские чтения. В этом качестве сводный
труд Фишера, посвященный истории европейского философского
рационализма, не является новинкой в немецкой традиции XIX
века. За два десятилетия до появления его первых томов Шеллингом
были прочитаны «мюнхенские лекции» (1827), вышедшие затем
под заглавием «К истории новейшей философии». Как и позднее
Фишер, Шеллинг выделяет преимущественно рационалистическую
тенденцию как профилирующую линию философии Нового
времени, практически оставив в стороне английский эмпиризм и
ограничившись его уничижительными характеристиками. Но на этом
сходство между двумя изложениями, пожалуй, и заканчивается. В
отличие от фишеровских, лекции Шеллинга не вылились в отдель-
В. В. Соколов. Философия духа и материи Рене Декарта. — В кн.:
Р.Декарт. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1989, с. 3-76;
Я. А. Ляткер. Декарт. М., 1975; Г. П. Матвиевская. Рене Декарт.
М., 1976.
503
Ю. H. Солонин
ные монографии. Их назначение было иным. Шеллинг выступил не
историком философии in sensu stricto, а решительно
интерпретирующим философом, который обозревает процесс
философствования, обеспечиваемого мощью и потенциями разума, до той фазы, у
порога которой оно обнаруживает бессодержательность и
смысловую пустоту рационалистических форм, оскудение сил
умствования, находящего основания только в самом себе.
Рационалистическую философию в таком понимании он именует негативной
философией, противопоставляя ей не эмпирическую, как
«позитивную» («открытие» О. Конта еще впереди), а философию
откровения и мифологии, ставшую финальной точкой его собственной
эволюции. История новейшей философии, таким образом,
становится модусом обоснования нового философского видения,
достигаемого «не просто новым методом или измененными
усмотрениями отдельных материй, а изменением в самом понимании
философии»". История рационализма, по Шеллингу, становится историей
заблуждения и историей его преодоления на пути выработки
высшего понятия философии. Во Франции и Англии философия
утратила почву, подверглась вырождению, философов заменили
естествоиспытатели, и только в Германии она нашла свое истинное
отечество.
Ставя перед собой задачу создать панораму новой
европейской философии, Куно Фишер, конечно, не мог руководствоваться,
как Шеллинг, подобным возвышенно-эгоистическим
самоутверждением. За ним не было того философского приобретения,
которое давало бы для этого хотя бы самомалейшее право. Разумеется,
как всякий серьезно думающий университетский преподаватель
философии, в начале своей карьеры он занялся построением
собственной системы, но сколько-нибудь серьезного значения она не
приобрела, сыграв роль специфической цитаты, по которой
относят Куно Фишера к кафедральным философам гегелевской линии с
существенно кантианскими модификациями. Но, возможно, это
обстоятельство позволило ему более широко и беспристрастно
рассмотреть панораму новой философии, обратив внимание на
присущие ей самой внутренние механизмы «самодвижения», без
того налета телеологизма, который ей придал Шеллинг. Уже одним
этим было заложено основание будущего успеха исследований
К. Фишера. Успех был обеспечен добротностью, наложившей
отпечаток на всю работу автора и на ее результаты. На книгах Фишера
F.W.J. ScheUing. Zur Geschichte der neueren philosophie. Munche-
ner Vorlesungen. Leipzig, 1975, S. 9.
504
Декарт: образ философа в образе эпохи
воспиталось не одно поколение образованных людей Европы, и
прежде всего немцев: в Германии фишеровский труд был признан
лучшим курсом по истории новой философии. Философию Гегеля,
к примеру, чаще знали именно «по Куно-Фишеру», как говорили
прежде в России, нежели по трудам самого корифея диалектики,
что с лихвой удовлетворяло академическим требованиям и
позволяло притязать на основательность философской учености.
Известное значение имело внимание автора к биографии и к личности
каждого философа, оживившей, насколько это возможно было для
тогдашней техники интеллектуального биографизма, суховатый
схематизм историко-философской конструкции гегелевского
толка. Что касается книги о Декарте, то и в ней он заявляет себя
знатоком своего предмета, тем более что Германия обязана ему
трудами по изданию переводов Декарта, а картезиоведение —
обнаружением в германских научных архивах ряда источников,
относящихся к судьбам философии Картезия. Фишеровский «Декарт», как
и другие сочинения, составившие «Историю новой философии»,
дает прекрасный случай познакомиться с той техникой историко-
философской реконструкции, которая господствовала в
академической науке Германии с середины XIX века и в известном смысле
служила эталоном. Генетически эта методология, как отмечено,
восходила к гегелевским представлениям о сущности и структуре
развития философской мысли, оставляющей без внимания все то,
что не является моментом необходимого полагания и обнаружения
идеи, то, в чем она себя не проявляет в процессе своего
саморазвития. Логический схематизм и рациональная спекулятивность —
таковы существенные моменты этого типа историзма. В какой-то
мере они свойственны и методологии Куно Фишера. Их следы
можно ощутить в завершающих частях исследования о Декарте,
где проблема последующей судьбы его учения представлена как
необходимый процесс исчерпания тенденций, содержащихся в
каждой из сторон противоречий картезианской системы.
«Декарт, родоначальник современного рационализма, —
мыслитель XVII века». Этой стандартной фразой, кажется, ничего не
сказано или выражена слишком обычная мысль: каждый человек,
велик он или мал в своих делах, дитя своего времени. В банализи-
рованном содержании этого топоса заглох первичный
существенный смысл. Только человек с притуплённым
культурно-историческим мышлением или тот, кто воспринял историзм как простую
естественную упорядоченность во времени событий, фактов,
жизней, остается безразличным к содержавшемуся в нем намеку на
505
Ю. H. Солонин
культурно-смысловую физиогномику, манифестируемую понятием
эпохи. Его воображение отказывается восстанавливать
продуктивно-понимающую связь между типом эпохи и типом
соответствующей ей личности. Древность он склонен измерять величинами
времени, оставаясь невосприимчивым к истории как конструкции
культурных эпох, в которой время как физическая абстракция
перестает иметь сколько-нибудь существенное значение. Культурное
время вводит иную метрику жизни. Подобно тому как наш
современник может быть бесконечно далек от нас, поскольку пребывает
погруженным в иной и чуждый нашему опыту культурный массив с
недоступной нам социокультурной традицией, так и, наоборот,
человек — безразлично, художник он, мыслитель или политический
деятель — отделенный от нашей жизни десятилетиями и веками,
может оказаться сплетенным с нею интенсивной связью живого
соучастия и продуктивной включенности.
Декарт вошел в мир четыре столетия тому назад и уже не
покидает его, оставаясь активным творческим источником нашей
умственной жизни. Наше восприятие его трудов, строя мысли, в
значительной степени — личности подчиняется тому же принципу
неопосредованности, который определеяет коммуникацию людей,
структурно сопричастных единому жизненному миру. Как всякий
создатель программных начинаний фундаментального характера,
Декарт не столько приобщил нас к великим истинам, сколько
конструктивно определил строй нашего мышления. Время, внося
коррективы в структуру нашего дискурса, не изменило
принципиальных характеристик кода, организующего нашу рациональность. В
известном смысле мы все картезианцы. И в этом качестве мы
обречены разделять также его заблуждения и ошибки. Критики
Декарта, особенно ньютонианцы всех наций, даже его
соотечественники, подобно Вольтеру, неутомимо поставляли все новые
свидетельства несостоятельности научных положений картезианской
физики. Иногда эти суждения носили окончательный резолютив-
но-императивный характер, как бы закрывали вопрос, как у
В. И. Вернадского: «Картезианская физика оказалась столь же
далекой от исторически добытой человеком физики, так же мало
вела к ней, так же была груба по сравнению с природным
явлением, как мало способствовали его признанию грубые физические
аналогии Бэкона»'. И, однако, эти «ошибки» понятны нам, ибо это
ошибки уже нашего мышления, а не линия аристотелевой физики
В. И. Вернадский. Избранные труды по истории науки. М., 1981,
с. 222.
506
Декарт: образ философа в образе эпохи
или натуральная магия XIII-XV веков. Они — в логике уже нашего
дискурса.
В приведенной цитате замечательно это соединение двух
имен, которыми маркировано начало новой эры — духовного
переворота, выведшего Европу на новые пути научного и
общественного развития. «XVII век — великий век в истории
человечества. В этот век впервые выступила наука как реальная сила его
истории. Это — век создания новой философии, новой математики,
нового опытного знания. Они порвали с древней, вековой
традицией средневековой науки и философии, с древней
философией»'. Это тоже свидетельство В. И. Вернадского, который — вот
оно, противоречие! — уточняя, углубляет его: «Творцы новой
философии того времени — Бэкон, Декарт... были
широкообразованными учеными, находившимися на уровне естествознания и
математики своего времени; некоторые из них, как Декарт... являлись
творцами нового»".
Как совместить эти суждения? Не ошибается ли их автор?
Устранить возникающие недоумения невозможно, не обратившись
к рассмотрению самой физиономии XVII века, породившего
людей с новыми мыслями, с новыми поступками, которые в то же
время были отягощены старыми предрассудками, не преодолели
инерцию прежнего культурного поведения. Противоречия этой
физиономии суть противоречия образа жизни и мыслей людей этого
века. Создавая новый научный метод, формулируя новые
принципы познания и руководства ума, отцы новой науки открыли
возможность совершенно особого видения мира, воспользовавшись
ею сами и побуждая это сделать других.
Существенной стороной этого метода было то, что процедуры
и приемы научного познания объявлялись не зависящими от
личности и ее субъективных характеристик свойствами
универсального ума, которым, тем не менее, наделен обыкновенный человек.
Коль скоро это так и они явно сформулированы, то, будучи
усвоенными, они неизбежно должны вести к истине всякого, кто ими
руководствуется, вне зависимости от возможных особенностей
индивидуального ума.
Открытие нового знания превращалось в регулярный и
непрерывный процесс, ибо Книга Природы тем и отличается от книг
В. И. Вернадский. Начало и вечность жизни. — В кн.: он же.
Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания
современников. Суждения потомков. М., 1993, с. 318.
В. И. Вернадский. Избранные труды.., с. 220.
507
Ю. H. Солонин
откровения, что в ней изложены законы правильно устроенного
мира, к которому принадлежит и сам человек. Правильность
действий его ума подчинена общему закону, на котором зиждется
Природа, а не которому противостоит. Поэтому ни авторитет, ни
предыдущий — неподтвержденный — опыт не имеют ни малейшего
значения в делах истины. Для всех, кто встал на этот путь
познания, приобщившись тем самым к «республике ученых», приняв ее
научную этику, стало нормой не цитирование авторитетных
текстов, а поиск доказательств и проверка уже приобретенных знаний
в бесчисленных вариациях новых опытов и видоизменениях
теоретических задач. Переписка ученых того времени пестрит
известиями о новых результатах и опытах, приведших к ним,
формулировками математических задач, предлагаемых для решения, и все это
сопровождается скрупулезным изложением процедур и условий,
при которых они были получены, или доказательствами,
обеспечившими необходимый результат. Знание открывало себя миру,
снимало с себя покров таинственности, в который оно любило
наряжаться прежде в трудах герметиков и оккультистов. И
открывалось в важнейшей и сокровеннейшей части, показывая всякому,
как достигаются его истины, — то есть демонстрировало пружины
научного мышления. И как скоро это было усвоено, критический
аргумент с неизбежностью был использован и в отношении самих
творцов новой науки. Тогда и стало обнаруживаться, что в
фактической части наличного знания не все, что ими сделано,
соответствует тем критериям, которые они сами же утверждали.
Независимость научного мышления — вот один из главных результатов их
реформаторства.
Многое в научном наследии Декарта не получило
подтверждения и просто оказалось ложным. Его физика оказалась не в
состоянии противостоять ньютонианству, хотя в критику
картезианства время вносит смягчающие поправки. Но и в своих
заблуждениях Декарт, как было сказано, нам понятен, ибо это издержки
того образа мышления, того логического стиля, которые
свойственны и нам. Мы принадлежим к тому интеллектуальному
универсуму, принципы которого сформулировал Декарт (по крайней
мере, он был в этой области одним из первых и значительнейших
деятелей) и на котором покоятся современная наука и наша
цивилизация. Может быть, поэтому публикации, посвященные Декарту,
далеки от напыщенно-высокопарного объективизма, которым мы
обычно удостаиваем корифеев прошлого — как своего рода
знаком, отмечающим их историческую важность, но и исчерпанность
508
Декарт: образ философа в образе эпохи
и неприемлемость для настоящего и будущего. Наоборот, с ним
широко спорят, его опровергают и у него вновь открывают
положительные идеи, с ним вступают в диалог, — и при всем том по
отношению к Декарту невообразима даже непроизвольная
фамильярность, ибо мерка гениальности, которой он был измерен в свое
время, и ныне не может быть применена к решительному
большинству тех, кого наша снисходительная эпоха почтила своим
признанием.
Как было замечено выше, труды, посвященные Декарту, с
трудом поддаются учету, а если принять во внимание их
дискуссионный заряд и интерпретационные интенции, это должно показаться
странным по меньшей мере в двойном отношении. Одна из
главных тем публикаций — феномен Декарта. В нем закончена какая-
то интригующая загадка. Действительно, какой интерес может
представлять человек, стремившийся в жизни следовать максиме
скептико-стоического счастья — прожить ее незаметно? А он этот
принцип упорно претворяет в реальность. В его жизни царит
рассудочная предусмотрительность — и только ради того, чтобы
пользоваться досугом, также очень напоминающим античную формулу
otium, как возможностью предаться свободному размышлению и
созерцанию. Насколько в такой жизненной позиции выразились
буржуазный индивидуализм и новое понимание свободы,
прикрытые, как это часто случалось в те времена, античным образцом
поведения, — судить не нам. Интересно другое. Знакомства с этим
замкнутым, чуждающимся славы и известности человеком ищут
многие. Еще до публикации своих сочинений он становится
признанным научным и философским авторитетом. Его совета в делах
познания и жизни хотят сильные мира сего. Это несомненное
свидетельство проявления новой формулы организации культуры, в
которой интеллект и порождаемое им общее состояние умов
начинают играть ведущую роль. Это начало того общественного
порядка, прежде всего во Франции, при котором приобрело характер
безусловной догмы старое и довольно бессодержательное по своей
прямой сути суждение — «Мнения правят миром». Тот, кто их
создает, в каком-то смысле становится господином. Это время
становления и расцвета салонов; начинают цениться меткое слово,
острый анекдот, запечатлевающий нравы общества; возникает
мемуаристика как субъективный жанр, построенный на
самовыражении и свободном суждении об окружающих. Не случайно
Людовик XIV будет озабочен тем, чтобы все наиболее известные люди
его царствования были связаны с его двором и зависели от него.
509
Ю. H. Солонин
Известен анекдот о том, как в присутствии герцога Сен-Симона, о
котором было известно, что он ведет дневники и пишет мемуары,
все стремились говорить умно и вести себя значительно. Конечно,
это факты истории тривиализирующегося ума в структуре
чопорной повседневности. Декарт мало ответственен за вульгарную ути-
литаризацию человеческого рацио, но он, несомненно, не только
стоял в начале умственной революции, приведшей к
возникновению инструментального разума, но и сам был ее движителем. Его
авторитет и влияние непосредственно сказывались в довольно
узком кругу ученого сообщества. При жизни прямых сторонников
его теории и философии было немного. Внешне этому
способствовали подозрения в его католической неортодоксальности, равно
как и внесение его сочинений в знаменитый Index prohibitorum
запрещенных книг. Но слава ученого и учителя жизни за ним уже
утвердилась. На последний момент, кажется, недостаточно
обращают внимания. Секуляризация мысли, достигшая решительного
успеха именно в условиях умственной революции XVII века,
породила любопытное явление. Вековечную христианскую традицию
иметь личного духовника, наставника в делах веры и совести,
владетельные и знатные особы начинают дополнять общением со
светилами науки, внимая их суждениям о делах естественных и
мирских. Появляется как бы двойник стандартной фигуры духовника,
человек вполне светский и общественно признанный. В этом
качестве мы знаем Лейбница, Эйлера, большинство
энциклопедистов, из англичан —Локка. Не смог уклониться от этой роли и
Декарт, несмотря на явную тягостность ее для его натуры. Интересно,
что большое воздействие на становление типа светского духовника
оказали женщины. Они проявляют необыкновенную
предприимчивость и настойчивость, стремясь привлечь избранный объект к
выполнению этих обязанностей. В мире, потерявшем духовное
единство и вынужденном распределять личность между двумя центрами
жизни — новым светским и традиционным сакральным, значимые
стили поведения и организации новой жизни формируются по
образцу и формам старой, более привычной. Каприз шведской
королевы Христины оказался роковым в жизни Декарта. Такова
жертва, принесенная наукой на ее путях к общественному признанию,
первоначально вынужденному пройти этап наставничества.
Еще одно замечание о характере картезианы. Публикации,
составляющие ее, несколько «странны» также своим содержанием и
характером, а именно своей, так сказать, научно- и философско-
герменевтической установкой. Эту установку мы бы не восприняли
510
Декарт: образ философа в образе эпохи
как странность, если бы речь шла о «темном» писателе, философе
мистического склада, натурфилософе, не вполне отвыкшем от эзо-
теризма эпохи средневековья и Возрождения; таких можно было в
изобилии встретить и в позднейшие времена — вспомним о
натурфилософах Германии конца XVIII — первой трети XIX века. Но
ведь следует помнить, что имеется в виду мыслитель, заложивший
фундамент строгого научного стиля мышления, рационализма, на
основ, естественного света ума, ясных отчетливых представлений,
лишенных двусмысленности и неопределенности. Сочинения
Декарта, в чем может убедиться каждый даже по переводам,
представляют собой образцы ясности и четкости выражений. Если
иметь в виду языковую культуру, то следует напомнить, что к
Декарту авторитетно возводят начало прославленного прозрачного
французского литературного языка и особенно французской
научной прозы, получивших развитие в классицизме, и в литературе
XVIII века. Что же подлежало выяснению в том, что собой
свидетельствовало эту ясность? Ответить на этот вопрос не так-то
просто.
Вернадский, которого мы уже цитировали, видел неудачи
естествознания XVII века — в силу которых, главным образом,
последующая физика пошла по иному пути, проложенному
Ньютоном и наукой XVIII века, — в том, что оно покоилось не столько
на действительном опыте, верность которому провозглашалась, а
на «построениях пансофического, пангеометрического или иного
характера», оказавшихся слишком узкими и односторонними,
чтобы вместить в себя все богатство и сложность природного объекта.
Итак, фиксируется противоречие между философскими
постулатами и тем материалом, который предоставляет живой научный опыт.
Следовательно, требует выяснения соотношение теоретического
принципа и факта, а в пределах теории — выяснение
философских предпосылок, особенно неявных, и рациональных
компонентов собственно научного происхождения. Это постоянные темы
методологии и философии науки всего последующего времени,
особенно развившейся в XX веке. В отношении учения Декарта
они стоят так же остро, как и в отношении любого другого
значащего теоретика науки. Давно отмечено, что рационалистические
предубеждения Декарта, связанные с его верой в естественную
силу разума, не раз побуждали его к дедуцированию там, где
требовалось обращение к опыту, т. е. к наблюдению, эксперименту. Да и
сама рационалистически трактуемая интуиция нередко оказывала
скверную услугу и плохо оправдывала возлагавшиеся на нее на-
511
Ю. H. Солонин
дежды. Перечень заблуждений Декарта относительно
фундаментальных физических вопросов,равно как и обсуждение этих
заблуждений, приводится довольно часто'. Их начали перечислять
еще при его жизни. В числе регистраторов Фонтенель и Вольтер,
Мопертюи, Лейбниц и сам Ньютон, нередко в неявной форме,
и др. Укоры справедливы по большей части: не делал или слишком
мало делал опытов; не открыл с помощью своего естественного
света разума ни одного важного закона природы, в
противоположность Галилею, Гюйгенсу, Ньютону. Выяснению сути дела
посвящены приводимые нами работы о Декарте, поэтому мы оставляем
в стороне обсуждение этих претензий. Ясно одно — что Декарт
сформулировал физическую теорию, развивающую концепцию
природы (картину мира), альтернативную ньютоновской
натурфилософии. Она оказалась более спекулятивной, более отягощенной
метафизическими предпосылками, чем того требовал предмет и тем
более дух нового естествознания. Ньютон опирался на более
развитую теорию эксперимента; хотя прошло немного времени, но он
жил уже в несколько ином научном климате, успевшем
существенно критически осмыслить картезианскую натурфилософию. Правда
и то, что, не придав математически четкую формулировку
основным физическим принципам, так прославившим Ньютона, Декарт,
однако, знал их или подразумевал (принцип инерции, принцип
относительных), что доказывается современными знатоками
вопроса. Владея тем, что сделал Декарт, можно было идти вперед
смелее, мыслить точнее.
Но спор не закончен. Один из выводов относительно
развития научного знания заключается в том, что оно всегда
альтернативно. В тени господствующей, победившей и утвердившей себя
научной парадигмы прозябает одна, но чаще несколько программ,
обычно третируемых как ненаучные, но только в силу того, что они
строятся на иных принципах, иных интерпретациях и на иной
совокупности фактов. Научное движение идет вперед не только как
реализация потенциала господствующей научной традиции
(вспомним парадигму Т. Куна), но и как неявная дискуссия с
оппонентами за ее пределами. Теневые программы нередко хранят
третируемые положения, в критический момент затребуемые и
составляющие материал, из которого в научной революции формируется
новая концепция науки. Едва ли можно безоговорочно согласиться с
В. И. Вернадским в том, что ньютонианство победило картезиа-
А. Койре. Ньютон и Декарт. —В кн.: он же. Очерки истории
философской мысли. М., 1985.
512
Декарт: образ философа в образе эпохи
низм окончательно или что Кант безусловно принял и философски
освоил Ньютона. Это так и не так'. Современные исследования
показывают, что концепция Декарта, его космология чреваты
идеями, которые отнюдь не беспочвенны с точки зрения современных
проблем физики и астрофизики. Фундаментальные теории никогда
не опровергаются окончательно и не теряют своего значения в
абсолютном смысле. В таком понимании сути дела заключен мотив,
побуждающий вновь и вновь обращаться к теоретическому
наследию Декарта и как к поучительному опыту истории мысли, и как к
резервуару научных идей и догадок. А если присовокупить к этому
изменения научного и культурного контекста, порождающего все
новые аспекты картезианской мысли и интерпретационные
подходы, то становится понятным, что устойчивый интерес к Декарту
вполне естественен и закономерен.
Но вернемся к тому, что мы заметили в начале: к мысли о
Декарте как человеке XVII века. Эта эпоха — одна из самых
примечательных в культурной истории Европы. Едва ли возможно
охарактеризовать ее кратко. Приведем только некоторые факты,
свидетельствующие о ее исключительности. В важнейшей для того
времени сфере общественной жизни — религиозной —
произошел важный сдвиг. После замечательных успехов протестантизма в
предыдущее столетие католическая церковь выходит из состояния
как бы безвольной завороженности силой духа противника и
делает гигантские усилия для восстановления своего могущества.
Начинается эпоха контрреформации, идеологически и догматически
венчаемая решениями Тридентского собора, политически — по
сути первой всеобщей войной европейских народов,
Тридцатилетней войной, которую можно было бы назвать и первой мировой; в
ней, впрочем не очень активно, принял участие и Декарт.
Культурные последствия этих процессов надолго определили
последующую историю духа Европы. Это время утверждения
классицизма в литературе и многих формах искусства, но одновременно и
реакции на него — барокко, утвердившегося главным образом
там, где победил католицизм (Италия, Испания, Германия). «Давно
отмечена его связь с контрреформацией и реакцией
феодализма,» — пишет Д. С. Лихачев. И далее: «Эпоха барокко была эпохой
борьбы с ренессансными достижениями, наступления церкви, Габ-
Я попытался это показать в своей работе, см.: Ю. Н. Солонин.
Наука как предмет философского анализа. Л., 1988.
513
Ю. H. Солонин
сбургской монархии, свирепств иезуитской цензуры»'. Во
Франции положение двусмысленное, менее определенное. Вспышки
католического фанатизма (Варфоломеевская ночь) сменяются
периодом терпимого отношения к гугенотам, которое, однако, внутренне
непрочно, ненадежно. Тип людей, подобных Декарту, с их
неустойчивостью, сдержанностью в суждениях, с их нежеланием проявлять
себя на общественном поприще, вовсе не был редким, как не было
редким ренегатство или тайное отступничество, что побуждало к
религиозному и разоблачительному рвению (казус Паскаля). Но
одновременно это век редчайшей интенсивности производства
научных и философских талантов или расцвета их деятельности.
Однако и в этой области положение во Франции своеобразное. Она
едва ли не последняя из европейских стран, научный мир которых
признал и освоил коперниканскую картину Вселенной. Научный
консерватизм во Франции проявлялся и позднее, уже в освоении
ныотонианства, которое с трудом преодолевало влияние
автохтонного картезианства.
В европейской культурной истории — возможно, в истории
духа вообще — существует некий закон, проявляющий себя в
отчетливой ритмичности, с которой периоды разреженности идей
сменяются эпохами их необыкновенно интенсивной
производительности. Замечено, что античная философия занимает всего-
навсего чуть более полутора столетий, в которые были созданы все
ее наиболее существенные системы и направления. Философия
отцов христианской церкви имеет творческий характер с середины
IV по VI век, то есть тоже на протяжении примерно двух веков.
Столько же длилось Высокое Средневековье, Возрождение.
Творчество не есть равный самому себе продуктивно-репродуктивный
процесс, который, как кажется, наличествует всегда, когда
культурной работе человечества не мешают прискорбное влияние чуждых
ей сил из мира политики, этнических движений и экономических
потрясений. Оно обнаруживается как пульсирующая жизнь,
временами поражающая необыкновенной существенностью творческих
идей и свершений, и завершается длительным периодом духовной
стагнации. Так происходит в культурной истории науки и общества
в целом. Все усилия объяснить восходящие или деградирующие
тенденции культуры факторами внекультурного порядка обычно
построены на технике ad hoc или логике post hoc, ergo propter hoc,
поэтому остаются малоубедительными или разочаровывающе од-
Д. С. Лихачев. Развитие русской литературы X-XVII веков. Л.,
1973, с. 194, 195.
514
Декарт: образ философа в образе эпохи
нообразными. XVII век относится именно к тем периодам в
европейской истории, которые отмечены исключительной
результативностью духовной деятельности, возможно структурно совпавшей с
изменением (или даже породившей его) всего фундамента жизни
человека западного мира. Именно в значительной степени
благодаря ему создан тот феномен, который стал именоваться
Западом, — с его наукой, техникой, в основе которых лежит
утилитарно ориентированный разум и холодно-расчетливое отношение к
миру, постепенно ставшему лишенным жизненной
определенности абстрактным объектом; с его общественно-политическим и
хозяйственным установлением человеческого бытия, утвержденного
на самоценности индивидуализма и демократии как форме его
гарантированного воплощения, а также на частной собственности —
этом основании свободы и конечной цели прагматического
поведения человека.
XVII век — с резко выраженной и своеобразной
физиономией. Хотя физиогномический подход к культуре не пользуется
почетом в академически вышколенной детерминистической истории
культуры и культурологии, однако тяга к странно завораживающим
морфологическим воспроизведениям ликов культуры,
предпочитающая позитивистской плоскости объяснений свободную пластику
ее линий, не столько «эмпирически данных», сколько
«усматриваемых» нервно напряженным внутренним зрением, улавливающим
«внутреннюю форму» слабо фиксированного, внешне
неустойчивого культурного ландшафта, постоянно обнаруживает себя в
европейской культурной традиции, кажется, со славного XVIII века.
Вызывая презрительно-небрежную критику ученых культурологов,
физиогномические уяснения культуры, нисколько не стремясь
преодолеть свой очевидный дилетантизм, успешно утверждаются в
головах любителей приобщиться к загадочным проблемам жизни и
духа. Сейчас забыт успех колоссальных если не по умственному
содержанию, то по необычности и характеру исполнения
«Физиогномических фрагментов» И.-К. Лафатера. Они еще мало культур-
философичны, но уже в них заключены существенные тенденции к
будущему сопряжению культурной и личностной физиогномик. Эхо
влияния этой энциклопедии характеров в русском культурном
обиходе отзывалось еще в 40-х годах следующего века: салонные
разговоры героев Пушкина, Лермонтова, Толстого. Как к пророку,
провидцу устремлялся к Лафатеру за полвека до этого Русский Пу^
515
Ю. H. Солонин
тешественник (Карамзин)". Тенденция становилась традицией.
Она культивируется в конце XIX века в салонах Вены, Мюнхена:
любопытна эта немецкоязычность физиогномики. Работы Х.С.Чам-
берлена, германизированного англосакса, дают нам ощущение ее
существования, которое уже вьявь обнаруживается как
руководящий прием в утонченно-усложненных эссе и литературных
зарисовках Рудольфа Касснера, германского философа со славянской
кровью. Физиогномическая культурология Людвига Клягеса,
культурологическая публицистика Германа Кайзерлинга могут быть
включены в эту традицию. И уж конечно — Освальд Шпенглер.
Возможно, благодаря этой традиции для нас очевидной истиной
является мнение, что познать личность вне ее времени, вне
царящего в нем духа, вне общественного и культурного быта — а
теперь настойчиво утверждают, что и вне повседневности, —
невозможно. Но главное даже не это; для объяснения деяний
человека значение фона его жизни всегда было более или менее ясным.
Главное заключалось в том, что вносилось представление о
жизненно-целостном способе существования этого времени или
эпохи. Ее основные морфологические элементы, архетипическая
матрица, продуцирующая культурный тип, неизбежно участвуют в
воспроизведении типа человека данного времени, доходящего до
воспроизведения структурно гомоморфных типов жизненного
поведения людей — «биографических типов». Эмпирически трудно
констатируется, но в усмотрении дана связь человека и его времени. И
если иметь в виду Декарта и XVII век, то связь эта особенно
ощутима. Мы улавливаем ее прежде всего в стиле мышления и стиле
жизни философа. Правда, Куно Фишер обходит стороной это
обстоятельство. Биография Декарта изложена как-то неравномерно,
неубедительно именно в этом отношении. Автор как бы стремится
побыстрей отделаться от биографических затруднений и
частностей, чтобы поскорее углубиться в сочинения, в их содержание, в
структуру мыслей, дать их тщательную и добротную
систематизацию. И это понятно — Фишеру с биографией нечего делать; для
него она нечто такое, что стоит особняком по отношению к
самодостаточному творчеству разума, воплотившемуся в
индивидуальной мысли Декарта. Это — невостребованный строительный
материал, заготовленный нерасторопным подрядчиком для возведения
строения, в нем не нуждающегося изначально. Идущая от Гете
линия понимания творчества, видящая в жизни человека
необходимую целесообразную форму его творчества, осталась в гегелевской
См.: Ю. М. Лотман. Сотворение Карамзина. М., 1987.
516
Декарт: образ философа в образе эпохи
традиции невоспринятой. Своеобразный парафраз этого
понимания мы встречаем у Шпенглера в учении о физиогномическом
способе объяснения мира. Он противоположен систематическому
подходу, укладывающему события, факты и процессы в каузальные
и пространственно-протяженные законосообразные и регулярные
соотношения (систематику). Но если науку понять как способ
духовного самопознания человека, то, через что он «рассказывает
самого себя», тогда она определенно составляет фрагмент
физиогномики. Необходимо еще одно важное уточнение: фрагмент не
индивидуальной физиогномики, а «физиогномики всего
человеческого». «Ученый как таковой и результаты его исследований,
составляющие некий корпус голой осведомленности, просто исключаются.
Значение придается здесь сугубо математику (таков
конкретизирующий пример Шпенглера. — Ю. С.) как человеку, чья
деятельность составляет часть его облика, а знание и мнение — часть его
экспрессивного проявления, и притом в качестве органа известной
культуры. Через него глаголет она сама о себе самой. Как
личность, как ум открывающий, познающий, формирующий, он
принадлежит к ее физиогномике»". В этой позиции скрыто одно
неожиданное следствие: наука как бы перестает быть делом
приобретения знания, его добывание не является самостоятельной
целью, безотносительно к данной культуре. Важно то, что через
фигуры знания культура за-являет себя, подобно тому как она это
делает посредством языка символов любой другой человеческой
деятельности. Человек не постигает мир, это культура являет себя,
используя человека как свое орудие: прирожденный математик
становится в один ряд с великими мастерами фуги, резца и кисти,
равным образом стремящимися облечь в символы, осуществить и
сообщить другим тот великий распорядок всех вещей, который
обыкновенный человек их культуры носит в себе, фактически им
не обладая. Тем самым царство чисел становится отображением
мировой формы, наряду с царством тонов, линий и красок.
Суждения Шпенглера для нас особенно интересны, ибо он
формулировал их, имея в виду ситуацию и XVII века, и Декарта специально.
Как каждая значащая культура возникает согласно принципу ex ni-
hilo, так в силу этого и основные формы ее самовыражения не
имеют своей предыстории в предшествующей культуре: они
создаются наново. Если в отношении античной математики, этой формы
античного духа, подобное положение обладает некоторой мерой
очевидности, то как быть с европейской наукой Нового времени,
О. Шпенглер. Закат Европы. Т. 1. М., 1993, с. 257-258.
18 Куно Фишер
Ю. H. Солонин
имеющей ее своей предшественницей? Шпенглеру ясно, что связь
и преемственность здесь только мнимые, внешние. Глубинная
работа «духа Запада» выразилась в приобретении себе собственной
науки через уничтожение античной. В области математики это
сделал Декарт. Причем его деятельность двоякая: негативная и
позитивная. Нельзя разрушить старое, не обладая идеей нового. Она
возникает в душе спонтанно как идея гештальта — структурного
принципа новой культуры. Математик есть духовидец,
«ощущающий в себе красоту истинного». И вносящий ее в мир своим
творчеством. Декарт, по Шпенглеру, внес «новую идею числа». «В то
время как античная душа в лице Пифагора пришла около 540 года
к открытию своего аполлонического числа как измеримой
величины, душа Запада в лице Декарта... нашла в точно соответствующий
момент идею числа, родившуюся из страстной фаустовской тяги к
бесконечному»'.
Но вдумываясь в логику «физиогномического» хода
рассуждений, мы видим странную вещь: человек в его конкретном
воплощении, в его биографизме также оказывается невостребованным,
хотя он как жизненность, вне которой культура себя не реализует,
заявляется в качестве принципа физиогномического подхода.
Возможно, что проблема биографии человека как формулы
творчества, соединяющей индивидуально-уникальное с культурно
значащим, в принципе неразрешима, хотя, обладая провоцирующим
стимулом, побуждает нас углубляться, решая ее вновь и вновь, в
тайны культуры и человеческого творчества.
Не упуская из виду поучительного опыта Шпенглера, мы,
однако, склонны искать решение проблемы взаимоотношений
человека и его эпохи, шире — культуры, на путях иных, более
гармоничных согласований, уточняя понимание все более конкретными
понятиями.
Тип культуры — это некий интеграл биографических типов
делающих ее людей. Биографический тип — это, прежде всего,
структурная характеристика индивидуального жизненного
состояния, воспроизводящего в сжатой форме единичной жизни
конкретного человека основные жизненные состояния века и
согласующегося с ними. И между ними нет генетической зависимости, а
имеется взаимная обусловленность.
Пишущие в наши дни склонны более внимательно отнестись
к драматической, по сути, жизни Декарта — драматизму,
проистекающему из странной противоречивости его века. Это век, оцени-
" Там же, с. 227-228.
518
Декарт: образ философа в образе эпохи
ваемый как время первых буржуазных революций: Нидерланды,
Англия выходят на новую общественно-хозяйственную линию
развития, предопределившую последующую историю Европы.
Формируется гражданское общество и его политическая философия.
Права на жизнь, на личную собственность, на свободу не только
провозглашаются в этот век, но обосновываются и в конце концов
начинают утверждаться". Но как! В обстановке диктатуры,
революционного террора в Англии, преодоления абсолютистских
притязаний последних Стюартов и оранжистов. На континенте же
абсолютизм только утверждается. Он еще только будущее Европы — и
недалекое. Именно во Франции он расцветет почти в классическом
совершенстве в эпоху Людовика XIV, хотя и после смерти
Декарта, но в тот же век. Два принципа — принцип государственности и
принцип частной жизни встали отныне перед европейским
человеком как экзистенциальная дилемма, решать которую он обречен
вплоть до наших дней. Выбирая первый, человек растворялся в
организме государства, олицетворяя собой какую-то его функцию.
Так, во Франции того времени человек оказывался значим лишь
настолько, насколько он был значим как придворный. Декарт же
выбрал формулу жизни согласно основным принципам
гражданского общества. В этом он согласовался с глубинной тенденцией
своего времени, не утвердившей себя, однако, в качестве законной
и общепризнанной. Он воплотил эти принципы как способ
частной жизни, как утверждение ценности бытия частного человека.
Ему был чужд политический и публицистический темперамент
Дж. Локка. Но и осознание себя как придворного, как члена
общества сеньориального типа еще не вполне покинуло Декарта. Он,
тяготясь светской жизнью, еще вынужден соотноситься с ее
принудительными условностями. Он еще испытывает зависимость от
двора и через сильных мира сего пытается решить некоторые
житейские проблемы.
XVII век, о чем чуть ранее говорилось, — время бурного
разрешения уже векового религиозного раскола. Как он значим
оказался для Европы! Кровавая Тридцатилетняя война, ставшая
средством решения конфликта, закончилась не только
опустошением Центральной Европы, не только формированием в ней двух
миров: католической и протестантской Европы, — она привела к
сдвигу и перестройке психических основ личности, в результате
которых сформировался новый психический тип человека. Появле-
См.: Э. Ю. Соловьев. Феномен Локка. — В кн.: Прошлое толкует
нас. М., 1991, с. 146-166.
519
Ю. H. Солонин
ние этого типа означало окончательный выход европейца из
средневековья. Человеку этого типа свойственно строить свою жизнь,
полагаясь на индивидуальную предприимчивость, изворотливость
и умение, а не подчиняясь цеховому, корпоративному принципу.
Человек воочию увидел, что не государство, не церковь, не
община или цеховые гарантии обеспечат его бытие: они оказались в
тяжелую годину безразличны к нему, даже враждебны. Одни
рухнули, другие, как государство, его грабили. Хотя вера и двигала
людьми, но церковная организация потеряла свой сакральный
авторитет. Католическая контрреформация на долгое время сделала из
церковной организации механизм подавления, источник страха.
Стали классикой положения В. Зомбарта, И. Вебера о
значении иудаизма и протестантизма для развития духа
предпринимательства и деловой активности. Как бы ни уточняли эти положения
последующие исследователи, основной принцип, связывающий
эти сферы культуры и жизни, видимо, верен. Но на что меньше
обращается внимания, так это на то, что он имеет отношение и к
развитию науки. В странах католической реакции — Испании,
Италии она постепенно приходит в упадок; центры ее активного
развития смещаются на север: в Швейцарию, Англию, Голландию,
центральные и северные части Германии. Франция занимает
двойственное положение ввиду неопределенности религиозной
ситуации. Варфоломеевская ночь имела для гугенотов значение
парализующего шока, но сломить их не удалось. В последующем
установился довольно шаткий компромисс. Он не допустил разгула
инквизиции, терпимость стала некоей нормой, впрочем,
возмущавшейся некоторыми эксцессами ригоризма, как правило в ответ на
формальный религиозный деспотизм иезуитов в сочетании с
деморализацией общества. Декарт остался внешне правоверным
католиком. Он не упускал, где считал нужным, подчеркнуть свой
католицизм. Возможно, субъективно он был честен. Но человек разума,
человек уникальной способности к рациональной (не мистически
пылкой) саморефлексии, он не мог удовлетвориться мыслями о
церкви и Боге, обычными для рядового мирянина. Проблему
церкви он решил как человек XVII века, а проблема Бога, как он ее
представил в своих трактатах, не удовлетворила никого из его
последователей и оппонентов. Она стала одной из причин острейших
дискуссий, повлиявших на судьбу картезианства после смерти
мэтра. Его определенно подозревали в склонности к протестантизму,
которую небезосновательно видели и в общем духе его
философствования, и в жизненной установке человека буржуазного типа, и
520
Декарт: образ философа в образе эпохи
в частностях генезиса его идей. Как известно, в протестантизме
получил своеобразное преломление августинизм. Сочинения отца
западной церкви, величайшего автора католицизма
парадоксальным образом стимулировали дух антикатолического диссидентства.
Вопрос этот непростой, и он породил обширную литературу.
Заметим только, что большое впечатление производила августиновская
установка на самоанализ, на требование к человеку самому
держать ответ перед своим Богом, который соотносится с ним без
посредников, — а равно и суровый дух этики без экзальтации и
внешних демонстраций веры. Августин влиял на французских ян-
сенистов и близкого к ним Паскаля. Был близок к нему и Декарт.
Известен факт, что только по прочтении трактата Декарта с
формулировкой cogito было обращено внимание автора на ее совпадение
с аналогичной мыслью Августина в его сочинении «О Граде Божи-
ем». Действительно, Августин признал мысль, и притом в ее сущ-
ностно ориентированном состоянии, как мысль о Творце и себе
самом в отношении к Нему, принципиальным онтологическим
достоянием человека. Впрочем, представляется неоправданным
полное отождествление того, что имел в виду Августин, с принципом
cogito, ориентирующим на ясное разумение. Тем не менее связь
очевидна. Что это? Случайность совпадения идей, не столь уж
редкая в истории человеческой мысли? Конечно, нет. Заметим хотя
бы то, что христианство вообще открывает субъективный мир
человека в той его масштабности и антропологическом значении,
каких не могла представить античная философия. Ни демон Сократа,
к голосу которого он прислушивается и согласно совету которого,
воспринимаемому только внутренним слухом, поступает, ни
размышления стоика-императора Марка Аврелия и более тонкие и
сложные — Сенеки и Эпиктета не могут в этом отношении
сравниться с тем, что дано в «Исповеди» Блаженного Августина.
Средний человек, по замечанию французского медиевиста М. Блока,
был чрезвычайно занят миром своих чувствований, переживаний,
фантазий и сновидений, ибо они были явлениями жизни самого
главного в нем — его души. Таким образом, структурно идея
Декарта запрограммирована самим духом христианства и до него не
раз воспроизводилась различным образом в качестве принципа
единственного достоверного основания существования человека.
Шпенглер был в известном смысле прав, когда утверждал, что в
отношении идей XVII век дал не так уж много оригинального, чего
бы не знало средневековье. Но, тем не менее, Декарт далеко не
человек средневековья. Его cogito действительно было новым при-
521
Ю. H. Солонин
нципом не только по способу формулировки, но и по смыслу,
сообщенному ей, а затем — по той роли, которую оно сыграло в
системе рационального самоопределения человека и его
деятельности. Поэтому именно картезианский принцип был положен в XX
веке в основу экзистенциально-феноменологических
размышлений о человеке, его сознании и его мире, а не августинианский,
хотя в родословной экзистенциализма Августин занимает уже
почти обязательное первое место.
Конечно, тот факт, что различные мыслители апеллируют к
некоему общему источнику или авторитету, — еще недостаточное
основание для их объединения в одну традицию или школу. Но с
учетом других деталей он все же значим.
Декарт — основатель нового рационализма. Мы это
подчеркиваем, ибо рационализм был чтим и в средние века. Даже Пьер
Абеляр не начинает традицию схоластического рационализма, в
ней присутствуют фигуры теоретически и более значимые: Фома
Аквинат, Уильям Оккам, Роджер Бэкон... вплоть до Рамэ.
Последнее имя особенно значимо в ряду непосредственных
предшественников Декарта, хотя К. Фишер не обратил на него должного
внимания. Следовательно, стоит вопрос: в чем отличие Декарта от
рационализма прежнего времени. Считается неприличным, учитывая
борьбу Декарта со схоластизированным Аристотелем и его
сторонниками, сопоставлять Картезиуса со схоластами. Но без этого не
обойтись. Какой бы острой ни была критика, она не снимает
вопроса о сути дела и о том, чем продуктивно новым замещается
старая доктрина.
Конечно, Декарт в своей критике не имел в виду схоластику
вообще, а тем более в ее исторически прогрессивной форме
периода Высокого Средневековья. Неясно, насколько знакома она была
ему в нетеологической форме. Другой мыслитель — Лейбниц,
более начитанный по этой части, более чуткий к вопросам логики,
оказался куда справедливее, высоко оценивая логические «суммы»
схоластов. История науки, правда, уже в XX веке, подтвердила
верность интуиции Лейбница. Декарт отрицает или низко ценит
научное достоинство логики в ее силлогистическом модусе. В
хитросплетениях и казусах фигур силлогизмов исчезает мысль,
содержание, нет движения к новому умственному приобретенью. Старый
рационализм имел две ипостаси: риторико-диалектическую и
логико-силлогистическую. Ни одна из них не годилась в качестве
органона науки. Новое в понимании Декарта — это методизм, т. е.
организованное, регулируемое правилами движение мысли, в про-
522
Декарт: образ философа в образе эпохи
цессе которого приобретаются новые истины либо
обосновываются и упорядочиваются уже имеющиеся. Но и здесь необходима
оговорка. У него был предшественник и в этом: это упомянутый выше
Пьер Рамэ. Об этом мыслителе непростой судьбы крайне мало
известно, и он почти списан в архив историко-научных диковинок.
Но в истории сдвига от средневековой культуры к новой он одна
из ключевых фигур. Преодолевая инерцию схоластики, он выходит
на пути методического истолкования движения научной мысли.
Критикуя Эвклида, он вменяет ему в вину именно отсутствие
метода, некоей регулятивности движения мысли". Возможно, что
критика не вполне по адресу, да и сам метод Рамэ еще не может четко
представить в его существе. В его трактовке не выявлены две
важные стороны. Рамэ не выработал представления об объективных
основаниях метода, которые делают его обязательным и
общезначимым, и не уяснил природу его регулярности в виде системы
конечных четко и однозначно сформулированных правил, связанных
со структурно-количественными свойствами объекта, а не его
качественностью. Декарт стоит несравненно выше Рамэ и поэтому
бесспорно признан основателем рационализма науки и
философии Нового времени.
Время меняет оценки людей, событий и даже целых эпох.
Суда истории нет — это в значительной степени бессмысленная
риторическая фигура, и напрасно ей придают какое-то священное
значение. Но меняются во времени не только оценки — куда
важнее, что меняются сами их объекты. Бывает так, что размываются
их очертания, и они исчезают, как бы растворяясь в окружающем
их фоне. Но бывает и так, что они подвергаются некоей
констелляции, как бы коснеют, упрощаются, резко и однозначно
очерчиваются, лишаясь качества и глубинного изменения. Люди вдруг
начинают послушно соответствовать своим терминам-определителям:
рационалист, мистик, вульгарный материалист, агностик... Образы
и схемы, выкованные в классических монографиях, академических
исследованиях, престижных энциклопедиях, скрывают живых
личностей, которые выросли на почве раздираемых несогласиями
динамичных эпох, отзывающихся в их душах сумятицей чувств и
неустойчивостью влечений. В каком-то смысле это относится и к
Декарту, кристальная ясность суждений которого, ставшая
эталоном рационалистического пуризма, провоцирует нас на то, чтобы
видеть его личность в одномерной рационалистической плоскости.
Возвращая ее к создавшему Декарта времени, мы обретаем
единственную возможность в физиономии века различить черты
облика одного из его творцов.
Матвиевская Г. П. Петрус Рамус. М., 1974. с. 48.
именной указатель
Абеляр П. 71
Августин 50-55,66,68,73,75,83,
122, 140, 141, 147, 149-151, 207,
214, 428-430, 457, 463-465
Аверроэс 73,87-89
Авиценна 73
АгриколаР. 87
Агриппа фон Нетгесгейм 99,101
Александр Афродизийский Экзегет
87
Альберт Великий (Магнус) 73, 75
Анаксагор 22, 23, 27
Анастасий, епископ
Александрийский 50
АндреВ. 184
Ансельм Кентерберский 66-69,
336
Арий, пресвитер 50
Аристотель 22, 26, 27, 29, 38, 39,
70-72, 75, 86-88, 196, 207, 214,
304, 307, 418, 480
АрминийЯ. 178
Арно А 151, 152, 168, 240, 241,
267, 424-431, 433, 441, 450, 457
Архимед 325, 326
АхиллиниА 87
БёмеЯ. 103
Бальбоа 124
Бальзак 194,203,204,207
Бауэр Б. 50
БейльП. 6
БекманИ. 178,201,245,290
Беллармин, кардинал 133
Беренгар Турский 65, 66
Беркли Дж. 158, 482
Бернулли 295
Берюлль, кардинал 194, 197, 198,
301
БецаТ. 107
деБон 194,228,230,288
Бонавентура 102
Бонифаций УШ, папа 61-63, 77
Борджиа Ц. 92
Браге Т. 124, 126-128, 182, 384,
386, 389
БруккерИ. Я. 6
Бруно Дж. 106-114,116, 117, 132
Бурден, патер 169, 241, 250, 262,
265, 289, 424, 426, 431, 432, 446,
447
БурманФ. 449-452
Бэкон Ф. 158, 163, 196, 198, 300,
304, 307, 308, 425, 457
Валла Л. 86, 87
Ванини Л. 116, 117, 132, 252, 257
ВаскодаГама 123
ВейгельВ. 101,103
Вергилий 207
524
Именной указатель
Виллебресье 194, 197
Виссарион Никейский, кардинал
95
Вольтер 158
Вольф X 158
Воэций Г. 179, 207, 208, 246-258,
265, 270
Галилей Г. 110, 128-135, 153,
194, 225-227, 229, 230, 295, 362,
381, 388-391
ГарвейУ. 225,248,400,401
Гарди 194
Гассенди П. 193, 196, 240, 241,
262, 424, 425, 427, 428, 431, 433,
434, 436, 444-446, 450, 457
Гейлинкс А. 460, 477
Генрих Ш, король Франции 108,
147
Генрих IV, император 62
Генрих IV, король Франции 168,
169
Гераклит 19-21,23,304
Гете И. В. 99
Гоббс Т. 158, 196, 240, 241, 424-
428, 431, 433, 434, 438, 440, 444,
446, 447, 450, 457, 467
Гогенштауфены 62, 63, 83
ГомарусФ. 178
Гомер 207
Гораций 227
Горгий 23
Грациан 62, 74
Григорий I, папа 60
Григорий Vu Гильдебранд, папа
50, 61-66, 77,136
1усЯ. 136
Густав Адольф, король Швеции
209, 274, 279, 285, 287
iyrreH У. фон 98, 141
Данте 82-84, 86, 93, 102, 113,
115, 123
ДезаргЖ. 194,196,241
Демокрит 21, 425
Диоген Лаэрций 6
Диоклетиан, римский император
47
Дионисий Ареопагит 56
Дрейк Ф. 124
Дуне Скот И. 71, 75-77, 109
Елизавета, пфальцграфиня 208-
212, 214-218, 243, 259, 264, 267,
270, 273, 281, 284, 289, 415, 468,
472
ЖерсонИ. 102
Жибьеф, патер 194,238,241
Зенон 20
Зороастр 96
Иннокентий Ш, папа 61, 62, 65,
77, 115,136
Иннокентий X, папа 152
Иоанн, апостол 96
Иоанн Скот Эриугена 64-66
Иоанн Сгобей 6
Кабрал П. А 124
Кальвин Ж. 55, 107, 140, 141,
143,150
КампанеллаТ. 112-116
Кант И. 17, 128, 159, 460, 480,
484,485
КарданоДж. 105
Карл Великий, император 60
Карл П Лысый, король франков
64
Катерус 239, 241, 424, 431, 437,
443
Кеплер И. 248,389
Кирилл, патриарх
Александрийский 50
Клерселье К. 263, 264, 289, 291,
292, 294, 295
Колумб X. 123,124,130,135
Кондильяк Э. Б. де 271
Константин Великий, римский
император 47, 61, 86
Коперник Н. 110, 124, 127-131,
133, 135, 225, 230, 362, 384, 386,
389, 390
Кортес Ф. 124
Ксенофан 20
Кузанский Н. 85,110,111
Лабади 208,217
Ламетри Ж. О. де 271, 272, 482
525
Именной указатель
Ланфранк 65, 66
Лев I папа 60
Лев X, папа 84
Левкилп 21
Лейбниц Г. Б. 158, 163, 164, 184,
190, 191, 211, 218, 295, 351, 460,
480, 481
ЛессингГ. Э. 41
Ливии 91
ЛойолаИ. 144,145
Локк Дж. 158, 481
Ломбард П. 74, 75
Лоренцо П Медичи 92
Лукреций 109, 425
ЛуллийР. 108,109
Людовик Баварский, император 79
Людовик ХШ, король Франции
169, 181, 195, 266
Людовик XIV, король Франции
169, 210
Лютер М. 55, 63, 102, 108, 136,
138, 140-142, 144, 150, 153, 303
Магеллан Ф. 124
Мазарини, кардинал 266
Макиавелли Н. 90-94, 106, 109,
113, 115, 144,150, 215
МальбраншН. 218,460,477,484
Мария Медичи, королева
Франции 176
Медичи, флорентийский род 90
Медичи К 95
Мейстер Экхарт 102,103
Меланхтон Ф. 142
Мелисс 20
Мерсенн М. 169, 175, 193, 194,
197, 201, 205, 224-226, 228, 230,
236, 238-241, 251, 267,
294, 424
Мидорж 175, 194
Монтень М. де 117-119, 199, 200,
294, 304
МоченигоДж. 108
МурГ. 424
Нерон, римский император 47
Несторий, патриарх
Константинопольский 50
Николай I, папа 61, 64, 66
Николай V, папа 84, 86
НифоА 87
НоксДж. 143
Нумений 96
Ньютон И. 129-131,381
ОккамУ. 71,77,79
принц Оранский 177, 179, 193,
211, 254, 260, 261
Орфей 37
Осиандер 128
Павел, апостол 44, 46,56, 96,140,
145
Павел Ш, папа 128
Павел V, папа 133
Парацельс 100,101,103
Парменид 20
Паскаль Б. 151-153, 262, 295,
391, 392
Пасхазиус Р. 65
Патрицци Ф. 106,113,114
Пени У. 217
Петр, апостол 44-46, 60, 61,145
Пико, аббат 194,201,262,289
Пико делла Мирандола 97, 98
Писарро 124
Пифагор 17, 25, 36, 37, 96, 109,
441
Платон 24, 25, 27, 34, 37, 39, 71,
88, 95, 96, 106, 109, 304, 395, 433
ПлетонГ. Г. 95
Плотин 34, 36, 96
ПолоМ. 123
Помпонацци П. 87, 89, 90, 94,
117
Порфирий 34, 47, 70, 326, 360
Прокл 34,36,55,95,96
Протагор 23
Птолемей 125, 126, 384, 390
РамусП. 87
Региус 244-249, 270-272, 289,
460
Рейхлин И. 97, 98,142
РенериГ. 244-247,460
РиенцоКди 83
Ришелье, кардинал 195, 196, 203,
205, 266
Роберваль 392
РосцелинИ. 69,70,77
526
Именной указатель
Руссо Ж. Ж. 118,119
РюисброкИ. 102
СабундеР. дс 118
Секст Эмпирик 6
Сенека 207, 212, 266, 415
СерветМ. 107
Сократ 17, 24, 25, 29, 42, 112,
306
Спиноза Б. 158, 163, 164, 211,
216, 350, 351, 429, 460, 465, 466,
477-481, 485
Станли Т. 6
Сюсо 102
ТассоТ. 84
ТаулсрИ. 102
ТелезиоБ. 104-106,113,114
Тертуллиан 58
Тициан 107
ТорричеллиЭ. 392
Урбан Vin, папа 133
Фауст 66, 99, 165, 166, 185
Феодосии Великий, римский
император 47
Фердинанд П, император 180,181
Феррье 194
Филон Александрийский 37, 40,
96
Фичино М. 95
ФлюддМ. 193
Фома Аквинат 73-76, 89, 107,
113,115, 207, 454
ФранкС 103
ФрейнсгеймИ. 279,281-284
Фридрих V Пфальцский 180,181,
208, 209
Христина, королева Швеции 274,
275, 281, 282, 284, 285, 287, 415
Цвингли У. 55,140-143
Цельс 47
Цицерон 87
ШампоВ. 69
Шанду 196,197, 220,305
Шаню П. 263, 264, 268, 269, 274,
275, 278, 279, 281-283, 285, 286,
290, 291
ШарронП. 119
ШвенкфельдК 103
ШпенерФ. 208
Шюрман A. M фон 207, 208,
212, 214, 217
ЭллиП. де 102
Эмпедокл 21, 23
Эпикур 109,240,425,457
Эразм Роттердамский 97,141
Юлиан, римский император 47
Юм Д. 158
Ямвлих 34, 36, 96
ЯнсенийК. 150-152
В 1994 ГОДУ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИФРИЛ»
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ
КНИЖНОГО ИСКУССТВА «ЧИСТОЕ ПОЛЕ»
ПРИСТУПИЛИ К ИЗДАНИЮ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
«ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ»
КУНО ФИШЕРА
ЭТО ДЕВЯТЬ МОНОГРАФИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ КРУПНЕЙШИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
ЭТО ЕДИНСТВО ЗАМЫСЛА
И САМОДОСТАТОЧНОСТЬ КАЖДОЙ
ОТДЕЛЬНОЙ КНИГИ,
ЭТО ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ПОЛНОТА
И БЛЕСТЯЩИЙ СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ,
ЭТО ИМЕНА:
БЭКОН • ДЕКАРТ • СПИНОЗА
ЛЕЙБНИЦ • КАНТ • ФИХТЕ
ШЕЛЛИНГ • ГЕГЕЛЬ
ШОПЕНГАУЭР
У ВАС В РУКАХ
ПЕРВАЯ КНИГА СЕРИИ
ДЕКАРТ. ЕГО ЖИЗНЬ,
СОЧИНЕНИЯ И УЧЕНИЕ
ПЕРЕВОД ЗАНОВО СВЕРЕН С ОРИГИНАЛОМ
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ЮБИЛЕЙНОМУ ИЗДАНИЮ,
СНАБЖЕН ВСТУПИТЕЛЬНЫМИ СТАТЬЯМИ
И ПОДРОБНО ОТКОММЕНТИРОВАН
ФОРМАТ 60 X 90 / 16
ОБЪЕМ 35 ПЕЧАТНЫХ ЛИСТОВ
ЖЕСТКИЙ ПЕРЕПЛЕТ (7А)
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ
ДВУХТОМНИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ФИХТЕ и КАНТУ
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОПТОВЫХ ПАРТИЙ
РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАЩАТЬСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕЛЕФОНЫ В СПб.: 552-26-53, 550-86-70 (Т/ФАКС)
Редакторы
А. Г. Наследников
И. Ю. Славина
Компьютерная верстка
А. Г. Стебунова,
С. В. Паутова
Компьютерный набор
Е. А. Старовойтовой
Корректор
Н. В. Полоцкая
КУНО ФИШЕР
ИСТОРИЯ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ
ДЕКАРТ: ЕГО ЖИЗНЬ,
СОЧИНЕНИЯ
И УЧЕНИЕ
ЛР N 070819 от 15.01.1993
Подписано в печать 12.05.94
Формат 60 х 90 / 16. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Тираж 5 000 экз.
Заказ N 3120
ТОО «Мифрил»
197000, С.-Петербург, ул. Курчатова, 10
Санкт-Петербургская типография N 1 ВО «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В-34, 9-линия, 12