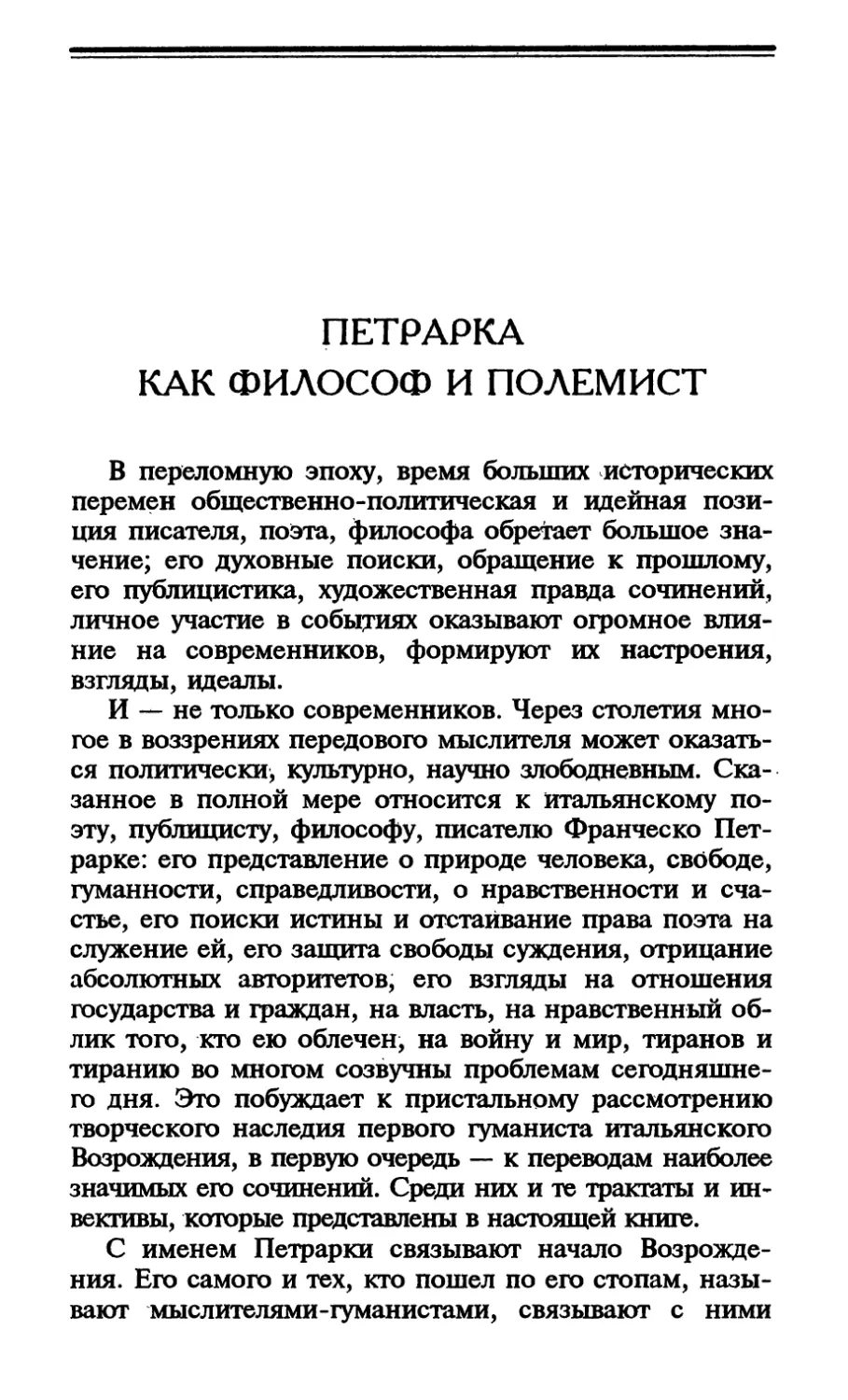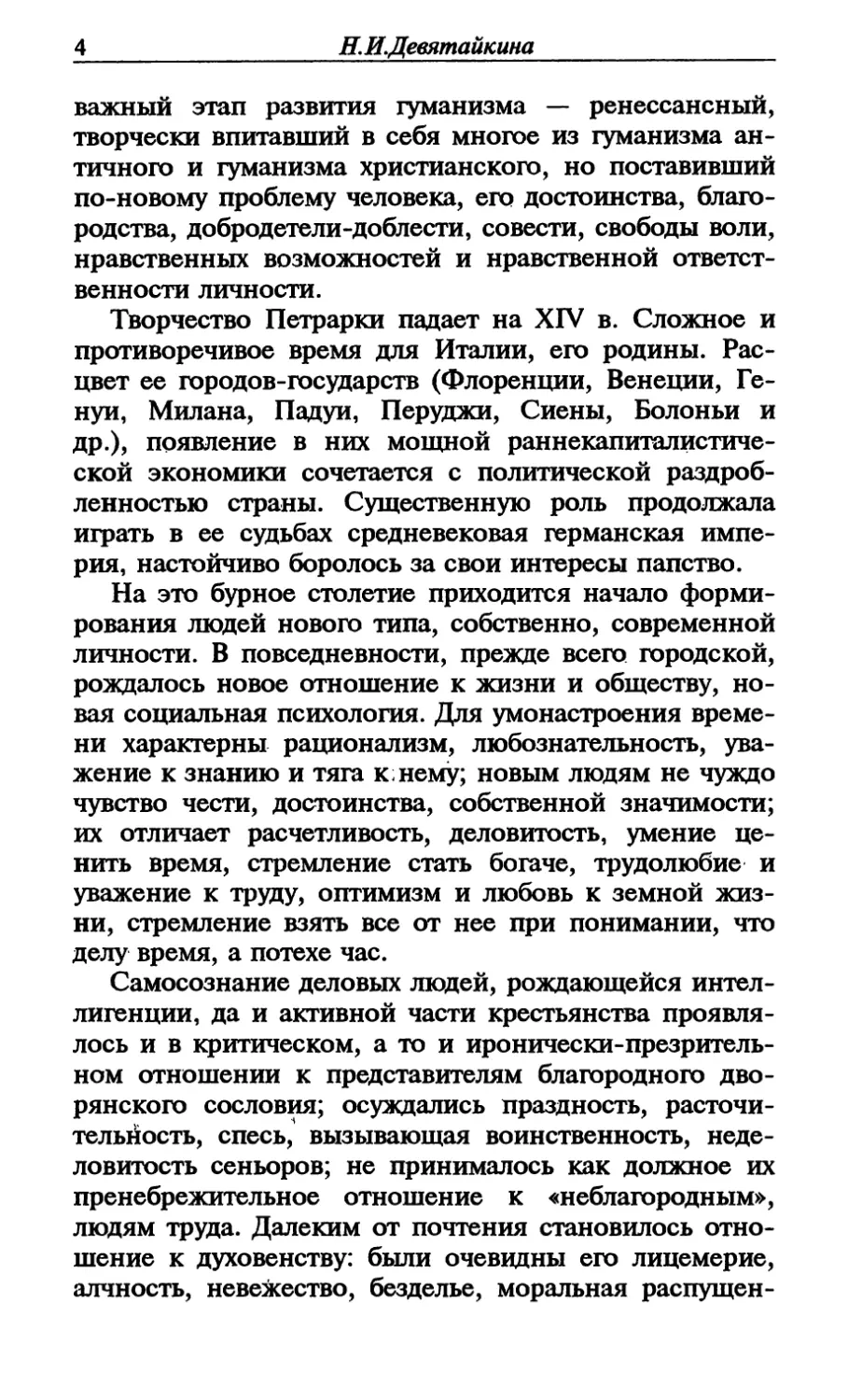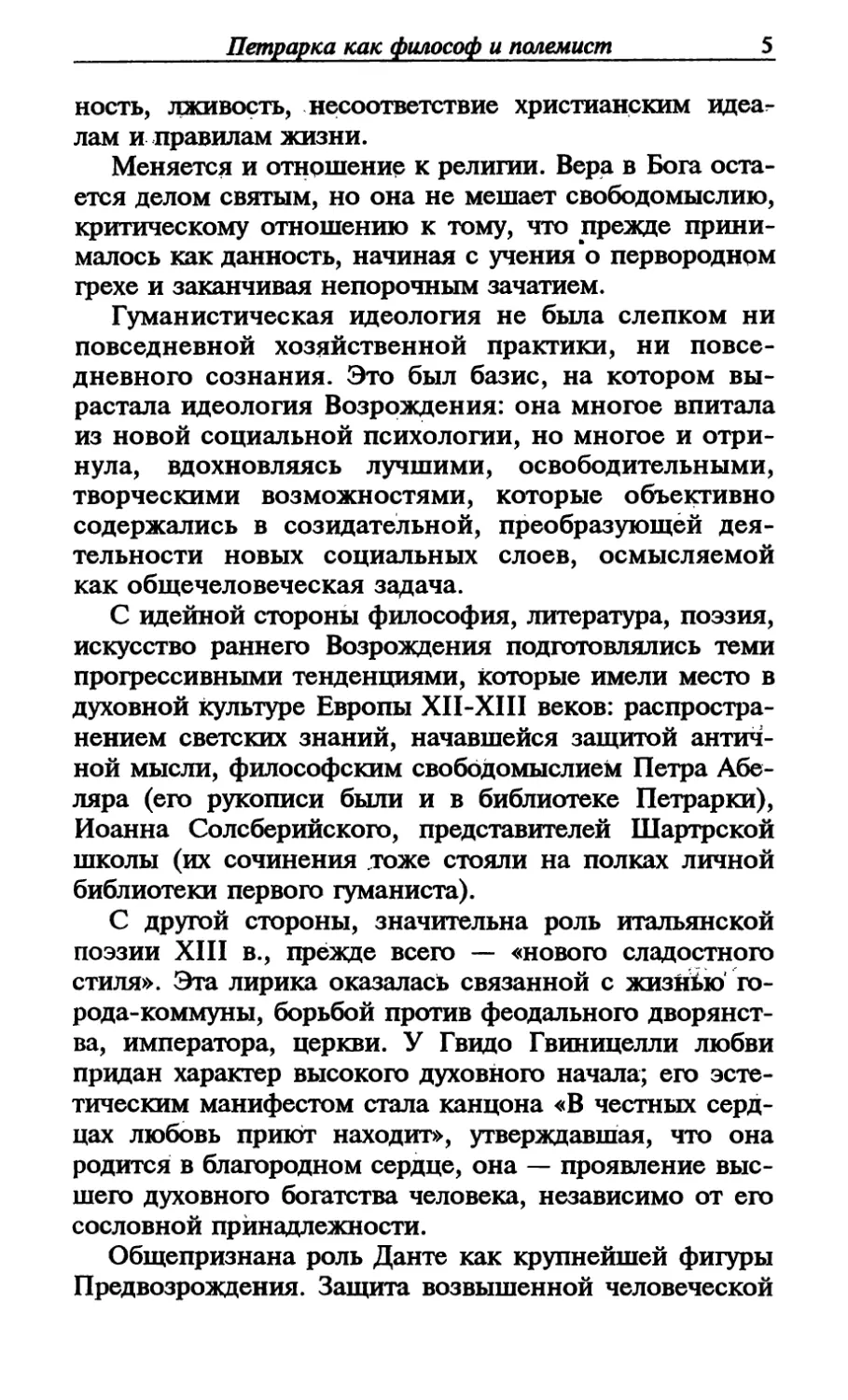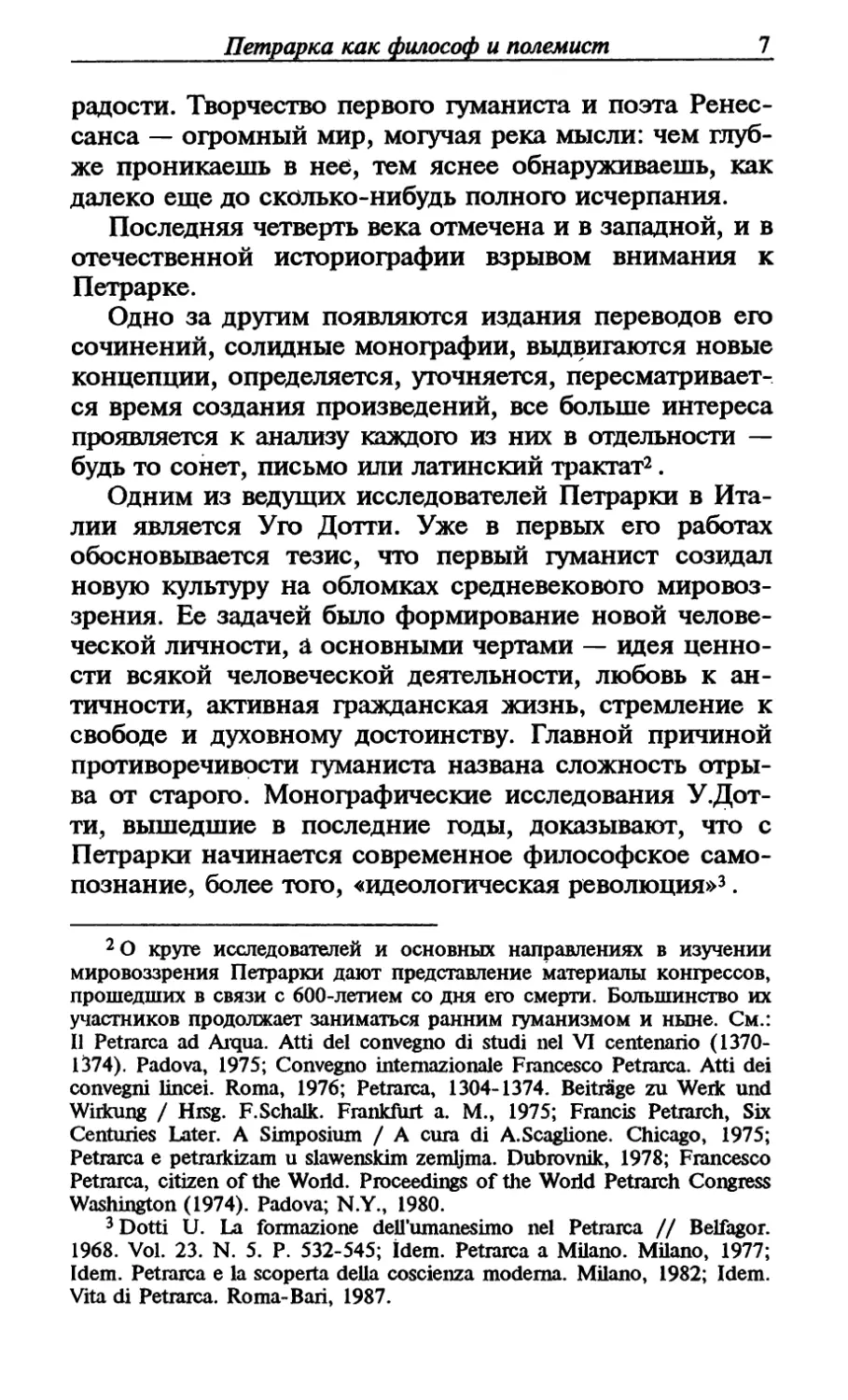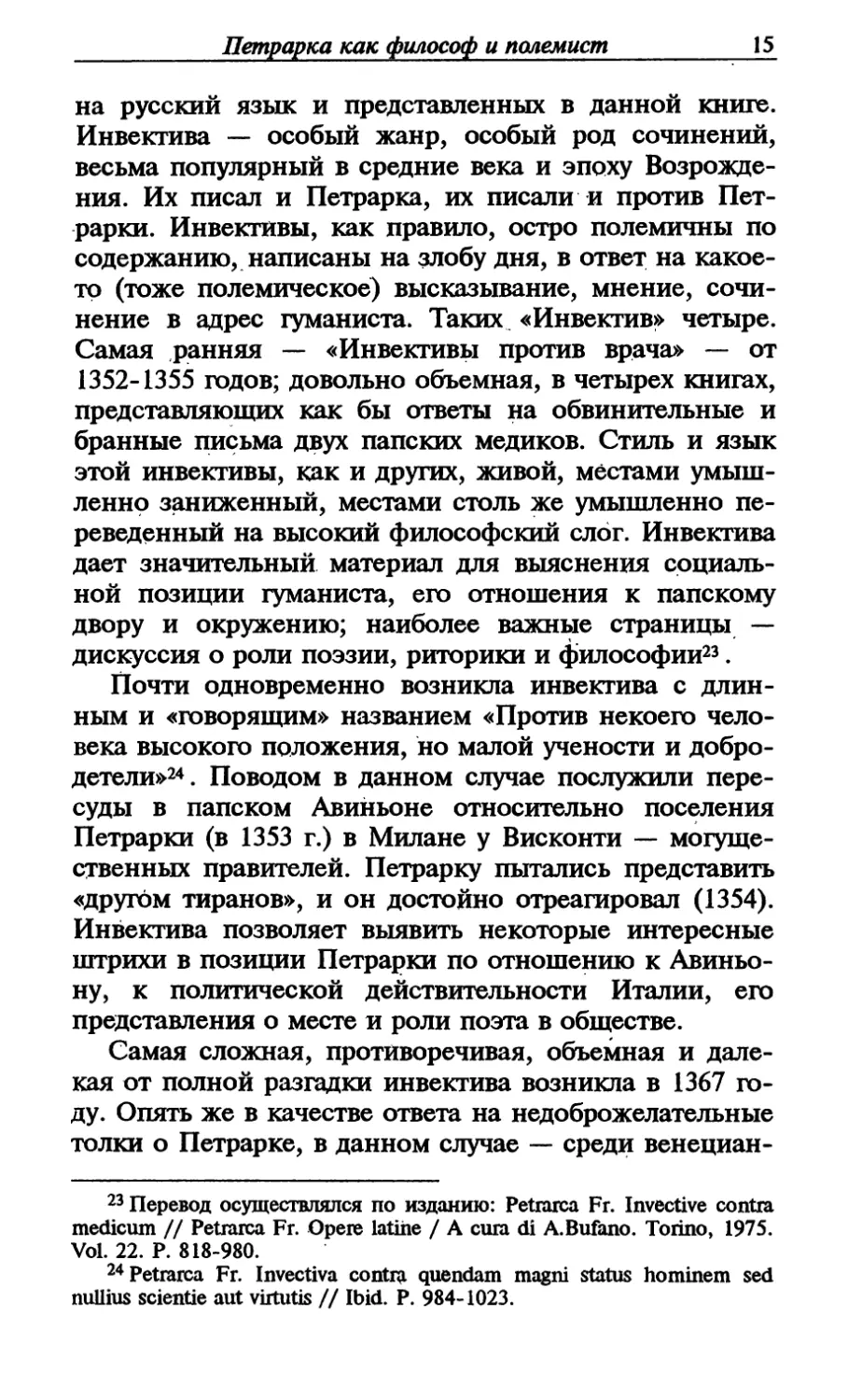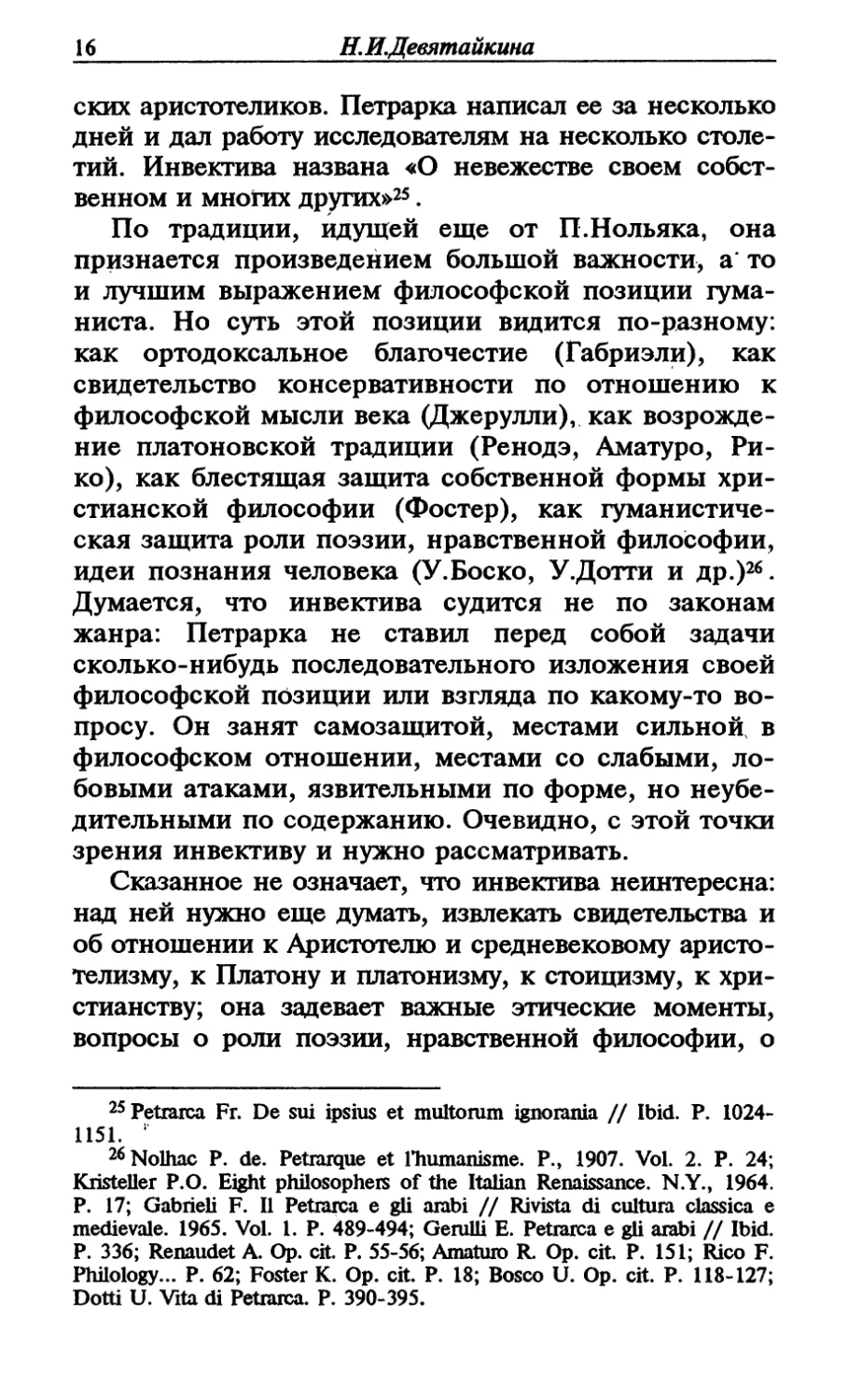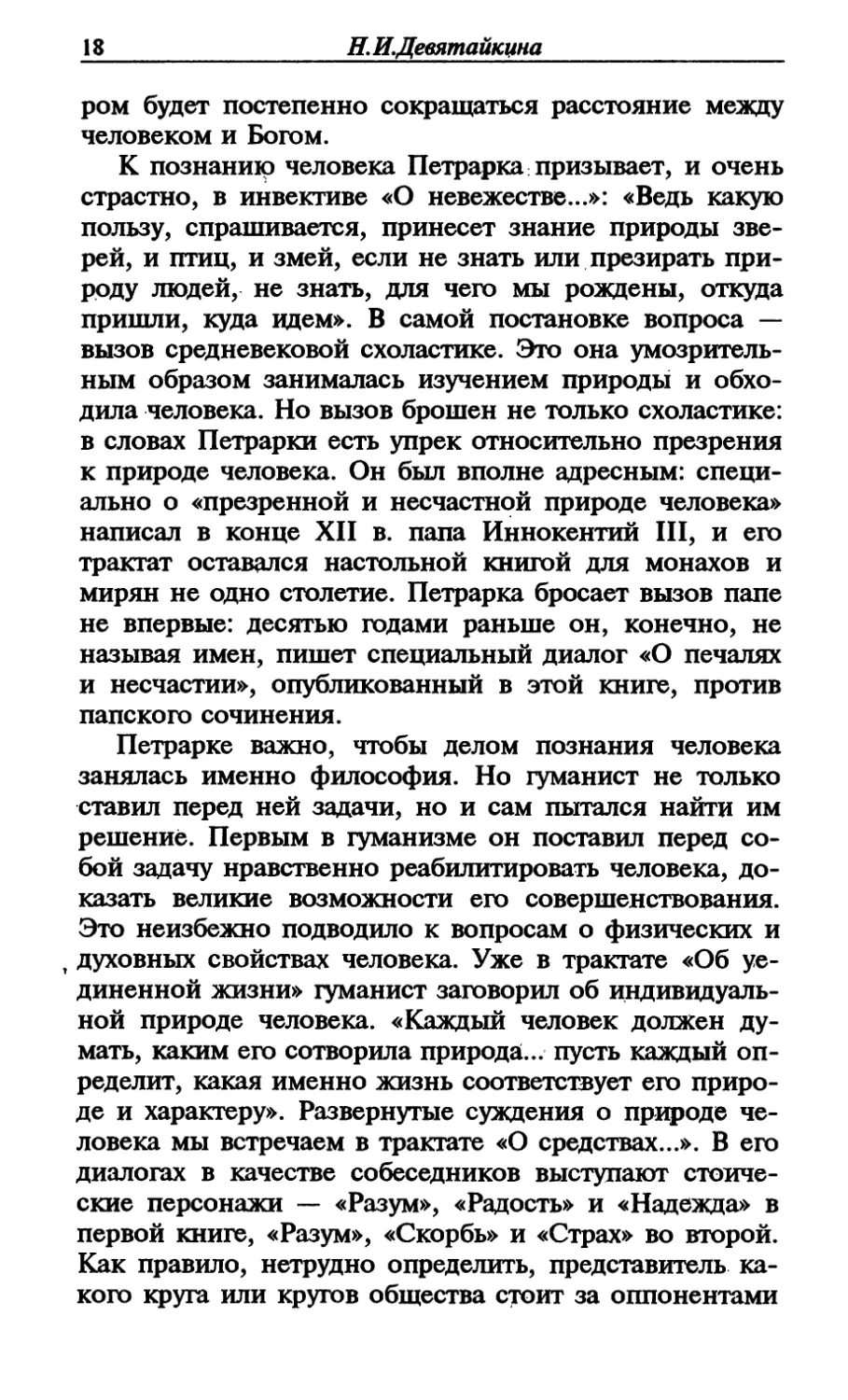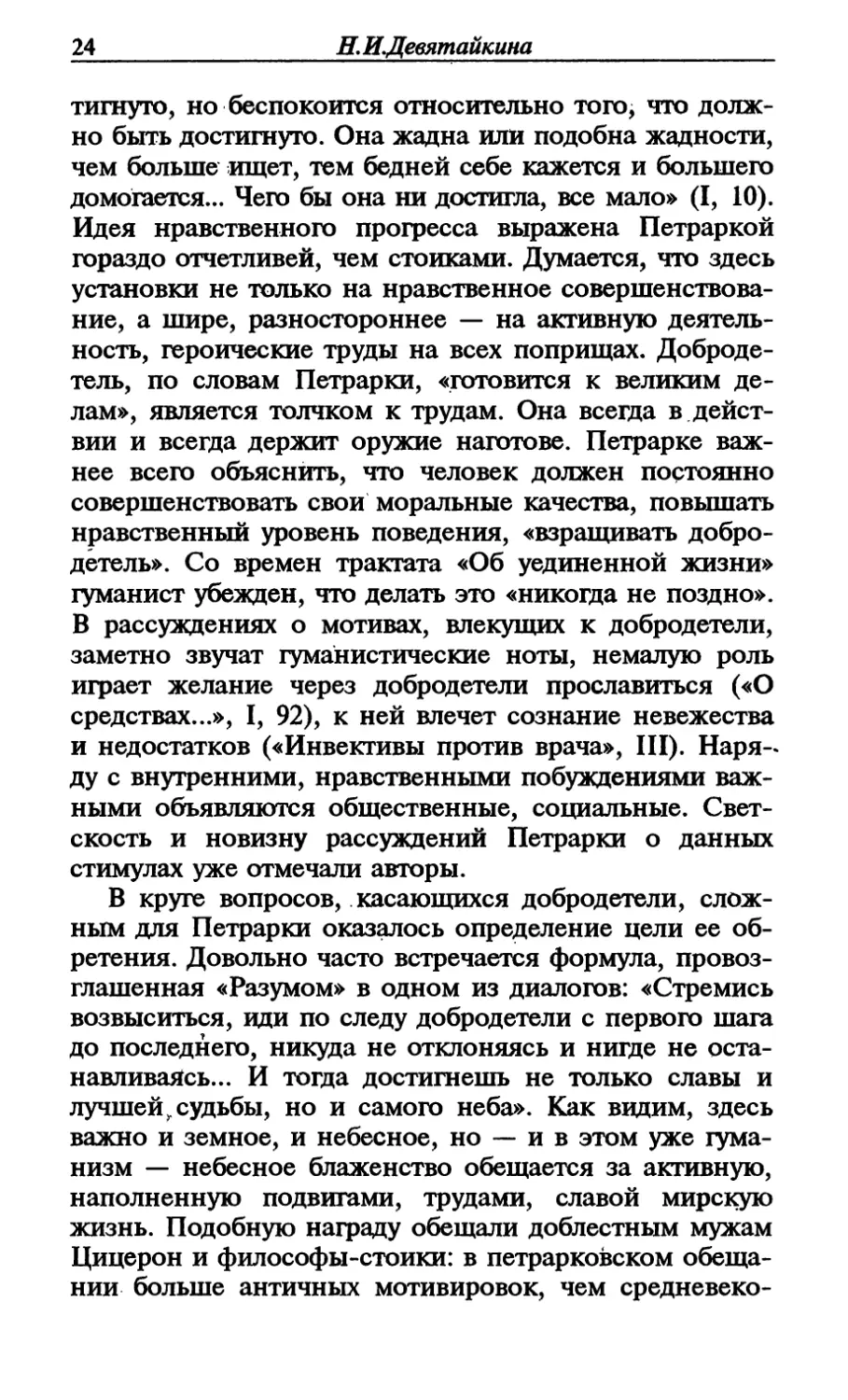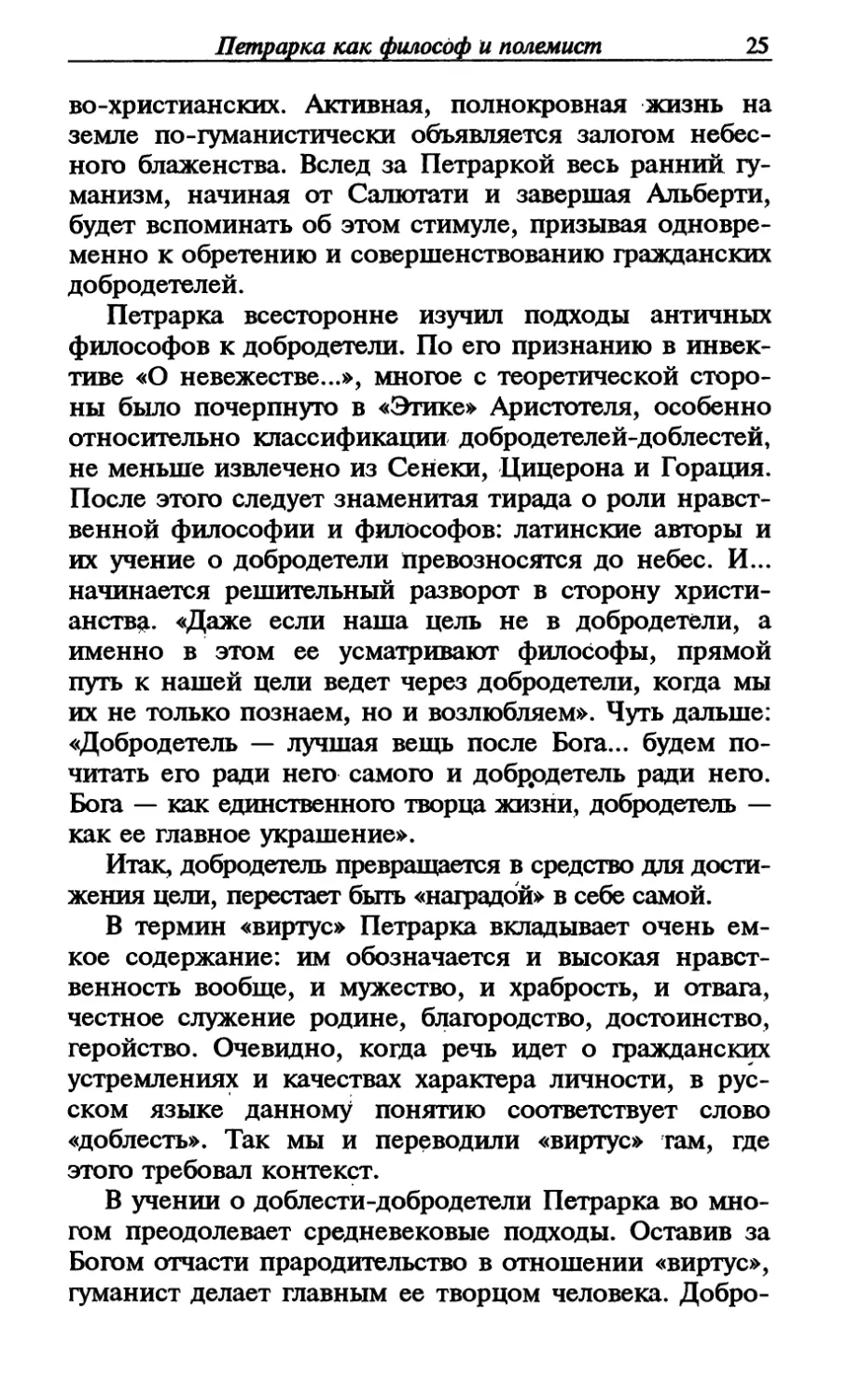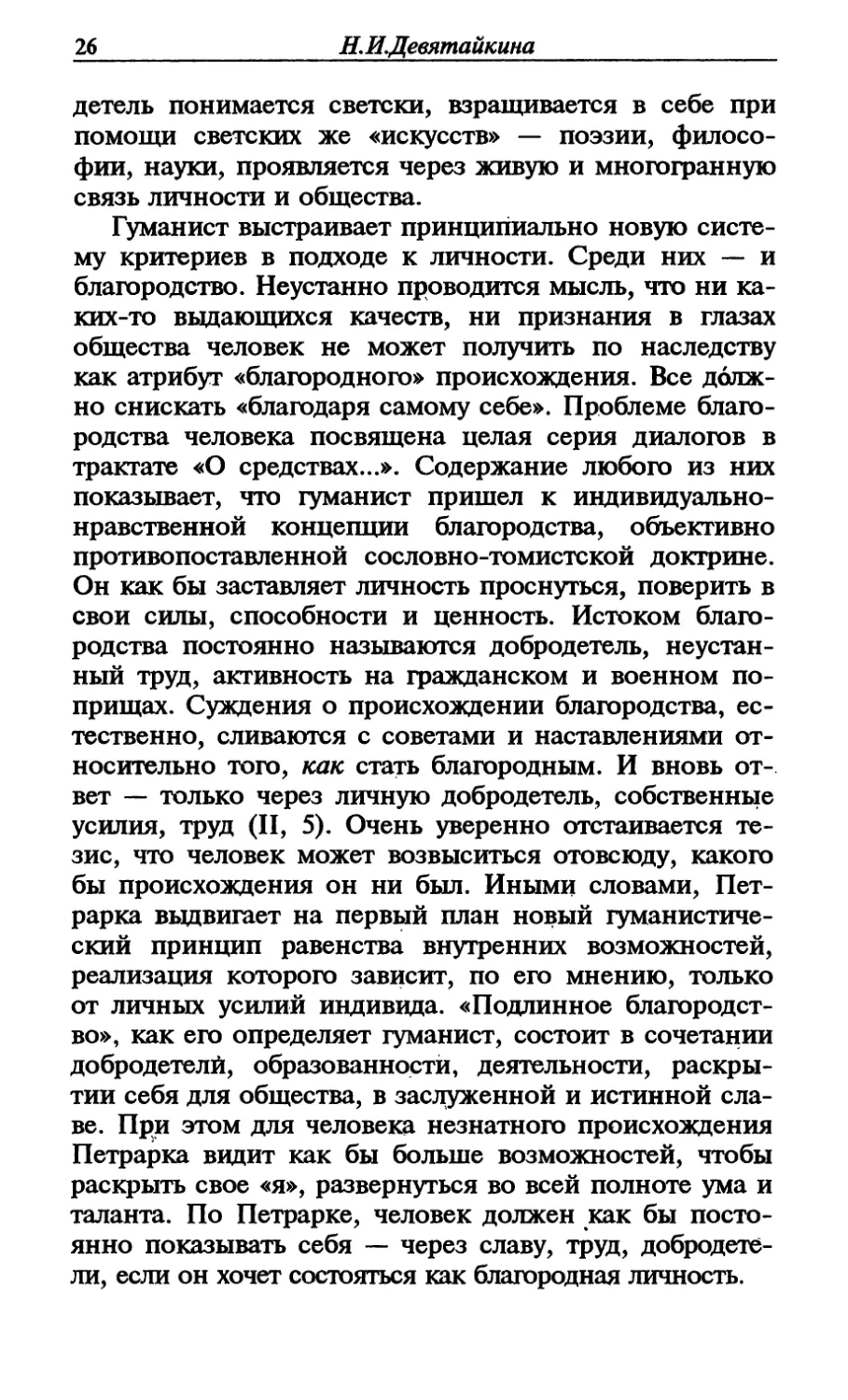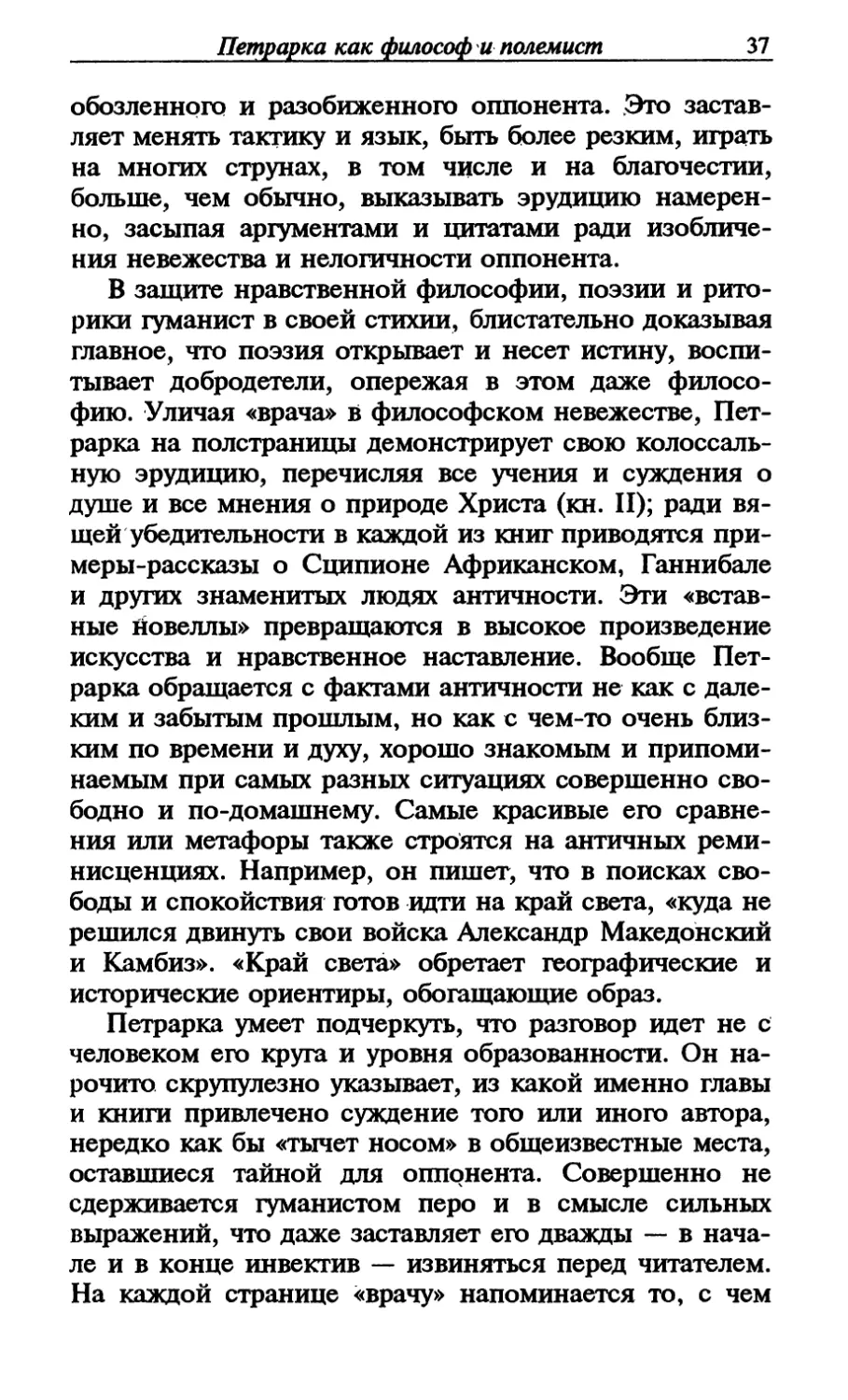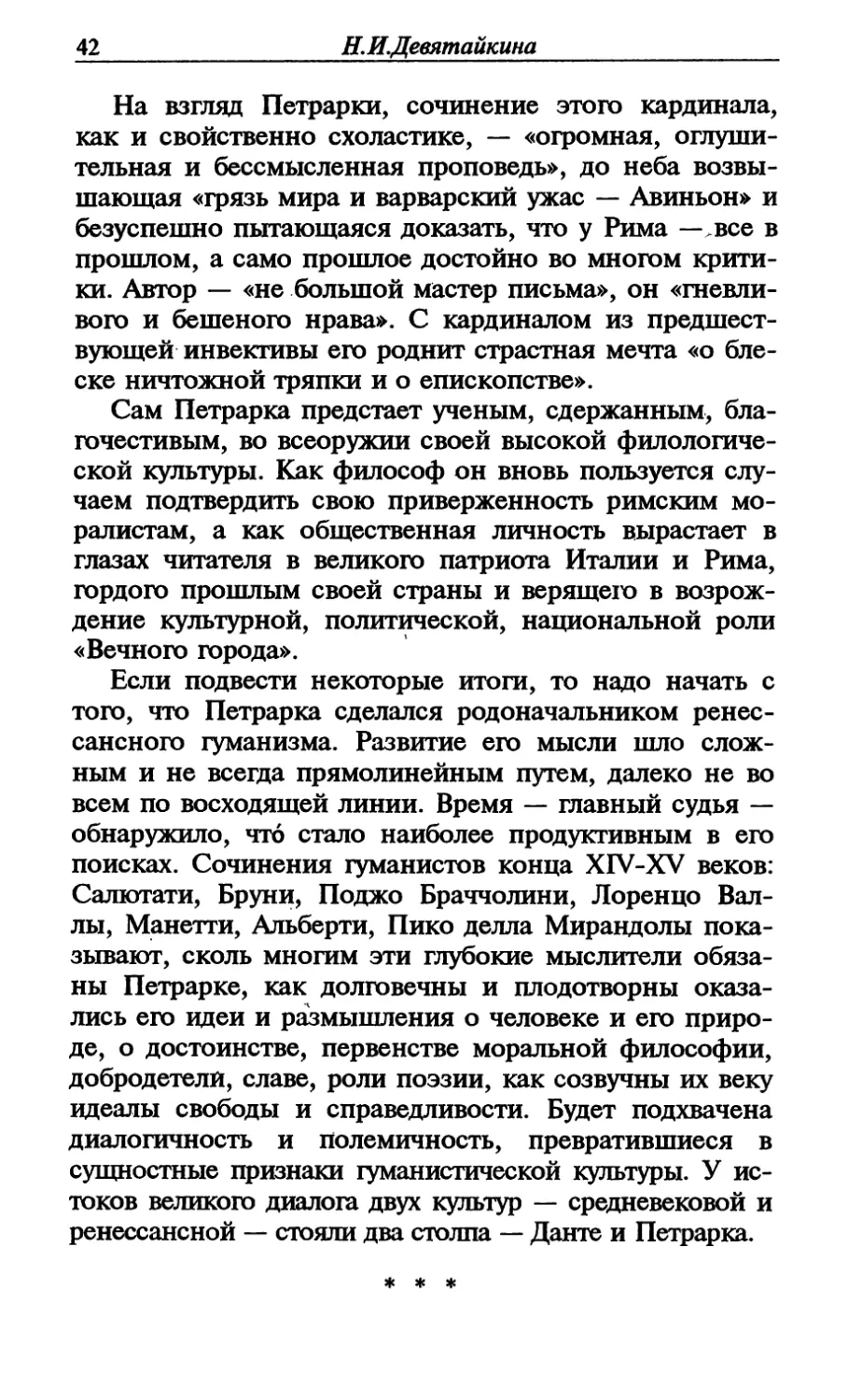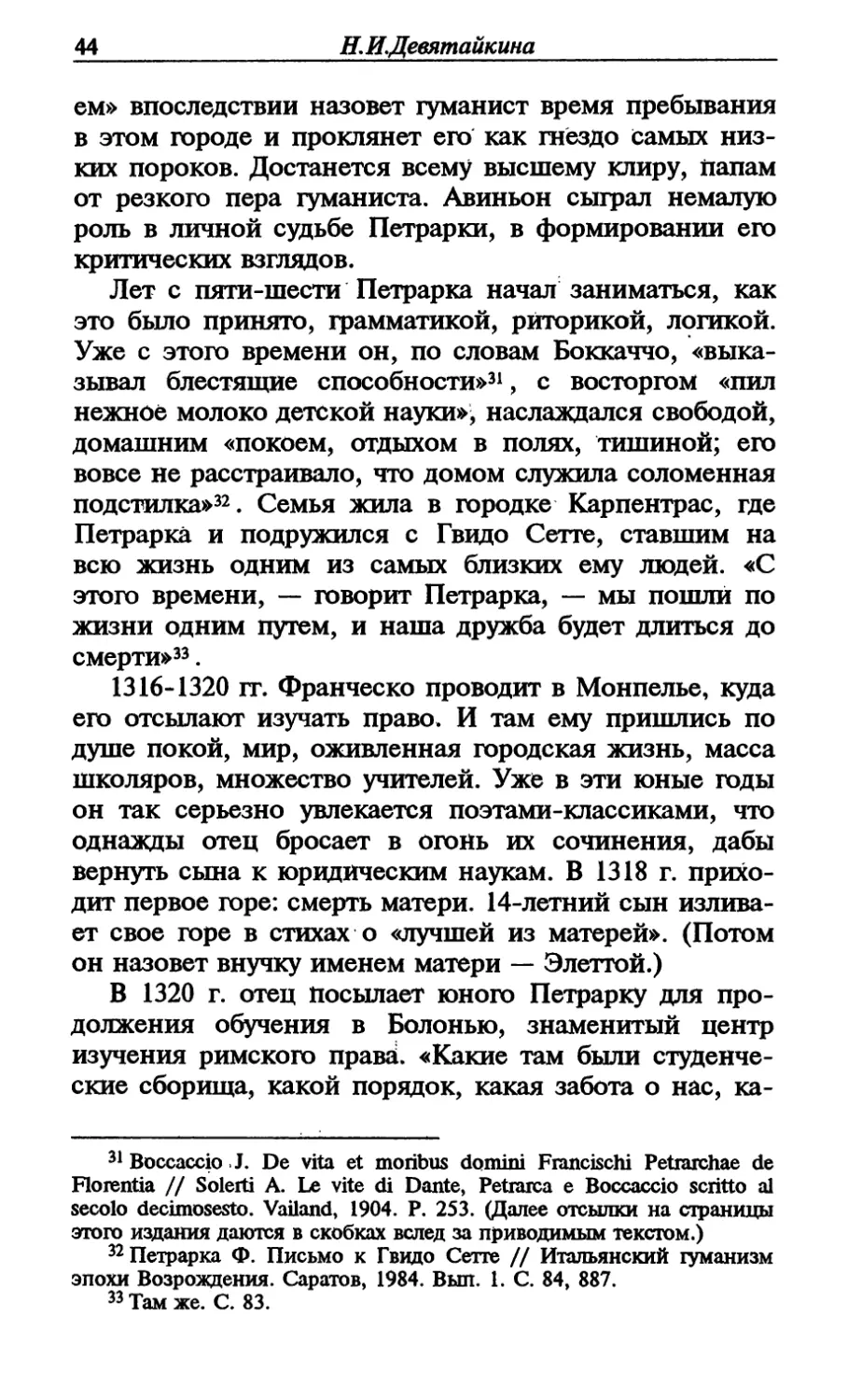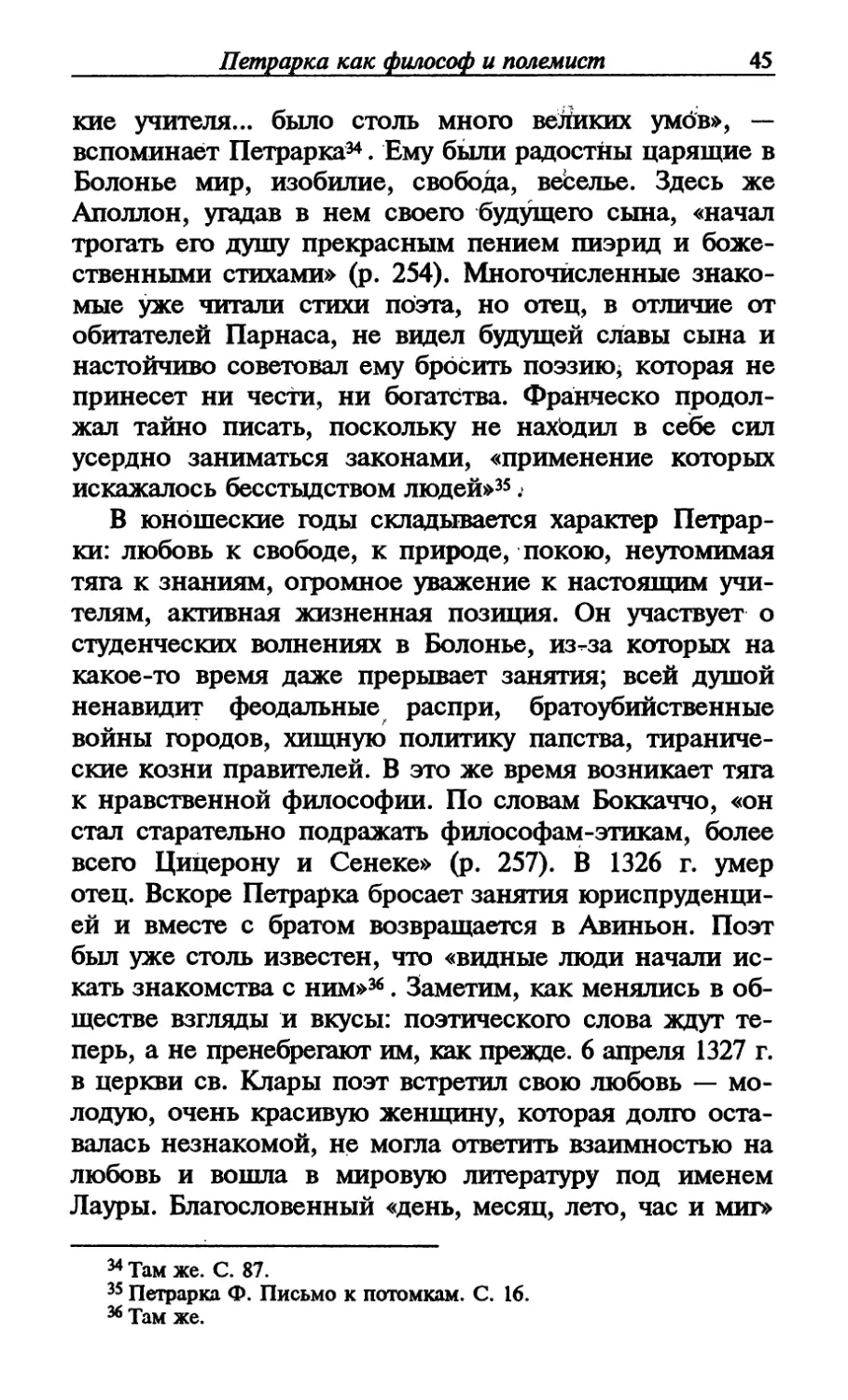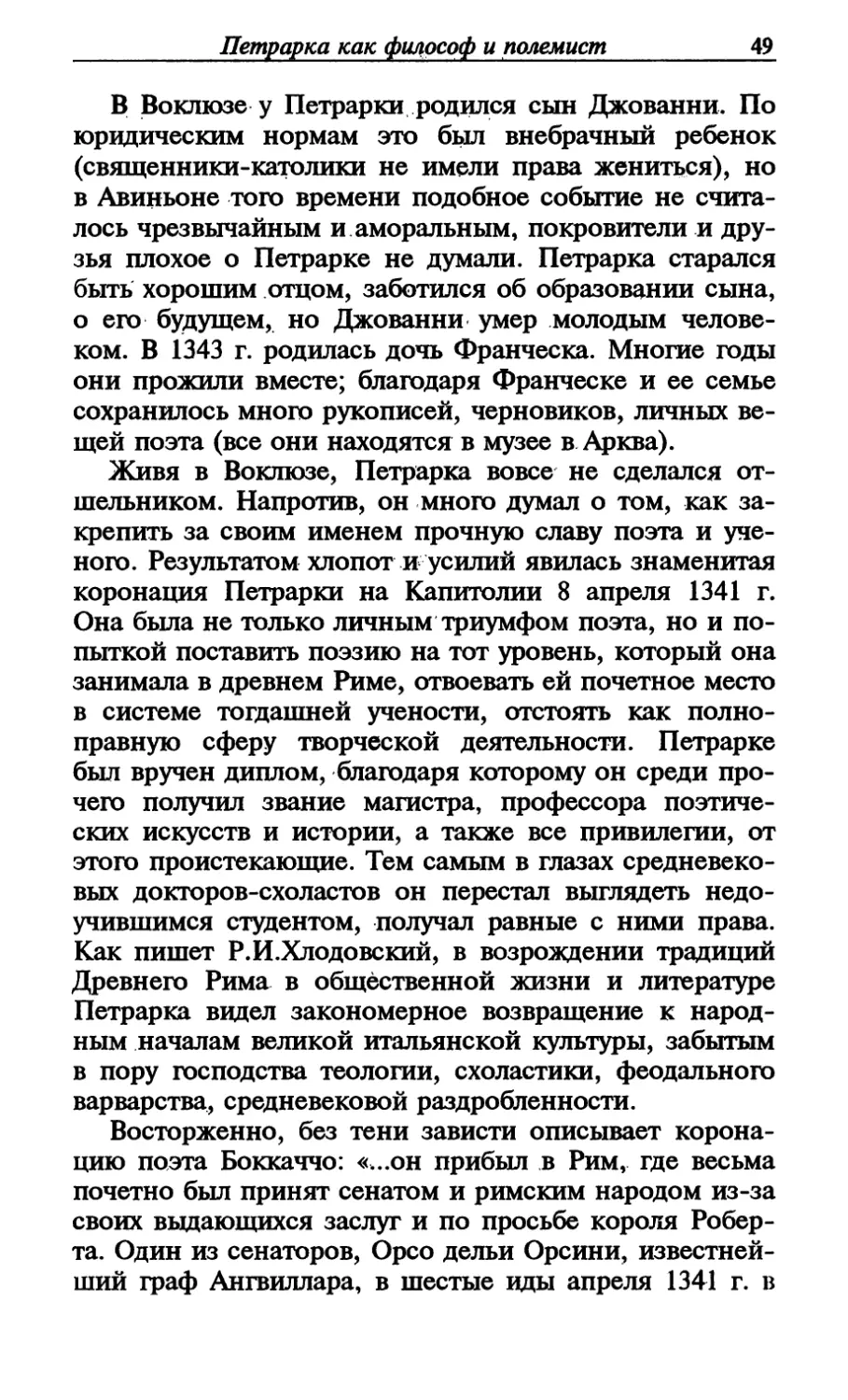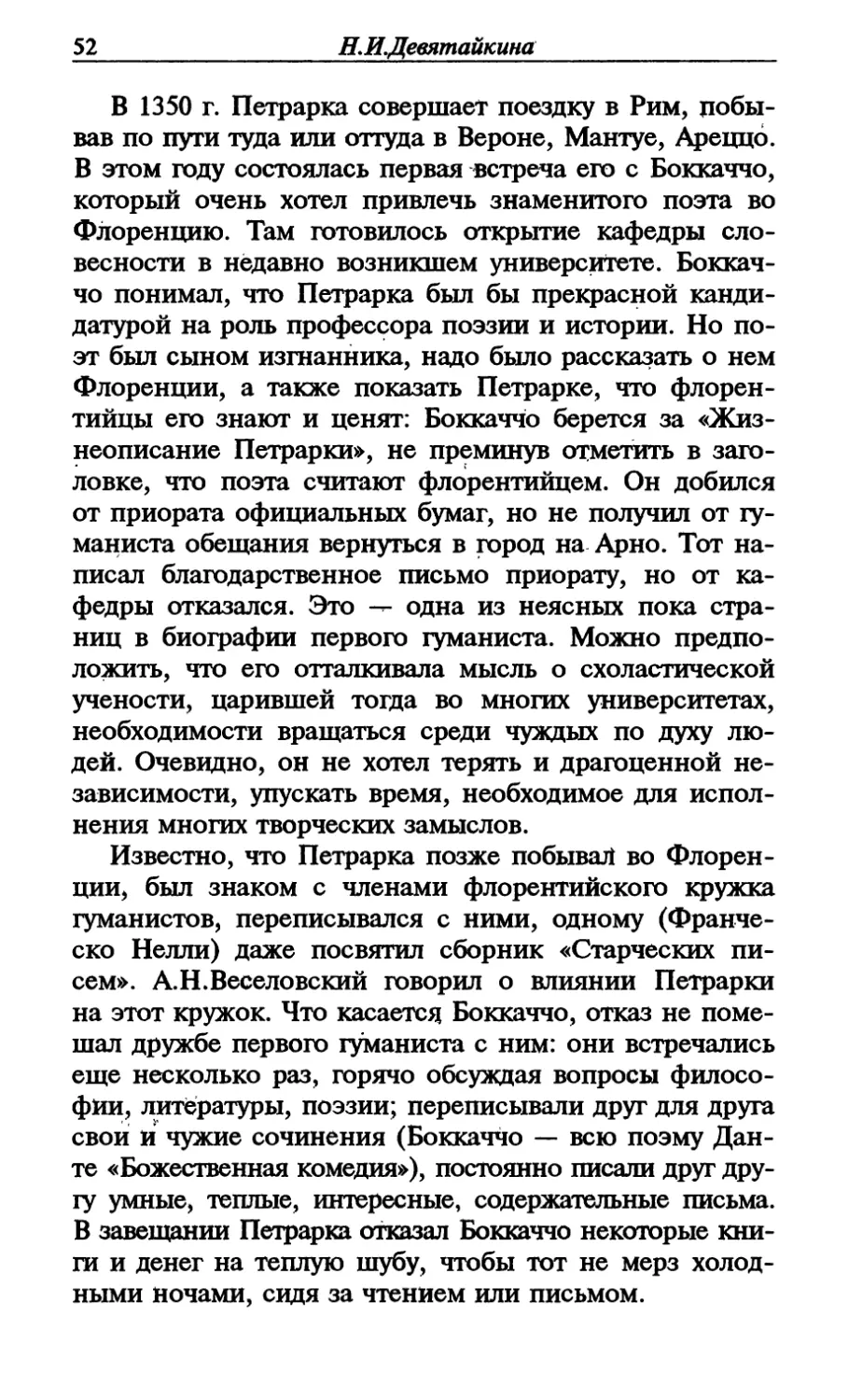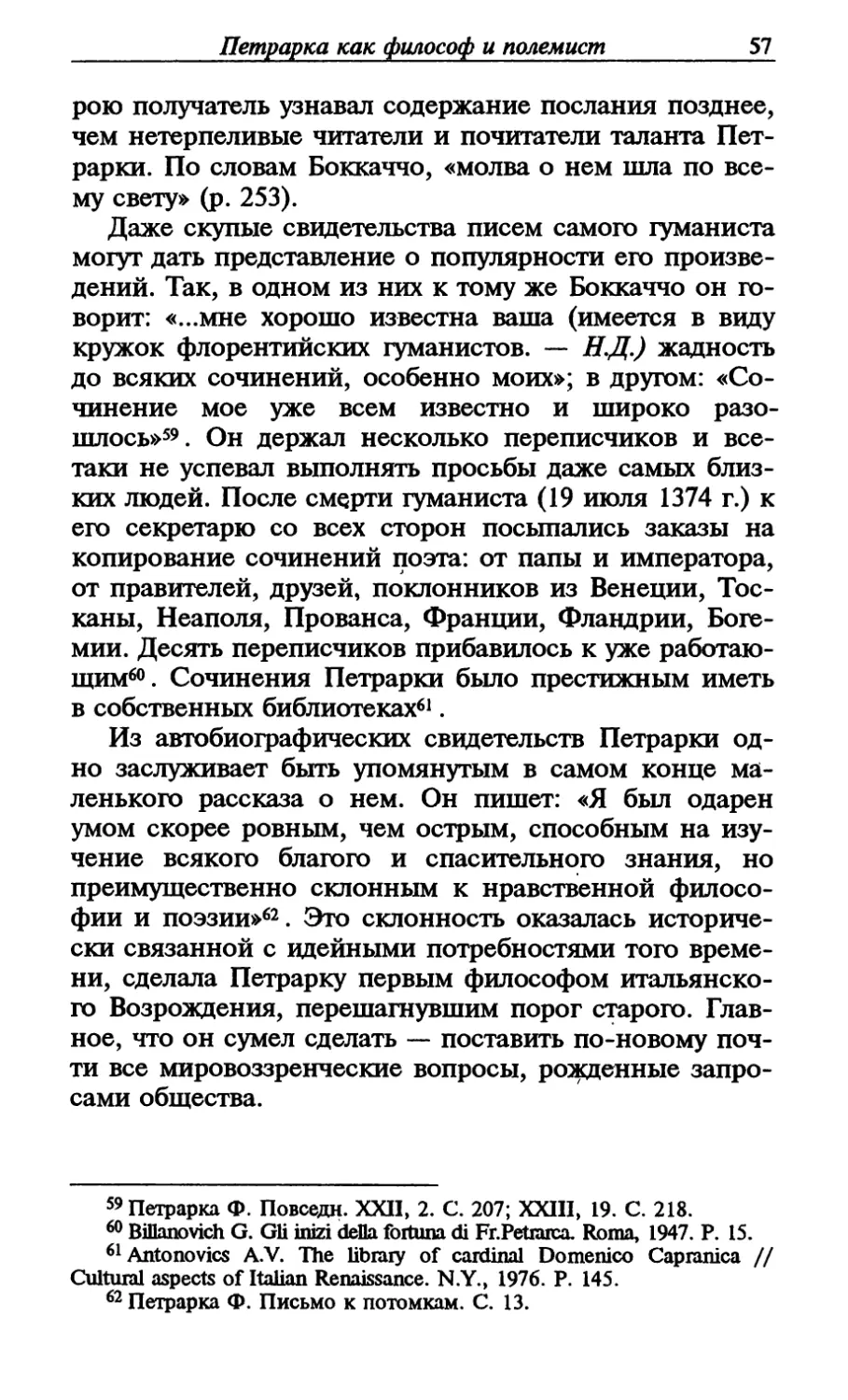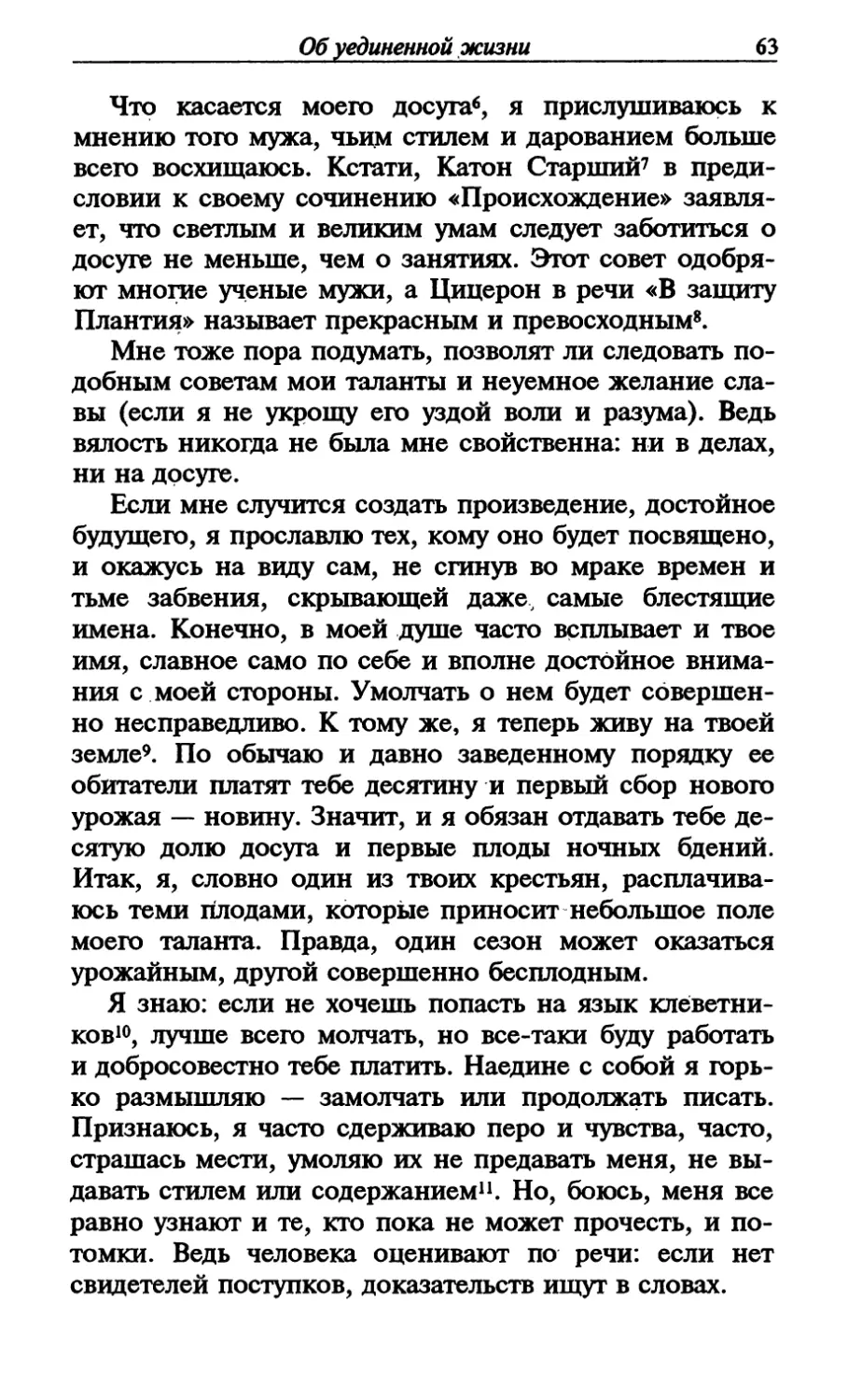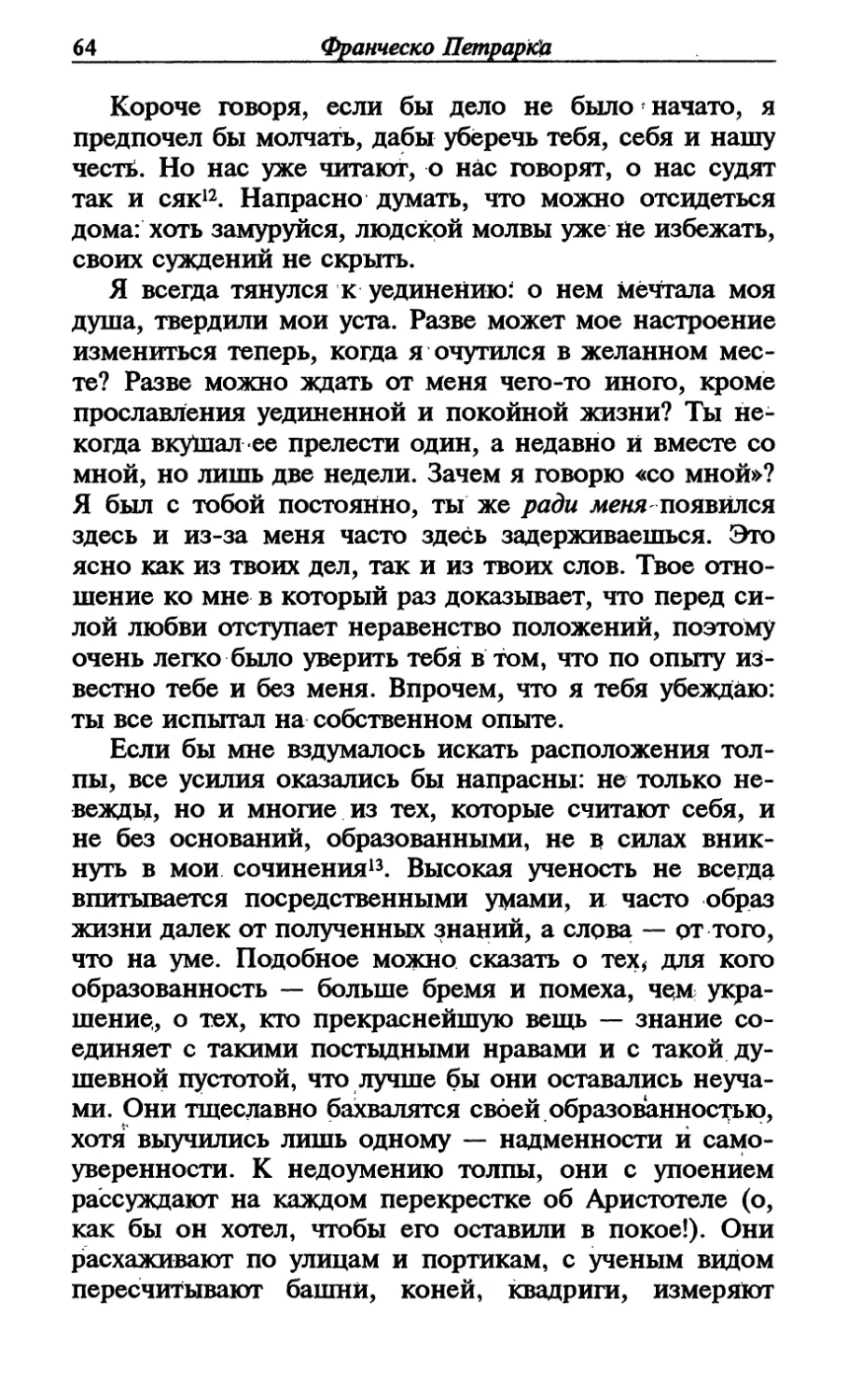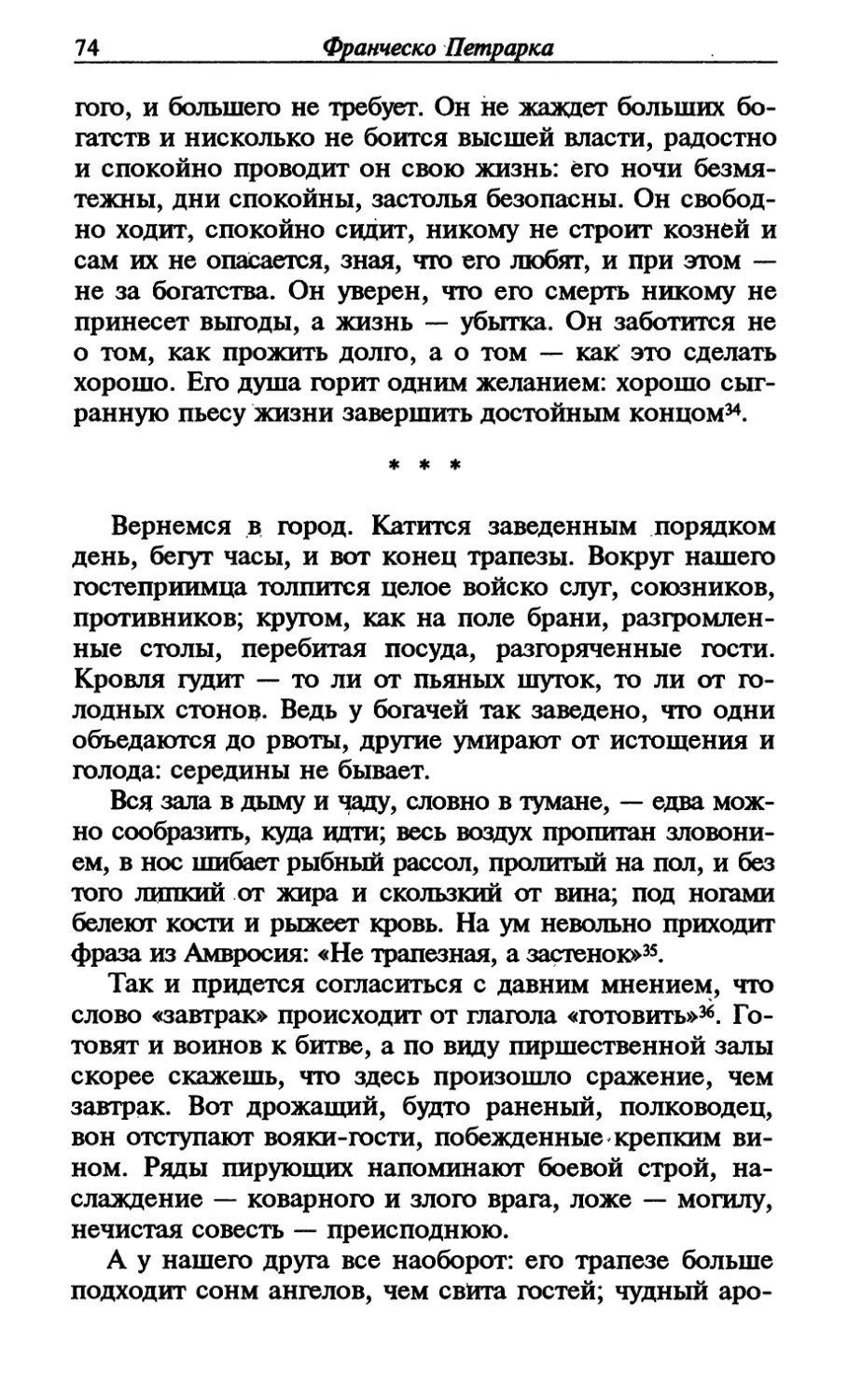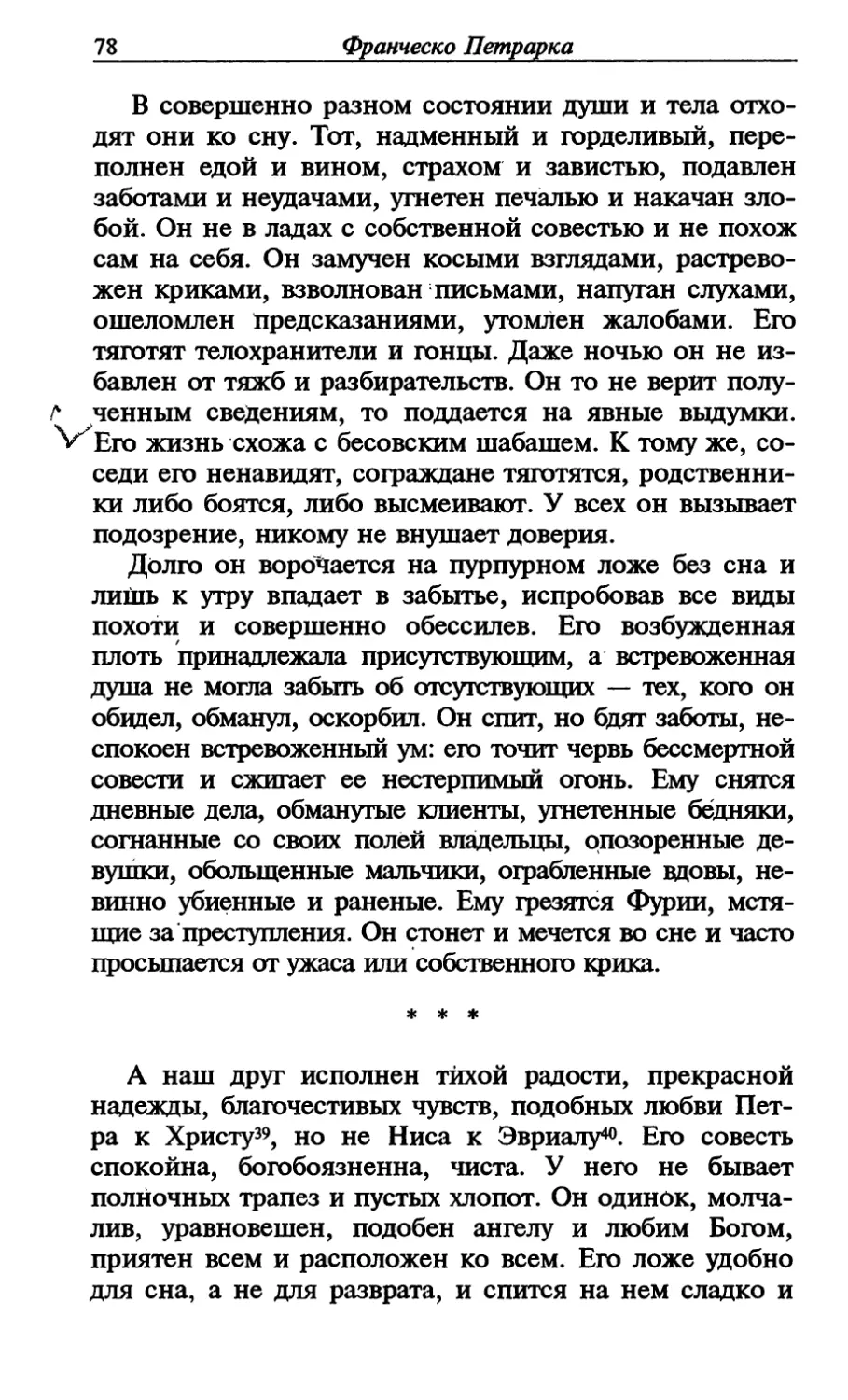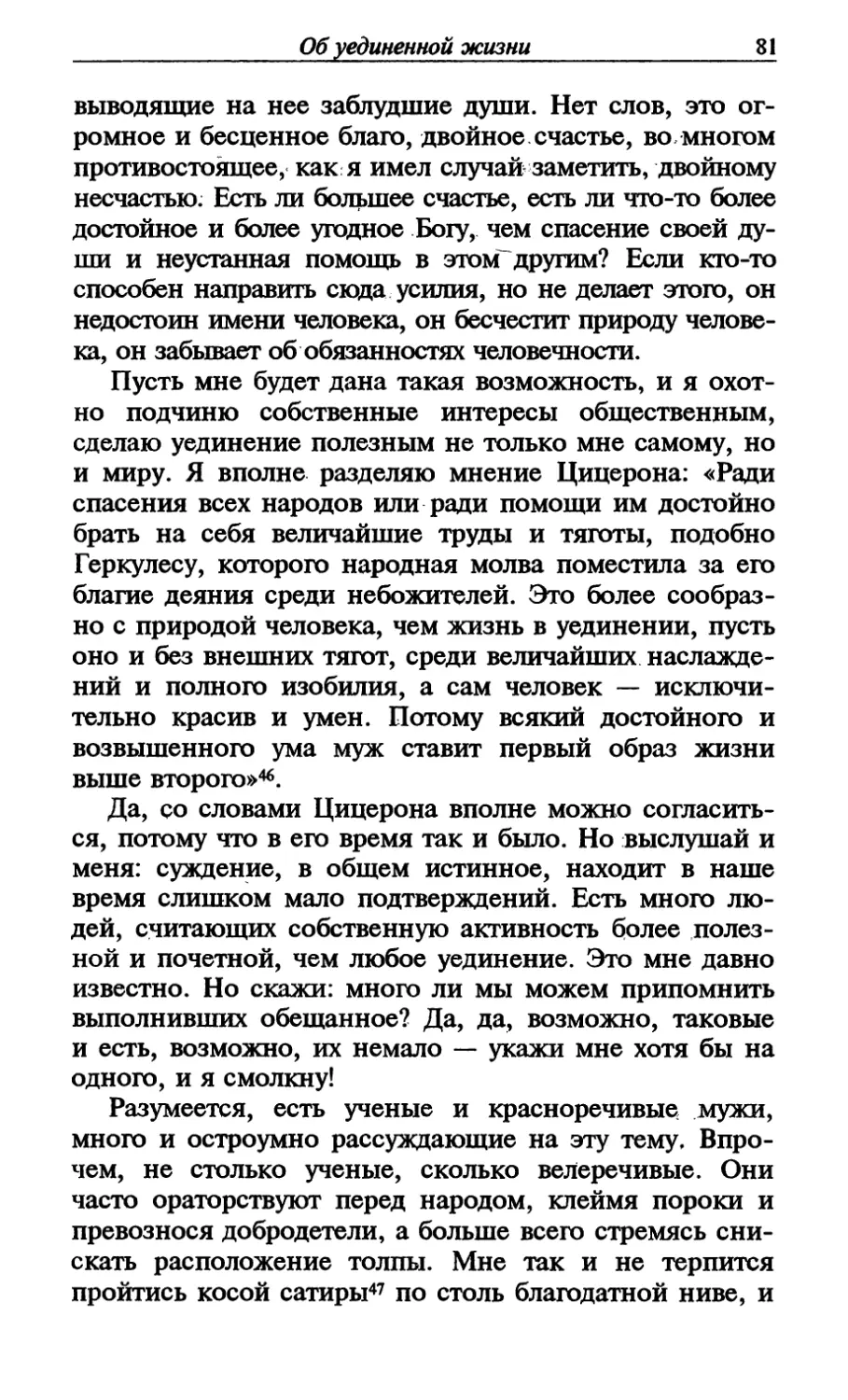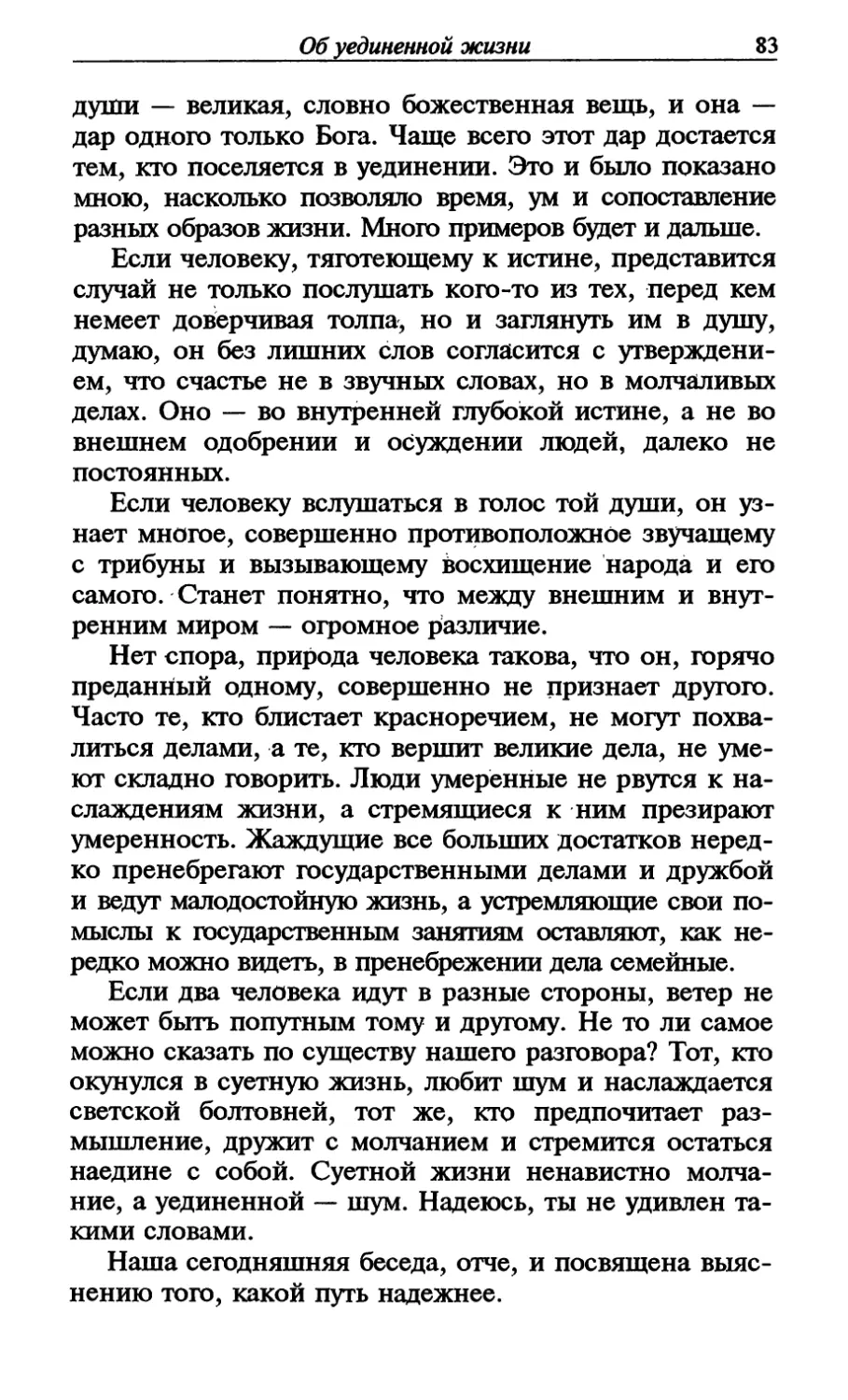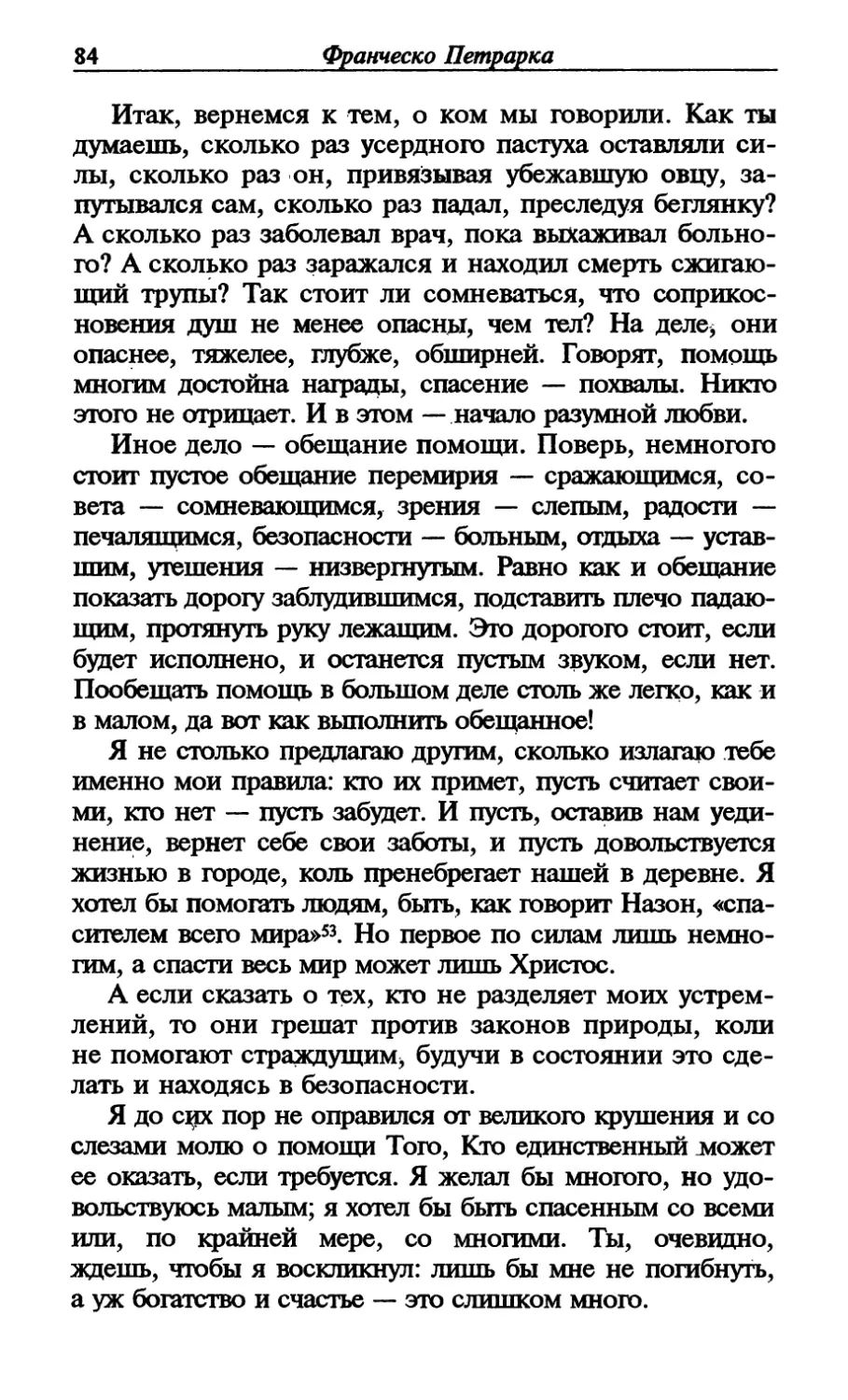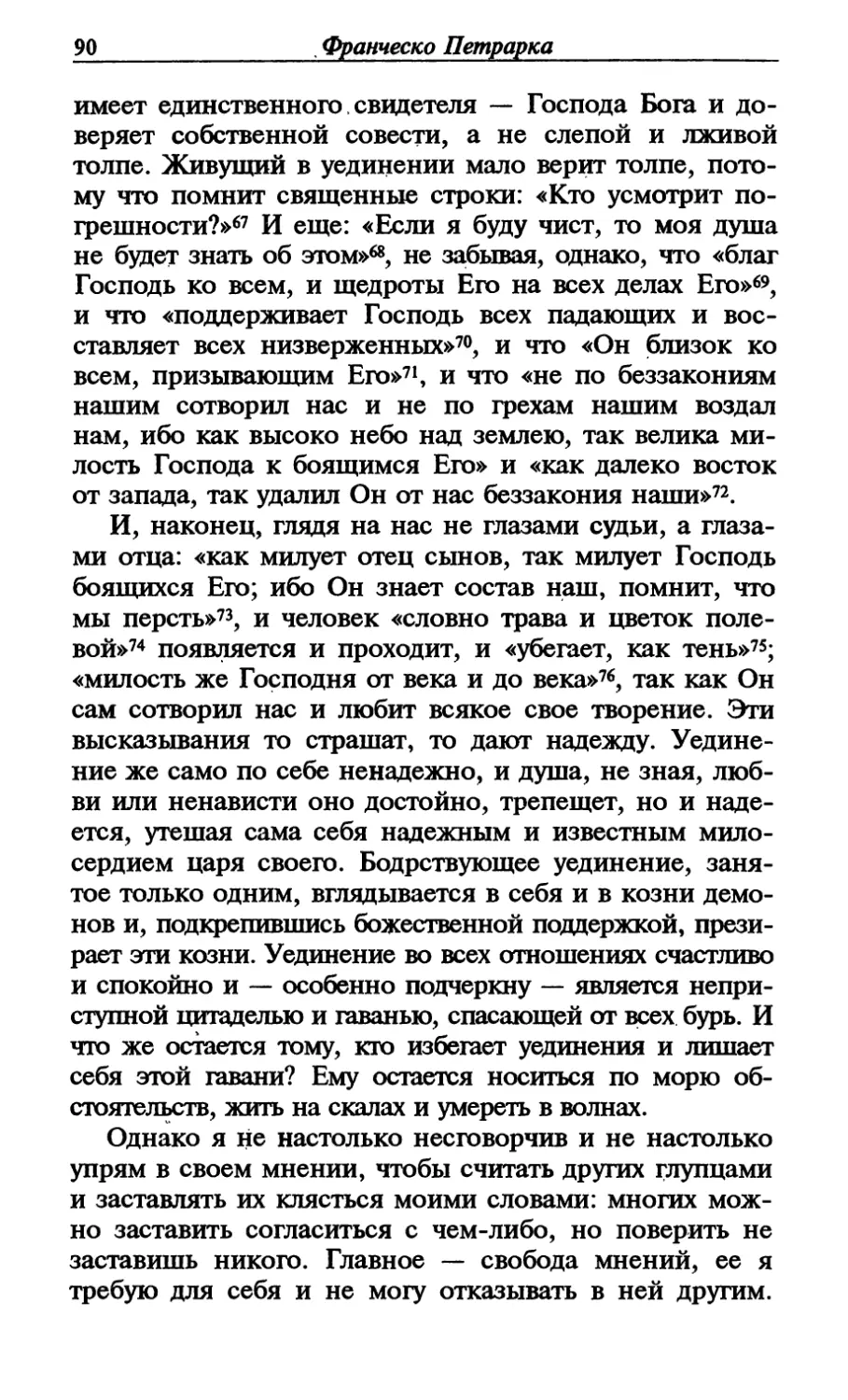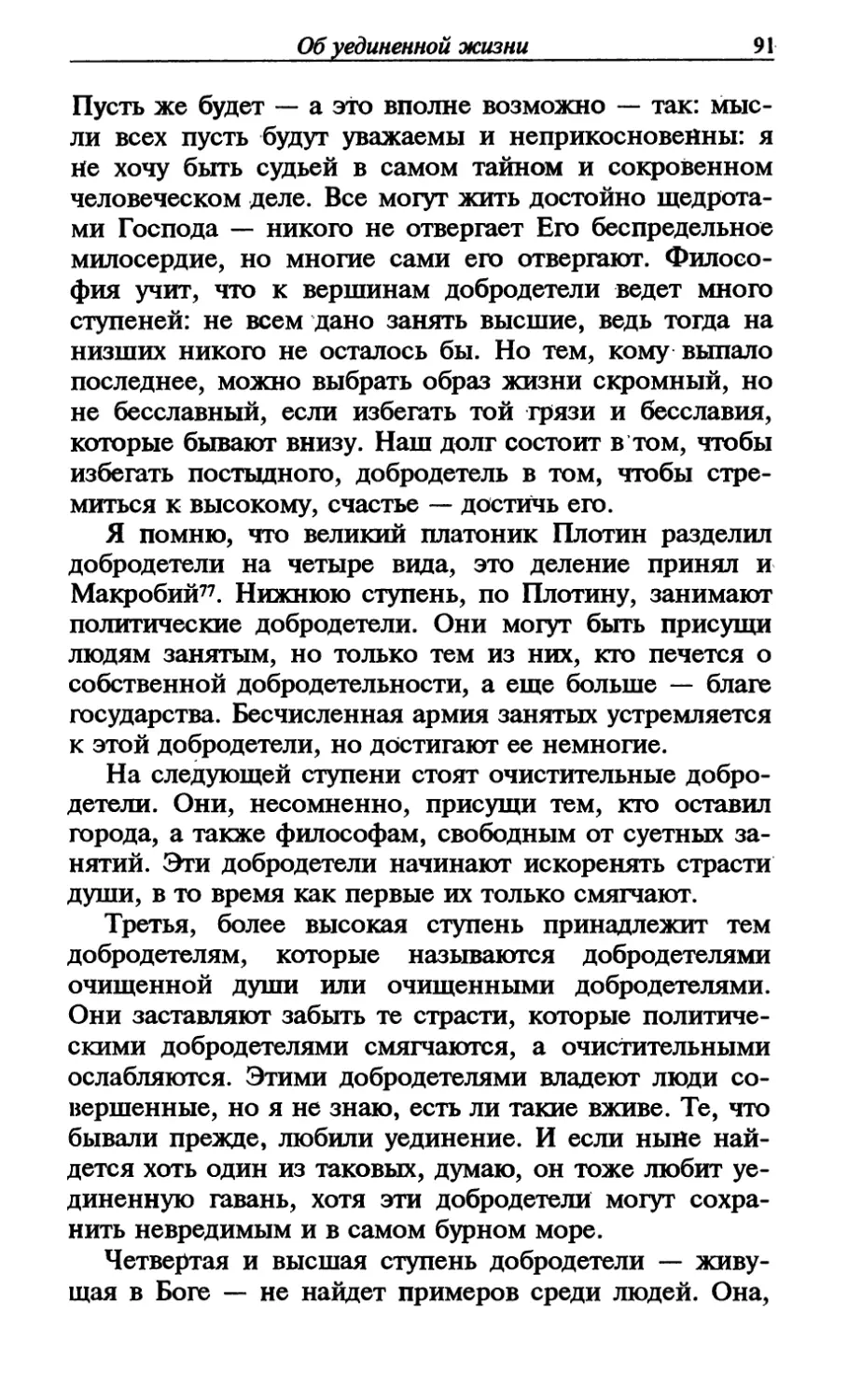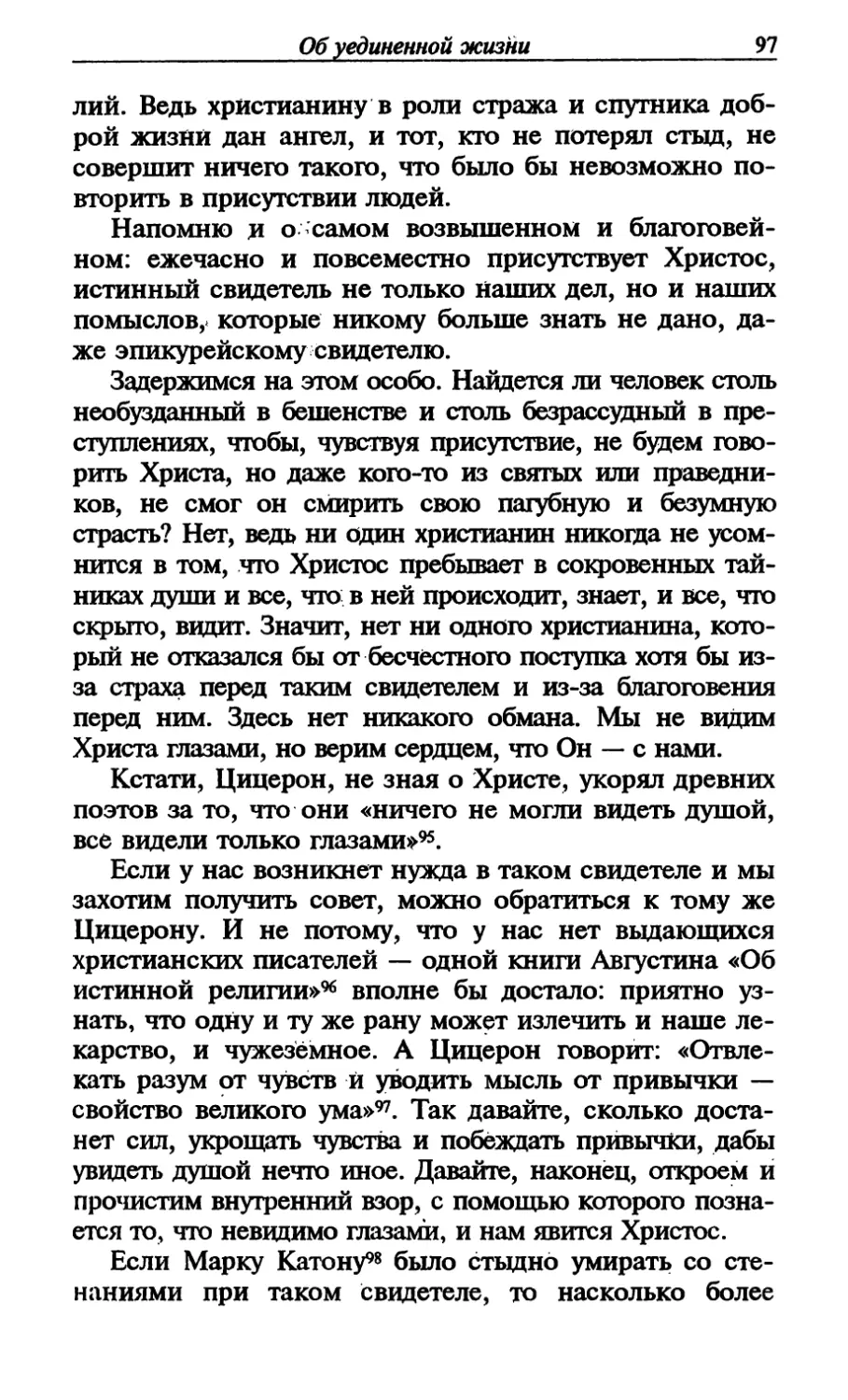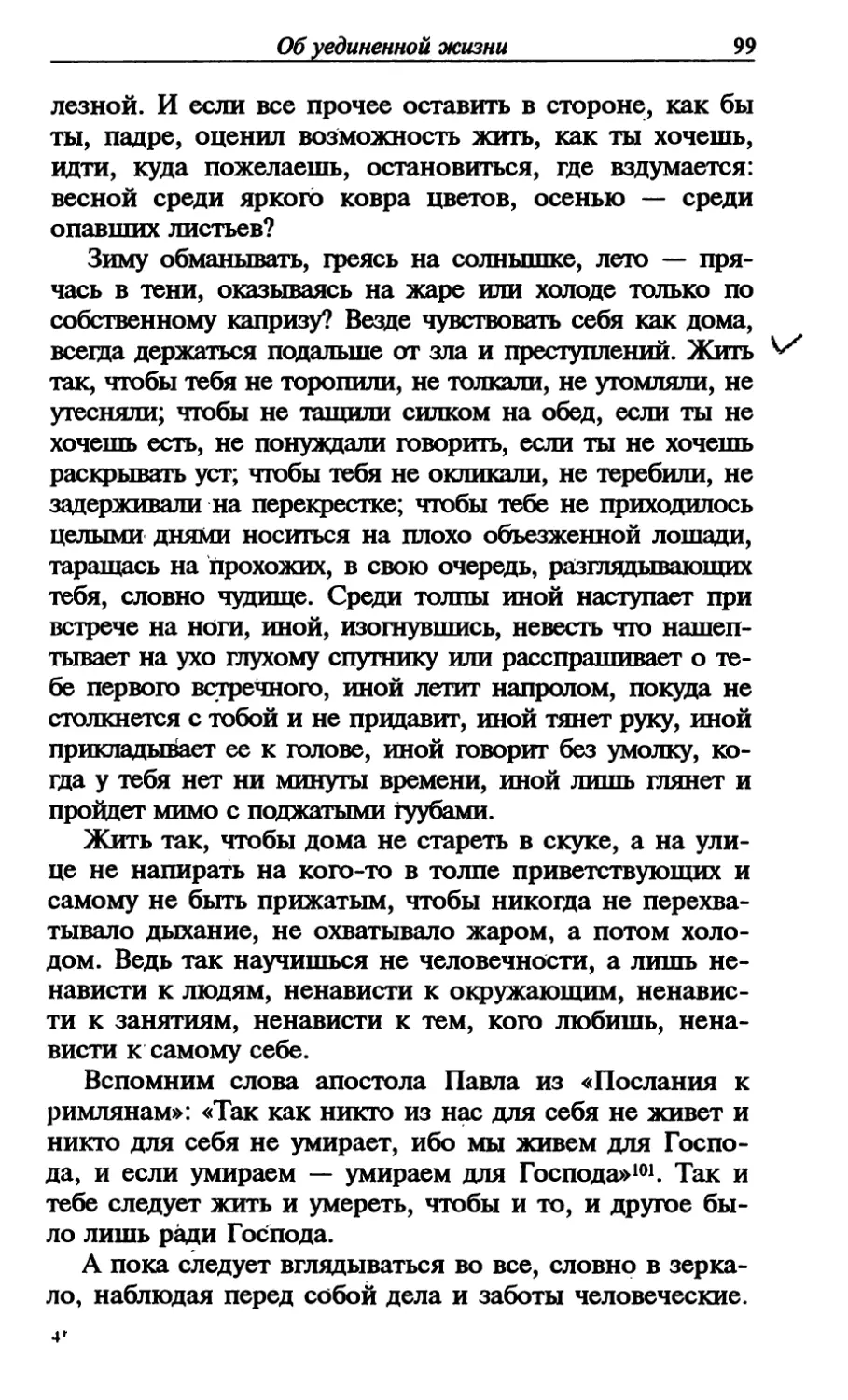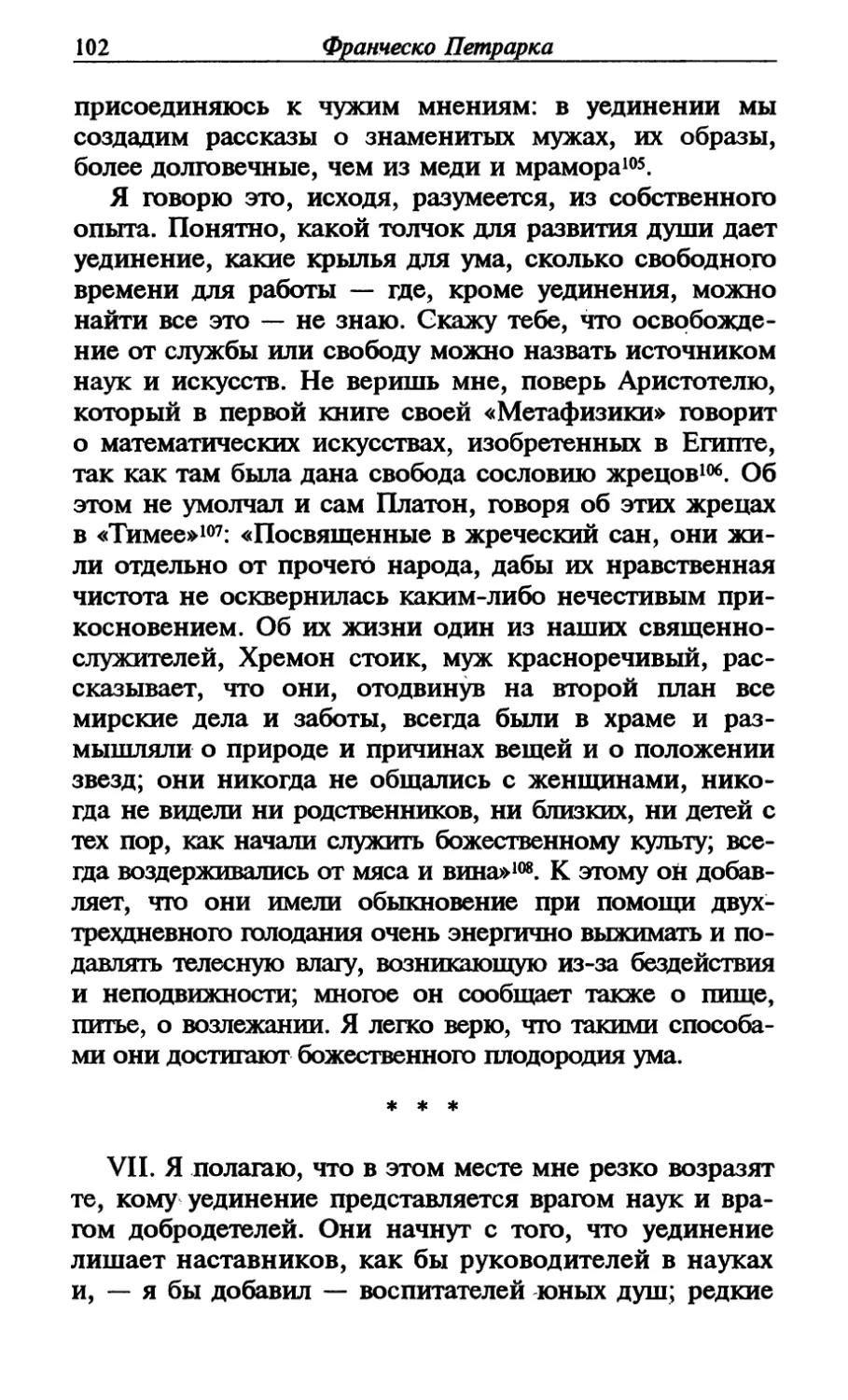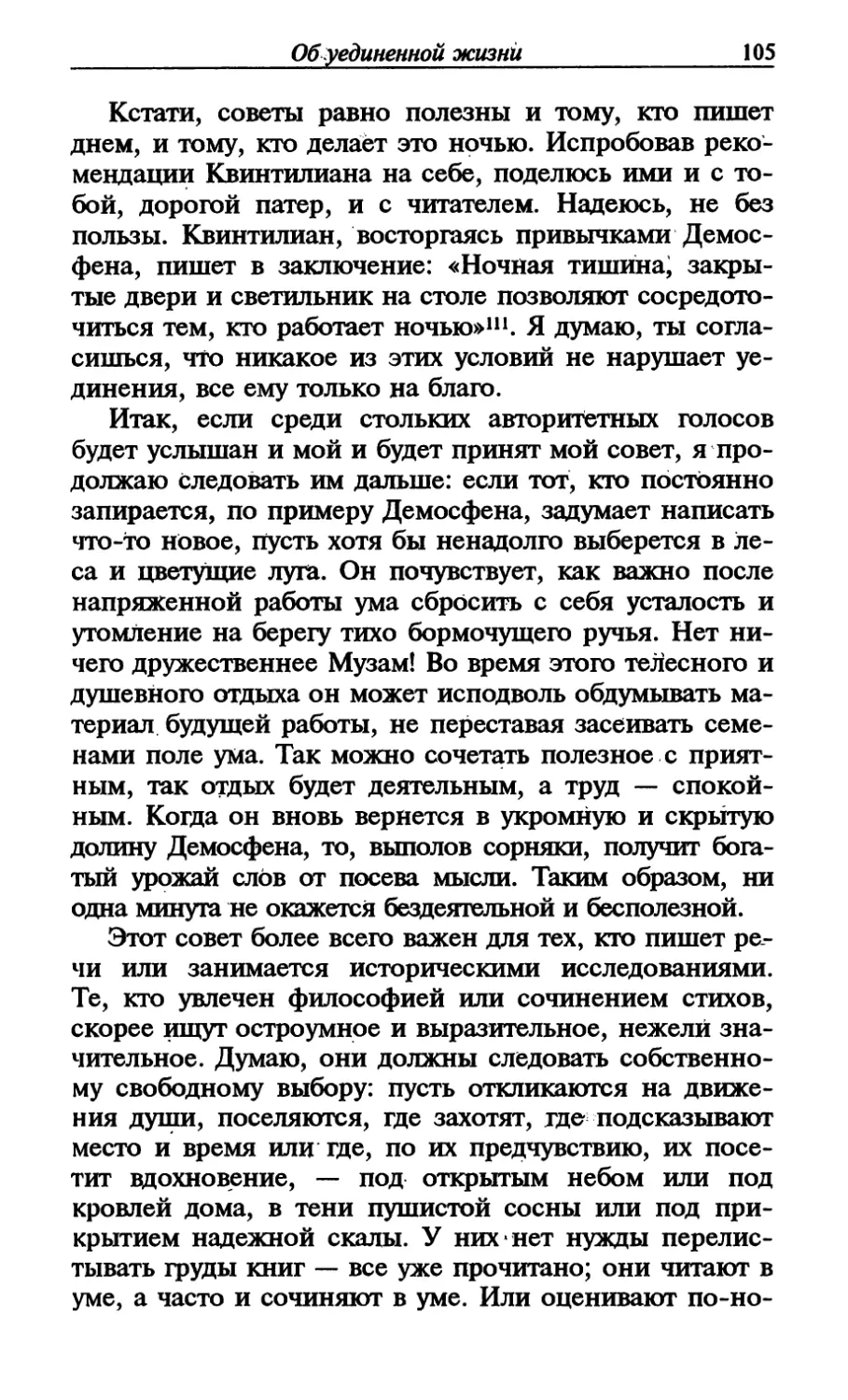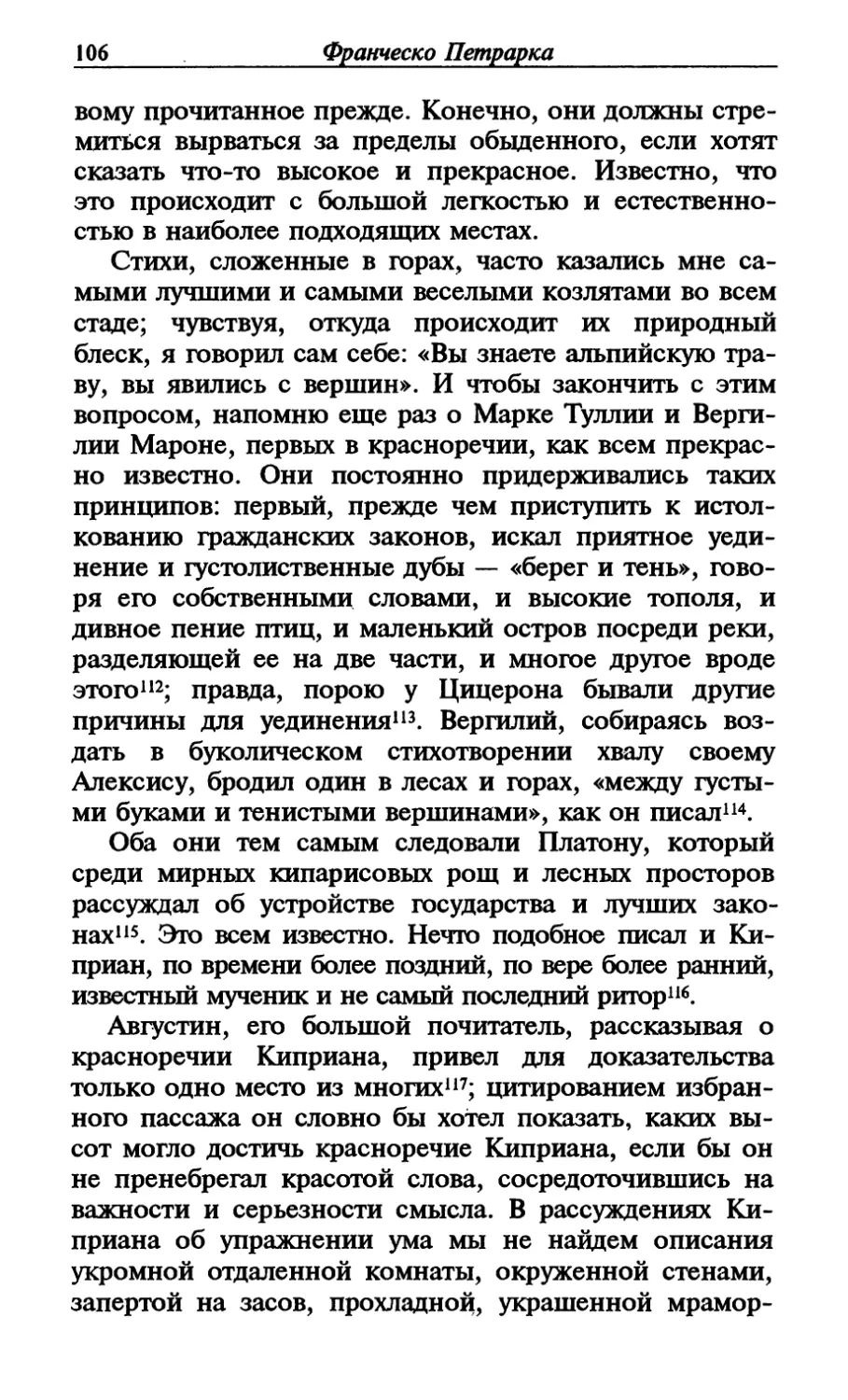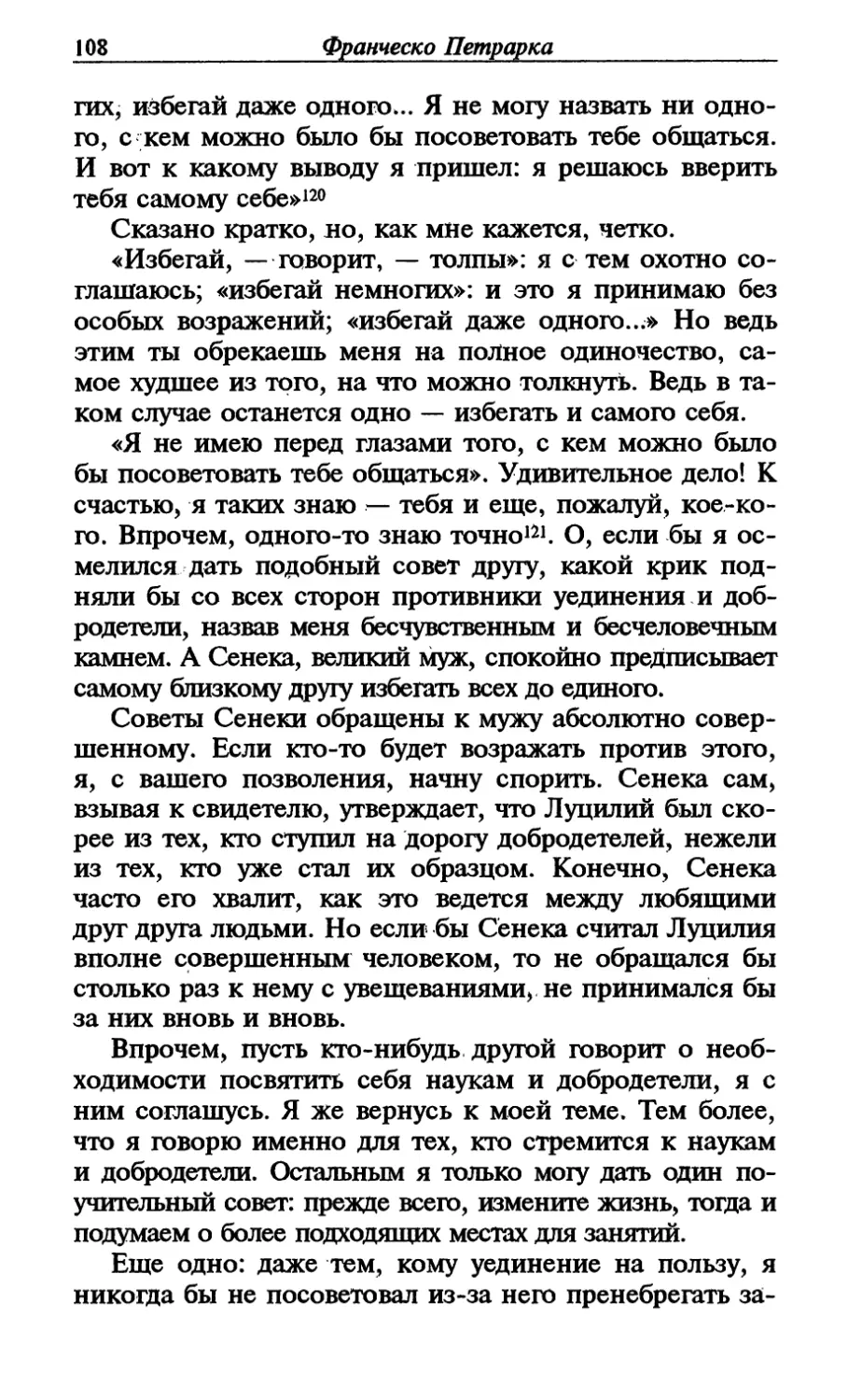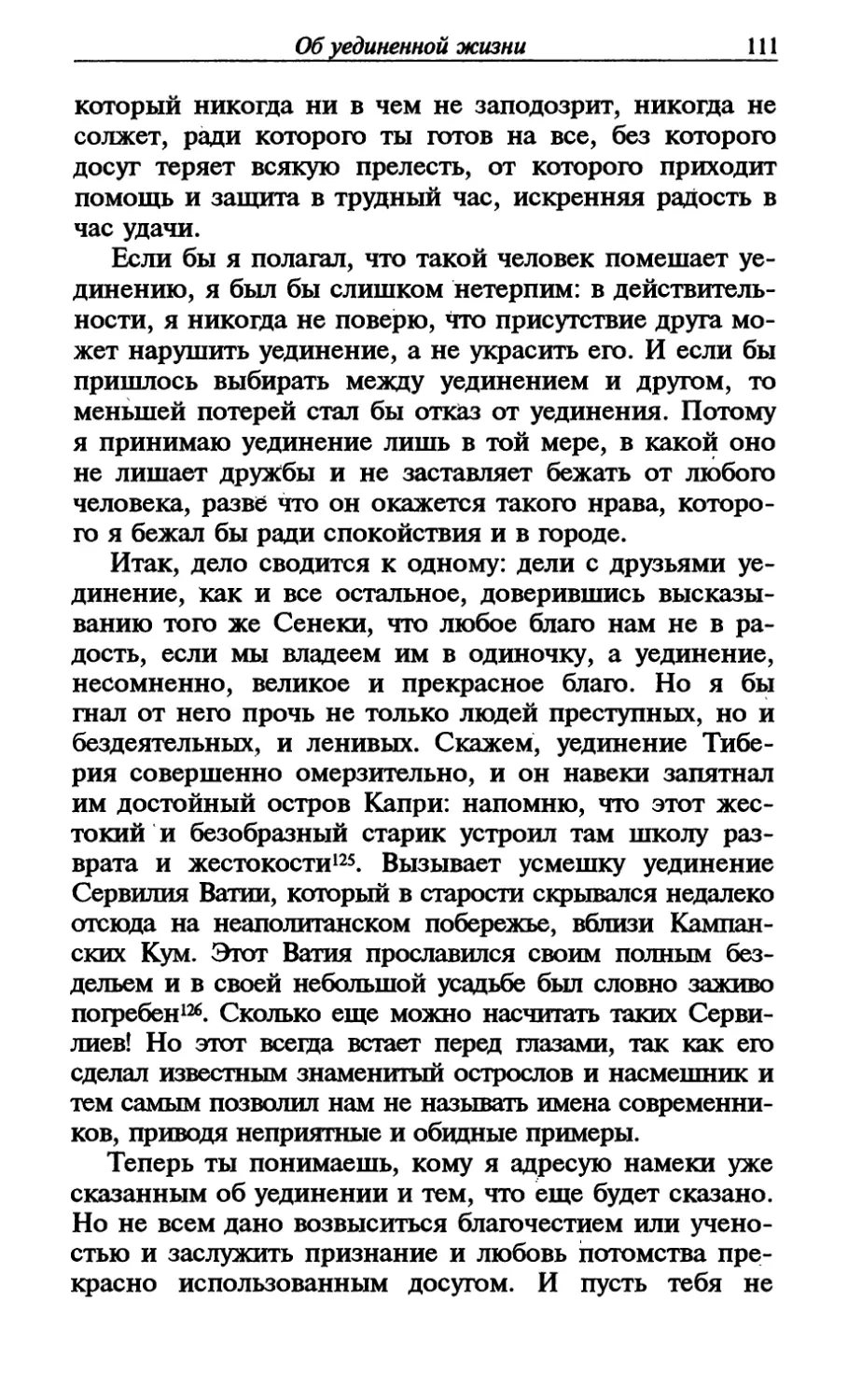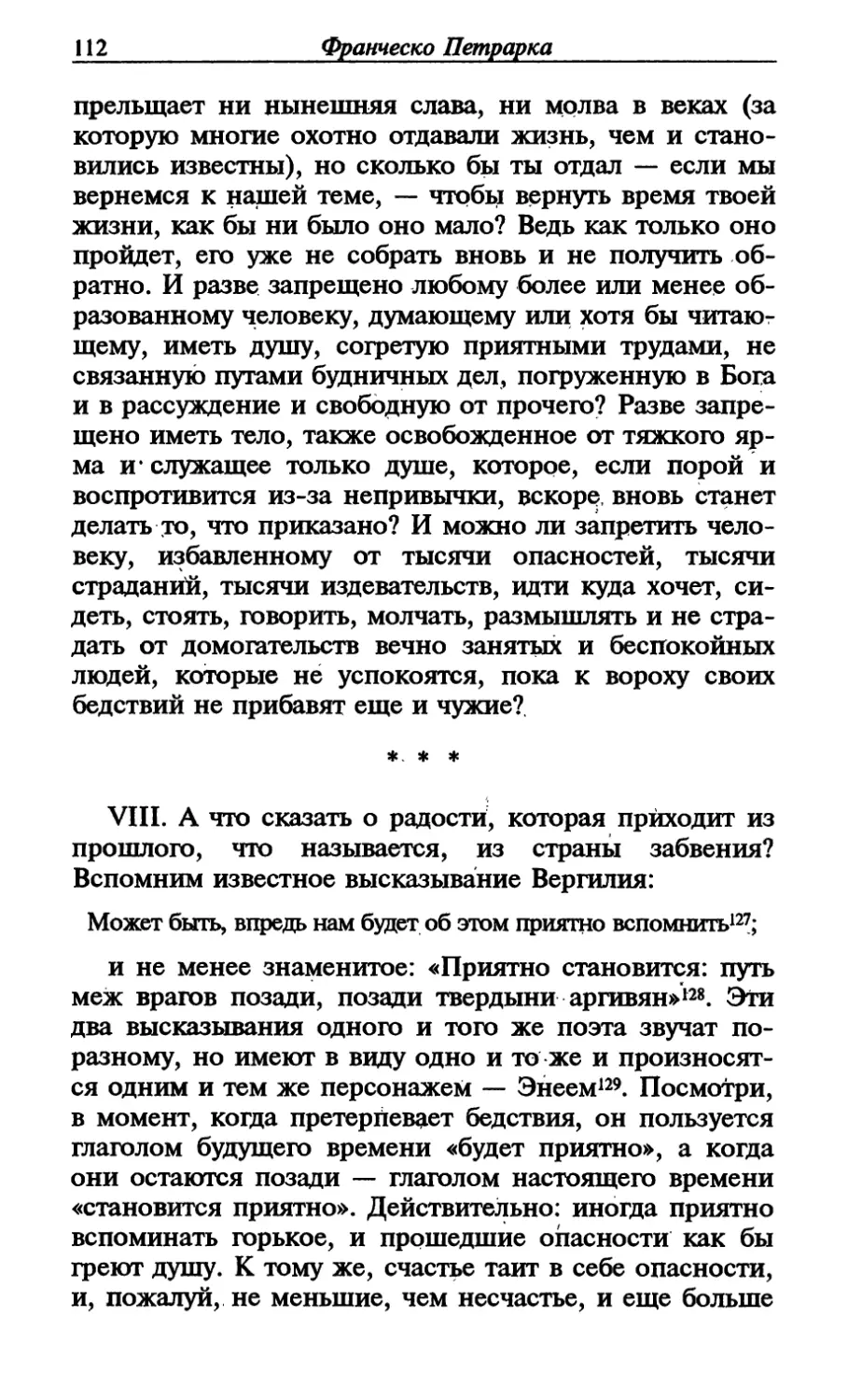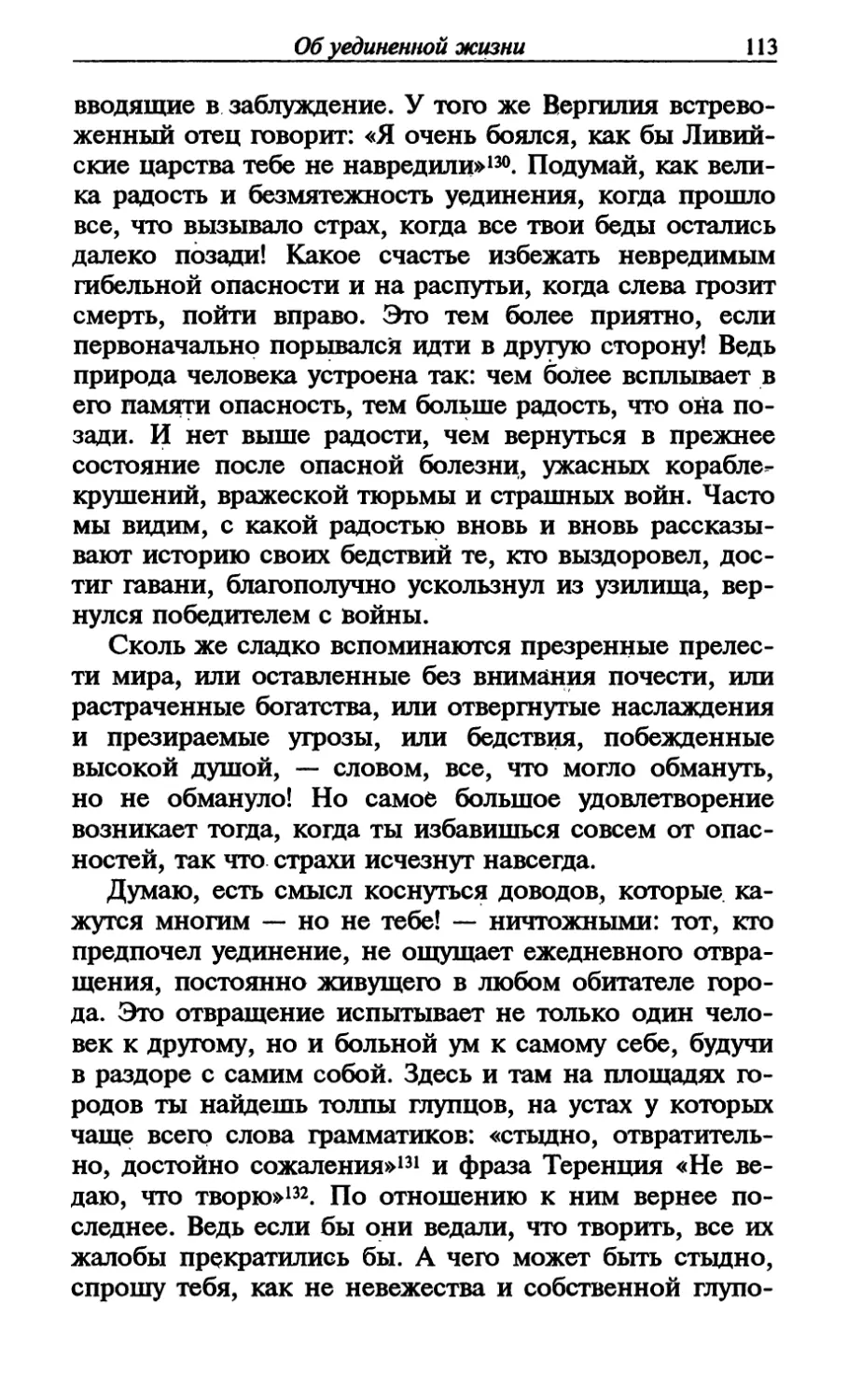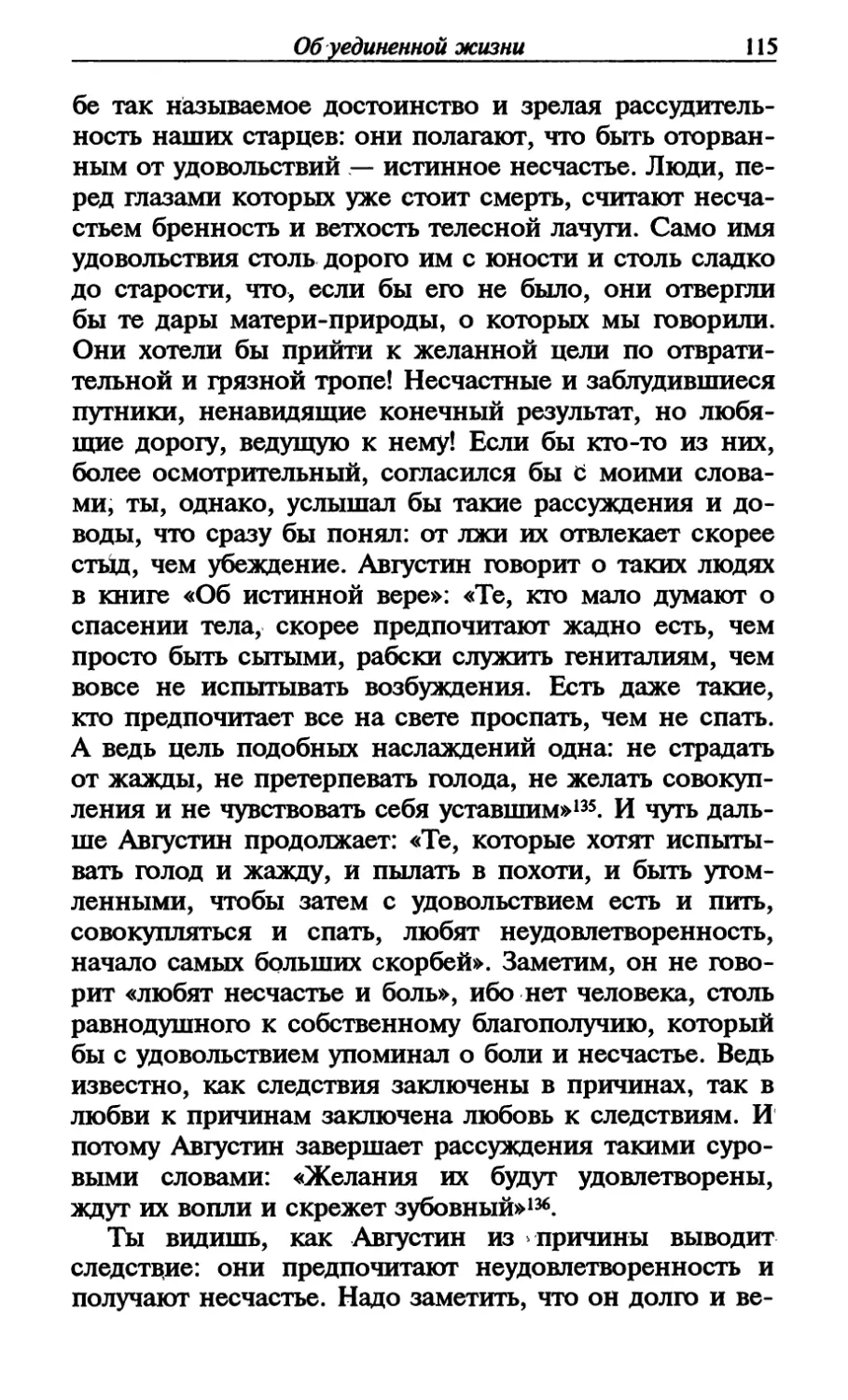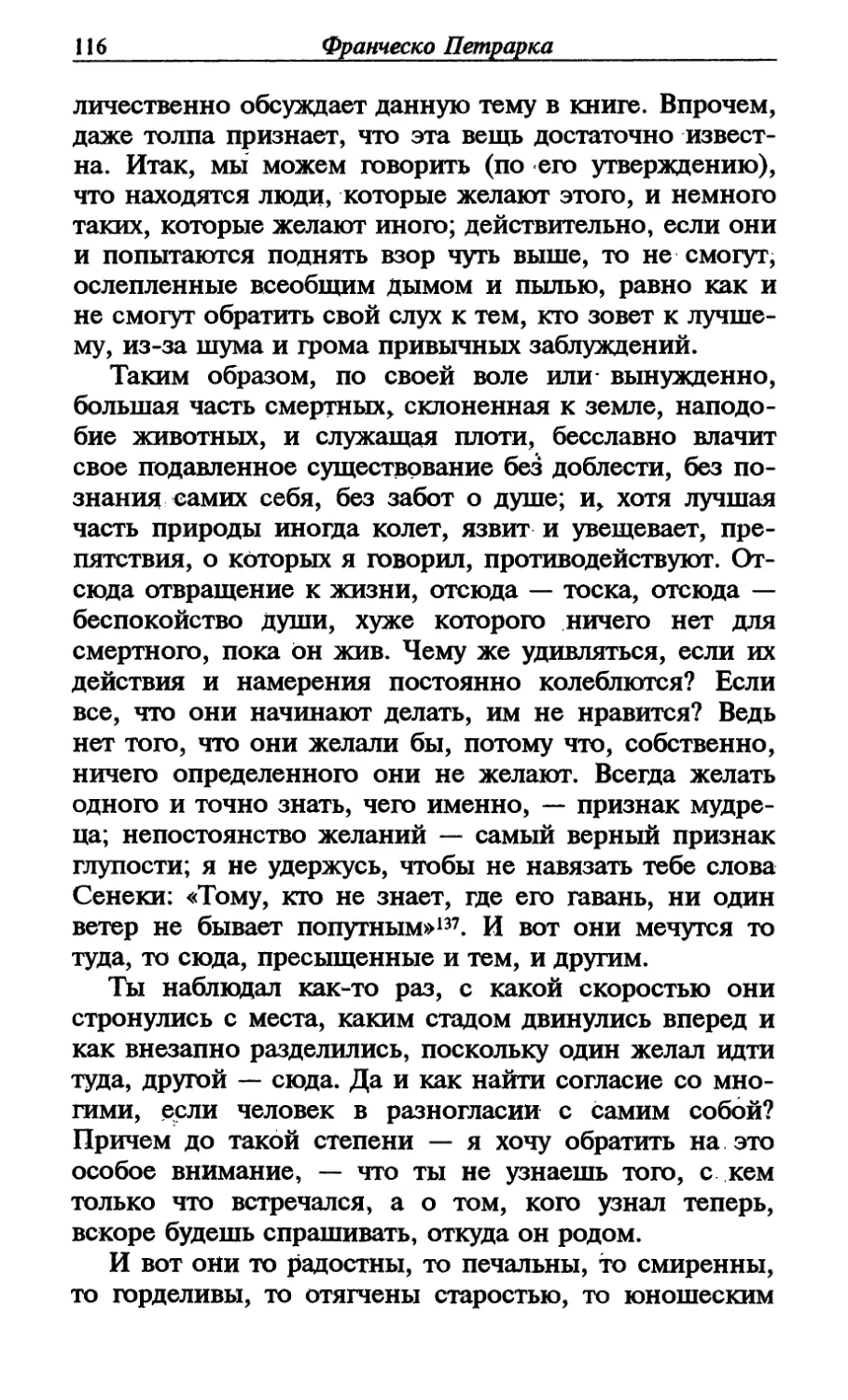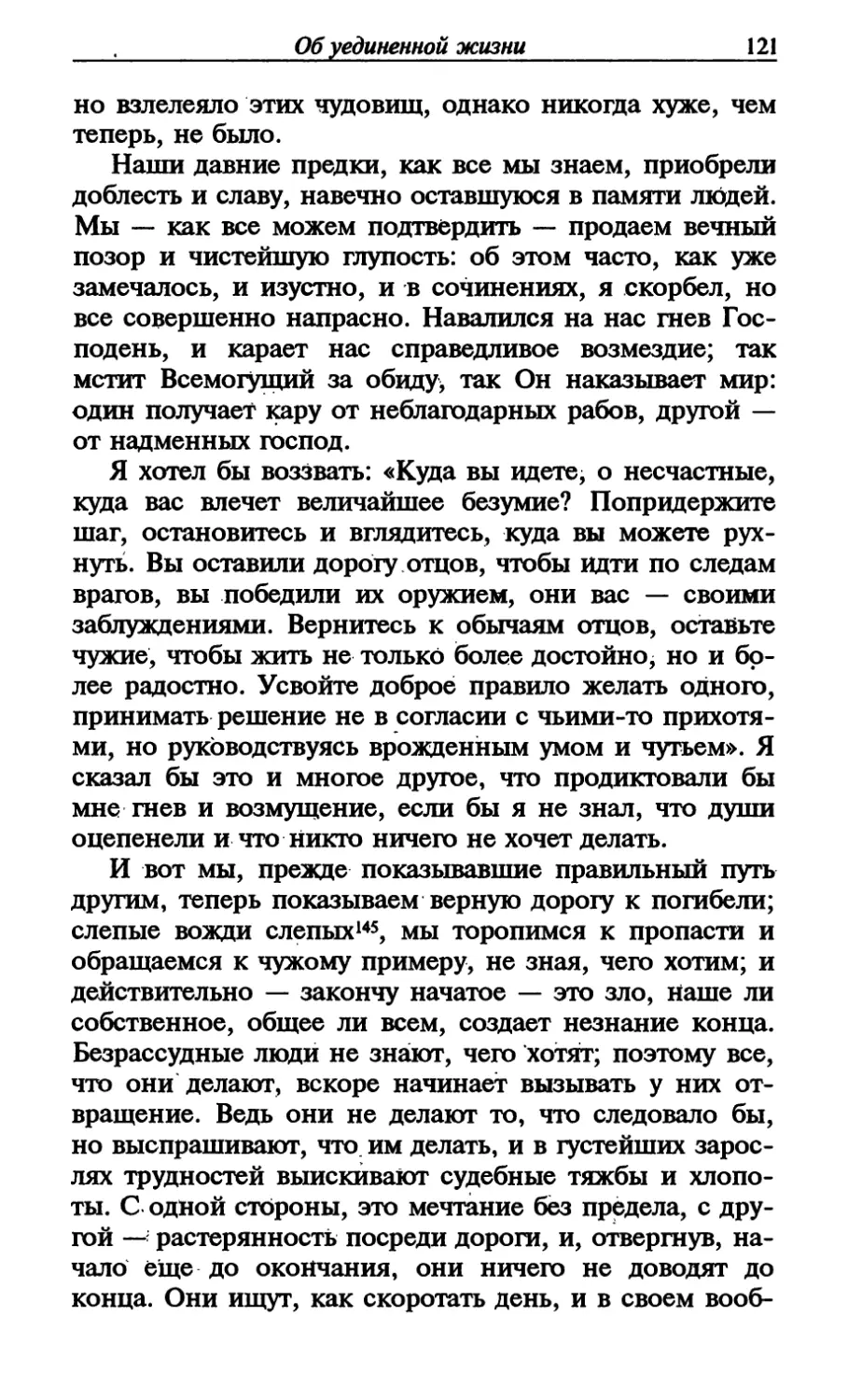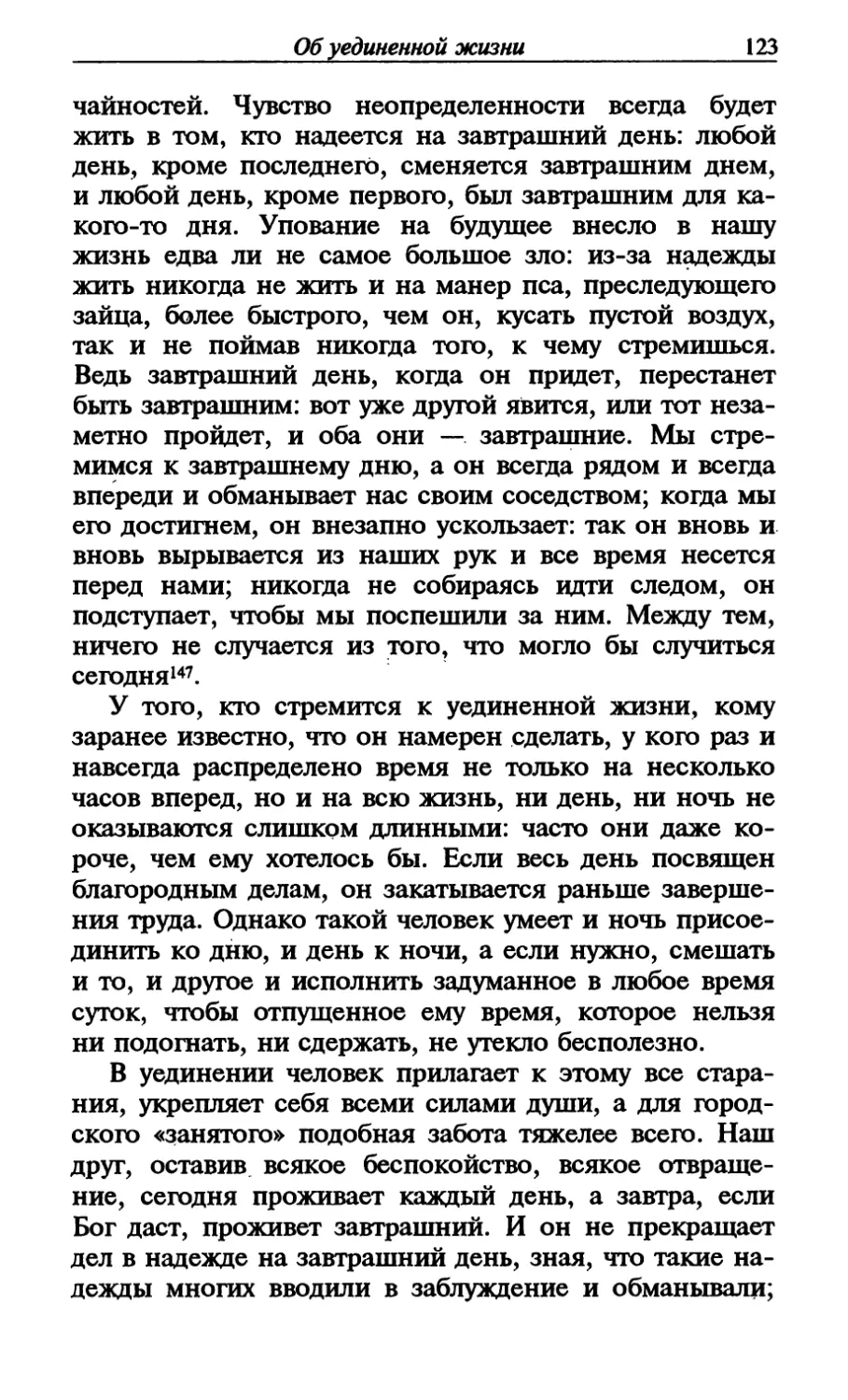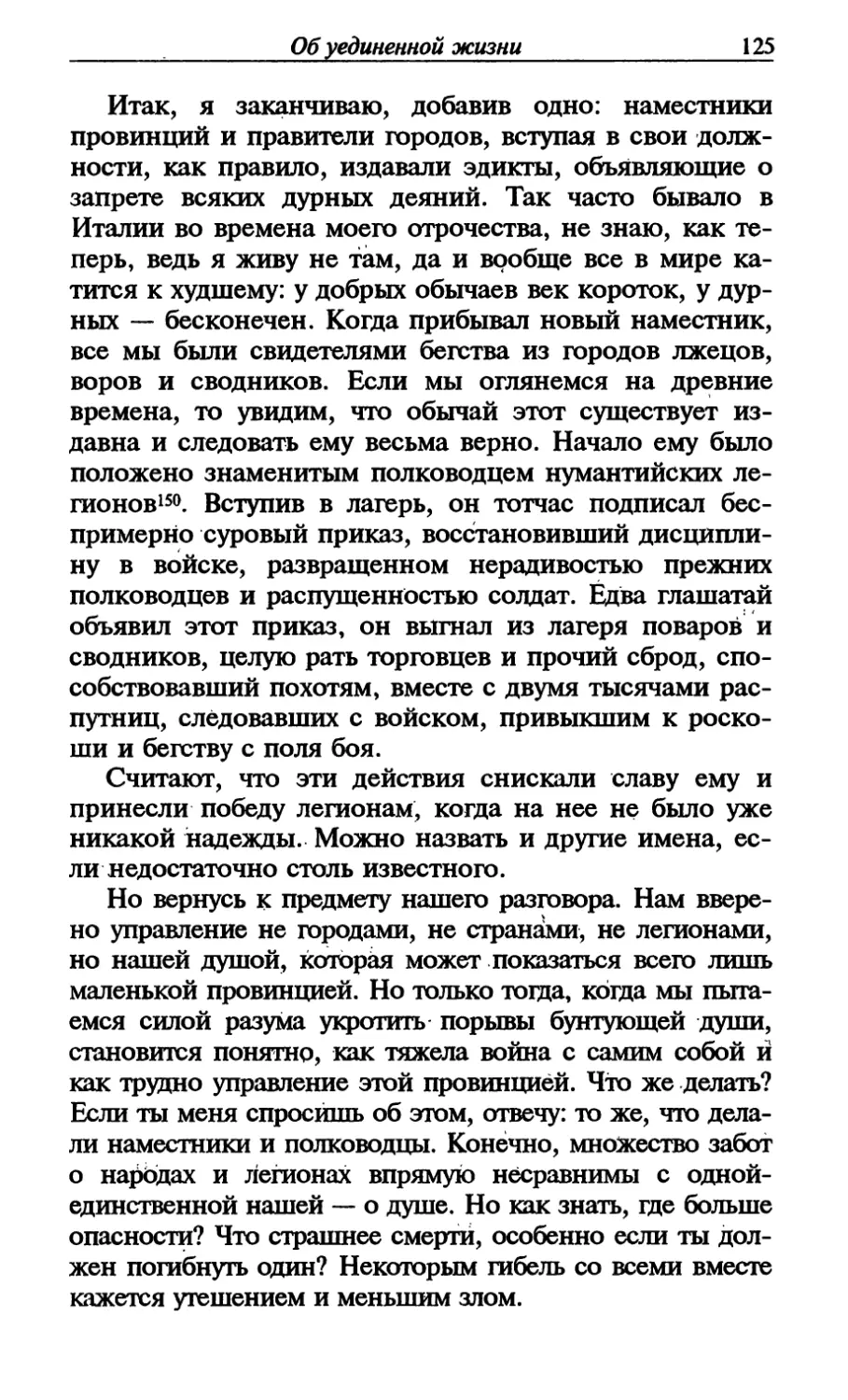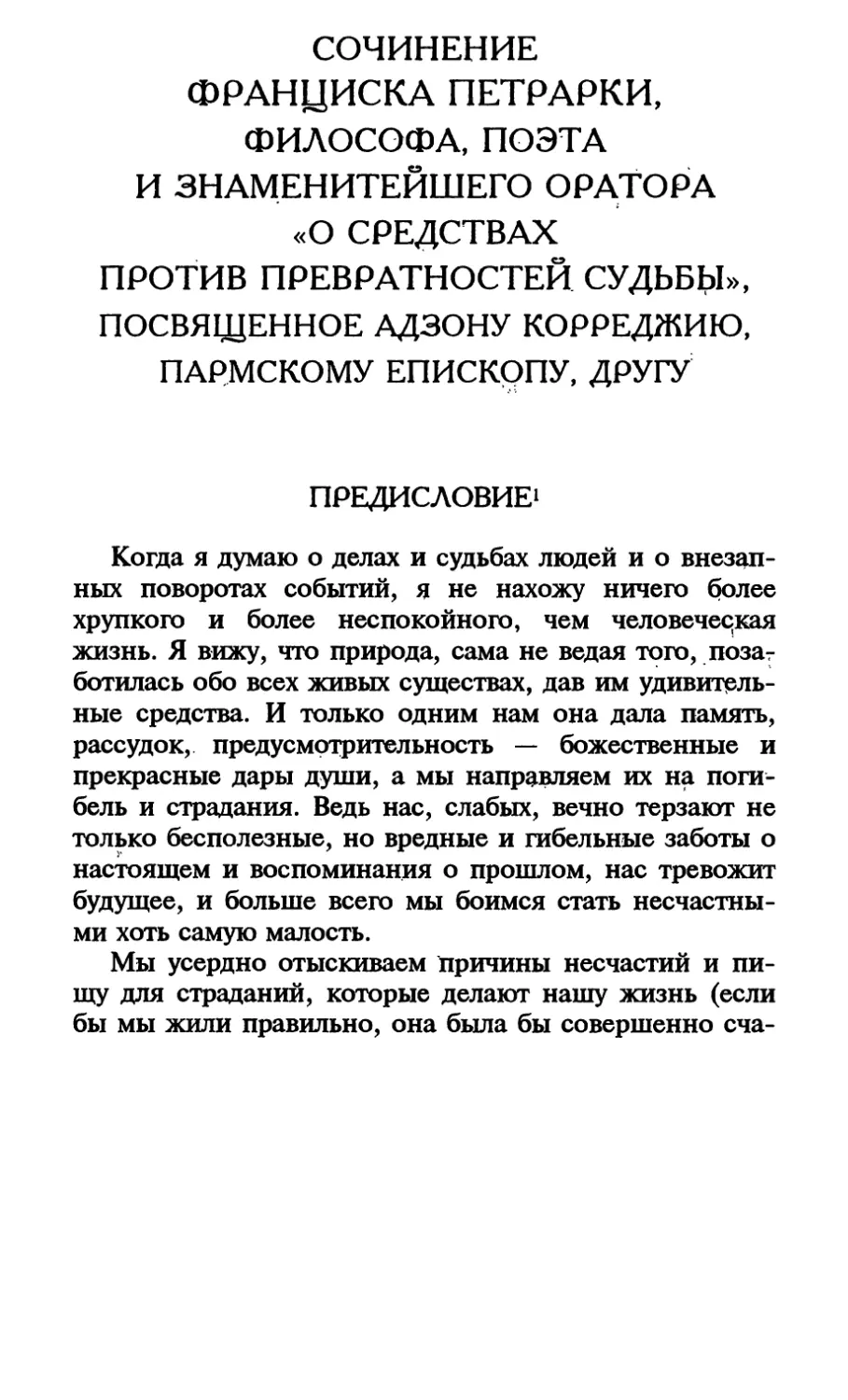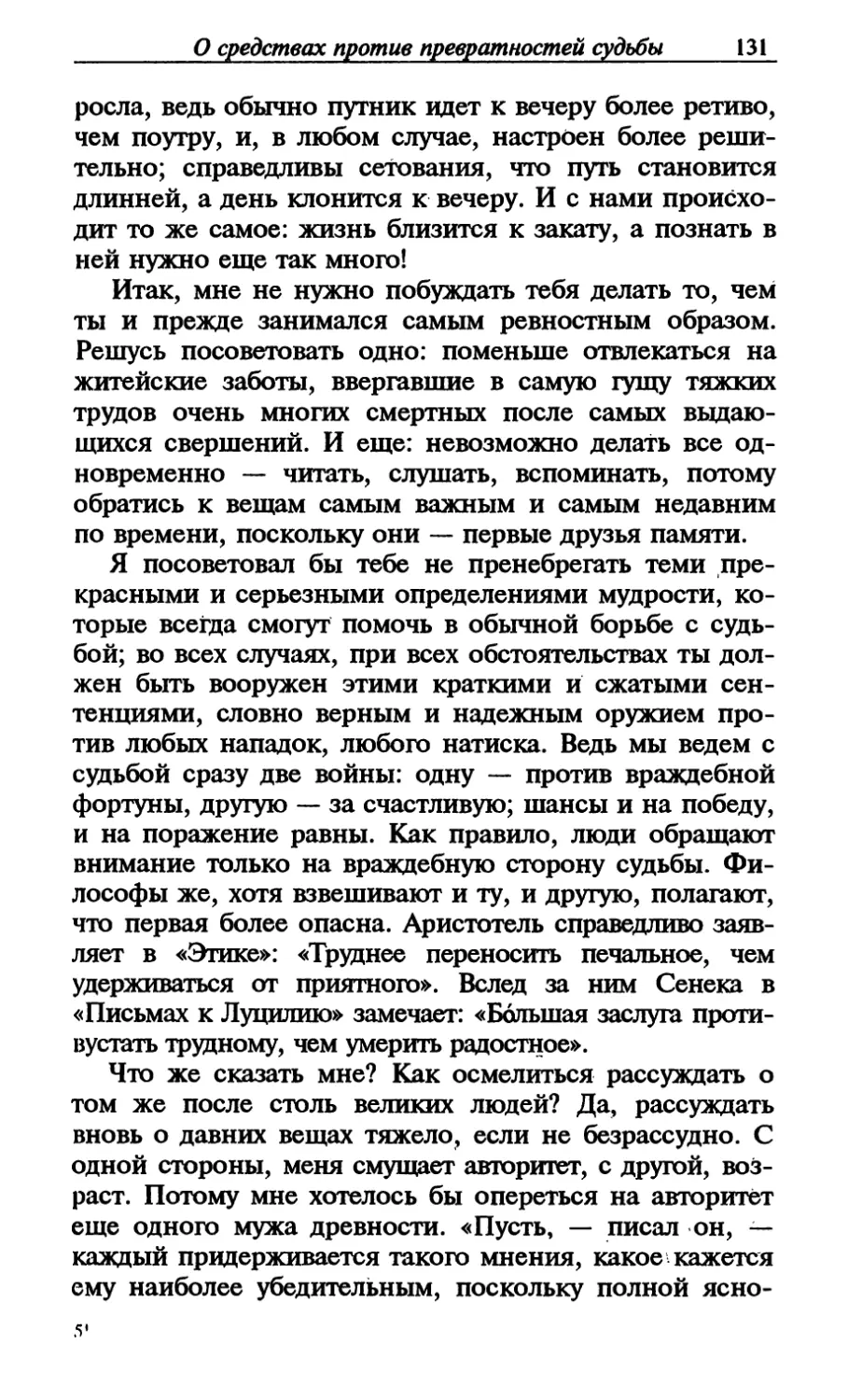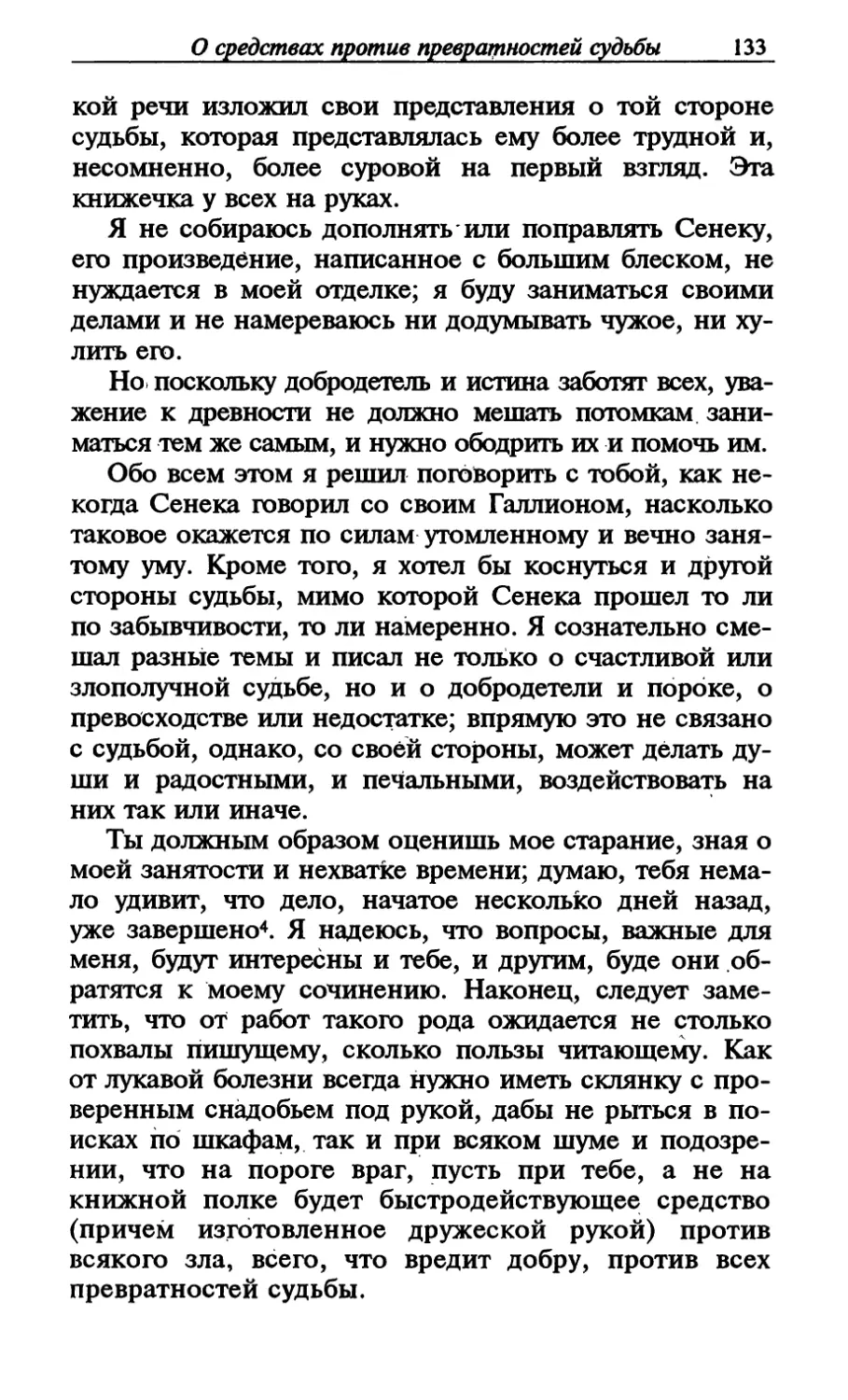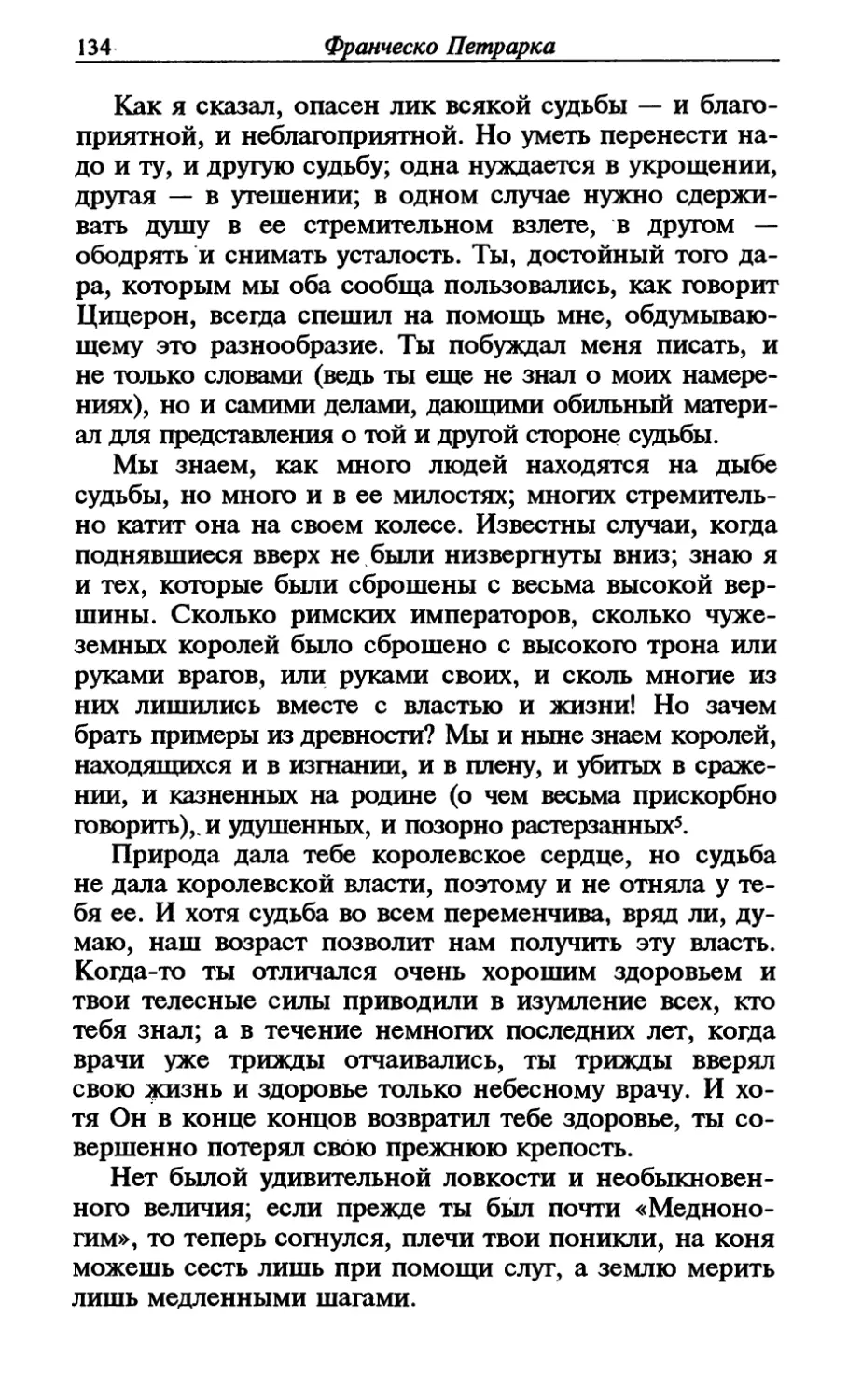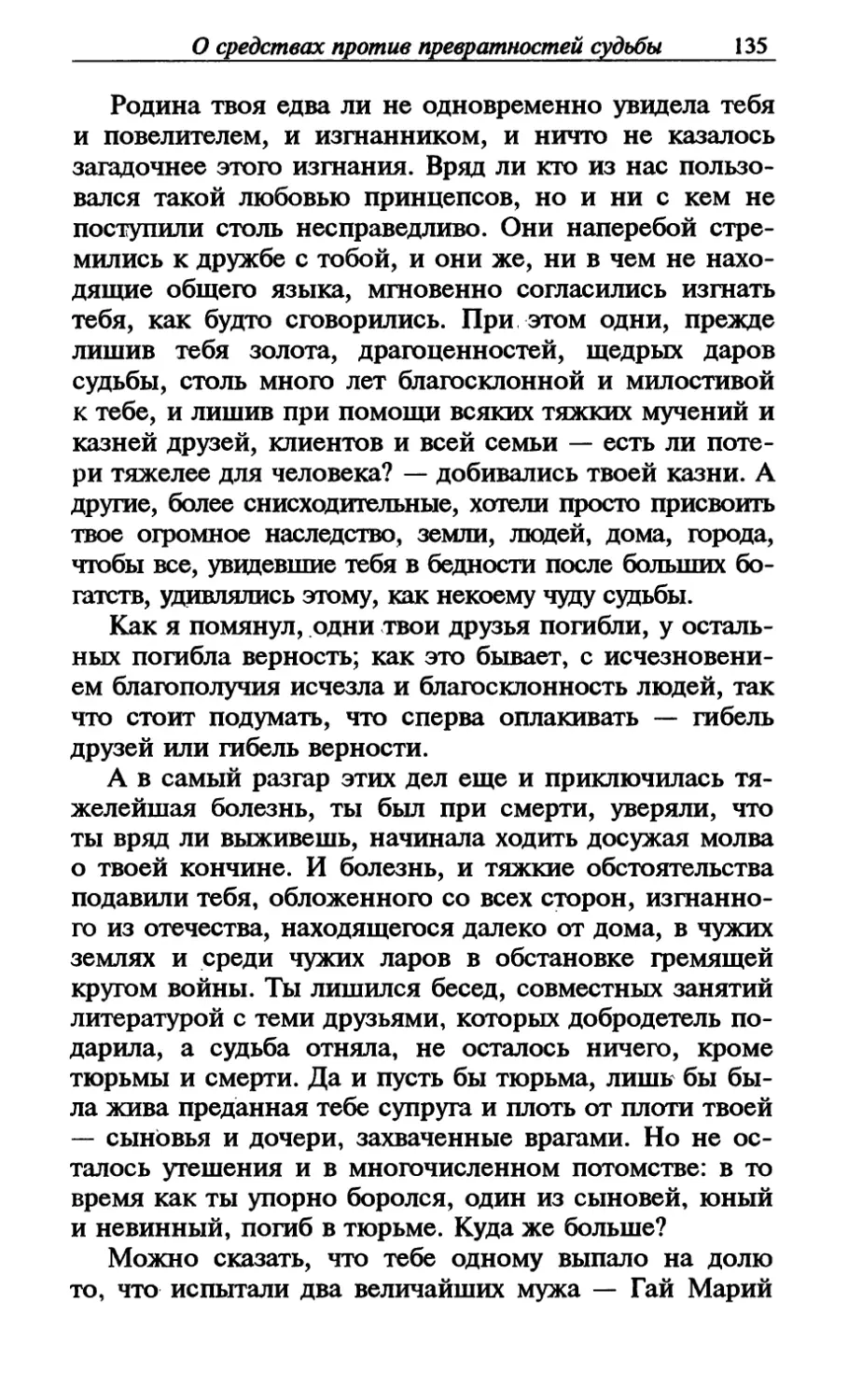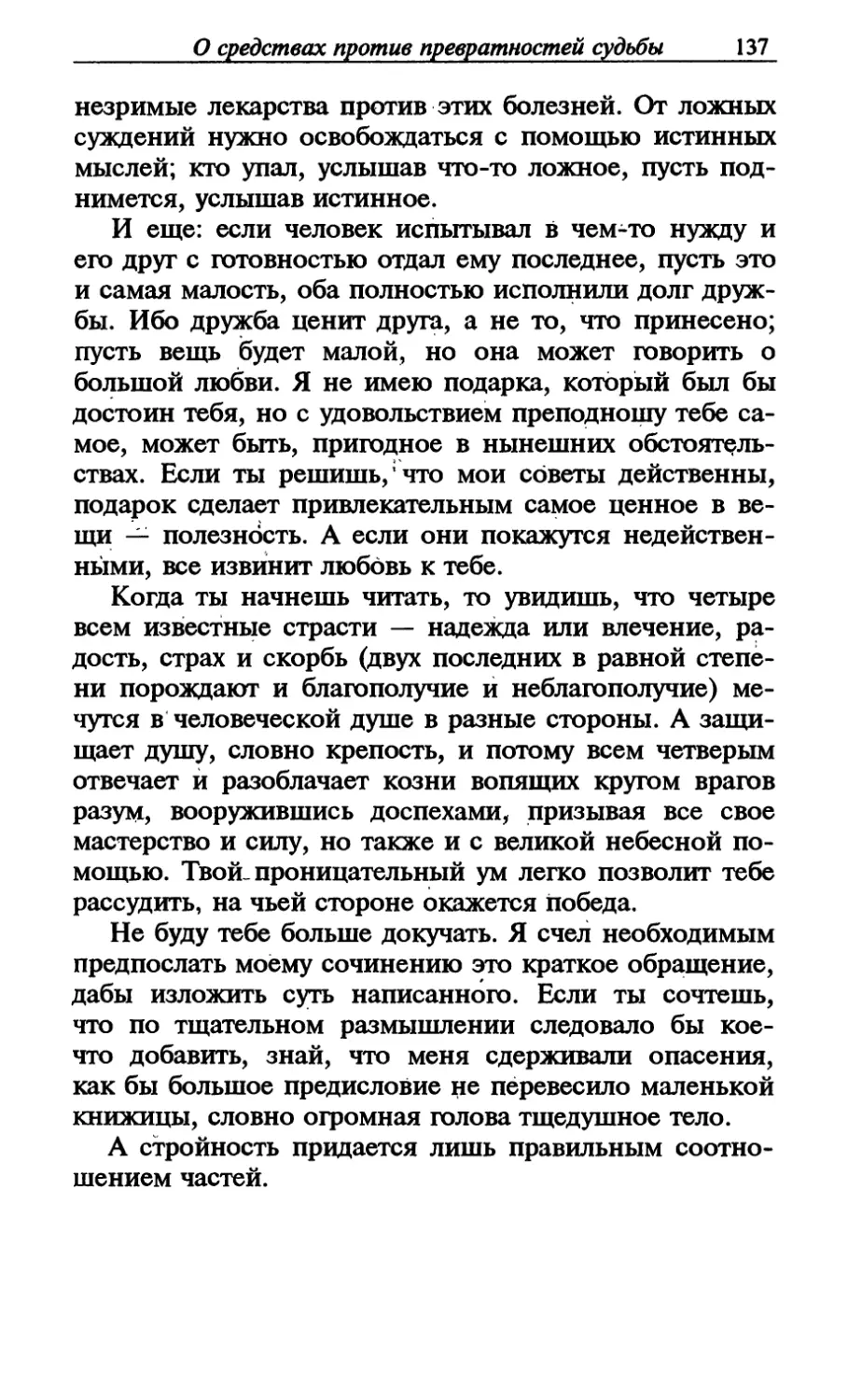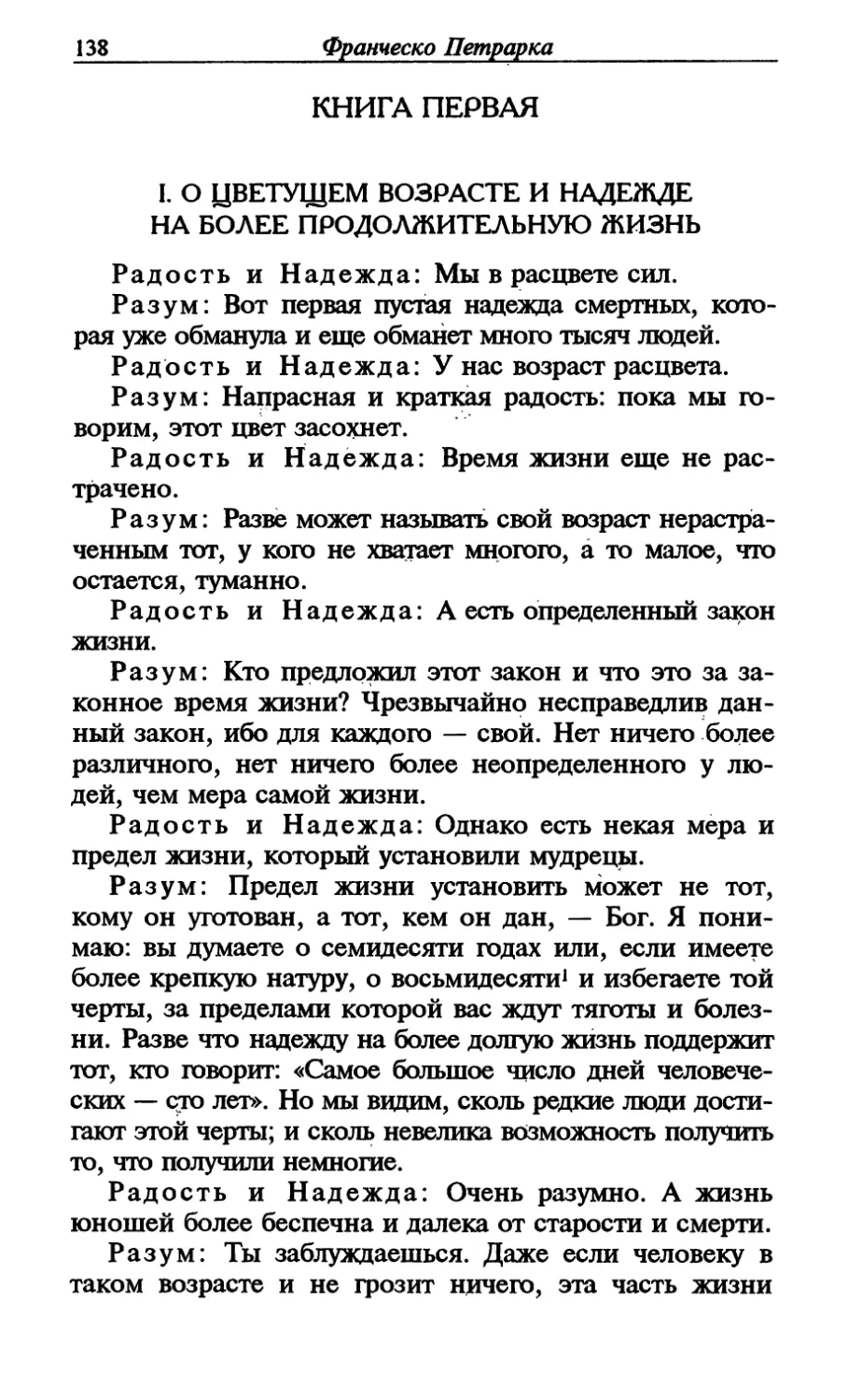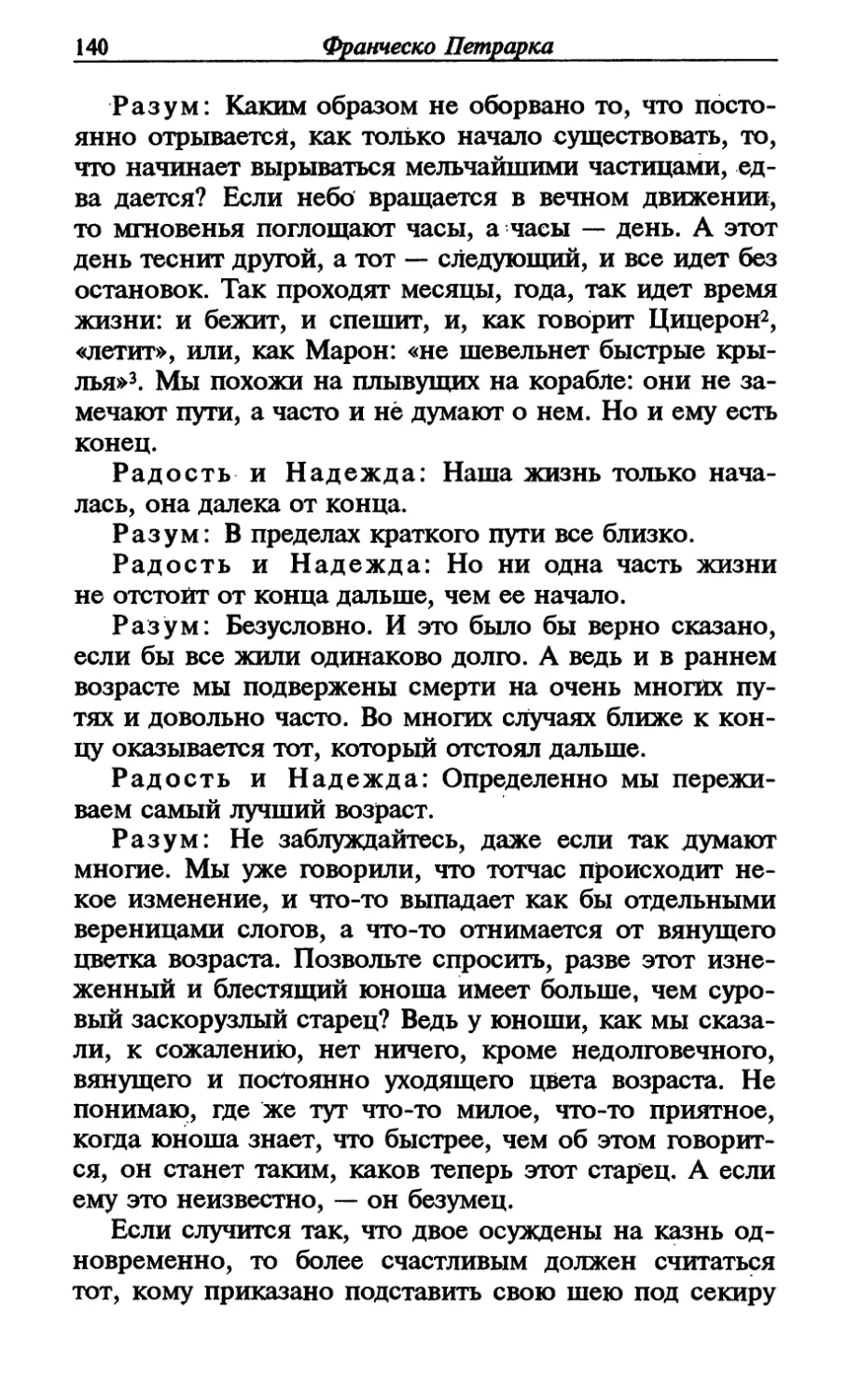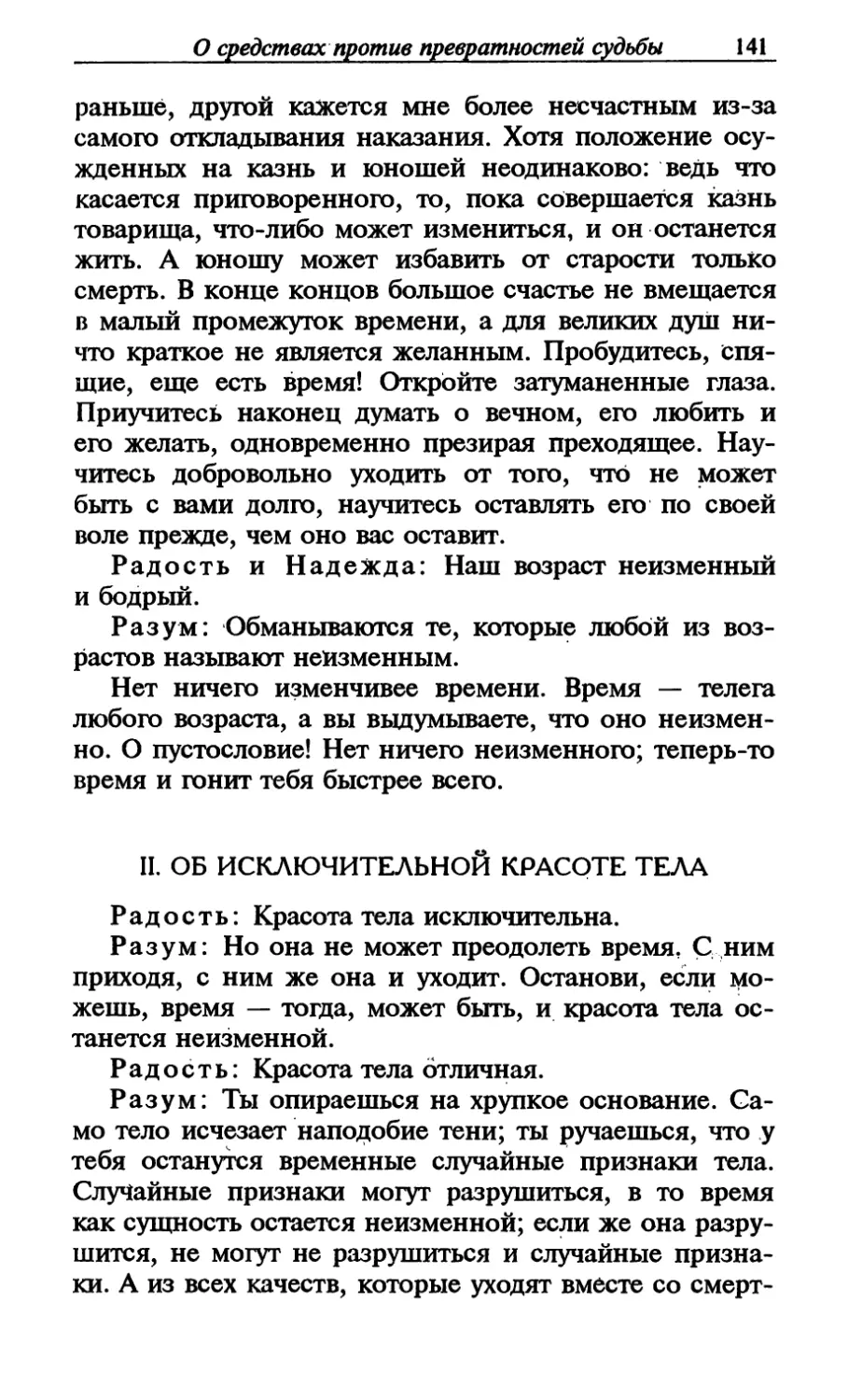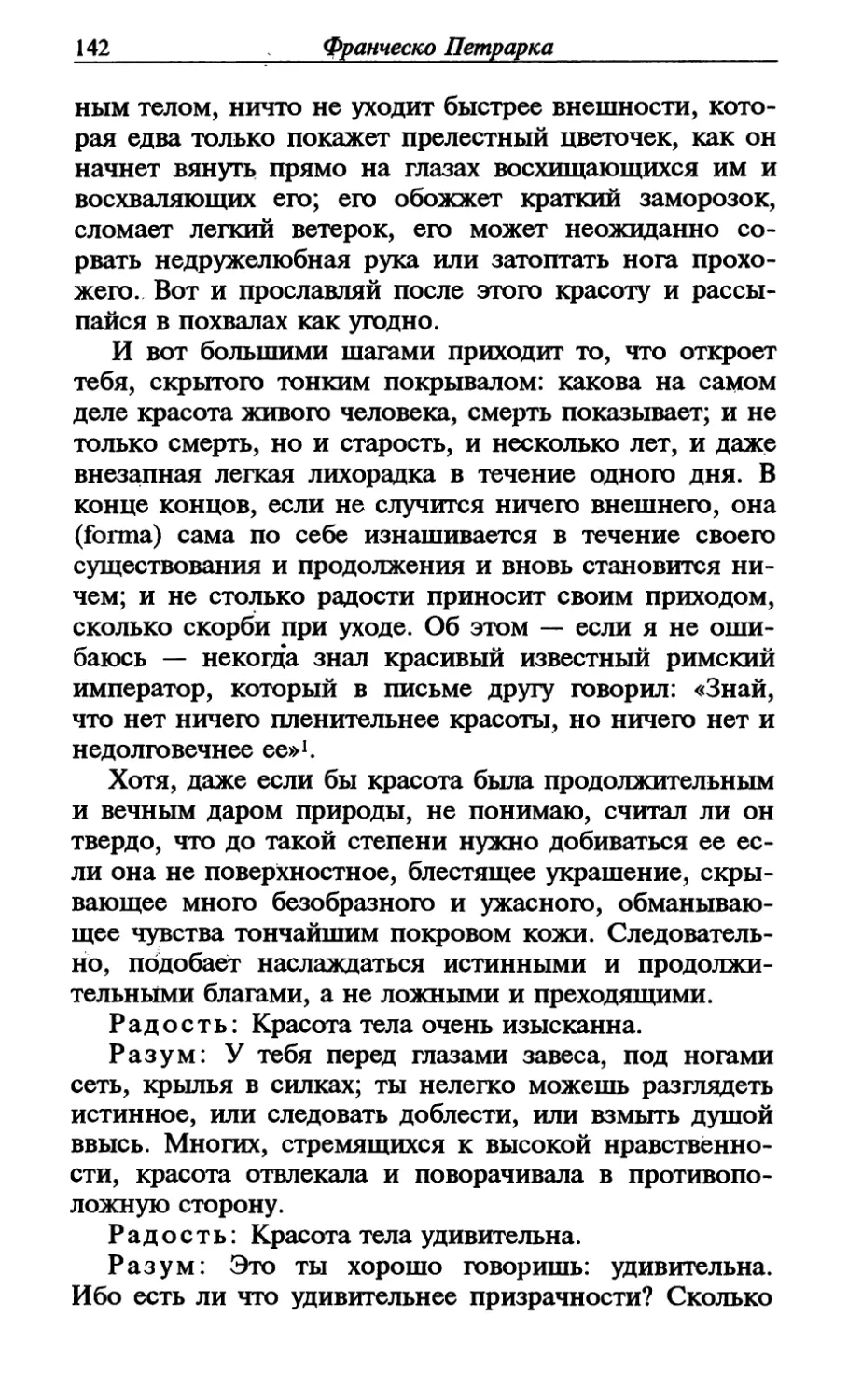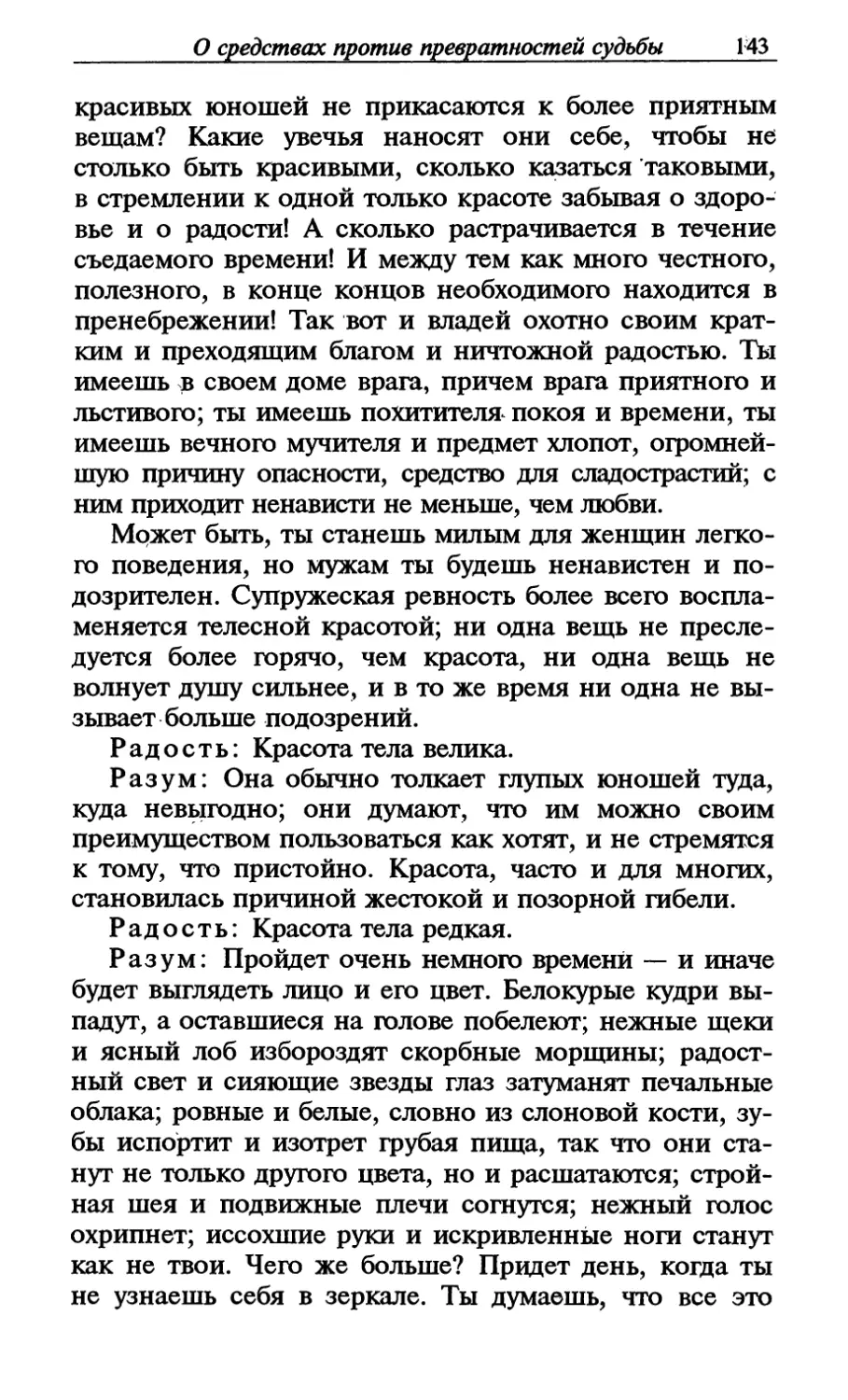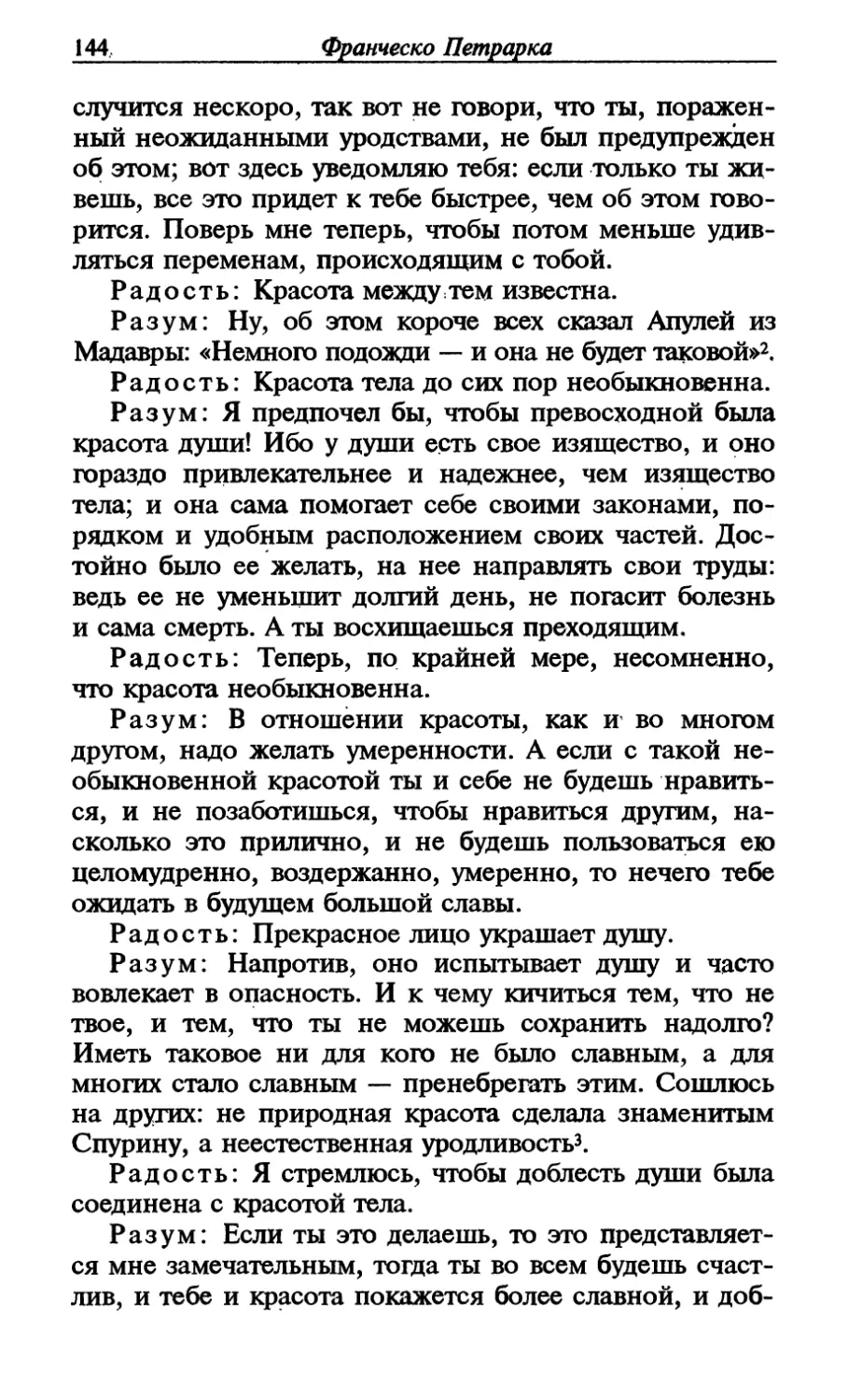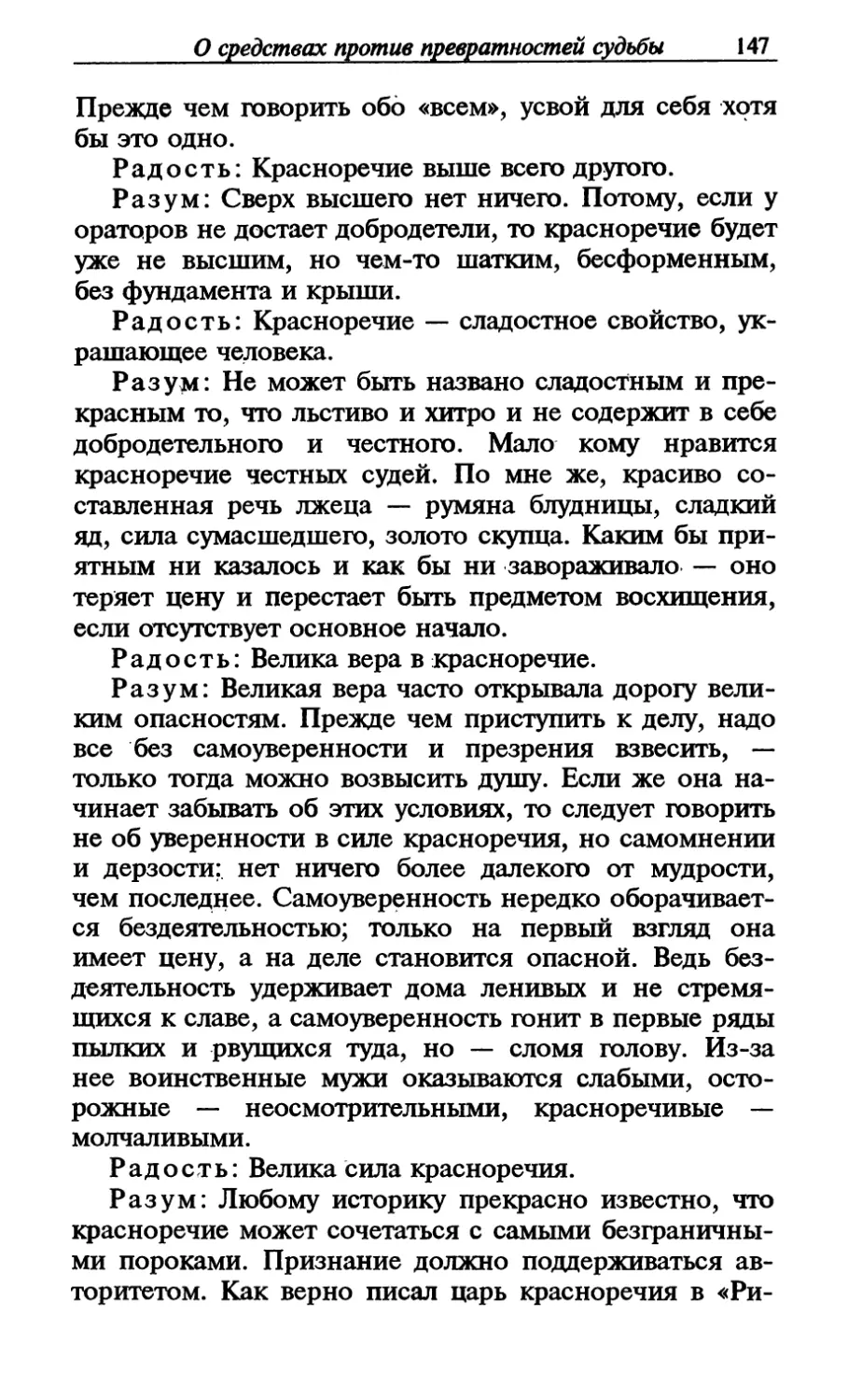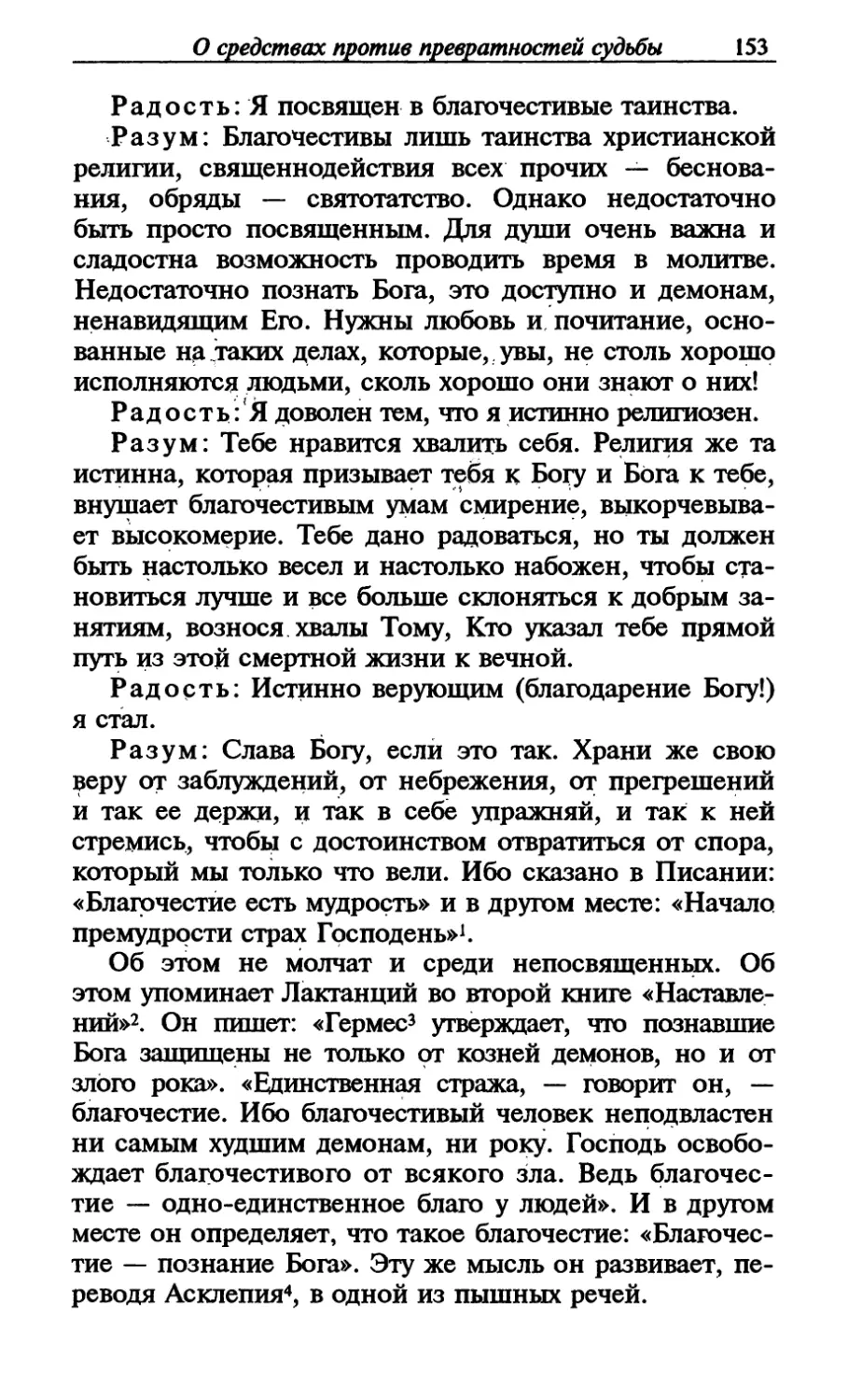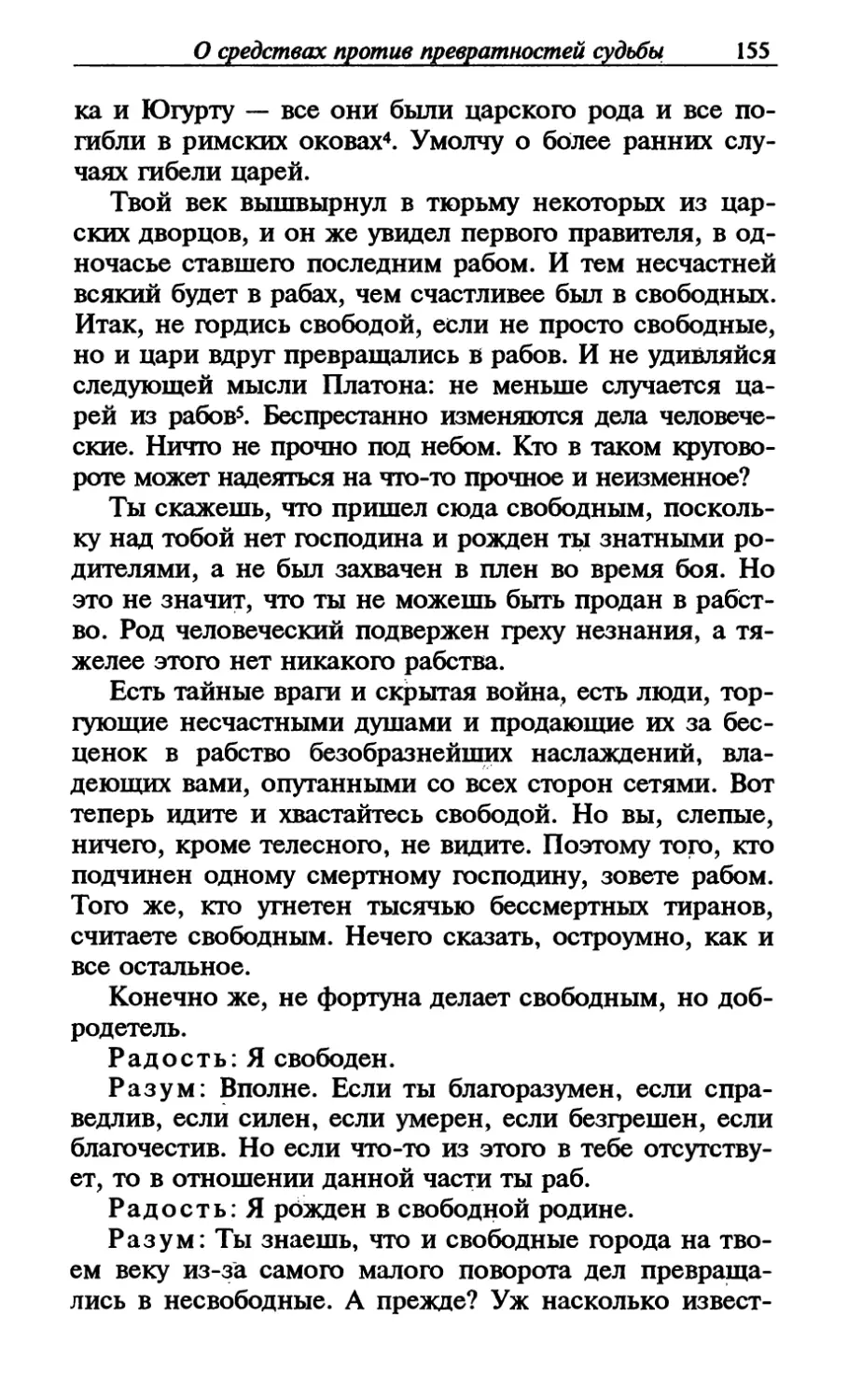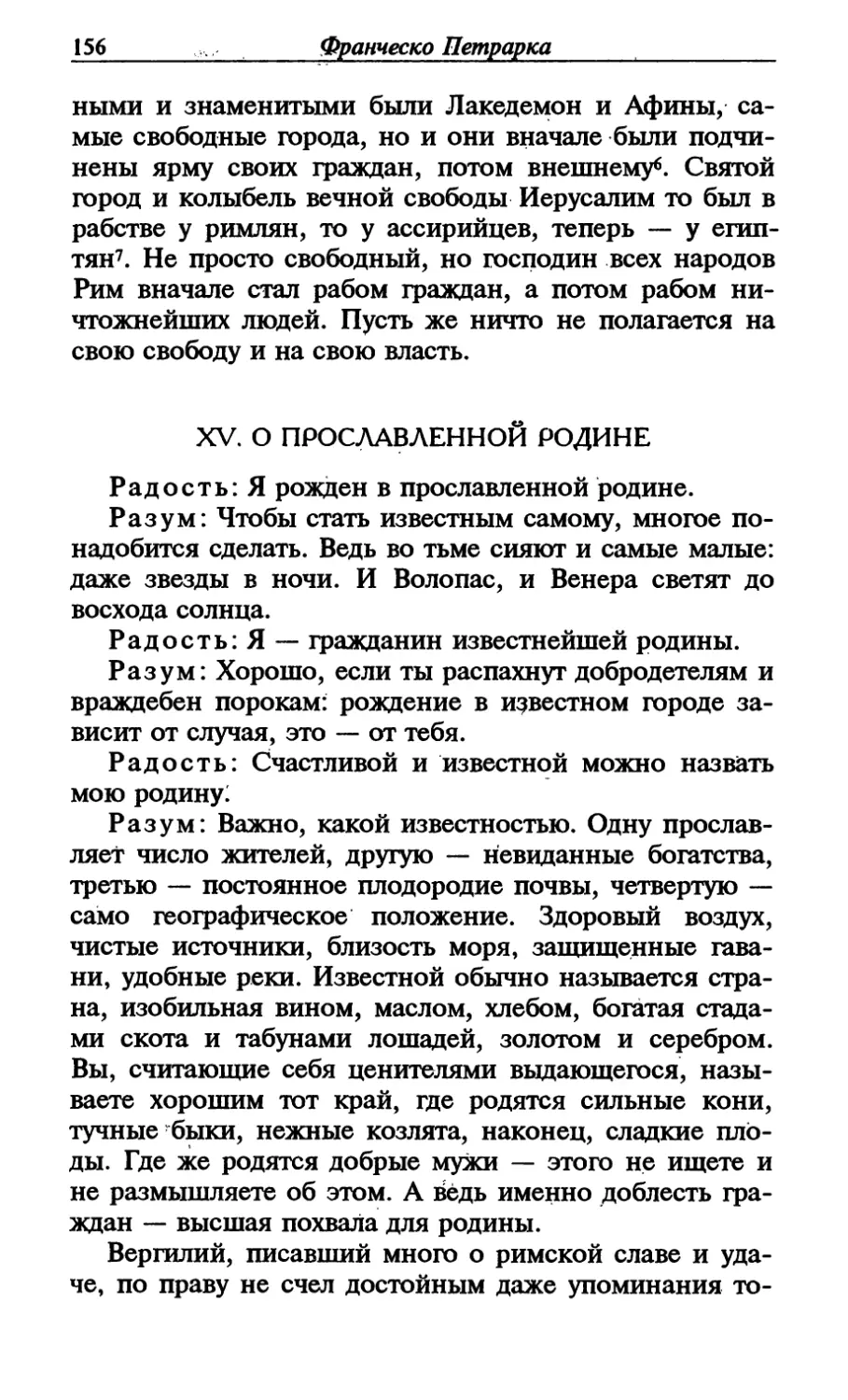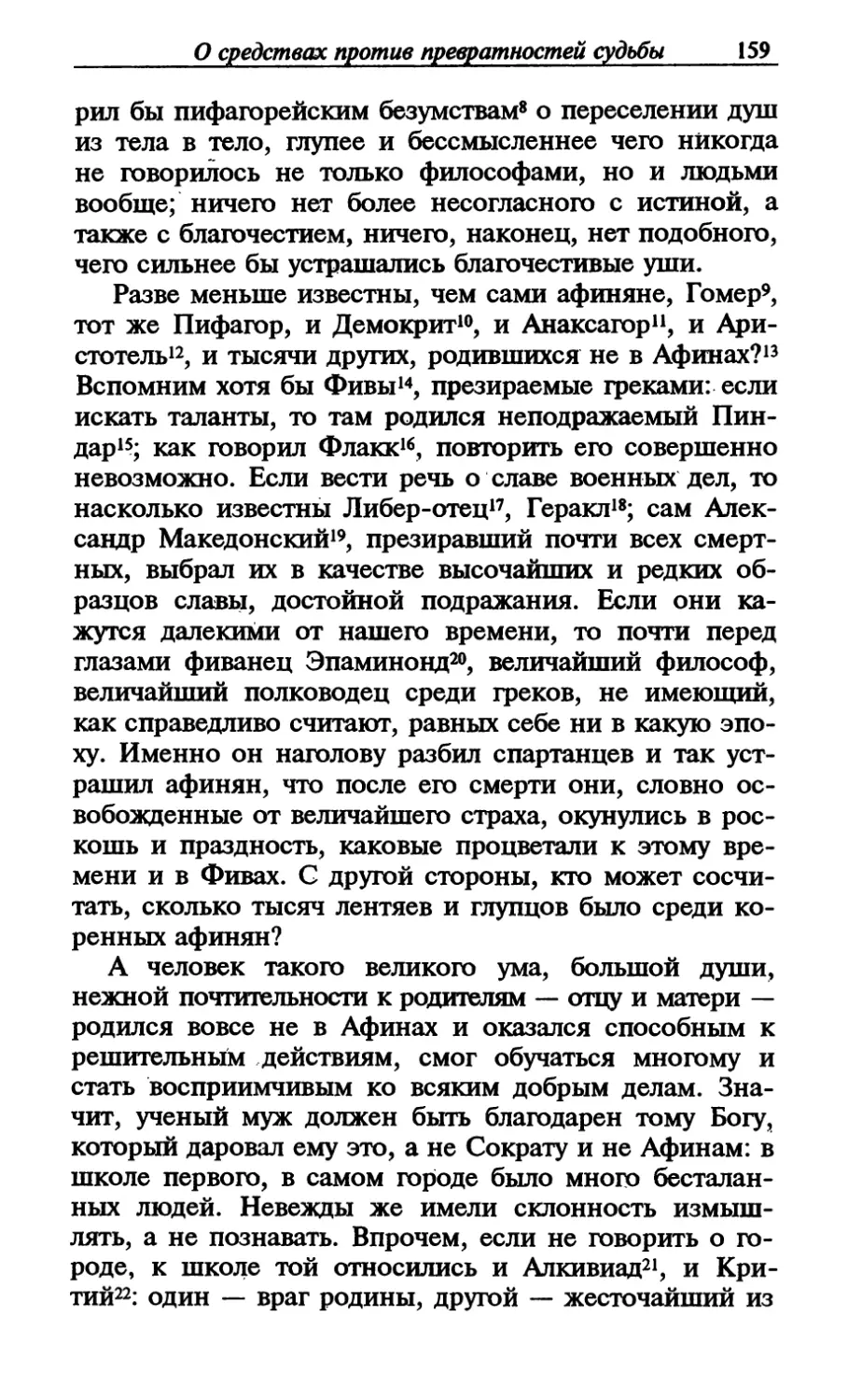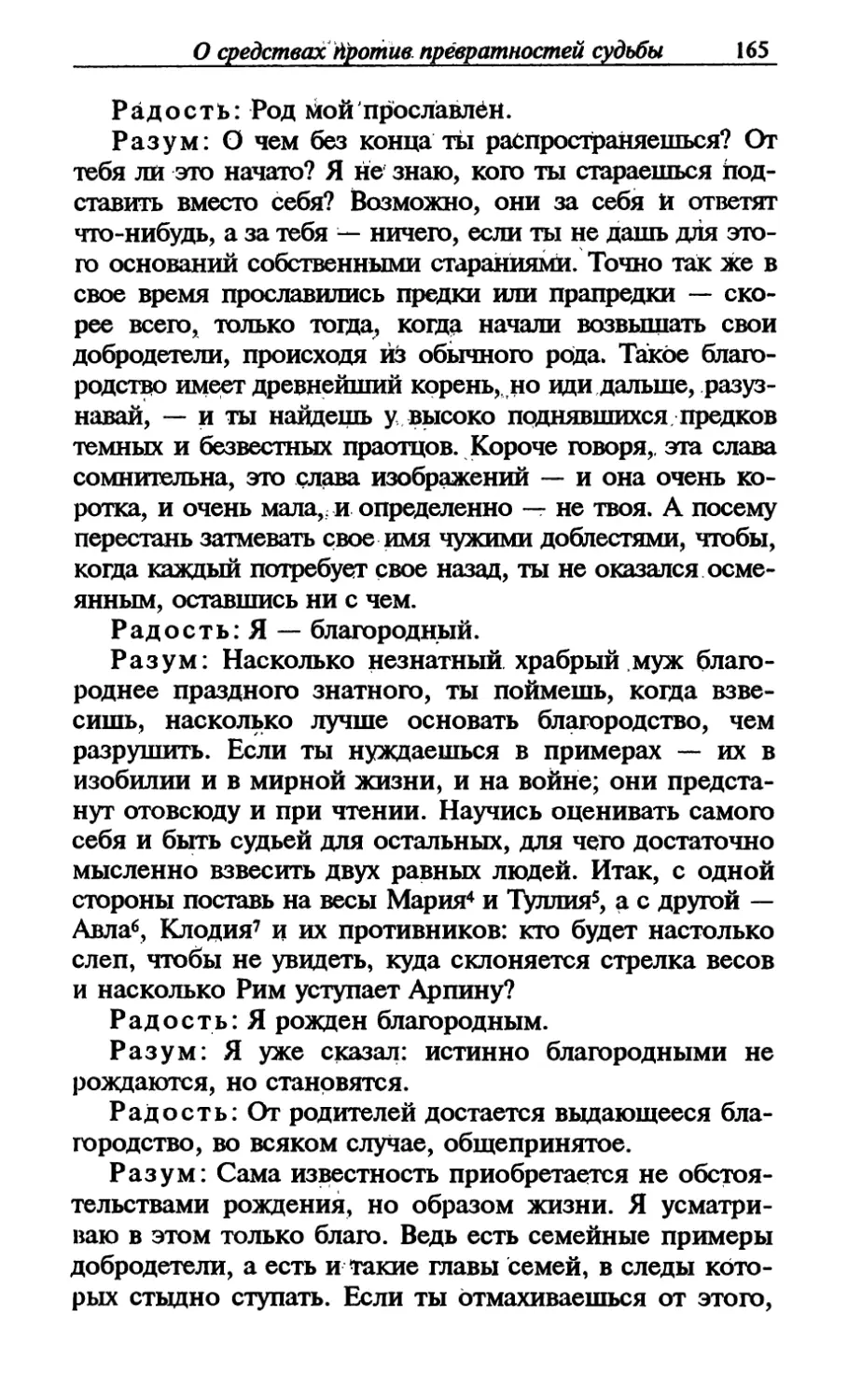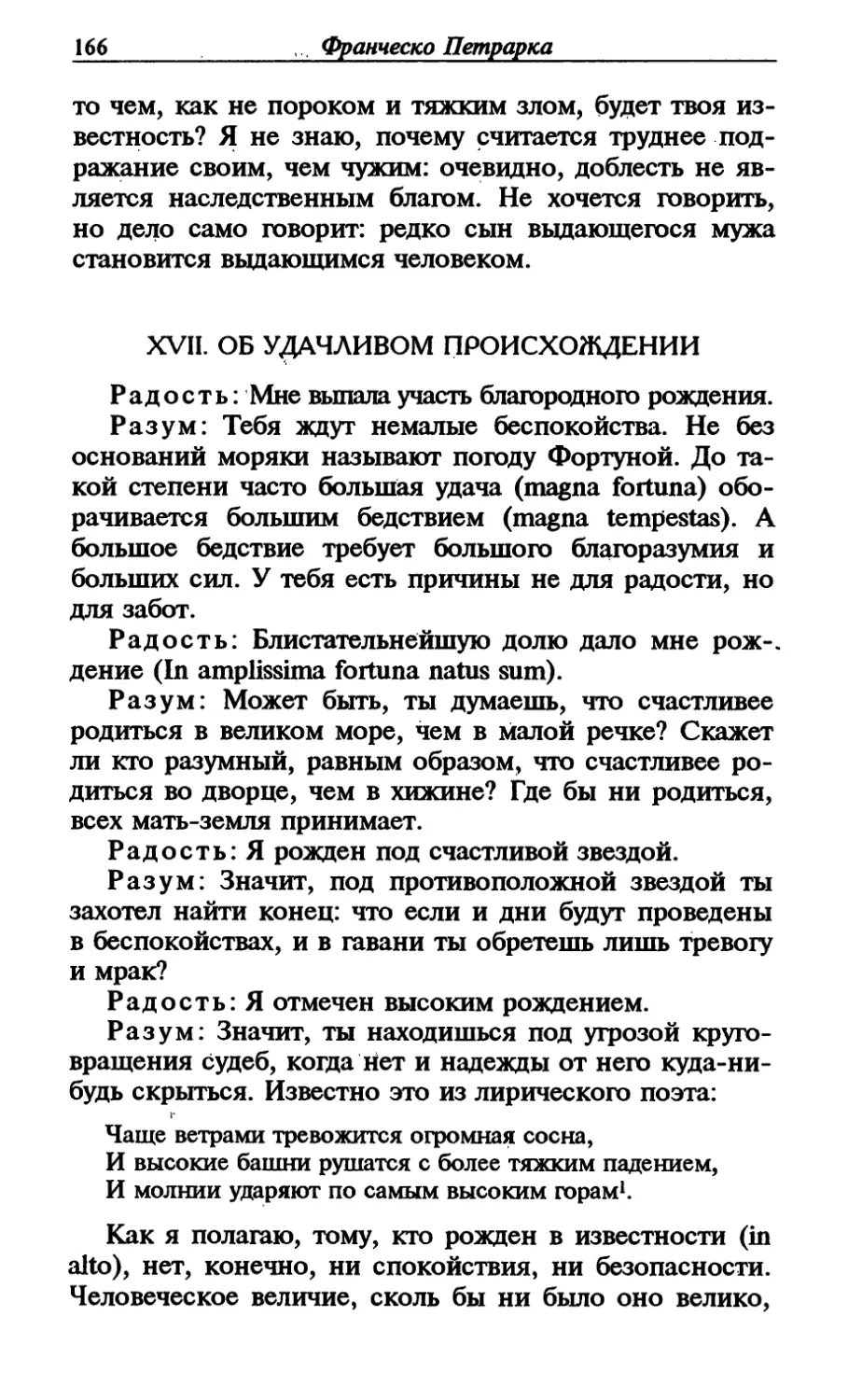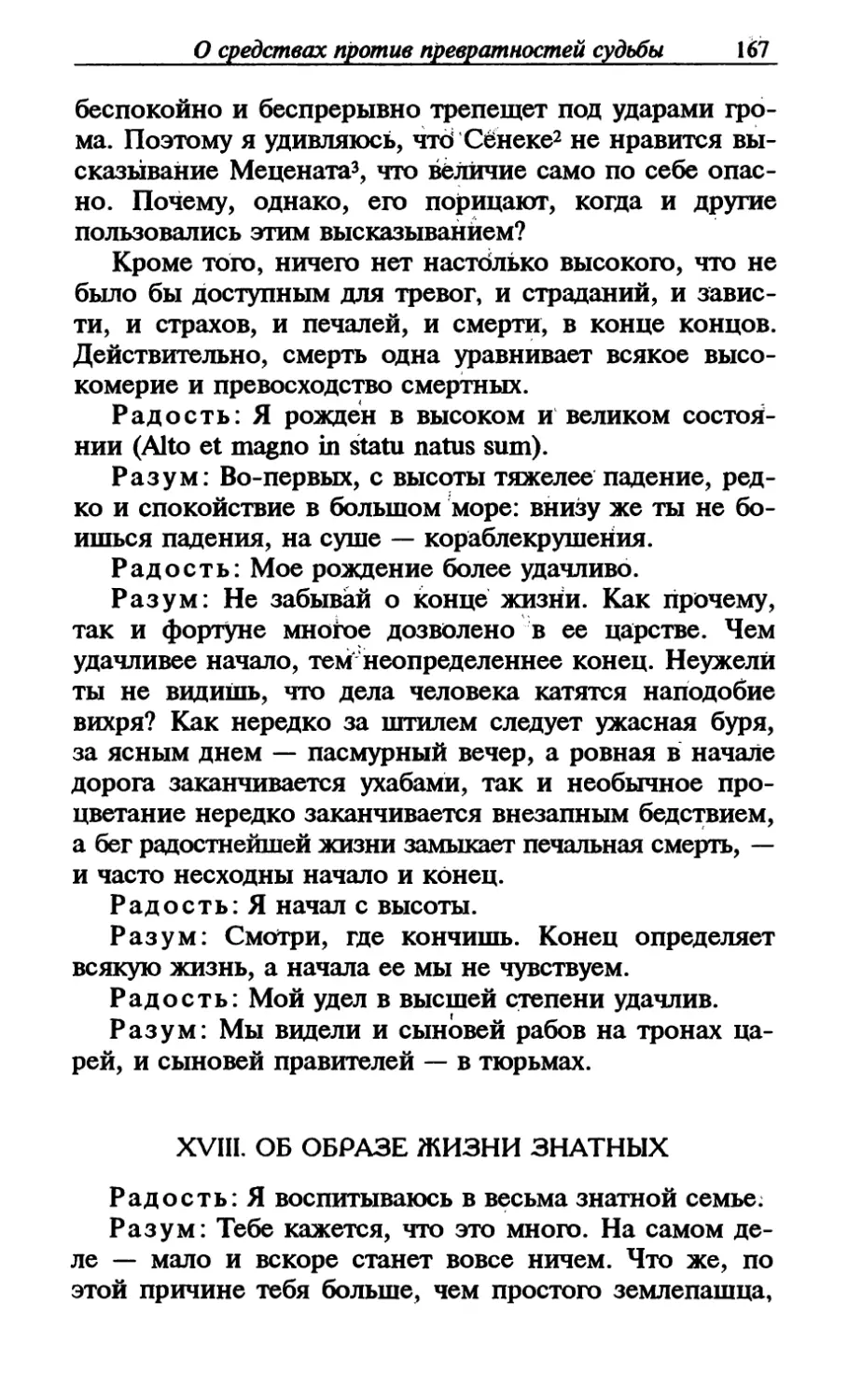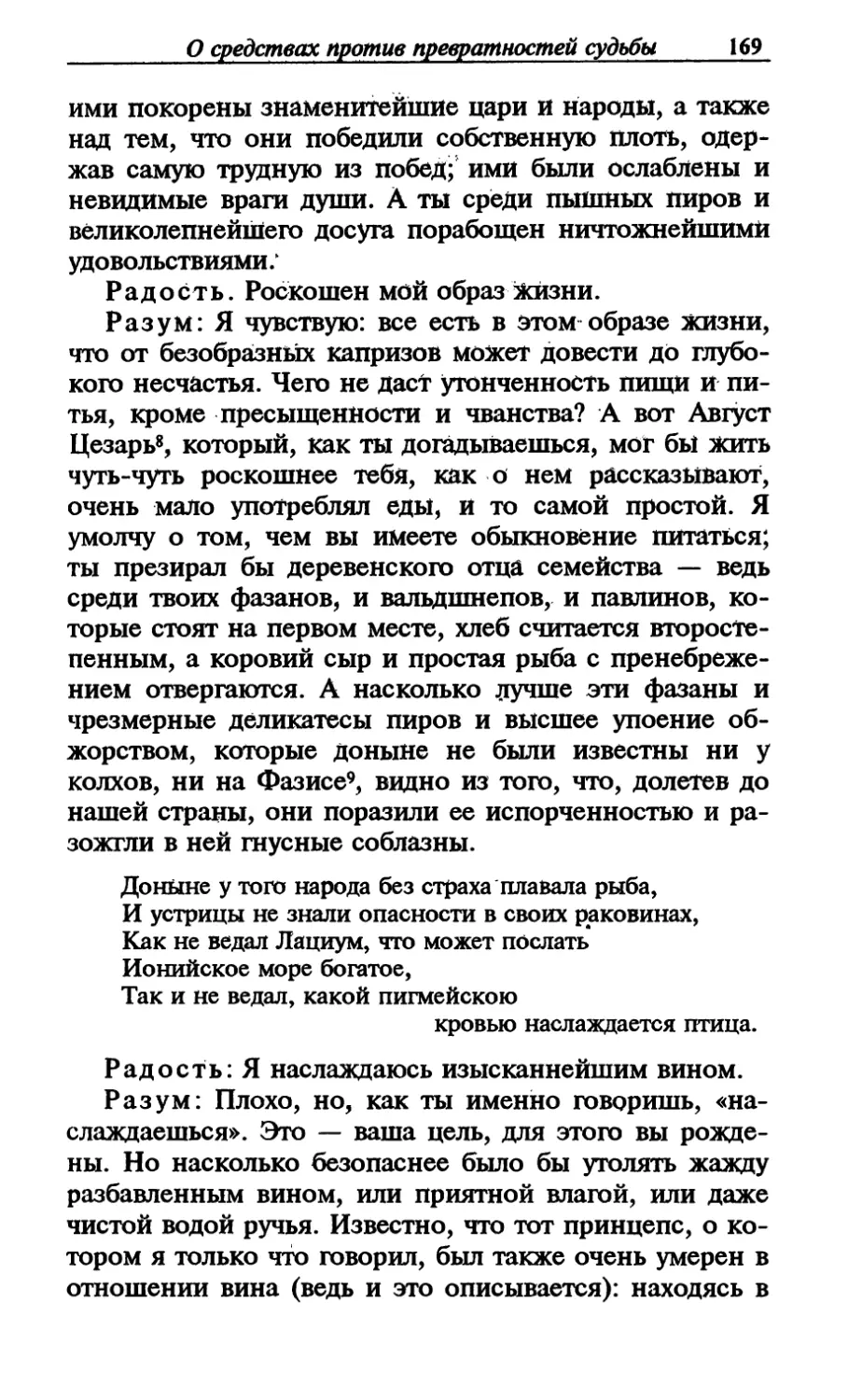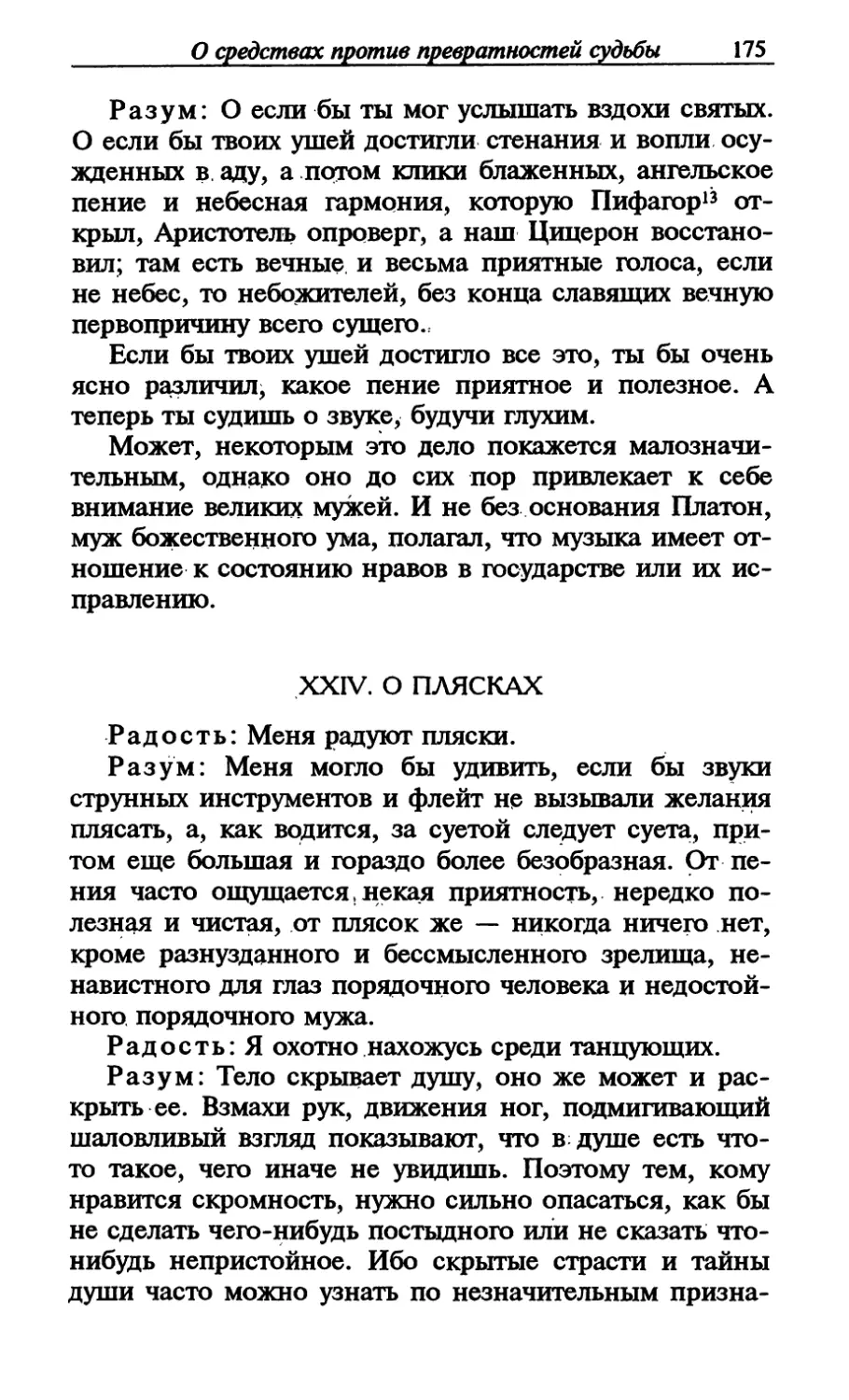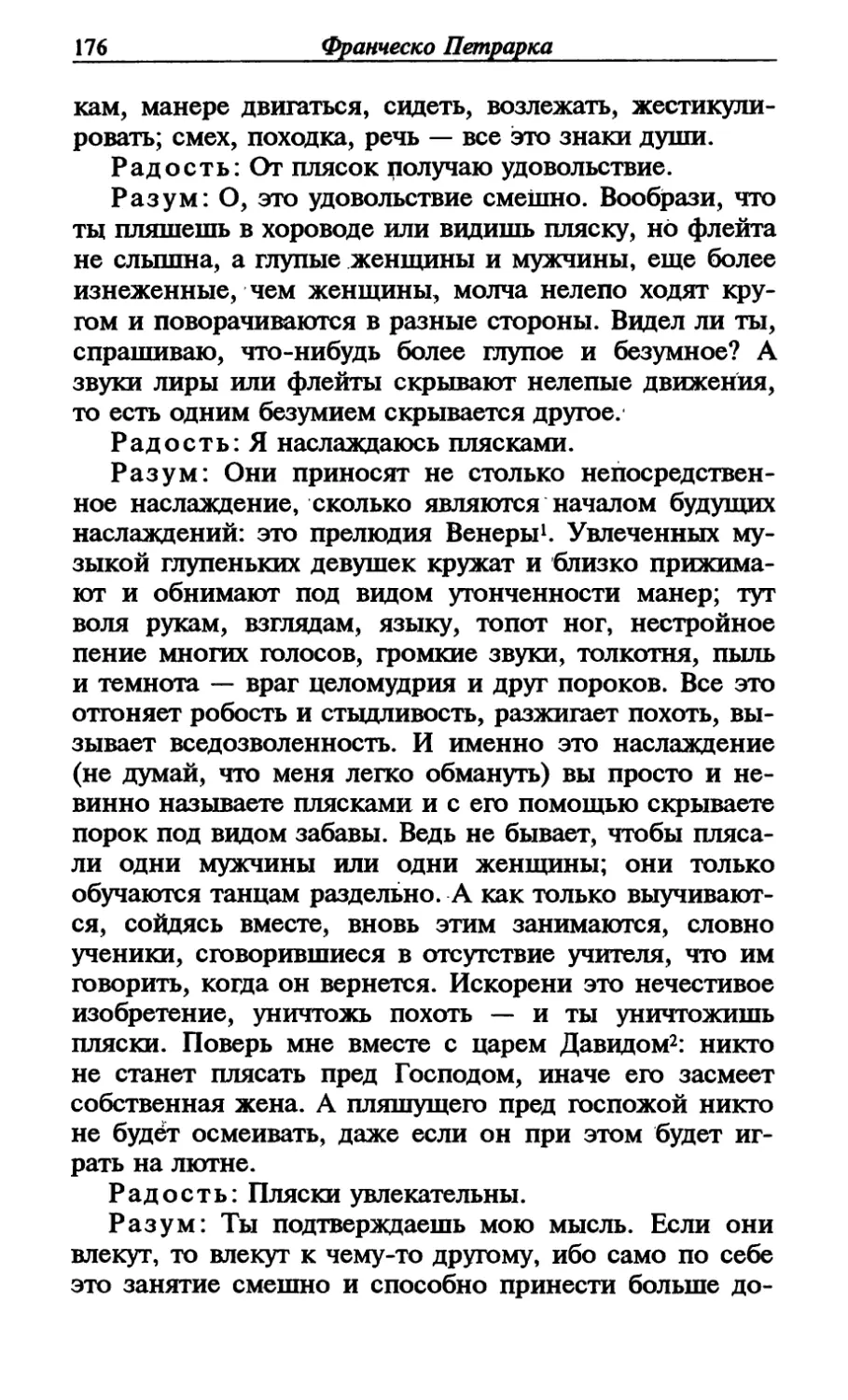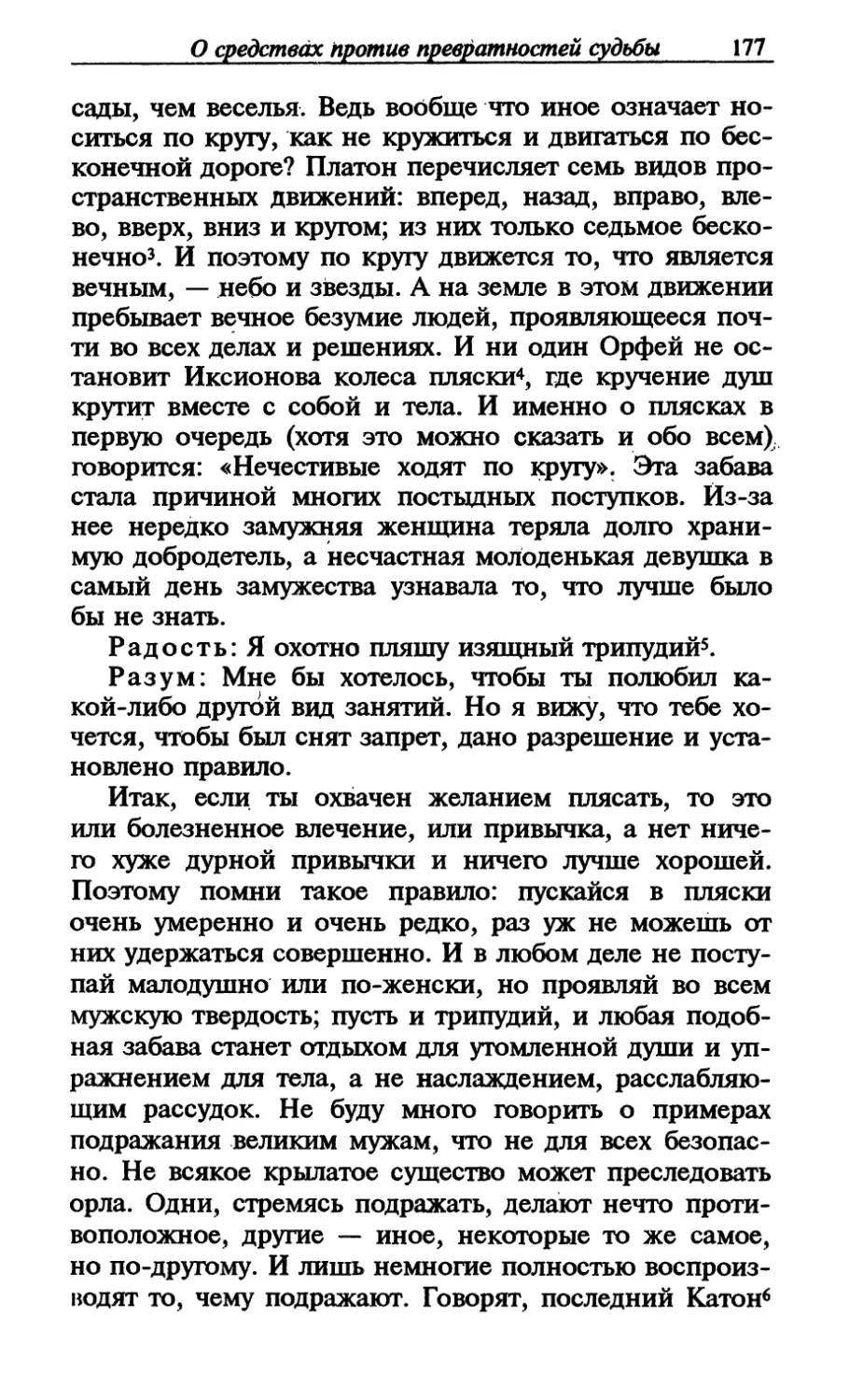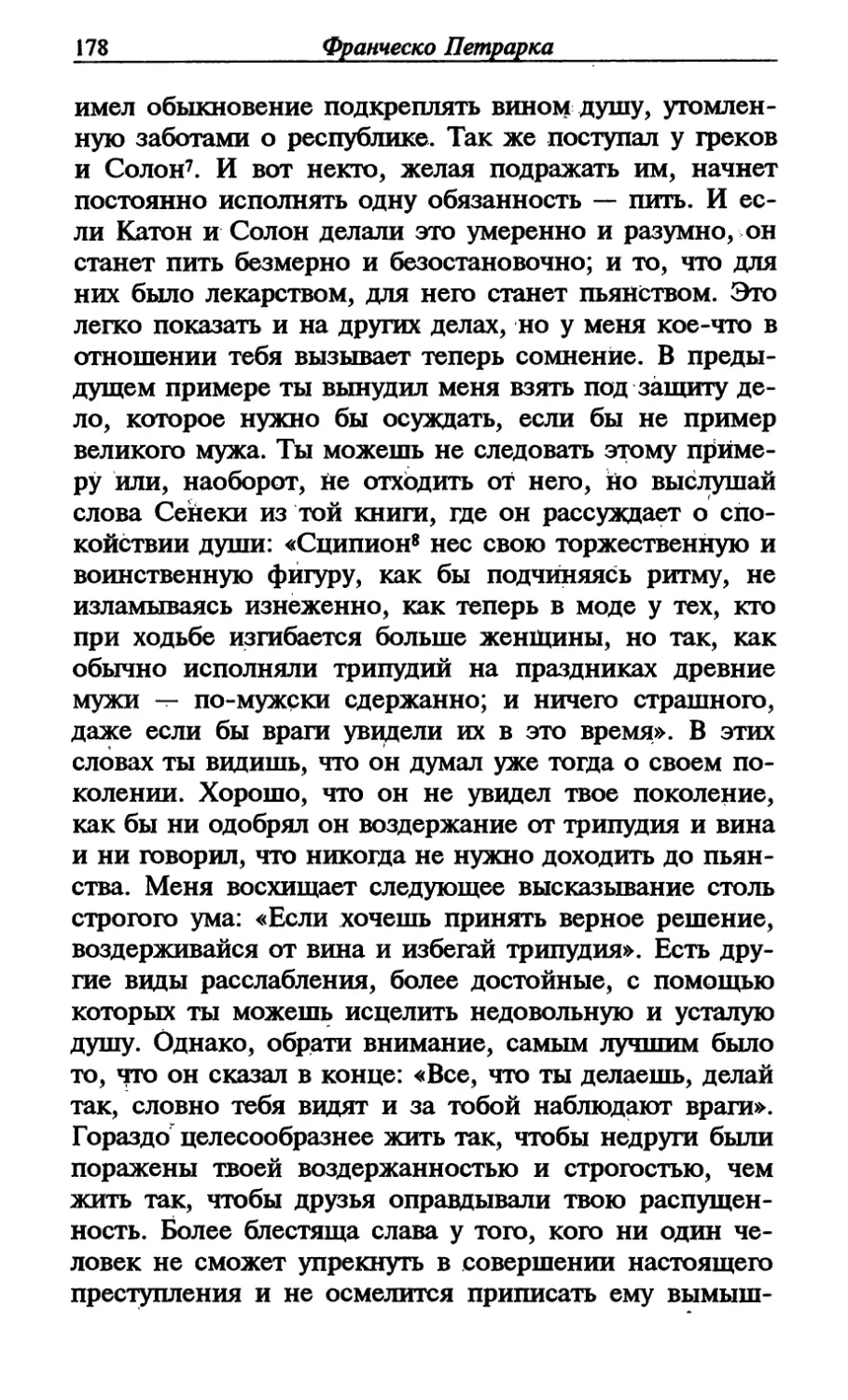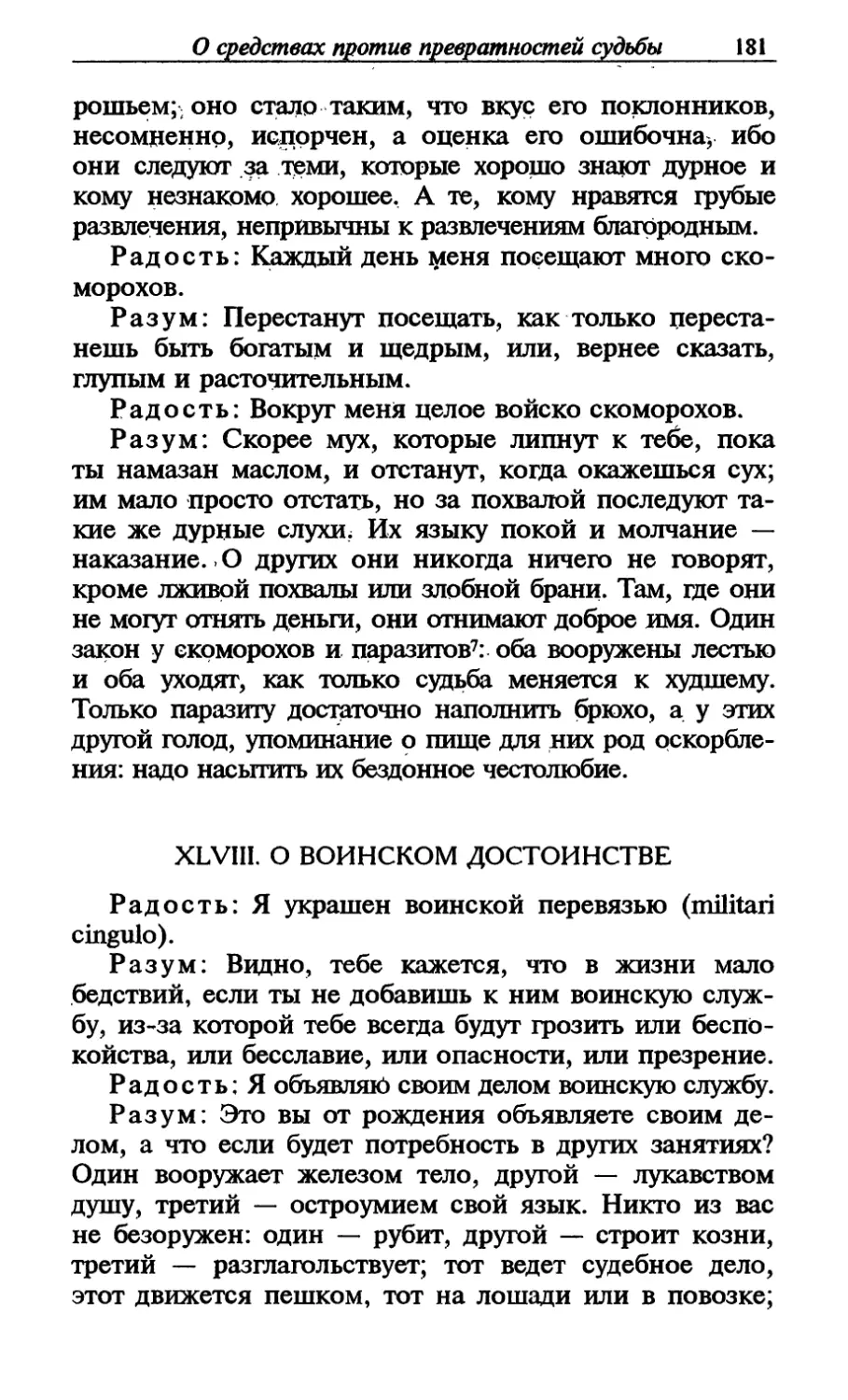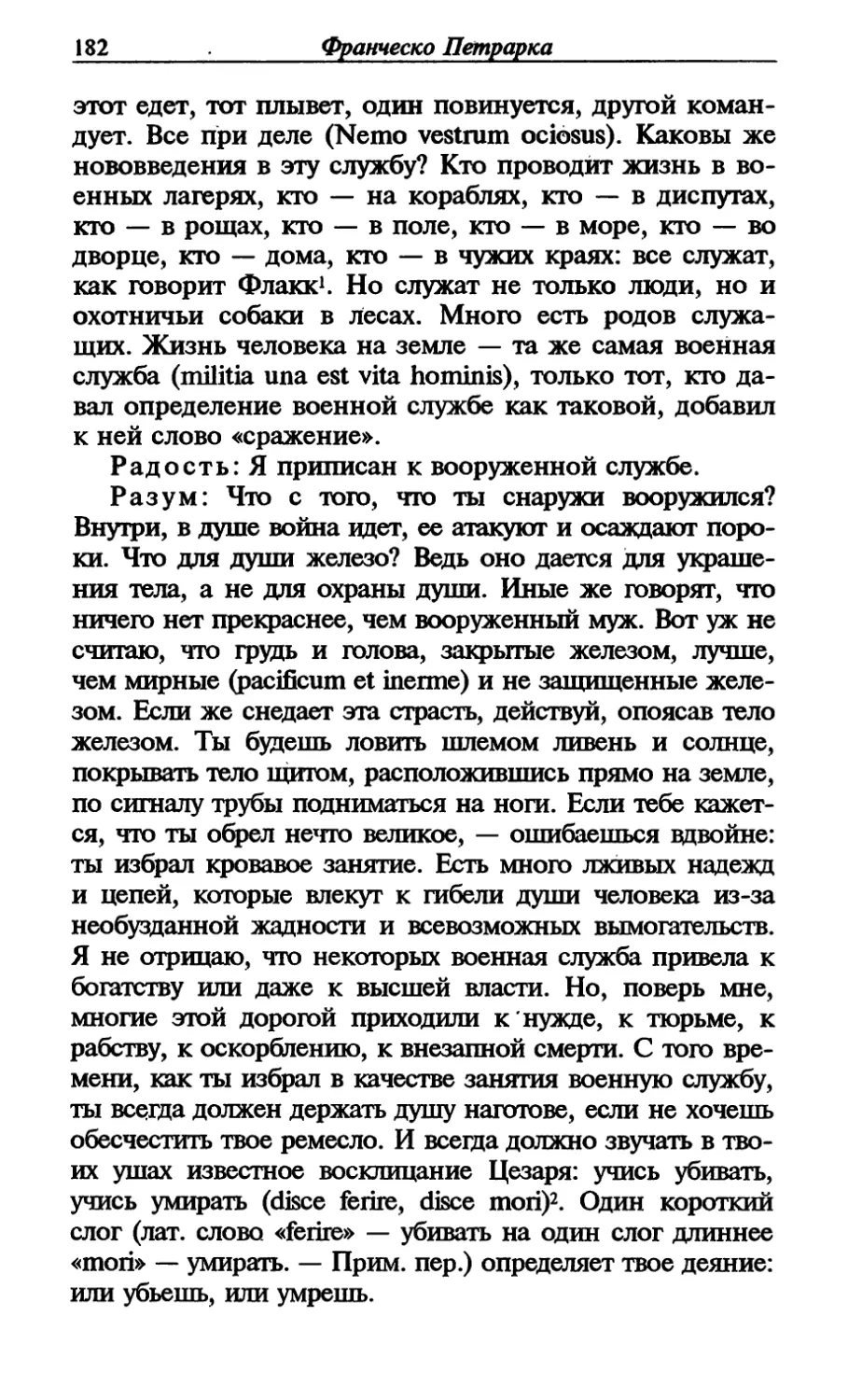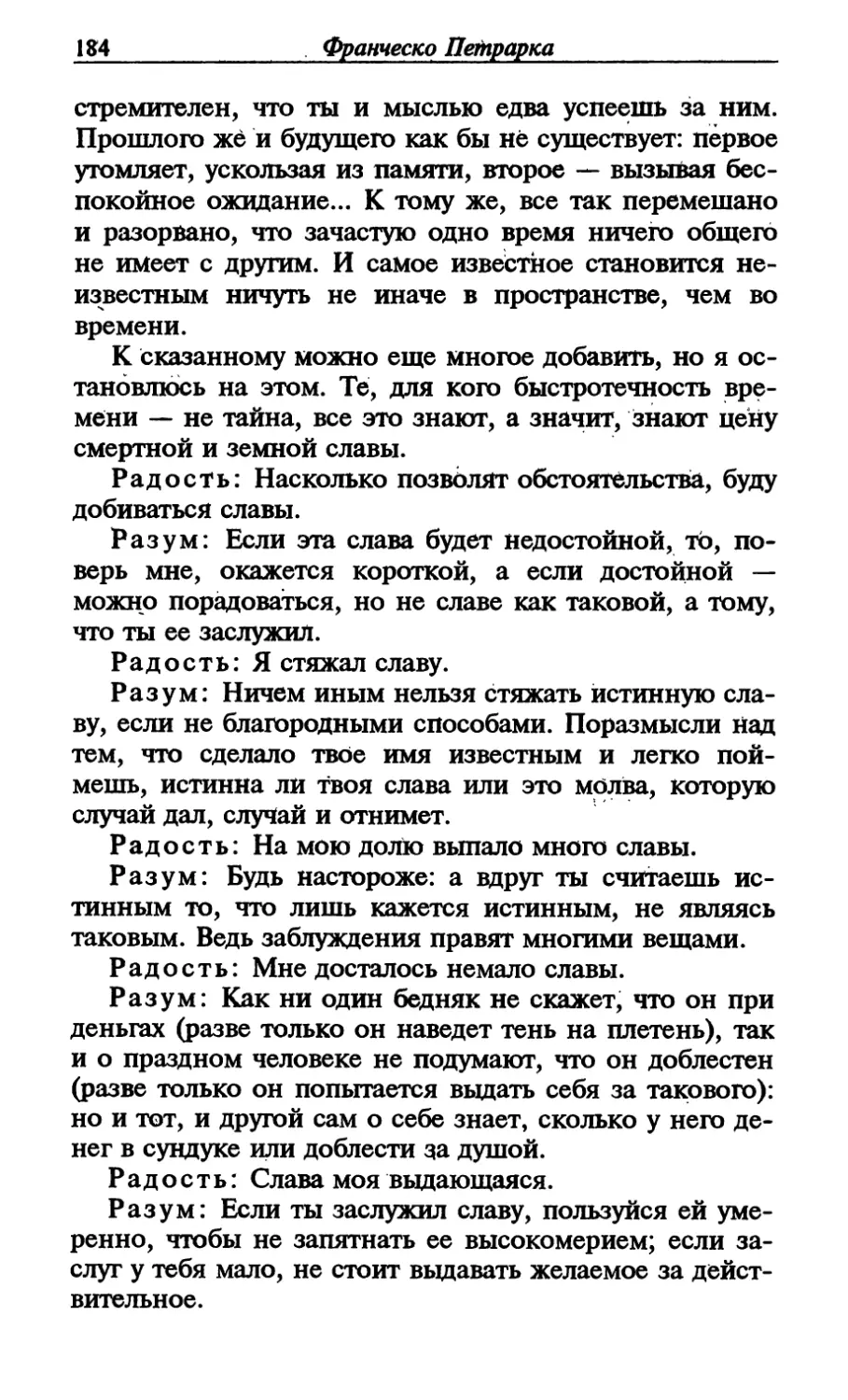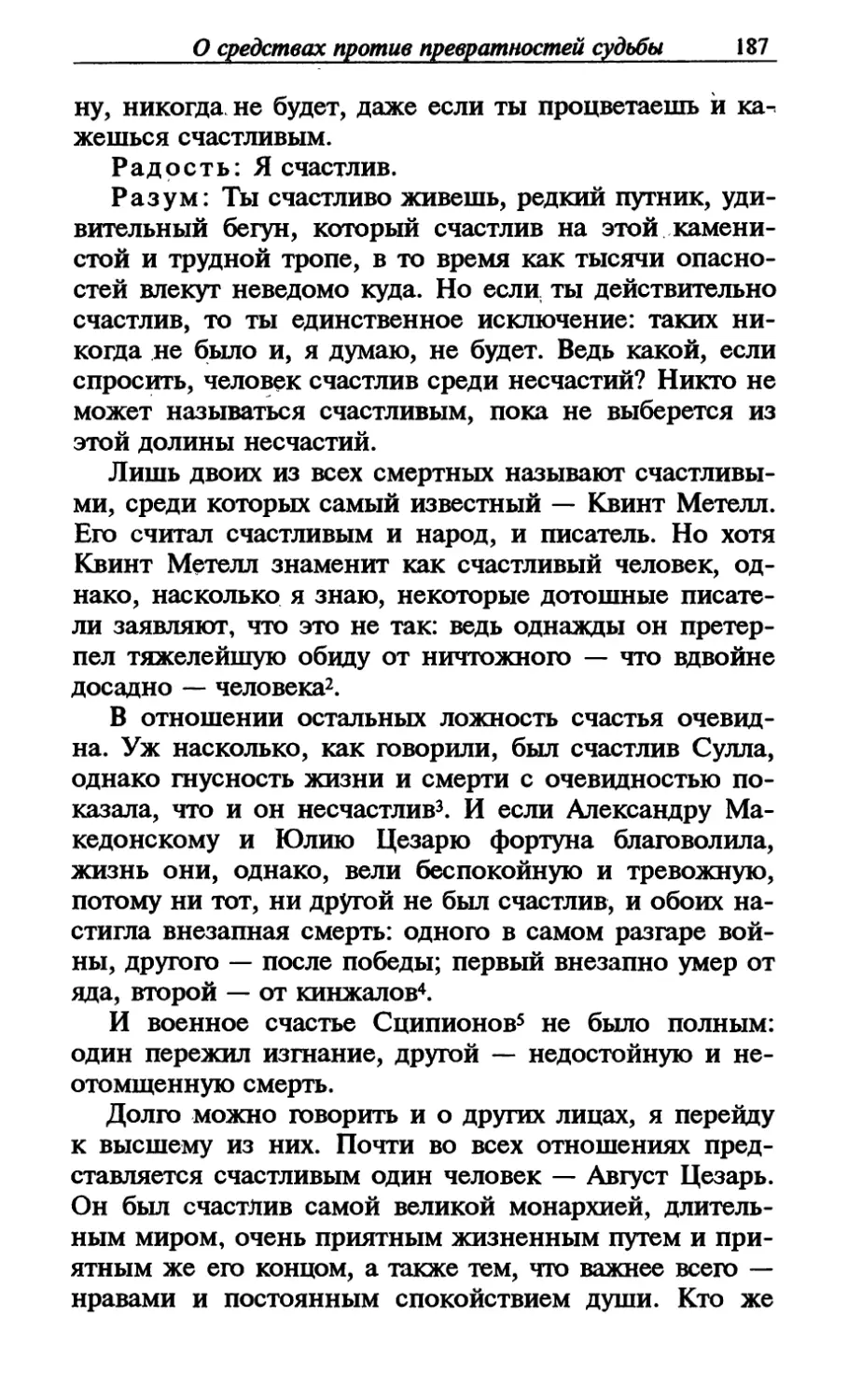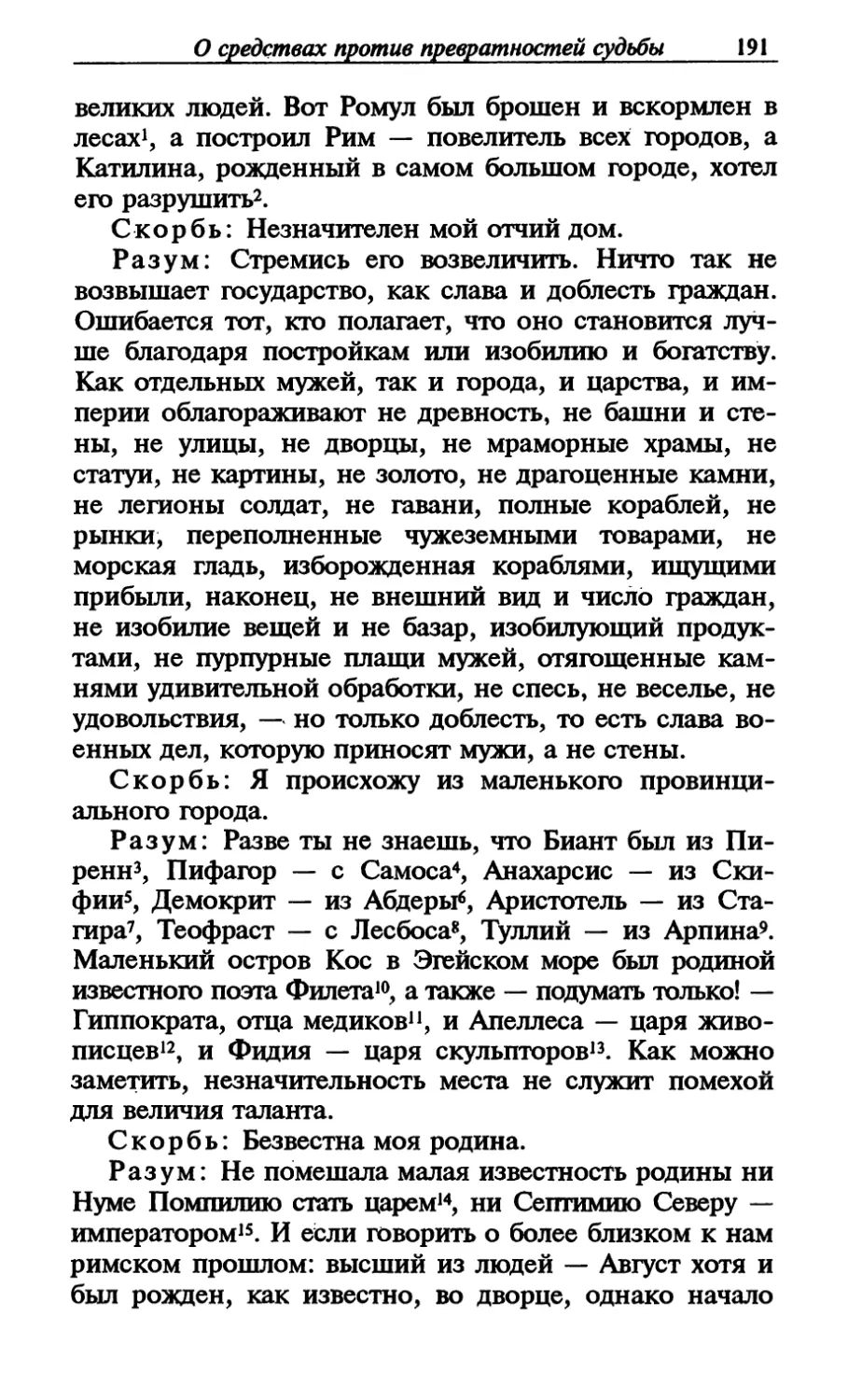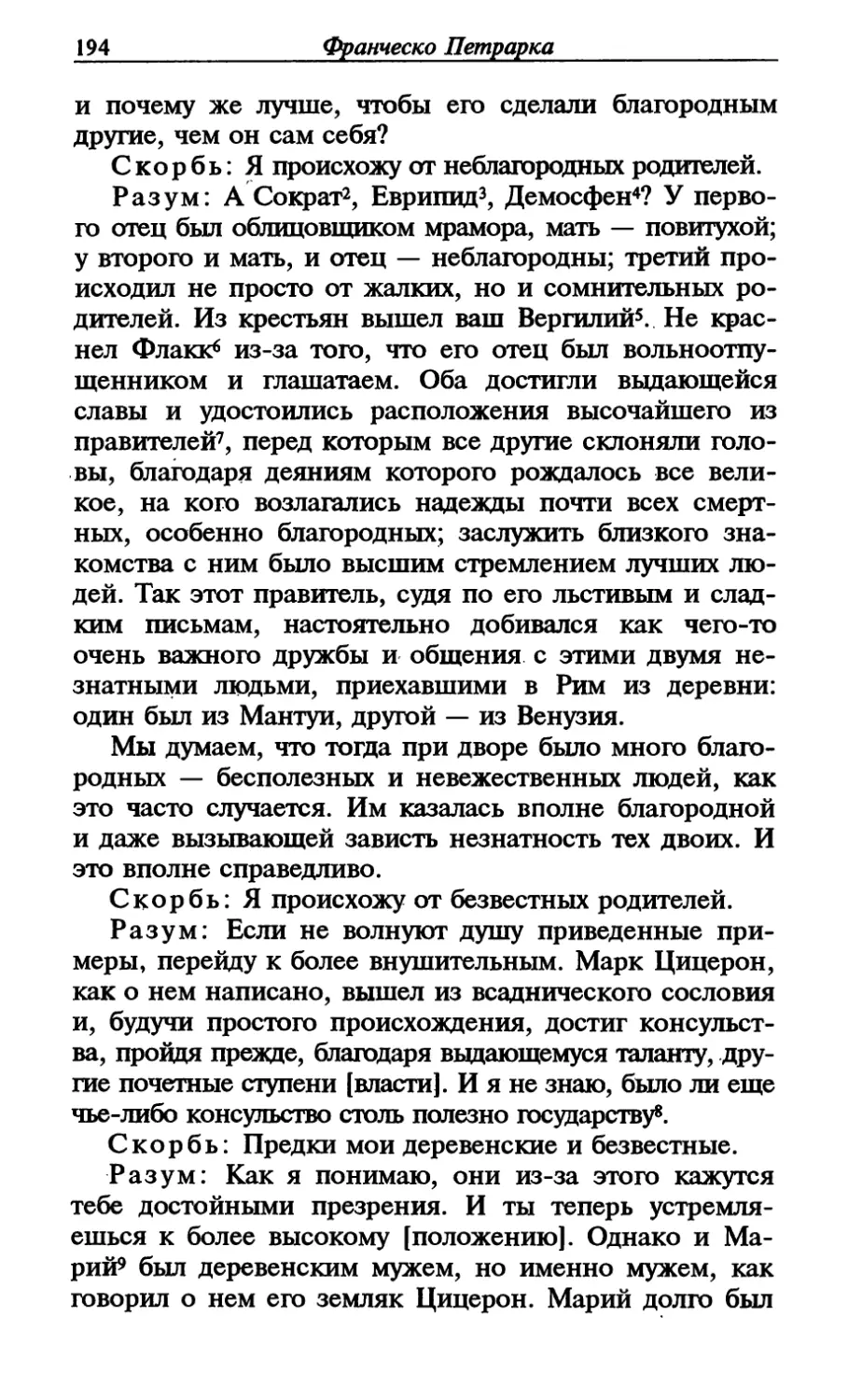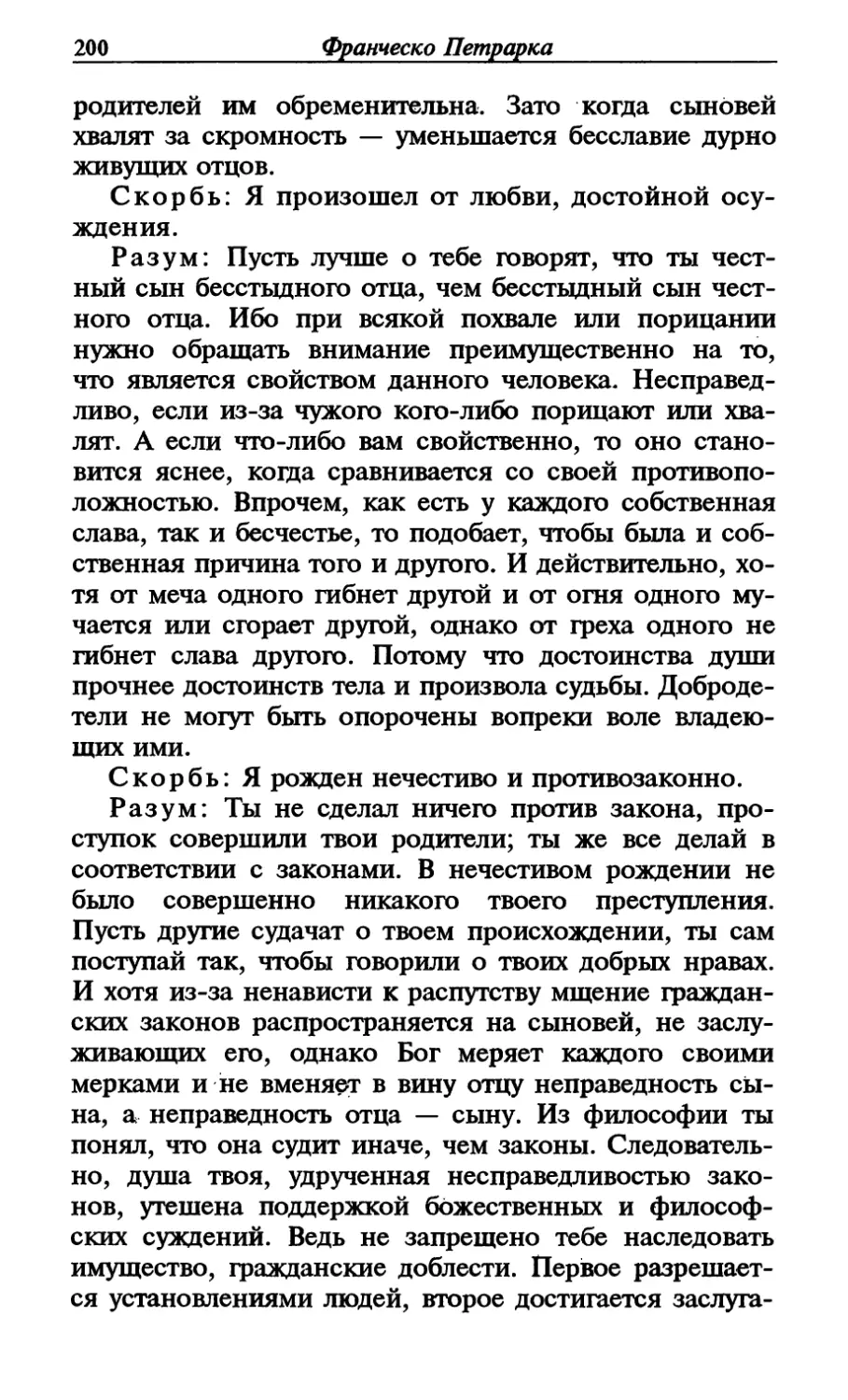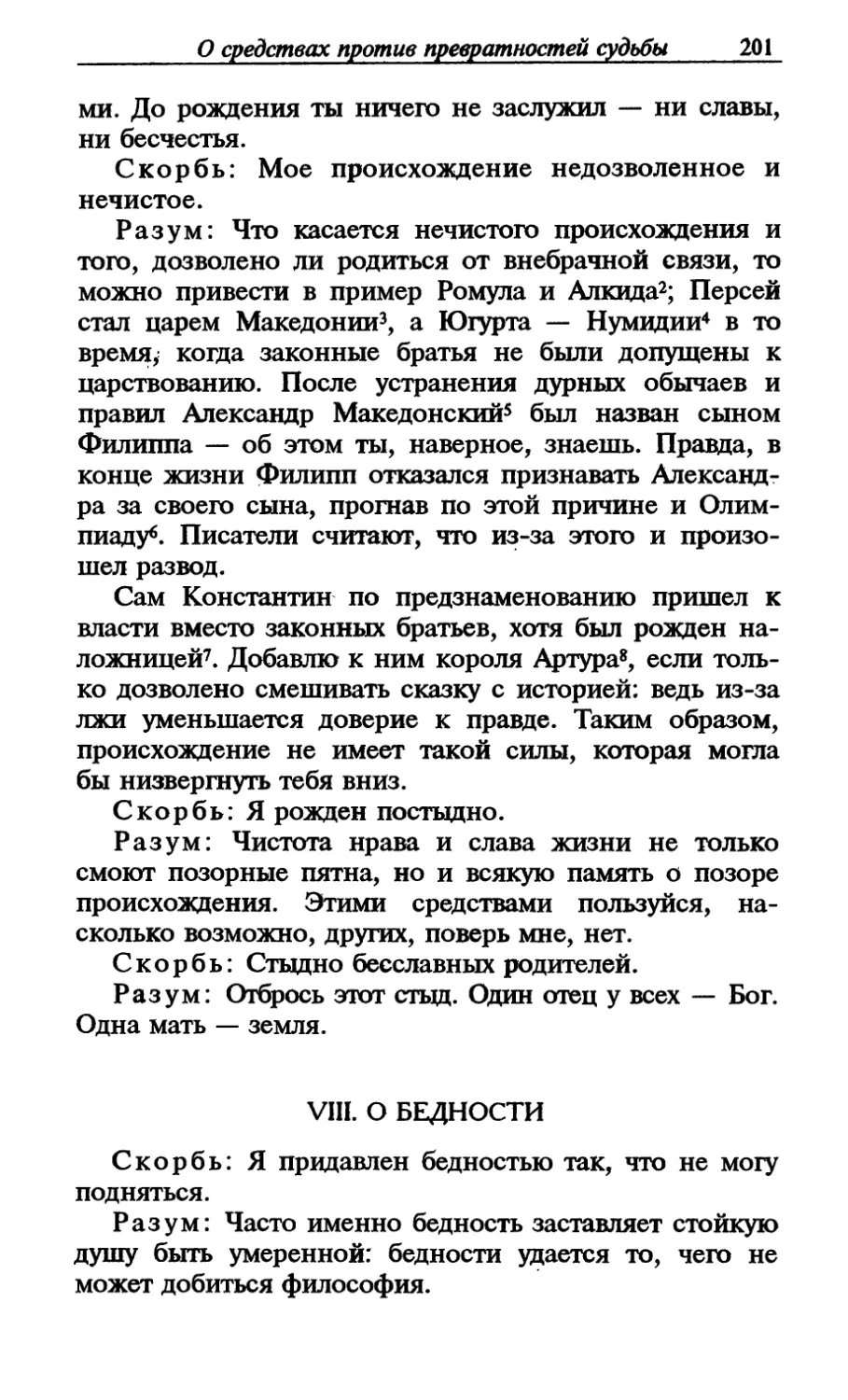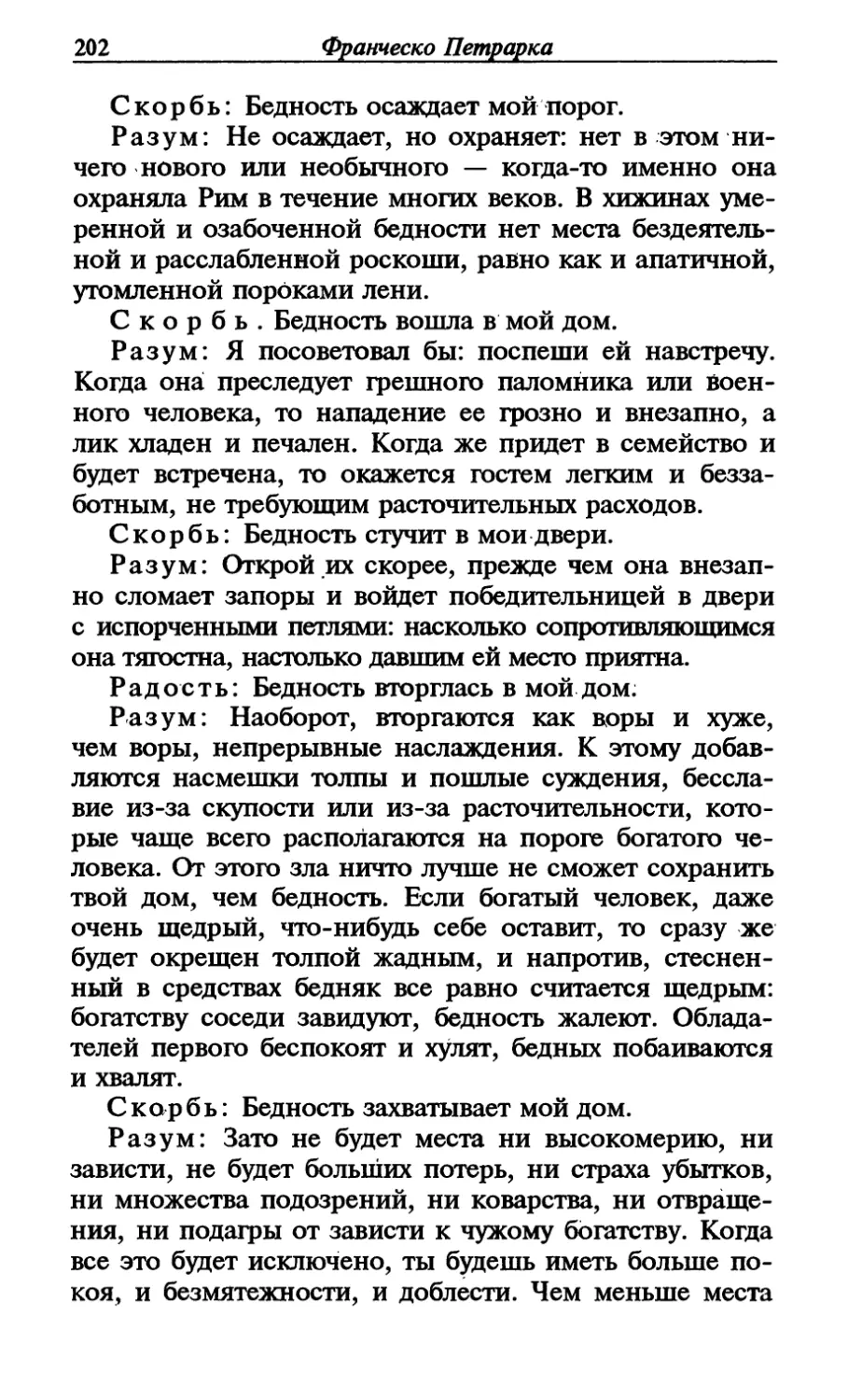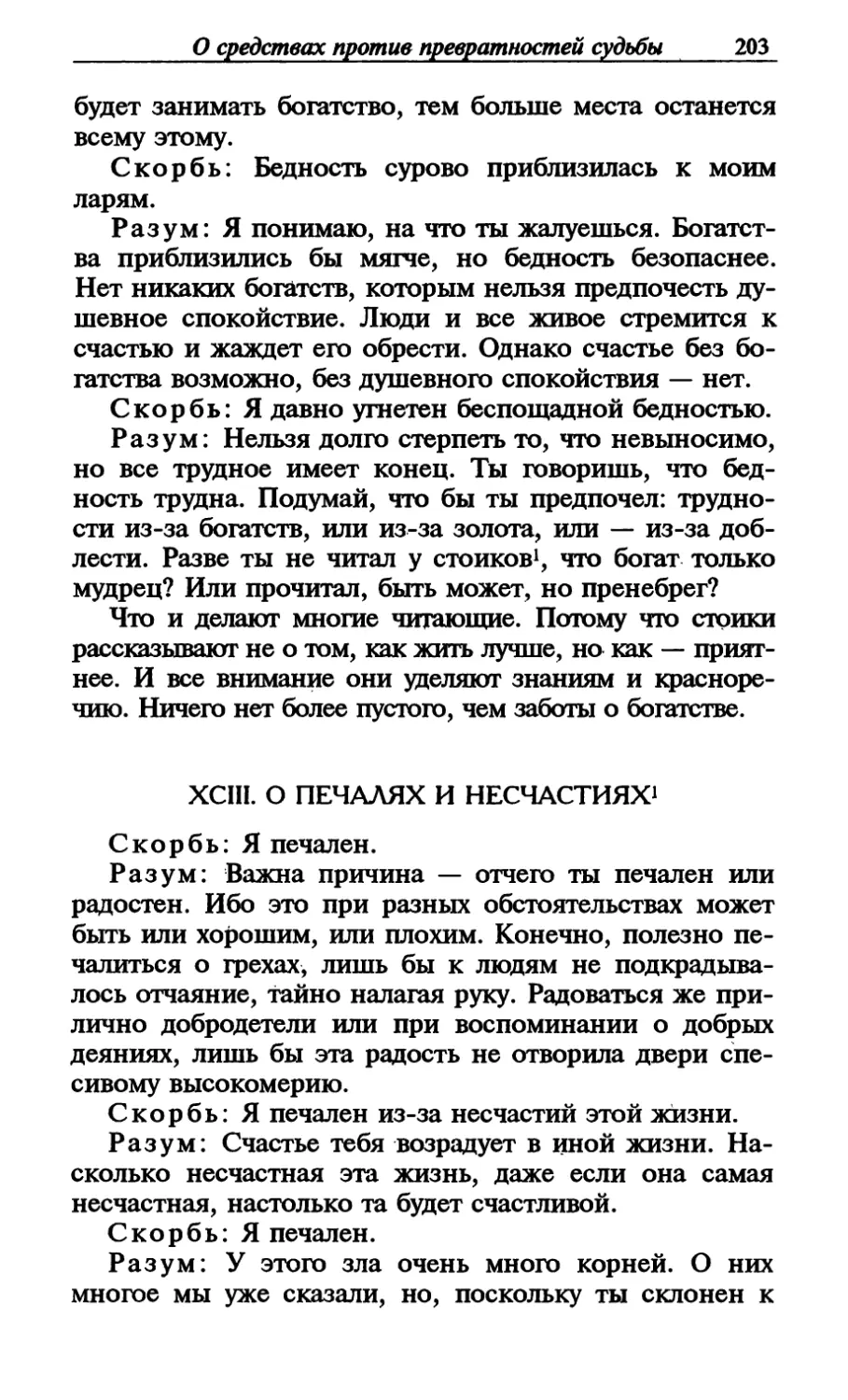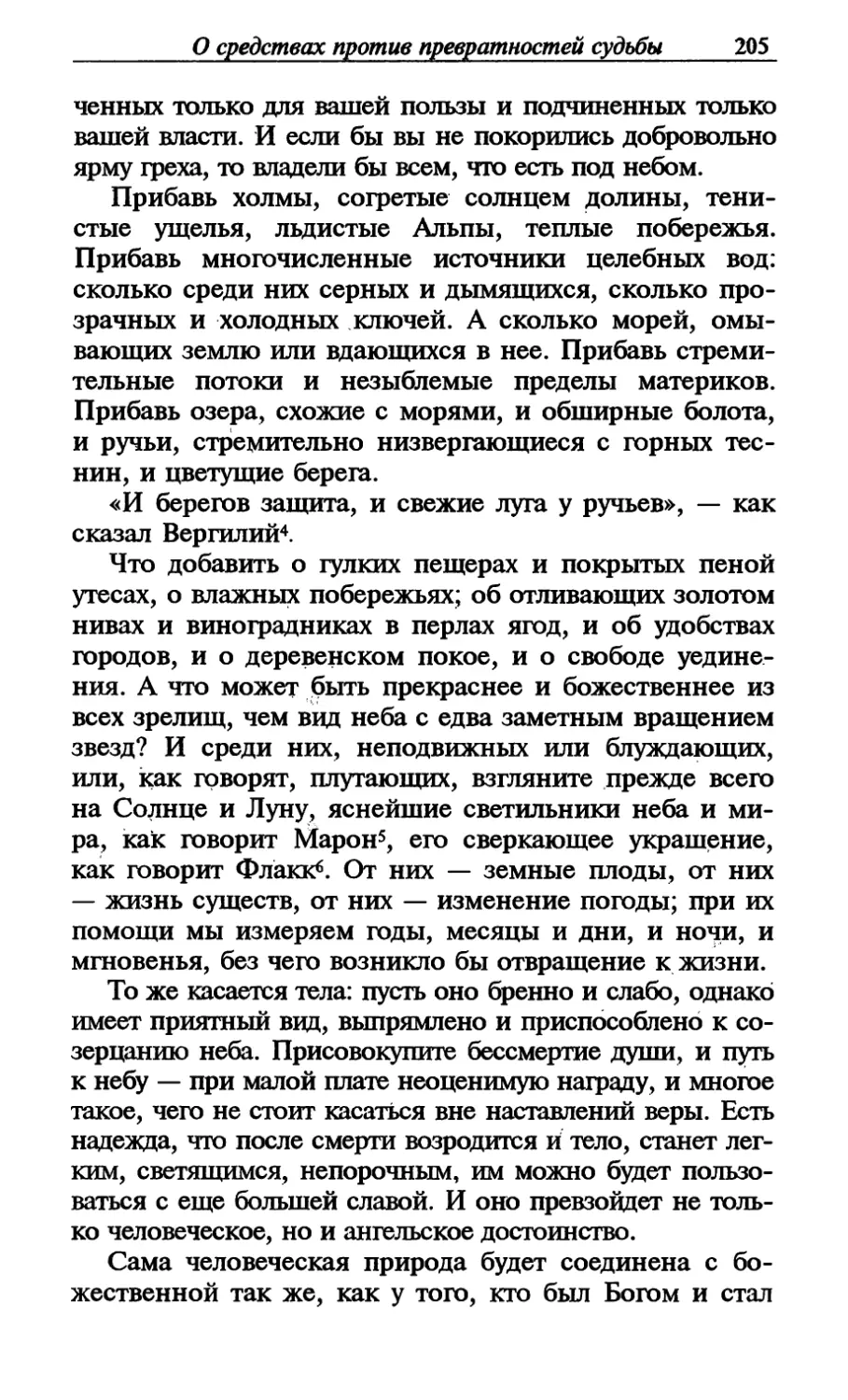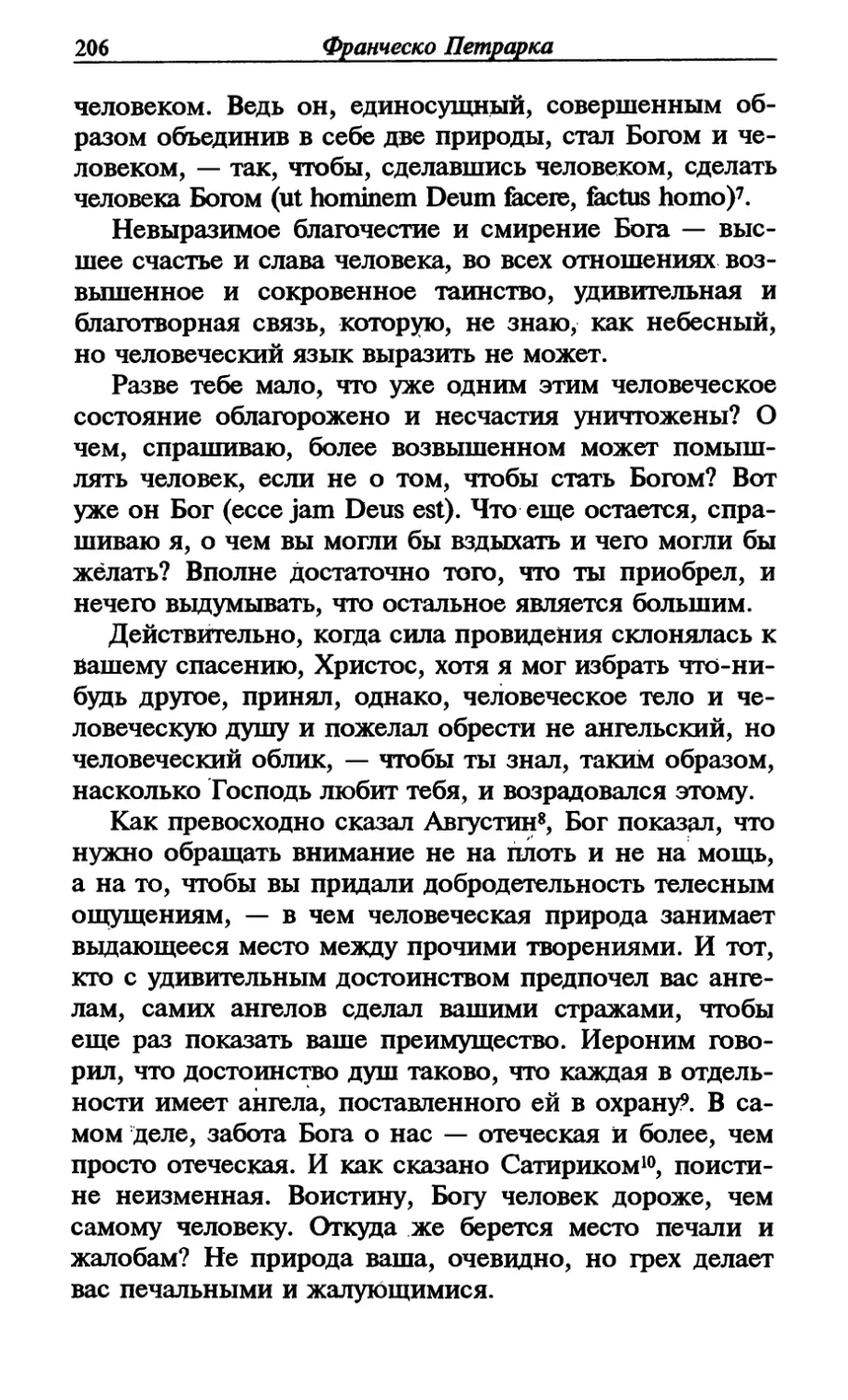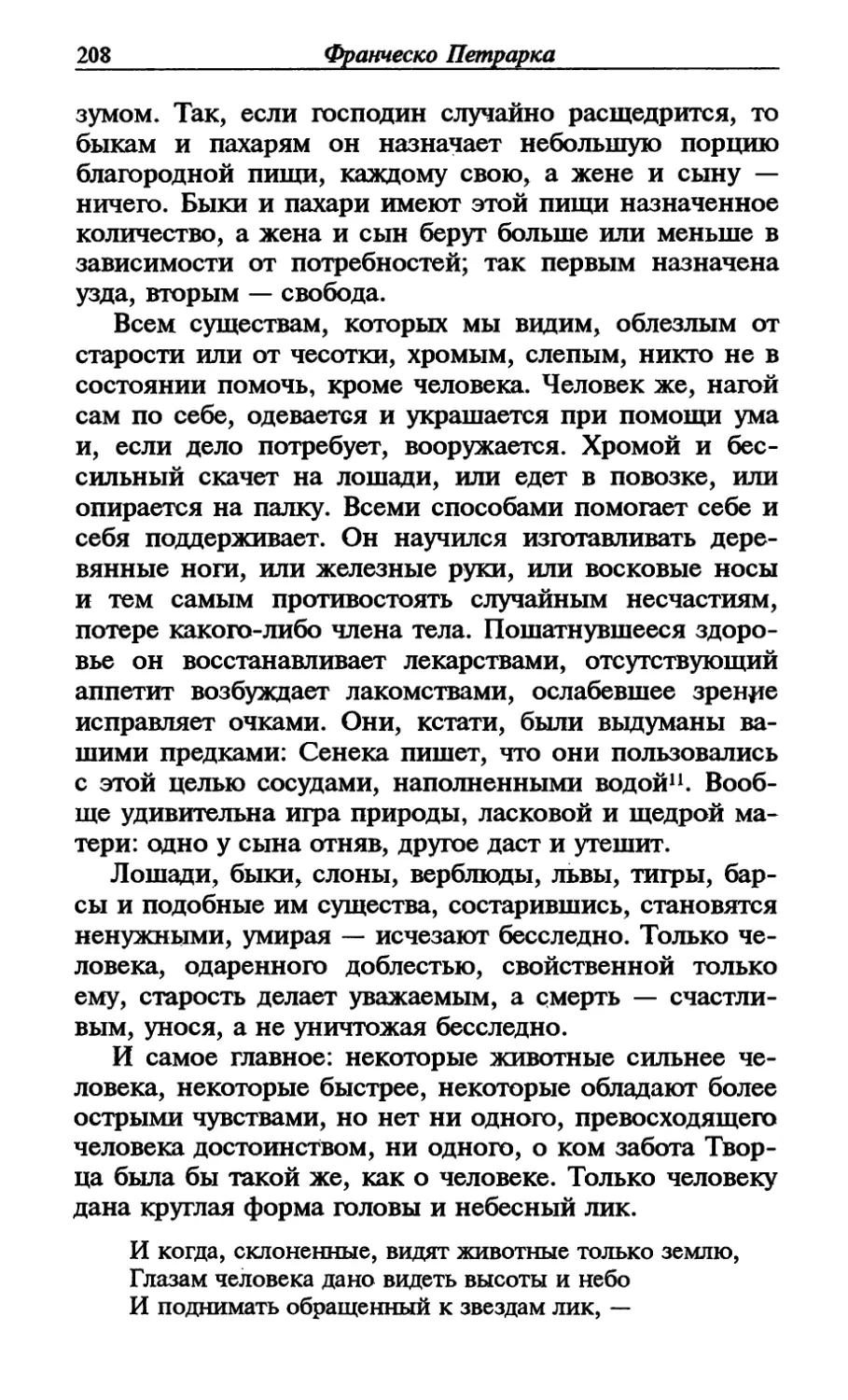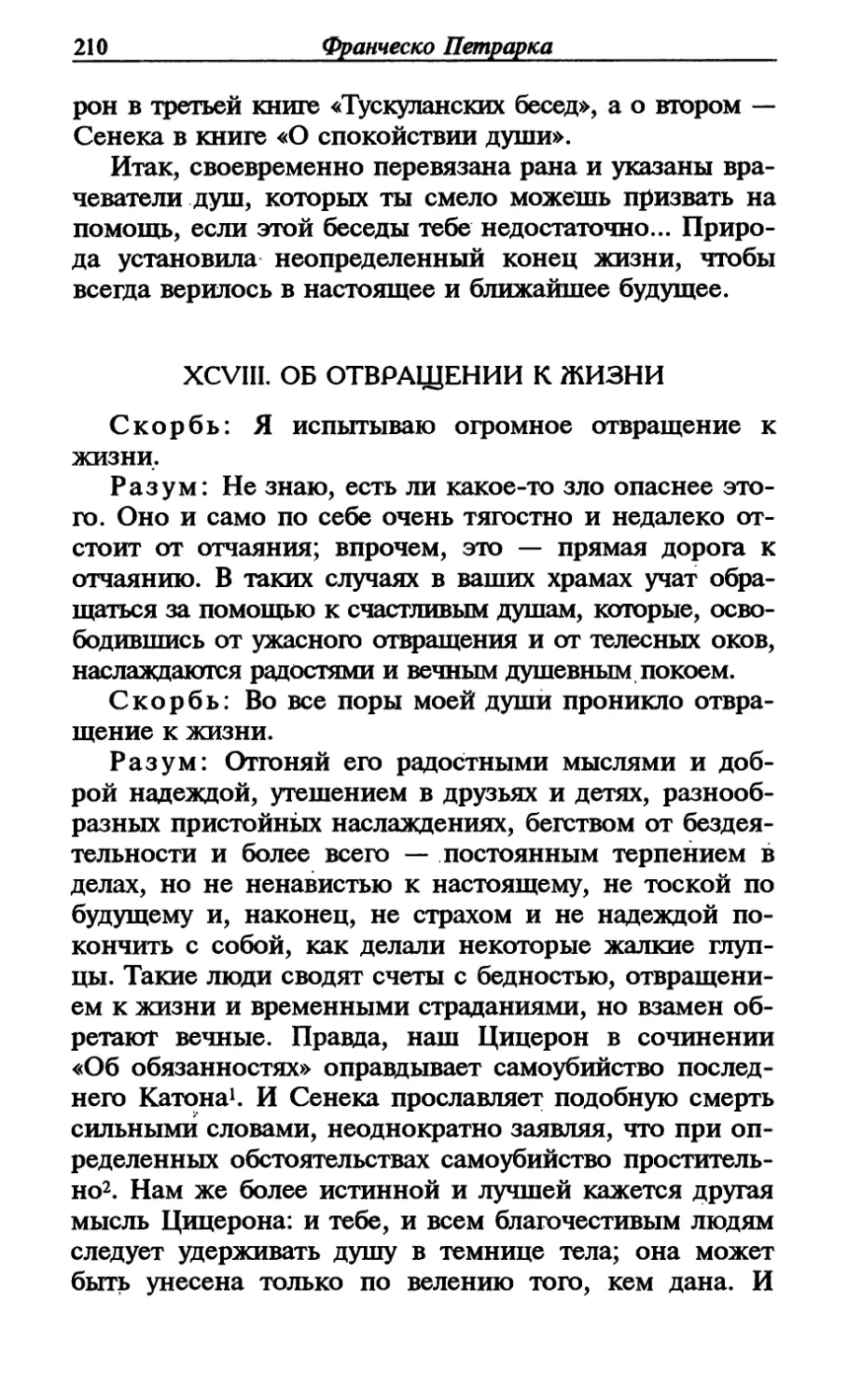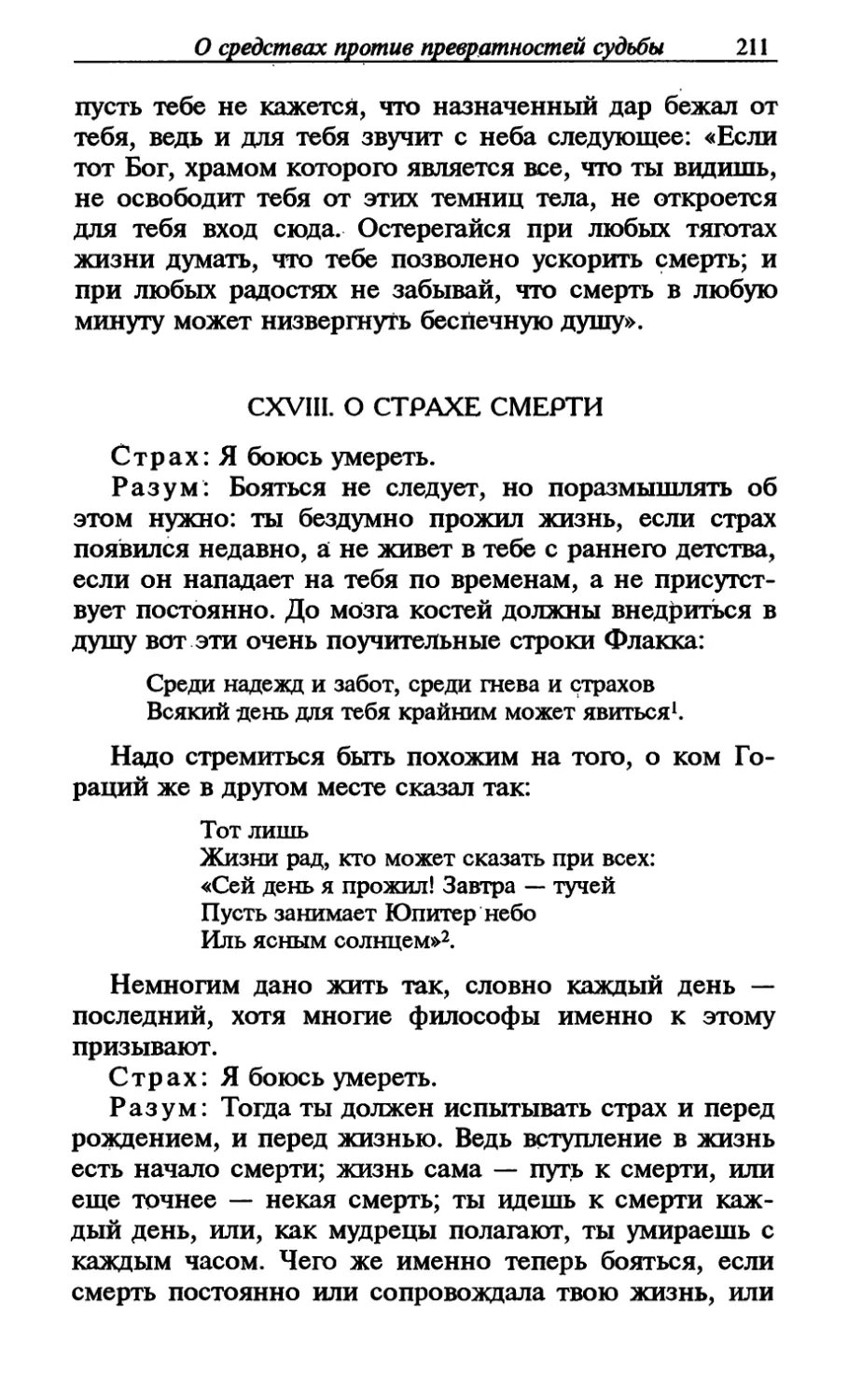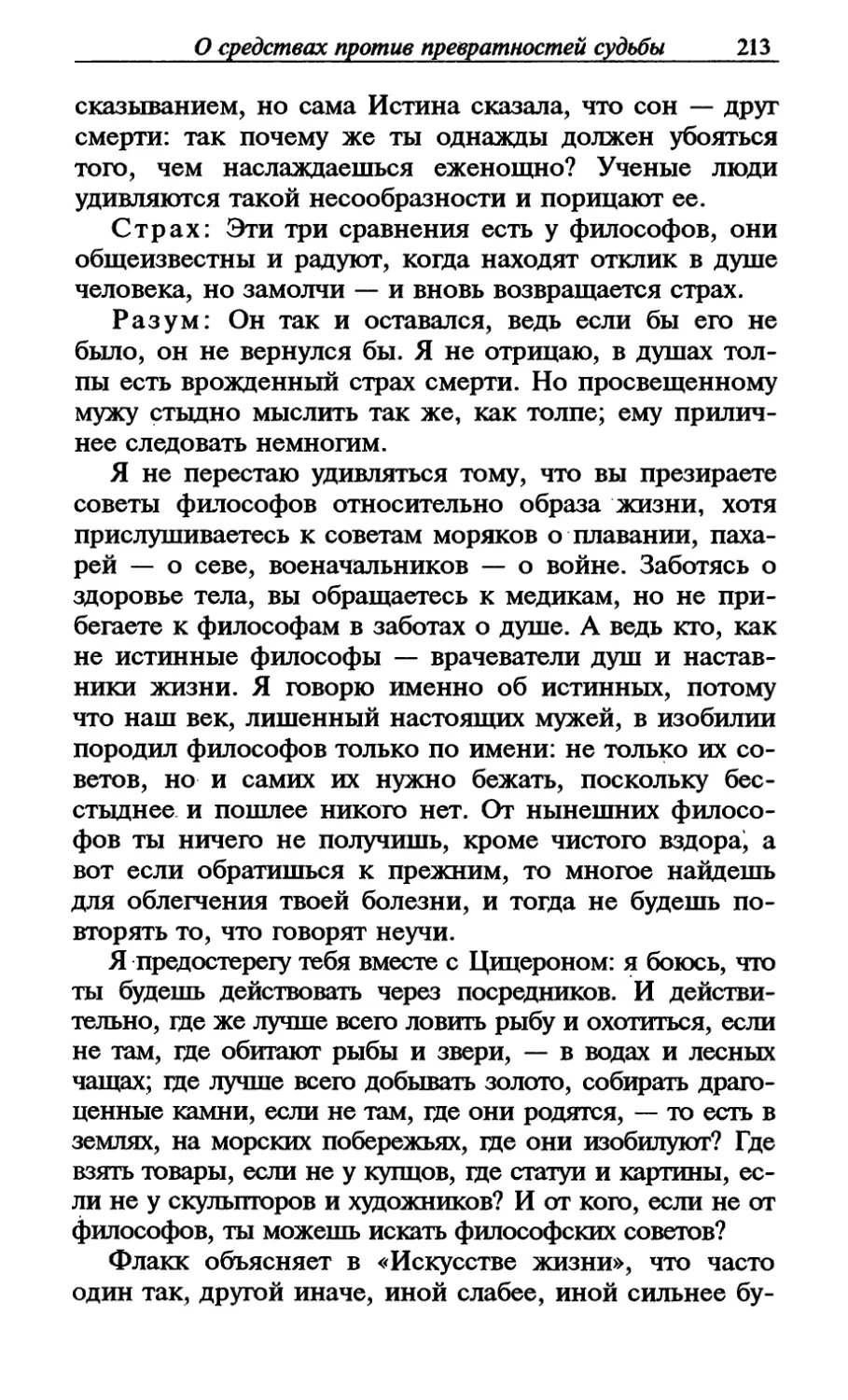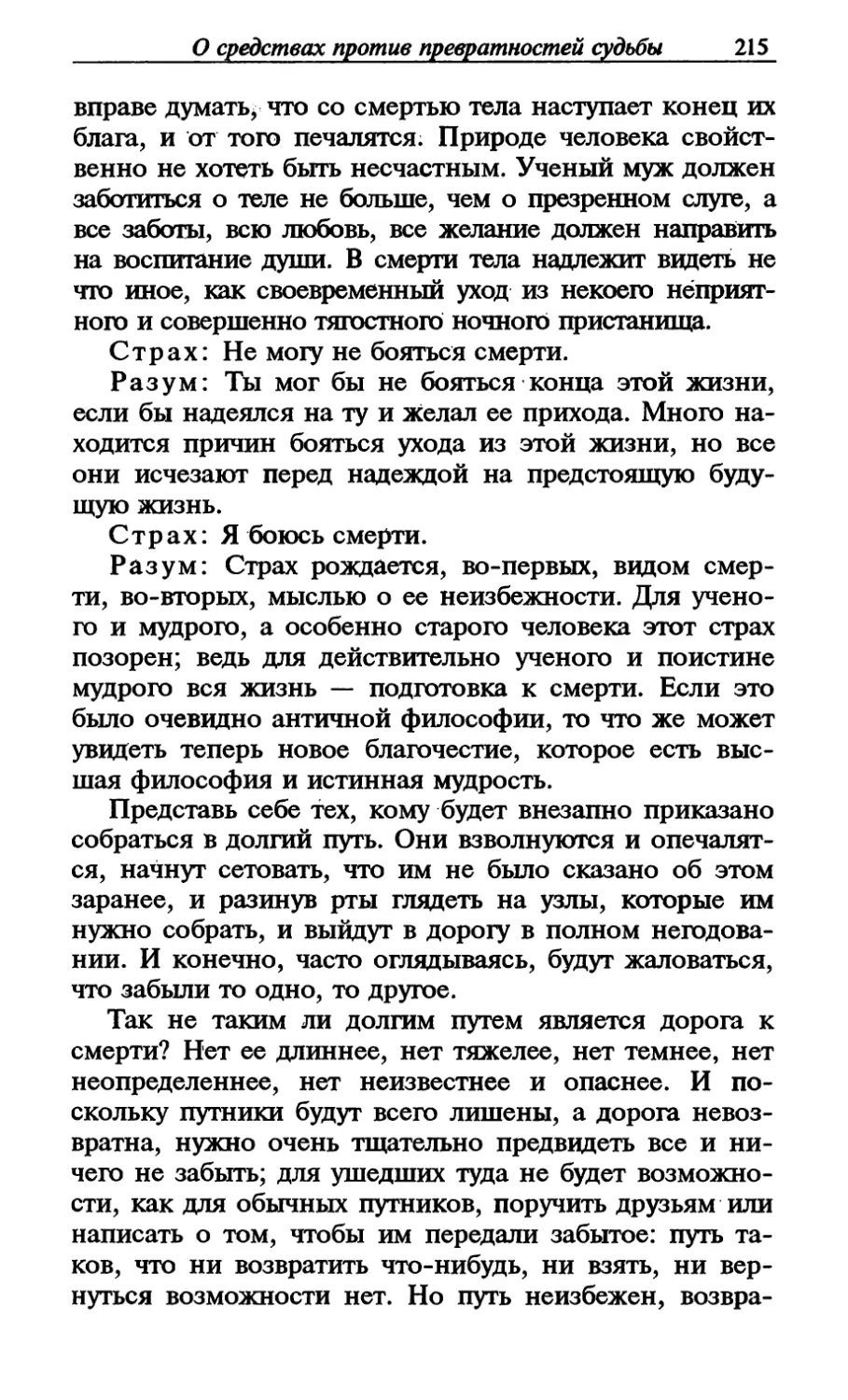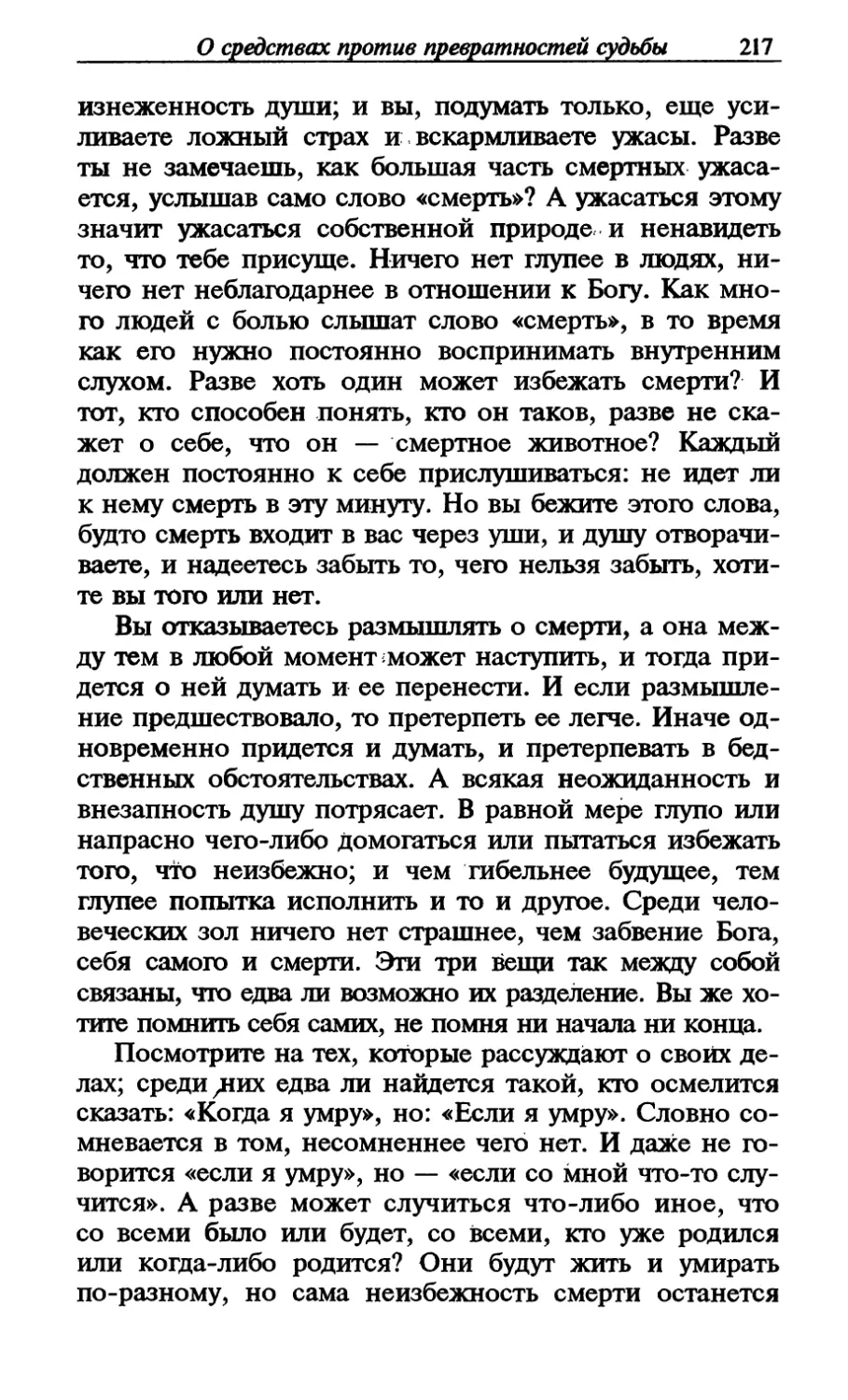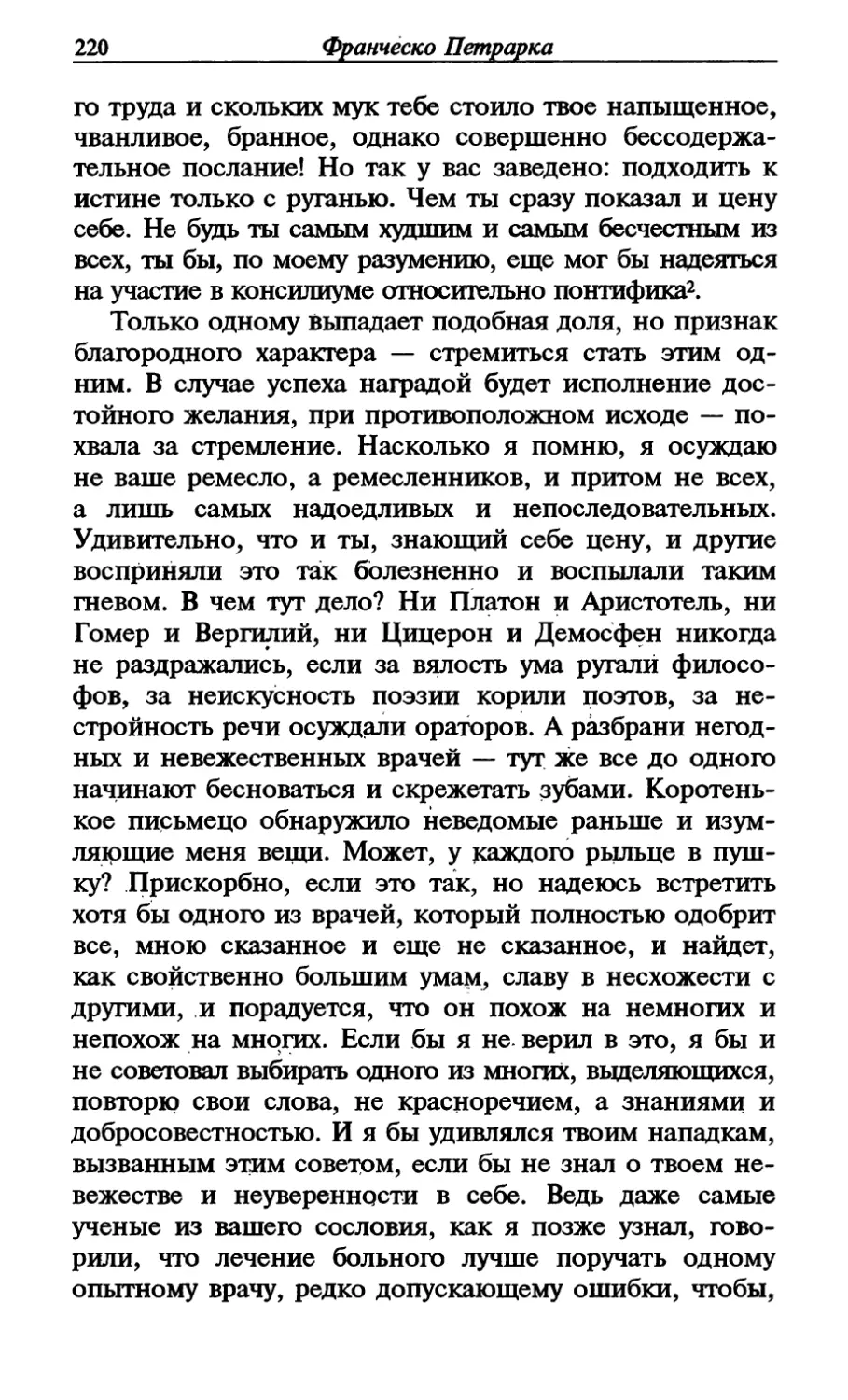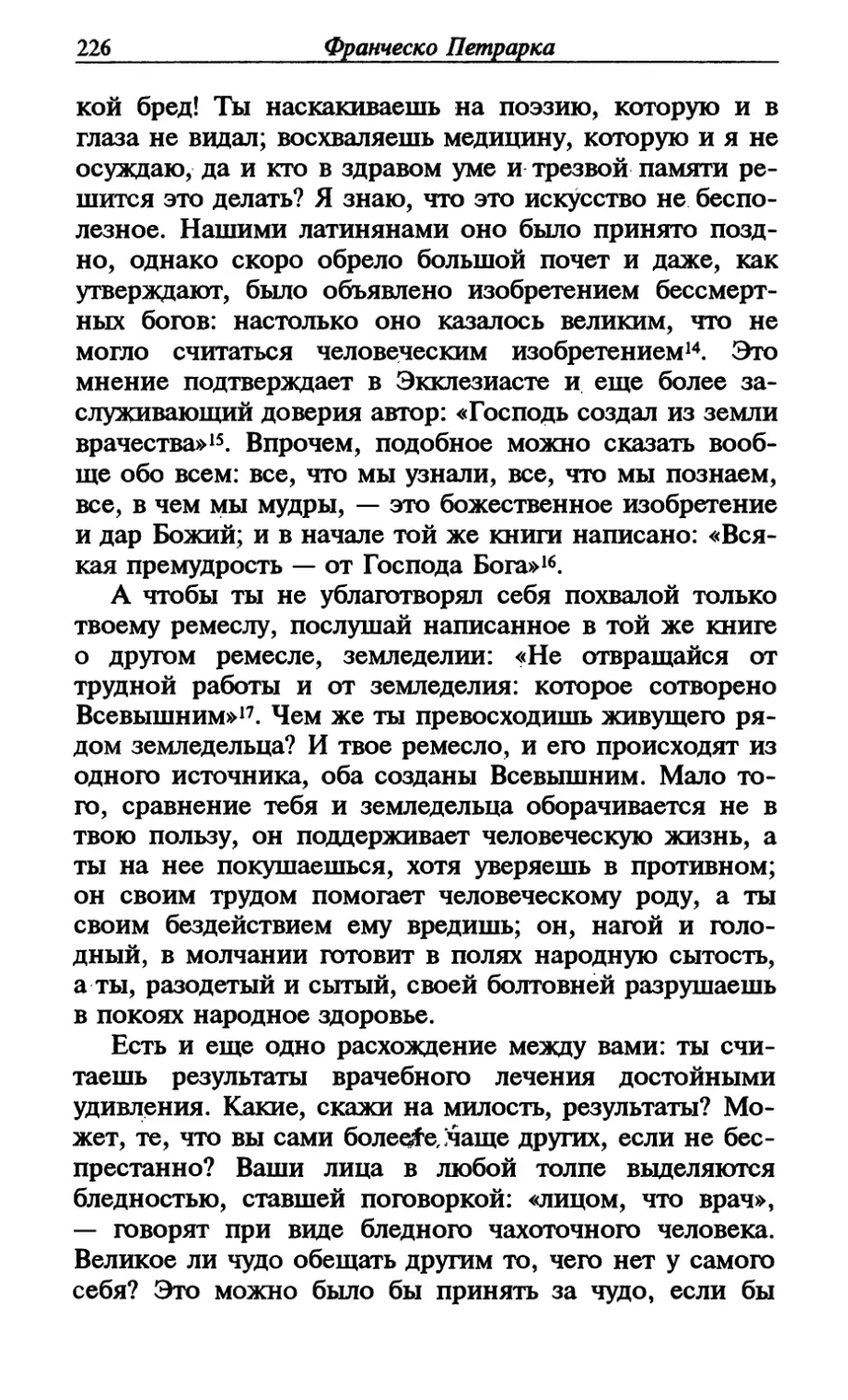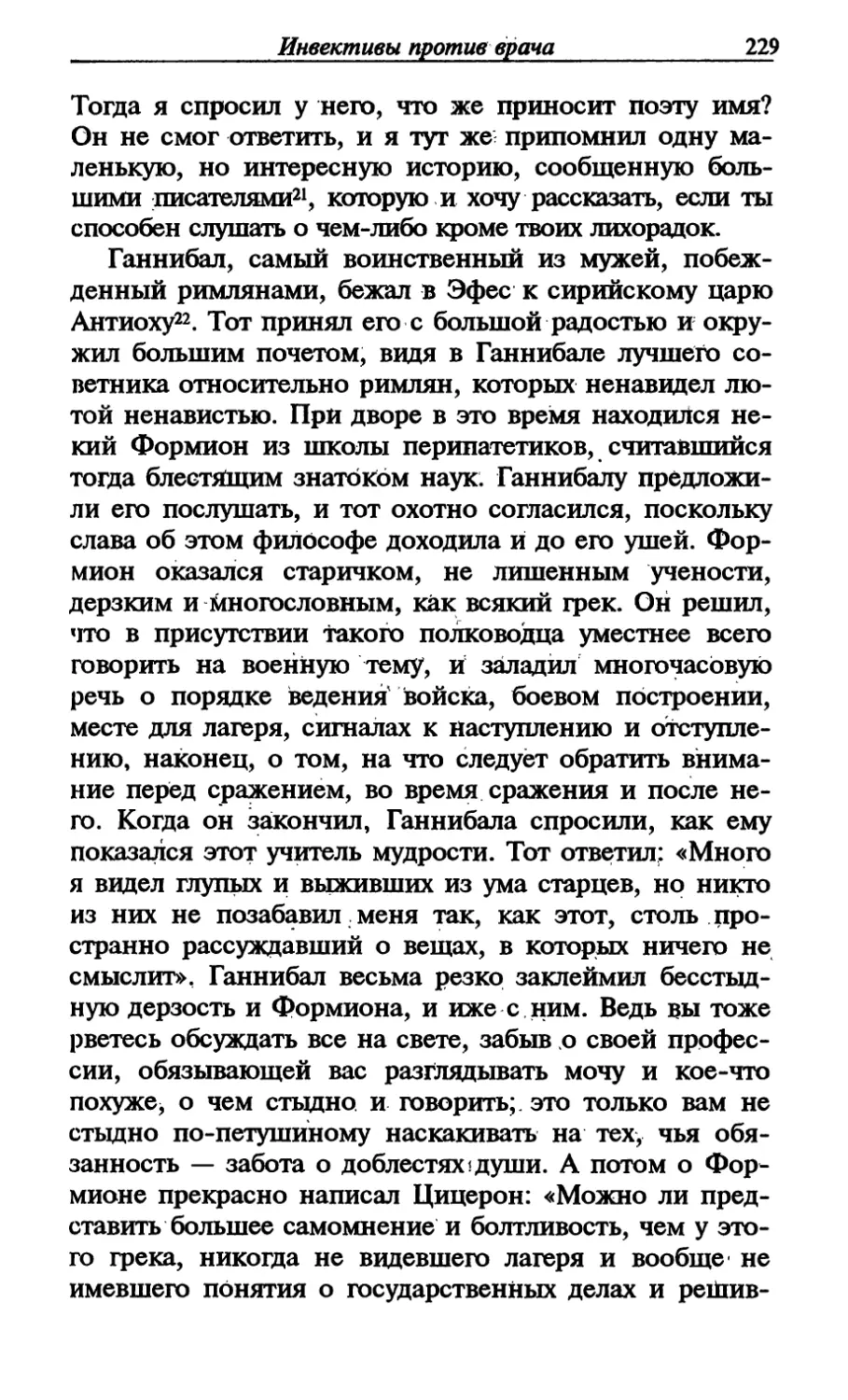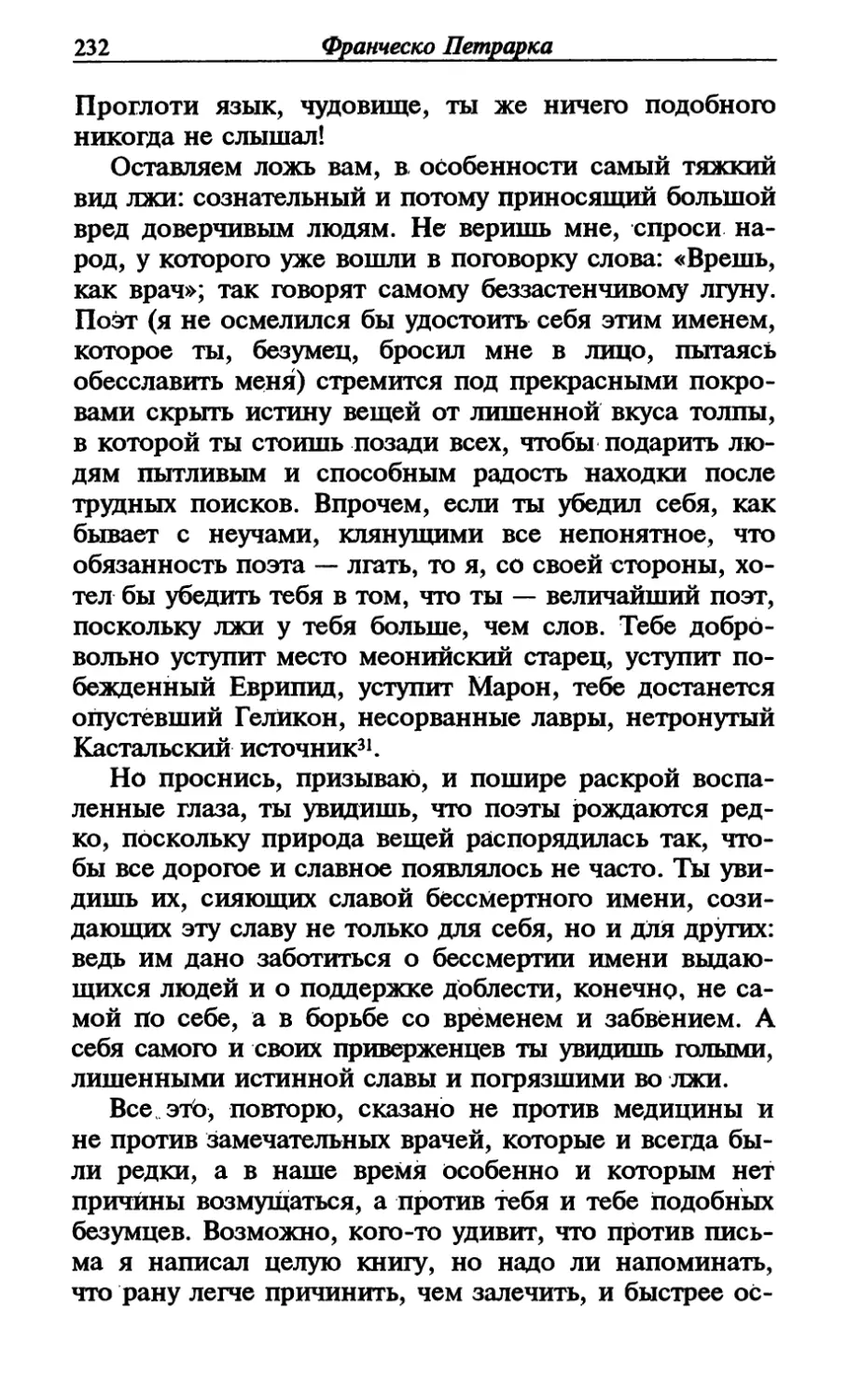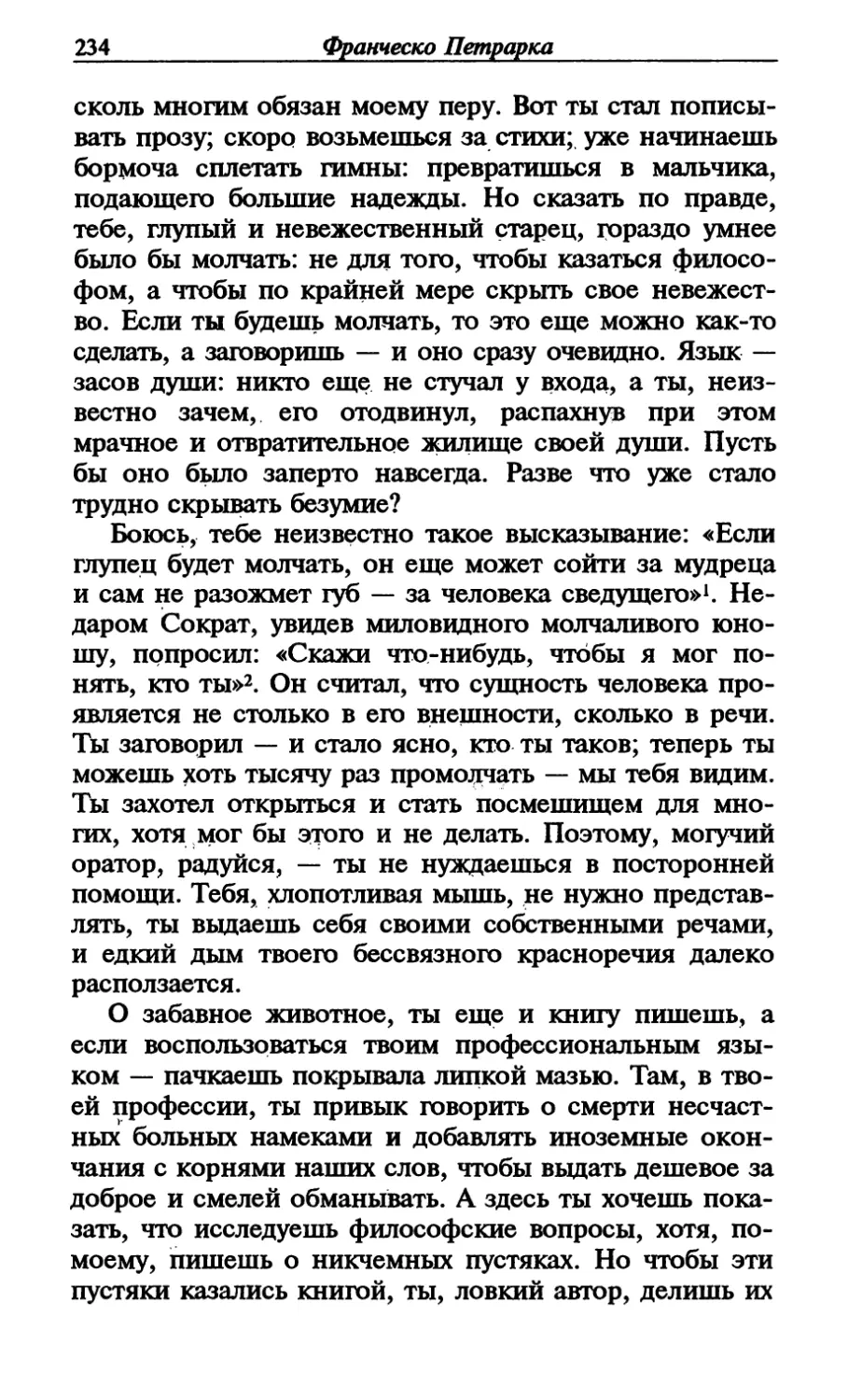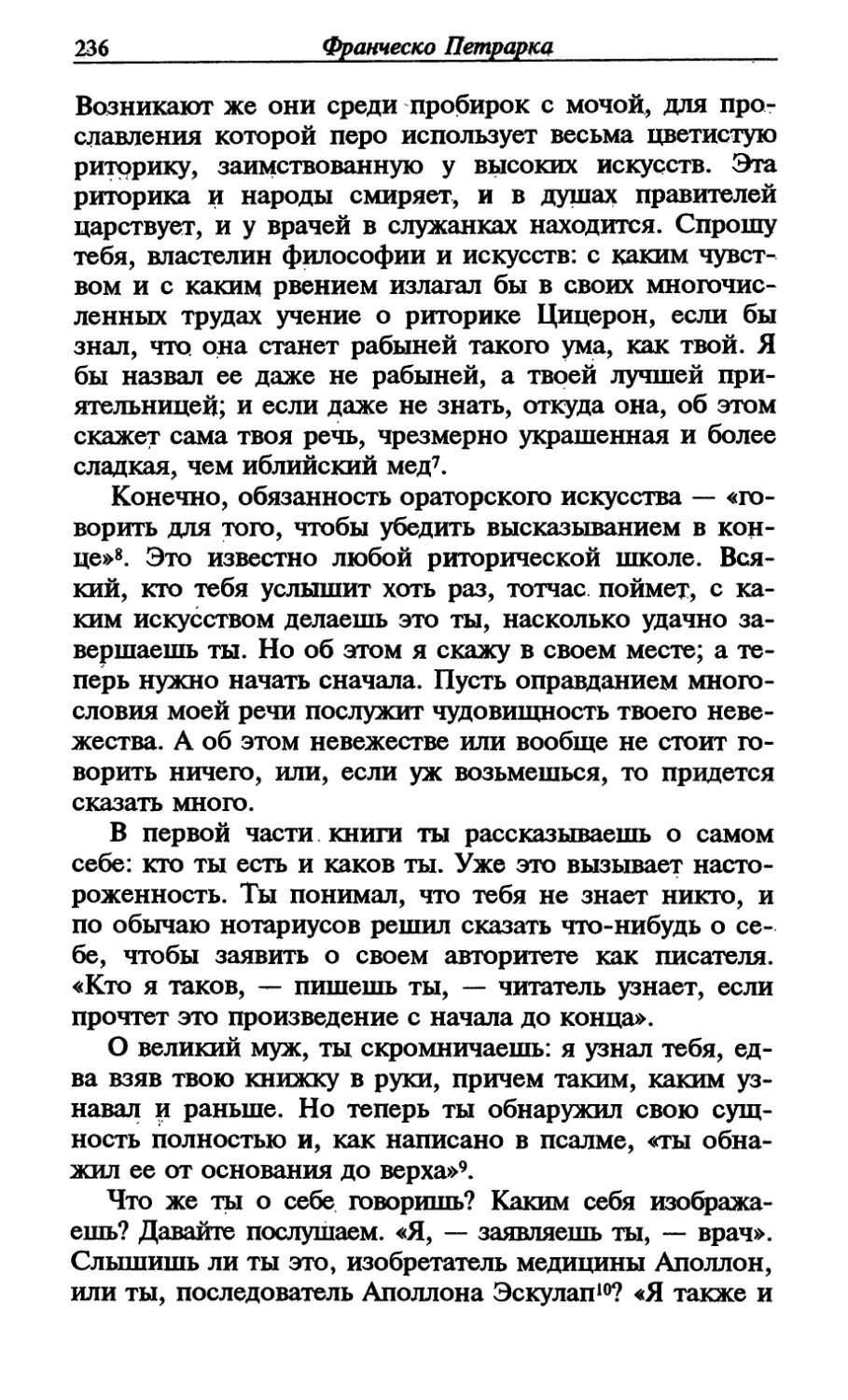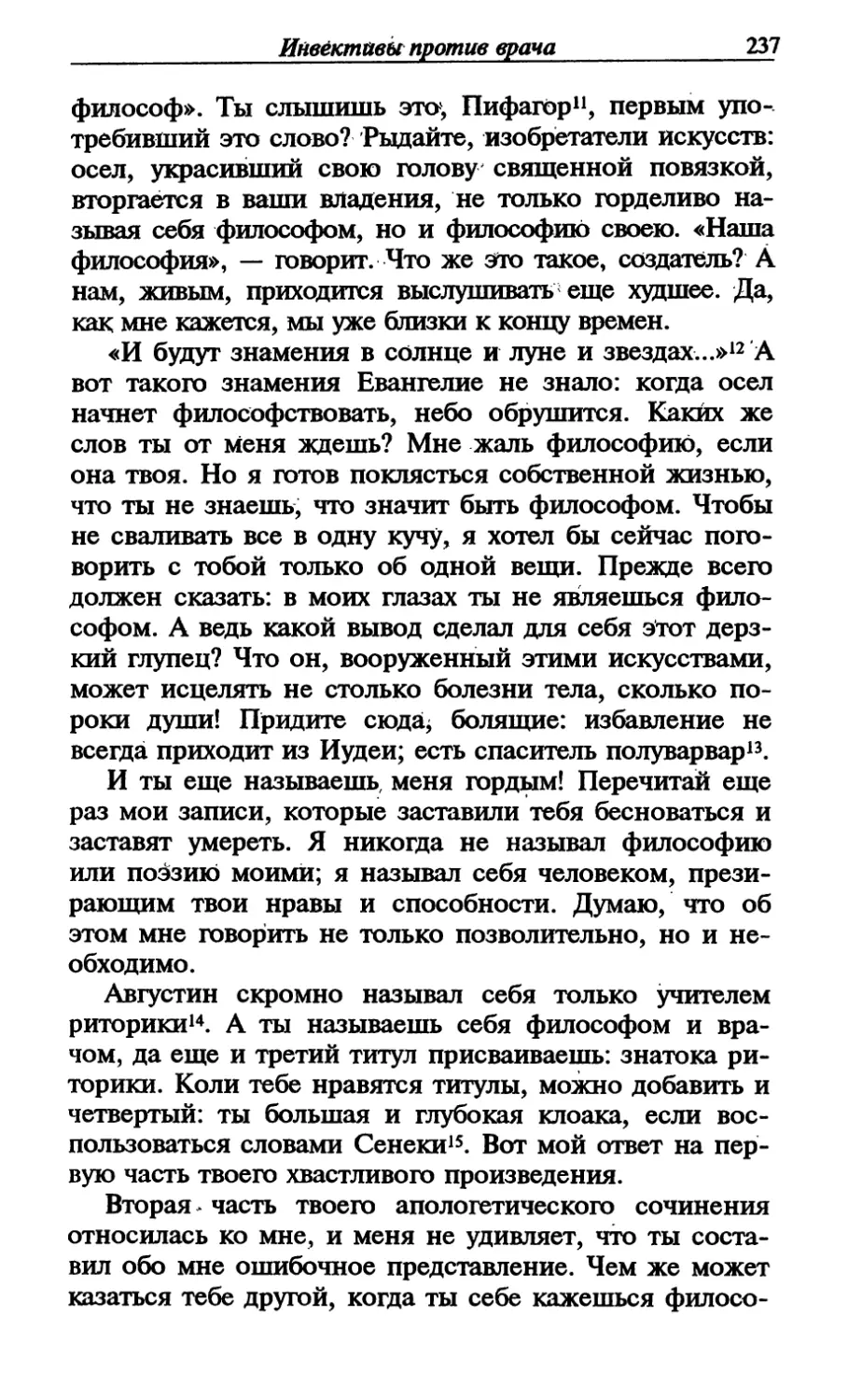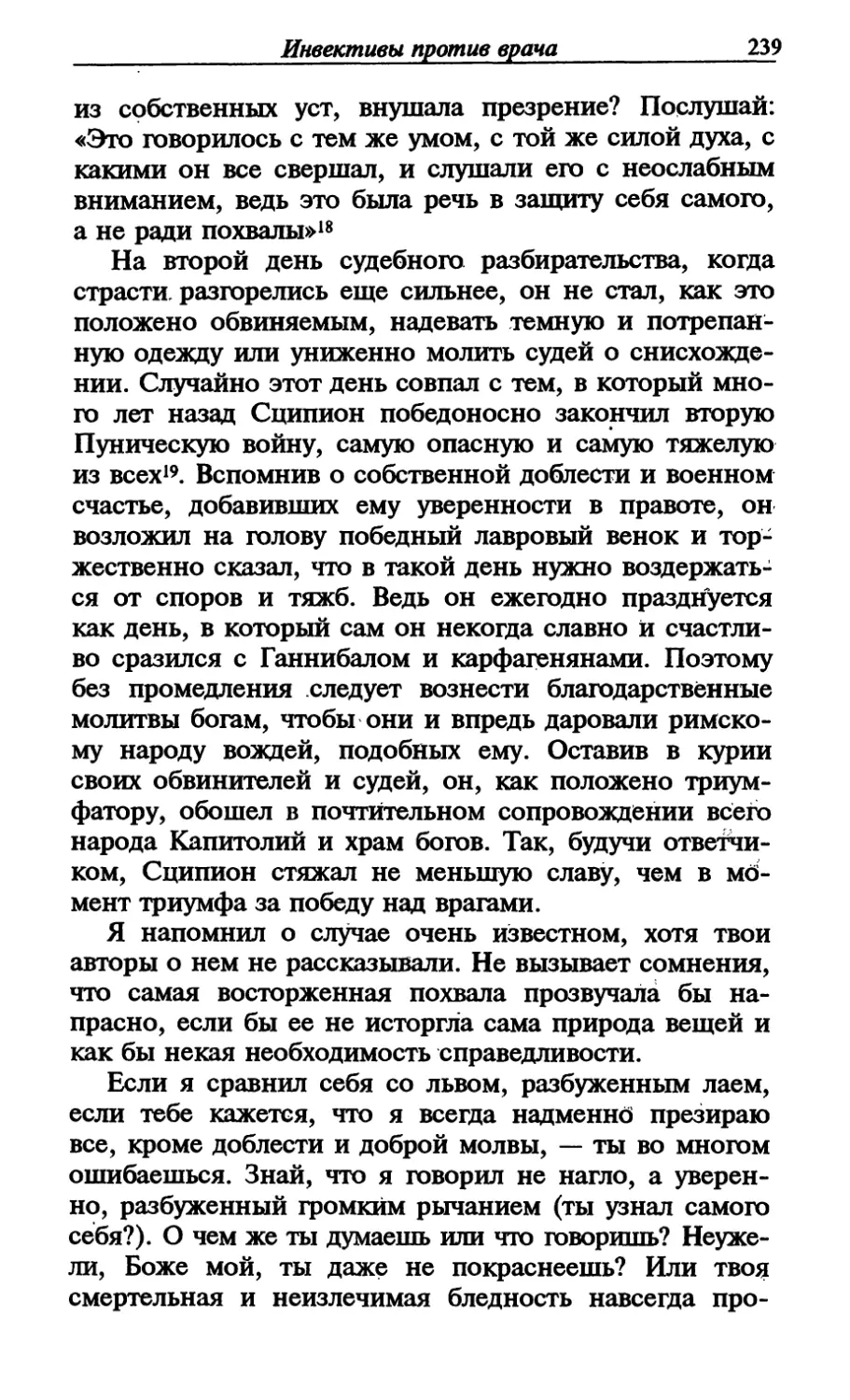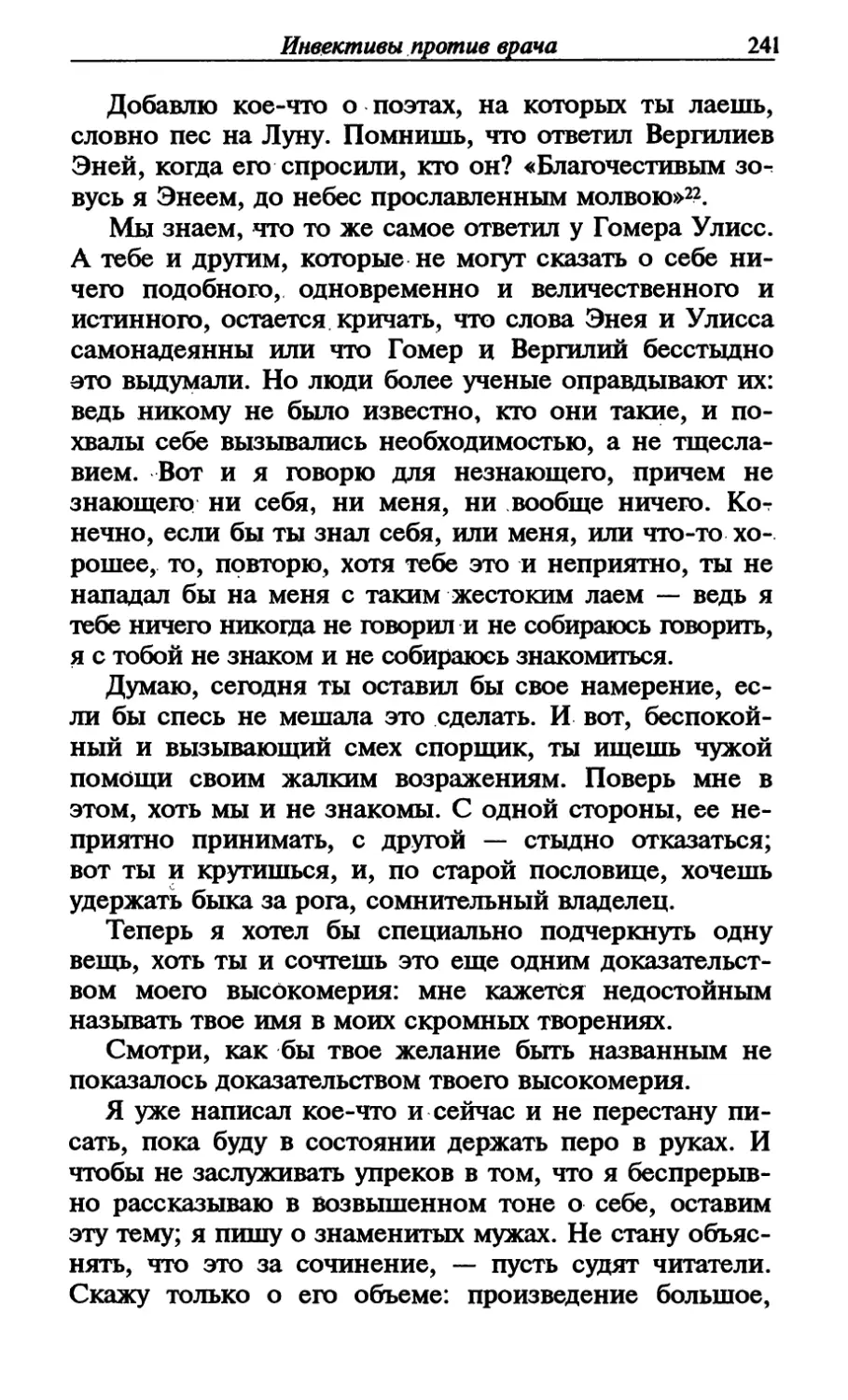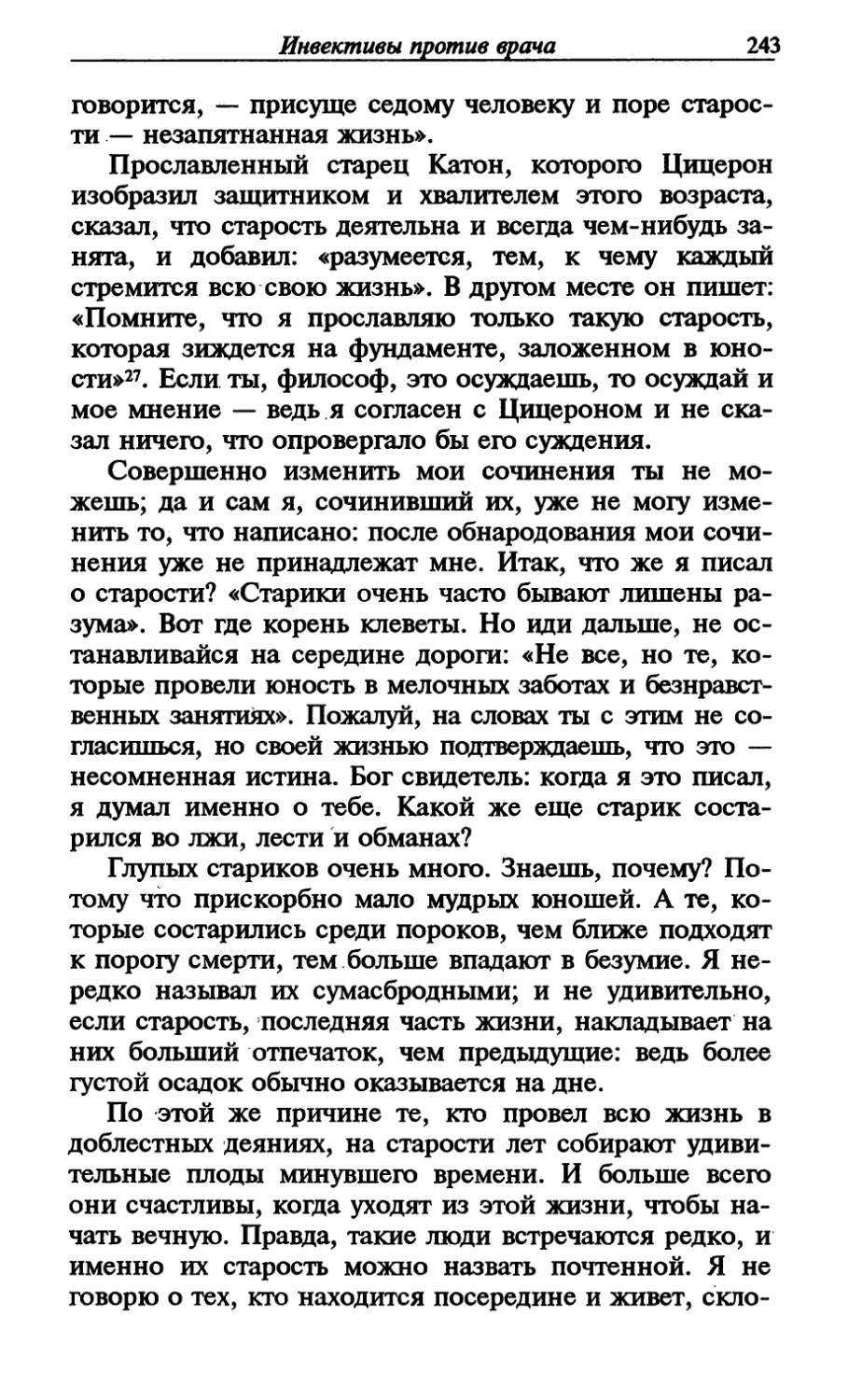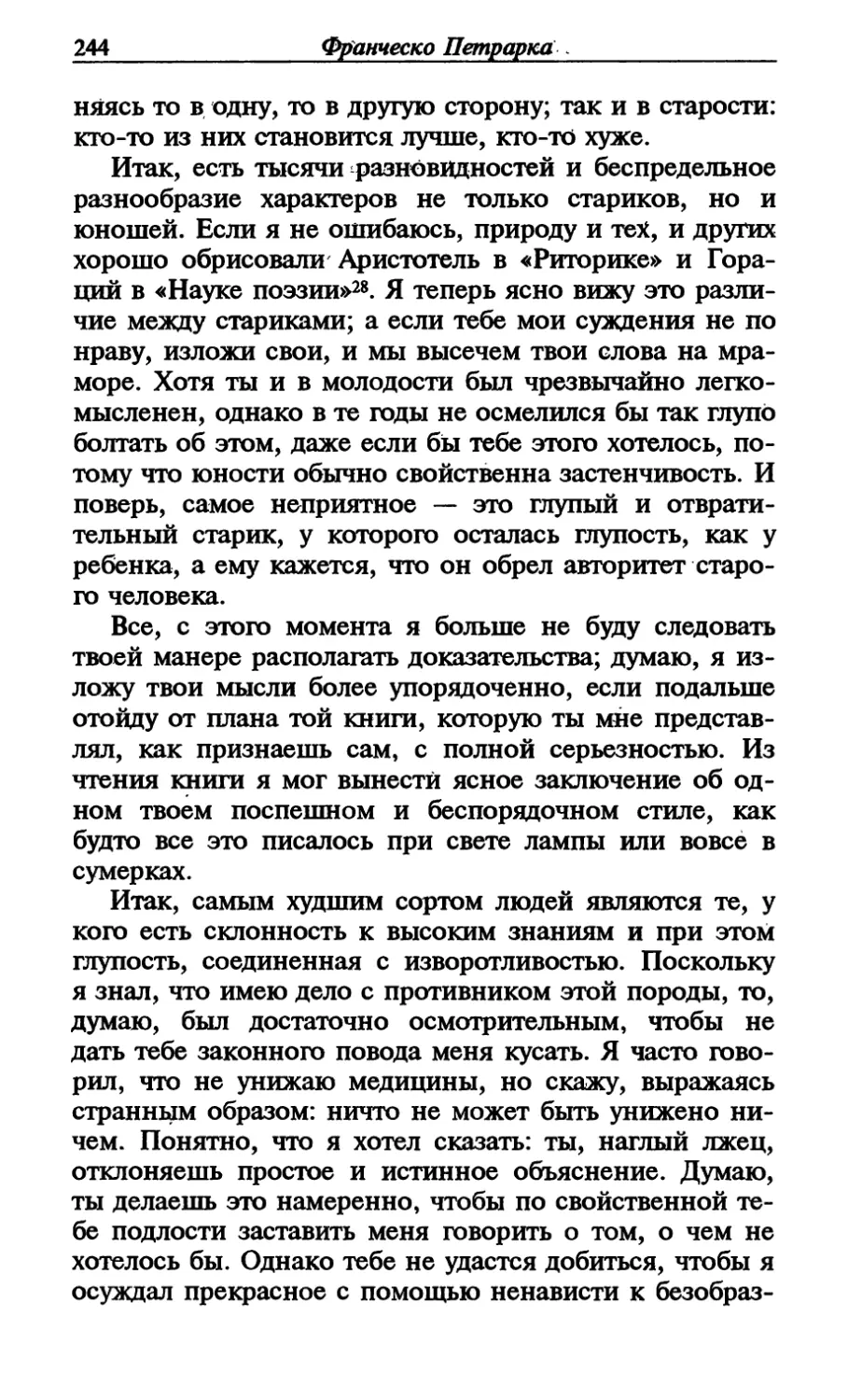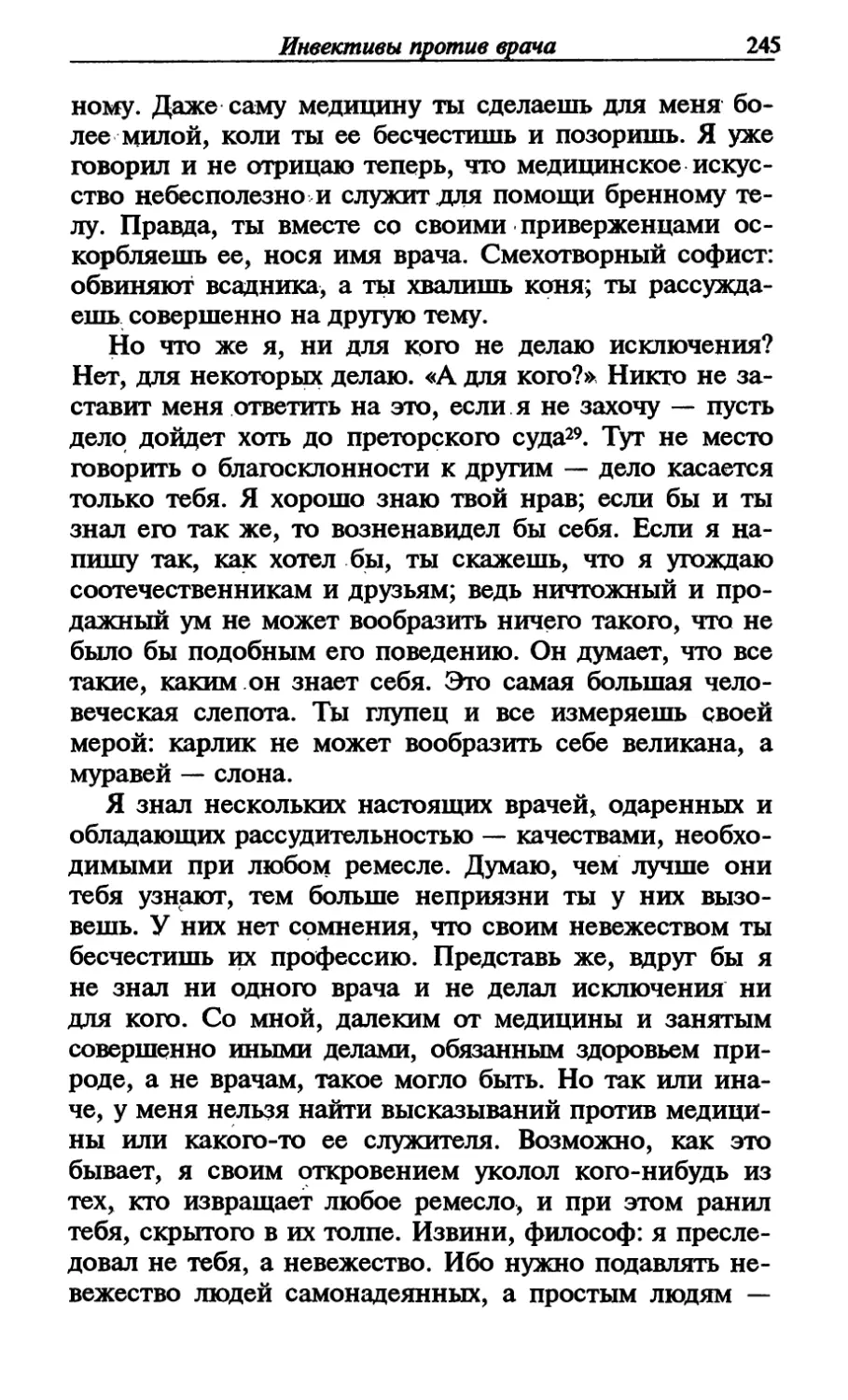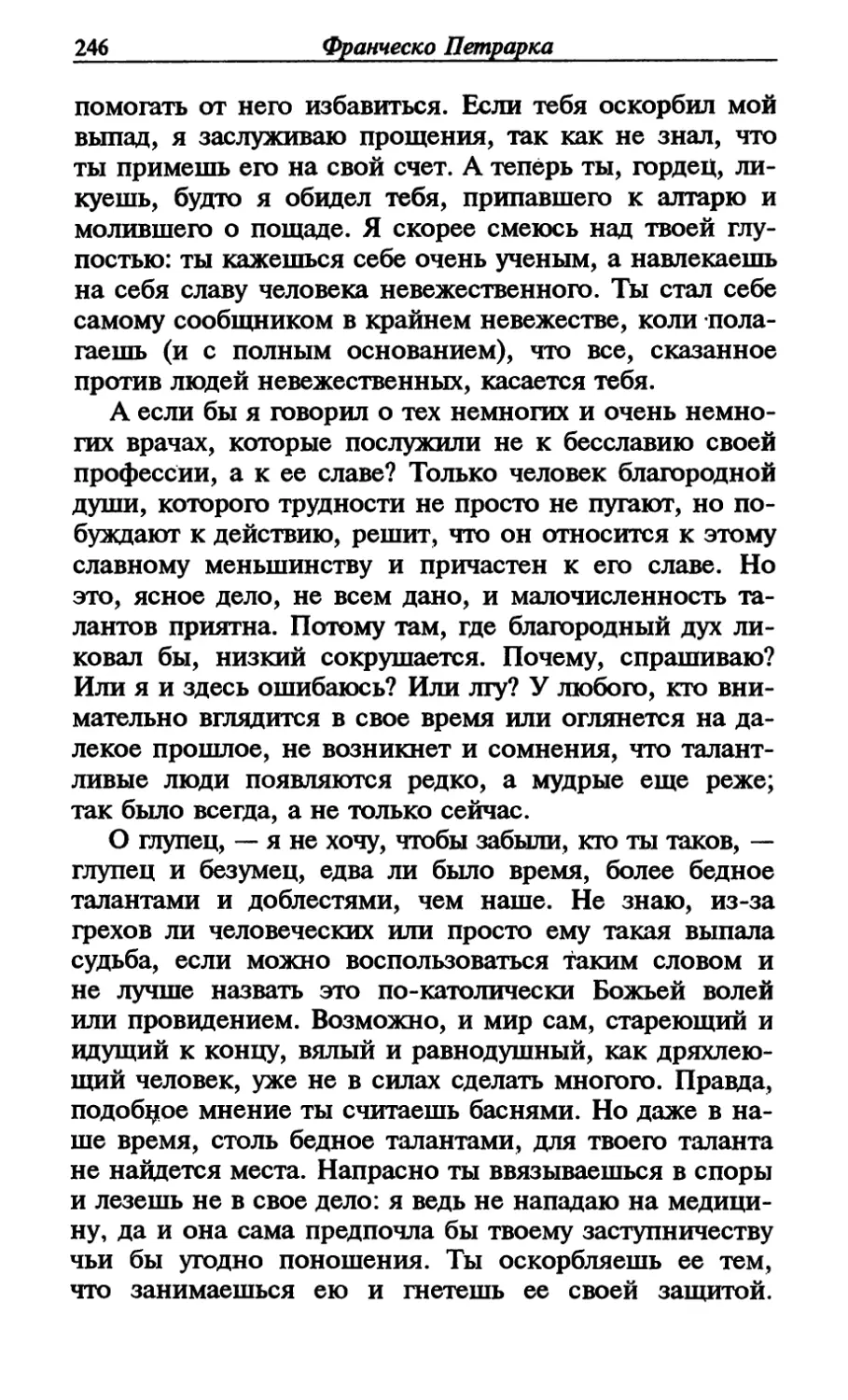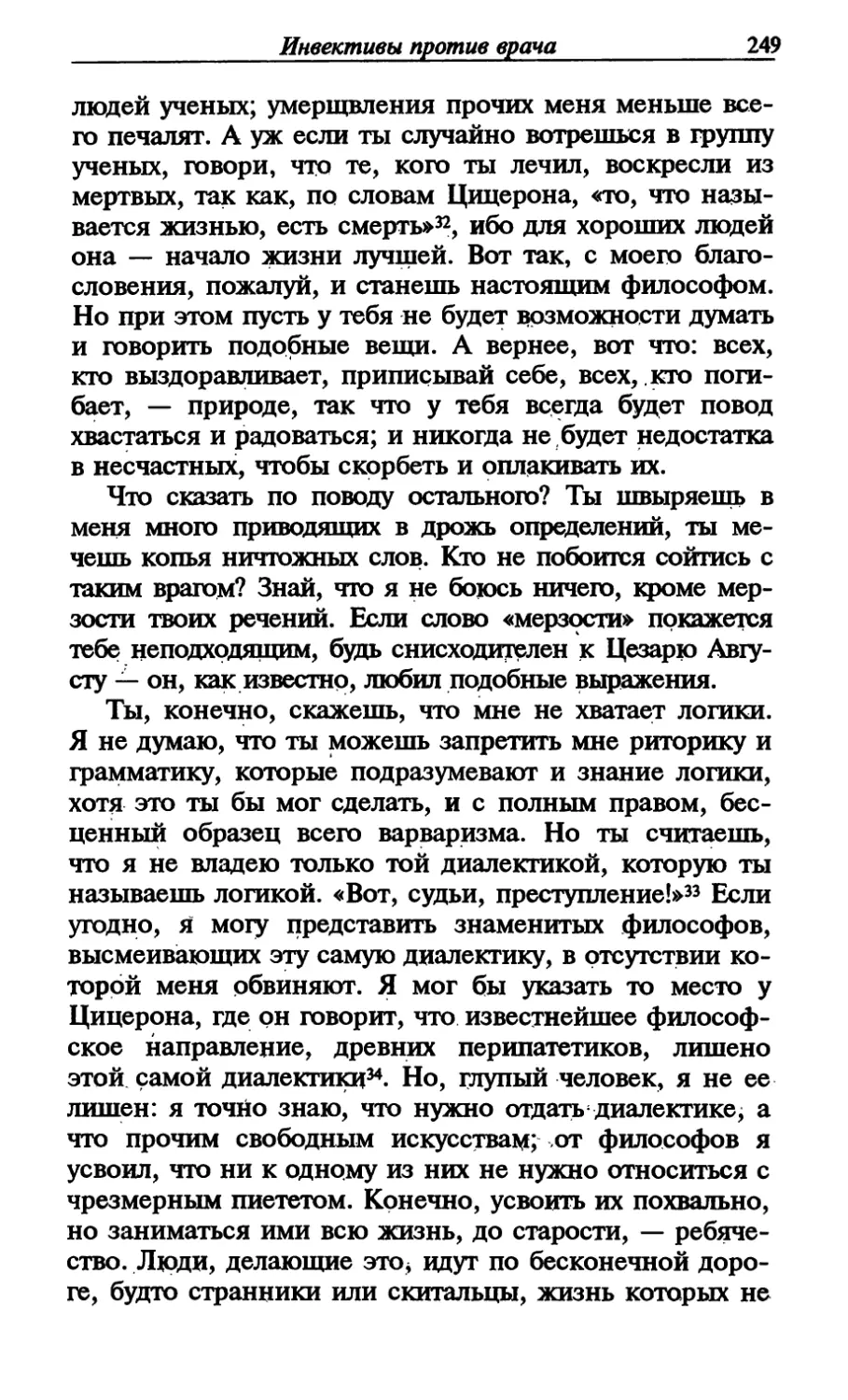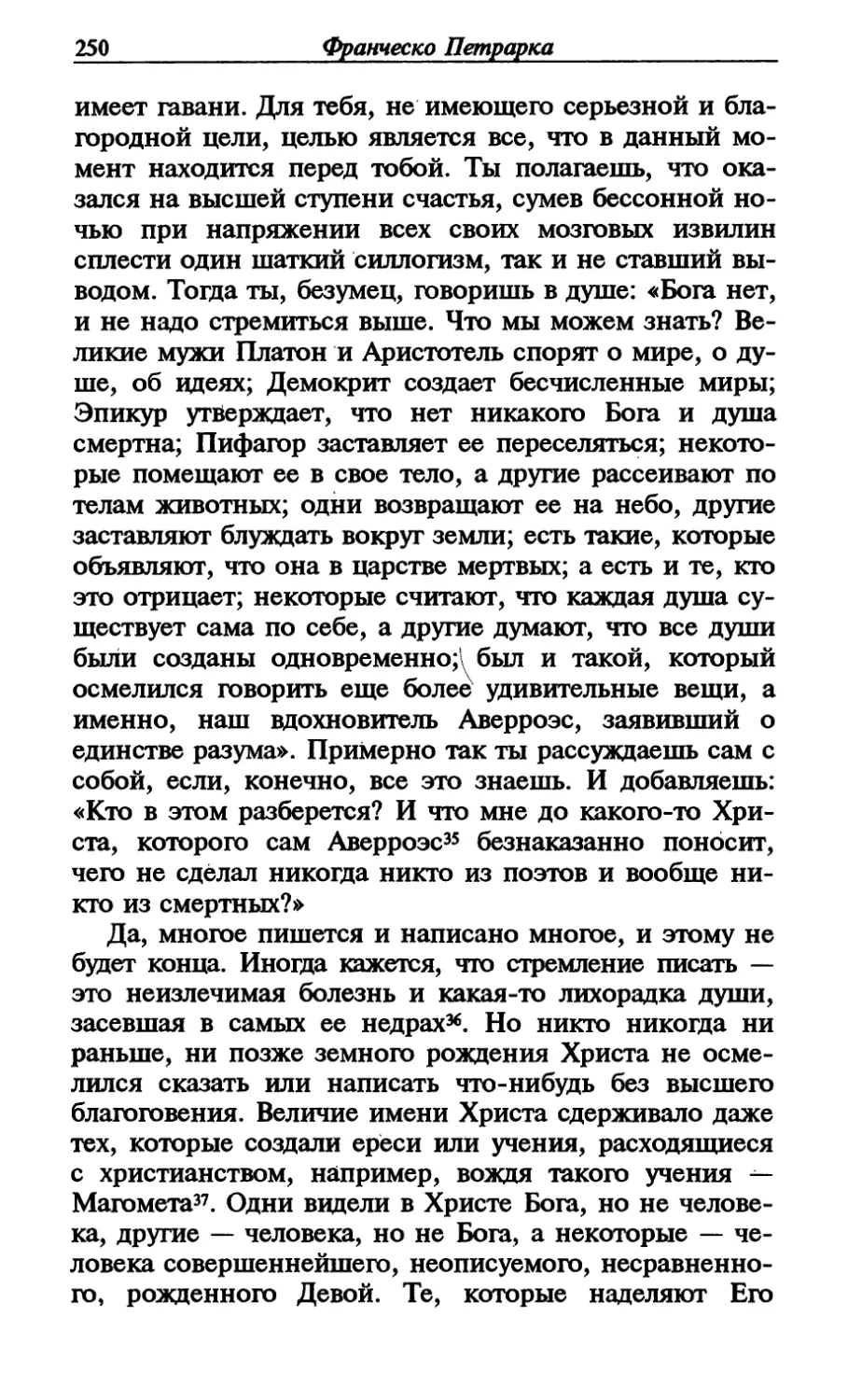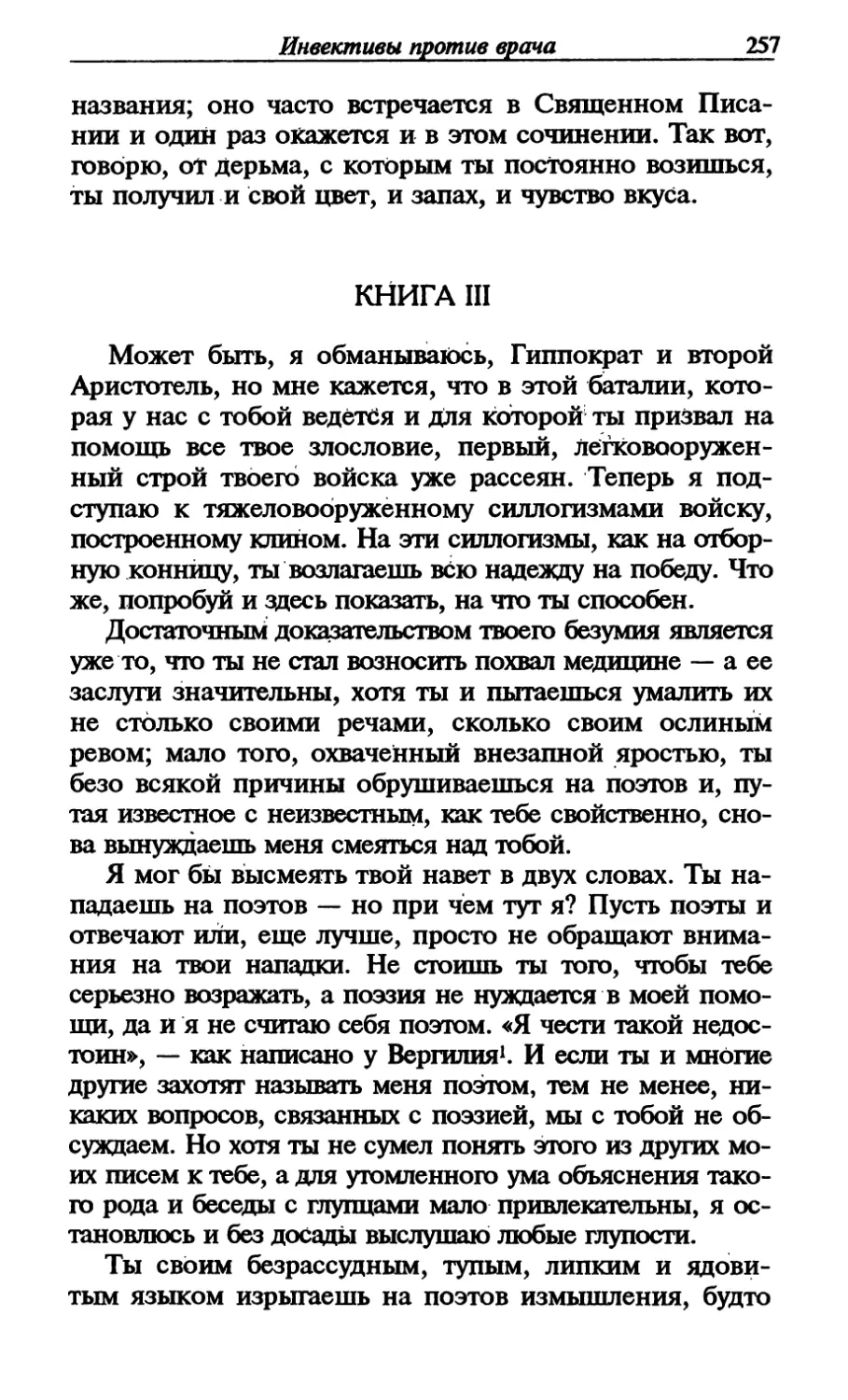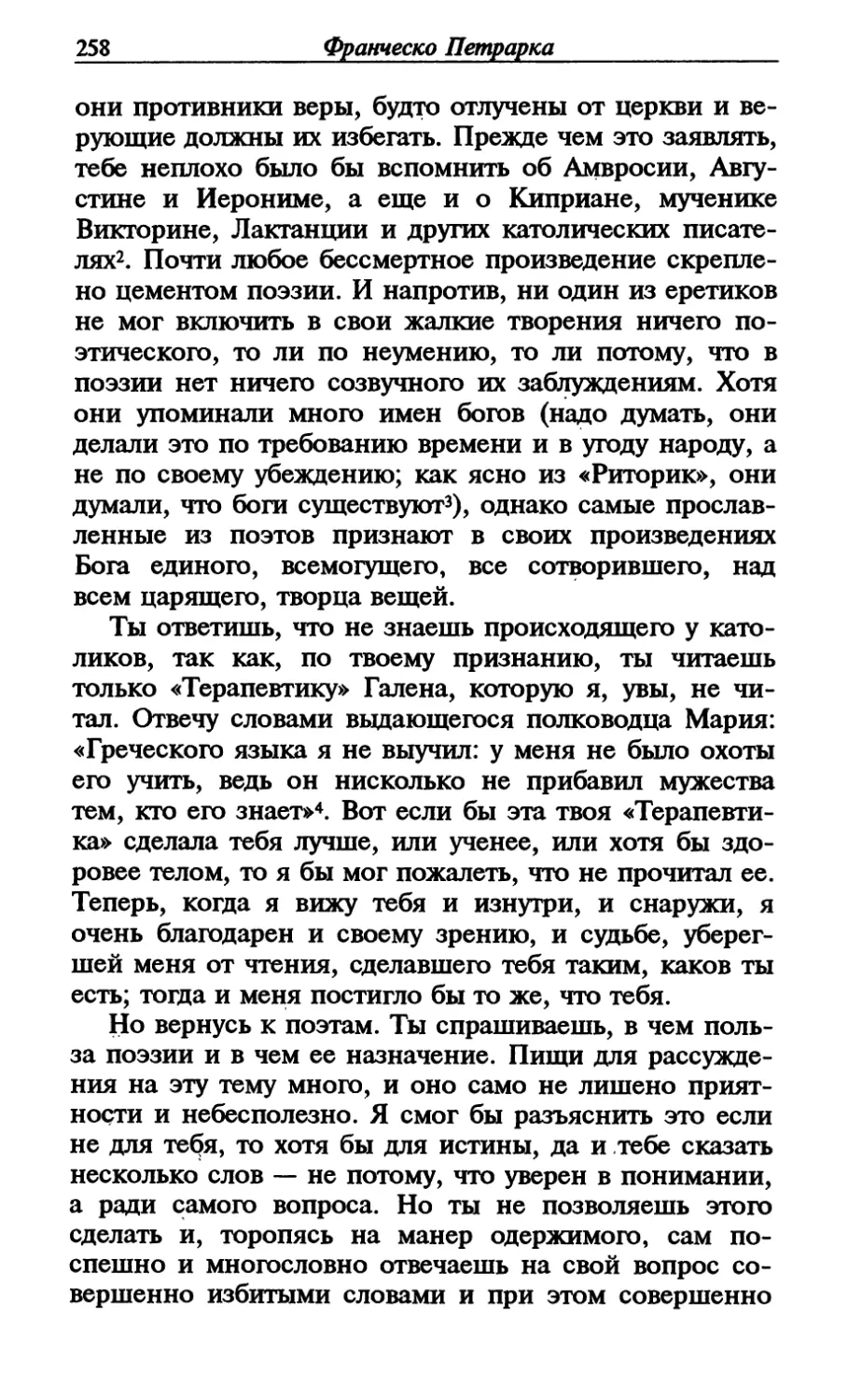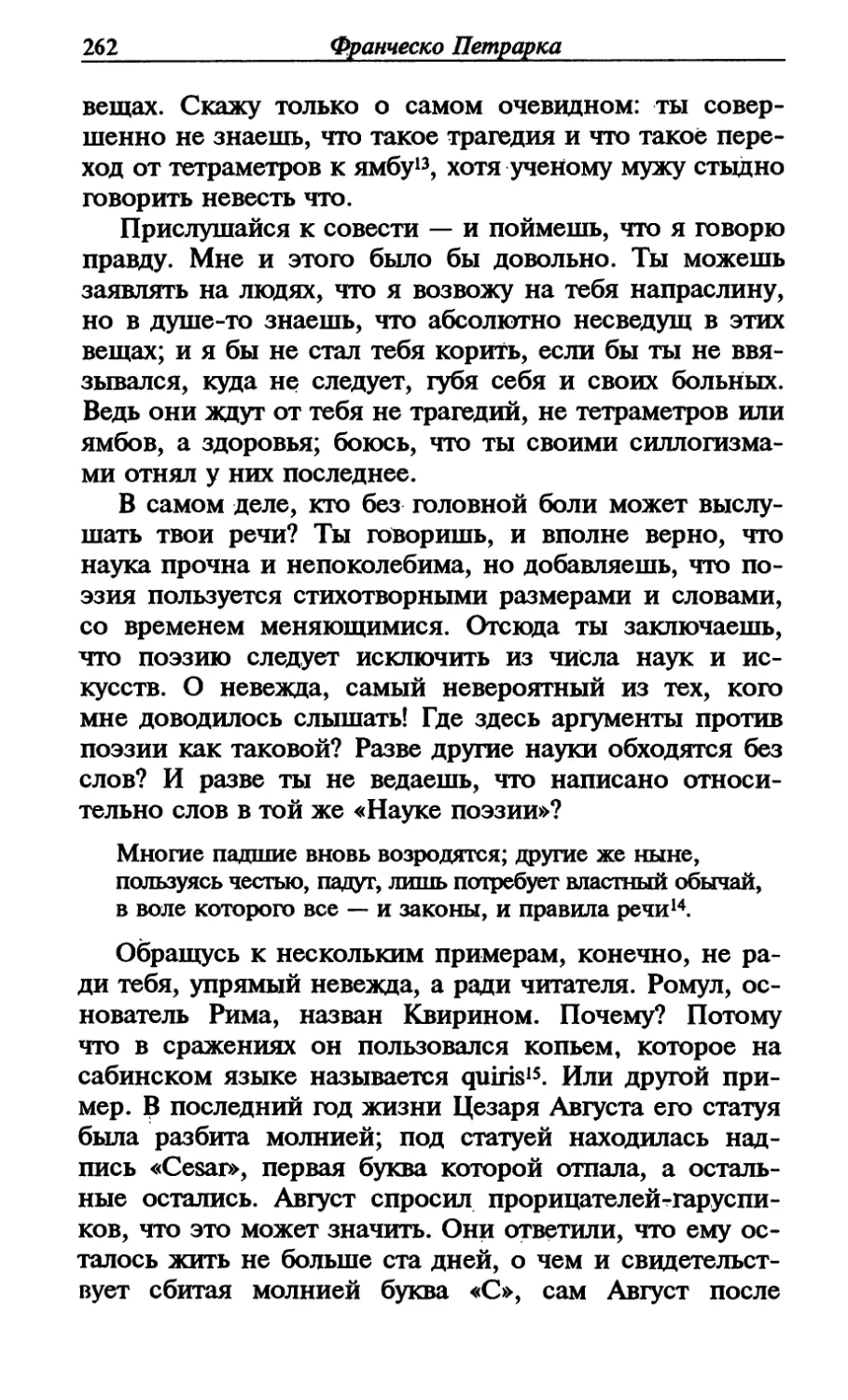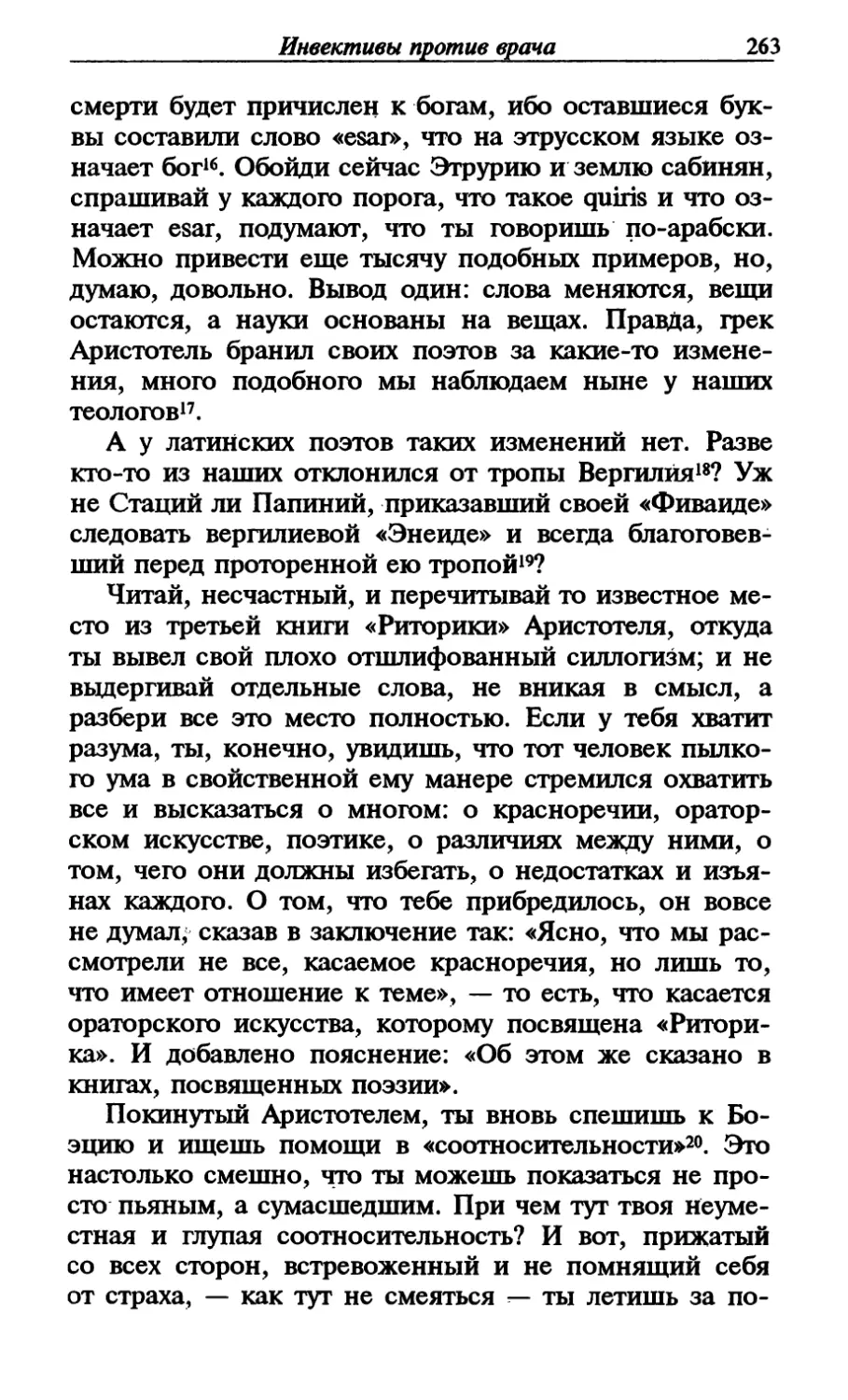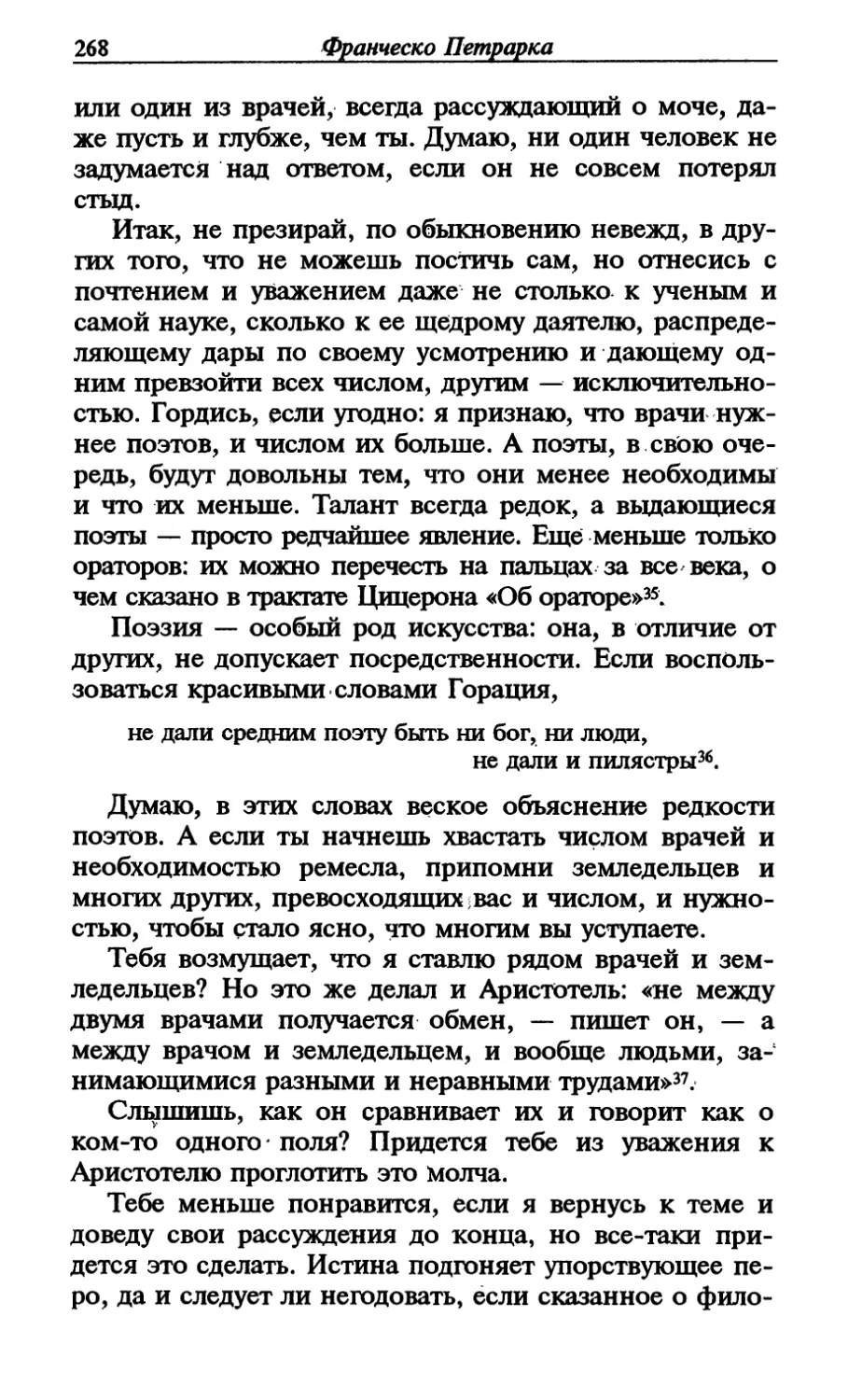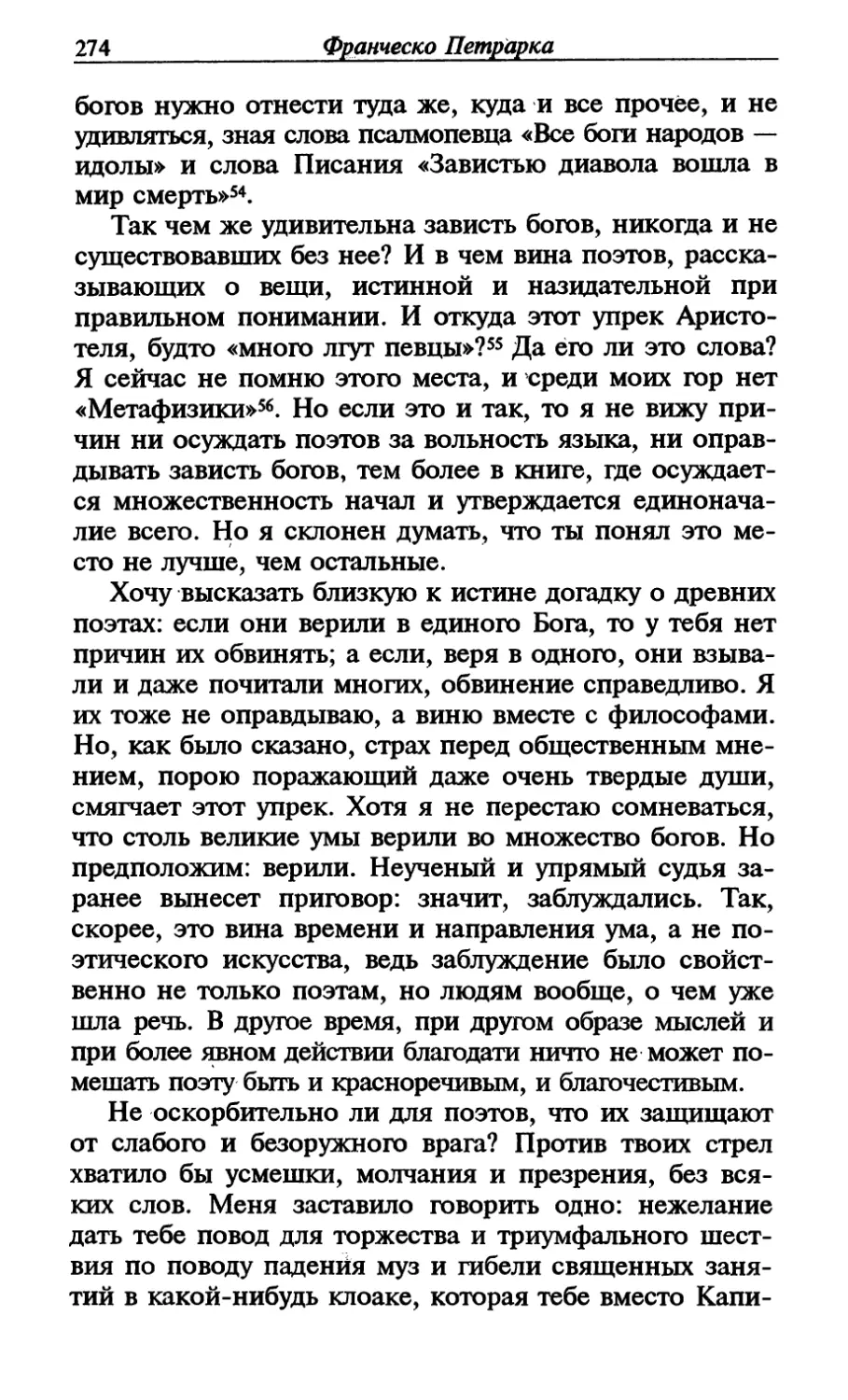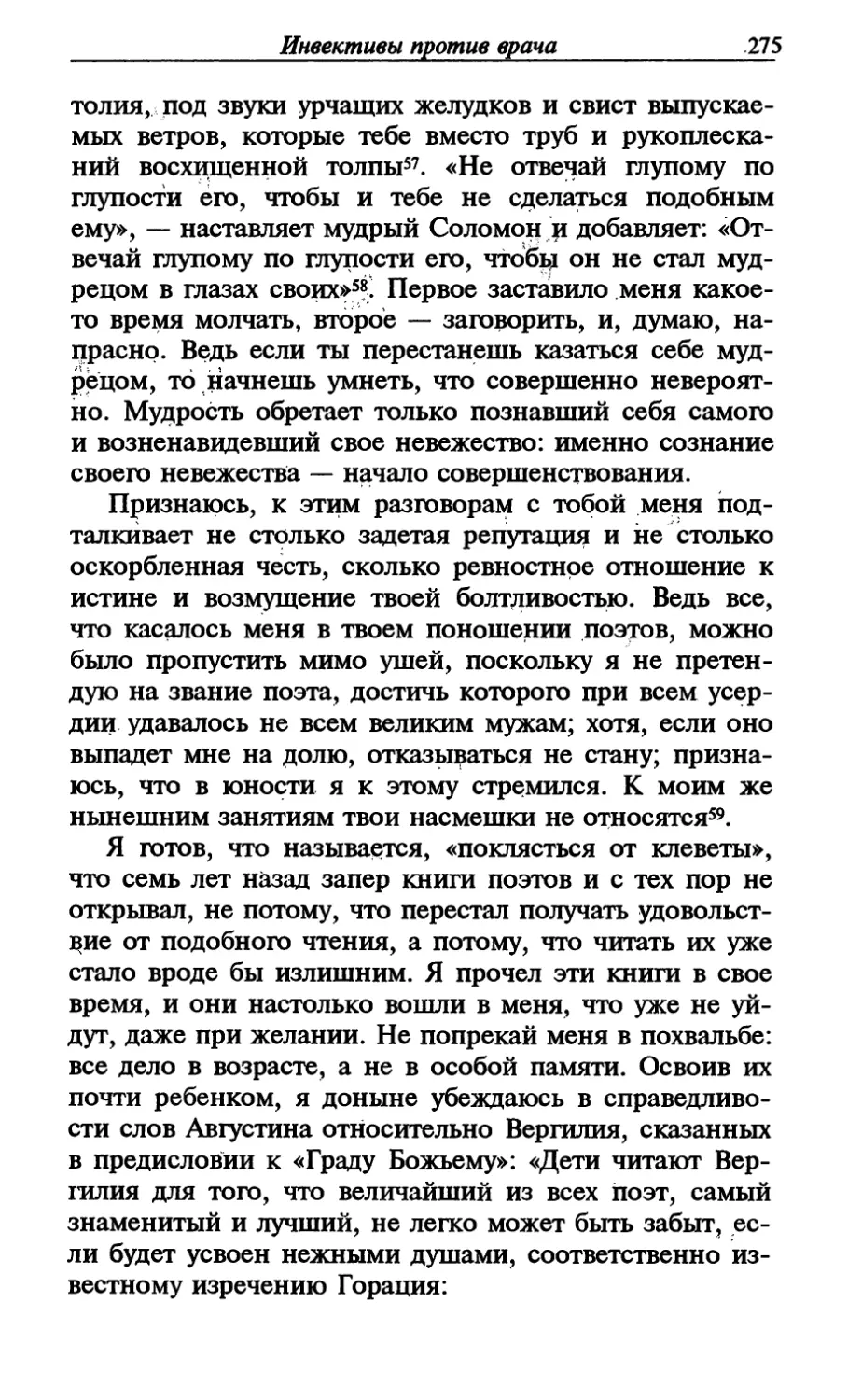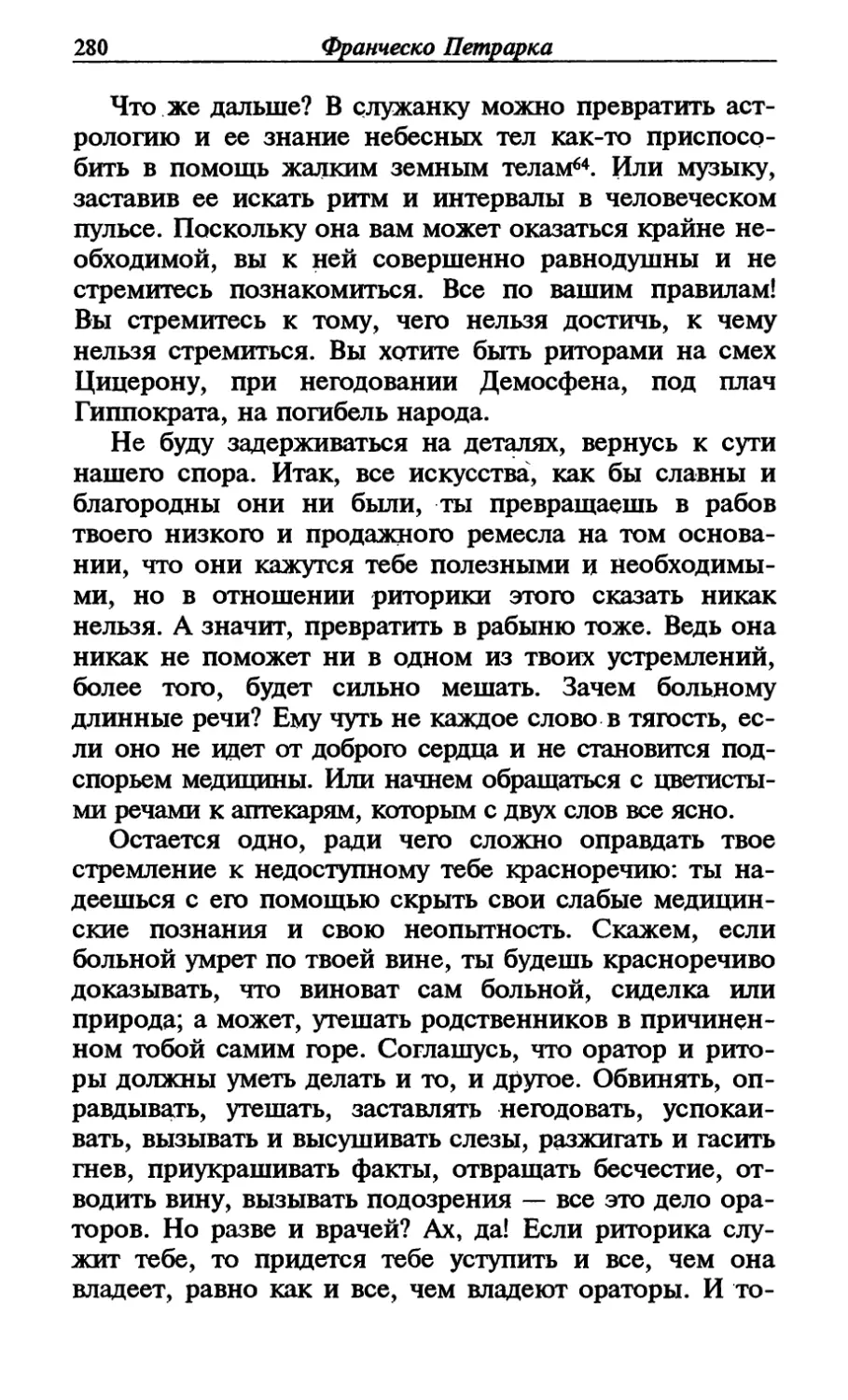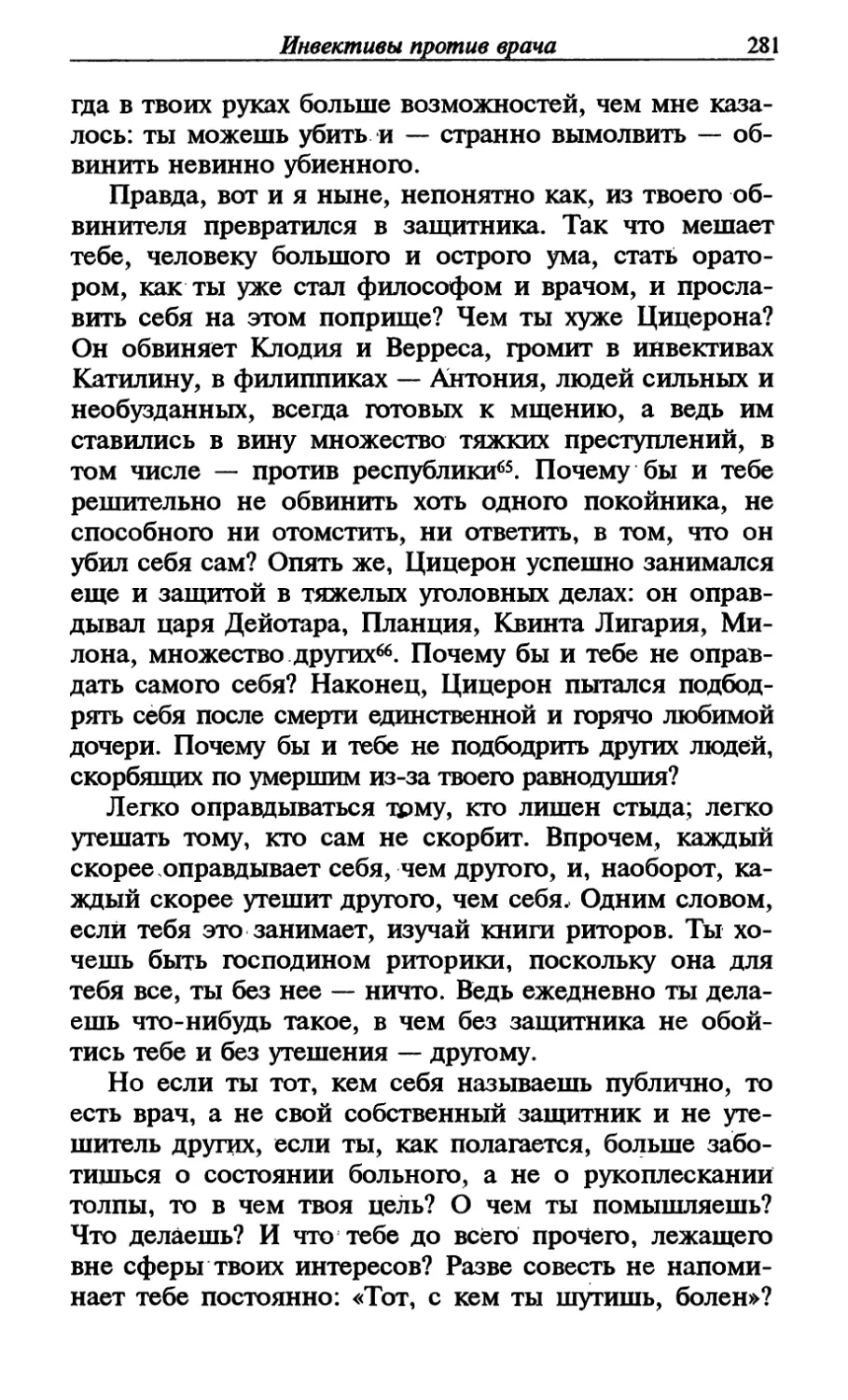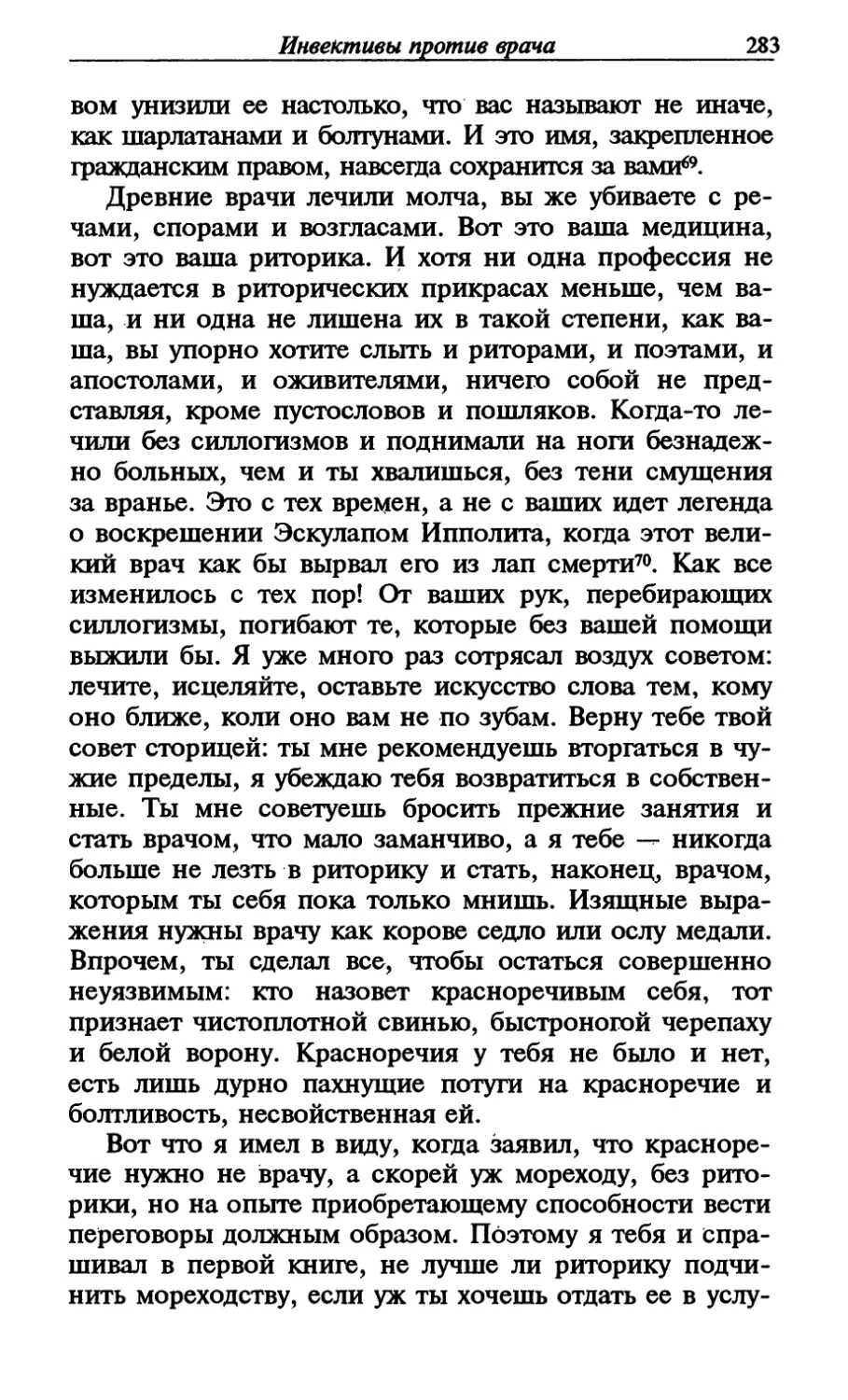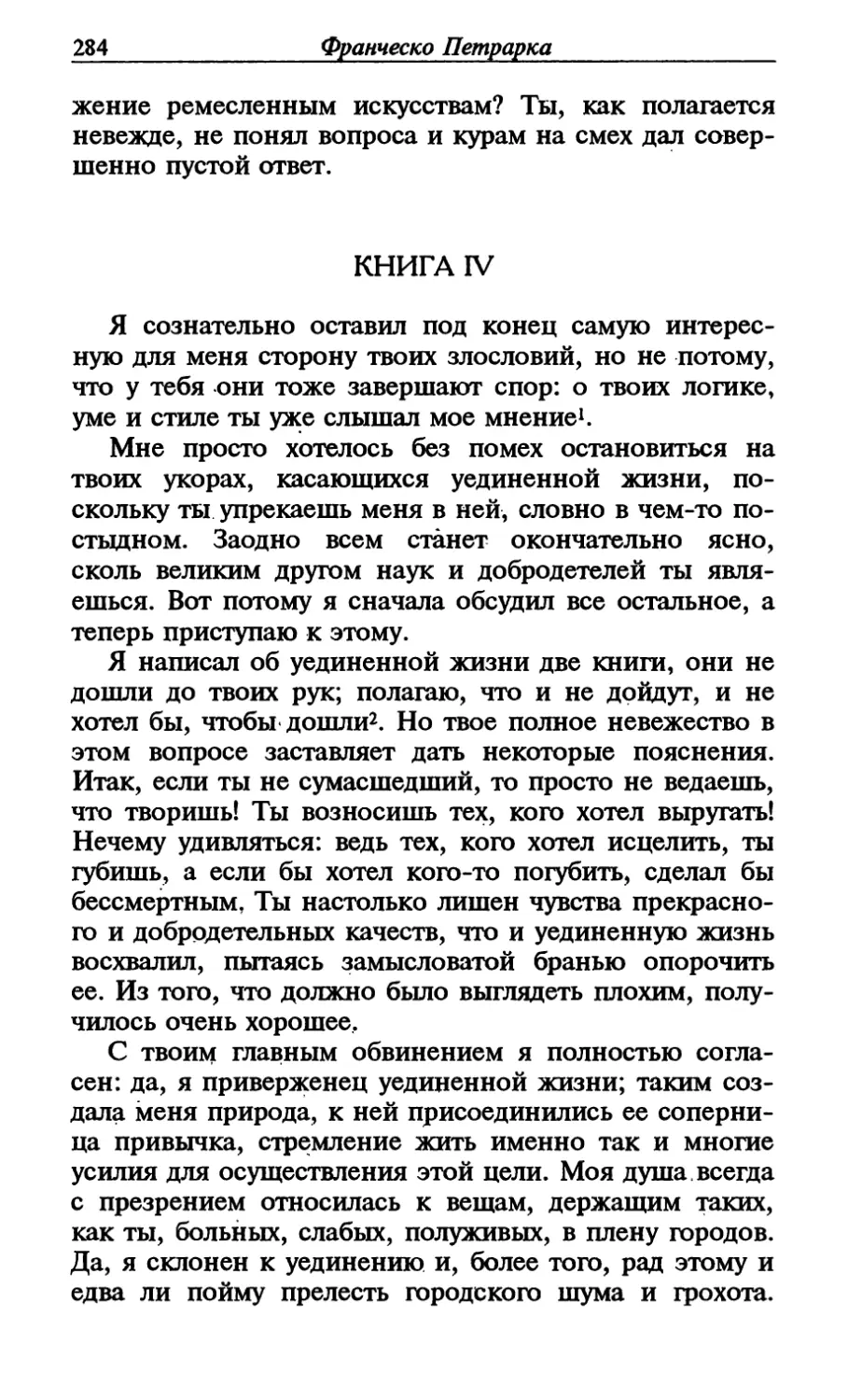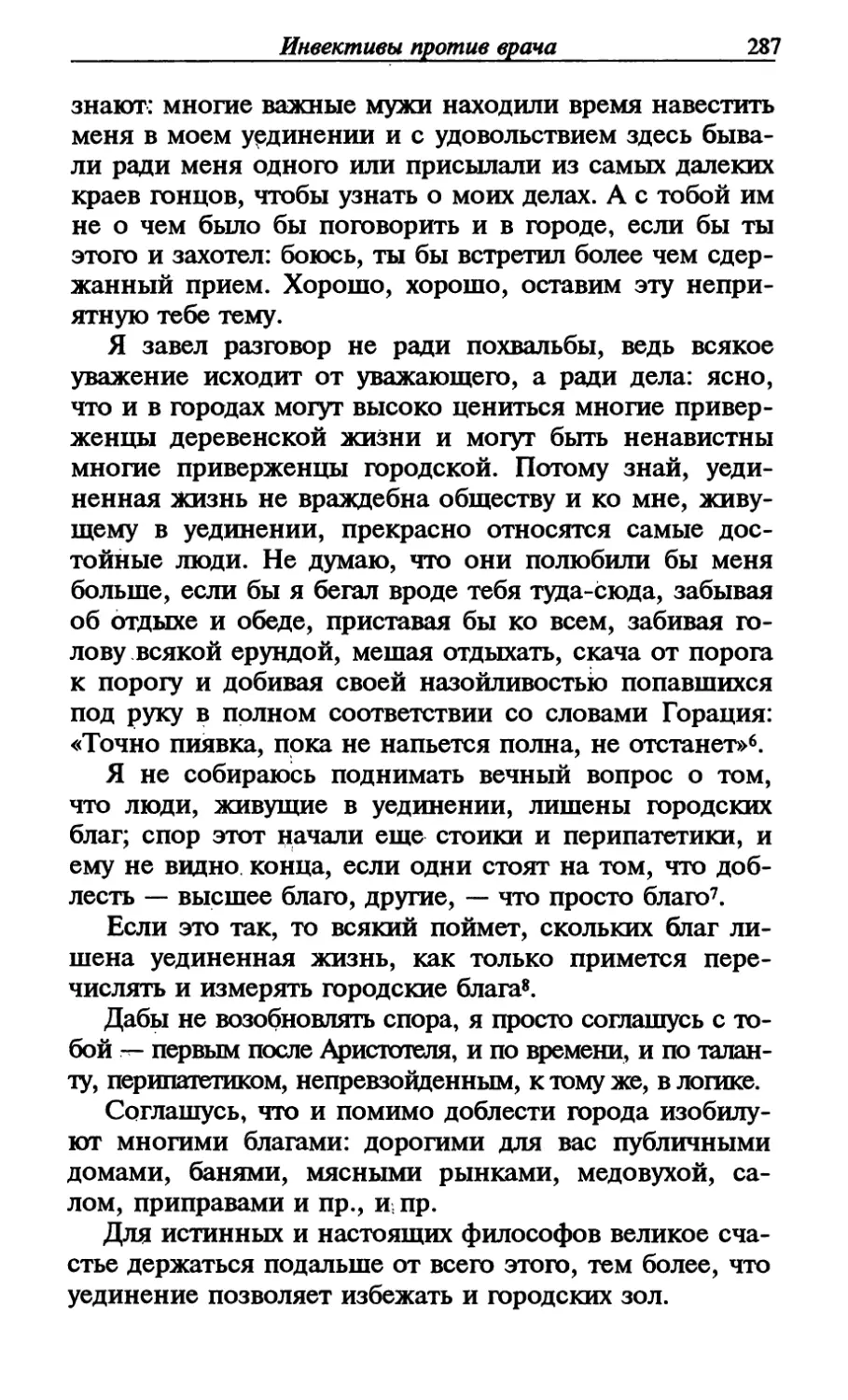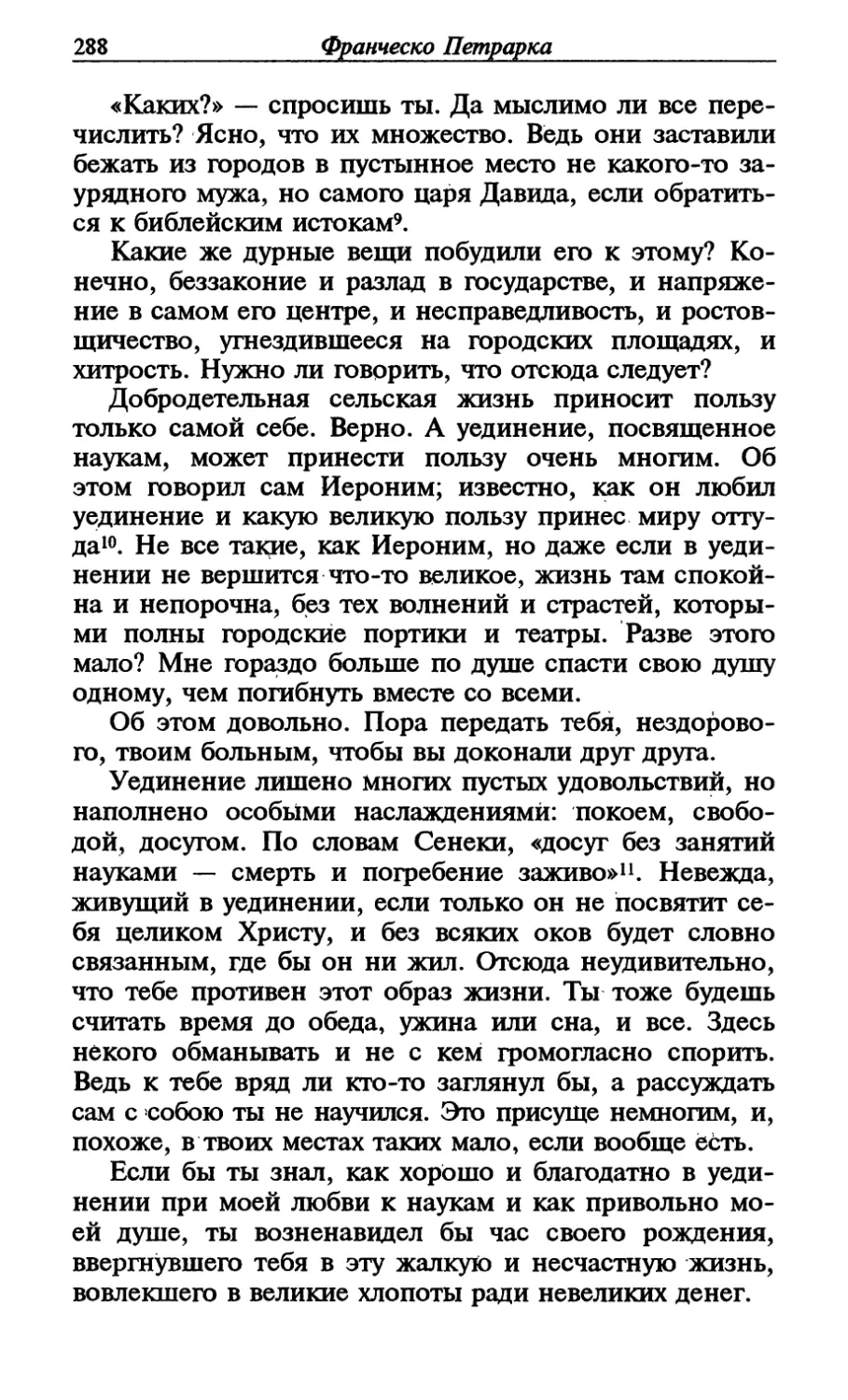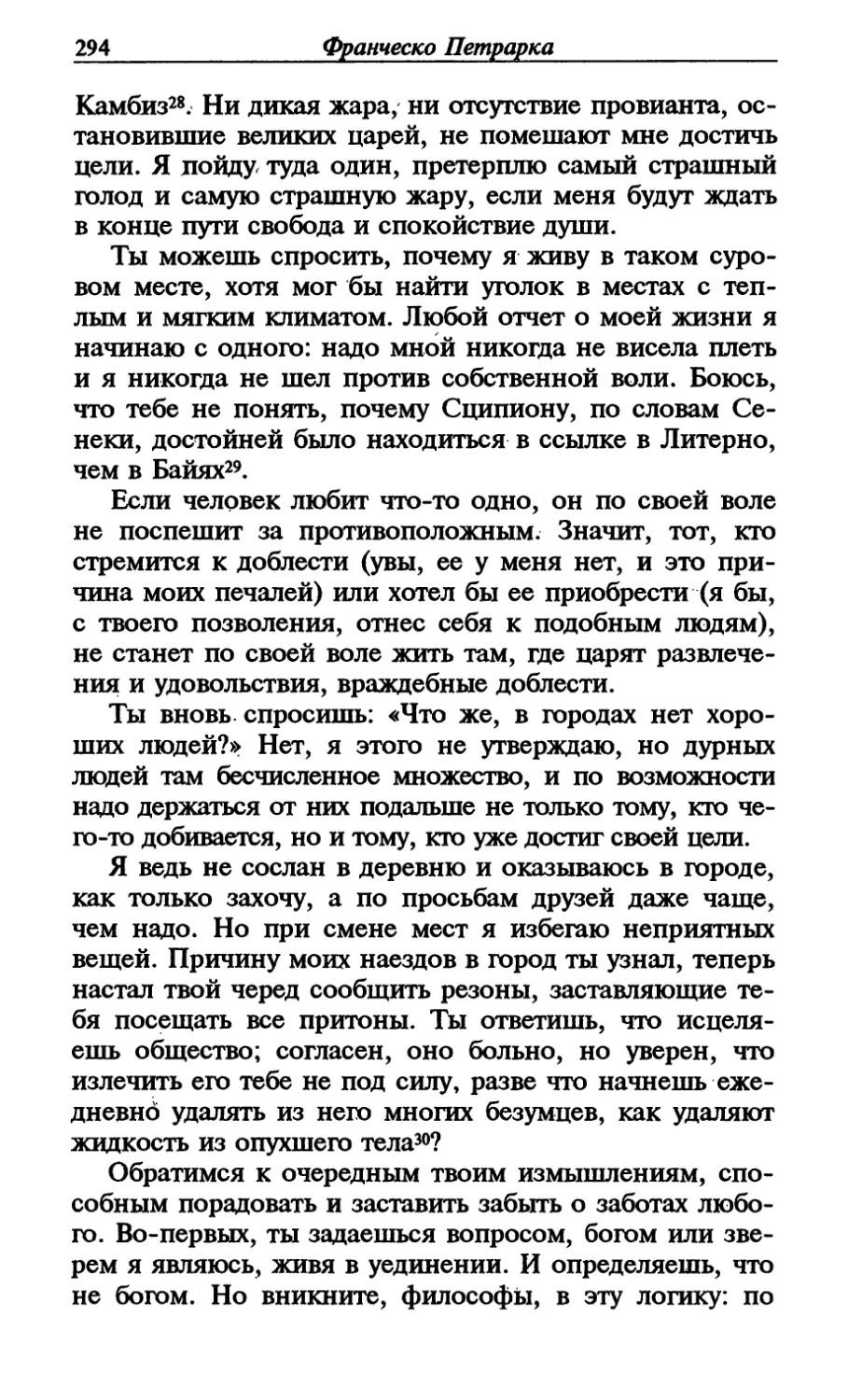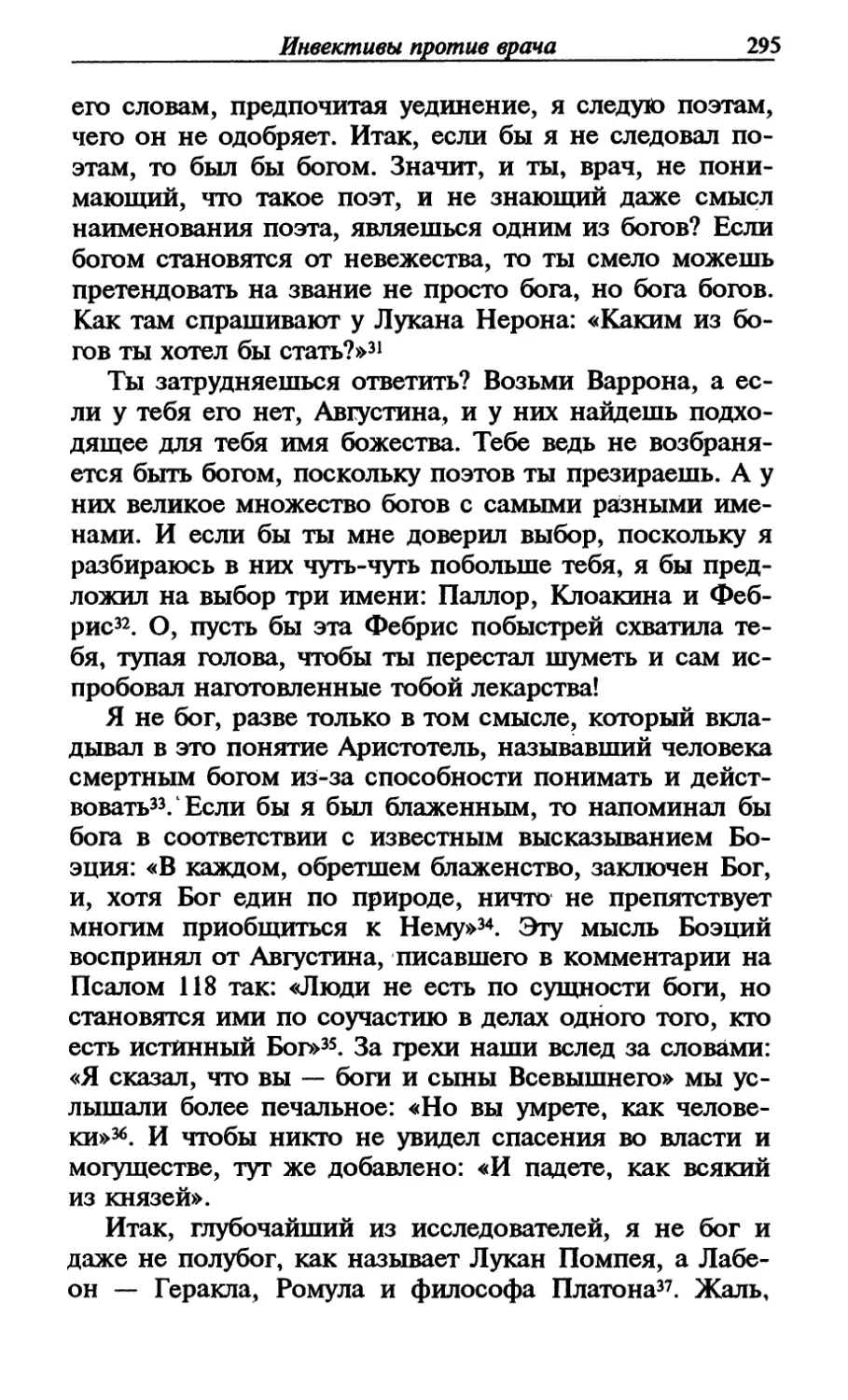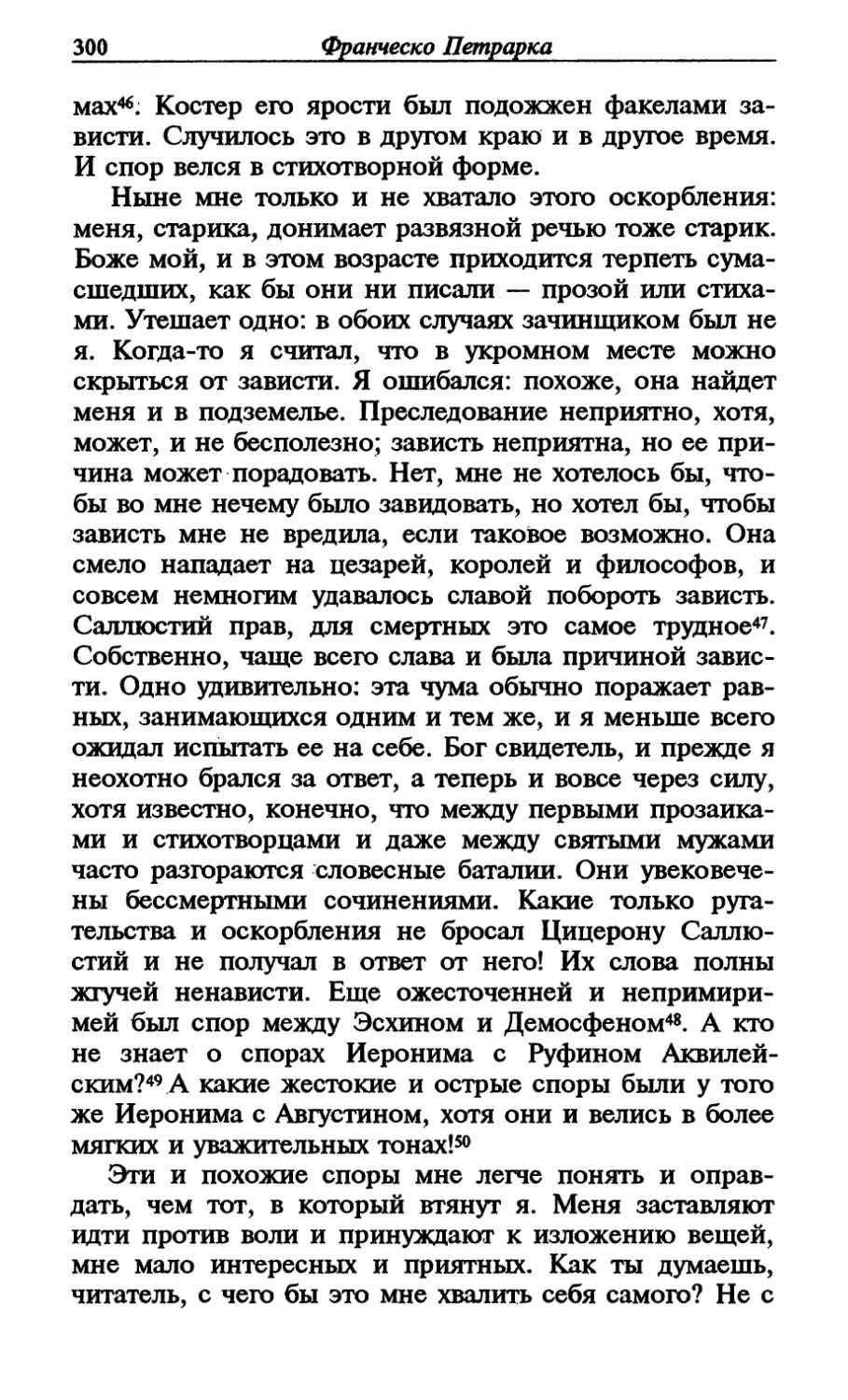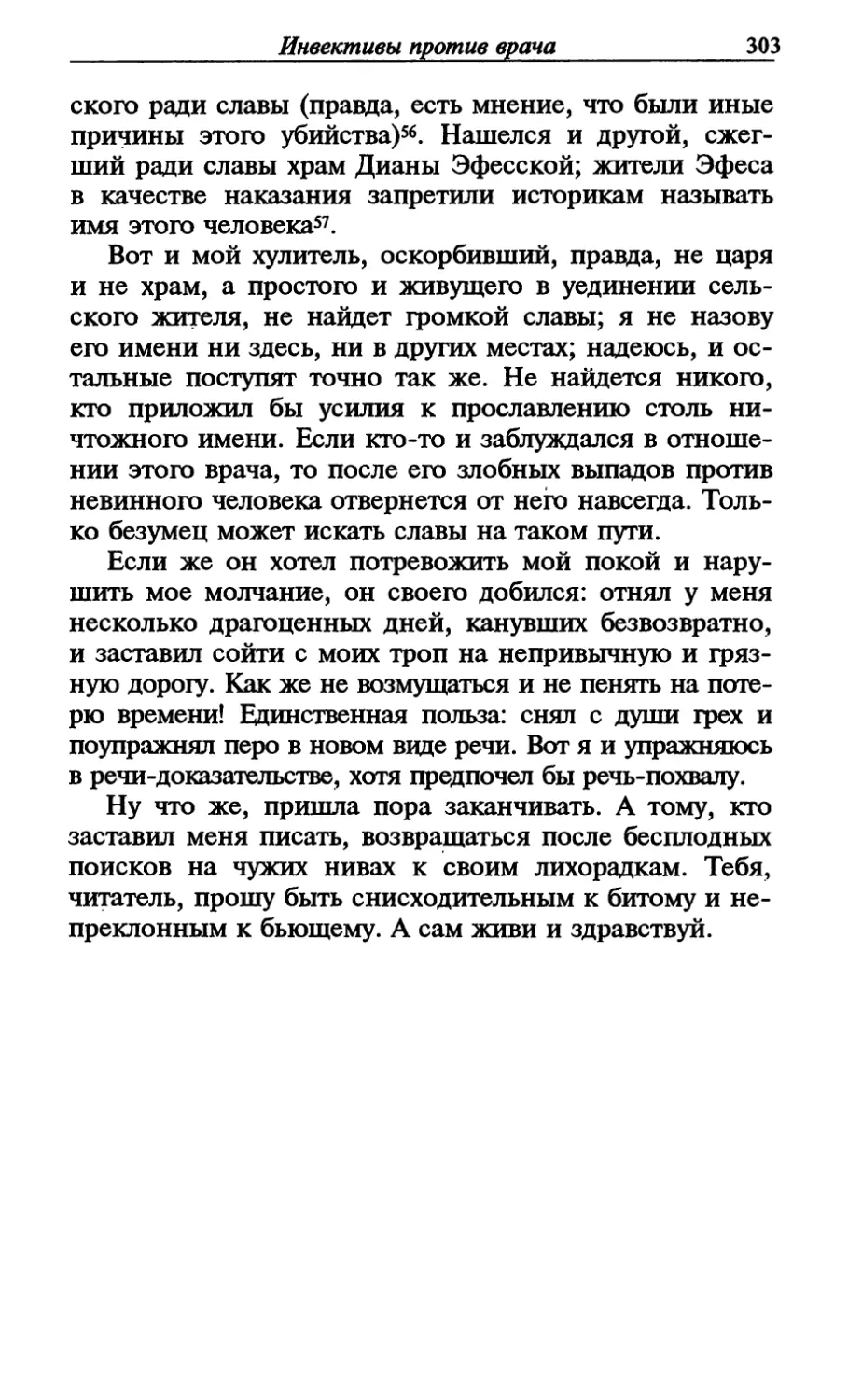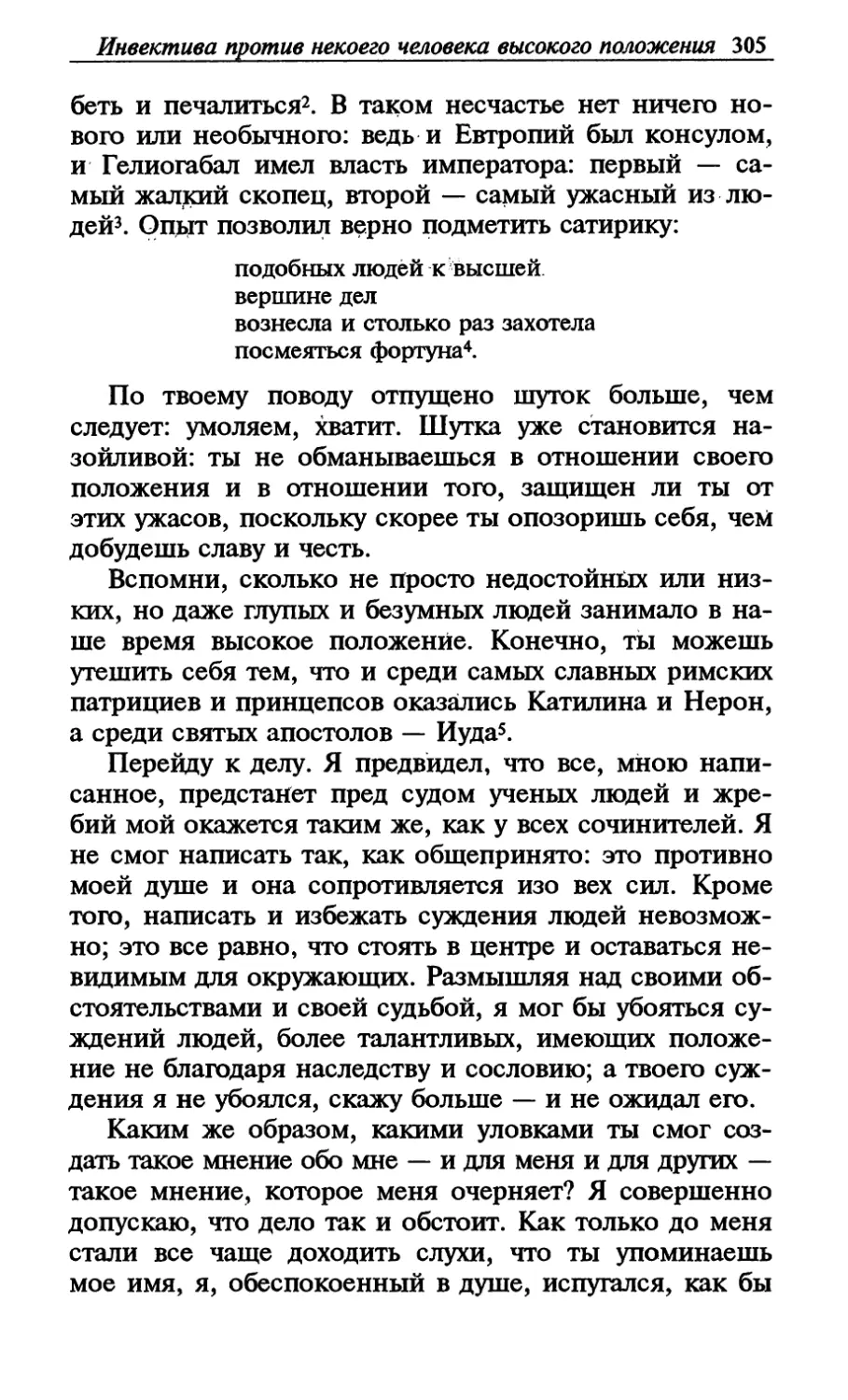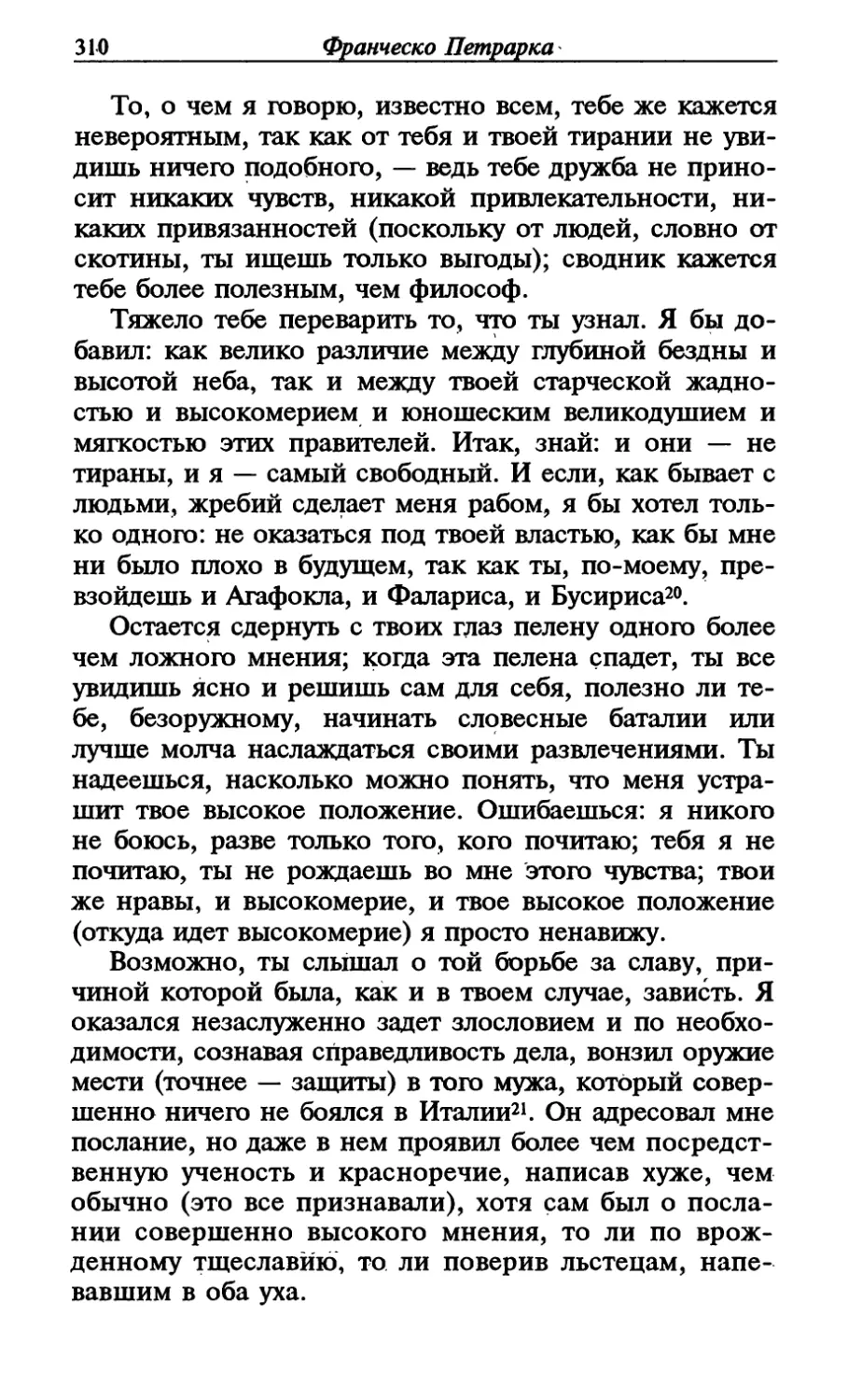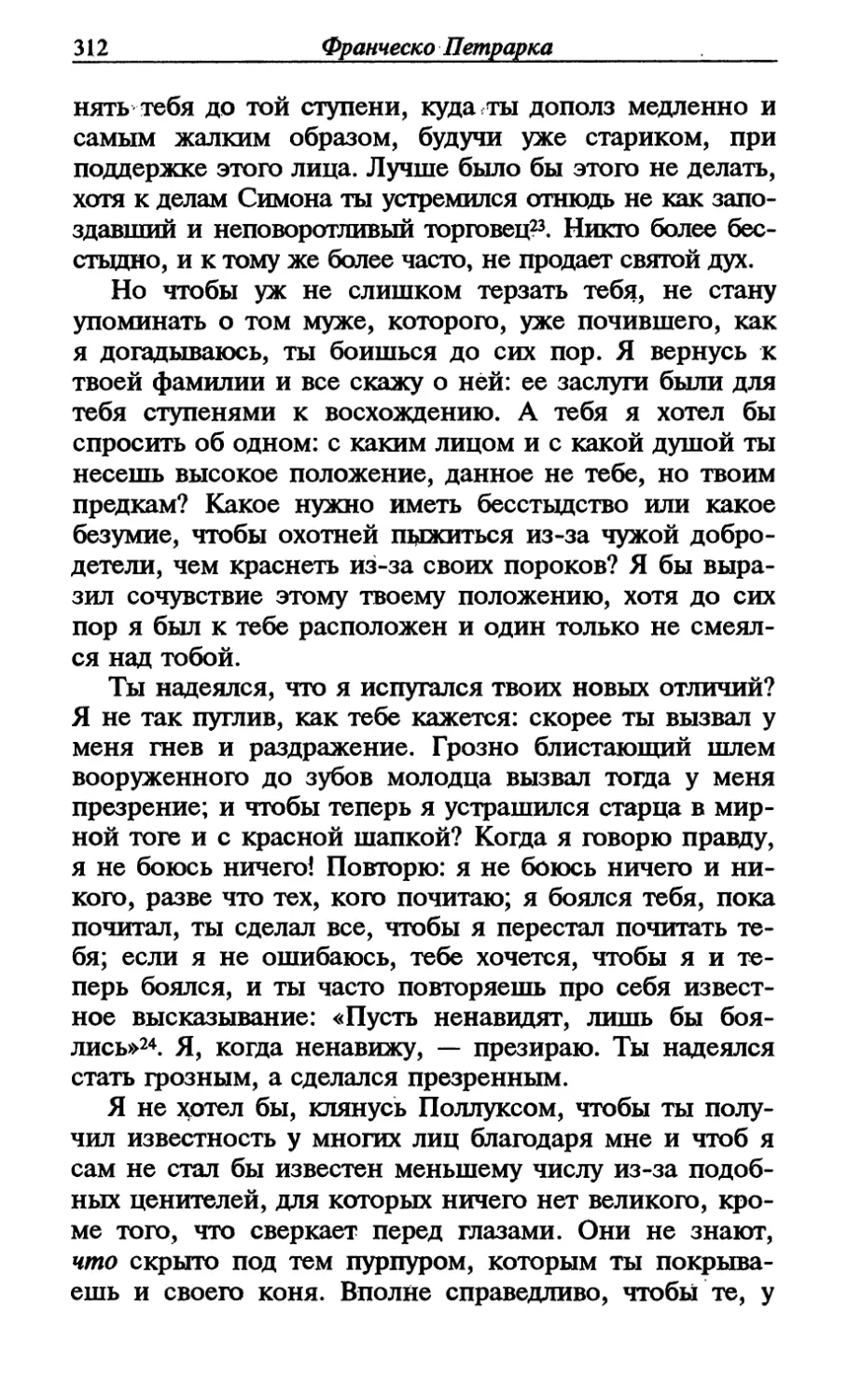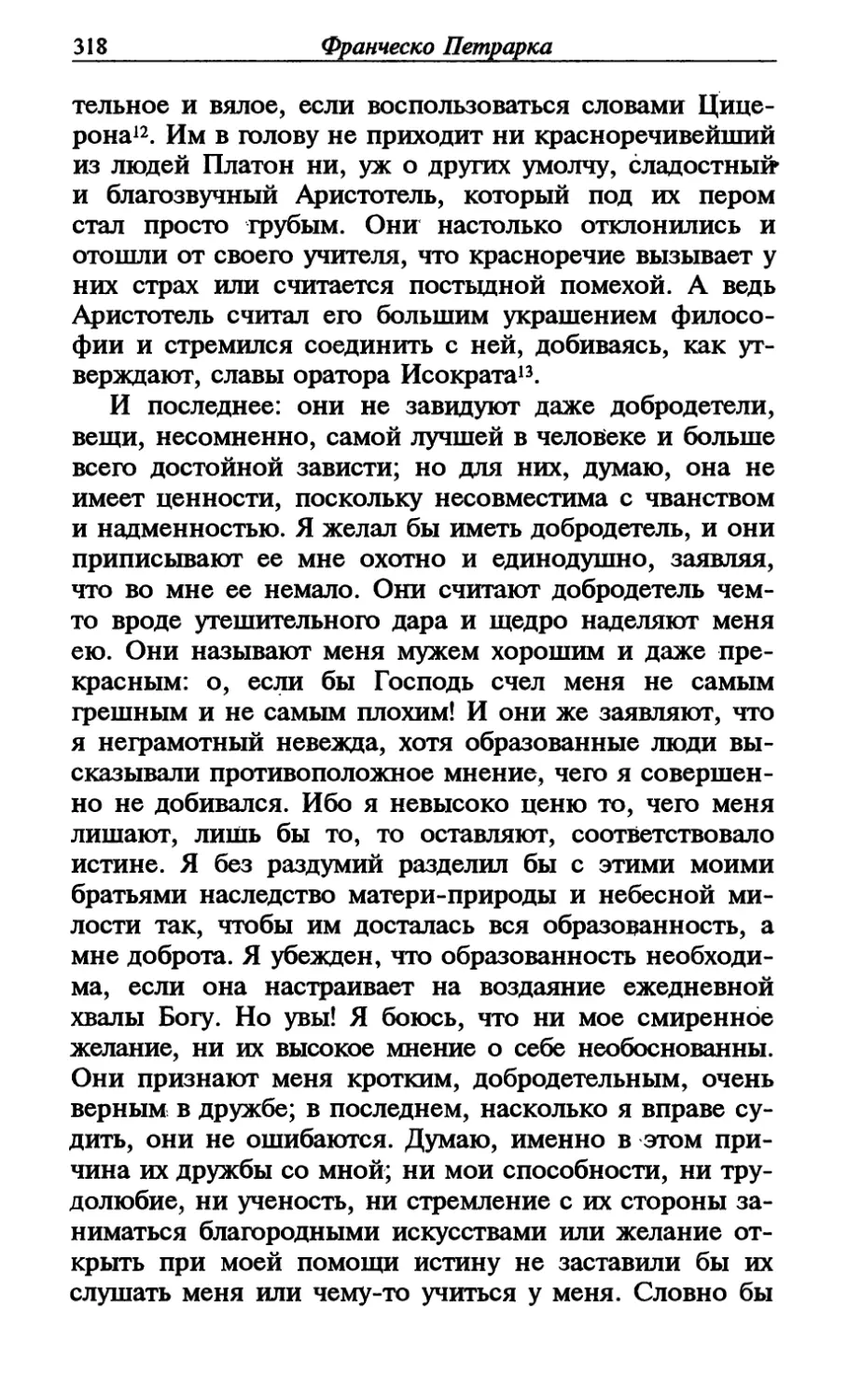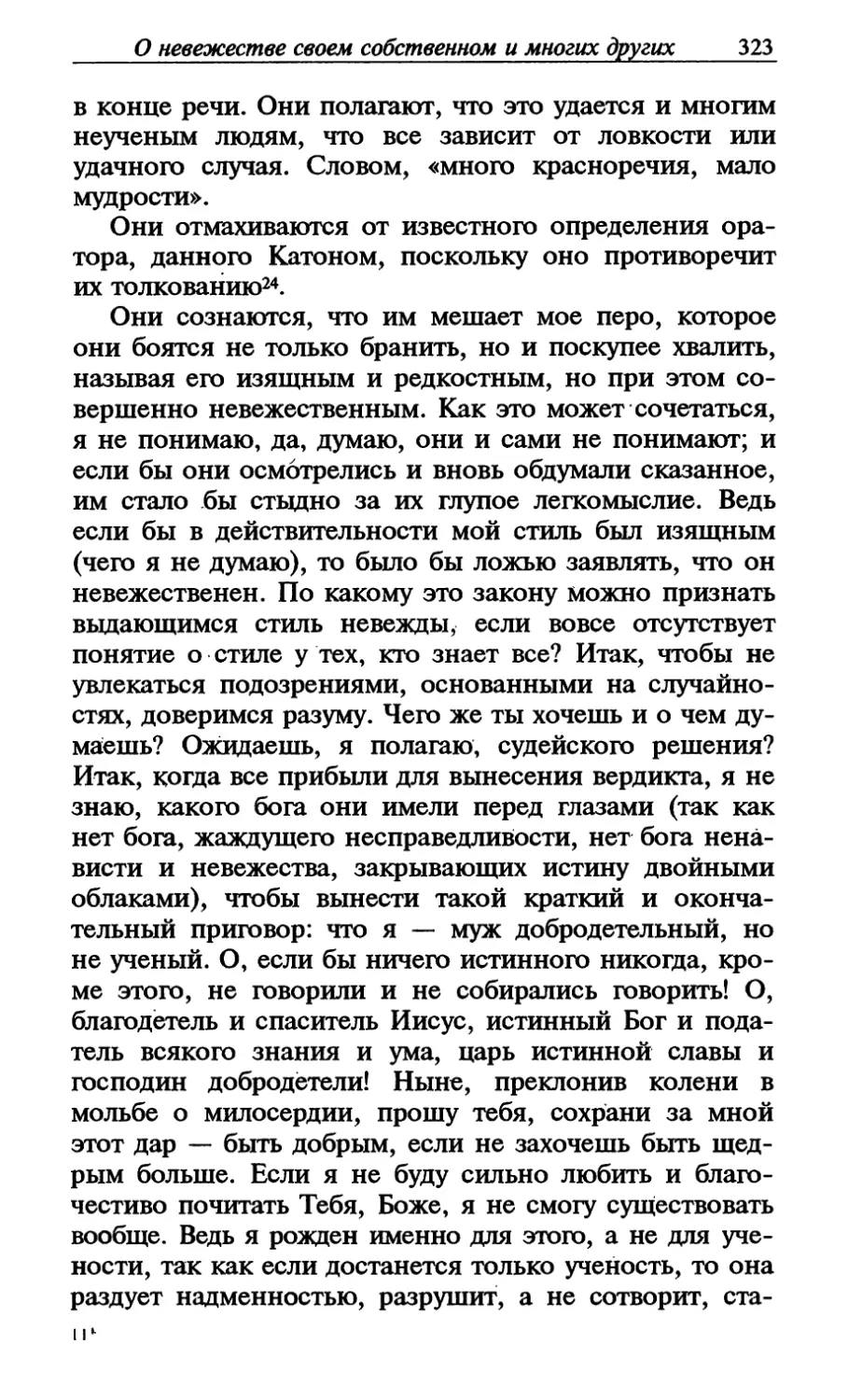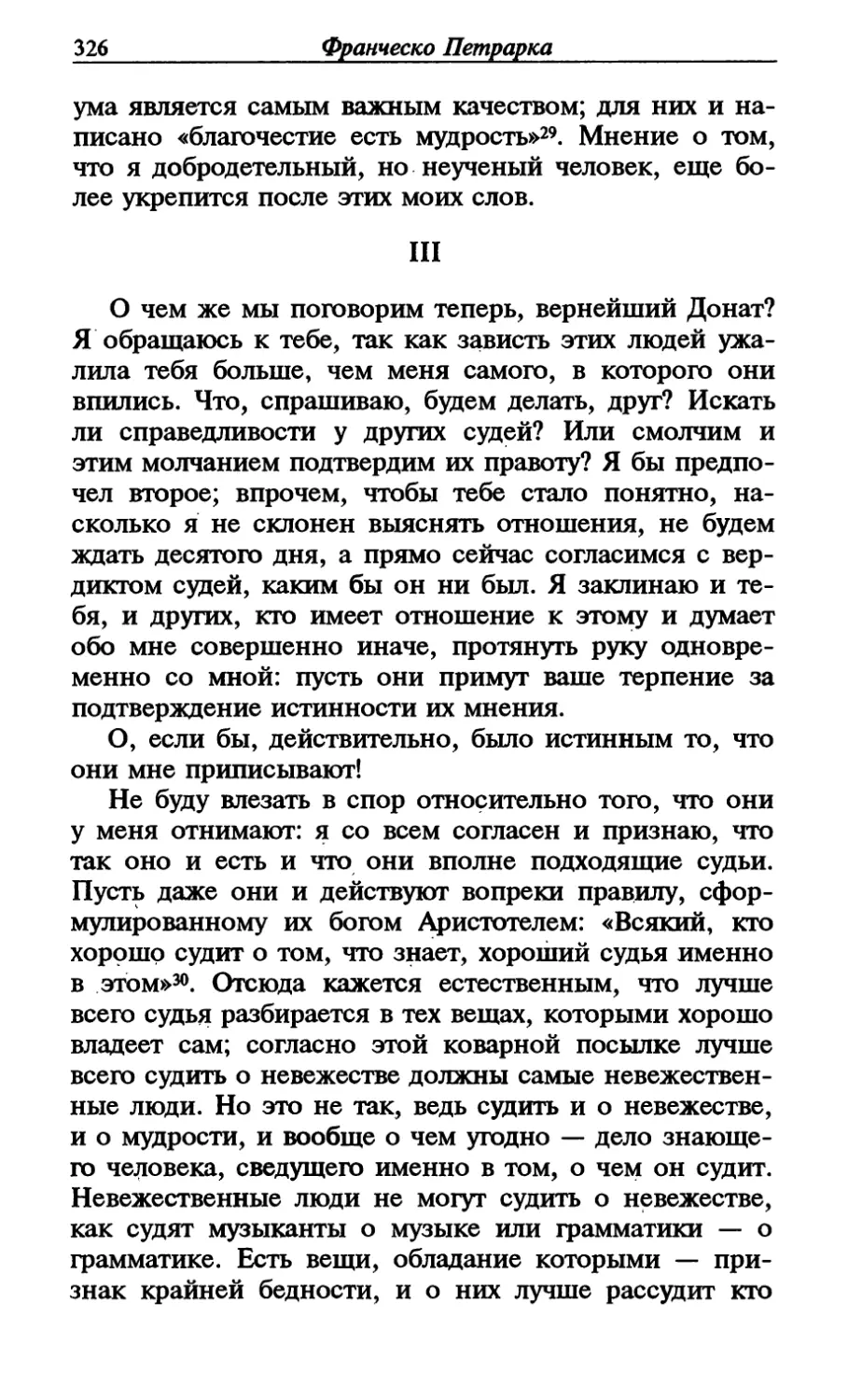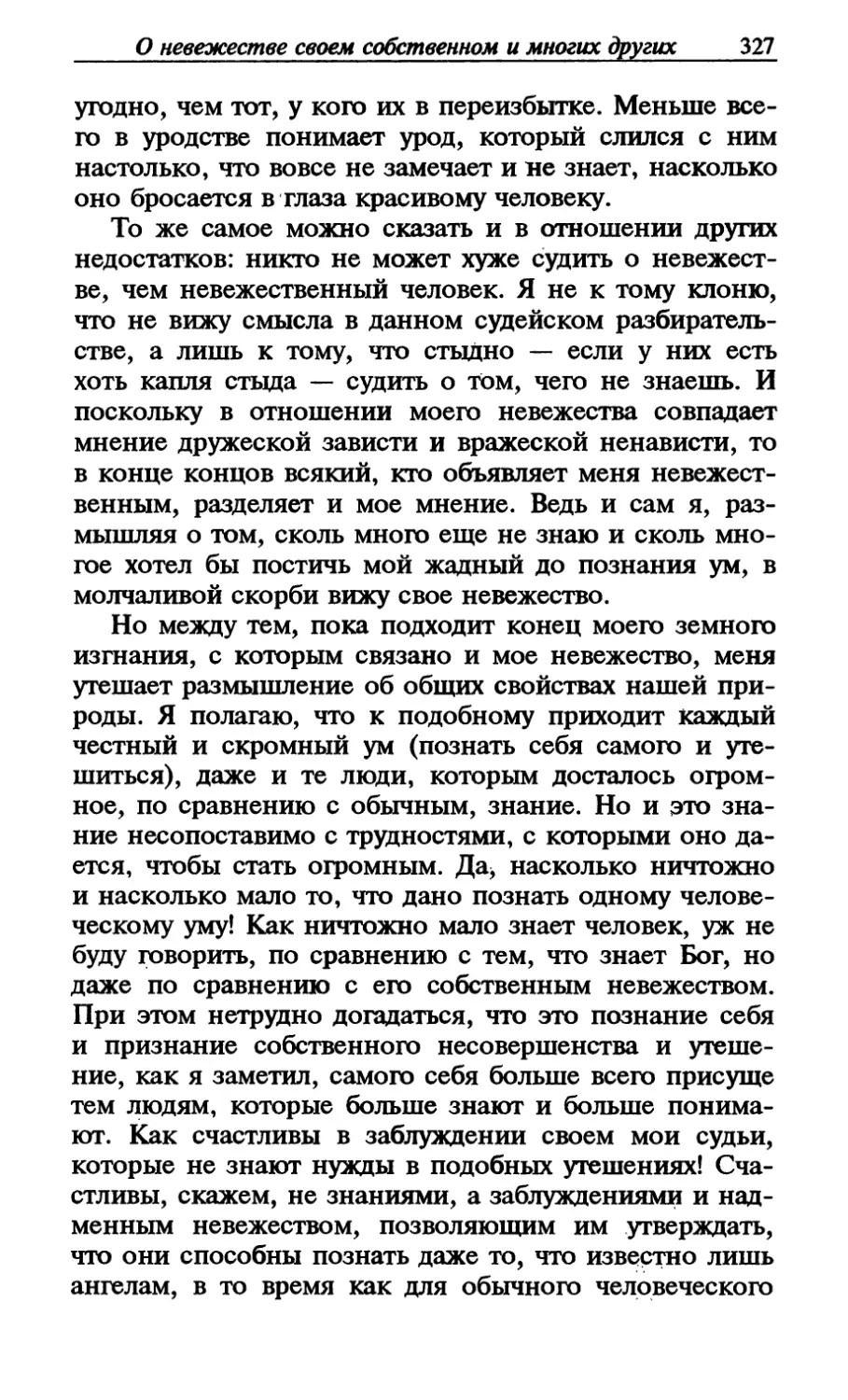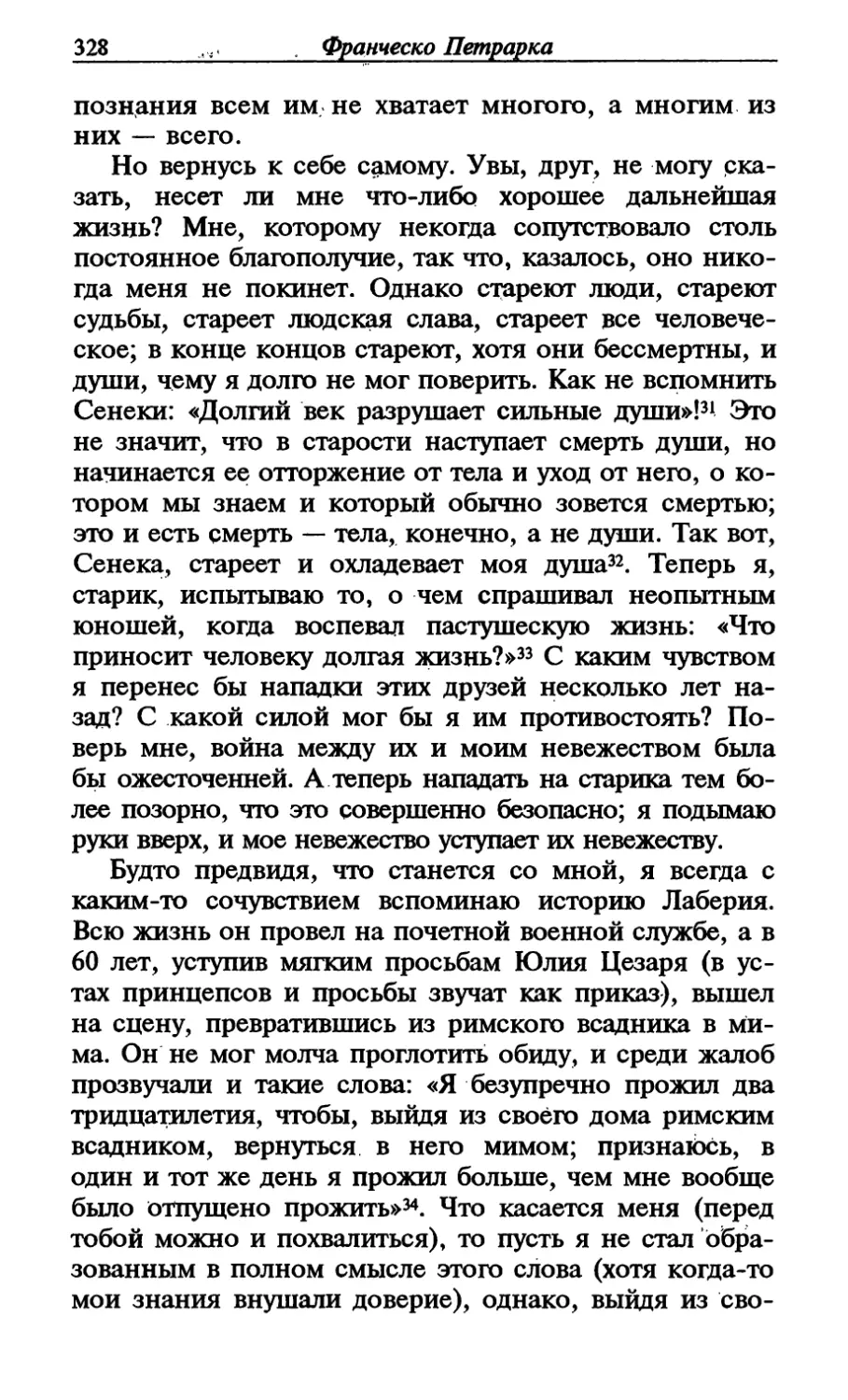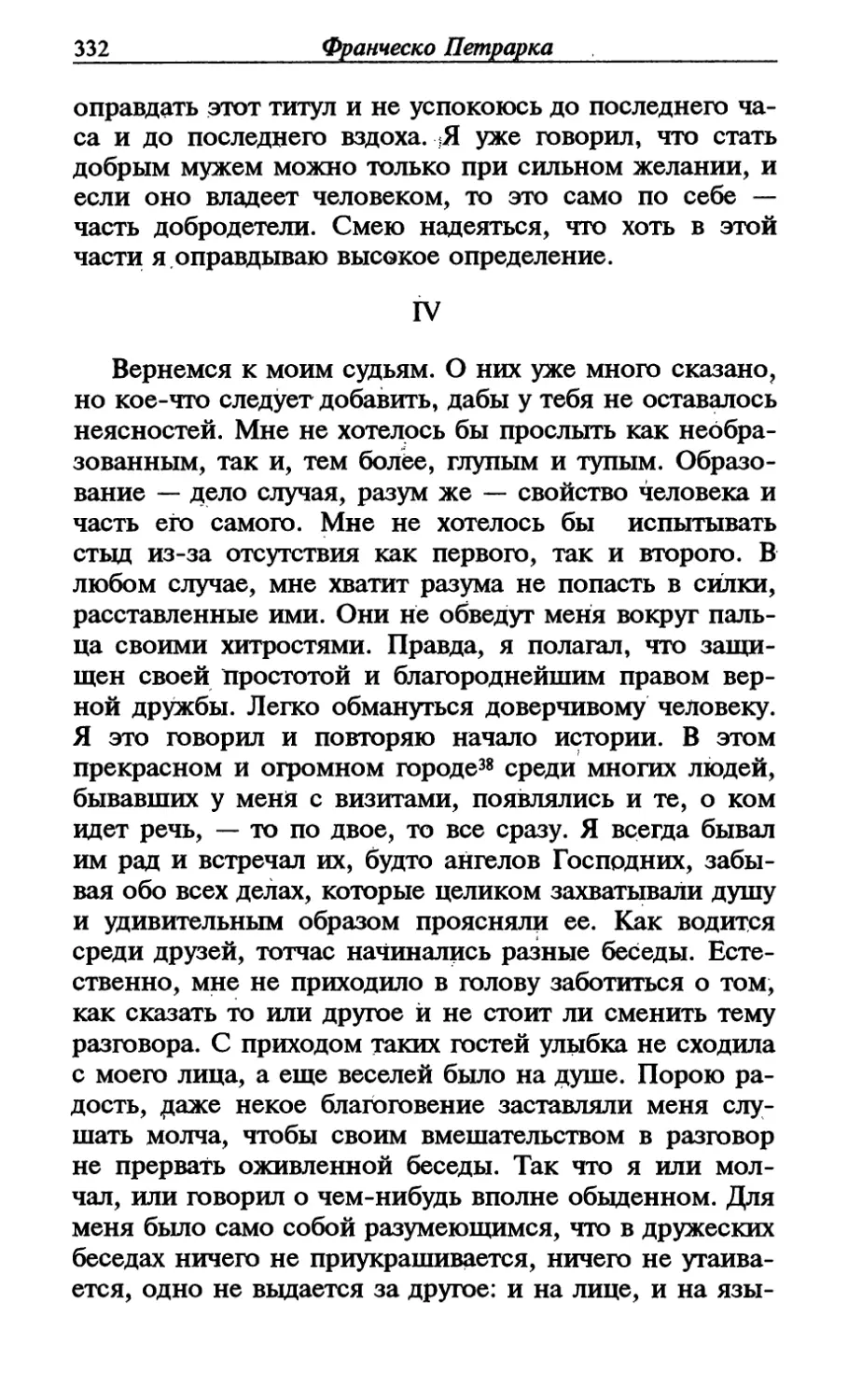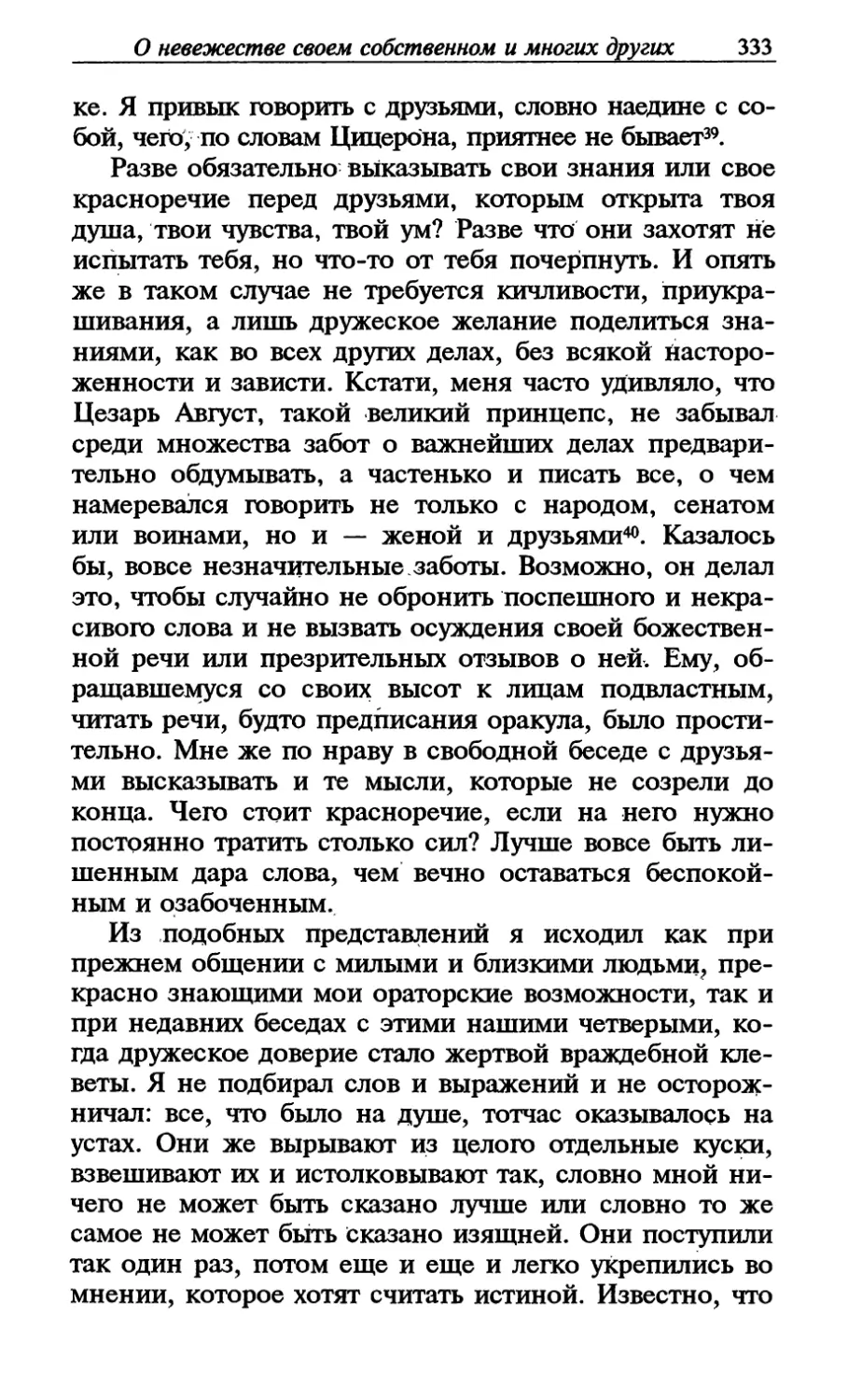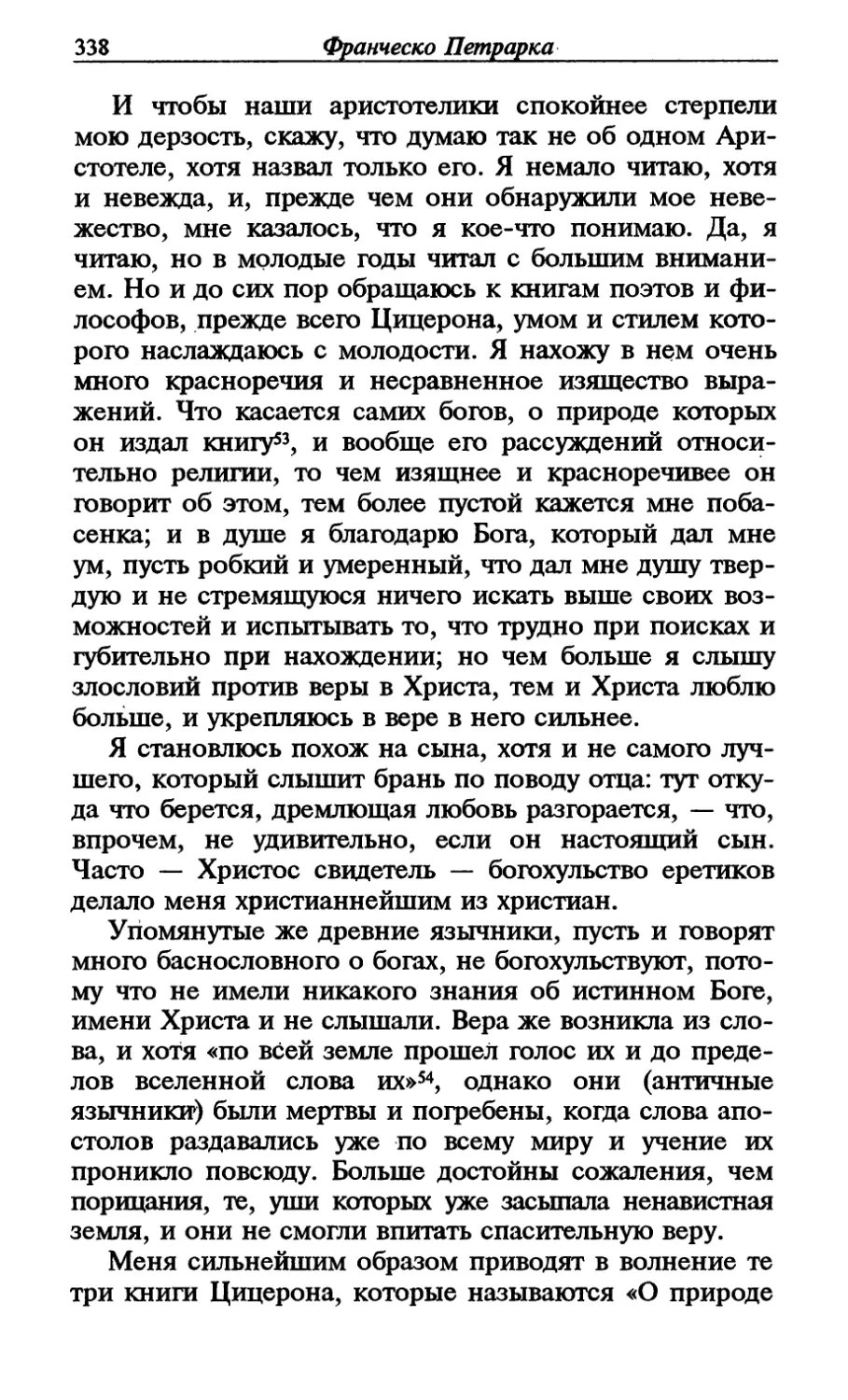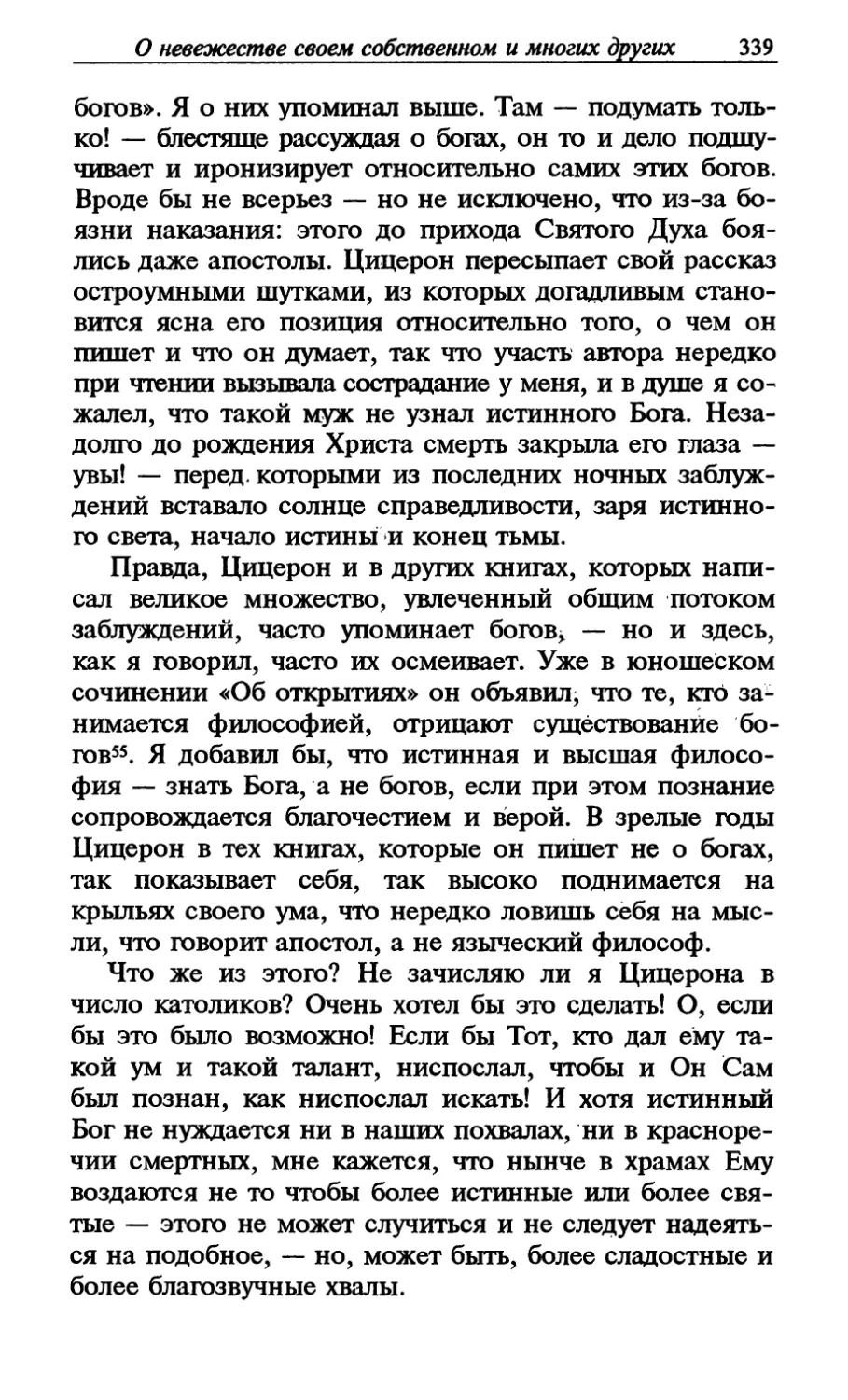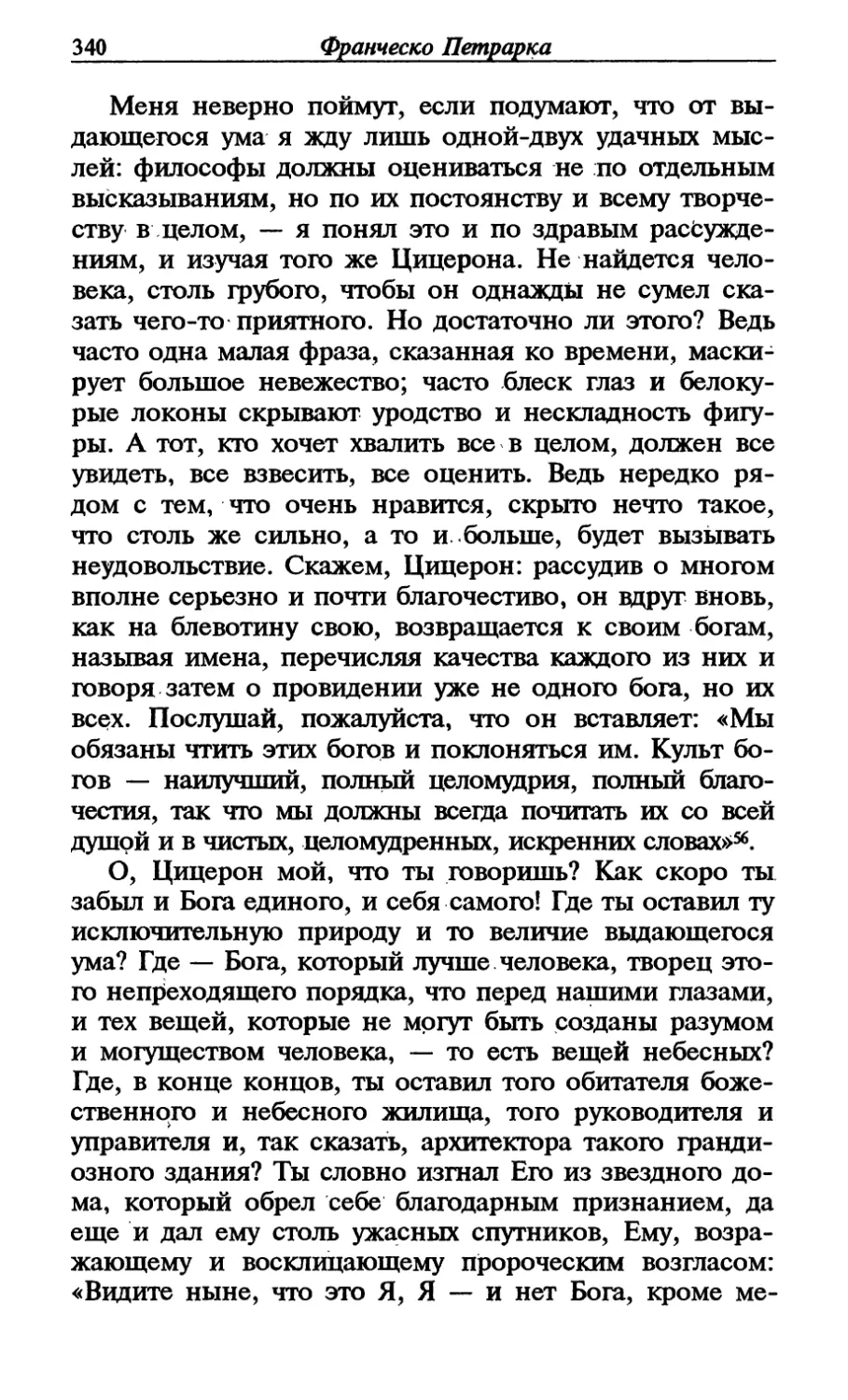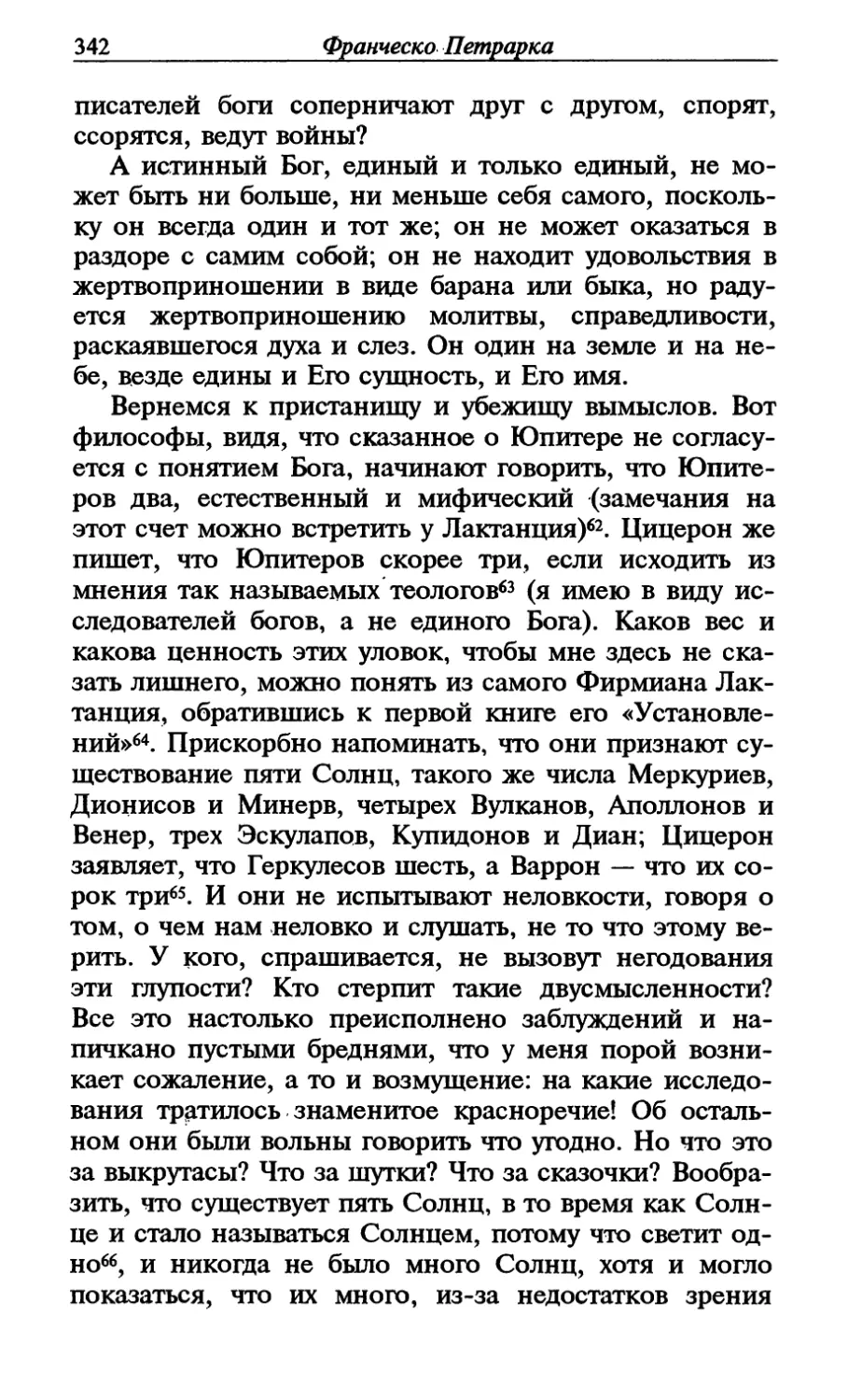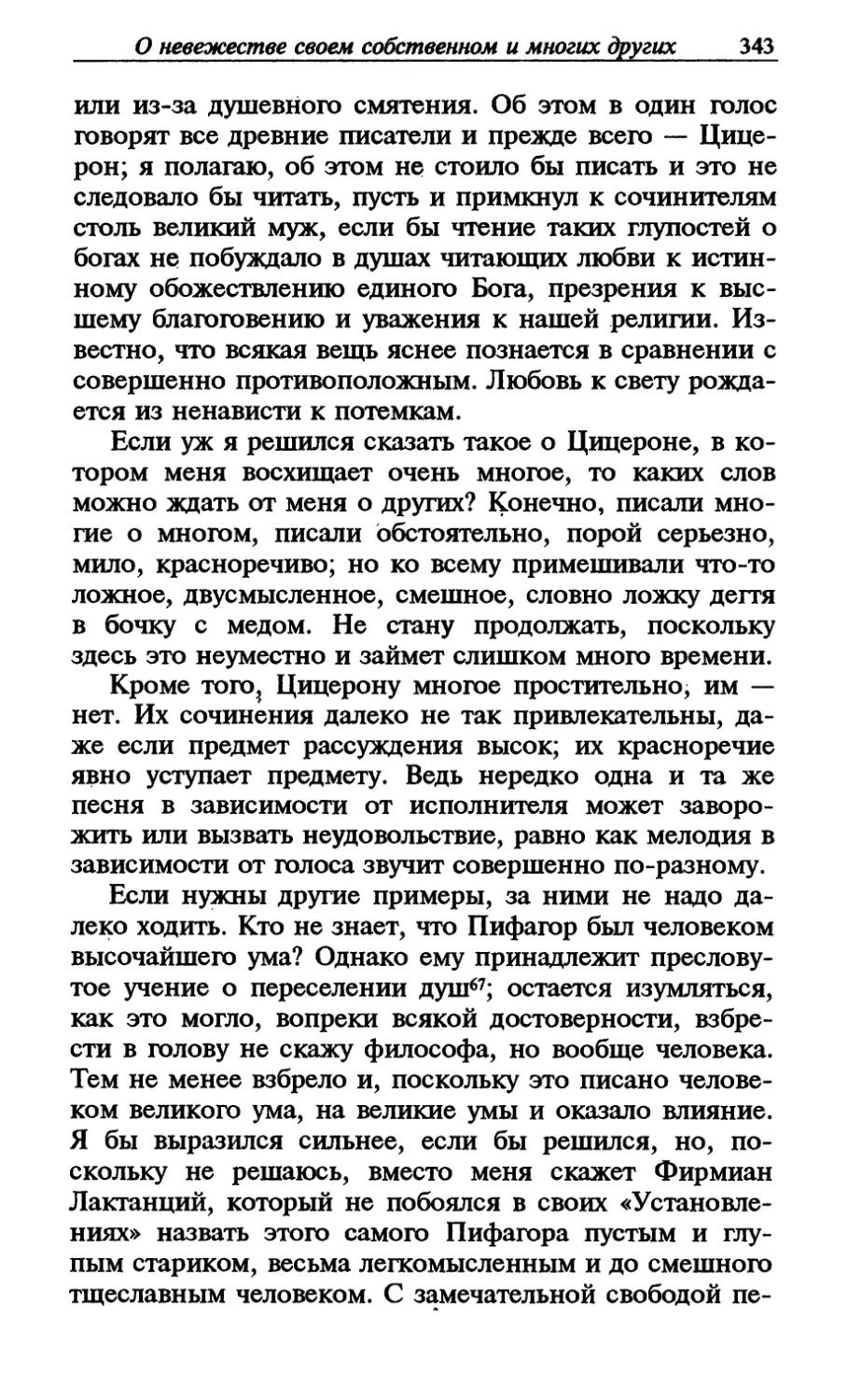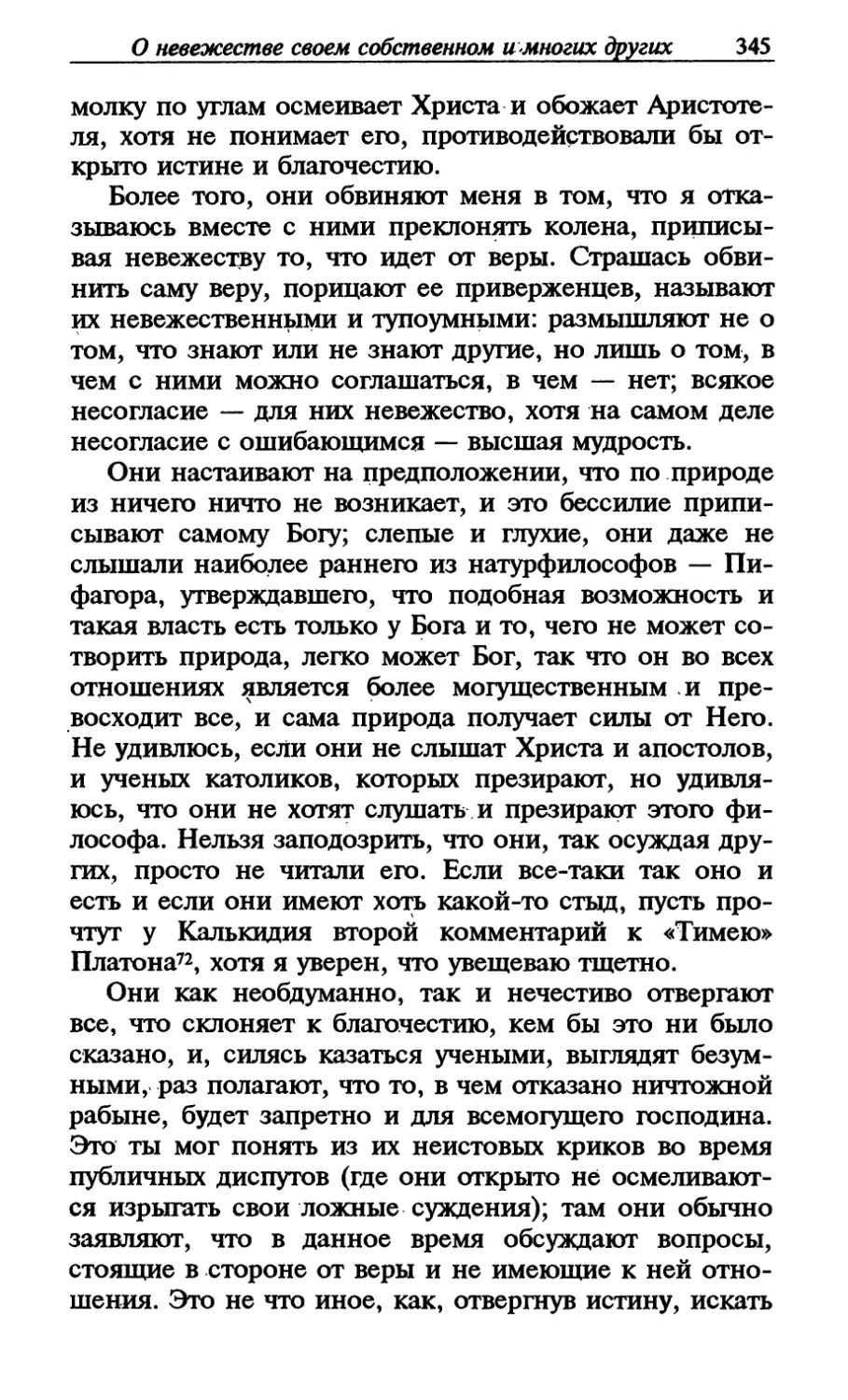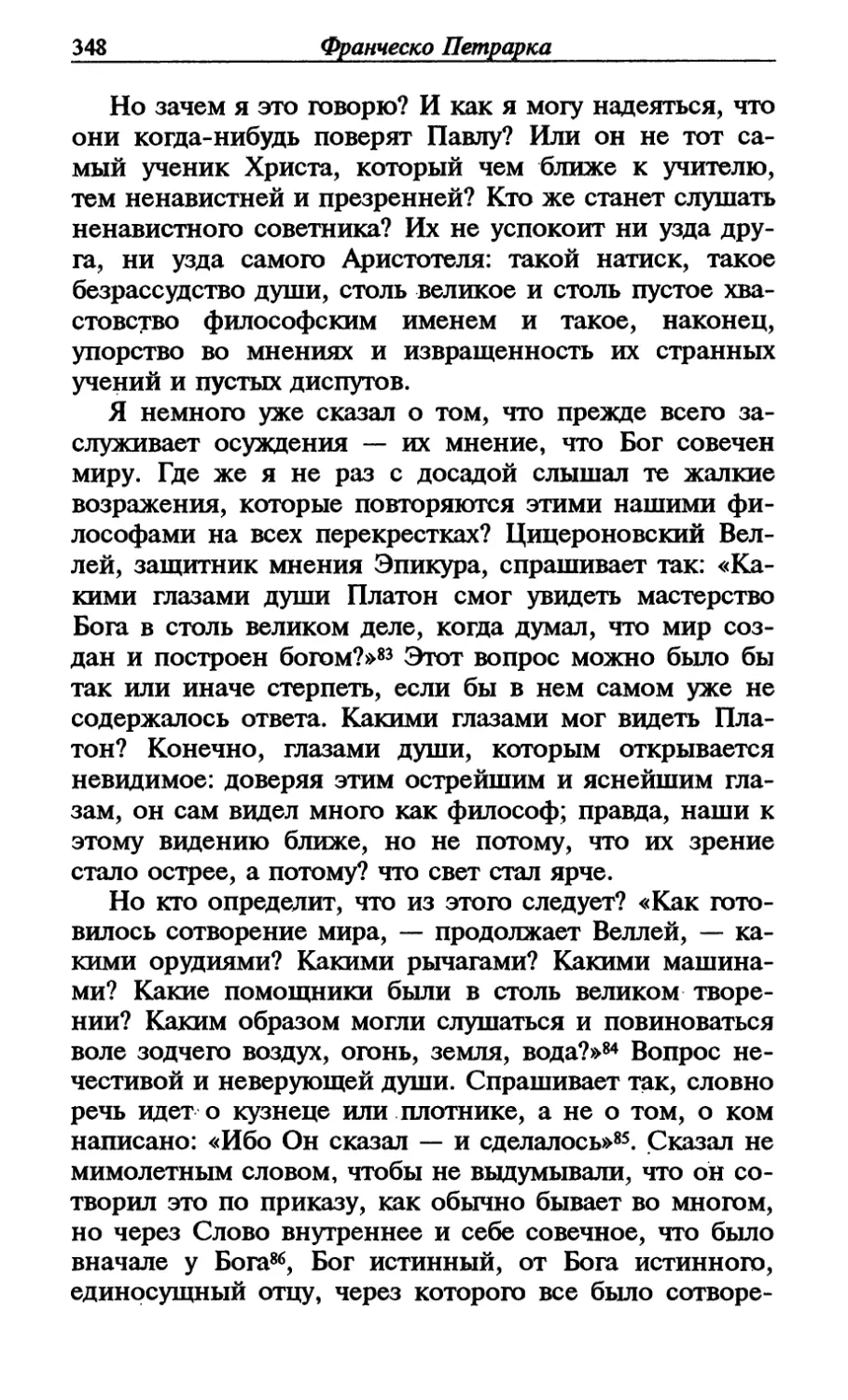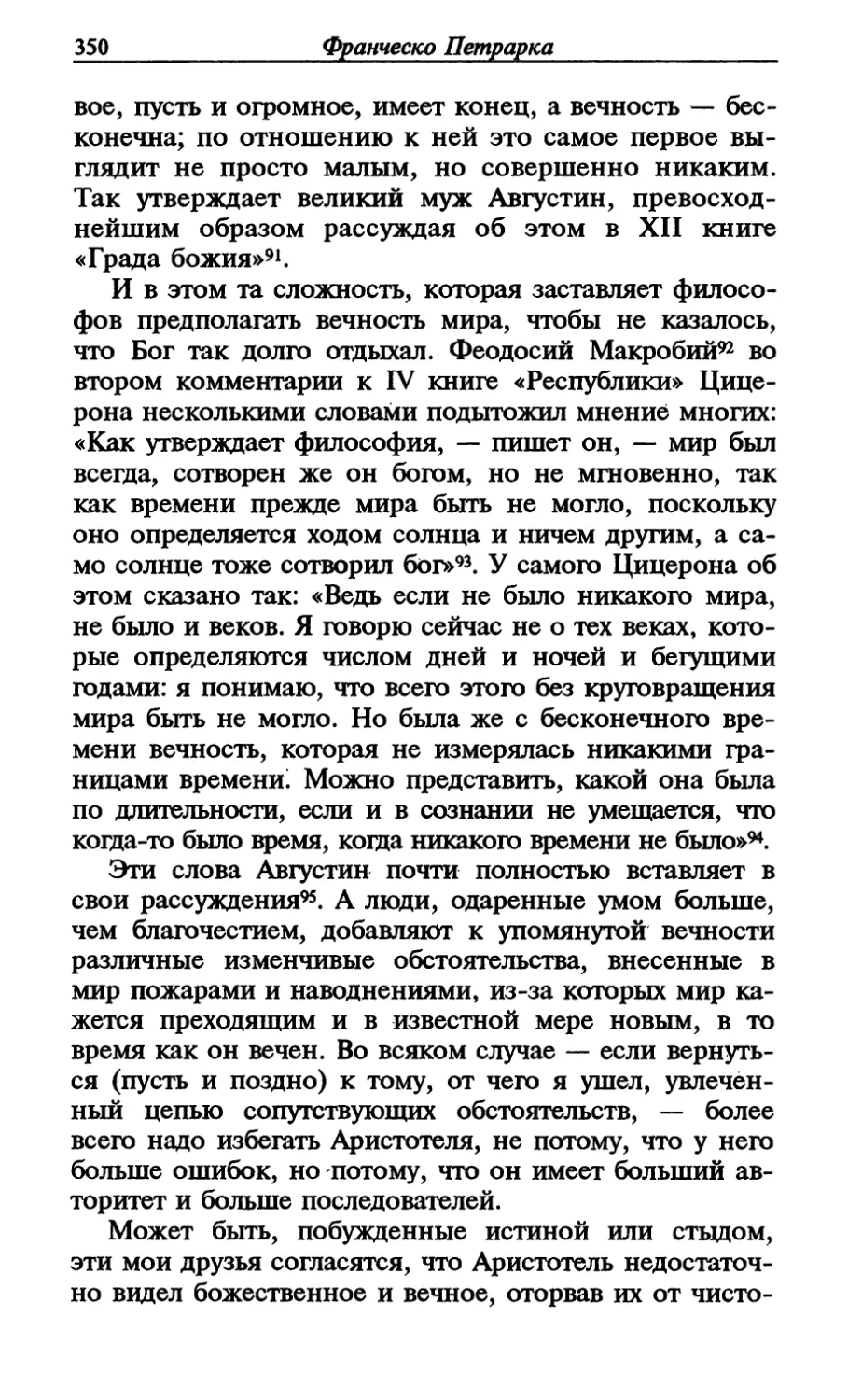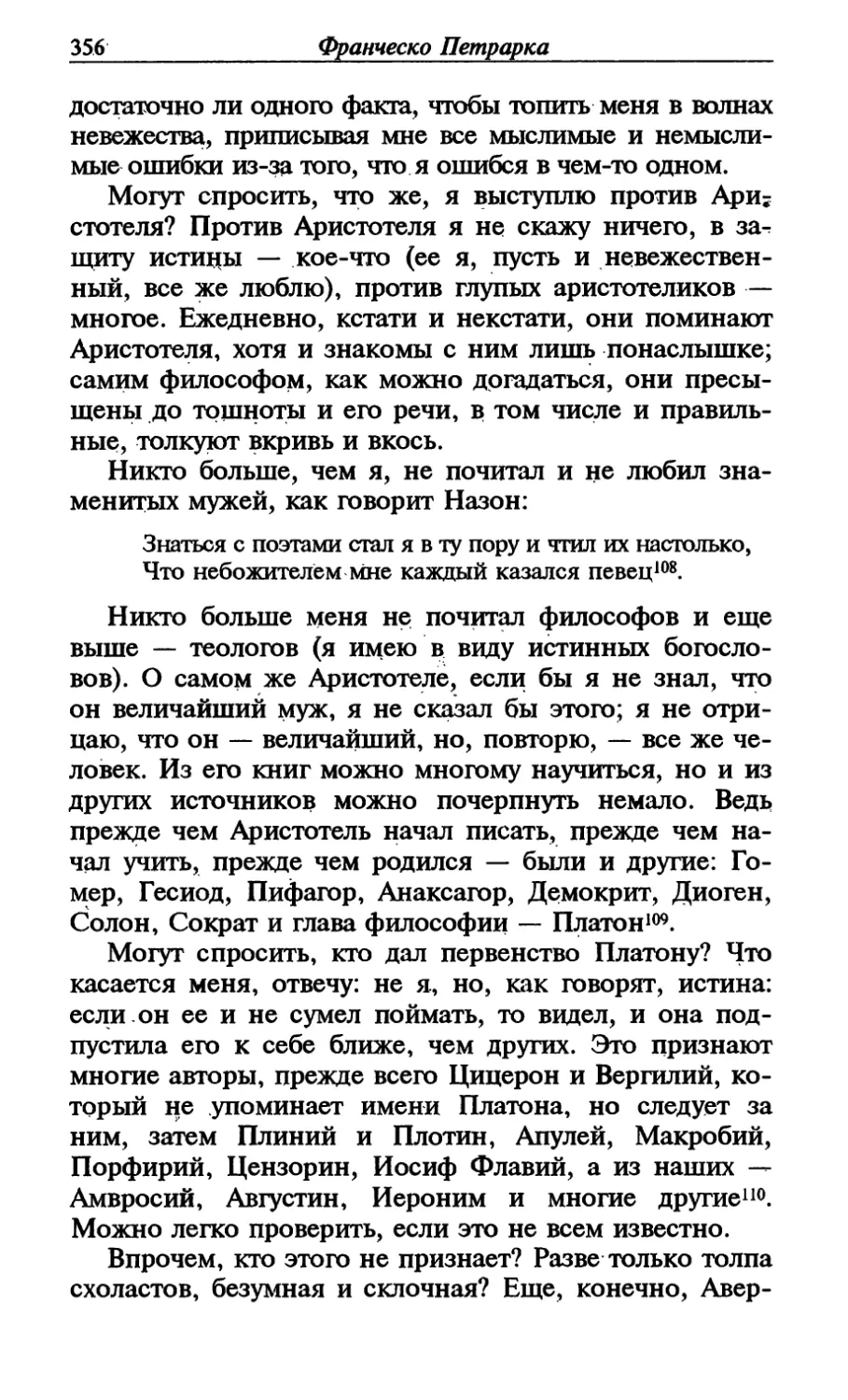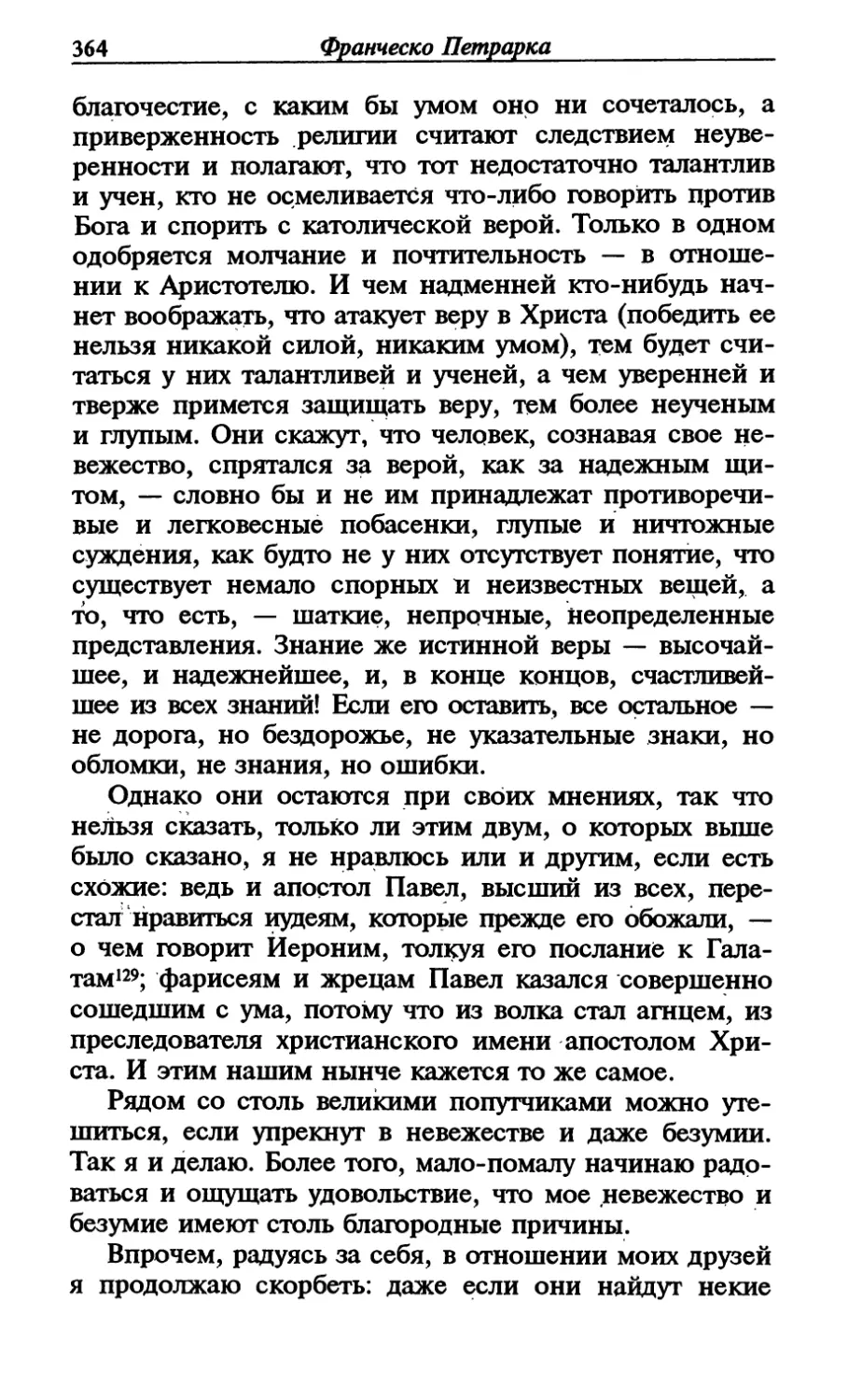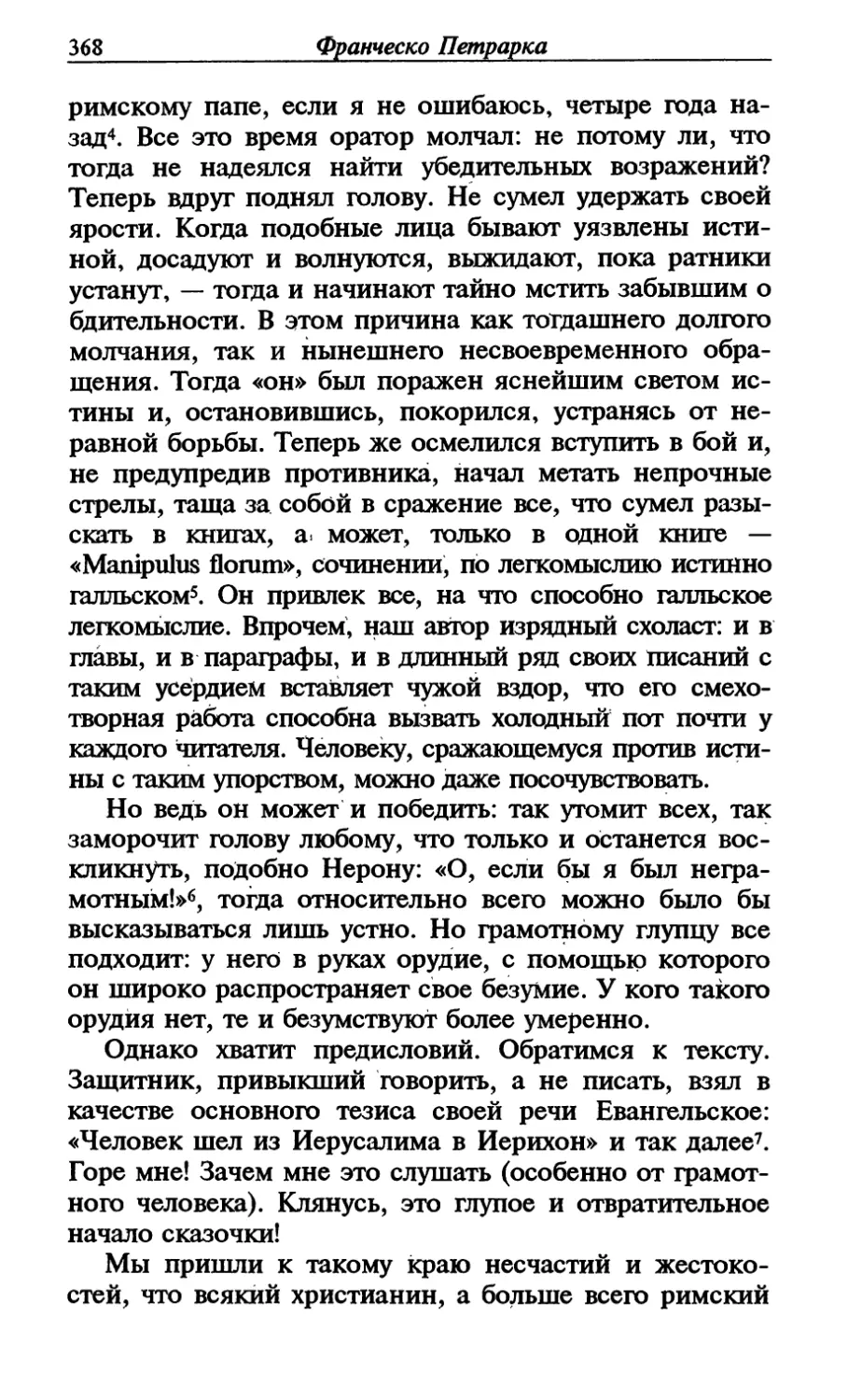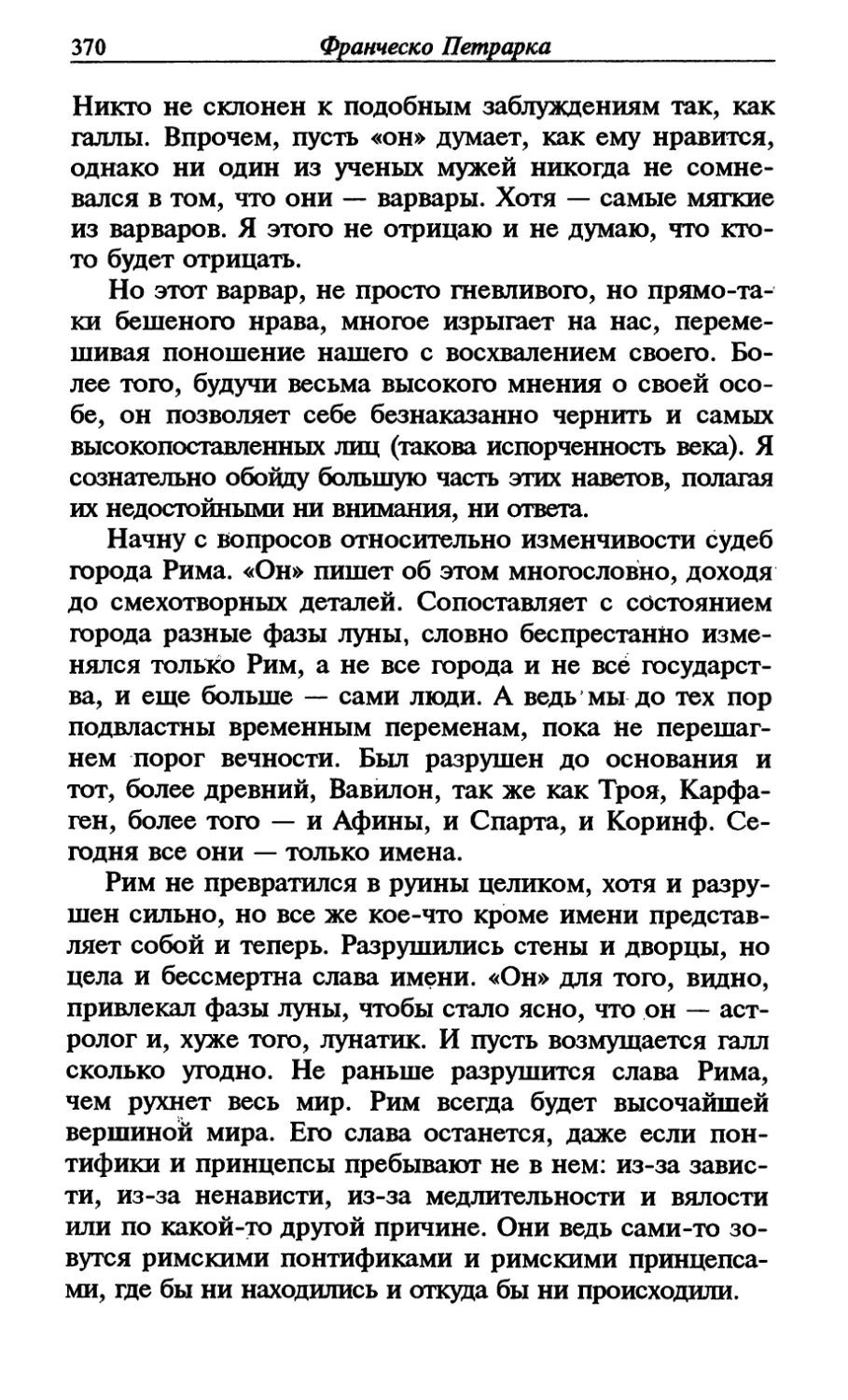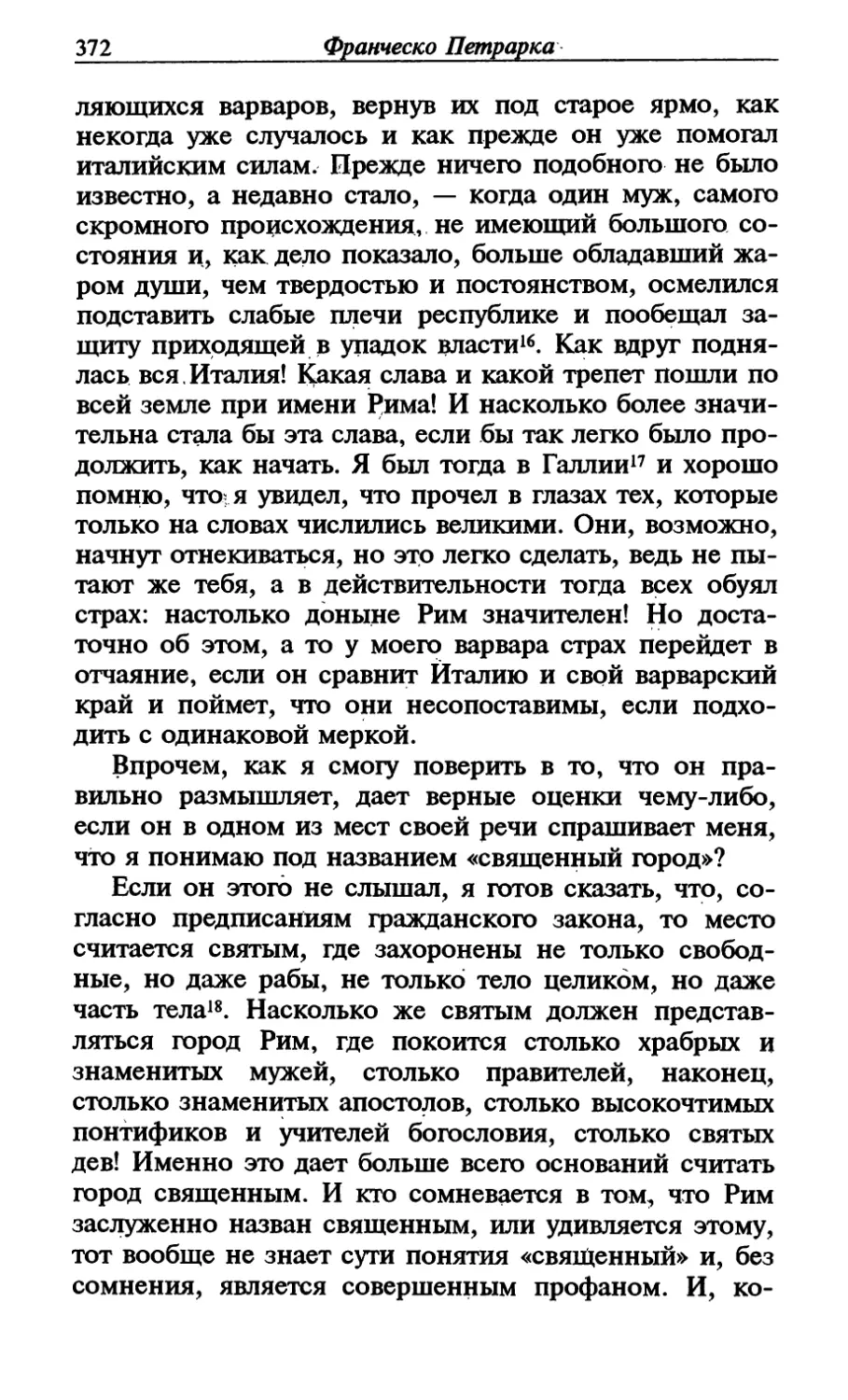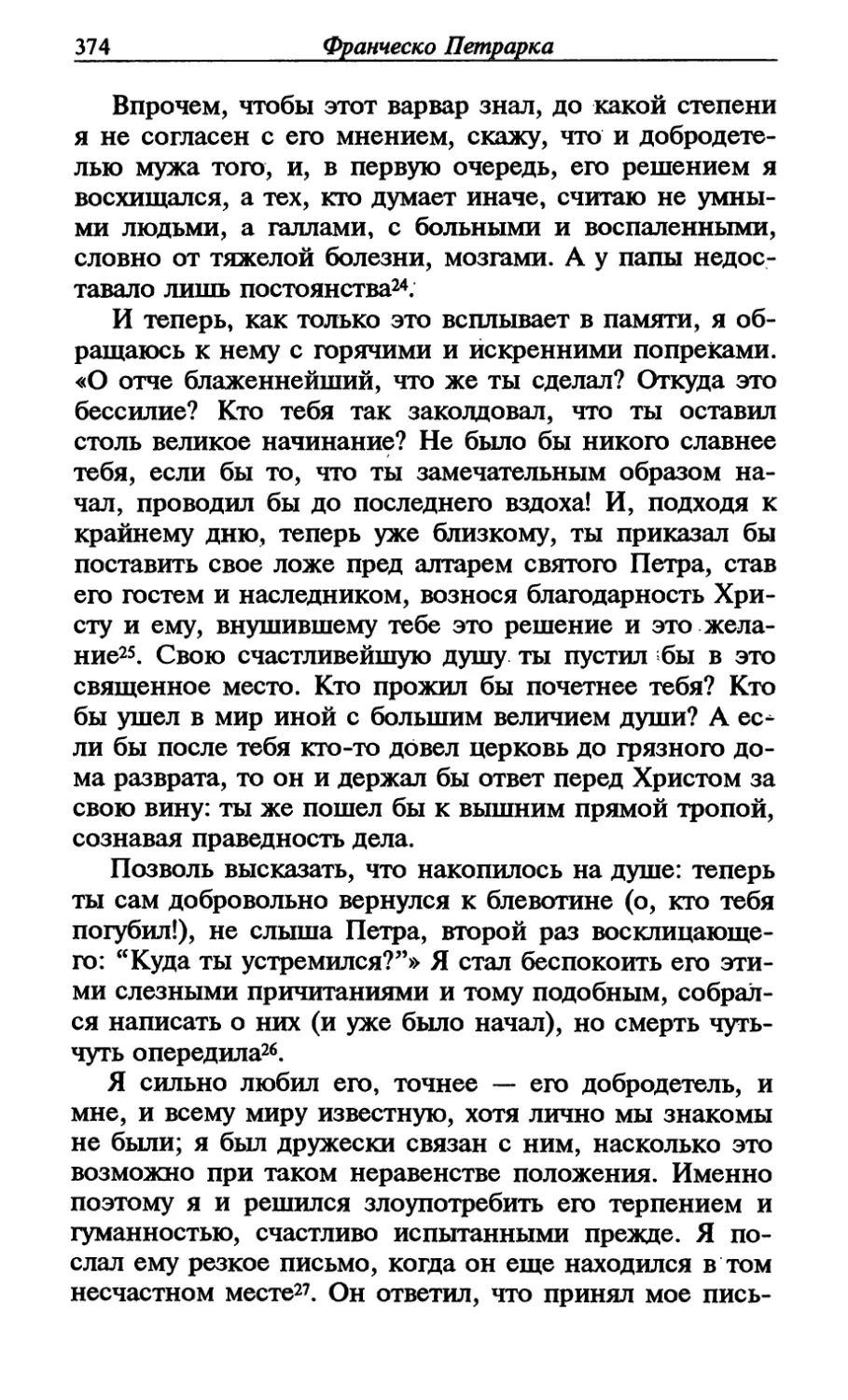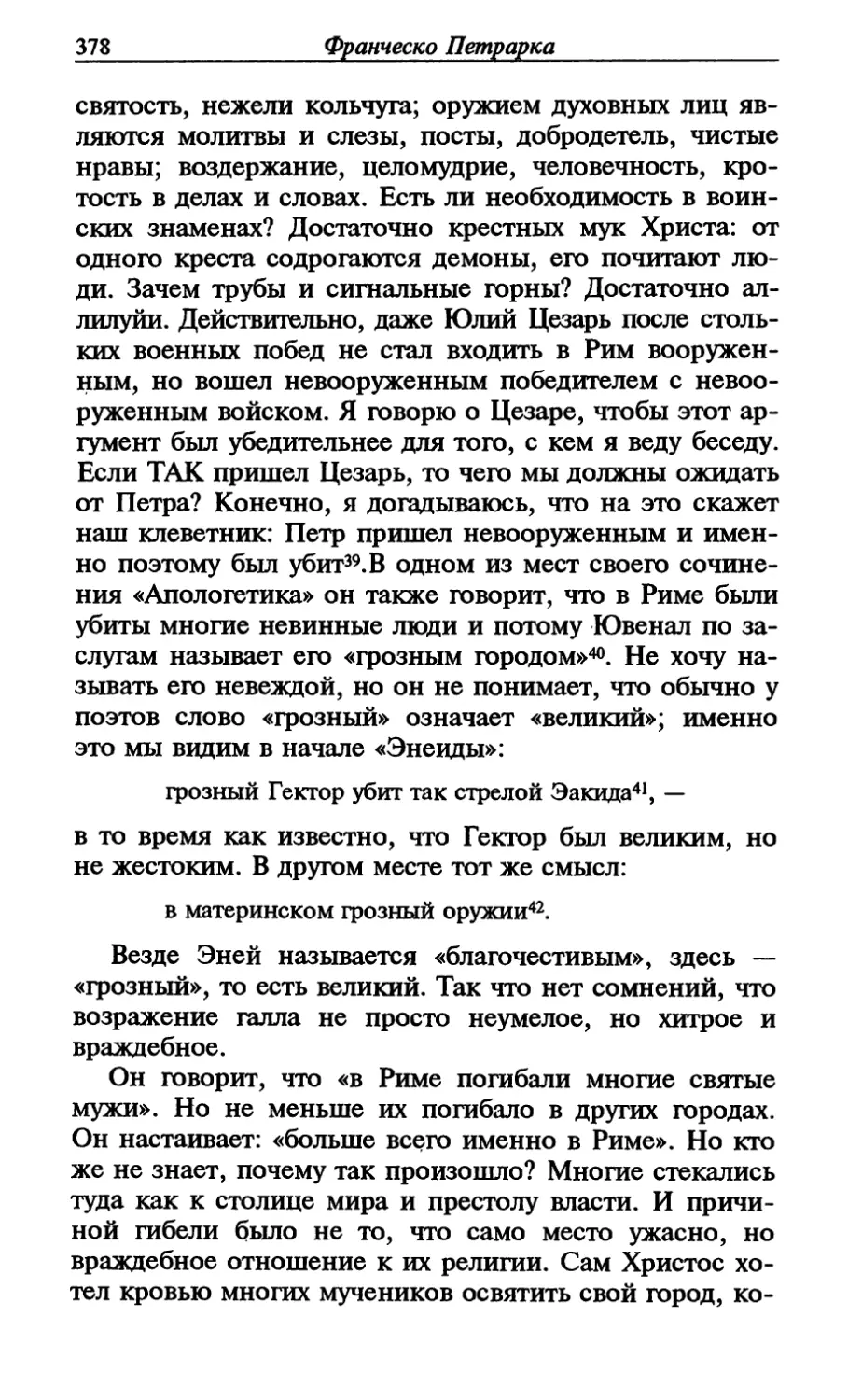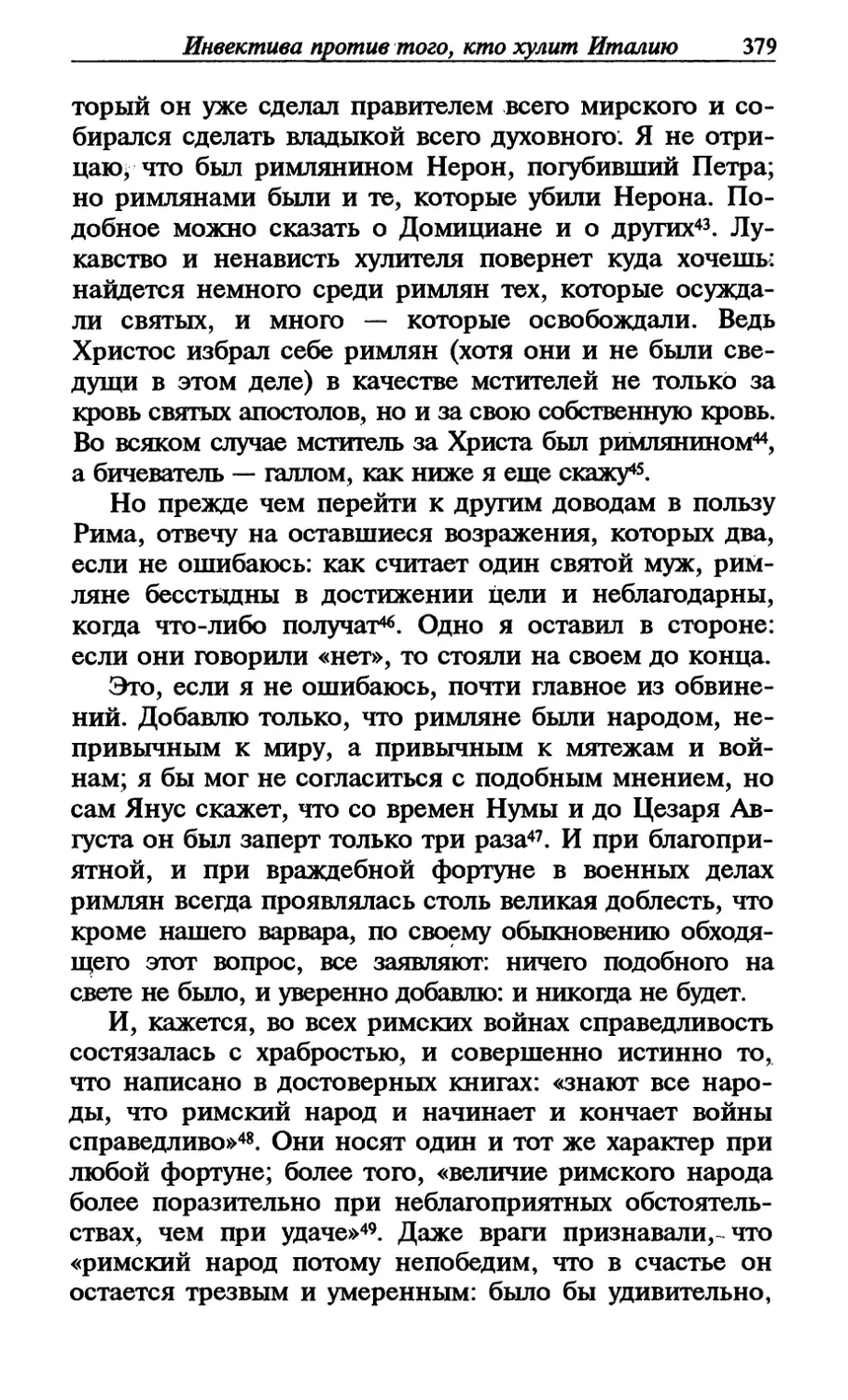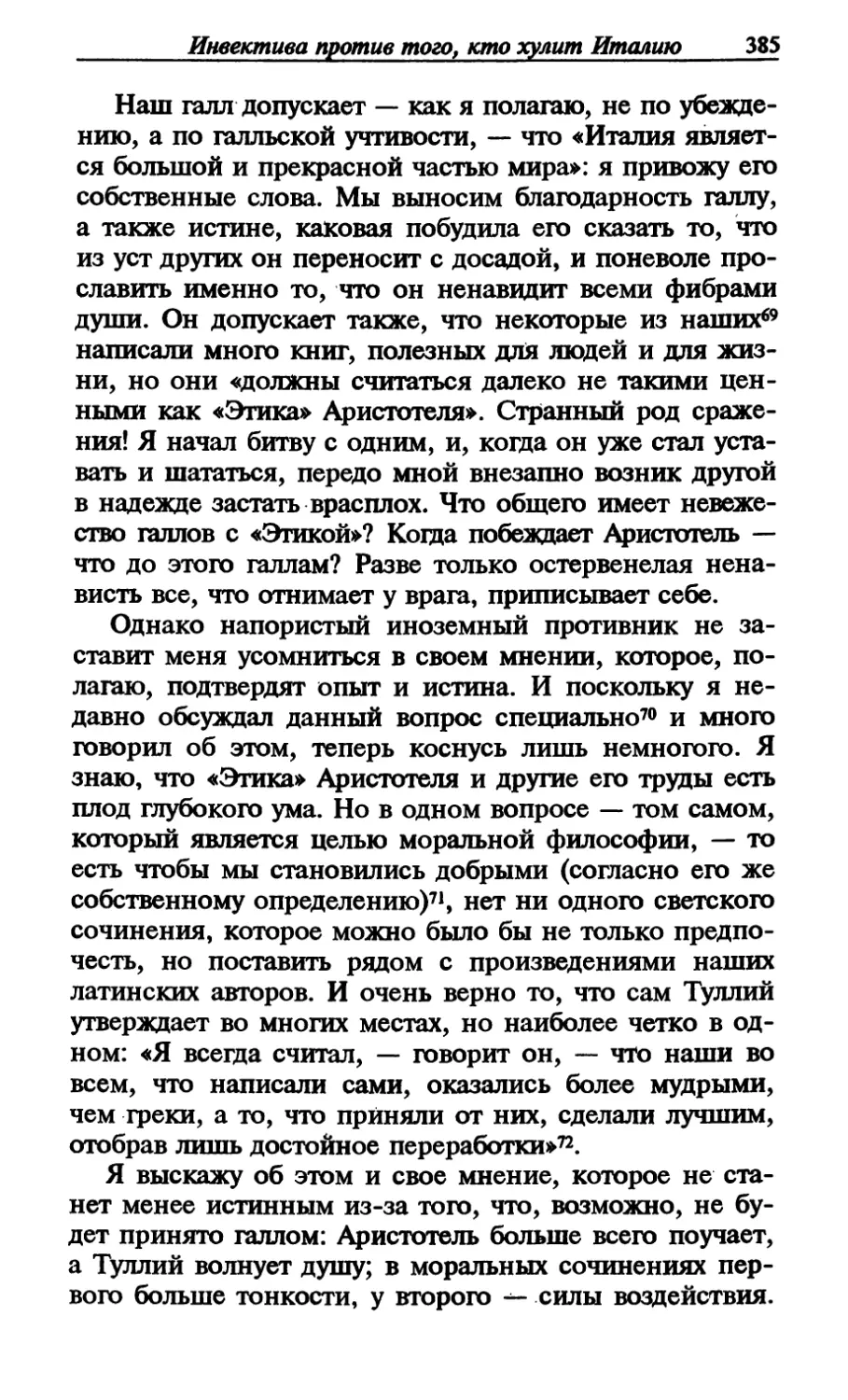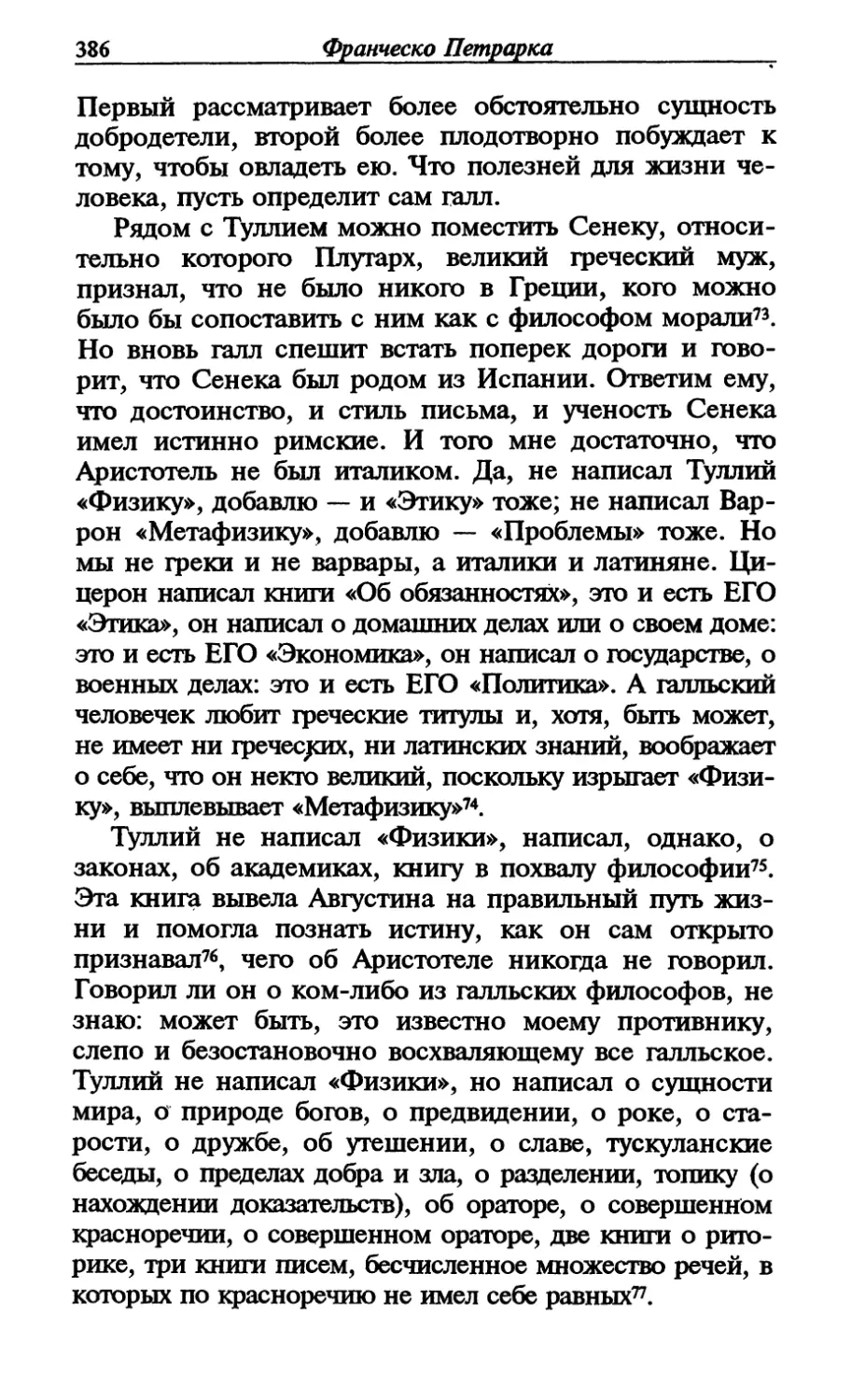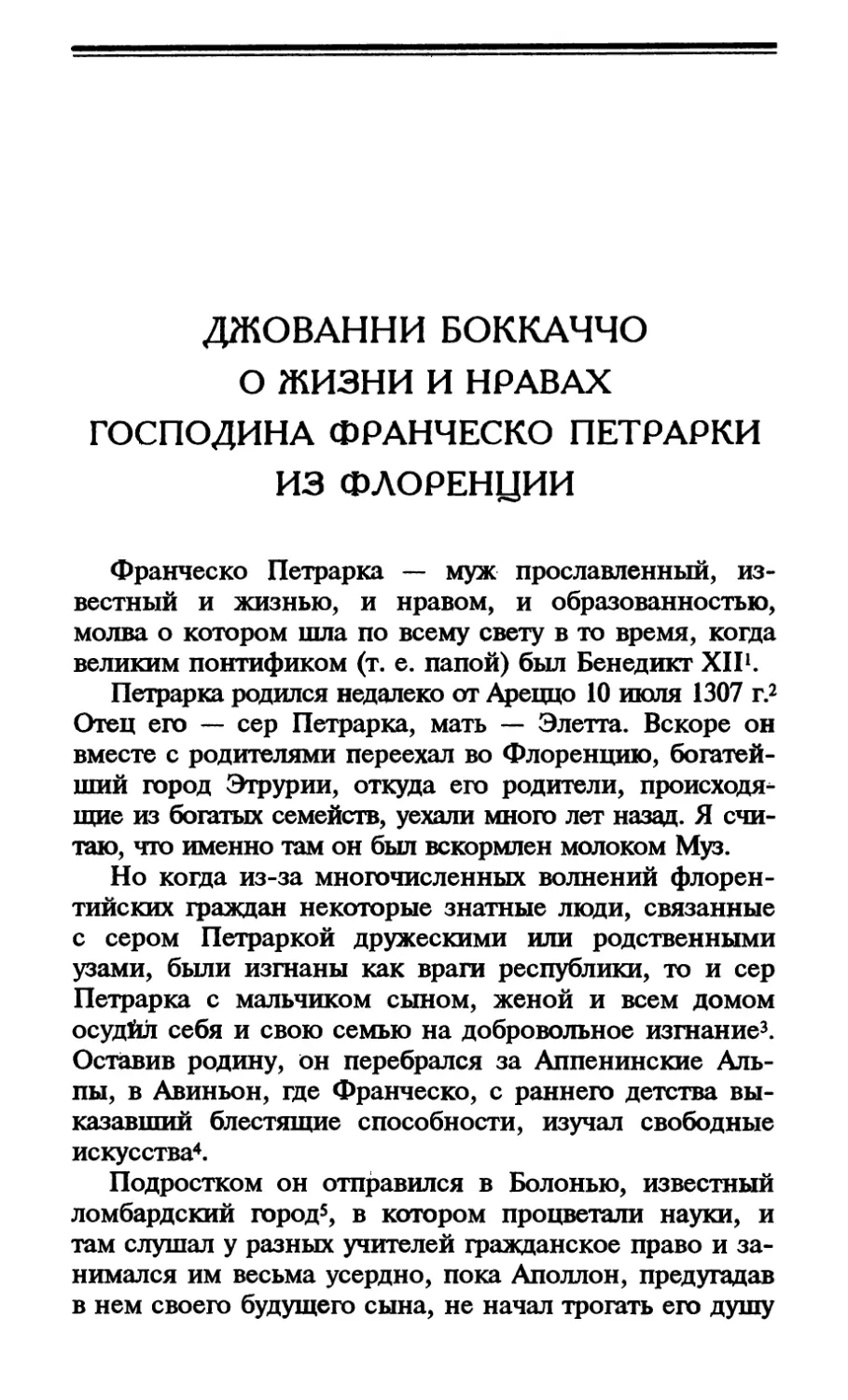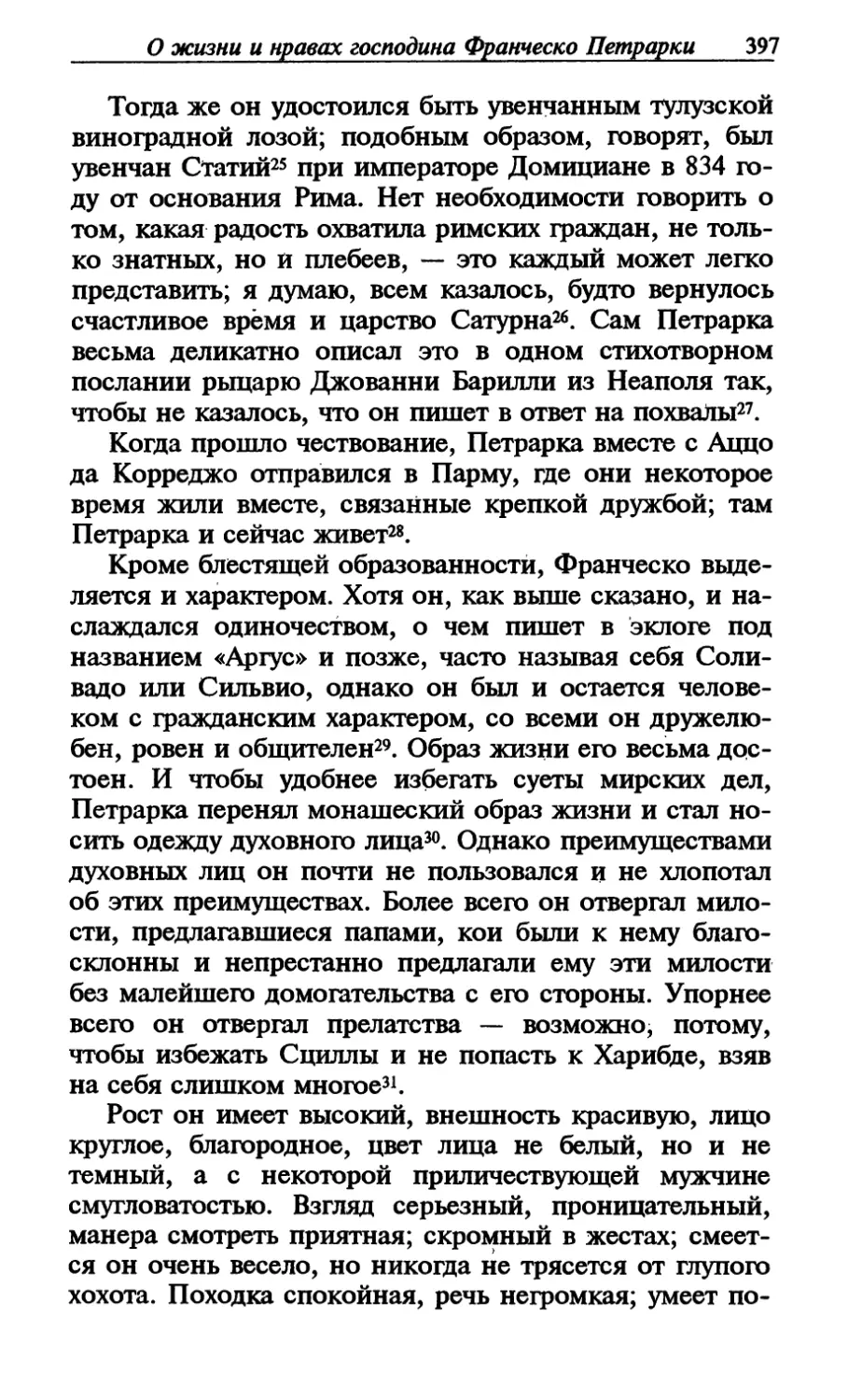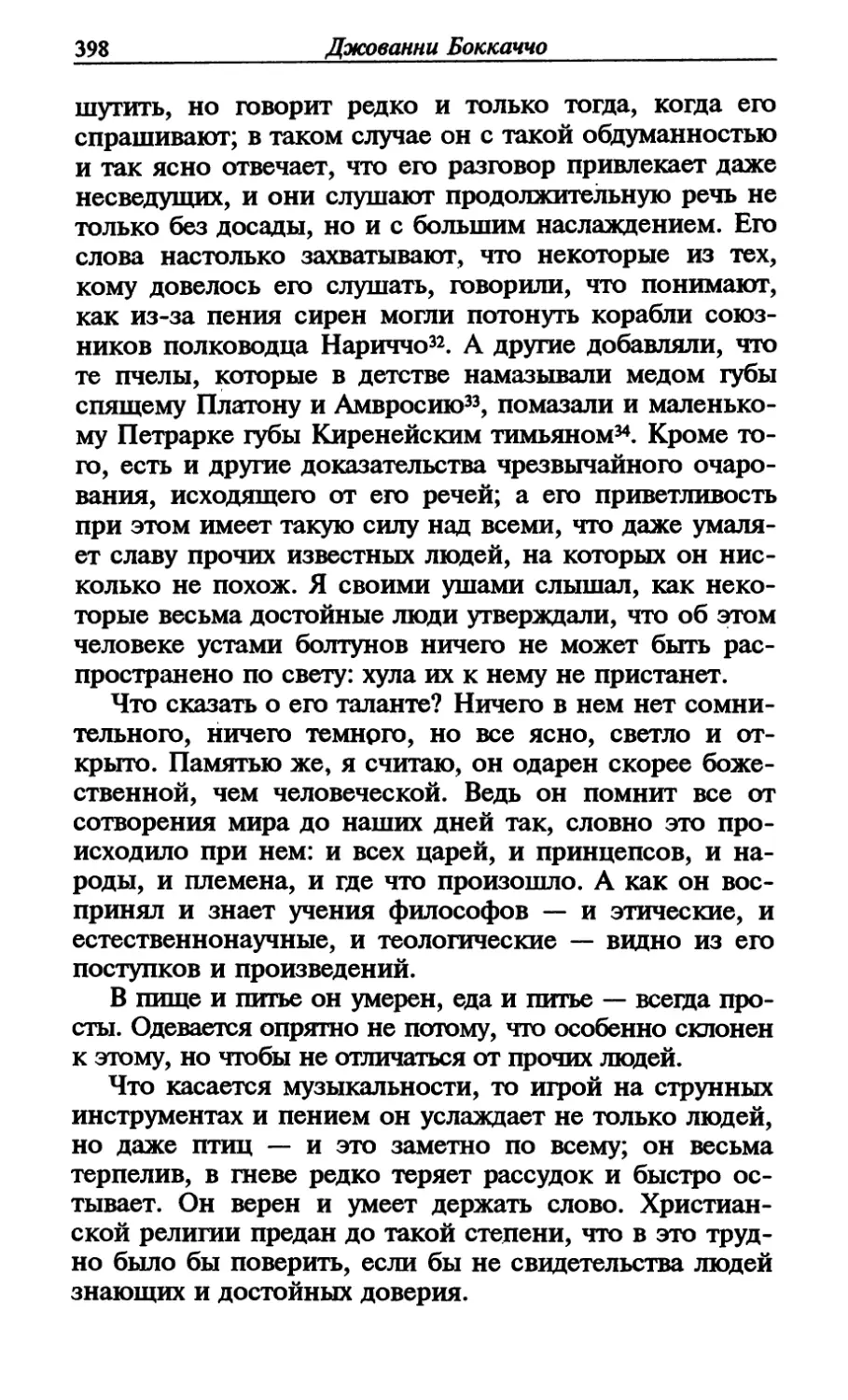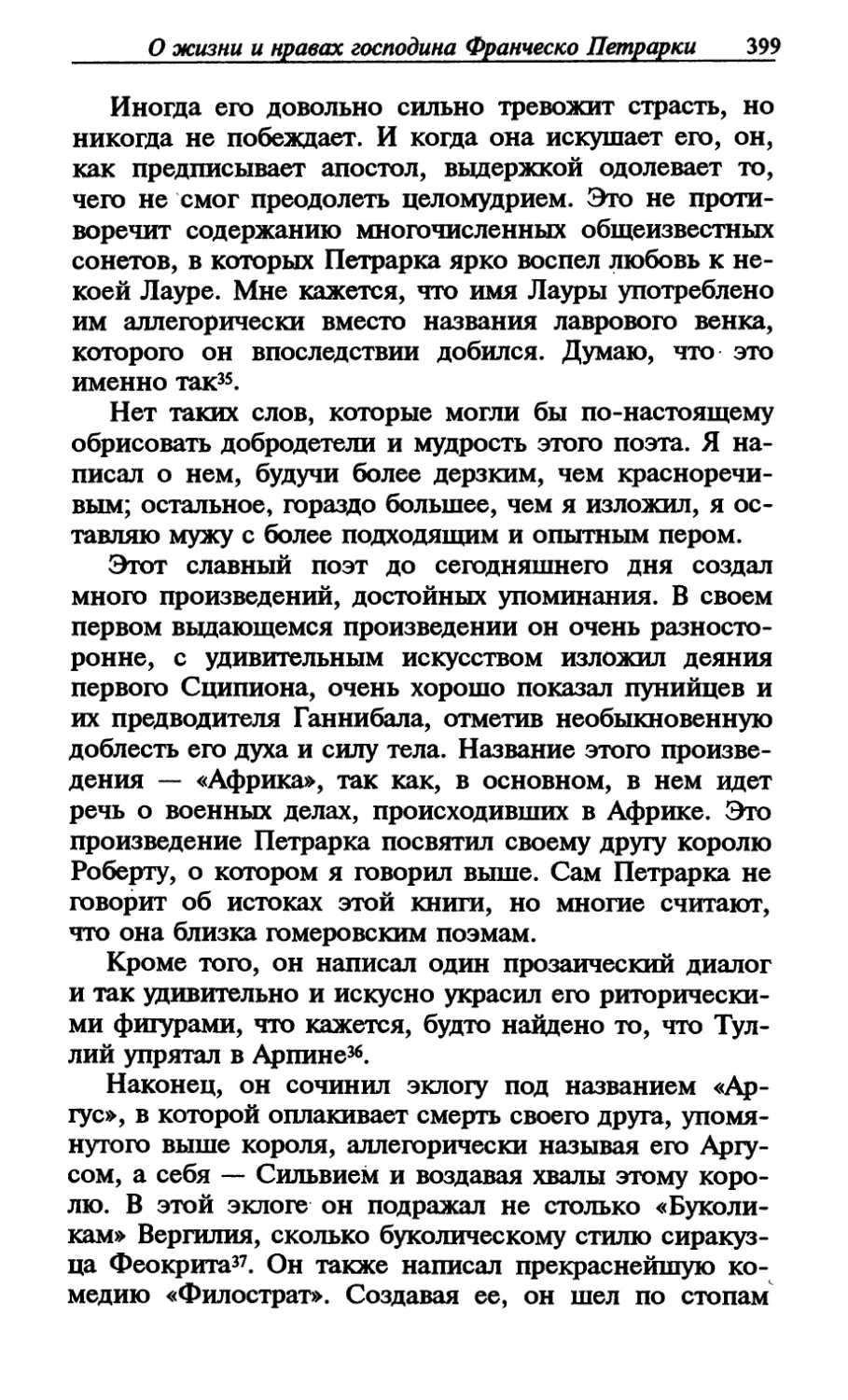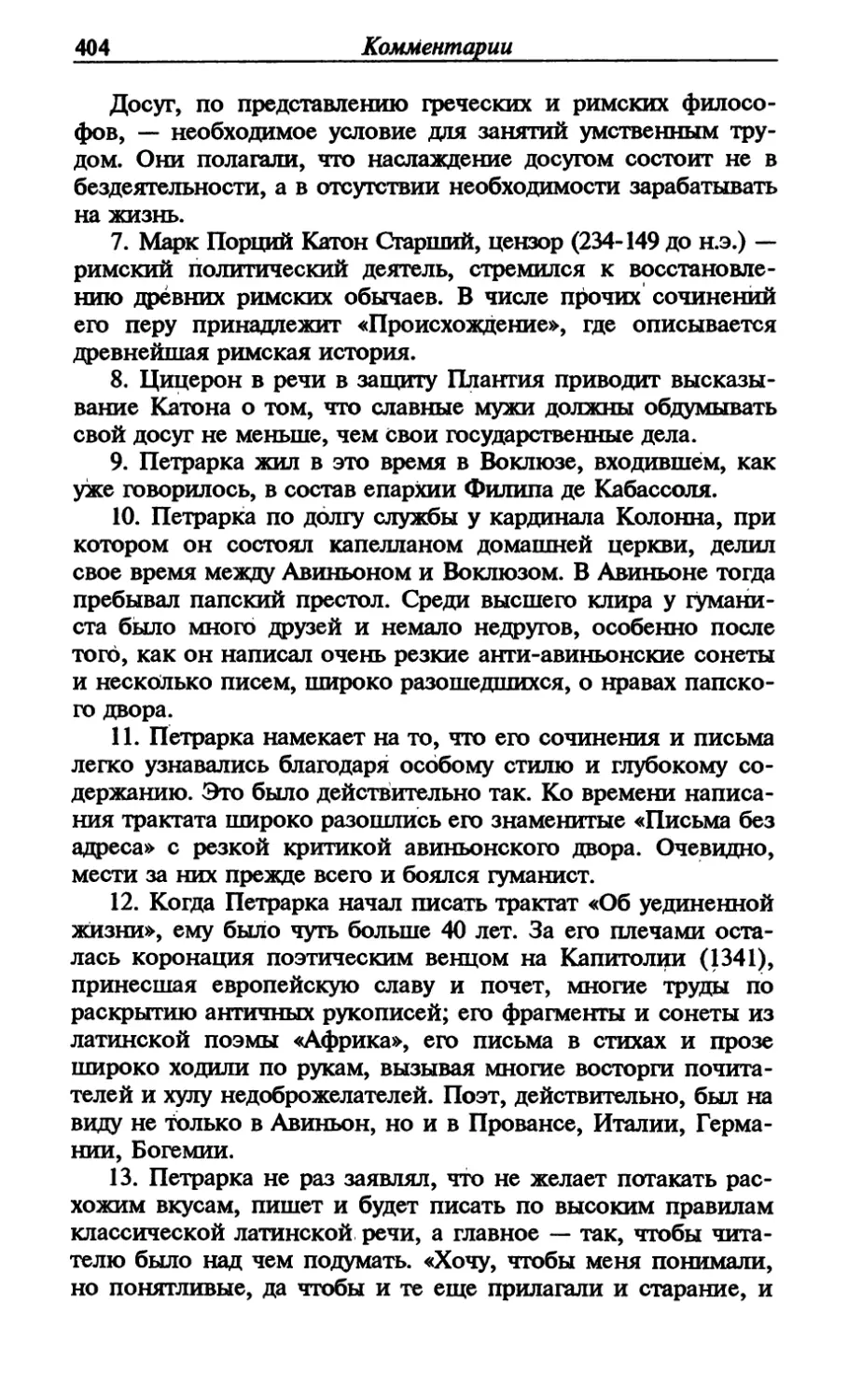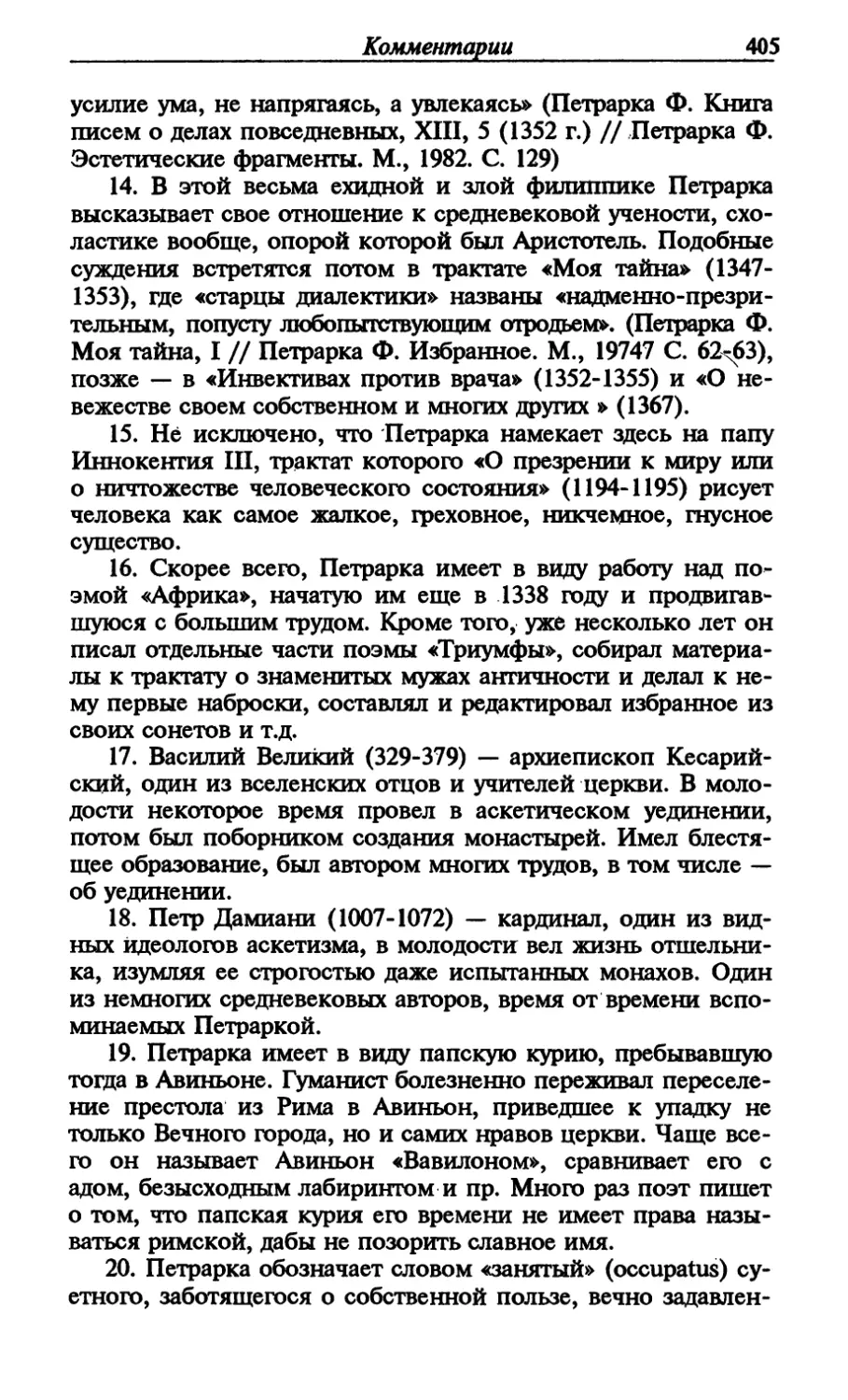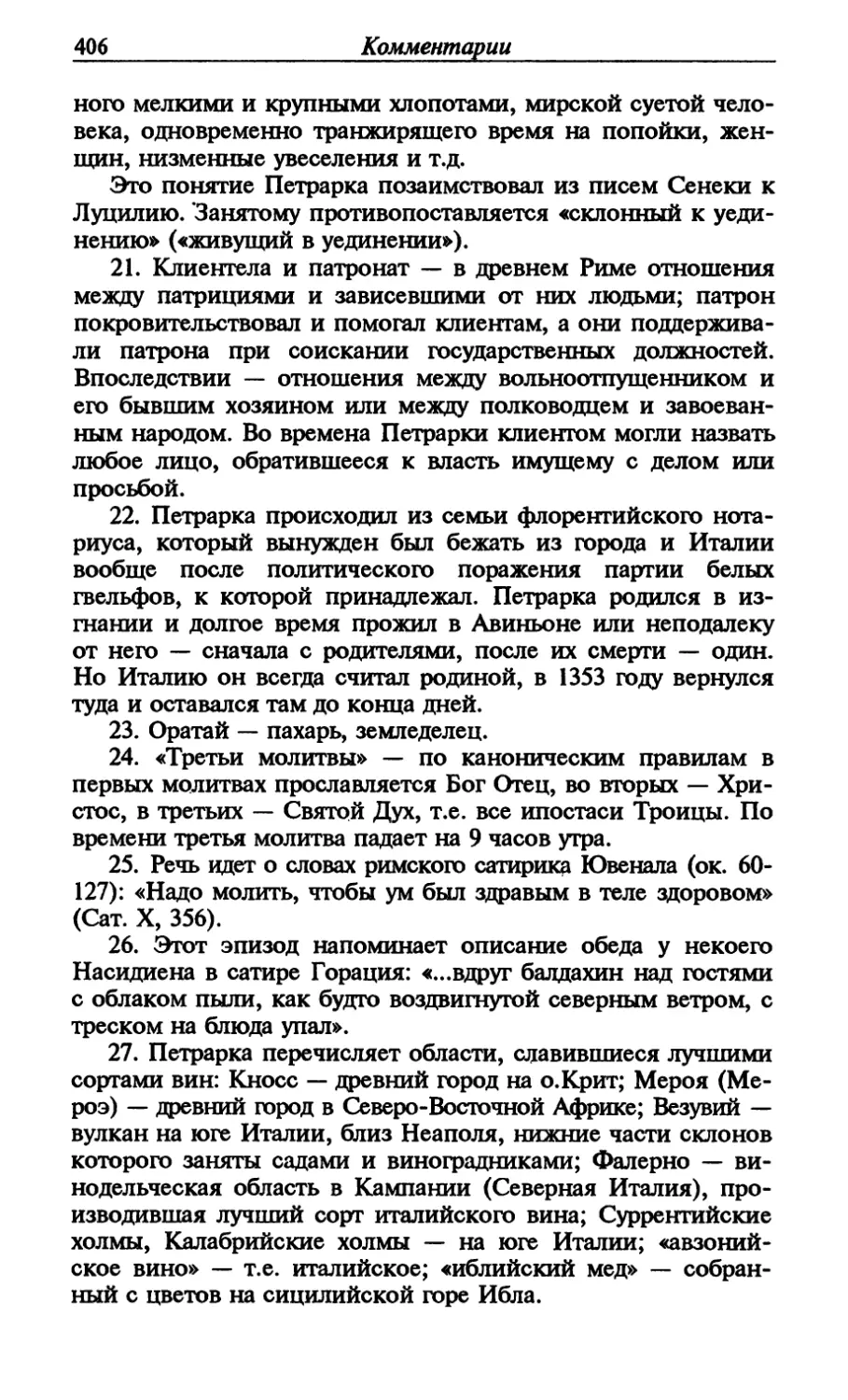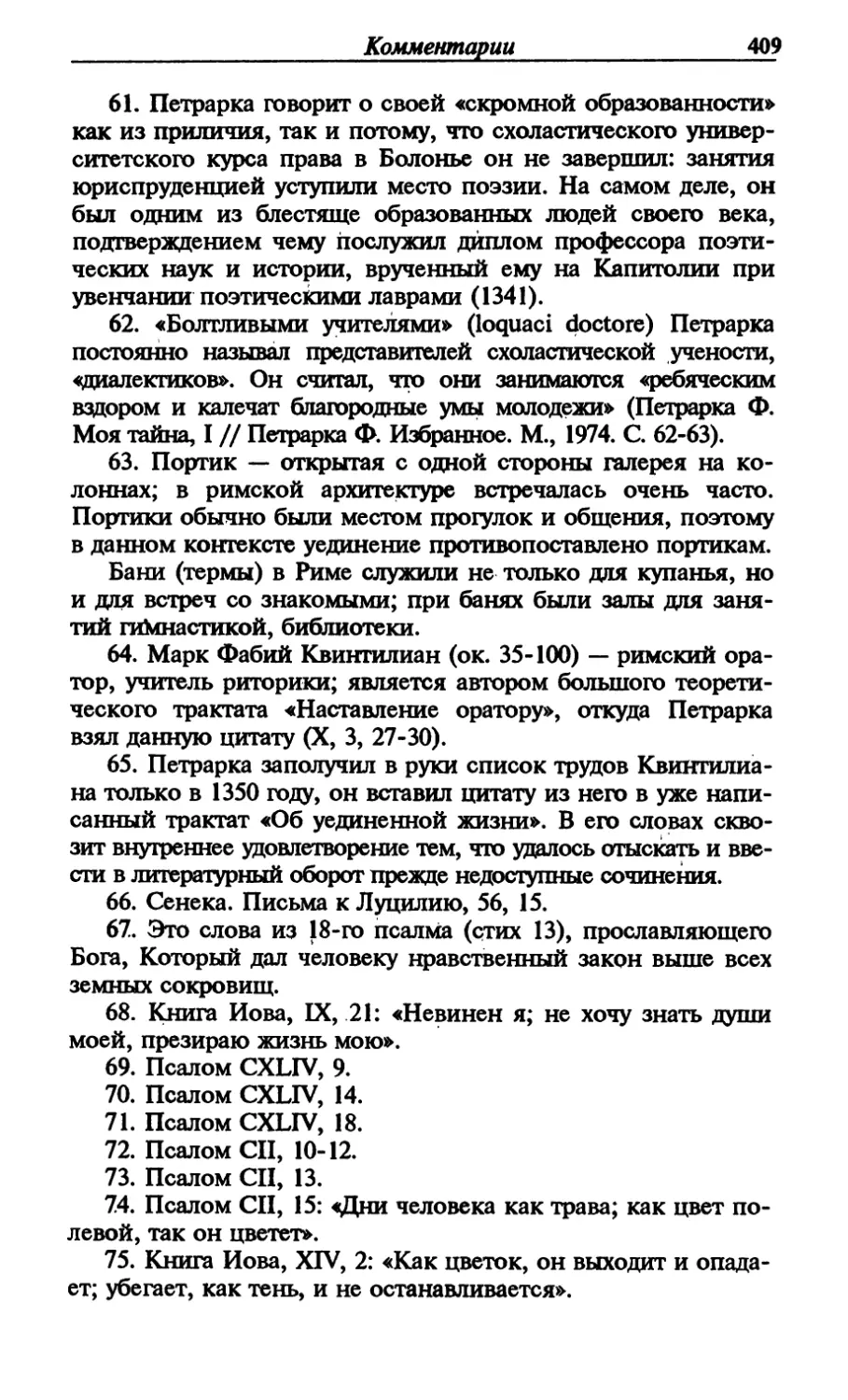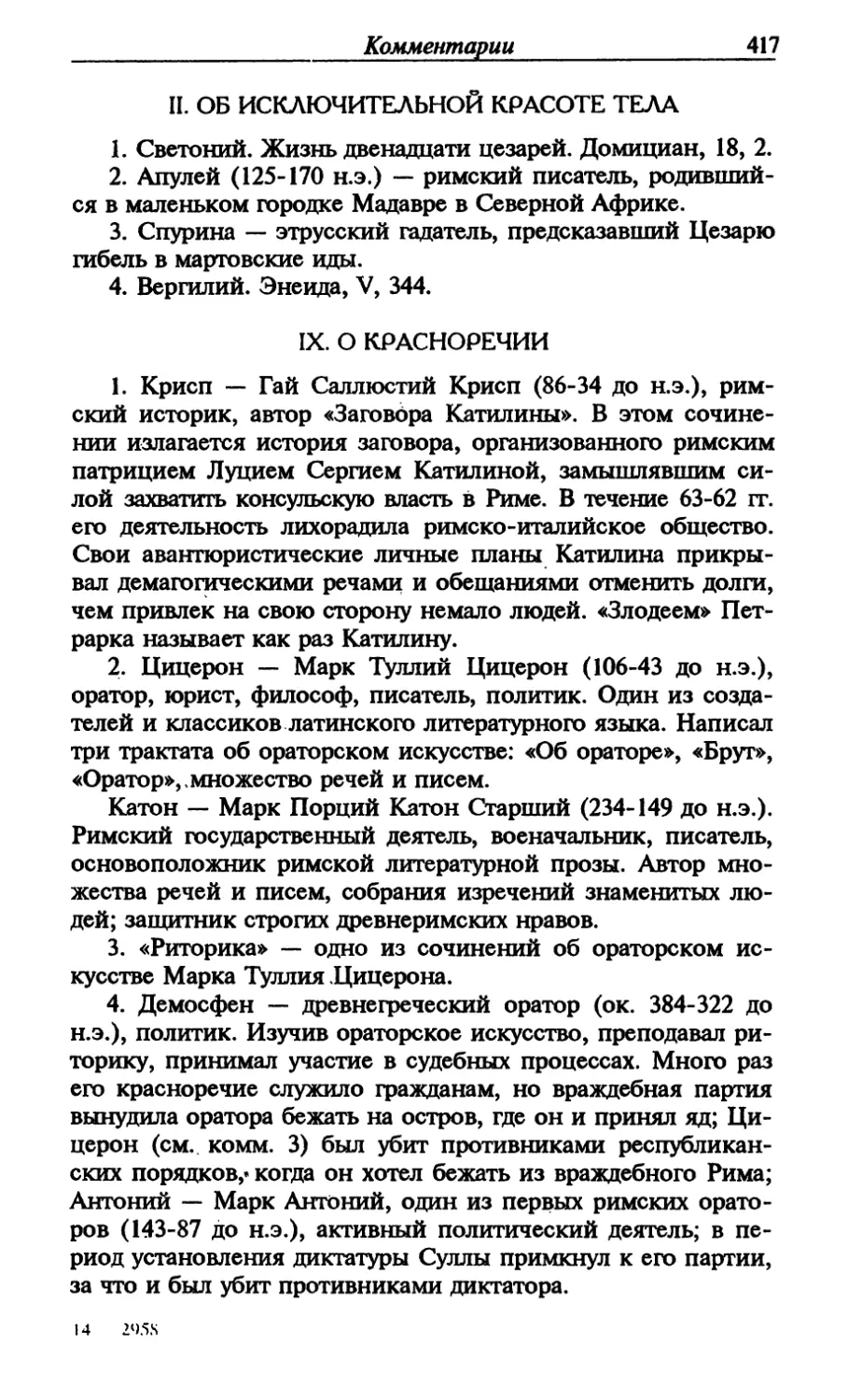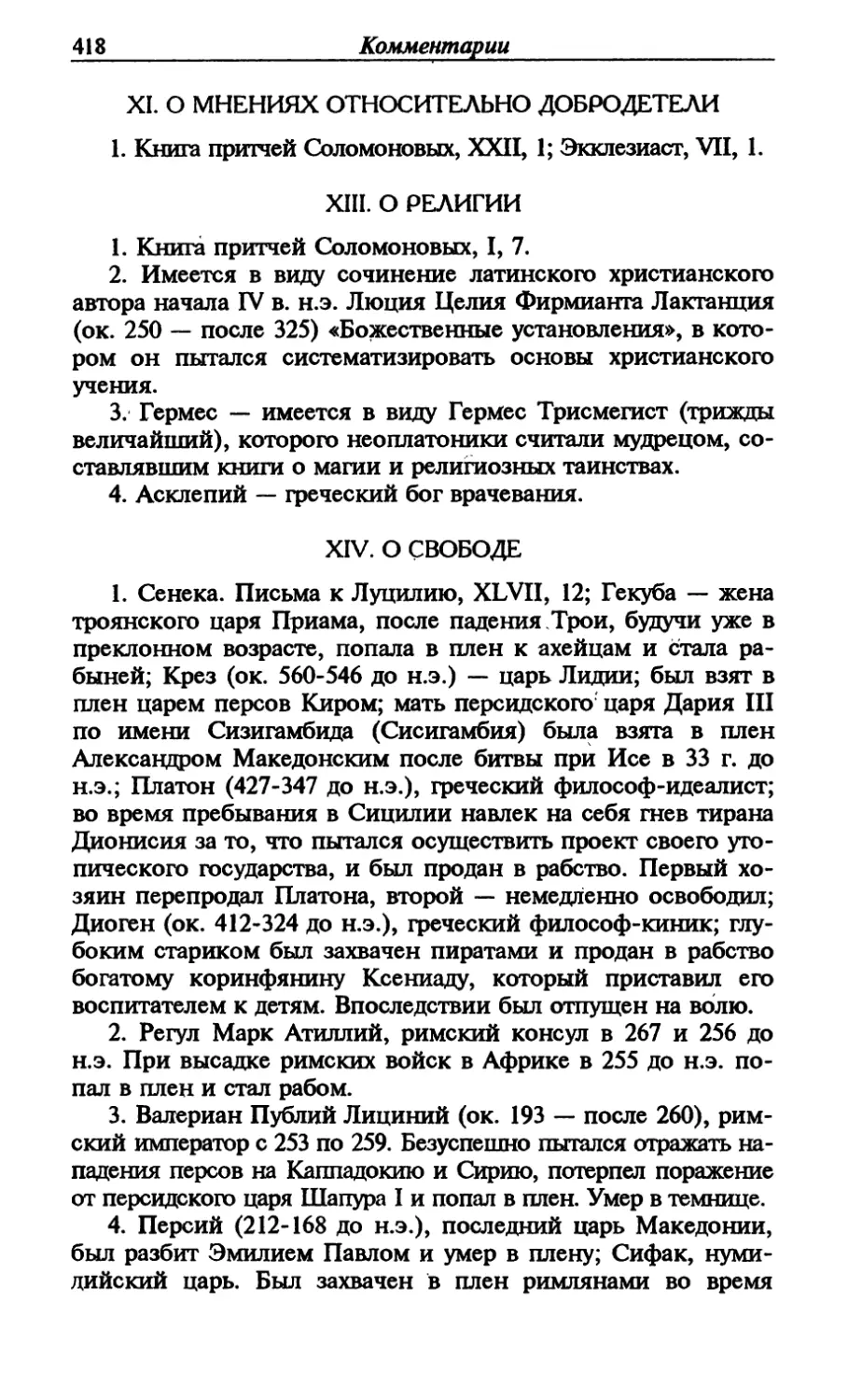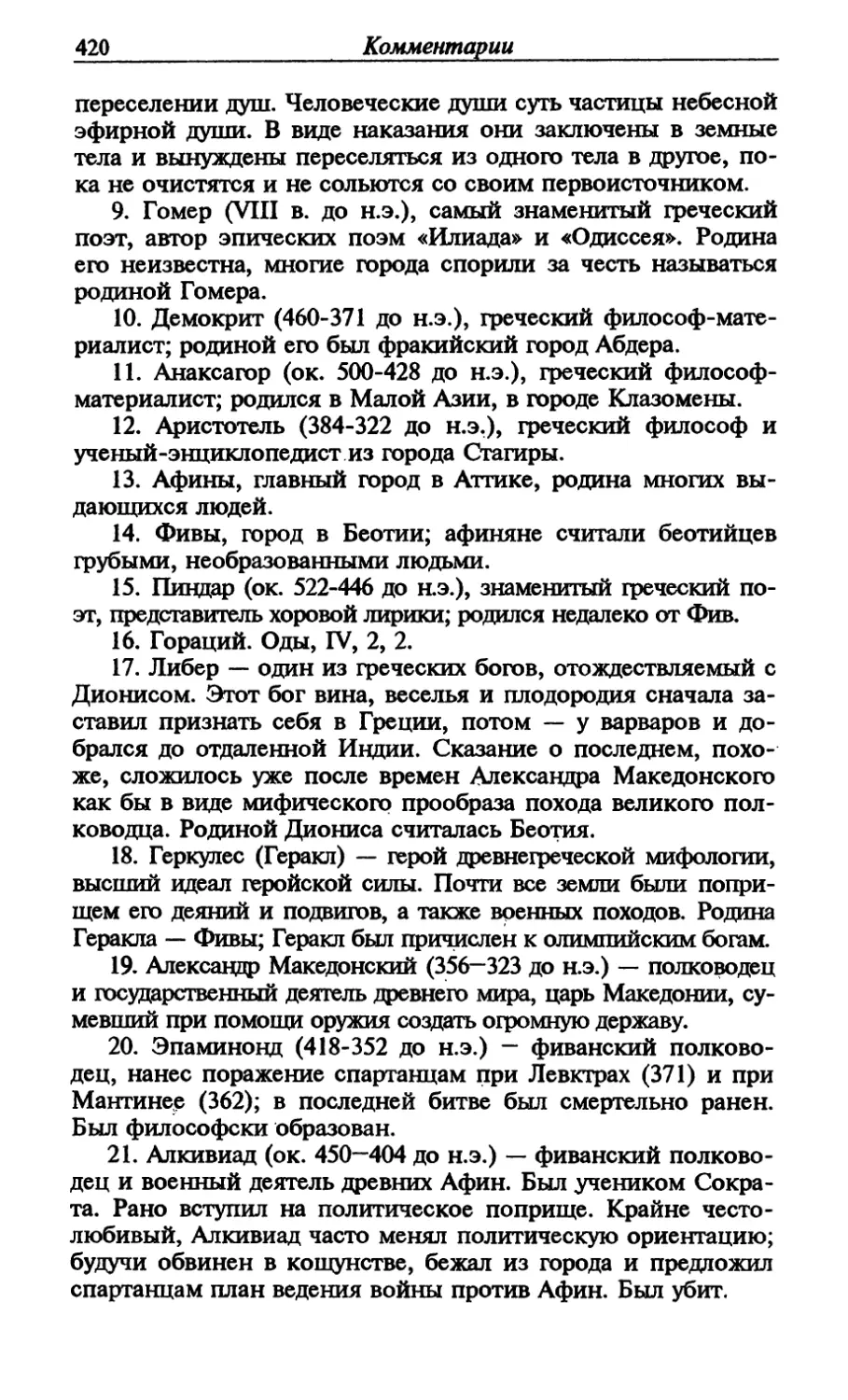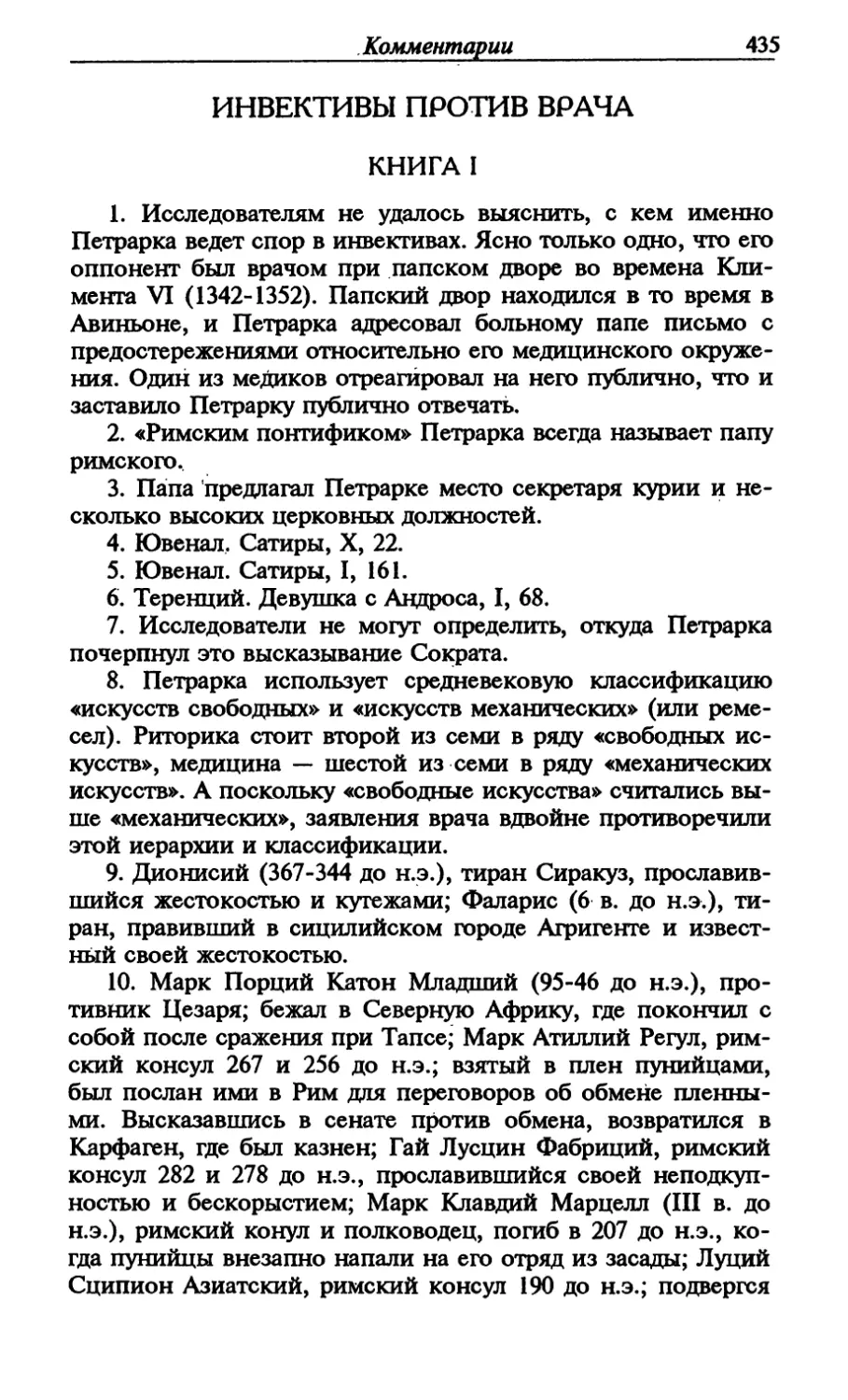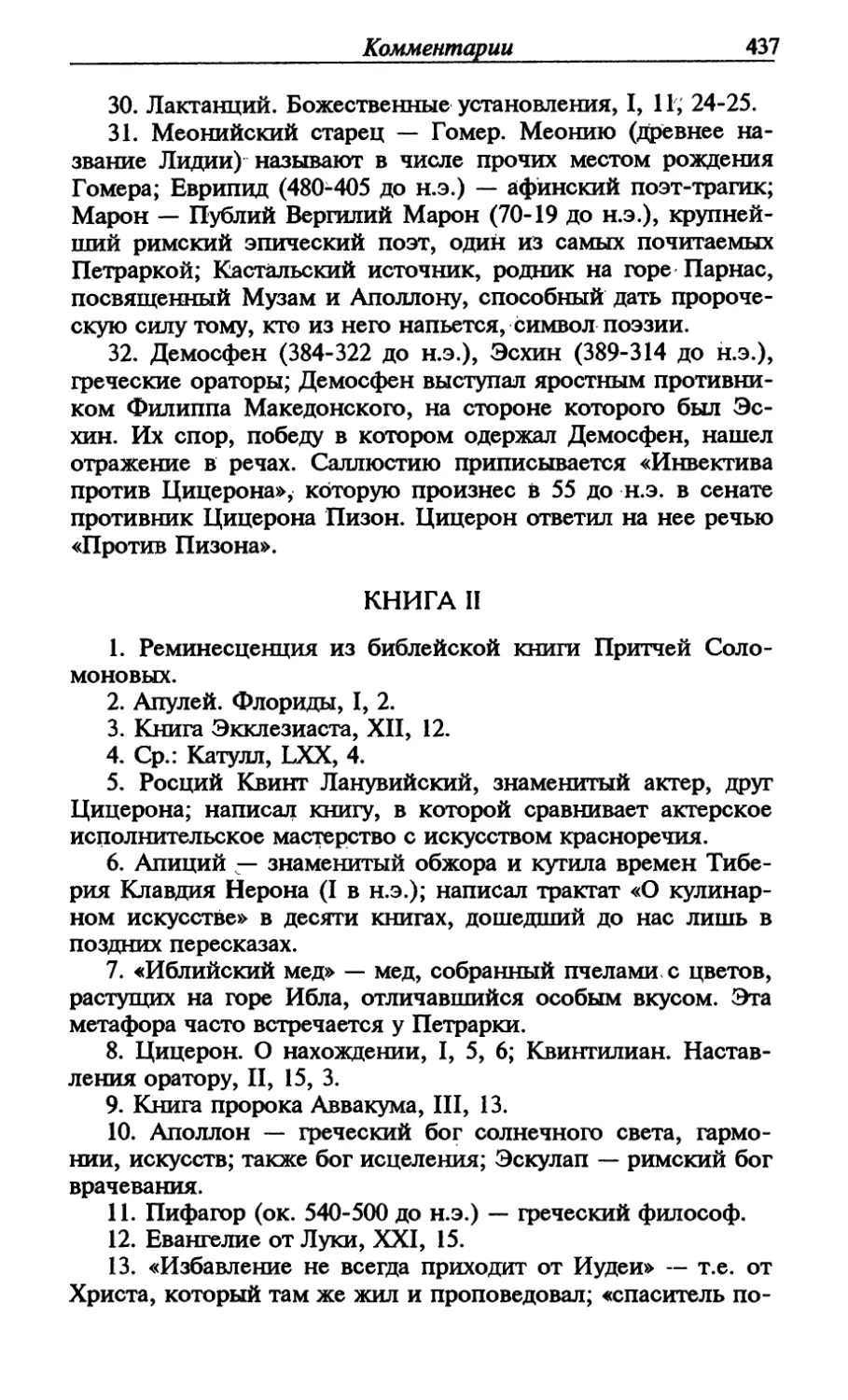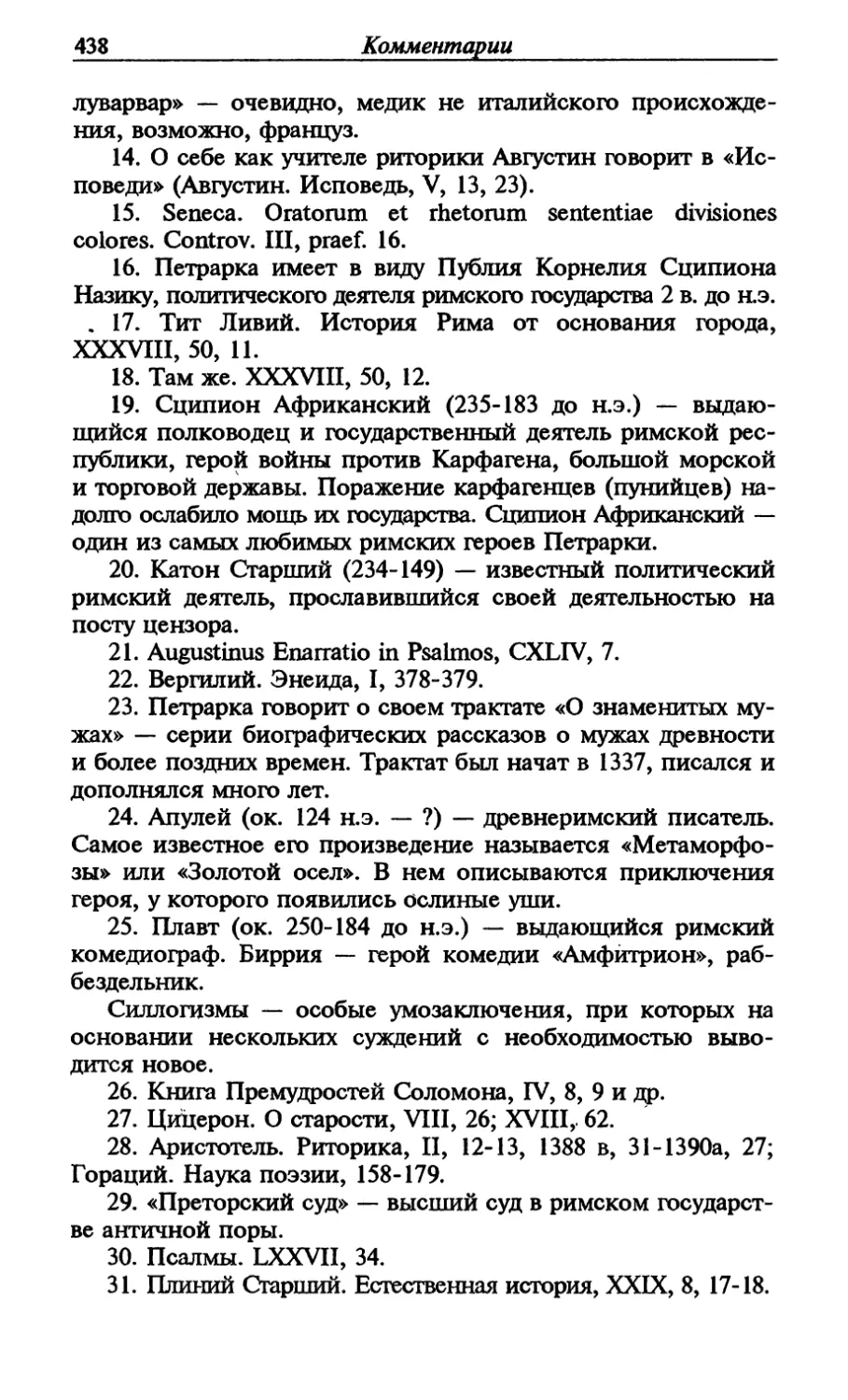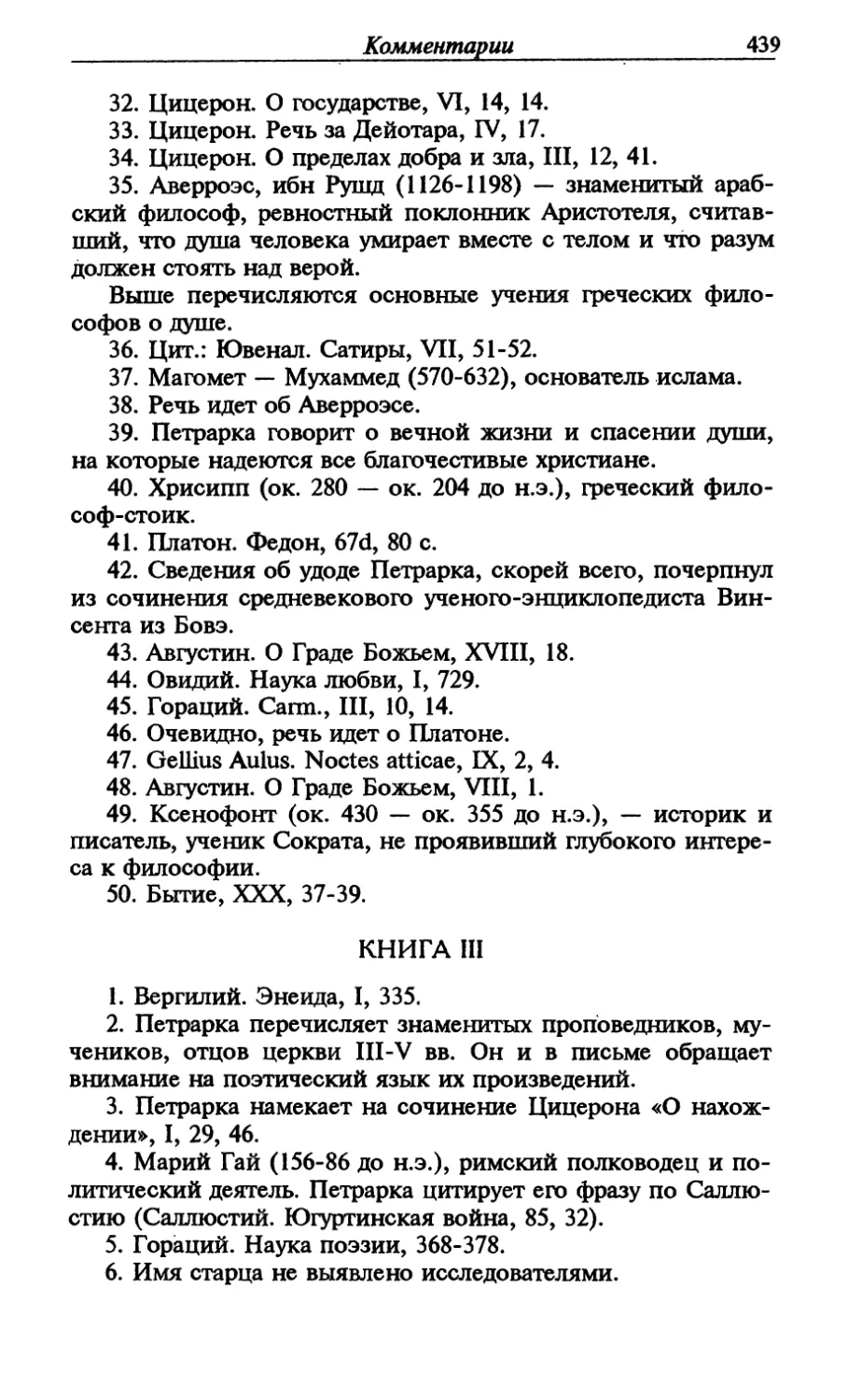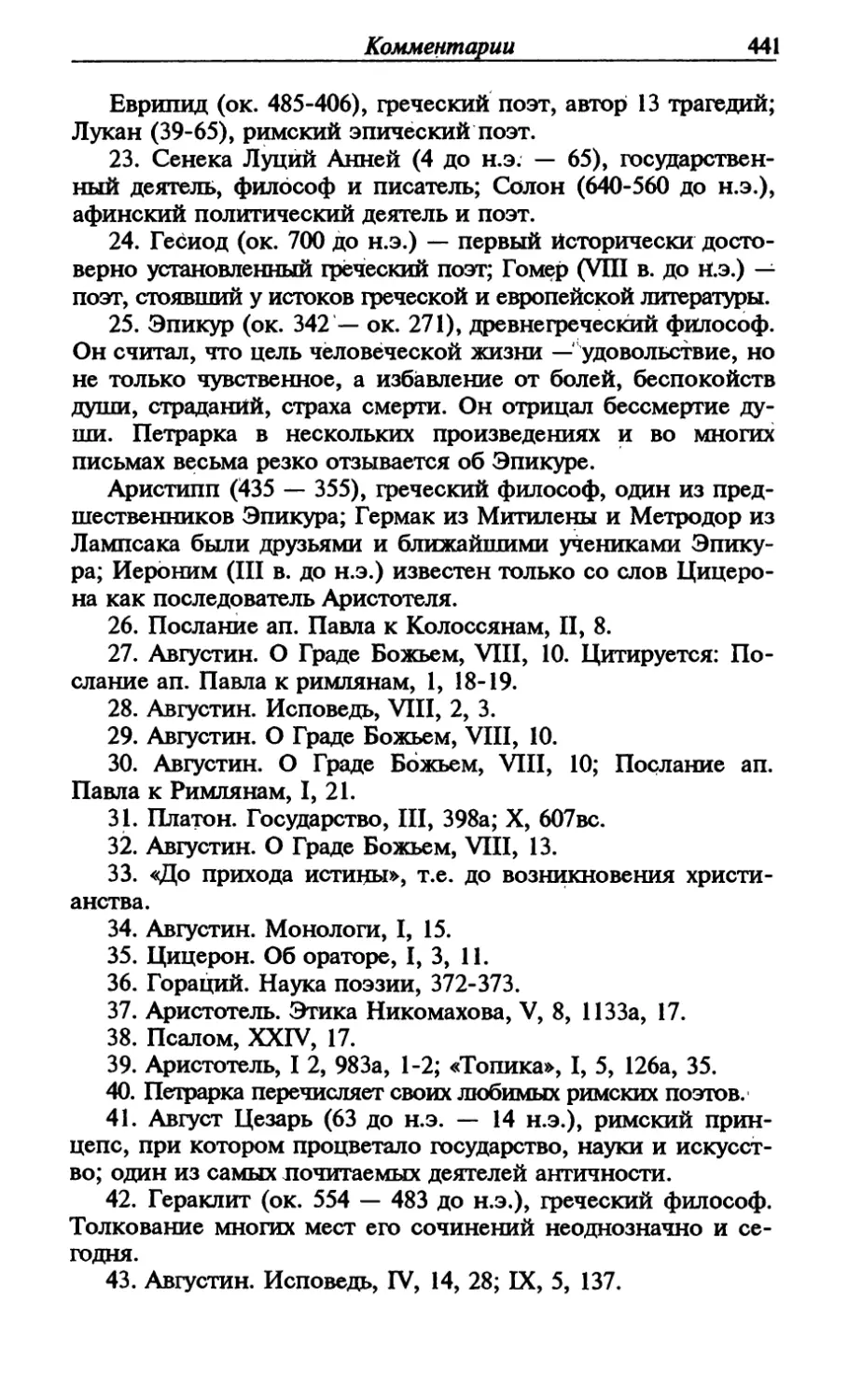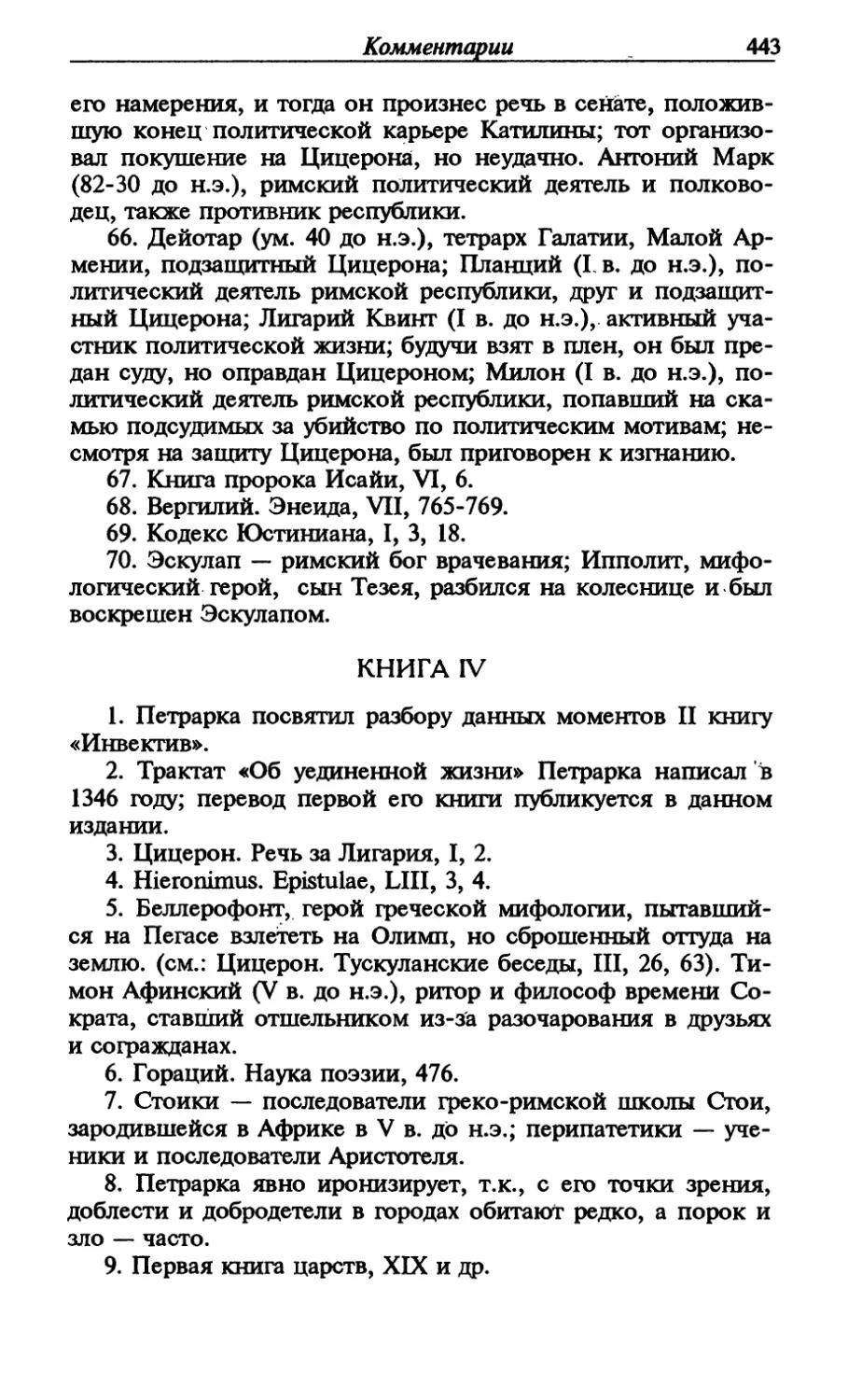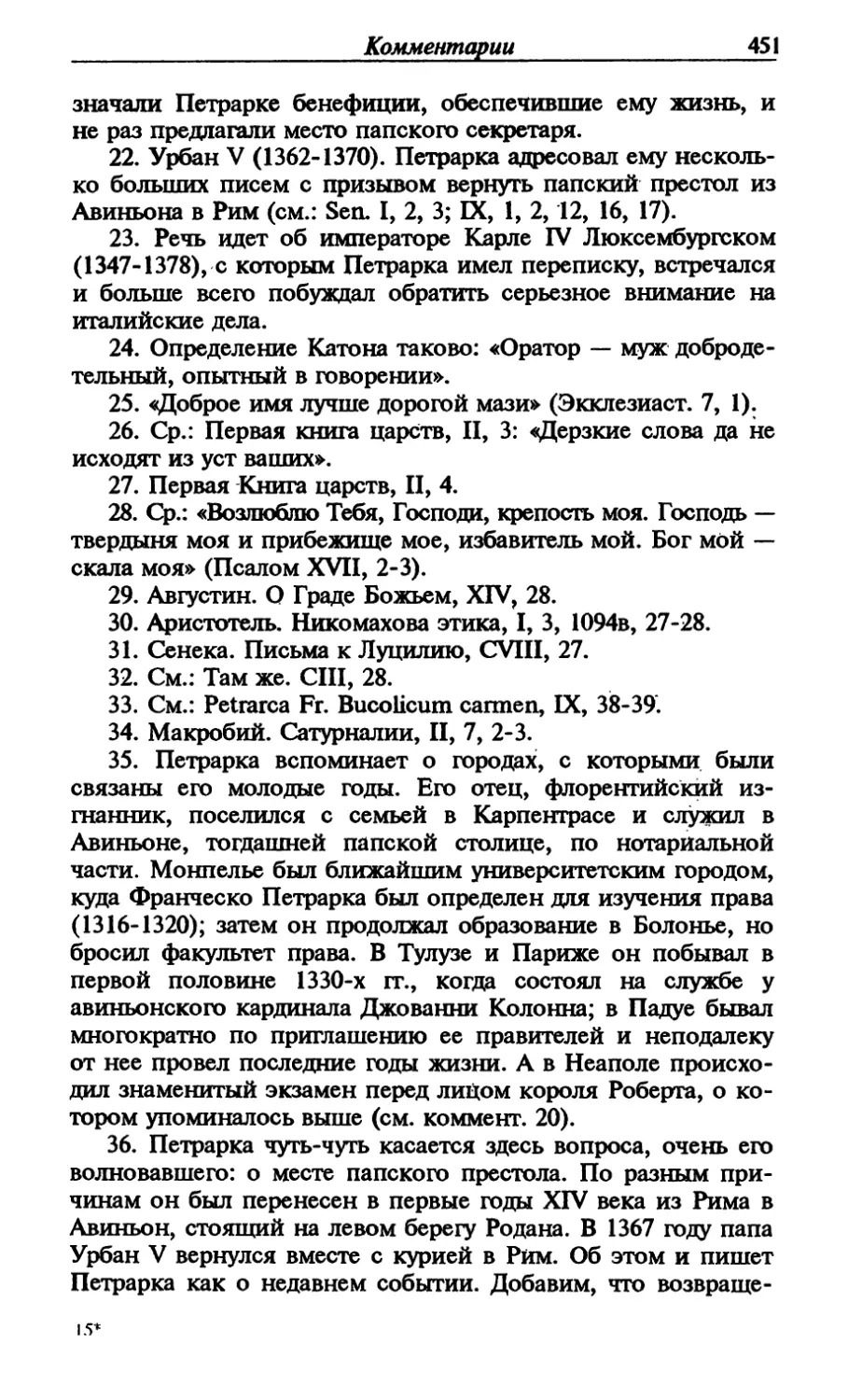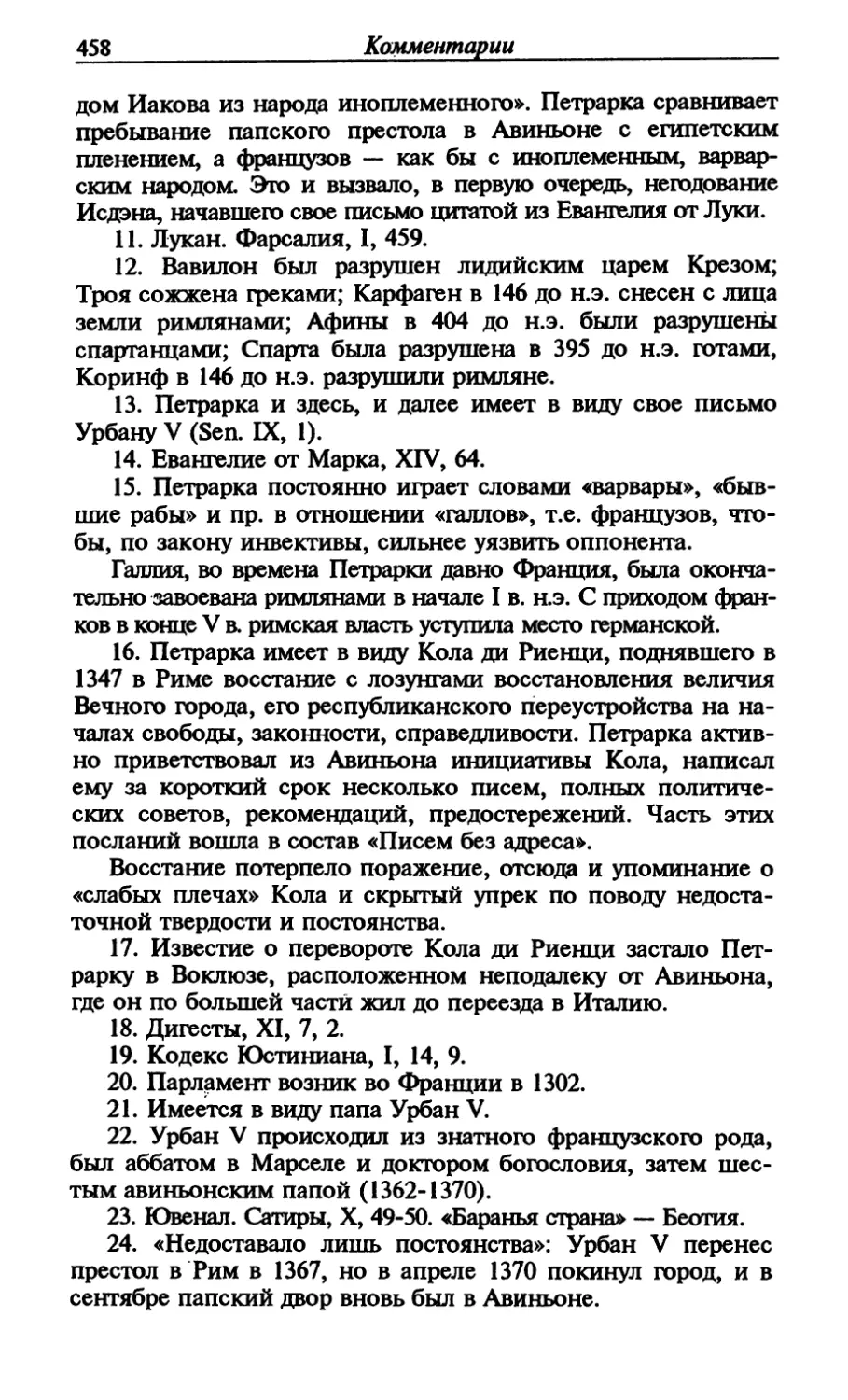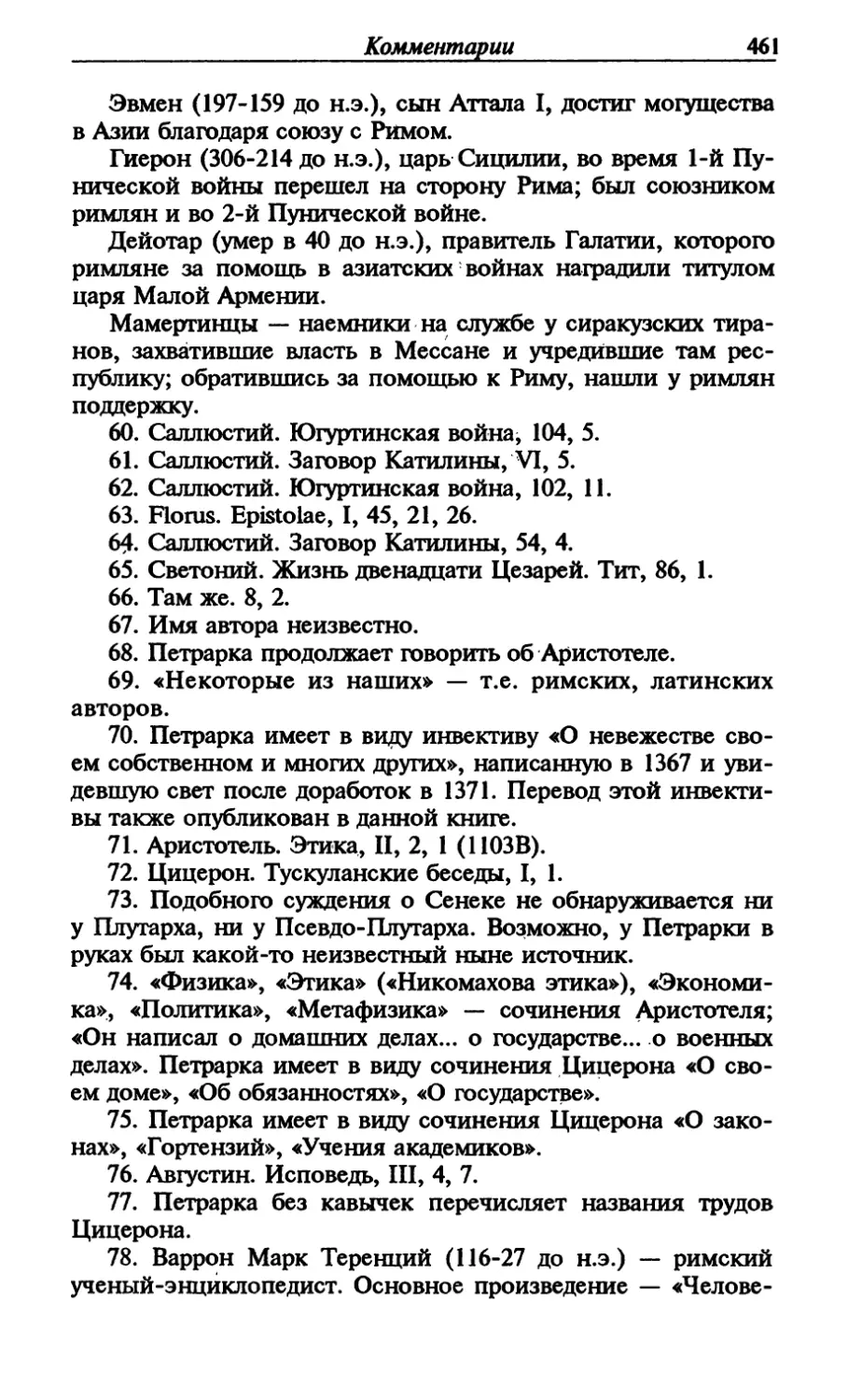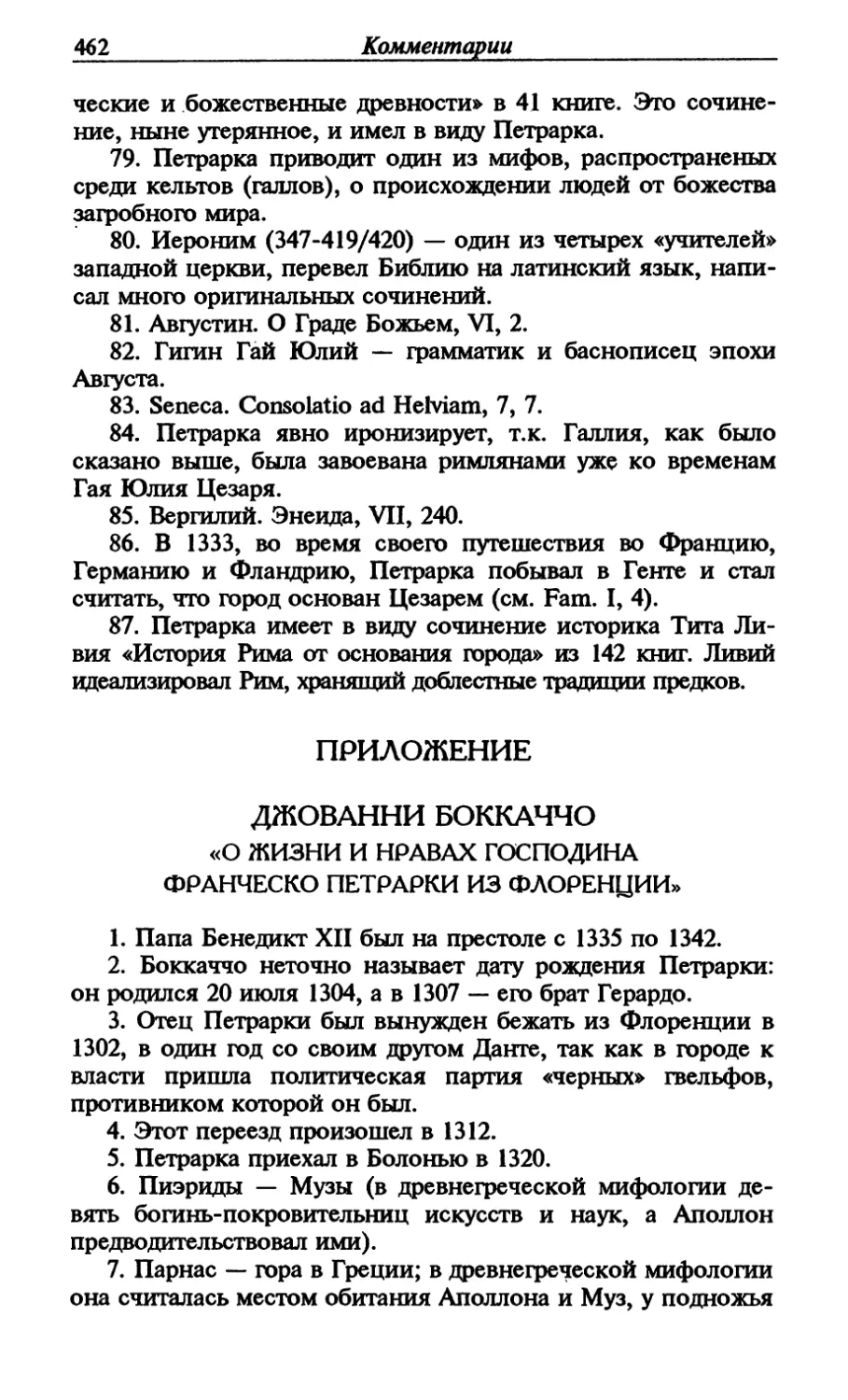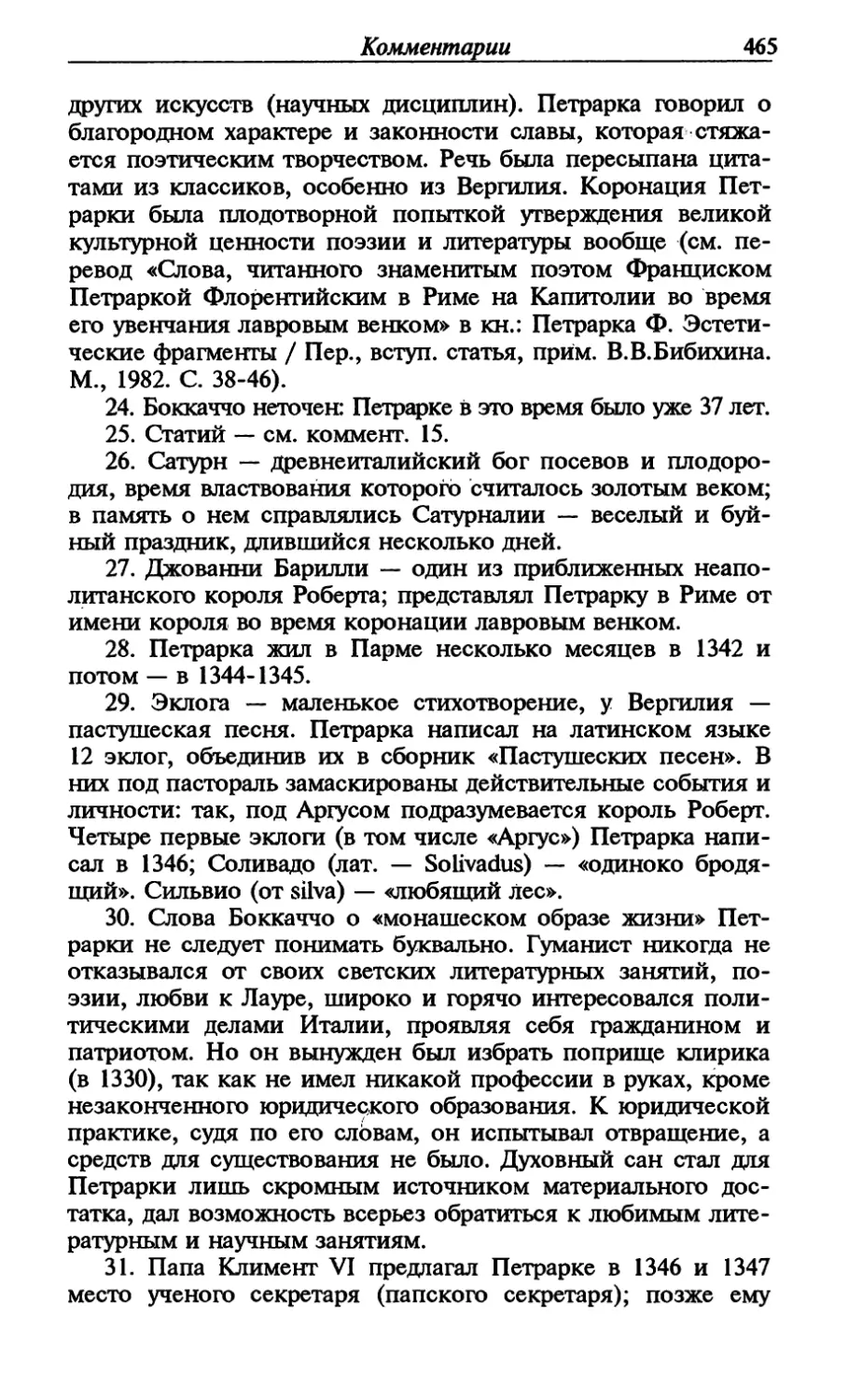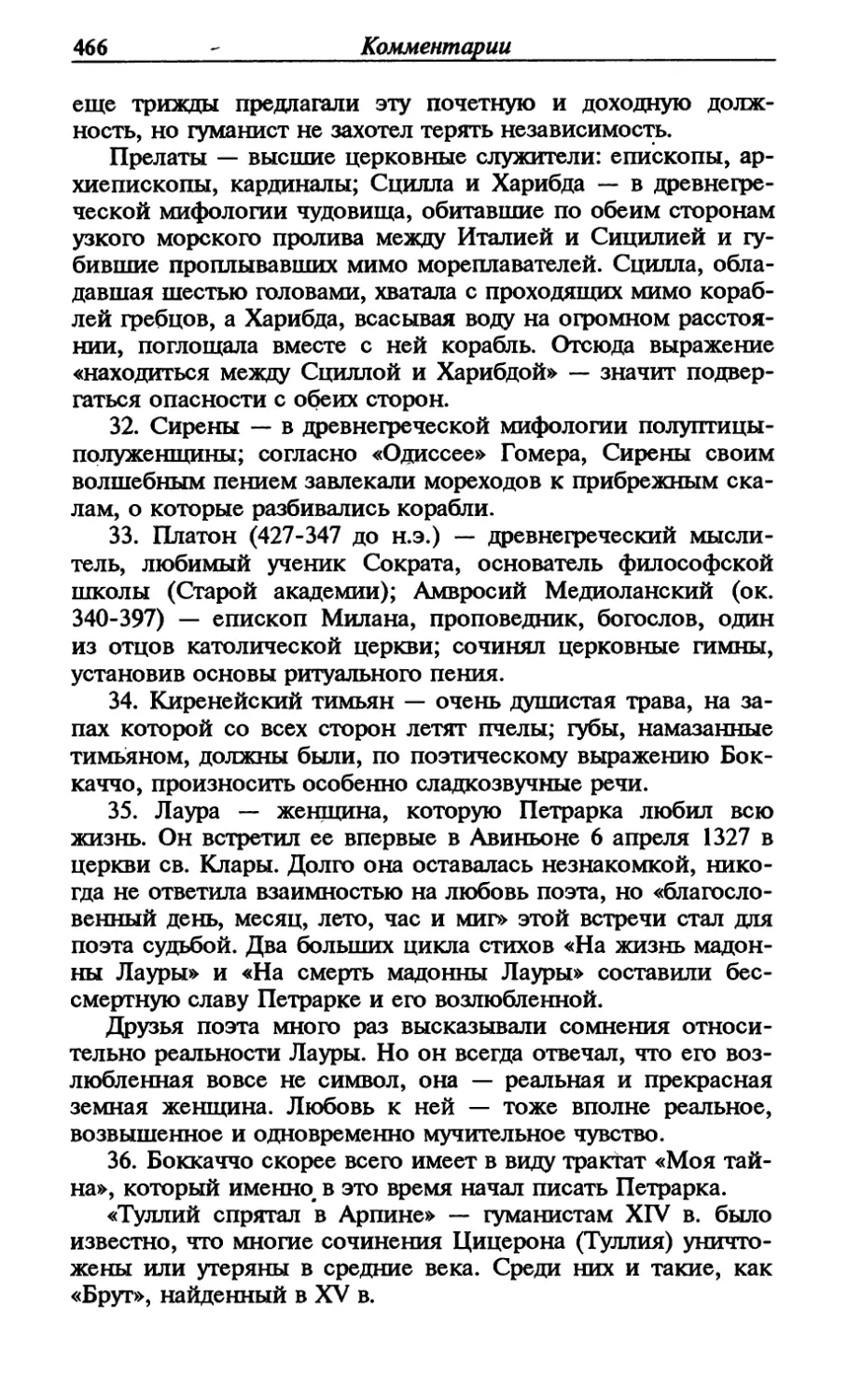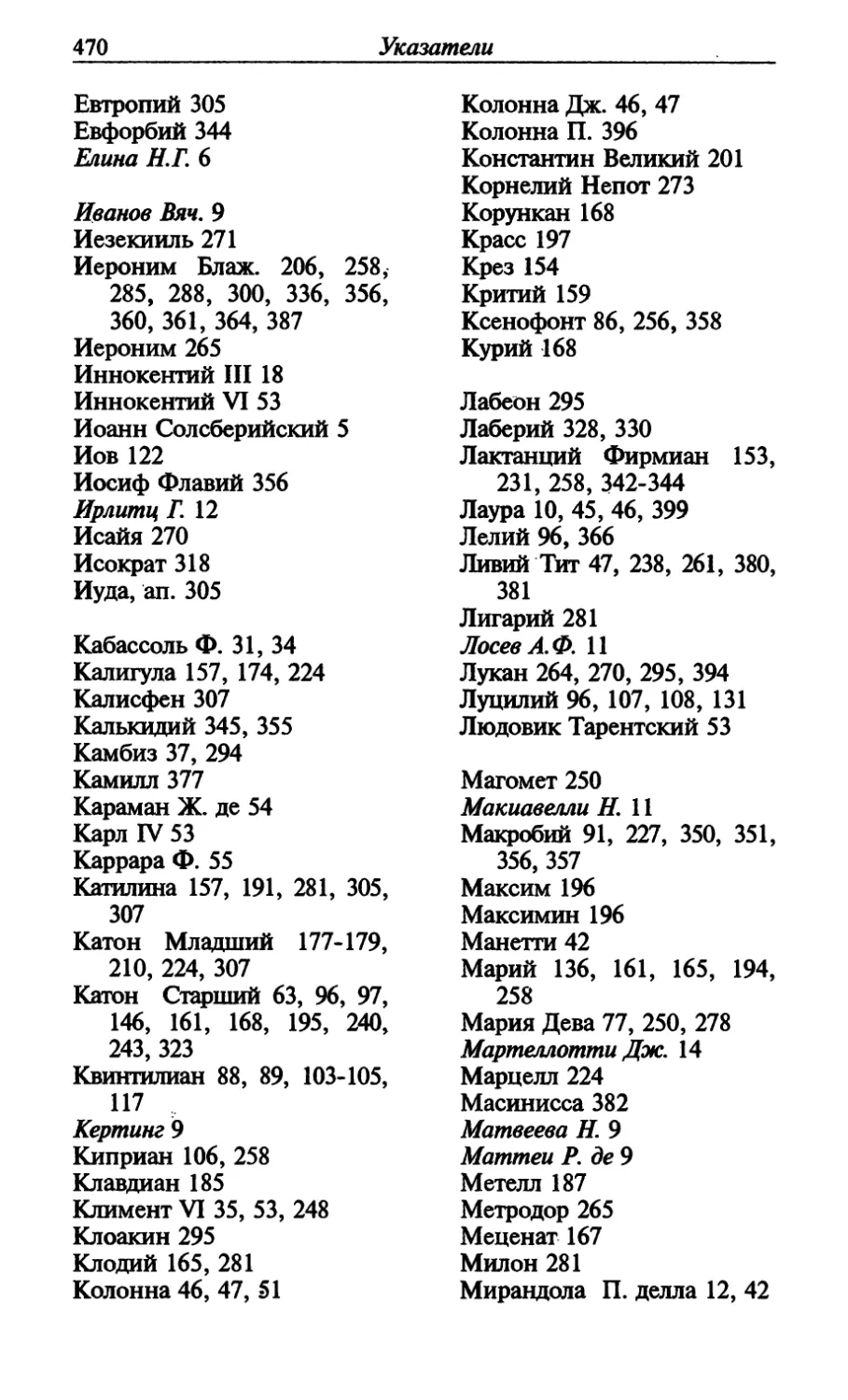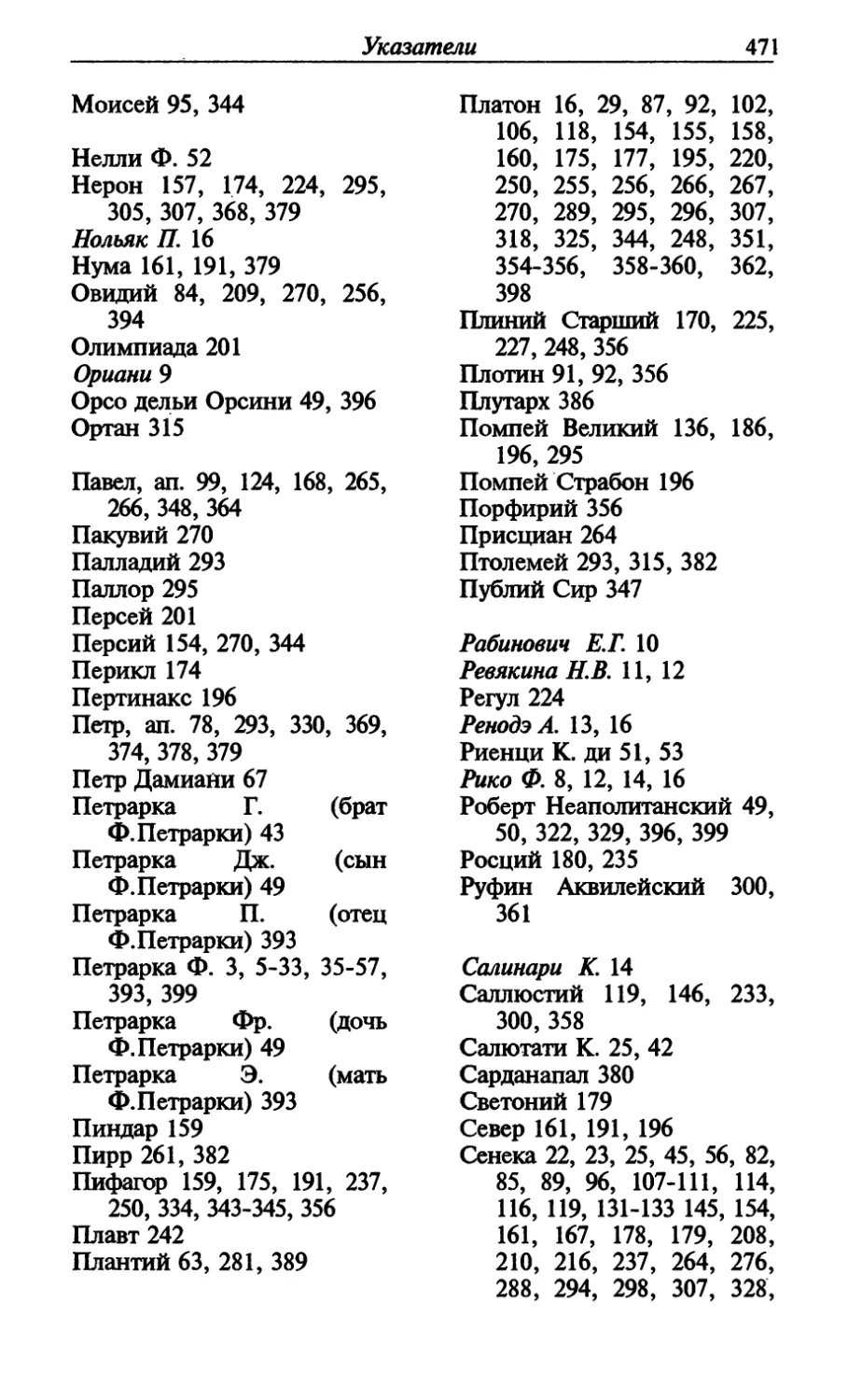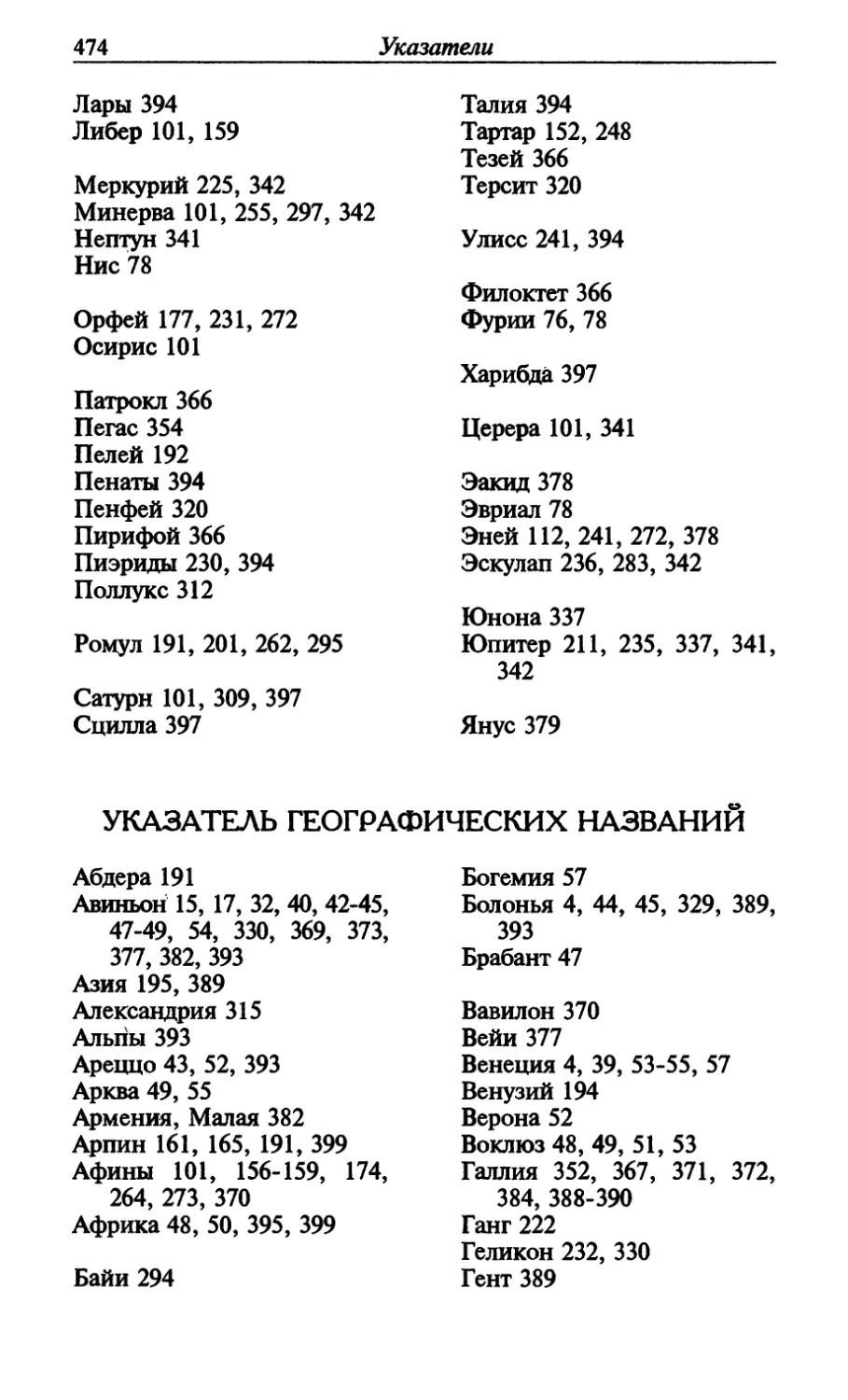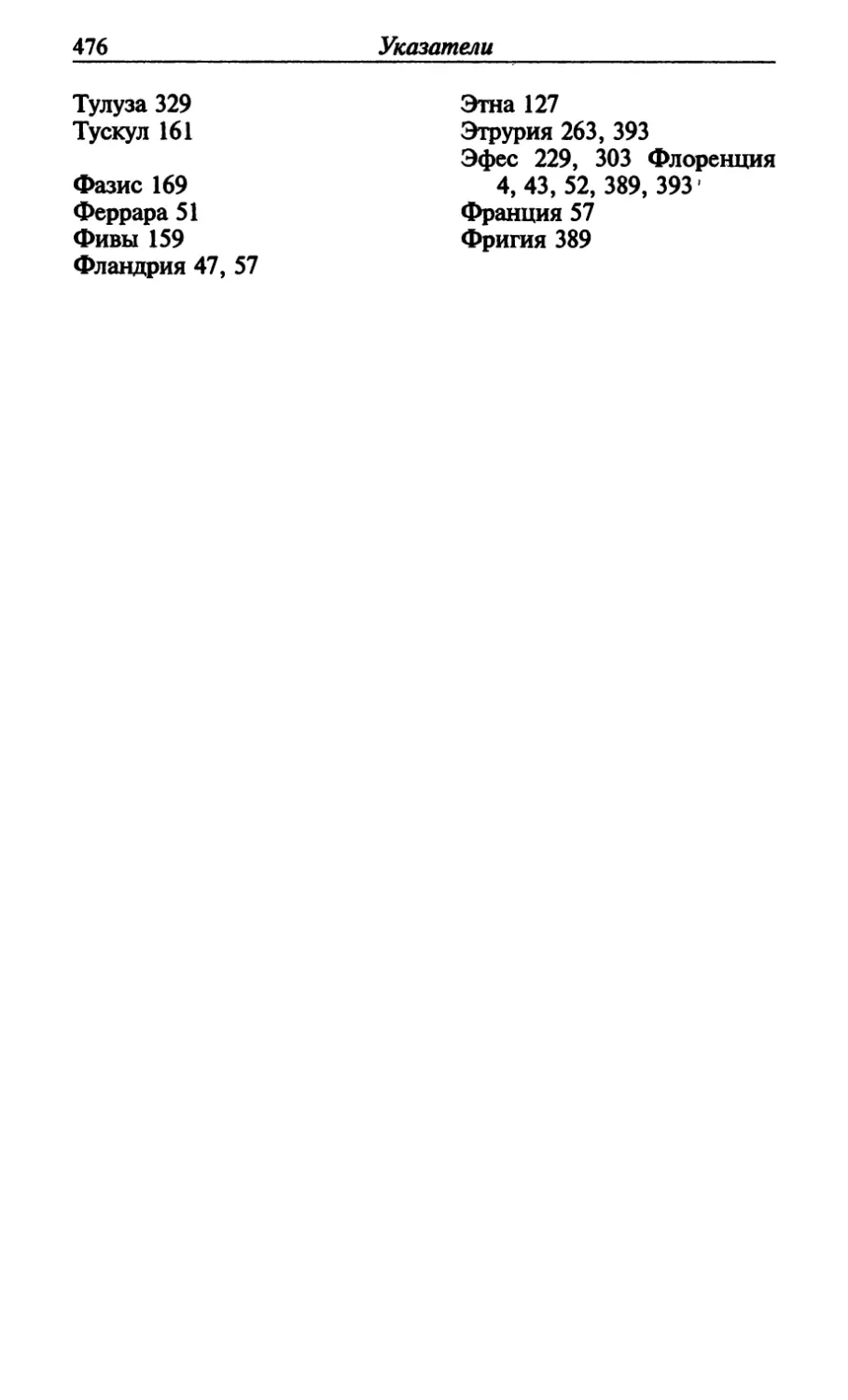Автор: Петрарка Ф.
Теги: история философии философия художественная литература
ISBN: 5-86004-152-7
Год: 1998
Текст
ФРАНЧЕСКО
ПЕТРАРКА
СОЧИНЕНИЯ
ФИЛОСОФСКИЕ
и
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ
Москва
РОСШИ
1998
Петрарка Ф.
3 Сочинения философские и полемические. —
М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 1998. - 477 с.
Книга представляет собой собрание основных
полемических трактатов выдающегося деятеля эпохи
Возрождения Франческо Петрарки, отражающих важнейшие
положения ренессансного мировоззрения, воплотившегося в
творчестве известного мыслителя. Без этих произведений
невозможно составить цельную картину этических,
социально-политических и философских взглядов виднейшего
флорентийского гуманиста. В состав издания входят
следующие трактаты: «Об уединенной жизни», «О средствах
против превратностей судьбы» (избранные диалоги),
«Инвектива против некоего человека высокого положения, но
малой учености и добродетели», «О невежестве своем
собственном и многих других», «Инвектива против того, кто
хулит Италию», «Инвективы против врача». Все
произведения переведены на русский язык впервые и
сопровождаются научной статьей о мировоззрении Ф.Петрарки,
комментариями и указателями.
ISBN 5-86004-152-7
© «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), 1998.
© Н.И.Девятайкина, Л.МЛукьянова.
Составление, перевод,
комментарии, указатели, 1998.
Составление, перевод, комментарии, указатели
Н.Й.Девятайкиной, ЛМЛукьяновой
Вступительная статья Н.КДевятайкиной
ПЕТРАРКА
КАК ФИЛОСОФ И ПОЛЕМИСТ
В переломную эпоху, время больших исторических
перемен общественно-политическая и идейная
позиция писателя, поэта, философа обретает большое
значение; его духовные поиски, обращение к прошлому,
его публицистика, художественная правда сочинений,
личное участие в событиях оказывают огромное
влияние на современников, формируют их настроения,
взгляды, идеалы.
И — не только современников. Через столетия
многое в воззрениях передового мыслителя может
оказаться политически, культурно, научно злободневным.
Сказанное в полной мере относится к итальянскому
поэту, публицисту, философу, писателю Франческо
Петрарке: его представление о природе человека, свободе,
гуманности, справедливости, о нравственности и
счастье, его поиски истины и отстаивание права поэта на
служение ей, его защита свободы суждения, отрицание
абсолютных авторитетов, его взгляды на отношения
государства и граждан, на власть, на нравственный
облик того, кто ею облечен, на войну и мир, тиранов и
тиранию во многом созвучны проблемам
сегодняшнего дня. Это побуждает к пристальному рассмотрению
творческого наследия первого гуманиста итальянского
Возрождения, в первую очередь — к переводам наиболее
значимых его сочинений. Среди них и те трактаты и
инвективы, которые представлены в настоящей книге.
С именем Петрарки связывают начало
Возрождения. Его самого и тех, кто пошел по его стопам,
называют мыслителями-гуманистами, связывают с ними
4
Н.И.Девятайкина
важный этап развития гуманизма — ренессансный,
творчески впитавший в себя многое из гуманизма
античного и гуманизма христианского, но поставивший
по-новому проблему человека, его достоинства,
благородства, добродетели-доблести, совести, свободы воли,
нравственных возможностей и нравственной
ответственности личности.
Творчество Петрарки падает на XIV в. Сложное и
противоречивое время для Италии, его родины.
Расцвет ее городов-государств (Флоренции, Венеции,
Генуи, Милана, Падуи, Перуджи, Сиены, Болоньи и
др.), появление в них мощной раннекапиталистиче-
ской экономики сочетается с политической
раздробленностью страны. Существенную роль продолжала
играть в ее судьбах средневековая германская
империя, настойчиво боролось за свои интересы папство.
На это бурное столетие приходится начало
формирования людей нового типа, собственно, современной
личности. В повседневности, прежде всего городской,
рождалось новое отношение к жизни и обществу,
новая социальная психология. Для умонастроения
времени характерны рационализм, любознательность,
уважение к знанию и тяга к нему; новым людям не чуждо
чувство чести, достоинства, собственной значимости;
их отличает расчетливость, деловитость, умение
ценить время, стремление стать богаче, трудолюбие и
уважение к труду, оптимизм и любовь к земной
жизни- стремление взять все от нее при понимании, что
делу время, а потехе час.
Самосознание деловых людей, рождающейся
интеллигенции, да и активной части крестьянства
проявлялось и в критическом, а то и
иронически-презрительном отношении к представителям благородного
дворянского сословия; осуждались праздность,
расточительность, спесь, вызывающая воинственность,
неделовитость сеньоров; не принималось как должное их
пренебрежительное отношение к «неблагородным»,
людям труда. Далеким от почтения становилось
отношение к духовенству: были очевидны его лицемерие,
алчность, невежество, безделье, моральная распущен-
Петрарка как философ и полемист 5
ность, лживость, несоответствие христианским идеаг-
лам и правилам жизни.
Меняется и отношение к религии. Вера в Бога
остается делом святым, но она не мешает свободомыслию*
критическому отношению к тому, что прежде
принималось как данность, начиная с учения "о первородном
грехе и заканчивая непорочным зачатием.
Гуманистическая идеология не была слепком ни
повседневной хозяйственной практики, ни
повседневного сознания. Это был базис, на котором
вырастала идеология Возрождения: она многое впитала
из новой социальной психологии, но многое и
отринула, вдохновляясь лучшими, освободительными,
творческими возможностями, которые объективно
содержались в созидательной, преобразующей
деятельности новых социальных слоев, осмысляемой
как общечеловеческая задача.
С идейной стороны философия, литература, поэзия,
искусство раннего Возрождения подготовлялись теми
прогрессивными тенденциями, которые имели место в
духовной культуре Европы ХИ-ХШ веков:
распространением светских знаний, начавшейся защитой
античной мысли, философским свободомыслием Петра
Абеляра (его рукописи были и в библиотеке Петрарки),
Иоанна Солсберийского, представителей Шартрской
школы (их сочинения тоже стояли на полках личной
библиотеки первого гуманиста).
С другой стороны, значительна роль итальянской
поэзии XIII в., прежде всего — «нового сладостного
стиля». Эта лирика оказалась связанной с жизнью
города-коммуны, борьбой против феодального
дворянства, императора, церкви. У Гвидо Гвиницеллй любви
придан характер высокого духовного начала; его
эстетическим манифестом стала канцона «В честных
сердцах любовь приют находит», утверждавшая, что она
родится в благородном сердце, она — проявление
высшего духовного богатства человека, независимо от его
сословной принадлежности.
Общепризнана роль Данте как крупнейшей фигуры
Предвозрождения. Защита возвышенной человеческой
6
Н.И.Девятайкина
любви, хотя еще и символизированной, не
преодолевшей абстрактности, рождение нового понимания
достоинства и благородства, высокая оценка разума,
начало оправдания славы, значимости земной жизни,
утверждение возможности счастья в ней (не исключая
поисков «высшего» небесного блага) подготавливали
утверждение новых подходов гуманизма к человеку и
его бытию.
Плодотворным для Возрождения оказался
страстный интерес Данте к античности, понимание роли
народной речи, содержащее в себе зачатки национального
сознания, осуждение светской власти папства,
политических усобиц в стране, осуждение сеньоров, яростная
критика социальных и нравственых пороков духовенства.
Данте не создал цельного мировоззрения, в нем
еще много старого, религиозно-догматического,
аллегорического, мистического, схоластического. Он еще
не сознавал себя человеком новой эпохи, но все те
зерна нового, которые обнаруживаются в его
творчестве, проросли мощными всходами уже в раннем
гуманизме1 . Современные исследователи отказываются и в
приложении к Петрарке от традиционной точки
зрения, что первый гуманист не хотел признавать Данте:
и в письмах, и в сонетах, и в трактатах обнаруживается
идейное, творческое влияние последнего, а также
открытое и прямое цитирование «Новой жизни»,
«Божественной комедии», «Пира», «Монархии».
Пожалуй, никакой другой период не требовал
стольких усилий мысли для смены прежних философ-
ско-этических координат, как эпоха Возрождения. И
не породил столько блестящих писателей, философов,
поэтов, педагогов, столько гениальных художников:
под стать времени, активно и вдохновенно
вырабатывали они новый идеал человека и общества. Петрарка
вобрал в себя новизну, сложность, неоднозначность
времени, его надежды и разочарования, его тревоги и
1 Мы опирались на выводы, содержащиеся в работах Н.И.Голени-
щева-Кутузова, Н.Г.Елиной, Н.И.Балашова, Л.М.Баткина, А.Х.Гор-
функеля, С.М.Стама, А. Л .Доброхотова и др.
Петрарка как философ и полемист 7
радости. Творчество первого гуманиста и поэта
Ренессанса — огромный мир, могучая река мысли: чем
глубже проникаешь в нее, тем яснее обнаруживаешь, как
далеко еще до сколько-нибудь полного исчерпания.
Последняя четверть века отмечена и в западной, и в
отечественной историографии взрывом внимания к
Петрарке.
Одно за другим появляются издания переводов его
сочинений, солидные монографии, выдвигаются новые
концепции, определяется, уточняется,
пересматривается время создания произведений, все больше интереса
проявляется к анализу каждого из них в отдельности —
будь то сонет, письмо или латинский трактат2.
Одним из ведущих исследователей Петрарки в
Италии является Уго Дотти. Уже в первых его работах
обосновывается тезис, что первый гуманист созидал
новую культуру на обломках средневекового
мировоззрения. Ее задачей было формирование новой
человеческой личности, а основными чертами — идея
ценности всякой человеческой деятельности, любовь к
античности, активная гражданская жизнь, стремление к
свободе и духовному достоинству. Главной причиной
противоречивости гуманиста названа сложность
отрыва от старого. Монографические исследования У.Дот-
ти, вышедшие в последние годы, доказывают, что с
Петрарки начинается современное философское
самопознание, более того, «идеологическая революция»3.
2 О круге исследователей и основных направлениях в изучении
мировоззрения Петрарки дают представление материалы конгрессов,
прошедших в связи с 600-летием со дня его смерти. Большинство их
участников продолжает заниматься ранним гуманизмом и ныне. См.:
И Petrarca ad Ащиа. Atti del convegno di studi nel VI centenario (1370-
1374). Padova, 1975; Convegno intemazionale Francesco Petrarca. Atti dei
convegni lincei. Roma, 1976; Petrarca, 1304-1374. Beitrage zu Werk und
Wirkung / Hrsg. F.Schalk. Frankfurt a. M., 1975; Francis Petrarch, Six
Centuries Later. A Simposium / A cura di A.Scaglione. Chicago, 1975;
Petrarca e petrarkizam u slawenskim zemljma. Dubrovnik, 1978; Francesco
Petrarca, citizen of the Woiid. Proceedings of the World Petrarch Congress
Washington (1974). Padova; N.Y., 1980.
3 Dotti U. La formazione dell'umanesimo nel Petrarca // Belfagor.
1968. Voi. 23. N. 5. P. 532-545; idem. Petrarca a Milano. Milano, 1977;
Idem. Petrarca e la scoperta della coscienza moderna. Milano, 1982; Idem.
Vita di Petrarca. Roma-Bari, 1987.
8
КИ.Девятайкина
Это определение дано в монографии «Жизнь
Петрарки». В ней предложена новая концепция подхода к
биографии зачинателя Возрождения: она нарисована в
живом контексте времени, сам гуманист — как яркая,
крупная, многосторонняя фигура, политически и
общественно активная личность, остро понимающая
потребности эпохи. Большую работу исследователь ведет
в области научных публикаций (с параллельным
переводом на итальянский язык) латинских писем и трудов
Петрарки.
Широкое признание получили изыскания Ф.Рико,
М.Фео, К.Скинэра, У.Воусмы, К.Фостера, С.Скарпа-
ти, А.Бальдуино и др. В их исследованиях усилены и
конкретизированы выводы предшественников об
отрыве гуманизма Петрарки от господствовавшей
церковной идеологии, об отсутствии интереса к
трансцендентным вопросам, теологической дидактике и пр.
Есть и еще один существенный момент: исследователи
начали значительно четче, чем прежде, отделять
личное отношение Петрарки к христианству от его
позиции как мыслителя. При анализе первого чаще всего
говорится о близости благочестия Петрарки к
евангельскому христианству, о его полной свободе в
выражении своей веры, о том, что это не мешало ему
оставаться исключительно культурным человеком с чисто
светскими духовными интересами и философской
ориентацией идей и взглядов. (Именно в этом смысле
применяется к нему понятие «христианский гуманист».)
Что касается христианства как идейной системы, тр
чаще всего пишут, что в своей более глубокой
сущности оно сыграло роль толчка, стимула к поискам,
связанным с проблемами человека, с постижением его
внутреннего мира, с вопросом о бессмертии души. С другой
стороны, не меньше дала философия античности4.
4 Rico F. Vida è Obra de Petrarca. I. Lectura del «Secretimi». Padova,
1974; Idem. Philology and philosophy in Petrarch // Intellectuals and
Writers in fourteenth-century Europe. Tubingen; Cambr., 1986. P. 44-66;
Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. I. The
Renaissance. Cambr., 1980. P. 88-93; Foster K. Petrarch. Poet and Humanist
Edinburg, 1984. P. 15, 162; Parkes H. The divine order. Western culture in the
Петрарка как философ и полемист 9
Все больше обсуждают современные авторы и
вопрос о серьезной роли Петрарки в
общественно-политической жизни Италии. Они выявляют
злободневность, реализм, содержательность политической мысли
Петрарки, открытие им ряда тем в гуманистической
литературе5. Глубже, чем прежде, исследуется
рождение национальной идеи (плодотворное начало в этом
направлении было положено работами Р. де Маттеи)6 ;
по-новому прочитывается политическая лирика,
письма, диалоги7
Но и в сегодняшней литературе можно встретить
старые формулы (Фойгга, Кертинга, Ориани, Ферра-
ри) о социальном равнодушии, презрении к народу,
элитарности, эгоизме и «нарциссизме» первого
гуманиста, о его политическом невежестве, фразерстве,
беспринципности, сервилизме, космополитизме,
равнодушии к делам Италии либо — о консервативном
романтизме, грезах о всемирной монархии.
Внимание к Петрарке возрастает и в нашей стране:
за последние два десятилетия его сонетов, поэм,
прозы, писем переведено и издано больше, чем за весь
предшествующий период8.
Middle ages. L., 1970. P. 325; Pullan В. A History of Early Renaissance
Italy. L., 1973. P. 165-173; Feo M. Petrarca e la formazione dell'uomo // I
problemi della pedagogia. 1973. P. 685-687; Salinari C. Sommario di storia
della letteratura italiana. Roma, 1980; Balduino A. Boccaccio, Petrarca e
altri poeti del Trecento. Firenze, 1984. P. 212-215 etc.
5 Petronio G. Storicità della lirica politica del Petrarca // Studi
Petrarcheschi, 1961. Voi. 7. P. 247-264; Manselli R. Petrarca nella politicità delle
signorie padane alla meta del Trecento // Petrarca, Venezia e il veneto. Firenze.
1976. P. 9-20; Dotti U. Petrarca a Milano. Milano, 1977; Squarotti G. La
poesia politica del Petrarca // Petrarca e petraddzam... P. 29-30 etc.
6 Mattei R. de. Il sentimento politico del Petrarca. Firenze, 1944.
7 См: Voci A.M. Per l'interpretazione della canzone «Spirito gentil» di
Francesco Petrarca // Romanische Foischungen. Frankfurt a. M., 1973. N 91.
Heft 3. S. 281-288; Paoletti L. Retorica e politica nel Petrarca bucolico.
Bologna, 1974. P. 1-75; Viscardi A. Storia della letteratura italiana. Milano,
1976. Voi. 2. P. 149-163; Salinari С Op. cit. P. 136-140; Green Th.M.
Petrarch «viator»: the displacement of heroism // Yearbook of English
Studies. 1982. Vol. 12. P. 35-57.
8 Назовем основные: Петрарка Ф. Избранное. Автобиографическая
проза. Сонеты / Пер. с лат. М.О.Гершензона, с итал. Е.Витковского,
Вяч.Иванова, Н.Матвеевой, Е.Солоновича, А.Эфрона; Коммент.
Н.Томашевского. М.: Художественная литература, 1974; Он же. Соне-
10
Н.И.Девятайкина
Что касается отечественной литературы о Петрарке,
то первый серьезный очерк принадлежит перу М.А.Гу-
ковского, заявившего о принципиальном отличии не
только лирики, но и латинских трактатов гуманиста от
средневековых — в невиданном ранее интересе к
личности, земной жизни, природе, античности, в
оправдании чувств9.
Специальных монографий о Петрарке у нас
немного. Усилиями Р.И.Хлодовского фигура певца Лауры
представлена во всей ее сложности и полноте,
особенно в связи с анализом поэзии. Автор связывает начало
гуманистической эры со знаменитой речью Петрарки
на Капитолии, считает, что он сделал первый шаг к
созданию светской, атеологической, антиклерикальной
культуры и к реабилитации человека как
высокодуховного существа10. Большее или меньшее место уделено
Петрарке и в общих исследованиях последних
десятилетий по истории ренессансного гуманизма11. Важную
попытку рассмотрения взглядов Петрарки в
исторических рамках предприняла в фундаментальном
исследовании по истории раннего итальянского гуманизма
ты, избранные канцоны, секстины, баллады, мадригалы,
автобиографическая проза. М., 1984; Он же. Эстетические фрагменты / Пер.,
вступ. ст. и прим. В.В.Бибихина. М, 1982; Он же. Африка / Пер. с
лат. Е.Г.Рабинович, М.Л.Гаспарова; Отв. ред. М.Л.Гаспаров. М:
Наука, 1992.
В старой России был издан только один трактат Петрарки, самый
знаменитый, — «SECRETUM», блестяще переведенный на русский
язык М.О.Гершензоном (см: Петрарка. Автобиография. Исповедь.
Сонеты. М., 1914). Помимо этого публиковались избранные
переводы сонетов.
9Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. М.-Л., 1947. Т. 1.
С. 249-263.
10Хдодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М.,
Л974; Он же. Франческо Петрарка и гуманизм Треченто // История
всемирной литературы. М., 1985. С. 68-77.
Еще одна монография принадлежит перу автора данной статьи
(см: Девятайкина НИ. Мировоззрение Петрарки. Этические взгляды.
Саратов, 1989).
11 Абрамсон М.Л. От Данте к Альберта. М., 1979. С. 88-110; Гор-
функель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского
Возрождения. М, 1977. С. 64-74; Брагина Л.М. Итальянский гуманизм.
Этические учения XTV-XV вв. М., 1977. С. 76-89; Баткин Л.М. Итальянское
Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
Петрарка как философ и полемист 1^
Н.В.Ревякина12. Впервые к анализу привлечены
основные философские сочинения гуманиста и многие его
письма, что позволило предметно говорить о
рождении новых взглядов на человеческую природу, жизнь,
смерть, бессмертие, достоинство человека, мир, на
социальные проблемы (решение некоторых из них в
приложении к Петрарке только намечено, но в
интересном направлении). Исследователь диалектически
подходит к фигуре первого гуманиста, не уходя от
осмысления его противоречивости, но и не растворяя
гуманиста в ней. Плодотворно и специальное обращение
к разным сторонам мировоззрения Петрарки (его
педагогическим размышлениям, книжным заботам,
рождению самосознания новой личности), предпринятое
автором в ряде работ последнего времени13.
Довольно трудно дать общую оценку взглядам
отечественных философов на Петрарку. Если А.ФЛосев,
В.В.Соколов в общих исследованиях, В.В.Бибихин — в
специальных (о новой эстетике слова у Петрарки)
представляют современный уровень науки, выявляют
новые интересные моменты в позиции гуманиста (хотя
А.Ф.Лосев усиленно «платонизирует» Петрарку, а
В.В.Соколов слишком однозначно говорит о его
враждебности к Аристотелю)14, то в «Кратком очерке
истории философии» гуманизм представлен только
Макиавелли, в новейшем «Введении в философию» — Аль-
12Ревякина H.B. Проблемы человека в итальянском гуманизме
второй половины XTV — первой половины XV вв. М., 1977.
13Ревякина H.B. Проблема человека в творчестве Петрарки //
Бахрушинские чтения. Новосибирск, 1974; Она же. Франческо
Петрарка и гуманистическая педагогика // Возрождение: культура,
образование, общественная мысль. Иваново, 1985; Она же. Книжные
заботы Петрарки // Вопросы истории. 1986. № 3; Она же. Философское
наследие античности в итальянском гуманизме XIV — первой
половины XV веков // Античность в культуре и искусстве последующих
веков. М, 1984. С. 108-123; Она же. Гуманистическое воспитание в
Италии XTV-XV веков. Иваново, 1993.
14 См.: Лосев А.Ф. Эстетика Ренессанса. М., 1978. С. 221-226;
Соколов B.B. Европейская философия XV-XVII вв. М, 1984. С. 18-19;
Бибихин B.B. Слово Петрарки // Петрарка Ф. Эстетические
фрагменты. С. 7-37.
12
НЖДееятайкина
берти и Пико15. Еще удивительнее отсутствие раздела
о гуманизме в специальной работе по истории этики
ААГусейнова и Г.Ирлитца: целый этап развития
нравственной философии остается за пределами внимания16.
Даже беглое знакомство с наукой о Петрарке в
нашей стране показывает, что в изучении его взглядов
еще много пробелов, значительная часть сочинений
вовлечена в научный и культурный оборот лишь
частично, а некоторые еще не дождались своего часа вовсе.
Публикации в данной книге призваны хотя бы
отчасти восполнить этот пробел.
В книге публикуется первая часть трактата «Об
уединенной жизни». Считалось, что он написан вслед за
самым знаменитым сочинением — «Моей тайной» и
как бы оставался в ее тени. Ф;Рико предложил новую
датировку «Моей тайны»; если ее принять, трактат «Об
уединенной жизни» оказывается первым завершенным
философско-этическим трудом гуманиста. Время его
создания — 1346 год. Как и все остальное, он еще
много лет доделывался, расширялся, но так или иначе
отражает этап становления мировоззрения Петрарки, чем
особенно интересен. Текст сохранился в оригинале17.
Трактат написан на латыни, живым и ярким
языком. Он дает представление не только о взглядах
Петрарки на уединенную жизнь (хотя и по этому поводу
есть самые широкие возможности сопоставления его
взглядов со средневековыми), но и о его социальной
позиции, отношении к городу, о его взглядах на
природу, человека, его сущность и моральные свойства.
15 См.: Краткий очерк истории философии. М, 1973; Введение в
философию. М, 1989. Т. 1. С. 137-140.
16 См.: Гусейнов А.А., Ирлитц Г. Краткая история этики. М.*
1987; в предшествующих работах по истории этики Петрарка либо не
упомянут вовсе, либо представлен очень краткой и мало
выразительной характеристикой.
17 Перевод сделан по изданию: Petrarca Fr. Prose. Milano, 1955.
P. 288-405. Отдельным сторонам этого трактата посвящены две статьи
наших исследователей: Ревякина H.B. Франческо Петрарка и
формирование самосознания новой личности (по трактату «Об уединенной
жизни») // Средние века. 1986. Вып. 49. С. 82-103; Девятайкина Н.И.
Свобода и уединение в этике Петрарки (по трактату «Об уединенной
жизни») // Средневековый город. Саратов, 1983. Вып. 7. С. 71-83.
Петрарка как философ и полемист \Ъ_
Следует заметить, что одним словом «трактат» данное
сочинение не определить. Оно, действительно, разделено
по традиции на разделы (секции), но этим по жанру
далеко не исчерпывается; некоторые страницы скорей
напоминают по стилю письмо с автобиографическими
вкраплениями, другие — филиппики, адресованные
«occupatus» («занятому», состоятельному и очень
озабоченному частными делами человеку), третьи откровенно
сатиричны, четвертые, напротив, лиричны, особенно те,
где речь вдет о красотах полей, лесов, рощ, среди котот
рых живет «друг уединения»; местами автор переходит на
язык псалмов, местами — на язык площади, толпы.
Остается научно актуальной и задача оценки
трактата. А.Ренодэ увидел в нем христианский пессимизм
и аскетизм, У.Боско, Ф.Дикстра, Р.Аматуро —
рождение несредневекового взгляда на уединенную жизнь18.
Последним из трактатов, написанных Петраркой, стал
«О средствах против превратностей судьбы» («De remediis
utriusque fortunae»), самый большой по объему и самый
популярный при жизни автора и в последующие века.
Трактат состоит из 253 диалогов на десятки
философских, социальных, политических, житейских, любовных и
даже медицинских тем19. Начат в 1354 г., завершен в
1360, несколько лет дополнялся20. (В Государственной
Публичной библиотеке Санкт-Петербурга хранится один
из четырех точно датированных XIV в. списков трактата,
возможно, самый ранний — 1388 года21 ).
18 См: Renaudet A. Humanisme et Renaissance. Dante, Petrarque,
Standoch, Erasme, Lefevie. Genève, 1958. P. 61; Bosco U. Francesco
Petrarca. Bari, 1946. P. 296; Diekstra F.N.H. A dialogue between Reason
and Aweisity. Assen, 1968. P. 64; Amaturo R. Francesco Petrarca // La
letteratura italiana. Storia e testi. Firenze, 1970. Voi. 1. P. 139.
19 Petrarca Fr. De remediis utriusque fortunae. Bern, 1610. Научного
издания трактата еще нет, все имеющиеся примерно равноценны. Мы
делали перевод с данного издания.
20 Время завершения трактата — 4 октября 1366 года — помечено
рукой самого Петрарки. К сожалению, несмотря на многие усилия,
исследователям удалось установить датировку по годам только для
нескольких диалогов, у остальных она так и колеблется в рамках 12 лет,
что, конечно, затрудняет понимание тех или иных мотивов,
побудивших к созданию диалога.
21 См. описание: Итальянские гуманисты в собрании рукописей
Государственной Публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедри-
14
Н.И.Девятайкина
Почти все авторы признают сильное влияние на
него стоицизма (чем он вдвойне интересен), но в
остальном их позиции далеки от единодушия. До сих пор
трактат определяют то как наиболее средневековый из
написанных гуманистом (Салинари), то как горько-
пессимистический, августиновский, отрицающий
земное ради небесного (Джероза, Трипэ, Барон, Тилден),
то, напротив, как продукт зрелой гуманистической
мысли, реалистически-жизненный, решающий в
новом духе важнейшие проблемы (Дикстра, Аматуро,
Мартеллотти, Рико, Дотти и др.), полностью
противоположный аскетически-средневековым подходам (Уит-
филд, Бэрджин)22.
Трактат позволяет выявить, в какую сторону
эволюционировало влияние на Петрарку античной мысли по
сравнению с ранними сочинениями; вместе с тем, как
в определенном смысле итоговое, обобщающее
сочинение он представляет философскую и общественно-
политическую позицию гуманиста в эпоху зрелости.
Исследован трактат совершенно недостаточно,
многие десятки диалогов вообще не введены в научный
оборот. Трактат разделен на две книги, в первой
беседу между собой ведут персонажи, заимствованные у
стоиков, — Разум и Радость или Разум и Надежда, во
второй — Разум и Скорбь или Разум и Страх. Очень
редко участники диалога не поддаются «социальной
расшифровке»: как правило, удается понять,
представитель какого социального слоя, культурного или
политического круга стоит за фигурой оппонента Разума;
сам же Разум, как общепризнано, — голос автора.
Пожалуй, еще меньше образованные читатели
знают об «Инвективах» Петрарки, впервые переведенных
на / Сост. Е.В.Вернадская. Ленинград, 1981. С. 2-4.
22 Salinari С. Op. cit. Р. 145; Gerosa Р. Umanesimo cristiano del
Petrarca. Torino, 1966. P. 118; Baron H. Petrarch: His inner Struggle and
humanistic Discovery of Man's Nature // Florilegium Historiale. Toronto,.
1971. P. 35; Tilden J. Spiritual conflict in Petrarch's Canzoniere // Petrarca.
Beitràge... P. 290; Diekstra F.N.H. Op. cit. P. 21; Amaturo R. Op. cit. P. 150;
Martellotti G. Dante, Boccaccio e altri scritti dall'Umanesimo al
Romanticismo. Firenze, 1983. P. 296; Rico F. Philology... P. 62; Dotti U.
Vita... P. 296; Whitfield J.H. Petrarc and Renaissance. N.Y., 1943. P. 56;
Beigin T. Petrarch. N.Y., 1970. P. 130-133.
Петрарка как философ и полемист 15^
на русский язык и представленных в данной книге.
Инвектива ■— особый жанр, особый род сочинений,
весьма популярный в средние века и эпоху
Возрождения. Их писал и Петрарка, их писали и против
Петрарки. Инвективы, как правило, остро полемичны по
содержанию, написаны на злобу дня, в ответ на какое-
то (тоже полемическое) высказывание, мнение,
сочинение в адрес гуманиста. Таких «Инвектив» четыре.
Самая ранняя — «Инвективы против врача» — от
1352-1355 годов; довольно объемная, в четырех книгах,
представляющих как бы ответы на обвинительные и
бранные письма двух папских медиков. Стиль и язык
этой инвективы, как и других, живой, местами
умышленно заниженный, местами столь же умышленно
переведенный на высокий философский слог. Инвектива
дает значительный материал для выяснения
социальной позиции гуманиста, его отношения к папскому
двору и окружению; наиболее важные страницы —
дискуссия о роли поэзии, риторики и философии23.
Почти одновременно возникла инвектива с
длинным и «говорящим» названием «Против некоего
человека высокого положения, но малой учености и
добродетели»24 . Поводом в данном случае послужили
пересуды в папском Авиньоне относительно поселения
Петрарки (в 1353 г.) в Милане у Висконти —
могущественных правителей. Петрарку пытались представить
«другом тиранов», и он достойно отреагировал (1354).
Инвектива позволяет выявить некоторые интересные
штрихи в позиции Петрарки по отношению к
Авиньону, к политической действительности Италии, его
представления о месте и роли поэта в обществе.
Самая сложная, противоречивая, объемная и
далекая от полной разгадки инвектива возникла в 1367
году. Опять же в качестве ответа на недоброжелательные
толки о Петрарке, в данном случае —- среди венециан-
23 Перевод осуществлялся по изданию: Petrarca Fr. Invective contra
medicum // Petrarca Fr. Opere latine / A cura di A.Bufano. Torino, 1975.
Voi. 22. P. 818-980.
24 Petrarca Fr. Invectiva contra quendam magni status hominem sed
nullius scientie aut virtutis // Ibid. P. 984-1Ó23.
16
К КДевятайкина
ских аристотеликов. Петрарка написал ее за несколько
дней и дал работу исследователям на несколько
столетий. Инвектива названа «О невежестве своем
собственном и многих других»25.
По традиции, идущей еще от П.Нольяка, она
признается произведением большой важности, а то
и лучшим выражением философской позиции
гуманиста. Но суть этой позиции видится по-разному:
как ортодоксальное благочестие (Габриэли), как
свидетельство консервативности по отношению к
философской мысли века (Джерулли), как
возрождение платоновской традиции (Ренодэ, Аматуро, Ри-
ко), как блестящая защита собственной формы
христианской философии (Фостер), как
гуманистическая защита роли поэзии, нравственной философии,
идеи познания человека (У.Боско, У.Дотти и др.)26.
Думается, что инвектива судится не по законам
жанра: Петрарка не ставил перед собой задачи
сколько-нибудь последовательного изложения своей
философской позиции или взгляда по какому-то
вопросу. Он занят самозащитой, местами сильной в
философском отношении, местами со слабыми,
лобовыми атаками, язвительными по форме, но
неубедительными по содержанию. Очевидно, с этой точки
зрения инвективу и нужно рассматривать.
Сказанное не означает, что инвектива неинтересна:
над ней нужно еще думать, извлекать свидетельства и
об отношении к Аристотелю и средневековому аристо-
телизму, к Платону и платонизму, к стоицизму, к
христианству; она задевает важные этические моменты,
вопросы о роли поэзии, нравственной философии, о
25 Petrarca Fr. De sui ipsius et multorum ignorania // Ibid. P. 1024-
1151. s
26Nolhac P. de. Petrarque et lTiumanisme. P., 1907. Vol. 2. P. 24;
Kristeller P.O. Eight philosophers of the Italian Renaissance. N.Y., 1964.
P. 17; Gabrieli F. Il Petrarca e gli arabi // Rivista di cultura classica e
medievale. 1965. Voi. 1. P. 489-494; Gemili E. Petrarca e gli arabi // Ibid.
P. 336; Renaudet A. Op. cit, P. 55-56; Amaturo R. Op. cit. P. 151; Rico F.
Philology... P. 62; Foster К. Op. cit. P. 18; Bosco U. Op. cit. P. 118-127;
Dotti U. Vita di Petrarca. P. 390-395.
Петрарка как философ и полемист 17
роли философов как наставников морали; довольно
объемно выглядят рассуждения о дружбе и пр.27
Последняя инвекггива называется «Против того, кто
хулит Италию». Она написана в 1373 г., за несколько
месяцев до смерти, против авиньонского кардинала,
письменно высказавшего недовольство по поводу
обращения Петрарки к папе Урбану V с призывами
вернуть престол в Рим28. Инвектива носит как бы истори-
ко-политический характер, содержит серьезные
размышления о роли Рима, Авиньона, об Италии; будучи
одним из последних сочинений, она позволяет
поставить вопрос о том, насколько изменилась позиция
Петрарки по сравнению с предыдущими периодами
его творчества.
Представленные в книге публикации содержат
немало общих тем, позволяющих проследить развитие
мысли первого гуманиста. С философско-этической
стороны среди наиболее значимых можно выделить
вопросы о природе, достоинстве и нравственных
свойствах человека, смысле и цели его бытия, роли и
назначении нравственной философии и поэзии.
Петрарка первым в его время выделил этику как
особую и важнейшую часть философии и четко
ориентировал ее на познание человека. Впервые эта задача
сформулирована уже в трактате «Об уединенной
жизни»: «Я верю, что благородный дух человека ни на чем
не успокоится, кроме как на Боге, цели нашего
существования, кроме как на самом себе и на своих
внутренних стремлениях, кроме как на другой душе,
близкой ему в силу сходства». Как видим, гуманист ставит
две задачи: познание Бога и познание самого себя, да
и третью — познание других людей. Сама постановка
на один уровень этих проблем нетрадиционна; она как
бы поднимает человека до Бога, делает его столь же
значимым объектом познания. Здесь, несомненно,
рождение собственно гуманистического подхода, в кото-
27 Интересная, хотя и краткая характеристика гуманистических черт
этой инвективы содержится в кн.: Горфункель А.Х. Указ. соч. С. 66-77.
28 Petrarca Fr. Invertiva contra eum, qui maledixit Italie // Petrarca Fr.
Opere latine. Voi. 2. P. 1154-1253.
18
К И.Девятайкина
ром будет постепенно сокращаться расстояние между
человеком и Богом.
К познанию человека Петрарка призывает, и очень
страстно, в инвективе «О невежестве...»: «Ведь какую
пользу, спрашивается, принесет знание природы
зверей, и птиц, и змей, если не знать или презирать
природу людей, не знать, для чего мы рождены, откуда
пришли, куда идем». В самой постановке вопроса —
вызов средневековой схоластике. Это она
умозрительным образом занималась изучением природы и
обходила человека. Но вызов брошен не только схоластике:
в словах Петрарки есть упрек относительно презрения
к природе человека. Он был вполне адресным:
специально о «презренной и несчастной природе человека»
написал в конце XII в. папа Иннокентий III, и его
трактат оставался настольной книгой для монахов и
мирян не одно столетие, Петрарка бросает вызов папе
не впервые: десятью годами раньше он, конечно, не
называя имен, пишет специальный диалог «О печалях
и несчастии», опубликованный в этой книге, против
папского сочинения.
Петрарке важно, чтобы делом познания человека
занялась именно философия. Но гуманист не только
ставил перед ней задачи, но и сам пытался найти им
решение. Первым в гуманизме он поставил перед
собой задачу нравственно реабилитировать человека,
доказать великие возможности его совершенствования.
Это неизбежно подводило к вопросам о физических и
t духовных свойствах человека. Уже в трактате «Об
уединенной жизни» гуманист заговорил об
индивидуальной природе человека. «Каждый человек должен
думать, каким его сотворила природа... пусть каждый оп^
ределит, какая именно жизнь соответствует его
природе и характеру». Развернутые суждения о природе
человека мы встречаем в трактате «О средствах...». В его
диалогах в качестве собеседников выступают
стоические персонажи — «Разум», «Радость» и «Надежда» в
первой книге, «Разум», «Скорбь» и «Страх» во второй.
Как правило, нетрудно определить, представитель
какого круга или кругов общества стоит за оппонентами
Петрарка как философ и полемист 19^
«Разума», сам же он — голос Петрарки. Диалоги
весьма схематичны, чаще всего оппоненты «Разума» бросают
одну и ту же по смыслу реплику, связанную с главной
темой разговора, а «Разум» дает пространные ответы.
С философской стороны гуманиста занимает
вопрос, откуда — от Бога или от природы в человеке его
духовные свойства; в большинстве случаев Бог и
природа выступают как синонимы, особенно в уже
названном диалоге «О печалях и несчастии» (II, 93),
одном из самых насыщенных гуманистическими идеями
в трактате. В подходе к самим свойствам души и тела
Петрарка неоднозначен и противоречив: если в
трактате «Об уединенной жизни» о здоровье тела говорится
как о чем-то естественном и важном для человека, то
в диалогах трактата «О средствах...» тело может
определяться то как «враг души», «тягостное ночное
пристанище», то как нечто непревзойденное и
прекрасное. Петрарка не раз с восхищением говорит о
щедрости «матери-природы» по отношению к телу. Он
выбирает из сочинений античных авторов, чаще всего
Цицерона, яркие аргументы в защиту красоты и
целесообразности устройства тела — от округлой формы
головы до прямохождения (II, 93). Для убедительности
добавляются и раннехристианские доводы: сам
Христос избрал человеческое тело, воплотился именно в
человека, что являет собой знак достоинства его
физической природы. Кроме того, Петрарка подхватывает
не очень распространенную версию о возрождении
тела после смерти «легким, светящимся и непорочным».
Много рассуждает гуманист о душе, а шире — о
духовных свойствах человека. Душа объявляется
«дивным творением природы» (II, 93). Петрарка считает
даром природы разум, память, красноречие,
добродетель, свободу воли, талант. В определении места
разума он не очень последователен: то ли это свойство
души, то ли «всего» человека. Для него привычна
формула Аристотеля, что «человек — разумное и смертное
животное». В трактате «Об уединенной жизни»
говорится о силе ума, его способности властвовать над
чувствами. О том, что разумная душа управляет телом,
20
Н.КДевятайкина
а тело ей служит, гуманист напоминает своему
оппоненту в «Инвективах против врача» и-, конечно, не
может удержаться от классического добавления, что к
врачу относится только вторая часть аристотелевского
определения.
Существенным моментом для всего раннего гума-^
низма было обсуждение проблемы бессмертия души.
Петрарка смолоду был критически настроен к
философам, не признававшим этого. И смолоду искал
аргументов не только у христианских писателей, но и у
античных авторов. В диалогах tpaicrara «О средствах».» о
бессмертии души упоминается то в качестве
доказательства достоинства человеческой природы, то при
объяснении смертности, то в связи с рассуждениями о
нравственных задачах человека. С большим пафосом о
бессмертии души говорится в инвективе «О
невежестве...» как о высшем счастье, выпадающем на долю
христианина.
Много рассуждает Петрарка о законах и свойствах
человеческой природы. В диалоге «О страхе смерти»
«Разум» заявляет: «Рождаться, расти, стареть,
испытывать жажду, голод, бодрствовать, спать, а также
умирать — все это заложено в природе человека» (II, 117).
С этим не следует спорить, по этому поводу не следует
печалиться, этому нужно спокойно повиноваться:
«Подобает, чтобы не природа ваша вам, а вы ей
подчинялись». Слова «Разума» призваны доказать, что не
следует страшиться смерти. Аргументируя это, он
взывает к природе: то говорит, что ненавидящий смерть
ненавидит естественное или боится его, как и саму
природу, то — что «самое лучшее» — свыкнуться с ее законами.
В начале диалога «Разум» заявляет, что
человеческую природу создают два свойства, «связанные
воедино» — разум и смертность. И затем большинство
суждений на тему о смертности он почерпывает у стоиков.
В обсуждении самой, казалось бы, христианской темы
гуманист обходится без напоминаний о смертности
как следствии грехопадения Адама, т.е. без идеи
первородного греха; толкуя о природе человека, он ни
разу не называет ее греховной; призывая заботиться о
Петрарка как философ и полемист 2_
душе ввиду ее бессмертия, не оговаривается, что душу
может ждать не только «вечная жизнь», но и «вечная
смерть».
В приложении к свойствам человеческой природы
Петрарка уверенно использует термин «достоинство»
(dignitas): «...некоторые животные сильнее человека»
некоторые быстрее, некоторые обладают более
острыми чувствами, но нет ни одного, превосходящего
человека достоинством, ни одного, о ком забота творца
была бы такой же, как о человеке» (И, 93).
Размышления о природе человека позволили
по-гуманистически определить еще одно важное свойство,
заложенное в ней: человечность. В трактате «Об
уединенной жизни» он пишет: «Есть ли большее счастье,
чем спасение своей души и неустанная помощь
другим... Если кто-то способен направить усилия сюда, но
не делает этого, он недостоин имени человека, он
бесчестит природу человека, он забывает об обязанности
человечности». В другом месте гуманист призывает
«одолевать» себя человечностью.
Уже со времен трактата «Об уединенной жизни»
Петрарка часто пишет еще об одном: о труде как
свойстве человеческой природы, полагая, что выбирать
занятие надо «по натуре и характеру», на всю жизнь.
Труд понимается Петраркой как естественная
потребность, вроде потребности в воздухе; хлебе, воде, и как
питающий источник духовного развития. Это — целое
открытие. Подобное понимание становится составной
частью гуманистической веры Петрарки в добрые
качества человеческой природы, в силы, возможности
личности в рамках земного бытия.
Наконец, в трактате «О средствах...» с восхищением
говорится еще об одном: о творческих способностях
человека как свойстве его природы. Как можно понять
гуманиста, человек занимает особое место в мире и
потому, что постоянно совершенствует самого себя и
условия своего существования. Скажем, при помощи
лекарств и разнообразных «искусств» — от
изготовления искусственных конечностей до очков — он
научился противостоять болезням и случайным напастям
22 НЖДевятайкина
(II, 93). В другом месте говорится, что человек должен
радоваться «удобствам городов», но ведь и они,
конечно, следствие многих его усилий и «искусств».
Публикуемые нами сочинения дают возможность
представить, как рождалась гуманистическая
нравственная философия, по крайней мере, каким
содержанием наполняются представления о добродетели,
благородстве, славе, цели человеческого бытия.
В трактате «Об уединенной жизни» Петрарка
называет одним из главных «учителей» в деле «одоления
себя человечностью» нравственную философию: она
научит, «как хорошо прожить». «Инвективы против врача»
и «О невежестве...» показывают, что всем
средневековым наукам Петрарка отказал в роли нравственных
наставников. Пафос инвектив против врача направлен,
в частности, на доказательство того, что медики
неспособны врачевать души и заботиться о добродетели.
И неспособны стать истинными философами. «Когда я
увижу, что ты презираешь дела преходящие,
почитаешь доблести, стремишься к истинной славе,
презираешь деньги, с благословением смотришь на небо, — я
поверю, что ты философ» (кн. II).
В диалогах трактата «О средствах...» гуманист много
раз повторяет, что истинные философы —
«врачеватели душ и наставники жизни». В своем времени
гуманист таких философов не находит и потому постоянно
отсылает к древним — Цицерону, Сенеке, Горацию и
многим другим. Он заявляет, что учебниками жизни
можно назвать сочинения римских
моралистов-стоиков, «наших», как он называет их постоянно. В
инвективе «О невежестве...» он высказывается на их счет
весьма пространно. Он пишет, что сочинения «грека
Аристотеля» дают знания, но не прививают
нравственных убеждений, не проникают в душу. Учение Христа
и латинская моральная философия «способствуют
усвоению добродетели», стремятся заронить в душу
любовь к лучшим делам, ненависть к худшим. При этом
для Петрарки непреложно условие: автор сочинений
на моральные темы должен быть на уровне тех
моральных максим, которые он проповедует; его слово
Петрарка как философ и полемист 23
должно сочетаться с величием духа и добродетельностью.
Иными словами, Петрарка поставил важнейший для
этики вопрос — о связи знания с нравственностью.
Пожалуй, рядом с античной философией, с точки
зрения нравственного воздействия на душу человека,
Петрарка ставит поэзию. Большая часть «Инвектив
против врача» посвящена доказательству того, что
поэты несут истину, воспитывают душу и воспламеняют
чувства. «Удивительным стилем поэты писали о
доблестях, о природе людей и всех вещей и вообще о
человеческом совершенстве» (кн. III). «Им дано заботиться
о бессмертии имени других людей и о поддержании
доблести в борьбе со временем и забвением» (кн. I).
Однако было бы большим упрощением
представлять, что Петрарка остался только популяризатором
античных представлений о нравственных качествах
личности. Конечно, он твердо стоял на почве
античной философии, но не меньше — и
раннехристианской, а главное — сумел высказать вполне
ординальные идеи и о добродетели, и о благородстве, и о славе,
и о счастье.
Доблесть-добродетель (virtus) была в центре
этических поисков всего гуманизма. Уже Петрарка
философски поставил вопрос о ее истоках и пришел к
убеждению, что это свойство потенциально заложено в
человеке от природы. «Добродетель, без сомнения, в
собственной воле человека, и каждый творит и
направляет ее по собственному усмотрению». В диалогах
«О добродетели» (I, 10) и «О мнениях относительно
добродетели» (I, 11) как бы в сжатом виде
представлена петрарковская концепция добродетели. Жаркий
диалог идет о том, кто может ее достичь. Устами
«Разума» Петрарка объявляет о такой возможности для
всех, что явно не согласуется ни со стоической, ни с
христианской доктриной. Главное ударение делается
на том, что «виртус» не есть что-то исключительное,
совершенное, застывшее, как считал, скажем, Сенека,
она «в постоянном поиске работы». «Добродетель не в
том, что сделано, но в том, что должно быть сделано...
Добродетельный человек не хвалится тем, что уже дос-
24
Н.И.Девятайкина
тигнуто, но беспокоится относительно того, что
должно быть достигнуто. Она жадна или подобна жадности,
чем больше ищет, тем бедней себе кажется и большего
домогается... Чего бы она ни достигла, все мало» (I, 10).
Идея нравственного прогресса выражена Петраркой
гораздо отчетливей, чем стоиками. Думается, что здесь
установки не только на нравственное
совершенствование, а шире, разностороннее — на активную
деятельность, героические труды на всех поприщах.
Добродетель, по словам Петрарки, «готовится к великим
делам», является толчком к трудам. Она всегда в
действии и всегда держит оружие наготове. Петрарке
важнее всего объяснить, что человек должен постоянно
совершенствовать свои моральные качества, повышать
нравственный уровень поведения, «взращивать
добродетель». Со времен трактата «Об уединенной жизни»
гуманист убежден, что делать это «никогда не поздно».
В рассуждениях о мотивах, влекущих к добродетели,
заметно звучат гуманистические ноты, немалую роль
играет желание через добродетели прославиться («О
средствах...», I, 92), к ней влечет сознание невежества
и недостатков («Инвективы против врача», III).
Наряду с внутренними, нравственными побуждениями
важными объявляются общественные, социальные.
Светскость и новизну рассуждений Петрарки о данных
стимулах уже отмечали авторы.
В круге вопросов, касающихся добродетели,
сложным для Петрарки оказалось определение цели ее
обретения. Довольно часто встречается формула,
провозглашенная «Разумом» в одном из диалогов: «Стремись
возвыситься, иди по следу добродетели с первого шага
до последнего, никуда не отклоняясь и нигде не
останавливаясь... И тогда достигнешь не только славы и
лучшей,судьбы, но и самого неба». Как видим, здесь
важно и земное, и небесное, но — и в этом уже
гуманизм — небесное блаженство обещается за активную,
наполненную подвигами, трудами, славой мирскую
жизнь. Подобную награду обещали доблестным мужам
Цицерон и философы-стоики: в петрарковском
обещании больше античных мотивировок, чем средневеко-
Петрарка как философ и полемист 25
во-христианских. Активная, полнокровная жизнь на
земле по-гуманистически объявляется залогом
небесного блаженства. Вслед за Петраркой весь ранний
гуманизм, начиная от Салютати и завершая Альберта,
будет вспоминать об этом стимуле, призывая
одновременно к обретению и совершенствованию гражданских
добродетелей.
Петрарка всесторонне изучил подходы античных
философов к добродетели. По его признанию в
инвективе «О невежестве...», многое с теоретической
стороны было почерпнуто в «Этике» Аристотеля, особенно
относительно классификации добродетелей-доблестей,
не меньше извлечено из Сенеки, Цицерона и Горация.
После этого следует знаменитая тирада о роли
нравственной философии и философов: латинские авторы и
их учение о добродетели превозносятся до небес. И...
начинается решительный разворот в сторону
христианству. «Даже если наша цель не в добродетели, а
именно в этом ее усматривают философы, прямой
путь к нашей цели ведет через добродетели, когда мы
их не только познаем, но и возлюбляем». Чуть дальше:
«Добродетель — лучшая вещь после Бога... будем
почитать его ради него самого и добррдетель ради него.
Бога — как единственного творца жизни, добродетель —•
как ее главное украшение».
Итак, добродетель превращается в средство для
достижения цели, перестает быть «наградой» в себе самой.
В термин «виртус» Петрарка вкладывает очень
емкое содержание: им обозначается и высокая
нравственность вообще, и мужество, и храбрость, и отвага,
честное служение родине, благородство, достоинство,
геройство. Очевидно, когда речь идет о гражданских
устремлениях и качествах характера личности, в
русском языке данному понятию соответствует слово
«доблесть». Так мы и переводили «виртус» гам, где
этого требовал контекст.
В учении о доблести-добродетели Петрарка во
многом преодолевает средневековые подходы. Оставив за
Богом отчасти прародительство в отношении «виртус»,
гуманист делает главным ее творцом человека. Добро-
26
НЖДевятайкина
детель понимается светски, взращивается в себе при
помощи светских же «искусств» — поэзии,
философии, науки, проявляется через живую и многогранную
связь личности и общества.
Гуманист выстраивает принципиально новую
систему критериев в подходе к личности. Среди них — и
благородство. Неустанно проводится мысль, что ни
каких-то выдающихся качеств, ни признания в глазах
общества человек не может получить по наследству
как атрибут «благородного» происхождения. Все
должно снискать «благодаря самому себе». Проблеме
благородства человека посвящена целая серия диалогов в
трактате «О средствах...». Содержание любого из них
показывает, что гуманист пришел к индивидуально-
нравственной концепции благородства, объективно
противопоставленной сословно-томистской доктрине.
Он как бы заставляет личность проснуться, поверить в
свои силы, способности и ценность. Истоком
благородства постоянно называются добродетель,
неустанный труд, активность на гражданском и военном
поприщах. Суждения о происхождении благородства,
естественно, сливаются с советами и наставлениями
относительно того, как стать благородным. И вновь
ответ — только через личную добродетель, собственные
усилия, труд (II, 5). Очень уверенно отстаивается
тезис, что человек может возвыситься отовсюду, какого
бы происхождения он ни был. Иными словами,
Петрарка выдвигает на первый план новый
гуманистический принцип равенства внутренних возможностей,
реализация которого зависит, по его мнению, только
от личных усилий индивида. «Подлинное
благородство», как его определяет гуманист, состоит в сочетании
добродетели, образованности, деятельности,
раскрытии себя для общества, в заслуженной и истинной
славе. При этом для человека незнатного происхождения
Петрарка видит как бы больше возможностей, чтобы
раскрыть свое «я», развернуться во всей полноте ума и
таланта. По Петрарке, человек должен как бы
постоянно показывать себя — через славу, труд,
добродетели, если он хочет состояться как благородная личность.
Петрарка как философ и полемист 27
Если обратить внимание на социальную сторону
диалогов, то несложно понять, что «Разум» — Петрарка
последовательно и очень резко возражает защитникам
традиционного дворянского благородства, доказывая и
его преходящий характер (I, 16), и отсутствие
преимуществ рождения и воспитания в знатной семье (I, 18).
Роскошествующему, кичливому дворянину
противопоставляются не только мужественные и простые
герои древнего Рима, но и «простые земледельцы»,
«деревенские отцы семейств». Да и главное дело жизни
всего дворянства — военные занятия, воинское
достоинство не окружено в глазах Петрарки ореолом славы,
благородства, геройства. Сама потомственность
отнюдь не кажется ему лучшим наследством (I, 48). «Ты
избрал кровавое ремесло», — сурово пеняет «Разум»
своему оппоненту. Осуждаются и нравственные
качества современных Петрарке рыцарей: их души
атакованы пороками, полны гнева, высокомерия,
жестокости, страсти к грабежам. Отрицание
феодально-сословной исключительности справедливо можно
назвать программным пунктом всей ренессансной этики.
В этом вопросе гуманист последователен от начала до
конца.
В рассуждениях Петрарки тесно увязаны между
собой не только добродетель-доблесть и благородство,
но и слава. Она понимается как награда, высокое
признание заслуг добродетельного и благородного
человека, как итог, венчающий его усилия. Вслед за Данте
Петрарка во всех трактатах и инвективах неустанно
повторяет, что в основе всякой славы лежит труд.
Специальный диалог посвящен проблеме славы в трактате
«О средствах...» (I, 92). Главная его идея — слава есть
тень доблести, она не рождается на пустом месте.
Диалог показателен как признание права личности на
земную славу, утверждая ее неразрывную связь с делами и
подвигами. Отдельные колебания в оценке славы
появляются только при рассуждениях о вечном.
Славе возвращается роль общественного мерила
значимости личности. Вместе с тем, она становится
28
Н.И.Девятайкина
путем осознания ценности своего «я», способом
самоутверждения; через нее раскрываются и новые
возможности человека.
Добродетель-дсклх)инство-благородство-слава —
краеугольные камни петрарковского идеала человека, в
котором моральные и интеллектуальные достоинства
сочетаются с высокими гражданскими принципами.
Идеал Петрарки высок. Он впитал в себя лучшие
общечеловеческие нормы, в том числе — выработанные
стоицизмом и христианством. Но этот идеал не есть
ипостась средневеково-христианского: он светский,
требующий самосовершенствования человека ради
него самого, ради общества, ради земной жизни;
конечно, и ради бессмертия души.
Из общефилософских вопросов, больше всего
обсуждаемых на страницах публикуемых сочинений,
значительное внимание уделено и вопросу о счастье. Он
всплывает уже в трактате «Об уединенной жизни», потом
будет обсуждаться в самом знаменитом из трактатов
Петрарки — «Моей тайне», а после нее — в инвективе
«О невежестве...». В первом трактате понятие о счастье
затрагивается в трех планах — философско-стоическом,
христианском, социально-житейском. Больше всего
суждений в духе стоиков. «Долг человека — избегать
недостойного, добродетель — стремиться к высокому, счастье
— достичь его». Близка к стоической и главная мысль
трактата, что свободу, счастье, следование добродетели и
природе, покой души можно обрести лишь в уединении.
Специальный диалог «О счастье» в трактате «О
средствах...» (I, 108) показывает противоречивость
гуманиста: отрицание земного счастья сочетается с его
признанием, 'стоические рассуждения — с опытом
жизни; заметно традиционным остается формально-
теоретический момент, живее идет обсуждение
жизненных реалий. В другой книге трактата также о
счастье — уже не раз упоминаемый диалог «О печалях и
несчастии», полемически названный «от противного».
Он содержит восторженный гимн красоте мира и
человека, из которого ясно, что счастье — иметь облик и
подобие Творца, разум, добродетель, чувства; счастье,
Петрарка как философ и полемист 29
что человеку служит окружающий мир, а он может им
управлять и повелевать, извлекать пользу «из любой
части природы»; счастье, что есть многие искусства и
ремесла, «служащие этой душе и этому телу».
Получается, что счастье — быть человеком, жить
полнокровной и достойной земной жизнью, заботясь о плотском
и духовном, творчески и активно относясь к природе.
Разумеется, среди составных частей счастья названо
и бессмертие души, и надежда на потустороннее
возрождение тела, как бы на превращение человека в
бога. Многое в диалоге перекликается со стоицизмом и
христианством, но окрашено, расцвечено ликующим
оптимизмом: активная, наполненная радостями жизнь
высоконравственного человека есть само по себе
счастье и преддверие потустороннего блаженства. В
понятие счастья входят как равноценные нравственный,
социальный и религиозный компоненты.
После этого диалога Петрарка вновь возвращается к
вопросу о счастье в инвективе «О невежестве...»;
Оговоримся, что проблема встает там в связи с оценкой
доктрины Аристотеля, Платона и христианских
авторов, не будучи ни единственной, ни самой главной.
Цель инвективы ■— защита Петраркой самого себя от
нападок молодых венецианских философов-аверрои-
стов, объявивших поэта добрым, но неученым
человеком. Авторитет Аристотеля отстаивался венецианцами
в противовес христианству, поэтому Петрарка должен
был искать доказательств приоритета христианской
философии над перипатетической. Петрарка сразу
заявил, что в отношении высшего счастья, высшей
истины и вечного спасения ori «не цицеронианец, не
платоник, а христианин». И затем обнажаются «слабые»
места учения Аристотеля о счастье. Петрарка заявляет,
что высшее счастье, высшую истину, вечное спасение
можно познать только через религию. В оценке
аристотелевской концепции счастья гуманист
ограничивается повтором мнения Августина: «Как сова солнце,
так Аристотель видел счастье; в лучшем случае он
видел свет солнца, но не само солнце... Истинного сча-
30
Н. И.Девятайкина
стья он так и не познал — я имею в виду то, без чего
оно невозможно, — веру и бессмертие».
В целом петрарковские представления о счастье
впитали в себя и стоицизм, и христианство, но не
ограничились этим. Гуманист, хотя и не до конца
последовательно, признал возможность и достижимость
счастья на земле, включив в содержание этого понятия не
только нравственные, но и социально-политические
моменты, понятие сопряженности счастья с
общественной пользой, трудом, счастьем других людей.
Важно и отстаивание мысли, что жизнь, жить — счастье,
если чувствуешь себя творцом, разумно подчиняющим
себе природу, но не восстающим против ее законов.
Философско-этическое наследие Петрарки
позволяет заключить, что ему принадлежит заслуга начала
разработки новой гуманистичекой этики. Именно он
поставил задачу познания человека, а само познание
объявил нравственной целью бытия. Принципиален
вклад гуманиста в новое понимание природы
человека, впитавшее в себя гуманистические традиции
античной и раннесредневековой философии и
прославлявшее человека как лучшее творение Бога и природы.
В разработке нового идеала человека наиболее
существенный вклад Петрарки — новое понимание
добродетели-доблести, благородства и славы.
Нравственный идеал гуманиста требует раскрытия всех сторон
человеческой личности и находит возможности
активного приложения ее сил в земном бытии. Новизна
Петрарки и в его оптимизме, доверии к возможностям
каждой личности, в позитивной и высокой оценке
земного существованиия, в понимании земного счастья как
совокупности духовных и социальных обстоятельств.
Человек был словно заново открыт первым
гуманистом, при этом — в двояком смысле: в родовом и
«космическом» плане (как часть природы и цель
мироздания) и как каждый данный индивидуум. Открытие
личности в Ренессансе не было противопоставлено
обществу, напротив, утверждало долг
самопожертвования во имя людей, во имя общего блага.
Петрарка как философ и полемист 31^
* * *
Для всех сочинений Петрарки характерна
внутренняя диалогичность и полемичность. Все это приводит
к попытке представить портреты «действующих лиц»,
сквозь которые проступает многомерный облик эпохи.
Трактат «Об уединенной жизни» состоит из девяти
частей (или глав) и предисловия, обращенного к
почтенному и образованному лицу, епископу и близкому
другу Филиппу Кабассолю. Петрарка не забывает о
нем и дальше, и частые приглашения разделить ту или
иную оценку придают мягкий личный оттенок
сочинению. В нем лишь несколько замечаний о дружбе, но
ее дух витает на всех страницах. В црологе Петрарка
заявляет о двух принципиальных для его понимания
вещах: о новизне поднимаемых им вопросов и о
неоднозначной реакции на них со стороны разных кругов
общества. «Я часто, — пишет он, — обращаюсь к
новым вопросам, говорю жестко, мысли и слова мои
непривычны ушам толпы и приводят ее в негодование».
Подобное вновь будет сказано в предисловии к
трактату «О средствах...» и во всех инвективах. Это делало
сочинения сущностно полемическими, заставляло
автора тщательно искать аргументы и доказательства
выдвинутых положений. Характер аргументации
выявляет с очевидностью авторитетность для Петрарки
римских философов, раннехристианских авторов и опыта
жизни. Средневековой философии будто и не
существует, даже Фома Аквинский не припоминается ни
единого раза. Точнее сказать, средневековая философия
присутствует в лице современных гуманисту
«диалектиков» только как объект критики, порицания,
насмешек. В меньшей степени это проступает в трактатах
«Об уединенной жизни» и «О средствах...» и в полной
мере — в инвективах. Иными словами, с Петрарки
начинается спор двух культур — средневеково-схоласти-
ческой и гуманистической.
Что касается трактата «Об уединенной жизни», то
впрямую там вдет сопоставление двух образов жизни —
городского, присущего «занятому», как бы мы сказали,
32
Н. И.Девятайкина
деловому, человеку, и деревенского, уединенного,
присущего ученому. Под пером Петрарки
вырисовывается два колоритных портрета. Портрет «занятого»
(occupatus) — блистательная сатирическая зарисовка, в
которой Петрарка впервые серьезно заявил о себе как
зачинателе жанра «ученой сатиры». Язвительно, с
нескрываемой усмешкой, остроумно, с большим знанием
дела описывается день из жизни занятого. Первая
картинка — утренняя трапеза горожанина. В описании
зала, где она происходит, и характера самого завтрака —
свидетельства застарелости, «замшелости»,
своеобразности быта богатого человека большого города,
возможно, представителя старинного городского рода:
«...заваленный подушками, располагается он под
сводами огромного, готового обрушиться зала. Покои
оглашаются криками, вокруг снуют дворовые псы и
домашние мыши... Подметается подгнивший пол, и все
вокруг покрывается ужасной пылью... Из атриумов выносят
серебро, кубки, украшенные драгоценными каменьями,
ложе покрывается шелком, стены — пурпуром, земля —
коврами... Он же свдит с хмурым выражением лица,
набрякшими веками, насупленными бровями, воротя нос, с
трудом ворочая неразлипающимися губами».
Затем изображается столь же неприглядная
вечерняя попойка и увеселения. С грустной иронией
добавлено, что «он», перегруженный яствами, не может
спать безмятежно. Ему снятся клиенты, притесненные
бедняки, изгнанные с наделов крестьяне. Здесь уже не
просто гротеск: щемяще-острое ощущение и
осуждение несправедливости сильных по отношению к
слабым; гуманисту, по его словам, больно бьет в глаза
пресыщение одних, нужда и голод других.
С презрением описываются ежедневные занятия
городского богатея, отразившие, скорее всего,
специфику жизни Авиньона или Милана. «Солнце в зените...
он мечется от жары, задыхается, торопится, удваивает
хитрости лжецов... им движет алчность, злоба, страсть.
Он целый день грабит живых». Гуманисту
отвратительно все, на что идут «занятые» ради денег, — козни,
обманы, преступления.
Петрарка как философы полемист 33
Дополняет портрет описайие тех, кто прислуживает
этим «деловым лицам» и чья участь кажется Петрарке
вдвойне жалкой и недостойной. «Все у них чужое:
чужой порог, чужая кровля, чужой ум, чужое мнение, не
по своей воле плачут и смеются, презрев собственные
чувства, живут чужим, думают о чужом».
В конце первой книги трактата Петрарка подводит
черту: «По своей воле или нет, большая часть смертных,
склоненная к земле, наподобие животных, и служащая
плоти, бесславно влачит свое жалкое существование».
Портрету «делового» и «занятое» противопоставлен
портрет ученого, философа, писателя, нового
интеллектуала. В первой части книги он прописан весьма
схематично и уступает по колоритности горожанину.
«Отшельник» живет в полном единении с природой, в
раздумьях о Боге, с душой, переполненной свободой и
спокойствием. Неторопко описан бесь его день,
намеренно по всем «пунктам» противопоставленный дню
горожанина. Во второй части книги краски становятся
интенсивнее и ярче. Уединение, «честное»,
«бодрствующее», «человечное», оказывается посвященным
наукам, чтению, писанию, высоким размышлениям,
прогулкам и друзьям. Оно придает «крылья уму» и
доставляет богатую пищу душе. Там обновляются чувства,
пишутся лучшие стихи, первыми слушателями которых
становятся дубравы.
Выписанный Петраркой «отшельник» имеет много
черт стоического мудреца: спокойствие духа,
неподверженность страстям и страхам, желаниям,
беспредельную честность и достоинство, высокие
добродетели. Но к этому портрету добавлены нехарактерные для
стоического мудреца черты: человечность, очень емкое
нравственное понятие у Петрарки, стремление быть
полезным обществу и миру, усердный труд ради славы
среди потомков. И, ясно, христианские заботы о
спасении души. А главное — полная внутренняя свобода в
сочетании с социальной независимостью.
Под пером Петрарки возникает город, точнее,
«клоака городов», как воплощение лжи, рабства,
двуличия, безнравственности, преступности, ненависти к
34
НЖДевятайкина
людям и уединение, «рай на земле», как воплощение
свободы, высокой нравственности, наслаждения
честной жизнью. Не становится ли противопоставление
города и уединения первой нотой той мощной
гуманистической мелодии, которая зазвучит через два года в
«Декамероне»? В конце книги первой гуманист как бы
излагает программу искоренения «города внутри себя»
и одновременно — борьбы за новое общество. Она
адресована не только Филиппу Кабассолю, но и всякому
читателю, угадывающему себя в «отшельнике».
Петрарка призывает практически каждого изгонять от
себя пороки, бороться с роскошью богатеев, воровством
рабов, слезами бедняков, завистью плебеев,
неумеренностью знати, лживостью курии, развлечениями
площади, раздорами толпы, алчностью.
Тема города и особенно «города в себе» аукается в
диалогах трактата «О средствах...». Портрет «Разума» в
основе своей не меняется, однако черты мудреца,
философа, ученого, гуманиста, христианина, стоика,
нового интеллектуала присутствуют в этом персонаже в
различных диалогах по-разному, что отчасти было
показано выше. Но нарисовать один собирательный
портрет оппонентов «Разума», пожалуй, не удастся.
Некоторые диалоги, опубликованные в книге,
представляют нам образ огромной величины, имя которому
«род человеческий»: когда речь идет о надежде на
душевный покой (I, 131), о печалях и несчастии (II, 93), об
отвращении к жизни (II, 98) и страхе смерти (II, 108).
Оппоненты «Разума» представляются здесь персонажами
думающими, чувствительными, впечатлительными,
загнанными жизнью в угол средневековыми христианами,
каких было во все времена немало, а в XIV веке,
переломном во многах сферах жизни, вынесшем Столетнюю
войну, перенесшем несколько накатов чумы и даже
изменения климата, думается, предостаточно.
Другой «портрет» значительно уже и очерчен в
диалогах весьма четко — родовитое дворянство, гордое
благородным происхождением, военными занятиями,
роскошью, изысканностью стола и образа жизни (I, 15-
18). Написан этот портрет резкими красками, все — от
Петрарка как философ и полемист 35
рождения до занятий тех, кто служил его «натурой»,
подвергается, как мы видели выше, беспощадной критике.
Портретом противоположного плана можно назвать
изображение участников диалога, печалующихся по
поводу своего безвестного или даже зазорного просхожде-
ния, бедности, отдаленности места жительства (II, 4-8).
Нетрудно определить социально-житейский фон, из
наблюдений за которым выписывались эти персонажи.
Важно, что Петрарка — «Разум» не видит ни в каком из
этих обстоятельств ничего позорного и мешающего стать
высоконравственной и достойной личностью.
Наконец, немало и горожан: легкомысленные
молодые люди, бахвалящиеся своей молодостью и красотой
(I, 1-2), персонажи менее определенного возраста,
любящие песни, пляски, наслаждающиеся музыкой и
игрой на музыкальных инструментах (I, 23-24), богачи,
предпочитающие веселить душу скоморохами (I, 28),
самовлюбленные или самонадеянные и надменные
персоны, гордые своим красноречием, добродетелями,
хорошим мнением о себе, славой, а также счастьем,
выпавшим на их долю (I, 10-11, 28, 92, 108). Портрет
пестрый и, конечно, размытый, но позволяющий
«Разуму» высказать свое строгое и умудренное мнение по
разным — большим и малым — вопросам жизни.
Нельзя сказать, что во всех случаях оппоненты только
хулятся, скорее, они как бы получают совет, научаются
житейской мудрости, строгой оценке самих себя,
достоинству и высокому вкусу.
«Инвективы против врача», а затем и инвектива «О
невежестве своем собственном и многих других»
рисуют нам несколько иные типажи, прежде всего
оппонентов автора. Да, снова действующие лица — люди
города, но это представители умственного труда,
интеллектуалы или, как в случае с врачом, жаждущие
себя мнить таковыми. Как уже немного говорилось,
поводом для первых послужило письмо Петрарки к
больному папе Клименту VI с предостережением о
некомпетентности окружающих его врачей. Последовал
резкий протест одного из них (очевидно, петрарковскоё
письмо, как обычно, ходило по рукам, читалось вслух),
36
Н.И.Девятайкина
и Петрарка, со своей стороны, вступил в
«литературную войну», затянувшуюся на три года. Дважды или
трижды еще писал против поэта врач (или врачи) и
всякий раз получал отпор не в виде письма, а целой
«книгой», явно расчитанной на публичное внимание.
Первое, что мы узнаем о враче: он «диалектик», т.е.
ученый-схоласт, строивший свои обвинения и
доказательства на силлогизмах, очень довольный своей
ученостью и считавший медицину высшим из «искусств»,
способным заменить философию и поэзию. Этот врач
не чужд познаний в философии и чрезвычайно
увлечен Аристотелем, а возможно, аристотелизмом в лице
Аверроэса, Иными словами, врач следует главной
философской моде века, очевидно, при случае щеголяет
своим вольнодумством и если не вслух, то в душе
презирает благочестие как нечто устаревшее. «Ты готов
был предпочесть Христу Аверроэса, если бы был
уверен в своей безнаказанности».
Если посмотреть на врача глазами его оппонента,
то он не владеет в должной мере ораторским
искусством, не умеет убеждать, пишет чудовищным стилем,
полный невежда в области нравственной философии и
поэзии, высокомерно нападающий на то, чего не знает
и не понимает.
Петрарка и не думает скрывать, что рисует
собирательный образ: он постоянно переходит от укоров
одному медику к упрекам, адресованным всем, «кто
балуется подобным». Частный случай, как свойственно
Петрарке, становится поводом для широких
обобщений. Гуманист чувствует и свою опору, он часто
взывает к пониманию и вниманию своего читателя, а в
конце инвектив пространно объясняется с ним «с
глазу на глаз».
Интересен и многогранен портрет самого Петрарки.
Перед нами как бы тот же самый ученый, философ,
поэт и интеллектуал, что и в трактате «Об уединенной
жизни», но занятый теперь более сложным и, если так
можно выразиться, программным делом —
отстаиванием рождающейся гуманистической культуры. И
одновременно — защитой от града упреков языкастого,
Петрарка как философ и полемист 37
обозленного и разобиженного оппонента. Это
заставляет менять тактику и язык, быть более резким, играть
на многих струнах, в том числе и на благочестии,
больше, чем обычно, выказывать эрудицию
намеренно, засыпая аргументами и цитатами ради
изобличения невежества и нелогичности оппонента.
В защите нравственной философии, поэзии и
риторики гуманист в своей стихии, блистательно доказывая
главное, что поэзия открывает и несет истину,
воспитывает добродетели, опережая в этом даже
философию. Уличая «врача» в философском невежестве,
Петрарка на полстраницы демонстрирует свою
колоссальную эрудицию, перечисляя все учения и суждения о
душе и все мнения о природе Христа (кн. II); ради
вящей убедительности в каждой из книг приводятся
примеры-рассказы о Сципионе Африканском, Ганнибале
и других знаменитых людях античности. Эти
«вставные йовеллы» превращаются в высокое произведение
искусства и нравственное наставление. Вообще
Петрарка обращается с фактами античности не как с
далеким и забытым прошлым, но как с чем-то очень
близким по времени и духу, хорошо знакомым и
припоминаемым при самых разных ситуациях совершенно
свободно и по-домашнему. Самые красивые его
сравнения или метафоры также строятся на античных
реминисценциях. Например, он пишет, что в поисках
свободы и спокойствия готов идти на край света, «куда не
решился двинуть свои войска Александр Македонский
и Камбиз». «Край света» обретает географические и
исторические ориентиры, обогащающие образ.
Петрарка умеет подчеркуть, что разговор идет не с
человеком его круга и уровня образованности. Он
нарочито скрупулезно указывает, из какой именно главы
и книги привлечено суждение того или иного автора,
нередко как бы «тычет носом» в общеизвестные места,
оставшиеся тайной для оппонента. Совершенно не
сдерживается гуманистом перо и в смысле сильных
выражений, что даже заставляет его дважды — в
начале и в конце инвектив — извиняться перед читателем.
На каждой странице «врачу» напоминается то, с чем
38
Н. И.Девятайкина
он ежедневно имеет дело: «моча», «дерьмо», «дурные
ветры», превращающиеся в конце концов в главные
характеристики уровня интересов и внутреннего мира
оппонента. «Глупец» и «невежда» на этом фоне
выглядят невинными словечками. Рассказывая о том, чем он
занимается в уединении (тема всплывает и здесь),
Петрарка называет трактат «О знаменитых мужах» и
тут же язвительно спрашивает своего хулителя, не
хотелось ли бы ему занять место среди знаменитостей;
он-де готов «поставить» врача среди них, да только те
разбегутся и книгу придется переименовать в трактат
«О выдающемся глупце».
Наконец, для позиции Петрарки-оппонента и
характеристики его портрета важно отметить, что эта
инвектива начинает тему осуждения диалектиков и
аверроистов. Первые осуждаются за «ребяческие дела»
и игры в силлогизмы, вторые — за следование Аверро-
эсу, «собаке, лающей с бешеной пеной у рта на само
солнце справедливости, то есть Христа» (кн. II). И.
здесь в портрет философа, больше всего ратующего за
свободу вообще и за свободу мнения и независимость
мысли в особенности, добавляется неожиданная
краска. Он категорически не признает за «врачом» и ему
подобными свободы философского выбора, жестко
порицая за увлечение «нечестивым врагом» и даже
припугивая (кн. I). Гуманист горой встает на защиту
«живой истины» и не желает смиряться с ее осуждением
или непризнанием., Более того, судя по всему, «врач»-
тоине заговаривал о своем аверроизме, Петрарка его
просто как бы заподозрил в нем и тем самым получил
повод высказаться в отношении толкователей
Аристотеля и истинной или неистинной философии.
Живой язык, резкость полемики, защита поэзии,
гротескность портрета «врача» обрекли инвективы на
огромную популярность: их переписывали, пересылали
друг другу. Доныне сохранилось от одного только XIV
века около 40 их списков.
В «Инвективах против врача» тема аверроизма и
истинной философии только обозначена. Одной из
главных она становится в инвективе «О невежестве своем
Петрарка как философ и полемист 39
собственном и многих других». Там портрету и
автопортрету ученого и гуманиста, мало отличающемуся от
прежних, впрямую противопоставляется портрет
философов аверроистскрго толка. В чем-то он как бы
вырастает из образа «врача»-диалектика, но обретает
более жесткие и наполненные черты. Определяющими
из них проступают две: «обожание Аристотеля» и
преклонение перед его философией и «порицание веры
или спор с ней». Обожание Аристотеля
демонстрируется на всех углах и перекрестках, где громогласно
обсуждаются поднятые им проблемы — от совечности
Бога и мира до смертности души. По мнению
Петрарки, знание Аристотеля при этом выказывается
посредственное и поверхностное, его трактуют «вкривь и
вкось», огрубляют, невежественно противопоставляют
Платону, не зная заслуг этого великого философа.
О принадлежности четверых друзей-оппонентов
Петрарки к схоластической науке говорит их интерес к
«секретам природы» и постоянные рассуждения о
животных. По едкому замечанию гуманиста, «спорят на
всех перекрестках о четвероногих и чудищах, будучи
чудищами сами». Кстати, как иронично добавляет
гуманист, большинство сведений о животных
фантастического происхождения, поскольку почерпнуты из
вторых и третьих рук и опровергаются сведениями
путешественников и завезенными экземплярами этих
самых зверей.
Что касается католической веры, то вольный воздух
Венеции позволяет аристотеликам «говорить против
Бога, привлекая силлогизмы и софизмы, отпуская
остроты и шутки... презирать все, сказанное
по-католически, и осмеивать Христа, приверженность религии как
удел старух». Эти смелые философы имеют
чрезвычайно высокое мнение о себе, чванливы и надменны, не
видят проку в стремлении к добродетелям, не имеют
хорошей подготовки как риторы и потому «невнятно
бормочут» и объясняются очень темным языком.
Больше всего на свете они жаждут славы и избрали
осмеяние Петрарки в качестве дороги к ней.
40
НЖДевятайкина
Все перемешано в этом сложном веке: гуманизм и
аверроизм, два новых течения в философии,
порожденные одной общей матерью — городской свободой и
городским свободомыслием, — вдруг сталкиваются в
жестоком споре. Боюсь, что победителей мы не
найдем. Конечно, Петрарка уверен в своей правоте. И
сила его позиции в отстаивании нравственности и
христианского гуманизма, общечеловеческих ценностей,
наработанных за многие cot ни лет. Немало
интересного и нового пишет он о своем понимании славы,
дружбы (молодые люди числились у него в друзьях),
связи добродетели и знания. Но в вопросах
онтологических, из-за которых разгорелся весь спор, он просто
закрывается более авторитетными, на его взгляд,
суждениями и ничего своего в эту часть дискуссии не
вносит, разве только брань. Всем пафосом своей речи
гуманист заявляет, что его культура с христианством не
порывает, а как бы обогащает его философским
подходом к проблемам нравственности, античными
достижениями в этой области и опытом новых веков.
Иными словами, гуманистическая секуляризация этики
начиналась с осознания сопричастности к духовности и
культурному наследию в широком смысле слова.
Две другие инвективы адресованы высоким лицам
из папского окружения, авиньонским кардиналам.
Поводом для «Инвективы против некоего человека,
высокого положения, но малой учености и добродетели»
послужили насмешки этого самого лица по поводу
поселения Петрарки в Милане, которым правили
«тираны» Висконти. «Инвектива против того, кто хулит
Италию» была ответом на инвективу же кардинала
«французской партии» папского окружения,
критиковавшего Петрарку за призыв к папе вернуться в Рим и
доказывавшего, что Авиньон, где папская курия находилась с
начала XIV века, — лучшее место для святого престола.
Обе инвективы позволяют представить верхушку
папского клира и создать ее обобщенный портрет, а к
портрету гуманиота добавить несколько новых черт,
рисующих его как общественную личность.
Петрарка как философ и полемист 41^
Имени первого оппонента Петрарка назвать не
захотел, дабы не обессмертить его через свое сочинение.
Поэтому образ поневоле становится собирательным.
Перед нами — нувориш из недавно поднявшихся вверх
семей, счастливо всплывших в мутной авиньонской
воде. Наш, герой «медленно и жалким образом дополз»
до кардинальской должности и совершенно ею
счастлив. Он чувствует себя почти на небесах, высокомерно
взирая на всех, кто ниже, ожидая от них раболепия и
страха и позволяя себе во время попоек развязно
судить и рядить обо всех подряд, в том числе — о поэте.
На взгляд Петрарки, это невежда с вялым умом,
вялым пером и совершенно путаным языком.
Представлениялуманиста о достоинстве и
благородстве проходят здесь испытание ситуацией. И находят
адресное применение. «Все дано тебе фамилией и
родом, — ставит он на место кардинала, — сам ты нищ,
жалок и наг». Портрет^ пожалуй, больше
реалистический, чем сатирический. А сам Петрарка? К его
обычному красноречию, остроумию, эрудиции здесь
добавляется чувство независимости, гражданской смелости
и достоинства личности. Он не задумываясь называет
кардинальскую шапку «дорогим и необычным
лоскутом, способным превратить глупца в мудреца», а
кардинальскую мантию — попоной, прикрывшей «сразу
двух скотов» — всадника и коня. В ответ на главное
обвинение в прислужничестве тиранам звучит не
менее независимый ответ: «У меня нет с Висконти
ничего общего, кроме удобств и почестей, осыпать меня
которыми они почитают за честь, не посягая на мой
покой, свободу и уединение».
«Инвектива против того, кто хулит Италию» была
написана на пороге ухода гуманиста из жизни. И
потому способна добавить самые последние штрихи к его
портрету. Но начнем с оппонента. Перед нами теперь
ученый кардинал, схоласт, написавший целый труд,
разделенный на главы, параграфы и обильно
уснащенный цитатами. Правда, тема у него не сугубо
богословская или философская, а почти историко-политиче-
ская: Рим как место папского престола.
42
Н.И.Девятайкина
На взгляд Петрарки, сочинение этого кардинала,
как и свойственно схоластике, — «огромная,
оглушительная и бессмысленная проповедь», до неба
возвышающая «грязь мира и варварский ужас — Авиньон» и
безуспешно пытающаяся доказать, что у Рима — все в
прошлом, а само прошлое достойно во многом
критики. Автор — «не большой мастер письма», он
«гневливого и бешеного нрава». С кардиналом из
предшествующей инвективы его роднит страстная мечта «о
блеске ничтожной тряпки и о епископстве».
Сам Петрарка предстает ученым, сдержанным,
благочестивым, во всеоружии своей высокой
филологической культуры. Как философ он вновь пользуется
случаем подтвердить свою приверженность римским
моралистам, а как общественная личность вырастает в
глазах читателя в великого патриота Италии и Рима,
гордого прошлым своей страны и верящего в
возрождение культурной, политической, национальной роли
«Вечного города».
Если подвести некоторые итоги, то надо начать с
того, что Петрарка сделался родоначальником ренес-
сансного гуманизма. Развитие его мысли шло
сложным и не всегда прямолинейным путем, далеко не во
всем по восходящей линии. Время — главный судья —
обнаружило, что стало наиболее продуктивным в его
поисках. Сочинения гуманистов конца XIV-XV веков:
Салютати, Бруни, Поджо Браччолини, Лоренцо
Баллы, Манетти, Альберти, Пико делла Мирандолы
показывают, сколь многим эти глубокие мыслители
обязаны Петрарке, как долговечны и плодотворны
оказались его идеи и размышления о человеке и его
природе, о достоинстве, первенстве моральной философии,
добродетели, славе, роли поэзии, как созвучны их веку
идеалы свободы и справедливости. Будет подхвачена
диалогичность и полемичность, превратившиеся в
сущностные признаки гуманистической культуры. У
истоков великого диалога двух культур — средневековой и
ренессансной — стояли два столпа — Данте и Петрарка.
* * *
Петрарка как философ и полемист 43
Для понимания масштабности Петрарки как личное
сти, философа, щблициста, поэта немало дает его
творческая биография. Она далеко не ординарна, вполне
отразила в себе, дух эпохи и общественные запросы.
Франческо Петрарка родилоа 20 июля 1304 г. в
семье Пьетро ди Паренцо ди Гардзо, прозванного Пет-
ракко, и Элетгы Каниджани. Пьетро был флорентийцем,
нотариусом, принимал участие в политической жизни
процветающей республики, избирался в коллегию
приоров, принадлежал к партии «белых» гвельфов, в 1302 г.
был изгнан победившими «черными» вместе с Данте и
многими другими; его имущество конфисковали29
По воле судьбы Петрарка родился вне Флоренции,
вскоре оказался вне Италии и первую половину жизни
провел за пределами родины. Но его отец был
активным гражданином сильной республики, впитавшим в
себя воздух демократии и свободы. Это не могло не
отразиться на сыне. Да и сама
социально-экономическая и политическая атмосфера Италии не могла не
наложить глубокого отпечатка на формирование
Петрарки как личности, поэта, мыслителя.
Пребывание:за пределами страны он называл
временем изгнания. Он так и писал: «Я родился от
достойных, среднего достатка, или, точнее, почти бедных
родителей, в Ареццо, в изгнании»30. Потом в семье
Пьетрр Петракко появится еще один сын — Герардо
(1307). Франческо был нежно привязан к брату: они
вместе учились, вместе жили; когда судьба их развела,
Петрарка тяжело это переживал (Герардо из-за смерти
любимой женщины в 1343 г. постригся в монахи и
уехал в отдаленный монастырь), навещал брата, писал
ему в течение всей жизни умные и теплые письма,
заботился о нем.
В 1307 г. Пьетро перевозит семью в Пизу, а в 1312 —
в Авиньон, куда с переселением папского престола
перебралось много итальянцев. «Авиньонским изгнани-
29 Много лет спустя Флорентийское государство признает свою
вину и возвратит имущество наследникам.
30 Петрарка Ф. Письмо к потомкам // Петрарка Ф. Избранное.
М, 1974. С. 14.
44
НЖДевятайкина
ем» впоследствии назовет гуманист время пребывания
в этом городе и проклянет его как гнездо самых
низких пороков. Достанется всему высшему клиру, папам
от резкого пера гуманиста. Авиньон сыграл немалую
роль в личной судьбе Петрарки, в формировании его
критических взглядов.
Лет с пяти-шести Петрарка начал заниматься, как
это было принято, грамматикой, риторикой, логикой.
Уже с этого времени он, по словам Боккаччо,
«выказывал блестящие способности»31, с восторгом «пил
нежное молоко детской науки», наслаждался свободой,
домашним «покоем, отдыхом в полях, тишиной; его
вовсе не расстраивало, что домом служила соломенная
подстилка»32. Семья жила в городке Карпентрас, где
Петрарка и подружился с Гвидо Сетте, ставшим на
всю жизнь одним из самых близких ему людей. «С
этого времени, — говорит Петрарка, — мы пошли по
жизни одним путем, и наша дружба будет длиться до
смерти»33.
1316-1320 гг. Франческо проводит в Монпелье, куда
его отсылают изучать право, И там ему пришлись по
душе покой, мир, оживленная городская жизнь, масса
школяров, множество учителей. Уже в эти юные годы
он так серьезно увлекается поэтами-классиками, что
однажды отец бросает в огонь их сочинения, дабы
вернуть сына к юридическим наукам. В 1318 г.
приходит первое горе: смерть матери. 14-летний сын
изливает свое горе в стихах о «лучшей из матерей». (Потом
он назовет внучку именем матери — Элеттой.)
В 1320 г. отец посылает юного Петрарку для
продолжения обучения в Болонью, знаменитый центр
изучения римского права. «Какие там были
студенческие сборища, какой порядок, какая забота о нас, ка-
31 Boccaccio J. De vita et moribus domini Francischi Petraichae de
Florentia // Solerti A. Le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio scritto al
secolo decimosesto. Vailand, 1904. P. 253. (Далее отсылки на страницы
этого издания даются в скобках вслед за приводимым текстом.)
32 Петрарка Ф. Письмо к Гвидо Сетте // Итальянский гуманизм
эпохи Возрождения. Саратов, 1984. Вып. 1. С. 84, 887.
33 Там же. С. 83.
Петрарка как философ и полемист 45
кие учителя... было столь много вейиких умов», —
вспоминает Петрарка34. Ему били радостны царящие в
Болонье мир, изобилие, свобода, веселье. Здесь же
Аполлон, угадав в нем своего будущего сына, «начал
трогать его душу прекрасным пением пиэрид и
божественными стихами» (р. 254). Многочисленные
знакомые уже читали стихи поэта, но отец, в отличие от
обитателей Парнаса, не видел будущей славы сына и
настойчиво советовал ему бросить поэзию* которая не
принесет ни чести, ни богатства. Франческо
продолжал тайно писать, поскольку не находил в себе сил
усердно заниматься законами, «применение которых
искажалось бесстыдством людей»35.
В юношеские годы складывается характер
Петрарки: любовь к свободе, к природе, покою, неутомимая
тяга к знаниям, огромное уважение к настоящим
учителям, активная жизненная позиция. Он участвует о
студенческих волнениях в Болонье, из-за которых на
какое-то время даже прерывает занятия; всей душой
ненавидит феодальные ? распри, братоубийственные
войны городов, хищную политику папства,
тиранические козни правителей. В это же время возникает тяга
к нравственной философии. По словам Боккаччо, «он
стал старательно подражать философам-этикам, более
всего Цицерону и Сенеке» (р. 257). В 1326 г. умер
отец. Вскоре Петрарка бросает занятия
юриспруденцией и вместе с братом возвращается в Авиньон. Поэт
был уже столь известен, что «видные люди начали
искать знакомства с ним»36. Заметим, как менялись в
обществе взгляды и вкусы: поэтического слова ждут
теперь, а не пренебрегают им, как прежде. 6 апреля 1327 г.
в церкви св. Клары поэт встретил свою любовь —-
молодую, очень красивую женщину, которая долго
оставалась незнакомой, не могла ответить взаимностью на
любовь и вошла в мировую литературу под именем
Лауры. Благословенный «день, месяц, лето, час и миг»
34 Там же. С. 87.
35 Петрарка Ф. Письмо к потомкам. С. 16.
36 Там же.
46
Д И.Девятайкина
этой встречи запечатлею в одном из лучших сонетов, а
два больших цикла стихов составили бессмертную слат
ву Петрарке^ Боккаччр, при всем уважении к учености
старшего,друга, не считал любовные сонеты
безделкой, умалявшей его достоинства. Он включил их в
число важнейших проявлений «божественного дара»
поэта. Й полагал, что, если бы Петрарка бросил
писать стихиj потомки обвинили бы его в том, что он
зарыл талант внемлю. Кстати, тот же Боккаччр первым
усомнился в реальности Лауры, считая, что ее имя
употребляется аллегорически вместо лаврового венца
(р. 257). Петрарка опровергал подобные домыслы. На
склоне лет он кратко, ,но с достоинством пишет, что
«в юности страдал жгуяей, но единой и пристойной
любовью и .еще дольше страдал бы ею* если бы жестокая,
но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя»37
(Лаура умерла во время эпидемии ^умы в 1348 г,)
Большую роль в судьбе Петрарки сыграло
знакомство с семейством Колонна. После смерти отца он
остался в сущности без средств к существованию. Встал
. вопрос о будущей профессии. К юридической
практике Петрарка цитал отвращение Оставалось поприще
клирика. Рещение принять духовный сан сделало
Петрарку капеллалом домашней церкви авиньонского
кардинала Джованни Колонна. Так началось их
знакомство, потом и дружба, переписка с другими
членами семьи. Весьма существенны суждения Боккаччо о
причинах избрания Петраркой поприща клирика:
чтобы удобнее было избегать суеты мирских дел. И
дальше: «Преимуществами духовных лиц он почти не
пользовался и не хлопотал о них. Более всего отвергал
он милости, предлагавшиеся папами... А упорнее всего
отвергал он прелатства» (р. 260). Скромное церковное
звание в то время часто являлось синекурой, не
требующей от человека службы, но дававшей ему
известные средства. Так было и с Петраркой, у которого
благодаря этому появилась возможность отдаться
творческим занятиям. Богатства он так никогда и не нажил.
37 Там же. С. 11.
Петрарка как философ и полемист 47
«Я всегда глубоко презирал богатство, не потому,
чтобы не желал его, но из отвращения к трудам и
заботам, его неразлучным спутникам»38,
«Авиньонский период» (1327-1337) был
плодотворным для поэта. Именно в это время он начинает
усиленно изучать и разыскивать античных классиков
(список его любимых книг, составленный около 1333 г.,
содержит 50 имен), совершает истинный подвиг:
подготавливает научное издание знаменитых «Декад» Тита
Ливия, сведя разрозненные куски вместе, выправив и
прокомментировав их. В 1333 г. Петрарка получает
возможность съездить в Париж (где его восхитили
толпы школяров и горячность споров в университете),
Фландрию, Брабант, Германию; в Льеже он находит в
монастырской библиотеке две речи Цицерона «В
защиту поэта Архия».
По возвращении из долгого путешествия Петрарка
в апреле 1336 г. совершает знаменитое восхождение на
Мон-Ванту, горную вершину в окрестностях
Авиньона39. В конце 1336 г. по приглашению семьи Колонна
он впервые побывал в Риме, который полюбил всем
сердцем.
Он целыми днями осматривал памятники
архитектуры, узнавая их по описаниям античных авторов,
бродил в развалинах, сопоставляя увиденное с
прочитанным. О своих впечатлениях он написал Джованни
Колонна: письмо полно восхищения самими руинами,
преклонением перед величием древнего Рима40.
Возможно, с этого времени начинает вызревать в
Петрарке мысль о необходимости возрождения «вечного
города» как центра Италии, об объединении вокруг него
всех государств и областей. Петрарка с радостью
принял в 1341 г. почетное звание римского гражданина,
38 Петрарка Ф. Письмо к потомкам. С. 10. N
39 Особую известность это восхождение получило благодаря
письму Петрарки к Диониджи из Борго Сан Сеполькро, очень важному
для понимания духовного развития поэта. См.: Петрарка Ф. Книга
писем о делах повседневных. IV, 1 // Петрарка Ф. Эстетические
фрагменты. С. 84-91 (далее: Повседн. Римская цифра означает номер
книги, арабская — письма).
^Петрарка Ф. Повседн. VI, 2. С. 101-106.
48
НЖДевятайкина
но считал своей родиной всю Италию, перешагнув тот
узкомуниципальный патриотизм, который был
характерен для его современников. Изгнание, оторванность
от одного места позволили глубже понять
драматическую ситуацию всей Италии, не заслоненную стеной
местных интересов и политических устремлений.
Гуманист много сил и таланта отдал делу примирения
итальянских государств.
Следующий период в жизни Петрарки исследователи
обозначают как «первую остановку в Воклюзе» (1337-
1341). Как объясняет сам поэт, вернувшись из
путешествий, он не мог более переносить ненависть и отвращение
«к этому гнуснейшему Авиньону» и стал искать какого-
нибудь убежища. Он нашел крошечную, но уединенную,
очень уютную долину в пятнадцати милях от Авиньона.
Это и был знаменитый Воклюз, где Петрарка, к
изумлению многих друзей, купил скромный домик.
«Сладкоречивый поэт, — пишет Боккаччо, — желая
совершенствовать свой талант и испытать свои силы в трудах, пока
кипят молодые годы, начинает избегать человеческого
общества, наслаждаться одиночеством, устремляясь в
крутые горы под вечную сень деревьев» (р. 257). Петрарка
искал условий для реализации творческих возможностей,
для раскрытия себя. И нашел их в Воклюзе, где были
«либо написаны, либо начаты, либо задуманы почти все
сочинения»41. Здесь пишется множество сонетов,
успешно продвигается поэма «Африка» на латинском языке42,
«великое и удивительное произведение, написанное так,
что кажется созданным не человеческим, но
божественным талантом» (р. 258). «Африка» повествует о
героическом прошлом Италии и о выдающейся личности —
Сципионе. Вот что волнует Петрарку в тиши Воклюза:
история родины и имена, достойные подражания.
Очевидно, в конце 1337 г, он принимается за трактат «О
знаменитых мужах»: к 1343 г. было написано 23 биографии
античных деятелей43.
41 Петрарка Ф. Письмо к потомкам. С. 18.
42 Petrarca Fr. Africa // Edizione nazionale delle opere di Fr.Petrarca.
Firenze, 1926.
43 Petrarca Fr. De vùis illustrious / Ed. G.Martellotti. Firenze, 1964.
Петрарка как философ и полемист 49
В Воклюзе у Петрарки родился сын Джованни. По
юридическим нормам это был внебрачный ребенок
(священники-католики не имели права жениться), но
в Авиньоне того времени подобное событие не
считалось чрезвычайным и аморальным, покровители и
друзья плохое о Петрарке не думали. Петрарка старался
быть хорошим отцом, заботился об образовании сына,
о его будущем, но Джованни умер молодым
человеком. В 1343 г. родилась дочь Франческа. Многие годы
они прожили вместе; благодаря Франческе и ее семье
сохранилось много рукописей;, черновиков, личных
вещей поэта (все они находятся в музее в Арква).
Живя в Воклюзе, Петрарка вовсе не сделался
отшельником. Напротив, он много думал о том, как
закрепить за своим именем прочную славу поэта и
ученого. Результатом хлопот и усилий явилась знаменитая
коронация Петрарки на Капитолии 8 апреля 1341 г.
Она была не только личным триумфом поэта, но и
попыткой поставить поэзию на тот уровень, который она
занимала в древнем Риме, отвоевать ей почетное место
в системе тогдашней учености, отстоять как
полноправную сферу творческой деятельности. Петрарке
был вручен диплом, благодаря которому он среди
прочего получил звание магистра, профессора
поэтических искусств и истории, а также все привилегии, от
этого проистекающие. Тем самым в глазах
средневековых докторов-схоластов он перестал выглядеть
недоучившимся студентом, получал равные с ними права.
Как пишет Р.И.Хлодовский, в возрождении традиций
Древнего Рима в общественной жизни и литературе
Петрарка видел закономерное возвращение к
народным началам великой итальянской культуры, забытым
в пору господства теологии, схоластики, феодального
варварства, средневековой раздробленности.
Восторженно, без тени зависти описывает
коронацию поэта Боккаччо: «...он прибыл в Рим, где весьма
почетно был принят сенатом и римским народом из-за
своих выдающихся заслуг и по просьбе короля
Роберта. Один из сенаторов, Орсо дельи Орсини,
известнейший граф Ангвиллара, в шестые иды апреля 1341 г. в
50
НЖДееятайкина
присутствии всего клира и народа произнес длинную,
цветистую, восторженную речь, прославляющую муз...
Он торжественно увенчал поэта лаврами, потом
красиво и многоречиво выразил ему признательность. Нет
необходимости говорить о том, какая радость охватила
римских граждан, не только знатных, но и плебеев, —
это каждый легко может представить себе» (р. 259).
Обратим внимание: с одной стороны, римский граф и
аристократия всенародно признают заслуги Петрарки,
а с другой — его восторженно принимает римский
народ. Очевидно, людям оказались близки его полные
горячей любви сонеты, его «Африка», пробуждающая
мечты о восстановлении былой славы Рима. Это
проливает свет на вопрос о социальной направленности
творчества первого гуманиста, которого отдельные
авторы до сих пор упрекают в элитарности44.
Небезынтересен и такой факт: неаполитанский король Роберт,
по традиции перед коронованием экзаменовавший
Петрарку, не почел для себя унизительным просить
гуманиста стать его наставником в поэзии. Но у
Петрарки достало смелости и независимости «деликатно
отказаться от столь почетной обязанности, потому что
душа его к этому времени уже стремилась к более
возвышенному» (р. 258). Муза Петрарки никогда не была
на службе у меценатов. Нам коронация интересна еще
и тем, что Петрарка произнес там речь — «Слово», в
котором излагал свое понимание поэзии и ее задач,
говорил о призвании поэта к славе45.
Декабрь 1343 — начало 1345 г. — «остановка в
Парме», где Петрарка сначала жил почетным гостем своих
студенченских друзей, правителей Корреджо, а потом
купил скромный домик. Первые девять месяцев были
периодом особой творческой активности: он
продолжает работать над «Африкой», сонетами, заканчивает
одну из книг нового трактата «О достопамятных
делах»46 . Однако к середине 1344 г. обстановка в Парме
44 Tripet A. Petraique ou la coimaissance de sol 1967. P. 30, 40-49, 178.
45 Baron H. From Petrarch to Leonardo Bruni. Chicago, 1968.
46 Petrarca Fr. Rerum memorandoram libri r // Francisci Petrarchae
opera, quae extant omnia. Basileae, 1581. P. 392-495.
Петрарка как философ и полемист 51^
сильно меняется, ее правители оказываются в
серьезных политических затруднениях. Город осаждают
войска маркиза Феррары и миланского архиепископа.
Драматическая ситуация в Парме породила велц^ай-
шую из канцон Петрарки — «Италия моя», —
проникнутую чувством патриотизма и ненавистью к
феодальным усобицам, терзающим родину47 К февралю 1345
г. дело принимает такой оборот, что Петрарка
вынужден был в одну из ночей бежать из Пармы. Он
возвращается,в Воклюз.
Начинается «вторая остановка в Воклюзе».
Свободная и спокойная жизнь в деревенском краю казалась
раем после пармских ужасов и дорожных передряг. В
эти годы Петрарка пишет трактат «Об уединенной
жизни», «Буколики», «О монашеском досуге»48. В
Воклюзе Петрарку застало известие о народном
восстании в Риме, во главе которого встал Кола ди Риенцй.
Гуманист восторженно приветствовал победу
республики в «Вечном городе». За четыре-пять месяцев он
написал римскому трибуну и народу несколько
обширных писем, начинавшихся и кончавшихся
прославлением свободы и величия Рима. В начале августа
Петрарка пишет Кола пять эклог, в которых в
завуалированной форме прославляет римское восстание и его
предводителя. Петрарка продолжал поддерживать и
защищать Кола в обстановке усиливавшейся
враждебности к нему; в этой,связи он пошел на разрыв с
дорогим ему семейством Колонна (еще одно свидетельство
независимости его гражданской позиции). Существуют
предположения, что Петрарка намеревался ехать в
Рим к Кола, но в начале пути его застало известие о
поражении восстания. Однако многие годы после
этого он следил за судьбой Кола, способствовал его
вызволению из папской тюрьмы. И даже в самом конце
жизни в одной из инвектив вспоминал о его
благородном начинании.
47 См.: Петрарка Ф. Сонеты, избранные канцоны... CXXVIII.
С. 370-373.
48 Petrarca Fr. Bucolicum carmen. Roma, 1968; Idem. De otio
reljgiosorum // Petrarca Fr. Opere latine. Torino, 1975. Vol. I.
52
НЖДевятайкина
В 1350 г. Петрарка совершает поездку в Рим,
побывав по пути туда или оттуда в Вероне, Мантуе, Ареццо.
В этом году состоялась первая встреча его с Боккаччо,
который очень хотел привлечь знаменитого поэта во
Флоренцию. Там готовилось открытие кафедры
словесности в недавно возникшем университете.
Боккаччо понимал, что Петрарка был бы прекрасной
кандидатурой на роль профессора поэзии и истории. Но
поэт был сыном изгнанника, надо было рассказать о нем
Флоренции, а также показать Петрарке, что
флорентийцы его знают и ценят: Боккаччо берется за
«Жизнеописание Петрарки», не преминув отметить в
заголовке, что поэта считают флорентийцем. Он добился
от приората официальных бумаг, но не получил от
гуманиста обещания вернуться в город на Арно. Тот
написал благодарственное письмо приорату, но от
кафедры отказался. Это — одна из неясных пока
страниц в биографии первого гуманиста. Можно
предположить, что его отталкивала мысль о схоластической
учености, царившей тогда во многих университетах,
необходимости вращаться среди чуждых по духу
людей. Очевидно, он не хотел терять и драгоценной
независимости, упускать время, необходимое для
исполнения многих творческих замыслов.
Известно, что Петрарка позже побывай во
Флоренции, был знаком с членами флорентийского кружка
гуманистов, переписывался с ними, одному
(Франческе Нелли) даже посвятил сборник «Старческих
писем». А.Н.Веселовский говорил о влиянии Петрарки
на этот кружок. Что касается Боккаччо, отказ не
помешал дружбе первого гуманиста с ним: они встречались
еще несколько раз, горячо обсуждая вопросы
философии,, литературы, поэзии; переписывали друг для друга
свои и чужие сочинения (Боккаччо — всю поэму
Данте «Божественная комедия»), постоянно писали друг
другу умные, теплые, интересные, содержательные письма.
В завещании Петрарка отказал Боккаччо некоторые
книги и денег на теплую шубу, чтобы тот не мерз
холодными ночами, сидя за чтением или письмом.
Петрарка как философы полемист 53
Лето 1351 — май 1353 г. — «третья остановка в Bó-
клюзе», где Петрарка с жаром берется за
неоконченные сочинения. За короткое время он пишет Пановых
биографий античных мужей, продолжает работу над
«Триумфами», где поэтически размышляет о Славе,
времени, целомудрии, любви, смерти, вечности49. Для
наставника неаполитанского короля Людовика Тарент-
ского составляется «Письмо о воспитании
правителя»50 . Оно вызвало резонанс, так же как и письма к
императору Карлу IV с призывами; умиротворить
Италию. По-прежнему резкой критике подвергается
политика папства — и Климента VI, и особенно его
преемника Иннокентия VI. Антипапские инвективы вошли в
состав «Писем без адреса». Туда же были включены
послания к Кола и римскому народу51.
Петрарке пришлось трижды покидать Италию. В
1353 г. он возвращается в нее и оседает до конца
жизни. Первым городом, в котором он остановился по
возвращении, был Милан. Он принял приглашение его
правителей Висконти после долгих уговоров,
упрашиваний и твердого обещания полной свободы и
уединения. «Наш великий итальянец, — пишет Петрарка
одному из друзей в августе 1353 г., — принял меня с
такой любезностью и с такими почестями, каких я не
заслужил и не ждал, а если признаться по правде, то и
не желал»52 > Начинается «миланский период»
биографии гуманиста (1353-1361). Петрарка время от времени
выполнял дипломатические поручения Йисконти,
стремясь использовать свой авторитет и талант для
установления мира и единства Италии. Он дважды брал
на себя ответственнейшую миссию переговоров с
императором, которые имели место в Мантуе в декабре
1354 г. и потом в Праге. С целью примирения Венеции
и Генуи Петрарка был с официальной миссией у дожа
Венеции (начало 1354 г.), потом писал ему о пагубно-
49 Petrarca Fr. Rime è Trionfi. Brescia, 1972.
50 Petrarca Fr. Familiarum rerum. XII, 2 // Edizione nazionale delle
opere di Fr. Petrarca / Ed. V.Rossi. Firenze, 1926-1942,
51 Petrarca Fr. Sine nomine. Lettere polemiche e politiche.
52 Петрарка Ф. ПовседН. XVI, И. С. 163.
54
Н.И.Девятайкина
ста войны для всей Италии. У Петрарки несомненно
начало вызревать новое, национальное сознание
необходимости объединения всей Италии.
Как и прежде, напряженно работает он как
писатель и мыслитель. Видимо, в мае 1354 г. был# начата
работа над трактатом «О средствах против
превратностей судьбы», который среди многих других важнейших
моментов содержит свидетельства независимости
идейной позиции гуманиста. Он включил в трактат
несколько диалогов против тирании, в которых
миланские правители легко могли узнать методы своего
правления и отношение к ним Петрарки. В это время
он завершает две блестящие инвективы — одну против
авиньонского кардинала Жана де Карамана, другую
против некоего врача, папского лекаря. Наиболее
интересная часть этих сочинений — защита поэзии,
искусства, античности от нападок схоластов53.
Петрарке настолько все связанное с. Авиньоном
было враждебно и ненавистно, что он в начале осени
1361 г., не раздумывая, отказывается от почетного и
доходного места папского секретаря. Четырежды
разные папы хотели видеть его в этой роли, и ни разу
Петрарка не дал согласия. Это ли не свидетельство его
независимости. «Я всеми силами избегал тех, чье даже
имя казалось мне противным свободе»54.
В 1361 г. Петрарка бежал от чумы,
свирепствовавшей в Милане, сначала в Падую, потом в Венецию,
«ища не столько приятности, сколько душевного
покоя и тишины»55. Этот город, по словам гуманиста,
«был более благополучен и спокоен в сравнении с
другими из-за благоразумия граждан и своего
месторасположения»56. Высокая оценка Петраркой
«благоразумия» венецианцев, симпатии к ним — один из
показательно штрихов в его отношении к республиканско-
53 Книги 1 и 3 «Инвектив против врача» впервые были переведены
на русский язык В.В.Бибихиным. См.: Петрарка Ф. Эстетические
фрагменты. С. 234-255; Эстетика Ренессанса. М, 1981. Т. 1. С. 17-26.
54 Петрарка Ф, Письмо к потомкам. С. 12.
55 Петрарка Ф. Письмо к Гвидо Сетге. С. 95.
56 Там же.
Петрарка как философ и полемист 55
му строю вообще. В Венеции Петрарка планировал
осесть насовсем, заключил с сенатом соглашение о
передаче ему дома на берегу залива, недалеко от дворца
Дожей, с условием оставить республике свою
драгоценную библиотеку. Петрарка мечтал о публичной
библиотеке на базе его книг: вот еще один момент для
характеристики его общественных позиций.
Весь «венецианский период» (до 1368 г.) Петрарка,
как обычно, много читал, неустанно писал. В это
время он начинает составлять сборник «Старческих
писем» (к 1374 г. их было 125). В первой половине 1365 г.
Петрарка познакомился с четырьмя молодыми
венецианскими философами, которые признавали только
Аристотеля. Они навещали поэта, беседовали с ним и
пришли к выводу, что он человек добрый, но
неученый, коли не ценит Аристотеля так высоко, как они,
не признает метафизику и формальную логику в их
традиционном варианте. Аристотелики распустили
слух о невежестве Петрарки, чем он был возмущен и
решил достойно ответить. В результате возникла
инвектива «О невежестве своем собственном и многих
других» (1367), где гуманист отстаивает свои взгляды
на решающую роль моральной философии, горячо и
остроумно полемизирует с аристотеликами57
Последние годы (1369-1374) Петрарка провел в
Аркве, в десяти милях от Падуи, куда его уговорил
переехать правитель города Франческо Каррара, лично
прибыв за поэтом. Он очень хотел, чтобы Петрарка
жил в городе, но уступил его настоятельным просьбам
поселиться в деревне, где вместе с ним жила семья
дочери, работало несколько переписчиков. Дом
сохранился. Петрарка был консультантом при росписи
большого зала дворца Каррара, который украшался
портретами знаменитых людей античности, чьи
биографии были составлены гуманистом. Начинали
сильно тревожить болезни, но, вопреки им, Петрарка за
несколько месяцев до смерти едет с миссией в
Венецию, Где выступает с речью перед сенатом. И хотя го-
См. об этой инвективе выше.
56
КИ.Девятайкина
лое его был слаб ц прерывался, речь ^возымела действ
вие: мир был заключен.
В дадуанский период Петрарка написал два
глубоких прлитических сочинения, — «Инвективу против
того,,кто хулит Италию» (1373) и письмоттрактат,
посвященный правителю города, «О наилучшем управлении
государством», где более всего настаивает на
справедливости, любви к народу, к Италии58. Он по-прежнему
активен в переписке
В эти годы Петрарка спешит закончить, дошлифо-
вать свои сочинения: трактат «О знаменитых мужах»,
«Триумфы», «Книгу песен», «Старческие письма». Он
успевает даже составить завещание,
свидетельствующее о его скромных достатках» но щедром и
благодарном сердце. Он хотел никого не забыть, не обидеть.
Но одновременно гуманист задумывает новые труды,
размышляет над новыми вопросами. По его
признанию, ему не хватило бы и четырех жизней, чтобы
привести в исполнение все намерения.
Уже первый биограф ставил Петрарку на одну
доску с античными писателями и философами —
Гомером, Горацием, Вергилием, Цицероном, Сенекой,
последующие гуманисты будут ставить выше, прежде
всего — в области моральной философии. Уже из
рассказа Боккаччо Петрарка рисуется как всесторонне
развитая личность, человек образованный, владеющий
даром речи, талантливый, активный, беззаветно
преданный науке и литературе, влюбленный в античность,
благородный, с развитым чувством достоинства,
внутренне и внешне красивый, добродетельный и мудрый.
Сочинения Петрарки p*333™01» удивительно
созвучными эцохе, он сам — по-настоящему
современным мыслителем. Есть многие свидетельства того, с
каким нетерпением ждали- друзья гуманиста,
образованные люди того времени, студенты окончания того
или иного трактата, поэмы, нового сонета. Письма по
дороге к адресату многократно переписывались, и по-
58 Petrarca Fr. Invectiva contra eum...; Idem. De optima respublica
administranda / Ed. V.Ussani. Padova, 1922.
Петрарка как философ и полемист 5]_
рою получатель узнавал содержание послания позднее,
чем нетерпеливые читатели и почитатели таланта
Петрарки. По словам Боккаччо, «молва о нем шла по
всему свету» (р. 253).
Даже скупые свидетельства писем самого гуманиста
могут дать представление о популярности его
произведений. Так, в одном из них к тому же Боккаччо он
говорит: «...мне хорошо известна ваша (имеется в виду
кружок флорентийских гуманистов. — Н.Д.) жадность
до всяких сочинений, особенно моих»; в другом:
«Сочинение мое уже всем известно и широко
разошлось»59. Он держал несколько переписчиков и все-
таки не успевал выполнять просьбы даже самых
близких людей. После cmqpth гуманиста (19 июля 1374 г.) к
его секретарю со всех сторон посыпались заказы на
копирование сочинений поэта: от папы и императора,
от правителей, друзей, поклонников из Венеции,
Тосканы, Неаполя, Прованса, Франции, Фландрии,
Богемии. Десять переписчиков прибавилось к уже
работающим60. Сочинения Петрарки было престижным иметь
в собственных библиотеках61.
Из автобиографических свидетельств Петрарки
одно заслуживает быть упомянутым в самом конце
маленького рассказа о нем. Он пишет: «Я был одарен
умом скорее ровным, чем острым, способным на
изучение всякого благого и спасительного знания, но
преимущественно склонным к нравственной
философии и поэзии»62. Это склонность оказалась
исторически связанной с идейными потребностями того
времени, сделала Петрарку первым философом
итальянского Возрождения, перешагнувшим порог старого.
Главное, что он сумел сделать — поставить по-новому
почти все мировоззренческие вопросы, рожденные
запросами общества.
59 Петрарка Ф. Повседн. XXII, 2. С. 207; XXIII, 19. С. 218.
60 Bfflanovich G. Gli inizi deDa fortuna di Fr.Petiarca. Roma, 1947. P. 15.
61Antonovics A.V. The library of cardinal Domenico Capranica //
Cultural aspects of Italian Renaissance. N.Y., 1976. P. 145.
62 Петрарка Ф. Письмо к потомкам. С. 13.
ФРАНЧЕСКО
ПЕТРАРКР1
СОЧИНЕНИЯ
ФИЛОСОФСКИЕ
и
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ
ОБ УЕДИНЕННОЙ ЖИЗНИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Немногих я могу назвать людей, которые относятся
к моим скромным трудам с таким почтением и такой
любовью, как ты1. И я уверен, что не выдаю
желаемого за действительное: это на самом деле так. Смею
надеяться, что ты, человек блистательного и ясного ума,
искренен в своих оценках и не склонен к
приукрашиванию. Впрочем, ты не смог бы долго скрывать
притворство: сколь долговечна правда, столь скоропреходящи
ложь и притворство. Все настоящее выходит наружу:
усердно накрученные кудри рассыпаются при первом же
порыве ветра, тщательно наложенные румяна смываются
первыми же каплями пота. Так и ложь: всмотрись
пристальней, она обнаружится, все тайное станет явным,
спадут покровы, обнажится природная суть вещей.
Больших трудов стоит скрывать подобное в течение
длительного времени. Невозможно затаиться на дне: все равно
вынырнешь и обнаружишь себя.
Я нанизываю эти доказательства, чтобы поверить
тому, чему мне хотелось бы верить (все мы склонны с
удовольствием внимать приятному): я верю,
досточтимый отче, что тебе по душе мой вещи. Я очень пекусь,
чтобы они нравились избранным. Как ты знаешь, я
часто обращаюсь к новым вопросам, говорю жестко,
резко, мысли и слова мои непривычны ушам и вкусам
толпы и приводят ее ё негодование. Поэтому я не до-
62 Франческо Петрарка
садую, если мои сочинения не нравятся невеждам: это
лишь укрепляет меня во мнении, что я создал нечто
стоящее. Если же моих сочинений не одобряют и
ученые люди, признаюсь, это меня удручает, хотя и не
удивляет. Кто я такой, чтобы быть осыпанным
ласками, в особенности при нынешней разноголосице
мнений. Всем известно, какой дар слова выпал на долю
Марка Туллия Цицерона2. Но и его книга — «О
лучшем роде красноречия» (Боже мой, какое сочинение и
каких оно достигает высот!) не пришлась по душе
Марку Бруту3, мужу образованному и другу автора,
хотя она была написана по его просьбе и ему же
посвящена. Стоит ли вспоминать неприязненные выпады
Асиния и Кальва4 — ораторов известных, но далеко не
равных этому великому мужу, развязно и насмешливо
отзывавшихся о вожде красноречия и критиковавших
то, чем до сих пор восхищаются и чему отдают
предпочтение многие смертные.
Если кого-то упрекнут, что его стиль схож с
цицероновским, станет ли он оправдываться? Впрочем!, с
твоей стороны не случается упреков: ты во всем
одобряешь меня и всегда выказываешь расположение.
Моих заслуг здесь нет: тому причиной сходство наших
характеров или, скорее всего, твоя безмерная любовь ко
мне — немалый враг объективности. Кто из любящих
судит беспристрастно? Ведь если бы любовь помогала
верно видеть и судить, то с какой стати древние
назвали бы ее слепой? Да, она слепа, но очень
красноречива и может убедить даже в том, чего нет на самом
деле, и раскрасить ярким цветом то, что почти
незаметно. Снисходительность отца — великое чувство5. Он
все прощает, щадит сына и не Только не корит его за
недостатки, но нередко любит именно за них. Одним
словом, меня радует твое заблуждение. Пусть оно не
проходит как можно дольше: мне оно к чести, тебе —
к удовольствию, и никому не в убыток. Но было бы
еще лучше, если бы оказалось, что ты не ошибаешься
в своих оценках. Это доставило бы мне истинную
радость и возвысило бы в собственных глазах.
Об уединенной жизни 63
Что касается моего досуга6, я прислушиваюсь к
мнению того мужа, чьим стилем и дарованием больше
всего восхищаюсь. Кстати, Катон Старший7 в
предисловии к своему сочинению «Происхождение»
заявляет, что светлым и великим умам следует заботиться о
досуге не меньше, чем о занятиях. Этот совет
одобряют многие ученые мужи, а Цицерон в речи «В защиту
Плантия» называет прекрасным и превосходным8.
Мне тоже пора подумать, позволят ли следовать
подобным советам мои таланты и неуемное желание
славы (если я не укрощу его уздой воли и разума). Ведь
вялость никогда не была мне свойственна: ни в делах,
ни на досуге.
Если мне случится создать произведение, достойное
будущего, я прославлю тех, кому оно будет посвящено,
и окажусь на виду сам, не сгинув во мраке времен и
тьме забвения, скрывающей даже, самые блестящие
имена. Конечно, в моей душе часто всплывает и твое
имя, славное само по себе и вполне достойное
внимания с моей стороны. Умолчать о нем будет
совершенно несправедливо. К тому же, я теперь живу на твоей
земле9. По обычаю и давно заведенному порядку ее
обитатели платят тебе десятину и первый сбор нового
урожая — новину. Значит, и я обязан отдавать тебе
десятую долю досуга и первые плоды ночных бдений.
Итак, я, словно один из твоих крестьян,
расплачиваюсь теми плодами, которые приносит небольшое поле
моего таланта. Правда, один сезон может оказаться
урожайным, другой совершенно бесплодным.
Я знаю: если не хочешь попасть на язык
клеветников10, лучше всего молчать, но все-таки буду работать
и добросовестно тебе платить. Наедине с собой я
горько размышляю — замолчать или продолжать писать.
Признаюсь, я часто сдерживаю перо и чувства, часто,
страшась мести, умоляю их не предавать меня, не
выдавать стилем или содержанием11. Но, боюсь, меня все
равно узнают и те, кто пока не может прочесть, и
потомки. Ведь человека оценивают по речи: если нет
свидетелей поступков, доказательств ищут в словах.
64 Франческо ПётрарШ
Короче говоря, если бы дело не было * начато, я
предпочел бы молчать, дабы уберечь тебя, себя и нашу
честь. Но нас уже читают, о нас говорят, о нас судят
так и сяк12. Напрасно думать, что можно отсидеться
дома: хоть замуруйся, людской молвы уже не избежать,
своих суждений не скрыть.
Я всегда тянулся к уединению: о нем мечтала моя
душа, твердили мои уста. Разве может мое настроение
измениться теперь, когда я очутился в желанном
месте? Разве можно ждать от меня чего-то иного, кроме
прославления уединенной и покойной жизни? Ты
некогда вкушал ее прелести один, а недавно и вместе со
мной, но лишь две недели. Зачем я говорю «со мной»?
Я был с тобой постоянно, ты же ради меня появился
здесь и из-за меня часто здесь задерживаешься. Это
ясно как из твоих дел, так и из твоих слов. Твое
отношение ко мне в который раз доказывает, что перед
силой любви отступает неравенство положений, поэтому
очень легко было уверить тебя в том, что по опыту
известно тебе и без меня. Впрочем, что я тебя убеждаю:
ты все испытал на собственном опыте.
Если бы мне вздумалось искать расположения
толпы, все усилия оказались бы напрасны: не только
невежды, но и многие из тех, которые считают себя, и
не без оснований, образованными, не ъ силах
вникнуть в мои сочинения1?. Высокая ученость не всегда
впитывается посредственными умами, и часто образ
жизни далек от полученных знаний, а слова —■ от того,
что на уме. Подобное можно сказать о тех^ для кого
образованность — больше бремя и помеха, чем
украшение,, о тех, кто прекраснейшую вещь .— знание
соединяет с такими постыдными нравами и с такой
душевной пустотой, что лучше бы они оставались
неучами. Они тщеславно бахвалятся своей образованностью,
хотя выучились лишь одному — надменности и
самоуверенности. К недоумению толпы, они с упоением
рассуждают на каждом перекрестке об Аристотеле (о,
как бы он хотел, чтобы его оставили в покое!). Они
расхаживают по улицам и портикам, с ученым видом
пересчитывают башни, коней, квадриги, измеряют
Об уединенной жизни
65
площади и городские стены и тут же столбенеют,
таращась на женские украшения: трудно найти занятие
более глупое и никчемное. Они цепляются не только к
живым людям, но и к мраморным статуям: облюбовав
место, где их наставлено побольше, вдохновенно
замирают, словно готовясь к беседе. И втайне
наслаждаются хохотом и гамом окружившей их толпы. Что это,
как не самый новый вид безумия?14
Они разносят по городу ученую глупость, словно
обветшалый скарб, задешево сбываемый с рук. Они не
только противники уединения, но и враги
собственного дома: сбегают из него рано утром, и вечер с трудом
возвращает их к постылому порогу. К ним очень
подходит пословица: «Хорошо на народ глядеть и с
людьми дело иметь, но еще лучше на горы и долы глядеть,
с волками-медведями дело иметь».
Волей-неволей приходится признать, что человек
остается не только ничтожным, но и гнусным15, и
опасным, и непредсказуемым, и двуликим, и
свирепым, и кровожадным животным, если Богом ему не
дано научиться человечности, одолеть дикость и стать
настоящим мужем. Но подобное, как показывает опыт
прошлого и настоящего, редкий дар.
В чем же главная причина их неуемного стремления
к обществу? Если они захотят признать правду,
окажется, что в одном: им тошно оставаться наедине с
собою. Об этом еще будет речь ниже, а пока заметим
только: укоренившиеся привычки трудно выкорчевать
при помощи увещеваний и напрасно давать советы,
если их не привыкли выслушивать. Так стоит ли
бросать слова на ветер?
Итак, пусть они больше не отвлекают нас от
высоких размышлений: не для них писано, не им
ценить, с каким бы высокомерием они ни отнеслись к
этим строкам.
У тебя, досточтимый отче, нет нужды в советчике, а
у него — причины для беспокойств: советы,
противные твоим нравам, ты не приемлешь, ошибки давно
выкорчевал и столь же давно начал взращивать в душе
суждения, близкие к истине.
66 Франческо Петрарка
Я понимаю, что вряд ли открою тебе нечто
совершенно новое и дотоле неведомое, но некоторые вещи,
с Божьей помощью, надеюсь сделать более ясными.
Кроме того, я хотел бы отвлечься, хотя бы на
несколько дней, от давних и серьезных забот, обступивших
меня со всех сторон и постоянно напоминающих о
себе16. Прошу тебя, повди на перемирие со своими
делами, отложи их в сторону и переключи внимание на
меня. Нередко богатые люди не находят удовольствия
даже в самых изысканных кушаниях, но как им бывает
приятна перемена в еде, так и мудрецам — в занятиях.
Итак, побудь со мной и прояви благосклонность.
Перед тобой плоды моих давних размышлений о
разных видах уединения. Я изложил лишь малую часть
дела, но в ней, как в капле воды, отразилась вся моя
душа, весь мой облик, весь мой внутренний мир, весь
мой ум, стремящийся к ясности и спокойствию.
КНИГА ПЕРВАЯ
I. Я знаю, что благородному духу не свойственно
оцепенение: он всегда устремлен или к Богу, пределу
наших упований, или к себе самому и своим
сокровенным делам, или к какой-нибудь родственной душе.
Высок полет благородного духа! Ни сладчайший мед
наслаждений, ни сакые нежные и приятные сети не
могут надолго удержать у земли его отважных крыльев.
В желании отдалиться от людских скопищ и городских
толп мы и начинаем искать Бога, или достойные
занятия, или близкую душу. Справедливость моих слов не
станут отрицать даже те, кого веселит шум городской
толпы, если их глаза не застланы вовсе туманом, а ум
не задавлен ложными представлениями, если они хоть
иногда оглядываются на самих себя и пытаются
добраться до крутой тропы истины хотя бы ползком.
О, если бы смертные заботились не только о
возделывании полей и устройстве бесчисленных дел, но и о
совершенствовании душ! Но, увы, такое бывает
нечасто. А ведь как поле зарастает терниями, так душа че-
Об уединенной жизни 67
ловеческая — заблуждениями. Если их не вырвать с
корнем, если не пропалывать и поле, и душу со всем
старанием и усердием, то плоды их погибнут в зародыше.
Но, похоже, мы служим обедню глухим. Пусть
другие думают, что с ними делать, люди образованные, я
надеюсь, согласятся со мной и на словах, и в душе. И
ты, во всяком случае, не окажешься в числе
несогласных и первым оспоришь их возражения. В моих словах
ты услышишь много знакомого. И мне в данном
случае несложно достигнуть самого желанного для
оратора: направить душу слушателя в нужную сторону. Очень
сложно убедить и обратить в свою веру человека, в
душе противящегося тебе. И совсем другое дело, если он
ищет в твоих словах только подтверждения
собственных мыслей и восклицает про себя: «Так оно и есть!»
Он верит тебе и не нуждается ни в особом авторитете,
ни в особом остроумии, ни в особом красноречии.
Известно, что об уединении писали некоторые из
святых мужей. Так, небольшое сочинение в похвалу
уединенной жизни оставил Василий Великий17. К
сожалению, его книга знакома мне не из первых рук, а только
по упоминаниям и цитатам в старинных кодексах —
например, в трудах Петра Дамиани18. Правда, не всегда
удается определить, где слова Василия, а где — Петра.
Мой трактат написан на основе собственного
опыта: ему я следовал и другого вожатого не искал.
Свободно, хотя и осмотрительно, я шел за своей мыслью
по собственной дороге, а не по чужим следам. Много
ты можешь услышать от людей, хорошо знающих
жизнь из своего или чужого опыта. От меня ты
услышишь о вещах, занимающих ум в эту минуту. Я не
видел необходимости вкладывать в это сочинение много
ученого усердия и не боялся, что мне не хватит
материала: его предостаточно для любого пишущего.
Добавлю, что я обращаюсь к материалу, досконально
известному мне со всех сторон.
Итак, я не копался в книгах, не приглаживал стиль,
поскольку был уверен, что тот, для кого я пишу,
любит меня и непричесанным; мне показались
достаточными истинные и признанные всеми суждения и са-
68 Франческо Петрарка
мый скромный способ их изложения. Материал же для
этих строк я вычерпал отчасти из опыта жизни одного,
отчасти из недавнего прошлого другого.
Но прежде всех я призываю в свидетели тебя. Многие
причины вызывают к тебе особое уважение. Не стану
скрывать, не последняя из них — твоя любовь к
уединению и связанное с этим стремление к свободе, ради
которых ты избегаешь римскую (как ее называют) курию19.
Она теперь рядом с тобой, можно сказать, по
соседству, и, если бы ее адский водоворот привлекал
тебя столь же сильно, сколь ангельское уединение, ты
давно бы занял там видное место.
Думается, легче всего показать, насколько счастлив
человек в уединении, если обрисовать мучения и
несчастья городского обитателя. Уединение делает людей
безмятежными и спокойными, город — возбужденными,
суетливыми и вечно спешащими. И у того, и у другого
образа жизни есть своя основа: первый зиждется на
радостном досуге, второй — на безрадостных трудах.
Если невиданный случай, или природа, или судьба
все переиначат, если произойдет невиданное чудо, я
публично отрекусь от собственного мнения и
предпочту приятное и безмятежное многолюдство печальному
и полному тревог уединению. Меня восхищает не
красивое слово, а то хорошее, что на деле приносит
уединение. Мне доставляет наслаждение не столько
удаление от людей и молчание, сколько досуг и свобода. Я
ведь не настолько бесчеловечен, чтобы ненавидеть
ближних, которых Господь предписывает любить, как
самих себя, но я ненавижу грехи людские и, прежде
всего, свои собственные, а вместе с ними — заботы и
беспокойства, снедающие тех, кто живет в многолюдстве.
Обо всем этом, если я правильно понимаю, и
должна пойти речь. Я не стану отдельно описывать каждый
из двух родов жизни, но буду чередовать картины: так
и дело окажется ясней, и душа, оглянувшись по
сторонам, сможет взвесить и то, и другое, чтобы вернее оп-
ределить, что ей ближе и что следует избрать. Я
намеренно начал разговор с менее приятного: сладкое
после горького само за себя скажет. Довольно!
Возьмемся за главное и во всех красках представим два
совершенно противоположных образа жизни и двух
совершенно разных людей. А ты, гладя на них, делай
выводы об остальных.
* * *
И. Несчастный, вечно занятый?0 городской житель
никогда не зрает покоя: вскакивает даже среди ночи,
разбуженный заботами или голосами клиентов21; он
боится то яркого света, то ночных видений; только
приляжет несчастный на скамью, в голове начинают
ворочаться несвязные мысли: где добыть денег на аренду, как
нажиться за счет компаньона или сироты, или как
улестить добродетельную жену соседа, или как выиграть
заведомо нечестную тяжбу, или как, наконец, обойти
препятствия частного либо общественного свойства.
Его охватывает то неистовый гнев, то неодолимое
томление, то полное отчаяние: так плохой ткач, навивая
основу для дневной работы при тусклых свечах, не
только не ускоряет дело, но больше запутывает себя и других.
* * *
А тот, кто склонен к уединению и свободен от
докучных забот, поднимается счастливым и бодрым. Его
может разбудить только соловей, потому краткого сна
или умеренного отдыха бывает вполне достаточно.
Неторопливо встав с постели и стряхнув с себя остатки
сна, он начинает день с псалмов: привратник его уст
открывает их для утренних молитв. Он взывает к
Господу, владыке своей души, о помощи и умоляет Его
поспешить, потому что знает о грозящих опасностях,
страшится их и понимает, что йа собственные силы
уповать нельзя. Он не плетет сетей лжи, но каждый
день и каждый час благодарно помнит о божественных
дарах, неутомимо служа Богу словом и внутренним
послушанием, вознося хвалу Ему и святым. Исполнен-
70 Франческо Петрарка
ный спокойного благоговения и трепетной надежды,
вспоминая прошлое и размышляя о будущем, он,
удивительно сказать, часто впадает в состояние светлой
печали и даже разражается счастливыми слезами*
Никакие радости горожан, никакие шумные увеселения,
ни даже надменная гордость правителей не смогут с
этим сравниться.
А наш отшельник между тем взирает на небо и
звезды, всей душой вбирая в себя обитающего там
Господа Бога нашего, размышляя о местах своего
добровольного изгнанничества, о родине22, а потом
обращается к достойному и приятному чтению. Так еще
затемно он вкушает от самой благородной и
сладостной пищи и с великим душевным умиротворением
встречает восход солнца.
* * *
Грядущий день застает тех, о ком мы говорим, в
противоположных стремлениях. Того уже ждут на
пороге друзья и недруги, шумно приветствуя его
появление и тут же разрывая на части: куда-то тащат,
толкают, чего-то требуют, к чему-то принуждают, в чем-то
винят. Этого на пороге ждет свобода: захочет —
пойдет куда-нибудь, нет — останется дома.
Тот, преисполненный забот и жалоб, уныло бредет
в присутственное место и пытается по разным
приметам угадать, чем грозит ему новый день. Этот,
преисполненный покоя и тишины, в совершенной бодрости
спешит в ближайший лес и с радостью распахивает
двери ясного дня.
Тот, явившись к надменным дворцам или суровым
судейским скамьям, то, перемешав правду с ложью,
осуждает невинного, то оправдывает виноватого,
постоянно толкая себя на позор, других — на погибель.
Его душа неспокойна, речь прерывиста. Он то
краснеет, то бледнеет, то поневоле проговариватся, то в
бессилии хватается за плеть. И в душе начинает1 себя
корить и думать, что лучше умереть в пустыне от жажды
и голода, чем обретать славу такой ценой, что достой-
Об уединенной жизни 71
нее быть оратаем23, чем оратором. Бросив бесконечные
дела, он сбегает домой и скрывается в своем
отвратительном убежище не столько от врагов, сколько от клиентов.
А наш друг, находясь в цветущем и здоровом месте,
поднимается на залитый солнцем холм, где долго и
радостно возносит благочестивыми устами хвалу
Господу. Такие молитвы особенно приятны, если
сопровождаются тихим журчанием ручья или милым, чуть
жалобным щебетанием птиц. Он просит Господа дать ему
кротости, обуздать язык, и без того не склонный к
дерзости, сделать равнодушным к славе, просит
ниспослать ему чистоту сердца, рассудительность,
воздержанность — повелительницу плоти.
Немного позже, при третьих молитвах24, он взывает
к Святому Духу, третьей ипостаси Господа в Троице,
очищая исповедью душу и зажигая ближних любовью,
полыхающей в нем небесным пламенем. И то, о чем
он просит, уже есть в нем: ведь он больше рад блеску
ума, чем золота и каменьев. Затем, когда утреннее
солнце, благословившее день, становится полуденным,
он той же тропой в неторопливых размышлениях
возвращается назад.
Больше всего оц стремится гасить пламя раздоров,
которое городской житель раздувает то резким ветром,
то подливанием масла в огонь. Этот жаждет погасить
пыл вредных тй дурных страстей, а того они сжигают.
И, наконец, этот молит о здоровом духе в здоровом
теле: по словам известного Сатирика, только
подобного и можно требовать без всяких опасений25.
Нужно ли спрашивать, кто благородней начинает
день?
Наступает время завтрака. Тот, со всех сторон
обложенный подушками, восседает под сводами
огромного, готового рухнуть зала26. Покои звенят от криков,
снуют дворовые псы и наглые мыши. Льстецы,
выстроившиеся перед ним и обступившие со всех сторон
его кресло, бормочут приветствия. Сонмы слуг, своих
72 Франческо Петрарка ___
и чужих, громко и суетливо хлопочут около стола.
Одновременно метется подгнивший пол, и все вокруг
покрывается слоем пыли. Из заветных шкафов
вынимается столовое серебро с позолотой и кубки,
украшенные драгоценными камнями. Скамьи затягивают
шелком, стены драпируют пурупуром, пол устилают
коврами. С трепетом занимает свои места толпа
обнаженных рабов.
Все выстроено, все готово, и, наконец, перед
строем звучит сигнал к сражению. Полководцы кухни
сходятся с полководцами залы и под ужасный грохот
выносят изысканные дары земли и моря. В сосудах
червонного золота блещут вина италийских и греческих
виноградников, изготовленные еще при древних
консулах; в одной чаше смешиваются дары Кносса и
Мерой, Везувия и Фалерна, суррентийских и калабрий-
ских холмов. Мало того, природу украшает искусство:
авзонййское вино приправляется иблийским медом
или восточным тростниковым соком, после чего
начинает напоминать по запаху черные ягоды27. На
противоположном конце залы толпа дивится не меньше,
разглядывая диковинных чудищ, невиданных рыб и
неслыханных птиц, засыпанных дорогими приправами и забывших
прежнюю родину. (Разве что название выдаст, что они —
с Фазиса28.) Кажется, что возродился древний хаос,
некогда описанный Овццием и при этом перемешавшийся не
только в одном теле, но и в одной йосудине.
Холрд сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость,
Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким2?.
Среди чудовищной груды яств, одно из которых
исключает другое, среди шафранных, черных и синих
гарниров насторожённый глаз не без причин
высматривает яд. Да что там особые ухищрения: среди вин и
еды явно высовываются рогатые змеиные головки ис-
синя-черного цвета30 Они хитроумно упрятаны в
золотых птичьих султанах, словно — странно подумать —
сама смерть стережет всякого, жаждущего получить
удовольствие. А ведь все эти яства должны продлять
жизнь несчастному.
Об уединенной жизни
73
Тот, о ком идет речь, сидит хмурый, насупленный,
сморщенный, с набрякшими веками и бледным
лицом; при виде кушаний он с трудом поднимает голову
и разлепляет губы. Опухший от вечерних возлияний,
взвинченный утренними заботами, он усиленно
обдумывает, куда кинуться, что сделать, чтобы ловчей
обвести вокруг пальца или заманить в ловушку. Он
потеет, воняет, зевает, рыгает, жует, испытывая ко всему
нескрываемое отвращение.
А наш друг, трезвый с вечера и бодрый от желания
подкрепиться, накрывает с помощью немногих слуг, а
то и вовсе без них, скромный стол под не менее
скромным ларом31, украшенный лишь его собственной
персоной. Вместо суеты у него покой, вместо шума —
тишина, вместо толпы — сам-друг: сам себе товарищ,
сам себе рассказчик, сам себе гость. Он не боится
оставаться наедине с собой.
Вместо роскошных ковров —голая стена из
простого нетесаного камня, вместо слоновых кресел —
дубовая, буковая или сосновая скамья. Он предпочитает
созерцать небо^ а не пурпур; и перед, и во время
трапезы он считает самой прекрасной музыкой и самым
лучшим пением вознесение хвалы и славословия
Господу. Если требуется, присутствует управляющий,
виночерпий, повар и слуга. Все, что подается на стол,
вкушается с душевным спокойствием и
благопристойностью. Глядя на него, можно подумать, что яства на
столе заморские, вино —* лигурййское или пйценское32:
именно это написано на его лице li именно такое
чувство у него в душе. Он благодарен Богу и людям, он
радуется простой домашней еде> и вовсе не стремится
подражать царям, как это делал Вергилиев старичок33.
Он никому не завидует, ни к кому не испытывает
ненависти, доволен своим жребием и недосягаем для
ударов судьбы, он ничего не боится, ничего не желает.
Он знает, что в его простые кувшины не подсыпан яд,
знает, что для человеческой жизни достаточно немно-
74 Франческо Петрарка .
того, и большего не требует. Он не жаждет больших
богатств и нисколько не боится высшей власти, радостно
и спокойно проводит он свою жизнь: его ночи
безмятежны, дни спокойны, застолья безопасны. Он
свободно ходит, спокойно сидит, никому не строит козней и
сам их не опасается, зная, что его любят, и при этом —
не за богатства. Он уверен, что его смерть никому не
принесет выгоды, а жизнь — убытка. Он заботится не
о том, как прожить долго, а о том — как это сделать
хорошо. Его душа горит одним желанием: хорошо
сыгранную пьесу жизни завершить достойным концом34;
* * *
Вернемся в город. Катится заведенным порядком
день, бегут часы, и вот конец трапезы. Вокруг нашего
гостеприимца толпится целое войско слуг, союзников,
противников; кругом, как на поле брани,
разгромленные столы, перебитая посуда, разгоряченные гости.
Кровля гудит — то ли от пьяных шуток, то ли от
голодных стоноэ. Ведь у богачей так заведено, что одни
объедаются до рвоты, другие умирают от истощения и
голода: середины не бывает.
Вся зала в дыму и чаду, словно в тумане, — едва
можно сообразить, куца идти; весь воздух пропитан
зловонием, в нос шибает рыбный рассол, пролитый на пол, и без
того липкий от жира и скользкий от вина; под ногами
белеют кости и рыжеет кровь. На ум невольно приходит
фраза из Амвросия: «Не трапезная, а застенок»35.
Так и придется согласиться с давним мнением, что
слово «завтрак» происходит от глагола «готовить»3*.
Готовят и воинов к битве, а по виду пиршественной залы
скорее скажешь, что здесь произошло сражение, чем
завтрак. Вот дрожащий, будто раненый, полководец,
вон отступают вояки-гости, побежденные крепким
вином. Ряды пирующих напоминают боевой строй,
наслаждение — коварного и злого врага, ложе — могилу,
нечистая совесть — преисподнюю.
А у нашего друга все наоборот: его трапезе больше
подходит сонм ангелов, чем свита гостей; чудный аро-
Об уединенной жизни 75
мат и привлекательный вид блюд вызывают аппетит;
простой, приличный, не знающий роскоши и
пышности стол говорит о скромности и целомудрии хозяина.
Здесь обитель радости, царство трезвости. Целомудренно
и спокойно ложе, райское наслаждение —- чистая
совесть. Порок не навдет здесь места, не совьет гнезда.
* * *
Тот пробуждается пьяным и раздраженным, этот —-
трезвым и приветливым. Тот боится любой болезнц и
постоянно со страхом прислушивается к себе, этот при
его размеренном образе жизни не ведает хворей. Тот
либо без меры гневается, либо без меры веселится;
этот, избегая крайностей, возносит хвалы Богу. Тот
весь день либо спит, либо пирует, либо в унынии
решает всякие непростые и неприятные дела; этот все
время проводит с пользой: славит Господа, занимается
интересными и важными делами, размышляет о
новых, вспоминает о прежних, а после трудов предается
отдыху и благопристойным утехам.
Солнце уже в зените. Тот мечется, задыхается от
жары, торопится, вместо одной хитрости прибегает к
двум, вместо одного обмана —- ко многим, чтобы —-
упаси бог -г не упустить дня, не пройти мимо выгоды,
не расстроить промедлением душу, исполненную
многих дурных намерений. А дурные намерения не терпят
отлагательств. Неправедный дух нетерпелив, все
жаждет иметь в один миг. Слово Сатирика об алчности
здесь весьма кстати:
Тот, кто стремится к богатству,
желает стать богачом поскорей37.
* * *
Алчность, злоба и страсть — родные сестры,
порожденные одним отцом в преисподней и вобравшие в
себя ее природу, ужас, бездонность, смутность. Это —-
76 Франческо Петрарка
Фурии, недаром названные поэтами дочерьми Ахерон-
та и Ночи38. Они несут с собой тьму, невежество,
постыдные и окаянные деяния. Теперь они переселились
из преисподней в города и преследуют таких, как тот,
о ком мы ведем речь. Пылающими бичами эти фурии
без отдыха стегают слепую и мятущуюся душу, толкая
ее на самое дурное и следя, чтобы она вдруг не
замешкалась и не устремилась к раскаянию и размышлениям.
Достоинству свойственны умеренность и
неторопливость, недостойным решениям — безрассудная
поспешность: ведь порок не способен себя обуздать.
Напротив, наш друг никуда не спешит, а когда
быстротекущее время наводит его на мысли о вечности и
жизни вне времени и смерти, он вновь начинает
молиться и просит Господа сделать славным не только
день, но и вечер его жизни. Он просит о вечной славе
не во имя своих заслуг, а во имя святой смерти
Христа, ибо Христос больше человеков и Его
безвременная и безгреховная смерть сделала людей, по природе
смертных и во грехе уже умерших, бессмертными.
Наш отшельник испрашивает помощи небесного
света, размышляя о том, что его день клонится к закату и
ему вскоре предстоит исчезнуть с этой земли, и
предвидя ужасную тьму, сгущающуюся над землей, он
молится со слезами — просит пролить на него чистый
свет веры, охладить пылкий ум, изгнав оттуда
нечистые помыслы, укрепить, если он слаб, умиротворить,
если склонен к возражениям, чтобы душа его не была
отягощена бременем преступлений и изгнана с неба.
Он соединяет с утренним хвалебным псалмом
вечерние молитвы и хвалы во славу неисчерпаемого
источника благочестия.
А тот с наступлением вечера снова выходит из дому —
людей посмотреть, себя показать, обед переварить, со
встречными поболтать, поцотеть, повздыхать,
потомиться. Домой он попадает лишь к полуночи,
накупавшись во лжи, проверив силки и сети, изрядно
утомившись, но с большим уловом, с деньгами — правда, без
совести и славы, со следами преступлений и шлейфом
ненависти за спиной.
Об уединенной жизни
77
* * *
Наш друг с улыбкой спускается к искрящемуся на
солнце роднику, или зеленому берегу, или к морскому
откосу, радуясь честно прожитому дню и прося, чтобы
Творец в неизъяснимой милости своей уберег
грядущую ночь от тревог, хитростей и козней, ярости врага,
рыкающего аки лев; молит ниспослать ему
несокрушимую рассудительность, вручить щит веры и речи
против греховных снов и полунощных призраков.
Вручив свою душу Господу, призвав ангелов
охранять жилище его, возвращается он домой; в его сердце
нет дурных помыслов, на устах — жалоб; он лишь
благодарит Господа, ибо душа его с каждым днем
становится лучше и чище.
Словом, тот день-деньской грабит живых, этот
молится за почивших, тот развращает матрон и девиц,
этот благоговейно почитает мать-деву Марию.
Наконец, тот превращает людей в мучеников, этот их
прославляет, тот преследует святых, этот почитает.
* * *
Опускается ночь. У того вновь начинается попойка.
Чуть теплого, еле дышащего, в подушках, словно тело
богатого и облитого восточными благовониями мертвеца,
его вносят в залу. Огромная свита вдет впереди, длинная
вереница — сзади. Возглавляют шествие флейтисты и
факельщики. Ни больше ни меньше — хоронят заживо.
Не успев отойти от завтрака, он принимается за
обильный обед, наперед зная, что наутро его ждет
тошнота и полное отвращение ко всякой еде.
* * *
Наш друг или убеждает себя, что он сыт, или
ужинает так, чтобы это соответствовало платоновскому
правилу: не переполнять желудок дважды в день.
* * *
78 Франческо Петрарка
В совершенно разном состоянии души и тела
отходят они ко сну. Тот, надменный и горделивый,
переполнен едой и вином, страхом и завистью, подавлен
заботами и неудачами, угнетен печалью и накачан
злобой. Он не в ладах с собственной совестью и не похож
сам на себя. Он замучен косыми взглядами,
растревожен криками, взволнован письмами, напуган слухами,
ошеломлен предсказаниями, утомлен жалобами. Его
тяготят телохранители и гонцы. Даже ночью он не
избавлен от тяжб и разбирательств. Он то не верит полу-
л ченным сведениям, то поддается на явные выдумки.
V'Ero жизнь схожа с бесовским шабашем. К тому же,
соседи его ненавидят, сограждане тяготятся,
родственники либо боятся, либо высмеивают. У всех он вызывает
подозрение, никому не внушает доверия.
Долго он ворочается на пурпурном ложе без сна и
лишь к утру впадает в забытье, испробовав все виды
похоти и совершенно обессилев. Его возбужденная
плоть принадлежала присутствующим, а встревоженная
душа не могла забыть об отсутствующих — тех, кого он
обидел, обманул, оскорбил. Он спит, но бдят заботы,
неспокоен встревоженный ум: его точит червь бессмертной
совести и сжигает ее нестерпимый огонь. Ему снятся
дневные дела, обманутые клиенты, угнетенные бедняки,
согнанные со своих полей владельцы, опозоренные
девушки, обольщенные мальчики, ограбленные вдовы,
невинно убиенные и раненые. Ему грезятся Фурии,
мстящие за преступления. Он стонет и мечется во сне и часто
просыпается от ужаса или собственного крика.
* * *
А наш друг исполнен тихой радости, прекрасной
надежды, благочестивых чувств, подобных любви
Петра к Христу39, но не Ниса к Эвриалу40. Его совесть
спокойна, богобоязненна, чиста. У него не бывает
полночных трапез и пустых хлопот. Он одинок,
молчалив, уравновешен, подобен ангелу и любим Богом,
приятен всем и расположен ко всем. Его ложе удобно
для сна, а не для разврата, и спится на нем сладко и
V
Об уединенной жизни
79
безмятежно. Его сны подобны его дневным делам,
только в них, созерцая лучшие видения, он бывает еще более
счастливым, чем наяву. Ликует его душа, становится
более крепким тело. Известно, что добродетели души, в
первую очередь умеренность, добавляют здоровья телу.
Те же, кто усердно служит телу, усердно ему и вредят.
* * *
III. Итак, отче, я обрисовал тебе один день
человека, отягченного заботами, и человека, свободного от
ник. День — для всякого день, но насколько тягостны
хлопоты одного, настолько приятен покой другого; со
временем свойства души обнаруживаются отчетливей, и с
приближением к вечности обнаруживается, что один уже
не может жить без тяжких хлопот, другой — без покоя.
Пожалуй, еще хуже положение тех, кто вынужден
заниматься чужими делами, подчиняться чужой воле,
жить чужим умом. Все у них чужое: чужой порог,
чужая кровля, чужой ночлег, чужой кусок и, что самое
плачевное, чужой ум и чужие мысли. Против воли они
плачут и смеются; растоптав собственные чувства, жи-
Byf чужими. Словом, о чужом заботятся, о чужом
думают, о чужом говорят. Это о них известные строки:
Они проникают во дворцы и на пороги царей...41
Другой, более язвительный поэт в сатире,
обличающей нравы курии, заметил, что подобные лица считают
...будто бы высшее благо — кормиться чужими кускамиЧ
Не знаю, есть ли разница между такими людьми и
пожизненно заключенными в господских и царских
тюрьмах — разве что первые скованы золотыми
цепями, а вторые — железными. Золотые оковы краше, но
рабство одинаково. Вина же первых больше:
осужденных обрекли на их образ жизни против их воли, а те
выбрали его по собственной. Завершу свою мысль
кратко: самыми последними из всех занятых и самыми
несчастными из всех несчастных я называю тех,
которые за дурные занятия не получили даже малой награ-
80 Франческо Петрарка
ды. Живя по чужому приказу, своей смерти они не
избегнут, и, усердствуя для других, они приумножают
собственные грехи. Если бы они трудились, не имея
не только наград, но и вины, их можно было бы
назвать счастливыми. Пока же — преступление их, а
удовольствие, ради которого оно совершается (пусть
обманчивое и мимолетное), — других.
* * *
Счастливой мы можем назвать суровую жизнь
деревенского человека, с усердием сажающего дерево, плода
которого ему не доведется отпробовать. «Кто, —
вопрошает апостол, — насадив виноград, не ест плодов его?»43
Он знает, что делает это не для себя, но не бросит
начатого и не пожалуется на свою долю, вполне утешаясь
тем, что его труд будет на пользу потомкам. Если
спросят, ради кого он сажает, он ответит словами Цицерона:
ради бессмертных богов* вернее, ради бессмертного
Бога44. Сколь несчастнее те, что сеют и получают
наказания, дабы другие пожали наслаждение!
Чего же, спрашивается, больше? По мне, наши
проклятия не хуже критских. Критяне в гневе желают,
чтобы враги упивались дурными привычками45: наши —
чтоб делам и заботам не было конца. И то, и другое на
слух вроде не страшно, и то, и другое — по сути —
смертельно. Я думаю, ничего не может быть
плачевнее, если вникнуть не только в слова, но и в то, что за
ними кроется. Я имею в виду тех занятых людей,
которые перед нашими глазами и вся жизнь которых —
круговерть дел. Людей иных или нет, или так мало,
что мы их и не видали, и не слыхали.
Да, если стремишься к истине, не давай увести себя
в сторону от неверных представлений. Истина же,
очевидно, одна: всякий занятый несчастен, занятый
чужим несчастен дважды: поскольку и находится в
тяжелом положении, и лишен плодов своих усилий.
Справедливости ради, надо заметить, что были и
ныне есть очень занятые, но в то же время очень
благочестивые люди, и сами идущие дорогой Христа, и
Об уединенной жизни 81
выводящие на нее заблудшие души. Нет слов, это
огромное и бесценное благо, двойное счастье, во многом
противостоящее, как я имел случай заметить, двойному
несчастью. Есть ли большее счастье, есть ли что-то более
достойное и более угодное Богу, чем спасение своей
души и неустанная помощь в этом~другим? Если кто-то
способен направить сюда усилия, но не делает этого, он
недостоин имени человек!, он бесчестит природу
человека, он забывает об обязанностях человечности.
Пусть мне будет дана такая возможность, и я
охотно подчиню собственные интересы общественным,
сделаю уединение полезным не только мне самому, но
и миру. Я вполне разделяю мнение Цицерона: «Ради
спасения всех народов или ради помощи им достойно
брать на себя величайшие труды и тяготы, подобно
Геркулесу, которого народная молва поместила за его
благие деяния среди небожителей. Это более
сообразно с природой человека, чем жизнь в уединении, пусть
оно и без внешних тягот, среди величайших
наслаждений и полного изобилия, а сам человек —
исключительно красив и умен. Потому всякий достойного и
возвышенного ума муж ставит первый образ жизни
выше второго»46.
Да, со словами Цицерона вполне можно
согласиться, потому что в его время так и было. Но выслушай и
меня: суждение, в общем истинное, находит в наше
время слишком мало подтверждений. Есть много
людей, считающих собственную активность более
полезной и почетной, чем любое уединение. Это мне давно
известно. Но скажи: много ли мы можем припомнить
выполнивших обещанное? Да, да, возможно, таковые
и есть, возможно, их немало — укажи мне хотя бы на
одного, и я смолкну!
Разумеется, есть ученые и красноречивые, мужи,
много и остроумно рассуждающие на эту тему.
Впрочем, не столько ученые, сколько велеречивые. Они
часто ораторствуют перед народом, клеймя пороки и
превознося добродетели, а больше всего стремясь
снискать расположение толпы. Мне так и не терпится
пройтись косой сатиры47 по столь благодатной ниве, и
82 Франческо Петрарка
лишь почтительное уважение к тебе, отче, удерживает
жало моего негодования. Ты утверждаешь, что эти
мужи говорят много полезного. Я слышал. «И часто
помогают другим». Верю. Но нередко случается, что
врач, советы которого помогают больному, сам
нездоров. Более того, нередко и умирает от той именно
болезни, от которой многих избавил.
Я не отвергаю речей, составленных со знанием дела
и по всем правилам риторики, если они приносят
благополучие многим людям. Кто бы ни был их автор,
думаю, дело это полезное. Для меня подобное — школа
жизни, а не риторики. Мы стремимся к
несокрушимому покою духа, а не к суетной славе златоустов.
Часто приходят мне в голову слова Сенеки:
«Избавься от помех и найди время для добрых
намерений». И следом: «Кто занят, не достигнет этого»48.
Мне важнее не уединение, но спасение как можно
большего числа людей, помощь им. Ведь я не забыл
еще одного высказывания этого автора: «Место само
по себе не приносит покоя»49. Возможно, он прав, но
мне кажется, что и место играет роль. Разве не об
этом говорит и сам Сенека в другом письме: «Мы
должны выбирать место, несущее здоровье не только
телу, но и нравам»50. И он же еще: «Я без оглядки
бежал бы от одного вида и близости форума. Потому что
одни места гибельны для здоровья, а другие — для
благородного, но незакаленного духа»51.
Если место никак не влияет на здоровье и нравы,
чем объяснить различия в том и другом? Нет, от места
кое-что зависит, и, с позволения Сенеки сказать,
много зависит. Но, конечно, не все.
Все, как кажется Сенеке, в душе. Он так и говорит:
«Состояние души определяет все»52. Сказано верно,
как и свойственно Сенеке. Но все ли в самой душе?
Откуда в ней свет истины и верность суждения? Несо^
мненно, из другого источника.
Думается, о душе можно сказать примерно то же,
что о всяком месте: в ней что-то есть, даже многое
есть, но не все. Все — в Том, кто наделяет место
приятностью, а душу — разумом. Ведь спокойная ясность
Об уединенной жизни
83
души — великая, словно божественная вещь, и она —
дар одного только Бога. Чаще всего этот дар достается
тем, кто поселяется в уединении. Это и было показано
мною, насколько позволяло время, ум и сопоставление
разных образов жизни. Много примеров будет и дальше.
Если человеку, тяготеющему к истине, представится
случай не только послушать кого-то из тех, перед кем
немеет доверчивая толпа, но и заглянуть им в душу,
думаю, он без лишних слов согласится с
утверждением, что счастье не в звучных словах, но в молчаливых
делах. Оно — во внутренней глубокой истине, а не во
внешнем одобрении и осуждении людей, далеко не
постоянных.
Если человеку вслушаться в голос той души, он
узнает многое, совершенно противоположное звучащему
с трибуны и вызывающему восхищение народа и его
самого. Станет понятно, что между внешним и
внутренним миром — огромное различие.
Нет спора, природа человека такова, что он, горячо
преданный одному, совершенно не признает другого.
Часто те, кто блистает красноречием, не могут
похвалиться делами, а те, кто вершит великие дела, не
умеют складно говорить. Люди умеренные не рвутся к
наслаждениям жизни, а стремящиеся к ним презирают
умеренность. Жаждущие все больших достатков
нередко пренебрегают государственными делами и дружбой
и ведут малодостойную жизнь, а устремляющие свои
помыслы к государственным занятиям оставляют, как
нередко можно видеть, в пренебрежении дела семейные.
Если два человека идут в разные стороны, ветер не
может быть попутным тому и другому. Не то ли самое
можно сказать по существу нашего разговора? Тот, кто
окунулся в суетную жизнь, любит шум и наслаждается
светской болтовней, тот же, кто предпочитает
размышление, дружит с молчанием и стремится остаться
наедине с собой. Суетной жизни ненавистно
молчание, а уединенной — шум. Надеюсь, ты не удивлен
такими словами.
Наша сегодняшняя беседа, отче, и посвящена
выяснению того, какой путь надежнее.
84 Франнеско Петрарка
Итак, вернемся к тем, о ком мы говорили. Как ты
думаешь, сколько раз усердного пастуха оставляли
силы, сколько раз он, привязывая убежавшую овцу,
запутывался сам, сколько раз падал, преследуя беглянку?
А сколько раз заболевал врач, пока выхаживал
больного? А сколько раз заражался и находил смерть
сжигающий трупы? Так стоит ли сомневаться, что
соприкосновения душ не менее опасны* чем тел? На деле, они
опаснее, тяжелее, глубже, обширней. Говорят, помощь
многим достойна награды, спасение — похвалы. Никто
этого не отрицает. И в этом — начало разумной любви.
Иное дело — обещание помощи. Поверь, немногого
стоит пустое обещание перемирия — сражающимся,
совета — сомневающимся, зрения — слепым, радости —
печалящимся, безопасности — больным, отдыха —
уставшим, утешения — низвергнутым. Равно как и обещание
показать дорогу заблудившимся, подставить плечо
падающим, протянуть руку лежащим. Это дорогого стоит, если
будет исполнено, и останется пустым звуком, если нет.
Пообещать помощь в большом деле столь же легко, как и
в малом, да вот как выполнить обещанное!
Я не столько предлагаю другим, сколько излагаю тебе
именно мои правила: кто их примет, пусть считает
своими, кто нет — пусть забудет. И пусть, оставив нам
уединение, вернет себе свои заботы, и пусть довольствуется
жизнью в городе, коль пренебрегает нашей в деревне. Я
хотел бы помогать людям, быть, как говорит Назон,
«спасителем всего мира»53. Но первое по силам лишь
немногим, а спасти весь мир может лишь Христос.
А если сказать о тех, кто не разделяет моих
устремлений, то они грешат против законов природы, коли
не помогают страждущим* будучи в состоянии это
сделать и находясь в безопасности.
Я до сщ пор не оправился от великого крушения и со
слезами молю о помощи Того, Кто единственный может
ее оказать, если требуется. Я желал бы многого, но
удовольствуюсь малым; я хотел бы быть спасенным со всеми
или, по крайней мере, со многими. Ты, очеввдно,
ждешь, чтобы я воскликнул: лишь бы мне не погибнуть,
а уж богатство и счастье — это слишком много.
Об уединенной жизни
85
А чтобы дальше не перемешивать мои суждения с
чужими, пусть каждый выберет, что ему подходит.
Ведь даже если все мы стремимся к одному
последнему пределу, не всем полезно следовать по жизни
одним путем, каждый должен основательно подумать,
каким сотворила его природа и каким он должен
сделать себя сам. Ведь для некоторых людей уединенная
жизнь хуже смерти, им кажется, что такая жизнь
доведет их до нее. Особенно тяжко уединение для тех,
кому чужды занятия науками. Ведь если им не с кем
поговорить, они просто немеют, так как не умеют
беседовать с книгой или рассуждать с самими собой.
Конечно, одиночество без книги — изгнание, тюрьма,
пытка; возьми книгу — и вот тебе родина, свобода,
наслаждение. Прекрасно высказывание Цицерона о досуге:
«Что может быть слаще досуга, посвященного наукам?»54
И не менее известно изречение Сенеки: «Досуг без
наук — смерть и могила для живого человека»55.
И если попытаться понять, почему эти столь
приятные для философов прибежища — уединение и досуг
иногда, как я говорил выше, тягостны даже для людей
образованных, объяснение было бы найти несложно.
Ведь бывают и такие люди, которые любят свою
тюрьму, скованные странным наслаждением, другие
изыскивают пропитание торговлей и прочими занятиями,
третьи устремляются к скользким ступенькам почестей
и к изменчивой благосклонности народа. Для всех них —
а ныне таковых множество — науки перестали быть
светом души и радостью жизни, превратившись лишь
в средство добывания богатства. Сегодня родители
тратят на образование своих детей большие деньги,
надеясь получить сторицей: они определяют своих
детей словно в лавку с товаром, а не в гимназию,
достойную свободного человека. Так стоит ли удивляться
алчности и беспринципности в применении
полученных знаний: ведь их и приобретали, чтобы продавать,
да с лихвой не в сто раз, а в тысячу!
Все это нужно учесть при выборе жизненного пути.
Таких людей я не стал бы приглашать в пустынное
место, а если бы они и пришли — охотно отпустил бы:
86 Франческо Петрарка
ты видишь, сколь многим здесь не место. Как рыбе
нечего делать на суше, так им — вдали от городов.
Когда-то я твердил об этом известному тебе каусидику56,
избалованному и изнеженному. Он начал постоянно
бывать в этих местах, но не из-за стремления к
приятному досугу — его он ненавидел, — а исключительно
из-за подражания. Трудно сказать, кому все это было
тягостнее — ему или мне. К счастью, он вскоре бросил
попытки: жажда городских удовольствий и отвращение
к этим местам взяли верх.
Если бы я не понимал, что случится именно так, я
бы в конце концов сам сбежал отсюда, настолько
наши дела и мысли были несхожи, хотя мы с детства
знакомы и он считал меня своим другом. Цели же
наши оказались совершенно противоположными.
IV. Но вернемся к началу. Было бы прекрасно, если
с юности в людях доставало бы благоразумия и
каждый из нас сумел бы понять, какой образ жизни ему
больше подходит, и не сходил с той тропы, которую
выбрал, разве чгго понужденный крайними
обстоятельствами. Сократик Ксенофонт, суждения которого мне
известны из Цицерона, утверждал, что Геракл, когда
наступило время зрелости, сделал именно так57. Но
мы-то этого не делаем, поскольку большинство из нас
живет не так, как хотелось бы самому, а как нравится
толпе. Кроме того, мы плетемся по бездорожью, в
потемках, ступая по чужим стопам, частр попадаем на
опасные и запутанные тропы и до тех пор тащимся по
ним, пока не упустим возможность оглянуться и
обдумать, какими мы были раньше и кем хотели стать. Так
пусть каждый хотя бы в старости, если этого не про^
изошло раньше, подумает наедине с собою о
призвании, определенном ему природой и судьбой, и о том,
где от этого призвания начал отходить. И пусть,
подобно заблудшему путнику, поищет спасения перед
наступлением ночи в надежде, что не все природные
задатки успел растерять.
Об уединенной жизни 87
Ну а если перед кем-то небесный свет сверкнул в
начале юности и он ступил на путь надежный или хотя
бы не самый опасный, оставляющий надежду на
возвращение, пусть вечно благодарит Бога, ибо сами мы в
раннюю пору неспособны заглянуть вперед.
Труднее тому, с кем подобного не случилось,
однако, если он раскроет глаза и увидит, что идет
сомнительной дорогой, пусть не щадя сил старается хотя бы
в старости исправить ошибки и оплошности юных лет.
Достойным примером для подражания может служить
старец из «Братьев» Теренция, в конце жизни
стяжавший всеобщую любовь бескорыстной службой на
пользу людям58.
Конечно, дело это нелегкое, но более чем нужное,
а главное — возможное. И никогда не поздно начать,
если понял, что так будет верно. Об этом не раз
писали самые лучшие авторы. Так, мудрейший среди прин-
цепсов и принцепс среди мудрецов Август Цезарь
заявлял: «Никогда не поздно начать делать хорошее»59. И
Платон называл счастливым того, кому хотя бы в
старости удалось познать мудрость и истину»60. При
всяком решении изменить или упорядочить жизнь нужно
прислушиваться к голосу природы, а не к суетному
влечению, и придерживаться того, что кажется самым
выдающимся. Лучше всего спросить об этом прямого и
сурового судью и цензора — самого себя, дабы не
обмануться приятным вццом или благозвучными словами.
Многие, в том числе знакомые мне, люди в
восхищении другими забывают о том, каковы они сами, и,
стремясь к тому, что им несвойственно, превращаются
в посмешище.
Итак, прислушайся к голосу природы — это первый
совет философов, усвоенный мной. И второй: подумай
и определи, какой образ жизни — городской,
уединенный или какой-то еще — соответствует твоей натуре и
твоему характеру. Это очень важно в юности, еще
важнее в зрелых летах, поскольку тогда встает задача не
только выбора, но и отказа от старого.
Мне, насколько я могу судить сам о себе, чужды
нравы толпы. Скромная образованность61, выпавшая
88 Франческо Петрарка
мне на долю, не делает мою душу заносчивой, но
доставляет наслаждение и позволяет дружить с
уединением, где я овладел науками без болтливых учителей62 и
без застывшей косности, хотя, увы, не избежал
недоброжелательства. Потому для меня с уединением не
могут сравниться ни подруга, ни супруга, ни участие в
суде; ни проценты и барыши, ни залоговые сделки, ни
трибуны, ни баня, ни лавки, ни сцена, ни городские
портики63. Это мне внушено самой природой, а не
желанием подражать чьей-то жизни. Я чувствовал, я не
сомневался, что жизнь в уединении, не просто более
спокойна, но и более безопасна и возвышенна.
Было бы прекрасно, если бы все люди могли так
оценить свои обстоятельства, как я свои, особенно
уединение и досуг, о которых уже так долго идет речь. Я
словно стою сейчас на первой ступени лестницы,
ведущей к моим упованиям. Я страшусь толп и
треволнений, будто тюрьмы и оков, но, если нужда все же
приводит меня в город, я умею окружать себя
одиночеством и в толпе, находить гавань в разгар бури при
помощи искусства не всем доступного: власти над
чувствами. Опыт со временем превратился в привычку, и
мне было отрадно узнать, что подобное советует
Квинтилиан, умнейший и ученейший муж,
подкрепивший мое открытие своим писательским авторитетом64.
В сочинении «Наставление оратору» изложены
прекрасные советы оратору, уже знакомому с
риторическими приемами Цицерона. «Ночная работа, если мы
беремся за нее бодрыми и воодушевленными, —
лучший род уединения. Но тишина и уединение и
свободная от всякой суеты душа, к чему мы должны
стремиться прежде всего, увы, не всегда выпадают нам на
долю. А если какого-то из этих условий недостает,
книги откладываются в сторону, и день, естественно,
потерян. Нам мешает многое, но опыт рождает
упорство и помогает преодолевать препятствия. Если,
собрав всю силу воли, заставить себя углубиться в дело,
душа отгородится от всего, что назойливо лезет в глаза
и уши. И тебя не будет сбивать с пути никакая случай-
i/ Обуединенной жизни 89
лысль, не будут мешать встречные. Праздность
/а может найти оправдание. И мы всякий раз мо-
/объяснить, что нам помешало приступить к заня-
L Но напрасно ждать времени, когда мы будем
ры, веселы и свободны от всех забот. Пусть ум ищет
уединения везде — в толпе, в пути, даже в застолье».
Эти слова Квинтилиана мало известны, и потому я
процитировал их с особым удовольствием*5. Более
известно письмо Сенеки на данную тему. Я бы ничего к
нему не добавил, кроме нескольких слов. Сенека
много рассуждал о том, как закалить душу ученого против
шума толпы, и в конце спросил самого себя: «Что же?
Не лучше ли иногда оказаться вдали от шума?» И
ответил себе: «Конечно, лучше. Я переберусь с этого
места»66. Это было последнее, что он посоветовал
тому, кто добровольно отправляется в уединение. И это,
конечно, так. Ведь и я понял, что надо овладевать
умением создавать уединение в шуме городов,
преодолевая при помощи разума и размышлений досадные
помехи. До сих пор я успешно пользовался этим
умением. Трудно сказать, пригодится ли оно впредь, так
как будущее всегда неясно. Конечно, если
представится возможность, я хотел бы искать настоящего
уединения. Я и прежде при возможности делал это, и ныне,
как видишь, охотно поступил именно так.
Уединение — священное, естественное,, честное и
самое чистое из всех человеческих дел. Кому
выказывать себя в лесу? Перед кем охорашиваться среди
колючих кустов? Кого обманывать? Разве что рыбу
крючком да дичь хитрой сетью? Кого разнеживать пением или
танцами? Кого услаждать яркими одеждами? Перед кем
красоваться в пурпуре, перед кем умащаться мазью,
перед кем плести цветистые венки слов? Кому стремиться
угодить, кроме Того, от Которого никто не может
уединиться, так как Он есть и в самом глухом углу.
Уединение никого не хочет обмануть, ни в чем не
притворяется и ничем не маскируется, ничего не
приукрашивает, ничего не сглаживает, ничего не
выдумывает. Оно совершенно безыскусно и обнажено,
лишено зрителей и рукоплесканий, отравы для души. Оно
90 , Франческо Петрарка
имеет единственного свидетеля — Господа Бога и
доверяет собственной совести, а не слепой и лживой
толпе. Живущий в уединении мало верит толпе,
потому что помнит священные строки: «Кто усмотрит
погрешности?»67 И еще: «Если я буду чист, то моя душа
не будет знать об этом»68, не забывая, однако, что «благ
Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его»69,
и что «поддерживает Господь всех падающих и
восставляет всех низверженных»70, и что «Он близок ко
всем, призывающим Его»71, и что «не по беззакониям
нашим сотворил нас и не по грехам нашим воздал
нам, ибо как высоко небо над землею, так велика
милость Господа к боящимся Его» и «как далеко восток
от запада, так удалил Он от нас беззакония наши»72.
И, наконец, глядя на нас не глазами судьи, а
глазами отца: «как милует отец сынов, так милует Господь
боящихся Его; ибо Он знает состав наш, помнит, что
мы персть»73, и человек «словно трава и цветок
полевой»74 появляется и проходит, и «убегает, как тень»75;
«милость же Господня от века и до века»76, так как Он
сам сотворил нас и любит всякое свое творение. Эти
высказывания то страшат, то дают надежду.
Уединение же само по себе ненадежно, и душа, не зная,
любви или ненависти оно достойно, трепещет, но и
надеется, утешая сама себя надежным и известным
милосердием царя своего. Бодрствующее уединение,
занятое только одним, вглядывается в себя и в козни
демонов и, подкрепившись божественной поддержкой,
презирает эти козни. Уединение во всех отношениях счастливо
и спокойно и — особенно подчеркну — является
неприступной цитаделью и гаванью, спасающей от всех бурь. И
что же остается тому, кто избегает уединения и лишает
себя этой гавани? Ему остается носиться по морю
обстоятельств, жить на скалах и умереть в волнах.
Однако я не настолько несговорчив и не настолько
упрям в своем мнении, чтобы считать других глупцами
и заставлять их клясться моими словами: многих
можно заставить согласиться с чем-либо, но поверить не
заставишь никого. Главное — свобода мнений, ее я
требую для себя и не могу отказывать в ней другим.
Об уединенной жизни
91
Пусть же будет — а это вполне возможно — так:
мысли всех пусть будут уважаемы и неприкосновенны: я
rie хочу быть судьей в самом тайном и сокровенном
человеческом деле. Все могут жить достойно
щедротами Господа — никого не отвергает Его беспредельное
милосердие, но многие сами его отвергают.
Философия учит, что к вершинам добродетели ведет много
ступеней: не всем дано занять высшие, ведь тогда на
низших никого не осталось бы. Но тем, кому выпало
последнее, можно выбрать образ жизни скромный, но
не бесславный, если избегать той грязи и бесславия,
которые бывают внизу. Наш долг состоит в том, чтобы
избегать постыдного, добродетель в том, чтобы
стремиться к высокому, счастье — достичь его.
Я помню, что великий платоник Плотин разделил
добродетели на четыре вида, это деление принял и
Макробий77. Нижнюю ступень, по Плотину, занимают
политические добродетели. Они могут быть присущи
людям занятым, но только тем из них, кто печется о
собственной добродетельности, а еще больше — благе
государства. Бесчисленная армия занятых устремляется
к этой добродетели, но достигают ее немногие.
На следующей ступени стоят очистительные
добродетели. Они, несомненно, присущи тем, кто оставил
города, а также философам, свободным от суетных
занятий. Эти добродетели начинают искоренять страсти
души, в то время как первые их только смягчают.
Третья, более высокая ступень принадлежит тем
добродетелям, которые называются добродетелями
очищенной души или очищенными добродетелями.
Они заставляют забыть те страсти, которые
политическими добродетелями смягчаются, а очистительными
ослабляются. Этими добродетелями владеют люди
совершенные, но я не знаю, есть ли такие вживе. Те, что
бывали прежде, любили уединение. И если ныне
найдется хоть один из таковых, думаю, он тоже любит
уединенную гавань, хотя эти добродетели могут
сохранить невредимым и в самом бурном море.
Четвертая и высшая ступень добродетели —
живущая в Боге — не найдет примеров среди людей. Она,
92 Франческо Петрарка
как считают, есть лишь у Бога в высшем разуме. От
нее, как указывает само название, словно от
предвечного образца или от того, что Платон называет идеями
и помещает в высшем разуме бога (идеями прочих
вещей и добродетелей), и произошли, по мнению
платоников, три остальные добродетели?8. Рядом с этой
четвертой добродетелью нечестиво и святотатственно
произносить само слово «страсть»: она как бы вбирает
в себя свойства трех первых, потому никаких
душевных волнений возникнуть просто не может.
Я не собираюсь более рассуждать на данную тему.
Ведь даже Плотину не удалось до конца распутать эту
четырехрядную цепь, сплетенную так искусно. При
необходимости я могу что-то сказать только о
политических и очистительных добродетелях.
* * *
V. Итак, ты видишь, с помощью каких рассуждений
и как мне пришлось примириться с людьми занятыми.
Пришло время оставить их и вернуться к себе и
уединению. О, если бы я был по-настоящему способен
черпать из самой его глубины неимоверную и
истинную сладость и с большей уверенностью рассуждать о
нем! Остается лишь пожалеть, что о столь
благочестивом деле говорят столь непросвещенные уста. Ведь кто
может выразить ясными словами то, чего он едва
коснулся мыслью?
Уединение — божественная и ангельская жизнь.
И о ней человек земной, сказать лучше, бренный
хочет поведать смертному, очарованный самим
словом и славой, плененный больше запахом, чем ответ
давший на вкус. Я кажусь себе пастухом,
родившимся и выросшим в лесах, привыкшим утолять жажду
речной водой, а голод — лесными кореньями,
получавшим хлеб насущный от земли и находившим
отдых в пещере или под кустом; который однажды
подошел к стенам огромного и богатого города,
присел, уставший, на заставе, жадно осматривая все
вокруг, а потом заглянул за ворота и увидел будки
Об уединенной жизни 93
привратников да узкий въезд. А возвратясь в леса,
стал рассказывать своим собратьям, как много
повидал в этом городе, что делается в домах и спальнях
знати, в куриях и на форуме79.
Можно продолжить сравнение: я — словно тот же
пастух, случайно оказавшийся на пороге храма и с тех
пор уверенный, что постиг сокровенные таинства
облачения, сокровенное содержимое священных сосудов,
обязанности священников и церковные обряды, да и
все божественные книги.
Правда, кое-чем я отличаюсь от такого пастуха: он
побывал в городе или храме однажды, я сбегал в
уединение часто; он остановился на пороге, я вошел; он
вскоре ушел, я остался. Однако постиг ли я вернее
смысл уединенной жизни? Пещеры, холмы и рощи
одинаково открыты для всех; никто не чинит
препятствий и не изгоняет пришедших. Нет у пустыни ни
привратников, ни стражей. Но что дадут мне эти
места, что принесут журчащие кругом ручьи, чем утешат
необозримые леса, какую помощь окажут
величественные горы, если првду туда я, а за мной — душа моя,
оставшаяся в лесах такой же, какой была в городе? Ее
прежде всего нужно бросить, ее оставить дома; с
мольбой нужно просить Господа, чтобы сердце во мне
сотворил чистое и поселил во мне праведный дух80.
Только тогда я проникну в сокровенные тайны
уединенной жизни. Поскольку безлюдье, знаю по
собственному опыту, это еще не уединенная жизнь;
конечно, внешне эти две вещи схожи, но уйти от толпы не
значит уйти от страстей. Как бы мне хотелось ощутить
ту невыразимую радость, которая охватывает святые
души при воспоминании о прошлых опасностях и в
предвкушении будущих радостей, или души тех, кто
торжествует над врагом, или тех, кого часто
побеждали, но которые ныне должны победить, сражаясь с
надеждой на верный триумф при поддержке самих
ангелов. Как бы мне хотелось ощутить и радость тех, кто,
оснащенный оружием бога и панцирем
справедливости, облеченный, по словам апостола, в броню веры и
шлем спасения81, должен сражаться против принцеп-
94 Франческо Петрарка
сов82 и властей, против владык мира и князей, не имея
ни одного свидетеля среди смертных, но при
незримой помощи и безмерной любви небожителей и под
водительством самого Христа.
Сколь приятно утомленной душе успокоиться и
перестать тяжело вздыхать! Как сладки грезы, текущие из
чистейшего источника сердца! Как прекрасны бдения
воинов Христовых и посты псалмопевцев на башнях
Иерусалима и на укреплениях Сиона, всю ночь
поющих и охраняющих вал и лагерь на крутой горе от
войска вавилонского83. Им не хватает воды и еды> они
знают, что будут страдать от вражеских козней, но
знают же, что останутся непобедимы. Они до такой
степени исполнены благодати, что думают не столько
о своем спасении, сколько о небесной славе, и потому
в сражении войско становится более осмотрительным,
победа более прочной, триумф воинов Христовых,
сражающихся за эту жизнь, более явным.
Какое же утешение, какое ликование — и
настоящему радоваться, и на будущее надеяться, где на
смену недолгому одиночеству среди людей првдет вечное
общение с сонмом ангелов и вечное созерцание
божественного лика, предел самых святых желаний и
вожделений. На смену недолгим слезам придет
бесконечное веселье, кратким постам ^- вечные пиры,
добровольной бедности — бесценное и истинное богатство;
вместо лесов мы получим Небесное Царство, вместо
дымной хижины — звездные Христовы чертоги, вместо
сельской тишины — ангельское пение и сладость
небесной гармонии, И выше всех напевов — глас
Божий,"взывающий после великих трудов к вечному отдыху.
Какое утешение — иметь самого надежного и
верного поручителя во всех делах, каждодневно
вопрошать: «Что я оставил, за чем последовал, сколь тяжело
то, что переношу, сколь велико то, что меня ожидает,
сколько посеял и сколько пожну!»
Как радостно думать, что вечное счастье можно
добыть столь малой потерей времени — да и потерей ли,
а не приобретением? — и бегством от бесчисленных
мерзостей. Отринув людскую спесь и опасности горо-
Об уединенной жизни
95
дов, настоящего ада живых, по словам псалмопевца84,
устремившись к вечной обители, живущие в
уединении уже на земле начинают быть счастливыми. По
закону природы конец несчастья есть начало счастья и
исчезновение одного — появление другого.
В уединении приходят высокие мысли, являются
собеседники духа и блаженные видения, в уединении
начинаешь общаться с Христом, присутствующим
везде и всегда. Об этом прекрасно сказано в Псалме:
Взойду ли я на небо — там Ты,
Сойду ли в преисподнюю — и там Ты,
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря —
Й там поведет меня рука Твоя...85
И если Он без трудщ дал глаза, уши, разум нам, то
еще легче видеть, слышать и понимать нас Ему. Он
видит нас повсюду и слышит, прежде чем мы начнем
говорить. Ведь сказал же Он молчавшему Моисею:
«Что ты вопиешь ко Мне?»86 Он упреждает наши
желания и предвосхищает наши чувства; Он проникает в
наши мысли прежде, чем они появятся; Он внемлет
нашим просьбам, прежде чем они вырвутся из наших
уст; Он предвидит наши нужды прежде, чем мы
родимся. Но не остается наш Господь бесстрастным:
если заметит недостойных, сжалится над ними, только
бы сами не отталкивали милосердие своим
непробиваемым упрямством, как это нередко случается.
Итак, если Вечный Отец — наш судья и
поручитель, нужен ли нам еще и вымышленный свидетель, о
котором я как-то писал и искать которого советуют
философы? Так, Эпикур, муж величайший среди
великих (хотя некоторые его суждения принять
невозможно), советует в одном из писем другу: «Делай все так,
словно на тебя смотрит Эпикур»87. И Марк Цицерон
нередко заключает письма к брату, полные
возвышенных призывов к добродетели, словами: «Раз уж мое
мнение тебе дороже, чем всех других вместе взятых,
было бы самым лучшим, если бы ты думал, что я
всегда рядом с тобой, слышу все твои слова, вижу все
твои дела»88.
96 Франческо Петрарка
Ясно, что так он надеялся помочь брату, как если
бы> действительно, был радом с ним; часто это
оказывается единственным средством, укрепляющим
стремление к5 добродетели.
Об этом пишет и Сенека. Правда, он не решается
предложить в качестве подобного свидетеля
собственную персону и потому советует Луцилию вообразить
присутствие некоего весьма славного мужа. Он
говорит: «Без сомнения, полезно приставить к себе
сторожа и иметь его рядом, чтобы ты на него оглядывался,
видя в нем свидетеля твоих помыслов»89. И следом: «За
что бы ты ни взялся, делай все так, будто на тебя
смотрят»90. И еще чуть ниже: «Пусть за тобой
надзирает некто тобой чтимый, будь то Катон, или Сципион,
или Лелий —■ любой, в чьем присутствии даже совсем
погибшие люди обуздывали свои пороки»91.
Чтобы было понятно, что это учение принадлежит
Эпикуру92, Сенека в одном из предыдущих писем
цитирует такие его слова: «Следует выбрать
какого-нибудь благородного мужа и всегда иметь его перед
глазами, — чтобы жить так, словно он смотрит на тебя, и
поступать так, словно он наблюдает за тобой»93. Й
замечает: «Этому, мой Луцилий, учит Эпикур. Он дал
нам охранителя и провожатого — и правильно сделал».
Поскольку совет некоторых удивлял, Сенека добавил:
«Итак, выбери себе Катона, а если он покажется тебе
слишком суровым, выбери мужа не столь
непреклонного — Лелия. Выбери того, чьи мысли, и даже лицо,
в котором отражается душа, тебе приятны»94.
Видишь, названо несколько лиц, и можно выбрать
любого, но не по происхождению, могуществу или
богатству, а только по добродетели, манере общения,
выражению лица, являющему внутренний мир, речи,
волнующей людские души.
Что ж, пусть этот совет философа о воображаемом
свидетеле жизни, полезный его друзьям и совершенно
необходимый нам, займет среди моих строк свое
место, хотя нам ясно, что христианин не нуждается в
подобных вожатых и перед его мысленным взором может
и не стоять ни Эпикур, ни Цицерон, ни Катон, ни Ле-
Об уединенной жизни
97
лий. Ведь христианину в роли стража и спутника
доброй жизни дан ангел, и тот, кто не потерял стыд, не
совершит ничего такого, что было бы невозможно
повторить в присутствий людей.
Напомню и о самом возвышенном и
благоговейном: ежечасно и повсеместно присутствует Христос,
истинный свидетель не только наших дел, но и наших
помыслов, которые никому больше знать не дано,
даже эпикурейскому свидетелю.
Задержимся на этом особо. Найдется ли человек столь
необузданный в бешенстве и столь безрассудный в
преступлениях, чтобы, чувствуя присутствие, не будем
говорить Христа, но даже кого-то из святых или
праведников, не смог он смирить свою пагубную и безумную
страсть? Нет, ведь ни один христианин никогда не
усомнится в том, что Христос пребывает в сокровенных
тайниках души и все, что в ней происходит, знает, и все, что
скрыто, видит. Значит, нет ни одного христианина,
который не отказался бы от бесчестного поступка хотя бы из-
за страха перед таким свидетелем и из-за благоговения
перед ним. Здесь нет никакого обмана. Мы не видим
Христа глазами, но верим сердцем, что Он — с нами.
Кстати, Цицерон, не зная о Христе, укорял древних
поэтов за то, что они «ничего не могли видеть душой,
все видели только глазами»95.
Если у нас возникнет нужда в таком свидетеле и мы
захотим получить совет, можно обратиться к тому же
Цицерону. И не потому, что у нас нет выдающихся
христианских писателей — одной книги Августина «Об
истинной религии»96 вполне бы достало: приятно
узнать, что одну и ту же рану может излечить и наше
лекарство, и чужеземное. А Цицерон говорит:
«Отвлекать разум от чувств й уводить мысль от привычки —
свойство великого ума»97. Так давайте, сколько
достанет сил, укрощать чувства и побеждать привычки, дабы
увидеть душой нечто иное. Давайте, наконец, откроем и
прочистим внутренний взор, с помощью которого
познается то, что невидимо глазами, и нам явится Христос.
Если Марку Катону98 было стыдно умирать со
стенаниями при таком свидетеле, то насколько более
98 Франческо Петрарка
стыдно делать дурное перед взором Христа: умирать
ли дурно, совершать ли что-то преступное и позорное.
Он поистине наш вечный свидетель, которого никому
не обмануть. А если вернуться к нашей теме — нигде
его присутствие не ощущается ближе, нигде он не
внимает нам и не говорит с нами так попросту, как в
уединении, хотя присутствует всюду и везде.
И это понятно: ведь там не гудит толпа и ничто не
отвлекает ум от высоких размышлений. Именно там
душа человеческая обвыкается с небесами, обретает в
частых собеседованиях уверенность и из гостьи и
случайной прохожей становится совсем своей у Бога. От
великой любви, постоянного и неотступного
почитания между Богом и человеком рождается такая
близость, какой не случается между людьми. И как вечно
занятые, опутанные мирскими делами и погруженные
в земные заботы люди уже теперь ощущают горькие
плоды бесконечных хлопот и адских мук, так близкие
Богу люди, привыкшие заботиться в уединении только
о благочестивых делах, уже теперь приобщаются к
наслаждениям вечной жизни. Это очень похоже на
истину. Вполне вероятно, что кто-то из подобных людей,
на ком нет следов столетней грязи, милосердием и
помощью Божьей поднимается до такой ступени, что,
будучи еще в земной юдоли, услышит небесное пение
ангелов и увидит их внутренним взором, хотя и не
сможет выразить это человеческим языком".
* * *
VI. Но что могу знать из всего этого и что способен
сказать об ангелах я, несчастный грешник, отягченный
грузом своего греха. Лишь то, что наряду с науками
люблю на досуге и друга, и место для занятий
науками, и в крайнем негодовании бегу от толпы ввиду
несходства ее и моих нравов, и всеми силами избегаю
многословного свидетеля моей жизни.
Для того мы и созданы Тобой, благий Боже, чтобы
найти покой в Тебе100, именно для этого мы рождены,
и без этого наша жизнь была бы несчастной и беспо-
Об уединенной жизни
99
лезной. И если все прочее оставить в стороне, как бы
ты, падре, оценил возможность жить, как ты хочешь,
идти, куда пожелаешь, остановиться, где вздумается:
весной среди яркого ковра цветов, осенью — среди
опавших листьев?
Зиму обманывать, греясь на солнышке, лето —
прячась в тени, оказываясь на жаре или холоде только по
собственному капризу? Везде чувствовать себя как дома,
всегда держаться подальше от зла и преступлений. Жить
так, чтобы тебя не торопили, не толкали, не утомляли, не
утесняли; чтобы не тащили силком на обед, если ты не
хочешь есть, не понуждали говорить, если ты не хочешь
раскрывать уст; чтобы тебя не окликали, не теребили, не
задерживали на перекрестке; чтобы тебе не приходилось
целыми днями носиться на плохо объезженной лошади,
таращась на прохожих, в свою очередь, разглядывающих
тебя, словно чудище. Среди толпы иной наступает при
встрече на ноги, иной, изогнувшись, невесть что
нашептывает на ухо глухому спутнику или расспрашивает о
тебе первого встречного, иной летит напролом, покуда не
столкнется с тобой и не придавит, иной тянет руку, иной
прикладывает ее к голове, иной говорит без умолку,
когда у тебя нет ни минуты времени, иной лишь глянет и
пройдет мимо с поджатыми гуубами.
Жить так, чтобы дома не стареть в скуке, а на
улице не напирать на кого-то в толпе приветствующих и
самому не быть прижатым, чтобы никогда не
перехватывало дыхание, не охватывало жаром, а потом
холодом. Ведь так научишься не человечности, а лишь
ненависти к людям, ненависти к окружающим,
ненависти к занятиям, ненависти к тем, кого любишь,
ненависти к самому себе.
Вспомним слова апостола Павла из «Послания к
римлянам»: «Так как никто из нас для себя не живет и
никто для себя не умирает, ибо мы живем для
Господа, и если умираем — умираем для Господа»101. Так и
тебе следует жить и умереть, чтобы и то, и другое
было лишь ради Господа.
А пока следует вглядываться во все, словно в
зеркало, наблюдая перед собой дела и заботы человеческие.
4*
100 Франческо Петрарка
А прежде всего обратить внимание на себя, чтобы
задолго предвидеть крайние дни и до старости сохранять
тело здоровым, а душу спокойной, и чтобы не
случилось с тобой, как с занятыми людьми: старость уже на
пороге, да время давно упущено.
Ты должен знать, что тень жизни — это не жизнь,
постоялый двор — не родной дом, покои публичной
девки — не спальня. Не домогайся того, что убегает,
желай того, что остается, спокойно претерпевай то,
что есть. Всегда помни, что ты смертен > всегда помни,
что ждет тебя бессмертие.
А еще следует оглядываться назад, обнимая мыслью
все века и земли; везде побывать и побеседовать со
всеми славными мужами, какие жили прежде; следует
забыть нынешних виновников всех бед, но помнить о
себе самом, устремлять возвышенную душу к
небесным деяниям, размышлять о том, что творится в
горнем мире, и этим размышлением воспламенить
желание, и вновь убеждать себя, словно поднося к горячей
груди пылающий факел слов. Все сказанное — один из
прекрасных плодов уединенной жизни, не изведавшим
ее этого не понять. А кроме того, напомню
общеизвестное: там можно заняться чтением и писанием,
чередуя труд со словами утешения. Изучать то, что
написано предшественниками, писать то, что прочтут
потомки. Науки, полученные от предков, — благое дело для
нашей души. Их мы ничем не можем отблагодарить,
так пусть нами движет благодарное и признательное
чувство к потомкам — сделаем для них все возможное:
сообщим неизвестные им имена, воскресим забытые,
извлечем уничтоженное временем и предадим з руки
правнуков. Давайте носить имена предков в душе,
будто нектар во рту, давайте помнить о них, любить и
прославлять их, как полагается, хотя и невозможно
измерить долной мерой их заслуги.
Известно, что изобретатели некоторых ремесел
были осыпаны после смерти божественными почестями —
скорее из благодарности, чем из благочестия. Всякое
благочестие по отношению к человеку оскорбляет
Бога, а чрезмерные благодарности, воздаваемые смерт-
Об уединенной жизни
101
ным, переходя границы человеческих почестей,
доходят до святотатственного вздора. Кифара сделана
богом Аполлоном, его же и Эскулапа объявили богом за
искусство врачевания; Сатурна, Либера и Цереру — за
земледелие, Вулкана — за кузнечное дело; по этой же
причине Египет почитает Осириса, просвещенные
Афины — Минерву, подарившую грекам лен,
оливковое масло и ткачество102. Число примеров легко
приумножить, ведь у древних нет меры и предела тщеславию
такого рода.
Самый великий и самый осторожный из поэтов,
боясь сурового наказания, не осмеливается судить
подобное тщеславие открыто, но, по крайней мере, не
отказывает себе в удовольствии потешиться над ним
скрыто. Он рассказывает, что лживая толпа, источник
всех заблуждений, поместила имена создателей
искусств и ремесел, украсивших жизнь, на небо, а его
владыка в гневе изгнал их в преисподнюю. Впрочем^
поэт прямо называет имя создателя медицины, повергнуто^
го молнией всемогущего бога в стигийские волны103.
Однако оставим этот предмет, ведь нам в
отношении их богов остается лишь удивляться, как мужи,
столь мудрые во всем остальном, столь безрассудны в
отношении суеверий. Они похожи на бегунов,
стремительно несущихся вдаль, но не замечающих меты —
знака на поворотах; можно лишь удивляться их
быстроте и сожалеть об их слепоте104.
Конечно, если творцы этих важных дел заслужили
почести (я согласен, что они должны даваться только
за великие и благопристойные человеческие дела), то
какими наградами следует отмечать изобретателей
благородных наук и искусств, которые создали не плуг
для пашен, не ткань для тела, не звуки флейты для
ушей, не масло и вино для языка — хотя и ушам
необходимы подходящие звуки, и языку подходящие
наслаждения, — но нечто более живительное для питания,
украшения, возделывания и лечения души? Где же,
спрашиваю, лучше всего можно выплатить этот долг?
Усомнится ли кто-нибудь в том, что заниматься
науками лучше и свободнее всего в уединении? В этом я
102 Франческо Петрарка
присоединяюсь к чужим мнениям: в уединении мы
создадим рассказы о знаменитых мужах, их образы,
более долговечные, чем из меди и мрамора105.
Я говорю это, исходя, разумеется, из собственного
опыта. Понятно, какой толчок для развития души дает
уединение, какие крылья для ума, сколько свободного
времени для работы — где, кроме уединения, можно
найти все это — не знаю. Скажу тебе, что
освобождение от службы или свободу можно назвать источником
наук и искусств. Не веришь мне, поверь Аристотелю,
который в первой книге своей «Метафизики» говорит
о математических искусствах, изобретенных в Египте,
так как там была дана свобода сословию жрецов106. Об
этом не умолчал и сам Платон, говоря об этих жрецах
в «Тимее»107: «Посвященные в жреческий сан, они
жили отдельно от прочего народа, дабы их нравственная
чистота не осквернилась каким-либо нечестивым
прикосновением. Об их жизни один из наших
священнослужителей, Хремон стоик, муж красноречивый,
рассказывает, что они, отодвинув на второй план все
мирские дела и заботы, всегда были в храме и
размышляли о природе и причинах вещей и о положении
звезд; они никогда не общались с женщинами,
никогда не видели ни родственников, ни близких, ни детей с
тех пор, как начали служить божественному культу;
всегда воздерживались от мяса и вина»108. К этому он
добавляет, что они имели обыкновение при помощи двух-
тревдневного голодания очень энергично выжимать и
подавлять телесную влагу, возникающую из-за бездействия
и неподвижности; многое он сообщает также о пище,
питье, о возлежании. Я легко верю, что такими
способами они достигают божественного плодородия ума.
VII. Я полагаю, что в этом месте мне резко возразят
те, кому уединение представляется врагом наук и
врагом добродетелей. Они начнут с того, что уединение
лишает наставников, как бы руководителей в науках
и, — я бы добавил — воспитателей юных душ; редкие
жизни
умы возвышались когда-либо без постоянной помощи
таких воспитателей. Они действительно это скажут; но
ведь я обращаюсь не к мальчикам, а к тем, кто
перерос розги и педагогов. Однако они будут настаивать
сильнее и говорить, что разнообразие пейзажа и
бездонное небо рассеивают внимание даже у
образованных мужей. Но ни один ученый не знает, нужно ли
обуздывать и связывать мысль, сдвинувшую с места
нечто грандиозное? Нужно ли обуздывать
стремительного коня, уже готового к прыжку?
В этом случае они руководствуются мыслью Квин-
тилиана, который, если не ошибаюсь, в 9 книге
«Ораторских наставлений» вначале говорит, что ни у кого
не вызывает сомнения то, что уединенное и лишенное
наставника место и глубочайшая тишина более всего
подходят для пишущих (в этой части я согласен с ним
совершенно), но вскоре добавляет (с чем трудно
согласиться): «Однако не нужно безоглядно слушать тех,
которые полагают, что рощи и леса самое подходящее
место для занятий наукой: ведь открытое небо и
прелестные виды убаюкивают впечатлительную душу и
праведный ум (дух); мне же, определенно,
представляется более приятным подобное убежище, чем
присутствие того, кто побуждает к занятиям. Ибо то, что само
по себе нравится, неизбежно отвлекает от усердия в
намеченном деле; душа не может с одинаковой
добросовестностью посвятить себя многому и, куда бы она ни
оглянулась, перестает замечать то, что перед ней»109.
Вроде бы все сказано. Однако, чтобы показать
совершенную убежденность в таком мнении, он
настоятельно повторяет: «Прелесть лесов и воды рек,
колышущиеся от ветра ветви деревьев и пение птиц, и
бездонное небо влекут к себе: мне кажется, что подобное
наслаждение скорее усыпляет мысль, чем пробуждает ее».
Вот с таким мнением выступает против меня
свидетель, к которому грех не прислушаться. Кстати, он
сам, словно не считая собственный авторитет
достаточным, ссылается на Демосфена — человека,
безусловно, незаурядного и, бесспорно, главы греческого
красноречия110. «Лучше всего, — говорит он, — делал
104 Франческо Петрарка
Демосфен, который укрывался в такое место, откуда
ничего совершенно не было слышно и ничего
совершенно не было видно, чтобы глаза не заставляли
мысль перескакивать с одного на другое».
Вот — скажут мне — о, ревностный приверженец и
поклонник лесов, вот каков тот, сто считает леса,
холмы и уединение не только бесполезными, но даже
вредными для занятий. Что ответить? Я не стану
опровергать слова Квинтилиана и соглашусь с тем, что
Демосфен также поступал правильно. В такой ситуации
есть два варианта: либо присоединиться к чужому
мнению, либо склонить к своему. Спокойнее согласиться,
чем спорить, хотя эти мнения нетрудно опровергнуть.
Достаточно напомнить, что и Квинтилиан, и
Демосфен — ораторы, один — очень известный, другой —
просто знаменитый: несомненно, для занятий
подобного рода меньше всего подходят леса и все прочее, о
чем здесь говорилось, и уединение вообще (о нем я
буду еще говорить, когда перейду к примерам).
Но я не уклоняюсь вовсе от обсуждения вопроса:
ни война, ни бегство мне не нравятся, я ищу согласия.
Да, сам я всегда плодотворно занимался умственным
трудом в горах и лесах, где в моей голове рождались
важные мысли (а если на ум приходит что-то
величественное, то оно без труда облекается в
соответствующие слова). Однако я не хотел бы возводить в ранг
всеобщего правила то, что, возможно, свойственно
мне одному, и осуждать слова и дела столь великих
людей; я скорее даже соглашусь с обойми и покажу,
что ни то, ни другое не противоречит нашим
представлениям.
Я ведь не приказываю ученым писать книги в горах
или лесах, но советую им находить для души,
обновленной созерцанием этого, тихое и укромное место в
тесноте городов. Но кто не согласится, пусть и самый
яростный защитник городов,л что такое место можно
обрести только в уединении?
Итак, пусть приступающий к ученому труду выберет
глухое и тихое место: я не буду спорить с теми, кто это
предписывает.
Объединенной жизни
105
Кстати, советы равно полезны и тому, кто пишет
днем, и тому, кто делает это ночью. Испробовав
рекомендации Квйнтилиана на себе, поделюсь ими и с
тобой, дорогой патер, й с читателем. Надеюсь, не без
пользы. Квинтилиан, восторгаясь привычками
Демосфена, пишет в заключение: «Ночная тишина,
закрытые двери и светильник на столе позволяют
сосредоточиться тем, кто работает ночью»111. Я думаю, ты
согласишься, что никакое из этих условий не нарушает
уединения, все ему только на благо.
Итак, если среди стольких авторитетных голосов
будет услышан и мой и будет принят мой совет, я
продолжаю следовать им дальше: если тот, кто постоянно
запирается, по примеру Демосфена, задумает написать
что-то новое, пусть хотя бы ненадолго выберется в
леса и цветущие луга. Он почувствует, как важно после
напряженной работы ума сбросить с себя усталость и
утомление на берегу тихо бормочущего ручья. Нет
ничего дружественнее Музам! Во время этого телесного и
душевного отдыха он может исподволь обдумывать
материал будущей работы, не переставая засеивать
семенами поле ума. Так можно сочетать полезное с
приятным, так отдых будет деятельным, а труд —
спокойным. Когда он вновь вернется в укромную и скрытую
долину Демосфена, то, выполов сорняки, получит
богатый урожай слов от посева мысли. Таким образом, ни
одна минута не окажется бездеятельной и бесполезной.
Этот совет более всего важен для тех, кто пишет
речи или занимается историческими исследованиями.
Те, кто увлечен философией или сочинением стихов,
скорее ищут остроумное и выразительное, нежели
значительное. Думаю, они должны следовать
собственному свободному выбору: пусть откликаются на
движения души, поселяются, где захотят, где подсказывают
место и время или где, по их предчувствию, их
посетит вдохновение, — под открытым небом или под
кровлей дома, в тени пушистой сосны или под
прикрытием надежной скалы. У них нет нужды
перелистывать груды книг — все уже прочитано; они читают в
уме, а часто и сочиняют в уме. Или оценивают по-но-
106 Франнеско Петрарка
вому прочитанное прежде. Конечно, они должны
стремиться вырваться за пределы обыденного, если хотят
сказать что-то высокое и прекрасное. Известно, что
это происходит с большой легкостью и
естественностью в наиболее подходящих местах.
Стихи* сложенные в горах, часто казались мне
самыми лучшими и самыми веселыми козлятами во всем
стаде; чувствуя, откуда происходит их природный
блеск, я говорил сам себе: «Вы знаете альпийскую
траву, вы явились с вершин». И чтобы закончить с этим
вопросом, напомню еще раз о Марке Туллии и
Вергилии Мароне, первых в красноречии, как всем
прекрасно известно. Они постоянно придерживались таких
принципов: первый, прежде чем приступить к
истолкованию гражданских законов, искал приятное
уединение и густолиственные дубы — «берег и тень»,
говоря его собственными словами, и высокие тополя, и
дивное пение птиц, и маленький остров посреди реки,
разделяющей ее на две части, и многое другое вроде
этого112; правда, порою у Цицерона бывали другие
причины для уединения113. Вергилий, собираясь
воздать в буколическом стихотворении хвалу своему
Алексису, бродил один в лесах и горах, «между
густыми буками и тенистыми вершинами», как он писал114.
Оба они тем самым следовали Платону, который
среди мирных кипарисовых рощ и лесных просторов
рассуждал об устройстве государства и лучших
законах115. Это всем известно. Нечто подобное писал и Ки-
приан, по времени более поздний, по вере более ранний,
известный мученик и не самый последний ритор116.
Августин, его большой почитатель, рассказывая о
красноречии Киприана, привел для доказательства
только одно место из многих117; цитированием
избранного пассажа он словно бы хотел показать, каких
высот могло достичь красноречие Киприана, если бы он
не пренебрегал красотой слова, сосредоточившись на
важности и серьезности смысла. В рассуждениях
Киприана об упражнении ума мы не найдем описания
укромной отдаленной комнаты, окруженной стенами,
запертой на засов, прохладной, украшенной мрамор-
Об уединенной жизни 107
ными сводами и прочее. И вдруг... что это?
«Устремимся, — говорит, — к такому месту, где можно
уединиться, где вьющиеся виноградные лозы, переплетаясь
и свисая, ползут по опорам, образуя живой портик и
крышу из листьев». Вот портик, вот место, к которому
стремится святой и красноречивый муж: виноград,
лозы, листья, подпоры и среди этого уединение, всегда
излюбленное для пишущего: конечно, оно не было бы
так желанно, если бы ум не нуждался в другом месте,
где можно было бы найти плодотворное уединение»
кроме крыши и стен.
Я мог бы теперь произвести подобные изыскания и
у других авторов и подтвердить дело более
многочисленными свидетельствами, но, боюсь, что меня
упрекнут либо в маловерии таким свидетелям, либо в
излишней запальчивости. До сих пор я рассуждал,
сообразуясь со следующим: у читателей — если они будут
иметь столько свободного времени, чтобы прочесть
плод моего досуга, — не должно сложиться
впечатление, что я предписал им какие-то правила. Пусть все
взвесят в соответствии с истиной и поверят не столько
мне или другим, сколько опыту.
Действительно, те, кто считает одиночество
неблагоприятным для добродетелей, могут найти опору,
среди прочих, и в авторитете Аннея Сенеки. В одном
из своих писем он уверяет, что одиночество влечет за
собой всякое зло118, а в другом — что там рождаются
дурные замыслы, возбуждаются нечестивые желания,
разжигается страсть, поднимается гнев119. Если это
заявляется без оговорок и в общем, то, конечно, надо
либо возражать Сенеке, либо отказываться от защиты
уединения. Но это не так. Из слов самого Сенеки
более чем ясно, что это сказано только о глупцах,
которых обуревают страсти.
Убедиться в этом можно из тех же писем: своему
Луцилию Сенека не только дозволяет пребывать в
уединении, но и предписывает это уединение»
запрещаемое людям неблагоразумным и подавленным страхом
и печалями. «Так оно и есть, — пишет Сенека, — я не
меняю своего мнения: избегай толпы, избегай немно-
108 Франческо Петрарка
гих, избегай даже одного... Я не могу назвать ни
одного, с кем можно было бы посоветовать тебе общаться.
И вот к какому выводу я пришел: я решаюсь вверить
тебя самому себе»120
Сказано кратко, но, как мне кажется, четко.
«Избегай, — говорит, — толпы»: я с тем охотно
соглашаюсь; «избегай немногих»: и это я принимаю без
особых возражений; «избегай даже одного...» Но ведь
этим ты обрекаешь меня на полное одиночество,
самое худшее из того, на что можно толкнуть. Ведь в
таком случае останется одно — избегать и самого себя.
«Я не имею перед глазами того, с кем можно было
бы посоветовать тебе общаться». Удивительное дело! К
счастью, я таких знаю — тебя и еще, пожалуй,
кое-кого. Впрочем, одного-то знаю точно121. О, если бы я
осмелился дать подобный совет другу, какой крик
подняли бы со всех сторон противники уединения и
добродетели, назвав меня бесчувственным и бесчеловечным
камнем. А Сенека, великий муж, спокойно предписывает
самому близкому другу избегать всех до единого.
Советы Сенеки обращены к мужу абсолютно
совершенному. Если кто-то будет возражать против этого,
я, с вашего позволения, начну спорить. Сенека сам,
взывая к свидетелю, утверждает, что Луцилий был
скорее из тех, кто ступил на дорогу добродетелей, нежели
из тех, кто уже стал их образцом. Конечно, Сенека
часто его хвалит, как это ведется между любящими
друг друга людьми. Но если бы Сенека считал Луцилия
вполне совершенным человеком, то не обращался бы
столько раз к нему с увещеваниями, не принимался бы
за них вновь и вновь.
Впрочем, пусть кто-нибудь другой говорит о
необходимости посвятить себя наукам и добродетели, я с
ним соглашусь. Я же вернусь к моей теме. Тем более,
что я говорю именно для тех, кто стремится к наукам
и добродетели. Остальным я только могу дать один
поучительный совет: прежде всего, измените жизнь, тогда и
подумаем о более подходящих местах для занятий.
Еще одно: даже тем, кому уединение на пользу, я
никогда бы не посоветовал из-за него пренебрегать за-
Обуединенной жизни
109
конами дружбы. Надо избегать толпы, а не друзей.
Если кто-то полагает, что у него толпы друзей, пусть
оглянется вокруг, не обманывается ли он. Ясней всего
это становится в случае внезапной нужды или
изменчивости фортуны: ни того, ни другого не стоит
накликать ради испытания, но, если подобное произойдет,
опыта много добавится, заблуждений много убавится.
Далее, если у одного больше друзей или больше
богатств, чем у другого, я не вижу в этом причин для
волнений. Я призываю к уединению не столько ради
того, чтобы бежать друзей, сколько ради того, чтобы
бежать толпы. В уединении друзья будут появляться по
одному, принося тебе утешение и помощь, а не
досаду. Пусть отдых будет скромным и приятным, без
излишеств; пусть уединение будет спокойным, а не
наводящим ужас. Одним словом, пусть уединение не
кажется страшным, и тот; кто его изберет, приятно
удивится человечности: изгнанная из городов, она поселится в
лесах, да еще тому, что среди людей он встретит диких
волков и тигров, а среди лесов — ангельских существ.
Таково мое мнение, и такую середину я выбираю
между крайностями. Один рад и счастлив только в
толпе: он вызывает скорее жалость, чем негодование.
А другой заявляет: «Избегай любого человека», — о
таком не знаю, что и сказать. Ты, Сенека, меня
испытываешь, признаюсь, и подавляешь своим именем. И я,
скорее всего, склонился бы к твоему мнению, если бы
не оглядывался на другого философа, с неменьшим
авторитетом. Думаю, ты не был 6j>i в обиде, если бы я
сказал, что даже с большим.
Марк Цицерон, рассуждая о дружбе, заявляет, что
одиночество не могут выдержать не только те, для
кого дружба — самая лучшая вещь после добродетели, но
и те, кто суров и бессердечен, кто избегает встреч и
общества (думаю, во всем мире едва отыщется один
такой); никто из них не утерпит, пока не найдет, не
скажем «друга» (их природе это не свойственно), а
хоть кого-нибудь, «перед кем он мог бы извергнуть яд
своего озлобления»122 В подтверждение Цицерон
приводит слова Архита Тарентского, мнение которого
ПО Франческо Петрарка
можно изложить примерно так: никто не может быть
счастлив ни от обладания земными богатствами,, ни от
пребывания среди небесных светил, ни от познания
мира, если ему не с кем разделить все это: так сама
природа убегает от полного одиночества12?.
Можно привести еще более яркое высказывание:
«Если бы все потребное для нашего существования
доставалось нам, что называется, по мановению
волшебной палочки, то многие люди, наделенные умом и
талантом, оставили бы свои дела и целиком
погрузились в познания и науки». Потом, чтобы стала ясна
ирония, добавляет: «Это не так: ведь они избегали бы
и уединения»124.
Вот так в нескольких фразах, казалось, он осудил
все, что мы говорим об одиночестве. Но тут нужно
возразить не столько словам философа Цицерона,
сколько словам оратора Цицерона, хотя и
приведенным в философском сочинении.
К рассуждениям Цицерона я добавил бы одно:
ясно, что речь идет только о бесчеловечном и крайнем
уединении (и если кто-то его избегает, то тем самым
уже не следует совету Сенеки избегать любого
человека); ясно, что мнение, которое он осуждает, не наше,
но чужое; ясно, что избегать уединения — не значит
терять человечность. Цицерон говорит: «такой человек
избегал бы уединения», а продолжает так: «и искал
соучастника в занятиях: и хотел бы то обучать, то
слушать, то учиться»; потому не говорит «соучастников»,
но «соучастника».
Итак, пусть уединение полно всяких благ, но если
оно лишено товарища, то кажется непереносимым
даже людям диким и ненавидящим человеческое
общение. А что говорить о кротких и человечных душах? И
если цринять во внимание, что человеку, не
ведающему дружбы, может принести столько уважения просто
собеседник, какое счастье может принести истинному
поборнику дружбы общение с верным другом, в
котором он видит себя самого, от которого всегда слышит
только правду, с которым — как заметил еще Цицерон —
можно говорить обо всем, как с самим собой? Друг,
Об уединенной жизни 111
который никогда ни в чем не заподозрит, никогда не
солжет, ради которого ты готов на все, без которого
досуг теряет всякую прелесть, от которого приходит
помощь и защита в трудный час, искренняя радость в
час удачи.
Если бы я полагал, что такой человек помешает
уединению, я был бы слишком нетерпим: в
действительности, я никогда не поверю, что присутствие Друга
может нарушить уединение, а не украсить его. И если бы
пришлось выбирать между уединением и другом, то
меньшей потерей стал бы отказ от уединения. Потому
я принимаю уединение лишь в той мере, в какой оно
не лишает дружбы и не заставляет бежать от любого
человека, разве что он окажется такого нрава,
которого я бежал бы ради спокойствия и в городе.
Итак, дело сводится к одному: дели с друзьями
уединение, как и все остальное, доверившись
высказыванию того же Сенеки, что любое благо нам не в
радость, если мы владеем им в одиночку, а уединение,
несомненно, великое и прекрасное благо. Но я бы
гнал от него прочь не только людей преступных, но и
бездеятельных, и ленивых. Скажем, уединение Тибе-
рия совершенно омерзительно, и он навеки запятнал
им достойный остров Капри: напомню, что этот
жестокий и безобразный старик устроил там школу
разврата и жестокости125. Вызывает усмешку уединение
Сервилия Ватии, который в старости скрывался недалеко
отсюда на неаполитанском побережье, вблизи Кампан-
ских Кум. Этот Ватия прославился своим полным
бездельем и в своей небольшой усадьбе был словно заживо
погребен126. Сколько еще можно насчитать таких Серви-
лиев! Но этот всеща встает перед глазами, так как его
сделал известным знаменитый острослов и насмешник и
тем самым позволил нам не называть имена
современников, приводя неприятные и обидные примеры.
Теперь ты понимаешь, кому я адресую намеки уже
сказанным об уединении и тем, что еще будет сказано.
Но не всем дано возвыситься благочестием или
ученостью и заслужить признание и любовь потомства
прекрасно использованным досугом. И пусть тебя не
112 Франческо Петрарка
прельщает ни нынешняя слава, ни молва в веках (за
которую многие охотно отдавали жизнь, чем и
становились известны), но сколько бы ты отдал — если мы
вернемся к нашей теме, — чтобы вернуть время твоей
жизни, как бы ни было оно мало? Ведь как только оно
пройдет, его уже не собрать вновь и не получить
обратно. И разве запрещено любому более или менее
образованному человеку, думающему или хотя бы читают
щему, иметь душу, согретую приятными трудами, не
связанную путами будничных дел, погруженную в Бога
и в рассуждение и свободную от прочего? Разве
запрещено иметь тело, также освобожденное от тяжкого
ярма и* служащее только душе, которое, если порой и
воспротивится из-за непривычки, вскоре?, вновь станет
делать то, что приказано? И можно ли запретить
человеку, избавленному от тысячи опасностей, тысячи
страданий, тысячи издевательств, идти куда хочет,
сидеть, стоять, говорить, молчать, размышлять и не
страдать от домогательств вечно занятых и беспокойных
людей, которые не успокоятся, пока к вороху своих
бедствий не прибавят еще и чужие?
Vili. А что сказать о радости, которая приходит из
прошлого, что называется, из страны забвения?
Вспомним известное высказывание Вергилия:
Может быть, впредь нам будет об этом приятно вспомнить127;
и не менее знаменитое: «Приятно становится: путь
меж врагов позади, позади твердыни аргивян»128. Эти
два высказывания одного и того же поэта звучат по-
разному, но имеют в виду одно и то же и
произносятся одним и тем же персонажем — Энеем129. Посмотри,
в момент, когда претерйевдет бедствия, он пользуется
глаголом будущего времени «будет приятно», а когда
они остаются позади — глаголом настоящего времени
«становится приятно». Действительно: иногда приятно
вспоминать горькое, и прошедшие опасности как бы
греют душу. К тому же, счастье таит в себе опасности,
и, пожалуй, не меньшие, чем несчастье, и еще больше
Об уединенной жизни 113
вводящие в заблуждение. У того же Вергилия
встревоженный отец говорит: «Я очень боялся, как бы
Ливийские царства тебе не навредили»130. Подумай, как
велика радость и безмятежность уединения, когда прошло
все, что вызывало страх, когда все твои беды остались
далеко позади! Какое счастье избежать невредимым
гибельной опасности и на распутьи, когда слева грозит
смерть, пойти вправо. Это тем более приятно, если
первоначально порывался идти в другую сторону! Ведь
природа человека устроена так: чем более всплывает в
его памяти опасность, тем больше радость, что она
позади. И нет выше радости, чем вернуться в прежнее
состояние после опасной болезни, ужасных
кораблекрушений, вражеской тюрьмы и страшных войн. Часто
мы видим, с какой радостью вновь и вновь
рассказывают историю своих бедствий те, кто выздоровел,
достиг гавани, благополучно ускользнул из узилища,
вернулся победителем с войны.
Сколь же сладко вспоминаются презренные
прелести мира, или оставленные без внимания почести, или
растраченные богатства, или отвергнутые наслаждения
и презираемые угрозы, или бедствия, побежденные
высокой душой, — словом, все, что могло обмануть,
но не обмануло! Но самое большое удовлетворение
возникает тогда, когда ты избавишься совсем от
опасностей, так что страхи исчезнут навсегда.
Думаю, есть смысл коснуться доводов, которые
кажутся многим — но не тебе! — ничтожными: тот, кто
предпочел уединение, не ощущает ежедневного
отвращения, постоянно живущего в любом обитателе
города. Это отвращение испытывает не только один
человек к другому, но и больной ум к самому себе, будучи
в раздоре с самим собой. Здесь и там на площадях
городов ты найдешь толпы глупцов, на устах у которых
чаще всего слова грамматиков: «стыдно,
отвратительно, достойно сожаления»131 и фраза Теренция «Не
ведаю, что творю»132. По отношению к ним вернее
последнее. Ведь если бы они ведали, что творить, все их
жалобы прекратились бы. А чего может быть стыдно,
спрошу тебя, как не невежества и собственной глупо-
114 Франческо Петрарка
сти. У Сенеки сказано: «Глупость всегда страдает от
отвращения к себе»133.
Глупцам жизнь не в радость, и не без причин: ведь
они не имеют ни убеждений, ни основательности, ни,
в конце концов, привязанности. Словом, как можно
прочесть у Сенеки в том же месте: «Только мудрому
по душе то, что есть»134. Глупцы же не знают, что
делают, и не знают, что они этого не знают, — и не
скрывают этого. Поэтому они не ведают, для чего живут.
Итак, как же им что-нибудь любить, если они в
неведении, кому от этого польза? И многие живут так,
словно полагают, что рождены не ради чего иного, как
угождения чреву; несчастные рабы, приданные
отвратительным господам.
Что это так, нет никакого сомнения, достаточно
спросить их об одной вещи: если бы мать-природа по
своей снисходительности дала им жизнь без нужды во
сне, совокуплении, пище, питье, радующую без всего
этого отдыхом, потомством, чувством умеренного
насыщения, — такая жизнь была бы им больше желанна,
чем наша, подчиненная стольким нуждам? Сколько
раз мне приходилось принимать участие в спорах об
этом! Сколько раз, ожидая в молчании завершения, я
слышал от кого-нибудь из них слова, сказанные с
полной искренностью, что это наше несчастное
положение следует предпочесть тому счастью! Давая волю
своему безумию, они обычно заявляют: что мы будем
делать? И какой станет наша жизнь, если ее лишить и
нужд и обязанностей? Они совершенно откровенно и
без смущения заявляют и признают, что жить надо не
для чего иного, как для того, что нас роднит с
неразумными тварями. Словно то время, которое мы в
нашей краткой жизни тратим на сон и удовольствия, не
может быть использовано на более благородные дела,
или на созерцание Бога, или на познание вещей, или
на упражнение в доблестях.
Ты впадешь в еще большее негодование и
потеряешь всякую надежду на более здравое решение, если
узнаешь, что я чаще слышал это из уст старцев, чем
юношей, зову в свидетели Бога и мою память. Вот те-
бе так называемое достоинство и зрелая
рассудительность наших старцев: они полагают, что быть
оторванным от удовольствий — истинное несчастье. Люди,
перед глазами которых уже стоит смерть, считают
несчастьем бренность и ветхость телесной лачуги. Само имя
удовольствия столь дорого им с юности и столь сладко
до старости, что, если бы его не было, они отвергли
бы те дары матери-природы, о которых мы говорили.
Они хотели бы прийти к желанной цели по
отвратительной и грязной тропе! Несчастные и заблудившиеся
путники, ненавидящие конечный результат, но
любящие дорогу, ведущую к нему! Если бы кто-то из них,
более осмотрительный, согласился бы с моими
словами; ты, однако, услышал бы такие рассуждения и
доводы, что сразу бы понял: от лжи их отвлекает скорее
стыд, чем убеждение. Августин говорит о таких людях
в книге «Об истинной вере»: «Те, кто мало думают о
спасении тела, скорее предпочитают жадно есть, чем
просто быть сытыми, рабски служить гениталиям, чем
вовсе не испытывать возбуждения. Есть даже такие,
кто предпочитает все на свете проспать, чем не спать.
А ведь цель подобных наслаждений одна: не страдать
от жажды, не претерпевать голода* не желать
совокупления и не чувствовать себя уставшим»135. И чуть
дальше Августин продолжает: «Те, которые хотят
испытывать голод и жажду, и пылать в похоти, и быть
утомленными, чтобы затем с удовольствием есть и пить,
совокупляться и спать, любят неудовлетворенность,
начало самых больших скорбей». Заметим, он не
говорит «любят несчастье и боль», ибо нет человека, столь
равнодушного к собственному благополучию, который
бы с удовольствием упоминал о боли и несчастье. Ведь
известно, как следствия заключены в причинах, так в
любви к причинам заключена любовь к следствиям. И
потому Августин завершает рассуждения такими
суровыми словами: «Желания их будут удовлетворены,
ждут их вопли и скрежет зубовный»136.
Ты видишь, как Августин из причины выводит
следствие: они предпочитают неудовлетворенность и
получают несчастье. Надо заметить, что он долго и ве-
116 Франческо Петрарка
личественно обсуждает данную тему в книге. Впрочем,
даже толпа признает, что эта вещь достаточно
известна. Итак, мы можем говорить (по его утверждению),
что находятся люди, которые желают этого, и немного
таких, которые желают иного; действительно, если они
и попытаются поднять взор чуть выше, то не смогут,
ослепленные всеобщим дымом и пылью, равно как и
не смогут обратить свой слух к тем, кто зовет к
лучшему, из-за шума и грома привычных заблуждений.
Таким образом, по своей воле или вынужденно,
большая часть смертных, склоненная к земле,
наподобие животных, и служащая плоти, бесславно влачит
свое подавленное существование без доблести, без
познания самих себя, без забот о душе; и> хотя лучшая
часть природы иногда колет, язвит и увещевает,
препятствия, о которых я говорил, противодействуют;
Отсюда отвращение к жизни, отсюда — тоска, отсюда —
беспокойство души, хуже которого ничего нет для
смертного, пока он жив. Чему же удивляться, если их
действия и намерения постоянно колеблются? Если
все, что они начинают делать, им не нравится? Ведь
нет того, что они желали бы, потому что, собственно,
ничего определенного они не желают. Всегда желать
одного и точно знать, чего именно, -^ признак
мудреца; непостоянство желаний — самый верный признак
глупости; я не удержусь, чтобы не навязать тебе слова
Сенеки: «Тому, кто не знает, где его гавань, ни один
ветер не бывает попутным»137. И вот они мечутся то
туда, то сюда, пресыщенные и тем, и другим.
Ты наблюдал как-то раз, с какой скоростью они
стронулись с места, каким стадом двинулись вперед и
как внезапно разделились, поскольку один желал идти
туда, другой — сюда. Да и как найти согласие со
многими, ерли человек в разногласии с самим собой?
Причем до такой степени — я хочу обратить на это
особое внимание, — что ты не узнаешь того, с кем
только что встречался, а о том, кого узнал теперь,
вскоре будешь спрашивать, откуда он родом.
И вот они то радостны, то печальны, то смиренны,
то горделивы, то отягчены старостью, то юношеским
Об уединенной жизни 117
легкомыслием; кроме того, они любят встречаться
только с ровесниками; могут внезапно разгневаться и
столь же внезапно остыть; могут принять решение и
тут же от него отказаться. Флакк наблюдал подобное у
малых детей138, мы — у наших стариков. Правда,
непостоянство стариков тем опасней^ чем своевольней они
отклоняют советчиков, прикрываясь свойй
авторитетом и вредя своим примером. И хотя природа
наделила каждого своими пороками, однако большая часть
бед происходит из-за честолюбия и из-за страсти к
подражанию. Действительно, какой подражатель был
когда-нибудь удовлетворен только повторением
ошибок своего кумира? Всем хочется пойти дальше, и
обратить на себя внимание кумира, и оставить его
позади. Как известно, подобный совет дал Квинтилиан
тем, кто занимался красноречием: каждый
подражатель должен больше со своим кумиром состязаться,
нежели за ним следовать; стремясь превзойти, он, по
крайней мере, сравняется с образцом для подражания.
(Квинтилиан пишет так: «Если подражатель думает,
что его дело идти по следам кумира, то он никогда не
сравняется с ним, ибо неизбежно будет позади того,
за кем следует») И к этому добавляет: «Во многих
случаях легче сделать большее, чем повторить
сделанное другим»139. Квинтилиан приводит и другие
доводы, но насколько при чтении его трактата они
воспринимаются красиво, настолько при пересказе
выглядят бледно.
А самое главное, полезное для риторики —
искусство красиво и правильно говорить — преступно и
позорно переносить на искусство жить. И мы исполнили
совет Квинтилиана: мы состязались, сравнялись,
обогнали. Мы уже стали вождями для тех, за кем прежде
следовали; придут и те, которые будут следовать нам и
превзойдут нас. Правда, пусть обстоятельства одни и
те же, происходит не все одинаково. Было предложено
подражать и состязаться: и в том, и в другом мы
подчинились тебе, Квинтилиан, но с разными
намерениями. Ты говоришь о подражании ясной речи, мы
подражаем темным деяниям: сюда, и только сюда устремля-
118 Франческо Петрарка
ются все наши горячие желания, все наши
неутоленные страсти,
О, если бы хорошие подражатели — буде таковые
найдутся — столь же быстро сравнивались со своими
кумирами, сколь плохие превосходят своих! Что
касается нас, то, применив к нашим, все ухудшающимся
нравам советы, данные относительно хороших речей,
мы с изрядной прибавкой передаем в наследство своим
потомкам примеры заблуждений, оставленные нам
предками. И мы еще удивляемся тому, чта растет куча
ошибок, хотя все к ней только добавляют и никто не
расчищает. Я скорее удивился бы, если бы чего-то не хватало в
этой куче, коэда такие умы и такие учителя сошлись со
всех сторон с таким рвением служить одной цели.
Конечно, более опасно подражать действиям и
образу жизни, когда речь идет о вещах достаточно
важных, однако и в малых неистовствует это безумие. Не
от него ли эти беспрестанные изменения во внешнем
виде и походке, вызывающие изумление и смех
одновременно; одежды то до самых пят, то едва
прикрывающие срам; рукава то до земли, то едва до локтя;
пояс то на груди, то чуть ли не под бедрами? Не от
подражания ли столь частые изменения в музыке — не без
тяжелых последствий для государства, как казалось
Платону140, — не от него ли, наконец, столь частые же
изменения в литературном стиле и даже в обычной речи?
Без сомнения, эти глупейшие и претенциозные
выкрутасы — следствие безмерного, бездумного и
тягостного подражания; однажды возникнув, оно все
возрастает и углубляется. Как может оставаться прежним об^
раз жизни тех, кто руководствуется не добродетелью, не
собственным умом, не советами друзей, но страстью к
соперничеству, чужим безумием, советами глупцов?
Наконец, тот, кто отказывается от собственной
природы, отступает от заветов отцов, никем, кроме
чужеземцев и иностранцев, не восхищается и столько
раз меняется, сколько раз ему на глаза попадает то,
чему можно дивиться. И никакой меры не знает ни в
этом, ни в подражании. Все чужое ему нравится, все
свое — не нравится; и он предпочитает быть кем угод-
Об уединенной жизни П9
но, только не тем, что он есть: клянусь Гераклом, это —
единственное, что можно одобрить, если подобное
настроение проистекает не из-за легкомыслия, а из-за
критического отношения к себе.
У Сенеки высмеивается один из подражателей Сал-
люстия — Арунтий141; но — поверь мне —- во всякой
деревне есть свой Арунтий, даже много Арунтиев, по-
обезьяньи подражающих не только словам, но и делам.
Никто такого Арунтия не йаставляет, как одеваться,
как говорить, как закалять душу, одним словом —
каким быть; и потому каждый сам на себя не похож.
Ступая по следам выживших из ума стариков, наша
падкая на все молодежь с большим рвением
взбирается на самый верх глупости, следующие легко побеждают
первых, третьи — вторых и так далее. Таким образом,
безумие, передающееся из рук в руки, все увеличивается, и
трудно представить, каким оно станет у последних.
Хотя, может быть, и то верно, что мы сами уже
дошли до этой пропасти и что в отношении нас
исполнилось сказанное много веков прежде: «Всякий
порок имеет свой предел», так что без падения дальше
вдти некуда142. Может показаться, что я слишком
смело пытаюсь судить на этот счет. Но если кто-то знает
самую первую и самую большую из моих забот,
которая проистекает из моего сострадания к человеческому
роду вообще и Италии в особенности — прежде оттуда
черпались примеры доблести, а ныне, увы, страна
настолько испорчена подражанием чужому и настолько
полна заблуждениями покоренных племен, насколько
прежде была засыпана военными трофеями, — да,
повторю, если кто-то знал мою заботу, скорее удивится,
что я заключил в столь малые сетования столь
высокую скорбь.
И кто в силах переносить это, невесть откуда
взявшееся, недостойное и постыдное отвращение ко всему
своему, порождающее еще более недостойное
восхищение всем иноземным и столь постыдное его
почитание? Не такими были наши предки; о, если бы мы
оказались достойны называться их потомками! Им
могло нравиться и нравилось свое! Не для того Пересе-
120 Франческо Петрарка
кали они долины Рейна или волны Дуная, чтобы
поживиться там предметами роскоши, из-за которых
италийская честь выродилась в безобразное
варварство. Они шли с развернутыми знаменами и с
вооруженными отрядами, чтобы добиться там триумфов и
славы, а не изменить обычаям предков.
Однако и свое они любили не без разбора и не
настолько, чтобы с порога презирать все чужое. Они
любили все, что было достойно похвалы, чьим бы оно ни
оказывалось: друзей или недругов, соседей или
чужеземцев. Если где-нибудь были превосходней обычаи,
военное искусство, ремесло; доблесть, язык, сильней —
наука, они жадно впитывали все это и переносили
домой, справедливо полагая, что нет добычи более
богатой. И они не обманывались: действительно, есть ли
богатство надежней, чем то, которым владеет душа? А
если нашим предкам попадалось что-то безобразное,
они его либо порицали, либо презирали. Наше же
славное потомство перенимает все без разбора! Иной
молодой человек, а то, к моему вящему негодованию,
и старые почитают за счастье облачиться в
безобразный плащ неведомого чужеземного покроя, или в
мундир наемного солдата, на который без слез не
взглянешь, или вернуться домой из другой страны в
одежде, обрезанной до срамного места, или навлечь на себя
насмешки и позор чем-то другим. Свободные люди,
они добровольно претерпевают то, что Давид в
качестве наказания применил к своим рабам и на что ныне
всякий предок такого глупого подражателя, если бы
воскрес, взирал бы с изумлением и большим сострада-
данием по отношению к потомку143. Все это я давно
наблюдаю с печалью и удивлением, словно бесчестие
или слава касается лично меня; и с самого начала, как
только я стал наблюдать за этим, признаюсь, с
встревоженной душой, я жду, кто же, когда и каким
образом положит конец подобным вещам.
Я живу ныне, но предпочел бы родиться в любой
другой век: хотя в любые времена найдется причина
для жалоб, хотя время не добрый, как того хотел
Аристотель144, а злой их изобретатель и творец, и оно дав-
, Об уединенной жизни 121
но взлелеяло этих чудовищ, однако никогда хуже, чем
теперь, не было.
Наши давние предки, как все мы знаем, приобрели
доблесть и славу, навечно оставшуюся в памяти людей.
Мы — как все можем подтвердить — продаем вечный
позор и чистейшую глупость: об этом часто, как уже
замечалось, и изустно, и в сочинениях, я скорбел, но
все совершенно напрасно. Навалился на нас гнев
Господень, и карает нас справедливое возмездие; так
мстит Всемогущий за обиду> так Он наказывает мир:
один получает кару от неблагодарных рабов, другой —
от надменных господ.
Я хотел бы воззвать: «Куда вы идете, о несчастные,
куда вас влечет величайшее безумие? Попридержите
шаг, остановитесь и вглядитесь, куда вы можете
рухнуть. Вы оставили дорогу отцов, чтобы идти по следам
врагов, вы победили их оружием, они вас — своими
заблуждениями. Вернитесь к обычаям отцов, оставьте
чужие, чтобы жить не только более достойно, но и
более радостно. Усвойте доброе правило желать одного,
принимать решение не в согласии с чьими-то
прихотями, но руководствуясь врожденным умом и чутьем». Я
сказал бы это и многое другое, что продиктовали бы
мне гнев и возмущение, если бы я не знал, что души
оцепенели и что никто ничего не хочет делать.
И вот мы, прежде показывавшие правильный путь
другим, теперь показываем верную дорогу к погибели;
слепые вожди слепых145, мы торопимся к пропасти и
обращаемся к чужому примеру, не зная, чего хотим; и
действительно —- закончу начатое — это зло, наше ли
собственное, общее ли всем, создает незнание конца.
Безрассудные люди не знают, чего хотят; поэтому все,
что они делают, вскоре начинает вызывать у них
отвращение. Ведь они не делают то, что следовало бы,
но выспрашивают, что им делать, и в густейших
зарослях трудностей выискивают судебные тяжбы и
хлопоты. С одной стороны, это мечтание без предела, с
другой —1- растерянность посреди дороги, и, отвергнув,
начало еще до окончания, они ничего не доводят до
конца. Они ищут, как скоротать день, и в своем вооб-
122 Франнеско Петрарка
ражении помогают солнцу скорее клониться к закату.
Среди них можно часто услышать такие слова:
«Давайте подтолкнем этот день, давайте сделаем что-нибудь,
чтобы этот день прошел быстрее!»
А ведь день нужно было бы обуздывать, а не
подгонять; но слишком долог для них день и еще дольше
ночь, и, наконец, до отвращения длинна их жизнь. В
своих молитвах они не только просят зимой лета, но
утром — вечера, а вечером — утра: когда же это
приходит, не замечают. Они буквально воплощают в себе
библейское: «Как олень жаждет тени и как наемник
ждет окончания работы своей, так я получил в удел
месяцы суетные и ночи тяжкие отчислены мне. Когда
я ложусь спать, говорю: когда же я встану? И вновь
ожидаю вечера и скорбями буду наполнен до самой
темноты»146. То, что Иов говорил в бедности и среди
несчастий, наши богатые говорят в полном
процветании; они преисполнены жалоб в ожидании скорбей и,
вечно споря с природой вещей, осыпают бранью
медлительные часы, торопят время, тогда как, повторюсь,
день требует узды, а не шпор: если только можно было
бы сдержать стремительный бег часов и дней. Эти же,
полагаю, хотят, чтобы смерть, которую боятся больше
всего, была уже на пороге, а жизнь, которой жаждут
больше всего, уже ушла. Они с такой силой подгоняют
бег времени, что, весьма вероятно, это стало причиной
смерти для многих, которые, тревожась о будущем и
всегда ненавидя настоящее, из-за отвращения к жизни
приманивают смерть собственными руками.
Возможно, ты меня спросишь, к чему сводится
такое пространное рассуждение? А к тому, что от этих
бед и от подобного отвращения может уберечь
удовольствие уединенной жизни. В уединении можно
радостно пользоваться настоящим, спокойно ожидать
будущее, не зависеть от завтрашнего дня, ничего не
откладывать на другой день из того, что следовало бы
сделать сегодня. И это истинно, поскольку нет ничего
глупее, чем пренебрегать настоящим, которое
определенно и целиком принадлежит тебе, и надеяться на
будущее, которое зависит не от нас, а от тысячи слу-
Об уединенной жизни 123
чайностей. Чувство неопределенности всегда будет
жить в том, кто надеется на завтрашний день: любой
день, кроме последнего, сменяется завтрашним днем,
и любой день, кроме первого, был завтрашним для
какого-то дня. Упование на будущее внесло в нашу
жизнь едва ли не самое большое зло: из-за надежды
жить никогда не жить и на манер пса, преследующего
зайца, более быстрого, чем он, кусать пустой воздух,
так и не поймав никогда того, к чему стремишься.
Ведь завтрашний день, когда он придет, перестанет
быть завтрашним: вот уже другой явится, или тот
незаметно пройдет, и оба они — завтрашние. Мы
стремимся к завтрашнему дню, а он всегда рядом и всегда
впереди и обманывает нас своим соседством; когда мы
его достигнем, он внезапно ускользает: так он вновь и
вновь вырывается из наших рук и все время несется
перед нами; никогда не собираясь идти следом, он
подступает, чтобы мы поспешили за ним. Между тем,
ничего не случается из того, что могло бы случиться
сегодня147.
У того, кто стремится к уединенной жизни, кому
заранее известно, что он намерен сделать, у кого раз и
навсегда распределено время не только на несколько
часов вперед, но и на всю жизнь, ни день, ни ночь не
оказываются слишком длинными: часто они даже
короче, чем ему хотелось бы. Если весь день посвящен
благородным делам, он закатывается раньше
завершения труда. Однако такой человек умеет и ночь
присоединить ко дню, и день к ночи, а если нужно, смешать
и то, и другое и исполнить задуманное в любое время
суток, чтобы отпущенное ему время, которое нельзя
ни подогнать, ни сдержать, не утекло бесполезно.
В уединении человек прилагает к этому все
старания, укрепляет себя всеми силами души, а для
городского «занятого» подобная забота тяжелее всего. Наш
друг, оставив всякое беспокойство, всякое
отвращение, сегодня проживает каждый день, а завтра, если
Бог даст, проживет завтрашний. И он не прекращает
дел в надежде на завтрашний день, зная, что такие
надежды многих вводили в заблуждение и обманывали;
124 Франческо Петрарка
он больше надеется на сегодняшний день, ибо то, что
тот день обещает, этот выполняет. (Сколь же велика
слепота смертных, когда они с большим рвением
обдумывают планы, чем само дело!)
Кроме того, наш друг знает, какой облик, какая
речь, какие нравы больше приличествуют юности, а
какие — старости. К ним он приноравливает свой
характер и ни в чем не меняет его, разве что возраст
заставит. Конечно, и перед его глазами есть люди,
которым он хотел бы подражать или иметь в качестве
проводников. Он обращается к природе, следуя ей, как
руководительнице и родительнице, «ведь трудно
поверить, что природа, хорошо расписав прочие части
жизни, пренебрегла бы последним действием, словно она
неискусный поэт», ■— говорит Цицерон148.
Я знаю человека, не скажу как апостол Павел149, но
человека основательного, живущего в уединении,
довольного сельским образом жизни и своими
занятиями. Многого не хватает ему для блаженной жизни, но
есть и немалый дар — уединение. Этот дар позволяет
ему прожить весь год как один день — без людских
скопищ, без пресыщения, нестесненно.
Напротив, попойки и пиры, роскошные цветы и
благовонные мази, пение и зрелища, наслаждение до
пресыщения и отвращения превращают день
изнеженных горожан едва ли не в год. Не просыхающие от
вина, вялые со сна, загнанные делами, они без ропота и
брюзжания неспособны прожить ни минуты.
* * *
IX. Но довольно сопоставлений, ибо времени нет
совершенно. Отчасти я упоминаю о том, что видел и
слышал сам, отчасти излагаю заключения,
вытекающие из увиденного и услышанного. О более
возвышенном, как полагается грешнику^ сужу робко, об
обычном, как разрешается человеку с опытом, —
смело. Делать это мне позволяет мое близкое знакомство
с тобой, стремление к свободе, общеизвестная любовь
к уединению и занятиям наукой.
Итак, я заканчиваю, добавив одно: наместники
провинций и правители городов, вступая в свои
должности, как правило, издавали эдикты, объявляющие о
запрете всяких дурных деяний. Так часто бывало в
Италии во времена моего отрочества, не знаю, как
теперь, ведь я живу не там, да и вообще все в мире
катится к худшему: у добрых обычаев век короток, у
дурных — бесконечен. Когда прибывал новый наместник,
все мы были свидетелями бегства из городов лжецов,
воров и сводников. Если мы оглянемся на древние
времена, то увидим, что обычай этот существует
издавна и следовать ему весьма верно. Начало ему было
положено знаменитым полководцем нумантийских
легионов150. Вступив в лагерь, он тотчас подписал
беспримерно суровый приказ, восстановивший
дисциплину в войске, развращенном нерадивостью прежних
полководцев и распущенностью солдат. Едва глашатай
объявил этот приказ, он выгнал из лагеря повароЕ и
сводников, целую рать торговцев и прочий сброд,
способствовавший похотям, вместе с двумя тысячами
распутниц, следовавших с войском, привыкшим к
роскоши и бегству с поля боя.
Считают, что эти действия снискали славу ему и
принесли победу легионам, когда на нее не было уже
никакой надежды. Можно назвать и другие имена,
если недостаточно столь известного.
Но вернусь к предмету нашего разговора. Нам
вверено управление не городами, не странами, не легионами,
но нашей душой, которая может показаться всего лишь
маленькой провинцией. Но только тоща, когда мы
пытаемся силой разума укротить порывы бунтующей души,
становится понятно, как тяжела война с самим собой и
как трудно управление этой провинцией. Что же делать?
Если ты меня спросишь об этом, отвечу: то же, что
делали наместники и полководцы. Конечно, множество забот
о народах и легионах впрямую несравнимы с одной-
единственной нашей — о душе. Но как знать, где больше
опасности? Что страшнее смерти, особенно если ты
Должен погабнутъ один? Некоторым гибель со всеми вместе
кажется утешением и меньшим злом.
126 Франческо Петрарка .__
Итак, мы должны изгнать из собственных пределов
бесчестье, удержаться подальше от страстей, обуздать
распущенность, искоренить изнеженность, направить
душу к лучшему. Как изящно говорит Флакк:
Если только в грехах вправду мы каемся,
Надо страсть эту низкую
С корнем вырвать давно и на суровый лад
Молодежь, слишком нежную,
Воспитать...151
Одни управляют жителями городов, другие —
войсками солдат: в наших руках город нашей души и
войско наших забот. И они сотрясаются внутренними и
внешними войнами. Можно ли считать, что какое-то
государство более беспокойно, чем человеческая душа?
Можно ли думать, что здесь враги более милосердны,
чем у Сципиона под стенами Нуманции? Он осаждал
один город и один народ; мы сражаемся против целого
мира, плоти и дьявола. Какими кажутся тебе эти
враги? Сколь сильными, сколь озлобленными, сколь
дикими? Пришел тот полководец, как мы сказали, к
развращенному войску и стал на место побежденных и
обращенных в бегство прежних военачальников.
А мы? Разве мало того, что и мы приходим в
развращенный и утомленный мир, полный примеров
трусости не только чужой, но и нашей? О скольких
падающих мы слышали? Сколько простертых ниц мы
видели? Сколько раз сами падали? Сколько раз
подвергались опасности пасть? Все вокруг нас полно ужасов:
наши чувства изнежены и расслаблены, наши враги
многочисленны и воинственны, опасности огромны и
всегда рядом, так что нет возможности ни отдохнуть,
ни успокоиться. Если мы жаждем спасения и победы,
воспользуемся примером победоносного полководца,
коль скоро мы суть полководцы нашего духа и наших
дел, а равные по силе опасности требуют и равных
предостережений.
Впрочем, что я говорю? На самом деле, и
опасности наши больше, и награда ждет большая; ведь тому
полководцу было предложено искоренять чужие поро-
жизни
ки, а нам — наши; он заботился о благе земной
родины, которой суждено было раньше или позже
погибнуть, и о временной славе, мы — о вечной жизни и о
спасении бессмертной души. Поэтому, если мы
предпочитаем большее меньшему, свое — чужому, давайте
с величайшим усердием преодолевать все препятствия
и преграды.
Так ты спрашиваешь, что делать? А разве ты не
изгоняешь прочь от себя пороки, чего не в состоянии
сделать ни законы, ни правители? Разве ты не
вступаешь на безнадежный для нашего времени путь, чтобы
новыми средствами распутывать совершенно
свалявшиеся клубки дел? Разве ты не борешься с роскошью
богатеев, воровством рабов, слезами бедняков,
завистью плебеев, надменностью знати, лживостью курии,
развлечениями площади, раздорами толпы, алчностью
почти всех?
Я бы тоже хотел делать нечто подобное, но не
уверен, что осилю начатое, и думаю, что легче поднять
всю серу из недр Этны152, чем изгнать эту страсть к
преступлениям, эту низменность нравов из клоаки
городов, где находится главный склад такого ужасного
товара и где ум, каким бы он ни был цельным, с
трудом укореняется, потому самое лучшее — держаться
подальше от подобного.
Итак, что же делать? Возвращаюсь к тому, что мне
ближе всего: давай попробуем избежать погибели, от
которой нельзя спастись бегством; знаю лишь одну
гавань и убежище — уединенную жизнь. О ней я так
много рассуждал, что уже боюсь, не вызвал ли у тебя
отвращения и не показалось ли тебе рассуждение это
болтливее самих городов.
СОЧИНЕНИЕ
ФРАНЦИСКА ПЕТРАРКИ,
ФИЛОСОФА, ПОЭТА
И ЗНАМЕНИТЕЙШЕГО ОРАТОРА
«О СРЕДСТВАХ
ПРОТИВ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ»,
ПОСВЯЩЕННОЕ АДЗОНУ КОРРЕДЖИЮ,
ПАРМСКОМУ ЕПИСКрПУ, ДРУГУ
ПРЕДИСЛОВИЕ!
Когда я думаю о делах и судьбах людей и о
внезапных поворотах событий, я не нахожу ничего более
хрупкого и более неспокойного, чем человеческая
жизнь. Я вижу, что природа, сама не ведая того, позат
ботилась обо всех живых существах, дав им
удивительные средства. И только одним нам она дала память,
рассудок, предусмотрительность — божественные и
прекрасные дары души, а мы направляем их на
погибель и страдания. Ведь нас, слабьпс, вечно терзают не
только бесполезные, но вредные и гибельные заботы о
настоящем и воспоминания о прошлом, нас тревожит
будущее, и больше всего мы боимся стать
несчастными хоть самую малость.
Мы усердно отыскиваем причины несчастий и
пищу для страданий, которые делают нашу жизнь (если
бы мы жили правильно, она была бы совершенно сча-
О средствах против превратностей судьбы 129
стливой) занятием печальным и жалким. В начале
жизни нас преследуют слепота и забывчивость, конец
омрачает и всем владеет заблуждение. Тот, кто окинет ход
своей жизни строгим взглядом, поймет, что это так.
Где, спрашиваю, здесь покой? Где безмятежность?
Разве мы прожили хоть один день не только без тягот, но
и без тревог? Было ли хоть одно утро беззаботным и
радостным, не омраченным опасениями и печалями?
Конечно, очень много несчастий заключено уже в
самих обстоятельствах жизни, однако, если нас не
обманывает любовь, от которой проистекают многие
наши несчастья, следует честно признать, что всякая
вина за несчастье лежит на нас.
Я уж умолчу обо всем остальном, что теснит нас со
всех сторон, о той вечной войне, которую мы ведем с
судьбой и где победителями нас может сделать только
доблесть. А мы добровольно и сознательно уклоняемся
от нее. И вот, слабые, безоружные, не уверенные в
исходе битвы, мы сходимся с беспощадным врагом. И
судьба то поднимает нас, словно нечто бесплотное, то
низвергает вниз, и катит по кругу, и играет нами. И
уж лучше быть побежденным, чем заверченным ею. А
причиной всему — наше легкомыслие и изнеженность.
Судьба то и дело бросает нас из огня в полымя, век
наш короток, а мы сами охвачены постоянной
тревогой и не знаем, к какому берегу причалить свой
корабль, к чему склонить душу; вечные сомнения гложут
нас и не позволяют твердо определиться; нас тяготит
зло нынешнее, нас не оставляет прошлое, нас страшит
будущее. Кто знает, не лучше ли было быть
лишенными разума, этого небесного дара, делающего нашу
природу особой!
Противостоять этому злу не просто уже из-за
давности й укоренившейся привычки, однако нужно
стремиться. Благородной душе, для которой нет
ничего трудного, ничего неодолимого, помогают и
собственные усилия, и частые беседы с мудрыми людьми
(хотя подобный род людей ныне редок), а больше
всего — постоянное и непрестанное чтение и
воспоминания знаменитых писателей. Душе остается лишь согла-
130 Франческо Петрарка
шаться со здравыми увещеваниями: осмелюсь сказать,
что только это согласие может стать живым
источником здравых решений. И уж если мы испытываем
благодарность к обычным писателям только за то, что
они всколыхнули в нас чувства, или за то, что,
казалось, они открыли дорогу следующим за нами, то
подумай, сколь велика должна быть благодарность по
отношению к писателям известным, чьи труды
выдержали испытание временем. Они жили и творили за много
веков до нас и продолжают жить с нами благодаря
своему божественному таланту и высоким помыслам;
они, словно живые, беседуют с нами. Эти писатели,
будто сияющие звезды, нанизанные на Млечный путь
истины, будто ласковые попутные ветры,
направляющие к берегу моряков, указуют нам среди вечных
душевных колебаний гавань покоя и подгоняют туда
медлительные паруса наших стремлений, правя рулем
мятущейся души до тех пор, пока не смирят и не
остановят волнения, вызванные столь большими бурями.
Вот это и есть истинная философия: не та, которая
воспаряет на поддельных крыльях и держится на
ветрах пустого самохвальства и бесплодных рассуждений,
но та, которая ведет к спасению верными и
спокойными шагами по самому прямому пути. Она убеждает
тебя в этом дружески, но настоятельно.
Судьба, властвующая, как считается, над большей
частью обстоятельств, создала тебя таким, что ты
стремишься узнать многое и прочитать как можно больше
книг, и бросила в бурное и глубокое море дел и забот.
Впрочем; она не отняла у тебя время для чтения и
желание познания, и ты, всегда испытывающий
наслаждение от дружбы и общения с людьми творческими,
выкраивал часы даже в самые занятые дни, часто
отрывая их от отдыха, чтобы ежедневно познавать новое,
становиться более сведущим в вещах замечательных;
при этом ты нередко опирался вместо книг на то, в
чем никому не уступаешь, — на память, чему я сам
бывал свидетелем.
И уж если ты был расположен к подобному с
молодых лет, теперь, надо думать, склонность только воз-
О средствах против превратностей судьбы 131
росла, ведь обычно путник идет к вечеру более ретиво,
чем поутру, и, в любом случае, настроен более
решительно; справедливы сетования, что путь становится
длинней, а день клонится к вечеру. И с нами
происходит то же самое: жизнь близится к закату, а познать в
ней нужно еще так много!
Итак, мне не нужно побуждать тебя делать то, чем
ты и прежде занимался самым ревностным образом.
Решусь посоветовать одно: поменьше отвлекаться на
житейские заботы, ввергавшие в самую гущу тяжких
трудов очень многих смертных после самых
выдающихся свершений. И еще: невозможно делать все
одновременно — читать, слушать, вспоминать, потому
обратись к вещам самым важным и самым недавним
по времени, поскольку они — первые друзья памяти.
Я посоветовал бы тебе не пренебрегать теми
прекрасными и серьезными определениями мудрости,
которые всегда смогут помочь в обычной борьбе с
судьбой; во всех случаях, при всех обстоятельствах ты
должен быть вооружен этими краткими и сжатыми
сентенциями, словно верным и надежным оружием
против любых нападок, любого натиска. Ведь мы ведем с
судьбой сразу две войны: одну — против враждебной
фортуны, другую — за счастливую; шансы и на победу,
и на поражение равны. Как правило, люди обращают
внимание только на враждебную сторону судьбы.
Философы же, хотя взвешивают и ту, и другую, полагают,
что первая более опасна. Аристотель справедливо
заявляет в «Этике»: «Труднее переносить печальное, чем
удерживаться от приятного». Вслед за ним Сенека в
«Письмах к Луцилию» замечает: «Большая заслуга проти-
вустать трудному, чем умерить радостное».
Что же сказать мне? Как осмелиться рассуждать о
том же после столь великих людей? Да, рассуждать
вновь о давних вещах тяжело, если не безрассудно. С
одной стороны, меня смущает авторитет, с другой,
возраст. Потому мне хотелось бы опереться на авторитет
еще одного мужа древности. «Пусть, — писал он, —
каждый придерживается такого мнения, какое кажется
ему наиболее убедительным, поскольку полной ясно-
5*
132 Франческо Петрарка
сти ни в одном из дел достичь невозможно». Эти слова
Марк Брут адресовал Аттику, и едва ли можно сказать
вернее2. Ведь о любом деле я могу судить только с
высоты собственного понимания. Прошу не укорять
меня за использование чужих слов: тот, кто их произнес,
в свою очередь, почерпнул суждение у
предшественников. Таким образом и я, если захочу говорить о
своем, то обойду почтительным молчанием высказывания
великих людей.
Я знаю, что есть разные мнения о добродетелях, и
при этом не всегда на первое место ставят самые
значительные. А, скажем, скромность, которую чаще
называют умеренностью, отодвигают на последнее место.
Как много еще надо размышлять о том, о чем мы
завели речь, Я полагаю, что труднее управлять
счастливой судьбой, чем несчастной; и я готов согласиться,
что для меня гораздо опасней ласковая судьба, чем
грозная (уж не будем вспоминать о переменчивости
первой). Изменить это мнение меня не вынудят ни
прежние суждения, ни сети слов и узлы софизмов!; к
себе на помощь я призову опыт, примеры из
собственной жизни и главное доказательство, что исключения —
редкость. Я видел многих, которые равнодушно
относились к потерям, бедности, изгнанию, тюрьме, казни,
смерти и к тому, что хуже смерти, — тяжким
болезням. Я видел и тех, кто равнодушен к богатству,
почестям, власти. И по моим наблюдениям, часто тех,
кого не могла победить никакая жестокость
неблагоприятной судьбы, играючи сваливала счастливая; я
видел, как силу человеческой души не могли сокрушить
угрозы и сгибали ласки.
Трудно сказать, почему такое происходит, но, как
только судьба меняется в лучшую сторону, слабый дух
постепенно становится надменным и, приобретя
благополучие, забывает о былой смелости. Нет; недаром
были сказаны слова, ставшие у нас пословицей:
«Переносить благополучие — великий труд». И Флакк не
случайно наставляет: «Учись достойно переносить
великую судьбу»3. Он полагал, что это трудное искусство,
требующее старания. Да и сам Сенека в весьма крат-
О средствах против превратностей судьбы 133
кой речи изложил свои представления о той стороне
судьбы, которая представлялась ему более трудной и,
несомненно, более суровой на первый взгляд. Эта
книжечка у всех на руках.
Я не собираюсь дополнять или поправлять Сенеку,
его произведение, написанное с большим блеском, не
нуждается в моей отделке; я буду заниматься своими
делами и не намереваюсь ни додумывать чужое, ни
хулить его.
Но поскольку добродетель й истина заботят всех,
уважение к древности не должно мешать потомкам
заниматься тем же самым, и нужно ободрить их и помочь им.
Обо всем этом я решил поговорить с тобой, как
некогда Сенека говорил со своим Галлионом, насколько
таковое окажется по силам утомленному и вечно
занятому уму. Кроме того, я хотел бы коснуться и другой
стороны судьбы, мимо которой Сенека прошел то ли
по забывчивости, то ли намеренно. Я сознательно
смешал разные темы и писал не только о счастливой или
злополучной судьбе, но и о добродетели и пороке, о
превосходстве или недостатке; впрямую это не связано
с судьбой, однако, со своей стороны, может делать
души и радостными, и печальными, воздействовать на
них так или иначе.
Ты должным образом оценишь мое старание, зная о
моей занятости и нехватке времени; думаю, тебя
немало удивит, что дело, начатое несколько дней назад,
уже завершено4. Я надеюсь, что вопросы, важные для
меня, будут интересны и тебе, и другим, буде они
обратятся к моему сочинению. Наконец, следует
заметить, что от работ такого рода ожидается не столько
похвалы пишущему, сколько пользы читающему. Как
от лукавой болезни всегда нужно иметь склянку с
проверенным снадобьем под рукой, дабы не рыться в
поисках по шкафам, так и при всяком шуме и
подозрении, что на пороге враг, пусть при тебе, а не на
книжной полке будет быстродействующее средство
(причем изготовленное дружеской рукой) против
всякого зла, всего, что вредит добру, против всех
превратностей судьбы.
134 Франческо Петрарка
Как я сказал, опасен лик всякой судьбы — и
благоприятной, и неблагоприятной. Но уметь перенести
надо и ту, и другую судьбу; одна нуждается в укрощении,
другая — в утешении; в одном случае нужно
сдерживать душу в ее стремительном взлете, в другом —
ободрять и снимать усталость. Ты, достойный того
дара, которым мы оба сообща пользовались, как говорит
Цицерон, всегда спешил на помощь мне,
обдумывающему это разнообразие. Ты побуждал меня писать, и
не только словами (ведь ты еще не знал о моих
намерениях), но и самими делами, дающими обильный
материал для представления о той и другой стороне судьбы.
Мы знаем, как много людей находятся на дыбе
судьбы, но много и в ее милостях; многих
стремительно катит она на своем колесе. Известны случаи, когда
поднявшиеся вверх не были низвергнуты вниз; знаю я
и тех, которые были сброшены с весьма высокой
вершины. Сколько римских императоров, сколько
чужеземных королей было сброшено с высокого трона или
руками врагов, или руками своих, и сколь многие из
них лишились вместе с властью и жизни! Но зачем
брать примеры из древности? Мы и ныне знаем королей,
находящихся и в изгнании, и в плену, и убитых в
сражении, и казненных на родине (о чем весьма прискорбно
говорить),, и удушенных, и позорно растерзанных5.
Природа дала тебе королевское сердце, но судьба
не дала королевской власти, поэтому и не отняла у
тебя ее. И хотя судьба во всем переменчива, вряд ли,
думаю, наш возраст позволит нам получить эту власть.
Когда-то ты отличался очень хорошим здоровьем и
твои телесные силы приводили в изумление всех, кто
тебя знал; а в течение немногих последних лет, когда
врачи уже трижды отчаивались, ты трижды вверял
свою жизнь и здоровье только небесному врачу. И
хотя Он в конце концов возвратил тебе здоровье, ты
совершенно потерял свою прежнюю крепость.
Нет былой удивительной ловкости и
необыкновенного величия; если прежде ты был почти «Медноно-
гим», то теперь согнулся, плечи твои поникли, на коня
можешь сесть лишь при помощи слуг, а землю мерить
лишь медленными шагами.
О средствах против превратностей судьбы 135
Родина твоя едва ли не одновременно увидела тебя
и повелителем, и изгнанником, и ничто не казалось
загадочнее этого изгнания. Вряд ли кто из нас
пользовался такой любовью принцепсов, но и ни с кем не
поступили столь несправедливо. Они наперебой
стремились к дружбе с тобой, и они же, ни в чем не
находящие общего языка, мгновенно согласились изгнать
тебя, как будто сговорились. При этом одни, прежде
лишив тебя золота, драгоценностей, щедрых даров
судьбы, столь много лет благосклонной и милостивой
к тебе, и лишив при помощи всяких тяжких мучений и
казней друзей, клиентов и всей семьи — есть ли
потери тяжелее для человека? — добивались твоей казни. А
другие, более снисходительные, хотели просто присвоить
твое огромное наследство, земли, людей, дома, города,
чтобы все, увидевшие тебя в бедности после больших
богатств, удивлялись этому, как некоему чуду судьбы.
Как я помянул, одни твои друзья погибли, у
остальных погибла верность; как это бывает, с
исчезновением благополучия исчезла и благосклонность людей, так
что стоит подумать, что сперва оплакивать — гибель
друзей или гибель верности.
А в самый разгар этих дел еще и приключилась
тяжелейшая болезнь, ты был при смерти, уверяли, что
ты вряд ли выживешь, начинала ходить досужая молва
о твоей кончине. И болезнь, и тяжкие обстоятельства
подавили тебя, обложенного со всех сторон,
изгнанного из отечества, находящегося далеко от дома, в чужих
землях и среди чужих ларов в обстановке гремящей
кругом войны. Ты лишился бесед, совместных занятий
литературой с теми друзьями, которых добродетель
подарила, а судьба отняла, не осталось ничего, кроме
тюрьмы и смерти. Да и пусть бы тюрьма, лишь бы
была жива преданная тебе супруга и плоть от плоти твоей
— сыновья и дочери, захваченные врагами. Но не
осталось утешения и в многочисленном потомстве: в то
время как ты упорно боролся, один из сыновей, юный
и невинный, погиб в тюрьме. Куда же больше?
Можно сказать, что тебе одному выпало на долю
то, что испытали два величайших мужа — Гай Марий
136 Франческо Петрарка .
и Помпеи Великий6. Твоим близким и тебе, никогда
не перемешивавшим радостное с печальным, судьба по
отдельности отмеряла и того, и другого, сколько рука
взяла. Не так, как большинство смертных и
счастливых людей, ты относился к ласкам судьбы в прежние
времена, мужественно и непоколебимо переносишь ее
нынешние угрозы и ярость. Так что тебя нельзя
измерить какой-то одной меркой: те, которые ранее
ненавидели даже твое имя* должны любить тебя и
восхищаться тобой.
Доблесть имеет обыкновение возбуждать к себе
любовь хороших людей и изумление дурных. Это
свойство имеет любая из доблестей, но особенно та
твердость, при которой и покой становится более
приятным среди вихрей судьбы, и свет более заметным
среди мрака ужасных вещей. Что касается меня, то твое
мужество добавило не только много нового
восхищения к прежней любви (я думаю, сильнее любить уже
невозможно), но и направило мое перо,
устремившееся было в другое место, к тому, о чем следует написать
без малейших отлагательств. В моих писаниях ты, как
в зеркале, увидишь отражение твоей души. А если что-
то покажется тебе не очень выразительным или мало
приемлемым, все же при помощи прежних и многих
новых способов настрой себя так, чтобы тебя оказалась не в
силах взволновать никакая перемена в делах, покуда
судьба будет продолжать бросать тебя в разные стороны.
Приготовься ко всему, настройся на любые
неожиданности, одинаково взирай и на сладкое, и на горькое.
Как верно звучат эти слова Марона о повороте
судьбы в худшую сторону:
Я не вижу нежданных и новых
Бед и трудов впереди: их лицо привычно лще, дева!
Знал и прежде о них, в душе их всех одолел я7.
Я понимаю, что многим покажутся слабыми
лекарства, состоящие в словах, как по отношению к
бренной плоти, так и по отношению к душам,
ослабленным многочисленными страданиями. Но мне известно
и другое: как есть незримые болезни души, так есть и
О средствах против превратностей судьбы 137
незримые лекарства против этих болезней. От ложных
суждений нужно освобождаться с помощью истинных
мыслей; кто упал, услышав что-то ложное, пусть
поднимется, услышав истинное.
И еще: если человек испытывал в чем-то нужду и
его друг с готовностью отдал ему последнее, пусть это
и самая малость, оба полностью исполнили долг
дружбы. Ибо дружба ценит друга, а не то, что принесено;
пусть вещь будет малой, но она может говорить о
большой любви. Я не имею подарка, который был бы
достоин тебя, но с удовольствием преподношу тебе
самое, может быть, пригодное в нынешних
обстоятельствах. Если ты решишь,1 что мои советы действенны,
подарок сделает привлекательным самое ценное в
вещи — полезность. А если они покажутся
недейственными, все извинит любовь к тебе.
Когда ты начнешь читать, то увидишь, что четыре
всем известные страсти — надежда или влечение,
радость, страх и скорбь (двух последних в равной
степени порождают и благополучие и неблагополучие)
мечутся в человеческой душе в разные стороны. А
защищает душу, словно крепость, и потому всем четверым
отвечает и разоблачает козни вопящих кругом врагов
разум, вооружившись доспехами, призывая все свое
мастерство и силу, но также и с великой небесной
помощью. Твой-проницательный ум легко позволит тебе
рассудить, на чьей стороне окажется победа.
Не буду тебе больше докучать. Я счел необходимым
предпослать моему сочинению это краткое обращение,
дабы изложить суть написанного. Если ты сочтешь,
что по тщательном размышлении следовало бы кое-
что добавить, знай, что меня сдерживали опасения,
как бы большое предисловие не перевесило маленькой
книжицы, словно огромная голова тщедушное тело.
А стройность придается лишь правильным
соотношением частей.
138 Франческо Петрарка
КНИГА ПЕРВАЯ
I. О ЦВЕТУЩЕМ ВОЗРАСТЕ И НАДЕЖДЕ
НА БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
Радость и Надежда: Мы в расцвете сил.
Разум: Вот первая пустая надежда смертных,
которая уже обманула и еще обманет много тысяч людей.
Радость и Надежда: У нас возраст расцвета.
Разум: Напрасная и краткая радость: пока мы
говорим, этот цвет засохнет.
Радость и Надежда: Время жизни еще не
растрачено.
Разум: Разве может называть свой возраст
нерастраченным тот, у кого не хватает многого, а то малое, что
остается, туманно.
Радость и Надежда: À есть определенный закон
жизни.
Разум: Кто предложил этот закон и что это за
законное время жизни? Чрезвычайно несправедлив
данный закон, ибо для каждого — свой. Нет ничего более
различного, нет ничего более неопределенного у
людей, чем мера самой жизни.
Радость и Надежда: Однако есть неадя мера и
предел жизни, который установили мудрецы.
Разум: Предел жизни установить может не тот,
кому он уготован, а тот, кем он дан, — Бог. Я
понимаю: вы думаете о семидесяти годах или, если имеете
более крепкую натуру, о восьмидесяти1 и избегаете той
черты, за пределами которой вас ждут тяготы и
болезни. Разве что надежду на более долгую жизнь поддержит
тот, кто говорит: «Самое большое число дней
человеческих — qro лет». Но мы видим, сколь редкие люди
достигают этой черты; и сколь невелика возможность получить
то, что получили немногие.
Радость и Надежда: Очень разумно. А жизнь
юношей более беспечна и далека от старости и смерти.
Разум: Ты заблуждаешься. Даже если человеку в
таком возрасте и не грозит нцчего, эта часть жизни
О средствах против превратностей судьбы 139
опаснее: чрезмерная беззаботность делает ее
неосторожной. Смерть всегда находится по соседству с
жизнью. Хотя кажется, что жизнь и смерть очень далеки
друг от друга, они рядом: одна всегда проходит, другая
всегда наступает. И как бы вы ни старались ее
избежать, она всегда наготове и грозит вашей голове.
Радость и Надежда: Юность, в любом случае, с
нами, а старость далеко.
Разум: Нет ничего мимолетнее юности, и ничего —
коварнее старости. Юность не длится вечно, а,
протекая в весельи, уходит; а старость, шаг за шагом
подкрадываясь в темноте и тишине, поражает ничего не
подозревающих и, хотя представляется отдаленной, на
самом деле оказывается у дверей.
Радость и Надежда: Наш возраст на подъеме.
Разум: Вы верите весьма коварной вещи. Подъем
на самом деле — спуск. Жизнь коротка, время не
стоит на месте и исподволь, без всякого шума, утекает среди
сна и веселья. О, если бы эта быстротечность времени и
скоротечность жизни были известны в ее начале так, как
ощутимы в конце! Для вступающих в жизнь все
беспредельно, для уходящих из жизни — все ничто! И то, что
казалось веками, обернулось мгновениями. И теперь,
наконец, познается обман, когда ничего нельзя поправить.
Молодому возрасту часто дают напрасные советы: он и
недоверчив, и неопытен, чужие советы презирает, а
своего ума еще нет. Таким образом, бесчисленные и
большие ошибки молодости, скрытые от юношей и им
неизвестные, аукаются в старости; ничто не вскрывает их
лучше, чем старость: она ставит их прямо перед глазами
тех, кто прежде смотрел на все сквозь пальцы. Поздно вы
задумываетесь над тем, чем вы должны были быть, —
лишь тогда, когда стали таковыми, каковыми захотели, и
уже не можете стать другими. Юноша, который поймет
это сам или поверит мудрому совету, станет счастливым
и замечательным исключением из правил; в его жизни не
будет множества зигзагов, его путь, благодаря доблести,
окажется прямым и безопасным.
Радость и Надежда: Срок нашей жизни не
оборван.
140 Франческа Петрарка
Разум: Каким образом не оборвано то, что
постоянно отрывается, как только начало существовать, то,
что начинает вырываться мельчайшими частицами,
едва дается? Если небо вращается в вечном движении,
то мгновенья поглощают часы, а часы — день. А этот
день теснит другой, а тот — следующий, и все идет без
остановок. Так проходят месяцы, года, так идет время
жизни: и бежит, и спешит, и, как говорит Цицерон2,
«летит», или, как Марон: «не шевельнет быстрые
крылья»3. Мы похожи на плывущих на корабле: они не
замечают пути, а часто и не думают о нем. Но и ему есть
конец.
Радость и Надежда: Наша жизнь только
началась, она далека от конца.
Разум: В пределах краткого пути все близко.
Радость и Надежда: Но ни одна часть жизни
не отстоит от конца дальше, чем ее начало.
Разум: Безусловно. И это было бы верно сказано,
если бы все жили одинаково долго. А ведь и в раннем
возрасте мы подвержены смерти на очень многих
путях и довольно часто. Во многих случаях ближе к
концу оказывается тот, который отстоял дальше.
Радость и Надежда: Определенно мы
переживаем самый лучший возраст.
Разум: Не заблуждайтесь, даже если так думают
многие. Мы уже говорили, что тотчас происходит
некое изменение, и что-то выпадает как бы отдельными
вереницами слогов, а что-то отнимается от вянущего
цветка возраста. Позвольте спросить, разве этот
изнеженный и блестящий юноша имеет больше, чем
суровый заскорузлый старец? Ведь у юноши, как мы
сказали, к сожалению, нет ничего, кроме недолговечного,
вянущего и постоянно уходящего цвета возраста. Не
понимаю, где же тут что-то милое, что-то приятное,
когда юноша знает, что быстрее, чем об этом
говорится, он станет таким, каков теперь этот старец, А если
ему это неизвестно, — он безумец.
Если случится так, что двое осуждены на казнь
одновременно, то более счастливым должен считаться
тот, кому приказано подставить свою шею под секиру
О средствах против превратностей судьбы 141
раньше, другой кажется мне более несчастным из-за
самого откладывания наказания. Хотя положение
осужденных на казнь и юношей неодинаково: ведь что
касается приговоренного, то, пока совершается казнь
товарища, что-либо может измениться, и он останется
жить. А юношу может избавить от старости только
смерть. В конце концов большое счастье не вмещается
в малый промежуток времени, а для великих душ
ничто краткое не является желанным. Пробудитесь,
спящие, еще есть время! Откройте затуманенные глаза.
Приучитесь наконец думать о вечном, его любить и
его желать, одновременно презирая преходящее.
Научитесь добровольно уходить от того, что не может
быть с вами долго, научитесь оставлять его по своей
воле прежде, чем оно вас оставит.
Радость и Надежда: Наш возраст неизменный
и бодрый.
Разум: Обманываются те, которые любой из
возрастов называют неизменным.
Нет ничего изменчивее времени. Время — телега
любого возраста, а вы выдумываете, что оно
неизменно. О пустословие! Нет ничего неизменного; теперь-то
время и гонит тебя быстрее всего.
II. ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЕ ТЕЛА
Радость: Красота тела исключительна.
Разум: Но она не может преодолеть время, С ним
приходя, с ним же она и уходит. Останови, если
можешь, время — тогда, может быть, и красота тела
останется неизменной.
Радость: Красота тела отличная.
Разум: Ты опираешься на хрупкое основание.
Само тело исчезает наподобие тени; ты ручаешься, что у
тебя останутся временные случайные признаки тела.
Случайные признаки могут разрушиться, в то время
как сущность остается неизменной; если же она
разрушится, не могут не разрушиться и случайные
признаки. А из всех качеств, которые уходят вместе со смерт-
142 Франческо Петрарка
ным телом, ничто не уходит быстрее внешности,
которая едва только покажет прелестный цветочек, как он
начнет вянуть прямо на глазах восхищающихся им и
восхваляющих его; его обожжет краткий заморозок,
сломает легкий ветерок, его может неожиданно
сорвать недружелюбная рука или затоптать нога
прохожего. Вот и прославляй после этого красоту и
рассыпайся в похвалах как угодно.
И вот большими шагами приходит то, что откроет
тебя, скрытого тонким покрывалом: какова на самом
деле красота живого человека, смерть показывает; и не
только смерть, но и старость, и несколько лет, и даже
внезапная легкая лихорадка в течение одного дня. В
конце концов, если не случится ничего внешнего, она
(forma) сама по себе изнашивается в течение своего
существования и продолжения и вновь становится
ничем; и не столько радости приносит своим приходом,
сколько скорби при уходе. Об этом — если я не
ошибаюсь — некогда знал красивый известный римский
император, который в письме другу говорил: «Знай,
что нет ничего пленительнее красоты, но ничего нет и
недолговечнее ее»1.
Хотя, даже если бы красота была продолжительным
и вечным даром природы, не понимаю, считал ли он
твердо, что до такой степени нужно добиваться ее
если она не поверхностное, блестящее украшение,
скрывающее много безобразного и ужасного,
обманывающее чувства тончайшим покровом кожи.
Следовательно, подобает наслаждаться истинными и
продолжительными благами, а не ложными и преходящими.
Радость: Красота тела очень изысканна.
Разум: У тебя перед глазами завеса, под ногами
сеть, крылья в силках; ты нелегко можешь разглядеть
истинное, или следовать доблести, или взмыть душой
ввысь. Многих, стремящихся к высокой
нравственности, красота отвлекала и поворачивала в
противоположную сторону.
Радость: Красота тела удивительна.
Разум: Это ты хорошо говоришь: удивительна.
Ибо есть ли что удивительнее призрачности? Сколько
О средствах против превратностей судьбы 143
красивых юношей не прикасаются к более приятным
вещам? Какие увечья наносят они себе, чтобы не
столько быть красивыми, сколько казаться таковыми,
в стремлении к одной только красоте забывая о
здоровье и о радости! А сколько растрачивается в течение
съедаемого времени! И между тем как много честного,
полезного, в конце концов необходимого находится в
пренебрежении! Так вот и владей охотно своим
кратким и преходящим благом и ничтожной радостью. Ты
имеешь в своем доме врага, причем врага приятного и
льстивого; ты имеешь похитителя покоя и времени, ты
имеешь вечного мучителя и предмет хлопот;
огромнейшую причину опасности, средство для сладострастии; с
ним приходит ненависти не меньше, чем любви.
Может быть, ты станешь милым для женщин
легкого поведения, но мужам ты будешь ненавистен и
подозрителен. Супружеская ревность более всего
воспламеняется телесной красотой; ни одна вещь не
преследуется более горячо, чем красота, ни одна вещь не
волнует душу сильнее, и в то же время ни одна не
вызывает больше подозрений.
Р а до с т ь : Красота тела велика.
Разум: Она обычно толкает глупых юношей туда,
куда невыгодно; они думают, что им можно своим
преимуществом пользоваться как хотят, и не стремятся
к тому, что пристойно. Красота, часто и для многих,
становилась причиной жестокой и позорной гибели.
Радость: Красота тела редкая.
Разум: Пройдет очень немного времени — и иначе
будет выглядеть лицо и его цвет. Белокурые кудри
выпадут, а оставшиеся на голове побелеют; нежные щеки
и ясный лоб избороздят скорбные морщины;
радостный свет и сияющие звезды глаз затуманят печальные
облака; ровные и белые, словно из слоновой кости,
зубы испортит и изотрет грубая пища, так что они
станут не только другого цвета, но и расшатаются;
стройная шея и подвижные плечи согнутся; нежный голос
охрипнет; иссохшие руки и искривленные ноги станут
как не твои. Чего же больше? Придет день, когда ты
не узнаешь себя в зеркале. Ты думаешь, что все это
144, Франческо Петрарка
случится нескоро, так вот не говори, что ты,
пораженный неожиданными уродствами, не был предупрежден
об этом; вот здесь уведомляю тебя: если только ты
живешь, все это придет к тебе быстрее, чем об этом
говорится. Поверь мне теперь, чтобы потом меньше
удивляться переменам, происходящим с тобой.
Радость: Красота между тем известна.
Разум: Ну, об этом короче всех сказал Апулей из
Мадавры: «Немного подожди — и она не будет таковой»2.
Радость: Красота тела до сих пор необыкновенна.
Разум: Я предпочел бы, чтобы превосходной была
красота души! Ибо у души есть свое изящество, и оно
гораздо привлекательнее и надежнее, чем изящество
тела; и она сама помогает себе своими законами,
порядком и удобным расположением своих частей.
Достойно было ее желать, на нее направлять свои труды:
ведь ее не уменьшит долгий день, не погасит болезнь
и сама смерть. А ты восхищаешься преходящим.
Радость: Теперь, по крайней мере, несомненно,
что красота необыкновенна.
Разум: В отношении красоты, как и во многом
другом, надо желать умеренности. А если с такой
необыкновенной красотой ты и себе не будешь
нравиться, и не позаботишься, чтобы нравиться другим,
насколько это прилично, и не будешь пользоваться ею
целомудренно, воздержанно, умеренно, то нечего тебе
ожидать в будущем большой славы.
Радость: Прекрасное лицо украшает душу.
Разум: Напротив, оно испытывает душу и часто
вовлекает в опасность. И к чему кичиться тем, что не
твое, и тем, что ты не можешь сохранить надолго?
Иметь таковое ни для кого не было славным, а для
многих стало славным — пренебрегать этим. Сошлюсь
на других: не природная красота сделала знаменитым
Спурину, а неестественная уродливость3.
Радость: Я стремлюсь, чтобы доблесть души была
соединена с красотой тела.
Разум: Если ты это делаешь, то это
представляется мне замечательным, тогда ты во всем будешь
счастлив, и тебе и красота покажется более славной, и доб-
О средствах против превратностей судьбы 145_
лесть более привлекательной. Хотя казалось ему, что
он ошибается, — тот, кто говорит:
Доблесть, исходящая от красивого тела, привлекательна4.
Мне кажется, Сенека справедливо пишет, что он
хотел сказать, что такая доблесть больше, или
совершеннее, или возвышеннее. И мне теперь показалось,
что Вергилий не ошибается, когда говорит это, так кадс
он имел в виду не саму по себе [доблесть], но
суждения видящих ее.
И в конце концов, как прелесть красоты не имее;г в
себе ничего твердого, ничего желанного, так она являт
ется (obvinerit) даже добавкой к доблести, и не будет
ошибкой в оцецке их обоих, если согласиться, что
доблесть — украшение красоты, хотя краткая и
хрупкая красота и не лишена прелести для взоров. Но я
сказал бы, что она отягощает душу и является
неблагоприятным знаком горькой насмешки.
IX. О КРАСНОРЕЧИИ
Радость: Красноречие — самое превосходное
свойство.
Разум: Я согласен, что оно могучий инструмент
славы, но обоюдоострый. Как ты понимаешь, забывать
об этом нельзя.
Радость: Красноречие горячо и быстро.
Разум: Кто-то верно сравнил красноречие
неумного и непорядочного человека с мечом в руках
бесноватого. В интересах общества и первого, и второго
следовало бы лишить их оружия.
Радость: Красноречие ярко и светло. Светлы и
ярки лучи солнца, светел и ярок пожар. Понятно, что
светлое и яркое различно по свойствам.
Разум: Красноречие блистательно. Блистают и
печальные кометы, и опасные мечи, и вражеские шлемы.
Красноречие должно сочетаться со святостью и
мудростью, тогда оно может прославить своим блеском.
Радость: Красноречие — огромное богатство.
146 Франческа Петрарка
Разум: Красноречие должно сочетаться со
скромностью. Лучше было бы, чтобы огромное и богатое
при случае умело смолчать.
Радость: Достаточно одного красноречия.
Разум: Из Криспа известно, что у того злодея
красноречия хватало, но мудрости было мало1. Более
точно это можно назвать не красноречием, но
велеречивостью. Никто не может считаться учителем
красноречия, если он не является добродетельным мужем.
Если ты полагаешь, что достаточно одного дара
красноречия, чтобы считать оратора добродетельным и
мудрым, ты ошибаешься. Искусными говорунами
равно могут быть и праведники, и преступники:
одинаково остр может быть язык, одинаково темпераментна
речь, порою сдобренная двусмысленными, а то и
неприличными выражениями. Заслуживают похвалы
лишь те, кто отличается добронравием,
добродетельностью, мудростью; дурных хвалить — недопустимо.
Поскольку ты еще об этом не говорил, скажу я.
Помни о двух вещах и четко разграничь их для
себя: об одной из них рассуждал Катон, о другой —
Цицерон2. Первый считал, что оратор должен быть
благочестивым мужем, опытным в речах. Отсюда ясно, что
главным свойством оратора и главным признаком
красноречия являются добродетель и мудрость,
которые нельзя заменить просто потоком слов. Настоящего
мужа создают добродетельность и мудрость, а обилие
слов и навык к речам — только болтливого, но не
красноречивого и не мудрого. Однако оратора и его
искусство должно совершенствовать все вместе.
Истинное красноречие встречается не часто, и оно
несравненно более замечательное свойство, чем
многословие, принимаемое за красноречие.
Итак, если ты добиваешься права называться
оратором и ждешь похвал своему красноречию, ты вначале
должен стать добродетельным и мудрым.
Радость: Красноречие полно и совершенно.
Разум: В полном и совершенном есть все, но
многого сразу не хватит, если не окажется добродетели.
О средствах против превратностей судьбы 14?
Прежде чем говорить обо «всем», усвой для себя хотя
бы это одно.
Радость: Красноречие выше всего другого.
Разум: Сверх высшего нет ничего. Потому, если у
ораторов не достает добродетели, то красноречие будет
уже не высшим, но чем-то шатким, бесформенным,
без фундамента и крыши.
Радость: Красноречие -— сладостное свойство,
украшающее человека.
Разум: Не может быть названо сладостным и
прекрасным то, что льстиво и хитро и не содержит в себе
добродетельного и честного. Мало кому нравится
красноречие честных судей. По мне же, красиво
составленная речь лжеца — румяна блудницы, сладкий
яд, сила сумасшедшего, золото скупца. Каким бы
приятным ни казалось и как бы ни завораживало — оно
теряет цену и перестает быть предметом восхищения,
если отсутствует основное начало.
Радость: Велика вера в красноречие.
Разум: Великая вера часто открывала дорогу
великим опасностям. Прежде чем приступить к делу, надо
все без самоуверенности и презрения взвесить, —
только тогда можно возвысить душу. Если же она
начинает забывать об этих условиях, то следует говорить
не об уверенности в силе красноречия, но самомнении
и дерзости; нет ничего более далекого от мудрости,
чем последнее. Самоуверенность нередко
оборачивается бездеятельностью; только на первый взгляд она
имеет цену, а на деле становится опасной. Ведь
бездеятельность удерживает дома ленивых и не
стремящихся к славе, а самоуверенность гонит в первые ряды
пылких и рвущихся туда, но — сломя голову. Из-за
нее воинственные мужи оказываются слабыми,
осторожные — неосмотрительными, красноречивые —
молчаливыми.
Радость: Велика сила красноречия.
Разум: Любому историку прекрасно известно, что
красноречие может сочетаться с самыми
безграничными пороками. Признание должно поддерживаться
авторитетом. Как верно писал царь красноречия в «Ри-
148 Франческо Петрарка
торике»: без мудрости* нет истинного красноречия, а
мудростью обладают лишь самые возвышенные3. Одно
красноречие (без мудрости) — чем ярче, тем
губительнее и опаснее.
Радость: Красноречие — исключительное свойство.
Разум: Оно-то и привело к гибели некоторых
людей — как из числа греков, так и из латинян. Этого не
станут отрицать ни Демосфен, ни Цицерон, ни Антоний4.
Радость: Красноречие заслуживает похвалы.
Разум: Если его использовать без хвастовства и без
преступных целей. Едва ли одним красноречием, если
в нем нет блеска истинной добродетели, ты обретешь
славу и любовь. Если же будешь пользоваться
красноречием самоуверенно и непорядочно, то очень легко
возбудишь к себе противоположное отношение и ненависть.
Всякий мудрый человек знает, что жизнь и смерть —
в руках языка. Язык дурного человека — худший и
вреднейший враг не только для него самого, но и для
многих других. Дурные языки низвергали и
продолжают низвергать государства. Ничего нет мягче и ничего
нет жестче языка.
Радость: Красноречие звучно.
Разум: И гром звучен.
Радость: Красноречие ярко.
Разум: Ядовитый аконит тоже ярок. Красноречие
можно повернуть как угодно. Оно может доставить
тебе и трудную дорогу к славе, и легкую — к ненависти.
X. О ДОБРОДЕТЕЛИ
Радость: Можно ли хвалиться добродетелью?
Разум: Это может делать только Тот, Кто есть
единственный создатель и щедрый даритель
добродетели и всего благого.
Радость: Велика добродетель души.
Разум: Смотри же, чтобы меньшим не стало то, во
что веришь как в большее.
Радость: В различных делах можно видеть
добродетель.
О средствах против превратностей судьбы 149
Разум: Добродетель проявляется не в том, что уже
сделано, но в том, что должно быть сделано. Смотри
не на то, что у тебя есть, но на то, чего нет. Обычно
добродетельный человек не хвалится тем, что уже
достигнуто, но беспокоится о том, что должно быть
достигнуто. Добродетель жадна или, по крайней мере,
подобна жадности — ибо постоянно жаждет, постоянно
тревожится. И чем больше ищет, тем бедней себе
кажется и еще большего домогается. Ничем нельзя измерить ее
заслуги. Чего бы она ни достигла — все мало.
Радость: Добродетель — свойство, присущее не
всем людям.
Разум: Я боюсь, что тот, кто так судит, —
надменный, а не добродетельный человек.
Радость: Добродетель — самое прославленное
свойство.
Разум: Основание истинной добродетели —
скромность. Нет такой большой славы, которую не
может очернить надменность. Даже тот, кто рожден в
прославленной семье, может превратиться не только в
безвестного, но первого среди ничтожных, если будет
себя восхвалять. На что же позволительно
рассчитывать другим, если такое может Произойти с подобным
человеком.
Радость: Добродетель — исключительное свойство.
Разум: Сама о себе добродетель этого не скажет:
она не сродни тщеславию, собой не восторгается, но и
другим не подражает. И всегда в неуспокоенности, и
всегда больше других волнуется, но ценит себя ниже
других.
Радость: Добродетель совершенна.
Разум: Никогда добродетель о себе этого не
скажет: она не стремится ничего доказывать, ничего
присваивать. Знает, что время — для военной службы, а
не для триумфа, и потому никогда не успокаивается,
всегда находится в действии и всегда, как перед
началом боя, держит оружие наготове. Верь мне: не может
быть истинной та добродетель, которая считает, что
она совершенна и что она все совершила. Такое
мнение — заблуждение, противоположное добродетели.
150 Франческо Петрарка
Оно часто мешало тем, кто готовился к великим
делам, да и ныне мешает стремящимся к высокому.
Ничего нет более вредного, чем мысль о достигнутом
совершенстве. Тот, кто считает, что достиг
совершенства, успокаивается.
Радость: Добродетель — самое значительное из
человеческих свойств.
Разум: Если ты вспомнишь свою жизнь день за
днем, вспомнишь все дела и мысли, ты увидишь,
сколько места занимало в душе пустое и греховное.
Радость: Добродетель выше всякой
посредственности.
Разум: Да, в благородных делах едва ли будет
место посредственности, но добродетель служит толчком
к трудам, а не к похвальбам. Те, кто устремляются к
высшему, не успокаиваются, пока не достигнут цели.
Радость: Есть иная добродетель.
Разум: Для иных и оставь разговор о ней.
Радоваться надо не добродетели как таковой, но той цели,
к которой она через трудности ведет. Философы учат
проявлять добродетель в том, что может быть полезно
другому, а не извлекать из нее выгоды. Рано
радоваться добродетели, когда вокруг столько опасностей:
скорее нужно размышлять о ней и надеяться на нее. Ты
можешь предполагать, что будешь радоваться
добродетели, однако в такой мере, чтобы потом не печалиться.
Радость: Я чувствую, откуда приходит хорошее. И
радуюсь этому. Если же чего-то недостает, я знаю, каким
образом восполнить недостающее. И надеюсь на это.
Разум: Это и есть добродетель, и ты уже нашел
верный путь к истинной радости.
XI. О МНЕНИЯХ
ОТНОСИТЕЛЬНО ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ
Радость: Каким бы я ни был, люди считают меня
хорошим.
Разум: Мнение дела не меняет.
Радость: По общему мнению, я хороший человек.
О средствах против превратностей судьбы 151
Разум: Многое способствует укреплению
самомнения. От людей скрыто и то дурное, и то хорошее, что
в нашей душе. Даже если все смертные назовут тебя
хорошим, ты от этого им не станешь.
Радость: В любом случае, у меня доброе имя,
Разум: Лучше доброе имя, чем многие богатства, —
сказад еврейский мудрец. И в другом месте: лучше
доброе имя, чем драгоценные благовония1. Он показал
силу доброго имени и смысл молвы, сравнив, их
именно с золотом и благовониями. Может ли, стало быть,
считаться добрым имя, если за этим не стоит правды?
Каким бы ни считали бесчестного, он не станет от
это1Х) честным. И пусть не похваляется именем,
которого не заслуживает. И пусть запомнит крепче
высказывание какого-то мудреца: наша совесть — свидетель
нашей славы. Если она есть в душе — бесполезны
шепоты льстецов, славословие и измышления. А из
дурного корня ничего доброго не вырастает.
Радость: Все называют меня хорошим.
Разум: Если у тебя есть дурные черты, то это —
ложь. А когда знаешь правду, глупо радоваться лжи.
Радость: Мои сограждане думают обо мне хорошо.
Разум: Важно, что ты думаешь о себе сам, а не то,
что другие.
Радость: Хорошо обо мне думают и отзываются
сограждане.
Разум: Не верь. Они не ведают, что творят. А то и
лгут, лишь бы почесать языки, намертво сросшись с
этой привычкой.
Радость: Обо мне говорят хорошо.
Разум: Верить тем, кто тебя не знает, —
сознательно себя обманывать.
Радость: Хорошо обо мне говорят соседи.
Разум: Либо хотят от тебя чего, либо в
благодарность за угощения и подарки. Никогда не верь ни тому,
кто тебя боготворит, ни тому, кто в тебе нуждается.
Радость: Соседи прославляют мое имя.
Разум: Притворяются один перед другим, и все —
перед тобой.
Радость: Граждане свидетельствуют, что я —
хороший.
152 Франческа Петрарка .,
Разум: В душе есть свидетель более неподкупный
и верный, — твоя совесть. Ее расспроси и ей верь.
Радость: Хорошо обо мне думают люди.
Разум: Мнение не исключает сомнения,
вернейшая вещь — добродетель.
Радость: Я кажусь себе добрым мужем.
Разум: О! Прости, но ты плохой муж. Хорошие
собой не любуются, но себя ругают.
Радость: И себе, и другим я кажусь добрым мужем.
Разум: Что если ты дурной, а они — глупцы?
Радость: Граждане надеются на меня.
Разум: Пусть у них не будет повода разочароваться
в этих надеждах. Постыдно не помочь, если в силах,
тем, кто ждет помощи.
Радость: Я полагаю, что я —- из тех, на кого
можно надеяться.
Разум: Если и будешь таковым, не объявляй об
этом. И помни: плохо обманывать других, еще хуже —
себя самого.
XIII. О РЕЛИГИИ
Радость: Я горжусь совершенным религиозным
чувством.
Разум: Лучшая и единственно совершенная
религия — та, что создана именем Христа: она крепче
самого твердого камня; все остальные — пустое
суеверие, окольные пути и заблуждения, ведущие в Тартар
и к смерти, причем не к простой, но вечной. Как ты
думаешь, сколько великих мужей, исповедующих
истинную религию, претерпевали жалкую нужду, но во
всех возвышенных делах оказывались на высоте? Они
знают, что есть вещи, заставляющие вечно скорбеть;
ты знаешь, чем гордишься; радуйся не самому себе, но
тому, кто посчитал достойным поставить тебя в
высшем деле впереди предков. Ничего больше, ничего
лучше ты не мог бы получить в жизни; я готов
говорить об этом долго, но дело само известно почти всем
на белом свете.
154 Франческо Петрарка
Ты видишь, как два самых закоренелых язычйика
окутывают со всех сторон нашу истину: сила правды
такова, что часто она срывается и с языка врагов.
XIV. О СВОБОДЕ
РадостыЯ рожден свободным.
Разум: Свободен не тот, кто родится свободным,
но тот, кто умирает таковым. Многое может позволить
себе фортуна по отношению к родившемуся, ничего —
к ушедшему из жизни. Она побеждает самые
укрепленные города. Обращает в бегство самые сильные
армии. Может опрокинуть самые прочные царства. А
могила — неприступная крепость. Там владычествуют
черви, а не фортуна. Итак, за тем порогом никто не
нападет на смертных; они защищены от превратностей
этой жизни. Ты полагаешь себя свободным, хотя не
знаешь, пойдешь ли таковым не то что к могиле, но
даже сегодня ко сну. Свобода — вещь, которая
держится на тонкой нитке, она преходяща и всегда
неустойчива, так же как и все другое, во что вы верите.
Радость: Я свободен.
Разум: Я полагаю, ты называешь себя свободным
потому, что не имеешь над собой господина, но
послушай Аннея Сенеку: «Жизнь твоя хороша и, может,
такой и будет, но разве ты не знаешь, в каком
возрасте стала рабыней Гекуба, в каком — Крез, в каком —
мать Дария, в каком — Платон, в каком — Диоген?»1
Сенека вспоминает эти примеры. А есть и много
других, не упомянутых Сенекой или неизвестных ему.
Неужели в твоей памяти не всплывает Атиллий Регул?2
Насмешка здесь неуместна, однако и он претерпел
рабство. Неужели из более близких к нашему времени
тебе не приходит на ум имя Валериан: первый из них
был полководцем, второй — римским императором, и
оба стали рабами, тот у карфагенян, этот — у персов,
первый претерпел ужасную казнь, второй влачил
долгое и несчастное рабство3. А македонские, а нумидий-
ские цари? Вспомни у первых Персия, у вторых Сифа-
О средствах против превратностей судьбы 155
ка и Югурту — все они были царского рода и все
погибли в римских оковах4. Умолчу о более ранних
случаях гибели царей.
Твой век вышвырнул в тюрьму некоторых из
царских дворцов, и он же увидел первого правителя, в
одночасье ставшего последним рабом. И тем несчастней
всякий будет в рабах, чем счастливее был в свободных.
Итак, не гордись свободой, если не просто свободные,
но и цари вдруг превращались в рабов. И не удивляйся
следующей мысли Платона: не меньше случается
царей из рабов5. Беспрестанно изменяются дела
человеческие. Ничто не прочно под небом. Кто в таком
круговороте может надеяться на что-то прочное и неизменное?
Ты скажешь, что пришел сюда свободным,
поскольку над тобой нет господина и рожден ты знатными
родителями, а не был захвачен в плен во время боя. Но
это не значит, что ты не можешь быть продан в
рабство. Род человеческий подвержен греху незнания, а
тяжелее этого нет никакого рабства.
Есть тайные враги и скрытая война, есть люди,
торгующие несчастными душами и продающие их за
бесценок в рабство безобразнейших наслаждений,
владеющих вами, опутанными со всех сторон сетями. Вот
теперь идите и хвастайтесь свободой. Но вы, слепые,
ничего, кроме телесного, не видите. Поэтому того, кто
подчинен одному смертному господину, зовете рабом.
Того же, кто угнетен тысячью бессмертных тиранов,
считаете свободным. Нечего сказать, остроумно, как и
все остальное.
Конечно же, не фортуна делает свободным, но
добродетель.
Радость: Я свободен.
Разум; Вполне. Если ты благоразумен, если
справедлив, если силен, если умерен, если безгрешен, если
благочестив. Но если что-то из этого в тебе
отсутствует, то в отношении данной части ты раб.
Радость: Я рожден в свободной родине.
Разум: Ты знаешь, что и свободные города на
твоем веку из-за самого малого поворота дел
превращались в несвободные. А прежде? Уж насколько извест-
156 Франческо Петрарка
ными и знаменитыми были Лакедемон и Афины,
самые свободные города, но и они вначале были
подчинены ярму своих граждан, потом внешнему6. Святой
город и колыбель вечной свободы Иерусалим то был в
рабстве у римлян, то у ассирийцев, теперь — у
египтян7. Не просто свободный, но господин всех народов
Рим вначале стал рабом граждан, а потом рабом
ничтожнейших людей. Пусть же ничто не полагается на
свою свободу и на свою власть.
XV. О ПРОСЛАВЛЕННОЙ РОДИНЕ
Радость: Я рожден в прославленной родине.
Разум: Чтобы стать известным самому, многое
понадобится сделать. Ведь во тьме сияют и самые малые:
даже звезды в ночи. И Волопас, и Венера светят до
восхода солнца.
Радость:Я — гражданин известнейшей родины.
Разум: Хорошо, если ты распахнут добродетелям и
враждебен порокам: рождение в известном городе
зависит от случая, это — от тебя.
Радость: Счастливой и известной можно назвать
мою родину:
Разум: Важно, какой известностью. Одну
прославляет число жителей, другую — невиданные богатства,
третью — постоянное плодородие почвы, четвертую —
само географическое положение. Здоровый воздух,
чистые источники, близость моря, защищенные
гавани, удобные реки. Известной обычно называется
страна, изобильная вином, маслом, хлебом, богатая
стадами скота и табунами лошадей, золотом и серебром.
Вы, считающие себя ценителями выдающегося,
называете хорошим тот край, где родятся сильные кони,
тучные быки, нежные козлята, наконец, сладкие
плоды. Где же родятся добрые мужи — этого не ищете и
не размышляете об этом. А ведь именно доблесть
граждан — высшая похвала для родины.
Вергилий, писавший много о римской славе и
удаче, по праву не счел достойным даже упоминания то-
О средствах против превратностей судьбы 157
го, что у вас — в центре внимания. Но коснулся
величия и власти Рима, а также добродетелей возвышен^
ных душ. Да, и еще счел достойным славы мужа,
счастливого потомством1. Ведь в этом истинное счастье и
истинная известность государства.
Радость: Моя родина прославлена благородными
и знатными гражданами.
Разум: Что если ты — незнатный? Что если слава
обнаружит тебя сама, вырвет из потемок и увлечет на
открытое место? Ты будешь заметен на свету скорее.
Радость: Моя родина — самая прославленная.
Разум: Не столь бесславным был бы Каталина,
если бы родился не в такой прославленной родине2.
Такое же неизмеримое бесславие сопутствовало власти
Гая3 и Нерона4. Благосклонность фортуны возносит
рожденных на вершине мира, чтобы затем испытать их
тем суровее.
Радость: Я живу в самой знаменитой родине.
Разум: Ты станешь для многих объектом или
презрения, или зависти: без подобных вещей почти не
обходится в большом 1Х>роде. Первое зло — скрытое,
второе — более явное. Причина и того, и другого —
известность рождения, о которой мы говорили. Все на
глазах, ничего не утаишь.
Радость. Я — из самой известной страны.
Разум: Пусть лучше родина благодаря тебе станет
известна, чем ты благодаря ей. Да и что свет родины
принесет тебе, если ты не блистаешь сам по себе?
Многие остаются безвестными, несмотря на славу
своих городов. А безвестность местечек могла бы сделать
их очень известными.
Радость: Прославленная родина у меня.
Разум: Родина, будучи славной, и тебя как-то
прославляет, а все, что ты сделаешь хорошего, каким-то
образом будет прославлять твою родину.
Был некто, пытавшийся отнести славу Фемистокла
за счет Афин, на что тот возразил с крайним
негодованием (конечно, в пределах приличествующего такому
мужу). Когда же Фемистокла с бранью начал укорять
некий житель маленького и безвестного острова, гово-
158 Франческо Петрарка
ря, что он известен благодаря славе своей родины, а
не своей собственной, тот ответил: «Клянусь Гераклом,
и я, будучи жителем Серифа, не остался бы
безвестным, и ты, будучи жителем Афин, не стал бы
известным»5. Он полагался не на блеск родины, но на
собственную доблесть. Да, он ответил, как подобает
настоящему мужу, лучше, чем Платон, и, возможно, в этом
он — больший философ. Но случается, что и большие
мужи впадают в удивительные заблуждения. Так,
Платон6 свою великую славу приписывал родине. Чтобы
тебе была лучше понятна душа выдающегося мужа с
этой стороны, знай: Платон говорил, что родине он
обязан многим. Все так, только надо понять, кого и за
что благодарить. Он благодарит природу. Прежде всего
за то, что рожден человеком, а не бессловесным
животным, мужчиной, а не женщиной, греком, а не
варваром, афинянином, а не фиванцем; наконец, за то,
что жил во времена Сократа7, а не в другие: тогда,
согласен, был тот, кто мог и научить, и дать
разъяснения. Как видишь, среди причин для прославления и
благодарности он называет афинское происхождение.
Наверное, ты ждешь, что по этому поводу скажу я?
Полагаю, что некоторые известные и сведущие мужи
тотчас воскликнули бы, что глупее этого не было
сказано ничего и никогда! И, как говорят, в их суждении
малого недостает, чтобы можно было целиком
присоединиться к нему. Спрашивается, что мешает
радоваться тем, кто рожден в других местах? Или что из того,
если человек по происхождению варвар? Или чем
плохо родиться женщиной? Разве многие варвары не
больше выдавались доблестью (добродетелью) и умом,
чем многие греки? Или иные женщины не были более
прославлены и умом, чем многие греки? Или иные
женщины не были более прославлены делами и
изобретением ремесел, чем какие-нибудь мужи? И,
наконец, что с того, если бы в Афинах он был рожден
быком или ослом?
Что мог бы ответить на это сам Платон? Который,
впрочем, не был бы Платоном именно, но всего лишь
тем, чем создала его мать-природа. Разве что он пове-
О средствах против превратностей судьбы 159
рил бы пифагорейским безумствам8 о переселении душ
из тела в тело, глупее и бессмысленнее чего никогда
не говорилось не только философами, но и людьми
вообще; ничего нет более несогласного с истиной, а
также с благочестием, ничего, наконец, нет подобного,
чего сильнее бы устрашались благочестивые уши.
Разве меньше известны, чем сами афиняне, Гомер9,
тот же Пифагор, и Демокрит10, и Анаксагор11, и
Аристотель12, и тысячи других, родившихся не в Афинах?13
Вспомним хотя бы Фивы14, презираемые греками: если
искать таланты, то там родился неподражаемый Пин-
дар15; как говорил Флакк16, повторить его совершенно
невозможно. Если вести речь о славе военных дел, то
насколько известны Либер-отец17, Геракл18; сам
Александр Македонский19, презиравший почти всех
смертных, выбрал их в качестве высочайших и редких
образцов славы, достойной подражания. Если они
кажутся далекими от нашего времени, то почти перед
глазами фиванец Эпаминонд20, величайший философ,
величайший полководец среди греков, не имеющий,
как справедливо считают, равных себе ни в какую
эпоху. Именно он наголову разбил спартанцев и так
устрашил афинян, что после его смерти они, словно
освобожденные от величайшего страха, окунулись в
роскошь и праздность, каковые процветали к этому
времени и в Фивах. G другой стороны, кто может
сосчитать, сколько тысяч лентяев и глупцов было среди
коренных афинян?
А человек такого великого ума, большой души,
нежной почтительности к родителям — отцу и матери —
родился вовсе не в Афинах и оказался способным к
решительным действиям, смог обучаться многому и
стать восприимчивым ко всяким добрым делам.
Значит, ученый муж должен быть благодарен тому Богу,
который даровал ему это, а не Сократу и не Афинам: в
школе первого, в самом горюде было много
бесталанных людей. Невежды же имели склонность
измышлять, а не познавать. Впрочем, если не говорить о
городе, к школе той относились и Алкивиад21, и Кри-
тий22: один — враг родины, другой — жесточайший из
160 Франческо Петрарка
тиранов. Пусть ответит Платон, что их наставник дал
им сократовского? Либо надо так понимать мудрость,
как сказано: тщетно все, что земной наставник
вкладывает в учеников, если милость небесного учителя не
содействует ему. Без нее ничего совершенно не смог
бы Сократ, несмотря на прорицание лживого бога.
Ведь ни сам Платон, ни кто-либо другой не осудили
бы Сократа, нелепо метавшегося между двумя женамА,
бесстыднейшими старухами.
Но оставим в стороне и это, и все остальное.
Только одно знай: Платон, великий муж, при всем его
тщеславии был крепко привязан к знаменитой родине.
Не прикрывай своих заблуждений щитом наставника,
со всем старанием избегай его ошибок, хотя ты и
знаешь, что даже высшие умы ему подчинялись.
Радость: Я живу в огромном городе.
Разум: В огромных городах — множество
неудобств: далеко храм, далеко рынок. Одно мешает
душе, другое — телу; далеко до сапожника, далеко от
друзей. Ничего нет хуже, чем жить от друзей далеко:
чтобы их повидать, нужны большие усилия,
пренебрегать ими — не по-человечески. Ты слышишь, как на
это жалуется Флакк: один друг обитает на Квиринском
холме, другой — далеко на Авентинском23, побывать
же надо и у того, и у другого.
Куда бы ты ни решил пойти — собираешься,
словно в чужую страну. Приноровись-ка к своему дому, если
не известно, когда ты вернешься и вернешься ли вообще.
Само возвращение стоит трудов. Часто даже сбиваешься
с пути, отыскиваешь дорогу с железом и магнитом: здесь
ты к дому выйдешь легче* здесь — прямее, здесь
пройдешь мимо бани, здесь — мимо рынка, здесь ты уйдешь в
сторону от курии, там — от театра. Здесь... и тысячи
других препятствий подстерегают тебя, и ты стремишься к
своему дому, словно к другому миру, мало надеясь, что
сможешь достичь его. И об этом можно прочесть у того
же Флакка: Филипп, оратор преклонного возраста,
жалуется, возвращаясь домой, что Карины слишком далеко
отстоят от Форума24. В маленьком городе все эти тяготы
отступают. В нем все находится поблизости.
О средствах против превратностей судьбы 161
Радость: Я пзреселился из маленького городка в
большой.
Разум: Безрассудство — выходить из спокойной
гавани в бурное море. Однако я не удивляюсь,
поскольку каждый надеется на счастливый исход, и он
бывает. Сделал же это Клавдиев род из Сабин25,
домогаясь Рима, Марк Катон — из Тускул26, Марий27 и
Цицерон — из Арпина: и все завершилось удачно.
Только где такие мужи? Не все можно брать в
пример из того, что случается с мужами редкого и
возвышенного ума. Но если ты отвязал канат, пробивайся
через трудности всеми силами, поднимайся над
высоким, не отступай от того, что начал. Я сказал бы, что в
переселении есть и хорошее: в большом городе много
стимулов к доблести. Найдутся, конечно, и такие, за
чьей славой ты захочешь последовать. Найдется место
для упражнения, для состязания с равными в славе, и
при стольких свидетелях будет стыдно позора. Часто
сила стыда приносит то, что не может дать сила духа,
часто больше способствуют преодолению бездействия
зрители, чем доблесть.
И те, о которых я говорил только что, а также
призванный из Кур Нума Помпилий28, начинавший в
Кордубе Сенека29, Север, происходивший из Лект30, и
многие другие из разных мест становились великими
мужами. А цота они ст;али важными лицами в самом
Риме, то во многом стали примером для тезе, icro
соперничал друг с другом в доблести.
Итак, постарайся не погибнуть: это будет главным
благом в переселении. Ведь ты ничего другого не ищешь
в нем, кроме возможности находиться среди многих
людей. И пусть струится сияние новой родины.
XVI. О РОДОВИТОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
Радость: Происхождение мое родовито.
Разум: Вновь ты возвращаешь меня к пустякам:
какое отношение это имеет к ТЕБЕ?
Радость: Род мой древен и покрыт славой.
162 Франческо Петрарка .
Разум: Кичиться чужим — бахвальство, достойное
осмеяния: выродившиеся потомки не вправе
приписывать себе заслуги предков. Ничто другое не
обнаруживает так очевидно бесчестья потомков, как слава и
блеск предков. Часто случалось, что добродетель
одного приносила выгоду другому. Но не ждите, что другой
принесет похвалы вам, если вы не снискали их
благодаря самим себе.
Радость: Велика знатность моих предков.
Разум: Я предпочел бы, чтобы другие благодаря
тебе стали известны, чем ты благодаря другим. И ты
займись чем-нибудь таким, благодаря чему можешь
стать благородным. Ведь и те (предки), если бы не
занимались делами, достойными похвалы, никогда бы не
стали благородными.
Радость: Велика слава благородной крови.
Разум: Почти всякая кровь — одного цвета. И
если у одного кровь более светлого цвета, а у другого —
более темная, это происходит не из-за благородства, а
из-за здоровья.
Радость: Велика известность моих родителей.
Разум: А что, если еще больше твоя безвестность?
Тело вы получаете от родителей всегда, наследство —
часто, известность — редко, даже если у отца она и
есть. Напротив, тот, кто сам не известен, не раз может
порадоваться известности сына. Насколько известнее
отца Цезарь1 и насколько безвестнее Сципиона
Африканского2 его сын? Он, как ты понимаешь, мог бы
быть известен в потомках, если бы слава передавалась
из рук в руки. Впрочем, любить его отец мог, но
возвеличить — нет: беспредельный свет его славы
претерпел в сыне затмение.
Как видим, то, что есть в наследстве наиболее
ценного, исключается из воли завещающего. Формула
завещания имеет силу только в отношении самых
ничтожных вещей. Я мог бы перечислить тысячи таких
безвестнейших наследников знаменитейших мужей.
Ты достигнешь высшего, если это будет возможно.
Радость: Огромна известность рода.
О средствах против превратностей судьбы 163_
Разум: Эта известность тебе не даст ничего
большего, чем невозможность стать неизвестным, если ты
захочешь того. Ведь с самого начала у тебя похищается
сокровенная тайна жизни и твоих личных дел. Что бы
ты ни делал —- все станет предметом толков толпы.
Стремятся выведать, как там сыновья, как слуги, как
жена? Становятся известны все твои действия, все
слова до последнего, утаить невозможно ничего
совершенно. И от тех, кем ты больше всего недоволен, не
скрыта ни одна мелочь. Вот таков плод твоей
известности. Так что если ты отклонишься хоть немного —
надолго станешь притчей во языцех и, словно
отступник, окажешься позором рода. Таково непременное
свойство родовой известности, а все остальное —
общее; всегда знатное рождение приносит беспокойство,
так как от известности трудно укрыться.
Радость: Я рожден в известнейшем роде.
Разум: Глупо радоваться: известность обретается
не рождением, но образом жизни, часто же, что
покажется тебе удивительным, — смертью.
Радость: Я рожден в блеске славы.
Разум: Остерегайся позора бесславия; на фоне
света и блеска он окажется более заметным. Если же
ты не намерен с этим считаться, лучше родиться в
потемках. Они скроют и прелюбодеяния, и воровство, и
всю вереницу безобразий. Одна эта ложная и позорная
именитость не страшится света, сама лезет в глаза.
Лучше, чтобы она была неведома тому, кто хочет
избежать бесславия.
Радость: Благородство моего рода древнее.
Разум: Значит, древней была доблесть, без
которой нет и истинного благородства.
Радость: Моя знатность имеет старинные корни.
Разум: Далекая древность лишает дела известности
и приводит к забвению. Сколько было знаменитых
людей, о которых сегодня никто не помнит! Сколько ты
сам знавал лиц, в высшей степени процветающих,
которые спустя немного лет растворялись в
ничтожестве? В этом как бы предсказание относительно тех, кто
процветает ныне, вырывается вперед и поднимает го-
164 Франческо Петрарка
лову. Все уменьшается и расточается «временем.
Стареют не только семьи, но — государства; мир, если мы
не ошибаемся, приближается к концу. Все, что
появляется со временем, со временем и исчезает. И ваше
благородство начиналось в свое время, в свое время и
кончится, а то, которое дольше пребудет и больше
приумножится, — сильнее и разрушится: Может
случиться, что окажется недостаточным того, благодаря
чему ты считаешь себя благородным: возможно, ты
был бы благороднее, если бы позже начал.
Радость: Благородство мое укоренилось.
Разум: Пустое тщеславие, когда человека возносят
не его собственные заслуги. Ведь при этом ты
получаешь беспорядочное и запутанное наследство. Между
тем, может случиться, что ты станешь не благороднее,
но безвестнее. Происхождение всех одинаково. Один
родитель у человеческого рода, один источник
мирового целого. И к каждому из вас он подходит по тому
закону, согласно которому то, что было темным,
становится известным. Таким образом, не относительно
источника есть сомнение, но в отношении того,
какими путями эта чистота крови (как вы говорите) к вам
притекла. Отсюда и случается, что тот, кто привык
золочеными поводьями направлять по городским
площадям надменную поступь горячих лошадей, — ныне
простой палкой погоняет на грязном поле ленивых быков.
Истинно высказывание платоников: нет ни одного
царя не из рабов, и ни одного раба — не из царей3.
Таково действительно это чередование: условия
человеческого существования изменчивы и непостоянны.
Они будут меняться неоднократно и многоразно, и вы
не удивляйтесь, если или пахарь вновь придет к
военной службе, или воин — к пахоте. Огромное колесо —
дела смертных. И поскольку путь весьма долгий, а
краткая жизнь его не охватывает, может случиться, что
станут известны и мотыги царей, и диадемы крестьян.
Время нынче вводит в заблуждение занятую мелочами
и перегруженную память человека. Вот каково ваше
благородство, которым вы, надменные,
воспламеняетесь, глупое племя.
О средствах tipomùe. превратностей судьбы 165_
Радость: Род йойпрославлен.
Разум: О чем без конца га распространяешься? От
тебя ли это начато? Я не знаю, кого га стараешься
подставить вместо себя? Возможно, они за себя й ответят
что-нибудь, а за тебя — ничего, если ты не дашь дЛя
этого оснований собственными стараниями. Точно так же в
свое время прославились предки или прапредки —
скорее всего, только тогда, когда начали возвышать свои
добродетели, происходя из обычного рода. Такое
благородство имеет древнейший корень, но цци дальше,
разузнавай, — и ты найдешь у высоко поднявшихся предков
темных и безвестных праотцов. Короче говоря,, эта слава
сомнительна, это слава изображений — и она очень ко-
ротка> и очень мала, ; и определенно — не твоя. А посему
перестань затмевать свое имя чужими доблестями, чтобы,
когда каждый потребует свое назад, ты не оказался
осмеянным, оставшись ни с чем.
Радость: Я — благородный.
Разум: Насколько незнатный храбрый муж
благороднее праздного знатного, ты поймешь, когда
взвесишь, насколько лучше основать благородство, чем
разрушить. Если ты нуждаешься в примерах — их в
изобилии и в мирной жизни, и на войне; они
предстанут отовсюду и при чтении. Научись оценивать самого
себя и быть судьей для остальных, для чего достаточно
мысленно взвесить двух равных людей. Итак, с одной
стороны поставь на весы Мария4 и ТУдлия5, а с другой —
Авла6, Клодия7 и их противников: кто будет настолько
слеп, чтобы не увидеть, куда склоняется стрелка весов
и насколько Рим уступает Арпину?
Радость: Я рожден благородным.
Разум: Я уже сказала истинно благородными не
рождаются, но становятся.
Радость: От родителей достается выдающееся
благородство, во всяком случае, общепринятое.
Разум: Сама известность приобретается не
обстоятельствами рождения, но образом жизни. Я
усматриваю в этом только благо. Ведь есть семейные примеры
добродетели, а есть и такие главы семей, в следы
которых стыдно ступать. Если ты отмахиваешься от этого,
166 ^_ ,,,. Франческо Петрарка
то чем, как не пороком и тяжким злом, будет твоя
известность? Я не знаю, почему считается труднее
подражание своим, чем чужим: очевидно, доблесть не
является наследственным благом. Не хочется говорить,
но дело само говорит: редко сын выдающегося мужа
становится выдающимся человеком.
XVII. ОБ УДАЧЛИВОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
Радость : Мне выпала участь благородного рождения.
Разум: Тебя ждут немалые беспокойства. Не без
оснований моряки называют погоду Фортуной. До
такой степени часто большая удача (magna fortuna)
оборачивается большим бедствием (magna tempestas). А
большое бедствие требует большого благоразумия и
больших сил. У тебя есть причины не для радости, но
для забот.
Радость: Блистательнейшую долю дало мне рож-,
дение (In amplissima fortuna natus sum).
Разум: Может быть, ты думаешь, что счастливее
родиться в великом море, чем в малой речке? Скажет
ли кто разумный, равным образом, что счастливее
родиться во дворце, чем в хижине? Где бы ни родиться,
всех мать-земля принимает.
Радость: Я рожден под счастливой звездой.
Разум: Значит, под противоположной звездой ты
захотел найти конец: что если и дни будут проведены
в беспокойствах, и в гавани ты обретешь лишь тревогу
и мрак?
Радость: Я отмечен высоким рождением.
Разум: Значит, ты находишься под угрозой
круговращения судеб, когда нет и надежды от него
куда-нибудь скрыться. Известно это из лирического поэта:
Чаще ветрами тревожится огромная сосна,
И высокие башни рушатся с более тяжким падением,
И молнии ударяют по самым высоким горам1.
Как я полагаю, тому, кто рожден в известности (in
alto), нет, конечно, ни спокойствия, ни безопасности.
Человеческое величие, сколь бы ни было оно велико,
О средствах против превратностей судьбы Ш_
беспокойно и беспрерывно трепещет под ударами
грома. Поэтому я удивляюсь, Что Сенеке2 не нравится
высказывание Мецената3, что величие само по себе
опасно. Почему, однако, его порицают, когда и другие
пользовались этим высказыванием?
Кроме того, ничего нет настолько высокого, что не
было бы доступным для тревог, и страданий, и
зависти, и страхов, и печалей, и смерти, в конце концов.
Действительно, смерть одна уравнивает всякое
высокомерие и превосходство смертных.
Радость: Я рожден в высоком и великом
состоянии (Alto et magno in stato natus sum).
Разум: Во-первых, с высоты тяжелее падение,
редко и спокойствие в большом море: внизу же ты не
боишься падения, на суше — кораблекрушения.
Радость: Мое рождение более удачливо.
Разум: Не забывай о конце жизни. Как прочему,
так и фортуне многое дозволено в ее царстве. Чем
удачливее начало, тем неопределеннее конец. Неужели
ты не видишь, что дела человека катятся наподобие
вихря? Как нередко за штилем следует ужасная буря,
за ясным днем — пасмурный вечер, а ровная в начале
дорога заканчивается ухабами, так и необычное
процветание нередко заканчивается внезапным бедствием,
а бег радостнейшей жизни замыкает печальная смерть, —
и часто несходны начало и конец.
Радость: Я начал с высоты.
Разум: Смотри, где кончишь. Конец определяет
всякую жизнь, а начала ее мы не чувствуем.
Радость: Мой удел в высшей степени удачлив.
Разум: Мы видели и сыновей рабов на тронах
царей, и сыновей правителей — в тюрьмах.
XVIII. ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ЗНАТНЫХ
Радость: Я воспитываюсь в весьма знатной семье:
Разум: Тебе кажется, что это много. На самом
деле — мало и вскоре станет вовсе ничем. Что же, по
этой причине тебя больше, чем простого землепашца,
168 Франческо Петрарка
чррви пощадят? А может, более изысканной пищей
насладятся с большей жадностью? Ты знаешь, хотя,
может быть, и пренебрещещь этим, что он, знатный, —
пища, приготовленная для этого пиршества. И, может
быть, не за горами время трапезы, и невозможно
больше медлить. Ибо и свет дневной краток, и гости
изголодались, а неутомимая смерть готовит им яства, — ты
увидишь тогда, поможет ли тебе эта роскошь.
Радость: Я с детства воспитан в роскоши.
Разум: Ó, наихудшее начало детства, когда
пренебрегают добрыми правилами и, приучаясь сызмала к
изысканной пище и чужеземным напиткам, вырастают
в надежде на самое блестящее будущее. Ты приучен
различать вкусы и запахи, со знанием дела
восторгаться великолепными обедами, ценить золотые сосуды. А
я вспоминаю обычаи сильных мужей, которые утоляли
жажду и голод на общих трапезах и не спешили с утра
к вредному для желудка бремени и к пресыщению,
постоянно доходящему до тошноты. А сколь многие
святые мужи голодали в пустыне, сколь многие
прославленные полководцы жили в военных лагерях скудно,
воздержанно, сурово.
И если ты охвачен жаждой драгоценных камней и
пиршеств, то вот тебе примеры: Курий1, Фабриций2,
Корункан3, которые из глиняных сосудов ели овощи,
собранные своими руками, а то и пахали до вечера,
ничего не евши; Квинтий4 и Серран5 или после них
Катон Цензор6, консул, побывавший в Испании и
возвратившийся оттуда триумфатором, — пил то же самое
вино, что и его гребцы. А все его враги потакали
своим вожделениям. Или, например, Павел и Антоний7,
делившие посланный с неба хлеб на берегу источника;
безвкусная пища не застряла в горле, так как они не
стыдились такое есть и не печалились. И ничего с
ними не случилось от непривычной еды.
Задумайся над тем, что эти мужи вполне
довольствовались столь простым и столь скромным образом
жизни и трудом (ab his viris vieta tam tenui tamque
humili, labore gaudentibus), над тем, что ими родина
была спасена (et servatam patriam), над тем, что были
О средствах против превратностей судьбы 169
ими покорены знаменитейшие цари и народы, а также
над тем, что они победили собственную плоть,
одержав самую трудную из побед; ими были ослаблены и
невидимые враги души. À ты среди пышных пиров и
великолепнейшего досуга порабощен ничтожнейшими
удовольствиями;
Радость. Роскошен мой образ ±изнй.
Разум: Я чувствую: все есть в этом образе жизни,
что от безобразных капризов может довести до
глубокого несчастья. Чего не даст утонченность пищи и
питья, кроме пресыщенности и чванства? А вот Август
Цезарь8, который, как ты догадываешься, мог бы жить
чуть-чуть роскошнее тебя, как о нем рассказывают,
очень мало употреблял еды, и то самой простой. Я
умолчу о том, чем вы имеете обыкновение питаться;
ты презирал бы деревенского отца семейства —- ведь
среди твоих фазанов, и вальдшнепов, и павлинов,
которые стоят на первом месте, хлеб считается
второстепенным, а коровий сыр и простая рыба с
пренебрежением отвергаются. А насколько дучше эти фазаны и
чрезмерные деликатесы пиров и высшее упоение
обжорством, которые доныне не были известны ни у
колхов, ни на Фазисе9, видно из того, что, долетев до
нашей страны, они поразили ее испорченностью и
разожгли в ней гнусные соблазны.
Доньше у того народа без страха плавала рыба,
И устрицы не знали опасности в своих раковинах,
Как не ведал Лациум, что может послать
Ионийское море богатое,
Так и не ведал, какой пигмейскою
кровью наслаждается птица.
Радость: Я наслаждаюсь изысканнейшим вином.
Разум: Плохо, но, как ты именно говоришь,
«наслаждаешься». Это — ваша цель, для этого вы
рождены. Но насколько безопаснее было бы утолять жажду
разбавленным вином, или приятной влагой, или даже
чистой водой ручья. Известно, что тот принцепс, о
котором я только что говорил, был также очень умерен в
отношении вина (ведь и это описывается): находясь в
170 Франческо Петрарка
военных лагерях, он лишь трижды в течение еды пил10.
Вы же перед едой пьете, десять раз по три, в течение
еды — сто раз; неисчислимое количество вина утекает,
и даже лагеря изобилуют самым утонченным вином.
Не случается никакого сражения или похода, пока не
напьются. Он днем не пил, вы же ни днем, ни ночью
не прекращаете. Томясь от жажды, он пил холодную
воду, смачивая ею хлеб и стебель молодого латука, или
кусочек яблока, или кусок огурца, а вы^ добиваясь
жажды всякими соблазнами, утоляете ее палящим вином,
и это питье вновь возбуждает жажду. И не приходит
вам в голову* что до тех пор, пока вы употребляете
вино, таким образом вы пьете кровь земли и яд цикуты, —
как написал Андрокид Александру Македонскому11.
Если последовать его наставлениям, то, конечно, и
друзей не потеряешь из-за пьянства, и, как говорит
Плиний12, сам из-за пьянства не погибнешь.
Эта умеренность в питье и равным образом
невзыскательность по отношению к еде были свойственны
почти всем известным полководцам и предводителям,
особенно Юлию Цезарю13; Эта умеренность в
сочетании с их деятельностью (industriae) и славой военных
подвигов (gestarum rerum gloriae) особенно
привлекательна при сопоставлении с вашим стремлением к
наслаждению и сну.
Радость: Я наслаждаюсь утонченнейшим образом
жизни (Lautissimo fruor vìctu).
Разум: И не стыдно тебе: ради угождения
бренному телу ты отбрасываешь прочь то, что идет на пользу
бессмертной душе. Ты в этом следуешь учению
эпикурейцев, бесславному и давно отвергнутому14. Давно
установлено, что для души самые ужасные из
наслаждений те, которые вызваны плотскими чувствами.
Касаясь и отведывая их, вы больше всего сближаетесь со
зверями. Эти наслаждения склоняют разумное
животное (rationale animal) к скотским нравам. Презреннее
этого ничего не выпадает на долю человека.
Радость: Я с восхищением услаждаюсь
благородной и разнообразной пищей.
О средствах против превратностей судьбы 171_
Разум: И услаждайся, и наслаждайся: если ничего
ты не знаешь лучше или хуже. Но пусть Тебе будет
стыдно, что ты, словно скотина, находишь
удовольствие в одной лишь пище, что ты превращаешься в
кладовую кушаний, что лучший для тебя подарок
находится в бочке. И потом знай, чтго ты не сможешь долго
вести жизнь таким образом, хотя она тебя и
удовлетворяет: пресыщенность — соседка привередливости,
вкус же пище придает голод. Голод все делает сладким
и вкусным. Правда, ничего нет настолько
прекрасного, что не вызвало бы отвращения, будучи
(приготовлено) безвкусно и грязно.
Те же, кто стремится к наслаждению едой,
возбуждают аппетит острыми закусками и деликатесами, ибо
обычно удовольствие притупляется из-за обилия и
беспрестанности еды. А часто даже превращается в нечто
противоположное. Сам учитель наслаждения Эпикур
восславил и восхвалил утонченный образ жизни как
единственное пособие своему учению.
И насколько больше наделены умеренностью и
скромностью благородные мужи, настолько меньше ее
у преданных удовольствиям. Так что выбирай какой
угодно образ жизни, — ты узнаешь, что на одну
тропинку приходят из разных мест. Должно вести образ
жизни простой и скромный, разве что иногда уступая,
да и то из-за благородных причин, редким капризам,
оставаясь при этом умеренным. Простая пища делает
(людей) здоровыми и трезвыми (siccos et validos),
придает ясность взору и приятный запах телу.
Сравни с ними пьяных, возбужденных, трясущихся,
зловонных и, если воспользоваться словами Цицерона,
наслаждающихся и рыгающих, — после этого ты
увидишь, чем отличается умеренность от чревоугодия. И
если не добродетель, то сам вид пусть покажет тебе,
куда клонится правильный выбор; так как едва ли кто-
нибудь настолько превратится в раба желудка, чтобы,
обстоятельно обсудив дело, не признать, что должно
предпочесть воздержанность. Если же ты
пренебрежешь этим как маловажным, то неужели у тебя не
вызовут презрения болезни, порожденные вожделения-
172 Фртчест Петрарка :
ми, не покажется достойной презрения смерть от них.
Смерть, которую саму по себе должны презирать
великие души.
Разве ты не слышал церковного наставника, что
если она не позорна, то естественна и почетна, а когда
смерть вызвана постыдными причинами, — ничего нет
более мерзкого и ужасного. Не будь алчным, —
резано, — во всяком пиршестве и не совершай возлияний
вне всякой еды. От многочисленных же яств появятся
бессилие и все, вплоть до холеры. Кроме того, цз-за
пьянства многие погибают, а тот, что воздержан,
удлинит свою жизнь.
Радость: Я пользуюсь изысканной и
разнообразной пищей.
Разум: Если ты слишком сильно стиснешь своего
ослика, то задавишь, если слабо будешь поддерживать
подпруги, — он лягнет. Так и брюхо. Оно —
вместилище дурной веры и никудышный советчик во всех
делах, прежде всего — для глотки.
XXIII. О ПЕНИИ И НАСЛАЖДЕНИИ МУЗЫКОЙ
Радость: Я наслаждаюсь пением и звуками кифары.
Разум: А насколько лучше было бы наслаждаться
слезами и стенаниями. Лучше сначала плакать, потом
радоваться, чем от радости переходить к слезам.
Радость; Звуки пения манят меня.
Разум: Пением можно заманить и зверей, и птиц,
и, что самое удивительное, даже рыб. Тебе известен
рассказ об Арионе и дельфине, выдаваемый за
истинное происшествие; он вошел даже в историю1. Многие
известные писатели упоминают об этом чуде; искуснее
всех написал о нем отец греческой истории Геродот2.
На месте, где Арион был невредимым выброшен на
берег, поставили памятник из меди: кифаред, сидящий
на спине плывущего дельфина.
Известно, что и сирены заманивают пением. И что
совершенно достоверно: ежедневно человек
заманивает и обманывает человека льстивыми речами. Голос —
лучший инструмент для обмана.
О средствах против превратностей судьбы 173_
Радость: Меня очаровывает приятность музыки.
Разум: Говорят, и паук, заманивая в сети муху,
как бы очаровывает ее, прежде чем убьет. Очаровывает
и женщина, когда хочет обмануть. И грабитель
обнимает того, кого собрался обокрасть, и осьминог того;
кого топит. И самыми кроткими жестами и речами
отличаются самые ужасные люди вроде Домициана3.
Едва ли/есть ласки ; не вызывающие подозрений.
Радость: При звуках приятных песен я радуюсь и
ликую.
Разум: Берегись, ибо написано: начало-и конец
радости— плач. И еще: возликует дух перед погибелью.
Радость: Я приятно пою.
Разум: И, может быть, в последний раз. Лебедь
лучше всего поет перед смертью. И гораздо больше их
гибнет в радости, а не в печали. Свежо предание, что,
запевая сладостнее, чем обычно, лебедь испускает дух
на самом глубоком вздохе.
Радость: Я наслаждаюсь пением и игрой на флейте.
Разум: И недаром. Ведь каждый день, каждый час
и каждое мгновение влекут тебя к могиле, куда
покойника по вашему обычаю несут с пением и флейтами.
Вспомни Стация Папиния4:
Флейты обычно туда провожают тебя дорогие.
И тебе, суетно спешащему туда, если ты даже и не
ощущаешь этого, нравится толпа, поющая на
похоронах и внимающая флейтам.
Радость: Пение волнует меня.
Разум: Так и должно быть. Несомненно, в душах
людей, особенно благородных, есть могучая музыка,
но действие ее, вопреки ожиданию, различно. Не
стану много говорить о том, в чем не нуждается предмет
рассуждения. Одних она побуждает к пустому веселью,
других — к святой молитвенной радости и
благочестивым слезам умиления. На такие различия в
воздействии музыки обращали внимание великие умы. Святой
Афанасий5 ради избежания житейской суеты запретил
церковное пение. Амвросий же6, стремясь к
благочестию, настоял на пении в церкви. Августин в своей
174 Франческо Петрарка
«Исповеди» благочестиво говорит, что он не может
преодолеть сомнения относительно пения в церкви7.
Радость: Мне нравится петь.
Разум: Когда-то это нравилось грекам, а теперь
перешло и к вам. У них человек, не умевший петь и
играть на кифаре, считался невеждой, как случилось с
Фемистоклом8, славнейшим из греков, когда он
отказался на пиру играть. А фиванец Эпаминонд9, может
быть, не желая такого же обвинения, прекрасно играл на
кифаре и пел, как пишет о нем Цицерон. Удивительно,
что даже такой старец, как Сократ, играл на кифаре.
И давайте не удивляться тому, что дядя Алкивиада
Перикл отдал мальчика учиться играть на флейте (это
занятие было у греков весьма уважаемым), чтобы тот в
числе прочих свободных искусств владел и этим. Но
отметим и скромность мальчика, который приложил к
губам флейту, принесенную знаменитым музыкантом,
приглашенным для обучения, и вдруг заметил, как
исказилось его лицо. Тогда он сломал флейту и
зашвырнул ее подальше10. Разве он не заслужил чести
называться примером даже в таком юном возрасте? И в
Афинах, с согласия всего народа, с этих пор перестали
играть на флейтах.
Обратимся к вам. Горячее желание заниматься
музыкой не коснулось людей, погруженных в важные
дела. Но оно охватило других, склонных к самому
худшему. Весьма усердствовал в пении и пляске
Калигула11. Трудно вообразить, сколько усердия вкладывал в
игру на кифаре Нерон и как он заботился о своем голосе.
И самая великая глупость — в последнюю ночь своей
жизни он в страхе перед предстоящей смертью горько
плакал не о том, что гибнет великий принцепс, а о том,
что исчезает великий музыкант12. О прочих умолчу.
Ваше нынешнее поколение тоже наслаждается
звуками музыки, хотя и более умеренно. Наслаждаться
ими целомудренно и умеренно — признак
образованности; а вот быть захваченным этим наслаждением до
мозга костей — великая суета.
Радость: Я с наслаждением внимаю сладостным
стройным голосам.
О средствах против превратностей судьбы 175_
Разум: О если бы ты мог услышать вздохи святых.
О если бы твоих ушей достигли стенания и вопли
осужденных в аду, а потом клики блаженных, ангельское
пение и небесная гармония, которую Пифагора
открыл, Аристотель опроверг, а наш Цицерон
восстановил; там есть вечные и весьма приятные голоса, если
не небес, то небожителей, без конца славящих вечную
первопричину всего сущего.,
Если бы твоих ушей достигло все это, ты бы очень
ясно различил, какое пение приятное и полезное. А
теперь ты судишь о звуке, будучи глухим.
Может, некоторым это дело покажется
малозначительным, однако оно до сих пор привлекает к себе
внимание великих мужей. И не без основания Платон,
муж божественного ума, полагал, что музыка имеет
отношение к состоянию нравов в государстве или их
исправлению.
XXIV. О ПЛЯСКАХ
Радость: Меня радуют пляски.
Разум: Меня могло бы удивить, если бы звуки
струнных инструментов и флейт нр вызывали желания
плясать, а, как водится, за суетой следует суета,
притом еще большая и гораздо более безобразная. От
пения часто ощущается .некая приятность, нередко
полезная и чистая, от плясок же — никогда ничего нет,
кроме разнузданного и бессмысленного зрелища,
ненавистного для глаз порядочного человека и
недостойного порядочного мужа.
Радость: Я охотно нахожусь среди танцующих.
Разум: Тело скрывает душу, оно же может и
раскрыть ее. Взмахи рук, движения ног, подмигивающий
шаловливый взгляд показывают, что в душе есть что-
то такое, чего иначе не увидишь. Поэтому тем, кому
нравится скромность, нужно сильно опасаться, как бы
не сделать чего-нибудь постыдного или не сказать что-
нибудь непристойное. Ибо скрытые страсти и тайны
души часто можно узнать по незначительным призна-
176 Франческо Петрарка
кам, манере двигаться, сидеть, возлежать,
жестикулировать; смех, походка, речь — все это знаки души.
Радость: От плясок получаю удовольствие.
Разум: О, это удовольствие смешно. Вообрази, что
ты пляшешь в хороводе или видишь пляску, но флейта
не слышна, а глупые женщины и мужчины, еще более
изнеженные, чем женщины, молча нелепо ходят
кругом и поворачиваются в разные стороны. Видел ли ты,
спрашиваю, что-нибудь более глупое и безумное? А
звуки лиры или флейты скрывают нелепые движения,
то есть одним безумием скрывается другое.
Радость: Я наслаждаюсь плясками.
Разум: Они приносят не столько
непосредственное наслаждение, сколько являются началом будущих
наслаждений: это прелюдия Венеры1. Увлеченных
музыкой глупеньких девушек кружат и близко
прижимают и обнимают под видом утонченности манер; тут
воля рукам, взглядам, языку, топот ног, нестройное
пение многих голосов, громкие звуки, толкотня, пыль
и темнота — враг целомудрия и друг пороков. Все это
отгоняет робость и стыдливость, разжигает похоть,
вызывает вседозволенность. И именно это наслаждение
(не думай, что меня легко обмануть) вы просто и
невинно называете плясками и с его помощью скрываете
порок под видом забавы. Ведь не бывает, чтобы
плясали одни мужчины или одни женщины; они только
обучаются танцам раздельно. А как только
выучиваются, сойдясь вместе, вновь этим занимаются, словно
ученики, сговорившиеся в отсутствие учителя, что им
говорить, когда он вернется. Искорени это нечестивое
изобретение, уничтожь похоть — и ты уничтожишь
пляски. Поверь мне вместе с царем Давидом2: никто
не станет плясать пред Господом, иначе его засмеет
собственная жена. А пляшущего пред госпожой никто
не будет осмеивать, даже если он при этом будет
играть на лютне.
Радость: Пляски увлекательны.
Разум: Ты подтверждаешь мою мысль. Если они
влекут, то влекут к чему-то другому, ибо само по себе
это занятие смешно и способно принести больше до-
О средствах против превратностей судьбы 177
сады, чем веселья. Ведь вообще что иное означает
носиться по кругу, как не кружиться и двигаться по
бесконечной дороге? Платон перечисляет семь видов
пространственных движений: вперед, назад, вправо,
влево, вверх, вниз и кругом; из них только седьмое
бесконечно3. И поэтому по кругу движется то, что является
вечным, — небо и звезды. А на земле в этом движении
пребывает вечное безумие людей, проявляющееся
почти во всех делах и решениях. И ни один Орфей не
остановит Иксионова колеса пляски4, где кручение душ
крутит вместе с собой и тела. И именно о плясках в
первую очередь (хотя это можно сказать и обо всем)
говорится: «Нечестивые ходят по кругу». Эта забава
стала причиной многих постыдных поступков. Из-за
нее нередко замужняя женщина теряла долго
хранимую добродетель, а несчастная молоденькая девушка в
самый день замужества узнавала то, что лучше было
бы не знать.
Радость: Я охотно пляшу изящный трипудий5.
Разум: Мне бы хотелось, чтобы ты полюбил
какой-либо другой вид занятий. Но я вижу, что тебе
хочется, чтобы был снят запрет, дано разрешение и
установлено правило.
Итак, если ты охвачен желанием плясать, то это
или болезненное влечение, или привычка, а нет
ничего хуже дурной привычки и ничего лучше хорошей.
Поэтому помни такое правило: пускайся в пляски
очень умеренно и очень редко, раз уж не можешь от
них удержаться совершенно. И в любом деле не
поступай малодушно или по-женски, но проявляй во всем
мужскую твердость; пусть и трипудий, и любая
подобная забава станет отдыхом для утомленной души и
упражнением для тела, а не наслаждением,
расслабляющим рассудок. Не буду много говорить о примерах
подражания великим мужам, что не для всех
безопасно. Не всякое крылатое существо может преследовать
орла. Одни, стремясь подражать, делают нечто
противоположное, другие — иное, некоторые то же самое,
но по-другому. И лишь немногие полностью
воспроизводят то, чему подражают. Говорят, последний Катон6
178 Франческо Петрарка
имел обыкновение подкреплять вином душу,
утомленную заботами о республике. Так же поступал у греков
и Солон7. И вот некто, желая подражать им, начнет
постоянно исполнять одну обязанность — пить. И
если Катон и Солон делали это умеренно и разумно, он
станет пить безмерно и безостановочно; и то, что для
них было лекарством, для него станет пьянством. Это
легко показать и на других делах, но у меня кое-что в
отношении тебя вызывает теперь сомнение. В
предыдущем примере ты вынудил меня взять под защиту
дело, которое нужно бы осуждать, если бы не пример
великого мужа. Ты можешь не следовать этому
примеру или, наоборот, не отходить от него, йо выслушай
слова Сенеки из той книги, где он рассуждает о
спокойствии души: «Сципион8 нес свою торжественную и
воинственную фигуру, как бы подчиняясь ритму, не
изламываясь изнеженно, как теперь в моде у тех, кто
при ходьбе изгибается больше женщины, но так, как
обычно исполняли трипудий на праздниках древние
мужи — по-мужски сдержанно; и ничего страшного,
даже если бы враги уввдели их в это время». В этих
словах ты видишь, что он думал уже тогда о своем
поколении. Хорошо, что он не увидел твое поколение,
как бы ни одобрял он воздержание от трипудия и вина
и ни говорил, что никогда не нужно доходить до
пьянства. Меня восхищает следующее высказывание столь
строгого ума: «Если хочешь принять верное решение,
воздерживайся от вина и избегай трипудия». Есть
другие виды расслабления, более достойные, с помощью
которых ты можешь исцелить недовольную и усталую
душу. Однако, обрати внимание, самым лучшим было
то, что он сказал в конце: «Все, что ты делаешь, делай
так, словно тебя видят и за тобой наблюдают враги».
Гораздо" целесообразнее жить так, чтобы недруги были
поражены твоей воздержанностью и строгостью, чем
жить так, чтобы друзья оправдывали твою
распущенность. Более блестяща слава у того, кого ни один
человек не сможет упрекнуть в совершении настоящего
преступления и не осмелится приписать ему вымыш-
О средствах против превратностей судьбы 179
ленное, чем у того, кто был обвинен и впоследствии
оправдан. Совершенная доблесть страшит обличителя,
а посредственная раздражает.
А что касается трезвости, то я предпочел бы, чтобы
в этом ты больше походил на Цезаря9, весьма
умеренного в отношении вина (чего и враги его не отрицали,
как говорит Транквилл), чем на Катона. Я имею в
виду не Катона Цензора, о воздержанности которого мы
уже говорили, а последнего Катона; о его выпивках
Сенека говорит, что легче доказать, что бывают
благовидные преступления, чем непристойный Катон.
Вернусь к предмету нашего разговора — к пляскам.
Я предпочел бы, чтобы ты никогда не плясал трипудий
иначе, чем Сципион. А если у тебя душа так стремится
делать нежелательные вещи, то по крайней мере
пользуйся указанными примерами. Прочитай слова
лирического поэта10:
Нам пить пора, пора нам свободною
Стопою в землю бить.
Если пьешь вино, пей как Катон; если бьешь
стопой в землю, делай это как Сципион.
XXVIII. О СКОМОРОХАХ
Радость: Я наслаждаюсь играми скоморохов.
Разум: Намного благороднее наслаждение
музыкальной гармонией и вообще каким-либо свободным
искусством; а то, чем ты наслаждешься, только полно
суеты и непристойностей.
Радость: Я люблю скоморохов.
Разум: Ты лучше любил бы бедных или скромных
друзей, а еще лучше — одиночество,
Радость: Скоморохи меня смешат.
Разум: А ты их? Сколько раз скоморох смеялся
над смеющимся господином! Сколько раз, удивляясь
глупости восхищенного зрителя, он выдумывал что-
нибудь якобы для него, а на самом деле для своего
собственного наслаждения.
180 Францеско Петрарка
Радость: У меня есть ученые скоморохи.
Разум: Есть над кем посмеяться и есть кому над
тобой посмеяться и тебя унизить. Извечная заразная
болезнь богачей! Возникши у этрусков1,
скоморошество расцвело в Риме и так распространилось, что Эзоп2
смог бы на нем приобрести и оставить сыну
невероятно громадное состояние,
Росций3 искусно соединил разрозненные шутки
бродячих скоморохов, где без тени стыда сравнил свое
искусство с риторическим, а себя с Цицероном на том
основании, что сокровенные тайны души и душевные
страсти, которые Цицерон выражал с помощью
различных риторических приемов, он, Росций, хоть и
иным способом, но с равным результатом может
выразить подходящими жестами. Он был действительно
искусник, и не знаю, было ли что-нибудь тяжелое или
печальное, чего он не мог бы облегчить. Я уж не
говорю о том, что своим дарованием он заслужил дружбу
благожелательного и доброго Цицерона, удостоившись
того, что этот великий оратор произнес речь в его
защиту4 и, записав ее, оставил таким образом
свидетельство потомству. Росций смягчил даже угрюмую и
надменную душу Суллы5, снискав расположение этого
презиравшего всех гордеца и получив от него золотое кольцо.
Он заставлял, как хотел, смеяться и веселиться
серьезных и суровых старцев и тот самый сенат6,
который держал в узде весь мир. Он так обманул
многочисленный и столь непостоянный римский народ, что
ежедневно получал из общественной казны по тысяче
денариев, не считая платы сотоварищам и
помощникам. Плата большая, хотя и выплачивалась мелкой
монетой. Согласен, что это стало возможным только
благодаря удивительной и редкой живости его ума. И
явись Где-нибудь новый Росций, тебе, пожалуй, нельзя
было бы запретить то, что было позволено Цицерону:
не только наслаждаться его игрой, но пользоваться его
дружбой и умом; между людьми разных пристрастий и
занятий тоже ведь бывает большое родство. Но где же
нам найти такого? За короткое время и
благороднейшие искусства низко пали, я уж не говорю о скомо-
О средствах против превратностей судьбы 181
рошьем;; оно стало таким, что вкус его поклонников,
несомденнр, испорчен, а оценка его ошибочна, ибо
они следуют за теми, которые хорошо знают дурное и
кому незнакомо хорошее. А те, кому нравятся грубые
развлечения, непривычны к развлечениям благородным.
Радость: Каждый день меня посещают много
скоморохов.
Разум: Перестанут посещать, как только
перестанешь быть богатым и щедрым, или, вернее сказать,
глупым и расточительным.
Радость: Вокруг меня целое войско скоморохов.
Разум: Скорее мух, которые липнут к тебе, пока
ты намазан маслом, и отстанут, когда окажешься сух;
им мало просто отстать, но за похвалой последуют
такие же дурные слухи; Их языку покой и молчание —
наказание. О других они никогда ничего не говорят,
кроме лживой похвалу или злобной брани. Там, где они
не могут отнять деньги, они отнимают доброе имя. Один
закон у скоморохов и паразитов7: оба вооружены лестью
и оба уходят, как только судьба меняется к худшему.
Только паразиту достаточно наполнить брюхо, а у этих
другой голод, упоминание о пище для них род
оскорбления: надо насытить их бездонное честолюбие.
XLVIII. О ВОИНСКОМ ДОСТОИНСТВЕ
Радость: Я украшен воинской перевязью (militari
cingulo).
Разум: Видно, тебе кажется, что в жизни мало
бедствий, если ты не добавишь к ним воинскую
службу, из-за которой тебе всегда будут грозить или
беспокойства, или бесславие, или опасности, или презрение.
Радость: Я обьявляхо своим делом воинскую службу.
Разум: Это вы от рождения объявляете своим
делом, а что если будет потребность в других занятиях?
Один вооружает железом тело, другой — лукавством
душу, третий — остроумием свой язык. Никто из вас
не безоружен: один — рубит, другой — строит козни,
третий — разглагольствует; тот ведет судебное дело,
этот движется пешком, тот на лошади или в повозке;
182 . Франческо Петрарка
этот едет, тот плывет, один повинуется, другой
командует. Все при деле (Nemo vestrum ociosus). Каковы же
нововведения в эту службу? Кто проводит жизнь в
военных лагерях, кто — на кораблях, кто — в диспутах,
кто — в рощах, кто — в поле, кто — в море, кто — во
дворце, кто — дома, кто — в чужих краях: все служат,
как говорит Флакк1. Но служат не только люди, но и
охотничьи собаки в лесах. Много есть родов
служащих. Жизнь человека на земле — та же самая военная
служба (militia una est vita hominis), только тот, кто
давал определение военной службе как таковой, добавил
к ней слово «сражение».
Радость: Я приписан к вооруженной службе.
Разум: Что с того, что ты снаружи вооружился?
Внутри, в душе война вдет, ее атакуют и осаждают
пороки. Что для души железо? Ведь оно дается для
украшения тела, а не для охраны души. Иные же говорят, что
ничего нет прекраснее, чем вооруженный муж. Вот уж не
считаю, что грудь и голова, закрытые железом, лучше,
чем мирные (pacificum et inerme) и не защищенные
железом. Если же снедает эта страсть, действуй, опоясав тело
железом. Ты будешь ловить шлемом ливень и солнце,
покрывать тело щитом, расположившись прямо на земле,
по сигналу трубы подниматься на ноги. Если тебе
кажется, что ты обрел нечто великое, — ошибаешься вдвойне:
ты избрал кровавое занятие. Есть много лживых надежд
и цепей, которые влекут к гибели души человека из-за
необузданной жадности и всевозможных вымогательств.
Я не отрицаю, что некоторых военная служба привела к
богатству или даже к высшей власти. Но, поверь мне,
многие этой дорогой приходили к нужде, к тюрьме, к
рабству, к оскорблению, к внезапной смерти. С того
времени, как ты избрал в качестве занятия военную службу,
ты всегда должен держать душу наготове, если не хочешь
обесчестить твое ремесло. И всегда должно звучать в
твоих ушах известное восклицание Цезаря: учись убивать,
учись умирать (disce ferire, disce mori)2. Один короткий
слог (лат. слово «ferire» — убивать на один слог длиннее
«mori» — умирать. — Прим. пер.) определяет твое деяние:
или убьешь, или умрешь.
О средствах против превратностей судьбы 183
Показывай, что ты в любое время готов и к тому, и
к другому. Эта искусства — твои утехи. Не зря
Сатирик3, перечисляя преимущества военной службы,
сказал: предполагая приобрести неисчислимое, едва ли
получишь самое малое, среди которого первое и главное —
свободу совершать ошибки: награда, клянусь Гераклом,
не слишком желанная для людей справедливых.
Радость: Я приписал сына к военной службе.
Разум: Весьма часто случается, что сын военного
становится военным. Не может же отец сыну не
передать в наследство того, что имеет: лук, щит, меч и
военные занятия, и то, что наживет в состязании, —
позолоченные шпоры. То, что мы сказали об отце, пусть
знает сын.
Радость: Я — вождь на войне, прославленный
победами.
Разум: Сколь лучше быть вождем мира (pacis dux),
прославленным доблестями (virtutibus clams)!
Радость: Я был инициатором многих битв.
Разум: Значит, ты отнял покой у себя, а также у
других, нечего сказать, — благое дело!
Радость: Я прославлен победами и триумфами.
Разум: Часто зло известнее добра, и страшный
ураган знаменитее ясной погоды; и, наконец, ты
приготовил для могилы титулы и россказни толпы, но
ничего — для себя.
ХСИ. О СЛАВЕ
Радость: Я стяжал великую славу.
Разум: Я не понимаю, как можно в малом найти
нечто великое? Если подумать о быстротечности
времени и малости пределов нашей известности, то ты
согласишься, что на земле нельзя достичь великой
славы. Я уж не говорю о том, что сама земля — лишь
малая точка, большую часть которой природа сделала
необитаемой, а фортуна — недоступной, не говорю о
том, что переживаемый отрезок времени меньше
мгновенья, да и это время неустойчиво, а его бег столь
184 Франческо Петрарка
стремителен, что ты и мыслью едва успеешь за ним.
Прошлого же и будущего как бы не существует: первое
утомляет, ускользая из памяти, второе — вызывая
беспокойное ожидание... К тому же, все так перемешано
и разорвано, что зачастую одно время ничего общего
не имеет с другим. И самое извеотное становится
неизвестным ничуть не иначе в пространстве, чем во
времени.
К сказанному можно еще многое добавить, но я
остановлюсь на этом. Те, для кого быстротечность
времени — не тайна, все это знают, а значит, знают цену
смертной и земной славы.
Радость: Насколько позволят обстоятелылъа, буду
добиваться славы.
Разум: Если эта слава будет недостойной, то,
поверь мне, окажется короткой, а если достойной —
можно порадоваться, но не славе как таковой, а тому,
что ты ее заслужил.
Радость: Я стяжал славу.
Разум: Ничем иным нельзя стяжать истинную
славу, если не благородными способами. Поразмысли над
тем, что сделало твое имя известным и легко
поймешь, истинна ли твоя слава или это молва, которую
случай дал, случай и отнимет.
Радость: На мою долю выпало много славы.
Разум: Будь настороже: а вдруг ты считаешь
истинным то, что лишь кажется истинным, не являясь
таковым. Ведь заблуждения правят многими вещами.
Радость: Мне досталось немало славы.
Разум: Как ни один бедняк не скажет; что он при
деньгах (разве только он наведет тень на плетень), так
и о праздном человеке не подумают, что он доблестен
(разве только он попытается выдать себя за такового):
но и тот, и другой сам о себе знает, сколько у него
денег в сундуке или доблести з^ душой.
Радость: Слава моя выдающаяся.
Разум: Если ты заслужил славу, пользуйся ей
умеренно, чтобы не запятнать ее высокомерием; если
заслуг у тебя мало, не стоит выдавать желаемое за
действительное.
О средствах против превратностей судьбы 185
Радорть: Я окружен ореолом блистательной славы.
Разум: Или стремись ее заслужить, или сними с
себя тяжелое чужое облачение. Только истинная слава
может быть признана, а не та, что достается обманом.
С трудом сохраняется даже заслуженное признание, а
от дутой славы и вовсе ждать нечего. Всякий обман
рано или поздно открывается, а уж о славе нечего и
говорить: поскольку человек на вдцу, все быстро
становится ясно.
Конечно, славные люди редкой, да ц таковых темная
и злобная чернь ненавидит, поскольку, они несхожи с
ней. Тяжело, когда и недруги скрежещут зубами, и
толпа дышит ненавистью. Трудно укрыться от козней
врагов, ц вовсе невозможно выдержать, когда тебя
съедают взглядами низкие люди.
Радость: Слава моя очевидна.
Разум: Скрывать это было бы, пожалуй, лучше, в
любом случае — безопаснее. Вот что совершенно
серьезно сказал тот, кто по многим другим поводам шутил:
«Тот хорошо прожил жизнь, о ком ничего не знали».
Радость: Я известен, знаменит, далеко обо мне
идет молва.
Разум: Зависть проникает и в тайное, выведывает
все и там, а ты надеешься, что она пройдет мимо того,
что бросается в глаза? Я не уверен, что нужно быть
слишком известным: очень Немногим становилось лучше
от того, что они заметны и на ввду, мало кому
известность не причинила вреда. Все знают слова Клавдиана1:
Присутствие уменьшает славу.
Еще больше она меркнет при личном знакомстве.
Редко случается, чтобы люди были тем, чем кажутся.
Радость: Я кажусь славным.
Разум: Достаточно легкого облака, чтобы твоя
слава покрылась тенью. Если ты вынырнешь на какое-
то время, то чем больше будет ложная слава, тем
больше будет истинное бесславие.
Радость: Моя слава истинна.
Разум: Этого никто не знает лучше, чем ты сам.
Но так будет лишь при том условии, если и со сторо-
186 Франческо Петрарка
ны станет ясно, что твои дела позволили сохранить
душу неиспорченной. Слава ведь, как мудрецам кажется,
словно некая тень доблести2: ей сопутствует, ей
следует, иногда даже впереди нее идет. Это мы видим на
примере юношей из прославленных семейств, которых
делает известными возлагаемая на них надежда, хотя
сами они еще не успели проявить доблестей; надежда
служит стимулом скромным и благородным душам,
разжигает их, побуждает оправдать ожидания
сограждан. Если же они глупы и надменны, слава их
покидает. Отсюда то превращение подающих надежды
юношей в безвестных старцев, вызывающее смех. Похвала,
полезная разумному, вредит глупому.
Из сказанного ясно: как сама от себя не возникает
тень, так на пустом месте не рождается слава. Она
достигается лишь благодаря большим делам. Если ты
стремишься достичь истинной славы, истинной и
прочной должна быть твоя доблесть.
CVIII. О СЧАСТЬЕ
Радость: Я счастлив.
Разум: Ты полагаешь, что понтификат, или власть,
или могущество и богатство делают счастливым?
Ошибаешься: они не делает ни счастливым, ни
несчастным, но лишь обнажают и обнаруживают счастье или
несчастье. И если они все же делают, то скорее
несчастным, чем счастливым, поскольку приносят
опасности, которые суть корень человеческих несчастий.
Радость: Счастливя.
Разум: Несчастен тот, кто в стольких бедах
считает себя счастливым.
Радость: Я счастлив.
Разум: В своем воображении, а поскольку оно
ложное, то счастья не прибавит, а вот несчастий
принесет много. Высшее же несчастье не знать о
собственном несчастье.
Радость: Я счастлив.
Разум: Так сказал о себе великий Помпеи среди
мечей убийц1; так, однако, если глубже копнуть исти-
О средствах против превратностей судьбы 187
ну, никогда не будет, даже если ты процветаешь и
кажешься счастливым.
Радость: Я счастлив.
Разум: Ты счастливо живешь, редкий путник,
удивительный бегун, который счастлив на этой
каменистой и трудной тропе, в то время как тысячи
опасностей влекут неведомо куда. Но если ты действительно
счастлив, то ты единственное исключение: таких
никогда не было и, я думаю, не будет. Ведь какой, если
спросщъ, человек счастлив среди несчастий? Никто не
может называться счастливым, пока не выберется из
этой долины несчастий.
Лишь двоих из всех смертных называют
счастливыми, среди которых самый известный — Квинт Метелл.
Его считал счастливым и народ, и писатель. Но хотя
Квинт Метелл знаменит как счастливый человек,
однако, насколько я знаю, некоторые дотошные
писатели заявляют, что это не так: ведь однажды он
претерпел тяжелейшую обиду от ничтожного — что вдвойне
досадно — человека2.
В отношении остальных ложность счастья
очевидна. Уж насколько, как говорили, был счастлив Сулла,
однако гнусность жизни и смерти с очевидностью
показала, что и он несчастлив3. И если Александру
Македонскому и Юлию Цезарю фортуна благоволила,
жизнь они, однако, вели беспокойную и тревожную,
потому ни тот, ни другой не был счастлив, и обоих
настигла внезапная смерть: одного в самом разгаре
войны, другого — после победы; первый внезапно умер от
яда, второй — от кинжалов4.
И военное счастье Сципионов5 не было полным:
один пережил изгнание, другой — недостойную и
неотомщенную смерть.
Долго можно говорить и о других лицах, я перейду
к высшему из них. Почти во всех отношениях
представляется счастливым один человек — Август Цезарь.
Он был счастлив самой великой монархией,
длительным миром, очень приятным жизненным путем и
приятным же его концом, а также тем, что важнее всего —
нравами и постоянным спокойствием души. Кто же
188 Франческа Петрарка
решится отрицать, что он был счастлив? Найдутся
такие, если обнаружат, что его домашняя и семейная
жизнь была далека от счастья: судьба не дала сыновей,
преждевременно вырвала из жизни пасынков й
внуков, а других родственников наградила строптивостью,
худшей, чем смерть; к этому следует добавить
многократные заговоры против него и еще более
многократные прелюбодейства обожаемой и единственной
дочери и внучки. Наконец, не любимый и не родной
наследник и преемник, избранный больше по
необходимости, чем по велению разуйа, совершенно
недостойный ни Августа, ни власти6.
Итак, если из таких лиц никто не счастлив, то или
назови мне счастливца, с которым ты будешь
счастлив, или без товарища стань счастливым, или, наконец,
прислушайся к верному высказыванию, согласно
которому, повторю, до смерти никто из людей не счастлив.
Радость: Я счастлив в душе.
Разум: Я знаю, о каком счастье ты говоришь. Или
ты, по словам того персонажа, счастлив в своем
заблуждении7, и это счастье на самом деле — как я сказал —
несчастье, или ты счастлив добродетелями души. Это
не есть полное счастье; хотя дорога к нему. Наконец,
все опровергая, не скрою, что меня удийляет, как
некоторые во сне находят счастье у меня и пропускают у
других. Во многих вещах эти люди очень
проницательны, а в данном деле более чем слепы. Ведь либо для
счастья приобретается куча всякого добра, и эта куча
не тает и не убывает —■ но всякий знает, сколь многого
недостает в человеческой жизни, как бы мы ни
старались, да и то, что есть, непрочно и недостойно, либо —
надо признать — только доблесть дает счастье.
Конечно, те, кто ведут жизнь согласно доблести и
кого называют счастливыми, ближе других к счастью,
и жизнь саму переносят как непрерывное сражение с
испытаниями, и готовы всегда ко многим и
тяжелым опасностям, и до самой смерти не имеют
покоя. Знают ли об этом, нет ли — равно несчастны те
и другие: ведь нет счастья в заблуждении, нет его и
без спокойствия.
О средствах против превратностей судьбы 189_
Радость: Как мне кажется, я счастлив.
Разум: Ответ тебе уже известен. Если бы
заблуждение делало счастливым, очень немногие были бы
несчастливы. Твое счастье —ложное и очень краткое.
Заблуждения никому не позволяли долго радоваться.
Одна только истина обладает прочностью,
заблуждение же, некоторым образом, ничтожное, хилое и
пустое; оно просачивается сквозь пальцы, словно дым
или тень.
Но приходит та, которая прогоняет тени и выводит
на чистую воду фальшивые радости, та, что назначает
истинную цену человеческому счастью и кладет конец
снам. Спроси у тех, о ком шла речь, спроси у всех, кто
себе или другим казался счастливым, где они теперь и
в каком состоянии и что думают о своем прошлом
счастье: они промолчат, но истина ответит, что те, что
виделись счастливыми, стали самыми несчастными.
CXXXI. О НАДЕЖДЕ НА ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ
Надежда: На покой души я надеюсь.
Разум: Что ты предпочитаешь: надеяться на этот
покой или иметь его? Ты найдешь его, как только
начнешь желать всей душой.
Надежда: Надеюсь на мир души.
Разум: Надеяться на мир свойственно тому, кто
сражается. Кто же ведет войну в твоей душе, кроме
тебя самого? Что же ты неразумно требуешь от другого
того, что сам у себя отнял?
Надежда: Надеюсь на душевный мир.
Разум: Откуда, хочу спросить тебя, и когда ты
надеешься получить то, что можешь дать себе теперь и
чего никто другой, кроме тебя самого, не может
отнять у тебя? Сложи оружие страстей и гнева, и ты
обретешь полный мир души.
Надежда: Я надеюсь на мир и душевный покой.
Разум: И что же? Зачем же ты поступаешь
противно миру и действуешь вопреки собственным
надеждам? Насколько люди должны стремиться быть не-
190 Франческо Петрарка
вредимыми, настолько они стремятся погибнуть.
Многие обретают непрерывную войну и страдание души, а
надо бы стремиться к обретению мира и покоя.
Надежды и желания смертных противоположны их
влечениям, словно они живут не в одной душе, а во
многих, причем ни на что не надеющихся.
Надежда: На покой я надеюсь.
Разум: Удивительно, как сильно в вас страстное
чувство надежды. О смертный род! Если вы достигли
того, к чему стремились, вы снова обращаете надежды
на что-то отдаленное, а потом еще и еще: разве
вчерашний день не яснее сегодняшнего и будущее всегда
не туманнее для тех, кто к нему стремится? Есть,
конечно, такие, для которых смысл жизни — в надеждах
на грядущее. Я бы советовал им призадуматься:
откладывая все на завтра, не теряют ли они то хорошее, что
есть в сегодняшнем дне, и не старятся ли в
бесплодных надеждах? Я бы хотел, чтобы они поняли, что
надеются тщетно, и увидели бы, оглянувшись назад, что
напрасно ищут в другом месте то, что у них есть и сейчас.
Надежда: Надеюсь на мир и покой души.
Разум: Большая часть человеческих дел — только
видимость^ большая часть смертных находит
удовольствие в грезах. О сколь многие так и переходят с этой
надеждой к вечным страданиям и сражениям.
КНИГА ВТОРАЯ
IV. О БЕЗВЕСТНОЙ РОДИНЕ
Скорбь:Я — сын безвестного отечества.
Разум: Стань сам известным. Ведь этому ничто не
препятствует: не следует смешивать свою известность
с известностью родины.
Скорбь: Я — житель маленького города.
Разум: Ив больших городах есть безвестные
граждане. И, напротив, случалось, что малые города имели
О средствах против превратностей судьбы 191
великих людей. Вот Ромул был брошен и вскормлен в
лесах1* а построил Рим — повелитель всех городов, а
Каталина, рожденный в самом большом городе, хотел
его разрушить2.
Скорбь: Незначителен мой отчий дом.
Разум: Стремись его возвеличить. Ничто так не
возвышает государство, как слава и доблесть граждан.
Ошибается тот, кто полагает, что оно становится
лучше благодаря постройкам или изобилию и богатству.
Как отдельных мужей, так и города, и царства, и
империи облагораживают не древность, не башни и
стены, не улицы, не дворцы, не мраморные храмы, не
статуи, не картины, не золото, не драгоценные камни,
не легионы солдат, не гавани, полные кораблей, не
рынки, переполненные чужеземными товарами, не
морская гладь, изборожденная кораблями, ищущими
прибыли, наконец, не внешний вид и число граждан,
не изобилие вещей и не базар, изобилующий
продуктами, не пурпурные плащи мужей, отягощенные
камнями удивительной обработки, не спесь, не веселье, не
удовольствия, — но только доблесть, то есть слава
военных дел, которую приносят мужи, а не стены.
Скорбь: Я происхожу из маленького
провинциального города.
Разум: Разве ты не знаешь, что Биант был из Пи-
ренн3, Пифагор — с Самоса4, Анахарсис — из
Скифии5, Демокрит — из Абдеры6, Аристотель — из Ста-
гира7, Теофраст — с Лесбоса8, Туллий — из Арпина9.
Маленький остров Кос в Эгейском море был родиной
известного поэта Филета10, а также — подумать только! —
Гиппократа, отца медиков11, и Апеллеса — царя
живописцев12, и Фидия — царя скульпторов13. Как можно
заметить, незначительность места не служит помехой
для величия таланта.
Скорбь: Безвестна моя родина.
Разум: Не помешала малая известность родины ни
Нуме Помпилию стать царем14, ни Септимию Северу —
императором15. И если говорить о более близком к нам
римском прошлом: высший из людей — Август хотя и
был рожден, как известно, во дворце, однако начало
192 , Франческо Петрарка
его рода — вельтрийское16. Веспасиан — антиец, но из
безвестной реатинской деревни17. Славу Лариссе
принес Эакид18. Филипп поднял от века темное и
безвестное имя пелейца19, а Александр20 вознес это имя до
небес. Не достаточно ли сказанного, чтобы понять, что
безвестность родины не приносит вреда гражданам, а
их слава лишь помогает прославиться родине. Рим был
пастушеским поселком и безвестным убежищем, пока
его не прославили военные подвиги и выдающаяся
доблесть его граждан.
Скорбь: Я происхожу из темного и безвестного места.
Разум: Зажги сам свет доблести. С его помощью
ты будешь блистать в потемках, и, по крайней мере,
это пойдет на пользу твоей родине. И ты сам станешь
заметнее при малом свете. Так или родина тебя
сделает известным, или ты — ее.
Скорбь: Я обитаю в незначительном месте.
Разум: Пусть будет так. И сам ты — незначителен,
и дух, обитающий в тебе, — незначителен. Но у тебя
перед глазами пример общей матери21, ты не улетишь
от гнезда до тех пор, пока доблесть не даст тебе
крылья. Воспользуйся ими. Мы только что говорили, что
весьма многие ими пользовались счастливо. Поэтому,
будучи смертным, удерживай уздой высокомерие. А то
некоторые чванятся одной славой родины. Глупое племя.
V. О НЕЗНАТНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
Скорбь: Я рожден незнатными родителями.
Разум: Может быть, не стоит считать тягостным
это обстоятельство. Возможно, даже лучше родиться
неблагородным (ignobilem), если ты рассмотришь
разные жизненные пути. Действительно, если ты решишь
предаваться наслаждениям и идти проторенной
дорогой по следам толпы, тебе легче простятся ошибки и
заблуждения, поскольку у тебя не было домашних
наставников; не будет резких попреков в том, что ты не
походишь на славных родителей, поскольку у твоего
дома нет никакой славы, одна безвестность.
О средствах против превратностей судьбы 193
Если же ты выберешь малоисхоженную тропу
доблести (virtus), то тем известнее ты станешь, чем из
большей безвестности и потемок поднимешься. Вся
слава будет проистекать только из твоих дел. Ничто не
отнимет подражание. Нисколько славы не отнимут
родители, деды, прадеды, советники и учителя. За все,
что ты сделаешь хорошего, ты один пожнешь славу,
тебя одного будут восхвалять, тебя одного назовут
основателем и создателем рода, чего не случилось бы,
если бы ты был рожден благородным (nobilis). Вот
видишь, какой случай прославиться выпал на твою долю:
благодаря себе самому сделаться благородным, дать, а
не принять благородство. Ты дашь своим потомкам то
благородство, которого не дали тебе родители.
Намного важнее стать основателем благородного рода, чем
получить благородство от предков.
Скорбь: Нов и прост мой род.
Разум: Стал же больше известен, чем
последующие правители, основатель Рима, вскормленный
пастухом1, хотя те воздвигали величественные дворцы,
украшенные мрамором и золотом, а он лишь построил в
лесу крепость и простой, жалкий царский дворец,
покрытый не менее жалкой соломой. Но велика всегда
слава новизны и большого начала.
Скорбь: Я начал свою жизнь от неблагородного
корня.
Разум : Стремись стать благородным к концу жизни.
Ведь вначале — труд (labor), в конце — плод; если его
сорвать незрелым, то он не будет долговечным.
Скорбь: Низкое происхождение обрубает корень
славы.
Разум: В действительности-то не обрубает, а
глубже закапывает, чтобы она возросла более крепкой,
пусть и более поздней. Впрочем, я назову здесь не
только неблагородных (ignobilis), но и безвестных
(ignotos) людей из любого рода, которые стали
знаменитыми благодаря доблести и усердию (industria).
Действительно, если доблесть делает человека истинно
благородным (si verum nobilem virtus facit), то я не
понимаю, что мешает тому, кто хочет стать благородным,
194 Франческо Петрарка
и почему же лучше, чтобы его сделали благородным
другие, чем он сам себя?
Скорбь: Я происхожу от неблагородных родителей.
Разум: А Сократ2, Еврипид3, Демосфен4? У
первого отец был облицовщиком мрамора, мать — повитухой;
у второго и мать, и отец — неблагородны; третий
происходил не просто от жалких, но и сомнительных
родителей. Из крестьян вышел ваш Вергилий5. Не
краснел Флакк6 из-за того, что его отец был
вольноотпущенником и глашатаем. Оба достигли выдающейся
славы и удостоились расположения высочайшего из
правителей7, перед которым все другие склоняли
головы, благодаря деяниям которого рождалось все
великое, на кого возлагались надежды почти всех
смертных, особенно благородных; заслужить близкого
знакомства с ним было высшим стремлением лучших
людей. Так этот правитель, судя по его льстивым и
сладким письмам, настоятельно добивался как чего-то
очень важного дружбы и общения с этими двумя
незнатными людьми, приехавшими в Рим из деревни:
один был из Мантуи, другой — из Венузия.
Мы думаем, что тогда при дворе было много
благородных — бесполезных и невежественных людей, как
это часто случается. Им казалась вполне благородной
и даже вызывающей зависть незнатность тех двоих. И
это вполне справедливо.
Скорбь: Я происхожу от безвестных родителей.
Разум: Если не волнуют душу приведенные
примеры, перейду к более внушительным. Марк Цицерон,
как о нем написано, вышел из всаднического сословия
и, будучи простого происхождения, достиг
консульства, процця прежде, благодаря вьщающемуся таланту,
другие почетные ступени [власти]. И я не знаю, было ли еще
чье-либо консульство столь полезно государству8.
Скорбь: Предки мои деревенские и безвестные.
Разум: Как я понимаю, они из-за этого кажутся
тебе достойными презрения. И ты теперь
устремляешься к более высокому [положению]. Однако и
Марий9 был деревенским мужем, но именно мужем, как
говорил о нем его земляк Цицерон. Марий долго был
О средствах против превратностей судьбы 195
пахарем у марсов10, а в Риме семь раз избирался
консулом. Как рассказал о нем тот же самый соотечественник,
он стяжал великую славу, с тех пор как сумел дважды
спасти Италию от опасности и страха порабощения11.
И Марк Катон12 — муж плебейского
происхождения, долгое время бывший безвестным жителем
маленького городка, — стал затем известнейшим
иноземцем великого города, а вскоре выдающимся
гражданином, и консулом, и цензором. Если недостаточно даже
этих примеров, вспомни о царях. В самом деле, низкое
происхождение не запрещает надеяться на достижение
этой власти за заслуги — через избрание. Вспомним
третьего, четвертого и шестого из римских царей13.
Как сообщают надежные авторы, пусть и не у всех об
этом написано, Тулл Гостилий в детстве воспитывался
в деревенской хижине* в юности был пастухом. Отец
Тарквиния Приска был купцом, к тому же неримского
и даже неиталийского происхождения. У Сервия
Туллия мать была то ли рабыней, и притом пленной, как
считают одни, то ли знатной* как говорят другие. А он
заслужил римское царство благодаря доблести.
И ты перестанешь удивляться, если поймешь
высказывание Платона: «Всякий царь выходит из рабов,
всякий раб из царей»14. Так смешали долгий век и
судьба дела людей.
Я уж не говорю о правителях других народов,
попадавших на царский трон прямо от стада или из
ничтожнейшей ремесленной мастерской. Александр
Македонский в Азии сделал царем некоего садовника. И был тот
не из последних, благодаря своим похвальным деяниям.
Я уж не говорю, с другой стороны, о тех, кто с вершины
царской власти соскальзывал до рабского положения. Так
фортуна уравновешивает свои деяния. Однако больше
всего может сделать доблесть. Благодаря ей надежно
поднимаются к высшим ступеням. И пусть знают правители:
если они начнут колебаться или покинут вовсе стезю
добродетели — то окажутся перед угрозой не только
падения вниз, но и полного краха. Возвращаясь к тебе,
спрошу: так ущербно ли происхождение того, у которого
не отнята надежда ни на царствование, ни на успехи?
196 Франческа Петрарка
Скорбь: Я происхожу от темного корня.
Разум: Всякий корень темен и грязен, но именно
из него произрастают ветви, покрытые листьями и
цветами. Важно, не откуда что-нибудь происходит, но
каким становится.
Скорбь: Я рожден самыми незнатными родителями.
Разум: Я чувствую, ты призываешь меня
поговорить о самой высшей власти. Сам Септимий Север15, о
котором выше мы говорили, был из всаднического
сословия. Гелий Пертинакс16 — сын вольноотпущенника
и сам был продавцом дешевых бревен. И тот, и другой
стояли во главе Римской империи. Ею правили
Филипп Аравитянин, происходивший из самого низкого
арабского корня, Максимин и Максим17. Максимин
имел родителей безвестных и варварского
происхождения: он их стыдился, когда захватил власть. У
Максима отец был то ли кузнецом^ то ли плотником, неясно.
Среди добрых правителей, несомненно, числился Вес-
пасиан1*, прославившийся не знатным
происхождением, а тем, что отлично управлял государством и имел
двух сыновей, по очереди унаследовавших достоинство
власти. Впрочем, что говорить о менее значительных
людях; если много сомнительного в происхождении
самого цезаря Августа19. На то, как складывается
жизненный путь человека, не оказывает большого
влияния высокое происхождение. Отовсюду можно
возвыситься: либо судьба поможет, либо доблесть.
Скорбь: Слишком жалок и темен мой род.
Разум: Относительно рангов человеческой власти
мы уже привели примеры, лучше которых нельзя и
найти. Остается сказать о том, что достопамятно не
благодаря власти или царствованию, но благодаря
некоему другому, своему собственному достоинству.
Вентидий Басе, имевший простую мать и безвестного
отца, был в юношеском возрасте проведен вместе с
другими пленными за колесницей триумфатора Гнея
Помпея Страбона (отца великою Помпея)20,
покорившего его родину. Но фортуна переменилась: пленник
стал военачальником римлян, одержал победу над
парфянским царем, кичившимся древностью власти и не-
О средствах против превратностей судьбы 197
дивней победой, убил царского сына^ истребил
вражеские легионы; судьба не обещала этого в тот день
никому из римских военачальников. Тем самым он
доблестно отомстил за небывалый разгром римлян и
смерть Красса21. Победителем и триумфатором
почтительно въехал на Капитолий на собственных
колесницах тот, кто украшал когда-то как, пленник чужие;
пленными врагами наполнил римскую темницу тот,
кто сам когда-то был связан и брошен в подобную
темницу. И тем приятнее было зрелище и
удивительнее победа, что случилось это по истечении лет в тот
же самый день, когда произошло то страшное
поражение при Каррах22. Кто же до такой степени честолюбив
и столь жаждет власти, чтобы не предпочесть эту славу
без власти бесславному царствованию? Разве
что-нибудь помешало счастью и высшей славе Вентидия?
Быть может, то, что он был низкого происхождения?
Или то, что в юности его положение было униженным и
жалким? Нет. Во всяком случае Рим высоко почтил
мужа, презираемого соотечественниками, и поместил
темное имя чужеземца среди славных имен своих граждан.
Вот лестница для восхождения, вот ступени для
доблести, идя которыми, прилагая все усилия, надеясь
и неутомимо трудясь (intendo, sperando, vigilando),
можно достичь не только славы и лучшей судьбы, но и
самого неба. Так и ты, если рожден безвестным —
стремись возвыситься, направляй свои шаги от начала
до конца по следу доблести, никуда не отклоняясь и
не останавливаясь.
Скорбь: Начало было низким.
Разум: Оно осталось в прошлом; думай о том, что
последует. Некоторым кажется, насколько мне
известно, что первый и последний дни жизни более всего
определяют или, как они говорят, заключают в себе
сущность человеческого состояния. Относительно
последнего дня я, возможно, согласился бы,
относительно первого — нет. Пусть даже они считают очень
важным, с каких предзнаменований этот день начинается.
Пусть даже Сатирик, соглашаясь с ними, так написал,
говоря о самом Вентидии: «Узнай же, какие звезды
198 Франческо Петрарка
встретили тебя, только начинающего издавать писк и
доныне краснеющего из-за матери».
Мы, однако, отвергаем подобное, отрицаем и эти
предзнаменования, и эту столь великую силу звезд,
отдавая всю власть благому их создателю23. И ни одного
человеческого создания Мы не лишаем возможности
ступить на стезю доблести, счастья и славы.
Скорбь: Род очень низок.
Разум: Неужели ты предпочтешь назойливое
высокомерие? Или ты чувствуешь, что тебе чего-то не
хватает, если атрий24, наполненный закопченными
изображениями и разбитыми статуями, и фамильный
склеп с множеством полуосыпавшихся надгробных
надписей не служат твоему безумию, по причине
которого ты мог бы спесиво болтать на площадях о тех,
кого не знаешь25.
Скорбь: Я рожден незнатным.
Разум: Некоторым казалось, что счастье не только
родиться, но и жить незнатным. Или ты не читал у
Цицерона в «Тускуланских беседах» стихотворение
могущественного царя, который хвалит старца и говорит,
что тот счастлив, так как незнаменит. И намеревается
остаться незнатным до смертного часа.
VI. О ЗАЗОРНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
Скорбь: Мое происхождение не только
презренно, но к зазорно.
Разум: Настоящая и высшая зазорность — одна:
зазорность души. Если ты от нее избавишься, — все
остальное прекрасно.
Скорбь: Мое рождение дурно.
Р азум: Тот, кто живет нравственно, у того и
рождение — нравственно, и умрет он с честью. Не может
быть нравственным рождение того, кто дурно жил. В
самом деле, важно ли для слепца, что он будет идти по
сверкающей дороге? И важно ли, откуда ты
происходишь, если впадешь, к несчастью, в грехи.
Скорбь: Мое рождение дурно.
О средствах против превратностей судьбы 199
Разум: Именно это оплакивает некий
достославный человек!1 И, конечно, все рождаются в грехе.
Старайся не прибавить [к этому греху] более тяжких, хотя
очищение есть и от них. А тот первый грех часто
смывается на самом пороге жизни, и ослепительная
чистота наполняет душу.
Скорбь: Отец и мать родили меня дурно.
Разум: Ну и что же. Каждый дурно рождается.
Считай, что ты рожден хорошо, если не
присоединишь к чужому пороку — свой.
Скорбь: Стыдно позорного происхождения.
Разум: Ну, я не удивлюсь, что вы выходите из
себя по поводу чужого и краснеете за чужое. А вообще-
то где, как не в самих себе, носите и доброе свое, и
дурное. Оно и может быть только в вас и нигде
больше. И если ты не сделаешь ничего постыдного, то и
наказан не будешь: твоя ли вина и тебе ли стыдиться
распутного отца? Только остерегайся унаследовать
родительский позор, стремись стать как можно более
непохожим на него с этой стороны. Ты ведь не знал о
порочности отца, когда родился, и без твоего желания
он не сможет передать тебе свои пороки. Будешь ты
славен или безвестен, — зависит только от тебя.
Скорбь: Я появился на свет от бесчестных родителей.
Разум: Всякий родитель должен казаться сыну
достойным уважения, но не в том смысле, что его
нужно бояться. Должно вот чего придерживаться:
всякий отец есть отец, и пусть будет решено, в чем ему
не подражать. Не иди по стопам отца: если он
настоящий отец, то сам не захрчет, чтобы ему следовали в
дурном и любили его вместе с пороком. Надцен лишь
один способ: сыновьям должно жить славно и
пристойно, свято и целомудренно, независимо от того,
что говорят об отце. И сын пусть не порицает вслух
бесчестных родителей. За него скажет несхожесть
образа жизни, нравов и дел. Прекрасна та похвала,
которая звучит вслед сыну: «Насколько он скромнее
старика». И наоборот: нет ничего хуже клейма старческого
распутства. Как бы подошла старику юношеская
стыдливость. Конечно, если сыновья живут дурно, то слава
200 Франческо Петрарка
родителей им обременительна. Зато когда сыновей
хвалят за скромность — уменьшается бесславие дурно
живущих отцов.
Скорбь: Я произошел от любви, достойной
осуждения.
Разум: Пусть лучше о тебе говорят, что ты
честный сын бесстыдного отца, чем бесстыдный сын
честного отца. Ибо при всякой похвале или порицании
нужно обращать внимание преимущественно на то,
что является свойством данного человека.
Несправедливо, если из-за чужого кого-либо порицают или
хвалят. А если что-либо вам свойственно, то оно
становится яснее, когда сравнивается со своей
противоположностью. Впрочем, как есть у каждого собственная
слава, так и бесчестье, то подобает, чтобы была и
собственная причина того и другого. И действительно,
хотя от меча одного гибнет другой и от огня одного
мучается или сгорает другой, однако от греха одного не
гибнет слава другого. Потому что достоинства души
прочнее достоинств тела и произвола судьбы.
Добродетели не могут быть опорочены вопреки воле
владеющих ими.
Скорбь: Я рожден нечестиво и противозаконно.
Разум: Ты не сделал ничего против закона,
проступок совершили твои родители; ты же все делай в
соответствии с законами. В нечестивом рождении не
было совершенно никакого твоего преступления.
Пусть другие судачат о твоем происхождении, ты сам
поступай так, чтобы говорили о твоих добрых нравах.
И хотя из-за ненависти к распутству мщение
гражданских законов распространяется на сыновей, не
заслуживающих его, однако Бог меряет каждого своими
мерками и не вменяет в вину отцу неправедность
сына, а неправедность отца — сыну. Из философии ты
понял, что она судит иначе, чем законы.
Следовательно, душа твоя, удрученная несправедливостью
законов, утешена поддержкой божественных и
философских суждений. Ведь не запрещено тебе наследовать
имущество, гражданские доблести. Первое
разрешается установлениями людей, второе достигается заслуга-
О средствах против превратностей судьбы 201
ми. До рождения ты ничего не заслужил — ни славы,
ни бесчестья.
Скорбь: Мое происхождение недозволенное и
нечистое.
Разум: Что касается нечистого происхождения и
того, дозволено ли родиться от внебрачной связи, то
можно привести в пример Ромула и Алкида2; Персей
стал царем Македонии3, а Югурта — Нумйдии4 в то
время, когда законные братья не были допущены к
царствованию. После устранения дурных обычаев и
правил Александр Македонский5 был назван сыном
Филиппа — об этом ты, наверное, знаешь. Правда, в
конце жизни Филипп отказался признавать
Александра за своего сына, прогнав по этой причине и
Олимпиаду6. Писатели считают, что из-за этого и
произошел развод.
Сам Константин по предзнаменованию пришел к
власти вместо законных братьев, хотя был рожден
наложницей7. Добавлю к ним короля Артура8, если
только дозволено смешивать сказку с историей: ведь из-за
лжи уменьшается доверие к правде. Таким образом,
происхождение не имеет такой силы, которая могла
бы низвергнуть тебя вниз.
Скорбь: Я рожден постыдно.
Разум: Чистота нрава и слава жизни не только
смоют позорные пятна, но и всякую память о позоре
происхождения. Этими средствами пользуйся,
насколько возможно, других, поверь мне, нет.
Скорбь: Стыдно бесславных родителей.
Разум: Отбрось этот стьщ. Один отец у всех — Бог.
Одна мать — земля.
VIII. О БЕДНОСТИ
Скорбь: Я придавлен бедностью так, что не могу
подняться.
Разум: Часто именно бедность заставляет стойкую
душу быть умеренной: бедности удается то, чего не
может добиться философия.
202 Франческо Петрарка
Скорбь: Бедность осаждает мой порог.
Разум: Не осаждает, но охраняет: нет в этом
ничего нового или необычного — когда-то именно она
охраняла Рим в течение многих веков. В хижинах
умеренной и озабоченной бедности нет места
бездеятельной и расслабленной роскоши, равно как и апатичной,
утомленной пороками лени.
Скорбь. Бедность вошла в мой дом.
Разум: Я посоветовал бы: поспеши ей навстречу.
Когда она преследует грешного паломника или
военного человека, то нападение ее грозно и внезапно, а
лик хладен и печален. Когда же придет в семейство и
будет встречена, то окажется гостем легким и
беззаботным, не требующим расточительных расходов.
Скорбь: Бедность стучит в мои двери.
Разум: Открой их скорее, прежде чем она
внезапно сломает запоры и войдет победительницей в двери
с испорченными петлями: насколько сопротивляющимся
она тягостна, настолько давшим ей место приятна.
Радость: Бедность вторглась в мой дом.
Разум: Наоборот, вторгаются как воры и хуже,
чем воры, непрерывные наслаждения. К этому
добавляются насмешки толпы и пошлые суждения,
бесславие из-за скупости или из-за расточительности,
которые чаще всего располагаются на пороге богатого
человека. От этого зла ничто лучше не сможет сохранить
твой дом, чем бедность. Если богатый человек, даже
очень щедрый, что-нибудь себе оставит, то сразу же
будет окрещен толпой жадным, и напротив,
стесненный в средствах бедняк все равно считается щедрым:
богатству соседи завидуют, бедность жалеют.
Обладателей первого беспокоят и хулят, бедных побаиваются
и хвалят.
Скорбь: Бедность захватывает мой дом.
Разум: Зато не будет места ни высокомерию, ни
зависти, не будет больших потерь, ни страха убытков,
ни множества подозрений, ни коварства, ни
отвращения, ни подагры от зависти к чужому богатству. Когда
все это будет исключено, ты будешь иметь больше
покоя, и безмятежности, и доблести. Чем меньше места
О средствах против превратностей судьбы 203
будет занимать богатство, тем больше места останется
всему этому.
Скорбь: Бедность сурово приблизилась к моим
ларям.
Разум: Я понимаю, на что ты жалуешься.
Богатства приблизились бы мягче, но бедность безопаснее.
Нет никаких богатств, которым нельзя предпочесть
душевное спокойствие. Люди и все живое стремится к
счастью и жаждет его обрести. Однако счастье без
богатства возможно, без душевного спокойствия — нет.
Скорбь: Я давно угнетен беспощадной бедностью.
Разум: Нельзя долго стерпеть то, что невыносимо,
но все трудное имеет конец. Ты говоришь, что
бедность трудна. Подумай, что бы ты предпочел:
трудности из-за богатств, или из^за золота, или <— из-за
доблести. Разве ты не читал у стоиков1, что богат только
мудрец? Или прочитал, быть может, но пренебрег?
Что и делают многие читающие. Потому что стоики
рассказывают не о том, как жить лучше, но как —
приятнее. И все внимание они уделяют знаниям и
красноречию. Ничего нет более пустого, чем заботы о богатстве.
ХСШ. О ПЕЧАЛЯХ И НЕСЧАСТНЯХ*
Скорбь: Я печален.
Разум: Важна причина — отчего ты печален или
радостен. Ибо это при разных обстоятельствах может
быть или хорошим, или плохим. Конечно, полезно
печалиться о грехах, лишь бы к людям не
подкрадывалось отчаяние, тайно налагая руку. Радоваться же
прилично добродетели или при воспоминании о добрых
деяниях, лишь бы эта радость не отворила двери
спесивому высокомерию.
Скорбь: Я печален из-за несчастий этой жизни.
Разум: Счастье тебя возрадует в иной жизни.
Насколько несчастная эта жизнь, даже если она самая
несчастная, настолько та будет счастливой.
Скорбь: Я печален.
Разум: У этого зла очень много корней. О них
многое мы уже сказали, но, поскольку ты склонен к
204 Франческо Петрарка
жалобам, как я вижу, немало еще следует рассказать.
Бывает, что ты не видишь явной причины несчастий —
каких-либо болезней, или осуждения, или бесславия,
или несправедливости, или разговоров о каком-нибудь
подобном деле, — но некое наслаждение страданием
делает душу печальной. Зло тем тягостнее, чем
неизвестнее причина, — и поэтому труднее исцеление.
Подобного зла нужно, по мнению Цицерона2, избегать на
всех веслах и парусах, словно некоего камня души. В
этом, как и во многом другом, я с ним согласен.
Скорбь. Размышление о моих теперешних
несчастиях делает меня печальным.
Разум: Я не отрицаю, что несчастия человеческого
состояния велики и многочисленны. Они
оплакиваются в некоторых недавних книжках3. Но если ты
посмотришь на жизнь с другой стороны, то увидишь
многое, что делает ее счастливой и приятной. Об этом,
если я не ошибаюсь, никто до сих пор не писал, а те,
кто принимался, отказывались от своего намерения,
поскольку понимали, что этот предмет труден,
противоречив, бесплоден для пишущих и далеко не
равнозначен тому, что можно написать о несчастиях: до
такой степени многие из них бросаются в глаза. Счастье
мало и скрыто, тут нужно глубже копнуть пером,
чтобы можно было показать его неверящему.
Я выделяю главное из многого: мало ли вам причин
для радости? Образ и подобие Бога-творца,
имеющиеся в человеческой душе: ум, память, предвидение,
красноречие; столь многие изобретения (inventa),
столь многие искусства (artes), служащие этой душе и
этому телу, в котором божественной милостью
предусмотрено все необходимое для вас. А красота столь
многочисленных и столь разнообразных вещей,
удивительным и непостижимым образом служащих не
только ваишм нуждам (necessitati), но и вашему
удовольствию (oblectationi). Что за великая сила корней,
травяных соков, какое разнообразие цветов. Сколько
запахов, тепла, вкусовых ощущений, из различия которых
рождается гармония (ex contrariis orta concordia). Как
много животных в небе, на земле, в морях, предназна-
О средствах против превратностей судьбы 205
ченных только для вашей пользы и подчиненных только
вашей власти. И если бы вы не покорились добровольно
ярму греха, то владели бы всем, что есть под небом.
Прибавь холмы, согретые солнцем долины,
тенистые ущелья, льдистые Альпы, теплые побережья.
Прибавь многочисленные источники целебных вод:
сколько среди них серных и дымящихся, сколько
прозрачных и холодных ключей. А сколько морей,
омывающих землю или вдающихся в нее. Прибавь
стремительные потоки и незыблемые пределы материков.
Прибавь озера, схожие с морями, и обширные болота,
и ручьи, стремительно низвергающиеся с горных
теснин, и цветущие берега.
«И берегов защита, и свежие луга у ручьев», — как
сказал Вергилий4.
Что добавить о гулких пещерах и покрытых пеной
утесах, о влажных побережьях; об отливающих золотом
нивах и виноградниках в перлах ягод, и об удобствах
городов, и о деревенском покое, и о свободе
уединения. А что может быть прекраснее и божественнее из
всех зрелищ, чем вид неба с едва заметным вращением
звезд? И среди них, неподвижных или блуждающих,
или, как говорят, плутающих, взгляните прежде всего
на Солнце и Луну, яснейшие светильники неба и
мира, как говорит Марон5, его сверкающее украшение,
как говорит Флакк6. От них — земные плоды, от них
— жизнь существ, от них — изменение погоды; при их
помощи мы измеряем годы, месяцы и дни, и ночи, и
мгновенья, без чего возникло бы отвращение к жизни.
То же касается тела: пусть оно бренно и слабо, однако
имеет приятный вид, выпрямлено и приспособлено к
созерцанию неба. Присовокупите бессмертие души, и путь
к небу — при малой плате неоценимую награду, и многое
такое, чего не стоит касаться вне наставлений веры. Есть
надежда, что после смерти возродится и тело, станет
легким, светящимся, непорочным, им можно будет
пользоваться с еще большей славой. И оно превзойдет не
только человеческое, но и ангельское достоинство.
Сама человеческая природа будет соединена с
божественной так же, как у того, кто был Богом и стал
206 Франческо Петрарка
человеком. Ведь он, единосущный, совершенным
образом объединив в себе две природы, стал Богом и
человеком, — так, чтобы, сделавшись человеком, сделать
человека Богом (ut hominem Deum faceie, factus homo)7.
Невыразимое благочестие и смирение Бога —
высшее счастье и слава человека, во всех отношениях
возвышенное и сокровенное таинство, удивительная и
благотворная связь, которую, не знаю, как небесный,
но человеческий язык выразить не может.
Разве тебе мало, что уже одним этим человеческое
состояние облагорожено и несчастия уничтожены? О
чем, спрашиваю, более возвышенном может
помышлять человек, если не о том, чтобы стать Богом? Вот
уже он Бог (ecce jam Deus est). Что еще остается,
спрашиваю я, о чем вы могли бы вздыхать и чего могли бы
желать? Вполне достаточно того, что ты приобрел, и
нечего выдумывать, что остальное является большим.
Действительно, когда сила провидения склонялась к
Вашему спасению, Христос, хотя я мог избрать
что-нибудь другое, принял, однако, человеческое тело и
человеческую душу и пожелал обрести не ангельский, но
человеческий облик, — чтобы ты знал, таким образом,
насколько Господь любит тебя, и возрадовался этому.
Как превосходно сказал Августин8, Бог показал, что
нужно обращать внимание не на плоть и не на мощь,
а на то, чтобы вы придали добродетельность телесным
ощущениям, — в чем человеческая природа занимает
выдающееся место между прочими творениями. И тот,
кто с удивительным достоинством предпочел вас
ангелам, самих ангелов сделал вашими стражами, чтобы
еще раз показать ваше преимущество. Иероним
говорил, что достоинство душ таково, что каждая в
отдельности имеет ангела, поставленного ей в охрану?. В
самом деле, забота Бога о нас — отеческая и более, чем
просто отеческая. И как сказано Сатириком10,
поистине неизменная. Воистину, Богу человек дороже, чем
самому человеку. Откуда же берется место печали и
жалобам? Не природа ваша, очевидно, но грех делает
вас печальными и жалующимися.
О средствах против превратностей судьбы 207
Скорбь: Меня удручают недостойное рождение,
хрупкость и слабость природы, и нужда, и суровость
судьбы * и краткость жизни, и неизвестность конца.
Разум: С большим рвением ты сетуешь на
причины своих печалей. Следует перейти к
противоположному, чтобы ты возликовал от радости. А при
нынешних нравах слишком жадно вы склоняетесь к дурному.
Посему всё, что касается недостойного рождения или
безобразия тела и прочего, — оно не только
уменьшается стремлением к воскресению, на что надеется
каждый верующий, равно как и на то, что будут
облагорожены тела, — но также опровергается существующей
красотой и неким исключительным величием человека
среди всех божьих творений.
Ибо что утрачивает от недостойного рождения
человеческое достоинство? Разве не из безобразных
корней вырастают высокие и стройные деревья и одевают
благодатной тенью травянистую землю? Не из
грязнейшего ли навоза поднимаются веселые нивы? И не из
презренного происхождения — дела наилучшие? Вы —
божий урожай, который должен провеиваться на току
судилища и ссыпаться в амбар высочайшего отца.
Земным, хотя отчасти благородным и небесным было
происхождение. И каким бы ни было рождение й сколь
трудным ни было бы возвышение — небо становится
последним обиталищем.
Что сказать о наготе, телесной слабости и многих
тяжких испытаниях несчастьем, из-за которых
принято считать человеческое состояние жалким? Разве не
восполняется это при помощи разнообразных искусств
(artium) и многих лекарственных средств? Если для
животных, лишенных разума, природа позаботилась о
прочной шкуре, когтях и шерсти, только человека,
изобретателя всего, она наделила разумом. Не больше
ли славы, чем бесчестья, можно извлечь из этого для
людей? Как те защищены чем-либо, так он защищен
своим собственным внутренним средством. Все
прочее, как бы сильно оно ни защищало существа, все
равно слабее разума. Один только человек имеет
столько, сколько сможет достичь проницательным ра-
208 Франческо Петрарка
зумом. Так, если господин случайно расщедрится, то
быкам и пахарям он назначает небольшую порцию
благородной пищи, каждому свою, а жене и сыну —
ничего. Быки и пахари имеют этой пищи назначенное
количество, а жена и сын берут больше или меньше в
зависимости от потребностей; так первым назначена
узда, вторым — свобода.
Всем существам, которых мы видим, облезлым от
старости или от чесотки, хромым, слепым, никто не в
состоянии помочь, кроме человека. Человек же, нагой
сам по себе, одевается и украшается при помощи ума
и, если дело потребует, вооружается. Хромой и
бессильный скачет на лошади, или едет в повозке, или
опирается на палку. Всеми способами помогает себе и
себя поддерживает. Он научился изготавливать
деревянные ноги, или железные руки, или восковые носы
и тем самым противостоять случайным несчастиям,
потере какого-либо члена тела. Пошатнувшееся
здоровье он восстанавливает лекарствами, отсутствующий
аппетит возбуждает лакомствами, ослабевшее зрение
исправляет очками. Они, кстати, были выдуманы
вашими предками: Сенека пишет, что они пользовались
с этой целью сосудами, наполненными водой11.
Вообще удивительна игра природы, ласковой и щедрой
матери: одно у сына отняв, другое даст и утешит.
Лошади, быки, слоны, верблюды, львы, тигры,
барсы и подобные им существа, состарившись, становятся
ненужными, умирая — исчезают бесследно. Только
человека, одаренного доблестью, свойственной только
ему, старость делает уважаемым, а смерть —
счастливым, унося, а не уничтожая бесследно.
И самое главное: некоторые животные сильнее
человека, некоторые быстрее, некоторые обладают более
острыми чувствами, но нет ни одного, превосходящего
человека достоинством, ни одного, о ком забота
Творца была бы такой же, как о человеке. Только человеку
дана круглая форма головы и небесный лик.
И когда, склоненные, видят животные только землю,
Глазам человека дано видеть высоты и небо
И поднимать обращенный к звездам лик, —
О средствах против превратностей судьбы 209
как прекрасно сказал Назон12; возможно, такие слова
есть и у Цицерона.
Только человеку даны лицо и глаза, отражающие
тайны души, дан разум, дана речь, даны слезы, дан
смех *— признаки скрытых чувств. Некоторые
полагают, что последнее служит доказательством несчастий и
ничтожества человека, так как плакать младенец
начинает с момента рождения, а смеяться — только на
сороковой день13.
Я называю человека счастливым, если им управляет
доблесть, но жить ему непросто, так как от рождения
предстоят непрерывные труды и тяготы. И, наконец,
что касается силы и быстроты, ловкости и
приспособленности животных — всего этого недостает человеку.
Но человек приручил к ярму диких быков и к узде —
необъезженных лошадей. Человек сделал украшением
своего стола медведей, страшных своими когтями,
вепрей, опасных своими клыками, оленей, убивающих
рогами. Человек использует мех и шкуры лис, рысей и
прочих зверей, мясо которых нельзя употребить в
пищу. С помощью сетей человек покорил себе моря, с
помощью собак — леса, с помощью птиц — небо. Он
обучил животных понимать человеческий голос и
повиноваться человеческим жестам. Так из каждой части
природы он что-нибудь поставил себе на пользу.
У тебя нет силы быка, но бык для тебя пашет. У
тебя нет быстроты лошади, но ты на ней разъезжаешь. У
тебя нет способности летать как цапля, но и она для
тебя летает. Нет у тебя силы слона или верблюда, но
первый возит для тебя осадную башню, второй —
грузы. Нет у тебя шкуры оленя, нет шерсти ягненка или
меха лисицы, но они этим владеют для тебя. Иметь
всех качеств животных человек не хочет, но хочет
повелевать теми, кто их имеет. Эти слова римского
полководца служат прекрасным ответом тем, кто говорит,
что люди немощны и беспомощны.
Об этом и я кратко сказал, отчасти по-католически,
отчасти по-философски. Для устранения скорби души,
ибо так это называют философы, и для обретения
спокойствия полезно знать, что говорит о первом Цице-
210 Франческо Петрарка
рон в третьей книге «Тускуланских бесед», а о втором —
Сенека в книге «О спокойствии души».
Итак, своевременно перевязана рана и указаны
врачеватели душ, которых ты смело можешь призвать на
помощь, если этой беседы тебе недостаточно...
Природа установила неопределенный конец жизни, чтобы
всегда верилось в настоящее и ближайшее будущее.
XCVIII. ОБ ОТВРАЩЕНИИ К ЖИЗНИ
Скорбь: Я испытываю огромное отвращение к
жизни.
Разум: Не знаю, есть ли какое-то зло опаснее
этого. Оно и само по себе очень тягостно и недалеко
отстоит от отчаяния; впрочем, это — прямая дорога к
отчаянию. В таких случаях в ваших храмах учат
обращаться за помощью к счастливым душам, которые,
освободившись от ужасного отвращения и от телесных оков,
наслаждаются радостями и вечным душевным покоем.
Скорбь: Во все поры моей души проникло
отвращение к жизни.
Разум: Отгоняй его радостными мыслями и
доброй надеждой, утешением в друзьях и детях,
разнообразных пристойных наслаждениях, бегством от
бездеятельности и более всего — постоянным терпением в
делах, но не ненавистью к настоящему, не тоской по
будущему и, наконец, не страхом и не надеждой
покончить с собой, как делали некоторые жалкие
глупцы. Такие люди сводят счеты с бедностью,
отвращением к жизни и временными страданиями, но взамен
обретают вечные. Правда, наш Цицерон в сочинении
«Об обязанностях» оправдывает самоубийство
последнего Катона1. И Сенека прославляет подобную смерть
сильными словами, неоднократно заявляя, что при
определенных обстоятельствах самоубийство
простительно2. Нам же более истинной и лучшей кажется другая
мысль Цицерона: и тебе, и всем благочестивым людям
следует удерживать душу в темнице тела; она может
быть унесена только по велению того, кем дана. И
О средствах против превратностей судьбы 211
пусть тебе не кажется, что назначенный дар бежал от
тебя, ведь и для тебя звучит с неба следующее: «Если
тот Бог, храмом которого является все, что ты видишь,
не освободит тебя от этих темниц тела, не откроется
для тебя вход сюда. Остерегайся при любых тяготах
жизни думать, что тебе позволено ускорить смерть; и
при любых радостях не забывай, что смерть в любую
минуту может низвергнуть беспечную душу».
CXVHI. О СТРАХЕ СМЕРТИ
Страх: Я боюсь умереть.
Разум: Бояться не следует, но поразмышлять об
этом нужно: ты бездумно прожил жизнь, если страх
появился недавно, а не живет в тебе с раннего детства,
если он нападает на тебя по временам, а не
присутствует постоянно. До мозга костей должны внедриться в
душу вот эти очень поучительные строки Флакка:
Среди надежд и забот, среди гнева и страхов
Всякий день для тебя крайним может явиться1.
Надо стремиться быть похожим на того, о ком
Гораций же в другом месте сказал так:
Тот лишь
Жизни рад, кто может сказать при всех:
«Сей день я прожил! Завтра — тучей
Пусть занимает Юпитер небо
Иль ясным солнцем»2.
Немногим дано жить так, словно каждый день —
последний, хотя многие философы именно к этому
призывают.
Страх: Я боюсь умереть.
Разум: Тогда ты должен испытывать страх и перед
рождением, и перед жизнью. Ведь вступление в жизнь
есть начало смерти; жизнь сама — путь к смерти, или
еще точнее — некая смерть; ты идешь к смерти
каждый день, или, как мудрецы полагают, ты умираешь с
каждым часом. Чего же именно теперь бояться, если
смерть постоянно или сопровождала твою жизнь, или
212 Франческо Петрарка
шла за ней следом? Первое понимают ученые люди,
второе — даже толпа. Все, что родится, умрет; все, что
умирает, имело начало.
Страх: Я боюсь умереть.
Разум: Ты, разумное животное, будучи смертным,
боишься умереть. А ведь если ты обладаешь первым
свойством, т.е. разумен, второго, насколько я
понимаю, ты не должен бояться. Ведь человеческую
природу создают два главные свойства, связанные воедино:
разум и смертность. Первый — свойство души, вторая —
тела. Страх смерти порожден недостатком разума.
Страх: Я боюсь смерти.
Разум: Не следует бояться ничего, что происходит
по законам природы. Тот, кто ненавидит естественное
или боится его, несомненно, ненавидит или боится
саму природу; разве только будет позволено одну часть
этой природы любить и восхвалять, а другую —
отвергать и осуждать. Но ничего нет хуже этого не только
по отношению к Богу, но и в отношениях между
людьми. У природы, так же как у друга, или все
принимается, или все отвергается: если же ты будешь
принимать только приятное, то окажешься этой дружбы
недостоин.
Страх: Я страшусь смерти.
Разум: Если в смерти есть что-то дурное, то оно
усиливается этим страхом. Если же в ней дурного нет,
сам страх — большое зло. Глупо зло увеличивать, еще
глупее — сотворять.
Страх: Я ужасаюсь, когда слышу само слово
«смерть».
Разум: Слабость смертного делает это слово
ужасным. Если в душе есть хоть какая-то сила, ничего
более ужасного не будет для нее в смерти, чем в прочих
вещах, которые случаются по законам прирды. Почему
ты больше боишься умереть, чем родиться, расти,
стареть, испытывать голод, жажду, бодрствовать,
засыпать? Последнее особенно схоже со смертью. Не
случайно одни называют сон явлением, родственным
смерти, другие — образом смерти. Можешь счесть это
поэтической метафорой, можешь — философским вы-
О средствах против превратностей судьбы 213
оказыванием, но сама Истина сказала, что сон — друг
смерти: так почему же ты однажды должен убояться
того, чем наслаждаешься еженощно? Ученые люди
удивляются такой несообразности и порицают ее.
Страх: Эти три сравнения есть у философов, они
общеизвестны и радуют, когда находят отклик в душе
человека, но замолчи — и вновь возвращается страх.
Разум: Он так и оставался, ведь если бы его не
было, он не вернулся бы. Я не отрицаю^ в душах
толпы есть врожденный страх смерти. Но просвещенному
мужу стыдно мыслить так же, как толпе; ему
приличнее следовать немногим.
Я не перестаю удивляться тому, что вы презираете
советы философов относительно образа жизни, хотя
прислушиваетесь к советам моряков о плавании,
пахарей — о севе, военачальников — о войне. Заботясь о
здоровье тела, вы обращаетесь к медикам, но не
прибегаете к философам в заботах о душе. А ведь кто, как
не истинные философы — врачеватели душ и
наставники жизни. Я говорю именно об истинных, потому
что наш век, лишенный настоящих мужей, в изобилии
породил философов только по имени: не только их
советов, но и самих их нужно бежать, поскольку
бесстыднее и пошлее никого нет. От нынешних
философов ты ничего не получишь, кроме чистого вздора!, а
вот если обратишься к прежним, то многое найдешь
для облегчения твоей болезни, и тогда не будешь
повторять то, что говорят неучи.
Я предостерегу тебя вместе с Цицероном: я боюсь, что
ты будешь действовать через посредников. И
действительно, где же лучше всего ловить рыбу и охотиться, если
не там, где обитают рыбы и звери, — в водах и лесных
чащах; где лучше всего добывать золото, собирать
драгоценные камни, если не там, где они родятся, — то есть в
землях, на морских побережьях, где они изобилуют? Где
взять товары, если не у купцов, где статуи и картины,
если не у скульпторов и художников? И от кого, если не от
философов, ты можешь искать философских советов?
Флакк объясняет в «Искусстве жизни», что часто
один так, другой иначе, иной слабее, иной сильнее бу-
214 Франческо Петрарка
дет влиять на души — в зависимости от известности
рассказчика и изящества стиля, такая добавляется
новизна к старому, такой свет к прежнему блеску, такая
прелесть к существующей красоте. Здесь я не буду
больше говорить об этом, да и в другом месте не собираюсь,
так как все уже ясно. Я не хочу, поскольку твой нрав
чужд высокомерия, чтобы ты пренебрег однажды
услышанным и, возможно, не понятым, как затасканным и
ставшим обычным от многократного повторения.
Страх: Я успокаиваюсь, чувствую, что ты
повернул меня в правильную сторону этими увещеваниями.
Давай пойдем дальше: ведь до сих пор я страшусь
смерти ничуть не меньше.
Разум: Есть некоторые вещи, которые при
рассуждении представляются более значительными, чем это
есть на самом деле: бывали многие устрашены на
расстоянии тем, что вблизи вызывало смех. Не стоит
доверять неопытным. Никто из тех, кто порицает смерть,
ничего не может сказать о ней достоверно. Ничего не
может сказать тот, кто ее претерпел, ничему нельзя
научиться от того, кого она постигла. Сколько ни
спрашивай отошедшего в мир иной, будет молчать тот,
кому известна истина дела; а болтать будут те, кому
неизвестна, и доказывать попусту то, чего не знают. С
одной стороны, самая открытая, а с другой — самая
тайная из всех вещей смерть. Тайное и
неопределенное внушает недоверие. Так стоит ли размышлять о
ней, или скорее следует думать о том, что принесет
душе радость, чем о том, что ее опечалит?
Страх: Душа боится смерти.
Разум: Если своей — совершенно напрасный
страх: она же бессмертна, если же боится за тело, то
подобает ли благочестивому человеку проявлять заботу
в отношении врага? Если душа боится оторваться от
тела, значит, слишком сильно любит свои кандалы и
свою тюрьму. А эта любовь глупа.
Страх: Меня тревожит страх смерти.
Разум: Боятся умереть только глупцы. Я не
удивляюсь этому, потому что для них в телесном все
счастье, а смерть несомненно губит тело. Поэтому они
О средствах против превратностей судьбы 215
вправе думать^ что со смертью тела наступает конец их
блага, и от того печалятся. Природе человека
свойственно не хотеть быть несчастным. Ученый муж должен
заботиться о теле не больше, чем о презренном слуге, а
все заботы, всю любовь, все желание должен направить
на воспитание души. В смерти тела надлежит видеть не
что иное, как своевременный уход из некоего
неприятного и совершенно тягостного ночного пристанища.
Страх: Не могу не бояться смерти.
Разум: Ты мог бы не бояться конца этой жизни,
если бы надеялся на ту и желал ее прихода. Много
находится причин бояться ухода из этой жизни, но все
они исчезают перед надеждой на предстоящую
будущую жизнь.
Страх: Я боюсь смерти.
Разум: Страх рождается, во-первых, видом
смерти, во-вторых, мыслью о ее неизбежности. Для
ученого и мудрого, а особенно старого человека этот страх
позорен; ведь для действительно ученого и поистине
мудрого вся жизнь — подготовка к смерти. Если это
было очевидно античной философии, то что же может
увидеть теперь новое благочестие, которое есть
высшая философия и истинная мудрость.
Представь себе тех, кому будет внезапно приказано
собраться в долгий путь. Они взволнуются и
опечалятся, начнут сетовать, что им не было сказано об этом
заранее, и разинув рты глядеть на узлы, которые им
нужно собрать, и выйдут в дорогу в полном
негодовании. И конечно, часто оглядываясь, будут жаловаться,
что забыли то одно, то другое.
Так не таким ли долгим путем является дорога к
смерти? Нет ее длиннее, нет тяжелее, нет темнее, нет
неопределеннее, нет неизвестнее и опаснее. И
поскольку путники будут всего лишены, а дорога
невозвратна, нужно очень тщательно предвидеть все и
ничего не забыть; для ушедших туда не будет
возможности, как для обычных путников, поручить друзьям или
написать о том, чтобы им передали забытое: путь
таков, что ни возвратить что-нибудь, ни взять, ни
вернуться возможности нет. Но путь неизбежен, возвра-
216 Франческо Петрарка
щение невозможно, идти туда необходимо. Путники
эти — воины, идущие туда, откуда нет возврата. У
Сенеки римский полководец говорит своим воинам:
Это приказывает вам вождь ваш.
Итак, когда надлежит идти [туда], откуда
невозможно возвратиться, и когда неизбежность этого пути
станет ясна, а неизвестен лишь час смерти, одно есть
средство: быть в душе готовым всегда, и когда вас
призовут — должно отвечать, прикажут —
повиноваться, назначает же путь каждому власть вождя. Лучше
охотно сделать то, что все равно предстоит совершить
всем вам, и веселым, и печальным. Это обстоятельство
в наибольшей степени уменьшает и страх смерти, и
скорбь; оно сделает вас не только бесстрашными, но и
жаждущими отсюда уйти. Не то смерть придет
неожиданно, когда еще не будешь к ней готов. Цицерон
очень верно предрекал подобное в письме к Бруту:
«Поверь мне, Брут, — писал он, — вы будете
захвачены врасплох, если не приготовитесь заранее».
Повторяю, именно так случится у любого, так выйдет у всех,
кто не предвидит того, что придет.
И если во всех делах необходимо предвидение, то в
этих — более всего, ибо они случаются только
однажды. В них достаточно одной ошибки, и, куда бы ни
скользнула нога, шаг сделан безвозвратно.
Страх: Даже теперь я сильно страшусь смерти.
Разум: Нелегко вырвать то, что глубоко
укоренилось. Я уже говорил, что знаю: страх смерти
внушенное чувство, прежде всего — у толпы. Однако
философы смерть не причисляют ни к добру, ни к злу, саму
по себе ее не должно бояться, не нужно и желать. Они
полагают, что смерть становится добром или злом в
зависимости от обстоятельств. А это одобряется даже
тем из ваших, который полагает, что смерть — самая
сладостная вещь для святых, самая худшая — для
грешников.
Страх: Смерти я боюсь, смерть я ненавижу.
Разум: Я бы удивлялся, откуда этот страх у
смертных, откуда эта ненависть, если бы не была известна
О средствах против превратностей судьбы 217
изнеженность души; и вы, подумать только, еще
усиливаете ложный страх и вскармливаете ужасы. Разве
ты не замечаешь, как большая часть смертных
ужасается, услышав само слово «смерть»? А ужасаться этому
значит ужасаться собственной природе и ненавидеть
то, что тебе присуще. Ничего нет глупее в людях,
ничего нет неблагодарнее в отношении к Богу. Как
много людей с болью слышат слово «смерть», в то время
как его нужно постоянно воспринимать внутренним
слухом. Разве хоть один может избежать смерти? И
тот, кто способен понять* кто он таков, разве не
скажет о себе, что он — смертное животное? Каждый
должен постоянно к себе прислушиваться: не идет ли
к нему смерть в эту минуту. Но вы бежите этого слова,
будто смерть входит в вас через уши, и душу
отворачиваете, и надеетесь забыть то, чего нельзя забыть,
хотите вы того или нет.
Вы отказываетесь размышлять о смерти, а она
между тем в любой момент может наступить, и тогда
придется о ней думать и ее перенести. И если
размышление предшествовало, то претерпеть ее легче. Иначе
одновременно придется и думать, и претерпевать в
бедственных обстоятельствах. А всякая неожиданность и
внезапность душу потрясает. В равной мере глупо или
напрасно чего-либо домогаться или пытаться избежать
того, что неизбежно; и чем гибельнее будущее, тем
глупее попытка исполнить и то и другое. Среди
человеческих зол ничего нет страшнее, чем забвение Бога,
себя самого и смерти. Эти три вещи так между собой
связаны, что едва ли возможно их разделение. Вы же
хотите помнить себя самих, не помня ни начала ни конца.
Посмотрите на тех, которые рассуждают о своих
делах; среди ^их едва ли найдется такой, кто осмелится
сказать: «Когда я умру», но: «Если я умру». Словно
сомневается в том, несомненнее чего нет. И даже не
говорится «если я умру», но — «если со мной что-то
случится». А разве может случиться что-либо иное, что
со всеми было или будет, со всеми, кто уже родился
или когда-либо родится? Они будут жить и умирать
по-разному, но сама неизбежность смерти останется
218 . Франческо Петрарка
той же самой. А ты хочешь избежать этой
неизбежности, которой не избежали ни твои предки, ни вожди
племен и вообще никто.
Откройте шире глаза и не будьте похожи на тех, кто
при виде вражеских мечей закрывает их и считает, что
так опасность минет его. С закрытыми глазами или с
открытыми, вы все равно будете поражены мечом.
Стремитесь хорошо умереть, а это стремление
окажется напрасным, если вы не будете хорошо жить;
старайтесь изо всех сил, что в вас есть, действуйте.
Остальное вверьте тому, кто дал вам жизнь, хотя вы его
об этом и не просили. Он даст руку и уходящим из
нее, если вы его призовете и попросите. И не лелейте
желания не умирать. Оно бесстыдно, высокомерно,
бесполезно, безумно. Свыкнитесь, о смертные, с
законами природы и подчините выи неотвратимому ярму. И
если вы любите вас самих, любите то, что вам
свойственно, и не желайте того, что несвойственно. Нужно, чтобы
не природа вас, но вы ее слушались и ей подчинялись.
Страх: Долго и напрасно я пытаюсь изгнать страх
смерти,
Разум: Я удивляюсь, что столь долго ты тщетно
делаешь то, к чему тебя должно привести давнее
размышление. Позорно же из-за столь краткой опасности
(если смерть является опасностью, а не свойством
природы), повторяю, мужу позорно претерпевать столь
долгий страх и проводить так много тревожных и
наполненных трепетным ожиданием лет из-за длящегося
одно мгновенье критического положения, из-за одного
часа или одного вздоха. Не хочешь ли обрести самого
сильного средства против этого зла, не хочешь ли
освободиться от постоянного страха смерти? Так вот,
хорошо живи. Похвальная жизнь презирает смерть, а
часто, даже желает ее. Самое ужасное, если тяготы,
скорбь, неудачи, бесславие, тюрьма, изгнание, рабство,
потери, война, сиротство, бедность, старость, болезнь и
смерть будут для сильных мужей чем-то иным, кроме
школы опыта, плаца выносливости, стадиона славы.
ИНВЕКТИВЫ ПРОТИВ ВРАЧА
КНИГА I
Кто бы ни был ты, разбудивший спящего льва и
заставивший взять в руки лежавшее праздно перо, ты
поймешь, что одно дело поносить шелудивым языком
чужую славу и совсем другое — напрягать мозги для
защиты своей1. Правда, наш с тобой бой неравен:
меня есть куда ударить, тебя — нет. Кому известно твое
имя, жалкий наемник и безвестный ремесленник? А
ведь весь бой идет не за богатство или власть, а за
славное имя. Стоит ли напоминать, что ты обойден
славой, что называется, гол как сокол? Я бы никогда
не начал этого разговора, если бы ты меня не
вынудил. Можно бы ответить презрительным молчанием,
да, боюсь, ты о себе многое возомнишь. Потому
берусь отвечать и заранее прошу прошения — не у тебя,
у читателя — за возможные резкости, мало присущие
мне обычно. Ведь ты говоришь столько глупостей, что
отвечающий на них может показаться еще глупее.
Начну с того, что твое письмо заставило меня
смеяться до слез. Ты исхитрился доказать совсем не то,
что хотел, и, выйдя из своих пределов, тотчас
заблудился в чужих, да не один, а с толпой доверчивых
простаков, не ведающих опасности и не знающих, что
вместо долгожданных плодов исцеления в их руки
попали жалкие цветочки бесполезных слов, в то время
как нужно действовать, а не говорить. Сколько тяжко-
220 Франческо Петрарка
го труда и скольких мук тебе стоило твое напыщенное,
чванливое, бранное, однако совершенно
бессодержательное послание! Но так у вас заведено: подходить к
истине только с руганью. Чем ты сразу показал и цену
себе. Не будь ты самым хуцшим и самым бесчестным из
всех, ты бы, по моему разумению, еще мог бы надеяться
на участие в консилиуме относительно понтифика2.
Только одному выпадает подобная доля, но признак
благородного характера — стремиться стать этим
одним. В случае успеха наградой будет исполнение
достойного желания, при противоположном исходе —
похвала за стремление. Насколько я помню, я осуждаю
не ваше ремесло, а ремесленников, и притом не всех,
а лишь самых надоедливых и непоследовательных.
Удивительно, что и ты, знающий себе цену, и другие
восприняли это так болезненно и воспылали таким
гневом. В чем тут дело? Ни Платон и Аристотель, ни
Гомер и Вергилий, ни Цицерон и Демосфен никогда
не раздражались, если за вялость ума ругали
философов, за неискусность поэзии корили поэтов, за
нестройность речи осуждали ораторов. А разбрани
негодных и невежественных врачей — тут же все до одного
начинают бесноваться и скрежетать зубами.
Коротенькое письмецо обнаружило неведомые раньше и
изумляющие меня вещи. Может, у каждого рыльце в
пушку? Прискорбно, если это так, но надеюсь встретить
хотя бы одного из врачей, который полностью одобрит
все, мною сказанное и еще не сказанное, и найдет,
как свойственно большим умам, славу в несхожести с
другими, и порадуется, что он похож на немногих и
непохож на mhoitoc. Если бы я не верил в это, я бы и
не советовал выбирать одного из многих, вьщеляющихся,
повторю свои слова, не красцоречием, а знаниями и
добросовестностью. И я бы удивлялся твоим нападкам,
вызванным этим советом, если бы не знал о твоем
невежестве и неуверенности в себе. Ведь даже самые
ученые из вашего сословия, как я позже узнал,
говорили, что лечение больного лучше поручать одному
опытному врачу, редко допускающему ошибки, чтобы,
Инвективы против врача 221
ища совета многих, он не стал жертвой многих
ошибок. Нет сомнения, что тебя таковым не признают,
иначе ты не стал бы излагать свои бессвязные мысли
человеку, бранящему неуверенных в себе и
невежественных врачей. Но ты решил, что камешки — в твой
огород, потому так громко и запротестовал.
Среди невнятного бормотания ты не постыдился
заявить; что я угодничаю перед понтификом. Я не
угодничал и не собираюсь угодничать ни перед каким,
даже всем известным лицом, разве только перед
пренебрегающим всем, кроме доблести и славы. Ничто не
заставит меня стать иным, чем я был едва не с
пеленок. Спроси того самого, о ком идет речь, как часто
он предлагал мне такое* осчем ты, ненасытно
жаждущий многого, не осмелился бы и мечтать, а я
отказывался от всего из-за любви к свободе, блага, тобой не
испытанного и тебе неведомого3. Итак, перестань
переносить свою заразу и порок суетности на здоровых
людей. Это ты подлиза и прилипала, ты самый
отвратительный из льстецов, причем не только перед
понтификом, но и перед последним бедняком, если от
него можно хоть чем-то поживиться. Я же привык искать
благоволения у цветущих лесов и уединенных холмов
и стремлюсь только к познанию и славным деяниям.
Скорей не сочинением, а презрительным смехом
стоило ответить на твои слова и мучительные потуги
вырваться из крепких сетей истины. Ты заявляешь, что
я из-за зависти не называю твоего славного имени и
написал письмо лишь ради очернения тебя и твоего
стада. Несчастный, можно ли тебе позавидовать? Да не
приведи Господи! Кто завидует несчастному, сам
вдвойне несчастен. Я стремлюсь лишить тебя
известности, которой у тебя и не бывало? Не бойся, звони о
ней хоть по всему белому свету! Что касается опасения
потерять славу, то, идя без клади, поет и разбойников
встретивший путник4. Тебе могут отрезать нос,
выколоть глаза, но славы, которой нет, не отнимут.
Нет ничего несноснее высокомерного человека,
потерявшего стыд: он готов отрицать любые слова. Что
искать стыда у блудницы? Вот ты заявляешь о посто-
222 Франческо Петрарка
янном согласии врачей между собой, хотя весь
человеческий род жалуется на их разногласия. Если бы было
по-твоему! Я хотел бы обманываться, хотя в таком
деле обмануться трудно; я предпочел бы ошибиться
один, лишь бы были здоровы все, чем знать точно, что
тысячи людей подвергают себя опасности, отдавая в
руки ненадежных и говорящих разное врачей. Ты,
ясное дело, уверяешь, что при недавнем лечении
понтифика все врачи были единодушны; ты можешь врать,
сколько влезет, поскольку это у вас дело привычное,
но смотри, все тайное становится явным, да еще при
стольких свидетелях. К согласию вы пришли только
после его выздоровления, а оно случилось бы гораздо
быстрее, если бы ты на время его болезни уехал на
отдаленные берега Инда или Ганга. В этом ни у него
самого, ни у других сомнений нет. Страшно подумать,
но, если бы наместйик бессмертного Бога, но
смертный сам, отдал дань природе, сколько бесполезных
споров поднялось бы у вас о пульсе, слизи,
критическом дне, лекарствах! Ваши крики разносились бы от
земли до неба, но причина болезни так и не была бы
ясна. Несчастны те, кому приходится к вам
обращаться! Понтифик обязан своим исцелением Христу,
всеобщему целителю, а не вашему невежеству. Да исцелит
его Христос и впредь, сколько потребуется ему и
церкви, главой которой он является. Его подняло на ноги
Божье благодеяние да прирожденная крепость, а вы
приписали это себе и теперь, лукавые люди, приходите
к единому мнению, чтобы ученейший падре, знающий
или предугадывающий— не скажу все, как ты, льстец,
говоришь, лебезя перед ним, но — многое, не
почувствовал ваших разногласий, не стал бы вас презирать и
ненавидеть и не отставил бы от себя подальше таких
ненадежных проводников ìio полной опасности жизни.
Поверь мне: на ввду у птиц ловушек не расставляют.
Понтифик не обманывается в отношении вас и скорее ю-за
ложного чувства неловкости поддается общему обычаю
обращаться к врачам, чем из-за незнания, что нельзя верить
вашей болтовне и что поддаваться ей еще опаснее, чем
болтаться в море при шторме без руля и без ветрил.
Инвективы против врача 223
Я же меньше всего удивлен твоей раздраженности,
поскольку прекрасно помню слова сатирика:
Кто правду скажет, доносчиком станет5.
Или близкие к ним слова комического поэта:
Податливость родит друзей, а правда — ненависть6.
Это и вообще верно, а особенно часто случается
среди тех, кто живет во лжи. И еще меня удивляет,
отчего твой гнев перерастает в бешенство и ярость?
Лично тебе я ничего не писал, да и сейчас пишу без охоты
и без всякой надежды на понимание. Писал я,
движимый опасениями и благоговением, римскому
понтифику, страдавшему в то время от тяжкого недуга.
Насколько я понимаю, это краткое письмецо оказалось
для него полезным, а для тебя не особенно, поскольку
я убеждал его больше всего опасаться толпы
несогласных между собой врачей, да и одного врача тоже, если
в нем меньше знаний, чем пустого красноречия; а
таких врачей в наше время великое множество. При
всем твоем негодовании я не собираюсь раскаиваться
в своем совете, не думаю, что меня следует побить
камнями только потому, что я дал надежный совет, пусть
и непрошенный, человеку, которому все мы,
гордящиеся званием христиан, обязаны не только советом,
но покорностью и послушанием. По-хорошему ты не
мне, тебе ничего не писавшему, должен отвечать, а
написать ему самому; может, и задурманил бы его
своим ароматным врачебным красноречием настолько,
что он вверил бы тебе и себя самого, и свои дела и
надеялся, что его жизнь и здоровье находятся в
надежных руках, а меня и мне подобных бежал бы как чумы,
называй меня хоть поэтом, хоть как-то по-другому.
Поскольку ты себе все позволяешь, ты из-за
ненависти ко мне, а еще больше к истине нападаешь на ни в
чем неповинных поэтов. Ведь по этому поводу я ни
строчки не написал в стихах; это ясно по стилю
всякому, кто в своем уме. Может, за твое бесстыдство й
стоило бы сказать о тебе в стихах, опозоривши тем
самым навеки, да не хочется руки марать и делать тебя
224 Франческо Петрарка
известным потомкам, да еще и место давать в моих
опусах.
Но что слепому до красок, что глухому до звуков?
Прошу тебя, занимайся своим ремеслом; можешь —
исцеляй, нет — убивай и не забудь при этом
потребовать плату. Род человеческий по слепоте своей
позволяет тебе, властелину над жизнью и смертью, как ты
хвастливо себя называешь, то, что запретно даже
императорам и королям. Пользуйся страшной
привилегией! Ты нашел самое лучшее и самое безопасное
ремесло: тот, кто поправится, обязан жизнью тебе, тому, кто
умрет, ты не обязан ничем, кроме опыта; вина за
смерть — всегда на природе или на больном, жизнь —
всегда подарок от тебя. Как не вспомнить слова
Сократа, сказанного по поводу живописца, ставшего
врачом: «Будьте осторожны; он оставил ремесло, в
котором ошибки на виду, и занялся таким, в котором их
скрывает земля»7. Думаю, ты ни на чем не
остановишься, если с неслыханным кощунством подчиняешь
риторику медицине, то есть госпожу — служанке,
свободное искусство — ремеслу8. А может, к этой
безумной мысли ты пришел потому, что увидел, как в наше
время бесчестнейшие люди по воле рока правят
лучшими, и решил, что подобные порядки можно
принести и в искусства? Если бы подобная мысль тебе,
действительно, пришла в голову, то ее нельзя было бы
назвать сорсем тупой и ослиной. Но здесь фортуна не
властна. Она может позволить править Неронам и
Калигулам, процветать в своем отечестве Дионисиям и
Фаларисам9, бродить по ливийским зачумленным
пескам Катону, умереть в тюрьме Регулу, в бедности —
Фабрицию, в ловушке — Марцеллу, в изгнании —
Сципиону!0. Она может позволить себе многое вроде
этого, но подчинить риторику медицине — не в ее власти.
Но что это я? А вдруг придется изменить мнение и
согласиться, что фортуна имеет власть и над
искусствами? Ведь будь по-другому, ты бы при своем
невежестве не чувствовал себя столь же уверенно в
завтрашнем дне, сколь неуверенно идут к нему нищие ученые
Инвективы против врача 225
мужи. Правда, это скорей судьба людей искусств, чем
самих искусств.
Ты не можешь объяснить мне одну вещь: если тебе
кажется, что на свете все перепутано и потому можно
перепутать искусства, сделав свободные рабами
ремесленных, хотя даже названия препятствуют этому, то
почему служанкой медицины ты сделал именно
риторику, а, например, не мореходство? Некоторые,
скажем, называли Мореходное искусство своего рода
риторикой, точнее, риторикой ремесленных искусств —
ведь у кого в подчинении торговля, должен быть очень
красноречивым, ради безопасности, при знакомстве с
новыми побережьями или народами. Потому-то и само
имя Меркурия, бога торговли, выводили из слов
«mercatorum kyrios», то есть «господин купцов»11. Если
это так, то вернее сделать риторику служанкой
мореходного искусства, смотришь, ей было бы и полегче
из-за большего сходства. Но твое невежество и слепота
затуманенного ума не позволяют додуматься даже до
этого. Боюсь, смехотворный моралист, что в своих
очередных писаниях ты прикажешь подчинить
грамматику ткацкому делу, а диалектику — военному. Думаю,
ты не ведаешь сомнений, коли заявляешь, будто я,
задев врачей, божественное и небесное сословие,
возвысил голос против неба, когда ты не побоялся раскрыть
свой нечистый рот на Плиния Старшего, самого
выдающегося из ученых людей своего времени12. Такого
мнения о нем были многие, в том, числе и врач Гален,
его современник, если мне память не изменяет, и тоже
муж не без учености, только уж очень богатый
неучеными и болтливыми преемниками13.
Что же это за безумие? Что за страсть? Удар,
полученный от пехотинца, ты возвращаешь ни в чем
неповинному всаднику; тебя оскорбили прозой, а ты
вымещаешь гнев на поэтах, словно все, что тебе неведомо,
является поэтическим. Если это так, то что же оставим
вне поэзии? Трудно поверить, что ты не совсем
невежда, когда ты так по-детски силился выразить вполне
вздорные идеи. Боже милостивый, какое безумие! Ка-
К - 2Ч5К
226 Франческо Петрарка
кой бред! Ты наскакиваешь на поэзию, которую и в
глаза не видал; восхваляешь медицину, которую и я не
осуждаю, да и кто в здравом уме и трезвой памяти
решится это делать? Я знаю, что это искусство не
бесполезное. Нашими латинянами оно было принято
поздно, однако скоро обрело большой почет и даже, как
утверждают, было объявлено изобретением
бессмертных богов: настолько оно казалось великим, что не
могло считаться человеческим изобретением14. Это
мнение подтверждает в Экклезиасте и еще более
заслуживающий доверия автор: «Господь создал из земли
врачества»15. Впрочем, подобное можно сказать
вообще обо всем: все, что мы узнали, все, что мы познаем,
все, в чем мы мудры, — это божественное изобретение
и дар Божий; и в начале той же книги написано:
«Всякая премудрость — от Господа Бога»16.
А чтобы ты не ублаготворял себя похвалой только
твоему ремеслу, послушай написанное в той же книге
о другом ремесле, земледелии: «Не отвращайся от
трудной работы и от земледелия: которое сотворено
Всевышним»17. Чем же ты превосходишь живущего
рядом земледельца? И твое ремесло, и его происходят из
одного источника, оба созданы Всевышним. Мало
того, сравнение тебя и земледельца оборачивается не в
твою пользу, он поддерживает человеческую жизнь, а
ты на нее покушаешься, хотя уверяешь в противном;
он своим трудом помогает человеческому роду, а ты
своим бездействием ему вредишь; он, нагой и
голодный, в молчании готовит в полях народную сытость,
а ты, разодетый и сытый, своей болтовней разрушаешь
в покоях народное здоровье.
Есть и еще одно расхождение между вами: ты
считаешь результаты врачебного лечения достойными
удивдения. Какие, скажи на милость, результаты?
Может, те, что вы сами болео*е,]чаще других, если не
беспрестанно? Ваши лица в любой толпе выделяются
бледностью, ставшей поговоркой: «лицом, что врач»,
— говорят при виде бледного чахоточного человека.
Великое ли чудо обещать другим то, чего нет у самого
себя? Это можно было бы принять за чудо, если бы
Инвективы против врача 227
веру в него не подрывали ваши лживые уверения. А
самый чудесный результат в том, что поверивший
вашему совету навсегда распрощается со здоровьем. По1
добные результаты врачебных вмешательств не просто
чудесны, но прямо-таки ошеломительны, правда,
достигают их не все врачи, но все же многие, и ты
первый среди них.
Думаю, Гиппократ был мужем весьма ученым18;
думаю, что и Гален, опираясь на него, внес много
нового в медицину. Я не черню знаменитых людей и не
собираюсь тебе, объединившему меня с Плинием, дабы
умалить мои заслуги, в этом уподобляться. Кстати,
Плиния я тебе посоветовал бы прочитать: если бы ты
его понял и его взглядом посмотрел на себя, то увидел
бы свое уродство и начал избавляться либо от него,
либо от надменности. Но боюсь, ты бы принял его за
грека, хотя Макробий причисляет его к редким
вдохновителям латинского красноречия19. Твои письма
выказывают тебя высокомерным и невежественным; из-
за высокомерия ты ничему не учишься, из-за
невежества ничего не знаешь. Что за бред ты несешь об этом
великом муже? По-твоему, все, что он имеет верного,
он воспринял от древних врачей, а вот от кого ты
научился такой лжи, ты молчишь. Но что ты вновь
выпячиваешь свой возраст? Обычно им хвалятся
невежественные люди, состарившиеся в пороках и только в них
всех превзошедшие. Я бы не хотел уступать тебе даже
этого повода для хвастовства. Каждое твое слово
обнаруживает твое ничтожество, глупость, невежество.
Сочти года, и тогда выяснится, что Плиний жил
раньше почти всех тех врачей, которых ты
упоминаешь. Да, если бы они могли вернуться в этот мир, то
единодушно признали бы вас своими единственными
и злейшими врагами, сгубившими плоды их трудов и
бдений своей умственной тупостью, непролазной ленью
и наглой ложью, будто все древние врачи были лжецами.
Потрудись прочесть целиком упомянутое письмо,, и,
если я не покажусь тебе греком тоже, ты увидишь, что
оно лишь предупреждает владыку мир>а о
необходимости соблюдать осторожность; оно вызвало у тебя, уже
и*
228 Франнеско Петрарка
и не знаю, как бы тебя назвать поточнее, или, лучше
сказать, знаю, но притворюсь незнающим, сердечный
приступ и бешенство. Но все же перечитай его и тогда
ты обнаружишь, что в нем нет ни слова против
медицины как таковрй и против настоящих врачей, но
лишь против противников и врагов Гиппократа,
который меня только одобрил бы. А что делаешь ты?
Нападок на меня тебе мало, и ты, с присущей вам
любовью говорить о вещах чуждых и неизвестных, изрыга-
ешь еще больше проклятий на поэтов и поэзию. Ты,
верно, не читал написанное о поэтах ученейшим из
римлян Варроном или первым из римских писателей,
как бы тебя ни возмущала эта оценка, Цицероном?
Приведу его высказывания дословно, чтобы ты не
имел повода уличить меня в изменениях или
добавлениях: «От величайших и мудрейших людей мы знаем:
успех в прочих вещах зависит от науки, предписаний и
искусства; поэта создает сама природа, пробуждая
силы его ума и вдохновляя как бы каким-то
божественным дыханием. Оттого наш Энний по праву называет
поэтов святыми: они предстают перед нами, как будто
хранители некоего божественного дара. Пусть же,
судьи, у вас, самых человечных из людей, остается
священным имя поэта, которое никогда не осквернялось
даже варварами»20. Это Цицерон; у него много других
серьезных высказываний в подобном же духе, у других их
тоже не счесть, но я намеренно не упоминаю их имена,
чтобы они не гремели славой в твоих ушах. Высшая
слава для них именно то, что ты их не знаешь. И, значит, к
чему мои рассказы? Не выставлю ли я и себя на
посмешище, погоням осла лирой? Ты ответишь: «Я слушаю, но
ничего не понимаю» — и оскорбишь такой варварской
дикостью имя поэта, не известное тебе ни с какой
стороны, которое, как только что было сказано, никогда не
осквернялось даже варварами.
Раз уж к слову пришлось, я повторю тебе сказанное
мною недавно в присутствии многих и с их одобрения
одному человечку твоей профессии. Как-то он, по
вашему обычаю, скорее пищал, чем говорил нечто
против поэтов, причисляя к ним то Цицерона, то Плиния.
Инвективы против врача 229
Тогда я спросил у него, что же приносит поэту имя?
Он не смог ответить, и я тут же припомнил одну
маленькую, но интересную историю, сообщенную
большими писателями21, которую и хочу рассказать, если ты
способен слушать о чем-либо кроме твоих лихорадок.
Ганнибал, самый воинственный из мужей,
побежденный римлянами, бежал в Эфес к сирийскому царю
Антиоху2?. Тот принял его с большой радостью и
окружил большим почетом, видя в Ганнибале лучшего
советника относительно римлян, которых ненавидел
лютой ненавистью. При дворе в это время находился
некий Формион из школы перипатетиков, считавшийся
тогда блестящим знатоком наук. Ганнибалу
предложили его послушать, и тот охотно согласился, поскольку
слава об этом философе доходила и до его ушей.
Формион оказался старичком, не лишенным учености,
дерзким и многословным, как всякий грек. Он решил,
что в присутствии такого полководца уместнее всего
говорить на военную тему, и заладил многочасовую
речь о порядке ведения войска, боевом построении,
месте для лагеря, сигналах к наступлению и
отступлению, наконец, о том, на что следует обратить
внимание перед сражением, во время сражения и после
него. Когда он закончил, Ганнибала спросили, как ему
показался этот учитель мудрости. Тот ответил: «Много
я ввдел глупых и вьцкивших из ума старцев, но никто
из них не позабавил. меня так, как этот, столь
пространно рассуждавший о вещах, в которых ничего не
смыслит», Ганнибал весьма резко заклеймил
бесстыдную дерзость и Формиона, и иже с ним. Ведь вы тоже
рветесь обсуждать все на свете, забыв о своей
профессии, обязывающей вас разглядывать мочу и кое-что
похужеj о чем стыдно и говорить; это только вам не
стыдно по-петушиному наскакивать на тех, чья
обязанность — забота о доблестях!души. А потом о Фор-
мионе прекрасно написал Цицерон: «Можно ли
представить большее самомнение и болтливость, чем у
этого грека, никогда не видевшего лагеря и вообще не
имевшего понятия о государственных делах и реШив-
230 Франческо Петрарка
шего давать наставления в военном деле самому
Ганнибалу, победителю всех народов, столько лет
боровшемуся с римским народом за власть»23.
Впрочем, твой случай не совсем такой, как у Фор-
миона, и дает мне еще больше оснований насмехаться
над тобой, чем Ганнибалу над незадачливым греком.
Ведь тот говорил о вещах, известных ему из книг, пусть
и незнакомых из опыта, ты — о вещах, с которыми
незнаком ни теоретически, ни практически и которых
совершенно неспособен воспринимать твой ум.
Кстати, тот сварливый человечек, которому была
рассказана история, сильно разгневался, поскольку был уже
стариком и решил, что его упрекают в старческой
глупости. Я не очень представляю, сколько же лет тебе;
но из ума чаще всего выживают старики, а из них чаще
всего те, чьи молодые годы прошли в низменных заботах
и позорных занятиях. Твой ум ты показал сполна.
Слушая тебя, я понял, насколько ты охвачен
желанием укусить меня побольней, да оцепенел от
невежества и потому, словно больной аспид, не можешь
излить накопившийся яд, разве что добравшись до моей
пяты и напугав не столько укусом, сколько шипением.
Я имею в виду то место твоего опуса, где ты
вызываешь в свидетели против священных Пиэрвд Боэция
Северина и ради придания свидетельству большей
веры называешь его, пугливый спорщик, патрицием, как
будто бы речь идет о претуре или о консулате и как
будто бы в этом деле Боэцию нельзя предпочесть
многих других свидетелей, пусть они и не патриции24. Я не
стану отвергать свидетельств ни его, ни любого
другого достойного доверия человека, поскольку к
отысканию истины я допускаю всех, кроме ремесленников. А
что же Боэций? Перстом Философии он отстраняет от
забот о больном театральных блудниц и лицедеек.
Радуйся, славный воин: ты убил всю поэзию одним
ударом. Конечно, если бы ты представлял себе материи, о
которых взялся рассуждать, ты припомнил бы, что Муза
сцены, заклейменная Боэцием, не ценилась и среди
самих поэтов25. А ты, слепец, даже и не заметил
написанного рядом, хотя именно это место, не раскусив
Инвективы против врача 231
его, включил в свое письмо. Что там сказано? А вот
что: «Лечить и исцелять оставьте истинным Музам»26.
Он имеет в виду тех Муз, которыми гордятся поэты,
если они не перевелись, и которым они доверяют, и с
помощью которых научились помогать страждущим
душам, а не губить страждущие тела. Но глупое дело
говорить тебе об этом и ждать, что твой разжиженный
и слабый ум усвоит столь великие вещи. Кифара Ам-
фиона или Орфея не смогла бы растрогать такой
твердый камень или смягчить такую косматую варварскую
жестокость27. Поэтому ты с удивительным даже для
ремесленника и плебея безрассудством осуждаешь и
Муз, и всякого рода поэтические вымыслы, словно
они противники истины. А ведь на самом деле в этих
вымыслах угадывается намеренно скрытый от тебя и
тебе подобных сладчайший и приятнейший
аллегорический смысл; такими же аллегориями изобилует все
Священное Писание, над которым, не сомневаюсь, ты
смеешься в душе, хотел бы и вслух, да боишься
наказания. Поэтому я спокойно перенесу твои суетные
нападки на неизвестных тебе поэтов, принимая их за
добрый знак и в отношении себя. Что мне возмущаться
твоими нападками на меня, когда ты готов сделать это
против самого Христа, предпочтя ему Аверроэса, если
бы был уверен в безнаказанности?28 Ты не говоришь
об этом вслух, но знаешь, что правда на моей стороне,
хотя на словах ты кричишь об ином. Не будь страха
перед наказанием, ты захотел бы стать еретиком, как
сегодня хочешь казаться знающим.
Но вернусь к вымыслам, на которые ты нападал.
Послушай Лактанция, мужа, прославившегося знанием
поэтов и философов, цицероновским красноречием, и —
что самое важное — ревностного католика29. В первой
книге своих «Установлений» он пишет: «Не знают,
какова мера поэтической вольности и до каких пор
позволено идти в вымысле, когда обязанность поэта
состоит в том, чтобы представить истину с помощью
иносказательных образов в другом виде, с некоей
красотой; а изображать все так, как ты видишь, —
бессмысленно и скорее лживо, чем поэтично»30.
232 Франческо Петрарка
Проглоти язык, чудовище, ты же ничего подобного
никогда не слышал!
Оставляем ложь вам, в особенности самый тяжкий
вид лжи: сознательный и потому приносящий большой
вред доверчивым людям. Не веришь мне, спроси
народ, у которого уже вошли в поговорку слова: «Врешь,
как врач»; так говорят самому беззастенчивому лгуну.
Поэт (я не осмелился бы удостоить себя этим именем,
которое ты, безумец, бросил мне в лицо, пытаясь
обесславить меня) стремится под прекрасными
покровами скрыть истину вещей от лишенной вкуса толпы,
в которой ты стоишь позади всех, чтобы подарить
людям пытливым и способным радость находки после
трудных поисков. Впрочем, если ты убедил себя, как
бывает с неучами, клянущими все непонятное, что
обязанность поэта — лгать, то я, со своей стороны,
хотел бы убедить тебя в том, что ты — величайший поэт,
поскольку лжи у тебя больше, чем слов. Тебе
добровольно уступит место меонийский старец, уступит
побежденный Еврипид, уступит Марон, тебе достанется
опустевший Геликон, несорванные лавры, нетронутый
Кастальский источник31.
Но проснись, призываю, и пошире раскрой
воспаленные глаза, ты увидишь, что поэты рождаются
редко, поскольку природа вещей распорядилась так,
чтобы все дорогое и славное появлялось не часто. Ты
увидишь их, сияющих славой бессмертного имени,
созидающих эту славу не только для себя, но и для других:
ведь им дано заботиться о бессмертий имени
выдающихся людей и о поддержке доблести, конечно, не
самой по себе, а в борьбе со временем и забвением. А
себя самого и своих приверженцев ты увидишь голыми,
лишенными истинной славы и погрязшими во лжи.
Все это, повторю, сказано не против медицины и
не против замечательных врачей, которые и всегда
были редки, а в наше время особенно и которым нет
причины возмущаться, а против тебя и тебе подобных
безумцев. Возможно, кого-то удивит, что против
письма я написал целую книгу, но надо ли напоминать^
что рану легче причинить, чем залечить, и быстрее ос-
Инвективы против врача 233
корбить, чем ответить на оскорбление. Поэтому
защитительная речь Демосфена длиннее обвинительной
речи Эсхина и речь Цицерона больше, чем инвектива
Саллюстия^.
Но довольно. Прочее оставим до другого случая. Не
мучай себя подозрениями, будто я, словно пчела,
оставил в ране жало вызывающего стиля и более чем
справедливого негодования. Проверь еще раз на опыте
разницу между умом и умом^ пером и iiepòta* если
вздумаешь. Я не хотел бы причинить лишние заботы тем, у
кого ты отнимаешь и деньги, и здоровье
одновременно, тратя время на непривычные споры и отвлекаясь
от своего дела ради этого смехотворного красноречия.
Впрочем, дело твое. Я же прибавлю в копилку своей
славы все, что ты пытался у меня5 Отнять. Если
стремишься к высокому, порою полезно не молчание, а
сопротивление тех, кого можно победить без ущерба
для себя.
Начал бы ты по-хорошему, и дождался бы
хорошего. А теперь получил то, что заслужил; обычно я так
не говорю. Помолчи немного и перевари сказанное, да
испроси у себя самого прощения за глупое поведение
и спор. С меня довольно, чего доброго, разболеешься
от такого разговора. В конце своего письма ты уж
совсем потерял чувство Меры, возвестив от имени
медицины о^ моей скорой смерти. Если медицина еще как-
то способна ее отдалить; то ты — совершенно никак, а
вот ускорить — за тобой дело нестанёт. Славное
ремесло досталось тебе, научив скорехонько избавлять
душу от бренного тела. Если бы медицина заговорила,
она выразила бы мне живейшую благодарность за
обличение нынешних бесславных медиков, запятнавших
ее древнюю славу недавними ошибками.
КНИГА II
Тебе есть за что благодарить меня: из безъязыкого и
немого ты стал и красноречивым, и остроумным. Ты и
не догадываешься, самый говорливый из Гиппократов,
234 Франческо Петрарка
сколь многим обязан моему перу. Вот ты стал
пописывать прозу; скоро возьмешься за стихи; уже начинаешь
бормоча сплетать гимны: превратишься в мальчика,
подающего большие надежды. Но сказать по правде,
тебе, глупый и невежественный старец, гораздо умнее
было бы молчать: не для того, чтобы казаться
философом, а чтобы по крайней мере скрыть свое
невежество. Если ты будешь молчать, то это еще можно как-то
сделать, а заговоришь — и оно сразу очевидно. Язык —
засов души: никто еще не стучал у входа, а ты,
неизвестно зачем, его отодвинул, распахнув при этом
мрачное и отвратительное жилище своей души. Пусть
бы оно было заперто навсегда. Разве что уже стало
трудно скрывать безумие?
Боюсь, тебе неизвестно такое высказывание: «Если
глупец будет молчать, он еще может сойти за мудреца
и сам не разожмет губ — за человека сведущего»1.
Недаром Сократ, увидев миловидного молчаливого
юношу, попросил: «Скажи что-нибудь, чтобы я мог
понять, кто ты»2. Он считал, что сущность человека
проявляется не столько в его внешности, сколько в речи.
Ты заговорил — и стало ясно, кто ты таков; теперь ты
можешь хоть тысячу раз промолчать — мы тебя видим.
Ты захотел открыться и стать посмешищем для
многих, хотя мог бы этого и не делать. Поэтому, могучий
оратор, радуйся, — ты не нуждаешься в посторонней
помощи. Тебя, хлопотливая мышь> не нужно
представлять, ты выдаешь себя своими собственными речами,
и едкий дым твоего бессвязного красноречия далеко
расползается.
О забавное животное, ты еще и книгу пишешь, а
если воспользоваться твоим профессиональным
языком — пачкаешь покрывала липкой мазью. Там, в
твоей профессии, ты привык говорить о смерти
несчастных больных намеками и добавлять иноземные
окончания с корнями наших слов, чтобы выдать дешевое за
доброе и смелей обманывать. А здесь ты хочешь
показать, что исследуешь философские вопросы, хотя, по-
моему, пишешь о никчемных пустяках. Но чтобы эти
пустяки казались книгой, ты, ловкий автор, делишь их
Инвективы против врача 235
на главы. Возможно, ты добьешься своего: лавочники
скажут, что ты написал книгу. Тогда почему бы мне не
начать усердно взывать: спешите, философы; спешите,
поэты; спешите, школяры, спешите, все, кто когда-
нибудь пытался писать книги! Вот смотрите: книги
пишет ремесленник, в полном соответствии со словами
еврейского мудреца: «Составлять много книг — конца
не будет»3.
Что же это будет, если повсюду ремесленники
начнут хвататься за перо? Дойдет до того, что начнут
писать и быки, и камни; так и нильского папируса не
хватит. Если у вас есть хоть капля стыда, оставьте
бумагу литераторам. И если уж вас съедает желание
славы, пишите на ветре и на воде — так ваша слава
быстрей дойдет до потомков4. Впрочем, на что я жалуюсь?
Зачем высказываюсь? О чем говорю? Перестаньте —
прошу — вы, искусно изготавливающие бумагу или
превращающие шкуры животных в тонкий пергамен:
появляется нечестивое и опасное чудовище, которое должно
пройти обряд очищения с помощью этрусских святынь.
Что мы удивляемся двухголовому или четырехголо-
вому ребенку? Почему нас приводит в изумление
известие, что мулица произвела потомство или храм
Юпитера поражен молнией; почему мы поражаемся,
видя сияние под облаками? Почему нас поражает
море, пылающее от извержений Этны, и кровавые
потоки, и каменный дождь или что-то в этом роде,
описанное в анналах древних авторов? Чудеса бывают и в
наше время: ремесленник намолачивает книги. Любой
человек простит Росцию книгу об актерском
искусстве5. Этот Росций тоже был ремесленником, но
выдающимся, и заслужил не только признание самых
великих военачальников, но и дружбу Цицерона. Он
услаждал взоры, а наш ремесленник бьет по ушам, он делал то,
что нравилось всем, наш — то, что не нравится никому.
Никто не станет возмущаться тем, что знаток
кулинарии Апиций облек в литературную форму свою
науку*. Почему бы и не писать на кухне или в бане?
Название показывает, что есть соответствующие
темы. Или почему бы книгам не возникать среди пиров?
236 Франческо Петрарка
Возникают же они среди пробирок с мочой, для
прославления которой перо использует весьма цветистую
риторику, заимствованную у высоких искусств. Эта
риторика и народы смиряет, и в душах правителей
царствует, и у врачей в служанках находится. Спрошу
тебя, властелин философии и искусств: с каким
чувством и с каким рвением излагал бы в своих
многочисленных трудах учение о риторике Цицерон, если бы
знал, что она станет рабыней такого ума, как твой. Я
бы назвал ее даже не рабыней, а твоей лучшей
приятельницей; и если даже не знать, откуда она, об этом
скажет сама твоя речь, чрезмерно украшенная и более
сладкая, чем иблийский мед7.
Конечно, обязанность ораторского искусства —
«говорить для того, чтобы убедить высказыванием в
конце»8. Это известно любой риторической школе.
Всякий, кто тебя услышит хоть раз, тотчас поймет, с
каким искусством делаешь это ты, насколько удачно
завершаешь ты. Но об этом я скажу в своем месте; а
теперь нужно начать сначала. Пусть оправданием
многословия моей речи послужит чудовищность твоего
невежества. А об этом невежестве или вообще не стоит
говорить ничего, или, если уж возьмешься, то придется
сказать много.
В первой части книги ты рассказываешь о самом
себе: кто ты есть и каков ты. Уже это вызывает
настороженность. Ты понимал, что тебя не знает никто, и
по обычаю нотариусов решил сказать что-нибудь о
себе, чтобы заявить о своем авторитете как писателя.
«Кто я таков, — пишешь ты, — читатель узнает, если
прочтет это произведение с начала до конца».
О великий муж, ты скромничаешь: я узнал тебя,
едва взяв твою книжку в руки, причем таким, каким
узнавал и раньше. Но теперь ты обнаружил свою
сущность полностью и, как написано в псалме, «ты
обнажил ее от основания до верха»9.
Что же ты о себе говоришь? Каким себя
изображаешь? Давайте послушаем. «Я, — заявляешь ты, — врач».
Слышишь ли ты это, изобретатель медицины Аполлон,
или ты, последователь Аполлона Эскулап10? «Я также и
Инвективы против врача 237
философ». Ты слышишь эта, Пифагор11, первым
употребивший это слово? Рыдайте, изобретатели искусств:
осел, украсивший свою голову священной повязкой,
вторгается в ваши владения, не только горделиво
называя себя философом, но и философию своею. «Наша
философия», — говорит. Что же это такое, создатель? À
нам, живым, приходится выслушивать еще худшее. Да,
как мне кажется, мы уже близки к концу времен.
«И будут знамения в солнце и луне и звездах...»12 А
вот такого знамения Евангелие не знало: когда осел
начнет философствовать, небо обрушится. Каких же
слов ты от меня ждешь? Мне жаль философию, если
она твоя. Но я готов поклясться собственной жизнью,
что ты не знаешь, что значит быть философом. Чтобы
не сваливать все в одну кучу, я хотел бы сейчас
поговорить с тобой только об одной вещи. Прежде всего
должен сказать: в моих глазах ты не являешься
философом. А ведь какой вывод сделал для себя этот
дерзкий глупец? Что он, вооруженный этими искусствами,
может исцелять не столько болезни тела, сколько
пороки души! Придите сюда; болящие: избавление не
всегда приходит из Иудеи; есть спаситель полуварвар13.
И ты еще называешь, меня гордым! Перечитай еще
раз мои записи, которые заставили тебя бесноваться и
заставят умереть. Я никогда не называл философию
или поэзию моими; я называл себя человеком,
презирающим твои нравы и способности. Думаю, что об
этом мне говорить не только позволительно, но и
необходимо.
Августин скромно называл себя только учителем
риторики14. А ты называешь себя философом и
врачом, да еще и третий титул присваиваешь: знатока
риторики. Коли тебе нравятся титулы, можно добавить и
четвертый: ты большая и глубокая клоака, если
воспользоваться словами Сенеки15. Вот мой ответ на
первую часть твоего хвастливого произведения.
Вторая > часть твоего апологетического сочинения
относилась ко мне, и меня не удивляет, что ты
составил обо мне ошибочное представление. Чем же может
казаться тебе другой, когда ты себе кажешься филосо-
238 Франческо Петрарка
фом? Ведь ты заявил: «Я философ». Это столь же
истинно, как и то, что отсюда вытекает: ты такой же
философ, как я честолюбец, наглец и гордец. Не стану
спорить, у меня никогда не было близких связей с
народом, однако в душе я доверяю ему настолько, что не
откажусь иметь в качестве судьи. А разве я домогался
каких-то почестей и скорее не отвергал их, когда мне
их оказывали? Разве я когда-нибудь что-то себе
приписывал? Где я вел себя надменно? Об этом я кое-то
уже говорил и собираюсь продолжить.
Я хотел бы говорить с тобой не как с дерзким и
неприязненно настроенным противником, но как с
человеком, имеющим хотя бы малую каплю благоразумия
(признаюсь, в этом я не очень уверен). Буду говорить
о вещах, которые ты вряд ли сможешь понять,
поскольку видеть различия в сходных понятиях трудно
даже людям ученым, не то что невеждам. Но
попытаюсь излагать свои мысли проще, чем это обычно
делается, и если ты не поймешь их, то вини свой ум, а не
мой язык.
Слушай же: человеку надменному; всякая уверенность
представляется надменностью; мудрый человек вццит
между указанными понятиями разницу и спокойно
отличит, что стоит за этими словами или поступками.
Достаточно напомнить о том известном муже, знающем себя
лучше всех, который в ответ на реплики и возражения
народа заявил в публичном выступлении: «Замолчите! Я
один гораздо лучше всех знаю, что полезно для
государства»16. Сказано и смело, и верно. Но те, чьи нравы не
отличаются от нравов черни, пытались представить это
как надменность; люди же ученые объясняют такой
поступок благородной уверенностью.
Сципион, величайший муж, первым получивший
прозвание Африканского, имея твердое намерение
доказать свою невиновность в суде, рассматривавшем
уголовное дело, в первый же день произнес, по словам
Ливия, «столь великолепную речь о своих военных
деяниях, не упоминая об обвинении, что стало ясно:
никто никогда не заслуживал лучшей и более
справедливой похвалы»17. И что же? Разве похвала, исходящая
Инвективы против врача 239
из собственных уст, внушала презрение? Порлушай:
«Это говорилось с тем же умом, с той же силой духа, с
какими он все свершал, и слушали его с неослабным
вниманием, ведь это была речь в защиту себя самого,
а не ради похвалы»15
На второй день судебного разбирательства, когда
страсти разгорелись еще сильнее, он не стал, как это
положено обвиняемым, надевать темную и
потрепанную одежду или униженно молить судей о
снисхождении. Случайно этот день совпал с тем, в который
много лет назад Сципион победоносно закончил вторую
Пуническую войну, самую опасную и самую тяжелую
из всех19. Вспомнив о собственной доблести и военном
счастье, добавивших ему уверенности в правоте, он
возложил на голову победный лавровый венок и
торжественно сказал, что в такой день нужно
воздержаться от споров и тяжб. Ведь он ежегодно празднуется
как день, в который сам он некогда славно и
счастливо сразился с Ганнибалом и карфагенянами. Поэтому
без промедления следует вознести благодарственные
молитвы богам, чтобы они и впредь даровали
римскому народу вождей, подобных ему. Оставив в курии
своих обвинителей и судей, он, как положено
триумфатору, обошел в почтительном сопровождении всего
народа Капитолий и храм богов. Так, будучи
ответчиком, Сципион стяжал не меньшую славу, чем в
момент триумфа за победу над врагами.
Я напомнил о случае очень известном, хотя твои
авторы о нем не рассказывали. Не вызывает сомнения,
что самая восторженная похвала прозвучала бы
напрасно, если бы ее не исторгла сама природа вещей и
как бы некая необходимость справедливости.
Если я сравнил себя со львом, разбуженным лаем,
если тебе кажется, что я всегда надменно презираю
все, кроме доблести и доброй молвы, — ты во многом
ошибаешься. Знай, что я говорил не нагло, а
уверенно, разбуженный громким рычанием (ты узнал самого
себя?). О чем же ты думаешь или что говоришь?
Неужели, Боже мой, ты даже не покраснеешь? Или твоя
смертельная и неизлечимая бледность навсегда про-
240 Франческо Петрарка
гнала краску с лица? Неужели, безмолвный и бледный,
ты не начнешь распознавать то, о чем я говорю уже во
второй раз, — разницу между умом и умом, пером и
пером? Естественно, та любовь к доблести и славе, на
которую, представляется, я претендую, не является
признаком пустого хвастовства, но имеет целью
показать тебе, что я далек от того бесславия льстеца, в
котором ты меня упрекаешь; ведь у меня нет того често-
любия, которое научило угодничать твой язык и языки
многих других. «Но хотя это н верно, из собственных
уст звучит некрасиво». Вот мой ответ: с тобой можно
было бы согласиться, если бы это говорилось без
всякого справедливого основания, а только из стремления
к пустой славе. Теперь ты должен спокойно перенести
сказанное не ради защиты моего имени, а, скорей,
ради защиты самой истины и остерегаться обвинять
меня, последний Катон, суровейший цензор нравов20.
Добавь к этому: я не говорил* что у меня есть
знание и слава, но есть стремление к ним; и я не
говорил, что имею доблесть и доброе имя, но хотел бы их
иметь, или, что еще меньше, не пренебрегаю ими. Что
же ты, спрашивается, видишь здесь надменного? Тебе
просто непривычно желать любить что-либо иное,
кроме денег. Ты можешь все истолковывать
превратно; я скажу только одно: я ничего себе не присваиваю,
кроме желания добра и стремления к добру. Тот, у
кого этого нет, живет, не принося пользы и другим;
впрочем, трудно даже сказать «живет» о том, у кого и
понятия нет о делах наилучших и кто погряз в делах
самых худших.
Я скажу тебе прямо в глаза, что ты, жалкий
завистник, печалишься по поводу того, что во мне может
оказаться что-то достойное похвалы или что-то
по-настоящему доброе. Я же хвалю за это не себя, но Бога,
творца всего доброго, и не самим собой хвалюсь, но
тем, Кто дал мне все, кроме моих недостатков и
заблуждений, в которых я виноват сам. Господь знает, что
говорю искренне. Вот что пишет Августин, ссылаясь на
144-й псалом: «Я првдумал, каким образом можно себя
похвалить и не оказаться при этом самонадеянным»21.
Инвективы против врача 241
Добавлю кое-что о поэтах, на которых ты лаешь,
словно пес на Луну. Помнишь, что ответил Вергилиев
Эней, когда его спросили, кто он? «Благочестивым зо^
вусь я Энеем, до небес прославленным молвою»2?.
Мы знаем, что то же самое ответил у Гомера Улисс.
А тебе и другим, которые не могут сказать о себе
ничего подобного, одновременно и величественного и
истинного, остается кричать, что слова Энея и Улисса
самонадеянны или что Гомер и Вергилий бесстыдно
это выдумали. Но люди более ученые оправдывают их:
ведь никому не было известно, кто они такие, и
похвалы себе вызывались необходимостью, а не
тщеславием. Вот и я говорю для незнающего, причем не
знающего ни себя, ни меня, ни вообще ничего. Кот
нечно, если бы ты знал себя, или меня, или что-то
хорошее, то, повторю, хотя тебе это и неприятно, ты не
нападал бы на меня с таким жестоким лаем — ведь я
тебе ничего никогда не говорил и не собираюсь говорить,
я с тобой не знаком и не собираюсь знакомиться.
Думаю, сегодня ты оставил бы свое намерение,
если бы спесь не мешала это сделать. И вот,
беспокойный и вызывающий смех спорщик, ты ищешь чужой
помощи своим жалким возражениям. Поверь мне в
этом, хоть мы и не знакомы. С одной стороны, ее
неприятно принимать, с другой — стыдно отказаться;
вот ты и крутишься, и, по старой пословице, хочешь
удержать быка за рога, сомнительный владелец.
Теперь я хотел бы специально подчеркнуть одну
вещь, хоть ты и сочтешь это еще одним
доказательством моего высокомерия: мне кажется недостойным
называть твое имя в моих скромных творениях.
Смотри, как бы твое желание быть названным не
показалось доказательством твоего высокомерия.
Я уже написал кое-что и сейчас и не перестану
писать, пока буду в состоянии держать перо в руках. И
чтобы не заслуживать упреков в том, что я
беспрерывно рассказываю в возвышенном тоне о себе, оставим
эту тему; я пишу о знаменитых мужах. Не стану
объяснять, что это за сочинение, — пусть судят читатели.
Скажу только о его объеме: произведение большое,
242 Франческо Петрарка
стоило мне многих бессонных ночей и достойно
упоминания, если не из-за уважения к автору, то
определенно из-за уважения к предмету исследования23. Там
ничего не говорится ни о врачах, ни о поэтах, ни о
философах, но только о тех, которые отличались
военными доблестями или большим рвением в
государственных делах и которым их прекрасные деяния
принесли славу. Если ты считаешь, что в этом
произведении должно найтись место и для тебя, скажи, куда
поместить тебя, это будет исполнено. Есть только
опасение, как бы эти знаменитые мужи, которых я,
насколько позволил мне мой скудный ум, собрал в одно
место, не разбежались с твоим приходом и не
оставили тебя одного. Тогда и название книги придется
изменить: не «О знаменитых мужах», а «О выдающемся
глупце». Если хочешь знать мое мнение, так тебе
скорее место в книге Апулея о философствующем осле24;
можно попросить и Плавта, чтобы он поместил тебя
где-нибудь в «Амфитрионе» и ты строил бы там свои
силлогизмы, доказывая, что Биррия — ничто25. Тогда
ты бы благородно отказался от места в моих жалких
произведениях, а я не искал бы места в твоих творениях.
Обратимся еще к одной теме: насколько безопасно
и насколько спокойно можно говорить с тобой об
истине. Не стыдно ли тебе поносить уже увидевшие свет
сочинения и строить козни с помощью необдуманных
слов? С чего это ты взял, что я проклинаю старость?
Нет ничего лживее этой лжи. Никто не относился к
старости почтительней меня, никто не ценит так
высоко эту часть жизни, как я, наступление которой
следует принимать со спокойной душой; так же спокойно
нужно ожидать ее приближения. Я считаю, что
старость достойна уважения, если ее есть за что уважать,
кроме морщин, и прежде всего — за добытое в
течение жизни благородство. В книге «Sapientie», если у
тебя есть интерес к таким вещам, ты можешь найти
такие утверждения: «Старость достойна уважения».
Эта мысль совпадает с твоей, но дальше я добавил,
«но не из-за числа прожитых лет». Вот это уже
расходится с твоим мнением. Продолжим? «Благоразумие, —
Инвективы против врана 243
говорится, — присуще седому человеку и поре
старости .— незапятнанная жизнь».
Прославленный старец Катон, которого Цицерон
изобразил защитником и хвалителем этого возраста,
сказал, что старость деятельна и всегда чем-нибудь
занята, и добавил: «разумеется, тем, к чему каждый
стремится всю свою жизнь». В другом месте он пишет:
«Помните, что я прославляю только такую старость,
которая зиждется на фундаменте, заложенном в
юности»27. Если ты, философ, это осуждаешь, то осуждай и
мое мнение —ведь я согласен с Цицероном и не
сказал ничего, что опровергало бы его суждения.
Совершенно изменить мои сочинения ты не
можешь; да и сам я, сочинивший их, уже не могу
изменить то, что написано: после обнародования мои
сочинения уже не принадлежат мне. Итак, что же я писал
о старости? «Старики очень часто бывают лишены
разума». Вот где корень клеветы. Но иди дальше, не
останавливайся на середине дороги: «Не все, но те,
которые провели юность в мелочных заботах и
безнравственных занятиях». Пожалуй, на словах ты с этим не
согласишься, но своей жизнью подтверждаешь, что это —т
несомненная истина. Бог свидетель: когда я это писал,
я думал именно о тебе. Какой же еще старик
состарился во лжи, лести и обманах?
Глупых стариков очень много. Знаешь, почему?
Потому что прискорбно мало мудрых юношей. А те,
которые состарились среди пороков, чем ближе подходят
к порогу смерти, тем больше впадают в безумие. Я
нередко называл их сумасбродными; и не удивительно,
если старость, последняя часть жизни, накладывает на
них больший отпечаток, чем предыдущие: ведь более
густой осадок обычно оказывается на дне.
По этой же причине те, кто провел всю жизнь в
доблестных деяниях, на старости лет собирают
удивительные плоды минувшего времени. И больше всего
они счастливы, когда уходят из этой жизни, чтобы
начать вечную. Правда, такие люди встречаются редко, и
именно их старость можно назвать почтенной. Я не
говорю о тех, кто находится посередине и живет, скло-
244 Франческо Петрарки .
няясь то в одну, то в другую сторону; так и в старости:
кто-то из них становится лучше, кто-то хуже.
Итак, есть тысячи разновидностей и беспредельное
разнообразие характеров не только стариков, но и
юношей. Если я не ошибаюсь, природу и те*, и других
хорошо обрисовали Аристотель в «Риторике» и
Гораций в «Науке поэзии»28. Я теперь ясно вижу это
различие между стариками; а если тебе мои суждения не по
нраву, изложи свои, и мы высечем твои слова на
мраморе. Хотя ты и в молодости был чрезвычайно легко-
мысленен, однако в те годы не осмелился бы так глупо
болтать об этом, даже если бы тебе этого хотелось,
потому что юности обычно свойственна застенчивость. И
поверь, самое неприятное — это глупый и
отвратительный старик, у которого осталась глупость, как у
ребенка, а ему кажется, что он обрел авторитет
старого человека,
Все, с этого момента я больше не буду следовать
твоей манере располагать доказательства; думаю, я
изложу твои мысли более упорядочение, если подальше
отойду от плана той книги, которую ты мне
представлял, как признаешь сам, с полной серьезностью. Из
чтения книги я мог вынести ясное заключение об
одном твоем поспешном и беспорядочном стиле, как
будто все это писалось при свете лампы или вовсе в
сумерках.
Итак, самым худшим сортом людей являются те, у
кого есть склонность к высоким знаниям и при этом
глупость, соединенная с изворотливостью. Поскольку
я знал, что имею дело с противником этой породы, то,
думаю, был достаточно осмотрительным, чтобы не
дать тебе законного повода меня кусать. Я часто
говорил, что не унижаю медицины, но скажу, выражаясь
странным образом: ничто не может быть унижено
ничем. Понятно, что я хотел сказать: ты, наглый лжец,
отклоняешь простое и истинное объяснение. Думаю,
ты делаешь это намеренно, чтобы по свойственной
тебе подлости заставить меня говорить о том, о чем не
хотелось бы. Однако тебе не удастся добиться, чтобы я
осуждал прекрасное с помощью ненависти к безобраз-
Инвективы против врача 245
ному. Даже саму медицину ты сделаешь для меня
более милой, коли ты ее бесчестишь и позоришь. Я уже
говорил и не отрицаю теперь, что медицинское
искусство небесполезно и служит для помощи бренному
телу. Правда, ты вместе со своими приверженцами
оскорбляешь ее, нося имя врача. Смехотворный софист:
обвиняют всадника, а ты хвалишь коня; ты
рассуждаешь совершенно на другую тему.
Но что же я, ни для кого не делаю исключения?
Нет, для некоторых делаю. «А для кого?» Никто не
заставит меня ответить на это, если я не захочу — пусть
дело доццет хоть до преторского суда29. Тут не место
говорить о благосклонности к другим — дело касается
только тебя. Я хорошо знаю твой нрав; если бы и ты
знал его так же, то возненавидел бы себя. Если я
напишу так, как хотел бы, ты скажешь, что я угождаю
соотечественникам и друзьям; ведь ничтожный и
продажный ум не может вообразить ничего такого, что не
было бы подобным его поведению. Он думает, что все
такие, каким он знает себя. Это самая большая
человеческая слепота. Ты глупец и все измеряешь своей
мерой: карлик не может вообразить себе великана, а
муравей — слона.
Я знал нескольких настоящих врачей, одаренных и
обладающих рассудительностью — качествами,
необходимыми при любом ремесле. Думаю, чем лучше они
тебя узнают, тем больше неприязни ты у них
вызовешь. У них нет сомнения, что своим невежеством ты
бесчестишь их профессию. Представь же, вдруг бы я
не знал ни одного врача и не делал исключения ни
для кого. Со мной, далеким от медицины и занятым
совершенно иными делами, обязанным здоровьем
природе, а не врачам, такое могло быть. Но так или
иначе, у меня нельзя найти высказываний против
медицины или какого-то ее служителя. Возможно, как это
бывает, я своим откровением уколол кого-нибудь из
тех, кто извращает любое ремесло, и при этом ранил
тебя, скрытого в их толпе. Извини, философ: я
преследовал не тебя, а невежество. Ибо нужно подавлять
невежество людей самонадеянных, а простым людям —
246 Франческо Петрарка
помогать от него избавиться. Если тебя оскорбил мой
выпад, я заслуживаю прощения, так как не знал, что
ты примешь его на свой счет. А теперь ты, гордец,
ликуешь, будто я обидел тебя, припавшего к алтарю и
молившего о пощаде. Я скорее смеюсь над твоей
глупостью: ты кажешься себе очень ученым, а навлекаешь
на себя славу человека невежественного. Ты стал себе
самому сообщником в крайнем невежестве, коли
полагаешь (и с полным основанием), что все, сказанное
против людей невежественных, касается тебя.
А если бы я говорил о тех немногих и очень
немногих врачах, которые послужили не к бесславию своей
профессии, а к ее славе? Только человек благородной
души, которого трудности не просто не пугают, но
побуждают к действию, решит, что он относится к этому
славному меньшинству и причастен к его славе. Но
это, ясное дело, не всем дано, и малочисленность
талантов приятна. Потому там, где благородный дух
ликовал бы, низкий сокрушается. Почему, спрашиваю?
Или я и здесь ошибаюсь? Или лгу? У любого, кто
внимательно вглядится в свое время или оглянется на
далекое прошлое, не возникнет и сомнения, что
талантливые люди появляются редко, а мудрые еще реже;
так было всегда, а не только сейчас.
О глупец, — я не хочу, чтобы забыли, кто ты таков, —
глупец и безумец, едва ли было время, более бедное
талантами и доблестями, чем наше. Не знаю, из-за
грехов ли человеческих или просто ему такая выпала
судьба, если можно воспользоваться таким словом и
не лучше назвать это по-католически Божьей волей
или провидением. Возможно, и мир сам, стареющий и
идущий к концу, вялый и равнодушный, как
дряхлеющий человек, уже не в силах сделать многого. Правда,
подобное мнение ты считаешь баснями. Но даже в
наше время, столь бедное талантами, для твоего таланта
не найдется места. Напрасно ты ввязываешься в споры
и лезешь не в свое дело: я ведь не нападаю на
медицину, да и она сама предпочла бы твоему заступничеству
чьи бы угодно поношения. Ты оскорбляешь ее тем,
что занимаешься ею и гнетешь ее своей защитой.
Инвективы против врана 247
Впустую стараешься: на этом пути тебе не снискать
славы. Никому ты не известен, как ни заходись
криком, разве только тем, кого ты одурачил
бессмысленными словами или убил чужеземными снадобьями, —
они-то запомнили тебя навеки.
Прежде чем опровергнуть твои более серьезные
обвинения, я хочу сейчас отмести два незначительных,
которые ты выдумал или изобрел во сне: будто я
говорил, во-первых, что врачи иногда выступают против
истины, а во-вторых, что они не всегда исцеляют, и
то, и другое ты с большим старанием вменяешь мне в
вину. Но где же я об этом говорил? Перетряси мое
письмо, что, думаю, ты уже не раз делал из ненависти
к истине. Я, перечитывая его, не нахожу в нем ничего
подобного.
Но о врачах я скажу в другое время, а теперь, враг
Гиппократа, погибель больных, позор для врачей, —
речь о тебе.
Итак, я говорю, если не сказал раньше, что ты
иногда не борешься против истины намеренно, может, из-
за склонности к шутке или на пробу; ты глупейшим
образом этим хвастаешься, но всегда с
исключительной умственной тупостью. Я говорю, что ты подчас не
исцеляешь (это высказывание ты радостно несешь
перед собой, ограждая, как щитом, свое губительное
невежество), но мало-помалу ведешь к гибели здоровых,
а к смерти — больных. Это я говорю. И хотел бы,
чтобы ты мне на это ответил и доказал свою правоту с
помощью риторики — своей служанки и защитницы.
Ведь особенностью тех, кто отрицает очевидное,
является как навязывание истины, так и устранение повода
для словесного спора.
Если ты от этого отказываешься, то я, сняв
притязания, позову в свидетели народ.
Знаю, о чем ты сейчас думаешь: «Жалкая чернь,
никогда не умеющая найти решение, напрасно он
обращается к тебе, даже принужденный столь великими
дурными обстоятельствами». А кого же я приведу в
свидетели твоего невежества? Конечно, только народ;
и я не изменю своего решения: оно правильно в обоих
248 Франческо Петрарка
случаях. Народ на опыте узнал твое невежество; но он
же требует от тебя и помощи. Радуйся, дерзкий глупец:
ты не только врач, ты уже стал подобен Богу, о
котором написано в Псалме: «Когда Он убивал их, они
искали его»30. Он мог воскрешать; и ты говоришь, что
можешь. Именно это прозвучало в твоей пустой и сме^
хотворной похвальбе: «С помощью нашего дела люди
как бы воскресает из мертвых». И чего же не хватает,
чтобы ты стал богом? Но погоди у меня: в конце этого
розыгрыша помещу я тебя в совет богов и, если смогу,
подыщу и имя* достойное твоей божественности! А
теперь следую твоему плану. Итак, ты безнаказанно
убиваешь, когда пытаешься лечить. Но, оставив твои
бесконечные нечестивые остроты, спросим, почему же
народ обращается к врачам? Я отвечу, что он делает
это с осторожностью, как и все остальное. Есть
изречение мудреца: «Число глупцов беспредельно».
Напрасно искать разум в поступках таких людей. Если ты
хочешь точно знать причину этого, то ее называет друг
врачей Плиний (ты и о нем отзываешься презрительно
как о несведущем); я тоже когда-то указал на нее в
том письме к папе Клименту, откуда и возник весь
спор. Плиний говорит: «В одной этой профессий
случается так, что каждому, кто объявит себя врачом,
тотчас верят, и ни в одной лжи нет большей опасности, чем
в этой», И немного дальше говорит как бы от лица
народа: «Однако мы не обращаем на это внимания, до того
заманчива для каждого надежда на исцеление»**. Это и
есть та причина, по которой умерщвляемый тобой народ
вверяет себя тебе, и эта причина заставляет забывать о
твоих всем известных недостатках, и получается, что
народ в горячем желании и необдуманной надежде ищет
спасения там, где его ждет смерть. Столь велико
упорство человеческой надежды и настолько царит в душах
несчастных забывчивость! Именно она помогла тебе
отправить в Тартар многих доверчивых людей. Если бы они
могли вернуться, они-то и дали бы тебе истинную
оценку. Но ты можешь спать спокойно: опуца нет возврата.
Однако я не дам тебе обмануть тех, кто еще жив: ты
на виду у всех и, думаю, не найдешь практики среди
Инвективы против врача 249
людей ученых; умерщвления прочих меня меньше
всего печалят. А уж если ты случайно вотрешься в группу
ученых, говори, что те, кого ты лечил, воскресли из
мертвых, так как, по словам Цицерона, «то, что
называется жизнью, есть смерть»32, ибо для хороших людей
она — начало жизни лучшей. Вот так, с моего
благословения, пожалуй, и станешь настоящим философом.
Но при этом пусть у тебя не будет возможности думать
и говорить подобные вещи. А вернее, вот что: всех,
кто выздоравливает, приписывай себе, всех, кто
погибает, — природе, так что у тебя всегда будет повод
хвастаться и радоваться; и никогда не будет недостатка
в несчастных, чтобы скорбеть и оплакивать их.
Что сказать по поводу остального? Ты швыряешь в
меня много приводящих в дрожь определений, ты
мечешь копья ничтожных слов. Кто не побоится сойтись с
таким врагом? Знай, что я не боюсь ничего, кроме
мерзости твоих речений. Если слово «мерзости» покажется
тебе неподходящим, будь снисходителен к Цезарю
Августу — он, как известие», любил подобные выражения.
Ты, конечно, скажешь, что мне не хватает логики.
Я не думаю, что ты можешь запретить мне риторику и
грамматику, которые подразумевают и знание логики,
хотя это ты бы мог сделать, и с полным правом,
бесценный образец всего варваризма. Но ты считаешь,
что я не владею только той диалектикой, которую ты
называешь логикой. «Вот, судьи, преступление!»33 Если
угодно, я могу представить знаменитых философов,
высмеивающих эту самую диалектику, в отсутствии
которой меня обвиняют. Я мог бы указать то место у
Цицерона, где он говорит, что известнейшее
философское направление, древних перипатетиков, лишено
этой самой диалектики34. Но, глупый человек, я не ее
лишен: я точно знаю, что нужно отдать диалектике, а
что прочим свободным искусствам; от философов я
усвоил, что ни к одному из них не нужно относиться с
чрезмерным пиететом. Конечно, усвоить их похвально,
но заниматься ими всю жизнь, до старости, —
ребячество. Люди, делающие это* вдут по бесконечной
дороге, будто странники или скитальцы, жизнь которых не
250 Фратеско Петрарка
имеет гавани. Для тебя, не имеющего серьезной и
благородной цели, целью является все, что в данный
момент находится перед тобой. Ты полагаешь, что
оказался на высшей ступени счастья, сумев бессонной
ночью при напряжении всех своих мозговых извилин
сплести один шаткий силлогизм, так и не ставший
выводом. Тогда ты, безумец, говоришь в душе: «Бога нет,
и не надо стремиться выше. Что мы можем знать?
Великие мужи Платон и Аристотель спорят о мире, о
душе, об идеях; Демокрит создает бесчисленные миры;
Эпикур утверждает, что нет никакого Бога и душа
смертна; Пифагор заставляет ее переселяться;
некоторые помещают ее в свое тело, а другие рассеивают по
телам животных; одни возвращают ее на небо, другие
заставляют блуждать вокруг земли; есть такие, которые
объявляют, что она в царстве мертвых; а есть и те, кто
это отрицает; некоторые считают, что каждая душа
существует сама по себе, а другие думают, что все души
были созданы одновременно;! был и такой, который
осмелился говорить еще более удивительные вещи, а
именно, наш вдохновитель Аверроэс, заявивший о
единстве разума». Примерно так ты рассуждаешь сам с
собой, если, конечно, все это знаешь. И добавляешь:
«Кто в этом разберется? И что мне до какого-то
Христа, которого сам Аверроэс35 безнаказанно поносит,
чего не сделал никогда никто из поэтов и вообще
никто из смертных?»
Да, многое пишется и написано многое, и этому не
будет конца. Иногда кажется, что стремление писать —
это неизлечимая болезнь и какая-то лихорадка души,
засевшая в самых ее недрах36. Но никто никогда ни
раньше, ни позже земного рождения Христа не
осмелился сказать или написать что-нибудь без высшего
благоговения. Величие имени Христа сдерживало даже
тех, которые создали ереси или учения, расходящиеся
с христианством, например, вождя такого учения —
Магомета37. Одни видели в Христе Бога, но не
человека, другие — человека, но не Бога, а некоторые —
человека совершеннейшего, неописуемого,
несравненного, рожденного Девой. Те, которые наделяют Его
Инвективы против врана 251
меньшей силой, называют его пророком, кроме одной
этой собаки, которая не на Луну, по поговорке, лает,
но с бешеной пеной у пасти — на само солнце
справедливости38; убежденный в своем необыкновенном
разуме и в том, что ему все позволено, он дерзает
нападать на такое священнейшее и почитаемое у царей и
народов имя, чего никогда не осмеливались делать
никакое нечестие, никакое легкомыслие.
А вы чтите этого вашего Аверроэса, вы его любите,
вы за ним неотступно следуете, и только потому, что
ненавидите живую истину Христа, отворачиваетесь от
Него. А так как вы не осмеливаетесь открыто хулить
Того, Кого чтит весь мир, то вы почти так же чтите
Его нечестивого врага и хулителя. Это манера зависти
и трусливой злобности: сам ты боишься клеветать на
Него, а тем, кто клевещет, рукоплещешь.
Но довольно об этом. Я знаю, что тебе тяжело
слушать, как я черню твоего полубога. Прими это
спокойно: ведь Аверроэс чернит моего Бога. Именно не
своего, не твоего, но моего и всех тех, кого надежда на
другую жизнь и любовь направляют к счастливой цели
по безопасной тропе39. А ты, несчастный, заблудший
вслед за твоим идолом, наслаждайся ухабистыми
поворотами, идя к цели, к которой приводит бесчестие и
которой достиг твой Аверроэс. И давай, верь ему,
опирайся на него, по заведенному у вас обычаю, говори:
«Разве кто может сравниться с таким умом? Кто еще
защитит обнаженную истину от одетого в доспехи
вранья? Что могут ответить столь великому мужу простые
католики, на которых обрушатся горы силлогизмов,
если им доведется прийти на собрание? Вот я,
который еще позавчера был ничем, уже начинаю
становиться великим: я уже создаю силлогизмы, уже есть
моя диалектика. Разве я был рожден для чего иного? У
меня есть то, чего я добивался: я уже не боюсь
рассуждать и, если угодно, докажу, что мой собеседник осел».
Поверь мне: гораздо легче доказать, что осел — ты
сам. И ты, жалкий сморчок, состарился среди
подобных занятий, не стыдясь того, что ничего
другого не делаешь. Учитесь, несчастные, не отвергать
252 Франческо Петрарка
Христа: Он часто показывает вам, Кто Он есть и что
Он может.
О злосчастный! Ты поставил себе ничтожную цель —
диалектику: и со странным безрассудством путника
полагаешь, что достиг ее, хотя ты никогда и не приблизишься
к ней. Но ты уверен, что достиг и оставил позади Хрис-
иппа40. И что тебе от нее, кроме несчастья и стьща? Ведь
ничего не может быть хуже глупости. А есть ли большая
глупость для старика, чем крутиться весь день среди
ребяческих дел и, поздно возвращаясь домой, ничего не
нести с собой нового, причем происходит все это не
раньше, чем неожиданная смерть сделает свой вывод в
отношении тебя как раз в тот момент, когда ты будешь
обдумывать свои жалкие заключения.
Размышлять о смерти, всегда быть во всеоружии,
готовиться с презрением претерпеть ее, идти ей
навстречу, если заставят обстоятельства, с высокой
душой отдать эту краткую и жалкую жизнь за жизнь
вечную, за счастье й славу вечной жизни — вот истинная
философия. Некоторые философы говорят, что
философия не что иное, как размышление о смерти. Это
определение философии, хотя и принадлежит
язычникам41, однако не чуждо и христианам, у которых
должно быть презрение к этой жизни, надежда на жизнь
вечную и желание смерти. Если бы ты, напыщенно
называющий себя философом, хоть раз за свою долгую
жизнь основательно поразмыслил, ты или не дерзнул
бы назвать себя таковым, или не направил бы ход
своей жизни туда, куда идет она теперь, или не продавал
себя так позорно за малую плату, разрушая делами то
учение, которое на словах возвышаешь. Ибо
философы, чтоб ты знал, презирают деньги. Философию ты
не можешь сделать продажной: как продавать то, чего
нет. А если бы ты ей владел, то не делал бы ее
продажной, а она не позволила бы тебе быть продажным.
Теперь же ни ты ее не украшаешь, ни она тебя; но ты
бесчестишь ее имя позорной алчностью. Ты слышишь
меня, легкомысленный софист, — берегись, славный
логик, берегись, говорю, если я называю тебя софис-
Инвективы против врача 253
том: само дело вынуждает меня к этому; ибо я верю
делам, а не словам, противоречащим делу. Приведи
мне рогатый силлогизм от противного, пошли на
дыбу; только тогда ты, может, и вынудишь признать твое
мнение, но согласиться с тобой ты не заставишь меня
никогда.
Как я могу поверить, что ты философ, если я знаю
тебя как наемного ремесленника? Я охотно повторяй)
именно такое наименование, так как знаю, насколько
омерзительно оно для тебя. Я называю тебя
ремесленником не просто так, но вполне сознательно и, чтобы
уязвить тебя еще больше, — ремесленником не из
первых. Спроси тех, кто написал о ремесленниках, — они
пальцем покажут на твое место. Ты, однако, от этого
звания отказываешься и хочешь считаться философом.
Чтобы добиться этого (усилия, достойные
гомерического смеха), ты много раз употреблял слово «метод».
О хитрец! Ты добился высшей выгоды: уже и другие
стали называть тебя философом. Я же стану называть
тебя философом, если ты перестанешь начинять
многими методами каждую свою строчку.
Признаю, часто даже в душах глупцов есть некая
безудержная и безрассудная страсть к славе, и не в
моих силах лишить ее тебя. Но непреложно следующее:
ты не философ и не кажешься им. Поэтому слезно
проси помощи всех софизмов и всей твоей логики: ты
ясно показывал, что скорее удода можно назвать
философом, чем тебя. Ты, неуч, удивляешься и говоришь:
«Чем же я похож на удода?» Да всем! Эта птица с
хохлом на голове и гребнем на макушке очень нравится
детям; а на самом деле птица нечистая, питается
отвратительными вещами. Мне не хочется называть их
не из-за тебя: ведь тебя не смутить упоминанием о
таких вещах, более того, их зловоние тебе приятно, а из-
за тех, кому првдется это читать или слушать. Спроси
любого знатока природы — он расскажет, чем
питается эта птица42. А потом оцени себя и свои привычки,
только без самообмана (самое опасное и пагубное, —
увериться в собственной лжи), и ты увидишь, что
питаешься той же пищей, что и удод. И я прошу тебя,
254 Франческо Петрарка
удод: не философствуй; скорее осел начнет
философствовать, чем ты. Известный платоник Апулей, приняв
волшебное зелье, по словам Августина, «рассказывает о
себе действительный или вымышленный случай»43, как
он превратился в осла и философствовал в этом облике.
Но о философствующем удоде ни единого рассказа нет.
Эй, уцод, делай, что тебе положено, ройся в кучах (о
прочем умолчу), а философию оставь философам.
Ты считаешь себя философом. Ошибаешься.
Философ, как показывает само слово, — тот, кто любит
мудрость. А ты раб денег. Разберемся логически,
насколько несходны эти вещи: думаю, и без
пространных рассуждений нетрудно сделать вывод, что ты не
тот, за кого себя принимаешь.
Что же ты не отважишься признать, что
философствуешь только во сне? Ведь во всех других случаях ты
без колебаний закрываешь глаза и кривишь душой,
доказывая правоту. Скажем, по поводу твоей бледности.
Ты заявляешь, что не бледен.
Значит, или у нас нет глаз, или у тебя нет зеркала.
Далее, если и есть бледность, то ты приписываешь ее
общественным заботам. Не довольствуясь этим
доказательством правоты, ты начинаешь говорить, что
бледность это признак философа. Благий Боже, насколько
приятно для ученых людей истинное звание философа,
настолько тебе приятно выдуманное, и среди
множества смехотворных высказываний есть и о цвете лица
как у философа. Между тем, известно, что наставник в
любви наделял бледностью влюбленных; вот его слова:
«Всякий влюбленный должен быть бледным: этот цвет
лица подходит для влюбленного»44. А это у другого
поэта: «Окрашенная фиалкой бледность любящих»45. Но
ваша бледность совершенно иного рода и, как ты
сейчас поймешь^ иного происхождения. Этой бледностью
наделяю вас не я и какой-либо древний писатель, но
общее мнение. Ты с ним не соглашаешься и говоришь,
что это свойство философов, как будто порок станет
меньше от того, что к нему будут причастны и
философы. А так как всем известно, что у главы философов
было прекрасное лицо, о чем писали и греки, и рим-
Инвективы против врача 255
ляне, я оцениваю его не по цвету лица4*. И вообще,
какими бы ни были лица философов, разве ты,
бесстыднейший из людей, относишься к их числу? Разве у
меня не было бы оснований уже много раз исключить
тебя из сонма философов? Я отвечу тебе словами
одного красноречивейшего мужа: «Бороду и плащ (если
угодно, добавим болезнь и бледность) вижу —
философа не вижу»47. Безупречный ответ. Ибо для философа
не имеет значения, какой у него цвет лица и внешний
облик. Нужно, скажем так, смотреть на облик и цвет
души. Кроме твоего собственного, вызывающего смех
мнения, у тебя нет ничего от философа: ни славы, ни
облика, хоть ты и бледен, ни поступи; она же скорей
обнаруживает в тебе глупца. Ты защищен своим обликом
ровно столько, сколько заяц или олень в стае собак.
И, наконец, ты не имеешь ни одного из отличий
философов: ни жизни, ни души, ни характера, ни ума,
ни языка. Предупреждаю, не потерплю, чтобы ты
осквернял звание философа, присвоив его себе. Ты же,
как я понимаю, внушил себе, что ты прямо-таки нечто
великое. Хорошо. Тебе это повод для радости, а нам —
для смеха.
Если ты хочешь, чтобы в тебя поверили как
философа, необходимо делать что-то соответствующее:
философия проявляется больше всего в делах, а не на
словах. Когда я увижу, что ты презираешь дела
преходящие, почитаешь доблести, стремишься к истинной
славе, презираешь деньги, с благоговением смотришь
на небо, далеко обходишь богатые бани, тогда я
поверю во все, что ты захочешь. «Кроме того, — как
говорит Августин вслед за Платоном, — если мудрость есть
Бог, чрез которого сотворено все, как показывают
божественные писания и истина, то истинный философ
есть тот, кто любит Бога»48.
А ты, безумный бродяга, возвращайся в свою
спальню, там ищи ту философию, которую ты столь
легкомысленно называешь своею: никогда не найдешь. Ведь
философия божественна, а ты об этом и не слышал.
Итак, давай поступать в соответствии с древней
пословицей: «Не делай ничего, когда Минерва неповоротли-
256 Франческа Петрарка
ва». Этого требует твой неповоротливый ум. Если ты
усвоишь все общее в земной философии или хоть что-
то из нее, ты будешь достоин сидеть рядом с
Платоном, обучать Аристотеля, вести споры с Ксенофонтом.
Теперь же, лишенный всего, что делает человека
философом, ты с бесстыдным видом присваиваешь имя
философа или — уж буду держаться начатого —
почтенную бледность философа, происходящую от ночного
чтения книг. А твоя порочная бледность вызвана
дневным развратом; если бы эта бледность была вызвана
беспокойством о друзьях, состраданием к несчастным или,
как ты выдумываешь, заботами об общественных делах,
она была бы не только не бесчестной, но и славной. А
теперь ненасытная жажда даже к небольшим деньгам
влечет тебя, несчастного, через все клоаки и делает тебя
таким, что, если бы ты сам себя увидел, не без основания
ужаснулся бы и обратился в бегство.
Так что приписывай свою бледность не заботам о
республике, а своим страстям; и вини не занятия, а
свою жизнь. Ибо нет сомнения, прозорливейший
философ, что ты не заметил истинную причину дела,
хотя она лежит на поверхности. Хочешь уввдеть то, что
скрыто в самой глубине недр, а не видишь того, что
перед глазами.
Хоть я и не врач и не силен в логике, я объясню
тебе причину твоей бледности, и ты, хочешь не хочешь,
признаешь ее истинной. Ты ходишь по местам
темным, недоброжелательным, вонючим, гнилым, ты
нюхаешь зловонные выделения зада, рассматриваешь
мочу больных, думаешь о золоте. Что же удивительного в
том, что, находясь среди бледного, темного и желтого,
ты сам стал бледным, темным и желтым? И если
известное библейское стадо благоразумнейшего
патриарха некогда принимало цвет разных прутьев, лежащих
перед ним50, то нет ничего нового в том, что и с тобой
происходит подобное. Ты надеешься услышать от меня,
что получил цвет лица от золота. На самом же деле — от
того, что находится перед тобой.
Я слишком долго рассуждал и охотно закончил бы
на этом. Но предмет рассуждения требует истинного
Инвективы против врача 257
названия; оно часто встречается в Священном
Писании и один раз окажется и в этом сочинении. Так вот,
говорю, от дерьма, с которым ты постоянно возишься,
ты получил и свой цвет, и запах, и чувство вкуса.
КНИГА III
Может быть, я обманываюсь, Гиппократ и второй
Аристотель, но мне кажется, что в этой баталии,
которая у нас с тобой ведетоя и для которой ты призвал на
помощь все твое злословие, первый,
легковооруженный строй твоего войска уже рассеян. Теперь я
подступаю к тяжеловооруженному силлогизмами войску,
построенному клином. На эти силлогизмы, как на
отборную конницу, ты возлагаешь всю надежду на победу. Что
же, попробуй и здесь показать, на что ты способен.
Достаточным доказательством твоего безумия является
уже то, что ты не стал возносить похвал медицине — а ее
заслуги значительны, хотя ты и пытаешься умалить их
не столько своими речами, сколько своим ослиным
ревом; мало того, охваченный внезапной яростью, ты
безо всякой причины обрушиваешься на поэтов и,
путая известное с неизвестным, как тебе свойственно,
снова вынуждаешь меня смеяться над тобой.
Я мог бы высмеять твой навет в двух словах. Ты
нападаешь на поэтов — но при чём тут я? Пусть поэты и
отвечают или, еще лучше, просто не обращают
внимания на твой нападки. Не стоишь ты того, чтобы тебе
серьезно возражать, а поэзия не нуждается в моей
помощи, да и я не считаю себя поэтом. «Я чести такой
недостоин», — как написано у Вергилия1. И если ты и многие
другие захотят называть меня поэтом, тем не менее,
никаких вопросов, связанных с поэзией, мы с тобой не
обсуждаем. Но хотя ты не сумел понять этого из других
моих писем к тебе, а для утомленною ума объяснения
такого рода и беседы с глупцами мало привлекательны, я
остановлюсь и без досады выслушаю любые глупости.
Ты своим безрассудным, тупым, липким и
ядовитым языком изрыгаешь на поэтов измышления, будто
258 Франческо Петрарка
они противники веры, будто отлучены от церкви и
верующие должны их избегать. Прежде чем это заявлять,
тебе неплохо было бы вспомнить об Амвросии,
Августине и Иерониме, а еще и о Киприане, мученике
Викторине, Лактанции и других католических
писателях2. Почти любое бессмертное произведение
скреплено цементом поэзии. И напротив, ни один из еретиков
не мог включить в свои жалкие творения ничего
поэтического, то ли по неумению, то ли потому, что в
поэзии нет ничего созвучного их заблуждениям. Хотя
они упоминали много имен богов (надо думать, они
делали это по требованию времени и в угоду народу, а
не по своему убеждению; как ясно из «Риторик», они
думали, что боги существуют3), однако самые
прославленные из поэтов признают в своих произведениях
Бога единого, всемогущего, все сотворившего, над
всем царящего, творца вещей.
Ты ответишь, что не знаешь происходящего у
католиков, так как, по твоему признанию, ты читаешь
только «Терапевтику» Галена, которую я, увы, не
читал. Отвечу словами выдающегося полководца Мария:
«Греческого языка я не выучил: у меня не было охоты
его учить, ведь он нисколько не прибавил мужества
тем, кто его знает»4. Вот если бы эта твоя
«Терапевтика» сделала тебя лучше, или ученее, или хотя бы
здоровее телом, то я бы мог пожалеть, что не прочитал ее.
Теперь, когда я вижу тебя и изнутри, и снаружи, я
очень благодарен и своему зрению, и судьбе,
уберегшей меня от чтения, сделавшего тебя таким, каков ты
есть; тогда и меня постигло бы то же, что тебя.
Но вернусь к поэтам. Ты спрашиваешь, в чем
польза поэзии и в чем ее назначение. Пищи для
рассуждения на эту тему много, и оно само не лишено
приятности и небесполезно. Я смог бы разъяснить это если
не для те§я, то хотя бы для истины, да и тебе сказать
несколько слов — не потому, что уверен в понимании,
а ради самого вопроса. Но ты не позволяешь этого
сделать и, торопясь на манер одержимого, сам
поспешно и многословно отвечаешь на свой вопрос
совершенно избитыми словами и при этом совершенно
Инвективы против врача 259
удивительным образом определяешь цель поэзии:
обманывать, успокаивая. Но поэты — не торговцы
мазями: успокаивать и обманывать — ваше дело. Впрочем,
я полагаю, выше об этом сказано достаточно.
Куда, куда несется дальше наш философ? С
помощью чудовищного силлогизма он доказывает, что
поэзия не нужна. Стыдно повторять этот силлогизм: я не
хочу помещать в мои сочинения подобный вздор.
Переверни силлогизм — и он докажет противоположное
тому, что ты измышлял в течение стольких месяцев.
Нет, лучше ничего не меняй и доведи до конца
задуманное: этого я хочу, здесь и я с тобой согласен, и
сами поэты. Именно этого хочет Гораций, если
вспомнить то высказывание в «Науке поэзии»5. Но оно
покажется тебе варварским, поэтому я не буду его
приводить. Впрочем, в отношении самого предмета
рассуждений я с тобой согласен, но совершенно расхожусь в
мнении о причинах и характере воздействия поэзии; и
не только я, но и сама истина. Поэзия не является
необходимостью, но не по той причине, которую ты
называешь; из нашего признания ее не-необходимости
вовсе не следует того, что мнится тебе.
Кажется, дело требует, чтобы я повторил те
доказательства, которые много лет назад излагал некоему
старому сицилийскому диалектику; он тоже самым
серьезным образом нес чепуху, но в более сносной
манере6. Ибо он, хоть смыслил в стилистике, не
отваживался писать. А ты, склонный ко всякой глупости и
безрассудству, осмеливаешься в речах нападать на
самого Цицерона, а в писаниях крушить самого
Демосфена7. Чтобы привлечь к себе внимание, ты, жалкий
легкомысленный человечишка, не побоялся вступить в
неравную борьбу. Так вот, сицилиец воздерживался от
писания, значит, в нем еще жили остатки скромности.
Однако он ежедневно нашептывал что-то на ухо
одному моему другу, а перо этого самого друга йплоть до
недавнего времени передавало его нашептывания мне.
Среди многочисленных высказываний было и
подобное тому, что я теперь слышу от тебя: поэзия менее
всего необходима. Так как никто из присутствующих
260 Франческо Петрарка
этого не отрицал, он с помощью слабой и уязвимой
энтимемы сделал именно такой вывод8. Так и кажется,
что эти доводы принадлежат школяру или, твоему
наставнику. Он заявляет: «Если поэзия не необходима,
значит, она неблагородна и малоценна». То же самое
говоришь или думаешь ты. Именно к такому выводу
приводит твое легковесное, на полпути выдохшееся
доказательство, на которое ты потратил столько труда.
Пусть то, что говорится одному глупцу, обдумают и
многие.
О, безумец! Итак, ты считаешь, что необходимость
искусств — доказательство их благородства. Наоборот;
иначе самым необходимым из художников будет
земледелец; в большой цене будет башмачник и рыбак, да
и ты, если перестанешь хвастаться. Но такого не
случится! Никакая необходимость не придаст вам цены,
никакая необходимость не исключит из числа
ремесленников. Разве вы не знаете, что часто домашний раб
тем нужней, чем он дешевле? Как необходимы и как
дешево стоят солдаты и наставники гладиаторов! А
чернь скорее откажется от философских школ и
армии, чем от мясного рынка и бань. Идите теперь,
старцы диалектики, и доказывайте благородство через
необходимость — вам ведь кажется, что она есть.
Попробуйте обратиться к вещам, лишенным жизни,
смысла и разумности, и здесь испытать действие
вашего ремесла! «Осел нужнее льва, курица нужнее орла —
следовательно, они благородней; фиговое дерево
нужнее лавра, камень для мельничного жернова нужнее
яшмы — значит, они тоже благородней». Нескладно
вы делаете заключение, неверно говорите, по-детски
рассуждаете: это соответствует вашей натуре, вашим
нравам и устремлениям, но не летам. Наглые
невежды, вы всегда готовы сослаться на Аристотеля,
которому, верно, горше быть у вас на языке, чем в царстве
теней. Клянусь Гераклом, он ненавидит свою правую
руку, написавшую понятное немногим, но перелетающее
из уст в уста многих невежд. Конечно, ваше жалкое
заключение не имеет ничего общего с его словами: «Все
искусства более необходимы, но достойнее нет ни одно-
Инвективы против врача 261
го». Я не указываю, откуда эта цитата: ведь и она очень
известна, и ты выдающийся аристотелик9.
То, что ты не числишь поэзию среди свободных
искусств, — твое право, но Гомер и Вергилий умоляют
тебя, по, крайней мере, не исключать их из числа
ремесленников, доколе ты сам, согласись, ремесленник.
Правда, так тебя называют другие, а сам-то ты
величаешься философом. Ты что же, не допускаешь в свое
сословие поэтов? Будет слишком несправедливо, если
ты их попросишь и оттуда. Но шутки в сторону;
перечисли свободные искусства: я что-то не нахожу среди
них не только медицины, обитающей в другом месте и
занимающей там шестое место10, но и философии.
Часто отсутствие среди великих — доказательство
исключительного величия. Приведу тебе знаменитый
пример из истории, хотя, подозреваю, ты охотней
послушал бы сказочки о преисподней и привидениях,
как привык это делать, нежась у очага после обеда; но
ты уже далеко не дитя, и, если можешь, привыкай к
лучшему.
Так вот, Тит Ливии рассказывает: Ганнибала, мужа,
бесспорно знающего свое ремесло, спросили, каких
полководцев всех времен и народов он считает
самыми прославленными? Тот назвал первым Александра
Македонского, вторым Пирра Эпирского, а третьим —
себя: и не по самонадеянности, а из-за сознания
своего достоинства, о чем я уже имел случай говорить11.
Когда Ганнибалу заметили, что он позабыл о
Сципионе Африканском, от которого потерпел поражение, он
заявил, что сделал это намеренно, не считая нужным
искать место для величайшего среди многих и
несравненного среди величайших, выделив, по словам
Ливия, Сципиона из ряда полководцев как несравнимого
ни с кем12.
Можно было бы еще долго говорить на эту тему, но
для понимающего достаточно уже сказанного, а для
непонимающего тем более.
Я пройду мимо всех тех нелепиц, которые ты
силком хочешь навязать Аристотелю, ибо мне стыдно за
тебя, совершенно невежественного в самых простых
262 Франческо Петрарка ^ ___
вещах. Скажу только о самом очевидном: ты
совершенно не знаешь, что такое трагедия и что такое
переход от тетраметров к ямбу13, хотя ученому мужу стыдно
говорить невесть что.
Прислушайся к совести — и поймешь, что я говорю
правду. Мне и этого было бы довольно. Ты можешь
заявлять на людях, что я возвожу на тебя напраслину,
но в душе-то знаешь, что абсолютно несведущ в этих
вещах; и я бы не стал тебя корить, если бы ты не
ввязывался, куда не следует, губя себя и своих больных.
Ведь они ждут от тебя не трагедий, не тетраметров или
ямбов, а здоровья; боюсь, что ты своими
силлогизмами отнял у них последнее.
В самом деле, кто без головной боли может
выслушать твои речи? Ты говоришь, и вполне верно, что
наука прочна и непоколебима, но добавляешь, что
поэзия пользуется стихотворными размерами и словами,
со временем меняющимися. Отсюда ты заключаешь,
что поэзию следует исключить из чиола наук и
искусств. О невежда, самый невероятный из тех, кого
мне доводилось слышать! Где здесь аргументы против
поэзии как таковой? Разве другие науки обходятся без
слов? И разве ты не ведаешь, что написано
относительно слов в той же «Науке поэзии»?
Многие падшие вновь возродятся; другие же ныне,
пользуясь честью, падут, лишь потребует властный обычай,
в воле которого все — и законы, и правила речи14.
Обращусь к нескольким примерам, конечно, не
ради тебя, упрямый невежда, а ради читателя. Ромул,
основатель Рима, назван Квирином. Почему? Потому
что в сражениях он пользовался копьем, которое на
сабинском языке называется quiris15. Или другой
пример. В последний год жизни Цезаря Августа его статуя
была разбита молнией; под статуей находилась
надпись «Cesar», первая буква которой отпала, а
остальные остались. Август спросил прорицателей-гаруспи-
ков, что это может значить. Они ответили, что ему
осталось жить не больше ста дней, о чем и
свидетельствует сбитая молнией буква «С», сам Август после
Инвективы против врана 263
смерти будет причислен к богам, ибо оставшиеся
буквы составили слово «esar», что на этрусском языке
означает бог16. Обойди сейчас Этрурию и землю сабинян,
спрашивай у каждого порога, что такое quìrìs и что
означает esar, подумают, что ты говоришь по-арабски.
Можно привести еще тысячу подобных примеров, но,
думаю, довольно. Вывод один: слова меняются, вещи
остаются, а науки основаны на вещах. Правда, грек
Аристотель бранил своих поэтов за какие-то
изменения, много подобного мы наблюдаем ныне у наших
теологов17.
А у латинских поэтов таких изменений нет. Разве
кто-то из наших отклонился от тропы Вергилия18? Уж
не Стаций ли Папиний, приказавший своей «Фиваиде»
следовать вергилиевой «Энеиде» и всегда
благоговевший перед проторенной ею тропой19?
Читай, несчастный, и перечитывай то известное
место из третьей книги «Риторики» Аристотеля, откуда
ты вывел свой плохо отшлифованный силлогизм; и не
выдергивай отдельные слова, не вникая в смысл, а
разбери все это место полностью. Если у тебя хватит
разума, ты, конечно, увидишь, что тот человек
пылкого ума в свойственной ему манере стремился охватить
все и высказаться о многом: о красноречии,
ораторском искусстве, поэтике, о различиях между ними, о
том, чего они должны избегать, о недостатках и
изъянах каждого. О том, что тебе прибредилось, он вовсе
не думал; сказав в заключение так: «Ясно, что мы
рассмотрели не все, касаемое красноречия, но лишь то,
что имеет отношение к теме», — то есть, что касается
ораторского искусства, которому посвящена
«Риторика». И добавлено пояснение: «Об этом же сказано в
книгах, посвященных поэзии».
Покинутый Аристотелем, ты вновь спешишь к
Боэцию и ищешь помощи в «соотносительности»20. Это
настолько смешно, что ты можешь показаться не
просто пьяным, а сумасшедшим. При чем тут твоя
неуместная и глупая соотносительность? И вот, прижатый
со всех сторон, встревоженный и не помнящий себя
от страха, — как тут не смеяться г- ты летишь за по-
264 Франческо Петрарка
мощью к врагу, призываешь к себе Присциана,
причем не на латинском, как следовало бы, языке, а на
родном, и самом просторечном21. Неотесанный
невежда! Велика нужда, коли ты просишь помощи у врага!
Нет, явно после соотносительности, за которую ты
ухватился, словно утопающий за соломинку, и далеко
после того, как Философия приказала уйти
«продажным актеркам», она и сказала: «Оставьте лечить и
врачевать его моим», то есть философским музам.
Об этом я говорил и в первой книге, и до сих пор
не могу увидеть никакой связи с соотносительностью;
речь идет совершенно о другом. И напрасно ты,
словно страус, прячешь голову в песок: невежество трудно
скрыть, разве что от невежд же. А уж такое и от них
не скроешь! Любой, едва переступивший порог
школы, мальчишка укажет на него пальцем. Впрочем,
почему бы не осквернить и грамматику тому, кто
запросто оскорбил философию?
Оглянись вокруг: музы присущи поэтам, в этом
никто никогда не сомневался. И лишь ты, безумец, не
видишь, что философия считает этих муз своими: ведь
недаром она назвала своим Еврипида и не
постыдилась объявить своим близким другом Лукана22.
Если бы это было не так, Аристотель, философ чуть
меньший, чем ты, не написал бы книгу о поэтике, в
которую, чует мое сердце, ты и не заглядывал и
которую, точно знаю, не понял бы, если бы и попытался.
Тот же Аристотель никогда бы не взялся толковать
Гомера, Цицерон — переводить, а некоторые
знаменитые писатели не захотели бы предпочесть его величие
философам. Никогда бы Анней Сенека с таким
рвением не сочинял трагедии, а первый из греческих
мудрецов Солон, склонный к виршам, не стремился бы
столь горячо продолжить занятия поэзией уже в
преклонном возрасте, после того как разработал для Афин
свои законы23.
Если бы Солон смог посвятить себя этому занятию
целиком, то он, по словам платоника Тимея, стал бы
поэтом, равным Гесиоду или Гомеру24, но гражданские
смуты помешали ему.
Инвективы против врача 265
Довольно, я слишком много говорил о вещах
известных* хотя тебе неведомых и непонятных, и
понимаю, что тратил время напрасно. Впрочем, я
обращаюсь не к тебе, а к читателю: насколько я хотел бы тебе
досадить, настолько ему *- прийтись по душе. Во всем
этом не было бы необходимости, если бы ты знал сам
или мог уразуметь со слов другого, как характеризуют
многие лицедейную часть поэзии; я и сам в ранних
произведениях рассматривал отличие поэзии
драматической от эпической.
Я писал, что почти во всех вещах, даже
нематериальных, есть свой осадок, как в вине или масле. Не
случайно же некоторые направления в философии и
некоторые философы обрели в народе дурную славу. К
ним относится Эпикур и все стадо эпикурейцев —
Аристипп, Гермак, Метродор и старый Иероним (не
тот, что занимает четвертое место среди учителей
церкви)25. По праву подвергались осуждению и более
знаменитые философы. Так апостол Павел, истинный
философ Христов, а за ним Августин, славнейший его
толкователь, и другие, перечислять которых нет
нужды, предают проклятию превозносимую другими
философию, поскольку никакая философия никогда не
будет и не может быть выше той, что ведет к истине.
Наши христиане обрели, Конечно, с божьей щедрой
помощью, высочайшую и непревзойденную славу и оказались
впереди всех философов с их бдениями и трудами.
И что же? Как связать между собой эти
противоположные вещи: философия осуждается с помощью
философии? Это не совсем так. Философию восхваляют,
но не всякую, а только истинную; ложную же
осуждают. «Но если она ложная, то это не философия».
Вполне согласен, но она может носить ложное
название философии. И от опасностей, с этим связанных,
предостерегает благочестивый и прозорливый апостол
Павел: «Смотрите, (братия), чтобы кто не увлек вас
философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»26.
Следуя ему, Августин в восьмой книге «Града Божия»
пишет буквально: «Но чтобы он не считал всех такими,
266 Франческо Петрарка
ему сказано тем же апостолом относительно
некоторых: "Либо, что можно знать о Боге, явно для них,
потому что Бог явил им. Либо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира чрез
рассматривание творений видимы, так что они безответны"»?7
Итак, сам Августин, следуя Павлу, говорит:
«Сочинения философов полны лжи и обмана»28. Ты думаешь,
что это обо всех? Нет! Ведь там же он дальше
одобрительно отзывается об учении платоников. И в той же
восьмой книге «Града Божьего», которую я только что
цитировал, приводит слова самого апостола,
говорящего афинянам «великое слово о Господе, которое
немногими может быть понято, ибо мы им живем, и
движемся, и существуем», и добавляющего в конце:
«как некоторые из ваших стихотворцев говорили»29. Но
Августин осуждает жертвоприношения платоников,
так как они, познавши Бога, не прославили его «и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих,
и омрачилось немысленное их сердце; называя себя
мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный тленному человеку, и
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся»30.
К чему я это говорю? Чтобы ты понял, что в
философии как целом восхваляется только одна сторона, да
и та не целиком. Потому оставь свои яростные
нападки: к этому варианту можно свести и все прочие вещи.
Но вернемся к началу разговора. В последней
шеренге поэтов стоят те, кого я называю драматическими
и к кому относятся слова Боэция и все вообще упреки
к поэзии. К ним и со стороны самих поэтов
отношение презрительное. Платон в книге «О государстве»
заявил, что поэты, какими бы хорошими они ни
считались, должны изгоняться из государства31.
Впрочем, он имел в виду не всех поэтов, а только
пишущих драмы, что становится ясно из его
рассуждений, приведенных Августином. Тот пишет: Платон
считал театральные представления «недостойными
величия и благости богов»32, замечая, что это можно
сказать о произведениях многих авторов его времени.
Обычное дело: дурного всегда больше, чем хорошего!
Инвективы против врача 267
Эти суждения Платона не просто не были во вред
эпическим и другим поэтам, они сослужили им
великую службу: ведь он, словно веяльщик, пришедший на
поэтический ток, сильным порывом своего слова
отделил зерно от мякины и плевел. Да разве их Гомер, или
наш Вергилий, или другие знаменитые поэты пачкали
перо драматическими сочинениями? Никогда!
Удивительным стилем, который я тщетно пытаюсь
разъяснить тебе, они писали о доблестях, о природе людей и
всех вещей, и вообще о человеческом совершенстве.
Нельзя сказать все же, что этих поэтов совершенно
не в чем упрекнуть, когда, как видим, и вожди
философов за многое справедливо порицаются. Впрочем-
здесь скорей виновато не занятие, а направление ума.
Кто не знает или кто станет отрицать, что как среди
философов, так и среди поэтов некоторые
растрачивали свой ум на пустое? И кто будет удивляться тому,
что до прихода истины33 возможны были заблуждения,
если даже, познав ее, некоторые великие католические
мужи сбивались с пути настолько, что становились
злейшими врагами этой истины? Как случается с
людьми необыкновенно острого ума, они хотели
проникнуть слишком глубоко, но чрезмерными усилиями
притупили остроту ума настолько, что не достигли
даже обычного уровня понимания.
Если же кто-то из друзей истины, без которой
ничего нельзя назвать истинным, так как, по словам
Августина, все^ истинное от истины истинно34, под
влиянием благочестивых чувств и с помощью муз захотел
бы украсить саму истину и восславить высоким слогом
жизнь Христа, или иную святыню, или даже что-то
мирское, естественно, не запретное, как уже и сделали
некоторые из наших, пользуясь только законами
стихосложения и никакими иными приемами
поэтического искусства, кто, по-твоему, мог бы лучше всего
осуществить подобное? Ответь мне, муж ученейший,
пожалуйста, но только обдумай хорошенько свои слова:
таков ли поэт, как я тебе описываю?
Нет ничего удивительного в том, что он может
найтись или нашелся — сам ли Гиппократ, будь он жив,
268 Франческо Петрарка
или один из врачей, всегда рассуждающий о моче,
даже пусть и глубже, чем ты. Думаю, ни один человек не
задумается над ответом, если он не совсем потерял
стыд.
Итак, не презирай, по обыкновению невежд, в
других того, что не можешь постичь сам, но отнесись с
почтением и уважением даже не столько к ученым и
самой науке, сколько к ее щедрому даятелю,
распределяющему дары по своему усмотрению и дающему
одним превзойти всех числом, другим —
исключительностью. Гордись, если угодно: я признаку что врачи
нужнее поэтов, и числом их больше. А поэты, в свою
очередь, будут довольны тем, что они менее необходимы
и что их меньше. Талант всегда редок, а выдающиеся
поэты — просто редчайшее явление. Ещё меньше только
ораторов: их можно перечесть на пальцах за все века, о
чем сказано в трактате Цицерона «Об ораторе»35.
Поэзия — особый род искусства: она, в отличие от
других, не допускает посредственности. Если
воспользоваться красивыми словами Горация,
не дали средним поэту быть ни бог, ни люди,
не дали и пилястры36.
Думаю, в этих словах веское объяснение редкости
поэтов. А если ты начнешь хвастать числом врачей и
необходимостью ремесла, припомни земледельцев и
многих других, превосходящих вас и числом, и
нужностью, чтобы стало ясно, что многим вы уступаете.
Тебя возмущает, что я ставлю рядом врачей и
земледельцев? Но это же делал и Аристотель: «не между
двумя врачами получается обмен, — пишет он, — а
между врачом и земледельцем, и вообще людьми,
занимающимися разными и неравными трудами»37.
Слышишь, как он сравнивает их и говорит как о
ком-то одного поля? Придется тебе из уважения к
Аристотелю проглотить это молча.
Тебе меньше понравится, если я вернусь к теме и
доведу свои рассуждения до конца, но все-таки
придется это сделать. Истина подгоняет упорствующее
перо, да и следует ли негодовать, если сказанное о фило-
Инвективы против врача 269
софах и поэтах я отнесу теперь ко всем
представителям «механических искусств»? Итак, и N среди
ремесленников есть свой осадок. «Что же это за осадок?» —
возопиешь ты к звездам. Отвечу: ты и есть осадок
среди ремесленников. Я готов без обиняков доказать это
прямо сейчас. Ты находишься на дне, лежишь внизу —
а именно там и место осадка. Назови ремесленные
искусства, и ты увидишь ниже себя только театральных
актеров. Впрочем, не столько я насмехаюсь над
скромными ремесленными искусствами, сколько ты
глумишься над самыми славными. Я знаю, нужды людей
многочисленны и неотлагательны, ведь не зря Давид,
знаменитый пророк и царь, обращается к Господу: «Из
нужд моих выведи меня»38.
И откуда бы ни приходила нам помощь в наших
нуждах, она от Бога. А кто не знает? что дары Его нужно
принимать благодарно и благоговейно? Сам ли Он нас
исцелил, опытный ли врач или старенькая травница —
как искусство исцеления, так нездоровье, приобретенное
и сохраненное с его помощью, — все дары Божьи.
Иными словами, я ничего не имею против
медицины как таковой. Я повторял это тысячу раз, и, видно,
мало. Обращусь вновь ко всем просвещенным людям:
не думайте, что я против врачей вообще: все, что я
говорю, — только против моего оппонента и ему подобных.
Остается ответить еще на один попрек: будто мне
нравится быть непонятным и будто я отказываю в
познании вещей толпе. Ты добавляешь еще, что поэты
писали о зависти богов человеческому роду, а
Аристотель их порицал за это39.
Что касается меня, то я не завидую совершенно
никому и больше боюсь стать объектом чужой зависти,
чем сам испытать ее к кому-то. Впрочем, адресуясь ко
мне, ты оговариваешь всех поэтов; ведь кому, как не
им, ты приписываешь слова о зависти богов? В таком
случае нечему удивляться: каковы же сами те, кто
считает богов завистливыми. И здесь ты, по своему
обычаю, далек от истины. Поэты склонны скорей к
дружбе и незлобивости, но никак не к зависти! Здесь не
место долго рассуждать на эту тему, но сколь безупре-
270 Франческо Петрарка
чен Вергилий! Сколько утонченности у Стация!
Сколько юмора у Овидия! Сколько прямодушия у Энния!
Сколько величия у Пакувия! Сколько сдержанности у
Горация! Сколько благочестия у Персия! Сколько
скромности у Лукана! Сколько любви к свободе и
твердости у Ювенала!40 Можно долго продолжать этот
список, но стрит ли? Уж я умолчу о греческих поэтах,
умолчу и о многих из наших правителей, посвятивших
себя сладостным музам, и прежде всего о поэтическом
вдохновении Августа, блистательней которого на троне
мирской власти свет не видел41. Кто здесь дерзнет
заговорить о зависти? Разве в душах столь великих
людей с такими блестящими именами может поселиться
ничтожная и тусклая зависть? А если их стиль с
непривычки покажется не совсем понятным, он таков не
из-за зависти, а из-за стремления подтолкнуть
усердную душу к благородным трудам.
А что же философы? Разве Аристотель или тот же
Платон, самый блистательный из всех, не могли
говорить понятнее? Уже не говорю о Гераклите,
получившем прозвище «Темный» из-за своей загадочности42. А
само Священное Писание, которое ты хоть и
ненавидишь, но боишься хулить из-за страха оказаться на
костре. Язык Священного Писания во многих местах
сложен и непонятен. Неужели Дух Святой, их
произносивший, создатель самихлюдей и мира, не мог сыскать
новые слова или найти более ясные среди существующих,
если бы пожелал? Даже Августин, обладавший великим
умом и самостоятельно освоивший многие науки и все
сказанное философами о десяти категориях, признается,
что не понял первой главы «Книги пророка Исайи»43.
Так что же, Святой Дух завистлив и не помогает
читателю? Кстати, тот же Августин специально пишет
об этой самой непонятности в одиннадцатой книге
«Града Божьего» так: «Темнота божественной речи
полезна в том отношении, что она приводит к весьма
многим истинным суждениям и вводит в свет знания,
когда один понимает ее так, другой иначе»44.
То же в толковании на Псалом 126: «Это изложено
иногда с некоторой темнотой для того, чтобы поро-
Инвективы против врача 271
дить много пониманий и чтобы люди оказались
богаче, встретив предложение, которое можно истолковать
многими способами, чем найдя одно только
истолкование»45.
И вновь об этом в толковании на Псалом 146, где он
говорит о Священном Писании так: «В нем нет никаких
искажений, но есть нечто темное, не для того чтобы
закрыть тебе доступ, а чтобы обострить понимание»46.
И немного спустя: «Не хочу восставать против
темноты и говорить: было бы лучше, если бы было
сказано таким-то образом; разве можно указать или
рассудить, как следовало сказать?»
Папа Григорий I Великий вторит Августину в
толковании на Иезекииля: «Велика польза от темноты
слова Божия, поскольку она шевелит ум, заставляет
его напрягаться, а напряжение — улавливать то, что
невнятно уму праздному. Во всем этом есть и нечто
большее: если бы понимание Священного Писания
было открыто всем, оно обесценилось бы; а чем
больше сил тратят душа и ум на постижение и
распутывание темных мест, тем сладостней оказывается итог»47.
Не буду повторять всего, что написано Григорием
Великим и другими по этому поводу.
Если сказанное верно в отношении Священного
Писания, обращенного ко всем, то что говорить о
произведениях, рассчитанных на немногих? Итак,
поэты сохраняют величие и благородство стиля ради
того, чтобы предложить читателю радостный труд,
помочь запоминанию и доставить наслаждение. Ведь то,
что дается с трудом, и дольше сохраняется, и дороже
стоит. Естественно, поэты меньше всего думают о тех,
кто не способен их понять. Ведь они, споткнувшись о
порог, дальше уже и не пытаются идти, если имеют
хоть каплю ума. Они отступают от этого занятия и
находят себе другие, особенно когда начнут делать
расчеты и увидят, что поэзия может доставить усладу
душе и славу, но не может принести прибыли. Не всем
дано заниматься поэзией, но лишь тем, кого природа
наградила талантом, а судьба — земными благами,
необходимыми повседневно, или таким нравственным
272 Франческо Петрарка
совершенством, при кртором все эти блага — ничто.
Вот так и происходит, что один становится
земледельцем, другой мореходом, третий врачом. Что же,
скажем, произойдет, если голова, в которой живет твой
ум, приложит себя к поэзии? Подумай, прежде всего,
что в этом за нужда? Здесь же ничего не продашь и ни
в чем не солжешь. А сколько насмешек придется
перенести? Сколько шуток от собратьев по ремеслу,
прежде чем выучишь, чья жена Эней у Вергилия?48
Итак, главная причина всего не в том, что поэту
выгодно быть непонятным, о чем ты выстраиваешь
свой кренящийся во все стороны и распадающийся
изнутри силлогизм, а в том, что поэты хотят, никого не
обманывая, нравиться лишь тем немногим, кто их
понимает, то есть образованным людям. Хочешь
убедиться, что все именно так? Автор больше всего
интересен тогда, когда смысл у него прорывается из
сокровенных тайников; для тебя и тебе подобных этот
смысл закрыт, недоступен и неведом, потому вы и
ненавидите поэзию. Впрочем, это скорее можно отнести
к прибыли, чем к убытку.
Итак, не порицай перо, доступное способному уму,
легкое для запоминания, но страшное для невежества.
Ведь даже по слову Божьему запрещено бросать
святыню псам и метать бисер перед свиньями49.
Определенно, та поэтическая зависть богов, о которой ты
поминаешь, — какая-то высокая и сокровенная тайна,
далекая от твоих домыслов. Кстати, поэты
приписывают богам не только зависть, но и ложь, враждебность,
низменные страсти. Ты победил, многомудрый софист:
я сознался в большем, чем ты ожидал. И поскольку ты
величаешь себя смертным и одаренным разумом
животным, хотя являешься только последним, попробуем
определить порядок вещей.
Несомненно, первыми богословами у всех народов
были поэты: об этом свидетельствуют величайшие из
философов; это подкрепляется авторитетом святых; на
это, наконец, указывает и само имя поэта, о чем ты,
скорей всего, не догадываешься. Среди них известней
всего Орфей, упоминаемый Августином в восемнадца-
Инвективы против врача 273
той книге «Града Божия»50. Кто-то может сказать: «Но
ведь поэты не смогли прийти к цели». Согласен. Ведь
совершенное познание истинного Бога зависит не от
человеческого стремления, а от небесной благодати.
Но достойно похвалы само стремление к желанной
вершине истины: поэты превзошли в нем даже
философов. Вероятно, эти усерднейшие искатели истины
достигли пределов доступного человеческому уму и,
постигнув, по словам апостола, приведенным выше,
невидимое через сотворенное, они получили какое-то
представление о первопричине и едином Боге. И
потом они всеми силами стремились исподволь убеждать
людей, что боги, почитаемые легкомысленной толпой, —
ложные. Правда, публично они не осмеливались на
это, ибо живая истина еще не осветила мир. Позднее,
как показал Августин в книге «Об истинной религии»,
так делали и философы51. Да и кто в здравом уме и
трезвой памяти будет почитать развратных и лживых
богов? И кто поверит в существование богов,
совершающих столь бесчестные поступки, что и людям
непростительны? И кто усомнится, что прегрешения,
лишающие, человечности людей, еще скорей лишат
божественности таких богов?
Гомер и Вергилий изобразили богов, ведущих
между собой войны. За это, по словам Корнелия Непота,
Гомера считали в Афинах безумцем52. Думаю, что это
было мнение толпы. Ученые же и мудрые люди
понимают: если богов много и между ними случаются
раздоры и войны, то неизбежно один выйдет
победителем, другой — побежденным; отсюда ясно, что
побежденный не бессмертен и не всемогущ и, значит, вовсе
не бог. Следовательно, есть только один Бог, и чернь,
думая иначе, обманывается. Если кто-то спросит,
почему было не осудить открыто безрассудство черни,
отвечу вместе с Августином: не мое дело судить, из-за
страха это не делалось или из-за того, что времени
были свойственны иные представления53. Я не удивлюсь,
если причиной этого был только страх, так как и
апостолы во времена Христа его испытывали, покуда Дух
Святой не снизошел на них. И твои слова о зависти
274 Франческо Петрарка .
богов нужно отнести туда же, куда и все прочее, и не
удивляться, зная слова псалмопевца «Все боги народов —
идолы» и слова Писания «Завистью диавола вошла в
мир смерть»54.
Так чем же удивительна зависть богов, никогда и не
существовавших без нее? И в чем вина поэтов,
рассказывающих о вещи, истинной и назидательной при
правильном понимании. И откуда этот упрек
Аристотеля, будто «много лгут певцы»?55 Да его ли это слова?
Я сейчас не помню этого места, и среди моих гор нет
«Метафизики»56. Но если это и так, то я не вижу
причин ни осуждать поэтов за вольность языка, ни
оправдывать зависть богов, тем более в книге, где
осуждается множественность начал и утверждается
единоначалие всего. Но я склонен думать, что ты понял это
место не лучше, чем остальные.
Хочу высказать близкую к истине догадку о древних
поэтах: если они верили в единого Бога, то у тебя нет
причин их обвинять; а если, веря в одного, они
взывали и даже почитали многих, обвинение справедливо. Я
их тоже не оправдываю, а виню вместе с философами.
Но, как было сказано, страх перед общественным
мнением, порою поражающий даже очень твердые души,
смягчает этот упрек. Хотя я не перестаю сомневаться,
что столь великие умы верили во множество богов. Но
предположим: верили. Неученый и упрямый судья
заранее вынесет приговор: значит, заблуждались. Так,
скорее, это вина времени и направления ума, а не
поэтического искусства, ведь заблуждение было
свойственно не только поэтам, но людям вообще, о чем уже
шла речь. В другое время, при другом образе мыслей и
при более явном действии благодати ничто не может
помешать поэту быть и красноречивым, и благочестивым.
Не оскорбительно ли для поэтов, что их защищают
от слабого и безоружного врага? Против твоих стрел
хватило бы усмешки, молчания и презрения, без
всяких слов. Меня заставило говорить одно: нежелание
дать тебе повод для торжества и триумфального
шествия по поводу падения муз и гибели священных
занятий в какой-нибудь клоаке, которая тебе вместо Капи-
Инвективы против врача 275
толия, под звуки урчащих желудков и свист
выпускаемых ветров, которые тебе вместо труб и
рукоплесканий восхищенной толпы57. «Не отвечай глупому по
глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным
ему», — наставляет мудрый Соломон и добавляет:
«Отвечай глупому по глупости его, чтобьд он не стал
мудрецом в глазах своих»5?! Первое заставило меня какое-
то время молчать, второе — заговорить, и, думаю,
напрасно. Ведь если ты перестанешь казаться себе
мудрецом, то начнешь умнеть, что совершенно
невероятно. Мудрость обретает только познавший себя самого
и возненавидевший свое невежество: именно сознание
своего невежества — начало совершенствования.
Признаюсь, к этим разговорам с тобой меня
подталкивает не столько задетая репутация и не столько
оскорбленная честь, сколько ревностное отношение к
истине и возмущение твоей болтливостью. Ведь все,
что касалось меня в твоем поношении поэтов, можно
было пропустить мимо ушей, поскольку я не
претендую на звание поэта, достичь которого при всем
усердии удавалось не всем великим мужам; хотя, если оно
выпадет мне на долю, отказываться не стану;
признаюсь, что в юности я к этому стремился. К моим же
нынешним занятиям твои насмешки не относятся59.
Я готов, что называется, «поклясться от клеветы»,
что семь лет назад запер книги поэтов и с тех пор не
открывал, не потому, что перестал получать
удовольствие от подобного чтения, а потому, что читать их уже
стало вроде бы излишним. Я прочел эти книги в свое
время, и они настолько вошли в меня, что уже не
уйдут, даже при желании. Не попрекай меня в похвальбе:
все дело в возрасте, а не в особой памяти. Освоив их
почти ребенком, я доныне убеждаюсь в
справедливости слов Августина относительно Вергилия, сказанных
в предисловии к «Граду Божьему»: «Дети читают
Вергилия для того, что величайший из всех поэт, самый
знаменитый и лучший, не легко может быть забыт,
если будет усвоен нежными душами, соответственно
известному изречению Горация:
276 Франческо Петрарка
Чем был однажды залит, надолго тот запах удержит
Свежий горшок»60.
Случается, правда, что человек и в старости
продолжает заниматься делами молодости.
Есть свое время для вызревания яблок и плодов,
свое — для наук и умов; незрелость последних гораздо
вредней и отвратительней, чем первых.
Итак, если я сейчас не читаю поэтов, то даю повод
к вопросу, что же делаю вместо этого? Глупость, как
правило, любопытна до чужой жизни и невнимательна
к собственной. Готов ответить, если ты не припишешь
мои слова надменности: стремлюсь стать лучше,
насколько это в моих силах. Понимая, что собственных
сил мало, прошу помощи у неба и нахожу великую
радость в чтений Священного Писания. Когда-то оно
внушило истинную веру Викторину, язычнику и уже
старику, с мольбой обратившемуся к Богу61. Почему же
и мне, христианину, оно не может дать крепость
истинной веры, силу для добрых дел и любовь к
счастливой жизни?
Тебе интересно знать, что я делаю? С великими
усилиями стремлюсь исправить ошибки прошлой
жизни; если мне это удастся, буду счастлив. Но пока,
сознаюсь, мне далеко до того, к чему страстно стремится
моя душа. Чем я еще занят? Поэтов не читаю, но для
потомков пишу и, довольствуясь редкой похвалой, с
презрением отношусь к язвительным уколам всяких
безумцев. Приведут меня занятия к желанной цели —
прекрасно, нет — одобрят сами благие намерения. И
если не смогу сделать ничего другого, хотя бы умудг
рюсь годами, если этого со мной еще не случилось. Ты
же, проклятый Богом столетний подросток и
высмеянный Сенекой старик-мальчик62, тратишь старость на
детские упражнения и до сих пор сшиваешь гнилыми
нитками беспомощные силлогизмы, которые любая
старуха распорет трясущимися руками. Тебя оставляет
равнодушным все, что не пахнет детскими пеленками.
Мои книжки ты называешь гомилиями, то есть
проповедями, надеясь этим опорочить мое имя, хотя
такое название принято у ученых и благочестивых му-
Инвективы против врача 277
жей. Впрочем; стоит ли удивляться, если ты,
пренебрегая их деяниями/ -презираешь и их слова? Гомилия -ь-
слово греческого происхождения и по-латЫни может
быть названо речью, обращенной к народу. Яу правда,
в тех произведениях обращаюсь не к народу, а к
твоему невежеству с желанием если уж не искоренить его у
тебя, то хотя бы лишить самоуверенности. Впрочем,
как требовать от тебя знания чужого языка, когда ты и
своего-то не разумеешь?'
Ты чувствуешь, как я веду твой процесс, настраивая
судей на оправдание наглого презрения к
благородному имени ввиду полного невежества? О, вечный
школяр-недоучка, никогда тебе не стать ученым и
магистром! Ну кто из образованных людей исхитрится
написать как ты? Почитай книги философов или
полюбопытствуй у тех, кто их читает: была ли хоть у кого-то
подобная манера изложения? Да, в их словах огромная
доказательная рила, но силлогизмов как таковых нет
или они очень редки; они говорят как мужи, потому
что давно вышли из детства. А умело скрытая тонкость
действует гораздо вернее, чем выставленная напоказ
ради хвастовства. Опять я выступаю твоим
защитником, пусть и непрошеным: они говорят в манере,
свойственной им, ты — тебе.
Вот, бесстыдный спорщик, ты заставил меня
ответить не только на твои сварливые речи, но и на
рассуждения, хотя некоторые из них я намеренно обошел.
Мне жаль тебя, ведь есть же что-то более достойное
сожаления, чем самонадеянное невежество. Но ты не
очень располагаешь к сочувствию: так хвастливо и
горделиво распоряжаешься своим жалким положением,
что сразу отбиваешь охоту тебя жалеть. Как же скрыть
то пустословие, с помощью которого ты пытаешься
доказать недоказуемое? Что тут можно поделать? Это
свойство выпирает из тебя, й, пока ты не замолкнешь,
его не утаить. Но какова дерзость ремесленника! Ты
объявляешь риторику своей жалкой служанкой. Тут
мало сделать внушение, надо просто сжечь; и
вразумить не словами, а плетьми. Ты впал в полное
безумие, врач! И поверь, сам нуждаешься во враче. Удиви-
278 Франческо Петрарка
тельно, что до сих пор не нашлось ни одного медика,
который бы позаботился о твоем, здоровье. Неужели
все до одного тебя ненавидят и ждут не дождутся
твоей погибели?
Риторику ты делаешь служанкой медицины, а ниже
мы увдцим, во что ты превращаешь саму медицину.
Нет, риторику тебе никогда не сделать ни служанкой,
ни подругой, ни рабыней. Давай послушаем твои
дивные речи. «Медицина и этика учат нас правильной
жизни». Пропади ты пропадом, изменник! Эко начал!
Общего с этикой у медицины нет ничего,
противоположного много. Разве медицина больше может научить
правильной жизни, чем, скажем, земледелие? Да в
тысячу раз меньше! Плохо ли жили когда-то в Риме
столько храбрых мужей, покоривших весь мир,
почитавших доблесть, попиравших порок? А ведь они
долгие века не знали врачей! Готов признать: жили дурно.
Но не потому, что нуждались во врачах земных, а
потому, что еще не познали небесного творца жизни. Во
всем прочем римляне жили лучше, чем другие народы,
среди которых вызывает восхищение лишь Дева
Мария, никогда не имевшая нужды в медиках.
Для чего, позволь спросить, ты смешиваешь
медицину с этикой? Знай свое место и не рвись за
пределы^ определенные тебе. Хотя и этика не может
вывести на правильный путь жизни, это дар свыше, от более
могущественной силы. Рассуждать на эту тему можно
много и серьезно, но у меня другие намерения.
Словом, играй в свои игры, но не трогай больше этику и
не забывай слов, сказанных прославленным
художником Апеллесом одному сапожнику, осмелившемуся
судить о вещах, ему недоступных63. Уж занимайся лучше
своей медициной. «Медицина, — продолжаешь ты
свое, — учит нас правильно жить; и мы не для того
живем, чтобы связно и красиво говорить, скорее,
постигаем искусство связной и красивой речи, чтобы
правильно жить. Значит, не медицина должна
соотноситься с этими искусствами, а скорее, они должны
служить медицине-^существовать ради нее». Отсюда
готов вывод: «Значит, они служанки медицины». Нече-
Инвективы против врача 279
го сказать, хорошенькое заключение! Ты уж метишь на
большее, чем грозился. Не только риторика, но все на
свете благородные искусства, и сама философия, и
теология, царица всех наук, будут служить тебе.
О, ремесленник! Если ты мне докажешь, что
медицина учит нас правильной жизни, то я соглашусь, что
все остальные искусства должны служить ей. Ведь они
имеют одно высшее предназначение: помогать найти
дорогу к правильной жизни, если нельзя сказать, что
учат ей. Если бы меня не душил смех и не сдерживали
приличия, я бы ответил на твой силлогизм как надо и
доказал, что ты — это ты, слуга самых низменных
вещей. Попробую сказать учтиво: если что-то обращено
к другой цели, относится к другому, изобретено ради
другого, то оно, по твоим словам, и должно ему
служить. Твоя медицина обращена к деньгам, с ними
соотносится и ради них придумана. Делай вывод,
диалектик: следовательно, она служанка денег. Радуйся,
на самом-то деле ты служишь еще более постыдному
делу, но стыд мешает сказать, какому именно.
Кто обучил тебя, назойливый спорщик, такой
манере доказательства? Ты отталкиваешься от ложной
посылки и того, с чем мы принципиально расходимся, —
есть ли больший порок в ведении доказательства? Во-
первых, как уже говорилось, медицина вообще
нисколько не способствует правильной жизни и пригодна
разве что для ремесленников, обслуживающих тело.
Во-вторых, кем определен сам предмет нашей
дискуссии? Не тревожат ли тебя тайные сомнения; помимо
того, что мы с тобой явно расходимся в оценке
медицины? Предположим, я тебе уступлю и признаю, что
медицина — благородное искусство, а ты —
прекрасный врач. Пусть медицина предпоследнее из
механических ремесел, но, ясное дело, первое из всех
искусств. Ну а ты, как последний из врачей и главный
врач медицины, конечно, глава всех медиков. И вам
только дай палец, то есть позволь немного
попользоваться услугами любого искусства и извлечь из этого
выгоду, как вы и руку откусите, то есть немедленно
обратите это искусство в служанку.
280 Франческо Петрарка
Что же дальше? В служанку можно превратить
астрологию и ее знание небесных тел как-то
приспособить в помощь жалким земным телам64. Или музыку,
заставив ее искать ритм и интервалы в человеческом
пульсе. Поскольку она вам может оказаться крайне
необходимой, вы к ней совершенно равнодушны и не
стремитесь познакомиться. Все по вашим правилам!
Вы стремитесь к тому, чего нельзя достичь, к чему
нельзя стремиться. Вы хотите быть риторами на смех
Цицерону, при негодовании Демосфена, под плач
Гиппократа, на погибель народа.
Не буду задерживаться на деталях, вернусь к сути
нашего спора. Итак, все искусства, как бы славны и
благородны они ни были, ты превращаешь в рабов
твоего низкого и продажного ремесла на том
основании, что они кажутся тебе полезными и
необходимыми, но в отношении риторики этого сказать никак
нельзя. А значит, превратить в рабыню тоже. Ведь она
никак не поможет ни в одном из твоих устремлений,
более того, будет сильно мешать. Зачем больному
длинные речи? Ему чуть не каждое слово в тягость,
если оно не идет от доброго сердца и не становится
подспорьем медицины. Или начнем обращаться с
цветистыми речами к аптекарям, которым с двух слов все ясно.
Остается одно, ради чего сложно оправдать твое
стремление к недоступному тебе красноречию: ты
надеешься с его помощью скрыть свои слабые
медицинские познания и свою неопытность. Скажем, если
больной умрет по твоей вине, ты будешь красноречиво
доказывать, что виноват сам больной, сиделка или
природа; а может, утешать родственников в
причиненном тобой самим горе. Соглашусь, что оратор и
риторы должны уметь делать и то, и другое. Обвинять,
оправдывать, утешать, заставлять негодовать,
успокаивать, вызывать и высушивать слезы, разжигать и гасить
гнев, приукрашивать факты, отвращать бесчестие,
отводить вину, вызывать подозрения — все это дело
ораторов. Но разве и врачей? Ах, да! Если риторика
служит тебе, то придется тебе уступить и все, чем она
владеет, равно как и все, чем владеют ораторы. И то-
Инвективы против врача 281
гда в твоих руках больше возможностей, чем мне
казалось: ты можешь убить и — странно вымолвить —
обвинить невинно убиенного.
Правда, вот и я ныне, непонятно как, из твоего
обвинителя превратился в защитника. Так что мешает
тебе, человеку большого и острого ума, стать
оратором, как ты уже стал философом и врачом, и
прославить себя на этом поприще? Чем ты хуже Цицерона?
Он обвиняет Клодия и Верреса, громит в инвективах
Катилину, в филиппиках — Антония, людей сильных и
необузданных, всегда готовых к мщению, а ведь им
ставились в вину множество тяжких преступлений, в
том числе — против республики65. Почему бы и тебе
решительно не обвинить хоть одного покойника, не
способного ни отомстить, ни ответить, в том, что он
убил себя сам? Опять же, Цицерон успешно занимался
еще и защитой в тяжелых уголовных делах: он
оправдывал царя Дейотара, Планция, Квинта Лигария, Ми-
лона, множество других66. Почему бы и тебе не
оправдать самого себя? Наконец, Цицерон пытался
подбодрять себя после смерти единственной и горячо любимой
дочери. Почему бы и тебе не подбодрить других людей,
скорбящих по умершим из-за твоего равнодушия?
Легко оправдываться трму, кто лишен стыда; легко
утешать тому, кто сам не скорбит. Впрочем, каждый
скорее оправдывает себя, чем другого, и, наоборот,
каждый скорее утешит другого, чем себя. Одним словом,
если тебя это занимает, изучай книги риторов. Ты
хочешь быть господином риторики, поскольку она для
тебя все, ты без нее — ничто. Ведь ежедневно ты
делаешь что-нибудь такое, в чем без защитника не
обойтись тебе и без утешения — другому.
Но если ты тот, кем себя называешь публично, то
есть врач, а не свой собственный защитник и не
утешитель других, если ты, как полагается, больше
заботишься о состоянии больного, а не о рукоплескании
толпы, то в чем твоя цель? О чем ты помышляешь?
Что делаешь? И что тебе до всего прочего, лежащего
вне сферы твоих интересов? Разве совесть не
напоминает тебе постоянно: «Тот, с кем ты шутишь, болен»?
282 Франнеско Петрарка
Ты называешь себя врачом: зачем слова? Исцеляй,
врач, исцеляй, в который раз повторяю. Риторика,
которую тебе хочется сделать своей рабыней, твой враг.
Как только вы устремляетесь в риторы и поэты, вы
перестаете быть врачами. Впрочем, это у нас с тобой
старая песня. Подумай еще и еще раз над своими
силлогизмами: они ничтожны и пусты. Они не
доказывают, что тебе требуется. А если бы доказывали, то
принесли бы позор тебе, опасность и вред больным.
Лучше делай вид, что риторика для тебя — незнакомка, а
не твоя рабыня. Увы, ее яркий свет слепит твои глаза
и заставляет казаться тем, чем быть невыгодно и
вредно. Или ты руководствуешься тяжеловесным и
общезначимым силлогизмом, лишенным логики? Изволь:
как разумная душа, если она не утратила разума,
приказывает телу, а тело ей служит, так и все искусства,
созданные для души, приказывают тем, что созданы
для тела, а эти последние им служат. Напомню, что
для души изобретены свободные искусства, а для тела —
ремесленные или механические. Каков же вывод,
диалектик: риторика — раба медицины или все наоборот?
За что боролся? Но, может, пока я с тобой шучу, ты в
раздражении все перевернешь и вывод будет
противоположным?
Давай перестанем играть в прятки, хочу сказать
тебе все, как есть, не боясь твоего зубовного скрежета,
брызганья слюной и угроз погубить меня
таинственными снадобьями. И тебе, а еще больше больным
пойдет на пользу твое молчание. И пусть бы какой-нибудь
радетель общего дела исправил ошибку природы,
оставившей тебя с языком, и прижег бы его раскаленными
углями, взятыми клещами из жертвенника67. Поделом
было бы этому хвастливому языку, с трудом
ворочающемуся в твоих поищых устах. Тогда бы ты, наконец,
вспомнил, что главная обязанность врача лечить, а не
проповедовать. Тем более, что все проповеди кончаются
одним: твоим бесславием и чужой смертью.
Нет, не случайно Вергилий назвал медицину
немой68: не доброго имени он ее лишал, а напоминал
врачам о немногословности. Вы же своим бесстыдст-
Инвективы против врача 283
вом унизили ее настолько, что вас называют не иначе,
как шарлатанами и болтунами. И это имя, закрепленное
гражданским правом, навсегда сохранится за вами69.
Древние врачи лечили молча, вы же убиваете с
речами, спорами и возгласами. Вот это ваша медицина,
вот это ваша риторика. И хотя ни одна профессия не
нуждается в риторических прикрасах меньше, чем
ваша, и ни одна не лишена их в такой степени, как
ваша, вы упорно хотите слыть и риторами, и поэтами, и
апостолами, и оживителями, ничего собой не
представляя, кроме пустословов и пошляков. Когда-то
лечили без силлогизмов и поднимали на ноги
безнадежно больных, чем и ты хвалишься, без тени смущения
за вранье. Это с тех времен, а не с ваших идет легенда
о воскрешении Эскулапом Ипполита, когда этот
великий врач как бы вырвал его из лап смерти70. Как все
изменилось с тех пор! От ваших рук, перебирающих
силлогизмы, погибают те, которые без вашей помощи
выжили бы. Я уже много раз сотрясал воздух советом:
лечите, исцеляйте, оставьте искусство слова тем, кому
оно ближе, коли оно вам не по зубам. Верну тебе твой
совет сторицей: ты мне рекомендуешь вторгаться в
чужие пределы, я убеждаю тебя возвратиться в
собственные. Ты мне советуешь бросить прежние занятия и
стать врачом, что мало заманчиво, а я тебе —• никогда
больше не лезть в риторику и стать, наконец, врачом,
которым ты себя пока только мнишь. Изящные
выражения нужны врачу как корове седло или ослу медали.
Впрочем, ты сделал все, чтобы остаться совершенно
неуязвимым: кто назовет красноречивым себя, тот
признает чистоплотной свинью, быстроногой черепаху
и белой ворону. Красноречия у тебя не было и нет,
есть лишь дурно пахнущие потуги на красноречие и
болтливость, несвойственная ей.
Вот что я имел в виду, когда заявил, что
красноречие нужно не врачу, а скорей уж мореходу, без
риторики, но на опыте приобретающему способности вести
переговоры должным образом. Поэтому я тебя и
спрашивал в первой книге, не лучше ли риторику
подчинить мореходству, если уж ты хочешь отдать ее в услу-
284 Франческо Петрарка
жение ремесленным искусствам? Ты, как полагается
невежде, не понял вопроса и курам на смех дал
совершенно пустой ответ.
КНИГА IV
Я сознательно оставил под конец самую
интересную для меня сторону твоих злословий, но не потому,
что у тебя они тоже завершают спор: о твоих логике,
уме и стиле ты уже слышал мое мнение1.
Мне просто хотелось без помех остановиться на
твоих укорах, касающихся уединенной жизни,
поскольку ты упрекаешь меня в ней, словно в чем-то
постыдном. Заодно всем станет окончательно ясно,
сколь великим другом наук и добродетелей ты
являешься. Вот потому я сначала обсудил все остальное, а
теперь приступаю к этому.
Я написал об уединенной жизни две книги, они не
дошли до твоих рук; полагаю, что и не дойдут, и не
хотел бы, чтобы дошли2. Но твое полное невежество в
этом вопросе заставляет дать некоторые пояснения.
Итак, если ты не сумасшедший, то просто не ведаешь,
что творишь! Ты возносишь тех, кого хотел выругать!
Нечему удивляться: ведь тех, кого хотел исцелить, ты
губишь, а если бы хотел кого-то погубить, сделал бы
бессмертным. Ты настолько лишен чувства
прекрасного и добродетельных качеств, что и уединенную жизнь
восхвалил, пытаясь замысловатой бранью опорочить
ее. Из того, что должно было выглядеть плохим,
получилось очень хорошее,
С твоим главным обвинением я полностью
согласен: да, я приверженец уединенной жизни; таким
создала меня природа, к ней присоединились ее
соперница привычка, стремление жить именно так и многие
усилия для осуществления этой цели. Моя душа всегда
с презрением относилась к вещам, держащим таких,
как ты, больных, слабых, полуживых, в плену городов.
Да, я склонен к уединению и, более того, рад этому и
едва ли пойму прелесть городского шума и грохота.
Инвективы против врача 285
Замечу и еще одно, тебе мало приятное: я не понимаю
человека, осрбенно ученых занятий, который не ищет
убежища от докучных забот в уединении и не спешит
туда, словно в гавань, едва выпадает свободное время.
Итак, по словам Цицерона, в твоих руках
сознавшийся подсудимый3 — что еще нужно обвинителю? И
не только сознавшийся, но добровольно назвавший
еще кучу совершенных им преступлений. Но подожди,
не торопись ликовать: нередко обвинитель приводил
доказательства, которые лучше было бы оставить при
себе, и, считая себя выигравшим дело, оказывался в
проигрыше. Ты показал с моего согласия и одобрения
все, что было задумано, но пока плохо представляешь,
на чью голову, твою или мою, выльется бесславие.
Сходи, старый мальчик, к своему педагогу,
посоветуйся с ним. Многие твои силлогизмы хромают
настолько, что ты предстаешь то великим насмешником над
уединенной жизнью, то великим ее приверженцем.
Итак, не бойся, начинай! Сам ты логик, философия
в твоих руках, риторика тебе прислуживает, и — это
вне подозрений — ты величайший врач. Изготовь
смехотворный силлогизм, как ты обычно готовишь свое
загоняющее в гроб питье, и, если иначе не получается,
скажи хотя бы так: «Зло противится природе, значит,
природа — добро; жизнь в уединении противна
природе, поскольку человек есть животное общественное,
значит, уединение — зло». И добавь: «Известно, что
несчастье состоит в лишении благ; в городах благ
множество, уединение этих городских благ лишено;
значит, уединение — несчастье». Ну а завершить можно
такими рассуждениями: «То полезно, что многим
приносит пользу, то бесполезно, что никому не приносит
пользы. Благой муж, живущий в городе, помогает
многим, хотя бы своим примером; муж, живущий в
уединении или добровольной сельской простоте, не помогает,
по словам Иеронцма, никому, кроме себя4. Значит,
жизнь в уединении.и сельской местности бесполезна».
Смотри, как опасно связываться с глупцом. Ради
шутки и сам опускаешься до твоих нелепостей и, пока
споришь с тобой, тебе и уподобляешься. Одно проща-
286 Франческо Петрарка
ет: я говорю от твоего имени. Должен признаться,
правда, к каким бы приемам я ни прибегал, как бы ни
ухищрялся, твой стиль воспроизвести не в состоянии,
и это сразу видно.
Ты насвистываешь мне в уши такие
терапевтические штучки, за которые и Цицерона не грех спихнуть
с трибуны. А я за тебя сплел силлогизм, так как
изготовленные тобой отдавали бы вонючими лекарствами
и выворачивали наизнанку. Оно, конечно, лучше бы,
посмеиваясь, оставить без внимания эти
мальчишеские софистические ловушки и детские высказывания.
Но с детьми положено говорить по-детски, время от
времени сюсюкая, как это делают кормилицы. Так мы
и поступим.
Сейчас не стоит вопрос о том, что делать лучше —
следовать природе или по временам сопротивляться ей
изо всех сил. Ведь ты, глава философов, уже
рассматривал его в каком-то из своих трудов. Ясное дело,
столь великий философ не мог пройти мимо такого
философского вопроса. Но если лучше следовать
природе, а человек по природе животное общественное,
то хорошо известно, что уединенная жизнь людей,
посвятивших себя наукам, каких не часто встретишь, не
только не приносит обществу вреда, но во многом ему
полезна. Один живущий в уединении человек делает
для общества и государства больше, чем сотня
отирающихся по притонам, кабакам и публичным домам.
Ведь мы говорим не об уединении, враждебном
людям, вроде того, что вел ненавистный всем Беллеро-
фонт или неведомый толком даже по имени Тимон,
забросанный афинянами камнями за презрение к
дружбе и антипатию ко всем5.
Мы имеем в виду не такое уединение, но
спокойное, простое, избегающее человеческих пороков, но не
человечности. Вот ты носишься сейчас по улицам и
площадям и считаешь меня, живущего в уединении,
бесчеловечным. Мы что, созданы для беготни?
Послушай внимательно: тебе ежедневно досаждают тысячи
людей, меня издавна уважают многие и лучшие при
том мужи. Не подумай, что я попусту хвалюсь, это все
Инвективы против врача 287
знают: многие важные мужи находили время навестить
меня в моем уединении и с удовольствием здесь
бывали ради меня одного или присылали из самых далеких
краев гонцов, чтобы узнать о моих делах. А с тобой им
не о чем было бы поговорить и в городе, если бы ты
этого и захотел: боюсь, ты бы встретил более чем
сдержанный прием. Хорошо, хорошо, оставим эту
неприятную тебе тему.
Я завел разговор не ради похвальбы, ведь всякое
уважение исходит от уважающего, а ради дела: ясно,
что и в городах могут высоко цениться многие
приверженцы деревенской жизни и могут быть ненавистны
многие приверженцы городской. Потому знай,
уединенная Жизнь не враждебна обществу и ко мне,
живущему в уединении, прекрасно относятся самые
достойные люди. Не думаю, что они полюбили бы меня
больше, если бы я бегал вроде тебя туда-сюда, забывая
об отдыхе и обеде, приставая бы ко всем, забивая
голову всякой ерундой, мешая отдыхать, скача от порога
к порогу и добивая своей назойливостью попавшихся
под руку в полном соответствии со словами Горация:
«Точно пиявка, пока не напьется полна, не отстанет»6.
Я не собираюсь поднимать вечный вопрос о том,
что люди, живущие в уединении, лишены городских
благ; спор этот начали еще стоики и перипатетики, и
ему не видно конца, если одни стоят на том, что
доблесть — высшее благо, другие, — что просто благо7.
Если это так, то всякий поймет, скольких благ
лишена уединенная жизнь, как только примется
перечислять и измерять городские блага8.
Дабы не возобновлять спора, я просто соглашусь с
тобой — первым после Аристотеля, и по времени, и по талан-
iy, перипатетиком, непревзойденным, к тому же, в логике.
Соглашусь, что и помимо доблести города
изобилуют многими благами: дорогими для вас публичными
домами, банями, мясными рынками, медовухой,
салом, приправами и пр., и пр.
Для истинных и настоящих философов великое
счастье держаться подальше от всего этого, тем более, что
уединение позволяет избежать и городских зол.
288 Франческо Петрарка
«Каких?» — спросишь ты. Да мыслимо ли все
перечислить? Ясно, что их множество. Ведь они заставили
бежать из городов в пустынное место не какого-то
заурядного мужа, но самого царя Давида, если
обратиться к библейским истокам9.
Какие же дурные вещи побудили его к этому?
Конечно, беззаконие и разлад в государстве, и
напряжение в самом его центре, и несправедливость, и
ростовщичество, угнездившееся на городских площадях, и
хитрость. Нужно ли говорить, что отсюда следует?
Добродетельная сельская жизнь приносит пользу
только самой себе. Верно. А уединение, посвященное
наукам, может принести пользу очень многим. Об
этом говорил сам Иероним; известно, как он любил
уединение и какую великую пользу принес миру
оттуда10. Не все такие, как Иероним, но даже если в
уединении не вершится что-то великое, жизнь там
спокойна и непорочна, без тех волнений и страстей,
которыми полны городские портики и театры. Разве этого
мало? Мне гораздо больше по душе спасти свою душу
одному, чем погибнуть вместе со всеми.
Об этом довольно. Пора передать тебя,
нездорового, твоим больным, чтобы вы доконали друг друга.
Уединение лишено многих пустых удовольствий, но
наполнено особыми наслаждениями: покоем,
свободой, досугом. По словам Сенеки, «досуг без занятий
науками — смерть и погребение заживо»11. Невежда,
живущий в уединении, если только он не посвятит
себя целиком Христу, и без всяких оков будет словно
связанным, где бы он ни жил. Отсюда неудивительно,
что тебе противен этот образ жизни. Ты тоже будешь
считать время до обеда, ужина или сна, и все. Здесь
некого обманывать и не с кем громогласно спорить.
Ведь к тебе вряд ли кто-то заглянул бы, а рассуждать
сам с собою ты не научился. Это присуще немногим, и,
похоже, в твоих местах таких мало, если вообще есть.
Если бы ты знал, как хорошо и благодатно в
уединении при моей любви к наукам и как привольно
моей душе, ты возненавидел бы час своего рождения,
ввергнувшего тебя в эту жалкую и несчастную жизнь,
вовлекшего в великие хлопоты ради невеликих денег.
Инвективы против врача 289
Итак, что ты там говорил, жалкий старец? За что
осуждал меня? Уединенную жизнь любили патриархи,
пророки, святые, философы, поэты, знаменитые
полководцы и императоры. Уединения бежит лишь тот,
кто не умеет быть с самим собой, ненавидит лишь тот,
кто там одинок, и страшится лишь тот, кто не знает,
чем себя занять.
Кто находит радости в толпе, имеет много причин
для печали в уединении. И совершенно несчастен тот,
кто ждет счастья от несчастных. О, ничтожный врач,
ты называешь себя философом, и потому знатоком
природы, так-то ты усвоил, где находится истинное
счастье? В толпе, шуме и криках, театральных
рукоплесканиях, восторгах черни, богатых экипажах,
сотрясающих дома, площадях, залитых кровью, чаде
дымящих харчевен, множестве пропахших чадом
поваров, колдующих с заморскими пряностями, самых
активных, после вас, пособников смерти? Ни в чем этом
не найти счастья. В глубине души таится и наше
счастье, и наше несчастье. Лучше поэта не скажешь: «Вне
себя самого не ищи ты»12.
А душе лучше всего тогда, когда она отбрасывает в
сторону жизненные помехи и путы и обращается,
наконец, вольная и освобожденная, к Богу и самой себе.
Пока мы живем в бренном мире, лучшее место для этого —
уединение. Ты этого не поймешь, но всякий испытавший
такую жизнь обязательно подтвердит. Августин
вспоминает известные суждения Платона: «Истина не видна
телесным очам; она воспринимается чистым разумом. Если
душа соприкасается с истиной, она блаженна и
совершенна; больше всего восприятию истины мешает жизнь,
преданная жизненным страстям»13,
Эта же мысль, изящно укутанная покровом
аллегорий, встречается у Вергилия14, которого ты
воспринимаешь как нетопырь орла или обезьяна льва. Я
пропущу это место, дабы не отягощать твой умишко
громадой дела.
Платон же воспринял это учение от великого и
славного мужа Архита Тарентского, прибыв в Италию
для знакомства с ним и другими пифагорейцами15.
10 — 2Ч5.Ч
290 Франческа Петрарка
Он, судя по словам, приведенным Цицероном,
считал, что самая опасная язва, приготовленная природой
людям, — плотские наслаждения. Перечислив
гнусности, коренящиеся в наслаждениях, он добавил:
«Природа или какое-то божество даровало человеку разум,
самое прекрасное свойство; и нет ничего враждебней
этому божественному дару, чем плотское наслаждение.
Похоть не оставляет места воздержанию, да и вообще в
царстве наслаждения доблесть прижиться не может»16.
Согласные с этим стремятся изо всех сил избегать
вещей, мешающих душе становиться благой и
совершенной, и искать доблесть в собственных пределах, а
не противоположных, Приходится признать, что город —
это клоака похотей, где ключом бьют соблазны
постыдных плотских наслаждений. Не стану следовать
твоей манере и делать жалкие детские заключения.
Сделай вывод сам, хоть ты и плюешь на логику. И
чтобы не выглядеть надоедливым, хочу теперь же
простить тебе твои суждения.
Пожалуй, ненависть к уединению естественна для
ремесленника. И ты занимаешься тем, что тебе
подходит. Где же еще тебе показывать ценность твоего
дарования, как не в толпе дураков? Здесь ты можешь и
голодать: целый год вранья не даст тебе пищи и на день.
Поэтому ты правильно делаешь, избегая места,
совершенно непохожего на привычное тебе. Одно плохо: ты
не видишь различий между учеными людьми и
ремесленниками. Позволь жить в уединении тем, кто не
боится бедности и не благоговеет перед богатством,
радуясь золотой середине, кто получает высокое
наслаждение от книг, своего дарования и благородных
порывов души.
Тебе ведь ничто не мешает жить в таком месте, где
ты на самом виду и где ты с утра окружен шумной и
назойливой толпой продажных женщин. Сжав бледные
губы, наморщив брови, испуская вздохи, ты, словно
судья, исследуешь ночную мочу разных людей и,
наконец, покачав головой, изрекаешь приговор: «Умрет —
не умрет». Если приговор не будет приведен в
исполнение, у тебя оправдание всегда наготове. Если же
Инвективы против врача 29_1
случится по твоему слову — ведь его величество случай
существует, вот ты запрыгаешь от радости и
раздуешься от гордости. Куда до тебя Аполлону или
Дельфийскому оракулу17.
Итак, ты вполне разумен и избрал место, лучше
всего подходящее тебе. Живут в городах правители,
судьи и те, кто призван обуздывать дурные нравы толпы.
Их присутствие там оправдывается общественной
необходимостью. Живут там и иные, кто обременен
другими тяжкими занятиями. Их присутствие там
оправдывается собственной необходимостью. Живут там
искатели наслаждений и любовных приключений,
которым по нраву вертепы и сытые харчевни, как говорил
Гораций18. Живут там плуты, мимы, воры и другие
люди подобного сорта. Живут там, наконец, и
ремесленники, и у всех на уме одно: обмануть или поживиться.
У тебя на уме и то и другое. Потому избегай
уединения и хвали города, только там ты можешь получить
желанное. Более того, старайся всегда быть в центре.
Что еще? Берегись ученых, они для тебя опасны; живи
среди глупцов. Любит охотник леса, рыболов — реки;
волк — преследовать беззащитное стадо; шарлатан,
мим, вор, обманщик — вертеться вокруг богатых,
глупых и доверчивых. Самое страшное для шарлатана —
оказаться пойманным на крючок. Отсюда, вижу я,
потому как не совсем уж простолюдин, хоть и живу в
деревне, отсюда, говорю, яд пролит в твое нутро и не
позволяет тебе успокоиться.
Когда я узнал, что великий понтифик с одной
стороны придавлен болезнью, а с другой — ложью и
невежеством некоторых людей, я честно, но, как позже
выяснилось, напрасно обратил его внимание на это.
Правда, в тот момент он спасся, однако вскоре вновь
попал в те же сети, то ли забыв о полезном совете, то
ли не пожелав им воспользоваться. Он полностью
отдался вам в руки. А потом, как нередко бывает,
победило худшее большинство, получило перевес твое и
прочих невежд мнение, и вы начали лечить его
неподходящими лекарствами и неумеренными, как я
слышал, кровопусканиями, с помощью которых быстро
К)
292 Франческо Петрарка
освободили его от должности понтифика, хотя он мог
пожить еще19. Словом, церковь быстро сменила своего
главу, и прежде, чем мы вступили в борьбу, он
скончался не без твоей помощи, что и было причиной этой
борьбы. Ты говоришь, что с чьей-то стороны
слышались серьезные предупреждения? Естественно, не я
один понимаю ваши штучки, что же ты гневаешься
только на меня? Не потому ли, что я один из
присутствующих осмелился подать голос в надежде обратить
внимание понтифика на обман? У тебя, шарлатан,
есть повод для ярости: признаюсь, я хотел вывести
тебя на чистую воду вместе с твоими порошками и
шнурками и доказать, что им место в помойке. И я бы
сделал это, да мне не поверили.
Об одном не могу допроситься, хотя уж отбил весь
язык: не трогай великих поэтов. Если ты в своей
невежественной ярости ополчился против меня, то при
чем тут поэты: ты не знаешь ни одного из них, и удел
твой не позволит узнать их никогда. По твоим словам,
я поэт; допустим, что это, действительно, так. Ну и
что? Твое раздражение вызвано вовсе не моими
колючими стихотворными строчками или поэтической
остротой, а словами вполне прозаическими и не
связанными с ритмами. Более того, и прозаическая-то речь
была адресована не тебе, а другому лицу. Думаю, это и
усилило раздражение. Я говорил в этой речи вообще о
невеждах и спорщиках, еще не зная, в тот момент, что
ты первый из них.
Не устану говорить и тебе: напрасно ты пытаешься
оплевать поэтов, это все равно, что хлестать кнутом
воздух или перекрикивать сильный ветер. Ты ведь не
поэтами обижен. О, дубовые твои мозги! Неужели это
так трудно понять, господин философии и логики? И
нечего удивляться, когда тебя называют глухим,
слепым, да еще и каменным! Клянусь, мне приятней
говорить с любым из утесов, нависающих над Соргой,
чем с тобой20.
Утес, конечно, молчит, но ведь и тебе нечего
ответить на мои вопросы. Я вызвал в тебе раздражение, и
поэзия тут не виновата. Пусть я поэт, но та острая
Инвективы против врача 293
стрела с жалом истины на конце, глубоко пробившая
твою грудь; была послана не. поэтическим луком> а
безоружной рукой и словами ясными и простыми.
Позволь спросить тебя, великий философ: если бы
музыкант вызвал твое недовольство не пением, а
словами, ты считал бы виновными Аристоксена и
музыку21? А если бы астроном стукнул тебя по лысине не
медным квадрантом, а дубовой палкой, ты бы стал
бранить Птолемея22? Или пахарь ударил тебя не
плугом, а камнем, ты бы поносил Гесиода и Палладия23?
Или рыбак уколол не крючком, а мечом, ты бы стал
чернить апостолов Петра и Андрея24? Тогда мне
остается порочить Гиппократа и Асклепия только потому,
что мне надоел ты25? Не лучше ли разить самого
противника, даже если из-за него ты ненавидишь весь
человеческий род, чтобы не обращать в своих врагов
всех, несхожих с тобой?
Пока ты нападал на меня, в тебе говорило
раздражение, а как начал оскорблять поэзию — заговорило
бешенство. Вынужден повторить тебе это еще раз:
может, от частого повторения затвердится то, что не
усваивается умом. И то и другое показывает, что ты
беден не только образованностью, но и разумом.
Раз уж исчезла печальная причина для ненависти,
пощади и меня вместе с поэтами. До сих пор я
пытался противодействовать тебе, но не мог; а теперь что
противодействовать? Ведь наш новый понтифик, если
верить слухам, ценит твою болтовню ровно столько,
сколько она стоит, и умело избегает козней то ли
интуитивно, то ли из-за необычности ситуации261.
Можно бы на этом и завершить, но неиссякаемый
поток твоего красноречия заставляет продолжать: ты
так остроумно и искусно приковываешь к себе, что
невозможно оторваться. Да и попробуй не
отреагировать, скажем, на твою шутку о том, что я обручился с
Соргой27 О, знаменитый философ, я выбираю не
место, а спокойствие души и свободу, вещи, тебе
неведомые. И в их поисках я готов дойти до верховьев Нила,
не только до Copra. Мне не в тягость дойти до мест,
куда не сумели дойти Александр Македонский или
294 Франческо Петрарка
Камбиз28. Ни дикая жара, ни отсутствие провианта,
остановившие великих царей, не помешают мне достичь
цели. Я пойду туда один, претерплю самый страшный
голод и самую страшную жару, если меня будут ждать
в конце пути свобода и спокойствие души.
Ты можешь спросить, почему я живу в таком
суровом месте, хотя мог бы найти уголок в местах с
теплым и мягким климатом. Любой отчет о моей жизни я
начинаю с одного: надо мной никогда не висела плеть
и я никогда не шел против собственной воли. Боюсь,
что тебе не понять, почему Сципиону, по словам
Сенеки, достойней было находиться в ссылке в Литерно,
чем в Байях29.
Если человек любит что-то одно, он по своей воле
не поспешит за противоположным. Значит, тот, кто
стремится к доблести (увы, ее у меня нет, и это
причина моих печалей) или хотел бы ее приобрести (я бы,
с твоего позволения, отнес себя к подобным людям),
не станет по своей воле жить там, где царят
развлечения и удовольствия, враждебные доблести.
Ты вновь спросишь: «Что же, в городах нет
хороших людей?» Нет, я этого не утверждаю, но дурных
людей там бесчисленное множество, и по возможности
надо держаться от них подальше не только тому, кто
чего-то добивается, но и тому, кто уже достиг своей цели.
Я ведь не сослан в деревню и оказываюсь в городе,
как только захочу, а по просьбам друзей даже чаще,
чем надо. Но при смене мест я избегаю неприятных
вещей. Причину моих наездов в город ты узнал, теперь
настал твой черед сообщить резоны, заставляющие
тебя посещать все притоны. Ты ответишь, что
исцеляешь общество; согласен, оно больно, но уверен, что
излечить его тебе не под силу, разве что начнешь
ежедневно удалять из него многих безумцев, как удаляют
жидкость из опухшего тела30?
Обратимся к очередным твоим измышлениям,
способным порадовать и заставить забыть о заботах
любого. Во-первых, ты задаешься вопросом, богом или
зверем я являюсь, живя в уединении. И определяешь, что
не богом. Но вникните, философы, в эту логику: по
Инвективы против врача 295
его словам, предпочитая уединение, я следую поэтам,
чего он не одобряет. Итак, если бы я не следовал
поэтам, то был бы богом. Значит, и ты, врач, не
понимающий, что такое поэт, и не знающий даже смысл
наименования поэта, являешься одним из богов? Если
богом становятся от невежества, то ты смело можешь
претендовать на звание не просто бога, но бога богов.
Как там спрашивают у Лукана Нерона: «Каким из
богов ты хотел бы стать?»31
Ты затрудняешься ответить? Возьми Варрона, а
если у тебя его нет, Августина, и у них найдешь
подходящее для тебя имя божества. Тебе ведь не
возбраняется быть богом, поскольку поэтов ты презираешь. А у
них великое множество богов с самыми разными
именами. И если бы ты мне доверил выбор, поскольку я
разбираюсь в них чуть-чуть побольше тебя, я бы
предложил на выбор три имени: Паллор, Клоакина и Феб-
рис32. О, пусть бы эта Фебрис побыстрей схватила
тебя, тупая голова, чтобы ты перестал шуметь и сам
испробовал наготовленные тобой лекарства!
Я не бог, разве только в том смысле, который
вкладывал в это понятие Аристотель, называвший человека
смертным богом из-за способности понимать и
действовать33. Если бы я был блаженным, то напоминал бы
бога в соответствии с известным высказыванием
Боэция: «В каждом, обретшем блаженство, заключен Бог,
и, хотя Бог един по природе, ничто не препятствует
многим приобщиться к Нему»34. Эту мысль Боэций
воспринял от Августина, писавшего в комментарии на
Псалом 118 так: «Люди не есть по сущности боги, но
становятся ими по соучастию в делах одного того, кто
есть истинный Бог»35. За грехи наши вслед за словами:
«Я сказал, что вы — боги и сыны Всевышнего» мы
услышали более печальное: «Но вы умрете, как челове-
ки»36. И чтобы никто не увидел спасения во власти и
могуществе, тут же добавлено: «И падете, как всякий
из князей».
Итак, глубочайший из исследователей, я не бог и
даже не полубог, как называет Лукан Помпея, а Лабе-
он — Геракла, Ромула и философа Платона37. Жаль,
296 Франческо Петрарка
что ты хоть однажды не прочитал прекрасные слова
Платона, переведенные Апулеем и приведенные
Августином в «Граде Божьем»: «Высочайший Бог, творец
всего, единый, который не может быть обнят бедным
человеческим словом, как бы оно ни было
красноречиво, даже отчасти; что понятие об этом Боге едва
проблескивает, и то лишь по временам, для мужей
мудрых, когда они силою духа, насколько то
возможно, отвлекаются от тела, — проблескивает подобно
бледному свету, на мгновение мерцающему в
глубочайшем мраке»38.
Что у тебя проблескивает, врач? И какое у тебя
понятие о моче Платона? Августин, великий врачеватель
душ, считает ее мочой здорового человека. Вот почему
я не бог, а всего лишь недостойный его созерцатель; о,
если бы я был мудр настолько, насколько
представляешься себе мудрым ты. Итак, что же? Я малое
созданье Бога и хотел бы быть достойным почитателем Его.
Животным же, пока ты жив, не назовут больше
никого. Но твоему красноречию преград нет: ты
стремишься мне навязать то, что принадлежит по праву тебе.
Кого не рассмешит твой остроумный вопрос, не лев
ли я? Отвечу, как в начале. Если ты, ядовитый и
ничтожный клеветник, назовешь меня львом, это меня
не обидит, ведь в Священном Писании, ненавистном
и неизвестном тебе, львом назван Христос; если ты не
назовешь меня львом, я и тут не опечалюсь, помня,
что в том же Священном Писании львом назван
дьявол39. Каков автор, таковы ;И остроты! Что ты
молотишь? Ты же не в силах блеснуть своим остроумием
даже в одной фразе, старый шут. Уже все перестали
смеяться, а тебе все весело. Развяжи язык, и мы весело
посмеемся в то время, когда твои больные горько
заплачут. Ну, говори, говори без опаски: мы готовы
внимать твоим бесценным речам. Говори, повелитель
риторики, говори, Гален, Демосфен, говори, добрый
Цицерон и Авиценна40: лев я или другое существо. «Ты, —
изрекает, — не лев, а сова». Слезай, приехали!
Смейтесь, рукоплещите, представление окончено. Похоже,
ты не знаешь не только священных книг, но и вообще
Инвективы против врача 297
никаких. Так, может, ты хоть слышал, что у наших
древних мужей, без сомнений, умнейших и
ученейших, эта птица была посвящена богине мудрости
Минерве. Увы, в твоей «Терапевтике» таких сведений не
отыщешь. Ты удивлен? Странно. Объяснить, почему
сова стала птицей Минервы? Да ведь она птица-то
таинственная и необычная: ночью бодрствует, в
потемках видит, когда все спят, летает. Ты еще больше
удивишься, когда начнешь размышлять о личности
Христа, истинного Бога мудрости и самого — мудрости
отца; в Псалме 101 сказано: «Я стал как филин на
развалинам»41.
Что же у нас с тобой получается, философ? Ты
усердно искал доказательства, дабы посрамить меня, а
нашел посрамление себе и собственному имени.
Посмотрим, о владыка философии и риторики, сумеешь
ли ты обратить к своей вящей славе хотя бы
восхваление своего удода42? Учись, хулитель, или кусать
больней, или не оскаливать зубов. Вот видишь, как слабо
ты щипнул меня совиным клювом? Ты только и
можешь, что брызгать своей ядовитой слюной.
Ты вменяешь мне в вину уединение, будто это
преступление, и из достойного дела раздуваешь скандал.
Я постараюсь сделать так, чтобы твои слова,
оскорбительные для истины, ударили по тебе, а твоя зависть
послужила мне похвалой, а тебе наказанием. Я
стремлюсь жить так, чтобы быть добрым людям в радость.
Тебе ли, заурядный человечишка, указывать, где мне
жить — в уединении или городе? Я и в городе жил
иначе, чем ты: тебе приносят мочу, мне открывают
душу многие великие люди; случалось, что я 6i>di в чести
у знаменитых людей и неведом толпе, чего всегда и
желал. Конечно, приятно слышать похвалы в свой
адрес, но во имя Господа43, которому я беспрестанно
возношу благодарственные молитвы за многое, и в
особенности, за то, что сотворен непохожим на тебя.
Между прочим, пока я здесь, увы, не знаю, надолго
ли, я выполнил свое обещание и ответил на твой
вопрос, содержащий упрек в надменности: зачем я гуляю
по цветущим лесам и уединенным холмам — ради зна-
298 Франческа Петрарка
ний или ради славы? Здесь любой обман выходит
наружу, и всем известны не только мои дела, но и
мои мысли.
Итак, ты больше всего огорчен несходством наших
жребиев. В то время как перед твоими глазами зады,
унылое и малоприятное зрелище, перед моими —
безоблачное небо и радостная зелень рощ и полей; в
твоих ушах — бурчание расстроенных желудков,, в моих —
милое пение птиц и приятное журчание ручьев; твой
нос обоняет спертый воздух и гадкие запахи
вспученных животов, мой — разлитый вокруг аромат цветов и
дивный запах трав, освежающий и мягкий; твой
злосчастный язык, притупившийся от пробования темных
настоек, прилипает к нёбу, мой занят достойной
беседой или полезным монологом; твои пальцы копаются
в испражнениях несчастных больных, мои пишут, и
написанное, льщу себя надеждой, сумеет заслужить
признательность потомков; в любом случае, писание
доставляет мне удовольствие. Даже если от него не
будет пользы другим, моей душе оно дает забвение и
удаляет от многих тяжких и бесполезных хлопот.
Наконец, пока ты погружен в мысли о прибыли и
добыче, я размышляю о бесполезности преходящих
богатств и презрении к ним; пока ты обходишь постели
больных и отхожие места, я охвачен другой страстью,
больше всего возмущающей тебя, — обхожу цветущие
леса и молчаливые холмы.
Чувствуешь, я не раскаиваюсь в том, о чем столько
раз уже говорил! Может быть, в моих словах и есть
какая-то высокопарность и возвышенность, но я усвоил
от одного писателя и мужа с великой душой, что
«перед невеждами» нужно говорить именно так44. Это
советует в своих письмах Брут — уж позволь мне
воспользоваться свидетельством человека, тебе не
известного, но хорошо знакомого людям ученым и
заслужившего уважительные отзывы Цицерона и Сенеки
(Ритора)45. Насколько же высокопарней и возвышеннее
нужно говорить, обращаясь к глухим? Вот я и говорил
возвышенно: уж очень хотел заставить себя услышать.
Меня подмывало и на твои гимны ответить стихотво-
Инвективы против врача 299
реньицем, но не хотелось оскорбить Муз или смутить
их непривычным запахом, а тем более нечаянно
привести на твой порог, где они не бывали, чем и гордились.
Вот ты и воскресил в моей памяти многое, что
почти улетучилось, поскольку не вспоминалось. Спасибо
тебе за твое злословие. Оно развивает ум: хорошее
дело, если за ним не стоят дурные нравы или дурные
намерения. Думай и делай, как знаешь. Я могу смолчать,
но не побоюсь и сказать; мне не интересны твои
нападки, но и не страшны. Я вижу, как ты тяжело
перенес острую критику, но, надеюсь, понял, что за ней
скрыта правда, если уж не совсем отупел. Мне ясно,
что ты снова начнешь свои нападки, если не через
год, то в некий другой срок. Мне меньше всего
хотелось бы зависеть от мнения одного человека, не
ценящего времени: мне время дорого, и я внимательно
слежу, как оно убегает. Значит, если ты промедлишь,
тебе не будет ничего, а сочинению твоему достанется
по заслугам: ему не придется возмущаться, если его
положат туда, где ежедневно пребывают глаза, руки,
ноздри, язык, сердце и ум его автора. Полагаю, на
сегодня достаточно, а остальное отложим на будущее.
А тебе, читатель, листающему на досуге эти
записки, кем бы ты ни был, скажу еще несколько слов. Есть
две вещи, к которым я обращаюсь очень редко и
всякий раз против желания. К ним-то и вынуждает теперь
обратиться этот язвительный клеветник. Мне не
свойственно хвастаться и во всеуслышанье заявлять о себе
как о человеке суетном и надменном, а о другом
говорить дерзости и непристойности. Но осмелюсь
просить тебя прочесть написанное мной, хотя интересней
было бы читать нечто более возвышенное и плодов
творное. Попробуй сравнить эти записки, вырванные
упомянутым яростным клеветником, с теми, что я
написал в молодые годы: в них нет ни такого гнева и
раздражения, ни брани в адрес всех остальных, там
меньше всего разговоров о собственной славе и чужом
бесславии. Впрочем, я вспомнил другого и более
представительного завистника, от которого мне пришлось
отбиваться сходным образом в трех или четырех пись-
300 Франческо Петрарка
мах4*: Костер его ярости был подожжен факелами
зависти. Случилось это в другом краю и в другое время.
И спор велся в стихотворной форме.
Ныне мне только и не хватало этого оскорбления:
меня, старика, донимает развязной речью тоже старик.
Боже мой, и в этом возрасте приходится терпеть
сумасшедших, как бы они ни писали — прозой или
стихами. Утешает одно: в обоих случаях зачинщиком был не
я. Когда-то я считал, что в укромном месте можно
скрыться от зависти. Я ошибался: похоже, она найдет
меня и в подземелье. Преследование неприятно, хотя,
может, и не бесполезно; зависть неприятна, но ее
причина может порадовать. Нет, мне не хотелось бы,
чтобы во мне нечему было завидовать, но хотел бы, чтобы
зависть мне не вредила, если таковое возможно. Она
смело нападает на цезарей, королей и философов, и
совсем немногим удавалось славой побороть зависть.
Саллюстий прав, для смертных это самое трудное47.
Собственно, чаще всего слава и была причиной
зависти. Одно удивительно: эта чума обычно поражает
равных, занимающихся одним и тем же, и я меньше всего
ожидал испытать ее на себе. Бог свидетель, и прежде я
неохотно брался за ответ, а теперь и вовсе через силу,
хотя известно, конечно, что между первыми
прозаиками и стихотворцами и даже между святыми мужами
часто разгораются словесные баталии. Они
увековечены бессмертными сочинениями. Какие только
ругательства и оскорбления не бросал Цицерону
Саллюстий и не получал в ответ от него! Их слова полны
жгучей ненависти. Еще ожесточенней и
непримиримей был спор между Эсхином и Демосфеном48. А кто
не знает о спорах Иеронима с Руфином Аквилей-
ским?49 А какие жестокие и острые споры были у того
же Иеронима с Августином, хотя они и велись в более
мягких и уважительных тонах!50
Эти и похожие споры мне легче понять и
оправдать, чем тот, в который втянут я. Меня заставляют
идти против воли и принуждают к изложению вещей,
мне мало интересных и приятных. Как ты думаешь,
читатель, с чего бы это мне хвалить себя самого? Не с
Инвективы против врача 301
того ли, что мое перо, закусившее удила, поневоле
гордится презрением к ничтожному противнику: ведь
он, как ни крути, есть меньше, чем ничего. Но и о
себе могу сказать, по чести, что и я — ничто; и если
стремился чем-то быть или что-то собой представлять —
первого хотел всегда, второе всегда ненавидел, — то
всегда держал в голове совет мудрецов, известный
всем с пеленок: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста
твои, — чужой, а не язык твой»51. И другой: «Оставьте
тщеславное хвастовство, за вас все скажут дела ваши»52.
Не нужно мне и имя другого. Если это достойное
имя, мой поступок был бы непорядочным, если
недостойное — глупым. Если бы случился спор о
литературных достоинствах того или другого произведения, то
ясно, «сколько голов, столько и умов». Правда, есть и
другое: «В каждой голове — сто мнений». Нередко
бывает, что утром дело выглядит так, вечером иначе, и
ум видит одно и то же по-разному.
Иными словами, если возникает несогласие по
поводу какой-то науки, или ее терминов, или любого
вообще дела и один другому противоречит, неужели
нужно доходить до ругани, ярости и ненависти, будто
от этого станешь ближе к истине? Почему бы не
вспомнить мудрых слов Цицерона, сказанных в
трактате «О пределах добра и зла»: если ты их знаешь,
простишь повтор, если нет, надеюсь, с интересом
прочтешь. «Злословие, оскорбления, — говорит Цицерон, —
кажутся мне недостойными философии. Не следует
хулить чужие доводы и опровержения». И далее: «Нельзя
рассуждать без опровержений, но недопустимо
рассуждать с раздражением и упрямством»53.
Думаю, об этом не стоит забывать не только при
рассуждениях, но и в более серьезных делах. Тот же
Цицерон в другом трактате пишет: «Даже в тех спорах,
которые случаются у нас с противниками, надлежит
сохранять достоинство и не поддаваться
раздражительности, даже если эти противники нас не стоят». И
далее: «Ведь сделанное в треволнениях колеблет нашу
стойкость и роняет нас в посторонних глазах»54.
302 Франческо Петрарка
К слову сказать, рассуждения как способа
разбирательства латиняне не признавали. По словам
Цицерона, «это свойственно легкомыслию греков, осыпающих
ругательствами тех, с кем они расходятся во мнениях»55.
Мне это известно давно, и душа моя, жаждущая
покоя, питает к спорам отвращение. Я никогда по
собственной воле не ввязался бы в эти препирательства,
если бы тот, о ком идет разговор, надменный,
завистливый, безрассудный, легкомысленный и
невежественный (это весь его портрет), не вытащил меня из
крепости спокойного безмолвия на это пыльное и шумное
поле брани. Его назойливый язык заставил меня
принять вызов. Ему, словно свинье, в удовольствие
чавкать; меня ему не оскорбить, но заступиться за
доблесть и истину необходимо.
Прошу меня иззинить, любезный читатель, если в
пылу дерзкой беседы я сказал что-то, мне
несвойственное и оскорбительное для твоих ушей, если где-то
себя похвалил, а его уязвил сильнее, чем ты ждал.
Согласен, что достойнее пренебречь и тем, и другим, но
при такой ругани не эсегда хватает выдержки. Зная
теперь, что он первым начал бросать камни в мою
сторону и чернить мое имя, о чести которого, как бы
мало оно ни было, я пекусь и ронять ее не собираюсь,
что он ложь выдавал за истину и бесновался хуже
шута, ты, читатель, сам мне скажешь: «Ты хвалил себя по
необходимости, бранил его по заслугам. Первое можно
простить, второе одобрить, поскольку ты искал слова,
соответствующие делу».
Нередко бывало, что одаренные юноши
приобретали известность после какого-нибудь громкого дела,
выигранного в суде, словно бы имя побежденного
переходило к победителю, и слава, обычно
приобретаемая многими трудами, оказывалась в руках после
одного судебного процесса. Да, насколько об этом
можно прочесть, это занятие было не бесславным и делало
некоторых очень знаменитыми. Если наш старец,
ругая меня, надеется на нечто подобное, боюсь, он
заблуждается, и его мечты останутся мечтами. Нашелся
когда-то человек, убивший царя Филиппа Македон-
Инвективы против врача 303
ского ради славы (правда, есть мнение, что были иные
причины этого убийства)56. Нашелся и другой,
сжегший ради славы храм Дианы Эфесской; жители Эфеса
в качестве наказания запретили историкам называть
имя этого человека57.
Вот и мой хулитель, оскорбивший, правда, не царя
и не храм, а простого и живущего в уединении
сельского жителя, не найдет громкой славы; я не назову
его имени ни здесь, ни в других местах; надеюсь, и
остальные поступят точно так же. Не найдется никого,
кто приложил бы усилия к прославлению столь
ничтожного имени. Если кто-то и заблуждался в
отношении этого врача, то после его злобных выпадов против
невинного человека отвернется от него навсегда.
Только безумец может искать славы на таком пути.
Если же он хотел потревожить мой покой и
нарушить мое молчание, он своего добился: отнял у меня
несколько драгоценных дней, канувших безвозвратно,
и заставил сойти с моих троп на непривычную и
грязную дорогу. Как же не возмущаться и не пенять на
потерю времени! Единственная польза: снял с души грех и
поупражнял перо в новом виде речи. Вот я и упражняюсь
в речи-доказательстве, хотя предпочел бы речь-похвалу.
Ну что же, пришла пора заканчивать. А тому, кто
заставил меня писать, возвращаться после бесплодных
поисков на чужих нивах к своим лихорадкам. Тебя,
читатель, прошу быть снисходительным к битому и
непреклонным к бьющему. А сам живи и здравствуй.
ИНВЕКТИВА
ПРОТИВ НЕКОЕГО ЧЕЛОВЕКА
ВЫСОКОГО ПОЛОЖЕНИЯ,
НО МАЛОЙ УЧЕНОСТИ
И ДОБРОДЕТЕЛИ
Я готов согласиться, что тебя нельзя назвать
недостойным: безумие недостойного вызвало бы проста
презрение у нормального человека. Тебя делает
достойным не твоя добродетель, но только твое
положение1, потому тебя нужно бичевать не молчанием, но
словами, и остается сожалеть о самих твоих
достоинствах, если только их можно назвать достоинствами, а
не заблуждением и обманом.
Те, кому предназначена быть всенародно
осмеянными, до времени разъезжают на лошадях с
заплетенными гривами, украшенных фанерами, по улицам и
перекресткам городов, все в золоте и пурпуре. К
закату жизни их отталкивают, от них отворачиваются, их
отвергают в тех местах, где они пробродили все дни,
вызывая у народа смех или презрение к себе.
Подобное ждет тебя, ибо фортуна показывает о тебе
миру такие зрелища и игры. Народ уже сыт тобой. Да
и сам оглянись на свой возраст — подходят к концу и
жизнь, и игры. И вот, стащив с тебя одежды, которым
ты так радуешься, постановщик выбросит тебя из
цирка голым. После этого ты поймешь, что ты есть и ка-
ким ты казался, и другие будут смеяться, а ты — скор-
Инвектива против некоего человека высокого положения 305
беть и печалиться2. В таком несчастье нет ничего
нового или необычного: ведь и Евтропий был консулом,
и Гелиогабал имел власть императора: первый —
самый жалкий скопец, второй — самый ужасный из
людей3. Опыт позволил верно подметить сатирику:
подобных людей к высшей
вершине дел
вознесла и столько раз захотела
посмеяться фортуна4.
По твоему поводу отпущено шуток больше, чем
следует: умоляем, хватит. Шутка уже становится
назойливой: ты не обманываешься в отношении своего
положения и в отношении того, защищен ли ты от
этих ужасов, поскольку скорее ты опозоришь себя, чем
добудешь славу и честь.
Вспомни, сколько не просто недостойных или
низких, но даже глупых и безумных людей занимало в
наше время высокое положение. Конечно, ты можешь
утешить себя тем, что и среди самых славных римских
патрициев и принцепсов оказались Каталина и Нерон,
а среди святых апостолов — Иуда5.
Перейду к делу. Я предвидел, что все, мною
написанное, предстанет пред судом ученых людей и
жребий мой окажется таким же, как у всех сочинителей. Я
не смог написать так, как общепринято: это противно
моей душе и она сопротивляется изо вех сил. Кроме
того, написать и избежать суждения людей
невозможно; это все равно, что стоять в центре и оставаться
невидимым для окружающих. Размышляя над своими
обстоятельствами и своей судьбой, я мог бы убояться
суждений людей, более талантливых, имеющих
положение не благодаря наследству и сословию; а твоего
суждения я не убоялся, скажу больше — и не ожидал его.
Каким же образом, какими уловками ты смог
создать такое мнение обо мне —- и для меня и дня других —
такое мнение, которое меня очерняет? Я совершенно
допускаю, что дело так и обстоит. Как только до меня
стали все чаще доходить слухи, что ты упоминаешь
мое имя, я, обеспокоенный в душе, испугался, как бы
306 Франческо Петрарка
из твоих уст не зазвучали похвалы в мой адрес: тогда
уже нечего ждать ни истинной славы, ни одобрительного
суждения, поскольку ты — отвратительный и опасный
хвалитель, не последний среди людей такого рода.
Ведь что, позволь спросить, ты способен похвалить,
если ты ничего не понимаешь? А понять ты можешь
только низменное или малозначительное.
Известно, что способность к пониманию должна
быть соразмерна вещи, которую нужно понять; и тот,
кто хвалит, и тот, кого хвалят, должны быть равны;
требуется и сходство ума. О если бы оно было! Но что
об этом думать?
Побереги свой ум и не влезай не в свои дела Я
предпочел бы вообще не существовать, чем быть
похожим на тебя.
Но как только я понял, что мое имя есть для тебя объект
очернения, Бог свидетель, я расстроился не больше, чем
если бы меня похвалил какой-нибудь великий муж.
Я хотел бы больше быть похожим на
добродетельных и ученых мужей, нежели на дурных и
невежественных. В соответствии с известной формулой:
насколько кто-то дальше от порока, настолько ближе —
к добродетели. Итак, я, кажется, понимаю причину
зла: я не похож на тебя. Может быть, другими
дорогами, но к тем же упованиям я смог прийти: я надеялся
бы и радовался бы, если бы оказался схож с добрыми;
и надеюсь, и радуюсь, если не схож с дурными. Итак,
ты оказался полезен мне больше, чем я думал, когда
во время пьяных сборищ тебе пришло на ум желание
нападать на мое имя; и конечно, ты его расхвалил бы,
если бы, как сказано, заметил сходство со мной.
Ты, которому я был бы обязан славой, будешь по
заслугам достоин меня тогда, когда эти колкости,
которыми ты осыпаешь меня в мое отсутствие6, и эти
натужные и безудержные ругательства ты превратишь
в рассудительные и воздержанные беседы. Теперь же
своей бранью ты хвалишь меня, и боюсь, что
благодарить за это надо вино, а не твое трезвое суждение.
Следовательно, если ты действительно жаждешь
меня похвалить, порицай на трезвую голову и натощак,
Инвектива против некоего человека высокого положения 307
сразу же как поднимешься с постели, куда тебя валит
хмель. Тогда не твое пьяное затмение, но слешхга и
мрак твоей души дадут моему уму некий свет.
Теперь настала пора поговорить о себе самом. И
пусть эта речь отметет все, в чем ты меня упрекаешь, а
именно — в общении и дружбе с тиранами7, словно
неизбежно, чтобы у живущих в одно и то же время все
было бы общим, тогда как часто среди хороших
обитают худшие, среди худших — хорошие. Разве Сократ
жил не в одно время с трцццатъю афинскими тиранами?
Платон жил в одно время с Дионисием, Калисфен — с
Александром, Катон — с Каталиной, Сенека — с
Нероном8.
Нельзя заразить добродетель нечестивостью; слабые
души может расшатать даже малое несчастье, твердых
умов не коснется никакое дурное влияние.
Однако на подобную клевету и на многое другое,
чем опутывала меня глупость и недоброжелательность
и прежде, я уже ответил целым сочинением, разбив
ловушки пустых словес9.
Что касается настоящего, я скажу одно, и ты, если
поверишь — изумишься, а если не очень —
рассмеешься: душой я не подчинен никому, разве только
только Тому, Кто дал мне душу, или тем, о которых я
сам для себя решил определенно, что каждый из них —
друг Господу, редкий род людей. Добавлю небольшое
число душ, сходных с моей, к которым любовь
привязала меня сладчайшим ярмом; нелегкая власть, но
столь редкая, что с молодости до нынешнего дня я
связан такими узами с очень немногими. В их числе
были и безвестные, и знаменитые, и папы, и короли.
К тесным отношениям с ними меня побуждало не их
положение, но их добродетели и преклонение только
перед этими качествами. Я подчинялся им
добровольно и всякий раз скорбел, когда смерть того или
другого освобождала меня от этого служения.
И получалось, что простым и безвестным людям я
чаще был подчинен. Для меня не имели значения ни
их счастливая судьба, ни их положение — я ценил
только их любовь ко мне и их добродетель. Если у ме-
308 Франческо Петрарка
ня и не хватает ее, у других я всегда буду ее любить и
ценить. С их уходом не останется никого из людей,
кому я подчинил бы свою душу.
Как видишь, моя лучшая часть или свободна, или
лишена свободы по причинам приятным и
благородным. И иначе быть свободной не хочет, и боится, и
отказывается от подчинения. Такова моя душа. Часть
же моя другая (т.е. тело) обитает в этих земных
пределах и господам этих земель должна подчиняться. Я же
вижу, что те самые, которые начальствуют над менее
значительными, подчиняются большим, и именно о
цезарях сказано:
Род человеческий для немногих живет10.
Но и эти немногие, ради которых, как считается,
живет род человеческий, не более страшны для
народа, чем народ — для них. Итак, почти никто не
свободен, со всех сторон рабство, и тюрьма, и путы, и редко
кто с помощью небес развязывает узел дел
добродетелью души.
Посмотри на любую из земель: нигде нет места,
свободного от тирании; там, где нет тиранов,
тиранствует народ; и там, где кажется, что избежал тирании
одного, попадаешь под тиранию многих. Может быть,
ты мне укажешь место, где правит справедливый и
мягкий правитель? Как только назовешь, туда я
немедленно переправлю ларов11 и переселюсь со всеми
пожитками. Ни моя любовь к родине, ни красота и
благородство Италии не удержат — уйду к индусам или
серам12, или к отдаленнейшим из людей — гараман-
там13, только чтобы оказаться в таком месте и при
таком правителе. Но напрасно искать то, чего нет нигде.
Спасибо нашему веку: он все сравнял и эту заботу у
меня отнял. Купцу достаточно взять только горсть
хлеба, хорошенько пощупать, и он поймет, каков весь
товар. Нет надобности обшаривать далекие пределы и
проникать в неведомые земли: разными будут
внешний облик, черты лица — разные, а молитвы, души,
нравы — сходными, куда бы ты ни пришел. Об этом
лучше всего сказал Сатирик:
Инвектива против некоего человека высокого положения 309
Если ты хочешь познать человеческий нрав, тебе хватит
Дома хотя б одного14.
Правда, соглашусь, есть одно священное место: то,
где ты обитаешь и где благодаря твоему присутствию и
твоим советам словно возродился золотой век Августа
или Сатурна15. Счастлив Родан16 таким жителем,
счастлив край ромулов17 таким вождем, счастлив мир таким
кардиналом, счастлива церковь таким советником.
Истинно говорю, священное место, в котором ты
живешь. (Это слово часто встречается у Вергилия:
«священный огонь» сжигает неисцелимую болезнь,
«священная жажда золота», «священный порт»18.)
Что я думаю о наших юношах, ты слышал: они —
правители родины, не тираны; насколько ты лишен
гуманности и справедливости, настолько они — всяких
тиранических умыслов19. Таковы они сейчас, что будет
потом, сказать трудно. Ибо больше всего меняется дух
тех, благополучие которых постоянно и власть
устойчива. Время покажет и обнаружит, каковы они на
самом деле, верно или неверно называть их тиранами.
Только какое отношение все это имеет ко мне? Да, я
живу в одно время с ними, но не под ними, в их
земляк, но не в их домах. У меня нет с ними ничего
общего, кроме удобств и почестей, которыми меня
осыпают настолько обильно, насколько я терплю. Другим
(для этого рожденным) поручаются советы, и
выполнение дел, и обязанности по государственному
управлению, мне же — совершенно ничего, кроме досуга,
тишины, безмятежности и свободы. Это мои заботы и
это мои обязанности. Итак, когда прочие с утра
устремляются во дворец, я устремляюсь в леса и
привычное уединение. Я сказал бы, что от господ я не имею
ничего, кроме щедрости и благодеяний, поскольку до
сего дня добросовестно выполнялось то, что было мне
обещано. Ничего другого от меня не требуется, кроме
присутствия и гостевания в этом процветающем
городе и в этих приятнейших местах, что — по их
признанию — большая честь для них и украшение для их
правления.
310 Франческо Петрарка
То, о чем я говорю, известно всем, тебе же кажется
невероятным, так как от тебя и твоей тирании не
увидишь ничего подобного, — ведь тебе дружба не
приносит никаких чувств, никакой привлекательности,
никаких привязанностей (поскольку от людей, словно от
скотины, ты ищешь только выгоды); сводник кажется
тебе более полезным, чем философ.
Тяжело тебе переварить то, что ты узнал. Я бы
добавил: как велико различие между глубиной бездны и
высотой неба, так и между твоей старческой
жадностью и высокомерием и юношеским великодушием и
мягкостью этих правителей. Итак, знай: и они — не
тираны, и я — самый свободный. И если, как бывает с
людьми, жребий сделает меня рабом, я бы хотел
только одного: не оказаться под твоей властью, как бы мне
ни было плохо в будущем, так как ты, по-моему,
превзойдешь и Агафокла, и Фалариса, и Бусириса20.
Остается сдернуть с твоих глаз пелену одного более
чем ложного мнения; когда эта пелена спадет, ты все
увидишь ясно и решишь сам для себя, полезно ли
тебе, безоружному, начинать словесные баталии или
лучше молча наслаждаться своими развлечениями. Ты
надеешься, насколько можно понять, что меня
устрашит твое высокое положение. Ошибаешься: я никого
не боюсь, разве только того, кого почитаю; тебя я не
почитаю, ты не рождаешь во мне этого чувства; твои
же нравы, и высокомерие, и твое высокое положение
(откуда идет высокомерие) я просто ненавижу.
Возможно, ты слышал о той борьбе за славу,
причиной которой была, как и в твоем случае, зависть. Я
оказался незаслуженно задет злословием и по
необходимости, сознавая справедливость дела, вонзил оружие
мести (точнее — защиты) в того мужа, который
совершенно ничего не боялся в Италии21. Он адресовал мне
послание, но даже в нем проявил более чем
посредственную ученость и красноречие, написав хуже, чем
обычно (это все признавали), хотя сам был о
послании совершенно высокого мнения, то ли по
врожденному тщеславию, то ли поверив льстецам,
напевавшим в оба уха.
Инвектива против некоего человека высокого положения 311
К этому добавлялась его власть, огромное
благоволение фортуны, рабски ему служащей, характер, не
выносящий никакой критики, и общеизвестная
привычка мстить, постоянно внушающая опасение
многим соседним правителям.
И если даже такого мужа, столь могущественного
(не столько пером и словом, сколько кандалами и
мечом!), я не убоялся, полагаясь на помощь одной
только истины, то испугаюсь ли теперь тебя? Того, у кого
вялый ум, еще более вялое перо, совершенно путаный
язык. Впрочем, может, ты вместо всех необходимых
качеств противопоставишь мне красную
кардинальскую шапку? Но удержит ли уважение к твоему сану
натиск моего пера?
Ради всех богов, скажи, прошу тебя, где ты
обнаружил такую глупость во мне, чтобы поверить, что я тебе
не равен, и не ошибиться? Или же теперь ты один, а
тогда, когда высмеивался презренной толпой, был
другим? На твоей голове очень дорогой и
необыкновенный лоскут, если он так быстро дает мудрость его
владельцу. Поверь мне, мудрости он не дает, но
открывает тайны частной жизни и скрытое превращает в
общеизвестное. И я знаю, и все знают, да и тебе
известно, за какие заслуги, за какие качества ты удостоился
этого высокого положения. Однако, если ты спросишь
самого себя, если оценишь самого себя, если
всмотришься в самого себя, ты не ошибешься относительно
себя: ничего ты не найдешь, хотя и любишь многое в
себе и сильно сам себе нравишься, повторяю, ничего,
если ты не глупец, не найдешь, чем себя мог бы
возвысить именно ты, ничего нет именно твоего. И
никого ты не найдешь, кто был бы столь слаб умом,
чтобы усомниться, что так оно и есть, что все было дано
тебе фамилией и родом, откуда ты произошел.
Древнего в этом роде нет ничего, но многое,
приобретенное недавно, делает его влиятельным и
известным; однако и это все никогда не могло бы возвысить
тебя, если б не тот, стоявший выше22, само
воспоминание о котором, я знаю, делает меня ненавистным
тебе. Да, одно твое происхождение не могло бы под-
312 Франческо Петрарка
нять тебя до той ступени, куда ты дополз медленно и
самым жалким образом, будучи уже стариком, при
поддержке этого лица. Лучше было бы этого не делать,
хотя к делам Симона ты устремился отнюдь не как
запоздавший и неповоротливый торговец?3. Никто более
бесстыдно, и к тому же более часто, не продает святой дух.
Но чтобы уж не слишком терзать тебя, не стану
упоминать о том муже, которого, уже почившего, как
я догадываюсь, ты боишься до сих пор. Я вернусь к
твоей фамилии и все скажу о ней: ее заслуги были для
тебя ступенями к восхождению. А тебя я хотел бы
спросить об одном: с каким лицом и с какой душой ты
несешь высокое положение, данное не тебе, но твоим
предкам? Какое нужно иметь бесстыдство или какое
безумие, чтобы охотней щекиться из-за чужой
добродетели, чем краснеть из-за своих пороков? Я бы
выразил сочувствие этому твоему положению, хотя до сих
пор я был к тебе расположен и один только не
смеялся над тобой.
Ты надеялся, что я испугался твоих новых отличий?
Я не так пуглив, как тебе кажется: скорее ты вызвал у
меня гнев и раздражение. Грозно блистающий шлем
вооруженного до зубов молодца вызвал тогда у меня
презрение; и чтобы теперь я устрашился старца в
мирной тоге и с красной шапкой? Когда я говорю правду,
я не боюсь ничего! Повторю: я не боюсь ничего и
никого, разве что тех, кого почитаю; я боялся тебя, пока
почитал, ты сделал все, чтобы я перестал почитать
тебя; если я не ошибаюсь, тебе хочется, чтобы я и
теперь боялся, и ты часто повторяешь про себя
известное высказывание: «Пусть ненавидят, лишь бы
боялись»24. Я, когда ненавижу, — презираю. Ты надеялся
стать грозным, а сделался презренным.
Я не щгел бы, клянусь Поллуксом, чтобы ты
получил известность у многих лиц благодаря мне и чтоб я
сам не стал бы известен меньшему числу из-за
подобных ценителей, для которых ничего нет великого,
кроме того, что сверкает перед глазами. Они не знают,
что скрыто под тем пурпуром, которым ты
покрываешь и своего коня. Вполне справедливо, чтобы те, у
Инвектива против некоего человека высокого положения 313
кого ум одинаков, и покрывало имели одно. Клянусь
Гераклом, я хотел бы, чтобы всем стало известно,
насколько глубоко я презираю и тебя, и твоих
почитателей; мне хотелось бы, чтобы меня похвалил и счел
достойным Бога какой-нибудь редкий великий
человек, осмелившийся пренебрегать богатством. Я хочу
быть достойным Бога, хочу уметь различать видимость
дел и их существо и настоящее добро, уметь закрывать
уши, возделывать добродетель, презирать Александра,
восхищаться Диогеном25.
Поэтому ищи другого, кто бы боялся тебя и кого бы
устрашило твое ничтожное облачение: я никак не могу
обещать, что столь очевидную нехватку добродетели я
когда-либо начну чтить. Я никогда не стану бояться
твоего, возникшего на чужом фундаменте, величия; его
плохо поддерживают внешние подпорки, его
расшатывают любые порывы ветра, оно вот-вот рухнет.
О НЕВЕЖЕСТВЕ
СВОЕМ СОБСТВЕННОМ
И МНОГИХ ДРУГИХ
К ГРАММАТИКУ ДОНАТУ АЛЬБАНЦАНИ1
I
Неужели я никогда не буду иметь покоя? И
неужели перо мое будет вечно сражаться? И ежедневно
будет отвечать то на похвалы друзей, то на брань
завистников? Разве что тайное убежище защитит меня от
зависти или время погасит ее? Ведь мне и прежде часто
помогало и приносило покой бегство от всех тех
вещей, ради которых трудится, мечется и волнуется
человеческий род. И неужели даже мой возраст и все
больше дающие о себе знать усталость и утомление не
избавят меня от зависти? Возраст уже освободил меня
от обязанностей перед республикой2, но еще не
освободил от зависти; и хотя республика, которой я
многим обязан, от меня ничего не требует, зависть,
которой я ничего не должен, меня не оставляет в покое.
Прежде, должен признаться, перо мое было
приятней и речь спокойней, что больше соответствовало
возрасту. Простите, друзья. Прости и ты, читатель, кто
бы ты ни был. И прежде всего прости, любезнейший
Донат, к которому я обращаю эти слова. Я вынужден
говорить о зависти, поскольку невозможно смолчать:
рассудок советует это, но негодование и жажда
справедливости исторгают гневные слова. Я вынужден
вести войну, хотя больше всего хочу мира. Вопреки моей
воле меня вновь подвергают гонениям, вновь
выставляют на суд критики. Причем я даже не знаю, что это —
О невежестве своем собственном и многих других 315
суд завистливой дружбы или суд дружеской зависти.
Как же ты всесильна, бесстыдная зависть, если
опаляешь даже души друзей!
Многое довелось мне испытать, а теперь выпал
жребий самый тяжкий и худший. Ведь мне приходится
сражаться с друзьями: здесь и победить, и оказаться
побежденным — несчастье. Хотя в иных случаях уцача в
ожесточенных стычках, а тем более победа — приятны.
Правда, у меня вдет война не столько с друзьями или
врагами, сколько с завистью. Враг не нов, да род сраженья не
совсем обычен; враг поражает издалека, запасшись
колчаном с отточенными стрелами. Хорошо, что зависть
слепа: если постараться, то от ее стрел можно
уклониться; она же зачастую без разбора ранит и своих, и чужих.
Теперь мне предстоит нанести смертельную рану этому
чудовищу, да так, чтобы не пострадала дружба. Дело
трудное, так как обе вещи между собой тесно связаны, а
надо изрубить мечом одно, не задев другого. Помнишь,
как Цезарь под Александрией был неожиданно окружен
и, чтобы не погибнуть, везде тянул за собой Птолемея?
Цезарь знал, что делал: ведь те, которые одного
ненавидели, а другого любили, понимали, что трудно убить
одного, не принеся вреда другому3. Думаю, ты не забыл и
другой случай: тот день, когда Персидское царство было
освобождено от рабства тирании благодаря доблести
хитроумного Органа и семи храбрых мужей. Заговорщик,
которого звали Гофир, обнаружил в укромном месте
одного из двух тиранов. Тот цеплялся за Гофира и
укрывался за его спиной, и тогда храбрый муж стал убеждать
товарищей убить тирана вместе с ним. Гофир не хотел,
пусть и поневоле, оказаться спасителем тирана4.
И вот теперь святая дружба призывает меня
поразить острием пера нечестивую зависть, пригретую ею
же самой на груди. Попробуй, разберись в таких
потемках и среди столь связанных между собой
обстоятельств, где враг, где друг! Однако я хотел бы
следовать только что приведенному примеру: как в том
случае враг, в конце концов, принял смерть, а Гофир
остался жив, так и теперь жгучая зависть должна быть
уничтожена, а сладостная дружба — сохранена.
316 Франческо Петрарка
Если эта дружба истинная, а ее главным условием
является истинная добродетель и ничто иное, то она,
лишившись зависти, предпочтет разрыв, чем прежние
отношения, в которых над ней по-прежнему будет
царить та же самая зависть.
II
Обращусь, наконец, к предмету разговора. Но
сначала напомню о том, что тебе известно даже больше,
чем мне: друг ревностней оберегает доброе имя друга,
чем свое собственное, мы скорей по справедливости
можем разгневаться, когда слышим что-то нелестное о
друзьях, нежели о нас самих. Многие вовсе не
обращают внимания на злословие в отношении собственной
персоны, и это только похвально. Но никто не может
остаться спокойным, когда задевают честь друга.
Величие души проявляется и в том, насколько тебя
волнуют оскорбления в твой или чужой адрес. Как же может
остаться для тебя неизвестным то, что ты довел до
моего сведения и что вызвало у тебя боль, а у меня
презрение и смех5? Итак, буду говорить о том, что тебе
известно, вовсе не из желания изложить детали, а
единственно чтобы ты знал, какое оружие я применяю
против зависти, как долго и как старательно я пытался
быть глухим к рычанью тех, кто меня облаивал, и
нечувствительным к их завистливым укусам. Вот тебе эта
история.
Бывают у меня несколько друзей6, их имена не надо
называть — ты знаешь этих людей, да и нерушимый
закон дружбы не позволяет называть имена друзей,
хотя сами они кое в чем поступили не по-дружески7.
Приходят то двое одних, то двое других,
сдружившихся между собой то ли по схожести нравов, то ли
по другим каким-то причинам. Время от времени
являются все четверо, всегда более чем обходительны,
веселы, готовы к приятным разговорам. Я не
усомнился бы, что они приходят с благими намерениями, если
бы в их души, достойные лучшего гостя, не проникла —
не знаю, через какие щели — жалкая зависть. Неверо-
О невежестве своем собственном и многих других 317
ятно, но факт, и, к сожалению, более чем
достоверный факт!
• Тому, кому желают не только здоровья, но и
счастья, тому, кого не просто любят, но даже искренне
почитают, посещают, глубоко уважают* с кем
старательно стремятся быть не только ласковыми, но и
услужливыми, и благодарными, — тому же самому (о,
природа человеческая, полная явных и скрытых
пороков!) они завидуют. И чему же? Должен признаться^ я
долго не мог взять этого в толк и до сих пор прихожу
в изумление.
Не богатству же моему, которого у каждого из них
настолько больше, чем у меня, насколько «британский
кит больше дельфина» — как сказал Ювенал8;
впрочем, они желают мне большего богатства, зная, что
мое незначительно, да и то не собственное, а общее с
другими, не пышное, но весьма скромное. Оно не может
наполнить спесью и, конечно, не заслуживает зависти.
Ныне нельзя мне позавидовать и в отношении
друзей: большую их часть уже унесла смерть; да и друзей
я, как и все прочее, охотно делю со всеми. Трудно
позавидовать и моей внешности: если красота и была
когда-то, то ее смыло всепобеждающее время; конечно,
щедротами Господа кое-что осталось,
приличествующее возрасту, но все это давно перестало быть
предметом зависти9. Впрочем, если бы красота и сохранилась
в прежнем виде, я и тогда не забывал, и теперь помню
высказывание поэта, которое усвоил еще мальчиком:
«Красота — недолговечное благо»10, или известное
высказывание Соломона в поучение молодому человеку:
«Привлекательность и красота — обманчивы и
суетны»11. Так разве можно завидовать тому; чего у меня
нет? А если бы красота вернулась, я бы презирал ее
еще больше, зная о ее непрочности.
Наконец, они вряд ли завидуют моей учености и
красноречию. Учености моей они не признают вовсе,
а красноречие, если какое-то есть, презирают, как
водится теперь среди современных философов, и
считают недостойным пишущего человека. У них в чести
неумение говорить и невнятное бормотание, презри-
318 Франческа Петрарка
тельное и вялое, если воспользоваться словами
Цицерона12. Им в голову не приходит ни красноречивейший
из людей Платон ни, уж о других умолчу, сладостный
и благозвучный Аристотель, который под их пером
стал просто грубым. Они настолько отклонились и
отошли от своего учителя, что красноречие вызывает у
них страх или считается постыдной помехой. А ведь
Аристотель считал его большим украшением
философии и стремился соединить с ней, добиваясь, как
утверждают, славы оратора Исократа13.
И последнее: они не завидуют даже добродетели,
вещи, несомненно, самой лучшей в человеке и больше
всего достойной зависти; но для них, думаю, она не
имеет ценности, поскольку несовместима с чванством
и надменностью. Я желал бы иметь добродетель, и они
приписывают ее мне охотно и единодушно, заявляя,
что во мне ее немало. Они считают добродетель чем-
то вроде утешительного дара и щедро наделяют меня
ею. Они называют меня мужем хорошим и даже
прекрасным: о, если бы Господь счел меня не самым
грешным и не самым плохим! И они же заявляют, что
я неграмотный невежда, хотя образованные люди
высказывали противоположное мнение, чего я
совершенно не добивался. Ибо я невысоко ценю то, чего меня
лишают, лишь бы то, то оставляют, соответствовало
истине. Я без раздумий разделил бы с этими моими
братьями наследство матери-природы и небесной
милости так, чтобы им досталась вся образованность, а
мне доброта. Я убежден, что образованность
необходима, если она настраивает на воздаяние ежедневной
хвалы Богу. Но увы! Я боюсь, что ни мое смиренное
желание, ни их высокое мнение о себе необоснованны.
Они признают меня кротким, добродетельным, очень
верным в дружбе; в последнем, насколько я вправе
судить, они не ошибаются. Думаю, именно в этом
причина их дружбы со мной; ни мои способности, ни
трудолюбие, ни ученость, ни стремление с их стороны
заниматься благородными искусствами или желание
открыть при моей помощи истину не заставили бы их
слушать меня или чему-то учиться у меня. Словно бы
О невежестве своем собственном и многих других 319
повторяется то, что Августин говорил о своем
Амвросии: «Я полюбил его не столько как учителя истины,
сколько как благосклонного ко мне человека»14. О том
же и Цицерон говорил относительно Эпикура, во
многих местах с похвалой отзываясь о его характере и
душе, но везде осуждая его образ мыслей и отвергая его
учение.
Так же ведут себя и мои друзья: можно гадать, в
чем они мне завидуют, но что завидуют в чем-то, это
несомненно; ведь они плохо притворяются и не*
обуздывают свои языки, словно подгоняемые бичами.
Нетрудно разглядеть в этих людях (занимающих, между
прочим, высокое положение и не лишенных
остроумия) явные признаки неукрощенной страсти. И если
они исполнены зависти — а это именно так — и нет
ничего иного, чему можно завидовать, то скрытый яд
вскоре обнаруживается сам по себе. Они завидуют
только одному, завидуют пустому — имени, как бы
мало оно ни было, и славе, выпавшей мне на долю еще
при жизни, — может быть, и большей, чем положено
по заслугам или по общему мнению, которое редко
прославляет кого-либо при жизни. Уперлись своими
косыми взглядами в одну точку, хотя пускай и теперь,
и прежде у меня не было бы такой славы!
Если вспомнить, то слава чаще бывала мне во вред,
чем на пользу, друзей прибавляла мало, зато врагов —
множество. Я оказался в роли одного из тех, кто идет
в бой в великолепном шлеме, но с малыми силами:
блеск шлема не устрашает никого, но притягивает
взор многих, делая воина более удобной мишенью.
Зависть, эта чума, хорошо знакома мне с юношеских
лет. Однако она никогда не была для меня столь
тягостна, сколь та, что вспыхнула теперь, — то ли потому,
чтр я с меньшим рвением втягиваюсь в конфликты и
взваливаю на себя тяжелый груз, то ли потому, что зараза
возродилась неожиданно, тогда, когда должна быть
побеждена окончательно — и характером, и временем.
Но пойдем дальше. Друзья полагают, что они
большие люди, поскольку богаты: в этом нынче и состоит
для смертных единственное величие. Они понимают
320 Франческо Петрарка
(хотя многие другие и в этом обманываются), что
никакой славы не заслужили, и правильно предполагают,
что и впредь не могут надеяться на это.
Растревоженные, изнывают от таких забот и — какова сила зла! —
словно бешеные псы ощетиниваются даже на друзей,
оскаливают пасти и вонзают зубы в тех, кого
почитают. Что за слепота? Что за ярость? Не напоминают ли
они разъяренную мать, растерзавшую Пенфея, или
Геркулеса, в припадке безумия убившего своих детей?15
дОни во мне любят все, кроме одного — имени!
Ради Бога! Я готов отказаться от этого имени, стать Тер-
ситом, или Херилом16, или кем им захочется, лишь бы
не осталось никаких причин для такой нелюбви. Но
тем сильнее распаляются и сжигаются слепым огнем,
что сами стремятся к славе с большим усердием и
великим старанием. Но при этом первый — полный
невежда (тебе-то известно, что я имею в виду), второй
знает лишь кое-что, третий — чуть больше, четвертый —
немало, но его познания до такой степени путанны и
беспорядочны и, как говорит Цицерон, сочетаются с
такой легковесностью и самомнением, что, возможно,
было бы лучше, если бы он этих знаний вовсе не имел17.
Для многих образованность, причастность к наукам
становится поводом к высокомерию, разве что она
попадет в какую-то добрую и хорошо воспитанную душу,
что случается редко. Подобные люди могут немало
знать о животных, о птицах, о рыбах, о том, сколько
волос в гриве льва, сколько перьев в хвосте коршуна,
во сколько слоев могут налипнуть на днище и корпус
корабля полипы, как спариваются слоны,
повернувшись друг к другу спинами, и потом два года
вынашивают в утробах плод, как быстр и восприимчив ум
животных, как он близок к человеческому, как они сами
могут црожить до двухсот или трехсот лет, как феникс
исчезает в ароматическом огне и возрождается из
пепла, как морской еж может замедлить ход любого
корабля, а вытащенный из воды совершенно
беспомощен, как охотники завораживают зеркалом тигров, как
аримаспы18 поражают мечом грифов, как киты
обманывают моряков, как безобразны детеныши медведей,
О невежестве своем собственном ц многих, других 321
как редки они у мулов, а у змей бывает единственный
и жалкий, как слепы кроты, как глухи пчелы, как,
наконец, из всех животных только крокодил может
двигать верхней челюстью19. Большая часть этих сведений
неверна, как стало известным в отношении животных,
завезенных в наши края, но авторы охотно черпают
подобные вещи из вторых рук, а то и выдумывают
сами. Впрочем, если бы факты оказались вполне
достоверными, то все равно знания такого рода не могли
бы привести к блаженной жизни.
Ведь какую пользу, спросил бы я, принесет знание
природы зверей, и птиц, и рыб, и змей, если не знать
или презирать природу людей, не знать, для чего мы
рождены, откуда мы пришли и куда идем?
Об этих и других вопросах я часто говорил с этими
учеными писаками с большей свободой, чем можно от
меня ожидать, и с большей, очевидно,
опрометчивостью. Они же считают себя знатоками, но не Моисеева
закона и не христианского, а аристотелевского. Как
всякий, кто говорит с друзьями, я не предвидел того,
что те, кто вначале восхищался, потом начнут
злобствовать. Когда они поняли, что я говорю против их
ереси и против дорогих для них правил, то провели
совещание, чтобы на нем осудить не меня (конечно
же, они меня глубоко уважают), но мою славу, которая
им ненавистна, обвинив меня в невежестве. Пусть бы
вы призвали на это сборище других! Возможно, там
было бы высказано противоположное мнение. Но они
собрались лишь вчетвером, чтобы оценка была
единодушная и единогласная.
Там об отсутствующем и потому беззащитном
говорили много разного. Нет, они вовсе не были
настроены по-разному, сходились на одном и говорить хотели
об одном и том же, однако, вопреки себе и своему
намерению, словно опытные судьи, процеживали и
отжимали истину сквозь частое сито противоречий.
Думаю, что прежде всего они должны были
поговорить о том, что общественное мнение на моей
стороне, но тут же начали бы возражать, что этому мнению
мало веры; в этом они правы, поскольку толпа редко
322 Франческа Петрарка
знает истину. Потом они должны были сказать, что та
дружба с величайшими и ученейшими людьми,
которая украшает мою жизнь (за что я благодарю Господа),
идет вразрез с этими представлениями. Это относится
и к моим дружеским связям со многими королями, а
прежде всего с Робертом, королем Сицилийским,
который часто удостаивал меня славного свидетельства
учености и таланта20. Они должны были заявить — и
здесь им определенно напустили пыли в глаза, не
скажу несправедливость, но пустословие, — что сам
король лишь слыл сведущим в литературе, но на деле
никакого понятия о ней не имел; что остальные хотя и
ученые люди, однако оказались недостаточно
требовательными и проявляли то ли свою любовь ко мне, то
ли несерьезность.
Противоречат они себе и в рассуждениях о моих
отношениях с римскими понтификами. Они знают, что
три последних римских папы21 наперебой предлагали
мне личную дружбу и высокие почести, хотя я от всего
отказывался; и Урбан, который ныне у власти, обычно
хорошо обо мне отзывается и уже прислал мне теплое
письмо22.
Добавлю к этому то, что всем широко известно и
ни у кого не вызывает сомнений, что этот римский
принцепс (другой в это время правил незаконно)
числит меня среди близких людей и имеет обыкновение
ежедневно приглашать к себе, обращаясь с
многократными просьбами то в письмах, то через вестников23.
Они понимают, что в этом можно найти
доказательства некоторой ценности моей персоны. И потому
полагают, что понтифики или ошибаются в
отношении моей славы вместе с прочими, или ценят меня за
нрав, а не за знания, равно как и принцепс,
озабоченный собственной славой и историей (правда, они не
отрицают некоторой моей осведомленности в этой
области).
Они могут добавить, что им мешает мое
красноречие, которого я, клянусь, не знаю в себе. Сами же
представляют достаточно активного оратора — так как
обязанность оратора говорить, чтобы убедить, убедить
О невежестве своем собственном и многих других 323
в конце речи. Они полагают, что это удается и многим
неученым людям, что все зависит от ловкости или
удачного случая. Словом, «много красноречия, мало
мудрости».
Они отмахиваются от известного определения
оратора, данного Катоном, поскольку оно противоречит
их толкованию24.
Они сознаются, что им мешает мое перо, которое
они боятся не только бранить, но и поскупее хвалить,
называя его изящным и редкостным, но при этом
совершенно невежественным. Как это может сочетаться,
я не понимаю, да, думаю, они и сами не понимают; и
если бы они осмотрелись и вновь обдумали сказанное,
им стало бы стыдно за их глупое легкомыслие. Ведь
если бы в действительности мой стиль был изящным
(чего я не думаю), то было бы ложью заявлять, что он
невежественен. По какому это закону можно признать
выдающимся стиль невежды, если вовсе отсутствует
понятие о стиле у тех, кто знает все? Итак, чтобы не
увлекаться подозрениями, основанными на
случайностях, доверимся разуму. Чего же ты хочешь и о чем
думаешь? Ожидаешь, я полагаю, судейского решения?
Итак, когда все прибыли для вынесения вердикта, я не
знаю, какого бога они имели перед глазами (так как
нет бога, жаждущего несправедливости, нет бога
ненависти и невежества, закрывающих истину двойными
облаками), чтобы вынести такой краткий и
окончательный приговор: что я — муж добродетельный, но
не ученый. О, если бы ничего истинного никогда,
кроме этого, не говорили и не собирались говорить! О,
благодетель и спаситель Иисус, истинный Бог и
податель всякого знания и ума, царь истинной славы и
господин добродетели! Ныне, преклонив колени в
мольбе о милосердии, прошу тебя, сохрани за мной
этот дар — быть добрым, если не захочешь быть
щедрым больше. Если я не буду сильно любить и
благочестиво почитать Тебя, Боже, я не смогу существовать
вообще. Ведь я рожден именно для этого, а не для
учености, так как если достанется только ученость, то она
раздует надменностью, разрушит, а не сотворит, ста-
м*
324 Франческо Петрарка
нет блестящей тюрьмой и тягостной работой,
пустозвонным бременем души. Ты, Господь, наперед
знаешь всякое желание и всякое воздыхание мое, знаешь,
что во всех науках я не искал ничего больше, чем
средства стать добрым мужем. Я не верил, что к этому
может привести только овладение науками или вообще
кто-нибудь (хотя именно это обещал Аристотель и
многие другие философы), кроме тебя, Господи.
Но я верил, что только под Твоим водительством, а
не под чьим-либо иным, дорога к моей цели через
овладение науками будет благороднее, вернее и
приятнее. Ты, проникающий до глубины души и плоти
моей, знаешь, что все именно так, как я говорю. Даже
будучи молодым, я никогда настолько не жаждал
славы (хотя не отрицаю, что это подчас во мне бывало),
чтобы не предпочесть добродетель учености.
Сознаюсь, я жаждал и того, и другого (сколь беспредельна и
ненасытна человеческая жадность!), покуда не
остановился на Тебе, Боже, выше которого нет цели наших
устремлений. Я хотел быть и тем, и другим, но так
как мои судьи лишают меня этого, то я готов им
выразить благодарность за то, что они оставили мне
из двух вещей лучшую; только бы в этом случае не
солгали, отняв у меня то, что им хочется, и
приписав то, чего не было,
Чтобы я мог утешиться по поводу потери (увы,
пустым утешением), они следуют, на мой взгляд, манере
завистливой женщины: когда ее спросят о внешности
соседки, то она скажет, что соседка добра и
благонравна, припишет ей многие другие качества, пусть и
отсутствующие, лишь бы не сказать об одном и,
возможно, самом главном, что соседка красива. Но Ты,
Боже мой, господин всех знаний, превыше которого
никого нет, Ты, кого я обязан и хочу предпочесть и
Аристотелю, и любым философам, и всем поэтам, и
всем тем, кто произносит пышные речи, полные
чванства, наконец, и наукам, и образованности, и всем
совершенно делам я обязан предпочесть и хочу
предпочесть; Ты, Боже, можешь приписать мне истинное имя
доброго человека, прошу тебя об этом, если они при-
О невежестве своем собственном и многих других 325
писали мне это имя без оснований. И не столько
относительно доброго имени, хотя Соломон предпочел
его драгоценным благовониям25, сколько относительно
существа дела прошу: дай мне сил стать добрым,
возлюбить Тебя и заслужить Твою любовь, ведь никто не
воздает так своим ревнителям равным за равное, как
Ты; прошу, дай мне усердия ревностно следовать Тебе,
надеяться на Тебя, говорить о Тебе. «Пусть уйдут
минувшие речи из уст моих и Тебе будут посвящены
размышления мои»26. Ибо, воистину, «лук сильных
преломляется, а немощные препоясываются силою»27, и
гораздо более счастлив любой из ничтожных людей,
которые в Тебя верят, чем Платон, чем Аристотель
или Варрон, чем Цицерон, которые при всей своей
учености Тебя не познали. И первые близки к Тебе и
связаны с Тобой, Боже, который есть Камень28, и
судьи их повергнуты, и ученое невежество обнаружено.
Итак, вроде бы должны отличаться образованностью
те, кто ее у меня отнял, но на самом деле, боюсь, что
и они не образованы и не могут стать ими: ведь у них
чрезвычайно высокое мнение о своих делах и словно
знамя — только имя Аристотеля. Своими пятью
слогами оно услаждает многих невежественных людей.
Помимо того, их отличает и необыкновенное
высокомерие, которому не на чем держаться и которое вот-вот
рухнет, и тщеславная радость, и эти безграмотные и
спесивые люди с пустой и легкомысленной
доверчивостью пожинают плоды своих заблуждений.
Пусть же моим уделом остается смирение, сознание
собственного невежества и елабости, презрение — ни
к чему иному, кроме как к мирскому, к самому себе, к
высокомерию тех, кто меня презирает, пусть останется
недоверие к себе, надежда, Боже, на Тебя; пусть,
наконец, моей долей будет Бог и то, что в них не вызывает
зависти, — неученая добродетель. Разумеется, они
начнут смеяться, если это услышат, и скажут, что я говорю
благочестивые речи как какая-нибудь темная старуха.
Ведь для этих надутых ученой спесью людей нет
ничего более маловажного, чем благочестие, которое для
истинных мудрецов и образованных людей большого
326 Франческо Петрарка
ума является самым важным качеством; для них и
написано «благочестие есть мудрость»29. Мнение о том,
что я добродетельный, но неученый человек, еще
более укрепится после этих моих слов.
III
О чем же мы поговорим теперь, вернейший Донат?
Я обращаюсь к тебе, так как зависть этих людей
ужалила тебя больше, чем меня самого, в которого они
впились. Что, спрашиваю, будем делать, друг? Искать
ли справедливости у других судей? Или смолчим и
этим молчанием подтвердим их правоту? Я бы
предпочел второе; впрочем, чтобы тебе стало понятно,
насколько я не склонен выяснять отношения, не будем
ждать десятого дня, а прямо сейчас согласимся с
вердиктом судей, каким бы он ни был. Я заклинаю и
тебя, и других, кто имеет отношение к этому и думает
обо мне совершенно иначе, протянуть руку
одновременно со мной: пусть они примут ваше терпение за
подтверждение истинности их мнения.
О, если бы, действительно, было истинным то, что
они мне приписывают!
Не буду влезать в спор относительно того, что они
у меня отнимают: я со всем согласен и признаю, что
так оно и есть и что они вполне подходящие судьи.
Пусть даже они и действуют вопреки правилу,
сформулированному их богом Дристотелем: «Всякий, кто
хорошо судит о том, что знает, хороший судья именно
в этом»30. Отсюда кажется естественным, что лучше
всего судья разбирается в тех вещах, которыми хорошо
владеет сам; согласно этой коварной посылке лучше
всего судить о невежестве должны самые
невежественные люди. Но это не так, ведь судить и о невежестве,
и о мудрости, и вообще о чем угодно — дело
знающего человека, сведущего именно в том, о чем он судит.
Невежественные люди не могут судить о невежестве,
как судят музыканты о музыке или грамматики — о
грамматике. Есть вещи, обладание которыми —
признак крайней бедности, и о них лучше рассудит кто
О невежестве своем собственном и многих других ЪП
угодно, чем тот, у кого их в переизбытке. Меньше
всего в уродстве понимает урод, который слился с ним
настолько, что вовсе не замечает и не знает, насколько
оно бросается в глаза красивому человеку.
То же самое можно сказать и в отношении других
недостатков: никто не может хуже судить о
невежестве, чем невежественный человек. Я не к тому клоню,
что не вижу смысла в данном судейском
разбирательстве, а лишь к тому, что стыдно — если у них есть
хоть капля стыда — судить о том, чего не знаешь. И
поскольку в отношении моего невежества совпадает
мнение дружеской зависти и вражеской ненависти, то
в конце концов всякий, кто объявляет меня
невежественным, разделяет и мое мнение. Ведь и сам я,
размышляя о том, сколь много еще не знаю и сколь
многое хотел бы постичь мой жадный до познания ум, в
молчаливой скорби вижу свое невежество.
Но между тем, пока подходит конец моего земного
изгнания, с которым связано и мое невежество, меня
утешает размышление об общих свойствах нашей
природы. Я полагаю, что к подобному приходит каждый
честный и скромный ум (познать себя самого и
утешиться), даже и те люди, которым досталось
огромное, по сравнению с обычным, знание. Но и это
знание несопоставимо с трудностями, с которыми оно
дается, чтобы стать огромным. Да> насколько ничтожно
и насколько мало то, что дано познать одному
человеческому уму! Как ничтожно мало знает человек, уж не
буду говорить, по сравнению с тем, что знает Бог, но
даже по сравнению с его собственным невежеством.
При этом нетрудно догадаться, что это познание себя
и признание собственного несовершенства и
утешение, как я заметил, самого себя больше всего присуще
тем людям, которые больше знают и больше
понимают. Как счастливы в заблуждении своем мои судьи,
которые не знают нужды в подобных утешениях!
Счастливы, скажем, не знаниями, а заблуждениями и
надменным невежеством, позволяющим им утверждать,
что они способны познать даже то, что известно лишь
ангелам, в то время как для обычного человеческого
328 ^ . Фртческо Петрарка
познания всем им>не хватает многого, а многим из
них — всего.
Но вернусь к себе самому. Увы, друг, не могу
сказать, несет ли мне что-либо хорошее дальнейшая
жизнь? Мне, которому некогда сопутствовало столь
постоянное благополучие, так что, казалось, оно
никогда меня не покинет. Однако стареют люди, стареют
судьбы, стареет людская слава, стареет рее
человеческое; в конце концов стареют, хотя они бессмертны, и
души, чему я долго не мог поверить. Как не вспомнить
Сенеки: «Долгий век разрушает сильные души»!31 Это
не значит, что в старости наступает смерть души, но
начинается ее отторжение от тела и уход от него, о
котором мы знаем и который обычно зовется смертью;
это и есть смерть — тела, конечно, а не души. Так вот,
Сенека, стареет и охладевает моя душа32. Теперь я,
старик, испытываю то, о чем спрашивал неопытным
юношей, когда воспевал пастушескую жизнь: «Что
приносит человеку долгая жизнь?»33 С каким чувством
я перенес бы нападки этих друзей несколько лет
назад? С какой силой мог бы я им противостоять?
Поверь мне, война между их и моим невежеством была
бы ожесточенней. А теперь нападать на старика тем
более позорно, что это совершенно безопасно; я подымаю
руки вверх, и мое невежество уступает их невежеству.
Будто предвидя, что станется со мной, я всегда с
каким-то сочувствием вспоминаю историю Лаберия.
Всю жизнь он провел на почетной военной службе, а в
60 лет, уступив мягким просьбам Юлия Цезаря (в
устах принцепсов и просьбы звучат как приказ), вышел
на сцену, превратившись из римского всадника в
мима. Он не мог молча проглотить обиду, и среди жалоб
прозвучали и такие слова: «Я безупречно прожил два
тридцатилетия, чтобы, выйдя из своего дома римским
всадником, вернуться в него мимом; признаюсь, в
один и тот же день я прожил больше, чем мне вообще
было отпущено прожить»34. Что касается меня (перед
тобой можно и похвалиться), то пусть я не стал
образованным в полном смысле этого слова (хотя когда-то
мои знания внушали доверие), однако, выйдя из сво-
О невежестве своем собственном и многих других 329
его дома мальчиком и даже в старости не
возвратившись туда, я провел почти всю жизнь в занятиях. И
когда у меня было здоровье, редкий день проводил я в
праздности: я всегда или читал, или писал, или
обдумывал свои сочинения, или слушал то, что мне читали
другие, или старался глубже проникнуть в то, о чем
прежде не имел ясного представления. Я посещал не
только ученых мужей, Но и города, славящиеся своей
ученостью, чтобы вернуться оттуда более
совершенным и образованным. Прежде всего я назвал бы Мон-
пелье, т.к. в детские годы жил неподалеку от него;
затем Болонью, дальше Тулузу, Париж, Падую и,
наконец, Неаполь, где тогда процветала ученость (знаю,
это было многим не по нраву) в эпоху Роберта,
величайшего из королей и философов нашего века, чья
слава как ученого человека не уступает его славе как
короля35. Мои судьи называют его невежественным,
так что дурная молва, как я смею думать, у меня почти
общая со столь великим королем; конечно, она может
быть общей и с другими, превосходящими нас и
возрастом, и славой. Об этом я специально скажу в конце.
Впрочем, в отношении этого короля весь мир имел
мнение, не соответствующее действительности. Я же,
будучи юношей, почитал этого старца не как короля —
их повсюду много, — но как редкое чудо ума и
благоговейный храм наук. Я, совершенно неравный с ним,
ни положением, ни летами (это известно многим,
особенно в Неаполе), стал самым близким его другом, не
имея при этом ни собственных заслуг, ни заслуг
предков, ни успехов в военном деле, ни умения услаждать
слух музыкой. Говорят, его привлекали мои
сочинения. Следовательно, или он плохой судья, или я еще
худший хранитель, который, усердствуя и беря на себя
обязательства, все забывает.
Кроме того, я провел большую и лучшую часть
моей жизни, посвященную занятиям, в той курии,
которую неизвестно почему называли римской, на левом
берегу Родана. Она оставалась там пятьдесят или более
лет и совсем недавно, собственно в этом году,
вернулась на прежнее место, в родной город, святейшее ме-
330 Франческа Петрарка
сто пребывания Петра. Хотелось бы надеяться, что это
окончательно. Все это произошло благодаря
знамениям, слову и воле Урбана V, папы святого, хорошо бы
еще и настойчивого36.
Недалеко от Авиньона, на моем Геликоне, где
начинается царица источников Copra, я и проживал37. В
Авиньоне весьма часто случались продолжительные
встречи образованных людей нашего мира. На моем
Геликоне царили уединение, молчание и покой, столь
необходимые для размышлений. Таким образом, там
время проходило в занятиях, в посещении лекций или
учителей, в чтении вслух друзьям того, что я изучил
или написал; здесь — в прогулках, размышлениях и,
как подобает человеку грешному, в частых молитвах; я
постоянно говорил сам с собой и редко размышлял о
чем-то другом, кроме свободных наук; все мое время
было посвящено им.
Между тем я приобрел известность и
благосклонность у тысячи ученых и почтенных старцев. Если бы
я стал называть одного за другим, то упоминание было
бы приятным, а список отнюдь не коротким. Я
нравился им всем по одной главной причине: еще
юношей я снискал в городах, славящихся науками, мнение
о себе как об образованном человеке. А теперь четверо
молодых людей в приморском городе отнимают у
меня, старика, эту славу. Вот и со мной случилось то же
самое, что с Лаберием. И мое положение изменилось в
60 лет; Лаберий, по крайней мере, стал мимом — это
все-таки искусство, пусть и низкое, оно требует
таланта и мастерства и имеет свое место среди других
искусств, а я уже стал невежественным — и это уж самое
последнее дело.
Так обернулись дела: и мои занятия, и труды, и
бдения дошли до того, что в юношеские годы
некоторые считали меня ученым, а в старости с легкой руки
четверых друзей я оказался неучем. Возможно, это
следует переносить с горечью, а возможно, и не
следует печалиться, а следует все переносить спокойно, как
переносится многое в жизни: убытки, потери,
бедность, труд, скорбь, позор, смерть, изгнание, бесчес-
О невежестве своем собственном и многих других 331
тие. Если все это наносное, им нужно пренебречь;
ведь и противники у человека появляются, но со
временем и исчезают! А если обрушиваются настоящие
беды, их нужно переносить как наказание за грехи
человеческие.
Конечно, если у меня только на словах отнимают
истинную славу, добытую знаниями, я буду лишь
смеяться. А если лишат дутой, я не только стерплю это,
но еще и порадуюсь, сбросив с плеч чужой груз и
освободившись от тяжкой службы по охране
незаслуженной славы. Лучше самому оказаться ограбленным, чем
безнаказанно пользоваться украденным. Изгоняющий
незаконного владельца сам может быть еще более
беззаконным, но изгнание не перестанет от этого быть
справедливым. Что касается меня, то я, как уже
говорилось, принимаю не только справедливое мнение, но
и несправедливое и не отвергаю ни судьи, ни вора, кто
бы они ни были.
Слава — вещь очень трудная и утомительная,
особенно литературная. Против нее все ополчаются и
вооружаются. А те, кто надеяться на нее не смеют,
стремятся отнять ее у законных владельцев. Всегда
нужно иметь перо наготове, всегда быть в строю,
напрягать внимание и навострять уши.
И кто бы ни освободил меня от этих забот и от
этого бремени, я благодарен моему освободителю. Звание
образованного человека, заслуженное или нет, равным
образом утомительно и беспокойно. И мне, всегда
жаждущему лишь покоя и досуга, нетрудно с ним
расстаться, особенно если принять во внимание
замечание Сенеки: большое время нужно, чтобы заслужить
похвалу, большой досадой отзывается она в чужих
ушах. «Образованный человек»! Мы удовольствуемся и
более простым титулом: добрый муж! Я
придерживаюсь твоего мнения, о лучший наставник нравов; ты
считаешь этот титул более простым, а я думаю, что он
более высокий и потому более славный; я вполне
доволен этим титулом, особенно когда мне его
оставляют мой судьи! Одно опасение гложет постоянно: так
ли это на самом деле. В любом случае, я стремлюсь
332 Франческо Петрарка
оправдать этот титул и не успокоюсь до последнего
часа и до последнего вздоха. Д уже говорил, что стать
добрым мужем можно только при сильном желании, и
если оно владеет человеком, то это само по себе —
часть добродетели. Смею надеяться, что хоть в этой
части я оправдываю высокое определение.
IV
Вернемся к моим судьям. О них уже много сказано?
но кое-что следует добавить, дабы у тебя не оставалось
неясностей. Мне не хотелось бы прослыть как
необразованным, так и, тем более, глупым и тупым.
Образование — дело случая, разум же — свойство человека и
часть его самого. Мне не хотелось бы испытывать
стыд из-за отсутствия как первого, так и второго. В
любом случае, мне хватит разума не попасть в силки,
расставленные ими. Они не обведут меня вокруг
пальца своими хитростями. Правда, я полагал, что
защищен своей простотой и благороднейшим правом
верной дружбы. Легко обмануться доверчивому человеку.
Я это говорил и повторяю начало истории. В этом
прекрасном и огромном городе38 среди многих людей,
бывавших у меня с визитами, появлялись и те, о ком
идет речь, — то по двое, то все сразу. Я всегда бывал
им рад и встречал их, будто ангелов Господних,
забывая обо всех делах, которые целиком захватывали душу
и удивительным образом проясняли ее. Как водится
среди друзей, тотчас начинались разные беседы.
Естественно, мне не приходило в голову заботиться о том,
как сказать то или другое й не стоит ли сменить тему
разговора. С приходом таких гостей улыбка не сходила
с моего лица, а еще веселей было на душе. Порою
радость, даже некое благоговение заставляли меня
слушать молча, чтобы своим вмешательством в разговор
не прервать оживленной беседы. Так что я или
молчал, или говорил о чем-нибудь вполне обыденном. Для
меня было само собой разумеющимся, что в дружеских
беседах ничего не приукрашивается, ничего не
утаивается, одно не выдается за другое: и на лице, и на язы-
О невежестве своем собственном и многих других 333
ке. Я привык говорить с друзьями, словно наедине с
собой, чего, по словам Цицерона, приятнее не бывает39.
Разве обязательно выказывать свои знания или свое
красноречие перед друзьями, которым открыта твоя
душа, твои чувства, твой ум? Разве что они захотят не
испытать тебя, но что-то от тебя почерпнуть. И опять
же в таком случае не требуется кичливости,
приукрашивания, а лишь дружеское желание поделиться
знаниями, как во всех других делах, без всякой
настороженности и зависти. Кстати, меня часто удивляло, что
Цезарь Август, такой великий принцепс, не забывал
среди множества забот о важнейших делах
предварительно обдумывать, а частенько и писать все, о чем
намеревался говорить не только с народом, сенатом
или воинами, но и — женой и друзьями40. Казалось
бы, вовсе незначительные заботы. Возможно, он делал
это, чтобы случайно не обронить поспешного и
некрасивого слова и не вызвать осуждения своей
божественной речи или презрительных отзывов о нет Ему,
обращавшемуся со своих высот к лицам подвластным,
читать речи, будто предписания оракула, было
простительно. Мне же по нраву в свободной беседе с
друзьями высказывать и те мысли, которые не созрели до
конца. Чего стоит красноречие, если на него нужно
постоянно тратить столько сил? Лучше вовсе быть
лишенным дара слова, чем вечно оставаться
беспокойным и озабоченным.
Из подобных представлений я исходил как при
прежнем общении с милыми и близкими людьми,
прекрасно знающими мои ораторские возможности, так и
при недавних беседах с этими нашими четверыми,
когда дружеское доверие стало жертвой враждебной
клеветы. Я не подбирал слов и выражений и не
осторожничал: все, что было на душе, тотчас оказывалось на
устах. Они же вырывают из целого отдельные куски,
взвешивают их и истолковывают так, словно мной
ничего не может быть сказано лучше или словно то же
самое не может быть сказано изящней. Они поступили
так один раз, потом еще и еще и легко укрепились во
мнении, которое хотят считать истиной. Известно, что
334 Франческо Петрарка
нет ничего легче, чем убедить в каких-то вещах тех,
которые хотят быть в них убежденными и заранее
верят во все. Их смелость подогревается тем, что они
обращаются к невежде, кроме того (как я теперь
понимаю), они все время смеялись над моим невежеством.
Так меня, одного и беспечного, обложили со всех
сторон многие, и я, не ведая об этом, оказался
смешанным с толпами невежд.
Те четверо имели обыкновение во всеуслышанье
обсуждать аристотелевские проблемы или рассуждать о
животных. Я же или молчал, или подшучивал, кое-что
вставлял, иногда с улыбкой спрашивал, каким образом
Аристотель мог знать то, чего нельзя ни познать
разумом, ни проверить на опыте? Они впадали в смущение
и в душе начинали сердиться, подозревая в злословии
того, кому для доказательства истинности дела
недостаточно просто авторитета Аристотеля^ хоть и
великого мужа. Чтобы уж мы целиком из философов и
любителей изучения мудрости превратились в аристотели-
ков или, точнее, пифагорейцев, остается воскресить
давнишнюю (и весьма забавную) формулу: спрашивать
о том, о чем не говорил сам, нельзя. «Сам» — по
свидетельству Цицерона — Пифагор41.
Я признаю, что Аристотель — великий человек и
многознающий муж, но он был человеком, и потому
полагаю, что некоторых вещей, а то и многих, мог не
знать. Если же сказать об этих друзьях, то, честное
слово, они не столько друзья истины, сколько фанатики.
Я не сомневаюсь, что Аристотель не только в малых
делах, где и ошибки малые и неопасные, но и в самых
больших и заметных, рассматривающих высшее благо,
как говорят, всю дорогу ошибался. Конечно, «Этика» в
начале и в конце много говорит о счастье42, но
осмелюсь сказать (пусть мои критики негодуют сколько
угодно), что об ИСТИННОМ счастье он не имел
понятия. Очевидно, какая-нибудь благочестивая старуха,
или рыбак, или пастух, или земледелец (как верующие
христиане) будут более счастливыми, хотя и не скажу,
что более тонко чувствующими.
О невежестве своем собственном и многих других 335
Еще больше я удивлюсь тому, что некоторые из
наших так восхищаются этим аристотелевским
трактатом, что считают недозволенной любую попытку после
Аристотеля говорить о счастье, — тому есть и
литературные свидетельства. Что касается меня, пусть мои
слова покажутся слишком смелыми, но я уверен, что
выражу истину: как сова видит солнце, так Аристотель
видел счастье; в лучшем случае, он видел свет солнца,
его лучи, но не само солнце, он не сумел подвести под
свои рассуждения о счастье тот фундамент, который
необходим для столь великолепного здания, но
выстроил его на зыбкой почве, да еще и в чужих
пределах. А что такое истинное счастье, так и не познал
(или, познав, отмахнулся?). Я имею в виду то, без чего
счастье невозможно, — веру и бессмертие. Жаль, что
он этого то ли не понял, то ли не принял.
Но я обязан сказать еще об одном обстоятельстве.
Да, вера и бессмертие были непознанными, но этого и
не могло случиться, он не мог их ни познать, ни
предвидеть, потому что истинный свет еще не сиял над
землей — тот, что теперь освещает всякого человека,
входящего в мир. И он, и остальные вообразили себе
то, чего, естественно, желают все и противоположного
чему никто не может желать, — я говорю о счастье,
которое воспевают прекрасными словами, как какую-
то далекую красавицу. Самого счастья они не видели и
тем не менее его прославляли; в своих снах они были
почти блаженны, но в действительности — несчастны
и обречены были проснуться для несчастья от громов
близкой смерти и увидеть, очнувшись от сна, каково
же это счастье, о котором они грезили.
Если же кто-то не верит, что все это так, как я
сказал, или считает, что это сказано не совсем
обдуманно, пусть прочтет 13 книгу трактата Августина «О
троичности»43, где он спорит об этом с философами,
которые (я повторю его слова) устроили счастливую
жизнь каждый на свой лад. Августин много и
основательно полемизирует с этим. Признаюсь, и я об этом
говорил часто, и буду говорить еще, потому что уверен
в своей правоте и истинности своих суждений. Если
336 Франческа Петрарка
мои четверо друзей увидят в этом святотатство и
обвинят меня в оскорблении святости, то вместе со мной
пусть обвинят Иеронима44, который тоже размышлял
не над тем, что сказал Аристотель, но над тем, что
говорил Христос. Со своей стороны, я не сомневаюсь,
что истинные нечестивцы и святотатцы они сами, если
думают иначе: я скорее отдам Богу душу и все самое
дорогое, чем откажусь от своего мнения — истинного,
благочестивого, спасительного, или чем пренебрегу
Христом из-за любви к Аристотелю.
Пусть они философы, пусть они аристотелики,
хотя, сказать по правде, они ни то и ни другое, но пусть
будут тем и другим, — у меня нет зависти к этим
прославленным титулам, которыми (конечно,
незаслуженными) они очень гордятся. Пусть и они не завидуют
моему скромному и истинному званию католика и
христианина. Впрочем, какой смысл их просить о чем-
то, когда заранее ясно, что они делают и будут делать
то, что им угодно? Они завидуют не нашему званию:
его-то презирают как нечто простецкое и низкого
свойства и недостойное сравнения с их умами. Итак,
секреты природы и те, еще более возвышенные
таинства Бога, что мы принимаем со смиренной верой,
они стремятся постичь с высокомерным зазнайством и
не постигают, и даже не приближаются, но не
сомневаются, безумцы, что сумеют это сделать и сжать небо
в безумной горсти. И столь довольны своим мнением,
и так радуются собственным ошибкам, словно уже
сделали это. Я уж не говорю, что их не отвращает от
безумия невозможность самого дела, высказанная
словами апостола в послании к римлянам: «Ибо кто
познал ум Господень? Или кто был советником Ему?»45 Или
тот божественный совет Экклесиаста: «Не ищи того, что
выше тебя, и не старайся проникнуть в то, что сильнее
тебя, но каковое Бог предписал тебе, об этом и
размышляй и не будь любопытным относительно многих Его
дел, нет тебе необходимости видеть то, что скрыто»46.
Не об этом я говорю. Равным образом презирают
все небесное, мало того, если назвать вещи своими
именами — презирают что бы то ни было, если им из-
О невежестве своем собственном и многих других 337
вестно, что оно сказано шькатолически. В данном
случае уместно вспомнить шутку Демокрита: «Того,
что под ногами, — говорит он, — никто не видит, но
все стремятся обшаривать небесные области»47, или
очень остроумные и насмешливые слова Цицерона
относительно тех, кто безрассудно дискутирует и не
ведает сомнений: они будто «только из совета богов
спустились»48 и видели собственными глазами все, что
там делается, и слышали собственными ушами, что
говорится. Можно вспомнить к случаю и более древнее,
но не менее остроумное: у Гомера Юпитер самым
грозным образом стращал не смертного человека и
даже не кого-то из сонма богов, но саму Юнону, свою
жену и сестру, повелительницу богов, чтобы она не
смела выведывать его секреты и предполагать, что она
вправе их знать49. Но вернемся к Аристотелю. Многие,
чьи глаза были застланы и воспалены его блеском,
ослепши, попали в западню ошибок. Я знаю, что он
защищал единство власти: это же раньше защищал
Гомер, который говорил так (скажу по-латыни,
поскольку нам это привычнее): «Многовластие не является
добром, пусть будет один господин, один
повелитель»50. И вот Аристотель: «Множество правителей не
есть добро, пусть будет один правитель»51. Однако
Гомер говорил в отношении людей, Аристотель — в
отношении богов; первый о власти у греков, второй — у
всех. Первый ставил повелителем Атрида52, второй —
бога: здесь ранний луч истины осветил ему душу. Но
кто этот повелитель, каков по природе и сколь велик,
я полагаю, он не знал; тот, кто мог многое сказать о
самом малом, тщательно обсуждая вопрос со всех
сторон, не смог увидеть одного и наивеличайшего — того,
что теперь очевидно для многих, несведущих в науках;
они видят не иным взором, но "по-иному освещающим.
И если не видят эти мои друзья, что дело обстоит
именно так, то вижу я, что они слепы и полностью лишились
глаз. Так на них смотрят и другие, у кого глаза на месте;
и в этом я сомневаюсь не больше, чем в том, что
изумруд зеленый, снег — белый, а ворон — черный.
338 Франческо Петрарка
И чтобы наши аристотелики спокойнее стерпели
мою дерзость, скажу, что думаю так не об одном
Аристотеле, хотя назвал только его. Я немало читаю, хотя
и невежда, и, прежде чем они обнаружили мое
невежество, мне казалось, что я кое-что понимаю. Да, я
читаю, но в молодые годы читал с большим
вниманием. Но и до сих пор обращаюсь к книгам поэтов и
философов, прежде всего Цицерона, умом и стилем
которого наслаждаюсь с молодости. Я нахожу в нем очень
много красноречия и несравненное изящество
выражений. Что касается самих богов, о природе которых
он издал книгу53, и вообще его рассуждений
относительно религии, то чем изящнее и красноречивее он
говорит об этом, тем более пустой кажется мне
побасенка; и в душе я благодарю Бога, который дал мне
ум, пусть робкий и умеренный, что дал мне душу
твердую и не стремящуюся ничего искать выше своих
возможностей и испытывать то, что трудно при поисках и
губительно при нахождении; но чем больше я слышу
злословий против веры в Христа, тем и Христа люблю
больше, и укрепляюсь в вере в него сильнее.
Я становлюсь похож на сына, хотя и не самого
лучшего, который слышит брань по поводу отца: тут
откуда что берется, дремлющая любовь разгорается, — что,
впрочем, не удивительно, если он настоящий сын.
Часто — Христос свидетель — богохульство еретиков
делало меня христианнейшим из христиан.
Упомянутые же древние язычники, пусть и говорят
много баснословного о богах, не богохульствуют,
потому что не имели никакого знания об истинном Боге,
имени Христа и не слышали. Вера же возникла из
слова, и хотя «по всей земле прошел голос их и до
пределов вселенной слова их»54, однако они (античные
язычники) были мертвы и погребены, когда слова
апостолов раздавались уже по всему миру и учение их
проникло повсюду. Больше достойны сожаления, чем
порицания, те, уши которых уже засыпала ненавистная
земля, и они не смогли впитать спасительную веру.
Меня сильнейшим образом приводят в волнение те
три книги Цицерона, которые называются «О природе
О невежестве своем собственном и многих других 339
богов». Я о них упоминал выше. Там — подумать
только! — блестяще рассуждая о богах, он то и дело
подшучивает и иронизирует относительно самих этих богов.
Вроде бы не всерьез — но не исключено, что из-за
боязни наказания: этого до прихода Святого Духа
боялись даже апостолы. Цицерон пересыпает свой рассказ
остроумными шутками, из которых догадливым
становится ясна его позиция относительно того, о чем он
пишет и что он думает, так что участь автора нередко
при чтении вызывала сострадание у меня, и в душе я
сожалел, что такой муж не узнал истинного Бога.
Незадолго до рождения Христа смерть закрыла его глаза —
увы! — перед, которыми из последних ночных
заблуждений вставало солнце справедливости, заря
истинного света, начало истины и конец тьмы.
Правда, Цицерон и в других книгах, которых
написал великое множество, увлеченный общим потоком
заблуждений, часто упоминает богов> — но и здесь,
как я говорил, часто их осмеивает. Уже в юношеском
сочинении «Об открытиях» он объявил, что те, кто
занимается философией, отрицают существование
богов55. Я добавил бы, что истинная и высшая
философия — знать Бога, а не богов, если при этом познание
сопровождается благочестием и верой. В зрелые годы
Цицерон в тех книгах, которые он пишет не о богах,
так показывает себя, так высоко поднимается на
крыльях своего ума, что нередко ловишь себя на
мысли, что говорит апостол, а не языческий философ.
Что же из этого? Не зачисляю ли я Цицерона в
число католиков? Очень хотел бы это сделать! О, если
бы это было возможно! Если бы Тот, кто дал ему
такой ум и такой талант, ниспослал, чтобы и Он Сам
был познан, как ниспослал искать! И хотя истинный
Бог не нуждается ни в наших похвалах, ни в
красноречии смертных, мне кажется, что нынче в храмах Ему
воздаются не то чтобы более истинные или более
святые — этого не может случиться и не следует
надеяться на подобное, — но, может быть, более сладостные и
более благозвучные хвалы.
340 Франческо Петрарка
Меня неверно поймут, если подумают, что от
выдающегося ума я жду лишь одной-двух удачных
мыслей: философы должны оцениваться не по отдельным
высказываниям, но по их постоянству и всему
творчеству в целом, — я понял это и по здравым расоужде-
ниям, и изучая того же Цицерона. Не найдется
человека, столь грубого, чтобы он однажды не сумел
сказать чего-то приятного. Но достаточно ли этого? Ведь
часто одна малая фраза, сказанная ко времени,
маскирует большое невежество; часто блеск глаз и
белокурые локоны скрывают уродство и нескладность
фигуры. А тот, кто хочет хвалить все в целом, должен все
увидеть, все взвесить, все оценить. Ведь нередко
рядом с тем, что очень нравится, скрыто нечто такое,
что столь же сильно, а то и больше, будет вызывать
неудовольствие. Скажем, Цицерон: рассудив о многом
вполне серьезно и почти благочестиво, он вдруг вновь,
как на блевотину свою, возвращается к своим богам,
называя имена, перечисляя качества каждого из них и
говоря затем о провидении уже не одного бога, но их
всех. Послушай, пожалуйста, что он вставляет: «Мы
обязаны чтить этих богов и поклоняться им. Культ
богов — наилучший, полный целомудрия, полный
благочестия, так что мы должны всегда почитать их со всей
душой и в чистых, целомудренных, искренних словах»56.
О, Цицерон мой, что ты говоришь? Как скоро ты
забыл и Бога единого, и себя самого! Где ты оставил ту
исключительную природу и то величие выдающегося
ума? Где — Бога, который лучше человека, творец
этого непреходящего порядка, что перед нашими глазами,
и тех вещей, которые не могут быть созданы разумом
и могуществом человека, — то есть вещей небесных?
Где, в конце концов, ты оставил того обитателя
божественного и небесного жилища, того руководителя и
управителя и, так сказать, архитектора такого
грандиозного здания? Ты словно изгнал Его из звездного
дома, который обрел себе благодарным признанием, да
еще и дал ему столь ужасных спутников, Ему,
возражающему и восклицающему пророческим возгласом:
«Видите ныне, что это Я, Я — и нет Бога, кроме ме-
О невежестве своем собственном и многих других 341
ня»57. А как же назвать тех новых, и недавних, и
нечестивых богов, которых ты пытался ввести в дом Господа?
Не те ли они, о ком другой пророк сказал: «Ибо все боги
народов г— вдолы, а Господь небеса сотворил»58.
И ты, Цицерон, то мне говорил об этом творце
небес и создателе всего сущего, услаждая благочестивому
слушателю слух и душу, то вдруг неожиданно смешал
его с мятежными творениями и нечистыми духами.
Все, о чем прежде сказал мудро и с чувством меры,
перевернул одним словом! Но что я говорю, «одним
словом», — не одним, многими. И часто, если не
сказать, постоянно, ты, словно сомнамбула, неверными
шагами возвращаешься туда и начинаешь
благоговейно чтить тех самых богов, которых только что
высмеивал. Более того, объявляешь наделенными чувствами,
живыми и —■ чего глупее не выдумаешь — богами
солнце, луну, звезды и сам этот осязаемый мир,
который мы видим, которого касаемся, который попираем
ногами. Впрочем, ты говоришь эти слова не от
собственного имени, но устами Бальба59, который ведет
разговор в твоем произведении, что можно принять за
осторожность, свойственную Академической школе60.
Однако в конце этой книги ты не решился назвать
рассуждения Бальба истиной, чтобы не причинить
вреда принципам Академии, заявив, что оно только
похоже на истину. Таким образом, складывается
впечатление, что все рассуждения Бальба — твои. В
действительности же, твое то, что, следуя платоновской
манере, ты предпочел вложить свои мысли в уста
другого и изложить от имени вымышленного персонажа.
Следует заметить, что порою и сам Бальб
представляет под разными именами одного бога. Обьшно
стоики пользуются этим приемом, будто щитом, для
оправдания безумия толпы богов, как будто бы хотят,
чтобы одно и то же обозначалось разными именами:
например, один и тот же бог на земле называется
Церерой, на море Нептуном, на небесах — Юпитером, в
огне — Вулканом61. Однако кто не видит, насколько
несерьезно подобное оправдание и как все это
затемняет истину; вспомнить хотя бы то, что у языческих
342 Франческо Петрарка
писателей боги соперничают друг с другом, спорят,
ссорятся, ведут войны?
А истинный Бог, единый и только единый, не
может быть ни больше, ни меньше себя самого,
поскольку он всегда один и тот же; он не может оказаться в
раздоре с самим собой; он не находит удовольствия в
жертвоприношении в виде барана или быка, но
радуется жертвоприношению молитвы, справедливости,
раскаявшегося духа и слез. Он один на земле и на
небе, везде едины и Его сущность, и Его имя.
Вернемся к пристанищу и убежищу вымыслов. Вот
философы, видя, что сказанное о Юпитере не
согласуется с понятием Бога, начинают говорить, что
Юпитеров два, естественный и мифический (замечания на
этот счет можно встретить у Лактанция)62. Цицерон же
пишет, что Юпитеров скорее три, если исходить из
мнения так называемых теологов63 (я имею в виду
исследователей богов, а не единого Бога). Каков вес и
какова ценность этих уловок, чтобы мне здесь не
сказать лишнего, можно понять из самого Фирмиана
Лактанция, обратившись к первой книге его
«Установлений»64. Прискорбно напоминать, что они признают
существование пяти Солнц, такого же числа Меркуриев,
Дионисов и Минерв, четырех Вулканов, Аполлонов и
Венер, трех Эскулапов, Купидонов и Диан; Цицерон
заявляет, что Геркулесов шесть, а Варрон — что их
сорок три65. И они не испытывают неловкости, говоря о
том, о чем нам неловко и слушать, не то что этому
верить. У кого, спрашивается, не вызовут негодования
эти глупости? Кто стерпит такие двусмысленности?
Все это настолько преисполнено заблуждений и
напичкано пустыми бреднями, что у меня порой
возникает сожаление, а то и возмущение: на какие
исследования тратилось знаменитое красноречие! Об
остальном они были вольны говорить что угодно. Но что это
за выкрутасы? Что за шутки? Что за сказочки?
Вообразить, что существует пять Солнц, в то время как
Солнце и стало называться Солнцем, потому что светит
одно66, и никогда не было много Солнц, хотя и могло
показаться, что их много, из-за недостатков зрения
О невежестве своем собственном и многих других 343
или из-за душевного смятения. Об этом в один голос
говорят все древние писатели и прежде всего —
Цицерон; я полагаю, об этом не стоило бы писать и это не
следовало бы читать, пусть и примкнул к сочинителям
столь великий муж, если бы чтение таких глупостей о
богах не побуждало в душах читающих любви к
истинному обожествлению единого Бога, презрения к
высшему благоговению и уважения к нашей религии.
Известно, что всякая вещь яснее познается в сравнении с
совершенно противоположным. Любовь к свету
рождается из ненависти к потемкам.
Если уж я решился сказать такое о Цицероне, в
котором меня восхищает очень многое, то каких слов
можно ждать от меня о других? Конечно, писали
многие о многом, писали обстоятельно, порой серьезно,
мило, красноречиво; но ко всему примешивали что-то
ложное, двусмысленное, смешное, словно ложку дегтя
в бочку с медом. Не стану продолжать, поскольку
здесь это неуместно и займет слишком много времени.
Кроме того? Цицерону многое простительно, им —
нет. Их сочинения далеко не так привлекательны,
даже если предмет рассуждения высок; их красноречие
явно уступает предмету. Ведь нередко одна и та же
песня в зависимости от исполнителя может
заворожить или вызвать неудовольствие, равно как мелодия в
зависимости от голоса звучит совершенно по-разному.
Если нужны другие примеры, за ними не надо
далеко ходить. Кто не знает, что Пифагор был человеком
высочайшего ума? Однако ему принадлежит
пресловутое учение о переселении душ67; остается изумляться,
как это могло, вопреки всякой достоверности,
взбрести в голову не скажу философа, но вообще человека.
Тем не менее взбрело и, поскольку это писано
человеком великого ума, на великие умы и оказало влияние.
Я бы выразился сильнее, если бы решился, но,
поскольку не решаюсь, вместо меня скажет Фирмиан
Лактанций, который не побоялся в своих
«Установлениях» назвать этого самого Пифагора пустым и
глупым стариком, весьма легкомысленным и до смешного
тщеславным человеком. С замечательной свободой пе-
344 Франнеско Петрарка
pa и души Лактанций презрительно изобличает пустой
вымысел Пифагора, и прежде всего выДуМку, будто он
в прежней жизни был Евфорбием*8. Однако таков один
из важнейших догматов Пифагора, Согласно которому
этот муж жил пришельцем среди доверчивых жителей
Метапонта6? и после своей смерти снискал такую
славу, что его дом стал считаться храмом, а сам он —
богом. И хотя он сам не писал об этом — он вообще
ничего не написал, *-■ однако говорил, а другие
записали.
А кто не слышал о сонмах атомов и случайности их
столкновений? По Демокриту, из этих собравшихся
воедино атомов состоит ш небо, и земля, и вообще все;
Эпикур же, следуя Демокриту, считает, что
существуют бесчисленные миры — а это уж совершенное
безумие70. Говорят, Александр Македонский, услышав об
этом; начал сожалеть, что ни один из миров еще не
покорен им. О, тщеславная и ненасытная душа!
Суждения и Демокрита, и Эпикура — философская ересь;
не познав и тысячной доли одного мира, они грезили
о мирах бесчисленных. Вот и попробуй теперь
критиковать не только ученых, но и людей, просто любящих
порассуждать и поразмышлять, к тому же свободных от
дел и имеющих охоту заниматься подобными вещами!
Что же я скажу о других, которые к бесчисленности
и беспредельности миров добавляют еще и вечность
этих миров? К подобному мнению склоняются,
помимо Платона и платоников, почти все философы, а с
ними также и мои судьи — чтобы казаться больше
философами, чем христианами. Ради защиты того очень
известного, а точнее сказать, дурно известного стиха
Персия: «нельзя зародиться из ничего ничему и в
ничто ничему обратиться»71, они не побоялись бы вести
войну не только с идеей устройства мира, изложенной
в «Тимее» Платона, но и с книгой Бытия Моисея, и с
учением Христа в целом, со всей его святостью,
спасительной силой, сладостью небесной росы, если бы не
страшились наказания, при этом человеческого
больше, чем небесного. Если бы не было этой боязни и
если бы можно было разогнать судей, то те, кто втихо-
О невежестве своем собственном имногих других 345
молку по углам осмеивает Христа и обожает
Аристотеля, хотя не понимает его, противодействовали бы
открыто истине и благочестию.
Более того, они обвиняют меня в том, что я
отказываюсь вместе с ними преклонять колена,
приписывая невежеству то, что идет от веры. Страшась
обвинить саму веру, порицают ее приверженцев, называют
их невежественными и тупоумными: размышляют не о
том, что знают или не знают другие, но лишь о том, в
чем с ними можно соглашаться, в чем — нет; всякое
несогласие — для них невежество, хотя на самом деле
несогласие с ошибающимся — высшая мудрость.
Они настаивают на предположении, что по природе
из ничего ничто не возникает, и это бессилие
приписывают самому Богу; слепые и глухие, они даже не
слышали наиболее раннего из натурфилософов —
Пифагора, утверждавшего, что подобная возможность и
такая власть есть только у Бога и то, чего не может
сотворить природа, легко может Бог, так что он во всех
отцошениях является более могущественным и
превосходит все, и сама природа получает силы от Него.
Не удивлюсь, если они не слышат Христа и апостолов,
и ученых католиков, которых презирают, но
удивляюсь, что они не хотят слушать и презирают этого
философа; Нельзя заподозрить, что они, так осуждая
других, просто не читали его. Если все-таки так оно и
есть и если они имеют хоть какой-то стыд, пусть
прочтут у Калькидия второй комментарий к «Тимею»
Платона72, хотя я уверен, что увещеваю тщетно.
Они как необдуманно, так и нечестиво отвергают
все, что склоняет к благочестию, кем бы это ни было
сказано, и, силясь казаться учеными, выглядят
безумными, раз полагают, что то, в чем отказано ничтожной
рабыне, будет запретно и для всемогущего господина.
Это ты мог понять из их неистовых криков во время
публичных диспутов (где они открыто не
осмеливаются изрыгать свои ложные суждения); там они обычно
заявляют, что в данное время обсуждают вопросы,
стоящие в стороне от веры и не имеющие к ней
отношения. Это не что иное, как, отвергнув истину, искать
346 Франческо Петрарка
правду и, не обращая внимания на солнце, искать в
глубокой и сумеречной пещере свет. Нет ничего
безумнее этого.
А сами (чтобы тебе не казалось, что они ничего не
делают или не ведают, что творят) делают скрыто то,
на что не осмеливаются открыто, порицая веру то
нешуточными и софистическими богохульствами, то
дурно пахнущими, нечестивыми, сальными шутками и
остротами.
Они с большим одобрением принимают слова
цицероновского Бальба, который говорит: «Дурной и
нечестивый обычай хоть в шутку, хоть всерьез разводить
дискуссии о богах»73. Бальб говорит это благочестиво,
как почитатель богов, хоть его благочестие само по
себе нечестиво и пагубно как языческое. Так насколько
тем, кто почитает истинного Бога, должен показаться
более дурным и более нечестивым обычай разводить
дискуссии против Бога своего, то есть единого,
истинного, живого небесного Бога? Если это делается
всерьез—то будет огромным преступлением и
нечестивостью, если в шутку — нелепейшей шуткой, достойной
строгого осуждения.
Совсем иначе смотрят на это мои судьи, которым я
не казался бы в такой степени невежественным, если
бы не был христианином. Действительно, каким это
образом христианин может казаться образованным
человеком в глазах тех, которые о Господине и Учителе
нашем Христе говорят, что он — невежда, что нелегко
ученику приобрести много знаний от необразованного
учителя, не отказавшись следовать его дорогой.
Поэтому они жадно, нахально, дерзко рычат и против
наставника, и против его учеников; они лают и глумятся, и тем
больше обретают славы, чем больше наговаривают
двусмысленностей, не понятных ни им самим, ни другим.
Ведь как, скажите на милость, понять того, кто сам
себя не понимает? Жаль, что они не могут услышать
цезаря Августа, красноречивейшего правителя, среди
многих достоинств души и ума которого было правило
«придерживаться изысканной и уравновешенной
манеры красноречия» и считать главной заботой «выраже-
О невежестве своем собственном и многих других 347
ние мысли с наибольшей ясностью»74. Он посмеивался
над друзьями, любящими незнакомые и неясные
слова, язвительно попрекал врагов, «пишущих о том, что
скорее удивляло читателей, чем было им понятно»75.
Поистине удивительные люди: они ждут славы за
ученость оттуда, откуда у ученых можно заслужить только
бесславие за невежество. Высшее доказательство ума и
знаний — ясность. Тот, кто ясно понимает предмет,
может ясно изложить и вложить в душу слушателям
то, что имеет у себя за душой. И совершенно верно
говорит в первой книге «Метафизики» их любимый,
но ими не понятый Аристотель: «Признаком человека
знающего является способность обучать»76.
Хотя это само не исключает необходимости
мастерства; как говорит Цицерон во второй книге трактата
«О законах»: «не только знать что-либо искусство, но
обучать — такое же искусство»77. Бесспорно, оно
покоится на ясности ума и знания. Такого рода искусство
требуется даже для воспроизведения понятных вещей,
но нет искусства, которое позволяет выжать ясную
речь из темного ума.
Эти друзья смотрят свысока на нас, радующихся
дневному свету и не трепещущих с ними в потемках,
как на растерявших все знания и превратившихся
посему в невежд. И все потому, что мы не разводим
речей на перекрестках; сами они высокомерно гордятся
собственными, неслыханно туманными речами и
особенно нравятся себе за это. Не зная ничего, обсуждают
все и с видом знатоков заявляют, что им известно все.
От этого их не удерживают ни стыд, ни скромность,
ни сознание их замаскированного незнания. Уж не
вспоминаю о тех словах, которые говорит мим у
Публия78: «В чрезмерных спорах исчезает истина»79, или о
похожих словах Соломона: «Много таких вещей,
которые умножают суету»80, или вот это у апостолд: «А если
бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого
обычая, ни церкви Божий»81, или у него же: «Смотрите,
чтобы кто-нибудь не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по
стихиям мира, a iio Христу»82.
348 Франческо Петрарка
Но зачем я это говорю? И как я могу надеяться, что
они когда-нибудь поверят Павлу? Или он не тот
самый ученик Христа, который чем ближе к учителю,
тем ненавистней и презренней? Кто же станет слушать
ненавистного советника? Их не успокоит ни узда
друга, ни узда самого Аристотеля: такой натиск, такое
безрассудство души, столь великое и столь пустое
хвастовство философским именем и такое, наконец,
упорство во мнениях и извращенность их странных
учений и пустых диспутов.
Я немного уже сказал о том, что прежде всего
заслуживает осуждения — их мнение, что Бог совечен
миру. Где же я не раз с досадой слышал те жалкие
возражения, которые повторяются этими нашими
философами на всех перекрестках? Цицероновский Вел-
лей, защитник мнения Эпикура, спрашивает так:
«Какими глазами души Платон смог увидеть мастерство
Бога в столь великом деле, когда думал, что мир
создан и построен богом?»83 Этот вопрос можно было бы
так или иначе стерпеть, если бы в нем самом уже не
содержалось ответа. Какими глазами мог видеть
Платон? Конечно, глазами души, которым открывается
невидимое: доверяя этим острейшим и яснейшим
глазам, он сам видел много как философ; правда, наши к
этому видению ближе, но не потому, что их зрение
стало острее, а потому? что свет стал ярче.
Но кто определит, что из этого следует? «Как
готовилось сотворение мира, — продолжает Веллей, —
какими орудиями? Какими рычагами? Какими
машинами? Какие помощники были в столь великом
творении? Каким образом могли слушаться и повиноваться
воле зодчего воздух, огонь, земля, вода?»84 Вопрос
нечестивой и неверующей души. Спрашивает так, словно
речь идет о кузнеце или плотнике, а не о том, о ком
написано: «Ибо Он сказал — и сделалось»85. Сказал не
мимолетным словом, чтобы не выдумывали, что он
сотворил это по приказу, как обычно бывает во многом,
но через Слово внутреннее и себе совечное, что было
вначале у Бога86, Бог истинный, от Бога истинного,
единосущный отцу, через которого все было сотворе-
О невежестве своем собственном и многих других 349
но. Он, конечно, сотворил мир из ничего, или, если
угодно по-философски, мир сделан из бесформенной
материи, которую греки называют «hyle», а римляне
«Silva». Она же сама, как говорит Августин, сотворена
абсолютно из ничего.
Итак, говорю, Бог создал мир Словом — tqm,
которое Эпикур и его последователи знать не могли, наши
же философы не удостоиваются, и потому им менее
простительно, чем Эпикуру. Иногда и рысь не видит в
потемках, но тот, кто при полном свете и с
открытыми глазами не видит, тот совершенно слеп. И сам
Цицерон по праву исследует вопрос, имеет ли основание
тот, кто говорит, что мир возник или сделан,
утверждать, что он будет существовать вечно?87 Мы
говорим, что мир имел начало и будет иметь конец. И
напрасным представляется общеизвестное возражение,
которое обычно следует на это: «Я хотел бы знать,
почему создатели мира вдруг проснулись после того, как
проспали бесчисленные века?»88 Те, кто так
спрашивают, не задумываются над другим: если этот мир был
сотворен ранее ста тысяч лет или (о чем также
написано у Цицерона) по вавилонскому счету 47 тысяч лет
назад89, если не гораздо раньше, то можно спросить, —
а почему не еще раньше? Когда сотни тысяч
бесконечно схожих лет представляются не чем иным, как днем
одним, что сказано псалмопевцем: «Пред очами
Твоими тысячи лет как день вчерашний, когда он
прошел»90, или даже много меньше, а точнее — вовсе
ничего. Ибо нельзя сравнить и сопоставить один день
или один час с тысячью тысяч лет, как одну
ничтожную каплю, упавшую при небольшом дожде, — со
всем океаном или со всеми морями.
Назови множество, назови сколько угодно тысяч
лет, сколько найдется чисел для обозначения, — это
все равно абсолютно ничто по сравнению с вечностью.
Ведь когда мы сравнивали один час и тысячу тысяч
лет, речь шла, с одной стороны, о чем-то малом, с
другой — о чем-то огромном, — однако и в первом, и
во втором случае имеющем границы. Когда же
сравнивается любое мыслимое число лет с вечностью, то пер-
350 Франческо Петрарка
вое, пусть и огромное, имеет конец, а вечность —
бесконечна; по отношению к ней это самое первое
выглядит не просто малым, но совершенно никаким.
Так утверждает великий муж Августин,
превосходнейшим образом рассуждая об этом в XII книге
«Града божия»91.
И в этом та сложность, которая заставляет
философов предполагать вечность мира, чтобы не казалось,
что Бог так долго отдыхал. Феодосии Макробий92 во
втором комментарии к IV книге «Республики»
Цицерона несколькими словами подытожил мнение многих:
«Как утверждает философия, — пишет он, — мир был
всегда, сотворен же он богом, но не мгновенно, так
как времени прежде мира быть не могло, поскольку
оно определяется ходом солнца и ничем другим, а
само солнце тоже сотворил бог»93. У самого Цицерона об
этом сказано так: «Ведь если не было никакого мира,
не было и веков. Я говорю сейчас не о тех веках,
которые определяются числом дней и ночей и бегущими
годами: я понимаю, что всего этого без круговращения
мира быть не могло. Но была же с бесконечного
времени вечность, которая не измерялась никакими
границами времени" Можно представить, какой она была
по длительности, если и в сознании не умещается, что
когда-то было время, когда никакого времени не было»94.
Эти слова Августин почти полностью вставляет в
свои рассуждения95. А люди, одаренные умом больше,
чем благочестием, добавляют к упомянутой вечности
различные изменчивые обстоятельства, внесенные в
мир пожарами и наводнениями, из-за которых мир
кажется преходящим и в известной мере новым, в то
время как он вечен. Во всяком случае — если
вернуться (пусть и поздно) к тому, от чего я ушел,
увлеченный цепью сопутствующих обстоятельств, — более
всего надо избегать Аристотеля, не потому, что у него
больше ошибок, но потому, что он имеет больший
авторитет и больше последователей.
Может быть, побужденные истиной или стыдом,
эти мои друзья согласятся, что Аристотель
недостаточно видел божественное и вечное, оторвав их от чисто-
О невежестве своем собственном и многих других 351
го разума. Но они уверены что среди временных
человеческих дел нет ни одного, которого он не
рассмотрел бы в совершенстве. Итак, мы возвращаемся к
тому, о чем Макробий, споривший с этим самым
философом, говорил то ли в шутку, то ли всерьез:
«Кажется мне, что сей муж мог знать все»96. Мне же
кажется совершенно по-другому: я не могу поверить,
что при всем мыслимом и немыслимом усердии может
существовать человек, который бы знал все; за это
меня и бранят. Корень ненависти, конечно, в другом, но
то, что я без обожания отношусь к Аристотелю, дает
хороший повод для брани.
Но у меня есть другой, которого я обожаю, который
обещает мне не пустые и нелепые догадки
относительно обманчивых вещей, не приносящих пользы и не
имеющих никакого твердого основания, но познание
самого себя: и если он мне его даст, то покажутся
смехотворными исследования прочих дел, им же
сотворенных, излишними — привходящие обстоятельства,
легким постижение. Да, у меня есть тот, на кого могу
надеяться, кого могу обожать, кого — о, если бы! — и
судьи мои благочестиво почитали.
Если бы такое случилось, то они узнали бы, что
ложные философы говорят много ложного; я имею в
виду философов лишь по названию; истинные же
философы обычно говорят все истинное. Только в их
числе нет ни Аристотеля, ни Платона. О Платоне
философы говорят, что из всего сонма древних
мыслителей он ближе всего подошел к истине.
Но наши друзья так пленены любовью к одному
имени, что считают святотатством говорить о любых
вещах что-либо иное, чем Аристотель. И отсюда
черпают наибольшие доказательства относительно моего
невежества: я-то говорю нечто иное и совершенно не
аристотелевское о добродетели. Преступление,
достойное распятия! Не исключаю, что не просто иное, но
совершенно противоположное, и могу сказать —
подчас не так уж плохо!
«Я клятвы слова повторять за учителем не
присужден»97, — как заявил Флаюс, имея в виду себя.
352 Франческо Петрарка
Возможно и такое: о том же самом я скажу
по-другому, а этим друзьям, обо всем рассуждающим, но не
все понимающим, покажется, что я говорю иное. Ведь
большинство невежд привязываются к словам, как
потерпевший кораблекрушение к бревну, и думают, что
об одном и том же деле нельзя сказать и по-другому, и
иными словами: такова бедность их ума или речи,
через которую выражается понятие.
Признаюсь, что мне стиль Аристотеля, — в том
виде, как он дошел до нас, — не очень нравится, хотя из
свидетельств греков и Туллия я знаю, что он был в
своих речах и приятен, и изящен, и содержателен98; об
этом я успел узнать прежде, чем меня осудили за
невежество. Но из-за незнания или зависти переводчиков
Аристотель пришел к нам тяжелым и нескладным, так
что не смог ни вполне усладить уши, ни глубоко
отложиться в памяти; потому мысль Аристотеля подчас
лучше выразить не его, а своими словами, что легче и
для того, кто слушает, и для того, кто говорит.
Я не скрываю и того, о чем часто спорил с
друзьями, а теперь принужден подтвердить письменно: я
понимаю, что над моей репутацией с этой стороны
нависает большая опасность и новое большое
доказательство того, в чем меня обвиняют, — невежества. Я,
однако, писал, что не боюсь людских суждений. Пусть
меня услышат аристотелики всех краев. Ты понимаешь,
насколько легко эту малую, в дороге написанную
книжечку оплевать": такой род людей склонен к
поношению; ну что ж, книжечка сама увидит, каким
платочком утереться, мне же достаточно, чтобы меня самого
не оплевали. Итак, пусть меня услышат аристотелики
в разных местах: раз Греция к нашим речам глуха,
обращаюсь ко всем, кто живет в Италии, и в Галлии, и в
любящем спорить Париже, и в шумливом Соломенном
переулке100.
Если не ошибаюсь, я прочитал у Аристотеля все
сочинения о морали, о некоторых даже слышал лекций,
и, прежде чем разоблачилось такое мое невежество,
казалось, что кое-что я в них понимал. Могу сказать,
что я почерпнул из них немалые знания, но не стал
О невежестве своем собственном и многих других 353
лучше, возвратившись на круги своя таким, каким был
прежде. Я часто с сожалением говорил и сам себе, и
другим, что невыполнимо то, о чем пишет философ в
предисловии к первой книге «Этики». Эта часть
философии учит не тому, чтобы мы стали знающими, но
тому, чтобы сделались добрыми. А у Аристотеля дано
блестящее определение добродетели, она сама очень
четко разделена и разъяснена, так же четко сказано о
свойствах и добродетели, и порока. Усвоив это, я стал
знать больше, чем прежде, но я остался с прежней
волей и с прежней душой. Одно дело — знать, другое —
любить; одно дело — понимать, другое — хотеть. Я не
спорю, Аристотель хорошо объясняет, что такое
добродетель, но этот урок не содержит вовсе или
содержит в малой степени те стимулы, ту горячность слов,
которыми ум зажигается и воспламеняется, чтобы
любить добродетель и ненавидеть порок. Если кто будет
этим интересоваться, то может у наших найти, прежде
всего у Цицерона и у Сенеки и, что удивительно, у
Флакка, грубоватого в стиле, но очень приятного в
мыслях. Что проку знать, что такое добродетель, если
ее познали, но не полюбили? Или зачем знать, что
такое грех, если знание не устрашает и от него не
отвращает? Более того, если воля извращена, то можно
поклясться, что как только станет ясной трудность
достижения добродетели и соблазнительная легкость
пороков, это может вялую и колеблющуюся душу
склонить в худшую сторону, подтолкнуть ее к дурному. И
не стоит удивляться, что в побуждении и
подталкивании души к добродетели более скуп тот, который отца
этой философии Сократа высмеял как «торговца
моралью», если воспользоваться его словами101, а если
верить Цицерону, то и презрение высказал102, хотя и
Сократ не меньший философ, чем Аристотель.
Наши же латинские авторы, о чем знает любой
сведущий человек, острыми и пламенными речами
достигают сердца, потрясают до глубины души; от таких
речей вялые взбадриваются, холодные воспламеняются,
сонные пробуждаются, бессильные обретают силу,
поверженные поднимаются, согнутые распрямляются,
354 Франческо Петрарка
лежащие на земле поднимаются до возвышенных
размышлений и благородных желаний, так что все земное
уже начинает вызывать отвращение, осознанные
пороки — глубокую ненависть к ним; добродетель же,
увиденная внутренними глазами и представшая во всей ее
красоте и благородном облике, как определяет
Платон, порождает удивительную любовь к себе самой и к
мудрости103.
Я хорошо знаю, что все это совершенно не может
случиться без учения Христа и его помощи и что
нельзя стать ни мудрым, ни добродетельным, ни
счастливым, если не черпать щедро из истинного и
единственного небесного источника, а не из мифического
источника Пегаса, который находится среди крутых
гор Парнаса104. Кто испробует ключевую воду вечной
жизни, перестанет испытывать жажду. Те самые
латинские философы, о которых я говорил, очень
помогают ищущим приблизиться к этому источнику. Это
испытали многие, обращавшиеся к их книгам, в
частности к «Гортензию» Цицерона105, влияние которого
на себе испытал Августин, о чем говорил с
благодарностью106.
Даже если наша цель не в добродетели (а именно в
этом ее усматривают философы), однако прямой путь
к нашей цели идет через добродетели, — когда мы их
не только познаем, но и полюбим. Поэтому
истинными моральными философами и учителями
добродетелей являются те, первое и последнее стремление
которых сделать слушателя и читателя добрым и которые
не просто объясняют, что есть добродетель и что есть
порок, и не просто доносят до ушей светлое название
первого и темное второго, но стремятся заронить в
душу любовь к лучшим делам и стремление к ним,
ненависть к худшим и желание избежать их.
Надежнее развивать добрую и благочестивую волю,
чем цепкий и острый разум. Мудрецы считают, что
объект воли — доброта, объект разума — истина.
Лучше желать добра, чем познавать истину. Первое всегда
награждается по заслугам, второе часто навлекает на
себя обвинение и не получает оправдания. Итак, долго
О невежестве своем собственном и многих других 355
блуждают те, которые проводят время в познании
добродетели, а не в следовании ей, и намного дольше те,
кто — в познании Бога, а не в любви к нему. Ведь
полностью познать Бога в этой жизни никоим образом
невозможно, любить же благочестиво и горячо можно;
в любом случае, эта любовь — всегда счастье, а
познание — подчас несчастье, как и случилось с демонами,
которые, познавши Бога, трепещут в преисподней.
И хотя совершенно неизвестное нельзя любить,
однако Бога и добродетель достаточно знать в той мере,
чтобы уразуметь, что это светлейший источник
всякого добра, самый мудрый, самый любимый, самый
неисчерпаемый, от которого, через который, из которого
мы вышли и в котором все благо наше (знать сверх
этого нам не дано). Добродетель же — лучшая из всех
вещей после Бога. Познав ее, всем сердцем и умом
возлюбим и будем почитать Его ради него самого и
добродетель — ради него. Бога — как единственного
творца жизни, добродетель — как главное ее
украшение. Если это так, то, может быть, — вопреки мнению
моих судей — и не предосудительно этим нашим
философам, пусть они и не греки, полагаться на добродетель.
И если, по их мнению, а то и просто по своему
собственному, я сказал что-то иное, чем Аристотель, и
не так, как он, то в глазах справедливых судей это не
становится поводом ославить человека. Калькидий в
комментарии к «Тимею» Платона рассказал о том, что
Аристотель, избрав учение, наиболее полное и
совершенное на его взгляд, всем остальным пренебрегал с
такой небрежностью и презрением, что это трудно
принять106. Следовательно, если я и сказал, будто
Аристотель не обратил на что-то внимания вовсе, или
обратил недостаточно, или выпустил из виду (что вполне
возможно, поскольку не противоречит человеческой
природе — хотя, послушать их, это не соответствует
славе их великого учителя), так вот, повторю, если я что-
то подобное и утверждал, о чем бы речь ни шла (я ведь
до сих пор толком на знаю, какие из моих суждений
имеются в ввду, поскольку они обращают в мой адрес не
конкретные обвинения, а лишь подозрения и слухи), —
356 Франческо Петрарка
достаточно ли одного факта, чтобы топить меня в волнах
невежества, приписывая мне все мыслимые и
немыслимые ошибки из-за того, что я ошибся в чем-то одном.
Могут спросить, что же, я выступлю против Ари;
стотеля? Против Аристотеля я не скажу ничего, в за-т
щиту истицы — кое-что (ее я, пусть и
невежественный, все же люблю), против глупых аристотеликов —
многое. Ежедневно, кстати и некстати, они поминают
Аристотеля, хотя и знакомы с ним лишь понаслышке;
самим философом, как можно догадаться, они
пресыщены до тошноты и его речи, в том числе и
правильные, толкуют вкривь и вкось.
Никто больше, чем я, не почитал и не любил
знаменитых мужей, как говорит Назон:
Знаться с поэтами стал я в ту пору и чтил их настолько,
Что небожителем мне каждый казался певец108.
Никто больше меня не почитал философов и еще
выше — теологов (я имею в виду истинных
богословов). О самом же Аристотеле, если бы я не знал, что
он величайший муж, я не сказал бы этого; я не
отрицаю, что он — величайший, но, повторю, — все же
человек. Из его книг можно многому научиться, но и из
других источников можно почерпнуть немало. Ведь
прежде чем Аристотель начал писать, прежде чем
начал учить, прежде чем родился — были и другие:
Гомер, Гесиод, Пифагор, Анаксагор, Демокрит, Диоген,
Солон, Сократ и глава философии — Платон109.
Могут спросить, кто дал первенство Платону? Что
касается меня, отвечу: не я, но, как говорят, истина:
если он ее и не сумел поймать, то видел, и она
подпустила его к себе ближе, чем других. Это признают
многие авторы, прежде всего Цицерон и Вергилий,
который не упоминает имевд! Платона, но следует за
ним, затем Плиний и Плотин, Апулей, Макробий,
Порфирий, Цензорин, Иосиф Флавий, а из наших —
Амвросий, Августин, Иероним и многие другие110.
Можно легко проверить, если это не всем известно.
Впрочем, кто этого не признает? Разве только толпа
схоластов, безумная и склочная? Еще, конечно, Авер-
О невежестве своем собственном и многих других 357
роэс предпочитает всем Аристотеля, — но это легко
объясняется тем, что Аверроэс заимствовал, так или
иначе сделал своим все, что изложено в книгах главы
перипатетиков111; сами эти книги достойны большой
похвалы, а вот этот их почитатель — большого
подозрения. Ведь получается все по старой пословице:
каждый торговец хвалит свой товар. Не всякий может
отважиться написать что-то сам и тогда, охваченный
писательским зудом, начинает толковать чужие труды,
уподобляясь тому, кто, не ставши архитектором,
берется за побелку стен и ждет за это больших похвал,
надеясь получить их не за собственные творения, а за
счет других: здесь он усердствует без меры и узды.
Комментаторов, точнее — грабителей чужого, несть
числа: это могла бы засвидетельствовать «Книга
сентенций», испытавшая на себе за недолгое время
усердие тысяч таких ремесленников112. Если бы она могла
заговорить, то подтвердила бы это.
Но какой же комментатор не будет расхваливать
труд, который он присваивает? Тем более, что хвалить
чужое много плодотворнее, это признак утонченности,
тогда как хвалить свое — признак тщеславия и
гордости. Не буду говорить о тех, которые взяли себе целые
тома; одним из них и первым является Аввероэс. Возьт
мем Макробия — не только комментатора, но и
выдающегося писателя. Когда он взялся толковать
«Республику» Цицерона (причем лишь часть одной из
книг), то с восторгом заключил: «Поистине должно
быть сказано, что нет ничего совершеннее этого труда,
потому что в нем содержится вся философия
целиком»113. Вообрази, что же он мог сказать обо всех
трудах всех философов? Ничего больше, чем об этой
части «Республики», хоть потопни в словах. Раз там вся
философия, что можно найти в книгах философов, уже
написанных или еще ждущих своего часа? Что в них
может содержаться большего, чем вся философия в целом?
Если совокупность философии может найти
отражение только во всех книгах в целом, то никогда не
хватит ни уже написанного, ни того, что будет
написано. Но довольно об этом. Моему доброму имени уже
358 Франческо Петрарка
грозит большая опасность не только из-за упоминания
имен столь великих философов, но и из-за сравнения
меня с ними.
Невежество, в котором меня упрекнули и которое я
отверг, обычно делает смелым и словоохотливым и
потому извинит мое перо. Боязнь потерять славу или
лишиться доли известности, как правило, держит
ораторов в узде; оценка четырех друзей освободила меня от
этой докуки: мне-то чего бояться, нельзя утерять или
уменьшить то, чего не существует. О чем бы я ни
сказал, будет или то, что присудят мои друзья, или нечто
большее: меньше, чем ничего, ничто быть не может.
Поскольку я появился здесь, словно принесенный ка-
кйм-то ветром, постараюсь вынырнуть, как смогу, и
сказать то, что, помнится, я часто произносил и перед
лицом важных персон.
Меня спрашивали относительно Платона и
Аристотеля — кто из них более великий и более знаменитый.
Мое невежество все-таки не столь велико (хотя мои
судьи уверены в обратном), чтобы я считал
возможным тотчас пускаться в смелые рассуждения об этом,
не ведая сомнений и не задумываясь. Ведь и в малых
делах все должно быть обдумано и взвешено. Мне
хорошо известно, насколько часто между учеными
людьми возникали жаркие диспуты относительно Цицерона
и Демосфена, того же Цицерона и Вергилия, затем
Вергилия и Гомера, Саллюстия и Фукидида, наконец,
самого Платона и его соученика Ксенофонта и многих
других114. И если трудно сравнивать между собой
названные фигуры и сомнительна любая оценка, кто
возьмется вынести приговор относительно Платона и
Аристотеля? Кто решится выступить в качестве
верховного судьи? Если спросят, кто из них больше
заслужил похвал, сразу отвечу, что, насколько можно
судить, одного хвалили владыки, государи и знать,
другого весь народ; Платона — более знатные, Аристотеля —
более многочисленные: впрочем, и тот, и другой
достойны похвалы как знатных, так и многих людей.
В исследовании дел человеческих и природы оба
достигли пределов того, чего может достичь смертный
О невежестве своем собственном и многих других 359
ум при напряжении всех сил. В исследовании
божественных дел выше поднимается Платон и платоники,
хотя ни он, ни Аристотель не смогли достичь того, к
чему стремились. Но, как я уже говорил, ближе к цели
подошел Платон, в чем не усомнится ни один из
благочестивых читателей христианских (прежде всего ав-
густиновских) книг; этого и греки, хотя теперь они
несведущи в науках, не скрывают, вслед за предками
называя Платона божественным, а Аристотеля —
демоническим115.
Вместе с тем, меня трудно ввести в заблуждение
относительно характера полемики Аристотеля с
Платоном: первый делает это так серьезно, так благородно,
что его совершенно невозможно заподозрить в
зависти. Можно даже припомнить — и весьма кстати — он
был другом Платону, но еще большим другом
истине, если почувствовал, что то же самое он мог
услышать и о себе.
Легко спорить с тем, кого уже нет в живых. Но
Платона и после его смерти не переставали защищать
многие величайшие мужи, прежде всего — его учение
об идеях, против которого как раз и напрягал все силы
своего ума Аристотель, яростный полемист; защита
этого учения, самая известная и самая успешная,
предпринята Августином116, с которым, я полагаю,
согласится всякий благочестивый читатель не меньше,
чем с Платоном и Аристотелем.
Кстати, можно сказать здесь еще об одном, чтобы
изобличить ошибки моих судей и им подобных. Они,
следуя за толпой, имеют обыкновение высокомерно и
вместе с тем невежественно указывать, что Аристотель
написал очень много сочинений.
Они не ошибаются в этом: действительно, он
написал много, даже больше, чем они думают, поскольку
некоторые из его трудов еще не переведены на
латинский язык; А о Платоне, который совершенно им
незнаком и ненавистен, утверждают, что он ничего не
написал, разве только одну-две книжицы. Они не
сказали бы этого, если бы были настолько образованы,
насколько меня считают невежественным. Я не уче-
360 *_, Франческо Петрарка __
ный и не грек, но на моих полках стоит по крайней
мере шестнадцать книг Платона; и я не уверен, слышали
ли они название хотя бы одной книги. Услышат —
обомлеют. А если сомневаются, пусть придут, убедятся.
Библиотека наша, сохраненная твоими
заботливыми руками117, — кладезь учености, хотя и принадлежит
неучу. Кстати, этим друзьям она небезызвестна:
сколько раз, разыскивая меня в доме, они попадали в нее?
Очутившись там в очередной раз, они спросили о
Платоне: неужели и он знаменит, не имея сочинений?
Пусть же придут и убедятся, что все именно так, как я
говорю: я хоть и невежда, но не обманщик.
Ученейшие эти люди уввдят не только греков в подлиннике,
но кое-кого и в переводах на латинский, о чем прежде
не знали. О содержании этих трудов пусть говорят, что
хотят, о количестве же — пусть положатся на меня;
надеюсь, что они не решатся спорить, хотя их в этом
деле хлебом не корми. Какую часть составляют эти
книга от написанного Платоном? Трудно сказать.
Многие из его сочинений я видел собственными
глазами, прежде всего — у Варлаама Калабрийского,
образца нынешней греческой мудрости (он принялся
обучать меня греческому, когда я еще и латинского не
знал, и, возможно, это дало бы неплохие результаты,
но смерть отняла этого человека у меня, прервав, как
ей свойственно, благородное начинание)118.
Пора возвращаться к главному вопросу: что-то, став
невеждой, я часто отступаю от темы, часто даю волю
уму и перу. Итак, мой друг, я обрисовал тебе
некоторое причины, которые заставляют меня возражать
против дружеского, но, удивительно сказать,
несправедливого суждения моих товарищей. Насколько я гоь
нимаю, среди причин моего осуждения сильнее всех
та, что я пусть грешник, все же истинный христианин.
Так что если мне придется услышать то, в чем упрекал
себя Иероним: «Ты лжешь? Цицеронианец ты, а не
христианин. Ведь где сокровища твои, там и сердце
твое»119, я отвечу, что и сокровища мои нетленные, и
высшая часть души — у Христа. Но из-за немощей и
тягот жизни смертного, которые даже перечислить
О невежестве своем собственном и многих других 361
трудно, не говорю уж о том, чтобы вынести, я не могу;
признаюсь, настолько, насколько бы я хотел,
приподнять низшие части души — где гнездятся гнев и
вожделение, чтобы они не склоняли меня к земле.
Сколько раз и с ка:ким усилием я, недостойный и
жалкий, пытался оторвать их от земли, что я из-за
безуспешности этих усилий претерпел, знает один
Христос, которого я призываю в свидетели и на которого
ссылаюсь. Может быть, он сжалится и спасет слабую
душу, хотя она и завалена глыбой грехов и придавлена
ими. Да, я не отрицаю, что предаюсь многим пустым и
вредным заботам. Но к ним не причислю чтение
Цицерона, который мне ни в чем не повредил, а часто,
насколько я могу судить, даже был на пользу. Никто
не удивится тому, что я сказал, если услышит, что в
этом признавался и Августин120, о котором я не раз
упоминал; в другом месте я сделал это более
пространно, но сейчас достаточно привести сам факт.
Я, конечно, не скрываю, что меня услаждают ум и
красноречие Цицерона, которыми (умолчу о
бессчетном множестве других), как я понимаю, сам Иероним
до такой степени наслаждался, что ни то ужасное
видение, ни тяжбы с Руфином не заставили его так
изменить стиль, чтобы в нем не пахло Цицероном121. Он
это и сам понимал, так что порою даже оправдывался.
Если читать Цицерона с благочестивым сердцем и
рассудительным умом, станет ясно, что он не мог
навредить ни этому мужу, ни кому другому, а скорее,
всем принес большую пользу как наставник в
красноречии, многим же ■— как наставник в жизни. Скажем,
тому же Августину, который, будучи выходцем из
Египта, носил в своем сердце золото и серебро
египтян; он, кулачный боец церкви, столь великий
будущий ратник веры, долго изучал оружие врагов, прежде
чем ввязался в сражение122. Признаюсь, когда речь
заходит о красноречии, Цицерон восхищает меня
больше всех нежели кто-либо и когда-либо в этом жанре.
Однако восхищаться — не значит подражать кому-
нибудь, скорее наоборот: я прилагаю все усилия к
тому, чтобы не подражать кому-то, боясь попасть в чис-
362 Франческо Петрарка
ло тех, кого сам не одобряю. Но если восхищаться
Цицероном — то же самое, что быть цицеронианцем, то
я — цицеронианец. Без сомнения, я им восхищаюсь и
никогда не пойму тех, кто им не восхищается. Если в
этом могут усмотреть новый знак моего невежества,
признаюсь: таково мое душевное влечение, таков вкус.
А когда о религии, то есть о высшей истине, о
высшем счастье и о вечном спасении, случается подумать
или поговорить, то о себе скажу одно: я не
цицеронианец и не платоник, но христианин. Более того, я
совершенно уверен, что и сам Цицерон стал бы
христианином, если бы мог ввдеть Христа или знать его
учение. В отношении Платона на этот счет нет
никакого сомнения у самого Августина: если бы Платон
жил во времена Христа или в свое время предвидел
это будущее, то стал бы христианином123. Кстати,
Августин сообщает, что в его время так и делали многие
платоники124. Надо думать, из их числа и сам Августин.
Если подумать, то в чем цицероновское
красноречие идет против христианских догматов? Почему
вредно читать цицероновские книги, если еретические не
только не вредно, но, по словам апостола, даже
полезно: «Ибо надлежит быть и разногласиям между вами,
дабы открылись между вами искусные»125. Впрочем, по
этой части у меня намного больше доверия вызовет
какой-либо благочестивый католик, пусть и неученый,
чем Платон или сам Цицерон.
Это, конечно, более солидное доказательство моего
невежества, и я был бы рад, если бы оно оказалось
истинным, даже готов поклясться, что хотел бы, чтобы с
каждым днем оно становилось еще истинней. Конечно
же (и в этом у меня с великими мужами полное
согласие), если они услышат, что какой-либо философ, пусть
самый знаменитый, даже их бог Аристотель, ожил и стал
христианином, то они обвинят его в грубости и
невежестве и того, кого сами же прежде боготворили, начнут,
невежды истинные, презирать: столь велико их убожество
и ненависть к истине; они словно не понимают, что тем
самым он обратился бы к мудрости Бога-отца, уйдя от
беспросветного и болтливого невежества этого мира.
О невежестве своем собственном и многих других 363
И я не сомневаюсь, что Викторин, ставши
знаменитым благодаря познаниям в риторике (на римском
форуме была поставлена статуя в знак признания его
заслуг), как только ясным и спасительным голосом был
призван следовать Христу и истинной вере, сразу
избавился от тех высокомерных дьяволят, которые
прежде томили его непреходящим страхом, сделав вялым и
безразличным, как рассказывает Августин в
«Исповеди»126. Я подозреваю, что нечто подобное произошло с
самим Августином: случай тем более показателен, что
и сам Августин известнее, и его обращение более
известно. Когда в Милане, как можно судить по той же
«Исповеди», Августин под руководством Амвросия,
преданного вере и святейшего глашатая истины,
усвоил небесное знание и путь спасения и стал славить
Христа вместо комментирования Цицерона, насколько
это стало полезней и радостней верующим, настолько
ненавистней и прискорбней врагам сына Божия127.
Здесь уместно рассказать об одном разговоре
относительно этого обращения, из которого станет яснее,
что перед нами за болезнь, насколько она заразна, как
глубоко проникает.
Как-то мне случилось сказать об Августине
несколько похвальных слов. В ответ известный муж128
произнес со вздохом: «Ах, как горестно, что такой ум
попался на крючок таких глупых басен». — «О, как ты
несчастен, — отвечаю, — если можешь такое говорить,
и еще более несчастен, если можешь такое думать!» На
что вновь слышу: «Ну и глуп же ты, если веришь тому,
что говоришь, но я надеюсь, ты станешь лучше». Но
что же он думал, что в душе я презираю благочестие?
Во имя Бога и людей!
По мнению этих моих друзей, ни один человек не
может быть образованным, если он не еретик и не
безумец, к тому же дерзкий и назойливый, если он не из
числа тех, кто на всех улицах и перекрестках спорит о
четвероногих чудовищах, будучи сам чудовищем. Не
удивительно, если друзья мои сочтут, что я не только
невежественный, но и безумный человек, — ведь они
сами, несомненно, из того стада, которое презирает
364 Франческо Петрарка
благочестие, с каким бы умом оно ни сочеталось, а
приверженность религии считают следствием
неуверенности и полагают, что тот недостаточно талантлив
и учен, кто не осмеливается что-либо говорить против
Бога и спорить с католической верой. Только в одном
одобряется молчание и почтительность — в
отношении к Аристотелю. И чем надменней кто-нибудь
начнет воображать, что атакует веру в Христа (победить ее
нельзя никакой силой, никаким умом), тем будет
считаться у них талантливей и ученей, а чем уверенней и
тверже примется защищать веру, том более неученым
и глупым. Они скажут, что человек, сознавая свое
невежество, спрятался за верой, как за надежным
щитом, — словно бы и не им принадлежат
противоречивые и легковесные побасенки, глупые и ничтожные
суждения, как будто не у них отсутствует понятие, что
существует немало спорных и неизвестных вещей, а
то, что есть, — шаткие, непрочные, неопределенные
представления. Знание же истинной веры —
высочайшее, и надежнейшее, и, в конце концов, счастливей-
niee из всех знаний! Если его оставить, все остальное —
не дорога, но бездорожье, не указательные знаки, но
обломки, не знания, но ошибки.
Однако они остаются при своих мнениях, так что
нельзя сказать, только ли этим двум, о которых выше
было сказано, я не нравлюсь или и другим, если есть
схожие: ведь и апостол Павел, высший из всех,
перестал нравиться иудеям, которые прежде его обожали, —
о чем говорит Йероним, толкуя его послание к Гала-
там129; фарисеям и жрецам Павел казался совершенно
сошедшим с ума, потому что из волка стал агнцем, из
преследователя христианского имени апостолом
Христа. И этим нашим нынче кажется то же самое.
Рядом со столь великими попутчиками можно
утешиться, если упрекнут в невежестве и даже безумии.
Так я и делаю. Более того, мало-помалу начинаю
радоваться и ощущать удовольствие, что мое невежество и
безумие имеют столь благородные причины.
Впрочем, радуясь за себя, в отношении моих друзей
я продолжаю скорбеть: даже если они найдут некие
О невежестве своем собственном и многих других 365
оправдания обвинениям в мой адрес, а сами
обвинения станут менее тяжкими, это их не спасет ни от
бесчестья, ни от бесславия; их самих эти обвинения
опозорят и погубят, мне же лишь добавят славы. Ну а
ради того, в чем меня обвиняют, не только славу, —
жизнь, если дело потребует, можно отдать и со
спокойной душой это перенести.
Больше всего меня огорчает, что доподлинная из
всех, самая главная, если не единственная причина их
кривых суждений — зависть, всегда ослепляющая
многих (но никогда — здоровых и ясно все различающих!)
и заставляющая все видеть в неверном свете. Зависть в
душе друзей — дело неслыханное и вызывающее
изумление. Ничего подобного я до сих пор не ведал и
никогда не хотел бы изведать, но, увы, теперь испытал
на собственной шкуре. Я говорю о друзьях, хотя эта
дружба на поверку оказалась несовершенной.
Истинная дружба состоит в том, чтобы любить друга как
себя самого. Они меня любят, но не всей душой, но не
всего меня. Ведь жизнь, тело, душу и все, что у меня
есть, кроме славы (да и то лишь в ее литературной
части), уверенно и ничего не страшась я готов
передать в их руки, — всех ли вместе или каждого в
отдельности. Я вынужден сделать исключение для славы
не из-за ненависти и не из-за охлаждения в дружбе,
но, как я сказал, из-за зависти, которая поселяется
даже в душах друзей. Если это невозможно представить,
скажу помягче: причина этого исключения — не
зависть, а печаль. Горюют, бедняги, особенно тогда,
когда узнают, что ученые люди причисляют меня к ряду
образованных мужей, уж не знаю, по заслугам или нет,
их же исключают из числа образованных и из числа
знающих. Поэтому они хотят у меня вырвать то, чего
сами не имеют и на что, если они в своем уме, и
надежд питать не должны. Непримиримое противоречие
в желаниях и разногласие в делах: кому-то
одновременно и желать добра, и не хотеть, чтобы хоть капля
его выпала на долю этому лицу. И не потому, как
можно догадаться, что я это имею, но из-за обиды, что
у них-то этого нет.
366 Франческо Петрарка
Бесспорно, в дружбе должно быть равенство. Стать
знаменитыми все мы не можем, им легче будет, если
все мы станем равно безвестными. Опять же скажу,
равенство — прекрасная вещь в дружбе. Если же,
пусть замечательным образом, перевешивает одна
часть, считается, что это нехорошо, что души друзей
неравно подчинены ярму дружбы, как разные по
силам быки идут в одной упряжке. Конечно, верность и
чувства должны быть равными, это не обязательно в
отношении к славе и богатству. Не будем вспоминать
малоизвестных людей, но даже Геракл и Филоктет, Те-
зей и Пирифой, Ахилл и Патрокл, Сципион и Лелий
были неравны130. Эти же мои друзья, если им угодно,
пусть теперь увидят, как они выглядят по отношению
к моей славе, в то время как по отношению ко мне они
выглядят, если я не ошибаюсь, наилучшим образом.
ИНВЕКТИВА ПРОТИВ ТОГО,
КТО ХУЛИТ ИТАЛИЮ^
Я давно был занят другим и уже успел позабыть
этот спор, когда ты, друг, прибывши издалека и придя
в мой скромный дом повидаться, принес письмо
некоего схоласта2. Точнее, не письмо, а целую книгу,
еще точнее -- огромную и бессмысленную проповедь,
потребовавшую, судя по всему, много тяжких трудов и
времени. Такую кучу глупостей едва ли можно
обозреть быстро и легко; над ними правильнее .было бы
посмеяться, чем отвечать, но приходится помнить о
некоторых лица*, которым (чтобы они поверили)
нужно обрисовать, кто «он» таков. И поскольку «он»
неизвестен мне ци в лицо, ни по имени, то я не знаю, чей
именно удар буду отражать. Впрочем, дело не новое,
когда за вину одного наказание несет другой. Ведь
повредило же неким людям зелье, ими поднесенное:
предназначенное одному, погубило другого. Ты принес
то, чем хотел убить меня: но убьешь себя самого. «Он»
наполнил тебя отвратительными словами своего
невежества. Я дополню, если чего-то недостало. Ты,
летами молодой, но нравами зрелый, профессор права,
будь посредником и вынеси приговор. Если кому-то из
галлов покажется подозрительным твое итальянское
происхождение, то пусть рассудит сама истина и
любой непредвзятый судья3.
Прежде всего мне удивительно, откуда это дело
всплыло теперь? Ведь письмо мое, которое этот
защитник Галлии и хулитель Италии хотел бы разорвать
на куски и уничтожить (ох, трудная задача!), было
отправлено к счастливой и святой памяти Урбану V,
368 Франческо Петрарка
римскому папе, если я не ошибаюсь, четыре года
назад4. Все это время оратор молчал: не потому ли, что
тогда не надеялся найти убедительных возражений?
Теперь вдруг поднял голову. Не сумел удержать своей
ярости. Когда подобные лица бывают уязвлены
истиной, досадуют и волнуются, выжидают, пока ратники
устанут, — тогда и начинают тайно мстить забывшим о
бдительности. В этом причина как тогдашнего долгого
молчания, так и нынешнего несвоевременного
обращения. Тогда «он» был поражен яснейшим светом
истины и, остановившись, покорился, устранясь от
неравной борьбы. Теперь же осмелился вступить в бой и,
не предупредив противника, начал метать непрочные
стрелы, таща за собой в сражение все, что сумел
разыскать в книгах, а« может, только в одной книге —
«Manipulus flofum», сочинении, по легкомыслию истинно
галльском5. Он привлек все, на что способно галльское
легкомыслие. Впрочем, наш автор изрядный схоласт: и в
главы, и в параграфы, и в длинный ряд своих писаний с
таким усердием вставляет чужой вздор, что его
смехотворная работа способна вызвать холодный пот почти у
каждого читателя. Человеку, сражающемуся против
истины с таким упорством, можно даже посочувствовать.
Но ведь он может и победить: так утомит всех, так
заморочит голову любому, что только и останется
воскликнуть, подобно Нерону: «О, если бы я был
неграмотным!»6, тогда относительно всего можно было бы
высказываться лщиь устно. Но грамотному глупцу все
подходит: у него в руках орудие, с помощью которого
он широко распространяет свое безумие. У кого такого
орудия нет, те и безумствуют более умеренно.
Однако хватит предисловий. Обратимся к тексту.
Защитник, привыкший говорить, а не писать, взял в
качестве основного тезиса своей речи Евангельское:
«Человек шел из Иерусалима в Иерихон» и так далее7.
Горе мне! Зачем мне это слушать (особенно от
грамотного человека). Клянусь, это глупое и отвратительное
начало сказочки!
Мы пришли к такому краю несчастий и жестоко-
стей, что всякий христианин, а больше всего римский
Инвектива против того, кто хулит Италию 369
понтифик, спускаясь из Авиньона в Рим, полагает, что
спускается, как говорится, из Иерусалима в Иерихон8.
А не вернее ли сказать, что он поднимается из
глубочайшей клоаки всяких пороков, из настоящего ада для
живых? Но дело до такой степени пришло в упадок,
что Авиньон, место крайне отвратительное и
позорное, называется Иерусалимом, а Рим, глава мира,
правитель всех городов, престол власти, крепость
католической веры, источник всяких достойных памяти
примеров, именуется Иерихоном.
О каменное сердце! О лицемерие! О бесстыдный
язык! Какая чудовищная и пагубная распущенность!
Какое безрассудство, только что не безумие, в словах,
а если выразиться помягче, какое пустословие! По
словам Гомера, «слово пробивает ограду зубов»9. Пусть
бы язык присох к глотке, дабы он не вырывался
наружу и не портил настроения всем учецым и
благочестивым мужам. Прошу прощения, но, если бы у таких писак
оказывалась хоть капля разума, стьщ не позволял бы им
браться за перо, ц развивать столь мерзкий тезис.
Что же ицое, спрашивается, еще более гадкое
может быть сказано тем, кто в самом начале речи
стремится до небес возвысить эту грязь мира, этот
варварский ужас — Авиньон, принижая безумными словами
престол святого Петра — Рим?
Он считает неподходящим и нелепым начало того
моего письма, но до сего времени дело оправдывало и
оправдывает его. И когда я собирался писать высшему
из людей о столь важном деле, то более подходящего
начала найти не мог10. И до сих пор вижу, что это
больше всего подходит для данного материала и
больше всего соответствует делу, а не этот его «человек,
спускающийся из Иерусалима в Иерихон». И
совершенно не понимаю, чего недостает началу того
письма, разве что авторитета пишущего?
Галлы много возомнили о себе, уверовав, что они
таковы, какими им хотелось бы себя видеть: каждый
волен приписать себе величие души, придумать, что и
он, и его дела хороши. И те, кто это делает,
«счастливы в заблуждении своем»11, как сказал один писатель.
370 Франческо Петрарка
Никто не склонен к подобным заблуждениям так, как
галлы. Впрочем, пусть «он» думает, как ему нравится,
однако ни один из ученых мужей никогда не
сомневался в том, что они — варвары. Хотя -~ самые мягкие
из варваров. Я этого не отрицаю и не думаю, что кто-
то будет отрицать.
Но этот варвар, не просто гневливого, но
прямо-таки бешеного нрава, многое изрыгает на нас,
перемешивая поношение нашего с восхвалением своего.
Более того, будучи весьма высокого мнения о своей
особе, он позволяет себе безнаказанно чернить и самых
высокопоставленных лиц (такова испорченность века). Я
сознательно обойду большую часть этих наветов, полагая
их недостойными ни внимания, ни ответа.
Начну с вопросов относительно изменчивости судеб
города Рима. «Он» пишет об этом многословно, доходя
до смехотворных деталей. Сопоставляет с состоянием
города разные фазы луны, словно беспрестанно
изменялся только Рим, а не все города и не все
государства, и еще больше — сами люди. А ведь мы до тех пор
подвластны временным переменам, пока не
перешагнем порог вечности. Был разрушен до основания и
тот, более древний, Вавилон, так же как Троя,
Карфаген, более того — и Афины, и Спарта, и Коринф.
Сегодня все они — только имена.
Рим не превратился в руины целиком, хотя и
разрушен сильно, но все же кое-что кроме имени
представляет собой и теперь. Разрушились стены и дворцы, но
цела и бессмертна слава имени. «Он» для того, видно,
привлекал фазы луны, чтобы стало ясно, что он —
астролог и, хуже того, лунатик. И пусть возмущается галл
сколько угодно. Не раньше разрушится слава Рима,
чем рухнет весь мир. Рим всегда будет высочайшей
вершиной мира. Его слава останется, даже если
понтифики и принцепсы пребывают не в нем: из-за
зависти, из-за ненависти, из-за медлительности и вялости
или по какой-то другой причине. Они ведь сами-то
зовутся римскими понтификами и римскими принцепса-
ми, где бы ни находились и откуда бы ни происходили.
Инвектива против того, кто хулит Италию 371
Что на это воскликнет галл? на что он огрызнется?
Разве я лгу? Разве он сможет отрицать, что величие
Рима было столь безмерным, что после многих веков
его остатки таковы, что ни Галлия, ни Германия, ни
какая другая страна не осмелятся сравнить свою славу
со славой Рима. Он не рискнет возразить против
этого, хотя рожден среди таких, которые презирают все
чужое, а всем своим восхищаются.
Не вникая в это дальше, посмотрим, что там еще
бормочет наш хулитель против города Рима. Между
прочим, до сих пор не перестаю удивляться, что
многие люди, небогатые разумом, считают очень
тяжелыми не только свои обиды, но даже мелкие
неприятности, а на чужие не обращают внимания. Когда в том
письме я назвал народ варварским13, — пусть не
ласково, однако, справедливо, «он» воскликнул, словно
пораженный мечом. И распалился против меня так, как
некогда глава жрецов против Христа14: «Ты осмелился, —
говорит, — на богохульство». «Он», который очень
хотел бы казаться ученым, не обратил внимания на одну
«малость»: богохульство могет быть только против
Божества. Сам же полагает, что ему вполне простительно
поносить благословеннейший город ядовитым
злословием: таково варварство и пьяное упорство. А ведь не
столько я богохульствую, сколько он! Не богохульство
ли — позорить священный Город ругательствами и
словами, лишенными святости. Сколь дерзкими
становятся рабы и сколь явным — их бесстыдство, когда по
счастливой случайности они оказываются однажды
освобожденными от господских оков! Не имея сил как-
то иначе отомстить за себя, усердно злословят против
господ, изливая на ветер обиду уязвленной души, лая,
словно собаки, чующие безнаказанность.
Этот варвар припомнил античное рабство и, будучи
до сих пор почти со столь же твердой выей, как во
времена римского ярма, «он», как беглый раб,
бестрепетно порицает своего господина15. А потому, о если
бы Бог всемогущий даровал своим сыновьям мир (я
имею в виду, тем, великим), дал бы им братство и
согласие, как легко, как быстро он обуздал бы сопротив-
372 Франческо Петрарка
ляющихся варваров, вернув их под старое ярмо, как
некогда уже случалось и как прежде он уже помогал
италийским силам. Прежде ничего подобного не было
известно, а недавно стало, — когда один муж, самого
скромного происхождения, не имеющий большого
состояния И; как дело показало, больше обладавший
жаром души, чем твердостью и постоянством, осмелился
подставить слабые плечи республике и пообещал
защиту приходящей в упадок зласти16. Как вдруг
поднялась вся Италия! Какая слава и какой трепет пошли по
всей земле при имени Рима! И насколько более
значительна стала бы эта слава, если бы так легко было
продолжить, как начать. Я был тогда в Галлии17 и хорошо
помню, что*, я увидел, что прочел в глазах тех, которые
только на словах числились великими. Они, возможно,
начнут отнекиваться, но это легко сделать, ведь не
пытают же тебя, а в действительности тогда всех обуял
страх: настолько доныне Рим значителен! Но
достаточно об этом, а то у моего варвара страх перейдет в
отчаяние, если он сравнит Италию и свой варварский
край и поймет, что они несопоставимы, если
подходить с одинаковой меркой.
Впрочем, как я смогу поверить в то, что он
правильно размышляет, дает верные оценки чему-либо,
если он в одном из мест своей речи спрашивает меня,
что я понимаю под названием «священный город»?
Если он этого не слышал, я готов сказать, что,
согласно предписаниям гражданского закона, то место
считается святым, где захоронены не только
свободные, но даже рабы, не только тело целиком, но даже
часть тела18. Насколько же святым должен
представляться город Рим, где покоится столько храбрых и
знаменитых мужей, столько правителей, наконец,
столько знаменитых апостолов, столько высокочтимых
понтификов и учителей богословия, столько святых
дев! Именно это дает больше всего оснований считать
город священным. И кто сомневается в том, что Рим
заслуженно назван священным, или удивляется этому,
тот вообще не знает сути понятия «свяиЦенный» и, без
сомнения, является совершенным профаном. И, ко-
__ Инвектива против того, кто хулит Италию 373
нечно, если в гражданском праве «священнейшими»
называются законы как таковые19 и никто, находясь в
здравом уме, никогда этого не оспаривает, то тем
более священным можно назвать город — самый дом
законов, кормилец и родитель всех тех, кто учредил
римские законы.
Зачем же искать аргументы для известнейших
вещей, если еще Сенека выразительно называет Рим
«священнейшим» и «благоразумнейшим», а
гражданские законы называют город не только святым, но
самым священным из всех городов? «Он», возможно,
презирает эти законы, так как они приняты не в
Авиньоне папскими юристами и не в Париже
парламентом20. Но что поделаешь с такой глупостью?
Наш галл весьма нелепо допытывается далее,
почему я прославляю успехи и счастье Урбана21: потому ли,
что счастье состоит в действовании согласно с
добродетелью, или потому, что этот папа возвратил на свое
место изгнанницу церковь: первое галл признает,
второе отрицает. О упрямство, ненавистное Богу и людям!
О надменные галльские головы с пером на шлеме,
столь же склонные защищать ложь, сколь отрицать
истину! Я ясно обрисовал и то, и другое. Ведь
действовать в соответствии с добродетелью есть счастье этой
жизни и дорога к небесному счастью. Но я не считаю,
что кто-либо мог стать более добродетельным, прежде
чем освободил церковь, за которую Христос пролил
свою кровь, от кровавых ран и вернул ее на свое
место, вырвав из той грязи. Только бы он последовал
своему благородному и святому намерению до конца!
Как же не удивляться добродетели того мужа?
Добродетель эта такова, что я едва мог поверить, что столь
великий муж рожден в такой варварской стране22, если
бы не вспомнил Сатирика:
Величайшие люди, пример подающие многим,
могуг в бараньей стране и под небом туманным родиться23.
Я знаю, сила Творца, создавшего род человеческий
и вообще все, равно проявляется везде, и ей не могут
ни помешать, ни помочь ни место, ни обстоятельства.
374 Франческо Петрарка
Впрочем, чтобы этот варвар знал, до какой степени
я не согласен с его мнением, скажу, что и
добродетелью мужа того, и, в первую очередь, его решением я
восхищался, а тех, кто думает иначе, считаю не
умными людьми, а галлами, с больными и воспаленными,
словно от тяжелой болезни, мозгами. А у папы
недоставало лишь постоянства24.
И теперь, как только это всплывает в памяти, я
обращаюсь к нему с горячими и искренними попреками.
«О отче блаженнейший, что же ты сделал? Откуда это
бессилие? Кто тебя так заколдовал, что ты оставил
столь великое начинание? Не было бы никого славнее
тебя, если бы то, что ты замечательным образом
начал, проводил бы до последнего вздоха! И, подходя к
крайнему дню, теперь уже близкому, ты приказал бы
поставить свое ложе пред алтарем святого Петра, став
его гостем и наследником, вознося благодарность
Христу и ему, внушившему тебе это решение и это
желание25. Свою счастливейшую душу ты пустил бы в это
священное место. Кто прожил бы почетнее тебя? Кто
бы ушел в мир иной с большим величием души? А ес-^
ли бы после тебя кто-то довел церковь до грязного
дома разврата, то он и держал бы ответ перед Христом за
свою вину: ты же пошел бы к вышним прямой тропой,
сознавая праведность дела.
Позволь высказать, что накопилось на душе: теперь
ты сам добровольно вернулся к блевотине (о, кто тебя
погубил!), не слыша Петра, второй раз
восклицающего: "Куда ты устремился?"» Я стал беспокоить его
этими слезными причитаниями и тому подобным,
собрался написать о них (и уже было начал), но смерть чуть-
чуть опередила26.
Я сильно любил его, точнее —- его добродетель, и
мне, и всему миру известную, хотя лично мы знакомы
не были; я был дружески связан с ним, насколько это
возможно при таком неравенстве положения. Именно
поэтому я и решился злоупотребить его терпением и
гуманностью, счастливо испытанными прежде. Я
послал ему резкое письмо, когда он еще находился в том
несчастном месте27. Он ответил, что принял мое пись-
Инвектива против того, кто хулит Италию 375
мо не только с терпимостью, но и с благодарностью,
усердно и внимательно прочитал его и отметил —
буквально — следующее: что много сказано верно и
изящно и достойно похвалы как за стиль, так и за
весомость суждений.
Я растревожу желчь нашему галлу: в конце своего
письма он отметил, что достойны похвалы и моя
прозорливость, и мое красноречие (которых, впрочем, я
не ощущаю), а также мое ревностное усердие ради
общего блага. Он это отмечает, и я не отрицаю. Затем он
писал, что жаждет меня видеть и с благосклонностью
и благодарностью соглашается следовать моему совету.
Он не писал бы и не говорил ничего подобного, если
бы счел, что о нем плохо сказано — и указывая на его
пребывание в том худшем и отвратительнейшем месте,
и убеждая перенести и себя, и свою церковь в должное
место. Наш варвар этим возмущается, хотя его-то, как
мне кажется, это совершенно не касается.
Пока я жив, апостолические письма — великие
богатства в моих руках: не столько потому, что они от
папы, сколько потому, что написаны лучшим и
святейшим мужем, не столько потому, что содержат
похвалы мне, сколько потому, что самым очевидным
образом благочестиво свидетельствуют о его
исключительной доброжелательности. Год спустя, вскоре после
того, как он перебрался в Рим, я, чье желание тем
самым исполнилось, послал ему второе письмо, которое
этого варвара привело в бешенство28. И папа снова
ответил мне. В новом письме, слегка посетовав на то,
что я, зная его желание встретиться, медлил с визитом
к нему, затем извиняя эту задержку моим
нездоровьем, в конце тот, кто обычно приказывал королям,
просил меня, чтобы при первой удобной и безопасной для
меня возможности я прибыл к нему, так как он по-
прежнему горячо хотел бы меня видеть и найти совет у
моей спокойной души. Охотно повиновавшись, я
выехал к нему, но ужасное несчастье возвратило меня с
середины пути29.
Так он и остался для меня патером, с которым не
пришлось увидеться, но это не мешает его чтить и лю-
376 Франческо Петрарка
бить, а также хвалить его деяния, и прежде всего то из
них, которое этот варвар хвалить не хочет, а порицать
не осмеливается. Хотя мне кажется он сделал бы и
это, если бы потерял последнюю каплю стыда: но все
же у варваров и доныне есть уважение к добродетели,
хотя и самое малое.
Я же восхвалил бы патера еще больше, если бы
увидал, что у него достаточно твердости. Нетрудно
догадаться, что он сказал бы в оправдание: что не смог
противостоять всем шепчущим, всем сговорившимся
против Христа и его церкви. Такого оправдания я не
принимаю, но и не отвергаю, так как точно знаю: если
бы он стоял на крепком камне; то, не сомневаюсь,
отверг бы высокой душой подобные веяния30.
Пусть Христос простит того, чья занятость и
смятение помешали действовать. И пусть радуются и
торжествуют те, кто теперь пьет бургундское вино в живом
аду31 и не слышит слова пророка:
«Пробудитесь, пьяницы, и заплачьте, и рыдайте все,
пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от
уст ваших»32. По обычаю пророков, он говорит о
будущем деле как о настоящем или уже прошедшем,
словно уже сбылось то, что неизбежно должно было
сбыться; и если наслаждение еще не исчезло, то вот-вот
исчезнет. Время настало, чтобы ничтожнейшие те
наслаждения превратились в горечь. Может, действительно^
я слеп (ведь «он» меня называет таким), поскольку ви*
жу все это уже теперь как действительность; а может,;
он сам слеп еще больше и не видит ничего, страстно
мечтая лишь о блеске ничтожной тряпки и ни о чем
не помышляя, кроме епископата: на него он направил
все свои жадные и глупые помыслы, доверяя лжецу33
Невозможно выразить, до какой степени обрадовала
меня изобретательность этого ,мужа: настолько
буквально, настолько точно воспользовался он словами
фарисеев, которые так ответили говорящему об истине
и делах Господа: «Ты весь в грехах рожден, а нас
учишь»34 — и выгнали его вон. Спрашивается, что
более подходящего мог сказать ревностный поборник
фарисейства против того, который атаковал словами,
Инвектива против того, кто хулит Италию 377
не имея власти убедить фактами; он пытался, по
крайней мере, стыдом добиться чего-нибудь там, где не
помогают ни надежда на рай, ни страх перед адом.
Наш галл получил бы такой ответ на вопрос,
почему я назвал Урбана счастливым35: так как он
действовал самым добродетельным образом, то осчастливил
не только себя, но и всю церковь. «Он» узнал бы
также, что я неизменен в своих взглядах и могу только
одно добавить, чтобы не показаться
неосмотрительным и не дать повода обвинить меня в оскорблении
величия: я не настолько безумен, чтобы устанавливать
законы римскому понтифику, поскольку он сам
законодатель всего христианского мира; я не берусь
определять место пребывания тому, кто является
господином всех мест. Если, как пишет кордубанец, Вейи,
когда там пребывал Камилл, были Римом36, то
справедливо признать, что и теперь Рим там, где пребывает
римский понтифик. Одного я желаю, если Господь
даст: чтобы наш понтифик37 поступил теперь так же,
как тогда Камилл, при первой же возможности
покинувший Вейи и возвратившийся в Рим38. Я бы только
решился добавить, сделав это, возможно,
опрометчиво, но честно и ради истины, что если на такое
решится тот, кому Господь дал решение этого дела в руки,
то в Риме его пребывание будет не только более свято,
более почетно,, но и более безопасно, чем в этом краю,
где он вынужден покупать у разбойников свободу для
себя и для своей церкви за огромную цену. Это делал
и его предшественик в святом Авиньоне, горестно
жалуясь по этому поводу в консистории, и я не умолчал
об этом в письме к тебе.
Этот галл не увидел столь бедственного положения
римского престола, когда с большим усилием
разворачивал неоперившиеся крылья для рассказа об
авиньонском счастье. А недавние авиньонские несчастья либо
забыл, либо надеется, что другие забыли.
К этому я добавлю еще одну простую и вместе с
тем истинную вещь: не надлежало и не надлежит
римскому понтифику домогаться Рима с оружием в руках:
более безопасно это сделает авторитет, нежели меч,
378 Франческо Петрарка
святость, нежели кольчуга; оружием духовных лиц
являются молитвы и слезы, посты, добродетель, чистые
нравы; воздержание, целомудрие, человечность,
кротость в делах и словах. Есть ли необходимость в
воинских знаменах? Достаточно крестных мук Христа: от
одного креста содрогаются демоны, его почитают
люди. Зачем трубы и сигнальные горны? Достаточно
аллилуйи. Действительно, даже Юлий Цезарь после
стольких военных побед не стал входить в Рим
вооруженным, но вошел невооруженным победителем с
невооруженным войском. Я говорю о Цезаре, чтобы этот
аргумент был убедительнее для того, с кем я веду беседу.
Если ТАК пришел Цезарь, то чего мы должны ожидать
от Петра? Конечно, я догадываюсь, что на это скажет
наш клеветник: Петр пришел невооруженным и
именно поэтому был убит39. В одном из мест своего
сочинения «Апологетика» он также говорит, что в Риме были
убиты многие невинные люди и потому Ювенал по
заслугам называет его «грозным городом»40. Не хочу
называть его невеждой, но он не понимает, что обычно у
поэтов слово «грозный» означает «великий»; именно
это мы видим в начале «Эневды»:
грозный Гектор убит так стрелой Эакида41, —
в то время как известно, что Гектор был великим, но
не жестоким. В другом месте тот же смысл:
в материнском грозный оружии42.
Везде Эней называется «благочестивым», здесь —
«грозный», то есть великий. Так что нет сомнений, что
возражение галла не просто неумелое, но хитрое и
враждебное.
Он говорит, что «в Риме погибали многие святые
мужи». Но не меньше их погибало в других городах.
Он настаивает: «больше всего именно в Риме». Но кто
же не знает, почему так произошло? Многие стекались
туда как к столице мира и престолу власти. И
причиной гибели было не то, что само место ужасно, но
враждебное отношение к их религии. Сам Христос
хотел кровью многих мучеников освятить свой город, ко-
Инвектива против того, кто хулит Италию 379
торый он уже сделал правителем всего мирского и
собирался сделать владыкой всего духовного. Я не
отрицаю^ что был римлянином Нерон, погубивший Петра;
но римлянами были и те, которые убили Нерона.
Подобное можно сказать о Домициане и о других43.
Лукавство и ненависть хулителя повернет куда хочешь:
найдется немного среди римлян тех, которые
осуждали святых, и много — которые освобождали. Ведь
Христос избрал себе римлян (хотя они и не были
сведущи в этом деле) в качестве мстителей не только за
кровь святых апостолов, но и за свою собственную кровь.
Во всяком случае мститель за Христа был римлянином44,
а бичеватель — галлом, как ниже я еще скажу45.
Но прежде чем перейти к другим доводам в пользу
Рима, отвечу на оставшиеся возражения, которых два,
если не ошибаюсь: как считает один святой муж,
римляне бесстыдны в достижении цели и неблагодарны,
когда что-либо получат46. Одно я оставил в стороне:
если они говорили «нет», то стояли на своем до конца.
Это, если я не ошибаюсь, почти главное из
обвинений. Добавлю только, что римляне были народом,
непривычным к миру, а привычным к мятежам и
войнам; я бы мог не согласиться с подобным мнением, но
сам Янус скажет, что со времен Нумы и до Цезаря
Августа он был заперт только три раза47. И при
благоприятной, и при враждебной фортуне в военных делах
римлян всегда проявлялась столь великая доблесть, что
кроме нашего варвара, по своему обыкновению
обходящего этот вопрос, все заявляют: ничего подобного на
свете не было, и уверенно добавлю: и никогда не будет.
И, кажется, во всех римских войнах справедливость
состязалась с храбростью, и совершенно истинно то,
что написано в достоверных книгах: «знают все
народы, что римский народ и начинает и кончает войны
справедливо»48. Они носят один и тот же характер при
любой фортуне; более того, «величие римского народа
более поразительно при неблагоприятных
обстоятельствах, чем при удаче»49. Даже враги признавали, что
«римский народ потому непобедим, что в счастье он
остается трезвым и умеренным: было бы удивительно,
380 Франческо Петрарка
будь это иначе. Люди, непривычные к удачам, ликуя,
теряют голову; римскому народу победы привычны*
почти что прискучили, да и вообще римляне
расширили свою державу не столько победами, сколько
милостивым отношением к побежденным»50. Хотя зачем
говорить о всяких мелочах? А если все рассмотреть
толком, то придется переписать все знаменитые книги
светских писателей. Что же иное вся история, как не
восхваление римлян?
Между прочим, есть еще одна вещь, мимо которой
нельзя пройти: римский народ не знал ярма, но
подчинял себе других и правил. И величие не ослабляло
власти, даже если бы это хотелось увидеть. Власть,
которая в руках варваров была бы малой и слабой, в
римских руках стала такой, что все власти мира по
сравнению с ней казались детской забавой и были
властью только по названию. Я знаю, правда, что
некоторые легкомысленные греки в пику славе римского
имени славят имя парфян и постоянно говорят, что
римский народ не может противостоять величию
Александра Македонского, хотя римляне едва
признают его. Об этом пишет Тит Ливии51. Получается, что
тысячам рассудительных и храбрых мужей, столь
многим выдающимся вождям они могли противопоставить
только одного неистового молодого человека.
И не только легкомысленнейшие из греков, но
(чего Тит Ливии знать не мог) пустейший и легкомыслен-
нейший из галлов недавно написал то же самое и
настолько потерял всякий стыд, что повторил эту басню
об Александре и римлянах не только в прозе, но даже
в стихах и поэмах52. И я не могу понять, зачем он это
сделал, — если только не знал, что Александр был
выдающимся, пьяницей не столько греческим, сколько
галльским? Сходство нравов порождает симпатию и
питает ее. Я шучу, но и гневаюсь. Нет никакой другой
причины, кроме ненависти к римскому имени,
которая могла бы заставить предпочесть Юлию Цезарю не
только Александра, но и Сарданапала. Заметим, что о
последних галлам известно только понаслышке, а
первого они узнали, когда он железом выжигал их язвы и
Инвектива против того, кто хулит Италию 3.81
обуздывал самомнение53. Они излечились и теперь
вопят повсюду^ но никогда истина не поколеблется из-за
змеиного шипения.
Римская слава, более прочная, чем алмазные горы,
всегда найдет отзвук во всем мире; всегда имя того,
кто ее ненавидит, будет бесславным и бесчестным. Но
не будем больше отвлекаться. Тем более, что обо всем
прекрасно рассказал Тит Ливии в девятой книге
«Истории от основания города Рима»54. Варвар все там
пусть прочтет и лопнет от зависти.
Оставив в стороне тот пункт обвинения, с которым
я согласен, возвращаюсь к тем, которые оспариваю.
Упрекают римлян в бесстыдстве при испрашивании
чего-либо и неблагодарности после получения
желаемого: если это так, то это два больших порока. Кто
сможет лучше ответить на такие обвинения, если не
сама истина? И против первого же упрека есть тысячи
свидетелей. Достаточно сейчас назвать три народа и
двух царей. Во время Второй Пунической войны
неаполитанцы, когда дела римлян были очень плохи и
казна почти исчерпана, прислали в Рим легата с
дарами, в числе которых было сорок золотых чаш
большого веса. Они внесли их в Капитолий, положили перед
ногами сенаторов и стали просить, чтобы дар,
ничтожный сам по себе, но свидетельствующий об огромном
благоговении пославших его, римляне согласились
принять и всем, что имели неаполитанцы,
пользовались бы как собственным. Неаполитанцев
поблагодарили, но легатов с дарами отослали назад, ничего не
приняв кроме одной малой чаши, чтобы не подумали,
что римляне пренебрегли дарами друзей55.
В то же самое время и жители Пестума прислали с
золотыми чашами своих легатов, и их поблагодарили и
отправили назад, совершенно ничего из золота не
приняв56.
Позже, но еще в период этой войны, карфагенцы,
чтобы навербовать наемных содат, прибыли в
Испанию с огромным количеством золота и серебра. Но
посланцы были схвачены сагунтийцами и в
сопровождении сагунтийских легатов отправлены со всем тем,
382 Франческо Петрарка
что принесли, в Рим. Легатов поблагодарили, а золото
и серебро, отнятое у врагов, которое римляне могли
принять законным образом, поскольку оно было
отнято у врагов и предназначалось для их погибели, было
возвращено сагунтийцам, да еще и с подарками. Были
задержаны и отправлены в тюрьму только
карфагенские послы, чтобы всем было ясно, что продиктовано
решение не жадностью, а враждебностью57
Сам Пирр, о котором мы упоминали, чувствуя, что
при помощи оружия римлян не укротить, попытался
сделать это при помощи даров. Для заключения мира
он послал Кинея, которому передал огромные
сокровища; тот сначала пытался подкупить ими патрициев и
сенат, потом рядовых всадников, потом простой плебс.
И что же? Он не нашел никого, кто бы открыл свой
дом для его даров58.
А если бы он был послан в Авиньон, то, полагаю,
нашел бы открытыми не одни двери!
В те же самые дни Птолемей, царь Египта, послал
римским легатам, прибывшим к нему, большие дары.
Когда они благородно отказались от этих даров, он
днем позже пригласил их на трапезу и во время
пиршества сам передал несколько золотых венков. Легаты
приняли их как знак большого уважения и дружеского
гостеприимства, а на следующий день надели их на
царские статуи, чтобы было ясно, что они приняли
царское расположение и уважение, а не золото.
Насколько, таким образом, могли быть бесстыдны в
своих домогательствах те, которые непреклоно
отказывались от всяких приношений, понимает теперь и тот,
кто это утверждал.
Против второго утверждения — что римляне
неблагодарны, есть много свидетелей и среди царей, и
среди народов. Прежде всего Масинисса, царь Нумидии,
Аттал и Эвмен Пергамские, Гиерон Сицилийский,
Дейотар из Малой Армении, мамертинцы (жители
города Мессаны), затем тускуланцы и многие-многие
другие, которых трудно было бы перечислить59. И если
по отношению к некоторым гражданам нельзя
отрицать более сурового подхода, свойственного суровому
Инвектива против того, кто хулит Италию 383
отцу, — насколько они этого заслуживали из-за своей
вины или ради достоинства государства — то по
отношению к друзьям, не только к царям или к народам,
но даже к самым безвестным личностям, никого нет
благодарнее римского народа. Об этом очень верно
написано: «Сенат и народ римский привыкли помнить
и благодеяния, и обиды»60. И еще: «Римляне всегда, в
дни мира, и в дни войны, готовые к стремительному
отпору, подбадривали друг друга, спешили навстречу
врагу и с оружием в руках обороняли свободу,
отечество, родителей; затем, отразив угрозу мужеством, они
спешили на помощь союзникам и друзьям и, чаще
оказывая услуги, чем принимая, завязывали дружеские
связи»61. И опять: «Помни, храни это в своей душе:
никогда римский народ не был побежден
благодеяниями, ведь ты знаешь, насколько он могуч на войне»62.
Пусть галл примет это как сказанное специально
для него. Он же знает, а если не знает, пусть спросит
опытных воинов из числа своих предков, они ему
расскажут. И первый расскажет тот, о котором написано
следующее: «Телом и духом необычайно сильный,
устрашающий даже именем — Верцингеторикс — арверн,
вождь галлов, которому фортуна часто
благоприятствовала во многих больших сражениях и начинаниях, в
последнем сражении был вынужден сдаться. Он
пришел с мольбами в лагерь — что считается наибольшим
знаком победы — и сложил перед ногами Цезаря свои
фалеры и оружие. И сказал: "Возьми. Ты,
наисильнейший муж, победил сильного мужа"». Я ничего не прццу-
мал: это свидетельство Флора, знаменитого историка63.
Остается сказать еще об одном: о римской
суровости, или, если воспользоваться словами галла, о
непреклонности, отказе. Трудно, конечно, говорить
вообще, потому что столь различны, столь несхожи
нравы людей. Я выберу из тысяч двух римских мужей и
принцепсов — Юлия Цезаря и Тита Веспасйана^
которые своей славой опровергают подобные обвинения. О
первом из них написано: «Цезарь был убежден, что
друзьям не следует отказывать ни в чем, ради них надо
работать, бодрствовать, забывать о собственных де-
384 Франческо Петрарка
лах»64. Другой и сам имел обыкновение ни в чем не
отказывать людям и считал, что «никто после разговора
с правителем не должен уходить печальным». А
однажды, вспомнив за обедом, что за весь день ничего ни
для кого не сделал, произнес ту известную и
достойную похвалы фразу: «Друзья, я потерял день»*5. Так об
этом написано. И еще: «Никогда не отказывал никому
из просителей, сам побуждал их рассказывать о нужде,
приведшей к нему»66. Я уж не говорю о
снисходительности и приятности нрава того и другого. И считаю,
что достаточно ответил на обвинение в суровости.
Галл поспешит сказать, что не все такие. Верно.
Ибо если бы все были такими, не столь велика была
бы слава этих двух. Величие дел и людей состоит в
редкости: такие люди великое украшение. Если бы все
были равны, никто бы не возвышался. Но пусть мой
противник назовет хоть одного галла или хоть одного
из всех варваров, подобного этим двоим, и я признаю
себя побежденным.
Что же еще? Скажу уже не о нелепом, но о
безумном. В пылу и стремлении противоречить «он» даже
перестает думать о том, что говорит. Так, он
спрашивает, можно ли найти у Цицерона такое сочинение,
как «Физика» Аристотеля, или у Варрона — такое, как
«Метафизика»? Глупейший вопрос! Надменный варвар
так наслаждается греческими именами и так о них
говорит, словно тот, кто написал эти книги, Аристотель,
был галлом. Прочти книгу некоего брата, которая
называется «Просодия»67. В этом сочиненьице по
грамматике автор, упоенный глупой любовью к своей
родине, непостижимым образом отклонившись от
предмета, говорит, что Аристотель был испанцем. Быть мо^
жет, наш безумный оппонент подобным же образом
сделает его галлом?
Что иное могут обозначать слова о Туллии как об
«итальянском и римском», если не то, что галл хочет
противопоставить ему того «галла», который Галлию
никогда не видел и врад ли, я думаю, о ней слышал,
будучи по национальности греком или македонцем, а
по месту рождения — стагиритом?68
Инвектива против того, кто хулит Италию 385
Наш галл допускает — как я полагаю, не по
убеждению, а по галльской учтивости, — что «Италия
является большой и прекрасной частью мира»: я привожу его
собственные слова. Мы выносим благодарность галлу,
а также истине, каковая побудила его сказать то, что
из уст других он переносит с досадой, и поневоле
прославить именно то, что он ненавидит всеми фибрами
души. Он допускает также, что некоторые из наших69
написали много книг, полезных дли людей и для
жизни, но они «должны считаться далеко не такими
ценными как «Этика» Аристотеля». Странный род
сражения! Я начал битву с одним, и, когда он уже стал
уставать и шататься, передо мной внезапно возник другой
в надежде застать врасплох. Что общего имеет
невежество галлов с «Этикой»? Когда побеждает Аристотель —
что до этого галлам? Разве только остервенелая
ненависть все, что отнимает у врага, приписывает себе.
Однако напористый иноземный противник не
заставит меня усомниться в своем мнении, которое,
полагаю, подтвердят опыт и истина. И поскольку я
недавно обсуждал данный вопрос специально70 и много
говорил об этом, теперь коснусь лишь немногого. Я
знаю, что «Этика» Аристотеля и другие его труды есть
плод глубокого ума. Но в одном вопросе — том самом,
который является целью моральной философии, — то
есть чтобы мы становились добрыми (согласно его же
собственному определению)71, нет ни одного светского
сочинения, которое можно было бы не только
предпочесть, но поставить радом с произведениями наших
латинских авторов. И очень верно то, что сам Туллий
утверждает во многих местах, но наиболее четко в
одном: «Я всегда считал, — говорит он, — что наши во
всем, что написали сами, оказались более мудрыми,
чем греки, а то, что приняли от них, сделали лучшим,
отобрав лишь достойное переработки»72.
Я выскажу об этом и свое мнение, которое не
станет менее истинным из-за того, что, возможно, не
будет принято галлом: Аристотель больше всего поучает,
а Туллий волнует душу; в моральных сочинениях
первого больше тонкости, у второго -- силы воздействия.
386 Франческо Петрарка
Первый рассматривает более обстоятельно сущность
добродетели, второй более плодотворно побуждает к
тому, чтобы овладеть ею. Что полезней для жизни
человека, пусть определит сам галл.
Рядом с Туллием можно поместить Сенеку,
относительно которого Плутарх, великий греческий муж,
признал, что не было никого в Греции, кого можно
было бы сопоставить с ним как с философом морали73.
Но вновь галл спешит встать поперек дороги и
говорит, что Сенека был родом из Испании. Ответим ему,
что достоинство, и стиль письма, и ученость Сенека
имел истинно римские. И того мне достаточно, что
Аристотель не был италиком. Да, не написал Туллий
«Физику», добавлю — и «Этику» тоже; не написал Вар-
рон «Метафизику», добавлю — «Проблемы» тоже. Но
мы не греки и не варвары, а италики и латиняне.
Цицерон написал книги «Об обязанностях», это и есть ЕГО
«Этика», он написал о домашних делах или о своем доме:
это и есть ЕГО «Экономика», он написал о государстве, о
военных делах: это и есть ЕГО «Политика». А галльский
человечек любит греческие титулы и, хотя, быть может,
не имеет ни гречесдсих, ни латинских знаний, воображает
о себе, что он некто великий, поскольку изрыгает
«Физику», выплевывает «Метафизику»74.
Туллий не написал «Физики», написал, однако, о
законах, об академиках, книгу в похвалу философии75.
Эта книга вывела Августина на правильный путь
жизни и помогла познать истину, как он сам открыто
признавал76, чего об Аристотеле никогда не говорил.
Говорил ли он о ком-либо из галльских философов, не
знаю: может быть, это известно моему противнику,
слепо и безостановочно восхваляющему все галльское.
Туллий не написал «Физики», но написал о сущности
мира, о природе богов, о предвидении, о роке, о
старости, о дружбе, об утешении, о славе, тускуланские
беседы, о пределах добра и зла, о разделении, топику (о
нахождении доказательств), об ораторе, о совершенном
красноречии, о совершенном ораторе, две книги о
риторике, три книги писем, бесчисленное множество речей, в
которых по красноречию не имел себе равных77.
Инвектива против того, кто хулит Италию 387
Замирает наш галл перед чужеземными именами,
хотя я коснулся лишь немногих- среди многих; да и
речь не о блеске имен, а о славе дел.
Что из того, что Варрон не написал «Метафизику»?
Великое обвинение ученому мужу! Ведь он написал
двадцать пять книг о делах человеческих и
шестнадцать — о божественных. Правда, в последних
нагромоздил много пустого, чуждого почитанию истинного Бога78.
Пусть наш галл воздает благодарности
божественному провидению и божественному милосердию,
каковое вывело его из прежних ошибок и привело от
варварских верований к познанию истинного Бога. Он
знает, что имел предками друидских жрецов,
придавленных ложными богами и пустейшими суевериями;
они утверждали, что галлы произошли от бога
подземного царства Дита79; и эти глупые басни были
достойны того легковерного общества. Там, где не взошло
истинное солнце справедливости и законов, никоим
образом не могла родиться истина относительно
божественных вещей. Сияли, однако, среди заблуждений и
умы, и не менее острыми были глаза, хотя и
окруженные тьмой и плотным мраком. И потому за их
заблуждения они заслужили не ненависти, но сожаления о
недостойности жребия. И то, что они служили идолам,
следует, как писал Иероним80, приписать не тупости
ума, но невежеству. Были они великими, но
находились внизу; мы же, малые, по милости Божьей,
помещены вверху. У них была глубокая ночь, у нас —
ясный полдень; нас нельзя назвать лучше их, так как мы
этого не заслужили, но можно назвать счастливее. Я
думаю, что это можно сказать не только об этих двух,
книги которых у меня в руках, но и обо всех
философах и поэтах, между духовными очами которых и
предметом истины — густой туман. Но вернусь к Варро-
ну. Он не написал «Метафизику», однако написал о
философии, о поэтике, о латинском языке, о жизни отцов.
К чему я веду? Я не забыл ту строку из Теренция,
которую цитирует Августин: «Варрон, муж ученейший
во всех отношениях», который «прочитал так много,
что удивляешься, как у него достало времени что-ни-
13*
388 Франческо Петрарка
будь написать, и написал так много, что едва веришь,
что он мог какого-либо автора прочитать»81, что же,
кому-то хочется считать его недостойным? О
величайшие мужи, о светлейшие звезды латинского
красноречия, о горький жребий людей, во всем гениальных!
Неужели ваши труды и ваши неустанные бдения привели
к тому, что с галльской трибуны варвар осуждает вас за
то, что вы не написали «Физику» и «Метафизику»?
Я уж не касаюсь тех бредней, где он приводит
бесчисленные вещи, совершенно не имеющие отношения
к предмету разговора. Он, как мелочный торговец,
раскладывает все свои товары одновременно,
выставляя среди прочего немалую часть, переписанную у
своего Юстина. Он рассказывает об основателях
италийских городов, о чем некий Гигин написал целую
книгу82. Пусть же он прочитает упомянутое мной
сочинение Сенеки, обращенное к Гельвию: там он найдет,
что почти все племена произошли одно от другого.
Так происходит и на небе, и на земле. Многие
чужестранцы основывали города в Италии. Кто этого не
знает? Или что тут такого? Или есть часть мира, где
сами италики не основывали города?
Как говорит Сенека, «римская империя называет
своим основателем изгнанника, который бежал, когда
его родина была захвачена, увлекая за собой немногих
оставшихся в живых: необходимость и страх перед
победителем после долгих скитаний привели его в Ита^-
лию»83. Интересно, что Сенека добавляет: «Потом этот
народ во всех провинциях основал столько колоний!
Где бы ни одерживал римлянин победы, там он и
основывался». Это слова Сенеки. Где же, спрошу я,
римлянин не одерживал победы, разве что в Галлии84? Рим
был основан троянцами. А кто основал Трою?
Конечно, италик и тосканец. Есть свидетельство Вергилия о
прибытии троянцев в Италию:
Дарданец, происходящий отсюда, устремляется вновь сюда85.
Колонию Агриппину на левом берегу Рейна основал
Марк Агриппа, зять Августа, как и многие другие в
разных землях. Но одна эта первая сохранила имя сво-
Инвектива против того, кто хулит Италию 389
его основателя. Лугдун (Лион), о котором здесь много
говорилось, построил римский гражданин Плантий,
Тарракон в Испании — Сципионы, город Париж — я
почти завидую галлам, что такой человек основал их
столицу, — как полагают, построил Цезарь. Это же я
слышал о Генте от его граждан, когда был там в
молодости86: рассказ передавался там из поколения в
поколение. Кроме того, как я выяснил, вся долина Рейна
была заселена поселенцами, посланными Августом.
Эта перемена мест изменяет не земли, в которые
переселяются люди, но самих переселенцев. Поэтому
и галлы в Азии — азиаты, и италики, переселившиеся
во Фригию, — фригийцы, а вернувшись после
разрушения Трои в Италию, вновь стали италиками. Так и
наши римляне, переселившиеся в Галлию или
Германию, впитали природу и варварские обычаи этих
областей. А миланцы, происходящие от галлов и также
некогда бывшие галлами, теперь самые миролюбивые
из людей и никогда не следуют старой дорогой. Так
сила небесная побеждает и обуздывает врожденные
человеческие свойства.
Сами римляне основали в Италии огромное число
городов: Болонью, Модену, Поленцо, Парму,
Кремону, Пьяченцу, жемчужину городов — Флоренцию. Я
не стану посылать перо в другие части света, не стану
продолжать эти любопытные разыскания, чтобы не
оказаться осмеянным за то, что сам осмеиваю в других.
Но до чего, однако, галл доходит! От утверждает,
что массилийцы (марсельцы) присылали золото, чтобы
выкупить Рим у галлов. Неостроумно сказано, как и
многое другое. Спасение города приписывается масси-
лийцам, а римляне упрекаются в постыдном выкупе. Я
не отрицаю, что золото было прислано, и этим было
испытано доверие того города к римлянам. Впрочем, я
согласен, что Рим был захвачен и сожжен, но
отрицаю, что он был выкуплен за золото. Он был
освобожден оружием и умилостивлен галльской кровью. Пусть
галл прочтет отца истории, происходившего из этого
самого города, откуда я пишу, и пусть насладится
живительным источником красноречия того, к кому со
390 Франческо Петрарка
всех сторон, от крайних границ Испании и Галлии,
приходили благородные мужи, предпочитавшие вид
одного этого человека царственному городу; пусть,
говорю, прочтет его сочинение, и тогда увидит свои
заблуждения более ясно87.
X ПРИЛОЖЕНИЕ ф
#"» А* 'ЛгЛ VX^ V^rV* VTCV' >ЗС^ Varv* *Уи^
ДЖОВАННИ БОККАЧЧО
О ЖИЗНИ И НРАВАХ
ГОСПОДИНА ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ
ИЗ ФЛОРЕНЦИИ
Франческо Петрарка — муж прославленный,
известный и жизнью, и нравом, и образованностью,
молва о котором шла по всему свету в то время, когда
великим понтификом (т. е. папой) был Бенедикт XII1.
Петрарка родился недалеко от Ареццо 10 июля 1307 г.2
Отец его — сер Петрарка, мать — Элетта. Вскоре он
вместе с родителями переехал во Флоренцию,
богатейший город Этрурии, откуда его родители,
происходящие из богатых семейств, уехали много лет назад. Я
считаю, что именно там он был вскормлен молоком Муз.
Но когда из-за многочисленных волнений
флорентийских граждан некоторые знатные люди, связанные
с сером Петраркой дружескими или родственными
узами, были изгнаны как враги республики, то и сер
Петрарка с мальчиком сыном, женой и всем домом
осудил себя и свою семью на добровольное изгнание3.
Оставив родину, он перебрался за Аппенинские
Альпы, в Авиньон, где Франческо, с раннего детства
выказавший блестящие способности, изучал свободные
искусства4.
Подростком он отправился в Болонью, известный
ломбардский город5, в котором процветали науки, и
там слушал у разных учителей гражданское право и
занимался им весьма усердно, пока Аполлон, предугадав
в нем своего будущего сына, не начал трогать его душу
394
Джованни Боккачно
прекрасным пением Пиэрид и божественными
стихами6. Оставив из-за этого юридическую практику,
Петрарка направил свои стопы к вершине Парнаса7. Когда
его отец услышал об этом от многочисленных
знакомых, он, не сумев должным образом оценить будущую
славу сына по первым произведениям, негодуя, что
сын, без основания стремясь к славе, некоторым
образом противится ему (сам он вечному предпочитал
сиюминутное), позвал Франциска назад, к родным Ларам8.
Он часто порицал сына за такие занятия, говоря: «Что
ты стремишься к бесполезному занятию? Сам Меонид
не оставил никаких богатств»9. И немедленно отослал
сына, не осмелившегося ослушаться отцовской власти,
в Монпелье — снова изучать законы.
Но так как предуготованной судьбе нелегко
противиться, блистательный хоровод Пиэрид заключил его в
крепкие объятья — вырваться из них было
невозможно — и, с трудом получив того, кого он вскормил с
детства и кого ждала славная судьба, вырвал Петрарку
из невыносимой двусмысленности законов и собачьих
свар бешеного форума, с негодованием отвлек от
постановлений Цезарей и таблиц юрисконсультов и
зажег перед ним свои светильники. Подобным же
образом и пророк из Смирны рассказал в сопровождении
дивного плектра об Улиссе10 и других греках, когда его
коснулся Аполлон; и Теренций описал проделки гетер,
сводников, юношей и рабов, когда Талия трогала его
легким посохом11; и Марон, одаренный божественным
талантом, воспел игры пастухов, сельские работы,
поражение Трои, сражения, победу над Пенатами и
печальный Элизий12; и Флакк пел, одаренный
лирической прелестью и сатирической суровостью13; и Назон
писал, вдохновленный Музами и Аполлоном14; и Лу-
кан трубил, напутствуемый Каллиопой; и Статий, и
Ювенал, и многие другие, награжденные миртом,
плющом и лавром, отмеченные удивительными
доблестями и славой, оставили [нам] героические песни15.
Петрарка не обратился к изучению уже устаревшего, но с
успехом занимался тем, что было ему близко.
Восприняв указанных авторов и находясь в дружественных
О жизни и нравах господина Франнеско Петрарки 395
отношениях со своими учителями и наставниками, он
весь воспламенился Кастальским пылом, весь отдался
поэзии и совершенно не помышлял ни о чем другом.
Отец же ничего об этом не знал. Чего достиг Петрарка
в поэзии, нет необходимости рассказывать: это ясно
видно из его творений. Они показали такого яркого и
большого поэта, что, если утверждение самосского
философа16 о возможности переселения душ в другие тела
нужно было бы подкрепить обоснованным
доказательством, — я не сомневаюсь, в Петрарке воплотился бы
Вергилий с его познаниями во всех науках. Пусть те,
кто понимает это, скажут сами.
Потом он стал старательно подражать философам-
этикам, более всего Туллию Цицерону и славному
Сенеке из Кордубы, и так усвоил манеру речи Цицерона
и образ жизни Сенеки, что с полным основанием мог
бы считаться одним из них17.
После этого сладкоречивый поэт, желая
совершенствовать свой талант и испытать свои силы в
творческих трудах, пока кипят молодые годы, начинает
избегать общества, наслаждаться одиночеством,
устремившись в крутые горы под вечную тень деревьев, в
долину, которую жители издавна не без основания
называли «Замкнутой долиной»18. Уют этой долины был
создан природой, которой не коснулась человеческая
рука. Вид ее многим доставлял наслаждение, и об этом
Петрарка прекрасно и изящно написал в одном
стихотворении с мелодичной метрикой, посвященном брату
Дионисию дель Борго, профессору теологии19. В этой
долине берет начало река Copra, широко вытекая
прозрачными водами из неиссякаемого источника.
Именно в этом месте выдающийся поэт, дабы
потомки не обвинили его в том, что он зарыл свой талант,
создал много изящных и красивых небольших
произведений — и стихотворных, и прозаических. Среди прочих
было написано то великое и удивительное произведение,
которое он назвал «Африка»; в этом сочинении,
написанном эпическим размером, изображены деяния
великого Африканца20. Оно написано так, что кажется
созданным не человеческим талантом, а божественным.
396
Джованни Боккаччо
Все же, чтобы слишком длительное одиночество не
лишило его известности, Петрарка время от времени
появляется в римской курии, пользуется дружбой
великих понтификов, королей, знати, как французской,
так и итальянской, и многих других, более всего папы
Бенедикта XII, кардинала Пьетро Колонна, короля
Роберта Сицилийского и рыцаря Аццо да Корреджо —
с ним, уже после смерти отца, прибыв в город
Неаполь, он удостоился чести быть принятым королем
Робертом21. Прочитав в присутствии Роберта
произведения свои и древних поэтов, он сделал это так
изящно, что снискал величайшую благодарность славного
короля. Этот король, жадный до изучения всего, что
достойно похвалы, оставив свои занятия теологией и
философией, занялся изучением поэзии, которую раньше
мало ценил, и настойчивым образом просил, чтобы
Франческо остался у него и стал его наставником.
Но душа Петрарки к этому времени уже стремилась
к более возвышенному, и он очень деликатно
отказался от столь почетной обязанности. Здесь же, сначала
только при короле, а потом в присутствий
придворных, он был проэкзаменован во всех областях знания,
особенно в поэтике, и единодушно удостоен
наивысшей похвалы всех ценителей и слушателей22.
Затем со своим другом, упомянутым выше Аццо, он
ближайшей дорогой прибыл в Рим, где был весьма
почетно принят сенатом и римским народом из-за своих
выдающихся заслуг и по просьбе короля. Один из
сенаторов, сеньор Орсо дель Орсини, известнейший
граф Ангвиллара, в шестые иды апреля 1341 года от
воплощения Христа в городе Риме на Капитолии в
присутствии клира и всего народа произнес длинную,
цветистую и восторженную речь, прославляющую муз.
Воздав похвалы чествуемому поэту, он торжественно
увенчал его лавровым венком, потом красиво и
многословно выразил ему признательность, предоставил право
римского гражданина и подкрепил его, как подобает,
золотой буллой с изображением героев города, которые
когда-то наводили страх и вызывали почтительное
уважение всего мира23. Петрарке в это время было 34 года24.
О жизни и нравах господина Франческо Петрарки 397
Тогда же он удостоился быть увенчанным тулузской
виноградной лозой; подобным образом, говорят, был
увенчан Статий25 при императоре Домициане в 834
году от основания Рима. Нет необходимости говорить о
том, какая радость охватила римских граждан, не
только знатных, но и плебеев, — это каждый может легко
представить; я думаю, всем казалось, будто вернулось
счастливое время и царство Сатурна26. Сам Петрарка
весьма деликатно описал это в одном стихотворном
послании рыцарю Джованни Барилли из Неаполя так,
чтобы не казалось, что он пишет в ответ на похвалы27.
Когда прошло чествование, Петрарка вместе с Аццо
да Корреджо отправился в Парму, где они некоторое
время жили вместе, связайные крепкой дружбой; там
Петрарка и сейчас живет28.
Кроме блестящей образованности, Франческо
выделяется и характером. Хотя он, как выше сказано, и
наслаждался одиночеством, о чем пишет в эклоге под
названием «Аргус» и позже, часто называя себя Соли-
вадо или Сильвио, однако он был и остается
человеком с гражданским характером, со всеми он
дружелюбен, ровен и общителен29. Образ жизни его весьма дос-
тоен. И чтобы удобнее избегать суеты мирских дел,
Петрарка перенял монашеский образ жизни и стал
носить одежду духовного лица30. Однако преимуществами
духовных лиц он почти не пользовался и не хлопотал
об этих преимуществах. Более всего он отвергал
милости, предлагавшиеся папами, кои были к нему
благосклонны и непрестанно предлагали ему эти милости
без малейшего домогательства с его стороны. Упорнее
всего он отвергал прелатства — возможно, потому,
чтобы избежать Сциллы и не попасть к Харибде, взяв
на себя слишком многое31.
Рост он имеет высокий, внешность красивую, лицо
круглое, благородное, цвет лица не белый, но и не
темный, а с некоторой приличествующей мужчине
смугловатостью. Взгляд серьезный, проницательный,
манера смотреть приятная; скромный в жестах;
смеется он очень весело, но никогда не трясется от глупого
хохота. Походка спокойная, речь негромкая; умеет по-
398
Джованни Боккаччо
шутить, но говорит редко и только тогда, когда его
спрашивают; в таком случае он с такой обдуманностью
и так ясно отвечает, что его разговор привлекает даже
несведущих, и они слушают продолжительную речь не
только без досады, но и с большим наслаждением. Его
слова настолько захватывают, что некоторые из тех,
кому довелось его слушать, говорили, что понимают,
как из-за пения сирен могли потонуть корабли
союзников полководца Нариччо32. А другие добавляли, что
те пчелы, которые в детстве намазывали медом губы
спящему Платону и Амвросию33, помазали и
маленькому Петрарке губы Киренейским тимьяном34. Кроме
того, есть и другие доказательства чрезвычайного
очарования, исходящего от его речей; а его приветливость
при этом имеет такую силу над всеми, что даже
умаляет славу прочих известных людей, на которых он
нисколько не похож. Я своими ушами слышал, как
некоторые весьма достойные люди утверждали, что об этом
человеке устами болтунов ничего не может быть
распространено по свету: хула их к нему не пристанет.
Что сказать о его таланте? Ничего в нем нет
сомнительного, ничего темнрго, но все ясно, светло и
открыто. Памятью же, я считаю, он одарен скорее
божественной, чем человеческой. Ведь он помнит все от
сотворения мира до наших дней так, словно это
происходило при нем: и всех царей, и принцепсов, и
народы, и племена, и где что произошло. А как он
воспринял и знает учения философов — и этические, и
естественнонаучные, и теологические — видно из его
поступков и произведений.
В пище и питье он умерен, еда и питье — всегда
просты. Одевается опрятно не потому, что особенно склонен
к этому, но чтобы не отличаться от прочих людей.
Что касается музыкальности, то игрой на струнных
инструментах и пением он услаждает не только людей,
но даже птиц — и это заметно по всему; он весьма
терпелив, в гневе редко теряет рассудок и быстро
остывает. Он верен и умеет держать слово.
Христианской религии предан до такой степени, что в это
трудно было бы поверить, если бы не свидетельства людей
знающих и достойных доверия.
О жизни и нравах господина Франческо Петрарки 399
Иногда его довольно сильно тревожит страсть, но
никогда не побеждает. И когда она искушает его, он,
как предписывает апостол, выдержкой одолевает то,
чего не смог преодолеть целомудрием. Это не
противоречит содержанию многочисленных общеизвестных
сонетов, в которых Петрарка ярко воспел любовь к
некоей Лауре. Мне кажется, что имя Лауры употреблено
им аллегорически вместо названия лаврового венка,
которого он впоследствии добился. Думаю, что это
именно так35.
Нет таких слов, которые могли бы по-настоящему
обрисовать добродетели и мудрость этого поэта. Я
написал о нем, будучи более дерзким, чем
красноречивым; остальное, гораздо большее, чем я изложил, я
оставляю мужу с более подходящим и опытным пером.
Этот славный поэт до сегодняшнего дня создал
много произведений, достойных упоминания. В своем
первом выдающемся произведении он очень
разносторонне, с удивительным искусством изложил деяния
первого Сципиона, очень хорошо показал пунийцев и
их предводителя Ганнибала, отметив необыкновенную
доблесть его духа и силу тела. Название этого
произведения — «Африка», так как, в основном, в нем идет
речь о военных делах, происходивших в Африке. Это
произведение Петрарка посвятил своему другу королю
Роберту, о котором я говорил выше. Сам Петрарка не
говорит об истоках этой книги, но многие считают,
что она близка гомеровским поэмам.
Кроме того, он написал один прозаический диалог
и так удивительно и искусно украсил его
риторическими фигурами, что кажется, будто найдено то, что
Туллий упрятал в Арпине36.
Наконец, он сочинил эклогу под названием
«Аргус», в которой оплакивает смерть своего друга,
упомянутого выше короля, аллегорически называя его
Аргусом, а себя — Сильвием и воздавая хвалы этому
королю. В этой эклоге он подражал не столько
«Буколикам» Вергилия, сколько буколическому стилю сиракуз-
ца Феокрита37. Он также написал прекраснейшую
комедию «Филострат». Создавая ее, он шел по стопам
400
Джованни Боккаччо
Теренция, но я думаю, когда эта комедия станет всем
известна (ведь до сих пор ее не многие слышали), то
прочитавшие ее скорее предпочтут учителю ученика38.
Если бы я попытался описать те произведения,
которые он сочинил для папы, для брата Энея да Сьена,
мужа честнейшего* а также на разные случаи, то на
это мне не хватило бы целого дня. И поэтому, чтобы
не утомлять читателя слишком длинными
рассуждениями, я счел необходимым остановиться и прочее
оставить другим, более усердным исследователям.
%^5
9&*ъв
КОММЕНТАРИИ
ОБ УЕДИНЕННОЙ ЖИЗНИ
1. Филипп де Кабассоль (1305-1372), которому посвящен
трактат «Об уединенной жизни». В 1346, когда Петрарка
делал первые наброски этого произведения, Кабассоль был
епископом Кавайона, небольшой епархии недалеко от
Авиньона. В эту епархию входил и Воклюз — местечко, где
Петрарка в 1373 купил дом и, возможно, тогда же
познакомился с епископом Кабассолем. В 1361 Кабассоль получил
титул Иерусалимского патриарха, в 1368 стал кардиналом, в
1307 — кардиналом-епископом Сабинским; умер в Перудже. В
1369 составил каталог папской библиотеки в Авиньоне.
Петрарка был дружен с Филиппом де Кабассолем долгие
годы, состоял с ним в переписке; более 20 посланий,
адресованных ему, отобрал для публикации в сборниках «Книги
писем о делах повседневных», «Письма без адреса»,
«Старческие письма».
Епископ Кабассоль очень любил Петрарку и высоко
ценил его талант. Это ясно из автобиографического письма
Петрарки «К потомкам» (1358): «Муж всегда великий... и он
любил и любит меня не по долгу епископа, а братски».
2. Марк Туллий Цицерон (фб-43 до н.э.) — римский
оратор, писатель и политический деятель.^ Создал несколько
риторических сочинений, из которых наиболее важное
значение имеют трактаты «Об ораторе», «Брут», и «Оратор».
Трактат «Оратор» сам Цицерон в письме к своему другу Аттику
назвал «О лучшем роде красноречия».
3. Марк Юний Брут (85-42 до н.э.) — политический
деятель; участвовал в заговоре против Цезаря. В письме к
Аттику (Ad Atticum XIV, 20, 3) Цицерон жалуется на критику
Брутом сочинения «Оратор».
4. Асиний Поллион (76 до н.э. — 5 н.э.), Гай Лициний
Кальв (82-47 до н.э.) — ораторы, стиль которых отличался
сжатостью и сухостью.
5. Здесь Петрарка вспоминает слова Горация из 3-й
сатиры I книги:
В друге должны мы сносить терпеливо все недостатки,
Так же, как в сыне отец снисходительно многое терпит.
(Сат. I, 3, 43)
6. Досуг (otium) — отказ от государственной деятельности и
от дел вообще, когда можно заниматься философией и
литературой. Противоположное понятие — negotium, деятельность.
404 Комментарии
Досуг, по представлению греческих и римских
философов, — необходимое условие для занятий умственным
трудом. Они полагали, что наслаждение досугом состоит не в
бездеятельности, а в отсутствии необходимости зарабатывать
на жизнь.
7. Марк Порций Катон Старший, цензор (234-149 до н.э.) —
римский Политический деятель, стремился к
восстановлению древних римских обычаев. В числе прочих сочинений
его перу принадлежит «Происхождение», где описывается
древнейшая римская история.
8. Цицерон в речи в защиту Плантия приводит
высказывание Катона о том, что славные мужи должны обдумывать
свой досуг не меньше, чем свои государственные дела.
9. Петрарка жил в это время в Воклюзе, входившем, как
уже говорилось, в состав епархии Филипа де Кабассоля.
10. Петрарка по долгу службы у кардинала Колонна, при
котором он состоял капелланом домашней церкви, делил
свое время между Авиньоном и Воклюзом. В Авиньоне тогда
пребывал папский престол. Среди высшего клира у
гуманиста было много друзей и немало недругов, особенно после
того, как он написал очень резкие антй-авиньонские сонеты
и несколько писем, широко разошедшихся, о нравах
папского двора.
11. Петрарка намекает на то, что его сочинения и письма
легко узнавались благодаря особому стилю и глубокому
содержанию. Это было действительно так. Ко времени
написания трактата широко разошлись его знаменитые «Письма без
адреса» с резкой критикой авиньонского двора. Очевидно,
мести за них прежде всего и боялся гуманист.
12. Когда Петрарка начал писать трактат «Об уединенной
жизни», ему было чуть больше 40 лет. За его плечами
осталась коронация поэтическим венцом на Капитолии (1341),
принесшая европейскую славу и почет, многие труды по
раскрытию античных рукописей; его фрагменты и сонеты из
латинской поэмы «Африка», его письма в стихах и прозе
широко ходили по рукам, вызывая многие восторги
почитателей и хулу недоброжелателей. Поэт, действительно, был на
виду не только в Авиньон, но и в Провансе, Италии,
Германии, Богемии.
13. Петрарка не раз заявлял, что не желает потакать
расхожим вкусам, пишет и будет писать по высоким правилам
классической латинской речи, а главное — так, чтобы
читателю было над чем подумать. «Хочу, чтобы меня понимали,
но понятливые, да чтобы и те еще прилагали и старание, и
Комментарии 405
усилие ума, не напрягаясь, а увлекаясь» (Петрарка Ф. Книга
писем о делах повседневных, XIII, 5 (1352 г.) // Петрарка Ф.
Эстетические фрагменты. М., 1982. С. 129)
14. В этой весьма ехидной и злой филиппике Петрарка
высказывает свое отношение к средневековой учености,
схоластике вообще, опорой которой был Аристотель. Подобные
суждения встретятся потом в трактате «Моя тайна» (1347-
1353), где «старцы диалектики» названы
«надменно-презрительным, попусту любопытствующим отродьем». (Петрарка Ф.
Моя тайна, I // Петрарка Ф. Избранное. М., 19747 С. 62^63),
позже — в «Инвективах против врача» (1352-1355) и «О
невежестве своем собственном и многих других » (1367).
15. Не исключено, что Петрарка намекает здесь на ìiany
Иннокентия III, трактат которого «О презрении к миру или
о ничтожестве человеческого состояния» (1194-1195) рисует
человека как самое жалкое, греховное, никчемное, гнусное
существо.
16. Скорее всего, Петрарка имеет в виду работу над
поэмой «Африка», начатую им еще в 1338 году и
продвигавшуюся с большим трудом. Кроме того, уже несколько лет он
писал отдельные части поэмы «Триумфы», собирал
материалы к трактату о знаменитых мужах античности и делал к
нему первые наброски, составлял и редактировал избранное из
своих сонетов и т.д.
17. Василий Великий (329-379) — архиепископ Кесарий-
скцй, один из вселенских отцов и учителей церкви. В
молодости некоторое время провел в аскетическом уединении,
потом был поборником создания монастырей. Имел
блестящее образование, был автором многих трудов, в том числе —
об уединении.
18. Петр Дамиани (1007-1072) — кардинал, один из
видных идеологов аскетизма, в молодости вел жизнь
отшельника, изумляя ее строгостью даже испытанных монахов. Один
из немногих средневековых авторов, время от времени
вспоминаемых Петраркой.
19. Петрарка имеет в виду папскую курию, пребывавшую
тогда в Авиньоне. Гуманист болезненно переживал
переселение престола из Рима в Авиньон, приведшее к упадку не
только Вечного города, но и самих нравов церкви. Чаще
всего он называет Авиньон «Вавилоном», сравнивает его с
адом, безысходным лабиринтом и пр. Много раз поэт пишет
о том, что папская курия его времени не имеет права
называться римской, дабы не позорить славное имя.
20. Петрарка обозначает словом «занятый» (occupatus)
суетного, заботящегося о собственной пользе, вечно задавлен-
406 Комментарии
ного мелкими и крупными хлопотами, мирской суетой
человека, одновременно транжирящего время на попойки,
женщин, низменные увеселения и т.д.
Это понятие Петрарка позаимствовал из писем Сенеки к
Луцилию. 'Занятому противопоставляется «склонный к
уединению» («живущий в уединении»).
21. Клиентела и патронат — в древнем Риме отношения
между патрициями и зависевшими от них людьми; патрон
покровительствовал и помогал клиентам, а они
поддерживали патрона при соискании государственных должностей.
Впоследствии — отношения между вольноотпущенником и
его бывшим хозяином или между полководцем и
завоеванным народом. Во времена Петрарки клиентом могли назвать
любое лицо, обратившееся к власть имущему с делом или
просьбой.
22. Петрарка происходил из семьи флорентийского
нотариуса, который вынужден был бежать из города и Италии
вообще после политического поражения партии белых
гвельфов, к которой принадлежал. Петрарка родился в
изгнании и долгое время прожил в Авиньоне или неподалеку
от него — сначала с родителями, после их смерти — один.
Но Италию он всегда считал родиной, в 1353 году вернулся
туда и оставался там до конца дней.
23. Оратай — пахарь, земледелец.
24. «Третьи молитвы» — по каноническим правилам в
первых молитвах прославляется Бог Отец, во вторых —
Христос, в третьих — Святой Дух, т.е. все ипостаси Троицы. По
времени третья молитва падает на 9 часов утра.
25. Речь идет о словах римского сатирику Ювенала (ок. 60-
127): «Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом»
(Сат. X, 356).
26. Этот эпизод напоминает описание обеда у некоего
Насидиена в сатире Горация: «...вдруг балдахин над гостями
с облаком пыли, как будто воздвигнутой северным ветром, с
треском на блюда упал».
27. Петрарка перечисляет области, славившиеся лучшими
сортами вин: Кносс — древний город на о. Крит; Мероя (Ме-
роэ) — древний город в Северо-Восточной Африке; Везувий —
вулкан на юге Италии, близ Неаполя, нижние части склонов
которого заняты садами и виноградниками; Фалерно —
винодельческая область в Кампании (Северная Италия),
производившая лучший сорт италийского вина; Суррентийские
холмы, Калабрийские холмы — на юге Италии; «авзоний-
ское вино» — т.е. италийское; «иблийский мед» —
собранный с цветов на сицилийской горе Ибла.
Комментарии 407
28. Речь идет о фазанах, название которых происходит от
реки Фазис в Колхиде (современной Западной Грузии).
29. Приведены строки из «Метаморфоз» Овидия, I, 19-20.
30. Имеются в виду змеи с двумя наростами на голове; о
подобных змеях рассказывает Геродот (Ист. II, 74).
31. Л ар — шкафчик, в котором находились изображения
древнеримских божеств-покровителей дома — Ларов;
считалось, что они присутствуют при каждой трапезе и всех
домашних делах.
32. Лигурия — область в северной Италии, предгорья
которой до сих пор славятся лучшими сортами винограда; Пи-
цен — область в восточной Италии, современная Марке.
33. Вергилий описывает старика, который владел
«...самым
Скромным участком земли заброшенной, неподходящей
Для пахоты, непригодной для стад, неудобной для Вакха.
Малость все ж овощей меж кустов разводил он, сажая
Белые лилии в круг с вербеной, с маком съедобным —
И помышлял, что богат, как цари!»
(Георгики, IV, 128-132)
34. Ср.: Цицерон. О старости, XXIII, 35.
35. Амвросий (340-397) — епископ миланский, один из
отцов церкви, автор многих сочинений по христианской
морали, которые нередко вспоминаются и цитируются
Петраркой. В данном случае — «De Elia et jeiuno, Vili», 25 (Patr.
lat., 14, col. 740).
36. Петрарка напоминает о народной этимологии:
«prandium» от «parando» (Исидор Севильский. Этимологии,
XX, 2, 11).
37. Приведены строки Ювенала (Сат. XIV, 176-177).
38. Фурии — богини мщения, изображались со змеями в
волосах, факелами и бичами, которыми они гонят
виновных; Ахеронт (Ахерон) — в греческой мифологии одна из
рек в подземном царстве, через которую переправлялись
души мертвых; Ночь — подземное царство.
39. Петр — один из апостолов, особенно сильно
привязанный к своему Божественному учителю; Христос удостоил
его особенной дружбы.
40. Нис и Эвриал — юноши из поэмы Вергилия «Энеида»:
«С Нисом был Эвриал; ни в рядах энеадов, ни прежде
Воин такой красоты не носил троянских доспехов.
Юность лишь первым пушком ему отметила щеки.
Общая их связала любовь...»
Эн. IX, 179-182.
408 Комментарии
41. Строка из поэмы Вергилия «Георгики», II, 504
42. Строка из сатиры Ювенала, V, 2
43. Послание апостола Павла к коринфянам, I, 9, 7.
44. В трактате «О старости» Цицерон пишет:
«Земледелец, как бы стар он ни был, на вопрос, для кого он сажает,
ответит без всяких колебаний: "Для бессмертных богов,
повелевших мне не только принять это от предков, но и
передать потомкам"» (О старости, VII, 25).
45. Валерий Максим (первая половина I в. н.э.) —
римский писатель, известный по морально-философскому
трактату «Достопримечательные деяния и высказывания».
46. Цицерон. Об обязанностях, III* 5, 25.
47. Ювенал. Сатиры, II, 19-30.
48. Сенека. Письма к Луцилию, 53, 9.
49. Сенека. Письма к Луцилию, 55, 8.
50. Сенека. Письма к Луцилию, 51, 4.
51. Сенека. Письма к Луцилизо, 28, 6.
52. Сенека. Письма к Луцилию, 55, 8.
53. Овидий. Метаморфозы, II, 642.
54. Цицерон. Тускуланские беседы, V, 36, 105.
55. Сенека. Письма к Луцилию, 82, 4.
56. Каусйдик (лат.) — адвокат, стряпчий, поверенный в
делах. К сожалению, о ком именно идет речь, определить не
удалось.
57. Ксенофонт (430-355 до н.э.) — греческий историк и
писатель, ученик Сократа. В числе прочих сочинений ему
принадлежит сочинение «Меморабилии», или
«Воспоминания о Сократе», где Сократ изображен как превосходный
наставник и гражданин. Петрарка ссылается на трактат
Цицерона «Об обязанностях» (I, XXXII, 119), где говорится:
«Геркулес в юности... удалился в пустынную местность и, сидя там и
видя перед собой две дороги, одну — Наслаждения, другую —
Доблести, долго раздумывал, по какой ему лучше пойти».
58. Теренцйй Афр (190-159 до н.э.) — римский
комедиограф. Петрарка упоминает старика Демею из комедии Терен-
ция «Братья»; этот грубый, скупой и угрюмый старик решил
в старости исправиться и взять примером поведение своего
кроткого и благородного брата Микиона.
59. Эти слова Петрарка цитирует из биографии Августа,
изложенной Светонием в сочинении «Жизнь двенадцати
Цезарей» (Август, 25, 4).
60. Слова Платона приводит Цицерон в трактате «О
пределах добра и зла» (V, 21, 58).
Комментарии
409
61. Петрарка говорит о своей «скромной образованности»
как из приличия, так и потому, что схоластического
университетского курса права в Болонье он не завершил: занятия
юриспруденцией уступили место поэзии. На самом деле^ он
был одним из блестяще образованных людей своего века,
подтверждением чему послужил диплом профессора
поэтических наук и истории, врученный ему на Капитолии при
увенчании поэтическими лаврами (1341).
62. «Болтливыми учителями» (loquaci doctore) Петрарка
постоянно называл представителей схоластической учености,
«диалектиков». Он считал, что они занимаются «ребяческим
вздором и калечат благородные умы молодежи» (Петрарка Ф.
Моя тайна, I // Петрарка Ф. Избранное. М., 1974. С. 62-63).
63. Портик —■ открытая с одной стороны галерея на
колоннах; в римской архитектуре встречалась очень часто.
Портики обычно были местом прогулок и общения, поэтому
в данном контексте уединение противопоставлено портикам.
Бани (термы) в Риме служили не только для купанья, но
и дня встреч со знакомыми; при банях были залы для
занятий гимнастикой, библиотеки.
64. Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35-100) — римский
оратор, учитель риторики; является автором большого
теоретического трактата «Наставление оратору», откуда Петрарка
взял данную цитату (X, 3, 27-30).
65. Петрарка заполучил в руки список трудов Квинтилиа-
на только в 1350 году, он вставил цитату из него в уже
написанный трактат «Об уединенной жизни». В его словах
сквозит внутреннее удовлетворение тем, что удалось отыскать и
ввести в литературный оборот прежде недоступные сочинения.
66. Сенека. Письма к Луцилию, 56, 15.
67. Это слова из 18-го псалма (стих 13), прославляющего
Бога, Который дал человеку нравственный закон выше всех
земных сокровищ.
68. Книга Иова, IX, 21: «Невинен я; не хочу знать души
моей, презираю жизнь мою».
69. Псалом CXLIV, 9.
70. Псалом CXLIV, 14.
71. Псалом CXLIV, 18.
72. Псалом СП, 10-12.
73. Псалом СП, 13.
74. Псалом СП, 15: «Дни человека как трава; как цвет
полевой, так он цветет».
75. Книга Иова, XIV, 2: «Как цветок, он выходит и
опадает; убегает, как тень, и не останавливается».
410 Комментарии
76. Псалом СП, 17: «Милость же Господня от века и до
века к боящимся Его».
77. Плотин (204-270) — греческий философ, основатель
неоплатонизма. В частности, учил, что смысл человеческой
жизни — отказ от телесных желаний. Очищение от
материального включает в себя все добродетели и должно
освободить душу для ее главного назначения — мышления и
познания. Душа, в конце концов, должна достичь высшей цели
своего развития — слияния с божественным.
Макробий (V в.н.э.) — латинский писатель; в сочинении
«Сон Сципиона», представляющем собой комментарий к
философским трактатам Цицерона и написанном в духе
неоплатонизма, Макробий говорит о таком же разделении
добродетелей, что и Плотин.
78. Платон (427-347 до н.э.) — великий греческий
философ-идеалист. Основными предметами платоновской
философии являются учение о государстве, теория идей, этика и
гносеология. Ядром платоновской философии является
учение об идеях. Согласно этому учению, телесные вещи
непрерывно возникают и погибают, в них нет ничего
постоянного, совершенного и истинного. Все чувственные вещи
обязаны своим причинам, которые Платон называет идеями; идеи
— это бестелесные формы вещей, которые не
воспринимаются чувствами, а постигаются только умом.
79. Курия — общее название высших учреждений по
управлению церковью при римском папе.
Форум — городская площадь, центр политической и
культурной жизни римского города. Петрарка, конечно,
имеет в виду центр современного ему города.
80. Ср. Псалом L, 12: «Сердце чистое сотвори мне, Боже...»
81. Имеются в виду слова апостола Павла: «Мы же,
будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и
любви и в шлем надежды и спасения» (Первое послание к
фессалоникийцам, V, 8).
82. Принцепс (первый) — во времена древнего Рима
сенатор, стоящий первым в списке сената. Петрарка часто прилагает
этот термин к королям, императорам, правителям городов.
83. Иерусалим — столица Иудеи; в переносном значении
употребляется для изображения небесного Иерусалима,
царства святых на небе (Апокалипсис, III, 12).
Сион — холм в Иерусалиме, где находился
Иерусалимский храм; в переносном значении так называется Церковь,
как земная, так и небесная (Апокалипсис, XIV, 1).
Вавилон — город на берегу Евфрата, столица Халдеи; в
Священном Писании употребляется для обозначения
царства антихриста (Апокалипсис, XIV, 18, 19).
Комментарии 4П
84. «Да найдет на них смерть; да сойдут они живыми в
ад...» (Псалом 54, 16).
85. Псалом CXXXVIII, 8-9.
86. Исход XIV, 15.
87. Эпикур (341-270 до н.э.) — древнегреческий филосов-
материалист. Учение Эпикура о природе объясняет
образование мира в процессе столкновения атомов и дает
натурфилософское обоснование свободы воли. Это учение
направлено на организацию практической деятельности, которая
должна освободить людей от религии. Можно предположить,
что именно это положение неприемлемо для Петрарки.
88. Цицерон. Письма к брату Квинту, I, 1, 46.
89. Сенека. Письма к Луцилию, 25, 5.
90. Сенека. Письма к Луцилию, 25, 6.
91. Сенека. Письма к Луцилию, 25, 6. Катон — см. комм. 7.
Сципион — Публий Сципион Африканский Младший
(185-129), римский полководец и государственный деятель.
92. Эпикур — см. комм. 87.
93. Сенека. Письма к Луцилию, 11, 89.
94. Сенека. Письма к Луцилию, И, 10.
95. Цицерон. Тускуланские беседы, I, 16, 37.
96. Августин Аврелий (354-430) — один из самых великих
отцов церкви и любимых христианских писателей Петрарки.
Он сотни раз цитирует произведения Августина, в том числе —
и «Об истинной религии». В этом трактате, написанном в
390 году, излагаются основные моменты христианского
вероучения и различные доказательства его истинности.
97. Цицерон. Тускуланские беседы, I, 16, 38.
98. Марк Порций Катон Утический (95-46 до н.э.) —
приверженец стоического учения; противник единовластия, в
частности, выступал против Цезаря. Когда началась
гражданская война, бежал в Северную Африку, где после поражения
при Тапсе покончил с собой, бросившись на собственный меч.
99. Ср.: Данте, Божественная комедия. Рай, I, 5-6:
Я в небо восходил, и горних высота
Была открыта мне; там созерцал я чудо,
Но передать о нем бессильны тех уста,
Кто, лицезрев его, спускается оттуда.
(пер. МЛозинского)
100. Ср.: Августин. Исповедь, I, 1: «И не знает покоя
сердце наше, пока не успокоится в Тебе».
101. Послание апостола Павла к римлянам, XTV, 7-8.
102. Аполлон — греческий бог солнечного света; являлся
также богом гармонии и искусств, прежде всего музыки и
412 Комментарии
пения; исцелял от болезней. Эскулап —• заимствованный
римлянами греческий бог врачевания Асклепия. Сатурн —
римский бог земледельцев и урожая. Либер — в Древней Италии
бог, отождествляемый с греческим богом виноделия
Дионисом. Церера — италийско-римская богиня полей, земледелия
и хлебных знаков. Вулкан — римский бог огня и кузнечного
ремесла. Осирис — египетский бог мертвых и бог
плодородия. Минерва — римская богиня искусств и талантов,
покровительница ремесел; под ее опекой находились
ремесленники, учителя, актеры и врачи.
103. Петрарка имеет в виду эпизод, описанный Вергилием:
Ибо преданье гласит: когда Ипполита сгубили
Мачехи козни и месть отца, когда растерзали
Тело его скакуны, в исступленном летевшие страхе,
Вновь под небесный свод и к светилам эфира вернулся
Он, воскрешен пеана травой и любовью Дианы.
Но всемогущий отец, негодуя на то, что вернулся
Смертный из царства теней к сиянью сладкому жизни,
Молнию бросил в того, кто лекарство создал искусно,
Неборожденного сам к волнам стигийским низринул.
(Энеида, VII, 765-733)
104. Мета — столбик, стоящий на поворотах беговой
дорожки стадиона, вокруг которого соревнующиеся должны
были сделать левый поворот.
105. Ср. Гораций: «Я создал памятник долговечнее меди».
106. Аристотель (384-322 до н.э.) — греческий философ,
ученый-энциклопедист; «Метафизика» — трактаты
Аристотеля по онтологии и теории познания. Петрарка упоминает
слова Аристотеля о том, что «математические искусства
образовались прежде всего в области Египта, ибо там было
предоставлено классу жрецов время для досуга»
(Метафизика, 1,98 lb).
107. Тимей (время жизни неизвестно) — пифагореец из
Лакр; его именем назван один из диалогов Платона.
108. Платон. Тимей, 28а.
109. Квинтилиан. Наставление оратору, X, 3, 22-25.
ПО. Демосфен (384-322 до н.э.) — афинский оратор и
политический деятель. Желая исправить недостатки
произношения, Демосфен уединятся и несколько часов в день
занимался исправлением неясных звуков в своей речи или, гуляя
по берегу моря, громко читал стихи, стараясь заглушить шум
ветра и волн.
111. Квинтилиан. Наставление оратору, X, 3, 2.
112. Цицерон. О законах, I, 4, 14.
Комментарии 413
113. Петрарка намекает на то, что Цицерону не всегда по
своей воле приходилось уединяться и заниматься. В 47 г. до
н.э. после победы Цезаря Цицерон оказался отстраненным
от государственных дел, был вынужден уединиться в своем
поместье, где он написал ряд сочинений по риторике и
философии.
114. Алексис — персонаж второй эклоги Вергилия.
115. Об этом рассказывает Цицерон (О законах, I, 5, 15).
116. Киприан (III в. н.э.) — один из отцов церкви; в 248
году, избранный епископом Карфагена и преследуемый
императором Децием, удалился на время в пустыню, откуда
наставлял свою паству в посланиях.
117. Augustinus. De doctrina Christiana (Patr. lat, t. 34, col. 103).
118. Сенека. Письма к Луцилию, 25, 5:
«Одиночество для нас — самый злой советчик».
119. Сенека. Письма к Луцилию, 10, 2:
«Обычно мы стережем тех, кто в горе или в страхе, чтобы
не дать им использовать во зло свое одиночество. Да и
никого из людей неразумных не следует предоставлять самим
себе: тутг-то и обуревают их дурные замыслы, тут и готовят
они опасности себе и другим, тут к ним и приходят чередой
постыдные вожделения. Тут-то все, что стыд и страх
заставляет скрывать, выносится на поверхность души, тут-то она и
оттачивает дерзость, подхлестывает похоть, горячит
гневливость. Есть у одиночества одно преимущество: возможность
никому ничего не открывать и не бояться обличителя; но
это и губит глупого, ибо он выдает сам себя».
120. Сенека. Письма к Луцилию, 10, 1.
121. Петрарка явно намекает на Филиппа де Кабассоля.
122. Цицерон. О дружбе, XXIII, 87:
«...Если бы кто-нибудь отличался таким суровым и диким
нравом, что избегал бы общения с людьми... то такой
человек все-таки не утерпел бы, чтобы не поискать кого-нибудь,
перед кем он мог бы извергнуть ад своего озлобления».
123. Цицерон. О дружбе, XXIII, 83; Архит Тарентский
(400-365 до н.э.) — философ и политический деятель, один
из представителей пифагорейской школы.
124. Цицерон. Об обязанностях, I, 64, 158.
125. Тиберий Клавдий Нерон (42 до н.э. — 37 н.э.) —
римский император; имея крайне нелюдимый и
подозрительный характер, покинул Рим и уехал на остров Капри,
где, «пользуясь свободой уединения, словно недосягаемый
для взоров общества, он разом дал полную волю всем своим
кое-как скрываемым порокам» (Светоний. Жизнь
двенадцати Цезарей, III, 42).
414 Комментарии
126. Сервилий Ватия — богатый римлянин, по
выражению Сенеки, «ничем, кроме безделья, не знаменитый»; в
старости он жил в своей вилле недалеко от Кум, вдали от
всех треволнений бурной политической жизни. Сенека
пишет о нем: «Люди восклицали: "О Ватия, ты один умеешь
жить!" А он умел не жить, а прятаться. Ведь жить свободным от
дел и жить в праздности — не одно и то же. При жизни Ватии я
не мог пройти мимо этой усадьбы и не сказать: "Здесь покоится
Ватая"». (Сенека. Письма к Луцилию, 55, 3-4).
127. Вергилий. Энеида, I, 203.
128. Вергилий. Энеида, III, 282-283.
129. Эней — троянский герой, отправившийся после
падения Трои в Италию и претерпевший много бед во время
странствий.
130. Вергилий. Энеида, VI, 694.
131. «Стыдно, безобразно и жалко» (priget, taedet e poeni-
tet) — типичный пример конструкции с безличными
глаголами из средневековых учебников грамматики, который
авторы приводили очень часто. У Петрарки — намеренно
привлечен для характеристики состояния души «занятого».
132. Теренций. Евнух, 73.
133. Сенека. Письма к Луцилию, 9, 22.
134. Сенека. Письма к Луцилию, 9, 22.
135. Augustinus. De vera religione, LUI, 102 (Patr. lat., t. 34,
col. 168).
136. Augustinus. De vera religione, LVI, 104 (Patr. lat., t. 34,
col. 168).
137. Сенека. Письма к Луцилию, 71,3.
138. Гораций. Наука поэзии, 158-160:
Мальчик, который едва говорить и ходить научился,
Любит больше всего возиться среди однолетков,
То он смеется, то в плач, что ни час, то с новою блажью.
139. Квинтилиан. Наставления оратору, X, 2, 9-10.
140. По словам Цицерона, Платон считал, что, когда
меняются мелодии музыкантов, изменяется состояние
государства (Цицерон. О законах, III, 14, 32).
141. Арунтий — римский историк, подражающий
знаменитому историку Саллюстию, жил при Августе. Сенека
пишет о нем: «Арунтий... был саллюстианцем и очень
усердствовал в этом. У Саллюстия сказано: "Серебром сделал
войско", то есть набрал его за деньги. Это полюбилось Арун-
тию, и он начал на каждой странице писать так же» (Сенека.
Письма к Луцилию, 114, 17).
Комментарии 415
142. Ювенал. Сатиры, I, 147-149:
Нечего будет прибавить потомству к этаким нравам
Нашим: такие дела и желанья у внуков пребудут.
Всякий порок до предела дошел.
143. Книга царств, II, 10, 4:
«И взял Аннон слуг Давидовых, и обрезал одежды их
наполовину, до чресл, и отпустил их».
144. Аристотель. Этика, 1098 А, 7.
145. Евангелие от Матфея, XV, 14:
«Оставьте их: они слепые вожди слепых; а если слепой
ведет слепого, то оба упадут в яму».
146. Книга Иова, VII, 2-4.
147. Ср.: Сенека. Письма к Луцилию, I, 2:
«Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто
знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с
каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы видим
впереди; а большая часть ее у нас за плечами — ведь сколько
лет жизни минуло, все принадлежит смерти. Поступай же
так, мой Луцилий: не упускай ни часу. Удержи в руках
сегодняшний день — меньше будешь зависеть от завтрашнего».
148. Цицерон. О старости, 2, 5.
149. «Я знаю человека» — слова из Второго Послания
апостола Павла к коринфянам (2 Кор., 12, 2). Петрарка
имеет в виду себя.
150. Речь идет о Сципионе Африканском, которому было
поручено взять осадой испанскую крепость Нуманцию в 133 до
н.э. Прибыв в лагерь, Сципион увидел, что войско
«превратилось в настоящий сброд беспутной сволочи». Поэтому,
прежде чем думать о военных действиях, Сципион стал
восстанавливать порядок и дисциплину. (Валерий Максим, II, 7, 1).
151. Гораций. Оды, III, 24, 50-54.
152. Этна — самый высокий действующий вулкан
Европы, в Италиц, о.Сицилия.
О СРЕДСТВАХ
ПРОТИВ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Трактат посвящен Аццо да Корреджо, другу Петрарки с
юности, постоянному спутнику поэта в путешествиях. Аццо
да Корреджо и его братья в 1340 году стали правителями
416 Комментарии
Пармы, как их назвали тогда, «тиранами». Петрарка жил у
них почетным гостем в 1343-1345 годах. К середине 1344 года
политическая обстановка в Парме и вокруг нее стала сгу-
щаться, ее правители оказались в серьезных затруднениях.
Город был осажден войсками маркиза Феррары и
миланского архиепископа. К февралю 1345 года дело приняло такой
оборот, что Петрарка в одну из ночей бежал из Пармы. А
судьбы его правителей сложились весьма драматично, о чем
гуманист и рассказывает в предисловии.
2. Марк Брут (85-42 до н.э.), политический деятель
римского государства, активно переписывался с Цицероном и
другими видными людьми своего времени; Аттик Тит Пом-
поний (110-32 до н.э.), богатый и влиятельный римский
всадник, также переписывался с Цицероном и много лет
дружил с ним; переписывался он и с Марком Брутом.
3. Гораций. Оды, III, 27; 74-75.
4. Петрарка говорит, очевидно, о «Предисловии», сам
трактат писался свыше десяти лет, с 1354 по 1366.
5. Среди самых громких можно назвать пленение
французского короля Иоанна Доброго в битве при Пуатье в 1356
году во времена Столетней войны. Петрарка не раз писал об
этом событии.
6. Марий Гай (156-86 до н.э.), римский полководец и
политический деятель; по политическим мотивам вынужден
был бежать в Африку и некоторое время выжидал там
перемены обстоятельств; Помпеи Великий (106-48 до н.э.),
римский полководец и государственный деятель; после многих
успехов на общественном поприще по политическим
причинам бежал в Египет, где был предательски убит по приказу
правителя этой страны.
7. Вергилий. Энеида, VI, 103-105.
КНИГА ПЕРВАЯ
I. О ЦВЕТУЩЕМ ВОЗРАСТЕ И НАДЕЖДЕ
НА БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
1. «Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей
крепости — восемьдесят лет» (Псалом LXXXIX, 10).
2. «Приходит время, и довольно быстро, будешь ли ты
медлить или спешить; ведь возраст летит» (Цицерон. Туску-
ланские беседы, I, 31, 76).
3. Петрарка приводит слова Вергилия о голубке, которая
«в безмятежном эфире, не шелохнувши крылом, летит
спокойно и плавно» (Вергилий. Энеида, V, 216-217).
И. ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЕ ТЕЛА
1. Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан, 18, 2.
2. Апулей (125-170 н.э.) — римский писатель,
родившийся в маленьком городке Мадавре в Северной Африке.
3. Спурина — этрусский гадатель, предсказавший Цезарю
гибель в мартовские иды.
4. Вергилий. Энеида, V, 344.
IX. О КРАСНОРЕЧИИ
1. Крисп — Гай Саллюстий Крисп (86-34 до н.э.),
римский историк, автор «Заговора Каталины». В этом
сочинении излагается история заговора, организованного римским
патрицием Луцием Сергием Каталиной, замышлявшим
силой захватить консульскую власть в Риме. В течение 63-62 гг.
его деятельность лихорадила римско-италийское общество.
Свои авантюристические личные планы Каталина
прикрывал демагогическими речами и обещаниями отменить долги,
чем привлек на свою сторону немало людей. «Злодеем»
Петрарка называет как раз Каталину.
2. Цицерон — Марк Туллий Цицерон (106-43 до н.э.),
оратор, юрист, философ, писатель, политик. Один из
создателей и классиков латинского литературного языка. Написал
три трактата об ораторском искусстве: «Об ораторе», «Брут»,
«Оратор»,,множество речей и писем.
Катон — Марк Порций Катон Старший (234-149 до н.э.).
Римский государственный деятель, военачальник, писатель,
основоположник римской литературной прозы. Автор
множества речей и писем, собрания изречений знаменитых
людей; защитник строгих древнеримских нравов.
3. «Риторика» — одно из сочинений об ораторском
искусстве Марка Туллия .Цицерона.
4. Демосфен — древнегреческий оратор (ок. 384-322 до
н.э.), политик. Изучив ораторское искусство, преподавал
риторику, принимал участие в судебных процессах. Много раз
его красноречие служило гражданам, но враждебная партия
вынудила оратора бежать на остров, где он и принял яд;
Цицерон (см. комм. 3) был убит противниками
республиканских порядков/ когда он хотел бежать из враждебного Рима;
Антоний — Марк Антоний, один из первых римских
ораторов (143-87 до н.э.), активный политический деятель; в
период установления диктатуры Суллы примкнул к его партии,
за что и был убит противниками диктатора.
I4 245S
418 Комментарии
XI. О МНЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОБРОДЕТЕЛИ
1. Книга притчей Соломоновых, XXII, 1; Экклезиаст, VII, 1.
XIII. О РЕЛИГИИ
1. Книга притчей Соломоновых, I, 7.
2. Имеется в виду сочинение латинского христианского
автора начала IV в. н.э. Люция Целия Фирмианта Лактанция
(ок. 250 — после 325) «Божественные установления», в
котором он пытался систематизировать основы христианского
учения.
3. Гермес —- имеется в виду Гермес Трисмегист (трижды
величайший), которого неоплатоники считали мудрецом,
составлявшим книги о магии и религиозных таинствах.
4. Асклепий — греческий бог врачевания.
XIV. О СВОБОДЕ
1. Сенека. Письма к Луцилию, XLVII, 12; Гекуба — жена
троянского царя Приама, после падения Трои, будучи уже в
преклонном возрасте, попала в плен к ахейцам и стала
рабыней; Крез (ок. 560-546 до н.э.) — царь Лидии; был взят в
плен царем персов Киром; мать персидского царя Дария III
по имени Сизигамбида (Сисигамбия) была взята в плен
Александром Македонским после битвы при Исе в 33 г. до
н.э.; Платон (427-347 до н.э.), греческий философ-идеалист;
во время пребывания в Сицилии навлек на себя гнев тирана
Дионисия за то, что пытался осуществить проект своего
утопического государства, и был продан в рабство. Первый
хозяин перепродал Платона, второй — немедленно освободил;
Диоген (ок. 412-324 до н.э.), греческий философ-киник;
глубоким стариком был захвачен пиратами и продан в рабство
богатому коринфянину Ксениаду, который приставил его
воспитателем к детям. Впоследствии был отпущен на волю.
2. Регул Марк Атиллий, римский консул в 267 и 256 до
н.э. При высадке римских войск в Африке в 255 до н.э.
попал в плен и стал рабом.
3. Валериан Публий Лициний (ок. 193 — после 260),
римский император с 253 по 259. Безуспешно пытался отражать
нападения персов на Каппадокию и Сирию, потерпел поражение
от персидского царя Шапура I и попал в плен. Умер в темнице.
4. Персии (212-168 до н.э.), последний царь Македонии,
был разбит Эмилием Павлом и умер в плену; Сифак, нуми-
дийский царь. Был захвачен в плен римлянами во время
Комментарии 419
пребывания их войск во главе со Сципионом Старшим в
Северной Африке. Умер в 203 г. до н.э.; Югурта (ок. 160-104 до
н.э.), царь Нумидии. Вел войну с Римом. (115-105 до н.э.),
после поражений бежал к своему тестю, но был им выдан,
привезен в Рим и там казнен.
5. Это высказывание Платона Петрарка мог почерпнуть
из письма Сенеки (Сенека. Письма к Луцилию, XLIV).
6. Древнегреческие города Лакедемон (Спарта) и Афины
знали периоды тиранического правления («ярма своих
граждан»), с 146 г. до н.э. они попали под власть римлян; Спарта
была разрушена готами в 395 году н.э.
7. Иерусалим — город на юге Палестины, в древности —
столица Израильско-Иудейского царства. Позднее в разное
время им владели Александр Македонский, государство Се-
левкидов, Древний Рим, Византия, Арабский халифат,
крестоносцы, государство Аюбидов («египтян») и др.
XV. О ПРОСЛАВЛЕННОЙ РОДИНЕ
1. Вергилий. Энеида, VI, 845 и далее.
2. Каталина (108-62 до н.э.), римский патриций,
составивший заговор с целью захвата власти в Риме. После
неудавшегося покушения на Цицерона бежал из Рима, собрал
войско своих сподвижников и погиб, сражаясь против
консульского войска.
3. Гай, имеется в виду римский император Калигула (12-42
н.э.), известный жестокостью, расточительностью, склонностью
к низким страстям. Был убит заговорщиками.
4. Нерон (37-68 н.э.), один из самых жестоких римских
императоров.
5. Фемистокл (524-459 до н.э.), афинский
государственный деятель и полководец; особенно прославился созданием
флота и победой над персами в сражении при Саламине в
480 году до н.э.
6. Платон (427-347 до н.э.), выдающийся греческий
философ-идеалист.
7. Сократ (469-399 до н.э.), древнегреческий философ,
считал главной задачей философии нравственное
воспитание человека; был в высшей степени бескорыстен, тверд
характером, патриотичен; имел много прославивших его
школу и имя учеников. В последующие века считался идеальным
образцом мудреца.
8. Пифагор (540-500 до н.э.), греческий
философ-идеалист. В числе прочих теорий ему приписывается учение о
14*
420
Комментарии
переселении душ. Человеческие души суть частицы небесной
эфирной души. В виде наказания они заключены в земные
тела и вынуждены переселяться из одного тела в другое,
пока не очистятся и не сольются со своим первоисточником.
9. Гомер (VIII в. до н.э.), самый знаменитый греческий
поэт, автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Родина
его неизвестна, многие города спорили за честь называться
родиной Гомера.
10. Демокрит (460-371 до н.э.), греческий
философ-материалист; родиной его был фракийский город Абдера.
11. Анаксагор (ок. 500-428 до н.э.), греческий философ-
материалист; родился в Малой Азии, в городе Клазомены.
12. Аристотель (384-322 до н.э.), греческий философ и
ученый-энциклопедист из города Стагиры.
13. Афины, главный город в Аттике, родина многих
выдающихся людей.
14. Фивы, город в Беотии; афиняне считали беотийцев
грубыми, необразованными людьми.
15. Пиндар (ок. 522-446 до н.э.), знаменитый греческий
поэт, представитель хоровой лирики; родился недалеко от Фив.
16. Гораций. Оды, IV, 2, 2.
17. Либер — один из греческих богов, отождествляемый с
Дионисом. Этот бог вина, веселья и плодородия сначала
заставил признать себя в Греции, потом — у варваров и
добрался до отдаленной Индии. Сказание о последнем,
похоже, сложилось уже после времен Александра Македонского
как бы в виде мифического прообраза похода великого
полководца. Родиной Диониса считалась Беотия.
18. Геркулес (Геракл) — герой древнефеческой мифологии,
высший идеал геройской силы. Почти все земли были
поприщем его деяний и подвигов, а также военных походов. Родина
Геракла — Фивы; Геракл был причислен к олимпийским богам.
19. Александр Македонский (356—323 до н.э.) — полководец
и государственный деятель древнего мира, царь Македонии,
сумевший при помощи оружия создать огромную державу.
20. Эпаминонд (418-352 до н.э.) — фиванский
полководец, нанес поражение спартанцам при Левктрах (371) и при
Мантинее (362); в последней битве был смертельно ранен.
Был философски образован.
21. Алкивиад (ок. 450—404 до н.э.) —- фиванский
полководец и военный деятель древних Афин. Был учеником
Сократа. Рано вступил на политическое поприще. Крайне
честолюбивый, Алкивиад часто менял политическую ориентацию;
будучи обвинен в кощунстве, бежал из города и предложил
спартанцам план ведения войны против Афин. Был убит.
Комментар
22. Критий (ок. 460—405 до н. э.) — афинский политический
деятель из знатного аристократического рода. Ученик Сократа.
Возглавлял в Афинах олигархическую коллегию «фидцати
тиранов». Проводил политику кровавых расправ и конфискаций.
Известен также как философ, оратор, писатель.
23. Территория Рима с древности включала в себя семь
холмов на левом берегу Тибра: Палатин, Эсквилин, Авентин,
Квиринал, Виминал, Целий и Капитолий. Авентин и Квири-
нал — на противоположных сторонах города.
24. Форумом в древнем Риме называли общую площадь
между холмами, ставшую центром общественной и
политической жизни, местом собраний. Карины — склон Вими-
нальского холма.
25. Клавдии — род римских патрициев. В 504 году Аппий
Клавдий переселился из сабинского города Регул в,Рим и
получил звание патриция. Среди Клавдиев былц консулы,
цензоры, писатели, трибуны, императоры..
26. Марк Катон (234-149) — см. комментарий 2 к диалогу
IX. Переселился из Тускулума в Рим; был консулом и
цензором. Непреклонный враг Карфагена, каждую речь в сенате
заканчивал фразой: «И все-таки я полагаю, Карфаген
должен быть разрушен».
27. Марий — знаменитый полководец (156—86 до н.э.) из
Арпин. В Риме получил звание патриция. Победитель Югур-
ты, тевтонов, кимвров; семь раз избирался консулом, был
главой народной партии, противником римского диктатора
Суллы. Один из любимых Петраркой римских деятелей.:
28. Нума Помпилий (715-673/672 до н.э.) — согласно
античной традиции, второй царь древнего Рима. Сабинянин
из города Куры.
29. Сенека — Луций Анней Сенека, род. ок. 4 н.э. в
городе Кордуба (Кордова) в Испании. Переселившись в Рим,
становится политическим деятелем, писателем, философом-
стоиком. Умер в Риме в 65 н.э.
30. Север — римский император Септимий Север (146-
211), родился в Малой Азии.
XVI. О РОДОВИТОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
1. Цезарь (100-44 до н.э.) — знаменитый римский
политический и военный деятель, писатель, оратор, историк;
разносторонне образованный человек. Вел войны против галлов
и германцев; правил в Галлии и Иллирии, потом стал
римским диктатором и императором. Автор «Записок о
галльской войне» и «Записок о гражданской войне». Отец его —
422 Комментарии
Гай Юлий Цезарь — совершенно заурядная личность,
претор; умер, когда сыну шел шестнадцатый год.
Сципион Африканский Старший (ум. в 183 до н.э.) —
римский полководец, в двадцать лет возглавил войну за подчинение
Испании; разбил карфагенские войска в Африке (в период 2-й
Пунической войны), за что и получил титул «Африканский».
Один из любимых военных деятелей Петрарки, которому
гуманист посвятил специальное сочинение «Африка».
О сыне Сципиона Старшего известно лишь, что его звали
Публий и что он усыновил будущего знаменитого
полководца Сципиона Африканского Младшего (см.: Евтропий.
Сокращение римской истории, III, 9).
3. Это высказывание платоников повторяет римский
философ Сенека в письме к Луцилию, 44 (см.: Сенека.
Избранные письма к Луцилию / Пер. П.Краснова. СПб., 1893).
4. Марий — см. коммент. 27 к диал. XV. Гай Марий
родился возле небольшого города Арпина (Плутарх.
Сравнительные жизнеописания, Марий, 111).
5. Туллий — Марк Туллий Цицерон — см. коммент. к
диал. IX. Родился близ Арпина.
6. Авл — Авл Помпоний, трибун; пытался помешать
жрецу, когда тот хотел истолковать благоприятное знамение в
пользу Мария (Плутарх. Сравнительные жизнеописания,
Марий, XVII).
7. Клодий — Публий Клодий Пульхр (ум. в 52 до н.э.).
Будучи народным трибуном, он добился изгнания Цицерона
из Рима (Цицерон. Речь в защиту Анния Мшгона, VTI-X).
XVII. ОБ УДАЧЛИВОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
1. Петрарка цитирует стихотворение римского поэта
Горация «К Лицинию Мурене» — Оды, II, 10.
2. Сенека — см. коммент. 29 к диал, XV.
3. Меценат (ок. 70-8 до н.э.) — один из самых близких
друзей и советников римского императора Октавиана
Августа (63 до н.э. — 14 н.э.). Будучи общественным деятелем,
он, однако, никогда не домогался государственных постов.
Был богат, покровительствовал искусствам и поэтам. С ним
в дружбе были Гораций, Вергилий и др.
XVIII. ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ЗНАТНЫХ
1. Курий — Маний Курий Дентат (ум. в 272 до н.э.) —
римский консул и полководец, победитель самнийцев и
Пирра, приверженец староримской простоты и умеренности.
Комментарии
423
2. Фабриций — Квинг Фабриций Лускин (перв. пол. III в.
до н.э.) — римский политический и военный деятель; быт
консулом, легатом; выиграл ряд важных сражений.
Прославился своей честностью и неподкупностью. Будучи в 275
цензором, изгнал из сената алчного Публия Корнелия Руфи-
на за расточительность и роскошь. Умер таким же бедным и
простым, каким был при жизни. Позже сенат дал приданое
его дочерям.
3. Корункан — Тиберий Корункан, плебейского рода;
римский консул в 280 до н.э. Был другом Фабриция и
пользовался большим уважением за политическую мудрость и
строгость жизни.
4. Квинтий — Луций Квинций Цинциннат, римский
консул 460 до н.э.; диктатор 458, 439 гг. Согласно традиции,
любил работать на своем маленьком поле. Приверженец
простых и строгих староримских нравов.
5. Серран — представитель ветви римского плебейского
рода Аттилиев.
6. Катон Цензор — Марк Порций Катон Старший (234-
149 до н.э.) — римский государственный деятель, незнатного
происхождения (из всаднического сословия),
прославившийся строгостью жизни. В юности занимался сельским
хозяйством; будучи консулом, выступал против роскоши и
ростовщичества (Плутарх. Сравнительные жизнеописания, Марк
Катон, III-V).
7. Павел и Антоний — Петрарка имеет в виду
преподобного Павла Препростого, который ушел от злой и неверной
жены к преподобному Антонию Египетскому в пустыню, где
оба своими руками добывали хлеб насущный. Павел умер в
340, Антоний — ок. 355.
8. Август Цезарь — римский император Октавиан (63 до
н.э. — 14 н.э.). Светоний пишет о нем: «Ел он мало и
неприхотливо» (Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей, II, 76).
9. Колхи — обитатели Колхиды, страны к югу от
Кавказского хребта с главной рекой Фазис. В I веке до н.э. были
подчинены Римом.
10. Принцепс — речь вновь идет об Октавиане Августе, о
котором Светоний сообщает: «Вина по натуре своей он пил
очень мало» (Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей).
11. Александр Македонский — см. комменг. 19 к диал. XV.
12. Плиний — Гай Плиний Старший (23-79 н.э.),
римский писатель, ученый, государственый деятель; автор
«Естественной истории» в 37 книгах.
424 Комментарии
13. Юлий Цезарь — см. коммент. Ik диал. XVI, О
неприхотливости Цезаря в еде и питье говорит Светоний (Жизнь
двенадцати Цезарей, 1, 53).
14. Эпикур (342-270 до н.э.) — древнегреческий философ-
материалист. В учении об этике говорил о разумном
наслаждении, которое предполагает отсутствие страданий.
Впоследствии это учение было извращено и эпикурейцем стали
называть человека, идеалом которого было удовлетворение
низменных потребностей, грубая распущенность.
XXIII. О ПЕНИИ И НАСЛАЖДЕНИИ МУЗЫКОЙ
1. Арион (ок. 600 до н.э.), греческий поэт и певец (кифа-
ред) с о. Лесбос. Его жизнь окутана легендами. Одна из них —
о спасении певца дельфинами. Арион возвращался на
корабле из Тарента в Коринф, везя с собой много сокровищ, и
был ограблен моряками; спасаясь, он прыгнул за борт.
Дельфин подхватил его и доставил к Тенарскому мысу.
2. Геродот (ок. 484-425 до н.э.), был назван отцом
истории Цицероном; об Арионе см.: Геродот. История, I, 24.
3. Домициан Тит Флавий (57-96), римский император.
Впервые велел называть себя «господином и богом», многих
преследовал и казнил за «оскорбление величия». Был убит в
результате заговора и проклят сенатом. О его
первоначальной кротости и щедрости и позднейшей жестокости,
алчности и честолюбии Петрарка мог прочитать у Светония
(Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Домициан, 9-13).
4. Стаций Публий Папиний (ок. 40-96), римский поэт и
педагог, автор эпической поэмы «Фиваида» и сборника
стихотворений «Леса». Творчество Стация было популярно в
средние века.
5. Афанасий Великий (293-373), епископ
Александрийский, один из главных борцов церкви с арианством.
6. Амвросий (340-397), епископ Миланский, один из
ранних отцов христианской церкви. Известен и как
преподаватель церковного пения. Он ввел антифонное (попеременное)
пение на двух клиросах и четыре церковных музыкальных лада.
7. Августин. Исповедь, IX, 7.
8. Фемйстокл (524-459 до н.э.), государственный и
военный деятель из Афин.
9. Эпаминонд был приверженцем пифагорейского учения,
поэтому умел и играть на музыкальных инструментах.
10. Алкивиад (450-404 до н.э.), афинский государственный
деятель; воспитывался в доме Перикла; Перикл (ок. 495-429 до
Комментарии
н.э.), афинский государственный деятель, обращавший особое
внимание на процветание Афин; принимал деятельное участие
в подготовке хора для трагедии Эсхила «Персы».
11. Калигула (12-41 н.э.), римский император, «с великим
удовольствием плясал и пел на сцене» (Светоний. Жизнь
двенадцати Цезарей. Калигула, 11).
12. Нерон (37-68 н.э.), римский император. «В детские
годы вместе с другими науками изучал они музыку. Придя к
власти, тотчас пригласил к себе лучшего кифареда Терпна и
много дней подряд слушал его после обеда до поздней ночи,
а потом и сам постепенно начал упражняться в этом
искусстве» (Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Нерон, 20.)
13. Пифагор помимо всего прочего открыл законы
музыкальной гармонии; Цицерон при подготовке своих речей
обращал внимание и на ритмическое их оформление.
XXIV. О ПЛЯСКАХ
1. Венера здесь употребляется в смысле «любовные утехи».
2. Давид (1085-993 до н.э.), второй царь Израиля, автор
большей части псалмов, которые он сам и исполнял; однажды в
молитвенном воодушевлении начал плясать перед алтарем.
3. Платон. Тимей, 34а, 43в.
4. Мифический царь Иксион за оскорбление Геры был
прикован в подземном царстве к беспрерывно вертящемуся
огненному колесу. Певец Орфей, спустившийся в Аид, так
заворожил все вокруг своим пением, что на время
остановилось даже Иксионово колесо.
5. Трипудий — трехтактная пляска; в древнем Риме
исполнялась жрецами-салиями в честь бога войны Марса.
6. «Последний Катон» — сын Катона Угического, жил в
середине I в. до н.э., погиб в битве при Филиппах в 42 году до н.э.
7. Солон (640-599 до н.э.), афинский государственной
деятель и поэт, один из семи мудрецов.
8. Публий Корнелий Сципион Африканский Младший (185-
.129 до н.э.), римский полководец и государственный деятель.
9. Гай Светоний Транквилл приводит слова Катона: «Цезарь
один из всех берется за государственный переворот трезвым»
(Жизнь двенадцати Цезарей. Божественный Юлий, 53).
10. Гораций. Оды, I, 37, 1-2.
XXVIII. О СКОМОРОХАХ
1. Этруски — древнее население Средней Италии,
области Этрурии. К началу III в. до н.э. были покорены
римлянами. Скоморошество имеет в своем истоке скорее всего ател-
426
Комментарии
лану — древнеиталийский народный фарс, который был в
ходу у осков.
2. Эзоп (VI в. до н.э.), греческий баснописец, история
жизни которого полна легендарных подробностей.
3. Квинт Росций Галл — один из самых известных
римских актеров, друг Суллы и Цицерона; написал книгу, в
которой сравнивал сценическое искусство с ораторским.
4. См.: Цицерон. Речь в защиту комического актера
Квинта Росция (Галла).
5. Сулла Луций Корнелий (138-78 до н.э.), римский
полководец и государственный деятель.
6. Сенат — один из высших государственных органов в
Древнем Риме, в состав которого в описываемые времена
входило 600 человек.
7. Паразит (парасит), прихлебатель; человек, который
получает угощение, развлекая хозяина и его гостей за
пиршественным столом.
XLVIIL О ВОИНСКОМ ДОСТОИНСТВЕ
1. Флакк — см. коммент. 16 к диал. XV.
2. Цезарь — см. коммент. 1 к диал. XVI.
3. Сатирик — Ювенал (60-127), римский
писатель-сатирик, резко критиковавший нравы и пороки современного
ему общества, автор 16 сатир в 5 кн.
ХСИ. О СЛАВЕ
1. Клавдиан (конец IV — начало V в. до н.э.), поэт из
Александрии, известный хвалебными одами в честь
римского императора Гонория.
2. Цицерон. Тускуланские беседы, I.
СУШ. О СЧАСТЬЕ
1. Помпеи Великий (106-48 до н.э.), полководец и
государственный деятель. Одержал многие большие победы,
управлял Испанией, был членом Первого Триумвирата,
соглашения с Крассом и Цезарем. После вторжения Цезаря в
Италию Помпеи отправился во своими войсками в Грецию
и потерпел поражение в битве при Фарсале. После этого
бежал в Египет, где был предательски убит по приказу
Птолемея XIII (см.: Лукан. Фарсалия, VIII, 630-1).
2. Квинт Метелл — Квинт Цецилий Метелл, прозванный
Македонским, известный с античных времен счастливый
человек. В 131 до н.э., когда он был цензором, народный трибун
требовал сбросить его с Тарпейской скалы как преступника.
Комментарии
427
3. Сулла (136-78 до н.э.), римский диктатор и
полководец, носил прозвище Felix — Счастливый.
4. Александр Македонский (356-325 до н.э.), царь, один из
великих античных полководцев и завоевателей, военные
кампании которого отличались полководческим блеском и дерзостью.
Александр хотел обеспечить Македонии мировое военное
господство; его владения простирались от Дуная, Адриатики,
Египта и Кавказа до Инда. Внезапная смерть то ли от лихорадки, то
ли от яда (по старой версии) помешала осуществлению его
планов покорения Аравии и Северной Африки.
Гай Юлий Цезарь после победы над Помпеем при Фарса-
ле был обыявлен пожизненным диктатором; сенат даровал
ему титул «императора» и «отца отечества». Однако против
него был составлен заговор большинством его бывших
приверженцев, и во время созыва сената он был убит.
5. «Сципионов» — речь идет о полководцах и
государственных деятелях Публии Корнелии Сципионе Старшем
(235-183 до н.э.) и Публии Корнелии Сципионе Младшем
(185-124 до н.э.). Первый после многих блестящих побед и
политического взлета подвергся нападкам врагов, жил
уединенно в своем поместье в Литерне, где и умер.
Сципион Младший воевал в Испании и Африке, завоевал
и разрушил Карфаген. Был найден мертвым в своей постели:
подозревали, что он был убит, но дело так и не раскрылось.
6. Цезарь Август (63 до н.э. — 14 н.э.), император. Один
из самых почитаемых Петраркой политических деятелей
античности. Все сведения о его частной жизни Петрарка
почерпнул у Светония (Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей.
Август, 63-65).
Наследником Цезарь Август назначил Тиберия.
7. Цит. по: Лукан. Фарсалия, I, 459.
КНИГА ВТОРАЯ
IV. О БЕЗВЕСТНОЙ РОДИНЕ
1. Ромул (756-716 до н.э.) — легендарный основатель
города Рима, сын Реи Сильвии и Марса. После рождения Ро-
мула и Рема их дядя Амулий, желая уничтожить законных
претендентов на царский престол, приказал бросить
близнецов в Тибр во время наводнения; когда вода вошла в свои
берега, Ромул и Рем оказались на твердой земле, где их
нашел царский пастух и воспитал в своей хижине (Тит Ливии.
История Рима от основания города, I, 4).
2. Каталина — см. коммент. 1 к диал. IX кн. I.
428 Комментарии „
3. Биант — один из семи греческих мудрецов.
4. Пифагор (VI в. до н.э.) — греческий философ,
заслуживший большую известность своими исследованиями в
области математики.
5. Анахарсие — знатный образованный скиф из царского
рода, посетивший Афины с целью пополнения своего
образования (VI в. до н.э.). Удивлгкл греков своим умом,
простотой нравов и образа жизни. Согласно традиций, был знаком
с Солоном и увлекся его философией.
6. Демокрит (VI в. до н.э.) — древнегреческий философ-
материалист, один из основателей атомистической теории.
7. Аристотель — см. коммент. 106 к трактату «Об
уединенной жизни».
8. Теофраст (372-287 до н.э.) — древнегреческий
философ, друг и последователь Аристотеля, родился на о.Лесбос.
9. Туллий — Марк Туллий Цицерон: см. коммент. 3 к ди-
ал. IX.
10. Фйлет (сер, IV в. до н.э.) — древнегреческий
элегический поэт.
11. Гиппократ (ум. в 377 до н.э.) — дфевнегреческий врач,;
реформатор античной медицины. Считают, что Гиппократ
относился к 17-му поколению врачебной семьи. Гиппократу
приписывают текст т.н. врачебной клятвы («Клятва
Гиппократа»).
12. Апеллес (IV в. до н.э.) — древнегреческий живописец.
13. Фидий (ум. в 431 до н.э.) — известнейший афинский
скульптор.
14. Нума Помпилий — см. коммент. 28 к диал: XV.
15. Септимий Север — римский император (193-211),
родился в Африке.
16. Август — основатель Римской империи Гай Октавиан
Август (63 до н.э. — 14 н.э.); род Октавиев ведет свое начало из
Велитр, небольшого города в южном Лациуме. Октавиан был
внучатым племянником Юлия Цезаря, который его усыновил.
17. Веспасиан Тит Флавий — римский император (69-79),
род. в деревне Фалакрины близ сабинского города Реате
(Светоний.,Жизнь двенадцати Цезарей, VIII, 2).
18. Эакид — Пелей, отец Ахилла, главного героя
«Илиады», поэмы древнегреческого поэта Гомера; Ларисса —
древнегреческий город.
19. Филипп — царь Македонии (382-336 до н.э.),
уроженец Пеллы. Отец Александра Македонского.
20. Александр Македонский — см. коммент. 19 к диал.
XV кн. I.
21. Под «общей матерью» Петрарка разумеет природу.
V. О НЕЗНАТНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
1. Речь идет о Ромуле — см. коммент. 1 к диал. IV кн. II.
2. Сократ — см. коммент. 7 к диал. XV кн> I.
3. Еврипид (480-406 до н.э.) — знаменитый афинсрЕЙ
поэт-трагик. До нашего времени дошло 17 трагедий, в том
числе «Медея», «Электра», «Троянки». Родился на о. Саламин,
куда его родители бежали из Афин при приближении
персов. Его отец Мнесарх — мелкий торговец, мать тоже
торговала овощами.
4. Демосфен — см. коммент. 5 к диал. IX кн. I.
5. Вергилий — см. коммент. 1 к диал. XV кн. I. Родился в
деревне Анды близ Мантуи, где его отец занимался
земледелием. В. поэме «Георгики» он в стихах излагает наставления
по земледелию, садоводству, скотоводству и пчеловодству.
6. Флакк — Квинт Гораций Флакк (65-8 до н.э.), известный
римский поэт, родом из Венузии в Апулии; сын
вольноотпущенника; его отец продал купленный прежде участок земли,
чтобы переселиться в Рим и дать сыну лучшее образование.
7. «Высочайший из правителей» — император Октавиан
Август.
8. Марк Цицерон — см. коммент. 2 к диал. IX кн. I.
Родился близ Арпина в имении отца. Избирался квестором,
сенатором, эдилом и консулом; в 63-62 раскрыл заговор
Каталины, за что его назвали «отцом отечества», спасшим Рим от
переворота;
9; Марий — см, коммент. 27 к диал. XV кн. I.
10. Марсы — древний народ, проживавший в средней
Италии вокруг Фуцинского озера. Часто воевали с римлянами.
11. Марий спас Рим от кимвров (102) и тевтонов (101).
12. Марк Катон — см. коммент. 6 к диал. XVIII кн. I.
Родился в Тускуле.
13. Петрарка, в соответствии с римской исторической
традицией, называет третьего, пятого (не четвертого) и
шестого римских царей: Тулла Гостилия (672-640 до н.э.), Тар-
квиния Приска (616-578 до н.э.), Сервия Туллия (577^534 до
н.э.). Тарквиний Приск, по преданию, сын Дамарата,
греческого беглеца, поселившегося в Этрурии в городе
Тарквиний, где он женился и имел двух детей. Старший из них
переселился в Рим, где и стал царем.
Сервий Туллий, по преданию, сын рабыни; был
усыновлен Тарквинием Приском, после смерти которого стал царем.
14. См. коммент. 3 к диал. XVI кн. I.
430 Комментарии
15. Септимий Север — см. коммент. 15 к диал. IV кн. П.
16. Гелий Пертинакс — первый римский император из
вольноотпущенников (193). Родился в Лигурии, был
консулом; пал в результате заговора.
17. Император Марк Юлий Филипп Аравитянин (244-
249), родился в Бостре, римской колонии в Аравии, сын
одного из бедуинских начальников; на престол вступил с
помощью войска. Пал в битве с другим претендентом на
престол; Гай Юлий Вер Максимин (235-238), родом из Фракии.
Императором стал благодаря солдатам; Марк Клодий Пупи-
ен Максим (238) был прекрасным полководцем; правил
недолго: его убили недовольные преторианцы.
18. Веспасиан — Тит Флавий Веспасиан, римский
император (69-79), основатель династии Флавиев. Родился близ
Реате в семье сборщика налогов. Служил в войске во
Фракии, затем управлял Критом, был наместником в Африке.
Упрочил римское государство, стабилизировал казну; возвел
много построек, восстановил Капитолий. Вел простую,
почти скупую жизнь.
19. Цезарь Август — см. коммент. 16 к диал. IV кн. П.
20. Гней Помпеи Страбон (ок. 125-87 до н.э.) — квестор
Сардинии, затем претор Сицилии, консул. Активный
участник внутренних (союзнических) войн на стороне римлян и
гражданской войны против Цинны и Мария. Публий Венти-
дий Басе — родом из Пицен; служил украшением
триумфальной колесницы Помпея в 89 до н.э. Цезарь возвел его
из низкого положения в сан сенатора; активный участник
гражданских войн; в 43 до н.э. был консулом. Возглавил
поход против парфян и разбил их царевича Пакора в Сирии в
38 до н.э.
21. Марк Лициний Красе — римский политический
деятель, консул 70 и 55 до н.э., погиб в сражении с парфянами
при Каррах, где римляне потерпели страшное поражение,
потеряв 45 тыс. человек.
22. Карры — город в Месопотамии, под которым Красе
потерпел поражение от парфян и был убит 8 июня 53 г.,
когда удалился слишком далеко от лагеря для переговоров.
23. Петрарка полемизирует здесь с астрологами,
считавшими, что судьба человека зависит от звезд. Петрарка
ссылается на высшую власть Бога, но все его рассуждения
свидетельствуют: он был уверен, что судьба человека зависит от
него самого, от усилий его доблести, достоинства,
внутреннего благородства.
24. Атрий — парадная средняя часть римского богатого
дома. В ней обычно ставили изображения предков, здесь же
, Комментарии 431
находился очаг, от которого могли закоптиться и стены, и
статуи.
25. То есть о своих знатных предках.
VI. О ЗАЗОРНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ
1. «...некий достославный человек». Вероятно, Петрарка
имеет в виду Иннокентия III, посвятившего целый трактат
рассмотрению «ничтожества человеческого состояния». См.
подробнее о нем коммент. 1 к диал. ХСШ кн. П.
2. Ромул — см. коммент. I к диал. IV кн. И. По
преданию, произошел от связи бога Марса с дочерью царя Нумитора;
Алкид — Геркулес, древнегреческий мифический герой, по
преданию, сын всемогущего Зевса и земной женщины Алкмены.
3. Персей — последний царь Македонии (179-166 до н.э.),
родился ок. 213 от наложницы македонского царя Филиппа Ш
или от рабыни. Филипп III имел законного сына Деметрия, но
тот был убит по наущению Персея и собственного отца.
4. Югурта — царь Нумидии (160-104 до н.э.), сын Маста-
набала и наложницы (Саллюстий. Югуртинская война, V).
Его дядя Миципс решил усыновить его и назначить
наследником вместе со своими сыновьями. Югурта в борьбе за
престол убил одного из них, а другого изгнал.
5. Александр Македонский — см. коммент. 19 к диал.
XV кн. I.
6. Плутарх передает предание о том, что Александр был
с&ном божества, а не Филиппа; однажды Филипп увидел
это божество в виде змея и с тех пор охладел к своей жене
Олимпиаде (Плутарх. Сравнительные жизнеописания,
Александр, II).
7. Константин (306-337), римский император. Его
провозгласили императором солдаты в день смерти его отца
Констанция Хлора. Кроме него на власть претендовали сыновья
других августов: Лициний, Максимин, Максенций. Началась
борьба за власть, в итоге которой Константин остался
победителем и с 325 единолично управлял империей.
8. Артур — полулегендарный вождь бриттов (V-VI вв.),
успешно боровшийся против англо-саксонских завоевателей,
герой народных преданий кельтских обитателей Уэльса.
VIII. О БЕДНОСТИ
1. Стоики —- сторонники одного из главных течений в
эллинистической и римской философии, так называемого
стоицизма. Основатель — Зенон Китайский. Петрарка обра-
432 Комментарии
щался главным образом к сочинениям поздних, римских
стоиков: Цицерона, Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия и др.
В этике стоиков человек — высшее и наиболее разумное
существо природы, обладающее добродетелью. Идеал человека —
мудрец. Природа — главный строитель жизни, надо ей
неукоснительно следовать. Все потребности заслуживают
презрения. Последнее — отражение нравственного ригоризма,
присущего стоицизму, который требовал от человека
неукоснительного выполнения долга. Стоики отличались
жизненным мужеством и стойкостью.
ХСШ. О ПЕЧАЛЯХ И НЕСЧАСТИЯХ
1. Как считает биограф Петрарки Э.Г.Уилкинз, этот
диалог — один из самых первых, написанных для трактата. Он
относится к 1354 г. и показателен для понимания всего сочинения.
Известны некоторые любопытные обстоятельства,
связанные с этим диалогом. В том же 1354 г. гуманист получил
письмо от настоятеля картезианского монастыря, в котором
содержалась неожиданная просьба. Петрарке предлагали
написать вторую часть к трактату папы Иннокентия III «О
презрении к миру или о ничтожном состоянии человека»
(1198). Очевидно, на этот раз -— о христианском понимании
радостей и счастия человека. Гуманист учтиво, но твердо
отклонил почетное предложение, написав монаху, что он как раз
занят диалогом на эту тему, хотя назвал он свой диалог — «О
печалях и несчастиях». Думается, что чтение диалога и
сопоставление его с трактатом Иннокентия III позволит понять и
причины отказа Петрарки, и характер заголовка. Сразу заметим: в
диалоге содержится горячая, хотя и скрытая, полемика.
2. Цицерон. Тускуланские беседы, III, 25.
3. «...они оплакиваются в некоторых недавних книжках» —
здесь намек как раз на сочинение Иннокентия III, который
рисует человеческие несчастия на протяжении всех трех
книг трактата.
4. Вергилий. Энеида, VI, 674.
5. Вергилий. Георгики, 51, 6.
6. Гораций. Оды, 2 «Юбилейный гимн».
7. «...сделавшись человеком, сделать человека Богом».
Петрарка, вслед за Данте, развивает идею высокого
достоинства человека, поднимая его до Бога, едва ли не обожествляя
его. Гуманист, таким образом, не принимает идеи о
коренной испорченности человеческой природы, человеческой
души, вытекающей из «первородного греха». Этот момент —
Комментарии
один из принципиально важных в гуманистическом
осмыслении проблемы человека.
8. Августин (354-430) — епископ Гиппона, один из отцов
и теоретиков западной церкви, автор «Исповеди», 22 книг
«О граде Божьем» и многих других. В его сочинениях
античное красноречие и уважение к античной мудрости
перемежаются с полным отрицанием античного жизнелюбия, вместо
которого проповедуется аскетизм. Петрарку более всего
привлекали в его сочинениях античные реминисценции.
9. Иероним (331-420) — один из ранних отцов церкви. В
50 лет удалился в пустыню и занялся там обширной
литературной деятельностью. В его сочинениях отчетливее, чем у
Августина, обнаруживается влияние античных воззрений на
мир, общество^ человека. Петрарка приводит фразу из
сочинения Иеронима «Комментарии к Евангелию от Матфея 10,
11» (Patr. lat., 26, col. 130).
10. «И как сказано Сатириком...» — Петрарка цитирует
Ювенала: Сатиры, 10, 349.
11. Сенека. Естественнонаучные вопросы, III, 17, 2; 18, 4.
12. Публий Овидий Назон. Петрарка цитирует
«Метаморфозы», 1, 84-86.
13. Петрарка приводит один из аргументов Иннокентия
III, служащий у последнего доказательством ничтожности и
несчастия человеческого состояния.
XCVIII. ОБ ОТВРАЩЕНИИ К ЖИЗНИ
1. Марк Порций Катон Младший (95-46 до н.э.), римский
политический деятель и философ, противник Цезаря и
яростный защитник республики как формы правления. С
началом гражданской войны в Риме вынужден был бежать,
спасаясь от Цезаря, в Утику (Северная Африка), где решился на
добровольную смерть, бросившись на обнаженный меч.
Рассуждая о различии человеческих характеров, Цицерон
пишет о нем: «...различие в человеческой натуре имеет такое
большое значение, что иногда один человек должен сам
осудить себя на смерть, а другой, находящийся точно в таком
же положении, не должен. Разве Марк Катон был в каком-
либо ином положении сравнительно с другими людьми,
которые сдались в Африке Цезарю? Но другим, быть может,
поставили бы в вину, если бы они покончили с собой, так
как менее строга была их жизнь, а их характер был более
уступчив; Катон же, так как природа наделила его
необычайной твердостью правил и так как он укрепился в.ней по сво-
434 Комментарии
ей неизменной стойкости и всегда оставался верен своему
решению, им себе намеченному и принятому, должен был
скорее умереть, чем взглянуть в лицо тирану» (Цицерон. Об
обязанностях, I, XXXI, 112).
2. Сенека неоднократно рассуждал о добровольной смерти:
1) Этой теме посвящено LXX письмо к Луцилию, где
говорится: «Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится —
можешь вернуться туда, откуда пришел. Чтобы избавиться от
головной боли, ты часто пускал кровь; чтобы сбросить вес,
отворяют жилу; нет нужны рассекать себе всю грудь —
ланцет открывает путь к великой свободе, ценою укола
покупается безмятежность»; «...разум учит, чтобы ты умирал, как
тебе нравится, если это возможно, а если нет — то как
можешь, схватившись за первое попавшееся средство учинить
над собой расправу» (Сенека. Письма к Луцилию, LXX).
2) В письме XXIV Сенека с похвалой описывает смерть
Клтона Утического, который «...в последнюю ночь читал
Платона, положив в изголовье меч... Устроив дела, он решил
действовать так, чтобы никому не удалось ни убить Катона,
ни спасти. И, обнажив меч, который до того дня хранил он
не запятнанным кровью, он сказал: "Ты ничего не добилась,
фортуна, воспрепятствовав всем моим начинаниям! Не за
свою свободу я сражался, а за свободу родины, не ради того
был так упорен, чтобы жить свободным, но ради того, чтобы
жить среди свободных. А теперь, коль скоро так плачевны
дела человеческого рода, Катону пора уходить в безопасное
место". И он нанес себе смертельную рану» (Сенека. Письма
к Луцилию, XXIV).
3) Добровольный уход из жизни прославляет и хор в
трагедии «Агамемнон»:
«Рабству тот положит конец,
Кто презрел богов легкомысленных,
Кто на черный ток Ахеронта,
На унылый Стикс без унынья глядит,
Кто жизнь свою дерзнет оборвать.
Будет он равен царю, равен богам...
О, какая беда — не уметь умереть!»
(Сенека. Агамемнон, 624-630, пер. С.Ошерова).
CXVIII. О СТРАХЕ СМЕРТИ
1. Гораций. Послания, I, 4, 12-13.
2. Гораций. Оды, III, 29, 41-45.
Комментарии
435
ИНВЕКТИВЫ ПРОТИВ ВРАЧА
КНИГА I
1. Исследователям не удалось выяснить, с кем именно
Петрарка ведет спор в инвективах. Ясно только одно, что его
оппонент был врачом при папском дворе во времена
Климента VI (1342-1352). Папский двор находился в то время в
Авиньоне, и Петрарка адресовал больному папе письмо с
предостережениями относительно его медицинского
окружения. Один из медиков отреагировал на него публично, что и
заставило Петрарку публично отвечать,
2. «Римским понтификом» Петрарка всегда называет папу
римского,
3. Папа предлагал Петрарке место секретаря курии и
несколько высоких церковных должностей.
4. Ювенал, Сатиры, X, 22.
5. Ювенал. Сатиры, I, 161.
6. Теренций. Девушка с Андроса, I, 68.
7. Исследователи не могут определить, откуда Петрарка
почерпнул это высказывание Сократа.
8. Петрарка использует средневековую классификацию
«искусств свободных» и «искусств механических» (или
ремесел). Риторика стоит второй из семи в ряду «свободных
искусств», медицина — шестой из семи в ряду «механических
искусств». А поскольку «свободные искусства» считались
выше «механических», заявления врача вдвойне противоречили
этой иерархии и классификации.
9. Дионисий (367-344 до н.э.), тиран Сиракуз,
прославившийся жестокостью и кутежами; Фаларис (6 в. до н.э.),
тиран, правивший в сицилийском городе Агригенте и
известный своей жестокостью.
10. Марк Порций Катон Младший (95-46 до н.э.),
противник Цезаря; бежал в Северную Африку, где покончил с
собой после сражения при Тапсе; Марк Атиллий Регул,
римский консул 267 и 256 до н.э.; взятый в плен пунийцами,
был послан ими в Рим для переговоров об обмене
пленными. Высказавшись в сенате против обмена, возвратился в
Карфаген, где был казнен; Гай Лусцин Фабриций, римский
консул 282 и 278 до н.э., прославившийся своей
неподкупностью и бескорыстием; Марк Клавдий Марцелл (III в. до
н.э.), римский конул и полководец, погиб в 207 до н.э.,
когда пунийцы внезапно напали на его отряд из засады; Луций
Сципион Азиатский, римский консул 190 до н.э.; подвергся
436 Комментарии
судебному обвинению за приверженность греческим
обычаям, был присужден к денежному штрафу, потребовавшему
продать все имущество.
11. Происхождение имени Меркурий объясняется с
помощью народной этимологии, что часто встречается в
античной и средневековой науке.
12. Плиний Старший (23 — 79), римский писатель, автор
«Естественной истории», где, в частности, описывал
лекарства растительного и животного происхождения.
13. Гален (129-199), известный врач, который пытался
синтезировать медицину своего времени с медициной
древнегреческого врача Гиппократа.
14. Эту мысль высказывает Цицерон — см.: Тускуланские
беседы, III, 1, 1.
15. Книга премудростей Иисуса Сирахова, XXXVIII, 4.
16. Там же, I, 1.
17. Там же, VII, 6.
18. Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н.э.), основатель
научной медицины, греческий врач из семьи потомственных
медиков.
19. Макробий. Сатурналии, 1, 7.
20. Цицерон. Речь за поэта Архия, VIII, 18.
21. Цицерон. Об ораторе, И, 18, 75.
22. Ангиох III (242-187 до н. э.), сирийский царь,
принявший у себя Ганнибала, когда тот был побежден римлянами.
23. Цицерон. Оратор, И, 18, 75.
24. Боэций Северин (ок. 480-524), римский философ,
выходец из аристократического рода Анициев. Петрарка
ссылался на сочинение Боэция «Утешение философией» (I, 1,
8); претура — звание или должность претора, высшего
должностного лица римского города-государства; консулат —
должность консула, одного из двух высших должностных
лиц римской республики, на которую вначале выбирали
только из числа патрициев.
25. Намек на мнение Платона, считавшего, что поэты,
пишущие для сцены, должны быть изгнаны из государства.
26. Боэций. Утешение философией, I, 1, 11.
27. Амфион — мифический греческий музыкант. Под
звуки его кифары сами укладывались камни при строительстве
стены. Орфей — мифический певец из Фракии, пение
которого зачаровывало даже животных.
28. Аверроэс (1126-1198), средневековый философ,
ревностный поклонник Аристотеля.
29. Лактанций (ок. 250 — ок. 330), христианский
богослов; самый известный его труд «Divinae institutiones»
(«Божественные установления»).
Комментарии
30. Лактанцйй. Божественные установления, I, И, 24-25.
31. Меонийский старец — Гомер. Меонию (древнее
название Лидии) называют в числе прочих местом рождения
Гомера; Еврипид (480-405 до н.э.) — афинский поэт-трагик;
Марон — Публий Вергилий Марон (70-19 до н.э.),
крупнейший римский эпический поэт, один из самых почитаемых
Петраркой; Кастальский источник, родник на горе Парнас,
посвященный Музам и Аполлону, способный дать
пророческую силу тому, кто из него напьется, символ поэзии.
32. Демосфен (384-322 до н.э.), Эсхин (389-314 до н.э.),
греческие ораторы; Демосфен выступал яростным
противником Филиппа Македонского, на стороне которого был
Эсхин. Их спор, победу в котором одержал Демосфен, нашел
отражение в речах. Саллюстию приписывается «Инвектива
против Цицерона», которую произнес в 55 до н.э. в сенате
противник Цицерона Пизон. Цицерон ответил на нее речью
«Против Пизона».
КНИГА II
1. Реминесценция из библейской книги Притчей
Соломоновых.
2. Апулей. Флориды, I, 2.
3. Книга Экклезиаста, XII, 12.
4. Ср.: Катулл, LXX, 4.
5. Росций Квинт Ланувийский, знаменитый актер, друг
Цицерона; написал книгу, в которой сравнивает актерское
исполнительское мастерство с искусством красноречия.
6. Апиций — знаменитый обжора и кутила времен Тибе-
рия Клавдия Нерона (I в н.э.); написал трактат «О
кулинарном искусстве» в десяти книгах, дошедший до нас лишь в
поздних пересказах.
7. «Иблийский мед» — мед, собранный пчелами с цветов,
растущих на горе Ибла, отличавшийся особым вкусом. Эта
метафора часто встречается у Петрарки.
8. Цицерон. О нахождении, I, 5, 6; Квинтилиан.
Наставления оратору, И, 15, 3.
9. Книга пророка Аввакума, III, 13.
10. Аполлон — греческий бог солнечного света,
гармонии, искусств; также бог исцеления; Эскулап — римский бог
врачевания.
11. Пифагор (ок. 540-500 до н.э.) — греческий философ.
12. Евангелие от Луки, XXI, 15.
13. «Избавление не всегда приходит от Иудеи» — т.е. от
Христа, который там же жил и проповедовал; «спаситель по-
438 Комментарии
луварвар» — очевидно, медик не италийского
происхождения, возможно, француз.
14. О себе как учителе риторики Августин говорит в
«Исповеди» (Августин. Исповедь, V, 13, 23).
15. Seneca. Oratorum et rhetorum sententiae divisiones
colores. Controv. Ill, praef. 16.
16. Петрарка имеет в виду Публия Корнелия Сципиона
Назику, политического деятеля римского государства 2 в. до н.э.
. 17. Тит Ливии. История Рима от основания города,
XXXVIII, 50, И.
18. Там же. XXXVIII, 50, 12.
19. Сципион Африканский (235-183 до н.э.) —
выдающийся полководец и государственный деятель римской
республики, герой войны против Карфагена, большой морской
и торговой державы. Поражение карфагенцев (пунийцев) нат
долго ослабило мощь их государства. Сципион Африканский —
один из самых любимых римских героев Петрарки.
20. Катон Старший (234-149) — известный политический
римский деятель, прославившийся своей деятельностью на
посту цензора.
21. Augustinus Enarratio in Psalmos, CXLIV, 7.
22. Вергилий. Энеида, I, 378-379.
23. Петрарка говорит о своем трактате «О знаменитых
мужах» — серии биографических рассказов о мужах древности
и более поздних времен. Трактат был начат в 1337, писался и
дополнялся много лет.
24. Апулей (ок. 124 н.э. — ?) — древнеримский писатель.
Самое известное его произведение называется
«Метаморфозы» или «Золотой осел». В нем описываются приключения
героя, у которого появились ослиные уши.
25. Плавт (ок. 250-184 до н.э.) — выдающийся римский
комедиограф. Биррия — герой комедии «Амфитрион», раб-
бездельник.
Силлогизмы — особые умозаключения, при которых на
основании нескольких суждений с необходимостью
выводится новое.
26. Книга Премудростей Соломона, IV, 8, 9 и др.
27. Цицерон. О старости, Vili, 26; XVIII,. 62.
28. Аристотель. Риторика, И, 12-13, 1388 в, 31-1390а, 27;
Гораций. Наука поэзии, 158-179.
29. «Преторский суд» — высший суд в римском
государстве античной поры.
30. Псалмы. LXXVII, 34.
31. Плиний Старший. Естественная история, XXIX, 8, 17-18.
Комментарии 439
32. Цицерон. О государстве, VI, 14, 14.
33. Цицерон. Речь за Дейотара, IV, 17.
34. Цицерон. О пределах добра и зла, III, 12, 41.
35. Аверроэс, ибн Рушд (1126-1198) — знаменитый
арабский философ, ревностный поклонник Аристотеля,
считавший, что душа человека умирает вместе с телом и что разум
должен стоять над верой.
Выше перечисляются основные учения греческих
философов о душе.
36. Цит.: Ювенал. Сатиры, VII, 51-52.
37. Магомет — Мухаммед (570-632), основатель ислама.
38. Речь идет об Аверроэсе.
39. Петрарка говорит о вечной жизни и спасении души,
на которые надеются все благочестивые христиане.
40. Хрисипп (ок. 280 — ок. 204 до н.э.), греческий
философ-стоик.
41. Платон. Федон, 67d, 80 с.
42. Сведения об удоде Петрарка, скорей всего, почерпнул
из сочинения средневекового ученого-энциклопедиста
Винсента из Бовэ.
43. Августин. О Граде Божьем, XVIII, 18.
44. Овидий. Наука любви, I, 729.
45. Гораций. Carni., Ill, 10, 14.
46. Очевидно, речь идет о Платоне.
47. Gellius Aulus. Noctes atticae, IX, 2, 4.
48. Августин. О Граде Божьем, VIII, 1.
49. Ксенофонт (ок. 430 — ок. 355 до н.э.), — историк и
писатель, ученик Сократа, не проявивший глубокого
интереса к философии.
50. Бытие, XXX, 37-39.
КНИГА III
1. Вергилий. Энеида, I, 335.
2. Петрарка перечисляет знаменитых проповедников,
мучеников, отцов церкви III-V вв. Он и в письме обращает
внимание на поэтический язык их произведений.
3. Петрарка намекает на сочинение Цицерона «О
нахождении», I, 29, 46.
4. Марий Гай (156-86 до н.э.), римский полководец и
политический деятель. Петрарка цитирует его фразу по Саллю-
стию (Саллюстий. Югуртинская война, 85, 32).
5. Гораций. Наука поэзии, 368-378.
6. Имя старца не выявлено исследователями.
440 Комментарии
7. Демосфен (384^322 до н.э.), афинский оратор и
политический деятель.
8. Энтимема -т сокращенная форма категорического
силлогизма.
9; Аристотель. Метафизика, I* 2, 983 а, 10-11.
10. По античным представлениям, перешедшим в средние
века, медицина — шестое «механическое» искусство (после
ткачества, военного дела, мореходства, земледелия и охоты).
11. Пирр (319-272 до н.э.), царь Эпира, пытавшийся
создать на Западе Средиземного моря великую державу, подобную
той, которую Александр Македонский создал на Востоке.
12. Тит Ливии. История Рима от основания города,
XXV, 14, 12.
13. Здесь и дальше Петрарка подымает на смех медика за
его незнание «Риторики» Аристотеля, один из кратких
разделов которой касается поэтического стиля, в том числе —
стихотворных размеров.
14. Гораций. Наука поэзии, 70-72.
15. Такую этимологию слова «квирит» предлагает
средневековый энциклопедист Исидор Севильский (Этимологии,
IX, 2, 84), а позже Угуччоне да Пиза в «Большом словаре
происхождения слов», доныне не изданном.
16. Рассказ почерпнут у Светония (Божественный Август,
XCVII, 20).
17. Петрарка намекает на то, что язык средневековых
теологов далеко отошел от «золотой» латыни античной поры.
18. «Нашими» Петрарка всегда называет римских поэтов,
философов, политиков и пр.
19. Стаций Публий Папиний (40-96), римский поэт и
педагог, победитель многочисленных литературных состязаний
своего времени. Стаций прославился своим эпосом «Фиваи-
да», в котором за образец взят Вергилий.
20. Как полагают комментаторы, «врач», очевидно,
соотносил «муз» в словах Философии, главного персонажа
трактата Боэция «Утешение философией», — «оставьте лечить и
врачевать его моим музам» — с предыдущим осуждением
«поэтических муз». Иными словами, «врач» исключил из
понятия «философские музы» все, что входит в понятие «музы
поэзии».
21. Присциан (нач. 6 в.) — римский грамматик,
преподававший в Константинополе, автор «Грамматических
наставлений». Петрарка называет его «врагом» своего оппонента,
чтобы подчеркнуть невежество последнего.
22. Боэций. Утешение философией, IV, 6, 33.
Комментари
Еврипид (ок. 485-406), греческий поэт, автор 13 трагедий;
Лукан (39-65), римский эпический поэт.
23. Сенека Луций Анней (4 до н.э. — 65),
государственный деятель, философ и писатель; Солон (640-560 до н.э.),
афинский политический деятель и поэт.
24. Гесиод (ок. 700 до н.э.) — первый исторически
достоверно установленный греческий поэт; Гомер (VIII в. до н.э.) -1
поэт, стоявший у истоков греческой и европейской литературы.
25. Эпикур (ок. 342 — ок. 271), древнегреческий философ.
Он считал, что цель человеческой жизни — удовольствие, но
не только чувственное, а избавление от болей, беспокойств
души, страданий, страха смерти. Он отрицал бессмертие
души. Петрарка в нескольких произведениях и во многих
письмах весьма резко отзывается об Эпикуре.
Аристипп (435 — 355), греческий философ, один из
предшественников Эпикура; Гермак из Митилены и Метродор из
Лампсака были друзьями и ближайшими учениками
Эпикура; Иероним (III в. до н.э.) известен только со слов
Цицерона как последователь Аристотеля.
26. Послание ап. Павла к Колоссянам, II, 8.
27. Августин. О Граде Божьем, VIII, 10. Цитируется:
Послание ап. Павла к римлянам, 1, 18-19.
28. Августин. Исповедь, VIII, 2, 3.
29. Августин. О Граде Божьем, VIII, 10.
30. Августин. О Граде Божьем, VIII, 10; Послание ап.
Павла к Римлянам, I, 21.
31. Платон. Государство, III, 398а; X, 607вс.
32. Августин. О Граде Божьем, VIII, 13.
33. «До прихода истицы», т.е. до возникновения
христианства.
34. Августин. Монологи, I, 15.
35. Цицерон. Об ораторе, I, 3, И.
36. Гораций. Наука поэзии, 372-373.
37. Аристотель. Этика Никомахова, V, 8, 1133а, 17.
38. Псалом, XXIV, 17.
39. Аристотель, I 2, 983а, 1-2; «Топика», I, 5, 126а, 35.
40. Петрарка перечисляет своих любимых римских поэтов.
41. Август Цезарь (63 до н.э. — 14 н.э.), римский прин-
цепс, при котором процветало государство, науки и
искусство; один из самых лочитаемых деятелей античности.
42. Гераклит (ок. 554 — 483 до н.э.), греческий философ.
Толкование многих мест его сочинений неоднозначно и
сегодня.
43. Августин. Исповедь, IV, 14, 28; IX, 5, 137.
442 Комментарии
44. Августин. О Граде Божьем, X, 19.
45. Августин. Толкование на Псалом 126, 11.
46. Августин. Толкование на Псалом 146, 12.
47. Григорий Великий. Гомилия на пророка Иезекии-
ля, I, 6, 1.
48. Эней, естественно, муж и герой; Петрарка этой
шуткой подчеркивает степень невежества врага.
49. Евангелие от Матфея, VII, 6.
50. Августин. О Граде Божьем, XVIII, 24.
51. Августин. Об истинной религии, I, 1.
52. Речь идет о фразе, содержащейся в т.н. посвящении
Корнелия Непота Саллюстию, которым якобы открывалась
«История фригийца Дарета о падении Трои».
53. Августин. Об истинной религии, I, 2.
54. Псалом XCV, 5; Книга премудрости Соломона II, 24.
55. Аристотель. Метафизика, I, 2, 983а, 2.
56. «Среди моих гор»: т.е. среди книг.
57. Петрарка в ироническом смысле описывает римский
обычай встречи на Капитолии, политическом и культурном
центре Рима, полководца-победителя в большой войне.
58. Книга Притчей Соломоновых, XXVI, 4-5.
59. Петрарка намекает на то, что занят историческими и
философско-этическими трудами в прозе. На самом деле, он
продолжал писать стихи и эпическую поэму «Африка».
60. Августин. О Граде Божьем, I, 3; Гораций.
Послания, I, 2, 70.
61. Викторин (IV век), знаменитый учитель риторики в
Риме, грамматик и поэт, родом из Африки. Его обращение с
чувством описано в восьмой книге «Исповеди» Августина.
62. Книга пророка Исайи, 65, 20; Сенека. Письма к Луци-
лию, 37, 4.
63. Плиний. Естественная история, XXXV, 36, 84-85.
«Суди не выше сапога» — сказал Апеллес.
64. Астрология в иерархии «искусств» стояла выше
медицины.
65. Клодий Публий Пульхр (ок. 92 — 52 до н.э.),
политический деятель времен Цицерона и главный его противник,
постоянно игравший на настроениях римских низов и даже
терроризировавший во главе вооруженных отрядов
население Рима; Веррес Гай (ум. в 43/42 до н.э.), римский
наместник в Сицилии, заслуживший скандальную славу
злоупотреблениями. Цицерон выступал обвинителем по его делу
перед Сенатом, написав 7 речей; Каталина Луций Сергий (108 —
нач. 62 до н.э.), римский политический деятель, строивший
планы ликвидации республики. Цицерону стали известны
Комментарии . 443
его намерения, и тогда он произнес речь в сенате,
положившую конец политической карьере Каталины; тот
организовал покушение на Цицерона, но неудачно. Антоний Марк
(82-30 до н.э.), римский политический деятель и
полководец, также противник республики.
66. Дейотар (ум. 40 до н.э.), тетрарх Галатии, Малой
Армении, подзащитный Цицерона; Планций (L в. до н.э.),
политический деятель римской республики, друг и
подзащитный Цицерона; Лигарий Квинт (I в. до н.э.), активный
участник политической жизни; будучи взят в плен, он был
предан суду, но оправдан Цицероном; Милон (I в. до н.э.),
политический деятель римской республики, попавший на
скамью подсудимых за убийство по политическим мотивам;
несмотря на защиту Цицерона, был приговорен к изгнанию.
67. Книга пророка Исайи, VI, 6.
68. Вергилий. Энеида, VII, 765-769.
69. Кодекс Юстиниана, I, 3, 18.
70. Эскулап — римский бог врачевания; Ипполит,
мифологический герой, сын Тезея, разбился на колеснице и был
воскрешен Эскулапом.
КНИГА IV
1. Петрарка посвятил разбору данных моментов II книгу
«Инвектив».
2. Трактат «Об уединенной жизни» Петрарка написал в
1346 году; перевод первой его книги публикуется в данном
издании.
3. Цицерон. Речь за Лигария, I, 2.
4. Hieronimus. Epistulae, LUI, 3, 4.
5. Беллерофонт, герой греческой мифологии,
пытавшийся на Пегасе взлететь на Олимп, но сброшенный оттуда на
землю, (см.: Цицерон. Тускуланские беседы, III, 26, 63). Ти-
мон Афинский (V в. до н.э.), ритор и философ времени
Сократа, ставший отшельником из-за разочарования в друзьях
и согражданах.
6. Гораций. Наука поэзии, 476.
7. Стоики — последователи греко-римской школы Стой,
зародившейся в Африке в V в. до н.э.; перипатетики —
ученики и последователи Аристотеля.
8. Петрарка явно иронизирует, т.к., с его точки зрения,
доблести и добродетели в городах обитают редко, а порок и
зло — часто.
9. Первая книга царств, XIX и др.
444 Комментарии
10. Иероним (347 — 419), знаменитый христианский
писатель, один из отцов церкви. Жил отшельником в
Вифлееме и по просьбе папы перевел Библию на латинский язык, на
котором ее и читали все во времена Петрарки и намного позже.
11. Сенека. Письма к Луцилйю, LXXXII, 3.
12. Персии Флакк. Сатиры, I, 7.
13. Августин, Об истинной вере, III, 3, 8.
14. Вергилий. Энеида, II, 604^606.
15. Архит (ок. 400 — 365 до н.э.), философ, математик,
политический деятель и полководец, один из виднейших
пифагорейцев.
16. Цицерон. О старости, XIII, 40-41.
17. Аполлон, греческий бог солнечного света, обладавший
даром предвидения; Дельфийский оракул — прорицатель,
служащий в Дельфах при храме Аполлона.
18. Гораций. Послания, I, 14, 21-22.
19. Напомним, речь идет о папе Клименте VI, умершем в
1352 году.
20. Copra — источник в местечке Воклюз неподалеку от
Авиньона, где жил Петрарка. Сохранилось несколько его
рисунков как раз с утесами над этим источником.
21. Аристоксен (354-300 до н!э.), греческий философ и
теоретик в области музыкального искусстсва.
22. Птолемей (ок. 83-161), выдающийся астроном
античности, а также астролог, математик и географ.
2,3. Гесиод (ок. 700 до н.э.), поэт. В поэме «Труды и дни»
восславлял крестьянский труд; Палладий (перв. пол. V в.),
римский писатель, автор «Труда о сельском хозяйстве»,
популярного в средние века.
24. Апостолы Петр и Андрей, ученики Христа, были
рыбаками (см.; Евангелие от Матфея, IV, 18-19; Евангелие от
Марка, I, 16-17).
25. Асклепиад (I в. до н.э.), греческий врач в Риме.
26. Речь идет о папе Иннокентии VI (1352-1362).
27. Речь опять идет об источнике.
28. Александр Македонский в своих завоеваниях и дошел до
берегов Инда, т.е. почти до пределов известного тогда мира;
Камбиз, царь персов (VI в. до н.э.), совершал далекие походы в
Нубию и Египет, также ставший краем земли обетованной.
29. Литерн — городок в италийской области Кампания;
Байи — любимое место отдыха, античный «курорт» римлян.
Сципион Африканский Старший, полководец и победитель
карфагенян, был обвинен в попытке присвоить себе большую
власть и добровольно удалился в свою усадьбу в Литерне.
Комментарии 445
30. Петрарка иронизирует: врач ежедневно будет доводить
пациентов до смертельного исхода, тем самым «удаляя» их
из общества.
31. Лукан. Фарсалия, I, 52. Нерон, римский император I в.
до н.э., был жестоким и мстительным человеком, считал
себя великим актером; у Петрарки он всегда — резко
отрицательный образ. В данном случае упоминание о Нероне
усиливает намешку.
32. В буквальном переводе эти имена обозначают:
Плесень, «Очистательница» (эпитет Венеры), Лихорадка.
33. Слова извлечены из Цицерона: О пределах добра и
зла, II, 13, 40.
34. Боэций. Утешение философией, III, 10, 25.
35. Augustinus. Enarratio in Psalmos, CXIII, serm. XVI, I.
36. Псалтирь, 81, 5-6.
37. Лукан. Фарсалия, VII, 793-872. Помдей Великий (106-
48 до н.э.), полководец и государственный деятель,
одержавший ряд крупных побед; Лабеон (ум. 10/11 н.э.), римский
юрист, автор множества трактатов; Геракл —
мифологический герой, совершивший множество подвигов; Ромул —
один из легендарных братьев — основателей Рима (сер. VIII в.
до н.э.). Петрарка черпает все эти сведения из Августина
(см.: Августин. О Граде Божьем, П,; 14).
38. Августин. О Граде Божьем, IX, 16. Цитируются слова
из «Тимея» Платона (28с.).
39. Откровение Иоанна Богослова, V, 5; Первое послание
Петра, V, 8.
40. Гален, Демосфен — см. коммент. 13 к кн. I; Авиценна
(780-1037), философ, врач, министр, автор многих работ, в
том числе «Канона врачебной науки».
41. Псалом, CI, 7.
42. См. об «удоде» кн. II.
43. Книга пророка Иеремии, IX, 23-24; Первое послание
апостола Павла к коринфянам, I, 31.
44. Брут. Письма к Цицерону, I, 16, 2.
45. Брут Марк Юний (85-42 до н.э.), политический
сторонник Цицерона. У Цицерона можно прочесть о нем в
трактате «Оратор» и «Брут», у Сенеки (Ритора) в «Контро-
версиях».
46. Петрарка намекает на несколько своих полемических
писем, адресованных Бридзио Висконти.
47. Саллюстий. Югуртинская война, X, 2.
48. См. об этих спорах «Инвективы против врача», кн. I и
комментарий (31 и др.).
446 Комментарии
49. Иероним (347-420), христианский писатель и один из
отцов церкви; Руфин (345-410), латинский писатель, вначале
ближайший друг Иеронима, а потом злейший его враг. Их
полемика касалась защиты или осуждения учения Оригена,
христианского писателя первой половины III века,
осужденного на диспуте.
50. Полемика между Иеронимом и Августином касалась
истолкования Священного Писания.
51. Книга притчей Соломоновых, XXVII, 2.
52. Источник не установлен.
53. Цицерон. О пределах добра и зла, I, 8, 27-28.
54. Цицерон. Об обязанностях, I, 38, 137.
55. Цицерон. О пределах добра и зла, I, 25, 80.
56. Древние историки называют убийцу: это знатный
македонский юноша, носивший имя Павсания.
57. Это был житель Эфеса Герострат, поджегший храм в
356 до н.э. в ночь рождения Александра Македонского.
ИНВЕКТИВА ПРОТИВ НЕКОЕГО ЧЕЛОВЕКА
ВЫСОКОГО ПОЛОЖЕНИЯ,
НО МАЛОЙ УЧЕНОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ
1. Инвектива направлена против папского протонотария
(главного нотариуса) Джованни ди Карамана, избранного
кардиналом в декабре 1350 года. Он был правнуком папы
Иоанна XXII, при посредстве которого род Караманов и
обрел положение, богатства, должности, знатность,
могущество, светский блеск, достигшие своего апогея как раз ко
времени избрания Джованни кардиналом.
2. Петрарка рассуждает о высших истинах и ценностях
жизни: Господь Бог, словно великий режиссер, расставляет
к концу жизни человека все акценты; перед лицом смерти
становится важно одно — каков ты по своей внутренней
сути, а не какие имел должности, звания, богатства.
3. Евтропий, римский историк времен Константина
Великого и ЙЗлйана Отступника (IV век), автор «Краткой
истории Рима». Его должность консула к этому времени была
скорее знаком высшего почета со стороны императоров, чем
выражением высшей гражданской власти, каковой являлся
консулат в прежние времена.
Гелиогабал (204-222), прозвище Аврелия Антонина,
римского императора с 218 по 222; отличался крайней разврат-
Комментарии 447
ностью и неуважением к государственным учреждениям.
Был убит собственными преторианцами-телохранителями.
4. Ювенал. Сатиры, II, 19-20.
5. Каталина (108-62 до н.э.), римский патриций,
организовавший заговор с целью захвата власти в государстве.
Нерон (37-68), один из самых жестоких римских
императоров. Взошел на престол при помощи преторианской
гвардии. И история его семьи, и история его властвования
отмечены убийствами, ссылками, преследованиями, гонениями,
конфискациями. Традиция рисует Нерона как тирана,
христиане — как антихриста.
Иуда — один из апостолов, учеников Христа, предавший
своего учителя.
6. Петрарка написал инвективу в 1354, через несколько
месяцев после переезда в Милан из Авиньона, где до этого
жил с перерывами больше 20 лет. В Авиньоне он был вхож в
папский дворец, знаком с кардиналами и высшим клиром,
пользовался авторитетом как ученый и признанием как
поэт. Очевидно, Джованни ди Караман не решался на
высказывания вслух, пока поэт не отбыл из папской столицы.
7. Петрарка переехал в Милан весной 1353 по
настоятельному приглашению его могущестеенного правителя
архиепископа Джованни Висконти й оставался там после его
смерти, когда власть перешла в руки Бернабо и Галеаццо
Висконти. До 1361 Висконти полностью подчинили себе и
законодательную, и исполнительную власть, и нередко на ее
место вставал произвол. Висконти были наследственными
синьорами Милана, но мйогие называли их тиранами и
порицали методы их политики. К чести и Висконти, и
Петрарки, он несколько лет жил в городе на правах почетного
гостя: власть не подмяла под себя поэта.
8. Тридцать тиранов — тридцать олигархов, захвативших
в 404 до н.э. власть в Афинах после поражения афинян в
Пелопоннесской войне и превративших эту власть в
неограниченную.
Дионисий II (367-344 до н.э.), сиракузский тиран,
прославившийся своими кутежами и жестокостью (осуждавшимися
Платоном) настолько, что его имя стало почти нарицательным.
Калисфен (370-327 до н.э.), греческий историк,
принимавший участие в походах Александра Македонского.
Александр — имеется в виду царь Александр
Македонский (356-323 до н.э.), после убийства отца жестко взявший
власть в Македонии в свои руки.
Сенека (4 до н.э. — 65 н.э.), римский философ-стоик,
государственный деятель и писатель. Был воспитателем
молодого Нерона.
448 Комментарии
9. Очевидно, Петрарка вспоминает неистовые
литературные нападки со стороны Бридзио Висконти в 1344 и
неизвестного нам по имени придворного медика папы Климента
VI в 1351-1352. Против первого было написано два больших
письма («Метрические послания», II, 11, 8), против второго —
самая объемная и яркая инвектива «Против врача», в 4 кн.,
публикуемая в этой книге.
10. Лукан. Фарсалия^ V, 343.
11. Лары — древнеримские божества, охраняющие дом
и семью.
12. Реминисценция из Горация, I, 12, 53-56:
...кого он
В Рим введет: парфян ли смиренных, Лаций
Мнивших взять, вождей ди индийцев, серов
С края Востока.
Серы — у греков и римлян так называли китайцев.
13. Гараманты — одно из африканских племен.
14. Ювенал. Сатиры, XIII, 159-160.
15. Август (63 до н.э.), римский император, покончил с
многолетними гражданскими войнами; был прославлен
поэтами как восстановитель добрых нравов и мира.
Сатурн — древнеримский бог земледельцев, считался
справедливым и добрым правителем золотого века.
16. Родан (Рона) — река в южной, Франции, впадающая в
Средиземное море. Авиньон стоит на месте слияния Дюран-
са, левого притока, с Роной.
17. «Край Ромулов»: Петрарка имеет в виду римскую
церковь, престол которой пребывал тогда в Авиньоне, и коллегию
кардиналов, одним из главных лиц которой был ди Караман.
18. Вергилий. Георгики, III, 566.
19. «Наши юноши»: речь идет о Бернабо и Галеаццо
Висконти; см. коммент. 7.
20. Агафокл (360-289 до н.э.), предводитель войска,,
составленного из наемников и искателей приключений; в 317
стал тираном Сиракуз.
Фаларис, тиран, правивший в VI в. до н.э. в г.Акраганте;
отличался крайней жестокостью.
Бусирис, в греческой мифологии сын Посейдона,
египетский царь, убивавший всех чужеземцев, которые приходили
в страну.
21. Петрарка имеет в виду Бридзио Висконти, правителя
Лоди, могущественного внебрачного сына Лукино Висконти.
Как уже упоминалось, в 1344 он написал против Петрарки
наглое стихотворение, на которое гуманист ответил двумя
письмами в стихах.
Комментарии 449
22. Персонаж не идентифицирован. Можно
предположить, что речь идет о кардинале Джованни Колонна,
который был другом и покровителем Петрарки и умер в 1348.
23. Симон — Симон Волхв из Самарии* современник
апостолов. По словам «Деяний апостолов» (8; 9, 24), творил
всякие чудеса и считал себя «кем-то великим». Просил
апостола Петра за деньги приобщить его к Духу Святому, за что
был строго обличен.
24. Ответ императора Тиберия (42 до н.э. — 37 н.э.) на
доходившие до него анонимные стихи, клеймившие его
деспотизм.
25. Александр — Александр Македонский.
Диоген Синопский (412-323 до н.э.), философ-киник,
прославившийся своей неприхотливостью.
О НЕВЕЖЕСТВЕ
СВОЕМ СОБСТВЕННОМ И МНОГИХ ДРУГИХ
1. Донато Альбанцани (ок. 1326-1411), один из друзей
Петрарки, учитель грамматики, преподававший в Равенне и
Венеции. Он переводил на итальянский язык трактат
Петрарки «О знаменитых- людях» и трактат Боккаччо «О
выдающихся женщинах».
Петрарка посвятил Донато инвективу. Она была составлена
в 1367 году, но отправлена другу из Падуи 13 января 1371.
2. Петрарка имерт в виду Венецию, в которой прожил
несколько лет (1362 — 1368).
3. Цезарь. О гражданской войне, III, 107.
4. Юстин (105-113), христианский писатель.
5. Донато Альбанцани, судя по одному из писем
Петрарки, настоятельно советовал другу ответить на упреки тех
«друзей», о которых в общей форме шла речь в начале
инвективы (см.: Sen XV, 8).
6. «Несколько друзей»: Леонардо Дандоло, Томмазо Та-
ленти, Захария Конгарини, Гвидо да Баньоло: первые трое —
венецианцы, последний — из Эмилии. Известно, что первый
был «рыцарь», второй — «простой торговец», третий —
«просто знатный», четвертый — «медик».
Петрарка, как отмечалось выше, жил в Венеции (1362-
1368), где в 1365 и познакомился с этими молодыми людьми,
которые были приверженцами Аристотеля. Они пришли к
заключению, что Петрарка добрый, но неученый,
невежественный человек, и стали в отсутствие гуманиста высказывать
свое мнение вслух.
15 — 2W5S
450 Комментарии
Об этом ему сказал Донато Албанцани, которому и
адресуется инвектива.
7. «Нерушимый закон дружбы»: Петрарка имел
обыкновение не называть имей тех, с кем полемизировал (см.: Sen.,
XV, 14).
8. Ювенал. Сатиры, X, 12.
9. О своей внешности Петрарка говорит в начале
знаменитого «Письма к потомкам»; в нескольких фразах
описывает ее и Боккаччо в биографии Петрарки, перевод которой
публикуется в данной книге.
10. Овидий. Искусство любви, II, ИЗ.
11. Книга Притчей Соломоновых, XXXI, 30.
12. Цицерон. Об ораторе, II, 33, 144.
13. Исократ (436-338 до н.э.) афинский оратор, учитель
риторики и публицист.
14. Августин. Исповедь, V, 13, 23. Амвросий Медиолан-
ский (333-397), епископ, один из известнейших
христианских проповедников и писателей IV века.
15. Пенфей — фиванский царь, не почитавший Диониса;
был растерзан вакханками, в числе которых находилась и его
мать Агава.
16. Терсит — персонаж «Илиады», вызывавший смех и
презрение греческих воинов из-за своего безобразного
внешнего вида; Херил — имя поэта, которого Гораций называет
«скверный поэт» (Послания, II, 233).
17. Первый — Леонардо Дандоло, второй — Томмазо Та-
ленти, третий — Захария Контарини, четвертый — Гвидо да
Баньоло; см.: Цицерон. Тускуланские беседы, II, 4, 12, 7
18. Аримаспы — мифическое племя, населявшее северное
побережье Черного моря (Плиний. Естественная история,
VII, 2, 10).
19. Большая часть перечисленных Петраркой сведений
черпалась современными ему схоластами из
энциклопедических сочинений римского писателя I в. н.э. Плиния
Старшего, латинского ученого конца V — начала VI в. Исидора Се-
вильского и средневекого автора XIII в. Винсента из Бовэ.
20. Роберт Анжуйский (1278-1343), стал королем
Сицилии в 1309 году. Из многочисленных рассказов самого
Петрарки и его биографов известно, что король лично
экзаменовал поэта перед публичной коронацией его лавровым
венцом на Капитолии (март 1341) и затем многократно
приглашал в Неаполь ко двору.
21. Речь идет о Бенедикте XII (1335-1342), Клименте VI
(1342-1352), Иннокентии VI (1352-1362), которые охотно на-
Комментарии 451
значали Петрарке бенефиции, обеспечившие ему жизнь, и
не раз предлагали место папского секретаря.
22. Урбан V (1362-1370). Петрарка адресовал ему
несколько больших писем с призывом вернуть папский престол из
Авиньона в Рим (см.: Sen. I, 2, 3; К, 1, 2, 12, 16, 17).
23. Речь идет об императоре Карле IV Люксембургском
(1347-1378), с которым Петрарка имел переписку, встречался
и больше всего побуждал обратить серьезное внимание на
италийские дела.
24. Определение Катона таково: «Оратор — муж
добродетельный, опытный в говорении».
25. «Доброе имя лучше дорогой мази» (Экклезиаст. 7, 1).
26. Ср.: Первая книга царств, И, 3: «Дерзкие слова да не
исходят из уст ваших».
27. Первая Книга царств, II, 4.
28. Ср.: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь —
твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой. Бог мой —
скала моя» (Псалом XVII, 2-3).
29. Августин. О Граде Божьем, XIV, 28.
30. Аристотель. Никомахова этика, I, 3, 1094в, 27-28.
31. Сенека. Письма к Луцилию, CVIII, 27.
32. См.: Там же. СШ, 28.
33. См.: Petrarca Fr. Bucolicum carmen, IX, 38-39".
34. Макробий. Сатурналии, II, 7, 2-3.
35. Петрарка вспоминает о городах, с которыми были
связаны его молодые годы. Его отец, флорентийский
изгнанник, поселился с семьей в Карпентрасе и служил в
Авиньоне, тогдашней папской столице, по нотариальной
части. Монпелье был ближайшим университетским городом,
куда Франческо Петрарка был определен для изучения права
(1316-1320); затем он продолжал образование в Болонье, но
бросил факультет права. В Тулузе и Париже он побывал в
первой половине 1330-х гг., когда состоял на службе у
авиньонского кардинала Джованни Колонна; в Падуе бывал
многократно по приглашению ее правителей и неподалеку
от нее провел последние годы жизни. А в Неаполе
происходил знаменитый экзамен перед лиЦом короля Роберта, о
котором упоминалось выше (см. коммент. 20).
36. Петрарка чуть-чуть касается здесь вопроса, очень его
волновавшего: о месте папского престола. По разным
причинам он был перенесен в первые годы XIV века из Рима в
Авиньон, стоящий на левом берегу Рода на. В 1367 году папа
Урбан V вернулся вместе с курией в Рим. Об этом и пишет
Петрарка как о недавнем событии. Добавим, что возвраще-
15*
452 Комментарии
ние оказалось временным, в 1370 году курия и Урбан V
вновь оказались в Авиньоне. Окончательно престол осел в
Риме уже после смерти Петрарки, в 1377 году.
37. Во время своей службы у кардинала Колонна
Петрарка купил в уединенной долине Воклюз скромный домик,
который служил ему обителью много лет и оказался
прекрасным местом для творчества. Поэт любовно называет
местечко Геликоном, где, по греческим преданиям, обитали музы.
Геликон — одна из гор Греции.
38. Следует напомнить, что речь идет о Венеции.
39. Цицерон. О дружбе, XVIII, 65; XXVI, 87.
40. Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Август^ XXXIV.
41. Цицерон. О природе богов, 1, 5, 10.
42. Речь идет о трактате Аристотеля «Никомахова этика».
43. Августин. О Троице, XIII, 4 (Patr. lat., 42, col. 1018).
44. Петрарка вспоминает один из его диалогов (Jeronimus.
Dialogus contra Pelagium, I, 19. Patr. lat, 23, coL 535).
45. Послание апостола Павла к римлянам, XI, 34.
46. Экклезиаст, III, 22-23.
47. Слова Демокрита цитируются по Цицерону: Cicero.
De divinatione, 11, 13, 30.
48. Цицерон. О природе богов, 1,8, 18.
49. Гомер. Илиада, XV, 13-17:
Быстро и грозно на Геру смотря, провещал громовержец:
Козни твои, о злотворная, вечно коварная Гера,
Гектора мощного с боя свели и троян устрашили,
Но еще я не знаю, не первая ль козней преступных
Вкусишь ты плод, как ударами молний тебя избичую!
50. Гомер. Илиада, 11, 204-206:
Нет в многовластии блага; да будет единый властитель;
Царь нам да будет единый, которому Зевс прозорливый
Скиптр даровал и законы: да царствует он над другими.
51. Аристотель. Метафизика, 1076а, 5 цитирует Гомера
(Илиада, 11, 204): «Нехорошо многовластье: один да будет
властитель».
52. Атрид — имеется в виду Агамемнон, ставший
предводителем ахейцев в войне против Трои.
53. Петрарка имеет в виду трактат Цицерона «О природе
богов» в трех книгах, опубликованный в 44 до н.э. и
посвященный Бруту.
54. Послание апостола Павла к римлянам, 10, 18,
55. Cicero. De inventione, 1, 29, 46.
56. Цицерон. О природе богов, 11, 28, 71.
57. Второзаконие, XXXII, 39.
Комментарии 453
58. Псалом XCV, 5.
59. Бальб — Луцилий Бальб, Квинт, стоик убежденный и
знаменитый, ученик Панетия; в диалоге Цицерона «О
природе богов» он выведен в качестве представителя стоической
философии.
60. Академическая школа, или Академия — первая строго
организованная философская школа, созданная Платоном и
просуществовавшая как явление почти тысячу лет.
61. Церера — древнеиталийско-римская богиня полей,
земледелия и хлебных злаков; Нептун — в римской
мифологии бог морей и потоков; Юпитер — верховное божество
римлян; Вулкан — римский бог огня.
62. Лактанций. Божественные установления, I, 11, 37.
Лактанций Люций Целий Фирмиан (ок. 250 — ок. 330) —
христианский богослов и писатель; его «Божественные
установления» — одна из первых попыток систематически
изложить на латинском христианское вероучение.
63. Цицерон. Q природе богов, III, 21, 53.
64. Первая книга «Божественных установлений» почти
полностью посвящена критическому рассмотрению
языческой религии, которая объявляется неистинной.
65. Большую часть этих сведений Петрарка почерпнул в
третьей книге сочинения Цицерона «О природе богов».
У римлян очень рано возник культ Солнца или
солнечного бога; Меркурий — бог торговли, купцов и прибыли в
древнем Риме, вестник богов; Дионис — греческий бог
виноградарства и виноделия, соответствовал римскому Либеру;
Минерва — римская богиня искусств и талантов,
покровительница ремесел; Вулкан — см. коммент. 61; Аполлон — греческий
бог солнечного света; Бенера — римская богиня любви;
Эскулап — римский бог врачевания; Купидон — бог любви у
римлян; Диана — римская богиня охоты, природы, плодородия и
деторождения; Геркулес (Геракл) — любимый герой греческих
сказаний, вознесенный как бог на Олимп; Варрон (116-27 до
н.э.) — римский писатель и ученый-энциклопедист.
66. По-латыни солнце — sol, а один — solus; Петрарка
приводит в данном случае аргумент из сочинения Цицерона
«О природе богов» (III, 21, 54)
67. Идея переселения душ (метемпсихоз) возникла
задолго до Пифагора; пифагорейцы ревностно придерживались
этого учения.
68. Лактанций. Божественные установления, III, 18, 15-17.
Евфорбий — троянский воин.
69. Метапонт — город на побережье Тарентского залива,
основанный ахейцами в VII в. до н.э.
454 Комментарии
70. Демокрит (460-371 до н.э.) — греческий философ,
главный представитель античной атомистики.
Сведения о его взглядах и влиянии на Эпикура Петрарка
черпал у Цицерона, Лактанция, Августина.
71. Персии. Сатиры, III, 83-84.
72. Platonis Timaeus interprete Omicidio / Ed. J.Wrobel. Lipsia,
1876. Cap. 276. P. 306.
73. Цицерон. О природе богов, II, 67, 168.
74. Петрарка цитирует Светония, который писал, что
Август «в слоге стремился к изяществу и умеренности... больше
всего он старался как можно яснее выразить свою мысль»
(Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Август, 86, 1).
75. Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Август, 86. 1.
76. Аристотель. Метафизика, 981, В7.
77. Цицерон. О законах, 11, 19, 47.
78. Публий Сир (I до н.э.) — римский поэт, автор мимов,
коротких сценок из жизни. Под его именем сохранился
сборник «Сентенций», представляющий собой
расположенные в алфавитном порядке остроумные изречения. Был
очень популярен у средневековых читателей.
79. Цит: Геллий. Аттические ночи, XVII, 14.
80. Экклезиаст, VI, 11.
81. Первое послание апостола Павла к коринфянам, XI, 16.
82. Послание апостола Павла к колоссянам, II, 8.
83. Веллей — собеседник Цицерона в трактате «О природе
богов», приверженец учения Эпикура (О природе богов, 1,8,19).
84. Цицерон. О природе богов, I, 8, 19.
85. Псалом XXXII, 9.
86. Евангелие от Иоанна, I, I: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог».
87. Цицерон. О природе богов, I, 8, 20.
88. Цицерон. О природе богов, I, 8, 21.
89. Cicero. De divinatione, I, 19, 36.
90. Псалом LXXXIX, 4.
91. Августин. О Граде Божьем, XII, 13.
92. Макробий (род. ок. 400 н.э.), латинский писатель,
создавший, в частности, комментарий к сочинениям
Цицерона «Сон Сципиона».
93. Macrobius. Somnium Scipionis, II, 10, 9.
94. Цицерон. О природе богов, I, 9, 21.
95. Августин. О Граде Божьем, XII, 16.
96. Macrobius. Somnium Scipionis, II, 15, 18.
97. Гораций. Послания, I, I, 14.
98. Петрарка, скорее всего, имеет в виду сочинение
Цицерона «Об ораторе» (III, 35, 141).
Комментарии 455
99. Петрарка написал инвективу за несколько дней, пока
он на барке добирался из Венеции в Геную.
100. «Соломенный переулок» — университетский квартал в
Париже, где находились школы факультета свободных искусств.
101. Аристотель. Метафизика, 987, BI.
102. Цицерон. Об обязанностях, I, 1, 4. Сведения
Петрарки о взаимном презрении Сократа и Аристотеля ошибочны
уже из-за разного времени жизни того и другого (Сократ —
470-399, Аристотель - 384-322).
103. Цит. по: Цицерон. Об обязанностях, 1,5, 15.
104. Пегас — в греческой мифологии крылатый конь,
выбивший ударом копыта на горе муз — Геликоне — источник.
105. «Гортензий», или «О философии» — не дошедший до
нас диалог Цицерона; Гортензий Квинт (114-50 до н.э.) —
римский оратор и юрист.
106. Августин. Исповедь, III, 4, 7; VIII, 7, 17.
107. Platonis Timaeus Interprete Chalcidio. Cap. 250. P. 284.
108. Овидий. Скорбные элегии, IV, 10, 41-42.
109. О них см ранее.
110. Cicero. Academicorum posteriorum; Вергилий. Энеида,
VI; Плиний. Естественная история, VII, 31, 1; Апулей. О
божестве Сократа; Macrobius. Somnium Scipionis; Censorinus, De
die natali, 14, 12; Josiphus Flavius. Contra Apionem, II;
Ambrosius. De Abraham, II, 37; Августин. О Граде Божьем,
VI-II, 4-9: Jeronimus. Dialogue contra Pelagium, 111, 7.
111. Аверроэс, Ибн Рушд (1126-1198) — арабский
философ, ревностный поклонник Аристотеля^ комментарий к
трудам которого стал одним из главных дел его жизни.
112. «Книга сентенций» принадлежит перу знаменитого
схоласта Петра Ломбардского, составлена ок. 1150; была
широко известна в средние века.
113. Macrobius. Somnium Scipionis, И.
114. О них см. ранее.
115. «Этого и греки... не скрывают» — Петрарка называет
греками современных ему византийцев; он нередко
подчеркивает, что они отстали от «латинян» в науках и далеки от
учености славных древнегреческих философов.
116. Петрарка имеет в виду сочинение Августина «Об
истинной религии» («De vera religione») (Pair, lat, 34, col. 124 sqq).
117. «Сохраненная твоими заботливыми руками»:
Петрарка имеет в виду Донато Альбанцани, которому поручал
попечение о своих книгах при отъездах из Венеции.
118. Варлаам Калабрийский (1290-1348), богослов,
математик, астроном, философ; получил образование при
католическом монастыре в Италии, одно время служил при дво-
456 Комментарии
ре византийского императора и в 1339 как посланник
Константинополя был в Авиньоне, где Петрарка и мог с ним
познакомиться. По обстоятельствам судьбы, с начала 1342 жил
в Авиньоне, обучал Петрарку греческому языку, потом был
поставлен епископом одного из городов Калабрии, где и
умер в 1347.
119. Jeronimus. Epistulàe, XXII, 30, 4 (Patr. lat., 22, col. 416).
120. Августин. Исповедь, III, 4, 7; Vili, 7, 17.
121. «Ужасное видение»: знаменитое антицицеронианское
видение Иеронима, описанное в письме к Евстохии (Jeronimus.
Epistulàe, XXII); «тяжбы с Руфином»: намек на резкую полемику
между Иеронимом и латинским писателем Руфином об учении
Оригена (185-253), христианского философа.
122. Августин Аврелий (354-430), родился в г. Тагасте,
Северная Африка. Блестяще знал античную поэзию,
философию, историю. Принял христианство в 387 под влиянием
епископа Амвросия и вскоре стал величайшим защитником
этой веры, полемизируя с Манихеями, пелагианцами, дона-
тистами; «золото и серебро египтян»: метафора, означающая,
что Августин, обратившись в христианство из язычества,
взял из языческой культуры самое лучшее. Сам Августин
использовал данную метафору в отношении Киприана, Лак-
танция, Викторина, Оптата, Гилария (О христианском
учений,^, 40, 61).
123. См.: Августин. О Граде Божьем, VHI, 4-9, 11; X, 2;
XI, 4, 5, 6; Августин,Об истинной религии, 3.
124. Августин. Об истинной религии, 3.
125. Первое послание апостола Павла к коринфянам, XI, 19.
126. Викторин, знаменитый оратор и учитель риторики.
Родился ок. 300 в проконсульской Африке, ок. 340 переселился
в Рим. Христианство принял ок. 355. Статуя ему была
поставлена на форуме Траяна (см.: Августин. Исповедь, VIII, 2-5).
127. См.: Августин. Исповедь, VI, 13-14.
Ì28. «Известный муж»; имя установить не удалось; скорее
всего, кто-то из высших лиц авиньонского клира.
129. Jeronimus. Commentarius in Epistulam ad Galatas, I
(Patr. lat., 26, col. 345).
130. Петрарка называет имена мифических героев и
исторических личностей, связанных дружескими узами; каждый
первый в этих парах старше и знаменитее второго.
Филокгет после смерти Геракла получил его оружие,
участвовал в Троянской войне; Пирифой помогал Тезею
похитить Елену; Сципиона и Лелия Цицерон в трактате «О
дружбе» выводит как образцовых друзей.
Комментарии 457
ИНВЕКТИВА ПРОТИВ ТОГО,
кто хулет Италию
1. Инвектива написана в 1373 в форме письма к Угуччоне
да Тиене (см. о нем ниже) и является ответом на сочинение
Жана де Исдэна (Magistri Johantìis de Hisdinio contra Francis-
cum Petrarcham epistola // Atti R, Academia Arch. Lett. Arti.
Napoli, 1920, N. 5. VII), в котором критиковалось послание
Петрарки к папе Урбану V (Sen. IX, 1). В этом послании
гуманист призывал папу вернуть престол в Рим, исконное
место пребывания главы церкви. Папство перекочевало в Авиньон
в 1309, что было на руку т.н. «французской» партии кардиналов,
интересы которой и выражал Жан де Исдэн.
2. О Жане де Исдэне известно, что он родился около
1320, теологическое образование и ученые степени получил
в Париже; служил у авиньонских кардиналов и других
духовных лиц. Писал трактаты и речи. Его-то Петрарка и
называет в начале инвективы «схоластом».
«Спор», о котором упоминается в первой фразе, — о
месте пребывания папского престола — шел между
«французской» («галльской») и «итальянской» партиями кардиналов.
«Давно был занят другим»: в последний год жизни
Петрарка спешил довершить или дополнить многие труды:
трактаты «О знаменитых мужах» и «Об уединенной жизни»,
сборник стихов «Канцониере», «Старческие письма», поэмы
«Триумфов».
3. Угуччоне да Тиене происходил из старинной и знатной
семьи. Он приезжал в Падую дважды: между сентябрем и
октябрем 1372 и затем в январе 1373, когда и состоялась его
встреча с Петраркой.
4. «Письмо мое...»: Sen. IX, 1. Оно было написано весной
1368 года.
5. «Manipulus florum» («Букет цветов») — сборник
изречений, популярнейший труд Томмазо Ибернико (Tommaso
Ibernico) от начала XIV в., типично средневековая хрестоматия.
6. Когда Нерону предложили подписать указ о казни некоего
уголовного преступника, он воскликнул: «О если бы я не умел
писать!» (Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Нерон, 10, 2).
7. Евангелие от Луки, X, 30.
8. См. коммент. 7.
9. Илиада, IV, 350. Петрарка цитирует «Илиаду» по
латинскому переводу, сделанному для него и Боккаччо
Леонтием Пилатом, учителем греческого языка.
10. Письмо Петрарки папе Урбану V начиналось цитатой
из Псалмов (CXIII, 1): «Когда вышел Израиль из Египта,
458 Комментарии
дом Иакова из народа иноплеменного». Петрарка сравнивает
пребывание папского престола в Авиньоне с египетским
пленением, а французов — как бы с иноплеменным,
варварским народом. Это и вызвало, в первую очередь, негодование
Исдэна, начавшего свое письмо цитатой из Евангелия от Луки.
11. Лукан. Фарсалия, I, 459.
12. Вавилон был разрушен лидийским царем Крезом;
Троя сожжена греками; Карфаген в 146 до н.э. снесен с лица
земли римлянами; Афины в 404 до н.э. были разрушены
спартанцами; Спарта была разрушена в 395 до н.э. готами,
Коринф в 146 до н.э. разрушили римляне.
13. Петрарка и здесь, и далее имеет в виду свое письмо
Урбану V (Sen. IX, 1).
14. Евангелие от Марка, XIV, 64.
15. Петрарка постоянно играет словами «варвары»,
«бывшие рабы» и пр. в отношении «галлов», т.е. французов,
чтобы, по закону инвективы, сильнее уязвить оппонента.
Галлия, во времена Петрарки давно Франция, была
окончательно завоевана римлянами в начале I в. н.э. С приходом
франков в конце V в. римская власть уступила место германской.
16. Петрарка имеет в виду Кола ди Риенци, поднявшего в
1347 в Риме восстание с лозунгами восстановления величия
Вечного города, его республиканского переустройства на
началах свободы, законности, справедливости. Петрарка
активно приветствовал из Авиньона инициативы Кола, написал
ему за короткий срок несколько писем, полных
политических советов, рекомендаций, предостережений. Часть этих
посланий вошла в состав «Писем без адреса».
Восстание потерпело поражение, отсюда и упоминание о
«слабых плечах» Кола и скрытый упрек по поводу
недостаточной твердости и постоянства.
17. Известие о перевороте Кола ди Риенци застало
Петрарку в Воклюзе, расположенном неподалеку от Авиньона,
где он по большей части жил до переезда в Италию.
18. Дигесты, XI, 7, 2.
19. Кодекс Юстиниана, I, 14, 9.
20. Парламент возник во Франции в 1302.
21. Имеется в виду папа Урбан V.
22. Урбан V происходил из знатного французского рода,
был аббатом в Марселе и доктором богословия, затем
шестым авиньонским папой (1362-1370).
23. Ювенал. Сатиры, X, 49-50. «Баранья страна» — Беотия.
24. «Недоставало лишь постоянства»: Урбан V перенес
престол в Рим в 1367, но в апреле 1370 покинул город, и в
сентябре папский двор вновь был в Авиньоне.
Комментарии 459
25. По преданию, Римская церковь основана апостолом
Петром, наместником Христа на земле. Собор св. Петра
считается главным в Риме.
26. Петрарка действительно начал новое письмо к Урбану
V (Var. 3), оставшееся незавершеным ввиду смерти папы,
последовавшей 19 декабря 1370.
27. «Резкое письмо» — Sen. VII, 1 от 29 июня 1366.
28. «Год спустя» — папа прибыл в Рим в октябре 1367,
а в 1368 Петрарка отправил ему уже упомянутое письмо
(Sen. IX, 1).
29. Петрарка отправился на встречу к папе в апреле 1370,
но в Ферраре с ним приключился глубокий обморок,
заставивший прервать поездку.
30. «Стоял на крепком камне». Петрарка играет словами:
«Петр» — по-гречески «камень», значит, папа не имел
достаточной решимости удержаться в Риме, при алтаре св. Петра.
31. «В живом аду» — обычная у Петрарки метафора для
Авиньона.
32. Книга пророка Иоиля, I, 5.
33. «Мечтая лишь о блеске ничтожной тряпки» — намек
на красную епископскую шапочку.
34. Евангелие от Иоанна, IX, 34.
35. «Назвал Урбана счастливым» — в письме 1368 г.
(Sen. IX, 1).
36. Лукан. Фарсалия, V, 28-29. Петрарка называет Лукана
кордубанцем по месту его рождения — Кордове в Испании.
37. «Наш понтифик» — Петрарка имеет в виду папу
Григория EX, пришедшего на смену Урбану V. Григорию IX удалось
(уже после смерти Петрарки) вернуть папский престол в Рим.
38. М.Фурий Камилл, представитель древнейшего
патрицианского рода, прославился как полководец в 396 до н.э.,
когда после длительной осады овладел этрусским городом
Вейи. Согласно традиции, в 391 был привлечен к суду,
признан виновным за некое преступление и осужден на
изгнание. В 387 был призван римлянами, чтобы нанести
окончательное поражение галлам, захватившим Рим. Удостоился
почетного титула «второго основателя Рима».
39. Апостол Петр принял в Риме мученическую смерть
через распятие вниз головой при Нероне, между 67 и 69.
40. Ювенал. Сатиры, III, 8.
41. Вергилий. Энеида, I, 99.
42. Вергилий. Энеида, XII, 107.
43. Римского императора Нерона (37-68) называют
первым гонителем христиан, даже — антихристом (Лактанций).
460 Комментарии
Измена преторианской гвардии и осуждение сената
вынудили Нерона покончить с собой.
Император Домициан (51-96) прославился своей
жестокостью, преследованиями философов-стоиков* казнями. Был
убит в результате заговора и проклят сенатом.
44. «Мститель за Христа» — Петрарка имеет в виду
римского императора Тита Флавия Веспасиана, захватившего и
разрушившего в 70 Иерусалим — город, в окрестностях
которого на горе Голгофа был казнен Христос.
45. Согласно данным некоторых средневековых авторов,
Понтий Пилат, римский прокуратор, правитель Палестины,
давший согласие на казнь Христа, был родом из
французского (галльского) города Лиона.
46. «Тот святой муж». Петрарка имеет в виду Святого
Бернара Клервоского (1090-1153), суждения которого
относительно Рима вспоминает Исдэн.
47. «Сам Янус», древнеримское божество ворот и дверей.
Ворота его храма в Риме закрывались только в мирное время.
«Со времен» второго царя древнего Рима Нумы Помпилия
(715-673/672 до н.э.) до императора Цезаря Августа (63 до н.э. —
14 н.э.) — т.е. за шесть веков.
48. Ливии. История Рима от основания города, XXX, 16, 9.
49. Там же. XXII, 37, 3.
50. Там же. XXX, 42, 16-17.
51. Там же. IX, 18, 6.
52. «Легкомысленнейший из галлов». Петрарка намекает
на поэта Шатийона, опубликовавшего в 1184 эпическую
поэму в 10 книгах под названием «Александриада».
53. «Вы железом выжигали их язвы». Гай Юлий Цезарь
(100-44) в 58-51 до н.э. вел войну в Галлии и сделал ее до
самого Рейна римской провинцией.
54. Ливии. История Рима of основания города, IX, 18-9.
55. Там же. XXII, 32, 4-9.
56. Там же. XXII, 36, 9.
57. Там же. XX, 21, 3-5.
58. Киней — советник Пирра, фессалиец, ученик
Демосфена, который с помощью своего красноречия пытался
вручить богатые подарки римлянам.
59. Птолемей (240-204 до н.э.), царь Египта.
Масинисса (240-149 до н.э.), нумидийский царек; во
время 2-й Пунической войны изменил Карфагену и перешел на
сторону римлян.
Атгал I (241-197 до н.э.), пергамский царь, союзник
римлян в Македонской войне 215-205.
____^ Комментарии
Эвмен (197-159 до н.э.), сын Аттала I, достиг могущества
в Азии благодаря союзу с Римом.
Гиерон (306-214 до н.э.), царь Сицилии, во время 1-й
Пунической войны перешел на сторону Рима; был союзником
римлян и во 2-й Пунической войне.
Дейотар (умер в 40 до н.э.), правитель Галатии, которого
римляне за помощь в азиатских войнах наградили титулом
царя Малой Армении.
Мамертинцы — наемники на службе у сиракузских
тиранов, захватившие власть в Мессане и учредившие там
республику; обратившись за помощью к Риму, нашли у римлян
поддержку.
60. Саллюстий. Югуртинская война, 104, 5.
61. Саллюстий. Заговор Каталины, VI, 5.
62. Саллюстий. Югуртинская война, 102, 11.
63. Florus. Epistolae, I, 45, 21, 26.
64. Саллюстий. Заговор Каталины, 54, 4.
65. Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Тит, 86, 1.
66. Там же. 8, 2.
67. Имя автора неизвестно.
68. Петрарка продолжает говорить об Аристотеле.
69. «Некоторые из наших» — т.е. римских, латинских
авторов.
70. Петрарка имеет в виду инвективу «О невежестве
своем собственном и многих других», написанную в 1367 и
увидевшую свет после доработок в 1371. Перевод этой
инвективы также опубликован в данной книге.
71. Аристотель. Этика, II, 2, 1 (1103В).
72. Цицерон. Тускуланские беседы, I, 1.
73. Подобного суждения о Сенеке не обнаруживается ни
у Плутарха, ни у Псевдо-Плутарха. Возможно, у Петрарки в
руках был какой-то неизвестный ныне источник.
74. «Физика», «Этика» («Никомахова этика»),
«Экономика», «Политика», «Метафизика» — сочинения Аристотеля;
«Он написал о домашних делах... о государстве... о военных
делах». Петрарка имеет в виду сочинения Цицерона «О
своем доме», «Об обязанностях», «О государстве».
75. Петрарка имеет в виду сочинения Цицерона «О
законах», «Гортензий», «Учения академиков».
76. Августин. Исповедь, III, 4, 7.
77. Петрарка без кавычек перечисляет названия трудов
Цицерона.
78. Варрон Марк Теренций (116-27 до н.э.) — римский
ученый-энциклопедист. Основное произведение — «Челове-
462 Комментарии
ческие и божественные древности» в 41 книге. Это
сочинение, ныне утерянное, и имел в виду Петрарка.
79. Петрарка приводит один из мифов, распространеных
среди кельтов (галлов), о происхождении людей от божества
загробного мира.
80. Иероним (347-419/420) — один из четырех «учителей»
западной церкви, перевел Библию на латинский язык,
написал много оригинальных сочинений.
81. Августин. О Граде Божьем, VI, 2.
82. Гигин Гай Юлий — грамматик и баснописец эпохи
Августа.
83. Seneca. Consolatio ad Helviam, 7, 7.
84. Петрарка явно иронизирует, т.к. Галлия, как было
сказано выше, была завоевана римлянами уже ко временам
Гая Юлия Цезаря.
85. Вергилий. Энеида, VII, 240.
86. В 1333, во время своего путешествия во Францию,
Германию и Фландрию, Петрарка побывал в Генте и стал
считать, что город основан Цезарем (см. Fam. I, 4).
87. Петрарка имеет в виду сочинение историка Тита
Ливия «История Рима от основания города» из 142 книг. Ливии
идеализировал Рим, хранящий доблестные традиции предков.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЖОВАННИ БОККАЧЧО
«О ЖИЗНИ И НРАВАХ ГОСПОДИНА
ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ ИЗ ФЛОРЕНЦИИ»
1. Папа Бенедикт XII был на престоле с 1335 по 1342.
2. Боккаччо неточно называет дату рождения Петрарки:
он родился 20 июля 1304, а в 1307 — его брат Герардо.
3. Отец Петрарки был вынужден бежать из Флоренции в
1302, в один год со своим другом Данте, так как в городе к
власти принта политическая партия «черных» гвельфов,
противником которой он был.
4. Этот переезд произошел в 1312.
5. Петрарка приехал в Болонью в 1320.
6. Пиэриды — Музы (в древнегреческой мифологии
девять богинь-покровительниц искусств и наук, а Аполлон
предводительствовал ими).
7. Парнас — гора в Греции; в древнегреческой мифологии
она считалась местом обитания Аполлона и Муз, у подножья
Комментарии 463
Парнаса находился город Дельфы со знаменитым храмом
Аполлона.
8. Лар — дух-хранитель домашнего очага у древних римлян.
9. Меонид — Гомер, самый знаменитый поэт древней
Греции; мысль отца Петрарки проста: если великий поэт не
нажил богатства, то что говорить о прочих. Слова, вложенные в
уста отца Петрарки, произнес отец Овидия, не одобрявший
занятия поэзией (Овидий. Скорбные элегии, IV, 10, 21-22).
10. Пророк из Смирны — Боккаччо вновь имеет в виду
Гомера. Смирна (в Малой Азии) в числе семи других городов
оспаривала право называться родиной легендарного эпического
поэта; плектр — палочка, которой ударяли по струнам кифары,
так могли называть и кифару; Улисс — Одиссей, легендарный
царь Итаки, главный герой поэмы Гомера «Одиссея».
11. Теренций (ок. 195-159 до н.э.) — римский драматург,
до нас дошло шесть его пьес; Талия — муза комедии.
12. Марон — Публий Вергилий Марон (70-19 до н.э.) —
знаменитый римский поэт. Боккаччо перечисляет основные
темы поэтических сочинений Вергилия: игры пастухов он
воспел в «Буколиках» (Пастушеских песнях), сельские работы —
в поэме «Георгики» (поэме о земледелии), поражение Трои — в
«Энеиде» (поэме о войнах и странствиях троянца Энея).
Пенаты — боги-хранители домашнего очага. Элизий — по античным
представлениям, обитель блаженных в царстве мертвых.
13. Флакк — Квинт Гораций Флакк (65 до н.э. — 8 н.э.) —
римский поэт; создал две книги сатир (бесед) и четыре
книги лирических стихов (од).
14. Назон — Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 18 н. э.) —
римский поэт, прославившийся как автор любовной
лирики — «Метаморфоз», «Скорбных элегий», «Понтийских
посланий» («Посланий с Понта»).
15. Марк Анней Лукан (39-65) — римский эпический
поэт, автор поэмы «Фарсалия, или О гражданской войне»,
описывающей войну между Цезарем и Помпеем в 49-47 до н. э,;
Каллиопа — муза эпической поэзии; Сгатий (45-96) — римский
поэт времени Домициана, автор поэм «Фиваида», сборника
стихов «Сильва»; Децим Юний Ювенал (ок. 60 — ок. 127) —
римский поэт-сатирик, написавший 16 сатир в пяти книгах.
16. Самосский философ — Пифагор (ок. 570 — ок. 500
до н.э.).
17. Марк Туллий Цицерон (106-43 до н.э.) — римский
оратор, юрист, писатель, философ, политик; его главные
философские сочинения: «Тускуланские беседы», «О пределах
добра и зла», «О природе богов»; Луций Анней Сенека (ок.
464 Комментарии
4-65) — римский политический деятель, философ-стоик;
автор таких сочинений, как «О спокойствии души», «О
твердости мудреца» и др.
18. Боккаччо говорит о Воклюзе, местечке километрах в
двадцати пяти от Авиньона, где Петрарка купил себе
скромный домик и подолгу жил там до той поры, пока не
вернулся совсем в Италию.
19. Дионисий дель Борго да Сан Сеполькро — профессор
парижского университета в 40-е гг. XIV в., астроном,
богослов, ученый комментатор Овидия, Вергилия, Сенеки,
Аристотеля; долгие годы состоял в дружеской переписке с
Петраркой, подарил ему «Исповедь» Августина.
20. Великий Африканец — Сципион Африканский
Старший (234-183 до н.э.), римский полководец. В период
Второй Пунической войны прославился своими победами над
карфагенскими войсками в Африке, что и принесло ему
титул «Африканский». Один из любимых древнеримских
героев Петрарки, ему и посвящена поэма «Африка». Она была
начата в 1338-1339, писалась до 1343, оставшись не вполне
завершенной. «Африка» была опубликована гуманистом
Пьетро-Пасло Верджеряо в 1396.
21. Кардинал Пьетро Колонна — представитель
старинного римского феодально-аристократического рода, друг и
покровитель Петрарки; Роберт Сицилийский (1309-1343) —
король Неаполитанского государства, в состав которого
входила Южная Италия; Аццо да Корреджо (ум. в 1363) — один
из правителей Пармы в 1341-1345, друг Петрарки,
постоянный спутник в его поездках и путешествиях.
Приезд Петрарки в Неаполь падает на начало 1341.
22. Экзамен был задуман как испытание поэта, которому
пришло приглашение прибыть в Рим для увенчания
лавровым венком в знак признания литературных заслуг.
23. Увенчание произошло 8 апреля 1341. Орсо дельи Ор-
сини закончил речь перечислением званий и прав, которые
получал Петрарка. Он был признан «величайшим поэтом и
историком», приобретал звание магистра и профессора по-
этическюс искусств и истории; все права и привилегии,
которыми пользовались профессора свободных и благородных
искусств, а также право представлять к поэтической
коронации других и, наконец, римское гражданство.
На коронации Петрарка произнес речь, содержание
которой было тщательно продумано. Он прославлял поэзию,
защищая ее от средневекового пренебрежения и нападок,
отстаивая ее право на самостоятельное почетное место среди
Комментарии 465
других искусств (научных дисциплин). Петрарка говорил о
благородном характере и законности славы, которая
стяжается поэтическим творчеством. Речь была пересыпана
цитатами из классиков, особенно из Вергилия. Коронация
Петрарки была плодотворной попыткой утверждения великой
культурной ценности поэзии и литературы вообще (см.
перевод «Слова, читанного знаменитым поэтом Франциском
Петраркой Флорентийским в Риме на Капитолии во время
его увенчания лавровым венком» в кн.: Петрарка Ф.
Эстетические фрагменты / Пер., вступ. статья, прим. В.В.Бибйхина.
М., 1982. С. 38-46).
24. Боккаччо неточен: Петрарке в это время было уже 37 лет.
25. Статий ■— см. коммент. 15.
26. Сатурн — древнеиталийский бог посевов и
плодородия, время властвования которого считалось золотым веком;
в память о нем справлялись Сатурналии — веселый и
буйный праздник, длившийся несколько дней.
27. Джованни Барилли — один из приближенных
неаполитанского короля Роберта; представлял Петрарку в Риме от
имени короля во время коронации лавровым венком.
28. Петрарка жил в Парме несколько месяцев в 1342 и
потом — в 1344-1345.
29. Эклога — маленькое стихотворение, у Вергилия —
пастушеская песня. Петрарка написал на латинском языке
12 эклог, объединив их в сборник «Пастушеских песен». В
них под пастораль замаскированы действительные события и
личности: так, под Аргусом подразумевается король Роберт.
Четыре первые эклоги (в том числе «Аргус») Петрарка
написал в 1346; Соливадо (лат. — Solivadus) — «одиноко
бродящий». Сильвио (от sìlva) — «любящий лес».
30. Слова Боккаччо о «монашеском образе жизни»
Петрарки не следует понимать буквально. Гуманист никогда не
отказывался от своих светских литературных занятий,
поэзии, любви к Лауре, широко и горячо интересовался
политическими делами Италии, проявляя себя гражданином и
патриотом. Но он вынужден был избрать поприще клирика
(в 1330), так как не имел никакой профессии в руках, кроме
незаконченного юридичеркого образования. К юридической
практике, судя по его словам, он испытывал отвращение, а
средств для существования не было. Духовный сан стал для
Петрарки лишь скромным источником материального
достатка, дал возможность всерьез обратиться к любимым
литературным и научным занятиям.
31. Папа Климент VI предлагал Петрарке в 1346 и 1347
место ученого секретаря (папского секретаря); позже ему
466 - Комментарии
еще трижды предлагали эту почетную и доходную
должность, но гуманист не захотел терять независимость.
Прелаты — высшие церковные служители: епископы,
архиепископы, кардиналы; Сцилла и Харибда — в
древнегреческой мифологии чудовища, обитавшие по обеим сторонам
узкого морского пролива между Италией и Сицилией и
губившие проплывавших мимо мореплавателей. Сцилла,
обладавшая шестью головами, хватала с проходящих мимо
кораблей гребцов, а Харибда, всасывая воду на огромном
расстоянии, поглощала вместе с ней корабль. Отсюда выражение
«находиться между Сциллой и Харибдой» — значит
подвергаться опасности с обеих сторон.
32. Сирены — в древнегреческой мифологии полуптицы-
полуженщины; согласно «Одиссее» Гомера, Сирены своим
волшебным пением завлекали мореходов к прибрежным
скалам, о которые разбивались корабли.
33. Платон (427-347 до н.э.) — древнегреческий
мыслитель, любимый ученик Сократа, основатель философской
школы (Старой академии); Амвросий Медиоланский (ок.
340-397) — епископ Милана, проповедник, богослов, один
из отцов католической церкви; сочинял церковные гимны,
установив основы ритуального пения.
34. Киренейский тимьян — очень душистая трава, на
запах которой со всех сторон летят пчелы; губы, намазанные
тимьяном, должны были, по поэтическому выражению Бок-
каччо, произносить особенно сладкозвучные речи.
35. Лаура — женщина, которую Петрарка любил всю
жизнь. Он встретил ее впервые в Авиньоне 6 апреля 1327 в
церкви св. Клары. Долго она оставалась незнакомкой,
никогда не ответила взаимностью на любовь поэта, но
«благословенный день, месяц, лето, час и миг» этой встречи стал для
поэта судьбой. Два больших цикла стихов «На жизнь
мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры» составили
бессмертную славу Петрарке и его возлюбленной.
Друзья поэта много раз высказывали сомнения
относительно реальности Лауры. Но он всегда отвечал, что его
возлюбленная вовсе не символ, она — реальная и прекрасная
земная женщина. Любовь к ней — тоже вполне реальное,
возвышенное и одновременно мучительное чувство.
36. Боккаччо скорее всего имеет в виду трактат «Моя
тайна», который именно, в это время начал писать Петрарка.
«Туллий спрятал в Арпине» — гуманистам XIV в. было
известно, что многие сочинения Цицерона (Туллия)
уничтожены или утеряны в средние века. Среди них и такие, как
«Брут», найденный в XV в.
Комментарии 467
Возможно, этот диалог и имеет в виду Боккаччо.
37. Феокрит (310-245 до н.э.) — древнегреческий поэт,
родом из Сиракуз, основоположник жанра идиллии; создал
образ влюбленного пастуха. Вместе с тем Феокрит проявлял
интерес к повседневной жизни простолюдинов,
отразившийся в его сочинениях.
38. Эта комедия Петрарки до нас не дошла.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абеляр П. 5
Абрамсон М.Л. 10
Август 87, 187, 188, 191,
196, 249, 262, 270, 309,
333, 346, 379, 388, 389
Августин 29, 97, 106, 115,
173, 206, 237, 240, 254,
255, 258, 265-267, 270-
273, 275, 289, 295, 296,
300, 319, 335, 336, 349,
350, 354, 356, 359, 361-
363, 386, 387
Аверроэс 36, 38, 231, 250,
251, 357
Авиценна 296
Авл Помпоний 165
Агафокл 310
Агриппа 388
Адам 20
Александр Македонский
37, 159, 170, 187, 192,
195, 201, 261, 293, 307,
313, 344, 380
Алексис 106
Алкивиад 159, 174
Альберта 12, 25, 42
Аматуро Р. 13, 14, 16
Амвросий 74, 173, 258, 319,
356, 363, 398
Анаксагор 159, 356
Анахарсис 191
Андрей, ал. 293
Андрокид 170
Антиох 229
Антоний 148, 168
Апеллес 131, 278
Апиций 235
Апулей 144, 242, 254, 296,
356
Аристипп 265
Аристоксен 293
Аристотель 16, 19, 22, 25,
29, 36, 38, 39, 55, 64,
102, 120, 131, 159, 175,
191, 220, 244, 250, 256,
257, 260, 261, 263, 264,
268-270, 274, 285, 287,
318, 324-326, 334-338,
345, 347, 348, 350-353,
355-359, 362, 364, 384-
386
Артур 201
Арунтий 119
Архий 47
Архит Тарентский 109, 289
Асиний Поллион 62
Асклепий 153, 293
Аттал 382
Аттик 132
Аттилий Регул 154
Афанасий Великий 173
Аццо да Корреджо 128, 396,
397
Балашов Н.И. 6
Бальб 341, 346
Балъдуино А. 8
Барилли Дж. 397
Барон Г. 14
Баткин Л.М. 6, 10
Бенедикт XII 393, 396
Вернадская КВ. 14
Биант 191
БибихинВ.В. 10, 11, 54
Биррия 242
Боккаччо Дж. 45, 46, 48, 49,
52, 56, 57, 393
Боско У. 13, 16
Боэций 230, 266, 295
Брагина Л.М. 10
Браччолини П. 42
Бруни Л. 42
Указатели
469
Брут 62, 132,216,298
Бусирис 310
Бэрджин Т. 14
Валериан 154
Валла Л. 42
Варлаам Калабрийский 360
Варрон 228, 295, 325, 342,
384, 386, 387
Василий Великий 67
Веллей 348
Вентидий Басе 196, 197
Вергилий Марон 56, 73,
106, 112, 113, 136, 140,
156, 194, 205, 220, 232,
241, 257, 261, 263, 267,
270, 272, 273, 275, 282,
289, 309, 356, 358- 388,
394, 395, 399
Веррес 281
Верцингеторикс 383
Веселовский АН 52
Веспасиан 192, 196, 383
Викторин 258, 276, 363
Висконти 15, 40, 53
Витковский Е. 9
Воусма У. 8
Габриэлли Ф. 16
Гален 225,. 258, 296
Галлион 133
Ганнибал 37, 229, 230, 239,
261, 399
Гаспаров М.Л. 10
Гвиницелли Г. 5
Гекуба 154
Гелиогабал 305
Гельвий 388
Гераклит 270
Гермак 265
Геродот 172
Гершензон M.Ù. 9, 10
Гесиод 264, 293, 356
Гигин 388
Гиерон 382
Гиппократ 191, 227, 228,
233, 247, 257, 267, 280,
293
Голенищев-Кутузов Н.И. 6
Гомер 56, 159, 220, 241, 261,
264, 267, 273, 337, 356,
358, 369, 394
Гораций 22, 25, 56, 117,
126, 132, 159, 160, 182,
194, 205, 211, 213, 244,
259, 268, 270, 275, 287,
291,351,353,394
Гортензий 354
Горфункель АХ. 6, 10, 17
Гостилий 195
Гофир 315
Григорий Великий 271
Гуковскш М.А. 10
Гусейнов А.А. 12
Давид 120, 176, 269, 288
Данте Алигьери 5, 6, 27, 42,
43, 52
Дарий 154
Девятайкина НИ. 10, 12
Дейотар 281, 382
Демокрит 159, 191, 250,
337, 344, 356
Демосфен 103-105, 148, 194,
220, 233, 259, 280, 296,
300, 358
Джероза П. 14
Джерулли Э.\в
Дикстра Ф. 13, 16
Диоген 154, 313, 356
Дионисий Сиракузский 224,
307
Дионисио дель Борго 47,
395
Доброхотов À.JI. 6
Домициан 173, 379, 397
Донат Альбанцани 314, 326
Дотти У 7, 14, 16
Еврипид 194, 232, 264
470
Указатели
Евтропий 305
Евфорбий 344
Елина Н.Г. 6
Иванов Вяч. 9
Иезекииль 271
Иероним Блаж. 206, 258,
285, 288, 300, 336, 356,
360, 361, 364, 387
Иероним 265
Иннокентий III 18
Иннокентий VI 53
Иоанн Солсберийский 5
Иов 122
Иосиф Флавий 356
Ирлитц Г. 12
Исайя 270
Исократ 318
Иуда, ал. 305
Кабассоль Ф. 31, 34
Калигула 157, 174, 224
Калисфен 307
Калькидий 345, 355
Камбиз 37, 294
Камилл 377
Караман Ж. де 54
Карл IV 53
Каррара Ф. 55
Каталина 157, 191, 281, 305,
307
Катон Младший 177-179,
210, 224, 307
Катон Старший 63, 96, 97,
146, 161, 168, 195, 240,
243, 323
Квинтилиан 88, 89, 103-105,
117
Кертинг 9
Киприан 106, 258
Клавдиан 185
Климент VI 35, 53, 248
Клоакин 295
Клодий 165, 281
Колонна 46, 47, 51
Колонна Дж. 46, 47
Колонна П. 396
Константин Великий 201
Корнелий Непот 273
Корункан 168
Красе 197
Крез 154
Критий 159
Ксенофонт 86, 256, 358
Курий 168
Лабеон 295
Лаберий 328, 330
Лактанций Фирмиан 153,
231, 258, 342-344
Лаура 10, 45, 46, 399
Лелий 96, 366
Ливии Тит 47, 238, 261, 380,
381
Лигарий 281
Лосев А Ф. 11
Лукан 264, 270, 295, 394
Луцилий 96, 107, 108, 131
Людовик Тарентский 53
Магомет 250
Макиавелли Я. 11
Макробий 91, 227, 350, 351,
356, 357
Максим 196
Максимин 196
Манетти 42
Марий 136, 161, 165, 194,
258
Мария Дева 77, 250, 278
Мартеллотти Дж. 14
Марцелл 224
Масинисса 382
Матвеева Н. 9
Маттеи Р. де 9
Метелл 187
Метродор 265
Меценат 167
Мил он 281
Мирандола П. делла 12, 42
Указатели
471
Моисей 95, 344
Нелли Ф. 52
Нерон 157, 174, 224, 295,
305, 307, 368, 379
Нольяк П. 16
Нума161, 191,379
Овидий 84, 209, 270, 256,
394
Олимпиада 201
Ориани 9
Орсо дельи Орсини 49, 396
Ортан 315
Павел, ал. 99, 124, 168, 265,
266, 348, 364
Пакувий 270
Палладий 293
Паллор 295
Персей 201
Персии 154, 270, 344
Перикл 174
Пертинакс 196
Петр, ал. 78, 293, 330, 369,
374, 378, 379
Петр Дамиайи 67
Петрарка Г. (брат
Ф.Петрарки) 43
Петрарка Дж. (сын
Ф.Петрарки) 49
Петрарка П. (отец
Ф.Петрарки) 393
Петрарка Ф. 3, 5-33, 35-57,
393, 399
Петрарка Фр. (дочь
Ф.Петрарки) 49
Петрарка Э. (мать
Ф.Петрарки) 393
Пиндар 159
Пирр 261, 382
Пифагор 159, 175, 191, 237,
250, 334, 343-345, 356
Плавт 242
Плантий 63, 281, 389
Платон 16, 29, 87, 92, 102,
106, 118, 154, 155, 158,
160, 175, 177, 195, 220,
250, 255, 256, 266, 267,
270, 289, 295, 296, 307,
318, 325, 344, 248, 351,
354-356, 358-360, 362,
398
Плиний Старший 170, 225,
227, 248, 356
Плотин 91, 92, 356
Плутарх 386
Помпеи Великий 136, 186,
196, 295
Помпеи Страбон 196
Порфирий 356
Присциан 264
Птолемей 293, 315, 382
Публий Сир 347
Рабинович КГ. 10
РевякинаН.В. 11, 12
Регул 224
РенодэА. 13, 16
Риенци К. ди 51, 53
Рико Ф. 8, 12, 14, 16
Роберт Неаполитанский 49,
50, 322, 329, 396, 399
Росций 180, 235
Руфин Аквилейский 300,
361
Салинари К. 14
Саллюстий 119, 146, 233,
300, 358
Салютати К. 25, 42
Сарданапал 380
Светоний 179
Север 161, 191, 196
Сенека 22, 23, 25, 45, 56, 82,
85, 89, 96, 107-111, 114,
116, 119, 131-133 145, 154,
161, 167, 178, 179, 208,
210, 216, 237, 264, 276,
288, 294, 298, 307, 328,
472
Указатели
331, 353, 373, 386, 388,
395
Сервий Туллий 195
Сервилий Ватия 111
Серран 168
Сетте Е; 44
Силъвио (псевдоним
Ф.Петрарки) 397, 399
Симон Волхв 312
Сифак 154
Скарпати С 8
Скинэр К, 8
Соколов В.В. 11
Сократ 158-160, 174, 194,
224, 234, 307, 353, 356
Соломон 275, 315, 347
Солон 178, 264, 356
Солонович Е. 9
Спурина 144
Стам СМ. 6
Стаций 173, 263, 270, 394,
397
Сулла 180, 187
Сципион 37, 48, 126, 162,
178, 179, 187, 224, 238,
239, 261, 294, 366, 389,
399
Тарквиний Приск 195
Теофраст 191
Теренций87, 113,394,399
Тиберий 111
Тимей 264, 344, 345, 355
Тимон 286
Томашевский Н. 9
Трипэ А. 14
Уитфилд Дяс. 14
Урбан V 17, 322, 330, 367,
373, 377
Фабриций 168, 224
Фаларис 224, 310
Фебрис 295
Фемистокл 157, 174
ФеоМ. 8
Феокрит 399
Феррары 9
Фидий 191
Филет 191
Филипп Аравитянин 196
Филипп Македонский 160,
192, 201, 302
Филострат 399
Флор 383
Фойгт 9
Фома Аквинский 31
Формион 229, 230
Фостер К. 8, 16
Фукидид 358
Херил 320
Хаодовский Р.И. 10, 49
Хремон 102
Хрисипп 252
Христос 19, 22, 36-39, 76, 78,
80, 84, 94, 95, 97, 98, 152,
206, 222, 231, 250-252,
267, 273, 288, 296, 297,
323, 336, 338, 339, 344-
348, 354, 360-364, 371,
373, 374, 376, 378, 379
Цензорин 156
Цицерон 22, 25, 45, 47, 56,
62, 63, 80, 81, 85, 86, 88,
95-97, 106, 109, 110, 124,
134, 140, 146, 148/ 161,
165, 170, 174, 175, 180,
191, 194, 198, 201, 204,
209, 210, 213, 216, 220,
228, 229, 233, 235, 236,
243, 249, 259, 264, 268,
280, 281, 285, 286, 290,
296, 298, 300-302, 318-
320, 325, 333, 334, 337-
343, 347, 349, 350, 352-
354, 356-358,' 361-363,
384-386, 395, 399
Указатели
473
Эвмен 382
Эзоп 180
Эней да Сьена 400
Энний 228, 270
Эпаминонд 159, 174
Эпикур 95, 96, 171, 250,
265, 319, 344, 348, 349
Эсхин 233, 300
Эфрон А 9
Ювенал 183, 197, 206, 270,
317,373,378,394
Югурта 155, 201
Юлий Цезарь 162, 169, 170,
179, 182, 187, 315, 328,
378, 380, 383, 389
Юстин388
Amaturo R. 13, 14, 16
Antonovicz A.V. 57
Balduino А. 9
Baron Н. 14, 50
Bergin Т. 14
Billanovich G. 57
Bosco U. 13, 16
Bufano А. 15
Diekstra F.M.H. 13, 14
Dotti U. 7, 9, 14, 16
Feo М, 9
Foster К. 8, 16
GabrielU F. 16
Gemili E. 16
Green Th.M. 9
Kriesteller P.O. 16
Manselli R. 9
Martellotti G. 14
Mattei R. de 9
Nolhac P. de 16
Paoletti M. 9
Parkes H. 8
Petronio G. 9
Pullan B. 9
Renaudet A. 13, 16
Rico F. 8, 14, 16
Salinari С 9, 14
Scaglione A. 7
Schalk F. 7
Skinner Q. 8
Solerti A. 44
Squarotti G. 9
Tilden J. 14
Tripet A. 50
Viscardi A. 9
Voci A.M. 9
Whitfield J.H. 14
УКАЗАТЕЛЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН
Алкид 201
Амфион 231
Аполлон 101, 236, 291, 342,
393, 394
Аргус 399
Арион 172
Атрид 337
Ахиллес 366
Беллерофонт 286
Венера 176, 342
Вулкан 101, 341, 342
Гектор 378
Геракл 81, 86, 119, 158, 159,
183, 260, 295, 313, 320, 342,
366
Гермес 153
Диана 342
Дионис 342
Дит387
Иксион 177
Ипполит 283
Каллиопа 394
Купидон 342
474
Указатели
Лары 394
Либер 101, 159
Меркурий 225, 342
Минерва 101, 255, 297, 342
Нептун 341
Нис78
Орфей 177, 231, 272
Осирис 101
Патрокл 366
Пегас 354
Пелей 192
Пенаты 394
Пенфей 320
Пирифой 366
Пиэриды 230, 394
Поллукс 312
Ромул 191, 201, 262, 295
Сатурн 101, 309, 397
Сцилла 397
Абдера 191
Авиньон 15, 17, 32, 40, 42-45,
47-49, 54, 330, 369, 373,
377, 382, 393
Азия 195, 389
Александрия 315
Альпы 393
Ареццо 43, 52, 393
Арква 49, 55
Армения, Малая 382
Арпин 161, 165, 191, 399
Афины 101, 156-159, 174,
264, 273, 370
Африка 48, 50, 395, 399
Байи 294
Талия 394
Тартар 152, 248
Тезей 366
Терсит 320
Улисс 241, 394
Филоктет 366
Фурии 76, 78
Харибда 397
Церера 101, 341
Эакид378
Эвриал 78
Эней 112, 241,272, 378
Эскулап 236, 283, 342
Юнона 337
Юпитер 211, 235, 337, 341,
342
Янус 379
Богемия 57
Болонья 4, 44, 45, 329, 389,
393
Брабант 47
Вавилон 370
Вейи 377
Венеция 4, 39, 53-55, 57
Венузий 194
Верона 52
Воклюз48, 49, 51, 53
Галлия 352, 367, 371, 372,
384, 388-390
Ганг 222
Геликон 232, 330
Гент 389
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ
Указатели
475
Генуя 4, 53
Германия 47, 371, 389
Греция 352, 386
Дунай 120
Европа 5
Египет 101, 102, 382
Иерихон 368, 369
Иерусалим 94, 156, 368, 369
Инд 222
Испания 381, 386, 389, 390
Италия 4, 9, 15, 17, 40-43,
48, 51, 53, 54, 56, 119,
125, 289, 308, 310, 352,
367, 372, 385, 388, 389
Иудея 237
Капри 111
Карпентрас 44
Карры 197
Карфаген 370
Кносс 72
Колония Агриппина 388
Кордуба 161, 395
Коринф 370
Корреджо 50
Кос 191
Кремона 389
Кумы 111
Куры 161
Лаке демон 156
Ларисса 192
Лекты 161
Лесбос 191
Лион 389
Литерно 294
Льеж 47
Македония 201
Мантуя 52, 53, 194
Мессана 382
Метапонт 344
Милан 4, 15, 32, 40, 53, 54,
363
Модена 389
Монпелье 44, 329, 394
Неаполь 57, 329, 396, 397
Нил 293
Нуманция 126
Нумидия 201, 382
Падуя 4, 54, 55, 329
Париж 47, 329, 353, 373,
389
Парма 50, 51, 389, 397
Пергам 382
Перуджа 4
Пестум 381
Пиза 43
Пиренны 191
Плацентия 389
Полленция 389
Прага 53
Прованс 57
Рейн 120, 388, 389
Рим 17, 27, 40-42, 47, 49,
50-52, 156, 157, 161, 165,
180, 191-195, 197, 262,
278, 369-373, 375, 377,
378, 381, 382, 388, 389,
396, 397
Родан 309, 329
Сабины 161
Самос 191
Санкт-Петербург 13
Сериф 158
Сиена 4
Скифия 191
Смирна 394
Copra 292, 293, 330, 395
Спарта 370
Стагир 191
Тарракон 389
Тоскана 57
Троя 370, 388, 389, 394
476
Указатели
Тулуза 329
Тускул 161
Фазис 169
Феррара 51
Фивы 159
Фландрия 47, 57
Этна 127
Этрурия 263, 393
Эфес 229, 303 Флоренция
4,43,52,389,393'
Франция 57
Фригия 389
СОДЕРЖАНИЕ
Н.И.Девятайкина. Петрарка как философ и полемист 3
ОБ УЕДИНЕННОЙ ЖИЗНИ
Предисловие 61
Книга первая 66
О СРЕДСТВАХ ПРОТИВ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ
(ДИАЛОГИ ИЗ ТРАКТАТА)
Предисловие ...;...,....,.*-. >?......... 128
Книга первая
I. О цветущем возрасте и надежде
на более продолжительную жизнь 138
II. Об исключительной красоте тела ~.. 141
IX. О красноречии 145
X. О добродетели 148
XI. О мнениях относительно добродетельности 150
XIII. О религии 152
XIV. О свободе 154
XV. О прославленной родине 156
XVI. О родовитом происхождений 161
XVII. Об удачливом происхождении 166
XVIII. Об образе жизни знатных 167
XXIII. О пении и наслаждении музыкой 172
XXIV. О плясках 175
XXVIII. О скоморохах 179
XLVTII. О воинском достоинстве 181
ХСН. О славе 183
CVIII. О счастье 186
478
Содержание
CXXXI. О надежде на душевный покой 189
Книга вторая
IV. О безвестной родине 190
V. О незнатном происхождении 192
VI. О зазорном происхождении 198
VIII. О бедности 201
ХСШ. О печалях и несчастиях 203
XCVIII. Об отвращении к жизни 210
CXVIII. О страхе смерти 211
ИНВЕКТИВЫ ПРОТИВ ВРАЧА
Книга I 219
Книга II 233
Книга III ....... .;...... 257
Книга IV 284
ИНВЕКТИВА ПРОТИВ НЕКОЕГО
ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКОГО ПОЛОЖЕНИЯ,
НО МАЛОЙ УЧЕНОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ 304
О НЕВЕЖЕСТВЕ СВОЕМ
СОБСТВЕННОМ И МНОГИХ ДРУГИХ 314
ИНВЕКТИВА ПРОТИВ ТОГО,
КТО ХУЛИТ ИТАЛИЮ 367
Приложение
ДЖ.БОККАЧЧО
О ЖИЗНИ И НРАВАХ ГОСПОДИНА
ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ ИЗ ФЛОРЕНЦИИ 393
Комментарии
Об уединенной жизни 403
О средствах против превратностей судьбы 415
Инвективы против врача 435
Инвектива против некоего человека высокого
положения, но малой учености и добродетели 446
О невежестве своем собственном и многих других 449
Инвектива против того, кто хулит Италию 457
Содержание 479
Боккаччо Дж. О жизни и нравах господина
Франческо Петрарки из Флоренции 462
Указатель имен ,. 468
Указатель мифологических имен 472
Указатель географических названий 473
ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА
Сочинения
философские и полемические