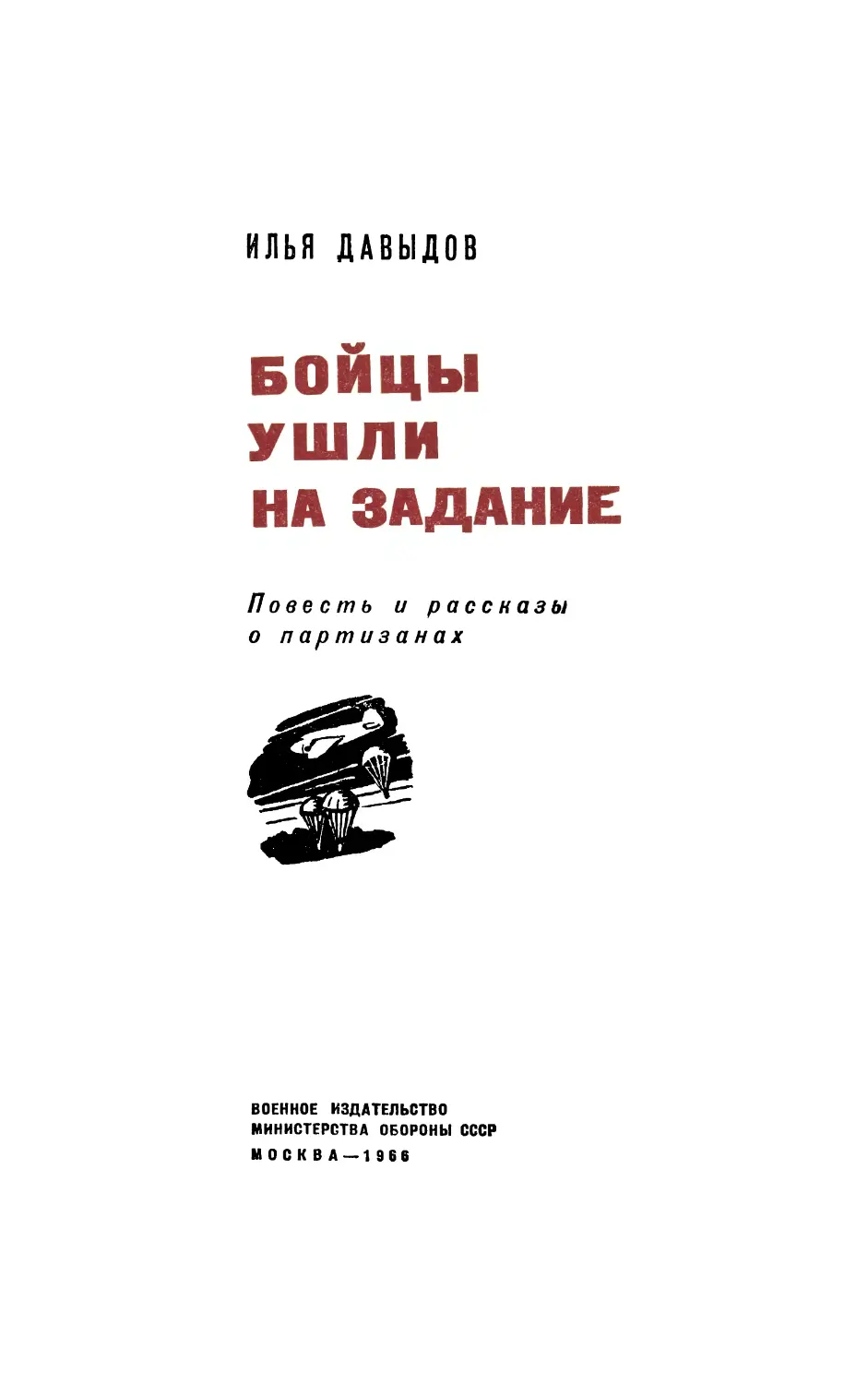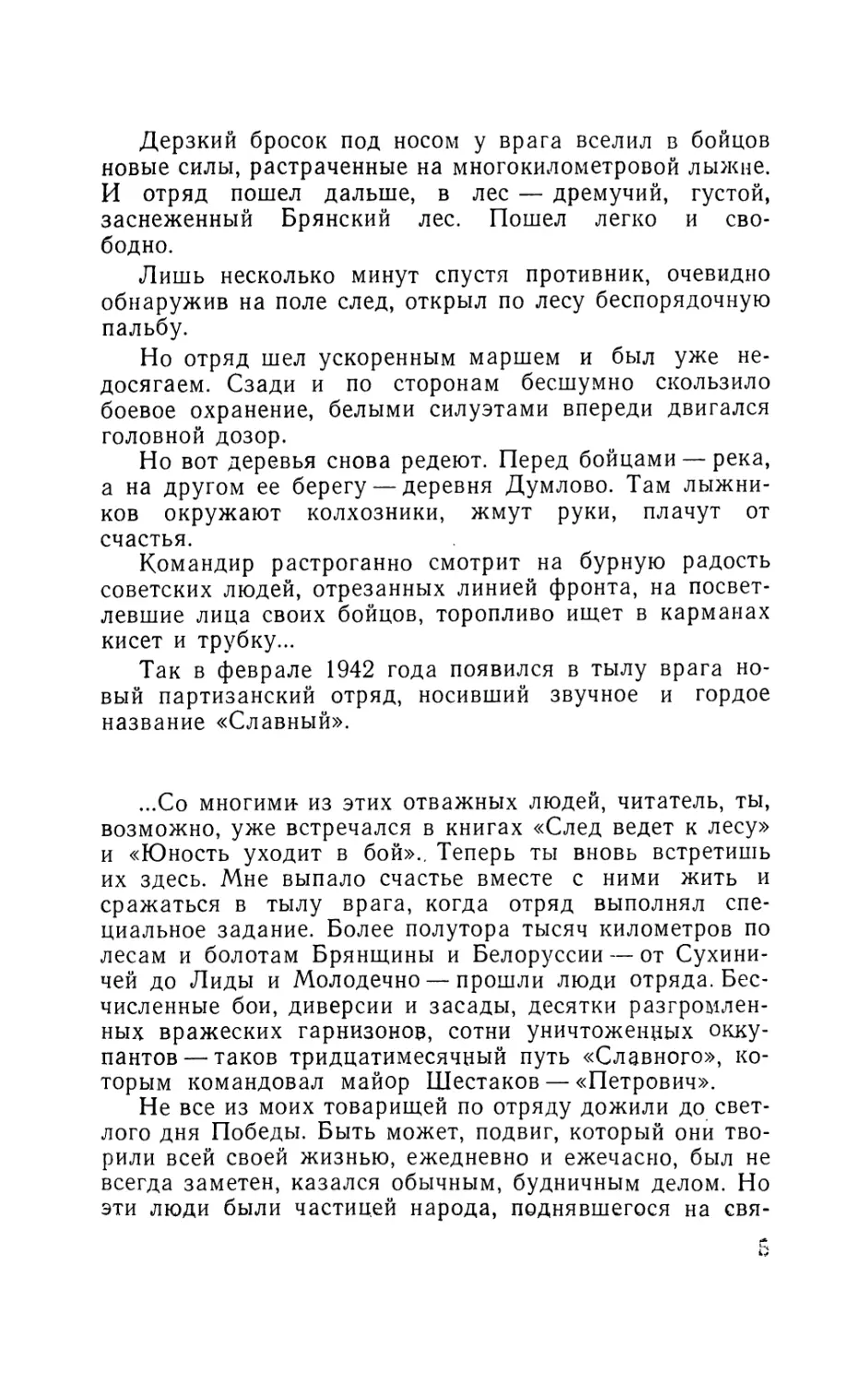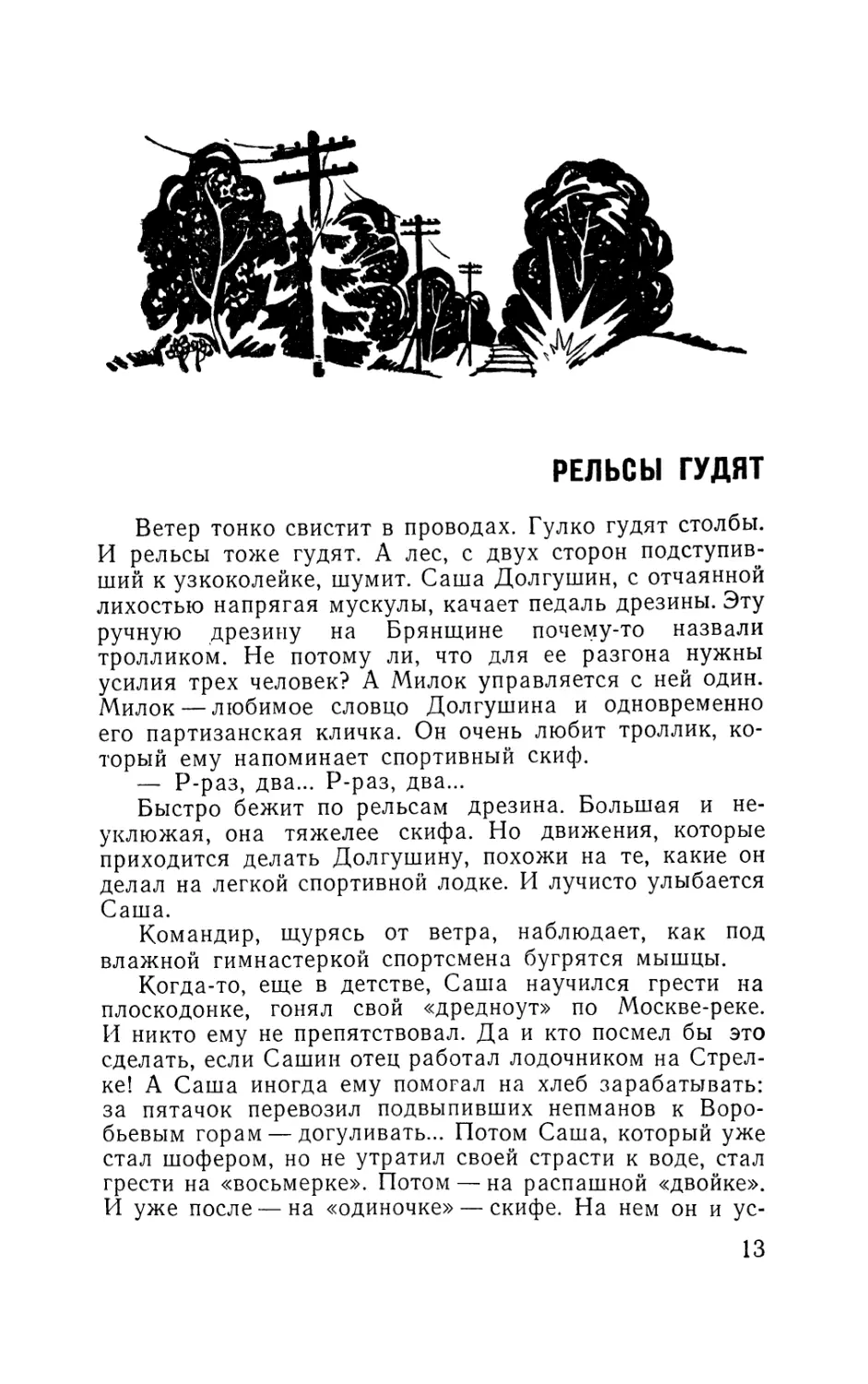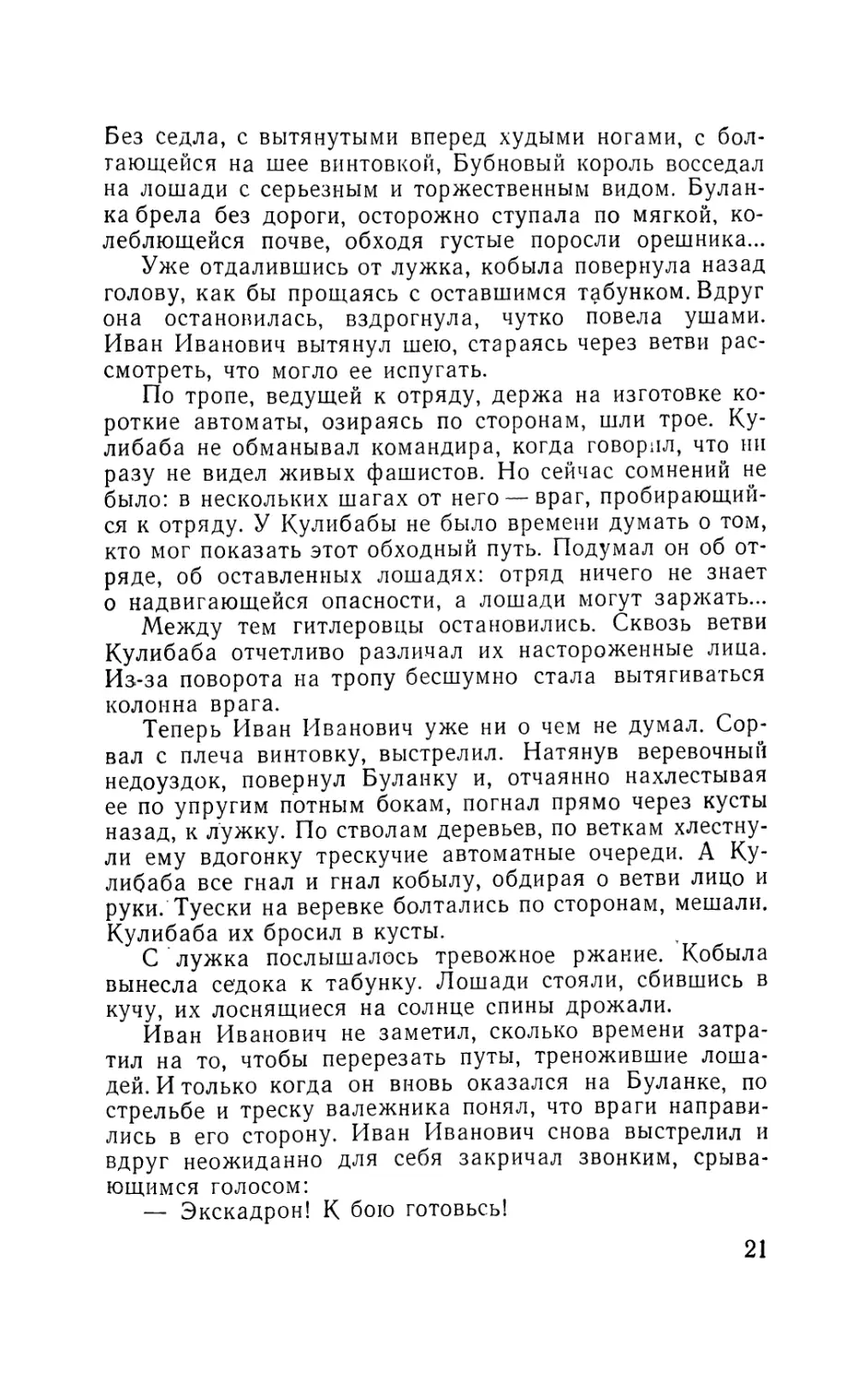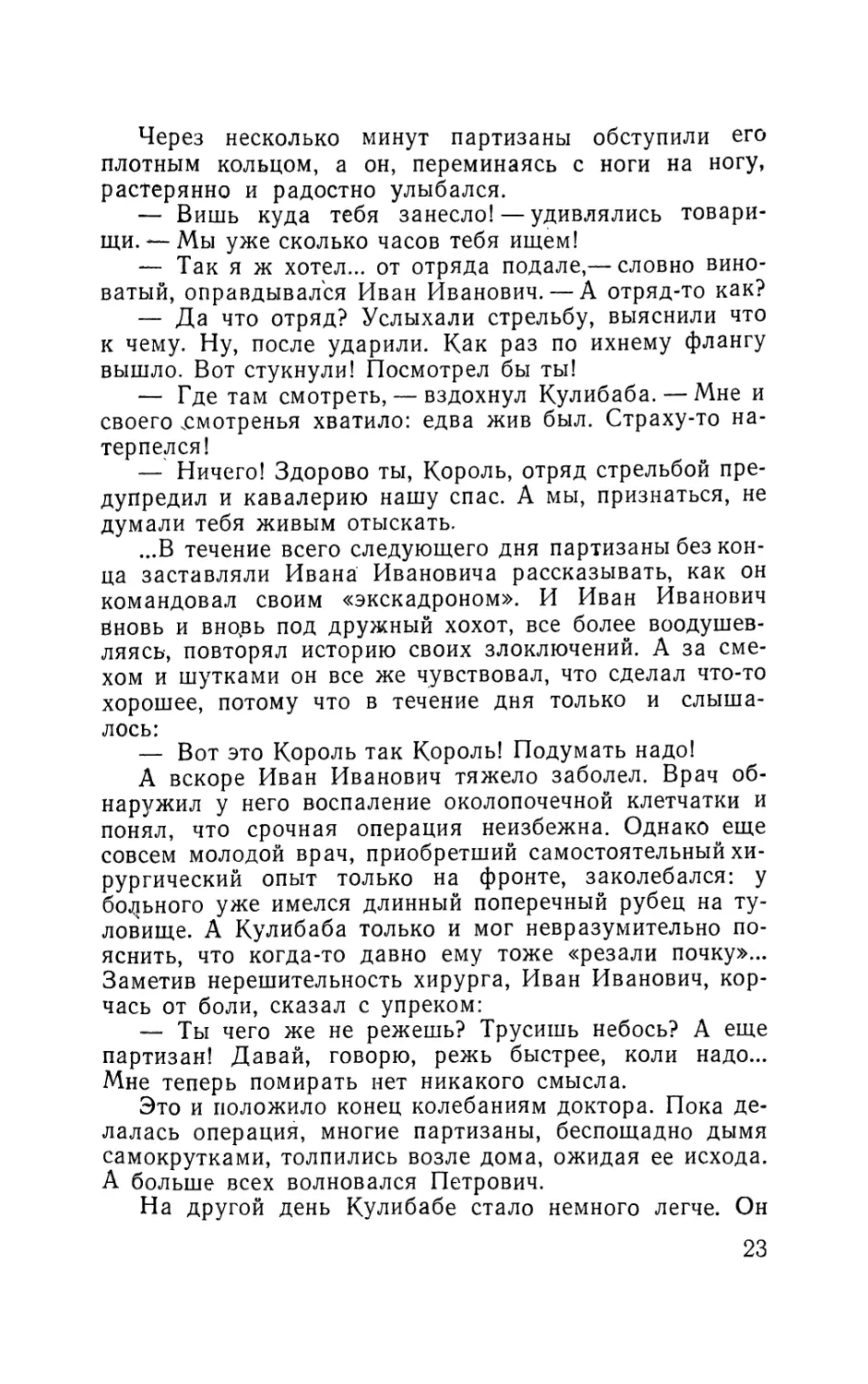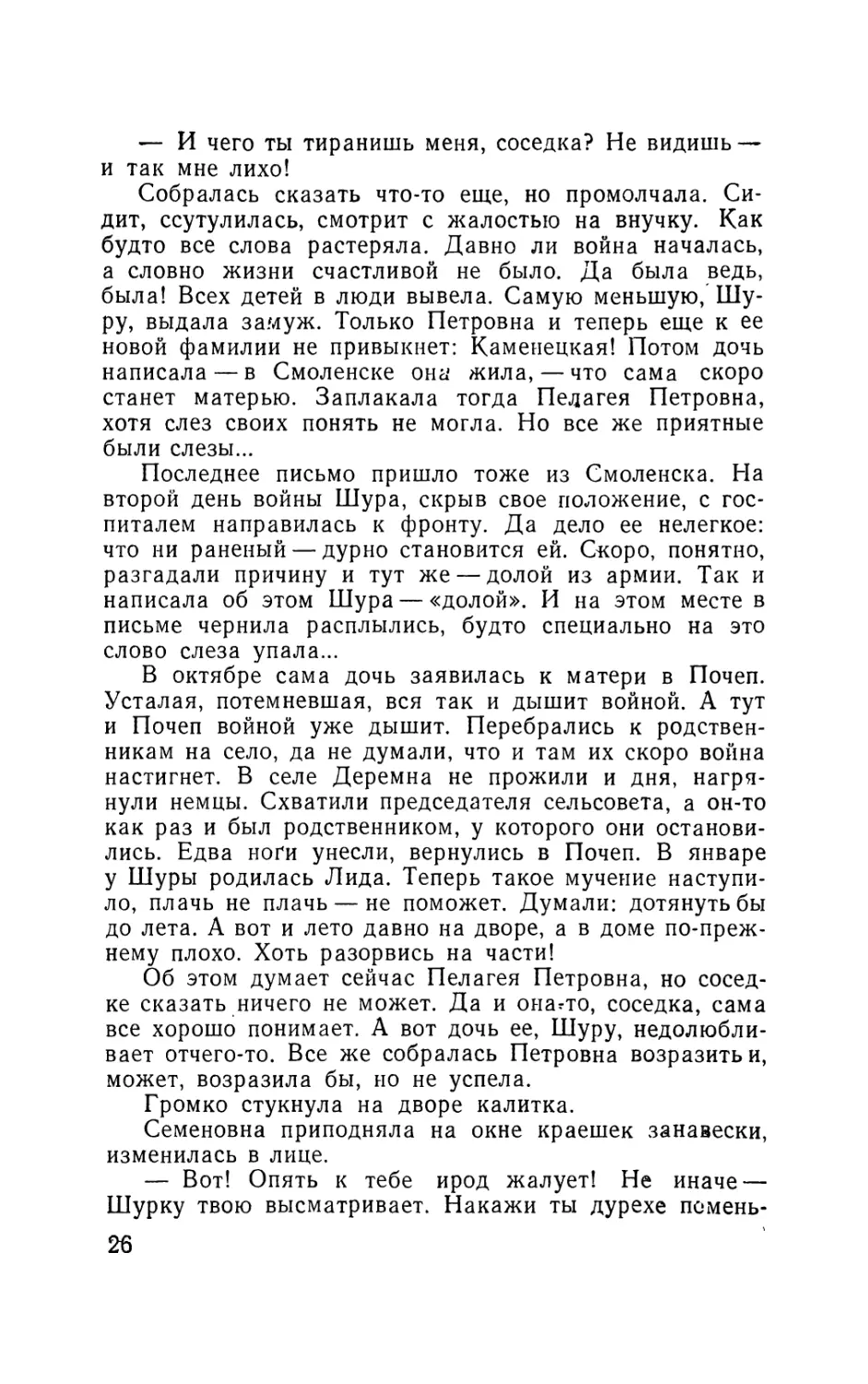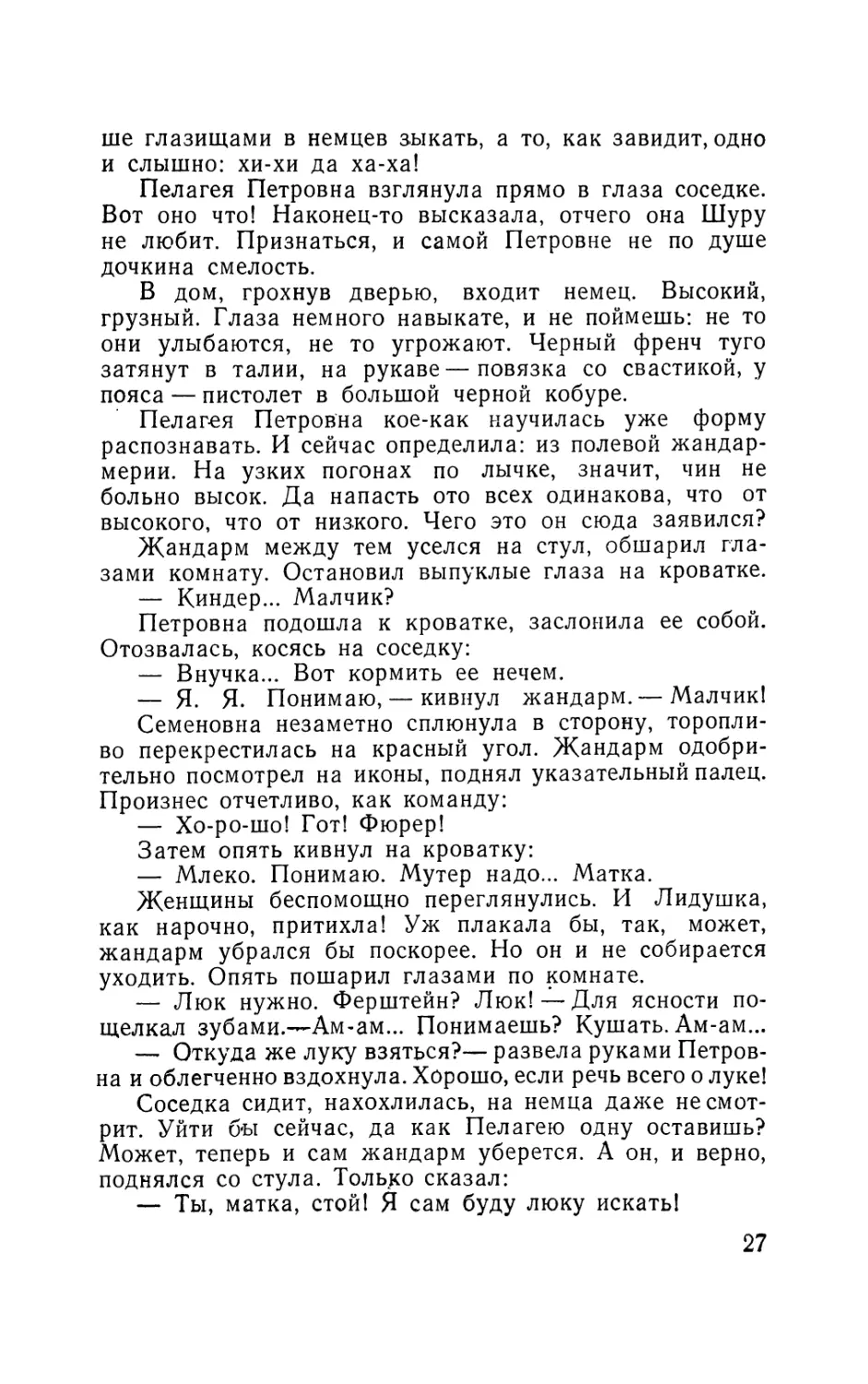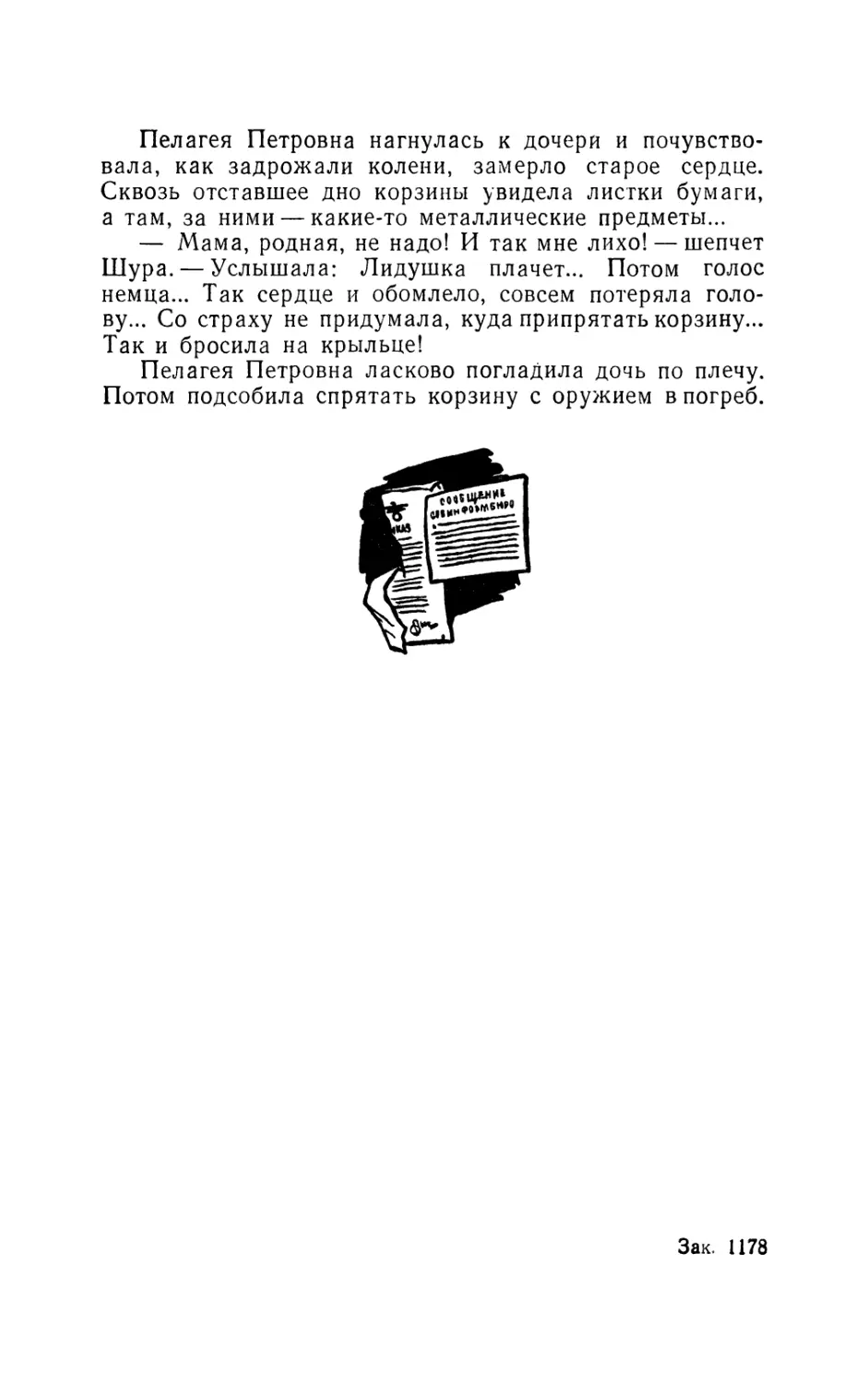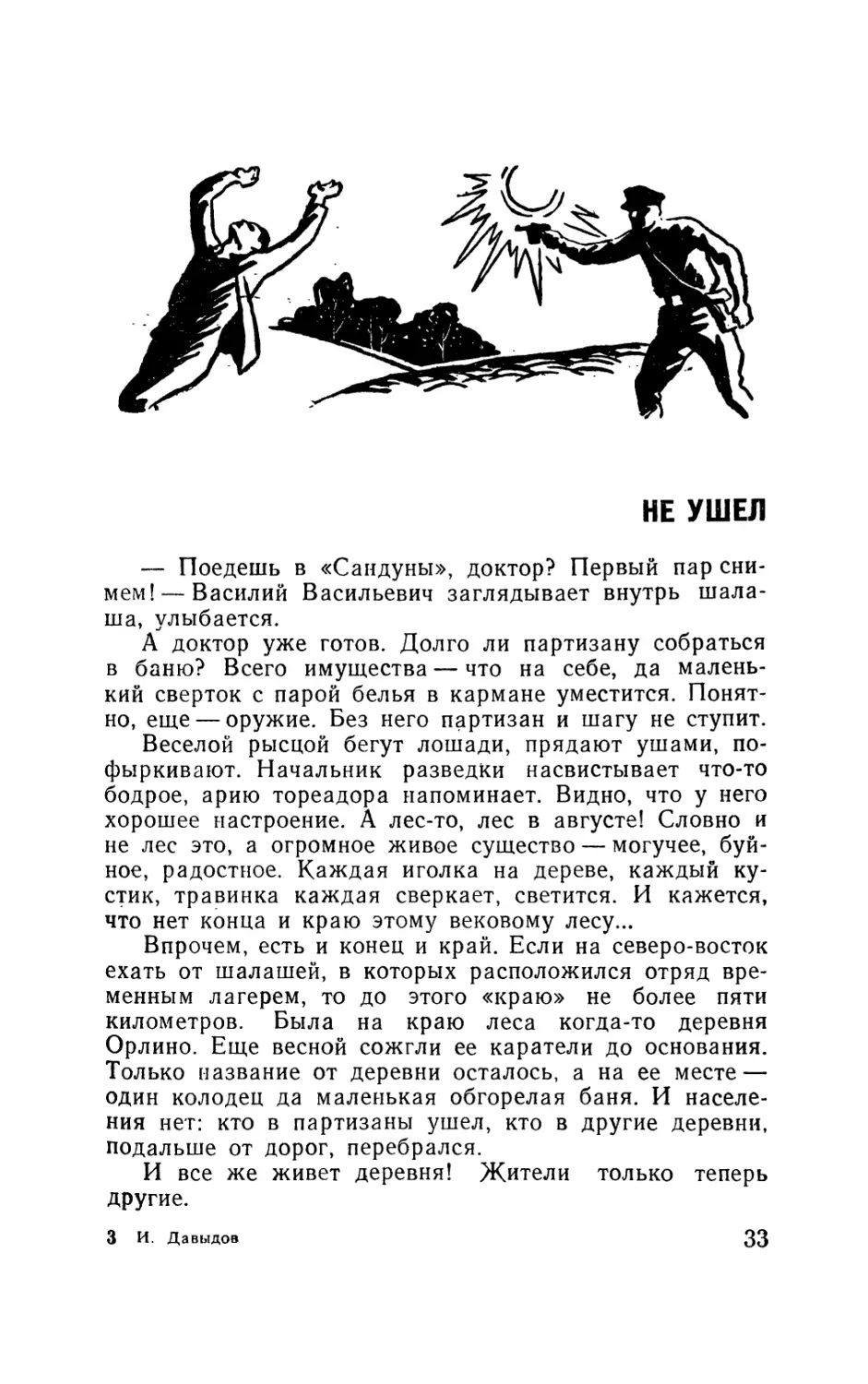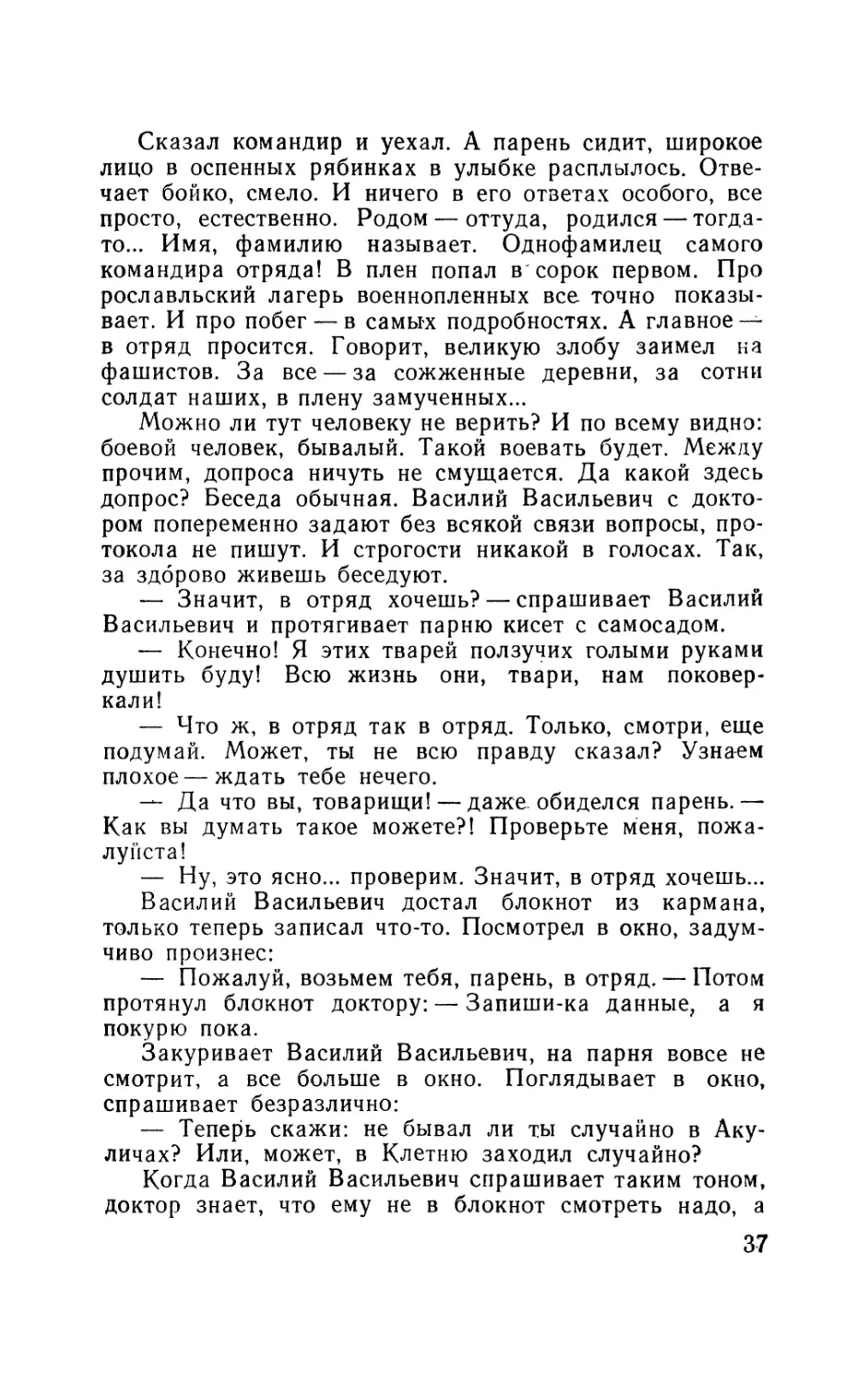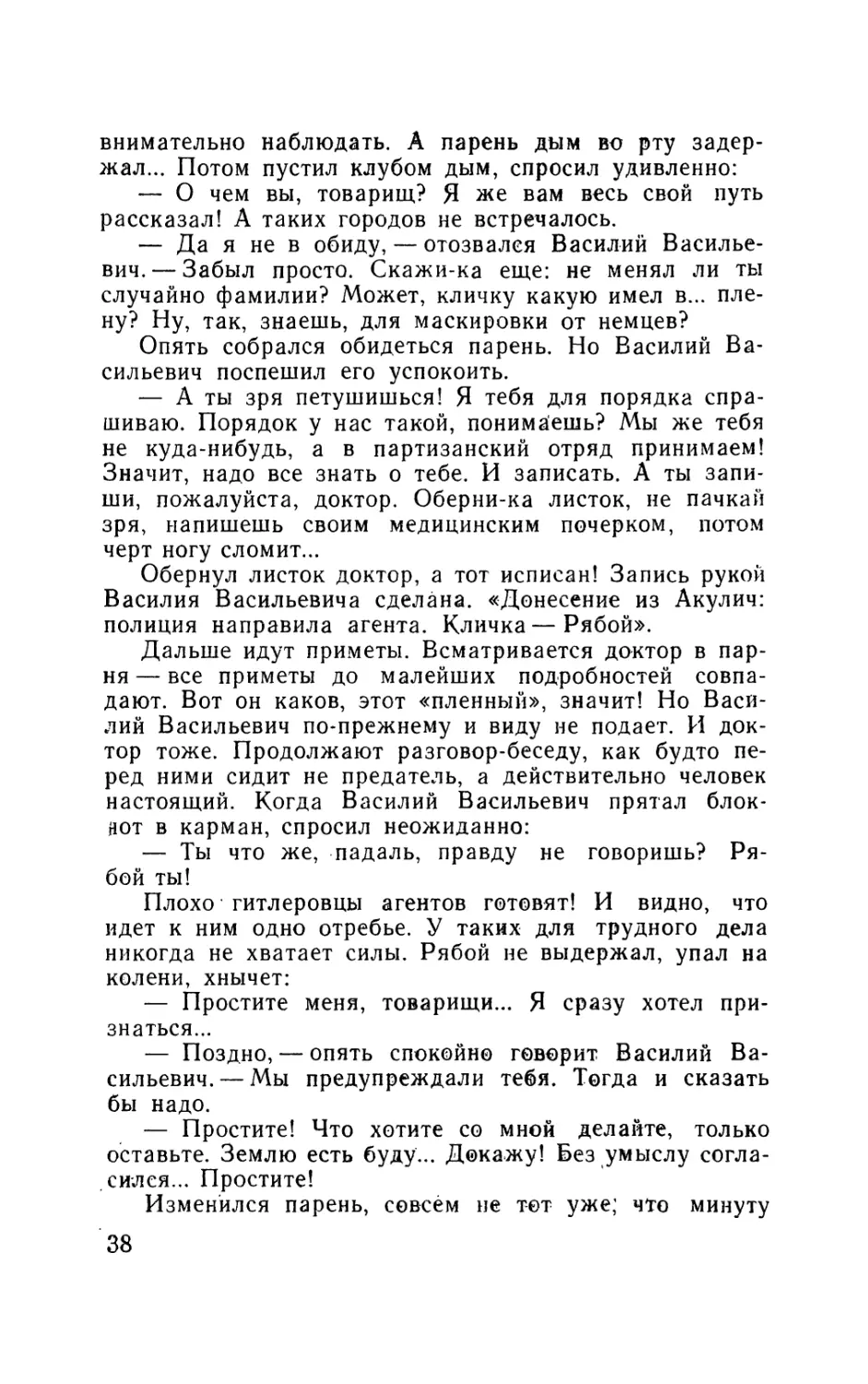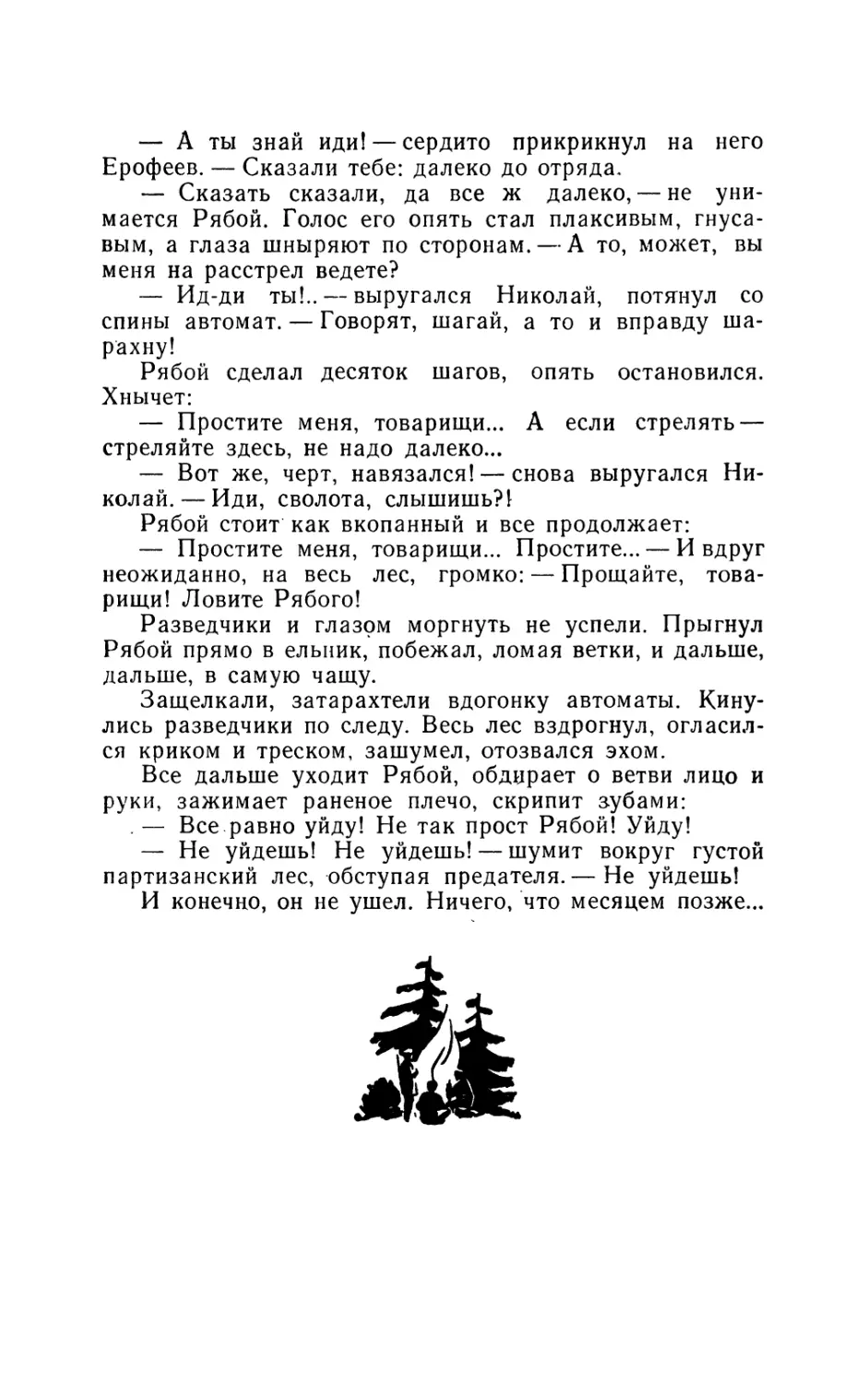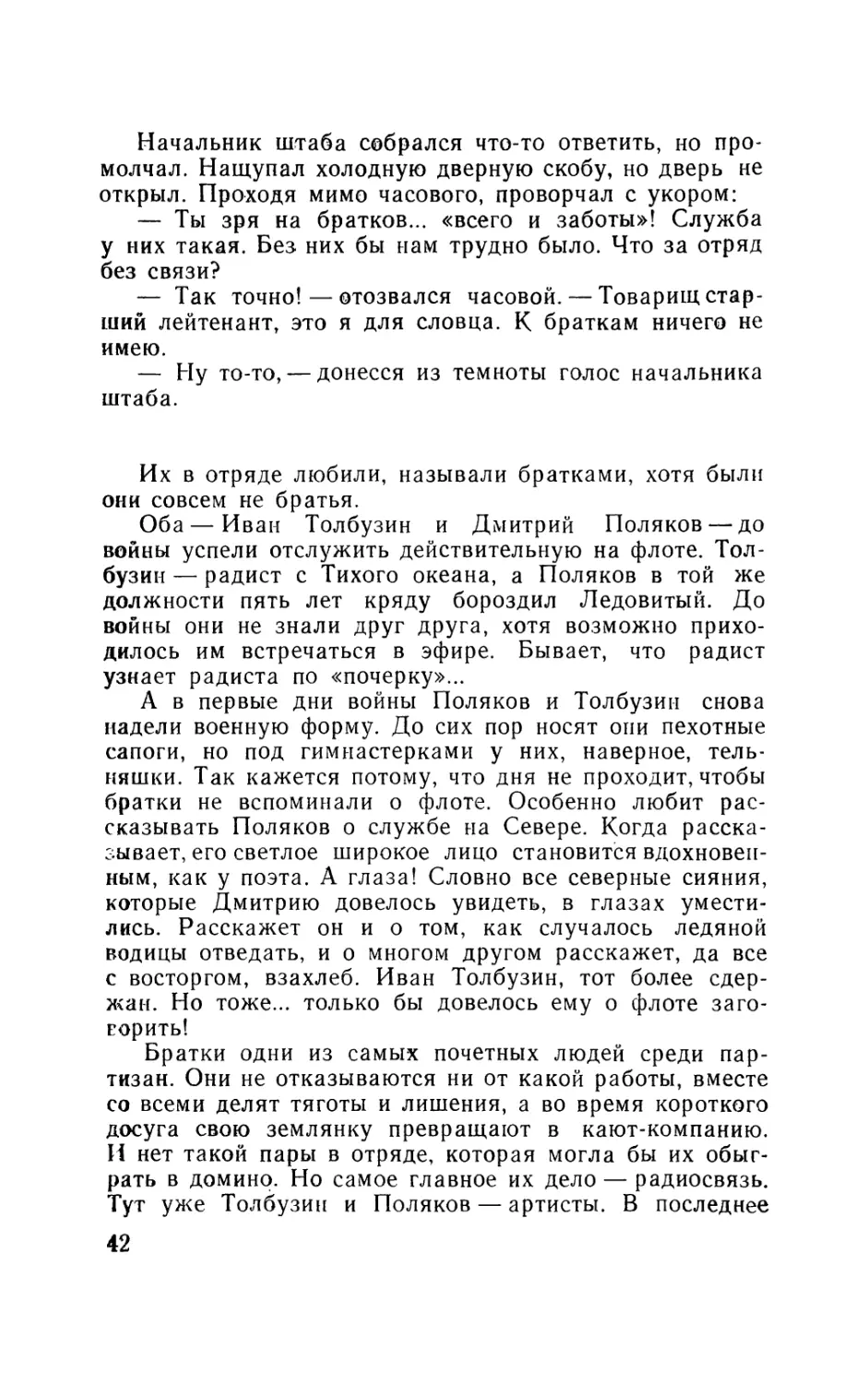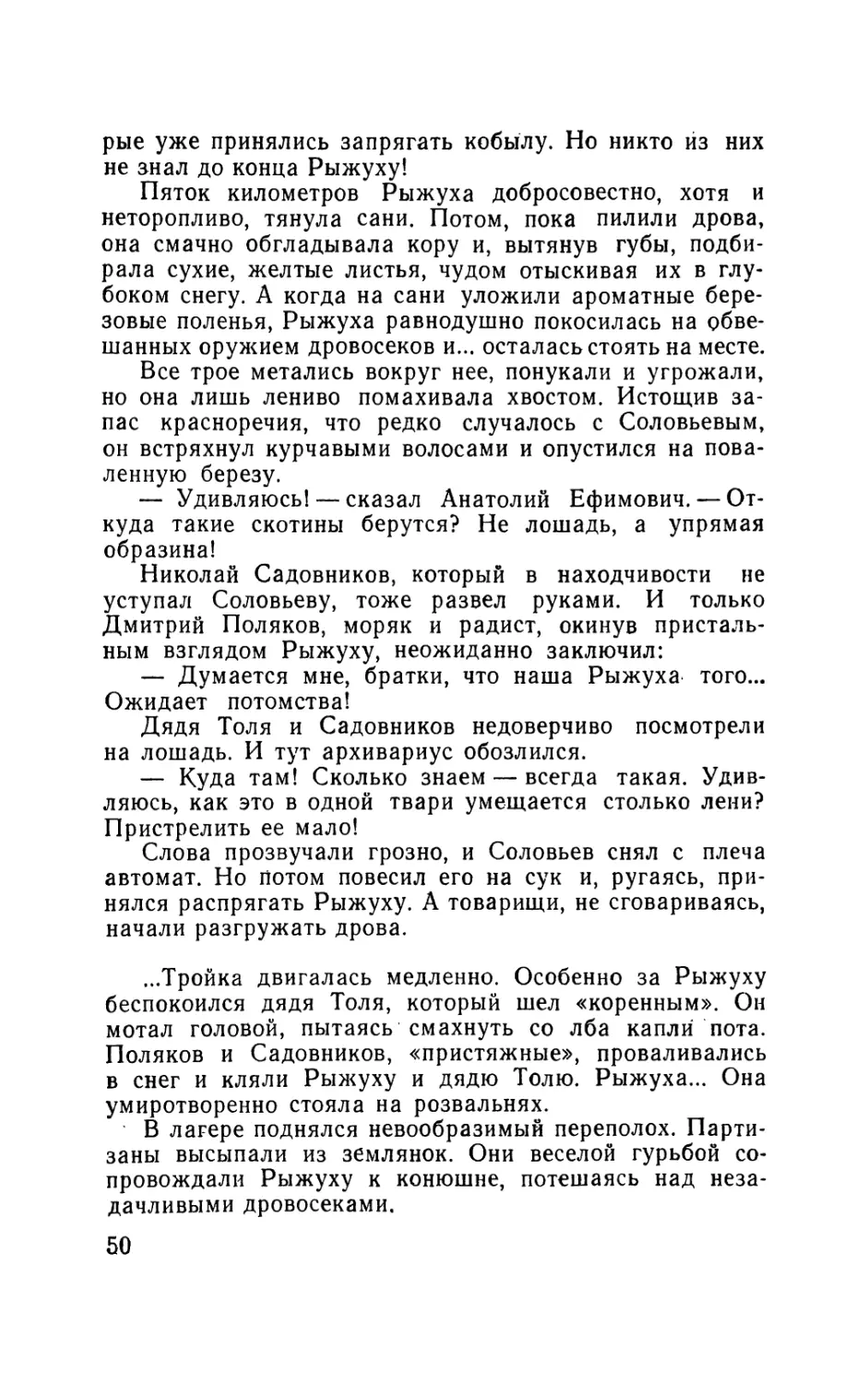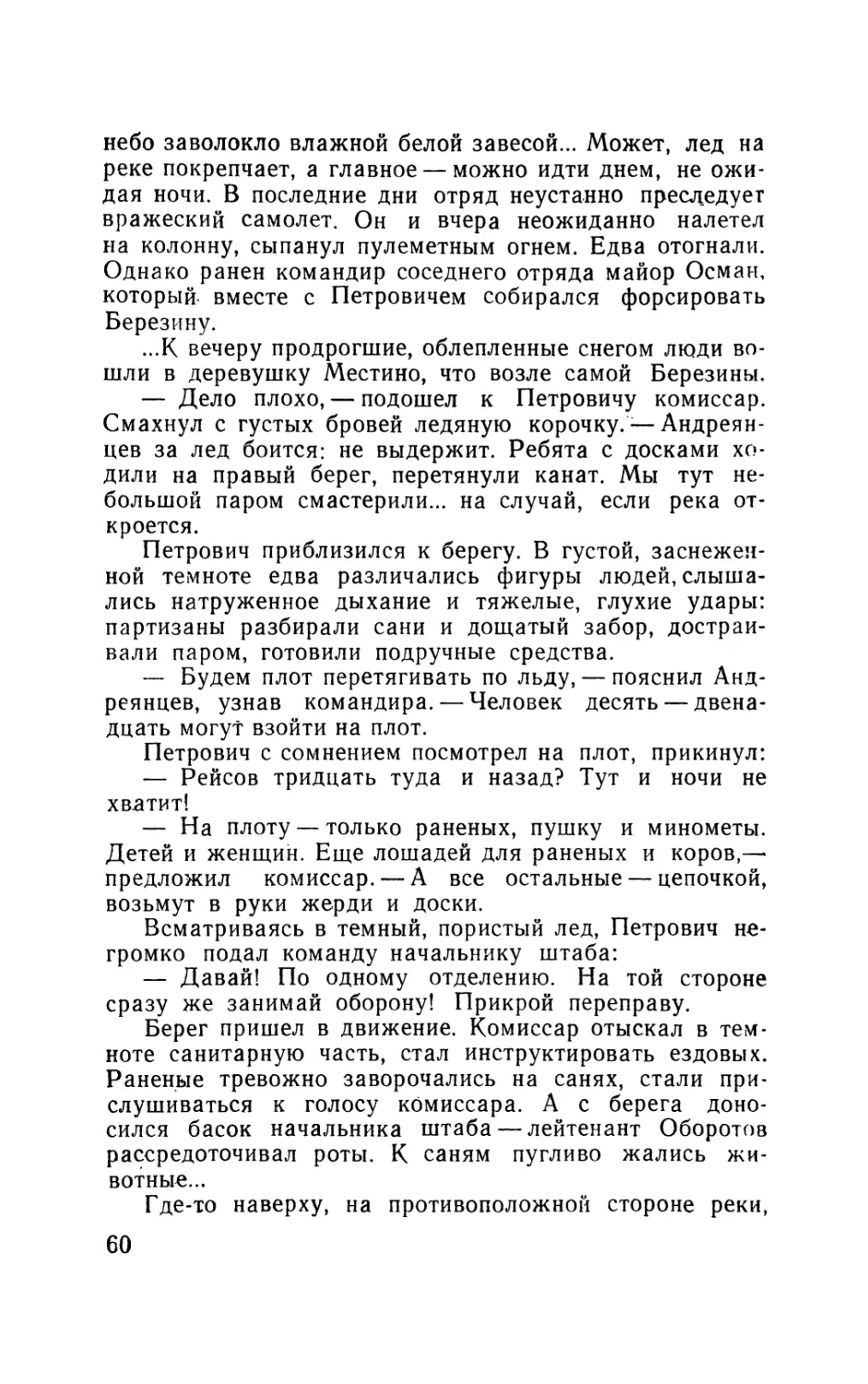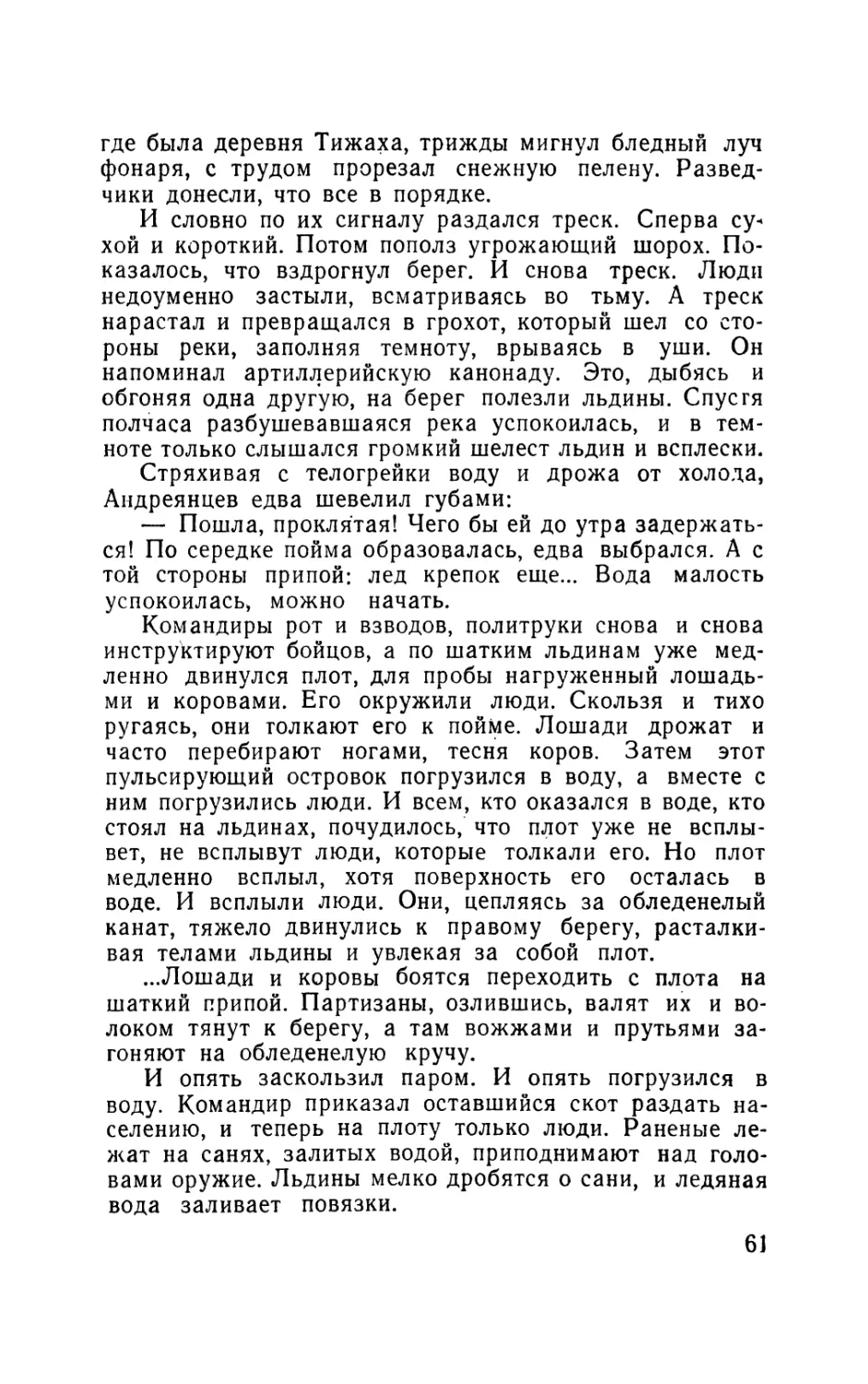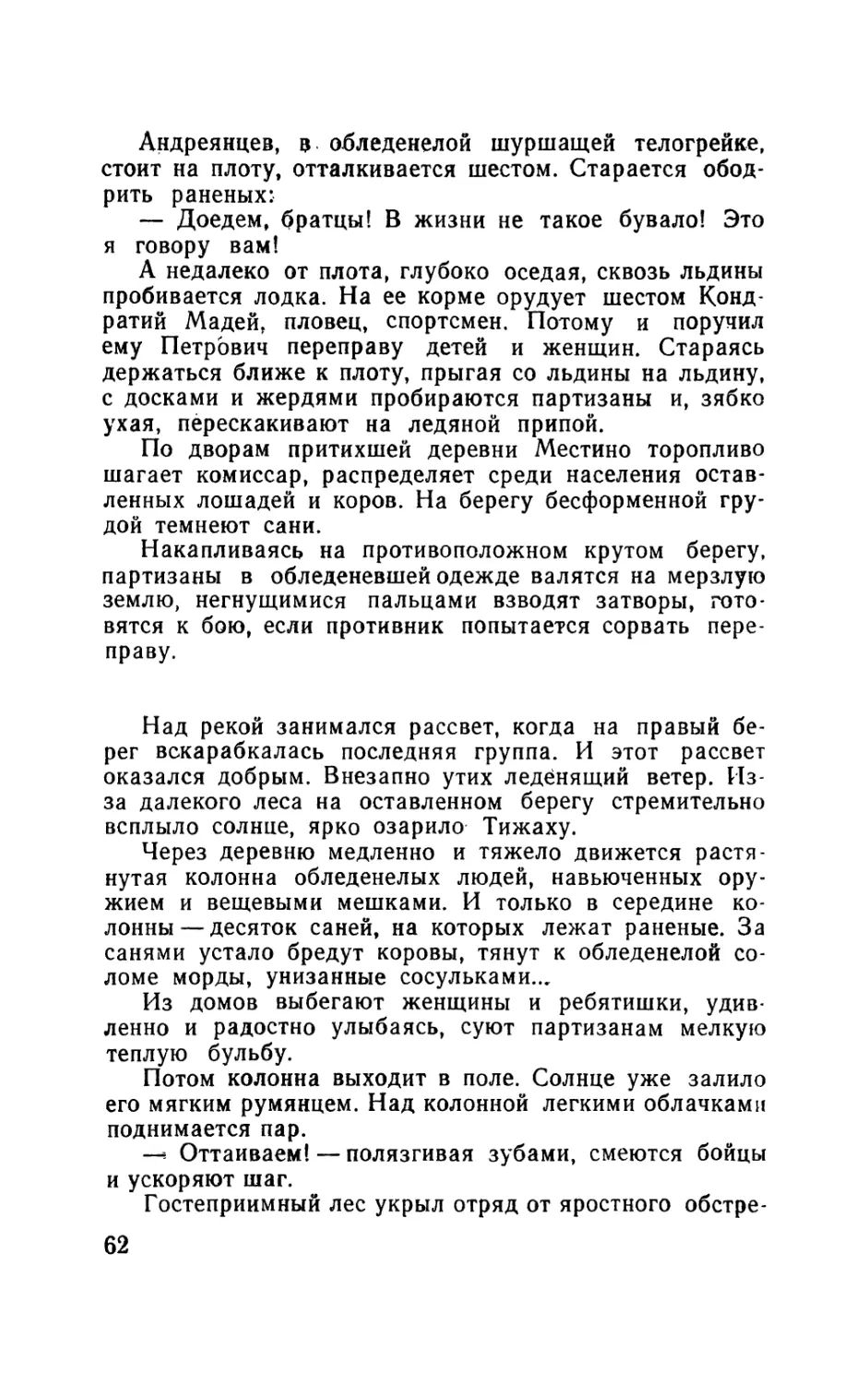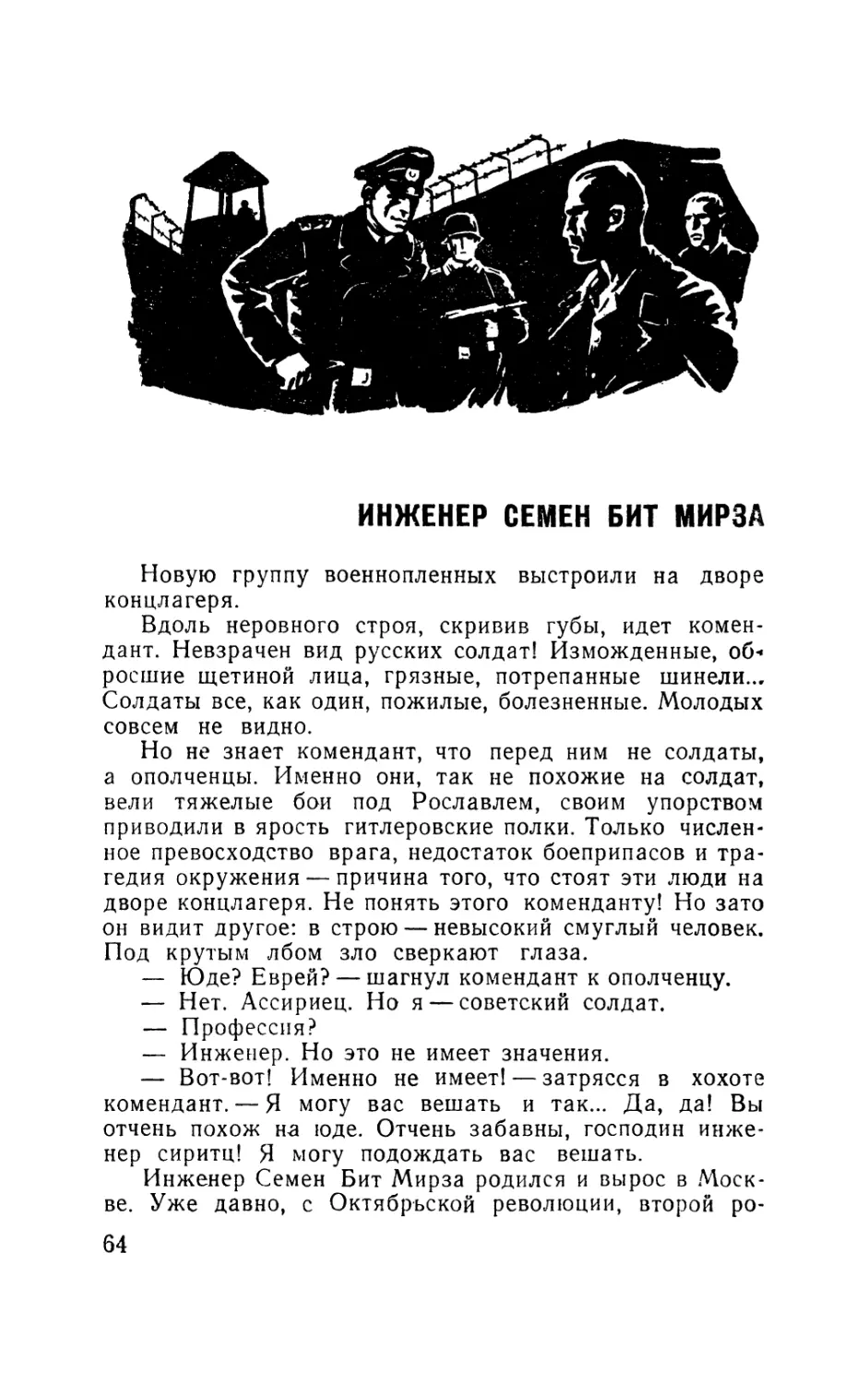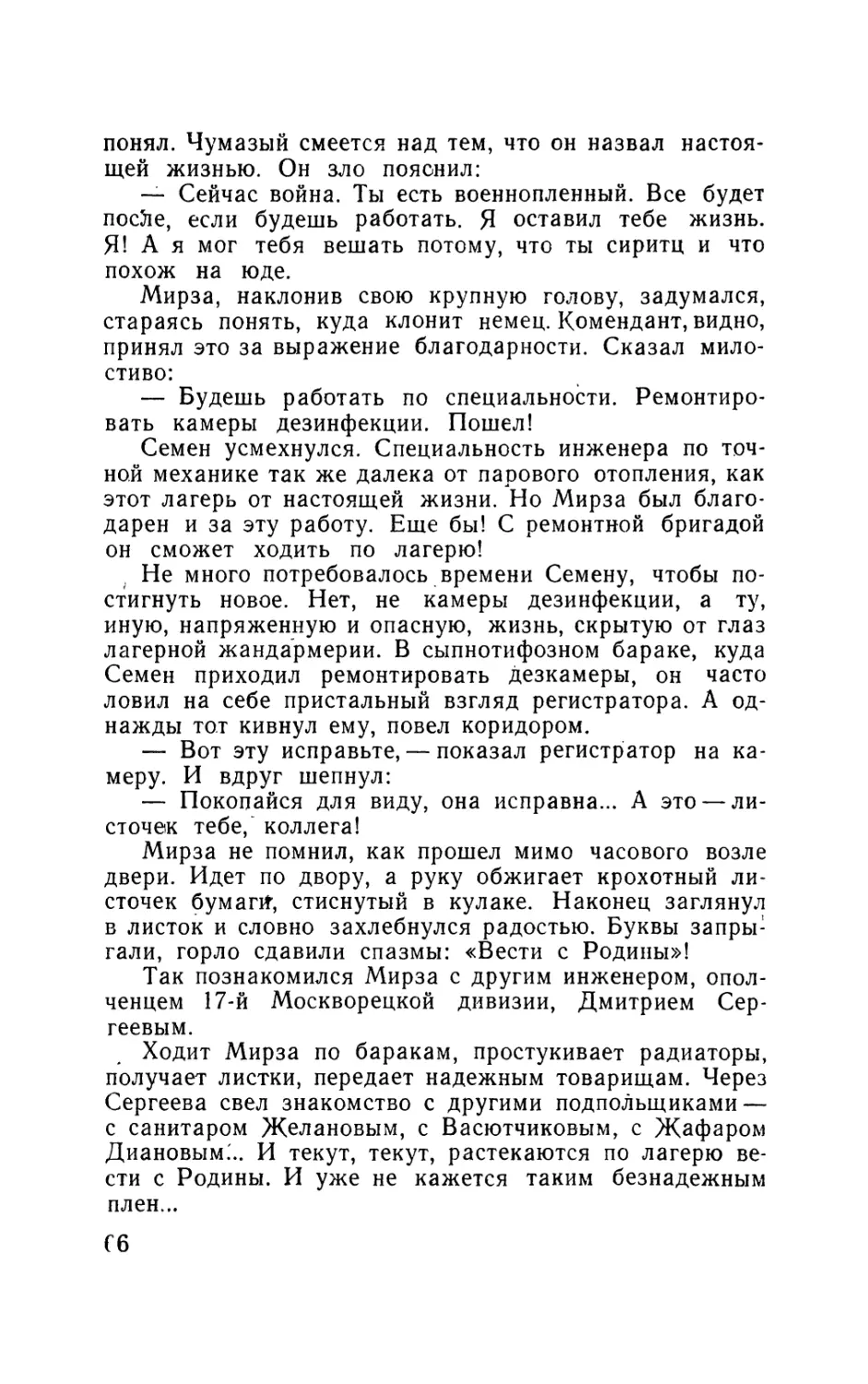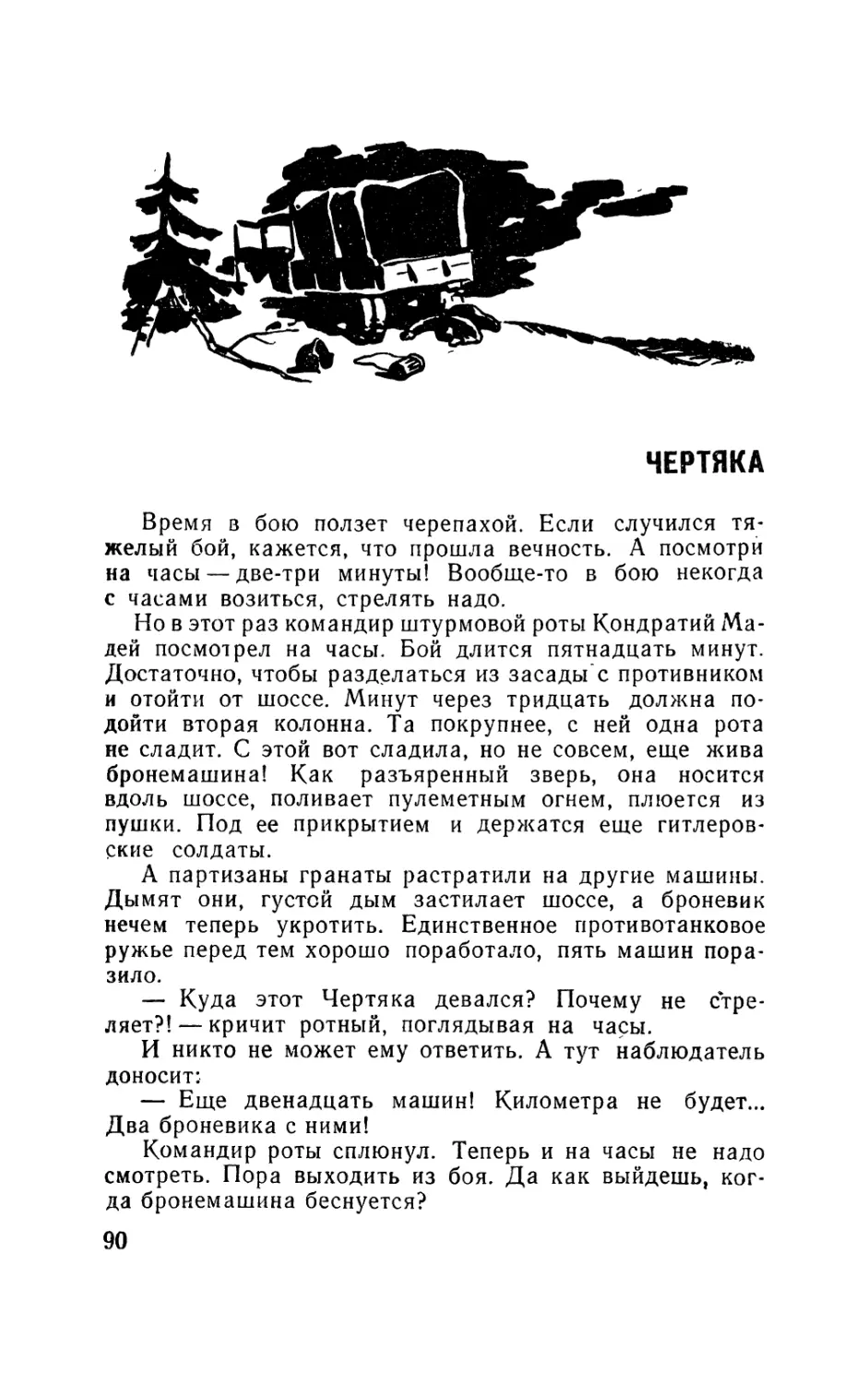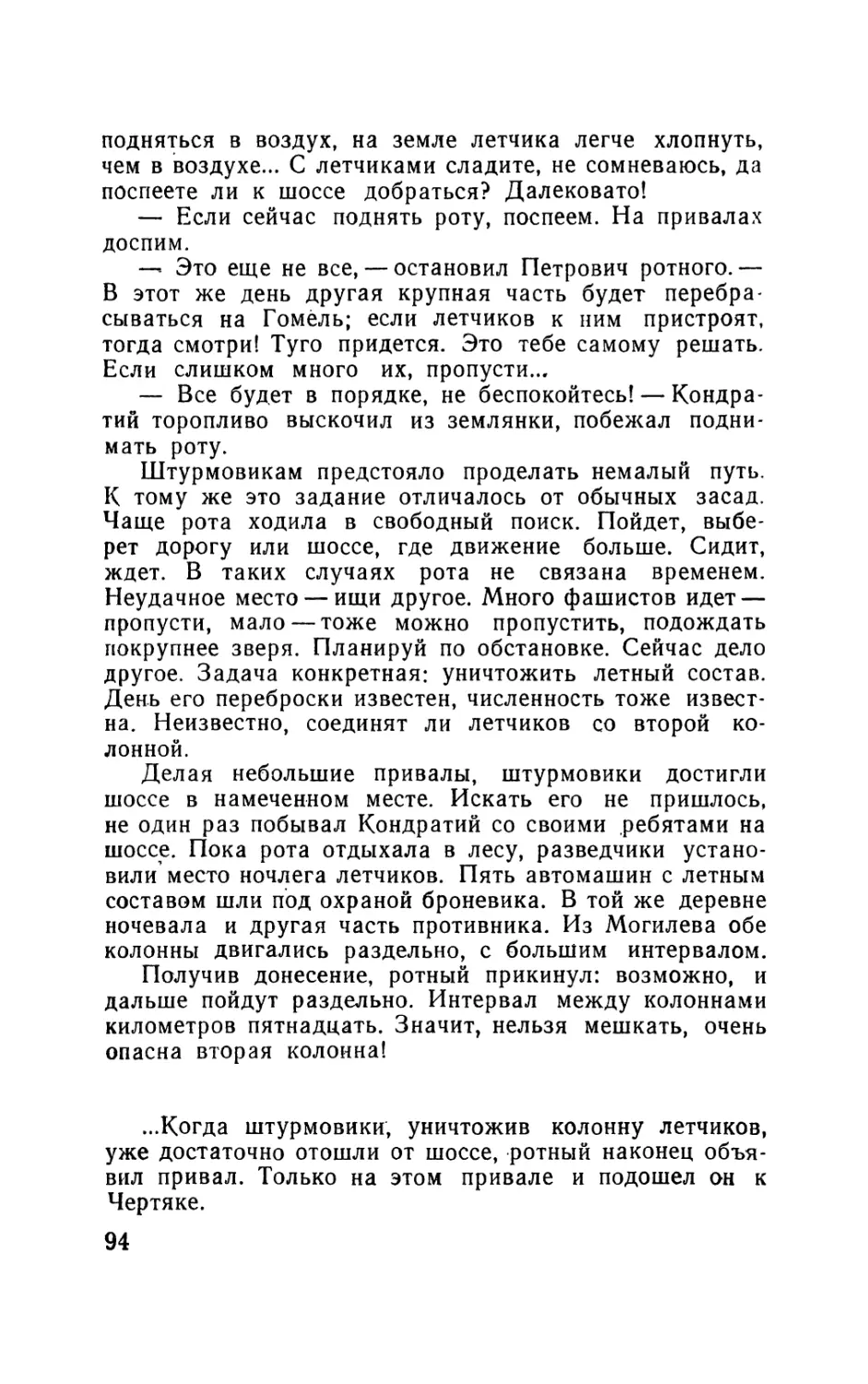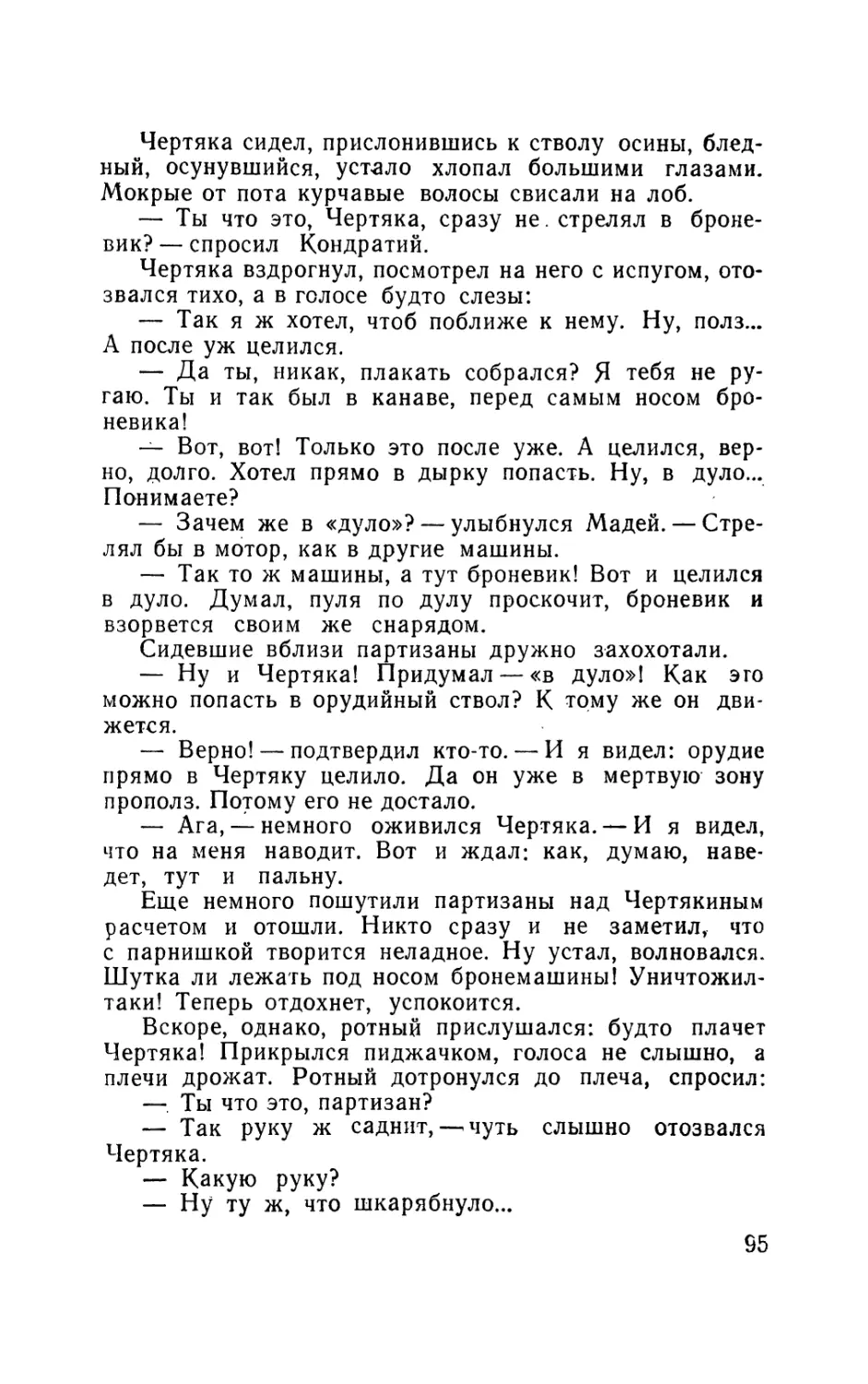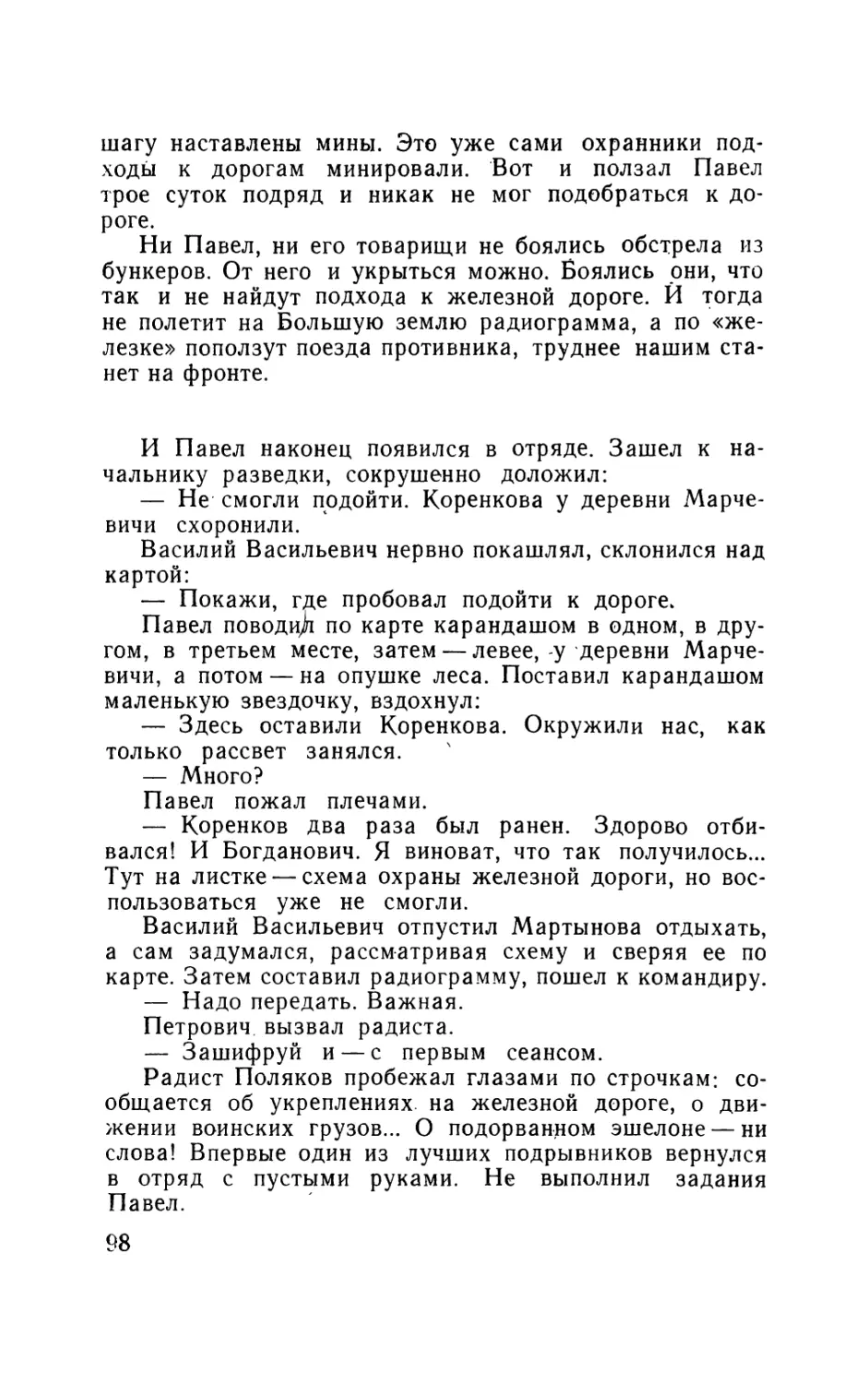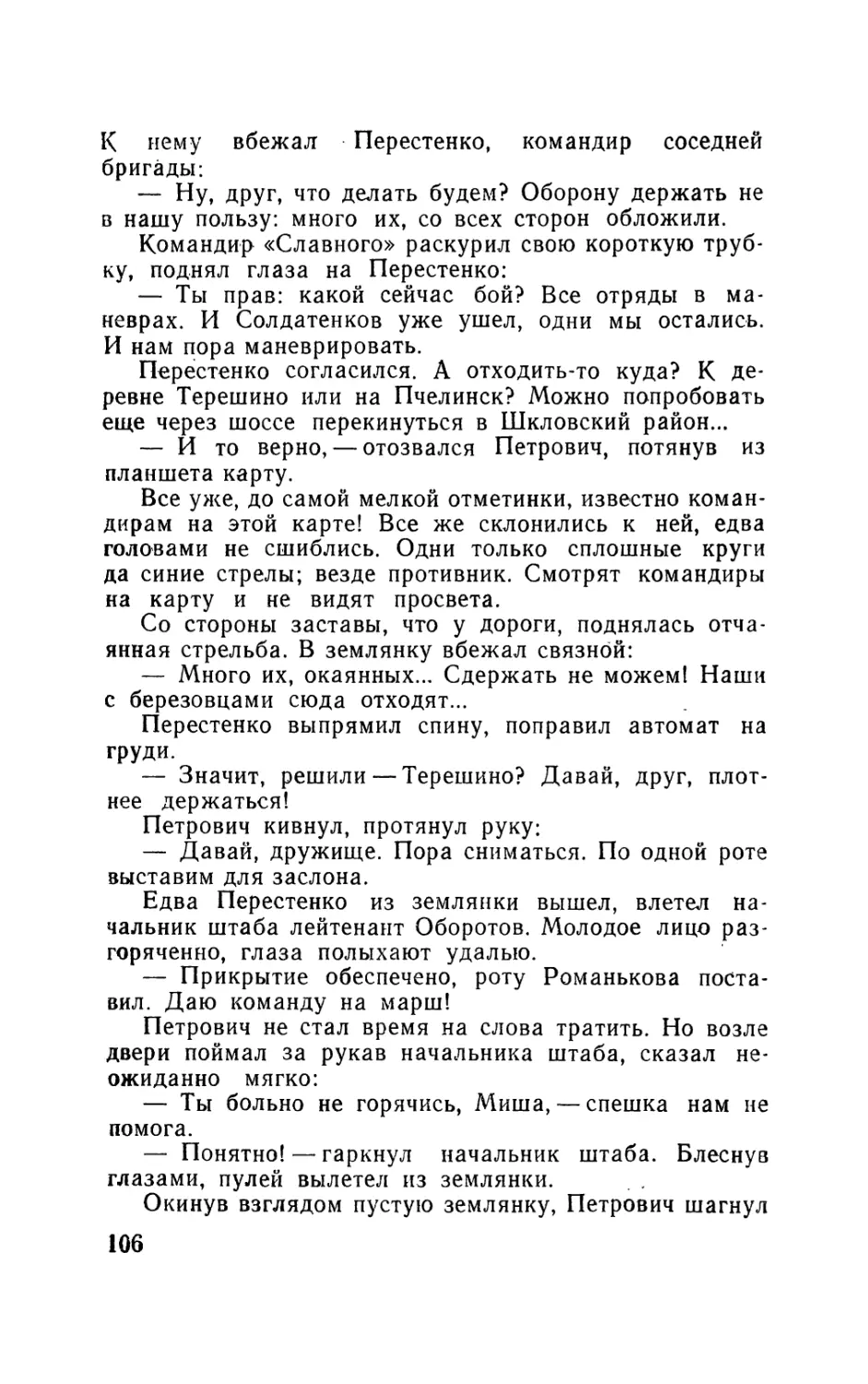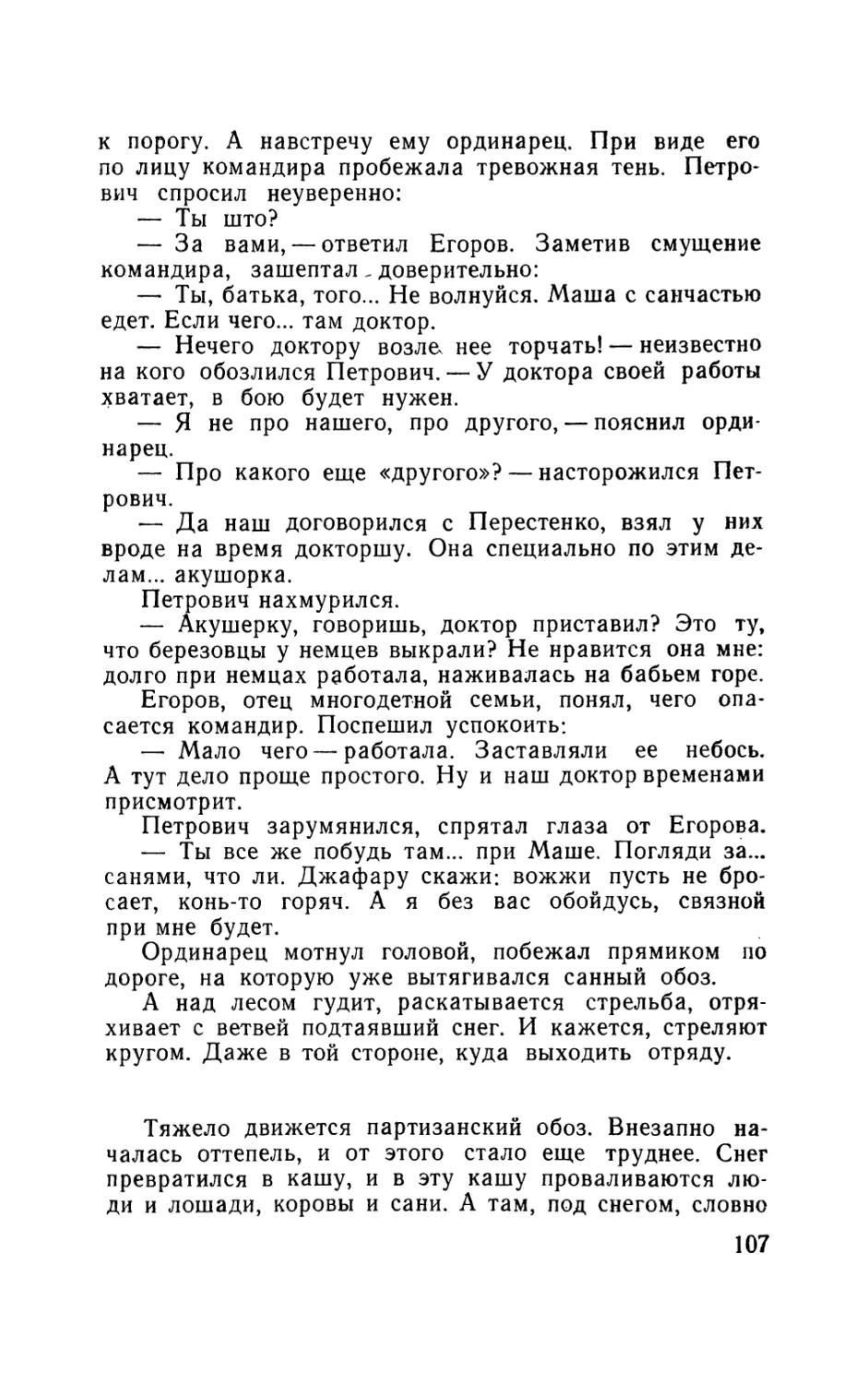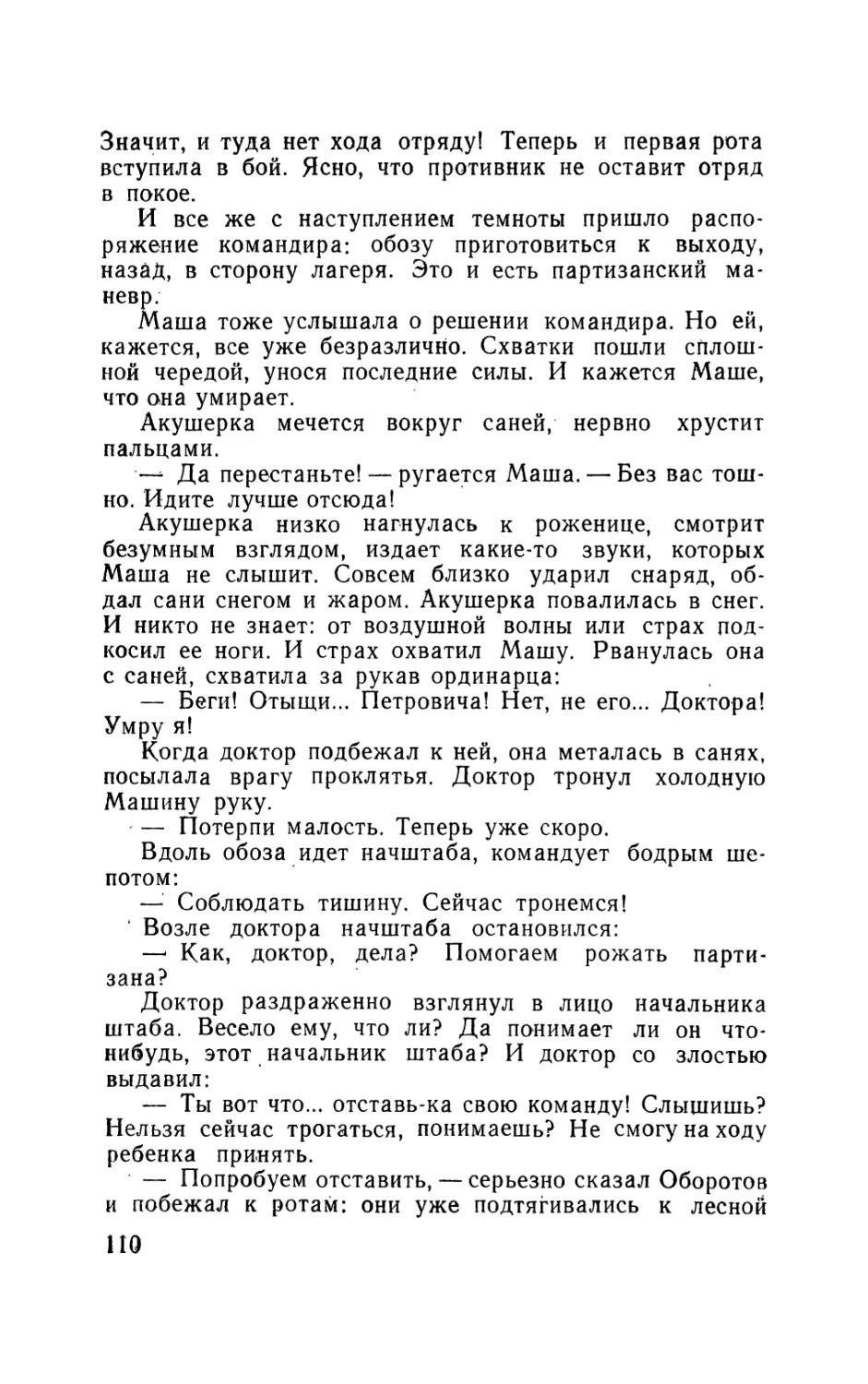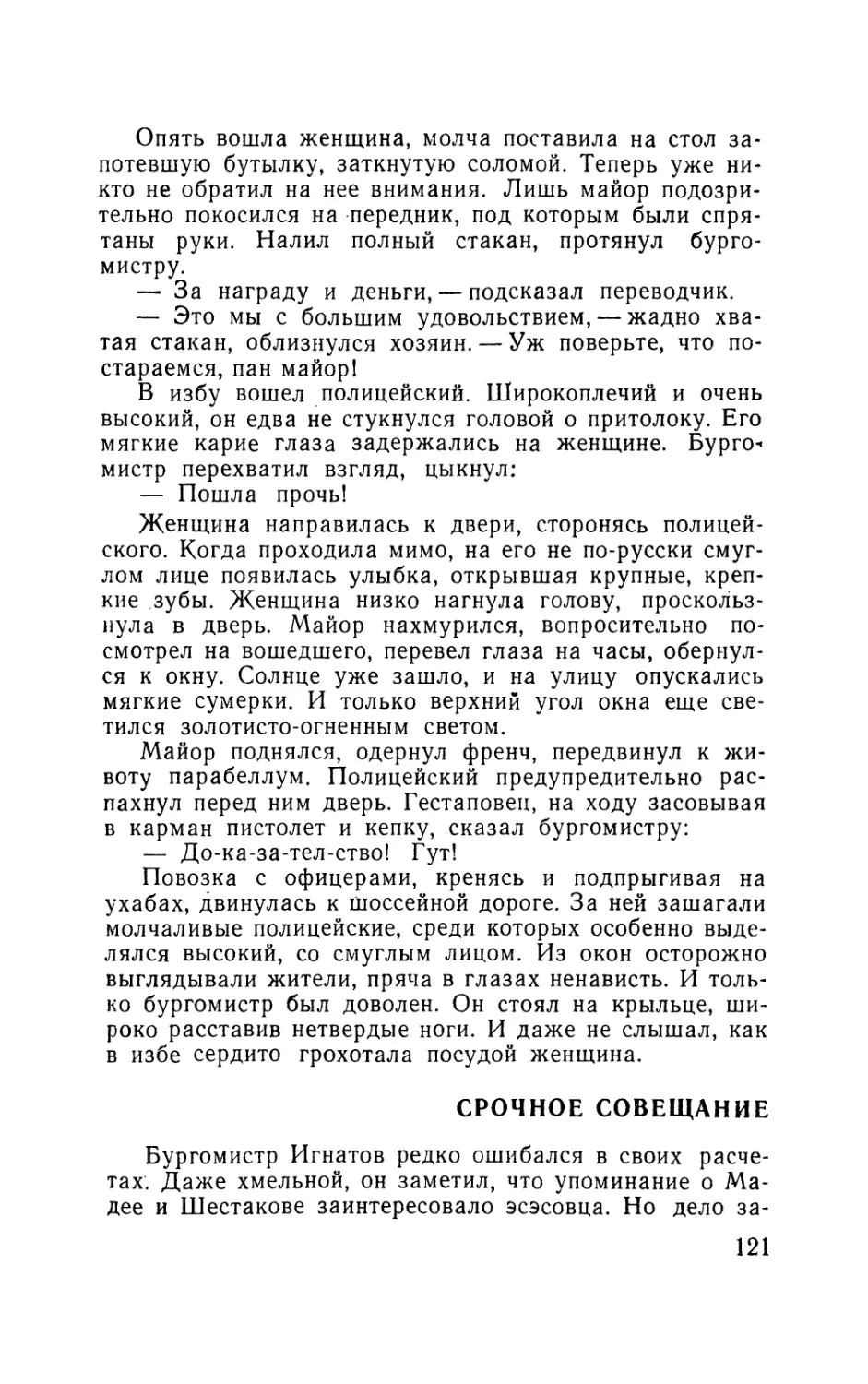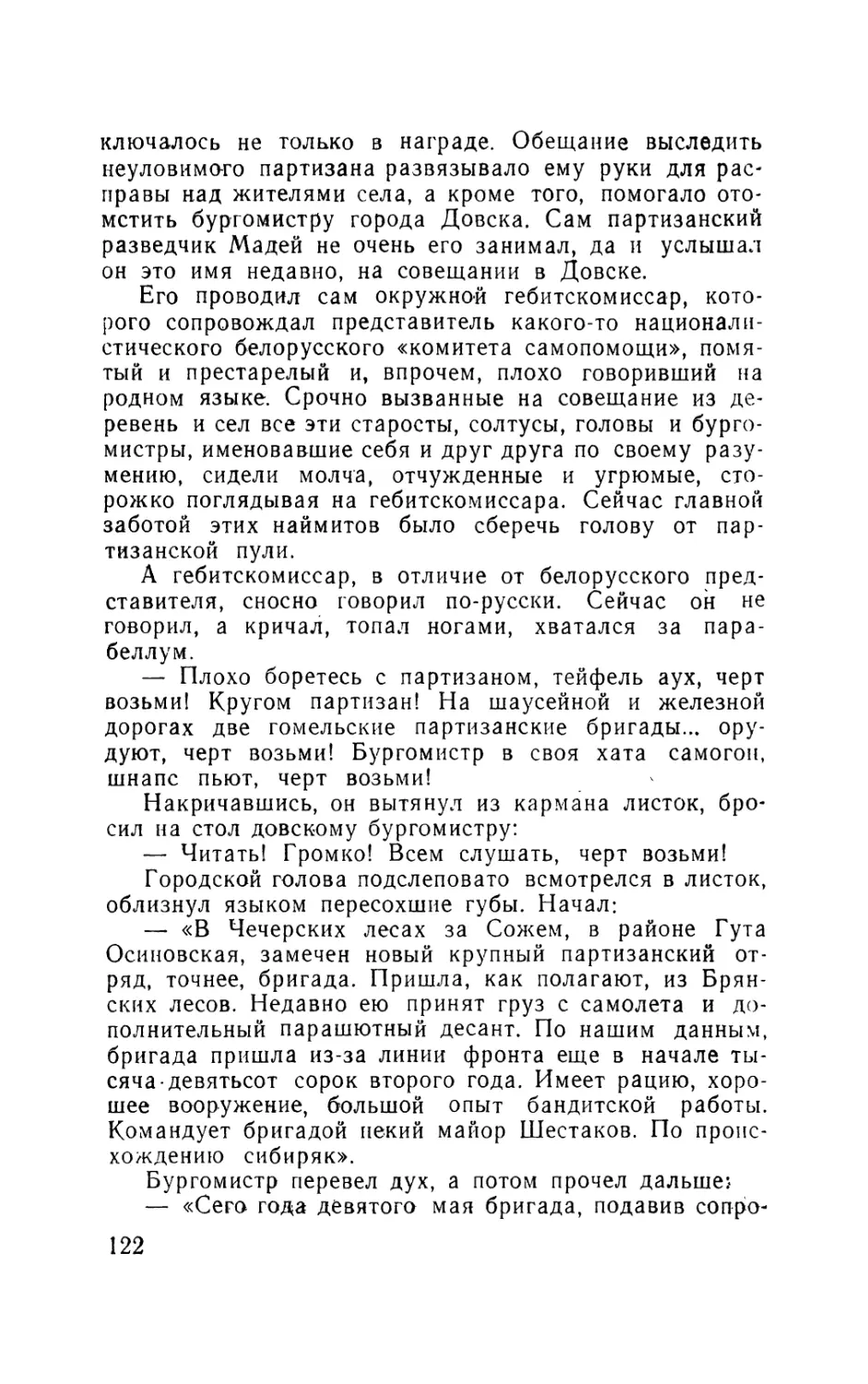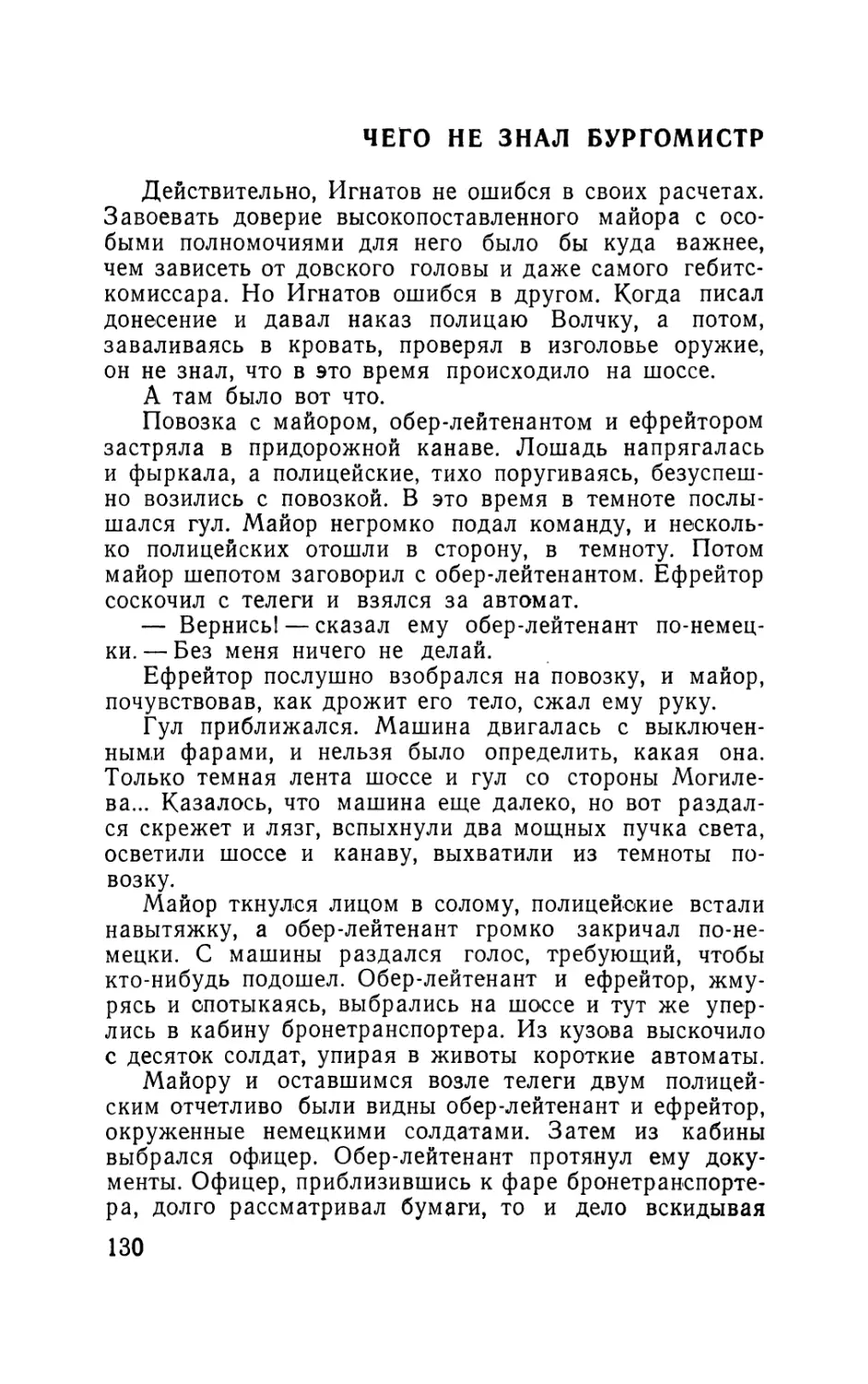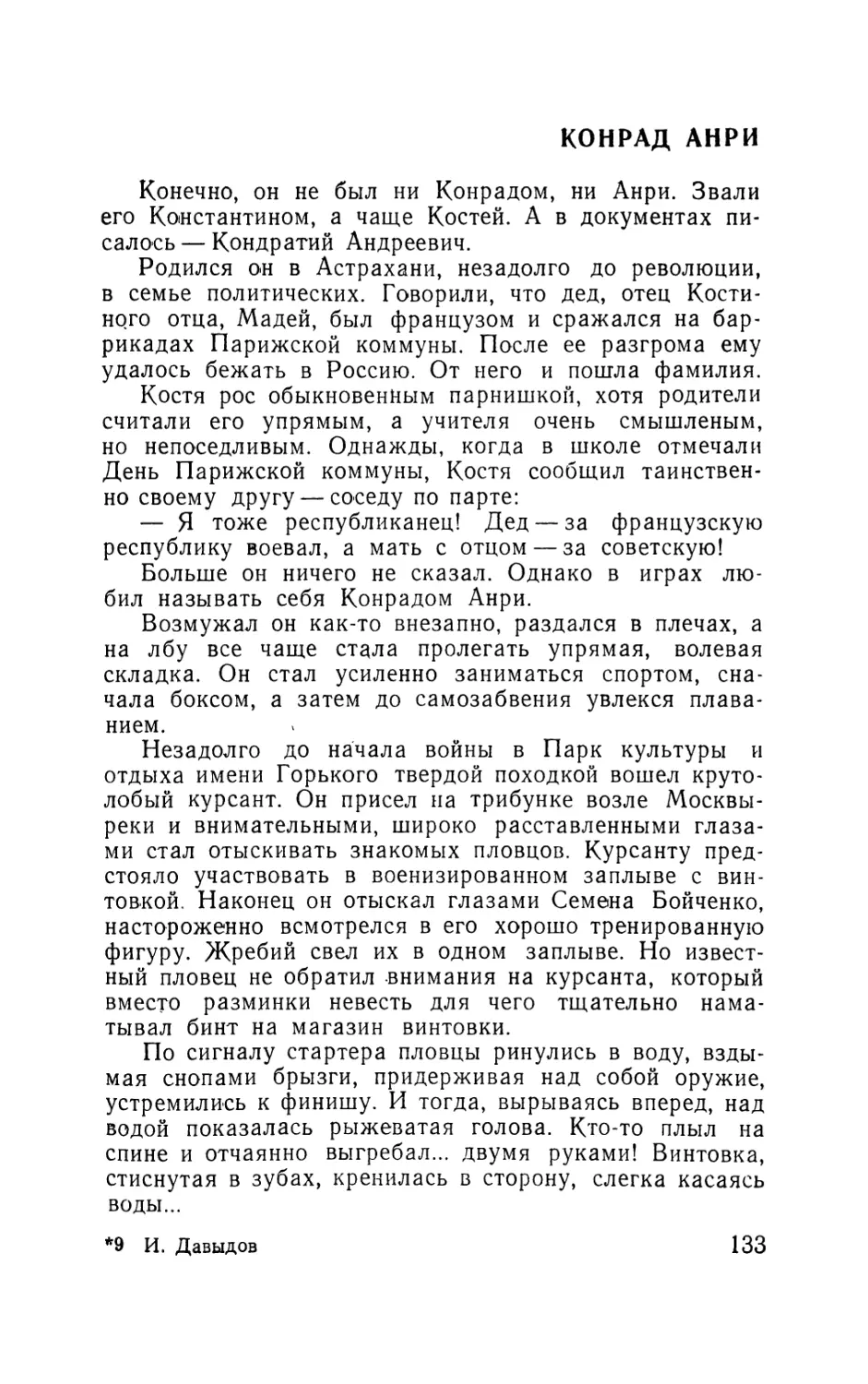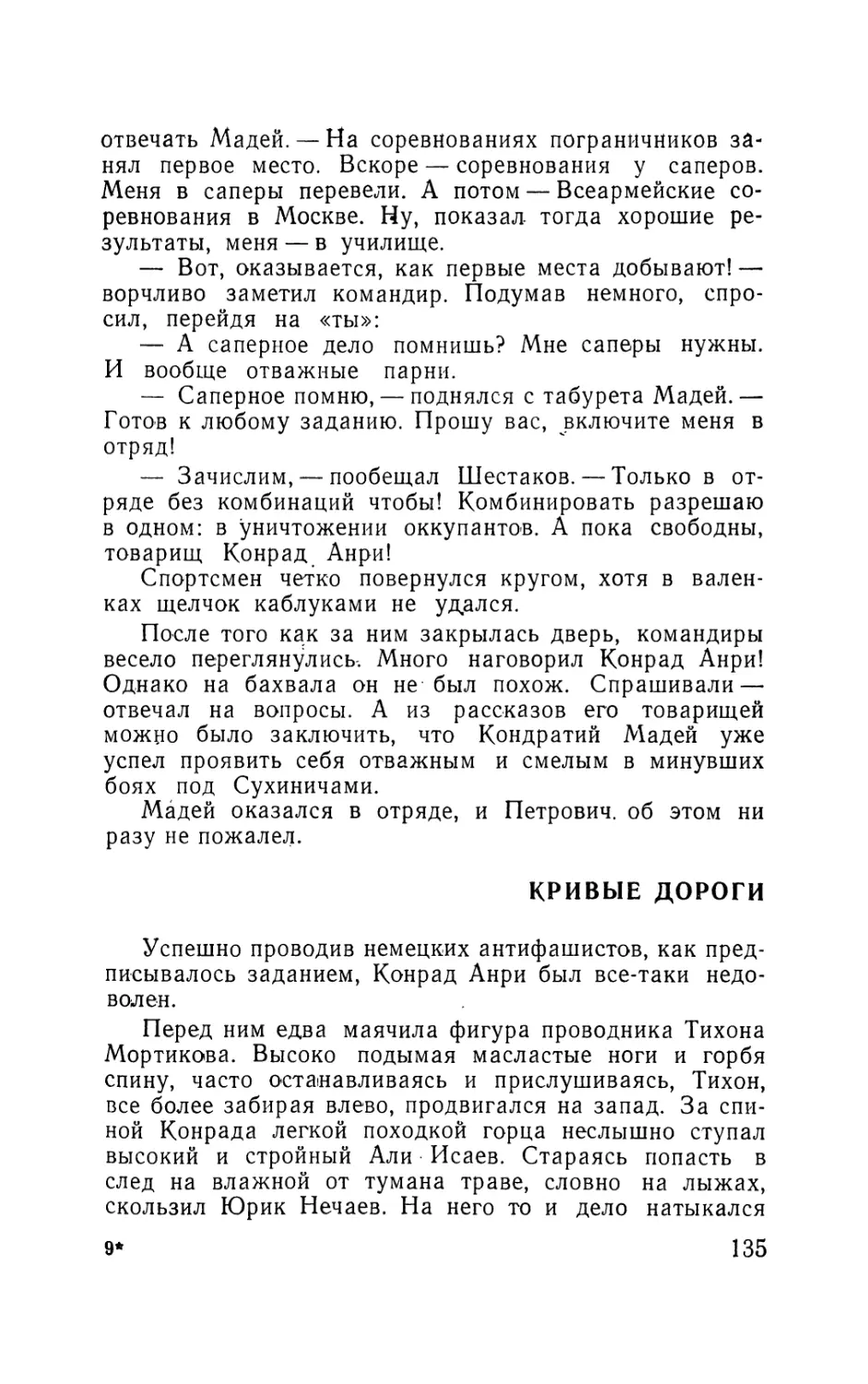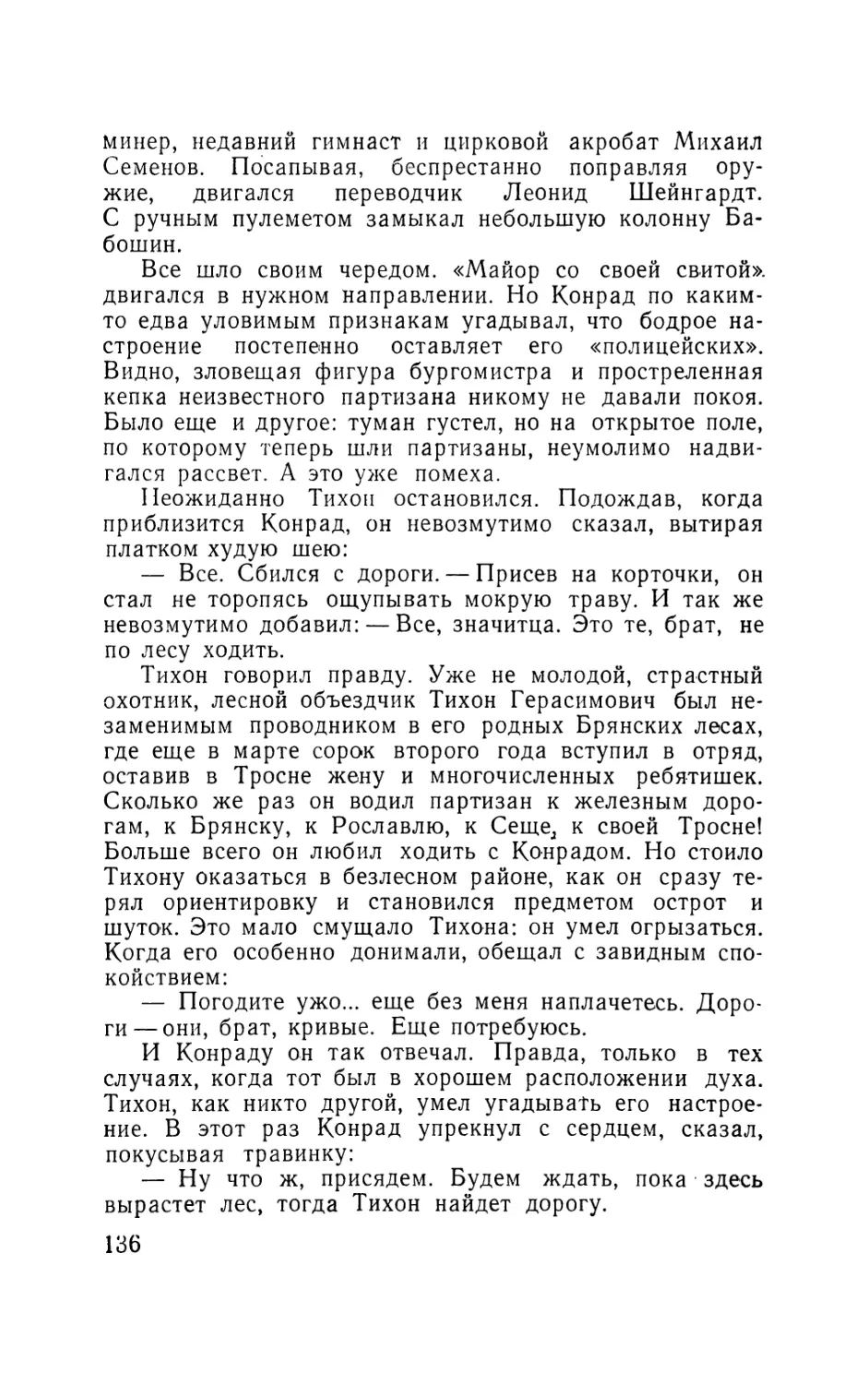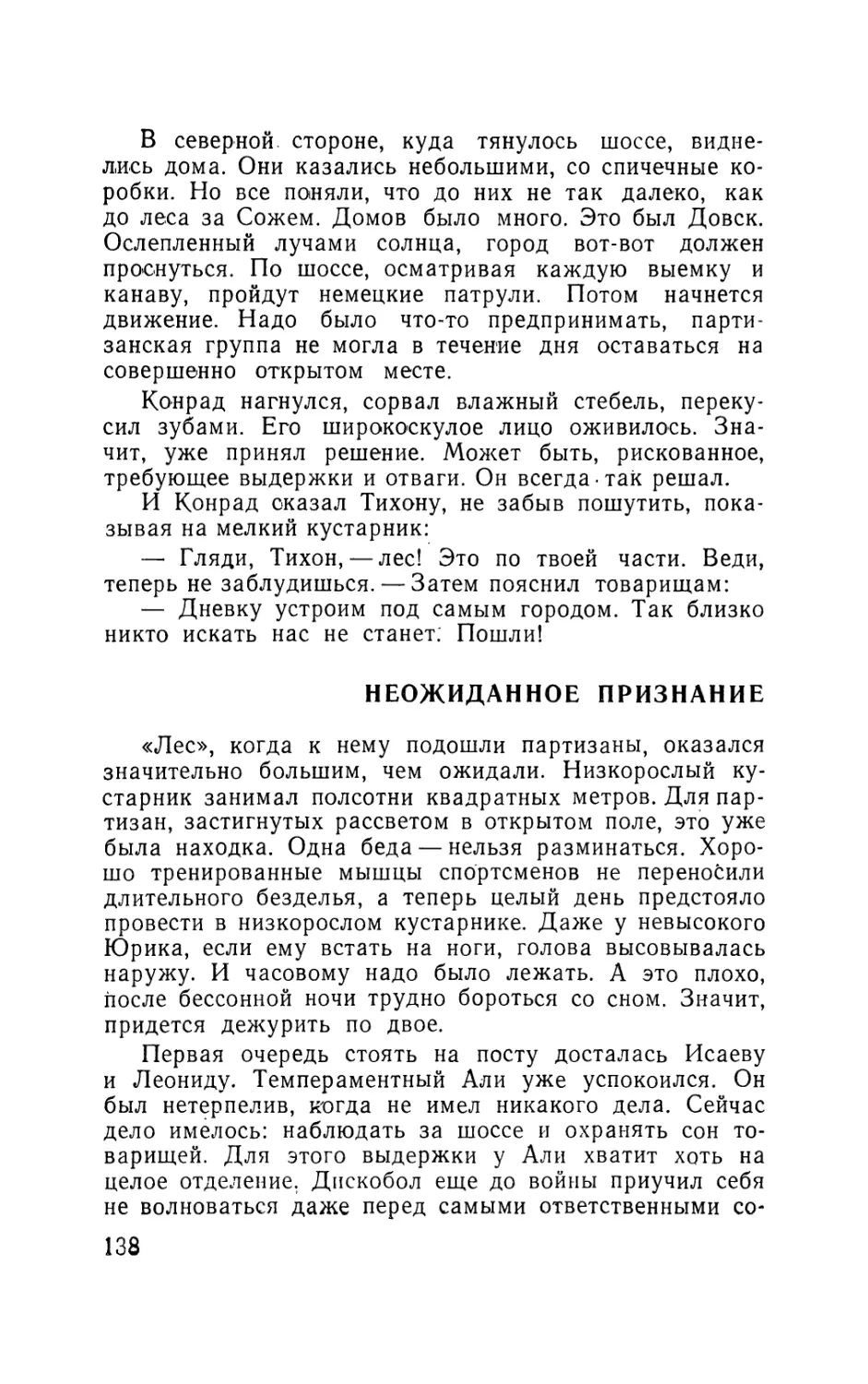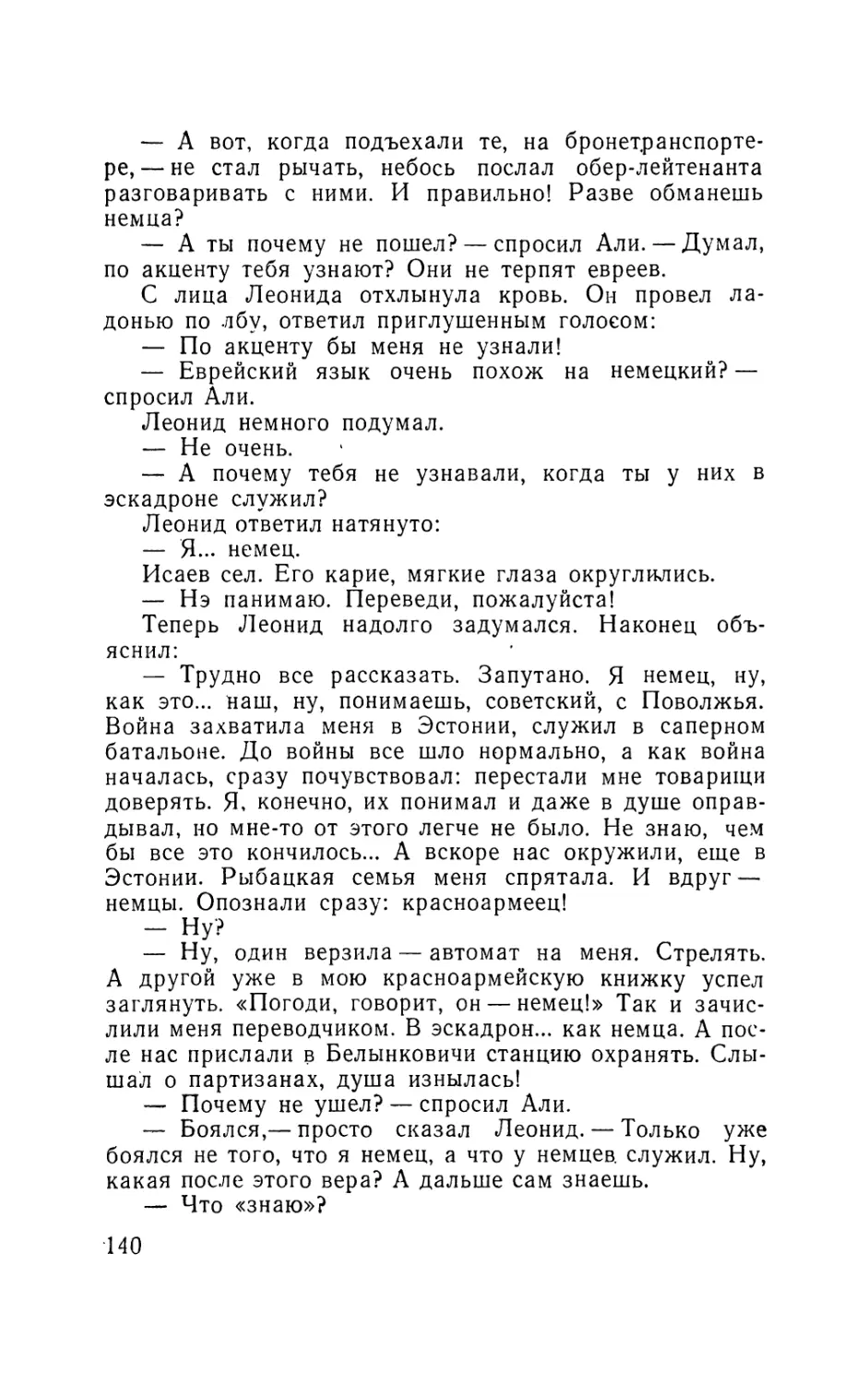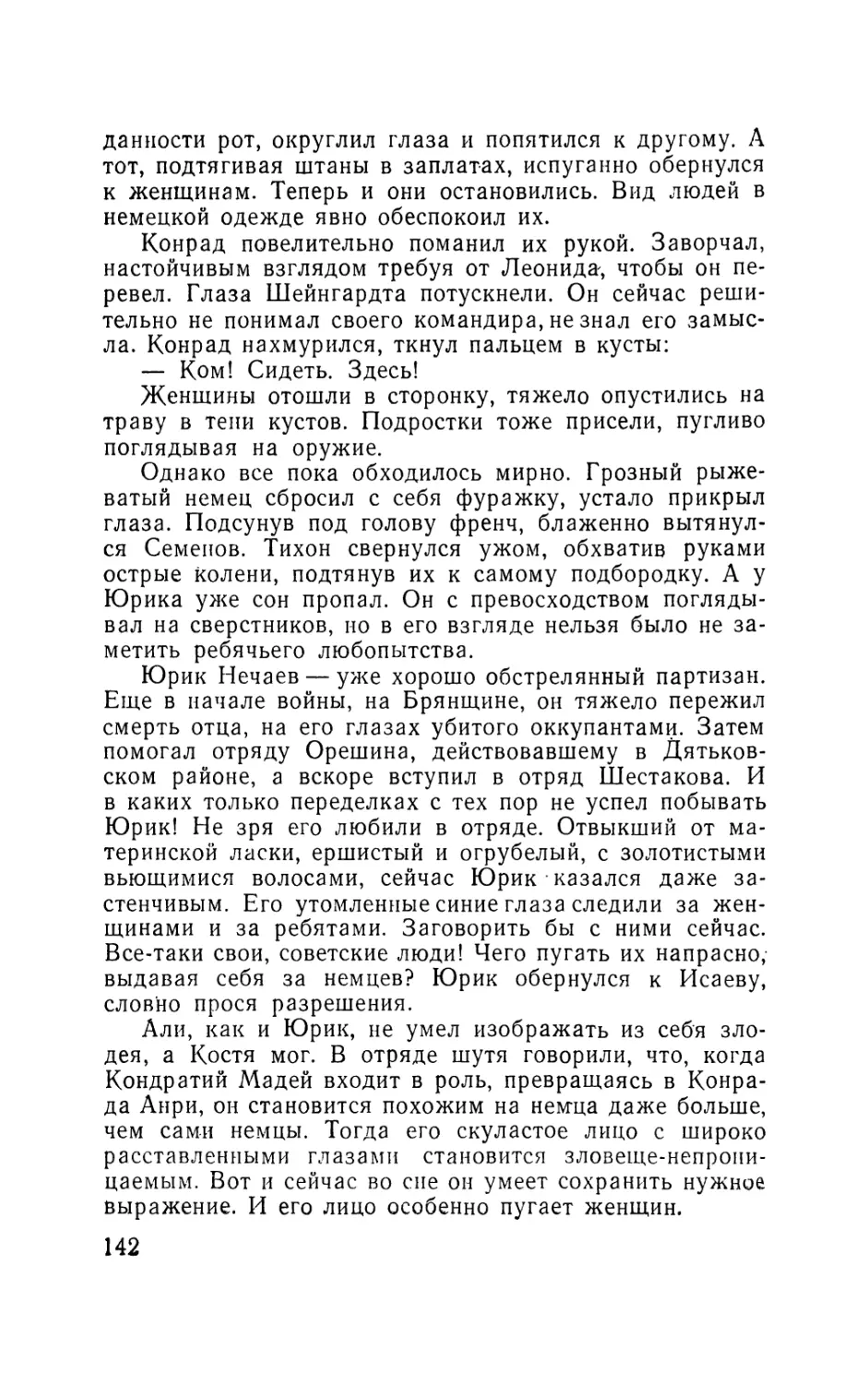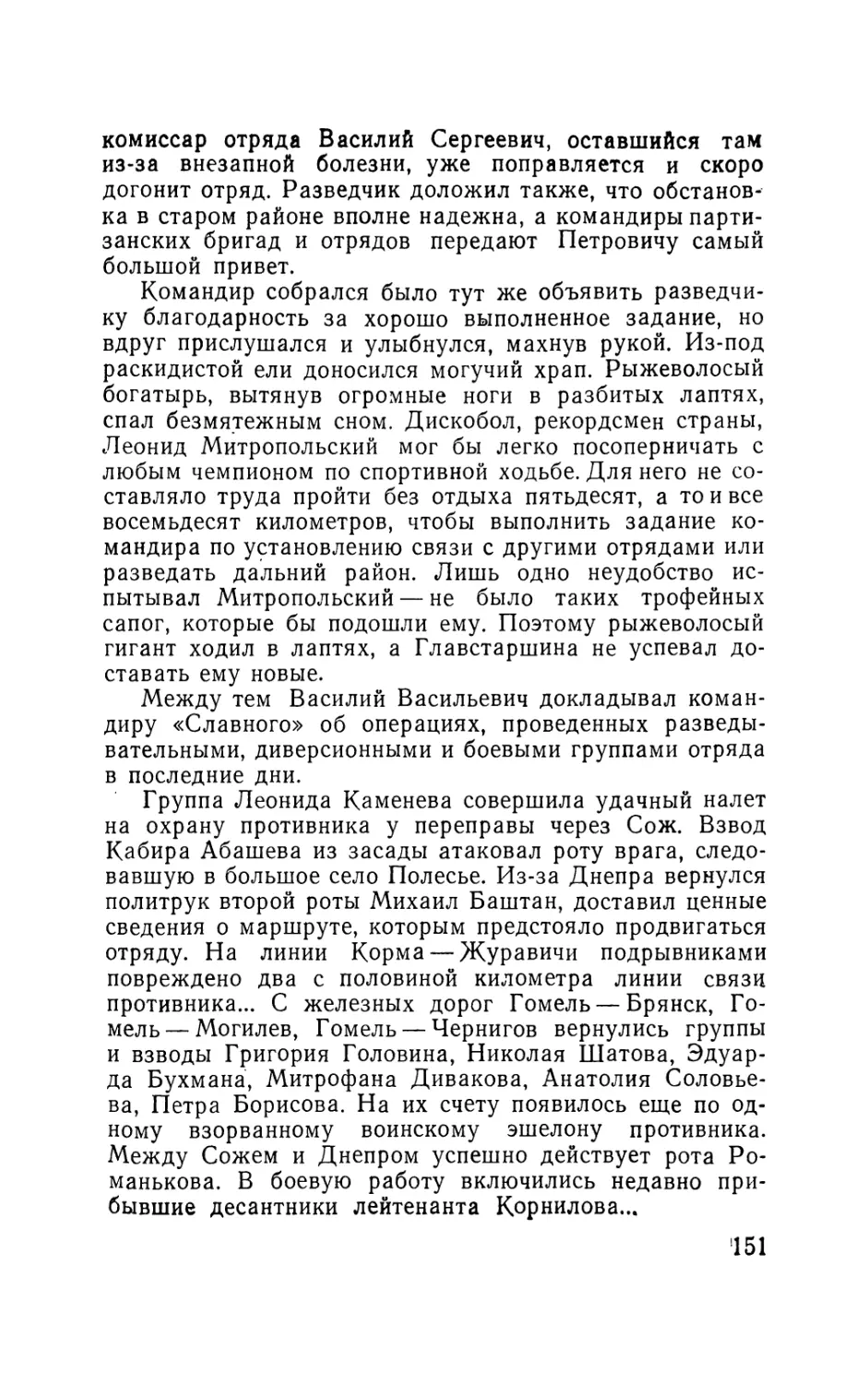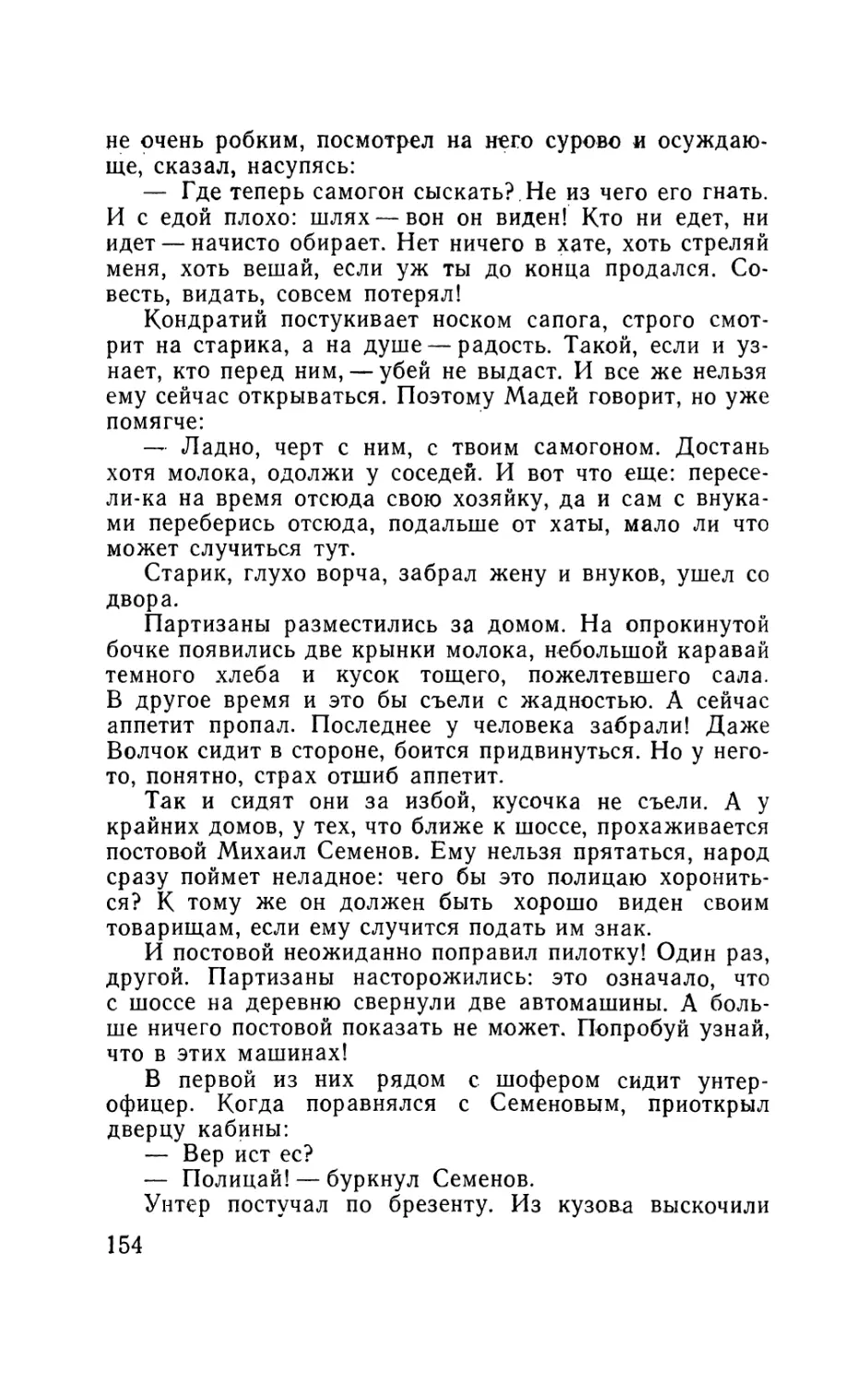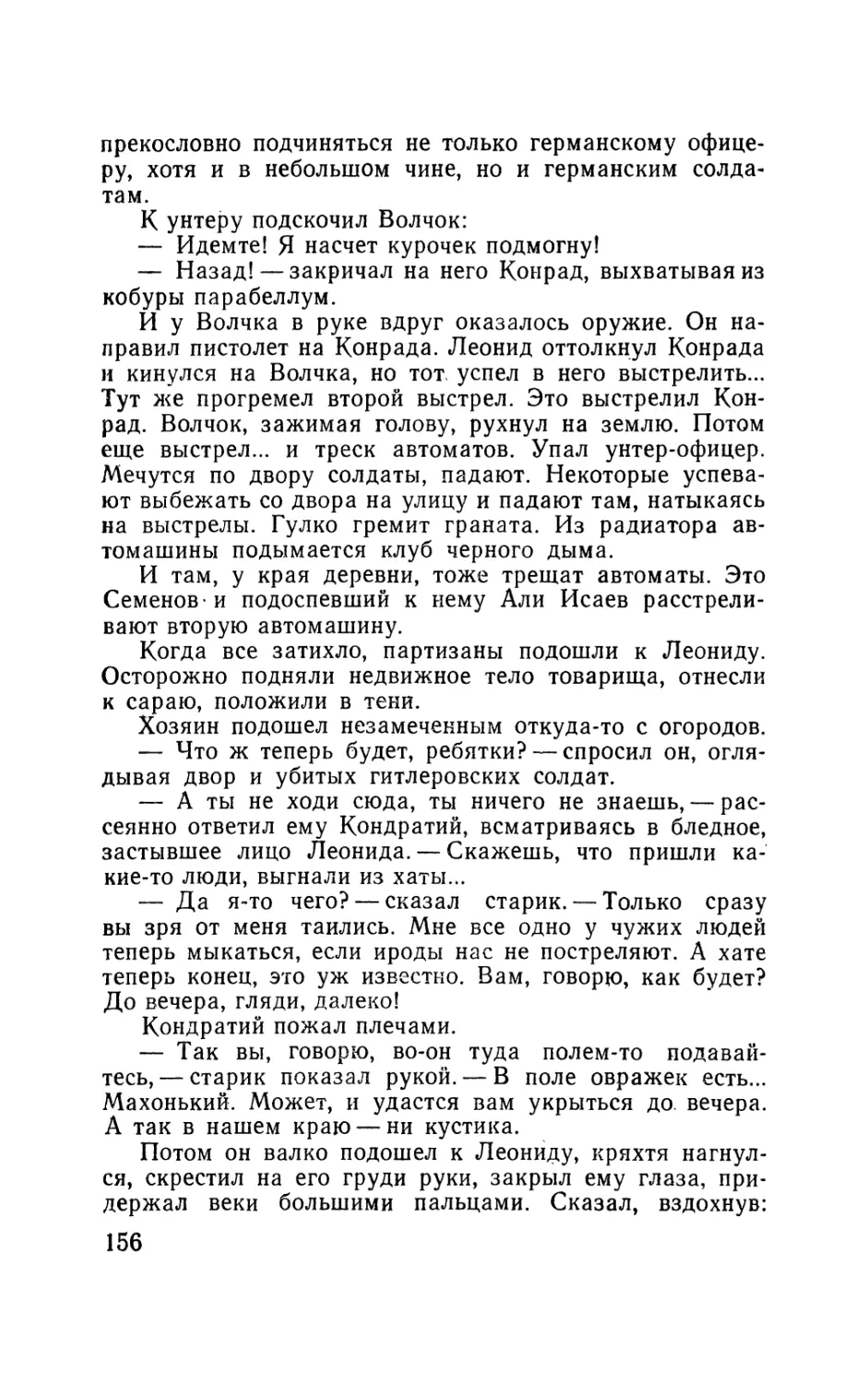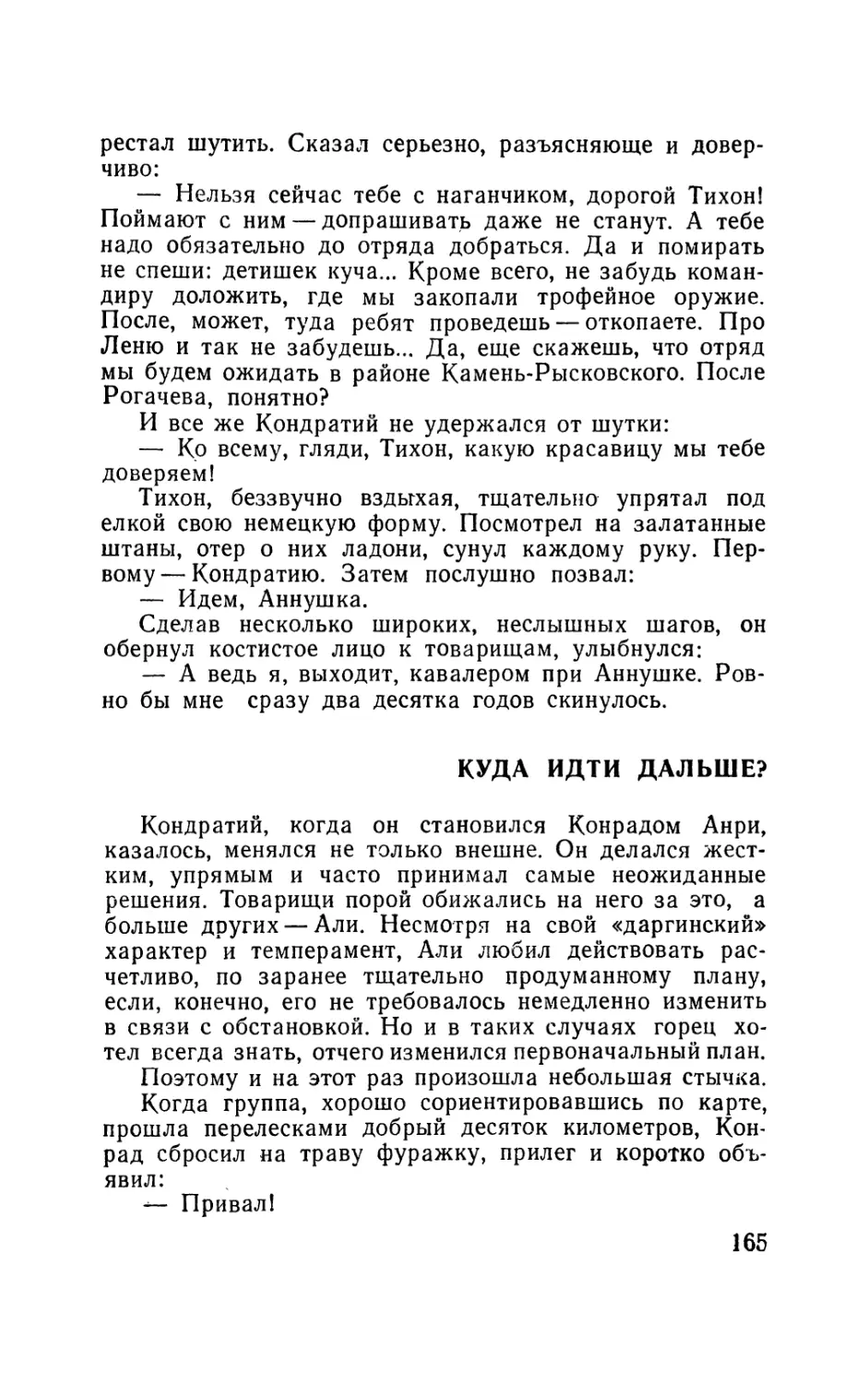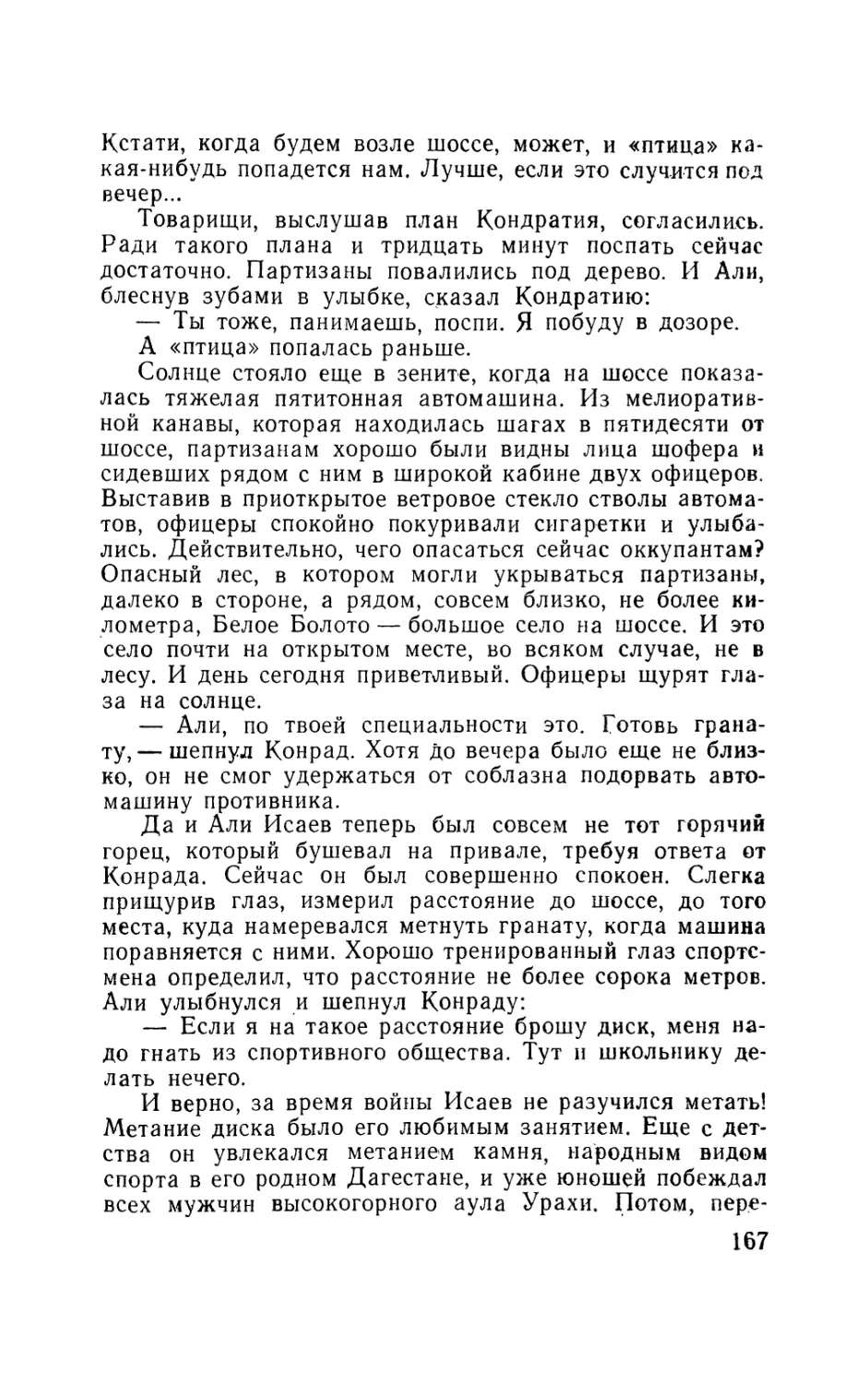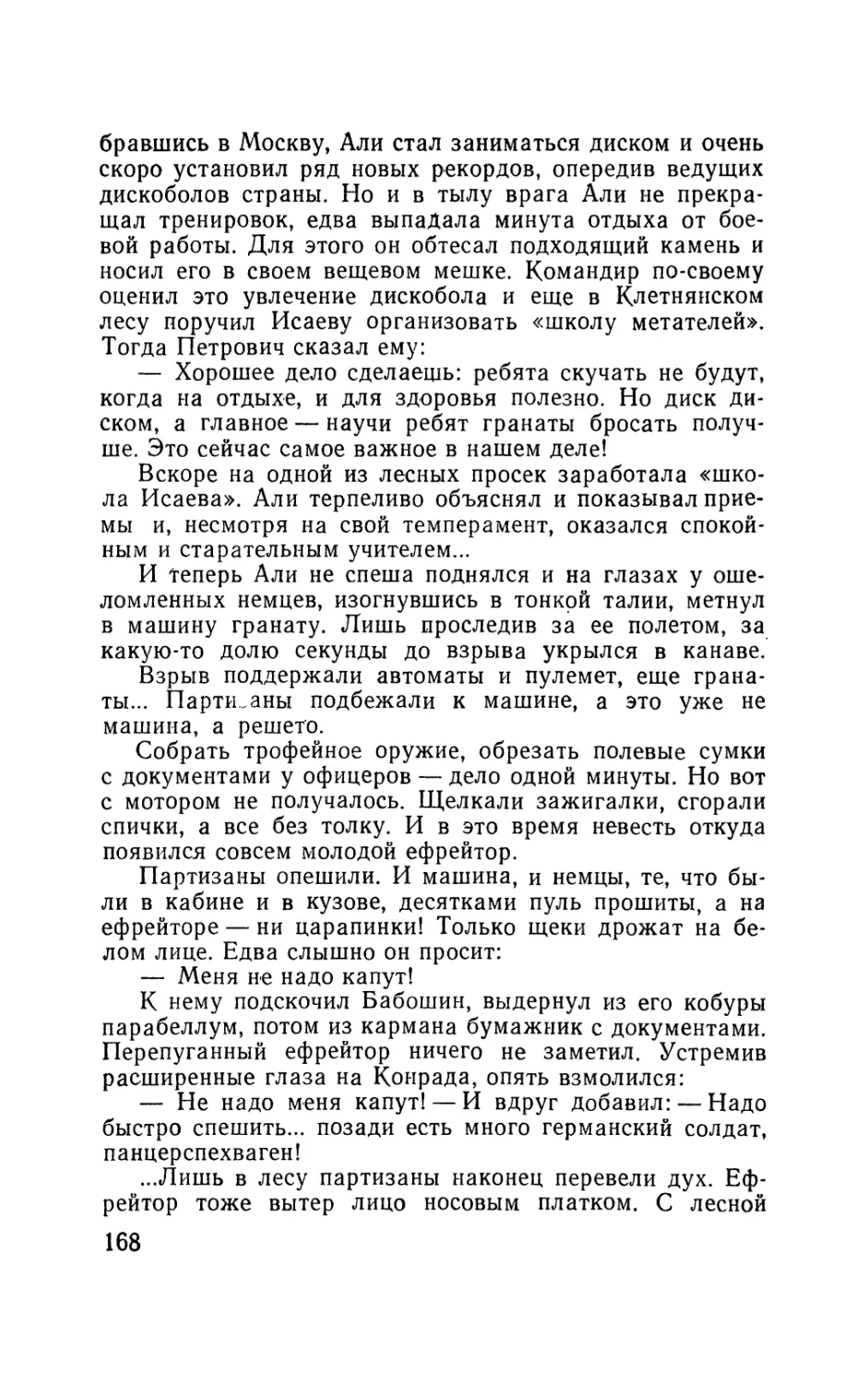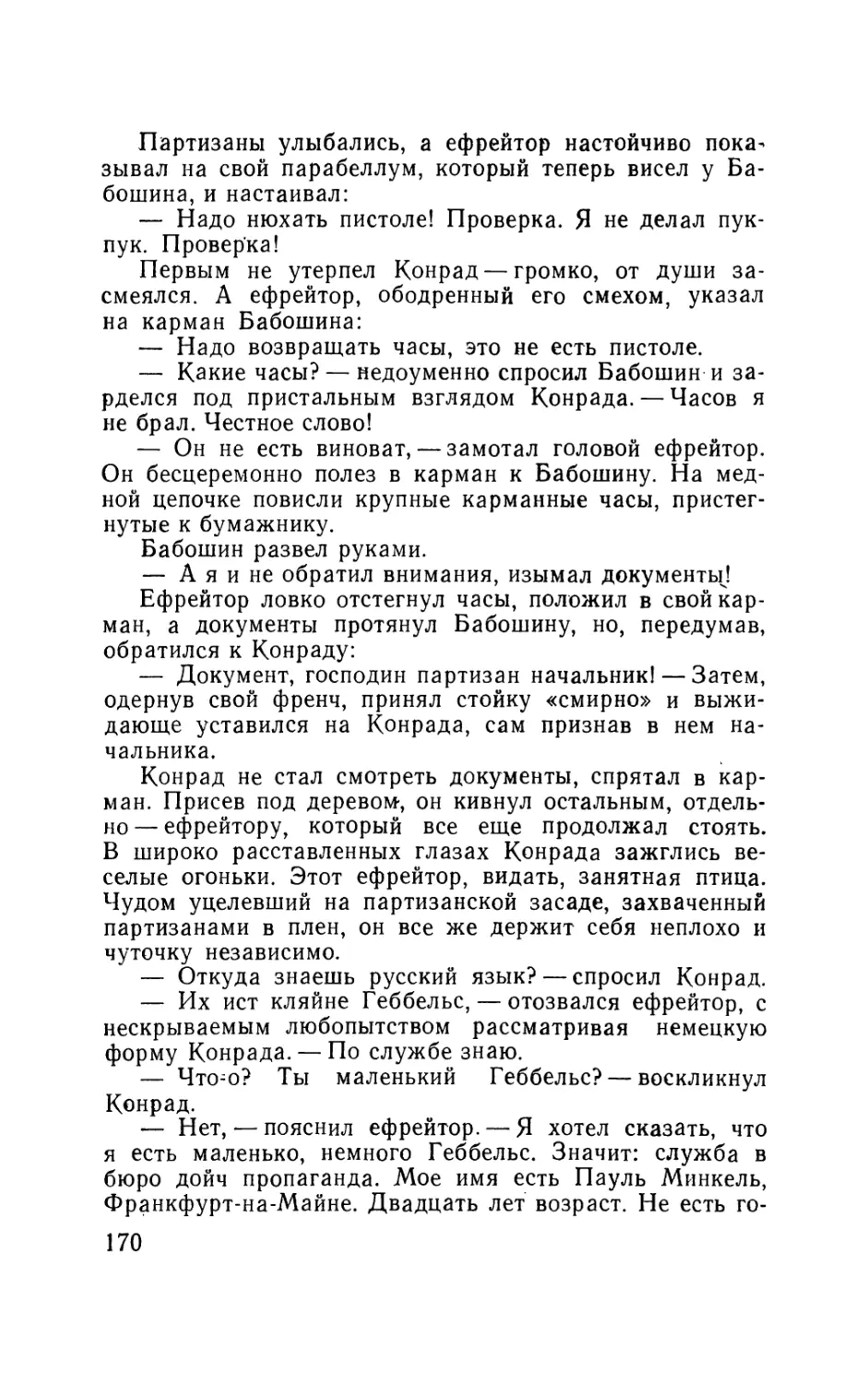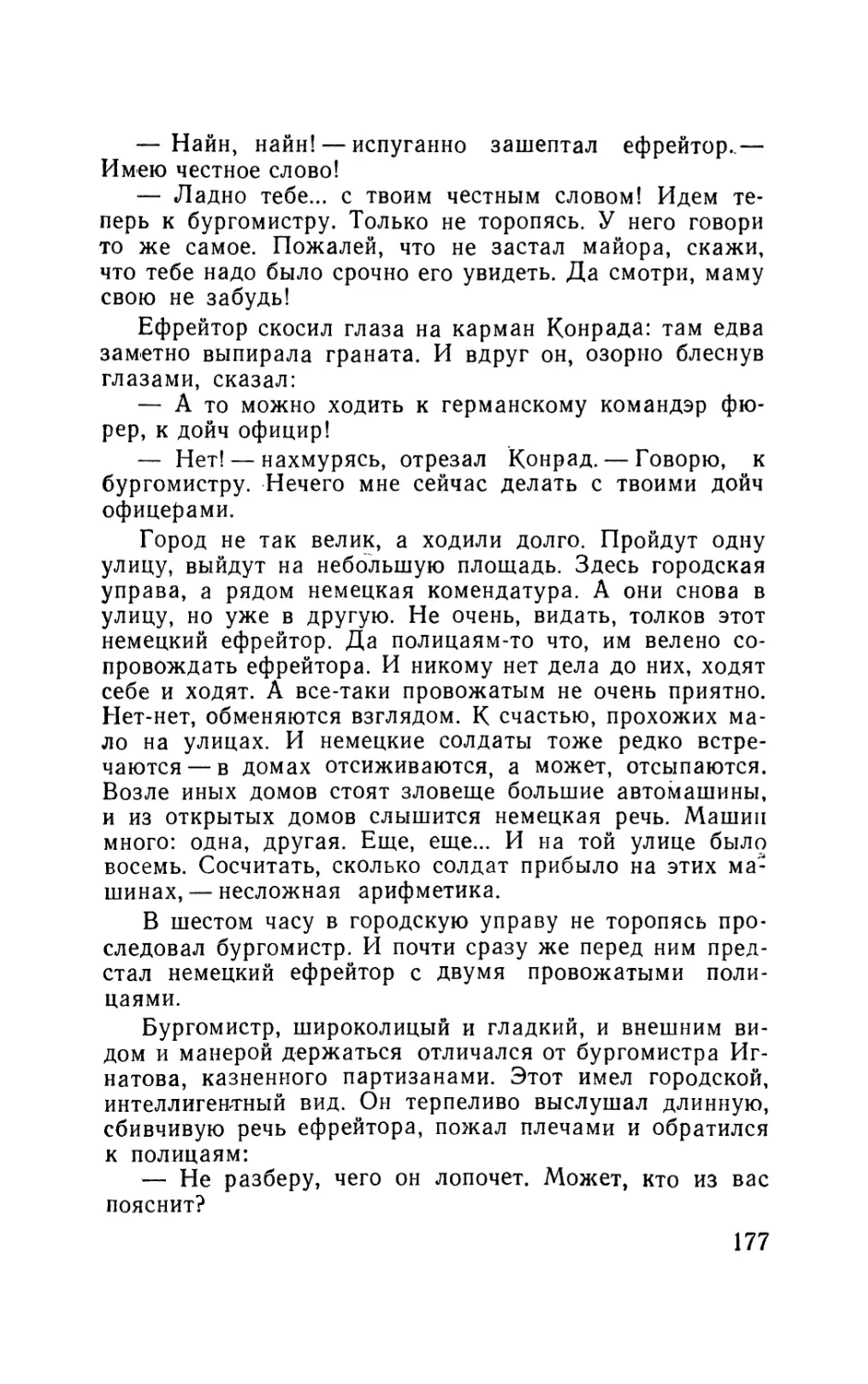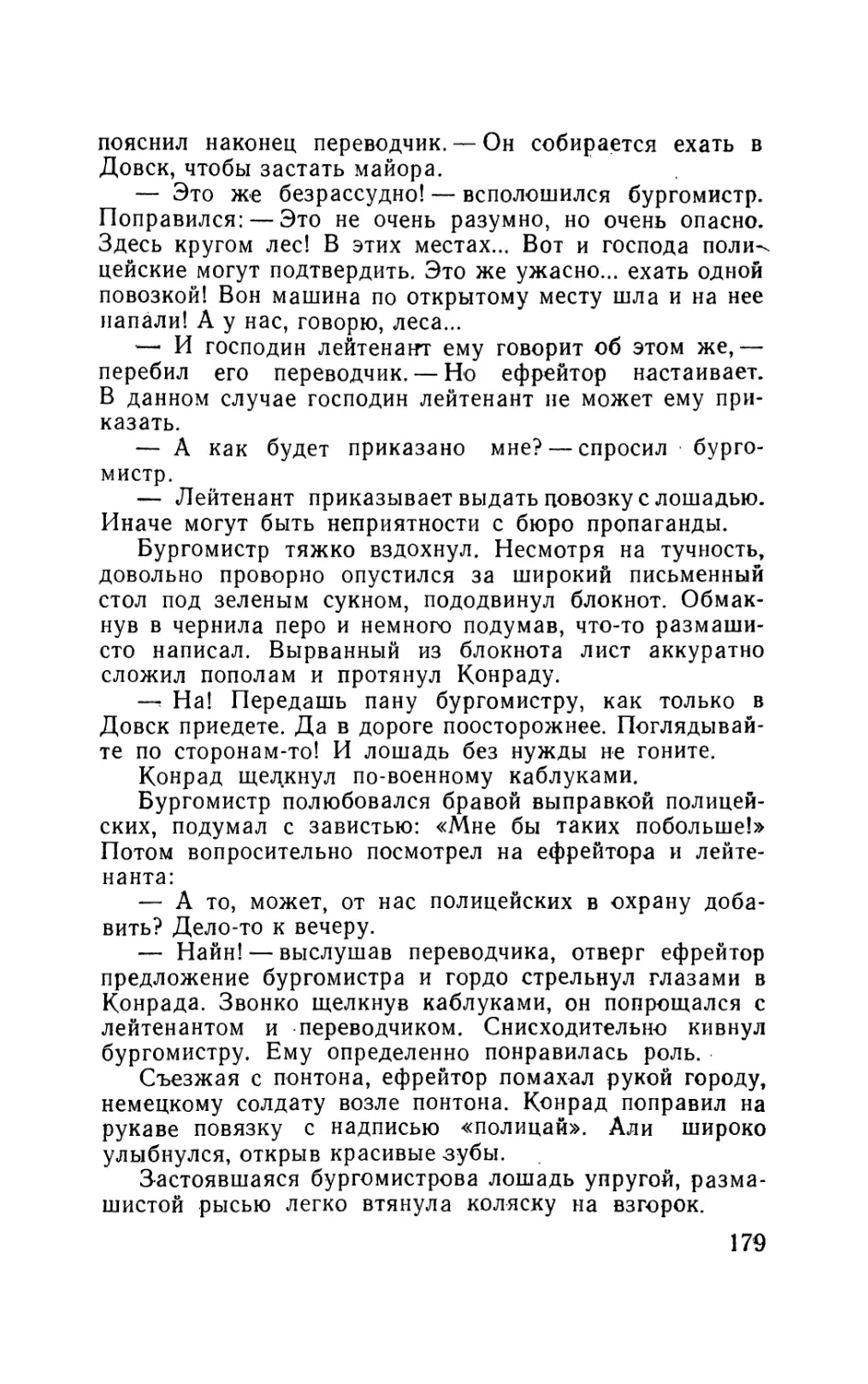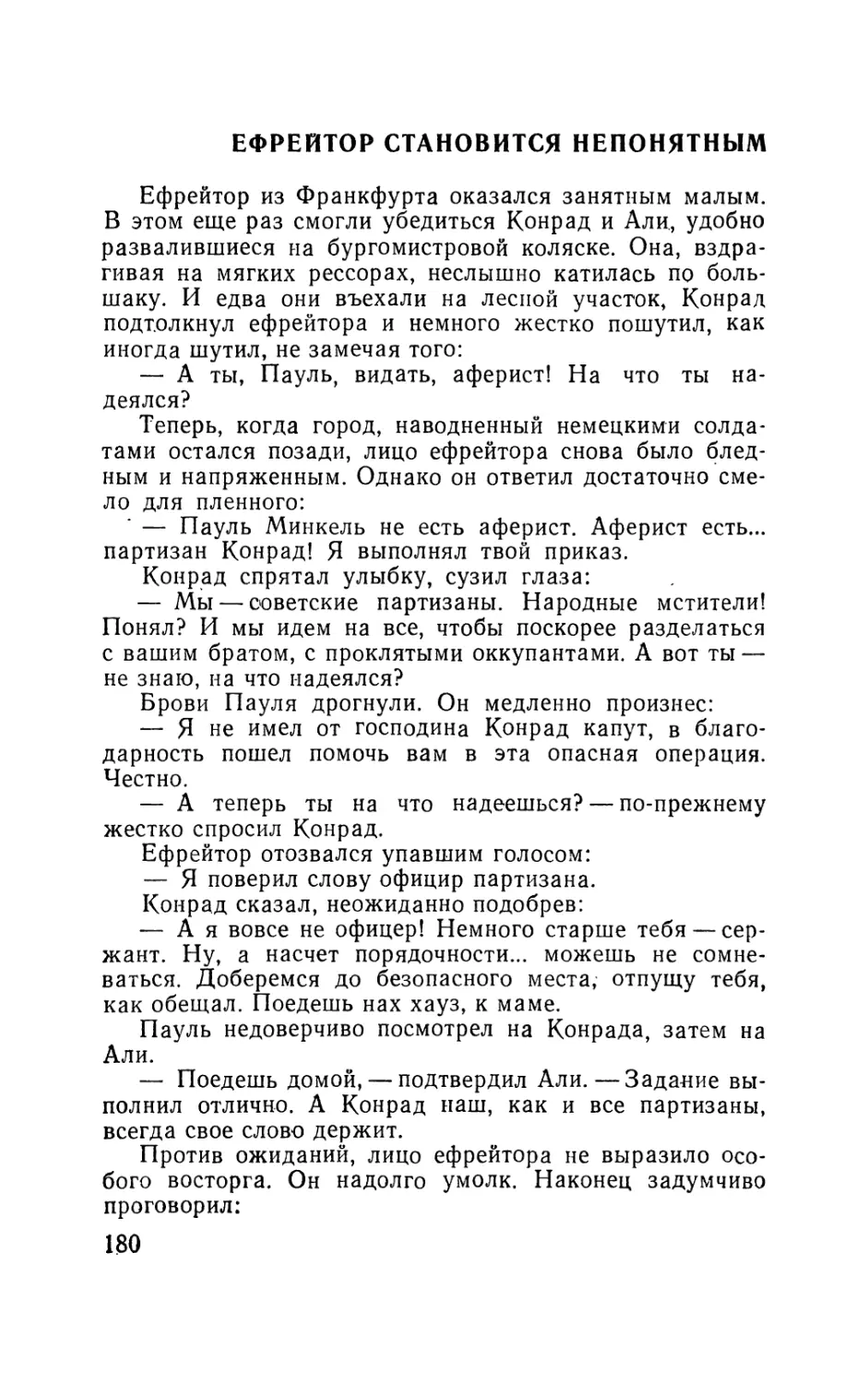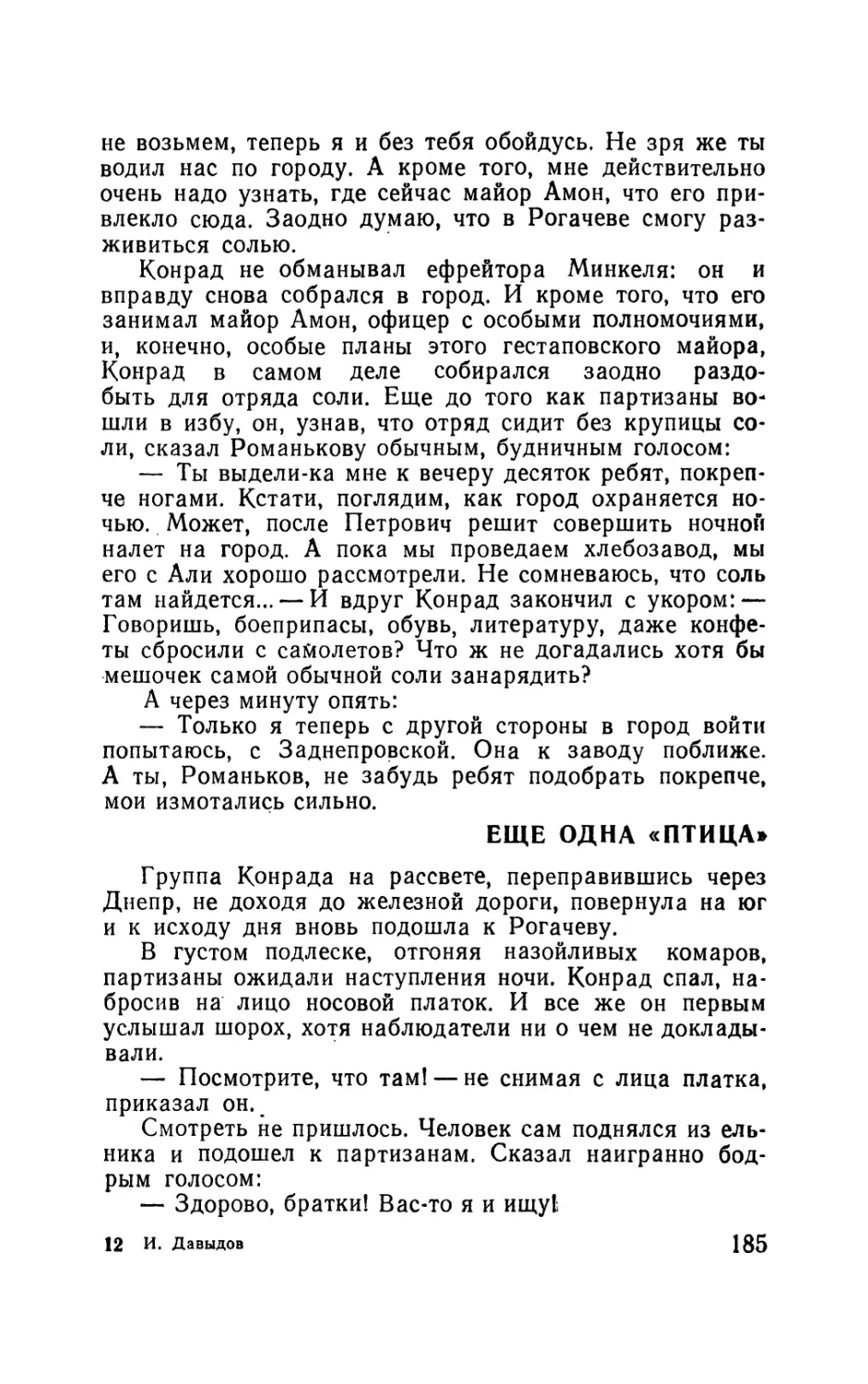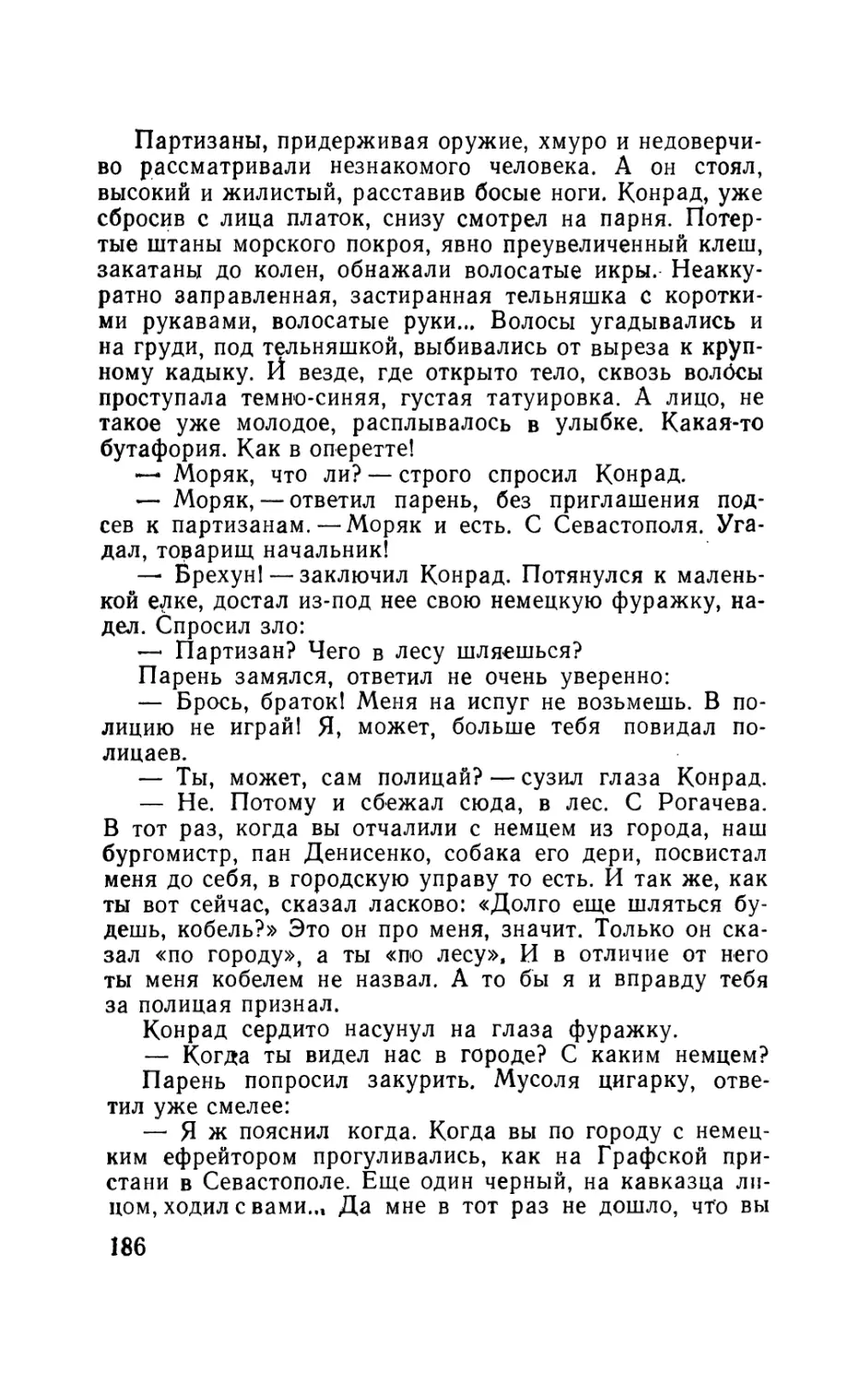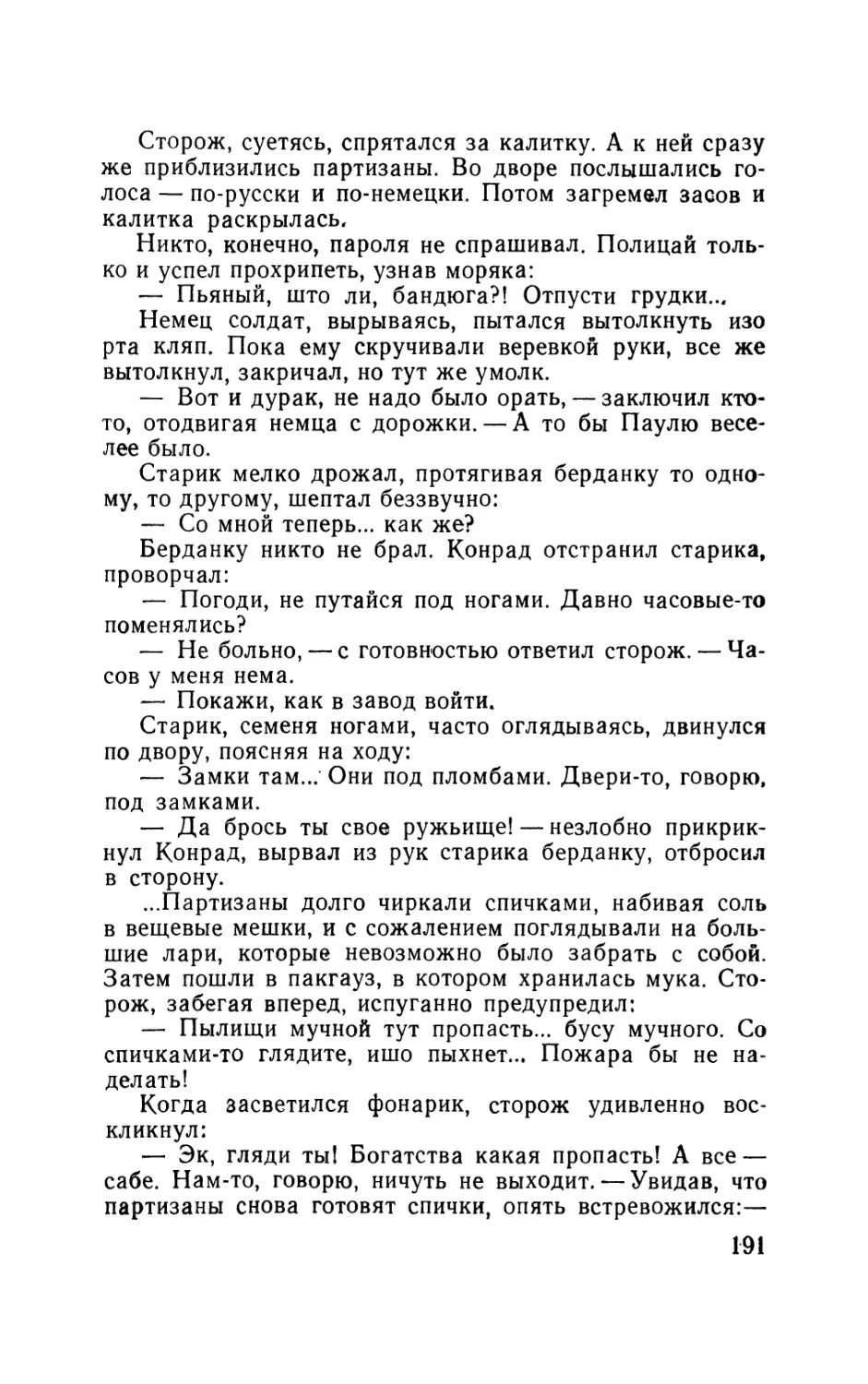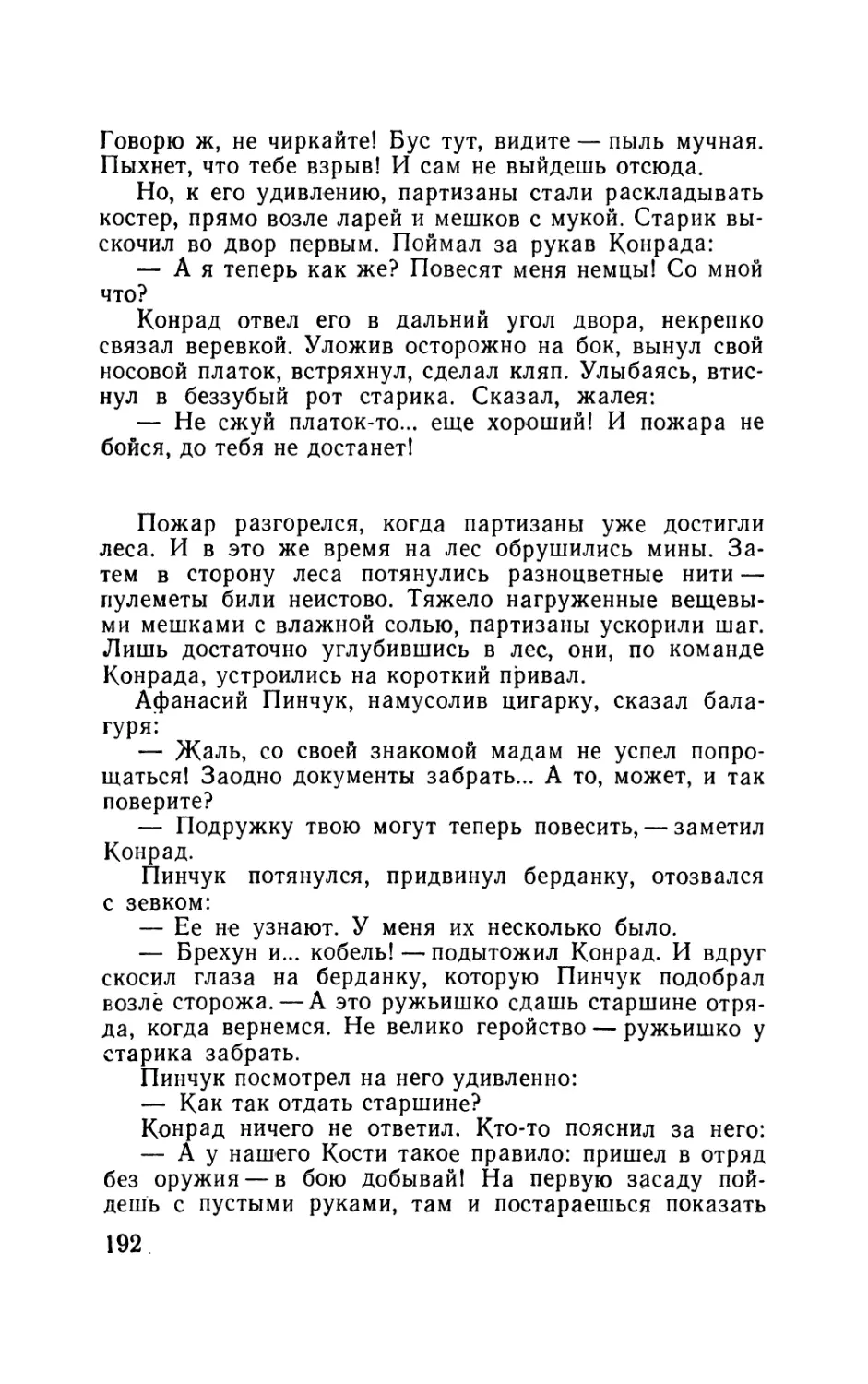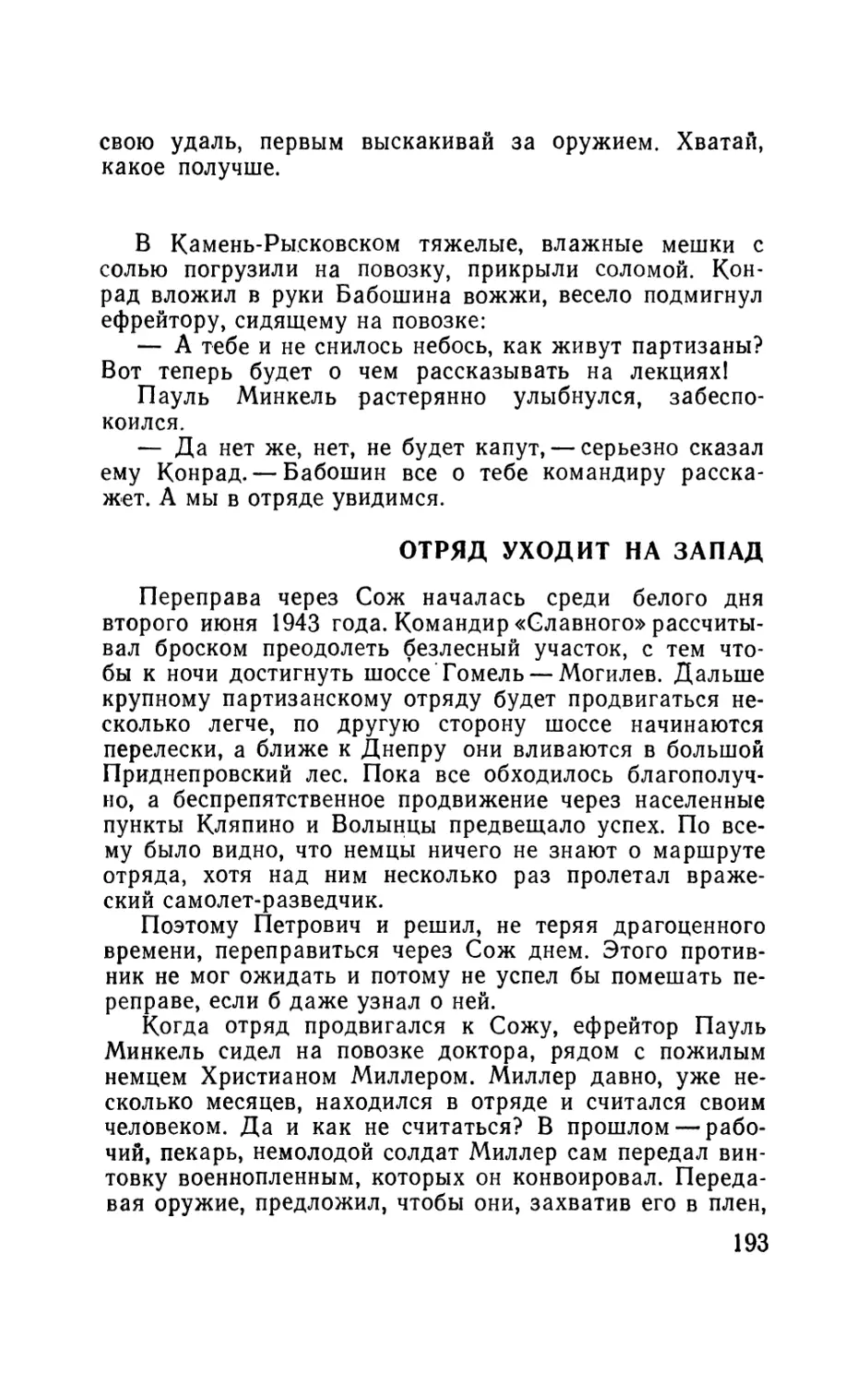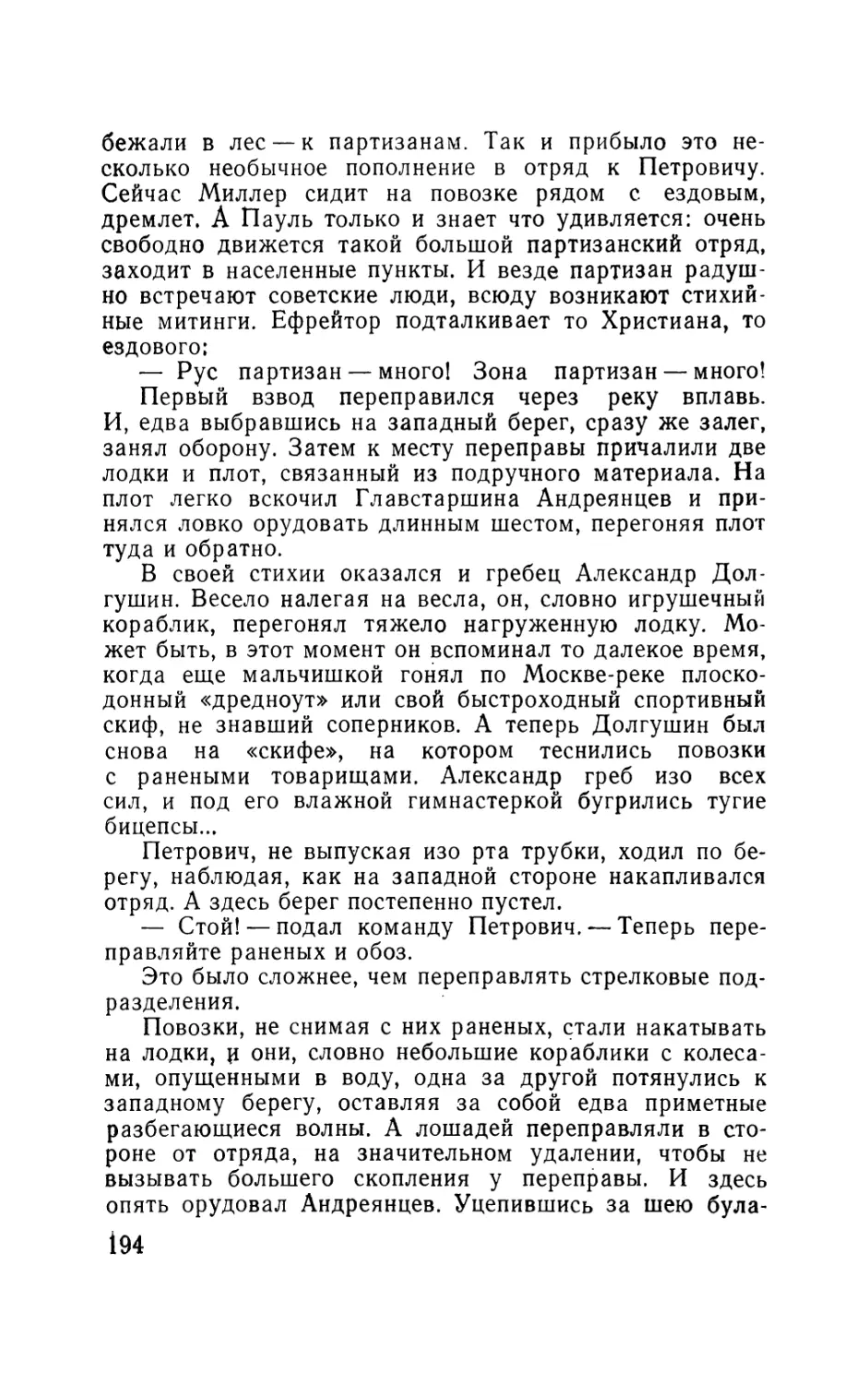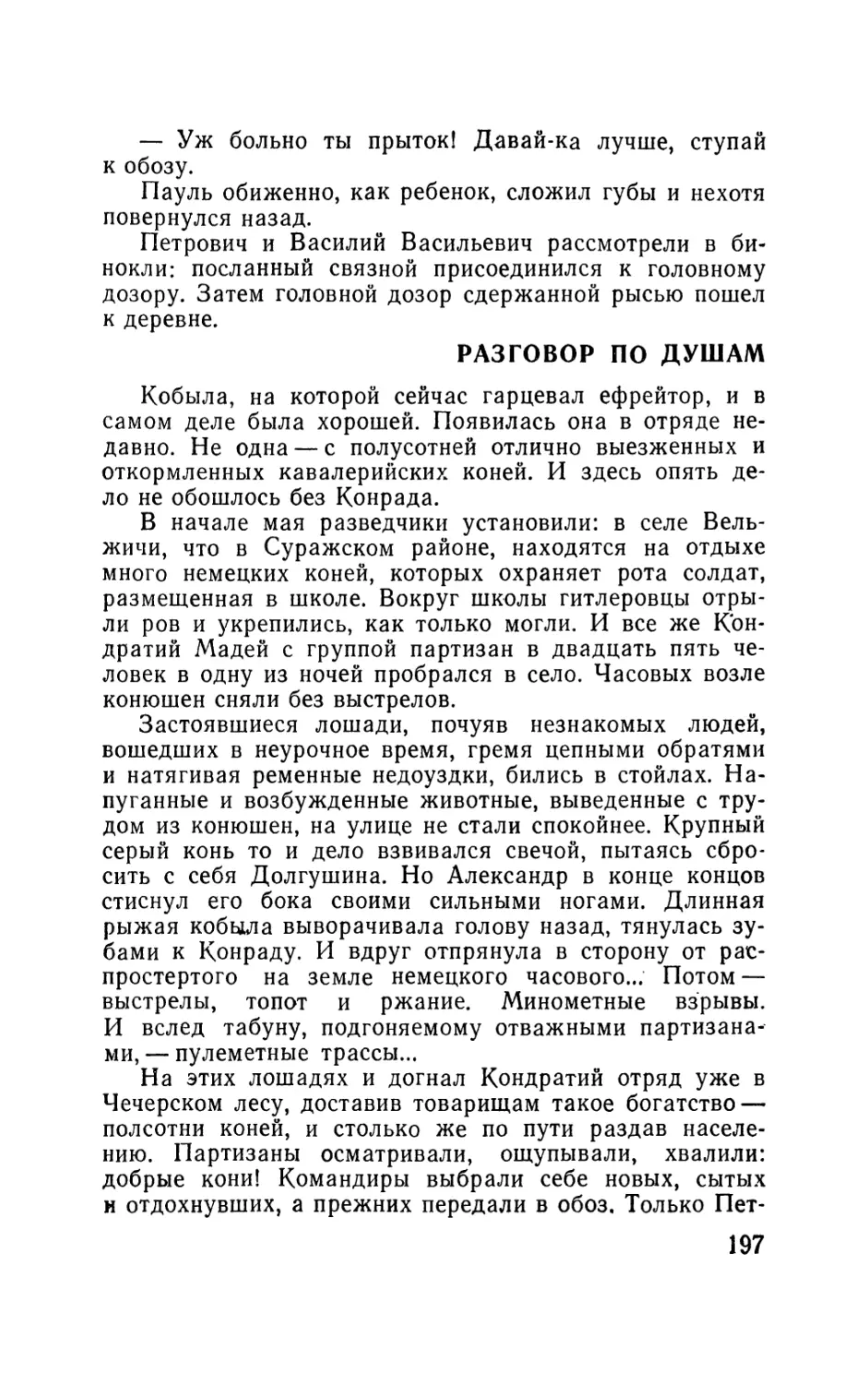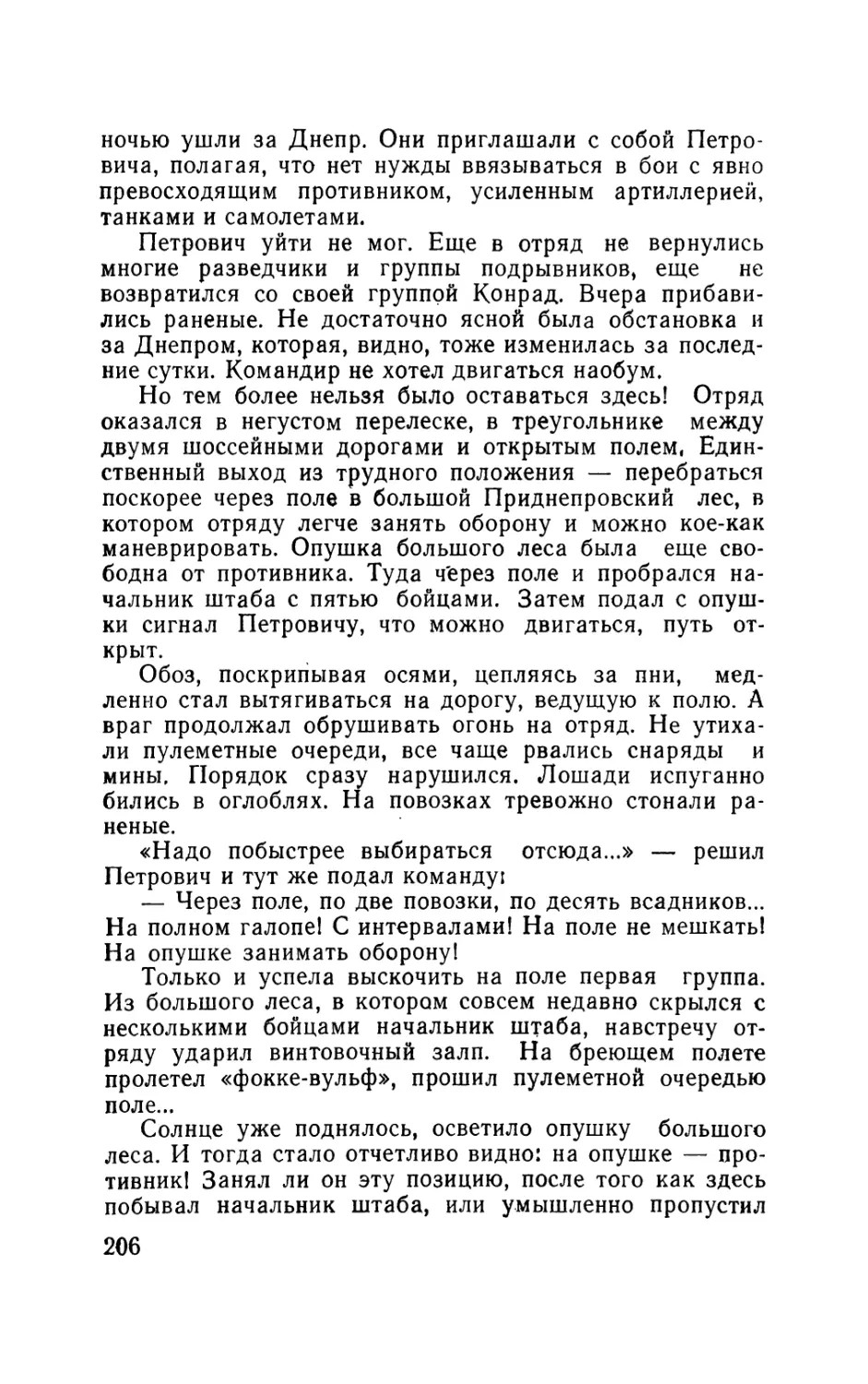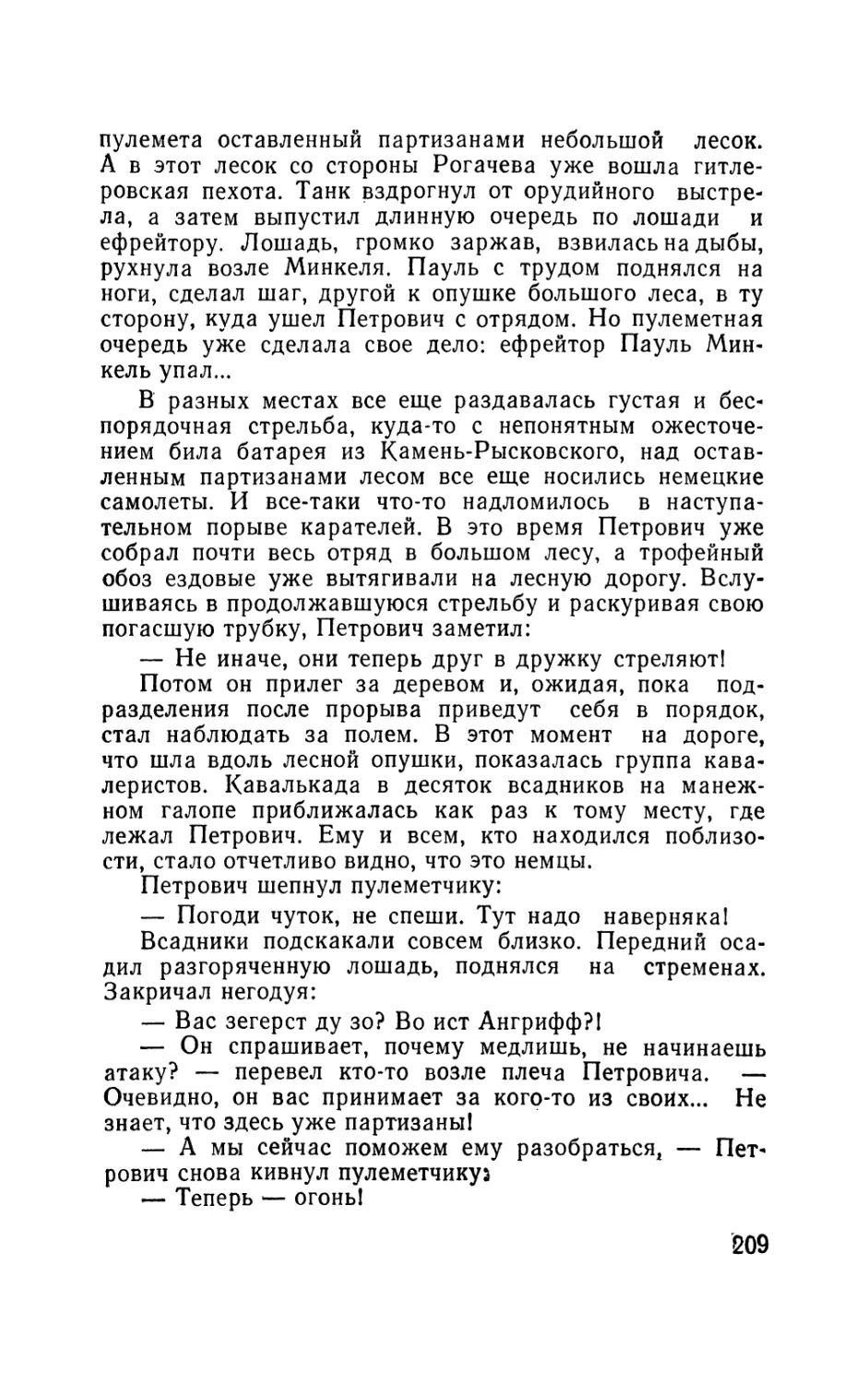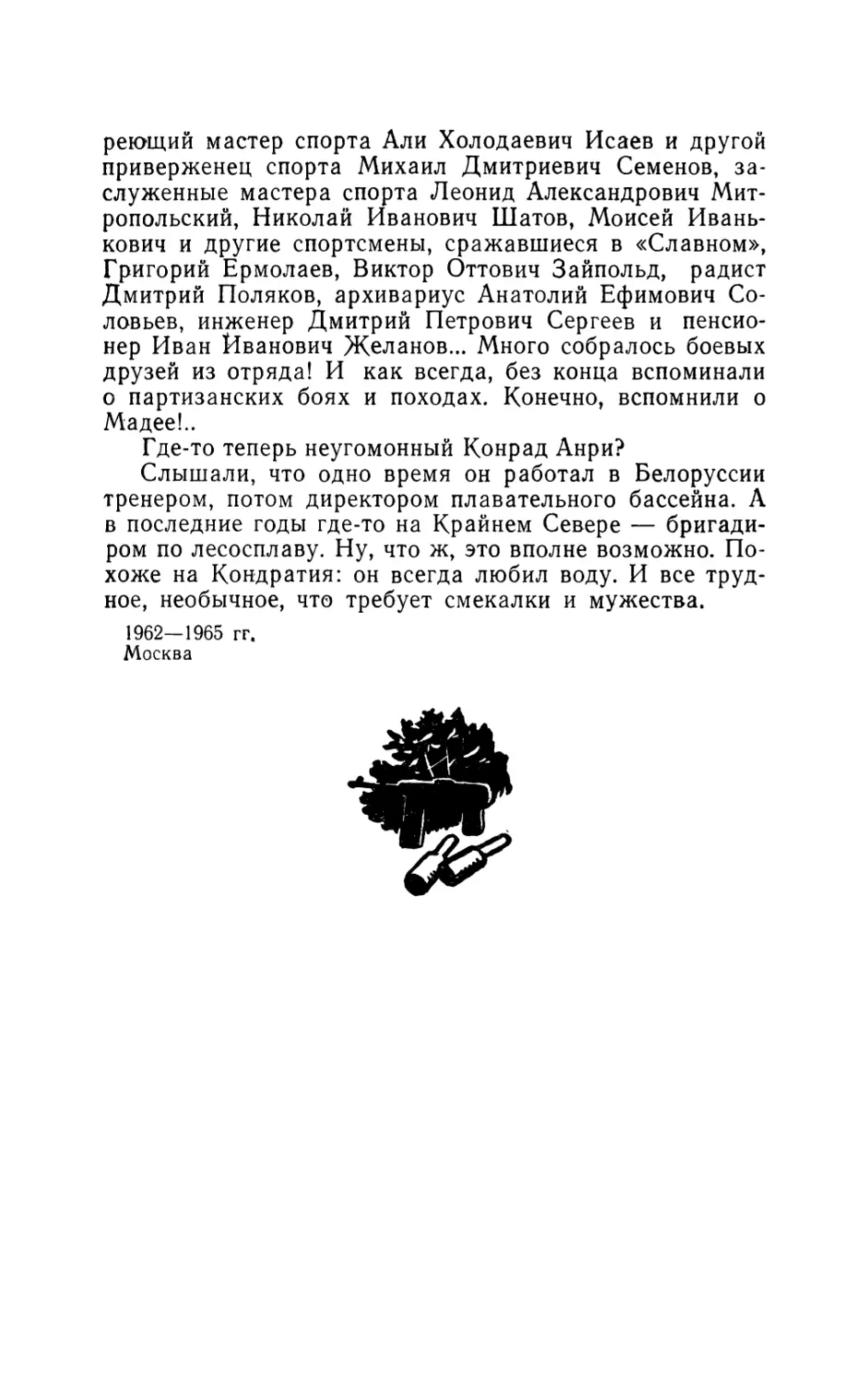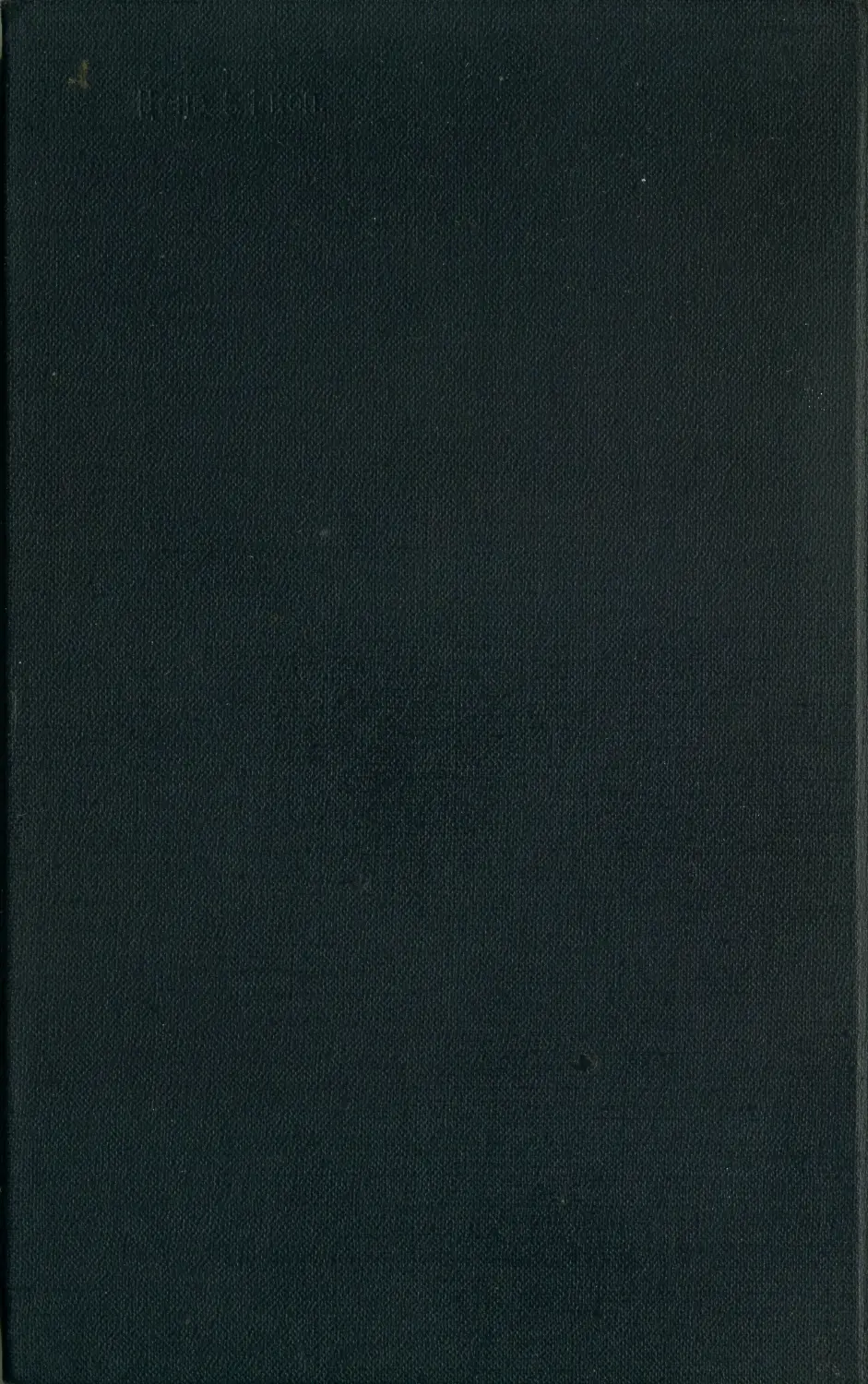Текст
ИЛЬЯ ДАВЫДОВ
БОЙЦЫ УШЛИ НА ЗАДАНИЕ
Повесть и рассказы о партизанах
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВ А —1 966
Р2
Д13
Офицер Илья Давыдов в период Великой Отечественной войны два с половиной года находился в партизанском отряде, активно действовавшем во вражеском тылу. Это позволило ему собрать большой и интересный материал о славных боевых делах советских патриотов, сражавшихся с гитлеровцами на оккупированной территории.
В книгах «След ведет к лесу» и «Юность уходит в бой», вышедших в Военном издательстве, И. Давыдов рассказал о боевых буднях народных мстителей. В книгу «Бойцы ушли на задание» вошли его новые рассказы и повесть о партизанах.
Главный герой повести — Кондратий Мадей — напоминает образ разведчика Николая Кузнецова, ярко нарисованного Д. Медведевым в книге «Это было под Ровно». Большой интерес представляют и другие образы повести И. Давыдова.
По остроте сюжета рассказы и повесть, составляющие книгу «Бойцы ушли на задание», можно отнести к приключенческим произведениям. Но в них нет облег-ченности и искусственности, присущих некоторым неудачным образцам этого жанра. Автор художественно убедительно рассказывает о том, что сам видел и пережил. Это делает книгу интересной для широких кругов читателей.
7-3-2
ОТ АВТОРА
Анатолий Шестаков остановился, тяжело оперся на лыжные палки. В таких же позах застыли его бойцы — усталые, навьюченные вещевыми мешками, оружием.
С лесной опушки им открылось большое снежное поле. Поросшее с края мелким кустарником, оно затем круто уходило вниз, образуя лощину. Но главное было за полем, где стеной поднимался могучий лес. Там, возле леса, виднелись дома. Самые настоящие, рубленые дома. Даже красноватый от солнца дым, столбами уходивший из труб в прозрачное небо, казался теплым.
Деревня!.. Она возникла перед лыжниками, словно мираж после пяти суток непрерывного движения сквозь лесную чащу, маневрирования между линиями вражеской обороны, обхода укрепленных пунктов... Даже самые выносливые бойцы и те растеряли силы на этой бесконечной лыжне. Потому их обветренные, потемневшие лица дружно повернулись в сторону деревни.
Но Шестаков не спешил. Достав из планшета карту-двухверстку, он выверял маршрут. Потом подозвал разведчиков, которые ночью уже побывали здесь.
— Выходит, это и есть Мостовище?
— Так точно! А вон, левее, Колотовский поселок. Немцы редко сюда заходят и то лишь — курятинкой поживиться. Их так и зовут крестьяне «курятниками»...
— Хорошо,— сказал командир,— в Мостовищах устроим привал,
1* 3
Однако положение небольшого лыжного отряда, в котором вместе с командиром было пятьдесят человек, неожиданно усложнилось: между домами показались немцы.
— Придется обходить Мостовище,— предложил начальник разведки. — Бой сейчас ни к чему.
Шестаков сердито насупился, словно разведка была виновата, что гитлеровцы вошли в деревню.
— Это ж километров пятнадцать лишку! А народ до смерти устал. Да, может, и Колотовский поселок занят теперь... Так и будем кружить?
Рассматривая в бинокль деревню, командир напряженно думал. Скорее всего, в деревне рыскают по дворам те самые «курятники». По всему видно, что они не ожидают здесь советских бойцов. Даже постовые то и дело бегают в избу, чтобы погреться...
После некоторого колебания Шестаков наконец объявил решение:
— Время терять не будем. Весь расчет на стремительность.
Определив порядок движения, командир подал знак:
— Вперед!
С силой отталкиваясь палками, понесся по твердому насту пулеметный расчет — Али Исаев и Иван Захаренков. Белые маскировочные костюмы делали бойцов незаметными на искристом от солнца поле. И только бурунчики снега позволяли командиру следить за ними.
Едва пулеметчики перемахнули лощину и залегли на опушке леса, взяв под прицел деревню, по их следу помчались Валентин Фролов и Григорий Ермолаев, Кондра-тий Мадей и Александр Долгушин, потом Виктор Зай-польд и Митрофан Диваков...
Мчатся лыжники, словно на крыльях перелетают поле. Командир следит за ними в бинокль и радуется. Совсем недавно Анатолий Шестаков сформировал отряд из москвичей-добровольцев. Всего лишь пятые сутки движется он с отрядом, оставив за линией фронта Большую землю. Он еще так мало разговаривал со своими бойцами, еще путает лица и имена... И вдруг теперь, в этом стремительном полете, по-настоящему познал командир людей своего отряда!
4
Дерзкий бросок под носом у врага вселил в бойцов новые силы, растраченные на многокилометровой лыжне. И отряд пошел дальше, в лес — дремучий, густой, заснеженный Брянский лес. Пошел легко и свободно.
Лишь несколько минут спустя противник, очевидно обнаружив на поле след, открыл по лесу беспорядочную пальбу.
Но отряд шел ускоренным маршем и был уже недосягаем. Сзади и по сторонам бесшумно скользило боевое охранение, белыми силуэтами впереди двигался головной дозор.
Но вот деревья снова редеют. Перед бойцами — река, а на другом ее берегу — деревня Думлово. Там лыжников окружают колхозники, жмут руки, плачут от счастья.
Командир растроганно смотрит на бурную радость советских людей, отрезанных линией фронта, на посветлевшие лица своих бойцов, торопливо ищет в карманах кисет и трубку...
Так в феврале 1942 года появился в тылу врага новый партизанский отряд, носивший звучное и гордое название «Славный».
...Со многими из этих отважных людей, читатель, ты, возможно, уже встречался в книгах «След ведет к лесу» и «Юность уходит в бой».. Теперь ты вновь встретишь их здесь. Мне выпало счастье вместе с ними жить и сражаться в тылу врага, когда отряд выполнял специальное задание. Более полутора тысяч километров по лесам и болотам Брянщины и Белоруссии — от Сухини-чей до Лиды и Молодечно — прошли люди отряда. Бесчисленные бои, диверсии и засады, десятки разгромленных вражеских гарнизонов, сотни уничтоженных оккупантов— таков тридцатимесячный путь «Славного», которым командовал майор Шестаков — «Петрович».
Не все из моих товарищей по отряду дожили до светлого дня Победы. Быть может, подвиг, который они творили всей своей жизнью, ежедневно и ежечасно, был не всегда заметен, казался обычным, будничным делом. Но эти люди были частицей народа, поднявшегося на свя
щенную борьбу с оккупантами. Я не имел намерения приукрашивать этих людей —они прекрасны и без того.
Светлой памяти Анатолия Шестакова, Александра Долгушина, Валентина Фролова, Сергея Коржуева, Ивана Медведченко, Михаила Ерофеева, Георгия Магера, Ивана Лептеева, Григория Головина, Семена Мирзы и многих, многих других погибших в боях товарищей по оружию посвящаю свои рассказы.
Илья ДАВЫДОВ
Июль 1965 г.
Москва
РАССКАЗЫ
ТЕНЬ ПОД МОСТОМ
Штрак, штрак...
Айн, цвай...
Нудное шарканье раздается над головой и назойливо лезет в уши. По настилу железнодорожного моста шагает патруль. Два гитлеровских солдата натянули на негнущиеся сапоги соломенные плетенки. Солому схватило морозом, она хрустит и постукивает: штрак, штрак.
А шаги никто не подсчитывает. Это только кажется партизанам.
Яркая луна освещает мост, серебрит рельсы, короткой тенью сопровождает патрульных. Те, кто пробрались под мост, не видят этого. Только слышат над собой надоедливый топот солдатских сапог.
Впрочем, и охранникам не видно, что под мостом в широкой тени бетонной опоры чуть покачивается высокая странная пирамида и как бы подпирает своей вершиной мост.
Вершина пирамиды — минер-подрывник Михаил Семенов.
...Командир отряда Петрович, комиссар и начальник разведки долго думали, кого послать на это задание.
— Главное, чтобы был хороший минер и отличный лыжник,— сказал комиссар.
— Таких немало у нас,— заметил начальник разведки.— Важно, чтобы хорошо разбирались в местности.
Петрович ничего не сказал. Велел вызвать Мадея, Бухмана и Семенова. А когда они вошли в командирскую землянку, произнес, раскуривая свою короткую трубку:
9
— Главное — уничтожить мост. Такова задача.
Щесть голов склонились над столом.
На столе — партизанская карта. Заштрихованные квадратики, зеленые пятна, извилистые синие струйки, черная жирная полоса — от Брянска до Рославля. Двинулся по ней карандаш Петровича, замер где-то под Жуковкой.
Мост.
Начальник разведки сообщил последние данные: на подходах к мосту — доты и казарма, местность вокруг пристреляна. Ночью по мосту ходит патруль, за ним из казармы ведут наблюдение. Значит, снять патруль и не думай!
— Помощник у вас один — смекалка,— сказал Петрович.—Сила и ловкость — тоже.
— На месте всегда виднее,— скромно подытожил Кондратий Мадей.
Петрович расправил крутые плечи, обменялся взглядом с начальником разведки и с комиссаром, кивнул:
— Ну, желаю удачи. Кондратий Мадей — за старшего.
Под утро трое ушли из лагеря. За ними потянулся едва приметный след и словно ниточка связал ушедших с теми, кто остался в лагере. Потом лыжню замела поземка.
А спустя сутки редким кустарником обозначились берега реки. Высоким горбом поднялся мост, а за ним — силуэт казармы и бугорки — дзоты. По мосту, как и предупреждал начальник разведки, взад и вперед ходит патруль.
Лежали. Каждый думал о своем. И каждый о чем-то вспоминал. Миша Семенов — цирк. Невысокий.и ловкий паренек демонстрирует на арене молниеносные сальто и кульбиты, выжимает на руках товарищей стойки. Зрители одобрительно аплодируют... Рабочий паренек с заставы Ильича стал цирковым акробатом... А в отряде Семенов слыл удачливым минером-подрывником.
Второй подрывник — Эдуард Бухман. Федя — звали его партизаны. Светловолосый юный латыш с округлым, добродушным лицом, студент инфизкульта, борец тяжелого веса. Он, этот девятнадцатилетний Геркулес, уже становился грозой для многих известных борцов. Это было перед войной...
10
Что же касается Кондратия Мадея—Конрада, или Кости,— так это настоящий мастер партизанского дела! Едва отряд оказался в тылу врага, сержант Мадей сразу стал в нем одним из самых приметных. Плотная фигура, упругие мышцы, которым незнакома усталость. А главное, нет такого боевого задания, при выполнении которого не отличился бы сержант.
Когда на мосту сменились патрульные, Кондратий кивнул товарищам:
— Пошли!
А на самом деле они поползли, и их белые маскхалаты сливались со снегом. Потом партизаны подобрались под мост. Принялись изучать опору. А над головой, по настилу, — штрак, штрак... Патруль.
Вспомнились слова командира: «Главное — уничтожить мост. Такова задача».
Опора гладкая и высокая. Из железобетона. И — ни одной зацепки. Только где-то вверху как будто ниша темнеет. И опять вспомнились слова командира: «Помощник у вас один — смекалка».
Смекалка, конечно, есть. Да как по гладкой стене полезешь с одной смекалкой? Но Мадей снял вещевой мешок, показал на свои плечи Семенову. А это уже привычное дело для акробата. Но, встав на широкие плечи сержанта, Семенов не дотянулся до ниши. Наступила очередь действовать Феде. Повесив себе на шею три вещевых мешка со взрывчаткой, он поднял на плечи Мадея. Потом легко, словно кошка, вскарабкался по спинам товарищей Миша Семенов. И едва приметно заколыхалась в тени опоры живая пирамида.
Штрак, штрак...— по настилу шаги патрульных.
У Феди ноги словно свинцом налились, словно впая-лись в лед.
«Еще, еще немного, еще...» — мысленно шепчет Федя, доставая из мешков кирпичики тола. Подает их Мадею, а тот — еще выше, в руки Семенову. А он закладывает их в нишу. Под ним едва приметно колышится пирамида. А над самой головой, протяни только руку,— шаги немца...
Но руки минера тянутся за новой порцией тола. Еще... еще. Наконец достал мину, потом взрыватель.
Федя не может стереть со лба капли пота. Кажется, никогда еше в жизни не было такого напряжения в мышцах. Кажется, не выдержит, рухнет сейчас пирамида.
11
«Сейчас, сейчас»,— мысленно шепчет Кондратий. Что-то очень долго прилаживает мину Семенов!
А Семенов дыханием согревает пальцы. Минеры работают без перчаток. И ошибаться нельзя минерам, даже когда темно.
Федя крепче вдавливает чугунные ноги в лед. И неожиданно показалось ему, что какая-то новая сила потекла вдруг в него из родной земли, разлилась по телу добрым теплом, а через него поплыла наверх, к товарищам. А может быть, оттого показалось так, что уже сверху аккуратно спустился Семенов. И так же бесшумно спрыгнул с него Мадей.
— Пошли! — требовательно подергал его за рукав Кондратий.
Не пошли — поползли от моста партизаны. А за ними— тоненькая черная полоска, шнур.
Федор и Михаил доползли до опушки леса, прижались друг к другу, напряженно всматриваясь в белую пелену. И опять на лбу крупные капли пота. Мадей остался вблизи моста, там, где окончился шнур. Потом они увидели, нет, угадали: где-то возле моста, словно крохотная звездочка, сверкнул огонек.
— Зажег! Зажег! — подталкивает Федю Семенов.
А Кондратий словно плывет по снегу. Потом бежит. Глухой взрыв сотрясает воздух. Гудит, катится над замерзшей рекой, над лесом.
— Восстановят теперь не .скоро,— удовлетворенно говорит Семенов. — А мне вот пальцы чуточку прихватило морозом... Да наше дело такое, в перчатках не поработаешь. В цирке, понятно, проще.
От казармы, от дзотов дробно и зло закашляли пулеметы. Но партизаны уже встали на лыжи.
— Пошли!—подал негромко команду сержант Мадей.
За Мишей Семеновым с тех пор окончательно утвердилось прозвище «акробат». До этого он один в отряде, кажется, еще не имел своей партизанской клички.
РЕЛЬСЫ ГУДЯТ
Ветер тонко свистит в проводах. Гулко гудят столбы. И рельсы тоже гудят. А лес, с двух сторон подступивший к узкоколейке, шумит. Саша Долгушин, с отчаянной лихостью напрягая мускулы, качает педаль дрезины. Эту ручную дрезину на Брянщине почему-то назвали тролликом. Не потому ли, что для ее разгона нужны усилия трех человек? А Милок управляется с ней один. Милок — любимое словцо Долгушина и одновременно его партизанская кличка. Он очень любит троллик, который ему напоминает спортивный скиф.
— P-раз, два... P-раз, два...
Быстро бежит по рельсам дрезина. Большая и неуклюжая, она тяжелее скифа. Но движения, которые приходится делать Долгушину, похожи на те, какие он делал на легкой спортивной лодке. И лучисто улыбается Саша.
Командир, щурясь от ветра, наблюдает, как под влажной гимнастеркой спортсмена бугрятся мышцы.
Когда-то, еще в детстве, Саша научился грести на плоскодонке, гонял свой «дредноут» по Москве-реке. И никто ему не препятствовал. Да и кто посмел бы это сделать, если Сашин отец работал лодочником на Стрелке! А Саша иногда ему помогал на хлеб зарабатывать: за пятачок перевозил подвыпивших непманов к Воробьевым горам — догуливать... Потом Саша, который уже стал шофером, но не утратил своей страсти к воде, стал грести на «восьмерке». Потом — на распашной «двойке». И уже после — на «одиночке» — скифе. На нем он и ус-
13
тановил всесоюзный рекорд. И целых семь лет оказывался непобежденным.
А потом началась война.
...Целый район в тылу врага освободили партизаны. Через лес пролегает узкоколейка. Любит Милок ездить на дрезине и всегда просит командира отряда:
— Душу отвести разрешите!
— Спортивную форму терять не хочешь? — спрашивает Петрович.
Долгушин отвечает мягкой улыбкой. Он всегда улыбается так, высокий, широкоплечий, голубоглазый.
— Покончим с войной и опять за весла... P-раз, два...
Командир задумчиво кивает, покусывает чубук.
Далеко, на много километров, протянулась по Брянским лесам узкоколейка. До войны ходили по ней мирные рабочие поезда. Теперь связывает она партизанские отряды между собой. Они везде — в Сельцах и в Быто-ши, под Людиново и Клетней, на Волыни и в Ивоте... Иногда по узкоколейке курсирует партизанский бронепоезд— три «телячьих» вагона, заложенные мешками с песком, да платформа с орудием.
Хорошо на сердце у Саши, когда ему случается сопровождать командира, встречать партизан из других отрядов, видеть советских людей, которых он защищает от оккупантов. И нет для него большего праздника, когда он слышит от командира:
— А ну-ка, Милок, садись на весла!
И тогда посвистывает в проводах ветер. И рельсы гудят под тролликом. А партизанский лес, словно зеленеющая вода. И уже Саша неотделим от нехитрой машины, он двигает ее вперед и улыбается. Он всегда улыбается.
Было, что Саша не улыбался. Это когда он в мае сорок второго ездил в Бытошь. Едва он передал бытош-скому Бате записку своего командира, налетели каратели. Со всех сторон обложили они поселок. Вдоль улиц свистнули пули, взрывы вздыбили землю.
Батя озабоченно поерошил бороду, прищурился на узкоколейку, потом на Сашу. Вдоль дороги — огонь противника.
— Сможешь проскочить к своему отряду?
Долгушин кивнул.
— Тогда,— сказал Батя,— гони что есть духу! Пере-14
дай Петровичу: мы тут придержим карателей, а он с отрядом пускай им с тыла ударит и просеку перекроет, чтоб ни один гад не выбрался! Гони, Милок! Желаю удачи!
Саша уперся ногами в шпалы, стронул с места дрезину. Разогнал и уже на ходу вскочил.
А слева и справа от насыпи словно качнулись деревья, и снопами взметнулось пламя. И засвистели пули. А провода загудели. И загудели рельсы. Саша яростно погнал дрезину к отряду.
Тяжел, ох тяжел его скиф! И не два километра, которые когда-то давно-давно принесли Долгушину первую большую победу в спорте. Целых шесть километров гребет Милок на своем партизанском скифе. А слева и справа вскипают взрывы...
Когда дружным ударом двух отрядов каратели были разбиты и отряды соединились, Батя, обнимая Петровича, увидел за его плечом высокого, ладного парня. От его гимнастерки легким облачком поднимался пар.
— Живой? — кивнул ему Батя.
Долгушин застенчиво улыбнулся, и еще голубее стали его глаза.
— Живой! — за него ответил Петрович и подтолкнул смущенного великана к Бате.— Такого пуля не одолеет!
БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ
В отряде уже не помнили, кто дал такое странное прозвище этому человеку. Но оно сразу же прилипло к нему:
— Бубновый король!
Многие, пришедшие в отряд позже, даже не знали его другого, настоящего имени: Иван Иванович Кули-баба. Долгие годы, до самой войны, Иван Иванович служил путевым обходчиком на узкоколейной железной дороге в двадцати километрах от районного центра, в глуши Брянского леса. Вот, пожалуй, и все, что знали о нем...
Да еще старожилы маленькой станции вспоминали, что один раз в жизни Кулибаба все-таки вытащил красный флажок. Случилось это лет пятнадцать назад. Одна стельная корова по недосмотру пастуха отбилась от стада. Она лежала на полотне, мычала тихо и жалобно. Иван Иванович попробовал стащить ее с насыпи и не смог. В это время послышался гудок паровоза. Поезд был еще далеко, но Кулибаба бросился ему навстречу, побежал, спотыкаясь о шпалы. Пальцы никак не могли вытянуть красный флажок из кожаного футляра на поясе. А когда он наконец вытянул флажок и развернул, небольшой рабочий состав, который громко именовался здесь пассажирским, стоял уже в какой-нибудь сотне метров. Машинист и не заметил флажка, а остановил поезд потому, что увидел бегущего по линии человека.
16
Бледный, Иван Иванович не мог сказать ни слова. Видя, что от него не добиться толку, машинист и несколько любопытных пассажиров направились туда, куда показывал путевой обходчик. Вскоре они увидели корову, ласково облизывающую теленка...
В поступке Ивана Ивановича не было ничего плохого, напротив — предупреждено крушение и спасена корова, но все почему-то стали смеяться над ним. А машинист после этого случая, проезжая мимо него, высунувшись из окна паровозика и сложив трубкой темные от масла ладони, кричал со смехом:
— Как там, впереди? Не видать ли коровы?
Кулибаба отворачивался с досадой, показывая' выцветший желтый флажок.
В партизанский отряд Кулибаба пришел сам. Вернее, отряд пришел к нему. Когда в феврале 1942 года «Славный», выйдя из лесу, оказался на крохотной станции Волынь, Иван Иванович стоял на единственной, давно уже не действующей колее и задумчиво смотрел на оживленных, шумных людей, обвешанных оружием.
А потом он зашел к командиру.
— Может, и я сгожусь вам? — не очень смело спросил он.
— Отсиживаться надоело? — усмехнулся Петрович. Иван Иванович не понял усмешки, пояснил серьезно: — Линия все одно не работает... Толку-то в ней! Все находившиеся в командирской избе с интересом следили за этой беседой. Оба собеседника оказались не очень-то разговорчивыми. Петрович внимательно рассматривал высокого, поджарого человека, видимо стараясь понять причину, побудившую его проситься в отряд. Немудреный ответ Кулибабы мало о чем говорил.-Между тем лицо его было примечательно. Удлиненное, со светло-серыми строгими глазами и с тонко вырезанным носом, на котором едва выступала горбинка... Кто знает, быть может, именно это отдаленное сходство с карточным королем и послужило причиной, по которой какой-то отрядный остряк прилепил Кулибабе кличку Бубновый король!
— Сколько же тебе лет? — спросил наконец Петрович.
2 И. Давыдов
17
Иван Иванович немного задумался, пошевелил губами.
— Кто ж их считал? Тридцать восемь вот как на этой станции... Третью войну живу. Двух жен схоронил...
Петрович недоверчиво покосился на моложавое лицо Кулибабы, на сухопарую, но крепкую фигуру, на волосы без единой сединки.
— Неужто за шестьдесят?
— Зачем же? — удивился Иван Иванович. — Немного помене... Поди, пятьдесят шостой пошел. Я с семнадцати годов тут.
Еще выяснилось, что Кулибаба кроме взрослых имеет и двух малолетних детей. Жена умерла перед войной, и они живут у сестры... А в армии Иван Иванович не служил — ни в царской, ни в Красной.
Партизаны задумались над судьбой этого человека из глухомани, мимо которого, словно поезд, промчалась долгая жизнь. Затем командир спросил:
— А фашистов живых видел?
— Где ж их видать? Разве полезут они в нашу чащобу! Я тут возрос и то не знаю всех мест. А в Дять-кове были, в Сельцах тоже. Еще в Ивоте, это вовсе близко отсюда. А тут нет. Да я, как война случилась, не ходил никуда. Чего там хорошего?
Душевный, хотя от природы немногословный, алтаец Шестаков, утомленный заботами об отряде, на этот раз был не о^ень любезным. Спросил хмуро:
— Ну, а в отряде чего собираешься делать?
— Да хоть чего. Хотя бы за коровами или опять же за конями приглядывать можно.
— Коров не имеем. И лошадь пока одна,— усмехнулся Петрович.
— Вот и ладно.. Потом еще будут, — серьезно сказал Кулибаба.
Он остался в отряде. А предсказание его скоро сбылось: после новых двух боевых операций в отряде и в самом деле появилось с десяток добрых кавалерийских коней. Ловко управлялся Иван Иванович со своим хозяйством. Придет под вечер к командиру, потопчется у порога, спросит, не понадобятся ли ночью или с утра кони.
— Нет. А что тебе?
*— Да лужок я свежий в лесу присмотрел, хорошая
18
травка повыбилась. И отряд раскрывать не будем, а то, вишь, самолеты беснуются.
И верно: вражеские самолеты в это время днями и ночами летали над лесом, выслеживали партизанские базы.
— Поезжай,— разрешит командир. — Только где тебя искать, если кони потребуются вдруг?
— Чего искать? Я сам найдусь... коли что.
Сядет Иван Иванович на буланую кобылку, которую больше других лошадей любил, вытянет вперед худые, длинные ноги, гикнет негромко — и вот уже веселый табунок мчится в лесную чащу, ломает сухой орешник. И таким обычным все это стало, что уж и внимания не обращали на Кулибабу. Иногда лишь, завидев Ивана Ивановича на лошади, кто-нибудь посмеется:
— Глядите-ка! Бубновый король со своим эскадроном скачет!
Ничего не ответит Иван Иванович, только еще больше приосанится на Буланке.
Но порой он сердился. Бывало это в тех случаях, если кто-нибудь из разведчиков или подрывников сдавал ему взмыленную лошадь.
— Это что ж у нас получается? — жаловался Иван Иванович командиру. — Не берегут скотину, хоть ты убей их! Вчера тоже: Ерофеев вернулся, Воронка совсем загнал. Не поглядит, что жеребчик молодой да горячий... Потешается над его резвостью. Так и вовсе уходить лошадку недолго!
— А ты поругай покрепче.
— Да уж ругал, чего там. Только зубы скалят. Чего, говорят, Бубновый король, расходился! Нет теперь на земле королевской власти, а там, где осталась, и то не в большом почете, лишь для блезиру. Вот и ругай!
— Ну ладно,— пообещает командир. — Скажу начальнику штаба, чтобы поговорил с народом.
— И то верно,— согласится Иван Иванович. — Ско-тина-то, она бессловесная, сказать не может. И опять же нам служит.
Уйдет он удовлетворенный, с чувством исполненного долга. А после того как начальник штаба Иван Медвед-ченко, бывший кавалерист, разъяснил разведчикам, как надо с лошадьми обращаться, Иван Иванович почувствовал себя совсем счастливым.
2*
19
— Вот вам и «королевская власть»! — ответил он зубоскалам.
Майские праздники сорок второго года партизаны Дятьковского района отмечали в напряжённой обстановке. Гитлеровцы, обеспокоенные активными действиями партизан, подтягивали к лесу крупные воинские подразделения, постепенно блокируя лес. Над лесом все чаще стали появляться вражеские самолеты, усилились бомбардировки и артиллерийские обстрелы лесных поселков и деревень. С разных сторон от других партизанских отрядов — от Людиновского и Бытошского, от Дятьковского, из бригады Орлова, от Сабурова и Дуки, от Ромашина и Воробьева — стали приходить сведения о крупных силах противника, накапливавшихся вблизи партизанской зоны. Об этом доносила и разведка отряда. А вскоре начались и стычки с врагом, пытавшимся проникнуть в глубь леса.
В один из таких дней Иван Иванович со своим табунком находился на веселом, солнечном, чуть заболоченном лужке, километрах в двух от отряда. Давно уже он присмотрел это место, да все берег: ждал, когда побольше выбьется травка. Теперь лужок, окруженный вековыми елями, осинами и дубняком, словно сам излучал тепло. Лошади удовлетворенно помахивали хвостами, жадно хватали пучки сочной травы. Их губы чутко вытягивались и подрагивали, подбирая как будто рассыпанную там и тут ярко-красную клюкву. После зимовки под снегом она стала особенно нежной.
Иван Иванович тоже собирал клюкву. Только он не ел ее, а бережно складывал в небольшой березовый туес. Когда нехитрая посудина наполнилась крупной огненной ягодой, Иван Иванович подошел к березе. К ее стволу был подвешен другой туес, и через его края уже переливался ароматный березовый сок, добытый простым партизанским способом. Кулибаба пригнулся, сделал два громких глотка, крякнул, снял туес с подвески. Отыскал в траве деревянные крышечки, плотно втиснул в податливые стенки посудин. Заботливость его была не случайной: он собрался съездить в отряд, пригнать на выпас двух лошадей, на которых должны были вернуться разведчики, а заодно отвезти подарок, раненым партизанам.
Неохотно оставила оживленный лужок Буланка.
20
Без седла, с вытянутыми вперед худыми ногами, с болтающейся на шее винтовкой, Бубновый король восседал на лошади с серьезным и торжественным видом. Буланка брела без дороги, осторожно ступала по мягкой, колеблющейся почве, обходя густые поросли орешника...
Уже отдалившись от лужка, кобыла повернула назад голову, как бы прощаясь с оставшимся табунком. Вдруг она остановилась, вздрогнула, чутко повела ушами. Иван Иванович вытянул шею, стараясь через ветви рассмотреть, что могло ее испугать.
По тропе, ведущей к отряду, держа на изготовке короткие автоматы, озираясь по сторонам, шли трое. Кулибаба не обманывал командира, когда говорил, что ни разу не видел живых фашистов. Но сейчас сомнений не было: в нескольких шагах от него — враг, пробирающийся к отряду. У Кулибабы не было времени думать о том, кто мог показать этот обходный путь. Подумал он об отряде, об оставленных лошадях: отряд ничего не знает о надвигающейся опасности, а лошади могут заржать...
Между тем гитлеровцы остановились. Сквозь ветви Кулибаба отчетливо различал их настороженные лица. Из-за поворота на тропу бесшумно стала вытягиваться колонна врага.
Теперь Иван Иванович уже ни о чем не думал. Сорвал с плеча винтовку, выстрелил. Натянув веревочный недоуздок, повернул Буланку и, отчаянно нахлестывая ее по упругим потным бокам, погнал прямо через кусты назад, к лужку. По стволам деревьев, по веткам хлестнули ему вдогонку трескучие автоматные очереди. А Кулибаба все гнал и гнал кобылу, обдирая о ветви лицо и руки. Туески на веревке болтались по сторонам, мешали. Кулибаба их бросил в кусты.
С лужка послышалось тревожное ржание. Кобыла вынесла седока к табунку. Лошади стояли, сбившись в кучу, их лоснящиеся на солнце спины дрожали.
Иван Иванович не заметил, сколько времени затратил на то, чтобы перерезать путы, треножившие лошадей. И только когда он вновь оказался на Буланке, по стрельбе и треску валежника понял, что враги направились в его сторону. Иван Иванович снова выстрелил и вдруг неожиданно для себя закричал звонким, срывающимся голосом:
— Экскадрон! К бою готовьсь!
21
Подхлестывая кобылу, он погнал табунок в лесную чащу, в сторону от тропы. Растревоженные стрельбой, кони, освобожденные от пут, с храпом и ржанием помчались вперед. Всем своим существом угадывал Кулибаба, что гитлеровцы идут по следу. Это даже немного его ободрило. По бледному лицу скользнула улыбка. Он опять закричал:
— Экскадрон! Развернись!
«Экскадрон» не развертывался. Тревожа лес топотом, он рвался в лесную глушь, в сторону большого болота. Кулибабе сделалось страшно. Противник двигался следом, видимо полагая, что перетрусивший «экскадрон» удирает к лагерю.
Возле болота лошади остановились. Чувствуя инстинктом, что под мирными с виду кочками скрыта трясина, они заупрямились. Даже надвигающийся автоматный треск не в силах был сдвинуть их с места! Командир несуществующего эскадрона услышал над собой посвистывание пуль. Истошные крики приближались к болоту. Кулибаба вобрал голову в плечи, его спина покрылась холодной испариной. И он, снова выстрелив, погнал лошадей вокруг болота.
Сколько времени уходил Иван Иванович от врага, определить он не мог. Пришел в себя, когда в лесу смеркалось и было тихо. Даже птицы, напуганные стрельбой, оставили неспокойное место. Изнуренные лошади разбрелись по лесу, пощипывали без охоты траву, все еще вскидывая головы и прислушиваясь.
Кое-как собрав лошадей, с трудом стреножив их обрывками веревок, Кулибаба примостился под деревом. Содрогаясь всем телом, полязгивая зубами, он забылся тревожным сном обессиленного человека.
Проснулся от голосов, гулко раздававшихся по темному лесу:
— Ко-ороль! Коро-оль! Бубновый коро-о-оль!
— Кулибаба-а-а!
У Ивана Ивановича запершило в горле. Хотел крикнуть, отозваться, но не мог. Дрожащими пальцами зарядил винтовку и выстрелил. И тут почувствовал, что силы стало побольше.
— Здесь я! Здесь ваш Король! — закричал он что было мочи.
22
Через несколько минут партизаны обступили его плотным кольцом, а он, переминаясь с ноги на ногу, растерянно и радостно улыбался.
— Вишь куда тебя занесло! — удивлялись товарищи.—Мы уже сколько часов тебя ищем!
— Так я ж хотел... от отряда подале,— словно виноватый, оправдывался Иван Иванович. — А отряд-то как?
— Да что отряд? Услыхали стрельбу, выяснили что к чему. Ну, после ударили. Как раз по ихнему флангу вышло. Вот стукнули! Посмотрел бы ты!
— Где там смотреть, — вздохнул Кулибаба. — Мне и своего .смотренья хватило: едва жив был. Страху-то натерпелся!
— Ничего! Здорово ты, Король, отряд стрельбой предупредил и кавалерию нашу спас. А мы, признаться, не думали тебя живым отыскать.
...В течение всего следующего дня партизаны без конца заставляли Ивана Ивановича рассказывать, как он командовал своим «экскадроном». И Иван Иванович йновь и вно.вь под дружный хохот, все более воодушевляясь, повторял историю своих злоключений. А за смехом и шутками он все же чувствовал, что сделал что-то хорошее, потому что в течение дня только и слышалось:
— Вот это Король так Король! Подумать надо!
А вскоре Иван Иванович тяжело заболел. Врач обнаружил у него воспаление околопочечной клетчатки и понял, что срочная операция неизбежна. Однако еще совсем молодой врач, приобретший самостоятельный хирургический опыт только на фронте, заколебался: у больного уже имелся длинный поперечный рубец на туловище. А Кулибаба только и мог невразумительно пояснить, что когда-то давно ему тоже «резали почку»... Заметив нерешительность хирурга, Иван Иванович, корчась от боли, сказал с упреком:
— Ты чего же не режешь? Трусишь небось? А еще партизан! Давай, говорю, режь быстрее, коли надо... Мне теперь помирать нет никакого смысла.
Это и положило конец колебаниям доктора. Пока делалась операция, многие партизаны, беспощадно дымя самокрутками, толпились возле дома, ожидая ее исхода. А больше всех волновался Петрович.
На другой день Кулибабе стало немного легче. Он
23
лежал осунувшийся, с выступающим тонким носом. Теперь на нем еще отчетливей вырисовывалась горбинка. Сухие, тонкие губы таили улыбку. Она была слабой, едва заметной, но каждый, кто заходил навестить больного, понимал, что это улыбка счастья. И каждому Иван Иванович говорил тихим голосом:
— Что, брат? А ты небось думал: конец Бубновому королю? Нет, брат, не таков он, Король-то... Ешшо повоюю. Вот те и Бубновый!
Ночью на небольшой партизанский аэродром близ Дятьково опустился самолет. Обстановка в районе все более осложнялась, и командир решил эвакуировать раненых через линию фронта.
Первым отправляли Ивана Ивановича. Приподняв голову, он смотрел на партизан, в темноте было заметно, как часто и растроганно моргали его строгие серые глаза.
Когда носилки стали устанавливать в фюзеляж санитарного самолета, Кулибаба вытянул шею, уперся локтями, сказал задрожавшим голосом:
— Ну, прощайте, братцы, пока... Спасибо вам, обучили жизни. Не серчайте, ежели что не так... фашистов бейте. И мой экскадрон бережите... Это вам, значит, наказ от Бубнового короля. Как поправлюсь, опять прилечу. Проверю!
Все сперва весело засмеялись. И вдруг затихли, стали серьезными, словно только сейчас заметили, как человек вырос в отряде.
Взревел мотор, затряслись мелкой дрожью крылья. Вздрогнула небольшая машина, побежала подпрыгивая по неровному полю, оторвалась от земли. Сделав полукруг, качнула крыльями, легла на курс — в сторону линии фронта... Растворяясь во тьме, понес самолет на Большую землю Бубнового короля — путевого обходчика с маленькой станции, затерянной в Брянских лесах.
ГРИБЫ
Ребенок плачет громко, надсадно. Пелагея Петровна хлопочет возле малютки, да что она может сделать? Ее соседка, Варвара Семеновна, следит с участием за хозяйкой. Поджав сурово губы, выговаривает сухо и сдержанно:
— Зря ты, Петровна, дочь свою отпускаешь... В городе немцев полно, а она шландает неведомо где! И бог бы с ней, с Шуркой-то, а то ж на твои руки экую птаху бросает...
Пелагея Петровна оторвалась от кроватки:
— Ты, соседка, напрасно па мою дочь наговариваешь. Пошла — значит, дело.
— Скажи на милость! — ворчит Семеновна. — Это какое ж дело? А она молода. Приглянется иному зверюге, тогда вот дело-то и будет!
В глазах Пелагеи Петровны разом — страх и досада. Она торопливо склонилась к внучке. Ответила через плечо:
— Не то говоришь! Сама знаешь, у всех теперь одно на уме: тряпки выменять на краюшку хлеба. Мне-то много ли надо? А Шуре еще эту горластую прокормить. Легко, по-твоему?
Словно поняв, о чем идет речь, Лидушка закричала громче. Пелагея Петровна потянула к ней ложечку кипяченой воды, уронила капли на подбородок. Девочка испуганно замолчала, вытянула трубочкой губы и опять закатилась надсадным криком.
Пелагея Петровна устало присела на краешек табурета. Спросила упавшим голосом:
25
— И чего ты тиранишь меня, соседка? Не видишь — и так мне лихо!
Собралась сказать что-то еще, но промолчала. Сидит, ссутулилась, смотрит с жалостью на внучку. Как будто все слова растеряла. Давно ли война началась, а словно жизни счастливой не было. Да была ведь, была! Всех детей в люди вывела. Самую меньшую, Шуру, выдала замуж. Только Петровна и теперь еще к ее новой фамилии не привыкнет: Каменецкая! Потом дочь написала — в Смоленске она жила, — что сама скоро станет матерью. Заплакала тогда Пелагея Петровна, хотя слез своих понять не могла. Но все же приятные были слезы...
Последнее письмо пришло тоже из Смоленска. На второй день войны Шура, скрыв свое положение, с госпиталем направилась к фронту. Да дело ее нелегкое: что ни раненый — дурно становится ей. Скоро, понятно, разгадали причину и тут же — долой из армии. Так и написала об этом Шура — «долой». И на этом месте в письме чернила расплылись, будто специально на это слово слеза упала...
В октябре сама дочь заявилась к матери в Почеп. Усталая, потемневшая, вся так и дышит войной. А тут и Почеп войной уже дышит. Перебрались к родственникам на село, да не думали, что и там их скоро война настигнет. В селе Деремна не прожили и дня, нагрянули немцы. Схватили председателя сельсовета, а он-то как раз и был родственником, у которого они остановились. Едва ноги унесли, вернулись в Почеп. В январе у Шуры родилась Лида. Теперь такое мучение наступило, плачь не плачь — не поможет. Думали: дотянуть бы до лета. А вот и лето давно на дворе, а в доме по-прежнему плохо. Хоть разорвись на части!
Об этом думает сейчас Пелагея Петровна, но соседке сказать ничего не может. Да и она^то, соседка, сама все хорошо понимает. А вот дочь ее, Шуру, недолюбливает отчего-то. Все же собралась Петровна возразить и, может, возразила бы, но не успела.
Громко стукнула на дворе калитка.
Семеновна приподняла на окне краешек занавески, изменилась в лице.
— Вот! Опять к тебе ирод жалует! Не иначе — Шурку твою высматривает. Накажи ты дурехе помень-26
ше глазищами в немцев зыкать, а то, как завидит, одно и слышно: хи-хи да ха-ха!
Пелагея Петровна взглянула прямо в глаза соседке. Вот оно что! Наконец-то высказала, отчего она Шуру не любит. Признаться, и самой Петровне не по душе дочкина смелость.
В дом, грохнув дверью, входит немец. Высокий, грузный. Глаза немного навыкате, и не поймешь: не то они улыбаются, не то угрожают. Черный френч туго затянут в талии, на рукаве—повязка со свастикой, у пояса — пистолет в большой черной кобуре.
Пелагея Петровна кое-как научилась уже форму распознавать. И сейчас определила: из полевой жандармерии. На узких погонах по лычке, значит, чин не больно высок. Да напасть ото всех одинакова, что от высокого, что от низкого. Чего это он сюда заявился?
Жандарм между тем уселся на стул, обшарил глазами комнату. Остановил выпуклые глаза на кроватке.
— Киндер... Малчик?
Петровна подошла к кроватке, заслонила ее собой. Отозвалась, косясь на соседку:
— Внучка... Вот кормить ее нечем.
— Я. Я. Понимаю, — кивнул жандарм.— Малчик!
Семеновна незаметно сплюнула в сторону, торопливо перекрестилась на красный угол. Жандарм одобрительно посмотрел на иконы, поднял указательный палец. Произнес отчетливо, как команду:
— Хо-ро-шо! Гот! Фюрер!
Затем опять кивнул на кроватку:
— Млеко. Понимаю. Мутер надо... Матка.
Женщины беспомощно переглянулись. И Лидушка, как нарочно, притихла! Уж плакала бы, так, может, жандарм убрался бы поскорее. Но он и не собирается уходить. Опять пошарил глазами по комнате.
— Люк нужно. Ферштейн? Люк!—Для ясности пощелкал зубами.—Ам-ам... Понимаешь? Кушать. Ам-ам...
— Откуда же луку взяться?— развела руками Петровна и облегченно вздохнула. Хорошо, если речь всего о луке!
Соседка сидит, нахохлилась, на немца даже не смотрит. Уйти б'Ы сейчас, да как Пелагею одну оставишь? Может, теперь и сам жандарм уберется. А он, и верно, поднялся со стула. Только сказал:
— Ты, матка, стой! Я сам буду люку искать!
27
Хозяйка попробовала объяснить:
— Так разве мне жалко луку! Говорю вам: нет. Нет его в доме, ни одной головочки нету!
— Понимаю, — мирно согласился жандарм. — Люк нужно. Во! — Двумя пальцами он вдруг раздвинул губы. обнажил синеватые, набухшие десны. — Во! Люк нужно.
— А ты бы сходил до доктора, — зло посоветовала Варвара Семеновна. — Небось есть у вас доктор!
— О! — жандарм упрямо мотнул головой. — Доктор не надо. Люк надо.
— Заладил одно—«люк» да «люк»!—проворчала Семеновна. Добавила громче: — Объясняют тебе, что нету!
В это время опять грохнула на дворе калитка.
Варвара Семеновна снова приподняла краешек занавески.
— Еще одного принесла нелегкая!
На этот раз пожаловал полицейский. В старом, измятом немецком френче, в стоптанных сапогах, он выглядел взъерошенным и помятым. Заметив жандарма, выбросил вверх руку, гаркнул:
— Хайль Гитлер!
— Хайль! — вяло ответил немец. Спросил недовольно: — Что надо?
Полицай кашлянул, ответил подобострастно:
— Я, господин жандарм, за луком зашел.
Пелагея Петровна удивленно вскинула брови, а Варвара Семеновна проворчала с усмешкой:
— Скажи на милость! И этому господину лук надобно! Что это всех на лук потянуло? Небось тоже десны болят от чужих-то харчей?
Немец собрал на лбу морщины, пытаясь понять смысл этой фразы, а полицай грозно обернулся к Варваре Семеновне:
— Но, но! Бабка! Полегше ты у меня!
Теперь и жандарм догадался, что женщина сказала что-то не очень почтительное. Насупился, строго ткнул пальцем в иконы, затем в потолок:
— Фюрер! Смотри!
Полицай, ободрившись, надвинулся еще ближе:
— Нечего здесь торчать! Давай к свому дому!
Семеновна плотнее уселась на табурете. Сказала с вызовом:
28
— Не к тебе пришла. Когда надо, без тебя дорогу найду...
И в третий раз стукнула на дворе калитка.
В дверном проеме показалась женская фигура. Видно было, что Шура торопилась домой: грудь ее высоко вздымалась, щеки залил румянец. Молодая женщина испуганно замешкалась на пороге, рассматривая гостей, и вдруг поклонилась, сверкнула большими глазами. Сказала певуче:
— Здравствуйте, пан жандарм! Здравствуйте, господин полицай!
Лидушка, узнав мать, громко заплакала. Шура торопливо подхватила ее на руки, осыпала поцелуями мокрые щеки.
— Сейчас, сейчас, моя беспризорная! Сейчас покормлю!
Она подошла к занавеске, отделявшей вторую комнату, в нерешительности остановилась, обернулась назад и наконец скрылась за занавеской. Лидугйка тотчас же затихла, послышалось чмоканье. А Шура весело оповестила:
— Батюшки! Сосет-то как жадно!
Немного спустя спросила все тем же веселым тоном:
— А чего это гости пожаловали?
— Да лук вот спрашивают, — пояснила со вздохом мать. — Может, ты в деревне луковицей разжилась?
— Какое там! — после паузы отозвалась Шура.— Грибков, верно, собрала по дороге...
Полицай придвинулся к занавеске:
— Грибочков? Грибки, молодка, тоже хорошее дело.
— Рюски гриб — хорошо! — прищелкнул языком жандарм.
— А где эти твои грибочки? — спросил полицай. — Вот мы их сейчас и пожарим, угостим господина жандарма.
— На дворе второпях оставила, — беззаботно сказала Шура. — Покормлю дочку, так и быть — принесу... пожарю.
— Ты корми девчонку... Мне тоже сыскать недолго, — успокоил ее полицай и направился к двери.
Шура испуганно отдернула занавеску, прикрыла стыдливо грудь.
29
— Экой нетерпеливый! Слышал же: сама принесу!
— Кушай, кушай, дочка! — сказал жандарм и, видя, что полицай остановился, указал на дверь подбородком:— Пошель! Носить рюски гриб!
Шура оторвала дочь от груди, нервно сунула на руки оторопевшей матери. Лидушка заплакала, а Шура, уже не обращая на нее внимания, выскочила во двор, опередив полицая.
На крыльце действительно стояла большая корзина. Ее сетчатые бока выпирали от яркого, ароматного груза. В центре, под обмотанной тряпкой дужкой, разместилось семейство чопорных боровиков, притиснувших мелочь. А мелочь высовывала в щели острые рыжие мордочки. У самого края корзины робко жались маслята, прикрывшись синеватой вуалью. На них хмуро поглядывал растрепанный моховик...
— Ого! — воскликнул полицай, оглядывая корзину.— Где это ты такое богатство сыскала?
Молодая женщина засмеялась.
— Грибное место нашла, сами в корзину лезут...
Полицай нагнулся к корзине. Шура отстранила его плечом.
— Ну и жадина ты! Сама наберу. На вот, держи-ка лапы!
Не ожидая, когда полицай подставит пригоршни, она поспешно совала ему грибы, еще и еще. Они не умещались в ладонях, падали обратно в корзину. Шура подбирала и снова совала. Размягченный щедростью веселой молодой женщины, полицай не собирался отходить от корзины.
Шура проворчала с обещающим вздохом:
— Не иначе, ты запах самогона учуял! От тебя не упрячешь! Идем уж в избу, так и быть — угощу.
Увидав, что в руках у Шуры блеснула бутылка, полицай поспешил за хозяйкой.
Жандарм встретил появление грибов и бутылки радостным восклицанием. Зато соседка резко’поднялась с табурета, одернула платье, сказала сухим, деревянным голосом:
— Теперь уж я, Пелагея, пошла. Гуляйте тут на здоровье!
Никто, однако, кроме Пелагеи Петровны, не обратил внимания на ее демонстративный уход. Наоборот, Шура 30
больше засуетилась. Она легко летала по комнате, собирала на стол посуду, сыпала прибаутками. А когда поставила на стол большую сковороду с жареными грибами, первая выпила чашечку самогону.
— А теперь угощайтесь сами, — сказала она.—Из-за вас я дочку не докормила.
Самогон оказался крепким. Еще оставалась половина бутылки, а жандарм уже захмелел. Не меньше его захмелел полицай: сидел, торкался в стол взъерошенной головой.
Щура снова передала дочь на руки нахмуренной матери, шагнула к гостям:
— Ну, хватит уже, погуляли. Мне дочку пора укладывать. Ауфвидерзейн, пан жандарм! До свидания, господин полицай!
Вложив в руки жандарма бутылку с недопитым самогоном, она выразительно показала на дверь. Жандарм не обиделся. Он громко икнул, грузно поднялся, положил тяжелую руку на плечо полицая.
— Пошель! Слышишь?
Шура вышла за ними во двор. На крыльце немец остановился, посмотрел на корзину, поднял кверху указательный палец.
— Рюски гриб — хо-ро-шо!
Затем нагнулся, выбрал самый крупный гриб, понюхал, ломая сунул в карман. Полицай тоже нагнулся, только не устоял, повалился, задел корзину. Грибы, крошась, посыпались по ступенькам.
— Швайн! — четко сказал жандарм. — Пошель! Шатаясь, гости побрели через двор к калитке.
А молодая женщина стоит на крыльце, хохочет, машет на прощание рукой:
— Бывайте еще, господа хорошие! До новой встречи! Пелагея Петровна смотрит на нее страдальческими глазами, судорожно жует губы.
— Шура, дочка моя... Ну, на что они тебе дались! Глядеть на них тошно, а ты вытанцовываешь перед ними... Вон .и люди меня уже укоряют...
Шура переводит на мать невидящий взгляд, кажется, не слышит ее слов. Потом, взглянув на опрокинутую корзину, рухнула на крыльцо и забилась в тяжелом плаче.
31
Пелагея Петровна нагнулась к дочери и почувствовала, как задрожали колени, замерло старое сердце. Сквозь отставшее дно корзины увидела листки бумаги, а там, за ними — какие-то металлические предметы...
— Мама, родная, не надо! И так мне лихо! — шепчет Шура. — Услышала: Лидушка плачет... Потом голос немца... Так сердце и обомлело, совсем потеряла голову... Со страху не придумала, куда припрятать корзину... Так и бросила на крыльце!
Пелагея Петровна ласково погладила дочь по плечу. Потом подсобила спрятать корзину с оружием в погреб.
Зак. 1178
НЕ УШЕЛ
— Поедешь в «Сандуны», доктор? Первый пар снимем!— Василий Васильевич заглядывает внутрь шалаша, улыбается.
А доктор уже готов. Долго ли партизану собраться в баню? Всего имущества — что на себе, да маленький сверток с парой белья в кармане уместится. Понятно, еще — оружие. Без него партизан и шагу не ступит.
Веселой рысцой бегут лошади, прядают ушами, пофыркивают. Начальник разведки насвистывает что-то бодрое, арию тореадора напоминает. Видно, что у него хорошее настроение. А лес-то, лес в августе! Словно и не лес это, а огромное живое существо — могучее, буйное, радостное. Каждая иголка на дереве, каждый кустик, травинка каждая сверкает, светится. И кажется, что нет конца и краю этому вековому лесу...
Впрочем, есть и конец и край. Если на северо-восток ехать от шалашей, в которых расположился отряд временным лагерем, то до этого «краю» не более пяти километров. Была на краю леса когда-то деревня Орлино. Еще весной сожгли ее каратели до основания. Только название от деревни осталось, а на ее месте — один колодец да маленькая обгорелая баня. И населения нет: кто в партизаны ушел, кто в другие деревни, подальше от дорог, перебрался.
И все же живет деревня! Жители только теперь другие.
3 И. Давыдов
33
Отряд Петровича использовал Орлино под заставу. Место удобное. Отсюда все дороги, что к лесу с северо-восточной стороны подходят, контролировать можно. Отсюда легче за Акуличевским, Мужйновским и Клет-нянским гарнизонами наблюдать, а подрывникам ближ« ходить к железным дорогам... Да и все отряды — Еремина и Каплина, Лебедева и Понасенкова — все, что в восточной части Клетнянского леса располагаются, тоже ходят через эту заставу.
Стоит на заставе взвод Ромашкина, охраняет подходы к лесу, а заодно топит баню. Партизанам нельзя без бани! Она одна и спасает людей от заразы. В бане можно пропариться, разгладить рубцы от ранений, а главное — хорошо прожарить бельишко. Это уже обязательно. Белье, правда, скудное у партизан. У иных на белье одни заплаты, но в них-то, если без стирки, как раз умудряется вошь гнездиться. Потому и требует доктор от старшины: давай баню! Нет бани — возле костров людей мой! Потому и заразы в отряде не водится, хотя тиф в деревнях гуляет. Тиф тоже в «новый немецкий порядок» входит.
На этот раз повезло отряду — хорошая баня в Орлино! Нагонишь жару, не* то что сидеть на полу — лежать страшно. Так и кажется, что волосы вместе с кожей вспыхнут. Одно неудобство: по-черному топится баня, трубы в печи нет, и дым через дверь выходит. Намоешься, выползешь на воздух, в глазах при ярком солнце темно. А товарищи за животы хватаются, стараются угадать, кто из бани выполз весь в саже. Тут к колодцу или к речушке спеши — отмываться. Есть еще неудобство: горячая вода отдельно от бани готовится. Приспособили для этого две железные бочки, раскладывают под ними костер. Из этой «котельной» таскают в баню горячую воду в помятом ведерке... Но и такая баня для партизан лучше всяких московских Сандунов.
Натопил баню Ромашкин, послал в отряд человека: готова! Старшина может по очереди людей направлять. Командование отряда, понятно, раньше других приедет на первый пар. Особо любят попариться сибиряки — командир и врач. Они и начальника разведки париться приучили. Теперь Василий Васильевич, коренной ленинградец, и сибирякам не уступит: так и спешит первым «парок опробовать». Комиссар тоже любит попариться. 34
Начальник разведки едет, улыбается, посвистывает. Видно, рад, что. сегодня не придется из-за первого пара спорить: Петрович и комиссар не поехали, заняты.
Весело проскочили Василий Васильевич с доктором весь путь до бани, хотя и не проронили ни слова. Только когда к опушке приблизились, начальник разведки придержал лошадь, сообщил:
— У нас еще дело будет. До бани. Ромашкин доносит, что к нему какой-то бежавший военнопленный прибился...
Доктор кивнул. Дело обычное. С наступлением лета участились побеги из концлагерей, и теперь много военнопленных по лесам бродят, отыскивают отряды. С такими людьми всегда беседовать интересно: что ни человек— новая судьба, целая книга, трагическая и суровая. Были, конечно, и те, что не выдержали, обмякли. Но больше таких, кого не сломила беда, они от этой беды еще сильнее стали. Они и бегут сейчас к партизанам, пополняют отряды.
Ослабив на седлах подпруги и стреножив лошадей, приехавшие оставили их в низинке. Дальше пошли пешком. Идут, взбираются на бугор, помахивают плетками, сбивают стебли травы. На самом бугре видна партизанская баня. В стороне от нее -- «котельная». Жарко горят смолистые поленья, взвиваются из бочек густые клубы пара, уплывают в прозрачное небо. Если б ни пар, не угадать под бочками костра: на ярком солнце огонь не виден. Тут же, возле «котельной», сидят кружком партизаны — весь взвод Ромашкина. Сидят тихо, слушают какого-то человека.
А тот присел на корточки, спиной к лесу, не спеша колет топором полешки, подбрасывает в костер. Взмахнет топором, задержит в воздухе — скажет несколько слов. Потом ударит, бросит в огонь расколотое полешко, берет новое... Опять говорит. И видно, что говорит занимательно, иначе не слушали бы его партизаны: не любят они пустозвонов слушать.
Василий Васильевич с доктором замедлили шаг. Идут не то что крадучись, а так, чтобы не помешать интересному разговору: все же «начальство». При начальстве, известно, не всегда сразу и разговор нала? дишь. Так и подошли к «котельной». Только тут и заме
3*
35
тили их партизаны. Поднимаются, потрепанные пиджаки одергивают, поправляют оружие.
Человек, который рассказывал, замолчал. Тоже поднялся и обернулся. Обернулся — да так и застыл с топором и поленом. И вдруг бросил их в сторону, растолкав окружавших его партизан, метнулся к костру, махнул прямо через огонь, скрылся в клубах пара.
— Ах, стерва! — ругнулся Василий Васильевич. Высвободив из деревянной колодки маузер, побежал, огибая «котельную», догонять.
Тут же хлопнул выстрел, словно сучок под ногой сломался. И сразу тихо стало. Только потрескивают смолистые поленья и слышно, как тяжело дышит Василий Васильевич.
Он стоит возле убитого. Опешившие партизаны смотрят на начальника разведки — узнать не могут. Лицо бледное, губы подрагивают. И руки дрожат, никак не уложит маузер обратно в колодку. Стоят партизаны, смотрят то на убитого, то на Василия Васильевича.
Первым опомнился доктор. Придвинулся к нему, спросил чужим голосом:
— Ты что это, Вася?
Только тут и пришел в себя начальник разведки. Покосился на труп.
— Так ведь это же тот, Рябой! Помнишь? Видно, на этом месте не думал нас встретить.
Теперь и доктор всмотрелся в убитого. И правда, Рябой!
А с этим Рябым вот как было.
Встретились с ним Василий Васильевич и доктор месяц тому назад в этом же лесу, только в южной части. Тогда отряд под Мамаевкой стоял. В тот день в Ма-маевке тоже баню топили. Но тогда Петрович с комиссаром опередили их. Помылся Петрович, ушел в избу напиться квасу. Василий Васильевич с доктором не успели одеться — прибежал ординарец:
— Командир вызывает!
Когда вошли в избу, Петрович мотнул головой на парня:
— Вот потолкуйте. Мне с комиссаром сейчас недосуг. Если он правду говорит, в отряд с собой захватите.
36
Сказал командир и уехал. А парень сидит, широкое лицо в оспенных рябинках в улыбке расплылось. Отвечает бойко, смело. И ничего в его ответах особого, все просто, естественно. Родом — оттуда, родился — тогда-то... Имя, фамилию называет. Однофамилец самого командира отряда! В плен попал в сорок первом. Про рославльский лагерь военнопленных все точно показывает. И про побег — в самых подробностях. А главное — в отряд просится. Говорит, великую злобу заимел на фашистов. За все — за сожженные деревни, за сотни солдат наших, в плену замученных...
Можно ли тут человеку не верить? И по всему видно: боевой человек, бывалый. Такой воевать будет. Между прочим, допроса ничуть не смущается. Да какой здесь допрос? Беседа обычная. Василий Васильевич с доктором попеременно задают без всякой связи вопросы, протокола не пишут. И строгости никакой в голосах. Так, за здорово живешь беседуют.
— Значит, в отряд хочешь? — спрашивает Василий Васильевич и протягивает парню кисет с самосадом.
— Конечно! Я этих тварей ползучих голыми руками душить буду! Всю жизнь они, твари, нам поковеркали!
— Что ж, в отряд так в отряд. Только, смотри, еще подумай. Может, ты не всю правду сказал? Узнаем плохое—ждать тебе нечего.
— Да что вы, товарищи! — даже обиделся парень.—• Как вы думать такое можете?! Проверьте меня, пожалуйста!
— Ну, это ясно... проверим. Значит, в отряд хочешь...
Василий Васильевич достал блокнот из кармана, только теперь записал что-то. Посмотрел в окно, задумчиво произнес:
— Пожалуй, возьмем тебя, парень, в отряд. — Потом протянул блокнот доктору: — Запиши-ка данные, а я покурю пока.
Закуривает Василий Васильевич, на парня вовсе не смотрит, а все больше в окно. Поглядывает в окно, спрашивает безразлично:
— Теперь скажи: не бывал ли ты случайно в Акуличах? Или, может, в Клетню заходил случайно?
Когда Василий Васильевич спрашивает таким тоном, доктор знает, что ему не в блокнот смотреть надо, а
37
внимательно наблюдать. А парень дым во рту задержал... Потом пустил клубом дым, спросил удивленно:
— О чем вы, товарищ? Я же вам весь свой путь рассказал! А таких городов не встречалось.
— Да я не в обиду, — отозвался Василий Васильевич.— Забыл просто. Скажи-ка еще: не менял ли ты случайно фамилии? Может, кличку какую имел в... плену? Ну, так, знаешь, для маскировки от немцев?
Опять собрался обидеться парень. Но Василий Васильевич поспешил его успокоить.
— А ты зря петушишься! Я тебя для порядка спрашиваю. Порядок у нас такой, понимаешь? Мы же тебя не куда-нибудь, а в партизанский отряд принимаем! Значит, надо все знать о тебе. И записать. А ты запиши, пожалуйста, доктор. Оберни-ка листок, не пачкай зря, напишешь своим медицинским почерком, потом черт ногу сломит...
Обернул листок доктор, а тот исписан! Запись рукой Василия Васильевича сделана. «Донесение из Акулич: полиция направила агента. Кличка—Рябой».
Дальше идут приметы. Всматривается доктор в парня— все приметы до малейших подробностей совпадают. Вот он каков, этот «пленный», значит! Но Василий Васильевич по-прежнему и виду не подает. И доктор тоже. Продолжают разговор-беседу, как будто перед ними сидит не предатель, а действительно человек настоящий. Когда Василий Васильевич прятал блокнот в карман, спросил неожиданно:
— Ты что же, падаль, правду не говоришь? Рябой ты!
Плохо гитлеровцы агентов готовят! И видно, что идет к ним одно отребье. У таких для трудного дела никогда не хватает силы. Рябой не выдержал, упал на колени, хнычет:
— Простите меня, товарищи... Я сразу хотел признаться...
— Поздно, — опять спокойно говорит Василий Васильевич.— Мы предупреждали тебя. Тогда и сказать бы надо.
— Простите! Что хотите со мной делайте, только оставьте. Землю есть буду... Докажу! Без умыслу согласился... Простите!
Изменился парень, совсем не тот уже; что минуту
38
назад на табурете.сидел. Теперь стоит на коленях, хнычет гнусаво, по лицу слезы размазывает кулаком. Тошно даже смотреть на него. Но Василий Васильевич, кажется, пожалел. Сказал примирительно:
— Нельзя верить, раз не признался сразу. Однако посмотрим.
Рябой вскочил на ноги, кинулся через стол, хватает за руки:
— Спасибо, товарищи! Докажу! Жалеть не будете.
Василий Васильевич отдернул руку, отер брезгливо о брюки.
— Не очень со «спасибом» спеши! В бою доказать надо. В отряд пойдешь... — Потом высунулся в окно, позвал кого-то.
В избу вошли разведчики: Ерофеев и его неразлучный друг Садовников, Бум-Бум по прозвищу. Василий Васильевич кивнул им:
— Сведите в отряд этого... друга.
Разведчики поняли. Рябой тоже понял. Покосился на автоматы. Но тут же снова собой овладел...
— Здравствуйте, братцы славяне! Значит, вместе теперь воевать будем!
— Конечно вместе, — затарахтел Бум-Бум.’ — Мы завсегда вместе. Нельзя нам иначе: сразу бум-бум будет! Пошли-ка быстрее, а то засветло не дойти до лагеря, далековато...
Идут по лесу разведчики, ведут Рябого. Николай тарахтит без умолку. Ерофеев — тот больше молчит. А Николай пересыпает речь своим любимым словечком «бум-бум», говорит так, словно до этого всю жизнь в молчании провел, а сейчас дорвался. И Рябой в тон ему отвечает, идет, размахивает руками. Иногда на автоматы косится. Но разведчики хоть бы что, будто и не замечают его косых взглядов.
Но если и думает так Рябой — ошибается. Не зря начальник разведки Ерофеева с Николаем послал. Хорошо они свое дело знают. А если стрелять случится, едва ли промахнутся.
Около густой поросли ельника, подступившей к лесной дороге, Рябой неожиданно остановился.
— Что-то долго идем, товарищи... Где же отряд ваш?
39
— А ты знай иди! — сердито прикрикнул на него Ерофеев. — Сказали тебе: далеко до отряда.
— Сказать сказали, да все ж далеко, — не унимается Рябой. Голос его опять стал плаксивым, гнусавым, а глаза шныряют по сторонам. — А то, может, вы меня на расстрел ведете?
— Ид-ди ты!.. — выругался Николай, потянул со спины автомат. — Говорят, шагай, а то и вправду шарахну!
Рябой сделал десяток шагов, опять остановился. Хнычет:
— Простите меня, товарищи... А если стрелять — стреляйте здесь, не надо далеко...
— Вот же, черт, навязался! — снова выругался Николай.— Иди, сволота, слышишь?!
Рябой стоит как вкопанный и все продолжает:
— Простите меня, товарищи... Простите... — И вдруг неожиданно, на весь лес, громко: — Прощайте, товарищи! Ловите Рябого!
Разведчики и глазом моргнуть не успели. Прыгнул Рябой прямо в ельник, побежал, ломая ветки, и дальше, дальше, в самую чащу.
Защелкали, затарахтели вдогонку автоматы. Кинулись разведчики по следу. Весь лес вздрогнул, огласился криком и треском, зашумел, отозвался эхом.
Все дальше уходит Рябой, обдирает о ветви лицо и руки, зажимает раненое плечо, скрипит зубами:
. — Все равно уйду! Не так прост Рябой! Уйду!
— Не уйдешь! Не уйдешь! — шумит вокруг густой партизанский лес, обступая предателя.— Не уйдешь!
И конечно, он не ушел. Ничего, что месяцем позже...
БРАТКИ
В ночном небе над лесом назойливо гудит самолет. Гитлеровский разведчик на «фокке-вульфе» задался целью во что бы то ни стало выследить огонек в партизанском лесу.
И в одной из землянок, что ближе к штабу, тоже слышится ровный гул...
Иван Медведченко, начальник штаба, проверив посты, остановился возле землянки, задрал голову к небу. Затем прислушался к гулу, идущему из землянки. Угадав в темноте часового, спросил:
— Гудят?
Возле штаба шевельнулся тулуп. Часовой отозвался голосом, в котором угадывалась улыбка:
— Братки стараются!
— Молодцы, что стараются, — сказал Медведченко и подмигнул в темноте часовому.
Тулуп опять шевельнулся:
— Братки! Известно...
Начальник штаба еще немного постоял и направился к штабу, нащупывая в снегу тропинку.
Спустя час Медведченко снова прошел по лагерю. Самолет уже не гудел. И в землянке не было гула. Зато там слышался громкий смех и стук домино.
— Братки «козла» забивают! — весело пояснил часовой. — Чего им? Всего и заботы: постучал ключом — и на боковую, а то «козла» забивай хоть всю ночь. На пост не вставать!
41
Начальник штаба собрался что-то ответить, но промолчал. Нащупал холодную дверную скобу, но дверь не открыл. Проходя мимо часового, проворчал с укором:
— Ты зря на братков... «всего и заботы»! Служба у них такая. Без них бы нам трудно было. Что за отряд без связи?
— Так точно!—отозвался часовой. — Товарищ старший лейтенант, это я для словца. К браткам ничего не имею.
— Ну то-то, — донесся из темноты голос начальника штаба.
Их в отряде любили, называли братками, хотя были они совсем не братья.
Оба — Иван Толбузин и Дмитрий Поляков — до войны успели отслужить действительную на флоте. Толбузин — радист с Тихого океана, а Поляков в той же должности пять лет кряду бороздил Ледовитый. До войны они не знали друг друга, хотя возможно приходилось им встречаться в эфире. Бывает, что радист узнает радиста по «почерку»...
А в первые дни войны Поляков и Толбузин снова надели военную форму. До сих пор носят они пехотные сапоги, но под гимнастерками у них, наверное, тельняшки. Так кажется потому, что дня не проходит, чтобы братки не вспоминали о флоте. Особенно любит рассказывать Поляков о службе на Севере. Когда рассказывает, его светлое широкое лицо становится вдохновенным, как у поэта. А глаза! Словно все северные сияния, которые Дмитрию довелось увидеть, в глазах уместились. Расскажет он и о том, как случалось ледяной водицы отведать, и о многом другом расскажет, да все с восторгом, взахлеб. Иван Толбузин, тот более сдержан. Но тоже... только бы довелось ему о флоте заговорить!
Братки одни из самых почетных людей среди партизан. Они не отказываются ни от какой работы, вместе со всеми делят тяготы и лишения, а во время короткого досуга свою землянку превращают в кают-компанию. И нет такой пары в отряде, которая могла бы их обыграть в домино. Но самое главное их дело — радиосвязь. Тут уже Толбузин и Поляков — артисты. В последнее 42
время к ним специальную охрану приставили. Командование знало, кого выделить на это важное дело: рацию охранять. Иванькович — заслуженный мастер спорта и столь же заслуженный партизан. Соловьев — этот на все руки, а Виктор Зайпольд — командир стрелкового взвода.
Когда начальник штаба объявил о таком назначении, Соловьев, только что записавший на свой текущий счет еще один подорванный вражеский эшелон, удивился:
— Вот не думал в сторожах оказаться! Разрешите узнать: за какую провинность?
Но дело было совсем не в провинности.
Гитлеровцы начали новую блокаду партизанского края. Над лесом пестрыми тучками плавали листовки, призывавшие партизан без боя сложить оружие. А партизаны подбирали листовки на самокрутки и делали свое дело: умножали удары по гитлеровцам.
Петрович с отрядом Еремина обрушился на сильно укрепленный гарнизон станции Белынковичи, отряд По-насенкова — на крупный гарнизон Жудилово. В эту же ночь другие отряды наносили удары по станциям Климовичи и Костюковичи. В январе сорок третьего партизанские отряды, объединившись, атаковали Акуличи... На железных и шоссейных дорогах неутомимо и кропотливо работали подрывные группы, все новые сведения добывала разведка... Она и сообщила о новой концентрации немецко-фашистских войск, подготовивших крупную блокаду партизанского края под зашифрованным названием «Репейник-П».
И потому когда лес содрогнулся от канонады трех артиллерийских и зенитных полков, партизаны не удивились. Впрочем, разведка противника оказалась бессильной, и первое время снаряды и бомбы сыпались наугад, почти не тревожа партизанские лагеря и базы.
Потому и гудел в ту ночь самолет над лагерем. А в землянке гудел генератор: братки проводили очередной сеанс связи с Большой землей. Они сообщали на этот раз, что лес обложили две вражеские дивизии, несколько отдельных батальонов и специальных команд, поддержанных авиацией и артиллерией.
Однако с началом зимней блокады работа братков значительно осложнилась. Чтобы противник не запелен
43
говал отряд, они, взвалив на плечи рацию и генератор, стали уходить подальше от лагеря. Для .этого и потребовалась браткам охрана. Но в последнее время и охрана не помогает! Противник принялся обстреливать лес из артиллерии квартал за кварталом. На отряд «За Родину», что стоит в полутора километрах, уже упали первые бомбы. Того и гляди, упадут на «Славный». Петрович принял решение: с наступлением рассвета выводить отряд из лагеря в тот лесной квартал, который подвергался накануне бомбардировке. В этих условиях братки перестали «курсировать»: для чего же им уходить из землянок, когда отряд уходит?
Один из последних январских дней выдался тихим, немцев не было слышно. Озаренный лучами зимнего солнца, лес шумел торжественно, спокойно. И все равно, выполняя приказ командира, партизаны двинулись из землянок. Лишь Толбузин и Поляков остались в лагере. У них как раз начинался сеанс радиосвязи с Большой землей.
Охрана залегла в снегу, приготовившись встретить гитлеровцев, если они мимо засад просочатся в лагерь. Дмитрий Поляков взялся за ручку походного генератора, а Иван Толбузин, склонив голову на плечо и прижимая наушник, дробчато застучал ключом:
— Та-ти-ти-та! Та-ти-ти-та!
В это время к негромкому гулу генератора прибавился новый гул, громкий и надрывный: низко над лагерем прошло звено «фокке-вульфов». Спустя две-три минуты самолеты вернулись, и в землянке дрогнули стекла, открылась дверь...
— Как понял? Как понял? Перехожу на прием! Перехожу на прием!—торопливо стучит Толбузин.
Опять качнулась землянка. На тетрадь, в которую радист заносил колонки цифр, с потолка упала земля. Толбузин столкнул ее локтем и плотнее прижал к плечу наушник.
— Вас понял! Вас понял! — отозвалась Большая земля. И тут же: — Примите важное! Примите важное!
А на лагерь упали новые бомбы. В дальнем хлеву протяжно и жалобно замычала корова...
На пороге землянки выросла коренастая фигура старшины Яковлева. Его округлое лицо раскраснелось
44
от быстрого бега. Не переводя дыхания, старшина прокричал:
— Комиссар приказал... прекратить сеанс... выйти из лагеря! — И уже от себя добавил: — Не слышите разве, лагерь бомбят?!
Поляков досадливо взглянул на него, словно и в самом деле не слышал бомбежки. А Толбузин показал подбородком на зеленый глазок передатчика и продолжал записывать цифры.
— Примите важное! Примите важное! — взахлеб пищали наушники, и еще чаще посыпались условные звуки, в которых могли разобраться только одни братки.
Старшина потоптался возле порога и, махнув рукой, побежал к хлеву, в котором продолжала мычать раненая корова.
Но звено «фокке-вульфов» не успокоилось, самолеты сделали новый заход на лагерь. И снова в землянке открылась дверь. Сквозь ее проем Поляков увидел, как от самолета отделились две продолговатые тени и, медленно кренясь, пошли вниз. Затем тени растаяли, и возник пронзительный, нарастающий свист и грохот. Когда рассеялась вздыбленная земля и снег, Поляков увидел старшину, распростертого на тропинке, и быстро багровеющий снег.
Поляков сделал было движение, чтобы кинуться к старшине, но в этот момент послышался настойчивый писк в наушниках, означавший:
— Как поняли? Как поняли? Подтвердите прием!
Не отрывая взгляда от багрового снега вокруг старшины, Поляков ухватился за ручку генератора и яростно стал крутить...
Наконец Толбузин сдернул с головы наушники, утер ладонью бледный и потный лоб. Запихивая в карман тетрадь с радиограммой и схватив рацию, он направился к двери, успев крикнуть Полякову:
— Забери генератор!
Самолеты, пикируя, ринулись на землянку...
Братки бежали по лагерю. Но, кажется, было поздно: свист настигал радистов. И когда он достиг самой высокой ноты, Толбузин ткнул в сугроб зеленый ящик и накрыл его своим телом.
В сплошном гуле, сотрясающем лес, не было слышно взрыва...
45
Спустя полчаса доктор извлек осколок, засевший в плече Толбузина. Операция делалась без обезболивания. Чтобы отвлечь радиста, доктор, немного хитря, спросил:
— Как это, браток, тебя угораздило? Возле самой лопатки, подлец, уселся, осколок-то... А раньше, говорят, солдаты скрывали, если получали ранение с такой несимпатичной стороны... Особенно когда пониже спины!
Толбузин скривил от боли лицо, набрал в легкие воздух. Покосился на рацию. Ящик стоял на пеньке невредимый, хоть сейчас готовый к работе. Толбузин отозвался на шутку доктора:
— Лопатка что? Заживет! Если б этот осколок в рацию угодил... А вот старшина ни за что погиб...
— Ему ноги... еще в живот... — хмуро сказал Поляков, куском тельняшки протирая металлический кожух генератора.
Эту нехитрую, но так необходимую для связи «машину» Поляков тоже накрыл своим телом во время взрыва. Только он ничего не сказал об этом. Накрыл — и все. Осколка ему, как Толбузину, не досталось, не о чем, значит, и говорить.
АРХИВАРИУС ДЯДЯ ТОЛЯ
Удивительные вещи происходят порой в партизанском отряде!
Как-то из докторского шалаша пропали, блины. Самые настоящие, из гречихи. Небольшой кулек гречихи фельдшер Евгений Мельников привез из деревни. Изобретательный и веселый, он без труда отыскал лопату, надраил до блеска речным песком, а затем — к костру. Славные блины получились!
То, что осталось от ужина, фельдшер убрал в шалаш. А ночью фельдшер услышал: гремит котелок. Растолкал доктора, засветил карманный фонарик и ахнул: втиснувшись в ветхий шалаш, над блинами трудилась лошадь...
Эта низкорослая деревенская кобылка с лохматой шерстью — Рыжуха — проделала долгий и трудный путь из-за Десны. Истинный партизанский друг, она между тем отличалась от других лошадей необузданным аппетитом и столь же великой ленью.
Сперва, когда мало было лошадей в отряде, на Рыжухе ездил начальник разведки. Но, тихоходная, с выступающим животом и длинными, как у ослицы, ушами, она мало годилась для стремительных действий партизанской разведки. Поэтому Василий Васильевич, едва добыв подходящую трофейную лошадь, Рыжуху подарил комиссару. Лишь в одной операции и участвовал на дареной кобылке Василий Сергеевич. Вернулся злой, на начальника разведки волком глядит:
— Ты... что же, специально мне одрицу подсунул?! На нее ни слово, ни плеть не действует!
47
Василий Васильевич лукаво сощурил глаза:
— Нет, решил, чтобы ты сам убедился, как у нас разведка была обеспечена. А ты... что же... лупил ее? Не ожидал от тебя!
— Лупить не лупил, а нервы себе извел... Правда, один раз огрел, так она, подлая, вовсе остановилась! — наконец засмеялся комиссар. И тут же велел, позвать доктора.
— Эту лошадь забери для санитарной части, — великодушно объявил он. — Будешь на повозке возить поклажу, кстати, у радистов прихватывать груз... Только раненых не клади: возит она не очень быстро, раненых на ней потерять недолго.
С этого дня Рыжуха бесстрастно тянула тяжело нагруженную повозку в бесчисленных переходах, ходила под вьюками по непролазным болотам... Зато когда отряд становился лагерем, она вовсю наслаждалась жизнью. И не было в отряде такого недоуздка, который мог бы ее удержать на привязи! И не было такого шалаша и повозки, которых не коснулись бы любопытные губы Рыжухи! Днями и ночами слонялась она по лагерю, опрокидывая ведра и котелки.
Партизаны ее любили. Едва Рыжуха где-нибудь появлялась, как вокруг подымался смех. Но иногда из-за нее доставалось доктору.
— Опять распустил кобылу! — ворчал командир отряда Петрович. — Да накажи ты своего ездового Же-ланова!
Потом Петрович совал Рыжухе кусочек почерневшего сахару и сердито хлопал ее ладонью по округлому животу:
— Ишь, холера, наела утробу!
Рыжуха благодарно косила глазом на командира и удовлетворенно помахивала хвостом.
Потом доктор ругал ездового Желанова, а тот ворчал на Рыжуху и ремонтировал измусоленный недоуздок... И никто не знал, что еще можно ожидать от Рыжухи.
А однажды комиссар приказал нескольким партизанам привезти для санитарной части дров. Ни разведчик Садовников, ни радист Поляков не удивились такому заданию, потому что каждому партизану известно: там, где обосновался лагерь, не только елку, а даже сухую
48
осину не трогай. Удивился заданию лишь Соловьев — дядя Толя. Но не потому, что не знал простых партизанских истин, а потому, что вообще имел обыкновение всему удивляться. Такая уж у него натура.
Этот партизан — достаточно приметная личность в отряде. Невысокий, с хорошо развитой мускулатурой, с густой шапкой каштановых волос, завитых в мельчайшие завитушки, дядя Толя слыл среди товарищей неистощимым балагуром и остряком, был изобретательным по части прозвищ и прочих выдумок, которыми досаждал товарищам, хотя и без злобы. Еще имел он необыкновенно высокий и сильный тенор и почти никакого слуха. Поэтому без труда мог разрушить любую песню.
Довоенная профессия Анатолия Ефимовича Соловьева была исключительно мирной, может быть, самой мирной на свете. Любознательный человек, он успел перепробовать десяток специальностей — от землекопа до авиатехника, побывал добровольцем на финском фронте, а потом, кажется, успокоился в тихих комнатах Выборгского архива в должности архивариуса. И опять не надолго. Едва началась Отечественная война, архивариус, вспомнив, что в студенческие годы занимался боксом, снова оказался в числе добровольцев.
Среди партизан «Славного» курчавый, крепыш дядя Толя мало чем напоминал архивариуса. Соловьев словно был создан для мужественного лесного товарищества, для боевой и отважной работы. Одним из его любимых занятий стала опасная работа подрывника на вражеских магистралях. Здесь он открыл свой текущий счет на спущенные под откос эшелоны. Кроме того, дядю Толю отличала неистощимая бодрость и какая-то озорная энергия, не позволявшая товарищам унывать. И еще одно водилось за Соловьевым: он всему удивлялся. Спустит под откос эшелон врага, придет к командиру, доложит, а после прибавит:
— Удивляюсь, как это у меня получилось?
И в тот раз, получив задание комиссара, Соловьев удивился:
— Странная боевая задача: из лесу ехать в лес за дровами!
Комиссар знал эту особенность Соловьева и ничего не сказал. Это знали и Садовников с Поляковым, кото-
4 И. Давыдов
49
рые уже принялись запрягать кобылу. Но никто из них не знал до конца Рыжуху!
Пяток километров Рыжуха добросовестно, хотя и неторопливо, тянула сани. Потом, пока пилили дрова, она смачно обгладывала кору и, вытянув губы, подбирала сухие, желтые листья, чудом отыскивая их в глубоком снегу. А когда на сани уложили ароматные березовые поленья, Рыжуха равнодушно покосилась на обвешанных оружием дровосеков и... осталась стоять на месте.
Все трое метались вокруг нее, понукали и угрожали, но она лишь лениво помахивала хвостом. Истощив запас красноречия, что редко случалось с Соловьевым, он встряхнул курчавыми волосами и опустился на поваленную березу.
— Удивляюсь! — сказал Анатолий Ефимович. — Откуда такие скотины берутся? Не лошадь, а упрямая образина!
Николай Садовников, который в находчивости не уступал Соловьеву, тоже развел руками. И только Дмитрий Поляков, моряк и радист, окинув пристальным взглядом Рыжуху, неожиданно заключил:
— Думается мне, братки, что наша Рыжуха того... Ожидает потомства!
Дядя Толя и Садовников недоверчиво посмотрели на лошадь. И тут архивариус обозлился.
— Куда там! Сколько знаем — всегда такая. Удивляюсь, как это в одной твари умещается столько лени? Пристрелить ее мало!
Слова прозвучали грозно, и Соловьев снял с плеча автомат. Но потом повесил его на сук и, ругаясь, принялся распрягать Рыжуху. А товарищи, не сговариваясь, начали разгружать дрова.
...Тройка двигалась медленно. Особенно за Рыжуху беспокоился дядя Толя, который шел «коренным». Он мотал головой, пытаясь смахнуть со лба капли пота. Поляков и Садовников, «пристяжные», проваливались в снег и кляли Рыжуху и дядю Толю. Рыжуха... Она умиротворенно стояла на розвальнях.
В лагере поднялся невообразимый переполох. Партизаны высыпали из землянок. Они веселой гурьбой сопровождали Рыжуху к конюшне, потешаясь над незадачливыми дровосеками.
50
Дядя Толя пытался объяснить суть дела, но этому никто не хотел верить, потому что повадки Рыжухи были давно известны. Не поверили этому командир с комиссаром и начальник разведки, раньше других изучившие норов Рыжухи. Не поверил начальник штаба со старшиной... Никто не поверил. Кажется, и сама Рыжуха этому не поверила. Она спокойно вздохнула, увидев конюшню, затем потянула влажные губы к Петровичу и громко раскусила кусочек сахару.
Больше всего насмешек выпало на долю Анатолия Соловьева. Товарищи словно мстили ему за остроты и эпиграммы. А комиссар даже сказал сурово:
— Каждая шутка имеет предел! Где же дрова?
Дядя Толя беспомощно оглянулся:
— Я сам удивляюсь! Честное слово, так показалось. Не бросать же ее в лесу в таком положении!
И на следующий день товарищи продолжали подтрунивать над Соловьевым. А Соловьев кипел. Он стал огрызаться на шутки, чего раньше за ним не водилось. Принимая стойку боксера-левши, словно готовясь к схватке, архивариус вопрошал:
— Удивляюсь! Чего смешного? Ну, ошибся в диагнозе! Ну, привезли... Хотя бы и зря привезли. Разве она не достойна этого?
А к вечеру Рыжуха оправдала его надежды: в конюшне мягко и жалобно заржал жеребенок.
Но теперь уже и это событие не прекратило потока острот, в изобилии сыпавшихся на голову архивариуса. Смех не был злым. Но Соловьев потерял терпение. Он вскочил, обвел сердитым взглядом товарищей и заверил:
— Пристрелю! Вот увидите, и Рыжуху... и ее подкидыша.
Он выбежал из землянки.
А потом его нашел старшина. В конюшне дядя Толя ласково почесывал за ухом то Рыжуху, то жеребенка.
НЕНАЗНАЧЕННЫЙ КОМИССАР
У душевного, общительного человека всегда хватает друзей. У Сергея Коржуева их хватало с избытком: каждый партизан ему друг. А вообще, если так посмотреть, ничего особого в Сергее не было. Среднего роста, нагольный полушубок затянут ремнями... Ах, нет, было особое! Гибкая, тренированная фигура гимнаста. И живые, умные глаза, в глубине которых, как искорка, металась крохотная смешинка. И всегда она мечется, словно выискивает что посмешнее, глядишь, и найдет. А тогда держись, кто рядом находится! Даже испытанные остряки, Мадей и Соловьев, не решались его задевать.
И еще особое было у Коржуева: бородка. Курчавая, темно-русая, с золотистым оттенком. Войдет в деревню Сергей, погладит бородку, улыбнется одними глазами. Еще не сказал ни слова, а людям от этой улыбки легче становится, словно своей улыбкой Сергей сразу войну прикончил, а вместе с нею — фашистов и> все плохое, что война принесла. Тут и вытянет Сергей из-за пазухи бумажку — последнюю сводку Совинформбюро.
Интересно со сводками у Коржуева получалось. Как ни любили его товарищи, а боялись при нем закуривать. Бумаги в отряде, известно, мало. Найдет партизан газету или обрывок обоев и прячет, как великую ценность. Особенно от Сергея: увидит, не отстанет—отдай!
— Так ты не куришь! А мне она дозарезу!
— Тебе она — легкие портить, а мне — для дела!
52
Так и отнимет. После пристанет к радистам, чтобы специально приняли последнюю сводку. По этому поводу у него однажды даже состоялся разговор с командиром отряда. Петрович спросил:
— Ты в разведку идешь, так при чем тут сводка Информбюро?
— При случае пЪчитаю колхозникам, — объяснил Коржуев. — А еще хочу людей повидать, за которых сражаюсь... Хорошая сводка — для людей радость. Да и читать сводку по-особому надо, если и ничего не случилось на фронте. Все равно должны чувствовать, что вот-вот что-то большое произойдет...
— Ты что же, меня агитируешь? — сдержанно засмеялся Петрович. — Ладно, иди, комиссар неназначен-ный! Скажи радисту, чтобы послушал известия... Да гляди пиши только самое главное, питание к рации экономить надо. Оставишь отряд без связи — голову оторву!
— Так у меня и бумаги мало, — с сожалением произнес Коржуев и вдруг улыбнулся: — Что касается головы... Немцам почему-то моя бородка не нравится. Хотят ее заодно с головой смахнуть.
Петрович порылся в сумке, протянул чистый листок бумаги:
— Вот еще... А бороду свою береги, зря не суй фрицам. Да пиши, слышь, помельче, экономь бумагу.
У хорошего человека всегда много друзей. Но все же из всех друзей есть еще самый лучший. Лучшим другом Сергея Коржуева был Ермолаев.
Удачливый разведчик и подрывник, Григорий Ермолаев мало сидел на месте. Высокий, с жестким, немного хмурым лицом, носящим следы оспы, Ермолаев напоминал древнегреческого марафонца. Да он и в самом деле обладал редкой выносливостью и упорством. Дважды он напарывался на засады и оба раза уходил из-под самого вражьего носа. Коржуев острил по этому поводу:
— Наш Гриша — без ног что без рук!
И в этой шутке скрывалось многое. В последние годы перед войной бегун Ермолаев стал одним из опасных соперников прославленных братьев Знаменских.
Поэтому никто в отряде не удивился, когда Коржуев и Ермолаев — два друга — вместе отправились на зада
53
ние. А с ними пошли еще два приятеля — Данила Лютов и Василий Копылов.
Это задание оказалось особо сложным. В разгар зимы 1942 года гитлеровцы начали блокаду Клетнян-ских лесов. Еще в начале декабря, сосредоточив вокруг леса крупные силы, враг стал настойчиво теснить партизан, занимая один за другим населенные пункты. В северной части лесного массива в упорные бои вступили отряды Данченкова, Рощина и имени Сергея Лазо. На юго-востоке сдерживали противника отряды Петровича «Славный» и Понасенкова «За Родину». Схватки с врагом завязали роты Клетнянской бригады Глебова, Мглин-ской — Каплина, «Неустрашимой» — Еремина. Дружным огнем встретили гитлеровцев десантники Шемякина и Чернова, автоматчики Аркадия Виницкого. Пошли в контратаки богунцы и щорсовцы, чапаевцы и котовцы, отряд имени Ванды Василевской, из партизанского соединения Федорова... Над лесом загудела вражеская авиация, засвистели снаряды и мины...
Противник подбрасывал свежие силы с фронта и из Германии. С каждым днем сокращалась партизанская территория. И с юга тоже доносились раскаты. На юге дрались с врагом трубчевские и навлинские партизаны. Туда и предстояло пробиться группе Коржуева, проскользнув сквозь смыкающееся кольцо врага.
...Четыре партизана 25 декабря вошли в село Бабники. До войны здесь жили зажиточно и привольно. Колхоз имени Красной Армии на всю область славился пасекой. Летом сорок первого гитлеровцы разграбили фермы и пасеку... Потом партизаны освободили село, и теперь оно было одним из последних, которое не успел еще занять враг.
А партизанский лес — рукой подать от Бабинок. Далеко до отряда, но опушка леса — это уже начало партизанского дома. Партизаны торопились в отряд и не стали обогреваться в селе. Они спешили передать командиру «Славного» и всем клетнянским бригадам добрые вести о том, что связь с трубчевскими партизанами и с Красной Армией установлена, а командование Брянского фронта обещало партизанам поддержку!
И все же возле крайней избы партизаны останови
54
лись. Сергей постучал в окно. Сквозь тусклое стекло глянули испуганные глаза женщины. И вдруг она улыбнулась: узнала Коржуева. Сразу же к стеклу прилепили носы ребятишки. И они узнали «партизанского комиссара». Женщина пригласила партизан обогреться.
— Недосуг нам, — сказал Коржуев. — А вот вам хочу передать самую последнюю сводку. Прочтете, другим расскажете.
— Так я лучше покличу соседку, — отозвалась женщина.— У нее память острее.
Но соседку звать не пришлось. Она сама подошла к «комиссару». За ней еще подошли и еще. Много людей собралось вокруг партизан.
Коржуев посмотрел на небо и на часы и, приказав товарищам двигаться к лесу, стал рассказывать о делах в стране и на фронте. И рассказывал так, что люди верили: немцам не одолеть партизан, а партизаны не дадут советских людей в обиду.
Но Коржуев не успел досказать всего и не сразу понял, почему товарищи еще не ушли. Морозный воздух разорвал чей-то короткий выкрик:
— Немцы!
Улица опустела. И только четыре человека стояли возле крайней избы и напряженно всматривались в снежную пелену. А по огородам — остроконечные капюшоны. И откуда-то с огорода донесся уверенный голос:
— Рус партизан! Сдавайсь! Комиссару при сдаче гарантирую жизнь. Выход в лес отрезан зольдатами!
Коржуев пригладил ладонью бородку. Двинул желваками Григорий. И вдруг они молча кинулись на врага. Цепочка в белых халатах дрогнула и порвалась...
Но немецкий офицер не обманывал партизан. За первой цепью немецких солдат оказалась другая. Лютов и Копылов упали. А Григорий Ермолаев продолжал стрелять. Острая боль пронзила ноги, которые знали гаревые дорожки больших стадионов. Стрелял и Коржуев. На него особенно наседали немцы: им обещана большая награда, если захватят живым партизанского комиссара. Только он отбивается, точно дьявол!
— Ползи, Гриша, к лесу! Передай донесение! Я задержу их! — кричит Коржуев. Ему кажется, что он громко кричит. Но его никто не слышит. И кажется, некому ползти к партизанскому лесу...
55
Нет, нет! Жив еще Григорий Ермолаев! Он ползет, зажимая новую рану. А за ним — полоски. Они, словно ленточки беговых дорожек, только красные. И на беговой дорожке не гаревое покрытие, а снег. И не крики болельщиков, не аплодисменты на трибунах... Истошно кричат фашисты, резко и холодно стучат автоматы... Ползет к лесу Григорий Ермолаев, выполняя поручение товарища. Поземка заметает за ним полоски крови...
Лишь спустя сутки одному из бабинских жителей удалось пробраться в лагерь, рассказать о неравном бое. Когда бой окончился, гитлеровцы вернулись в село, отобрали по дворам последние сани и лошадей. На сани сложили десять трупов немецких солдат. На отдельные сани положили тело Сергея Коржуева. Видно, гитлеровцы решили получить награду, «опознав» в Сергее «партизанского комиссара».
Они не очень ошиблись! Сергей Коржуев и был неназначенным комиссаром, согревал своим словом сердца людей.
А поздно ночью партизаны отыскали возле самой опушки Григория Ермолаева. Он был без сознания, но сердце его билось...
ЛЕДОХОД
Где-то, далеко-далеко на Большой земле, дежурный радист крутит ручку настройки и чертыхается. В наушниках— писк и треск. Кажется, в этой мешанине, которой полон эфир, в миллионах нервных и торопливых звуков даже самый классный радист не отыщет и не выделит нужного. И стрелка щупает, щупает шкалу...
— Что там у них — магнитная буря, что ли? — ворчит радист. Но вдруг схватил карандаш, выловил все же: Та-ти-ти-та, та-ти-ти-та, та-та...
Это позывные «Славного»!
Радист торопливо пишет колонки цифр, а в наушниках — опять мешанина...
Спустя час, передавая тетрадь дежурному, радист говорит, утирая лоб:
— Сегодня очень плохая слышимость. Сплошной ледоход! Едва разобрался.
А радиограмма от «Славного» оказалась простой и будничной, даже короче обычных передач: «В ночь на третье апреля форсировали Березину, идем на запад, в заданный вами район».
Вот и все.
Сделав пометку на карте, радиограмму отодвинули в сторону, чтобы не мешала. Все ясно: отряд перешел в другой район. Помехи в эфире — это уже второстепенное дело, главное, что отряд прошел без помех.
Но на самом деле помехи были. И был ледоход. И вовсе не в эфире, а на реке. Только об этом не сообщала короткая радиограмма Петровича.
57
Отряд «Славный» получил задание центра перебазироваться в новый район, чтобы взять под партизанский контроль железные и шоссейные дороги южнее Минска, позади возводимой гитлеровцами линии обороны.
Данные разведки, подготовлявшей маршрут отряда, были не утешительны: почти все населенные пункты вдоль Березины заняты немцами. Не занята лишь небольшая деревушка Тижаха на западном берегу...
Петрович и начальник разведки вызвали Андреян-цева.
Высокий и сухопарый, Андреянцев долго смотрел на карту, которую пододвинул к нему командир, покачивал головой.
Интересный человек Андреянцев! Было ему уже около пятидесяти, когда началась война. Работал он заготовителем в Лоеве, много ездил по району и области, назубок знал места и многих людей. Поэтому, может быть, и оставил его райком партии для подпольной работы. Затем он установил связь с отрядом Петровича. Полезные сведения передавал в отряд Андреянцев. Но гестапо напало на его след, узнало, кем является горластый сторож Лоевского лесозавода. О грозившей Андреянцеву опасности проведали партизаны. Когда же разъяренные гестаповцы вломились к сторожу, ни его, ни всей его многодетной семьи в доме не оказалось. А лесозавод горел буйно и весело. Андреянцев стоял далеко на опушке партизанского леса, окруженный ребятишками, и, сощурив глаза, спокойно глядел в сторону городка, над которым высоко взметнулось пламя пожара.
...Незаменимым человеком оказался Андреянцев в отряде! Партизаны, да и сам командир, удивлялись, как они без него раньше обходились! Сходить ли в разведку, починить ли сбрую и седла — любое дело у него получалось. Подвижной и выносливый не по годам, Андреянцев везде поспевал, везде слышался его громкий, торопливый голос с отчетливым белорусским акцентом.
Когда командир показал ему карту с участком Березины, намеченным для форсирования, Андреянцев тут же ее отодвинул.
— Зачем мне карта? Без карты скажу: худшего места не сыщешь!
58
Петрович бросил быстрый взгляд на начальника разведки и забарабанил пальцами по планшету. Деревня Тижаха, возле которой намечена переправа, стоит на противоположном крутом берегу, а этот берег пологий.и на многие километры открытый взору. Не потому ли и немцы пока не занимают Тижаху?
— Другого места сейчас не найдем, — сказал начальник разведки. — А здесь зас немцы не ожидают.
— И я об этом, — кивнул Петрович. — За тем и Анд-реянцева вызвал. Как, Иван Кузьмич, думаешь?
Андреянцев энергично- потер ладонью сухое, щетинистое лицо.
— До реки километров пятнадцать полем... Их дотемна одолеть надо. Санки-то, видно, бросим: с дорогой плохо... А главное — за реку боюсь: она опасна теперь, того и гляди, взорвётся!
— До реки доберемся броском,— сказал командир.— А переправу тебе возглавлять! Бери один взвод и немедля иди готовь. На месте увидишь, как лучше. Не зря тебя Главстаршиной прозвали!
Андреянцев выпрямил спину, перевесил карабин с плеча на плечо. Усмехнулся:
— Давно по части сплава не приходилось работать!
— Какого сплава?
— Да говору же: река, того и гляди, взорвется. Ну, вскроется.
Он так и сказал: «говору», твердо, по-белорусски. Сказал и пошел, чуть-чуть сутулясь. А Петрович крикнул ему вдогонку:
— О своих ребятишках не беспокойся, поручим, кому присмотреть.
— Жена присмотрит, — насупясь откликнулся Андреянцев. И перешел на «ты». — Ты лучше, Петрович, бойцов не трожь на это: и без моих детей им дела — не оберешься. А жена у меня, сам знаешь, одна управится.
Немного спустя вслед за Андреянцевым поскакали комиссар и начальник разведки обеспечивать переправу.
А потом началась метель, нехорошая и злая, какие бывают в самом конце зимы. Мокрый снег и леденящий ветер обрушились на партизан. Расползшиеся за день колдобины схватило морозом, и дорога превратилась в сплошную сухую рану. Партизанам одно утешение: все
59
небо заволокло влажной белой завесой... Может, лед на реке покрепчает, а главное — можно идти днем, не ожидая ночи. В последние дни отряд неустанно преследует вражеский самолет. Он и вчера неожиданно налетел на колонну, сыпанул пулеметным огнем. Едва отогнали. Однако ранен командир соседнего отряда майор Осман, который вместе с Петровичем собирался форсировать Березину.
...К вечеру продрогшие, облепленные снегом люди вошли в деревушку Местино, что возле самой Березины.
— Дело плохо, — подошел к Петровичу комиссар. Смахнул с густых бровей ледяную корочку. — Андреянцев за лед боится: не выдержит. Ребята с досками ходили на правый берег, перетянули канат. Мы тут небольшой паром смастерили... на случай, если река откроется.
Петрович приблизился к берегу. В густой, заснеженной темноте едва различались фигуры людей, слышались натруженное дыхание и тяжелые, глухие удары: партизаны разбирали сани и дощатый забор, достраивали паром, готовили подручные средства.
— Будем плот перетягивать по льду, — пояснил Андреянцев, узнав командира. — Человек десять — двенадцать могут взойти на плот.
Петрович с сомнением посмотрел на плот, прикинул: — Рейсов тридцать туда и назад? Тут и ночи не хватит!
— На плоту —только раненых, пушку и минометы. Детей и женщин. Еще лошадей для раненых и коров,— предложил комиссар. — А все остальные — цепочкой, возьмут в руки жерди и доски.
Всматриваясь в темный, пористый лед, Петрович негромко подал команду начальнику штаба:
— Давай! По одному отделению. На той стороне сразу же занимай оборону! Прикрой переправу.
Берег пришел в движение. Комиссар отыскал в темноте санитарную часть, стал инструктировать ездовых. Раненые тревожно заворочались на санях, стали прислушиваться к голосу комиссара. А с берега доносился басок начальника штаба — лейтенант Оборотов рассредоточивал роты. К саням пугливо жались животные...
Где-то наверху, на противоположной стороне реки,
60
где была деревня Тижаха, трижды мигнул бледный луч фонаря, с трудом прорезал снежную пелену. Разведчики донесли, что все в порядке.
И словно по их сигналу раздался треск. Сперва су« хой и короткий. Потом пополз угрожающий шорох. Показалось, что вздрогнул берег. И снова треск. Люди недоуменно застыли, всматриваясь во тьму. А треск нарастал и превращался в грохот, который шел со стороны реки, заполняя темноту, врываясь в уши. Он напоминал артиллерийскую канонаду. Это, дыбясь и обгоняя одна другую, на берег полезли льдины. Спустя полчаса разбушевавшаяся река успокоилась, и в темноте только слышался громкий шелест льдин и всплески.
Стряхивая с телогрейки воду и дрожа от холода, Андреянцев едва шевелил губами:
— Пошла, проклятая! Чего бы ей до утра задержаться! По середке пойма образовалась, едва выбрался. А с той стороны припой: лед крепок еще... Вода малость успокоилась, можно начать.
Командиры рот и взводов, политруки снова и снова инструктируют бойцов, а по шатким льдинам уже медленно двинулся плот, для пробы нагруженный лошадьми и коровами. Его окружили люди. Скользя и тихо ругаясь, они толкают его к пойме. Лошади дрожат и часто перебирают ногами, тесня коров. Затем этот пульсирующий островок погрузился в воду, а вместе с ним погрузились люди. И всем, кто оказался в воде, кто стоял на льдинах, почудилось, что плот уже не всплывет, не всплывут люди, которые толкали его. Но плот медленно всплыл, хотя поверхность его осталась в воде. И всплыли люди. Они, цепляясь за обледенелый канат, тяжело двинулись к правому берегу, расталкивая телами льдины и увлекая за собой плот.
...Лошади и коровы боятся переходить с плота на шаткий припой. Партизаны, озлившись, валят их и волоком тянут к берегу, а там вожжами и прутьями загоняют на обледенелую кручу.
И опять заскользил паром. И опять погрузился в воду. Командир приказал оставшийся скот раздать населению, и теперь на плоту только люди. Раненые лежат на санях, залитых водой, приподнимают над головами оружие. Льдины мелко дробятся о сани, и ледяная вода заливает повязки.
61
Андреянцев, в обледенелой шуршащей телогрейке, стоит на плоту, отталкивается шестом. Старается ободрить раненых:
— Доедем, братцы! В жизни не такое бувало! Это я говору вам!
А недалеко от плота, глубоко оседая, сквозь льдины пробивается лодка. На ее корме орудует шестом Конд-ратий Мадей, пловец, спортсмен. Потому и поручил ему Петрович переправу детей и женщин. Стараясь держаться ближе к плоту, прыгая со льдины на льдину, с досками и жердями пробираются партизаны и, зябко ухая, перескакивают на ледяной припой.
По дворам притихшей деревни Местино торопливо шагает комиссар, распределяет среди населения оставленных лошадей и коров. На берегу бесформенной грудой темнеют сани.
Накапливаясь на противоположном крутом берегу, партизаны в обледеневшей одежде валятся на мерзлую землю, негнущимися пальцами взводят затворы, готовятся к бою, если противник попытается сорвать переправу.
Над рекой занимался рассвет, когда на правый берег вскарабкалась последняя группа. И этот рассвет оказался добрым. Внезапно утих леденящий ветер. Из-за далекого леса на оставленном берегу стремительно всплыло солнце, ярко озарило Тижаху.
Через деревню медленно и тяжело движется растянутая колонна обледенелых людей, навьюченных оружием и вещевыми мешками. И только в середине колонны— десяток саней, на которых лежат раненые. За санями устало бредут коровы, тянут к обледенелой соломе морды, унизанные сосульками...
Из домов выбегают женщины и ребятишки, удивленно и радостно улыбаясь, суют партизанам мелкую теплую бульбу.
Потом колонна выходит в поле. Солнце уже залило его мягким румянцем. Над колонной легкими облачками поднимается пар.
—* Оттаиваем! — полязгивая зубами, смеются бойцы и ускоряют шаг.
Гостеприимный лес укрыл отряд от яростного обстре-
62
ла, который начался из соседней деревни. Гитлеровцы слишком поздно узнали о переправе.
А на опушке леса стоит человек и, заслоняя от солнца глаза ладонью, смотрит на реку. Рядом с ним стоят молчаливая женщина и ребятишки.
От реки, обогретой солнцем, клубами поднимается пар. И легкими облачками поднимается пар от одежды Андреянцева, от всей его семьи.
ИНЖЕНЕР СЕМЕН БИТ МИРЗА
Новую группу военнопленных выстроили на дворе концлагеря.
Вдоль неровного строя, скривив губы, идет комендант. Невзрачен вид русских солдат! Изможденные, обросшие щетиной лица, грязные, потрепанные шинели. Солдаты все, как один, пожилые, болезненные. Молодых совсем не видно.
Но не знает комендант, что перед ним не солдаты, а ополченцы. Именно они, так не похожие на солдат, вели тяжелые бои под Рославлем, своим упорством приводили в ярость гитлеровские полки. Только численное превосходство врага, недостаток боеприпасов и трагедия окружения — причина того, что стоят эти люди на дворе концлагеря. Не понять этого коменданту! Но зато он видит другое: в строю — невысокий смуглый человек. Под крутым лбом зло сверкают глаза.
— Юде? Еврей? — шагнул комендант к ополченцу.
— Нет. Ассириец. Но я — советский солдат.
— Профессия?
— Инженер. Но это не имеет значения.
— Вот-вот! Именно не имеет! — затрясся в хохоте комендант. — Я могу вас вешать и так... Да, да! Вы отчень похож на юде. Отчень забавны, господин инженер сиритц! Я могу подождать вас вешать.
Инженер Семен Бит Мирза родился и вырос в Москве. Уже давно, с Октябрьской революции, второй ро-64
диной его родителей, так же как и двух десятков тысяч других ассирийцев, стал Советский Союз. Отек маленького Чему, офицер повстанческой армии, пробившейся через Иран и Турцию в Россию, сперва поселился в Баку, а затем переехал в Москву. Подросший Чёму — Семен — работал, а вечером учился на рабфаке. За год до чвойны он окончил электромеханический факультет института имени Баумана и, получив диплом инженера по точной механике, поступил на автозавод. Там же, на автозаводе, на митинге в первые дни войны молодой инженер записался в Ленинскую бригаду Московского ополчения, а вскоре уже шагал к фронту...
Тяжелые дни наступили в лагере для маленького смуглого инженера. Казалось, что у охранников не было иного занятия, как только раздавать пинки и удары. Больше всего выпадало их на долю Мирзы. Под сильным ударом он валился на землю. Тогда охранники собирались вокруг копошащегося в грязи человека и хохотали. Их потешала его беспомощность и молчаливая злость, которую выдавало сверкание глаз, спрятанных под крутым лбом.
Но один раз Мирза не выдержал. Упав после очередного пинка, он поднялся и выплюнул набравшуюся в рот жидкую грязь прямо в лицо палачу. И тогда не один охранник, а целый десяток их навалился на пленного. Он ждал того последнего удара, который поможет ему навсегда уйти из жизни. И он дождался бы смерти, если б не комендант.
— Не надо до смерти, — сказал комендант с улыбкой.— Нам еще пригодится инженер... сиритц!
Для Семена и вправду нашлась работа. В лагере свирепствовал тиф, госпиталь не вмещал больных. Они умирали повсюду — на дворе, на работах. Опасаясь, что тиф перекинется на охрану, комендант принял кое-какие меры. Потому и вызвали к нему Семена Мирзу.
На этот раз комендант не смеялся, хотя и спросил шутливо:
— Ты еще жив, сиритц? — и, снова став жестким, на-» зидательно произнес:
— Германия принесла вам новую жизнь! Настоящую!
Семен удивленно посмотрел на коменданта. Потом на свои распухшие, в кровоподтеках руки. Комендант
5 И Давыдов
65
понял. Чумазый смеется над тем, что он назвал настоящей жизнью. Он зло пояснил:
— Сейчас война. Ты есть военнопленный. Все будет nodie, если будешь работать. Я оставил тебе жизнь. Я! А я мог тебя вешать потому, что ты сиритц и что похож на юде.
Мирза, наклонив свою крупную голову, задумался, стараясь понять, куда клонит немец. Комендант, видно, принял это за выражение благодарности. Сказал милостиво:
— Будешь работать по специальности. Ремонтировать камеры дезинфекции. Пошел!
Семен усмехнулся. Специальность инженера по точной механике так же далека от парового отопления, как этот лагерь от настоящей жизни. Но Мирза был благодарен и за эту работу. Еше бы! С ремонтной бригадой он сможет ходить по лагерю!
Не много потребовалось времени Семену, чтобы постигнуть новое. Нет, не камеры дезинфекции, а ту, иную, напряженную и опасную, жизнь, скрытую от глаз лагерной жандармерии. В сыпнотифозном бараке, куда Семен приходил ремонтировать дезкамеры, он часто ловил на себе пристальный взгляд регистратора. А однажды тот кивнул ему, повел коридором.
— Вот эту исправьте, — показал регистратор на камеру. И вдруг шепнул:
— Покопайся для виду, она исправна... А это — листочек тебе, коллега!
Мирза не помнил, как прошел мимо часового возле двери. Идет по двору, а руку обжигает крохотный листочек бумаги, стиснутый в кулаке. Наконец заглянул в листок и словно захлебнулся радостью. Буквы запрыгали, горло сдавили спазмы: «Вести с Родины»!
Так познакомился Мирза с другим инженером, ополченцем 17-й Москворецкой дивизии, Дмитрием Сергеевым.
Ходит Мирза по баракам, простукивает радиаторы, получает листки, передает надежным товарищам. Через Сергеева свел знакомство с другими подпольщиками — с санитаром Желановым, с Васютчиковым, с Жафаром Диановым... И текут, текут, растекаются по лагерю вести с Родины. И уже не кажется таким безнадежным плен...
f6
Потом арестовали Сергеева. Не долог фашистский суд. А приговор в лагере еще короче — одно лишь слово. Однако гитлеровцы нуждались в специалистах. Заменили Сергееву расстрел розгами и высылкой в Германию на работы. Розги Сергееву выдали, а вывезти его не сумели: спрятали товарищи Дмитрия, записали умершим. И среди тысяч людей за колючей проволокой ходит теперь Сергей Майоров, раздает вести с Родины, готовит людей к побегу. И не узнать в нем регистратора из барака сыпнотифозных, который теперь носит фамилию умершего человека.
Подготовка побега подходила к концу, когда Майоров, Жафар и Иван Желанов неожиданно потеряли инженера Мирзу. А он в это время стоял перед комендантом, хмурил высокий лоб, старался понять, к чему этот срочный вызов.
— Живешь еще, инженер сиритц? — спросил его комендант.
— Живу... — дернул плечом Мирза. — Как видите.
— Ты есть беспартийный, сиритц?
Что-то оборвалось в груди у Мирзы. Значит, знает, гад, про побег и листовки. Однако заставил себя улыбнуться:
— Не состоял в партии. Как-то не думал об этом раньше.
— Хорошо! — обрадовался комендант, не поняв скрытого смысла в словах инженера. — Политика мешает ин-, женерской мысли. Для политики есть фюрер и Геббельс.
Слушает Семен, хмурит лоб. Куда опять клонит немец? Слушает и ждет, что вот сейчас заорет фашист: «Врешь, сволочь! А листовки почему раздаешь? Где политрука Сергеева прячешь? Почему людей на побег подбиваешь?»
Но комендант говорит спокойно:
— Тебе, сиритц, могу доверять. Пойдешь на другую работу. Но смотри! Если что — сам тебя вешать приеду. Пошел!
Вышел Мирза в сопровождении двух солдат. Куда ведут — неизвестно. Может, и на расстрел... Повидать бы товарищей, попрощаться... Да где там! Вот они, церберы, рядом, автоматами подпирают спину.
5*
67
Могилевская телефонная автоматическая станция, куда привезли Мирзу, была неисправна. Немецкий техник ничего не мог с ней сделать. Потому и пригнали сюда Семена, вспомнили: инженер по точной механике!
А Семен знает, что его работа против своих обернется. По этим телефонам гитлеровцы будут передавать приказы... И тянуть с ремонтом опасно: того и гляди, голову снимут. Тут еще офицер приехал.
— Плохо работаешь! Большевик! Саботаж!
Попробовал Мирза объяснить, а офицер показал на столб:
— Видишь? Срок — две недели. Саботаж — на этом столбе повешу. Нет, приглашу коменданта, он сам тебя хочет вешать.
Огрел офицер Семена плеткой, уехал.
Не по себе Семену Мирзе. Лучше бы в лагере быть. Тяжело там, да все на людях. А тут повесят, и не узнает никто. Но делать-то нечего. Принялся Мирза возиться со станцией. Может, за две недели придумает что-нибудь...
Но вот и ремонт окончен. В другое время порадовался бы инженер своей работе. А сейчас горечь берет! Глаза не смотрели бы на эти начищенные панели! Сидит Мирза на крыльце, боится внутрь помещения заходить, словно живого человека, стыдится станции.
И вдруг возле калитки — шум. Кто-то с часовым громко спорит, пытается проникнуть во двор. Видит чМирза незнакомого человека, а тот вращает большими глазами, топорщит пышные черные усы. Настоящий цыган! Машет мотком проволоки Семену, кричит:
— Скажи этому ироду — пускай пропустит! Не видишь: проволоку продаю? А тебе проволока нужна для станции!
Ничего не нужно Семену! Но сказал часовому:
— Пусти его. Нужна проволока для ремонта. Не пустишь — от начальства тебе попадет.
Часовой посторонился, пропуская цыгана. Когда тот проходил, солдат не удержался, поддал по заду прикладом:
— Пошел, сволочь, воришка!
Цыган словно и не заметил удара. Подбежал к крыльцу, свалил моток. Семен смотрит, пожимает плечами, плохой товар: ржавь да гарь. А цыган крутится 68
волчком, громко товар расхваливает. И между слов тарабарских шепчет:
— Здорово, Семен!
Мирза обомлел. Всматривается в лицо бойкого человека, в карие навыкате глаза. Нигде не встречал такого!
- — Мало чего бывает, — оскалил зубы цыган. — Меня тоже, между прочим, Семеном звать. Потом разберемся. Видишь, пес у калитки слушает! А проволоку купи обязательно. За марками после приду...
Гремя проволокой, цыган опять понизил голос:
— Я, между прочим, и не цыган. Сходство удачное. Пока помогает. А вам, тезка, привет от Сергеева и товарищей. Они в отряде у нас.
Ослабли у Семена колени. Слишком радостную весть принес «цыган». И сразу стал родным человеком. Не опасаясь, что это может быть провокацией, Семен спросил, задыхаясь:
— А нельзя и мне... к вам?
Лицо Цыгана мгновенно стало строгим. Понял Мирза: за разбитным торговцем скрывается самоотверженный человек, который не побоялся проникнуть в самое вражье пекло.
— Нет, — тихо отозвался Цыган. — Пока нет. Сначала станцию свою уничтожишь. Потом заберем. Ожидай мины и тол. А пока старайся, иначе ухлопать могут. Между прочим, фамилия моя Хомелянский. Запомни на всякий случай. Имя легко запомнить: тезки!
Прокричав что-то еще насчет проволоки и марок, Цыган ретировался со двора, весело оскалив зубы на часового.
В очередной приезд офицер остался доволен работой военнопленного инженера. Да и сам Семен словно переродился! Ходит по станции, объясняет и улыбается. Панели и блоки блестят, работают четко. И гитлеровцу не понять Семеновой радости. И видно, вправду понравилась ему работа смуглого инженера. Тут же подписал Мирзе пропуск на беспрепятственный выход в город:
— Можешь немного ходить на базар... Девочки... Во!
Но постепенно радость померкла. Во двор заползала осень. Цыган почему-то не появлялся.
69
Стоит Семен у окна, смотрит на двор. Тускло сентябрьское небо. Тускло на душе у Семена. Тяжело вздрагивая, въезжает в ворота машина с дровами. На них — двое русских рабочих и солдат с карабином. Солдат соскочил, пошел к часовому. Рабочие принялись за разгрузку... Заметив Семена, один крикнул:
— Чего глазеешь, чумазый? Отъелся тут... нет бы помочь!
Мирза смутился. Давно ли сам так работал? А сейчас, словно немец, в окно поглядывает. Подошел к рабочим. От поленьев пахнуло свежестью, лесом. Подавляя неловкость, Мирза спросил:
— Недавно, видать, пилили?
— Недавно, — буркнул рабочий. — И вдруг прибавил:— Да ты бельмами-то не хлопай! Смотри сюда! Видишь?
Семен видит: рабочие поспешно заваливают дровами два деревянных ящика. Заваливают, а глаза у них улыбаются.
— Это тебе. Сперва они на вырубке побывали, а после мы прихватили подарок... Здесь все написано. Успеха тебе, товарищ!
Поздно ночью, распаковав «посылку», Мирза извлек две магнитные мины и около двенадцати килограммов толу. Там же лежала записка, где были указаны время и место встречи после взрыва. Записка кончалась словами: «Установи в самых ответственных местах. Действуй решительно. Тезка. Цыган».
Кому, как не инженеру Мирзе, знать самые уязвимые места своей станции! Хватит с нее, поработала! Отняла силы и нервы. Вон как пальцы дрожат. Но дрожат не оттого, что держат страшную вещь, способную снести станцию и Семена. Дрожат от радости. Еще немного — и не будет ни станции, ни долгих, тягостных ожиданий. Будет лес... и друзья.
...Семен разделил тол на две части: в токораспределительный щит и трансформатор. Теперь установить время, вставить «карандаши», прижать мины к металлу...
Было совсем темно, когда Мирза подошел к одной из улиц, где его должны ожидать. До взрыва — считанные минуты. Но Семена никто не встретил. Тело обдало 70
холодом. Или это от сырости? Почему-то нет взрыва. И никто не встречает. Стоять на месте нельзя: вот-вот подойдет патруль.
И тут — взрыв. Глухой, далекий, еще один... еще глуше. Да нет, это не взрывы, это просто где-то забарабанили в дощатые двери. Его взрывы должны быть громкими, на весь город. На весь Могилев! И все же надо куда-то идти, бежать... Куда угодно!
— Прямо, прямо иди. Спокойно, — слышит Мирза чей-то шепот.
Он не видал человека, который подал ему голос. Пошел.
— А теперь не отставай!
В двух шагах перед собой Мирза едва различает фигуру. Спешит Семен, спотыкается, боится потерять из виду силуэт провожатого. Переулок, забор, пустырь... Прощай, Могилев! Не стал ты для Семена могилой. Но почему не взорвались мины?
Провожатый внезапно остановился, дотронулся до руки:
— Тише! Слева — пост.
Словно подтверждая его слова, слева мелькнул огонек. Падая на липкую землю, Мирза увидел голубой полет трассирующей пули — к нему, к его голове или к сердцу. Потом прозвучал выстрел. Высоко взлетела ракета, застыла в воздухе и, помигав, погасла. Они побе-жали, с трудом вытягивая ноги из вязкой земли...
Бежали и шли молча, быстро. Полем и лесом. И снова полем. Обходили деревни. А в одну вошли. Зашли в избу.
Цыган шагнул навстречу, вращает глазами, разгла* живает усы.
— Здорово, тезка! Хорошо сработал «подарок»?
За Мирзу отзывается провожатый:
— Ух и рвануло ж!
Мирза растерянно обернулся. Девушка? А он-то ничего не заметил. Он и взрывов своих не расслыЩал!
Несмотря на поздний час, в избу набились люди. Говорили свободно, громко. Смеялись! Семен смотрел на них большими глазами: он отвык от смеха и разговора.
Чья-то девочка потянула за рукав Цыгана:
— Дядя Сень! А он разбирает по-нашему?
71
— Он и есть наш, русский, — засмеялся Цыган.
— Полицай?
— Зачем же? Говорю, наш! Свой, значит.
— Сво-ой? А чего он такой . черный и страшный? Прямо как немец!
И опять все засмеялись. И Мирза засмеялся:
— Это меня фашисты сделали черным. Я отмоюсь теперь.
...После недолгого отдыха партизаны разместились на повозке, запряженной парой лошадей. Привстав, Цыган лихо свистнул.
— Па-ашли, милаи! И-и-эх-я-а! К Петровичу-у!
Лошади понеслись по улице к лесу. Из-за него уже поднималось солнце. Сентябрьское, грустное. Но Мирзе оно казалось в тот день особенно ярким.
КОМИССАРЧИК
Бесконечный день двадцать восьмого июня сорок третьего года клонился к вечеру. Отряд успел уже далеко отойти от места боя. Оставив позади разгромленный гарнизон Тихоновичи, «Славный» спешил на базу за Друтью. А в Тихоновичи из Рогачева мчались машины с гитлеровскими солдатами. Но было поздно: партизаны уже подходили к лесу.
Здесь, возле леса, и нагнал отряд Комиссарчик Сережка. Бежит, запыхался, а впереди себя подталкивает автоматом какого-то высокого человека. Посмотрели партизаны на эту странную пару и рассмеялись. Кого приволок Комиссарчик? А Сережка принял строевую стойку, но доложил длинно и не очень складно:
— Товарищ командир! Бурхомистра пымал! В подвале хотел сховаться... Вот его автомат, пистолет и гранаты... Ему б, дураку, заодно с оружием бежать, а он все на печи с перепугу оставил, в подпол-то пустым уже спрыгнул. Тут еще коробка с деньгами. Немецкие. Кому трофеи прикажете сдать?
Начальник разведки подошел к высокому человеку, всмотрелся.
— Кто такой? Только врать не пытайтесь.
Человек прохрипел, отдуваясь после быстрого бега: — Бургомистр я... Из Тихоновичей...
Сережка невысок, но широк в кости, лицо скуластое. Лет ему немного: четырнадцатый год в отряде пошел. Такому бы в школу бегать...
73
Прямо из школы попал на войну Сережа Денищен-ков, пятый класс закончил, в шестой перешел. Шестым классом стала война, и как только начался новый «учебный год» — в отличники вышел. Раньше-то, в школе, не очень старался. А вот теперь лениться нельзя: очень строгая учительница — война. Сама она явилась к Сережке.
В июле сорок первого года советские войска начали строить оборону в Быховичах, что в Жирятинском районе, на Брянщине. А немецкая линия пролегла по Козел-кину хутору, Витлусу и другим деревням. И как раз между двумя линиями — деревня Упруссы. В ней и проживал ученик шестого, военного, класса Сережка Денищенков. И не знал, какие ему зададут уроки на завтра.
Урок ему скоро уже задали — в августе. Вошла в Упруссы армейская разведка — лейтенант Поляков и политрук Сухоруков с бойцами. Присмотрелись к мальчишкам, остановили взгляд на Сережке. Сразу видать заводилу! Сухоруков придержал Сережку за плечо:
— Куда команду свою ведешь? Поди, на чужой сад атаку готовишь?
Сережка смутился, уставился в землю. Они и вправду яблоки воровать собрались. Каким же образом тот догадался?
— Так ты оставь пока эту операцию, — сказал Сухоруков.— Проведи нас лесом на Мокрое. Вместо яблок получишь настоящую награду, и из своего пистолета выстрелить дам.
У Сережки загорелись глаза, от радости голос дрогнул:
— А то, может, еще в бинокль глянуть дадите в придачу?
— Никак, ты купец? Торгуешься! Ну, в бинокль и сейчас можно...
Не больше минуты смотрел Сережка в бинокль. Вернул Сухорукову, сказал бахвалясь:
— Я все наши места и без этого бинокля знаю. По памяти. Знаю еще, где немцы установили минное поле.
...Когда стемнело, повел Сергей разведчиков через лес, в обход минного поля. Действительно, все хорошо знает смышленый мальчишка! Знает, на каком краю 74
Мокрого немцы находятся, сколько сидит их в Мокром: семь или восемь десятков...
Хорошо разделались с гитлеровцами разведчики! А Сережка вдоволь настрелялся из пистолета. Сухоруков слово сдержал. Но Сергей и свою инициативу проявил по части трофеев. Набрал в мешок консервов, мыла, сахару и еще другого хозяйственного добра. Пригодится дома в деревне.
Но разведчики пошли не в Упруссы, а в штаб, в Бу-дыново. Там о-5 Сергее Денищенкове записали полные биографические данные. Затем начальник штаба вручил ему под расписку двести рублей деньгами — награда проводнику. Так и остался Сережка при штабе. Только сидел не в штабе. Ходил на задания в деревни и села, высматривал немецкие силы. Получалось удачно. Но в поселке Витлус угодил под облаву. Оккупанты собирали жителей, сгоняли к Клетне. Уже у самого города Сережке удалось убежать. Спасибо, леса густые.
На третьи сутки он вернулся в штаб части, доложил обо всем, что видел. Много за эти дни узнал разведчик Денищенков. Но не знал, что это последняя его разведка в последний день службы в армии. В октябре наши части стали отходить дальше к востоку. Сережку с собой не взяли: все же мал возрастом для фронта и новых мест, конечно,, не знает.
Вернулся домой в Упруссы Сережка, к матери:
— Здравствуй!
Здравствуй-то здравствуй, а что дальше? Совсем трудная жизнь наступила. Старшие сестры тоже вернулись, а есть в доме нечего. Все сады давно немцы обобрали, даже по яблоку не оставили.
И вдруг, уже в марте, является в Упруссы человек. Идет по деревне, спрашивает Сергея Денищенкова. Ну, этого разыскать недолго. Сам, если надо, кого угодно отыщет. Человек молча кивнул Сережке, повел к лесу. Там посадил на повозку, торопливо погнал лошадь. А Сережка сидит, помалкивает. Раз надо так надо. Сам был в разведчиках, знает: не всегда можно расспрашивать. Когда проехали порядком, все же не утерпел, спросил:
— А кто вы, дяденька, будете? Куда меня везете?
Покосился на него человек, отрезал:
— Полиция. Везу в Леденево!
75
Больно кольнуло внутри у Сережки. Леденево ему хорошо известно! Считай, самая вредная полиция в Ле-деневе, самых бандитов туда пособрали немцы. Может, спрыгнуть с повозки? Да карман у дядьки топырится. Верно, не один пистолет там запрятал. А из-под соломы карабин торчит. Попробуй-ка... убеги.
Потом сам человек спросил Сережку:
— Что, кисло тебе, разведка? То-то! А ты Сухорукова знаешь?
Опять кольнуло внутри у Сергея. Еще бы не знать! Сухоруков-то первый военный урок задавал ему... А теперь полицаи, видать, дознались. Зарылся Сережка в солому, ответил сквозь зубы:
— Не знаю я никого такого. Не слыхал в нашей деревне...
Решил Сергей молчать до конца — будь что будет. Лежит, молчит, зябнет. Кругом осторожно поглядывает, старается запомнить дорогу. А после пригрелся в соломе, заснул. Сколько ехал — не знал. Проснулся, понял: остановилась повозка. И слышит, как полицай докладывает:
— Товарищ комиссар! Доставил Сережку вашего, если он не помер со страху.
Сергей высунул голову, ахнул: сам Сухоруков стоит возле повозки, смеется:
— Здорово, друг старый! Извини, что таким порядком вызвал тебя на свидание. Нельзя иначе. А тебе еще поработать придется, но теперь — в партизанской разведке. Согласен?
Надо ли было об этом спрашивать Сережку!
Есть такой поселок Тенешово. Поселок не велик, но гарнизон в нем большой. В этот большой гарнизон и едет маленький разведчик. Да как еще едет! Видно, вспомнил комиссар Сережкину привычку торговаться-рядиться. На повозке, словно купец, восседает Серега! В мешках мука и картошка для продажи, а то и в обмен на тряпки. Теперь купец на все согласится. Теперь партизанам и тряпки нужны: поизносились за зиму.
Пока находился в Тенешове Сергей, торговал мукой да картошкой, успел собрать все нужные сведения о гитлеровском гарнизоне. Не так он велик, как думали: двадцать два. полицая при шести немцах. Но хоть не велик гарнизон оказался — путается на партизанском 76
пути, терроризирует население. Сергей доложил командиру результаты «торговли», а после отряд налетел на поселок, разгромил гарнизон.
Сергей уже в другие гарнизоны направился, в Жи-рятино, в Рубчу... Вскоре и до крупного дела дошел — до Брянска! Здесь разведка посложнее: на аэродроме. Но и здесь у Сергея выход — дядя. Его дом возле самого аэродрома, а Сергей проживает у дяди в гостях. Поживет недельку, спешит в отряд. После каждой Серегиной побывки аэродром накрывают советские самолеты.
Потом Сергей к разведке свою старшую сестру притянул. Она стала в гости к дяде ходить. Сережкин сменщик хотя и в юбке, но удачлив не меньше брата. Сергей же тем временем в новом деле. Опять в гарнизонах— в Акуличах, в Мужинове, в Летошниках... Вернется в отряд, а через день-два по знакомой дороге идет с отрядом громить вражеские гарнизоны.
Командир отряда «За Родину!» Понасенков и комиссар Сухоруков души в Сергее не чаяли. Особенно комиссар. Потому Сергей и «звание» свое получил — Ко-миссарчик! Нужный он человек в отряде. Помог связь с другими отрядами установить. Так однажды и в отряд «Славный» прибыл... Прибыл — и тут изменил своему отряду: понравились новые люди. Радисты Тол-бузин и Поляков — как старшие братья, а Соловьев показался Сергею родным отцом.
Вернулся он с задания и сразу пошел к комиссару. Опустил виновато голову.
— Не все ли одно у кого воевать? Я ж не домой прошусь. У них, знаете, отряд какой... «Славным» зовется!
Пожалел комиссар парнишку, очень уж просит, отпустил.
Так Сергей с этим прозвищем — Комиссарчик-— и оказался в отряде Петровича. И снова суровую школу проходит Сережка Денищенков, делит со взрослыми партизанами радости и печали. А радостей у отряда больше: успешно идет работа, подрываются эшелоны, разбегаются из гарнизонов гитлеровцы...
Так было и на этот раз, когда Петрович вместе с отрядами Изоха и Тарасевича^ Драчева и Голощапова налетел на Тихоновичи. Партизаны подошли скрытно,
77
а ворвались, в поселок средь бела дня. Днем немцы меньше всего партизан ожидали. Ко всему — Рогачев рядом. Но эту дорогу партизаны прикрыли засадой.
Налетели партизаны на Тихоновичи... Раньше это был крупный совхоз, теперь же — немецкое показательное хозяйство. Отсюда гитлеровцы шлют продукты на фронт и в Германию своим фрау. Немцы усиленно охраняют Тихоновичи, а жителей, словно рабов, гоняют на работы. Могут ли партизаны мириться с этим?
Хотя партизаны напали на гарнизон внезапно, гитлеровцы успели занять укрытия. Стали отчаянно отбиваться, ожидая подкрепления. И машины с солдатами действительно показались со стороны Рогачева. Одну из них партизаны забросали гранатами из засады, другие свернули в обход.
Первая рота «Славного» все же пробилась в поселок, захватила склад с продовольствием — с приготовленными посылками — и стадо коров выгнала... Не попьют больше белорусского молока гитлеровцы. Только когда Петровичу сообщили, что к Тихоновичам движутся новые машины с немцами, он подал сигнал для отхода.
Тут и проявил себя Сережка Денищенков. Отряд, отстреливаясь, оставляет поселок, а Комиссарчик в какой-то дом побежал, словно что позабыл там. Но побежал он не случайно: заметил, как в этот дом с огородов проскочил человек. Прятался, значит, во время боя!
Вбежал Сергей в просторные сени — и страшно стало: сени огромные и сумрак в них. Сейчас саданет кто-нибудь иаГ-за двери — и нет Комиссарчика. И свои не узнают, куда девался. Прижался спиной к двери, слышит: в кухне шорох. Сергей кинулся в кухню, закричал осипшим от натуги голосом:
— Руки вверх, кто в хате находится!
Вбегая, увидел: с печи человек спрыгнул и скрылся в открытый подпол. А Сергей — на лежанку, заглянул на печь: никак, тот прятал чего-то? Искать Сергею не пришлось. На печи лежало оружие и небольшой деревянный ящик. Схватил он все это добро в охапку, спрыгнул на пол и все в один миг привел в порядок: автомат— на шею, пистолет — в карман, в одной руке — ящик, в другой — граната»
78
«Эка жалость, командир не видит!» — вздохнул Комиссарчик.
А что же дальше? Отряд, наверно, уже вышел из поселка. Побежишь, так этот длинный, который в подполе, пальнет тебе в спину. Может, у него еще оружие есть. А то на улице кто зацепит. Страшно выбегать одному. На такой случай спутник не лишний. Да где взять его? Один человек есть в хате и тот в подполе забился.
Изготовил Сергей гранату, крикнул:
— Вылазь немедля, не то гранатой шарахну! До трех считаю!
Не успел сосчитать и разу, как человек проворно выскочил наверх. А Комиссарчик уже громко командует, подбадривает себя:
— Давай огородами... к лесу! Да гляди у меня... не сверни к фрицам. Если чего — тебе первому смерть принимать.
На бегу Сергей сдернул с шеи автомат, уперся им в спину пленному. Так и проскочили по огородам. У выхода за околицу человек обернул бледное лицо к Ко-миссарчику, попросил задыхаясь:
— Ты того... Отпустил бы... Как-никак — бургомистр я!
— Бурхоми-и-истр?! — оторопел Сережка. Но тут же, спохватившись, озорно закричал: — А ну, бурхомистр! Давай рысью до лесу!
— Пусти меня, парень, я тебе денег дам... Слышь? — молит его бургомистр.
— А на кой мне деньги твои? Да они и так у меня— в яшике! Давай, говорят тебе, рысью!
Показалось Сергею, что пленный тянет чего-то. И чтоб не тянул, направил Сергей автомат прямо в лицо бургомистру. Тот в испуге повернулся и длинными скачками побежал к лесу, куда Комиссарчик показывал. Уже на бегу крикнул с досадой:
— Один теперь конец бургомистрам! Оставаться тоже нельзя — немцы за недосмотр повесят. Как Сидо< рейку, что в Рогачеве...
Так оба — Комиссарчик и пленник — догнали отряд возле самого леса. Там бургомистра к другим пленным пристроили, к немцам.
79
Отряд ускоренным маршем шагал на базу. Там, в шалашах из древесной коры, раскинулся временный лагерь. Туда, к поселку Узкому за .Друтью, и шагает с отрядом Комиссарчик Сережа. Шагает задорный, боевой паренек, шагает к новым боям и победам.
АНИСЬЯ
— Уйди... Уйди, гад! Глаза б мои на тебя не смотрели!
Дубяга был не из робких. А уж Анисьи-то никогда не боялся. Но сейчас хотел обнять — и невольно отпрянул. Смотрит — узнать не может: его ли это Анисья? Побелела как смерть, глаза расширились, высокая грудь под рубахой не дышит — трепещет. И голос совсем не ее — резкий, визгливый. Да и сказала-то она необычно: не гад, а «хат»...
Нет, не его, Дубяги, Анисья стоит сейчас посредине избы в холщовой рубахе. Шнурок на ней развязался, и через прореху видит Дубяга белую грудь, глаз оторвать не может... И не поймет, почему он на грудь смотрит. А может быть, потому, что в лицо Анисье взглянуть боится?
Словно откуда-то издалека доходит до него голос жены:
— Не слышишь ты, окаянный, што ли? Уйди, говорю, из избы! Не то порешу тебя, слышишь? На себя руки наложу! Слышишь!
Заметалась по избе Анисья, то к столу, то к печи. Показалось: ищет, чем бы запустить в его голову.
Нет, никогда Дубяга робким не был. А сейчас как во сне вышел из дому. Тяжело опустился на крыльцо, подставил голову снежному ветру. Потом услышал: грохнула на двери задвижка.
Даже на морозе Дубяге жарко. Распахнул полушубок, отер лицо снегом. Стал думать, что же с женой случилось? Ведь минуту назад, когда стукнул в окно и подал голос, сердцем почувствовал: в избе встрепену
6 И. Давыдов 81
лась радость. Прильнув к ставне, видел в щелку, что дрожат у Анисьи руки, спешат, зажигая лампу. А когда в избу входил, Анисья, опередив его, остановилась посередине, руки раскинула — готова встретить объятия мужа. Глаза, лицо — все выражало счастье. Но длилось это одно мгновение. Не успел он слова сказать, Анисья изменилась, стала кричать и приблизиться ему не позволила.
Сидит на крыльце Дубяга, трет лицо снегом. Что же такое случилось с Анисьей? Вот так встреча после долгой разлуки! Озлиться бы надо, грохнуть кулаком по столу, ответа потребовать. Но чувствует: нет у него на Анисью злобы.
По дороге, вдоль улицы, заскрипел снег. Выступили два силуэта с винтовками. Дубяга глянул на них равнодушно., Но те остановились, заметив его, щелкнули затворами:
— Хто таков?
Дубяга узнал простуженный голос полицейского Пе-стунова. Вспомнил, что сегодня Пестунов в патруле с Голуновским ходит. Отозвался:
— Я тут, Дубяга.
Полицаи шагнули смелее.
— Ты-ы? — удивленно протянул Пестунов. И зашелся блудливым смехом, закашлялся, захрипел, мешая смех с кашлем: — Как же то получается? Ха! Ты ж у начальника домой отпросился, к женке... Или другой у ее завелси? Чего ж ты на крыльце ночуешь-то? Ха!
— Ид-ди ты... — зло ругнулся Дубяга.
Голуновский уловил угрозу в голосе отделенного, потянул за рукав Пестунова.
— Оставь его: видишь, плохо! Со всяким может... Э-эх-эх...
Полицейские снова двинулись улицей, заскрипели валенками по снегу. Дубяга слышит, как Пестунов давится смехом:
— Ты говоришь... со всяким? Ха! Пусть моя женка попробует... Так я ж ее, шкуру, живьем вместе с хатой спалю!
Еще слышит Дубяга, как Голуновский отвечает:
— Дурак ты, Пестун. Ну кто мы с тобой такие? Кто?
Но не эти слова в голове у Дубяги засели. В его ушах — похотливый смех пестуновский. А может, и
82
впрямь кого пригрела Анисья? Теперь уже поднялась в груди у Дубяги злость, едкая и колючая. Даже не спросила, какие, он муки принял! Прогнала с порога! Точно собаку!
Дубяга вскочил на ноги, застучал кулаками в дверь:
— Аниска! Открой, Анисья!
Ничего в ответ не слышно. Громче стучит кулаками Дубяга. И уже не кричит он, а ревет зверем, и уже не кулаками — каблуками грохает в дверь.
— Открой, шкура, сейчас же! Слышишь? Уб-бьюу-у!
Шкура? Дубяга не знал, что повторил это слово. А сердце и мозг обжигают другие слова, пестуновские: «Так я ж ее, шкуру, живьем...» И, не замечая того, Дубяга кричит:
— Открой, шкура, сейчас же! Не откроешь — спалю тебя вместе с хатой! Шкур-ра!
И тут через дверь услышал спокойный Анисьин голос:
— Уйди, Семен, подобру отсюда... Еще одно слово скажешь — сама изнутри избу запалю. Уйди лучше.
Почувствовал Дубяга, словно кто-то схватил его за горло, дохнуть не может. Руки опустились, ноги отяжелели. Попятился от двери со страхом, оступился, рухнул с крыльца в сугроб. Завыл пришибленным псом. А в голове другие слова закружились, теперь Голунов-ского: «Ну кто мы с тобой такие?» И так слова отчетливо прозвучали, что Дубяга голову приподнял: может, рядом стоит Голуновский? Приподнял голову, вздрогнул: в самом деле, стоит Голуновский рядом, наклонился к нему. Но сейчас он говорит другое:
— Иди-ка до наших, в школу. Там у меня в мешке самогон есть. Выпьешь, может, легче на сердце станет. А женку свою оставь в покое: глядишь, разберетесь еще.
Голосу Голуновского ровный, и говорит он с Дубя-гой, будто не мужик перед ним, не командир полицейского отделения, а ребенок больной. Подчинился Дубяга, побрел к школе. Где-то за спиной снова услышал голос, смешанный с кашлем:
— А я б ее, шкуру, ха! Спалил бы ее вместе с хатой!
Часовой возле школы окликнул Дубягу, спросил пароль. Пропуская, посмотрел в спину: «Быстро успел нализаться!»
6*
83
Несмотря на поздний час, в школе шумно. Сегодня под вечер разместились здесь полиция и взвод жандармерии. В одном из классов захмелевшими голосами тянут с тоской о Степане Разине, из другого доносится громкая немецкая речь... Через открытую дверь учительской видит Дубяга раскаленную добела железную печку. Вахмистр Гесс, командир жандармского взвода, протянул над ней руки. Рядом, в нижней сорочке, начальник кустовой полиции Домбровский... О чем они говорят, Дубяга не слышит, ищет класс, в котором находится его отделение.
Полицаи режутся в карты. Но как они ни увлечены, обернулись.
— Эге, брат! — сказал кто-то завистливым голосом.— Хорошо, видать, отделенный погостил у женушки! Да скоро чего-то?
— Цыц, падла!.— рявкнул Дубяга.
Полицейские пожали плечами, вернулись к картам. Чего спорить с пьяным? И то ладно, что сам не трогает. А Дубяга, отыскав флягу, громко булькая, глотал и глотал обжигающую жидкость...
С тяжелой головой проснулся утром Дубяга. Тяжело в голове, а еще тяжелее в груди, словно кто камень под ребра сунул. Не помнит Дубяга, что вытворял он ночью. Кто-то попытался напомнить, как буйствовал он, как стреляться хотел, но Дубяга поднял мутные, налитые кровью глаза, и все затихли. Даже самые отпетые полицаи не решились его задирать.
Когда все разошлись, Дубяга вышел на воздух, освежил голову снегом. Посмотрел вдоль поселка: где-то там его дом... и там — Анисья. Эх, Аниска, Анисья... Чего ты так со своим Семеном?
В классе Дубяга вновь отыскал флягу, потряс возле уха: осталось еще немного. Глотнул двумя большими глотками... И тут вспомнил: в эту неделю его отделение несет караульную службу. «Вот и хорошо, — подумал он, — не будем, значит, в дела мешаться».
А дела в этот день у полиции было много. Комендант города не зря решил разместить в поселке кустовую полицию. Поэтому и прибыл вчера Домбровский с полусотней отпетых изменников и взводом жандармов— для пущего устрашения. Уже с утра полиция принялась наводить в поселке порядок — то там, то здесь
84
раздается плач. Ходят полицаи по улицам, врываются в избы, отбирают мебель для казармы и теплые вещи. Сам начальник полиции с вахмистром Гессом и тремя полицаями производит аресты. Еще вечером поселковый бургомистр передал ему список подозреваемых в партизанских связях. Теперь арестованных сгоняют в одну избу, что к школе поближе, а к избе приставили усиленную охрану.
Идет по поселку мрачный Дубяга, камень по-прежнему давит сердце. Невольно тянет его к дому, к Анисье. Нет, не пойдет он сегодня к ней! Подождет, подумает, с какого боку подступиться. Проходя возле своего дома, замедлил шаг... Показалось: блеснули в окне упрямые, с болью глаза. Вобрал голову в плечи, пошел быстрее. И опять кажется: глаза спину сверлят.
— Ну и черт с ней, с Анисьей! — ругнулся Дубяга. Ругнулся, а камень от этого не сделался легче, совсем придавил.
Все же не утерпел, зашел Дубяга к поселковому бургомистру. Тот встретил его радушно.
— Входи, входи, старый знакомый! Я ить давно тебя поджидал. Думал, еще вчера навернешься. Как вы вчера в поселок входили, увидал тебя — на душе полегчало. Значит, думаю, слава богу, хотя один свой имеется среди полицейских.
— Как «свой»? — не понял Дубяга.
— А ить и свой же! С поселку. А тб все чужие пришли! Та-ак... Стало быть, и ты в полицаях ходишь. А я ить думал: на фронте или в плену.
— Был и в плену, — нехотя отозвался Дубяга. — Да вот, чтоб с голоду не подохнуть, за эту работу взялся.
Бургомистр насторожился. Поскреб пальцем бороду. — Гм... Только с голоду, говоришь?
Теперь и Дубяга насторожился: уловил недоброе в словах бургомистра. Всмотрелся в заросшее лицо, в глаза с прищуром. Нет, этот, видать, не с голоду! А до войны, глянь, — тихоня, бухгалтер колхозный... Верно говорили, будто отец его раскулачен. И сейчас в простачка играет! Не стал больше мешкать Дубяга, спросил:
— А ты давно... в бургомистрах ходишь?
— Да как тебе пояснить получше, — усмехнулся бургомистр.— Вот ить как в жиз’ни бывает... Пришли немцы. Назначили.
85
— Я по делу к тебе зашел, — сказал вдруг Дубяга. — Как тут Аниска моя поживала?
Бургомистр словно бы ждал вопроса. Но с ответом не заспешил.
— А ты как меня спрашиваешь? Как представитель властей, то есть... полиции, или как муж?
.— Какое это имеет значение? — удивился Дубяга.
— Какое, спрашиваешь? А вот, допустим, как представитель, то ты чином еще не вышел, вот так. И не тебе, значит, меня допрашивать. Тут ить повыше тебя начальство имеется. И это тебе, господин отделенный, известно.
Недоброе слышит Дубяга в словах бургомистра и чувствует: ярость в груди колыхнулась, стронула тот камень. Сердце стучит громко, а спросил Дубяга так тихо, что сдм едва ли расслышал:
— Ну, если как... муж? Сам знаешь...
Бургомистр, однако, расслышал.
— Как муж, значит... Да ить как тебе объяснить? Жила, как все. Плохого про бабу твою не скажу. Ну и я, как наезжало гестапо, плохого о ней не сказал. А что ты в армии, так они, господа хорошие, и без меня, поди, знали. Считай, половина мужиков из поселка в войсках состояла. Ну, а бабы-то тут при чем?
— Та-ак... А дочка? Маруся?
— Дочка? Ее Анисья, говорят, к сестре отвезла. Я сам ей пропуск выписывал. Наведывать часто ездила. Ну и на рынок — тряпки менять. А так, чтоб якшалась с кем, не стану напраслину зря возводить на бабу.
Как будто теперь полегче в груди у Дубяги стало. Но все же отказался он от бургомистрова угощения. А на улице снова его тоска охватила, опять защемило сердце. Опять мимо дома прошел, и опять показалось, что Анисья в окно смотрит. И опять вобрал голову в плечи, пошел быстрее. На ходу покосился на свой рукав, на зеленую повязку. Сорвать бы к черту! Не эта ли повязка и бросилась прямо в глаза Анисье?
Поздно ночью Дубягу вызвал начальник полиции. В комнате у него сидели вахмистр Гесс и поселковый бургомистр. Показалось Дубяге, что все они недовольны чем-то. Начальник к неь/Гу обычно относился хорошо — один из старых и исполнительных полицейских. Дубяга, 86
поэтому и отделенным его назначил. А сейчас спросил, даже не посмотрев:
— Ты вчера к жене отпросился. Почему ночевать не остался?
Дубяга пожал плечами. Что он может ответить? Сказать, прогнала? Тогда еще спросит, за что. Ничего не может ответить Дубяга! Жаль, что вчера наган отобрали, в пьяной горячке легче курок спустить. Целый день он об этом думал. И сейчас, как днем, утешает себя: может, все еще обойдется...
Дубяга думает, а начальник кричит:
— Ты что, оглох? Спрашиваю, почему у жены не остался?
Опять плечами пожал Дубяга. Сказал, что взбрело:
— Болела она вчера.
— Болела?! — Теперь уже закричал бургомистр: — А зачем ты приходил меня про нее пытать?
— Так жена ж она мне! Не знаешь, что ли? — Дубяга и сам начинает злиться. И начинает понимать, что разговор неспроста. Случилось что-то с его Анисьей. И кричит во все горло: — Что ж, я о своей жене разузнать не могу?
Все ругаются, стараясь перекричать друг друга, и только вахмистр Гесс сидит безучастно, руки над печкой греет. Чего они расшумелись? Ну, может, предупредил, что будут аресты, а скорее всего, убил Дубяга жену... Туда ей дорога. Одной партизанкой меньше. А начальнику обязательно труп ее надо видеть. Слышит Гесс, как Домбровский цедит сквозь зубы:
— Я тебя, Дубяга, должен арестовать.
— Что-о? — рука Дубяги скользнула в карман.— Это за что же?
— После узнаешь! — отрезал начальник.
Но никто никого арестовать не успел. С улицы послышались выстрелы. Потом что-то, грохнув, ударило в крышу, и как будто качнулись у школы стены. Ударил еще один снаряд. И крики с улицы ворвались в школу.
Толкая друг друга, гитлеровцы кинулись на крыльцо. А на школу со всех сторон сыпались пули. Откуда-то, от края поселка, стреляла пушка...
За несколько минут до того, как подать сигнал атаки, командир подошел к Анирьез
87
— Ну, смотри же, Анисья! Плохо нам придется, если ты просчиталась. Сегодня без разведки идем. Тебе поверил.
Даже в темноте видит Петрович, как блестят глаза у Анисьи.
— Не могла просчитаться. Их пятьдесят да взвод немцев. Пулемет стоит возле церкви. Другой — возле школы. В школьном дворе траншея в снегу отрыта... Только прикажи, Петрович, чтоб пушка аккуратней стреляла. Где ж потом ребятишкам учиться? И арестованные рядом со школой — своих не побить бы.
— Попробуй тут аккуратней!—проворчал Петрович. Однако успокоил Анисыо: — Я и так приказал... Может, и пяти снарядов хватит для школы.
Потом Петрович послал в сторону школы автоматную очередь.
Гитлеровцы выскакивают из школы, бегут в траншею. Сразу им трудно разобрать, откуда стреляют. Крыша уже занялась пламенем, осветила двор и траншею. От этого вокруг стало еще темней. И откуда-то из темноты на освещенный пожаром двор летело и надвигалось рокочущее «ура!»
И гремели, гремели выстрелы. Теперь нельзя было разобрать, стреляют ли полицейские пулеметы. Теперь «ура» гремит рядом. И в отсветах пожара уже отчетливо видно, как бегут к школе люди...
Чем ближе надвигаются партизаны, тем яростней отстреливаются гитлеровцы. И все же их стрельба беспорядочна и нервозна. И вот уже в траншею летят гранаты, взметают пламя и снег.
Дубяга не знает, где его отделение. Видит, как над траншеей во весь рост поднялась фигура. Дубяга узнал Голуновского. Но сейчас его голос не был ворчливым и добрым, каким он говорил с Дубягой. Голуновский кричит громко, с надрывом:
— Так нам и надо, собакам! Стреляйте! Здесь мы!
Дубяга скрипит зубами. Смотрит на Голуновского. С ума, наверное, сошел. Потом видит, как Голуновский упал. Потом увидел, как пополз Пестунов из траншеи. Ага, удирает, шкура! Потом в траншею спрыгнули партизаны...
И все же Дубяга успел выскользнуть. Сначала полз, а затем побежал. На бегу заглянул в барабан нагана.
88
Может, лучше сам, чем они? Барабан оказался пустым. Когда же он расстрелял патроны? Дубяга метнул наган в снег, схватился за сердце. Теперь-то конец! Он уже не бежит, а плетется.. А позади пылает школа. Позади затихает бой. Партизаны уже выпускают из избы арестованных...
Потом показалось Дубяге, что его догоняют. Он в страхе прижался к забору. И вдруг узнал: его изба-то! Нет, не его, а Анисьи. И словно где-то глаза сверкнули ее. А может, не глаза это вовсе, а выстрелы? Откуда они? С улицы? Или нет... из сеней его дома. Нет, не его, а Анисьи... из ее дома.
— Анисья! Прости! Эх, Аниса, Анисья...
Медленно, боком, сползает с крыльца Дубяга.
Кажется Дубяге, что слышит он гневный голос:
—- Знала, что сюда приползешь!
Нет, не ее это голос. Чужой. В угасающем сознании всплыли еще какие-то голоса:
— Спалить ее, шкуру! Ха! Так нам и надо, собакам!
Напрягает слух Дубяга, хочет узнать голос. Песту-нова? Нет, Голуновского голос. Нет, нет! Ее, Анисьин, голос слышит!
— Дурак ты, Сеня! Я б, может, тебя простила, да народ не простит. А я ведь — тоже народ! И я тебя по всему лесу, по всем партизанским отрядам искала... Не ждала, что ты ко мне в таком виде заявишься, предателем! А теперь вот спи... Так-то лучше оно и тебе и нашей Марусеньке... дочке...
Ничего уже не слышит Дубяга и не видит, что стоит перед ним с. карабином Анисья, совершившая справедливый выстрел. Не видит, как двое остановились недалеко от крыльца, не слышит, как спросил один у другого:
— Кто это там причитает? Анисья? О ком она?
Не слышит Дубяга, как ответил кому-то Петрович: — Погоди! Не мешай ей. Пусть горе свое выплачет.
ЧЕРТЯКА
Время в бою ползет черепахой. Если случился тяжелый бой, кажется, что прошла вечность. А посмотри на часы — две-три минуты! Вообще-то в бою некогда с часами возиться, стрелять надо.
Но в этот раз командир штурмовой роты Кондратий Мадей посмотрел на часы. Бой длится пятнадцать минут. Достаточно, чтобы разделаться из засады’с противником и отойти от шоссе. Минут через тридцать должна подойти вторая колонна. Та покрупнее, с ней одна рота не сладит. С этой вот сладила, но не совсем, еще жива бронемашина! Как разъяренный зверь, она носится вдоль шоссе, поливает пулеметным огнем, плюется из пушки. Под ее прикрытием и держатся еще гитлеровские солдаты.
А партизаны гранаты растратили на другие машины. Дымят они, густей дым застилает шоссе, а броневик нечем теперь укротить. Единственное противотанковое ружье перед тем хорошо поработало, пять машин поразило.
— Куда этот Чертяка девался? Почему не стреляет?!— кричит ротный, поглядывая на часы.
И никто не может ему ответить. А тут наблюдатель доносит:
— Еще двенадцать машин! Километра не будет... Два броневика с ними!
Командир роты сплюнул. Теперь и на часы не надо смотреть. Пора выходить из боя. Да как выйдешь, когда бронемашина беснуется?
90
— Что же Чертяка молчит?!
В это время и треснул сухой, крепкий выстрел. Споткнулся на ходу броневик, замер. Еще выстрел. Окутался броневик густым, черным дымом.
Выскакивают на шоссе партизаны, собирают трофеи. Где-то за холмом глухо рокочет вторая мотоколонна. Но теперь пусть рокочет. Еще минута — и скроется рота в лесу, найди ее там попробуй! Вползают на холм тяжелые машины с крестами. А рота уже — к лесу, к лесу! А Чертяка с трудом ПТР тянет. Ох и тяжелая штука, будь она неладна! Последние силы теряет Чертяка.
В этот день туго пришлось партизанам. Хорошо, что почти одна молодежь подобралась в роте, сил у нее в достатке, а боевого задора, может, и на целую бригаду хватит. Первую роту в отряде любовно называют «штурмовой». Росла она, росла незаметно, сначала группой считалась, после — взводом, потом и до роты выросла. Менялось вооружение в роте, менялись люди. Один ее командир не менялся, одно знал: давай ребятам побольше боевых операций! А еще давай в роту побольше молодежи. Как только в отряде появится новичок, Кондратий сразу его отыщет:
— А ну встань, покажись, какой ты вояка есть?
Осмотрит со всех сторон новичка, как будто по внешнему виду можно определить боевые качества. Затем засыплет вопросами: кто да откуда? какими путями попал в отряд? что испытать случилось? И нет конца тем вопросам. Потом пойдет ротный к Петровичу выпрашивать нового бойца.
— Дайте мне этого паренька. Штурмовик из него настоящий выйдет. Ох и зло воевать будет!
Хорошие ребята подобрались в первой роте — и Юра Нечаев, и Женя Лупин, и Эрик Фомин, и Вова Тидеман, и Миша Сазонкин... После попал в роту и этот Чертяка.
А настоящее имя его другое — Миша. Пять месяцев просидел он со своими родителями в гетто. Как все евреи, носил на рукаве желтую повязку с шестиконечной звездой. Так немцы велели. Это значит, что каждый встречный-поперечный гитлеровец может в лицо тебе плюнуть, затрещину дать, а то и просто убить — все, что захочет.
Потом население гетто погрузили в машины, вывез
91
ли к лесу. Там дали каждому по лопате, заставили рыть большую яму.
Копают люди яму, прощаются друг с другом, роняют на землю слезы. Надо ли гадать, для чего эта яма и для чего фашисты пулеметы расставили?
Миша тоже копает яму. Отец рядом, мать рядом, сестренка рядом. Тоже копают и плачут. И Миша шмыгает носом, а сам едва слышно шепчет матери:
— Как стрелять нас начнут — побегу до лесу!
Смотрит мать на сына полными слез глазами:
— Разве уйдешь? Пуля везде настигнет.
Миша упрямо шмыгнул носом, шепнул со злобой, будто мать во всем виновата:
— А то стоять перед ними? Пусть уж убьют на бегу.
— Может, и прав ты, сынок, — ответила мать.— Только не мне с отцом бежать... И Нонночка совсем малютка. Дай тебе господи силы! Может, спасешься, правду о нашей смерти людям расскажешь...
А фашистский офицер уже подает команду:
— Сложить лопаты! Построиться!
Залаяли пулеметы. Обливаясь слезами и кровью, повалились люди в большую яму. А .Миша с испуганным криком помчался к лесу. Вокруг зашелестели пули, одна руку, как огнем, обожгла.
Долго скитался по лесу Миша, пока не нашли его партизаны. Хмурый, грязный оборвыш казался совсем малышом. Не сразу поверили партизаны, что ему вот-вот пятнадцать сровняется.
Первое время в отряде Миша только и знал, что спал, да ел в полную меру. Постепенно стала исчезать худоба. Глаза не казались уже такими огромными и напуганными. Парнишку определили в хозяйственный взвод, и там для него отыскалась работа — готовить дрова для кухни, скотину пасти, а во время походов лошадью управлять. Нет партизана в отряде, который сидел бы без дела!
Однажды забрел Миша на лесной полигон, где молодежная рота пристреливала новое оружие, которое сбросили с самолета. Смотрел, смотрел Миша, наконец подошел к командиру роты:
— Дайте ж и я попробую. Вот хотя с этой чертяки.
92
Кондратий не понял, о какой «чертяке» он толкует? А щуплый чернявый парнишка показывает на большое противотанковое ружье.
— Так ты его не подымешь, «чертяку»! ПТР ведь это!
— А вы ж пособите малость. Ну разок хотя пальну!
Ради шутки дали Мише выстрелить, даже мишень сменили. Выстрелил он три раза. И все три пули точнехонько уложил в цель. Удивились партизаны, прибавили патронов. И все они снова цель поразили.
С тех пор остался парнишка в роте. И все словно сразу забыли его настоящее имя. Стал он с тех пор для всего отряда Чертякой. Большое ружье тоже с тех пор чертякой прозвали. А к парнишке партизана покрепче приставили — таскать ружье и патроны. Маленький партизан первым номером при ружье состоит, а большой — вторым.. Много уже пострелял из своего ПТРа Чертяка!
Перед этой засадой Петрович ночью вызвал к себе командира штурмовиков.
— Как твоя молодежь поживает?
У командира роты глаза залучились: вопрос неспроста, для этого ночью не вызывают! Давно Мадей изучил командира, и радость свою не спешит обнаруживать— Петрович не любит спешки.
— Хорошо поживают ребята. А что им?
— Так вы только вчера в лагерь вернулись. Может, не отдохнули?
-- Вполне, товарищ командир. Много ли для отдыха надо?
— А ты по себе не равняй! Сам-то ты чисто медведь сибирский! Подростков много в твоей роте.
— Много не много, а вы сами знаете, как воюют. И я знаю, что вы меня не для этого ночью вызвали!
— Хитрый ты, шельма! — улыбнулся Петрович любимцу. Кивнул на карту: —А знаешь, сколько от нас до Быхова?
— Два перехода, пожалуй, будет. С полста километров.
— Вот то-то, — говорит Петрович задумчиво. — А дело срочное/ Получил сейчас донесение: послезавтра утром из Могилева на Гомельский аэродром будут перебрасываться гитлеровские летчики. Надо не дать им
93
подняться в воздух, на земле летчика легче хлопнуть, чем в воздухе... С летчиками сладите, не сомневаюсь, да поспеете ли к шоссе добраться? Далековато!
— Если сейчас поднять роту, поспеем. На привалах доспим.
— Это еще не все, — остановил Петрович ротного.— В этот же день другая крупная часть будет перебрасываться на Гомель; если летчиков к ним пристроят, тогда смотри! Туго придется. Это тебе самому решать. Если слишком много их, пропусти...
— Все будет в порядке, не беспокойтесь! — Кондра-тий торопливо выскочил из землянки, побежал поднимать роту.
Штурмовикам предстояло проделать немалый путь. К тому же это задание отличалось от обычных засад. Чаще рота ходила в свободный поиск. Пойдет, выберет дорогу или шоссе, где движение больше. Сидит, ждет. В таких случаях рота не связана временем. Неудачное место — ищи другое. Много фашистов идет — пропусти, мало — тоже можно пропустить, подождать покрупнее зверя. Планируй по обстановке. Сейчас дело другое. Задача конкретная: уничтожить летный состав. День его переброски известен, численность тоже известна. Неизвестно, соединят ли летчиков со второй колонной.
Делая небольшие привалы, штурмовики достигли шоссе в намеченном месте. Искать его не пришлось, не один раз побывал Кондратий со своими ребятами на шоссе. Пока рота отдыхала в лесу, разведчики установили место ночлега летчиков. Пять автомашин с летным составом шли под охраной броневика. В той же деревне ночевала и другая часть противника. Из Могилева обе колонны двигались раздельно, с большим интервалом.
Получив донесение, ротный прикинул: возможно, и дальше пойдут раздельно. Интервал между колоннами километров пятнадцать. Значит, нельзя мешкать, очень опасна вторая колонна!
...Когда штурмовики, уничтожив колонну летчиков, уже достаточно отошли от шоссе, ротный наконец объявил привал. Только на этом привале и подошел он к Чертяке.
94
Чертяка сидел, прислонившись к стволу осины, бледный, осунувшийся, устало хлопал большими глазами. Мокрые от пота курчавые волосы свисали на лоб.
— Ты что это, Чертяка, сразу не. стрелял в броневик? — спросил Кондратий.
Чертяка вздрогнул, посмотрел на него с испугом, отозвался тихо, а в голосе будто слезы:
— Так я ж хотел, чтоб поближе к нему. Ну, полз... А после уж целился.
— Да ты, никак, плакать собрался? Я тебя не ругаю. Ты и так был в канаве, перед самым носом броневика!
— Вот, вот! Только это после уже. А целился, верно, долго. Хотел прямо в дырку попасть. Ну, в дуло... Понимаете?
— Зачем же в «дуло»? — улыбнулся Мадей. — Стрелял бы в мотор, как в другие машины.
— Так то ж машины, а тут броневик! Вот и целился в дуло. Думал, пуля по дулу проскочит, броневик и взорвется своим же снарядом.
Сидевшие вблизи партизаны дружно захохотали.
— Ну и Чертяка! Придумал — «в дуло»! Как эго можно попасть в орудийный ствол? К тому же он движется.
— Верно! — подтвердил кто-то. — И я видел: орудие прямо в Чертяку целило. Да он уже в мертвую зону прополз. Потому его не достало.
— Ага, — немного оживился Чертяка. — И я видел, что на меня наводит. Вот и ждал: как, думаю, наведет, тут и пальну.
Еще немного пошутили партизаны над Чертякиным расчетом и отошли. Никто сразу и не заметил, что с парнишкой творится неладное. Ну устал, волновался. Шутка ли лежать под носом бронемашины! Уничтожил-таки! Теперь отдохнет, успокоится.
Вскоре, однако, ротный прислушался: будто плачет Чертяка! Прикрылся пиджачком, голоса не слышно, а плечи дрожат. Ротный дотронулся до плеча, спросил:
—. Ты что это, партизан?
— Так руку ж саднит,—чуть слышно отозвался Чертяка.
— Какую руку?
— Ну ту ж, что шкарябнуло...
95
— А ты молчал! Покажи-ка!
Только теперь заметили партизаны, что левая кисть Чертяки обмотана кровавой тряпкой. Подбежал фельдшер, склонился.
— А то, может, не надо? — в испуге спросил Чертяка.— Сейчас уже кровь не хлещет... А то сильно хлестала, стрелять мешала.
Фельдшер осторожно снял тряпку. И все, кто близко стояли, увидели: на руке Чертяки не хватало трех пальцев.
— Когда это тебя успело? — спросил ротный.
Чертяка поморщился, прикусил губу, с трудом ответил:
— Так то ж, говорю, еще раньше. Спасибо, тряпка нашлась в кармане. Я потому замешкался. А своего второго номера потерял. Ну пока замотал, потом опять по канаве пополз. Ну и после уж целился. В дуло...
С ПУСТЫМИ РУКАМИ
Павел Мартынов не обижался, когда его называли «финном». Называли за волосы; жесткие и короткие. Да чего обижаться? Было бы хуже, если б его партизанскую кличку связали с ростом. Ростом Павел действительно не вышел. Зато коренаст и крепок. Лицо широкое, застенчивое, на голове рыжие, с красноватым отливом волосы. Павел и сам подсмеивался над ними.
— Мне, — говорит, — в любую ночь все видно! От волос, если хотите, свет на дорогу падает. К тому же... в мороз не холодно.
Всем нравилась эта шутка. Зато никто не помнил случая, чтобы Павел вернулся с задания с пустыми руками. Не было такой дороги противника, которую ночью не удалось бы отыскать Мартынову! А после каждого его возвращения в отряд на Большую землю посылалась радиограмма: «В ночь на такое-то, в таком-то месте группой Мартынова спущен под откос вражеский эшелон...»
Но в июне сорок четвертого получилась у Павла осечка. Трое суток ползал он вдоль «железки» Лида — Барановичи, а подползти не мог. Ни он, ни его товарищи— Богданович и Коренков.
К тому времени сильно сократились коммуникации оккупантов, и им легче стало нести охрану. А партизанам стало труднее. Вдоль дорог — бункер на бункере, колючая проволока да лесные завалы, и на каждом
7 И. Давыдов
97
шагу наставлены мины. Это уже сами охранники подходы к дорогам минировали. Вот и ползал Павел трое суток подряд и никак не мог подобраться к дороге.
Ни Павел, ни его товарищи не боялись обстрела из бункеров. От него и укрыться можно. Боялись они, что так и не найдут подхода к железной дороге. Й тогда не полетит на Большую землю радиограмма, а по «железке» поползут поезда противника, труднее нашим станет на фронте.
И Павел наконец появился в отряде. Зашел к начальнику разведки, сокрушенно доложил:
— Не смогли подойти. Коренкова у деревни Марче-вичи схоронили.
Василий Васильевич нервно покашлял, склонился над картой:
— Покажи, где пробовал подойти к дороге.
Павел поводил по карте карандашом в одном, в другом, в третьем месте, затем — левее,-у деревни Марче-вичи, а потом — на опушке леса. Поставил карандашом маленькую звездочку, вздохнул:
— Здесь оставили Коренкова. Окружили нас, как только рассвет занялся.
— Много?
Павел пожал плечами.
— Коренков два раза был ранен. Здорово отбивался! И Богданович. Я виноват, что так получилось... Тут на листке — схема охраны железной дороги, но воспользоваться уже не смогли.
Василий Васильевич отпустил Мартынова отдыхать, а сам задумался, рассматривая схему и сверяя ее по карте. Затем составил радиограмму, пошел к командиру.
— Надо передать. Важная.
Петрович вызвал радиста.
— Зашифруй и — с первым сеансом.
Радист Поляков пробежал глазами по строчкам: сообщается об укреплениях, на железной дороге, о движении воинских грузов... О подорванном эшелоне — ни слова! Впервые один из лучших подрывников вернулся в отряд с пустыми руками. Не выполнил задания Павел.
98
А Павел лежит под деревом, закинув под голову руки, и сквозь зеленую крону смотрит на высокое небо. Небо ясное, но на душе у партизана сумрачно. Словно не было радости за многие недели его боевой работы. Даже прежняя радость сейчас не кажется радостью... Ну, самый первый взрыв — под носом у немцев, возле станции Жудйлово. Пятнадцать килограммов толу уложил он тогда в полотно. И взрывал «за шнурок». При таком способе нужны смелость и крепкие нервы. Приходится близко у дороги лежать, а там бывают патрули и обстрелы. Когда произведешь взрыв, тебя не только оглушит, но иной раз и землей присыпет. Отходить под обстрелом тоже трудно. Зато эшелон можно подобрать по вкусу, и хорошо результаты видны. В тот раз шестнадцать вагонов с военным грузом друг на дружку налезли, а оба паровоза, что двойной тягой тащили груз, свалились с насыпи. Второй заряд, установленный на параллельном пути, тоже хорошо сработал. На участке на целые сутки прекратилось движение. Потом еще эшелоны были. Товарищи поздравляли Павла с наградой.
Затем Павлу присвоили звание ефрейтора. С этим произошел курьез: приказ вышел в марте сорок третьего, а сообщили о нем по рации в апреле сорок четвертого. Но здесь ничего не поделаешь: в радиограммах сперва самые важные вещи пишут, а сеанс связи бывает коротким. Потому, может, это известие так долго не вставлялось в радиограмму. И совсем уже недавно товарищи поздравляли Павла с принятием в кандидаты партии.
Он сидел на собрании, смущенно слушал, что о нем говорят. И, кажется, не узнавал - себя самого, удивлялся, когда он все это сделал. Так и сидел, смущенный и красный, а волосы казались красней обычного.
Теперь Павел смотрит сквозь крону дерева на небо. Тяжело на сердце у партизана! Так тяжело, что слезы на глаза набегают. Нет, не от жалости к себе заплакал Павел. И не от жалости к Коренкову. Коренков достойно сражался и умер достойно. Такая гибель вызывает не жалость, а скорбь и еще большую ненависть к оккупантам. И не потому заплакал, что испугался, как бы его за труса не посчитали, никто его в этом не заподозрит. Мало ли неожиданностей в партизанском деле. Но
7*
99
ни разу не случалось, чтобы Павел принес назад взрывчатку!
Здесь, под деревом, и отыскал его Богданович. Долго сидел рядом, молчал, потом спросил:
— Здорово ругал Василь Василич?
Глаза у Павла сразу стали сухими.
— В том-то и дело, что не ругал! Лучше бы по загривку съездил.
Богданович помедлил с ответом и согласился:
— Конечно лучше.
Потом они до вечера просидели молча. Никто из товарищей их не тревожил. И никто не знал, что произошло в деревне Марчевичи.
Узнали об этом позже, когда там побывали разведчики.
После бесплодных попыток подобраться к дороге Павел решил войти в деревню. Она была расположена вблизи железной дороги, в ней порой ночевали жандармы. Но все же Павел решил зайти... к одному из жандармов, несущих охрану. Товарищи согласились с планом. Неизвестно было только, согласится ли с ним жандарм.
А он, казалось, не удивился, впуская их в избу. Сам тщательно навесил на окно одеяло, засветил оплавленный огарок свечи. Однако его щетинистая челюсть дрожала.
— Мы обманули вас, когда стучали в окно, — вежливо сказал Павел, присаживаясь к столу. — Мы не полицейские, а партизаны и ищем не партизан, а подход к дороге.
Губы престарелого немца дрогнули. Он покосился на завешенное окно, на дощатую переборку, за которой он только что спал. Еще покосился на дверь, сам на нее набросил крючок. Спросил деревянным, скрипучим голосом:
— Гитлер капут?
— Вы почти угадали, — весело ответил Павел. — Во всяком случае, теперь уже скоро. К тому идет.
Он тоже кинул взгляд на дверь, подмигнул: возле нее, внушительно насторожив автоматы, стояли Богданович и Коренков.
100
— Что требует рус партизан? — спросил немец.
— Пустяки, — ответил Павел и положил перед ним листок бумаги и огрызок карандаша. — Начертите схему охраны дороги.
Жандарм не дотронулся до карандаша. Опять покосился на окно и на Павла. На автоматы не стал смотреть. Поерзал на табурете.
— Рус партизан гарантирует жизнь? — заскрипел его голос. — Я есть простой жандарм.
— Это мы с удовольствием, — улыбнулся Павел. — Могу даже дать расписку, бешейниген, по-вашему, что ли... А вы здороъо насобачились говорить по-русски. И в деревне ночевать не боитесь! Сразу видать: из храбрых. Но обещаю: если нарисуете точную схему, капут не будет.
Жандарм наморщил лоб, вдумываясь в слова партизана.
— Чего же ты тянешь?! — уже строже спросил Мартынов. — Может, в самом деле ожидаешь расписку?
Жандарм мотнул головой и придвинул листок. Мусоля губами огрызок карандаша, проскрипел:
—Я немного намерен помогать партизанам. Гитлер капут!
Павел бросил торжествующий взгляд на товарищей, а жандарм, склонив набок тяжелую голову, принялся неторопливо и тщательно рисовать участок дороги. Обозначил доты и дзоты, места постоянных постов, заштриховал кое-где кюветы и на заштрихованном написал печатными буквами «минирен». Затем, нанеся замысловатый пунктир, сказал, придвигая листок Мартынову:
— Где пунктирен — можно ходить.
Павел внимательно рассмотрел схему, спрятал листок в карман. Улыбнулся беззлобно.
— Дакке. А теперь одевайся!
Жандарм испуганно заморгал.
— Да нет, не будет капут, — успокоил его Павел.— Обещал же. Только теперь ты сам проведешь нас дорогой, которую обозначил пунктиром.
Жандарм успокоился, попытался изобразить улыбку.
— Ферштейн, понимаю, — сказал он и отодвинул на окне одеяло.
101
В избу проникла полоска слабого света. Партизаны переглянулись. А немец опустил одеяло и пояснил:
— Сейчас есть немного нехорошо... свет. Надо немного ждать. Рус партизан надо уйти ждать в лес. Ночью я буду приходить, тогда можно.
— А ты лучше бы не вилял,— хмуро посоветовал Павел.— Мы и теперь успеем, время зря не тяни!
— Надо немного ждать, — засопел упрямо жандарм.— Сейчас’ есть светло. Надо ждать.
И вдруг он сорвал одеяло с окна и, торжествуя, прохрипел, перекосив старческое бледное лицо:
— Гитлер не есть капут! Партизан капут! Есть хин-дерхальт — засада. Ви окружен!
С улицы в самом деле послышались голоса:
— Выходи! Хенде хох!
Потом раздались выстрелы. Приклады забарабанили в двери. Зазвенело стекло в окне, и жандарм, схватившись за голову, повалился на пол. Коренков подбежал кюкну, прошил автоматом улицу и тоже упал. А Павел сбросил с двери крючок и длинной очередью очистил дорогу. Поддерживая раненого Коренкова, он, пригибаясь, направился к лесу. Отстреливаясь, их догнал Богданович. Всех их вместе настигали жандармы.
Возле околицы партизаны вынуждены были залечь. Раненый Коренков приподнялся, чтобы лучше видеть врага, дал очередь и опять упал. Методично, короткими очередями, стрелял в наступавших Павел. А там, со стороны леса, куда отходить партизанам, с земли поднялась еще цепь жандармов. Теперь уже отходить было некуда...
Стиснув зубы, Павел упрямо пополз, взвалив на себя Коренкова. Потом раненого подхватил Богданович, а Павел прикрыл их огнем автомата...
Пробившись через последний заслон и отстреливаясь от преследователей, партизаны наконец добрались до опушки. Опять залегли и опять стреляли. Но жандармы и без того не рискнули подойти близко к лесу.
Разведчики также узнали, что Мартынов с товарищами был окружен целой жандармской ротой, выследившей подрывников. Еще узнали, что сам Павел уложил девять жандармов.
— Что же ты сам ничего не сказал об этом? — спро
102
сил Василий Васильевич, вызвав к себе Мартынова, едва разведчики окончили доклад.
Павел удивленно раскрыл глаза и залился ярким румянцем.
—• Чего рассказывать? Пришел с пустыми руками. И товарища потерял. А жандармов мы не считали... ни живых, ни убитыхв
103
ПАРТИЗАН РОДИЛСЯ
Маша ждала ребенка. И это никого особенно не удивляло.
В вопросах любви у партизан сложились свои, неписаные законы. Они мало отличались от всех существующих, но все же были свои, партизанские. Партизаны не терпели непостоянства чувств. Зато как они радовались, если оказывались свидетелями настоящей любви! Появившись в отряде, ребенок неизбежно становился частью общей судьбы отряда.
Поэтому никто в отряде Машу не осуждал. Военфельдшер Мария Петрушина была не только признанной подругой командира отряда, она была еще признанной партизанкой Машей. Дружба ее с Петровичем возникла еще на фронте, когда Петрович не был командиром отряда и когда он узнал, что жена погибла.
Будущее свое материнство А4аша сначала пыталась скрывать: не знала, как в отряде воспримут ее положение. Но все в отряде узнали и — ничего! Маша успокоилась и стала готовить приданое.
Маша-то успокоилась, а Петрович... Он хмурился. Бросал испытующие взгляды на товарищей. И часто спрашивал кого-нибудь по секрету:
— Ты скажи, только честно! Много говорят в народе об этом?
Если это оказывался комиссар или доктор, они смеялись, успокаивали:
— Чудак человек! Чего ж тут особенного?
104
— «Чудак», «чудак»! — посапывал, смущаясь, Петрович.— Вот и чудак! Люди небось думают: «Война идет, а он детьми занялся!» А то скажут: «Гляди, к юбке пристал, словно Степан Разин к княжне персидской...» Эх, и влипли мы с Машей в историю!
А чтобы кто и вправду не подумал, что он привязался к юбке, Петрович стал ходить на такие боевые дела, в которых вполне можно было обойтись без участия командира...
Начало сорок четвертого года для партизан Моги-левщины оказалось очень тяжелым. После успешных наступательных операций Белорусских фронтов к северу и к югу от Могилева, Усакинские леса из партизанской зоны превратились в прифронтовую. И, как всегда в таких случаях, гитлеровцы предприняли отчаянную попытку разделаться с партизанами, которые представляли серьезную угрозу их тылу.
Обычно гитлеровцы нечасто отваживались углубляться в лес по ночам, а тут в два часа ночи неожиданно заняли лесные деревни Маковку, Семеновку и Заполье. На другой день крупные силы противника, пройдя рядом с партизанскими лагерями, захватили большое село Аксенковичи. Воздух наполнился гулом самолетов. А дальше такое пошло, что разобрать невозможно! Противник не только стал занимать населенные пункты, а передвигался с места на место лесными дорогами, сбивая с толку партизанскую разведку. С вечера трудно было предположить, где окажутся немцы утром. То там, то здесь происходили стычки. Но пока еще противник был не очень настойчив, уклонялся от прямого боя, не нападал на партизанские лагеря. Было ясно, что он выжидал чего-то.
А к середине февраля в деревни нахлынули новые немецкие части, на лес полетели бомбы. Отряды и бригады, выполняя приказ подпольного Могилевского обкома партии, ушли в маневр. Противник, двинувшийся разом на все партизанские базы, не застал уже там партизан.
Пятнадцатого февраля крупная группировка гитлеровцев из Белого лога двинулась на лагерь Петровича.
105
К нему вбежал Перестенко, командир соседней бригады:
— Ну, друг, что делать будем? Оборону держать не в нашу пользу: много их, со всех сторон обложили.
Командир «Славного» раскурил свою короткую трубку, поднял глаза на Перестенко:
— Ты прав: какой сейчас бой? Все отряды в маневрах. И Солдатенков уже ушел, одни мы остались. И нам пора маневрировать.
Перестенко согласился. А отходить-то куда? К деревне Терешино или на Пчелинск? Можно попробовать еще через шоссе перекинуться в Шкловский район...
— И то верно, — отозвался Петрович, потянув из планшета карту.
Все уже, до самой мелкой отметинки, известно командирам на этой карте! Все же склонились к ней, едва головами не сшиблись. Одни только сплошные круги да синие стрелы; везде противник. Смотрят командиры на карту и не видят просвета.
Со стороны заставы, что у дороги, поднялась отчаянная стрельба. В землянку вбежал связной:
— Много их, окаянных... Сдержать не можем! Наши с березовцами сюда отходят...
Перестенко выпрямил спину, поправил автомат на груди.
— Значит, решили — Терешино? Давай, друг, плотнее держаться!
Петрович кивнул, протянул руку:
— Давай, дружище. Пора сниматься. По одной роте выставим для заслона.
Едва Перестенко из землянки вышел, влетел начальник штаба лейтенант Оборотов. Молодое лицо раз-горяченно, глаза полыхают удалью.
— Прикрытие обеспечено, роту Романькова поставил. Даю команду на марш!
Петрович не стал время на слова тратить. Но возле двери поймал за рукав начальника штаба, сказал неожиданно мягко:
— Ты больно не горячись, Миша, — спешка нам не помога.
— Понятно! — гаркнул начальник штаба. Блеснув глазами, пулей вылетел из землянки.
Окинув взглядом пустую землянку, Петрович шагнул 106
к порогу. А навстречу ему ординарец. При виде его по лицу командира пробежала тревожная тень. Петрович спросил неуверенно:
— Ты што?
— За вами, — ответил Егоров. Заметив смущение командира, зашептал. доверительно:
— Ты, батька, того... Не волнуйся. Маша с санчастью едет. Если чего... там доктор.
— Нечего доктору возл& нее торчать! — неизвестно на кого обозлился Петрович. — У доктора своей работы хватает, в бою будет нужен.
— Я не про нашего, про другого, — пояснил ординарец.
— Про какого еще «другого»? — насторожился Петрович.
— Да наш договорился с Перестенко, взял у них вроде на время докторшу. Она специально по этим делам... акушерка.
Петрович нахмурился.
— Акушерку, говоришь, доктор приставил? Это ту, что березовцы у немцев выкрали? Не нравится она мне: долго при немцах работала, наживалась на бабьем горе.
Егоров, отец многодетной семьи, понял, чего опасается командир. Поспешил успокоить:
— Мало чего — работала. Заставляли ее небось. А тут дело проще простого. Ну и наш доктор временами присмотрит.
Петрович зарумянился, спрятал глаза от Егорова.
— Ты все же побудь там... при Маше. Погляди за... санями, что ли. Джафару скажи: вожжи пусть не бросает, конь-то горяч. А я без вас обойдусь, связной при мне будет.
Ординарец мотнул головой, побежал прямиком по дороге, на которую уже вытягивался санный обоз.
А над лесом гудит, раскатывается стрельба, отряхивает с ветвей подтаявший снег. И кажется, стреляют кругом. Даже в той стороне, куда выходить отряду.
Тяжело движется партизанский обоз. Внезапно началась оттепель, и от этого стало еще труднее. Снег превратился в кашу, и в эту кашу проваливаются люди и лошади, коровы и сани. А там, под снегом, словно
107
живое, дышит болото, ржавое, топкое, оно и в большие морозы не замерзает. И сверху вода. Большие охапки снега, подтаяв, сползают с высоких елей, валятся на людей, пугают скотину...
Два дня отряд идет без дороги, пробиваясь болотом и лесом. И только шумное дыхание, скрип саней, всплески воды да треск валежника — вот все, что выдает скрытое в лесу движение большой людской массы.
В Терешино отряд не вошел, вошли в Терешино немцы. И тогда Петрович повернул отряд к Загрошевыо. Там занял опушку леса, остановился на отдых. А к обеду на Загрошевье навалился противник, выбил из него партизанский дозор и, закрепившись в селе, навязал бой отряду.
Маша лежит на санях, прикрылась одеялом и шубой. Из-под мохнатой лисьей шапки настороженно блестят глаза. На кончике носа блестят капельки пота. Возле ее ног, закутавшись в меховую шубку, пристроилась врач-акушерка. Она пугливо озирается по сторонам, при каждом выстреле вбирает голову в плечи. Маша смотрит на нее измученными глазами, сердится. Акушерка что-то советует Маше. И вдруг:
— А что, если они к обозу прорвутся? Убьют нас?
Маша скривила лицо от боли и досады:
— Нашли о чем спрашивать! А там, у немцев, не страшно было?
— И там страшно. Непривычно мне, вот и страшно,— отзывается акушерка и, заботливо прикрывая Машу, опять советует: — Да вы стоните, стоните, легче будет.
— Не то что стонать — кричать .хочется...
— Так вы кричите, — говорит акушерка.
— Тьфу! — сверкнула глазами Маша. — Немцы же рядом!'
Потом она всхлипнула, зябко лязгнула зубами, зашептала Егорову:
.— Позвал бы ты доктора. Нашего... Ну что эта может?
Ординарец бросил беспомощный взгляд на Машу, на акушерку, на ездового Джафара. Потом обернулся к опушке леса. Там бой.
— Терпи уж, — вздохнул Егоров. — Не сыщешь сейчас нашего.
108
Стрельба усилилась, наполнила треском опушку. Провыла протяжно мина, охнула где-то тяжелым разрывом. С опушки послышался голос Петровича:
— Романьков! Усиль первый взвод! Прикрой фланг! Начштаба — ко мне!
В разноголосый треск автоматов и пулеметов тяжело упали орудийные выстрелы. Раненые приподымают головы. Ездовые мрачно возятся возле саней. И пули уже достигают обоза, посвистывают, пощелкивают по стволам деревьев.
От командира примчался связной, прохрипел, задыхаясь от бега:
— Всем ездовым и раненым, которые могут, занять оборону вокруг обоза. На случай, если немцы прорвутся... Нам дотемна продержаться надо. — И, уже убегая назад, добавил свое: — Пушка-то наша стреляет, не бойтесь. Разведка к шоссейке ушла...
Егоров придержал связного за локоть:
— Доктора там поищи, с Машей неладно.
А бой гудит и гудит. Часто свистят над обозом пули, пролетают мины с надсадным воем, обжигают вершины деревьев дождем осколков. Один из них угодил в корову. Вздохнув почти человечьим вздохом, она медленно осела в снежное месиво, натянув поводок в руке Христиана. Христиан Миллер испуганно обернулся к ездовому:
— Гляди, камрад! Корова капут, пропала!
— Твои друзья стреляют, — сузил глаза Джафар Дианов.
— Нет!—Христиан обиженно замотал головой.-—» Мои друзья давно в плен.
— Ладно тебе, — примирительно проворчал Дианов.— Молчи сейчас лучше. Бог с ней, с коровой. Вон пособи кому-нибудь из женщин.
Процедившись сквозь сизую пелену, слабый луч солнца осветил мокрый, поникший лес, обоз и снова убрался в низкое, невеселое небо. Вместе с сумерками появились новые признаки боя. Теперь в обозе не только слышат, но и видят его, этот тяжелый бой, вспышки ракет и выстрелов, длинные прочерки пулеметных трасс. И все это летит, неумолимо стремится сюда, к опушке, к обозу... Потом стало известно, что с шоссе вернулась первая рота — Шкловский район блокирован.
109
Значит, и туда нет хода отряду! Теперь и первая рота вступила в бой. Ясно, что противник не оставит отряд в покое.
И все же с наступлением темноты пришло распоряжение командира: обозу приготовиться к выходу, назад, в сторону лагеря. Это и есть партизанский маневр.
Маша тоже услышала о решении командира. Но ей, кажется, все уже безразлично. Схватки пошли сплошной чередой, унося последние силы. И кажется Маше, что она умирает.
Акушерка мечется вокруг саней, нервно хрустит пальцами.
— Да перестаньте! — ругается Маша. — Без вас тошно. Идите лучше отсюда!
Акушерка низко нагнулась к роженице, смотрит безумным взглядом, издает какие-то звуки, которых Маша не слышит. Совсем близко ударил снаряд, обдал сани снегом и жаром. Акушерка повалилась в снег. И никто не знает: от воздушной волны или страх подкосил ее ноги. И страх охватил Машу. Рванулась она с саней, схватила за рукав ординарца:
— Беги! Отыщи... Петровича! Нет, не его... Доктора! Умру я!
Когда доктор подбежал к ней, она металась в санях, посылала врагу проклятья. Доктор тронул холодную Машину руку.
— Потерпи малость. Теперь уже скоро.
Вдоль обоза идет начштаба, командует бодрым шепотом:
— Соблюдать тишину. Сейчас тронемся!
‘ Возле доктора начштаба остановился:
—• Как, доктор, дела? Помогаем рожать партизана?
Доктор раздраженно взглянул в лицо начальника штаба. Весело ему, что ли? Да понимает ли он что-нибудь, этот начальник штаба? И доктор со злостью выдавил:
— Ты вот что... отставь-ка свою команду! Слышишь? Нельзя сейчас трогаться, понимаешь? Не смогу на ходу ребенка принять.
— Попробуем отставить, — серьезно сказал Оборотов и побежал к ротам: они уже подтягивались к лесной
НО
дороге, оставив на опушке леса прикрытия. Командир приказал выпустить из орудия последний десяток снарядов и взорвать его. Не тащить же по болоту орудие без снарядов. Может, и раненых придется, на плечи взять, не пройти обозу болото!
В течение всего боя командир находился в боевых порядках. Он ни разу не подошел к Маше, никого не спросил о ней. А когда начальник штаба сказал ему, что доктор требует задержаться с выходом, Петрович тяжело задышал. Схватил за плечо лейтенанта:
— Вы што там с доктором... шутки шутить задумали?! Смотрите... лучше не лезьте мне в душу!
Начальник штаба еще ни разу не видел таким Петровича. Беспомощно оглянулся по сторонам. А Петрович уже обмяк, ссутулился, и только слышно его дыхание. Вот оно как все обернулось! Из-за него задержать отряд, поставить под угрозу разгрома. Вот когда начинается главное.
«Стенька Разин!» — горько подумал о себе Петрович. Потом устало махнул рукой, процедил едва слышно начальнику штаба:
— Командуй как знаешь. Сам. Я покурю пока... В рукав.
Вздохнув, вытянул из кармана кисет, пошел, тяжело ступая, по хлипкому снегу вперед, к разведчикам. Потом замедлил шаг, обернулся в густую тьму леса, туда, где находился обоз. Прислушался и вдруг сердито тряхнул головой, словно отгоняя приставшую мысль, упрямо зашагал к голове колонны.
Маше было страшно и холодно. А доктору — жарко. Сбросив с себя полушубок, тихо поругиваясь, он возился над санями, накрытыми плащ-палаткой. Теперь туда подлез и Егоров. Ординарец непрерывно чиркает спички, зажигает одну о другую, мусолит опаленные пальцы. Сбросить бы к чертям плащ-палатку. Да нельзя! Противник увидит огонь.
Потом доктор придвинулся к самому Машиному лицу, сказал неожиданно громко, как подают команду:
— А ну, Маша, крикни во всю силу! По-партизански!
Маша испуганно взглянула на него затуманенным взмядом и закричала. И, отозвавшись на этот пронзительный крик, ударили по лесу автоматы противника.
111
С их дробным треском родились новые звуки —ударили минометы. Выпуская последние снаряды, заухала партизанская пушка...
Но вот в этих всплесках и стонах огня постепенно стал нарастать новый, едва уловимый звук. Он становился все громче и громче. Он был сильным, настойчивым. И хотя по сравнению со всем этим грохотом он ничего не значил, его услышали все, весь отряд. Казалось, что он перекрывал грохот ночного боя. И он действительно перекрывал все потому, что возвещал о новой жизни. Потом к этому грохоту и к новому звуку присоединился еще один: партизаны взорвали пушку. И этот взрыв прозвучал, как салют и команда.
Доктор отбросил плащ-палатку, вытер рукавом мокрый лоб. Сказал в темноту осипшим голосом:
— Передайте Петровичу поздравление... с сыном!
Вздрогнул отряд, вздохнул, шевельнулся, словно не сотни людей это были, а один человек. И пополз по отряду радостный шепот, пополз вперед, туда, где, прислонившись к дереву, одиноко стоял Петрович. Тут все услышали его глуховатый голос:
— Шагом марш!
И отряд тронулся с места. Теперь он пошел, пополнившись еще одним партизаном.
БОЙЦЫ УШЛИ НА ЗАДАНИЕ Повесть
8 И. Давыдов
ПРЕДВЕЧЕРНИЕ ГОСТИ
Чего только не насмотрелись за время немецкой оккупации жители большого села, что стоит вблизи шоссейной дороги Могилев — Гомель, в нескольких километрах от Довска! Почти все мужчины и парни села — если не в армии, то в партизанах. Здесь же хозяйничают полицейские, которых невесть откуда привезли оккупанты. Немцы и старосту в село привезли и приказали называть его бургомистром.
К бургомистру Игнатову вбежал полицай Волчок. Запыхавшись, доложил:
— Со шляху — повозка с немцами!
Бургомистр торопливо пригладил сивую бороду, озадаченно взглянул на часы. Редко случается, чтобы оккупанты заезжали в село под вечер, хотя стоит оно далеко от партизанского леса. -
А с проселка на улицу уже вкатилась повозка, на ней — два офицера и ефрейтор. Сзади пешим строем — еще несколько человек в немецкой форме, с зелеными повязками на рукавах. Такие обычно гестаповских офицеров сопровождают. А полиция бургомистра одета кто как, в то, что удалось отнять у местного населения.
Волчок резво метнулся к повозке:
— Хайль! Как прикажете доложить?
Офицер с погонами майора СС, со злым широкоскулым лицом, смерил его презрительным взглядом, цыкнул, не разжимая зубов:
— Форт!
8*
115
Волчок беспомощно заморгал глазами. И тогда один из сопровождавших повозку — рослый, с темным лицом— бесцеремонно оттеснил полицая, сказал сурово:
— Нэ панимаешь?! Форт! Прочь убирайся!
Первым с повозки спрыгнул ефрейтор, помог сойги офицерам. Коренастый майор в фуражке с высокой тульей сделал несколько шагов, разминая ноги, лениво улыбнулся своему спутнику — худощавому, бледному обер-лейтенанту. Затем уставился на бургомистра. Светлые, серые глаза майора, как будто даже чуточку разноцветные, смотрели хмуро и жестко.
Бургомистр засуетился под этим тяжелым взглядом. Гестаповец властным кивком головы подозвал одного из строя, скривил губы, проворчал что-то, и переводчик повернул голову к бургомистру:
— Герр майор приказал быстро организовать обед. Господ полицейских покормишь на кухне. Хождение по селу запретить!
Бургомистр молчал, скользил испуганным взглядом по офицерам, по их охране.
— Шнель! — закричал майор.
— Исполняй приказ! Живо! — тут же, словно эхо, повторил переводчик.
Офицеры в сопровождении ефрейтора и переводчика, бухая коваными сапогами, вошли в избу.
Когда бургомистр вернулся, в избе была уже вполне мирная обстановка. Майор сидел за столом в распахнутом френче, подсунув под белую сорочку руку, почесывал широкую грудь. Обер-лейтенант возле окна дымил сигареткой, пуская на герань струйки сизого дыма. На скамье ефрейтор и переводчик протирали оружие.
Стараясь не скрипеть половицами, бургомистр прошел к сундуку, откинул крышку. Отыскав льняную скатерть, неловкими движениями разостлал ее по столу, косясь на хмурое лицо майора. Обер-лейтенант о чем-то спросил.
— Жены не имеешь? — перевел вопрос переводчик.
Бургомистр кашлянул, ответил, смутившись:
— Как же... есть семья... В Довске проживает. Народ мы не здешний. — Он опять кашлянул. — А тут бывает порой... партизаны шалят.
1 Гб
Услышав слово «партизаны», офицеры насторожились. Бургомистр поспешил успокоить:
— Днем-то у нас спокойно. Да и ночами полицейские хорошо поглядывают.
Переводчик быстро заговорил, но тут же умолк: вошла женщина с тяжелой корзиной. Отвесив офицерам поклон, принялась расстанавливать на столе еду. Делала она это неторопливо и ловко, лицо ее было строгим, непроницаемым. Да и все движения напоминали движения автомата: от корзины — к столу, от стола — к корзине.. На столе появились сало и соленые огурцы, мед и сметана, ломти душистого хлеба и целая миска яиц.
При виде этого изобилия глаза гостей подобрели, а майор с неожиданной ловкостью отправил в рот огурец, удовлетворенно и громко крякнув. Женщина, убрав под холщовый передник руки, застыла в покойной позе. Хозяин зло проворчал:
— Чего уставилась? А остальное?
Женщина подхватила пустую корзину, покорно вышла, плотно притворив за собой дверь. Спустя две минуты она вернулась и, отерев передником, поставила на стол бутылку, заткнутую пучком соломы. И опять, спрятав руки, застыла возле стола.
— Поди прочь! — прошипел бургомистр. — Да гляди у меня: из хаты ни шагу. И, слышь, господ полицейских, что с панами прибыли, покорми как следует. — Он обернулся к переводчику, спросил, указав глазами, на самогон:— А как с этим делом господам полицейским?
Переводчик, в свою очередь, обратился к офицерам. Обер-лейтенант безразлично пожал плечами, посмотрел на майора. Тот отрицательно мотнул головой, но, передумав, выставил ладонь, большим пальцем придавил верхнюю фалангу мизинца:
— Айн кляйн вениг.
— Немного, слышь? Самую малость, — без переводчика поняв жест офицера, крикнул вслед женщине бургомистр. И когда она плотно прикрыла дверь, вздохнул:
— Не люблю здешний народ, они все тут себе на уме.
Услышав перевод этой фразы, гитлеровцы переглянулись. Майор торопливо придвинул тарелку с огурцами,
117
внимательно ее осмотрел и обнюхал, вытирая рот носовым платком. Затем принялся осматривать другие тарелки.
— Нет, нет, — сообразив, в чем дело, поспешил заверить хозяин;—Такого у нас не бывало! Можете не сомневаться, продукт хороший.
Гестаповец кивал крупной головой, слушая переводчика, а выслушав, повелительным жестом указал хозяину на табурет и затем на бутылку. Лишь после того как хозяин опорожнил стакан и потянулся к закуске, майор разрешил налить стаканы своим.
Челюсти гостей заработали. Но к самогону никто из них не притронулся. Хозяин, между тем, захмелел. Глаза его подернулись влагой, заговорил он смелее:
— А вы отведайте, господа. Самогон у меня хороший, первак! И чтобы не сомневались... позвольте, я еще чарочку.
Не ожидая гостей, он высоко запрокинул бородатое лицо и залпом выпил стакан. Теперь и немцы понемногу хлебнули, закашлялись. Хозяин не обманул, первак что надо. А главное — закуска обильная.
БУРГОМИСТР ПОКАЗЫВАЕТ ЛИЦО
Обед был в разгаре, когда в чистую половину дома опять вошла женщина. Поставив на стол чугунок щей, она вопросительно посмотрела на бургомистра. Он зло указал глазами на дверь. И опять, едва захлопнулась дверь, сказал с хрипотцой:
— Не люблю здешний народ! Тьфу!
Поймав на себе настороженный взгляд майора, он, старательно дуя на ложку, принялся громко хлебать из миски.
Майор что-то буркнул, а переводчик спросил:
— Говоришь, не любишь здешних, а почему плохо борешься с партизанами?
Ложка дрогнула в руке бургомистра. Он осоловело посмотрел на гестаповца, сказал с неожиданной яростью:
— Это я, Прокоп Игнатов, плохо борюсь? Гляди ты!
Майор сдвинул белесые брови, властно вскинул подбородок, застегнул на френче одну пуговицу, поправил 118
на поясе парабеллум. Однако бургомистр разошелся.
Он стал выкрикивать, глотая окончания слов:
— Я их всех знаю наперечет! Мужики у кого в армии, у кого в партизанах... У меня глаз за всеми! Да разве я могу их терпеть, когда сам от них натерпелся? В лагере натерпелся, слава те! Кулаком объявили, хозяйство отнялиГ Так я теперь вымещу, слава те!
Обер-лейтенант и переводчик смотрели на него брезгливо. А майор, двигая желваками, барабанил крепкими пальцами по столу в такт каждой фамилии, которые выкрикивал бургомистр. И вдруг, вынув из кармана блокнот и ручку, подвинул их хозяину. Тот понял приказ гестаповца. Сильно нажимая на перо авторучки, принялся торопливо писать. Руки его дрожали. Когда наконец он поднял голову, майор забрал блокнот и, не взглянув, небрежно убрал в карман.
— Вениг! Мало! — сказал он, с трудом произнеся короткое русское слово.
— Что «мало»? — пьяно посмотрел на него Игнатов.
— Рус бандит — много, список — мало! — Обернувшись к переводчику, майор стал что-то выкрикивать, размахивая рукой и поочередно загибая пальцы — мизинец, безымянный, средний...
— Герр майор говорит, что ты плохо стараешься,— пояснил переводчик. — За последнюю неделю на твоем участке шоссе партизаны подорвали две автомашины с солдатами и одну пушку.
Глаза бургомистра сузились. Он произнес громко, часто дыша:
— Так я ж тут при чем? Моя полиция подход к шоссе охраняет... А что до самой шоссейки, там ваша бронемашина курсирует специально. У меня ж и оружья... тьфу!
И не успел переводчик доложить его ответ, майор обрушил тяжелый кулак на стол.
— Мало! Доказательство вениг... мало!
Бургомистр, поняв наконец, чего от него хочет гестаповец, .шагнул к сундуку. Отбросил крышку, стал выкидывать на пол белье:
— Вот... доказательство!
— Вас ист дас? — спросил майор.
— Доказательство,— осипшим голосом повторил бургомистр и, развернув тряпку, положил перед ним густо
119
смазанный пистолет ТТ. — Лично сам подстрелил бандита. Тут еще где-то кепка валяется.
Майор внимательно осмотрел пистолет. Затем, ткнув пальцем в свою рыжеватую макушку, мирно спросил:
-г- Мютце?
— Что? — переспросил бургомистр переводчика.
— Шапка, кепка... что на нем была?
— А-а...— облегченно протянул хозяин, доставая кепку.
Майор не спеша исследовал каждую ее складку, сломанный козырек, осмотрел небольшое отверстие, вокруг которого засохло бурое, густое пятно.
— До-ка-за-тел-ство, — по слогам произнес он, закончив осмотр. Еще пробурчал что-то по-своему.
— Получишь награду, — объявил переводчик.
Глаза предателя увлажнились. Он переспросил клокочущим голосом, обращаясь к гестаповцу:
— Правду он переводит?
— Я, я! — дружелюбно кивнул майор. — Доказател-ство. Гут!
Бургомистр снова стал суетливым. Открыл дверь, крикнул:
— Эй, баба! Где ты там? Тащи еще самогону! — и, шумно усаживаясь за стол, выпятил грудь. — Ужо мы тут постараемся, пан майор!
Гестаповец лениво посапывал. Это ободрило бургомистра, и он, став фамильярным, перегибаясь через стол, разваливая грудью посуду, доверительно зашептал:
— Я еще, гляди, Мадея выслежу, а то и самого Шестакова! Только вы, пан майор, наградкой не обойдите.
Белесые, с золотинками брови майора вскинулись кверху.
— О! — закивал он, все более оживляясь. — Мадей? Шестакоф? Гут! —он погладил широкой ладонью крест на своем френче и этой же ладонью Крепко хлопнул хозяина по плечу: — Гельд! Филь!
— Выследишь их — будет награда и деньги, много денег, — объяснил переводчик.
Игнатов осклабился, потянулся к самогону, но бутылка оказалась пустой.
— Да где ж она, чертова баба? — закричал бургомистр.
120
Опять вошла женщина, молча поставила на стол запотевшую бутылку, заткнутую соломой. Теперь уже никто не обратил на нее внимания. Лишь майор подозрительно покосился на передник, под которым были спрятаны руки. Налил полный стакан, протянул бургомистру.
— За награду и деньги, — подсказал переводчик.
— Это мы с большим удовольствием, — жадно хватая стакан, облизнулся хозяин. — Уж поверьте, что постараемся, пан майор!
В избу вошел полицейский. Широкоплечий и очень высокий, он едва не стукнулся головой о притолоку. Его мягкие карие глаза задержались на женщине. Бургомистр перехватил взгляд, цыкнул:
— Пошла прочь!
Женщина направилась к двери, сторонясь полицейского. Когда проходила мимо, на его не по-русски смуглом лице появилась улыбка, открывшая крупные, крепкие зубы. Женщина низко нагнула голову, проскользнула в дверь. Майор нахмурился, вопросительно посмотрел на вошедшего, перевел глаза на часы, обернулся к окну. Солнце уже зашло, и на улицу опускались мягкие сумерки. И только верхний угол окна еще светился золотисто-огненным светом.
Майор поднялся, одернул френч, передвинул к животу парабеллум. Полицейский предупредительно распахнул перед ним дверь. Гестаповец, на ходу засовывая в карман пистолет и кепку, сказал бургомистру:
— До-ка-за-тел-ство! Гут!
Повозка с офицерами, кренясь и подпрыгивая на ухабах, двинулась к шоссейной дороге. За ней зашагали молчаливые полицейские, среди которых особенно выделялся высокий, со смуглым лицом. Из окон осторожно выглядывали жители, пряча в глазах ненависть. И только бургомистр был доволен. Он стоял на крыльце, широко расставив нетвердые ноги. И даже не слышал, как в избе сердито грохотала посудой женщина.
СРОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Бургомистр Игнатов редко ошибался в своих расчетах. Даже хмельной, он заметил, что упоминание о Ма-дее и Шестакове заинтересовало эсэсовца. Но дело за
121
ключалось не только в награде. Обещание выследить неуловимого партизана развязывало ему руки для расправы над жителями села, а кроме того, помогало отомстить бургомистру города Довска. Сам партизанский разведчик Мадей не очень его занимал, да и услышал он это имя недавно, на совещании в Довске.
Его проводил сам окружной гебитскомиссар, которого сопровождал представитель какого-то националистического белорусского «комитета самопомощи», помятый и престарелый и, впрочем, плохо говоривший на родном языке. Срочно вызванные на совещание из деревень и сел все эти старосты, солтусы, головы и бургомистры, именовавшие себя и друг друга по своему разумению, сидели молча, отчужденные и угрюмые, сторожко поглядывая на гебитскомиссара. Сейчас главной заботой этих наймитов было сберечь голову от партизанской пули.
А гебитскомиссар, в отличие от белорусского представителя, сносно говорил по-русски. Сейчас он не говорил, а кричал, топал ногами, хватался за парабеллум.
— Плохо боретесь с партизаном, тейфель аух, черт возьми! Кругом партизан! На шаусейной и железной дорогах две гомельские партизанские бригады... орудуют, черт возьми! Бургомистр в своя хата самогон, шнапс пьют, черт возьми!
Накричавшись, он вытянул из кармана листок, бросил на стол довскому бургомистру:
— Читать! Громко! Всем слушать, черт возьми!
Городской голова подслеповато всмотрелся в листок, облизнул языком пересохшие губы. Начал:
— «В Чечерских лесах за Сожем, в районе Гута Осиновская, замечен новый крупный партизанский отряд, точнее, бригада. Пришла, как полагают, из Брянских лесов. Недавно ею принят груз с самолета и дополнительный парашютный десант. По нашим данным, бригада пришла из-за линии фронта еще в начале тысяча-девятьсот сорок второго года. Имеет рацию, хорошее вооружение, большой опыт бандитской работы. Командует бригадой некий майор Шестаков. По происхождению сибиряк».
Бургомистр перевел дух, а потом прочел дальше;
— «Сего года девятого мая бригада, подавив сопро
122
тивление охраны, перешла ночью железную дорогу Унеча — Кричев. Десятого мая к шести утра достигла деревни Пушково. После трехчасового отдыха выступила дальше и, углубившись в лес на шесть километров, встретилась с ранее высланной сюда бандитской группой численностью до взвода. Эта группа накануне была атакована германским подразделением, следовавшим на усиление Рогачевского гарнизона, но безуспешно: наше подразделение отошло, имея потери...»
Бургомистр закашлялся, втиснул пальцы за воротник, пугливо покосился на гебитскомиссара. Тот крикнул:
— Читать! Тейфель аух!
Бургомистр опять облизнул сухие губы.
•— «Одиннадцатого мая большая группа партизан во главе с начальником штаба неким лейтенантом Оборотовым в населенных пунктах Душатино и Гузовка сожгла волостную управу и маслозавод, готовивший продукцию для Германии.
Подразделения и группы Шестакова установлены и в других районах, как-то: Суражском, Красногорском и прочее. Бандитами днем совершен налет на село Ба-роньки, где располагалась на отдыхе рота из батальона «Припять». Воспользовавшись налетом, тридцать семь солдат из батальона перебежали на сторону партизан...
В деревне Латаки также разбита волостная упрага. На берегу Сожа шестаковцы сожгли и спустили на реку несколько тысяч кубометров лесоматериалов, предназначенных для строительства оборонительных сооружений...
В бригаде особо отличается группа, которой командует некий Мадей, именующий себя Конрадом Анри. Сержант. В прошлом — спортсмен. Он отличается особой хитростью и коварством, с группой совершает большие переходы и, неожиданно появляясь в разных местах, устраивает наглые диверсии и засады. Этой группой в населенном пункте Вороновка днем, несмотря на оживленное движение по шоссе, уничтожена автомашина с продовольствием, убиты комендант города Чечерска интендант майор Отто Михель и ефрейтор Ганс Моор, захвачена военная почта. Этой же группой Мадея на шоссе Гомель — Могилев, в полутора километрах от села Белое Болото, опять днем сожжена трех
123
тонная автомашина, убито четыре офицера, а один уведен бандитами. Место нахождения Конрада Анри неизвестно. Приметы точно не установлены...»
Бургомистр читал, то и дело вытирая платком лысину. А когда наконец окончил, гебитскомиссар обвел злым взглядом сидящих:
— Это читал, чтоб вы поняли: бригада Шестакоф—* большая угроза! Должно также особое внимание иметь Мадей. Все бургомистры должны быть готовы активно действовать. Скоро будет большая карательная экспедиция для уничтожения специально майор Шестакоф и вся эта бригада. Будет иметь место приезд с особой миссией германский майор Амон.
БУРГОМИСТР ПРИНИМАЕТ МЕРЫ
Худшее случилось позже. Когда, пугливо озираясь, бургомистры и старосты стали разъезжаться по своим вотчинам, Игнатов вернулся к довскому голове. Там он еще застал гебитскомиссара и минского представителя. Игнатов отвесил подобострастный поклон:
— Прошу позволения, пан гебитскомиссар. Имею дело до пана дрвского бургомистра.
Гебитскомиссар молча кивнул головой.
— По старой памяти к вам, — начал Игнатов, но тут же осекся. Бургомистр Довска, вытирая платком лысину, смотрел враждебно. Выдавив улыбку, Игнатов все же продолжил объясняющим тоном, поглядывая на гебитскомиссара:— Мы с паном бургомистром, слава те, давно знакомы. Вместе от Советов страдали. Я — как, г-м-м... классовый элемент, а пан бургомистр, помнится... за растрату.
— Ну! — еще более хмурясь, остановил его голова.— Что надо?
— У меня тут семья проживает, — с готовностью ответил Игнатов. — Прошу уважить меня за службу, дать какую ни есть деревушку поближе к городу. А так оно ездить... далековато. И время нынче, слава те! Сами сейчас зачитывали. Так я уж прошу... по старой-то дружбе.
Лицо гебитскомиссара покрылось багровыми пятнами. Он резко обернулся к представителю минского комитета:
124
— Браво! Это белорюсское войско! Этот господин бандитов боится! Германское командование, черт возьми, ожидает от вас хорошая помощь!
Стараясь сохранить независимый вид, представитель, блеснув очками, укоризненно посмотрел на Игнатова:
— Великая Германия великодушно разрешила нам создать свое правительство в Минске — Акинчиц, Ермо-ченко, Островский... Белорусский комитет самопомощи...
Гебитскомиссар бесцеремонно перебил представителя:
— Мне нужно иметь настоящий зольдат, черт возьми! А этот бургомистр есть трус! Я имею плохая помощь!
На лбу довского бургомистра вздулась синяя жила. Он закашлялся, оттягивая пальцами тугой, воротник.
— Как ты смеешь, Игнатов, с такой просьбой лезть к пану гебитскомиссару? Если так, запомни: у нас найдется человек на твое место!
Гебитскомиссара, видно, мало» интересовали дела белорусских националистов, и он опять перебил:
— Я напоминаю о предстоящей карательной экспедиции майора Амона и его специальные полномочия, черт возьми! Трус бургомистр будем смотреть как саботаж и пособник бандитам. Это надо иметь в виду, черт возьми!
Игнатова бил озноб, когда он закрывал за собой дверь. Даже не заехав к семье, он направил коляску по шоссе, стараясь засветло добраться до села. Полицай Волчок, сопровождавший его в поездке, не узнавал хозяина: он сидел, зло почесывая сивую бороду, часто сплевывал на дорогу.
Но в то время Игнатов еще не знал, как отомстить довскому бургомистру. Решение созрело позже, спустя несколько дней, в приезд эсэсовского майора, а скорее всего, замаскированного гестаповца. Когда тот упрекнул его в плохой помощи, Игнатов вдруг вспомнил гебитскомиссара и его угрозу майором Амоном, имеющим особые полномочия. Вот тогда-то он и закусил удила. Он докажет свою приверженность могущественному майору! Это будет хорошим подзатыльником довскому бургомистру, а глядишь, и гебитскомиссару. Еще бы! Игнатов получит награду от Амона, от офицера с осо
125
быми полномочиями! Сам случай привел в его дом этого замечательного майора.
Впрочем, подлинный смысл своих действий Игнатов понял после того, как уехал эсэсовец. И тогда он почувствовал на своей спине мурашки. Майор мог оказаться не Амоном! И теперь бы он не мог объяснить, почему вдруг принял этого майора за Амона. Однако Игнатов давно привык рисковать. Да и сама бурго-мистрова должность — риск.
Поздно вечером, осушив стакан самогону, бургомистр, придерживая рукой кальсоны и почесывая пистолетом поясницу, направился к кровати. Где-то на шоссе раздалась автоматная очередь. Вскинув бороду, он прислушался. Выстрелов больше не было.
— Патрули, — успокоил себя Игнатов. И, ложась в кровать, испугался: а ведь и этого майора Амона могут захватить партизаны! И опять ему, Игнатову, стоять перед гебитскомиссаром и городским головой, только без «доказательств».
Он заметался по избе, отыскивая карандаш и бумагу. Прибавив фитиль в лампе, написал донесение:
«Пану Гебитскомиссару, в копии Бурхомистру Дов-ска. Имею честь доложить фамилии связанных с партизанами, а также о лично мною убитом бандите, у которого в доказательство изъяты пистолет и кепка. Ввиду нехватки времени выехать к вам, по требованию германского майора СС, все передано ему в руки, о чем докладываю».
Постояв возле двери и прислушиваясь, Игнатов скинул крюк, отсунул засов и хрипло позвал:
— Эй, баба! Кликни сюда Волчка. Да гляди мне — не громко. И сама чтоб из хаты ни шагу.
Вошел Волчок, взъерошенный и помятый. И хотя было тепло, зябко повел плечами, бросив взгляд на бутылку, стоявшую на столе.
— Успеется! —зыкнул бургомистр. — Сейчас слушай! Утром пораньше свезешь эти пакетики в город. Еще слушай. Сперва разведай там, прибыли или нет те, что с вечера к нам заезжали, ну... майор, значит. Если еще нет, не спеши. Надо, чтоб бумажки после его приезда попали. А теперь обогрейся. Да гляди не засни в ого-роде-то! И когда будешь ехать по шоссейке, поглядывай... Винтовку-то лучше не бери.
126
— Это и так понятно, — вытянув губы и откашливаясь, сказал Волчок, трясущейся рукой ставя на стол порожний стакан. — Голова человеку однажды дается.
Волчок вышел, стукнув о дверной косяк карабином. Бургомистр постоял у приоткрытой двери, послушал, как женщина запирала сенцы. Лишь после того когда она молчаливой тенью проскользнула в другую половину избы, опустил крюк, надвинул на дверь засов, присадил фитиль в лампе. Укладываясь в постель, пощупал в изголовье оружие, прошептал, засыпая:
— Теперь, слава те, кажется, все как надо.
ПОКА ЕЩЕ НЕИЗВЕСТНО
Кажется, случилось непоправимое. Командир отряда майор Шестаков, Петрович, не увидел, а почувствовал, как возле него на траву тяжело опустился начальник разведки Василий Рыкин. Петрович узнал его по шагам, но продолжал сосредоточенно чистить маузер, боясь поднять глаза на начальника разведки. Задышал только чаще, тревожно спросил:
— Ну што там?
Василий Васильевич не сразу ответил. Тонкими пальцами с аккуратно подстриженными ногтями ловко свернул цигарку, глубоко затянулся:
— Установили связь с Гомельскими бригадами. Они слышали о взводе Егорычева, встречали его. Рассказали о его бое в Пушково. У противника — десяток убитых солдат, у Егорычева — тяжело ранен Эрик Фомин. Парнишка первым увидел колонну немцев и, стараясь ее задержать, лег возле обочины и открыл огонь из винтовки. Потом и его разрывной пулей задело. В ногу... За эту неделю было несколько взрывов на шоссе, три или четыре дневных налета на автомашины, это похоже на работу Мадея. Да, еще... установили связь с заднепровскими отрядами Изоха, Тарасевича, Голощапова и Драчева.
Петрович наконец поднял глаза на Василия Васильевича. А начальник разведки отвел глаза в сторону. Под глазами — густые, синие тени. И показалось Петровичу, что такая же тень скользнула по гладко выбритому, осунувшемуся лицу Рыкина.
127
— Успокаиваешь? А про Мадея скрываешь? — неизвестно почему обозлясь, спросил Петрович. Сказал так, словно в чем-то виновата разведка, и даже не заметил, что много хорошего было в докладе Василия Васильевича.
Но начальник разведки до тонкостей изучил своего командира и, уловив в его тоне и на лице тревогу, отозвался спокойно:
— Скрывать нечего. Говорю, пока еще неизвестно. Связные узнали через женщину, которая служит у бургомистра: на днях в селе появлялись эсэсовцы, во время обеда упоминали твою фамилию и Мадея. Бургомистр передал пистолет и кепку убитого партизана, а офицер обещал за это представить его к награде.
— Какая кепка-то? — угрюмо спросил Петрович.
— В том-то и дело, что пока ничего не известно. Связным трудно увидеть женщину, — уже с оттенком досады ответил начальник разведки. — И об этой женщине у меня нет,достоверных данных. Бургомистр очень следит за ней. Она только с одним из наших доверенных связана. Многое еще надо проверить и уточнить.
Командир тяжело поднялся, сделал несколько шагов возле шалаша. Конечно, разведчики ни при чем: район новый, еще не освоен. Все очень запутано. Однако сказал с укором:
— Больно медленно все у нас узнается. Человек словно в омут скользнул; а у нас «пока еще неизвестно», еще «уточняется». Да не один же, с целой группой исчез! Тут без тебя Большая земля уже дважды спрашивала. Андрей требует доложить, как выполнено задание по переброске немецких товарищей — антифашистов. А мы ничего не знаем!
Василий Васильевич не умел обижаться на командира. И не только потому что был старше Петровича. Он хорошо понимал людей. И сейчас знал, что за ворчливостью и необычно длинной для Петровича фразой скрывается добрая человеческая душа, тревога за ушедшую на задание группу, за судьбу Мадея. Следя за командиром утомленными глазами, начальник разведки сказал:
— Ты прежде времени не волнуйся. Сам знаешь — с Костей не раз такое бывало. Думаю, к вечеру прояснится.
Петрович досадливо махнул рукой, пошел по лагерю.
128
Там и тут возле шалашей сидят его партизаны, снимают заводскую смазку с оружия, которое минувшей ночью сбросили с самолетов. У поляны неумело делают шалаши десантники. Приземлившись ночью на парашютах, они до утра спали прямо под елями. Но утром Петрович подошел к командиру десантников лейтенанту Корнилову, сказал:
— С самого начала учи их порядку. Пусть не думают, если вражеский тыл — все сойдет. На один день остановился, все равно отдыхай как следует. А так на табор похоже. Лень приводит к беспечности.
Вот и мастерят десантники шалаши, стараются не шуметь. Да и во всем лагере, во всем этом дремучем лесу над Сожем стоит настороженная, гнетущая тишина. Только, скрывшись от солнца, в густых ветвях негромко щебечут птицы.
Идет по лагерю командир и чувствует на себе тревожные взгляды. Черт его знает это чутье человеческое! Ведь и раньше ходил Мадей на задания. Ого! Еще как ходил! И бывало, терялась с ним связь надолго. Но грусти в лагере не было. Уходили на задания другие — роты и группы, разведчики и подрывники, а в лагере смеялись и пели. Потом возвращались люди. И Конд-ратий возвращался, усталый и радостный. Иной раз начнет острить — хватаются за бока товарищи. У самого же ни один мускул на лице не дрогнет. А то вдруг насупит белесые брови, скуластое лицо точно отвердеет, тогда слова из него клещами не вытянешь. Значит, вынашивает новый план...
Петрович остановился возле небольшого шалашика. Постель Мадея уже несколько дней пустует. Командир нагнулся, заботливо поправил еловые ветви, подстилку. И тут поймал себя на том, что думает об общем любимце в прошедшем времени. А можно ли такого человека представить в прошлом, не в настоящем? Очень в нем много жизни, весь для жизни создан! И как раз для такой, для отважной, суровой, для партизанской.
— Рассопелся! — упрекнул себя Петрович. И вдруг глуховатым, но хорошо слышимым и знакомым всем голосом крикнул:
— Э-гей, по лагерю! Чего, орелики, приуныли? Слышь, старшина! Заведи-ка патефон. Пластинку из последних трофеев... Ту, как ее? Что со свистом.
Vg-9 и. Давыдов 129
ЧЕГО НЕ ЗНАЛ БУРГОМИСТР
Действительно, Игнатов не ошибся в своих расчетах. Завоевать доверие высокопоставленного майора с особыми полномочиями для него было бы куда важнее, чем зависеть от довского головы и даже самого гебитскомиссара. Но Игнатов ошибся в другом. Когда писал донесение и давал наказ полицаю Волчку, а потом, заваливаясь в кровать, проверял в изголовье оружие, он не знал, что в это время происходило на шоссе.
А там было вот что.
Повозка с майором, обер-лейтенантом и ефрейтором застряла в придорожной канаве. Лошадь напрягалась и фыркала, а полицейские, тихо поругиваясь, безуспешно возились с повозкой. В это время в темноте послышался гул. Майор негромко подал команду, и несколько полицейских отошли в сторону, в темноту. Потом майор шепотом заговорил с обер-лейтенантом. Ефрейтор соскочил с телеги и взялся за автомат.
— Вернись! — сказал ему обер-лейтенант по-немецки. — Без меня ничего не делай.
Ефрейтор послушно взобрался на повозку, и майор, почувствовав, как дрожит его тело, сжал ему руку.
Гул приближался. Машина двигалась с выключенными фарами, и нельзя было определить, какая она. Только темная лента шоссе и гул со стороны Могилева... Казалось, что машина еще далеко, но вот раздался скрежет и лязг, вспыхнули два мощных пучка света, осветили шоссе и канаву, выхватили из темноты повозку.
Майор ткнулся лицом в солому, полицейские встали навытяжку, а обер-лейтенант громко закричал по-немецки. С машины раздался голос, требующий, чтобы кто-нибудь подошел. Обер-лейтенант и ефрейтор, жмурясь и спотыкаясь, выбрались на шоссе и тут же уперлись в кабину бронетранспортера. Из кузова выскочило с десяток солдат, упирая в животы короткие автоматы.
Майору и оставшимся возле телеги двум полицейским отчетливо были видны обер-лейтенант и ефрейтор, окруженные немецкими солдатами. Затем из кабины выбрался офицер. Обер-лейтенант протянул ему документы. Офицер, приблизившись к фаре бронетранспортера, долго рассматривал бумаги, то и дело вскидывая 130
глаза на обер-лейтенанта и ефрейтора. Но вот он выпрямился, отдал честь, вернул документы. Водитель машины выключил фары.
Офицеры в сопровождении солдат подошли к телеге. Засветился бледный луч карманного фонаря, скользнул по лицам полицейских, по их одежде, метнулся к лошади. Лошадь фыркнула, недовольно прижала уши. Луч на секунду погас и снова вспыхнул, освещая повозку. В соломе тускло блеснули шипы немецких сапог. А луч уже выше — по крепкой фигуре развалившегося на соломе майора, к погону, к фуражке, затем — к лицу.
— Форт! — кривя губы и жмуря глаза, зло закричал майор, хватаясь за парабеллум. — Форт!
Солдаты испуганно отпрянули от повозки. Фонарь погас. В темноте стало слышно, как майор сонно зачмокал губами. Офицер с бронетранспортера подал команду. Солдаты засуетились, приподняли повозку, а офицер, ухватив повод лошади, вытянул ее на шоссе. Обер-лейтенант пожал ему руку, поблагодарил, и все разошлись по своим местам.
— Аллее гут! — сказал офицер, влезая в кабину.
— Гутен абенд! — отозвался обер-лейтенант, усаживаясь на повозку, к которой опять подошли полицейские.
Солдаты взобрались в кузов машины.
Скрипнув осями, повозка медленно двинулась по шоссе в сторону Могилева, к Довеку. Громко заскрежетав • гусеницами, бронетранспортер, не включая фар, помчался к Гомелю.
А спустя полчаса лошадь остановилась снова. Первым с повозки соскочил майор, отряхивая с одежды солому. Ефрейтор горячо и восторженно заговорил.
— Что он вам говорит? — по-русски спросил майор обер-лейтенанта.
— Он говорит, что вы есть очень мужественный и находчивый человек! Настоящий герой и... хороший артист!— разделяя восторг ефрейтора, по-русски ответил обер-лейтенант, собираясь слезать с повозки.
— Не надо, — предупредил его майор. — Задерживаться не будем, пора расставаться. А товарищу вашему переведите, что ничего особого не случилось — у нас другого выхода не было. И «полиция» у меня что надо!
Va-9*
131
Теперь майор говорил по-русски, а обер-лейтенант и ефрейтор продолжали говорить по-немецки. И в темноте угадывалось, что все они улыбаются. Майор, подняв руку к глазам, рассматривал светящийся циферблат часов. Потом спросил обер-лейтенанта:
— А что вы сказали офицеру с бронетранспортера?
— Сказал, что вы есть очень злой майор из гестапо и сильно... как его?., пьяный есть! Сказал, что лучше вас не надо будить: получится грандиозный скандал,— ответил обер-лейтенант, ощупывая в грудном кармане свои документы. — А наши бумаги оказались вполне надежными. Теперь с ними не страшно и до Берлина.
— Да, да! — закивал ефрейтор, догадавшись, о чем идет речь. — Нах хауз. Их бин ордонанц! Ординарец есть. Так?
— Это был патрульный бронетранспортер? — спросил майор.
— Нет, войсковой.
. — Почему они нарушают приказ? Ведь ночью одной машиной ездить категорически запрещено! Об этом есть приказ.
— У гауптмана срочное предписание в Гомель.
— А почему они едут без света?
— О! — воскликнул обер-лейтенант. — Об этом надо спросить вас, товарищ Конрад Анри! Свет привлекает внимание партизан! Шофер от испуга включил фары, когда заметил повозку.
Полицейские, окружавшие повозку, весело засмеялись. Сейчас они были оживлены и вовсе не походили на тех молчаливых и почтительных стражей майора, какими их видели на селе. Они долго и крепко трясли руки обер-лейтенанту и ефрейтору. А майор снова нетерпеливо всматривался в циферблат.
— Пора прощаться. Теперь до Берлина вам самим добираться, товарищи, наша миссия кончилась. Счастливого вам пути! Аллее гут, как у вас говорится. До встречи после победы!
Обер-лейтенант в последний раз подал ему руку. Ефрейтор тронул вожжами. Повозка двинулась по шоссе к Довеку.
Секунду помедлив, Конрад Анри заторопил товарищей. Они сошли с дороги и словно растворились в наползающем прохладном тумане.
132
КОНРАД АНРИ
Конечно, он не был ни Конрадом, ни Анри. Звали его Константином, а чаще Костей. А в документах писалось — Кондратий Андреевич.
Родился он в Астрахани, незадолго до революции, в семье политических. Говорили, что дед, отец Костиного отца, Мадей, был французом и сражался на баррикадах Парижской коммуны. После ее разгрома ему удалось бежать в Россию. От него и пошла фамилия.
Костя рос обыкновенным парнишкой, хотя родители считали его упрямым, а учителя очень смышленым, но непоседливым. Однажды, когда в школе отмечали День Парижской коммуны, Костя сообщил таинственно своему другу — соседу по парте:
— Я тоже республиканец! Дед — за французскую республику воевал, а мать с отцом — за советскую!
Больше он ничего не сказал. Однако в играх любил называть себя Конрадом Анри.
Возмужал он как-то внезапно, раздался в плечах, а на лбу все чаще стала пролегать упрямая, волевая складка. Он стал усиленно заниматься спортом, сначала боксом, а затем до самозабвения увлекся плаванием.
Незадолго до начала войны в Парк культуры и отдыха имени Горького твердой походкой вошел крутолобый курсант. Он присел на трибунке возле Москвы-реки и внимательными, широко расставленными глазами стал отыскивать знакомых пловцов. Курсанту предстояло участвовать в военизированном заплыве с винтовкой. Наконец он отыскал глазами Семена Бойченко, настороженно всмотрелся в его хорошо тренированную фигуру. Жребий свел их в одном заплыве. Но известный пловец не обратил внимания на курсанта, который вместо разминки невесть для чего тщательно наматывал бинт на магазин винтовки.
По сигналу стартера пловцы ринулись в воду, вздымая снопами брызги, придерживая над собой оружие, устремились к финишу. И тогда, вырываясь вперед, над водой показалась рыжеватая голова. Кто-то плыл на спине и отчаянно выгребал... двумя руками! Винтовка, стиснутая в зубах, кренилась в сторону, слегка касаясь воды...
*9 И. Давыдов 133
На берегу Костю окружили товарищи. Поздравляя с победой, спросили:
— Как это тебя угораздило?
Он отер ладонью посиневшие губы, сплюнул. Слюна была красноватой. Ответил:
— А как его обойдешь по-другому? Я еще раньше об этом думал, две руки всегда лучше, а у него — винтовка в одной. На равных мне ни за что бы его не побить. Зубы болят маленько. Ладно, пройдут до свадьбы.
Когда Шестаков еще на Большой земле формировал отряд для перехода линии фронта, ничего этого он не знал. Бойцы входили, беседовали, выходили. Так вошел и еще один боец, вызванный для беседы. Он был чуть выше среднего роста. На высокий лоб наползали прямые, с рыжеватым отливом Жесткие Болосы. Чуть заостренный нос и широкие скулы придавали лицу добродушное выражение, но серые, широко расставленные глаза смотрели серьезно и как будто вызывающе.
Вошедший боец представился:
— Конрад Анри Мадей!
Шестаков, тщетно скользя глазами по списку, проворчал удивленно:
— Конрад Анри... Француз, што ли?
— Никак нет, — отозвался боец. — Рядовой Мадей, Кондратий Андреевич.
Пряча в дыму улыбку, Петрович строго спросил:
— Чего же ты в загадки играешь?
— Привыкаю к партизанскому псевдониму, — серьезно ответил Мадей.
Находчивый, любивший умную шутку, начальник разведки Василий Васильевич в тот раз не намеревался шутить. Он так и сказал:
— У нас разговор серьезный. Вы, вижу, служили в армии?
— Так точно! На Дальнем Востоке. Начал в пограничных частях. Затем — сапером. Потом — курсант школы ВЦИК.
Петрович недоуменно вскинул брови, покосился на комиссара.
— Это опять шутки? — спросил комиссар.
— Никак нет! — по-прежнему серьезно продолжал
134
отвечать Мадей. — На соревнованиях пограничников занял первое место. Вскоре — соревнования у саперов. Меня в саперы перевели. А потом — Всеармейские соревнования в Москве. Ну, показал- тогда хорошие результаты, меня — в училище.
— Вот, оказывается, как первые места добывают! — ворчливо заметил командир. Подумав немного, спросил, перейдя на «ты»:
— А саперное дело помнишь? Мне саперы нужны. И вообще отважные парни.
— Саперное помню, — поднялся с табурета Мадей.— Готов к любому заданию. Прошу вас, включите меня в отряд!
— Зачислим, — пообещал Шестаков. — Только в отряде без комбинаций чтобы! Комбинировать разрешаю в одном: в уничтожении оккупантов. А пока свободны, товарищ Конрад Анри!
Спортсмен четко повернулся кругом, хотя в валенках щелчок каблуками не удался.
После того как за ним закрылась дверь, командиры весело переглянулись. Много наговорил Конрад Анри! Однако на бахвала он не был похож. Спрашивали — отвечал на вопросы. А из рассказов его товарищей можно было заключить, что Кондратий Мадей уже успел проявить себя отважным и смелым в минувших боях под Сухиничами.
Мадей оказался в отряде, и Петрович, об этом ни разу не пожалел.
КРИВЫЕ ДОРОГИ
Успешно проводив немецких антифашистов, как предписывалось заданием, Конрад Анри был все-таки недоволен.
Перед ним едва маячила фигура проводника Тихона Мортикова. Высоко подымая масластые ноги и горбя спину, часто останавливаясь и прислушиваясь, Тихон, все более забирая влево, продвигался на запад. За спиной Конрада легкой походкой горца неслышно ступал высокий и стройный Али Исаев. Стараясь попасть в след на влажной от тумана траве, словно на лыжах, скользил Юрик Нечаев. На него то и дело натыкался
9*
135
минер, недавний гимнаст и цирковой акробат Михаил Семенов. Посапывая, беспрестанно поправляя оружие, двигался переводчик Леонид Шейнгардт. С ручным пулеметом замыкал небольшую колонну Ба-бошин.
Все шло своим чередом. «Майор со своей свитой», двигался в нужном направлении. Но Конрад по каким-то едва уловимым признакам угадывал, что бодрое настроение постепенно оставляет его «полицейских». Видно, зловещая фигура бургомистра и простреленная кепка неизвестного партизана никому не давали покоя. Было еще и другое: туман густел, но на открытое поле, по которому теперь шли партизаны, неумолимо надвигался рассвет. А это уже помеха.
Неожиданно Тихон остановился. Подождав, когда приблизится Конрад, он невозмутимо сказал, вытирая платком худую шею:
— Все. Сбился с дороги. — Присев на корточки, он стал не торопясь ощупывать мокрую траву. И так же невозмутимо добавил: — Все, значитца. Это те, брат, не по лесу ходить.
Тихон говорил правду. Уже не молодой, страстный охотник, лесной объездчик Тихон Герасимович был незаменимым проводником в его родных Брянских лесах, где еще в марте сорок второго года вступил в отряд, оставив в Тросне жену и многочисленных ребятишек. Сколько же раз он водил партизан к железным дорогам, к Брянску, к Рославлю, к Сещел к своей Тросне! Больше всего он любил ходить с Конрадом. Но стоило Тихону оказаться в безлесном районе, как он сразу терял ориентировку и становился предметом острот и шуток. Это мало смущало Тихона: он умел огрызаться. Когда его особенно донимали, обещал с завидным спокойствием:
— Погодите ужо... еще без меня наплачетесь. Дороги— они, брат, кривые. Еще потребуюсь.
И Конраду он так отвечал. Правда, только в тех случаях, когда тот был в хорошем расположении духа. Тихон, как никто другой, умел угадывать его настроение. В этот раз Конрад упрекнул с сердцем, сказал, покусывая травинку:
— Ну что ж, присядем. Будем ждать, пока здесь вырастет лес, тогда Тихон найдет дорогу.
136
Тихон смолчал. Без надобности принялся перешнуровывать мокрые ботинки. Он знал, что, когда надо, Конрад вполне обходится без него. Партизаны устало опустились на землю. Молчали, вглядываясь в густой туман. Незнакомое место их мало пугало — партизану везде дорога, — смущал рассвет.
И он наступил, яркий и неожиданный. Большие клочья тумана пошли над полем, цепляясь за траву, путались в ней, отрывались и таяли. А откуда-то сбоку, откуда совсем не ждали, на землю обрушились лучи солнца.
Конрад сузил глаза, изучая местность. Юрик, ткнув голову в плечо Леонида, дремал, как, впрочем, и сам переводчик. У них хватало спокойствия, а главное, они надеялись на Конрада. Вытянув натруженные ноги, прилег и Михаил Семенов. Минер, сам не раз водивший группы подрывников, сейчас тоже целиком полагался на Кондратия, спеша отдохнуть. К тому же сказывалась довоенная привычка — гимнаст-акробат всегда спал перед соревнованиями или цирковым представлением. Неспокойным казался только Али Исаев.
Горец нетерпеливо шагал, описывая вокруг товарищей небольшие круги, приподымался на цыпочки. Желая приободрить товарищей, Конрад пошутил:
— Глядите, ребята! Али дагестанскую лезгинку танцует!
Партизаны приоткрыли глаза. А Исаев и вправду выбросил в сторону руку, подогнул кулак. Оскалив зубы, негромко выкрикнул:
— Ас-са!
И вдруг:
— Посмотрите!
Все повернули головы туда, куда показал Али.
Невысокая насыпь, обозначенная телеграфными столбами, тянулась на север. До шоссе было рукой подать— не более километра. По другую сторону насыпи, примерно на таком же расстоянии, веселым оазисом выступала горстка кустов. А где-то уже совсем близко, на востоке, не виделась, а только воображалась темнеющая полоска леса. Ну, конечно, там — Сож и за ним — гостеприимный Чечерский лес. Там сейчас расположился отряд. И, конечно, там сейчас их ждут...
137
В северной, стороне, куда тянулось шоссе, виднелись дома. Они казались небольшими, со спичечные коробки. Но все поняли, что до них не так далеко, как до леса за Сожем. Домов было много. Это был Довск. Ослепленный лучами солнца, город вот-вот должен проснуться. По шоссе, осматривая каждую выемку и канаву, пройдут немецкие патрули. Потом начнется движение. Надо было что-то предпринимать, партизанская группа не могла в течение дня оставаться на совершенно открытом месте.
Конрад нагнулся, сорвал влажный стебель, перекусил зубами. Его широкоскулое лицо оживилось. Значит, уже принял решение. Может быть, рискованное, требующее выдержки и отваги. Он всегда-так решал.
И Конрад сказал Тихону, не забыв пошутить, показывая на мелкий кустарник:
— Гляди, Тихон, — лес! Это по твоей части. Веди, теперь не заблудишься. — Затем пояснил товарищам:
— Дневку устроим под самым городом. Так близко никто искать нас не станет. Пошли!
НЕОЖИДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ
«Лес», когда к нему подошли партизаны, оказался значительно большим, чем ожидали. Низкорослый кустарник занимал полсотни квадратных метров. Для партизан, застигнутых рассветом в открытом поле, это уже была находка. Одна беда — нельзя разминаться. Хорошо тренированные мышцы спортсменов не переносили длительного безделья, а теперь целый день предстояло провести в низкорослом кустарнике. Даже у невысокого Юрика, если ему встать на ноги, голова высовывалась наружу. И часовому надо было лежать. А это плохо, после бессонной ночи трудно бороться со сном. Значит, придется дежурить по двое.
Первая очередь стоять на посту досталась Исаеву и Леониду. Темпераментный Али уже успокоился. Он был нетерпелив, когда не имел никакого дела. Сейчас дело имелось: наблюдать за шоссе и охранять сон товарищей. Для этого выдержки у Али хватит хоть на целое отделение. Дискобол еще до войны приучил себя не волноваться даже перед самыми ответственными со
138
ревнованиями, в каких ему доводилось участвовать. Зато Леонид Шейнгардт был чем-то расстроен. Исаев это сразу заметил.
— Чего тебе не хватает? Воды? — спросил Али.—Не думай про воду!
Леонид вздохнул, указал глазами на спящего Конрада:
— Трудно мне с ним работать.
Густые, черные брови Али взлетели кверху.
— Нэ панимаю! Переведи, пожалуйста.
— В том-то и дело — «переведи»! — горько усмехнулся Леонид. — Попробуй перевести, когда не знаешь, что Костя хочет сказать. Выдавит по-немецки одно-два слова, а после под нос: быр-быр... Вот и ломай тогда голову, выдумывай.
— Зачем выдумывать? — пожал плечами Али. — Ты говори, что подходит к случаю.
— «К случаю»! — Леонид даже приподнялся на локти.— Хорошо получилось у бургомистра... Он пьяный, шумит, не замечает, когда мне Костя по-русски шепчет. А вот даже настоящий немец, ну этот наш обер-лейтенант, когда прощались, признался, что не мог бы у Конрада переводчиком быть. Конрад, сам знаешь, импровизирует на ходу.
Леонид внимательно и долго добрым взглядом посмотрел на лицо Конрада, словно изучая его. И вдруг отвернулся, сказал с усмешкой:
— Говорят, не надо смотреть на спящего друга.
— Боишься? — блеснул зубами Али. — Проснется, тогда — держись!
— Н-нет... — протянул Шейнгардт. — У нас считают плохой приметой.
— У евреев? — спросил Али.
Красивое, правильное лицо Леонида дрогнуло. Он ничего не ответил. Али смутился. Спустя минуту Леонид снова вздохнул:
— Представляешь, если бы бургомистр знал немецкий?
Али искренне рассмеялся:
— Тогда бы Костя просто рычал на него. Все равно сошел бы за чистого немца.
Переводчик не разделял веселости горца. Огозвался, словно отвечая не Исаеву, а себе;
139
— А вот, когда подъехали те, на бронетранспортере,— не стал рычать, небось послал обер-лейтенанта разговаривать с ними. И правильно! Разве обманешь немца?
— А ты почему не пошел? — спросил Али. — Думал, по акценту тебя узнают? Они не терпят евреев.
С лица Леонида отхлынула кровь. Он провел ладонью по лбу, ответил приглушенным голосом:
— По акценту бы меня не узнали!
— Еврейский язык очень похож на немецкий? — спросил Али.
Леонид немного подумал.
— Не очень.
— А почему тебя не узнавали, когда ты у них в эскадроне служил?
Леонид ответил натянуто:
— Я... немец.
Исаев сел. Его карие, мягкие глаза округлились.
— Нэ нанимаю. Переведи, пожалуйста!
Теперь Леонид надолго задумался. Наконец объяснил:
— Трудно все рассказать. Запутано. Я немец, ну, как это... наш, ну, понимаешь, советский, с Поволжья. Война захватила меня в Эстонии, служил в саперном батальоне. До войны все шло нормально, а как война началась, сразу почувствовал: перестали мне товарищи доверять. Я, конечно, их понимал и даже в душе оправдывал, но мне-то от этого легче не было. Не знаю, чем бы все это кончилось... А вскоре нас окружили, еще в Эстонии. Рыбацкая семья меня спрятала. И вдруг — немцы. Опознали сразу: красноармеец!
— Ну?
— Ну, один верзила — автомат на меня. Стрелять. А другой уже в мою красноармейскую книжку успел заглянуть. «Погоди, говорит, он — немец!» Так и зачислили меня переводчиком. В эскадрон... как немца. А после нас прислали в Белынковичи станцию охранять. Слышал о партизанах, душа изнылась!
— Почему не ушел? — спросил Али.
— Боялся,— просто сказал Леонид. — Только уже боялся не того, что я немец, а что у немцев, служил. Ну, какая после этого вера? А дальше сам знаешь.
— Что «знаю»?
140
— Да то, что, когда ваш отряд вместе с березовцами напал на станцию, я решился бежать от немцев. Хорошо, Конрад как’раз попался, а то бы в горячке стукнули. А он мне сразу почему-то поверил. Может, потому, что я ему дом и конюшню нашего эскадронного показал. Помнишь, у Петровича был серый скакун?' Это нашего эскадронного, а его самого мы вместе с Конрадом прикончили. Только Конрада я обманул, да и всех вас, сказал, что еврей, а немцы меня насильно заставили переводчиком...
— А теперь Костя знает? или Петрович?
Леонид отрицательно покачал головой:
— Нет. Никто. Ты —первый, кто знает.
— Понимаешь,—твердо сказал Али,—надо, чтобы знали.
— Надо,— согласился Леонид. — Теперь можно. Вы меня уже хорошо проверили во всяких делах.
— Конечно,— наконец улыбнулся Али. Посмотрел на свежий шрам на левой щеке Леонида. — Конечно проверили.
А Леонид вдруг дернул его за рукав, шепнул:
— Смотри!
Растекаясь по полю, на кустарник медленно надвигалось облако пыли, и в нем вырисовывались какие-то силуэты. Исаев и Шейнгардт принялись усиленно тормошить товарищей.
ПРОТИВНИК БЫВАЕТ РАЗНЫЙ
Это, как тут же выяснилось, не было настоящей атакой, и в противника нельзя было стрелять. Но положение партизан усложнилось.
В кусты, позванивая разноголосыми колокольчиками, спокойно вступило большое стадо коров. Животные упивались своей свободой. Рыжие, черные, пегие, они мягкими губами лениво щипали траву, равнодушно косясь на ошеломленных людей с оружием.
К кустарнику подошли две женщины и два подростка. Одна из женщин — молодая, смуглая, другая — постарше. Они негромко переговаривались, еще не видя партизан. Первыми увидели их подростки.
Один, белобрысый, с соломенными волосами на голове, с веснушками, влетев в кусты, открыл от неожи
141
данности рот, округлил глаза и попятился к другому. А тот, подтягивая штаны в заплатах, испуганно обернулся к женщинам. Теперь и они остановились. Вид людей в немецкой одежде явно обеспокоил их.
Конрад повелительно поманил их рукой. Заворчал, настойчивым взглядом требуя от Леонида, чтобы он перевел. Глаза Шейнгардта потускнели. Он сейчас решительно не понимал своего командира, не знал его замысла. Конрад нахмурился, ткнул пальцем в кусты:
— Ком! Сидеть. Здесь!
Женщины отошли в сторонку, тяжело опустились на траву в тени кустов. Подростки тоже присели, пугливо поглядывая на оружие.
Однако все пока обходилось мирно. Грозный рыжеватый немец сбросил с себя фуражку, устало прикрыл глаза. Подсунув под голову френч, блаженно вытянулся Семенов. Тихон свернулся ужом, обхватив руками острые колени, подтянув их к самому подбородку. А у Юрика уже сон пропал. Он с превосходством поглядывал на сверстников, ио в его взгляде нельзя было не заметить ребячьего любопытства.
Юрик Нечаев — уже хорошо обстрелянный партизан. Еще в начале войны, на Брянщине, он тяжело пережил смерть отца, на его глазах убитого оккупантами. Затем помогал отряду Орешина, действовавшему в Дятьков-ском районе, а вскоре вступил в отряд Шестакова. И в каких только переделках с тех пор не успел побывать Юрик! Не зря его любили в отряде. Отвыкший от материнской ласки, ершистый и огрубелый, с золотистыми вьющимися волосами, сейчас Юрик казался даже застенчивым. Его утомленные синие глаза следили за женщинами и за ребятами. Заговорить бы с ними сейчас. Все-таки свои, советские люди! Чего пугать их напрасно, выдавая себя за немцев? Юрик обернулся к Исаеву, словно прося разрешения.
Али, как и Юрик, не умел изображать из себя злодея, а Костя мог. В отряде шутя говорили, что, когда Кондратий Мадей входит в роль, превращаясь в Конрада Анри, он становится похожим на немца даже больше, чем сами немцы. Тогда его скуластое лицо с широко расставленными глазами становится зловеще-непроницаемым. Вот и сейчас во сне он умеет сохранить нужное выражение. И его лицо особенно пугает женщин.
142
Али хорошо понимал состояние Юрика. И может быть, поэтому обнажил крупные, красивые зубы, широко улыбнулся ребятам и женщинам. Его карие, немного выпуклые глаза тепло залучились.
Подростки робко зашарили по траве руками, женщины плотнее прижались друг к дружке. Это было невыносимо! Как пытка. Али перестал улыбаться. Он же заранее знал, что произойдет вслед за этой его улыбкой! Такое случалось всегда, когда он надевал немецкую форму. Эта форма и улыбка на смуглом, нерусском лице пугала и настораживала людей не меньше, чем пасмурное лицо Конрада в форме эсэсовца. Советские люди в тылу врага хорошо знают цену улыбок гитлеровских солдат и гитлеровских прихвостней. И тогда люди еще теснее прижимаются друг к дружке. Вот точно так же, как сейчас эти женщины и подростки.
Молодая женщина отвернулась, надвинула на самые брови платок, .проворчала сквозь зубы:
— Ишь, чумазый! Бельмы таращит!
Али не выдержал. Сказал как можно мягче, однако без улыбки:
Не надо пугаться нас, мы русские. Мы ничего плохого не сделаем.
— Не бойтесь! — поддержал его, оживившись, Юрик.
Но от этих слов никому не сделалось легче. Пожилая женщина прикусила губу, а смуглая, помоложе,.метнула из-под платка уничтожающий взгляд и еще ниже опустила на глаза платок. Подростки отодвинулись дальше, почти -открыто выказывая презрение.
В груди Исаева всколыхнулось сложное чувство. Ему стало радостно оттого, что он увидел, какую нескрываемую ненависть питают эти отважные люди к оккупантам и, может быть, еще большую — к изменникам, к таким, за которых они, конечно, принимали сейчас его и Юрика. И это было гордое чувство за советских людей, за этих подростков и женщин, которые явно их сейчас презирали и не скрывали этого.
А у Юрика на глаза навернулись слезы. Ему нестерпимо захотелось сорвать с рукава зеленую повязку с немецкой надписью «полицай». И может быть, он это сделал бы, если б в этот момент на шоссе не послышался гул. Началось движение.
143
Женщины забеспокоились, поглядывая на солнце и на шоссе.
— Сидеть! Тихо! — не открывая глаз, негромко, но властно прикрикнул на них майор.
Выждав минуту, он открыл глаза, устало повел плечами, поправил погоны и, перевалившись на бок, выглянул на шоссе. Из Довска на большой скорости проследовала автоколонна из четырех машин. Конрад проводил ее разочарованным взглядом. И так же вслед безнаказанно уходящей колонне смотрели его товарищи. И все хорошо понимали друг друга...
А потом по шоссе загромыхала телега. Яро нахлестывая лошадь, на ней сидел всего один человек. Было видно, что он торопится в город. Впрочем, поравнявшись с кустарником, он осадил лошадь. Телега ковыльнула через канаву, подскакивая покатилась по полю к кустам.
— Эгей, пастушки! А нут-ко, угостите парным молочком! Да живо вы у меня! — прокричал человек. Потом соскочил с телеги.
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
Нельзя сказать, чтобы Волчок растерялся, наткнувшись в кустах на майора, которого видел у бургомистра. Дело обычное: немцы выслеживают партизан. А то что майор со своими людьми задержался в дороге, даже устраивало Волчка. Как понял он бургомистра, донесение должно попасть в город уже после того, как туда приедет майор.
Но если встреча устраивала Волчка, то она вовсе не пришлась по душе майору. Он жестом показал полицейскому на лошадь и на коров. Хотя жест Конрада был достаточно красноречив, его Волчок не понял. Вообще это оказался в состоянии сделать только один человек — Леонид. В его глазах уже не было и следа той грусти, которая сквозила, когда он разговаривал с Исаевым. Сейчас лицо переводчика было землистым и злым. Он что-то сказал майору по-немецки и прикрикнул на полицая:
— Не слышишь? Тебе приказано! Лошадь распряги и — в стадо, телегу — в кусты. Шнель!
Волчок с поспешной готовностью выполнил приказание. Проходя мимо женщин, подтолкнул ногой ведерко, важничая, сказал:
144
— Молока надоите! Сами-то не догадаетесь пана попотчевать!
Пропахший самогоном и табаком, всклокоченный и помятый, Волчок нерешительно уселся недалеко от майора. Весь вид изменника вполне соответствовал его фамилии или прозвищу — полицейский напоминал затравленного волчонка, испуганного и льстивого. Может быть, даже не волчонка, а волка. И Волчок явно не знал, что ему делать.
Этого не знали и партизаны. Конечно, надо бы допросить, узнать, для чего он едет в город. От этого зависит все остальное.
Конрад лихорадочно думал, покусывая травинку. По тому, как Волчок озирался по сторонам, Конрад догадался, что полицай уже заметил отсутствие обер-лейтенанта и ефрейтора, которых он видел у бургомистра. Конрад покосился на Леонида. Нет, «переводчик» не сладит с вопросами, которые одолели сейчас майора!
Конрад наконец перекусил стебель, вытолкнул кончиком языка. По этому жесту Конрада товарищи поняли, что он составил план действий и принял решение. А он поманил Волчка пальцем.
— Много есть в ваш район партизан?
Волчок осторожно подполз к майору, неопределенно ответил:
— Бывает.
— Ты партизан есть? — грозно сдвинул брови майор.
Волчок опешил. Ответил охрипшим голосом:
— Никак нет, пан майор! Служу полицейским в селе. Может, вы изволили заметить меня, когда заезжали до нашего бургомистра?
— Полицай — гут! — уже более миролюбиво заключил майор. — Мы есть хинтерхальт. Засада. Немного ловить партизан. Ты будешь сидеть здесь, помогать немного ловить.
— Это могу,— охотно согласился Волчок. — Только днем они никак сюда не рискнут, где им! Они по открытому месту, да в день — не шибко решаются.
— Сидеть! Слушать! — сдвинул брови майор.
По шоссе снова заурчала автоколонна. Конрад едва заметно покосил глазом на Леонида: что там?
— ...Спокойно,— ответил ему переводчик. И, погро-
145
Зив пальцем Волчку, поправился, прикрикнув: — Спокойно сидеть!
Майор потянулся, спросил зевая:
— Зачем ехал?
— Известно, — неуверенно пожал плечами Волчок.— Бургомистр отпустил. Поглазеть... на рынке, того... потолкаться.
Майор задумался. Полицейский явно юлит. Майор повторил, покусывая травинку:
— Будешь сидеть здесь, помогать ловить партизан!
— Можно,— шмыгнув носом и поправляя пояс, с прежней готовностью ответил Волчок. — Только я, того, безоружный. Бургомистр не доверяет нам в одиночку с оружием ездить. Он насчет самогона за нас опасается, говорит, еще утеряем.—Волчок помялся, сказал, поправляясь:— Бывает грех, как же. А то, бывает, партизаны прихватят в дороге. А с оружием у нас туговато. Вот как один едешь, бургомистр и не разрешает.
Леонид торопливо заговорил по-немецки, опасаясь, как бы Конрад, увлекшись, преждевременно не задал другого вопроса. Конрад метнул на него благодарный взгляд. Кстати, и ему нужна была пауза, чтобы что-то придумать. Полицейский, видать, не прост, каким хочет казаться. Конрад вынул из кармана завернутый в тряпку пистолет ТТ, а заодно, нечаянно, кепку с бурым пятном.
— Это получишь...
Волчок оживился. Хищно уставился на пистолет, сказал хвастливо:
— Это я его уложил! Пан бургомистр хватанул другого, да только тот не имел оружия. Ну, бургомистр отобрал у меня все... и кепку! За них хочет выпросить деревеньку поближе к городу. А я, знать, теперь ни с чем.
Майор, лязгнув зубами, перекусил стебель.
— Трупы убитых куда девали? — бледнея спросил переводчик.
— Зарыли за огородом,— равнодушно отозвался Волчок. Добавил зло: — Он все за наш счет норовит, бургомистр-то! А в городе ему все одно влетело от пана 146
гебитскомиссара. Теперь заставит меня выслеживать, как его там... Мадея, что ли. И еще Шестакова. А удача случится — себе припишет.
— О!—не ожидая переводчика, воскликнул майор.— Откуда есть известно Шестаков и Мадей?
— Бургомистр сказывал: на совещании в городе объявили. Это про Шестакову бригаду. А Мадей — тот его главный сподручный.
Волчок испытующе, пожалуй даже с лукавством, посмотрел на майора. А тот уже успокоился, сказал не спеша, внушительно:
— Мы есть засада. Немного ловить Мадей.
Волчок довольно и угодливо улыбнулся.
— Так я еще тот раз в селе догадался, да бургомистру ничего не сказал. А он догадался сам, он у нас страх как хитрый! Знать, это про вас поминал пан гебитскомиссар: вы — майор Амон!
Конрад Анри чуть было не вскрикнул от удивления й не спросил, что за птица такая Амон. Выручил опять Леонид, быстро заговорив по-немецки. Важно наморщив лоб, майор выждал, пока ему «переведут» слова полицейского.
В это время к ним подошла пожилая женщина, поставила на землю ведёрко, полное молока.
Волчок облизал губы. Изголодавшиеся, давно не имевшие глотка воды, партизаны, весело подтолкнув друг друга, окружили ведро. Кружки не оказалось. Майор пригнулся, долго, громко глотая, пил через край. За ним напились другие. Остатки допил Волчок. Отерев полой пиджака губы, оттолкнул ногой пустое ведерко. Оно, звякая дужкой, покатилось в траву. Женщина подхватила ведерко, вытерла краем широкой юбки, смерйла сердитым взглядом Волчка. Затем посмотрела на высоко стоявшее солнце, приблизилась к переводчику. Спросила, пряча глаза:
— Узнайте у начальника вашего, что нам-то делать? Скоро, должно, женщины из города подойдут, коров доить время.
Леонид «перевел».
Майор мотнул головой. Отрезал:
— Нельзя!
147
Женщина переступила босыми ногами с крупными набухшими венами:
— Тогда, может, коров отгоним. Пусть в городе подоят, молоко-то течет. Скотину жалко!
Коровы и вправду начали беспокоиться. Они негромко, но требовательно мычали, приподымая головы, все чаще позванивая разноголосыми колокольчиками.
— Запрещено в гарнизон! — опять отрезал майор.
Женщина беспомощно развела руками.
— Так ведь все равно же придут хозяйки. А то солдаты соберутся проверить стадо. Тут порой партизаны шалят, за тем и ходят иной раз солдаты проверить стадо, если оно задержится.
Леониду не потребовалось переводить. Конрад посмотрел на часы, потом — на небо. До вечера было еще далеко. Близко было до немецкого гарнизона. Партизаны, поняв его молчаливый приказ, зашевелились, взяли в руки оружие.
Волчок побледнел. Но все еще на что-то надеясь, спросил заискивающе:
— Может, позволите, пан майор, ехать? Ослобоните меня! А нельзя в гарнизон, так я и в село вернусь.
— С нами, подлец, пойдешь! — уже чистым русским языком сказал Конрад, поднимаясь с земли.— Лошадь оставишь здесь.— И, обернувшись к изумленной женщине, улыбнулся с не присущей ему грустью: — Скажете, что лошадь с утра одна бродит^ прибилась... А про нас ничего не надо.
Женщина спросила озабоченным голосом:
— Куда ж вы теперь, ребятки, пойдете средь дня? Место у нас кругом открыто.
— Отыщем что-нибудь. За молоко спасибо,—ответил Конрад. — И не обижайтесь, что вас припугнуть пришлось. Из-за таких вот, — сердито взглянул он на Волчка.
Теперь к партизанам приблизились и подростки, и та, молодая женщина. Подростки смотрели с восторгом на партизан, не побоявшихся подойти к самому городу. Али широко улыбнулся, подмигнул парнишкам. И молодая женщина теперь улыбнулась, сдвинула с головы платок к затылку.
Партизаны, подталкивая Волчка, тесной группой вышли на открытое место.
148
ОТРЯДУ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ДЕЛА
Редко случалось, чтобы командир так волновался за группу Конрада. Внешне Петрович оставался спокойным и был, как всегда, не особенно разговорчив. Но сейчас в том, что командир непрерывно, точно не находя себе места, ходил по лагерю, партизаны угадывали неладное. Между тем у Петровича имелось дело. Он внимательно осматривал повозки и лошадей, беседовал с командирами подразделений, с бойцами. Потом задержался возле роты Александра Долгушина, потребовал:
— А ну, ореликн, покажите оружие! Оружие должно быть чище всего на свете. Без него нам нечего здесь толкаться.
И хотя Петрович знал, насколько требователен и аккуратен во всем командир роты Александр Долгушин, все же заставил партизан вытряхнуть вещевые мешки, проверил неприкосновенный запас — сухари и сушеное мясо. Долгушин отличался бережливостью и не упускал случая, чтобы не сказать кому-нибудь из своих бойцов:
— Ничего, милок, потерпи, это еще не самое трудное.
Петрович остался доволен проверкой роты Долгушина и, помедлив, снова пошел по лагерю.
И везде, где ни появляется командир, за ним неотступной тенью следуют Главстаршина Андреянцев и начальник штаба.
Главстаршина, высокий, пожилой, не выдерживает проверки, спорит. Он говорит быстро и шумно, с отчетливым белорусским акцентом:
— Чего проверять? Говору же вам, товарищ командир, лично сам раздавал это энзе!
— Ну, раздавал, — не зло усмехнулся Петрович. — Раздавать раздавал, а если они его уже съели? Путь предстоит еще далекий.
— И то ж не так велика беда. Я ж наши районы до каждой хаты спознал, считай — до каждого человеку! Тут, говору вам, товарищ командир, самого черта достану вам, когда прикажете.
Петрович согласно кивал головой и продолжал проверять вещевые мешки. Он не сомневался в словах Андреянцева, но не отступал от своего правила — убедиться собственными глазами, что все в порядке. И на этот раз командир остался доволен осмотром: энзе ока-
149
залось целым, а транспорт на ходу. Не зря же Иван Кузьмич Андреянцев, этот расторопный человек, мастер на все руки и хороший хозяйственный организатор, получил от товарищей веселое и почетное прозвище Главстаршины.
Начальник штаба, Михаил Оборотов, совсем другой человек. Молодой лейтенант, перед самой войной едва успевший закончить Ташкентское пехотное училище, он был еще во власти юношеских эмоций. Заменив на должности начальника штаба погибшего старшего лейтенанта Медведченко, спокойного и расчетливого, Михаил увлекался боевыми делами, то и дело уезжал на боевые операции и в засады, оставляя на Главстаршину все заботы по отряду. Командир за это ругал непоседливого лейтенанта. Но проходил день-другой, и Петрович снова отпускал Оборотова на боевые дела.
На этот раз начальник штаба со второй ротой разогнал несколько небольших вражеских гарнизонов, «осваивая» новый район. И опять командир обещает:
— Больше не отпущу. Посиди в отряде, приведи в порядок штабные дела. Не мне ж тебя заменять! И на старшину не вали.
Следуя тенью за командиром, молодой начальник штаба весело оправдывается, почему-то неожиданно окая. Может быть, полагает, что так солиднее:
— Обещаю, товарищ командир! Через час будет полный порядок!
Петрович посмотрел на него понимающе, потом увел к своему шалашу, достал планшет.
— Давай уточним что нового. Покажи, где и как проследовал с ротой. Вон, кстати, и Василь Василич идет.
Начальник разведки тоже вынул из полевой сумки карту, блокнот, разостлал на траве плащ-палатку, придвинулся к командиру.
Хотя отряд, выполняя приказ Большой земли, продвигаясь к новым районам действий, временно задержался в Чечерском лесу и был «на колесах», партизаны совершили немало успешных боевых операций, быстро разнесших о шестаковцах добрую славу среди местного населения и других отрядов.
Из Клетнянских лесов, с места прежнего базирования, вернулся Леонид Митропольский. Он сообщил, что 150
комиссар отряда Василий Сергеевич, оставшийся там из-за внезапной болезни, уже поправляется и скоро догонит отряд. Разведчик доложил также, что обстановка в старом районе вполне надежна, а командиры партизанских бригад и отрядов передают Петровичу самый большой привет.
Командир собрался было тут же объявить разведчику благодарность за хорошо выполненное задание, но вдруг прислушался и улыбнулся, махнув рукой. Из-под раскидистой ели доносился могучий храп. Рыжеволосый богатырь, вытянув огромные ноги в разбитых лаптях, спал безмятежным сном. Дискобол, рекордсмен страны, Леонид Митропольский мог бы легко посоперничать с любым чемпионом по спортивной ходьбе. Для него не составляло труда пройти без отдыха пятьдесят, а то и все восемьдесят километров, чтобы выполнить задание командира по установлению связи с другими отрядами или разведать дальний район. Лишь одно неудобство испытывал Митропольский — не было таких трофейных сапог, которые бы подошли ему. Поэтому рыжеволосый гигант ходил в лаптях, а Главстаршина не успевал доставать ему новые.
Между тем Василий Васильевич докладывал командиру «Славного» об операциях, проведенных разведывательными, диверсионными и боевыми группами отряда в последние дни.
Группа Леонида Каменева совершила удачный налет на охрану противника у переправы через Сож. Взвод Кабира Абашева из засады атаковал роту врага, следовавшую в большое село Полесье. Из-за Днепра вернулся политрук второй роты Михаил Баштан, доставил ценные сведения о маршруте, которым предстояло продвигаться отряду. На линии Корма — Журавичи подрывниками повреждено два с половиной километра линии связи противника... С железных дорог Гомель — Брянск, Гомель— Могилев, Гомель — Чернигов вернулись группы и взводы Григория Головина, Николая Шатова, Эдуарда Бухмана, Митрофана Дивакова, Анатолия Соловьева, Петра Борисова. На их счету появилось еще по одному взорванному воинскому эшелону противника. Между Сожем и Днепром успешно действует рота Ро-манькова. В боевую работу включились недавно прибывшие десантники лейтенанта Корнилова...
151
Группы, взводы и роты вернулись в отряд, выполнив задания. Не возвращалась лишь группа Конрада.
Сидят под густой, разлапистой елью Петрович, Василий Васильевич и начальник штаба, водят карандашами по картам, ставят кружки и крестики, заглядывают в блокноты. Все им сейчас понятно и ясно. Все, кроме маршрута, по которому движется, или двигалась, группа Конрада. Никто о ней ничего не слышал. Исчезла целая группа!
Тихо в густом партизанском лесу над Сожем, хотя идет в нем напряженная работа. Лишь где-то в стороне назойливо гудит вражеский самолет-разведчик, выслеживая партизан. И здесь, из густого ельника, слышится негромкий и мерный звук ручного генератора: работает отрядная рация.
Оттуда, из ельника, и подбежали к Петровичу взволнованные радисты Толбузин и Поляков. Командир ухватил листок с радиограммой. Складки на высоком лбу Петровича разгладились, округлое лицо посветлело, взгляд карих глаз стал еще добрее и мягче. И те, кто был рядом, словно впервые заметили: а ведь коман-дир-то еще совсем молодой!-
Радиограмма была из Минска. Немного ломая русский язык, немецкие антифашисты сообщали:
«Минск достигнут благополучно. Документы надежны. Выезжаем Берлин, комфортом. Большой привет, спасибо Петровичу, особо Конраду Анри. Долой гитлеризм! Ура — победа!»
Петрович торопливо схватился за трубку. В ней уже был табак, а он, не замечая этого, старался втиснуть еще. Сказал мягким голосом:
— Надо срочно сообщить на Большую землю, что переброска немецких антифашистов проведена успешно. Дальнейшую связь они сами будут поддерживать прямо с Большой землей, как условлено. Исполнитель задания —Кондратий Мадей.
И снова на лоб командира набежали морщинки, и лицо его показалось гораздо старше. Тихо посапывая, он принялся разжигать погасшую трубку. Василий Васильевич, начальник штаба и радисты лежали, не двигаясь, молча следя за тем, как в руке командира вздрагивал огонек зажигалки.
152
Сложное задание Большой земли выполнено успешно. Но не вернулся его исполнитель. Не возвратился еще пока почему-то и ни один человек из его группы.
КОГДА ДО ВЕЧЕРА ДАЛЕКО
Причин, которые задерживали группу Конрада, было немало. Прежде всего, он еще не знал, удачно ли миновали Довск немецкие патриоты, и хотел сам убедиться в этом. А мог ли он вернуться в отряд, не вручив бур-, гомистру, самолично расстреливающему партизан, обещанную «награду»? Кроме того, Конрад опасался, что фамилии партизан, которые ему. сообщил бургомистр, могли быть уже известны гестапо. Поэтому надо было как-то предупредить людей. Наконец, появилось совершенно новое обстоятельство: совещание бургомистров у гебитскомиссара и майор Амон с его специальными полномочиями, которого, видно, побаивается и сам гебитскомиссар... Конечно, этот самый Амон прибудет в район, если уже не прибыл, вовсе не для того, чтобы схватить только его, Конрада Анри, хотя такое внимание к нему и льстило разведчику. Ничего большего от Волчка невозможно было добиться.
А Конрад не из тех людей, кто делает дело наполовину. Он идет и, время от времени по привычке срывая стебли, покусывает их на ходу. Он всегда поступает так, когда напряженно думает. И наконец решил.
Деревня! Правда, она совсем недалеко от шоссе, но все же это не открытое поле. В случае если их обнаружат, можно принять бой и как-нибудь продержаться до вечера, а потом ускользнуть.
Конрад зашагал быстрее. Теперь и у него на рукаве появилась повязка с надписью «полицай». В деревню с шоссе могут завернуть немцы, и тогда не очень поиграешь в майора. И лица партизан снова сделались мрачными, какие бывают у полицаев.
Они вошли в один из дворов, посреди деревни. Старший, скуластый и рыжеватый, потребовал у хозяина молока и хлеба. Подумав немного, добавил:
— И самогону с салом!
Кондратию было жалко хозяина-старика с бородой, заросшей до самых глаз, однако какие же это полицейские, если они самогону не требуют? Но старик оказался
10 И. Давыдов
153
не очень робким, посмотрел на него сурово и осуждающе, сказал, насупясь:
— Где теперь самогон сыскать? . Не из чего его гнать. И с едой плохо: шлях — вон он виден! Кто ни едет, ни идет — начисто обирает. Нет ничего в хате, хоть стреляй меня, хоть вешай, если уж ты до конца продался. Совесть, видать, совсем потерял!
Кондратий постукивает носком сапога, строго смотрит на старика, а на душе — радость. Такой, если и узнает, кто перед ним, — убей не выдаст. И все же нельзя ему сейчас открываться. Поэтому Мадей говорит, но уже помягче:
— Ладно, черт с ним, с твоим самогоном. Достань хотя молока, одолжи у соседей. И вот что еще: пересе-ли-ка на время отсюда свою хозяйку, да и сам с внуками переберись отсюда, подальше от хаты, мало ли что может случиться тут.
Старик, глухо ворча, забрал жену и внуков, ушел со двора.
Партизаны разместились за домом. На опрокинутой бочке появились две крынки молока, небольшой каравай темного хлеба и кусок тощего, пожелтевшего сала. В другое время и это бы съели с жадностью. А сейчас аппетит пропал. Последнее у человека забрали! Даже Волчок сидит в стороне, боится придвинуться. Но у него-то, понятно, страх отшиб аппетит.
Так и сидят они за избой, кусочка не съели. А у крайних домов, у тех, что ближе к шоссе, прохаживается постовой Михаил Семенов. Ему нельзя прятаться, народ сразу поймет неладное: чего бы это полицаю хорониться? К тому же он должен быть хорошо виден своим товарищам, если ему случится подать им знак.
И постовой неожиданно поправил пилотку! Один раз, другой. Партизаны насторожились: это означало, что с шоссе на деревню свернули две автомашины. А больше ничего постовой показать не может. Попробуй узнай, что в этих машинах!
В первой из них рядом с шофером сидит унтер-офицер. Когда поравнялся с Семеновым, приоткрыл дверцу кабины:
— Вер ист ес?
— Полицай! — буркнул Семенов.
Унтер постучал по брезенту. Из кузова выскочили
154
пядь солдат. Один, выслушав унтера, подошел к постовому:
— Кто есть в деревне?
— Полицейские отдыхают,— ответил постовой, кивнув на свою повязку. Прикрыл глаза.— Спят, понимаешь? Шляфен.
— Много?
— Отделение..,— постовой показал две ладони с раскрытыми пальцами.— Десять. Ферштейн?
— Во? Где есть они?
Постовой неопределенно кивнул головой вдоль улицы.
Унтер-офицер что-то крикнул. Из-под брезентового тента второй машины выпрыгнули еще четыре солдата. Теперь все они забрались в кузов первой автомашины. Взревев дизелем, она медленно поползла по улице.
Семенов снял с плеча автомат.
Дальнейшее произошло стремительно.
Когда возле избы, за которой сидели партизаны, внимательно наблюдавшие за действиями Семенова, пбслышался гул подъезжавшей автомашины, Волчок вскочил на ноги.
— Сиди!—зыкнул на него Конрад и положил руку на парабеллум.
Во двор ввалились немецкие солдаты. «Полицейские» встали. Солдат, тот, что разговаривал с постовым, попробовал и здесь говорить по-русски и, наморщив лоб, с трудом подбирал слова. Тогда с унтером по-немецки заговорил Леонид. Затем он почтительно доложил Конраду:
— Они заехали сюда собрать птицу... курочек.
— Передай, что это опасно, — сказал Конрад. — Скажи, что мы караулим здесь партизан.
Унтер и солдаты забеспокоились. Унтер что-то сказал сердито.
— Он говорит, что мы должны им помочь быстро собрать птицу, и они тут же уедут, — перевел Леонид.
— Передай, что есть приказ германского командования: малыми группами в деревни не заезжать, — хмуро сказал Конрад.
Унтер-офицер, услышав перевод этой фразы, закричал.
— Он требует, — перевел Леонид. — Говорит, что не наше дело ему указывать, что полицейские должны бес
10*
155
прекословно подчиняться не только германскому офицеру, хотя и в небольшом чине, но и германским солдатам.
К унтеру подскочил Волчок:
— Идемте! Я насчет курочек подмогну!
— Назад! — закричал на него Конрад, выхватывая из кобуры парабеллум.
И у Волчка в руке вдруг оказалось оружие. Он направил пистолет на Конрада. Леонид оттолкнул Конрада и кинулся на Волчка, но тот успел в него выстрелить... Тут же прогремел второй выстрел. Это выстрелил Конрад. Волчок, зажимая голову, рухнул на землю. Потом еще выстрел... и треск автоматов. Упал унтер-офицер. Мечутся по двору солдаты, падают. Некоторые успевают выбежать со двора на улицу и падают там, натыкаясь на выстрелы. Гулко гремит граната. Из радиатора автомашины подымается клуб черного дыма.
И там, у края деревни, тоже трещат автоматы. Это Семенов* и подоспевший к нему Али Исаев расстреливают вторую автомашину.
Когда все затихло, партизаны подошли к Леониду. Осторожно подняли недвижное тело товарища, отнесли к сараю, положили в тени.
Хозяин подошел незамеченным откуда-то с огородов.
— Что ж теперь будет, ребятки? — спросил он, оглядывая двор и убитых гитлеровских солдат.
— А ты не ходи сюда, ты ничего не знаешь, — рассеянно ответил ему Кондратий, всматриваясь в бледное, застывшее лицо Леонида. — Скажешь, что пришли какие-то люди, выгнали из хаты...
— Да я-то чего? — сказал старик. — Только сразу вы зря от меня таились. Мне все одно у чужих людей теперь мыкаться, если ироды нас не постреляют. А хате теперь конец, это уж известно. Вам, говорю, как будет? До вечера, гляди, далеко!
Кондратий пожал плечами.
— Так вы, говорю, во-он туда полем-то подавайтесь,— старик показал рукой. — В поле овражек есть... Махонький. Может, и удастся вам укрыться до. вечера. А так в нашем краю — ни кустика.
Потом он валко подошел к Леониду, кряхтя нагнулся, скрестил на его груди руки, закрыл ему глаза, придержал веки большими пальцами. Сказал, вздохнув:
156
— Пятаков и тех нет, пятаками хорошо глаза придержать. А вы не стойте, времени не теряйте. Дым — он со шляху далеко видится. И товарища вашего с собой не тяните, труд напрасный. В овражке и без него будет тесно. Я стариков покличу, без вас поспеем захоронить. Заодно тряпки с хаты поприберем, спалят теперь хату-то... Да господь уж с ней. А тех... — старик бросил косой взгляд на трупы унтера и гитлеровских солдат, — тех пускай сами ироды забирают. Они теперь, глянь, на дым-то скоро сюда пожалуют.
Партизаны молча подобрали оружие убитых немецких солдат, в последний раз посмотрели на Леонида. Брезгливо обойдя Волчка, пригибаясь, растянутой цепочкой двинулись огородами.
КОНРАД ВРУЧАЕТ «НАГРАДУ*
Игнатов не понял, отчего он проснулся. В избе было темно и тянуло гарью от лампы. Конечно, опять эта баба! В который раз забывает залить керосин. Вот и шарь теперь впотьмах.
Где-то негромко стукнуло. Должно, на той половине. А бабу эту надо прогнать, за ней только глаз да глаз.
Теперь что-то негромко хрупнуло за окном. Бургомистр прислушался. Просунул под изголовье руку, нащупал пистолет, взвел курок. Было тихо. Он вздохнул с облегчением. Посты сегодня велел усилить. Все же дело серьезное, если сам окружной гебитскомиссар гарнизоны предупреждает. Еще этот важный майор, который со свитой в гости пожаловал... А Волчок, пес, до сих пор не вернулся! Видать, опять в городе лишку хватил, бродяга. А может, вернулся, да боится пьяным взойти, сидит под окном. Вот опять что-то хрупнуло!
Придерживая пистолет, бургомистр свободной рукой торопливо стал шарить по столу — где они, спички? Хотел на часы поглядеть, много ли до утра осталось. Но света зажечь ему не пришлось. Свет неожиданно вспыхнул в окне. Резкий, слепящий, он ударил прямо в глаза. На пол грохнула вышибленная сильным ударом рама, зазвенело стекло. В проеме окна выросла голова эсэсовского майора в фуражке с высокой тульей, а рядом — Другая, смуглая, с поблескивающими зубами.
157
И все же бургомистр успел нажать спусковой крючок пистолета. Еще... еще. Выстрелов не было. Предатель упал на колени.
— Положи пистолет на стол! — приказал Конрад, затем легко перескочил подоконник. Мигнув карманным фонариком, следом за ним в избе оказался Али Исаев. Он ловко нацепил на окно одеяло. Огонь фонаря ослабел. Конрад посмотрел на лампу:
— Ну!
— Баба, сукина дочь...— хрипя сказал бургомистр.— Керосин бережет.
Бургомистр шевельнулся, хотел подняться с колен, но, встретив тяжелый взгляд Конрада, так и остался на полу, на коленях. Али отбросил дверной крючок, долго искал задвижку. Наконец распахнул дверь и, поправляя кинжал на поясе, кивнул бургомистру.
— Баба! — сухим голосом позвал хозяин. — Тащи сюда керосину!
На другой половине хлопнула дверь. Споткнувшись о порог, вошла женщина с бидоном. Секунду она молчала, с испугом рассматривая немца и огромного нерусского полицая, в ногах у которых ползал ее хозяин, и вдруг вскрикнула, роняя бидон. Али успел его подхватить, подал в руки женщине, легко подтолкнул ее к столу. Сказал улыбаясь:
Заправь, пожалуйста, лампу. И керосин не надо плескать прежде времени, потребуется еще.
Женщина отвернула горелку, налила керосину в лампу, старательно размяла фитиль, сняла нагар. Потом так же старательно краем передника протерла стекло, поставила на горелку. С доброй озабоченностью посмотрела на поздних гостей.
— Садитесь, — кивнул Конрад женщине. — Нам нужен свидетель.
Она, брезгливо обойдя бургомистра, опустилась на край табурета, спрятала под передник руки. В ее утомленных глазах радостно колыхнулся огонь от лампы.
Игнатов ни на что не надеялся. Давясь словами, канючил:
— Никуда не ступлю из хаты... Тут добивайте!
Скулы Конрада порозовели.
158
159
— Да погоди ты! Когда и куда проследует майор Амон?
— Н-не знаю. Сказывали, на Рогачев. Должно, сегодня.
Бургомистр с тоской посмотрел на ходики. Два часа ночи. Повторил:
— Должно, сегодня уже. Больше об нем ничего не знаю. Вас вот тогда за него посчитал...
— Не очень, значит, ты проницательный, — усмехнулся Конрад. Достал бумажки, найденные у Волчка. Прочел:— «Пану гебитскомиссару, в копии довскому бургомистру...» Твои?
Игнатов молчал, ерзая на коленях.
— Черт с тобой, сядь! — сказал Конрад и тут же прикрикнул:— Да не на стул! На полу сиди! На стуле только человеку сидеть полагается, а ты... Как фамилии партизан, которых с Волчком убил?
— Не знаю, не спрашивал, — просопел бургомистр.— Они на нас в упор налезли... На огороде... ночью. Когда ж тут спрашивать?
— А этот пистолет, что у тебя? Тоже убитого партизана?
Бургомистр не ответил. Конрад взял со стола тронутый ржавчиной пистолет. Приблизив лампу, прищурил глаза, всматриваясь в ствол, поднес к носу, понюхал. Сказал с издевкой:
— Оружие даже не умеешь хранить, пан бургомистр!
Затем проверил обойму — патронов в ней не было.
- Где?
Бургомистр, не понимая, часто моргал глазами.
Женщина вышла. Спустя минуту она вернулась и молча положила на стол несколько тусклых патронов.
— Сука! — выдавил бургомистр, сникнув под взглядом Конрада.
Али улыбнулся женщине. Щеки ее дрогнули, зарумянились. А Конрад уже рассматривал блокнот, в который бургомистр записал фамилии подозреваемых в партизанских связях, и барабанил крепкими пальцами по столу. Медленно прочел первую фамилию в списке:
— Рачинская Анна... Где проживает?
Женщина вынула руки, оправляя передник, распрямила спину. Спокойно посмотрела на Конрада, затем на Али. На бургомистра даже не глянула.
Г 60
— Андросик Петр, — прочитал Конрад, — Андросик Галина, Коробковы, Иглицкие, Васютин Станислав...
Конрад читал, а женщина широко раскрыла глаза.
— А я только одних Андросиков знала! Подлый, всех выследил!
Партизаны впервые услышали голос Анны Рачинской. Он был мягким и торжественным, и по всему было видно, что Анна несказанно рада этой неожиданной встрече.
— Теперь с нами в отряд уйдете, — сказал Конрад.— В отношении других товарищей, которых, возможно, еще не успел выдать этот мерзавец, мы решим после. А вам негде сейчас оставаться. И нельзя. — Он посмотрел на Али, перевел сузившиеся вдруг глаза на бледное лицо бургомистра:
— А тебе я принес «награду», как обещал. Заслужил ты ее!
Бургомистр задвигался на полу. Он не просил пощады. Только в который раз насупленно просипел:
— Никуда не пойду! Ногой не ступлю из хаты... Кончайте тут!
Конрад махнул на него рукой. Позвав Анну, вышел. Когда выходили, услышали, как сипло вскрикнул бургомистр, а затем глухо брякнул бидон с керосином...
Али соскочил на улицу с подоконника и спрятал в ножны кинжал. Конрад негромко подал команду. К ним, высоко подымая ноги, подошел Тихон Мортиков. Затем Юрик Нечаев, Семенов, Бабошин...
Уже на выходе из села их окликнул полицейский патруль.
— Дурхлассен! — вместо пароля отозвался Конрад Анри.
— Чего? — переспросил полицейский.
Конрад сплюнул с досады. Леонида не было за его спиной.
— Пан майор Амон требует пропустить! — выдвинулся вперед Али.
Три полицая робко приблизились. Узнали майора, приставили к ногам карабины. Один из изменников шевельнулся, заметив Анну Рачинскую.
— Верхафтунг! — процедил сквозь зубы майор.
— Арестована, — перевел Али, тесня полицаев широкой грудью.
161
«Майор» с охраной и «арестованной» партизанкой проследовал на шоссе.
Они были уже далеко, когда сзади, там, где осталось село, над домом бургомистра поднялось яркое зарево.
ПАРТИЗАН МЕНЯЕТ ОДЕЖДУ
Анна шла быстро, стараясь не отставать. Сейчас впереди шагал сам Конрад. Тихонова осторожность тут не помогла бы, да и местность все равно пока была открытой—не для Тихона. А Конрад спешил. Держась на запад, он пересек шоссе, и спустя полчаса повернул резко на юг. Там, в Годиловичах, правда, имеется большой гарнизон, зато дальше пойдут перелески. К ним, под их укрытие, и надо партизанам поспеть до того, как наступит рассвет. Ну, а дальше..,
Что будет дальше, Конрад еще не решил. Он шагал и на ходу покусывал стебелек, пока, наконец, группа не достигла опушки леса. Одновременно с партизанами на опушку вошел рассвет, свежий, по-майски чистый, полный птичьего щебетания.
Впервые за эти дни Конрад достал из грудного кармана помятую карту. Анна тем временем развязала небольшой узелок, в котором оказались сало и хлеб. Сказала своим мягким, торжественным голосом:
— Да-авно приготовила! Да не знала, придется ли когда его развязать. Еще боялась, что Волчок на него под крыльцом наткнется. Он у нас хуже собаки, везде рыщет. Обыкновенных-то собак наши ребятишки по заданию Андросика давно пришибли, чтобы партизан лаем не, выдавали...
— Волчок теперь не залает, — сказал Али, обнажая кинжал, чтобы разрезать сало. — И пан бургомистр тоже!
Конрад посмотрел на кинжал. И Али, спохватившись, брезгливо спрятал его обратно в ножны.
Хлеб оказался черствым и плесневелым, а сало, с трудом разделенное крохотным перочинным ножичком Конрада, жестким и желтым. Но сейчас партизанам и это казалось роскошью, и они, благодарно поглядывая на Анну, дружно заработали челюстями. Только Конрад, казалось, ел без аппетита. Медленно пережевывая
162
жесткое сало, он переводил задумчивый взгляд с Тихона на Юрика Нечаева и снова — на Тихона. Наконец спросил:
— Ну, кому идти в отряд с донесением? Заодно и Аннушку отвести? Тихону или Юрику?
Теперь, при теплом, зеленоватом утреннем свете, все обнаружили вдруг, что Аннушка совсем молода. Это она у бургомистра на службе выглядела строгой и пожилой. А сейчас глаза ее изменились и лицо посветлело.
С Аннушкой все было понятно: ее требовалось поскорее переправить в отряд. Неясно только, кому идти.
— Юрику лучше, — высказал свое мнение Михаил Семенов. — В случае если задержут — парнишка, и все тут. Ему заодно и отдохнуть пора, отоспаться в лагере.
На лоб Юрика набежала упрямая складка. Синие большие глаза потускнели. Разве мог он уйти, когда почти безошибочно угадывал, что Конрад со своей группой собирается затеять охоту на эсэсовского майора Амона— офицера с особыми полномочиями. Конечно, .если Конрад прикажет, Юрик вернется в отряд, вообще выполнит любое приказание... Но сейчас, при утреннем свете, товарищи заметили, как сильно утомился подросток. Веки припухли и покраснели, под глазами пролегли глубокие, темные борозды. И все же юный партизан прижал к груди автомат, устремил умоляющий взгляд на Конрада.
— Я на дневке уже выспался! — начал было он, но Конрад уже принял решение.
— Юрику не годится, — заключил он. — Если его поймают, даже не как партизана, все равно угонят в город, сейчас молодежь вылавливают для отправки на работы в Германию.— Конрад неожиданно засмеялся, окинув Тихона добрым взглядом. — А вот Тихон выглядит мужик мужиком! У него к тому же фигура костлявая. Такой немцам не пригодится. Да и по перелескам он теперь до самого лагеря не заблудится.
Тихон не обиделся на этот смех. Путаясь, стал стаскивать с себя немецкую форму. Лишь закончив переодевание, ответил Конраду:
— Зато, если тебя сызловят фрицы, тогда — все! Не откажешься! В тебе за версту партизана видать.
В залатанной и помятой одежде, Тихон и . впрямь предстал самым обыкновенным, в годах, крестьянином,
163
каким привыкли видеть его в отряде. И он попросил безнадежным голосом:
— А то, может, Костя, оставишь наганчик при мне? Ну какой же я партизан без оружия? Насмеются в отряде, когда приду так. И, опять, отбиваться как же, если в пути меня прихватят фрицы?
Кондратий, тая улыбку, ответил, подражая ему:
— Так ты ж опять и с наганчиком удерешь! Или, значитца, потеряешь в дороге... Сам рассказывал, когда в милиционерах ходил — утерял.
— Это ж когда было, — спокойно констатировал Тихон.— Годов двадцать, считай, назад. Выходит, я на себя наговорил по душевности! А без наганчика и тебе небось страшновато.
Это было слабым местом Тихона. Не то чтобы он в отряде считался робким. Но он порой до смешного бывал осторожным. Однако Кондратий всегда брал его на самые сложные операции, хотя Тихон Герасимович плохо ориентировался на открытой местности, а Кондратий вообще редко нуждался в проводниках. И когда товарищи высказывали по этому поводу удивление, он, лукаво и любовно щурясь на Тихона, пояснял:
— Почему беру с собой Тихона, спрашиваете? А как я без него сунусь туда, где опасно? Тихон ходит медленно, от осторожности, и неслышно. Как цапля. Ступит одной ногой, другая — в воздухе. Вытянет шею, слушает. Потом на другую ногу нагрузку даст, а прежняя в воздухе отдыхает, пока Тихон не разгадает всех шорохов. И мне за ним уж не опасно: раз Тихон вперед продвинулся, можешь быть уверен, что ни одного завалящего фрица нет впереди. А еще — на привалах с Тихоном очень весело: массовика заменяет.
Тихону Герасимовичу льстили такие шутки. И он знал, что, когда Кондратий так говорит, значит, у него исключительно хорошее настроение, а тут и Тихону огрызнуться можно:
— Ага! Сам сознался! Кто из нас теперь робким выходит? Ты, значитца, меня вперед шлешь, а сам ко мне за спину, хоть она и худая. Тут уж опять прикинуть надо... Я-то, глянь, не из робких!
Однако на этот раз Тихон не отозвался на шутку. Стоял, переминаясь с ноги на ногу, почесывал поясницу и выжидающе смотрел на Кондратия. Да. и тот уже пе-164
рестал шутить. Сказал серьезно, разъясняюще и доверчиво:
— Нельзя сейчас тебе с наганчиком, дорогой Тихон! Поймают с ним — допрашивать даже не станут. А тебе надо обязательно до отряда добраться. Да и помирать не спеши: детишек куча... Кроме всего, не забудь командиру доложить, где мы закопали трофейное оружие. После, может, туда ребят проведешь — откопаете. Про Леню и так не забудешь... Да, еще скажешь, что отряд мы будем ожидать в районе Камень-Рысковского. После Рогачева, понятно?
И все же Кондратий не удержался от шутки:
— Ко всему, гляди, Тихон, какую красавицу мы тебе доверяем!
Тихон, беззвучно вздыхая, тщательно упрятал под елкой свою немецкую форму. Посмотрел на залатанные штаны, отер о них ладони, сунул каждому руку. Первому— Кондратам). Затем послушно позвал:
— Идем, Аннушка.
Сделав несколько широких, неслышных шагов, он обернул костистое лицо к товарищам, улыбнулся:
— А ведь я, выходит, кавалером при Аннушке. Ровно бы мне сразу два десятка годов скинулось.
КУДА ИДТИ ДАЛЬШЕ?
Кондратий, когда он становился Конрадом Анри, казалось, менялся не только внешне. Он делался жестким, упрямым и часто принимал самые неожиданные решения. Товарищи порой обижались на него за это, а больше других — Али. Несмотря на свой «даргинский» характер и темперамент, Али любил действовать расчетливо, по заранее тщательно продуманному плану, если, конечно, его не требовалось немедленно изменить в связи с обстановкой. Но и в таких случаях горец хотел всегда знать, отчего изменился первоначальный план.
Поэтому и на этот раз произошла небольшая стычка.
Когда группа, хорошо сориентировавшись по карте, прошла перелесками добрый десяток километров, Конрад сбросил на траву фуражку, прилег и коротко объявил:
Привал!
165
Это было лучше всякой другой команды. Очень мало, и то урывками, приходилось отдыхать в последние дни. Семенов тут же стал моститься под деревом, Бабошин ухватился за свои трофейные сапоги с тесным подъемом. Но Конрад предупредил:
— На много не рассчитывайте, через тридцать минут подыму. Спите. Я сам в дозоре побуду.
Али вскочил на ноги.
— Не понимаю! Чего надумал? Почему в загадки играешь?
— Ничего не играю, — спокойно ответил Конрад.— Отдохнем немного и пойдем обратно, к шоссе. Только теперь... на север.
Партизаны с сожалением посмотрели на лес. Он хотя и не так велик, но все же — лес, а не открытое место, куда предлагает почему-то идти Конрад. Отсюда же, если еще немного пройти, начнется большой Приднепровский лес, который они рассмотрели на карте, когда составляли маршрут для Тихона с Аннушкой. И вот — до большого леса рукой подать и можно хорошо отдохнуть, а Конрад снова решение изменил.
— Ну, скажи, пожалуйста, зачем карусель такая? — не унимался Али. — Ведь решили, чтб пойдем к Рогачеву, здесь дневку проведем. Вон и Юрику отдых нужен... А ты — опять карусель!
Али. досадливо передвинул кинжал на поясе. Конрад демонстративно отодвинулся, изобразив на лице испуг:
— Зарезать хочешь?
После этой неожиданной шутки Конрад снова превратился в Кондратия. И тут же пояснил товарищам, почему меняет первоначальный план:
— Полицейские, наверное, уже вызвали немцев в село... Ну, оживлять казненного нами бургомистра они не станут, тем более что и для них он не представляет ценности, а нас разыскивать примутся. Тут и гадать не надо. В первую очередь, узнав, что нас небольшая группа, они начнут прочесывать перелески. Это бы каждый на их месте сделал в первую очередь. А мы в это время будем возле шоссе, на открытом месте, где им и в голову не придет искать партизан, да еще днем. Вечером от шоссе мы перейдем в Рысковский лес, пойдем на Свержень, ну а после уже... как решили — на Рогачев.
i66
Кстати, когда будем возле шоссе, может, и «птица» какая-нибудь попадется нам. Лучше, если это случится под вечер...
Товарищи, выслушав план Кондратия, согласились. Ради такого плана и тридцать минут поспать сейчас достаточно. Партизаны повалились под дерево. И Али, блеснув зубами в улыбке, сказал Кондратию:
— Ты тоже, панимаешь, поспи. Я побуду в дозоре.
А «птица» попалась раньше.
Солнце стояло еще в зените, когда на шоссе показалась тяжелая пятитонная автомашина. Из мелиоративной канавы, которая находилась шагах в пятидесяти от шоссе, партизанам хорошо были видны лица щофера и сидевших рядом с ним в широкой кабине двух офицеров. Выставив в приоткрытое ветровое стекло стволы автоматов, офицеры спокойно покуривали сигаретки и улыбались. Действительно, чего опасаться сейчас оккупантам? Опасный лес, в котором могли укрываться партизаны, далеко в стороне, а рядом, совсем близко, не более километра, Белое Болото — большое село на шоссе. И это село почти на открытом месте, во всяком случае, не в лесу. И день сегодня приветливый. Офицеры щурят глаза на солнце.
— Али, по твоей специальности это. Готовь гранату,— шепнул Конрад. Хотя до вечера было еще не близко, он не смог удержаться от соблазна подорвать автомашину противника.
Да и Али Исаев теперь был совсем не тот горячий горец, который бушевал на привале, требуя ответа от Конрада. Сейчас он был совершенно спокоен. Слегка прищурив глаз, измерил расстояние до шоссе, до того места, куда намеревался метнуть гранату, когда машина поравняется с ними. Хорошо тренированный глаз спортсмена определил, что расстояние не более сорока метров. Али улыбнулся и шепнул Конраду:
— Если я на такое расстояние брошу диск, меня надо гнать из спортивного общества. Тут и школьнику делать нечего.
И верно, за время войны Исаев не разучился метать! Метание диска было его любимым занятием. Еще с детства он увлекался метанием камня, народным видом спорта в его родном Дагестане, и уже юношей побеждал всех мужчин высокогорного аула Урахи. Потом, пере
167
бравшись в Москву, Али стал заниматься диском и очень скоро установил ряд новых рекордов, опередив ведущих дискоболов страны. Но и в тылу врага Али не прекращал тренировок, едва выпадала минута отдыха от боевой работы. Для этого он обтесал подходящий камень и носил его в своем вещевом мешке. Командир по-своему оценил это увлечение дискобола и еще в Клетнянском лесу поручил Исаеву организовать «школу метателей». Тогда Петрович сказал ему:
— Хорошее дело сделаешь: ребята скучать не будут, когда на отдыхе, и для здоровья полезно. Но диск диском, а главное — научи ребят гранаты бросать получше. Это сейчас самое важное в нашем деле!
Вскоре на одной из лесных просек заработала «школа Исаева». Али терпеливо объяснял и показывал приемы и, несмотря на свой темперамент, оказался спокойным и старательным учителем...
И теперь Али не спеша поднялся и на глазах у ошеломленных немцев, изогнувшись в тонкой талии, метнул в машину гранату. Лишь проследив за ее полетом, за какую-то долю секунды до взрыва укрылся в канаве.
Взрыв поддержали автоматы и пулемет, еще гранаты... Партизаны подбежали к машине, а это уже не машина, а решето.
Собрать трофейное оружие, обрезать полевые сумки с документами у офицеров — дело одной минуты. Но вот с мотором не получалось. Щелкали зажигалки, сгорали спички, а все без толку. И в это время невесть откуда появился совсем молодой ефрейтор.
Партизаны опешили. И машина, и немцы, те, что были в кабине и в кузове, десятками пуль прошиты, а на ефрейторе — ни царапинки! Только щеки дрожат на белом лице. Едва слышно он просит:
— Меня не надо капут!
К нему подскочил Бабошин, выдернул из его кобуры парабеллум, потом из кармана бумажник с документами. Перепуганный ефрейтор ничего не заметил. Устремив расширенные глаза на Конрада, опять взмолился:
— Не надо меня капут! — И вдруг добавил: — Надо быстро спешить... позади есть много германский солдат, панцерспехваген!
...Лишь в лесу партизаны наконец перевели дух. Ефрейтор тоже вытер лицо носовым платком. С лесной
168
опушки было видно, как вдалеке над шоссе поднялся густой черный столб дыма.
— Машина капут, — заключил ефрейтор.
Потом послышался гул и стало видно, как к горящей автомашине на большой скорости приближалась мотоколонна.
— Панцерспехваген, — пояснил ефрейтор.
Передний броневик с большого расстояния открыл по лесу беглый огонь из пушки. Затем густо засыпали очередями пулеметы. Но партизаны уже были недосягаемы.
ПАУЛЬ МИНКЕЛЬ
Немцы не стали преследовать партизан. В лес они не очень любили соваться. Они лишь обстреляли его с большого расстояния, пока подбирали трупы убитых во время партизанской засады и сталкивали в придорожную канаву горящую автомашину.
В лесу, когда кончился обстрел, пленный ефрейтор чуточку успокоился, заметив, что партизаны все же настроены к нему благодушно. Тот, рыжеватый, с широким, скуластым лицом, в форме эсэсовского майора, все время острит, подшучивает над своими товарищами, цепляет их. Дошла очередь и до пленного. Конрад сделал испуганное лицо, смешно задергался, изображая ефрейтора во время налета, выкрикнул заикаясь, подражая ему:
— Не надо меня пук-пук! Нихст капут!
И тут партизанам опять пришлось удивиться. На бледном молодом лице ефрейтора показалась улыбка, и он сказал вполне прилично по-русски, обращаясь к Конраду:
— Я хотел бы посмотреть на господина начальника, когда дойч солдат внезапно в него из засады будет пук-пук!
— Ого! — воскликнул в изумлении Конрад. — Да ты, видать, храбрый!
Ефрейтор смутился.
— Не есть много. Я в дирку брезент увидел этого... шварц, черный, — он поискал глазами Али. — Он еще не успел бросать гранату. А я бистро скакал из кузов в кювет. Честно, я не делал пук-пук. Можно вам нюхать пистоле!
11 И. Давыдов
169
Партизаны улыбались, а ефрейтор настойчиво показывал на свой парабеллум, который теперь висел у Ба-бошина, и настаивал:
— Надо нюхать пистоле! Проверка. Я не делал пук-пук. Проверка!
Первым не утерпел Конрад — громко, от души засмеялся. А ефрейтор, ободренный его смехом, указал на карман Бабошина:
— Надо возвращать часы, это не есть пистоле.
— Какие часы? — недоуменно спросил Бабошин и зарделся под пристальным взглядом Конрада. — Часов я не брал. Честное слово!
— Он не есть виноват, — замотал головой ефрейтор. Он бесцеремонно полез в карман к Бабошину. На медной цепочке повисли крупные карманные часы, пристегнутые к бумажнику.
Бабошин развел руками.
— А я и не обратил внимания, изымал документа!
Ефрейтор ловко отстегнул часы, положил в свой карман, а документы протянул Бабошину, но, передумав, обратился к Конраду:
— Документ, господин партизан начальник! — Затем, одернув свой френч, принял стойку «смирно» и выжидающе уставился на Конрада, сам признав в нем начальника.
Конрад не стал смотреть документы, спрятал в карман. Присев под деревом, он кивнул остальным, отдельно — ефрейтору, который все еще продолжал стоять. В широко расставленных глазах Конрада зажглись веселые огоньки. Этот ефрейтор, видать, занятная птица. Чудом уцелевший на партизанской засаде, захваченный партизанами в плен, он все же держит себя неплохо и чуточку независимо.
— Откуда знаешь русский язык? — спросил Конрад.
— Их ист кляйне Геббельс, — отозвался ефрейтор, с нескрываемым любопытством рассматривая немецкую форму Конрада. — По службе знаю.
— Что-о? Ты маленький Геббельс? — воскликнул Конрад.
— Нет, — пояснил ефрейтор. — Я хотел сказать, что я есть маленько, немного Геббельс. Значит: служба в бюро дойч пропаганда. Мое имя есть Пауль Минкель, Франкфурт-на-Майне. Двадцать лет возраст. Не есть го-170
ден фронт... О! — Пауль задрал тесный рукав, обнажил неправильной формы локтевой сустав, несколькими движениями показал, что он плохо сгибается. — Не есть годен фронт. Ломал... Шпорт.
— Спортсмен?
— Да. Жокей. Цирк. — Ефрейтор показал на руку:— Там, в цирк, брюх! Падал... Ломал.
Еще выяснилось, что, будучи наездником в цирке, Минкель увлекался и водным спортом. Это обстоятельство особенно заинтересовало Конрада. Водный спорт он любил до самозабвения. И конечно, он очень тосковал по бассейну. А когда отряд располагался где-либо возле реки, Кондратий не упускал возможности поработать над стилем, «порадовать мышцы», как он говорил товарищам. И теперь, услышав, что немецкий ефрейтор на родине тоже увлекался водным спортом, Конрад улыбнулся и крепко хлопнул его по плечу:
— А у нас вот не выплыл!
Ефрейтор не понял смысла. Но от того, что его хлопнули по плечу, окончательно успокоился. А Конрад уже стал снова сосредоточенным. Спросил:
—» Чем занимается твое «бюро пропаганды»?
— /О!—С готовностью ответил Пауль. — Ездим в город, село, говорим об устройстве жизнь фатерланд, демонстрируем фильм фатерланд, Германия. Пропаганда культур.
— Еще о чем?
Ефрейтор смутился. Ответил не сразу, растянуто:
— Пугаем население рус бандитом... партизанами,— поправился он. — Говорим, не надо бегать в лес к партизанам. Партизан плохо, нехорошо. У-у! — Минкель приложил к голове пальцы, изображая рога, и вытаращил глаза: — У-у! Так пугаем, показываем рус партизан...
Покосившись на Али, он поспешно убрал руки со лба.
Но партизаны смеялись. И ефрейтор опять улыбнулся.
— Сейчас тоже ехал читать лекцию? Пугать партизанами?— спросил Конрад.
— Наин, сейчас ехал в отпуск. Франкфурт есть мама. Ехал к маме. — Ефрейтор показал на карман Конрада.— Там есть документ. Проверка!
Конрад наконец просмотрел документы пленного.
И* 171
Леонида не было, и он понял не все, однако убедился, что ефрейтор не врет.
— Кто еще ехал в вашей машине? — продолжил Конрад допрос.
— Гауптман интендант, обер-лойтнант, два официр Италиа, одно рус полицай — перевод.
— Понятно, один переводчик с ними. Куда?
— Гауптман ехал в Довск. Италиа официр не есть известно. Я просил разрешение ехать в Довск машина. Потом поезд Франкфурт.
— Откуда тебе было известно, что позади вас идет колонна с броневиком?
— Видел там, в Гомель штаб. Солдаты говорили, что поедут в Довск. В броневике, говорили, есть официр — майор. Он, говорили, поедет в Довск, потом будет ехать в Рогачев. Так говорили дойч солдаты.
Конрад о чем-то задумался. Затем спросил:
— А почему ты не поехал с ними до Довска? По крайней мере, ехал бы под охраной броневика. А то — с интендантом.
— О! — испуганно замотал головой ефрейтор. — Не есть хотел бой.
— Какой бой?
— Я мог думать, что партизан хиндеркальт, засада, будут стрелять пук-пук в броневик. А в интендант-машина не будут. Потому ехал так.
— Достаточно наивно для Геббельса, — усмехнулся Конрад.
Пленный не понял иронии. А Конрад продолжал, уже без вопросов:
— Проведешь с нами одну операцию, потом отпущу тебя к маме, в отпуск. — Увидев, как, бледнея, вытянулось лицо ефрейтора, успокоил:
— Капут не будет. Обещаю тебе. — Потом словно бы про себя добавил: — Если, конечно, в живых останемся. Но это не от меня зависит.-
ПЛАН ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ
Майор Амон не давал покоя Конраду и его товарищам. Если он разъезжает в броневике, под усиленной охраной, значит, это действительно важная птица. И конечно, он забрался в броневик не для прогулки. Не слу
172
чайно о нем говорил окружной гебитскомиссар. Но одновременно с азартом разведчика, захватившим Кондра-тия и всю его группу, когда они решили выяснить все о майоре Амоне и, если удастся, накрыть его, в груди Ма-дея шевелилась тревога.
Оставаться вблизи шоссе теперь не имело смысла. Убийство бургомистра и сожженная средь белого дня автомашина — все это, несомненно, привлечет внимание гитлеровцев. Полиция из села, видно, уже сообщила немецким властям о том, что группа партизан малочисленна. Ну, для своего оправдания, может, преувеличила численность партизан. И теперь, особенно после того как на шоссе были уничтожены немецкие и итальянские офицеры, а в плен захвачен ефрейтор, гитлеровцы всерьез займутся поиском этой группы.
Но Конрад тревожился не за себя: он с группой сможет ускользнуть незаметно. Пытаясь отыскать его, немцы могут напасть на след отряда, которому скоро предстоит переходить шоссе. А крупному, отряду не легко пройти незамеченным. Следует ли раньше времени настораживать; гитлеровцев? Может быть, теперь Конраду надо замести свои следы, усыпить внимание немцев: прошла какая-то случайная партизанская группа — и все тут? Но появление Амона и было связано с переходом «Славного» в новый район! И потому Конрад уже знал, что он не уйдет из этого района до тех пор, пока не выяснит все о майоре, разъезжающем в броневике. И уже не сомневался, что это не кто иной, как сам майор Амон, о котором упоминал еще Волчок. Броневик проследовал в Довск, а после, если верить утверждению пленного ефрейтора, должен будет направиться в Рогачев. Взвесив все обстоятельства, Конрад решил вернуться к первоначальному плану — побывать в Рогачеве.
К городу партизаны подошли во второй половине дня. Вид у них был бодрый, даже молодцеватый. Они хорошо отдохнули в лесу после засады и утолили голод. Офицерские рюкзаки, особенно рюкзак интендантского капитана, прихваченные на вчерашней засаде вместе с оружием, пришлись кстати. Несмотря на большой аппетит парней, рюкзаки казались неистощимыми. Распределяя еду, Конрад не разрешил трогать бутылки с ромом и заплечный ранец ефрейтора. Наоборот, он еще втиснул в него несколько шоколадных плиток.
173
— Подарок своей матери привезешь, — пояснил он, поймав недоуменный взгляд Минкеля. — Покажешь ей, какой у нас шоколад, не то что эрзац в твоем фатерлан-де. Видишь, сколько его нахватал интендант? Понимал, видно, толк покойник. Хапуга!
— Я имел ефрейтор-паек, хапал нет! — запротестовал ефрейтор.
— Ну ладно... брехать-то! — усмехнулся Конрад.— Все вы хапуги.
Ефрейтор обиженно замолчал. А Конрад думал. Лихорадочно думал, незаметно разглядывая ефрейтора. Сможет ли он, Пауль Минкель, сыграть ту роль, которую отвел для него Конрад в предстоящей операции?
Когда Кондратий посвятил в свой замысел товарищей, первым его поддержал Али. Сам-то Али теперь был совершенно спокоен: все решено, оставалось действовать. Лишь немного требовалось подождать, когда с Ро-гачевского большака вернется Семенов. Чтобы ждать, когда есть серьезное дело, у горячего Али хватает терпения. А Конрад думает, по всему видно, что думает. И видно, что думает Пауль Минкель. Конрад — известно, о чем. Неизвестно, о чем — ефрейтор.
Семенов вернулся скоро. Подошел, утирая лоб после быстрой ходьбы, сообщил:
— Черт его разберет! Весь большак на брюхе исползал. Следы есть от машин и туда, и сюда... в обе стороны... Трудно разобрать их. Может, и броневик уже проехал. Много следов.
— Мину поставил? — спросил Конрад.
— Поставил, — вздохнул Семенов. — Последняя противотанковая граната всего и была. И неизвестно, кто на нее наткнется... Теперь одна «лимонка» в кармане осталась. Хотя, нет! В рюкзаке еще две трофейные, что взяли с машины, на деревянных ручках. Да толку с них чуть, хорошей мины не сделаешь.
— «Лимонку» давай сюда, — приказал, подымаясь, Конрад. — И к большаку больше не приближайтесь до нашего возвращения. Юрику дайте поспать побольше.
Товарищи молча следили за неторопливыми сборами Конрада. А он спрятал в мешок фуражку, достал пилотку и повязку с надписью «полицай». Снял парабеллум и автомат, а вместо них забросил за плечо кара
174
бин. Спрятав в карман «лимонку», кивнул Али и ефрейтору:
— Пошли.
Они втроем углубились в лес. А спустя час, сделав огромный крюк, выбрались на большак.
Глазам открылся широкий, спокойный Днепр. За ним раскинулся вправо и влево город. Из воды торчали волнорезы и обгоревшие свай от прежнего, разрушенного мостй. Невдалеке, едва заметно покачиваясь на сильной волне, выступал понтон. К нему по большаку под горку пролег светлый, песчаный, хорошо наезженный съезд, и уже возле самого берега, у понтона, отчетливо виднелись два дзота. И там, с карабином в руке, часовой. Не спеша от дзота — к понтону, от понтона — обратно к дзоту.
Конрад поднял глаза на Исаева и тут же испытующе посмотрел на ефрейтора. Лицо у немца было бледное и напряженное.
«Может, это и лучше, — мелькнула мысль у Конрада.— Испуганный вид немца естественней. А вот у Али на лице ни один мускул не дрогнет. Молодец, Али! Интересно, какое сейчас лицо у меня?»
Конрад подмигнул ефрейтору и, стараясь придать беспечность голосу, негромко сказал:
— Пошли, пан ефрейтор. В город!
По большаку они направились прямо к понтону, к дзотам. Все трое. На полшага впереди —ефрейтор.
ЕФРЕЙТОР ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН
До понтона оставалось двадцать шагов, когда часовой потребовал назвать пароль. Спросил по-русски. Ефрейтор ответил по-немецки.
Конрад и Али обменялись быстрым настороженным взглядом. Полицай приблизился к дзоту, кого-то позвал. Показались еще двое — полицай и немецкий солдат. Теперь что-то спросил солдат. Ефрейтор ответил немецкой фразой. Солдат разрешил подойти поближе.
Он долго читал документы Пауля — книжку и отпуск-» ной билет, а ефрейтор тем временем что-то ему рассказывал.
— Чего он толкует?—спросил полицай, разглядывая повязку на рукаве Конрада.
175
— Не знаю, — равнодушно отозвался Конрад. — Слышал, будто бандиты на него напали, что ли... Наш бургомистр велел проводить его сюда. Он кого-то разыскивает.
Солдат, вернув документы ефрейтору, обернулся в сторону города и заговорил, тыча указательным пальцем, что-то объясняя.
— Откуда? — спросил полицай Конрада.
Али перевесил карабин с одного плеча на другое, поправил пояс. Кинжала на поясе не было.
Конрад зевнул.
— Известно... откуда... — Конрад показал подбородком на город. — А нашего брата много там?
— Хва-атает, — отозвался полицай, теперь уже с любопытством разглядывая Али. — Всего, брат, хватает здесь. И этих... Вчера вот еще их целых четыре машины пригнали с броневиком. Броневик-то вчера же укатил обратно... — Полицай перевел глаза на ефрейтора и неожиданно заключил: — А ваш, этот, совсем молодой, видать.
Конрад безразлично пожал плечами. В это время солдат, проверявший документы ефрейтора, сделал шаг в сторону, давая ему дорогу. Взгляд гитлеровского солдата выражал сочувствие.
Вступив на понтон, ефрейтор обернулся к провожатым, прикрикнул:
— Шнель!
Конрад и Али молча двинулись следом.
Уже входя в город, Конрад тихо спросил:
— О чем ты разговаривал с солдатом?
Ефрейтор замедлил шаг.
— Говорил, как есть твой, приказ. Ехал в отпуск. На шаусе бандиты, автомобиль машина хиндерхальт, из засады пук-пук! Мне надо найти майора Амона, помогать мне. В Довске бургомистр говорил, что майор уехал сюда. Давал мне лошадка и два полицая. Лошадка по дороге капут... Правильно говорил?
— Правильно, — задумчиво заключил Конрад, собрав морщины на лбу. Прибавил с заметной угрозой в голосе:— Смотри же, Пауль! Если что от себя начнешь прибавлять, тут же капут устрою. И мамы своей не увидишь!
176
— Найн, найн! — испуганно зашептал ефрейтор.— Имею честное слово!
— Ладно тебе... с твоим честным словом! Идем теперь к бургомистру. Только не торопясь. У него говори то же самое. Пожалей, что не застал майора, скажи, что тебе надо было срочно его увидеть. Да смотри, маму свою не забудь!
Ефрейтор скосил глаза на карман Конрада: там едва заметно выпирала граната. И вдруг он, озорно блеснув глазами, сказал:
— А то можно ходить к германскому командэр фюрер, к дойч официр!
— Нет! — нахмурясь, отрезал Конрад. — Говорю, к бургомистру. Нечего мне сейчас делать с твоими дойч офицерами.
Город не так велик, а ходили долго. Пройдут одну улицу, выйдут на небольшую площадь. Здесь городская управа, а рядом немецкая комендатура. А они снова в улицу, но уже в другую. Не очень, видать, толков этот немецкий ефрейтор. Да полицаям-то что, им велено сопровождать ефрейтора. И никому нет дела до них, ходят себе и ходят. А все-таки провожатым не очень приятно. Нет-нет, обменяются взглядом. К счастью, прохожих мало на улицах. И немецкие солдаты тоже редко встречаются— в домах отсиживаются, а может, отсыпаются. Возле иных домов стоят зловеще большие автомашины, и из открытых домов слышится немецкая речь. Машин много: одна, другая. Еще, еще... И на той улице было восемь. Сосчитать, сколько солдат прибыло на этих машинах, — несложная арифметика.
В шестом часу в городскую управу не торопясь проследовал бургомистр. И почти сразу же перед ним предстал немецкий ефрейтор с двумя провожатыми полицаями.
Бургомистр, широколицый и гладкий, и внешним видом и манерой держаться отличался от бургомистра Игнатова, казненного партизанами. Этот имел городской, интеллигентный вид. Он терпеливо выслушал длинную, сбивчивую речь ефрейтора, пожал плечами и обратился к полицаям:
— Не разберу, чего он лопочет. Может, кто из вас пояснит?
177
— Не могу знать, пан бургомистр, — четко ответил Конрад. — Нам приказали его сопроводить до вас. По дороге лошадь загнали: шлях к вам лесом проходит... Сами знаете...
— Знаю, — вздохнул бургомистр. — Все знаю, покою только не знаю! Что же мне с ним теперь делать? Их комендант вчера уехал вместе с каким-то важным майором, когда вернется — не знаю. Тут сейчас только офицеры, которые с солдатами прибыли, наезжие. Они одно требуют..,
— Майор Амон! — потребовал и ефрейтор.
— Может, и Амоном его звали, — развел бургомистр руками. — Уехал майор! Нету. Сейчас приглашу кого из ваших, может быть, разберемся.
Он высунулся в окно, показал широкий, лоснящийся в складках затылок.
Спустя минуту в управу вошел долговязый немецкий лейтенант с переводчиком, который часто моргал глазами и кашлял. Ефрейтор обрадованно кинулся к ним, быстро заговорил, размахивая руками. В это время он выглядел точно так же, как тогда возле разбитой машины.
Лицо Конрада было спокойным, только едца приметно двигались желваки. Али держал руку на поясе, на том месте, где раньше висел кинжал.
По мере того как говорил ефрейтор, выражение испуга с его лица передавалось на лица лейтенанта и переводчика. Наконец переводчик сказал бургомистру на русском языке; в котором без труда узнается немец;
— Господин ефрейтор рассказывает, что на шаусе имела место внезапная атака бандитов, отчень большая группа. Мы вчера видели этот автомобиль, он сгорел. Благодаря богу, ефрейтор остался жив.
У Конрада ослабли щеки, желваки перестали бегать. Али убрал руку с пояса.
—• Что же теперь хочет от меня пай ефрейтор? — спросил бургомистр.
— Он говорит, что ему очень важно видеть майора Амона, — сказал переводчик и снова заговорил с ефрейтором и лейтенантом.
Лейтенант, кажется, протестовал, что-то доказывал, потом безнадежно махнул рукой.
— Господин ефрейтор просит лошадь с повозкой, 178
пояснил наконец переводчик.— Он собирается ехать в Довск, чтобы застать майора.
— Это же безрассудно! — всполошился бургомистр. Поправился: — Это не очень разумно, но очень опасно. Здесь кругом лес! В этих местах... Вот и господа поли^ цейские могут подтвердить. Это же ужасно... ехать одной повозкой! Вон машина по открытому месту шла и на нее напали! А у нас, говорю, леса...
—• И господин лейтенант ему говорит об этом же,— перебил его переводчик. — Но ефрейтор настаивает. В данном случае господин лейтенант не может ему приказать.
— А как будет приказано мне? — спросил бургомистр.
— Лейтенант приказывает выдать повозку с лошадью. Иначе могут быть неприятности с бюро пропаганды.
Бургомистр тяжко вздохнул. Несмотря на тучность, довольно проворно опустился за широкий письменный стол под зеленым сукном, пододвинул блокнот. Обмакнув в чернила перо и немного подумав, что-то размашисто написал. Вырванный из блокнота лист аккуратно сложил пополам и протянул Конраду.
—f На! Передашь пану бургомистру, как только в Довск приедете. Да в дороге поосторожнее. Поглядывайте по сторонам-то! И лошадь без нужды не гоните.
Конрад щедкнул по-военному каблуками.
Бургомистр полюбовался бравой выправкой полицейских, подумал с завистью: «Мне бы таких побольше!» Потом вопросительно посмотрел на ефрейтора и лейтенанта:
— А то, может, от нас полицейских в охрану добавить? Дело-то к вечеру.
— Найн! — выслушав переводчика, отверг ефрейтор предложение бургомистра и гордо стрельнул глазами в Конрада. Звонко щелкнув каблуками, он попрощался с лейтенантом и переводчиком. Снисходительно кивнул бургомистру. Ему определенно понравилась роль.
Съезжая с понтона, ефрейтор помахал рукой городу, немецкому солдату возле понтона. Конрад поправил на рукаве повязку с надписью «полицай». Али широко улыбнулся, открыв красивые зубы.
3-астоявшаяся бургомистрова лошадь упругой, размашистой рысью легко втянула коляску на взгорок.
179
ЕФРЕЙТОР СТАНОВИТСЯ НЕПОНЯТНЫМ
Ефрейтор из Франкфурта оказался занятным малым. В этом еще раз смогли убедиться Конрад и Али, удобно развалившиеся на бургомистровой коляске. Она, вздрагивая на мягких рессорах, неслышно катилась по большаку. И едва они въехали на лесной участок, Конрад подтолкнул ефрейтора и немного жестко пошутил, как иногда шутил, не замечая того:
— А ты, Пауль, видать, аферист! На что ты надеялся?
Теперь, когда город, наводненный немецкими солдатами остался позади, лицо ефрейтора снова было бледным и напряженным. Однако он ответил достаточно смело для пленного:
‘ — Пауль Минкель не есть аферист. Аферист есть... партизан Конрад! Я выполнял твой приказ.
Конрад спрятал улыбку, сузил глаза:
— Мы — советские партизаны. Народные мстители! Понял? И мы идем на все, чтобы поскорее разделаться с вашим братом, с проклятыми оккупантами. А вот ты — не знаю, на что надеялся?
Брови Пауля дрогнули. Он медленно произнес:
— Я не имел от господина Конрад капут, в благодарность пошел помочь вам в эта опасная операция. Честно.
— А теперь ты на что надеешься? — по-прежнему жестко спросил Конрад.
Ефрейтор отозвался упавшим голосом:
— Я поверил слову официр партизана.
Конрад сказал, неожиданно подобрев:
— А я вовсе не офицер! Немного старше тебя — сержант. Ну, а насчет порядочности... можешь не сомневаться. Доберемся до безопасного места, отпущу тебя, как обещал. Поедешь нах хауз, к маме.
Пауль недоверчиво посмотрел на Конрада, затем на Али.
— Поедешь домой, — подтвердил Али.—Задание выполнил отлично. А Конрад наш, как и все партизаны, всегда свое слово держит.
Против ожиданий, лицо ефрейтора не выразило особого восторга. Он надолго умолк. Наконец задумчиво проговорил:
180
— Война не есть хорошо. Фатерланд, Германия — тоже плохо.
— Да ты ко всему пацифист! Может, антифашист?
Конрад насмешливо посмотрел на Пауля. А тот ответил:
— Я немец. В России много километров, много народу. Война — очень плохо. Нехорошо.
В его устах эта фраза прозвучала не вполне убедительно. Если бы так сказал пожилой немец, ну, например, Христиан Миллер, который вот уже несколько месяцев живет в отряде и которому впрямь осточертела война, как и всякому рабочему человеку, это не было бы столь удивительным. А тут такое сказал молодой гитлеровский солдат, да еще из бюро пропаганды! Ефрейтор недоволен войной! Впрочем, кажется, не столько самой войной, сколько ее ходом, тем, что она затянулась. Али Исаев задумался. Конраду что? Он иногда может выкинуть трюк. Однажды захватил в перестрелке изменника и тут же — с собой, в засаду. Товарищи возмутились, а он пояснил:
— А видали, как здорово он от нас отбивался? Значит, злой. Тейерь надо его заставить с такой же злостью искупать вину перед Родиной.
И тогда Конрад не ошибся. Помилованный им полицай воевал хорошо и успел не раз доказать, что искупил свое малодушие. Таков был Конрад. Вспомнив об этом, Али долгим взглядом посмотрел на ефрейтора, а потом сказал:
— Говоришь, война — очень плохо? Конечно, была бы наша страна маленькой, да еще не Советской, то давно бы твой Гитлер ее проглотил. А ты, ефрейтор фюрерский, не сказал бы. тогда: «Война — очень плохо!»
Минкель ничего не ответил, только опустил ниже голову. Али вскинул густые, черные брови, взглянул на Конрада, ища подтверждения своим словам. По всему видно: Конрад согласен с ним, но также видно, что его мысли сейчас уже не об этом. И верно: вместо того чтобы, подобно Али, пуститься в рассуждения о войне, Конрад спросил внезапно:
— А когда ты читал лекции и показывал фильмы о «Великой Германии», то, наверное, не говорил, что война плохая?
— Нет, — искренне ответил ефрейтор.
181
— Только свой «новый порядок» расхваливал?
—• Пропаганда есть служба, — глухо отозвался ефрейтор.
— И ты по службе пугал народ партизанами? — с издевкой спросил Конрад.
— Я не есть очень уверен, что сейчас рус партизан Конрад... — ефрейтор запнулся, закончил, выговаривая по складам трудное для него слово: — благо-же-ла-телно расположен ко мне! Я не есть виноват.
Конрад сдержанно усмехнулся. Оставив без внимания эти слова ефрейтора, вновь спросил:
— А почему ты так свободно разговаривал с лейтенантом? Ты — ефрейтор, а он — офицер!
Минкель ответил, все еще думая о другом:
— Это можно понять: служба в бюро пропаганда есть независимая от армии.
— Лейтенант, как мне показалось, даже почтительно с тобой разговаривал!—тоже о чем-то думая, произнес Конрад. — Может быть, ты графского происхождения? Какой-нибудь Пауль фон Минкель?
— Нет. Лейтенант и другой дойч официр... их немного пугает наше бюро. Потому они так со мной говорили.
— Почему пугает?
— Бюро есть немного контроль. Оно имеет связь со службой абвер и с гестапо.
Голос ефрейтора по-прежнему был бесстрастным. А широко поставленные светлые глаза Конрада насторожились. Это и есть то, к чему он шел, задавая вопросы ефрейтору. Теперь он уже спросил прямо:
— Ты тоже связан с разведкой или с гестапо?
— Да, — коротко ответил ефрейтор. — По службе. Официальная Информация. Бюро есть прямая связь.
Конрад вынул из кармана листок, врученный ему бургомистром города Рогачева. В левом углу — блеклый, расплывшийся штамп, по-русски и по-немецки: «Рога-чевская городская управа». Орел на свастике. Затем размашистым, но четким почерком:
«Пану бургомистру города Довска.
Сии рысак и повозка принадлежат управе города Рогачева. При Цервой оказии с уважением прошу возвратить.
Голова, бургомистр Рогачева Денисенко».
Конрад аккуратно сложил листок, убрал в боковой 182
карман. С улыбкой посмотрел на ефрейтора. Ефрейтор Пауль Минкель, официально связанный с гестапо и с разведкой по службе, пока не выдал. А мог сделать это очень свободно!
ВОТ ОНИ — ПАРТИЗАНЫ
Спустя сутки группа Конрада вошла в большое село Камень-Рысковское. Это была теплая встреча!
Люди, обвешанные оружием, возбужденные и веселые, окружили повозку. Конрад и его товарищи не успевали отвечать на приветствия и вопросы. Здесь была вся рота Романькова и взвод Егорычева, выдвинутые из-за Сожа вперед для подготовки перехода отряда. Но кроме партизан улицу, словно на празднике, запрудили крестьяне— мужчины, женщины, ребятишки, девушки... много девушек! Они были нарядно одеты и, пожалуй, сами не смогли бы ответить, где хранились эти нарядные платья и сарафаны, каким образом их не выменяли еще на хлеб, а немцы не отыскали в схронах. Люди радовались тому, что в их село пришли партизаны.
Ефрейтор Пауль Минкель широко раскрытыми глазами смотрел на этот стихийный праздник. За все девять месяцев, что он разъезжал по селам и городам Белоруссии, он впервые видел такие лица. О! Когда этих людей сгоняли к нему на лекции о Германии и даже когда они смотрели его веселые кинофильмы, он ни разу не слышал их смеха и ни разу не видел таких глаз. Только низко надвинутые платки, сутулые плечи, горькие складки у рта. Пауль даже удивлялся: какой угрюмый народ в России и в этой, как ее... Белоруссии! И девушек на его лекциях было мало. А сейчас Пауль видел веселые глаза, живые и любопытные. И это был совершенно другой народ! Но главное — во взглядах этих людей светилось неподдельное дружелюбие. Нет, совсем не такими изображал партизан Пауль Минкель в своих лекциях!
Выбравшись из объятий, Конрад с товарищами вошел наконец в избу. И здесь хозяева радостно засуетились, накрывая стол для дорогих гостей.
Конрад, успевший уже переговорить с командирами подразделений, с Егорычевым и Романьковым, обратился к ефрейтору:
— Ну как, Пауль? Нравится тебе партизанская жизнь?
183
Ефрейтор удивленно покачал головой:
— Отчень много рус партизан! Вся деревня... село!
— Весь народ! — поправил его Романьков густым голосом, от которого чуть колыхнулась на окне занавеска. — Еще не такое увидишь, когда поедешь в отряд.
Ефрейтор вздрогнул, посмотрев на суровое лицо Ро-манькова, на его тяжелые надбровные дуги и густые рыжие брови. Затем он настороженно взглянул на молодое, смуглое лицо и задорно свисающий курчавый чуб, прикрывавший блестящие, смоляные глаза лейтенанта Егорычева. Лишь после "этого, осмыслив слова Романькова, ощнедоуменно посмотрел на Конрада:
— Я должен ехать в отряд? Штаб партизан?
— Да, — ответил Конрад. — Придется тебе, господин ефрейтор, потерпеть еще немного до отпуска. Поскольку ты связан с гестапо и с разведкой, хотя и «официально по службе в бюро», я должен тебя представить командиру и Василь Василичу. Ты уж извини меня, господин ефрейтор, что так получается. Да что же делать? Война! Ты и сам понимаешь это.
В голосе Конрада не было никакой угрозы, наоборот, угадывалась дружелюбная усмешка, с которой он обычно разговаривал с Паулем, да нередко и со своими товарищами. И все же лицо ефрейтора изменилось. Он встревоженно произнес:
— Я имею желание быть направлен в официальный плен.
— Да ты не бойся, — успокоил его Конрад.— В отряде у нас хорошие люди, зря не обидят. И приятель тебе найдется, он тоже немец, Христиан Миллер. Он сам попросился к нам, в партизанский «плен». Ну а будет возможность, может, тебя и отправят на самолете в официальный плен. Но могу заверить тебя: капут не будет. Это я уже обещал.
Ефрейтор, кажется, успокоился. Ткнул пальцем в широкую грудь Конрада:
— Господин Конрад тоже будет вместе ехать в отряд?
Конрад отрицательно покачал головой:
— К сожалению, пока нет. Господин Конрад Анри опять пойдет в... Рогачев.
— Опьять? — отпрянул в испуге Пауль.
— Да ты hq пугайся, — усмехнулся Конрад. — Тебя 184
не возьмем, теперь я и без тебя обойдусь. Не зря же ты водил нас по городу. А кроме того, мне действительно очень надо узнать, где сейчас майор Амон, что его привлекло сюда. Заодно думаю, что в Рогачеве смогу раз-живиться солью.
Конрад не обманывал ефрейтора Минкеля: он и вправду снова собрался в город. И кроме того, что его занимал майор Амон, офицер с особыми полномочиями, и, конечно, особые планы этого гестаповского майора, Конрад в самом деле собирался заодно раздобыть для отряда соли. Еще до того как партизаны вошли в избу, он, узнав, что отряд сидит без крупицы соли, сказал Романькову обычным, будничным голосом:
— Ты выдели-ка мне к вечеру десяток ребят, покрепче ногами. Кстати, поглядим, как город охраняется ночью. Может, после Петрович решит совершить ночной налет на город. А пока мы проведаем хлебозавод, мы его с Али хорошо рассмотрели. Не сомневаюсь, что соль там найдется... — И вдруг Конрад закончил с укором: — Говоришь, боеприпасы, обувь, литературу, даже конфеты сбросили с самолетов? Что ж не догадались хотя бы мешочек самой обычной соли занарядить?
А через минуту опять:
— Только я теперь с другой стороны в город войти попытаюсь, с Заднепровской. Она к заводу поближе. А ты, Романьков, не забудь ребят подобрать покрепче, мои измотались сильно.
ЕЩЕ ОДНА «ПТИЦА»
Группа Конрада на рассвете, переправившись через Днепр, не доходя до железной дороги, повернула на юг и к исходу дня вновь подошла к Рогачеву.
В густом подлеске, отгоняя назойливых комаров, партизаны ожидали наступления ночи. Конрад спал, набросив на лицо носовой платок. И все же он первым услышал шорох, хотя наблюдатели ни о чем не докладывали.
— Посмотрите, что там! — не снимая с лица платка, приказал он.
Смотреть не пришлось. Человек сам поднялся из ельника и подошел к партизанам. Сказал наигранно бодрым голосом:
— Здорово, братки! Вас-то я и ищу!
12 И. Давыдов
185
Партизаны, придерживая оружие, хмуро и недоверчиво рассматривали незнакомого человека. А он стоял, высокий и жилистый, расставив босые ноги. Конрад, уже сбросив с лица платок, снизу смотрел на парня. Потертые штаны морского покроя, явно преувеличенный клеш, закатаны до колен, обнажали волосатые икры. Неаккуратно заправленная, застиранная тельняшка с короткими рукавами, волосатые руки... Волосы угадывались и на груди, под тельняшкой, выбивались от выреза к крупному кадыку. Й везде, где открыто тело, сквозь волбсы проступала темно-синяя, густая татуировка. А лицо, не такое уже молодое, расплывалось в улыбке. Какая-то бутафория. Как в оперетте!
— Моряк, что ли? — строго спросил Конрад.
— Моряк, — ответил парень, без приглашения подсев к партизанам.—Моряк и есть. С Севастополя. Угадал, товарищ начальник!
— Брехун! — заключил Конрад. Потянулся к маленькой елке, достал из-под нее свою немецкую фуражку, надел. Спросил зло:
—• Партизан? Чего в лесу шляешься?
Парень замялся, ответил не очень уверенно:
— Брось, браток! Меня на испуг не возьмешь. В полицию не играй! Я, может, больше тебя повидал полицаев.
— Ты, может, сам полицай? — сузил глаза Конрад.
— Не. Потому и сбежал сюда, в лес. С Рогачева. В тот раз, когда вы отчалили с немцем из города, наш бургомистр, пан Денисенко, собака его дери, посвистал меня до себя, в городскую управу то есть. И так же, как ты вот сейчас, сказал ласково: «Долго еще шляться будешь, кобель?» Это он про меня, значит. Только он сказал «по городу», а ты «по лесу». И в отличие от него ты меня кобелем не назвал. А то бы я и вправду тебя за полицая признал.
Конрад сердито насунул на глаза фуражку.
— Когда ты видел нас в городе? С каким немцем?
Парень попросил закурить. Мусоля цигарку, ответил уже смелее:
— Я ж пояснил когда. Когда вы по городу с немецким ефрейтором прогуливались, как на Графской пристани в Севастополе. Еще один черный, на кавказца лицом, ходил с вами.., Да мне в тот раз не дошло, что вы 186
IB*
за народ. Как раз я тогда подумал: «Экие кобели здоровенные, а в полицаях служат!»
— Ну а бургомистр зачем тебя вызывал?
— Понятно зачем. Он уже в третий раз меня ласково приглашает: в полицию, говорит, поступай! Сегодня последний срок установил. Если, говорит, и на этот раз я ему адью скажу, тогда он немцам меня представит как активного беглого морячка, который Севастополь оборонял. Да немцем-то меня на испуг не возьмешь, а вот в полицию — убей не пойду! Я ж советский моряк, на флоте служил! А этот бургомистр, собака его дери...
Он почесал татуировку на левой руке. Конрад внимательно всмотрелся в рисунок. Женщину обвила змея. Ниже, кривыми буквами, — «Фаня». Татуировка яркая, но не свежая. Спросил:
— Говоришь, на флоте служил? А не в тюрьме ты изрисовался так?
Парень не отозвался. Потом сделал подряд несколько глубоких затяжек и тоже задал вопрос:
— А хочешь, я тебе всю оборону Севастополя до малых подробностей доложу? До последнего дня там бился. Только отчалить со своими не смог: поранили. Гляди, на!
Он быстро опустил штаны. Показал волосатые бедра— одно, другое. И верно: мешаясь с татуировкой^ на бедрах были красноватые, глубоко втянутые рубцы, еще свежие.
— Видал? — не то торжествуя, не то хвастливо спросил парень, застегивая штаны. — На бережку меня, спасибо, одна женщина приютила; она откуда-то бинты доставала... Но только я на поправку пошел — на тебе: немецкий оберст, помощник коменданта причалил! Домик, видишь ли, ему понравился, а пуще того — хозяйка. Так на постой и устроился, сволочь! Первым делом: «Вер ист ес?» — на меня. Тут бы ей, чудачке, сказать, что муж, а она с перепугу— брат! Ну, раз брат, так он пуще прежнего на нее давай глаза таращить. Ко мне ничего, мирно. Ромом меня угощал. Задобрить хотел, видать.
Партизаны косят на парня насмешливыми, подозрительными глазами, а он хоть бы что. Новую цигарку закручивает. А в глазах Конрада забегали веселые огоньки.
188
•— Трави дальше! — приказал он умолкшему было парню.
— А дальше — совсем кино, — опять оживился рассказчик.—По пьяному делу вручил мне полковник самые настоящие документы! Это, как я смекнул, затем, чтоб я отчаливал, «сестру» не стеснял. Она приготовила мне узелок на дорогу, а один раз, когда оберст сильно упился, передала она мне все его ключи и бумаги, и я отчалил прямо на его мотоцикле. Ездил, ездил, так и причалил сюда, к родному городу. А его документ, надо сказать, имел силу: где ни покажу — меня пропускают. Иначе бы домой не добрался. А мотоцикл и теперь стоит в сарае у бургомистра, отнял у меня, собака! — Парень сам себя перебил вопросом: — Не веришь?
— Верю, брехать ты мастер, — заключил Конрад.
Парень поднялся на ноги, подтянул морские штаны. Спросил с обидой и вызовом:
— Хочешь, схожу? Документы у меня дома лежат, второпях оставил. Через них и немцы меня пока не трогали.
— Сядь! — приказал Конрад. — По каким делам сюда прибыл, в лес? Только смотри, без шуток!
— Сказал уже, в полицию не хочу.
— Так у тебя какие-то там «надежные документы»?
— Были надежными... Пока пан бургомистр моим мотоциклом довольствовался. Теперь он опять взятку требует. Сейчас он с другого борта заходит. Обещает доложить, что мой отец работал в райкоме партии.
Конрад присвистнул. Искренне рассмеялся:
— Веселый ты «морячок»! Вот бы тебя в отряд — партизан развлекать, когда заскучают!
Парень заерзал. Сказал злясь:
— А ты не смейся! Воевать я еще поучу кого-нибудь... по-морскому. И немцев обману, когда надо, я их на том оберсте изучил. Да что... одному-то мне? Если сказать по правде тебе, с парнями в городе не сошелся... — и вдруг он закончил голосом, в котором послышалась неподдельная горечь: — Сказать по правде тебе, не особо мне доверяют ребята. И с виду я, верно, что шебутной!
Конрад сорвал травинку, положил на зубы, лег, прикрывая лицо платком. Перед этим откровенно кивнул на парня товарищам: мол, глядите за ним как следует. Немного погодя спросил сквозь платок:
189
— Там, на левой руке, у тебя наколка — «Фаня»... Твоя мадам, что ли?
— Нет, — без особого энтузиазма отозвался моряк.— Это я себя наколол, давно еще... По-настоящему — Афанасий. Афанасий Пинчук.
После долгой паузы Конрад снова спросил!
— Посты в городе знаешь?
— Сказал уже, что знаю город наскрозь, — на этот раз коротко отозвался Пинчук.
Под платком Конрад негромко хрустнул зубами: видно, перекусил травинку, Сказал решительно}
— Ночью проведешь нас в город. После скажу, куда надо вывести.
ОПЯТЬ РОГАЧЕВ
Это хорошо, что ночь выдалась темной. Над городом низко повисли тучи, закрыли луну, А партизанам все равно неуютно в городе, переполненном немцами. И еще потому, может быть, что впереди шагает совсем неизвестный и подозрительный «морячок», которого Конрад все-таки привлек к операции. Одно успокаивает: пистолет Конрада упирается в спину проводника.
Партизаны идут цепочкой, крепко сжимают в руках оружие. У них снова на рукавах повязки. И у Конрада. А на голове вместо фуражки пилотка. Погоны сняты. Если придется вступить в разговор с немецкими патрулями, они — полицаи. Их из Довска для связи выслали. Телефон теперь — ненадежное дело: сегодня опять партизаны провода пообрывали. Вот и прислали их, а дело такое — иди в ночь-полночь, когда посылают.
Партизаны были уже возле самого хлебозавода, к которому их точно вывел Пинчук. И хотя окрик прозвучал не слишком грозно, они вздрогнули от неожиданности.
— Егей! Хтой тама?-—спросил старческий голос.
— Полиция, —негромко отозвался Конрад. Пощупал стволом пистолета лопатки проводника. Тот шепнул, успокоил:
— Это сторож, старик. Иногда вот только пост сюда добавляют...
А сторож сказал после достаточно затянувшейся паузы:
— Почекайте малость, ребята, когда полиция. Я зараз солдата кликну, пущай он сам вас про паролю расспросит.
190
Сторож, суетясь, спрятался за калитку. А к ней сразу же приблизились партизаны. Во дворе послышались голоса — по-русски и по-немецки. Потом загремел засов и калитка раскрылась.
Никто, конечно, пароля не спрашивал. Полицай только и успел прохрипеть, узнав моряка:
— Пьяный, што ли, бандюга?! Отпусти грудки...
Немец солдат, вырываясь, пытался вытолкнуть изо рта кляп. Пока ему скручивали веревкой руки, все же вытолкнул, закричал, но тут же умолк.
— Вот и дурак, не надо было орать, — заключил кто-то, отодвигая немца с дорожки. — А то бы Паулю веселее было.
Старик мелко дрожал, протягивая берданку то одному, то другому, шептал беззвучно:
— Со мной теперь... как же?
Берданку никто не брал. Конрад отстранил старика, проворчал:
— Погоди, не путайся под ногами. Давно часовые-то поменялись?
— Не больно, — с готовностью ответил сторож. — Часов у меня нема.
— Покажи, как в завод войти.
Старик, семеня ногами, часто оглядываясь, двинулся по двору, поясняя на ходу:
— Замки там... Они под пломбами. Двери-то, говорю, под замками.
— Да брось ты свое ружьище! — незлобно прикрикнул Конрад, вырвал из рук старика берданку, отбросил в сторону.
...Партизаны долго чиркали спичками, набивая соль в вещевые мешки, и с сожалением поглядывали на большие лари, которые невозможно было забрать с собой. Затем пошли в пакгауз, в котором хранилась мука. Сторож, забегая вперед, испуганно предупредил:
— Пылищи мучной тут пропасть... бусу мучного. Со спичками-то глядите, ишо пыхнет... Пожара бы не наделать!
Когда засветился фонарик, сторож удивленно воскликнул:
— Эк, гляди ты! Богатства какая пропасть! А все — сабе. Нам-то, говорю, ничуть не выходит. — Увидав, что партизаны снова готовят спички, опять встревожился:—
191
Говорю ж, не чиркайте! Бус тут, видите — пыль мучная. Пыхнет, что тебе взрыв! И сам не выйдешь отсюда.
Но, к его удивлению, партизаны стали раскладывать костер, прямо возле ларей и мешков с мукой. Старик выскочил во двор первым. Поймал за рукав Конрада:
— А я теперь как же? Повесят меня немцы! Со мной что?
Конрад отвел его в дальний угол двора, некрепко связал веревкой. Уложив осторожно на бок, вынул свой носовой платок, встряхнул, сделал кляп. Улыбаясь, втиснул в беззубый рот старика. Сказал, жалея:
— Не сжуй платок-то... еще хороший! И пожара не бойся, до тебя не достанет!
Пожар разгорелся, когда партизаны уже достигли леса. И в это же время на лес обрушились мины. Затем в сторону леса потянулись разноцветные нити — пулеметы били неистово. Тяжело нагруженные вещевыми мешками с влажной солью, партизаны ускорили шаг. Лишь достаточно углубившись в лес, они, по команде Конрада, устроились на короткий привал.
Афанасий Пинчук, намусолив цигарку, сказал балагуря:
— Жаль, со своей знакомой мадам не успел попрощаться! Заодно документы забрать... А то, может, и так поверите?
— Подружку твою могут теперь повесить, — заметил Конрад.
Пинчук потянулся, придвинул берданку, отозвался с зевком:
— Ее не узнают. У меня их несколько было.
— Брехун и... кобель! — подытожил Конрад. И вдруг скосил глаза на берданку, которую Пинчук подобрал возле сторожа. — А это ружьишко сдашь старшине отряда, когда вернемся. Не велико геройство — ружьишко у старика забрать.
Пинчук посмотрел на него удивленно:
— Как так отдать старшине?
Конрад ничего не ответил. Кто-то пояснил за него:
— А у нашего Кости такое правило: пришел в отряд без оружия — в бою добывай! На первую засаду пойдешь с пустыми руками, там и постараешься показать 192
свою удаль, первым выскакивай за оружием. Хватай, какое получше.
В Камень-Ры.сковском тяжелые, влажные мешки с солью погрузили на повозку, прикрыли соломой. Конрад вложил в руки Бабошина вожжи, весело подмигнул ефрейтору, сидящему на повозке:
— А тебе и не снилось небось, как живут партизаны? Вот теперь будет о чем рассказывать на лекциях!
Пауль Минкель растерянно улыбнулся, забеспокоился.
— Да нет же, нет, не будет капут, — серьезно сказал ему Конрад. — Бабошин все о тебе командиру расскажет. А мы в отряде увидимся.
ОТРЯД УХОДИТ НА ЗАПАД
Переправа через Сож началась среди белого дня второго июня 1943 года. Командир «Славного» рассчитывал броском преодолеть безлесный участок, с тем чтобы к ночи достигнуть шоссе Гомель — Могилев. Дальше крупному партизанскому отряду будет продвигаться несколько легче, по другую сторону шоссе начинаются перелески, а ближе к Днепру они вливаются в большой Приднепровский лес. Пока все обходилось благополучно, а беспрепятственное продвижение через населенные пункты Кляпино и Волынцы предвещало успех. По всему было видно, что немцы ничего не знают о маршруте отряда, хотя над ним несколько раз пролетал вражеский самолет-разведчик.
Поэтому Петрович и решил, не теряя драгоценного времени, переправиться через Сож днем. Этого противник не мог ожидать и потому не успел бы помешать переправе, если б даже узнал о ней.
Когда отряд продвигался к Сожу, ефрейтор Пауль Минкель сидел на повозке доктора, рядом с пожилым немцем Христианом Миллером. Миллер давно, уже несколько месяцев, находился в отряде и считался своим человеком. Да и как не считаться? В прошлом — рабочий, пекарь, немолодой солдат Миллер сам передал винтовку военнопленным, которых он конвоировал. Передавая оружие, предложил, чтобы они, захватив его в плен,
193
бежали в лес —к партизанам. Так и прибыло это несколько необычное пополнение в отряд к Петровичу. Сейчас Миллер сидит на повозке рядом с ездовым, дремлет, А Пауль только и знает что удивляется: очень свободно движется такой большой партизанский отряд, заходит в населенные пункты. И везде партизан радушно встречают советские люди, всюду возникают стихийные митинги. Ефрейтор подталкивает то Христиана, то ездового;
— Рус партизан — много! Зона партизан — много!
Первый взвод переправился через реку вплавь. И, едва выбравшись на западный берег, сразу же залег, занял оборону. Затем к месту переправы причалили две лодки и плот, связанный из подручного материала. На плот легко вскочил Главстаршина Андреянцев и принялся ловко орудовать длинным шестом, перегоняя плот туда и обратно.
В своей стихии оказался и гребец Александр Долгушин. Весело налегая на весла, он, словно игрушечный кораблик, перегонял тяжело нагруженную лодку. Может быть, в этот момент он вспоминал то далекое время, когда еще мальчишкой гонял по Москве-реке плоскодонный «дредноут» или свой быстроходный спортивный скиф, не знавший соперников. А теперь Долгушин был снова на «скифе», на котором теснились повозки с ранеными товарищами. Александр греб изо всех сил, и под его влажной гимнастеркой бугрились тугие бицепсы...
Петрович, не выпуская изо рта трубки, ходил по берегу, наблюдая, как на западной стороне накапливался отряд. А здесь берег постепенно пустел.
— Стой! — подал команду Петрович. — Теперь переправляйте раненых и обоз.
Это было сложнее, чем переправлять стрелковые подразделения.
Повозки, не снимая с них раненых, стали накатывать на лодки, ц они, словно небольшие кораблики с колесами, опущенными в воду, одна за другой потянулись к западному берегу, оставляя за собой едва приметные разбегающиеся волны. А лошадей переправляли в стороне от отряда, на значительном удалении, чтобы не вызывать большего скопления у переправы. И здесь опять орудовал Андреянцев. Уцепившись за шею була-194
ного коня, он, лихо присвистывая, подбадривал плавучий табун...
Когда возле командира осталось совсем немного людей, он приложил ладонь козырьком, всмотрелся в реку. Потом подтолкнул локтем начальника штаба. Тот тоже сощурил глаза. Увидел: сл9вно кто-то плывет, далеко его течением отогнало. Плывет к ним, на восточный берег. Наконец выбрался, бежит в чем мать родила.
— Пауль? — Петрович вынул изо рта трубку. Упрекнул начальника штаба; — Хороша у тебя охрана! Так его, чего доброго, до самого Гомеля унести могло бы!
Михаил Оборотов весело блеснул смоляными глазами: — Далековато до Гомеля.., А Киселеву всыплю! Я ж ему поручил приглядывать. Христиану-то некогда, он Главстаршине помогает.
Ефрейтор Минкель подбежал, радостно хлопая ладонями по голому телу и нисколько не стесняясь, что рядом женщины.
— Гут! Вода — хорошо! Гут!
— А чего ты в Гомель-то не уплыл, холера? — спросил Петрович с усмешкой. Нагнулся, поднял с земли чью-то рубаху, бросил Паулю: — На вот! Срам свой прикрой. Девушек напугаешь.
Пауль с трудом натянул прилипающую к телу рубаху, просунул в воротник взъерошенную мокрую голову.
— В Гомель нельзя: я есть плен. Конраду слово дал. Честно.
— Гляди, какой благородный! — покачал головой Петрович. — А вообще, больше вот так не бегай, кто-нибудь хлопнет под горячую руку. Вот и будет тебе капут. А ты еще к матери хочешь съездить!
Командир перебрался с последней лодкой. И снова вытянулся отряд извилистой, длинной цепью. Далеко впереди — головной дозор... едва маячит на лошадях. А здесь — трофейные немецкие кони тянут до отказа нагруженные телеги. На легких лошадях, верхами, вдоль отряда гарцуют командиры подразделений. А солнце еще высоко, едва за полдень перевалило.
Пауль опять сидит на повозке, тычет в разные стороны пальцем, то и дело толкает в бок то Христиана Миллера, то ездового:
— Партизан? Там партизан? У-у, много!
195
— Сиди уж! — нехотя отзывается ездовой. — А ты как думал? У нас кругом партизаны. Вот, сам теперь убеждайся!
За повозкой, на длинной вышколенной кобыле, покачиваясь в седле, клюет носом доктор. Измотался, переправляя раненых и делая перевязки. Сейчас, когда отряд идет ускоренным маршем, остановки не часто случаются, да и то кратковременные. Ефрейтор жмурится, с участием смотрит на утомленного доктора, потом с восторгом на лошадь.
— Гут! Хорошо лошадка! Гут, очень. Жокей-цирк... О!
Опять посмотрел на доктора. Неожиданно предложил:
— Господин доктор устал, надо немного спать на повозке. Пауль может немного ехать саттель... в седло.
Доктор поколебался, но все же пересел на повозку. Сказал:
— Только от колонны не отъезжай. И с кобылой, смотри, поосторожнее, она горячая.
— О! — засмеялся Пауль. — Я есть хороший всадник! Жокей! О!
Теперь и Пауль принялся гарцевать на лошади, обрадовался, довоенную специальность вспомнил. Катается вдоль колонны, ликует, демонстрирует класс верховой езды, а партизаны шутят:
— Пауль совсем партизаном стал! И фатерланд свой забыл...
— Пауль Минкель есть партизан! — восклицает в ответ ефрейтор.
Проехал вперед, к Петровичу. И Петрович смеется. И Василий Васильевич, начальник разведки, щурит глаза в улыбке:
— Ты скоро совсем к нам привыкнешь, как Миллер. Чего доброго, и в отпуск к матери не захочешь.
Вдали показалась деревня. Василий Васильевич подозвал одного из разведчиков, приказал:
— Догони головной дозор, предупреди, чтобы в деревню поаккуратней въезжали. Отсюда до шоссе — рукой подать. Противник может и засаду подстроить.
Пауль умоляюще посмотрел на Петровича:
— Я тоже имею желание ехать в разведку!
Петрович незлобиво погрозил ему пальцемг
196
— Уж больно ты прыток! Давай-ка лучше, ступай к обозу.
Пауль обиженно, как ребенок, сложил губы и нехотя повернулся назад.
Петрович и Василий Васильевич рассмотрели в бинокли: посланный связной присоединился к головному дозору. Затем головной дозор сдержанной рысью пошел к деревне.
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Кобыла, на которой сейчас гарцевал ефрейтор, и в самом деле была хорошей. Появилась она в отряде недавно. Не одна — с полусотней отлично выезженных и откормленных кавалерийских коней. И здесь опять дело не обошлось без Конрада.
В начале мая разведчики установили: в селе Вель-жичи, что в Суражском районе, находятся на отдыхе много немецких коней, которых охраняет рота солдат, размещенная в школе. Вокруг школы гитлеровцы отрыли ров и укрепились, как только могли. И все же К'он-дратий Мадей с группой партизан в двадцать пять человек в одну из ночей пробрался в село. Часовых возле конюшен сняли без выстрелов.
Застоявшиеся лошади, почуяв незнакомых людей, вошедших в неурочное время, гремя цепными обратями и натягивая ременные недоуздки, бились в стойлах. Напуганные и возбужденные животные, выведенные с трудом из конюшен, на улице не стали спокойнее. Крупный серый конь то и дело взвивался свечой, пытаясь сбросить с себя Долгушина. Но Александр в конце концов стиснул его бока своими сильными ногами. Длинная рыжая кобыла выворачивала голову назад, тянулась зубами к Конраду. И вдруг отпрянула в сторону от распростертого на земле немецкого часового... Потом — выстрелы, топот и ржание. Минометные взрывы. И вслед табуну, подгоняемому отважными партизанами, — пулеметные трассы...
На этих лошадях и догнал Кондратий отряд уже в Чечерском лесу, доставив товарищам такое богатство — полсотни коней, и столько же по пути раздав населению. Партизаны осматривали, ощупывали, хвалили: добрые кони! Командиры выбрали себе новых, сытых и отдохнувших, а прежних передали в обоз. Только Пет
197
рович не сменил своего коня, хотя долго ходил вокруг длинной рыжей кобылы. Ее Кондратий подарил своему другу — доктору.
И вот теперь на ней вдоль обоза гарцевал немецкий ефрейтор.
Наблюдая за ним в последние дни, Василий Васильевич задумался. Пауль рассказал все, что знал о дислокации немецких частей в Могилеве и Гомеле, о деятельности бюро пропаганды и, кроме того, сообщил целый ряд полезных для партизан сведений. Он не врал:- Петрович и Василий Васильевич убедились в этом. Немецкий ефрейтор не сбежал, хотя мог бы это сделать на переправе. Может быть, он догадывался, что за ним наблюдают, и не знал, что Киселев, которому это было поручено, допустил оплошность. Во всяком случае, трудно было предположить, что молодой немец, вскормленный Геббельсом, искренне принял сторону партизан, как это сделал пожилой Миллер.
Поэтому начальник разведки досадливо морщил лоб, думая, как поступить с ефрейтором. И по всему было видно, что судьба Пауля занимала и командира, которому пришлась по душе непосредственность молодого немца.
Но хотя Петрович был склонен поверить в честность Пауля Минкеля, который не мог не испытывать чувства благодарности к партизанам, и в первую очередь к Ма-дею и самому Петровичу, за то, что ему сохранили жизнь, Петрович отлично понимал, как трудно вести непрерывное, но необходимое наблюдение за ефрейтором, особенно во время боя. По существу, пленный ефрейтор в отличие от Христиана Миллера связывал весь отряд.
Решение пришло неожиданно. Случилось это, когда «Славный» вошел в деревню. Петрович взглянул вдоль улицы и вдруг подтолкнул локтем начальника разведки. Возле колодца, окруженный женщинами и ребятишками, на лошади возвышался Пауль. Он что-то громко выкрикивал, тянулся с седла и раздавал листовки.
— Пропагандист! Его работа такая, — сказал с усмешкой Василий Васильевич. — А листовки, видать, набрал у доктора на повозке.
Петрович вспомнил: листовки, полученные с Большой земли, как и другая литература, действительно, были
198
сложены на повозке доктора, который замещал заболевшего комиссара.
Подъезжая к колодцу, Петрович услышал, как пожилая женщина рассказывала:
— А и нагнал же страху! Сперва, вижу, будто партизаны вошли в деревню, а тут вдруг — немец! Орет что есть мочи: «Ком! Шнель!» И из пазухи листки вынимает, тычет в руки. Глянула я на листок, обмерла: советский!
Отряду предстояло оставаться в этой деревне до наступления темноты, чтобы шоссе Гомель — Могилев форсировать ночью. Лошадей укрыли, орудие и повозки тщательно замаскировали, хождение по улицам прекратилось. Начальник штаба установил вокруг деревни усиленные посты. Гомель был близко, а еще ближе — шоссе, на котором в последние дни отмечалось оживленное движение частей противника.
Закончив дела, командир и Василий Васильевич вызвали ефрейтора, усадили рядом с собой, в тени, за хатой. Петрович вынул кисет, протянул Паулю. Вспомнил: не курит. Отдал кисет начальнику разведки. Тот тонкими, аккуратными пальцами свернул грубую козью ножку, прищурил глаза на Пауля. Затем сказал:
— Ты, парнишка, по всему видать, не плохой и честный. Ты уже имел возможность удрать к своим, но не удрал. А мы вот с командиром решили тебя отпустить. Ребята проведут до шоссе, а там — на все четыре стороны. Вернее, на две: в Гомель или домой, к матери. На-ка... держи свои документы, они в полной сохранности.
Василий Васильевич вынул из полевой сумки бумажник Пауля, положил ему на колени. Пауль до него не дотронулся. Глаза его стали грустными и задумчивыми, от лица отхлынула кровь.
— Чего же ты? — удивился Василий Васильевич.— Выкупа с тебя мы не требуем, заданий никаких не даем. И вообще, можешь о нас рассказывать что угодно, что твоя душа пожелает.
Пауль, не понимая, моргал глазами. Начальник разведки озадаченно посмотрел на Петровича.
— Ну, как же? — спросил в свою очередь командир.— Ведь говорим: не даем тебе никакого задания. Хочешь, правду рассказывай о партизанах, а нет — дело
199
твое. Можешь сказать, что из-под расстрела бежал или как было на самом деле...
Пауль долго молчал. Отыскал соломинку, рассеянно стал грызть. И вдруг беспомощно улыбнулся:
— Конрад!
— Что «Конрад»?
— Конрад так трава ам-ам! — пощелкал зубами Пауль. Опять надолго умолк. Наконец отозвался: — Пауль Минкель нельзя в Гомель, нельзя в фатерланд. Никуда нельзя! Будет капут, пук-пук. Вы есть гроссна-чальник, надо это понять.
Он заговорил торопливо и сбивчиво, все чаще употребляя немецкие слова и все больше коверкая русские. Сейчас Петрович и Василий Васильевич с трудом понимали его. Скорее всего, они сейчас улавливали только смысл того, о чем говорил ефрейтор. Получалось, что Минкелю все равно нельзя возвращаться, все равно никто не поверит, что ему удалось бежать от партизан, а тем более, что партизаны его отпустили, да еще не дали задания. Он и сам ни за что не поверил бы в это раньше. Его отдадут под военный суд и обязательно расстреляют. А о партизанах он теперь не сможет рассказывать плохо... Он поражен, что такой крупный партизанский отряд совершенно свободно существует в тылу немецких войск, свободно передвигается в любом направлении и что его повсюду так хорошо принимает местное население. А он, Пауль, не сможет врать и будет говорить все как есть и как к нему хорошо отнеслись партизаны. И его тогда все равно отдадут под военный суд за вредную пропаганду...
Наступила очередь задуматься командирам. Петрович добавил в трубку свежего табаку. Василий Васильевич почесал свою просвечивающую макушку, заодно согнал комара.
— Что ж нам с тобой теперь делать? — спросил он Пауля.
— Можно на Большая земля, официальный плен? — неожиданно предложил ефрейтор.
Чисто выбритое лицо начальника разведки дрогнуло.
— Вот чего захотел! Это не так просто. Самолета скоро не будет.
— Можно ждать, можно ездить с отрядом, немного
200
помогать доктору на повозке, как Миллер, — опять предложил Пауль наивно.
— Да мы не все время ездим вот так, чаще-то мы стреляем... ваших солдат, а то, бывает, что они в нас стреляют, — сказал начальник разведки. И вдруг спросил:— А может, тебе винтовку дать? Будешь стрелять фашистов, пук-пук, как ты говоришь?
Пауль ответил искренно:
— Нет. Германский солдат — нет. Не есть возможно. — Криво усмехнулся, добавил: — Можно стрелять полицай, пук-пук. Изменник.
Петрович засопел, выколотил о каблук трубку. Ответить ничего не успел. Усталой походкой к ним приближался Конрад.
Первым на ноги вскочил Пауль. Подбежал, радостно оглядел его крепкую фигуру. Заулыбался-
— Живой есть Конрад!
...В избе, склонившись над картой, Конрад подробно доложил обстановку Петровичу и начальнику разведки. Она не предвещала хорошего. Гарнизоны Довска, Годи-ловичей и Рогачева усилены. К ним еще подойдут войсковые части из Гомеля и Могилева с танками и артиллерией. Готовится специальная операция по уничтожению «Славного». Немцы намерены зажать отряд между Днепром и шоссейной дорогой, если его не удастся вытеснить назад, на открытое место к Сожу. В этой операции будут участвовать и самолеты. Кроме того, в Го-диловичи прибыло два кавэскадрона. Руководит опера -цией майор Амон, строевой командир, но являющийся агентом гестапо. Еще в Белое Болото, большое село на шоссе, где намечен переход отряда, утром прибудет немецкое подразделение, перед которым поставлена задача перехватить отряд в момент форсирования шоссе. Немецкое командование предполагает, что «Славный» подойдет к шоссе только завтра ночью...
Таковы были недобрые сведения, которые удалось заполучить Мадею.
Командир и Василий Васильевич задумались. И вдруг Петрович сказал:
— А мы сегодня ночью шоссе перескочим! Вот и пригодился теперь бросок: опередили немца. А на той стороне леса погуще, и мы опять броском—до Днепра.
Конрад выпрямился, взял в руки фуражку.
13 И, Давыдов
201
— Разрешите попросить несколько человек с собой, мои ребята устали, пусть отдохнут немного.
— Чего еще надумал?— удивился Петрович.
— Подкараулить майора Амона попытаюсь, — просто ответил Кондратий. — Говорят, он завтра собирается заглянуть в Белое Болото. Хочу повидаться с ним. Да и он давно ожидает встречи!
Командир и Василий Васильевич пожали Кондратию широкую, крепкую ладонь. Возле порога он обернулся, сказал с улыбкой:
— Еще я забыл доложить: Денисенку-то, рогачев-ского бургомистра, после пожара на хлебозаводе сами немцы повесили. За недогляд. И за то что своего рысака с коляской предоставил в распоряжение партизан. Ну а стброжа, старика, в суматохе забыли. Он куда-то сбежал... Моряк, который прибился к нам, дерется смело. Малость брехлив, но, думаю, можно его в отряде оставить. Воевать он будетя
ЗАСАДА
На рассвете четвертого июня, когда отряд без происшествий пересек шоссе Гомель — Могилев, Петрович принял другое решение. И когда он сказал об этом начальнику разведки, тот не мог с ним не согласиться. Петрович рассуждал так: от села Белое Болото до Днепра оставалось около тридцати километров, но до Днепра нужно было еще пересечь шоссе Рогачев — Довск. Если же пойти южнее, на Жлобин, чтобы миновать это шоссе, то там начинается открытая местность. Можно, конечно, эти тридцать километров до Днепра преодолеть одним -броском, но форсировать его с ходу будет совсем не просто, потребуется подготовка для такой переправы. А кроме того, почти сразу же за Днепром— железная дорога и Варшавское шоссе... В этих условиях противник в любой момент, используя хорошие дороги и свои подвижные средства, может навязать невыгодный для отряда бой. То, что сконцентрированный в районе противник во много раз превосходит отряд, было уже хорошо известно. Поэтому Петрович и изменил решение. Он сказал:
— Продвижение к Днепру мы временно приостановим. Нам надо захватить инициативу в свои руки и спутать карты противника. Мы сами первыми стукнем кара-202
телей! Прямо на шоссе. Здесь они меньше всего ожидают, что мы на них нападем. А мы ударим по их командной группе.
Отослав обоз и раненых в лес под сильной охраной, Петрович направил связных в местные партизанские бригады. Он сообщил им последние данные о противнике и о своем решении, принятом в сложившейся обстановке. Он тут же, в селе, через которое проходило шоссе, разместил засаду. Славная получилась засада! Из-за бревен, которые гитлеровцы свалили вдоль улицы, подготовив для отправки на строительство оборонительных укреплений, на шоссе нацелилось более тридцати пулеметов! А вперемешку с ними — автоматы, винтовки.
Предупрежденные партизанами, жители села еще на рассвете выбрались в лес. У них там всегда наготове землянки: на селе то и дело останавливаются на ночлег немецкие подразделения, а местных жителей солдаты выгоняют на улицу. Потому крестьяне и приготовили для себя в лесу землянки.
Над засадой, что растянулась на две сотни метров, над шоссе, над селом повисла настороженная тишина.
•А в девятом часу утра от наблюдателей пришло донесение: движется автоколонна из восьми машин, с солдатами, с орудиями на прицепах...
И вот — противник! С небольшими интервалами машины медленно вползают в село. Остановились. Прямо в зоне засады. Вся колонна автомашин подтянулась, сжалась, словно специально подставила борта, а до засады не больше тридцати шагов — стреляй в упор! И хотя до партизан рукой дотянуться можно, они хорошо укрыты за бревнами, и противнику их не видно. Раздались слова немецкой команды. Несколько солдат соскочили с машин и принялись опускать борта. Шоферы пооткрывали дверцы своих кабин. Сейчас гитлеровцы начнут разгружаться...
Разгрузку ускорили партизаны.
Прогремел выстрел Петровича, а вслед за ним — ошеломляющий, убийственный огонь из пулеметов и автоматов и взрывы гранат.
Застигнутые внезапным ураганным огнем, гитлеровские солдаты выскакивают из машин и валятся на шоссе... Небольшая часть все же успела перебраться в ка
13*
203
наву, а некоторые укрылись за домами напротив. Но, придя, в себя, противник понемногу стал огрызаться. Затем — сильнее. И с его стороны, так же как и со стороны партизан, полетели гранаты: одна, другая...
Петрович увидел, что на левом фланге стали накапливаться гитлеровские солдаты. Один за другим, перебежками, они продвигались вперед, видно сосредоточиваясь для контратаки. Да, эти солдаты уже достаточно обстрелялись на фронте, в одну минуту их не возьмешь даже из внезапной засады. Испугом тоже: гитлеровцы уже осмотрелись, оправились после первого удара. '
— Долгушин! — надсадно закричал Петрович. — Ударь одним взводом по флангу! Гляди туда — накапливаются! Давай немедля!
Над бревнами с пулеметом в руке вырос широкоплечий атлет — Александр Долгушин. Он дал короткую очередь, и вдруг его пулемет замолчал. В диске не оставалось патронов. Это понял Петрович и крикнул, чтобы Долгушину подтащили боеприпасы. Закинув за спину автомат и схватив у кого-то пулеметный диск, к Долгушину пополз доктор. Он не сразу понял, почему Саша взмахнул руками... Атлет еще секунду смотрел на него остывающими голубыми глазами. По лбу медленно поползла алая струйка, заалела по щеке, спустилась к губам...
С трудом навалив на себя тяжелое тело спортсмена, доктор, глотая слезы и задыхаясь от напряжения, пополз за бревна. И вдруг закричал пересохшим ртом:
— Саша! Саша убит! За Сашу, за Сашу бейте гадов!
И его крик слился с натуженным голосом командира:
— За Сашу-у Долгушина-а! Вперед!
Партизаны выскочили на шоссе, гранатами и прикладами добили фашистов, что еще оставались возле машин и пытались сопротивляться. Мигом развернули трофейную пушку на броневик, мчавшийся по шоссе, послали первый снаряд, второй... Установили трофейные минометы, и из них — по взгорку, по новым машинам, по цепочкам гитлеровских солдат! Дружный огонь пулеметов и минометов отсек солдат противника, пытавшихся выйти отряду в тыл и отрезать партизанам пути отхода к лесу. А здесь, на шоссе, тяжелые клубы дыма: загорелись автомашины, все восемь. Партизаны подо
204
гнали из-за домов повозки, положили на них убитых и раненых, нагрузили трофеями и на галопе — к лесу. И только пыль густая над ними. И уже возле самого леса, вдоль колонны, кренясь крылом, пролетел самолет.
Выйдя в район села Камень-Рысковское, обе части отряда, та, что была в засаде, и та, которую командир заблаговременно отослал в лес охранять обоз, соединились. Возле села похоронили Александра Долгушина и Барановского. Сашин холмик оказался заметно длиннее других могил. Было похоже, что смерть не коснулась атлета. Спортсмен выглядел огромным и совершенно спокойным, как будто он отдыхал перед большим спортивным соревнованием... А в лесочке, недалеко от места, где похоронили Долгушина, над повозкой склонился доктор. Там лежали два тяжелораненых — Николай Софийков и Иван Храмов...
Когда возбуждение, вызванное засадой, немного утихло, командир, начальник разведки и начальник штаба подвели итоги. Трофеи: полуавтоматическая десятизарядная пушка и более сотни снарядов к ней. Второе орудие подорвали на шоссе. Два миномета с минами, пулеметы, автоматы, винтовки, несколько пистолетов... Солдат, накрытых огнем засады, не сосчитали — не до того. Судя по собранному оружию, не меньше шести десятков. И это не удивительно: стреляли почти в упор. Все до одной автомашины подожгли... В общем, ничего не осталось от сильной вражеской автоколонны!
БОЙ У КАМЕНЬ-РЫСКОВСКОГО
Бой начался внезапно, в четыре часа утра. Над лесом, едва не задев деревья, пронесся самолет, обсыпая лес пулеметными брызгами. И в ту же минуту с высотки, из Камень-Рысковского, ударил крупнокалиберный пулемет. Разведчики, высланные Петровичем, доложили, что в селе большое скопление карателей и шестиорудийная артиллерийская батарея. А еще с вечера командиру «Славного» стало известно, что в Белое Болото, вскоре после того как там была полностью разгромлена колонна противника, вошла крупная воинская часть, которую сопровождают танки. Это же подтвердили командиры местных партизанских бригад, заезжавшие ночью к Петровичу. Гомельские бригады этой же
205
ночью ушли за Днепр. Они приглашали с собой Петровича, полагая, что нет нужды ввязываться в бои с явно превосходящим противником, усиленным артиллерией, танками и самолетами.
Петрович уйти не мог. Еще в отряд не вернулись многие разведчики и группы подрывников» еще не возвратился со своей группой Конрад. Вчера прибавились раненые. Не достаточно ясной была обстановка и за Днепром, которая, видно, тоже изменилась за последние сутки. Командир не хотел двигаться наобум.
Но тем более нельзя было оставаться здесь! Отряд оказался в негустом перелеске, в треугольнике между двумя шоссейными дорогами и открытым полем, Единственный выход из трудного положения — перебраться поскорее через поле в большой Приднепровский лес, в котором отряду легче занять оборону и можно кое-как маневрировать. Опушка большого леса была еще свободна от противника. Туда ч'ерез поле и пробрался начальник штаба с пятью бойцами. Затем подал с опушки сигнал Петровичу, что можно двигаться, путь открыт.
Обоз, поскрипывая осями, цепляясь за пни, медленно стал вытягиваться на дорогу, ведущую к полю. А враг продолжал обрушивать огонь на отряд. Не утихали пулеметные очереди, все чаще рвались снаряды и мины. Порядок сразу нарушился. Лошади испуганно бились в оглоблях. На повозках тревожно стонали раненые.
«Надо побыстрее выбираться отсюда...» — решил Петрович и тут же подал команду:
— Через поле, по две повозки, по десять всадников... На полном галопе! С интервалами! На поле не мешкать! На опушке занимать оборону!
Только и успела выскочить на поле первая группа. Из большого леса, в котором совсем недавно скрылся с несколькими бойцами начальник штаба, навстречу отряду ударил винтовочный залп. На бреющем полете пролетел «фокке-вульф», прошил пулеметной очередью поле...
Солнце уже поднялось, осветило опушку большого леса. И тогда стало отчетливо видно: на опушке — противник! Занял ли он эту позицию, после того как здесь побывал начальник штаба, или умышленно пропустил 206
его небольшую группу — раздумывать над этим у Петровича уже не оставалось времени. Он приказал ударить туда из минометов и орудия и, оставив небольшой заслон, повернул отряд на восток. А дозорные Садовников и Борисов сообщают; со стороны шоссе — немецкие танки! Они замедлили ход, поджидая, пока подтянется за ними пехота, вздрогнув, послали по отряду первые снаряды. Командир приказал подтянуть противотанковое орудие, зарядить бронебойным. После второго выстрела задымил один из танков. Два других немного попятились, стали чаще сыпать снарядами...
Отряд повернул на запад. Но и оттуда, со стороны Рогачевского большака, — густые цепи противника... Мечется отряд в тесном лесочке, и все получается, нет партизанам иного пути — только на север, через открытое поле, сбив засаду противника с опушки большого леса. Конечно, обоз придется оставить, а раненых взять на плечи...
Лицо Петровича хмуро, сосредоточенно. Он уже понял, что противник действует по-фронтовому и достаточно прямолинейно. Сейчас он, видно, начнет атаку, сам высунется на открытое поле. Тогда... тогда отряд пробьется одним ударом, а противник, наседающий сзади, не успев разобраться в изменившейся обстановке, откроет огонь по своим. Только бы поскорее началась атака! И кажется, никогда в своей боевой жизни Петрович так не мечтал об этом — об атаке противника.
Роты подтянулись к исходному рубежу, откуда Петрович наметил броситься в контратаку, когда противник оставит опушку леса и сам выдвинется на открытое поле. За спинами партизан, пока еще далеко, щелкают выстрелы, трещат автоматы. Ну что же, теперь ждать осталось недолго. Пусть ближе прижимаются к партизанам гитлеровцы! Вот и батарея уже не бьет: сейчас вражеским артиллеристам трудно разобрать, где свои, где чужие. Только еще один взрыв раздался — последним снарядом партизаны взорвали трофейную пушку...
А от леса, навстречу отряду, все гуще и гуще выстрелы. Сейчас, это уже очень чувствуется, — противник начнет атаку. Партизаны не отвечают на выстрелы, с напряжением всматриваются вперед, на поле, ожидают
207
команды Петровича. А вот, наконец, и вражеская засада снялась с опушки! Цепочки гитлеровских солдат начали перебежки в сторону партизан, через поле, к ручью... И когда большая часть гитлеровских солдат переправилась через ручей, а до партизан оставалось не более полусотни метров, Петрович подал команду.
Холодящей волной прокатилось над полем раскатистое «ура». Суматошно захлопали выстрелы. Бесшумно, словно летучие мыши, взвились в воздух гранаты, а потом разорвались с треском, вздымая землю... Партизанская контратака перешла врукопашную. И сникла, задохнулась в невысоких хлебах и травах, смятая пехота противника. Партизаны, разметав по полю гитлеровских солдат, устремились к опушке большого леса. А оттуда выскочил кавэскадрон противника, помчался полем, но вовсе не на партизан, а к селу, к высотке, под укрытие своей батареи. И тут же этот перепуганный эскадрон своя же артиллерийская батарея накрыла густыми разрывами. Расчет Петровича оправдался.
...Первое, что увидели партизаны в большом лесу, когда они наконец оказались там, — обоз. Богатые трофеи оставил партизанам противник! Теперь и повозки как раз очень нужны отряду, потому что во время прорыва появились новые раненые бойцы...
Подразделения отряда, ожидая, когда обоз с ранеными вытянется на лесную дорогу, залегли на опушке леса. Партизаны с удивлением рассматривали совсем крохотный лесочек, из которого они только что каким-то чудом прорвались. И в этот крохотный.зеленый островок уже со всех сторон стали вступать каратели. Они еще не знали, что там уже нет партизан, и потому продвигались нерешительно, осторожно. А в это время по полю, низко пригибаясь, кто-то тянул за повод длинную рыжую лошадь, и было видно, что человек спешил, чтобы догнать отряд. С лошадью в поводу он бежал к лесу. И он уже почти достиг ручья.
Партизаны присмотрелись, узнали: Пауль! Не захотел, значит, бросить лошадь доктора и сам не стал искать защиты у своих соотечественников! Жаль, что от отряда отстал, далеко ему еще до опушки большого леса. Гораздо ближе немецкий танк...
Танк выскочил на поле со стороны шоссе и, словно бы задыхаясь от быстрого бега, стал прошивать из 208
пулемета оставленный партизанами небольшой лесок. А в этот лесок со стороны Рогачева уже вошла гитлеровская пехота. Танк вздрогнул от орудийного выстрела, а затем выпустил длинную очередь по лошади и ефрейтору. Лошадь, громко заржав, взвилась на дыбы, рухнула возле Минкеля. Пауль с трудом поднялся на ноги, сделал шаг, другой к опушке большого леса, в ту сторону, куда ушел Петрович с отрядом. Но пулеметная очередь уже сделала свое дело: ефрейтор Пауль Минкель упал...
В разных местах все еще раздавалась густая и беспорядочная стрельба, куда-то с непонятным ожесточением била батарея из Камень-Рысковского, над оставленным партизанами лесом все еще носились немецкие самолеты. И все-таки что-то надломилось в наступательном порыве карателей. В это время Петрович уже собрал почти весь отряд в большом лесу, а трофейный обоз ездовые уже вытягивали на лесную дорогу. Вслушиваясь в продолжавшуюся стрельбу и раскуривая свою погасшую трубку, Петрович заметил:
— Не иначе, они теперь друг в дружку стреляют!
Потом он прилег за деревом и, ожидая, пока подразделения после прорыва приведут себя в порядок, стал наблюдать за полем. В этот момент на дороге, что шла вдоль лесной опушки, показалась группа кавалеристов. Кавалькада в десяток всадников на манежном галопе приближалась как раз к тому месту, где лежал Петрович. Ему и всем, кто находился поблизости, стало отчетливо видно, что это немцы.
Петрович шепнул пулеметчику:
— Погоди чуток, не спеши. Тут надо наверняка!
Всадники подскакали совсем близко. Передний осадил разгоряченную лошадь, поднялся на стременах. Закричал негодуя:
— Вас зегерст ду зо? Во ист Ангрифф?!
— Он спрашивает, почему медлишь, не начинаешь атаку? — перевел кто-то возле плеча Петровича. — Очевидно, он вас принимает за кого-то из своих... Не знает, что здесь уже партизаны!
— А мы сейчас поможем ему разобраться, — Петрович снова кивнул пулеметчику^
— Теперь — огонь!
209
КОНРАД СНИМАЕТ ФУРАЖКУ
Боевые приказы, карты и различные донесения, оказавшиеся в сумке и в планшете майора Амона, пришлись командиру «Славного» по душе. Ориентируясь в обстановке, которую собственноручно нанес на карту командующий карательной экспедицией, так неожиданно нашедший свой бесславный конец, Петрович теперь без труда мог маневрировать в Приднепровье. А это ему было крайне необходимо. Неизвестна была судьба двух взводов романьковской роты, оставленных для заслона, не вернулся начальник штаба из-за Днепра, где-то еще ходил со своей новой группой неугомонный и непоседливый Конрад Анри...
Между тем в планшете и полевой сумке майора Амона нашлись и другие интересные документы. В донесениях отряд назывался уже дивизией, переброшенной из-за линии фронта. С завидной, точностью перечислялись все последние операции «Славного», его подразделений и группы Конрада. В приказе командующего карательной группировкой указывались войсковые части и гарнизоны, которые привлекались для ликвидации партизанской дивизии. На отряд было брошено более двух с половиной тысяч гитлеровских солдат, поддержанных танками, авиацией и артиллерией, а также двумя кавалерийскими эскадронами. В одной из бумаг приводились йодробные приметы майора Шестакова и Конрада Анри, а за их поимку или убийство назначена крупная сумма в немецких марках. Причем подчеркивалось: в немецких, а не в оккупационных. В описании примет имелся один недостаток, весьма существенный — Петрович не совсем походил на самого себя. Зато опи
210
сание примет Конрада Анри было более точным: «Весьма опасный, ходит в военной германской форме, носит фуражку».
Кондратий появился в отряде спустя три дня, и, как всегда, неожиданно. Сбросив на траву фуражку с высокой тульей, он отер ладонью усталое лицо, пригладил жесткие волосы и доложил последние данные, которые ему удалось заполучить:
— Для гитлеровских солдат, принимавших участие в операции по уничтожению партизанского отряда «Славный», сделано гробов: в Рогачеве — 45, в Дов-ске — 30, в Годиловичах — 35. Один подбитый партизанами танк отбуксирован в Гомель, один брошен вблизи шоссе, так как не подлежит ремонту: сгорел. В госпитали Гомеля и Могилева отправлено больше сотни раненых гитлеровцев. Много солдат, особенно из числа кавалеристов, погибло от огня немецкой батареи, принявшей их за партизан. В лесу, который успел покинуть отряд, тоже произошла перестрелка между двумя частями противника, потом на них стал бросать бомбы собственный самолет. Батарея так же, по ошибке, разбила одну свою автомашину с боеприпасами.
— Вот еще что, -г- Кондратий вынул из кармана две газеты. — Здесь тоже есть любопытные сведения.
В немецкой и националистической печати Гомеля и Могилева сообщалось, что в последнее время из-за линии фронта советскими самолетами была переброшена крупная регулярная группировка под командованием майора Шестакова. Она занималась систематическими налетами на германские автоколонны и гарнизоны. В последние дни этой группировкой при участии самого Шестакова был произведен внезапный наглый налет на крупную автоколонну, расположившуюся на отдыхе в селе Белое Болото, что на шоссе Гомель—Могилев... Далее сообщалось, что партизаны дорого поплатились за это: 5 июня сего, сорок третьего года они были окружены германскими частями и полностью разгромлены. Уничтожено 440 партизан, в том числе их командующий — майор Шестаков. Столько же взято в плен...
Кроме этого сенсационного сообщения в той и в другой газете был помещен некролог: «Выполняя ответст-
211
венное задание, фюрера, в ожесточенной схватке с врагами погиб майор Амон». И его портрет — бездушное, удлиненное лицо. Ордена на груди.
— Гитлеровцам дорого обошлась эта операция, — заключил Кондратий. Потом вздохнул:
— А ребят наших жалко... тех, кто погиб. Мы, когда встретились на следующий день с начальником штаба, вернулись в Камень-Рысковское. Думали, кого из наших связных встретим, отыщем отряд... Но отыскали там только трупы Лептеева, Писарева, Осетрова, Левыкина и Софийкова. Всех их похоронили в одной могиле. Крестьяне помогли хоронить. Да и местных жителей очень много расстреляли эсэсовцы в Камень-Рысковском и в Белом Болоте... Ну а Пауля мы похоронили прямо на поле. Немцы, подбирая своих, его не взяли. Еще крестьяне рассказывали, что кого-то из наших ребят фашисты достреливали на поле.
Петрович и Василий Васильевич обменялись взглядом и улыбнулись. Начальник разведки сказал:
— Пытались дострелить, да не на такого напали! Это Петр Борисов. Во время прорыва он, раненный, свалился на поле... А после немцы приняли его за убитого, но для верности еще чирканули из автомата. Только чудом остался жив, даже до деревни дополз, там его колхозники спрятали, а потом и наши отыскали. Сейчас доктор над ним трудится... У доктора сейчас работы прибавилось. Кроме Борисова еще восемь раненых.
— А вот своего Амона, за которым столько охотился, так и не пришлось тебе Повивать, только разве на портрете в газетках, — пошутил командир. — Ты уж извини, что мы, не дожидаясь тебя, уложили Амона заодно со всем штабом!
— Видел, — просто ответил Кондратий. — Два раза видел его. Первый раз, когда он из горящего танка выскакивал, да у меня больше гранат не оказалось. А признаться, и некогда уже было, немцы открыли сильный огонь... Ну, после он, видно, на коня пересел...
— Так это и есть тот танк, что возле шоссе остался? — спросил Петрович. — Ты, что ли, его подпалил?
— Ага, — равнодушно сказал Кондратий. Затем опять оживился:
— А еще видел майора под вечер, уже на поле. За его трупом специально самолет прилетал. Целая рота 212
труп Амона охраняла! Мы совсем недалеко лежали...— И вдруг он закончил мечтательно:
— Вот если б зажигательные патроны были! Рискнул бы я. Не часто немецкий самолет так близко садится
Командир неожиданно улыбнулся и хитровато посмотрел на Мадея:
— А мы вот с Василь Василичем все никак не соберемся тебе кое-что сказать, видимся больно редко. В общем, еще в Чечерском лесу получили радиограмму; там и тебе награда объявлена — орден Красного Знамени. Поздравляю! И вчера хорошую приняли: немецкие товарищи, которых ты провожал, уже в Берлине! Через Большую землю привет переслали. Тебе —особый.
Петрович выбил из трубки табак, набил свежим. Сказал после долгой паузы:
— Слушай теперь. Решили мы в твое отсутствие... Принимай-ка командование комсомольской ротой! Командир ей толковый нужен. И ты с такой ротой, думаю, не заскучаешь.
Петрович довольным взглядом окинул спортсмена. На лоб Кондратия упали прямые и жесткие, с рыжеватым отливом, волосы. Серые, широко расставленные глаза смотрели на командира сосредоточенно и серьезно. И Петрович вспомнил: точно таким же было выражение лица этого отважного парня, когда он впервые познакомился с ним еще на Большой земле. А может, и не таким, теперь оно стало строже.
Кондратий сорвал стебелек, положил на крепкие зубы и тут же перекусил. Петрович бросил быстрый взгляд на Василия Васильевича. Они, как и все в отряде, знали: если перекусил стебелек Кондратий, значит, принял решение. А он без слов скинул с себя немецкий френч, тщательно завернул в него фуражку с высокой тульей и, убирая их в свой вещевой мешок, пояснил:
— Этот наряд пока не буду бросать. Еще пригодиться может.
А совсем недавно в Москве, на улице Горького, у одного из ветеранов отряда — Петра Гавриловича Борисова, бывшего подрывника и разведчика, собрались боевые друзья. Пришел высокий, смуглый, почти не ста
213
реющий мастер спорта Али Холодаевич Исаев и другой приверженец спорта Михаил Дмитриевич Семенов, заслуженные мастера спорта Леонид Александрович Митропольский, Николай Иванович Шатов, Моисей Ивань-кович и другие спортсмены, сражавшиеся в «Славном», Григорий Ермолаев, Виктор Оттович Зайпольд, радист Дмитрий Поляков, архивариус Анатолий Ефимович Соловьев, инженер Дмитрий Петрович Сергеев и пенсионер Иван Иванович Желанов... Много собралось боевых друзей из отряда! И как всегда, без конца вспоминали о партизанских боях и походах. Конечно, вспомнили о Мадее!..
Где-то теперь неугомонный Конрад Анри?
Слышали, что одно время он работал в Белоруссии тренером, потом директором плавательного бассейна. А в последние годы где-то на Крайнем Севере — бригадиром по лесосплаву. Ну, что ж, это вполне возможно. Похоже на Кондратия: он всегда любил воду. И все трудное, необычное, что требует смекалки и мужества.