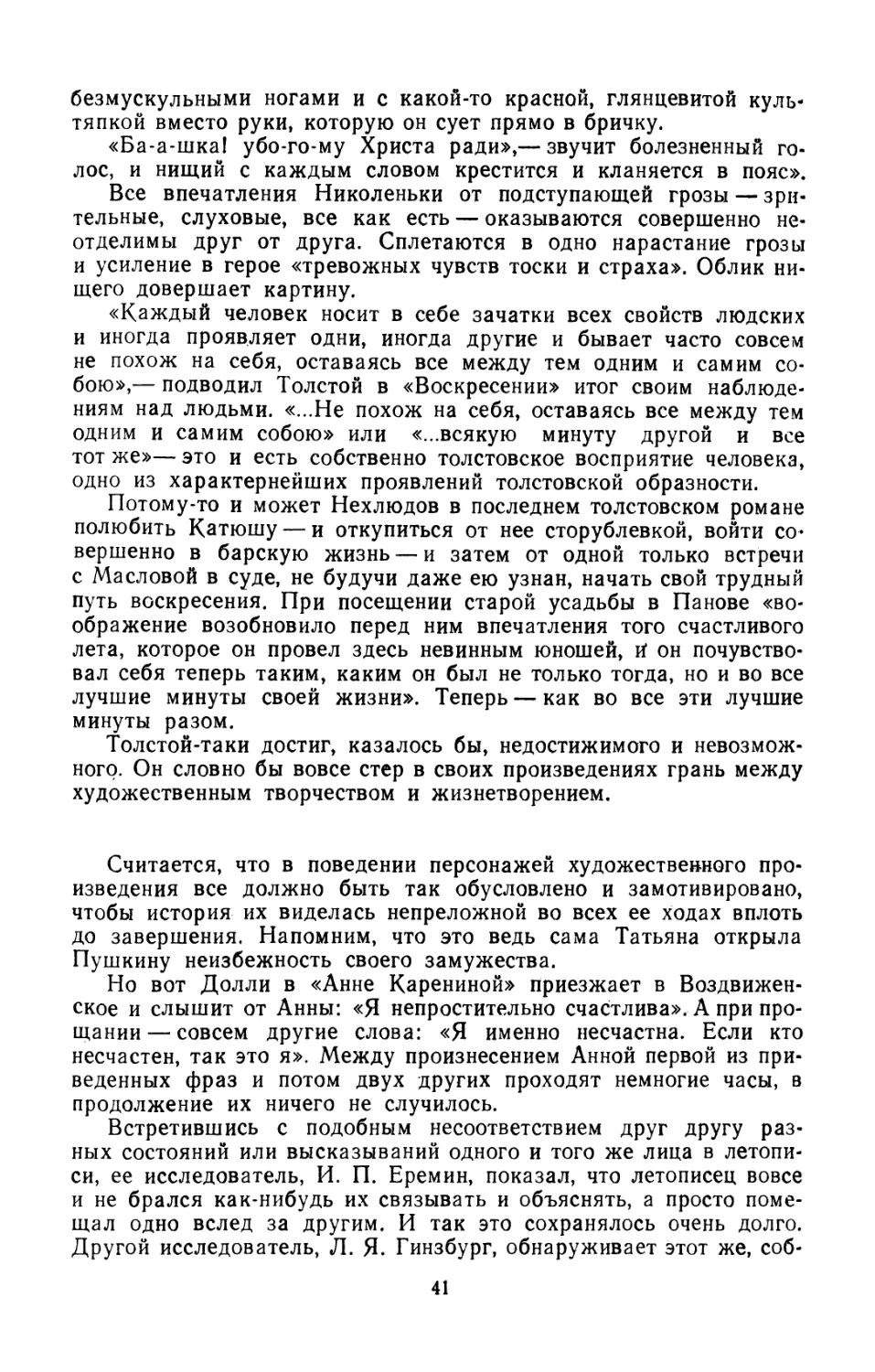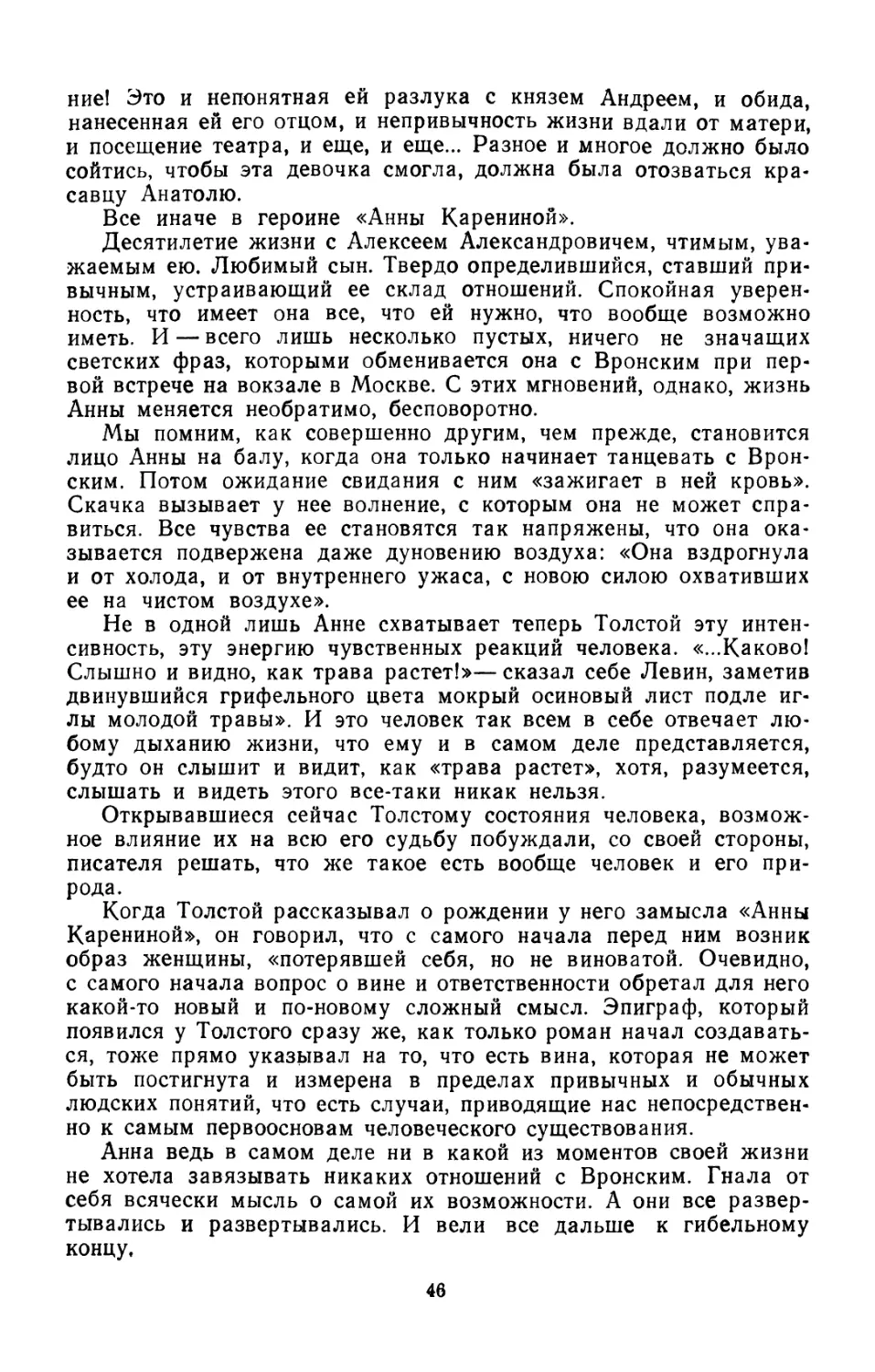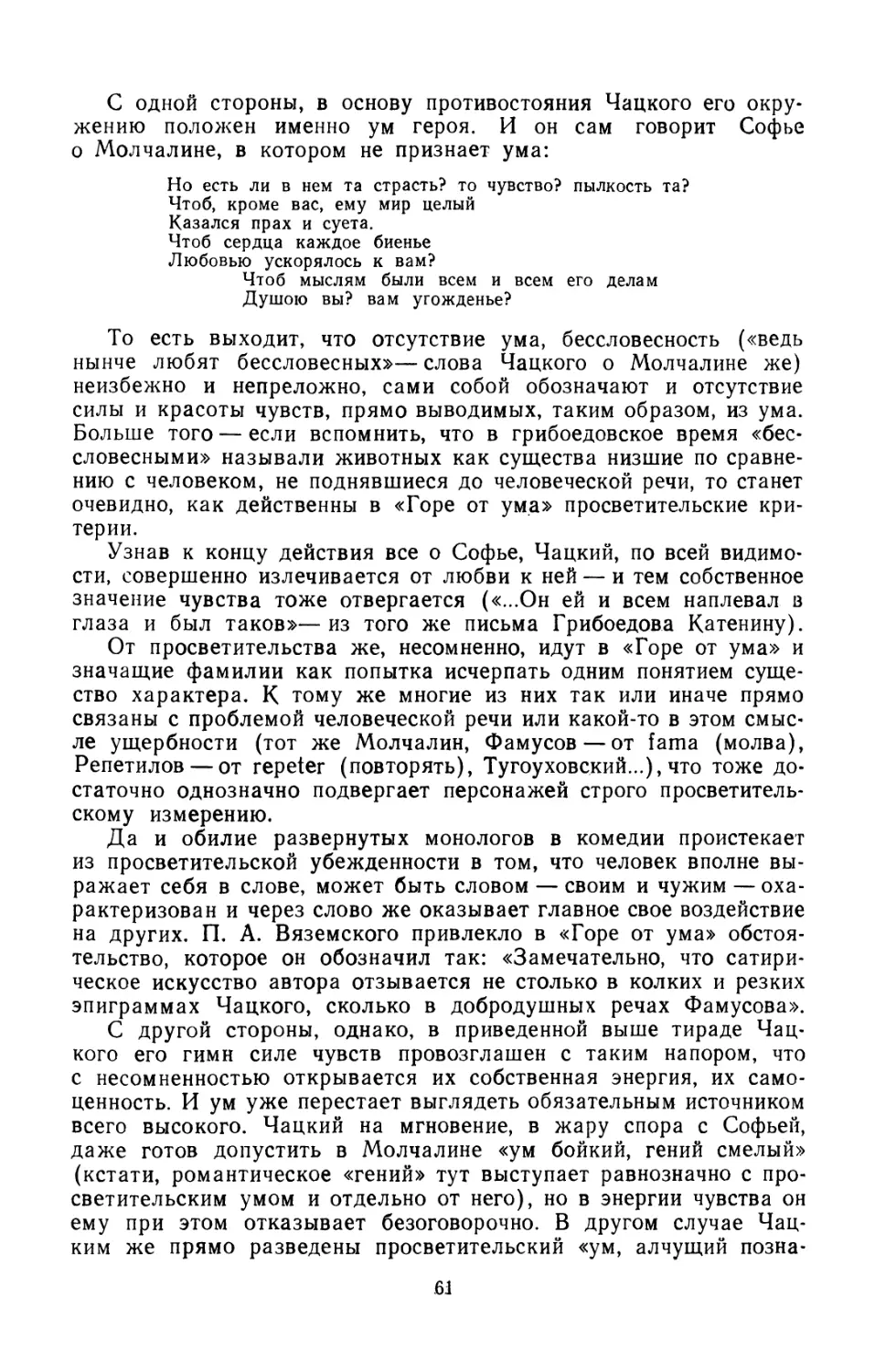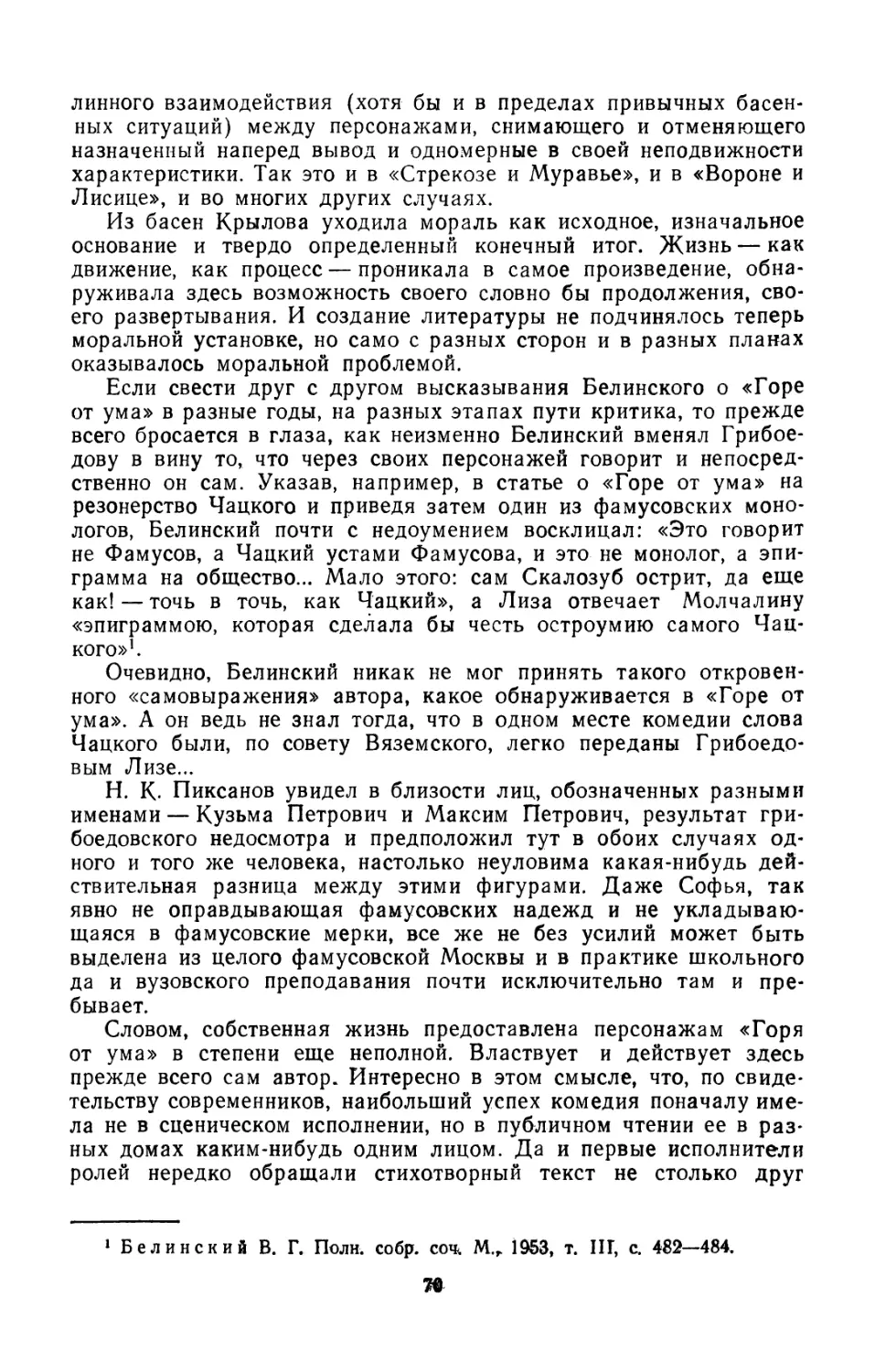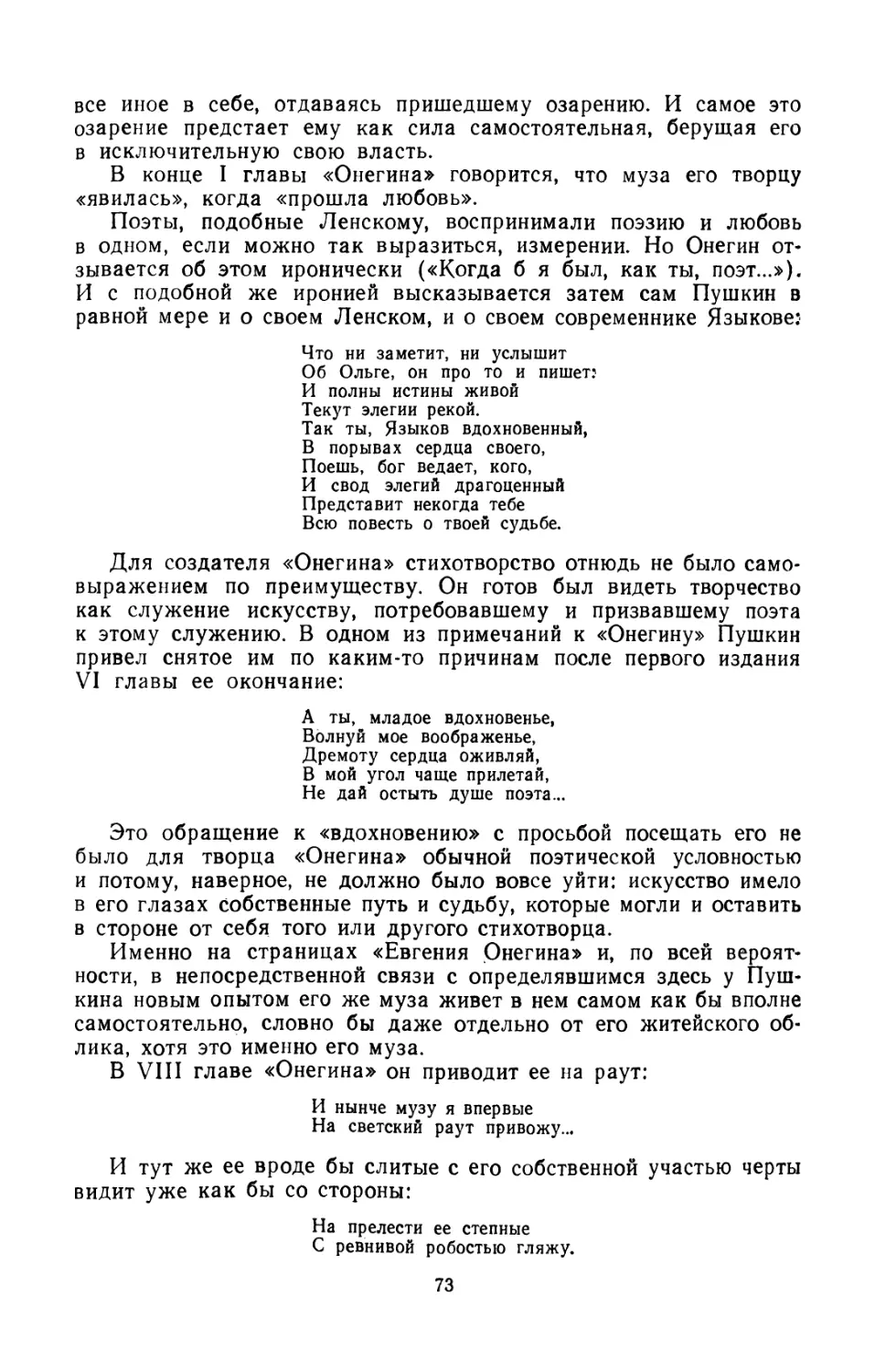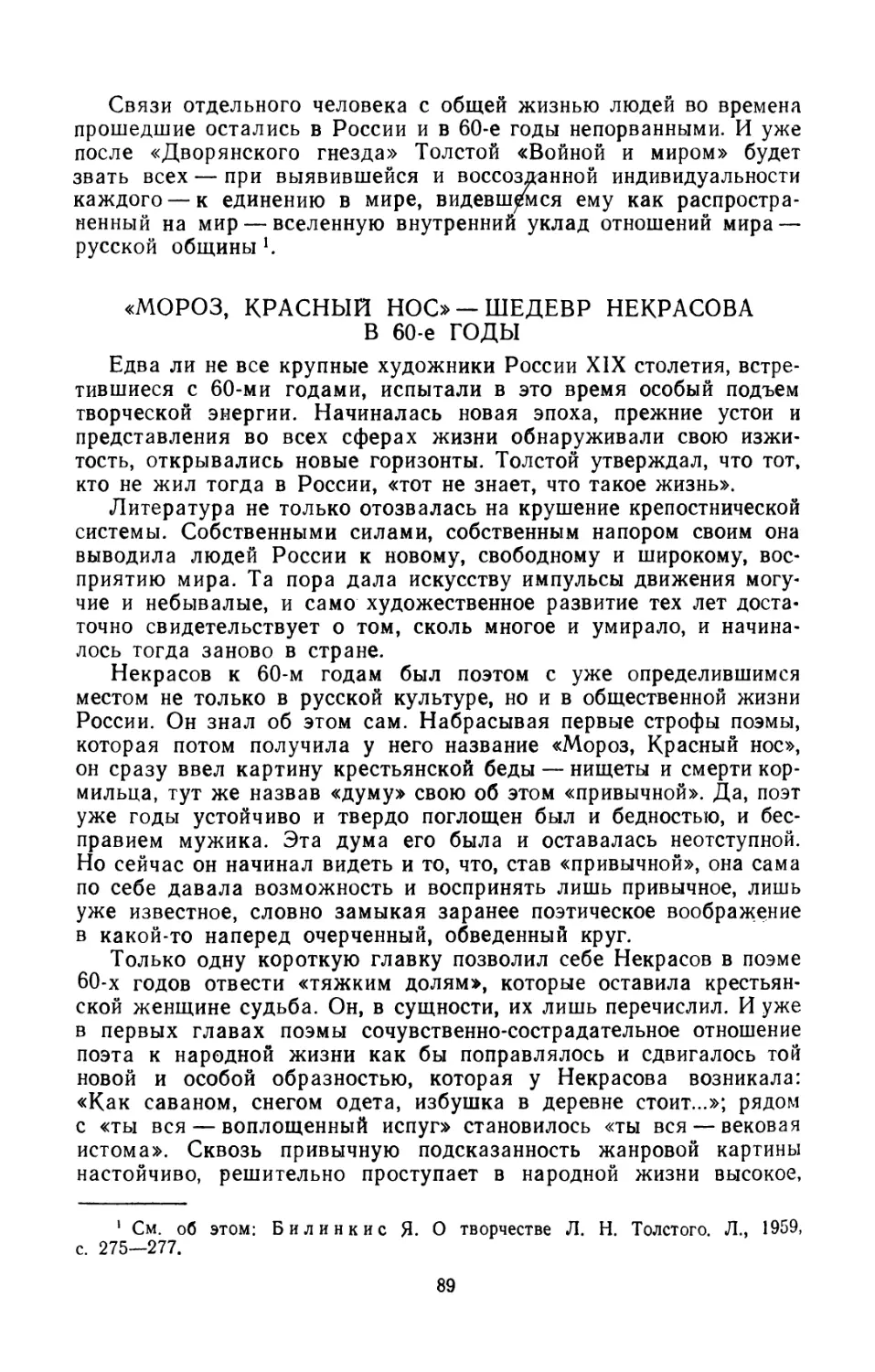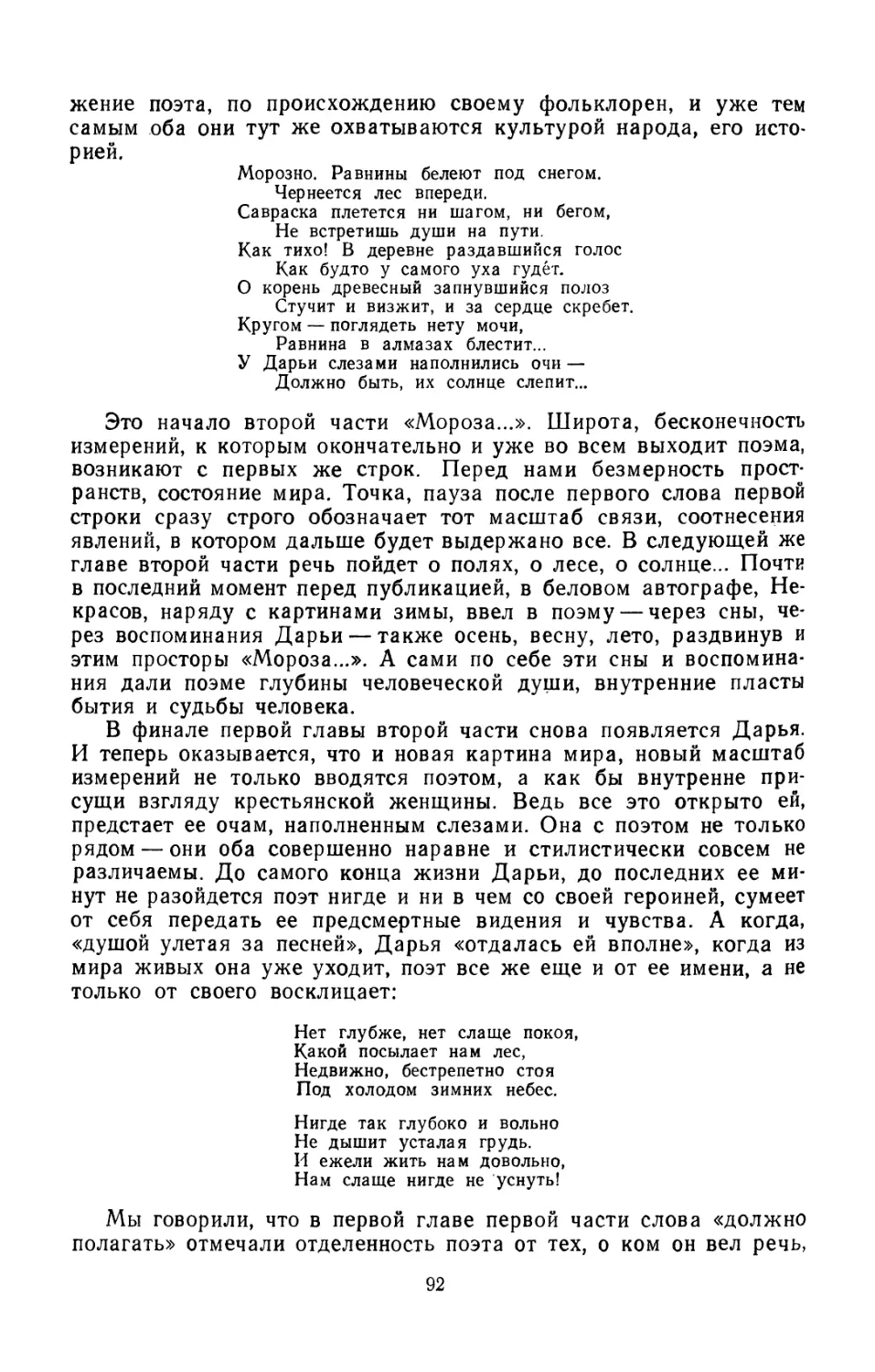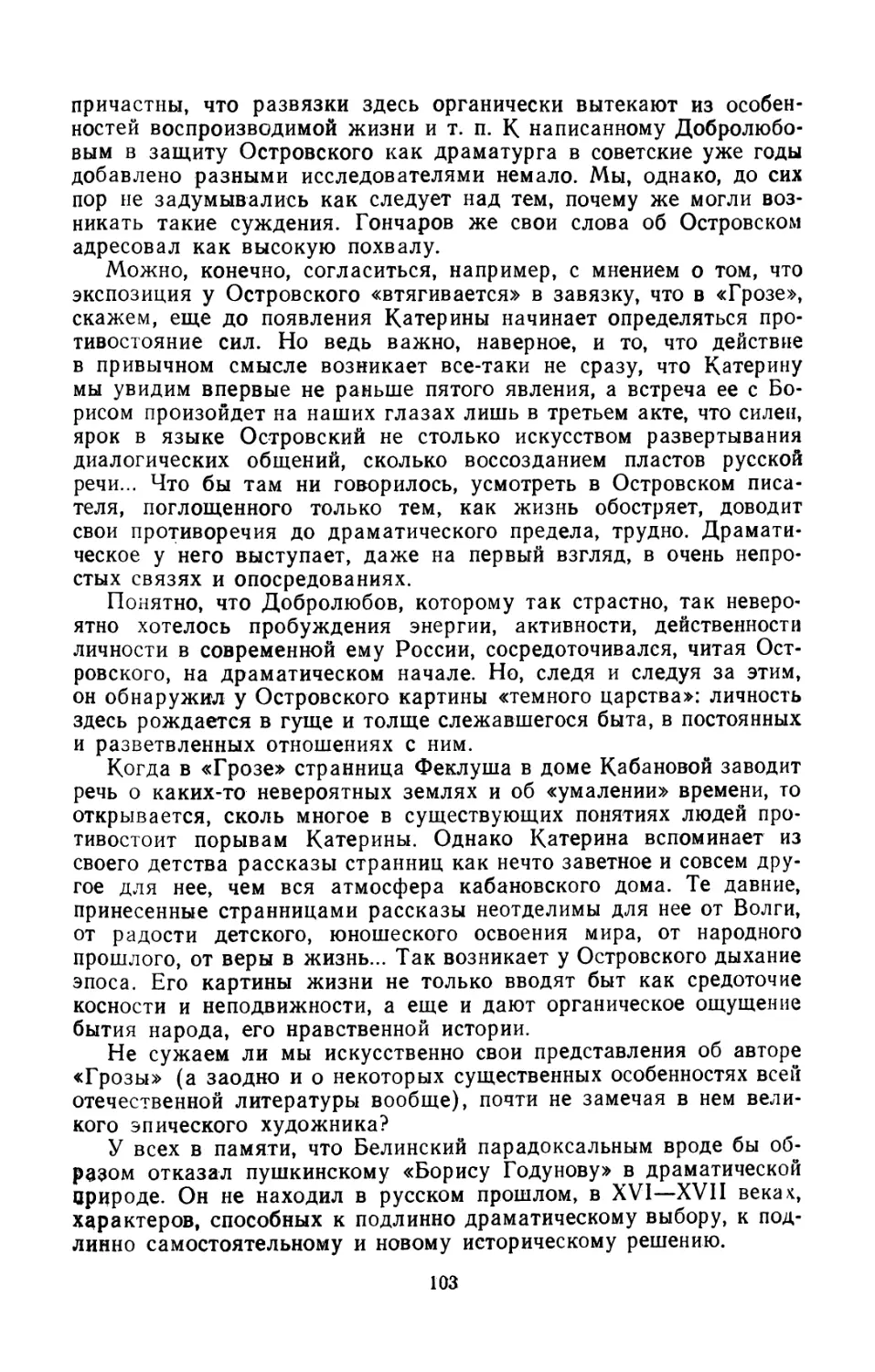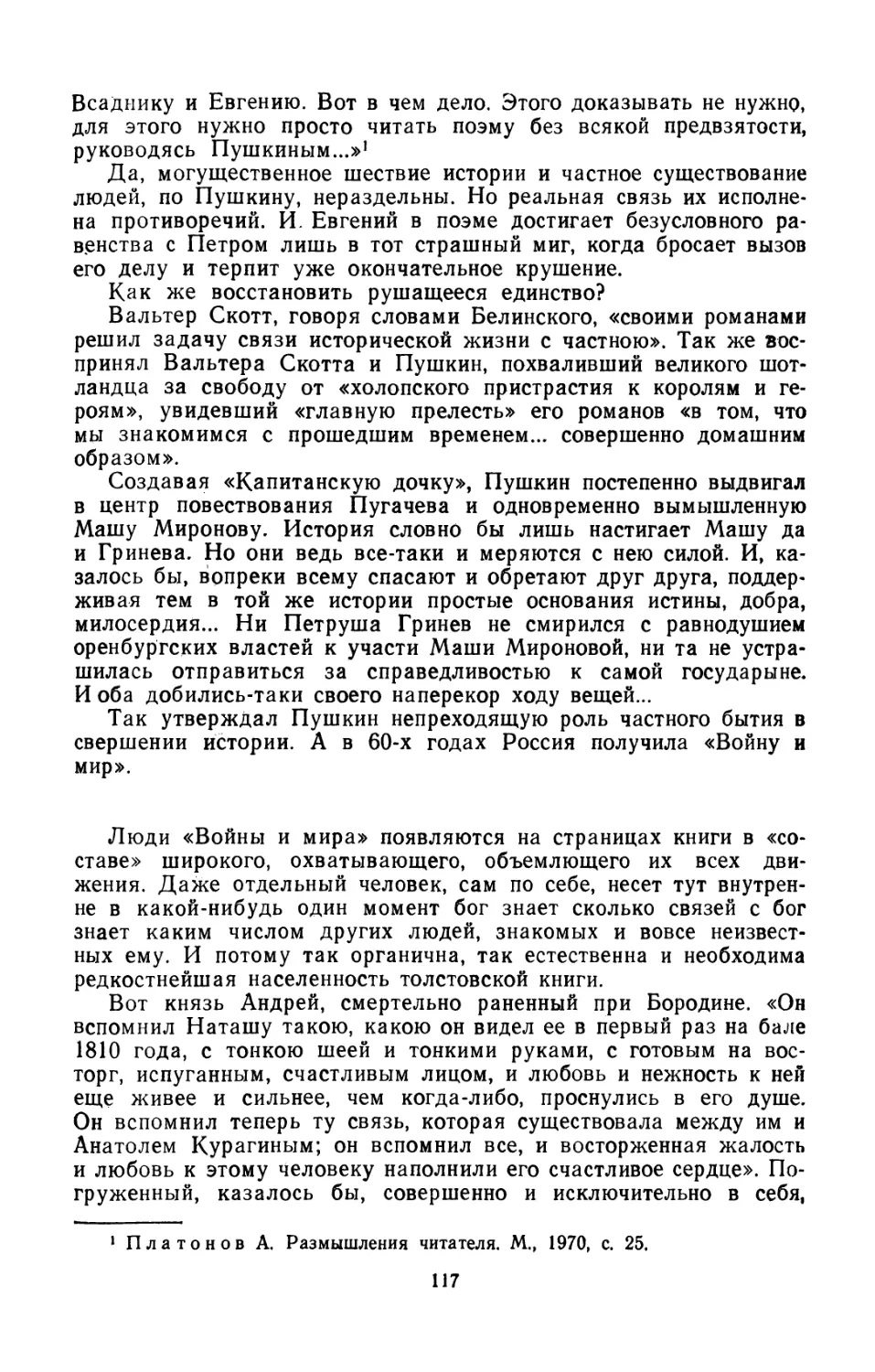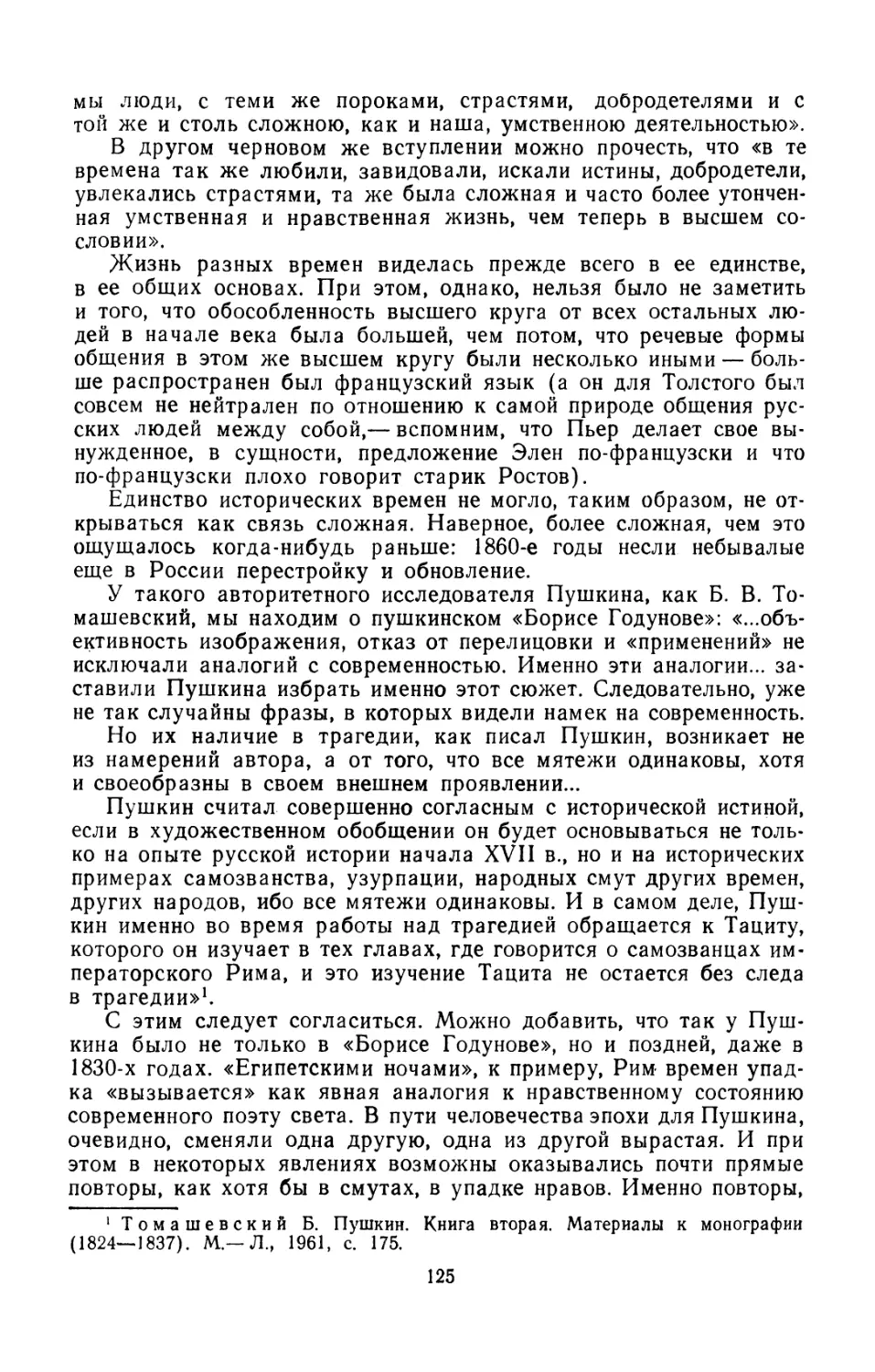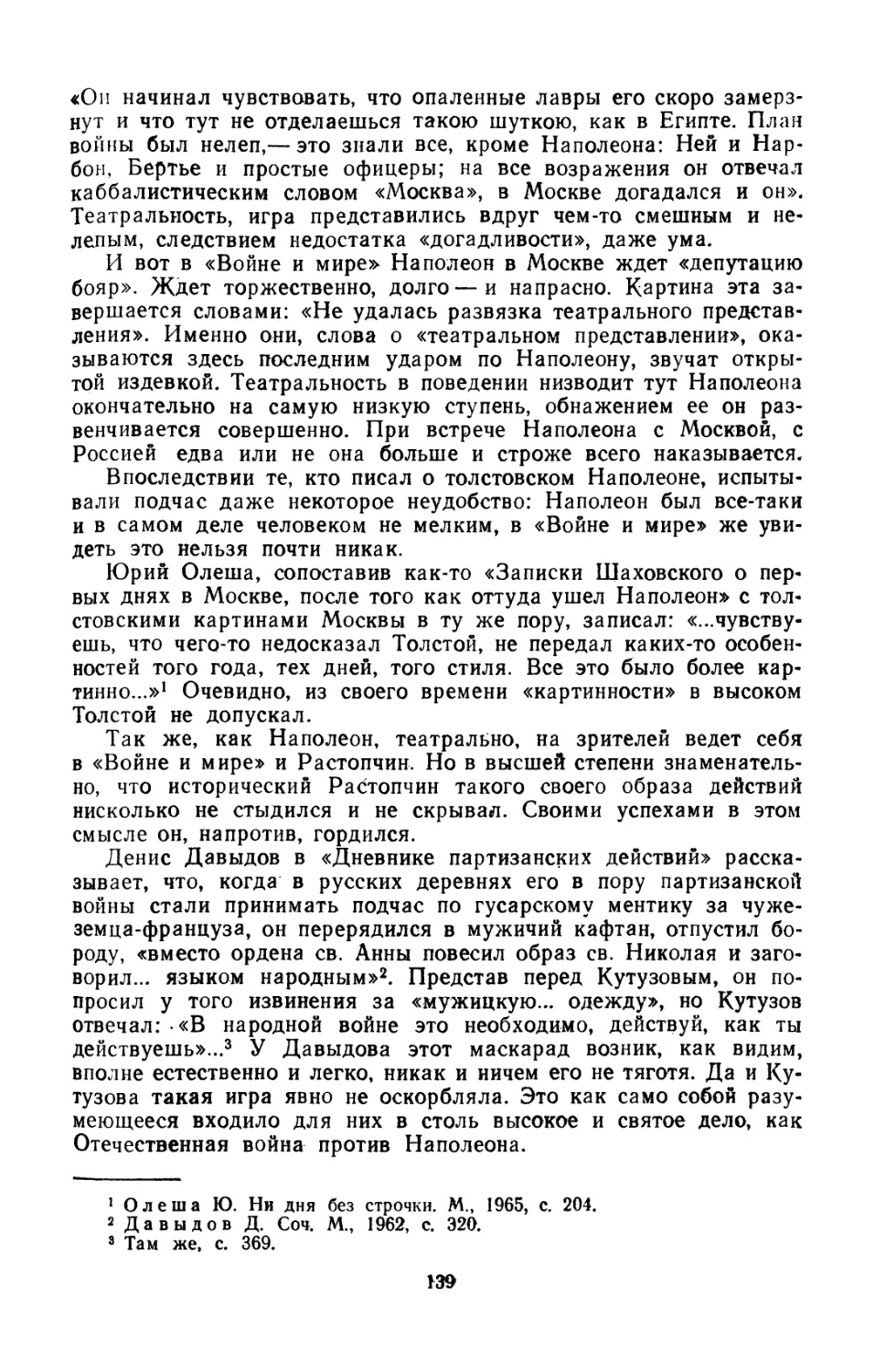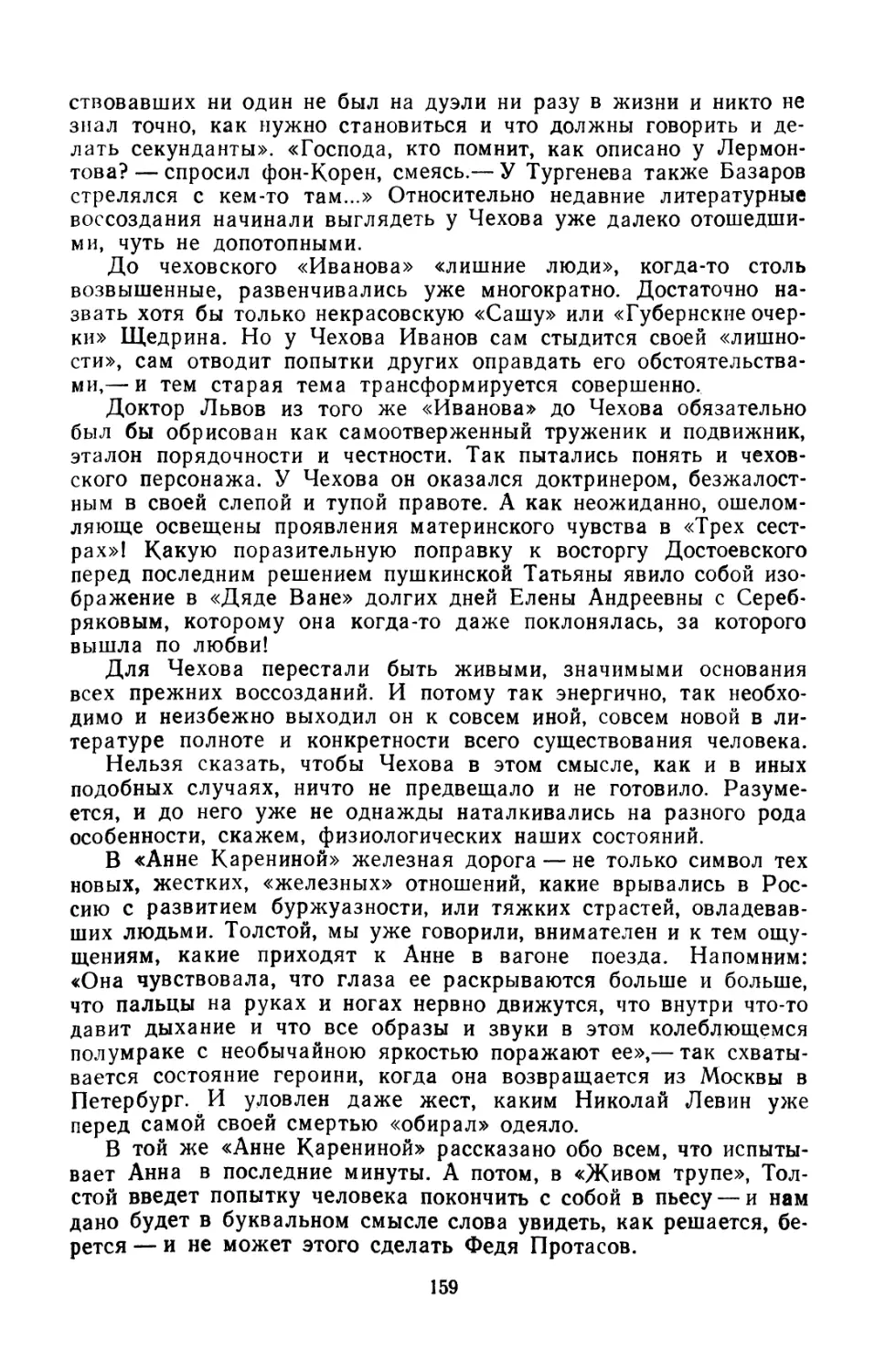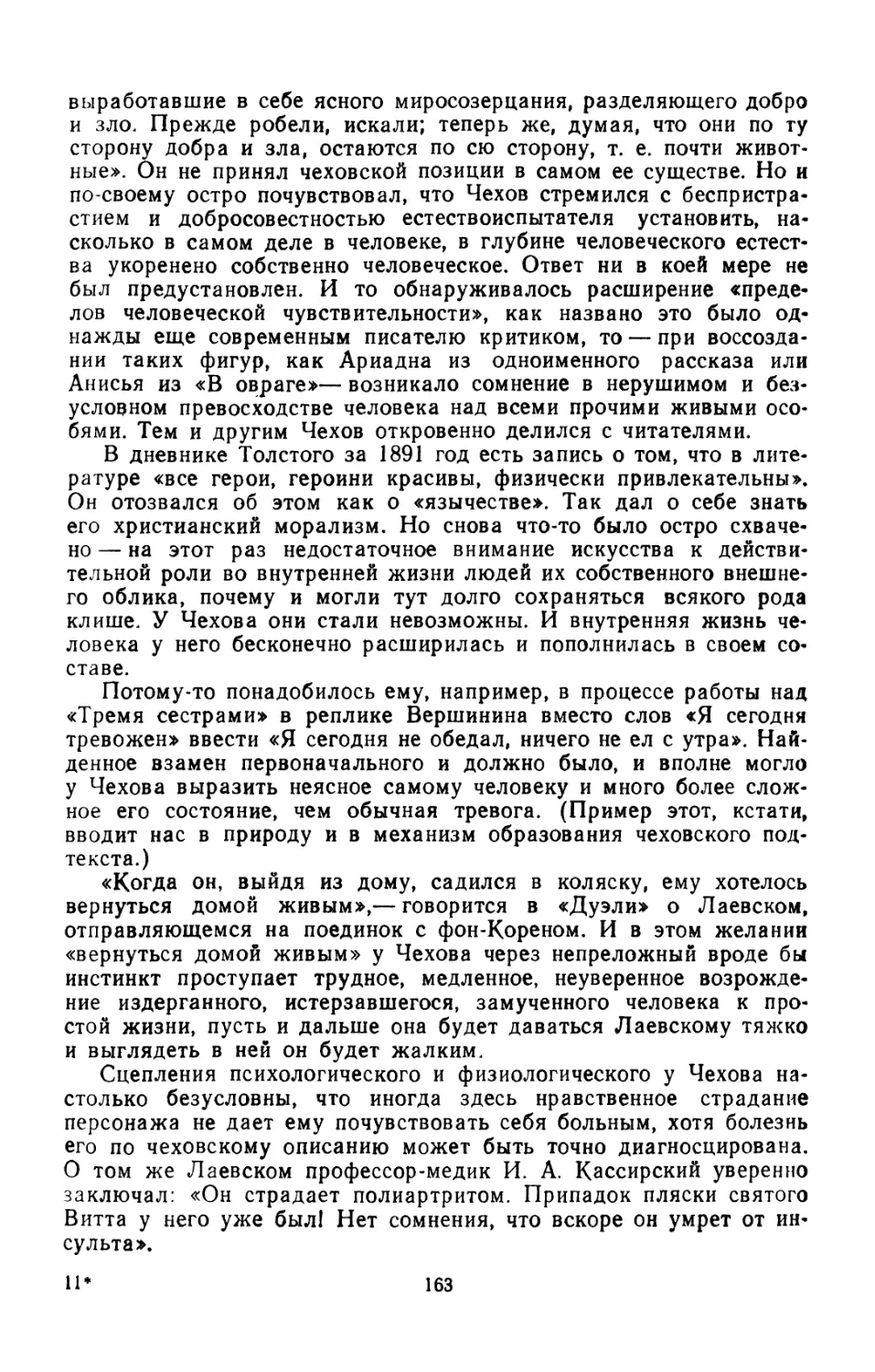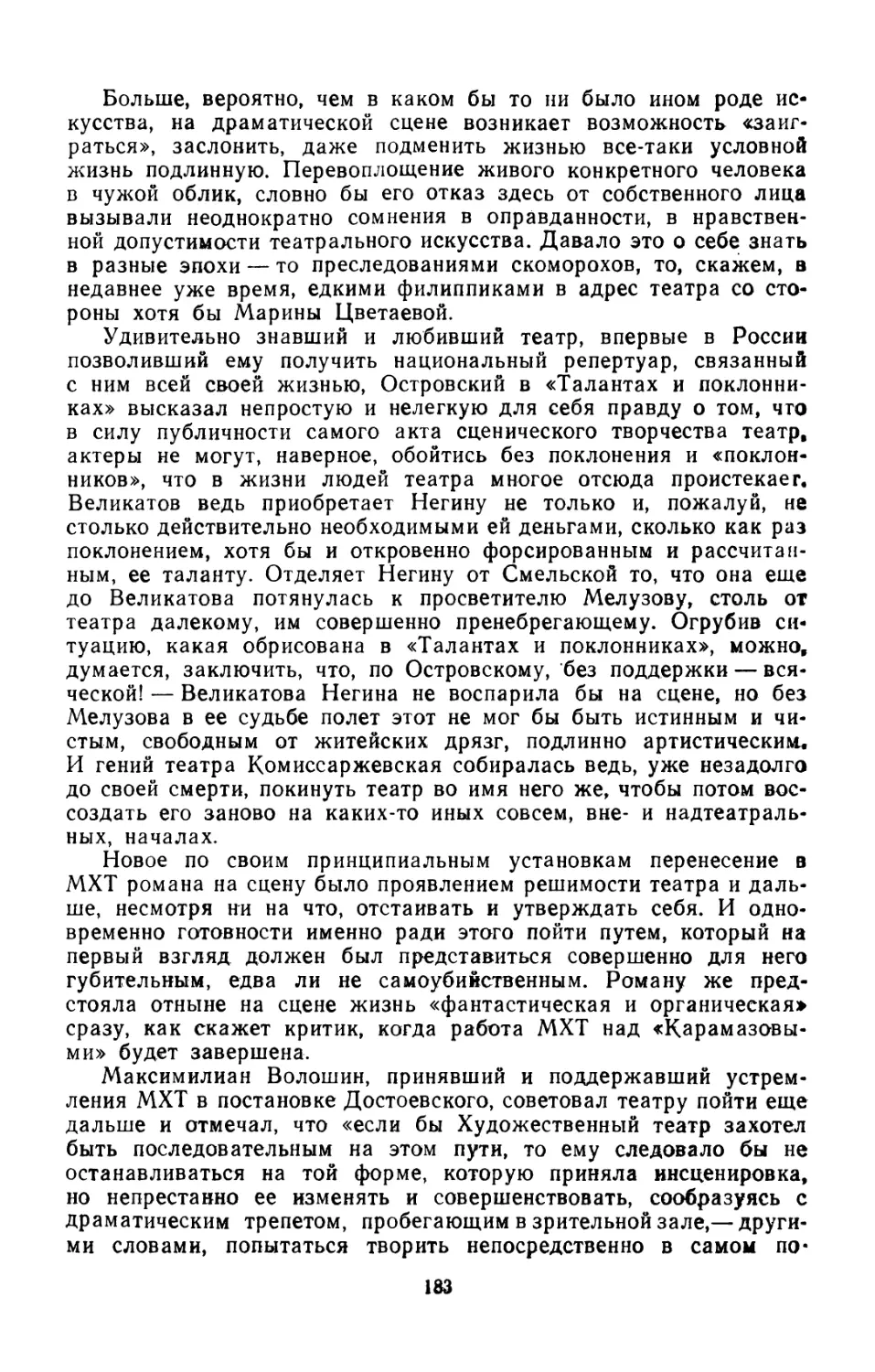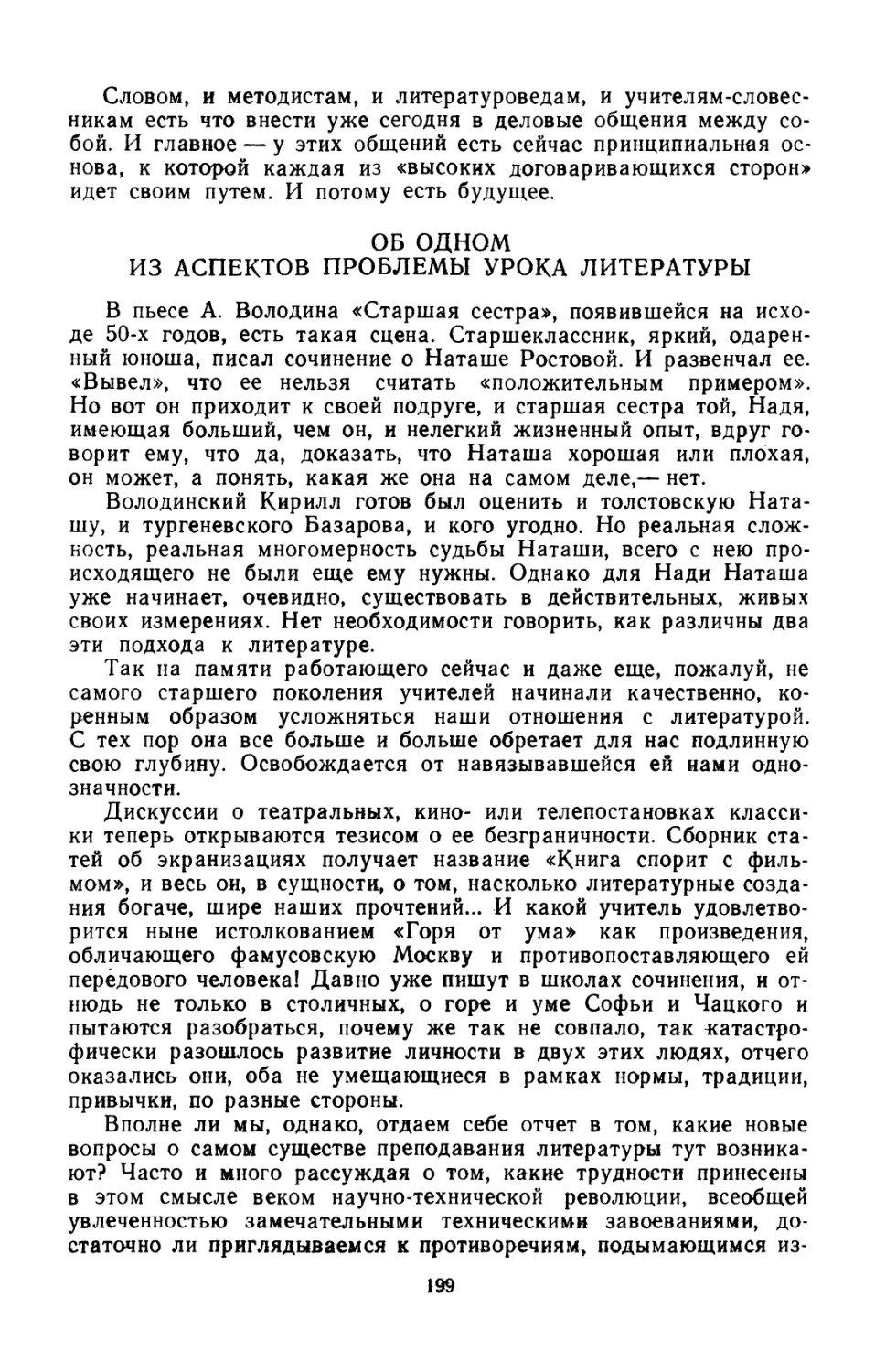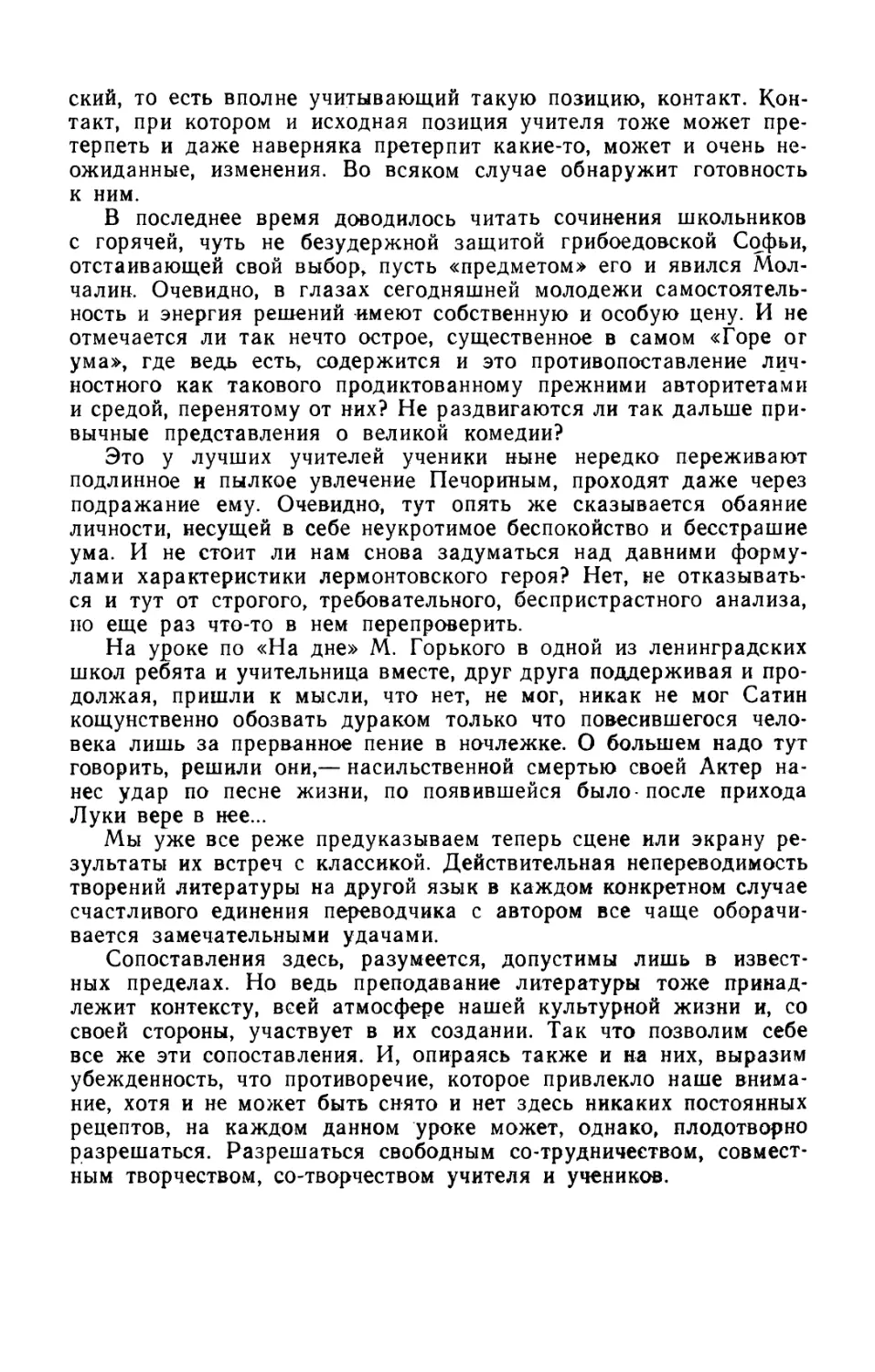Текст
«Пушкин был
по преимуществу поэт,
художник,
и больше ничем не мог быть
по своей натуре.
Он дал нам поэзию,
как искусство,
как художество...
Придет время,
когда он будет в России
поэтом классическим,
по творениям которого
будут образовывать
и развивать
не только эстетическое,
но и нравственное чувство».
В. Г. БЕЛИНСКИЙ
«Первая заслуга
великого поэта в том,
что через него умнеет все,
что может поумнеть.
Кроме наслаждения,
кроме форм
для выражения мыслей и чувств,
поэт дает и самые формулы
мыслей и чувств...
Высшая
творческая натура
влечет
и подравнивает к себе всех».
А. Н. ОСТРОВСКИЙ
Я.С. БИЛИНКИС
Русская
классика
и изучение
литературы
в школе
КНИГА
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1986
ББК 74.261.8
B61
Б6]
Рецеизейты:
кандидат филологических наук С. Г. Бочаров,
учитель литературы средней школы J. 3. Kay
Билинкис Я. С.
Русская классика и изучение литературы в школе: Кн.
для учителя.— М.: Просвещение, 1986.— 207 с.
В книге анализируются произведения, изучаемые в УП1—Х классах средней
школы. В ней содержится большой материал по современному прочтенню класси-
ки на уроке литературы.
4306010300—783 ББК 74.261.8
127—86
103(03)—86
© Издательство «Просвещение», 1986
От автора
Главное в сегодняшнем содержании жизни нашего общества —
формирование нового человека. И проводимая реформа обще-
образовательной и профессиональной школы связана, таким обра-
зом, с решением основных наших задач неразрывно и всесторонне.
Новое значение приобретает ныне и воспитательная роль ли-
тературы. По самой природе своей она не внушает какие-нибудь
готовые понятия и представления, но обогащает нас опытом мно-
гих и разных поколений, открывает богатство бытия, готовит так
каждого к самостоятельному восприятию и осознанию сложной
реальности мира.
В. Г Белинский любил говорить, что один поэт воздействует
на другого, не передавая этому другому свою творческую энергию,
но пробуждая в нем его собственную. Великий критик сравнивал
подобное воздействие с действием солнца на землю. Таковы вообще
воспитательные возможности литературы — она не диктует свон
ответы, но побуждает видеть жизнь в ее истинном объеме, широ-
ко, серьезно и ответственно. Странно было бы искать в поведении,
в поступках, скажем, Анны Карениной или Катерины Кабановой
пример и образец для подражания. Но к высотам подлинно чело-
веческой требовательности к себе, к бесстрашию с самими собою
эти создания великих художников, несомненно, зовут. Нам не
предлагается вести себя, как они, но обнаруживается, почему они
поступили так и не могли иначе, как они сумели спасти свое че-
ловеческое достоинство, сохранить в себе и даже поднять меру
человека.
Любое из классических творений нашей литературы обладает,
разумеется, своим содержанием и потому своим воспитательным
потенциалом. Они обращены к разным сторонам нашей души.
Но все вместе могут действенно слособствовать полноте и целост-
ности развития современного человека.
Выявить степень причастности классики к сегодняшней нашей
жизни, показать, как утверждает она в человеке человека, — к это-
му прежде всего стремился автор книги, которая сейчас у чита-
теля в руках.
Книга сложилась на основании статей, печатавшихся на про-
тяжении ряда лет в разных изданиях. В них идет разговор о жи-
вом присутствии классики в наши дни. При подготовке к настоя-
щему изданию статьи, доработаны, некоторые сокращены.
3
Автор исходит из той предпосылки, что как к самой литературе,
так и к книге, о ней трактующей, учитель обращается с целями
не узкоутилитарными, что он ищет в ней не наставления и рецеп-
ты, но вопросы, над которыми стоит задуматься, которыми стоит
заняться.
Первый раздел книги отведен проблемам, условно говоря, тео-
ретико-литературным.
В первой из глав этого раздела («К. Маркс обращается к ли-
тературе») выясняется, как отношения Маркса с литературой вво-
дят нас в ее подлинные общественно-исторические возможности и
значение.
Вторая глава —«Нераздельность и неслиянность». (В. И. Ленин
цитирует Фейербаха)», содержащая анализ некоторых суждений
В. И. Ленина о литературе, показывает многомерность, гибкость,
историческую подвижность связей литературы с действитель-
НОСТЬЮ.
Глава «Великие традиции революционной демократии» опре-
деляет характер взаимовлияния литературы и критики в литера-
турном процессе.
О становлении «картин жизни» в литературе в ходе ее истори-
ческого развития идет речь в главе «Картины жизни и история».
В главе «Энергия образа» устанавливается, как исторически
изменяется жизненное наполнение художественного образа, осваи-
ваются им все новые сферы реальности, как неисчерпаемы его
внутренние ресурсы.
Глава «Художницкая дерзость» рассматривает проявившееся
в созданиях классики некое особое их свойство, обозначенное в
названии главы, как одну из замечательных традиций литературы.
Заключает первый раздел глава «Внутренняя жизнь художест-
венного произведения», где автор обращается к основополагаю-
щей, на его взгляд, особенности внутренней структуры произведе-
ний реализма ХХ столетия.
В целом первый раздел книги объединяет широкий круг во-
просов, организуемых темами «Литература и действительность»
и «Литература и пути истории».
Во второй раздел входят анализы ряда произведений русской
классической литературы, включенных в школьную программу или
в списки по внеклассному чтению. Они расположены по хроноло-
гии рассматриваемых явлений. Автор и здесь не ограничивает себя
тем, что может быть непосредственно принесено учителем в класс:
он тверд в убеждении, что учитель хочет и должен владеть мате-
риалом широким и многообразным.
Нравственный и историко-литературный аспекты выступают в
этих анализах, как до этого нравственный и теоретико-литератур-
ный подходы, всюду в нераздельности, что подчеркивается, в част-
ности, и названием главы, завершающей раздел: название это —
«Многомерная подлинность человека в творчестве Чехова».
В первом разделе главным было вскрыть потенциал литерату-
ры в выражении и пробуждении живых сил действительности. Вто-
4
рой раздел призван показать, как классика ХХ века на всем сво-
ем пути эти возможности реализовала, как помогла она русской
личности осуществиться и как оберегала при этом принадлежность
каждого «человечьему общежитью», говоря словами поэта.
Раздел разножанров по своему составу: читатель встретится
тут и с целостной характеристикой творчества писателя (глава
об А. Н. Островском) или отдельного произведения («Феномен
«Горя от ума»— о комедии А. С. Грибоедова; глава о «Морозе,
Красном носе» Н. А. Некрасова), и с освещением литературных
явлений под определенным углом зрения (глава о «Евгении Оне-
гине» или «Дворянском гнезде»).
«Войне и миру», занимающей в школьном изучении место ис-
ключительное, отданы три главы, внутренне связанные друг с дру-
гом, но и обладающие известной самостоятельностью.
В последние десятилетия значительное место в наших посто-
янно обновляющихся отношениях с классикой занимает театр.
И хотя пути сцены и школы при освоении классики, конечно же,
Далеко не совпадают, опыт театра для школы сейчас также важен
и поучителен. Поэтому третий раздел книги образуют главы, по-
священные проблеме «Литература и театр».
Первая из них устанавливает, «почему драме требуется сце-
на». Вторая характеризует в общем плане процесс взаимодей-
ствия литературы и сцены, роль театра в общественно-истори:
ческой судьбе литературных созданий. Третья на конкретном прн-
мере театральных интерпретаций творчества Достоевского в раз-
ные годы прослеживает, как перестраивалось толкование великих
романов писателя в ходе времени; подробно освещаются наиболее
яркие спектакли последних лет.
Заключительный раздел выводит изложение непосредственно
к школьному уроку наших дней. Его тема — связь урока с тен-
денциями развития общества на современном этапе, с тенденциями
науки о литературе и открытиями театра в частности и в OCO-
бенности. Автор пытается отметить черты своеобразия нынешнего
урока литературы в общей системе школьных занятий, также об-
условленные в конечном счете сегодняшним содержанием нашей
ЖИЗНИ.
$ =
К. МАРКС ОБРАЩАЕТСЯ К ЛИТЕРАТУРЕ
Когда предпринят был первый перевод «Капитала» на англий-
ский язык, Ф. Энгельс писал: «Для перевода такой книги недоста-
точно хорошо знать литературный немецкий язык. Маркс свобод-
но пользуется выражениями из повседневной жизни и идиомами
провинциальных диалектов; он создает новые слова, он заимствует
свои примеры из всех областей науки, а свои ссылки — из лите-
ратур целой дюжины языков...
..Маркс принадлежит к числу тех современных авторов, кото-
рые обладают наиболее энергичным и сжатым стилем»!.
Энгельс указал, таким образом, на поразительный сплав в сти-
ле величайшего творения марксистской мысли глубокого знания
обычной жизни людей, какова она есть, органического наследова-
ния всех замечательнейших достижений науки и литературы, уве-
ренного, свободного, целеустремленного владения словом и ис-
THHOH.
При чтении «Капитала» стиль этой книги захватывает необык-
новенно.
В первом томе, например, о плавильных печах и производст-
венных зданиях говорится, что они «ночью отдыхают и не выса-
сывают живой труд»?. О товаре читаем, что он «любит деньги»3,
однако «истинная любовь никогда не протекает гладко».
Из «Коммунистического манифеста» узнаем, что буржуазия
«безжалостно разорвала... пестрые феодальные путы, привязывав-
шие человека к его «естественным повелителям», и не оставила
между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бес-
сердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета
потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского
энтузиазма, мещанской сентиментальности» (Т, 207).
И в этих, как и во всех других, не приведенных здесь случаях,
Маркс не просто прибегает к образности, не то чтобы пользуется
ею для разъяснения отвлеченных понятий. В его глазах, в его вос-
' Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве. В. 2-х т. М., 1983, т. 1, с. 120.
Далее в настоящей главе ссылки на это издание в тексте —с указанием рим-
скими цифрами тома и арабскими — страницы.
? Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 323, с. 320.
3 Там же, с. 118.
приятии плавильные печи, когда они действуют на капнталисти-
ческом предприятии, являют собой страшную и непонятную рабо-
чему силу, чуть ли не подобную сказочным кровопийцам. Связь
товара с деньгами обладает не меньшей прочностью, чем привя-
занность самых верных влюбленных, а последняя в условиях
буржуазного развития все чаще держится на материальном, де-
нежном интересе...
Сама языковая материя, в которой формируется и выражает
себя Марксова мысль, обладает, следовательно, глубочайшей со-
держательностью. И необходима Марксу была именно образность,
потому что по-новому устанавливалось тут взаимоотражение явле-
ний друг в друге.
О том, что Марксова мысль живет образностью, а не надевает
ее на себя как возможное, но не обязательное платье, свидетель-
ствуют разные и многие факты. Тот хотя бы, что от процитиро-
ванных выше метафор «Коммунистического манифеста» Маркс
непосредственно выходит к строгой итоговой формулировке, почти
формуле: «Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и
политическими иллюзиями, она (буржуазия.—Я. Б.) заменила
эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой» (1, 207), —
формулой, где метафористика все-таки тоже сохраняется. Или дру-
гой факт — пристальное внимание Маркса и Энгельса еще в «Не-
мецкой идеологии» к утверждению в различных языках понятий,
связанных с «отношениями купли-продажи»: «...Как в действитель-
ности, так и в языке, — писали они,— отношения купли-продажи
сделались основой всех других отношений. Например, ргорпё{е —
собственность и свойство; ргорегу — собетвенность и своеобразие;
«е1сеп»—в меркантильном и в индивидуальном смысле; valeur,
value, Wert*; commerce, Verkehr**; échange, exchange, Aus-
tausch *** yw tr. д. Все эти слова обозначают как коммерческие
отношения, так и свойства и взаимоотношения индивидов как та-
ковых. В остальных современных языках дело обстоит совершенно
так же» (1, 264—265).
Как видим, с одной стороны, образность в силу органически
присущих ей свойств оказывалась Марксу неотменно нужна.
С другой стороны, под его пером она заново обнаруживала свои
познавательные ресурсы.
И тут показательно, что не кто иной, как Маркс, судя по вос-
поминаниям Лафарга, сумел уловить и оценить способность Баль-
зака-художника видеть далее своего времени и «творчески пред-
восхитить те фигуры, которые при Луи-Филиппе находились еще
в зародышевом состоянии и только после смерти Бальзака, при
Наполеоне ШТ, достигли полного развития» (ПШ, 534). А Энгельс
специально отметил, что, когда в ХУП1! веке философия «все более
и более погрязала... в так называемом метафизическом способе
мышления», «вне пределов философии в собственном- есмыеле-ло-
* Стоимость, ценность.
** Торговля, общеиие.
*** Обмен.
ва» явились «высокие образцы диалектики», к которым автор
«Анти-Дюринга» причислил прежде всего «Племянника Рамо»
Дидро (I, 388).
Да, свойства, природа образа влекли к себе Маркса. Энгельс
мировую историю назвал как-то «величайшей поэтессой». Об об-
разных характеристиках, данных Марксом, не напрасно сказано,
что «наступит время, когда такие характеристики будут столь же
популярны, как образы Мольера и Гоголя...»!.
Если говорить об образах, которые ко времени Маркса успела
создать литература, то, пожалуй, больше другого поражает, как
точно в своих часто очень кратких и всегда немногословных ссыл-
ках на художественные творения умел великий мыслитель учи-
тывать и вскрывать внутреннее своеобразие литературных явлений,
к которым он обращался.
«Слово о полку Игореве», скажем, Маркс определил одной
фразой — как «призыв русских князей к единению как раз перед
нашествием собственно монгольских полчищ» (1, 517). Но в этой
одной фразе уловлена и обозначена такая коренная черта древне-
русской литературы, как прямая целенаправленность ее творений.
Марксом был, собственно, указан ключ ко всей образной системе
«Слова...», да и не его одного.
Из «Евгения Онегина» Маркс, когда ссылался на него в 1857—
1858 годах в своем труде «К критике политической экономии»,
знал лишь одну строфу первой главы, скорей всего, как полага-
ют исследователи, указанную ему тогда Энгельсом. Однако в этой
одной строфе Марксом была выявлена поэтическая характеристика
исторической смены экономических укладов, поколений, времен...,
как она могла присутствовать и присутствует именно и исключи-
тельно в художественной «энциклопедии русской жизни», связав-
шей одним очерком все главное для своей эпохи.
Мы очень привыкли к словам Маркса о том, что «блестящая
плеяда... английских романистов... в ярких и красноречивых кни-
гах раскрыла миру больше политических и социальных истин, чем
все профессиональные политики, публицисты и моралисты, вместе
взятые...» (Т, 514). Или к утверждению Энгельса, что он из Баль-
зака «даже в смысле экономических деталей узнал больше... чем
из КНИГ всех специалистов-историков, экономистов, статистиков
этого периода, вместе взятых» (1, 55). И уже не задумываемся
над тем, что в этих суждениях содержится тоже очень точное опре-
деление — в данном случае той роли, какую начали играть в реа-
листическом искусстве всякого рода детали и подробности.
Их здесь стало не просто много — попадая в художественный кон-
текст, они приобретали дополнительные смыслы, вводили собой
широкое освещение характеров и обстоятельств, связи первых со
вторыми; по самой сущности искусства те же детали, что встреча-
' Лифшиц Мих. Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. М., 1972,
с. 188.
лись Марксу и Энгельсу у политиков, историков, экономистов,
статистиков получили в художественных созданиях гораздо боль-
шую наполненность и значение. Потому и приносили они тут клас-
сикам учения большее знание. И к выявлению сложной сущности
денег Маркс шел больше от Шекспира и Гёте, чем от предшест:
вовавших ему экономистов, в том числе и очень им ценимых,
Но не одним лишь познавательным своим потенциалом откры-
вались Марксу образность, искусство. В неменьшей степени доро-
жил он, по-видимому, той чувственной конкретностью, с какой
предстают в образе жизненные явления.
Конкретизируясь как «высасывание живого труда», понятие
эксплуатации теряет абстрактность и отвлеченность и потрясает
своей страшной реальностью. Слова о «ледяной воде эгоистиче-
ского расчета» несут в себе и неожиданность буржуазного пре-
вращения жизни для тех, кому это досталось испытать, и людские
переживания, и страшную опасность для живой души страданий
такого рода.
Маркс видел, как с ходом времени все отношения людей при-
обретают для них же самих все менее явный и живой характер.
Еще в «Философско-экономических рукописях 1844 года» он кон-
статировал, что «феодальная земельная собственность дает имя
своему владельцу... история его дома и Т. д.— все это индивидуа-
лизирует для него его земельную собственность, превращает ее
форменным образом в его дом, персонифицирует ее. Точно так же
и те, кто обрабатывает его земельное владение, находятся не в
положении наемных поденщиков, а частью сами, как крепостные,
являются его собственностью, частью же состоят к нему в отно-
шениях почитания, подданства и определенных повинностей. По-
зиция землевладельца по отношению к ним... имеет вместе с тем
некоторую эмоциональную сторону. Нравы, характер и т. д. меня-
ются от одного земельного участка к другому; они как бы срослись
с клочком земли, тогда как позднее человека связывает с земель-
ным участком только его кошелек, а не его характер, не его ин:
дивидуальность» (Г, 210). И тот же ход времени, развертывая и
реализуя производственные и все иные возможности человека, вы-
водя их в практику, обострял, утончал, совершенствовал челове-
ческие органы чувств, поднимал самого человека на новую, более
высокую ступень. По Марксу, «лишь благодаря предметно развер-
нутому богатству человеческого существа развивается, а частью
и впервые порождается, богатство субъективной человеческой чув-
cTBeHHocTH...» (1, 171). Таким образом, становившийся сам все
более тонким, гибким, индивидуальным, в системе общественных
отношений человек как раз этому своему новому качеству удовле-
творения получить не мог.
Искусство, его продолжающаяся жизнь были в глазах Маркса
одной из безусловнейших гарантий того, что положение, однако,
не безысходно. |
Сославшись на Гёте («Гёте как-то сказал, что художнику уда-
ется изображение только такого типа женской красоты, который
он любил хотя бы в одном живом существе»), молодой Маркс за-
ключил, возражая против торгашеского отношения к литературе,
что и «свободе печати также присуща своя красота», что ее тоже
«надо Любить, чтобы быть в состоянии защищать ее» (Ц, 351).
И судьбу свободного литературного творчества, как и судьбу любви,
Маркс уже в ранние свои годы отнюдь не считал обреченной. Гёте
самим своим присутствием в мире его обнадеживал.
Признавая, что Гёте присущи противоречия и слабости, объяс-
няя их истоки, Маркс и Энгельс с большим сочувствием прини-
мали «язычество» великого поэта, его привязанность к живой
ЖИЗНИ.
Уже в ранний период деятельности, в «Святом семействе»,
Маркс и Энгельс восхищены были тем, что «у Бэкона, как пер-
вого своего творца, материализм таит еще в себе в наивной форме
зародыши всестороннего развития. Материя улыбается своим по-
этически-чувственным блеском всему человеку» (1, 367).
Любое попрание в человеке его естества рассматривалось и
Марксом, и Энгельсом как искажение естественного человеческого
развития. Поэтому Маркс безусловно предпочитал в литературе
всем прочим художникам Эсхила, Шекспира, Гёте, у которых ма-
териальный человек выступил с наибольшей полнотой, в единстве
своих духовных и физических свойств. Потому же независимо
друг от друга творцы нашей идеологии советовали Лассалю в его
исторической драме «Франц фон Зиккинген» (1859) широко,
по-шекспировски ввести многообразие жизни, свободно обрисо-
вать пестроту ее движения и характеров в эпоху Крестьянской
войны в Германии, полагая, что это несомненно подняло бы пьесу
в чисто художественном смысле и послужило бы достойной и
истинной цели.
Уже в «Немецкой идеологии», одном из самых ранних докумен-
тов марксизма, можно прочесть, что «чаетная собственность может
быть уничтожена только при условии всестороннего развития инди-
видов, потому что наличные формы общения и производительные
силы всесторонни, и только всесторонне развивающиеся индивиды
могут их присвоить, т. е. превратить в свою свободную жизнедея-
тельность» (Т, 272). А когда Маркса не стало и Энгельса просили
подыскать строчку, которая могла бы стать эпиграфом для италь-
янского социалистического еженедельника и в которой было бы
выражено главное в идее научного социализма, Энгельс назвал
слова из «Коммунистического манифеста»: «На место старого бур-
жуазного общества с его классами и классовыми противополож-
ностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каж-
дого является условием свободного развития всех» (1, 348).
Нетрудно понять, что, видя подобную задачу, Маркс и Эн-
гельс никак не могли считать, подобно Гегелю, будто время ис-
кусства безвозвратно прошло. Не могли они и, как рационалисты-
просветители ХУ1Ш века или позднее Карл Каутский, свести роль
10
искусства всего лишь к иялюстрированию выработанных вне его,
уже определившихся положений. Им искусство и освещало чело-
века во всей его масштабности, и являло свидетельства его жиз-
нестойкости, и представлялось силой в становлении его искомой
новой целостности.
При этом марксистская точка зрения оставалась свободной от
какой бы то ни было идеализации трудных, драматических путей
художественного развития.
Известна яркая характеристика, данная Марксом в его речи
на юбилее чартистской «Народной газеты» в 1856 году противоре-
чиям прогресса в буржуазную эпоху. Маркс говорил: «В наше
время все как бы чревато своей противоположностью. Мы видим,
что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать пло-
дотворнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение.
Новые, до сих пор неизвестные источники богатства благодаря
каким-то странным, непонятным чарам превращаются в источники
нищеты» (1, 248). Далее в привычном переводе речь идет о том, что
«победы техники как бы куплены ценой моральной деградации».
Но на самом деле, как выяснил М. А. Лифшиц ', там, где в рус-
ском тексте поставлено слово «техника», в оригинале стоит «аг{»,
то есть «умение», а также и «искусство». И, значит, по Марксу,
даже победы искусства при известных условиях оказываются не-
отделимы от моральной деградации общества. Мысль Маркса
много решительней и острей, чем получилось в переводе, она охва-
тывает самые парадоксальные особенности исторического про-
цесса.
И все же ни в значении искусства, ни в будущем его Маркс
не сомневался. Потому что если коммунизм был для него «под-
линным присвоением человеческой сущности человеком и для че-
ловека; а потому... полным, происходящим сознательным образом,
И с сохранением всего богатства достигнутого развития, возвра-
щением человека к самому себе как человеку общественному, т.е.
человечному», то искусство тоже в конечном счете имеет всегда
своей целью человека целостного, человека человечного. Боль-
шей же задачи и мечты, чем «создать человеческое чувство, соот-
ветствующее всему богатству человеческой и природной сущно-
сти» (1, 171), Маркс не имел.
Шеллинг, говоривший, что, «хотя философия достигает вели-
чайших высот, но в эти высоты она увлекает лишь частицу чело-
века. Искусство же позволяет добраться до этих высот целостно-
му человеку», в собственном своем философском мышлении, в
своем методе оказался во многом даже подвластен художеству
романтиков, словно бы растворил отчасти в нем свои идеи. Для
Гегеля размышления о сущности и судьбах искусства стали не-
' См. Лифшиц Мих. Карл Маркс. Искусство и общественный идеал,
с. 443.
отъемлемой частью важнейших его философских построений; он
всегда в своей грандиозной системе брал искусство во внимание
как явление, как феномен. Но только Маркс испытал потребность
в том, чтобы во всех своих решениях самых коренных вопросов
истории человечества последовательно опираться и на показания
процесса художественного развития, во многом, владея собствен-
ной мыслью вполне, из этих показаний исходить.
Уже в письме 1846 года к П. В. Анненкову Маркс резчайшим
образом высмеял Прудона за то, что «его история совершается
в заоблачных высях воображения...». Именно в этой связи и по
этому же поводу он назвал идеалистически-спекулятивные эле-
менты системы Гегеля «гегелевским хламом»'!. И в том же письме,
задав себе прямой вопрос: «Что же такое общество, какова бы
ни была его форма?»— решительно ответил: «Продукт взаимодей-
ствия людей». «Взаимодействие», отношения людей навсегда и
остались для Маркса главным предметом и целью всех его изуче-
ний. Еще в «Положении рабочего класса в Англии» совсем моло-
дой Энгельс выделил «среди множества толстых книг и тонень-
ких брошюр» книгу молодого Томаса Карлейля «Прошлое и
настоящее» за то, что она «затрагивает человеческие струны, изо-
бражает человеческие отношения и носит на себе отпечаток чело-
веческого образа мыслей» (1, 430). (К сожалению, Карлейль, пе-
реживший в молодости свою эпоху «бури и натиска», позднее,
от романтического «культа героев» перешел к возвеличиванию
буржуа как «капитанов промышленности»).
В свое время народник Н. К. Михайловский никак не мог взять
в толк, что самое уже понятие капитала несло в себе у Маркса
представление об определенной общественно-исторической струк-
туре отношений между людьми. А Маркс мог говорить о капитале,
рыщущем по рынку, высматривающем рабочего, называть глаз
капитала рысьим... Сейчас каждому ясно, что любые даже сугубо
экономические или психологические категории наполнены в марк-
сизме человеческим содержанием. И здесь тоже проникновениям
искусства Маркс обязан был бесконечно многим.
В первом томе «Капитала» мы находим слова о том, что
«у Бальзака... старый ростовщик Гобсек рисуется уже впавшим в
детство, когда он начинает создавать сокровища из накопленных
товаров» (Т, 510). И это Бальзак помогает Марксу ощутимо пред-
ставить себе и нам во всех их проявлениях разные формы связи
человека с товаром, а тем самым и с другими людьми, участия то-
вара в судьбах человека и жизни общества.
«В своем последнем романе «Крестьяне», — говорится в третьем
томе «Капитала», — Бальзак... метко показывает, как мелкий
крестьянин даром совершает всевозможные работы на своего ро-
стовщика, чтобы сохранить его благоволение, и при этом полагает,
что ничего не дарит ростовщику, так как для него самого его соб-
! Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятеля-
ми. М., 1951, с. 12, 13.
12
ственный труд не стоит никаких денежных затрат. Ростовщик, в
свою очередь, убивает таким образом одним выстрелом двух зай-
цев. Он избавляет себя от денежных расходов на заработную пла-
ту и втягивает все больше и больше в долговую кабалу крестьяни-
на, который постепенно разоряется, так как не работает на соб-
ственном поле» (1, 510). Входя в обрисованные Бальзаком отно-
шения, осваивая их во всех подробностях, в том числе и психо-
логических, работая в этом материале, как он развернут худож-
ником, великий мыслитель тут же, так сказать, внутри материала,
ничем в нем не пренебрегая и не жертвуя, создает свою широкую
картину жизни. И в ней безупречная точность выводов словно бы
с неизбежностью следует из самой ткани размышлений.
Так же впоследствии В. И. Ленин, обратившись после 1905 года
к творчеству Толстого, искал и нашел в особенностях самого тол-
стовского взгляда на мир ответ на важнейший тогда вопрос о при-
чинах поражения первой русской революции. Первая из статей
Ленина и называется «Лев Толстой, как зеркало русской рево-
люции», а начал ее Ленин словами о том, что Толстой «револю-
ции явно не понял», от нее «явно отстранился». В том-то и была
заслуга Ленина, сила его принципов, что при такой позиции писа-
теля он сумел усмотреть именно в Толстом выражение настроений,
чаяний, заблуждений основной массы участников революции, смог
через Толстого выйти к ее своеобразию и особому содержанию.
В гуще «реальных отношений», как обозначал это сам Маркс,
вызревали положения его теории. И от литературы, искусства,
близких к реальности, к материи живой жизни по самой своей
природе, отстраниться тут было бы даже и невозможно. В соб-
ственных отношениях с литературой Маркс блистательно исполь-
зовал те преимущества, которые и в этом смысле предоставляли
ему его исходные установки.
Выводы Маркса формировались самим ходом исторического
процесса, в частности и ходом художественного развития. И они
могут быть сейчас проверены всем многотрудным опытом челове-
чества, любым моментом из него, в том числе и опытом русской
жизни и русского искусства.
«Анной Карениной», к примеру, выражена была неизбывная
нужда в том, чтобы отношения между людьми ответили возмож-
ностям и устремлениям человеческой личности. В основание рома-
на Достоевского «Идиот» положена была, по точным словам
Щедрина, «попытка изобразить тип человека, достигшего полного
нравственного и духовного равновесия». Сам же Щедрин расска-
зал, как предыстория человечества подошла к пропасти, к бездне,
после чего должна наступить история подлинная. А о Тургеневе
прокламация революционеров «Народной воли», выпущенная к по-
гребению писателя, прямо свидетельствовала, что он «служил рус-
ской революции сердечным смыслом своих произведений...»
И Ленин, говоря в 1902 году, в книге «Что делать?», о том,
что «роль передового борца может выполнить только партия, руко-
водимая передовой теорией», будет аргументировать наличие к`это-
13
му времени в Россини такой революционной теории среди прочего
также и «тем всемирным значением»!, которое приобретала тогда
русская литература...
За два года до завершения работы над первым томом «Капи-
тала», в 1865 году, Маркс писал Энгельсу: «...я не могу решиться
что-нибудь отослать, пока все в целом не будет лежать передо
мной. Какие бы ни были недостатки в моих сочинениях, у них есть
то достоинство, что они представляют собой художественное це-
лое»...2 Творец «Капитала» был весьма самокритичен в оценке
своих трудов, но здесь, очевидно, он видел некое органическое
HX СВОЙСТВО.
Сочинения Маркса, Энгельса, Ленина в самом деле противо-
стояли и противоетоят сейчас раздроблению человека, подмене
всяческой частичностью его целостности и самим своим внутрен-
ним строем. Так же, как подлинное искусство, они отстаивают
целостного, человечного человека всем, так сказать, естеством
своим. На этом-то и становились они тем «художественным це-
лым», какое оберегал в них их создатель.
«НЕРАЗДЕЛЬНОСТЬ И НЕСЛИЯННОСТЬ»
(В. И. Ленин цитирует Фейербаха)
Главные суждения В. И. Ленина об искусстве используются
нами широко. Многие из них основательно прокомментированы.
Ленинские формулы о Льве Толстом как «зеркале русской рево-
люции», о «художественном развитии всего человечества» воспри-
нимаются сейчас уже достаточно углубленно и служат руковод-
ством к анализу во многих исследованиях.
Но вот ленинская выписка из «Лекций о сущности религии»
Фейербаха —«Искусство не требует признания его произведений
за действительность». Она обычно приводится лишь как выража-
ющая солидарность Ленина с чужим, фейербаховским решением.
Да, Ленин в данном случае как будто лишь остановил свое
внимание на тезисе Фейербаха, последний же обозначил здесь
различия между искусством и религией в очень определенной плос-
кости. Все так. Однако мог ли Ленин в пору «Философских тет-
радей», уже защитив в «Материализме и эмпириокритицизме»
основы материалистического миропонимания и погружаясь теперь
в глубины диалектики, ограничиться одной лишь ссылкой на по-
добный вывод? Что нового могло быть для Ленина в этом тезисе
самом по себе? Не естественнее ли предположить, что между ле-
нинской мыслью и высказыванием Фейербаха завязывались ка-
кие-то более сложные отношения? Ведь уже выяснено, что и пзед-
' Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 25.
2? Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 31, с. 111—112,
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 52,
#4
ставление об искусстве как «зеркале», и характеристика толстов-
ских изображений как «срывания масок» появились впервые не
у Ленина, но именно Ленин придал им тот смысл, который они
теперь для нас содержат. Ленинское осмысление и преобразование
возникших прежде понятий позволило увидеть именно в Толстом,
который революции «явно не понял», от революции «явно отстра-
нился», ее зеркало’ или говорить о «срывании всех и всяческих
масок» как о решающей особенности творчества великого писа-
теля. Не принимая привычного хода мысли, какой предполагают
многие расхожие определения, Ленин, очевидно, учитывал, что они
привились, «пошли», стали всеобщим достоянием. Своим исполь-
зованием он оживотворял их изнутри, вскрывая противоречивое
на самом деле, зачастую парадоксальное течение жизни, противо-
действуя узости и бедности любого отвердевающего взгляда.
Вопрос об искусстве и действительности, искусстве и религии,
по всей видимости, вызывал у Ленина интерес устойчивый. Доста-
точно, наверное, упомянуть, рядом с рассматриваемым фактом
цитирования Фейербаха, хотя бы широко известный разговор
Ленина с М. И. Калининым_о роли театра в вытеснении религии.
Думается, что ленинское восприятие тезиса Фейербаха прелд-
станет перед нами в подлинном своем содержанин и масштабе лишь
тогда, когда мы вспомиим, что до того, как тезис этот попал в
«Философские тетради», Ленин уже всматривался пристально и
специально в исторический опыт художественного развития (статьи
о Толетом, о Герцене были уже написаны), что левинская теория
отражения к тому времени уже сложилась.
Общеизвестно, что Ленин многократно обращался к образам
из «Горя от ума». Явления русской действительности и в самом
деле получили от Грибоедова острые сатирические метки: Скало-
зуб, Молчалин, фамусовская Москва...
Но Пушкину ведь казалось неоправданным поведение Чацко-
го, гремящего речами в светских гостиных. Неоправданным, хотя
установлено, что именно так вели себя на известном этапе подго-
товки восстания будущие декабристы, и Пушкин об этом, разу-
меется, знал. А Белинский усматривал в грибоедовской пьесе лишь
«плод усилия сатиры стать комедиею»...
Очевидно, с точки зрения и Пушкина, и Белинского, грибое-
довская комедия не была в достаточной степени целостным миром,
со своим собственным внутренним самодвижением.
К совершаемому искусством сдвигу реальной связи вещей Ле-
нин относился с вниманием и доверием. Например, об эксцентриз-
ме как особой форме театрального искусства он говорил М. Горь-
кому: «Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение
к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, не-
множко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а —
интересно!»!,
' Ленин В. И. О литературе и искусетве. М., 1979, е. 689.
5
Из пушкинской «Капитанской дочки», как и, скажем, из позд-
нейшей «Анны Карениной», Ленин уже не стал извлекать образ-
ные характеристики-метки людей или явлений. Отсюда он брал
принципиально иное — хотя бы глубоко укорененную, многообраз-
но прорастающую во всей художественной системе повести фор-
мулу русского бунта —«бессмысленного и беспощадного»; из «Ан-
ны Карениной»— образ-формулу «все переворотилось и только
укладывается». Самый подход к произведению оказывался здесь
другим и отвечал природе этих именно созданий.
Ту же «Капитанскую дочку» Пушкин писал после «Истории
Пугачева», уже запечатлев в последней, как историк, свое знание
многих темных сторон и поведения, и личности крестьянского
вождя. Однако в особом мире «Капитанской дочки» всему этому
не оказалось места. Здесь «Пушкин художеством своим,— гово-
рит Марина Цветаева, — был обречен на другого Пугачева». Пом-
ня обо всем, что на самом деле было, он, уже после своей «Исто-
рии...х, художнически устремился к возможностям жизни, пусть
в реальности и не осуществившимся или осуществившимся только
в самой малой степени. И Пугачев «Капитанской дочки» милует
и милует, жалует и жалует Гринева, словно бы не в силах избыть
простое и высокое чувство человеческой благодарности.
Гоголь был предельно точен, когда написал о «Капитанской
дочке», что тут «все — не только самая правда, но еще как бы
лучше ее». Правда о лучшем, что жизнь могла бы иметь, способна
сотворить, и потому правда, которая «еще как бы лучше» «самой
правды»! ~ ,
И так это не в одной лишь поражающей простодушием (на-
помним: именно Пушкин звал доверять «простодушию гениев»,
а Толстой в последний свой год с тоской и завистью назвал Пуш-
кина «ясным, незапутанным!», полусказочной «Капитанской дочке».
«В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в дей-
ствительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье
было бы соединение того и другого», — записал для себя в дневни-
ке Толстой еще в 1851 году. Многие же годы спустя, в письме
к Стасову, он назвал свою деятельность «мечтательным трудом».
Искусством сложившаяся, «исполнившаяся» действительность
всячески размыкает свой предел. И в ленинской теории отраже-
ния, в ленинских словах о сознании, не только отражающем объ-
ективный мир, но и творящем его, в ленинском подходе к конкрет-
ным художественным явлениям это значение искусства охвачено
в полной мере. Так мог ли Ленин в «Философских тетрадях» лишь
присоединиться к тезису «Искусство не требует признания его
произведений за действительность», непосредственно опираться на
него?
Творя свой мир, искусство устанавливает отношения со сферой
реальности всякий раз заново. И постоянно сохраняется тут жи-
вое драматическое напряжение.
16
О том, как может обнаружить себя это напряжение, рассказы-
вается, например, в одной из замечательнейших пьес Островско-
го — в «Лесе». Геннадий Гурмыжский здесь актер-трагик не по од-
ному только театральному амплуа, и не по одной лишь актерской
традиции переменил он фамилию, назвавшись Несчастливцевым.
В самой жизни продолжает он свои театральные роли, говоря в
житейских обстоятельствах фразами из пьес, картинно проявляя
бескорыстие шиллеровского героя, а в Аксюше по силе ее чувства
к купеческому сынку Петру Восмибратову предполагает великую
артистку. Однако прямо выносимые в реальность слова ролей, да-
же самых замечательных, выглядят несоответственными и высо-
копарными. Аксюша же возражает, что ей-то «чувство для дому
HY KHO...».
В «Анне Карениной» по созданному художником Михайловым
живописному портрету Анны Вронский впервые узнает то самое
для него милое выражение ее лица, которое, кажется ему, никому,
кроме него, не открыто. И он изумляется, как удалось Михайлову
это выражение угадать. Решимся повторить — до михайловского
портрета Вронский этого выражения лица Анны не знал!
Так и совершается взаимодействие искусства и жизни.
Создатели художественных ценностей с ходом времени неда-
ром все больше осознавали себя творцами, и в этом именно каче-
стве все чаще воспринимались. Если на автопортретах ХУ1Ш века
живописцы рисовали себя с палитрой и кистью, отмечая так лишь
принадлежность свою к определенному цеху, то в начале ХХ сто-
летия этим стала выражаться некая вознесенность художника,
приобщенность его к высотам духовного созидания. Вдова Моцар-
та вычеркивала позднее из оставшихся его писем то, что не отве-
чало складывавшимся понятиям о художнике как о творце. И во-
круг Бетховена уже при жизни его творилась легенда. Белинский
в 1846 году, прочтя «Бедных людей», скажет Достоевскому: «Вам
правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар,
цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писа-
телем».
Но, выделившись, самоопределившись и будучи никогда не в
состоянии вернуться, так сказать, в лоно действительности, искус-
ство не должно никогда и прекращать постоянных своих устрем-
лений в эту сторону. По изумительно глубокой характеристике
А. Блока, они, искусство и жизнь, навсегда «нераздельны и не-
слиянны». И самое-то это соотнесение — искусство и жизнь — по-
чему-то да сложилось, даже вошло в традицию!
Когда, в процессе создания «Анны Карениной», Вронский не-
ожиданно для самого Толстого, по собственному признанию пи-
сателя, стал стреляться, это было высшим торжеством самостоя-
тельного, суверенного бытия искусства. Однако как раз после
этой великой, безусловной победы своего творящего духа, искус-
ства в себе Толстой стал тяготиться писательством вообще, всяким
художественным вымыслом в частности. Множество высказыва-
ний его на этот счет общеизвестны. И последний свой роман, «Вос-
2 Заказ № 1409 17
кресение», он намеренно строил как «совокупное — многим —
письмо». В последнюю свою повесть, «Хаджи-Мурат», прямо, без
какого бы то ни было преображения, ввел документ.
Глеб Успенский, сторожа, оберегая права горькой реальности
перед лицом самого феномена искусства, его завлекающей, заво-
раживающей силы, не позволял себе, при поразительной своей ар-
тистической тонкости, доводить факты действительности до худо-
жественного их преображения. Он хотел оставить все на страни-
цах своих очерков в непосредственно жизненном облике и воз-
действии, что и оказалось установкой его искусства: ведь выступал
он вее-таки как художник... И здесь более чем уместно вспомнить,
что еще очень задолго до «Философских тетрадей», в книге «Что
такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демокра-
тов?» (1894), Ленин привел слова одного экономиста, указавшего
как раз на «громадный артистический талант» Глеба Успенского...
В первой же отчетной и вроде бы только сугубо деловой статье
о деятельности своей Яснополянской школы Толстой с упоением
рассказал, как легко и сразу откликнулись крестьянекие дети пер-
вому же его зову к красоте, к художеству. Они загорелись тот-
час же. Толстой, как говорит об этом он сам, многое «не смел
и не умел объяснить», а «Федька совсем понял, зачем... петь»,
и уже «не пускал» в возбуждении руку человека, так раздвинув-
шего его отношения с миром.
Зачарованно, забыв в эти мгновения обо всем на свете, слуша-
ют в швейцарском городке Люцерне пение маленького человечка
сытые обыватели. В «Крейцеровой сонате» одно лишь прикоснове-
ние к бетховенскому творению делает для всех троих персонажей
этой повести так или иначе невозможным сохранение прежнего
склада их жизни.
Вот сколь могущественно действует искусство своею силою на
обычное течение дел и дней! Однако же само по себе оно перестроить
этого течения не может. И потому Толстой мучился тем, что прои-
зойдет дальше с потревоженными им детскими душамя. Граждане
города Люцерна самодовольно возвращаются к своей повседнев-
ной суете, даже ничем не вознаградив нищего и голодного музы-
канта за испытанный ими только что душевный восторг. Для геро-
ев же «Крейцеровой сонаты» пережитое ими потрясение и невоз-
можность остаться в привычных пределах существования могут
обернуться, при их опыте жизни, лишь изменой и убийством
из ревности.
Есть, видимо, все-таки что-то неизбывно Драматическое и для
реальности в том, что искусство как таковое не может не быть
все-таки отдельно и отделено от нее. Еще у Пушкина в его «ма-
ленькой трагедии» Моцарт решает вдруг, что забота «о нуждах
низкой жизни» вообще не может быть совмещена со способностью
самозабвенно чувствовать «силу гармонии». «Чего хочет от меня
эта музыка?»— почти в отчаянии спрашивал Толстой.
18
Противоречия исторических судеб искусства, о которых идет
речь, принадлежат самой природе вещей и потому никогда не мо-
гут быть сняты. Но, существуя постоянно, они постоянно же тре-
буют в каждом случае какого-то разрешения.
По поводу «Смерти Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова М. Горький
писал ее автору: «Грибоедов замечателен, хотя я не ожидал
встретить его таким. Но вы показали его так убедительно, что,
должно быть, он таков и был. А если не был — теперь будет»'.
Сотворяющая сила искусства тут признавалась почти безмерной,—
даже реально существовавший и давно ушедший человек, твердо
запечатлевшийся определенным образом в сознании многих поко-
лений, может, оказывается, благодаря этой силе едва ли не совер-
шенно изменить ставший вроде бы навсегда безусловным свой об-
лик. Горький готов был тут отдаться волшебству искусства без-
оглядно, безоговорочно.
И Горький же вводил в «Жизнь Клима Самгина» фигуры под-
линных лиц {между прочим, также и себя самого), подлинные со-
бытия, стремяеь придать всяческую реальную достоверность вы-
мышленной фабуле, вымышленным персонажам и ситуациям...
В современном поп-арте, в хэппенинге готовность искусства да-
же вовсе отказаться от собственной своей природы ради прочной,
безусловной, гарантированной связи с реальностью приняла фор-
мы, извращенные до крайнего уродства. Здесь, если воспользо-
ваться одной из ленинских характеристик, возникших по другому
поводу, перед нами является уже совершенный «пустоцвет», но и
у него есть свои корни. И, по ленинским же словам, этот пусто-
цвет «есть только чепуха» лишь с недиалектической точки зрения.
Внимание, проявленное Лениным к тезису Фейербаха, по всей
видимости, отметило собою прежде всего открытость этого тезиса
внутренним перипетиям процесса художественного развития. То,
что у Фейербаха было лишь некоей констатацией очевидного, для
Ленина скорей вводило проблему. Проблему, собственно от судеб
искусства неотделимую, как неотделимую и от ленинских пред-
ставлений о нем. По вопросу об искусстве у Ленина с Фейерба-
хом возникал, в сущности, своего рода диалог.
Впрочем, для Ленина тут и судьбами искусства дело, можно
думать, не ограничивалось. Ведь, конснектируя примерно тогда
же, когда и «Лекции...» Фейербаха, гегелевскую «Науку логики»,
он записал: «Мысль о превращении идеального в реальное глубо-
ка: очень важна для истории. Но и в личной жизни человека вид-
но, что тут много правды. Против вульгарного материализма. МВ.
Различие идеального от матернального тоже не безусловно, не
iiberschwenglich»? (He 6e3smepHo.— ff. B.).
Да, Ленин обладал способностью улавливать в любом отдель-
ном факте всю многосложность связей бытия.
' Литературное наследство. М., 1963, т. 70, с. 458.
? Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 99, с. 164.
2* 49
ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ
Идеологи русской революционной демократии проявили себя
прежде всего как критики. И никак нельзя думать, что формиро-
вание ими новой идеологии связано было с их критической дея-
тельностью каким-нибудь внешним образом или вызвано одними
только внешними причинами. По-видимому, революционность по-
зиций и Белинского, и Чернышевского, и Добролюбова складыва-
лась неотделимо от их отношений с литературой. И, значит, здесь
ее тоже следует искать.
ХХ столетие выводило нашу литературу к ее собственным
открытиям, к собственному ее взгляду на мир. Литература обре-
тала свободу и по отношению к действительности, и относительно
всех иных способов ее осваивать. Что бы ни имел в виду Горький,
выдвигая свое понятие о критическом реализме, здесь точно улов-
лено было новое, самостоятельное положение искусства, свободно
обращенного к реальности.
Литература не только становилась особым видом познания.
Она все меньше могла сводиться к одному лишь познанию. И хо-
тя бы поэтому сама литература начинала нуждаться в специаль-
ном познании ее. Критика, в свою очередь, также становилась осо-
бой сферой творческой деятельности — в точном значении этих
слов.
Литература и критика в России не были больше внутренне ско-
ваны никакими готовыми, принятыми представлениями и задачами.
Оттого-то они и могли так легко стать и нередко становились поч-
вой для вызревания революционной идеологии. Еще в 1814 году
И. Муравьев-Апостол, отец трех будущих деятелей декабристско-
го движения, отстаивал значение критики как возможности «суда,
производимого над каким-либо предметом искусства»!, как попри-
ща свободного обсуждения.
Показательно с этой точки зрения уже то, какие формы обра-
щения с произведением литературы ввел Белинский в критику.
Всего за десяток лет до появления первых статей Белинского
П. Вяземский, отвечая на упрек Жуковского в том, что его статьи
о Дмитриеве изобилуют не связанными с последним «пристройка-
ми», замечал в письме от 9 января 1823 года: «Перейдем теперь
к.. обвинению твоему насчет моей биографии, о пристройках,
о том, чт0 слишком часто удаляюсь от главного предмета, заго-
вариваюсь. Перекрестись и стыдись! Да что же могло взманить
меня и всякого благоразумного человека на постройку, если не
возможность пристроек? Неужели рука моя поворотится, чтобы
чинно перебирать рифмы Дмитриева?» Предполагалось, что вни-
мание к самому литературному созданию, любое сближение с ним
должно обязательно обернуться чем-то вроде «перебирания рифм»,
' Литературная критика 1800—1820-х годов. М., 1980, с. 117,
20
никак не более, что все сколько-нибудь серьезное может быть вы-
ражено лишь в «пристройках», от объекта анализа вполне от-
дельных.
Белинский, как хорошо известно, стал погружаться в самое
существо рассматриваемых литературных явлений. Подробность
его пересказов кажется подчас чрезмерной. Самому критику она
редко приносила удовлетворение, и он делился с читателями чуть
не отчаянием от того, как мало сохраняется от произведения ис-
кусства в критическом его изложении. И все-таки Белинский не
отступался.
Не мог отступиться. Потому что его собственная мысль форми-
ровалась не только на основе, но и в материале, так сказать, худо-
жественных созданий, прямо из него вырастая.
Вчитываясь, скажем, в оправдания, к каким приходится при-
бегнуть Пушкину, чтобы не скомпрометировать Татьяну, написав-
шую Онегину письмо-признание, называя усилия поэта «замеча-
тельными», Белинский почти на наших глазах загорается гневом
против господствующих предрассудков и разворачивает свои ин-
вективы.
У Ленина вызвало восхищение то, как Добролюбов «из разбо-
ра «Обломова»... сделал клич, призыв к воле, активности, рево-
люционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую револю-
ционную прокламацию...»!. Если свести хотя бы только заглавие
статьи Добролюбова о Достоевском с заглавиями произведений
писателя, о которых в статье идет речь, то перед нами предстанет
самый механизм сотрудничества критика с художником. «Бедные
люди», «Униженные и оскорбленные»— это произведения, «Заби-
тые люди»— название статьи.
Когда Белинский назвал критику «движущейся эстетикой», он
мог опираться на собственный опыт критика, неизменно выходив-
шего к своеобразию и единственности литературных явлений и
всегда готового как угодно резко и далеко сдвинуть утвердившие-
ся категории.
И литература отвечала критике на это новое отношение к себе
полной взаимностью. Она, со своей стороны, тоже оказывалась
готова не только прислушаться к критическому голосу, но и внять
ему.
Критика до Белинского адресовалась обычно узкому кругу
авторов тех произведений, которые подвергались оценке. Послед-
ние по преимуществу именно оценивались, что как раз и ограни-
чивало значение критических статей даже внутри литературного
цеха. Напротив, обращенные к самой широкой публике статьи
Белинского или Добролюбова многое открывали и писателям.
И, разумеется, не меньшее значение имели для литературного про-
цесса те новые понятия об искусстве вообще, о его отношениях
!: Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1979, с. 650.
21
с действительностью, какие складывались в ходе критической дея-
тельности у революционных демократов.
При появлении первых же повестей Гоголя С. Шевырев, оце-
нивший их очень высоко, решился подать писателю совет обра-
титься от изображения низших слоев общества к изображению
высших. Белинский тотчас же отозвался на эти соображения.
Мы вправе ожидать, что его возмутили подобные иерархические
понятия о ценности художественных созданий. Но нет, недоумение
и гнев вызвало иное. «Как! — восклицал Белинский, — неужели поэт
может сказать себе: дай опишу то или другое, дай попробую себя
в том или другом роде?.. Нет, пусть г Гоголь описывает то, что
велит ему описывать его вдохновение, и пусть страшится описы-
вать то, что велят ему описывать или его воля или гг. критики»...
Отстаивая суверенность искусства, самостоятельность его пути и
судьбы, Белинский готов был отвергнуть даже подвластность его
воле его же творцов. Когда в письме 1847 года К. Кавелину Бе-
линский заявит о «натуральной школе», что указанным ей Гого-
лем содержанием «она воспользовалась не лучше его (куда ей в
этом бороться с ним!), а только сознательнее»?,— то тут опять же
будет (в 1847 году!) ограничение возможностей «установки» в до-
стижениях искусства. Это — Белинский самого позднего периода,
когда ни о каком его шеллингианстве говорить уже невозможно.
Не следует ли из этого, что и само обращение его в свое время к
Шеллингу было вызвано энергией борьбы за самостоятельное и
особое значение искусства, поиском опор в этом новом для России
деле, да еще внутренней сложностью для самой литературы про-
цесса ее самоутверждения в новом, собственном качестве?
Белинский не принижал ни Пушкина, ни искусства в целом,
когда в завершение своего пушкинского цикла настаивал на том,
что «Пушкин был по преимуществу поэт, художник, и больше ни-
чем не мог быть по своей натуре». Как раз напротив! Ведь прямо
за этими словами следует почти торжественное: «Он дал нам поэ-
зию, как искусство, как художество». И чуть дальше, через не-
сколько строк: «Придет время, когда он будет в России поэтом
классическим, по творениям которого будут образовывать и раз-
вивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...»3. Ис-
кусство само по себе представало здесь и в своем нравственном,
и в своем общественно-историческом значении. Уже вслед за Бе-
линским Чернышевский в брошюре 1856 года «Александр Серге-
евич Пушкин. Его жизнь и сочинения» охарактеризует Пушкина
как деятеля национально-исторического, поднявшего своей поэзией
нравственный уровень русского общества.
Чернышевский позднее необыкновенно высоко поставит уже са-
мые ранние произведения Толстого. Он отзовется на них в числе
первых, когда даже последняя часть трилогии —«Юность»— не
' Белинский В. Г Полн. собр. соч., М., 1953, т. Т, с. 307,
? Там же, т. ХИ, с. 461.
3 Там же, т. УП, с. 579.
22
будет еще известна ни читателям, ни критике. Критик сразу же
отметит здесь колоссальное развертывание возможностей искус-
ства. Сопоставив Толстого с Лермонтовым, он покажет, что если
у Лермонтова «диалектика души» «играет... второстепенную роль,
обнаруживается редко, да и то почти в совершенном подчинении
анализу чувства», то у того, кто пришел после Лермонтова, она
явилась уже принцином построения любых «картин и сцен»!, или,
переводя это на наши понятия, художественным методом 2. Он 0со0-
бо оценит у Толетого и непоередственную «чистоту нравственного
чувства». Во всем этом Чернышевский уловит все глубже выра-
жаемую искусством безграничность ресурсов человеческого раз-
вития. Потом, в связи с «Утром помещика», критик изумится спо-
собности художника «переселяться» в души людей совсем иного,
чем он сам, круга и положения, смотреть на происходящее и их
глазами. Эти открытия будут питать революционную веру Чер-
нышевского в возможность действительно коренных преобразо-
ваний, полного изменения всей жизни людей. Критик здесь будет
черпать и черпать материал в пользу идей, которые у него самого
вызревали. Но даже в подобном случае он сочтет себя обязанным
предостеречь писателя от замеченной им уже в первых вещах Тол-
стого готовности подчинить искусство — или даже пожертвовать
им — заданным целям.
О Пушкине Белинский говорил, что «его назначение было за-
воевать, усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство,
так, чтоб русская поэзия имела потом возможность быть выраже-
нием всякого направления, всякого созерцания, не боясь перестать
быть поэзиею и перейти в рифмованную прозу»3. Назначение это
было Пушкиным исполнено. И не без активнейшего соучастия
Белинского. И тут же стало выясняться, насколько искусство при
неразрывных его связях с реальностью с нею «не совпадает».
В статье 1856 года «Стихотворения Н. Огарева», говоря о на-
строениях, выразившихся в огаревской лирике, Чернышевский по-
чувствовал себя обязанным отвлечься от личности самого поэта
и сказать о «людях, тип которых отразился в поэзии г. Огарева,
одного из них». «Лицо, чувства и мысли которого вы узнаете из
поэзии г. Огарева, — продолжил Чернышевский свою мысль,— лицо
типическое»4. И действительно, стихотворения Огарева в их сово-
купности и внутренней связи дают нам некую историческую био-
графию, причем биография эта не обязательно совпадает с био-
графией их автора или, во всяком случае, не привязана к ней.
Пожалуй, именно огаревская поэзия хронологически является од-
ним из первых поводов к тому, чтобы ставить вопрос не только о
личности автора, но и о лирическом герое в поэзии.
'! Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15-ти т. М., 1947, т. Ш,
с. 423.
2 См. об этом: Бочаров С. Г. Толстой и новое понимание человека.
«Диалектика души».— В кн.: Литература и новый человек. М., 1963.
3 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. УП, с. 320.
* Чернышевский Н. Г. Полн, собр. еоч. М., 1947, т. Ш, с. 565.
23
В статье того же года о стихотворениях Растопчиной Черны-
шевский сам прибег к понятию о лирическом «я», отдельном от
«я» автора.
Начиная примерно со второго тома «Мертвых душ», явно воз-
росла роль прототипов в русской литературе. По всей видимости,
это связано было с тем, что теперь и реальное лицо при литера-
турном его воссоздании обладало для всех столь же безусловной
художественной значимостью, что и вымышленные персонажи.
Грань между реальным лицом в жизни и им же в произведении
искусства становилась принципиальней, чем различие между фи-
гурами вымышленными и невымышленными внутри художествен-
ного создания. И Чернышевский в «Прологе» образы чуть не всех
главных действующих лиц строил на сугубо прототипической осно-
ве. А Герцен сделал самого себя героем «Былого и дум».
Новая ситуация в отношениях искусства с действительностью
нашла свое отражение и в эстетической системе Чернышевского,
где искусство было поставлено ниже жизни. Неправомерность по-
добного решения, такого подхода к проблеме доказана давно: ис-
кусство принадлежит жизни и потому никак не может быть не
только выше, но и ниже ее.
Ленин с необыкновенной точностью сформулирует, что «эпоха
подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостни-
ками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как
шаг вперед в художественном развитии всего человечества»! —
и тут будут поразительно, в одной фразе, сведены воедино сам
Толстой, выдвинувшая его эпоха и художественное развитие всего
человечества; за художественным развитием признана будет его
известная самостоятельность, пусть и относительная.
Борясь за нераздельность искусства с жизнью, Чернышевский,
еще в сущности, их как раз разделял. Нельзя, однако, не видеть,
что так он, едва ли не первый в нашей эстетической мысли, от-
кликнулся на противоречия в отношениях искусства с действи-
тельностью, проступившие в его время, когда органичность лите-
ратурного процесса в России уже не могла вызывать сомнений.
По-своему ответил на новое положение вещей и Добролюбов.
Вот как характеризует А. Лаврецкий в исследовании «Белинский,
Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм» разницу в доб-
ролюбовском подходе к писателям прошлого, с одной стороны,
и к писателям-современникам — с другой: «Если мировоззрением
определяется все творчество писателей прошлого, то влиянием его
на писателей современных Добролюбов объясняет лишь отдельные,
не изменяющие общего итога детали, а часто критик совершенно
от него отвлекается. В творчестве этих писателей господствует
«метод»... Так, в статье «Луч света в темном царстве» Добролюбов
пишет, что автор «может быть каких угодно мнений, лишь бы та-
лант его был чуток к жизненной правде...». Или, там же, критик
говорит: «Художественное произведение может быть выражением
' Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1979, с. 225.
24
известной идеи не потому, что автор задался этой идеей при его
создании, а потому, что автора его поразили такие факты дей-
ствительности, из которых эта идея вытекает сама собою». При-
чину подобной, верно им указанной дифференциации добролюбов-
ского отношения исследователь истолковывает, однако, так: «Об-
разы художников прошлого, потеряв свое актуальное значение,
не могли уже служить Добролюбову для пропаганды своих взгля-
дов по насущным вопросам современной ему действительности,
Но в интересах этой пропаганды было признать достоверность ма-
териала, который мог быть так мастерски истолкован в ее целях,
поднять авторитет художника, давшего этот материал, за счет
мыслителя в художнике»'!. Получается, что критик действовал, по
крайней мере в этом случае, с определенными целями, от сущест-
ва литературного процесса все-таки безусловно далекими.
На наш взгляд, все тут обстояло иначе, и Добролюбову вовсе
не приходилось прибегать к насилию над литературной реаль-
ностью. Напротив, критик необыкновенно чутко уловил, что логи-
ка художественного изображения обретала с ходом времени соб-
ственную силу и литературное воссоздание жизни, скажем, у Гон-
чарова или Островского было менее зависимо от их — обозначим
это словом Добролюбова — мнений, чем то было, к примеру, у
Грибоедова. Потому и мог критик в известной мере отделять
изображение от мнений, что, исторически все более развертываясь,
изображение жизни все больше говорило об этой жизни «само от
себя». Критика и на этот раз, и в этих условиях опять-таки опира-
лась на литературу и открывала ей ее внутренние возможности.
Критики революционно-демократического направления, остава-
ясь просветителями, обладали определенным фондом привычных
для просветительства понятий. Часто они оперировали, скажем,
понятием «натура». Вооружась им, они вступали и в свое обще-
ние с литературой. Но общение критики этого рода с литературой
было, как правило, именно общением, то есть живым процессом,
в ходе которого ее изначальные установки зачастую сдвигались,
а отвлеченные понятия наполнялись весьма конкретным историче-
ским содержанием.
П. В. Анненков приводит ставшее потом очень известным вы-
сказывание Белинского о «Бедных людях» как о «первой попытке
У нас социального романа»?. Если в слове «социальный» видеть
лишь ставший в нем уже достаточно привычным смысл, то трудно
себе представить, почему, собственно, критик так схватился за
первый роман Достоевского. О положении бедняков, об их стра-
даниях, вызываемых именно бедностью, к этому времени было рас-
сказано уже немало.
‘' Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за
реализм. М., 1941, с. 345—346, 347.
2 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 282.
25
Но у Достоевского впервые бедность не однозначно и одно-
направленно определяет собой судьбу тех, кому она выпала. Тут
бедные люди под давлением бедности и обездоленности испытыва-
ют и непреложную потребность друг в друге. Отношения их между
собой образуют некую ячейку совсем особых и очень сложных
человеческих общений и связей, особого социума.
Мы не возьмемся точно обозначить, что именно вкладывал Бе-
линский в понятие «социальный», когда говорил о «Бедных людях».
Но не ясно ли, что оно заряжалось у критика всем содержанием
вызвавшего такой его восторг произведения и никак уже не оста-
валось просветительски одномерным и неподвижным?
Встречаясь в печатном отзыве Белинского о «Бедных людях»
с сетованием на то, что «русская поэзия не ладит»! с русскими
женщинами, не справляется с их изображением, мы чуть не всякий
раз повторяем, что долг этот нашей литературой давным-давно
уже оплачен. И забываем удивляться тому, как ждал, хотел Бе-
линский художественных проникновений в тайны женской природы,
отнюдь не полагая их раз и навсегда определившимися и изведан-
ными. Когда же литература действительно станет в них проникать,
Чернышевский поддержит «Униженных и оскорбленных» Достоев-
ского как раз за воссоздание прихотливой и драматической слож-
ности женского чувства, женской судьбы.
Когда речь заходит о присоединении Добролюбовым в статье
«Что такое обломовщина?» гончаровского героя к «лишним лю-
дям» Пушкина, Лермонтова, Герцена, Тургенева, то этот ход кри-
тика обычно оценивается как очевиднейшая издержка просвети-
тельства. В самом деле, тут как будто налицо и игнорирование
разницы в исторических обстоятельствах, и пренебрежение к ин-
дивидуальности как персонажей, так и писателей.
Вглядимся, однако, и в добролюбовские строки: «Обломов есть
лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде оно не вы-
ставлялось пред нами так просто и естественно, как в романе
Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем,
что родовые черты обломовского типа мы находим еще в Онегине
и затем несколько раз встречаем их повторение в лучших наших
литературных произведениях. Дело в том, что это коренной, народ-
ный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших
серьезных художников. Но с течением времени, по мере созна-
тельного развития общества, тип этот изменял свои формы, ста-
новился в другие отношения к жизни, получал новое значение»>?.
Не выводит ли одна уже эта добролюбовская характеристика за
пределы рассмотрения «лишних людей» лишь по неслиянности их
с господствующим складом вещей да по далекости от народного
мира? Не зовет ли, не обязывает ли заглянуть в глубины нацио-
нально-исторического развития?
В оценке комедии Островского «Бедность не порок» Черны-
шевский и Добролюбов резко не совпали друг с другом. «Возмож-
т Белинский В. Г Полн. собр. соч. М., 1955, т. [Х, с. 555.
? Добролюбов Н. А. Собр. соч. В 9-ти т. М.—Л., 1962, т. 4, се. 314,
26
ность таких разногласий среди политических единомышленников —
одно из ярчайших доказательств мощи движения и его заинтере-
сованности в объективной истине»!,— справедливо считает совре-
менный критик. Но одного такого заключения, пожалуй, мало.
Мы убеждены, что в данном случае, как ни странно, правы были,
при решительном несходстве мнений, оба — и Чернышевский, и
Добролюбов.
Чернышевский писал свою рецензию сразу же по появлении
друг за другом пьес «Не в свои сани не садись» и «Бедность не
порок». А тут опасность утраты Островским драматического со-
держания и соответственно драматического действия была вполне
реальна. Ведь Дуня («Не в свои сани не садись») совсем не есть
равная, так. сказать, сторона в своем столкновении с Русаковым
и Бородкиным. По ходу действия ей лишь дано убедиться, что
они верно и наперед знают, в чем ее истинное благо и интерес,
она же сама временно заблудилась. Никакого иного начала по
сравнению с патриархальным, русаковско-бородкинским, она не
представляет. И потому развитие действия ни к каким новым
между ними отношениям персонажей не выводит. Дуне всего толь-
ко надлежит признать то, что и сам Островский изначально и не-
поколебимо считает безусловным.
В пьесе «Бедность не порок» все несколько усложнилось. Ге-
роиня, названная здесь Любовью, и в самом деле любит, а отцу ее
важно не столько судьбу ее устроить, сколько утвердить свою во-
лю. Однако Любовь принимается и одобряется автором только
при том условии, что сама она на своем праве не настаивает, что
покорность отцовской воле, какой бы дикой та ни была, для нее
нерушима. Драматическое действие и тут сковано и ограничено.
У Чернышевского были основания встревожиться. Впервые
приобретая драматурга, способного дать нашему театру нацио-
нальный репертуар (не одну, не две, не три пьесы, а именно целый
репертуар!), Россия тут же могла его потерять.
Добролюбов же выступил со статьей «Темное царство», когда
в творчестве Островского, после «Не в свои сани не садись» и
«Бедности не порок», борьба «партий», по словам критика, стала
развертываться в полную силу. Так и оказались оба правы: Чер-
нышевский в своей тревоге и опасениях, Добролюбов — в удовле-
творенности, когда основание для тревоги и опасений было снято.
И здесь тоже сказалась чуткость революционно-демократической
критики к реальности движения литературы, прямое участие в нем.
Мы по справедливости гордимся ныне становлением в нашем
литературоведении историко-функционального подхода к классиче-
скому наследию, изучением жизни классики во времени. Но не за-
кладывал ли и его основы опять же Белинский, начинавший свой
пушкинский цикл утверждением, что задача определить значение
Пушкина не может быть решена однажды и навсегда на основании
' Емельянов ВБ. Островский и Добролюбов.— В кн.: А. Н. Островский.
Сборник статей и материалов. М., 1962, с. 113.
27
чистого разума, что решение ее должно быть результатом истори-
ческого движения общества? Не шли ли за ним и в этом Черны-
шевский и Добролюбов?
Движущая, обновляющая энергия революционно-демократиче-
ской критики и сейчас далеко и далеко не исчерпана. И вряд ли
может быть исчерпана когда бы то ни было.
КАРТИНЫ ЖИЗНИ И ИСТОРИЯ
Мысль о том, что духовная природа человека создается и дви-
жется историей, что она не исходный пункт, но результат истори-
ческого пути, вошла в наш обиход уже давно и прочно. Но вот
дело касается искусства, духовно-практического выявления себя
человеком, и тут мы далеко не всегда задумываемся над общест-
венно-исторической содержательностью самой поэтики художест-
венных творений.
Высказывания Маркса и Энгельса о литературе! еще и сейчас
воспринимаются нередко так, будто яркие и красноречивые опи-
сания, богатство «экономических деталей» могут присутствовать
в любое время и в любом произведении искусства отдельно и не-
зависимо от выразившейся в нем системы поэтического мышления,
что для них необходим и достаточен лишь уровень мастерства.
Но и в замечательных произведениях литературы, предшест-
вовавших реализму ХПХ столетия, трудней всего найти именно
какие-нибудь «наглядные и красноречивые описания», «экономи-
ческие детали» и подробности.
ХХ век ввел в действие во всей Европе, да и не в одной лишь
Европе, громадные силы буржуазного развития. С эпохи Возрож-
дения, с поры Шекспира мир не знал таких далекоидущих, так’
глубоко захватывающих перемен. Бесконечно усложнившейся дей-
ствительности этого нового времени не отвечали больше твердые,
отстоявшиеся представления, она не могла быть в них уложена.
Ее надо было прежде всего увидеть в новых ее чертах и особен-
ностях. Без этого она не могла быть познана, ибо прежние завое:
вания теоретической мысли, за которыми искусство раньше могло
не без успеха для себя следовать, уже не вводили или недостаточ-
но вводили ныне в существо новых обстоятельств.
Наглядность описаний, богатство деталей и подробностей нес-
ли в себе не только обновление природы художественной мысли,
но и изменение самого характера связей общественного сознания
с действительностью. Тут общественное сознание решительно и кру-
то сближалось с жизнью, именно в ней обретало прямое и непо-
средственное содержание. Вглядываясь в новое здесь качество
художественной мысли, Маркс и Энгельс обнаруживали и новые
возможности искусства действенно участвовать в процессах обще-
5 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве. В 2-х т. М., 1983, т. 1,
с. 514.
28
ственного развития, в формировании общественной теории, способ-
ной и объяснить мир, и вести к его переделке.
Энгельс специально отмечал, что Бальзак, симпатизировав-
ший по своим общественно-политическим представлениям аристо-
кратии, веривший в ее роль, видел неизбежность ее падения и
людей будущего находил там, где их только и можно было найти.
Подобное положение вещей было ново, знаменательно, неожидан-
но. Оно выражало собой высвобождение и развертывание в ис-
кусстве его собственных познавательных и всяких иных возмож-
ностей, дальнейшее утверждение искусства в своем собственном
качестве. И по мере углубления и расширения этого процесса
поэтическое правосудие художника все больше оказывалось спо-
собным приносить величайшие победы революционной диалектике,
что тоже сразу же привлекло к себе внимание Энгельса, вызвало
его живой восторг.
Маркс и Энгельс не только немедленно восприняли происхо-
дившие в природе художественной мысли перемены. Они и горячо
отстаивали ее новое существо, ставя именно это новое качество
искусства на службу своей складывавшейся теории общественного
развития.
Энгельс советовал Минне Каутской добиваться того, чтобы
«тенденция» сама по себе «вытекала из обстановки и действия».
Найдя в изображенном Лассалем Ульрихе фон Гуттене одно
лишь «воодушевление», Маркс звал автора взглянуть на героя
шире, разностороннее, конкретнее, напоминал Лассалю, что Гут-
тен был еще и умен, и «чертовски остроумен»>?.
Когда немецкий прудонист Мюльбергер заявил, что любые
выдвинутые требования есть уже изображение общества таким,
где требуемое не существует, Энгельс решительно с ним не согла-
сился: «Мы изображаем,— а всякое истинное изображение, во-
преки Мюльбергеру, есть в то же время объяснение предмета,—
мы изображаем экономические отношения, как они существуют
и как они развиваются, и доказываем строго экономически, что
это их развитие есть в то же время развитие элементов социаль-
ной революции... Там, где мы доказываем, там Прудон, а за ним
и Мюльбергер проповедуют и плачутся»3. Энгельс вел здесь речь
не об искусстве, но в своих требованиях к мышлению, желавшему
быть передовым, он получал опору и в соответствующем этапе
художественного развития человечества, этапе, когда искусство
именно изображением действительности в ее конкретности и мно-
гообразии подробностей достигало наибольших результатов в
освоении новых жизненных обстоятельств.
В. И. Ленин нашел у Толстого, создавшего «первоклассные
произведения мировой литературы», «несравненные картины рус-
' Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве. В 2-х т. М., 1983, т. 1, с. 53.
? Там же, с. 68.
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Избр. произв. В 3-х т. М, 1970, т, 2,
с. 390—391.
29
ской жизни»!'. В ленинских определениях заключена была пора-
зительно точная характеристика толстовского искусства в его
историческом своеобразии и исторической значимости. У Толстого
именно несравненность картин жизни поднимала охват и освоение
действительности в искусстве на дальнейшую, небывалую высоту.
Величие произведений Толстого, их особое место в мировом ис-
кусстве в этой несравненности картин жизни выражались прежде
всего. И самая эта несравненность картин была неотделима от
исторического содержания эпохи.
А. Лежнев в книге «Проза Пушкина» (1937), говоря о состоя-
нии Германна в «Пиковой даме» после смерти графини, заметил,
что «психологический мотив дан в общем, тезисном виде: сказано,
что Германн волнуется, испытывает угрызения совести, но как
проявляется это волнение, какое сплетение конкретных чувств,
мыслей и ассоциаций образует то, что мы называем общим и 0б-
разным понятием «угрызений совести», об этом Пушкин не го-
ворит». Замечено это очень верно, и все выводы здесь точны — и
о психологической мотивировке «в общем, тезисном виде», и об
‹общем и образном понятии».
Да, разумеется, Пушкин не только обозначает и называет.
Он охватывает явление. Описывая переживания Германна слова-
ми «волнуется», «угрызения совести», творец «Пиковой дамы»
самим уже выбором именно этих определений сохраняет реальную
многосложность внутреннего состояния, нисколько ее не усекая;
онределения очень широки, они допускают, могут иметь за собой
самое разнообразное сплетение мыслей и чуветв. Лаконизм пуш-
кинской прозы полон громадного внутреннего напряжения. Но не-
посредственно даны нам именно определения, общие и образные
понятия. И самое богатство жизненных явлений они как бы пред-
ставительствуют, хотя представительствуют так, что его ничуть не
отменяют, напротив, если воспользоваться выражением Н. Берков-
ского, исследователя более позднего, «наводят» на него.
Лермонтовский Печорин, анализируя свое чувство с предель-
ным самопроникновением и откровенностью, может сказать о нем
так: «...TO было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение,
и злоба...» Многосложность душевного состояния здесь разверты-
вается, однако оно все-таки подводится самим его обладателем
и для себя под известные обозначения, последние лишь склады-
ваются, соединяются друг с другом и так приоткрывают нам ка-
кую-то неповторимость проявлений этого душевного мира.
Примерно так же, когда в «Былом и думах» вводится мучи-
тельнейшее объяснение Герцена с женой, то говорится о «порывах
мести, ревности, оскорбленного самолюбия»; затем «вид бесконеч-
ного страдания, немой боли осадил бродившие страсти», герою
«стало жаль» жену. Все используемые характеристики, вне и по-
мимо искусства сложившиеся, еще остаются для художника до-
статочными при передаче сложнейнего, драматичнейшего, живого
' Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1979, с. 222.
30
для него навсегда, во всех единственных своих подробностях мо-
мента его собственной жизни. В глазах самого Герцена они ни-
сколько не обедняют и уж тем более не искажают его душевного
состояния.
Тургенев в Елене из «Накануне» отметил «что-то нервическее,
электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом, что-то
такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных».
Писателю понадобились уже здесь не только многие слова, но,
между прочим, и такие, которые в приложении к душевному миру
человека еще никак не были освящены опытом внехудожеетвен-
ным. Тургенев выражал эти новые характеристики прилагатель-
ными, а взамен существительного, к которому они относятся, ставил
«что-то». Но и это ие могло побудить его перейти тут от опре-
делений к картинам. И самое это «что-то нервическое, электриче-
ское, что-то порывистое и торопливое» Тургенев находил «в. выра-
жении лица», которое в главных его чертах уверенно определял
как «внимательное и немного пугливое», «во взоре», который рещи-
тельно назван «ясным, но изменчивым», «в голосе, тихом и неров-
ном», «в улыбке, как будто напряженной» (в последнем случае
Тургенев не настаивает на именно этом обозначении улыбки, но
сомнения в самом принципе подобных определений здесь нет).
В «Отцах и детях», когда Базаров разговаривает с Одинцо-
вой, мы можем прочесть: «Так выражалась Анна Сергеевна, и
так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду.
Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами того не
знали, а автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая, как
будто они совершенно поверили друг другу».
Тургенев подчеркнуто не берется охарактеризовать «от себя»,
привести к обозначению существо этой ситуации в общении геро-
ев. Однако он не берется и воспроизвести все ее внутреннее дви:
жение и сразу вслед за приведенным выше говорит: «Анна Серге-
евна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Киреа-
новых?» Это «между прочим» здесь прямо отмечает, что автор
не собирается передавать самый процесс общения героев друг
с другом, что он лишь сообщает «от себя», в своем повествовании,
как бы для примера, кое-что из происшедшего разговора.
Когда Литвинов в «Дыме» после долгой разлуки с Ириной
«в первый раз прямо и пристально посмотрел на нее», «он опять
узнал черты, когда-то столь дорогие, и те глубокие глаза с их
необычайными ресницами, и родинку на щеке, и особый склад
волос надо лбом, и привычку как-то мило н забавно кривить губы
и чуть-чуть вздрагивать бровями, все, все узнал он...».
Тут на наших глазах герою в женщине, которую он когда-то
любил и которую ему суждено теперь полюбить вновь, предстают
давно известные ему единственные черты. Перед нами — эта встре-
ча вот этих людей в неповторимых для них обстоятельствах.
Но в этом единственном, неповторимом общении Литвинов воспри-
нимает Ирину не единственно, не неповторимо,— он как бы занят
тем, чтобы одну за другой перечислить нам, читателям, черты
31
ее портрета, хотя при этом «склад волос надо лбом» назван лишь
«особым» и никак не определенней, а о привычке героини говорит-
ся, что Ирина «как-то мило и забавно» кривила губы.
Понятие «радость» или «счастье» оставались для Тургенева
еще настолько неразложимыми и, в сущности, неизобразимыми,
что, когда ему надо было в «Накануне» передать особую радость
Берсенева, то он сделал это, сказав, что в голосе героя «слыша-
лась радость человека, который сознает, что ему удается высказы-
ваться перед другим, дорогим ему человеком».
Тургенев, не колеблясь, дает «от себя», в изложении, лишь
кое-где перебиваемом прямым воспроизведением отдельных си-
туаций (тоже как бы к примеру), историю нескольких поколений
рода Лаврецких, а прошлое генерала Ратмирова в «Дыме» вводит
одними авторскими определениями.
И о том, в какой мере не только оправдан еще в глазах Турге-
нева, но и плодотворно действен мог быть его принцип прямых
авторских характеристик, говорит хотя бы то, что как раз «Дво-
рянское гнездо», где писатель этих прямых характеристик нисколь-
ко не избегает, принадлежит к лучшим романам русской лите-
ратуры.
Однако и Тургенев в романах пореформенного зремени уже
не решался прибегать к развернутым авторским характеристикам
в такой степени, как это было (и с громадным результатом) в
«Дворянском гнезде». В «Дыме», например, предыстория отноше-
ний Литвинова с Ириной предстанет перед нами не столько в
изложении автора, сколько в картинах их общения друг с другом
тогда, в Москве.
Уже во втором томе «Мертвых душ» Чернышевский отмечал
многие сцены, «которые приводят в восторг своим художествен-
ным достоинством, и, что еще важнее, правдивостью и силою бла-
городного негодования». Тут же Чернышевский говорил, что Го-
голь здесь, во втором томе «Мертвых душ», был силен как худож-
ник, «несмотря на то, что как мыслитель мог заблуждаться»'.
Самая подобная постановка вопроса в разговоре о русском
писателе была совершенно нова. Вызвало ее, на наш взгляд, меж-
ду прочим, и то, что явления жизни, уже врывавшиеся во второй
том гоголевской поэмы, не всегда и не во всем могли быть охваче-
ны в старых формах мысли, вступали в противоречие с их, этих
старых форм мысли, общественно-исторической природой и наибо-
лее адекватно своей сущности выражались в живых сценах, к ко-
торым и привлекает специальное внимание Чернышевский.
Едва ли не в каждой из пьес Островского конфликт возникает,
формируется внутри воспроизводимых бытовых ситуаций, в самих
этих изображаемых ситуациях. Поэтому Островский мог вновь и
вновь обращаться к тому же быту. И самому драматургу откры-
вается в характерах нечто неожиданное, не предусмотренное тра-
диционно возможными определениями и разграничениями людей.
! Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1947, т. Ш, с. 13.
32
«Вот высота, до которой доходит наша народная жизнь в сво-
ем развитии, но до которой в литературе нашей умели поднимать-
ся весьма немногие, и никто не умел на ней так хорошо держать-
ся, как Островский. Он почувствовал, что не отвлеченные веро-
вания, а жизненные факты управляют человеком, что не образ
мыслей, не принципы, а натура нужна для образования и прояв-
ления крепкого характера, и он умел создать такое лицо, которое
служит представителем великой народной идеи, не нося великих
идей ни на языке, ни в голове, самоотверженно идет до конца в
неровной борьбе и гибнет, вовсе не обрекая себя на высокое само-
отвержение»!,— писал Добролюбов по поводу «Грозы», подчерки:
вая, что Островский почувствовал в «жизненных фактах» силу,
которая управляет человеком, и старался представить эти «жиз-
ненные факты» с возможной полнотой и конкретностью.
Еще в первой своей статье об Островском, в «Темном царстве»,
Добролюбов заявил: «По нашему... мнению, для художественного
произведения годятся всякие сюжеты, как бы они ни были случайны,
и в таких сюжетах нужно для естественности жертвовать даже
отвлеченною логичностью, в полной уверенности, что жизнь, как
и природа, имеет свою логику и что эта логика, может быть, ока-
жется гораздо лучше той, какую мы ей часто навязываем...»? Ло-
гика самой жизни во всей ее конкретности и прихотливости явно
начинала предпочитаться всякой иной логике. Сам Добролюбов
вполне сознавал, как это было ново, и тут же добавлял: «Вопрос
этот, впрочем, слишком еще нов...»3. В другом случае, в статье
о «Грозе», критик говорил, что искусство отнюдь не ‘всегда следует
за открытиями других типов мышления, а иногда, как это было
с Шекспиром, само, своими силами подымает всю духовную
жизнь общества на новую высоту.
Так даже убежденнейшие просветители не только улавливали
коренные сдвиги в художественном сознании, а тем самым и во
всей духовной деятельности эпохи, но и, под воздействием этих
перемен, сами все решительней и все дальше уходили от просве-
тительства, принадлежащего как целостное явление времени борь-
бы против крепостного права, эпохе иерархической определенности
и разграниченности жизни.
Толстой уже в самом начале своего писательского пути часто
не мог обнаружить соответствия действительной сложности но-
вых условий, человеческих характеров даже в таких как будто
неподвластных времени определениях людей, как устоявшееся
обозначение их добрыми, умными, глупыми, последовательными
ит. п. Даже характеристики такого рода не могли уже удовлетво-
рить, устроить его. И Толстой говорил, что проникнуть в человека
через какие бы то ни было характеристики-определения вообще
нельзя, а можно и нужно воспроизвести впечатление, производи-
' Добролюбов Н. А. Собр. соч. В 9-ти т. М.— Л., 1963, т, 6, с. 352.
? Там же, т, 6, с. 28.
3 Там же.
3 Заказ № 1409 33
мое этим человеком на другого человека, то есть уловить изобра-
жением процесс общения их друг с другом, между собой. Лишь
схватывая это взаимообщение людей, возможно было, по Толсто-
му, постичь их. Так утверждалась особая роль картин жизни.
Когда, еще в 50-х годах, Толстому потребовалось установить,
что Такое храбрость, стойкость, в ком они проявляются, он сел
писать рассказ, где стремился охватить особенности поведения
разных людей на войне. И хотя в «Набеге», одном из первых тол-
стовских произведений, есть еще, пожалуй, не столько картины,
непосредственно воспроизводящие поступки и ощущения геровв,
сколько рассуждения на их счет, показательно для Толстого и его
эпохи, что вопрос о существе такого, казалось бы, давно известного
явления, как храбрость, стойкость, решается заново, и решается
не в трактате, не в статье, а в рассказе.
В 1856 году Толстой записывал в дневнике (26 мая): «Часто
мужика за нечестный поступок сразу называешь мерзавцем, как
будто название, присвоенное людям, поступающим дурно, объяс-
няет его поступок; тогда как нашего брата за такой же поступок
называешь жалким, слабым...
Причины увлечения к злу нашего брата, — продолжал Тол-
стой, — мы имеем средства объяснять, поставив себя на его место,
тогда как нравственная жизнь мужика слишком далека от нас и
неизвестна для того, чтобы мы могли подвести извинительные при-
чины, ежели бы даже и хотели».
Все возможные способы прямо определить человека скрывали
для Толстого его, этого человека, действительную внутреннюю
сложность. Он считал необходимым для того, чтобы постичь че-
ловека, поставить себя на его место. И сумел совсем с новой сто-
роны и с новой силой открыть крестьянские характеры, задавшись
целью, по знаменитому выражению Чернышевского, «переселять-
ся в душу поселянина».
Первым критикам Толстого толстовские подробности, его при-
стальность в воспроизведении жизни, передача чуть ли не всего
ее разнообразия в живых картинах казались бессодержательным
излишеством, ненужным художническим избытком. Широко изве-
CTHO, что так воспринимали поначалу даже «Войну и мир»— и да-
же Тургенев.
Но шло время, и вместе с ним Толстой убеждал своих совре-
менников, что именно картины жизни и есть его мысль о ней —
новая по структуре, потому что нова она была и по всему своему
существу.
В педагогической статье начала 60-х годов «Кому у кого учить-
ся писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских
ребят?» Толстой говорил о «красоте выражения жизни в слове»
и радовался, когда крестьянские ребята «в первый раз почувство-
вали прелесть запечатления словом художественной подробности».
А пятнадцать лет спустя безвестный рецензент опубликованных
к тому времени лишь первых частей «Анны Карениной» признавал
в газете «Новости» (1875, 5 мая, № 134), что «нельзя передать эти
34
сцены в сжатом виде», хотя и не умел еще объяснить, почему это
так. О заключительных главах седьмой части «Анны Карениной»
в рецензии газеты «Голос» (1877, № 104) говорилось, что «содер-
жание этих удивительных страниц... непербдаваемо. Событий здесь
нет; весь интерес в том невообразимом мастерстве, с которым
автор расстилает перед вами эту сеть многосторонних, разноречи-
вых, тонких, как паутина, острых, как нож, порою чуть не ребяче-
ских, всегда неумолимо ядовитых душевных ощущений, которые
роковыми нитями своими оплетают мысль и волю несчастной жен-
щины и не оставляют ей иного выхода, как смерть...». Рецензент
«Голоса», как очевидно из приведенной цитаты, не обладал слиш-
ком тонким вкусом (06 этом достаточно свидетельствуют его
сравнения, вся его «образность»), источник силы толстовских изо-
бражений он определял привычным понятием «мастерство». Но и
он уже видел, что все воспроизводимое Толстым не может быть
передано иначе, что самое это воспроизведение во всем своем бо-
гатстве содержательно. И в другом случае этот же критик отва-
жился даже сказать, что «в художественных творениях гр. Л. Тол-
стого, трезвых, жизненных и правдивых, как сама реальность жиз-
ни, новый Лессинг мог бы, несомненно, отыскать законы искомой
эстетической теории, пригодной для наших дней...» («Голос», 1877,
13 января, № 13).
Толстой считал себя обязанным научить людей «полюблять
жизнь» и решительно заявлял, что «сцепление» всего в произве-
дении искусства «составлено не мыслью... а чем-то другим, и вы-
разить основу этого сцепления непосредственно словами никак
нельзя, а можно только посредственно — словами описывая обра-
зы, действия, положения». В знаменитом толстовском определении
искусства в трактате «Что такое искусство?» мысль не упомянута
никак. И любимица толстовская — Наташа, по словам Пьера,
«не удостаивает быть умной», именно в этом возвышаясь над
«гордостью ума» князя Андрея.
Можно, разумеется, как то часто и делается, усматривать во
всех таких высказываниях и художественных решениях Толстого
лишь извечное патриархальное, в лучшем случае — патриархально-
крестьянское, недоверие ко всякому теоретическому сознанию.
В действительности за этим стояла во всей своей громадности ис-
торическая эпоха, которая «переворотила» всю привычную си-
стему представлений и понятий, обнаружила их разрыв со сдви-
нувшейся жизнью, широко открытыми глазами вглядывалась во
все заново, не признавая и не принимая никаких прежних опреде-
лений и обозначений, нуждаясь прежде всего в том, чтобы уви-
деть все, как оно есть, во всей конкретности и многообразии.
Пока марксизм не стал фактом русской действительности, рус-
ской общественной мысли (это, как указывал В. И. Ленин, про-
изошло только в 90-х годах), а предшествовавшие ему даже са-
мые передовые общественные теории все меньше могли справиться
с быстро менявшейся и усложнявшейся пореформенной реаль-
ностью, искусство вообще, литература в частности, утверждаясь
3* 35
в собственной своей роли, получили в ряду форм общественного
сознания значимость особую, исключительную, небывалую. Зер-
калом всей эпохи первой русской революции стал, по ленинскому
определению, великий художник — Толстой.
Как и всякий живой процесс, самоутверждение литературы
совершалось не без противоречий. Оправданное недоверие к яв-
но исчерпавшим себя теориям подчас влекло за собой противо-
поставление литературы теоретической мысли вообще.
Не случайно бесконечно далекий от апологии патриархально-
сти и вообще столь не похожий на Толстого Чехов с не меньшей
решительностью, чем Толстой, категорически отвергал все извест-
ные ему теоретические программы, в которых усматривал лишь
«фирму и ярлык», и отстаивал в себе, в противовес им, художни-
ка, «свободного художника». Борьба против «фирмы и ярлыка»,
стала у Чехова немаловажной темой. В этих чеховских представ-
лениях и художническом действии тоже были и самосознание
времени, и новое самоосознание искусства (не свободные и здесь
от противоречий).
И Щедрин, все последовательней — от «Истории одного горо-
да» через «Благонамеренные речи» к «Мелочам жизни» и «Поше-
хонской старине», — отказываясь от изначального просветитель-
ского разграничения всех жизненных фактов на разумные и
неразумные, «призрачные» и «непризрачные», переходил к присталь-
ному анализу изображением, уже без сковывавших просветитель-
ских предпосылок, пестроты и мелочей действительности в беско-
нечном их разнообразии.
Роман Достоевского один из его исследователей, Б. М. Эн-
гельгардт, назвал в свое время «романом об идее» и верно гово-
pun, что у Достоевского идеи стали предметом изображения, их
жизнь в человеке стала складывать сюжет.
Но знаменательно, что, безгранично развертывая в изобра-
жении действительности свои собственные внутренние ресурсы, ли-
тература как раз и способствовала назревавшему взлету теорети-
ческой мысли в России на ступень марксизма. Ленин в «Что де-
лать?», ведя речь о путях и возможностях революционной теории
в России, не напрасно ссылался на мировое значение, приобре-
таемое русской литературой.
Об искусстве Толстого Ленин говорил как о «срывании всех
и всяческих масок». Обычно эти ленинские слова относят только
к толстовскому обличению, отмечая в них оценку остроты и рез-
кости толстовской критики существующего. Это безусловно спра-
ведливо. Но ленинское определение и тут глубже и шире, оно до-
ходит до самого корня. Значение ленинских статей о Толстом
обусловлено прежде всего тем, что Ленин открыл решающие осо-
бенности художественного мышления автора «Войны и мира» и
«Воскресения» и нашел в них общественно-историческое содержа-
ние. Формула «срывание всех и всяческих масок» тоже прямо ука-
зывает, даже сама по себе, на одну из важнейших исторически
характерных черт всего художнического видения Толстого.
36
Толстой срывал именно все и всяческие маски. Не только те,
за которыми сознательно и злоумышленно скрывалось истинное
существо обстоятельств, отношений, действий, поступков. Но так-
же и те, что прикрывали это существо невольно, превратившись
в маски лишь в силу несоответствия начавшему быстро меняться,
«переворотившемуся» с крушением крепостного строя внутреннему
смыслу явлений.
Когда Анна думает об Алексее Александровиче: «Они говорят:
религиозный, нравственный, честный, умный человек, но они не
видят, что я видела»,— то это вовсе не значит, что Каренин здесь
обвиняется в лицемерии, что он сознательно носит некую личину.
Отнюдь нет. Но старый склад жизни исторически исчерпал себя.
Все, что принято было понимать под религиозностью, нравствен-
ностью, честностью, умом, стало одной лишь формой, внутренне
уже мертвой и пустой. И потому то, что видела Анна в Каренине,
решительно и во всем противостоит любой характеристике, кото-
рая может быть дана Алексею Александровичу в принятой и при-
вычной системе понятий, а‘сама Анна то, что видит, не может растол-
ковать. Когда она пытается обозначить то, что знает о Каренине,
она называет его «низким, гадким человеком». Но в других слу-
чаях, противореча этим своим словам-определениям, она говорит
о нем как о человеке добром и мягком. Читателю дано увидеть,
что ни одно из этих определений облика Алексея Александровича
не только не покрывает, но и не открывает. Даже вовсе не будучи
призываема для маскировки, для обмана или самообмана, та CH-
стема понятий, что продолжает существовать, служит именно этим
целям, потому что утверждает незыблемость, неподвижность самой
основы характеристик и оценок, — утверждает, когда в жизни все
едвинулось и «переворотилось».
Толстой освобождается от готовых определений, от сочетания
их друг с другом и, как никто прежде, следит за самим ходом
жизни, за процессом общения человека со всеми другими людьми.
И в этом совершающемся общении люди у Толстого не только все
больше открываются, но и формируются, меняются, снова и снова
преображаются. С. Бочаров в книжке о «Войне и мире» показал,
как, высказывая Пьеру в споре на пароме свое утвердившееся
убеждение в бессмысленности всего, князь Андрей самим этим фак-
том «выговаривания», живого общения с другим человеком выво-
дится из состояния безнадежности и тупика, в котором только что
пребывал !. Процесс этот не обозначен Толстым в каких-нибудь
затвердевших характеристиках — нам дано увидеть, что здесь про-
ИСХОДИТ.
Ю. Олеша был прав, соглашаясь, что Толстой писал так, «как
будто до него никто не писал, как будто он пишет впервые»?
о том, что еще не имеет готовых характеристик, впервые осваива-
ется. В самом этом новом способе передавать жизнь уже было
' Бочаров С. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., 1963, с. 73—74.
? Олеша Ю. Избр. соч. М., 1956, с. 453.
37
новое существо новой действительности. И от исторической науки
Толстой безоговорочно требовал «знания всех подробностей жиз-
ни», требовал «много и много написать, чтобы вполне мы поняли
одного человека» (запись от 5 апреля 1870 года в записной книж-
ке), «весь интерес, все значение искусства — поэзии» находил в
возможности уловить изображением «внутреннюю жизнь» каждого
отдельного человека» (дневниковая запись 26 сентября 1902 года).
Уже в «Рубке леса», приводя иногда традиционные, устояв-
шиеся по своему типу оценки людей, Толстой тут же отмечал, что
эти характеристики не столько действительно открывают человека,
сколько привычно используются, привычно распространены в том
или ином кругу. Так, о Максимове сказано, что он «был ужасно
богат и ужасно учен, как говорили солдаты», о Чикине — «милый
человек Чикин, как его прозвали солдаты». Нетрудно понять, что
эти оценки прежде всего показывают отсутствие еще у тех, кто их
принимает, им вверяется, непрерывного и напряженного живого
взаимообщения и взаимообмена с жизнью, с ее подвижностью, из-
менчивостью, текучестью.
Когда в «Анне Карениной» Алексей Александрович, оставшись
без Анны, один, определяет для себя человека, с которым он хо-
тел бы войти в живой человеческий контакт, своего правителя
дел, в понятиях «простой, умный, добрый и нравственный», это
сразу же показывает, что никакая душевная связь, душевная бли-
зость с кем бы то ни было для Алексея Александровича уже окон-
чательно невозможна. В глазах самого Толстого характеристике-
определению поддавались и подлежали, как правило, лишь люди
и душевные состояния малозначимые или не несущие в себе внут-
ренних потенций развития.
Даже понятие «смерть» показалось, видимо, Толстому недопу-
стимым илн, во всяком случае, недостаточным, когда ему надо
было передать уход из жизни молодого существа — Пети Ростова.
И, не прибегая к нему, Толстой дал Денисову увидеть «запачкан-
ное кровью и грязью уже побледневшее лицо Пети».
Приведя какое-нибудь привычное понятие-формулу всерьез,
без разоблачения и «от себя», Толстой нередко тут же спешил ука-
зать, что оно лишь называет явление с многообразным и живым
содержанием. Еще в первом севастопольском рассказе Толстой
говорил: «...эту невозможность (взять Севастополь.— Я. Б.) виде-
ли вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитро сплетен-
ных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ни-
чего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что
называется духом защитников Севастополя». Уже в черновиках
«Войны и мира», как только заходит и здесь речь о «духе вой-
ска», Толстой вводит это понятие снова так: «...вопрос о значении
того, что называют духом войска...»
В привычные, обиходно-утвердившиеся определения даже са-
мых, казалось бы, не меняющихся в ходе истории человеческих
состояний, выражений лиц Толстой включал неожиданные, как
будто неуместные здесь, но подсказанные временем слова. И при-
38
вычные отвлеченные характеристики становились конкретным,
живым выражением новой и особой поры. Когда в «Анне Каре-
ниной» говорится о «современно-железнодорожной самодовольной
озабоченности» или о «петербургски-свежем лице» Каренина, то
сразу же обнажается присущая именно теперь и именно людям
Петербурга — самого делового города и бюрократического центра
России — мера и форма человеческой «свежести». В как будто
всегда неизменных, всем эпохам свойственных «благородных по-
рывах юности» Толстой обнаруживал особый оттенок, и порывы
эти уже видятся в трилогии, видятся очень неожиданно и совсем
непривычно —«благородно-самодовольными». Там же такое тра-
диционное в характеристике человеческих состояний, уже почти
ничего не значащее «приятное расположение» при толстовском
вглядывании в то, что есть вот сейчас, в этих именно людях, ока-
зывается расположением «приятно-слезливым».
Привычные обозначения сами собой падают, рушатся, отсту-
пают. Они больше уже не годятся. На наших глазах живая жизнь
в неисчерпанности и неизведанности того, что она есть, впускается
на страницы книги, и тут она так же выталкивает мертвые услов-
ности, как это совершалось перед Толстым в реальном ходе дви-
жения истории.
Да, именно в эпоху Толстого могли и должны были возникнуть
такие «несравненные картины русской жизни», какие сложились
в «Казаках», в «Войне и мире», в «Анне Карениной». И в эту эпоху
именно они могли стать наиболее полным выражением времени.
Возникая из времени и в его цепи, картины жизни в искусстве,
в свою очередь, становились немаловажным фактором развития
общественного самосознания. Здесь по-своему приходили в дей-
ствие безграничные духовные ресурсы человечества. Не одни лишь
познавательные. В искусстве выражалось и все нарастающее
стремление к цельности и целостности во внутреннем формиро-
вании каждого из людей, к полноте и гармонии утверждения себя
человеком в мире.
В поэтическом стиле все в самом деле проявляет, все несет в
себе черты этого видения действительности, а в самом этом виде-
нии говорит история. Тут ее можно и следует искать. Картины
жизни в литературе ХХ столетия, со своей стороны, свидетель-
ствуют об этом достаточно наглядно.
ЭНЕРГИЯ ОБРАЗА
Как отмечал уже Гегель, образ представляет собой «замкну-
тую и тем самым самостоятельную целостность», в то же время
участвуя в формировании некоей определенной художественной
системы.
Перефразируя известное положение А. Веселовского об эпи-
тете, можно сказать, что история образа есть краткое выражение
39
истории всей литературы. Попытаемся же показать, как несут
даже отдельные образы Пушкина, Толстого, Чехова неповтори-
мость «способов» овладения миром у каждого из этих творцов,
как в пути литературы от Пушкина через Толстого к Чехову об-
наруживает себя бесконечная внутренняя подвижность, неисчер-
паемая гибкость самой природы образа.
Вспомним описание приближающегося бурана в «Капитанской
дочке». Сначала мы видим «печальные пустыни, пересеченные хол-
мами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось».
Затем ямщик указал — и Гринев увидел «в самом деле на краю
неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный
холмик». Но далее сказано, что «ветер завыл» и «выл с такой
свирепой выразительностью, что казался одушевленным»: зритель-
ный образ сменяется звуковым. Герой улавливает признаки бури
сперва зрением, потом слухом. И вот перед Гриневым предстал
Пугачев. Появление «вожатого» предваряется описанием бурана.
Однако и тут никаких сращений не образуется, все остается на
своем месте. И реальное существо происходящего всякий раз от-
делено от гриневского взгляда, гриневского восприятия: прямо
говорится, что принятое за холмик есть белое облачко, а одушев-
ленным казался ветер...
В человеке и в мире, его окружающем, — всюду сохраняются
некие нерушимые границы. У Пушкина как бы создается и утверж-
дается предвечно сложившаяся иерархия, «гармоническая правиль-
ность распределения... всех предметов» (по известным словам
Толстого).
Именно Толстой оценил пушкинское равновесие «предметов»
неизмеримо высоко. Но ведь у него самого в «Войне и мире»
«с графом Безуховым сделался шестой удар» «в то время, как
у Ростовых танцевали шестой англез»; утро, приносящее Пете
Ростову смерть, Пьеру приносит освобождение из плена... Здесь
соединяется, сводится столь одно с другим внутренне не связан-
ное, что сама собой напрашивается мысль: прежняя целостная
картина мира переставала, очевидно, отвечать новому его состоя-
нию — и Толстой, ничем не облегчая задачи, брался создать такую
картину заново, из всей разнохарактерности, разнородности совер-
шающегося. Уже в первых повестях —«Детство» и «Отрочество»—
принимался Толстой устанавливать свои «сопряжения» (если вос-
пользоваться его же понятием).
Вот на самой грани детства и отрочества Николенька попада-
ет в грозу. «Тревожные чувства тоски и страха,— повествует
взрослый уже Иртеньев,— увеличивались во мне вместе с усиле-
нием грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия,
обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти до-
шли До такой степени, что, продолжись это состояние еще чет-
верть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время
из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе,
какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом,
качающейся, ничем не покрытой, обстриженной головой, кривыми
40
безмускульными ногами и с какой-то красной, глянцевитой куль-
тяпкой вместо руки, которую он сует прямо в бричку.
«Ба-а-шка! убо-го-му Христа ради»,— звучит болезненный го-
лос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс».
Все впечатления Николеньки от подступающей грозы — зри-
тельные, слуховые, все как есть — оказываются совершенно не-
отделимы друг от друга. Сплетаются в одно нарастание грозы
и усиление в герое «тревожных чувств тоски и страха». Облик ни-
щего довершает картину.
«Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских
и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем
не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим со-
бою»,— подводил Толстой в «Воскресении» итог своим наблюде-
ниям над людьми. «...Не похож на себя, оставаясь все между тем
одним и самим собою» или «..всякую минуту другой и все
TOT же»— это и есть собственно толстовское восприятие человека,
одно из характернейших проявлений толстовской образности.
Потому-то и может Нехлюдов в последнем толстовском романе
полюбить Катюшу — и откупиться от нее сторублевкой, войти со-
вершенно в барскую жизнь — и затем от одной только встречи
с Масловой в суде, не будучи даже ею узнан, начать свой трудный
путь воскресения. При посещении старой усадьбы в Панове «во-
ображение возобновило перед ним впечатления того счастливого
лета, которое он провел здесь невинным юношей, и он почувство-
вал себя теперь таким, каким он был не только тогда, но и во все
лучшие минуты своей жизни». Теперь — как во все эти лучшие
минуты разом.
Толстой-таки достиг, казалось бы, недостижимого и невозмож-
ного. Он словно бы вовсе стер в своих произведениях грань между
художественным творчеством и жизнетворением.
Считается, что в поведении персонажей художественного про-
изведения все должно быть так обусловлено и замотивировано,
чтобы история их виделась непреложной во всех ее ходах вплоть
до завершения. Напомним, что это ведь сама Татьяна открыла
Пушкину неизбежность своего замужества.
Но вот Долли в «Анне Карениной» приезжает в Воздвижен-
ское и слышит от Анны: «Я непростительно счастлива». А при про-
щании — совсем другие слова: «Я именно несчастна. Если кто
несчастен, так это я». Между произнесением Анной первой из при-
веденных фраз и потом двух других проходят немногие часы, в
продолжение их ничего не случилось.
Встретившись с подобным несоответствием друг другу раз-
ных состояний или высказываний одного и того же лица в летопи-
си, ее исследователь, И. П. Еремин, показал, что летописец вовсе
и не брался как-нибудь их связывать и объяснять, а просто поме-
щал одно вслед за другим. И так это сохранялось очень долго.
Другой исследователь, Л. Я. Гинзбург, обнаруживает этот же, соб-
41
ственно, подход, этот же принцип и в знаменитых мемуарах
Сен-Симона. Но такое у Толстого?!
Нет, у Толстого, разумеется, совсем другое. Тут два как буд-
то начисто исключающих друг друга признания Анны теснейше,
напряженнейше «сцеплены» (опять слово Толстого) между собой.
Именно «сцепленностью» своей они как раз показывают сложность
отношений (сейчас, при встрече) — Анны и Долли. Сложность, не
вполне осознанную ими самими. И так «выстраивается» трагиче-
ская линия жизни решительной, самоопределяющейся личности.
Вспомним, как пронзительно сказала об Анне М. Цветаева: у нее
«от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь
на рельсы».
Многое, слишком многое таится за признаниями Анны. Столь
многое, что иначе, как одним острым, резким соотнесением, оно,
пожалуй что, и у Толстого «взято» быть не могло.
А как напряженно сведены в «Анне Карениной» фигуры мужи-
ков, возникающих перед главными героями романа!
Первое появление Анны на страницах книги сопровождается
гибелью неизвестного мужика под колесами поезда. Потом ей
многократно видится таинственный и страшный мужичок, что-то
делающий над железом. Это же становится и последним видением
Анны за мгновение до гибели. Левина же ждет в итоге его пути
(хотя и в некотором от него отдалении) иной мужик — Платон
Фоканыч, тоже символический, но имеющий и имя, и свой опреде-
ленный нравственный кодекс. Он-то и спасает, вызволяет из тупи-
ка второго главного героя Толстого, Самим различием в обрисовке
«мужика Анны» и «мужика Левина» указаны полюсы, между ко-
торыми разыгрываются, на взгляд Толстого, человеческие драмы.
Достаточно известно, что ко времени Чехова многое и многое
было литературой совершенно освоено. Когда в «Дуэли» Лаевский
стал тяготиться Надеждой Федоровной и почувствовал раздра-
жение от ее белой, открытой шеи и завитушек волос на затылке,
Чехову пришлось сразу же сослаться на Толстого: Лаевский тотчас
«вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не
нравились прежде всего его уши».
Живым и непосредственным отношениям литературы с реаль-
ностью как будто наступил конец. И все-таки выход нашелся.
В «Даме с собачкой» уже самое заглавие «смотрит» сразу
и одновременно во многие стороны. В Анне Сергеевне оно под-
черкнуто отмечает ее всяческую поначалу невыявленность. В Гу-
рове — его отношение к Анне Сергеевне как к очередному увле-
чению. В нем же, в этом заглавии, — вообще привычный, принятый,
господствующий взгляд на человека только извне, никак не боль-
ше. Но тут же еще и ирония — над несоответствием подобного
взгляда действительному значению человека, сущности отношений,
которые разыграются затем перед нами.
«Пострадал человек — плохо; пострадал невинно — еще хуже;
но пострадал невинно, будучи при этом виноватым и сам не по-
42
нимая своей вины,— это как-то особенно действует. За этим вста-
ет некая особенная глубина, простор, отсутствие дна...»!— очень
точно говорит о раннем и коротеньком чеховском «Злоумышлен-
нике» автор статьи о Чехове В. И. Гусев. К процитированному
хочется добавить, что эта многомерная и многосложная ситуация
поразительнейшим образом представлена опять-таки уже в загла-
вии рассказа, вмещена, спрессована в нем. И само слово-заглавие
вполне открыло себя всем этим и иным еще смыслам, впитало их
в себя. Интонация, с которой оно должно быть произнесено при
чтении вслух, призвана как-то обнять, охватить их все.
А. П. Чудаков в содержательной книге «Поэтика Чехова» убе-
дительно показал, как Чехов умеет обратить внимание читателя
на то, что обычно считается несущественным, случайным. В рас-
сказе «Несчастье» героиня, испытывающая при виде мужа всяче-
ское раздражение, вдруг отмечает взглядом... ниточки на его
носках. Когда в Художественном театре ставили «Чайку», Чехов
сетовал, что прошли мимо тригоаринских удочек и немодных брюк.
Тому же Художественному настойчиво указывал, что дядя Ваня,
хоть и живет в деревне, носит красивые галстуки. Нужно ли го-
ворить, что у Чехова все это не могло появиться вместо главного,
не было попыткой, ухишрением обойтись взамен его чем-то дру-
гим, меньшим, какими-нибудь диковинками и изысками?
Привыкнув находить в значительных художественных создани-
ях обязательно глубину текста, мы до сих пор чуть не всегда ищем
и у Чехова более или менее прямой ход от любой детали и чер-
точки к своеобразию характера или ситуации. Ничего такого в
тригоринских удочках и брюках или в галстуках Войницкого нет,
но как раз эти «случайности» открывают в чеховских людях что-то
подспудное, что никак иначе себя не выказывает.
Читая или слушая, как Маша в «Трех сестрах» повторяет:
«Златая цепь на дубе том», а Астров в финале «Дяди Вани» гово-
рит о «жарище в Африке», мы готовы подчас обличать супруже-
ские цепи, опутывающие героиню, или рассуждать о широте инте-
ресов провинциального врача. Но суть дела-то в том, что, обра-
тившись к не привлекавшим прежде внимания подробностям ре-
чи, поведения, поступкам своих персонажей, Чехов именно в них
обнаруживал подводное течение внутренней жизни.
Чехова вовсе не надо читать наоборот, вопреки тому, что на-
писано. Но у него действительно есть подтекст, то есть нечто, пря-
мой связи с тем, что непосредетвенно представлено, не имеющее.
Когда в «Скучной истории», уже на грани смерти, ученый-ме-
дик подводит итог всему своему земному бытию, он делает это
самыми стертыми, самыми расхожими, «мундирными» фразами:
«Читаю я по-прежнему (лекции.— Я. Б.) не худо; как и прежде,
я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух ча-
сов»; «Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде
' Гусев Вл. Испытание веком. Сб. литературно-критических статей. М.,
1982, с. 19.
43
всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в послед-
нее время» и т. п. В каждой из этих фраз, во всех них вместе жи-
вую душу прямо усмотреть невозможно. Но она есть — и потому
написана вся повесть. В драматическом несоответствии слов Ни-
колая Степановича тому, что им в данном случае суждено выра-
зить,— едва ли не самое показательное и драматическое в состоя-
нии уходящего из жизни профессора.
«Ждали, что приедет муж»,— сообщается в «Даме с собач-
кой». И какая бездна страшной противоестественности всякого
рода таится в том, что оба — и Анна Сергеевна, и Гуров — по-
сле всего, что было, есть между ними, ждали; что человек, кото-
рого ждали, назван вот так за них обоих, от них обоих — мужем!..
Так, когда все дороги были вроде бы уже пройдены, Чехов
открыл для дальнейшей работы образа совсем новые возмож-
HOCTH.
«ХУДОЖНИЦКАЯ ДЕРЗОСТЬ»
«Анна Каренина» была первым русским романом, на появле-
ние которого главами в журнальной публикации не уставали от-
кликаться даже провинциальные газеты. Знакомые с Толстым
литераторы по ходу печатания «Анны Карениной» обращались
и непосредственно к ее автору со словами восхищения, иногда
с вопросом или сомнением.
В марте 1877 года в очередной книжке «Русского вестника»
Фет прочел пятнадцать глав предпоследней, седьмой части рома-
на. Среди других там были и страницы, повествующие о родах
Кити. Фет отозвался на них в письме к Толстому. Он написал:
«Но какая художницкая дерзость — описание родов. Ведь этого
никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки закри-
чат об реализме Флобера, а тут все идеально. Я так и подпрыг-
нул, когда дочитал до двух дыр, в мир духовный, в нирвану. Эти
два видимых и вечно таинственных окна: рождение и смерть».
Фет точно определил, что так поразило его в толстовской кар-
тине,— не прикосновение словом к той сфере нашего бытия, ка-
кой касаться изображением было не принято, но обретенная при
этом высота точки зрения.
Еще в «Войне и мире» увидел и многократно отметил Толстой
связь в человеке его душевных и физических состояний, признал,
как далеко могут последние выводить людей самых различных
за характерный для них, свойственный им вообще-то предел.
О всячески развенчиваемом Наполеоне, например, Толстой в
«Войне и мире» с неожиданным благодушием, с легкой и даже
мягкой иронией сообщает: «Есть в человеке известное послеобе-
денное расположение духа, которое сильнее всех разумных причин
заставляет человека быть довольным и считать всех своими
друзьями. Наполеон находился в этом расположении». Наполеон,
чувствующий себя не менее чем властелином мира, постоянно
играющий эту роль, оказывается совершенно подвластен воздей-
44
ствию только что съеденного обеда и ведет себя вдруг, сам того
не сознавая, для своей роли не слишком естественно, хотя имен-
но естественно для человека, вообще для живого существа.
О Пьере, когда французы вот-вот вступят в Москву, мы чита-
ем: «Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпа-
дало с нравственным. Непривычная, грубая пища, водка, которую
он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное непеременное
белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком
диване без постели, — все это поддерживало Пьера в состоянии
раздражения, близком к помешательству».
Да, физические состояния человека значили в глазах Толстого
уже в пору «Войны и мира» много и ко многому писателя обязы-
вали. И он входил в них, даже если воссоздаваемое их разнообра-
зие угрожало нарушить определенность обрисовываемого харак-
тера.
Впрочем, рискуя, Толстой принимал и, что называется, свои
меры к сохранению характера как целого, как единства. Инте-
ресно, что в «Войне и мире» этим объединяющим началом ста-
новится нередко, особенно для второстепенных персонажей, некий
физический опять же признак. Так, едва ли не прежде всего по-
добный именно признак — короткая губка — сводит воедино все
впечатления о «маленькой княгине» Лизе Болконской. Эта губка
остается, переходя на памятник, и в воспоминание об умершей
женщине. Она, наконец, продолжает жить и отдельно от ее обла-
дательницы, когда той уже нет,— в ее сыне.
Объединяются родами —«породами»— все Болконские, или все
Курагины, или даже Ростовы, хотя, казалось бы, только отличны
друг от друга Наташа и старший ее брат. И многое унаследовал
от своего отца Пьер, никогда с ним не живший.
Меры были и другие. Свободный разлив стихии изображения
Толстой словно бы обводил сеткой выводов-тезисов, призванных
указать, как и где одно с другим должно сойтись. И есть в «Вой-
не и мире» Каратаев, где самая образность включает в себя и
прямые писательские разъяснения и истолкования.
У Каратаева нет индивидуальных черт во внешности, мы не
видим разных его состояний, речь его состоит из пословиц и пого-
ворок, несущих в себе лишь многовековую общую мудрость; за-
вершения, притом насильственного, жизни своей на земле он не
страшится, всегда ко всему готов.
И тут ведь не только Каратаев. Вспомним князя Андрея в
смертный его час. Даже Наташу из эпилогаа& живущую только
детьми и мужем, живущую почти исключительно для них и в этом
именно вполне и окончательно нашедшую себя.
В движении жизни Наташи Толстой видел и совсем другое,
противоположное. Достаточно назвать увлечение ее Анатолем.
когда она помнит и знает одни лишь свои сиюминутные желания,
когда так безоглядно отдается воздействию всяческой лжи и фаль-
ши рядом, вокруг. Но сколь многими причинами объясняет тут
Толстой это единственное, исключительное для Наташи ее состоя-
45
ние! Это и непонятная ей разлука с князем Андреем, и обида,
нанесенная ей его отцом, и непривычность жизни вдали от матери,
и посещение театра, и еще, и еще... Разное и многое должно было
сойтись, чтобы эта девочка смогла, должна была отозваться кра-
савцу Анатолю.
Все иначе в героине «Анны Карениной».
Десятилетие жизни с Алексеем Александровичем, чтимым, ува-
жаемым ею. Любимый сын. Твердо определившийся, ставший при-
вычным, устраивающий ее склад отношений. Спокойная уверен-
ность, что имеет она все, что ей нужно, что вообще возможно
иметь. И — всего лишь несколько пустых, ничего не значащих
светских фраз, которыми обменивается она с Вронским при пер-
вой встрече на вокзале в Москве. С этих мгновений, однако, жизнь
Анны меняется необратимо, бесповоротно.
Мы помним, как совершенно другим, чем прежде, становится
лицо Анны на балу, когда она только начинает танцевать с Врон-
ским. Потом ожидание свидания с ним «зажигает в ней кровь».
Скачка вызывает у нее волнение, с которым она не может спра-
виться. Все чувства ее становятся так напряжены, что она ока-
зывается подвержена даже дуновению воздуха: «Она вздрогнула
и от холода, и от внутреннего ужаса, с новою силою охвативших
ее на чистом воздухе».
Не в одной лишь Анне схватывает теперь Толстой эту интен-
сивность, эту энергию чувственных реакций человека. ‹«...Каково!
Слышно и видно, как трава растет!»— сказал себе Левин, заметив
двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иг-
лы молодой травы». И это человек так всем в себе отвечает лю-
бому дыханию жизни, что ему и в самом деле представляется,
будто он слышит и видит, как «трава растет», хотя, разумеется,
слышать и видеть этого все-таки никак нельзя.
Открывавшиеся сейчас Толстому состояния человека, возмож-
ное влияние их на всю его судьбу побуждали, со своей стороны,
писателя решать, что же такое есть вообще человек и его при-
рода.
Когда Толстой рассказывал о рождении у него замысла «Анны
Карениной», он говорил, что с самого начала перед ним возник
образ женщины, «потерявшей себя, но не виноватой. Очевидно,
с самого начала вопрос о вине и ответственности обретал для него
какой-то новый и по-новому сложный смысл. Эпиграф, который
появился у Толстого сразу же, как только роман начал создавать-
ся, тоже прямо указывал на то, что есть вина, которая не может
быть постигнута и измерена в пределах привычных и обычных
людских понятий, что есть случаи, приводящие нас непосредствен-
но к самым первоосновам человеческого существования.
Анна ведь в самом деле ни в какой из моментов своей жизни
не хотела завязывать никаких отношений с Вронским. Гнала от
себя всячески мысль о самой их возможности. А они все развер-
тывались и развертывались. И вели все дальше к гибельному
концу.
46
Когда сама Анна сравнивает себя в своем чувстве, в своей
страсти к Вронскому с «голодным человеком, которому дали есть»,
то этим она признает невозможность для себя отныне обойтись без
того, что вызвало в ней появление в ее судьбе Вронского. Говоря,
что она не виновата, коли бог создал ее такой, она сознает дей-
ствие в себе же самой силы более могущественной, чем любые ее
решения.
Первые рецензенты «Анны Карениной» подчас с изумлением
отмечали, что, живя уже вместе с Вронским, Анна, собственно,
не знает, чего она от него хочет. Они только забывали, что и сама
Анна чувствует и даже понимает это, но не в силах вести себя
иначе.
Сказав впервые Алексею Александровичу об отношениях своих
с Вронским, Анна беспрестанно повторяет: «Боже мой! Боже мой!»
Тотчас же за этим следует, что «ни «боже», ни «мой» не имели
для нее никакого смысла. Мысль искать своему положению помо-
щи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не
сомневалась в религии, в которой была воспитана... чужда... Она
знала вперед, что помощь религии возможна только под услови-
ем отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни.
Ей не только было тяжело, но она начинала испытывать страх
перед новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием».
«Состояния», с которыми столкнулся, в которые вошел в «Анне
Карениной» Толстой, не давали человеку, даже если он и не сомне-
вался в религии, признать себя вполне подвластным, вполне при-
верженным ей. Сколько бы Анна ни считала себя грешной и ви-
новной, сколько бы ни терзала себя сама, полюбив, она не можег
вернуться к прежнему. Толстой обнаруживает это в «состояниях»
своей героини. И эти «состояния» с неумолимостью требуют раз-
гадывать, что же такое вообще человек, его жизнь, его смерть.
Вот и появляются в «Анне Карениной» сцены рождения и смерти.
Смерть Николая Левина, как она описана Толстым,— это именно
вообще смерть человека. «Смерть»— так называется и сама эта
глава, единственная в романе, имеющая название. А роды — это
тоже появление человека на свет, как оно всегда происходит.
Называя толстовское изображение родов в «Анне Карениной»
«художницкой дерзостью», Фет остро и точно прореагировал на то,
что у Толстого за всем этим стояло: безответный вопрос, согласу-
ется ли самая природа человека с наличными основаниями миро-
устройства. Сколько бы сам Толстой ни отводил этот вопрос в ка-
кое-то более частное и более узкое русло (скажем, совместима ли
со страстью причастность к общей жизни людей или что-нибудь
подобное), пристальность, развернутость того же изображения
смерти или родов говорила сама за себя, сама по себе выказны-
вала, что тут устанавливается и о чем, в сущности, речь.
Флобер помянут был Фетом и отведен как аналог сцене родов
у Толстого тоже отнюдь не всуе. На закрытые ранее для искусст-
ва предметы французский натурализм посягал никак не с мень-
шим напором, чем творец «Анны Карениной». Но именно у Толстого
47
самое изображение, резкое расширение его границ оказыва-
лось неразрывно связанным с вопросами к коренным первоос-
новам бытия. Натуралисты же были, пожалуй, готовы лишь кон-
статировать фатальную несвободу человека от несовершенной
своей природы. Толстой помириться, остановиться на таком не со-
глашался.
Еще в 90-х годах прошлого века, в одной из работ о Толстом
говорилось, что писатель после «Анны Карениной» ушел от психо-
логического анализа и обратился к народным рассказам с их про-
стейшим изложением, чуть не просто перечислением действий, по-
ступков, не надеясь создать в прежнем роде ничего равного сво-
ему роману о женщине, «потерявшей себя, но не виноватой». Ду-
мается, что дело было все-таки не в этом.
Ведь, как можно было заметить из предыдущего, Анна не то
чтобы решает уйти от Каренина, начать другую какую-то жизнь.
Даже напротив — решает-то она многократно иначе. А затем не-
ожиданно для самой себя, вопреки всем собственным предположе-
ниям поступает иначе, чем намеревалась. И действуют тут им`
пульсы самые разные, состояния ее, в рамки одной психологии
никак не укладывающиеся.
«Без реализма, доходящего порой до натурализма, не проник-
нешь в сферу сверхсознательного»,— скажет поздней, опираясь на
собственный художнический опыт, К. С. Станиславский. Вот и
Толстому, очевидно, открывалась известная ограниченность психо-
логического анализа в его возможностях. Потому и стал он искать
и еще что-то помимо него, вступая и на другие пути. «Сверхсо-
знательное» же наука наших дней признает неотъемлемо прису-
щим человеку и станет все чаще пользоваться именно таким по-
нятием.
И примерно тогда же, когда Толстой брался за народные
рассказы, Достоевский уверенно заявлял: «Меня зовут пПсихоло-
гом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю
все глубины души человеческой». Так в этом случае прямо вы-
сказывалось убеждение, что одним психологизмом до «всех глу-
бин души человеческой» не дойти.
Десятилетием раньше Достоевским же, в черновиках к «Бе-
сам», была сделана злая запись о «пищеварительной француз-
ской философии». Имелась, надо думать, в виду философия Про-
свещения. Так писатель восставал против любого потребитель-
ства в подходе к человеку — хотя бы только и в умозрительных
построениях на его счет. Не будет, вероятно, ошибкой заключить,
что и попытка, намерение «взять» другого человека собственным
психологическим анализом имели в глазах Достоевского по мень-
шей мере оттенок «пищеварительности».
Даже в не самом значительном из его созданий — в «Вечном
муже»— очень остро вскрывается у Достоевского совершеннейшая
условность постижения одним сознанием другого. Разглядывая
48
бритву, которой Трусоцкий его чуть не зарезал, Вельчанинов ду-
мает: «Если уж решено, что он стал меня резать нечаянно...— то
вспадала ли ему эта мысль на ум хоть раз прежде, хотя бы только
в виде мечты в злобную минуту?» Вельчанинов приходит к выво-
ду, обнаруживающему тонкость, изощренность его ума и вроде бы
схватывающему действительную сложность душевной жизни Тру-
соцкого: «Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет
убить». И далее: «Не места искать и не для Багаутова он при-
ехал сюда, хотя и искал здесь места, и забегал к Багаутову, и
взбесился, когда тот помер... Он для меня сюда приехал, и при-
ехал с Лизой». Все как будто сходится. Но так это, только если
принять начальный пункт всех рассуждений и строго из него ис-
ходить («если уж решено...»). И охватывается ли подобным обра-
зом действительное содержание испытанного Трусоцким (всего
лишь Трусоцким!), его состояний? Для Достоевского многое и
многое тут было более чем сомнительно.
Преступление Раскольникова словно бы само собой следует
из множества причин — бедности, невозможности продолжать за-
нятия в университете, тесноты каморки, похожей на гроб, жары
и духоты петербургского лета... Достоевский чуть ли не соблаз-
няет нас легкостью, доступностью напрашивающихся объяснений
и мотивировок,— и вот уже Раскольников будет весь понят, весь у
нас в руках,— но совсем не так просто узнать, что на самом: деле
ведет человека. И, произнося-в полицейском участке слева: «Я бед-
ный и больной студент, удрученный бедностью»,— герой лишь
пользуется защитным приспособлением, первым, какое сразу же,
само собой приходит на ум, не затрагивая действительного суще-
ства дела. А писатель как будто забывает на протяжении боль-
шого романа хоть намекнуть на происхождение Раскольникова:
кто он такой — обедневший ‘аристократ или исконный, потомствен-
ный разночинец? И тем самым Достоевский бросает вызов при-
вычной логике психологического анализа.
Да и можно ли говорить о каком-то непреложном развитии,
об обязательных каких-то и как бы само собой разумеющихся
причинно-следственных связях, если в конце «Преступления и на-
казания» мы видим Раскольникова, на наших глазах убившего
двух беззащитных женщин, внутренне нисколько этим не затрону-
тым, готовым и способным к жизни достойной, праведной, и мож-
но считать, что для всего человечества вовсе «не прошли вре-
мена Авраама и стад его»?
Тут нельзя не сказать, что и с самим-то убийством в «Преступ-
лении и наказании» все тоже обстоит несколько неожиданно.
Мы присутствуем при нем, видим, как опускается топор на
одну из жертв, потом на другую. И тут же, на соседних страницах,
когда Раскольников прячется за дверью,— хотим (любой читатель
романа знает это по себе), чтобы он ушел от преследования! Не по-
следнюю роль в этом играет идеологическая природа преступле-
ния, накладывающая особую печать на самое изображение убий-
ства. Кровь тут все-таки льется несколько условным образом,
4 Заказ № 1409 49
и умирают все-таки не вполне живые люди, совсем другой жиз-
ненной, так сказать, наполненности, чем в той же «Анне Карени-
ной». В ином случае наше сострадание Раскольникову не было бы
свободно от привкуса кощунства. Подчас неразвернутость, слов-
но бы нереализованность изобразительных возможностей тоже мо-
жет служить — и еще как! — опорой «художницкой дерзости».
Резко и последовательно противостоит Достоевский принципу
строгой обусловленности человеческого поведения на исходе сво-
его пути — в «Братьях Карамазовых».
Двенадцать независимых и непредвзятых присяжных садятся
здесь решать судьбу Дмитрия Федоровича, обвиняемого в убий-
стве отца своего. И единодушно выносят заключение о безуслов-
ной его виновности и приговаривают в каторгу.
Все основания для такого приговора у них на руках: и нена-
видел отца, и мучительно соперничал с ним за женщину, и много-
кратно грозился убить, да и некому больше тут было совершить
такое дело, и оправдаться обвиняемому нечем, ничего вроде бы
серьезного не может он привести в свою защиту... Никакого дру-
гого приговора просто даже и быть не могло, когда принимаются
в расчет доказательства и логика. Но осужден Дмитрий неспра-
ведливо — отца евоего убил не он. Признать же невиновность стар-
шего из сыновей Федора Павловича сумели только те двое, кото-
рые просто поверили ему. Поверили вопреки всем известному
образу его жизни, несмотря на все прежние собственные его угро-
зы, сошедшиеся обстоятельства... Поверили ему — и в него, ка-
ким бы ни представлялся он всем другим людям, каков бы даже
на самом деле ни был.
Пытаясь предугадать, возьмет или не возьмет жалкий Мочал-
ка-Снегирев деньги после нанесенного ему Дмитрием Карамазо-
вым оскорбления, Алеша и Лиза Хохлакова принимаются анали-
зировать его психологию, его душу. И сами себя останавливают,
почувствовав, что занимаются чем-то недостойным и недопусти-
мым. По Достоевскому, им грозило тут потерять ту особую внут-
реннюю меру, какая выделяет человека из ряда всех других су-
ществ и ставит его на совсем исключительное место в мироздании.
Маркс говорил, что только человек умеет подойти к каждому
животному виду с его мерой. Разве уже это одно не должно
избавить самого человека от потребительского на него взгляда,
от потребительского к нему отношения? Достоевский как раз за
это и стоял, это и отстаивал.
Чехов оценил толстовскую «Крейцерову сонату» чрезвычайно
высоко. По всей видимости, ему представилось здесь существен-
ным, важным стремление старшего его современника уловить,
как общий склад жизни людей доходит до самой естественной,
естественной в прямом и точном смысле этого слова, сферы от-
ношений между ними. Говоря проще, можно сказать, что Толстой
взялся тут посмотреть, как ведут себя друг с другом нынешние
50
мужчина и женщина наедине, когда они никем не контролируе-
мы,— и пришел к выводу, что ложь и фальшь, если они утвер-
дились в общественном устройстве, проникают и сюда, разъедают
и искажают все и здесь.
Но автор «Крейцеровой сонаты» именно доходил и до этой
сферы, идя от общего своего взгляда на существующее миро-
устройство в целом, это целое имел прежде всего в виду. Харак-
тер интимных общений мужчины с женщиной был для него лишь
проявлением, пусть особенно выразительным и глубоким, всеохва-
тывающей беды. Потому некоторые специфические особенности
в подобного рода отношениях оказались у него неточны.
Чехов как медик знал об этой стороне жизни больше и лучше,
чем Толстой. И даже при восхищении своем толстовской повестью
он высказал резкую неудовлетворенность тем, что великий Толстой
не во всем оказался верен накопленным к тому времени естествен-
нонаучным знаниям о человеке.
Можно сказать, что вот и тут, даже тут точка зрения специа-
листа, вооруженного самоновейшими сведениями, оказалась уже,
ограниченней позиции, от всякой специализации совершенно сво-
бодной. И это будет в известной мере справедливо. Да, Чехов не
владел уже так непосредственно целым миром, как Толстой (по-
чему, между прочим, и не писал романов, хотя к этому и стре-
мился), и оттого подробности приобретали у него иной, боль-
ший вес.
Однако есть здесь и другая сторона. В отличие от Толстого,
для Чехова психофизиология человека, если уместно в данном слу-
чае прибегнуть к этому термину, становилась во всем своем объеме
исходным материалом. От нее, из нее шел он к выявлению всего
человека. Потому все подробности и должны были быть тут улов-
лены с точностью предельной, совершеннейтей. Чехову только они
и могли дать о человеке показания.
Никакого не только заданного, но и предварительного, пусть
даже самого гипотетического решения вопроса о том, что есть
человек сейчас, сегодня, он не имел или, верней, себе не позволял.
Если, скажем, Мопассан почти безусловно допускал, что люди
подвержены таинственному влиянию состояний природы, особому
воздействию лунного света или чего-нибудь подобного (в этом
смысле автор «Жизни» и «Лунного света» открыл очень много тон-
кого и существенного), то Чехов начинал свое художественное
изучение как бы с нуля, ничего наперед не заключая и, собствен-
но, даже не предполагая. Он действовал художнически в самом
деле как естествоиспытатель, больше, чем кто бы то ни было из
всех его современников, действительно внося в искусство установки
естественнонаучного исследования.
Достоинство материнского чувства самого по себе, к примеру,
у творца «Анны Карениной» не только не подвергалось сомнению,
но и не становилось ни в малой степени предметом анализа. Во-
прос здесь был лишь в том, совместимо ли человеческое само-
осуществление Анны с сохранением всей меры кровной привязан-
4* 51
ности ее к сыну. В «Трех сестрах» же самая материнская любовь
Наташи сразу вводит вопрос о своей природе: ведь именно ею
терроризирует Наташа весь прозоровский дом.
Это своеобразие Чехова едва ли не прежде всего было отме-
чено и подхвачено в сфере искусства же. Вот как на основе до-
шедших до нас свидетельств описывает театровед сегодня испол-
нение В. И. Качаловым в 1904 году роли чеховского Иванова:
«Качалов находил для Иванова изящную, бесконечно милую улыб-
ку, прирожденную простоту аристократической повадки, но над
всем исказительно вставал темный знак страдания, и приходили
минуты, когда глаза тускнеют, голос становится жестким и крик-
ливым, Движения резкими, мелкими, суетливыми, все лицо пре-
ображается в гримасе мучительной, почти животной боли». Вслед
за Чеховым и вместе с ним великий актер открывал, в чем же вы-
ражается, чем дает о себе знать кризис отношений человека с
идеалом, какие физически ощутимые приметы тут возникают.
Когда поздней, ставя спектакль по чеховским водевилям,
Вс. Мейерхольд выделил в них обморочные состояния персона-
жей, он тоже шел совершенно по чеховскому пути — из психо:
физиологии выходил к атмосфере времени, точней, находил эту
атмосферу вот в этой психофизиологии.
В Лизе Ляликовой в «Случае из практики» симптомы ее бо-
лезни непосредственно ведут к тревогам совести, которую нечем
успокоить. Сам Чехов неоднократно повторял, что в «Черном мо-
нахе» он дал «историю болезни», но ведь Mania grandiosa Kospu-
на, столь медицински достоверная, — это и тоска по свободе от
существования серого и тусклого, по каким-то высоким сверше-
НИЯМ.
В то же время в литераторе Лядовском из «Хороших людей»
человеческая узость виделась писателю укоренившейся во всех
порах его естества, выказывающей себя в любом его жесте или
движении: «..всякий раз казалось... что еще во чреве матери в
его мозгу сидела... его программа». Даже в его походке, жести-
куляции, в манере сбрасывать с папиросы пепел читалась «вся
его программа от а до ижицы, со всей ее шумихой, скукой и поря-
дочностью». У мужа Анны Сергеевны, «дамы с собачкой», при
каждом шаге туловище слегка наклонялось, и так постоянно об-
наруживалось, что лакейство «пропитало» его плоть и кровь и
может быть обнаружено опять же медицински.
Врачу Астрову Чехов поручает сказать, что обывательская
жизнь отравляет его кровь. А Мисаил Полознев в «Моей жизни»
жалуется на «физическую тоску». Все это у Чехова не обычные
метафоры, но выражение глубокой убежденности: в человеке,
именно как в существе высшем, высокоразвитом и высокоорга-
низованном, все сложнейшим и непреложнейшим образом связано,
а «чутье художника стоит иногда мозгов ученого». Потому-то с
такой свободной уверенностью и энергией мог он написать в по-
вести «В овраге», что у волостного старшины и волостного писаря
«даже кожа на лице... была какая-то особенная, мошенническая».
52
И охваченность любовью была для Чехова особым состоянием
всего человеческого существа. С какой остротой, свежестью, жи-
востью воспринимает вроде бы все такое привычное и будничное
Гуров, когда идет на свидание с Анной Сергеевной в «Славян-
ский базар»! И не потому ли даже душок в осетрине он почув-
ствовал первым и поспешил поделиться поначалу хотя бы таким
вот впечатлением с пусть совсем далеким ему человеком, а за-
тем захотел сказать, вопреки всем принятым правилам, уже о
своей любви.
При подобном художническом подходе любое самое частное
наблюдение могло обрести особую резкость и, так сказать, «с ме-
ста» повести на последнюю глубину. Станиславский отметил «рез-
кий реализм» той, например, сцены в «Чайке», где Аркадина дела-
ет стрелявшему в себя Треплеву перевязку и оба они, мать и сын,
в нервном возбуждении высказывают друг другу много злого и
жестокого.
На такой же основе возникала и сокращенность, если можно
так выразиться, изображения, поскольку всякая деталь непосред-
ственно вела к некоему общему смыслу. В одном из писем к брату
Александру Чехов констатировал: «Например, у тебя получится
лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яр-
кой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и по-
катилась шаром черная тень собаки или волка и т. д.». Чеховское
видение человека в целом исключительно через частности стало
у писателя общим принципом, методом освоения мира.
Но такой сжатости изображения, сужения художественной ре-
альности Чехов и опасался. Это ведь у него самого в «Чайке»
Треплев говорит, что Тригорину в писательстве все дается слиш-
ком просто, потому что на все сложились условные приемы, и в
качестве одного из них называет ту самую лунную ночь и то же
стеклышко от бутылки, какие Чехов упомянул в письме.
Опасность и в самом деле была. Приемы подобного рода, как
и любые вообще приемы, обесценивались быстро и легко, но опи-
сательный стиль в романе, по точному впечатлению одного из
выдающихся художников ХХ столетия, Роберта Музиля, «благо-
творен — как средство против науки и научности. Глядя на этих
людей, все втискивающих в жесткие рамки, непроизвольно ощу-
щаешь потребность изобразить жизнь расшатанной».
У Чехова приемы жили отнюдь не сами по себе. Они рожда-
лись внутренней необходимостью, появлялись с неизбежностью,
а точность наблюдений не оттесняла художественность ради сугу-
бой и строго соблюдаемой научности, но обновляла первую без
нарочитых на то поползновений.
Чехов тоже рисковал. И рисковал крупно. Не очевидно ли,
что, как и у Толстого и Достоевского, риск этот оказался оправ-
данным?
«Художницкая дерзость»— это тоже замечательный опыт на-
шей классики.
53
ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ряде работ Д. С. Лихачев убедительно показал, что у про-
изведений литературы есть свой внутренний мир, где проявляют
себя особые законы пространства, времени, отношений человека
со средой и т. д. Так это и в сказке, и в романе Достоевского, и в
гончаровском «Обломове»!. Ученый отметил также, что при этом
подлинно художественные создания вовсе не содержат строго из-
меренной точности, но, напротив, как бы не позволяют ей себя
сковать 2.
Припомним теперь, что давно уже творцы искусства сталки-
ваются с так называемым саморазвитием ими же рожденных ха-
рактеров, и Пушкин изумлялся тому, какую «штуку удрала» с ним
его Татьяна, а Толстой — попытке Вронекого покончить с собой.
Вот и появляются у нас, очевидно, основания предположить,
что творения искусства и обладают несомненной внутренней за-
коносообразностью, и несут ее в достаточной степени свободно.
Как сама жизнь. Следовательно, жизнь свершается и в них. И по-
тому отнюдь не метафорически можно говорить о внутренней жиз-
ни художественного произведения.
Хорошо известно, что классицистическая ода подчинялась в
своем построении твердо определенным, безусловно обязательным
правилам. И писались оды обыкновенно на случай, а следование
образцам являлось нормой. Однако и в оде не только допускался,
а и требовался некоторый лирический беспорядок,— очевидно, без
него она и в те времена не могла бы быть воспринята как худо-
жественное создание.
Вплоть до начала ХХ века в повествовательной прозе особен-
но дорожили излишними для сюжета описаниями. В их присут-
ствии, можно думать, тоже усматривалось некое свободное движе-
ние жизни и потому виделся признак художественности.
Но лирический беспорядок в оде именно требовался. И обой-
тись без описаний было почти что нельзя. Поэтому жизнь в дей-
ствительном, полном и свободном своем выражении возникнуть
в произведении не могла.
У истоков нашей великой литературы ХХ столетия, предва-
ряя замечательнейшие пушкинские свершения, появились крылов-
ские басни и грибоедовское «Горе от ума».
В науке многократно рассмотрено, как Крылов ввел в устой-
чивую, сложившуюся систему связи басенных персонажей живую
конкретность русских характеров и русского быта.
Но важно видеть, что у Крылова стала решительно меняться
при этом самая природа старого жанра. Привычная басенная мо-
раль больше уже не охватывала и не исчерпывала собою содержа-
' См., например: Лихачев Д. Внутренний мир художественного произ-
ведения.— Вопросы литературы, 1968, № 8.
? Лихачев Д. С. Несколько мыслей о «неточности» искусства и сти-
листических направлениях.— В кн.: РЫ|о1ос1са. Исследования по языку и лите-
ратуре. JI., 1973.
54
ние басни. Иногда она даже вовсе уходила. Но и оставаясь, лишь
подчеркивала, как не может быть сведено ни к какому итогу-нра-
воучению все, что в басне происходит. Л. С. Выготский в своей
«Психологии искусства», да и другие исследователи уже обраща-
ли внимание на то, что в «Стрекозе и Муравье» оказывается не-
возможно утвердить здравомыслие и трудолюбие Муравья и осу-
дить живущую иначе, чем он, Стрекозу, и морали здесь нет вовсе.
А в басне «Волк и Ягненок» словами «Но мы Истории не пишем,
а вот о том, как в баснях говорят» автор прямо отказывается отож-
дествить художественный сюжет с до- и внехудожественными
представлениями. Басня здесь словно бы сама указывает на то,
что в ней возникает и нечто, чему не подыскать удовлетворяющих
определений и чему она в себе же самой как бы просто дает место
и возможность проявиться. Впущенная в произведение жизнь об-
ращалась в свободную жизнь самого произведения, снося на своем
пути всякий канон.
«Горе от ума» первоначально называлось «Горе уму», и это
заглавие сразу же задавало резкое и четкое исходное разграниче-
ние всех персонажей на безупречных приверженцев ума и тех,
кто уму противостоит. В пьесе одни могли быть только возвыше-
ны, другие — только высмеяны. Следы подобной назначенности,
бесспорно, есть и в последней редакции вещи.
Однако и Грибоедов, переступив через готовое, предшествовав-
щее самому произведению построение, вышел к реальной много-
сложности действительных отношений между своими современни-
ками (См. об этом ниже, в статье «Феномен «Горя от ума»).
Так с разных сторон развертывалась в произведениях литера-
туры их внутренняя жизнь. Ее собственные действенные возмож-
ности оказывались столь могущественны, что в ней и от нее слово,
даже имя могли впервые и уже неотъемлемо обрести и совсем но-
вое излучение, вовсе им до того не присущее, зарядиться несвой-
ственным им прежде электричеством. После появления, к примеру,
второй главы «Евгения Онегина» Герцен уверял, что имя Татьяна
звучит отныне уже совсем иначе, чем прежде.
В «Ревизоре» Белинского изумит, как все у Гоголя непринуж-
денно и непреложно «вяжется» единым и целостным драматиче-
ским развитием, с какой обязательностью все, что должно разоб-
лачать Хлестакова, убеждает, напротив, чиновников, что он и есть
ревизор, как они сами внушают ему все, что ожидали в нем обна-
ружить. Особая, совершенно своя внутренняя логика комедии вве-
дет великого критика в призрачность целого мира отношений и так
увлечет его, что статью «Горе от ума» он чуть не полностью посвя-
тит... «Ревизору», прежде всего вот этой безусловности действия
в пьесе.
О Достоевском современный исследователь говорит, что его
материалом явилась «не петербургская действительность как та-
ковая... но петербургская действительность в формах гоголевского
55
стиля, такая, какой ее увидел и «возвратил» миру (не «в том же
виде, в каком и взял») Гоголь». Самая подобная постановка во-
проса может возникнуть и оправданно возникает потому, что Го-
голем уже была создана именно своя действительность, со всей
конкретностью и полнотой ее особой жизни, в то время как даже
у Грибоедова мы можем найти все же еще не новую, дотоле не
существовавшую действительность, но только остро запечатлен-
ную барскую Москву, пусть и получившую именно в «Горе от
ума» вечную метку «фамусовской».
После Пушкина и Гоголя произведение подлинной литературы
без собственной внутренней жизни стало уже невозможно. Когда,
по завершении «Анны Карениной», один из корреспондентов Тол-
стого, С. А. Рачинский, написал ему, что в романе «развиваются
рядом, и развиваются великолепно, две темы, ничем не связан-
ные», то есть в сущности усомнился, есть ли в развитии «Анны
Карениной» как целого органическая связь, Толстой ответил твер-
до: «..Если вы уже хотите говорить о недостатке связи, то я не
могу не сказать — верно, вы ее не там ищете, или мы иначе по-
нимаем связь; но то, что я разумею под связью — то самое, что
для меня делало это дело значительным,— эта связь там есть...»
Вне внутренней всепронизывающей «связи» творец «Анны Каре-
Ниной» и помыслить себе свое создание отказывался. И парал-
лельность, непересекаемость линий Анны и Левина в толстовском
романе обозначала уже сама по себе, что судьбы этих людей дей-
ствительно сходятся и действительно расходятся не в житейской
эмлирии, но в глубинах бытия, в самом конечном его основании.
Явившись вместе с русской историей последней трети ХХ века,
ее выражая и продолжая, внутренняя жизнь «Анны Карениной»
была опять новой по самому своему существу, и Толстой с пол-
ным правом на это указал. И на подобной же бытийной глубине
сопутствуют друг другу у Чехова видимое и «подводное» течения
его пьес...
Мы упомянули выше о том, как воспринял Белинский «Реви-
зора». Но ведь он был не только благодарнейшим читателем, а
и критиком по призванию и по роду занятий. Он и откликнулся на
это новое качество литературных созданий именно как критик —
новым подходом к ним, перестройкой самого характера анализов.
Всмотримся в то, как обращался великий критик с собственно
художественными, имеющими свою особую внутреннюю жизнь соз-
даниями.
Вот Белинский говорит о пушкинском «Медном Всаднике»:
«При взгляде на великана, гордо и непоколебимо возносящегося
среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осу-
ществляющего собою несокрушимость... творения, мы хотя и не
без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант
не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь на-
' Бочаров С. Г. О стиле Гоголя.— В кн.: Типология стилевого развития
нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в
стиле. М., 1976, с. 445.
56
рода и государства; что за него историческая необходимость и что
его взгляд на нас есть уже его оправдание...» Сразу бросается
в глаза, что критик прежде всего вполне отдается впечатлению от
развертывающегося в произведении события. Что он не хочет
из-под этого впечатления, для него сильного и тяжелого, выйти.
Он словно бы прикованно следит за происходящим. И под пря-
мым, под непосредственным воздействием этого происходящего,
как бы влекомый им, он и приходит к важнейшим своим суждени-
ям о судьбе «индивидуальностей... народа и государства».
Еще в начале своего пути, в «Литературных мечтаниях», говоря
о Пушкине, Белинский воскликнул: «Да, я свято верю, что он
вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой
черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и
любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрач-
ным Гиреем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслажде-
HHAMH и все еще не ведавшей наслаждения; что он горел неисто-
вым огнем ревности, вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою
любовью Земфиры; что он скорбел и радовался за свои идеалы,
что журчание его стихов согласовалось с его рыданиями и сме-
хом...» И уже тут очевидно, что Пушкин открывался Белинскому
неотъемлемо от «журчания» своих стихов, что еще тогда стремил-
ся критик взлелеять у себя в душе гуманность, разлитую по всем
клеткам пушкинских созданий, впитывая, воспринимая ее в каж-
дой из них и в любом живом их единстве, усваивая внутренние
токи ее.
Именно внутренняя жизнь художественных созданий, войдя в
плоть исследований Белинского, явилась в самом непосредствен-
ном смысле почвой наиболее глубоких его заключений о литерату-
ре и о действительности !. Со своей стороны, критика, таким об-
разом, незыблемо утверждала общественно-историческую значи-
мость истинно суверенного бытия литературы.
До сих пор у нас шла речь только о литературе, о ней одной.
Не распространяется ли, однако, эта категория —«внутренняя
жизнь произведения»з— и на другие искусства, не несет ли она
в себе и некий общеэстетический смысл? Показания любого из ис-
кусств пространственных, где нет временного развития как тако-
вого, тут, само собой понятно, наиболее существенны. Обратимся
поэтому хотя бы к живописи, вспомним, кстати, такие слова Геге-
ля о ней: «Прогресс живописи, благодаря которому она только и
достигает характерной для нее точки зрения, заключается в от-
' Можно, вероятно, думать, что знаменитое определение искусства, кото-
рым начинается незаконченная статья Белинского «Идея искусства» («Искус-
ство есть непосредственное созерцание истины, или мышление в образах»), воз-
никло у него и из его опыта критика, из его способа проникать в искусство.
За приведенной фразой в статье следует: «В развитии этого определения ис-
кусства заключается вся теория искусства: его сущность, его разделение на ро-
ды, равно как условия и сущность каждого рода».
57
ступлении от чисто традиционных, статуарных типов, от архи-
тектонической подстановки и окружения фигур... в освобождении
от всего покоящегося, бездеятельного, в поисках живого челове-
ческого выражения... Поэтому живописи... не только разрешается,
но и вменяется в обязанность стремиться к драматической жизнен-
ности, Так, чтобы группировка ее фигур показывала деятельность
в определенной ситуации».
В недавних своих исследованиях о Федотове современный ис-
кусствовед тщательно сопоставил федотовские картины разных
лет. Опираясь на его анализ, нетрудно увидеть, как по-своему
внутренняя жизнь произведения стала характерна и для жанровой
ЖИВОПИСИ.
В «Сватовстве майора», например, за каждой из представлен-
ных на полотне фигур мы легко можем «домыслить» ее прошлое,
то, с чем она в картину вошла. Отношения между персонажами
тут, в сущности, предопределены их, если можно так в этом слу-
чае сказать, до- и внесценической судьбой, то есть тем, что по
картине вполне определенно угадывается, но чтб в ней самой
все-таки не свершается. Передаваемый на картине момент лишь
ставит героев в известное положение. И при том, что это положе-
ние обещает какое-то развитие в дальнейшем отношений между
ними, сам воссоздаваемый момент выглядит все же в некоторой
мере статическим.
Иначе, совсем иначе все в «Анкор, еще анкор!». Здесь мы ви-
дим собаку в прыжке, в: воздухе. В это же мгновение схвачен
и человек. На наших глазах, вот теперь, в полной, безраздельной
поглощенности владельца собаки ничем, уходит, утекает его жизнь,
Отношения человека со временем, с неумолимым его ходом развер-
тываются здесь в самой картине, свершаются прямо на полотне.
И, стоя перед ним, мы уже не заняты тем, чтобы представить себе
«досценическую» биографию ее героев (без чего, впрочем, тоже
не воспринять картины достаточно глубоко), но вглядываемся, как
вот этот, сейчас происходящий прыжок собаки словно бы своей
силой утягивает дальше, в никуда, целиком захваченного им че-
ловека.
Так обстоит дело с живописью жанровой или — шире — сюжет-
ной. Однако и о картинах Левитана современный историк живопи-
си говорит: «Эти дали и их влекущая сила, их поэтическая вы-
разительность, их эмоциональность как бы постепенно открыва-
ются зрителю...
Это постепенное развитие образа, его бытие во времени со-
ставляет один из основных признаков картинности, давая возмож-
ность смотреть произведение много раз, подолгу, бесконечно рас-
ширяя его содержание...»!
По всей видимости, развертывание в произведениях их соб-
ственной внутренней жизни характеризует, так или иначе, процесс
развития любого из искусств, художественное развитие в целом.
! Федоров- Давыдов А. Русское и советское искусство. Статьи и
очерки. М., 1975, с. 530—531.
58
Il
eS 9
ФЕНОМЕН «ГОРЯ ОТ УМА»
«Горе от ума» рождалось на свет, когда фигура привержен-
ца и носителя отвлеченных знаний прочно заняла свое место в
литературе и на сцене. Одни авторы потешались над его дале-
костью от жизни, неготовностью к ней, другие — сочувственно
передавали испытания, выпадающие ему на долю. Своими пере-
водами-переделками Грибоедов принял участие в общем про-
цессе.
Но уже в первоначальном замысле будущего своего велико-
го творения, когда его еще предполагалось назвать «Горе уму»,
Грибоедов сразу поднял ставшую вроде бы привычной для вре-
мени коллизию до уровня острой проблемы. Название уже само
по себе возводило умозрительность представлений героя в следст-
вие особой и высокой позиции — позиции ума и устремляло к
восприятию его судьбы как безусловно и неодолимо горькой.
Это утверждение ума опиралось на историческое содержание
целой эпохи, сделавшей разум своим знаменем и получившей имя
эпохи Просвещения. Противопоставление высоты ума его положе-
нию, его участи носило у Грибоедова, насколько можно судить
по первому названию, тоже характер просветительский, т. е. долж-
но было рационалистически абстрактно и однозначно свести к 0б-
щему знаменателю ситуации очень разные.
Однако эпоха Просвещения уже завершалась. Узость ее реше-
ний становилась все ощутимей. В 1834 году в статье «О ничто-
жестве литературы русской» Пушкин решительно заявит: «Ничто
не могло быть противуположнее поэзии, как та философия, кото-
рой ХУП] век дал свое имя...» Действительно, вся жизнь осваива-
лась ведь тогда в строго одномерных и внутренне неподвижных
рационалистических категориях, самой жизни в ее противоречи-
вости и многомерности слово не давалось. Потому-то, наверное,
и назовет впоследствии Достоевский подобное мировосприятие
«пищеварительным», а у Толстого Пьер скажет о Наташе, что она
«не удостаивает быть умной».
В исследованиях о Грибоедове высказывалось мнение, что в
замысле своем «Горе от ума» обещало стать более глубоким соз-
данием, чем оказалось потом. Оно будто бы должно было приобре-
сти содержание непосредственно философское, а в конечном счете
59
свелось к «бытовой» комедии, хотя бы и блистательной. Согла-
ситься с подобным мнением нельзя никак.
Когда «Горе от ума» было «Горем уму», автор его еще явно
собирался следовать за сложившимися просветительскими уста-
новлениями. Ум виделся Грибоедову как сила высокая и внут-
ренне безупречная, бедой носителю и знаменосцу ума могли гро-
зить лишь его недруги и обстоятельства. Проблема в самом деле
освещалась под философским углом зрения, но отвлеченло-фило-
софским, просветительско-философским, и это обрекало произве-
дение изначально на роль иллюстрации, более или менее живой,
к абстрактному тезису. Собственно философского содержания та-
кое художественное произведение выдвинуть, по всей видимости,
как раз не могло. Не могло оно также охватить и реальное напол-
нение проблемы — ни в конкретно-историческом, ни, тем самым,
в более объемном смысле.
И в окончательно сложившейся редакции «Горя от ума» мно-
гое «стоит» на уме.
Ум и здесь по-просветительски объединяет собой высокую
степень просвещенности, свободолюбие и вольномыслие, пылкость,
силу и верность чувств...
Сюжет «Горя от ума» строится на том, что умный человек
попадает в среду, ему чужую и чуждую, и устанавливается, что
при этом должно произойти. После того как работа над комедией
была уже закончена и сама она стала известна современникам,
в письме 1825 года к Катенину Грибоедов взялся разъяснить ее
смысл и принялся делать это в тех же категориях ума и несоот-
ветствия или противодействия уму, разрыва с ним, на какие из-
начально опирался. «...Девушка сама не глупая, — излагал Грибо-
едов план «Горя от ума»,— предпочитает дурака умному человеку
(не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен, нет! и в
моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека),
и этот человек разумеется в противоречии с обществом его окру-
жающим...»; и далее: «Кто-то со злости выдумал об нем, что он
сумасшедший, никто не поверил и все повторяют...»
Как видим, просветительские понятия, просветительский прин-
цип твердых разграничений сохранили свою власть над автором
«Горя от ума» и тогда, когда пьеса уже была написана. Но нельзя
и не заметить, как тесно становилось Грибоедову в этих грани-
цах, едва только он прикасался к реальности своей комедии. Ска-
жем, Софью он не смог назвать ни глупой, ни умной, определять
ее пришлось как-то промежуточно («девушка, сама не глупая»).
А как раз она ведь и «выдумала» об Чацком, «что он сумасшед-
ший!» Словами «в моей комедии 25 глупцов на одного здраво-
мыслящего человека» Чацкий объявлен «здравомыслящим», что
довольно неожиданно: обычно у просветителей «ум» и «здравый
смысл» далеко не совпадали в своем значении и даже друг другу
противопоставлялись как обозначения высокого и низменного. Бес-
конечно сложней, многообразней предстает все это в самом «Горе
от ума»,
60
С одной стороны, в основу противостояния Чацкого его окру-
жению положен именно ум героя. И он сам говорит Софье
о Молчалине, в котором не признает ума:
Но есть ли в нем та страсть? то чувство? пылкость та?
Чтоб, кроме вас, ему мир целый
Казался прах и суета.
Чтоб сердца каждое биенье
Любовью ускорялось к вам?
Чтоб мыслям были всем и всем его делам
Душою вы? вам угожденье?
То есть выходит, что отсутствие ума, бессловесность («ведь
нынче любят бессловесных»— слова Чацкого о Молчалине же)
неизбежно и непреложно, сами собой обозначают и отсутствие
силы и красоты чувств, прямо выводимых, таким образом, из ума.
Больше того — если вспомнить, что в грибоедовское время «бес-
словесными» называли животных как существа низшие по сравне-
нию с человеком, не поднявшиеся до человеческой речи, то станет
очевидно, как действенны в «Горе от ума» просветительские кри-
терии.
Узнав к концу действия все о Софье, Чацкий, по всей видимо-
сти, совершенно излечивается от любви к ней — и тем собственное
значение чувства тоже отвергается («...Он ей и всем наплевал в
глаза и был таков»— из того же письма Грибоедова Катенину).
От просветительства же, несомненно, идут в «Горе от ума» и
значащие фамилии как попытка исчерпать одним понятием суще-
ство характера. К тому же многие из них так или иначе прямо
связаны с проблемой человеческой речи или какой-то в этом смыс-
ле ущербности (тот же Молчалин, Фамусов — от {ата (молва),
Репетилов — от гереег (повторять), Тугоуховский...), что тоже до-
статочно однозначно подвергает персонажей строго просветитель-
скому измерению.
Да и обилие развернутых монологов в комедии проистекает
из просветительской убежденности в том, что человек вполне вы-
ражает себя в слове, может быть словом — своим и чужим — оха-
рактеризован и через слово же оказывает главное свое воздействие
на других. П. А. Вяземского привлекло в «Горе от ума» обстоя-
тельство, которое он обозначил так: «Замечательно, что сатири-
ческое искусство автора отзывается не столько в колких и резких
эпиграммах Чацкого, сколько в добродушных речах Фамусова».
С другой стороны, однако, в приведенной выше тираде Чац-
кого его гимн силе чувств провозглашен с таким напором, что
с несомненностью открывается их собственная энергия, их само-
ценность. И ум уже перестает выглядеть обязательным источником
всего высокого. Чацкий на мгновение, в жару спора с Софьей,
даже готов допустить в Молчалине «ум бойкий, гений смелый»
(кстати, романтическое «гений» тут выступает равнозначно с про-
светительским умом и отдельно от него), но в энергии чувства он
ему при этом отказывает безоговорочно. В другом случае Чац-
ким же прямо разведены просветительский «ум, алчущий позна-
61
ний», и романтический «жар к искусствам творческим, высоким и
прекрасным».
А в целом в комедии ум вступает в такие разветвленные н
многосложные связи, что от просветительской категориальности
понятия остается не столь уж и много.
Вот Софья, уверяя отца в достоинствах Молчалина, объяс-
няет, что тот «и вкрадчив и умен». И уже от одного этого сосед-
ства ума с «вкрадчивостью» первый явно теряет в своем значении
и значительности.
Фамусов называет своих кумиров «прямыми канцлерами в от-
ставке по уму». Предавшись умиленному размышлению о москов-
ских обедах, он произносит: «Пофилософствуй — ум вскружится»...
Получается, что достаточно многое в жизни с умом-то несоотносн-
мо, а слово пошло, мелькает то там, то здесь, чем, в свою очередь,
строгость понятия рушится.
Репетилов убежден, что «умный человек не может быть не
плутом». И это бросает иронический свет на самый принцип вы-
ведения всего и вся из ума.
К перечисленному добавляется, со слов Чацкого, что можно,
оказывается, быть погруженным «умом в Зефирах и в Амурах»
и стать виновником распродажи тех же Амуров и Зефиров «пооди:.
ночке». Выходит, ум сам по себе, даже когда он назван и не
напрасно, никак и ничего не гарантирует.
Чацкий признает народ умным, но ведь странно думать, что
он предполагал в народе тогда хоть какую-то степень образования,
просвещенности, вольномыслия.
Самая уже внутренняя подвижность, «мерцание» слова и поня-
тия «ум» в грибоедовской комедии убедительнейше свидетельству-
ют, что автор ее, преодолевая односторонность просветительства,
выходил здесь к собственно художническому творчеству.
Мы отметили, что в «Горе от ума» слово у Грибоедова начи-
нает «мерцать», тяготеет к образности. И тут же неминуемо встает
вопрос о том, насколько эта образность свойственна природе имен-
но драматического произведения.
В. К. Кюхельбекер записал в дневнике 8 февраля 1833 года:
«Нет действия в «Горе от ума»! — говорят гг. Дмитриев, Белугин
и братия. Не стану утверждать, что это несправедливо, хотя и не
трудно было бы доказать, что в этой комедии гораздо более дей-
ствия или движения, чем в большей части тех комедий, которых
вся занимательность основана на завязке. В «Горе от ума», точно,
вся завязка состоит в противоположности Чацкого прочим лицам;
тут, точно, нет никаких намерений, которых одни желают достиг-
нуть, которым другие противятся, нет борьбы выгод, нет того, что
в драматургии называется интригою. Дан Чацкий, даны прочие
характеры, они сведены вместе, и показано, какова непременно
должна быть встреча этих антиподов,— и только. Это очень про-
сто, но в сей-то именно простоте — новость, смелость, величие того
62
поэтического соображения, которого не поняли HH противники
Грибоедова, ни его неловкие защитники».
Ядро драматургического открытия Грибоедова указано было тут
необыкновенно верно. Ведь еще рядом с «Горем от ума» для раз-
вертывания действия обязательно требовалось проявление чьей-то
целенаправленной инициативы, проистекающее отсюда столкнове-
ние интересов (и возникло-то такое еще совсем недавно — с рож-
дением каких-то личностных устремлений, и Грибоедов только-
только отдал в своих переводах-переделках подобной драматур-
гической структуре свою дань). Теперь же, в «Горе от ума», все
оказывалось сразу и проще, и сложней. Проще — потому что Чац-
кому вовсе не надо было ничего ни затевать, ни предпринимать,
чтобы возбудить, поднять против себя всех тех, среди кого он
появился. Ему оказалось достаточно приехать в Москву, прийти в
дом Фамусова. Сложней — поскольку этим обнаруживалась остро-
та назревших в русском обществе противоречий, определившаяся
широкая конфронтация представлений и позиций. Стоит Чацкому
только высказать почти невзначай свои суждения об образовании,
о службе, о его московских знакомых — и все тотчас же, по пер-
вым словам, начинают видеть в нем своего несомненного против-
ника. Совсем еще вот-вот тому же Грибоедову' приходилось вы-
искивать малейшие признаки активности в индивидуальном, чает-
ном поведении, опираться на какие-нибудь западные образцы, что-
бы выстроить драматическое действие. Сейчас же московский круг
предстает вполне готовым к тому, чтобы немедленно распознать
и соответственно встретить своего антагониста. Хотя Чацкий при-
езжает из-за границы, в Москве его словно бы уже ждут, борьба
начинается мгновенно, результат следует так же. Классицистиче-
ские единства времени, места, действия были для Грибоедова, та-
ким образом, если воспользоваться известным выражением Щед-
pHa, совсем «небезвыгодны». Они принимались автором «Горя от
ума» для своих целей и потому отнюдь не выглядят в грибоедов-
ской комедии соблюдаемыми.
Ныне мы достаточно твердо знаем, что самые непримиримые
противоборства завязываются как раз тогда, когда столкновение
происходит не по какому-нибудь конкретному поводу, не из-за
интересов, а имеет в основе своей органическую противополож-
ность жизненных установок. Грибоедов и открыл впервые, по точ-
ному впечатлению Кюхельбекера, именно такую природу драма-
тической борьбы, когда причины у конфликта — самые внутренние
и самые глубинные.
Против Чацкого выстраивается вся плотность сложившихся
и слежавшихся московских нравов. Ее-то и мобилизует, вызывает
к действию Фамусов, ведя свою обычную жизнь — диктуя Петруш-
ке расписание привычных для себя занятий на неделю или прини-
мая и занимая вечером своих гостей. Тут и обнаруживается, какой
действенно консервативной силой, каким средоточием застоя и
ретроградности может быть быт.
Однако сам по себе быт таковым отнюдь не является. Он мо-
63
жет лишь использоваться в подобном качестве. И здесь как раз
мы и вступаем в своеобразие комедийного строя «Горя от ума».
Фамусов и Скалозуб держатся за привычный порядок жизни,
оберегая свое положение, свою власть, свой покой. На противо-
действие Чацкому они поднимаются естественно и непреложно.
И опорой им служит прежде всего привычность их жизненного
уклада, то, что он стал повседневностью, пророс в быт.
Но герой накидывается не только на фамусовскую неотрыв-
ную привязанность ко всему устоявшемуся, повторяющемуся, не-
подвижному. Вот, скажем, на вечере у Фамусова Чацкий прини-
мается вдруг обличать гостей, многие из которых ему и вовсе
незнакомы. С острой наглядностью предстает перед нами одиноче-
ство героя в достойных, высоких его устремлениях. Но одновре-
менно — и обреченность намерения, попыток преодолеть быт во-
обще, ограничить, сдержать жизнь в ее проявлениях.
Возмущение Чацкого имеет достаточно причин. Только появив-
шись в Москве, увидев все свежим взглядом, он возмущается тем,
что в самом деле стоит возмущения. Однако заходит он в своем
неприятии всего, что ему предстало, слишком далеко.
Уверившись, скажем, что Софья, по всей видимости, Молчалина
не уважает, Чацкий решительно умозаключает, что, значит, она
и не может его любить. А когда потом выяснится, что избранни-
ком Софьи был все же Молчалин, Чацкий немедленно станет об-
винять ее в том, что его, Чацкого, она якобы завлекла. Строгие
построения ума оказываются весьма ненадежным средством, что:
бы управляться с жизнью, сам ум в высочайшем своем значении —
по меньшей мере не вполне состоятельным, когда приходится иметь
дело с ее бесконечным многообразием. Чацкий попадает в поло-
жение комическое, и неоднократно. Но комизм здесь и прорастает:
трагедией. И не оттого лишь, что жизни вне быта, вне житейского
и житейски прихотливого вообще не бывает.
Выкладки ума Чацкого не только не подтвердились. Герою при:
ходится испытать горький внутренний разлад — он сам печально
констатирует, что ум у него с сердцем больше «не в ладу». Даже
догадываясь, что становится смешон («Я сам? Не правда ли, сме-
шон?»— с тревогой задает он вопрос Софье и получает утверди-
тельный ответ), он ничего не может с собой поделать и продол-
жает тотчас же, не останавливаясь, ораторствовать дальше:
Я странен, а не странен кто ж?
Тот, кто на всех глупцов похож...
Чацкого объявили безумным, отказывая в уме, который со-
ставляет его единственную опору. Самое страшное, однако, в том,
что после перенесенных потрясений и в обнаруживающейся бес-
перспективности героя может подстеречь действительное безумие.
«Не впрямь ли я сошел с ума?»— спрашивает он вдруг у само-
го себя.
Не образумлюсь... виноват,
И слушаю, не понимаю,
64
Как будто все еще мне объяснить хотят,
Растерян мыслями... чего-то ожидаю, —
путается в словах Чацкий в последнем своем монологе. Призрак
безумия начинает маячить перед ним. Безумием кончит вскоре
лермонтовский Арбенин... Не забудем, что и Грибоедов со своим
пронзительным всепониманием очень серьезно опасался для себя
безумия.
Белинский не случайно заметил, что «Чацкий Грибоедова» в
своих попытках «исправить общество от глупости» порой выгля-
дит «как вырвавшийся из сумасшедшего дома». Столь же не слу-
чайно актеры разных времен — от Каратыгина до Далматова —
играли в Чацком нарастающую по ходу действия странность его
поведения. И Александр Блок отнюдь не всуе призывал возвра-
щаться к «трагическим прозрениям» Грибоедова, глубже задумать-
ся и проникнуть в источник его художественного волнения, пере-
ходящего часто в безумную тревогу...
Мотивы ума и безумия предстали в «Горе от ума» теснейшим
образом внутренне связанными, что в немалой степени знамено-
вало собой окончательное крушение просветительства, ставившего
так безусловно и исключительно на ум.
Тяготение его замысла к сценическому воплощению вызывало
у Грибоедова раздумья и сомнения разного рода. Воплощение это
не могло ведь не быть содержательным, не могло уже само по себе
не ограничивать явно прав и полномочий ума.
В том же обращенном к Петрушке фамусовском монологе, ко-
гда он возникает в пьесе и должен прозвучать со сцены, форели,
на которые зван Фамусов, уже не просто появляются в перечис-
лении. Соответственно Фамусовым (точней, актером, исполняю-
щим его роль) представленные, они становятся очень конкретным
оправданием обычной, повседневной жизни, ее вполне допустимых
радостей. Жизни, не всегда соответствующей высоким нормам
разума, но обладающей тем не менее и своей непреложностью,
и очарованием. Даже в осведомленности Фамусова о том, что иу
кого в Москве происходит или должно произойти, многое — от пат-
риархальности здешнего бытия, от неразорванности тут еще дав-
них, непосредственных форм связи между людьми. Явленные
воочию, в своих, Так сказать, полновесности и полнозвучии, Фа-
мусов или Хлестова уже и сами по себе достаточно выразительно
отводят претензии ума на единственность его значения.
Фамусовская Москва у Грибоедова — не только фамусовская,
аи Москва, где еще сохранно то давнее русское, к чему и Чацкий
привязан и привержен.
Потенции некоей злой силы старая Москва выказывает лишь
с появлением Чацкого. Люди Москвы в столкновении с Чацким
начинают действовать с последовательностью и безжалостностью
механизма, где каждый следует движению всех других (см. выше
в цитате из письма Грибоедова Катенину: «Кто-то со злости вы-
5 Заказ № 1409 65
думал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил, и все по-
вторяют»...). Мелькающие на фамусовском вечере господин Н.
и господин Д. не получают уже у Грибоедова даже имен и фа-
милий. В комедии прямо указывается на множественность Мол-
чалиных («Молчалины блаженствуют на свете»), на отраженность
Загорецкого в Репетилове («В нем Загорецкий не умрет»), на то,
что нынче «бессловесные» входят в силу («Ведь нынче любят бес-
словесных»). На наших глазах прежняя патриархальность обра-
щается в опасный и особый по самой своей внутренней структуре
оплот изжившего себя жизненного уклада. И вот Фамусов готов
уже искренне верить в безумие Чацкого («Безумный! что он тут
за чепуху молол!») — есть в действии образующегося механизма
и такое «магическое» начало.
О Репетилове Пушкин заметил, что «в нем два, три, десять ха-
рактеров». Гоголь назвал его «рыцарем пустоты во всех ее отно-
шениях». Он всеми принят, легко со всеми сходится, приспосаб-
ливаясь к любой обстановке и настроению, не имея ничего своего.
Сейчас в его распоряжение переходят недавно еще во всяком слу-
чае неразменные ценности ума.
Репетилов — симптом той безликости, какая неизбежно овла-
девает людьми фамусовской Москвы.
Люди фамусовского круга принадлежат по возрасту преиму-
щественно к старшему поколению. Они живописны и ярки, хотя
и на доличностной основе, — своим в каждом выражением. некоей
патриархальной общности. И для большинства из них легко нахо-
дились прототипы, что тоже многое объясняет в художественном
строе комедии.
Грибоедов свел Чацкого с реальностью русской жизни. И об-
наруживается, что герою не дано отделить действительно недопу-
стимое от того, без чего жизнь как жизнь, по самой сущности сво-
ей, по своему, так сказать, естеству обойтись, остаться собою не
может. Открытие это было для самого Грибоедова в высшей сте-
пени драматическим: речь шла о системе самых передовых и са-
мых разработанных понятий целой эпохи, для него в значительной
степени собственных. В воссоздании реальности драматургу и
нельзя, и невозможно было здесь не быть предельно достоверным,
почти научно точным. Писарев даже будет полагать, что «Грибое-
дов в своем анализе русской жизни дошел до той крайней границы,
дальше которой поэт не может идти, не переставая быть поэтом
и не превращаясь в ученого исследователя».
До Грибоедова комедии могли писаться на конкретных людей,
как эпиграммы. В «Горе от ума» же узнаваемые фигуры вовсе не
окарикатурены, они даны «портретно» («...Мюртреты и только порт-
реты входят в состав комедии...»— растолковывал автор Катени-
ну). И в «портретности» своей они предетают на очной ставке
с Чацким как самая реальность, подлинноеть тогдашией Москвы.
Язык наш откликнулся, прореагировал на этот факт, признав в
66
главном персонаже из московского круга мету старой Москвы, вы-
двинув и усвоив себе навсегда понятие «фамусовская Москва».
Пушкин особо выделил и оценил в «Горе от ума» именно «ха-
рактеры» и «резкую картину нравов». У него самого, однако, овла-
дение действительностью будет уже так вполне и до конца про-
никнуто, по известному определению Белинского, «пафосом худо-
жественности», что никакие «характеры», или «картина нравов»,
или что-нибудь еще в этом роде не будут в художественном созда-
нии хоть сколько-то обособлены, не смогут быть восприняты сами
по себе, в отдельности от целого. Вопрос о «портретности», о про-
тотипах потеряет тут свою остроту. Грибоедов же, только выходя
к новым контактам литературы с действительностью, за непосред-
ственность этих контактов держался, ею дорожил. Надо думать,
появление уже при его жизни понятия «фамусовская Москва»
должно было его радовать, могло явиться в его глазах свидетель-
ством собственно художественного обретения.
Даже столь явный недоброжелатель «Горя от ума», как
П. А. Вяземский, поставил Грибоедову в особую заслугу выведе-
ние на сцену «живьем» множества фигур и указал на масштаб
сделанного подобным образом художественного завоевания. <...Рас-
ширяя сцену, населяя ее народом действующих лиц, он, без сомне-
HHA,— признавал критик,— расширил и границы самого искус-
ства».
О Софье Пушкин сказал, что она «начертана неясно». Числят
ее и сейчас чаще всего по «фамусовской Москве». Но бывали и
раздаются нередко теперь и совсем иные голоса.
П. А. Вяземский счел именно Софью «единственным характе-
ром в комедии, коей все прочие лица одни портреты в профиль,
в бюст или во весь рост». Ап. Григорьев видел в Софье финальных
сцен «трагическую красоту... пробуждения». Гончаров отвел ей
«свой мильон терзаний». Вступился за Софью Павловну Мейер-
хольд, неоднократно защищали свою героиню игравшие ee
актрисы...
По всей видимости, надо признать, что с Софьей Фамусовой
Грибоедов испытал какие-то особые трудности.
Чацкий в основании своем был драматургу, можно полагать,
ясен. В его личностном, драматическом и трагикомическом, пред-
стательстве ума он, по Грибоедову, оказывался уже и необходим,
и неизбежен для русской жизни. Явившись в Москву, по выра-
жению нынешнего критика, как человек «со стороны», даже изда-
лека, Чацкий не случайно сразу же всеми распознан.
Но Софья выросла здесь, в фамусовском окружении, — и не сле-
дует ни традиции, ни ожиданиям отца, а совершает сама свой вы-
бор. Избрала она не кого-нибудь из Скалозубов, но человека без-
родного.
Этот безродный не случайно оказался и бессловесным: истори-
ческая роль разночинцев была еще только впереди, а Софье с та-
5* 67
ким, как Молчалин, легче утверждать свои желания, свою волю
и самостоятельность.
Однако Софья умеет и действительно вступиться за свой выбор.
Перед отцом, перед Чацким, перед общественным мнением. Уда-
ры Чацкого по Молчалину она принимает на себя, прикрывая со-
бой его безродность и зависимость, которые, таким образом, ока-
зываются для нее побуждающими. А в конце не страшится по-
смотреть правде в глаза и испытать полной мерой чувство стыда
за совершенную ошибку. «...Себя я, стен стыжусь»— слова Софьи,
когда все разъяснилось.
Своего Молчалина Софья придумала. Его «вкрадчивость», о ко-
торой она сама говорит, никак не могла сочетаться с чувствами
высокими и искренними. Но не свидетельствует ли самая приду-
манность Софьиного Молчалина, мера’ разрыва между Молчали-
ным реальным и нафантазированным ею об энергии устремлений
Софьи к чему-то такому, чего вовсе и нет в ее кругу, о силе оттал-
кивания от этого круга? И — одновременно — об умозрительности
и ее исканий, что мы уже видели в Чацком? Воспитывалась она
ведь на чтении, на французских книгах.
«Горе от ума» обладает поразительной целостностью драма-
тического действия, долго остававшейся скрытой от сцены лишь
из-за длительного внесценического использования комедии как де-
кларации, как манифеста идей. Немирович-Данченко не напрасно
сетовал на то, что и ставили чаще словно бы не самое «Горе от
ума», а статьи о нем. Пьеса же вся пронизана, даже, можно ска-
зать, пронзена разветвленнейшим конфликтом между воображе-
нием личностей, делающих первые собетвенные шаги на русской
почве, и реальностью бытия.
Чацкий и Софья — оба терпят беду. И трудно сказать, кто уда-
рился тяжелей, больней. Ведь Чацкого хоть никто намеренно не
обманывал, а Софья не только сама обманулась — ее порыв чи-
новник-практик нового покроя взялся использовать в своих целях.
Личности только-только заявляют себя, а распускающаяся без-
личностность уже берется прибрать их к своим рукам, применить
к своей выгоде: Молчалин ставит на Софью, пусть пока не вполне
удачно; Репетилов зовет Чацкого с собой в Английский клуб...
Обнаруживая личность не в одном лишь Чацком, но также
и в Софье, именно их увидев в поединке друг с другом, Грибоедов
снова осиливал просветительскую односторонность, уходил даль-
ше. Оказывалось, что не только разумом может формироваться че:
ловеческая индивидуальность, что личностные развития могут
быть чреваты новым и особым ожесточением столкновения,
борьбы.
Софья не однажды высказывает сомнения в достоинствах и роли
ума. «Зачем ума искать и ездить так далеко?»— спрашивает она,
имея в виду Чацкого, в одном случае. «Да этакий ли ум семейство
осчастливит?»— возвращается примерно к тому же в другом.
В том, что так легко решается она ославить Чацкого именно
безумным, значимо, можно думать, и ее не слишком высокое мне-
68
ние о подлинной ценности ума. Сама она как личность действи-
тельно вырастает из иных корней. Драматургу, при всей строгости
и энергии его мысли, по-видимому, так и осталось не очень ясным,
из каких же это. Даже по завершении комедии, когда он писал
в уже пеоднократно цитированном выше письме своем к Катенину
о плане «Горя от ума», он мог назвать Софью только «девушкой...
не глупой», хотя и прямо сблизил ее с Чацким в понесенном обо-
ими разочаровании («ферзь тоже разочарована»). При этом у
Грибоедова достало собственно художнической смелости и ответ-
ственности, чтобы предоставить Софье ее место и права в пьесе
и почти открыто загадать загадку, которая разгадывается вот уже
более полутораста лет и ключи к которой до сих пор подбираются
самые разные.
Известно, как увлекает волна поэтического вдохновения Чац-
кого, только явившегося к Софье и взахлеб выкладывающего пе-
ред ней свое нетерпение, свои новые понятия, или Софью, на
наших глазах придумывающую сон, который она будто бы ви-
дела...
За всем этим, во всем этом поэт наших дней верно уловил сво-
бодные перевоплощения, свободное развертывание личности самого
Грибоедова и заключил, что в «Горе от ума» по сравнению с
прежними комедиями стихи «имеют принципиально новое значе-
ние, являясь лирическим двигателем произведения». В «Горе от
ума» совсем иначе, чем то бывало раньше, ощутим, присутствует
автор — подлинный и замечательный поэт. Сквозь разных геровв,
а подчас и через их голову он широко видит мир и иногда их уста-
ми, как подметили еще Пушкин, Белинский, говорит сам, что
называется, невзирая на лица... Искусство высвобождалось здесь
из пут рационализма и тогда, когда как будто в них оставалось.
Движение русского сознания совершалось в «Горе от ума» с
напором редкостным, и перспективы открывались в самом деле
безграничные.
АВТОР В «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»
«Творец всегда изображается в творении и часто — против во-
ли своей»! — слова эти принадлежат Карамзину. «Всегда изобра-
жается»— проблемы как будто еще нет никакой. «Часто — против
воли своей» — здесь словно бы уже отмечается некий драматизм
в отношениях художника со своим же созданием.
По удивительно верному восприятию Пушкина, Карамзин, бу-
дучи последним русским летописцем, явился и первым нашим ис-
ториком. Также и в связи с литературой для него рождались уже
совсем новые вопросы.
Крыловские басни Белинский назвал «маленькими комедия-
ми». Этим определением остро схвачено возникновение в них под-
т Карамзин Н. М. Соч. В 2-х т. М., 1984, т. 2, с. 60.
69
линного взаимодействия (хотя бы и в пределах привычных басен-
ных ситуаций) между персонажами, снимающего и отменяющего
назначенный наперед вывод и одномерные в своей неподвижности
характеристики. Так это и в «Стрекозе и Муравье», и в «Вороне и
Лисице», и во многих других случаях.
Из басен Крылова уходила мораль как исходное, изначальное
основание и твердо определенный конечный итог. Жизнь — как
движение, как процесс — проникала в самое произведение, обна-
руживала здесь возможность своего словно бы продолжения, сво-
его развертывания. И создание литературы не подчинялось теперь
моральной установке, но само с разных сторон и в разных планах
оказывалось моральной проблемой.
Если свести друг с другом высказывания Белинского о «Горе
от ума» в разные годы, на разных этапах пути критика, то прежде
всего бросается в глаза, как неизменно Белинский вменял Грибое-
дову в вину то, что через своих персонажей говорит и непосред-
ственно он сам. Указав, например, в статье о «Горе от ума» на
резонерство Чацкого и приведя затем один из фамусовских моно-
логов, Белинский почти с недоумением восклицал: «Это говорит
не Фамусов, а Чацкий устами Фамусова, и это. не монолог, а эпи-
грамма на общество... Мало этого: сам Скалозуб острит, да еще
как! — точь в точь, как Чацкий», а Лиза отвечает Молчалину
«эпиграммою, которая сделала бы честь остроумию самого Чац-
Koro»!,
Очевидно, Белинский никак не мог принять такого откровен-
ного «самовыражения» автора, какое обнаруживается в «Горе от
ума». А он ведь не знал тогда, что в одном месте комедии слова
Чацкого были, по совету Вяземского, легко переданы Грибоедо-
вым Лизе...
Н. К. Пиксанов увидел в близости лиц, обозначенных разными
именами — Кузьма Петрович и Максим Петрович, результат гри-
боедовского недосмотра и предположил тут в обоих случаях од-
ного и того же человека, настолько неуловима какая-нибудь дей-
ствительная разница между этими фигурами. Даже Софья, так
явно не оправдывающая фамусовских надежд и не укладываю-
щаяся в фамусовские мерки, все же не без усилий может быть
выделена из целого фамусовской Москвы и в практике школьного
да и вузовского преподавания почти исключительно там и пре-
бывает.
Словом, собственная жизнь предоставлена персонажам «Горя
от ума» в степени еще неполной. Властвует и действует здесь
прежде всего сам автор. Интересно в этом смысле, что, по свиде-
тельству современников, наибольший успех комедия поначалу име-
ла не в сценическом исполнении, но в публичном чтении ее в раз-
ных домах каким-нибудь одним лицом. Да и первые исполнители
ролей нередко обращали стихотворный текст не столько друг
' Белинский В. Г. Полн. собр. соч М., 1953, т. ПГ, с. 482—484.
70.
к другу, сколько в публику. Среди таковых был и Щепкин, чьей
актерской манере это вообще-то свойственно отнюдь не было.
Но вот развязка комедии, где «действующие» — Молчалин,
Софья, Чацкий — в новом свете открываются друг другу и пред-
принимают нечто решительно «от себя», пришла Грибоедову как
откровение. И пришла, по его словам, неожиданно «посыпавши-
мися стихами». Это выказывала себя энергия уже собственно
художнических прозрений.
В статье о «Горе от ума» Белинский твердо противопоставил
пьесе Грибоедова гоголевского «Ревизора». Он был потрясен тем,
как призрачность ревизора вскрывает у Гоголя призрачность всей
действительности, какой особый и внутри себя законченно-целост-
ный мир создается в комедии. И — не заметил, что своеобразие
каждого из чиновников, столь очевидное, столь броское и яркое,
в драматическом действии все-таки не участвует, в него не вклю-
чается, оставаясь как бы самим по себе.
Пушкинский «Борис Годунов» получил свое название по имени
героя, решившегося преступить нравственный закон. По точному
наблюдению Г. О. Винокура, в стихотворных сценах «Бориса Го-
дунова» языковых характеристик «вообще нет, что, конечно, не
исключает возможности стилизации речи отдельных персонажей
в определенном направлении... В какой-то мере язык действующих
лиц в «Борисе Годунове», конечно, дифференцирован, хотя бы уже
потому, что это разные драматические характеры и лица, гово-
рящие на разные темы. Но вместе с тем все они говорят одним
и тем же языком, и именно в той мере, в какой они говорят поэти-
ческим языком самого Пушкина» (см.: «Борис Годунов» А. С. Пуш-
кина. Сб. статей. Под общей ред. К. Н. Державина. Л., 1936).
И вот —«Евгений Онегин». Произведение это возникало, зачи-
налось в кругу южных пушкинских поэм. По отношению к их ге-
роям Пушкин чувствовал себя еще вполне и совершенно свобод-
но — как ничем не сдерживаемый з своем воображении творец близ-
ких себе так или иначе и не слишком в собственном своем облике
определенных фигур. Так это было поначалу и с «Евгением Оне-
ГИНЫМ».
Евгений, по первоначальному варианту, представился ему сра-
зу же влюбившимся в Татьяну, но почти тотчас эта версия отошла.
Одна из зачеркнутых строф П главы, сначала характеризовавшая
Ольгу, была отнесена затем к Татьяне. Уже то, что «роман в сти-
хах» выходил в свет на протяжении ряда лет отдельными главами,
почти исключало сосредоточенный интерес к фабуле, к отноше-
ниям персонажей.
В 1828 году И. В. Киреевский говорил, что «чем более поэт
отдаляется от главного героя и забывается в посторонних описа-
ниях, тем он самобытнее и национальнее». В самом деле, перво-
основное соотнесение поэтом себя со своим заглавным персонажем
не сулило как будто в художественной природе «Евгения Онегина»
ничего особенно «самобытного и национального». И все же Ки-
реевский не мог еще тогда разглядеть главного, решающего.
71
С. Г. Бочаров, известный литературовед, в книге «Поэтика
Пушкина» отметил особую роль в пушкинском «романе в стихах»
сослагательного наклонения. Оно вводит возможности внутрен-
него саморазвития, саморазвертывания характеров, еще не нашед-
шие единственного своего русла, не исключающие, а даже пред-
полагающие пока разные, иногда даже противоположные пути.
Самый яркий тому, наверное, пример — два поставленных рядом
и равно вероятных в момент, когда Ленский ушел из жизни, ва-
рианта его будущего.
«Обычный путь построения ситуаций в романе — это именно
два варианта, падающих «налево и направо» от некоей сюжетно-
композиционной оси»! — констатирует исследователь. И это зна-
чит, что у персонажей «Евгения Онегина» складывается уже соб-
ственная судьба, и именно как таковая самому создателю их она
не может быть наперед и вполне доступна.
Пушкин в «Евгении Онегине» словно бы настаивает на том, что
многое в его героях, им же на наших глазах сотворяемых, ему
не открыто, ибо, сотворенные, они обретают реальность, подобную
реальности самой жизни, и становятся как бы независимы от
автора.
Когда Онегина на какие-то мгновения взволновало письмо
Татьяны, то сказано об этом у Пушкина так: «Быть может, чув-
ствий пыл старинный им на минуту овладел...» Нежность, про-
мелькнувшая в онегинском взгляде, брошенном на Татьяну на
ее именинах, создателю романа также в своем происхождении
неясна: «Невольно ль, иль из доброй воли, но взор сей нежность
ИЗЪЯВИЛо...
Сообщая в примечаниях к «Онегину», что в «романе время
расчислено по календарю», Пушкин опять же признавал, даже
подчеркивал подвластность созданного им мира объективному дви-
жению жизни, объемлющему и самого поэта.
И вот уже творец «Онегина» должен был сказать, что его Тать-
яна «удрала» с ним «штуку». И затем Толстой будет неоднократ-
но вспоминать эти пушкинские слова, потому что в них, действи-
тельно, свидетельство утверждавшихся новых отношений между
художником и его героями. Потому что здесь — начало русского
романа ХПХ века с его широким, непредусмотримым самоосуще-
ствлением жизни возникших в писательском воображении и полу-
чающих уже собственную свою историю персонажей.
Поэтическое воображение оказывалось способным воздвигнуть
мир, диктующий свою волю этому же воображению. Подобная
способность не становилась для Пушкина в ряд обычных и даже
высших проявлений жизни человека, являющегося художником.
В те моменты, когда человек поднимается до нее, он для Пушки-
на восходит на высоту единственную, оставляя позади все прочее,
' Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974, с. 95.
72
все иное в себе, отдаваясь пришедшему озарению. И самое это
озарение предстает ему как сила самостоятельная, берущая его
в исключительную свою власть.
В конце Г главы «Онегина» говорится, что муза его творцу
«явилась», когда «прошла любовь».
Поэты, подобные Ленскому, воспринимали поэзию и любовь
в одном, если можно так выразиться, измерении. Но Онегин от-
зывается об этом иронически («Когда б я был, как ты, поэт...»).
И с подобной же иронией высказывается затем сам Пушкин в
равной мере и о своем Ленском, и о своем современнике Языкове:
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет;
И полны истины живой
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь, бог ведает, кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.
Для создателя «Онегина» стихотворство отнюдь не было само-
выражением по преимуществу. Он готов был видеть творчество
как служение искусству, потребовавшему и призвавшему поэта
к этому служению. В одном из примечаний к «Онегину» Пушкин
привел снятое им по каким-то причинам после первого издания
УТ главы ее окончание:
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта...
Это обращение к «вдохновению» с просьбой посещать его не
было для творца «Онегина» обычной поэтической условностью
и потому, наверное, не должно было вовсе уйти: искусство имело
в его глазах собственные путь и судьбу, которые могли и оставить
в стороне от себя того или другого стихотворца.
Именно на страницах «Евгения Онегина» и, по всей вероят-
ности, в непосредственной связи с определявшимся здесь у Пуш-
кина новым опытом его же муза живет в нем самом как бы вполне
самостоятельно, словно бы даже отдельно от его житейского об-
лика, хотя это именно его муза.
В УПГ главе «Онегина» он приводит ее на раут:
И нынче музу я впервые
На светский раут привожу...
И тут же ее вроде бы слитые с его собственной участью черты
видит уже как бы со стороны:
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу.
73
И словно бы вне его воли она свершает свое назначение:
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села тихо и глядит...
Предощущение повсюду личностей со своими собственными
историями, которые могут в дальнейшем развернуться по-разно-
му, и становление в самом поэте сознания суверенности им же
творимого искусства предстают в художественной системе «Евге-
ния Онегина» как процесс единый и нераздельный.
Казалось бы, при таком устанавливавшемся у Пушкина по ме-
ре создания «романа в стихах» восприятии рисуемых лиц и соб-
ственного труда возможности для лирического самораскрытия
поэта остаться не должно было.
Но, когда С. Г. Бочаров говорит, что «лирика «я» в романе
куда эмпиричнее, необобщеннее, чем собственно лирика Пушки-
Ha»', он оказывается прав. Мы в самом деле нигде — ни в ка-
ком-нибудь отдельном пушкинском стихотворении, ни даже во всех
них, вместе взятых,— не узнаем о Пушкине так много житейских
подробностей, даже почти интимных обстоятельств, как именно
в «Онегине». Соответствующие цитаты у всех на памяти — они-то,
между прочим, и составляют основной корпус того нашего знания
о Пушкине, которое мы черпаем из его поэзии.
И нигде, кроме «Онегина», Пушкин, пожалуй, не разрешил бы
себе так оборвать свою речь и представить такое объяснение это-
му, какое находим в конце ПГ главы романа, когда Онегин, полу-
чив письмо Татьяны, приехал к Лариным:
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять, и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.
П. А. Катенин имел основание писать Пушкину по прочтении
| главы «Онегина»: «Кроме прелестных стихов, я нашел тут тебя
самого, твой разговор, твою веселость, вспомнил наши казармы
в Мильонной». А Белинский затем скажет, что «немного есть на
свете творений, в которых личность поэта отразилась ‘бы так пол-
но, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пуш-
кина».
Утверждение (вроде бы естественное и неоднократно выска-
зывавшееся), что житейское в облике автора «Онегина» от начала
к концу романа идет резко на убыль, проверки не выдерживает.
Как раз последняя, УП глава и начинается, и заканчивается глу-
боко личными признаниями поэта.
1: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974, с. 123,
74
Таким образом, получается, что и особая, даже небывалая
для Пушкина откровенность в «лирике «я» в романе» также со-
путствовала назревающему самовыявлению характеров персона-
жей. Сопутствовала вместе с нарастанием в глазах поэта само-
стоятельности, даже известной отделенности от него самого через
него же совершающихся завоеваний искусства.
Верно и наблюдение литературоведа о пронизанности «Онеги-
на» всего насквозь, даже в «описаниях», лирической стихией.
На первый взгляд подобное сплетение выглядит почти пара-
доксальным. И понято оно может быть в своем действительном
смысле и значении, видимо, скорей всего в известной историко-ли-
тературной перспективе. К ней мы и попытаемся сейчас в некото-
рой мере прибегнуть.
Подымая так безусловно «Ревизора» над «Горем от ума» как
создание собственно художественное, Белинский еще и вообразить
тогда не мог ожидавшей Гоголя трагедии. А она к Гоголю пришла.
И это была уже в точном смысле слова трагедия художника, ибо
творец «Ревизора» и «Мертвых душ» не мог вместить своих же
художнических прозрений.
Грибоедов от «посыпавшихся стихов», принесших ему развяз-
ку «Горя от ума», испытал лишь чувство неизведанного дотоле
упоения и восторга. Гоголь же будет стремиться направить, под-
чинить мессианскому назначению, неотступному проповедованию
собственно художественное, неизбывную, всезахватывающую тягу
свою к красоте — и рухнет под непосильным бременем этой нераз-
решимой задачи.
Создатель «Портрета» так и не избавится от отчаяния перед
тем, что роль созданного художником может, как ему представи-
лось, оказаться дьявольской, что грех самой приверженности ис-
кусству требует тяжкого и постоянного искупления.
«Мысль изреченная есть ложь»,— произнесет Тютчев, сомне-
ваясь, очевидно, в самой возможности органического союза искус-
ства и правды. А Некрасов, когда корил многократно свою музу
за прегрешения против художественности, не мог не считать, что
свершается тут у него все-таки и некое безусловное торжество
высшей, последней нравственной правды.
Достоевский поставит собственную силу искусства неизмеримо
высоко. И именно поэтому будет страшиться, что проникающее
художественное воссоздание, например, телесных человеческих
страданий может безвозвратно отнять у людей веру и они тогда
совсем пропадут.
Творец «Братьев Карамазовых» будет убежден в способности
искусства обнажать в человеке потаенное, самому человеку не-
явное. Собственный опыт будет достаточно утверждать его в этом.
Но он не перестанет сомневаться в нравственной оправданности
попыток заходить так далеко. Вспомним, как останавливают вдруг
себя в своем разгадывании Мочалки-Снегирева Лиза Хохлакова
75
и Алеша Карамазов и как ненавистен Достоевскому Инквизитор,
установивший уже вроде бы все возможности и все невозможно-
сти человечества. Но чем другим, как не разгадыванием людей,
занимался здесь же сам создатель романа? Да и есть ли вообще
без этого искусство?..
Всякая утонченность в глазах Достоевского окажется и раз-
рывом с основаниями жизни, а искусство и за это должно было
принять на себя ответственность. И когда у великого художника
самая зверская жестокость будет определена как артистическая, а
дошедший до последних пределов зверства детоубийца назван ар-
тистом, то это полно будет опять же трагической неразрешимости.
Толстого к сомнениям в нравственной допустимости (не менее
того!) искусства, в праве (тоже не менее того!) посвятить себя
ему приведет прежде всего сладостная неудержимость художниче-
ского порыва в нем самом. Та невозможность не писать, которая
приносила ему наивысшее наслаждение и заставляла в мгновения
творчества забывать про все на свете, кроме своего писания. За-
ставляла в этом состоянии верить, что оно одно лишь важно. И его,
так зло осмеявшего Наполеона, побуждала думать, что, когда он
пишет, то на него смотрят века с вершины египетских пирамид.
Между тем мир, в который входили его книги, оставался преж-
ним. Толстой же хотел, чтобы мир изменился совершенно, от каж-
дого требовал сразу же прямых и немедленных, предполагающих
полное отрешение от самого себя поступков в этом именно направ-
лении. И создатель «Войны и мира» и «Анны Карениной» с не-
умолимой последовательностью объявит художническую деятель-
ность ненужной и непростительной.
В письме 1893 года Лескову он скажет, что «совестно писать
про людей, которых не было и которые ничего этого не делали»,
а потом повторит тогда же для себя в дневнике: «Совестно писать
неправду, что было то, чего не было». Только сам он так и не смо-
жет перестать «предаваться опьяняющей лжи», перестать «выду-
мывать»— и тайком от себя, не отдавая в печать, никому не пока-
зывая, будет, трудясь на земле, писать в то же время «Хаджи-
Мурата», «Живой труп»...
В чеховской «Чайке» Треплева разоружит, сделает бессильным
его не отвердевающая в профессиональное мастерство художниче-
ская впечатлительность и чувствительность (Чехов пометит о нем
в записной книжке: «Талант его погубил»). А рядом, у Тригорина
отнимет остающиеся все-таки едва ли не каждому простые, непо-
средственные радости жизни как раз выработавшийся профессио-
нализм в его занятиях искусством. И может, Нину Заречную толь-
ко и спасает отсутствие, по-видимому, у нее глубокой и подлинной
художнической даровитости.
У Горького в «На дне» именно Актер со свойственной ему
склонностью вживаться в «предлагаемые обстоятельства» не смо-
жет вернуться к прежней житейской повседневности, когда послед-
няя вновь станет для него единственной реальностью, и покончит
с собой,
76
А Бунин в лирическом рассказе 1924 года «Книга» от собствен-
ного имени предъявит счет всей мировой культуре оптом за то, что
она уводила его в мир «никогда не бывших, выдуманных лиц и
переживаний», не дав задуматься и рассказать о себе самом.
«Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди лю-
дей никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их
радостями и печалями, как своими собственными, до могилы свя-
зав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Со-
кратом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким,
Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой. И как
теперь разобраться среди действительных и вымышленных спут-
ников моего земного существования? Как разделить их, как опре-
делить степень их влияния на меня?» — читаем в рассказе. И еще:
«Зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем непременно
роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться
недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что про-
славлены! И вечная мука — вечно молчать, вечно не говорить как
раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, тре-
бующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения
и сохранения хотя бы в слове».
Во всех приведенных случаях — от Гоголя до Горького и Бу-
нина — можно увидеть, что именно собственная сила искусства
побуждала подчас писателей смотреть на него, относиться к нему
с тревогой и настороженностью.
Не вглядываясь дальше в ХХ век, заметим лишь, что здесь,
очевидно, проблема эта приобретала еще большую сложность. До-
статочно напомнить, что Эйзенштейн в начале 30-х годов, после.
своих счастливых опытов по освоению «внутренней речи» кине-
матографом, надолго отошел от собственно художнической дея-
тельности. Насколько можно судить по логике его последующих
размышлений об искусстве, его испугала возможность поднять ис-
кусством в человеке такие пласты психики, о которых мы, может
быть, еще не имеем понятия и с которыми вряд ли сумели бы сей-
час справиться.
Пушкин, разумеется, не мог предвидеть всего дальнейшего хода
истории. Но о Сальери в пору, когда писался «Онегин», он уже
знал. О своем Сальери, таком подозрительно чутком к искусству,
так осознанно поглощенном его судьбой,— и убивающем Моцарта.
И знал о своем Моцарте, вместе с которым уходил из жизни сво-
бодный, счастливый союз в художнике человека и творца. Глав-
ное же заключалось, может, даже не в этом — в другом. Рождение
у него романа с лицами, что-то словно бы отчуждающими ради
объективности своего существования от создавшего их художника,
обретавшими непреложность собственного бытия, полно было для
Пушкина значения чрезвычайного '. Оно органически вызывало у
1 Поэт сам это отметил, опубликовав вместе с | главой «Евгения Онегина»
«Разговор книгопродавца с поэтом», где прямо был обозначен новый взгляд
художника на свое творение, от него в известной степени отделяющееся.
77
него потребность охранить высокое равновесие жизни, оберечь
положение и место автора как первотворца, придать просто чело-
веческому, даже житейскому в себе новую и новую действенность.
Вот почему так многократно открывается в «Евгении Онегине»
связь героев с опытом и судьбой поэта. Вот отчего так интимно
является здесь сам Пушкин.
Уже одни хотя бы только строки «А та, с которой образован
Татьяны милый идеал... О много, много рок отъял!» прямо отме-
тили собою неразрывное единство в «Онегине» реального мира
стоящих за романом живых людей, сотворенного из него мира
художественного, сохранности в как бы уже отделившемся от поэ-
та создании его собственного живого и непосредственного чувст-
ва!. Свободное развертывание произведения одновременно в раз-
ных планах безусловно отводило угрозу превращения писателя в
секретаря, лишь послушного диктату неумолимой действительно-
сти (подобное самоощущение возникнет, как известно, например,
у Бальзака). Устанавливавшееся Пушкиным высокое внутреннее
равновесие «романа в стихах» обращало и «форму плана» «Евге-
ния Онегина» к дальнейшим судьбам всей нашей литературы.
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» И 60-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
В РОССИИ *
«Дворянское гнездо» писалось и вышло, когда Россия уже
вступила в эпоху 60-х годов.
Среди первых откликов на роман был и очень известный ныне
отзыв Щедрина в его февральском письме 1859 года к П. В. Ан-
ненкову: «Сейчас прочитал я «Дворянское гнездо»... и хотелось бы
мне сказать Вам мое мнение об этой вещи. Но я решительно не
могу». И далее Щедрин поделился впечатлением, какое произвели
на него «прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это
начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом»,
признавшись, что «давно не был так потрясен», как ныне «общим
строем» тургеневского создания 2.
Слова, к которым прибег Щедрин, как ни неожиданным это мо-
жет показаться, и вводят во внутреннюю связь «Дворянского гнез-
да» с 60-ми годами, указывают место романа в литературном про-
цессе, делая то и другое с большой точностью.
Когда-то Пушкин, сообщая Вяземскому о своей работе над
«Евгением Онегиным», заметил, что между «просто» романом- и
«романом в стихах»—«дьявольская разница». Разница тут и в
' Кюхельбекер верно и тонко констатировал, что «поэт в своей 3-й главе
похож сам на Татьяну... везде заметно чувство, каким Пушкин преисполнен»
(Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, с. 42). Соотнесение Пушкина с Тать-
яной, а не наоборот, было в высшей мере показательным, но столь же показа-
тельна и самая эта отмечаемая «похожесть», и общая для обоих — Пушкина и
Татьяны —«преисполненность» чувством.
? Щедрин Н. (Салтыков М. Е.). Полн. собр. соч. М., 1937, гл. ХУШ,
с. 144.
* Глава написана в соавторстве с Т. П. Горелик,
78
самом деле была именно такая. Ведь «лирика пушкинского романа
не в «лирических отступлениях» (во всяком случае не главным об-
разом в них), не на периферии или в отдельных участках, но преж-
де всего в основании целого, в этой универсальной роли место-
имения «мой», в том, как охвачен эпос героев образом авторского
сознания»!.
«Птенцами гнезда Петрова» назвал Пушкин активных, дея-
тельных, сильных соратников и сподвижников Петра, не найдя в
них, по-видимому, при всех несомненных достоинствах, собствен-
ной их исторической инициативы. И, очевидно, не более самостоя-
тельными и самоопределившимися представали ему его современ-
ники. Решившись на некоторое огрубление, можно, пожалуй, ска-
зать, что ни те ни другие не могли «от себя» «потянуть» истории
частной жизни, а потому и начать непрерывную историю романа
в новой русской литературе. Пока это мог сделать с ними непо-
средственно и в открытую только Поэт, сам Пушкин.
Лишь позднее, в свете дальнейшего, откроется постепенное дви-
жение многих людей России и в прежние века к самостоятельно-
сти и самопроявлению. Тогда-то и можно будет писать романы
о ХУГ или даже о ХПУ веке. Пока же Белинский в последний свой
год, многого ожидая от русской личности в будущем, видя бога-
тейшие в этом смысле залоги, утверждал, что ныне она еще толь-
ко «эмбрион». И Пушкин лишь энергией своего поэтического во-
ображения мог и стремился провидеть в персонажах «Онегина»
движение их собственной внутренней жизни и так и не смог раз-
вернуть повествования в прозе «Арапа Петра Великого», придал
оттенок сказочности героям, фабуле и сюжету «Капитанской
ДОЧКИ»...
О прямой связи «Дворянского гнезда» с пушкинской традици-
ей, с «Евгением Онегиным» в частности, писали неоднократно.
Но, думается, точней и глубже всех линию такой связи провел
Щедрин. Он сделал это, когда отметил в «Дворянском гнезде»
«прозрачные, будто сотканные из воздуха образы», почувствовал
особый «общий строй» романа.
Послепушкинская проза разными путями формировала пред-
ставление о личности и ее возможностях. В «Герое нашего вре-
мени», скажем, немалую роль в этом смысле сыграло то, что ед-
ва ли не все воспроизводимое увидено здесь кем-то в данный имен-
но момент и со строго установленной в пространственном отноше-
нии индивидуальной и личностной позиции (см.: Решетова Л. И.
Изображение и психологический анализ в прозе М. Ю. Лермон-
това. Автореф. канд. дис. Л., 1982).
Затем «натуральная школа» 40-х годов сумела окружить чело-
века множеством реалий повседневного его существования, ета-
новившихся также все более индивидуализированными.
Бочаров С. «Форма плана» (некоторые вопросы поэтики Пушкина).—
Вопросы литературы, 1967, № 12, с. 119.
73
В 60-е годы возник, однако, новый и резкий поворот.
Вот, к примеру, в «Обломове» Ольга и Штольц гуляют по то-
полевой аллее, которая так именно и названа. Но Илья Ильич
в мечтаниях своих видит себя с Ольгой на «бесконечной темной
аллее», которая здесь уже не может быть конкретизована как
«тополевая» или что-нибудь в этом роде, — она оказывается теперь
лишь «бесконечной» и «темной», а сами герои теряют все собствен-
ные свои черты и превращаются в условно-поэтические фигуры
романтических элегий. В мечтаниях Обломова «летний вечер»,
«сумерки», «прохлада» не характеризуют время и обстоятельства
действия, но создают намеренно условную и «лелеющую душу»
атмосферу, где человек может не выбирать своего пути, не при-
кладывать собственных усилий, а просто и только быть, чувство-
вать, печалиться... Илья Ильич предстает тут лишним человеком
уже не по отношению к определенному режиму или общественно-
историческому укладу, но по отношению к самому движению жиз-
ни как таковому. «Лишность» его приобретает некий метафизиче-
ский смысл, на что, в сущности, как уже упоминалось, и указал
Добролюбов, поставив его в завершение всего ряда «лишних лю-
дей», уловив, что тут «лишность» дошла до своего собственного
внутреннего предела. Над конкретностью облика и судьбы Обло-
мова развертывается некий особый слой содержания, где герой
получает иные измерения. Это именно особый пласт в романе,
пристроенный к повествованию даже несколько механистически.
Мы мало что узнаем в «Грозе» о среде, в которой протекало
детство героини. Катерине, надо полагать, нет еще и двадцати, и
трудно думать, что за время ее недолгого замужества все в ста-
рых домах как-то мгновенно помрачнело, успело сразу переменить-
ся. Похоже, что и тогда уже все было здесь примерно таким, каким
выглядит сейчас в семействах Кабанихи или Дикого. И несомнен-
но, к тому же, что в замужестве ее своего-то выбора Катерине
дано не было: Тихона, какой он на самом деле есть, ‘она, по всей
видимости, просто не знала, и узнает его сейчас, на наших глазах,
когда, скажем, он под диктовку матери наставляет ее перед своим
отъездом или еще по-другому многократно выказывает свою жал-
кость и слабость. Однако теперь, перед лицом грубости, жестоко-
сти житейских отношений, необходимости как-то с этим поступить,
пора, когда подобной необходимости еще просто по возрасту перед
нею быть не могло, когда она сама самостоятельно еще и не жила,
а в жизнь только входила, видится Катерине издали в радужном,
чуть не в идиллическом свете.
В воображении своем Катерина, как и Обломов, тоже опирает-
ся на поэтическую традицию, только, в отличие от Ильи Ильича,
не книжную, а народную. И выходит она к действию, становясь
лицом драматическим в собственном смысле этого слова.
Если в «Евгении Онегине» лирическое начало было основанием
и для историй персонажей, то в «Обломове» и «Грозе» оно слов-
но бы вырастает над самодвижением характеров и как бы из него.
«Почему люди не летают?»— спрашивает Катерина Кабанова, и
80
вопрос этот более чем закономерен и для ее собственного облика
у Островского, и для всего художественного строя не только «Гро-
зы», а и «Обломова».
Тургенев, заменив первоначальное название своего писавшего-
ся в 1858 году романа «Лиза» на «Дворянское гнездо», сразу ввел
тем самым в повествование мотив некоторой «призрачности». Для
1858 года, когда крестьянская реформа была уже возвещена и
привычное положение дворянства решительно становилось прош-
лым, самое обозначение «дворянские гнезда», несомненно, метило
собою архаическое, уходящее, отжитое. Мотив этот, прямо ука-
занный заглавием, поддержан тем, что жизнь старых усадеб, их
люди открываются главным образом через взгляд Лаврецкого,
вернувшегося сюда после бурных и тяжких европейских потрясе-
ний в собственном, личном своем бытии и воспринимающего преж-
ние места — контрастно с только что Виденным и испытанным —
в значительной степени по преданию, легендам, давним воспоми-
наниям.
Лиза Калитина, решив уйти в монастырь, говорит: «...отзывает
меня что-то... хочется мне запереться навек». И это «запереться
навек» выглядит пусть и усугубленным, но достаточно прямым
следствием также и пребывания ее в «дворянском гнезде»: здесь
ведь тоже до появления Лаврецкого жизнь шла для нее словно бы
взаперти.
В ХШХ главе «Дворянского гнезда», рассказывающей о при-
езде Лаврецкого в родной дом, мы читаем: «Антон отправился с
лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай; на место его яви-
лась старушка, чуть не ровесница ему, повязанная платком по
самые брови; голова ее тряслась и глаза глядели тупо, но выра-
жали усердие, давнишнюю привычку служить безответно, и в
то же время — какое-то почтительное сожаление... оказалось, что
ее звали Апраксеей; лет сорок тому назад... Глафира Петровна
сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей; впрочем,
она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобо-
страстно». Если представить себе эти строки в любом произведе-
нии Тургенева, то они, пожалуй, могли бы нести в себе только
одно — обличение крепостнических порядков, сломавших человече-
скую судьбу. Но в романе 1858 года Апраксея с ее историей входит
в иное целое — здесь она из того «старого времени», которое начал
было забывать в заграничных своих скитаниях и с которым сейчас
вновь встречается Лаврецкий, которое еще уцелело только в «дво-
рянских гнездах» России.
«Никакая «положительная» деятельность в России не может
выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на
высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы
лишиться покоя...»! — записал М. Пришвин в 1921 году в дневнике.
В Илье Ильиче в самом деле таится запрос очень высокий, накоп-
ленный, наверное, всей предшествующей историей, никак не менее.
1 Контекст — 1974. М., 1975, с. 323—324,
6 Заказ № 1409 81
А в Катерине единственно ей известная старая нравственность,
в которой самой героине уже никак не уместиться, живет столь же
неизбывно. На рубеже, на грани эпох, где оказалась в 60-е годы
Россия, с неизбежностью вступал в силу совсем новый подход
к человеку.
Соответственно в «Дворянском гнезде», в отличие от первого
тургеневского романа, идеологические установки самих персона-
жей перестают быть определяющими в их характеристике. Лав-
рецкий отстаивает в споре с Паншиным нечто, в глазах самого
Тургенева даже и в этот момент отнюдь не безусловное. Если счи-
тать автора солидарным с Лаврецким в споре, который тот ведет,
останется только приписать ему — хотя бы для данного историче-
ского промежутка — чуть ли не последовательное славянофильст-
во. Но мы знаем, что Лаврецкий восторжествует в противоборстве
с Паншиным еще прежде, чем герой начнет говорить, «В саду Ка-
литиных, в большом кусту сирени, жил соловей; его первые ве-
черние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи; пер-
вые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными вер-
хушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину...»
Лаврецкий выдвинут, выслан против Паншина словно бы всей той
прежней жизнью, где человек не попирал природу и не пренебре-
гал ею, оставался ей близок,. пытался со своим «гнездом» вписать-
ся в нее.
В известном спектакле 1894 года по «Дворянскому гнезду» в
Александринском театре «среди третьего акта сцена пустела. Зри-
тель видел тихий дом с теплыми приглушенными огнями в окнах,
таинственный вечерний сад, бесконечные поля вдалеке. Всходила
луна. Несколько минут природа произносила свой «монолог».
И только вслед за тем начиналась сцена объяснения в любви меж-
ду Лаврецким и Лизой... Казалось, что объяснение было вызвано
общим состоянием мира»'.
Определенность характеристик, точность обозначений раство-
рялись отчасти в тургеневском романе 1858 года в лирическом
воссоздании атмосферы «дворянских гнезд». Слово здесь оказы-
валось в самом деле «прозрачным, будто сотканным из воздуха».
Весь роман о «дворянских гнездах», как многократно отмеча-
лось, проникнут лиризмом. Но есть в нем ответвления от повест-
вования, где лиризм особенно сосредоточен и особенно открове-
нен. Они связаны по преимуществу с Лаврецким.
Совсем незадолго до. «Дворянского гнезда», в «Рудине», нам
еще не дано было узнать, любил ли Рудин Наталью в самом деле,
или нет, хотя едва ли не все другое о герое выяснялось с совер-
шеннейшей отчетливостью. Герой полагает, что это у него подлин-
ная любовь. Наталья таковой за ним не признает 2. И неопределен-
' Сокурова О. Некоторые предпосылки сближения и взавмюдействия Те-
атра и романа.— Театр и драматургия. Вып. 6. Л., 1976, с. 136.
? См.: Маркович В. Роман Тургенева «Рудин» и традиции «натураль-
ной школы».— Русская литература, 1981, № 2, с. 119.
82
ность тут именно и только в этом пункте выразительна уже сама
по себе.
В глубине и серьезности чувств Лаврецкого сомневаться нет
ни малейшей возможности. Неверность Варвары Павловны он вос-
принял как страшное бедствие, как тяжелейший удар. В Россию
приехал лечиться от перенесенного потрясения. Но здесь почти
тотчас же им снова, уже после всего пережитого, овладевает по-
требность счастья. Еще болезненно помнящий жену, все с нею свя-
занное, он уже испытывает к Лизе волнующий его интерес, на
второй день знакомства с нею уже расспрашивает о ней у стару-
шек, уже терзается ухаживаниями Паншина. И сам этому пора-
жается. «Неужели, — подумал он,— мне в тридцать пять лет не-
чего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщи-
ны?» Твердо сознавая, что «Лиза не чета той», Лаврецкий все же
страшится новой любви — и не может ей противиться.
Лаврецкий устремляется к манящему его счастью — и тут в
Федоре Ивановиче, которого только-только Михалевич обозвал
«байбаком», поднимаются все его душевные силы, рождается не-
бывалая для него энергия. Это пробуждение Лаврецкого писатель
ценит. Ведь только тут и время в Васильевском пошло быстрее.
За немногие дни развертывается вся история отношений Лаврец-
кого и Лизы. Лиризм тургеневского романа имеет в немалой сте-
пени своим источником сочувствие писателя герою, его собствен-
ную захваченность человеческим счастьем.
Но «стихия страсти у Тургенева... разрушительна... Она подав-
ляет свободу и осуществляющую ее в личности верность»!,— кон-
статирует исследователь.
О любви Лаврецкого к Варваре Павловне писатель повествует
как о некоем помрачении или тяжелой болезни. Перед новой своей
любовью герой сразу же испытывает страх. Есть что-то жуткое
даже в счастливом объяснении Лаврецкого с Лизой: тут словно бы
ощутимо действие и каких-то таинственных «высших сил», и Лав--
рецкий даже приходит в сад как бы не по своей воле.
Любое личностное самоосуществление не может, по Тургене-
ву, уберечься от тягостного «неблагообразия». Недаром отноше-
ния Лаврецкого и Лизы сплетены в романе со слухом о смерти
Варвары Павловны.
Находясь «в постоянной лихорадке», Лаврецкий «иногда... сам
себе становится гадок: «Что это я,— думал он‚,— жду, как ворон
крови, верной вести о смерти жены!». И еще: «Лаврецкий не раз
упрекнул себя в том, что показал Лизе полученный им нумер
журнала: он не мог не сознаться, что в его душевном состоянии
было что-то возмутительное для чистого чувства».
В разговоре с Лизой Лаврецкий называет любовь «лучшим,
единственным счастьем на земле». Однажды сказано, что он был
потрясен счастьем любви. Но герой Тургенева и словно бы посто-
' Лаврецкий А. Тютчев и Тургенев.— В кн.: Творческий путь Турге-
нева. М., 1923, с. 261.
6* 83
янно смущен своей отданностью любовному чувству. Почти сты-
дится ее. Свободный разлив страсти в музыке Лемма, вызванный
его же, Лаврецкого, душевным взлетом, для него самого и как
будто неожидан, и словно бы чрезмерен. «Вы меня слышали... раз-
ве вы не поняли, что я все знаю!»— поражается Лемм удивлению,
с каким Лаврецкий воспринял его музыку.
Жюльена Сореля и госпожу де Реналь у Стендаля именно тор-
жество в конечном счете их греховной и горькой любви друг к дру-
гу возносило к финалу романа в человеческом смысле на самую
большую высоту. Почти так же красит любовь, сама по себе, Фре-
дерика Моро и госпожу Арну во флоберовском «Воспитании
чувств». Лаврецкий же в своем чувстве бесконечно стеснен. Ну-
жен немецкий музыкант Лемм, чтобы выявить и выразить то,
что душа Лаврецкого в себе несет.
Однако герой мучается и своей скованностью. Не случайно к
концу повествования отношения Лаврецкого с Леммом, открыв-
шим ему, что должно было происходить у Федора Ивановича в
душе, становятся столь напряжены. В ночном разговоре Лаврец-
кий просил Лемма передать Лизе записку о приезде Варвары
Навловны; когда «настало утро» и «оба они поднялись», «странны-
ми глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось
в этот миг убить себя». Собственная сдержанность перед лицом
жизни герою тургеневского романа 1858 года нестерпима, больше
того — отвратительна. И тут и тургеневская оценка существова-
ния, в котором нет отваги и полноты реализации человеком себя.
Тургенев «вывез» в Россию из Германии, с ее сложившейся
романтической (а для Тургенева, значит, и индивидуалистической
по своему характеру)! культурой, музыканта Лемма. Именно в
России может тот теперь обрести для себя почву и крылья. И эпи-
графом к «Песни торжествующей любви» Тургенев поставил:
«Wage du zu irren und 2и 1гаитеп!» («Дерзай заблуждаться и
мечтать!»).
Но он же эпиграфом к своему «Фаусту» избрал требователь-
ное, даже категорическое: «Entbehren sollst du, sollst entbehren!»
(«Отречься должен ты, отречься»). И на сдержанность Лаврец-
кого он и полагался. Когда, уже теряя навсегда Лизу, Лаврецкий,
только взглянув на крестьянина, оплакивающего смерть сына-кор-
мильца, отказывает себе в праве на горе, — мы склоняемся здесь
перед ним. Многочисленными экскурсами в прошлое Лаврецкого
и его рода настойчиво указывается, что над героем властны до-
рогие Тургеневу предания, старина, ее устои.
При последней встрече Лаврецкого с Лизой в монастыре Тур-
генев не позволяет себе коснуться словом их душевных состоя-
ний. Тургеневский лиризм — это и лиризм высокой сдержанности,
целомудренного ограничения и утаивания человеком себя, своих
поднимающихся желаний, своих возможностей. Он свойствен и
героям писателя, и ему самому.
' См. в этой связи рецензию Тургенева середины 1840-х годов на выпол-
ненный Вронченко перевод гётевского «Фауста».
84
Отношения человека с искусством были предметом специаль-
ного тургеневского внимания и тревоги. В «Дворянском гнезде»,
пожалуй, в особенности. Мы узнаем, как поглощенность музыкой
придает некоторую странность Лемму, делает его бездомным ски-
тальцем, уводит с родной земли, где восторжествовало сытое, бюр-
герское благополучие, приводит в Россию. По-видимому, в душев-
ной стойкости и выдержке Лизы значимо, спасительно и то, что
музыкой она не захвачена, вообще художественно не одарена:
«Она хорошо играла на фортепиано; но один Лемм знал, чего ей
это стоило».
Однако наиболее остро и по тому времени достаточно неожи-
данно значение художественной одаренности для того, в ком она
поселилась, уловлено, думаетея, в Паншине. Аполлон Григорьев
говорил о его «ложной артистичности»'. Вряд ли это сказано точно.
Такое определение скорей подошло бы, пожалуй, Варваре Пав-
ловне.
О Паншине ведь прямо говорится, что «он был... очень даро-
вит. Все ему далось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи,
весьма недурно играл на сцене», «он привык нравиться всем, ста-
рому и малому». Даже откровенно над этим человеком иронизи-
руя, писатель не отказывает ему в тонкости и изяществе: «С че-
го бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что
говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко,
задушевно, словно невольно»,— читаем мы в одной из первых же
глав романа. Тургенев отдал Паншину свои собственные, пусть
и ранние, давние уже, стихи.
Нет, по всей видимости, артистичность Паншину свойственна
подлинная, хотя и неглубокая. И она не покидает его долго. Толь-
ко из эпилога станет известно, что в самом последнем счете «чи-
новник в нем взял решительный перевес над художником», но и
тогда он не вовсе бросил литературные занятия.
И вот эта-то артистическая впечатлительность, художническая
внутренняя подвижность и несдержанность и участвовали, со сво-
ей стороны, как следует вполне явственно из тургеневского романа,
в разрушении в Паншине всякой цельности. Они лишили серьез-
ности и прочности его отношения к Лизе. Они же сделали его
беззащитным перед блеском и опытностью Варвары Павловны,
потянули к ней. <...Двух часов не прошло, как уже Паншину ка-
залось, что он знает» Варвару Павловну «век, а Лиза, та самая
Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал
руку, — исчезла как бы в тумане». Заметим: писатель, обычно в
своих заключениях очень осторожный, решается здесь в авторском
повествовании определенно утверждать, что Лизу Паншин «все-та-
ки любил»... И словно бы сам останавливается перед тем, как не-
стоек, нетверд может быть человек, наделенный художнической
впечатлительностью, художнической даровитостью...
‘Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967, с. 274.
85
Восторженно откликнувшись в 1846 году на появление «Бед-
ных людей» Достоевского, Белинский вместе с тем посетовал, что
и здесь снова русская женщина не представлена в своем действи-
тельном облике и значении. Единственное, да и то неполное ис-
ключение сделано было критиком в этом смысле лишь для пуш-
кинской Татьяны. А вот к 60-м годам женщина заняла уже в Ли-
тературе место совсем иное, чем занимала еще недавно — во вре-
мена Белинского.
Встретив Варвару Павловну первый раз в театре, Лаврецкий
«и дрожал, и горел». И пусть Варвара Павловна его обманывала,
даже от Лизы он не позволит себе утаить, что знал все-таки с же-
ною счастье, обязан им ей: «Я... говорил, что я не знал счастья...
нет! я был счастлив».
Нам не предъявлены рассуждения и доводы, какими Федор
Иванович сразил Паншина в споре: важно, что в этот момент ему
отозвалось сердце Лизы.
«И если ваш бог...»,— начинает Лаврецкий свое возражение Ли-
зе, надеясь, очевидно, доказать нравственную допустимость стрем-
ления к счастью,— и умолкает, остановленный превосходством ее
над собой. Когда Лиза принимает решение уйти в монастырь, то
Лаврецкий, по точным словам Г. А. Бялого, «человек не только
равнодушный к религии, но, как и сам Тургенев, имеющий против
нее глубокие этические аргументы»! опять-таки склоняется перед
ней, хоть на этом и обрывается, в сущности, его жизнь. «Да, пото-
му что вы...»— только и позволяет он себе выговорить.
В свое время Добролюбов, относя Лаврецкого «к тому... роду
типов, на которые мы смотрим с усмешкой», заметил, что Турге-
нев «умел поставить Лаврецкого так, что над ним трудно ирони-
зировать». И продолжил: «Начиная с первой встречи с Лизой,
когда она шла к обедне, он во всем романе робко склоняется пе-
ред незыблемостью ее понятий и ни разу не смеет приступить
к ней с холодными разуверениями»-.
Тут уместно, наверное, вспомнить, что и Катерине Островско-
го отдана главная, решающая роль в ее любви с Борисом: по
ее вызову приходит он на свидание с ней, на одну себя принимает
она грех и вину. Ольга Ильинская считает себя назначенной спасти
Обломова, потом же не может удовлетвориться тем, что вполне
и совершенно устраивает Штольца.
Есть, думается, у нас основания заключить, что на переходе
к 60-м годам положение женщины в русском обществе и общест-
венном сознании менялось решительно и твердо. И выразилось
это не в одних лишь «эмансипационных» настроениях, совсем не
только в Ддобывании прав.
Ведь и в толстовских «Казаках», в отличие от многих прежних
разработок подобного кавказского сюжета, слово решения пре-
доставлено не герою, и это «она» отвергает Оленина, а не наобо-
1 Бялый Г. Тургенев и русский реализм. М.— Л., 1962, с. 109.
2 Добролюбов Н. А, Собр. соч. В. 9-ти т. М—Л., 1963, т. 6, с. 108, 104.
86
рот. И в «Войне и мире» и князь Андрей, и Пьер, и, по-своему, да-
же Анатоль Курагин приносят все, что есть у них за душой, На-
таше.
Женщина не только завоевывала равные с мужчиной права —
она ставилась ныне на место исключительное. Некрасов в «Мо-
розе, Красном носе» увидит русскую крестьянку как высший тип
женщины. Чернышевский в «Четвертом сне Веры Павловны», раз-
мышляя о будущем, соотнесет культурные эпохи по тому, что зна-
чила в каждую из них женщина в жизни мужчины...
Здесь, кстати, и обнаруживалась наглядно мера продвижения
общества в самом внутреннем, собственно человеческом развитии,
совершавшемся в России в 60-е годы '. И самая эта эпоха воспри-
нимала себя как новый этап, новую ступень именно во всемирном
процессе, о чем достаточно свидетельствует тот же «Четвертый
сон...» из «Что делать?».
Героини начала 60-х годов поражают, едва ли не все без ис-
ключения, своей редкостной душевной цельностью.
Ольга не может и не хочет примириться с Обломовым, каков
он есть. Не менее требовательна она и к Штольцу. И главное —
к себе самой, к собственной жизни, которой она не допускает вне
безусловной высокой цели. Катерина на первом же назначенном
ею Борису свидании бросается ‘ему на шею, как бросаются в
омут,— уже здесь она бесповоротно осуждает себя самым безжа-
лостным судом.
В свободном своем самоосуществлении женщины эти сдержан-
ны, даже ограниченны, в чувственных проявлениях скованны, хотя
в той же Ольге, скажем, Гончаров и отмечает в какой-то момент
волнующее ее влечение. Но, поднимаясь к новому своему поло-
жению, всегда умеют они сохранить, как Ольга Ильинская, или
восстановить, как Катерина Кабанова, твердое и безусловное внут-
реннее согласие с самими собой, высшее душевное равновесие.
Катерина в смертный свой час находит для остающихся основа-
ние молиться за нее, кончающую самоубийством: «Кто любит, тот
будет молиться...»
О героине «Дворянского тнезда» сказано: «Училась Лиза хоро-
шо, то есть усидчиво; особенно блестящими способностями, боль-
шим умом бог ее не наградил; без труда ей ничего не давалось».
Она не талантлива, не ярка. В ней нет бурной душевной энергии,
которая озаряла бы ее лицо ‘красотой, прельщала бы и очаровы-
вала. Она всего лишь «мила», в глазах ее уловимо только «тихое
движение». В игре ее нет упоения: она играет «отчетливо», но
и только. Стихия музыки остается для Лизы не своей, хотя и` Лав-
рецкий и Лемм воспринимают ее от музыки неотделимо.
То, как потянуло ее к Лаврецкому, Лизу пугает. «Ей и стыдно
было и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим чело-
': Не был ли в известной степени предвосхищен и этот предстоявший сдвиг
в «Евгении Онегине», где таким коренным образом меняется со временем зна-
чение Татьяны для героя?
87
веком, который и в церковь редко ходит и так равнодушно
переносит кончину жены, — и вот уже она сообщает ему свои
тайны...»
Еще большим будет ее страх перед любовью. С твердой уве-
ренностью и без возражений примет она появление Варвары
Павловны как неизбежное и необходимое наказание за свое же-
лание счастья.
В немногие счастливые свои минуты Лиза не отдается радости
безоглядно. Даже в ночной сцене в саду с Лаврецким игравшая
Лизу в спектакле-инсценировке Театра имени Пушкина в Ленин-
граде Н. Рашевская «клала Федору Ивановичу голову на грудь,
протягивала ему губы», но «руки у ней» оставались «опущены».
«В этой позе Лизы Калитиной — какая-то неполнота ее участия
в собственном ее обыкновенном людском счастье»!. Ни о каком
чувственном восторге и самораскрытии, испытываемых в подоб-
ных обстоятельствах героинями Стендаля или Флобера, здесь, ра-
зумеется, и речи быть не может. Мелькнувшее было первоначально
«падение» Лизы (даже независимо от привходящих обстоя-
тельств — высказанного Гончаровым обвинения в заимствовании
Тургеневым этого мотива у него из замысла будущего «Обрыва»)
сохраниться в окончательном тексте, конечно же, не могло.
Лиза в той уходящей, патриархальной общей жизни, где ни
индивидуальность, ни женственность не самоопределились, не вы-
делились, не просияли, в значительной степени еще как бы раство-
рена. Но такое состояние ее самое уже и тяготит.
В ее готовности выйти за Паншина Лаврецкий угадывает «чув-
ство долга, отреченья, что ли», даже «расчет». Лиза входит в ро-
ман с неосознанным, но почти постоянным страхом чего-то ей
самой чуждого, но неуклонно в ней же совершающегося. Она не
может не полюбить Лаврецкого, хотя и видела в любви раньше —
ненужное, после встречи с Федором Ивановичем — недозволенное
и страшное.
При прощании с Лаврецким Лиза выглядит неестественно спо-
койно, словно бы неживой, глаза ее «казались меньше и тусклей».
И все-таки, пусть этой ценой, может быть, не меньшей, чем та, что
платит Катерина, тургеневская героиня удерживает принадлеж-
ность свою общей жизни, единству людей. Ее жесткая и холодная
религиозность воспринимается, по верному суждению исследова-
теля, «как нечто глубоко архаическое, традиционное, пришедшее
издалека, из каких-то глубин народной жизни. Когда, перед ухо-
дом в монастырь, она говорит: «Отзывает меня что-то; тошно мне,
хочется мне запереться навек», то это уже не язык дворянской
барышни, а нечто народное, едва ли не мужицкое, или, вернее,
нечто такое, что в старину... могло объединить на Руси и мужик?
и боярина»>?.
' Берковский Н. Тургеневские спектакли в Ленинграде. — Ленинград,
1945, № 1—2, с. 28.
2? Бялый Г. Тургенев и русский реализм, с. 108.
88
Связи отдельного человека с общей жизнью людей во времена
прошедшие остались в России и в 60-е годы непорванными. И уже
после «Дворянского гнезда» Толстой «Войной и миром» будет
звать всех — при выявившейся и воссозданной индивидуальности
каждого — к единению в мире, видевшемся ему как распростра-
ненный на мир — вселенную внутренний уклад отношений мира —
русской общины (.
«МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС» — ШЕДЕВР НЕКРАСОВА
В 60-е ГОДЫ
Едва ли не все крупные художники России ХХ столетия, встре-
тившиеся с 60-ми годами, испытали в это время особый подъем
творческой энергии. Начиналась новая эпоха, прежние устои и
представления во всех сферах жизни обнаруживали свою изжи-
тость, открывались новые горизонты. Толстой утверждал, что тот,
кто не жил тогда в России, «тот не знает, что такое жизнь».
Литература не только отозвалась на крушение крепостнической
системы. Собственными силами, собственным напором своим она
выводила людей России к новому, свободному и широкому, вос-
приятию мира. Та пора дала искусству импульсы движения могу-
чие и небывалые, и само художественное развитие тех лет доста-
точно свидетельствует о том, сколь многое и умирало, и начина-
лось тогда заново в стране.
Некрасов к 60-м годам был поэтом с уже определившимся
местом не только в русской культуре, но и в общественной жизни
России. Он знал об этом сам. Набрасывая первые строфы поэмы,
которая потом получила у него название «Мороз, Красный нос»,
он сразу ввел картину крестьянской беды — нищеты и смерти кор-
мильца, тут же назвав «думу» свою об этом «привычной». Да, поэт
уже годы устойчиво и твердо поглощен был и бедностью, и бес-
правием мужика. Эта дума его была и оставалась неотступной.
Но сейчас он начинал видеть и то, что, став «привычной», она сама
по себе давала возможность и воспринять лишь привычное, лишь
уже известное, словно замыкая заранее поэтическое воображение
в какой-то наперед очерченный, обведенный круг.
Только одну короткую главку позволил себе Некрасов в поэме
60-х годов отвести «тяжким долям», которые оставила крестьян-
ской женщине судьба. Он, в сущности, их лишь перечислил. И уже
в первых главах поэмы сочувственно-сострадательное отношение
поэта к народной жизни как бы поправлялось и сдвигалось той
новой и особой образностью, которая у Некрасова возникала:
«Как саваном, снегом одета, избушка в деревне стоит...»; рядом
с «ты вся — воплощенный испуг» становилось «ты вся — вековая
истома». Сквозь привычную подсказанность жанровой картины
настойчиво, решительно проступает в народной жизни высокое,
' См. об этом: Билинкис Я. О творчестве Л. Н. Толстого. Л., 1959,
с. 275—277,
89
строгое, бытийное. А затем, продолжив работу над поэмой после
того, как первая ее редакция была завершена, Некрасов сумел
сказать о «величавой славянке», обозначить поражающие черты
ее облика. И уже не можешь пройти мимо того, что и название
первой части поэмы —«Смерть крестьянина»— далеко выводит за
пределы одной лишь горькой участи, тоже несет в себе глубинный,
бытийный смысл (уместно напомнить, что поначалу Некрасов еще
намерен был назвать всю поэму «Смерть Прокла»).
Старик, отец Прокла, выбирает место для могилы сыну. И там,
где мы видим его у церкви за этим его делом, «ветер шатает под-
битые бурей кресты». Старик берется за работу и все думает,
«чтоб крест было видно с дороги, чтоб солнце играло кругом», и
от его лопаты «крестами ложилась земля». На просторе всей зем-
ли, и никак не меньше, разыгрывается для Некрасова судьба
Прокла, творится все, что с нею связано, только таких измерений
и понятий все тут требует.
Самое слово «земля» по ходу поэмы все расширяет и расши-
ряет свое значение. Поначалу оно появляется, когда старик роет
МОГИЛУ: «..земля как железо звенела». Но вот о Прокле —«уснул,
поработав земле!» И тут уже — вся жизнь крестьянина, от земли
неотделимая, с ней во всем сопряженная. А потом —«умер и в зем:
лю зарыт!»— это и уход из людского мира, и возвращение к пер-
воосновам всякого бытия.
С началом эпохи, которую В. И. Ленин впоследствии назовет
«эпохой быстрой и решительной ломки», многие привычные уста-
новления теряли свой смысл, и все свободней, все глубже именно
первоосновное и выступало, ‘и просматривалось в человеке, и влек-
ло к себе художников.
Вспомним, как непосредственно выражает свою радость Ната-
ша Ростова в «Войне и мире», как вдруг отступают там перед
вольной стикией охоты все условности человеческих отношений и
как захвачен, упоен здесь сам Толстой, одним духом написавший
эти сцены! Или, с другой стороны: как не может не столкнуться
тургеневский Базаров в себе с драматизмом проявлений самой на-
шей человеческой природы, как мало могут ему тут помочь так
искренне исповедуемые им убеждения.
А в крестьянине, каким видел его творец «Мороза...», перво-
осневное, первородное ничем и не было замутнено или сдвинуто.
И вот иней на лнапке у старика Севастьяна и седина в его усах
и бороде становятся сейчас для Некрасова рядом, в соседних
строчках, сливаются в одно, обнажая высшую естественность, при-
родность крестьянина. И в повествование о жизни и смерти Прок-
ла поэт просто и без усилий включает рассказ о савраске.
Много раз встречаем мы в поэме глагол «выть»: «сурово мете-
лица выла...»; Дарья, «тихо, прерывисто воя, к высокой сосне по-
дошла»; «родные по Прокле завыли»... И он, этот глагол, как ви-
дим, тоже сводит, связует в одно то, что вершится в природе, и мир
крестьянской души, освящает последний ореолом безусловнейшей
непосредственности и безыскусственности,
90
На протяжении всей первой части «Мороза...» поэт ведет речь
обо всем сам, лишь кое-где приводя чужие слова. Это ен сам, поэт,
вглядывается в то, как везут гроб для Прокла, и тут же спешит
признаться, что что-то из сообщаемого — лишь его предположения
(«Старуха в больших рукавицах савраску сошла понукать. Со-
сульки у ней на ресницах, с морозу — должно полагать»). Это он
от себя воздает хвалу «величавой славянке», откровенно дивясь
подобному чуду. Так и идут здесь повествование и лирика, очень
близко сходясь, но сохраняя все-таки между собой какую-то грань,
и между поэтом и его героями остается хотя иногда и совсем не-
большая, однако все же дистанция.
Но разграничение удерживается не всюду. Поэт свободно сво-
дит судьбы Прокла и его савраски, легко переходит от природы
к природности человека, и наоборот, не задумываясь, не оговари-
вая этого, переступает через временную последовательность со-
бытий.
И главное — в собственной своей речи выражает вдруг крееть-
янский «взгляд на вещи», если воспользоваться известной форму-
лой Чернышевского.
А Дарья домой воротилась —
Прибраться, детей накормить.
Ай-ай! как изба настудилась!
Торопится печь затопить.
Ан глядь — ни полена дровишек!
Задумалась бедная’ мать;
Покинуть ей жаль ребятишек,
Хотелось бы их приласкать,
Да времени нету на ласки,
К соседке свела их вдова
И тотчас на том же савраске
Поехала в лес по дрова...
Так заканчивается первая часть «Мороза...». Это: все почти го-
ворит сам поэт, называя Дарью вдовой, напоминая, что в лес она
отправится «на том же савраске»... Но как во всем остальном он
уже вместе с Дарьей, как неотделим от нее...
Заглавие первой части поэмы —«Смерть крестьянина», содер-
жащее торжественное преклонение перед возвышенностью народ-
ного бытия, исходит от человека, который ставит это бытие не-
обыкновенно высоко, сам к нему не будучи причастен, смотрит на
него и со стороны, и снизу. Вторая часть называется, как и вся
поэма, —«Мороз, Красный нос». И уже тем самым отмечено, что
поэма как бы дорастает до самой себя, постепенно набирает свое
дыхание. Но название выразительно еще и тем, что уже в равной
мере принадлежит и Дарье, через видёние Мороза воспринимаю-
щей свой конец, и поэту, освобождающемуся в своем вообра-
жении от всех пут, решительно предающемуся своему художни-
ческому видению и здесь соединяющемуся. с героиней-крестьян-
кой. Образ Мороза, сразу связующий здесь мир Дарья и веобра-
91
жение поэта, по происхождению своему фольклорен, и уже тем
самым оба они тут же охватываются культурой народа, его исто-
рией.
Морозно. Равнины белеют под снегом.
Чернеется лес впереди.
Савраска плетется ни шагом, ни бегом,
Не встретишь души на пути.
Как тихо! В деревне раздавшийся голос
Как будто у самого уха гудеёт.
О корень древесный запнувшийся полоз
Стучит и визжит, и за сердце скребет.
Кругом — поглядеть нету мочи,
Равнина в алмазах блестит...
У Дарьи слезами наполнились очи —
Должно быть, их солнце слепит...
Это начало второй части «Мороза...». Широта, бесконечность
измерений, к которым окончательно и уже во всем выходит поэма,
возникают с первых же строк. Перед нами безмерность прост-
ранств, состояние мира. Точка, пауза после первого слова первой
строки сразу строго обозначает тот масштаб связи, соотнесения
явлений, в котором дальше будет выдержано все. В следующей же
главе второй части речь пойдет о полях, о лесе, о солнце... Почти
в последний момент перед публикацией, в беловом автографе, Не-
красов, наряду с картинами зимы, ввел в поэму — через сны, че-
рез воспоминания Дарьи — также осень, весну, лето, раздвинув и
этим просторы «Мороза...». А сами по себе эти сны и воспомина-
ния дали поэме глубины человеческой души, внутренние пласты
бытия и судьбы человека.
В финале первой главы второй части снова появляется Дарья.
И теперь оказывается, что и новая картина мира, новый масштаб
измерений не только вводятся поэтом, а как бы внутренне при-
сущи взгляду крестьянской женщины. Ведь все это открыто ей,
предстает ее очам, наполненным слезами. Она с поэтом не только
рядом — они оба совершенно наравне и стилистически совсем не
различаемы. До самого конца жизни Дарьи, до последних ее ми-
нут не разойдется поэт нигде и ни в чем со своей героиней, сумеет
от себя передать ее предсмертные видения и чувства. А когда,
«душой улетая за песней», Дарья «отдалась ей вполне», когда из
мира живых она уже уходит, поэт все же еще и от ее имени, а не
только от своего восклицает:
Нет глубже, нет слаще покоя,
Какой посылает нам лес,
Недвижно, бестрепетно стоя
Под холодом зимних небес.
Нигде так глубоко и вольно
Не дышит усталая грудь.
И ежели жить нам довольно,
Нам слаще нигде не ‘уснуть!
Мы говорили, что в первой главе первой части слова «должно
полагать» отмечали отделенность поэта от тех, о ком он вел речь,
92
предположительность его суждений о них. Но тут он поднялся до
них и поднял их до себя, он с ними вместе !. И здесь этим «должно
быть, их солнце слепит» сама Дарья прикрывает от других свое
страдание.
Вспомним, как встречаемся мы впервые, еще в «Смерти кре-
стьянина», с Дарьей. Две строки: «тихонько рыдает жена», «не-
громко рыдает она». Обе — о горьком, сильном, душераздираю-
щем чувстве утраты (дважды сказано: «рыдает»). И в той же
мере — о сдержанности, строгости в его выражении.
Когда, уже у зияния, перед Дарьей проходит вся ее жизнь с
Проклом, она думает о своем отношении к мужу:
Я ему молвить боялась,
Как я любила его!
Высокую сдержанность при громадной силе переживаний поэт
открывает в народной жизни повсюду. Он сам приобщается к это-
му строю жизнеощущений, проникается им вполне. И когда зем-
ной удел Дарьи будет уже завершен, он скажет от себя так, как
могла бы во всяком случае почувствовать его героиня:
Ни звука! Душа умирает...
На протяжении едва ли не всего своего пути — и до «Моро-
за...», и после — Некрасов многократно колебался, то утверждая
этику самопожертвования, то выбирая свободное самоосуществле-
ние личности. Но в «Морозе...» у Некрасова нет этой трагической
альтернативы. Как и его герои, творец «Мороза...» испытывает
огромное напряжение собственных чувств и переживаний, однако
оно не отделяет его от природы, не отгораживает от судеб героев.
С энергией отчаяния заявив в позднейшем посвящении поэмы сест-
ре, А. А. Буткевич, что «не брат еще людям поэт», он в самой
поэме нашел все-таки спасение, нашел выход из этой взаимной
обособленности, из своего одиночества ?. Лирический напор в «Мо-
розе...» счастливо слит с его эпическими началами.
Рождаясь как поэма, произведение Некрасова оставляло в сто-
роне душевные усилия Дарьи, которые были нужны, чтобы чувст-
во, уже такое индивидуальное, не вышло из берегов, не выплес-
нулось в страсть. Поэма проходит как бы над этим. Нет тут и
«диалектики души» автора, так окончательно сближающегося с на-
родным миром, и она во внимание не берется.
Между тем в эту же пору в романном эпосе «Войны и мира»
уже никак нельзя было отвлечься от возможности почти безудерж-
ного увлечения такой естественной, такой «природной» Наташи
Анатолем Курагиным, и Толстой видел именно здесь «узел» всей
своей книги. И даже еще прежде страсть, только возникнув,
' Как знаменательно, что впоследствии, незадолго уже перед кончиной, в
предсмертном дневнике, Некрасов прямо отождествит свою Музу именно с
Дарьей из «Мороза...», где подобное единство определилось впервые!
? Можно, таким образом, считать, что у посвящения есть органическая связь
с поэмой, что оно прямо включено в ее центральную лирическую тему.
93
сразу же безвозвратно вырвала гоголевского Андрия Бульбу из за-
порожского стана, безнадежно развела его со всеми своими, с
родным отцом и братом, и это должно было найти себе место в
эпическом создании. А собственно крестьянская среда дала уже
героев драмы Писемского «Горькая судьбина» со страстями, в
буквальном смысле слова раздирающими их души.
Творец поэмы все подобное мог обойти. Мог просто принять
как исходное, что в его героях все удержалось в несдвинутости,
незамутненной цельности. Но поэма — некрасовское создание имен-
но 60-х годов. Мы отмечали, как напряженно внимателен Некрасов
в первой части хотя бы ко всем реальным обстоятельствам погре-
бения Прокла. Когда во второй части в сознании Дарьи всплывает,
к примеру, понятие «мирской приговор», то, противостоя в самом
широком смысле всему высокому, духовному, «чудесному», оно не
теряет непосредственной связи и с совершенно конкретным для
поэта обликом крестьянской сходки тех лет. В отвлеченность Не-
красов не воспаряет нисколько. В то же время, введя в поэму —
снами, видениями Дарьи — глубины ее внутреннего мира, он от-
крывает, как все непросто в этой словно бы безусловной простоте.
Сюжетное движение второй части поэмы включает в себя фан-
тастику, самые неожиданные переходы, необыкновенно изменчива
и разнообразна ритмика,— и все это определено сложным соста-
вом внутренней жизни женщины перед ее гибелью.
Замерзая, Дарья словно бы возвращается — теперь уже совсем
и навсегда — в природу. Полнота связей и единства человека с
природой как бы целиком восстанавливается, поэтому и испыты-
вает Дарья в свой последний час высшее душевное раскрепоще-
ние. Но приходит это сейчас только вместе с концом человеческой
судьбы героини, с утратой ее для поэта... И Некрасов не дал сав-
раске разбудить Дарью от губительного ее сна, хотя это еще пред-
полагалось у него поначалу: сводя человека вплотную с перво-
основами его бытия, история сразу же обнажала и пропасть,
успевшую здесь пролечь.
В некрасовском поэтическом эпосе есть, несомненно, и свое осо-
бенное трагическое содержание. Оно еще выше поднимает силу
и значение свободного пафоса поэта, его веры, его жизнеутверж-
дения, неустанности его борьбы.
САТИРА И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
Брехт любил говорить, что «перед лицом все новых требова-
ний постоянно изменяющейся социальной действительности сохра-
нять старые традиционные формы — тоже формализм».
Шедрин с такой остротой, как, пожалуй, никто в его время,
воспринимал омертвение старых форм жизни. И противостоял он
94
этому процессу не только непосредственно — силой гневных ра-
зоблачений, а и редкостной свободой, внутренней подвижностью
своего искусства, неустанным развертыванием ресурсов художни-
ческого воображения.
Мы и хотели бы, соотнеся два великих создания Щедрина, по-
явившихся друг от друга хронологически неподалеку, показать,
каким разным бывал Щедрин — и каким при этом всегда могу-
щественным в борьбе с исторически обреченным жизнеустрой-
ством. Речь пойдет о двух щедринских творениях —«Истории од-
ного города» и «Господах Головлевых».
«История одного города» складывалась у Щедрина в те же
60-е годы прошлого столетия, когда едва ли не каждый из живших
в ту пору писателей создал что-то самое свое и самое в литературе
единственное: Гончаров —«Обломова», Островский —«Грозу», Тур-
генев —«Отцов и детей», Чернышевский —«Что делать?», Некра-
сов — «Мороз, Красный нос» и начал «Кому на Руси жить хоро-
шо», Толстой — «Войну и мир»'!. Это русская жизнь освобождалась
от многих устарелых, отживших представлений, выходила навстре-
чу будущему, обретала новое дыхание.
Когда «Война и мир» была завершена, Толстой почти с вызо-
вом заявлял: «Что такое Война и Мир? Это не роман, еще менее
поэма, еще менее историческая хроника. Война и Мир есть то,
что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выра-
зилось». Чувство уверенной свободы у ее творца и позволило
«Войне и миру» стать необыкновенной книгой — обо всей жизни,
о том, чем вообще, в самом конечном счете, живут все люди.
У Щедрина 60-е годы увенчались «Историей одного города».
И, возражая на разного рода недоумения, Щедрин писал нечто
близкое тому, что сказал о «Войне и мире» Толстой: «Я... дорожу
этой формой лишь настолько, насколько она дает мне больше сво-
боды. Вообще я выработал себе такое убеждение, что никакою
формою стесняться не следует...»
Так же, как Толстой «Войну и мир», Щедрин не брался свою
«Историю одного города» назвать иначе как книгой. Она тоже
была шире всех прежних (да и будущих) ограничивающих жан-
ровых рамок.
Дух уверенной свободы художника и увлекает нас в «Истории
одного города», наверное, прежде всего.
Первым в ряду своих градоначальников Щедрии представил
себе (когда весь замысел еще не определился) будущего Пры-
ща — того самого, с фаршированной головой. Щедрину уже от-
крылось, что собственно человеческой материи при подобном типе
общественно-исторического поведения остаться не может: если за-
глянуть внутрь — обнаружишь обязательно какую-нибудь начинку,
никак не иначе.
' Не случайне; между прочим, именно этими своими книгами, как самыми
для них показательными, представлены (если представлены!) все названные.
классики в действуюней ныне школьной программе.
95
И Щедрин заглянуть не побоялся: он был убежден, что речь
может идти не о конце человечества, но лишь о конце градона-
чальников и градоначальничества. В письме 1871 года А. Н. Пы-
пину он подчеркивал: «...Градоначальник с фаршированной голо-
вой означает не человека с фаршированной головой, но именно
градоначальника, распоряжающегося судьбами многих тысяч
людей».
Дать на страницах своей книги Прыщу или Брудастому нор-
мальную голову — это для Щедрина значило бы отступить в бес-
силии перед видимостью. Да, на вид все еще было как бы в по-
рядке. Но энергией ума и воображения писатель проникал много
дальше того, что просто представало глазу, и не мог признать
людьми тех, «которых все существование исчерпывается этими дву-
мя романсами»: «Не потерплю!» и «Раззорю!». Еще вроде бы
люди, по вбей видимости — да. И вместе с тем, по реальному
смыслу своего поведения, — уже нечто выпавшее из рода челове-
ческого.
Именно потому, что звание человека стояло для Щедрина пре-
выше всего, он не мог сохранить градоначальникам людского об-
личия. Подобное было бы у Щедрина поношением человечеству,
согласием с казенными, мертвыми понятиями. Чем больше выво-
дил он градоначальников за пределы рода людского, тем точней
передавался истинный и категорический, в самом принципе непри-
емлемый для него характер всех их деяний. Мера внешнего не-
сходства градоначальников с их жизненными прообразами стано-
вилась у Щедрина мерой постижения и осуждения их действи-
тельной общественной природы '.
Но Щедрин посягал и на большее. Он не только проникал, а
и провидел. В «Помпадурах и помпадуршах», возникавших рядом
с «Историей одного города», он скажет: «Литературному иссле-
дованию подлежат не те только поступки, которые человек бес-
препятственно совершает, но и те, которые он несомненно совер-
шил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек
говорит, но и те, которые он не выговаривает... Развяжите чело-
веку руки, дайте ему свободу высказать всю свою мысль — и пе-
ред вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали
в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стес-
нений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условно-
стями, с необычайной яркостью вызовет наружу свойства, оста-
вавшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний
план то, что на поверхностный взгляд составляло главное опре-
деление человека».
Когда писалась «История одного города», губернаторы само-
державной России еще не могли издавать свои законоположения.
Но Щедрин был убежден, что в Глупове их не появиться не мо-
' Так поздней, уже в нашем веке, бомбардировка Герники будет передана
у Пикассо как светопреставление. И тут тоже скажется бескомпромиссная по-
следовательность и непримиримость художника-борца, не желавшего согласить-
ся с варварским разрушением мирного города как с естественным фактом,
96
жет,— и все это в самом деле пришло. Революционная газета
«Начало» в одном из номеров за 1878 год поместила даже такое
горькое извещение: «Несколько лиц обращаются к г. Шедрину
с просьбой писать сатирические статьи в более отвлеченной форме,
так как они при настоящей степени их реальности служат, по-ви-
димому, материалом и образцом для государственных распоряже-
ний Г. министра внутренних дел».
Высокий общественный подъем 60-х годов, крушение крепост-
нической системы принесли Щедрину твердое знание того, что все
сложившиеся порядки исчерпали себя полностью и окончательно,
что не может не наступить какое-то катастрофическое разреше-
ние. При этом порядки его времени сливались для Щедрина в
одно целое со всеми формами глуповского общественного устрой-
ства.
В «Войне и мире» в фигуре князя Андрея соёвдинились гордость
ума, чувство исключительной собственной ответственности за все
происходящее в России и в мире, свойственные лучшим людям
декабристской поры, и душевная «диалектика», характерная ско-
рей для толстовских современников. Наташа Ростова так же изна-
чально не отделена от простой народной жизни, как это могло
быть в начале века, в эпоху 1812 года; но из своего уже времени
находит Толстой в этой близости особую значимость и особое обая-
ние, залоги возможного широкого и безусловного единения людей
вообще. Книга Толстого открывала выход едва ли не всем самым
высоким началам человеческой природы, давшим о себе знать
в разные периоды прошлого и настоящего.
Щедрин с вершины 60-х годов отвергал все, что определяло
собой в разные времена «необеспеченность жизни, произвол, не-
предусмотрительность, недостаток ‘веры в будущее и т. п.». На все
эти прежние времена совокупно, которым должен прийти конец,
Щедрин смотрел словно бы из того будущего, где ничего этого
больше не останется. И тут вся глуповская история виделась как
нечто единое в своей мрачности и бессмысленности.
Отвечая на упрек в том, что население Глупова «слишком пас-
сивно переносит лежащий на нем гнет», Шедрин возражал, что,
хотя «можно найти в истории и примеры уклонения от этой пас-
сивности», но для него «важны не подробности, а общие результа-
ты, общий же результат... заключается в пассивности...».
Включившая в себя множество подлинных исторических фак-
тов и событий, «История одного города» принципиально и под-
черкнуто игнорировала своеобразие каждого из известных доселе
времен и потому действительно, как настаивал на том и сам Щед-
рин, ни в коей мере не стала исторической сатирой.
Создатель «глуповского летописца» хотел полного преображе-
ния, полного освобождения всей жизни. И меньше всего мог по-
зволить себе просто ждать этого. Своих же соратников, когда он
заподозрил их в том, что они лишь уповают на будущее, а не при-
ближают его всеми и всяческими доступными сейчас средствами,
он готов был назвать «каплунами будущего». Сам же он не по-
7 Заказ № 1409 97
зволял себе пренебречь никакой возможностью конкретного дей-
ствия и пытался даже на государственной службе, в «капище ан-
тилиберализма», «практиковать либерализм».
Однако годы шли. Самодержавию все удавалось устоять, со-
храниться. Пребывание на государственных постах, в самом ло-
гове ненавистной ему системы, немало тяготило писателя, обрекая
его к тому же подчас на неизбежные и мучительные компромиссы.
А в искусстве своем он уже мог свободно градоначальников одо-
леть. Одолеть по-своему, художнически.
Думается, в силе воздействия «Истории одного города» роль
не меньшую, чем убежденность просветителя, что без-умие есть
безумие и что оно не может продолжаться вечно, играет живое
чувство щедринского превосходства над теми, кто здесь обри-
сован.
В современной ему реальности Салтыков разоблаченных им
властителей видел благополучно процветающими на своих местах.
Но знал он о них и об их неминуемой грядущей участи все. И, пре-
вращая их своим художническим воображением в нечто низмен-
ное, уже нечеловеческое, он, несомненно, испытывал радость нрав-
ственной над ними победы.
Смех Щедрина горек. Есть, однако, в нем и высокое упоение
тем, что все, наконец, предстает в истинном свете, всему объяв-
ляется подлинная цена, все названо своим именем, что найдена
и приложена к глуповству необходимая мера. С восторгом и тор-
жеством живописует творец «Истории...» перипетии с головой Ор-
ганчика или Прыща, припечатывает Угрюм-Бурчеева несмывае-
мым, невытравимым клеймом «прохвоста». Он знает, он настаивает
на том, что в собственно человеческом качестве их всех и сейчас
уже нет. И рад еще и еще раз по любому поводу показать, проде-
монстрировать это.
Столь же насмешлив был Щедрин и тогда, когда повествовал,
как лобызались обитатели Глупова при восшествии каждой сле-
дующей из шести градоначальниц (с невероятной быстротой и са-
мым подлым образом выталкивавших одна другую). Только здесь
все-таки смех Щедрина был по своей природе иным. Недаром мы,
так отчетливо помня и Брудастого, и Бородавкина, и Грустилова,
не можем назвать ни одной столь же заметной фигуры глуповско-
го обывателя, и не случайно никто из последних все же не лишен
вовсе обычной человеческой головы.
Когда речь шла о градоначальниках, Щедрин безусловно от-
вергал их право на существование. Самая система градоначаль-
ничества должна была, по Щедрину, навсегда и безостаточно ис-
чезнуть. Населению же Глупова предстояло устыдиться своей по-
корности, бессмысленной и гибельной своей несамостоятельности
и, таким образом, перестав быть глуповцами, начать как-то иную,
неглуповскую жизнь.
«История одного города» рождалась в предвидении неумоли-
мого близкого конца глуповству. Приходил же, как оказалось, ес-
ли воспользоваться определениями самого Щедрина, на смену
98
«старому ветхому человеку» «новый ветхий человек». Наступав-
шие времена изначально были отравлены дыханием порядков,
вполне себя износивших, но так и не упраздненных.
В литературе 70-х годов восторжествовал роман. Это уже са-
мо по себе означало, что судьбы личности стали одной из решаю-
щих сторон русской действительности, что личности, так или ина-
че, повсеместно и неотступно претендовали на свою историю.
Первый у Толстого в собственном смысле слова роман появил-
ся в эту пору (так считал он сам) —«Анна Каренина». Один за
другим шли романы Достоевского. Неожиданно, из очередного
цикла очерков, стал складываться роман и у Щедрина —«Господа
Головлевы». И может, именно у Щедрина наиболее остро обнажи-
лись противоречия между неминуемостью роста личностных начал
и тем, что старые обстоятельства так окончательно и не отступили,
не ушли.
Действие «Господ Головлевых» начинается еще при крепост-
ном праве, в помещичьей усадьбе. Там же оно продолжается и
потом. Крепостного права больше нет, а многие давние усадьбы
все стоят.
У Арины Петровны остались ее земли, ее хозяйство. И вро-
де бы можно все дела вести просто по-старому.
Но и в головлевской помещице дает себя сейчас знать собст-
венная инициатива. Она по-своему, своей властью и властностью
хочет поддерживать в семье старый порядок, старые устои. И уве-
рена, что она над семьей — хозяин, ее воля — единственная, ре-
шающая сила.
Энергия ее при этом изначально подточена привычкой к преж-
ним временам, внутренней ее от них неотделенностью. И, по удн-
вительному выражению Щедрина, она «цепенеет в апатии власт-
ности». «Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками
Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она,
сама He понимая, как это случилось, сделалась соучастницею и
даже явным двигателем этого разрушения...» «Умертвия» прошло-
го роковым образом направляют все поступки, все действия Ари-
ны Петровны в конечном счете ‘против ее же замыслов, против
нее же самой. Направляют неизменно и неумолимо. Спасти хоть
что-то в «устоях» ей при всех ее усилиях не суждено. Даже так —
чем настойчивей усилия, тем верней все рушится: давнее, преж-
нее с какой-то своей инициативой, своим планом оказывается не-
совместимо, обращает их в губительную противоположность.
Еще более сложный процесс вскрывает Щедрин в Иудушке.
Толстовская мощь изображения имела одним из главнейщих
своих источников разрыв между двинувшейся все-таки, несмотря
на все преграды, жизнью и привычными ее восприятиями, обозна-
чениями, характеристиками. Толстой взялся воссоздать все, как
оно на самом деле вот сейчас выглядит и совершается. Мир
предстал у него с небывалой для литературы конкретностью. Сло-
во обретало здесь новые опоры в необычайно гибком улавливанни
бытия. Самая эта полнота воссоздания жизни сдвигала, сносила
7* 99
дальше ограничивавшие жизнь пределы, освобождала для ее жи-
вой силы простор.
Щедрин же в Иудушке устанавливал, как обречена жизнь, по-
гребаемая под суммой слов обветшавших, лишенных уже дей-
ствительной почвы, как безысходно разрушительны могут оказать-
ся даже и одни речи, еще недавно выглядевшие всего только бла-
гонамеренно. (Первые главы будущих «Господ Головлевых» вхо-
дили поначалу в состав цикла «Благонамеренные речи».)
Иудушка замыкается в мир слов, пытаясь ими одолеть все и
всех вокруг, а иногда отвести и самое реальность как бы в не-
бытие.
И многое как будто даже получается.
Вспомним хотя бы, как удается Иудушке отговориться от фак-
та рождения у Евпраксеюшки его, Иудушкина, сына, когда он
ведет беседу со священником, только что собственными руками
окрестившим младенца.
Иудушка с глазу на глаз с батюшкой плетет свою словесную
паутину: «— А притом, я и так еще рассуждаю, ежели с прислу-
гой в короткие отношения войти — непременно она командовать
в доме начнет. Пойдут это дрязги да непорядки, перекоры да гру-
бости: ты слово, а она — два... А я от этого устраняюсь».
Священник знает о действительных отношениях Иудушки с
Евпраксеюшкой все, сейчас окрестил их сына. И от речей Иудуш-
ки у него «даже в глазах зарябило». Но возразить он так ничего
и не решился. Факт тут же как бы перестал существовать, словно
бы снятый словами. И подобных побед у Иудушки немало.
Только победы эти — пирровы.
В произносимые им слова Иудушка сам верить не может.
Он лишь ищет в них орудие самоутверждения и воздействия на
других. И, переставая быть средством естественного человеческо-
го общения, они перестают связывать Иудушку с миром. При-
званные отвести от реальности тех, с кем Иудушка сталкивается,
они постепенно все больше и больше заслоняют эту же реальность
ему самому. Так погружается Иудушка в бессмысленнейшие, пу-
стопорожние свои подсчеты и рассуждения, предается пустомыс-
лию, полностью отрешенному от действительности.
Совершается отчуждение слова одновременно и от стоящей за
ним конкретности бытия, и от пользующихся им людей. Слово
перестает вообще что-нибудь значить.
Когда один из сыновей Иудушки просил отца разрешить ему
жениться, Иудушка послал ответ, который выглядел согласием.
Однако, ссылаясь на этот же свой ответ, Головлев оставил юношу
без всякой помощи, и тот погиб.
Сам Иудушка маменькиного «проклинаю» ждал все же с не-
преодолимым страхом, почти с ужасом. Прозвучав же наконец,
и оно оказалось только словом, не имеющим никакого содержа-
ния и силы, давно выпотрошенным, пустым.
Уже как нечто самостоятельное, отдельное, само себе довлею-
щее, слова заполняют в Иудушке без остатка то место, то про-
100
странство, где должны бы помещаться живые привязанности, жи-
вые побуждения. Пустословие предстает равно губительным как
для слова, буквально разлагающегося в Иудушкиных устах
(до полной наглядности во всех этих «тальица», «опытец»), так
и для Иудушки, остающегося при одних словах и без чего бы TO
ни было за ними.
Спасения для Порфирия Головлева теперь нет. Нарастает ра-
зобщение его со всеми людьми. Рядом с ним — одни могилы. Ни-
чему живому уцелеть здесь не дано. Аннинька бежит от дяди, бро-
сив ему: «Страшно с вами!» И этот ее возглас помнит и повторяет
даже тупоголовая Евпраксеющшка.
На страницах щедринского романа вымирает весь головлев-
ский род. Историческая выморочность входит в кровь, проникает
в естество, передается из поколения в поколение. Запой словес-
ный с непреложностью приводит к запою и в первичном, привыч-
ном смысле этого слова,— и вот уже последние из Головлевых,
Иудушка и Аннинька, доживают свои дни в пьяном беспамятстве
и угаре.
Как в это же время Золя на Западе, Щедрин тоже обнаружи-
вал новые сопряжения в человеке биологического и исторического,
наследственного и собственно своего, их более тесную, чем ког-
да бы то ни было раньше, взаимозависимость. Только русский
автор воспринимал эту связь шире и свободней, чем натуралисты,
и не случайно возражал Золя. Он вступал, по известной харак-
теристике Луначарского, в «глубины духа»'. В те самые, на каких
у Достоевского развертывалась драма рода карамазовского (хоть
и Достоевскому Щедрин был оппонентом неизменным). Фатальной
однонаправленности и одномерности в развитии человеческой судь-
бы для творца «Головлевых» не существовало. Потому никогда
и несмотря ни на что не снималась ответственность за выбор, не
уходила возможность открытого авторского осуждения и состра-
дания.
Писатель не мог допустить, что в той же головлевской усадьбе
все лишь безысходно мертво и способно только дотлевать. Даже
в Евпраксеюшке он не обошел того, как «инстинкты молодости»,
сначала «тупо тлевшие», потом вдруг «горячо и привязчиво вспых-
нули». Не оставил без внимания Евпраксеюшкиного, пусть урод-
ливого и бессильного, порыва жить.
«Головлевы» еще не были завершены, а финал Иудушки был
всем как будто совершенно ясен. «...Он может... делаться все хуже
и хуже: потерять все нажитое, перейти в курную избу, перенести
все унижения и умереть на навозной куче...»›— писал Щедрину
Гончаров. И дальше уверял: «...Нанести себе удар ножом, пустить
пулю в Лоб — это значит все-таки сознать какой-нибудь ужас
своего положения, безотрадность падения, значит почувствовать
в себе утробу — нет, в такой натуре — ни силы на это не хватит,
ни материалу этого вовсе нет».
' Луначарский А. В. Собр. соч. В 8-ми т. М., 1965, т. 5, с. 282.
101
Для Щедрина же, при всей его неумолимости, даже в Иудушке
KaKOH-TO «материал» (хоть и не способный ни поднять самого
Иудушку, ни дать что-нибудь другим) исключен не был. Ведь тут
перед художником была все-таки человеческая особь, а не, ска-
жем, градоначальничество...
И вот каким оказался у Щедрина конец последнего Головле-
ва: «Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат.
На дворе было еще темно, и ниоткуда не доносилось ни малей-
шего шороха. Порфирий Владимирыч некоторое время ходил по
комнате, останавливался перед освешенным лампадкой образом
искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он
решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое реше-
ние, но через несколько минут он, крадучись, добрался до перед-
ней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь.
На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица,
посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Влади-
мирыч шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни
ветра и только инстинктивно запахивая полы халата». Дальше го-
ворится, что «на другой день, рано утром, из деревни, ближайшей
к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал
верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден
закоченевший труп головлевского барина».
Мы видим, как только «наконец» не выдержал последний Го-
ловлев и лишь «наконец» решился. От нас не скрыто, что нет
оснований судить, «насколько он сам сознавал свое решение».
Смерть тут так же не является разрешением, как и все ей пред-
шествовавшее.
И все-таки Щедрин называет теперь своего героя не Иудуш-
кой, но Порфирием Владимирычем. Помянуты «искупитель в тер-
новом венце», могила матери... Самая тональность повествования
меняется совершенно.
«Вещество» человеческое на последней ступени надругатель-
ства над ним само поднялось на свою защиту. Даже в Иудушке,
где «материалу», казалось бы, не было уже вовсе. Создатель «Го-
ловлевых» сумел это художнически обнаружить и художнически
же утвердить. Не остывая ни на минуту к злобе дня, Щедрин вхо-
дил и в такие сферы бытия, которые сам однажды назвал «об-
ластью предведений и предчувствий».
ДРАМАТИЗМ И ЭПИЧНОСТЬ В ПЬЕСАХ ОСТРОВСКОГО
Еще самому Островскому, написавшему на протяжении своей
жизни около полусотни пьес, с редкой последовательностью и не-
изменностью творившему только и исключительно для сцены,
пришлось неоднократно слышать и читать о себе, что «в сущности
он писатель эпический» (И. Гончаров).
Возражая против утверждений подобного рода, Добролюбов
настаивал, что у Островского и лишние, ненужные как будто для
драматического действия лица на самом деле к этому действию
102
причастны, что развязки здесь органически вытекают из особен-
ностей воспроизводимой жизни и т. п. К написанному Добролюбо-
вым в защиту Островского как драматурга в советские уже годы
добавлено разными исследователями немало. Мы, однако, до сих
пор не задумывались как следует над тем, почему же могли воз-
никать такие суждения. Гончаров же свои слова об Островском
адресовал как высокую похвалу.
Можно, конечно, согласиться, например, с мнением о том, что
экспозиция у Островского «втягивается» в завязку, что в «Грозе»,
скажем, еще до появления Катерины начинает определяться про-
тивостояние сил. Но ведь важно, наверное, и то, что действие
в привычном смысле возникает все-таки не сразу, что Катерину
мы увидим впервые не раньше пятого явления, а встреча ее с Бо-
рисом произойдет на наших глазах лишь в третьем акте, что силен,
ярок в языке Островский не столько искусством развертывания
диалогических общений, сколько воссозданием пластов русской
речи... Что бы там ни говорилось, усмотреть в Островском писа-
теля, поглощенного только тем, как жизнь обостряет, доводит
свои противоречия до драматического предела, трудно. Драмати-
ческое у него выступает, даже на первый взгляд, в очень непро-
стых связях и опосредованиях.
Понятно, что Добролюбов, которому так страстно, так неверо-
ятно хотелось пробуждения энергии, активности, действенности
личности в современной ему России, сосредоточивался, читая Ост-
ровского, на драматическом начале. Но, следя и следуя за этим,
он обнаружил у Островского картины «темного царства»: личность
здесь рождается в гуще и толще слежавшегося быта, в постоянных
и разветвленных отношениях с ним.
Когда в «Грозе» странница Феклуша в доме Кабановой заводит
речь о каких-то невероятных землях и об «умалении» времени, то
открывается, сколь многое в существующих понятиях людей про-
тивостоит порывам Катерины. Однако Катерина вспоминает из
своего детства рассказы странниц как нечто заветное и совсем дру-
гое для нее, чем вся атмосфера кабановского дома. Те давние,
принесенные странницами рассказы неотделимы для нее от Волги,
от радости детского, юношеского освоения мира, от народного
прошлого, от веры в жизнь... Так возникает у Островского дыхание
эпоса. Его картины жизни не только вводят быт как средоточие
косности и неподвижности, а еще и дают органическое ощущение
бытия народа, его нравственной истории.
Не сужаем ли мы искусственно свои представления об авторе
«Грозы» (а заодно и о некоторых существенных особенностях всей
отечественной литературы вообще), пояти не замечая в нем вели-
кого эпического художника?
У всех в памяти, что Белинский парадоксальным вроде бы об-
разом отказал пушкинскому «Борису Годунову» в драматической
природе. Он не находил в русском прошлом, в ХУ1-—-ХУП веках,
характеров, способных к подлинно драматическому выбору, к под-
линно самостоятельному и новому историческому решению.
108
Белинский при своем анализе пушкинской трагедии кое-чего
не учел, иного просто еще не мог знать. Многое тут можно сейчас
оспорить. Нельзя только отмахнуться от острого ощущения, испы-
танного великим критиком: в сущности, лишь в его пору русская
жизнь поднималась к драматическому своему самовыражению.
Исследования Г. А. Гуковского показали, что в «Борисе Годуно-
ве» русская культура, русский быт действительно предстают креп-
ко объединяющими, крепко удерживающими в своем лоне еще
едва ли не всех людей России — от царской дочери Ксении, по-на-
родному оплакивающей жениха, которого она не сама выбрала и
сама даже не знала, до Пимена, слитого всей жизнью с тем, о чем
он как летописец повествует. Отделён и отдёлен здесь разве что
царь, Борис Годунов (почему, кстати, он и может все-таки ока-
заться главным драматическим лицом).
Разумеется, уже и при Годунове Русь отнюдь не была ни еди-
ной, ни целостной. Но так виделась она Пушкину при соотнесении
с Западом той же поры и перед лицом противоречий дальнейшего
исторического пути. Однако героем его был Борис, и писал он
все же драму.
Белинский не признал и «Горе от ума» органически драмати-
ческим произведением. Мы и в этом случае сходимся с Белинским
отнюдь не во всем. Но ведь и в самом деле: драматический конф-
ликт в «Горе от ума» рождается во многом из потрясенности поэ-
та тем, что люди России, Фамусов и Чацкий, так вроде неожидан-
но друг друга «и слушают — не понимают» и, даже совпадая, ска-
жем, в отношении к моде на французов и французское, в действи-
тельности и тут расходятся. А рождалось опять же произведение
драматическое.
История шла все быстрей, и свидетельством тому была уже
самая неудовлетворенность, самое нетерпение Белинского.
И вот «Свои люди — сочтемся»— первая пьеса, принесшая
Островскому на исходе 40-х годов известность и славу.
Героя ее, Самсона Силыча Большова, вчера «Самсошкою зва-
ли, подзатыльниками кормили», он «голицами торговал на Бал-
чуге». А сегодня, сам создавший свое состояние, свое богатство,
он сам и решает, как ему быть дальше. А рядом исхитряется уст-
роить свою судьбу большовский приказчик Подхалюзин. И Ли-
почка, дочь Большова, претендует на «образованность».
Личность формируется, свой выбор утверждается тут в каждом
уродливо, происходит все это в самом непросветленном, что на-
зывается, виде. Однако совершается повсеместно в каждом — путь
для драматического действия открыт. Но Болышов оказывается
у Островского лицом драматическим постольку, поскольку новей-
шее эгоистическое своекорыстие и произвол встречаются в нем
с приверженностью к нравственным установлениям, еще недавно
действенным. Он жертва не только собственного злого умысла, но
и незыблемости своей веры в то, что хоть свой-то своего обмануть
в самом деле не должен и не может. В финале Большов хмелеет
от горя, он предстает обманутым отцом. Попранным оказывается
104
и то, без чего жизнь просто не может стоять. Старое состояние
и Течение жизни разламывается, взрывается, но именно при этом
оно драматически обнаруживает свое достоинство и цену, даже
когда речь идет о чем-то достаточно ограниченном, вроде расчетов
со «своим».
В современной Островскому России моральные ценности, со-
здаваемые народной историей, и повседневный быт выступали час-
то в сложнейших переплетениях. И писателю по разным причинам
не всегда давалась определенность разграничений. Его пьесы
1852 — 1855 годов, например, уже своими заглавиями отстаивают
всеобязательность неких моральных правил и заповедей, власт-
ных как будто всегда и неизменно. «Не в свои сани не садись»,
«Бедность не порок», «Не так живи, как хочется»— прямо поуча-
ют они, не допуская ни малейших сомнений. Во всех этих пьесах
спасение героинь, благополучное разрешение конфликтов приходит
от торжества, несмотря ни на что, начал купеческой старозавет-
ности. Писатель тут и в самом деле соприкоснулся со славяно-
фильской догмой.
Драматическое у Островского, казалось, совсем поглощалось
неизменной устойчивостью форм быта, и, как мы уже говорили,
Чернышевский, чрезвычайно резко отзываясь о пьесе «Бедность
не порок», не без оснований опасался, что автору ее угрожает рас-
пад самой драматической формы, утрата почвы под ней. Однако
распада этого все же не произошло, и в той самой пьесе, которая
так озадачила Чернышевского, появился один из замечательней-
ших в ХХ веке драматических характеров — Любим Торцов.
Да, увлечение Дуни Русаковой в пьесе «Не в свои сани не са-
дись» налетело в самом деле как вихрь, пленило ее в Вихореве
«благородство» весьма невысокого пошиба. Но Островский при-
стально внимателен ко всему, что в той же Дуне действительно
происходит. В основе сюжета пьесы — попытка такой вот Дуни
по-своему определить собственную судьбу, как бы у нее это ни
выглядело.
В пьесе «Бедность не порок» последнее слово отдано Гордею
Торцову, главе семьи. От него ожидается и в конце концов изойдет
справедливое и желанное для всех решение. Дочь его и не дума-
ет выйти из-под его воли. Она сама повторяет это шестикратно.
Получает она своего Митю, когда это позволено отцом. Но имя
ее — Любовь. Чувство ее к Мите — это не короткое увлечение, а
стойкое и неизменное устремление ее сердца, это в самом деле
любовь. До развитого индивидуального чувства и, таким образом,
до уровня личности вырастает девушка, ничего в жизни, кроме
старозаветности, не знавшая.
Островский еще надеется согласовать это новое чувство лич-
ности с сохранением тех форм отношений между людьми, которые
давно сложились в купеческих домах. Однако действие открывает
нам, что, когда подымается любовь, оставить все в прежних гра-
ницах можно лишь при прямом насилии. И отец Любови — не Ру-
саков, не Бородкин. Он — Гордей, крепко и неизменно удержива-
105
ющий все в своих руках, навязывающий всем привычные требо-
вания уже как самодур. Исполнение его желаний и воли стано-
вится ему важней и нужней соблюдения всякого канона.
Любим Торцов призван автором свести в одно старые уста-
новления быта и судьбу Любови, и это ему как будто удается.
Но художественная правда и драматизм характеров определяют-
ся тем, что сам Любим оказывается раздавленным меж несходя-
щихся все-таки начал.
Конец николаевского времени открыл Островскому фигуру
убежденного, сознательного противника прежней жизни, и пПиса-
тель устремился к нему столь же убежденно и сознательно.
«Доходное место»— едва ли не единственная из пьес Остров-
ского этой поры, где национально-историческое прошлое в его по-
ложительном содержании обойдено начисто, не присутствует ни-
как. Прошлое здесь — это лишь то ближайшее вчерашнее и еще
сегодняшнее, от чего надо поскорей и безусловно избавиться.
Это система взяточничества и круговой поруки на государственной
службе да еще представления о том, что семью следует содержать
в довольстве, для чего все средства годны. Весь свет тут — от од-
ного Жадова. И он первый среди героев писателя так горячо от-
стаивает новые понятия.
Зло в «Доходном месте» действительно посрамлено — Вышнев-
ский наказан. Случилось это, однако, совсем не благодаря Жадо-
ву. Больше того — в последний момент Жадов, оказывается, сам
было не устоял и пошел за «доходным местом».
Островский не дал пылкому просветителю изменить высоким
принципам. Но и открыл, как мало одних только даже самых
горячих, самых искренних желаний для действительного противо-
действия злу. Жизнь оставляет носителя новых убеждений просто
в стороне от главного, что в ней происходит, что она свершает
иными силами и на иных путях.
Трезвостью своей оценки Жадова, его исторической судьбы
писатель открывал себе путь к Катерине, к «Грозе».
Чем изумляет «Гроза» до сих пор? Почему это действительно
особенная русская пьеса, русская трагедия?
При первом же появлении Катерины мы узнаем, сколь обяза-
тельными считает она все привычные для ее среды семейные по-
рядки. Она готова принимать требования свекрови так же, как
принимала бы волю родной матери. Но в самом этом уравнивании
Катериной требований свекрови с волей матери сразу же видно:
молодая женщина хочет сама освятить для себя свои семейные
отношения, возвышая их до чего-то действительно безусловного
и непреложного. Освятить усилиями, напряжением души, которая
без такой освященности принять ничего не хочет и не может.
А в самих этих отношениях, в самом кабановском быте живой
духовной наполненности уже нет совсем. Поэтому так и следят
здесь за соблюдением порядка, внешней, обрядовой стороны во
всем.
Кабаниха — ханжа, подлинной веры у нее нет. По-настоящему
106
привязать к себе не только Катерину, но и родную дочь или сы-
на ей нечем. Оттого-то Кабаниха и смотрит спокойно на то, как
Варвара, не бросая вызова порядку, чину, тишком поступает
по-своему, в свое удовольствие, а над слабым Тихоном она нави-
сает постоянно грозой. Старые формы быта вполне и окончательно
исчерпали себя. Поэтому любая подвластность им становится для
человека губительна.
Кабаниха заставляет уезжающего Тихона всего лишь произ-
нести как будто ничего не значащие наставления остающейся до-
ма Катерине. Катерине надо вроде бы только их выслушать.
Но все знают — и сама Кабаниха, и Катерина, что внутренней
правды в этих наставлениях нет никакой ни для кого. И поэтому,
добиваясь, чтоб они обязательно были произнесены и выслушаны,
Кабаниха утверждает безоговорочную, рабскую, основанную толь-
ко на силе зависимость Тихона. Тихон испытывает тут чувство
неизбывного стыда и перед Катериной, и перед самим собой и го-
тов теперь бежать от любимой жены хоть за тридевять земель.
В глазах Катерины Тихон навсегда теряет здесь все, их семей-
НЫЙ СОЮЗ как нечто высокое и охраняющее ее даже от нее самой
рушится безысходно.
Спасения от рождающегося в ней чувства к Борису Катерина
ищет в клятве, которую должен взять с нее муж. Но может ли
она уже в самом деле Тихоном спастись?
Старая жизнь, кроме того, что она гнетет Катерину руками
Кабанихи, превращает в ничто ее мужа, еще заставляет ее стра-
шиться и грозы, и — не менее, чем грозы,— собственного порыва,
считать грехом рождение в себе личности. Катерине кажется, что
все силы мира, сама природа против того, чтоб она, мужняя же-
на, полюбила другого...
Только ля опутана, однако, Катерина прошлым?
Пройдут после появления «Грозы» считанные годы, чуть не
месяцы, — и тургеневский Базаров попробует освободиться от все-
го, на чем основывались до сих пор отношения человека с други-
ми людьми, самое пребывание человека в мире, от любых над- и
сверхличных ценностей. Базаров будет личностью гигантской,
он возьмет все целиком на одного себя, но даже он почувствует
себя при этом и признает «самоломанным». А потом Раскольни-
ков дозволит себе преступить через давно определившиеся усло-
вия человеческого общежития — и это окажется для него непере-
HOCHMbIM.
Вместе со всей старой жизнью, с крепостнической системой
рушилась и прежняя иерархия нравственных оценок, менялись
место и роль личности в ее собственном самоощущении и в реаль-
ности. И нередко совсем изжитым, полностью и навсегда отодви-
нутым представлялось все, что так или иначе сложилось когда-то
раньше.
Но жизнь и отстаивала свои накопления, она не могла отдать
того, что было собственным ее, жизни, богатством, собиравшимся
во все времена.
107
У самого начала 60-х годов рядом с «Грозой» стояли «Дво-
рянское гнездо» того же Тургенева, который затем создаст образ
Базарова, и гончаровский «Обломов». В «Дворянском гнезде» в ав-
торском тексте с совершеннейшей откровенностью, как мы помним,
было сказано многое о несправедливостях, об ужасах крепостни-
ческой поры. Да ведь и это «отзывает» Лизу из мирской жизни.
Но душевное превосходство Лизы, Лаврецкого, Марфы Тимофеев-
ны над всеми остальными в романе прямо проистекало из кровной
их связи с несуетным, неспешным ритмом того уходящего мира,
где в самом деле имели место —и в какой мере имели! — и не-
справедливости, и ужасы. Илья Ильич Обломов, родившийся, вы-
росший при прежних условиях, кончает физическим распадом, не-
отступно воспроизводимым Гончаровым, но кто, как не Илья
Ильич, расплатившись за это по полному счету — неприспособлен-
ностью и обреченностью, сохранил душу живую, о чем у нас также
шла речь, остался единственной любовью двух лучших в этой
книге, двух совсем по-разному замечательных женщин — Ольги и
Агафьи Матвеевны? А потом еще будут «Мороз, Красный нос»—
с его равной самой природе вечностью народной жизни, с его вы-
сокой и неколебимо строгой сдержанностью чувств, «Война и
мир» — книга о том, чем вообще во все времена живут люди...
Душу Катерины теснят всяческие суеверия. Но совсем не толь-
ко они делают действительно мучительными для нее короткие
часы ее счастья. Если бы не было здесь этих душевных мук,
нам бы не оставалось ничего иного, как счесть самое существо се-
мейных связей не высоким обретением общественной истории, но
чистой условностью, легко и просто преодолимой и уже преодоле-
ваемой в новую пору.
Катерина напрасно боится грозы — она просто не знает о гро-
моотводах, о которых уже знает Кулигин. Но не напрасно — для
всего дальнейшего многосложного хода истории — непреклонно
убеждена она, что за неверность Тихону (вот такому, какой он
есть!) на нее двинется сама природа и обрушится небо: так она
наивно и исступленно, сама того не сознавая, но потому с особой,
неодолимой силой заслоняет собой себя самое и все последующие
поколения от невозместимых нравственных утрат...
Островский не вершит над Катериной суд — в ее же душе он
находит наиболее безусловные для себя критерии нравственной
требовательности, наследуемые Катериной именно как личностью
из всего опыта народного бытия. Катерина для него — героиня
столько же эпическая, сколько драматическая. И гибель ее об-
нажает трагические коллизии в движении истории.
В «Грозе» жизнь взята была Островским в крайнем натяжении.
Смерть Катерины обозначила собой неизбежность предстоящих
размежеваний и разрывов. Пути тут возникали разные. На одном
из них Островский попытался было взглянуть непосредственно на
историческое прошлое России, стремясь определить, как же со-
гласовывались отдельный человек и общность людей тогда,
прежде.
108
В «Козьме Захарьиче Минине, Сухоруке» драматурга привле-
кало прежде всего состояние общенационального подъема, участие
чуть не всех на Руси в общем деле спасения своей земли от ино-
земного нашествия. Воодушевленность самого писателя пафосом
единства, солидарного, совместного действия всех стала здесь поч-
вой стиха, основой эпического звучания пьесы. Но все личное, все
собственное, в сущности, снято тут в героях их общей устремлен-
ностью. В Минине места личному просто не оставлено. А Марфа
Борисовна, любимая Поспеловым и любящая его, по первой рз-
дакции пьесы — прячется от своего чувства в монастырь, по вто-
рой редакции — дает себе волю лишь к концу драмы, когда при-
ходит всенародное торжество. Сам Островский о главном герое
писал Ф. А. Бурдину, игравшему эту роль: «...лучше меньше чув-
ства и больше резонерства, но твердого...- он резонер в лучшем
смысле этого слова, то есть энергический, умный и твердый». Так
простое исключение личностного начала из некоей целостности
национального бытия (хотя бы и в давних и совершенно особых
исторических обстоятельствах) непреложно влекло ныне за собой
резонерство, а вместе с ним подчас перерождение высокого эпоса
в холодноватую риторику.
В «Василисе Мелентьевой», драме из времен Ивана Грозного
(написанной Островским совместно с С. А. Гедеоновым), завязы-
вает и ведет действие именно невозможность примирить, связать
единой целью очень разные личности, столкнувшиеся друг с дру-
гом у русского престола. Личность с ее устремлениями оказыва-
лась и в прошлом не менее значима, чем чаемое всеобщее со-
гласие.
На современном, пореформенном материале противоборство
разных тенденций и начал, когда старые устои рухнули и вместе
с ними многое потеряло всякую определенность, давало себя знать
чем дальше, тем острей.
В пьесе «Грех да беда на кого не живет» уже само название
сразу подчеркивает незакрепленность, непредвидимость, катастро-
фичность течения жизни. И причина тому — незакрепленность, не-
предвидимость, катастрофичность совершающегося, нарастающего
в человеческих душах.
Давно уж и думать позабыла Татьяна Краснова о барине Ба-
баеве, которого знала когда-то. Она замужем за купцом, и муж
любит ее до самозабвения. Стоит, однако, Бабаеву только по-
явиться, позвать Таню, как та кинется к нему.
Барин Бабаев — совершеннейшее ничтожество и нисколько не
заслуживает этого женского порыва. Но Татьяна ни секунды ни
на что и не рассчитывает, ничего не взвешивает. Она, вероятно,
подозревает, чем могут обернуться для нее гнев и отчаяние Крас-
нова, вложившего в отношения с женой всю свою страсть. Однако
и это не может остановить Татьяну или хоть заставить ее заду-
маться.
А Краснов находится в состоянии душевной растерзанности
почти рогожинского накала. (Кстати, как известно, на Краснова
109
в очень сильном исполнении Павла Васильева обратил особое вни-
мание Достоевский, и весьма вероятно высказывавшееся уже
предположение, что это нашло в «Идиоте» свой отзвук). Ради
Татьяны, ради своей любви к ней он пренебрегает в своем доме
стародавними устоями быта, идет на унижения, сам этого не за-
мечая. Обманутый же, он убивает жену и тут же кричит: «Вяжите
меня! Я ее убил». За свою любовь и за свое преступление он тоже
платит самую большую, саму полную человеческую цену.
Слепому деду Краснова, старику Архипу, который пытался
как-то все остановить и удержать и уповал на бога да на всеоб-
щее примирение, суждено только подвести итог тому, что произо-
шло вопреки всем его стараниям. Уберечь от греха и беды никого
не удалось, старые нравственные нормы здесь просто смяты и
вытеснены.
Патриархальность в «Пучине» оказывается не только бессиль-
ной перед лицом новых времен. Из-за несоответствия нынешним
обстоятельствам она окончательно утрачивает свое внутреннее на-
полнение: для того же кисельниковского тестя она становится
лишь покровом, под которым удобно творятся всяческие самоно-
вейшие обман да жестокость — даже по отношению к ближним
(Боровцов обездолил не одного лишь зятя, а и родных внуков и
радуется тому, как ловко все у него вышло).
Вера Островского в высокие нравственные ценности, накоп-
ленные народной жизнью, навсегда отделялась от надежд на ее
старые формы.
В исследовании С. Владимирова «Действие в драме» приво-
дится диалог двух персонажей, Ахова и Агнии, из пьесы Остров-
ского «Не все коту масленица», относящейся уже к 1870-м годам.
Ахов, собирающийся жениться на Агнии, рассказывает ей, как
хорошо, по его мнению, должно житься молодой женщине со ста-
рым мужем. И слышит от Агнии в ответ: «Очень весело. Да и то
еще приятно думать, что вот через год, через два муж умрет, не
два же века ему жить; останешься ты молодой вдовой с деньгами,
на полной свободе, чего душа хочет». Далее они обмениваются
такими репликами:
«А хов. Ты все хорошо говорила, а вот последним-то и изга-
дила. Ты этого никогда не думай и на уме не держи. Это грех,
великий грех! Слышишь?
Агния. Я и не буду никогда думать; это так, с языка сорва-
лось. Я стану думать, что молодые прежде умирают».
Исследователь посчитал, что в репликах Агнии нет вызова са-
модуру, «нет прямого издевательства», что Агния тут «разыгры-
вает» вместе с Аховым будущую свою ситуацию, при которой ей
предстоит совершенно отказаться от себя, целиком покориться,
во всем согласиться со своим мужем и господином. «Она стара-
ется попасть в тон Ахову, готова войти в тот торг, который купец
в соответствии с его обычаем ведет и в данном случае. Ахов хва-
110
лит свой товар, Агния прикидывает, что и за какую цену она
должна отдать». «Ахов и Агния хотят договориться о своих лич-
ных делах и отношениях, они готовы заключить сделку и пытаются
перевести все на термины деловой купли-продажи. Но сам язык
этому не поддается».
Трудно здесь согласиться с автором талантливой книги.
Верно, Агния («Не все коту масленица») не намерена выйти
из-под власти матери. Но только потому, что она чувствует, зна-
ет в матери ту же силу дерзкого сопротивления самодурству, ка-
кую ощущает и в себе самой.
«Я вот как рассудила, Ермил Зотыч; если дашь ты мне подпис-
ку, что умрешь через неделю после свадьбы, — и то еще я поду-
маю отдать дочь за тебя»,— решительно заявляет в последнем
разговоре с Аховым Круглова. И Агния именно этого от своей ма-
тери и ждала.
Круглова идет еще дальше. Когда Ахов предлагает ей бога-
то наградить Агнию и выбранного той жениха, если молодые со-
гласятся, выйдя из церкви, подмести его двор, «чтобы только при-
мер» показать, она бросает ему: «Да осыпь ты меня золотом с ног
до головы, так я все-таки дочь свою на позорище не отдам».
«Масленица» Аховых прошла: старозаветное купечество уже
не имело реальной силы в России 70-х годов. Пьеса возвещает
это не только развитием сюжета, но и новой для Островского
природой диалогов. Они теперь несут в себе прямой вызов, откры-
тую издевку над самодурством, над его попытками удержать свою
власть.
Островский и сам, без сомнения, захвачен буйным и широким
разворотом неудержимых и уже не удерживаемых душевных сил,
их игрой у своих героев.
Вспомним, как еще в «Грозе» даже у робкого Бориса глаза
раскрылись, дух захватило, когда перед ним впервые предстали
гулянье, красота ночи, радость любовных свиданий, в каких сло-
вах это Островеким передано. Там же Варвара и Кудряш, при
всей их бесшабашности и нравственной безответственности, обри-
сованы с весьма немалым увлечением.
Но с какой силой сказалось это новое душевное состояние и
автора, и героев, когда 60-е годы уже кончились, когда самые
разные перемены в русской действительности, уже окончательно
втянутой в буржуазное развитие, совершались со все увеличиваю-
щейся, лихорадочной быстротой!
В пьесе «На бойком месте», например, самое место, где про-
исходит действие, словно бы вовлекает всех в какое-то особое
внутреннее движение: это постоялый двор, где то и дело может
появиться кто угодно, где всякого и всего можно ждать. Хозяин
двора Бессудный, рискуя жизнью, занимается разбоем, ездит на
ночные грабежи. Красотой своей жены он пользуется, чтобы за-
манивать к себе гостей. Он многое позволяет Евгении в обраще-
нии с гостями, но она знает, что он и жестоко ревнует ее и, коль
скоро обнаружится ее неверность, поплатиться ей придется жизнью.
111
И как раз это хождение все время по краю бездны делает для
Евгении и ее игру с гостями, и ее связь с Миловидовым особенно
захватывающими. Герои испытывают упоение именно оттого, что
судьба их каждую минуту висит на волоске, что играют они в
буквальном смысле этого слова с огнем. И это-то придает им у
драматурга яркость, силу, обаяние. Идя как бы за ними и с ни-
ми, он вводит резкие и острые сюжетные повороты, тоже игра-
ет — тайнами возможностей, тайнами прошлого и будущего своих
персонажей...
И в «Горячем сердце» Островский также предался стихии, вла-
деющей его героями, откуда и появились здесь в сюжете и со-
вершеннейшие неожиданности, и вроде бы несообразности, за ко-
торые писателя так сердито упрекала не понимавшая, в чем де-
ло, современная ему критика. В «Бешеных деньгах», в первом
акте действие поначалу словно бы не может установиться и вы-
брать направление: драматург вместе со своими персонажами на
какой-то момент оказывается перед такой фигурой, как Василь-
ков, Делец нового покроя, почти что в растерянности, ища к нему
подступов и скрещивая суждения о нем разных лиц. В «Беспри-
даннице», в собственном восхищении Ларисой, ее красотой. и яр-
костью, в изумлении перед нею Островский как будто не реша-
ется сразу ввести ее в пьесу и готовит ее появление восторгами
в ее адрес других персонажей.
Но, увлеченный силой проявления личности, энергией ее осу-
ществления, многообразием открывающихся возможностей и пу-
тей, Островский никак не закрывал глаза на внутренние противо-
речия, заложенные в этом новом процессе.
Та же Евгения («На бойком месте»), ничего не страшась,
даже испытывая перед опасностью некое вдохновение, ведет себя
по отношению к Анне, действительно любящей Миловидова, без-
жалостно. Параша из «Горячего сердца» умеет и постоять за себя,
и вовремя понять, что такое Вася Шустрый. Но в решениях, в по-
ступках этой еще только-только добивающейся своих прав девуш-
ки, в том, как отводит она Васю и назначает своим женихом Гав-
рилу, как начинает распоряжаться в курослеповском доме, очень
проглядывает грозящее — теперь уже отсюда — новое своеволь-
CTBO. |
Удивительная Лариса Огудалова, в которой так поразительно
раскрылись и исполнились возможности человеческой личности,
не обладает, однако, душевной цельностью и душевной силой Ка-
терины. И это цена, которую она платит за неотразимое свое
обаяние.
Из всех, кого выдвигает новое время, пожалуй, особенно бес-
пощадному анализу подвергнут у Островского Глумов в комедии
«На всякого мудреца довольно простоты».
Человек этот стоит много выше всех, кто его окружает. Он в самом
деле умен. Но ум его, считает Глумов, должен помочь ему в од-
ном — сделать карьеру. И Глумов обнаруживает редкостное уме-
ние приспосабливаться к любому, кто занимает место выше его
112
на общественной лестнице и зачем-нибудь ему нужен, проявляет
тут изощренную виртуозность. Ему приходится платить при этом
дань собственному уму — вести дневник, где выражается подлин-
ное его мнение обо всех, с кем он имеет дело. Глумится, однако,
Глумов, таким образом, больше всего над самим собой, разобла-
чить его поэтому призван его же дневник.
Островский многое уже знал о происходящем в человеке, ког-
да нравственная сфера — при горячности сердца или горячности
воображения — не имеет опор... И он оставался все-таки эпиче-
ским писателем.
На какой основе мог теперь у Островского сохраняться дух
эпоса?
Мы помним, что в «Доходном месте» пришло все-таки разобла-
чение Вышневского, хотя вроде и не на кого тут было в конечном
счете положиться.
Героиня комедии «Не было ни гроша, да вдруг алтын» полу-
чает возможность благополучно выйти замуж лишь после того,
как ее дядя, Крутицкий, повесился и ей досталось таким образом
приданое. Крутицкий скуп был невообразимо, но скупость эта —
уже мания, болезнь, помешательство, которое вменить ему в ви-
ну, собственно, и невозможно. А так, за пределами своей мании,
это просто жалкий старик. Выйдет же Настя замуж за человека с
фамилией Баклушин, вполне его характеризующей. И при всем
этом автор принимает подобный финал, считая, что тут все-таки
приобретается хоть алтын, когда не было ни гроша. Сам процесс
жизни своим никем не предустановленным и никем не предусмот-
ренным течением определяет всему действительное, единственно
возможное — по крайней мере ныне — место. Старик Крутицкий
все равно обречен, и ничего с этим не поделаешь. Брак с Баклу-
шиным сулит Насте не бог весть что, однако ни о чем другом
она ведь и не мечтает... Приходит, исполняется вовсе не что-ни-
будь безусловно высокое в нравственном или каком-то ином
смысле, но жизнь все-таки не рушится, не упирается в неразре-
шимое столкновение несогласуемых индивидуальных воль и уст-
ремленностей.
Островскому приходится в условиях торжествующей буржуаз-
ности соглашаться на малое, далеко не безусловное. Но он и не
выдает его за большое, тем более за идеал, ничем и нисколько
не обольщается, не обманывает ни себя, ни нас. И, с другой сто-
роны, не впадает в отчаяние, не отвергает, не подвергает сомне-
нию жизнь как таковую.
Драматургу горько, что в «Волках и овцах» победу можно от-
дать лишь такому петербургскому «волку» нового склада, как
Беркутов. Но он не позволяет нам забыть и о том, что все-таки
посрамлена такая матерая «волчица», как Мурзавецкая, которой,
кроме Беркутова, никому бы и не одолеть, и вызволена буквально
из ее пасти молодая, красивая, простодушная вдова Купавина.
А если Глафира «проглотила» Лыняева, то ему все равно сужде-
но было быть кем-то «съеденным», тут же молодая опять-таки
8 Заказ № 1409 113
женщина сумеет извлечь для себя хоть какую-то радость из его
богатства.
Писатель постоянно помнил о всех и всяческих бедах и утра-
тах. Буржуазность нашла в нем прозорливого и гневного своего
обличителя. К безверию, однако, он не пришел. Напряженность
прежней веры в нравственные накопления, неизменно сохраняю-
щиеся и открываемые где-то на последних глубинах, сменялась у
Островского доверием к самому непреложно совершающемуся
ходу жизни. Это новое доверие Островского к ресурсам, к силам
жизни было расширением и углублением демократизма в его твор-
честве, сколько бы тут ни было подчас неконкретного и отвлечен-
ного '. Закономерно поэтому появление именно у позднего Ост-
ровского «весенней сказки» «Снегурочка», так свободно и так лег-
ко нашедшей себе прямую опору в народном «взгляде на вещи»,
в его широте, терпимости, неразрывном и радостном содружестве
с миром.
На полях первого чернового варианта «Снегурочки» писатель
пометил для себя: «Счастье в том, чтоб любить» и «Счастье в том,
чтоб не любить».
В окончательном тексте сказки есть удивительная прелесть в
Снегурочке, когда она еще душевно невинна, не знает любви и
страсти. Но как раз в это время, лишь «красоту свою любя», она
холодна, хотя для нее это ‘и спасительно, не свободна от игры
самолюбия и тщеславия. А потом приходит восторг самоотдачи и
высшего упоения. За них приходится заплатить гибелью,
но это, наверное, стоит того, раз уж иначе испытать любовь Сне-
гурочке не было дано.
Мгновения счастья Снегурочки не пришли бы, не покинь Миз-
гирь Купаву. Мизгирь должен понести наказание: он обидел Купа-
ву, нанес удар по любви. Но как раз покинутая Мизгирем Купава
находит счастье с Лелем, пастухом и поэтом.
Островский не сетует на Бобыля с Бобылихой, которые, при-
няв Снегурочку к себе, откровенно и бесхитростно искали тут
выгоды, ждали за доброе дело подарков. Царь и Бермята никак
не борются даже с воровством среди берендеев.
Закон, которым руководствуются берендеи,— жизнь в своем
движении разрешает все-таки и самые тяжкие драмы, довериться
ей можно и следует.
Снегурочки печальная кончина
И страшная погибель Мизгиря
Тревожить нас не могут; Солнце знает,
Кого карать и миловать. Свершился
Правдивый суд! —
заключает берендейский царь в конце пьесы.
' Надо, наверное, отметить, что мотив свободной веры в жизнь и в «не-
посредственность художнического чувства» зазвучал У таких разных критиков,
как Добролюбов и Ап. Григорьев, в прямой связи с ранними еще произведе-
ниями Островского. Это запечатлено хотя бы в утверждающем добролюбовском
определении пьес Островского как «пьес жизни».
114
Когда «Снегурочка» была завершена, брат драматурга,
М. Н. Островский, написал ему: «Честь тебе и слава, что ты со-
хранил в душе своей столько поэтического чувства и способность
так объективно относиться к своим художественным задачам! Твоя
новая пьеса так и дышит... эпическим характером...» Слова
М. Н. Островского были не только восторженны, они еще обла-
дали достоинством большой точности.
«Снегурочка» рождалась в те самые 70-е годы, что дали Рос-
сии «Анну Каренину», ряд романов Достоевского с их суровой,
безжалостной правдой о времени. Островский тоже сказал немало
горького и тревожащего. И как все-таки хорошо, что при этом он
смог написать и свою «весеннюю сказку»! Какой удивительный
мотив внесла она в историю нашего искусства!
Жизнь у Островского не только вполне может справиться с
тем, что в ней возникло. Она еще и дает ход всему высокому, что
ею рождено, как бы ни были здесь сложны, подчас сомнительны
ее пути.
Уходя в «Талантах и поклонниках» с Великатовым от Мелузо-
ва, Саша, слушавшая мелузовские уроки, признававшая его тре-
бования, испытывает и некоторое особое и, несомненно, особенно
для себя трудное смущение. Великатов, с той театральностью, ко-
торая присуща ему, ей нравится, и в этом она чуветвует перед
Петей Мелузовым вину не только как перед любящим ее челове-
ком, женихом, но еще и как перед своим наставником, пропаган-
дистом и проповедником безусловно высоких нравственных поня-
тий. Она не может не стыдиться того, что театральность владеет
ею изнутри, и пытается словно бы возместить это для себя же
самой любовным порывом в последнюю и единственную их ночь
с Петей, ставя себе в вину, что мало любила его.
Мелузов на протяжении всей пьесы занимает по отношению
к Негиной позицию учителя жизни. Он зовет ее действительно на
доброе, благородное, и, вероятно, не без его участия росла ее
душа, утверждался ее сценический талант, не исчерпавшийся в
театральности. Негина это по-своему очень чувствует, привязан-
ность ее к Пете и искренна, и серьезна. Но можно ли предуказать
что-то жизни? Хорошо ли было бы, если б такое получилось?
Вот Петя хотел, чтоб Негина занялась полезным делом, стала
со временем вместе с ним учительствовать. Но у дочери Домны
Пантелевны талант, неодолимое призвание к театру. Без этого
она не может жить сама, этим обогащает другие души. Тот же
Петя, увидев Негину в вечер ее бенефиса на сцене, вдруг заявля-
ет, что «искусство не вздор» (как он, очевидно, до сих пор думал),
его не слишком последовательная и безупречная ученица изумля-
ет его неизвестными ему глубинами человеческой души.
Жизнь творит иначе и сотворяет больше, чем, хотя бы и в са-
мом высоком подвижничестве, способен ей кто-нибудь предло-
жить. И жизнь же делает так, чтобы сотворенное ею не пропало.
8* 115
Даже смерть Ларисы спасает ее у Островского — да, именно так —
от душевного опустошения, от превращения во что-то совсем дру-
гое, чем она есть, и она благодарит Карандышева за его выстрел...
Было бы неправильно, однако, говоря об Островском как о
драматурге и эпическом писателе, не сказать о том, что у позднего
Островского возникали и тенденции, уже не вполне совмещавшиеся
С ЭПИЧНОСТЬЮ.
Когда в «Последней жертве» Юлия Тугина как будто счастли-
во вынесена жизнью к благополучному берегу, она на самом деле
приносит в качестве действительно уже последней своей, вообще
последней возможной для человека, жертвы самую веру в любовь,
самую потребность в живых чувствах. Собственно, она безвоз-
вратно отчуждается тут от самой себя, от себя живой, какой до сих
пор была (она не погибла, но мотив смерти возникает не случай-
но: с Юлией произошло, пожалуй, худшее, чем с Ларисой).
В «Невольницах» Евлалия получает у мужа свободу. Но мечты
и надежды ее разбиты, что делать со своей свободой, она не знает.
Ей остается лишь засесть с тем же мужем за карточный стол.
И здесь тоже в человеке совершилось непоправимое отчуждение
его души.
Некоторые пьесы, написанные Островским в последний период
в сотрудничестве с разными авторами,— такие, как «Светит да не
греет» (вместе с Н. Я. Соловьевым) или «Блажь» (совместно с
П. М. Невежиным),— выделяются, начиная уже с заглавий, рез-
костью освещения, жесткостью оценок, отсутствием ‘хотя бы и
трагедийного разрешения.
Но продолжение, развитие в литературе вообще, в драматур-
гии в частности эти новые тенденции получили потом, когда путь
автора «Грозы», «Снегурочки», «Талантов и поклонников» был
уже окончен. У самого же Островского драма почти неизменно
вступала в живое, подвижное взаимодействие с эпосом. И навер-
ное, в том, что писателя со столь неистребимой эпической заквас-
кой так властно, так безвозвратно призвала драматургия, ни разу
его за четыре десятка лет не отпустив, очень остро и непосред-
ственно обнаружила себя трудная диалектика отношений лично-
сти И национального целого, единственности нового времени со
связью всех времен.
«ВОЙНА И МИР»: ЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ;
ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В 1937 году в статье «Пушкин — наш товарищ» Андрей Плато-
нов заметил: «В «Медном Всаднике» действует одно пушкинское
начало, лишь разветвленное на два основных образа: на того, «кто
неподвижно возвышался во мраке медною главой, того, чьей во-
лей роковой над морем город основался», и на Евгения — Пара-
шу. Вся же поэма трактована Пушкиным в духе равноценного,
хотя и разного по внешним признакам, отношения к Медному
116
Всаднику и Евгению. Вот в чем дело. Этого доказывать не нужно,
для этого нужно просто читать поэму без всякой предвзятости,
руководясь Пушкиным...»
Да, могущественное шествие истории и частное существование
людей, по Пушкину, нераздельны. Но реальная связь их исполне-
на противоречий. И. Евгений в поэме достигает безусловного ра-
венства с Петром лишь в тот страшный миг, когда бросает вызов
его делу и терпит уже окончательное крушение.
Как же восстановить рушащееся единство?
Вальтер Скотт, говоря словами Белинского, «своими романами
решил задачу связи исторической жизни с частною». Так же во0с-
принял Вальтера Скотта и Пушкин, похваливший великого шот-
ландца за свободу от «холопского пристрастия к королям и ге-
роям», увидевший «главную прелесть» его романов «в том, что
мы знакомимся с прошедшим временем... совершенно домашним
образом».
Создавая «Капитанскую дочку», Пушкин постепенно выдвигал
в центр повествования Пугачева и одновременно вымышленную
Машу Миронову. История словно бы лишь настигает Машу да
и Гринева. Но они ведь все-таки и меряются с нею силой. И, ка-
залось бы, вопреки всему спасают и обретают друг друга, поддер-
живая тем в той же истории простые основания истины, добра,
милосердия... Ни Петруша Гринев не смирился с равнодушием
оренбургских властей к участи Маши Мироновой, ни та не устра-
шилась отправиться за справедливостью к самой государыне.
И оба добились-таки своего наперекор ходу вещей...
Так утверждал Пушкин непреходящую роль частного бытия в
свершении истории. А в 60-х годах Россия получила «Войну и
мир».
Люди «Войны и мира» появляются на страницах книги в «со-
ставе» широкого, охватывающего, объемлющего их всех дви-
жения. Даже отдельный человек, сам по себе, несет тут внутрен-
не в какой-нибудь один момент бог знает сколько связей с бог
знает каким числом других людей, знакомых и вовсе неизвест-
ных ему. И потому так органична, так естественна и необходима
редкостнейшая населенность толстовской книги.
Вот князь Андрей, смертельно раненный при Бородине. «Он
вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале
1810 года, с тонкою шеей и тонкими руками, с готовым на вос-
торг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней
еще живее и сильнее, чем когда-либо, проснулись в его душе.
Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и
Анатолем Курагиным; он вспомнил все, и восторженная жалость
и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце». По-
груженный, казалось бы, совершенно и исключительно в себя,
' Платонов А. Размышления читателя. М., 1970, с. 25,
117
князь Андрей в самой глубине души открывает неотделимость
свою, своей судьбы от жизней иных, нерасторжимость существую-
щих, неуклонно развертывающихся, действенных в нем сопря-
жений.
Даже в Николае Ростове, как ни узок остается этот человек,
и Денисов, и Александр 1, и Наполеон не только встречаются как
его, Ростова, разновременные впечатления. Все вместе они, по-сво-
ему в Николае Ростове сходясь, выводят все-таки и его к много-
сложности и противоречиям происходящего.
«Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме
его происходила мучительная работа, которую он никак не мог
довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. То ему
вспоминался Денисов со своим изменившимся выражением, со сво-
ей покорностью и весь госпиталь с этими оторванными руками и
ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что
он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он
оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах.
То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте со своею 6e-
лою ручкой, который был теперь император, которого любит и
уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, но-
ги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и
Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких
странных мыслях, что пугался их».
Ростов здесь тоже, как и князь Андрей, наедине с собой. Но как
неотделимо его состояние от его связи с другими людьми, близ-
кими и совсем далекими!
Короленко был прав, когда утверждал, что Толстой, как ни-
кто, поднимал в своем воображении сразу множество лиц. Он мыс-
лил как художник связями их между собой, совместностью их
судеб. Тут-то для него и дышала история.
Некоторые из черновых начал толстовской «книги о прошед-
шем» являли собой как бы краткие обзоры знаменательных собы-
тий, расстановки исторических сил. Но историю, ее движение Тол-
стой открывал повсюду, в любом из рядовых, частных людей вся-
кого времени, во взаимодействии их, пусть бессознательном, друг
с другом, в столь же бессознательном создании ими некоего цело-
го. И еще в 1853 году он пометил в дневнике: «Каждый историче-
ский факт необходимо объяснять человечески...»
В 1865 году, уже работая над «Войной и миром», Толстой
записывает в дневнике: «Я зачитался историей Наполеона и Алек-
сандра. Сейчас меня облаком радости и сознания возможности
сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую
историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фра-
за, все безумие, все противоречие людей, их окружающих, и их
самих». То есть и государственные деятели представали Толстому
через частные свои, так сказать, черты и отношения, оказывались
подлежащими прежде всего нравственному суду.
118
Ход истории Толстой улавливал именно так. И на этой же ос-
нове герои его обретали удивительное полнокровие, небывалую
жизненность — в них ведь и бился для него пульс времени, осу-
ществлялись связи и смена эпох.
История входит в эпопею Толстого с первых же страниц окон-
чательного текста внутренним состоянием и отношениями между
собой вымышленных лиц на вечере у Анны Павловны Шерер, их
разговорами о грипте в Москве, появлением самого слова «грипп»
в их обиходе...
Пушкин еще мог одновременно с «Капитанской дочкой» писать
о той же поре исторический труд (пусть с художническими «про-
рисовками») —«Историю Пугачева». Для Толстого такое было уже
невозможно. Для него только проникновение в «диалектику души»
обыкновенных людей и было единственным средством освоить ис-
торию.
Совсем не парадокса ради повторял творец «Войны и мира»,
что «узел» книги, где обрисованы Бородино, совет в Филях, по-
жар Москвы, Кутузов и Наполеон,— увлечение Наташи Анатолем
Курагиным.
В полной отданности Наташи после охоты, после удивитель-
ной ее пляски у дядюшки одним лишь сиюминутным своим же-
ланиям — источник невозможной вроде бы встречи ее в самой
себе с Анатолем Курагиным, для которого только подобные жела-
ния вообще и существуют.
С такой поглощенностью человека самим собой несовместима
причастность его к общему. Утвердись, восторжествуй такое от-
падение от общего, — и истории пришлось бы уступить место хаосу,
потому что тем самым она, по Толстому, потеряла бы свои основа-
ния, покоящиеся в совместности частного бытия всех людей. На-
таше удается спастись от возникшей уже было. перед ней ката-
строфической перспективы, а Наполеон со своим своеволием тер-
пит поражение, — и для Толстого это значит, что истории не про-
пасть, что в самом главном своем она остается.
Нераздельность частного существования каждого и жизни всех
наиболее решительно в «Войне и мире» отстаивается образом Ка-
ратаева, особой его художественной природой.
Как и Наташа, Каратаев тоже руководим отнюдь не расчетом,
не разумом. Но в стихийных его побуждениях, в полную противо-
положность Наташе, нет и ничего своего. Даже во внешности его
снято все индивидуальное, а говорит он пословицами и поговор-
ками, запечатлевшими в себе лишь общий опыт и общую муд-
рость. Нося определенное имя, имея свою биографию, Каратаев,
однако, в полной мере свободен от собственных желаний, не су-
ществует для него ни личных привязанностей, ни хотя бы инстинк-
та охраны и спасения своей жизни. И Пьер не мучается его
смертью, притом что свершается это насильственно и у Пьера поч-
ти что на глазах.
Наделен Каратаев именем древнего философа Платона, — так
Толстой прямо указывает, что вот это-то и есть самый высокий
119
тип пребывания человека среди людей, участия в движении вре-
мени, истории.
Образ Каратаева вообще, пожалуй, наиболее непосредствен-
но сопрягает в книге «картины жизни» с рассуждениями Толстого
самого широкого охвата. Здесь открыто сходятся, взаимно высве-
чивая друг друга, искусство и философия истории. Философская
мысль тут прямо внедряется в образ, организует его, образ же
животворит собой, конкретизирует, заземляет ее построения,
ищет им собственно человеческую оправданность и подтверж-
дение.
Сам Толстой, говоря в одной из редакций эпилога «Войны и
мира» о «большинстве... читателей», «которые, дойдя до истори-
ческих и тем более философских рассуждений, скажут: «Ну, опять.
Вот скука-то»,— посмотрят, где кончаются рассуждения, и, пере-
вернув страницы, будут продолжать дальше», заключал: «Этот род
читателей — самый дорогой мне читатель... от их суждений зави-
сит успех книги, и их суждения безапелляционны... Это читатели
художественные, те, суд которых дороже мне всех. Они между
строками, не рассуждая, прочтут все то, что я писал в рассуж-
дениях и чего бы и не писал, если бы все читатели были такие».
И сразу же, вроде бы вполне неожиданно, продолжил: «...Если бы
не было... рассуждений, не было бы и описаний».
Так создатель «Войны и мира» объяснял, что ввести истинный
взгляд на историю было его неизменной целью, о достижении ко-
торой он постоянно и всячески заботился, самое же существо это-
го взгляда предполагало прежде всего развертывание описаний.
Историю ведь для Толстого сотворяла, придавая ей смысл и зна-
чение, вся жизнь всех людей, и уже поэтому отступлениям изна-
чально суждено было оказаться бедней, уже описаний, что и сам
Толстой сознавал.
Современники 1812 года, наверное, больше всего другого изум-
лены были в «Войне и мире» как раз невозможностью отделить
здесь частных людей, частное в людях от истории. «...В упомяну-
той книге трудно решить и даже догадываться, где кончается исто-
рия и где начинается роман, и обратно»,— недоумевал [|]. А. ВЯя-
земский в специально направленной против «Войны и мира» статье
«Воспоминания о 1812 годе». И безапелляционно резюмировал:
«Это переплетение, или, скорее, перепутывание истории и романа,
без сомнения, вредит первой и окончательно, перед судом здравой
и беспристрастной критики, не возвышает истинного достоинства
последнего, то есть романа».
«Если бы книга графа Толстого была писана иностранцем, то
всякий сказал бы, что он не имел под рукою ничего, кроме част-
ных рассказов»... раздраженно восклицал А. С. Норов. Среди
другого Норов решительно не мог ни понять, ни принять в «Войне
и мире» того, например, что при изображении Бородина особое
место и внимание уделено Пьеру. «Автор романа предпочел за-
120
няться г. Безуховым и рассказать нам, как этот барин схватился
за шиворот с французом... И подлинно, у него героем Бородина
выставлен граф Безухов»,— возмущался ветеран 1812 года, тяжко
раненный в сражении под Москвой.
А между тем Вяземский присутствовал при Бородине именно
частным образом, почти совершенно так, как Пьер в «Войне и
мире». Одна из московских аристократок, М. А. Волкова, в письме
к другой, В. И. Ланской, от 11 ноября 1812 года сообщала, что
Вяземский «возымел дерзкую отвагу участвовать в качестве зри-
теля в Бородинском сражении. Под ним убили двух лошадей, и
сам он не раз рисковал быть убитым, потому что Валуев пал
возле него. [По окончании сражения он вернулся в Москву. Не слы-
хав никогда пистолетного выстрела, он затесался в такое адское
дело, которому, как все говорят, не было подобного».
Порицая Толстого, Вяземский называл «Войну и мир» «апел-
ляцией на мнение, установившееся» о 1812 годе. Он по-своему был
даже прав. Толстой в самом деле решительно переступал через
привычные представления о том, кем, как и когда делается ис-
тория.
Упреки Толстому шли не только из аристократического круга.
И в воинственно-демократической «Искре» Михаил Бурбонов
(Д. Д. Минаев), пародируя «Войну и мир», печатал такие стихи:
Нам Бонапарт грозил сурово,
А мы кутили образцово,
Влюблялись в барышень Ростова,
Сводили их с ума...
Очевидно, восприятие всего частного как безусловно истории
противоположного и даже противостоящего именно «Войной и ми-
ром» снималось впервые столь последовательно и твердо. И вряд ли
это могло быть сразу принято, хотя вроде и должно было возвы-
сить взгляд всех людей на самих себя, на собственные «дела и
ДНИ».
И в пореволюционной науке о литературе долгие годы Толсто-
го лишь пытались в этом случае как-то оправдать и извиняли тем,
что он якобы только на ранних стадиях работы над «Войной и ми-
ром» занят был частными судьбами и отношениями, а потом буд-
то бы совершенно перенес свое внимание всецело на историю, на
нее непосредственно и в привычном, в сущности, ее освещении.
Лишь не столь давно Э. Е. Зайденшнур в ряде исследований уда-
лось на основе кропотливого и тщательного анализа всего про-
цесса рождения «Войны и мира» убедительно показать, что широ-
кий исторический замысел возникал у Толстого с самого начала
и сохранялся на всем протяжении работы. Но и при этом серьез-
ном открытии не была отброшена оказавшаяся как бы безуслов-
ной альтернатива: частная жизнь или история.
Вот как раз тут, на столкновении двух определившихся точек
зрения, и находится, если воспользоваться известной мыслью Гёте,
«проблема». «Проблема» эта — действительная связь в «Войне и
мире» частного человека и истории.
121
В. Б. Шкловский в книге «Заметки о прозе русских классиков»
верно заметил, что частная жизнь и события истории остро соот-
несены друг с другом в таких европейских романах, как «Парм-
ская обитель» Стендаля, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Отвер-
женные» Гюго. Но здесь утверждающийся «частный интерес» в
качестве чуть не единственной подлинной реальности, в сущно-
сти, безоговорочно отводил историю как таковую.
Фабрицио дель Донго в «Пармской обители» присутствует
при Ватерлоо. Его глазами дается знаменитая битва. Однако ее
масштаб, ее значение не открываются никак. То же Ватерлоо во-
все отодвинуто всякого рода происшествиями и в теккереевской
«Ярмарке тщеславия» или в книге Гюго. Энергия «частного инте-
реса» приобретала значение самодовлеющее. Эдмон де Гонкур
сформулировал даже тезис, согласно которому писатель является
историком людей, не имеющих истории.
Подобная тенденция сыграла на Западе роль огромную и про-
грессивную. Конечно же, не случайно обогатила она мировую
литературу великими романами, в числе которых и названные на-
ми. Однако устремления и традиции собственно эпические тут
отступали и отступали. И Бернарду Шоу будет казаться, что Тол-
стой тоже «смотрит на мир из-за кулис политической и обществен-
ной жизни», настолько все иное будет для него тут исключено.
Но у Толстого общая жизнь, ее внутренние скрепы отнюдь не
потерялись. Здесь утверждался иной, особый путь, которому были
уже в России свои поразительные предвестия. И А. А. Фет в
письме Толстому по выходе «Войны и мира», сказав как будто
то же, что потом скажет Шоу, —«главная задача романа — выво-
ротить историческое событие наизнанку»,— продолжит, однако,
эту фразу таким образом, что сразу станет явственным коренное
различие между толстовской книгой и современными ей истори-
ческими романами Запада. В «задаче» «Войны и мира» Фет уви-
дел рассмотрение исторических событий «с сорочки, то есть руба-
хи, которая к телу ближе и под тем же блестящим общим мун-
диром у одного голландская, у другого батистовая, а у иного
немытая, бумажная, ситцевая». В понимании Толстого Фетом выка-
зывала себя та самая линия развития, которая позволила «Войне
и миру» сложиться в особенном ее качестве, прорасти и перерасти
на романной основе в эпопею нового времени.
О «Войне и мире» даже недостаточно сказать, что здесь князь
Андрей, Пьер, Наташа, Николай Ростов и многие, многие другие
рядовые, вымышленные частные лица совершенно неотъемлемы от
исторической жизни России.
Неудачу первой войны с Наполеоном у Толстого определяют,
«образуют» незнание Пьером, что ему делать с собой, его женить-
ба на Элен, которой он в тяжком душевном кризисе по-француз-
ски объясняется в любви, любви на самом деле не испытывая,
проигрыш Николая Ростова Долохову, его позорное поведение
122
с отцом, первое горькое поражение князя Андрея, которому при-
ходится расстаться со своими «наполеоновскими» упованиями...
А потом, перед Бородином, Пьер уже может сблизиться с опол-
ченцами и быть принятым ими, князь Андрей един в своих чувст-
вах с Тимохиным и со «всяким русским» и сам это сознает... Бо-
родино в книге самым непосредственным образом вырастает из
нового душевного состояния, нового душевного уровня подавляю-
щего большинства людей России.
Когда Николай Ростов в страшном для него сражении ока-
зался лицом к лицу с французами, «ему вспомнились любовь к не-
му его матери, семьи, друзей». Частная жизнь, собственные его
привязанности и живые накопления торжествуют в человеке, ког-
да приходит трудный час, и этим-то и обеспечивается восходящее
движение истории.
Князь Андрей при Аустерлице совершил подвиг. Он бросился
вперед со знаменем и увлек за собой дрогнувший было батальон.
Но вот он упал сраженный. И разочаровался в Наполеоне. Однако
когда он стал бредить, в его горячечные представления вступили
«мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне»... Хотя отноше-
ния с отцом и сестрой были ему нелегки, а жену он не любил...
При Бородине на батарее, куда попадает Пьер, чувствуется
«одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление», солдаты
«приняли Пьера в свою семью», «присвоили себе»...
Так силы частной жизни людей, домашних отношений, семей:
ной близости предстают и в исторических событиях, в историче-
ском действии самыми безусловными. Соответственно любой из
деятелей исторических проходит у Толстого испытание мерой част-
ного человека как единственно обязательной для всех.
Еще у Пушкина способность или неспособность к простым и
естественным человеческим поступкам решающе характеризует
Пугачева и Екатерину. Но там они все-таки определяют участь
Маши Мироновой или Гринева в качестве фигур именно истори-
ческих. У Толстого уходила самая возможность подобного раз-
граничения.
В черновиках «Войны и мира» князь Андрей говорил о Боро-
динском сражении: «200 тысяч дерутся, а записывать счеты и
лгать после сражения они поручили Кутузову и Наполеону с ком-
панией». В окончательном тексте Кутузов и Наполеон проверены
оба обычными мерками частной жизни и разведены в разные сто-
роны. Точно так же, как, скажем, Андрей Болконский и Берг.
И когда князь Андрей отворачивается от Наполеона, это и есть
окончательный приговор последнему и как императору французов.
Наполеону, погубившему многие тысячи людей, приведшему
к катастрофе собственную армию, вменяется в особую вину то,
как ведет он себя перед портретом сына и как играет именем ма-
тери. Нет, не так. Мы выразились неточно. В поведении перед
портретом сына или в его кокетничании именем матери император
французов «содержится» в «Войне и мире» уже весь, целиком, со
всеми его историческими деяниями.
123
Кутузов при Бородине жует курицу, а рядом гибнут посланные
им в сражение солдаты. И он заслуживает у Толстого признания
как полководец, потому что мы видим: старик этот имеет право
посылать других на смерть, не себя он стремится вознести, не
свою волю продиктовать истории, но чутьем угадывает, как следу-
ет, надлежит ему сейчас в его положении себя вести.
Кутузова, который у А. Михайловского-Данилевского в его —
известном автору «Войны и мира»—«Описании Отечественной вой-
ны» при появлении посланца с сообщением об уходе Наполеона
из Москвы ‘сидит в сюртуке, Толстой заставляет лежать, «обло-
котившись на руку». Он у Толстого говорит с явившимся офи-
цером «тихим старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на
груди рубашку», а лицо его, когда он выслушал донесение, «CO-
щурилось, сморщилось», чего ни у Михайловского-Данилевского,
ни в каких-нибудь других источниках начисто нет. И все это оправ-
дывает и возвышает в Кутузове, остающемся неизменно просто
человеком, только человеком, и полководца. Кутузов и как полко-
водец занимает, по Толстому, в общем движении людей лишь одно
из мест, нисколько и ни в чем не превосходящее все другие.
Сплетая историю с частным существованием всякого из людей,
автор «Войны и мира» стремился утвердить тип общественного
развития, основанный на самых простых и непреложных прояв-
лениях человеческого бытия. А рядом Чернышевский в «Что де-
лать?» устанавливал, насколько действительно новы «новые лю-
ди», подвергая их проверке ситуациями опять же, в первую оче-
редь, частных отношений...
Так с разных сторон отстаивалось в литературе 60-х годов че-
ловеческое содержание в историческом процессе, уничтожалась
грань между историческим романом и любой иной разновид-
ностью большой повествовательной формы, решительно сближа-
лись друг с другом образность искусства и отвлеченно-философ-
ская мысль...
Герои «Войны и мира» живут на страницах книги с 1805 по
1812 год, затем, спустя несколько лет, некоторые из них появля-
ются в эпилоге. Рождалась же книга в годы 1860-е. Как и чем свя-
зываются здесь эти две разные эпохи?
Во втором из начал «книги о прошедшем» Толстой настаивал:
«Как бы мне ни не хотелось расстраивать читателя необыкновен-
ным для него описанием, как бы ни не хотелось описать противу-
положное всем описаниям того времени, я должен предупредить,
что князь Волконский (потом старый князь Болконский.— Я.
вовсе не был злодей, никого не засекал, не закладывал жен в сте-
ны, не ел за четверых, не имел сералей, не был озабочен одним
пороньем людей, охотой и распутством, а, напротив, всего этого
терпеть не мог и был умный, образованный и столь порядочный
человек, что, введя его в гостиную теперь, никто бы не постыдился
за него... Он был, одним словом, точно такой же человек, как и
124
мы Люди, с теми же пороками, страстями, добродетелями и с
той же и столь сложною, как и наша, умственною деятельностью».
В другом черновом же вступлении можно прочесть, что «в те
времена так же любили, завидовали, искали истины, добродетели,
увлекались страстями, та же была сложная и часто более утончен-
ная умственная и нравственная жизнь, чем теперь в высшем со-
словии».
Жизнь разных времен виделась прежде всего в ее единстве,
в ее общих основах. При этом, однако, нельзя было не заметить
и того, что обособленность высшего круга от всех остальных лю-
дей в начале века была большей, чем потом, что речевые формы
общения в этом же высшем кругу были несколько иными — боль-
ше распространен был французский язык (а он для Толстого был
совсем не нейтрален по отношению к самой природе общения рус-
ских людей между собой,— вспомним, что Пьер делает свое вы-
нужденное, в сущности, предложение Элен по-французски и что
по-французски плохо говорит старик Ростов).
Единство исторических времен не могло, таким образом, не от-
крываться как связь сложная. Наверное, более сложная, чем это
ощущалось когда-нибудь раньше: 1860-е годы несли небывалые
еще в России перестройку и обновление.
У такого авторитетного исследователя Пушкина, как Б. В. То-
машевский, мы находим о пушкинском «Борисе Годунове»: «...объ-
ективность изображения, отказ от перелицовки и «применений» не
исключали аналогий с современностью. Именно эти аналогии... за-
ставили Пушкина избрать именно этот сюжет. Следовательно, уже
не так случайны фразы, в которых видели намек на современность.
Но их наличие в трагедии, как писал Пушкин, возникает не
из намерений автора, а от того, что все мятежи одинаковы, хотя
и своеобразны в своем внешнем проявлении...
Пушкин считал совершенно согласным с исторической истиной,
если в художественном обобщении он будет основываться не толь-
ко на опыте русской истории начала ХУП в., но и на исторических
примерах самозванства, узурпации, народных смут других времен,
других народов, ибо все мятежи одинаковы. И в самом деле, Пуш-
кин именно во время работы над трагедией обращается к Тациту,
которого он изучает в тех главах, где говорится о самозванцах им-
ператорского Рима, и это изучение Тацита не остается без следа
в трагедии»'.
С этим следует согласиться. Можно добавить, что так у Пуш-
кина было не только в «Борисе Годунове», но и поздней, даже в
1830-х годах. «Египетскими ночами», к примеру, Рим времен упад-
ка «вызывается» как явная аналогия к нравственному состоянию
современного поэту света. В пути человечества эпохи для Пушкина,
очевидно, сменяли одна другую, одна из другой вырастая. И при
этом в некоторых явлениях возможны оказывались почти прямые
повторы, как хотя бы в смутах, в упадке нравов. Именно повторы,
' Томашевский Б. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии
(1824—1837). М.— Л., 1961, с. 175.
125
потому что основы единства всего процесса истории еще «не бра-
лись».
У Толстого в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» раз-
ные времена живут в человеке сразу, в сопряженности. Потом, в
1904 году, он запишет в дневнике: «Если спросить, как можно без
времени познать себя ребенком, молодым, старым, то я скажу:
«Я, совмещающий в себе ребенка, юношу, старика и еще что-то,
бывшее прежде ребенка, и есть этот ответ».
В пору рождения «книги о прошедшем» Толстой не случайно
был увлечен идеями Гердера о том, что концы и начала существо-
вания человека протягиваются далеко за пределы собственного
его земного бытия. Не о повторности тех или других явлений в хо-
де истории могла для Толстого идти речь, но о живом общем меж-
ду всем прошлым и настоящим, о бесчисленности их взаимопере-
плетений и взаимопереходов. Так складывались в «Войне и мире»
и отношения начала столетия со временем создания книги.
Известно, что в ряду тех людей первых десятилетий века, ко-
торые остановили на себе внимание Толстого в пору, когда рож-
далась «Война и мир», был среди других и такой человек, как
Д. И. Завалишин.
Д. И. Завалишин примкнул к декабристскому лагерю уже поч-
ти перед самым восстанием и с основным кругом участников дви:
жения так и не сблизился `— ни перед выступлением, ни потом в
ссылке. Свою особую в сравнении с другими декабристами пози-
цию сам Завалишин впоследствии в «Записках...» формулировал
так: «Я со своей стороны всячески старался, чтобы люди, прини-
маемые мною в общество, понимали и убедились, что в стрем-
лении к общественному преобразованию и улучшению надо начи-
нать с самого себя, возвышением в самом себе нравственной силы
и расширением круга образования на истинных основах его...
Не так смотрели... на дело люди, руководившие в то время
движением и в руках которых находилась распорядительная
власть общества...» (см.: Завалишин Д. И. Записки декаб-
риста).
Свое одиночество и непризнанность в декабристском кругу
Завалишин всячески для себя компенсировал неоправданно по-
вышенной самооценкой, раздуванием своего на самом деле не
слишком большого значения. В результате даже в собственных
«Записках...» Завалишин выглядит весьма нередко хвастуном и
фанфароном. У М. И. Семевского (основателя исторического
журнала «Русская старина») в его автобиографических заметках
были основания утверждать, что Завалишин «додумывается сде-
лать из себя крупного политического человека».
Но при этом «самоутверждался» Завалишин в достаточной
степени бесхитростно, с какой-то даже обезоруживающей и наив-
ной откровенностью. А самое появление человека с подобными
представлениями в декабристском кругу обнаруживало, как и тог-
да возникала потребность в некоей нравственной основе для лю-
бых возможных преобразований.
126
И в чем-то Толстой, по-видимому, шел от Завалишина в своем
Пьере. Присутствие Завалишина с его убеждениями среди декаб-
ристов позволяло сейчас Толстому отдать Пьеру, живущему в пер-
вые десятилетия века, некоторые свои устремления, некоторые чер-
ты душевного склада своих современников. Для рождения такого
Пьера, какого мы знаем, исторический Завалишин был, вероятно,
необходим.
В то же время «завалишинское» продолжилось в толстовском
герое уже на другой совсем ступени и самоанализа, и самосозна-
ния, сказалось иным положением его среди других людей, вообще
в русской жизни.
Толстой не мог не потянуться к Завалишину — как к тому, кто
действительно был в первой четверти столетия. И не мог уже не
увидеть своего героя с иной внутренней человеческой структурой,
с иной ролью его, чем это было у Завалишина. Разные времена
России сходились тут совсем непросто. Идя от «того» Завалишина,
Толстой столько же шел и от себя нынешнего, не только в прош-
лом «выращивал» настоящее, но и настоящее утверждал его бли-
зостью с прошлым. И ни в какой мере не чувствовал себя здесь
ограниченным тем, к чему мог прийти, двигаясь лишь от прошло-
го, тот же Завалишин, живший, кстати, и в 60-е годы.
А. В. Амфитеатров в своей книге о «Войне и мире»—<«1812 год.
Очерки из истории русского патриотизма»— писал: «...поздно при-
шедший в наши библиотеки лично, без псевдонимов, С. Г. Волкон-
ский — давний и хороший друг каждого русского человека, не чуж-
дого знакомства с отечественной литературой. Мы знали если не
его самого, то его нравственный портрет и идеи в Андрее Бол-
конском». И действительно, вряд ли даже известное сходство фа-
милий (Болконский — Волконский) не несет в себе связи героя
Толстого с тем, с кем сам Толстой был знаком, к кому выказал
несомненный интерес и кто так во многом нравственно напомина-
ет князя Андрея.
Откроем, однако, записки С. Г. Волконского («Записки Сергея
Григорьевича Волконского (декабриста)». СПб., 1901, с. 286) хо-
тя бы там, где он рассказывает о получении аннинской ленты.
«Не утаю,— рассказывает Сергей Волконский,— что, получив Ан-
нинскую ленту, едва произведенный в генерал-майоры, я был очень
обрадован этим награждением и чистосердечно сознаюеь в мало-
душестве своем, а именно, получив ленту около вечера, я так лю-
бовался ею, что, ложась спать, ее повесил на стул, поставленный
насупротив меня, с тем, чтоб до сомкнутия глаз любоваться ею».
Сколько еще трогательного простодушия в этом поступке буду-
щего героя-декабриста, сколько и в самом деле чистосердечности
в позднейшем его признании!
В глазах творца «Войны и мира» и простодушие, и наивная
чистосердечность обретали, пожалуй, еще большую или, точней,
более острую значимость. Наверное, во многом именно за эти ка-
чества он и Николая Ростова поставит, как будто неожиданно, до-
статочно высоко, хотя и не сможет не дать ему при этом малой
127
душевной подвижности. Но как далеки окажутся и простодушие,
и наивность от князя Андрея, как, если угодно, недостижимы для
него! А сменит их совсем иное, чем когда-то у Волконского, напря-
жение душевных исканий. И если Волконский, будучи осужден,
потеряет свои награды с горечью, то князь Андрей сам придет
к отказу от всякой славы людской, но будет во всем этом и утрата
прежней непосредственной энергии жизни, которая именно у Тол-
стого окажется уже в очень большой цене.
Да, князь Андрей многим в себе напоминает Волконского.
Однако герой «Войны и мира» приобщен к дальнейшему движе-
нию жизни с его противоречиями и входит в художественный мир
Толстого 60-х годов.
Достойная душевная цельность и государственная служба еще
не разошлись для Волконского безусловно по разные стороны.
Князь Андрей же, который, как мы знаем, прошел через увлечение
Сперанским, так и не найдет в нем ничего подлинно живого, хотя
и будет нуждаться в этом. Душевная зрелость Болконского будет
большей, чем у Волконского, его готовность к цельной и доверчи-
вой (пусть даже излишне) непосредственности ощущений и взгля-
да — меньшей. Увлеченный и здесь тем, кто жил и складывался
еще в первой четверти столетия, Толстой воспринимал его сквозь
свои соотнесения. Опять-таки и здесь творец «Войны и мира» шел
сразу и «от» Волконского, ‘и с другого совсем конца.
Близкий к будущим декабристам, очень свободный в своих
убеждениях и высказываниях, С. П. Жихарев заслушивался Рас-
топчина, восторгался императором |.
На страницах толстовской книги ни Пьер, ни князь Андрей
не выражают в адрес государя ни малейшего восторга, а Растоп-
чин воспринимается совсем иначе, чем его представлял Жихарев.
Денисов, не принимая тайного общества по образцу немецкого
Тирепарип4’а, соглашается на более решительное — бунт. Хотя
Денис Давыдов, многое давший от себя толстовскому Денисову,
вспоминал об истории своих связей с декабристами так: «Находясь
всегда в весьма коротких сношениях со всеми участниками заго-
вора 14 декабря, я не был, однако, никогда посвяшен в тайны
этих господ, невзирая на неоднократные покушения двоюродного
брата моего Василия Львовича Давыдова. Он зашел ко мне од-
нажды перед событием 14 декабря и оставил записку, которою
приглашал меня вступить в Тиреп@Бил4, на что я тут же припи-
сал: «Что ты мне толкуешь о немецком бунте? Укажи мне на рус-
ский бунт, и я пойду его усмирять». Эта записка была представ-
лена нынешнему государю, который сказал: «Это видно, что Де-
нис Давыдов ни о чем не знает».
«Войной и миром» обнаруживалось, как не могло сохраниться
все прежним, тем, чем было у начал века, в людях России. И от-
крывалось при этом, как не должно было то, прошлое, потеряться.
' См.: Жихарев С. П. Записки современника. М.—Л., 1955, с. 32, 275,
? Давыдов Д. Соч. М,, 1962, c. 495.
128
Сопряжением воссозданного с воссоздававшимся «Война и мир»
и утверждала единство истории, единство жизни.
Когда Денис Давыдов уходил в партизаны, в этом было очень
много от безудержного романтического порыва и совсем мало от
сознательного намерения поднять народную войну. В письме Баг-
ратиону сам Давыдов так объяснял свое стремление к партизан-
ским действиям против французов: «Вам известно, что я, оставя
место адъютанта вашего... и вступя в гусарский полк, имел пред-
метом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности,
и, если смею сказать, по отваге моей»'. Сожалея впоследствии
о партизанской поре, оставшейся позади, он задавался вопросом,
звучавшим так: «Но отчего тоскую и теперь о времени, когда го-
лова кипела отважными замыслами и грудь, полная обширней-
ших надежд, трепетала честолюбием изящным, поэтическим? »?
Ксенофонт Полевой говорит, что в конце своих дней Денис Давы-
дов жил только «в прошедшем, или, лучше сказать, в одном:
1812 годе и Наполеоне» (См.: Записки Ксенофонта Николаевича
Полевого. СПб., 1888, с. 440). Преобладание здесь повсюду именно
романтического порыва и романтической же разочарованности оче-
ВИДНО.
В черновиках своего «Дневника партизанских действий» Да:
выдов как будто подошел к тому, что означали собой партизан-
ские действия для крестьянской массы, но высказался и тут со-
вершенно романтически и отвлеченно — как о «поэзии подвига,
от которого нравственная сила рабов вознеслась до героизма сво-
бодного народа»3. Да и это высказывание осталось за пределами
окончательного текста.
Но, независимо от собственных побуждений Давыдова, дейст-
вия его в 1812 году помогали развертыванию уже тогда широкого
и массового движения, того именно движения, которое, по вер-
ному и острому впечатлению Наполеона, шло сменить собой бур-
ную и громкую роль ярких и увлеченных собой личностей. И «Вой-
на и мир» своим соотнесением Денисова или Долохова, с одной
стороны, с Тихоном Щербатым или старостихой Василисой, с дру-
гой, осуществляла самый этот процесс, идя и вместе с ним, и с
иного конца, от 60-х годов, ему как бы навстречу.
Подчас в «Войне и мире» появляются фигуры, в той или иной
степени привлекавшие к себе прежде внимание писателей, им
современных.
К примеру, за толстовской Марьей Дмитриевной Ахросимовой
стояла в реальности Настасья Дмитриевна Офросимова. И ее же
не без оснований называют прототипом Хлестовой в «Горе от ума».
Различие в облике персонажей Толстого и Грибоедова при этом
колоссально.
«Война и мир» открывает, что Николай` Ростов готов душить
бунт и пойти тут на ближайшего своего друга, с которым связан
' Давыдов Д. Соч. М., 1962, с. 315.
2 Там же, с. 373.
3 Там же, с. 14,
9 Заказ № 1409 129
еще и родством. Не утаено здесь и то, как коротка бывает на рас-
праву, как самовластна Марья Дмитриевна. Но даже такое при-
сутствует, живет в них с той непосредственностью, с той своеобраз-
ной цельностью, какие все менее давались в чем бы то ни было
людям последующего времени при всех их внутренних обостре-
ниях. И Ростов, и Марья Дмитриевна «схватываются» «Войной и
миром» как бы сразу и «сверху», и «снизу». И на том же сложном
отношении последующего времени с порой 1812 года возникает
пленительность Наташи, которая, по словам Пьера, «не удостаи-
вает быть умной».
Многократно говорилось, что Пушкин написал бы «большой
роман о 12-м годе» «не так». Можно сказать и больше — он даже
вообще его не написал. А написан роман был Толстым в 60-е го-
ды. Но, с другой стороны, М. П. Погодин, живший рядом с Пуш-
киным, знавший его достаточно близко, в письме Толстому
(от 4 апреля 1868 года) имел основания заявить, что он из «Вой-
ны и мира» и Пушкина «понял... яснее, его смерть, его жизнь»!.
Сводя собой разные времена жизни, «Война и мир» и каждое
из них представляла тем в особом свете и значении.
«ВОЙНА И МИР»:
ПРОИЗВОДСТВО ФОРМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
В ХШХ столетии искусству со все большими усилиями прихо-
дилось добывать органичность и полноту своих отношений с дей-
ствительностью. Но при этом оно и со все большей и все более
целенаправленной энергией отстаивало собственно человеческие
связи между людьми, развязывало те потенциальные социалисти-
ческие ресурсы в их общении и общности, которые позволяют уча-
ствовать в этих последних «индивидам как таковым»?, по извест-
ному выражению К. Маркса.
«Слушая музыку и задавая себе вопрос: почему такая и в та-
ком темпе, вперед как бы определенная последовательность зву-
ков? я подумал, что это от того, что в искусстве музыки, поэзии
художник открывает завесу будущего... И мы соглашаемся с ним,
потому что видим за художником то, что должно быть или уже
есть в будущем», — размышлял Толстой в дневнике 1904 года.
Искусство принимало на себя свою особую роль в современных
обстоятельствах истории.
Еще толстовская трилогия развертывала действенность про-
цесса человеческих общений. «Война и мир» ведет в этом смысле
дальше. Здесь обновляющие возможности взаимоувлечения, вооб-
ще взаимодействия людей при живых контактах их друг с другом
выразили себя с энергией небывалой и чрезвычайной.
Люди начала ХХ столетия и впоследствии не без гордости
вспоминали о замкнутости жизни в свое время. «<...К чести моего
' Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (юбилейное издание), т. 61, с. 196.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, ©. 69.
#30
времени скажу, — говорила одна из них, — что тогда... неравные
браки не были так часты, как теперь. Каждый жил в своем кру-
гу, имел общение с людьми, равными себе по рождению и по вос-
питанию, и не братался со встречным и с поперечным...»
М. А. Волкова в одном из своих писем убеждала В. И. Лан-
скую, явно этому радуясь, что сразу же по возвращении в осво-
божденную Москву ее жителей деление на «кружки» в светском
обществе совершенно восстановилось. «Общество по-прежнему, —
писала она, — делится на множество кружков, которые один с дру-
гим не находятся в сношении; каждому из этих кружков нет дела
до того, что происходит в остальных».
Декабристы на следствии много говорили о том, как собствен-
ный опыт общения с миром заставил их пересмотреть привычные
представления, сблизил друг с другом, как логика совместного
участия в тайных союзах вела их дальше. И тут же они расска-
зывали, как много все-таки значила для них присяга и как развя-
зала им руки путаница с нею после смерти Александра Г и отре-
чения затем Константина в пользу Николая.
В черновиках «Войны и мира» можно прочесть, что, когда в
оставляемой русскими войсками Москве люди стягивались в «тол-
пы», а «толпы», в свою очередь, соединялись друг с другом, то
возникший «общий интерес» был «только интерес настоящей ми-
нуты». И в составе «толп» названы отдельно «мужики, извозчики,
дворовые люди, мелочные торговки и торговцы, отставные солдаты,
фабричные, кузнецы, иностранцы, духовные, дворники, лавочники
и мастеровые — портные, сапожники, кузнецы и фабричные».
В черновиках же Пьер даже в плену наталкивается на разме-
жевание и разобщенность людей, не чувствует здесь почти никако-
го взаимообмена с ними. Говорится, что тут «сложились так же
резко и определенно все те формы жизни, в которых всегда и вез-
де выражается человечество», «сделалось само собой разделение
труда... Образовались классы высших (майор, чиновник и Пьер),
средних — офицеров, фельдфебеля и еврея и низших — солдат».
В печатной редакции «Войны и мира» после 1812 года в лы-
согорском доме мы встречаем, «как в каждой настоящей семье...
несколько совершенно различных миров». И породнившихся Пьера
и Николая Ростова разводят в разные стороны политические раз-
ногласия. Ростов не в состоянии ни понять, ни даже услышать то-
го, что говорит ему Пьер. Между ними — стена.
И все-таки, когда в тех же упомянутых черновиках, рисую-
щих происходившее в оставленной Москве, «толпа» окружает
дрожки полицмейстера, то, «кто почтительно и покорно, кто сер-
дито и грубо», но вместе «все выражали одно: вопросы о том, что
им всем делать, и упреки за то, что все господа и купцы повыеха-
ли, а они остались». А Пьер «после недели пребывания» в плену
«почувствовал, что это все свои — совершенно свои».
В Лысых Горах «совершенно различные миры», «каждый удер-
живая свою особенность и делая уступки один другому, сливались
в олно гармоническое целое». И только особые, политические раз-
9* 131
норечия лишают Пьера и Николая Ростова внутренних путей друг
к другу. Ведь даже в жестоком сражении, захваченный доблестью
чужих солдат, Багратион кричит им, сейчас своим врагам: «Браво!»
Правительство в самых тяжелых обстоятельствах борьбы с
Наполеоном явно боялось той силы, которая обнаруживалась от
соединения русских людей друг с другом при совместных их дей-
ствиях на войне. В июле 1812 года Федор Глинка писал: «До сих
пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собираться, воору-
жаться и действовать где и как кому можно». Позволения этого
так и не последовало вплоть до конца войны...
Французская буржуазная историография и по сию пору, опи-
раясь ныне на идеи абсолютного якобы и всеобщего отчуждения
людей друг от друга, отрицает массовость борьбы в России против
Наполеона, отвергает возможность широкого единства. Ж. Лефевр
в 1935 году утверждал, что «никакой массовый порыв не охватил
русских, а просто крепостные, как и некрепостные, бежали от го-
лодных захватчиков и в отчаянии обращались к партизанщине».
Но «массовый порыв», широкое единение были, и ими именно
рождена была особая сила.
Резко двинутые 1812 годом особое самоощущение и новая
мера энергии каждого в составе свободно возникающего целого в
дальнейшем, при Толстом, развертывались и нарастали.
Константин Аксаков обосновывал свои славянофильские на-
дежды на крестьянскую общину тем, что в ней голос каждого,
«подчиняясь общему строю, слышится в согласии всех голосов».
К. Аксаков, конечно же, очень по-своему представлял себе приро-
ду и характер «согласия всех голосов», но знаменательно, что и он
вел речь о том, как по-особому звучит и живет каждый голос
в сочетании и взаимодействии с другими.
Иван Аксаков с примерно близких позиций говорил в своих
статьях в газете «День» в марте 1862 года уже не о двух, как Кон-
стантин Аксаков, силах в России («земля» и «государство»), а
о трех, добавляя к двум названным еще «общество» и понимая
под ним соединение лиц — без сословного различия между ними,—
несущих на себе, именно как на свободно образовавшейся сово-
купности обменивающихся своими взглядами людей, работу ум-
ственного прогресса.
А. С. Хомяков в богословских сочинениях, вышедших посмерт-
но в 1867 году в Праге, склонен был считать, что истина не мо-
жет открыться «отдельному мышлению» и доступна лишь сплочен-
ному единству людей.
Пусть и Акеаковыми, и Хомяковым делались из приведенных
соображений славянофильские выводы об исконной и безусловной
будто бы цельности русской жизни. Показательно в данном слу-
чае, что и они не могли не откликнуться на новую роль человече-
ских объединений, складывающихся помимо привычных, установ-
ленных и устойчивых прежде границ. |
Пусть тут же, отвлеченный адъютантом, Даву забудет в Пье-
ре человека и отвернется от него. Это мгновение, когда они «смот-
132
рели друг на друга», вместе «перечувствовали бесчисленное коли-
чество вещей» и так вместе же поднялись, ведя друг друга до вы-
соты «детей человечества», было!
В действительности же, стоящей, как известно, за этой сценой
«Войны и мира», Даву, поглядев на задержанного и приведенно-
го к нему В. А. Перовского, готов был и хотел послать того на
смерть, и только честное свидетельство адъютанта, что Перовский
не тот, за кого его Даву принимает, спасло Перовского от гибелн.
Искусство здесь с удивительной явственностью и силой как бы
совершенно непосредственно брало на самое себя производство
форм человеческого общения и общности.
Способностью к подлинному общению, то есть к внутреннему
развитию в отношениях друг с другом, доступностью им участия
в подлинной человеческой общности люди «Войны и мира» испы-
тываются едва ли не больше всего. И именно тут испытание ока-
зывается самым суровым.
Оценки Сперанского теми, кто знал его или писал о нем уже
впоследствии, по всякого рода материалам, так и остались разноре-
чивыми и плохо сходятся между собой. Николай Тургенев, напри-
мер, высказывался о нем в 1842 году достаточно сурово. Но позд-
ней Чернышевский посвятил ему сочувственную в целом статью
«Русский реформатор».
Черновики «Войны и мира» позволяют предполагать, что Тол-
стого отвращало от Сперанского «разночинство последнего»'.
Именно так склонен был считать — впрочем, уже на основе окон-
чательного текста книги — I]. В. Анненков.
Но на самом деле «Война и мир» вводит Сперанского совсем
с иной стороны и за иное отвергает его как частного человека
и исторического деятеля.
Книга Толстого опирается здесь на источник, для Сперанского
безусловно благоприятный, — на апологетическое его жизнеописа-
ние, составленное М. Корфом. Она исходит из свидетельства, по
отношению к Сперанскому более чем благожелательного,— из рас-
сказа дочери его о том, как проходили у ее отца домашние встре-
чи за столом с близкими Сперанскому людьми. Но, вполне следуя
за этим рассказом, «Война и мир» со своим пафосом общения и
общности оказывается словно бы не в силах охватить этим послед-
ним Сперанского: тот даже на отдыхе, даже в веселье не обнару-
живает никакого движения навстречу. И тем Сперанский безна-
дежно теряет в «Войне и мире» всякую значительность и зна-
чение.
Война 1812 года дала людям России увидеть себя не «снующи-
ми взад и вперед» (как сказано у Гёте по другому поводу), а в
высоком общении, и это действительно подняло в их рядах каж-
дого и всех их вместе. «Война и мир» же, воссоздавая это прошлое
из иного, своего времени, освящает подобное самовосприятие как
органическое свойство жизни свободных человеческих союзов.
' См. например: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 13, с. 68, 90.
133
Живое, подлинное общение людей в «Войне и мире» бесконеч-
но шире, богаче, действенней одной лишь связи словами, которыми
они могут обменяться друг с другом. Истинное взаимопонимание,
совершеннейшая близость Наташи и Пьера выражают себя тем,
что «она разговаривала так, как только разговаривает жена с
мужем, то есть с необыкновенной ясностью и быстротой познавая
и сообщая мысли друг друга, путем, противным всем правилам
логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а со-
вершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла
говорить с мужем этим способом, что вернейшим признаком того,
что что-нибудь неладно между ней и мужем, для нее служил ло-
гический ход мыслей Пьера». И отсюда же, между прочим, то
необыкновенное, исключительное значение, какое придано именно
«Войной и миром» мимике, жестам, интонациям, обмену улыбка-
ми, диалогу глаз и т. п., о чем много справедливого и тонкого
высказано разными исследователями. Всем этим в «Войне и мире»
не столько выражен человек, сколько живет мир бесконечных чело-
веческих отношений и связей.
Для самого себя творец «Войны и мира» открывал своих геро-
ев во многом и многом через их общения, через прямые их отно-
шения друг с другом. И поэтому тоже «Война и мир» никак не
могла начаться авторским размышлением или обзором, а обяза-
тельно должна была открыться живой сценой между действую-
щими лицами. Какой-нибудь разговор не мог быть в «Войне и
мире» просто обозначен, указан. И даже в первоначальных на-
бросках не могли быть здесь лишь как-нибудь перечислены те
или другие факты из взаимоотношений героев. «Война и мир» и
рождалась именно действенным общением своих героев.
Когда в первые же наметки к книге Толстой вводил отношение
своего будущего Пьера или будущего князя Андрея к Наполеону,
то тут подразумевалось именно живое отношение этого вот чело-
века к другому, пусть лично Пьеру или князю Андрею незнакомо-
му, но им известному и вызывающему своими поступками, своей
судьбой в них обоих действенную энергию их душевных движений,
их душевного развития. С Наполеоном, не зная его, герои книги
Толстого с самых первых ее планов состоят как бы в прямой и не-
посредственной, хотя в данном случае и односторонней связи.
В своей реакции на Наполеона Пьер или князь Андрей в значи-
тельной степени уяснялись Толстому как лица его складывавше-
гося произведения.
Весь почти внутренний путь князя Андрея определялся для
Толстого в многократной проверке меры душевных обретений и
перемен в Болконском при контактах его с другими людьми.
В «1805 годе» князь Андрей даже к Пьеру относится неизменно
«с покровительственным и надменным оттенком». Вступаясь перед
Багратионом за капитана Тушина, он вместе с тем указывает на
того «небрежным и презрительным жестом». Тушин сам по себе
для Болконского словно не существует, ничего нового в его сужде-
ниях, и в его душе тушинский подвиг не вызывает. В более раннем
134
тексте он, не задумываясь, в немногих словах, уверенно и отстра-
ненно характеризует Тушина как «несчастного, жалкого, безглас-
ного человека, который, пока безвестно не будет где-нибудь раз-
мозжен ядром, будет героем в глазах только своих артиллерийских
лошадей, и солдат, таких же лошадей, как и лошади...». Заодно
выведены здесь за пределы собственно человеческих отношений
и тушинские солдаты. Встретив по пути в Брюнн раненых, князь
Андрей думает о них также внутренне неподвижно и завершенно-
итогово: «Несчастные... А и они нужны». Себя самого князь Анд-
рей будущего первого тома воспринимает на войне 1805 года так:
«Я избрал эту карьеру, чувствую себя к ней способным... затем,
что я честолюбив, затем, что я люблю славу». Не было сначала
у князя Андрея, упавшего на Аустерлицком поле, неба над голо-
вой, прорыв к которому отодвинул бы и низверг для него Напо-
леона.
В черновиках князь Андрей видел впервые Наташу, как и в
окончательном тексте, тоже при посещении Ростовых. Но Наташа
тут была «не в своем виде»— она готовилась к домашнему спек-
таклю и появлялась наряженной мальчиком. Не было еще той
лунной ночи, когда князь Андрей слышит Наташу, не догадываю-
щуюся 0б этом. И не могла здесь подобная встреча с Наташей
претендовать на какую-то особую роль в движении душевной жиз-
ни Болконского.
По одной из ранних рукописей, князь Андрей после первого
приезда в Отрадное часто бывал потом здесь, многократно видел-
ся с Наташей и тут, и потом еще в Петербурге. Один из вариан-
тов предусматривал, что предложение Наташе Болконский делает
в письме, написанном по-французски. Глубокими внутренними
сдвигами в герое такое общение его с Наташей вряд ли могло
быть чревато. И все это до окончательного текста не дошло.
Ища для князя Андрея какие-то сильно действующие контак-
ты, Толстой попытался получить нечто существенное в этом смыс-
ле от сцены возвращения Болконским Пьеру писем Наташи.
По первому варианту этой сцены, князь Андрей впадал в истери-
ку, кидался на лакея. Но выйти из этого отчаяния князю Андрею
было некуда. И вся сцена не сохранила своего предполагавше-
гося, по всей видимости, значения.
И все-таки Толстому удалось в конечном счете найти и для
князя Андрея моменты его общений с миром, сдвигающие этого
человека, что и позволило Болконскому занять в «Войне и мире»
его место.
Толстой дал Болконскому услышать перед Шенграбеном раз-
говор Тушина с другими офицерами о смерти. Слушая этот раз-
говор, Болконский вдруг почувствовал разговаривающих «милыми
и дорогими» себе, начал испытывать к ним «участие». В оконча-
тельном тексте «Войны и мира» уже «звук голосов из балагана»
поразит князя Андрея «задушевным тоном», и он станет заинте-
ресованно вслушиваться. Вступится за Тушина перед Багратио-
ном князь Андрей на страницах книги горячо и волнуясь, А появ-
135
ляясь перед нами впервые, ответит в салоне Анны Павловны
Шерер на улыбку Пьера «неожиданно доброю и приятною улыб-
KOH».
Еще в черновиках окажется, что при разгроме Мака под Уль-
мом в душе Болконского «странно и нелогично, не мешая одно
другому, соединялись два совершенно противоположные чувства —
сильной гордости патриотической и сочувствия к общему делу и,
с другой стороны, затаенного, но не менее сильного энтузиазма к
герою того времени, к маленькому капралу, который на пирамидах
начертал свое имя». И это состояние в каком-то взаимообмене
со всем происходящим будет искать себе выхода.
Когда над князем Андреем склоняется на Аустерлицком поле
Наполеон, Болконский не ощущает больше с этим своим кумиром
никакой связи. Но зато тут же небо открывается ему «высоким,
справедливым и добрым», оно многое говорит ему и со многим не
испытанным раньше сейчас его сводит. Князь Андрей решительно
прорывается тут от отношений по преимуществу с самим собой
к отношениям с бесконечностью жизни. А затем в первой встрече
с Наташей он выходит из затворничества. При дальнейшем общении
с ней поднимается над суетностью и тщетой деятельности Спе-
ранского.
Рядом с Наташей Болконский иногда внутренне даже живет
почти как она — в отданности вот этим впечатлениям, увлекаемый
ими далеко. Слушая пение Наташи, он «почувствовал неожидан-
но, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не
знал за собой. Он посмотрел на Натащу, и в душе его произошло
что-то новое и счастливое». Князь Андрей в эту минуту не помнит
даже, что он плакал уже когда-то — при рождении сына и смерти
жены, настолько весь он сейчас тут, в пении Наташи, этим мгно-
вением поглощен и движим.
Болконский высоко поставлен «Войной и миром». Но Наташе
даже в лучшие их часы не было с князем Андреем просто и легко.
Старой графине даже тогда, когда она отвечает согласием на
предложение князя Андрея Наташе и хочет «любить его, как сы-
на», он остается «чужим». И еще тогда, когда, по первоначально-
му предположению Толстого, князь Андрей оставался после войны
жив, не с ним, а с Пьером должна была соединиться судьба На-
таши.
С Пьером, а не с князем Андреем, потому что в князе Андрее
возможности взаимообмена со всеми и со всем вокруг все-таки не
безграничны и, едва только обнаружив себя, начинают затухать,
а Пьер радуется, когда может сказать: «Мы думаем, что, как нас
выкинет из привычной дорожки, все пропало; а тут только начи-
нается новое, хорошее». И это Пьер мог смеяться в плену над тем,
что его «заперли». И сойтись здесь с Каратаевым. И испытать ког-
да-то при ссоре с Элен «увлечение и наслаждение бешенства».
И сопрячь в своей душе дружбу с Болконским, постижение Кз-
ратаева, женитьбу на Наташе, участие в тайном обществе и еще
многое, многое другое... Действенность живых общений реализует
136
себя в Пьере с бесконечной энергией. И именно с ним оставлена
«Войной и миром» Наташа.
Если Пьер замечателен больше всего тем, как к нему схо-
дятся, сплетенно в нем продолжаясь, самые разные живые силы
мира, то Наташа в поразительной степени способна вызвать, про-
будить поток захватывающего человеческого общения.
Это ведь она заставила князя Андрея впервые почувствовать
слезы в горле, хотя когда-то он уже плакал. И она же вытащила
его из богучаровского затворничества, а потом отвлекла от Спс-
ранского. При ней Борис Друбецкой неожиданно для себя самого
становился вдруг иным, чем сам того хотел.
В самом начале книги, заскочив нечаянно, с нерассчитанного
«бега», слишком далеко, она разрушила холодную чинность прн-
ема гостей и растормошила всех своим весельем. И тут же, захва-
ченная сама впечатлением случайно увиденного чужого поцелуя,
позвала целоваться благоразумного Бориса. Дерзкий вопрос На-
таши о пирожном за торжественным столом вызывает у Марьи
Дмитриевны Ахросимовой желание как-то поддержать и эту вы-
ходку, и вообще эту отчаянную девочку, и вот уже весь дух за сто-
лом меняется.
Из разного рода источников известно, что при оставлении Моск-
вы дворянские семьи отнюдь не спешили отдавать подводы под
раненых и предпочитали увозить свое имущество.
По черновикам «Войны и мира», Ростовы сбрасывали с подвод
вещи и размещали раненых, лишь выполняя растопчинский при-
каз. В книге Наташа своей слиянностью со всем сейчас происходя-
щим увлекает за собой отца и мать, и это ей обязаны раненые спа-
сением.
Даже о самой себе Наташа думает не только «от себя», но
тут же и от чьего-то еще лица, — так невозможно для нее не потя-
нуть за собой других, не вовлечь и их в любые свои впечатления,
переживания, каковы бы эти последние ни были. «Это удивитель-
но, как я умна и как... она мила»,— продолжала она, говоря про
себя в третьем лице, и воображая, что это говорит про нее ка-
кой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина».
Нет, Наташа здесь не озирается, не оглядывается на чужое со-
знание, как это обычно бывает с героями Достоевского, некреп-
кими ни в себе, ни в своем положении в жизни. И в окончатель-
ный текст не могли войти промелькнувшие было в черновиках тре-
воги Наташи по поводу недостаточной светскости ростовского
дома и ростовского круга в Петербурге. Совсем напротив. Чужие
слова обязательно несут в себе для Наташи отсвет того, что она
сама сейчас чувствует, что в ней происходит, потому что не мо-
жет же это «ее» так в ней и замкнуться, пропасть, не заразить
других.
В эпилоге Наташа находит выражение и продолжение себя
в семье, в детях. И все же нельзя не заметить, что жизнь ее самой
идет теперь только в кругу семьи и непосредственных выходов
за эти пределы уже не видно...
137
Рядом с Толстым в те же 60-е годы Достоевский вглядывался
своим «Идиотом» в то, как Мышкин положил всего себя созна-
тельно и самоотверженно, чтобы поднять, вызвать в любом из
встречаемых им людей их собственно человеческое. Мышкин спе-
шил от одного к другому, обращался, взывал к каждому — одному
за другим. И человеческое поднялось — и в Настасье Филипповне,
и в Рогожине, и в Епанчиных. Но систему связей, владеющих об-
ществом, ему пробить дано не было, и она встала неодолимой
преградой уже взметнувшимся было при встречах с Мышкиным
началам общения и общности. Производство форм общения и
общности нашей литературой и тогда, когда оно совершалось
особенно целеустремленно и энергически, не имело ничего схоже-
го с прекраснодушным мечтательством. Оно шло в реальной атмо-
сфере истории и ни в каком случае не оставляло ее от себя в сто-
роне, будь то эпос «Войны и мира» или трагедия «Идиота».
«ВОЙНА И МИР»
И ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ИСКУССТВА,
ИГРЫ В ХХ ВЕКЕ
В начале войны 1812 года Наполеон сказал: «Я иду в Москву
и в одно или два сражения все кончу». Во фразе этой была теат-
ральность, нисколько, однако, не помешавшая впечатлению, кото-
рое она тогда произвела. Наполеон произносил и прежде, и еще
потом много подобных фраз на публику. Они всегда почти прини-
мались современниками, и не без их участия сложился небывалый,
наверное, до тех пор в новое время культ человека и вождя.
Денис Давыдов в своем очерке «Тильзит в 1807 году» приводит
выдержки из письма принца де Линя, где о Наполеоне, между
прочим, рассказывается: «Он бросил несколько вопросов и заме-
чаний отрывисто и, что меня удивило, на манер Бурбонов, с ко-
ими он также сходствует и некоторым качаньем с боку на бок,
на ходу и стоя на месте. Что производит это: престол французский
или умышленность?» Пока ответа на вопрос словно бы нет. Но чи-
таем дальше: «Все замечательно в человеке, который не говорит
и не делает ничего даром и без цели. Так, например, я приметил,
что он удостоивал легким вниманием Магдалину Корреджиеву,
картины Тициановы, трех граций, прелестный эскиз Рубенса и
прочие, и останавливался пред обыкновенными картинами, пред-
ставляющими сражения или какие-нибудь важные исторические
события. Опять спрошу: как это случилось,— само собою или с
намерением? Нет сомнения, что это было сделано для зрите-
лей»!. Ответ уже есть. Он не вызывает у автора письма никакого
сомнения. И в то же время лицедейство это Давыдова ни в малой
степени не коробит.
Пройдут многие годы, прежде чем Герцен в «Былом и думах»
безусловно вменит его Наполеону в вину и решительно скажет:
' Давыдов Д. Соч. М., 1962, с. 955.
138
«Он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерз-
нут и что тут не отделаешься такою шуткою, как в Египте. План
войны был нелеп,— это знали все, кроме Наполеона: Ней и Нар-
бон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал
каббалистическим словом «Москва», в Москве догадался и он».
Театральность, игра представились вдруг чем-то смешным и не-
лепым, следствием недостатка «догадливости», даже ума.
И вот в «Войне и мире» Наполеон в Москве ждет «депутацию
бояр». Ждет торжественно, долго — и напрасно. Картина эта за-
вершается словами: «Не удалась развязка театрального представ-
ления». Именно они, слова о «театральном представлении», ока-
зываются здесь последним ударом по Наполеону, звучат откры-
той издевкой. Театральность в поведении низводит тут Наполеона
окончательно на самую низкую ступень, обнажением ее он раз-
венчивается совершенно. При встрече Наполеона с Москвой, с
Россией едва или не она больше и строже всего наказывается.
Впоследствии те, кто писал о толстовском Наполеоне, испыты-
вали подчас даже некоторое неудобство: Наполеон был все-таки
и в самом деле человеком не мелким, в «Войне и мире» же уви-
деть это нельзя почти никак.
Юрий Олеша, сопоставив как-то «Записки Шаховского о пер-
вых днях в Москве, после того как оттуда ушел Наполеон» с тол-
стовскими картинами Москвы в ту же пору, записал: «...чувству-
ешь, что чего-то недосказал Толстой, не передал каких-то особен-
ностей того года, тех дней, того стиля. Все это было более кар-
тиннО...»! Очевидно, из своего времени «картинности» в высоком
Толстой не допускал.
Так же, как Наполеон, театрально, на зрителей ведет себя
в «Войне и мире» и Растопчин. Но в высшей степени знаменатель-
но, что исторический Растопчин такого своего образа действий
нисколько не стыдился и не скрывал. Своими успехами в этом
смысле он, напротив, гордился.
Денис Давыдов в «Дневнике партизанских действий» расска-
зывает, что, когда’ в русских деревнях его в пору партизанской
войны стали принимать подчас по гусарскому ментику за чуже-
земца-француза, он перерядился в мужичий кафтан, отпустил бо-
роду, «вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заго-
ворил... языком народным»? Представ перед Кутузовым, он по-
просил у того извинения за «мужицкую... одежду», но Кутузов
отвечал: .«В народной войне это необходимо, действуй, как ты
действуешь»...3 У Давыдова этот маскарад возник, как видим,
вполне естественно и легко, никак и ничем его не тяготя. Да и Ку-
тузова такая игра явно не оскорбляла. Это как само собой разу-
меющееся входило для них в столь высокое и святое дело, как
Отечественная война против Наполеона.
1 Олеша Ю. Ни дня без строчки. М., 1965, с. 204.
2 Давыдов Д. Соч. М., 1962, с. 320.
3 Там же, с. 369.
139
Опасений подмены жизни игрой в нее, мысли даже об этом
тут не возникало. Хотя у Наполеона, а в еще большей мере у
Растопчина игра становилась уже самой сущностью, иногда почти
единственной, поведения.
Театральное искусство начала века очень наглядно открывает
эту свободную тогда связь игры именно как игры с жизнью.
«Сценическое искусство приобрело тогда смысл и... популяр-
ность как метод сгущенного выражения чувств,— говорит Б. М. Эй-
хенбаум.— Дело шло не о создании характера, а о раскраске от-
дельных душевных состояний, эмоций и страстей, об их вырази-
тельной сценической огласовке. Внимание перешло от пьесы к
актеру — и именно к тем его средствам и качествам, которые нуж-
ны для такого эмоционального стиля игры: голос (или «орган»,
как тогда говорили), дикция и интонации. Возникали ожесточен-
ные споры о том, как читать стихи в трагедиях, знаменитая Се-
менова вступила в соперничество с французской актрисой Жоржр—
и зрители с трепетом следили за каждой фразой, за каждой инто-
нацией»'.
Зрители не боялись искусственности, театральности на сцене.
Напротив, они хотели видеть в театре все откровенно усиленным,
приподнятым и возвышенным в сравнении с тем, как это бывает
на самом деле. Игра для них (а искусство — это всегда и игра!)
не должна была быть вполне похожей на действительность, могла
свободно воспарять над ней.
С. П. Жихарев со слов знаменитого русского актера Дмитрев-
ского передает, как однажды в Париже на глазах у того, на зва-
ном ужине у Клерон она и Гаррик соревновались между собой, по-
очередно декламируя «лучшие сцены из своих ролей»?. Шаг к те-
атру делался легко, но сам театр при этом был совершенно те-
атрален.
На русской сцене пьесы Озерова привлекали зрителей не вос-
созданием жизни, но монологами, откровенно форсировавшими и
приподымавшими настроения и чувства, зрителям близкие. Тот же
Жихарев по поводу представления в 1807 году одной из подобных
пьес, принадлежавшей перу Крюковского, записывал: «Трагедия
Крюковского должна иметь огромный успех на сцене, потому что
все почти стихи в роли князя Пожарского имеют отношение к на-
стоящим политическим обстоятельствам и патриотическим чувст-
вованиям народа. Такие возгласы, как например,
Москва не мать ли мне?
произнесенные Яковлевым, хоть у кого расшевелят сердце»з.
Откровенная театральность волновала, действовала именно как
таковая, своей непохожестью на реальность.
Мы рискнем здесь сказать, что даже между Каратыгиным и
'Эйхенбаум Б. М. С. П. Жихарев и его дневник.— В кн: Жиха-
рев С. ПП. Записки современника, с. 657.
? Жихарев С. П. Записки современника, с. 331—332.
8 Tam xe, с. 410.
140
Мочаловым, при всем громадном их отличии друг от друга, было
нечто общее в этом как раз смысле. Ведь наибольшего триумфа
Мочалов добивался, играя роли, далекие от его собственного об-
раза жизни и судьбы, — в Гамлете, или в Отелло, или в драмах
Шиллера, то есть тоже, как и Каратыгин, отделяясь на сцене
как-то от своего повседневного облика. И, судя по воспоминаниям,
например, А. Д. Галахова, в наиболее сильные мочаловские мину-
ты зал не столько сливался с актером и его героем в одном чувстве
и переживании, сколько исходил в восторге перед театральной
силой и возвышенностью, и подчас представление на несколько
минут останавливалось. Сам же Мочалов нуждался в том, чтобы
эффекты его бывали сразу же восприняты публикой, поддержаны
ее аплодисментами. Если этого почему-нибудь произойти не могло,
то готов был опустить и опускал подчес в роли целые куски.
Белинский, анализируя и оценивая мочаловское исполнение, поль-
зовался меньше точными определениями, больше — потоком на-
пряженнейших метафор и принимал как истинно высокое в Моча-
лове его «бешеные вопли» на сцене, так именно их и называя.
Ап. Григорьев указывал прежде всего на способность Мочалова
на глазах у публики обращаться в «какой-то гигантский призрак»'.
В таких лермонтовских образах, как Арбенин и Печорин, не-
кое начало театральности открыто входит и в поведение героев,
и в их обрисовку (Казарин в последнем действии «Маскарада»
даже сам прямо говорит Арбенину, что они оба «актеры»). Ис-
следователями давно указано, что у Гоголя некоторые сцены, хотя
бы в «Тарасе Бульбе», как бы словесно воссоздают театральные
эпизоды. Есть своя подчеркнутая театральность и картинность и
в немой сцене «Ревизора», что впоследствии так остро было схва-
чено и по-своему использовано в знаменитом спектакле Мейер-
хольда.
Они же, театральность и картинность, входят и в «Последний
день Помпеи», придавая творению Брюллова грандиозную зре-
лищность, не оскорбительную и поэтическую именно в уверенной
своей откровенности.
В самой жизни был тоже свой оттенок эффектной игры в «бо-
гемстве» молодежи начала века, в грибоедовских дуэлях, в при-
роде романтизма. Указав на раздражающее сейчас присутствие
«кричащего нафоса», «сценических подмостков» в рисующей собы-
тие начала XIX Beka репинской картине «Пушкин пятнадцати
лет читает свою поэму «Воспоминания в Царском Селе», наш со-
временник Б. В. Асафьев тут же и признал: «Чем дольше вгляды-
ваешься, тем понятнее становится, что театральность есть и в эпо-
хе, и в ситуации; картина, в сущности, и должна кричать: рито-
ричность, декламаторство, выспренность несомненно приподымали
весь строй сцены, и живопись имеет право выразить это настрое-
ние своей акцентированностью, своими средствами».
' Григорьев Ап. Воспоминания. М.—Л., 1930, с. 280.
?Асафьев Б. В. (Игорь Глебов). Русская живопись. Мысли и думы.
Л.— М., 1966, с. 166—167.
141
Но на смену Мочалову придет Щепкин, который приведет на
сцену таких же людей, каким он сам был в жизни, и, по точному
выражению Герцена, окажется первым «нетеатрален на театре».
Шевченко будет прав, когда во всех щепкинских героях узнает
прежде всего самого Щепкина с его вынесенной прямо к зрите-
лям собственной судьбой.
В глазах Щепкина привычные по тем временам условности по-
ведения актера на сцене станут странными, и он будет искренне
изумляться им. А Александр Иванов на пути от ранних эскизов
«Явления Христа народу» к самой картине решительно отойдет от
всякой эффектности, поначалу нисколько не скрываемой '.
В. П. Боткин в частном письме к брату Михаилу в 1862 году
порадуется развенчанию таким далеким от него В. В. Стасовым
в статье, опубликованной тогда «Русским вестником», брюлловской
зрелищности. Он напишет: «...Наступила, наконец, пора здраво-
мыслящей оценки... Стасов разбирает «сочинения» Брюллова в
историческом, религиозном и мифологическом роде, и в результате
оказывается, что Брюллов все понимал весьма слабо и поверх-
ностно. В религиозном он не заходил далее Болонской школы, в
истории он брал одну театральную сторону...»
И Бальзак, даже очень высоко оценивая Вальтера Скотта в
целом, огорченно заметит в его романах стремление «произвести
необычный эффект»?. Театральность и в искусстве, и в жизни все
чаще оказывается оскорбительной, все настойчивей отвергается.
Так повсеместно искусству именно потому, что оно все больше
конституировалось в отдельную отрасль «духовного производства»,
приходилось с особой строгостью и особой сосредоточенностью ус-
танавливать свои отношения, свои связи с действительностью.
Чернышевскому предстояло уже поставить и решать странный,
по недавним еще временам, вопрос: «выше» или «ниже» жизни
искусство? Писарев захочет «быть скорее русским сапожником,
чем русским Рафаэлем». И в самой такой постановке вопросов
русской мыслью Блок потом увидит «искренние проявления» того
резкого «разделения», которое уже совершилось. А рядом судьба
искусства будет искаться в принципиальном и целеустремленном
отдалении им себя от жизни, поскольку она якобы игре безуслов-
но и всегда только враждебно противостоит. Даже Чернышевский
такой невозможный вне жизненной практики вид искусства, как
архитектура, выведет в своей диссертации за пределы искусства
вообще. Самая же архитектура вступит в долгую полосу упадка:
Андрей Платонов в статье 1937 года «Пушкин и Горький» ска-
жет о союзе Пушкина и Арины Родионовны: «Няня-мать расска-
зывала сказки, а Пушкин сказки сам писал. Они и по «профессии»
были товарищами — оба поэты»“. И слово «профессия» в прило-
' См.: Сарабьянов Д. Образы века. О русской живописи ХХ столе-
тия, ее мастерах и картинах. М., 1967, с. 48.
? Бальзак об искусстве. Сост. В. Р. Гриб. М—Л., 1941, с. 433.
3 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М—Л., 1962, т. 6, с. 110.
* Платонов А. Размышления читателя. М., 1970, с. 56.
142
жении к Пушкину, так же как и к Арине Родионовне, будет тут
очень точно взято в кавычки. А в другом месте этой же статьи
можно будет прочесть: «Пушкин целиком артистическая душа, че-
ловек готического почерка, страстный, впечатлительный, веселый
и грустный одновременно и — недолговечный»'.
«Деспот, злодей непременно должен любить искусство»,— за-
писал Толстой в дневнике в 1897 году. И не хотел допустить ни
забавы, ни наслаждения искусством.
«Войной и миром» очень остро схватывалась совершавшаяся
уже действительно и в Наполеоне, и в Растопчине подмена жизни
всяческой игрой, губительная в нравственном смысле и для жизни,
и для самой игры в ее высоких возможностях. Наполеон и Рас-
топчин взяты были взглядом преимущественно из будущего, из
дальнейшего — и потому увидены они иначе, чем выглядели в гла-
зах своих современников.
Однако книга Толстого и оберегает роль игры вообще, игры
искусства в частности, для жизни и в самой жизни. Она и под-
держивает ту свободу отношений игры с жизнью, что была все-та-
ки в эпоху 1812 года. Поддерживает, погружаясь и в самое это
время.
«Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста
Денисова, и он представлялся тем самым молодцом, каким он
сам себя чувствовал». Денисов в самом деле мал ростом. И так
он выглядит для других, для всех. Но ощущает-то он себя иным.
И это самоощущение находит-таки себе выход. Когда обычный
порядок жизни отступает, тут-то как раз она, жизнь, и выказывает
себя в своих раскрепощенных возможностях. «На коне»— это игра
и еще война. «В мазурке»— это искусство, его игра. И здесь-то
вот и выказывает себя весь Денисов. Тут игра — совсем не что-то
недостойное и недопустимое, но та внутренняя необходимость са-
мой жизни, без которой последняя не может осуществить себя в
полной мере и Денисов никогда бы и ни перед кем не предстал
«тем самым молодцом».
А рядом, неотделимо — война.
1805 год. Далеко от родной земли русское войско идет «с рус-
скими песнями, русским говором, русскими мыслями и русскими
привычками... пронося везде русский дух... и, чем дальше уходилн,
тем плотнее сжимался этот, точно кусок России, который оторвал-
ся от нее и пошел с штыками и песнями, пешком и верхом ходить
по разным землям, и, чем дальше, тем беззаботнее, и веселее, и
руссее казался этот оторванный кусок России». Это уже в перво-
начальных черновиках. В людях, выбившихся из привычной колеи,
«руссее» становится их дух, потому что высвобождается в них игра
их сил, пусть даже оплачивается такое самой страшной ценой.
«— Прислуга, к орудиям!»— командует в окончательном тек-
сте «Войны и мира» перед переправой через Энс офицер. ‹...И че-
рез минуту весело выбежали от костров артиллеристы с заряда-
+ Платонов А. Размышления читателя. М., 1970, с. 51.
143.
ми». При первом же сделанном выстреле «лица солдат и офицеров
повеселели... Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за тучи, и
этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца
слились в одно бодрое и веселое впечатление».
Жизнь как бы ждет любой возможности вырваться за обыч-
ные свои пределы, «слиться» с солнцем. И это совершается — хо-
тя бы с командой «<...к орудиям!» и под «красивый звук... вы-
стрела».
«Так называемое самоотвержение, добродетель есть только
удовлетворение одной болезненно развитой склонности. Идеал
есть гармония», — записывал Толстой в дневнике 3 марта 1863 го-
да, в пору, когда уже рождалась «Война и мир». И добавлял
сразу же: «Одно искусство чувствует это».
В черновиках «Войны и мира» в доме Ростовых пела и танце-
вала вся молодежь — не только Наташа, но и Николай, и Соня, и
Борис Друбецкой, участвовал в пении даже Берг. Однако в печат-
ной редакции этого нет. И когда приехавший из армии Николай
спрашивает Наташу о Борисе, та говорит: «Никогда ни за кого
не пойду замуж, а пойду в танцовщицы». Игра искусства не жи-
вет, как оказалось, свободно и сама собой даже в старом рос-
товском быту, и маленькая Наташа, чувствуя, что ее, игру, надо
как-то спасать в себе, хочет вдруг заняться искусством — пойти
«в танцовщицы». Она видит в этом сама обиду ростовскому дому,
признание какой-то его уже нецельности и неполноценности и
тут же просит Николая: «Только никому не говори!» И в эту же
зиму «Наташа... в первый раз начала серьезно петь»'.
И все-таки даже весь насквозь «из быта» Николай нуждается в
этой игре искусства и отдается ей, когда та заявляет себя в Ната-
ше. Вернувшийся после страшного проигрыша, уверенный, что те-
перь только «пулю в лоб остается», он вдруг захвачен пением
Наташи до забвения всего другого на свете и, уже не замечая
того, поддерживает игру ее голоса и сам.
Низменная подмена жизни игрой и высокая потребность в игре
у жизни имеют в «Войне и мире» и непосредственные сопряжения.
Вот все молодые Ростовы переряживаются и так, ряжеными,
несутся на тройках в Мелюковку. Все происходит легко, весело.
Но наступает момент, когда они словно уже перестают быть собой,
как бы переряживаются внутренне. А затем, совсем скоро, мы уви-
дим Наташу в театре, на оперном представлении, где она, откры-
тая своей душевной игре, поддастся устанаваивающейся здесь
искусственности и фальши и пойдет навстречу нечистой игре Ана-
толя 2.
`' Наблюдение это сделано в прекрасной дипломной работе выпускницы
ЛГЦИ имени А. И. Герцена И. И. Зиндеевой (1966).
? Тут у Толстого явно и резко обострена возможная для дворянской ба-
рышни той поры неожиданность вяечатления от театра; по свидетельству совре-
менников, «в начале... столетия Москва насчитывала более двадцати домашних
театров, где играли крепостные люди и сами господа, любители», в некоторых
из этих театров «давалась итальянская опера» с участием приезжих знаменито-
144
Белинский мог еще просто, без оговорок и колебаний, любить
театр и даже звать «умереть в театре». Толстой скажет в одном
из частных писем: <...Не люблю театр, и всегда хочется критико-
вать». В обоих случаях за представлениями о театре, несомненно,
стояло большее — отношения жизни и игры, развивавшиеся дра-
матически 1,
ДЕМОКРАТИЗМ ТОЛСТОГО
В РОМАНЕ «АННА КАРЕНИНА»
«В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англез
под звуки от усталости фальшививших музыкантов и усталые
официанты и повара готовили ужин, с графом Безуховым сделался
шестой удар»,— так, как помним, совершается в одной из глав
«Войны и мира» переход от повествования о Ростовых к событиям
в доме Безухова. Одно к другому здесь никак не «пригнано», ни-
какая жесткая связь не устанавливается. Так и сводит «Война
и мир» далекие друг от друга, совсем разные явления идущей
жизни. Сводит, не направляя, не устремляя все и не устремляясь
сама в какую-нибудь одну сторону. И комета 1812 года, которую
видит Пьер, впервые признавшись Наташе в своей любви, соеди-
няет на этот раз душевное состояние героя с наступающими для
человечества временами — тоже без какого-нибудь символиче-
ского перенапряжения, почему в конце второго тома книги может
быть прямо и даже простодушно сказано: «Пьеру казалось, что
эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей
к новой жизни, размягченной и ободренной душе».
Образ мира в «Войне и мире» созидается и живет в свободном
сопряжении людей, фактов, событий самых разнородных. И не
случайно вот этими именно словами и понятиями —«мир» и ‹«со-
пряжение»— Толстой в своей книге 60-х годов так дорожил.
А теперь обратимся к одной из самых памятных сцен «Анны
Карениной».
«Она (Анна.— Я. Б.) провела разрезным ножом по стеклу, по-
том приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и
чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладев-
шей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются
все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она
чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что
пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то
стей; «залы княгини 3. А. Волконской исключительно оглашались итальянскою
музыкою, а театры С. С. Апраксина и Ф. Ф. Кокошкина предпочтительно при-
надлежали трагедии и высокой комедии» (Пыляев М. И. Старая Москва.
Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. СПб., 1891, с. 306). В чер-
новиках знакомство Наташи с Анатолем происходило не в театре, а в Отрад-
ном, куда Анатоль приезжал по приглашению старика Ростова.
' Основные положения этой главы, опубликованной впервые в 1971 году,
развиваются также в статье Ю. М. Лотмана «Театр и театральность в строе
культуры начала ХХ века» (1973).
10 Заказ № 1409 145
давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся
полумраке с необычайною яркостью поражают ее. На нее бес-
престанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или
назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? «Что
там, на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама
или другая?» Ей страшно было отдаваться этому забытью».
Небывалая целеустремленность и центростремительность воз-
никает здесь в толстовском изображении. Внутреннее состояние
Анны схватывается с чрезвычайной остротой и напряжением. И ка-
жется — вот-вот свойственные реализму полнота и цельность от-
ношений с миром уже окончательно отступят ради какой-нибудь
категорической односторонности.
В то самое время, когда писалась «Анна Каренина», натура-
лизм, проникая в действительную сложность биологического су-
ществования человека, все настойчивее приходил к выводу, что
природе своей человек исключительно и фатально подчинен. Чем
точней и сильней было такое воссоздание трудных, мучительных
человеческих состояний у Флобера или Золя, тем меньше, однако,
как ни странно это на первый взгляд, оказывалось в них реально-
го жизненного драматизма. Потому что владели эти состояния
человеком сами по себе уже безраздельно и безысходно. И ни у
персонажей, ни у самих художников не получалось, собственно,
никакого выбора — оставалось лишь отдаться во власть слепой и
темной биологической закономерности.
Толстой в своей новой устремленности оказывался вроде бы
совсем рядом с решениями натуралистов. Но он избежал свой-
ственного им сужения взгляда. Золя считал недостоверным сви-
дание в саду Жюльена Сореля с мадам де Реналь из стендалев-
ского «Красного и черного», потому что здесь не было развернуто
воздействие на женщину летнего воздуха, запаха цветов, ночных
испарений земли... О своей же «Терезе Ракен» он говорил: «Взять
сильного мужчину и неудовлетворенную женщину, отыскать в них
животное начало, видеть только это начало, вызвать жестокую дра-
му и тщательно отмечать переживания и поступки этих людей...»
А Толстой, погружаясь во внутренние состояния Анны, улав-
ливал у героини и ее «улыбку, волновавшуюся между губами и
глазами». И это волнение улыбки «между губами и глазами» пря-
мо указывает на несводимость жизни человека к одной лишь фи-
Зиологии.
Именно несводимость. Потому что волнующаяся «между губа-
ми и глазами» улыбка по самому своему существу не может быть и
только сигналом, проявлением чего-то происходящего в сознании,
как очень скоро станет это с воспроизводимой подробностью у
Пруста, что тоже будет строго направлять и ограничивать искус-
ство в освещении человека.
Анна встречает Вронского на вокзале железной дороги. С же-
лезной дорогой связаны начало их отношений, потом сцена в Бо-
логом, наконец гибель Анны. Так железная дорога приобретает
146
в романе, что неоднократно отмечалось, достаточно жесткий и сжа-
тый символический смысл. Однако та же характеристика состоя-
ния Анны в железнодорожном вагоне, которую мы выше приво-
дили, заземляет воспаривший символ: здесь передано, помимо про-
чего, ощущение непривычно быстрого по тем временам движения
в поезде. Такие моменты и не позволяют символике сложить в
романе особый пласт, особую сферу отвлеченности. И мужик, не-
однократно возникающий в страшных видениях Анны, тоже слов-
но бы подправлен и разомкнут в романе теми мужиками, что
косят с Левиным, или Федором, или Фоканычем...
В «Анне Карениной» нет того свободного разлива изображения,
какой был в «Войне и мире». Толстого здесь словно бы тянет вся-
кий раз в какую-то одну из сторон, каждая из которых настой-
чиво заявляет свои особые права. Каждая уже дает где-то рядом
с Толстым или вот-вот даст новое, отдельное направление в ис-
кусстве. Но Толстой не уходит ни в одно из них. Уже обособляв-
шиеся тенденции художественного развития он еще удерживает
вместе, хотя и рвутся они в разные концы.
Как же достигалось высокое художественное равновесие в
«Анне Карениной»?
Хорошо известно, что в первых черновиках будущего романа
Анна была нехороша собой, ее манеры были грубы, даже вуль-
гарны. И вольно или невольно она выглядела тут едва ли не преж:
де всего неизбежной и даже необходимой жертвой собственной
своей несовершенной природы.
В Анне окончательного текста страсть «зажигает кровь».
В устремленности своей к Вронскому она остановиться не может.
Испытав перед лицом подступившей было смерти ужас близости
с «обоими Алексеями», она и после этого опять бросится к Врон-
скому, оставив мужа, оставив сына, без которого, как ей прежде
казалось, она не могла жить.
Но тут все это уж никак не потому, чтоб она была дурна, из-
начально порочна. Здесь другое: в Анне — при искусственности
многого и многого в ее жизни с Карениным — как раз уцелела,
не пропала живая сила чувств. И она, эта живая сила, вырыва-
ется сразу же, еще на вокзале в Москве, «избытком чего-то».
Однако проявление в человеке природно-естественного, не сдер-
живаемое и не ограничиваемое собственно человеческим, по Тол-
стому, разрушительно. И относится это не к одной Анне.
Скачки — высший подъем, высший взлет природно-естествен-
ного во Вронском. Он слит здесь совершенно с прекрасным суще-
ством Фру-Фру. Слит, как тоже совершенное в своем роде созда-
ние природы. «В то самое мгновение, как Вронский подумал о том,
что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, поняв уже то,
что он подумал, безо всякого поощрения, значительно наддала и
стала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны...
Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как
10* 147
Фру-Фру переменила ногу и стала обходить именно таким об-
разом.
Следующие два препятствия, канава и барьер, были перейде-
ны легко, но Вронский стал слышать ближе сап и скок Гладиато-
ра. Он послал лошадь и с радостью почувствовал, что она легко
прибавила ходу, и звук копыт Гладиатора стал слышен опять
в том же прежнем расстоянии.
Вронский вел скачку...» Вел, опережая соперника и будучи
первым в своем союзе с Фру-Фру. И уже «Браво, Вронский!»—
послышались ему голоса.
Но человек несет собственную ответственность за особое свое
место среди всех других сущеетв.
У Фру-Фру в природном ее деле все просто и безусловно: «Ка-
навку она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как
птица...» А Вронский с его душевной сумятицей за движением ло-
шади «не поспел». Движение обрывается, и он стоит на земле
перед еще живым и погубленным им удивительным существом.
Может, так это только с Вронским, которого Т. Манн охарак-
теризовал как «энергичного, порядочного, рыцарственного и пош-
лого гвардейского офицера»? Левин едва ли не во всем Вронскому
противоположен, и не случайно промелькнувшая было в чернови-
ках дружеская близость между ними до окончательного текста
романа не дошла. Но иу Левина тоже есть свои и тоже завер-
шающиеся драматически минуты полного, совершенного сближе-
ния с природой, с природным существом — с собакой Лаской на
охоте, когда оба действуют, чувствуют вместе и солидарно. Крас-
ки мира тут для постоянно мучающегося, сомневающегося Левина
вдруг предельно чисты и просты: «месяц... как облачко белел на
небе»; «синева трав перешла в желтоватую зелень»; «дым от вы-
стрелов, как молоко, белел по зелени травы»... Но человеку не да-
но, не позволено в одно это уйти. И сразу же после счастливой
охоты Левин «почувствовал себя сброшенным с высоты счастья,
спокойствия, достоинства в бездну отчаяния, злобы и унижения»,
«все и все стали противны ему». Его настигла ревность. Именно
теперь и в особенно унизительных для него формах.
Так выяснялось, что, замыкая человека на природном, нату-
рализм не только ограничивал реальность, но и, в сущности, ухо-
дил от важнейших ее противоречий. Толстой же бесстрашно шел
за жизнью.
Демократически настроенные современники «Анны Карениной»
с недоумением и огорчением восприняли тот факт, что в центре
толстовского романа 1870-х годов оказалась женщина, жизнь ко-
торой так и не выходит за пределы света. С чрезвычайной рез-
костью высказался об этом Некрасов, не менее решительно осудил
Толстого Щедрин...
Уже в наши дни один из историков литературы также выра-
зил сожаление о том, что у Толстого, в отличие от поэмы Некра-
148
сова «Кому на Руси жить хорошо», не обрисованы бедствия поре-
форменного крестьянства и его протест.
К этому можно добавить, что слой интеллигенции, состав уча-
стников освободительного движения к 70-м годам в России на-
столько демократизировались, что свет в это время уже отнюдь
не был средоточием образованности и тем более источником воль-
номыслия. Когда-то Белинский, посетовав на «изысканность» Пе-
чорина, в статьях об «Евгении Онегине» произнес панегирик свет-
скому воспитанию: оно единственное тогда давало возможность
хоть относительно свободного формирования человека. При Тол-
стом все уже было иначе.
От «светской темы» бежал теперь Тургенев. Ее по-разному
обошли Достоевский и Щедрин. А повествования о происходящем
в свете опустились до уровня романов Авсеенко, поставлявших
скучающим барыням и барышням беллетристическое чтение
«о красивых переживаниях». Доживала эта тема затем в кинема-
тографе предреволюционных лет, здесь уже окончательно себя
исчерпав.
А теперь, после всего сказанного, надо признать, что в обра-
щении Толстого к судьбе Анны проявился едва ли не максималь-
ный по той поре и очень истинный демократизм. Именно так, пото-
му что героиня Толстого, для которой никакой другой среды и
жизни, кроме как светская, просто не существует, заходит в своих
поступках так далеко, что это становится угрозой для всего су-
ществующего склада отношений.
Столкновение героини со светским ее окружением предстает в
«Анне. Карениной» совсем по-особому. Свет тут проявляет себя
не только ханжески и лицемерно. За ним у Толстого стоят все,
любые объединения людей, исключающие возможность свободно-
го проявления личности. Низвергнутым на ступень светских пере-
судов, светской молвы оказывалось не что-нибудь частное и ло-
кальное, но господствующая мораль всех форм жизнеустройства,
где личности изначально и безусловно отказано в ее самоосу-
ществлении. Подлинная же нравственная требовательность все
больше сосредоточивалась именно в личности, в ее самооценке —
это так ив Анне, и в Левине, и в Каренине, и даже во Врон-
СКОМ...
Вот так обернулся в «Анне Карениной» светский роман.
Столь же глубокое превращение произошло у Толстого соот-
ветственно и с успевшей уже стать к тому времени одиозной «ан-
тинигилистической» темой.
До «Анны Карениной» едва ли не во всех случаях столкно-
вения личности с основаниями сложившейся нравственности осуж-
дение в главном падало обычно на тех, кто эти основания отверг.
«...Ни закон, ни религия, ни суждения общие не дали ему и тени
помощи...» — помечено у Толстого еще в черновиках об Алексее
Александровиче Каренине. Анна «беспрестанно повторяла: «Боже
мой! Боже мой!» Но ни «боже», ни «мой» не имели для нее ни-
какого смысла». Не находят ответа на самое для них важное и
149
оба брата Левины. И нетрудно увидеть, что у Толстого упор сде-
лан на том, как мало может помочь в коренных ныне человече-
ских нуждах, в вопросах жизни и смерти привычное миропони-
мание, как изжило себя оно.
«Антинигилистическим» мотивам не осталось в конечном счете
в «Анне Карениной» никакого места. Их вытеснила трагедия че-
ловеческих судеб, которым принятые верования не могли больше
дать никакой опоры. И совсем недаром на Западе именно в Тол-
стом усматривали в разные времена наиболее глубокое и серьез-
ное выражение «русского нигилизма».
Однако и «сопротивление материала» со стороны того же свет-
ского жанра Толстой испытал немалое.
И в первых черновых набросках, и в первой законченной ре-
дакции «Анна Каренина» начиналась эпизодами светских обще-
ний. В набросках — дома у Бетси Тверской после театрального
спектакля, в первой законченной редакции — на московской вы-
ставке скота. И в обоих случаях свет брал свое.
Первая законченная редакция, например, открывалась так:
«В Москве была выставка скота. Зоологический сад был полон
народа. Сияя открытым, приятным лицом с румяными полными
губами, с шляпой, надетой немного на бок на кудрявые редкие
русые. волосы, и с сливающимися с седою остью бобра красивыми
с проседью бакенбардами, шел известный всему московскому све-
ту Степан Аркадьич Алабин (потом он получил фамилию Облон-
ского.— Я. Б.), член суда, с нарядной дамой и, раскланиваясь бес-
престанно встречавшимся знакомым, нагибаясь над дамой, застав-
лял ее смеяться, может быть слишком легким, под влиянием вы-
питого за завтраком вина, шуткам. Такой же веселый и румяный
и таких же лет, известный Красавцев шел с ним рядом и принимал
участие в разговоре».
Атмосфера светскости явно затягивала здесь Толстого. Уста-
навливался легкий, бегущий ритм. Легкая, ироническая интона-
ция сразу же неумолимо отнимала значительность у всего, чему
предстояло затем совершиться.
В круговороте светских разговоров и встреч даже «скот»,
сразу же заявленный и вроде бы безусловно способный у Толсто-
го неотразимо ввести нечто, свету противоположное, не мог, так
сказать, проявить себя и становился случайным поводом для оче-
редного светского действа.
Но не только инерцию светского жанра преодолевал Толстой.
В «Анне Карениной» много смертей: гибнет Анна, умирает Ни-
колай Левин, стреляется, а потом уезжает умирать на войну
Вронский... Все это описано у Толстого очень сосредоточенно.
Единственная имеющая в романе название глава называется
«Смерть»...
А в черновиках, в журнальном тексте романа Левин еще тяже-
ло переживал смерть старого слуги Парфена Денисыча, тут же
150
испытывал ужас при встрече с бешеной собакой. И, пусть на не-
долгий срок, в нем поселялось стойкое чувство бесцельности всего
в предощущении неотвратимого конца.
В некоторых вариантах Анна на московском перроне, когда
поездом был раздавлен человек и кто-то сказал, что смерть была
мгновенной, взволнованно переспрашивала: «Мгновенная?» Так
уже задолго наперед она сама предугадывала, предчувствовала,
как кончит, под таким трагическим знаком развивалась и вся исто-
рия ее любви.
Так что же, Толстой умело и вовремя останавливался, искал
и находил «среднюю линию», шел с самим собой на компромисс?
Но ведь столкновение Анны со светом решительно требует новой
системы всех отношений человека и общества, развитие личности
предстает непреложным исходным условием стоящей задачи. Мож-
но ли вне этого обстоятельства помыслить о внутренних законах
«Анны Карениной»?
Толстой последовательно вел рядом истории Анны и Левина,
и эти линии нигде не вытесняют, не гасят одна другую. Он вос-
создавал с максимальной напряженностью разные, во многом да-
же противоположные жизненные пути, стремясь установить, к че-
му же приведет, к чему выведет соотнесение их друг с другом.
И в Алексее Александровиче тоже взят не монстр, которого бы-
ло бы легко подвергнуть обличению, не щедринский градоначаль-
ник, каких в ту пору на государственной службе было едва ли
не большинство, но человек, по выражению Томаса Манна, «вну-
шающий уважение к себе», пытавшийся сознательно построить
свою жизнь строго и достойно на фундаменте сложившихся уза-
конений и на этом-то как раз и подорвавшийся.
В страстном приятии трудовой крестьянской жизни Левин до-
ходит до «отречения от своей старой жизни, от своих бесполезных
знаний, от своего ни к чему не нужного образования. Это отре-
ченье доставляло ему наслаждение и было для него легко и про-
сто». И в самый этот момент полной готовности уйти в крестьян-
ский мир Левин встречает снова Кити — и обнаруживается, что,
«как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая», уйти в нее он не
может, потому что любит ее — Кити. Противоположные устрем-
ления левинской души дорастают каждое до крайней своей точки,
и желание героя заняться трудом на земле, конечно же, не обес-
цениваетея тем, что решение это остается неисполненным. Просто
любовь Левина к Кити оказывается и для него самого, и в глазах
Толстого ничуть не ниже его высокой готовности. «Всего лишь»
любовь к бесхитростной и немудрящей Кити. Вот так это у Тол-
стого! И в этом опять же мера толстовского демократизма, его
готовности к содружеству и сотрудничеству со всею жизнью, со
всем живым в ней.
В эпизоде бала, где Анна отнимает Вронского у Кити, когда
передается впечатление, производимое Анной на обоих этих лю-
дей, шесть раз повторяется слово «прелестно»з— с нарастающей
силой вырывается в нем его как будто совсем потухшая глаголь-
151
ная действенная энергия («прелестно» же от «прельщать»!) Так
свершается самое действие взлета и торжества страсти. Слово,
перенапрягаясь, сгорая, вводит в состояние предельное, непосред-
ственно слову самому по себе уже неподвластное.
Вроде бы все со словом «прелестно» уже произошло: оно в
обычном своем употреблении себя исчерпало, чуть ли не окон-
чательно скомпрометировано, возвратиться к нему уже, пожалуй,
невозможно. Но, когда Левин собирается переменить «тягостную,
праздную, искусственную и личную жизнь» на «трудовую, чистую
и общую», он называет эту иную жизнь тем же словом —«прелест-
ной» и восхищается, «как все прелестно в эту прелестную ночь».
Слова сохраняют для Толстого и в привычном, затертом исполь-
зовании живую силу. В контексте романа одно не снимает и не
сминает другого.
Даже у противоречащих реальности, но опирающихся на жи-
вое чувство представлений Толстой не отбирает их прав, их правоты.
Маленький Сережа, конечно же, ошибается, отказываясь при-
знать коротенькое словечко «вдруг» обстоятельством образа дей-
ствия. Однако Толстой видит за этим нежеланием Сережи и спа-
сительное противостояние души мальчика всякой отвлеченной пре-
мудрости, действительно ведь могущей подменить собой живые
отношения с миром. Левин, глядя на небо, думает: «Разве я не
знаю, что это — бесконечное пространство и что оно не круглый
свод? Но как бы я ни щурился и ни напрягал свое зрение, я не
могу видеть его не круглым и не ограниченным, и, несмотря на
свое знание о бесконечном пространстве, я несомненно прав, ког-
да я вижу твердый голубой свод, я более прав, чем когда я на-
прягаюсь видеть дальше его». Толстой и тут со своим героем,
с его необходимым доверием к простой, доступной глазу оче-
ВИДНОСТИ.
Творец «Анны Карениной», стремясь к полноте воссоздания
жизни, как бы входит в каждого из героев, и не только в людей.
Во время левинской охоты с Лаской он долго-долго следит за Ле-
виным ее глазами, через нее отгадывает, что Левин испытывает,
что он собирается сделать.
В сцене скачек неоднократно сменяются ракурсы Вронского
и Фру-Фру. «Только потому, что он чувствовал себя ближе к зем-
ле, и по особенной мягкости движения Вронский знал, как много
прибавила быстроты его лошадь»,— это от Вронского. «Канавку
она перелетела, как бы не замечая», — вводится «взгляд» Фру-Фру.
«Она перелетела ее, как птица...»— произносит от себя автор. И в
простоте, бесхитростности толстовского сравнения — этого «как
птица»— непреодолимая приверженность создателя «Анны Каре-
ниНой», который, кажется, вот-вот, увлекаясь, уйдет в одни тон-
кости и сложности словесного изображения, так поддающиеся
ему, такие в самом деле существенные, к первоначальному, перво-
основному, ощутимо живому. «...Как птица»— только этими сло-
вами и хочет передать Толетой прямо от себя восторг перед бе-
гом-полетом Фру-Фру. «Она стала биться, как пойманная MTH-
152
ца»,— с открытой взволнованностью и состраданием говорит он
об Анне, заметавшейся, когда Вронский упал.
Роман Толстого несет в себе как будто взаимоисключающие
тенденции действительности. Несет естественно. Каждую в энер-
гическом, полном и сильнейшем ее натяжении. Не опуская и не
упуская бесконечной разветвленности всякой из них.
Вот первая фраза «Анны Карениной», хрестоматийно изве-
стная: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая не-
счастливая семья несчастлива по-своему». Первой ее частью Тол-
стой словно бы уверенно объявляет о некоем широком единстве —
по крайней мере «всех счастливых семей». Но тут же выходит
к конкретному и отдельному. Дальше движение толстовской мыс-
ли пытается связать разнящееся, противостоящее. Целостность
он хочет, пытается добыть из всей бесконечности нарастающих,
обостряющихся, пронизывающих все и вся антагонизмов.
Толстой ставит Анну рядом с Карениным, а потом с Вронским,
снова с Карениным и снова с Вронским. Сводит Вронского с жи-
вописью, с деревней. Алексей Александрович мучается тем, что его
прощение не нужно Анне и не признано светом. «Я не могу их
соединить, а это мне одно нужно»,— говорит Анна Долли о своем
отношении к Вронскому и к сыну. А если «этого нет, то все равно.
Все, все равно».
По-своему формулирует ощущение непреодолимой противоре-
чивости жизни Стива Облонский. «— О моралист! — обращается
он к Левину.— Но ты пойми, есть две женщины: одна настаивает
только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты
не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не
требует. Что тебе делать? Как поступить?» И заключает: «Тут
страшная драма». На своем, так сказать, уровне он и пытается
сочетать семью и легкие увлечения, положение в свете и хлопоты
о выгодном месте в новейшем акционерном обществе... Стиве даже
удается достичь тут некоторого результата, и он симпатичен, мил
Толстому — тем, что не хочет ограничивать себя. Однако создатель
«Анны Карениной» и ироничен по отношению к этому своему ге-
рою, помириться на том, что устраивает Стиву, он, конечно же,
не может.
По мере развертывания романа Толстой, однако, все уверен-
ней хотел одну из жизненных сфер поставить всей прочей жизни
в пример, в образец, усматривая здесь неизменное якобы торже-
ство чаемой и так остро необходимой гармонии. На подобную
роль для него выдвигалась патриархальная жизнь «земледель-
ческого народа».
Соотноея светский и мужицкий уклады быта, занятий, морали,
Толстой еще в черновиках к роману готов был заключить: «Не ба-
рышня с музыкой, с муфточкой и белыми пальчиками, не трюфе-
ли, устрицы, не фраки и кресла качающиеся, не искания новых
планет и путей комет и решения шахматных задач, не разврат
153
е сотнями женщин и не барышни, захватанные на балах и визи-
тах, а Ванька, от стыда че спящий с женой и просыпающийся
к чувству плоти, как к воздуху, в законе и покорности, и труд,
труд счастливый, плодотворный, с природой, в артели. Вот
ЖИЗНЬ...»
Счастливая «саморегуляция» крестьянского труда и поведения
обрисована в главах, где Левин косит с мужиками.
Когда Левин чувствовал, что машет косой ‘уже из последних
сил и готов был просить Тита остановиться, в это как раз время
Тит и сам останавливался, отирал косу, точил. Происходило это
не от какой-нибудь особой мужицкой деликатности — осуществлял,
выказывал себя нелегкий, имеющий свое напряжение, но и благо-
детельно-здоровый ритм крестьянского бытия.
Но книге Толстого дала имя Анна. Зная наперед, чем неми-
нуемо все для героини обернется, писатель не мог увлеченно, за-
чарованно не следовать за выходом ее в собственную ее жизнь,
на свой путь. И Левин не должен был при единственной встрече
с нею остаться к ней равнодушным. В разговоре с Анной он вос-
ходил к чему-то тоже несомненно высокому: «Левин говорил те-
перь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с ко-
торым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с нею
получало особенное значение». Потом всем этим Левин будет
смущен. А между тем и он тоже идет совершенно своей дорогой.
И параллельное движение историй этих героев обнаруживает, что
опыт Левина и опыт Анны не могут исключить друг друга.
Однако Анну Толстой спасти не может. Левина же он пово-
рачивает к патриархальности, уверяя себя и нас, что так решается
все. Для этого в последней части романа ему приходится уже
просто остаться без Анны —с нею патриархальности совместить-
ся не дано, а именно ее облик, ее судьба стояли ведь у истоков
книги... Отходя от неуклонного и неизменного поначалу расши-
рения романного замысла, Толстой постепенно направлял его в
единственное русло. Отсутствие Анны в последней части разреша-
ло это сделать, но писатель выходил таким образом уже прямо
к морализаторству и проповеди.
Возможности романного жанра иссякли у Толстого надолго.
Но в 1889 году он признавался, обращаясь к одному из своих
корреспондентов, что «чаще всего» хочется писать именно роман
«вреде «Анны Карениной», в который без напряжения входило бы
все, что кажется... понятым... с новой, необычной и полезной лю-
дям стороны». И Толстой в самом деле написал еще один роман —
«Воскресение». Последний роман ХХ столетия.
МНОГОМЕРНАЯ ПОДЛИННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕХОВА
Говоря в «Что делать?» о «национальных задачах русской со-
циал-демократии», о том, что они «таковы, каких не было еще ни
перед одной социалистической партией в мире», В. И. Ленин ре-
154
шительно заключил, что «роль передового борца может выполнить
только партия, руководимая передовой теорией». Выделив кур-
сивом здесь слова, он обосновал также далее готовность русской
социал-демократии к ее особой роли наличием у нее «таких пред-
шественников... как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестя-
щая плеяда революционеров 70-х годов», а остановил свое обосно-
вание ссылкой на «то всемирное значение, которое приобретает
теперь русская литература»!, сочтя, что после этого дальнейшие
аргументы уже и не нужны.
В этих ленинских словах прежде всего захватывает почти не-
вероятная широта взгляда на самые конкретные вопросы партий-
ного строительства, партийной жизни. Но не меньше, наверное,
изумляет и та постоянная, неразрывная связь ленинских положе-
ний с опытом русской литературы, которую совсем недавно совре-
менный исследователь определил как «одну из характерных осо-
бенностей ленинизма»?.
Поставив в один ряд как предшественников передовой теории
«Герцена, Белинского, Чернышевского и блестящую плеяду ре-
волюционеров 70-х годов» и «всемирное значение, которое приоб-
ретает... русская литература», Ленин уже одним этим указал на
своеобразие путей теоретической мысли в России. Пути эти шли
не от одной, скажем, законченной философской системы к другой,
как то было, например, в Германии, но принципиально иначе.
Ведь и Белинский проявил себя в качестве самостоятельного мыс-
лителя тоже прежде всего и даже почти исключительно на по-
прищше литературы; он был первым у нас литературным критиком
в самом точном и в самом глубоком смысле этого слова: взгляды
его, его позиция формировались и развивались в процессе освое-
ния им процесса художественного развития. Деятелями литера-
туры в первую очередь были также Герцен и Чернышевский.
Занимая совсем особое место в движении передовой теории
в России, литература у нас и «от себя» постоянно сводила теорию
с реальностью, не позволяя ей воспарить в отвлеченность, отде-
литься от конкретных и насущных нужд человека и истории, как
это выходило в той же Германии.
Литература наша подчас и сама впрямую предъявляла права
на действенное участие в пересмотре всей системы утвердившихся
понятий.
«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швей-
цергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, стран-
ствующий нищий певец в течение получаса пел песни и играл на
гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил
всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего,
и многие смеялись над ним».
' Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 25.
* Пискунов В. Тема о России. М., 1983, с. 89.
155
‚.. Вот событие, которое историки нашего времени должны за-
писать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значи-
тельнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, запи-
сываемые в газетах и историях»,— читаем у Толстого в «Люцер-
не». И перед нами — самый процесс перехода писателя в очень
определенном и конкретном случае от воссоздания действительно
имевшего место факта к установлению совсем нового соотноше-
ния вещей в мире. Предлагалась, собственио, новая философия
истории.
Говоря об историко-философских отступлениях в «Войне и мн-
ре», Толстой утверждал, что «если бы не было этих рассужде-
ний, не было бы и описаний». То есть прямо признавал, что у не-
го самого описания вызваны были здесь к жизни намерением
по-новому истолковать ход истории, и полагал, что и сами по себе
они могут выполнить всю необходимую в этом смысле работу.
Устремленность к выводам, таким образом, подчас рождению
описаний даже и предшествовала. И даже в случае такого без-
условного, «несравненного» (по слову Ленина о «картинах жиз-
ни» у Толстого) искусства, как «Война и мир».
У Достоевского самый замысел «Дневника писателя» возник
с целью вводить разные и многие факты действительности в их
собственном виде непосредственно на страницы издания и здесь же
возвращать их читателю уже включенными в некую систему ис-
толкования жизни, в программу действий.
Значение критики в литературном процессе было у нас так
велико, наверное, и потому, что сама литература всем своим су-
ществом непосредственно шла органической миссии критики слов-
но бы навстречу. Когда Ленин свел «идеи Белинского и Гоголя»
в некое единство, он, надо думать, не только отметил закономер-
ность выводов критика из гоголевских творений, но и указал на
подлинность Гоголя именно в освещении его Белинским. Не слу-
чайно рядом соображений Белинского, высказанных по его поводу,
сам Гоголь смог и прямо воспользоваться, что почти с недоуме-
нием констатировали еще современники.
Связи таких художников, как Толстой или Достоевский, с пред-
шествовавшим и современным им развитием собственно теорети-
ческой мысли изучаются в последнее время все более широко.
С Чеховым все в это смысле обстоит сложней. Предпринимав-
шиеся до сих пор попытки прямо вписать его в линию развития
передовой теоретической мысли приводили сплошь и рядом к не-
сомненным натяжкам.
Но Ленин, решая вопрос о передовой теории в России, ссылал-
ся не на Толстого или Достоевского, но на «то всемирное значе-
ние, которое приобретает теперь русская литература». Конечно,
так в первую очередь отмечался тот уровень, на каком необхо-
димо было вопрос этот обсуждать, указывались связи, которые
необходимо было учесть. Однако и русской литературе, одному из
156
существеннейших аспектов ее «всемирного значения» давалась
очень определенная характеристика.
Чехов от этого «всемирного значения» русской литературы
никак не может быть отделен. Даже Толстой стал широко из-
вестен и влиятелен за пределами России едва ли не прежде как
религиозный мыслитель и проповедник и лишь потом уже как тво-
рец «Войны и мира» и «Анны Карениной», да и тогда в нем не-
редко интересовались по преимуществу «крайним выражением
русского нигилизма». Чехова Запад воспринял и принял сразу,
словно бы он там ожидался. Воспринял и принял вне какого бы
то НИ было экзотического ореола, исключительно как художника.
Да и кем еще в глазах чужестранцев мог он быть? Уже хотя бы
поэтому (но, разумеется, не только поэтому) тезис о «всемирном
значении» русской литературы в контексте всего ленинского рас-
суждения обязывает нас выявить характер причастности и чехов-
ского искусства к утверждению в России передовых идей.
Своему бывшему гимназическому товарищу, впоследствии акте-
ру Московского Художественного театра А. Л. Вишневскому Че-
хов как-то сказал, когда они слушали перезвон колоколов: «Это
все, что осталось у меня от религии». А. Н. Плещееву в 1889 году
он написал: «Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из
нас... Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу... Рамка
эта — абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от пред-
рассудков, невежества, черта, свобода от страстей и проч.». В из-
вестном письме 1894 года А. С. Суворину, рассказывая об испы-
танном и уже преодоленном влиянии Толстого, отмечал, что и
«действовали» на него «не основные положения.... а толстовская
манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм осо-
бого рода». «Основным положениям» определенного мировоззре-
ния Чехов и тут не поддался.
Здесь приведены лишь немногие из чеховских высказываний
такого рода. Но и они впечатляют. Трудно, ножалуй, назвать в
нашем ХПХ веке другого человека, который бы столь же твердо
и последовательно отворачивался от всех сложившихся установ-
лений, понятий, требований... Трудно — или, точней, невозможно.
Ведь отвергнутой оказывалась не эта религия ради какой-нибудь
иной, а религия как таковая. Норма прямо объявлялась неизвест-
ной. «Оеновным положениям» влиятельнейшего учения отказыва-
лось в действенной силе...
При этом Ирина в «Трех сестрах», услышав о смерти Тузенбаха
на дуэли, о которой ей ничего не было известно, повторяет:
«Я знала, я знала...» А чуть дальше, в финале той же пьесы сло-
вам Маши: «Надо жить... Надо жить...»— откликается Ольга: «Ес-
ли бы знать, если бы знать!» И затем еще раз, уже под занавес:
«Если бы знать, если бы знать!» Так выявлялась особая, исклю-
чительная способность человека проникать и в то, что ему не от-
крыто, возможность же жить связывалась с возможностью знать...
157
Да, Чехов тоже писал, чтобы к чему-то прийти — на все из-
вестное совсем непохожему. И ставил в этом отношении на опи-
сания даже больше, чем Толстой, чем Достоевский. Потому что
ни на что иное ставить не мог — ему было не на что. Описаниям
его, кроме вопроса и неприятия всего, что имелось в наличии, не
предшествовало ничто. Никакой ответ не только не предполагал-
ся заранее, но и не был допущен.
Обескураженная критика, оставшаяся тут без всякой, так ска-
зать, поддержки, без прямых указаний писателя, в растерянности
не знала, что ей делать. Она словно утрачивала свое назначение
и могла ограничиться лишь оценками, в большинстве своем, как
известно, негативными или предостерегающими автора. На самом
деле ей необходимо было тут стать собой больше, чем когда бы
то ни было до сих пор. У Чехова ведь действительно перед ней
были одни описания — без проповеди, без поучения. И в одних
описаниях надо было обнаружить их внутренний смысл, их устрем-
ленность к совсем новому пониманию и устройству жизни.
Толстой верно сравнил Чехова с Пушкиным, пометив в днев-
нике 1903 года, «что он, как Пушкин, двинул вперед форму». Как
раз о Пушкине Белинский, мы помним, сказал, что тот «был по
преимуществу поэт, художник, и больше ничем не мог быть...»
Но Белинский как истинный критик сумел увидеть в этом особое
значение Пушкина и назвал его прямо, после только что приведен-
ного, «поэтом классическим, по творениям которого будут обра-
зовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное
чувство». Позднему же Толстому едва ли не любые завоевания в
области собственно искусства виделись уводящими от главного,
решающего для жизни и, соответственно, не содержательными.
Только Горький впервые определит Чехова верно и замеча-
тельно. «У Чехова, — скажет его младший современник, — есть не-
что большее, чем миросозерцание, — он овладел своим представ-
лением жизни и таким образом стал выше ее»!. Именно «своим
представлением жизни» овладел Чехов (что, в частности, объяс-
няет, почему он так легко переходил от повествовательных произ-
ведений к драматическим, а иногда и просто переделывал первые
во вторые). И это «свое представление жизни» Чеховым и стало
одной из опор для новой: идеологии в России.
На Чехове во многом резко обрывалась или решительно по-
ворачивалась прежняя русская литературная традиция.
Мы помним, к примеру, как в «Герое нашего времени» дуэль
становится кульминацией и развязкой столкновения Печорина и
Грушницкого, противостояния их характеров, как торжественно и
даже эффектно она подана. В чеховской же «Дуэли», где во вре-
мя поединка герои окончательно открываются не только друг дру-
гу, а и самим себе, оказывается, однако, «что из всех присут-
Е М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи. Высказывания. М., 1951, с. 124.
158
ствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни и никто не
знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и де-
лать секунданты». «Господа, кто помнит, как описано у Лермон-
това? — спросил фон-Корен, смеясь.— У Тургенева также Базаров
стрелялся с кем-то там...» Относительно недавние литературные
воссоздания начинали выглядеть у Чехова уже далеко отошедши-
ми, чуть не допотопными.
До чеховского «Иванова» «лишние люди», когда-то столь
возвышенные, развенчивались уже многократно. Достаточно на-
звать хотя бы только некрасовскую «Сашу» или «Губернские очер-
ких Щедрина. Но у Чехова Иванов сам стыдится своей «лишно-
сти», сам отводит попытки других оправдать его обстоятельства-
ми,— И тем старая тема трансформируется совершенно.
Доктор Львов из того же «Иванова» до Чехова обязательно
был бы обрисован как самоотверженный труженик и подвижник,
эталон порядочности и честности. Так пытались понять и чехов-
ского персонажа. У Чехова он оказался доктринером, безжалост-
ным в своей слепой и тупой правоте. А как неожиданно, ошелом-
ляюще освещены проявления материнского чувства в «Трех сест-
рах»| Какую поразительную поправку к восторгу Достоевского
перед последним решением пушкинской Татьяны явило собой изо-
бражение в «Дяде Ване» долгих дней Елены Андреевны с Сереб-
ряковым, которому она когда-то даже поклонялась, за которого
вышла по любви!
Для Чехова перестали быть живыми, значимыми основания
всех прежних воссозданий. И потому так энергично, так необхо-
димо и неизбежно выходил он к совсем иной, совсем новой в Ли-
тературе полноте и конкретности всего существования человека.
Нельзя сказать, чтобы Чехова в этом смысле, как и в иных
подобных случаях, ничто не предвещало и не готовило. Разуме-
ется, и до него уже не однажды наталкивались на разного рода
особенности, скажем, физиологических наших состояний.
В «Анне Карениной» железная дорога — не только символ тех
новых, Жестких, «железных» отношений, какие врывались в Рос-
сию с развитием буржуазности, или тяжких страстей, овладевав-
ших людьми. Толстой, мы уже говорили, внимателен и к тем ощу-
щениям, какие приходят к Анне в вагоне поезда. Напомним:
«Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше,
что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то
давит дыхание и что все образы и звуки в этом колеблющемся
полумраке с необычайною яркостью поражают ее», — так схваты-
вается состояние героини, когда она возвращается из Москвы в
Петербург. И уловлен даже жест, каким Николай Левин уже
перед самой своей смертью «обирал» одеяло.
В той же «Анне Карениной» рассказано обо всем, что испыты-
вает Анна в последние минуты. А потом, в «Живом трупе», Тол-
стой введет попытку человека покончить с собой в пьесу — и нам
дано будет в буквальном смысле слова увидеть, как решается, бе-
рется — и не может этого сделать Федя Протасов.
159
«Крейцерова соната» и написана могла быть потому, что Тол-
стой не сомневался: истинно сильная музыка не может не выво-
дить человека из равновесия даже чисто физиологического, не го-
воря уже о душевном, не может к чему-то, превышающему при-
вычное и обычное состояние и поведение, людей не выталкивать.
Достоевский отвергал едва ли не любые попытки подойти
к человеку со стороны его физиологического в собственном смысле
бытия. Он полагал, что так утрачивается «божественная» мера че-
ловека. Митя Карамазов с явного одобрения своего творца пре-
зрительно и возмущенно обзывает «бернарами» тех, кто, как Клод
Бернар, хотел «освоить» человека естественнонаучным анализом.
Но в тех же, однако, «Братьях Карамазовых», когда понадоби-
лось как-то оправдать несходство друг с другом сыновей Федора
Павловича, писатель развел их по разным матерям. Да и направ-
ляется в значительной степени фабульное движение романа не-
осознанным стремлением всего второго карамазовского поколения
избавиться так или так от своего «отчества»— от Федора Павло-
вича, покончить с ним в самих себе.
Среди больших русских писателей Щедрин был, наверное, наи-
более последователен и стоек в просветительских убеждениях.
Это ведь он настаивал на том, что вполне и до конца может все
объяснить в собственных художественных созданиях. Прямо в
текст «Господ Головлевых» ввел сопоставительную характеристи-
ку Иудушки, соотнеся его с мольеровским Тартюфом.
Допустить собственно человеческое вне управления разумом
Щедрин отказывался безусловно. Градоначальники у него, коль
скоро они правили не по разуму, с неизбежностью лишались чело-
веческого облика. И так же утрачивали естество человека те, кто
поддался, уступил собственным инстинктам.
Но бунт Евпраксеюшки, пусть жалкий, однако все же и тре-
бовательный, он смог представить себе и читателю, о чем уже
шла речь, только как результат действия «инстинктов молодо-
сти», сначала «тупо тлевших», а потом вдруг «горячо и привязчиво
вспыхнувших». О последнем решении Иудушки говорится, что
«трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение». И по-
следний путь его к могиле Щедрин передает так: ‹...Порфирий
Владимирович шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни
снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата».
Так и творцу «Головлевых» приходилось переступить грань
просветительски определенного и определенного, признать возмож-
ность не одного лишь «оживотненного» в человеке за решительно
очерченным кругом.
Но ни у Достоевского, ни у Щедрина, ни даже у Толстого не
было еще непреложной необходимости в полноте охвата челове-
ческих состояний со всем, что их составляет. Поэтому-то и мог
Достоевский так безусловно отвернуться от открытий того же
Клода Бернара, а Толстой — пренебречь в «Крейцеровой сонате»
физиологическим влечением полов или потом, в «Воскресении»,
посмеяться, так сказать, оптом над любыми поползновениями под-
160
ступиться к человеку с позиций естествознания. Можно, наверное,
согласиться с исследовательницей, считающей, что Толстой искал
«в человеке... не природное начало, а духовное, которое противо-
стоит всему «плотскому»...»!. «Плотское» принималось им лишь
в той мере, в какой оно было одухотворено.
Марьяна в «Казаках» с недоумением и даже разочарованием
встречает предложение Оленина о браке потому, между прочим,
что, не сознавая этого сама, тянется к чему-то другому, большему
и, очевидно, внеплотскому. А одна из исполнительниц роли Ан-
ны Карениной на мхатовской сцене, А. Андреева, обнаружила,
по острому впечатлению критика, трагедию Анны «в том, что ее
любовь была выше простого желания, а Анна не поняла этого и
приняла свою жажду исполнения высоких, предельных надежд за
простой голод неутоленной страсти»?. Пусть в такой трактовке
актрисы и было, пожалуй, некоторое выпрямление (плотское в
Анне тоже властно заявляет о себе), но подобное восприятие исто-
рии Анны вряд ли Толстому противостоит и может в немалой сте-
пени объяснить его симпатии к своей героине.
Сближение Анны и Вронского неотвратимо губит и их отно-
шения, и их самих. Недаром кем-то было замечено, что «Анна
Каренина»— роман о любви, где героям не отпущено ни единого
поцелуя. И чеховскую Душечку, чтобы ее совершенно принять,
Толстой должен был полностью освободить уже в ее супружест-
вах от малейших признаков плотской привязанности.
Чехов же не сможет никак понять, как это Толстой, трудясь
над «Крейцеровой сонатой», не задумался над тем, что испыты-
вается людьми в их влечении друг к другу. В «Даме с собачкой»
сближение Гурова с Анной Сергеевной, вот такое, каким оно пред-
стает, участвует в неожиданном рождении между ними трогатель-
ного и высокого чувства.
«О каждом качестве Базарова и Аркадия мы можем спросить:
почему? Почему Базаров груб, а Аркадий слащав? И на все эти
вопросы получим ответ в романе. Почему Самойленко добр, а
дьякон смешлив? Потому что Самойленко добр, а дьякон смеш-
лив — никакого другого ответа мы не найдем в повести («Ду-
эль».— Я. Б.), это их личные качества, не ведущие ни к какому
сверхличному содержанию 3, констатирует Сегодня историк лите-
ратуры. Индивидуум тут берется с большей полнотой своего бы-
тия, чем когда бы то ни было раньше. Распространяется это на
всего человека.
Тот герой чеховского рассказа, который разрушил свое сва-
дебное предприятие, запугав невесту тем, что им не на что будет
жить, хотя на самом деле приданое его совершенно устраивало,
сам никак не может отдать себе отчета, что за механизм в нем
' Курляндская Г. Б. «Диалектика души» и проблема свободной воли
в «Войне и мире».— Русская литература, 1979, № 2, с. 79.
*? Велехова Н. Легенда об одной актрисе.— Театр, 1984, № 4, с. 122.
1 Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М., 1982.
С. 42.
|| Заказ № 1409 161
сработал. И Беликов тоже не сумел бы сказать, что заставляет
его прятаться от жизни в футляр. Всюду действующие здесь силы
очень подспудны и внутренни. Они не ясны и самому писателю.
Но представить человека во всем многообразии его проявлений —
это и был единственно возможный для Чехова способ овладеть
совершающимся. И он безбоязненно развертывал свои изображе-
ния, не спеша с ответами, не торопясь к выводам.
Нетрудно заметить, что так писатель в самом методе своем
сближался с современным ему естествознанием, и это сводило его
с некоторыми существенными тенденциями исторического процесса
в его целом. По словам В. И. Ленина, «могущественный ток к об-
ществоведению от естествознания шел... не только в эпоху Петти,
но и в эпоху Маркса. Этот ток не менее, если не более, могущест-
венным остался и для ХХ века»'.
Вряд ли стоит искать каких-то естествоиспытателей или меди-
ков, которым Чехов якобы следовал, называя тут то Клода Вер-
нара, то Захарьина, то кого-нибудь еще. Он шел своим путем
художника — и испытал потребность в том самом подходе к явле-
ниям, какой развивался в это время рядом с ним в естествознании.
Не случайно Дарвин оказался для него любимым писателем.
При любом самом большом сближении с естествознанием Че-
хов оставался неизменно художником, обогащая и утончая воз-
можности собственно искусства. Пользуясь данными естествозна-
ния, он И у него не заимствовал никаких доктрин.
«Рагин умствует, а не мыслит всерьез», а Надя из «Невесты»—
«эмоциональная», а не «сознательно-героическая», если использо-
вать термин Тургенева, натура. Ее духовное развитие держится
на сдвигах в настроении и жизневосприятии, но не на внутренней
сосредоточенности, не на действии во имя осознанной цели»?,—
верно передает литературовед тонкость чеховских разграничений.
Мы мало что поймем в чеховском Иванове из пьесы того же
названия, если не уловим, что в этом человеке, по верной харак-
теристике современного театрального критика, «сдает весь жизнен-
ный состав». И получим ложное, совсем не соответственное Чехо-
ву представление о Серебрякове, пройдя мимо того, как мается
этот, по-видимому, действительно недаровитый человек старостью
и болезнями, как тяжко ему физически от приближения грозы.
Показания естественников о человеке вплетаются у Чехова в
складывающуюся художественную концепцию произведения вся-
кий раз так, что, сохраняя свою точность, они избавляются от узко-
физиологического смысла, поднимаются подчас до символики, худо-
жественная концепция же, сложившись, обретает статус словно бы
естественнонаучной достоверности.
О «Даме с собачкой» Толстой пометил себе в записной книжке
в 1900 году: «Это по сю сторону добра, т. е. не дошло еще до че-
ловека». Тогда же в дневнике развернул эту запись: «Люди, не
' Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 41.
2 Гурвич И. Проза Чехова. М., 1970, с. 72, 152.
162
выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро
и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту
сторону добра и зла, остаются по сю сторону, т. е. почти живот-
ные». Он не принял чеховской позиции в самом ее существе. Но и
по-своему остро почувствовал, что Чехов стремился с беспристра-
стием и добросовестностью естествоиспытателя установить, на-
сколько в самом деле в человеке, в глубине человеческого естест-
ва укоренено собственно человеческое. Ответ ни в коей мере не
был предустановлен. И то обнаруживалось расширение ‹преде-
лов человеческой чувствительности», как названо это было од-
нажды еще современным писателю критиком, то — при воссозда-
нии таких фигур, как Ариадна из одноименного рассказа или
Анисья из «В овраге»— возникало сомнение в нерушимом и без-
условном превосходстве человека над всеми прочими живыми осо-
бями. Тем и другим Чехов откровенно делился с читателями.
В дневнике Толстого за 1891 год есть запись о том, что в лите-
ратуре «все герои, героини красивы, физически привлекательны».
Он отозвался 0б этом как о «язычестве». Так дал о себе знать
его христианский морализм. Но снова что-то было остро схваче-
но — на этот раз недостаточное внимание искусства к действи-
тельной роли во внутренней жизни людей их собственного внешне-
го облика, почему и могли тут долго сохраняться всякого рода
клише. У Чехова они стали невозможны. И внутренняя жизнь че-
ловека у него бесконечно расширилась и пополнилась в своем со-
ставе.
Потому-то понадобилось ему, например, в процессе работы над
«Гремя сестрами» в реплике Вершинина вместо слов «Я сегодня
тревожен» ввести «Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра». Най-
денное взамен первоначального и должно было, и вполне могло
у Чехова выразить неясное самому человеку и много более слож-
ное его состояние, чем обычная тревога. (Пример этот, кстати,
вводит нас в природу и в механизм образования чеховского под-
текста.)
«Когда он, выйдя из дому, садился в коляску, ему хотелось
вернуться домой живым»,— говорится в «Дуэли» о Лаевском,
отправляющемся на поединок с фон-Кореном. И в этом желании
«вернуться домой живым» у Чехова через непреложный вроде бы
инстинкт проступает трудное, медленное, неуверенное возрожде-
ние издерганного, истерзавшегося, замученного человека к про-
стой жизни, пусть и дальше она будет даваться Лаевскому тяжко
и выглядеть в ней он будет жалким.
Сцепления психологического и физиологического у Чехова на-
столько безусловны, что иногда здесь нравственное страдание
персонажа не дает ему почувствовать себя больным, хотя болезнь
его по чеховскому описанию может быть точно диагносцирована.
О том же Лаевском профессор-медик И. А. Кассирский уверенно
заключал: «Он страдает полиартритом. Припадок пляски святого
Витта у него уже был! Нет сомнения, что вскоре он умрет от ин-
сульта».
11* 163
Разумеется, в подобном сосредоточении Чеховым внимания
литературы в значительной степени на, так сказать, психофизио-
логии были свои опасности. И главная из них — потерять челове-
ка как такового, действительно утратить в человеке его человече-
скую меру. Но искусство Чехова, как мы пытались показать, про-
тивостояло этой опасности самим своим внутренним строем.
К тому же следует вспомнить, что уже Людвиг Фейербах в
«Основных положениях философии будущего» писал: «Человек от-
личается от животного вовсе не только одним мышлением. Скорее
все его существо отлично от животного... Нам нет нужды выхо-
дить за сферу чувственности, чтобы усмотреть в человеке существо,
над животным возвышающееся... Где чувство возвышается над
пределами чего-либо специального и над своей связанностью с
потребностью, там оно возвышается до самостоятельного, теорв-
тического смысла и достоинства...»!. «Абстрактная вражда между
чувством и духом необходима до тех пор, пока собственным тру-
дом человека еще не созданы человеческий вкус к природе, че-
ловеческое чувство природы, а значит и естественное чувство
человека»? — углублял и развертывал тот же примерно тезис
Маркс.
Во всех этих очень разных случаях — от Фейербаха и Маркса
до Чехова — человек по-новому утверждался в общей картине ми-
ра. Утверждался со всей реальностью своего пребывания на
земле.
У Чехова такое утверждение человека охватывает и воссозда-
ние природы.
«А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его поса-
дил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры
и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот кра-
савец? Летом зной, зимой стужа и метель, осенью страшные но-
чи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме бес-
путного, сердито воющего ветра, а главное всю жизнь один,
ОДИН...»— читаем мы в чеховской «Степи».
Природа словно бы полной мерой несет в себе сегодняшнее
состояние людей, почему и надо сказать именно об одиночестве
тополя, о переживаемых им страшных ночах, о слышащемся ему
завывании ветра...
Так же это и во «Врагах», где «во всей природе чувствовалось
что-то безнадежное, больное; земля, как падшая женщина, кото-
рая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прош-
лом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала
неизбежной зимы».
Когда же Астров в «Дяде Ване» говорит, что климат немного
и в нашей, человеческой, власти, он, надо думать, воодушевляем
не одними лишь своими лесопосадками, но и перспективой внут-
1 Фейербах Л. Избр. философ. произв. М., 1965, т. 1, с. 200—201.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 606.
164
реннего роста, внутреннего освобождения человека, в котором, по
его убеждению, «все должно быть прекрасно»'.
Человек и природа вместе вовлечены у Чехова в бесконечную
смену состояний, в длинный-длинный ряд развития. И в «Студен-
те» та ночь, когда Иван Великопольский рассказывает женщи-
нам, как Петр отрекся от Христа, как бы впрямую следует за
неизмеримо далекой ночью, когда все это должно было происхо-
дить, переходит, перетекает из нее. В последней чеховской пьесе
мы застаем и людей, и вишневые сады как бы где-то на перепутье,
на перегоне, между той их жизнью, что была, и другой, которая
наступает...
Искусством словно бы поддерживалась и подтверждалась уве-
ренность Маркса, что со временем представления о природе и
представления о человеке сольются в едином представлении об
истории.
*
* *
Уже в «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс писали: «Пер-
вая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, су-
ществование живых человеческих индивидов. Поэтому первый кон-
кретный факт, который подлежит констатированию,— телесная ор-
ганизация этих индивидов и обусловленное ею отношение их к ос-
тальной природе»?. Еще раньше Маркс заявил, что история сама
«не делает ничего... Не «история», а именно человек, действитель-
ный, живой человек — вот кто делает все... История — не что иное,
как деятельность преследующего свои цели человека».
Чехов много приблизил литературу и к «телесной организации...
индивидов», и К «отношениям их к остальной природе», многое
сделал, чтобы человек, его жизнь были поняты в своей многомер-
ной конкретной подлинности. Самая ткань чеховских созданий
придавала всей обычной жизни людей непреложный высокий
смысл. Тем, наверное, в первую очередь и оказался Чехов так
причастен к судьбе действительно новых идей в России.
' Несколько позже естествознание, идя своим путем, выдвинет идею
В. И. Вернадского о ноосфере, несущую представление о решительном преоб-
ражении биосферы в процессе и под воздействием движения человечества.
? Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 19.
3 Там же, т. 2, с. 102.
И
©. go
ПОЧЕМУ ДРАМЕ ТРЕБУЕТСЯ СЦЕНА?
Давнее утверждение Гегеля, что для «подлинной живости»
драма «требует полного сценического воплощения», стало ныне
непреложностью, словно бы не нуждающейся в доказательствах.
И все же задумаемся. А почему, собственно, так: ведь пьесы пе-
чатаются, издаются, как и все прочие произведения литературы?
Почему, отстаивая сцену, Гегель, этот неистовый апологет и тво-
рец великих абстракций, заговорил о подлинной живости? И еще —
почему, скажем, в России первой классической пьесой стало «Горе
от ума», где власть и сила отвлеченного разума, начиная с загла-
вия, взяты под некоторым ироническим знаком? Задумаемся...
Вот в «Горе от ума» знаменитая сцена, где Фамусов, посадив
рядом с собою Петрушку, составляет расписание занятий на пред-
стоящую неделю. Перед нами в живых стихах вроде бы только
острая и остроумно введенная характеристика дел и дней москов-
ского барина, «управляющего в казенном месте». Однако она
принята, включена в свой «состав» пьесой — и пронизана, как
оказывается, токами особенными: все здесь изнутри наполнено
живым действием.
Ведь Фамусов не то чтобы вдруг принимается перечислять
свои ближайшие дела. В пьесе отнюдь не в любой момент может
ему быть позволено к этому обратиться.
В Москве, в фамусовском доме, после долгого отсутствия толь-
ко что появился Чацкий. Он вернулся из странствий с совсем но-
выми, небывалыми для Фамусова взглядами, явно посягающими
на незыблемость того, что было, что есть. И сейчас Фамусов по-
дымает давно сложившееся и слежавшееся, привычный уклад быта.
Подымает, выстраивает и направляет против поползновений не-
ожиданного и дерзкого пришельца все осмеять, все изменить. Фа-
мусовский монолог, обосновывая и развертывая с одной стороны
(что называется, способом от противного) оправданность возму-
щения Чацкого низменной неизменностью московских нравов, ук-
репляя, поддерживая его инвективы, с другой — вводит в дело
главные силы, Чацкому противостоящие: плотность, неподатли-
вость устоявшегося за многие и многие десятилетия. Монолог
166
этот, таким образом, не только органически вовлечен в складыва-
ющееся действие пьесы,— последнее и в нем, в монологе этом,
сотворяется. Даже монолог становится здесь элементом и момен-
том в живом общении, живом столкновении лиц.
В неминуемо возникающем противоборстве Чацкого с фаму-
совской Москвой у обоих «партнеров» здесь — свои козыри, поче-
му борьба и является подлинно драматической.
В упоенном самозабвении, с каким обличает Чацкий фамусов-
ский круг,— поглощенность героя своими высокими идеями, его
беззаветная отданность им. Однако эта позиция ума, не снисходя-
щего до всего житейского, неумолимо к нему строгого, уединяет и
замыкает Чацкого в некую особую область умозрения. И в сцене
на вечере у Фамусова, когда Чацкий ораторствует и клеймит, фа-
мусовские гости, отойдя от него, «кружатся в танце»: собрались-то
они тут просто потанцевать, просто повеселиться. Чацкий пред-
стает (предстает даже в буквальном смысле слова, уже в тексте
самым наглядным образом) в горестном своем одиночестве. Оди-
ночество это не исчерпывается пределами только фамусовского
круга, фамусовской Москвы. Жизнь в своем многообразии, какое
оно реально ни есть, отводит попытки умозрения продиктовать ей
свою волю, наложить свои запреты.
Утверждая высокий ум и отстаивая перед его лицом права
жизни со всем, что она в себе несет, «Горе от ума» открывало
так ряд классических созданий русской драматургии.
Чем меньше в своих поступках и словах похож Хлестаков на
ревизора, тем больше все, словно бы «околдованные», принимают
его за такового. А «околдованы» они собственными представления-
ми и мнениями, возникшими в момент, когда только пришло изве-
стие, что «едет ревизор», что он вот-вот появится. Постоянным
противостоянием того, что реально происходит, тому, как это все-
ми в городишке воспринимается, и движется пьеса. И у Гоголя
даже и то, что непосредственно не показано, обладает силой на-
глядного противостояния «околдовывающим» понятиям. Вот, ска-
жем, Бобчинский рассказывает в подтверждение своей догадки о
Хлестакове-ревизоре, как тот заглянул в чужие тарелки с семгой,
и в этом-то рассказе нам вполне уже явлены и действительные пе-
реживания Ивана Александровича, который «издержался в доро-
ге» и застрял в гостинице без гроша в кармане.
Последовательно сводя, сталкивая в «Ревизоре» мир химер,
мир призрачности с миром реальности, выстраивая на этом всю
пьесу, Гоголь выказывает своеобразие самой природы драматур-
гического искусства, тяготения его к сцене.
Обратимся к пьесам наших дней. Сохраняет ли наше наблю-
дение над характерными особенностями драмы и сейчас свою
силу? Полагаем, что да.
167
В пьесе Александра Володина «Пять вечеров» ее герой, Ильин,
считал, что, раз он не прославился, не стал сегодняшним Менде-
леевым, то не может и не должен напоминать о себе женщине,
которую любил и которая любила его. Ничто иное благополучию
их отношений не препятствовало. Но спустя семнадцать лет он
встречается с ней —и в каждом из произносимых ими слов, в том,
что и как теперь они друг в друге воспринимают, открывается,
как единственно и исключительно они друг другу нужны, нужны
сами по себе, независимо ни от чего, безотносительно к чему бы
то ни было.
Одна из пьес Александра Гельмана, как хорошо известно, име-
ет два разных названия. В кино и в некоторых театрах она пошла
под названием «Премия», в других — как «Протокол одного за-
седания» (или «Заседание парткома»). Думается, что второе на-
звание не только подчеркивает «производственно-документальное»,
так сказать, происхождение произведения, которое А. Гельман
написал, но и точней указывает, в чем именно здесь состоит дра-
матическое действие.
Когда в названии стоит слово «Премия», нам предоставляется
заключить, что само уже по себе решение бригады не брать пре-
мии сразу становится событием и мгновенно производит резкий
сдвиг во всей жизни стройки. Если к этому добавить, что мы не
знаем, как решение в бригаде принималось, то вполне очевидно,
что подлинное драматическое действие в подобном случае выявить
достаточно сложно.
Заседание же парткома идет на наших глазах. И мы видим,
как освобождаются, переступая каждый через что-то свое, члены
парткома, зрелые люди с немалым жизненным опытом, от владев-
ших ими до сих пор понятий, обнаруживаем, что едва ли не всег-
да у нас все-таки есть выбор. Второе название пьесы, таким обра-
зом, серьезно помогает уловить ее истинно драматическую при-
роду.
Сцена вводит живую жизнь, ее плоть, ее голос самым прямым,
самым непосредственным образом. И это, конечно же, очень не-
маловажно.
Увидев Чацкого, покинутого всеми на вечере у Фамусова, мы
с особенной силой и особенной остротой воспринимаем драму
его отделенности и отдаленности от всех «других». А «резоны»
Фамусова или Хлестовой становятся весомей, когда представлена
плотность и живописность их фигур, сочность и красочность их
речи. Противостояние сил на сцене подкрепляется, развертывает-
ся, углубляется... И недаром Грибоедов признавался, что «сцени-
ческий наряд» манил его, маячил перед ним при создании бес-
смертной комедии.
В брехтовской «Жизни Галилея» есть сцена, где властелин
Ватикана, облачаемый в папские одежды, по мере этого облаче-
ния постепенно и неуклонно слабеет в сопротивлении инквизитор-
168
скому требованию допустить для Галилея пытки. Папа вроде бы
хочет остаться самим собою. Пытка ему отвратительна. Великого
ученого он уважает и ценит. Но официальные одежды все пови-
сают и повисают на нем. Они словно бы скрывают, отводят его все
дальше от собственного его естества — и вот нет уже в нем боль-
ше опор для противоборства и противодействия. Именно сцена
тут многое способна вскрыть, многое позволяет схватить в самом
механизме совершающегося драматического процесса.
Мы ведем речь о том; как значимо уже само по себе вопло-
щение на сцене персонажей и отношений между ними, какой соб-
ствениой действенностью оно обладает. Однако воплощение-то это
не абстрактно! В героев пьесы перевоплощаются актеры со сво-
ей живой индивидуальностью. При этом они не только принимают
сами чужой облик, но и накладывают на исполняемые ими роли
свою печать. Немирович-Данченко считал, что «актера-творца»
и отличает-то «настолько сильная интуиция жизни и психологии»,
что он «вносит во всякое свое создание свою собственную лич-
ность». Мы безошибочно находим, узнаем, скажем, Иннокентия
Смоктуновского и в Мышкине Достоевского, и в царе Федоре
Иоанновиче, и в чеховском Иванове, как находим, узнаем и Тать-
яну Доронину или Олега Табакова в любой из их ролей.
Всякое воплощение есть неизбежно выбор, более или менее
сознательный, одной из возможностей представить действующее
в пьесе лицо. В подобном выборе продолжается выбор собствен:
ного пути, предпринимаемый драматическими героями и их харак-
теризующий. В обоих случаях что-то одно, «это» предпочитается
всему иному, которое тем самым исключается.
Многообразие, богатство возможностей так, несомненно, сужа-
ется, опредёливается. Но без подобного сужения нам грозит
остаться при тех самых абстракциях и отвлеченностях, которым
драма противостоит по всему своему существу.
За одно только последнее время мы встретились на нашей сце-
не с несколькими Ивановыми из чеховской пьесы, и каждый из
них благодаря сильной творческой индивидуальности поворачивал
в определенную сторону весь смысл постановки. Очевидно, Мей-
ерхольд, претендовавший на безусловное единоличное авторство
своих спектаклей, был прав, признавая вместе с тем, что замысел
вполне заявляет себя уже в распределении ролей.
Пожалуй, наиболее непредвиденным и потому, особенно ост-
рым, особенно сегодняшним показался Иванов Евгения Леонова
в Московском театре имени Ленинского комсомола.
На первый взгляд трудно даже вообразить что-нибудь менее
соответственное, чем Леонов, каким Он нам известен, и этот че-
ховский герой. Об Иванове ведь в пьесе неоднократно говорят,
что когда-то, и не столь уж давно, он был ярок, силен, победите-
169
лен. Предположить такое у Леонова даже в прошлом невозможно
никак. Но оттого выходит, что суждения о человеке, пусть даже
самые безоговорочные и утвердившиеся, могут иметь себе причину
совсем не в нем, а в каких-то достаточно посторонних ему обстоя-
тельствах. Сам же человек этот, хоть бы и был всегда и остается
сейчас совершенно зауряден, переживает тем не менее полною
мерой боль, горечь, отчаяние и имеет право на внимание и со-
страдание к себе.
Этого Иванова Сарра Инны Чуриковой и должна была (как
она и делает) в злой его час, когда он оскорбляет ее и в ожесто-
чении кричит, что жить ей остается недолго, прежде всего, по
первому душевному движению — именно пожалеть. Пожалеть —
в совершеннейшей, беспамятной его растерзанности.
Сочувствие обычному, рядовому человеку с незадавшейся
судьбой в спектакле Марка Захарова очень действенно наследует
глубокому чеховскому демократизму, при том, что такого Иванова
и трудно было предусмотреть. В Леонове здесь проступило ива-
новское, в Иванове — леоновское. И Иванов стал нам сразу как-то
очень близок и нужен, хоть возможны и желанны, разумеется, и
иные Ивановы, да они и есть — в других театрах, у других ак-
теров.
Как раз Чехов иногда от собственных решений почти демон-
стративно воздерживался, прямо адресуясь за тем или иным от-
ветом к театру. И ответы предполагались, по-видимому, разными.
Так, скажем, текст «Чайки» ничего не сообщает о том, как сле-
дует относиться к разыгрываемой пьесе Треплева — всерьез или
иронически. В равной степени трудно судить, удалось ли Заречной
действительно стать актрисой или и тут ничего у нее не испол-
нилось. Театру в этих случаях только и остается, что вверяться
собственной воле и собственной ответственности.
Можно утверждать, что в процессе развития театра в нашем
столетии нарастала и, пожалуй, продолжает нарастать и сейчас —
в общем и целом — готовность режиссуры опираться на живые
подробности и неожиданности в актерской разработке ролей. Ста-
ниславский, к примеру, создававший поначалу развернутые ре-
жиссерские партитуры будущих спектаклей, с ходом времени стал
от Подобной установки отказываться. Лишь учитывая все, что
рождается при вживании вот этих актеров в эти роли, брался те-
перь великий режиссер выстроить спектакль, который, к тому же,
от представления к представлению должен был формироваться
как бы заново, отзываясь на все перемены в актерском самоощу-
щении, в идущем все дальше в освоении ролей.
Живая жизнь пьесы все меньше могла быть замкнута рамками
ее однажды сложившегося текста.
Мы привыкли смотреть на авторские ремарки как на указания
театру, от которых ему никак не следует отступать. Но вот в че-
ховских ремарках таких указаний зачастую и не найдешь.
170
Ведь, скажем, висящую в последнем действии «Дяди Вани» на
стене карту Африки, перед которой Астров произносит знаменитые
слова о жарище «в этой самой Африке», никак нельзя предста-
вить на сцене «видимо, никому здесь не нужной». Писатель явно
обращается здесь к театру, ожидая от него его собственной ак-
тивности и инициативы. Ремарка впрямую завязывает диалог
пьесы со сценой.
Такой диалог начинает возникать и тогда, когда драматург
пишет роль на определенного актера. Последнее ведь только под-
черкивает, что автор сразу же рассчитывает на последующее
«вмешательство» сцены.
А подчас без содействия сцены пьеса и совсем не может «вы-
разить себя», отнюдь не будучи при этом ни слабой, ни недопи-
санной. Просто, как отмечал еще Островский в своей «Записке об
авторских правах драматических писателей», драматический пи-
сатель подходит к воссозданию жизни изначально не только как
литератор.
Тот же Чехов настойчиво, при всей своей деликатности, доби-
вался, чтобы последний акт «Вишневого сада» шел в Московском
Художественном никак не больше двенадцати минут. И, когда так
не вышло, сетовал, что Станиславский все загубил.
В театре творческий акт совершается на глазах у публики,
при ней. И это не может не оказывать особого воздействия на
тех, кто сидит в зале.
Актер является перед нами в чужом для себя облике и ведет
себя не свойственным ему как житейской личности образом. Мо-
жет ли это не возбуждать и не побуждать зрителей к тому, чтобы
переступить границы своего я, ощутить себя причастными к про-
исходящему перед ними? Тем более, что воссоздается жизнь на
сцене с очевидной конкретностью. Именно в театре ведь бывало
такое, что зрители впрямую вмешивались в воспроизводимые со-
бытия.
Наконец, на театральном представлении мы присутствуем,
объединяемые неким здесь и сейчас возникающим человеческим
единством, отделенные каждый от будничной своей повседневно-
сти. Также и это выводит к особой по сравнению с обычными на-
шими состояниями свободе и готовностям. Опять же —в сфере
искусства только театральные спектакли перерастали (а подоб-
ное случалось) в митинги и демонстрации.
По всем перечисленным и некоторым еще другим причинам
драма, обращаясь к нам со сцены, может рассчитывать на то, что
мы «настроены» здесь на встречу с ней.
Естественно, что, когда речь идет о постановке написанной
171
для театра пьесы, свобода в обращении с ее текстом мыслима да-
леко не всегда. Но достаточно известно, что спектакль на каждом
представлении складывается совсем не отдельно от того, как он
принимается зрителями. И, значит, пьеса в разных встречах со
зрителями живет тоже по-разному.
ТЕАТР И ЛИТЕРАТУРА: СИТУАЦИЯ
ДРАМАТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА
Представление, что театр по отношению к литературе всегда
вторичен, живет и сейчас. И сколько раз в многочисленных вы-
ступлениях и дискуссиях приходится слышать, читать и теперь,
что Чехов или Гоголь в том или другом спектакле «не сохране-
ны», «не донесены»!
Однако, многократно: обращаясь в ХПХ веке к повествователь-
ной прозе, перенося ее на свои подмостки, театр почти неизменно
приспосабливал ее к себе, к некоему сложившемуся эталону сце-
ничности. Сплошь и рядом повествовательные произведения из-
бирались для постановки именно потому, что перед лицом сцены
они были вполне и совершенно беззащитны и театр мог с ними
делать что хотел. Он так именно и поступал — делал что хотел,
подгонял их под свой канон, нередко начисто их с этой целью
перемалывая.
Воплощение пьесы или выкраивание из повествовательной про-
зы чего-то для сцены привычного — такой оказалась в общем к ис-
ходу ХПХ века, если допустить некоторое огрубление, установка
театра в его отношениях с литературой.
А зрители между тем ходили в театр! Ходили, хотя пьесы чи-
тались, а сценический канон был достаточно известен. Ходили и
ждали чего-то нового. И получали его, потому что. по самой при-
роде театра при любой встрече его с литературой не могло все-та-
ки не возникать между ними взаимо-действия, при котором и ли-
тературный текст представал в каком-то особом ракурсе, и театр
оживотворял свой канон.
Но вот на рубеже ХХ и ХХ веков появилась драматургия Че:
хова. С нею на сцену пришла сама повседневность, обыденные
дела и разговоры. Играть вроде бы стало нечего. Действие пропа-
ло, театр кончился. И так это и выглядело (а зачастую продол-
жает выглядеть и сейчас) в тех чеховских постановках, где театр
своими усилиями и энергией не вскрывал особый, чеховский дра-
матизм.
Литература предъявляла театру требование по-новому и с но-
вой силой проявить его возможности.
На это требование, как хорошо известно, первым ответил Мос-
ковский Художественный театр. И уже здесь родилось понятие
«подводное течение», характеризовавшее одновременно природу
нового сценического действия и главное своеобразие чеховских
пьес.
172
По утверждению самого Чехова, Московский Художественный
дал жизнь его драматургии. Именно здесь открылась она впервые
в истинном значении. Но всякий раз Чехов не мог признать впол-
не своим То, что создавал любимый им театр, обращаясь к его
пьесам.
Режиссура и актеры МХТ допытывались у драматурга, чего же
он от них хочет. А он чаще всего отговаривался, ссылаясь на то,
что в самом тексте пьес все сказано. Но мы уже знаем, что выхо-
дило, когда Чехова пробовали просто «доносить».
Определялась, очевидно, новая ситуация. Театр не мог больше,
даже если и хотел, следовать за литературой, что с обеих сторон
осознавалось отнюдь не без серьезных противоречий.
В 1910 году Московский Художественный театр взялся поста-
вить «Братьев Карамазовых» как «отрывки из романа», то есть
решился допустить на свои подмостки роман как таковой, бывший
для него уже не материалом, но другой художественной системой,
которую в этом качестве он на сцену и призывал. Таким образом,
и здесь отношения театра с литературой устанавливались на ином,
чем прежде, основании.
Новые отношения литературы и театра не случайно завязыва-
лись с постановки чеховских пьес в МХТ, с перенесения там же
на сцену внутренней структуры столь не похожего на них, но им
непосредственно предшествовавшего романа Достоевского. Ведь
как раз литература этой эпохи изменяла представление о самой
природе драматизма и драматического. А МХТ и родился с целью
вызволить театр из цеховой замкнутости, свести его с жизнью
всей русской культуры.
Не будет, наверное, преувеличением сказать, что вся история
мировой драматургии делится, собственно, на два главных эта-
па — этап дочеховский и тот, что начался с Чехова. Чехову суж-
дено было встретиться лицом к лицу с драматической наполнен-
ностью любых — в сущности, без всякого исключения — отношений
человека с миром и с собой самим, как бы в том или ином случае
они ни развивались. Вот почему он и не нуждался ни в какой
фабульной остроте, ни даже в самой фабуле, и равно драматичны-
ми оказывались у него по своему внутреннему смыслу произве-
дения и обращенные к театру, и повествовательные. «Чехов как бы
говорит: драматическое — везде. Жизнь в любом своем проявле-
нии драматична, то есть художественно пригодна для сцениче-
ского развертывания образа...»'! — формулирует современный ис-
следователь.
Писатель мог, ничего не переделывая, ничего почти не меняя
в тексте повествовательных своих вещей, превращать их в сце-
' Тагер Е. Б. Новый этап в развитии реализма. В кн.: Русская литера-
тура конца ХХ — начала ХХ в. Девяностые годы. М., 1968, с. 139.
173
нические наброски, в короткие пьесы. А затем, уже после Чехова,
так многократно поступали с его рассказами и режиссеры (на-
пример, Н. Акимов в спектакле «Пестрые рассказы» в Ленинград-
ском театре комедии). Чуть не всякий раз это было совершенно
ВОЗМОЖНО.
Любой момент жизненного процесса таил и вместе с тем об-
наруживал у Чехова драматическое свое содержание. Повествова-
тельность же, будь то в рассказе или в пьесе — все равно, была
от характера этого драматизма неотделима.
В «Рассказе госпожи М.М№», скажем, героиня после одного из
посещений Петра Сергеича, который любил ее и которого любила
она, пытается отдать себе отчет, почему многолетнее тяготение
друг к другу их так и не соединило. Наталья Владимировна вос-
станавливает в памяти некоторые прежние их встречи, сказанные
когда-то или так и не произнесенные слова. Она ни к кому сейчас
не адресуется — повествует лишь самой себе, да больше и некому,
даже с Петром Сергеичем ей теперь не поделиться. И повество-
вание — именно как повествование — это уже есть и мера при-
вычности одиночества для Натальи Владимировны сейчас, и не-
поправимость, безысходность положения, ею самой принятая, и
утрата возможностей жизни, неумолимо и незаметно происходив-
шая в каждое из тех мгновений прошлого, которые она ныне вспо-
минает и в которые ничего так и не произошло. Любое из них,
этих мгновений, оказывается теперь, когда Наталья Владимиров-
на мысленно возвращается к давнему, включенным в собственно
драматическое действие.
Это у всякого из людей. Недаром же Наталья Владимировна
и представлена как госпожа М. М.
Так в рассказе. А в самом начале «Трех сестер» одна из се-
стер, сидя с двумя другими, вспоминает, как год назад хоронили
их отца. Тоже обычное, «чистое» повествование. И тоже сразу
завязывается драматическое действие, особое, чеховское.
«Он был генерал, командовал батареей (это говорится об от-
це. Я. Б.), между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь
тогда. Сильный дождь и снег». Прошло уже много времени. Но все
не удается понять, почему же за гробом, если отец был заметен,
занимал высокое положение, «народу шло мало». Хочется уте-
шиться каким-то объяснением, вытащить наконец засевшую зано-
зу, отвести неутихающую встревоженность —«впрочем, был дождь
тогда». Однако дождь, будучи «введен», тут же «отбирает» себе
еще одну, следующую фразу, обретает собственную силу — и на-
гнетает дальше и неразрешимость, и горькую сосредоточенность
на ней.
Даже в наши дни опытнейшему и известному драматургу
Дж. Б. Пристли, многое у Чехова принявшему и перенявшему,
начальная сцена между тремя сестрами кажется просто слабой:
по его мнению, она лишь «слишком явно служит целям экспози-
ции». На самом же деле чеховское драматическое действие здесь
уже вполне двинулось.
174
А. П. Скафтымов в своих исследованиях убедительно выяснил,
что у Чехова заявляет себя драматизм самого «сложения жизни».
Уточняя, добавим — поскольку таковой определился тогда. Пото-
му что в принципе жизнь, по Чехову, и может, и должна быть
иной. Убежденность в этом и отделяет Чехова хотя бы от Бу-
нина.
Чеховский драматизм по самой сущности своей не мог не охва-
тывать в равной мере все произведения писателя, как адресован-
ные, так и не адресованные сцене. И он был просто невозможен
вне повествовательности — опять же в любом литературном роде.
В свете чеховских проникновений театру должны были с но-
вой остротой предстать собственно драматические начала во всей
предшествующей литературе, повествовательной в том числе. Вот
почему в пути МХТ перенесение «Братьев Карамазовых» на сцену
именно как романа последовало вскоре после чеховских спектак-
лей — чеховские постановки во всех смыслах подготовили театр
к встрече с романом как с художественным целым. Но для того,
чтобы театрализовать роман, сцене опять-таки надо было многое
и еще неизведанное в себе развернуть.
В самом начале нашего столетия, в 1901 году, «Братья Кара-
мазовы» шли на петербургской сцене Литературно-художествен-
иного общества. Дмитрия играл Орленев. Он внес в свое исполне-
ние роли в немалой степени и то, что осталось за пределами
инсценировки. Орленевская игра словно бы впитала в себя развет-
вленную романную систему отношений Дмитрия с другими лица-
ми, авторское слово о персонаже, — и все это обострило, даже в
сравнении с Достоевским, воссоздаваемые на сцене драматические
состояния старшего из карамазовских сыновей. Действен, акти-
вен при этом обращении к «Карамазовым» был исключительно
театр. Роман здесь лишь использовался, хотя использовался уже
достаточно глубоко.
Совсем иначе складывался спектакль 1910 года в МХТ.
Под первым, еще не остывшим впечатлением от «карамазов-
ской» премьеры, в октябре 1910 года Вл. И. Немирович-Данченко
писал К. С. Станиславскому в своем ныне широко известном
письме: «Почему великие романисты не писали своих великих про-
изведений для театра? По следующим причинам, заложенным в
самом театре как искусстве: |) потому что на театре требовалось
непременно действие, движение. Это разрушил Чехов. Но сколько
еще осталось? 2) Романист говорил: я не могу уложить мои обра-
зы и мысли в один вечер и в 4 часа. Теперь мы ему ответим: не
укладывайте, вам нужно 2—3 вечера? Сделайте одолжение. Пуб-
лика может слушать и будет вам благодарна. 3) Романист гово-
рил: я не могу разбивать на какие-то «акты», из которых каждый
должен идти известное количество времени. Мы ответили, что это-
го условия уже нет. Вот 20 актов. Из них один идет полтора часа,
а другой 4 минуты. 4) Романиста стесняло, что надо вести все в
175
бойком диалоге, не допуская длинных монологов. Мы показываем,
как актеры один за другим говорят по 20—25 и 28 минут (Снеги-
рев, Грушенька, Иван), и их слушают с еще большим захватом,
чем если бы они выявлялись в диалоге. 5) Романист говорит, что
В драме надо для развития фабулы вводить лицо в быт только для
того, чтобы оно что-то сообщило, что-то рассказало. Не надо те-
перь и этого. У нас есть чтец. И его слушают, затаив дыхание.
Даже гораздо меньше слушают в перерывах, чем во время дейст:
вия. Во время действия он решительно усиливает художествен-
ную эмоцию. Он сливается с тайной театра, с властью театра над
толпой»'.
Немирович-Данченко, как никто, наверное, до него, убежден
был в значении литературы для судеб сценического искусства. Са-
мо появление такого режиссера в ряду выдающихся деятелей те-
атра свидетельствовало, что последний тяготится своей <«OCO-
бостью». В ночь после премьеры Немирович был явно захвачен
тем, как в его спектакле сцена поддалась роману, насколько усту-
пила она здесь привычные свои права, как активно-действенно
выказала себя в этом.
При работе над постановкой он всякий раз с охотой уходил
от театрального канона. Так, поначалу предполагалось, что в сце-
не с Чертом у Ивана — Качалова будет партнер, который и пред-
ставит Черта. Однако Качалов, по «подсказке» Достоевского, ре-
шил, что Черта надлежит играть самому Ивану, поскольку тот —
лишь сторона сознания Ивана Федоровича. И Немирович-Данчен-
ко тотчас же согласился. Инсценировкой не предусматривался и
Чтец, возникла эта фигура только в ходе репетиций, а затем уже
получила значение принципиальнейшее.
«Братья Карамазовы» были показаны в МХТ без декораций —
на сплошном сером фоне. Отказ от зрелищности совсем уже об:
нажен и подчеркнут был в упомянутом диалоге Ивана с Чертом,
где, кроме актера и кресла, в котором тот сидел, не было вооб-
ще ничего, Качалов же разграничивал текст двух своих героев
лишь интонацией.
Спектакль 1910 года занимал два вечера. И обычный для сце-
ны почти непрерывный контакт ее со зрительным залом сохра-
ниться, таким образом, тоже не мог.
Словом, сцена как будто всем своим только жертвовала, от
всего своего совершенно отступалась, и роману предстояло пол-
ностью подчинить ее себе. Но тут-то как раз и пришли замеча-
тельные ее завоевания.
Самое появление в «Братьях Карамазовых» Чтеца за кафедрой
позволяло прямо указывать на происходящее сейчас на сцене как
на часть или проявление чего-то гораздо более широкого и объ-
емного.
Чеховские спектакли МХТ утверждали чуть не в любом диало-
ге, едва ли не во всякой реплике и некое подспудное измерение.
': Немирович- Данченко Вл. И. Театральное наследие. Избранные
письма, М., 1954, т, 2, с. 296—298.
176
Но там всякий раз «подводное течение» обнаруживалось непо-
средственно за тем, под тем, что, если так можно сказать, имело
место на сцене. И самому Чехову этого, видимо, порой было ма-
ло. Почти не вмешиваясь в репетиции «Трех сестер», он, например,
очень ждал, что театр воссоздаст как-то от себя шумы пожара,
бушевавшего за пределами прозоровского дома, на улицах города.
А Станиславский, со своей стороны, задумывая в 1900 году по-
становку одной из поздних пьес Островского —«Сердце не ка-
мень», тоже хотел ввести на сцену дыхание городской, московской
ЖИЗНИ.
В «Карамазовых» Чтец мог призвать многое совсем со стороны,
свободно преодолевая узкое сценическое пространство !. Пусть в
самих «Карамазовых» эта возможность реализовалась еще очень
ограниченно: Чтец лишь комментировал какие-то поступки героев,
лишь называл не перенесенные на сцену факты из романа и каких-то
отсутствующих в сценическом действии персонажей. Все равно
восприятие зала коренным образом перестраивалось. «Чтец, при-
думанный Вл. И. Немировичем-Данченко для инсценировки «Ка-
рамазовых»,— констатировал Ф. Д. Батюшков,— нужен, так ска-
зать, символически. Вы почти не замечаете, что он читает, но
одним своим присутствием он напоминает вам, что то, что вы сей-
час увидите в действии, только частицы, кусочки большого це-
лого».
И отказ от декораций, в свою очередь, вел к тому, что дейст-
вие становилось как бы свободным от очерченности границами сце-
нической площадки. Последняя оказывалась словно бы только од-
ной из составляющих бесконечного мира, попавшей сейчас в поле
внимания, но мира этого в целом собой никак не заслоняющей,
тем более не подменяющей.
Размыкали «Карамазовы» и временную протяженность дейст-
вия. Здесь вместе с Чтецом делала свое дело и продолжительность
спектакля — то, что он делился на две части, представляемые, как
уже было сказано, вечер за вечером.
Чтец мог свободно и многократно протягивать нити к свер-
шающемуся ныне от каких-то событий прошлого, о чем-то иногда
напоминать. А длительный перерыв между частями спектакля имел
в виду долговременность и прочность связей театра со зрителем
«по поводу» Федора Павловича Карамазова и его сыновей. Та-
кую долговременность и прочность, что суточный «антракт» дол-
жен был воздействие сцены на зал словно бы лишь упрочить и
закрепить.
Привычная театральная оформленность сценического действия,
«сценизм сцены», если воспользоваться известным понятием Ста-
ниславского, рушились. Переступая грань собственно театрально-
сти, русская сцена с громадным напором приобщалась к целому
национально-исторического развития, внося в это целое свой вклад
': Между прочим, отчасти и поэтому зрители, чувствовавшие себя на спек-
такле «Три сестры» словно бы в гостях у Прозоровых, не испытывали ничего
подобного, присутствуя на представлении «Карамазовых».
12 Заказ № 1409 177
и участие. Еще только задумывая постановку «Карамазовых»,
Немирович-Данченко в 1908 году уповал, что «вещь может выйти
и колоритная и русская»'.
Театр при этом не мог, однако, и не оберегать принципа сце-
низма, лежащего в его природе. К тому же как раз ХХ век нес
с собой и небывалое торжество зрелищности — достаточно назвать
здесь хотя бы мгновенное распространение кинематографа (тогда
немого), бесчисленные сценические и экранные воссоздания лите-
ратурных произведений самого разного рода...
Когда в 1930 году на тех же подмостках Художественного те-
атра появится толстовское «Воскресение», []. А. Марков заявит:
«В. И. Немирович-Данченко, осуществлявший «Воскресение», в
полной мере передал любовь, гнев и сарказм Толстого. Он сумел
показать все разнообразие толстовских чувств, мыслей и пере-
живаний. Он добился этого введением «Лица от автора», которо-
го изображал В. И. Качалов»?. И критик будет прав. В данном
спектакле «Лицо от автора» появится из внутреннего строя этого
последнего толстовского романа, из единственности пронизываю-
щей, организующей его изнутри страстной, обличительной и при-
зывной интонации.
Больше того, Качалов как «Лицо от автора» должен будет
передать в мхатовском «Воскресении» не только гнев Толстого,
так открыто и могуче вылившийся в этой его поздней книге, но и
ту влюбленность художника в жизнь, в живую жизнь, что дала
прежде и «Казаков», и «Войну и мир», и «Анну Каренину».
Последний роман Толстого строится на авторском голосе. Сло-
во самого Толстого держит здесь на себе все, привлекая истории
Катюши и Нехлюдова как бы лишь в доказательство. И в спек-
такле «Лицо от автора», которому дано будет только и именно
слово Толстого, явится главным действующим лицом, решитель-
но, последовательно, безоговорочно отвергающим весь существую-
щий миропорядок.
«Лицо от автора» тут не станет сопровождать спектакль —
оно его поведет. Связи между Качаловым и актерским исполнени-
ем ролей установятся теснейшие, неразрывные, подвижные. Роман
и сцена сольются в общем устремлении, внося при этом каждый
наибольшую меру своей творческой энергии, своих усилий 3.
Еще позднее, в 1960 году, этот же театр снова обратится к
«Братьям Карамазовым». По разным причинам свершений в спек-
такле окажется немного. Тем знаменательнее будет здесь сцена
Ивана со Смердяковым, где последний вдруг подымется на кро-
' Фрейдкина Л. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. М., 1962,
с. 242.
? Театр и драматургия, 1935, № 11, с. 25.
3 Подробно спектакль Московского Художественного театра «Воскресение»
рассматривается в статье автора этих строк «Роман Толстого — спектакль,
фильм» (в кн.: Театр и драматургия. Вып. 3. Л., 1971).
178
вати в полный рост, а на стене в это время появится огромная,
много превосходящая Смердякова его тень. Вместе с Достоевским
и столько же собственной сценической своей силой возьмется те-
атр обрисовать зловещее значение лакея — сына Лизаветы Смер-
дящей.
Подобной смелости сотрудничества с литературой в первой мха-
товской постановке «Карамазовых», совершенно новаторской по
своей природе, еще не было.
Тогда прежде всего стремились не потерять в переносимом на
сцену повествовательном произведении его общероманные, так
сказать, свойства, открыть им дорогу на подмостки, расшатать
театральный канон. Приведенное выше высказывание Немирови-
ча-Данченко из его письма Станиславскому достаточно определен-
но очерчивает круг намерений МХТ в 1910 году. И собственные
свои средства навстречу книге театр высылал в ту пору отнюдь
не всегда и не полной мерой, словно бы до времени их сдерживая.
Уже первые критики спектакля 1910 года почти единодушно
сетовали, например, на то, что свободного и действенного контак-
та ни с персонажами, ни с публикой у Чтеца в «Братьях Кара-
мазовых» не возникло и даже, в сущности, не наметилось. Это бы-
ло тем более странно, что как раз ведь у Достоевского автор и со
своими героями, и с теми, кому он адресует повествование, нахо-
дится в отношениях подлинно диалогических, и сцена, опираясь
на свои возможности, могла тут с Достоевским во многом чуть
не прямо сомкнуться.
Некоторые из рецензентов спектакля по «Карамазовым» свиде-
тельствуют, что наличие Чтеца уже само по себе переводило и
исполнение, и восприятие ролей еще в некий особый план, побуж-
дая угадывать за персонажами и давшего им жизнь творца. Но то
бесстрастное донесение авторского повествовательного текста, ка-
кое характеризовало «Карамазовых» в МХТ, не слишком помога-
ло уловить своеобразие творящего духа Достоевского. Да и не
обрел Чтец на почве спектакля собственно сценической вырази-
тельности.
Наиболее безусловный сценический результат в 1910 году об-
ретен был как раз на путях самых проторенных — в актерской
игре. Мы уже говорили о том, как Качалов взялся сыграть и Ива-
на, и Черта в их диалоге и насколько прямо следовало это из
Достоевского. Москвин и Леонидов сумели охватить достоевский
«состав» души, достоевскую амплитуду душевных противоречий
в Мочалке-Снегиреве и Дмитрии.
Однако, явившись несомненными вершинами спектакля, в кото-
рый они входили, эти актерские работы не всегда были в нем абсо-
лютно укоренены. Мы помним, что режиссер, уже развертывая
спектакль в его целом, предусматривал для Ивана и Черта разных
исполнителей. А когда «Карамазовы» были поставлены, Качалов,
Москвин, Леонидов охотно выступали с отдельными сценами в
концертах, и успех тут ничуть не уступал успеху в ансамбле и об-
щем движении спектакля.
12* 179
Рядом же — хотя бы в «случае Мейерхольда»— сцена агрес-
сивнейше противопоставляла себя литературе, что, конечно, тоже
было формой драматического взаимо-действия с ней.
Новые отношения театра с литературой с самого начала ут-
верждались непросто. И с самого же начала подымались вопросы,
острые и по сегодня,— о характере и формах активности, само-
стоятельности в этих отношениях каждой из сторон, о судьбах
зрелищности в сценическом творчестве и сопряжениях ее со сло-
вом на сцене. Решались и решаются они всякий раз в живом опыте
драматического диалога искусств. Представления же о чьем-то
безусловном первенстве в контактах театра с литературой давно
уже, по-видимому, не имеют под собой никаких оснований.
ДИАЛОГ С ДОСТОЕВСКИМ
14 декабря 1941 года, выступая по радио в осажденном Ленин-
граде, один из крупнейших наших историков литературы,
Б. М. Эйхенбаум, говорил: «Театр Ленинского комсомола работа-
ет над постановкой «Войны и мира» Толстого... Это не инсцени-
ровка, а работа совсем иного и нового типа, иного масштаба, ино-
го идейного, общественного и художественного значения. Создан-
ный театром сценический текст, помимо всего другого, обнару-
живает драматургическую сущность, или основу, в композиции
«Войны и мира», которой до сих пор не замечали и не учитывали,
воспринимая роман Толстого произведением исключительно эпи-
ческим, повествовательным. Я должен прямо и решительно ска-
зать, что эта инсценировка заставляет заново поставить или пере-
смотреть вопрос о драматургии Толстого вообще — не только о его
пьесах, но и его драматургических принципах и возможностях,
частично осуществленных в романах»!.
Конечно, это прежде всего война, начавшаяся ленинградская
блокада так обострили внимание ученого именно к «драматурги-
ческим принципам и возможностям», к драматическим началам в
«Войне и мире». Но нельзя оставить в пренебрежении и тот факт,
что непосредственным толчком, прямым стимулом к пересмотру
Б. М. Эйхенбаумом, который уже десятилетия занимался Тол-
стым, каких-то главных его представлений о писателе стало ин-
сценирование (так и не доведенное в ту пору до конца) толстов-
ской книги. Даже не перешедший еще на сцену, а только наме-
тившийся подлинный диалог театра с романом вскрыл, очевидно,
в романе сразу же некоторые не бросавшиеся до того в глаза
внутренние его свойства. А речь в данном случае шла ведь о «Вой-
не и мире», от драмы, казалось бы, максимально и безусловно
далекой.
Впервые подобного рода диалог с повествовательной прозой
возник у сцены еще за три десятилетия до того, как в Ленинграде
` Вопросы литературы, 1972, № 11, с. 252,
180
взялись по-новому поставить «Войну и мир», — он завязался с До-
стоевским. Поздней было замечено, что «многие из выводов, ка-
сающихся особенностей поэтики Достоевского, к которым на про-
тяжении многих лет шла теория литературы, были значительно
раньше предугаданы практиками театра» (см.: Сокурова О.Б.
Роман и театр. Автореф. канд. дис. JI., 1977, c. 7).
Поэтому, когда ныне говорят, что «театр и кино сегодия
серьезные конкуренты литературоведения и критики и порой (в ин-
сценировках и экранизациях) выигрывают соревнование с ней»!',
то это подводит итог достаточно уже длительному опыту взаимо-
действия театра (и кино) с повествовательной прозой. В плане
теоретическом это означает, что «контакт текстов», взаимодейст-
вие искусств дают нечто свое и особенное в выявлении каждого из
них и что театр, обращаясь вроде бы только по своим побужде-
ниям к повествовательному жанру, способен и прозу представлять
в ее собственном, но еще неизвестном качестве.
Следовательно, теперь, когда самые значительные постановки
Достоевского на сцене описаны более или менее полно, есть осно-
вания рассмотреть весь долгий, давно уже длящийся диалог те-
атра с Достоевским в несколько особом аспекте. А именно как
диалог в собственном смысле. То есть попытаться определить, как
в ходе сценического освоения Достоевского театр и творец великих
созданий русской повествовательной прозы взаимно выявляли
друг в друге новое, по прежним представлениям неожиданное.
При такого рода подходе, вероятно, неизбежна схематизация.
Но надеемся, что она позволит хотя бы расставить некоторые вехн
в тянущемся издалека и уходящем вдаль процессе.
Сейчас общепризнано, что поворотной точкой в истории отио-
шений сцены с Достоевским и с повествовательной прозой вообще
явилась постановка «Братьев Карамазовых» Московским Худо-
жественным театром в 1910 году. Именно здесь проза как таковая
впервые становилась, по удачному определению критика, «теат-
ральным жанром».
После чеховских проникновений театру иначе, чем раньше,
представало драматическое содержание и во всей предшествующей
литературе, повествовательной в том числе. Поэтому и мог МХТ,
пройдя через чеховские спектакли, открыть дорогу на сцену рома-
ну Достоевского как роману: присутствие у Достоевского собствен-
но драматического в самой романной системе становилось теперь
очевидно,— и кому, как не театру, дано было его выявить? В но-
вых условиях времени предостережение Достоевского против ин-
сценирования повествовательных произведений, высказанное им
в известном письме 1872 года к В. Д. Оболенской и приводимое
обычно как вполне безусловное «на все времена», утрачивало,
' Золотоносов М. Контакт текстов. Литературное обозрение, 1980,
№ 7, с. 32.
181
таким образом, свой абсолютный смысл. Даже, наверное, напро-
тив: чтобы и в новых обстоятельствах сохранить полной мерой
свою остроту, выказать полную созвучность и этой поре, роман
Достоевского в известной степени нуждался ныне в сценическом
продолжении своей жизни, в подтверждении сценой его драмати-
ческой наполненности.
Последний роман писателя, складывавшийся в процессе самых
прямых, самых открытых, постоянных контактов Достоевского в
его «Дневнике писателя» с «текущим днем», включивший в себя
многое и многое из драматизма реальности (именно Дмитрий Ка-
рамазов говорит о «трагедиях, которые устраивает с людьми реа-
лизм»), нредоставлял сцене особые возможности в резком отреше-
нии от театрального канона, в решительном избавлении от нако-
пившихся, отвердевших условностей, в новом подходе к драма-
тическому.
Вместе с тем, включив в себя непосредственно материал раз-
нороднейший — от впечатлений писателя каторжной поры до, ска-
жем, всеохватывающих построений по поводу хода всемирной ис-
тории в поэме «Великий инквизитор», —«Карамазовы» оказались
в своей структуре внутренне из всех романов Достоевского наибо-
лее свободны, наименее сюжетно и композиционно очерчены, ско-
ваны. Та же поэма из целого романа может ведь быть все-таки вы-
членена без ущерба для его сюжетного развития и сама по себе
проанализирована и понята. Французский историк и теоретик ро-
мана Мельхиор де Вогюэ не совсем уж неоправданно полагал, что
в «Карамазовых» нарушены едва ли не все романные нормы. Так
что и сопротивление романной формы сцене здесь должно было
быть наименьшим: роман и сам тут от многого в себе отступался,
многим привычно обязательным пренебрегал, побуждая к тому же
и театр.
Однако в сопротивлении подобном была и потребность: также
и благодаря ему театр мог рассчитывать на освобождение в из-
вестной мере от самого себя. Необходим оказывался Достоевский
сцене едва ли не в равной степени и своей открытостью ей, слов-
но бы даже к ней теперь устремленностью, и неадресованностью
все же непосредственно театру его созданий.
Здесь будет, пожалуй, уместным напомнить читателю о том,
что всякий вид искусства именно в своей неизбежной односторон-
ности обладает особой силой освоения жизни. Балет, скажем, бу-
дучи лишен словесного языка, всячески развертывает, разрабаты-
вает выразительность движений нашего тела. Напрягаясь в совер-
шенствовании своего языка, любое из искусств словно бы этим
переступает через свои границы. И часто можно, например, услы-
шать, что «танец этот говорит» то-то и то-то.
Драматическая сцена — это как раз то из искусств, которое,
пожалуй, в наибольшей мере лишено ограничений в воссоздании
жизни. Живой человек является тут перед зрителем весь как есть,
игра в жизнь максимально приближена к самой жизни. Но здесь-то
и заключена немалая сложность и даже опасность.
182
Больше, вероятно, чем в каком бы то ни было ином роде ис-
KYCCTBa, Ha драматической сцене возникает возможность «заиг-
раться», заслонить, даже подменить жизнью все-таки условной
жизнь подлинную. Перевоплощение живого конкретного человека
в чужой облик, словно бы его отказ здесь от собственного лица
вызывали неоднократно сомнения в оправданности, в нравствен-
ной допустимости театрального искусства. Давало это о себе знать
в разные эпохи — то преследованиями скоморохов, то, скажем, в
недавнее уже время, едкими филиппиками в адрес театра со сто-
роны хотя бы Марины Цветаевой.
Удивительно знавший и любивший театр, впервые в России
позволивший ему получить национальный репертуар, связанный
с ним всей своей жизнью, Островский в «Талантах и поклонни-
ках» высказал непростую и нелегкую для себя правду о том, что
в силу публичности самого акта сценического творчества театр,
актеры не могут, наверное, обойтись без поклонения и «поклон-
ников», что в жизни людей театра многое отсюда проистекаег.
Великатов ведь приобретает Негину не только и, пожалуй, не
столько действительно необходимыми ей деньгами, сколько как раз
поклонением, хотя бы и откровенно форсированным и рассчитан-
ным, ее таланту. Отделяет Негину от Смельской то, что она еще
до Великатова потянулась к просветителю Мелузову, столь от
театра далекому, им совершенно пренебрегающему. Огрубив си-
туацию, какая обрисована в «Талантах и поклонниках», можно,
думается, заключить, что, по Островскому, ‘без поддержки — вся-
ческой! — Великатова Негина не воспарила бы на сцене, но без
Мелузова в ее судьбе полет этот не мог бы быть истинным и чи-
стым, свободным от житейских дрязг, подлинно артистическим.
И гений театра Комиссаржевская собиралась ведь, уже незадолго
до своей смерти, покинуть театр во имя него же, чтобы потом вос-
создать его заново на каких-то иных совсем, вне- и надтеатраль-
ных, началах.
Новое по своим принципиальным установкам перенесение в
МХТ романа на сцену было проявлением решимости театра и даль-
ше, несмотря ни на что, отстаивать и утверждать себя. И одно-
временно готовности именно ради этого пойти путем, который на
первый взгляд должен был представиться совершенно для него
губительным, едва Ли не самоубийственным. Роману же пред-
стояла отныне на сцене жизнь «фантастическая и органическая»
сразу, как скажет критик, когда работа МХТ над «Карамазовы-
ми» будет завершена.
Максимилиан Волошин, принявший и поддержавший устрем-
ления МХТ в постановке Достоевского, советовал театру пойти еще
дальше и отмечал, что «если бы Художественный театр захотел
быть последовательным на этом пути, то ему следовало бы не
останавливаться на той форме, которую приняла инсценировка,
но непрестанно ее изменять и совершенствовать, сообразуясь с
драматическим трепетом, пробегающим в зрительной зале, — други-
ми словамн, попытаться творить непосредственно в самом по:
183
нимании своих зрителей». Собственно говоря, М. Волошин видел
в перспективе уже прямо выведенной в сценическое действие та-
кую органическую особенность романа Достоевского, как постоян-
ная ориентированность в нем на «чужое» сознание слова героев
и слбва автора: «драматический трепет, пробегающий в .... зале»,
должен был прямо входить в сотворяемое на сцене.
Предлагаемое критиком было вызвано, спровоцировано, даже
прямо подсказано мхатовским спектаклем. Со своей стороны, оно
предвещало, собственно, то новое понимание в эстетике связи
произведения с его восприятием, какое начнет утверждаться толь-
ко поздней, когда М. М. Бахтиным будут произнесены знамена-
тельнейшие слова: «Нет ничего пагубнее для эстетики, как игно-
рирование самостоятельной роли слушателя. Существует мнение,
очень распространенное, что слушателя должно рассматривать как
равного автору, за вычетом техники, что позиция конкретного слу-
шателя должна быть простым воспроизведением позиции автора.
На самом деле это не так. Скорее можно выставить обратное по-
ложение: слушатель никогда не равен автору. У него свое, незави-
симое место в событии художественного творчества; он должен за-
нимать особую, притом двустороннюю позицию в нем: по отноше-
нию к автору и по отношению к герою, — и эта позиция определяет
стиль высказывания»'.
До возможности внять пожеланиям М. Волошина в 1910 году
было достаточно далеко. Однако в постановке МХТ уже соединн-
лись, если воспользоваться употребленным по другому поводу те-
зисом, «процесс освоения литературных произведений, прямо не
предназначенных сцене, и процесс выработки новых пространст-
венно-временных концепций» на театре ?. А главное, сцена приоб-
щалась к тому не скованному формой развитию всей русской
культуры, которое до того успело заявить себя преимущественно
за порогом театра —«Мертвыми душами» Гоголя или «Мертвым
домом» Достоевского.
Советы М. Волошина Художественному театру в связи с поста`
новкой «Карамазовых» свидетельствовали как о вере в плодотвор-
ность начинания, так и о том, что отдаться, ввериться в полной
мере. Достоевскому сцене пока не удалось, хотя как раз этого уже
добивались.
Отношения театра с Достоевским на всех этапах развивались,
разумеется, не сами по себе — всякий раз они становились частью
более широкого, более объемного процесса отношений сцены с по-
вествовательной прозой в целом и, в свою очередь, воздействие
этого общего процесса испытывали. Поэтому нам и придется сей-
час снова упомянуть о вышедшем в 1930 году в том же Художест-
венном театре спектакле «Воскресение» по роману Л. Толстого.
Все сошлось тут у сцены с романом, чем и ознаменовалось
_' Звезда, 1926, № 6, с. 263.
3 Кречетова Р. Преодоление данного.— Театр, 1978, № 7, с. 83.
184
утверждение некоей новой тенденции в истории взаимодействия
театра и прозы. То, что здесь намечалась уже именно особая тен-
денция, подтвердила подготовка к инсценированию «Анны Каре-
НИНОЙ».
Принимаясь за постановку другого романа Толстого, Немиро-
вич-Данченко собирался поручить актерам наряду с исполнением
ролей также произнесение с кафедры внутренних монологов их
персонажей и относящейся к последним авторской речи. Замысел
этот проверялся на нескольких репетициях. Но органическое един-
ство жизни актера в образе и чтения им же с кафедры, по всей
видимости, не возникло, и первоначальное намерение было остав-
лено. Показательно, однако, что искал ныне театр прямых худо-
жественных соответствий структуры спектакля структуре инсце-
нируемого произведения, на это направлял свои усилия. Ведь ес-
ли «Воскресение» держится целиком на авторском голосе, то
такого никак не скажешь об «Анне Карениной», где героям предо-
ставлена была широчайшая возможность самовыявления и само-
осуществления, а права автора были куда ограниченней, куда
локальней, чем то станет у Толстого потом, он словно бы даже
пытался здесь по возможности самоустраниться. Вот режиссер и
стремился выстроить спектакль принципиально иначе, чем свое же
недавнее «Воскресение», но опять-таки совершенно по внутрен-
нему закону того романа, который теперь хотели поставить, сцени-
чески обнаруживая и обнажая в этом романе именно его драма-
тическое ядро.
Те же годы, когда во МХАТ рождалось «Воскресение», затем
«Анна Каренина», ознаменовались на эстраде бурным подъемом
чтецкого искусства, где тоже впервые литературное создание ста-
ло охватываться именно как особое целое (А. Я. Закушняк,
А. И. Шварц и др.).
И когда спустя еще два десятилетия снова широко пошли спек-
такли по Достоевскому, премьера первого же из них —«Унижен-
ные и оскорбленные» в Ленинградском театре имени Ленинского
комсомола — предварена была заявлением Г. А. Товстоногова, ру-
ководившего постановкой. В беседе с корреспондентом газеты
«Вечерний Ленинград» он сказал о намерении «по возможности
полнее воспроизвести сюжетные линии, язык произведения».
По словам режиссера, эпический характер романа «сохраняется
благодаря своеобразной композиции пьесы: писатель Иван Пет-
рович выступает в инсценировке и как участник событий, и как
человек, со стороны наблюдающий за происходящим».
Интересно, что в тексте инсценировки, написанном задолго до
того, как был поставлен спектакль, повествовательная природа
произведения Достоевского еще никак не оберегалась, и Иван
Петрович выступал лишь в качестве одного из сюжетных персона-
жей. Тем знаменательней и выразительней переделка, которой под-
вергся предложенный текст в театре.
На сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола
Иван Петрович, рассказывая, обращался к зрителям, вступая с
185
ними в прямой контакт. Его слово непосредственно адресовалось
залу, и в повествовании Достоевского вскрывались тем резервы
расширяющегося, захватывающего общения, обращенности чуть
не всякого слова сразу ко всему миру.
В показанном Г. А. Товстоноговым через два года, в 1958 году,
на сцене Большого драматического театра имени М. Горького
«Идиоте» установка на максимальную приближенность разверты-
ваемого действия к внутреннему движению инсценируемого про-
изведения провозглашалась, декларировалась в самом спектак-
ле, — именно в этом был, по-видимому, главный смысл воссозда-
ния перед зрителем кинопроекцией страниц старого, времен До-
стоевского, издания романа.
Выступая в печати вскоре после выпуска «Идиота», режиссер
рассказал о том, как перенималась, усваивалась спектаклем в про-
цессе его создания от произведения Достоевского «беспрерыв-
ность действия ... совершенно меобходимая в композиции этого
романа». Самое «тело» спектакля, таким образом, динамически
формировалось здесь из живой материи романа.
Однако «Идиот» 1958 года был рассчитан и на известное про-
тивоборство с книгой. Не допустив из романа на сцену «новую
молодежь», оставив без внимания мучительность вопросов, тер-
зающих душу обреченного на смерть Ипполита, спектаклю стре-
мились придать призывность, «высветлить» в Мышкине прежде
всего самоотверженную отданность цели, ‘с которой он пришел
к людям. Критика поддержала подобный пафос, утверждая, что,
«очистив сюжет от эпизодов с Бурдовским, Ипполитем и прочи-
ми», Говстоногов как автор сценической композиции и режиссер
открыл возможность «самой трагедии князя Мышкина предстать
для нас в своей истинной, исторически относительной природе»"'.
Не вдаваясь сейчас в обсуждение того, насколько «исторически
относительна» трагедия киязя Мышкина, скажем о другом. Орга-
ничность природы спектакля явилась столь безусловной, что пре-
дусмотренное противоборство с писателем изнутри самой поста-
новки было в значительной степени отведено. Подлинная основа
создания Товстоногова сумела прорасти и укорениться в актер-
ской игре. Прежде всего в И. Смоктуновском — Мышкине.
Смоктуновский ни в коей мере не играл пример и образец,
не звал за собой, не отстаивал ответов и решений. Его герой про-
сто вел себя во всем так, как это было для него единственно воз-
можно. Как раз Н. Я. Берковский, которому принадлежит приве-
денное только что суждение, совершенно справедливо отметил, на-
пример, особый голос Смоктуновского в роли: «Без нажимов,
курсивов, повелительности или дидактики,— интонации вырыва-
ются сами собой, «от сердца», лишенные всякой предумышленно-
сти»?. За голосом тут стояло и все прочее, соответственное. И с
новой силой и ПО-НОВОМУ пОоДТверждалась глубочайшая оправдан-
! Берковский Н. Я. Литература и театр. М., 1969, с. 572.
2 Там же, с. 561.
186
ность того видения человека, которое ввел в «Идиоте» Достоев-
ский: ведь спустя почтя столетие оно для Смоктуновского оказа-
лось своим.
Союз исполнителя роли Мышкина с Достоевским сложился так
прочно, стал столь неразрывен, что дает о себе знать и сейчас,
далеко за пределами товстоноговской постановки, даже за порогом
театра. Вот мы читаем в книге Смоктуновского «Время добрых
надежд» о его встрече с Достоевским: «Не знаю, как бы сложи-
лась моя творческая жизнь и вообще моя жизнь, если б меня не
столкнуло с наследием Достоевского»! Приведя в предисловни
к книге эти строки, критик А. Свободин замечает: «Это из его ис-
поведи. Здесь правда»? Прочтя книгу до конца, убеждаешься:
да, так. И сейчас еще то там, то тут даже и в самом откровенном
и искреннем повествовании удивительнейшего актера натыкаешь-
ся на манерность, на неуместно и претенциозно выглядящие белые
стихи. А в Мышкине Смоктуновский был безупречен и безупречно
сдержан и тогда, когда несдержанность, казалось бы, допустима,
но где она на самом деле нанесла бы Достоевскому немалый
ущерб. И так же об этой своей роли он сейчас, многие годы спу-
стя, говорит.
Яркие свершения Товстоногова выступили в окружении мно-
жества постановок, где заявлял себя тот же в общем главный
исходный принцип.
И в инсценировке «Униженных и оскорбленных» 1959 года в
Костроме, и в совсем мало удавшейся работе Московского театра
имени Гоголя ло тому же роману (1965) Иван Петрович как по-
вествующее лицо опять-таки оказывался в центре сценического
действия. Театр имени Моссовета даже в «Дядюшкином сне» вы-
вел на сцену повествователя, пусть и довелось ему тут лишь
представить в начале действующих лиц, а в конце сообщить, что
с ними случилось «потом». Повсюду по меньшей мере уверяли, что
интересуются в Достоевском не фабульными перипетиями, не ин-
тригой. И нередко пытались в самом деле приникнуть к внутрен-
нему строю не адресованных тёатру созданий, подчас сбрасывая
при этом груз накопившейся в очередной раз театральной при-
ВЫЧНОСТИ.
Товстоногов настаивал на обязательном «совпадении логики
сцены с логикой романа»3. Как мы могли видеть, он настаивал
на этом и в самом спектакле, словно бы поверяя и проверяя неод-
нократно по страницам книги сценическое действие.
Победа, как мы уже констатировали, оказалась даже более
принципиальной и безусловной, чем могли обещать первоначаль-
ные намерения. Но как раз потому настаивать больше было не-
зачем. И в новой — 1966 года — версии товстоноговского «Идио-
' Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., 1979, с. 132.
2? Там же, с. 40.
3 Театральная жизнь, 1958, № 2, с. 18.
187
та» выдвигавшиеся прежде вперед страницы старого издания ото-
двинулись в глубь сцены. Стоявшая тогда задача была решена.
Можно было взяться за новую.
Теперь театр не стремился неукоснительно следовать за рома-
ном. Он скорей пытался свободно уловить и усвоить себе его внут-
ренний ритм, ради чего жертвовал и некоторыми бытовыми по-
дробностями, и повествовательными моментами. Сцена проявляла
здесь себя в отношениях с прозой смелей и независимей, чем в
первой редакции, но пока это возвращало ее, по крайней мере
отчасти, к давнему и традиционному театральному канону.
Спектакль в новой своей версии понес несомненный урон.
Но шага назад тут не было, а обнаруживалась сложность пути.
Это выяснилось вполне, когда в 1969 году Ю. А. Завадский по-
ставил в Москве, в Театре имени Моссовета «Петербургские сно-
видения» по «Преступлению и наказанию».
Завадский тоже изложил свой замысел. Он говорил, что вовсе
не собирался инсценировать роман, а выстраивал спектакль по за-
конам пластической симфонии, идя «больше от пантомимы, чем
от самого текста»!'.
Пусть реально это оказалось не совсем так, во всяком случае
речи о том, чтобы предъявить зрителю страницы романа, как де-
лалось в товстоноговском «Идиоте», здесь уже и быть не могло.
По точному наблюдению исследователя, в «Преступлении и на-
казании» Театра имени Моссовета «разворачивалась сценическая
фантазия современного художника, потрясенного трагическим
миром романа Достоевского... Достоевский был узнаваем, присут-
ствовал в этой интерпретации как ее великая вдохновляющая си-
ла. Однако «авторская манера драматурга» (прибегая к словам
Ю. А. Завадского) ожила в спектакле скорее как художественный
образ, стала материалом для творческого пересоздания в сцени-
ческой фантазии, безраздельным автором которой явился ре-
жиссер»?.
Самому театру принадлежало тут уже название спектакля,
хоть и извлеченное из Достоевского. Оно сразу резко вводило в
фантасмагорическую замороченность раскольниковского сознания,
именно так театром и определяемую.
В зрительный зал переброшен был помост, куда выносились
наиболее острые, решающие моменты внутренней жизни героя,
вроде, скажем, его покаяния. Этим прямо утверждалось самое
непосредственное, живое значение для сидящих сейчас в зале рас-
кольниковского выбора, раскольниковского опыта. Неразрывная
связь времен становилась даже наглядной.
Раскольников, совершая выбор, апеллировал и к нашим впе-
чатлениям, к нашей собственной нравственной потребности обя-
зательно как-то откликнуться на творимые несправедливость и
зло. И нельзя было ошибиться, нет, вопреки настойчиво распрост-
! Театр, 1969, № 1, с. 75. |
? Таршис Н. Музыка свпектакля. Л., 1978, с. 83.
188
раняемому ныне некоторыми литературоведами и социолегами
представлению, Раскольников вовсе не обманывает сознательно
себя и других, хитро скрывая свои исключительно корыстные на-
мерения, но прежде всего жестоко обманывается сам, делая лож-
ные, фантасмагорические умозаключения из неотступных, нарас-
тающих бедствий всего человечества. Вместе с Достоевским, остро
поворачивая его к нам и нас к нему, самой внутренней жизнью
своей спектакль Завадского заранее дезавуировал еще не офор-
мившееся тогда вполне, но уже готовое вот-вот о себе возвестить
использование Достоевского в целях назидательных и в конечном
счете конъюнктурных.
А прямо вслед работе Завадского, в ленинградской постанов-
ке «Преступления и наказания» И. Владимирова (Театр имени
Ленсовета, 1971), многоэтажный разрез петербургского бытия
оказался живо и волнующе наполненным острой подвижностью,
неожиданнейшими переходами и перепадами отношений «достоев-
ских» людей. И Дуня, к примеру, здесь, уходя от Свидригайлова
и оставляя его уже подступившей к нему судьбе, нежно и про-
щально касалась его рукой: вдруг открывалось, что человек этот
вряд ли был ей только страшен, только далек, хотя ужаса перед
ним она превозмочь и не могла. Интереснейший контрапункт воз-
ник между актерским исполнением А. Фрейндлих, игравшей Ка-
терину Ивановну, и целым спектакля, гибким и свободным.
Образное освоение Достоевского в очередной раз обнаружи-
вало свои ресурсы, а в чем-то и преимущества перед всяким иным.
«Петербургские сновидения» явились одним из вершинных до-
стижений целого периода в отношениях сцены с повествователь-
ной прозой. Позиция, определившаяся тогда, оправдала себя мно-
гократно. Но значило ли это, что она подлежит канонизации? Ведь
именно канонизованный опыт и превращается в оковы... К поре
«Петербургских сновидений» немало в этом направлении было
уже «наработано».
Характерно, что даже Ю. Олеша, поначалу решив, что он в
инсценировке «Идиота» (осень 1955 года) вполне может обойтись
без встречи Рогожина и Мышкина в вагоне, что ему она не нуж-
на!, свою театральную версию романа в окончательной редакции
начал тем не менее той самой сценой в вагоне, какой открывается
роман. Это при его-то, Олеши, творческой смелости! |
Но сами «Петербургские сновидения» к канонизации тех прин-
ципов, на которых они сложились, были, конечно же, непри-
частны.
То же хотя бы название спектакля, предложенное театром
от себя, отстаивало ведь свободу сцены в ее отношениях с рома-
ном. Театр не боялся обозначить и оценить показанное Достоев-
ским от себя и по-своему. Начиная с названия. Петербург он пред-
' См.: Вопросы литературы, 1973, №5, с. 231.
189
ставил по-современному жесткой сценической конструкцией. В фн-
нал внес отсвет пережитых человечеством уже после Достоевско-
го катастроф... Все это так же принадлежало природе постановки,
как прежде в товстоноговском «Идиоте» страницы давнего изда-
ния романа.
Ростки, проклюнувшиеся вроде бы непредвиденно в «Петер-
бургских сновидениях», не остались одиноки.
Московский театр имени К. С. Станиславского тоже дал скром-
ной своей работе по «Подростку» собственное название —«Испо-
ведь молодого человека», а самый спектакль выстроил как ожи-
вающие по ходу рассказа-воспоминаний героя о его прошлом сце-
ны этого прошлого, где он главное действующее лицо. В сравнении
с романом сегодняшнее, в момент воспоминаний, душевное состоя-
ние героя оказалось выявленным, заявленным более настойчиво,
непосредственно и резко, драматическое взаимодействие в «Под-
ростке» разных времен его жизни обрело несколько большую, по-
жалуй, значительность и значимость. Так в не претендовавшей на
многое постановке выказала себя ныне как нечто безусловное
определившаяся еще в «Братьях Карамазовых» 1910 года связь
инсценирования прозы с новым сценическим выражением про-
странственно-временных отношений. Причем театр наших дней
сознательно рискнул здесь как бы сдвинуть в некотором смысле
сцепления романа.
А в Ленинградском театре комедии придумали для постачов-
ки «Села Степанчикова и его обитателей» особое лицо, обозна-
ченное как Сноска. Оно вызвало немало возражений. И надо, ве-
роятно, признать, что сомнения в истинной сценичности такого
рода фигуры не вовсе лишены были оснований. Нельзя только не
видеть, что и с ее помощью театр стремился сделать отношения
сцены с Достоевским свободными от всякой скованности, вполне
подвижными и многомерными.
Появляясь перед действием, а затем неоднократно и во время
его, Сноска произносимым ею текстом, сочиненным в театре, про-
тягивала нити от Фомы Опискина то к Николаю 1, то к Гоголю
как автору «Выбранных мест из переписки с друзьями», впрямую
сводила разглагольствования Фомы с сентенциями и поучениями
из «Выбранных мест...». Разумеется, прямо и открыто такого у
Достоевского нет. Но мы сталкивались ведь уже с тем, как диа-
логически ориентировано у него и слово героев, н слово автора,
да и многое в развитии сюжета. Пародирование Гоголя в «Сте-
панчикове» угадывалось еще в прошлом веке (Н. К. Михайлов-
ский), доказано позднее исследователями (Ю. Н. Тынянов). Сце-
на, развертывая свои возможности, энергично вскрывала в «Сте-
панчикове» тенденции дальнейшего движения романиста. Иное
дело, повторим это еще раз, насколько удалось в данном снпек-
такле добиться действительной сценической органичности найден-
ного театром персонажа: самое его имя (или, точней, отсутствие
такового) сигнализировало тотчас же о служебности и театраль-
ной неполноценности того, что за ним стоит.
190
Время катится дальше.
Пожалуй, особенно долго не давались театру подлинно внут-
ренние контакты с «Преступлением и наказанием»— самым це-
лостным из великих созданий Достоевского. Собственно, едва ли
не впервые они действительно завязались только в постановке
Завадского.
И всего лишь через какой-нибудь десяток лет Театр на Та-
ганке выкладывает в фойе перед спектаклем по «Преступлению
и наказанию» школьные сочинения, прямо и однозначно объясня-
ющие, «зачем» предпринята постановка. Достоевский призыва-
ется для узкой и заданной цели? Заранее утверждаемый ответ
предпочитается действительному и действенному с ним диалогу?
В значительной степени да. Потому персонажам романа ве очень
дано хотя бы только предъявить себя. Даже Свидригайлову,
даже Раскольникову. Они лишь многократно возникают, промель-
кивают перед нами. Однако главные фабульные ситуации романа
представлены. Они сведены монтажно друг с другом, приведены
в непосредственное и острое столкновение между собой. Ритмы
спектакля от Достоевского получают главные импульсы и высы-
лают им навстречу свои, нынешние соответствия.
М. Розовский ставит в Русском драматическом театре в Риге
мюзикл по «Преступлению и наказанию», где современная музы-
Ka, стихи, с одной стороны, Достоевский —с другой, постоянно
друг в друга взаимопроникают, сцеплены неизменно. Как так?
Почему так? Не кощунство ли, не надругательство ли все это?
Но тут вновь вспоминаешь, что во многих и многих решениях
классиков была для своей поры редкостная «художницкая дер-
зость», как назвал, мы помним, когда-то изображение Толстым
родов в «Анне Карениной» Фет. К тому, что отметил Фет своим
определением, можно добавить и мертвое тело Анны на казармен-
ном столе, и сон Свидригайлова или рассуждения его о своем
предстоящем самоубийстве как о «вояже», и еще, и еще... Введен-
ное когда-то впервые Достоевским или Толстым вошло в искус-
ство, в наше сознание так несомненно, что теперь зачастую уже
и не изумляет, не останавливает на себе. Никакой дерзости здесь,
получается, словно бы и нет. И более чем понятно стремление
именно на сцене восстановить свежесть, остроту нашего восприя-
тия классических созданий, отойти от них, чтобы в чем-то главном
как раз приблизиться, дать ей, классике, прозвучать в силу, ей
присущую, с подлинно обновляющей энергией. Вероятно, как раз
сцене это и доступно.
По силам ей и иное.
«Братья Карамазовы», о чем у нас уже шла речь, и в ряду
романов Достоевского выделяются многообразием представлен-
ных тут пластов реальности, разнообразием потоков образности,
причем некоторые из них выступают в известной отдельности,
нерастворенности в целом. Тем сложней уловить здесь в каком-то
одном мотиве, в какой-нибудь одной из линий дыхание всей книги,
Однако для сцены сейчас и такое возможно.
191
В спектакле А. В. Эфроса «Брат Алеша» (Театр на Малой
Бронной в Москве), где Иван уже не упоминается, а Дмитрий
появляется только на мгновение, в сущности лишь обозначается,
дух книги о братьях Карамазовых именно как целого живет. Ком-
наты барского дома Хохлаковой и нищенское обиталище Снеги-
рева-Мочалки резко сближены, сведены здесь воедино и вместе
увенчаны колоколом, который словно бы вот-вот должен, призван
возвестить о беде всего человечества (ср. с «По ком звонит коло-
кол» Хемингуэя). А в неистовом отказе жалкого Мочалки —
Л. Дурова от какого-нибудь «другого мальчика» взамен Илю-
шечки очень уловим в главном своем существе и бунт отвлечен-
нейшего теоретика и идеолога Ивана Федоровича Карамазова.
Взяв из последней книги Достоевского один только мотив, спек-
такль наших дней сумел выявить, как целостна вся книга, хотя
для замечательной старой постановки МХТ, где на сцену перено-
сился чуть не весь роман, как раз это осталось закрытым.
Очевидно, не случайно нашей сценой стал сейчас широко ос-
ваиваться и, так сказать, «малый» Достоевский —<«Сон смешного
человека», «Бобок», «Крокодил»... Театр усматривает, находит
ныне Достоевского и здесь, извлекая и отсюда необходимое для
неуклонного своего движения, вскрывая и утверждая единство
всего творчества писателя.
Мы все твердим о новых подходах к Достоевскому, но ведь
после Смоктуновского в «Идиоте» не смогли указать ни одного
действительно бесспорного, значимого, принципиально актерского
результата в этой области.
Да, тут есть особая трудность. Она обусловливается, в част-
ности, тем, что у Достоевского, по очень точной характеристике
Карела Чапека в его статье «Литературные заметки о человеч-
ности», «осуществляется нечто безнадежно невозможное: это край-
HHH abstractum in concreto»!.
Но тот же Смоктуновский как раз редкостно, поразительнейше
нес в Мышкине всей плотью своей — в каждом движении, жесте,
в интонации — миссию всеобщего спасения. Линия здесь протяги-
валась, как ни странно это может показаться тем, кто спектакля
не видел, именно так, прямо: от манеры глядеть глаза в глаза или
даже открывать дверь прикосновением, а не ударом, не толчком, —
к неизбывному, непреходящему чувству собственной ответствен-
ности своей за все и за всех в мире. А затем, после Мышкина,
Смоктуновский сыграл в Достоевском и нечто совсем другое, даже
противоположное — Порфирия Петровича в кинофильме Л. Ку-
лиджанова.
Сегодня Г. Тараторкин, Раскольников в кино и на сцене Теат-
ра имени Моссовета, становится еще и Иваном Карамазовым, а
Г. Бортников, продолжая быть Раскольниковым в «Петербургских
сновидениях», выступает также Смердяковым и Чертом одновре-
менно в «Братьях Карамазовых». В. Рецептер больше десяти лет
' См.: Вопросы литературы, 1965, № 7, с. 89.
192
один играет спектакль «Лица», включающий «Бобок» и «Сон
смешного человека».
Достоевский продолжает будить в актерах возможности и
устремления нашей человеческой природы — и она откликается
ему. Пусть свершения здесь за последнее время в самом деле не
столь часты и безусловны (а много ли вообще мы можем насчи-
тать недавних актерских озарений?), известная тенденция ощути-
ма и тут. Современная гибкость артистического исполнения, его
внутренний диапазон, его амплитуда переходов от идущего диало-
га с Достоевским никак не отдельны. Как не отделен и Достоев-
ский в нашей сегодняшней жизни от ролей «из него».
Зарисовка нынешнего этапа в отношениях театра с творцом
«Преступления и наказания» и «Карамазовых» получается у нас,
сознаемся, достаточно пестрой. Но, очевидно, время событий,
что-то завершающих и подытоживающих, вбирающих в себя опыт,
тут пока еще не пришло, и все главное пока впереди. Конечно же,
нельзя и гадать, как еще откроются друг другу и откроют друг
друга Достоевский и театр при предстоящих встречах, в дальней-
шем диалоге их, которому, надо думать, никогда не будет конца.
IV
$ ке
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ,
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ШКОЛЫ
Едва ли не у большинства из нас, работающих ныне в школе
или в вузах, на памяти еще та пора, когда литература (и искус-
ство вообще) расематривалась строго и последовательно как пря-
мое следствие, прямое отражение общественно-исторических собы-
тий и фактов своего времени. Мы тогда твердо знали, что именно
должно быть в произведении, родившемся в 60-е или 70-е годы
ХХ века, и как должен быть обрисован, к примеру, «новый чело-
Bek». ‘A если ожидаемого, требуемого не находили, то обвиняли
Тургенева за вызванное либеральными взглядами уклонение от
истины (что стало почти безусловным) или с огорчением конста-
тировали, что Толстой в «Анне Карениной» не дотянул до некра-
совского и вообще «необходимого» освещения бедствий крестья-
нина.
В ту пору и сложилось — сложилось вполне закономерно — са-
мое построение посвященных литературе прошлого работ любого
типа и уровня — от академической монографии до школьного
учебника или даже сочинения восьмиклассника. Вначале обяза-
тельно характеризовалась «историческая обстановка», а тем са-
мым определялось, чему следует быть и что надо, значит, искать
в рассматриваемом произведении. Затем выяснялось, насколько
соответствует роман, повесть, поэма... необходимым условиям, в
какой мере «представителен» тот или иной литературный персо-
наж. Если соответствие оказывалось неполным, писателю вменя-
лись в вину непонимание, историческая ограниченность и т. п.
А затем — в лучшем случае — кратко говорилось о том, как сумел
художник «подать» свой «материал», то есть каковы «художест-
венные особенности» его вещи.
Мы, конечно, несколько заостряем действительное состояние
дел. Но лишь с той целью, чтобы подчеркнуть: тогдашнее наше
восприятие литературы обладало в своих пределах цельностью и
целостностью, оно обрело в известном смысле законченную струк-
турную плоть.
Сейчас уже, однако, вполне очевидно, сколь мало при подоб-
ном подходе мы могли получить от литературы, как ограничен-
ны оказывались тут ее возможности в общественно-историческом
движении наших дней. Что касается литературоведения как науки,
194
то, как справедливо было констатировано в специальной «Запис-
ке», составленной группой крупнейших историков и теоретиков
литературы (Н. И. Конрад, Д. С. Лихачев, Д. Д. Благой, А. Лав-
рецкий и др.) и одобренной общим собранием Отделения литера-
туры и языка Академии наук СССР в 1957 году, его самостоятель-
ность по существу снималась '. Ведь задача его, собственно говоря,
сводилась к иллюстрированию и поддержке гражданской исто-
рии, свой особый предмет оно как бы утрачивало. Никакое изуче-
ние «художественных особенностей» ничего здесь в существе из-
менить не могло, и даже не должно было, поскольку в них усмат-
ривалась лишь, так сказать, оболочка, форма, которой писатель
воспользовался (мог и не воспользоваться!), выражая обществен-
ные, политические и всякие иные суждения по вопросам своего
времени. Широко распространившееся тогда понятие «мастерство»
весьма наглядно обнажало, сколь узок был еще здесь взгляд и
на творчество художника, и на природу литературы, и на обще-
ственное назначение науки о ней.
Положение в принципе не меняется и тогда, когда из произве-
дения литературы начинает извлекаться какой-нибудь нравствен-
ный урок: оно все равно подводится так под готовый, уже имею-
щийся у нас ответ, призывается, чтобы подтвердить (в лучшем
случае — подкрепить) известное.
Но если лишь в слабой степени приведены были в действие
собственные ресурсы литературоведения, то, пожалуй, в еще мень-
шей мере определила тогда свое место и свою роль методика пре-
подавания литературы. Наука о литературе тогда, как правило,
не ставила себе еще целью находить содержание литературных
явлений в самом их художественном своеобразии. Методика же,
в свою очередь, искала по преимуществу «приемы», с помощью
которых стремилась успешнее «донести» до учащихся разработки
литературоведов. Таким образом, по отношению к самой литера-
туре методика оказывалась в позиции еще более далекой, чем
литературоведение. Собственно, с материей, с «живым телом» ли-
тературы непосредственные связи тут словно бы и не предполага-
лись или, во всяком случае, не были обязательны (разумеется,
и здесь речь идет об исходной установке, а не о практике, не оре-
альности, которая всегда была и многообразней, и богаче).
Нет необходимости объяснять, почему при таком положении
вещей раздобыться чем-нибудь существенным для себя у мето-
дистов специалисты-литературоведы не могли и даже не надея-
лись. Да они и не испытывали подлинной потребности в контактах
с методистами и школой, поскольку изучали почти исключитель-
но происхождение, генезис литературных явлений из исторической
почвы той эпохи, когда последние возникли, но очень мало зани-
мались их собственной живой внутренней органичностью, причи-
нами их непреходящей и даже подчас возрастающей со временем
' См.: Вопросы советской науки. Закономерности развития художественной
литературы. М., 1958, с. 4.
13* 195
значимости, особенностями их восприятия, их звучания в разные
исторические периоды и т. д. Вот в ту пору и возникло, навер-
ное. — если говорить правду, то, видимо, по обоюдной вине и обо-
юдной узости,— пренебрежительное или, во всяком случае, вполне
равнодушное отношение историков и теоретиков литературы и
к методике, и к практике школы. И никакие пожелания и призы-
вы дать ничего не могли 1.
Но на наших глазах день за днем горизонты науки о лите-
ратуре становятся все шире. Все меныше может она удовлетво-
риться одним лишь генетическим изучением своего предмета. Оди-
озным стало восприятие литературных героев как «представите-
лей». Все реже низводятся нами художнические открытия и про-
зрения до простого умения, до профессионального «мастерства»
(и уже работы с этим словом — по крайней мере, в заглавии —
не появляются давненько). Науке нашей все важней становится
учесть, как осваивается художественное произведение читателем,
понять, используя и эти данные, как содержится оно в разных, во
всех элементах своей структуры, как всеми ими, их органическим
единством обращено и действует вовне. Нам сейчас одинаково
существенно установить, к примеру, как то, почему великие рома-
ны Достоевского могли родиться именно в России 60 — 70-х годов
ХХ столетия, так и корни все увеличивающейся тяги и внима-
ния к ним ныне, век спустя.
Высвобождаясь из пут прежней своей подчиненности граждан-
ской истории, прикованности к ней до утраты собственного своего
лица, определяясь в собственном своем качестве, литературове-
дение все острей испытывает нужду в контактах на равных и с
историей, и с психологией, и с социологией, и с естествознанием...
Подымаясь к подлинной самостоятельности, оно не боится вклю-
чить в самый свой метод завоевания других наук. Так, анализ
хотя бы художественного произведения как целостной системы
со своей особой внутренней жизнью, думается, очень связан на
современном этапе с принципами системного анализа, развиваю-
щимися сегодня в иных областях знания.
Литературоведение сейчас дорастает (да, именно так!), между
прочим, и до потребности в подлинно взаимных связях со школой
и с методикой. Не случайно еще в 1970 году «Вопросы литерату-
ры» провели обсуждение материалов журнала «Литература в шко-
Ле», и столь же не случайно уже тогда оно вылилось в достаточно
широкий разговор о состоянии и методики преподавания литера-
туры, и литературоведения. Знаменательно также, что на этом об-
суждении литературоведы в большинстве своем ратовали за то,
чтобы методика скорее избавилась от функции какого-то «доба-
вочного» и поневоле «кустарного» литературоведения и оформи-
' Хотя когда-то именно как учителя средней школы начинали свой путь
многие из крупнейших наших литературоведов. Достаточно назвать здесь хо-
тя бы А. С. Долинина, или В. Е. Евгеньева-Максимова, или Б. М. Эйхенбаума,
или В. Я. Проппа..
196
лась бы в своей специфичности. Литературоведение заново и с
большой напряженностью ищет, утверждает себя, и оно готово
принять помощь отовсюду, где достигаются сколько-нибудь серьез-
ные результаты.
Школьные учителя литературы по самому характеру своих за-
нятий с ребятами все же и прежде в большей степени оставались
словесниками в собственном смысле этого понятия, чем являемся
ими, пожалуй, даже на нынешний день мы, литературоведы. Да-
же опираясь на наши построения, зачастую от романов Тургенева
или Толстого достаточно отвлеченные, они не могли на уроке обой-
ти текст «Отцов и детей» и «Грозы», не могли не искать ответа
на возникающий у учащихся при внимательном чтении вопрос,
почему Катерина так возвышенно говорит о странницах из своего
детства, хотя по ходу действия пьесы они представлены состоя-
щей при Кабанихе Феклушей, почему речь Катерины и речь Фек-
луши в чем-то близки между собой, не могли не заметить вос-
торженного воссоздания охоты в «Войне и мире», которое мы в
наших конструкциях «по поводу Толстого» столь долго игнориро-
вали, и т. п. Самая необходимость работы с живой тканью произ-
ведения, живые, непосредственные впечатления школьников не так
уж редко оказывались сильней предлагавшихся вчерашним, а
иногда еще и сегодняшним литературоведением схем.
Думается, что на день сегодняшний многие и многие школь-
ные учителя богаче нас, литературоведов, конкретными наблюде-
ниями над живой плотью пушкинских, лермонтовских, толстов-
ских созданий. Жизнь, литература брали в практике школы свое
и тогда, когда литературоведение собственным прямым делом за-
нималось еще мало. Поэтому теперь опыт школьного изучения ли-
тературы может кое-что подсказать литературоведению, и мы
очень ждем от методистов анализа того, что в этом смысле накоп-
лено школой, лучшими ее учителями именно как словесниками.
Но если тут литературоведение может и, думается, должно искать
поддержки со стороны главным образом в силу своей, так сказать,
недостаточной развитости, недостатка собственных необходимых
накоплений, то в иных случаях как раз развитость его как науки
со своим предметом, широта решаемых им ныне и именно ему
присущих задач предполагают содружество с работой, проводи-
мой в других научных отраслях со свойственными тем устремле-
ниями и целями. В частности — с работой методистов.
Как известно, в последние годы пушкинский «Дубровский»,
«Как закалялась сталь» Н. Островского, «Молодая гвардия»
А. Фадеева и некоторые другие произведения неоднократно пере-
носились из учебной программы одного класса в другой. Пока на-
учные объяснения этим переменам еще не даны. Но если здесь
будут приведены серьезно обоснованные рекомендации, если, ска-
жем, будет доказано, что «Дубровского» действительно вполне мо-
гут читать школьники и до шестого класса, это, несомненно, бро-
сит какой-то особый, дополнительный свет не только на названную
повесть, но и на своеобразие всего пути Пушкина, самой лич.
197
ности поэта, даже целого этапа в жизни нашей литературы и раз-
витии освободительной борьбы. Точно так же многое сможет вы-
ясниться при соответствующем анализе методистов и в художест-
венной природе «Как закалялась сталь» и «Молодой гвардии»,
а таким образом и в исторических судьбах разных течений совет-
ской прозы. Именно от методистов можно, наверное, ожидать су-
щественной помощи в решении вопросов о том, почему Вальтер
Скотт перешел сейчас в детское чтение, почему вообще подобное
особенно часто происходит в ходе времени с произведениями исто-
рической темы.
Да, методисты, занимаясь своим делом, могут именно так на
многое навести литературоведов. И что-то в этом смысле можно
в трудах методистов уже теперь обнаружить. Уже есть работы
о круге чтения и читательском восприятии учащихся [У класса,
о сдвигах в литературном развитии школьников. В работах об изу-
чении лирики в школе очень конкретно и пристально прослежено
было в его временном развитии отношение учащихся к поэзии
вообще, к разным ее явлениям в частности, составлены характе-
ристики своеобразной эволюции школьников в этом смысле с пя-
того по десятый класс. И тут открывается много неожиданного
как в процессе формирования и роста современного человека, так
и в особенностях воздействия, а значит, и в самой природе, доста-
точно, казалось бы, исследованных творений Пушкина, Лермон-
това, Некрасова, Блока, Маяковского...
Работа методистов на новых путях, в сущности, только развер-
тывается. И поскольку это уже дорога научных изысканий и ре-
шений, то трудно, даже невозможно предсказывать, что будет
здесь найдено, что может родиться. Тем интересней литературове-
дам вглядываться в нынешние поиски своих соратников.
Со своей стороны, наука о литературе тоже может уже пред-
ложить и нечто такое из завоеванного ею в последнее время, что
отнюдь не расходится, но, напротив, органически сопрягается
с лучшим и существеннейшим в труде школьных словесников, что
позволяет углубить, уточнить и продолжить его.
Так, львовский ученый А. В. Чичерин, исследуя своеобразие
эпитетов и структуру фразы в «Войне и мире», сумел именно
отсюда прийти к самым широким выводам о жанровой природе
великой книги, о характере сопряжения в ней разных времен жиз-
ни героев. Нет нужды специально останавливаться на том, какие
перспективы открывает подобный литературоведческий анализ пе-
ред столь обязательным для школы освоением текста художест-
венного произведения, какой новый, принципиальный смысл по-
зволяет придать любому рассмотрению с учащимися метафор или
пейзажа.
В ряде вышедших книг и статей о поэзии — В. В. Кожинова,
Л. А. Озерова и других — убедительно и тонко вскрывается содер-
жательность самой материи и жизни стиха в поэтических созда-
ниях, что дает возможность сделать, в свою очередь, неотступно
содержательным изучение стиховой формы и в школе.
198
Словом, и методистам, и литературоведам, и учителям-словес-
никам есть что внести уже сегодня в деловые общения между со-
бой. И главное —у этих общений есть сейчас принципиальная ос-
нова, к которой каждая из «высоких договаривающихся сторон»
идет своим путем. И потому есть будущее.
ОБ ОДНОМ
ИЗ АСПЕКТОВ ПРОБЛЕМЫ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ
В пьесе А. Володина «Старшая сестра», появившейся на исхо-
де 50-х годов, есть такая сцена. Старшеклассник, яркий, одарен-
ный юноша, писал сочинение о Наташе Ростовой. И развенчал ее.
«Вывел», что ее нельзя считать «положительным примером».
Но вот он приходит к своей подруге, и старшая сестра той, Надя,
имеющая больший, чем он, и нелегкий жизненный опыт, вдруг го-
ворит ему, что да, доказать, что Наташа хорошая или плохая,
OH может, а понять, какая же она на самом деле, — нет.
Володинский Кирилл готов был оценить и толстовскую Ната-
шу, и тургеневского Базарова, и кого угодно. Но реальная слож-
ность, реальная многомерность судьбы Наташи, всего с нею про-
исходящего не были еще ему нужны. Однако для Нади Наташа
уже начинает, очевидно, существовать в действительных, живых
своих измерениях. Нет необходимости говорить, как различны два
эти подхода к литературе.
Так на памяти работающего сейчас и даже еще, пожалуй, не
самого старшего поколения учителей начинали качественно, ко-
ренным образом усложняться наши отношения с литературой.
С тех пор она все больше и больше обретает для нас подлинную
свою глубину. Освобождается от навязывавшейся ей нами одно-
значности.
Дискуссии о театральных, кино- или телепостановках класси-
ки теперь открываются тезисом о ее безграничности. Сборник ста-
тей об экранизациях получает название «Книга спорит с филь-
мом», и весь он, в сущности, о том, насколько литературные созда-
ния богаче, шире наших прочтений... И какой учитель удовлетво-
рится ныне истолкованием «Горя от ума» как произведения,
обличающего фамусовскую Москву и противопоставляющего ей
передового человека! Давно уже пишут в школах сочинения, и от-
нюдь не только в столичных, о горе и уме Софьи и Чацкого и
пытаются разобраться, почему же так не совпало, так катастро-
фически разошлось развитие личности в двух этих людях, отчего
оказались они, оба не умещающиеся в рамках нормы, традиции,
привычки, по разные стороны.
Вполне ли мы, однако, отдаем себе отчет в том, какие новые
вопросы о самом существе преподавания литературы тут возника-
ют? Часто и много рассуждая о том, какие трудности принесены
в этом смысле веком научно-технической революции, всеобщей
увлеченностью замечательными техническими завоеваниями, до-
статочно ли приглядываемся к противоречиям, подымающимся из-
199
нутри сегодняшней школьной жизни литературы? Противоречиям,
вызванным не какими-нибудь нашими недоделками, ошибками
или неумелостью, но органическим для современного изучения
литературы в школе, неотделимым от его достижений и ус-
пехов?
Когда мы искали в литературе только повествование о чем-то,
что нам следует узнать и запомнить, все и с литературой в школе
было более или менее ясно. Учитель литературы, как и все дру-
гие учителя, сообщал учащимся на уроке известную сумму сведе-
ний, добивался их усвоения, оценивал степень этого усвоения тем
или иным учеником. Урок литературы в принципе, в самой основе
своей мало чем отличался от любого другого урока.
Сейчас мы дорожим в литературе не одними лишь познава-
тельными ее возможностями. И потому никак не можем ограни-
читься тем, что ученики наши будут твердо знать все о происхож-
дении Базарова, о его взглядах или об отношении князя Андрея
к Наполеону. Важно, чтобы встреча сегодняшних ребят с «Отцами
и детьми», «Грозой», «Войной и миром»... вызвала в них их соб-
ственное человеческое вдохновение, их собственное душевное твор-
чество.
Но дело даже не только в том, как воспринимаем мы ныне роль
искусства в формировании, в становлении человека. Совсем не
только в этом. Всерьез уже считая, что искусство безгранично,
можем ли мы быть уверены, что главное в нем обнаружено и
известно нам, стоящим за кафедрой или учительским столом, что
именно к этому главному ведем мы наших учеников?
Если верить, что у каждого времени с литературой своя связь,
свои отношения, как можем мы, абсолютизируя наш опыт, навя-
зывать его другому уже поколению, какое являют собой сидящие
перед нами школьники? Смена поколений происходит теперь быст-
ро, и даже молодой, только начинающий учитель сталкивается в
классе ведь именно с другим поколением...
А между тем в школе литература все же остается учебным
предметом. На уроках ее ребята обязательно должны что-то по-
стигать. Знания их оцениваются отметками. И все это, наверное,
никак не может быть иначе. На то и школа!
Вот эта свободная неопределенность участия ныне литерату-
ры в движении жизни, различная повернутость ее к разным созна-
ниям, с одной стороны, и определенность задач школы, всякого
преподавания вообще — с другой, и образуют то центральное, по-
жалуй, живое противоречие, какое характеризует сейчас положе-
ние литературы в школе. Совершенно очевидно, что противоречие
это пришло вместе с ростом всего нашего общества, в частности
с углублением отношений наших с литературой. Оно принадлежит
к числу тех противоречий развития, которыми и свершается жизнь.
Но свершается не без нас, не без наших усилий, энергии и актив-
НОСТИ.
Что же можем мы перед лицом новой ситуации?
Думается, прежде всего — в полной мере осознать ее, то есть
200
увидеть сегодняшний урок литературы в его постоянном движении
и обновлении.
Он действительно все решительней избавляется от всяких ка-
нонических форм. А к чему идет?
Проблемные уроки, диспуты, доклады на уроке вошли в по-
вседневность обучения литературе. На уроке часто заходит речь
и о литературе на сцене, литературе на экране... Не предполага-
ется ли, однако, при этом зачастую, что некая окончательная ис-
тина, истина в последней инстанции, все-таки уже есть, что учи-
телю она должна быть ведома, а учащихся надо к ней привести?
Если все на уроке складывается в соответствии с такой презумп-
цией, то получается, что мы предоставляем ребятам возможность
лишь порезвиться, «поиграть в мнения», на самом деле ничего
серьезного от них не ожидая. Старый урок меняет только свою
форму, но не существо. И качественно он по-прежнему от уроков
по другим предметам тогда не отличается.
При подобной перестройке старого урока иногда возникает ре-
зультат достаточно неожиданный: высказывая свои суждения, ре-
бята стараются лишь предугадать, чего добивается, к чему клонит
учитель. Ведь признание получает, «идет в дело» только то, что
близко к учительской точке зрения, заведомо воздействию иных
толкований неподвластной. Так воспитывается в детях не само-
стоятельность мысли, но угодничество, приспособленчество, кон-
формизм.
Школьники четвертых-пятых классов сейчас нередко пишут
работы, призванные разбудить их фантазию, их воображение. На-
пример, сочинения на тему «Что бы я сделал, если б стал вол-
шебником?» Но если при этом учителем оцениваются только гра-
мотность и логика изложения, то задание играет роль скорее об-
ратную той, на какую оно рассчитано: школьник привыкает ду-
мать, что своеобразие его взгляда ничего не стоит и значения не
имеет никакого.
Разумеется, только научно обоснованная, научно выверенная
программа устанавливает, чем и в каком классе надлежит зани-
маться на уроках литературы. Однако если мы хотим заниматься
именно литературой, стремиться к тому, чтобы она на уроке в са-
мом деле присутствовала, жила так же действенно, как и во всей
реальности сегодняшнего нашего бытия, нам следует признать, что
не только учитель, но и учащиеся находятся с нею в живом обще-
нии. И надо ввести это обстоятельство — собственное общение
школьников с явлениями литературы —в самую плоть, в самое
тело урока.
Когда старшеклассник 80-х годов ХХ века, приводя свои до-
воды, выказывает, скажем, безусловное предпочтение «Отцам я
детям» и «Преступлению и наказанию» перед «Войной и миром»,
это, конечно же, отнюдь не дает нам права исключать «Войну и
мир» из программ и не обязывает с учеником согласиться. Но,
очевидно, изучение «Войны и мира» в этом году и в этом классе
должно с такого рода суждением вступить в подлинно диалогиче-
201
ский, то есть вполне учитывающий такую позицию, контакт. Кон-
такт, при котором и исходная позиция учителя тоже может пре-
терпеть и даже наверняка претерпит какие-то, может и очень не-
ожиданные, изменения. Во всяком случае обнаружит готовность
К НИМ.
В последнее время доводилось читать сочинения школьников
с горячей, чуть не безудержной защитой грибоедовской Софьи,
отстаивающей свой выбор, пусть «предметом» его и явился Мол-
чалин. Очевидно, в глазах сегодняшней молодежи самостоятель-
ность и энергия решений имеют собственную и особую цену. И не
отмечается ли так нечто острое, существенное в самом «Горе ог
ума», где ведь есть, содержится и это противопоставление лич-
ностного как такового продиктованному прежними авторитетами
и средой, перенятому от них? Не раздвигаются ли так дальше при-
вычные представления о великой комедии?
Это у лучших учителей ученики ныне нередко переживают
подлинное н пылкое увлечение Печориным, проходят даже через
подражание ему. Очевидно, тут опять же сказывается обаяние
личности, несущей в себе неукротимое беспокойство и бесстрашие
ума. И не стоит ли нам снова задуматься над давними форму-
лами характеристики лермонтовского героя? Нет, не отказывать-
ся и тут от строгого, требовательного, беспристрастного анализа,
но еще раз что-то в нем перепроверить.
На уроке по «На дне» М. Горького в одной из ленинградских
школ ребята и учительница вместе, друг друга поддерживая и про-
должая, пришли к мысли, что нет, не мог, никак не мог Сатин
кощунственно обозвать дураком только что повесившегося чело-
века лишь за прерванное пение в ночлежке. О большем надо тут
говорить, решили они, — насильственной смертью своей Актер на-
нес удар по песне жизни, по появившейся было. после прихода
Луки вере в нее...
Мы уже все реже предуказываем теперь сцене или экрану ре-
зультаты их встреч с классикой. Действительная непереводимость
творений литературы на другой язык в каждом конкретном случае
счастливого единения переводчика с автором все чаще оборачи-
вается замечательными удачами.
Сопоставления здесь, разумеется, допустимы лишь в извест-
ных пределах. Но ведь преподавание литературы тоже принад-
лежит контексту, всей атмосфере нашей культурной жизни и, со
своей стороны, участвует в их создании. Так что позволим себе
все же эти сопоставления. И, опираясь также и на них, выразим
убежденность, что противоречие, которое привлекло наше внима-
ние, хотя и не может быть снято и нет здесь никаких постоянных
рецептов, на каждом данном ‘уроке может, однако, плодотворно
разрешаться. Разрешаться свободным со-трудничеетвом, совмест-
ным творчеством, со-творчеством учителя и учеников.
ЖИВАЯ КЛАССИКА!
«Придет время,— писал, еще раз напомним, Белинский о Пуш-
кине,— когда он будет в России поэтом классическим, по творе-
ниям которого будут образовывать и развивать не только эстети-
ческое, но и нравственное чувство...»
Следовательно, на уроке классика не должна быть отделена
от сегодняшних задач воспитания, от раздумий наших школьни-
ков. Это очевидно. Но достичь этого не так уж просто.
Ведь когда в течение многих лет искали и находили в героях
«Евгения Онегина» или «Героя нашего времени» только «лишних
людей», то тем самым безнадежно отделяли их от себя, вольно
или невольно внушая ученикам представление, что для них эти
персонажи имеют значение лишь познавательное.
Между тем классика может побуждать школьников к расшире-
нию границ своего самосознания, своего духовного бытия вообще
и этим способствовать их духовному развитию.
Первая реакция школы на общий поворот в отношениях с ли-
тературой прошлого была быстрой. Чередой пошли статьи и кни-
ги типа «Современное прочтение классики», «Печорин и мы»... Со-
циологи, философы ринулись сами внедрять новый подход. Все
изменилось вроде бы в мгновение ока. Однако кое-что оказалось
обманчивым и иллюзорным. Прежде мы отодвигали классику от
себя — теперь стали приближать. Однако собственное реальное
и бесконечно богатое содержание ее вновь оставалось от нас да-
леким и бездейственным. Скажем, крушение Раскольникова при-
спосабливалось теперь к доказательству тезиса: истинная цель не
может нуждаться в дурных средствах.
По-видимому, сегодня и это этап пройденный. Доверие к ли-
тературе явно выросло и продолжает расти. Но сразу же возни-
кают новые вопросы.
Подлинное освоение произведения в его действительном соста-
ве предполагает прежде всего его понимание. А в ряде случаев
это невозможно без комментариев: со временем многое ведь ме-
няется, перестает быть известным, понятным.
Кто, скажем, сейчас помнит, что в пору «Преступления и на-
казания» питьевая вода в Петербурге была желтой, потому что
не было водопровода, «желтый билет»— вид на жительство — вы-
давался «жертвам общественного темперамента»? Это, конечно,
нуждается в разъяснении. И совсем не лишним будет сообщить
школьникам, что, когда Толстой писал сцену встречи Пьера с Да-
ву в «Войне и мире», он знал мемуарное свидетельство, тогда уже
опубликованное, о том, что именно маршал Даву избавил графа
В. А. Перовского от гибели в занятой французами Москве.
Не отдалят ли, однако, снова все эти и еще многие подобные
им сведения от нас живые судьбы людей «Войны и мира» и «Пре.
ступления и наказания»? Не отдадим ли мы их опять без остатка
одному лишь прошлому, разрубая на новой, усовершенствованной,
так сказать, основе живую с ними связь? Так очень может слу:
203
читься. И нередко случается. Когда сумма информации, количе-
ство сведений становятся самоцелью, живое содержание худо-
жественных произведений теряется безнадежно.
А может и не потеряться. Напротив — открыть бесконечные
свои резервы.
Ведь тот же желтый цвет в романе Достоевского... Обязатель-
но надо, чтобы он не остался при чтении лишь приметой времени,
чтобы было прослежено превращение воспроизводимого в образ.
В том случае, о котором вспоминал граф Перовский, решение Да-
ву, о чем уже говорилось, последовало, лишь когда один из адъ-
ютантов заверил маршала, что Перовский — не тот, за кого его
приняли. А у Толстого все решается в простом и коротком обмене
взглядами между двумя людьми, которых, казалось бы, все толь-
ко разделяет!
Мы должны всякий раз открывать ученикам искру, которая
высекается искусством и благодаря которой давняя, прошлая
жизнь получает для нас живой, острый, волнующий смысл, ока-
зывает и сейчас непосредственное и активное воздействие. Но еще
велик все-таки разрыв между тем, что значит классика в общест-
венной атмосфере наших дней, и формами бытования ее на школь-
ном уроке...
За последние примерно два — два с половиной десятилетия сце-
на сделала многое для сближения современности с классикой.
Скажем, всем, кто смотрел спектакль «Горе от ума» в 50 — 60-е
годы в Ленинградском Большом драматическом театре имени
М. Горького, запечатлелось в памяти: потрясенный всем увиден-
ным, Чацкий отшатывался от происходящего на сцене, в своем
противоборстве он словно бы искал у зрительного зала опору, под-
держку, апеллировал к нам.
Однако с какими сомнениями и опаской принимала тогда шко-
ла нового Чацкого! Сколько раз приходилось слышать на обсуж-
дениях, что ему не хватает аристократизма, что речь его недоста-
точно пафосна... Как будто единение театрального зала с гри-
боедовским героем ничего не значило! Как будто нужна была
зачем-то загородка из аристократических манер между сегод-
няшними интересами подростков и тем, о чем они пишут в со-
чинениях!
Во многих театрах идет пьеса Виктора Розова по одному мо-
тиву из «Братьев Карамазовых», что прямо и обозначено на афи-
шах. Иван Карамазов, как мы уже говорили, здесь даже не упо-
мянут, а Дмитрий появляется только на мгновение и вовсе без
слов. Но дух великой книги как целого в спектаклях, поставлен-
ных в Москве ив Риге, живет.
Театру дано, доступно ныне и такое.
А учим ли мы школьников доверию к этим новым возможно-
стям сцены? Не жаждем ли в любом случае «прямого соответ-
ствия» спектакля литературному произведению и не лишаем ли
тем наших воспитанников истинного контакта, подлинного диало-
га с театром как особым видом искусства?
204
Жизнь идет. И надо вдуматься в происходящее, научить наших
учеников ориентироваться в нем. Не будем забывать, что «худож-
ницкая дерзость» свойственна едва ли не любому сколько-нибудь
значительному явлению искусства.
И, отнюдь не все из предлагаемого сейчас сценой принимая,
можно сослаться и на него, когда надо показать нашим воспитан-
никам, как постоянны и многообразны живые импульсы, излучае-
мые великими художественными творениями, как не иссякает их
живая энергия.
Следует, наконец, твердо решить, что классика на школьном
уроке может быть всячески интересной, всячески близкой, во мно-
гом всегда неожиданной для тех, кто от нее искусственно не отго-
раживается. Не будем же воздвигать стены между ею и собой.
По природе своей она ведь живая, живая в самом точном значении
этого слова!
Содержание
От автора, „еее еее
К. Маркс обращается к литературе. .,.,.
«Нераздельность и неслиянность» (В. И. Ленин
цитирует Фейербаха). :..... у
`Великие традиции революционной демократии о
Картины жизни и история. .........
Энергия образа... . ..
«Художницкая дерзость» . . ..
Внутренняя жизнь художественного произведения
Феномен «Горя от ума» ......,....
Автор в «Евгении Онегине». ........
«Дворянское гнездо» и 60-е годы ХПХ века
в России еее еее
«Мороз, Красный нос» — шедевр _ Некрасова B
60- -e ГОДЫ . e ® ° e e e e e e e ° e e
Сатира и психологический анализ в произведениях
Салтыкова-Щедрина .... уе
Драматизм и эпичность в пьесах ‚ Островского ..
«Война и мир»: частный человек и история; прош-
лое и современность... уе
«Война и мир»: производство форм человеческого
общения ду . у
«Война и мир» и исторические судьбы искусства,
игры в ХШХ веке... о.
Демократизм Толстого в романе «Анна Каренина»
Многомерная подлинность человека в творчестве
Чехова ‚уе еее нев
206
14
20
28
39
44
54
59
69
78
89
94
102
116
130
138
145
154
Почему драме требуется сцена? ..... , .166
Театр и литература: — ситуация драматического
диалога ...... . 172
Дналог с Достоевским . . 180
IV
О сотрудничестве литературоведения, методики
преподавания литературы и школы... . . . 194
Об одном из аспектов проблемы урока литера-
туры... ee ee ee ew «AOD
PKuBan KslaccHKal . .. . ee ew et ew we 208
Яков Семенович Билинкис
РУССКАЯ КЛАССИКА
И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
Зав. редакцией Г. Н. Усков
Редактор Т. П. Казымова
Младший редактор Е. Р. Коточигова
Художник А. М. Пономарева
Художественный редактор Н. М. Ременникова
Технические редакторы О. И. Савельева, Л. Г. Куркина
Корректор О. С. Захарова
ИБ № 9359
Сдано в набор 24.01.86. Подписано к печати 14.10.86. А 08719. Формат
60%90'/5. Бум. кн.-журн. Гарнит. литературная. Печать высокая. Yeu.
печ. л. 13+0,25 форз. Усл. кр.-отт. 13,69. Уч.-изд. л. 14,91+0,43 форз. Ти-
раж 132000 экз. Заказ № 1409. Цена 60 коп.
Ордена Трудового Красного Знаменн издательство «Просвещение» Государ-
ственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова Смоленского обл-
управления издательств, полиграфии и книжной торговли, 214000, г. Смоленск,
пр. им. Ю. Гагарина, 2
«...Что можно сказать
о всех вообще
произведениях Тургенева?
То ли, что после прочтения их
легко дышится,
легко верится,
тепло чувствуется?
Что ощущаешь явственно,
как нравственный уровень в тебе
поднимается,
что мысленно благословляешь
и любишь автора?»
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
«Часто приходит в голову:
все ничего,
все еще просто
и не страшно сравнительно,
пока жив
Лев Николаевич Толстой.
Ведь гений
одним бытием своим
как бы указывает,
что есть какие-то твердые,
гранитные устои:
точно на плечах своих держит
и радостью своею поит и питает
всю страну
и свой народ».
А. А. БЛОК
«У Чехова есть
нечто большее,
чем миросозерцание —
он овладел
своим представлением жизни
и таким образом
стал выше ее.
Он освещает
ее скуку и нелепости,
ее стремления,
весь ее хаос
с высшей точки зрения».
М. ГОРЬКИЙ