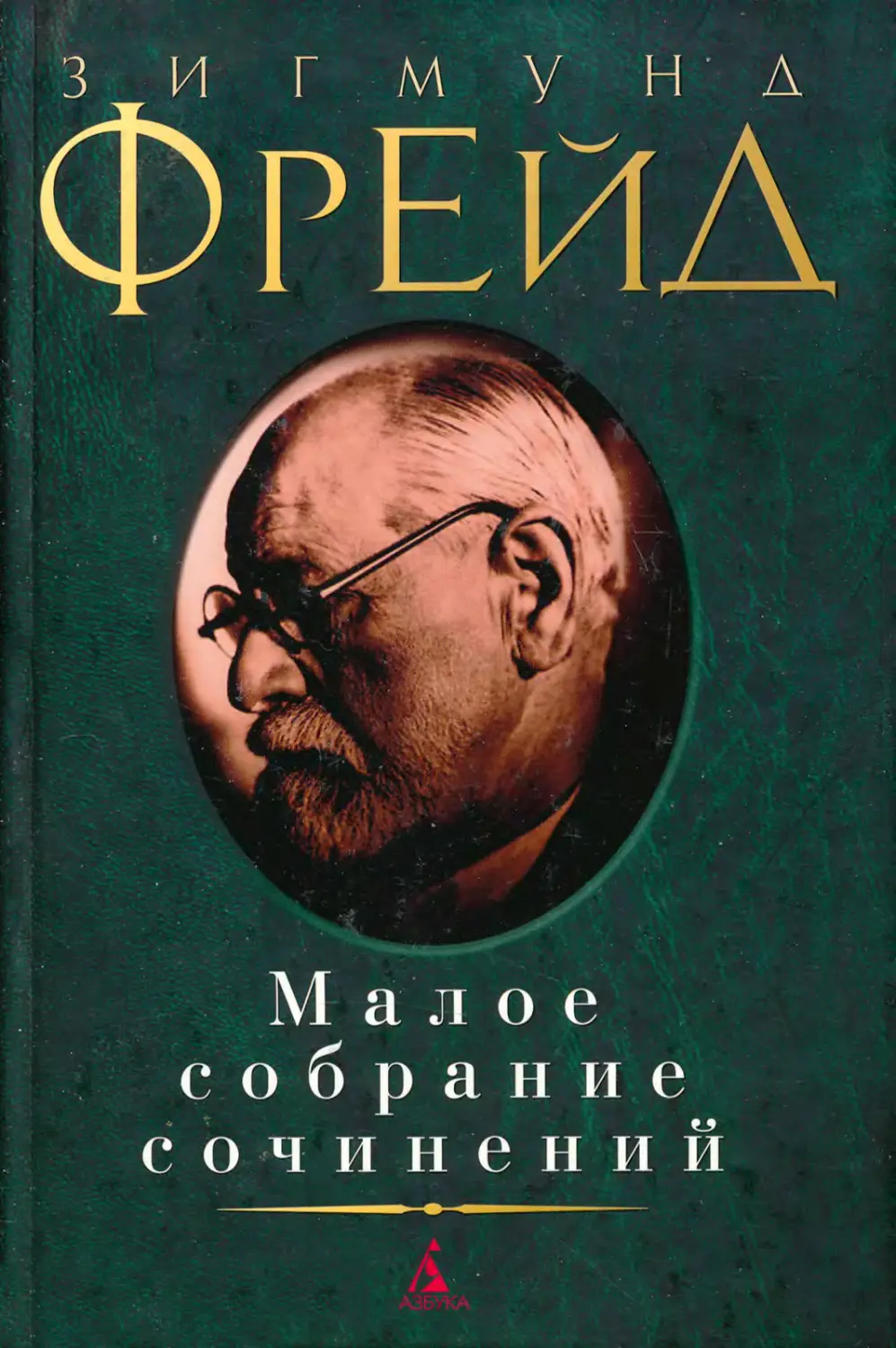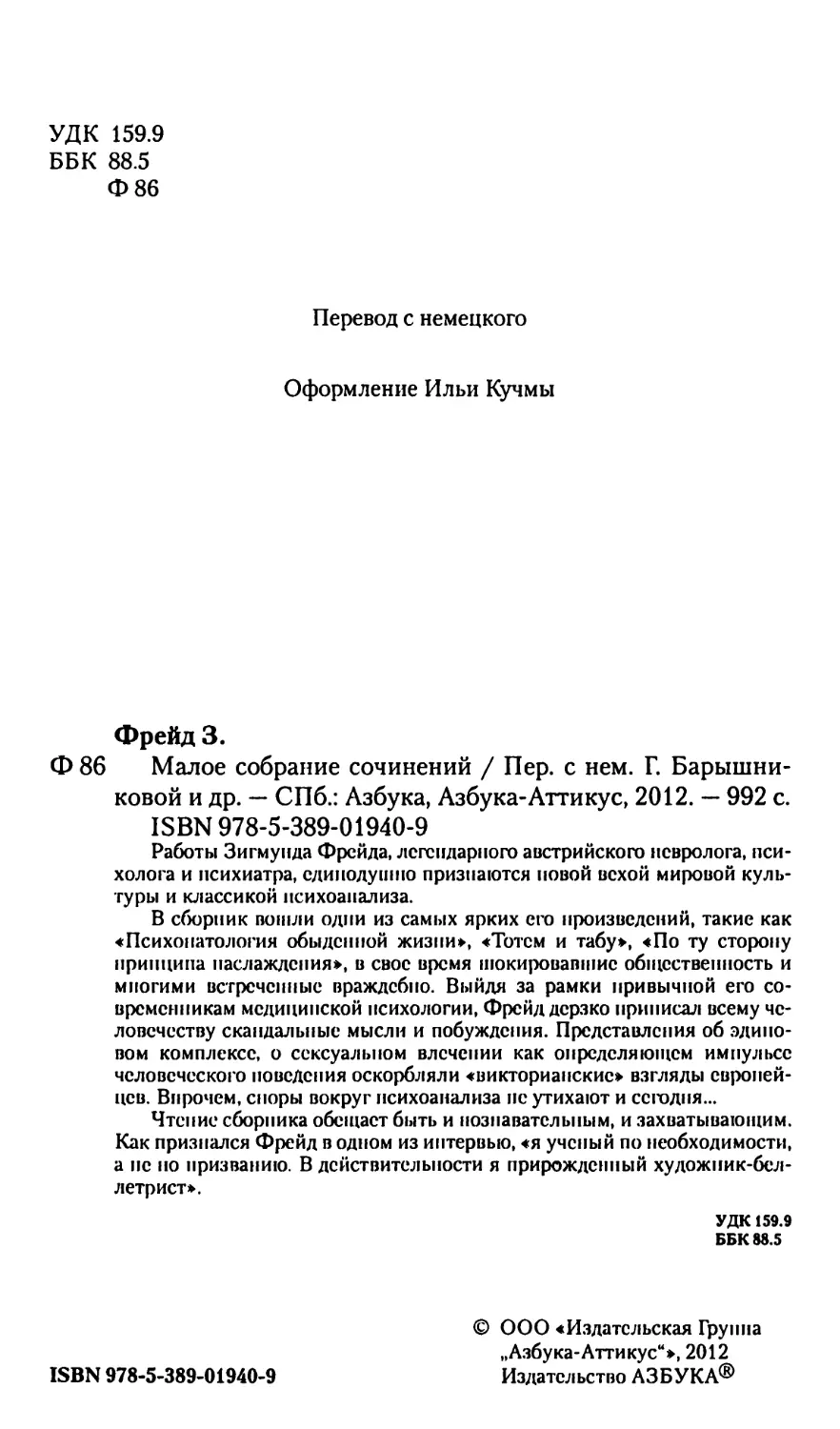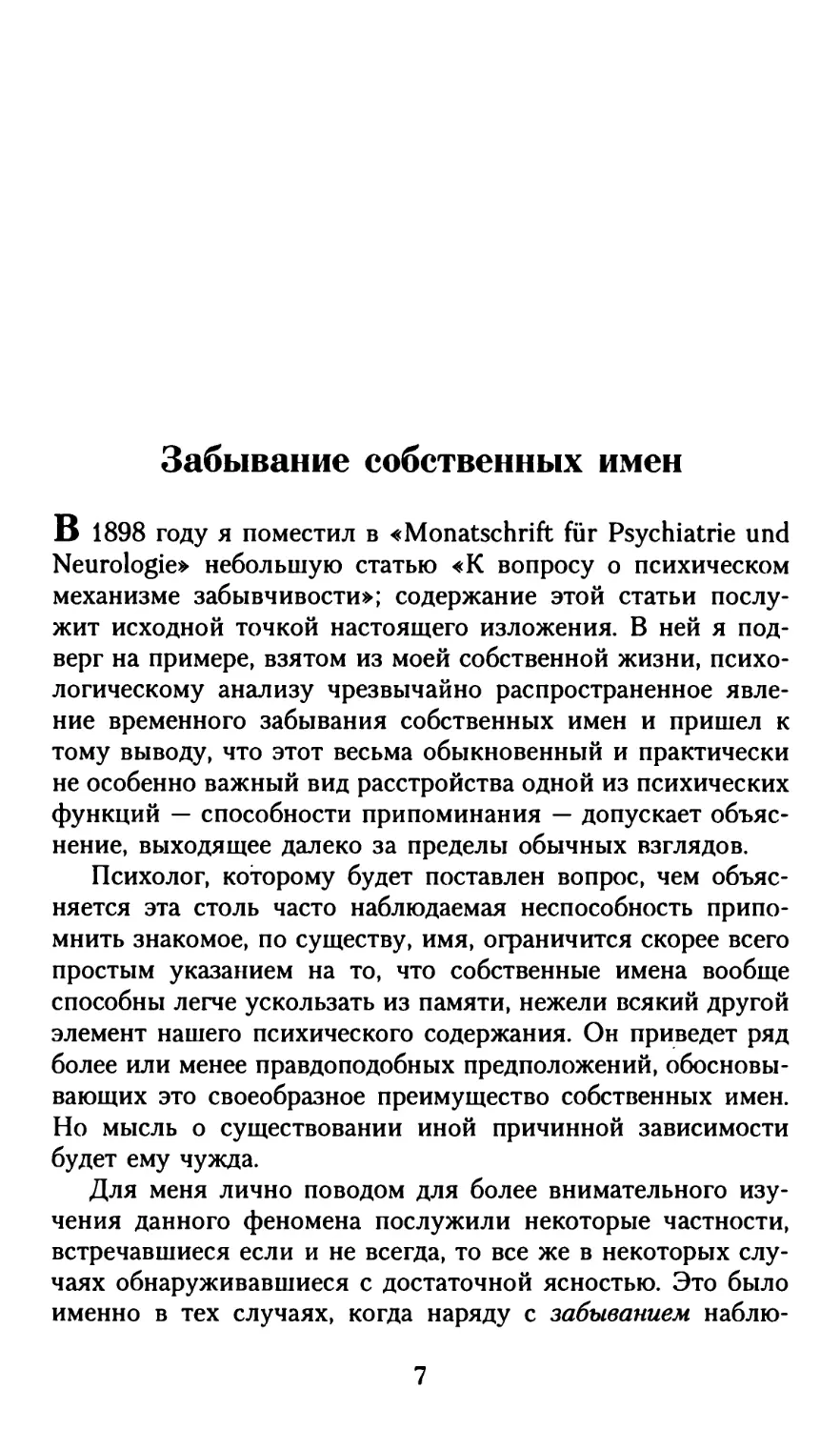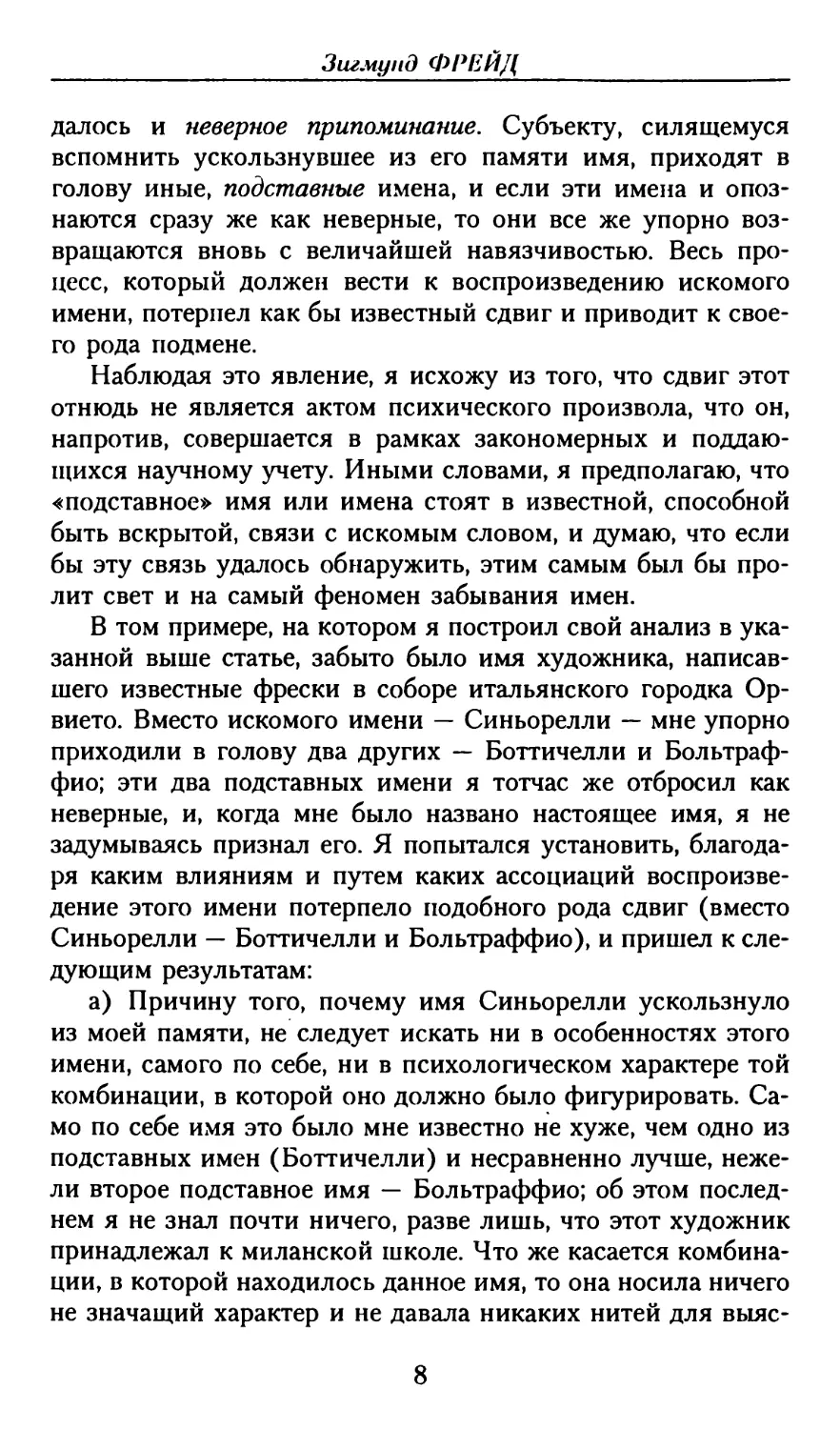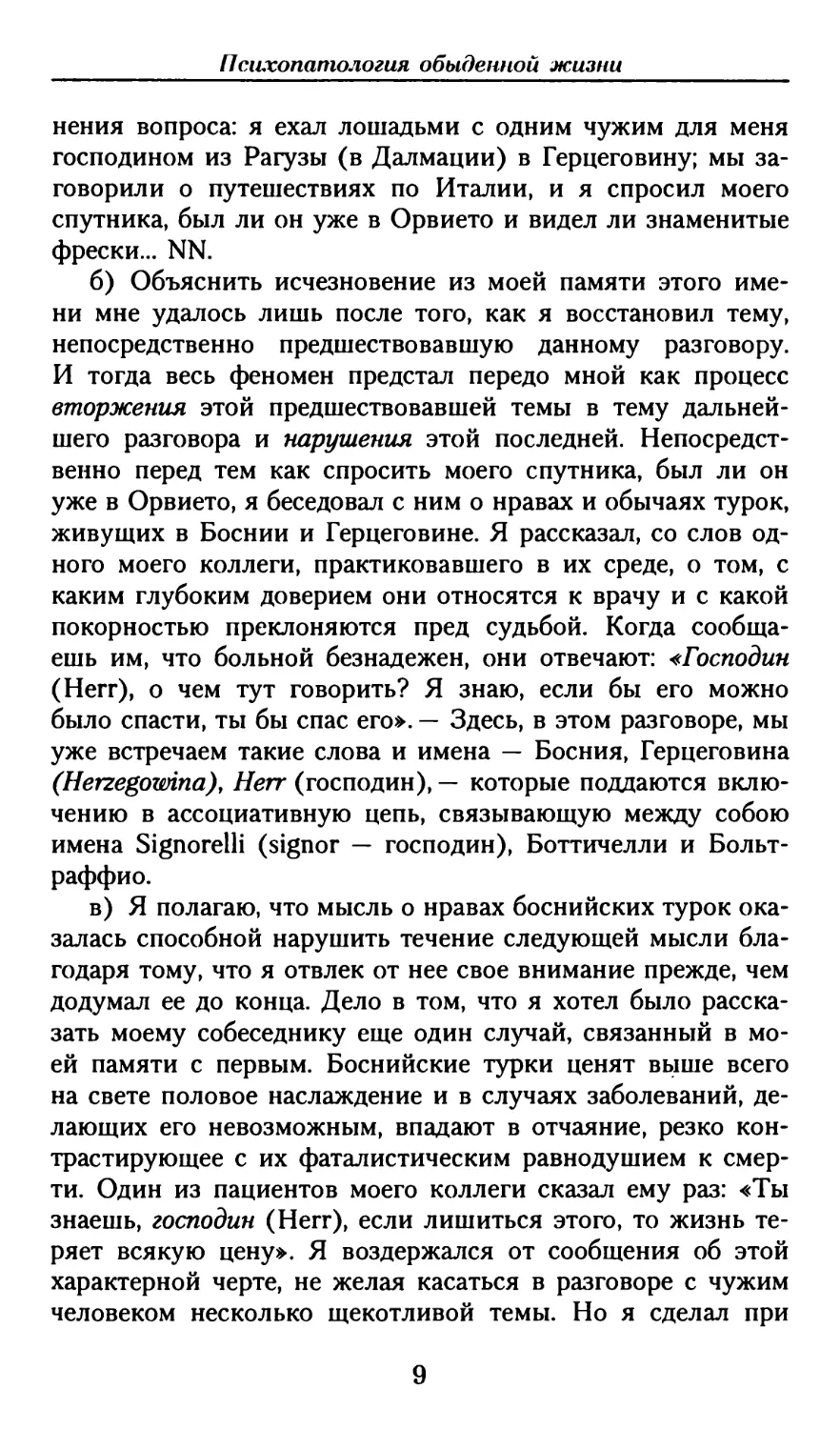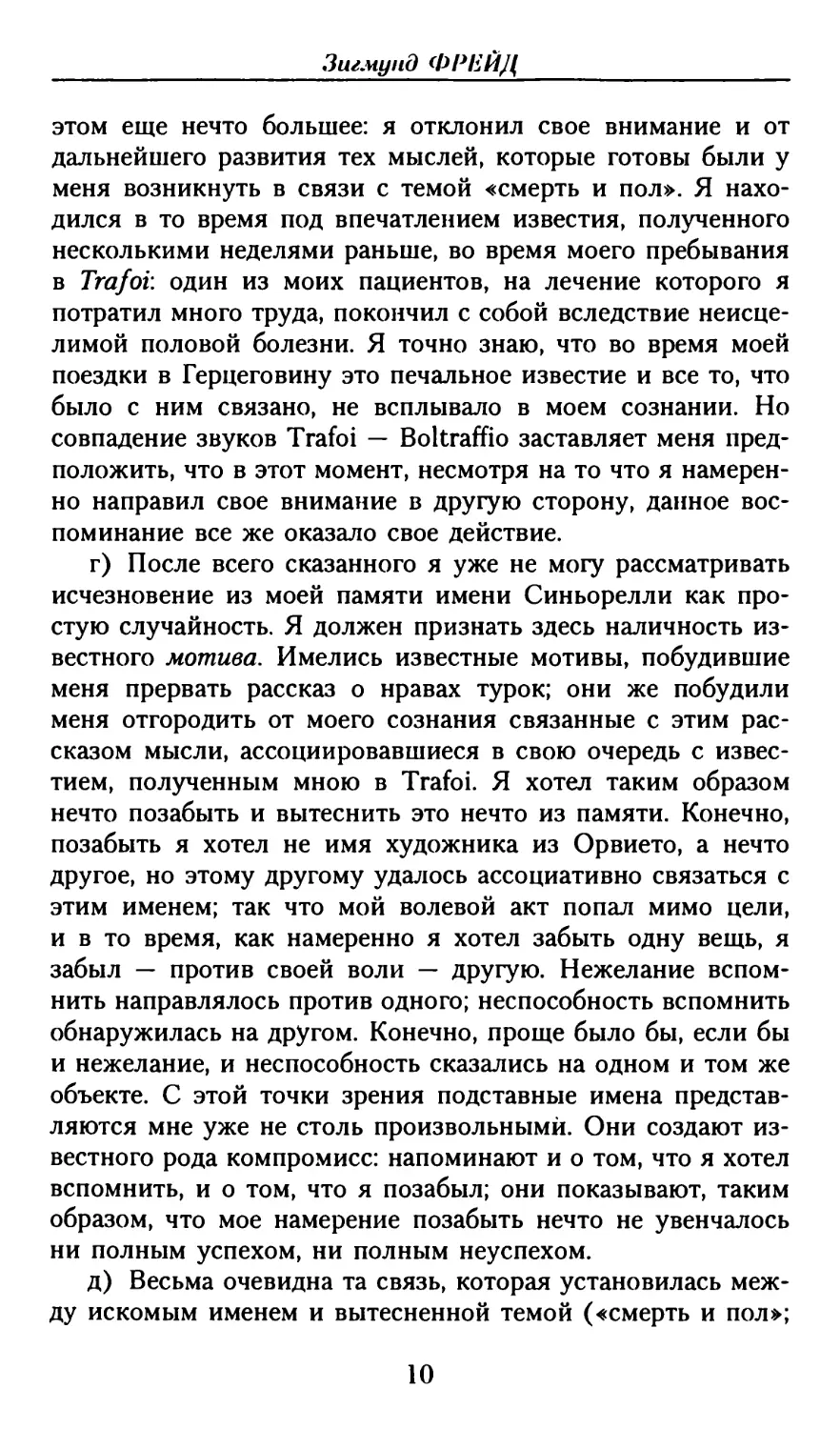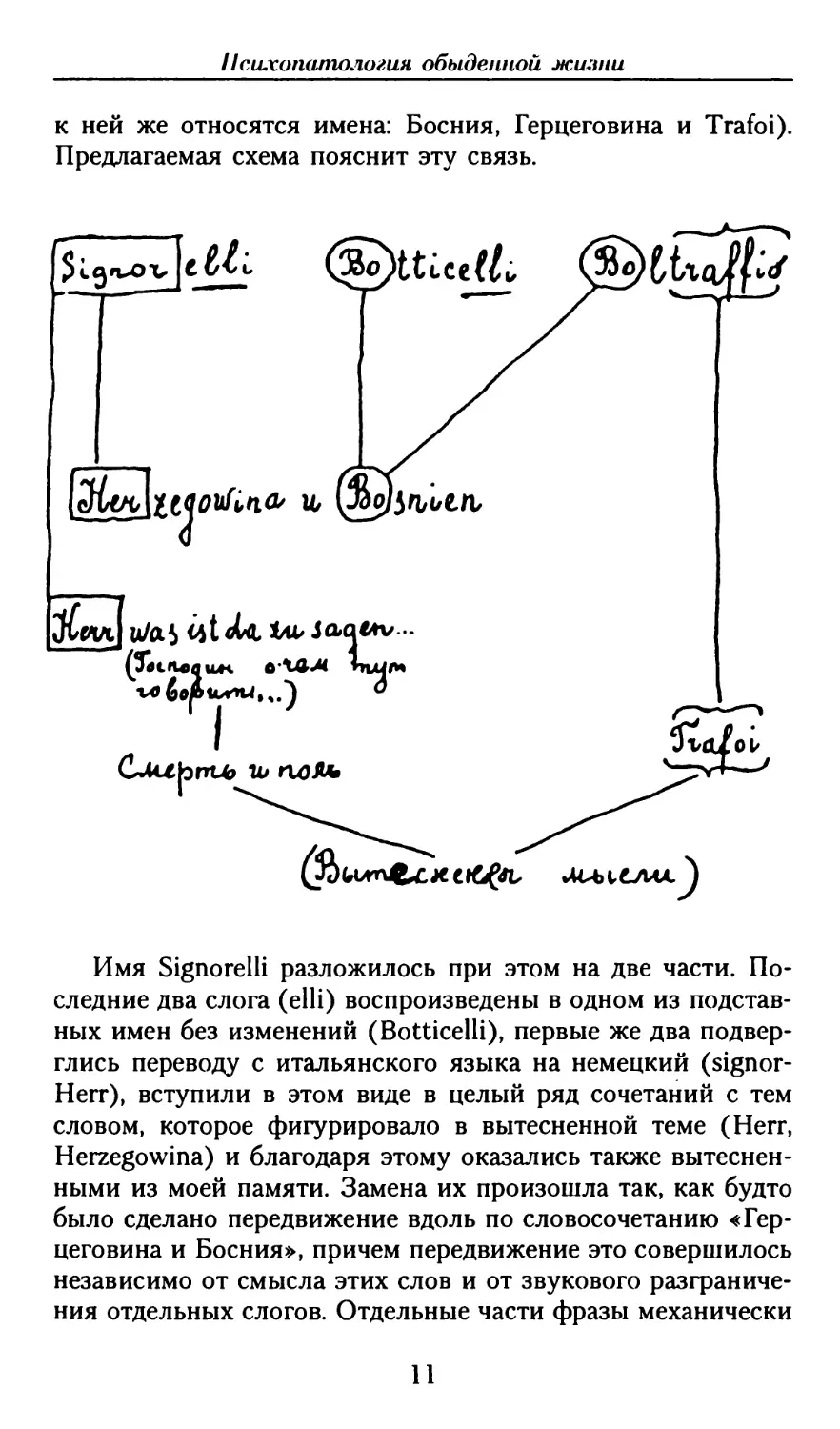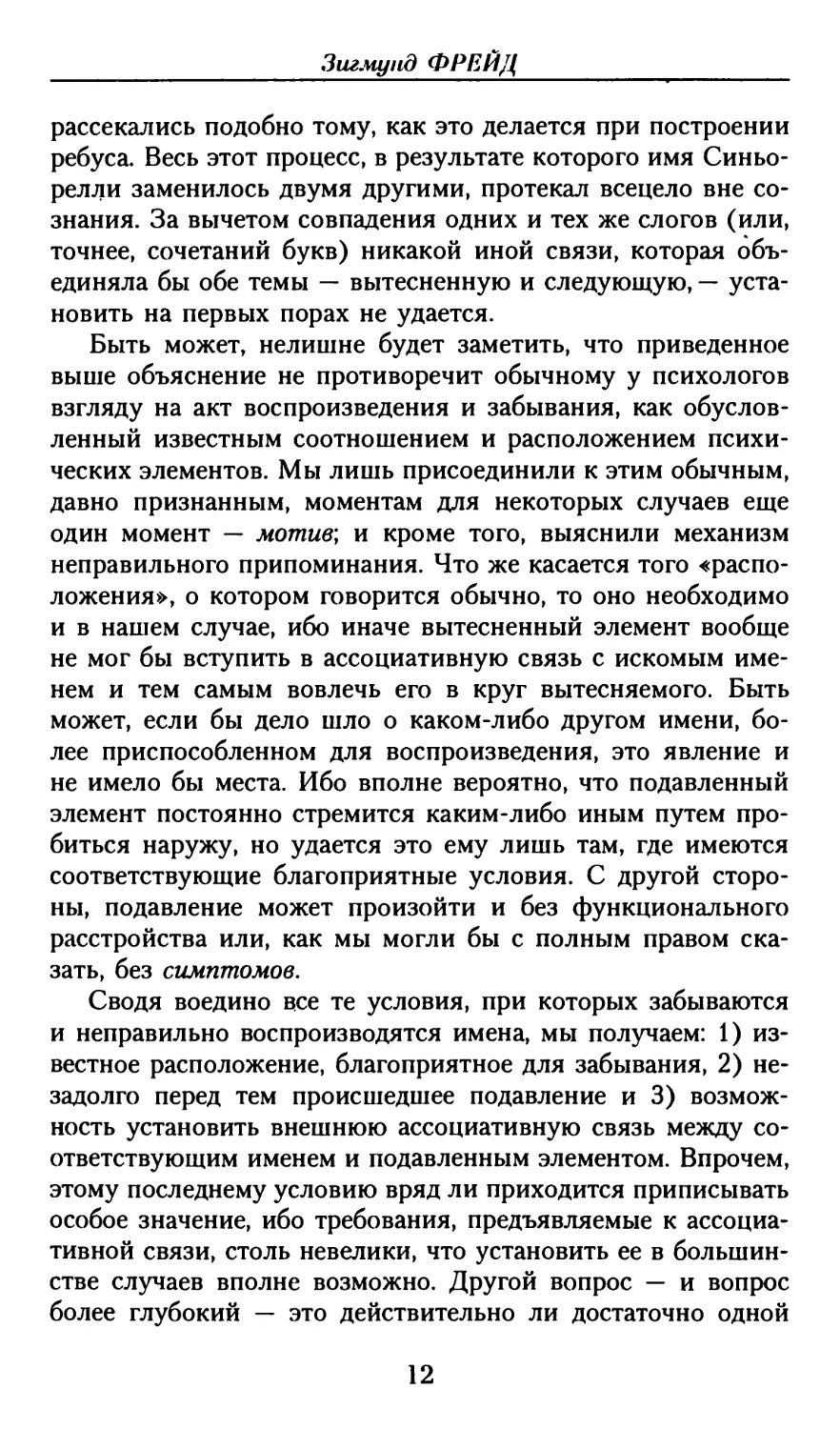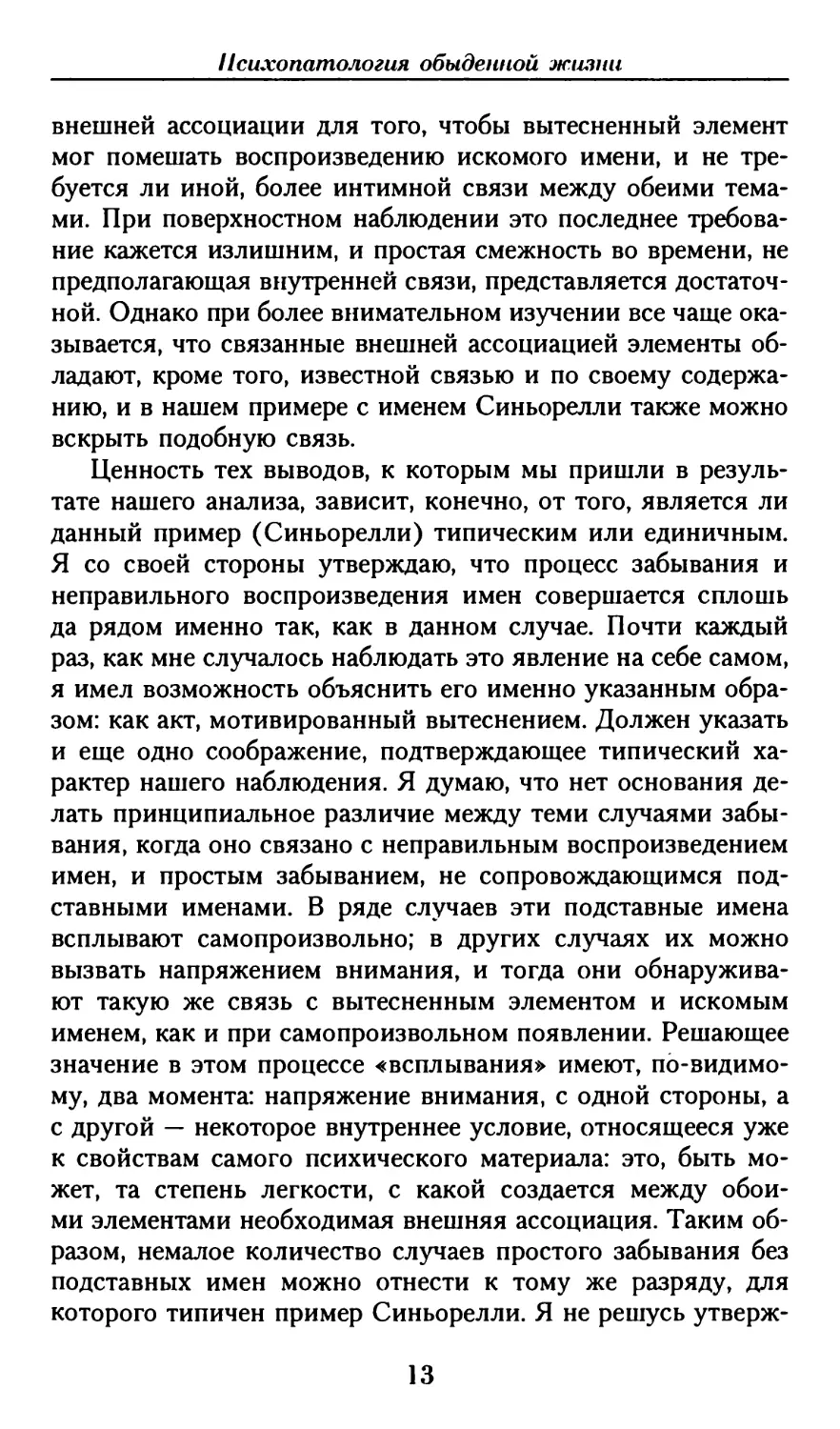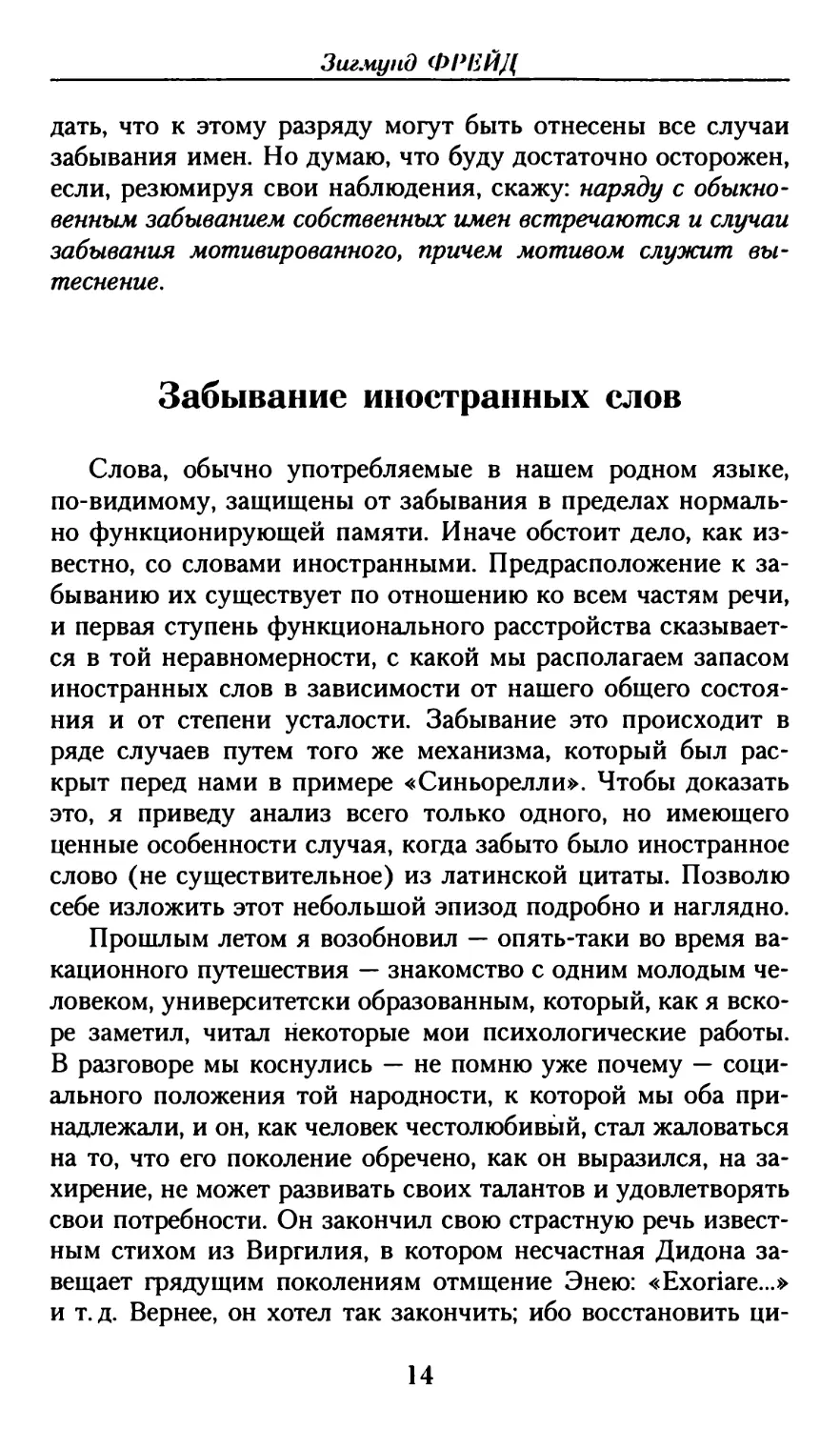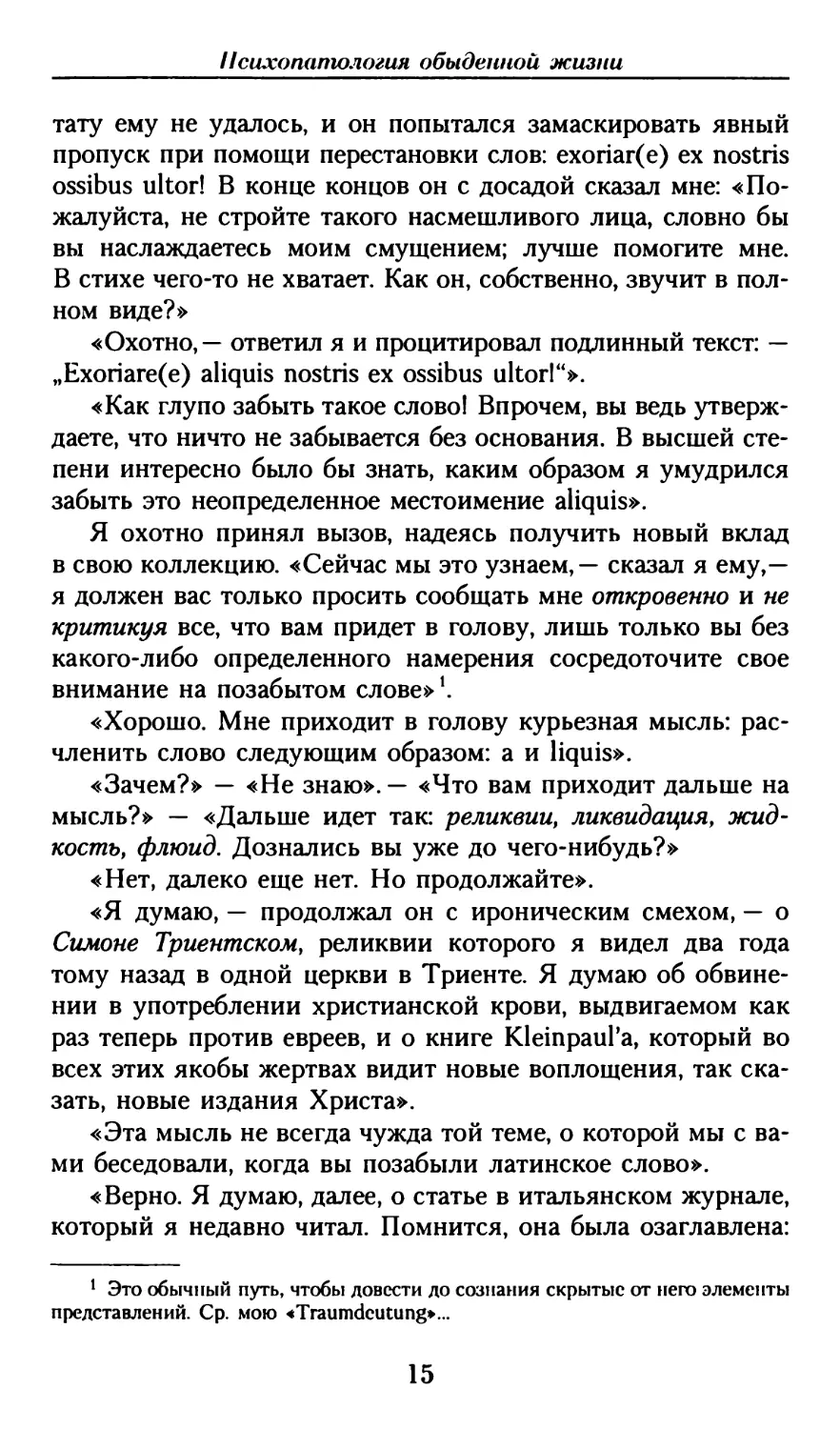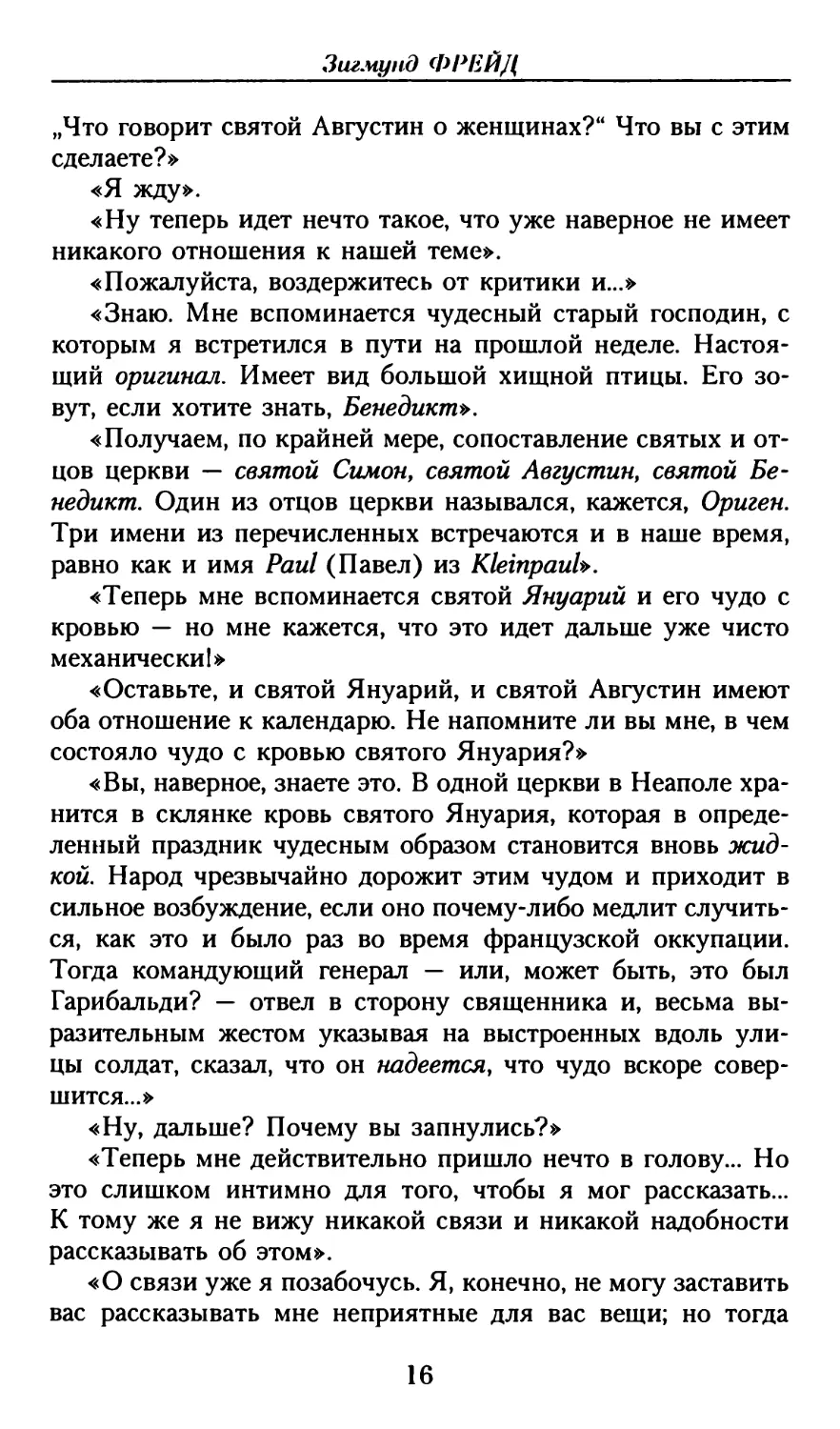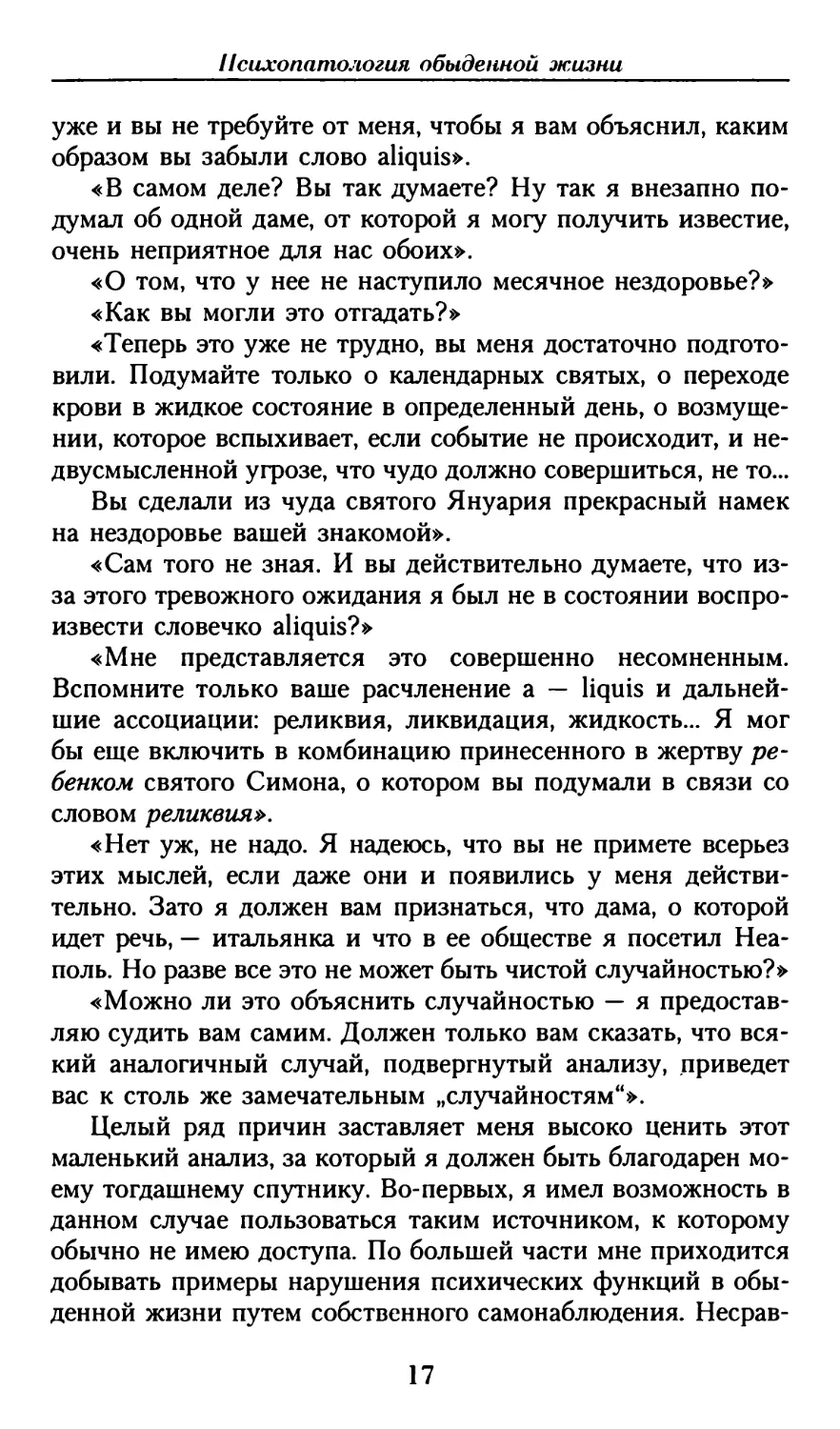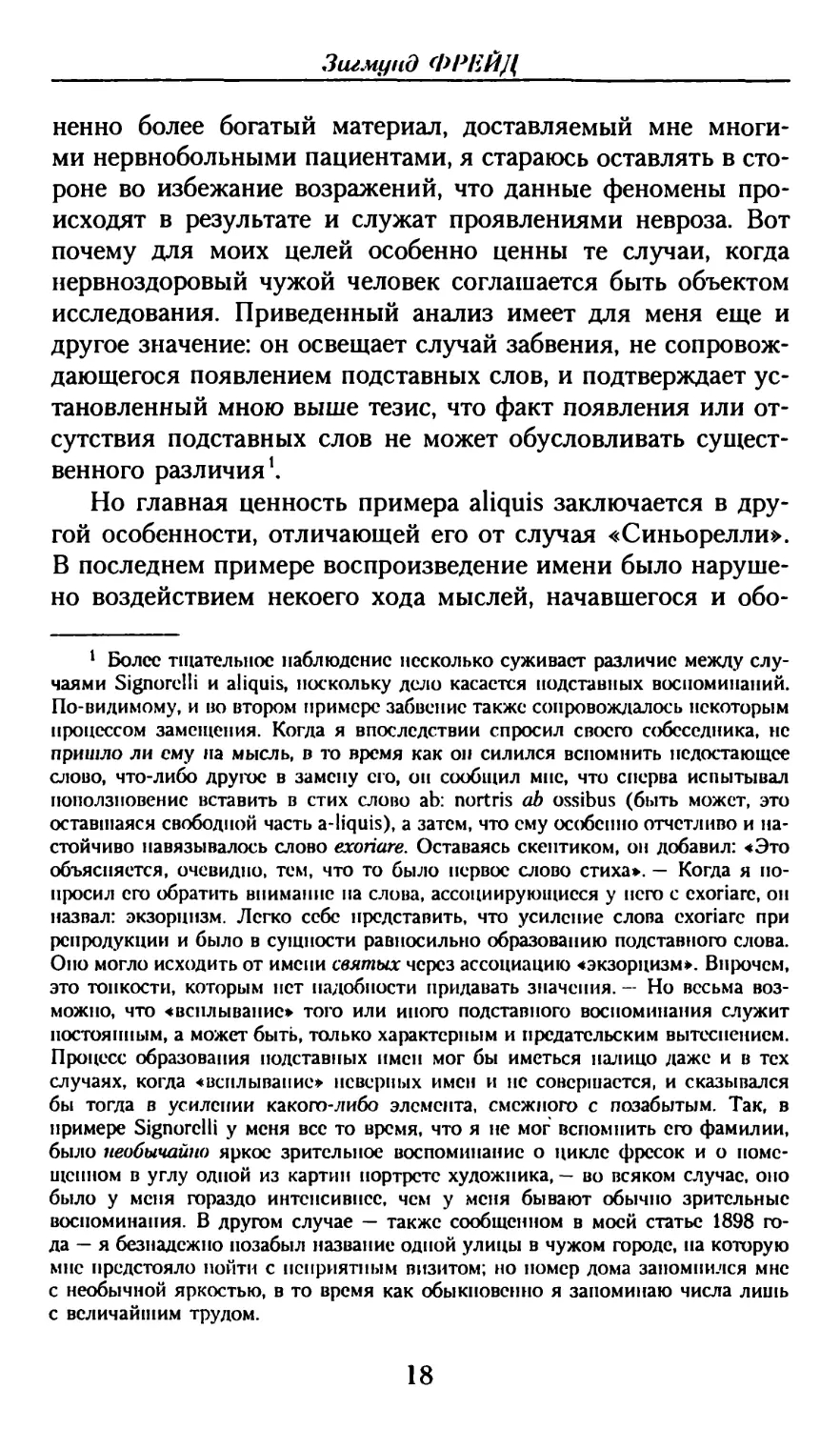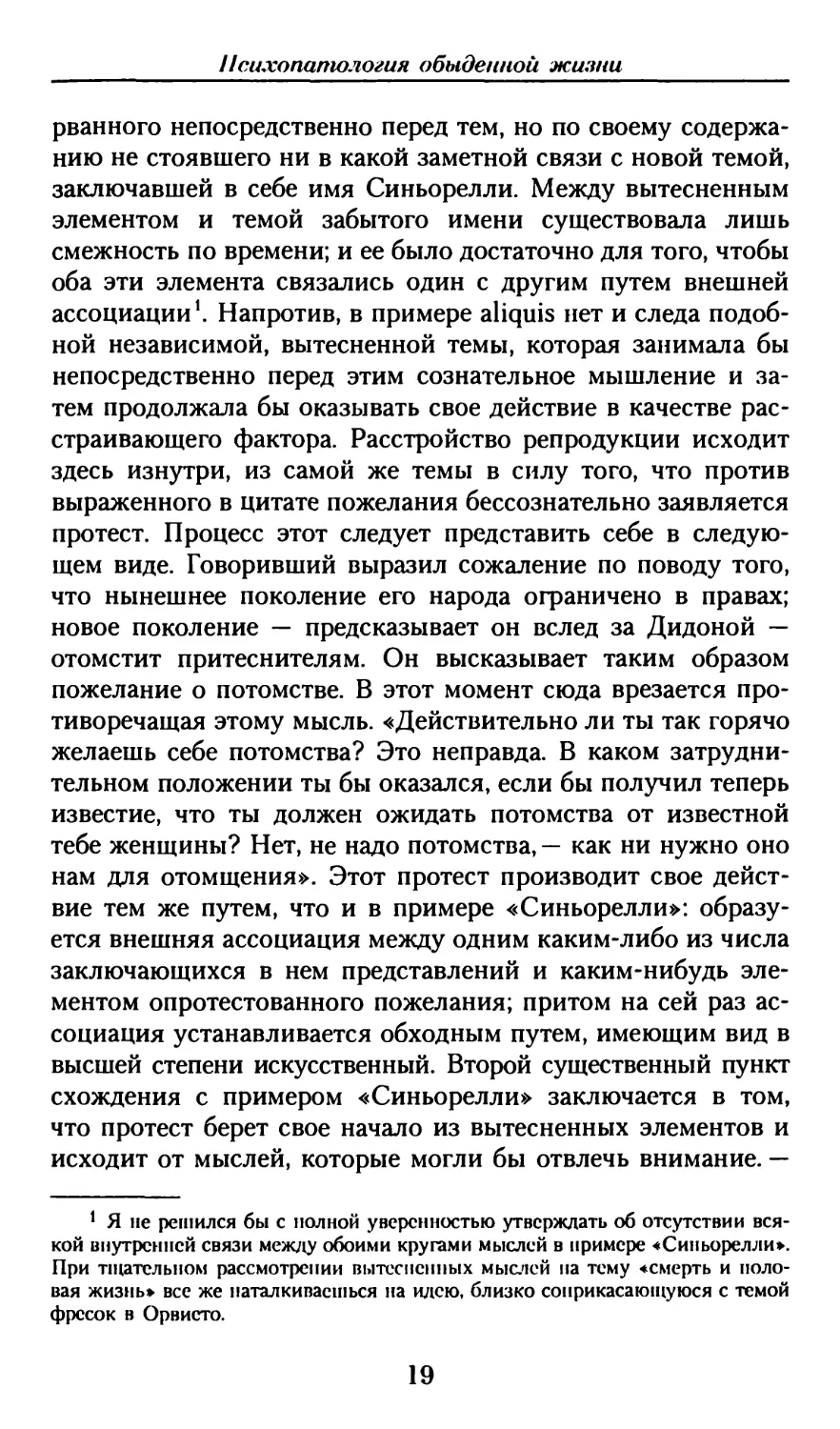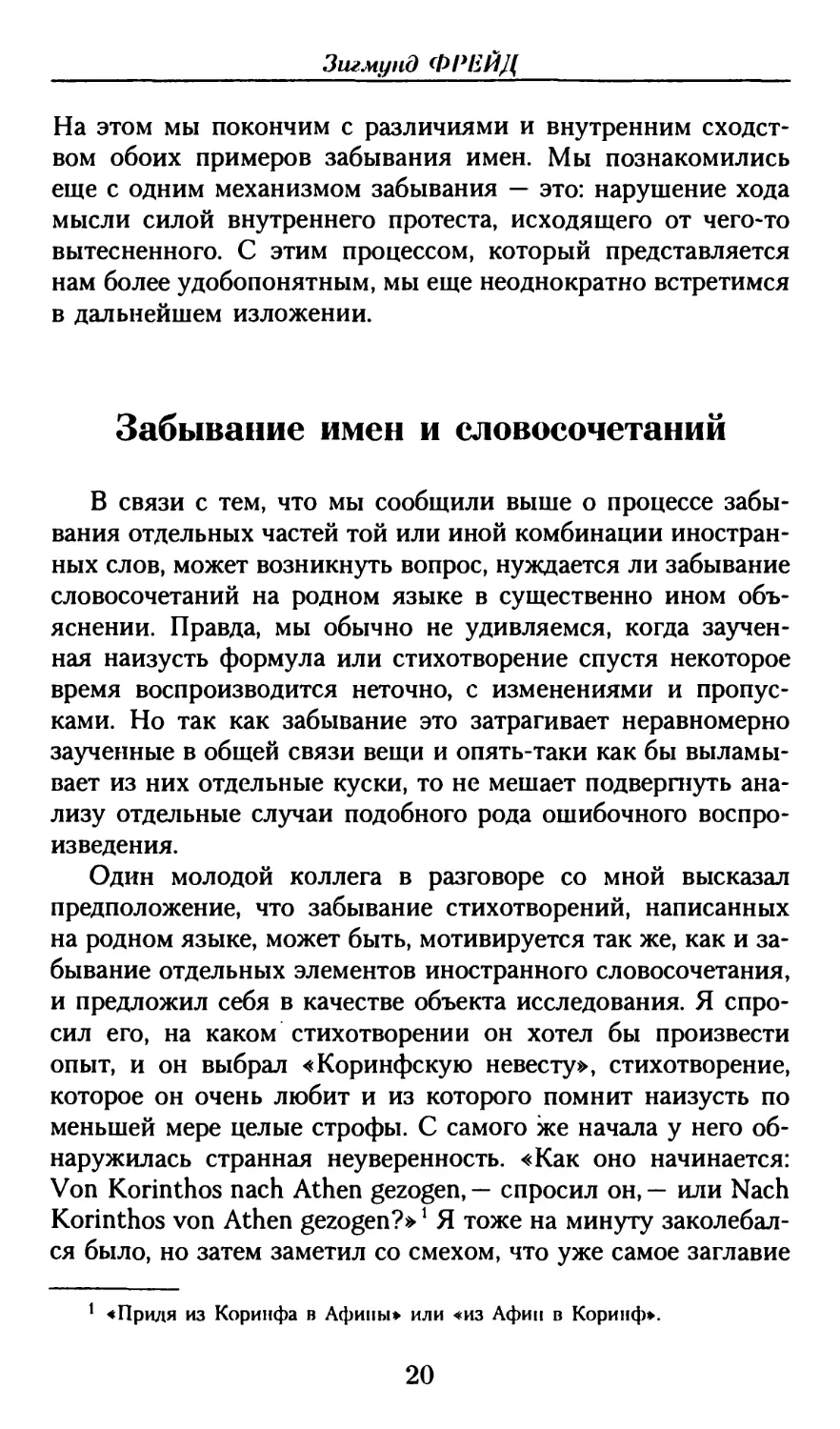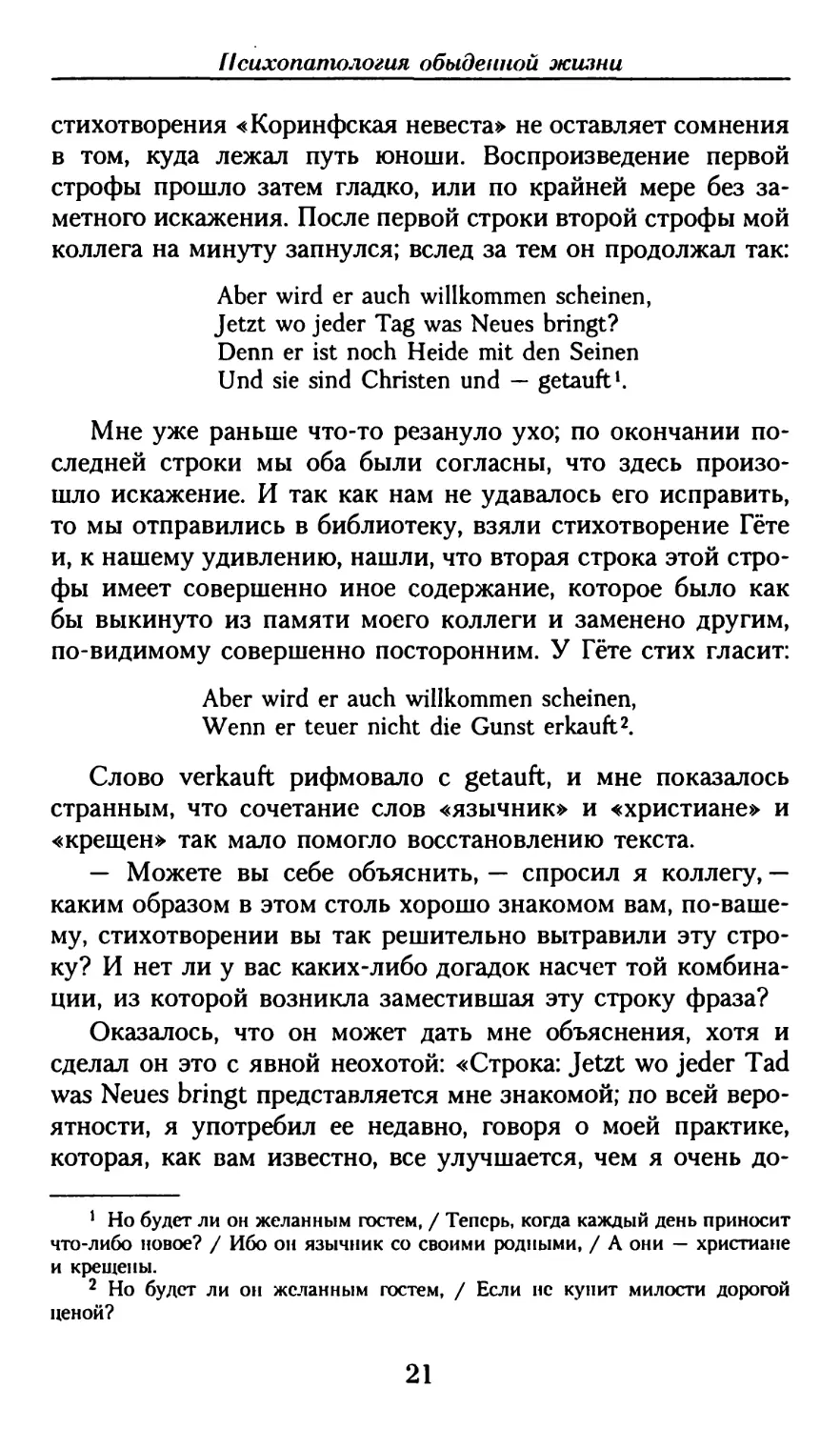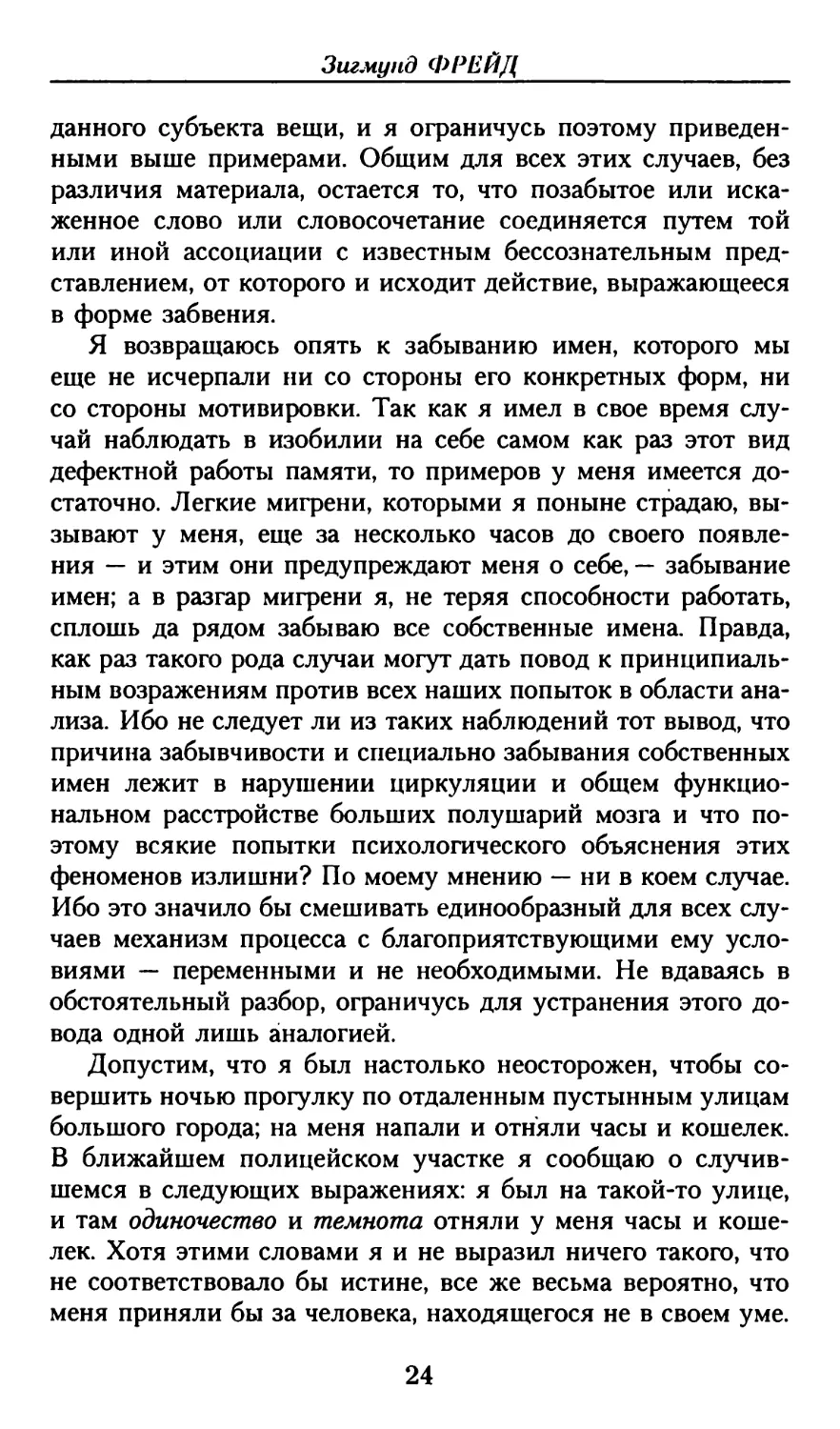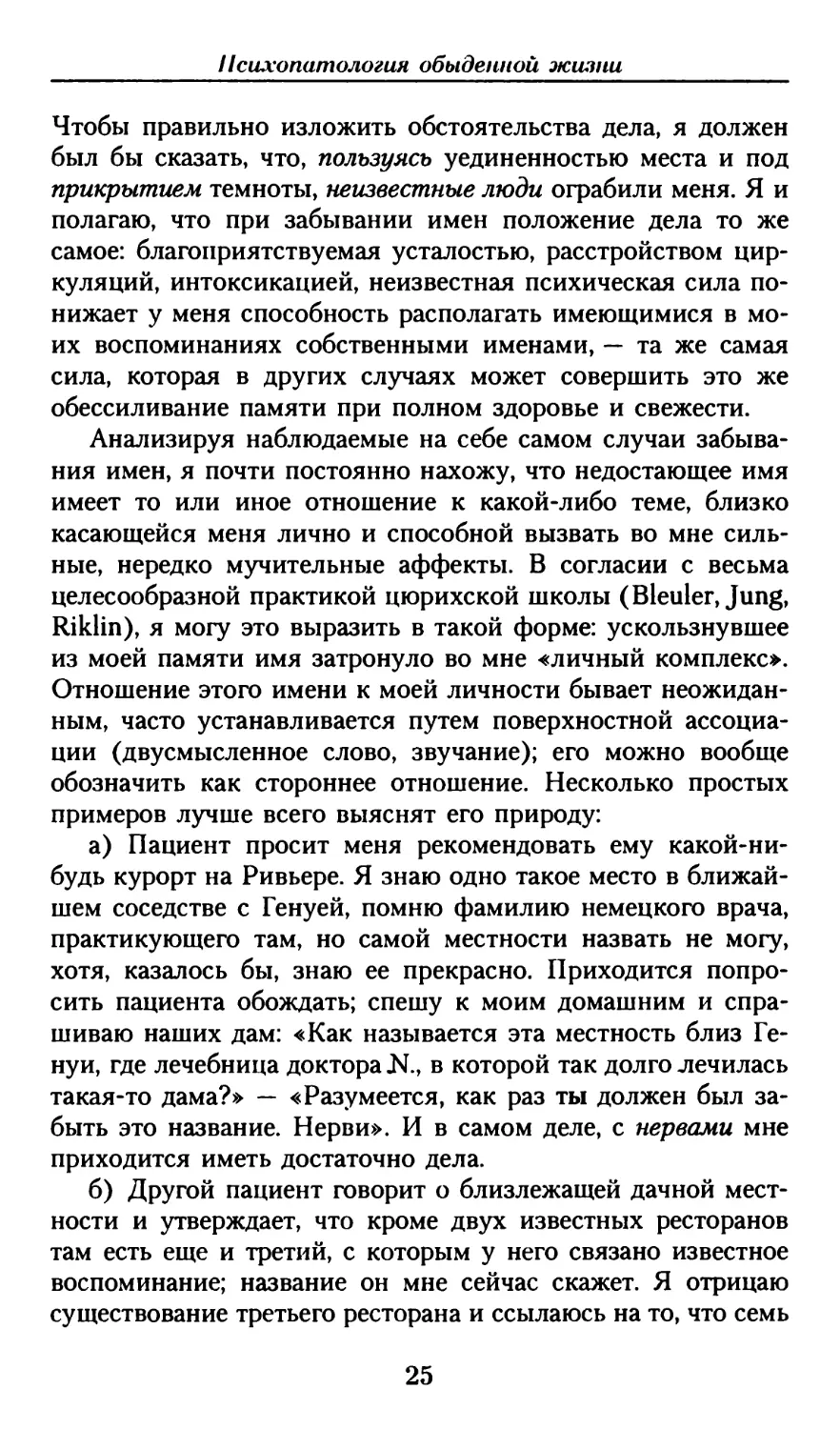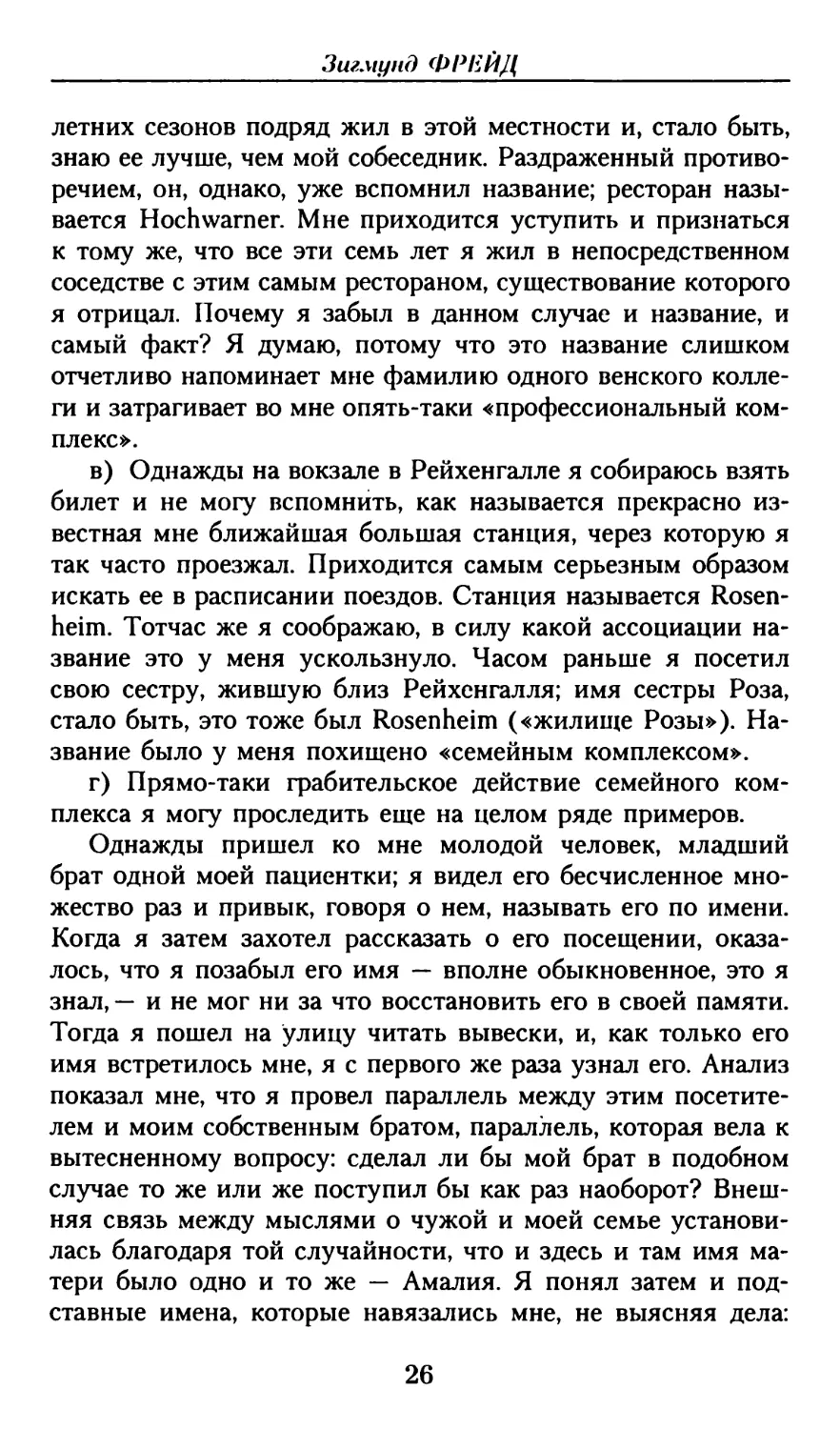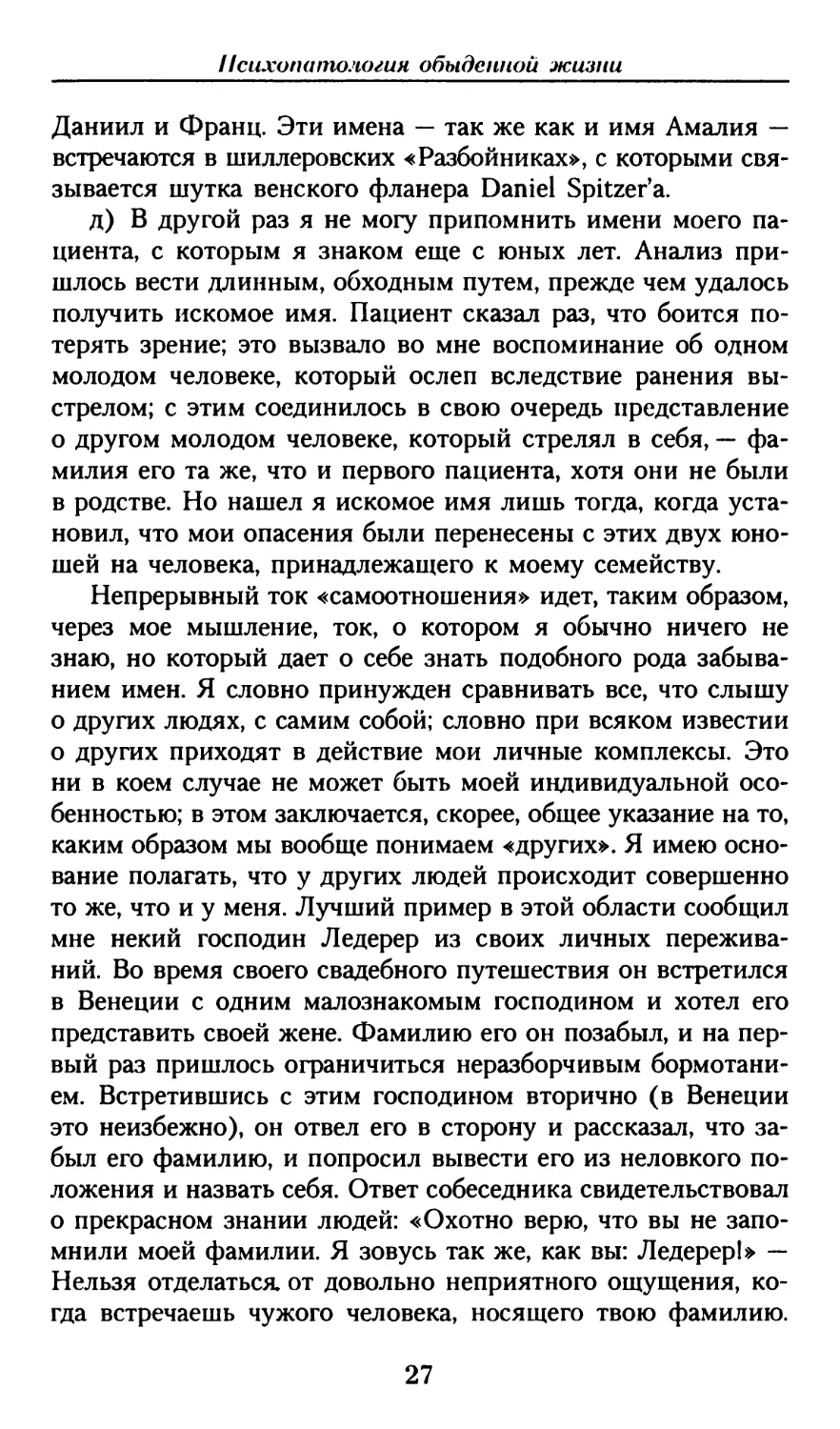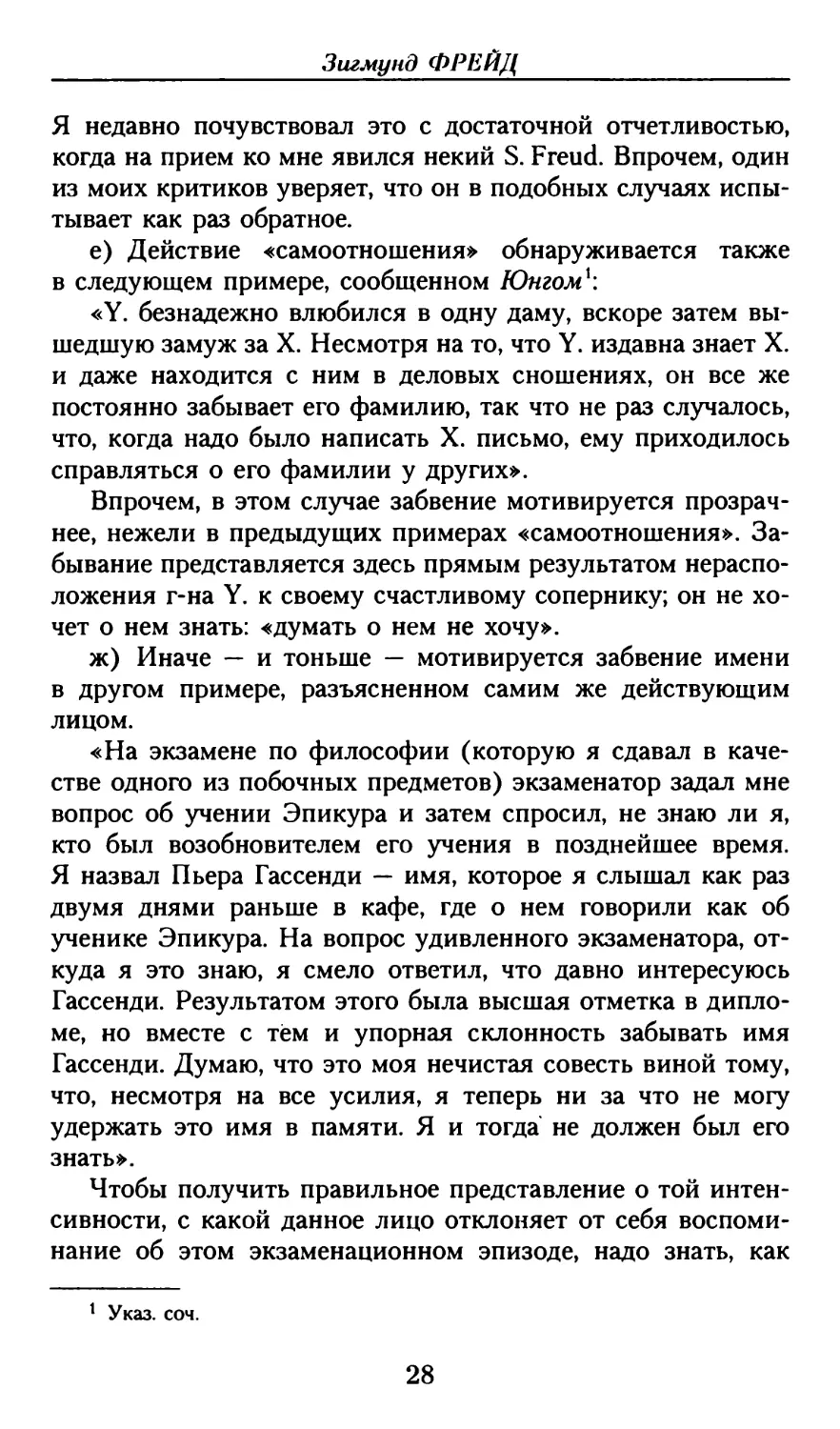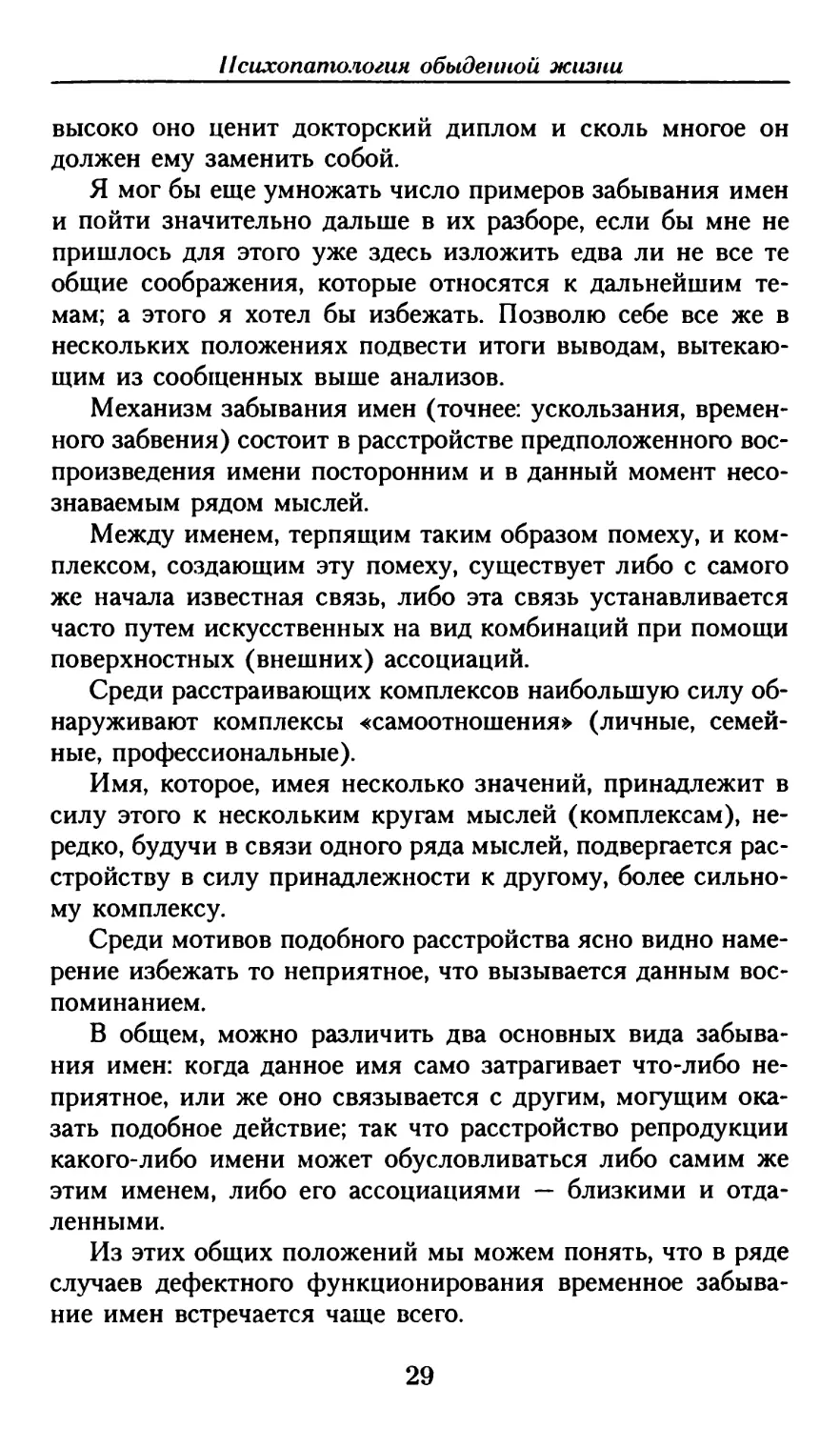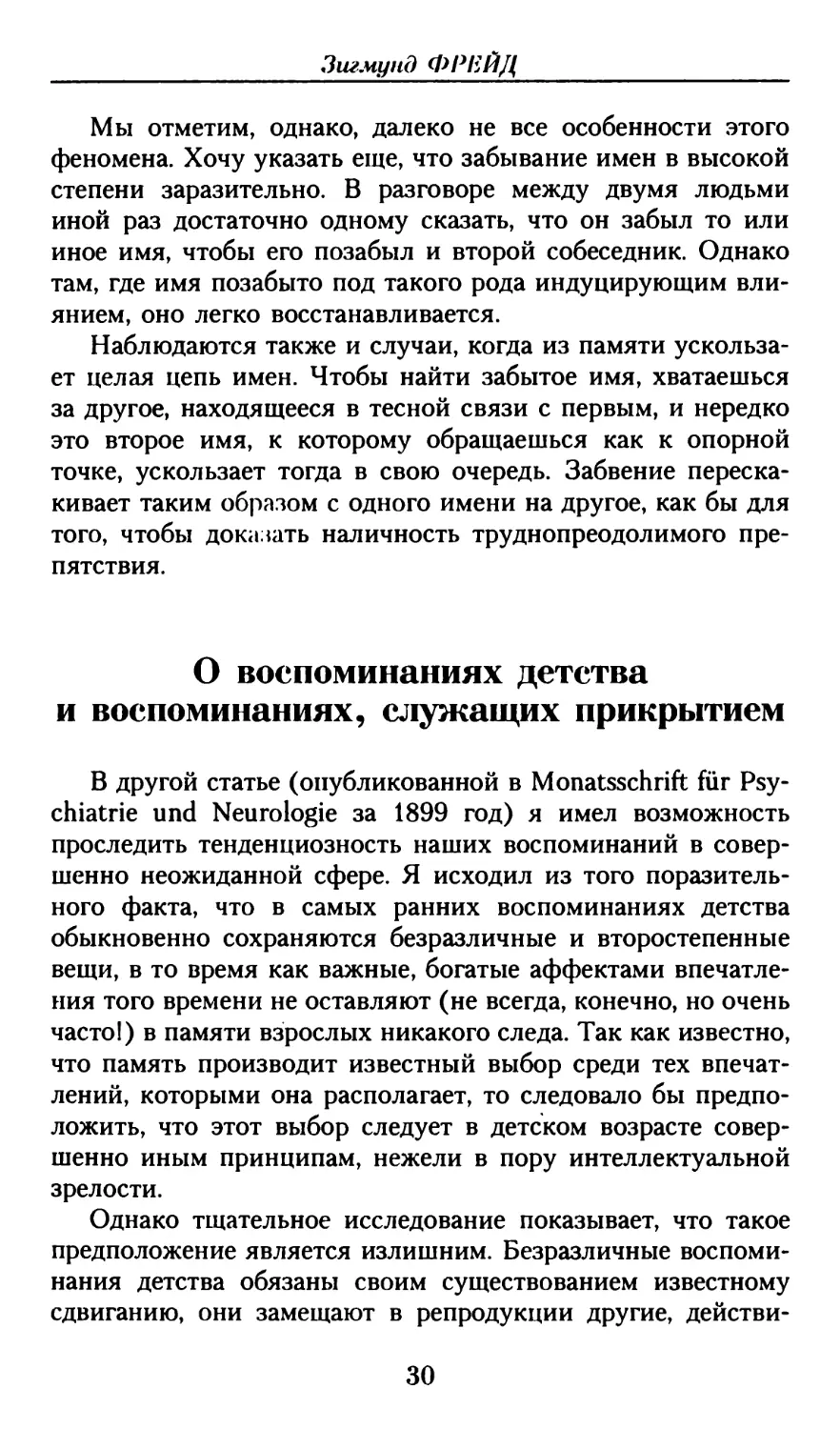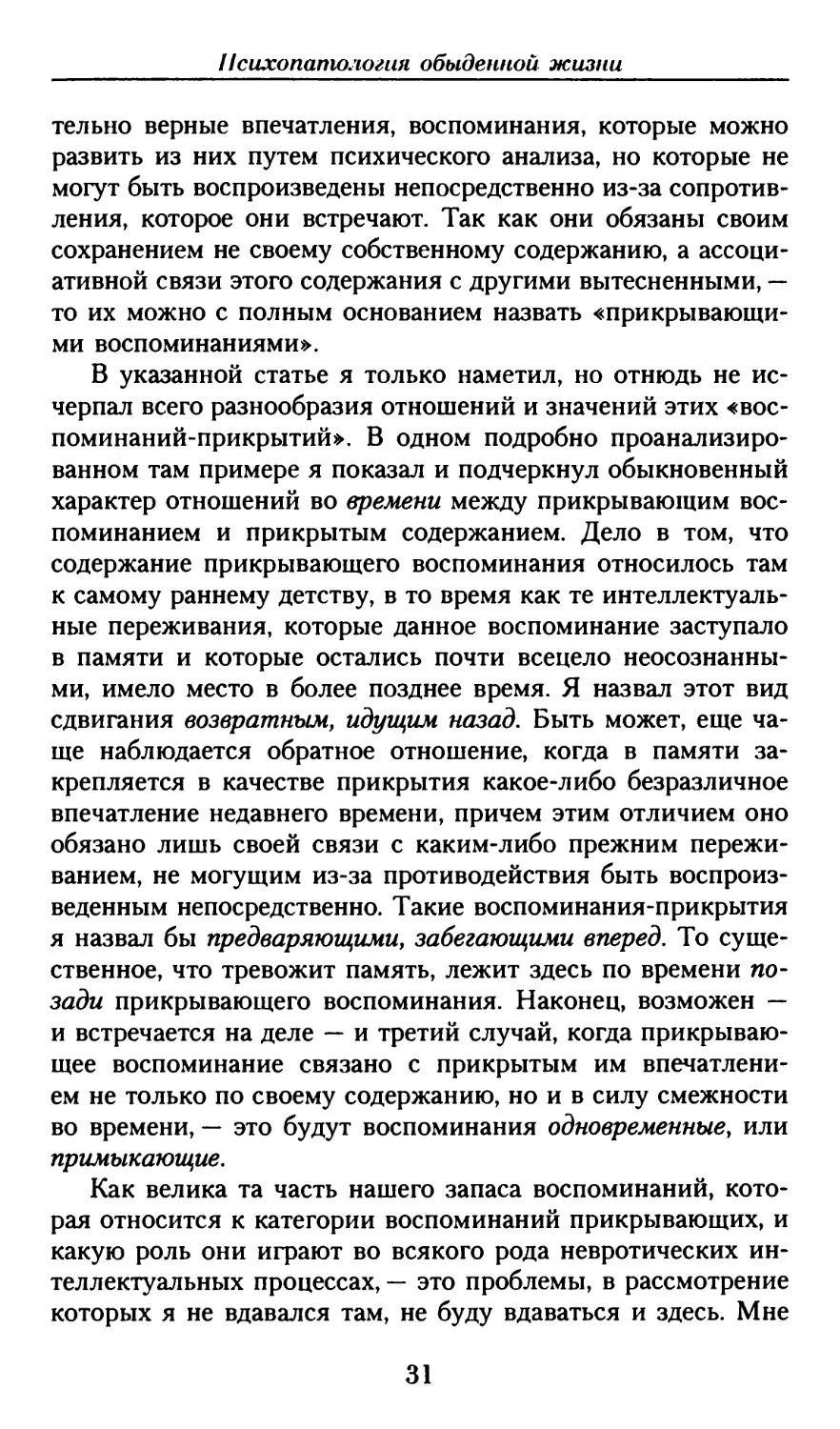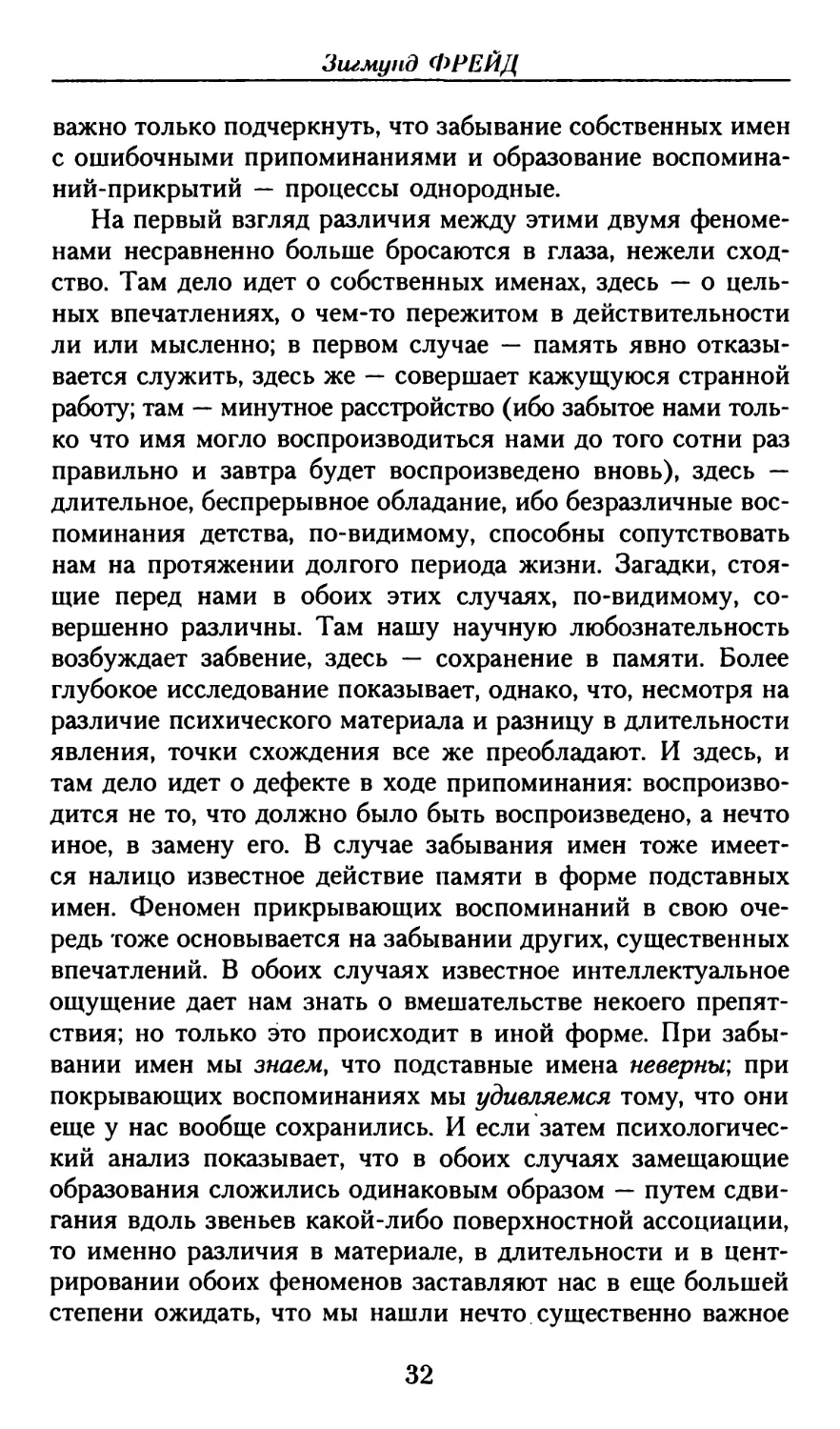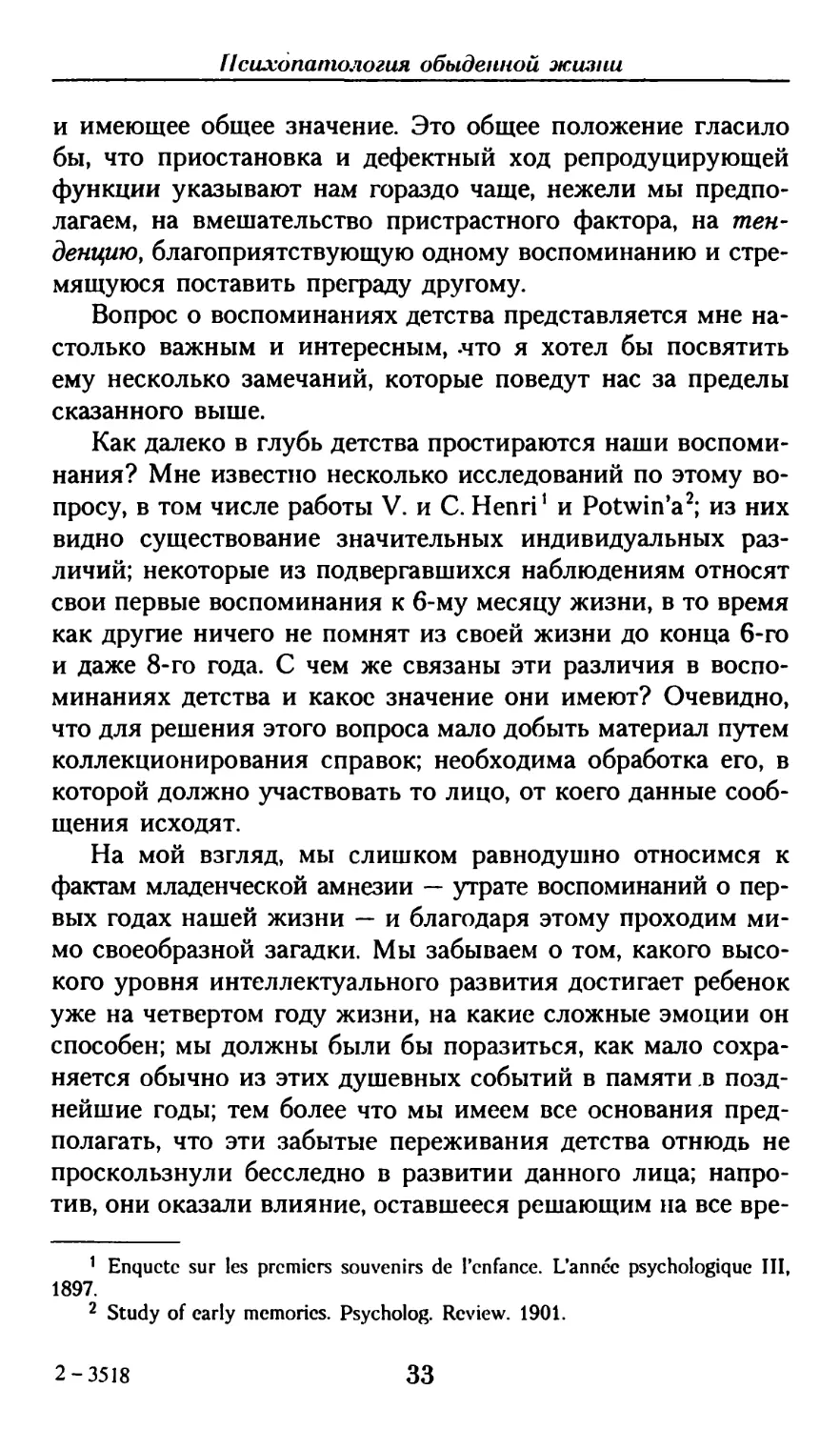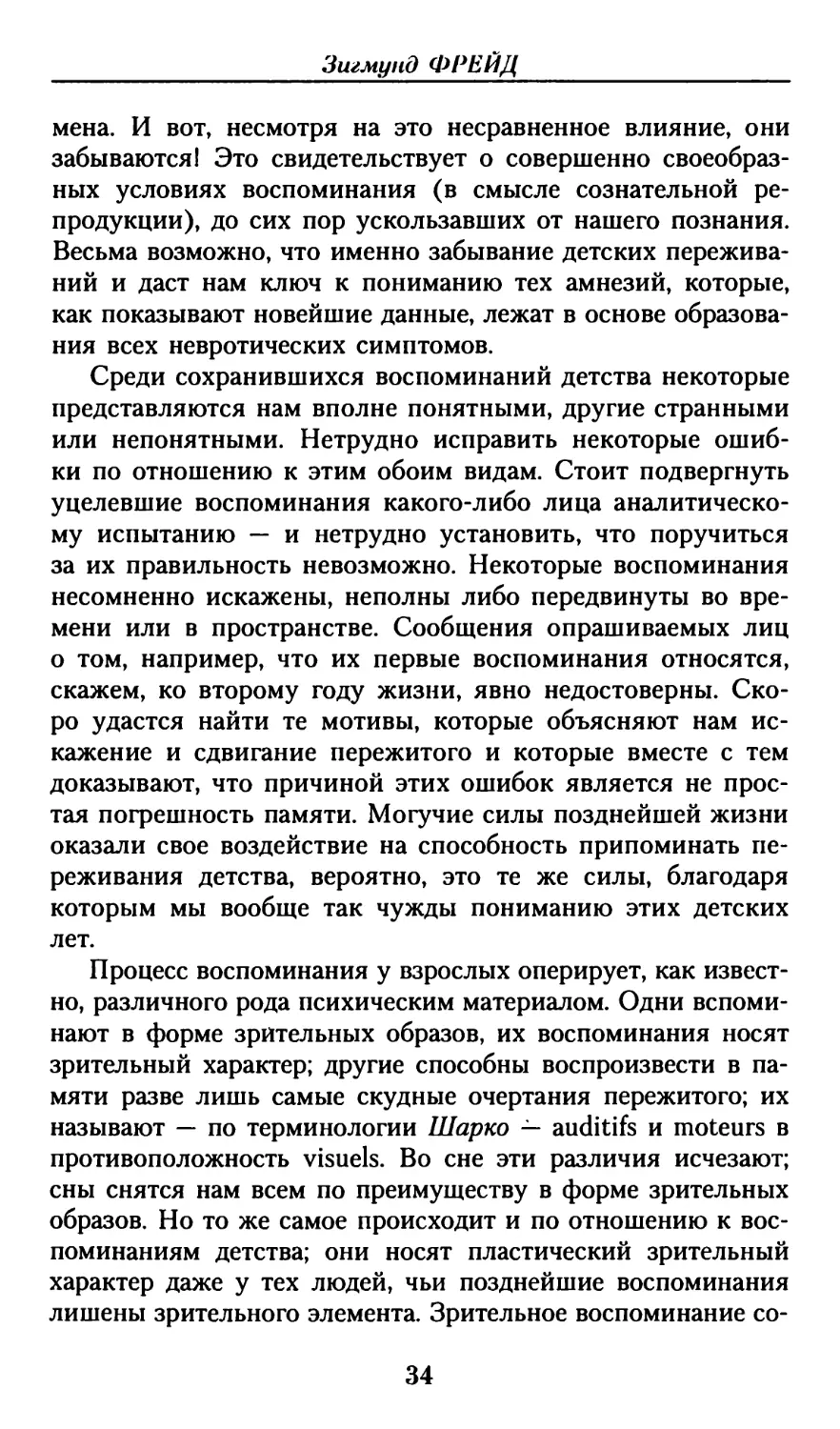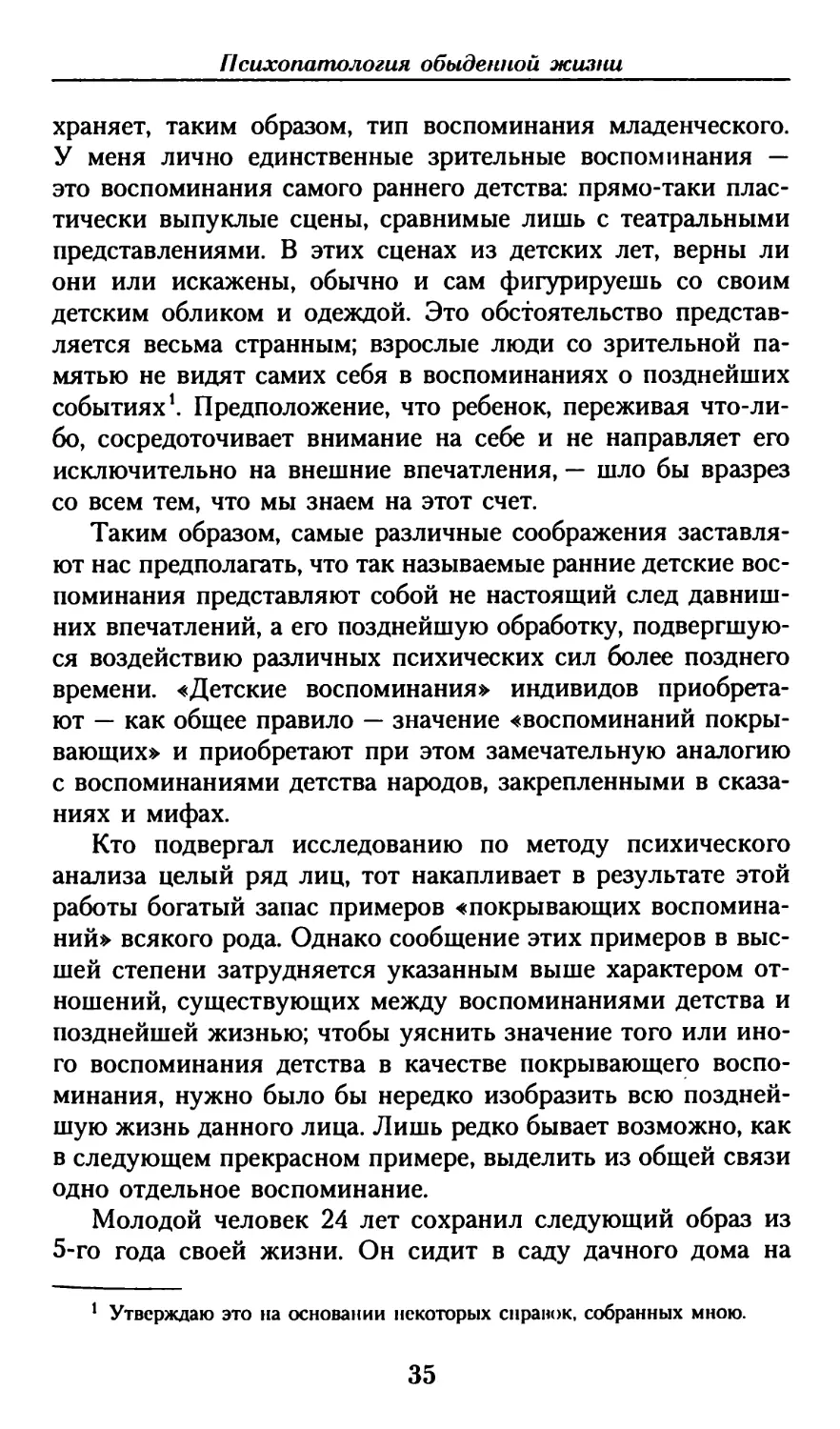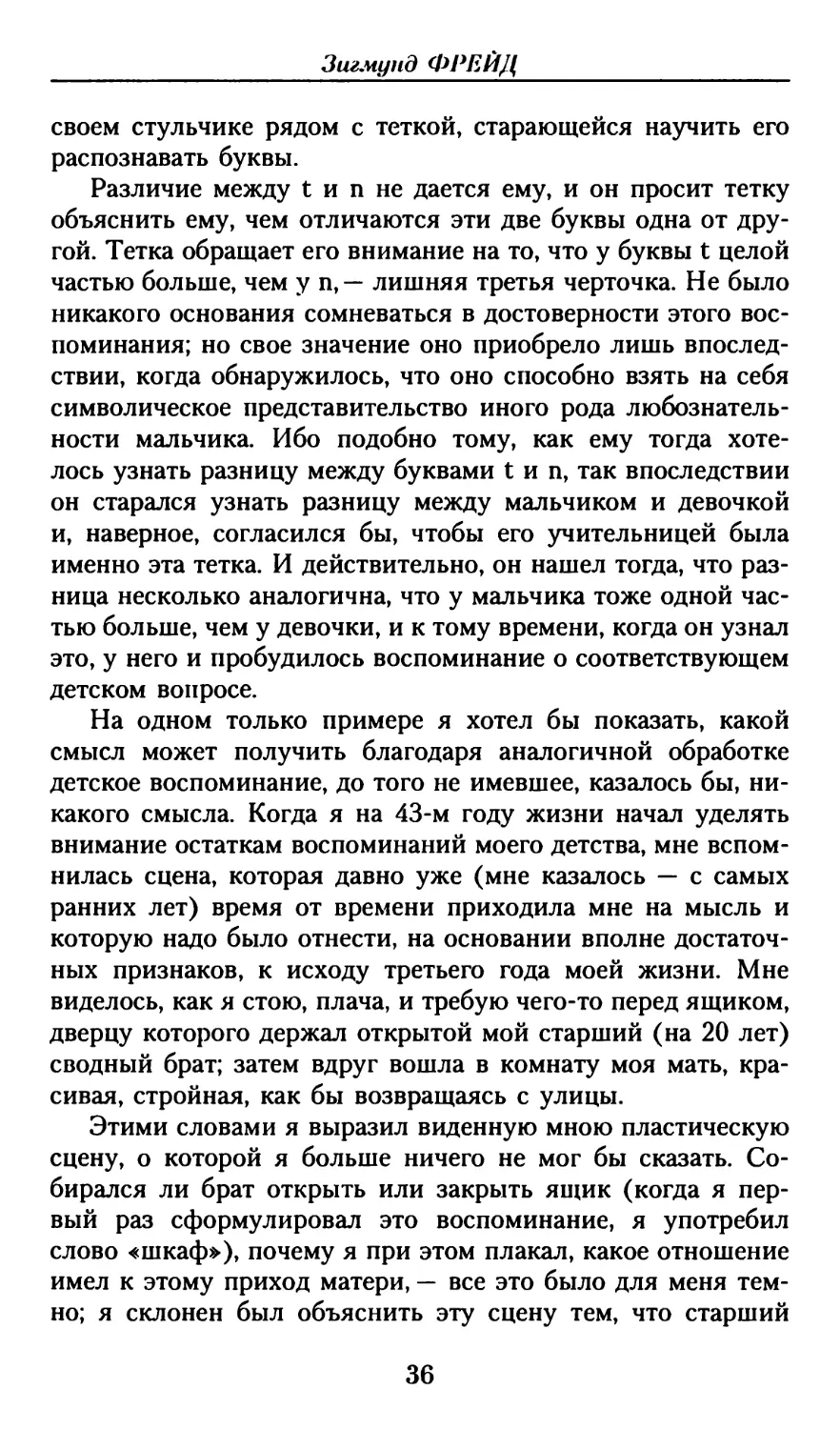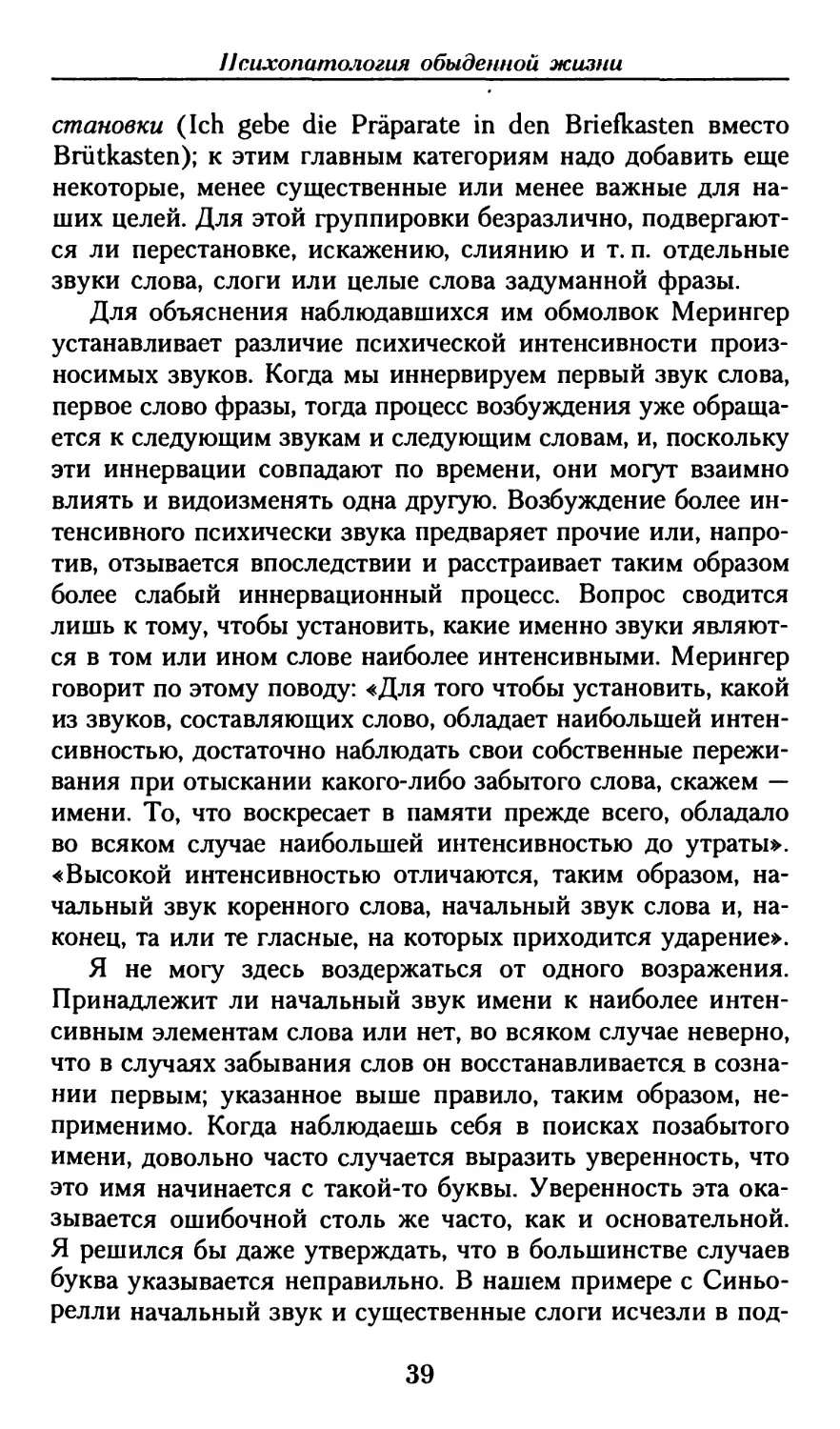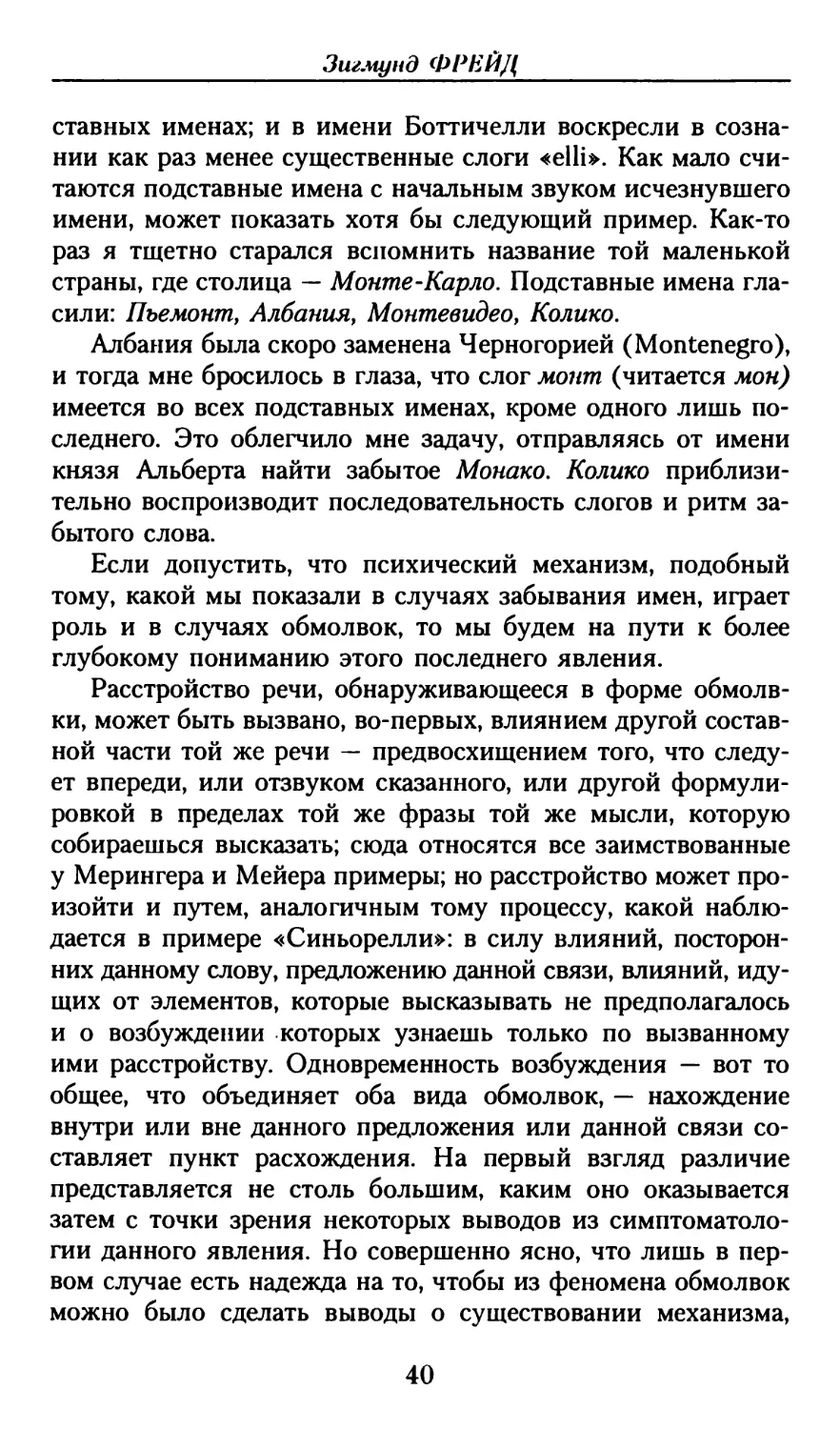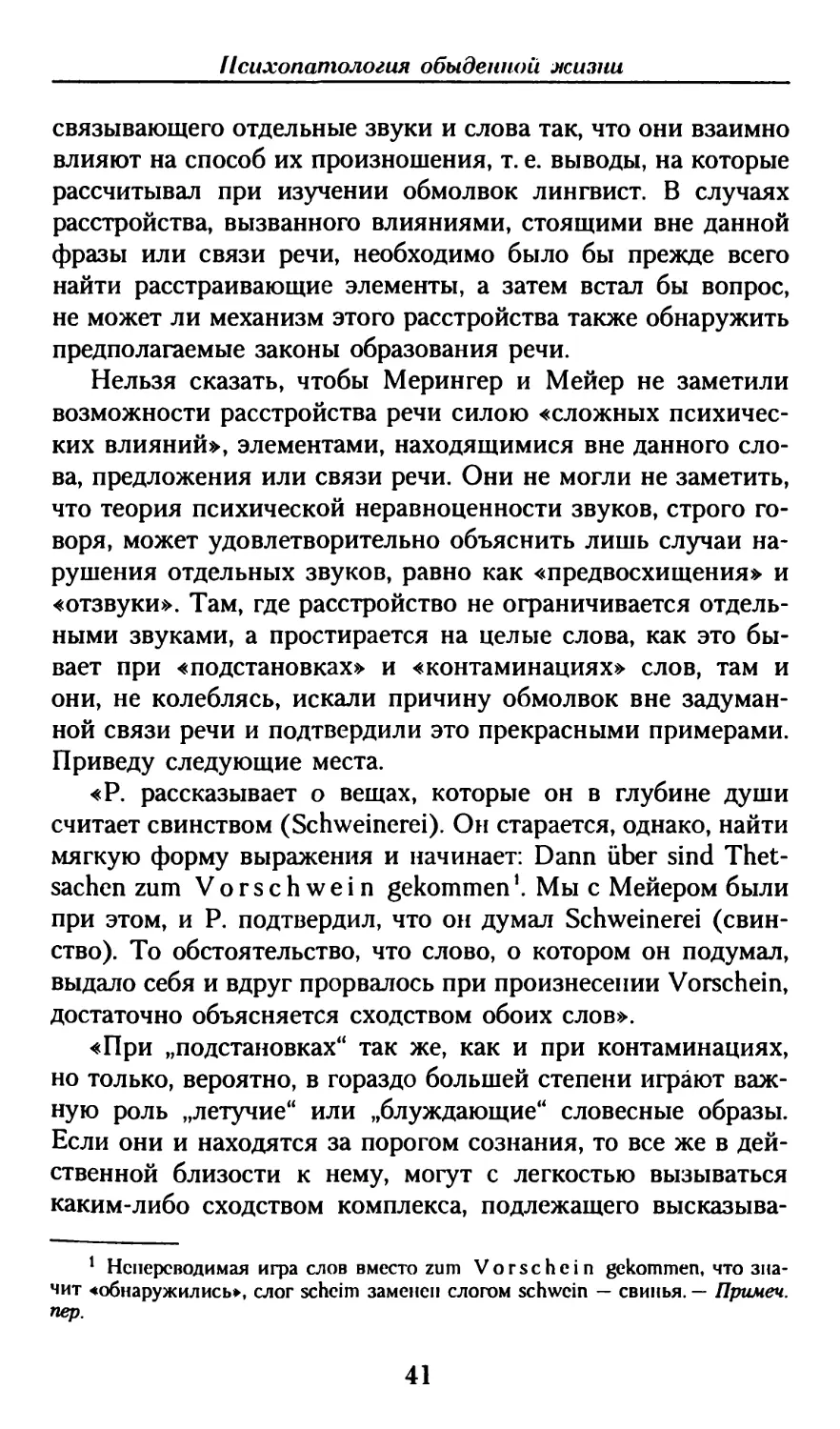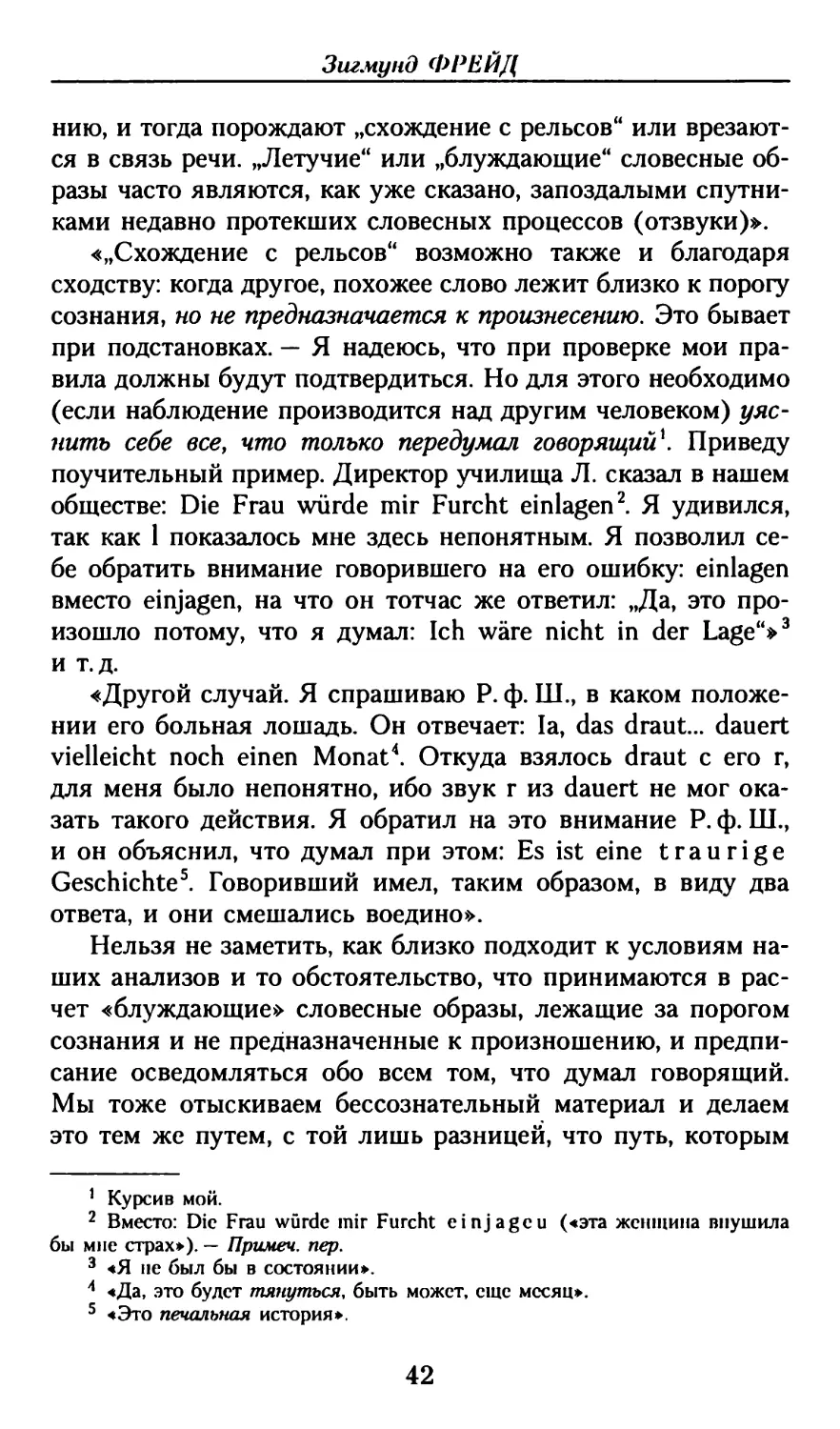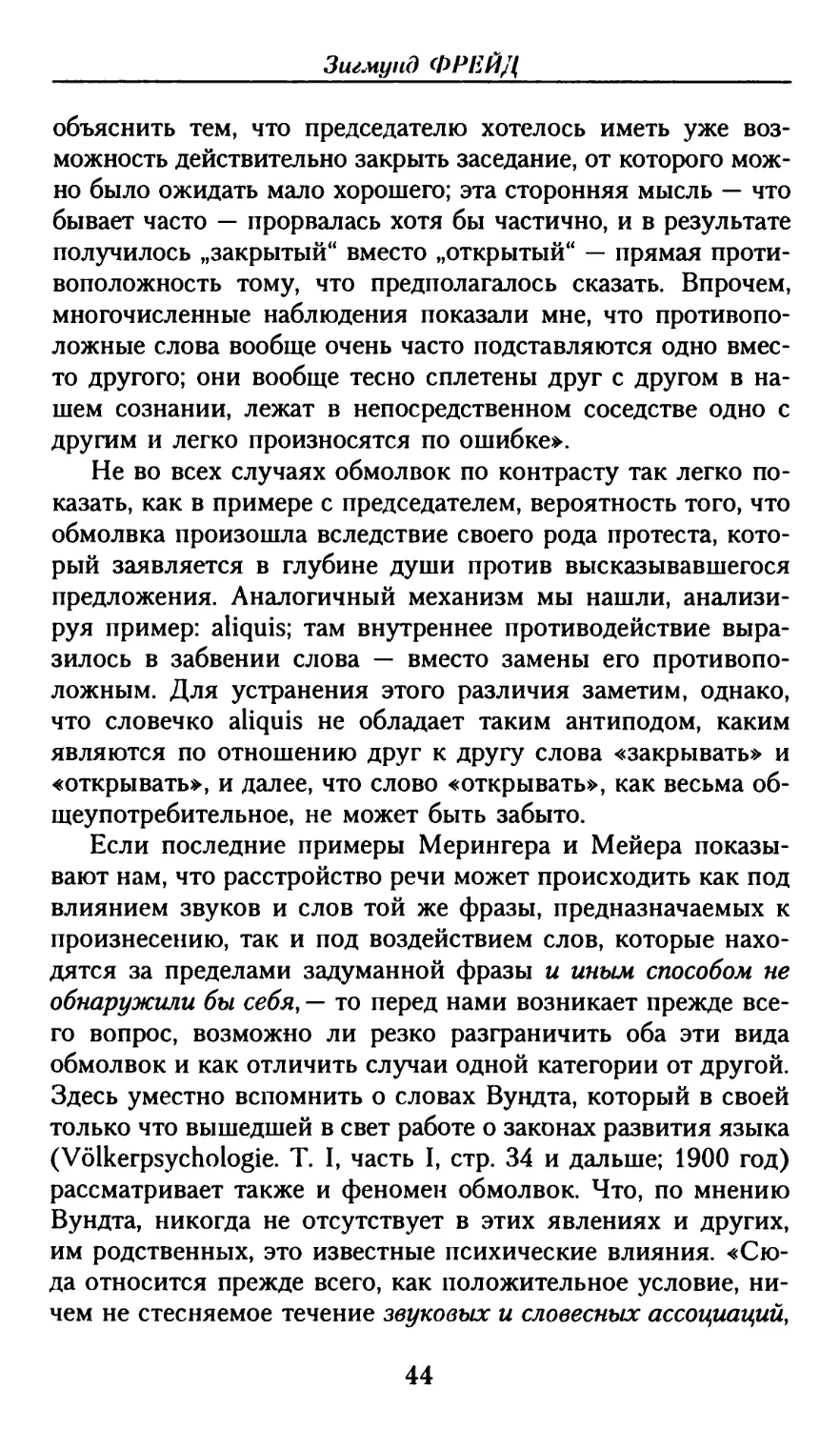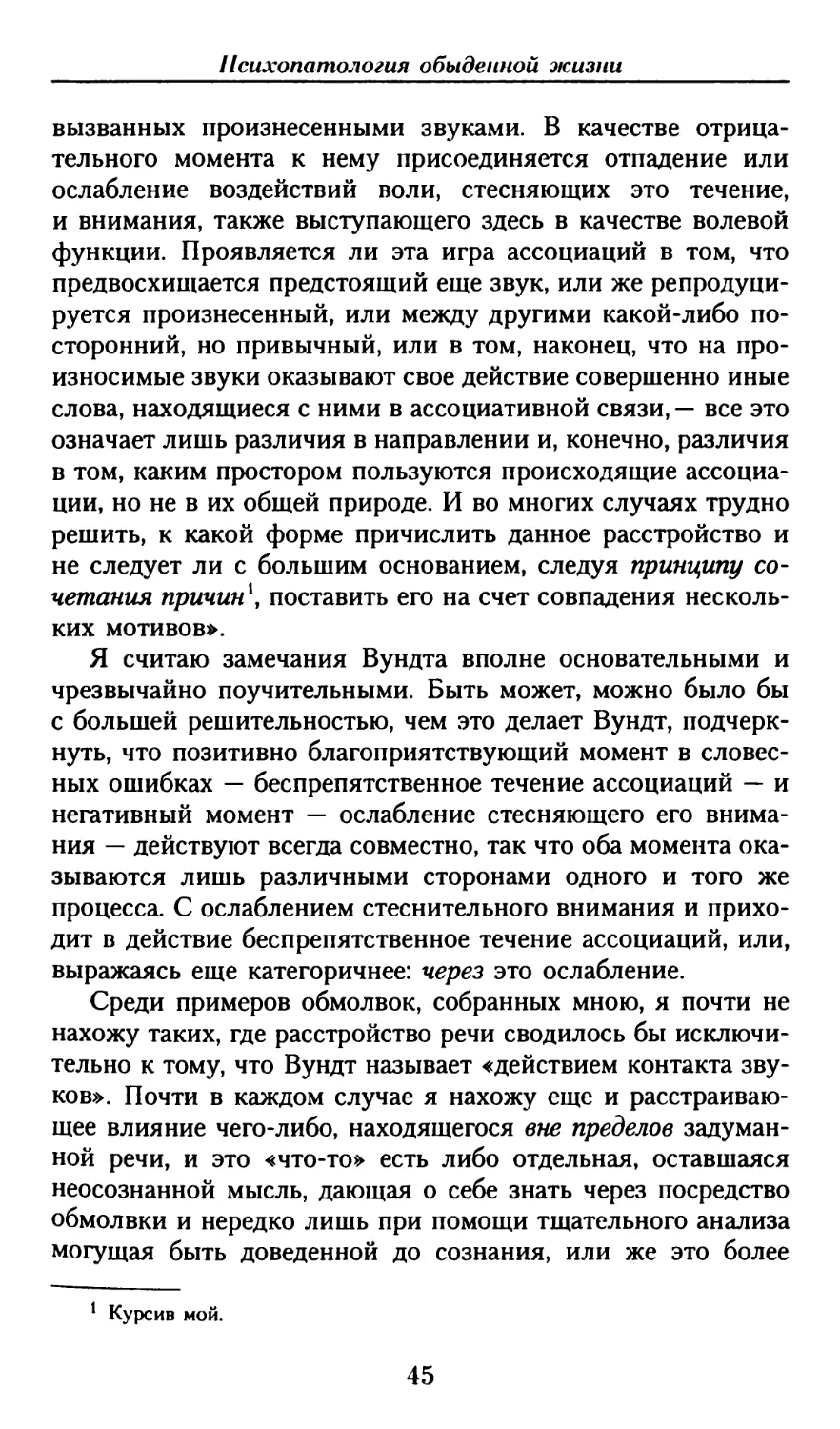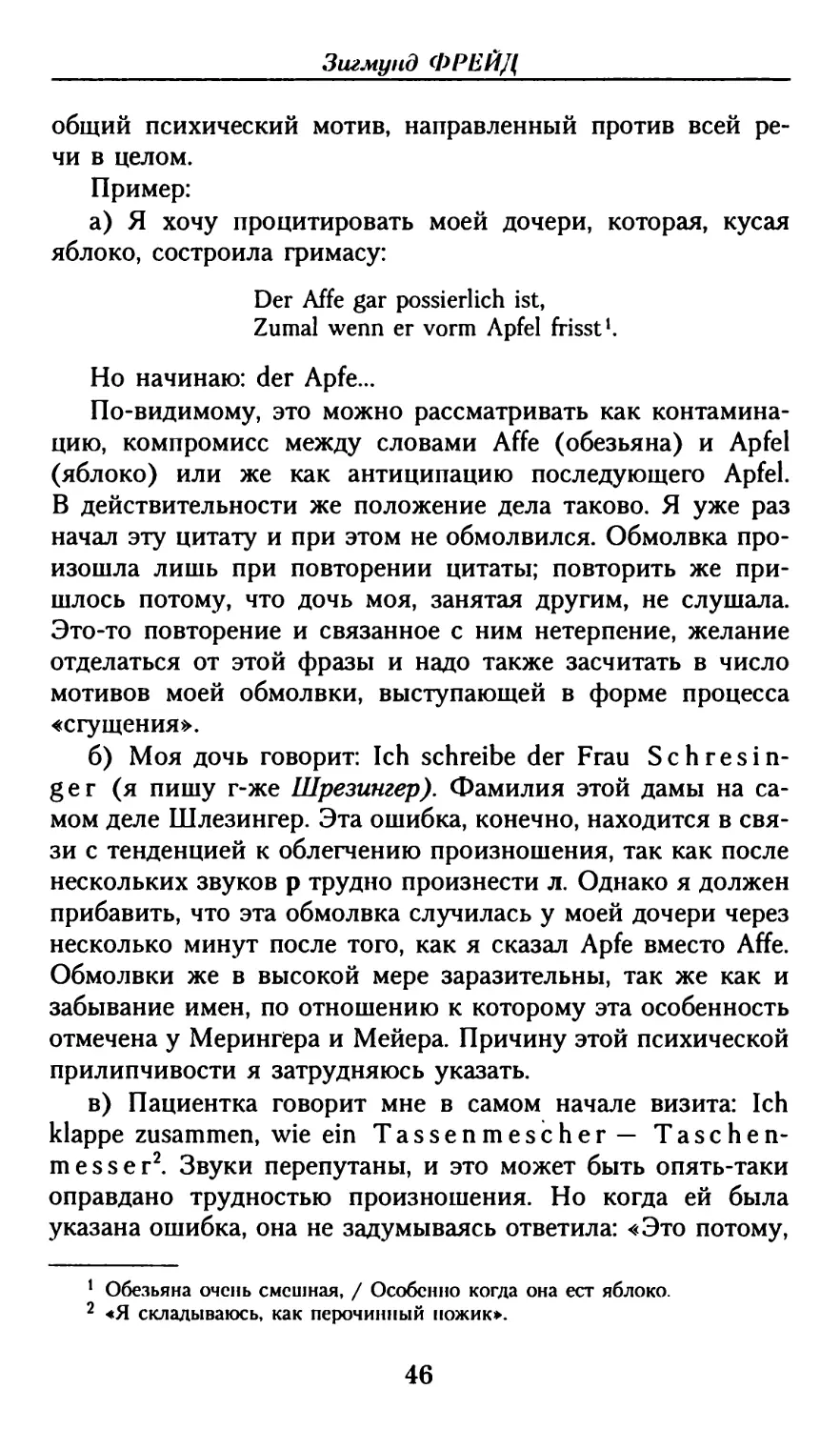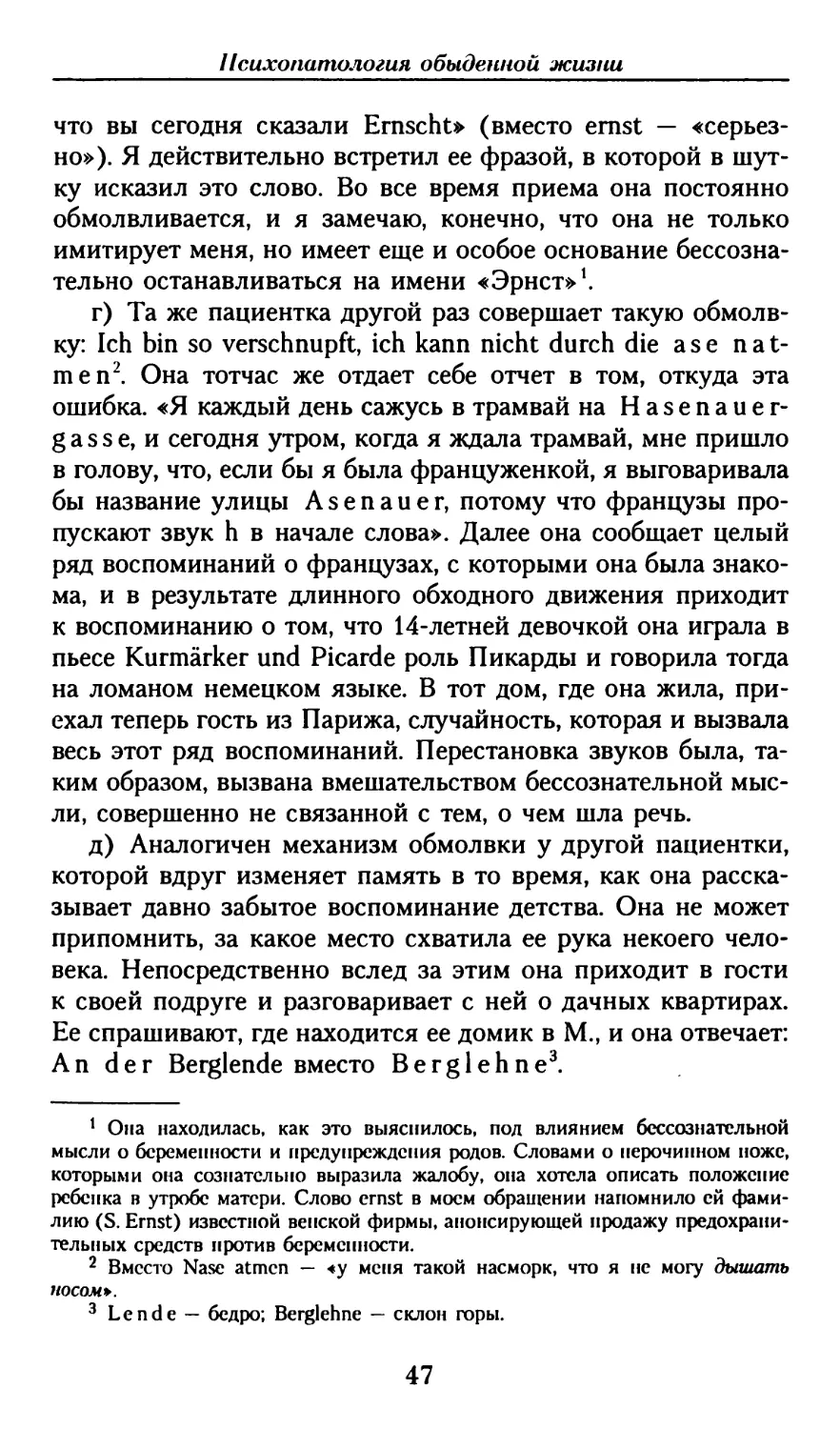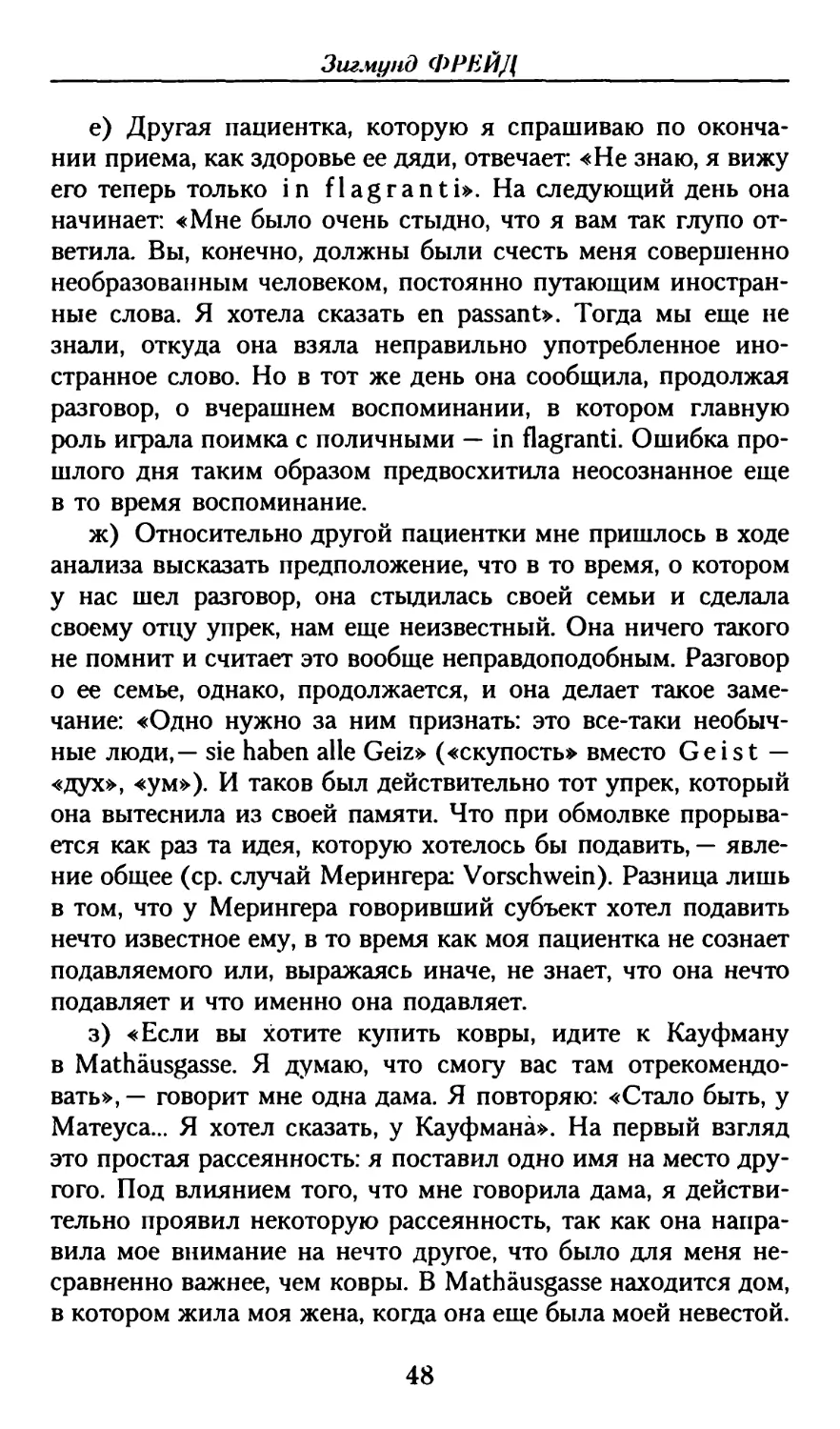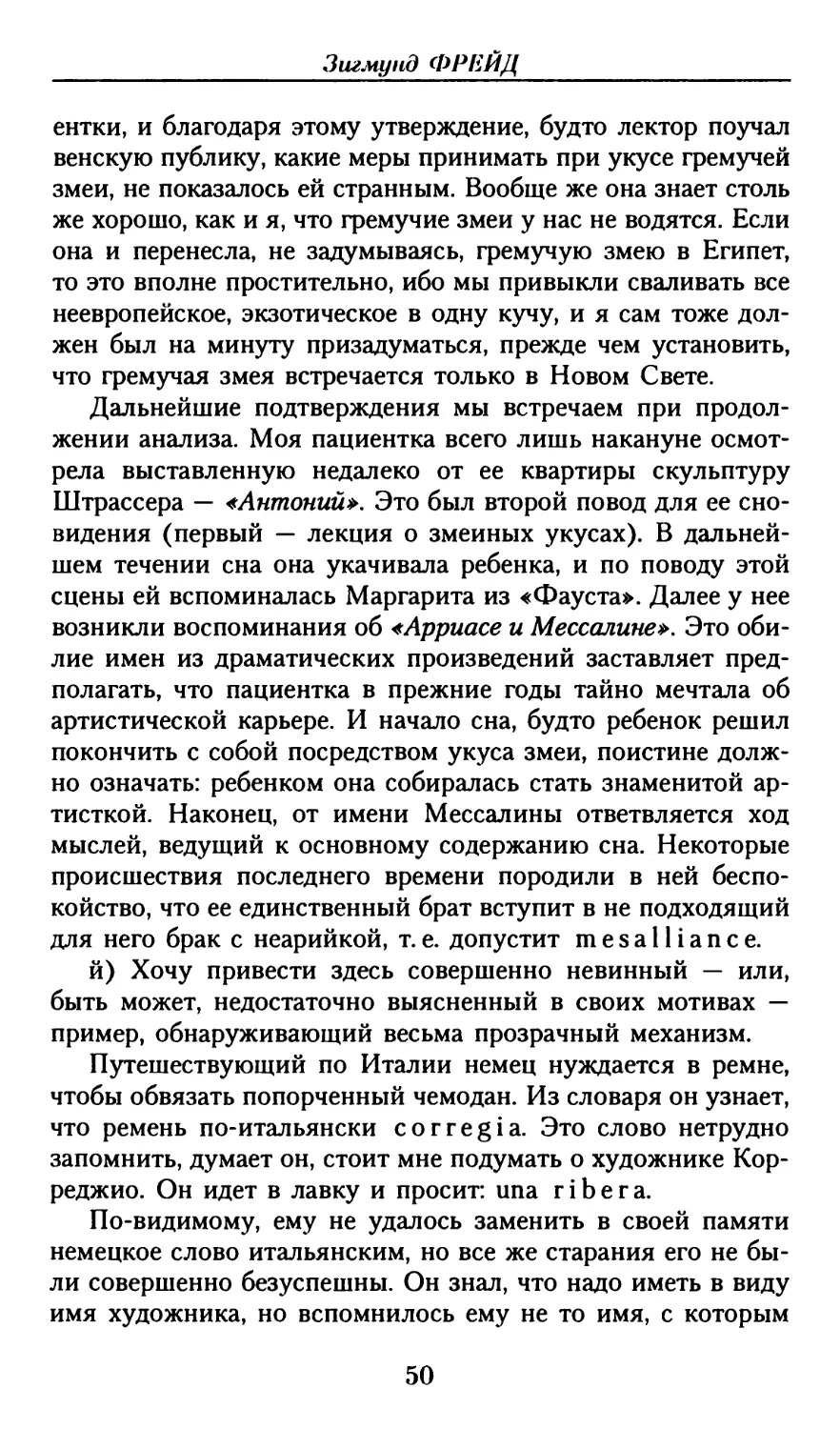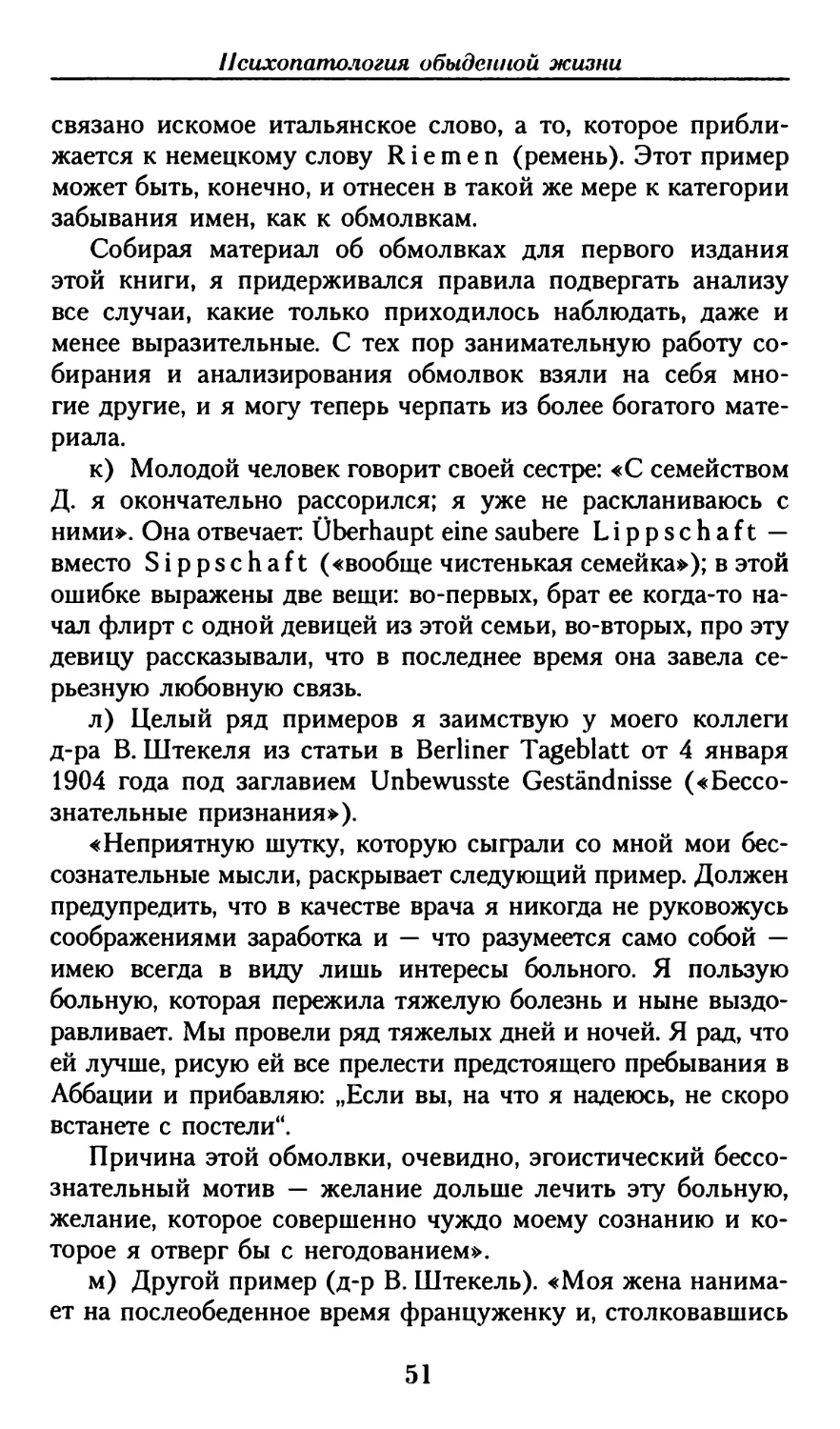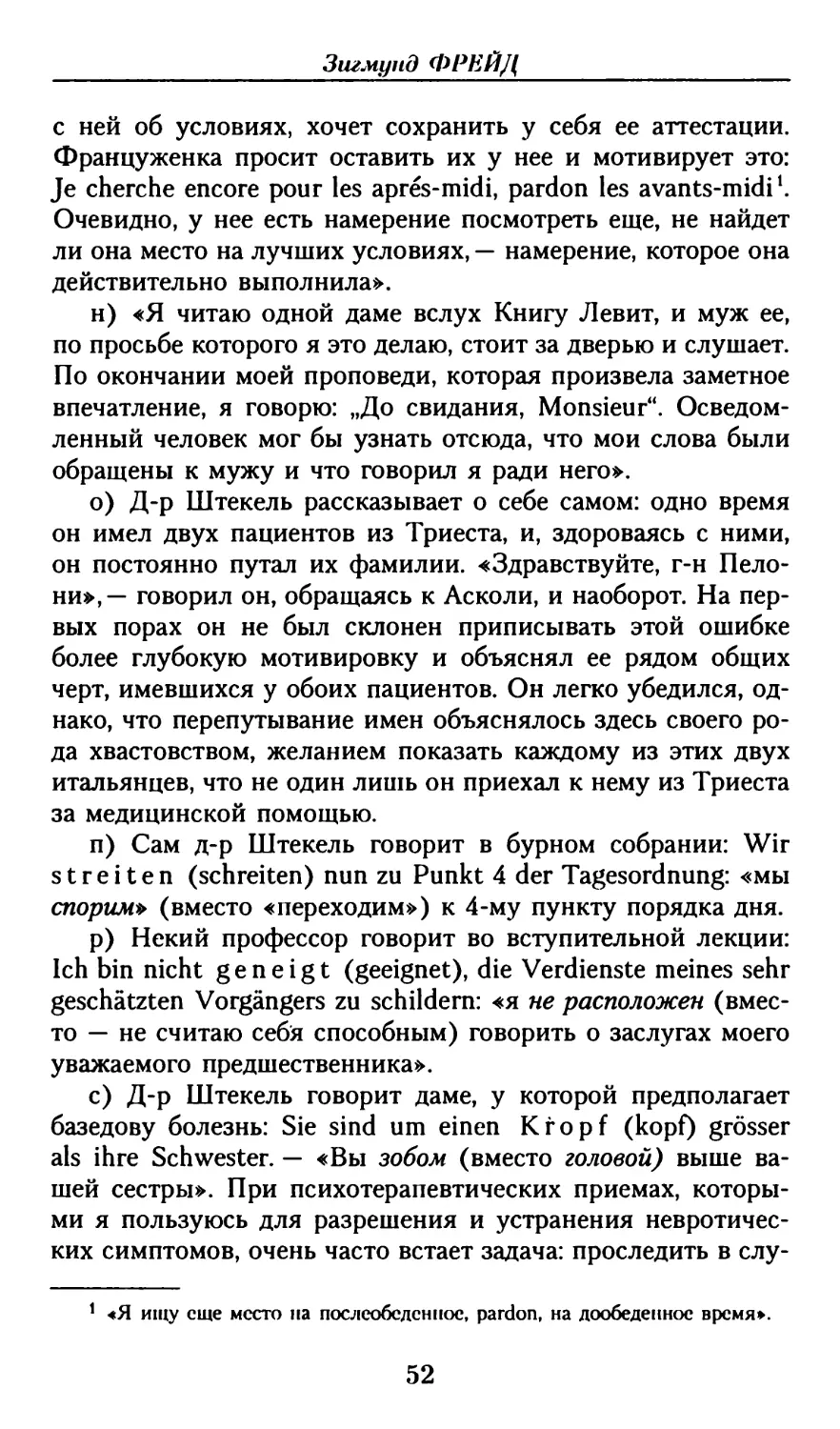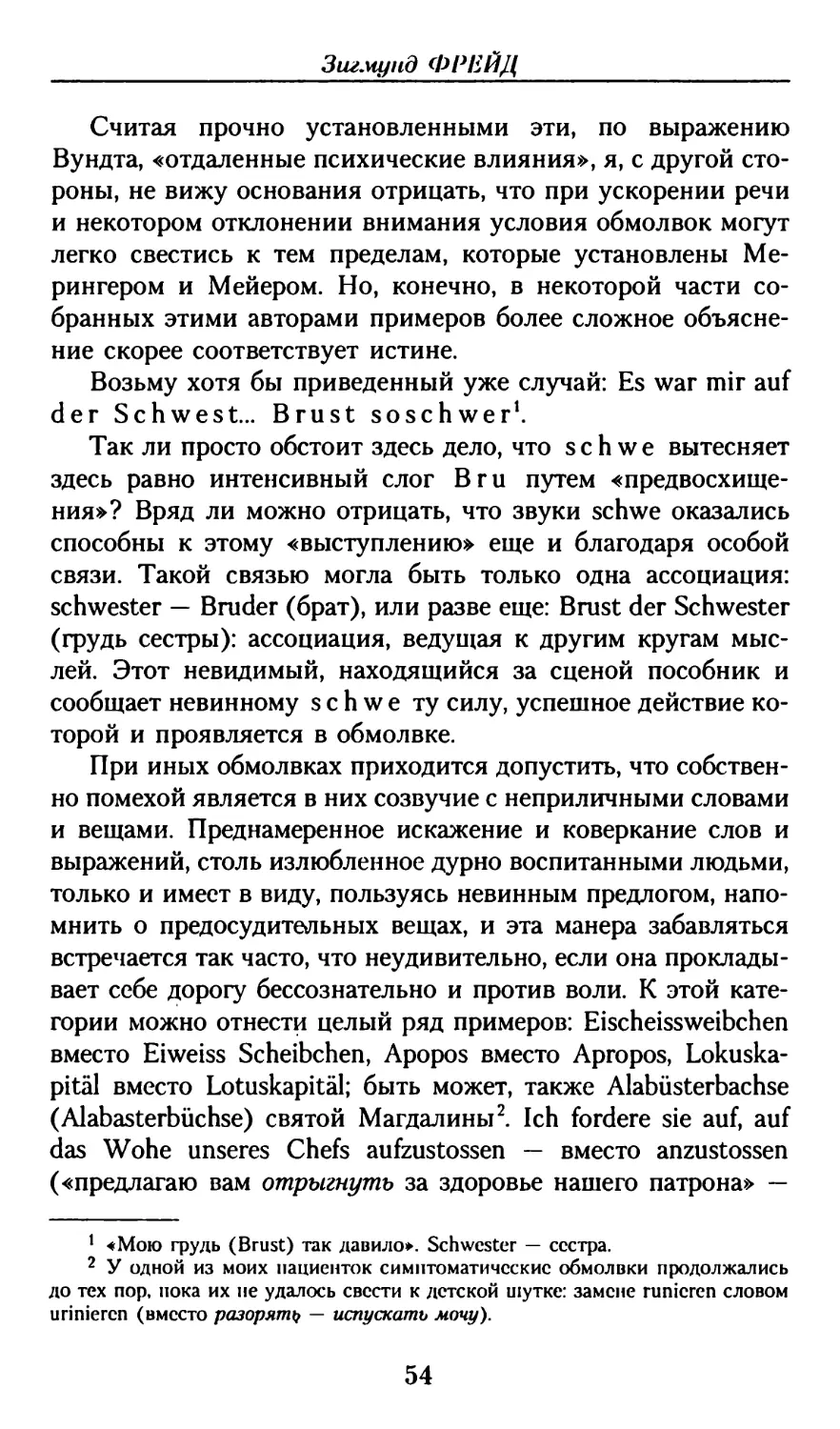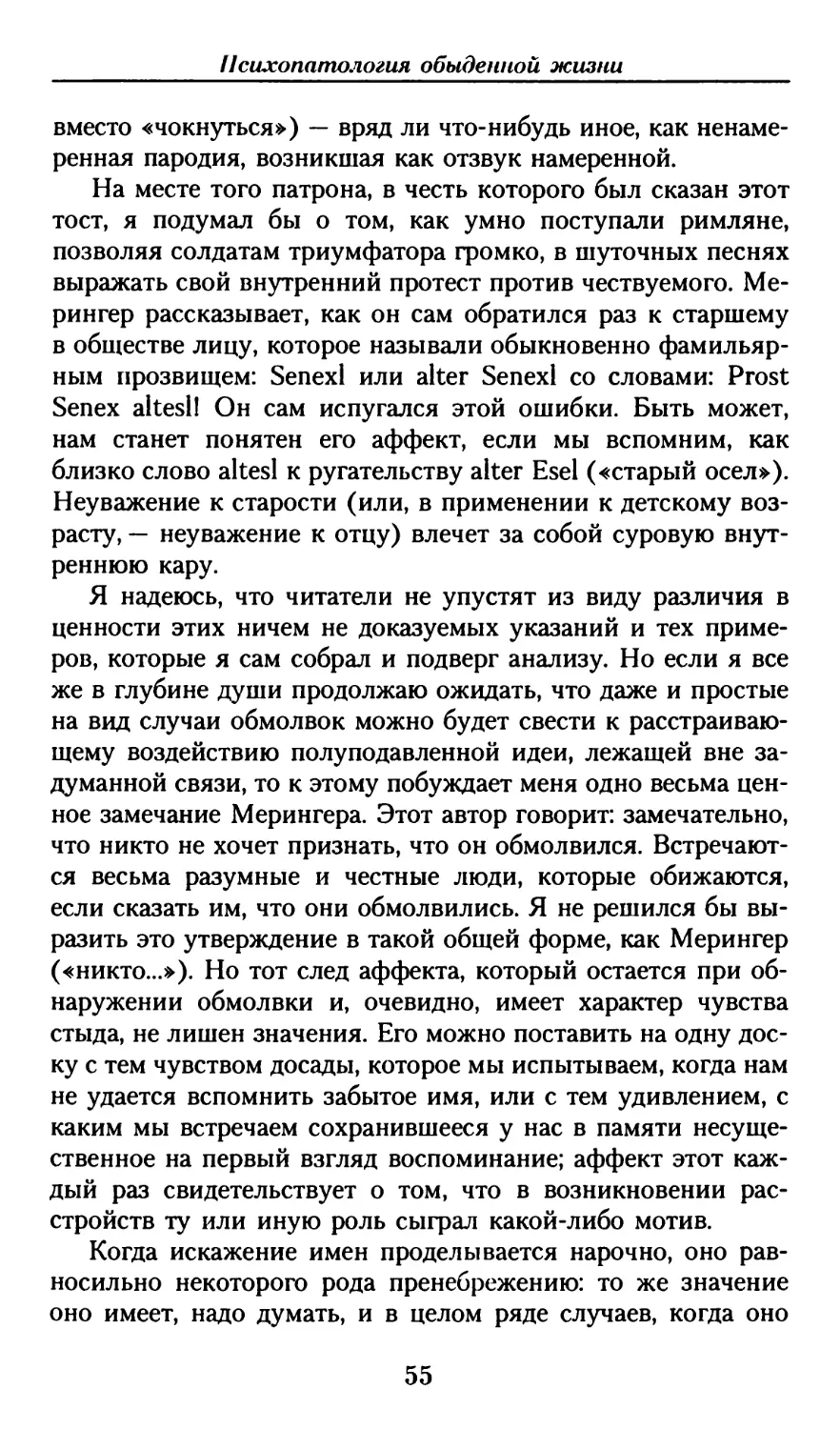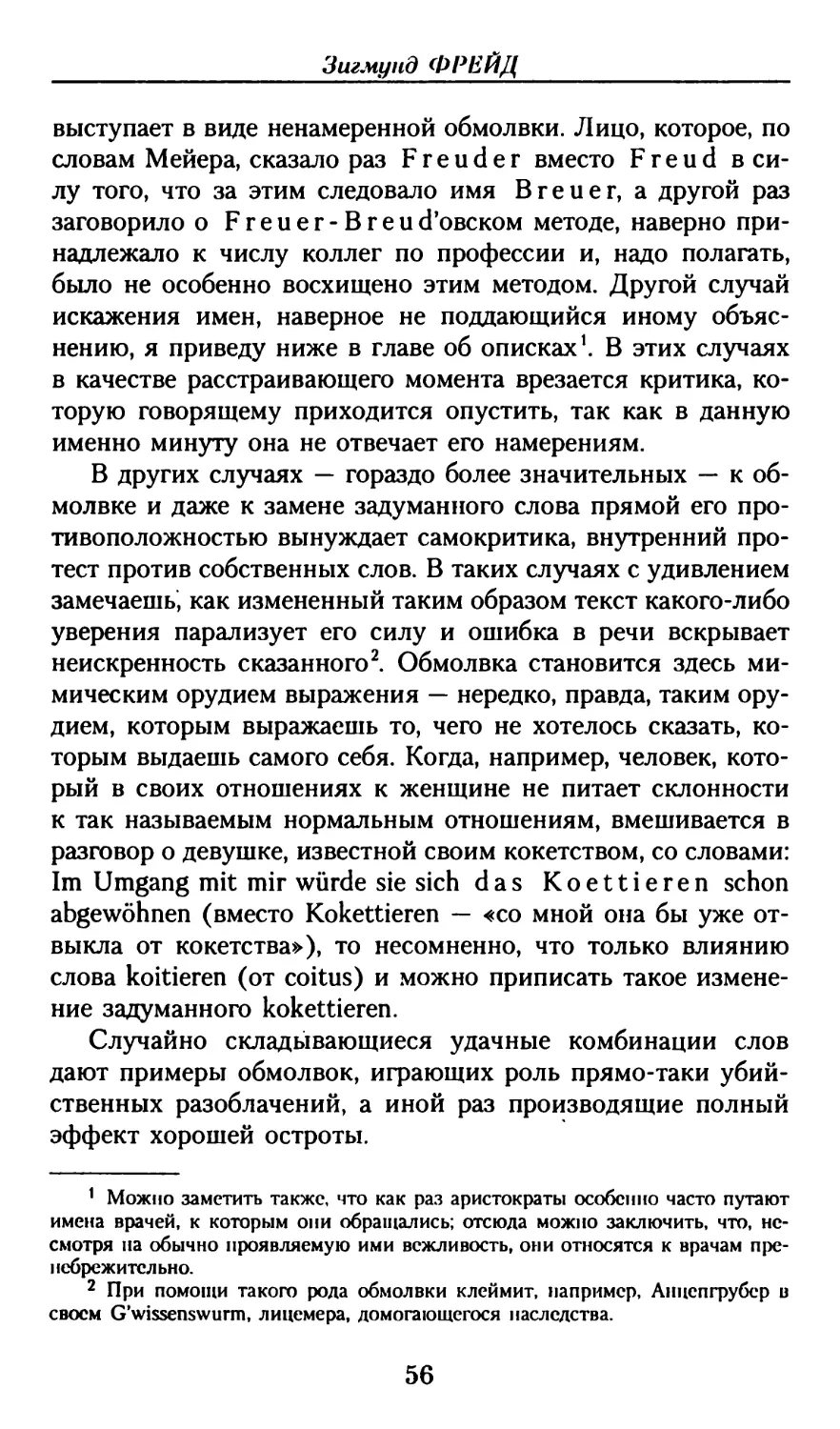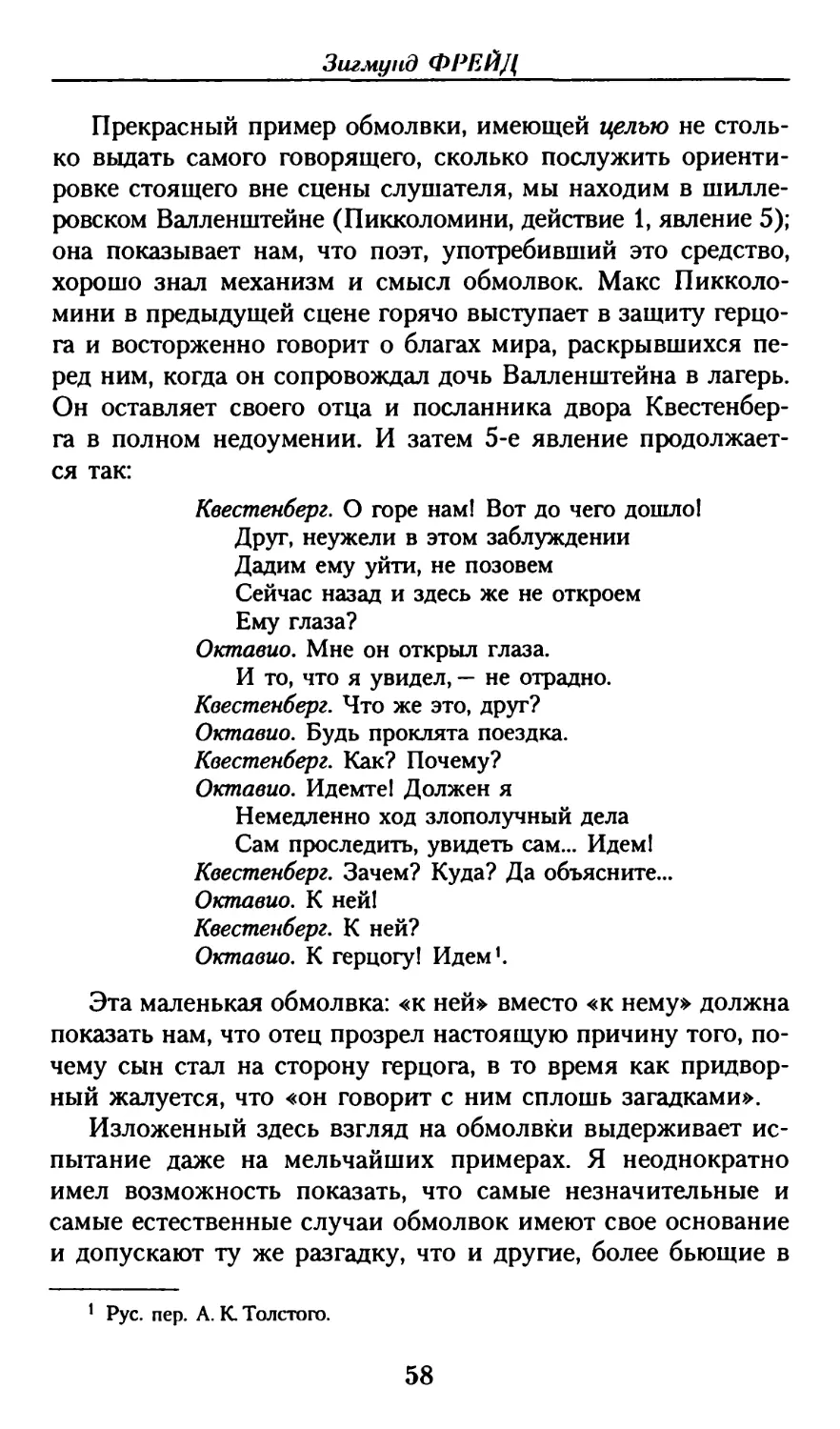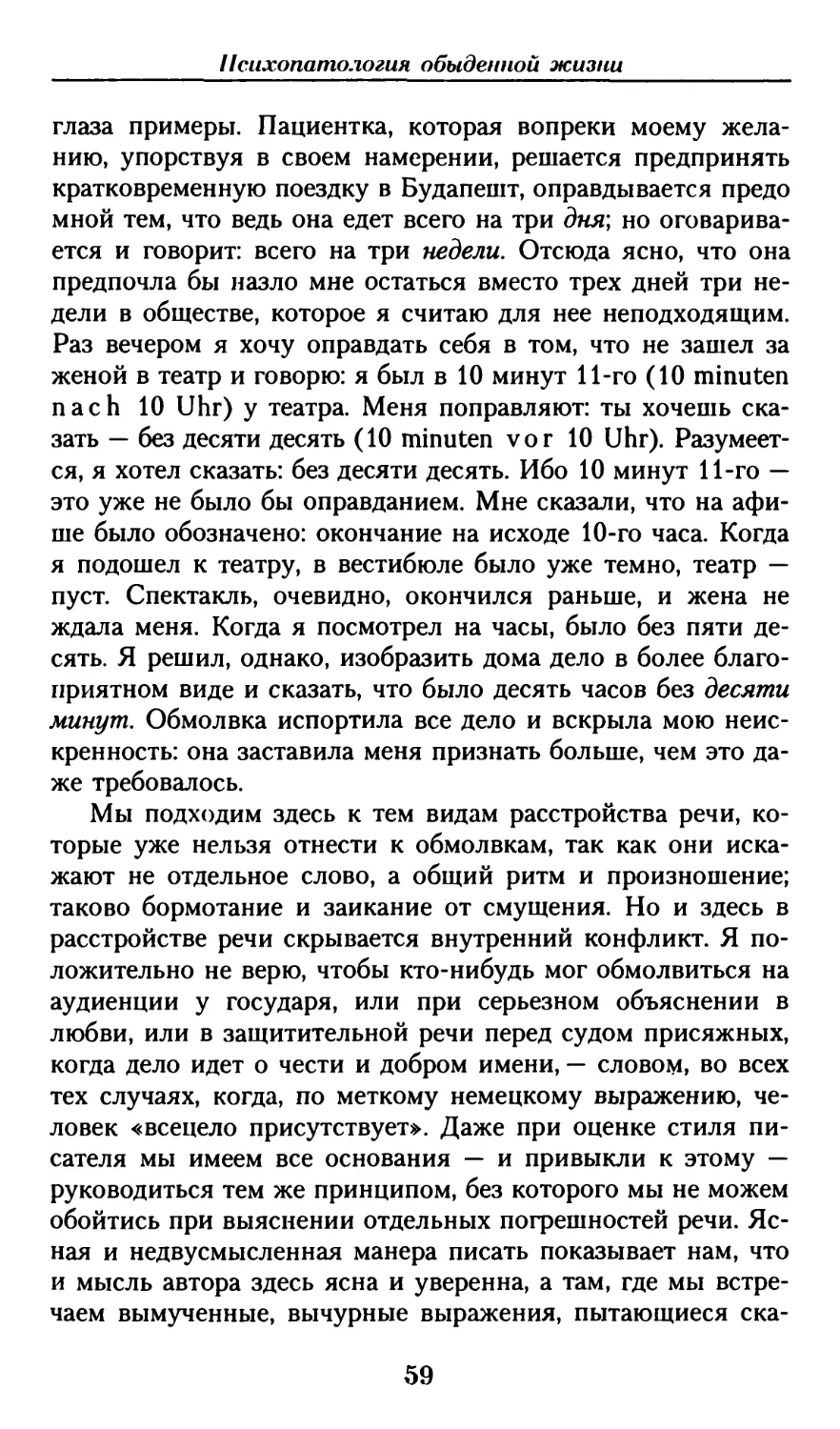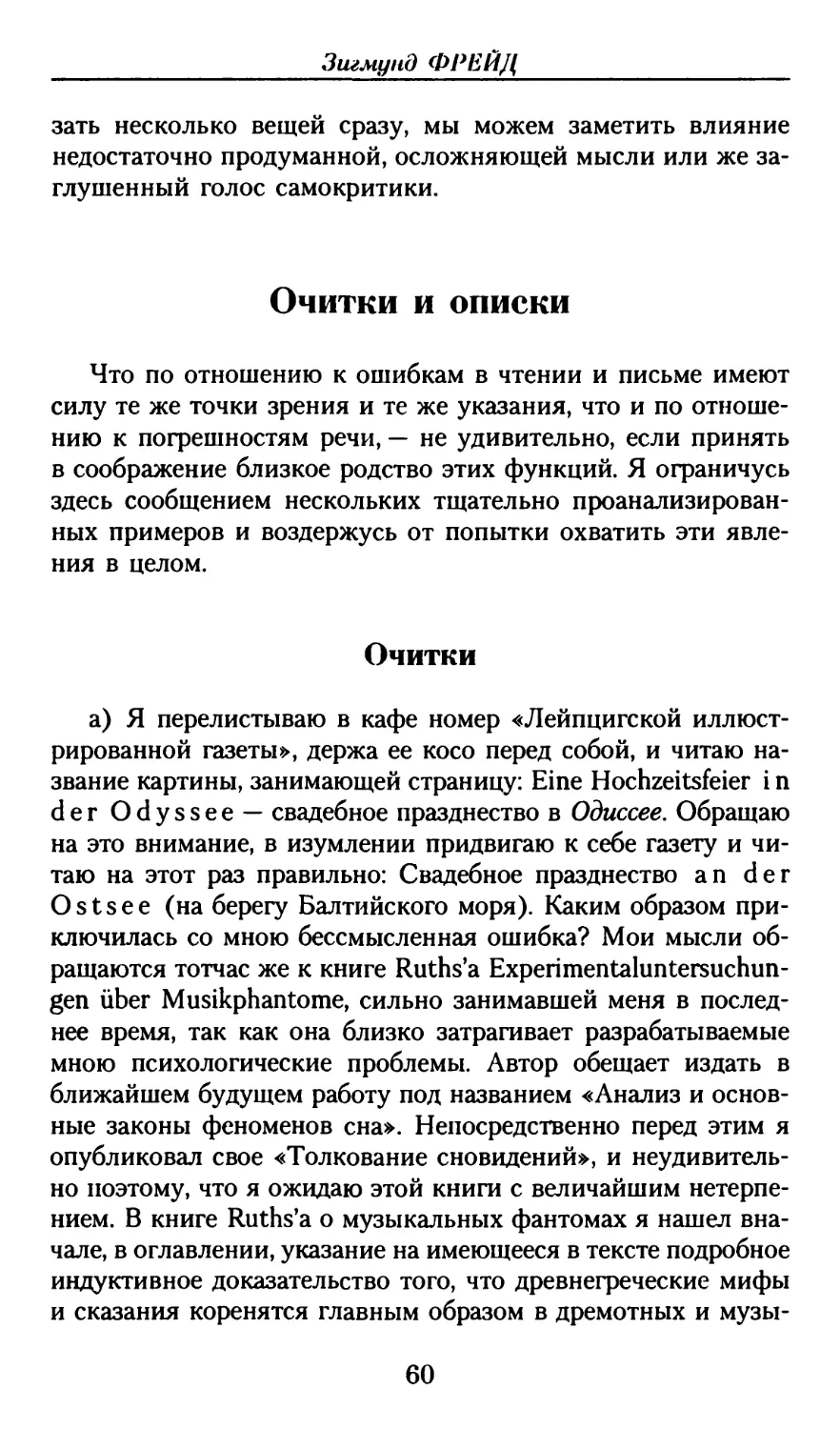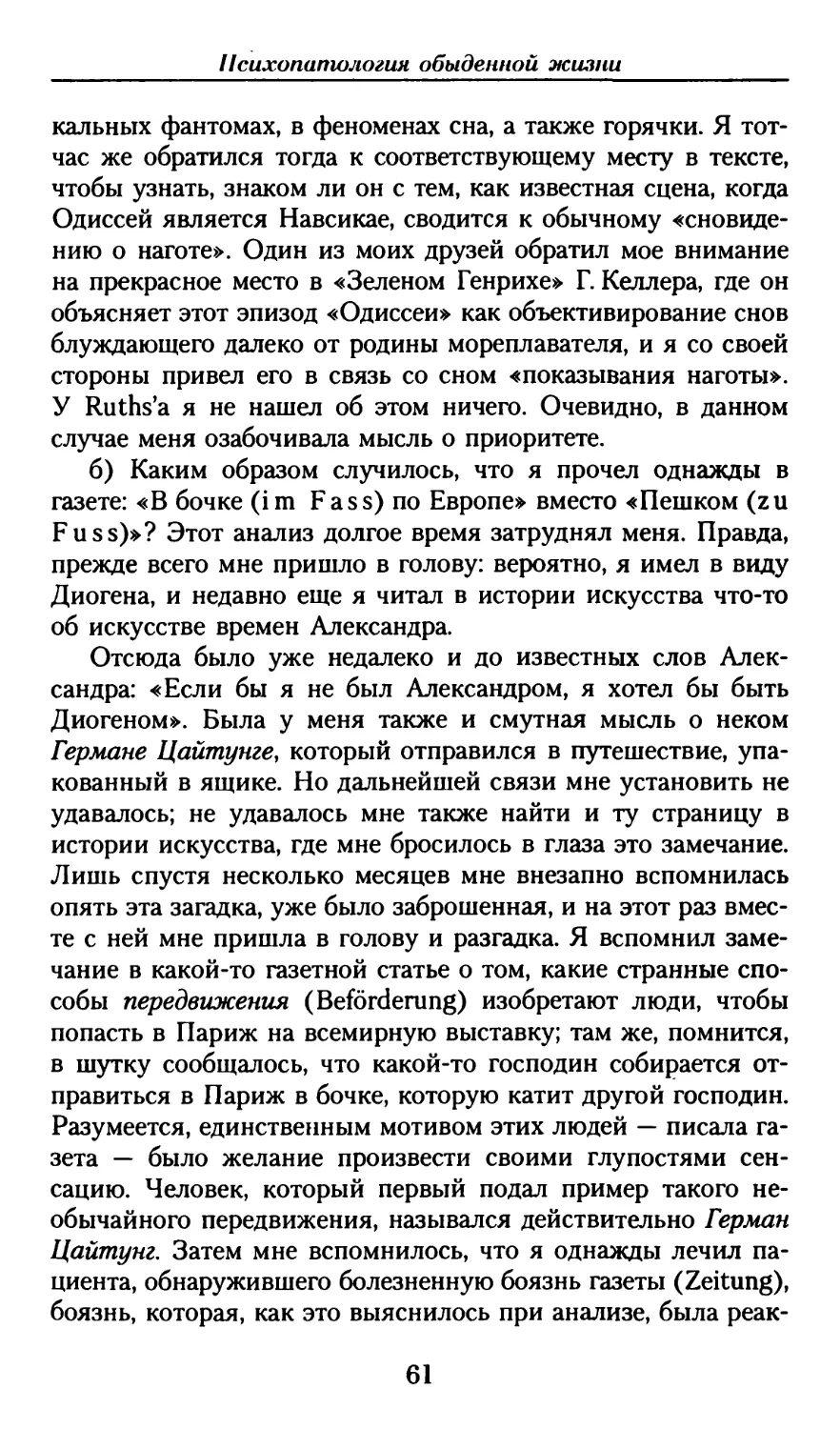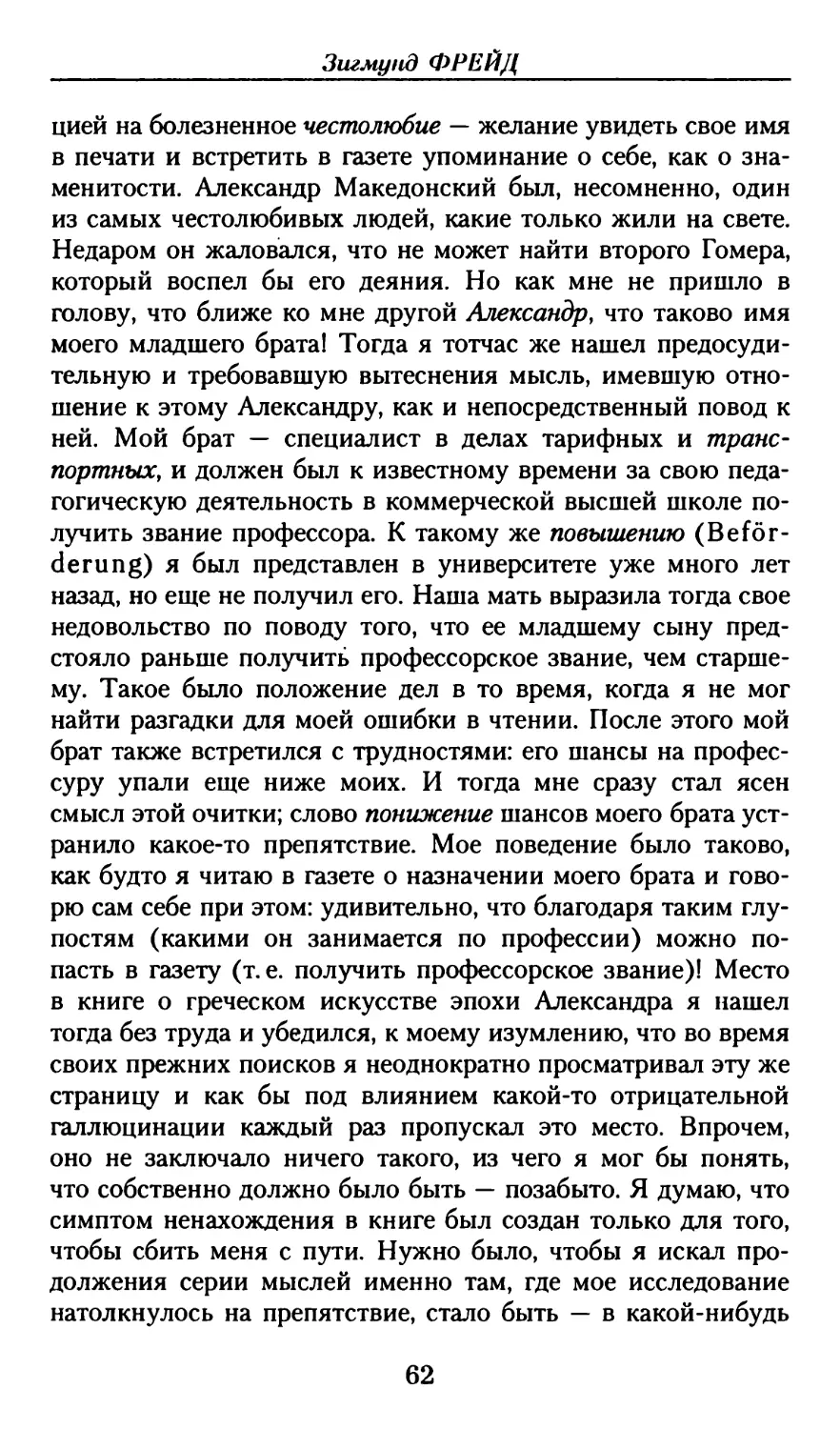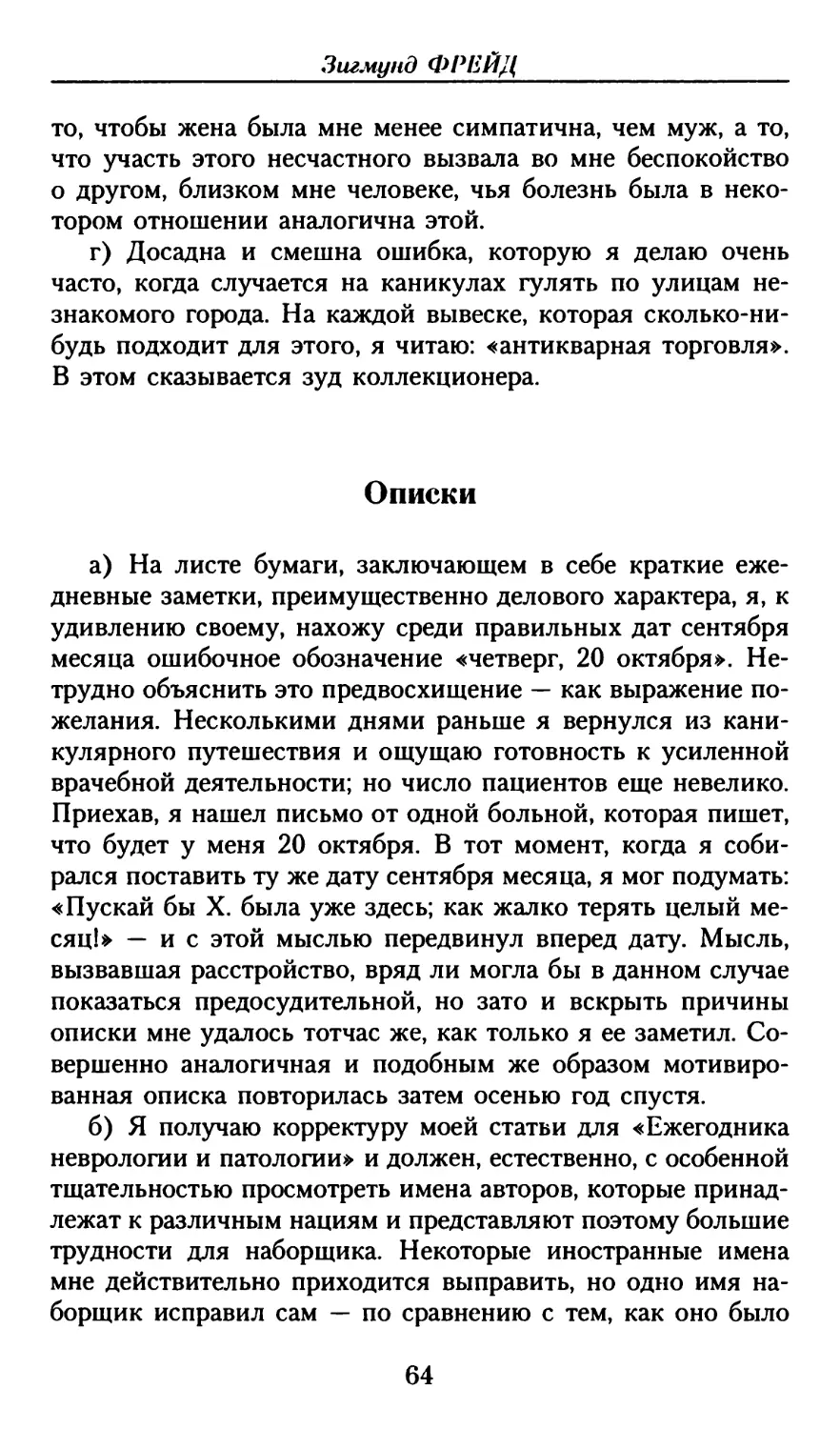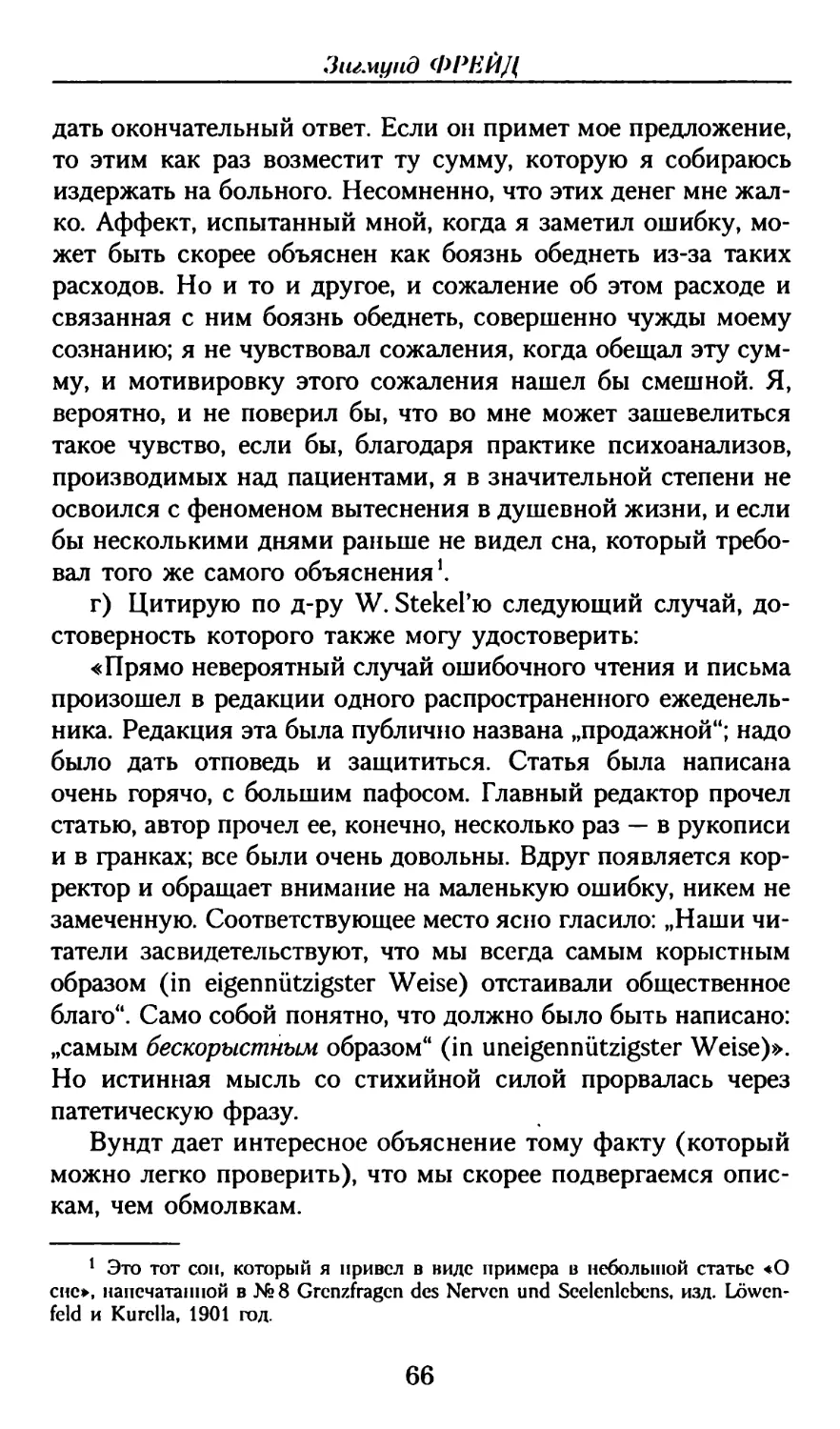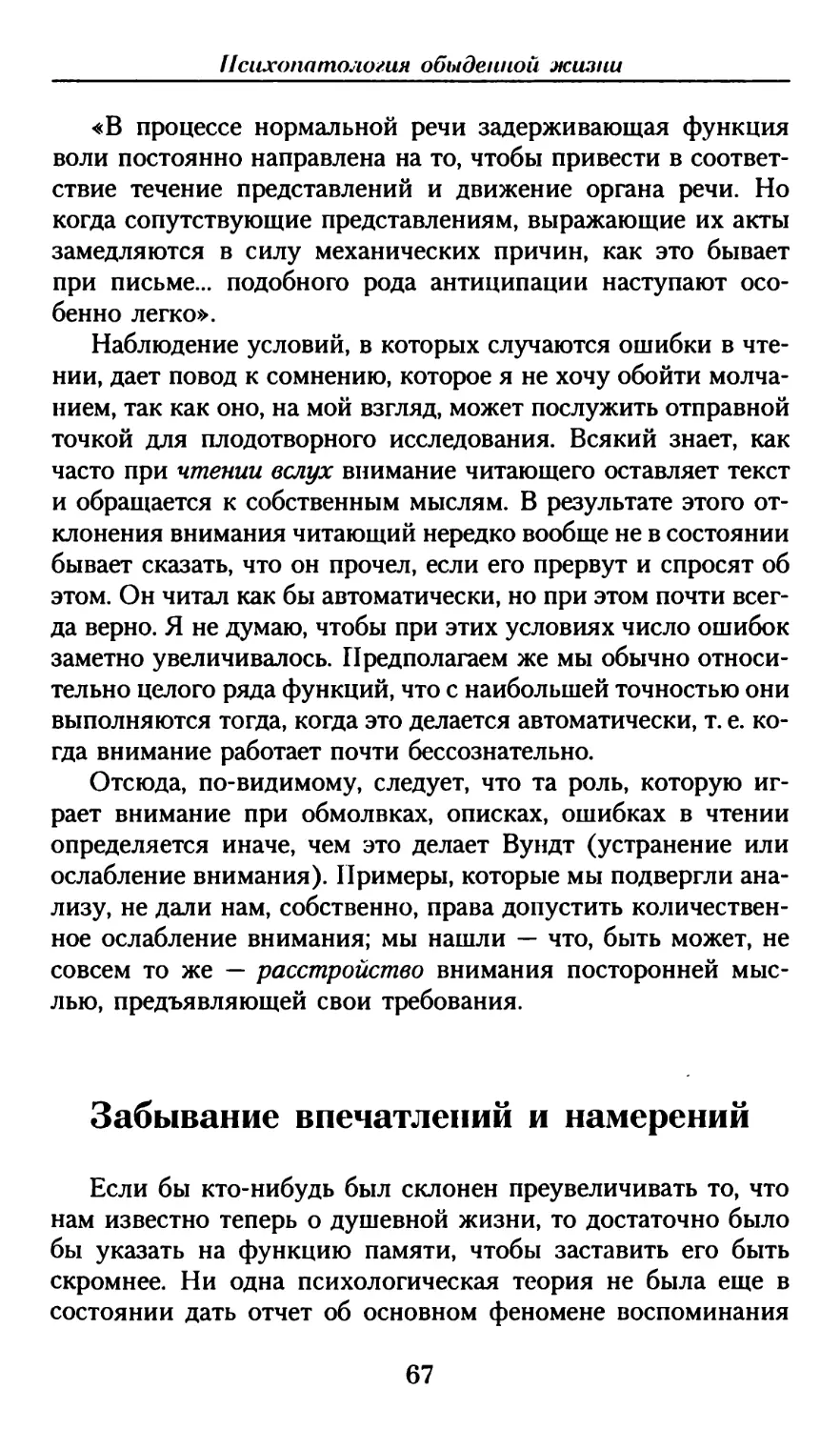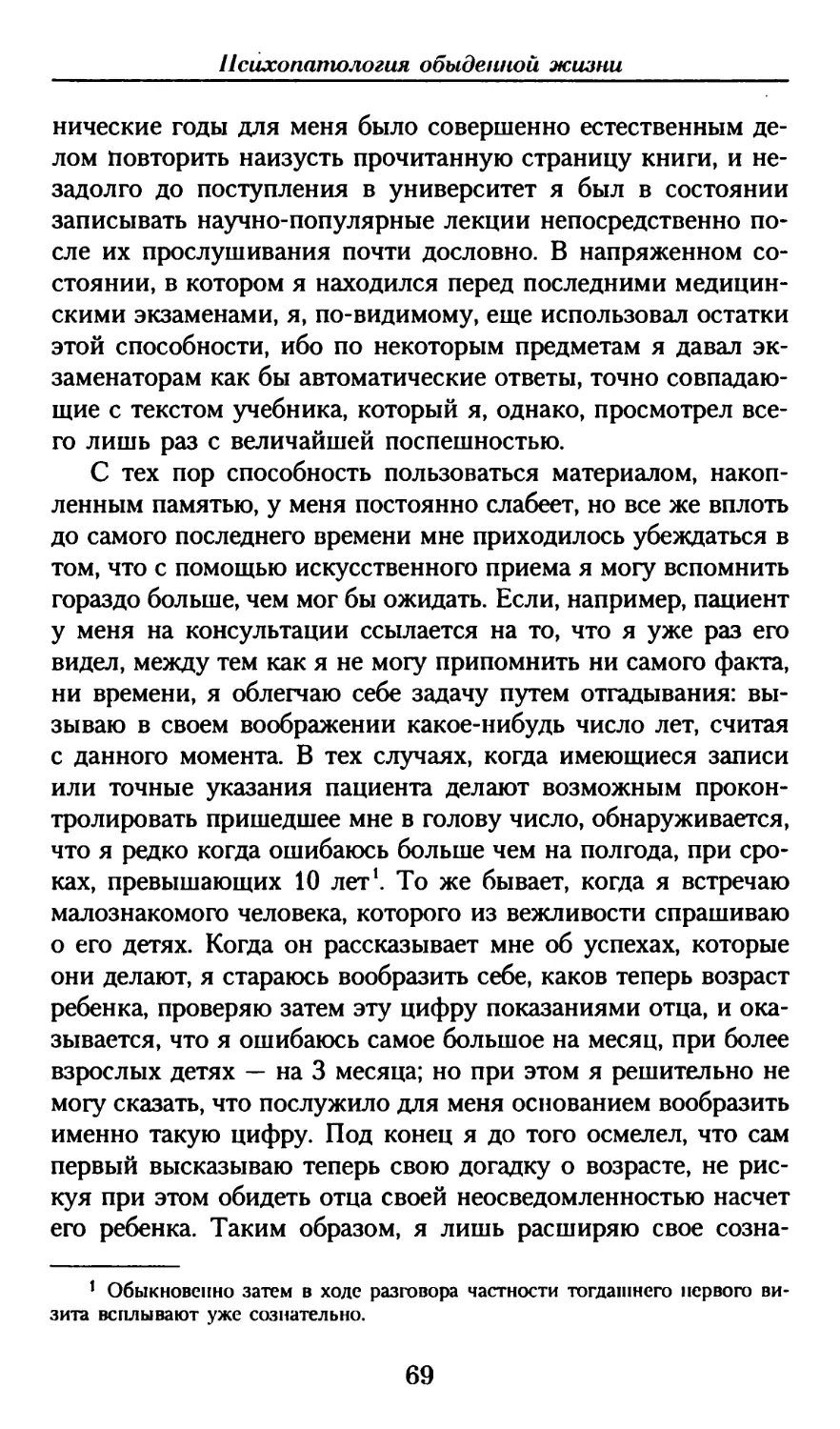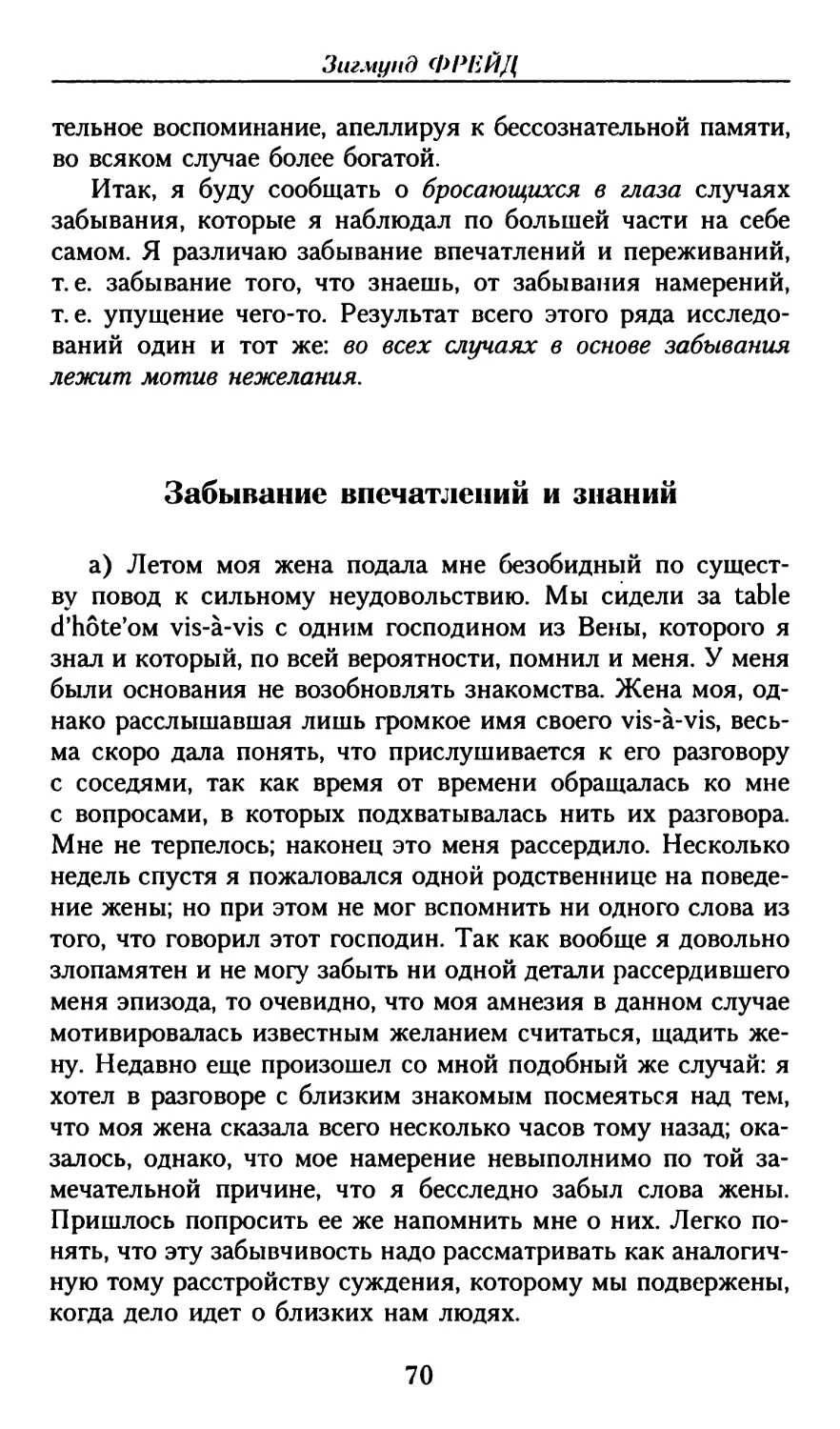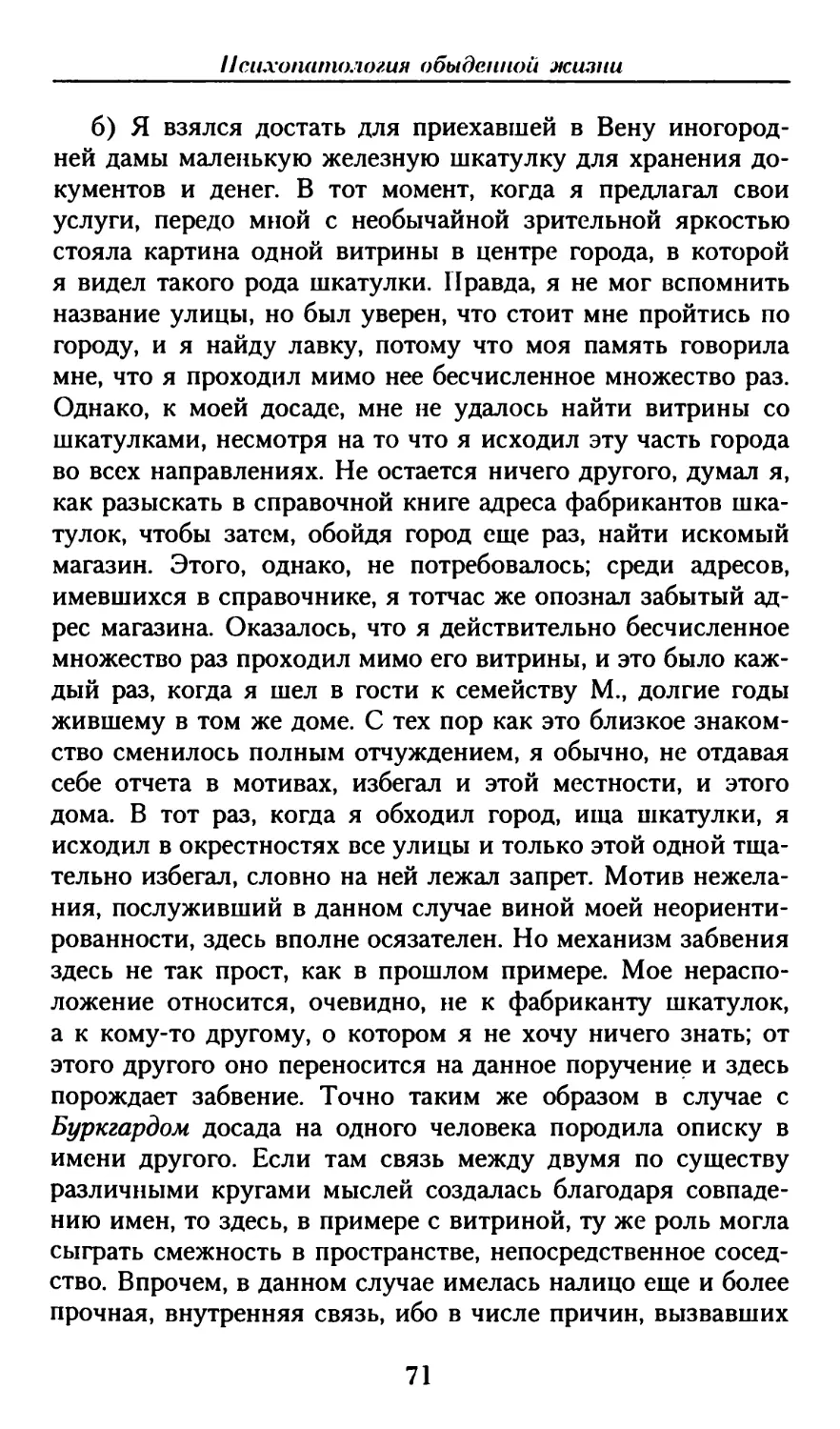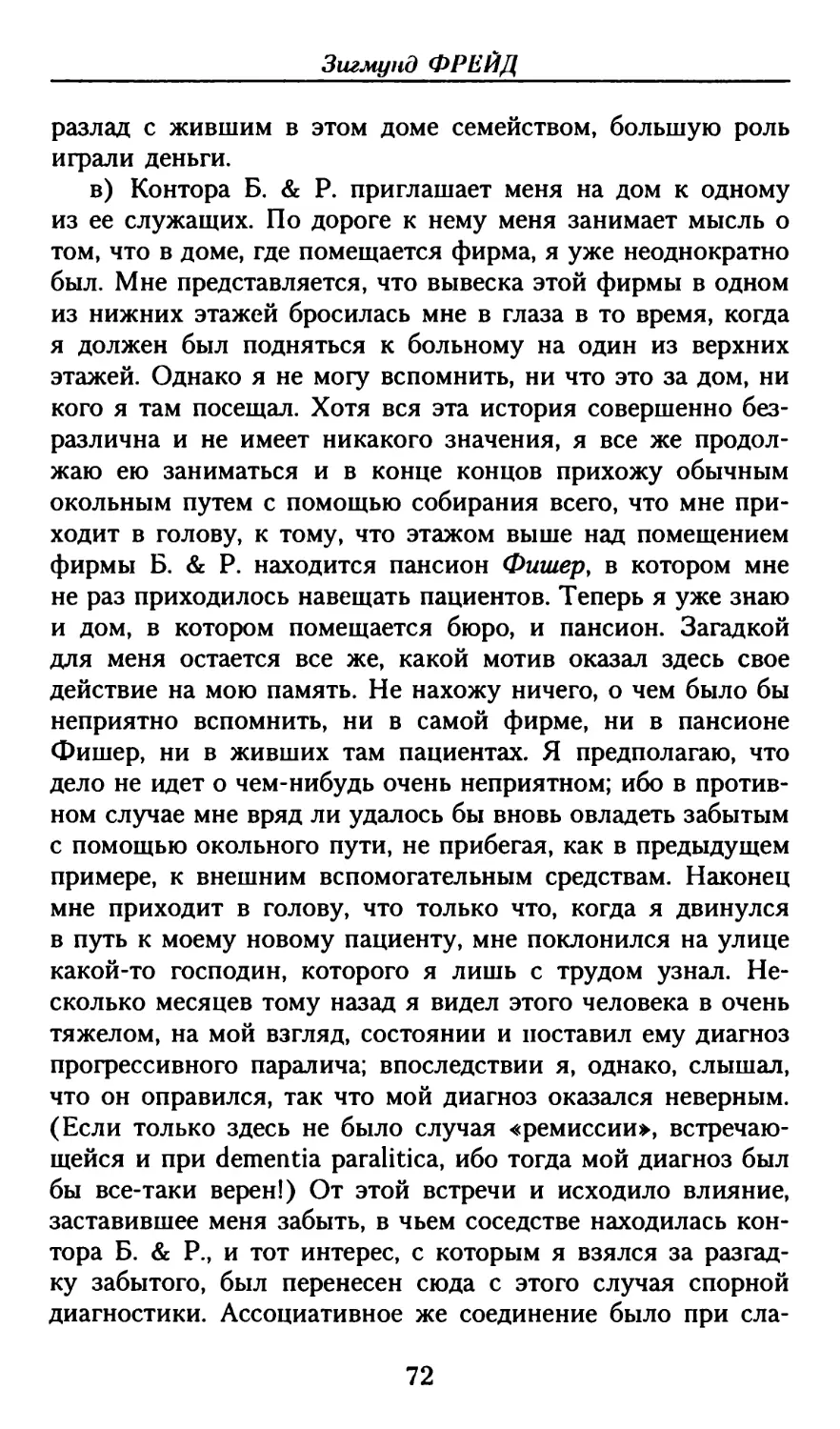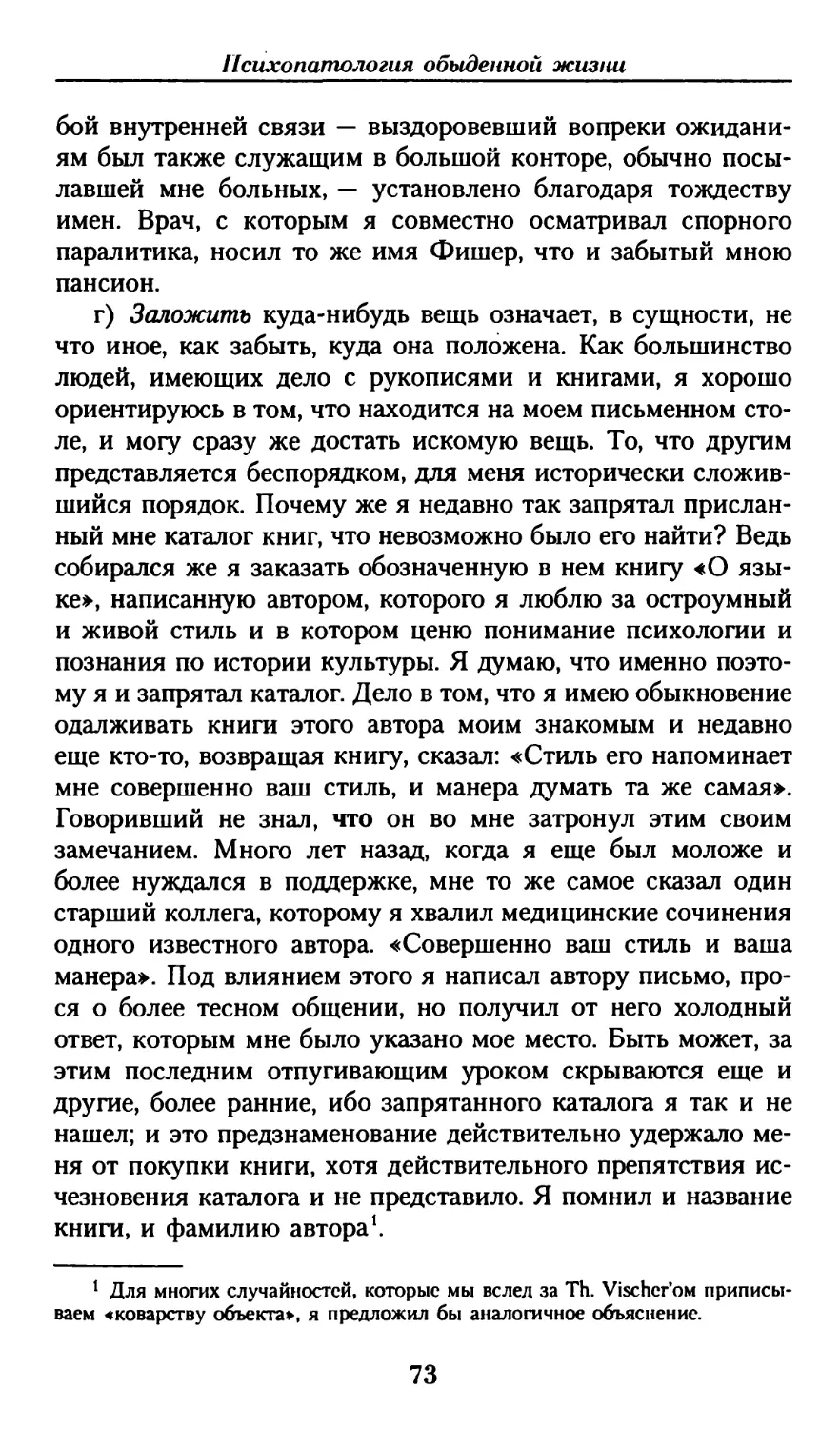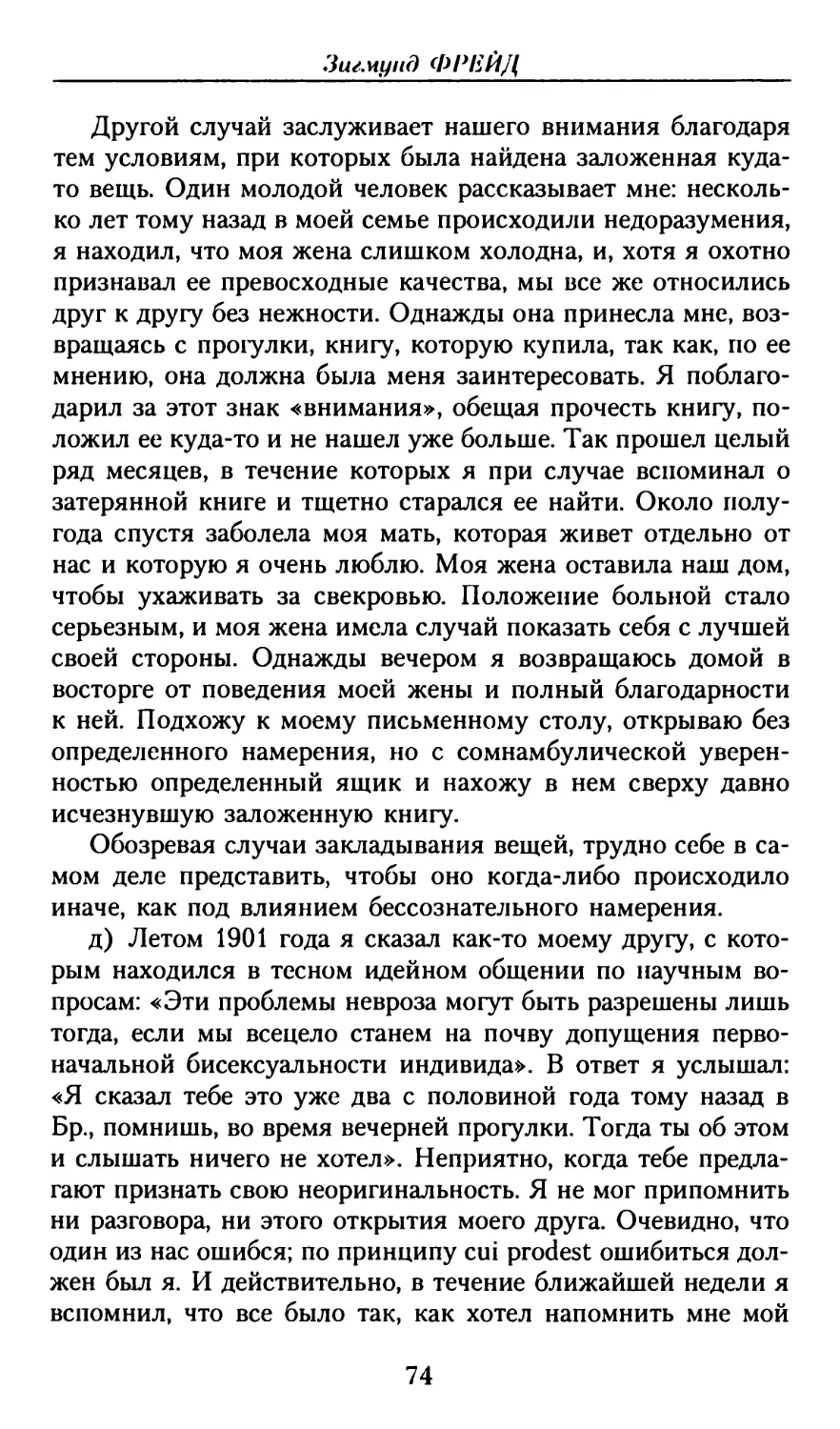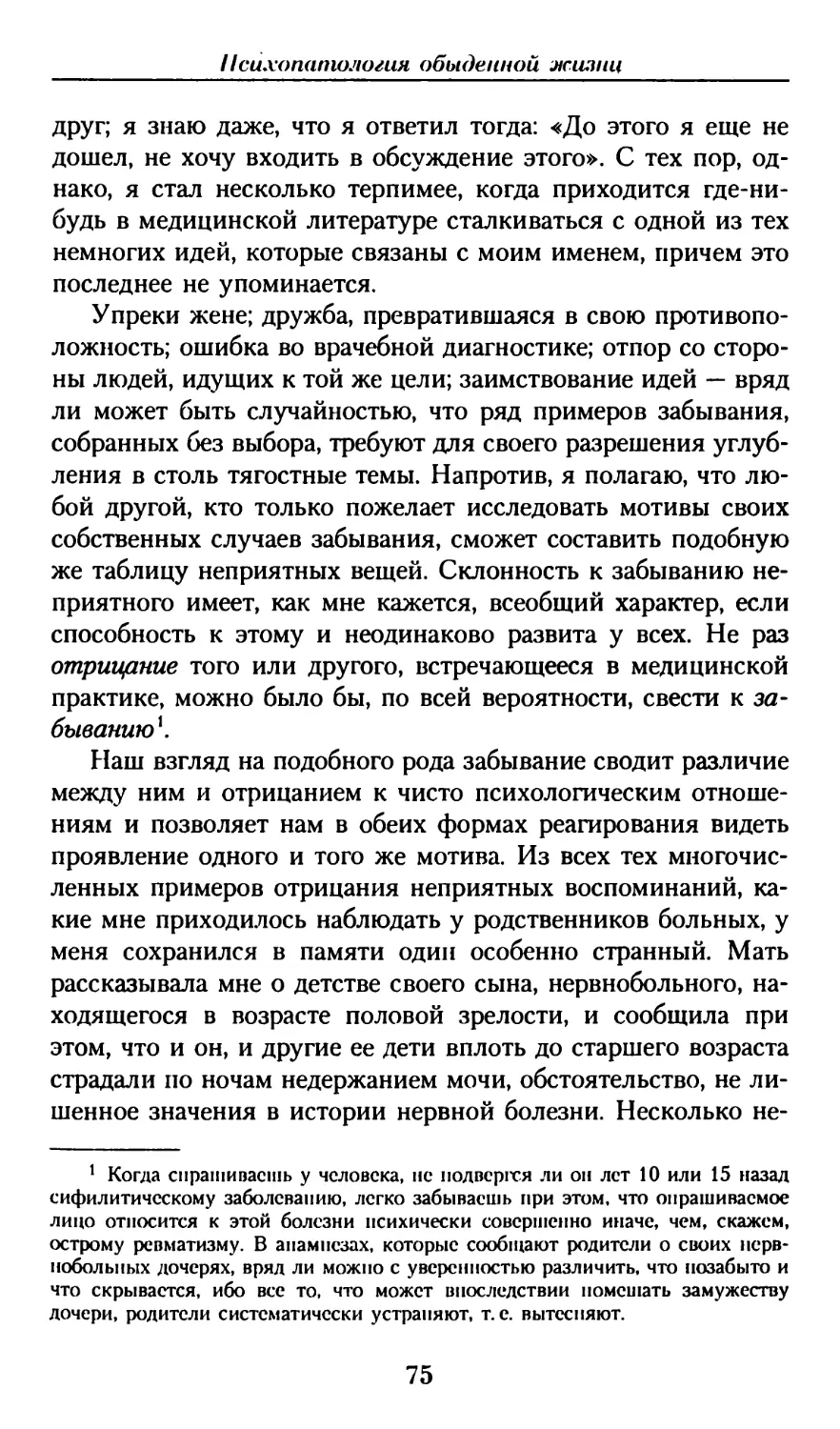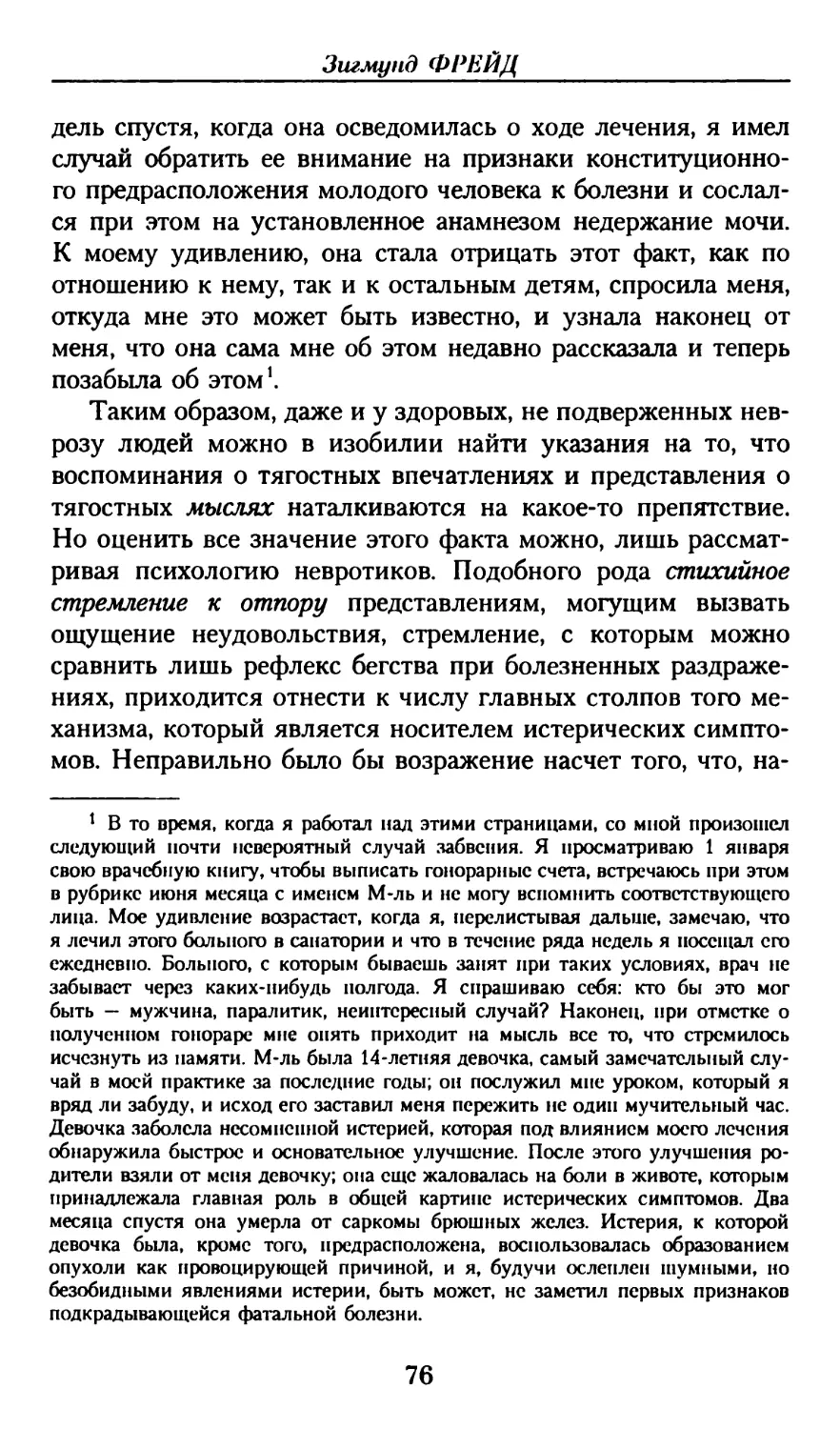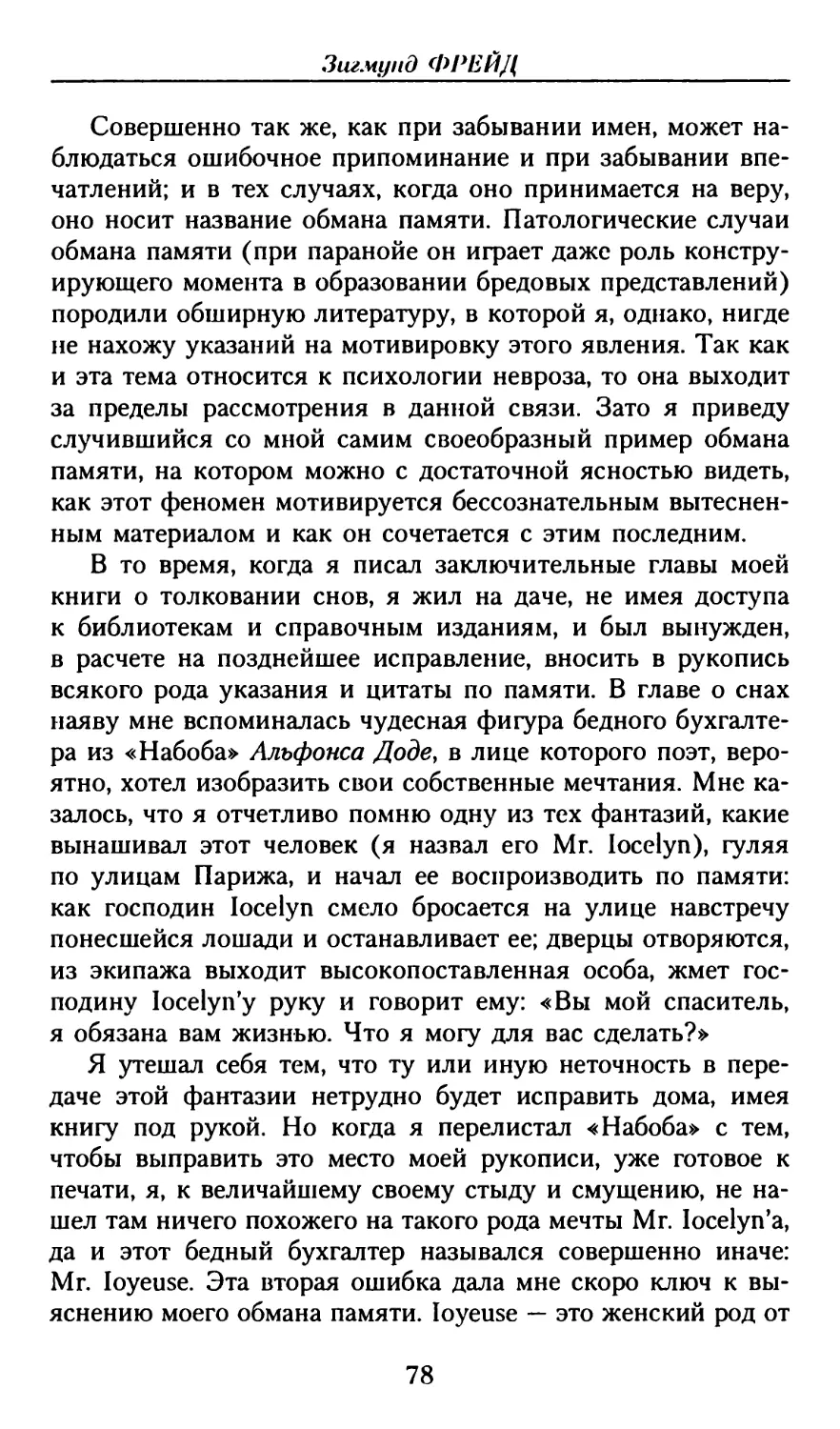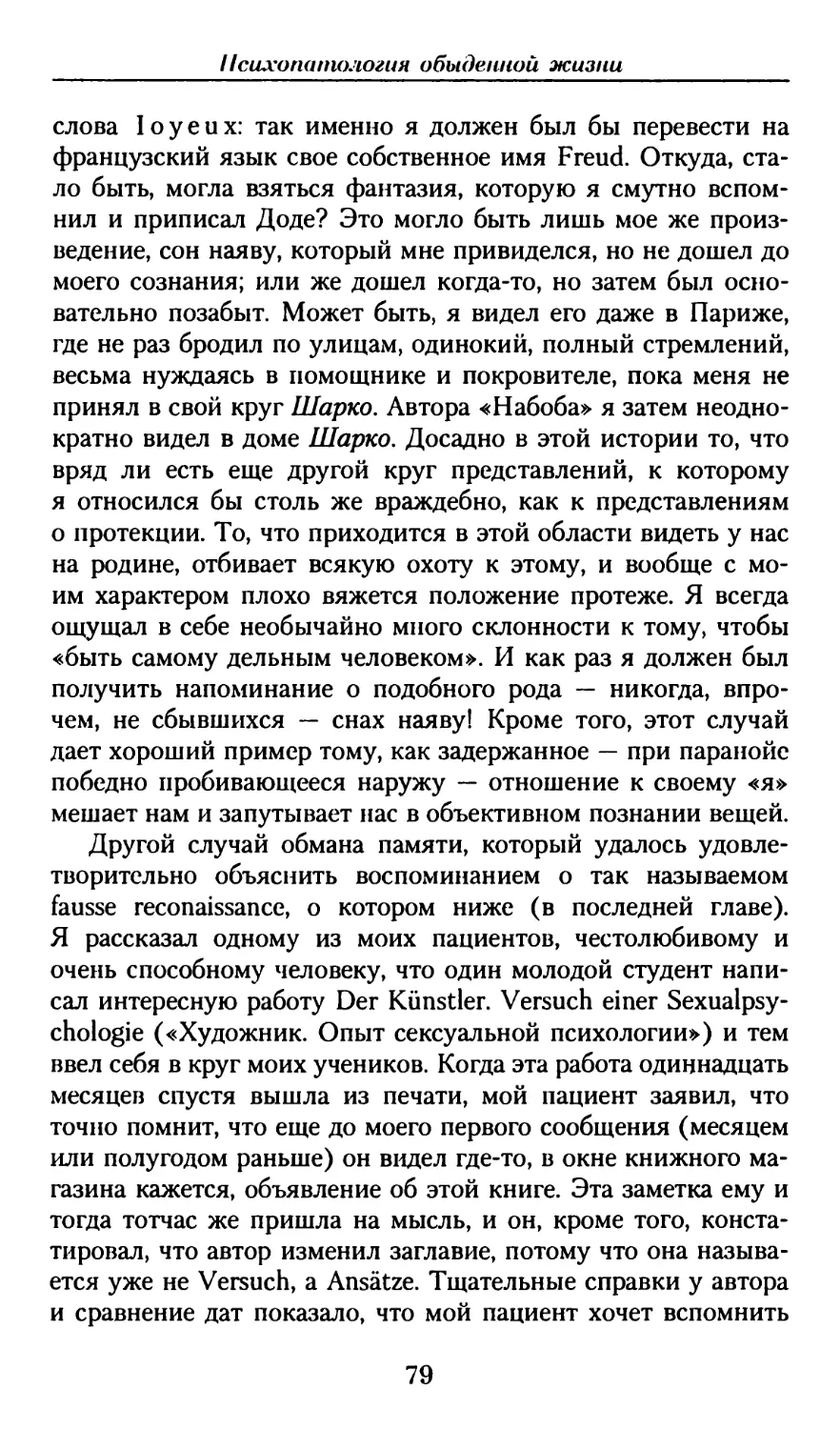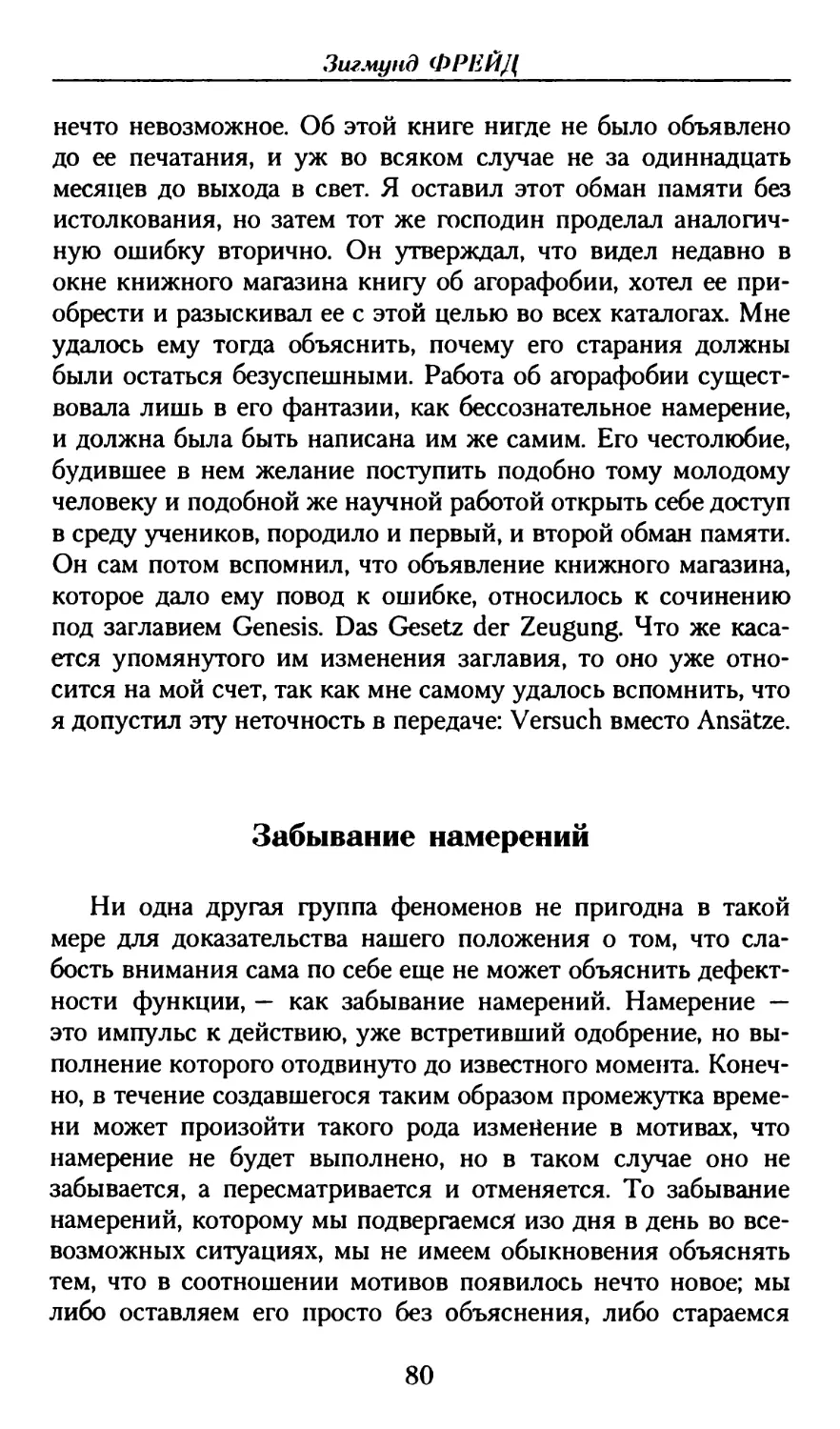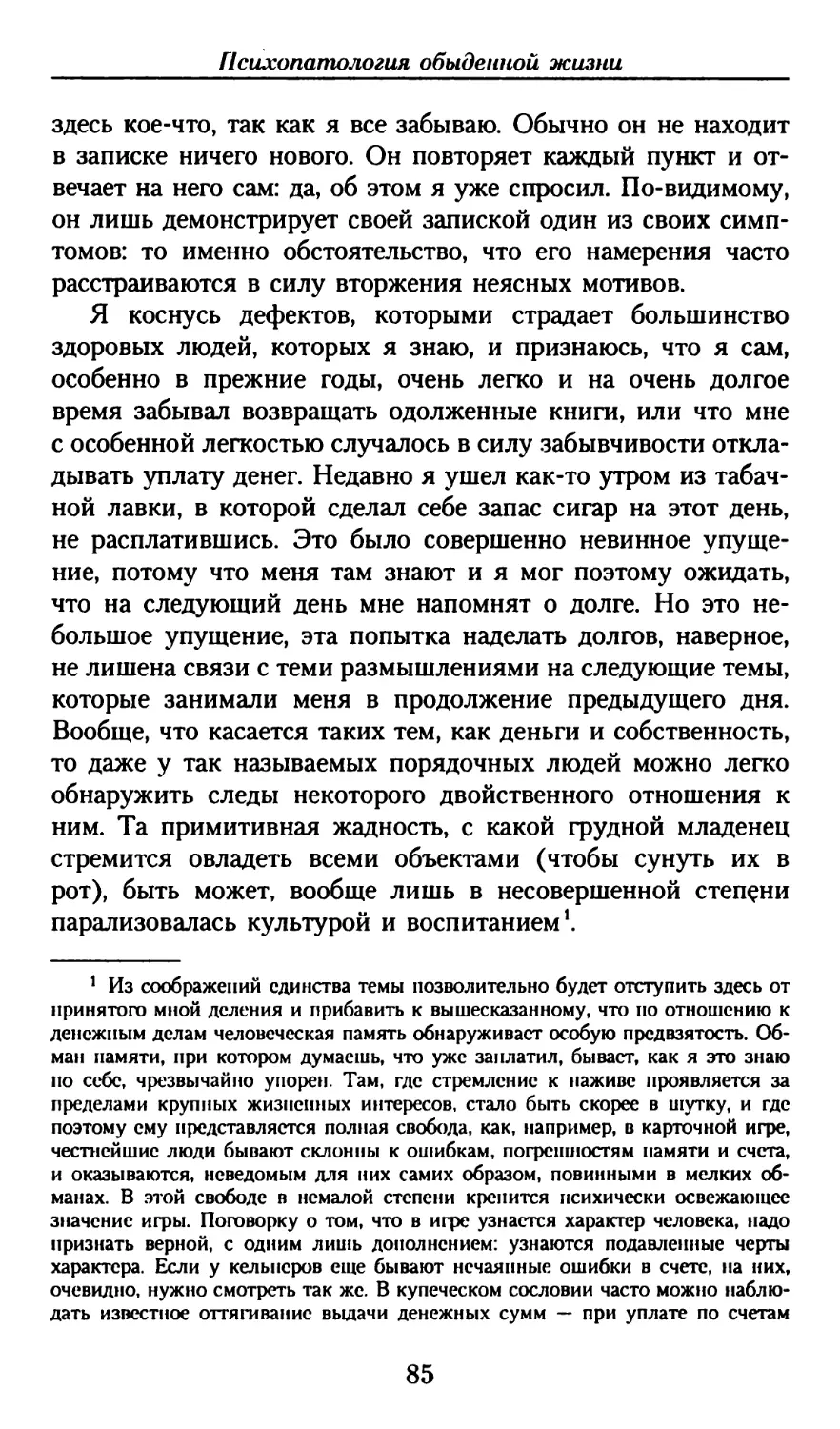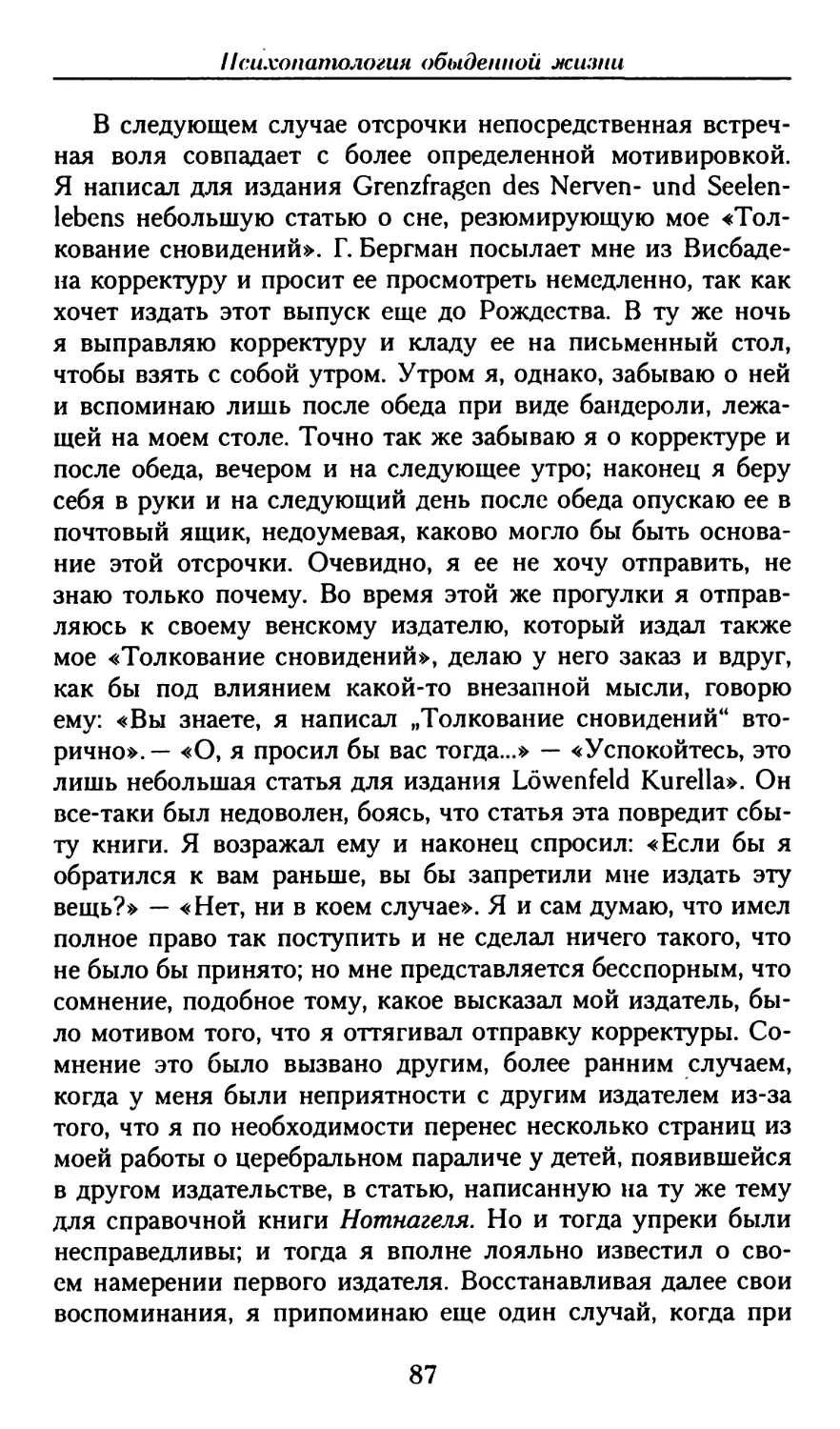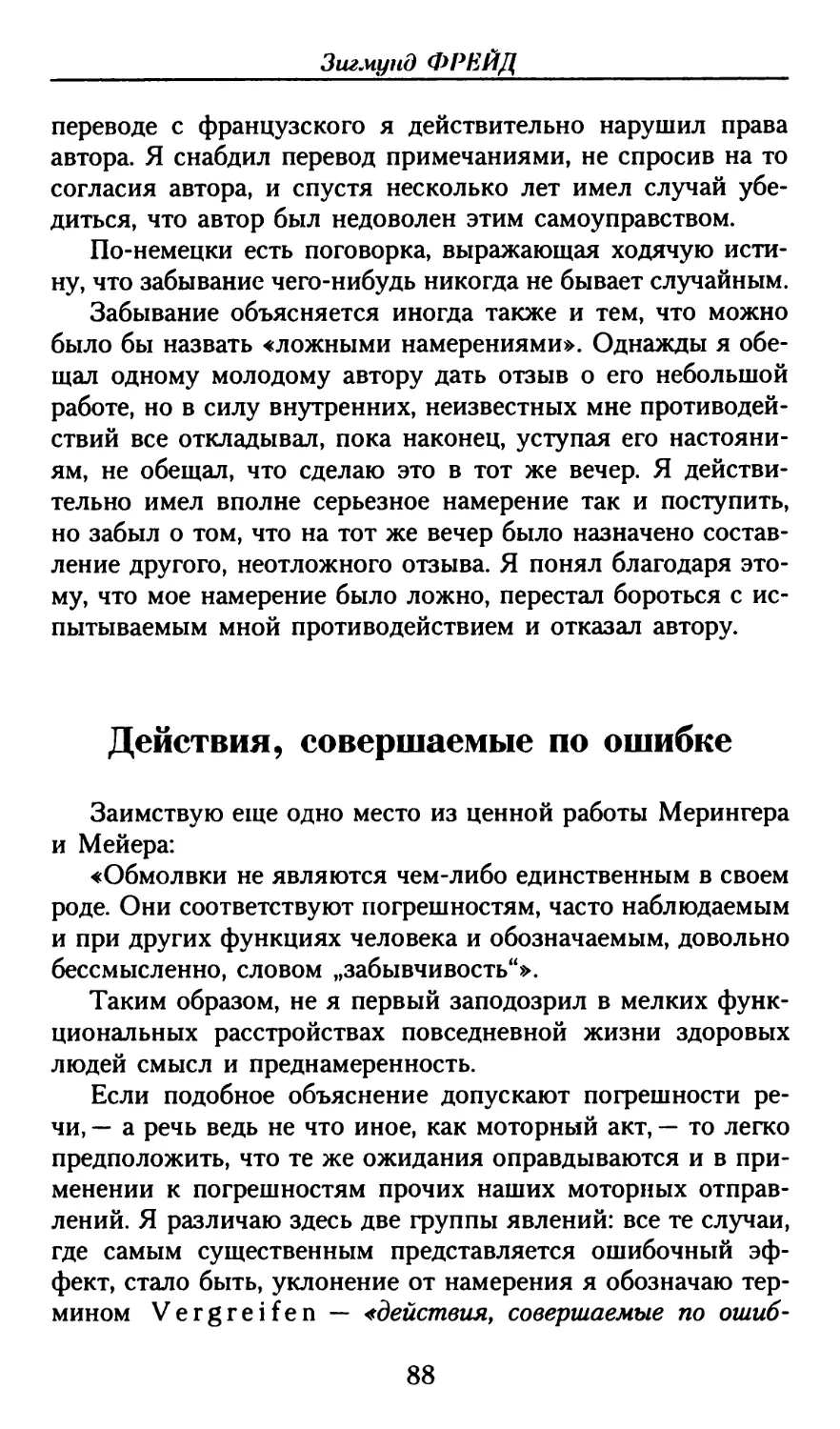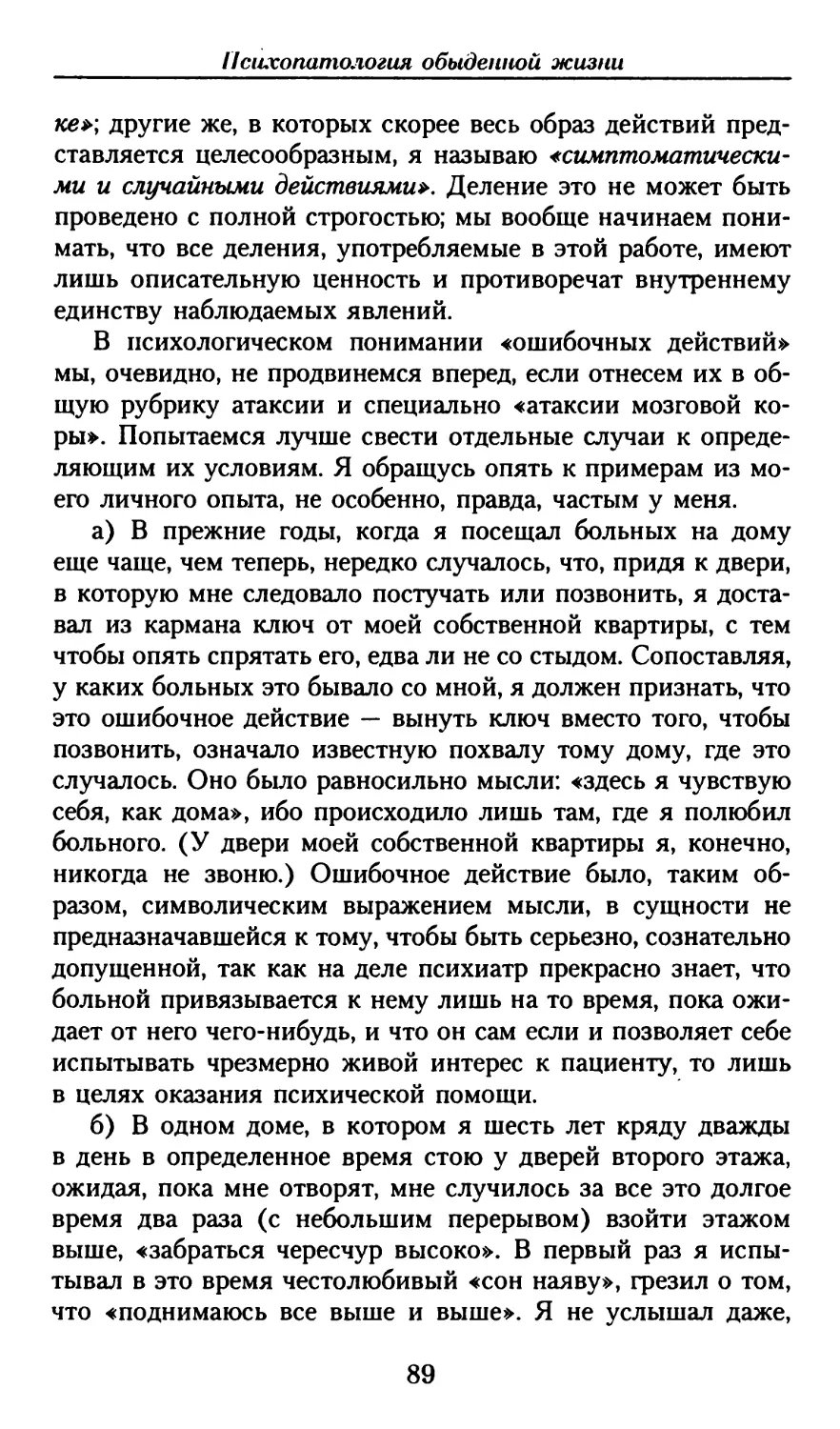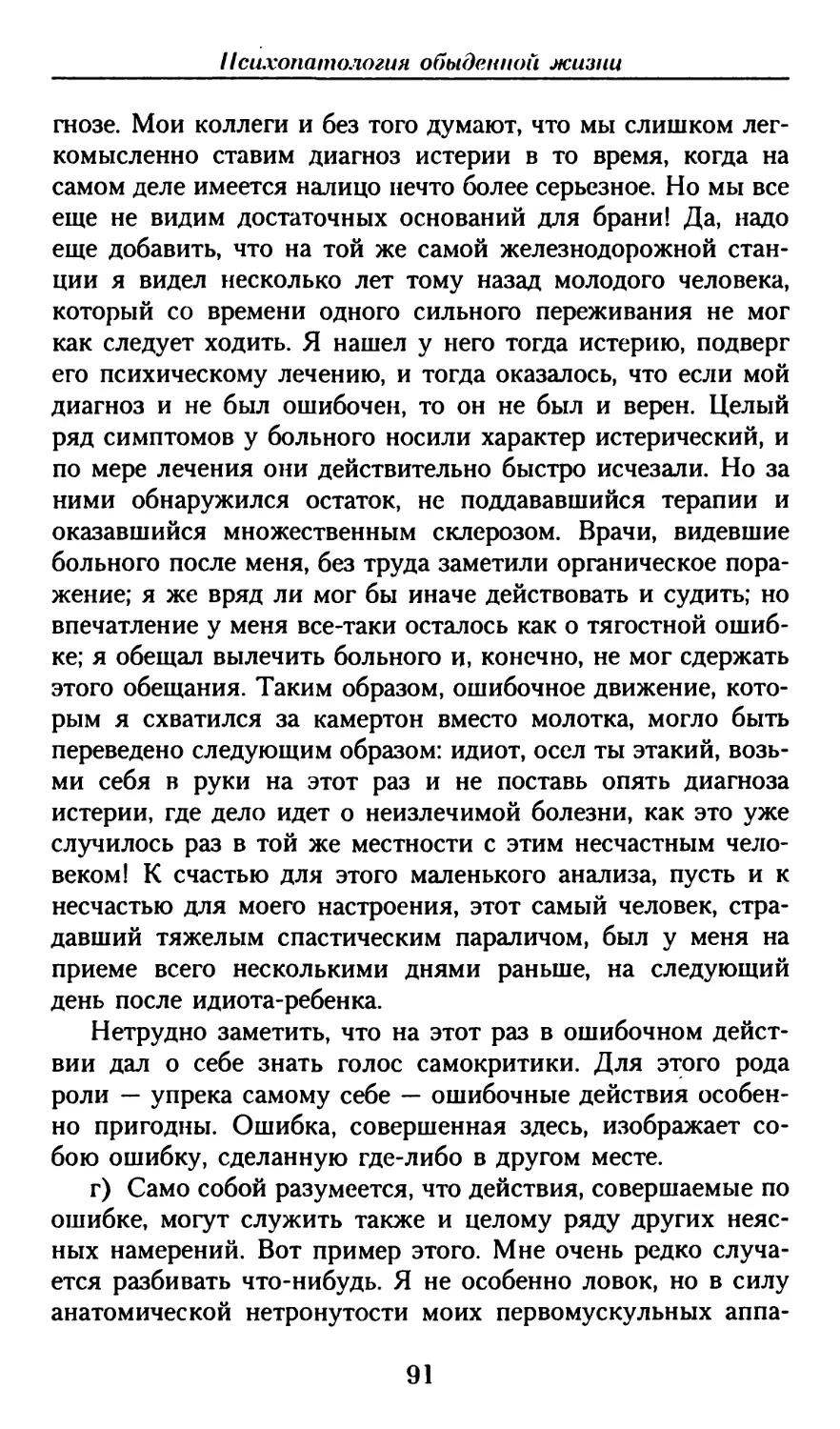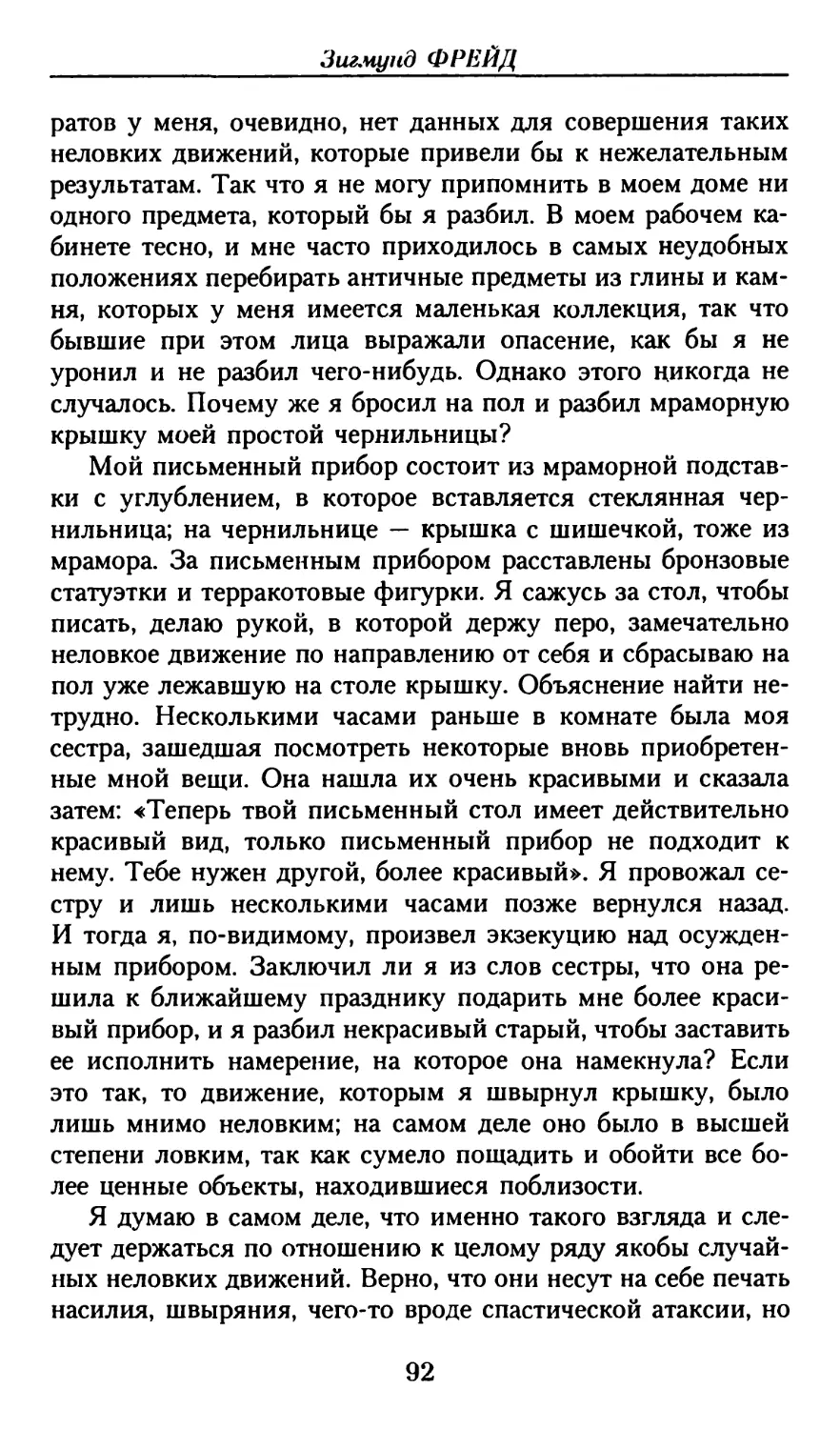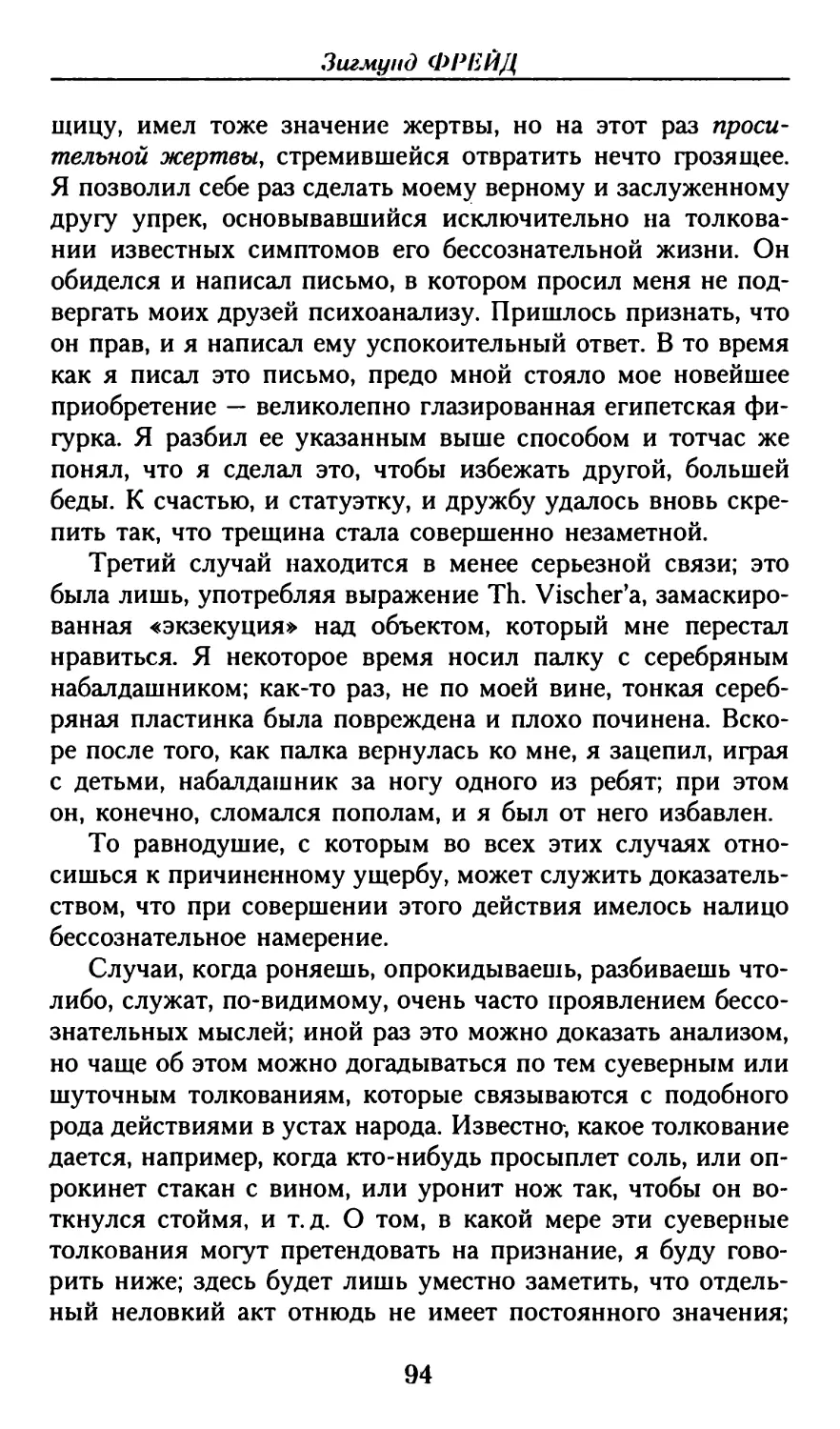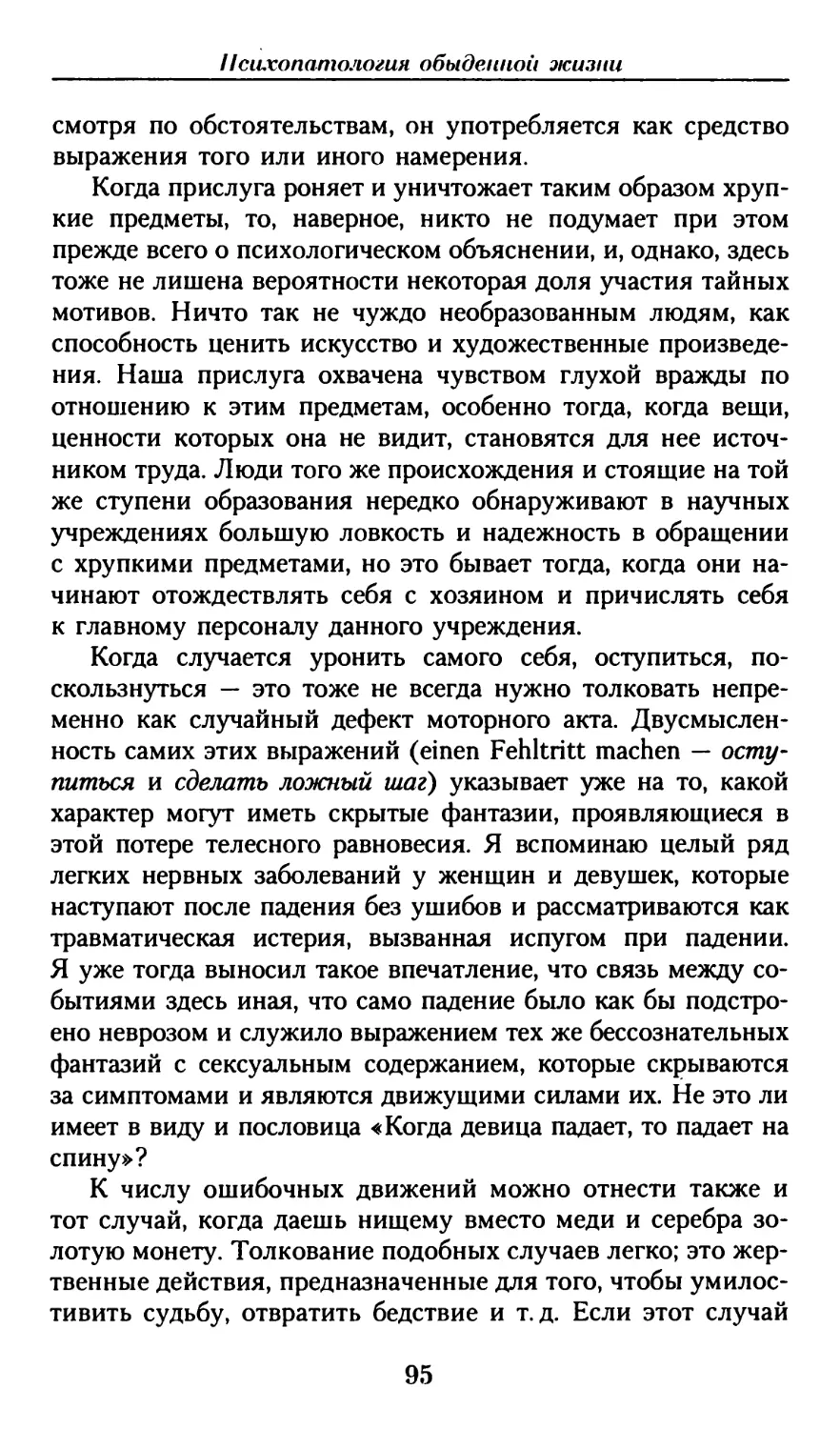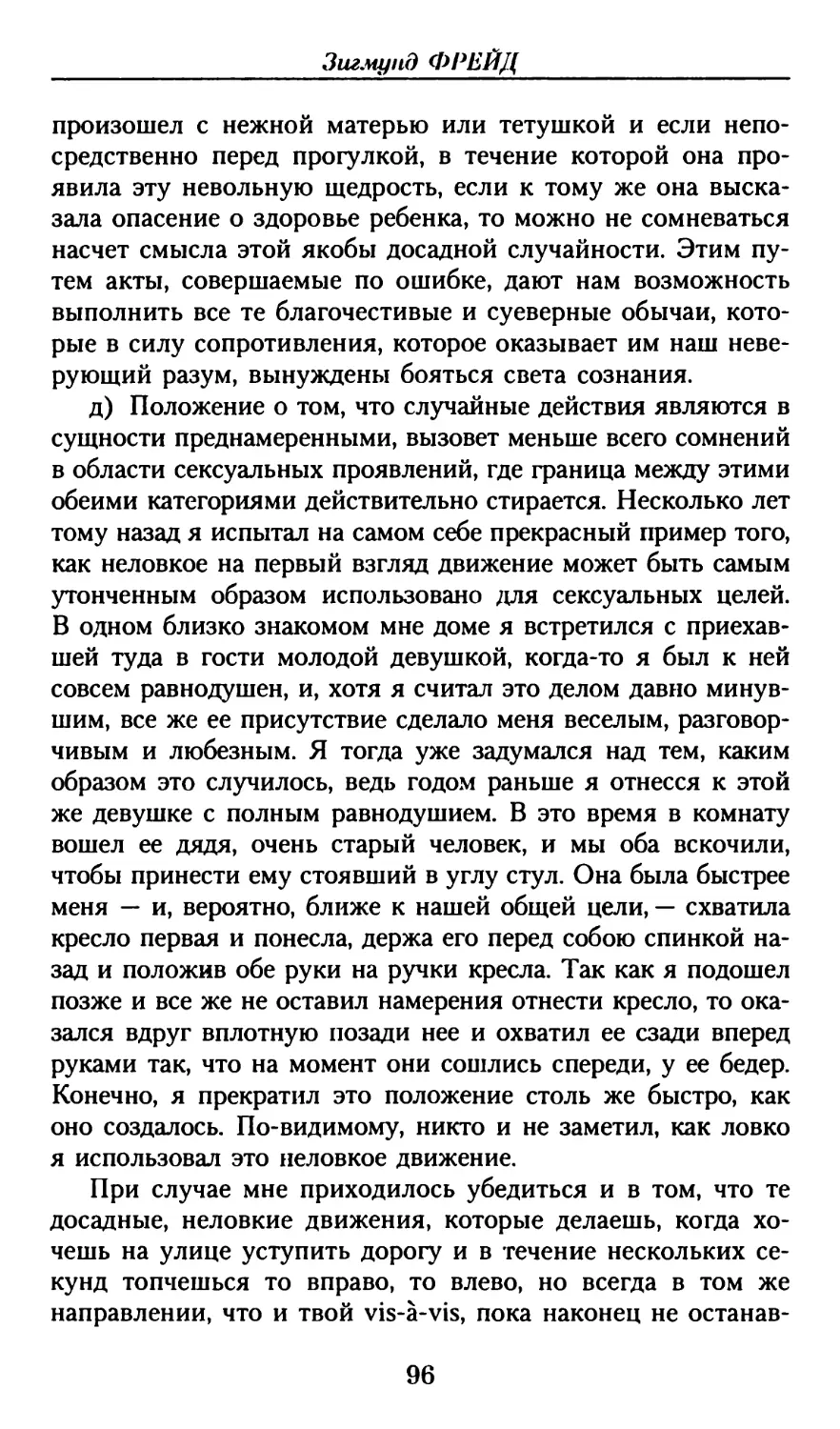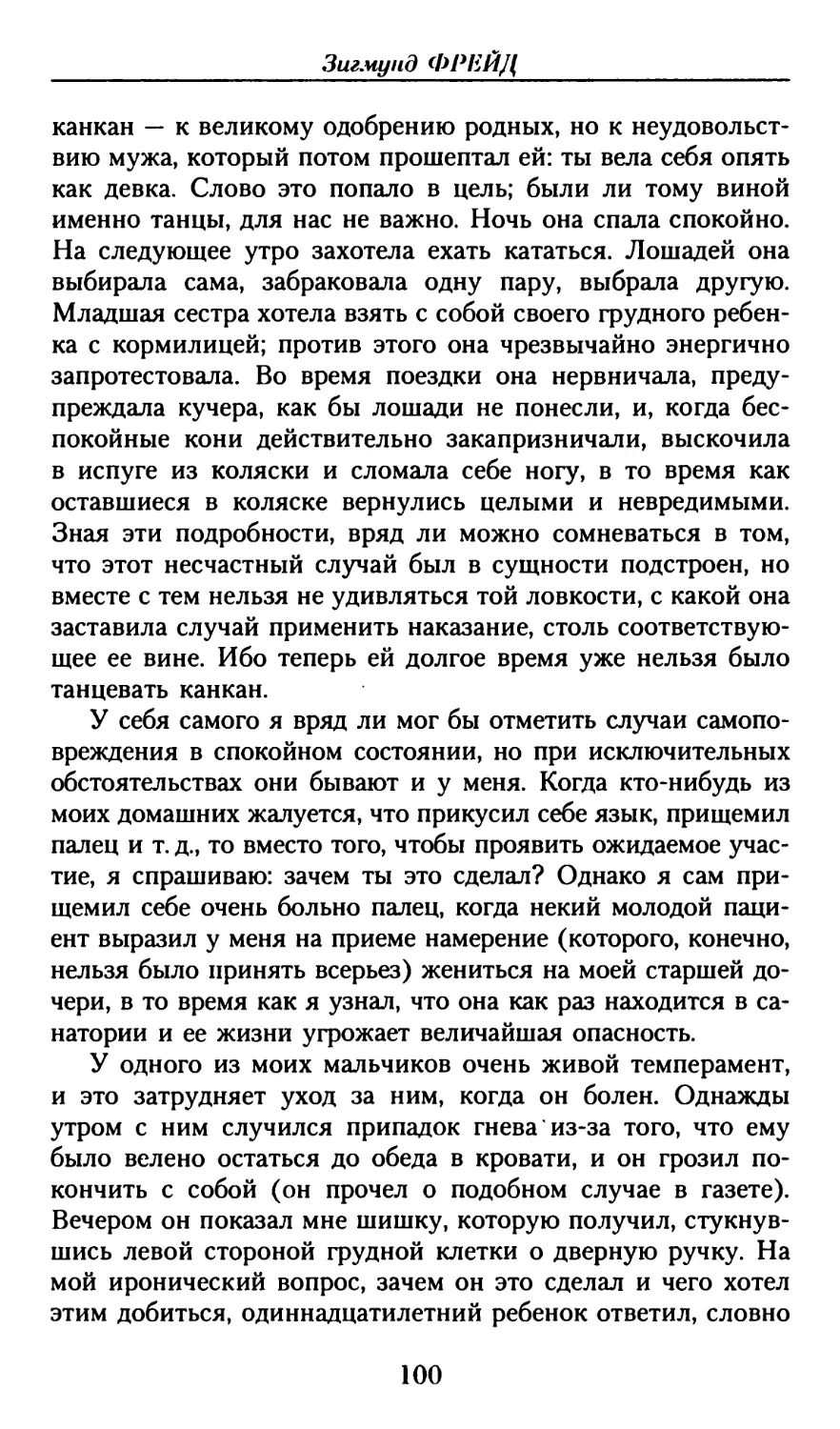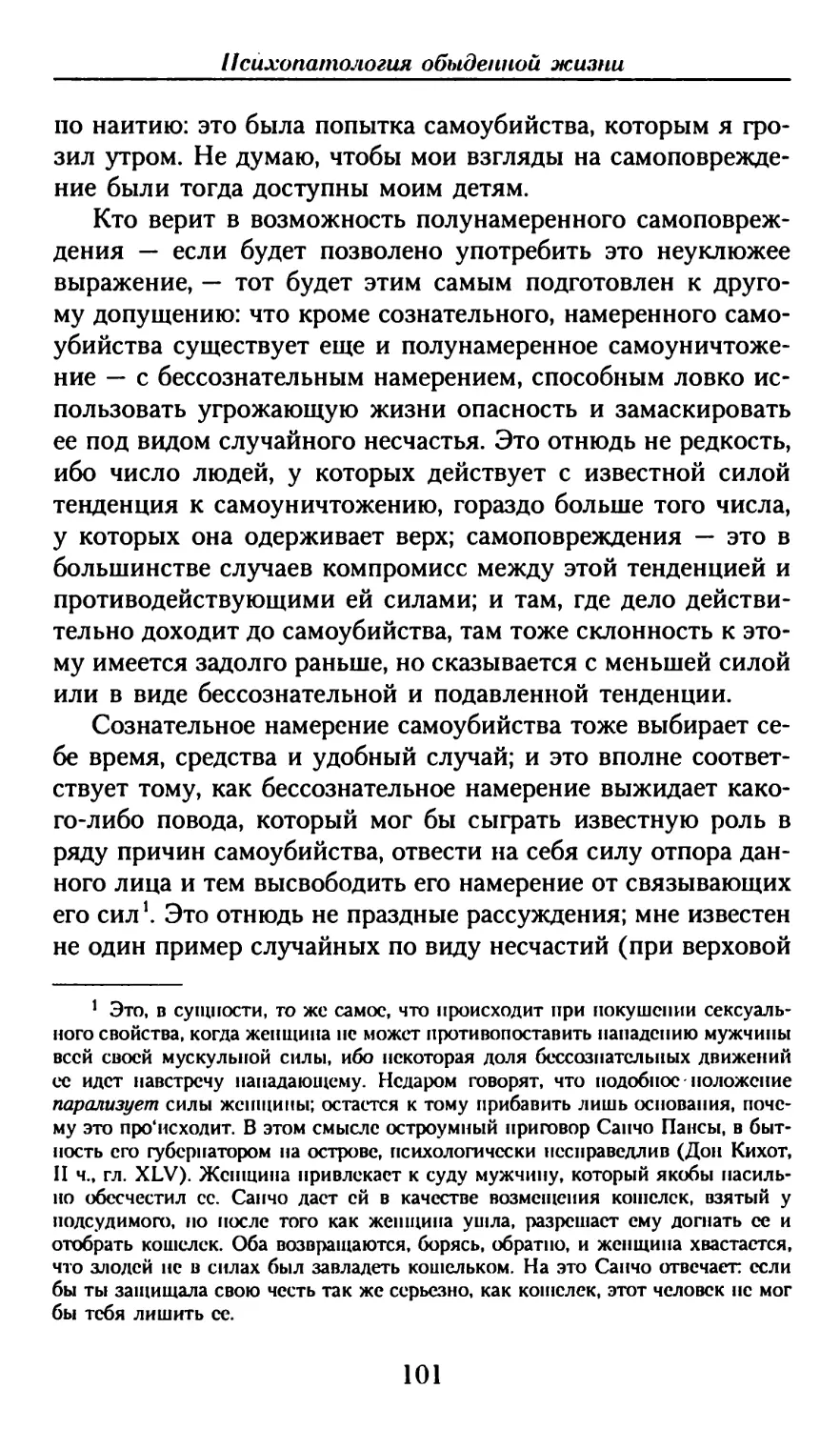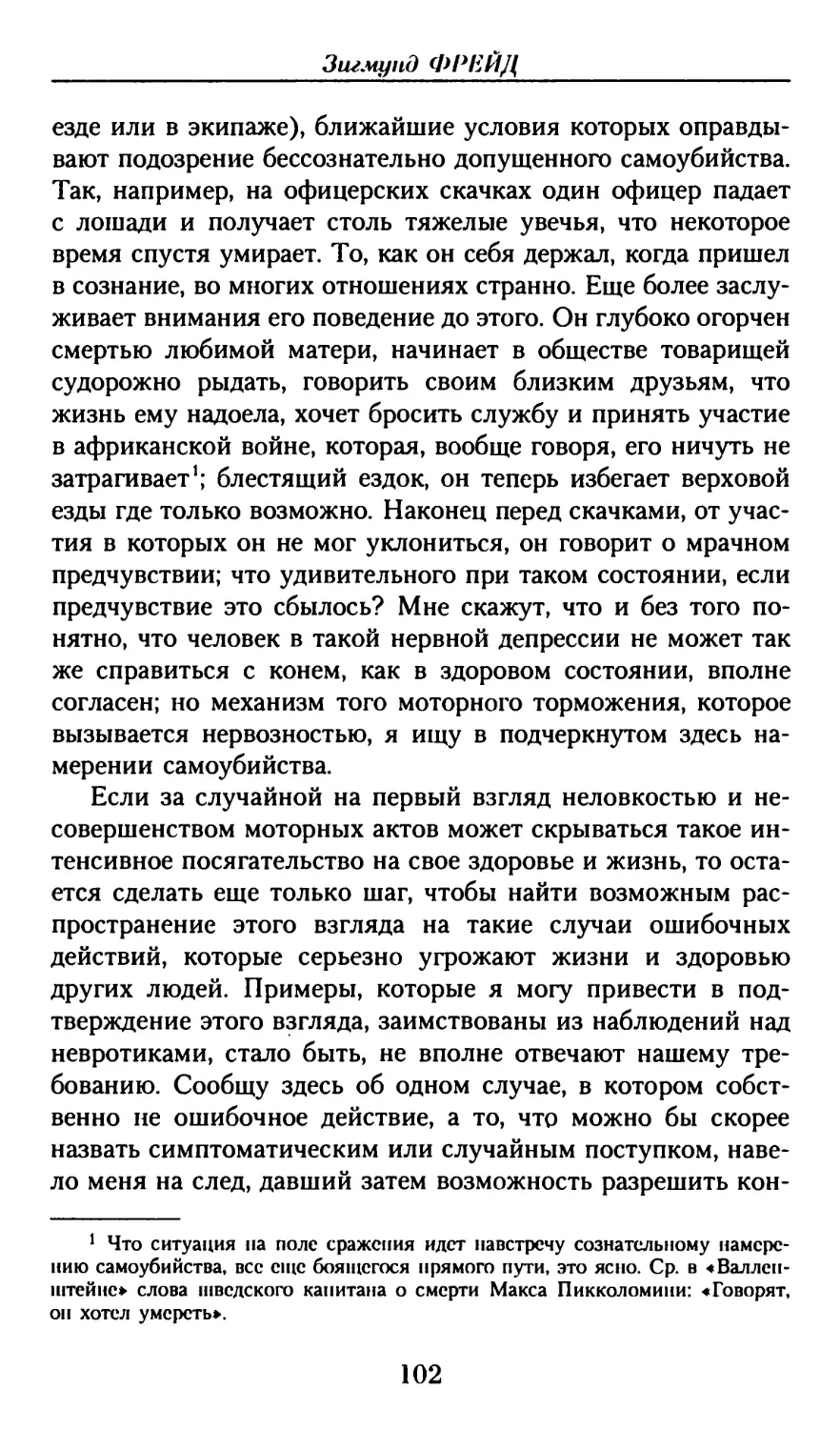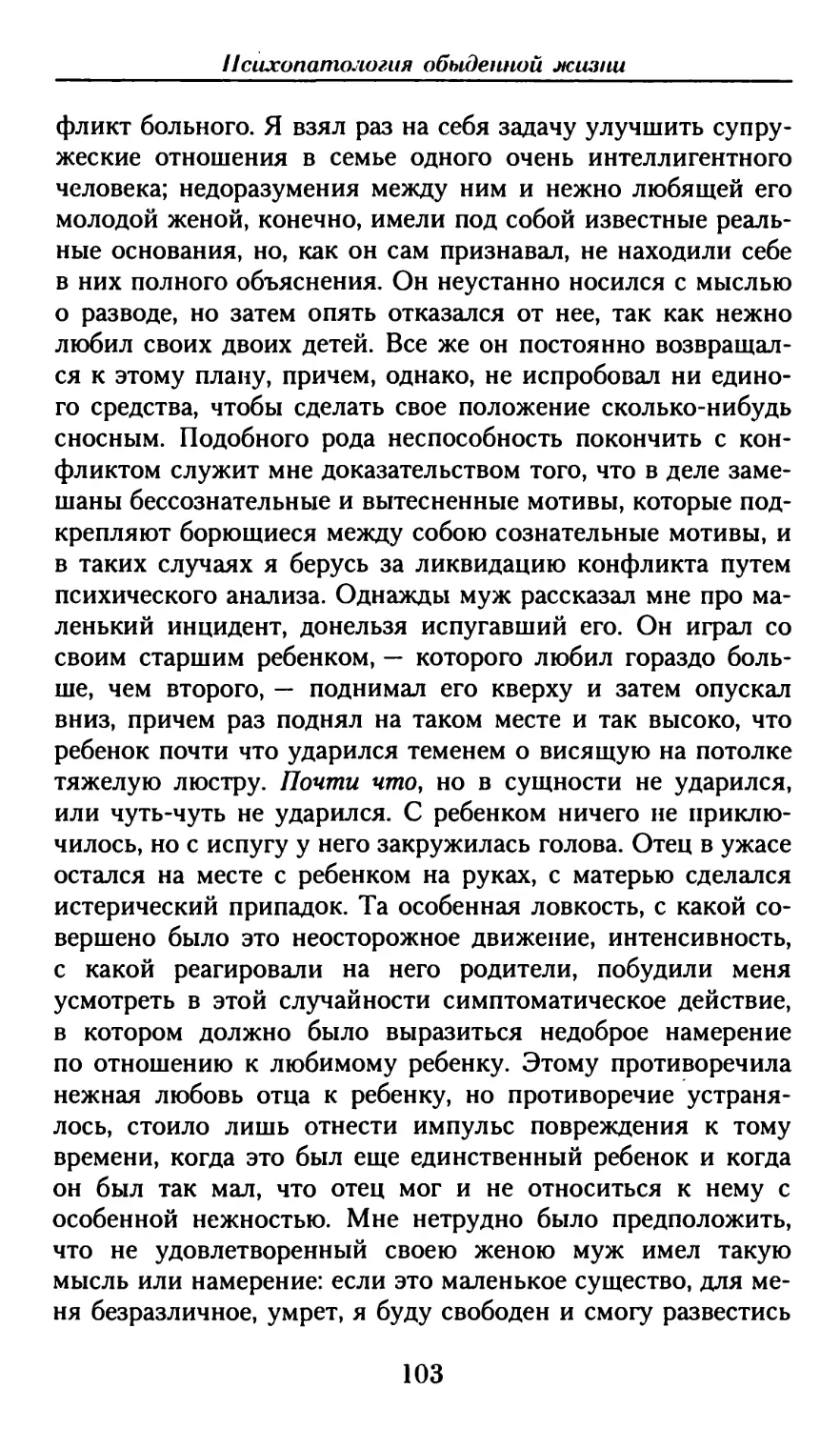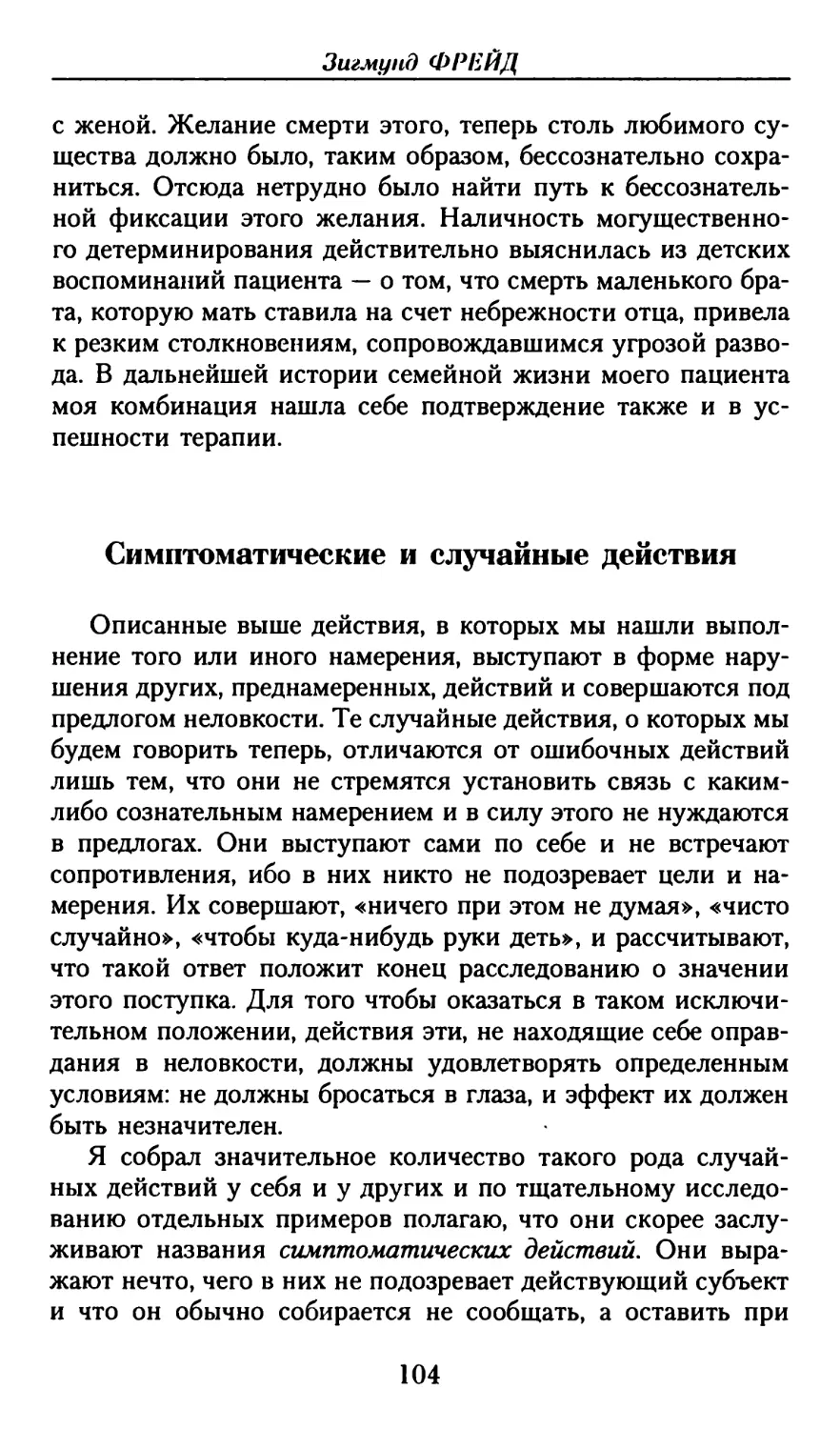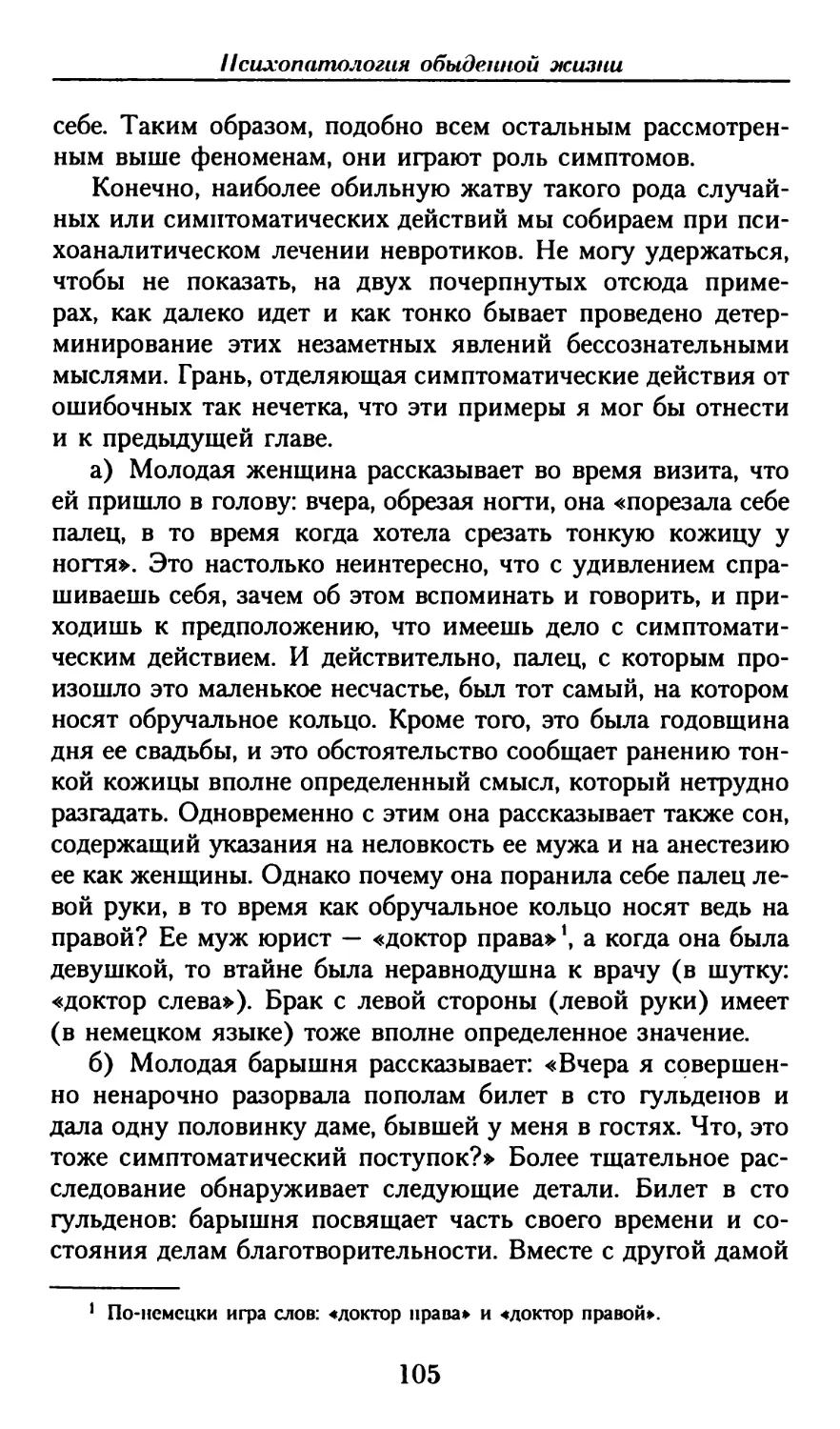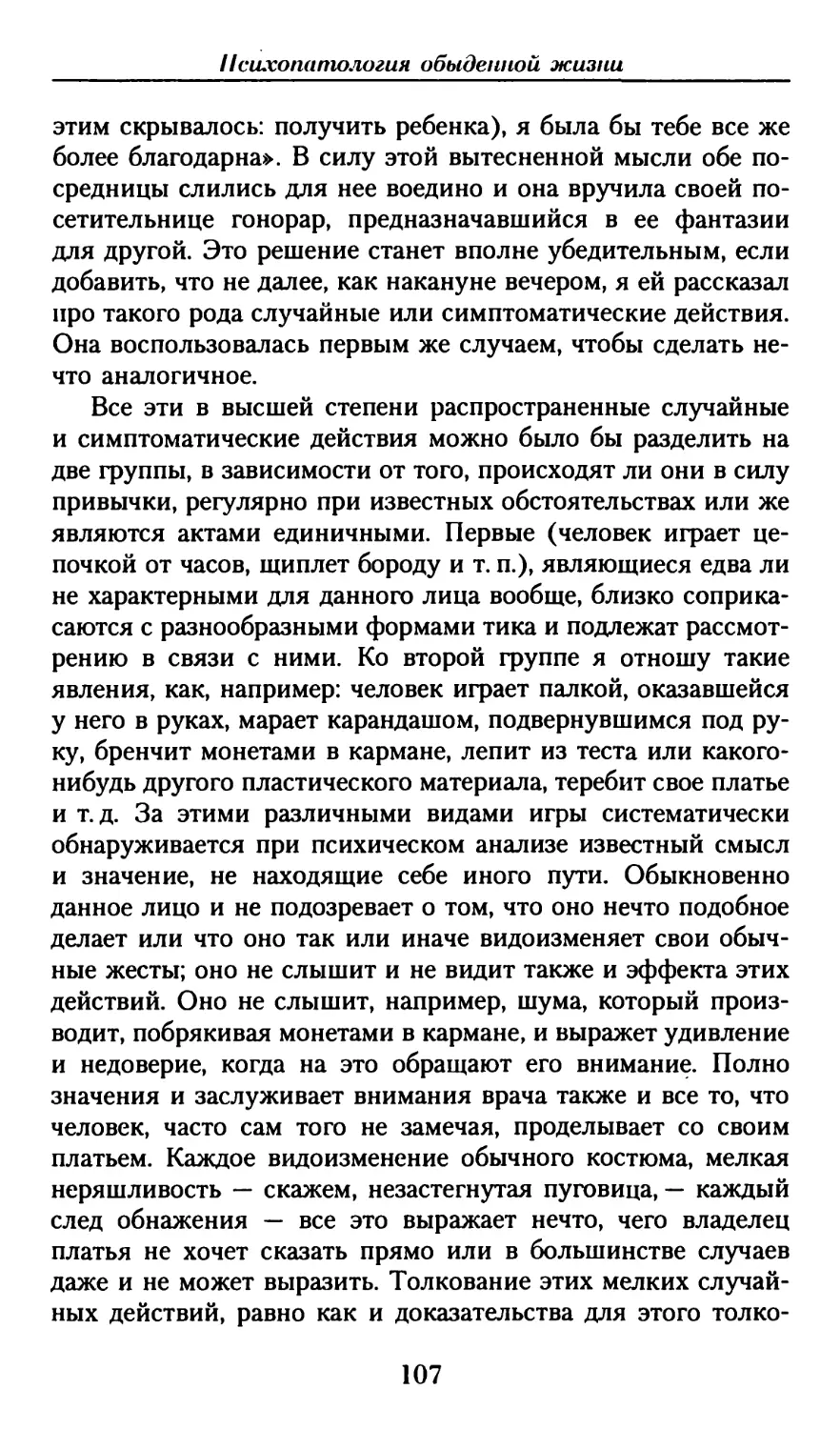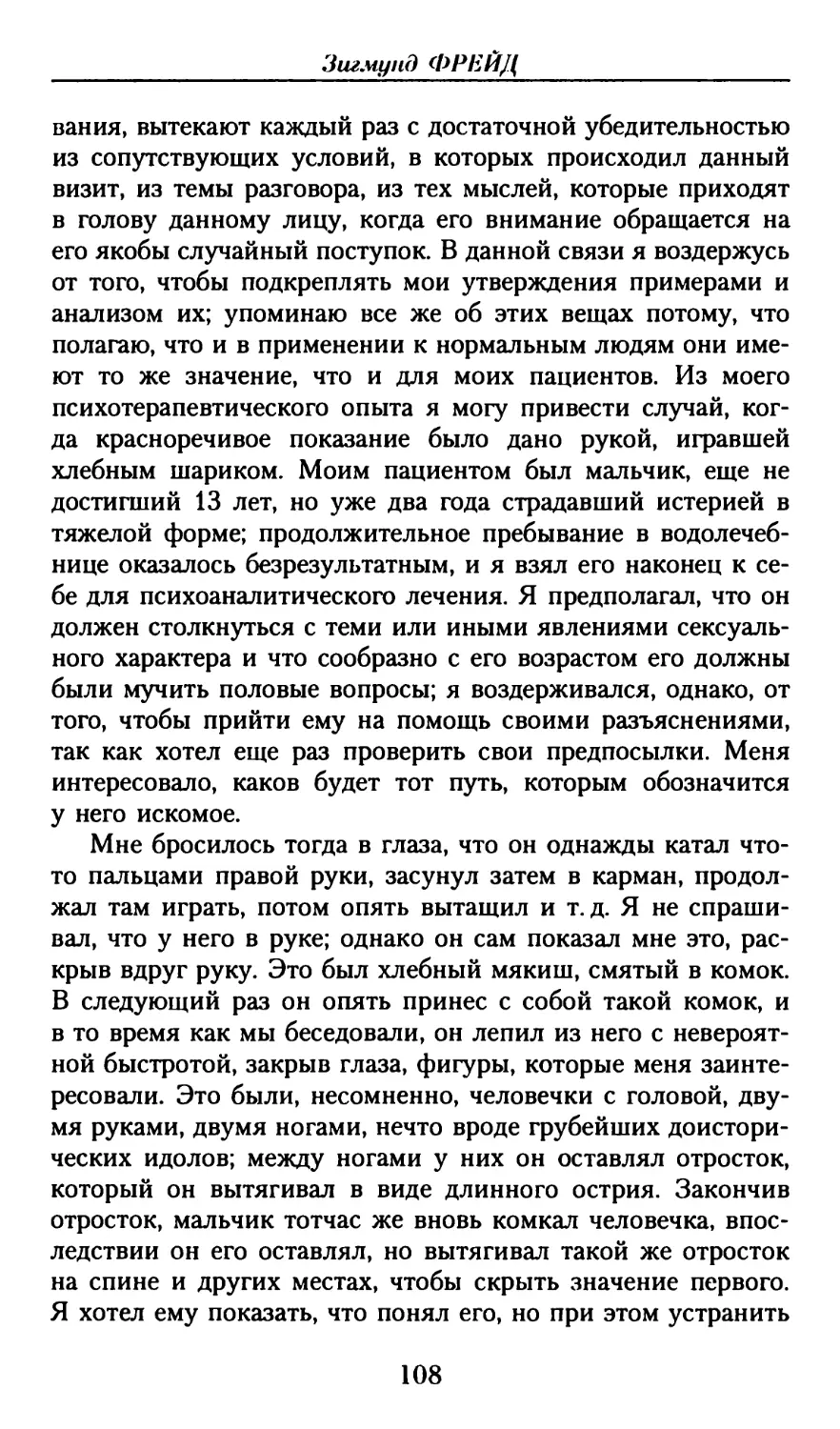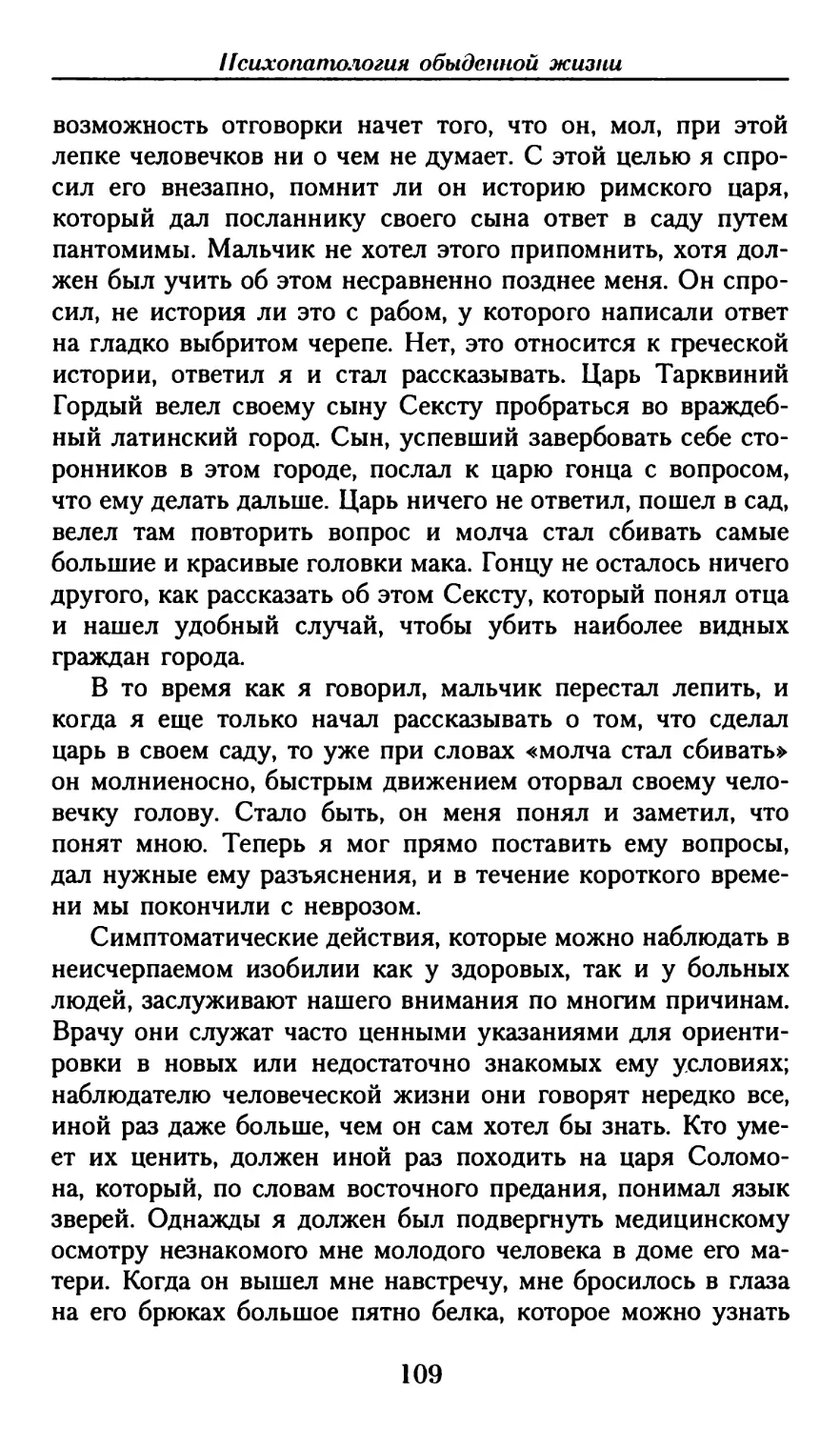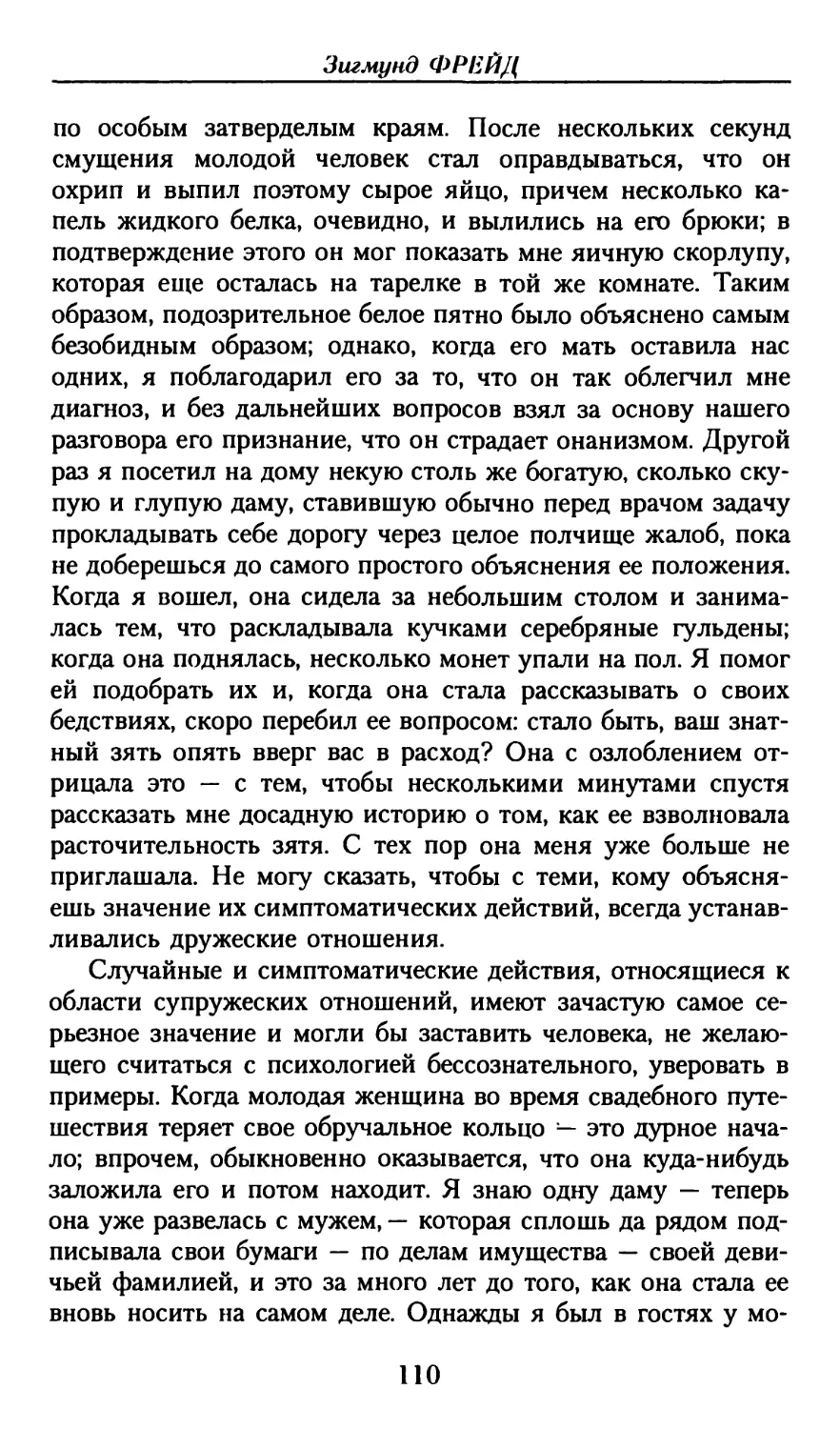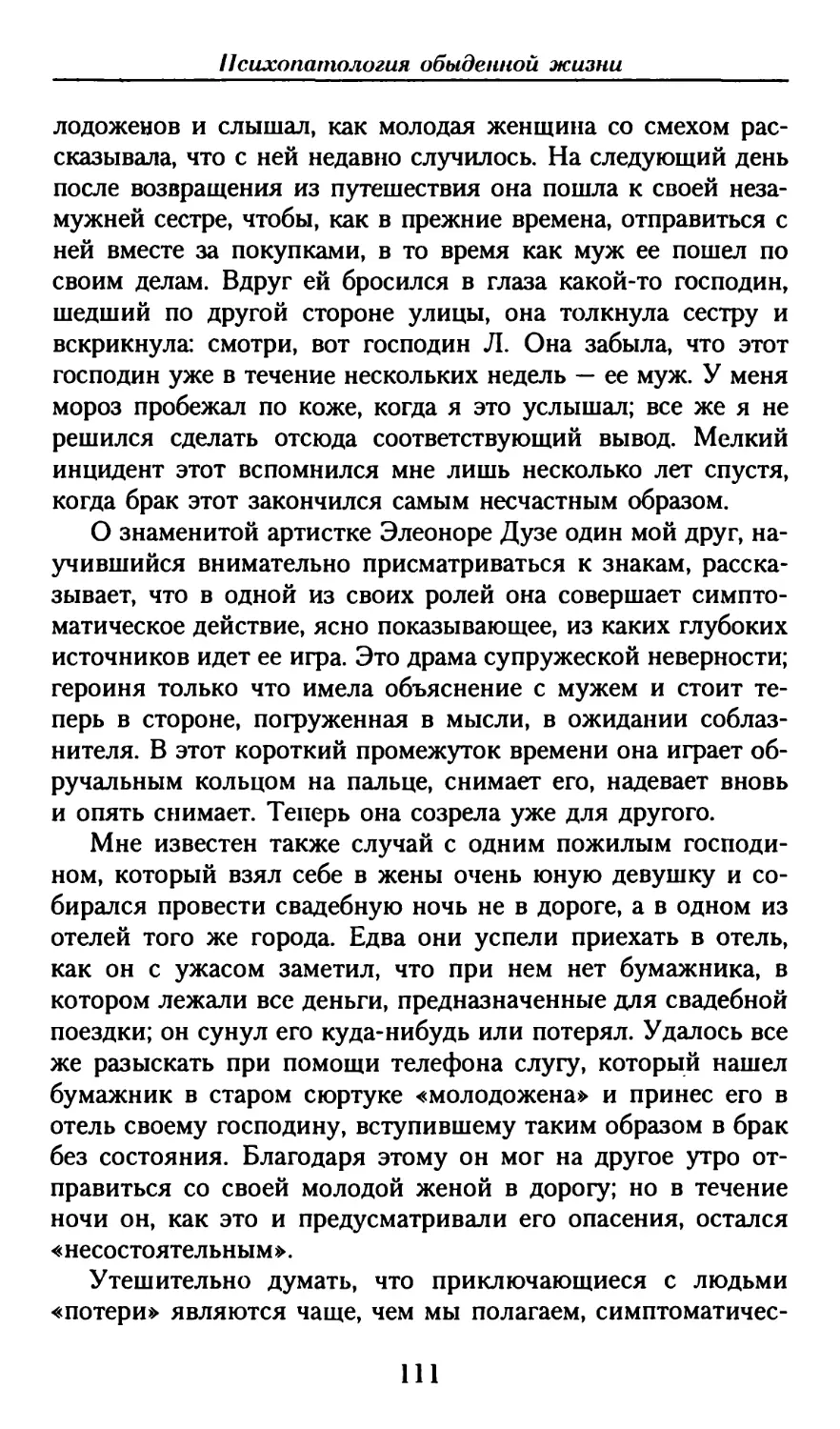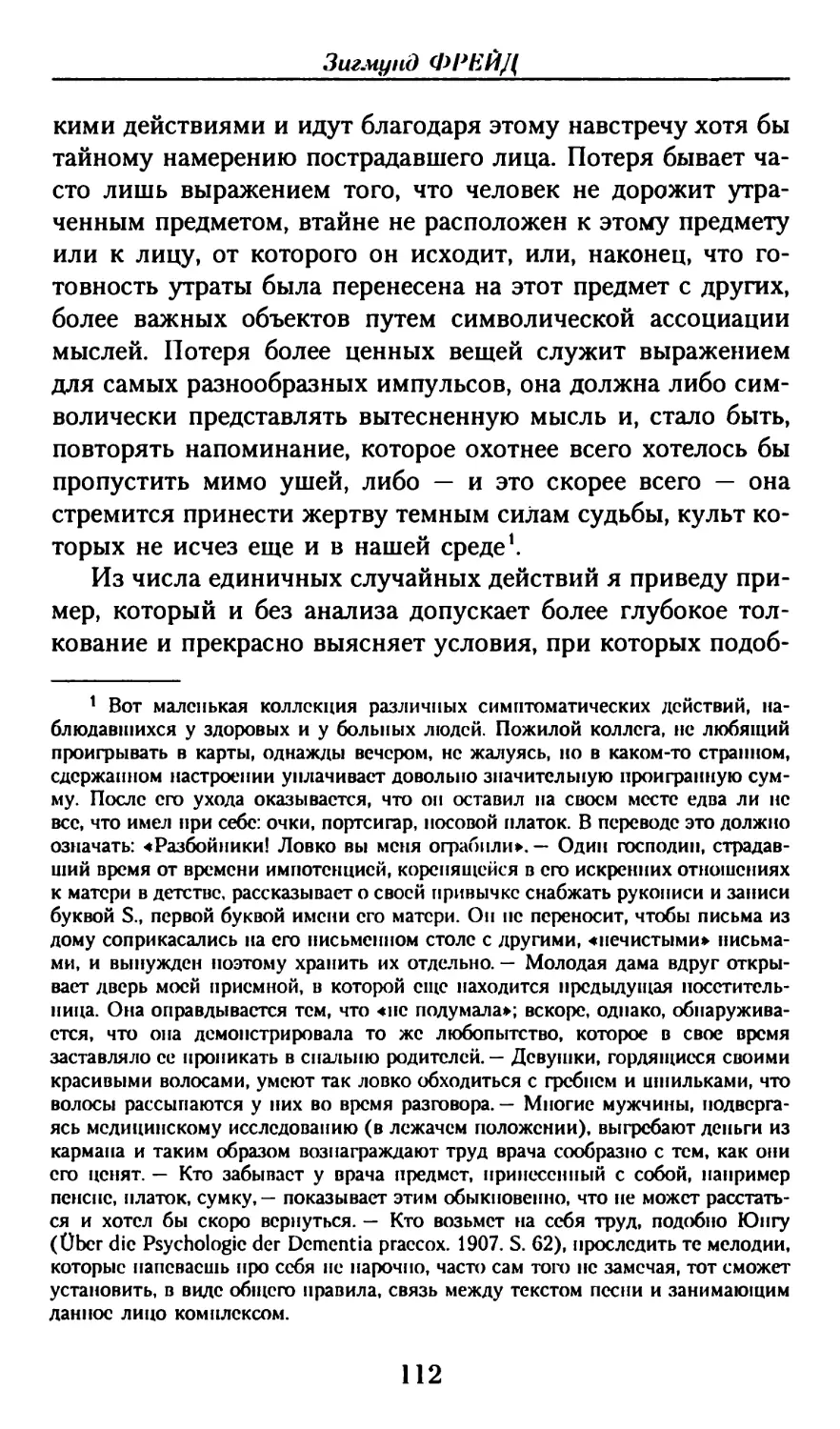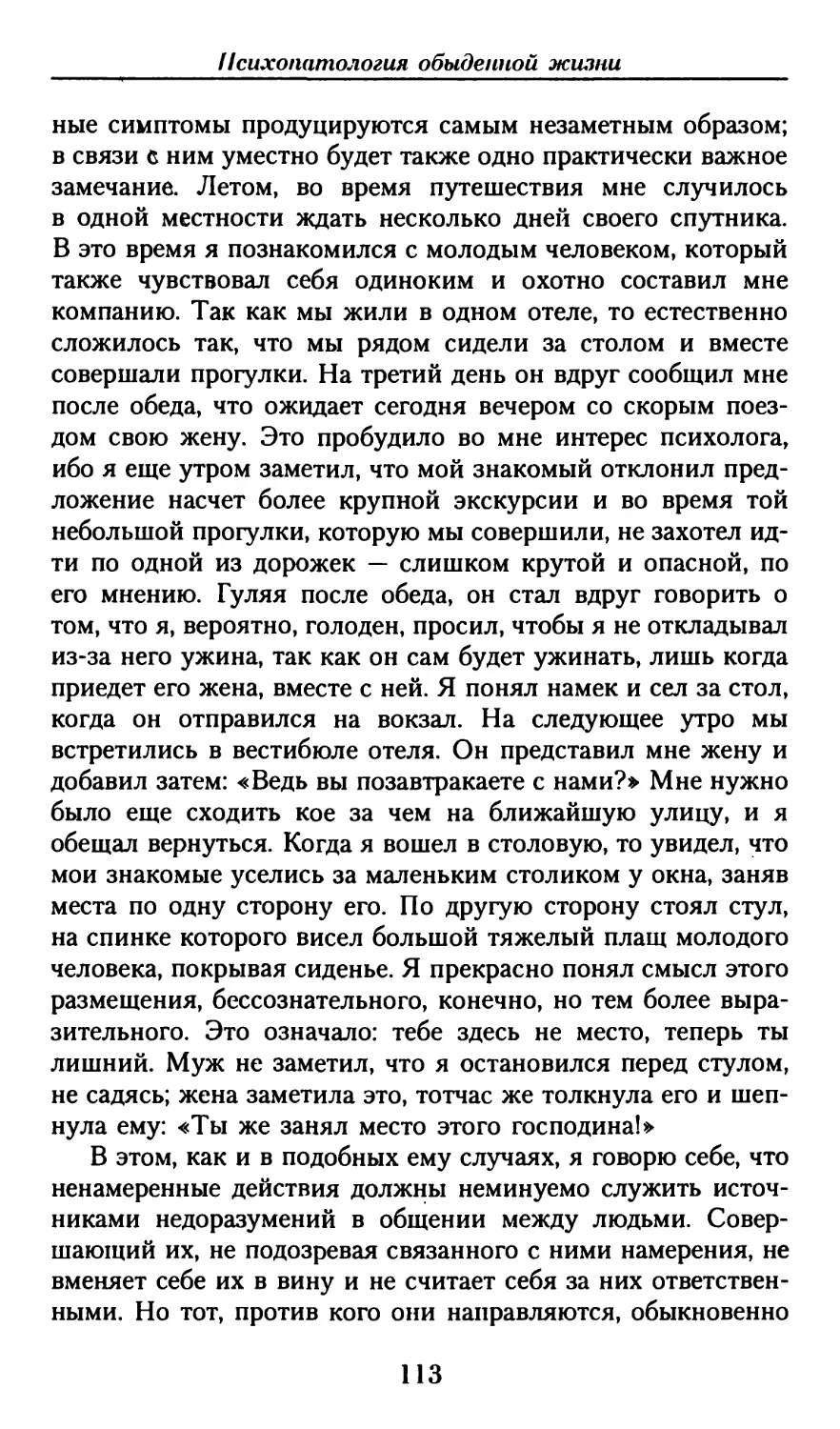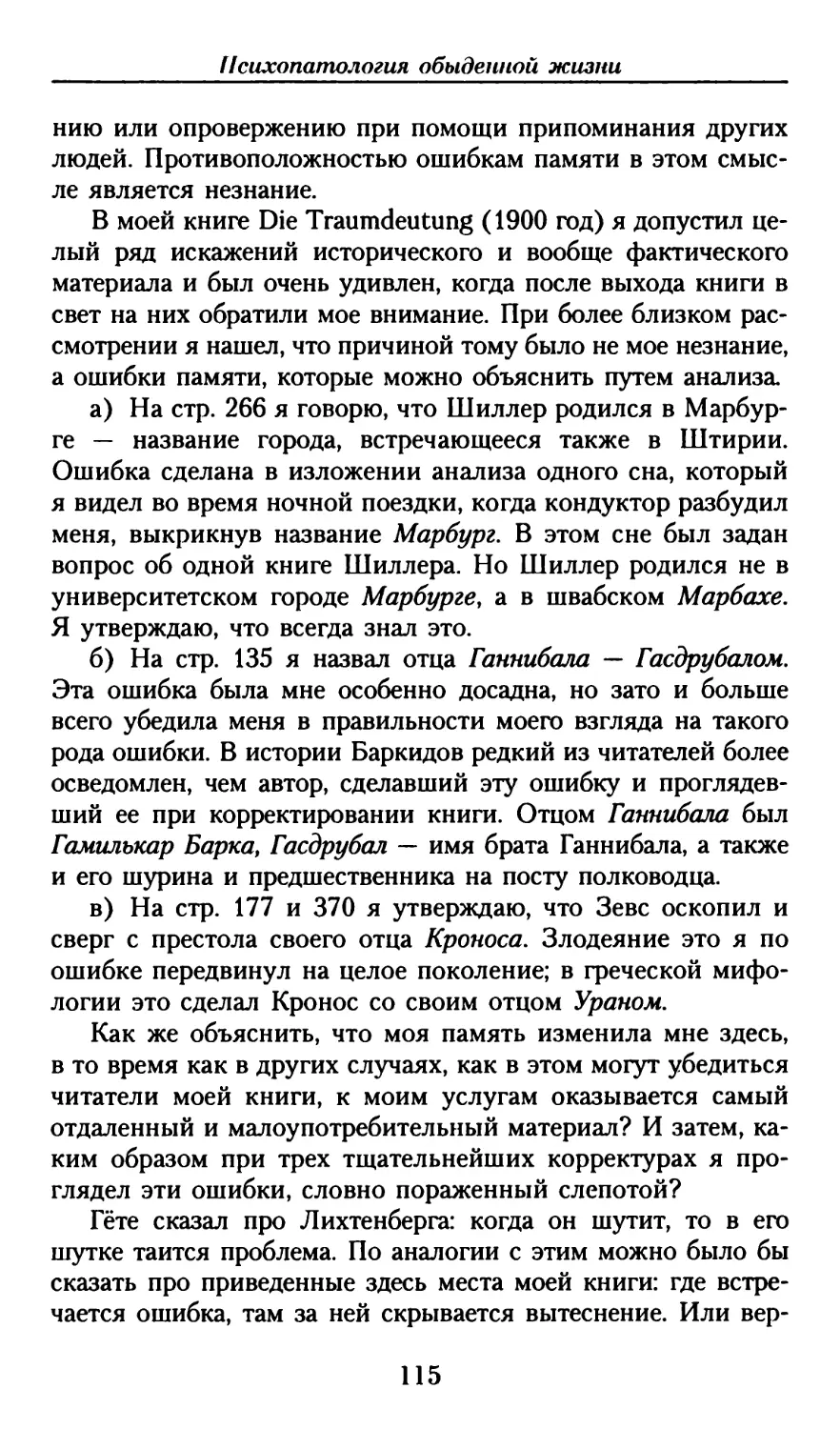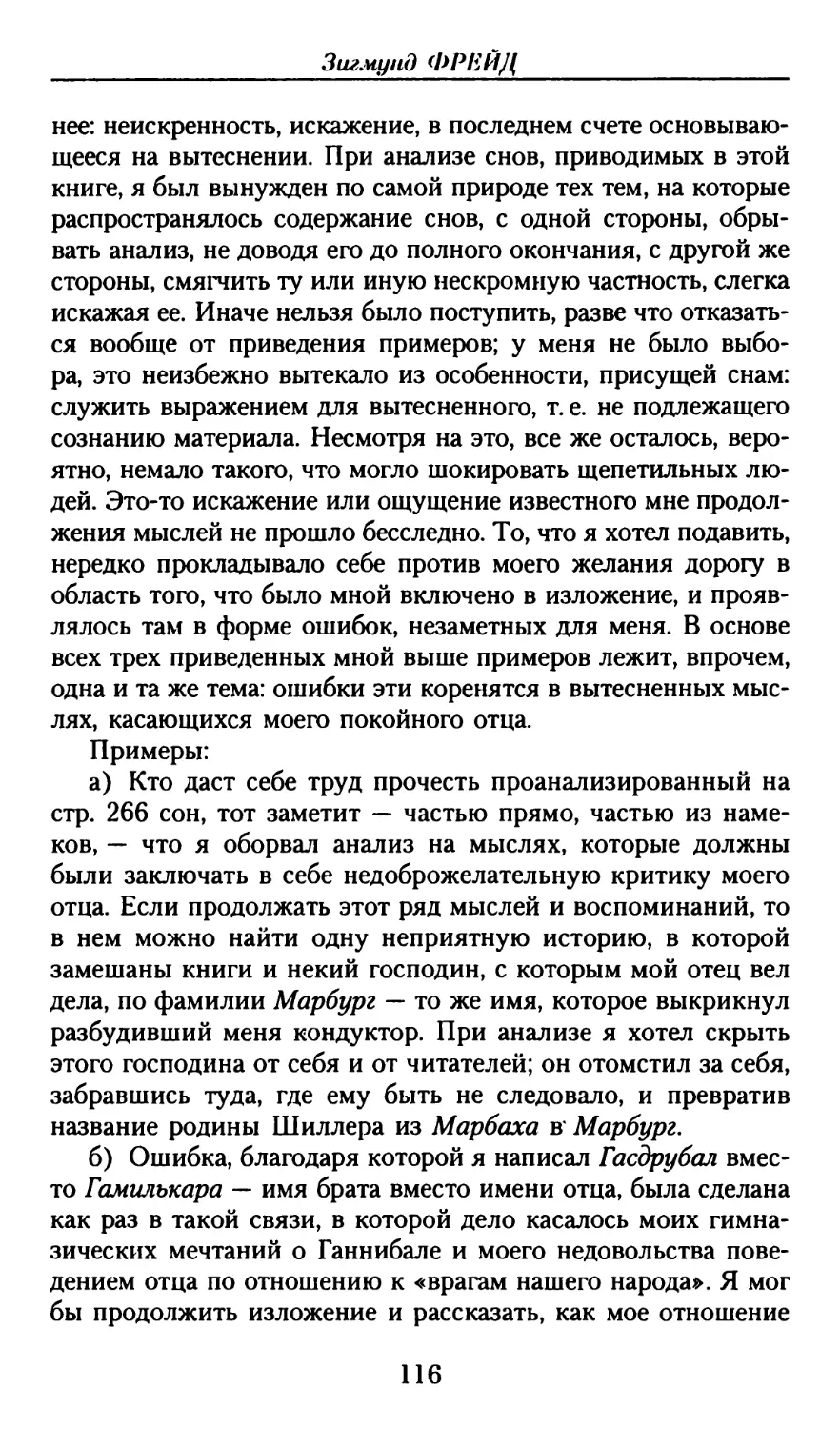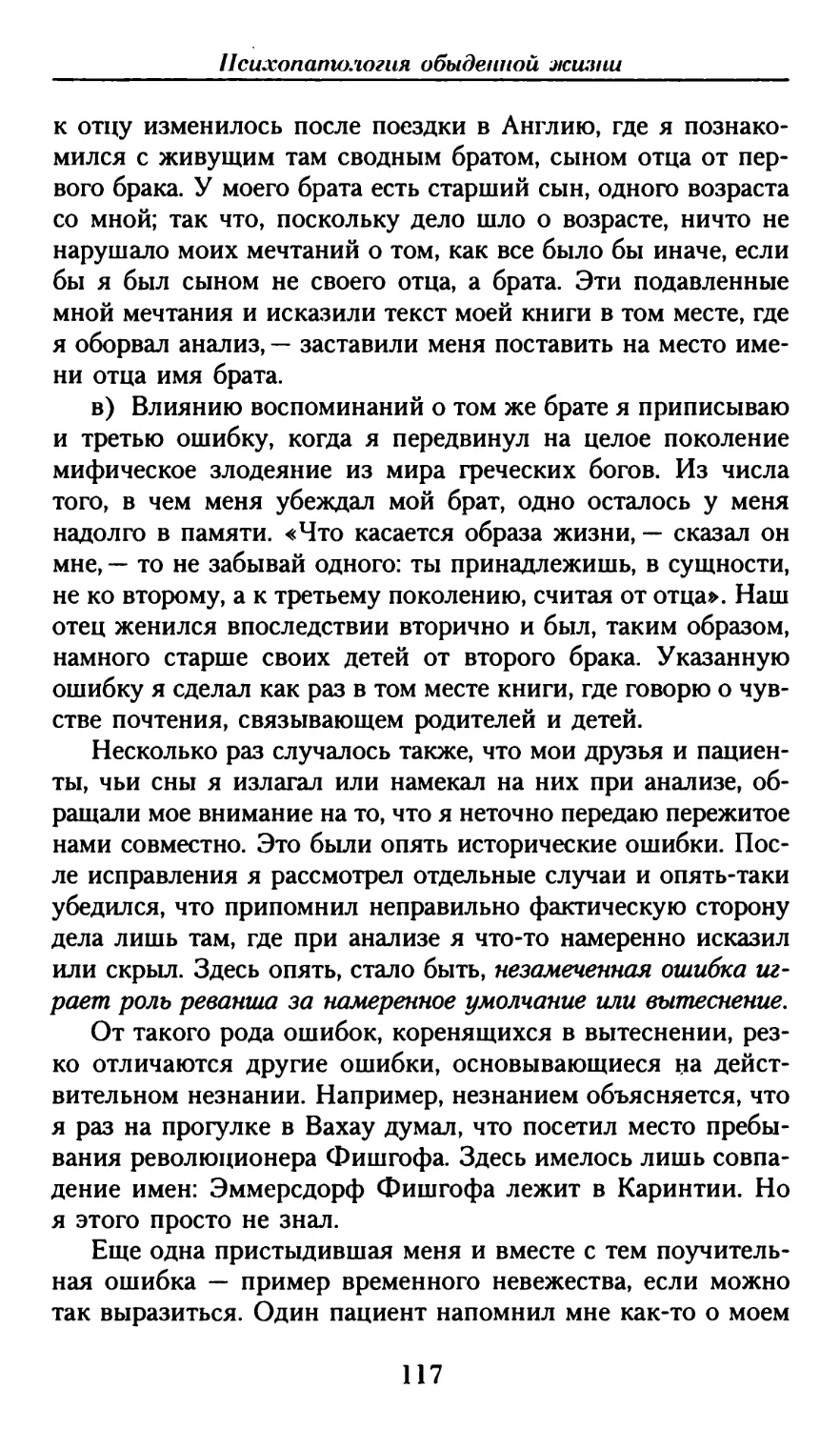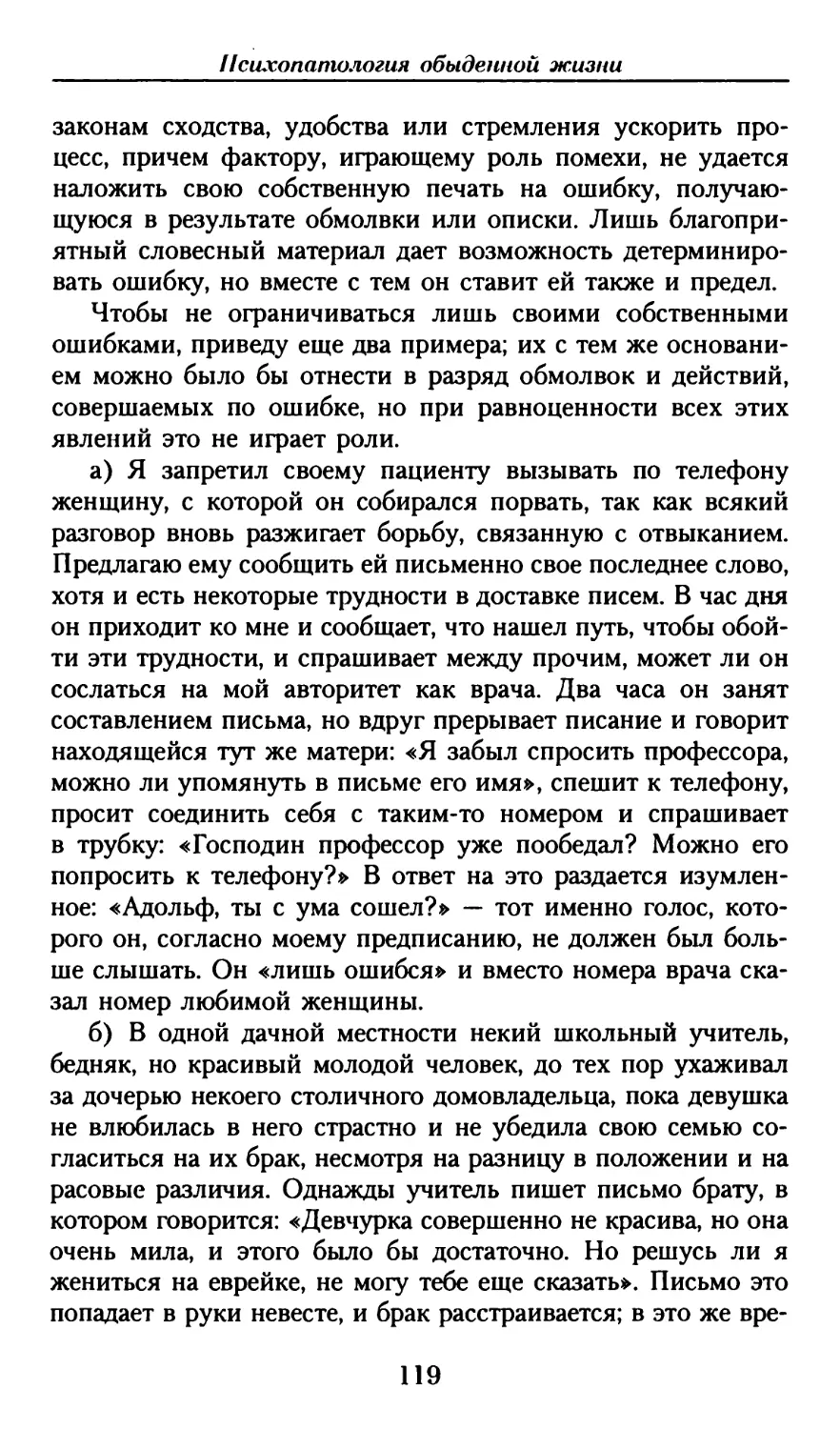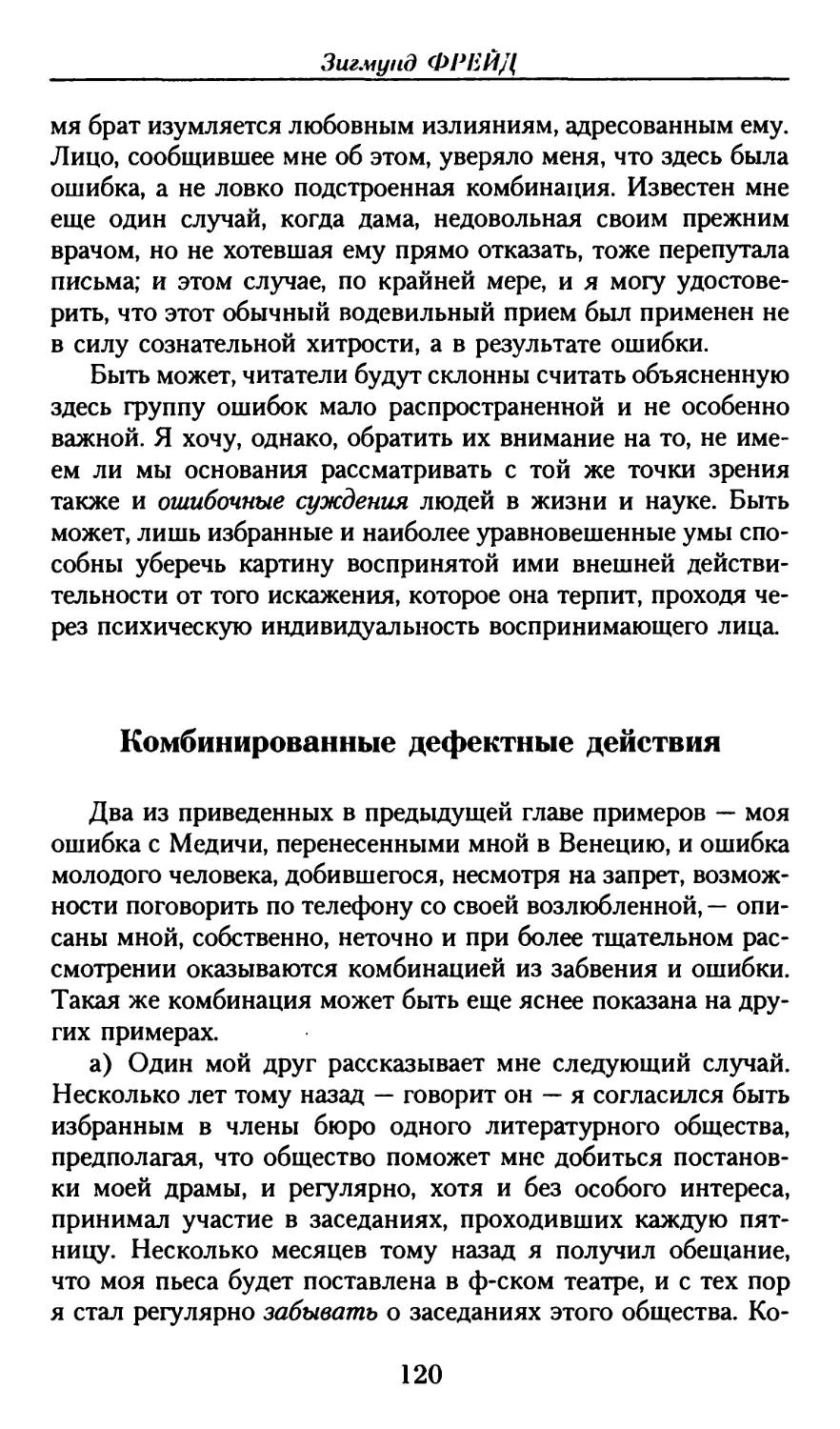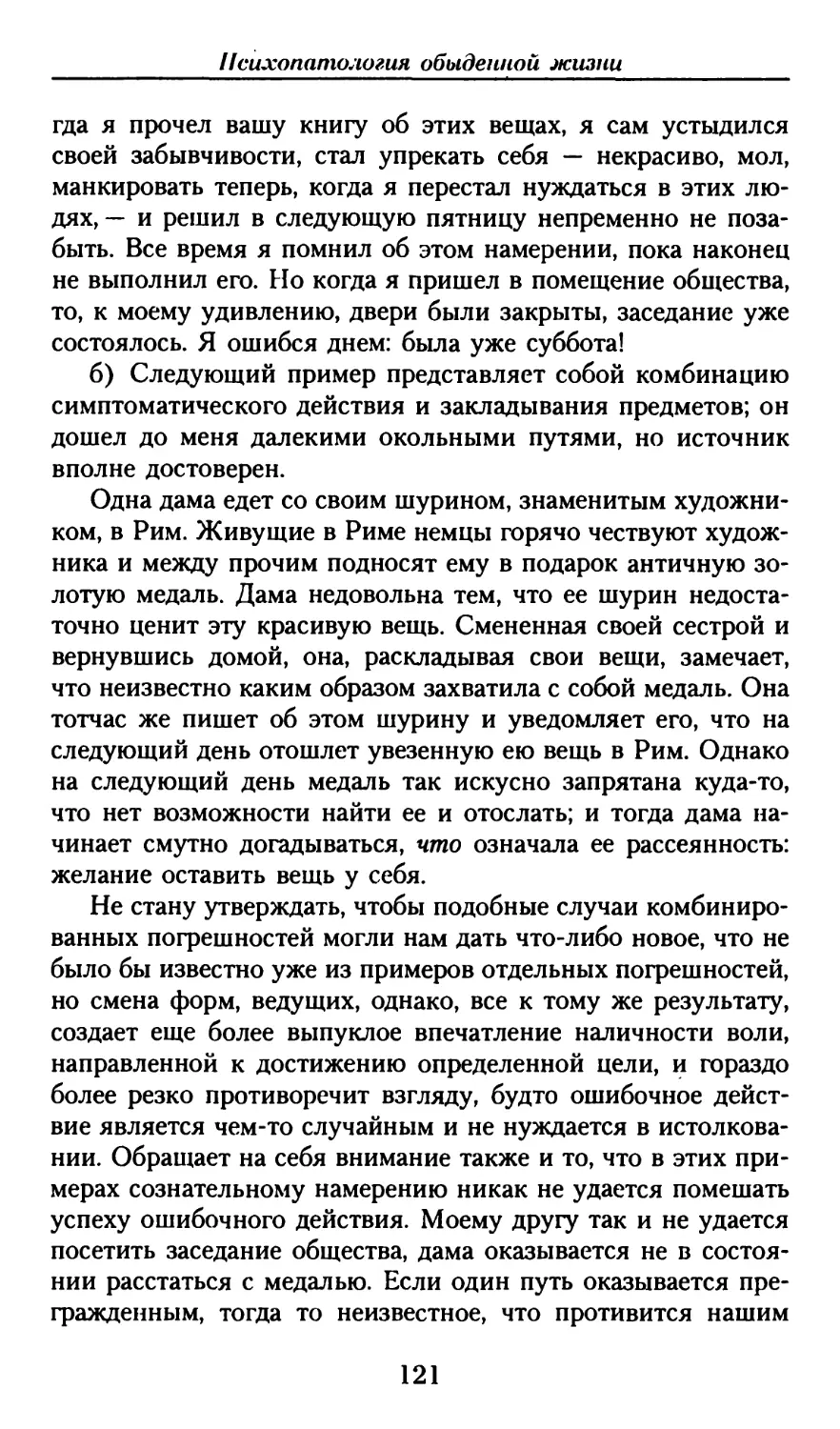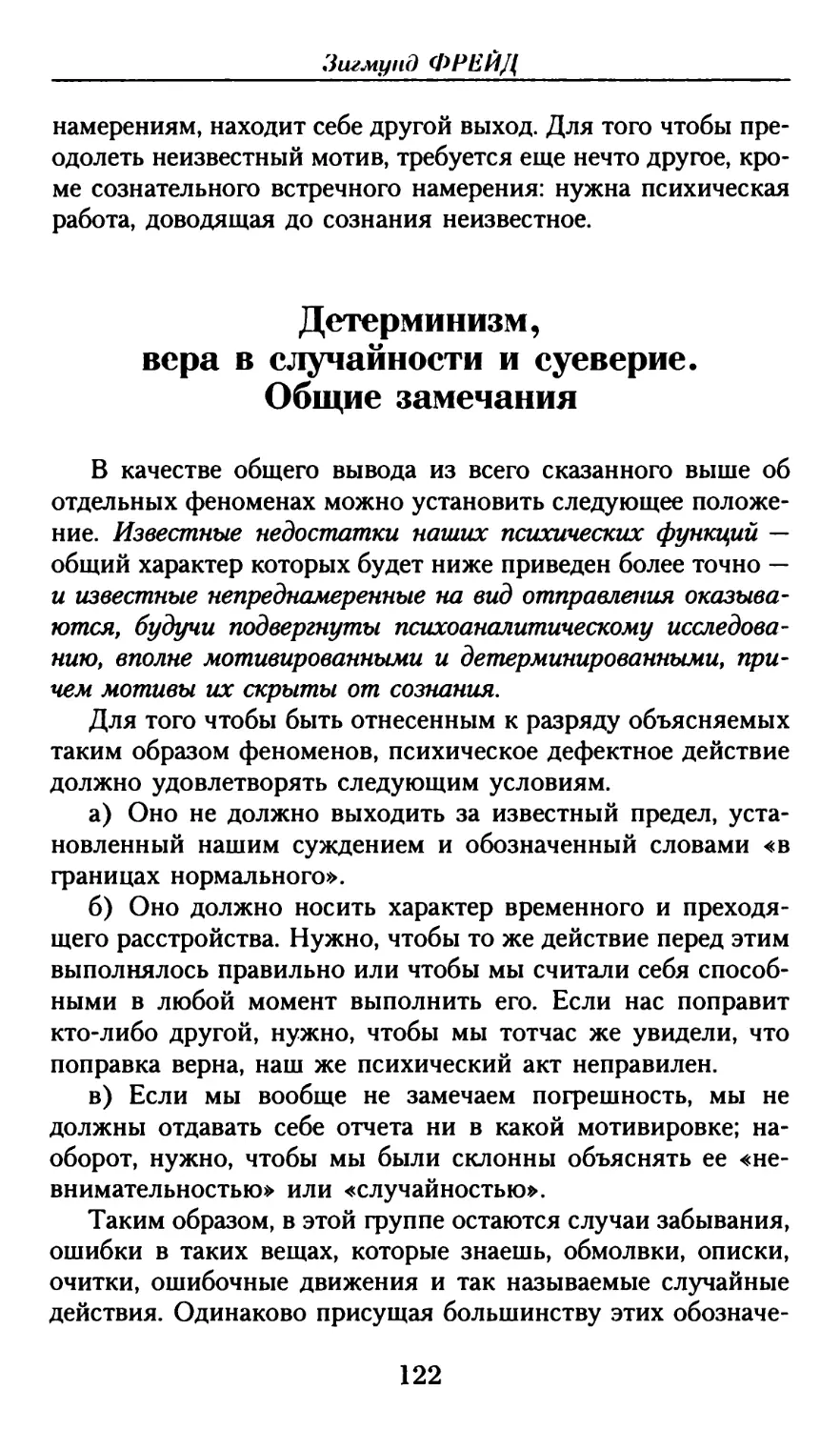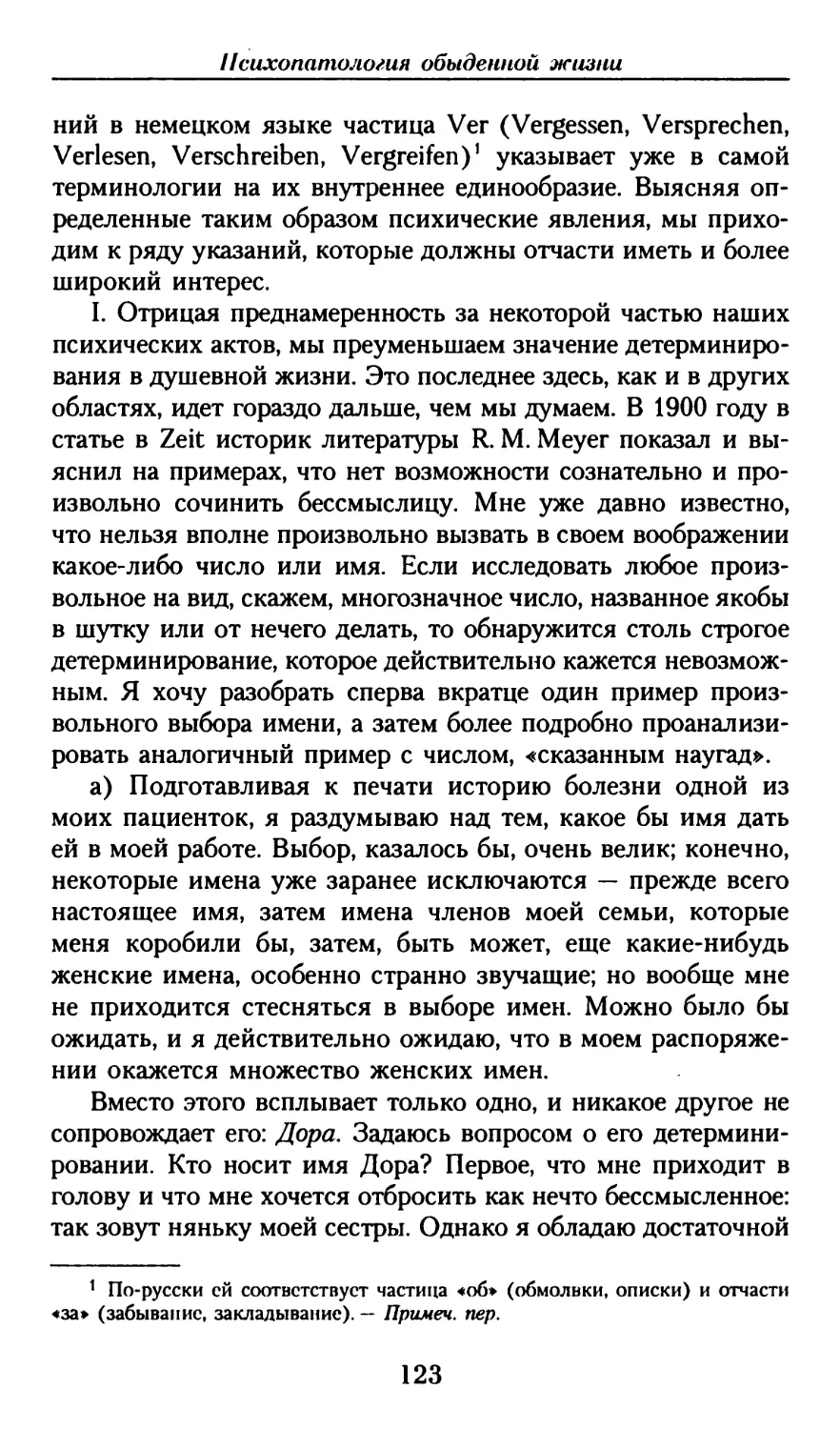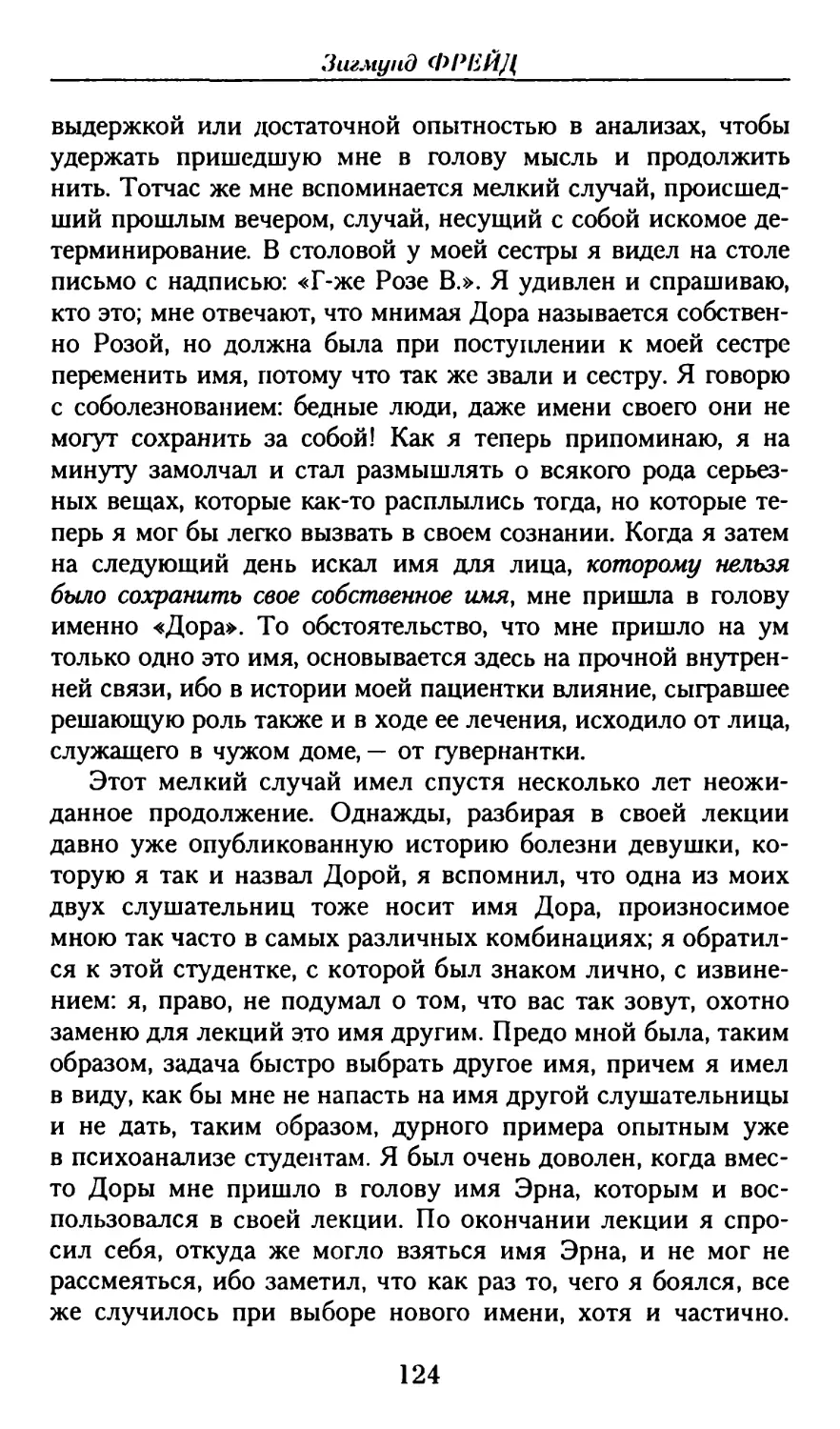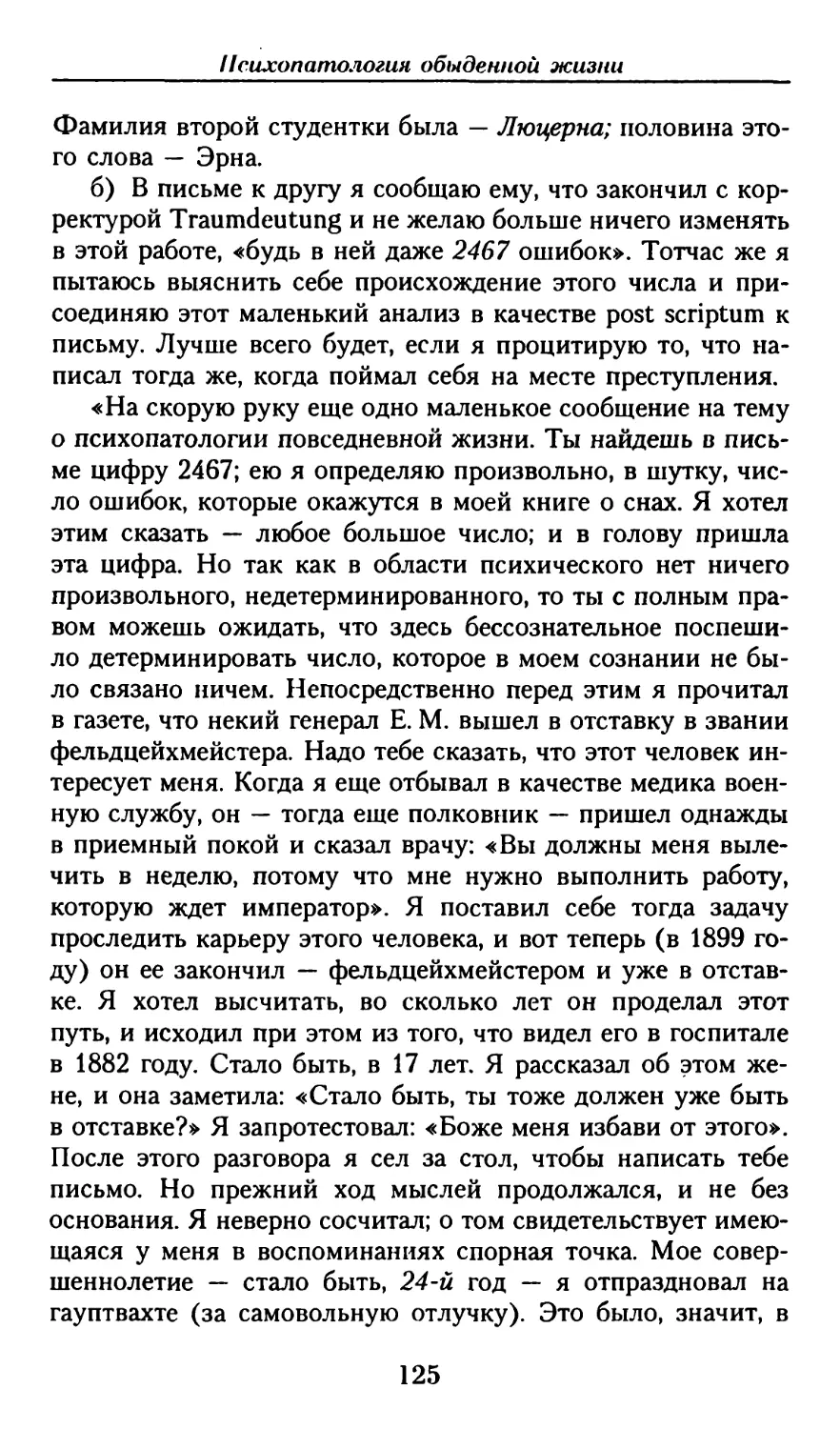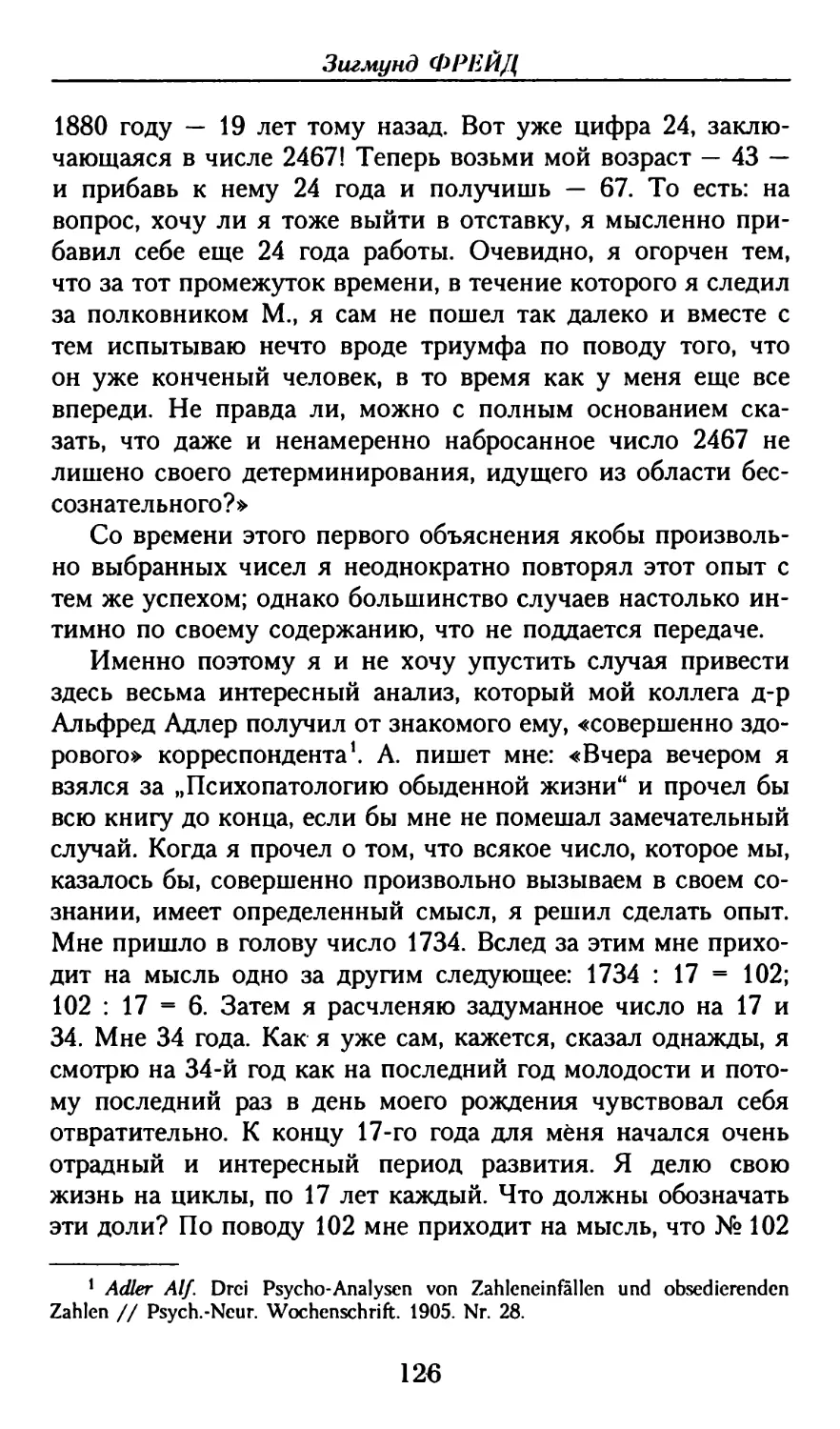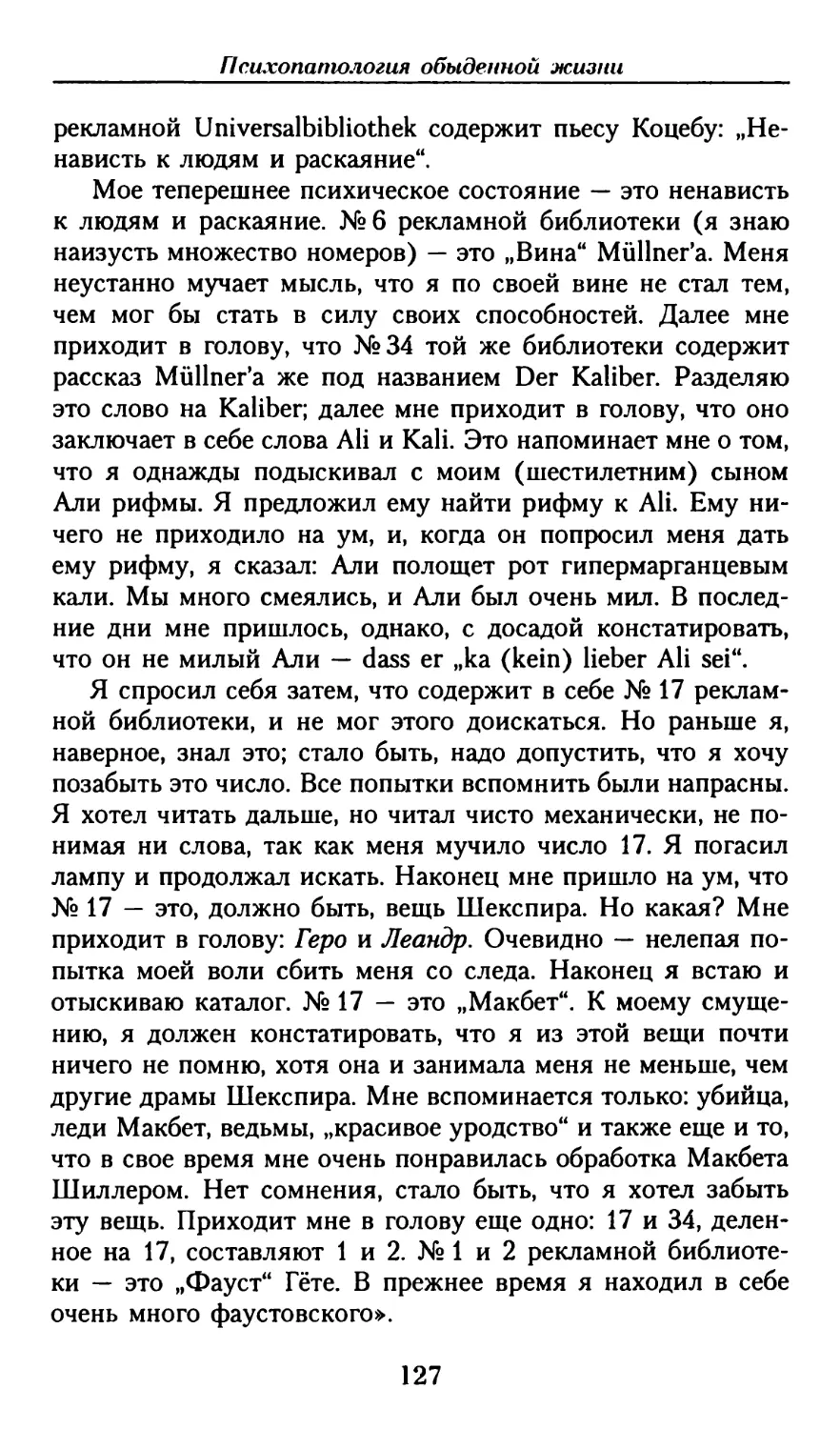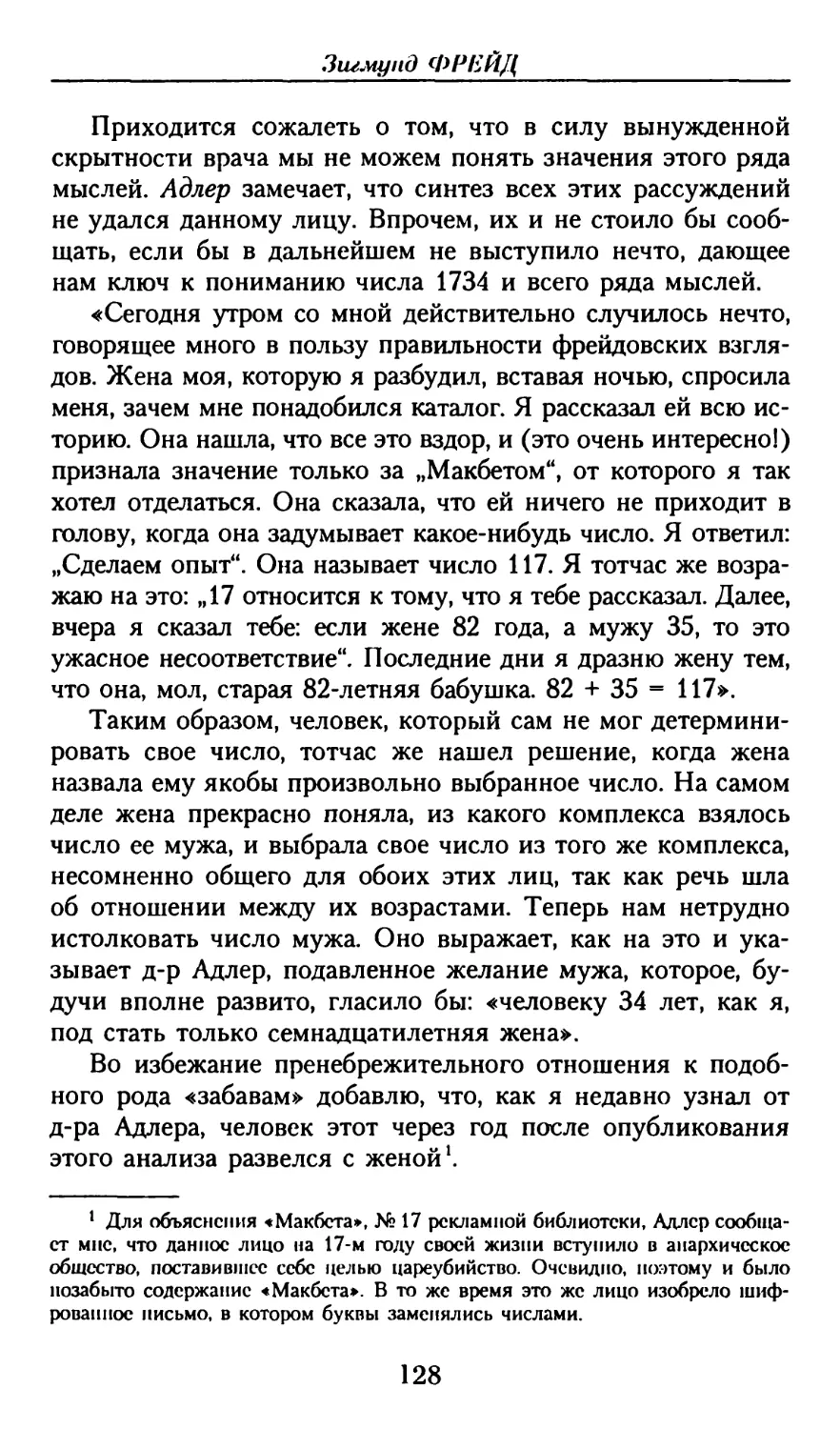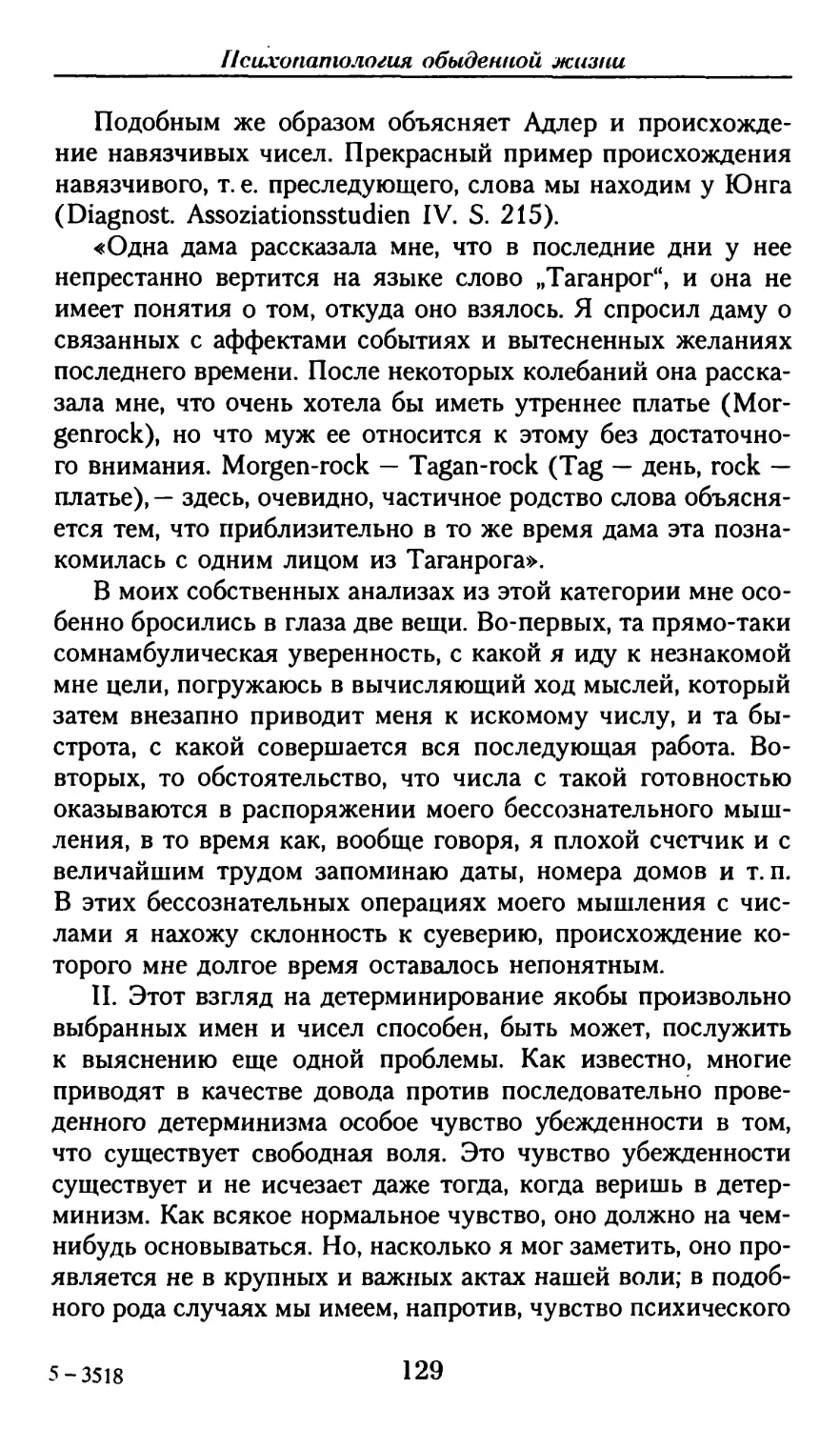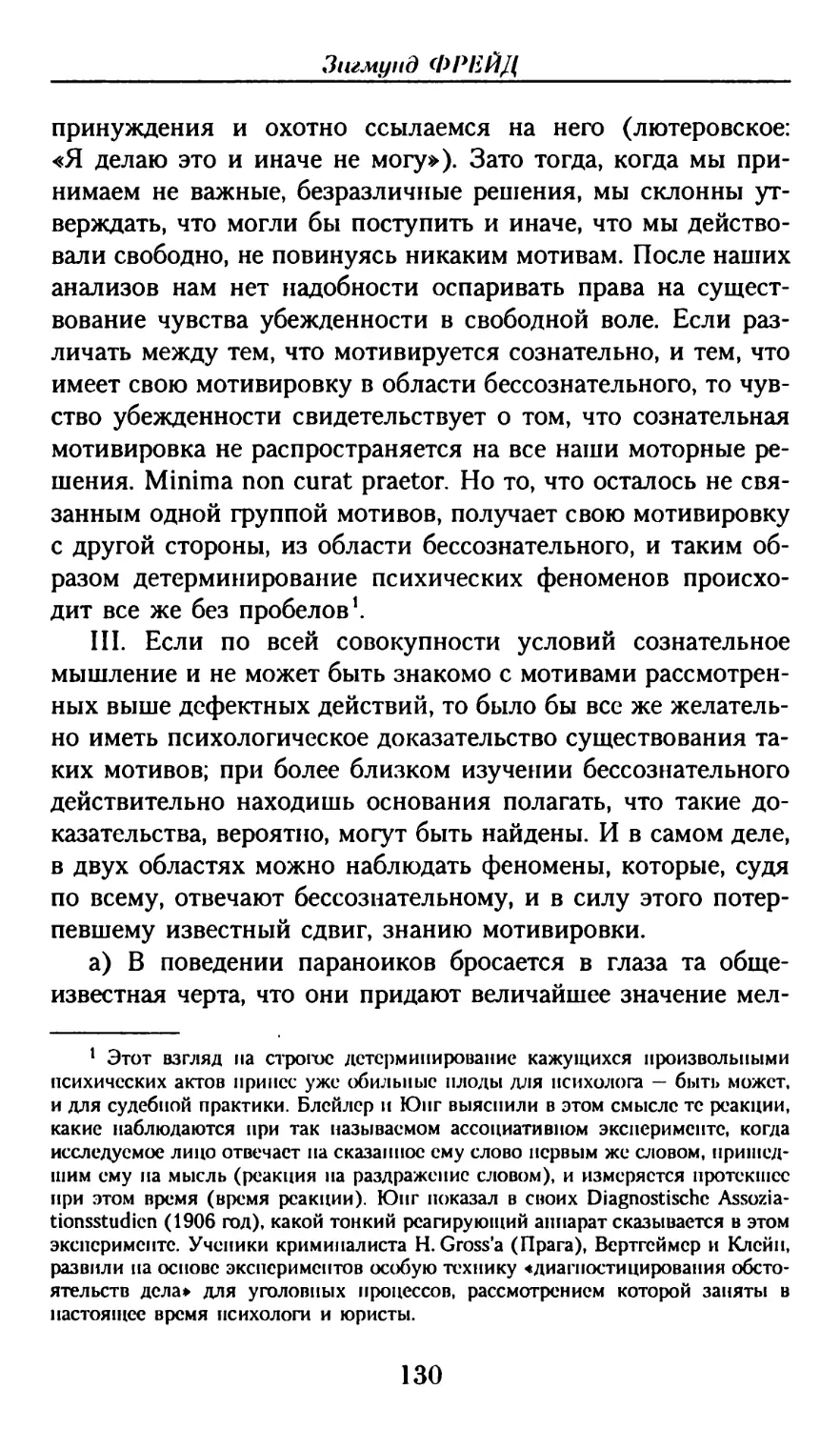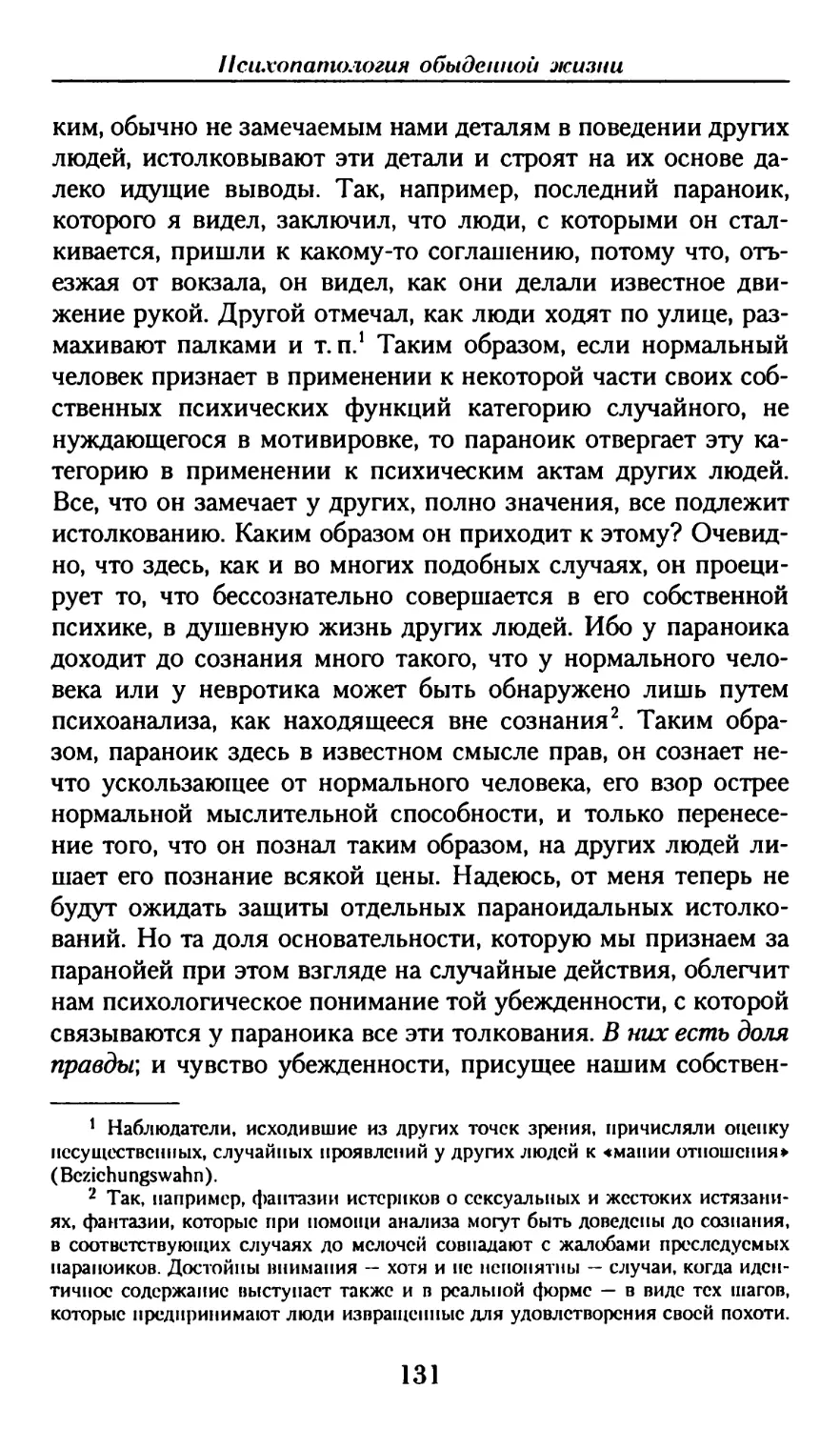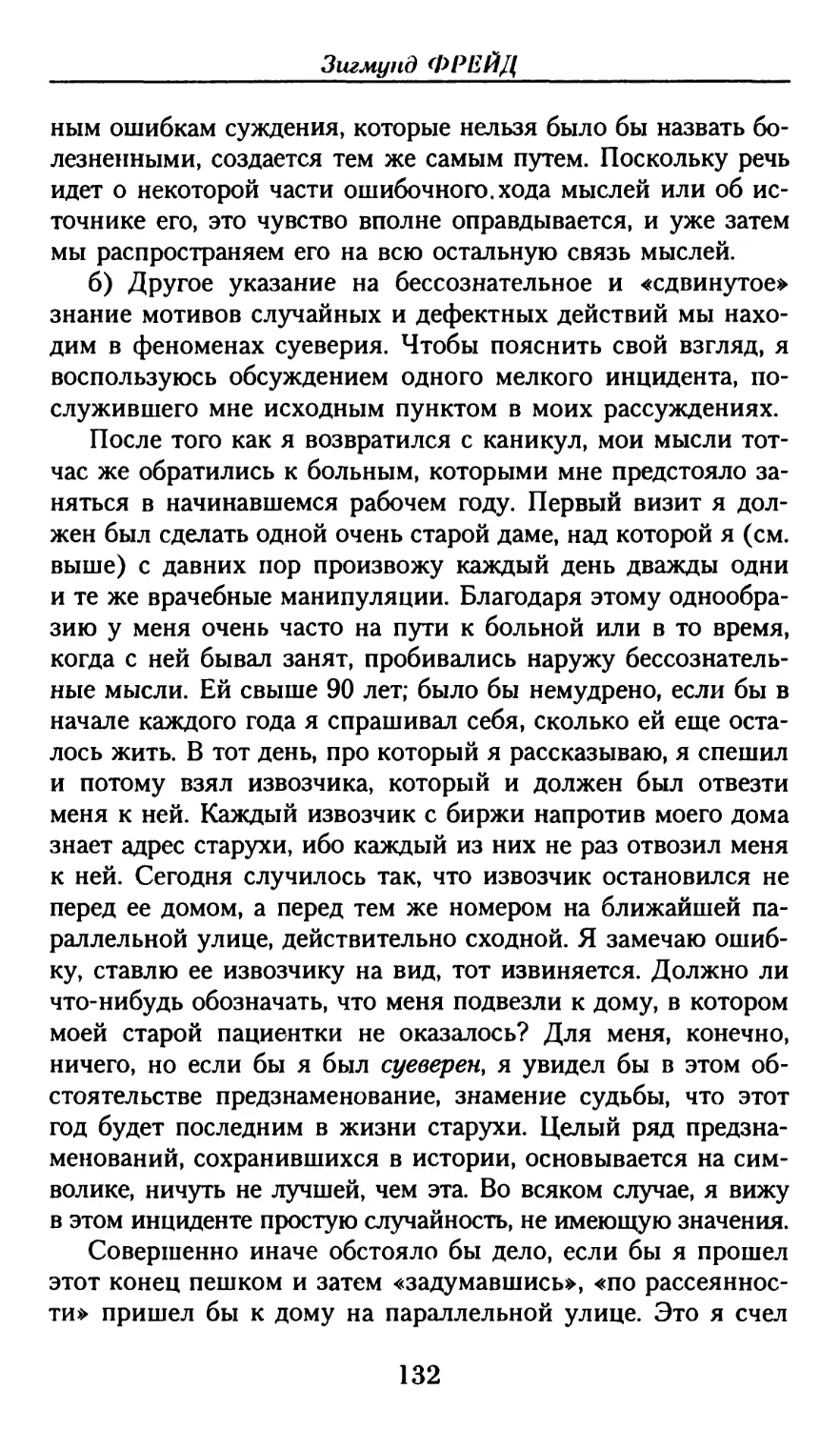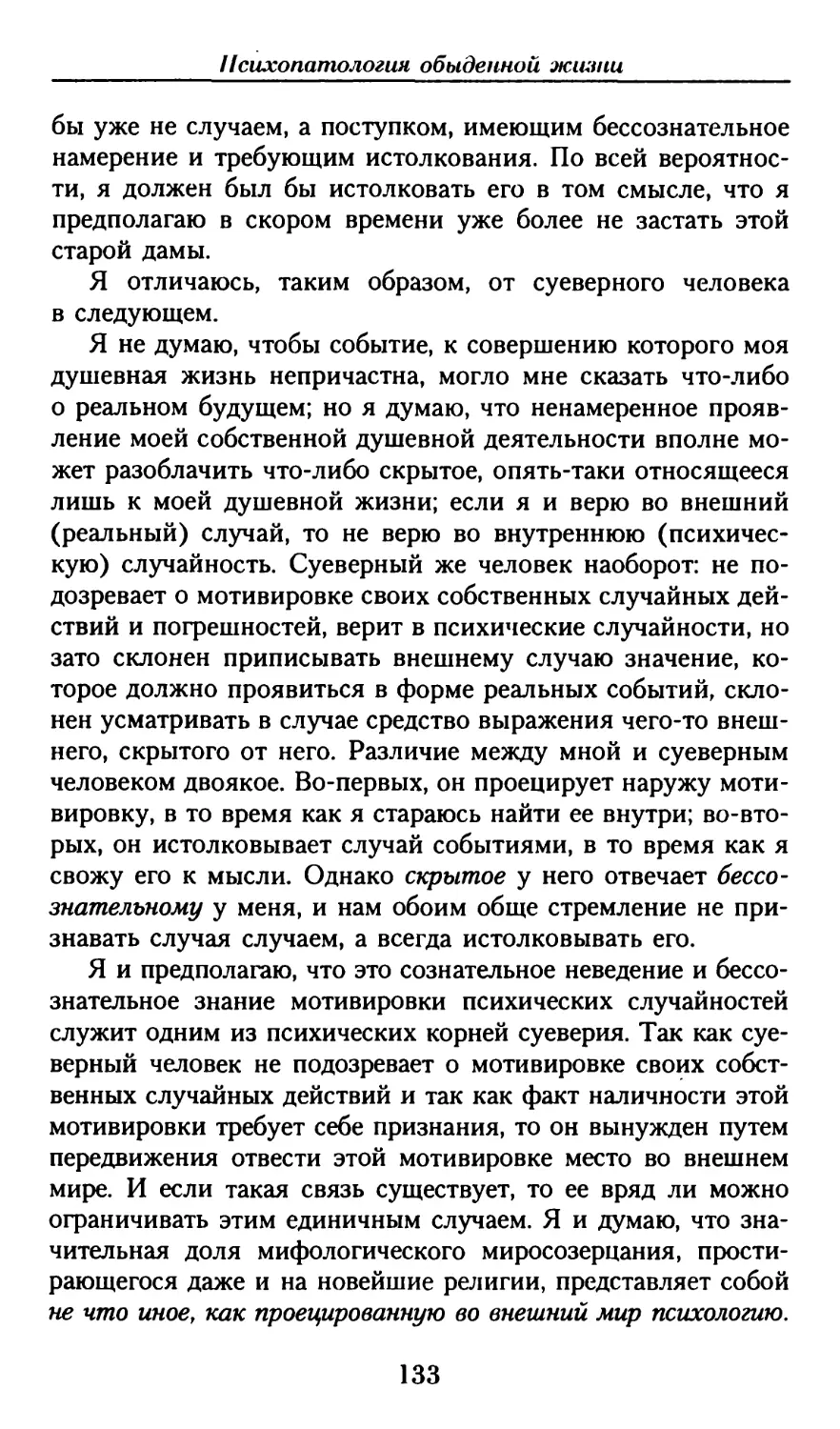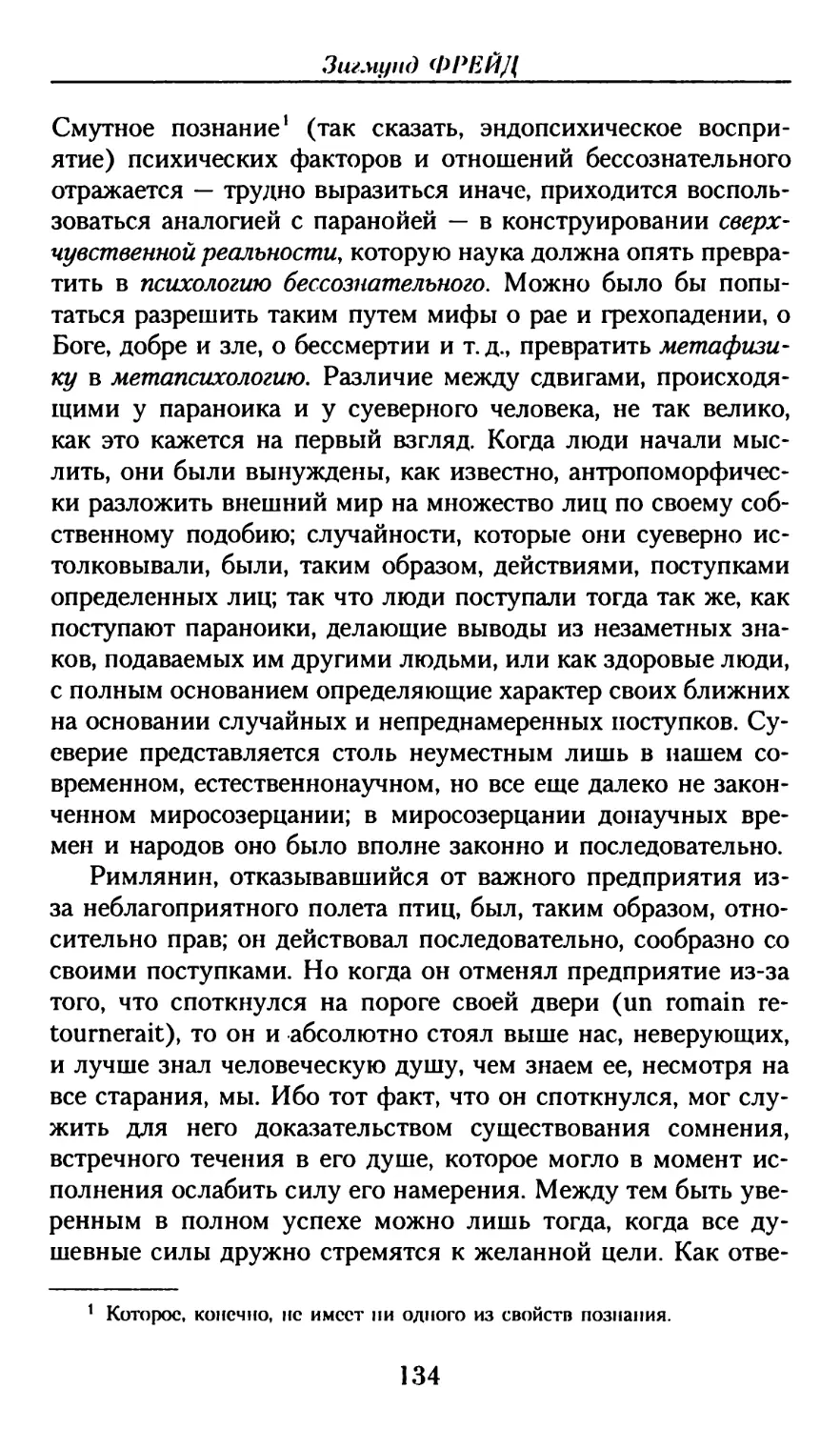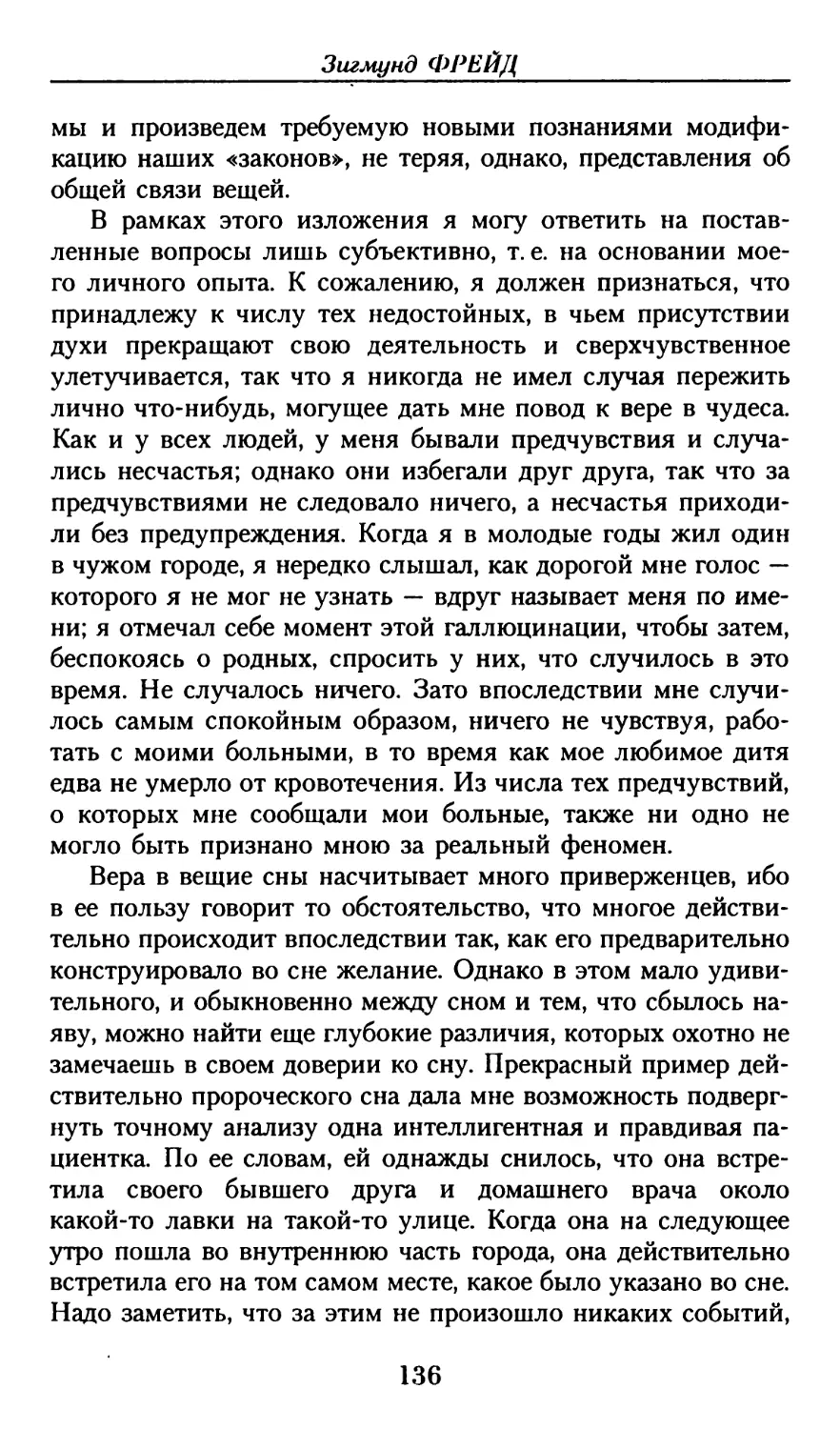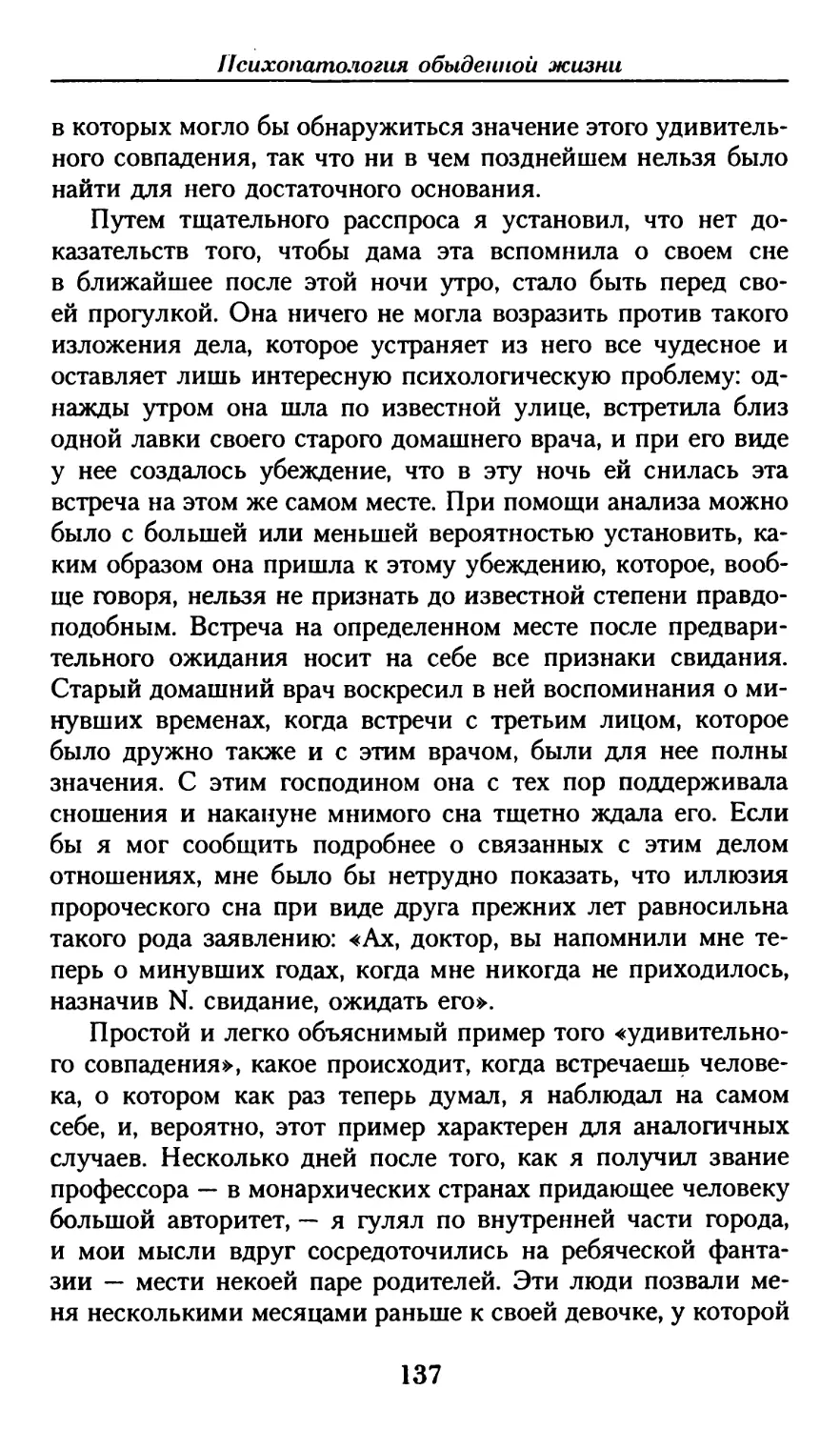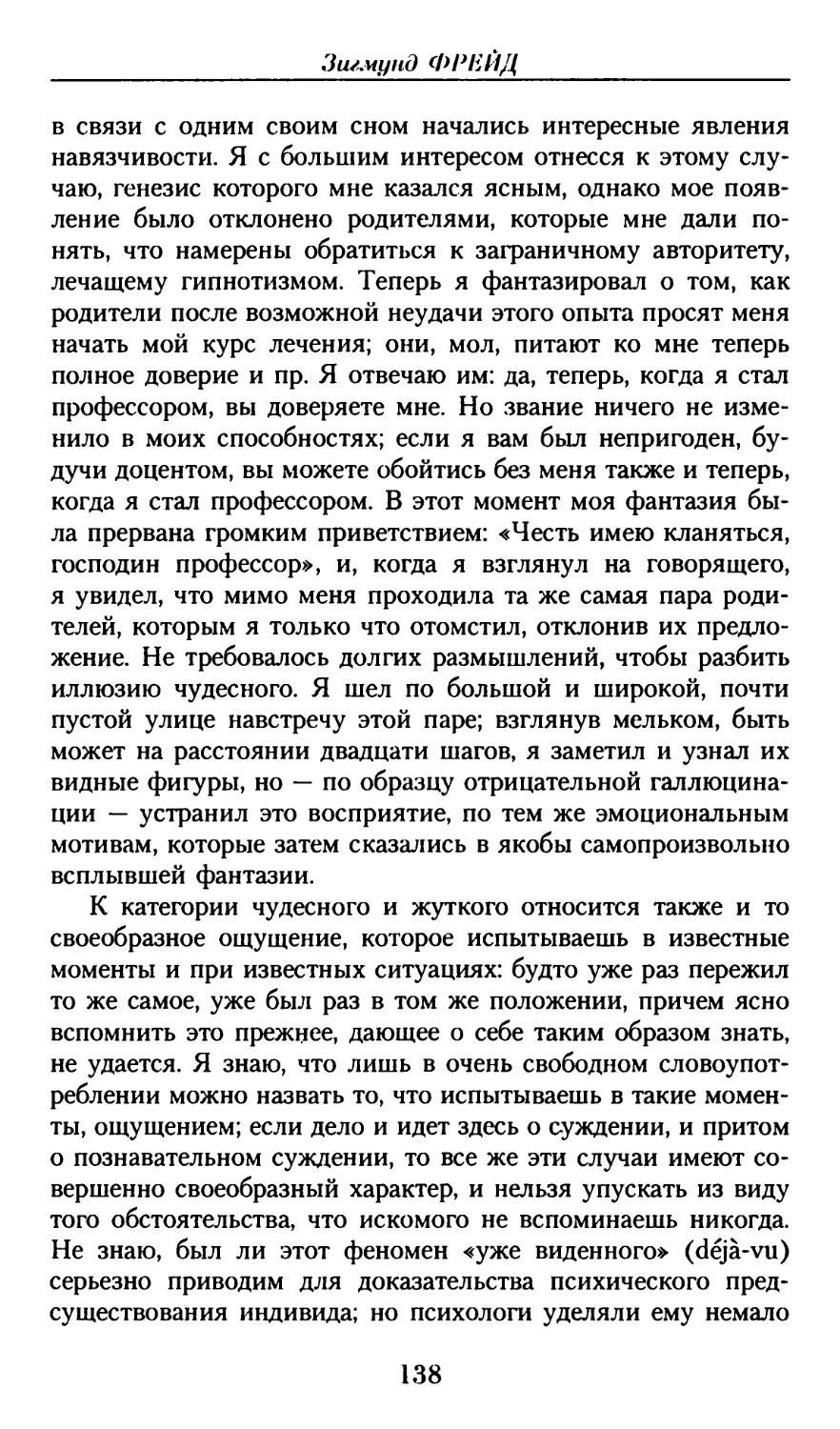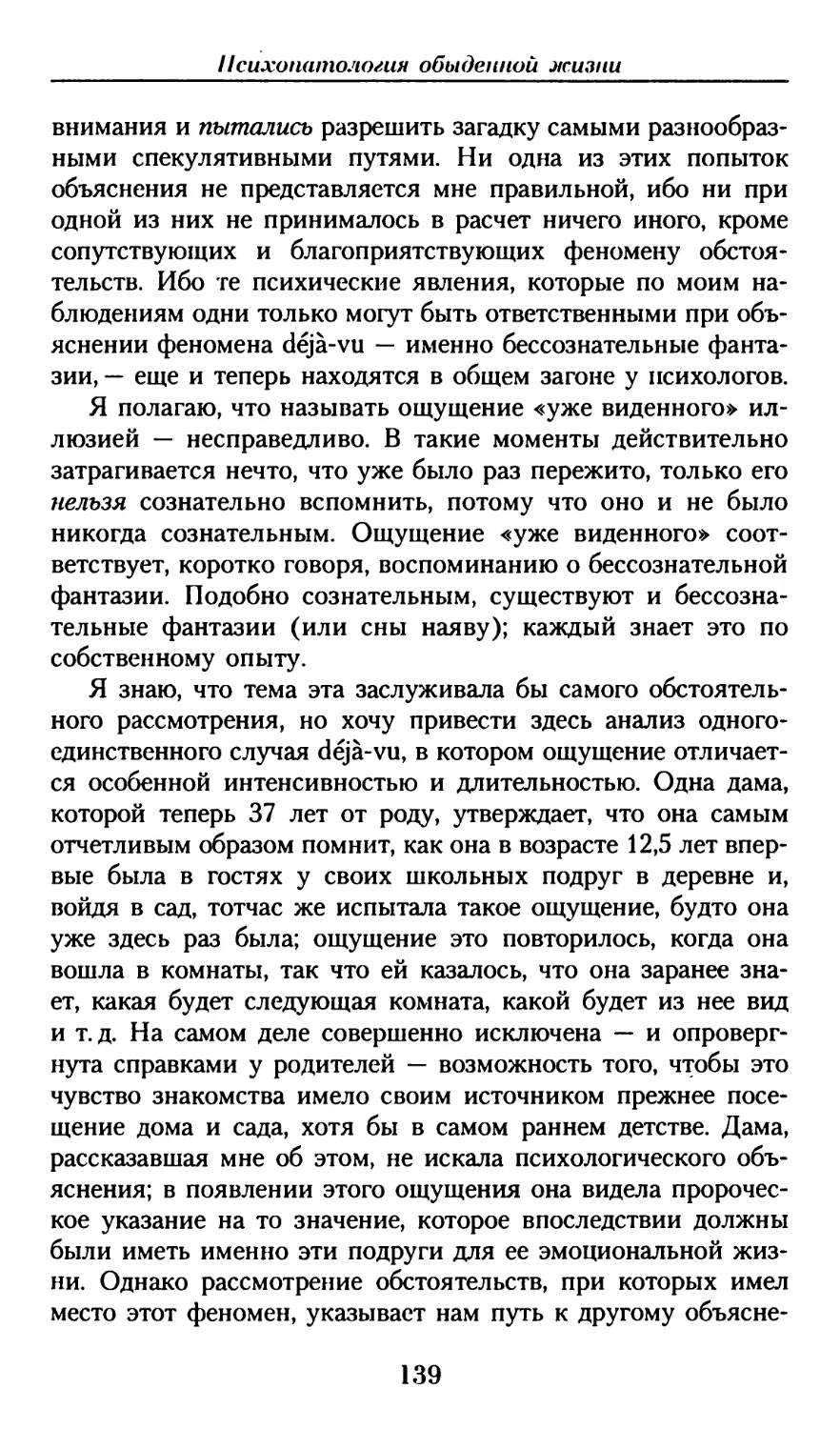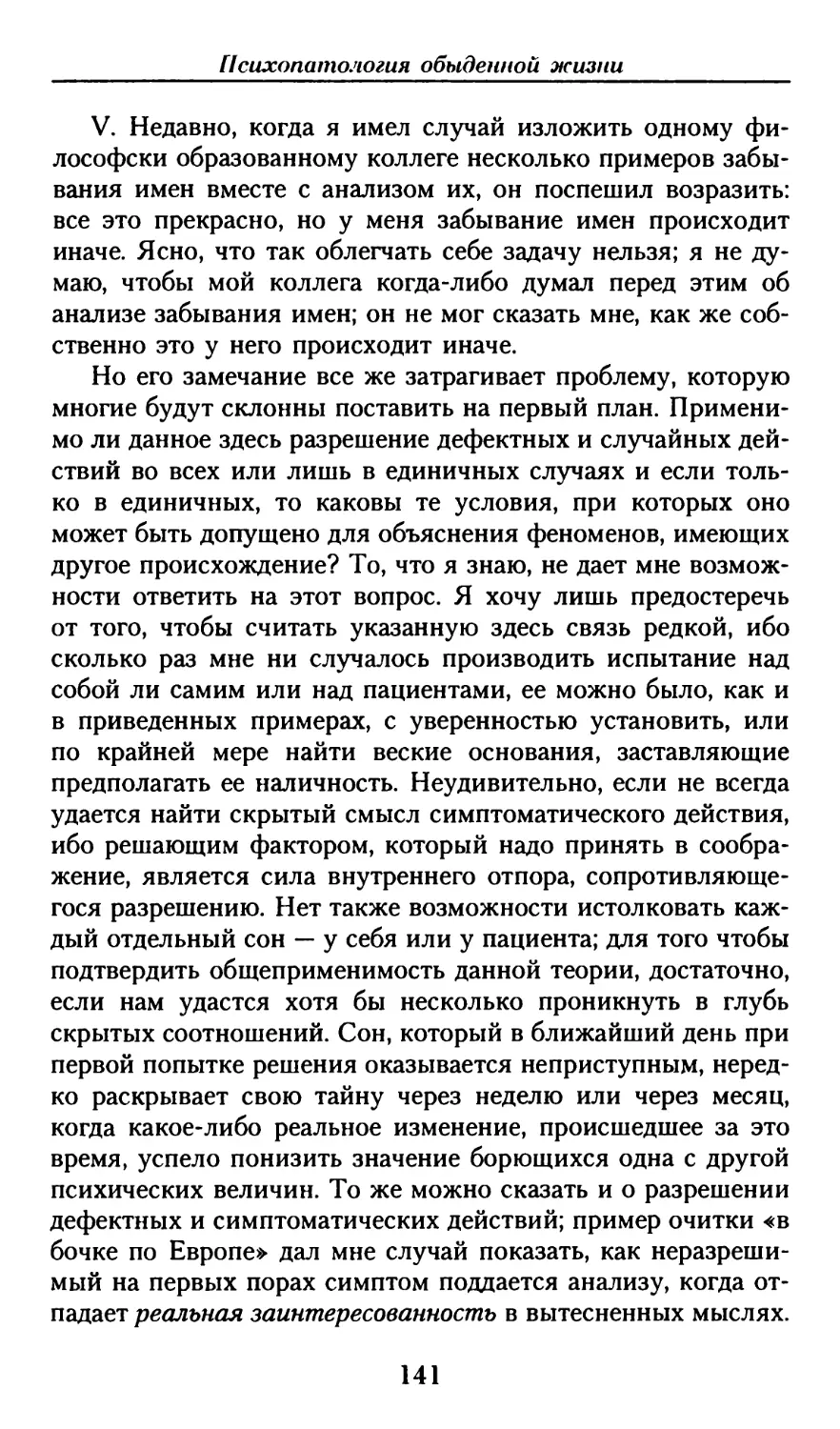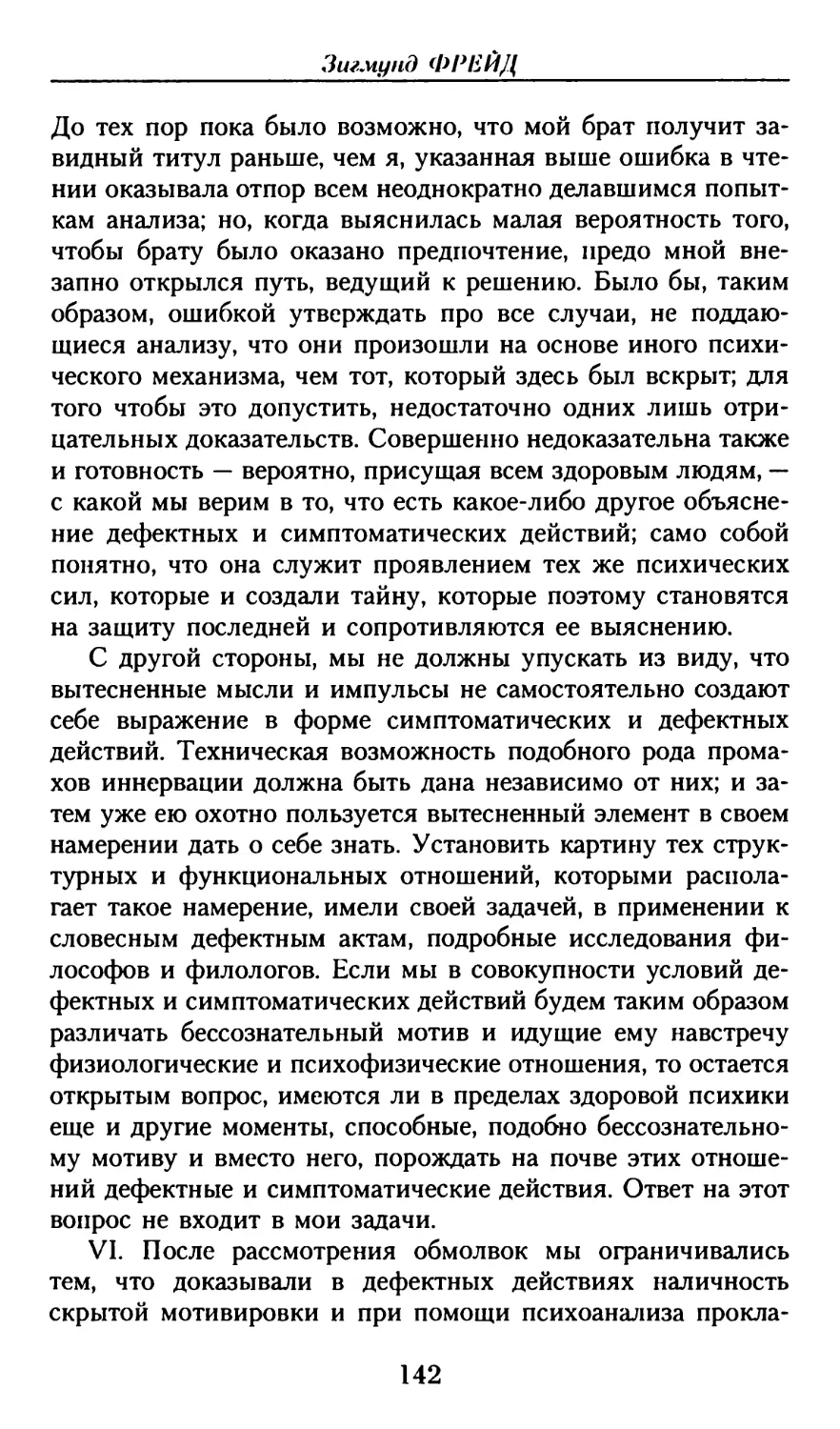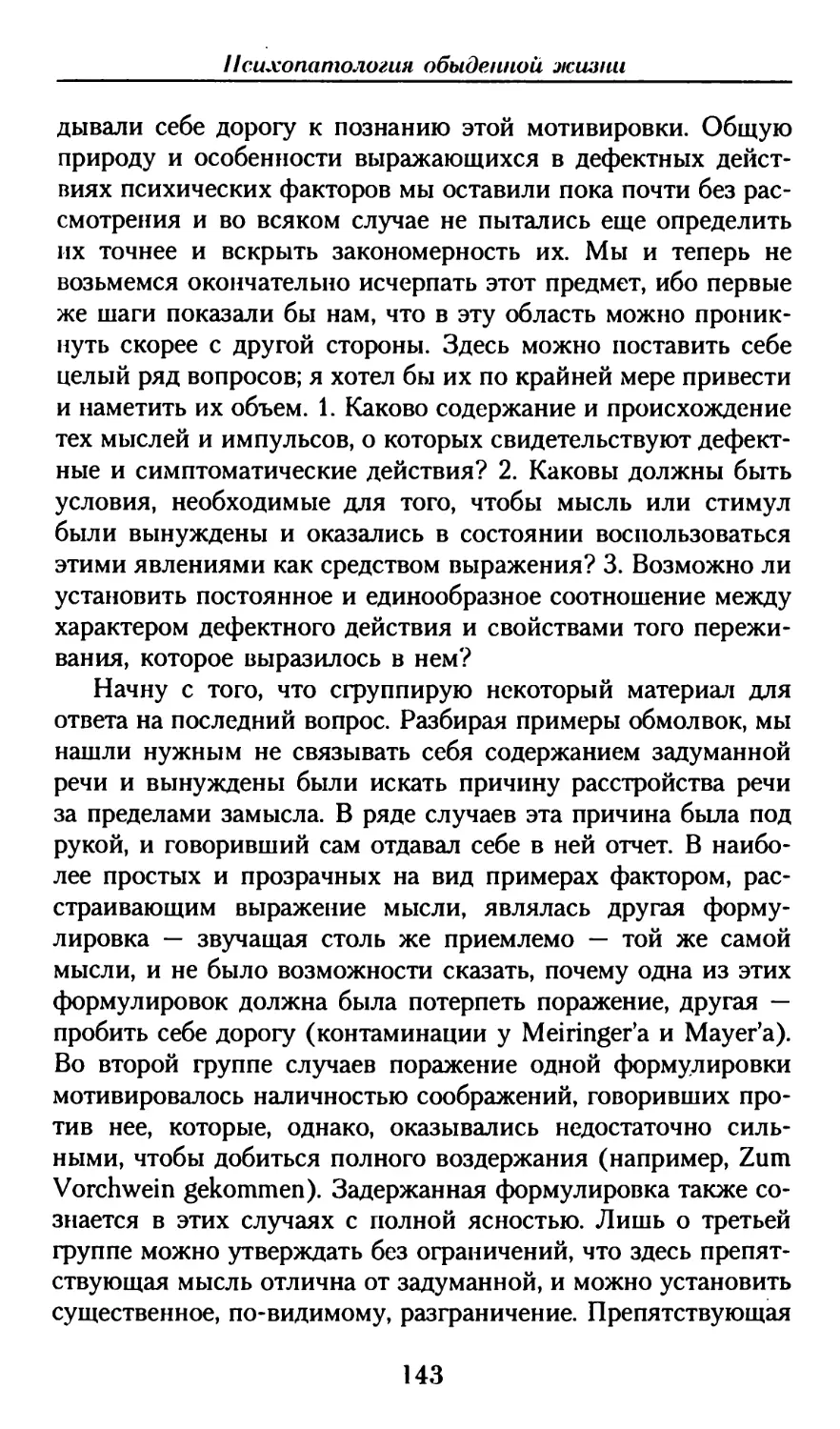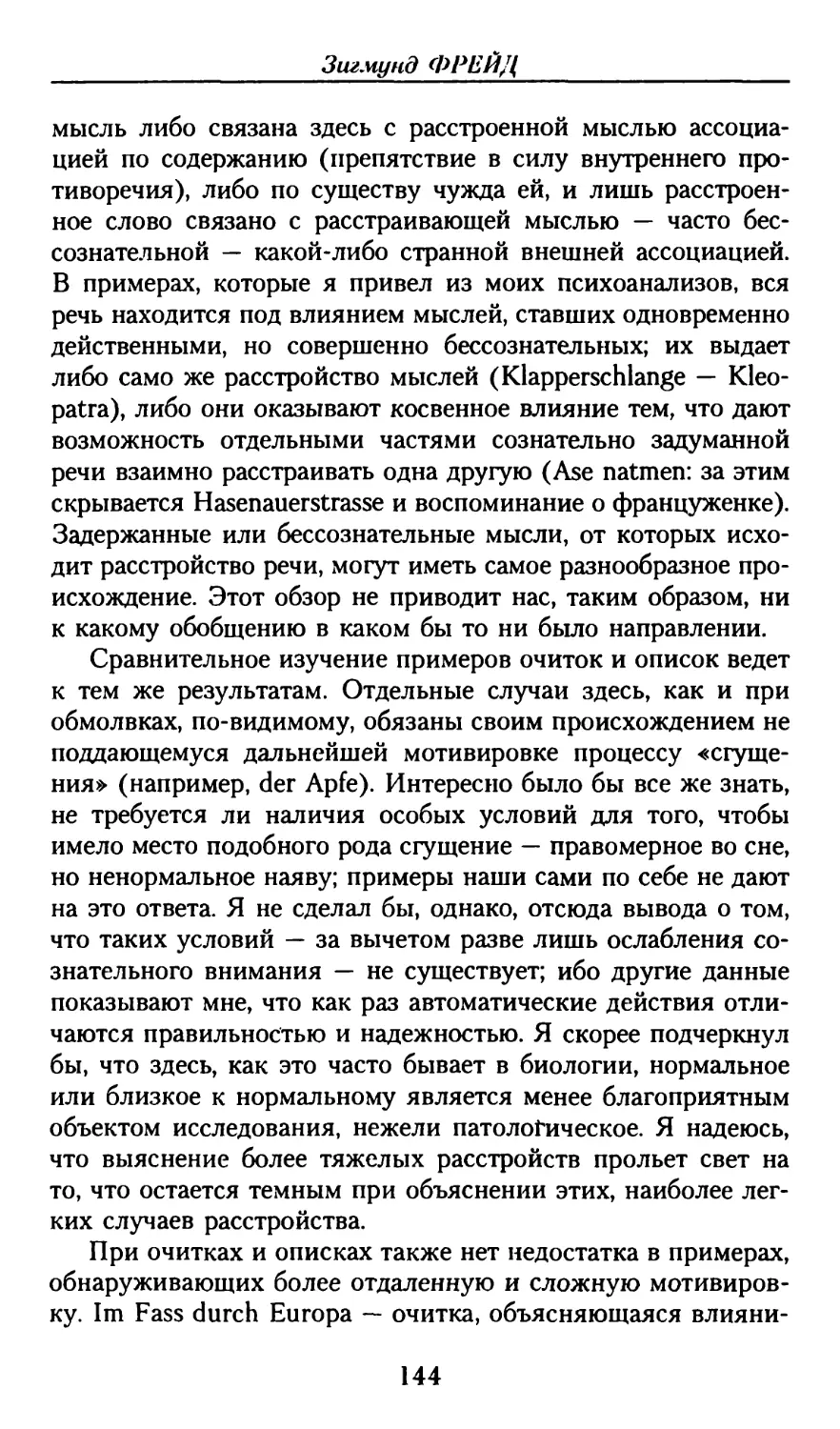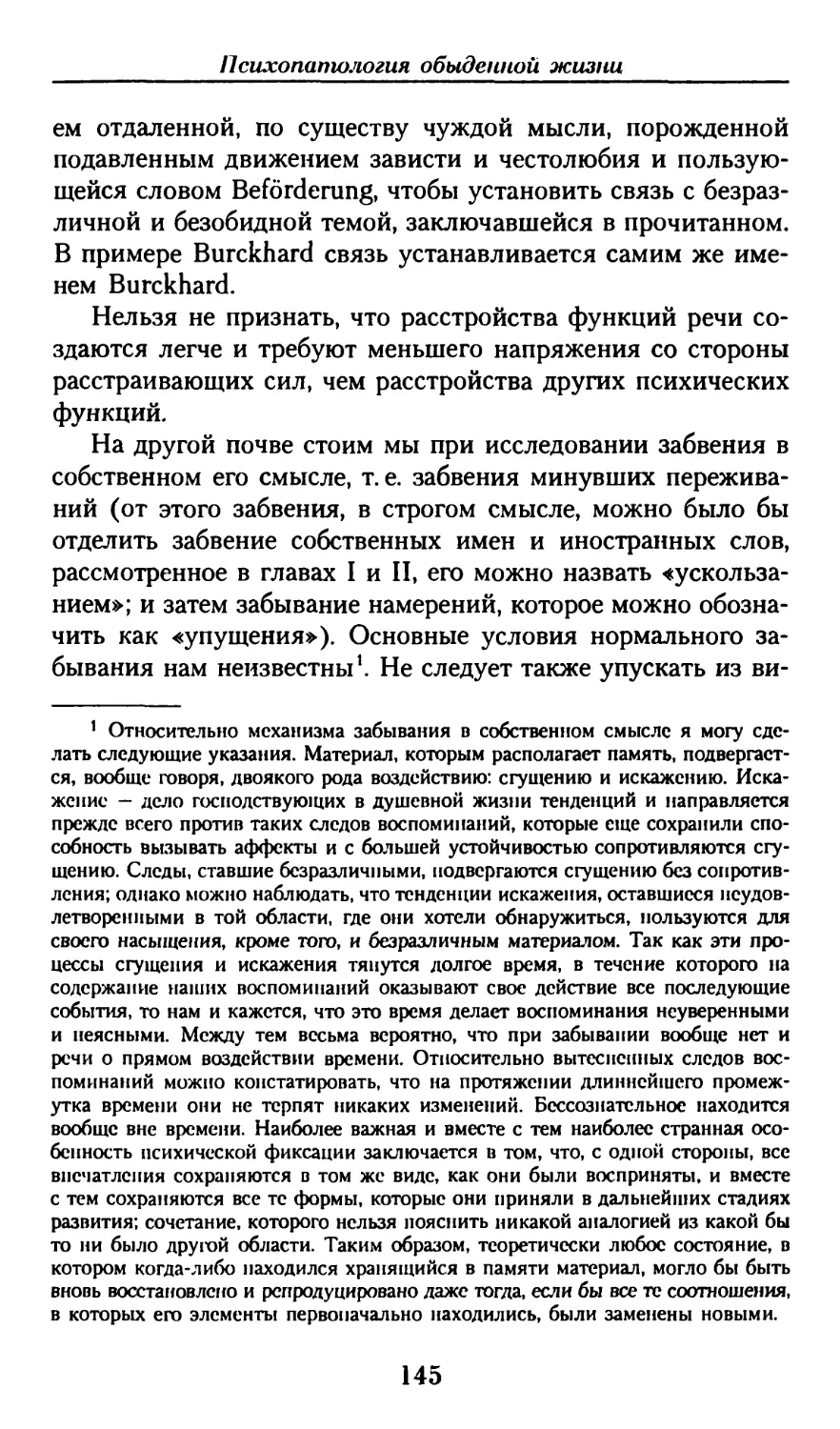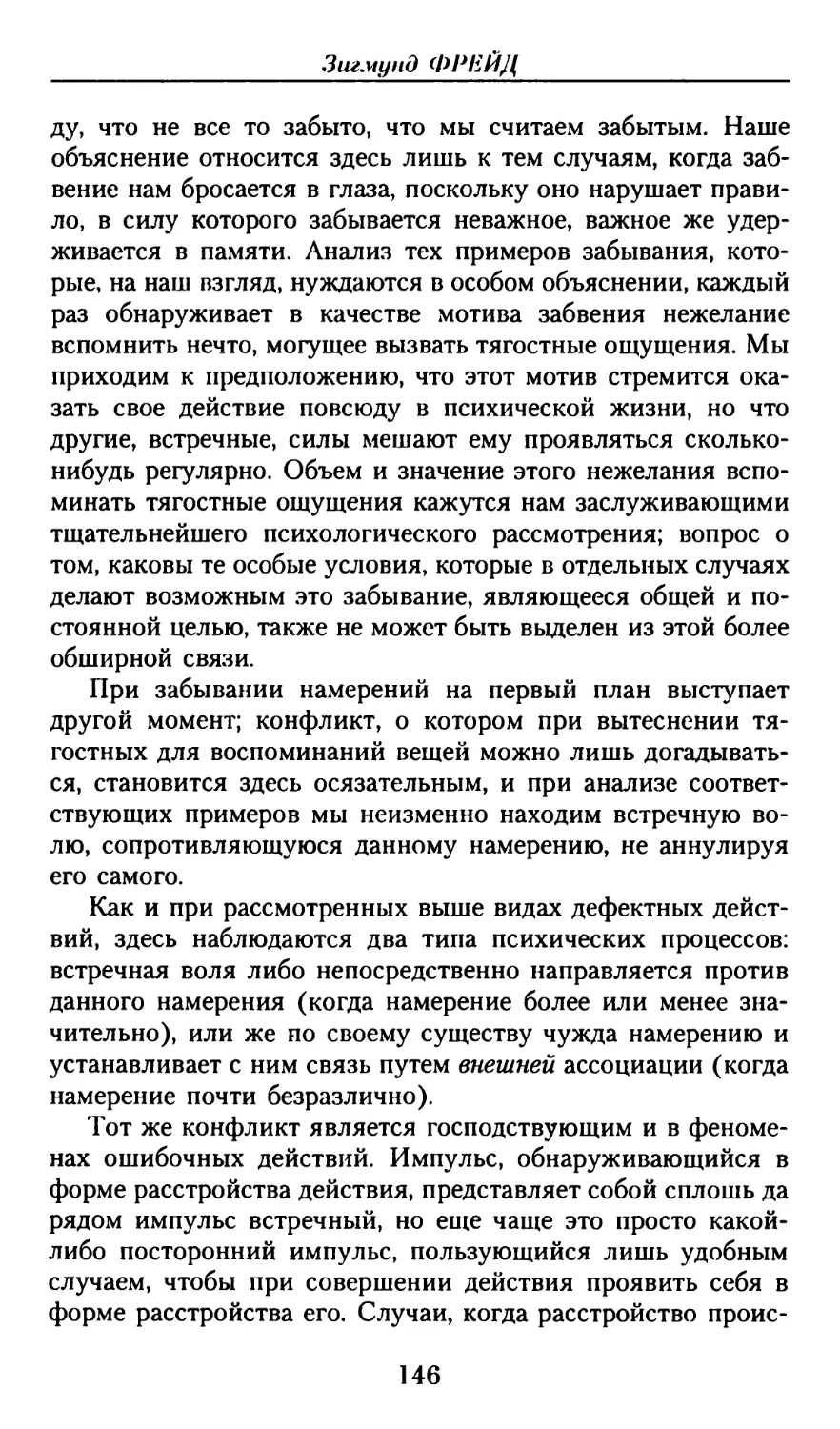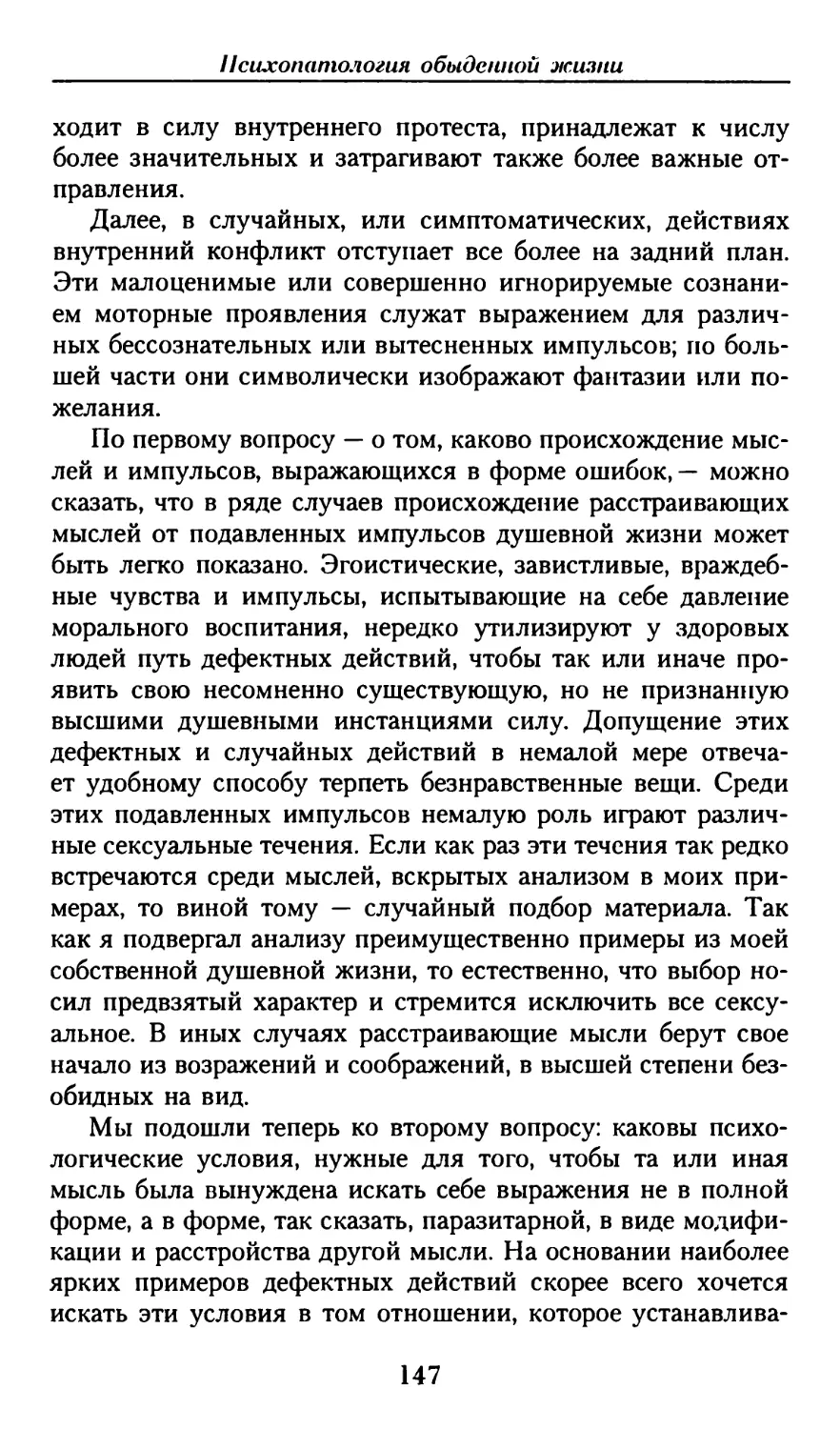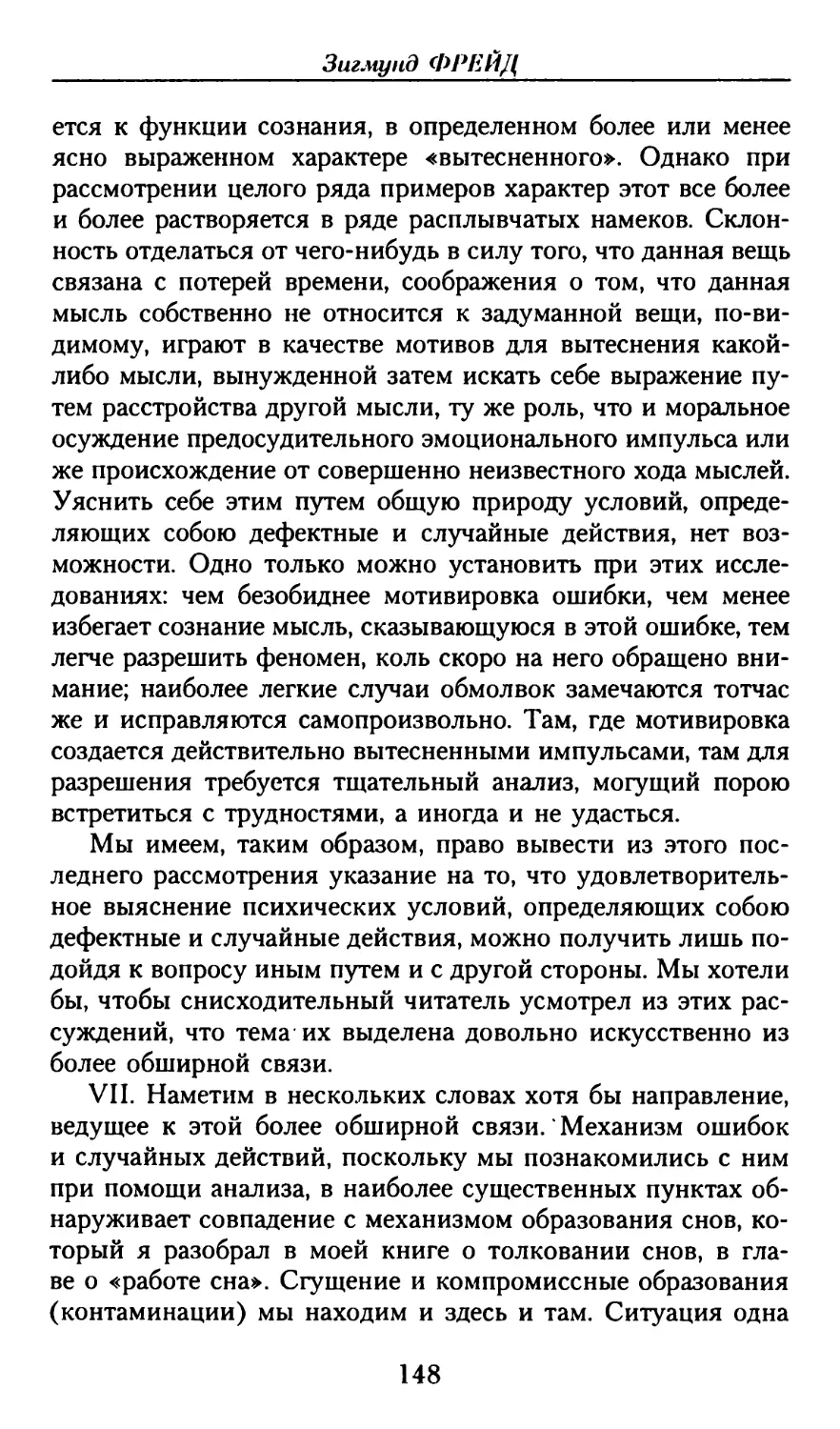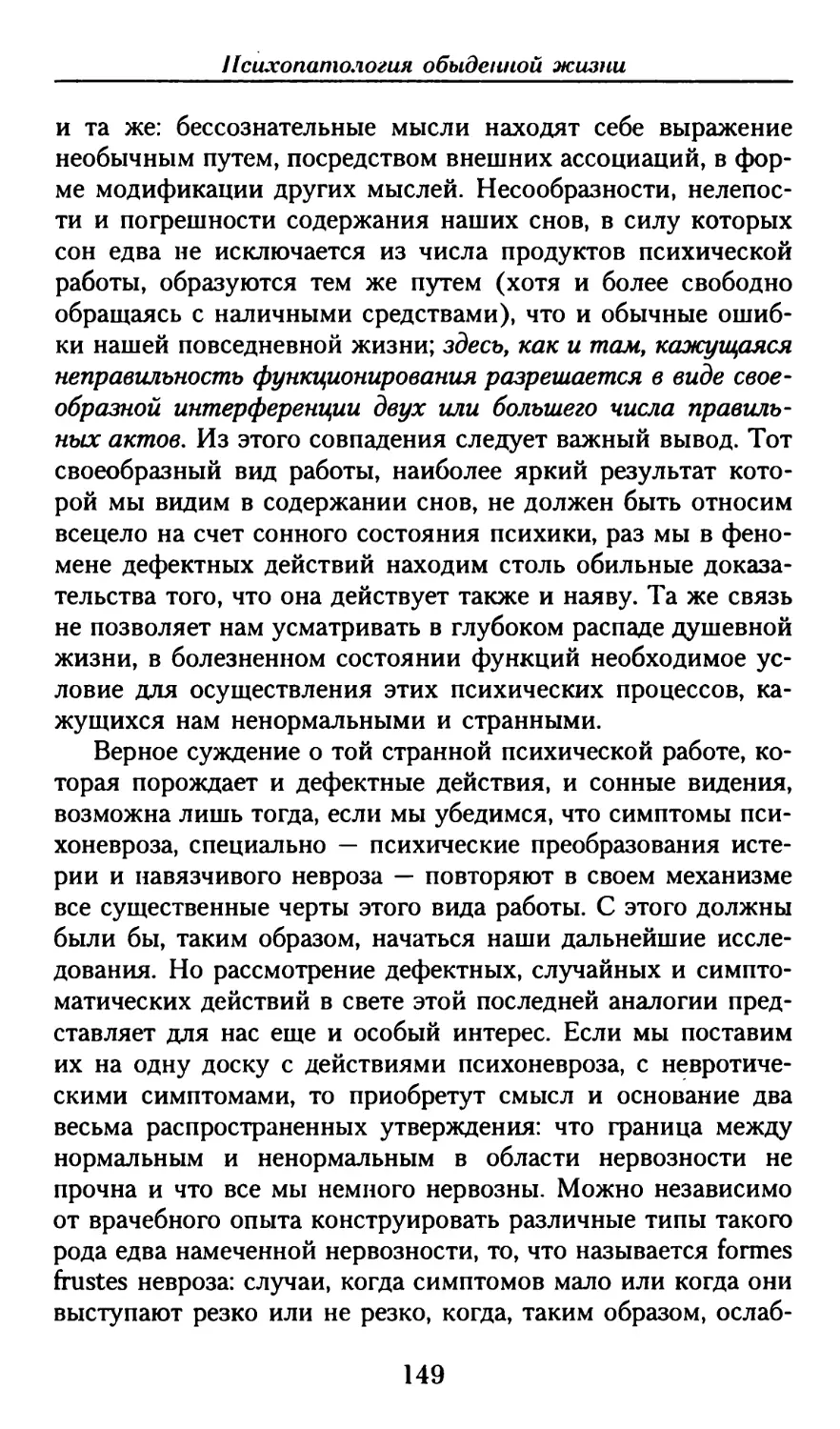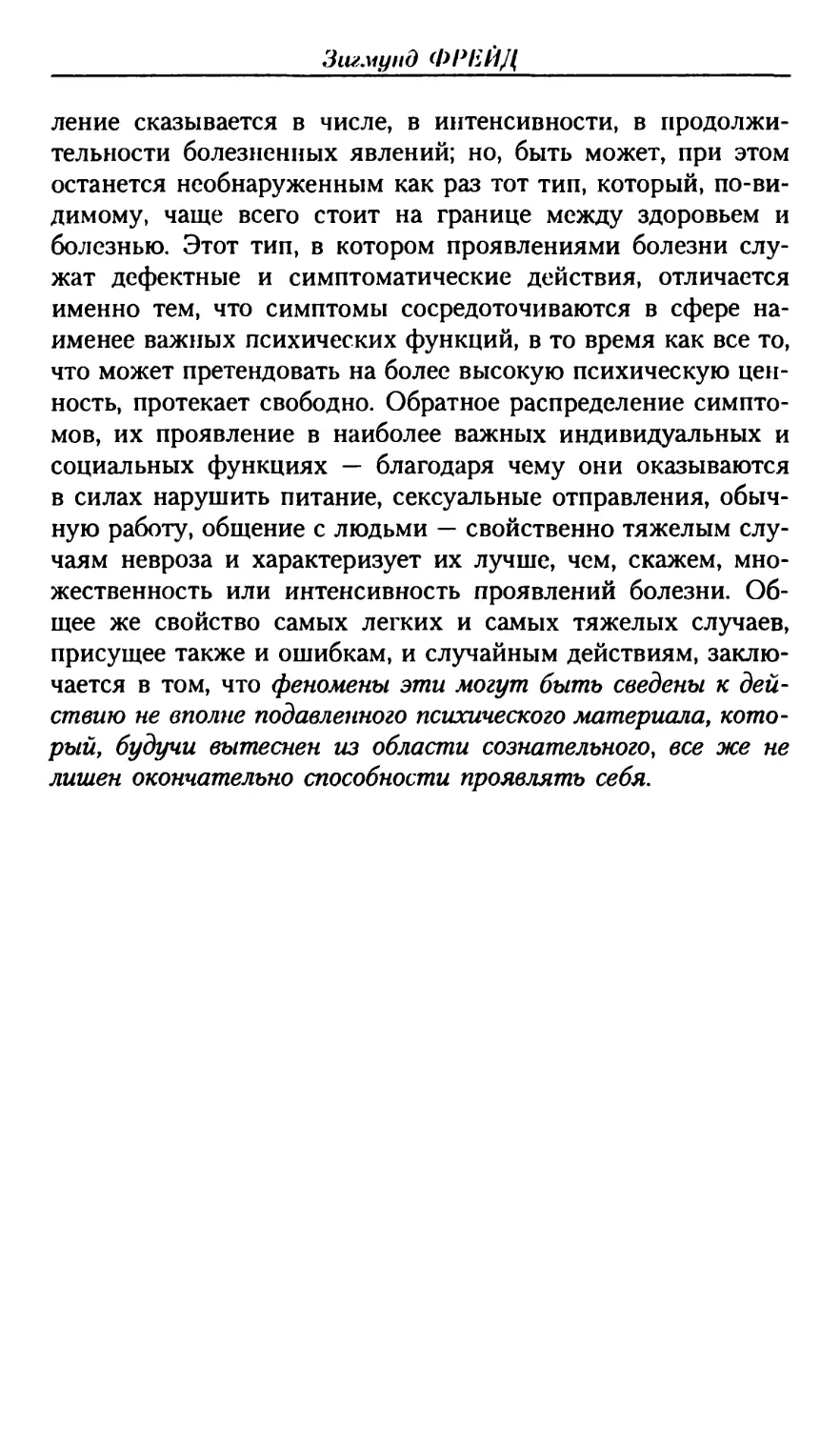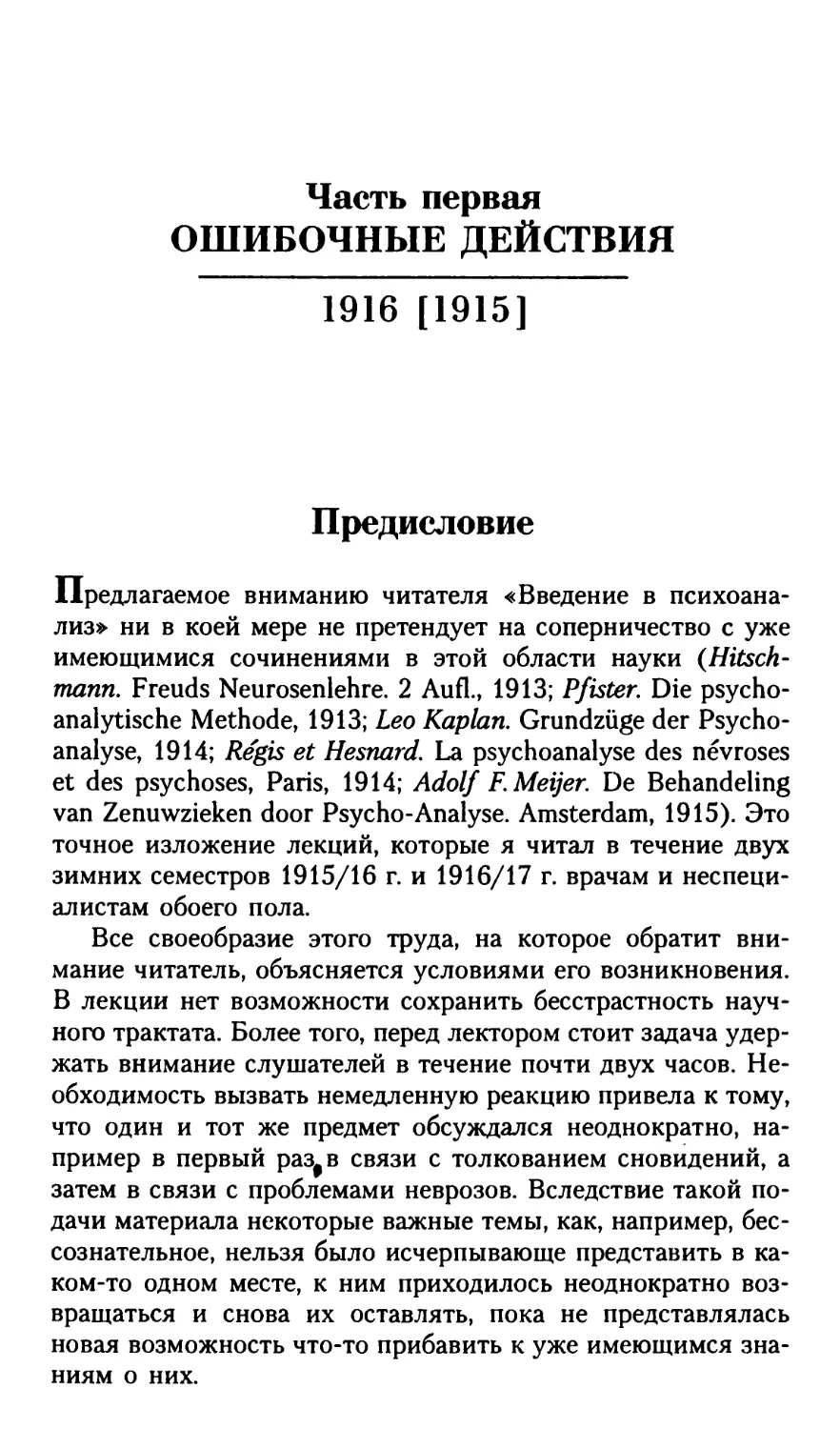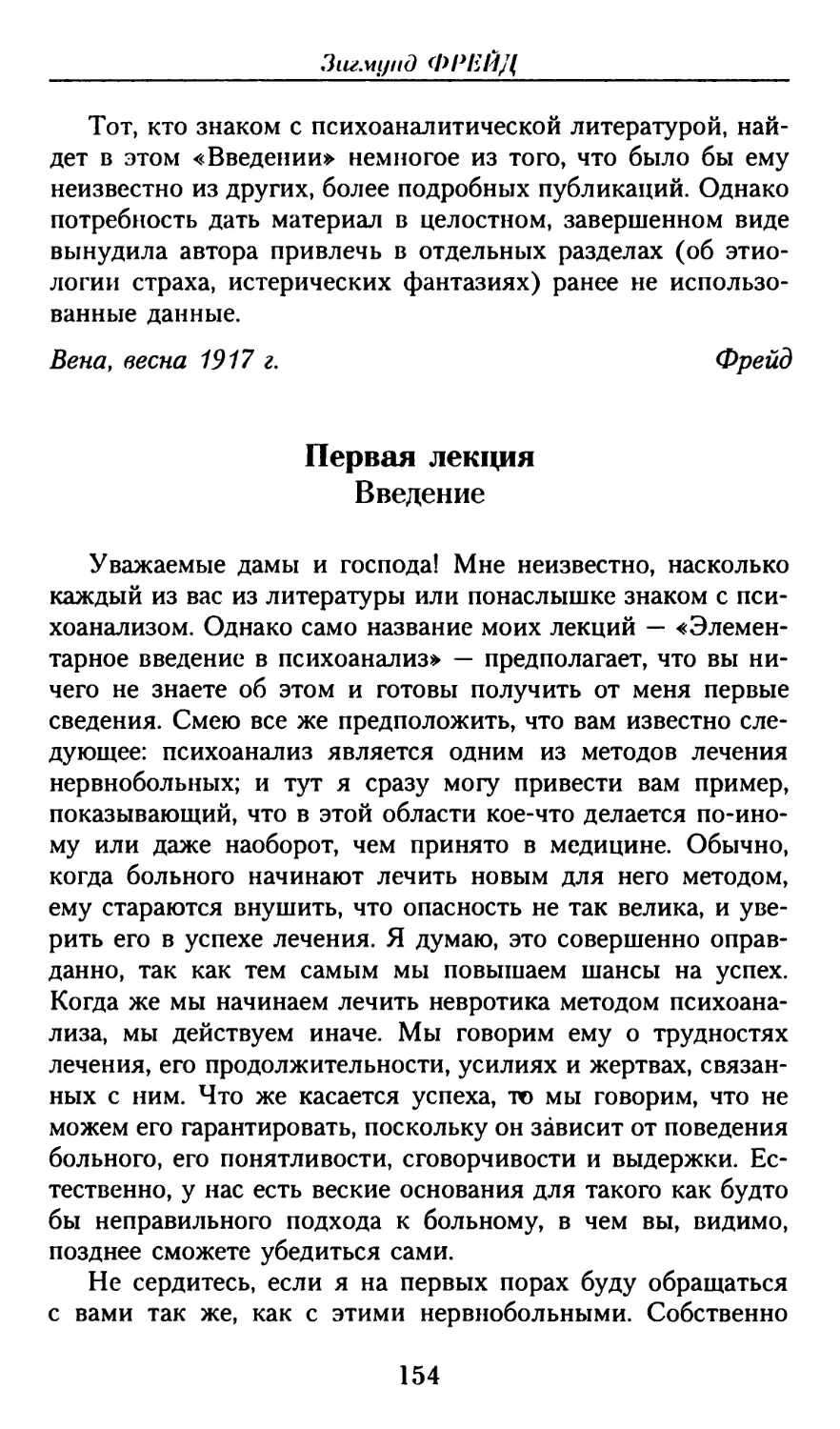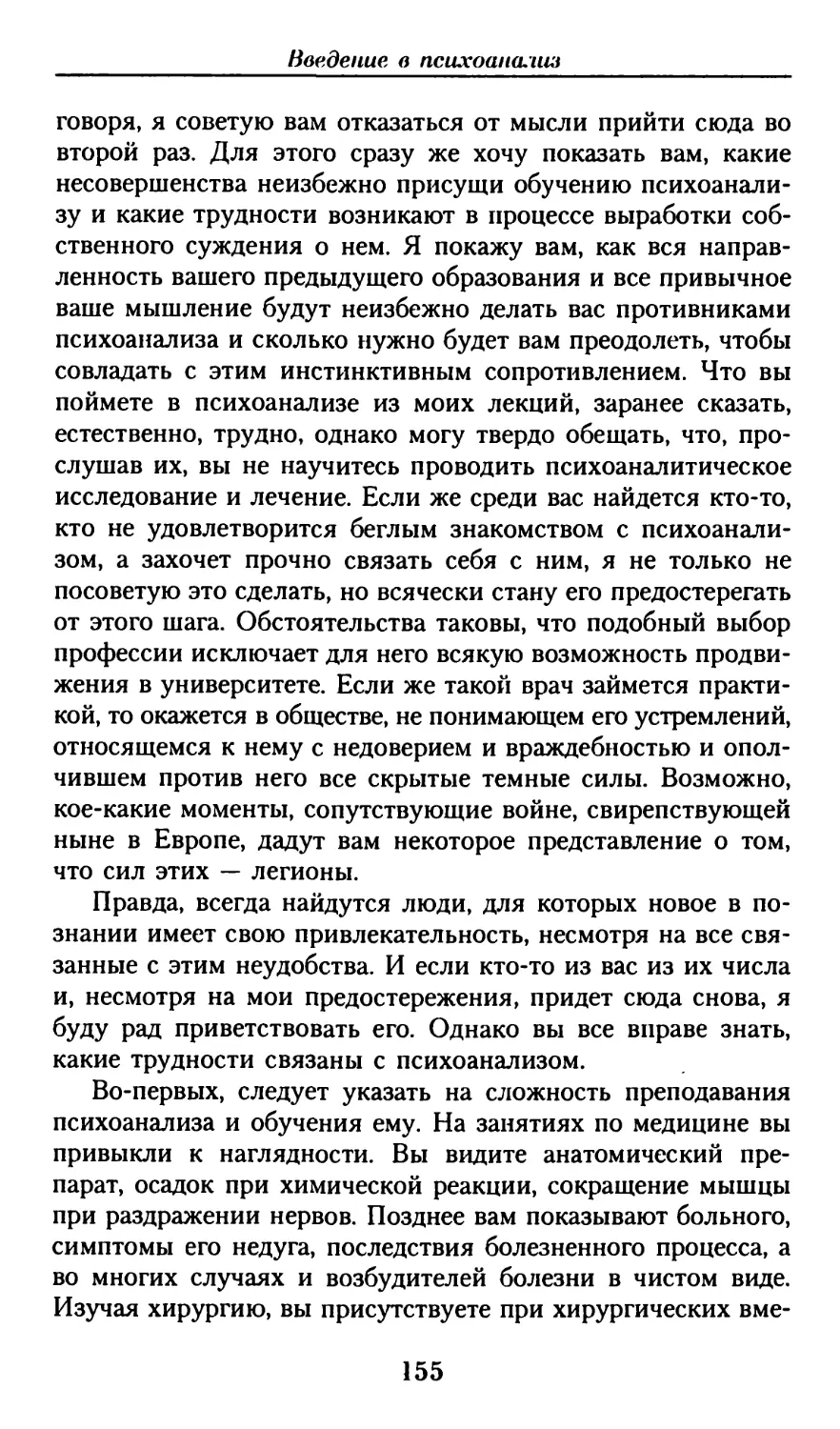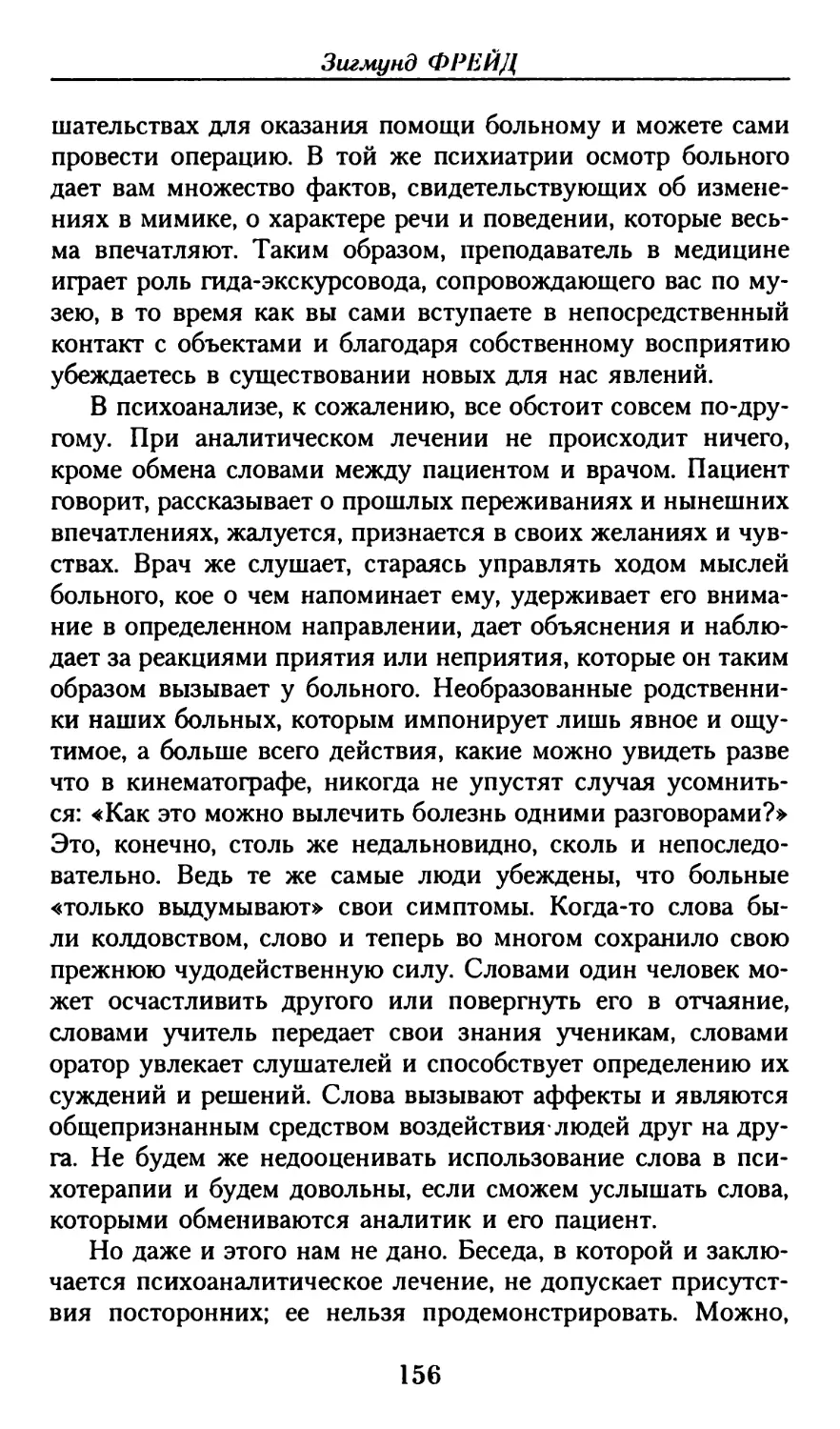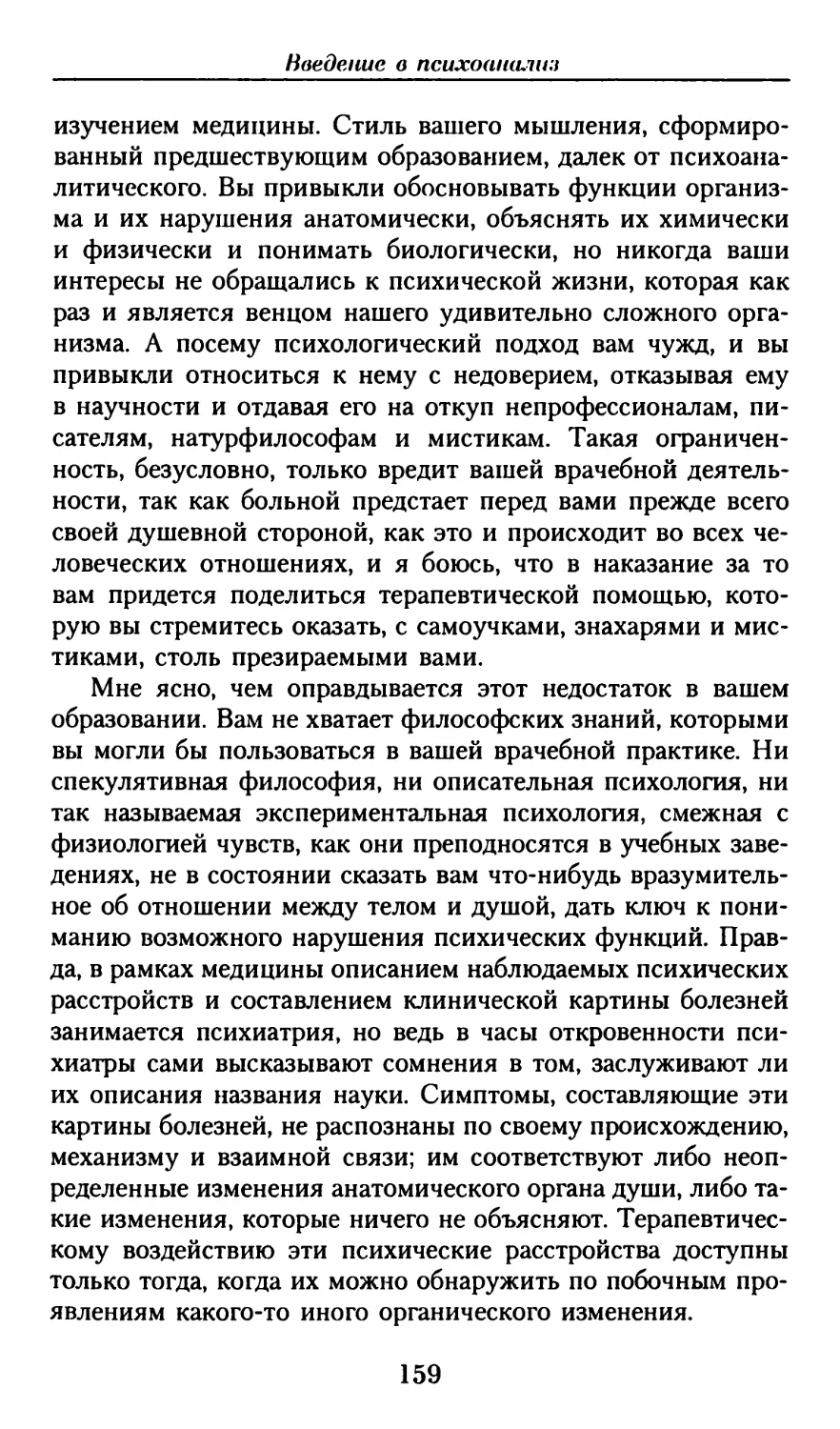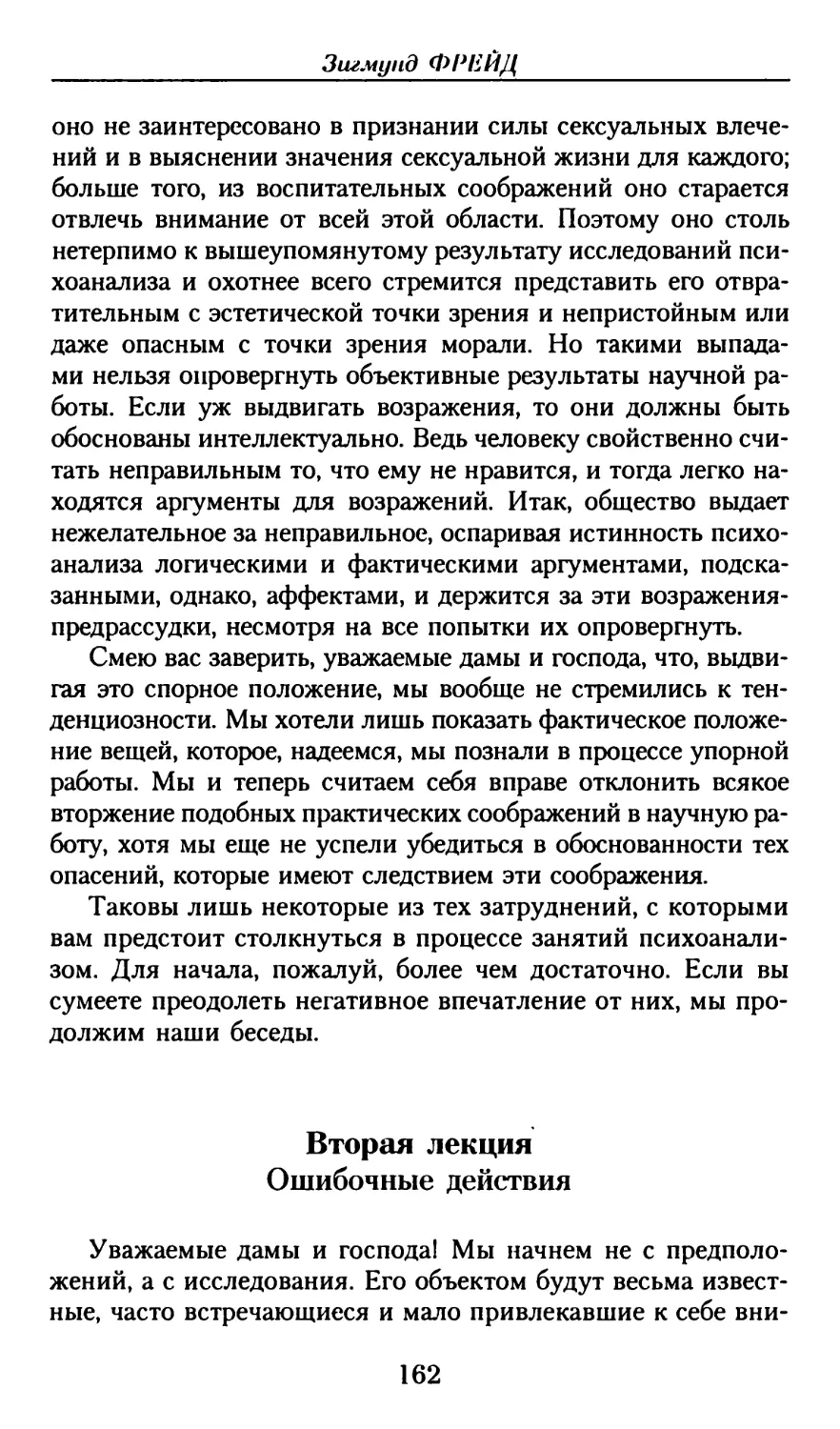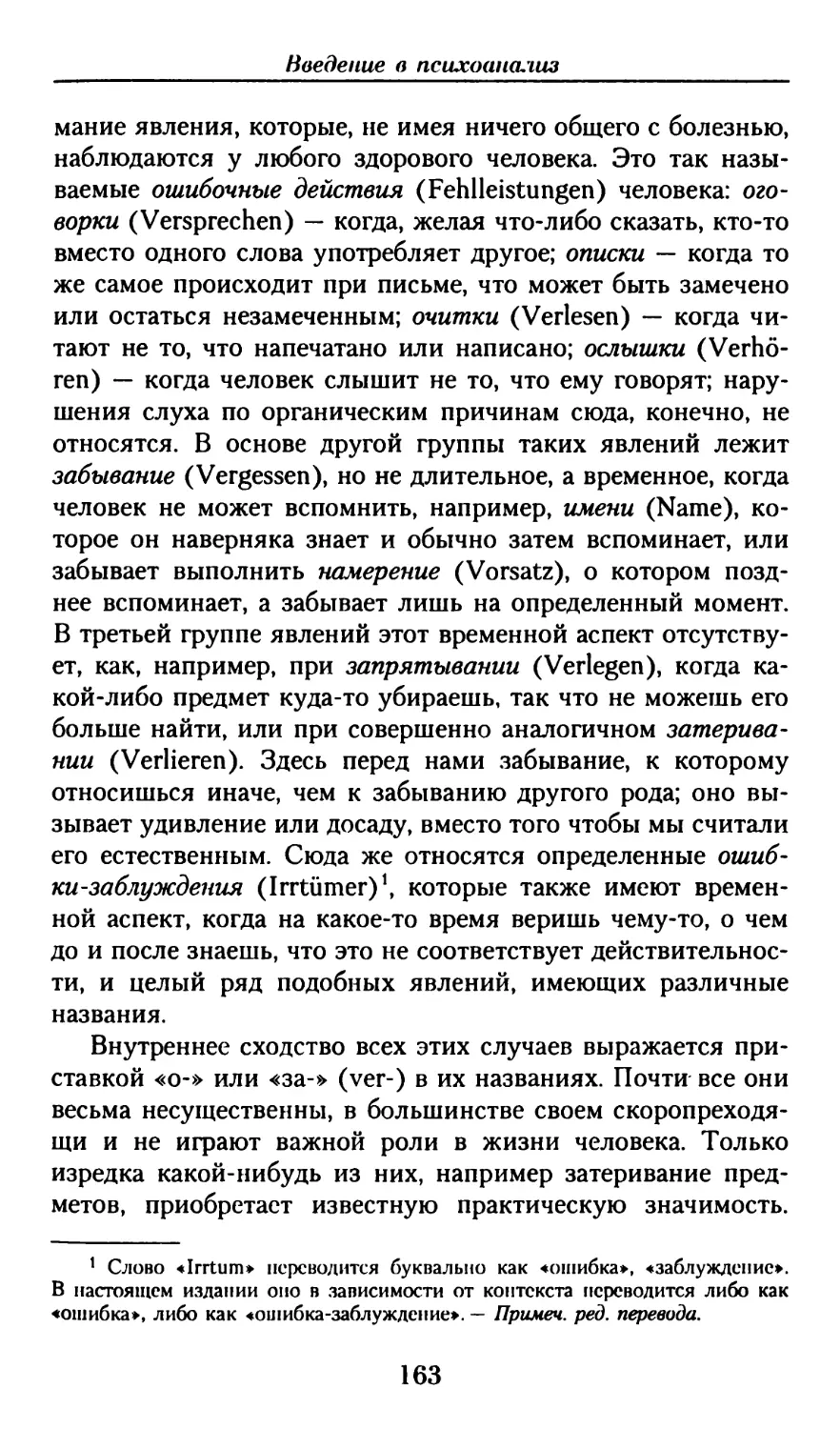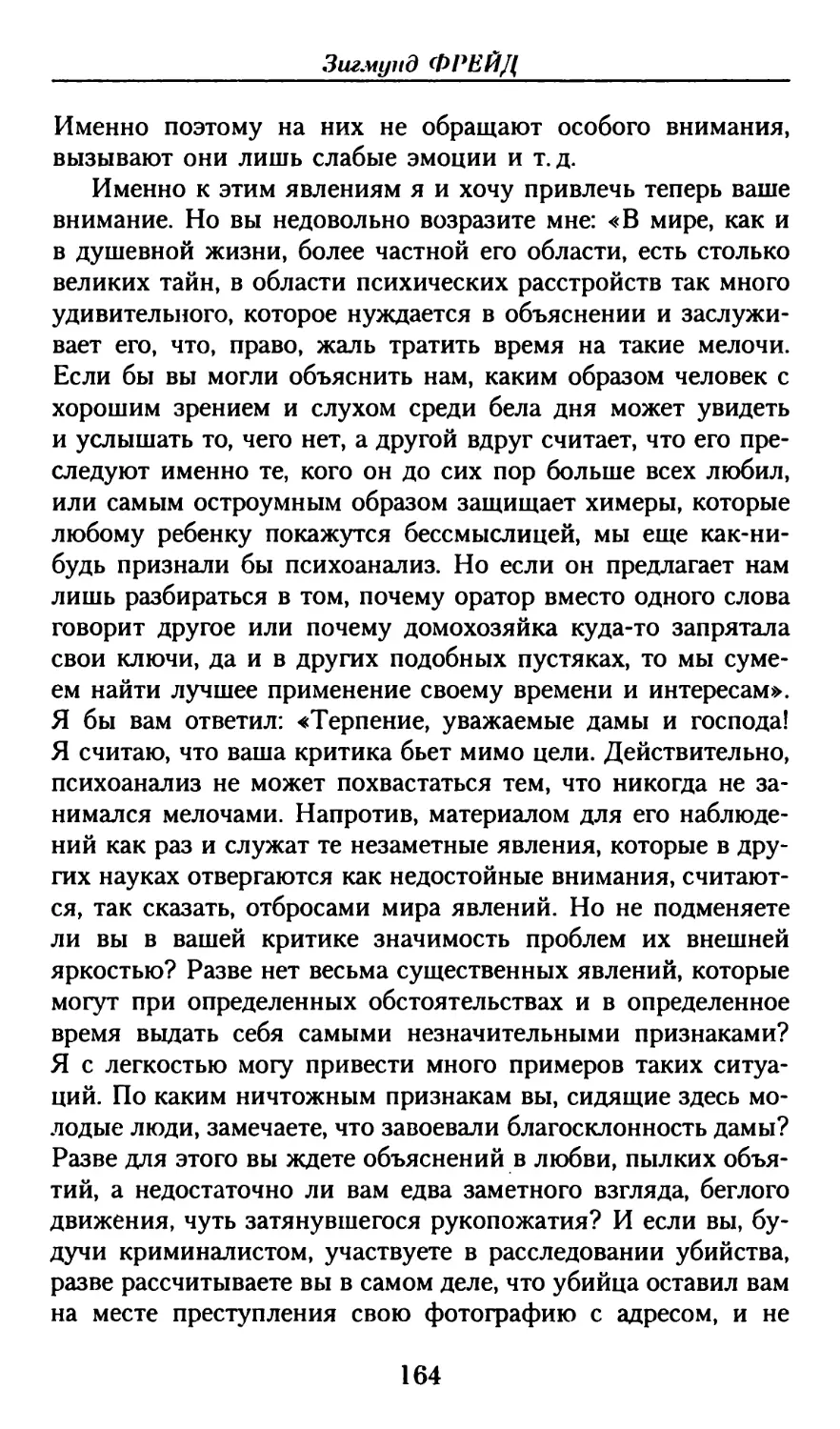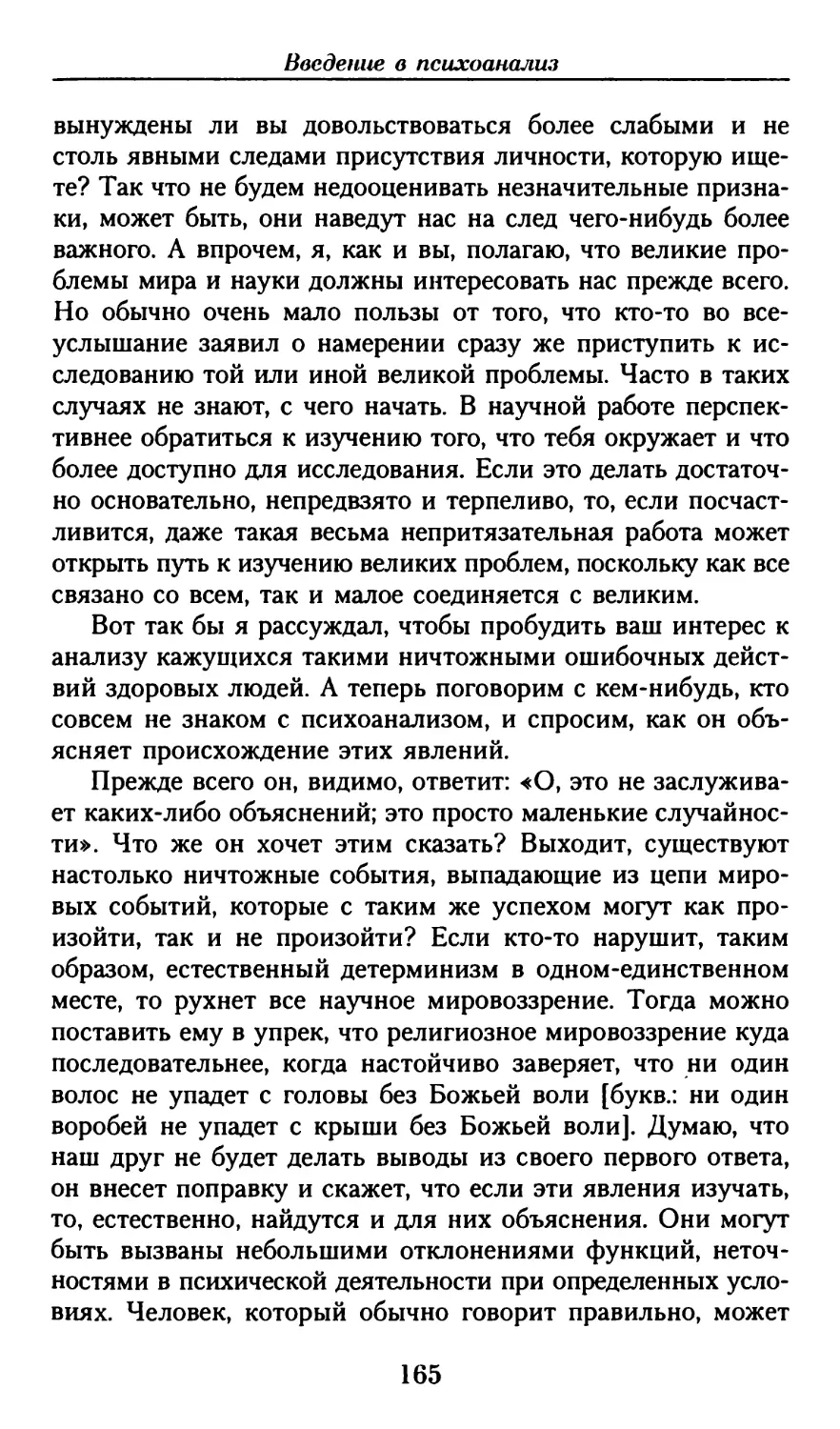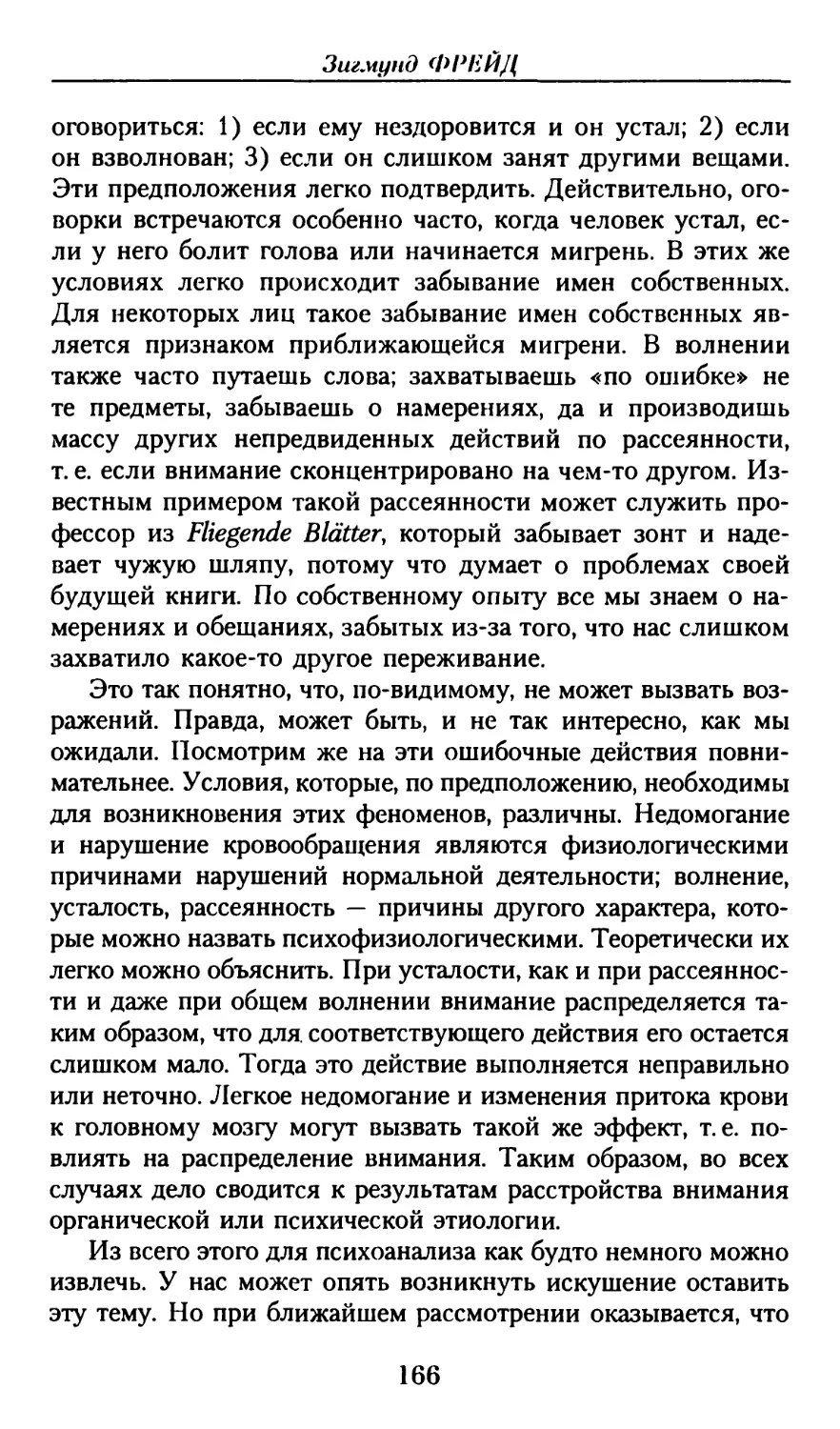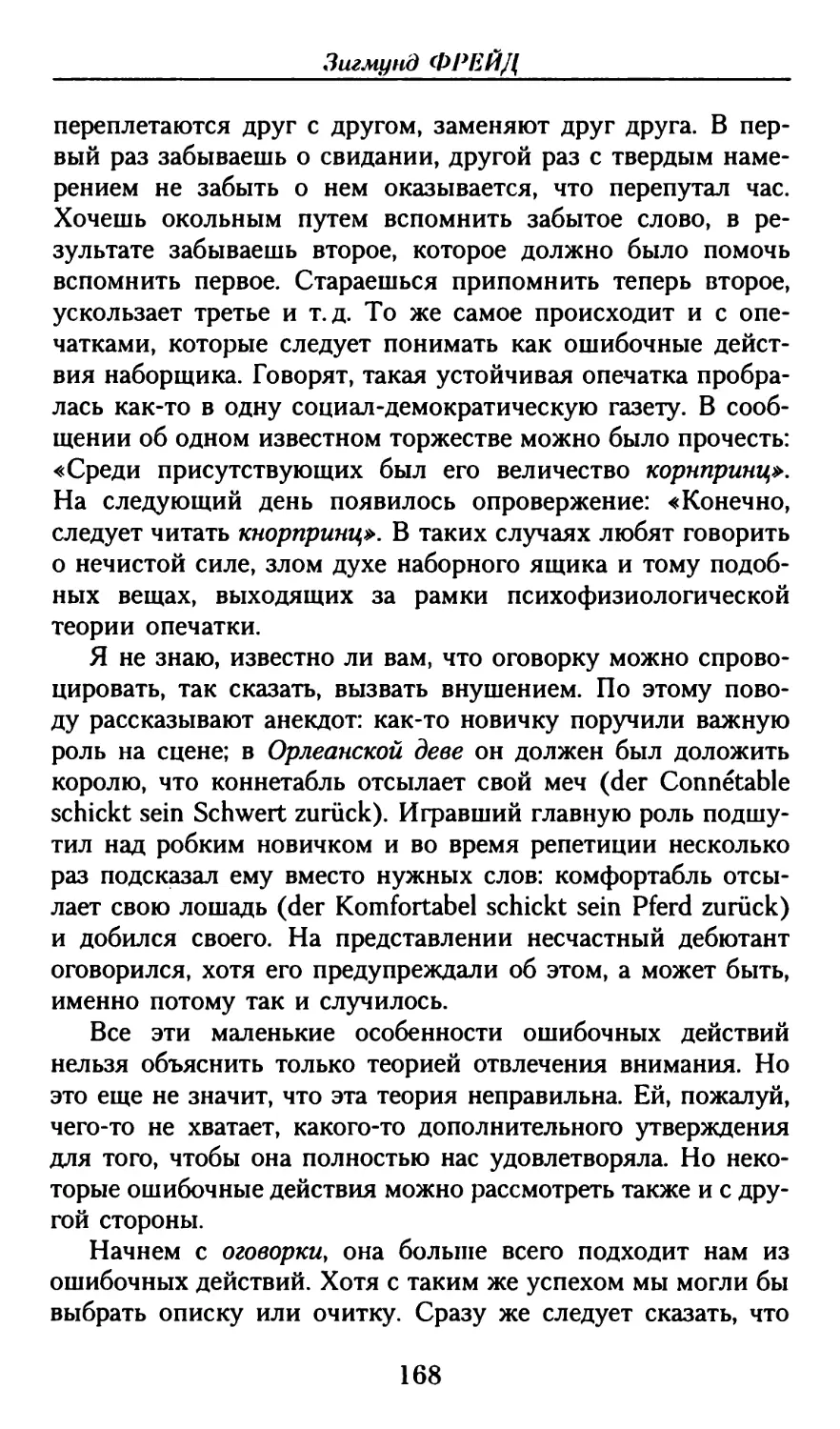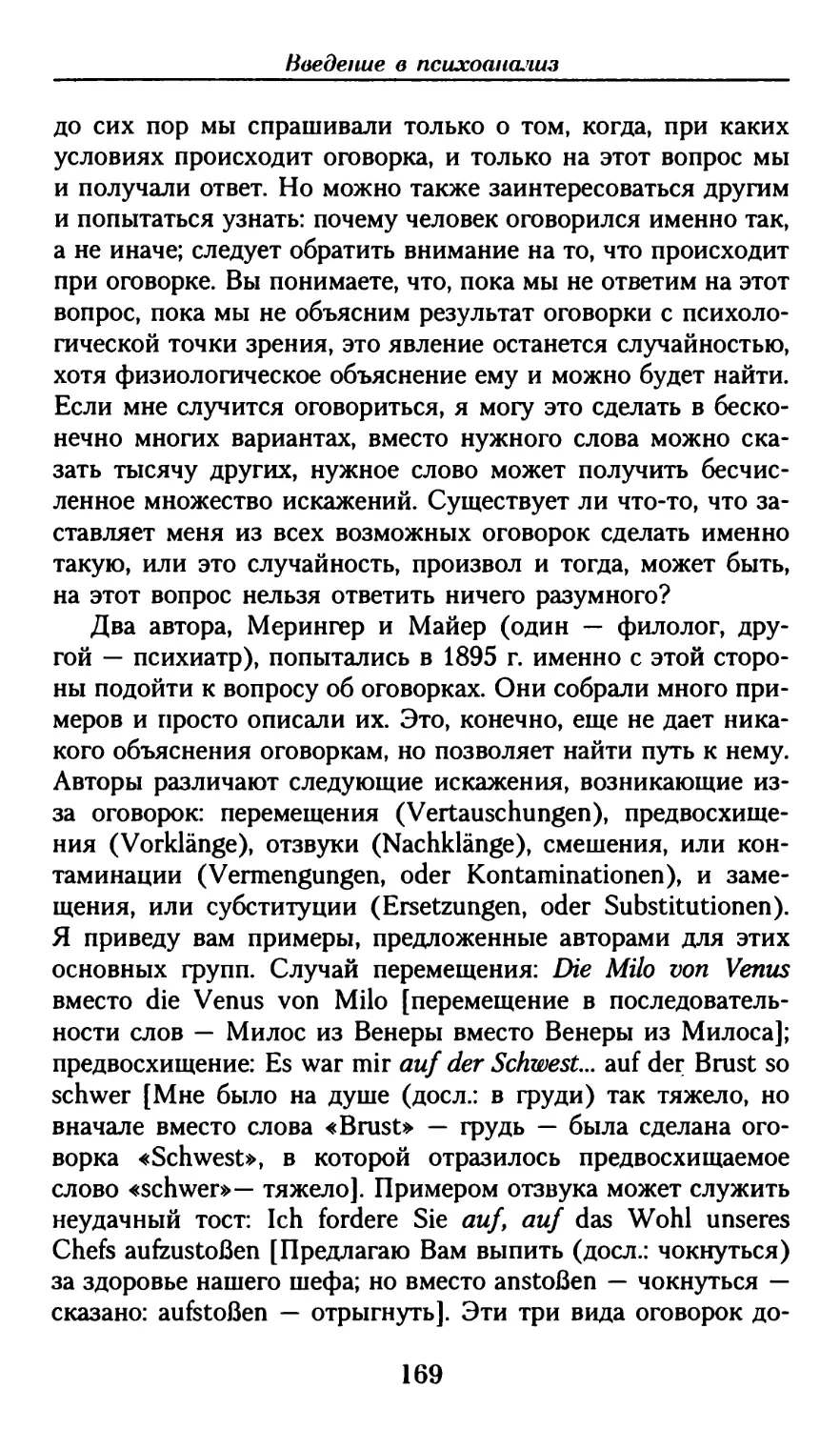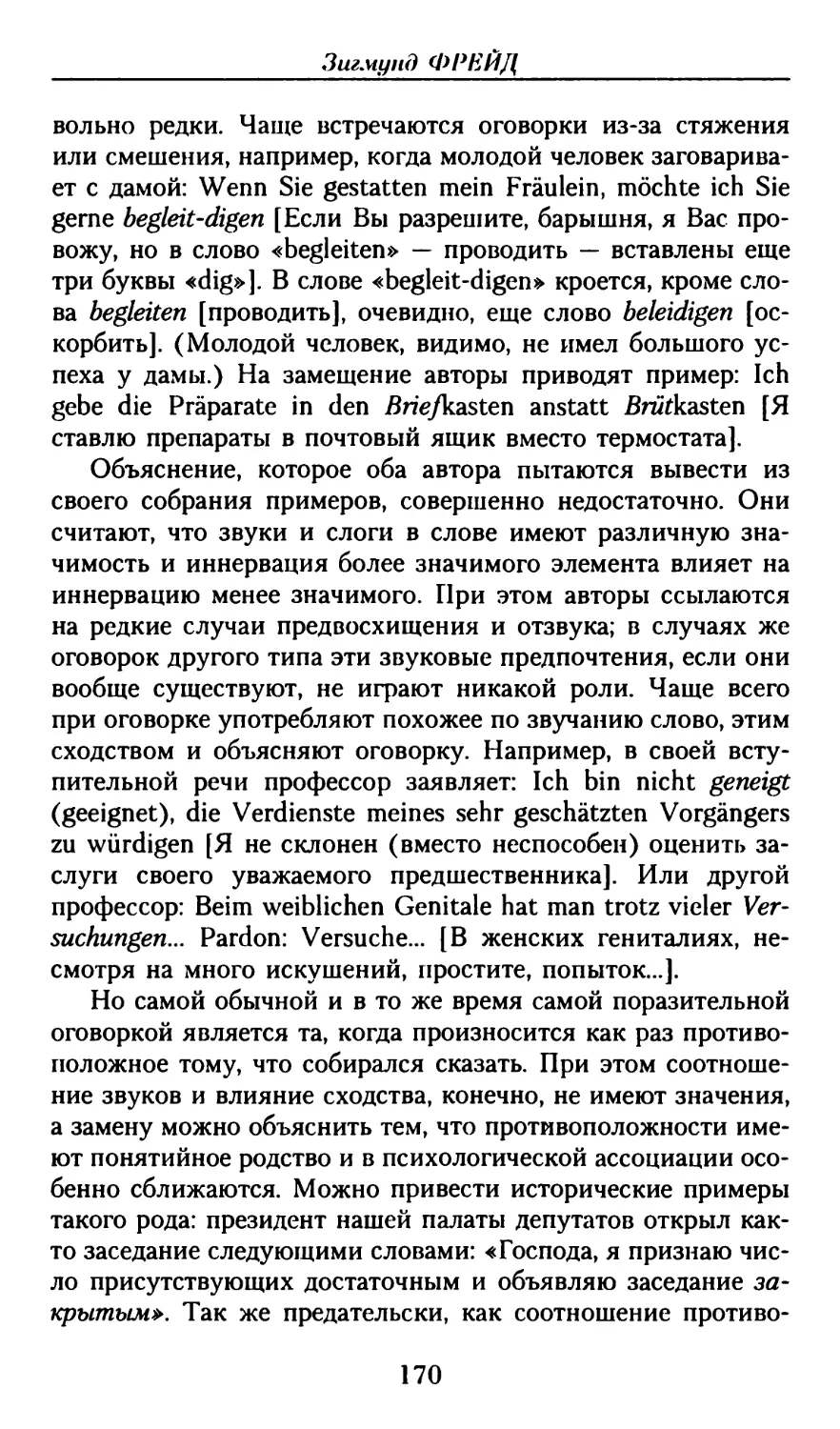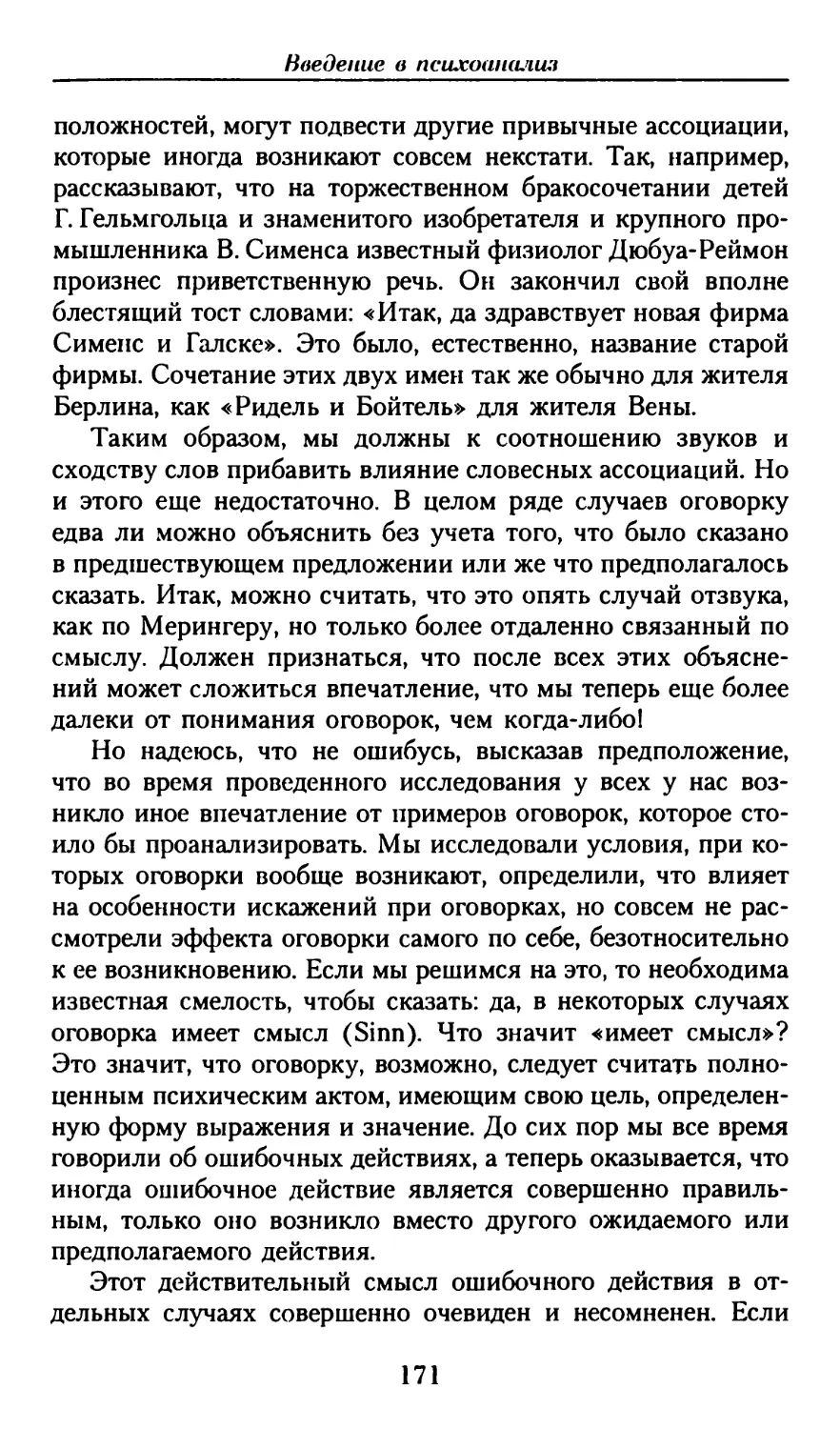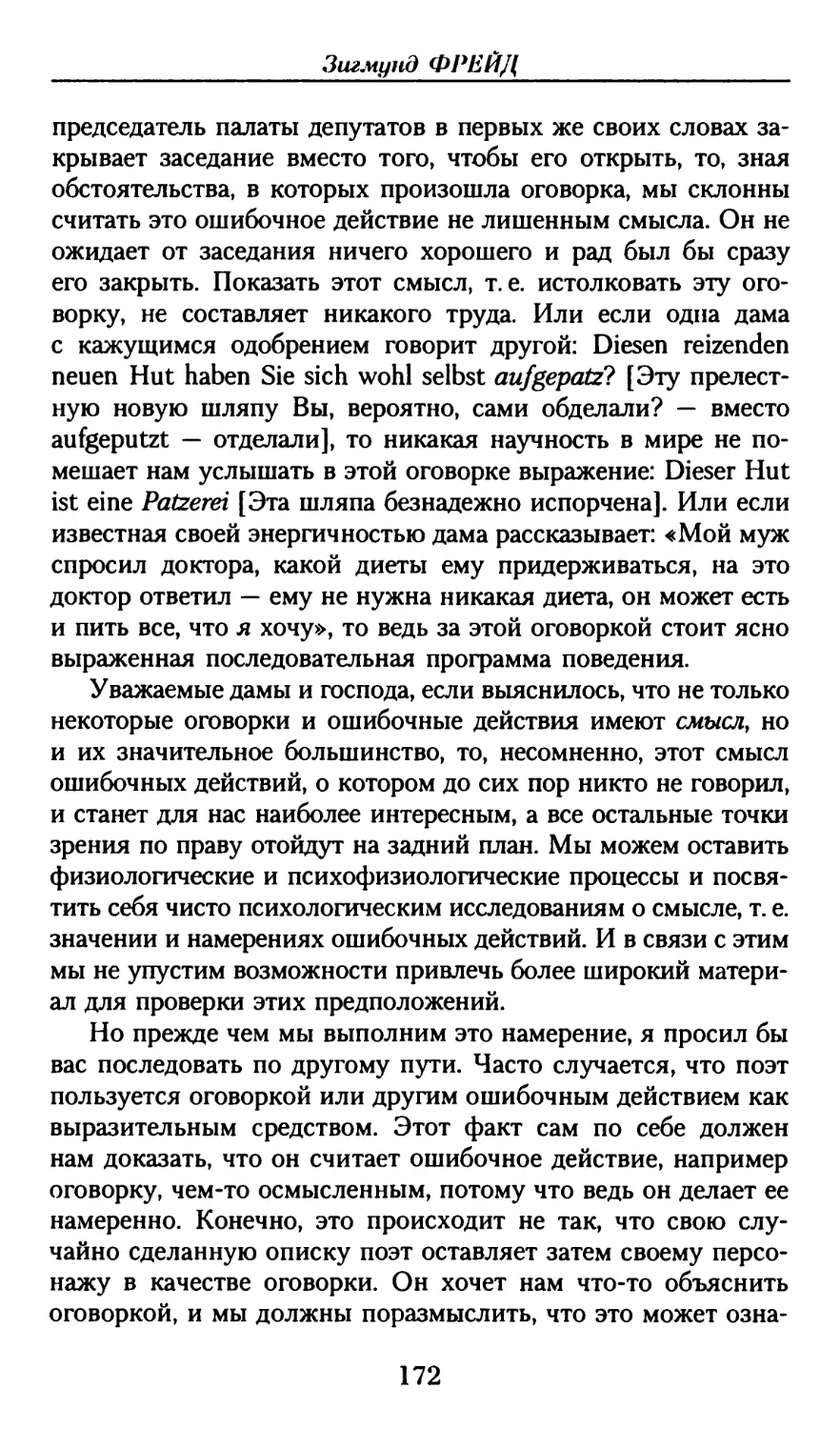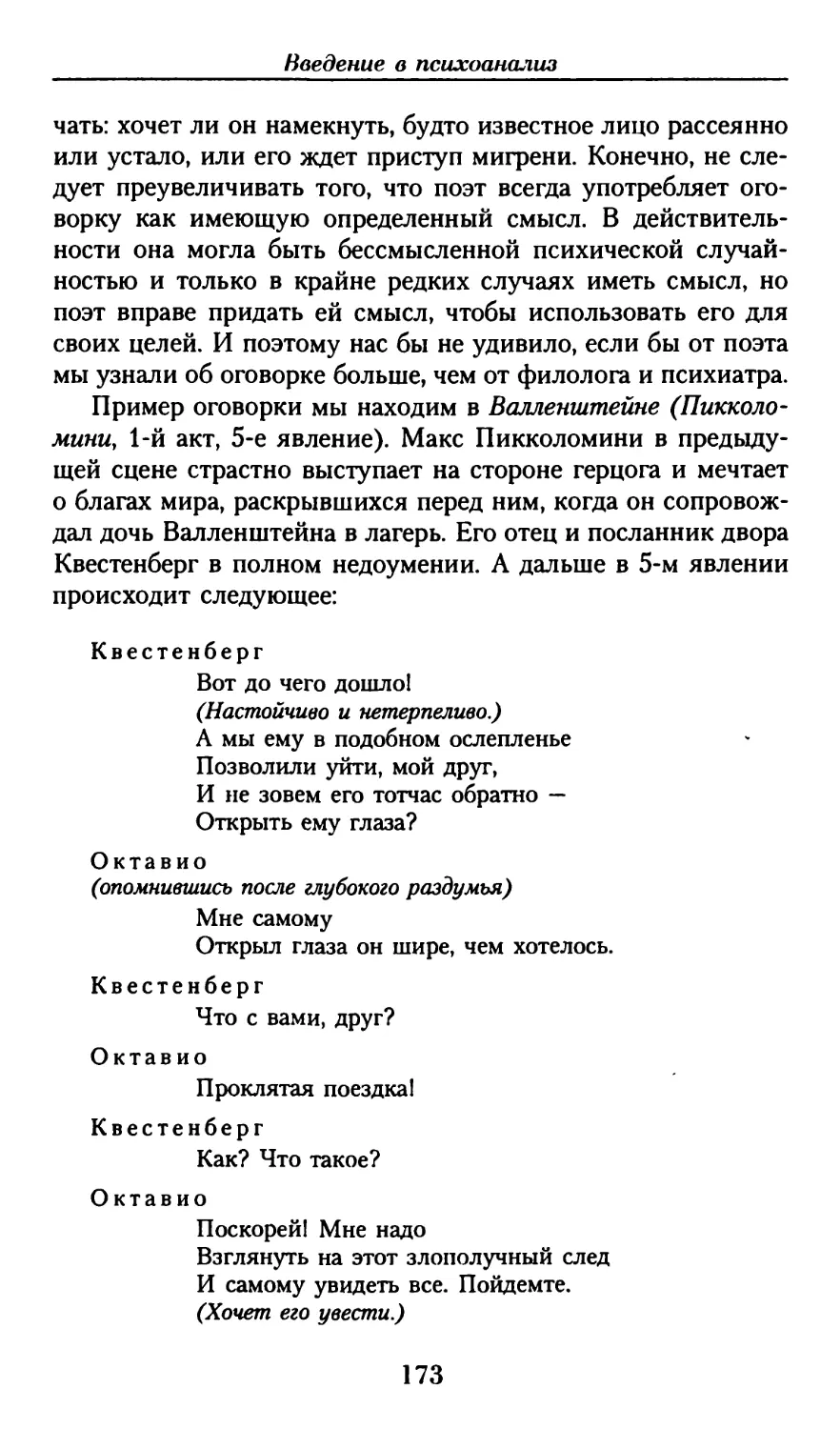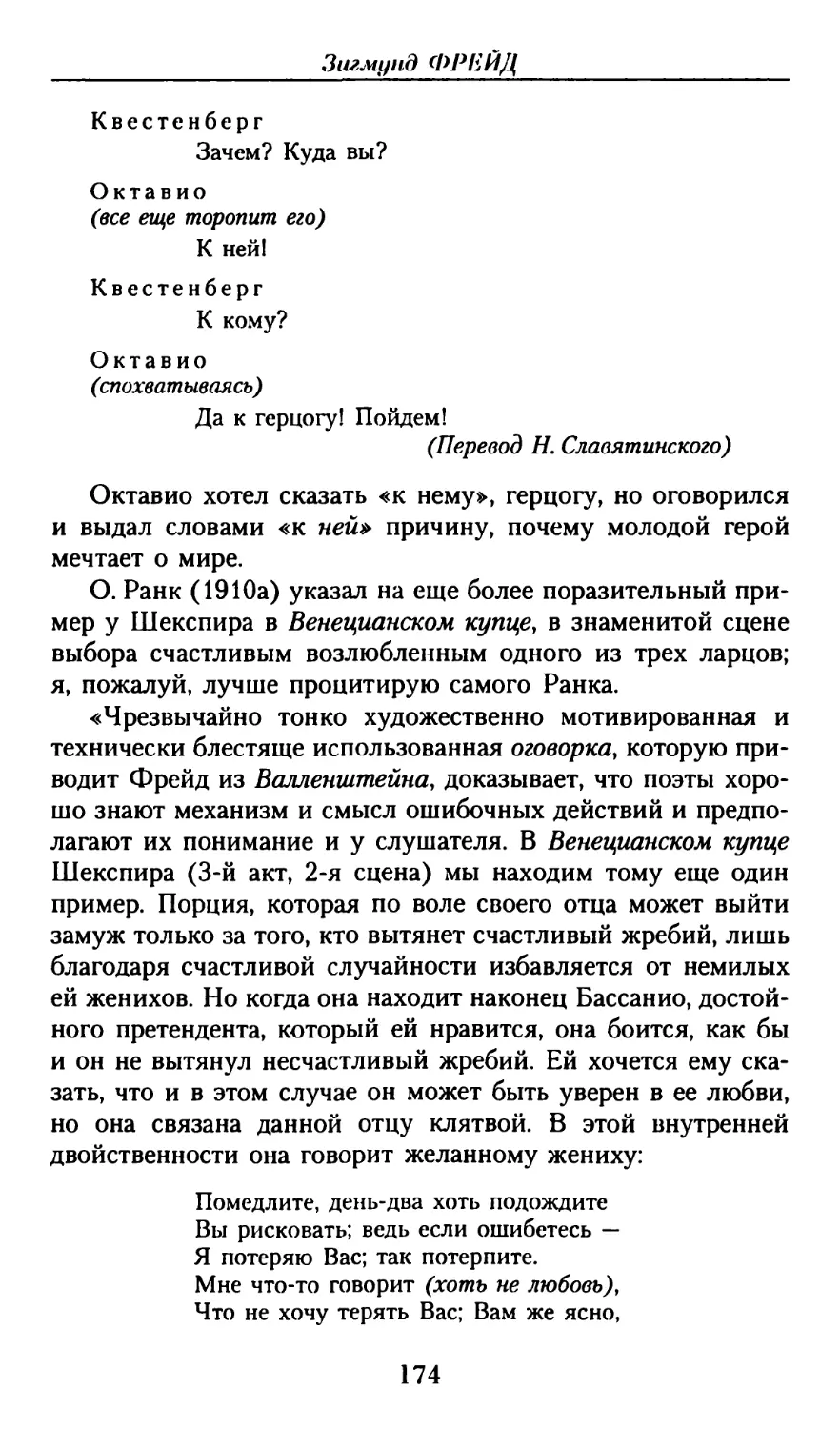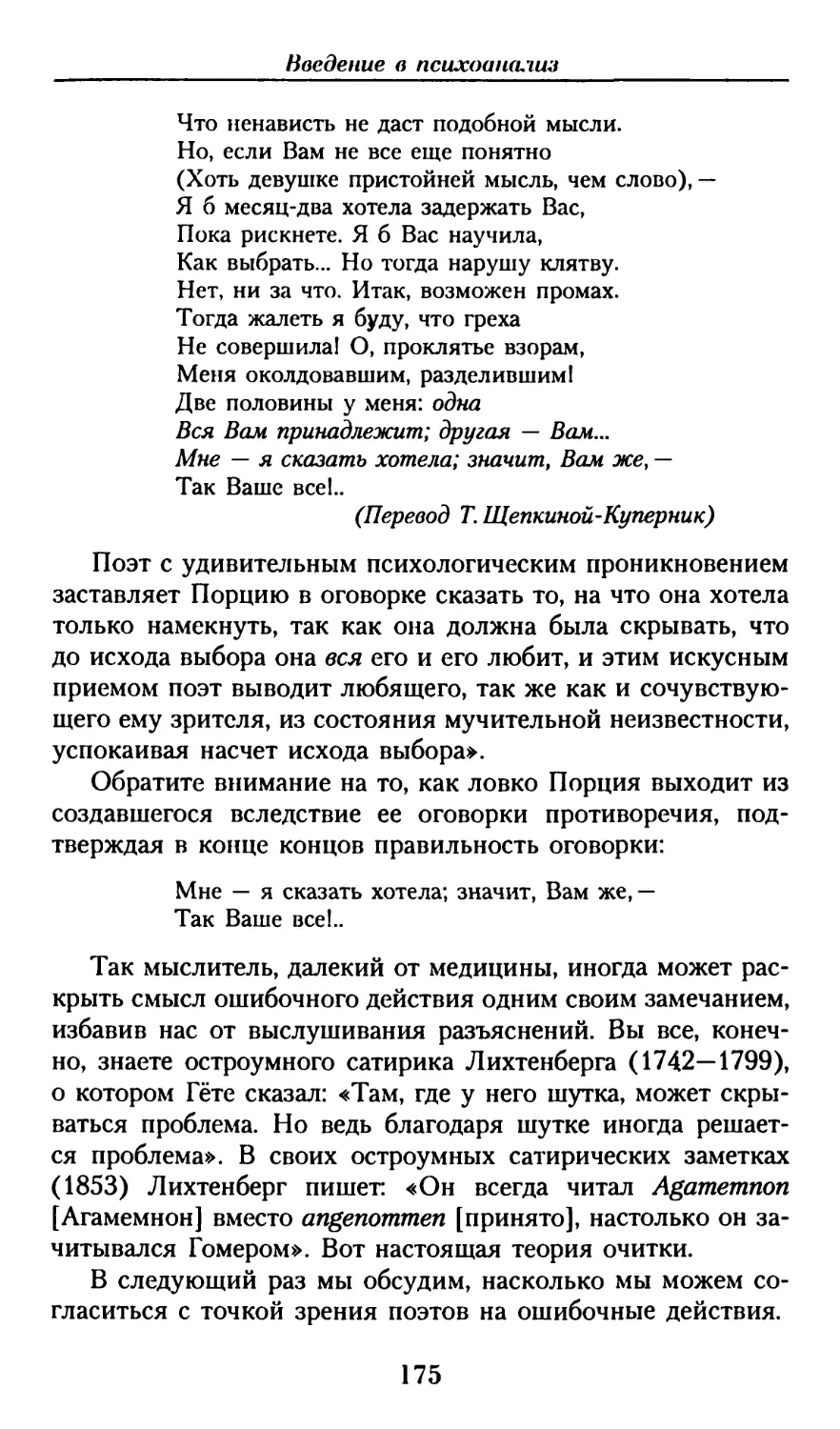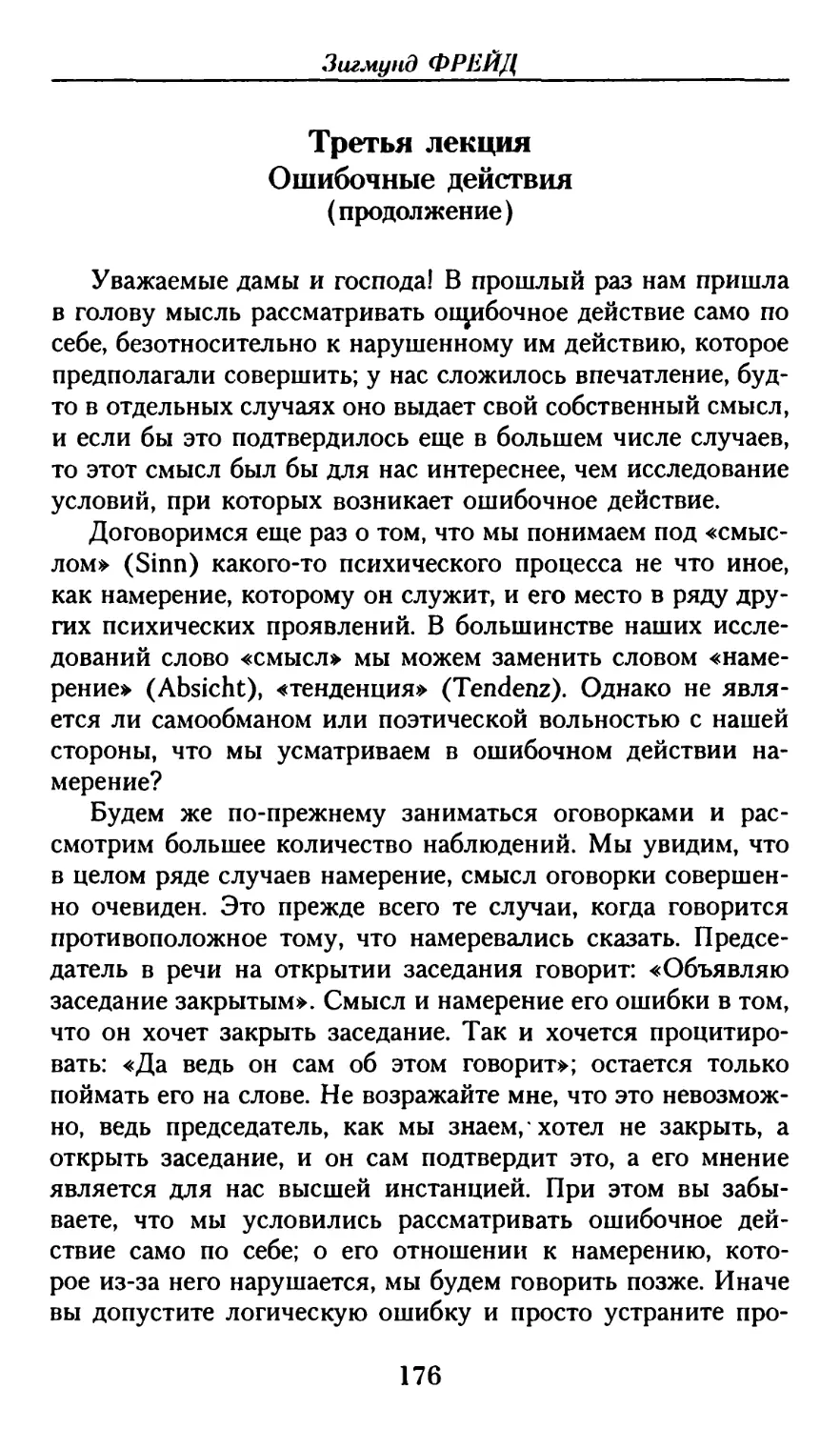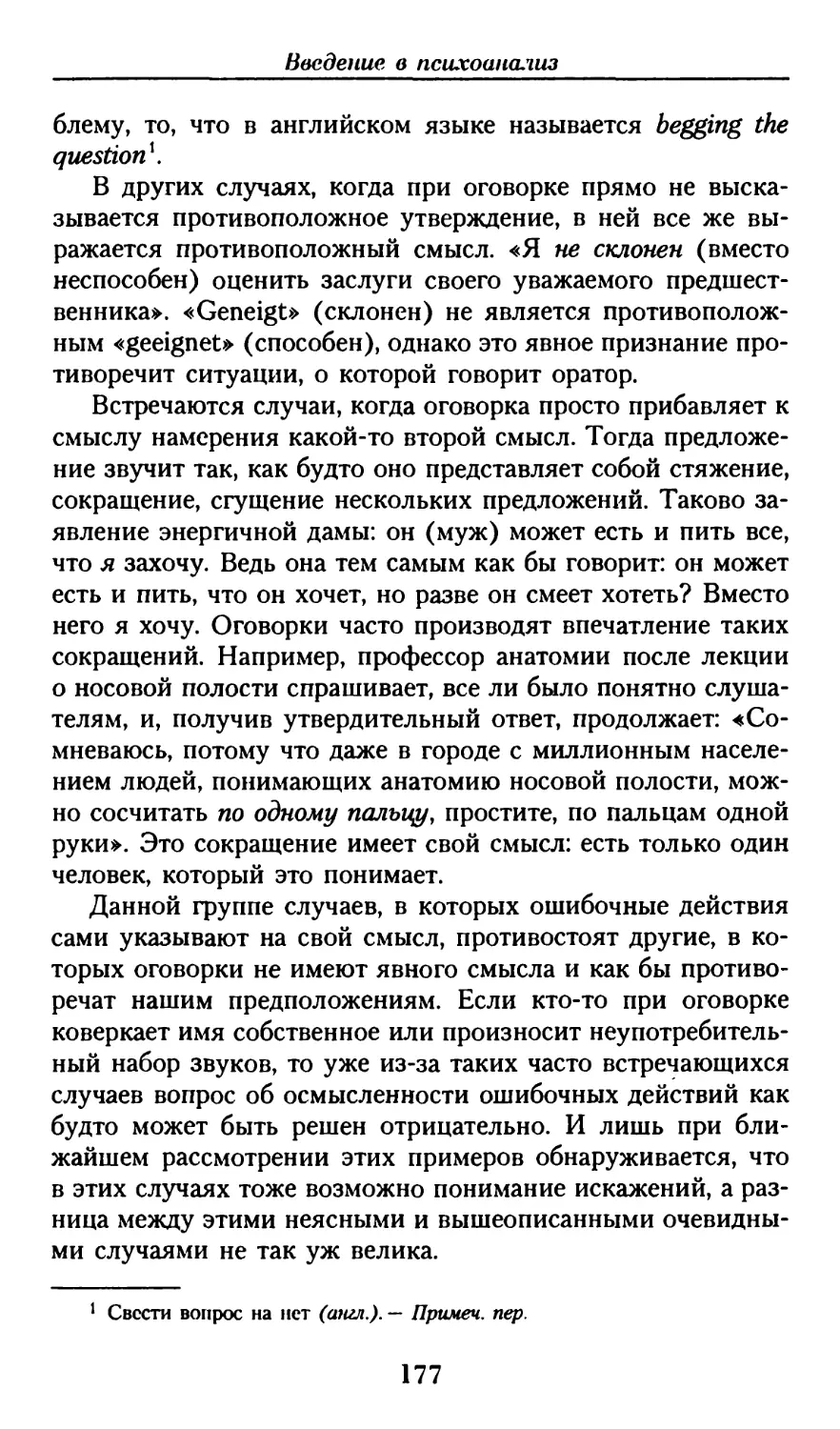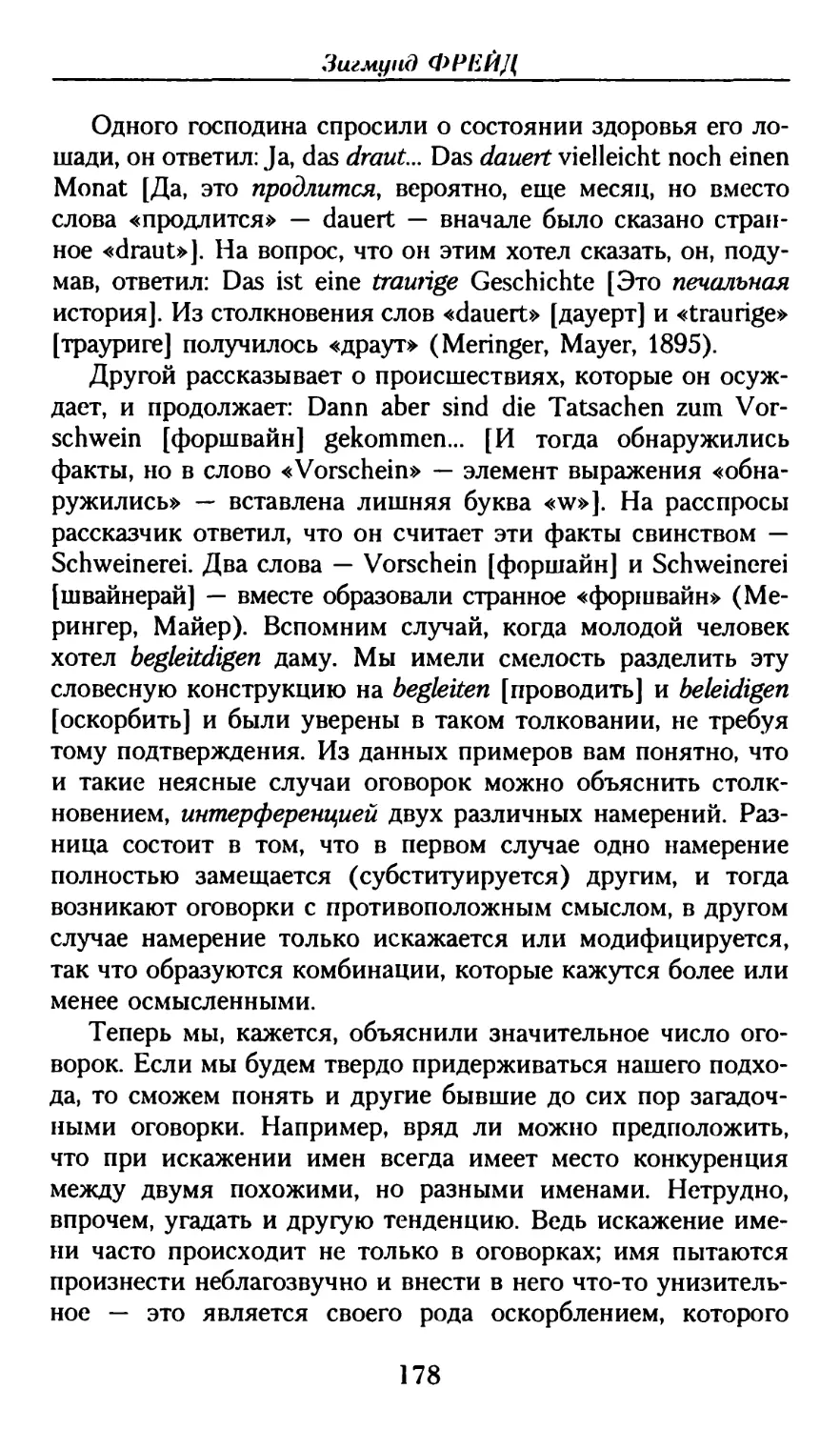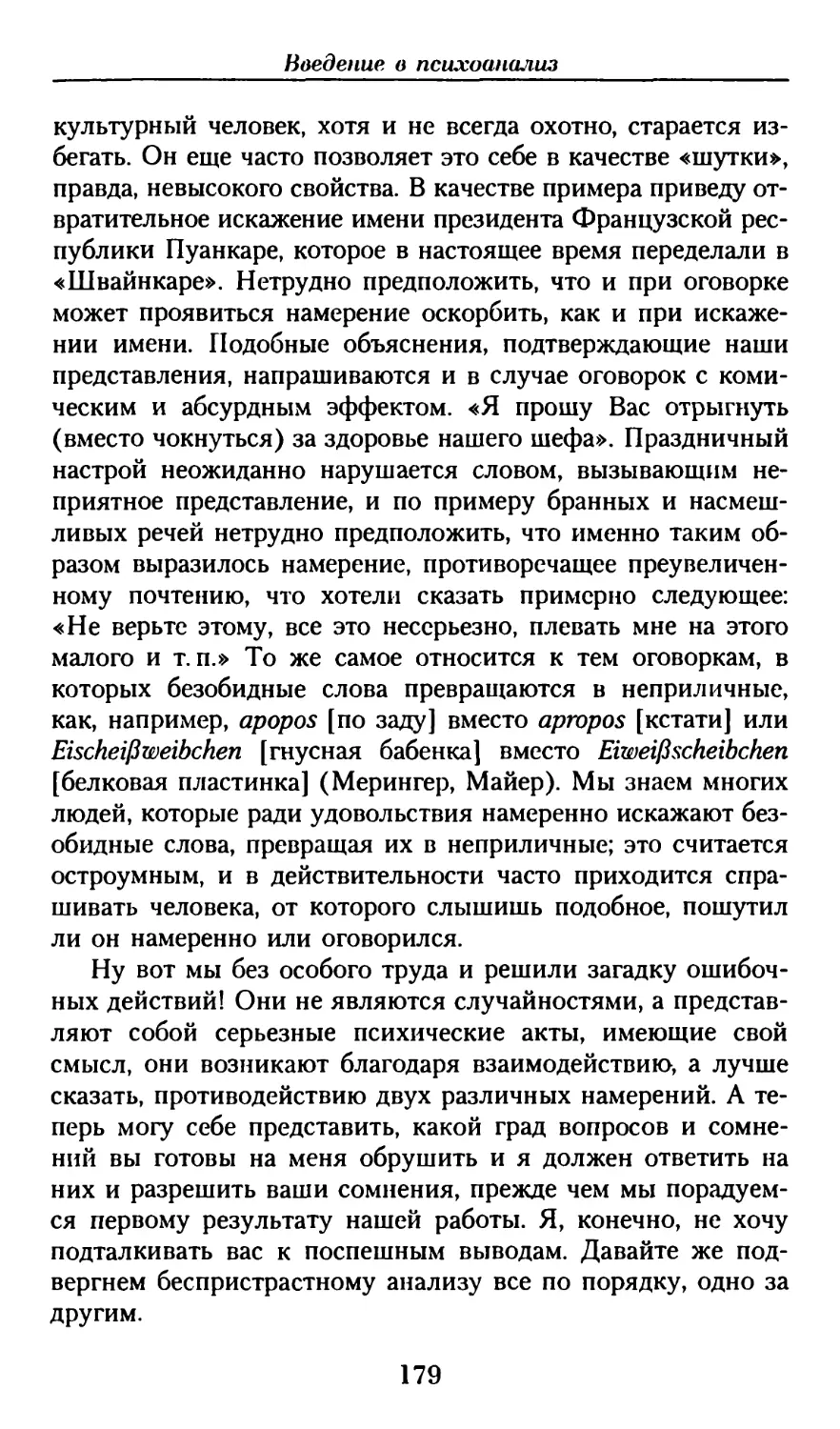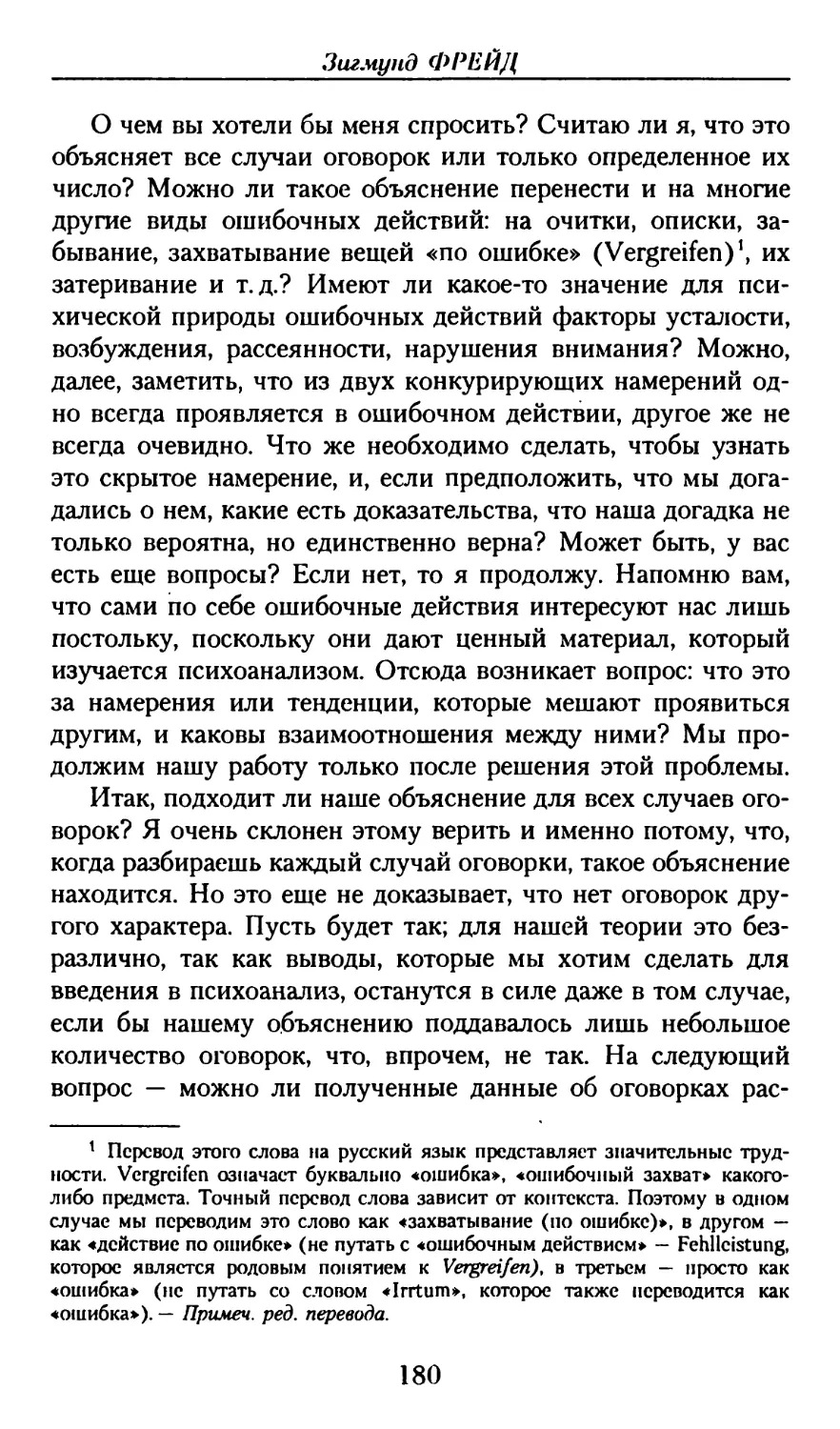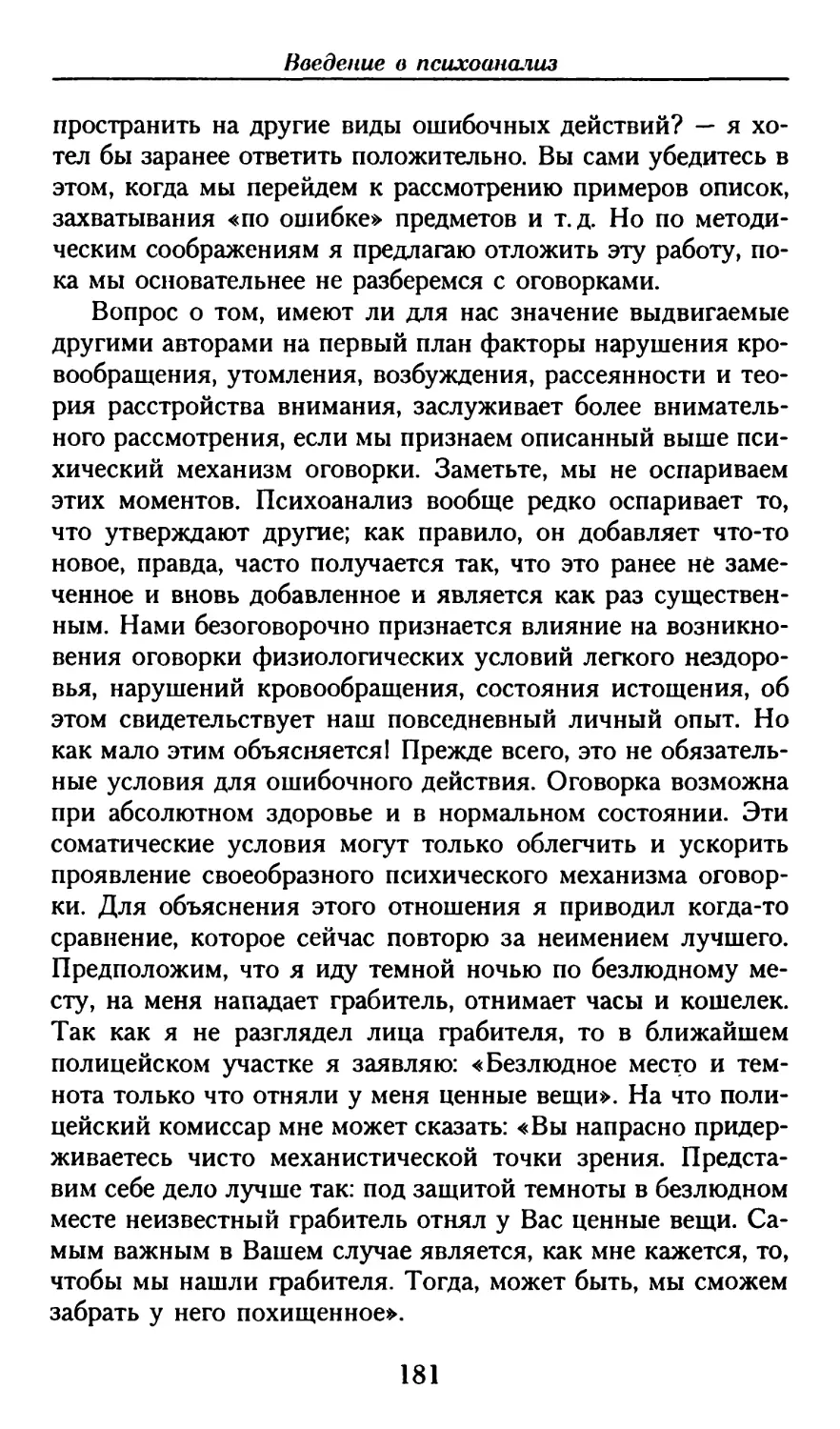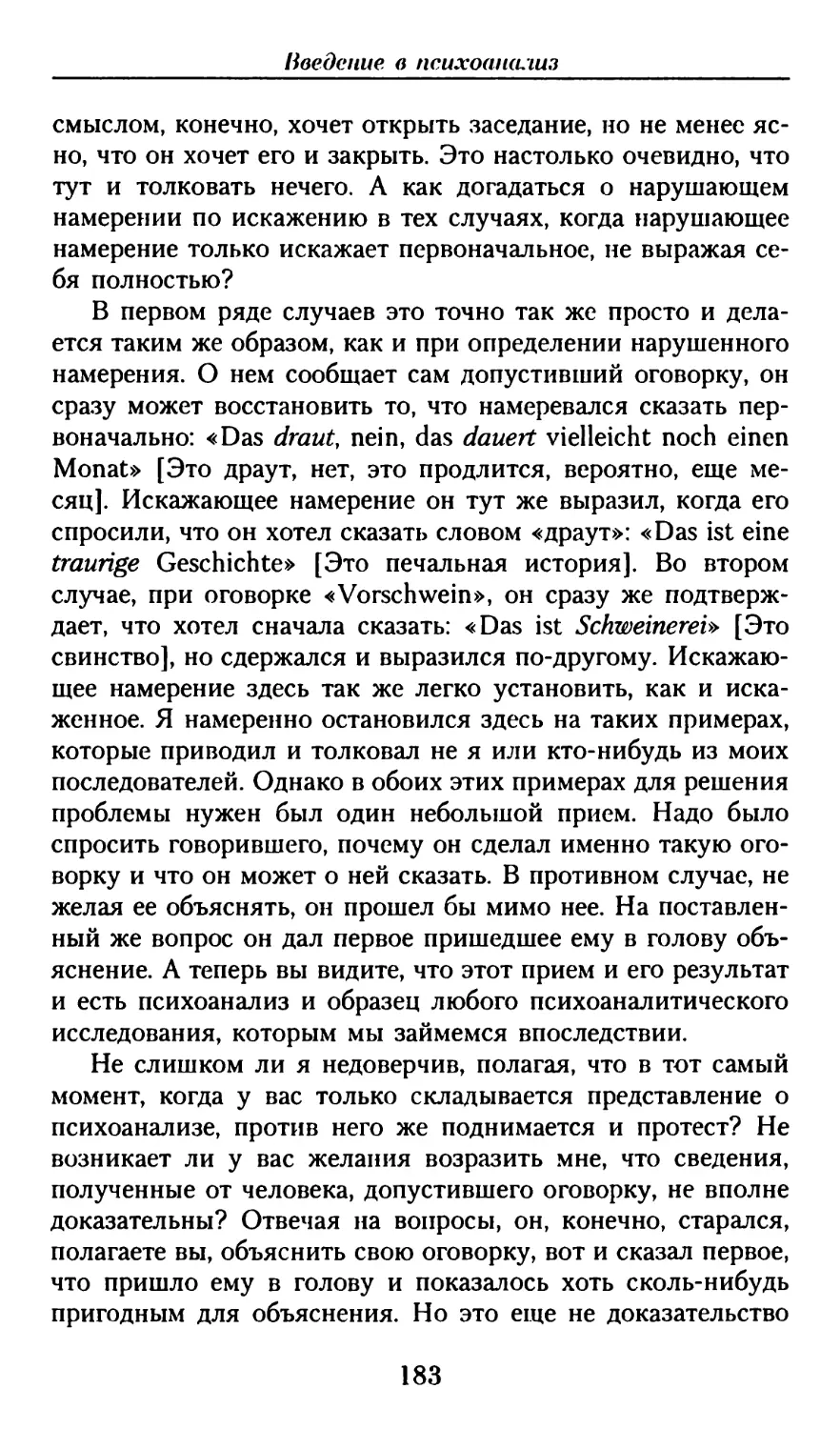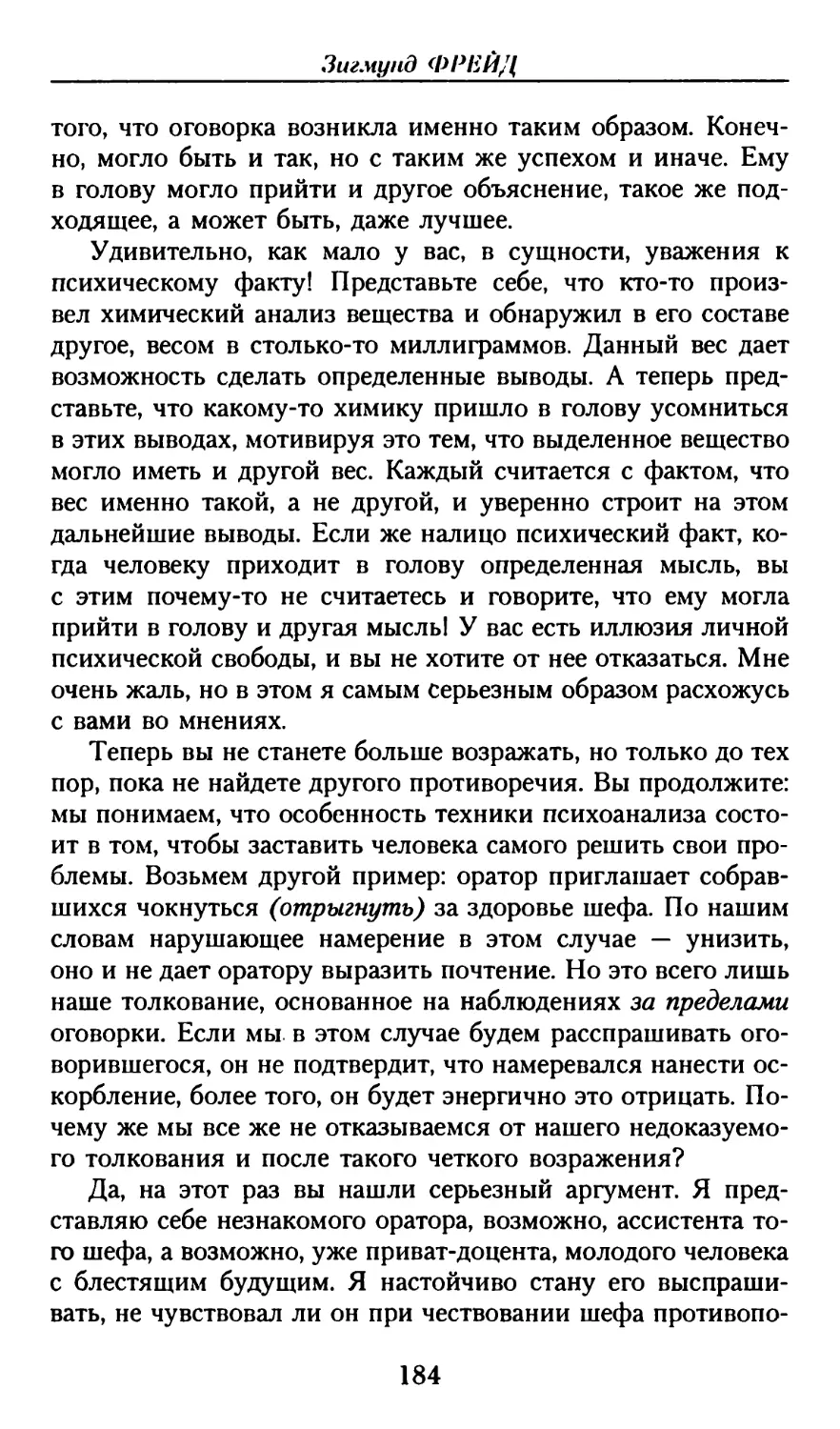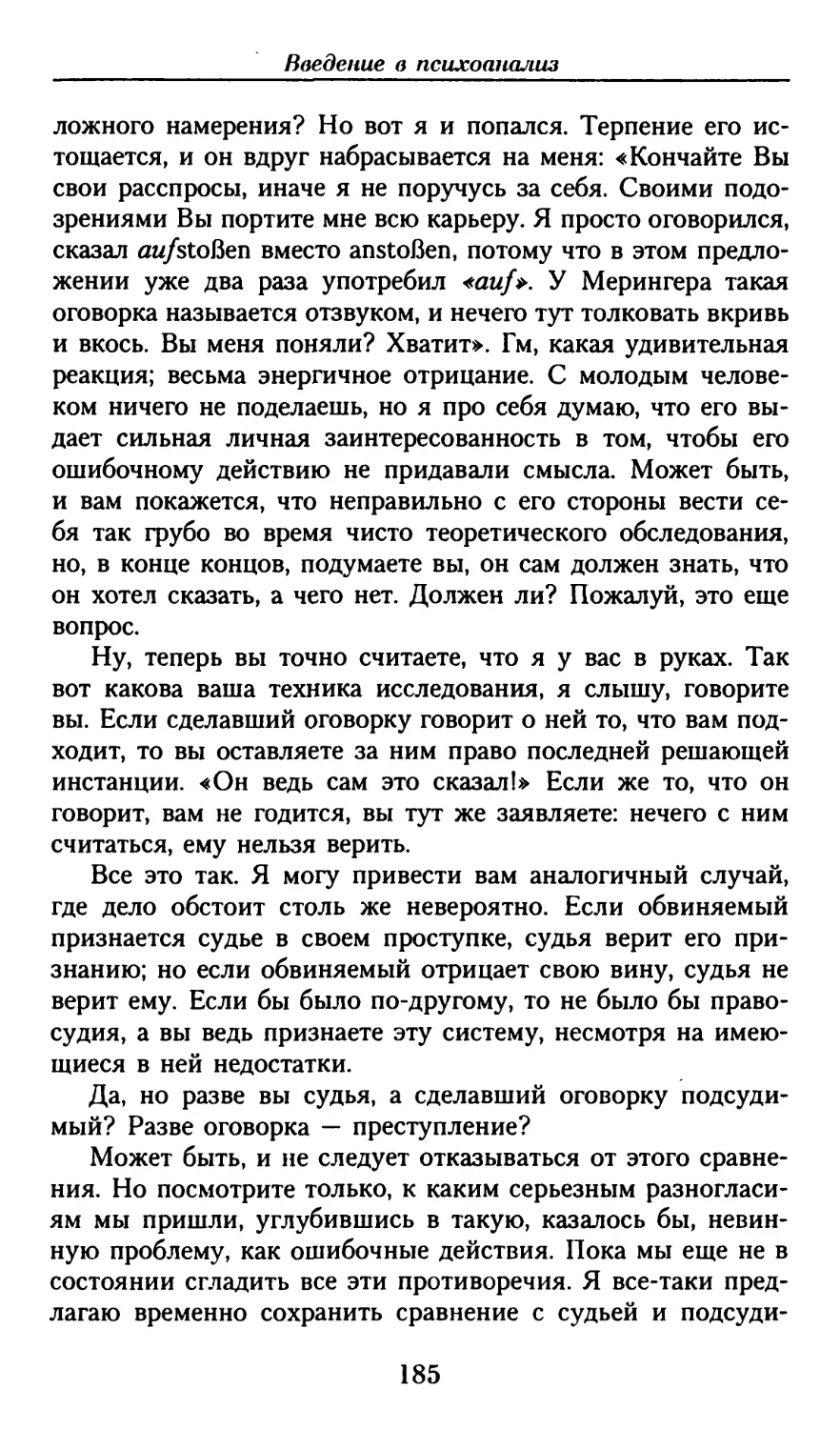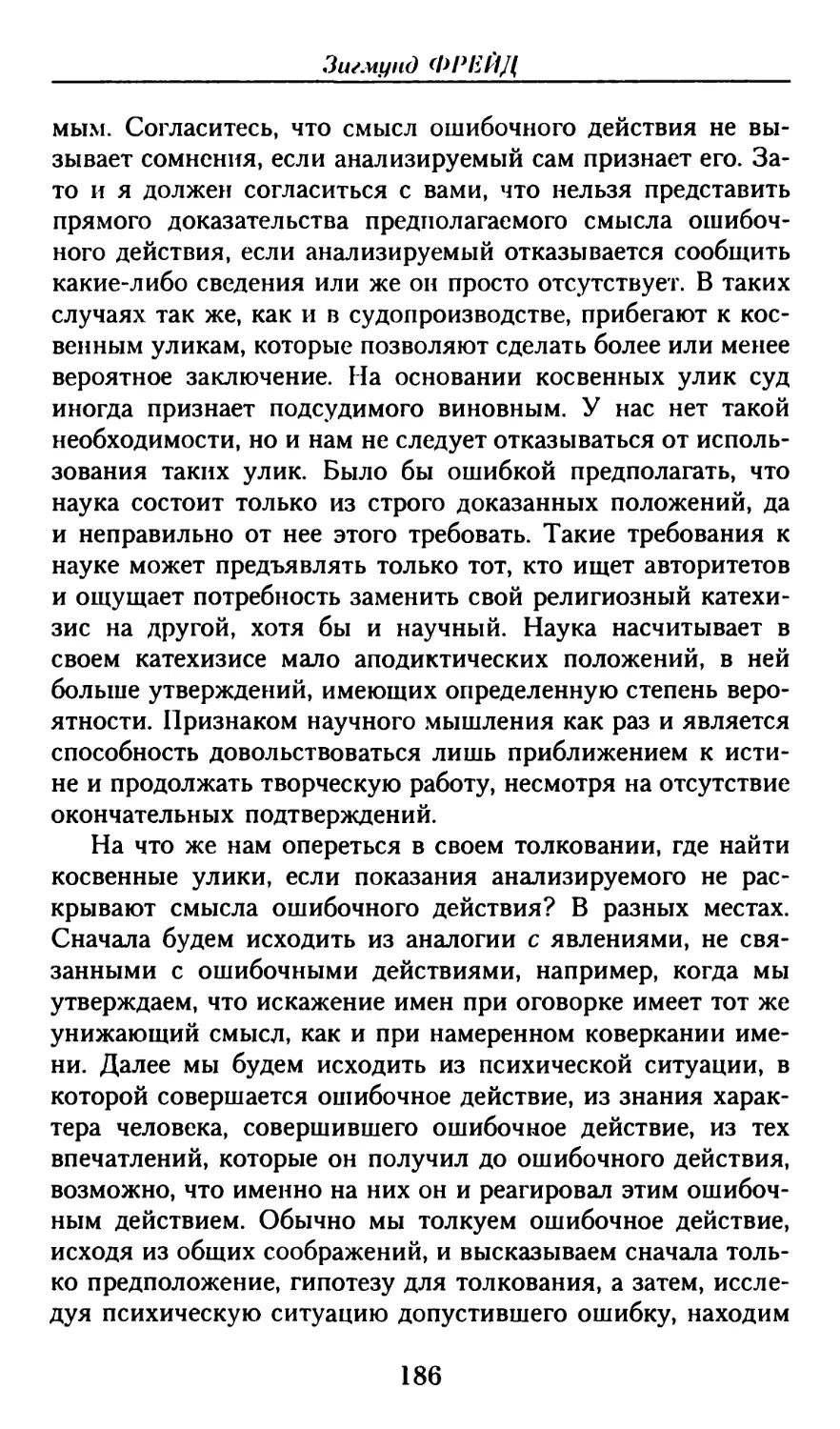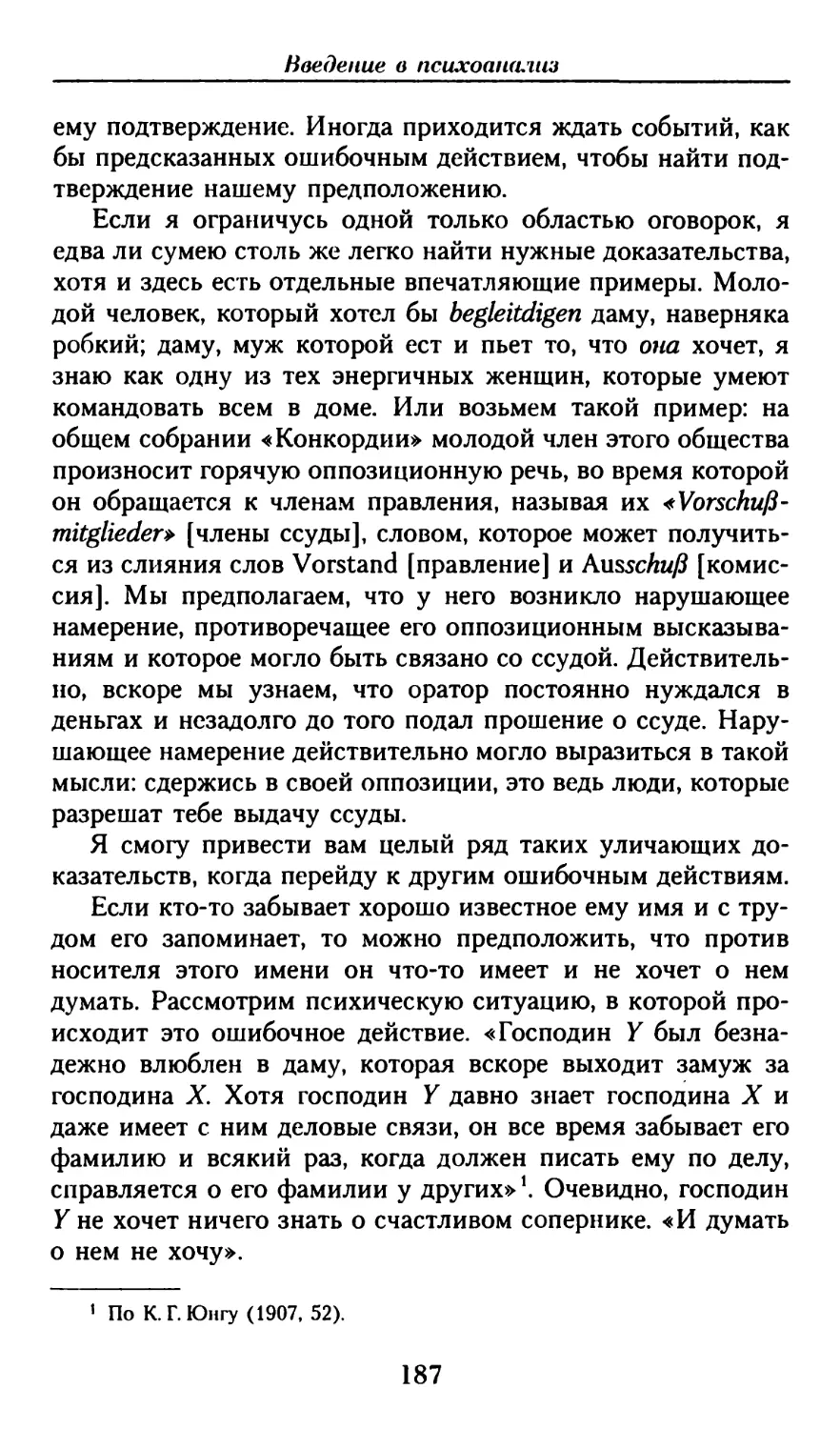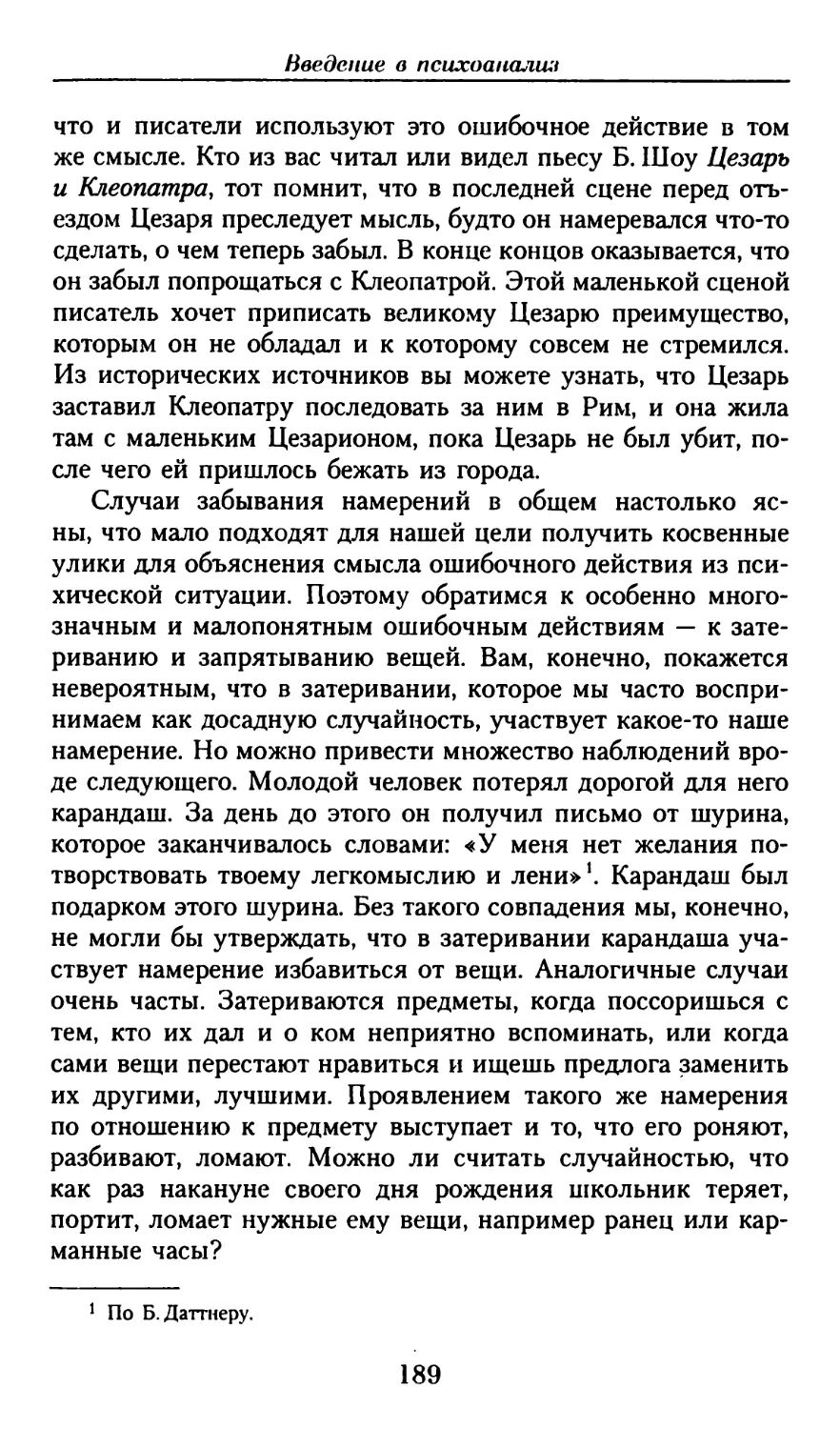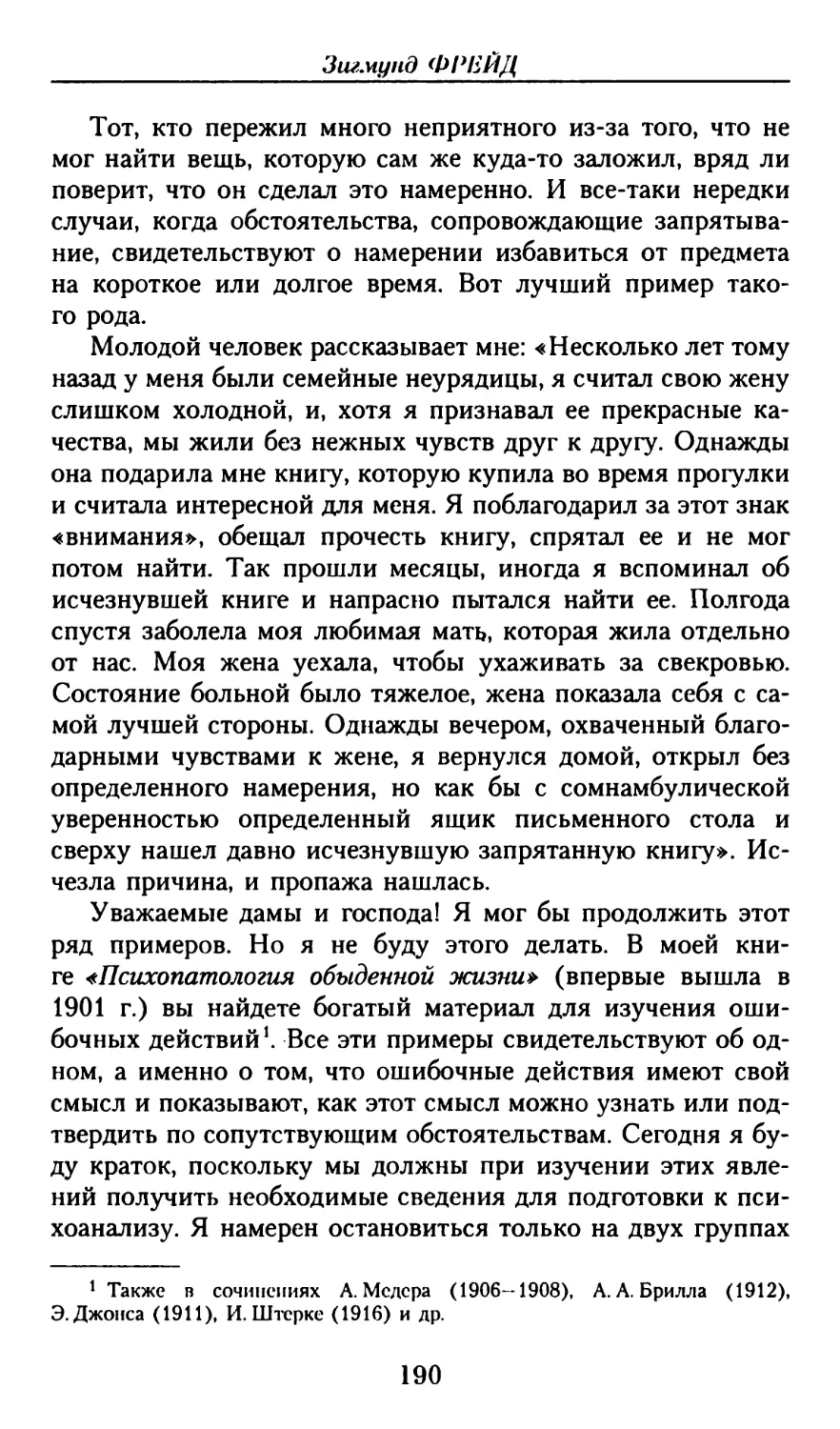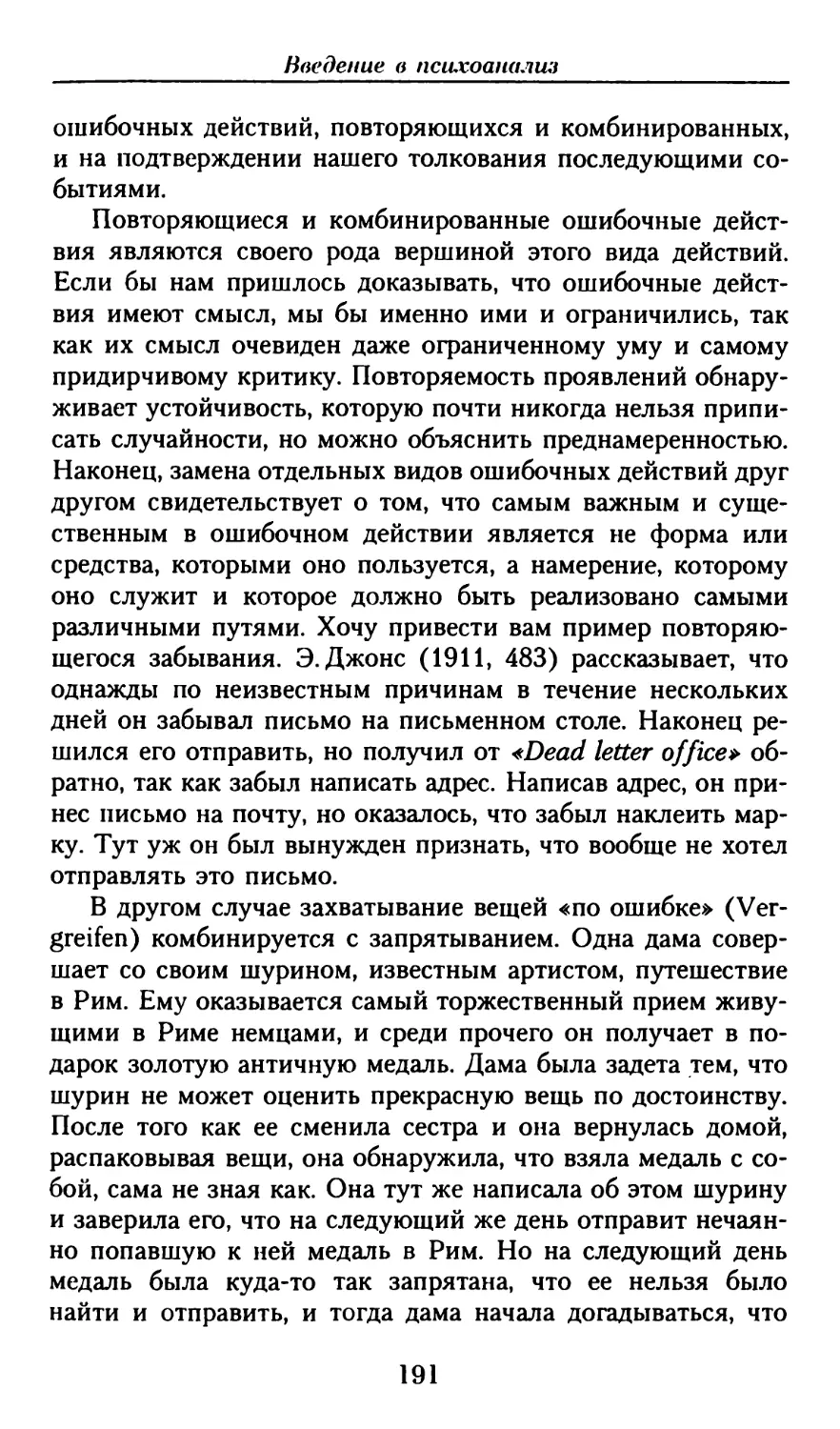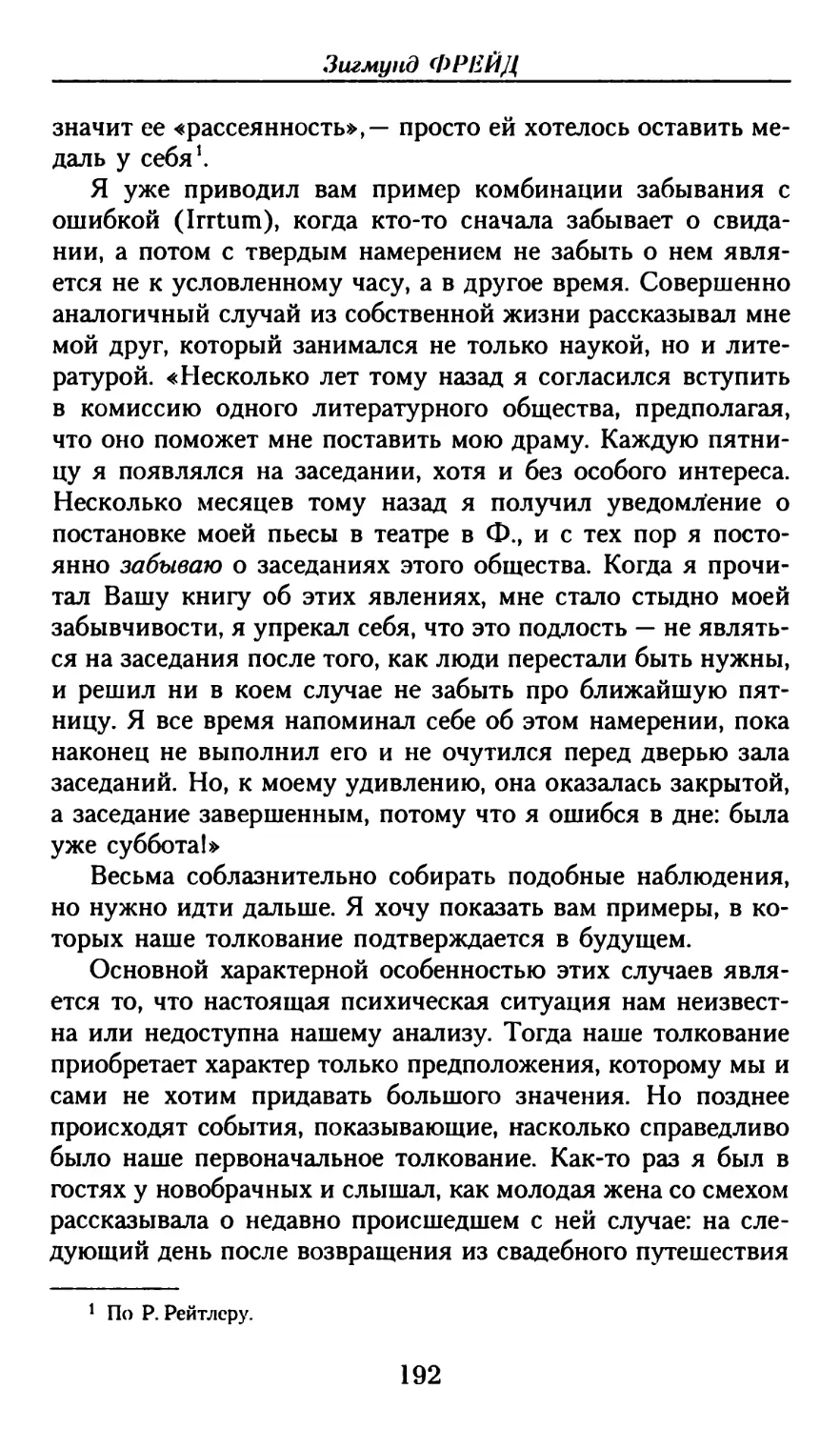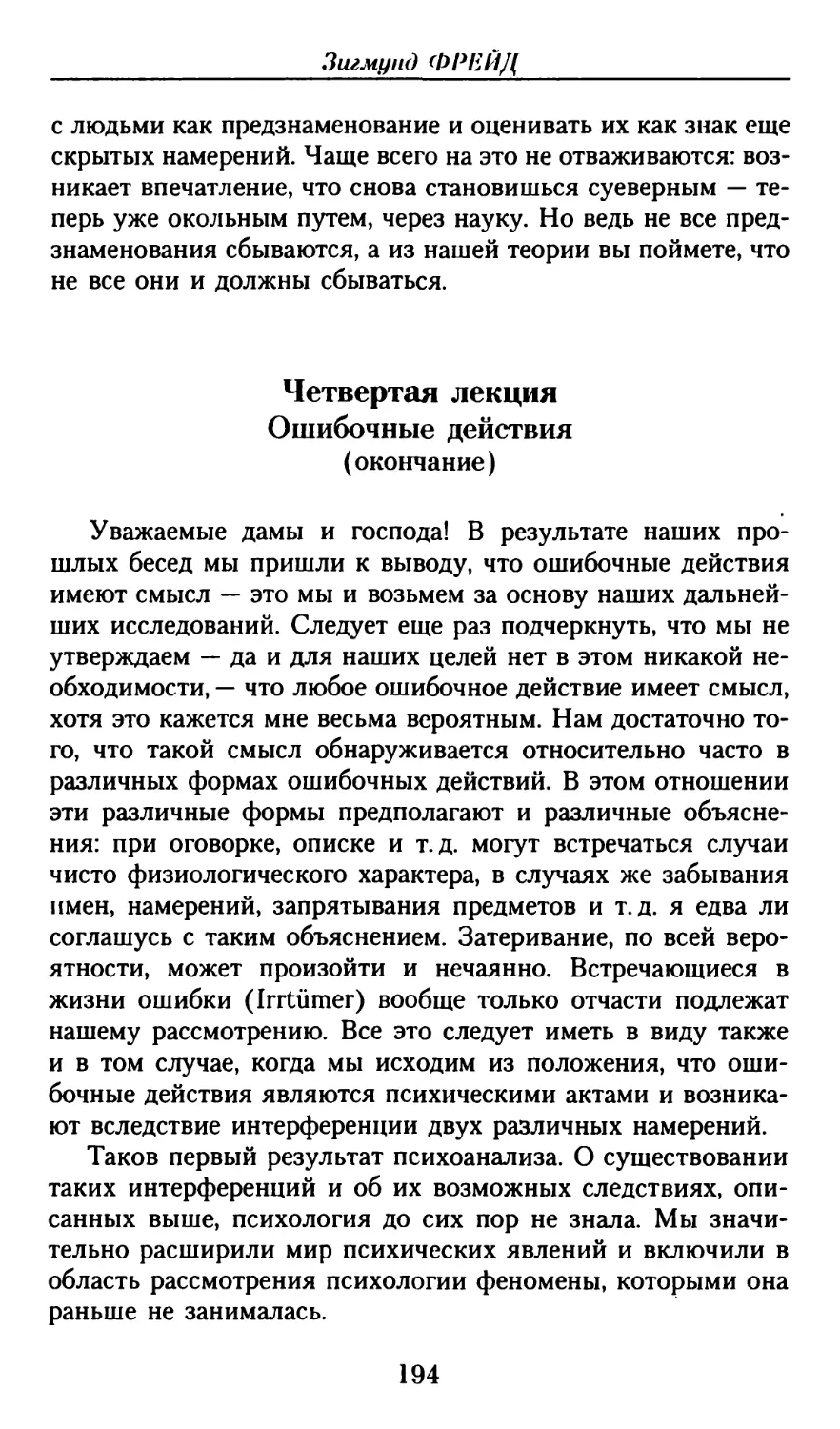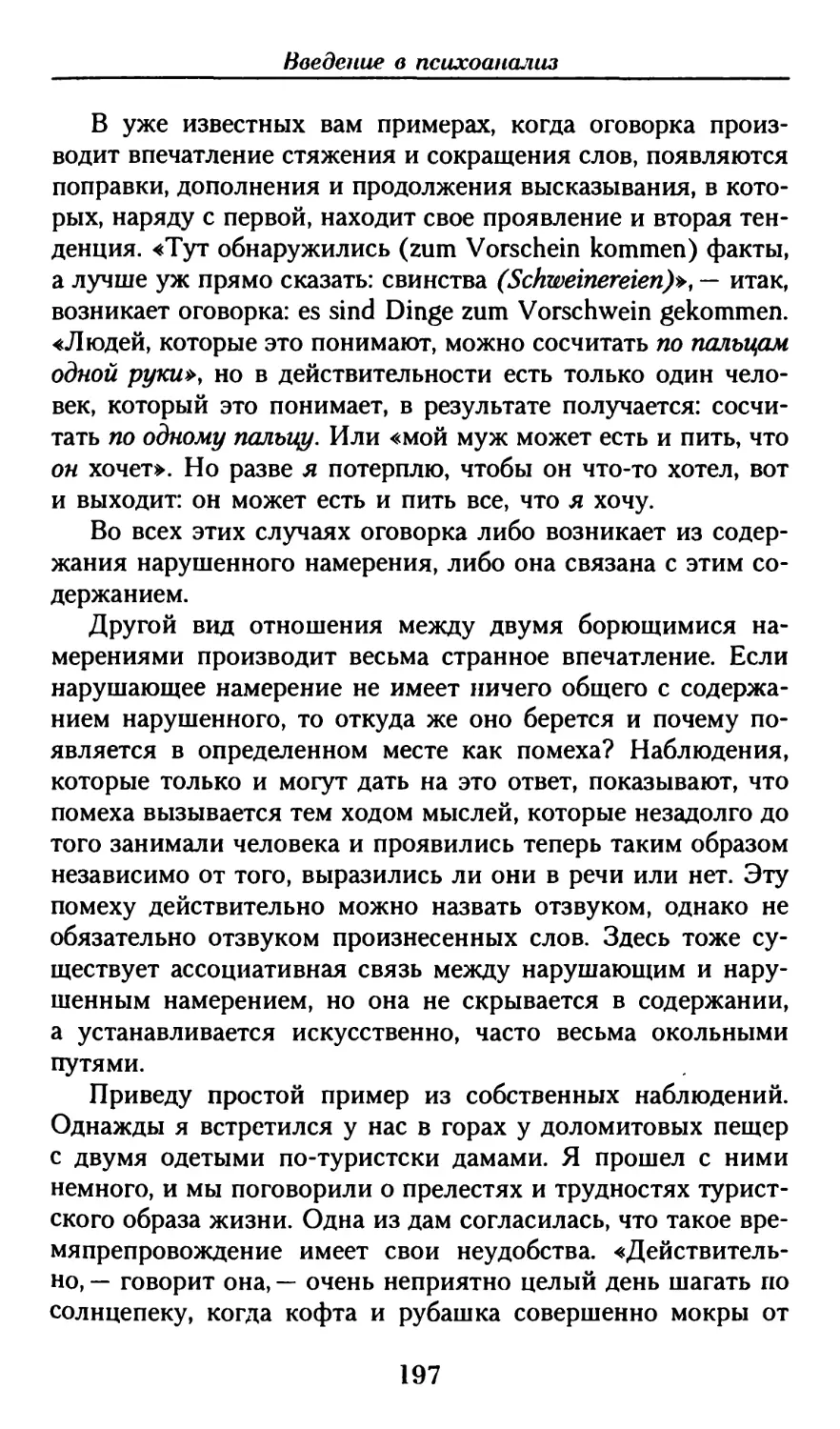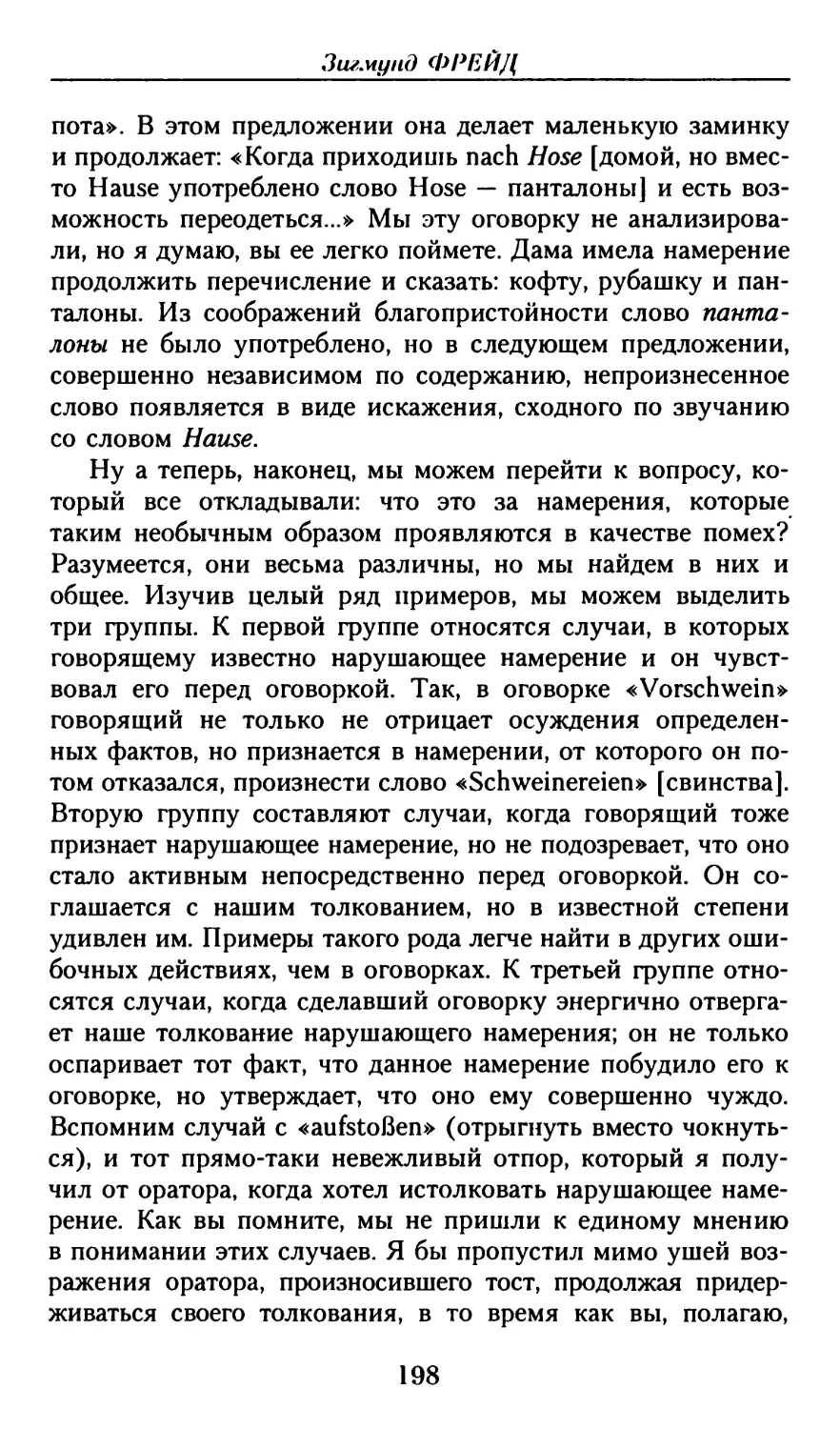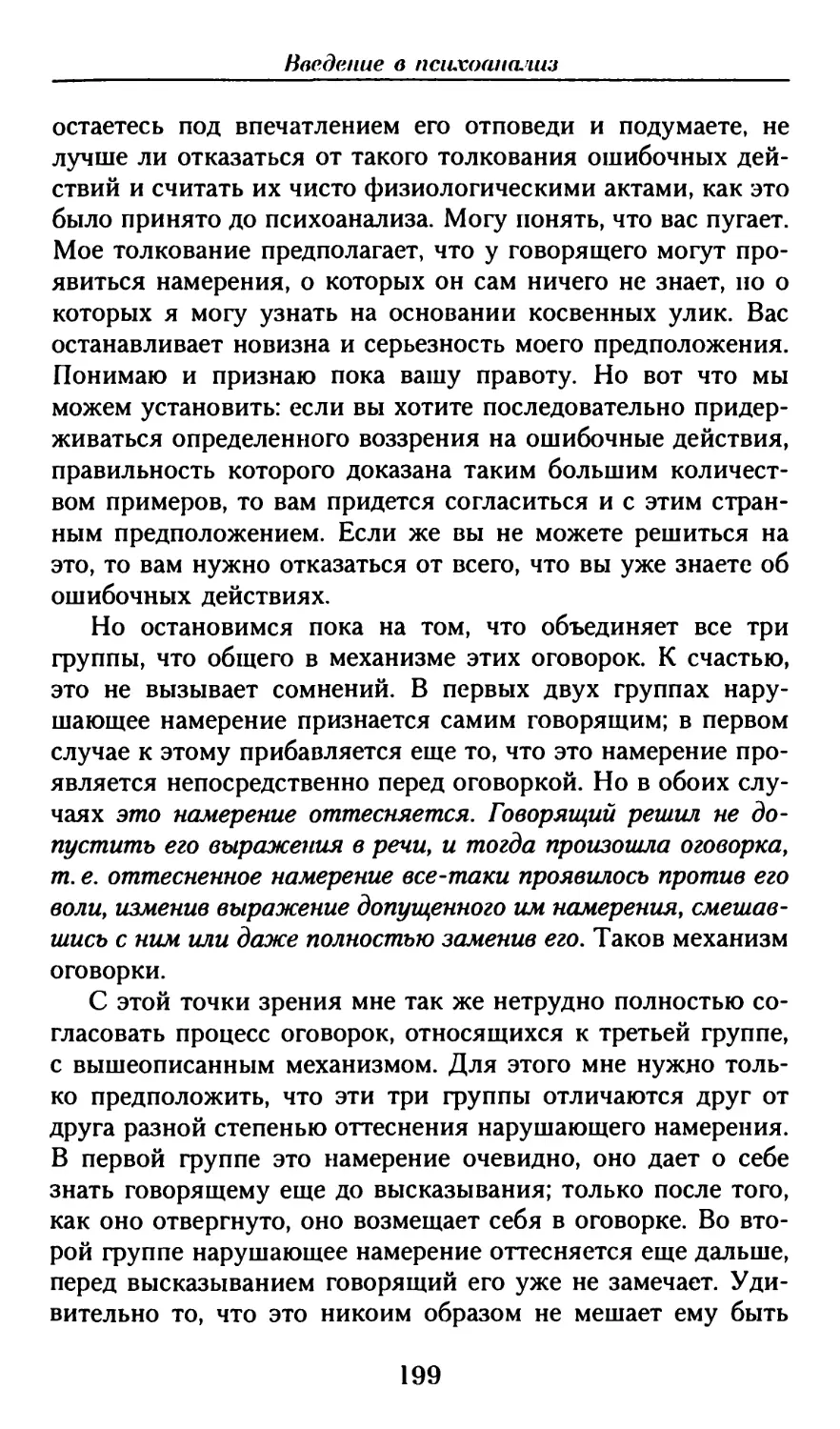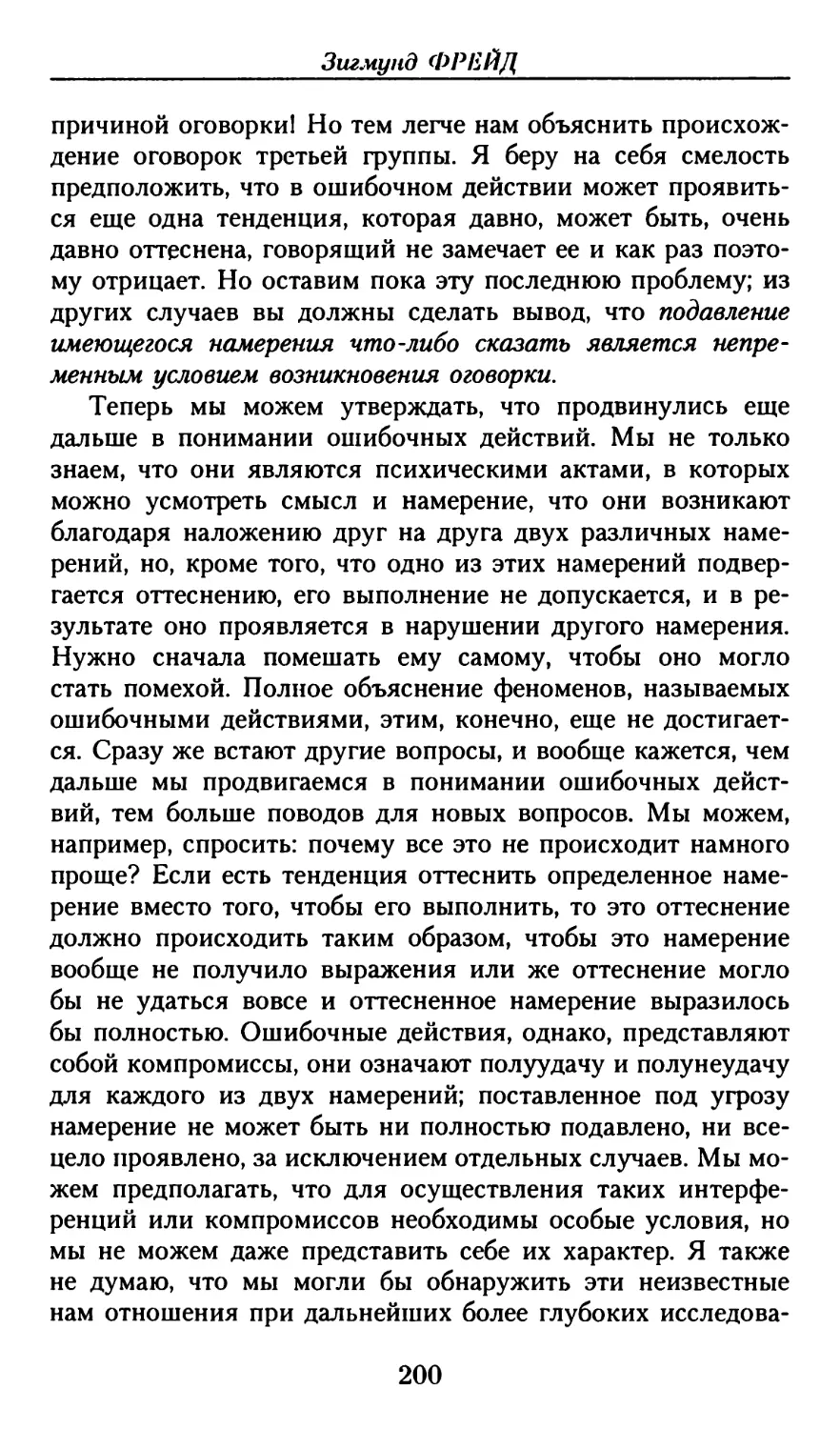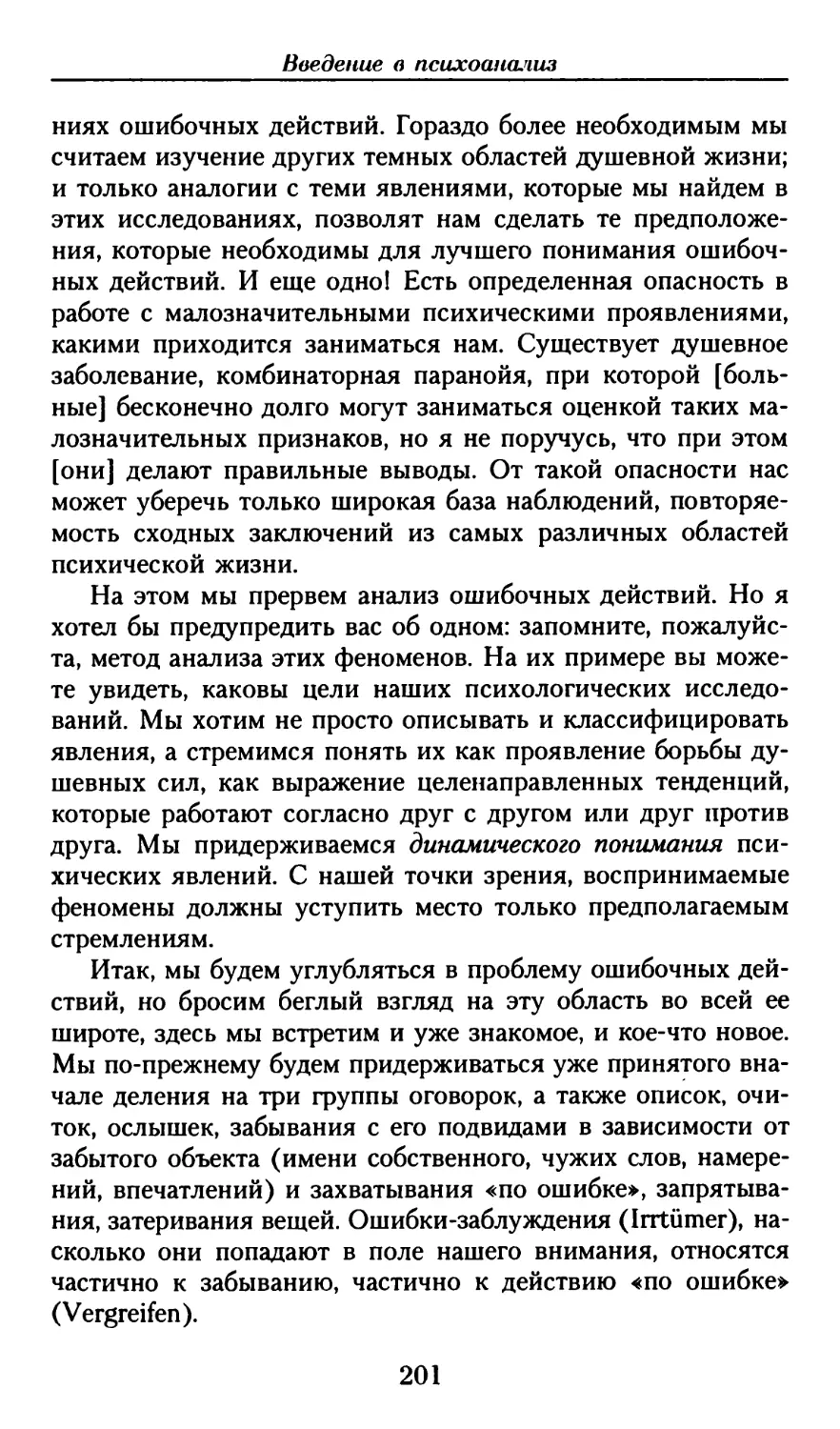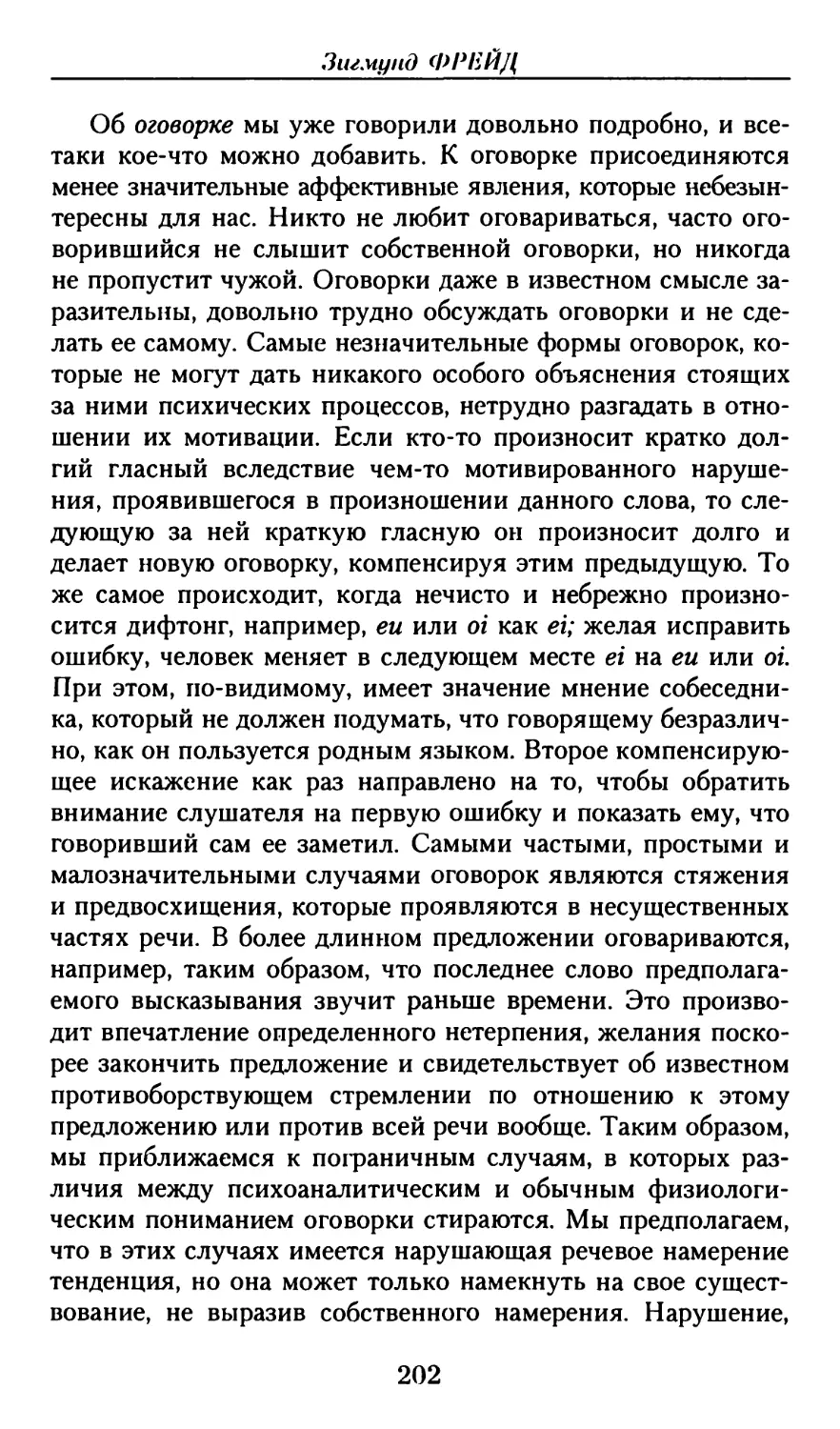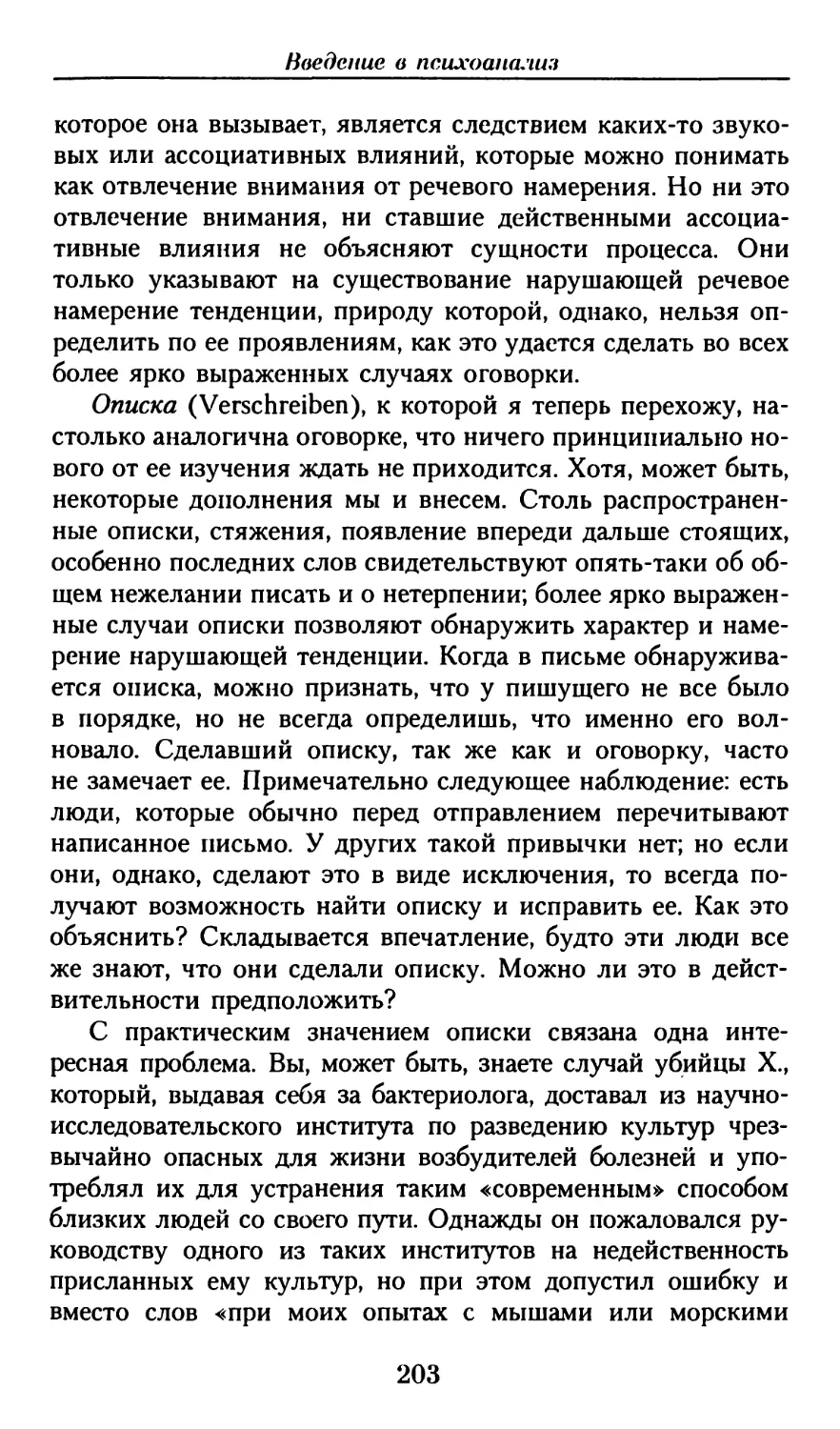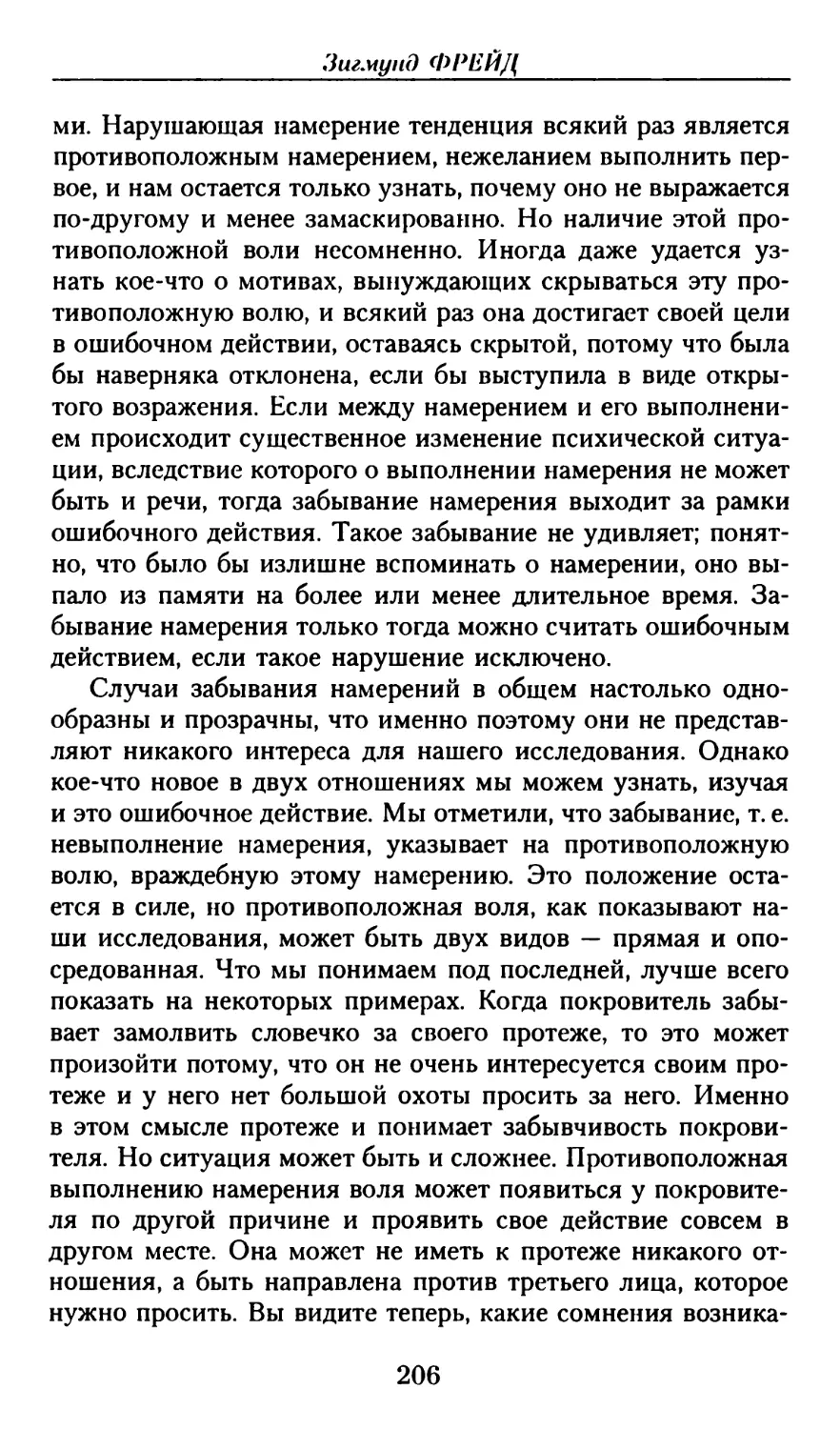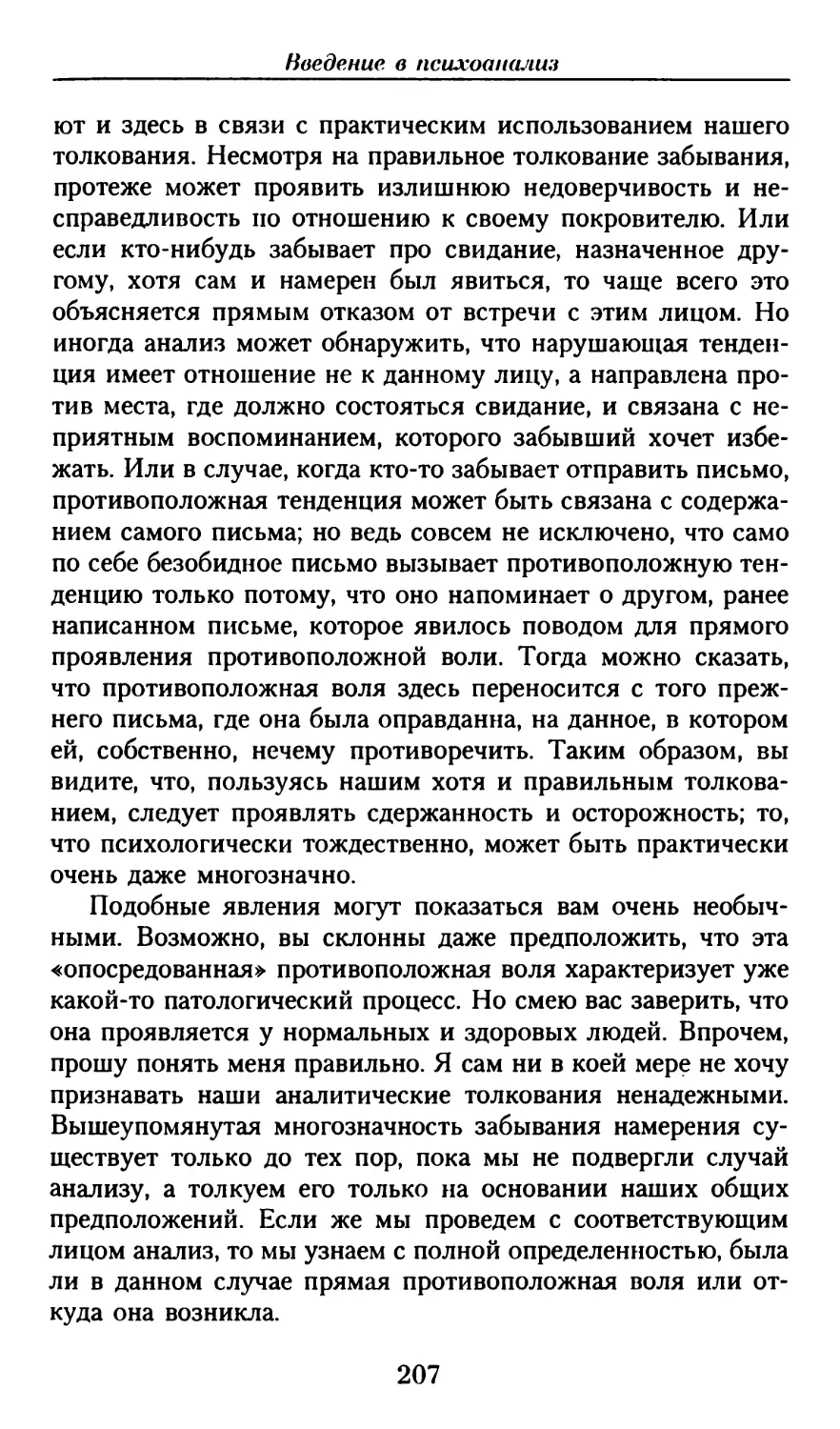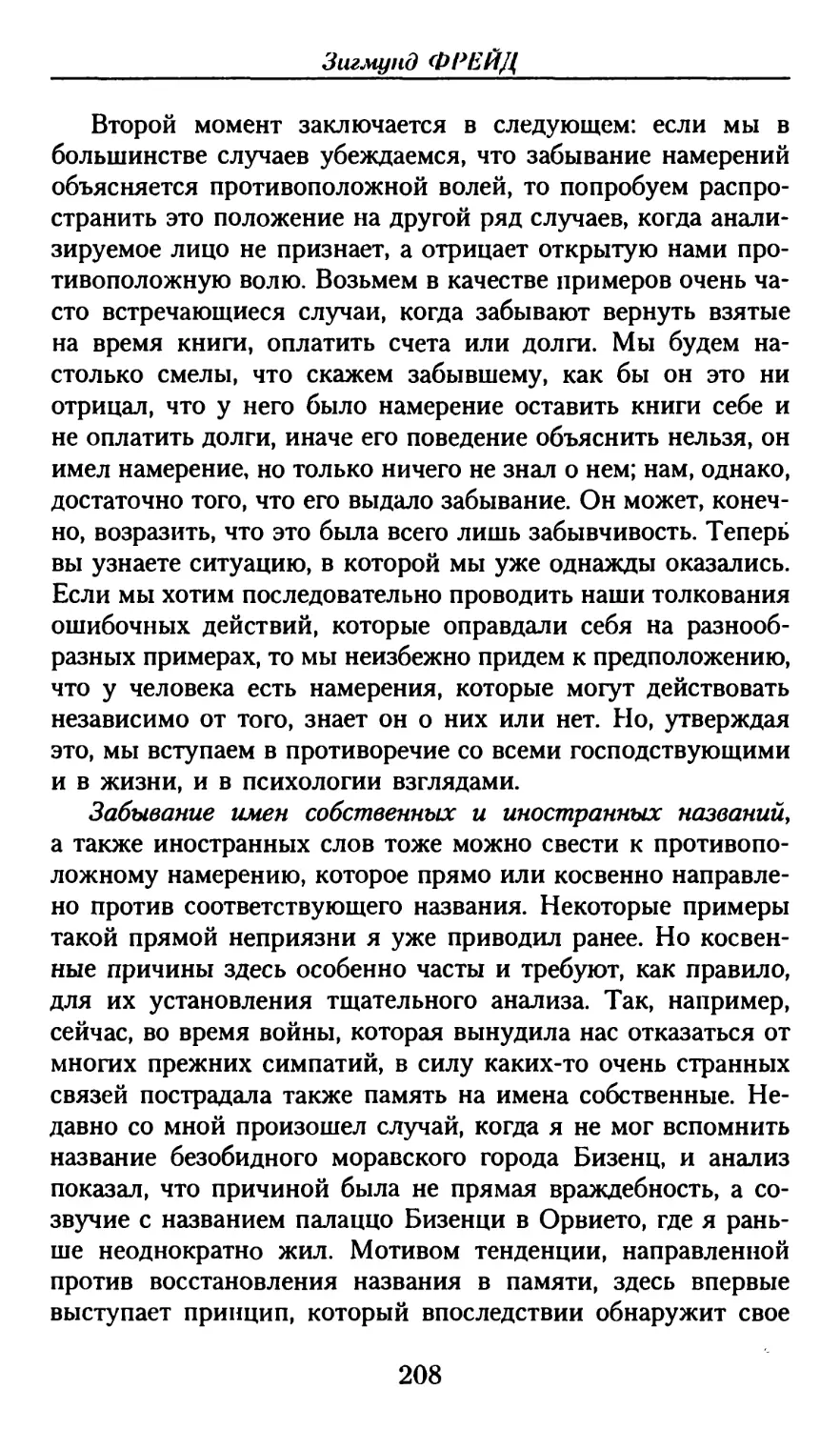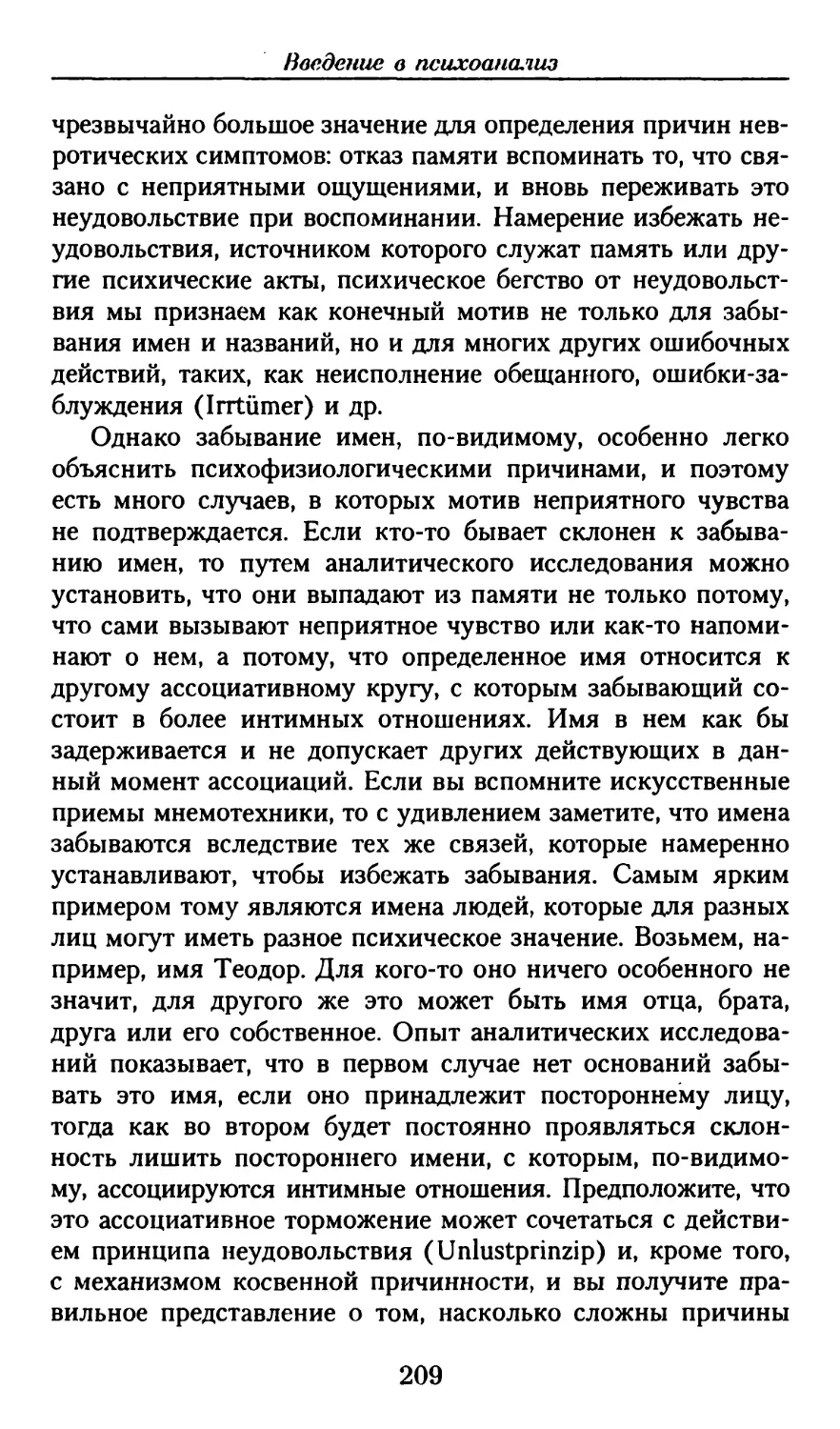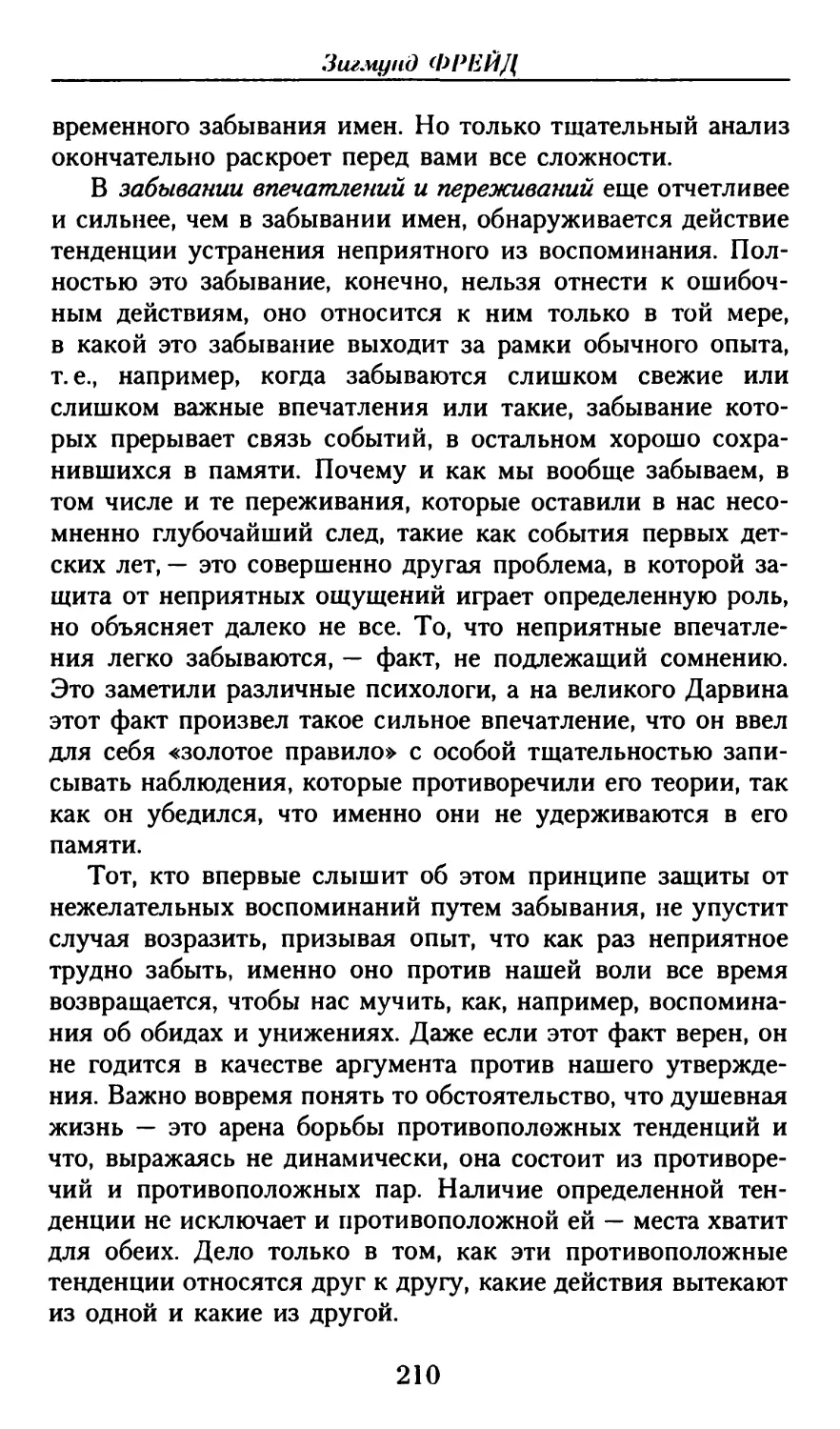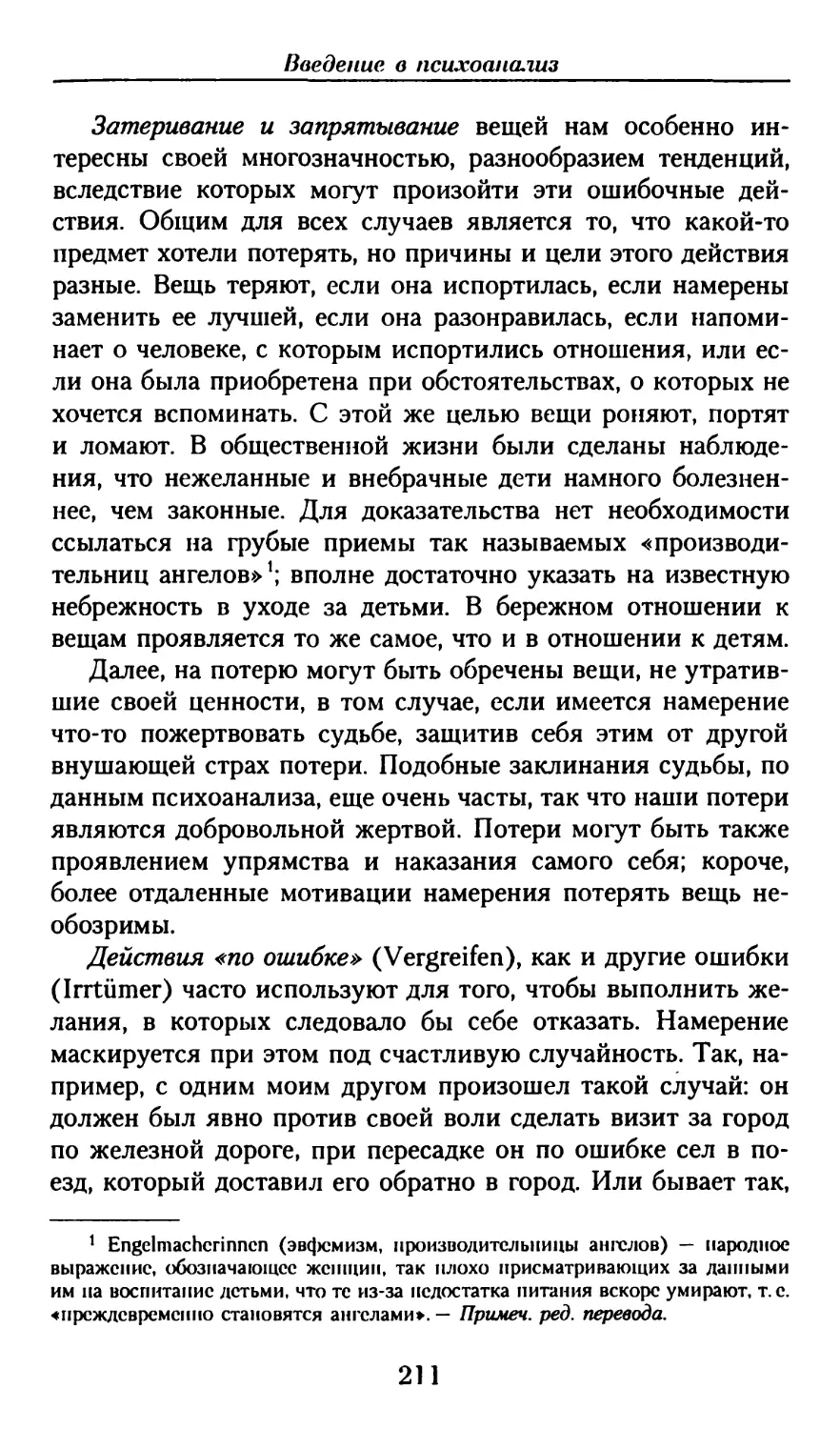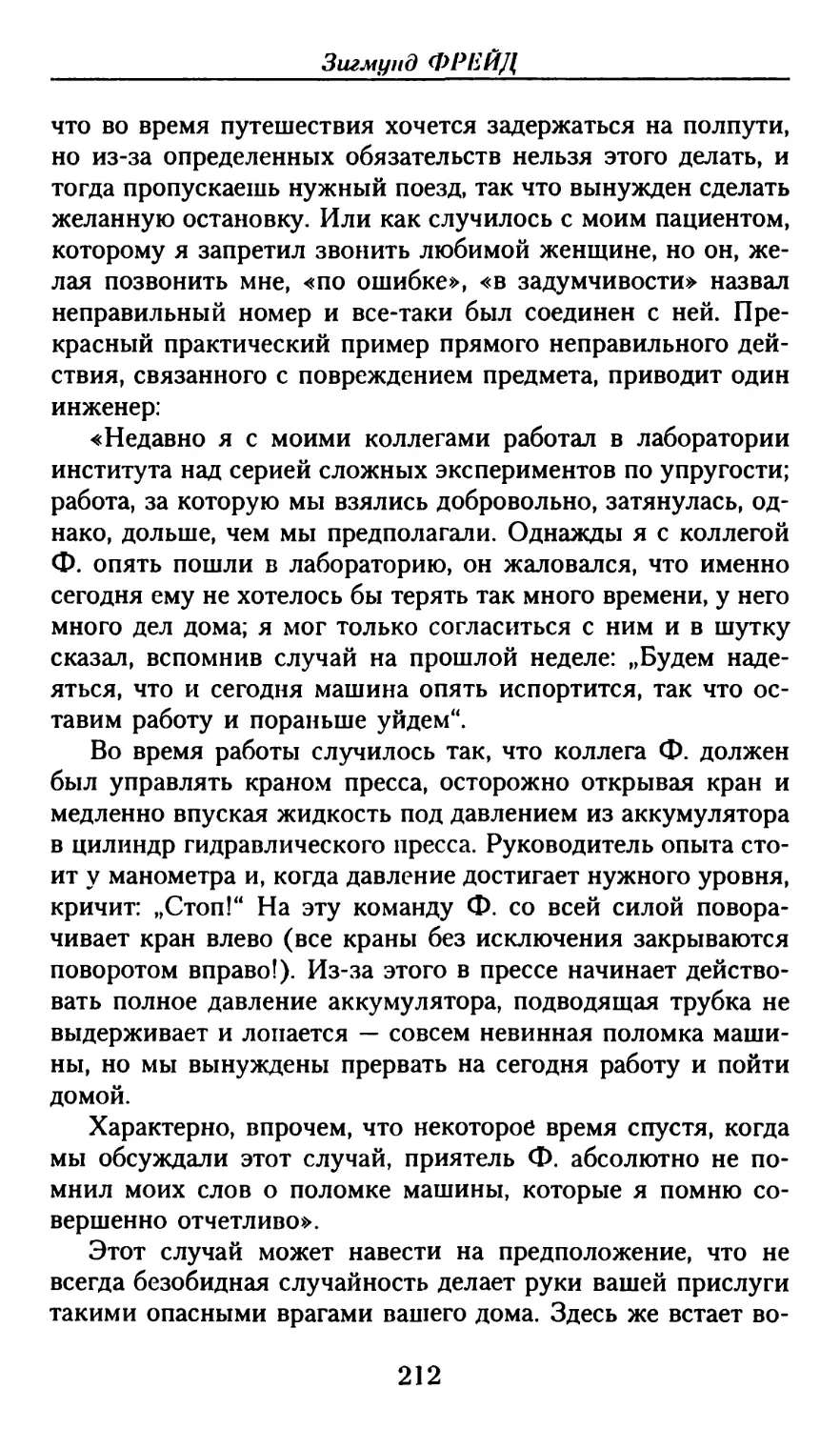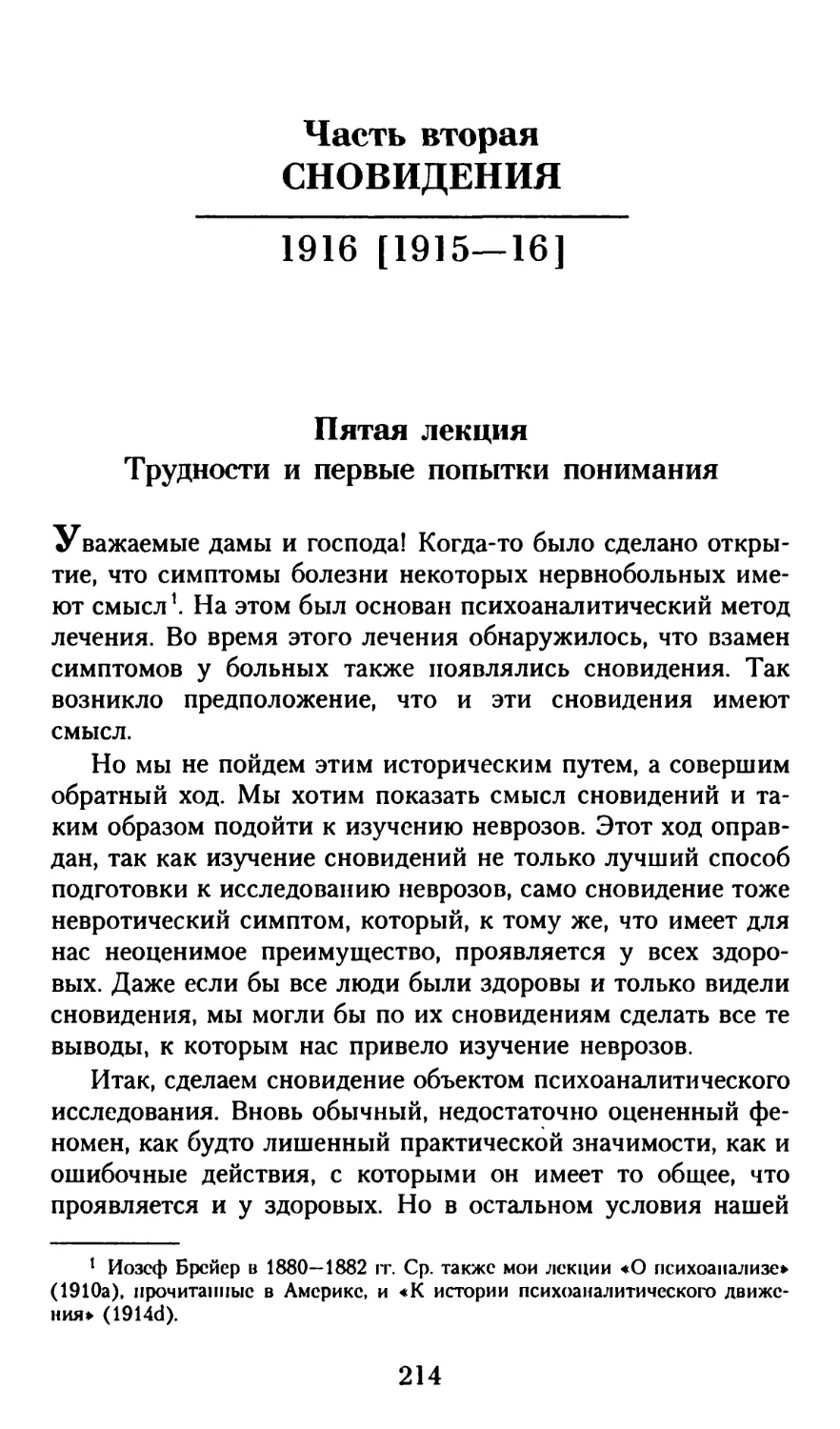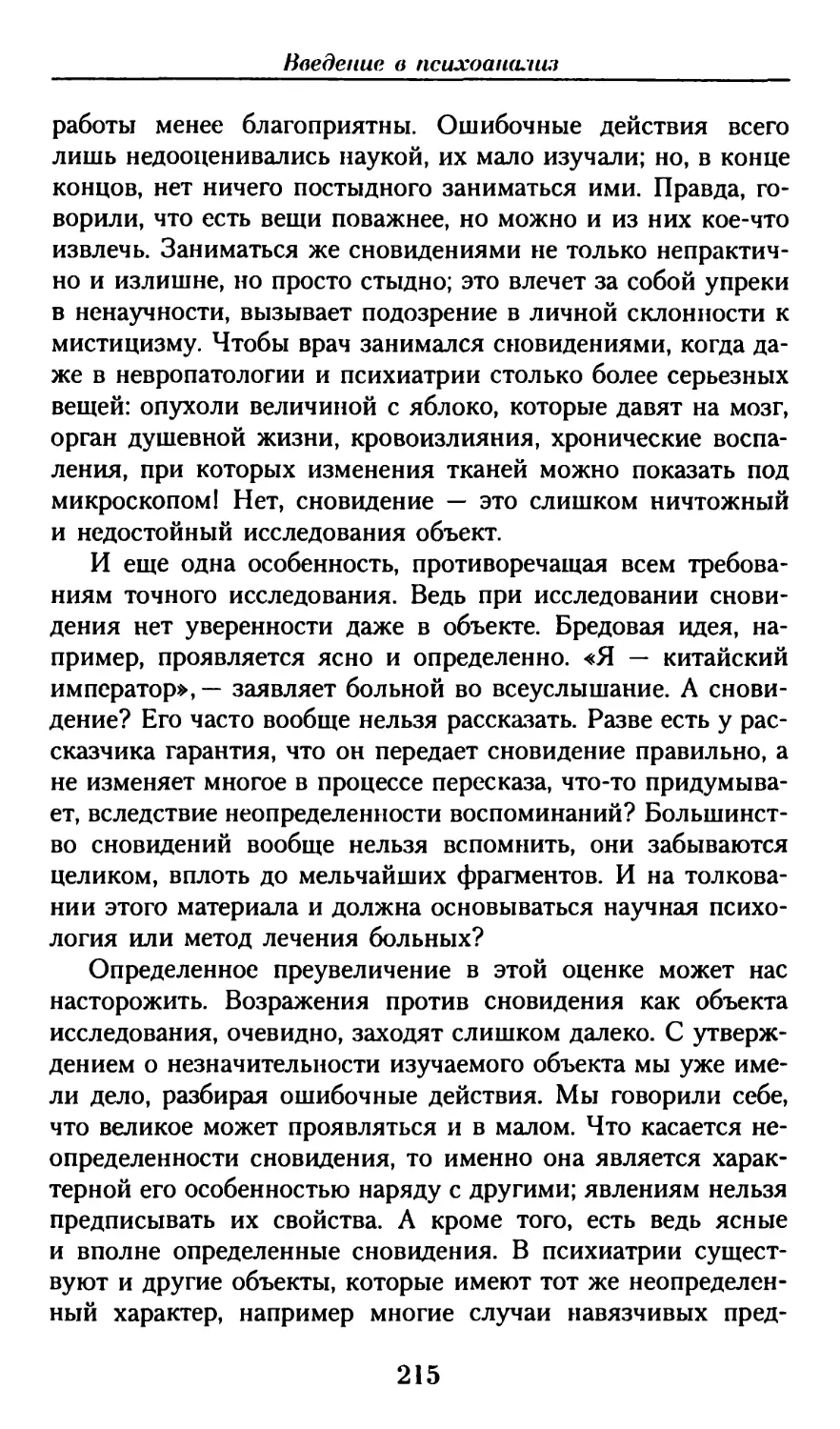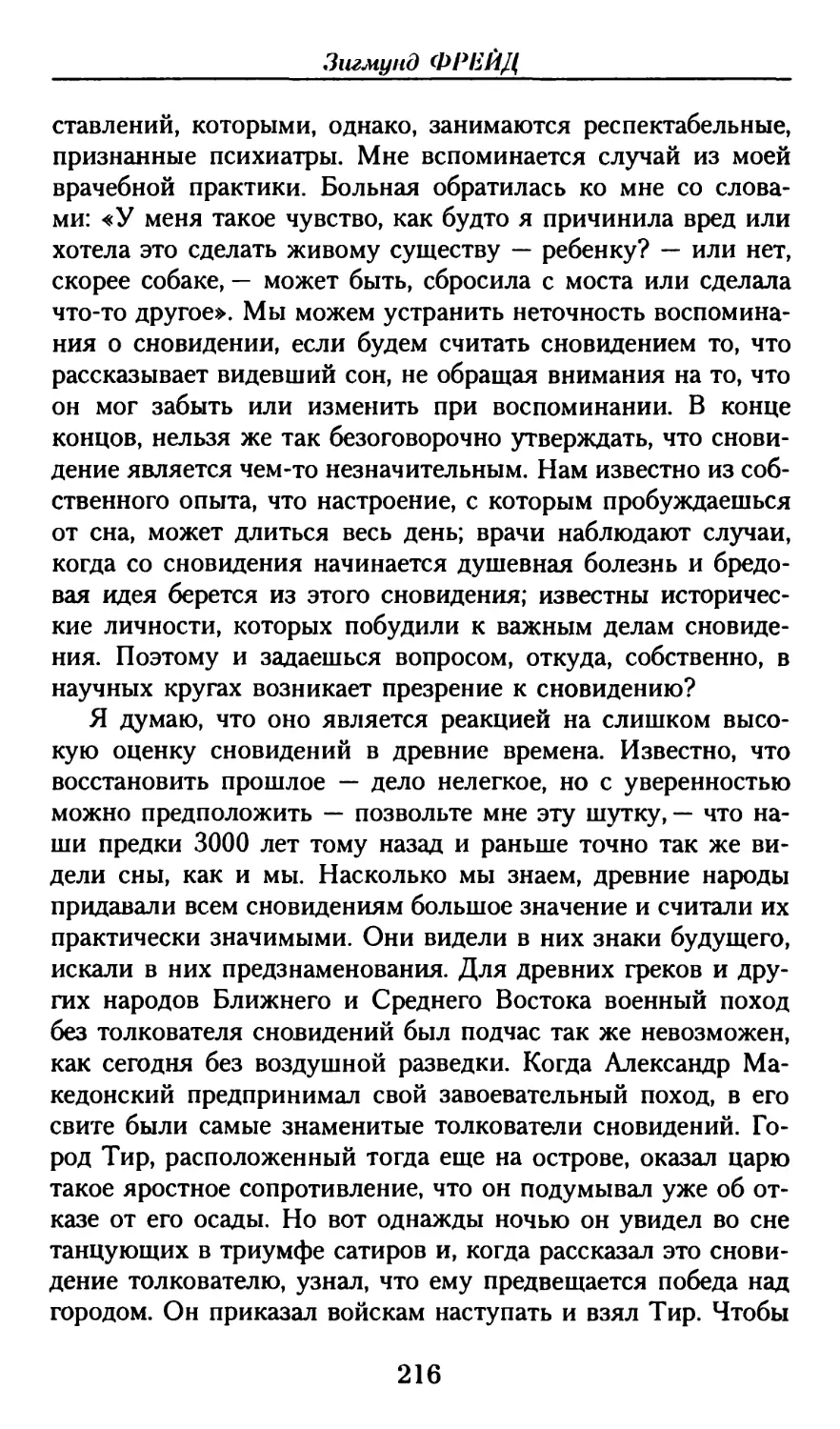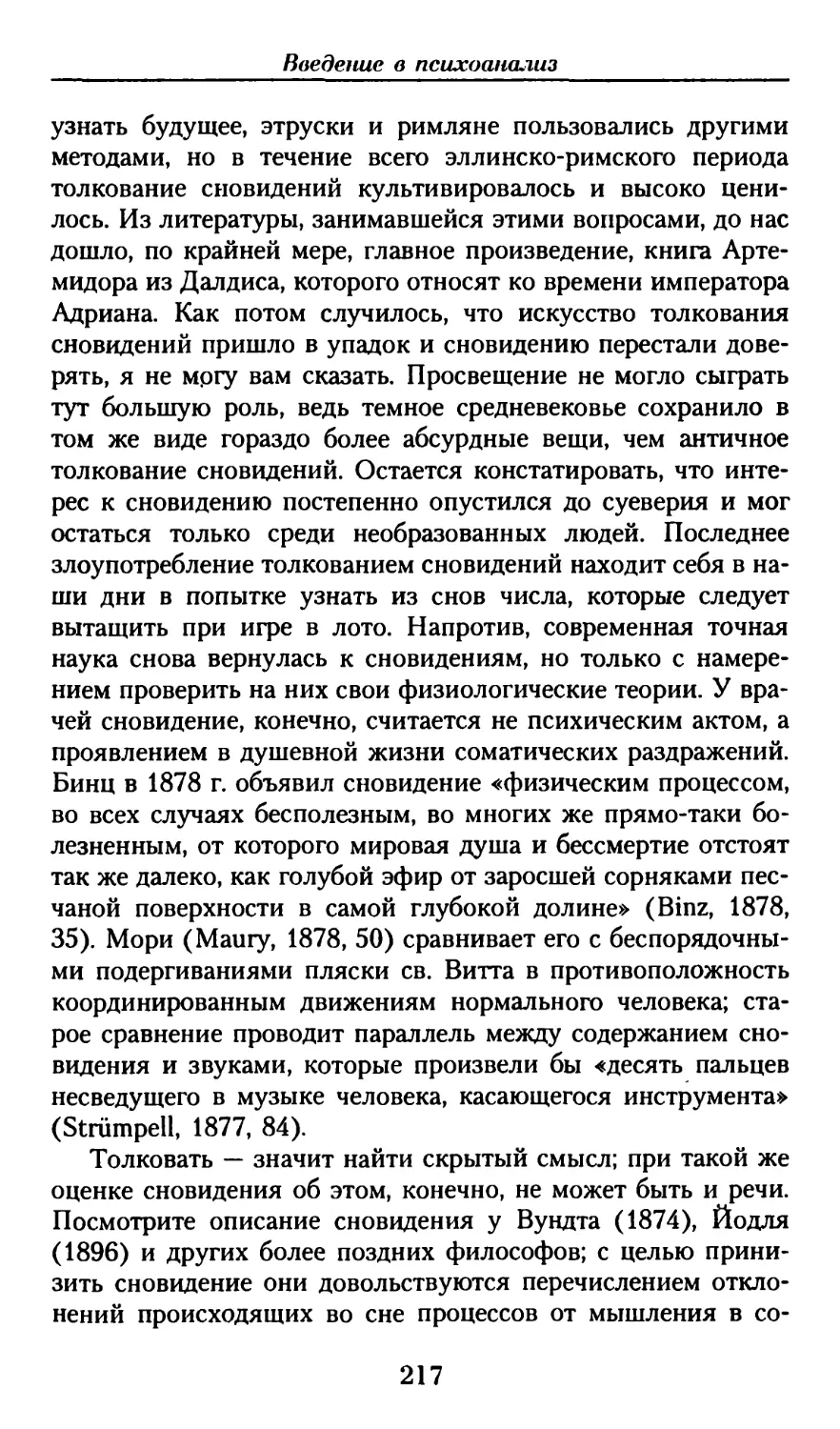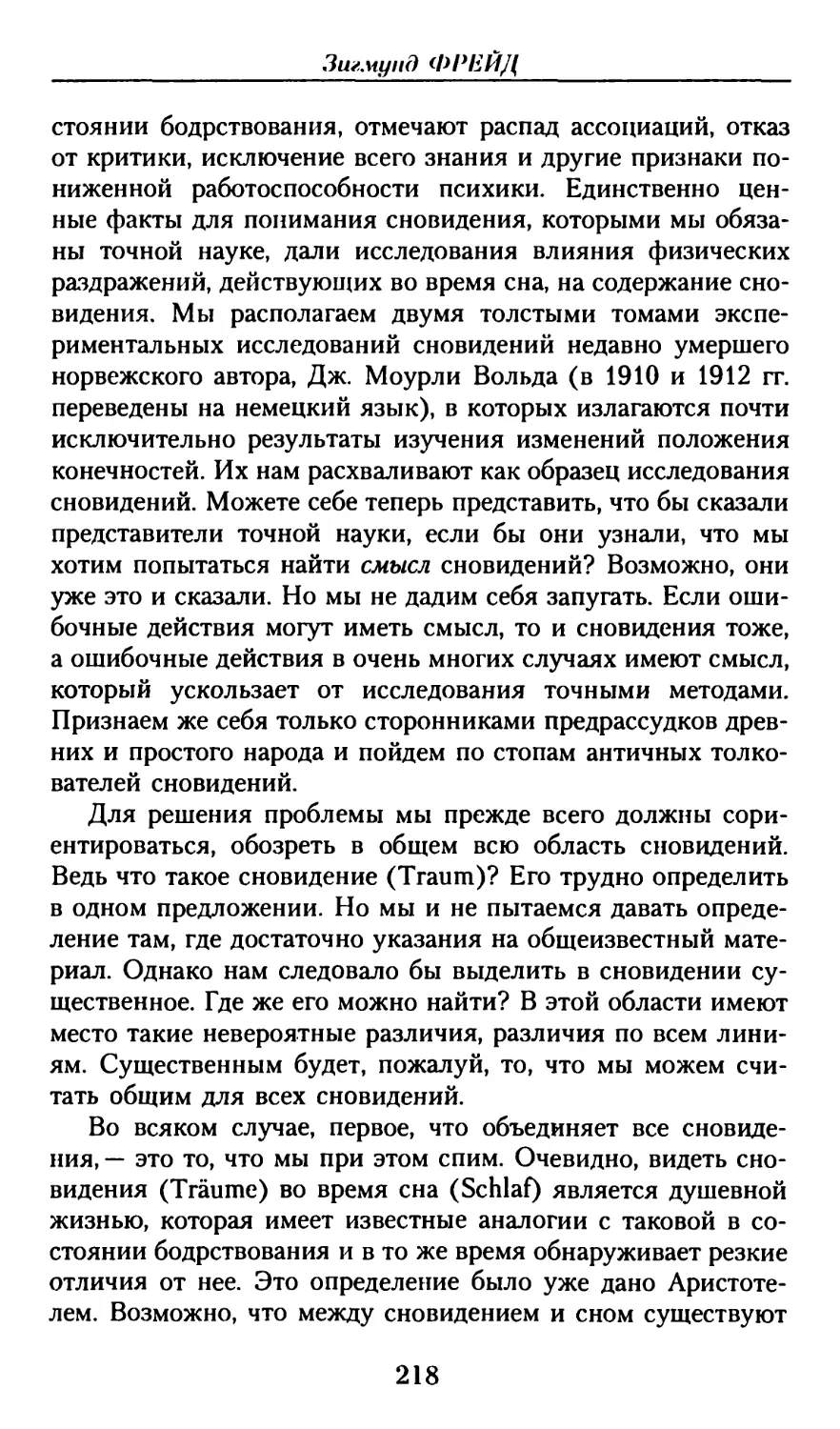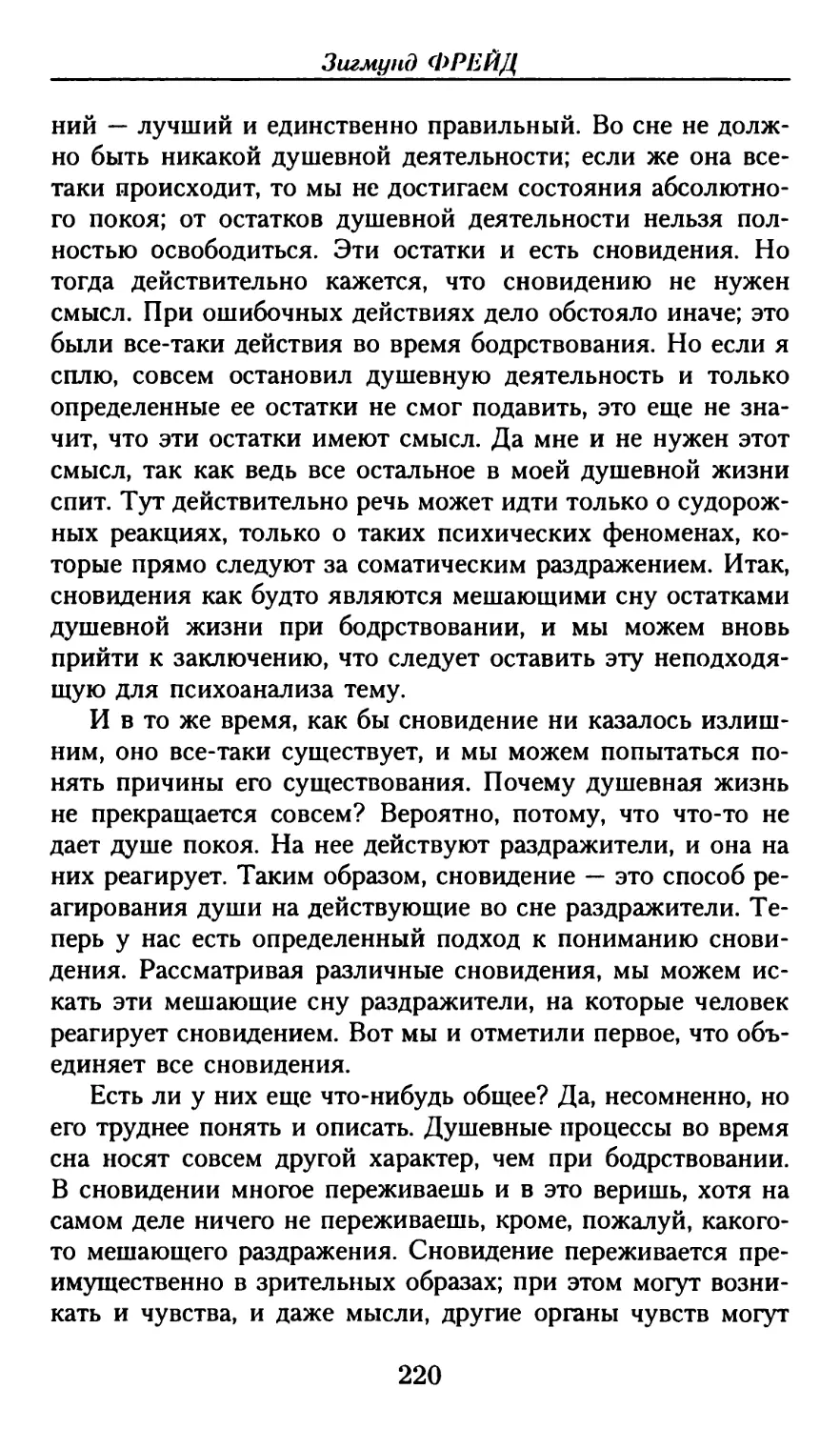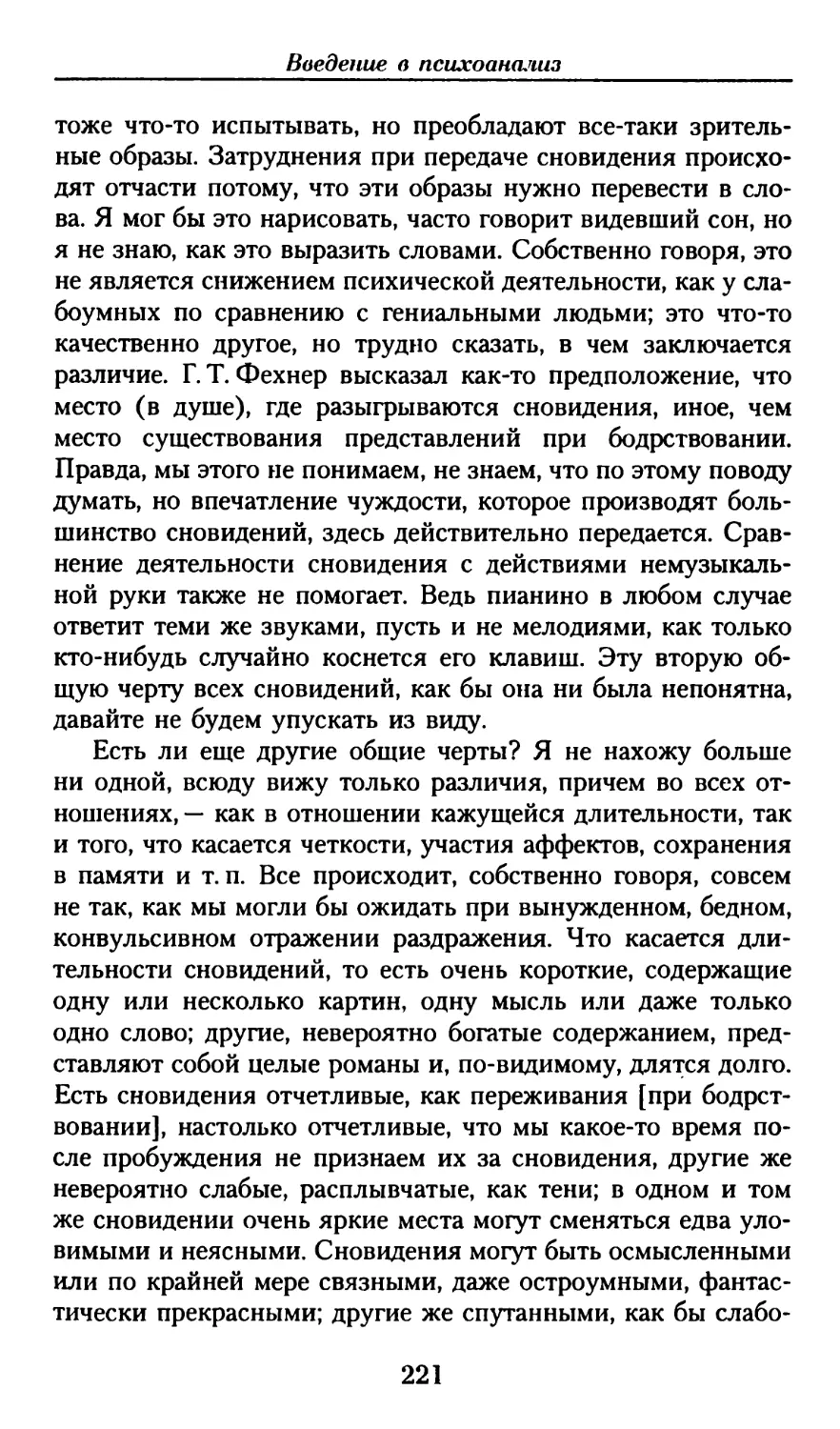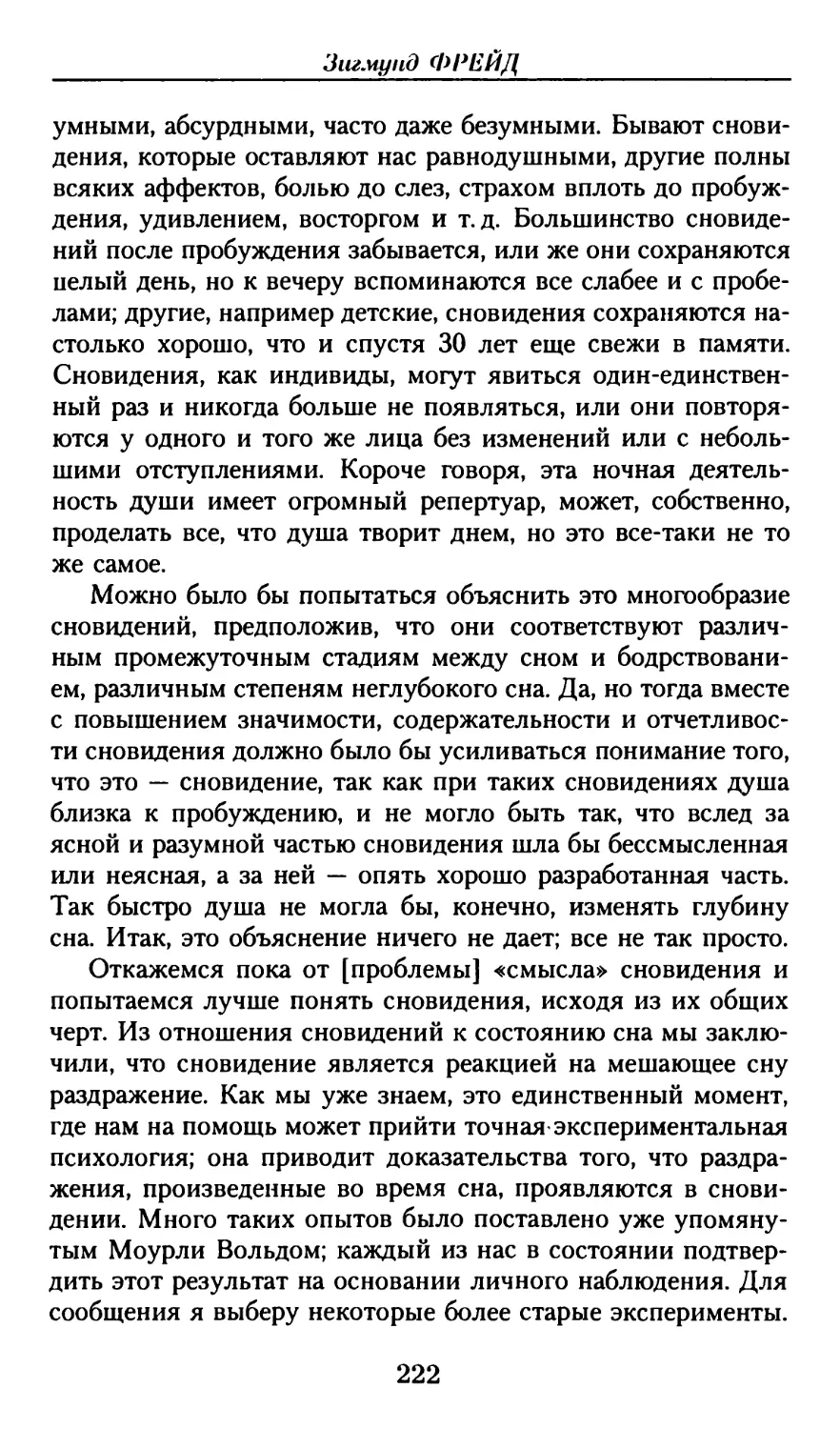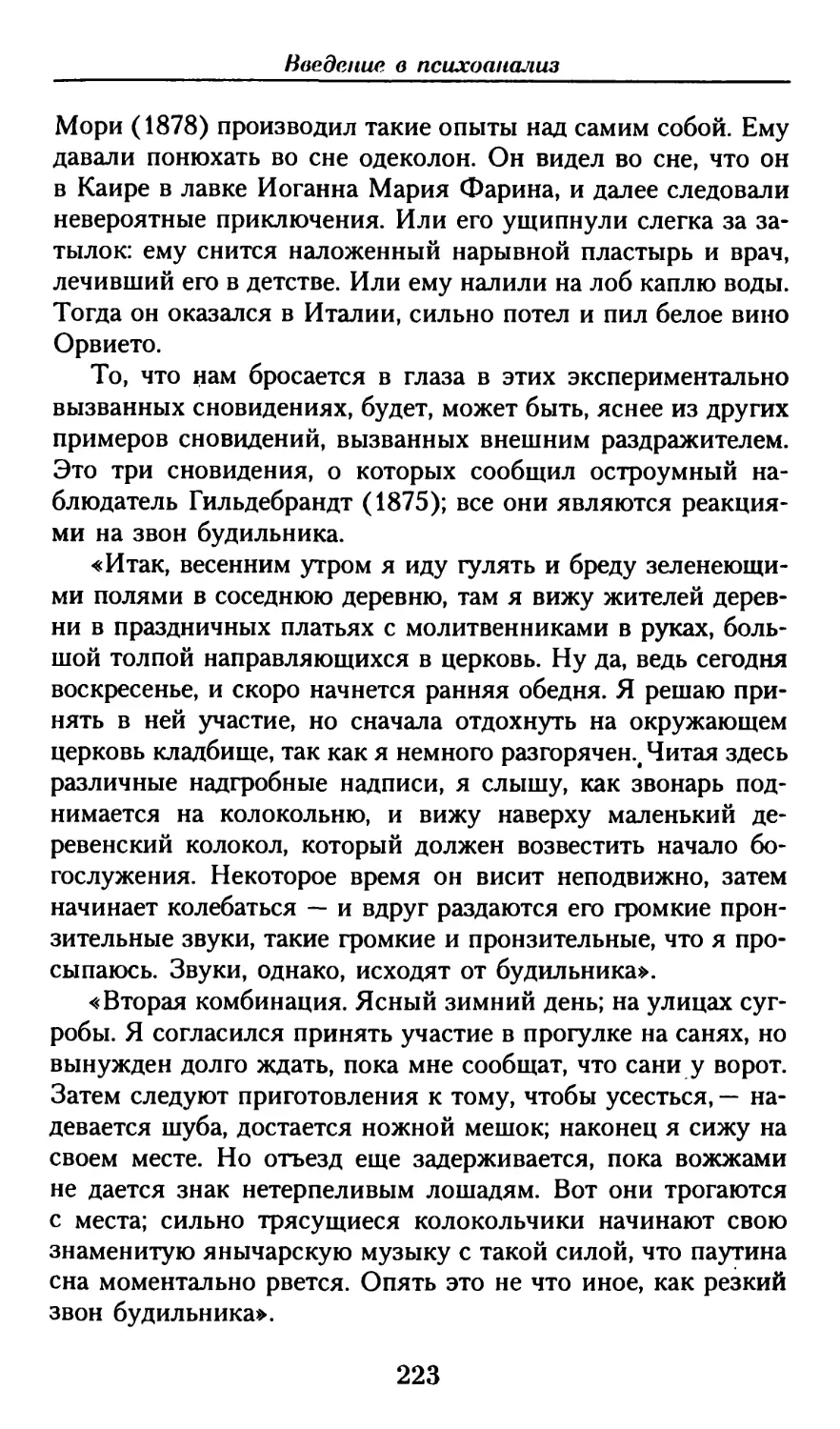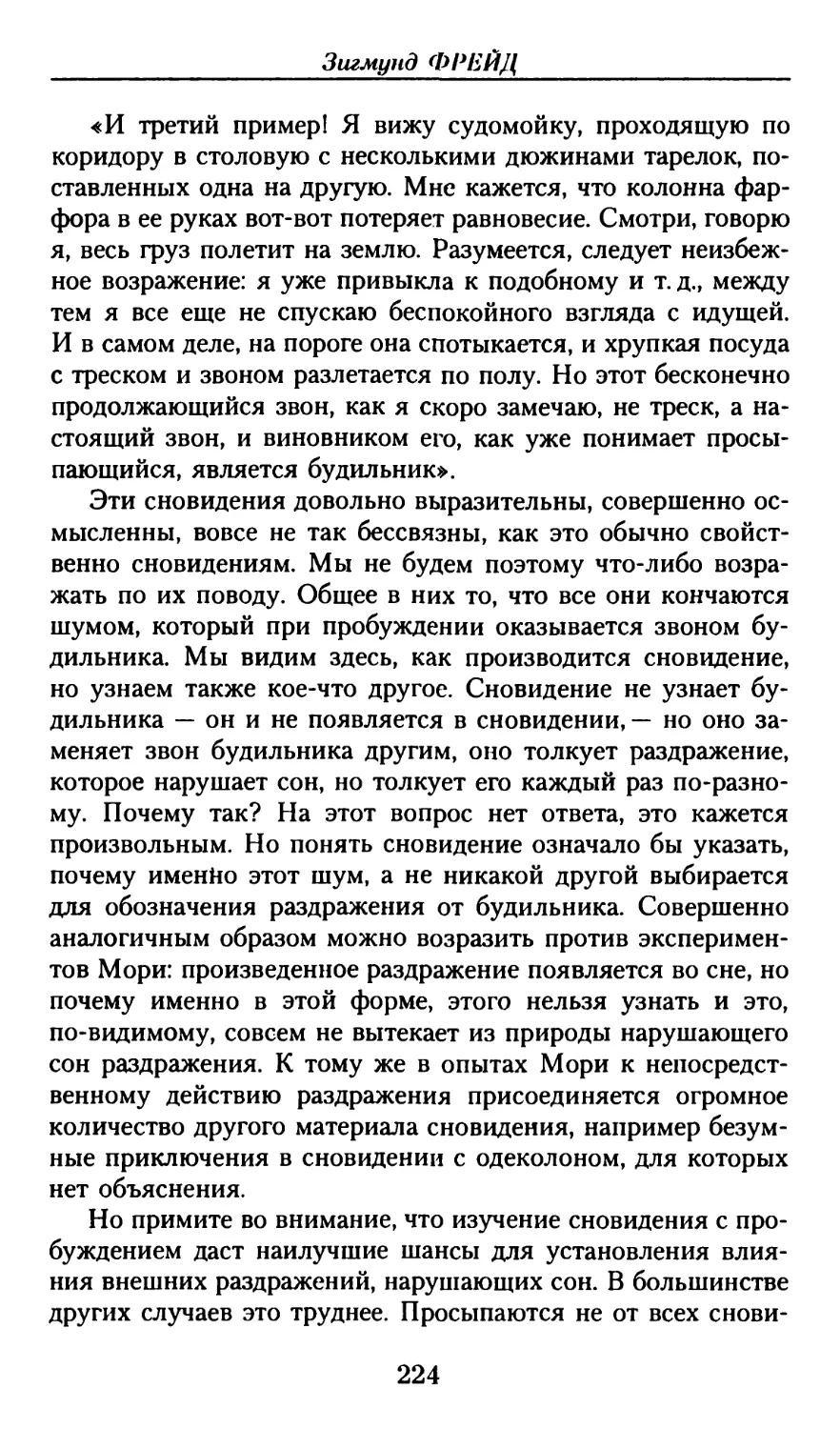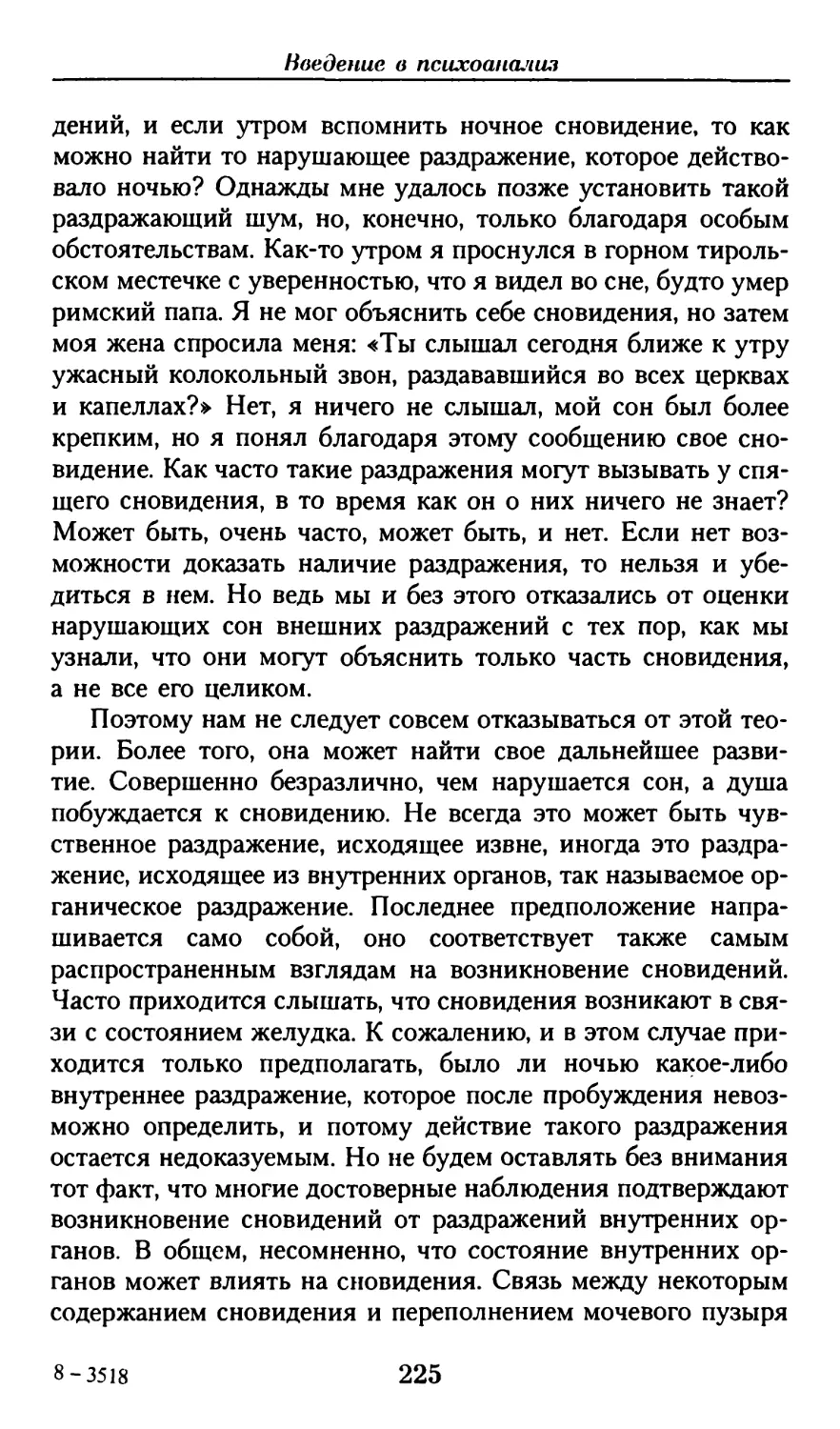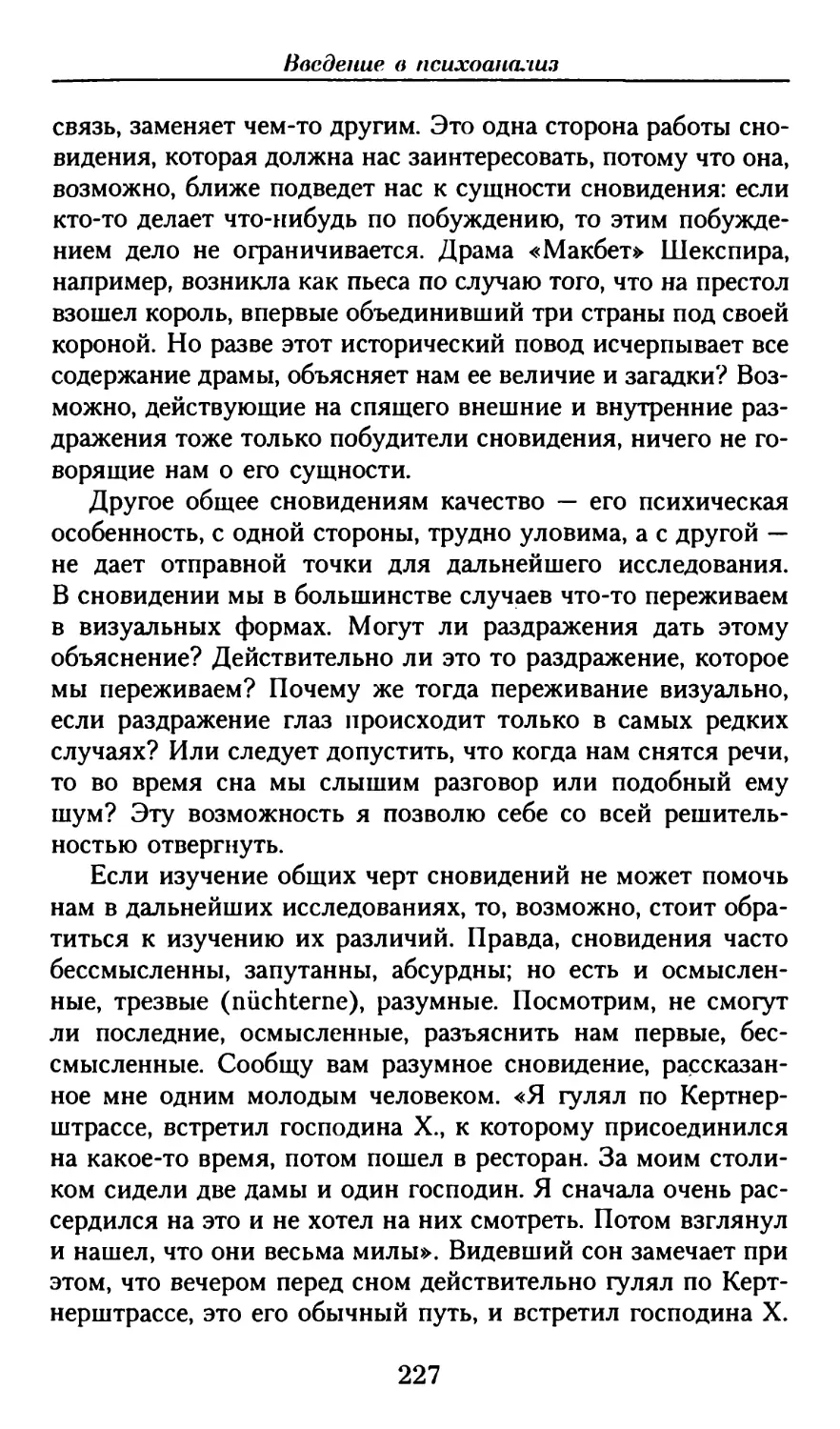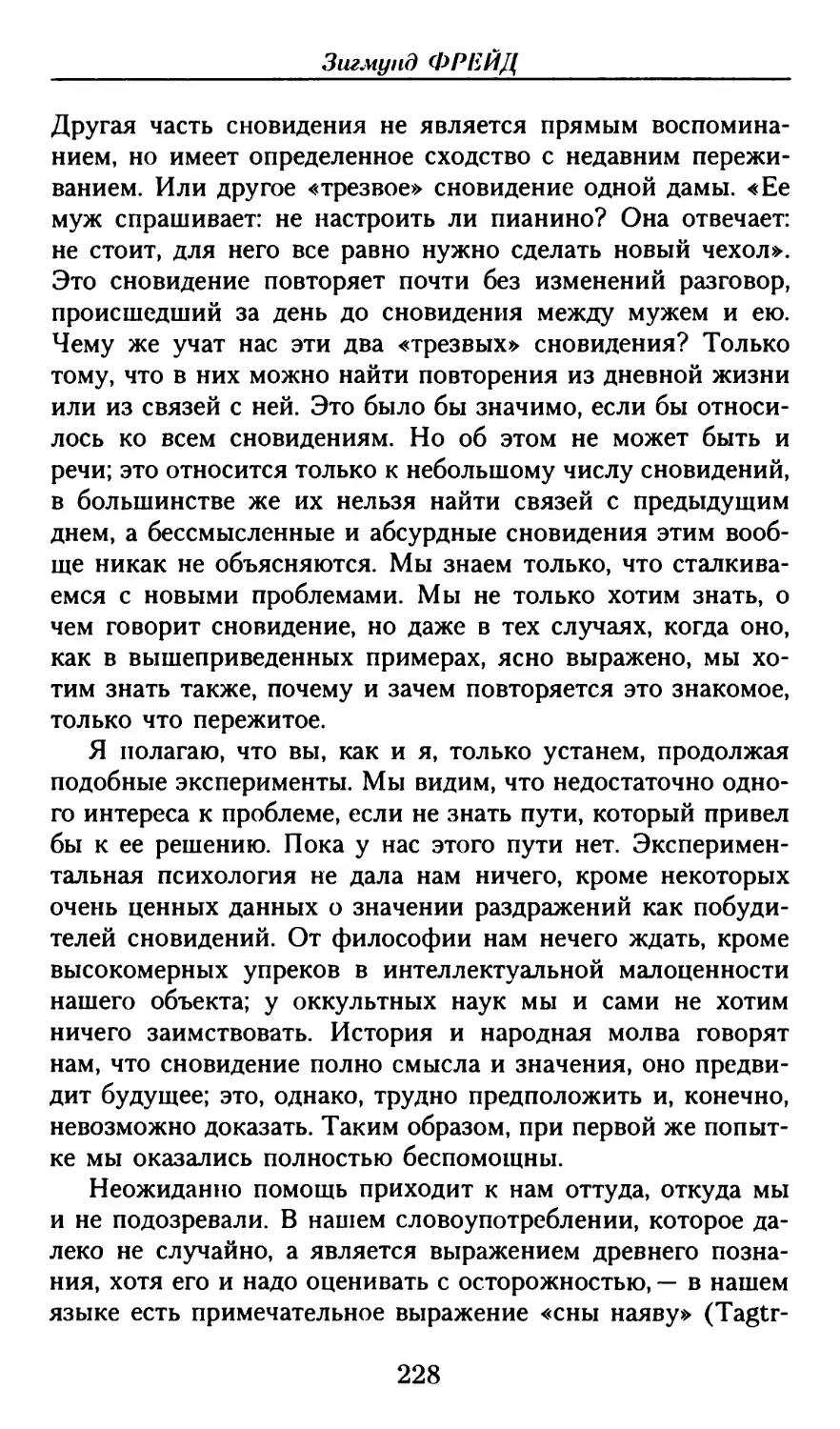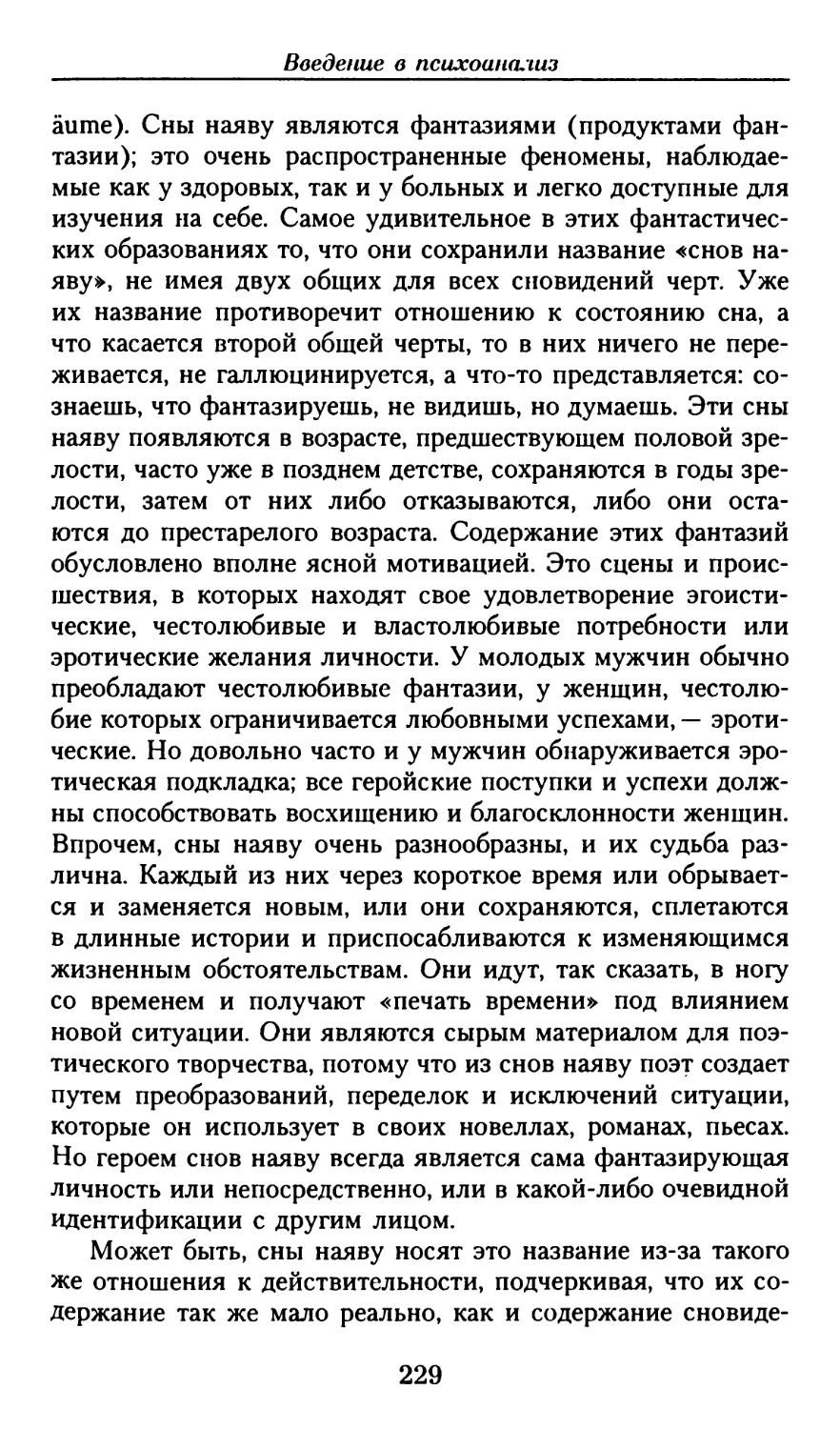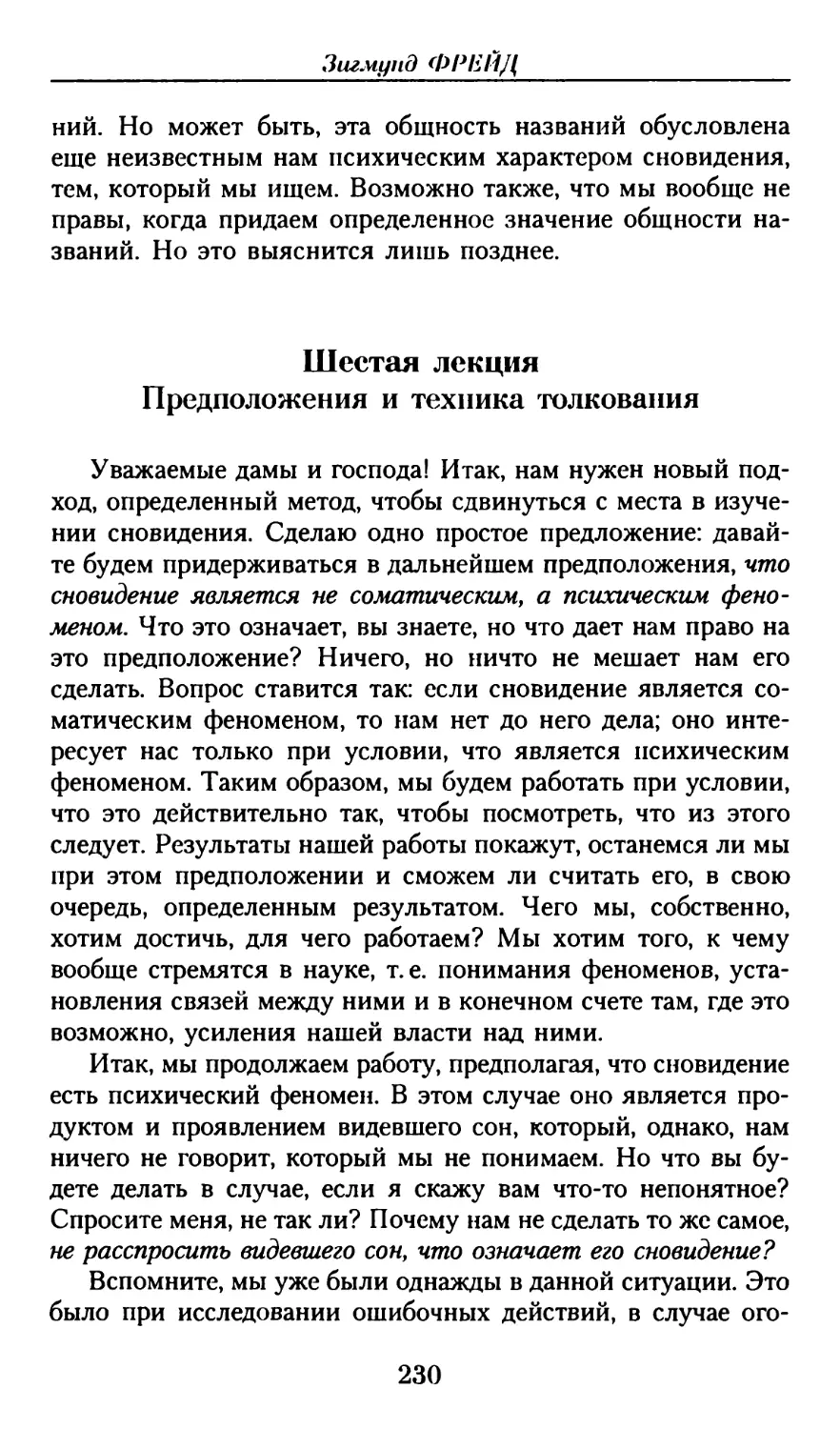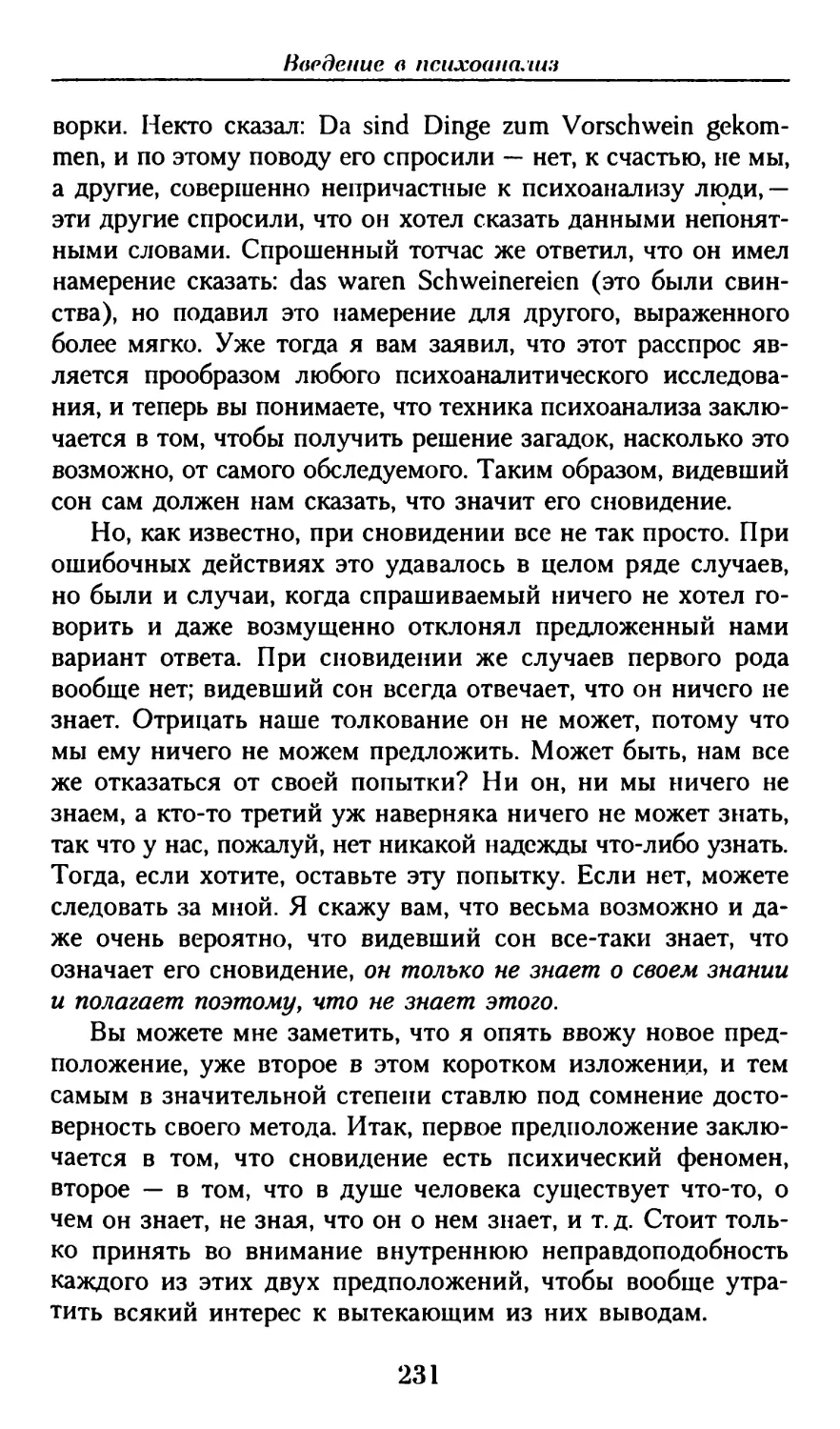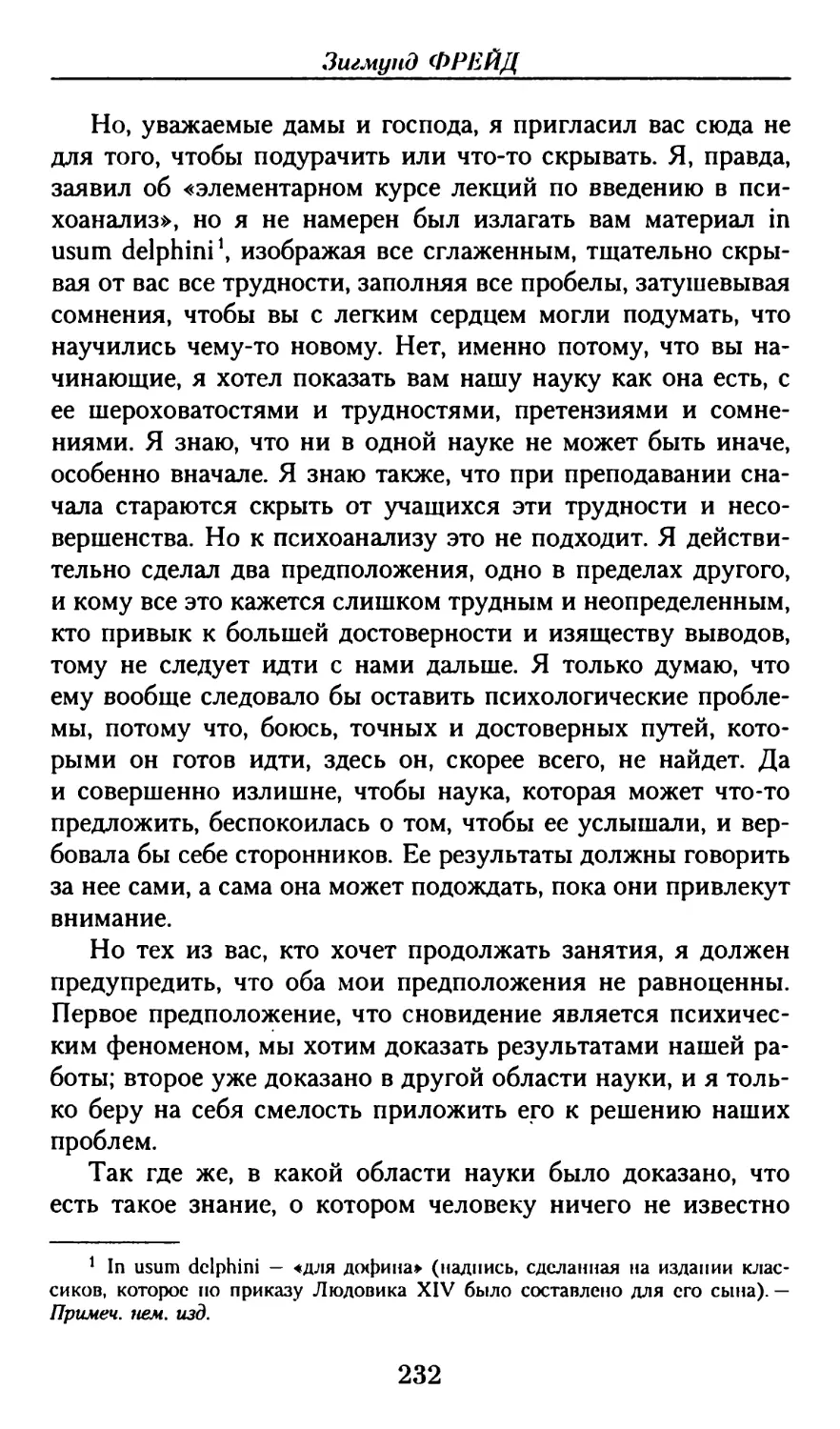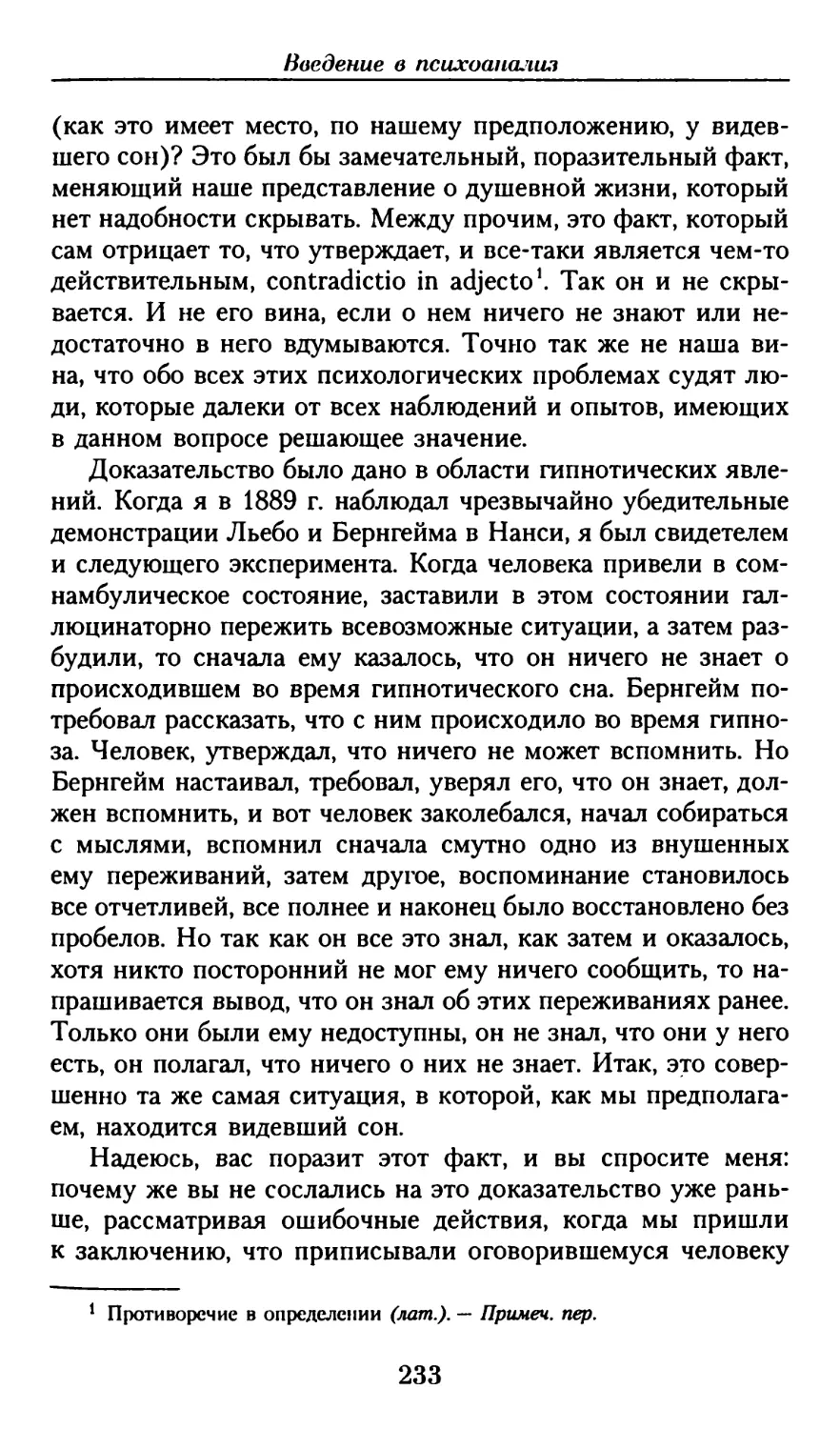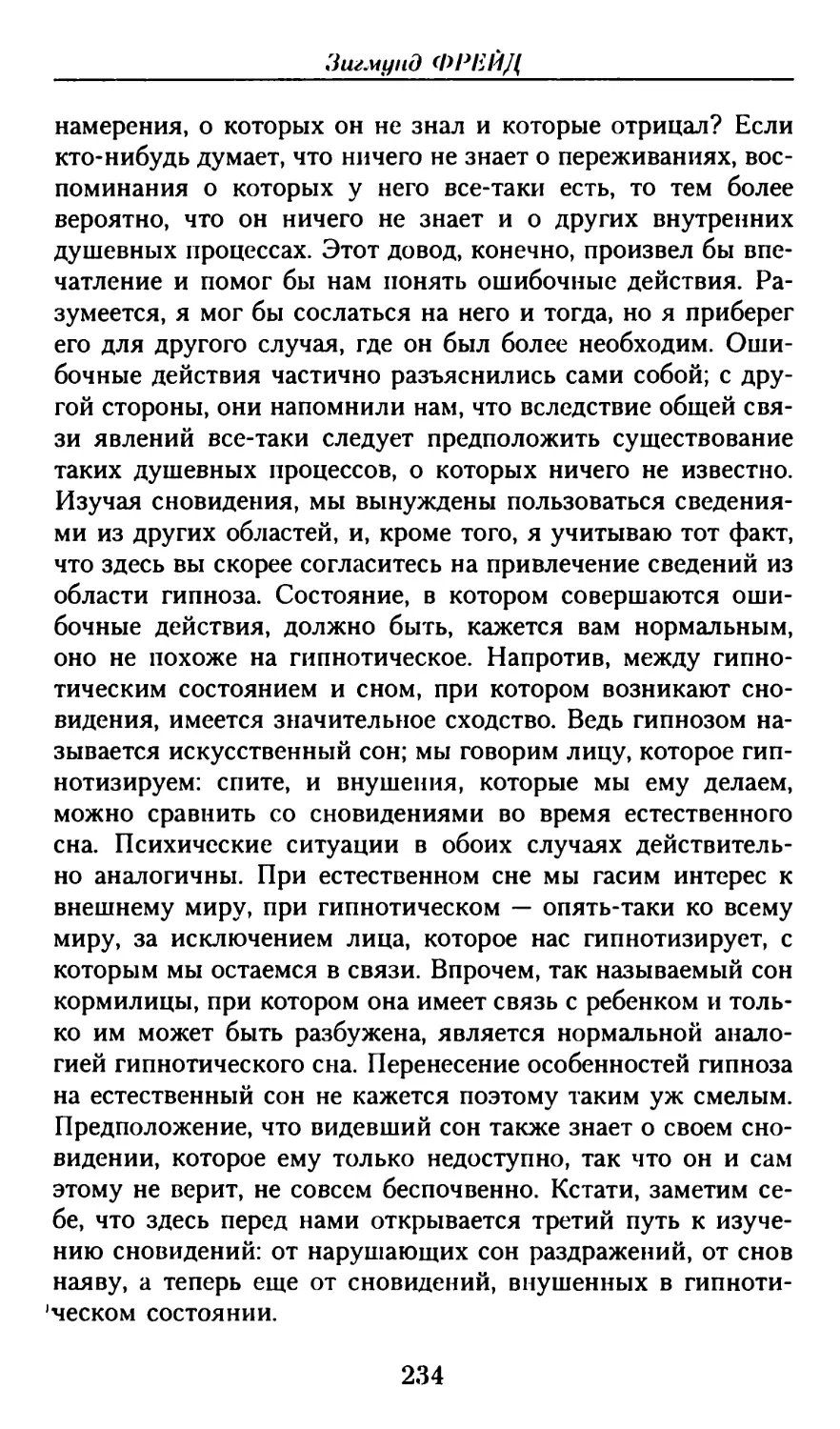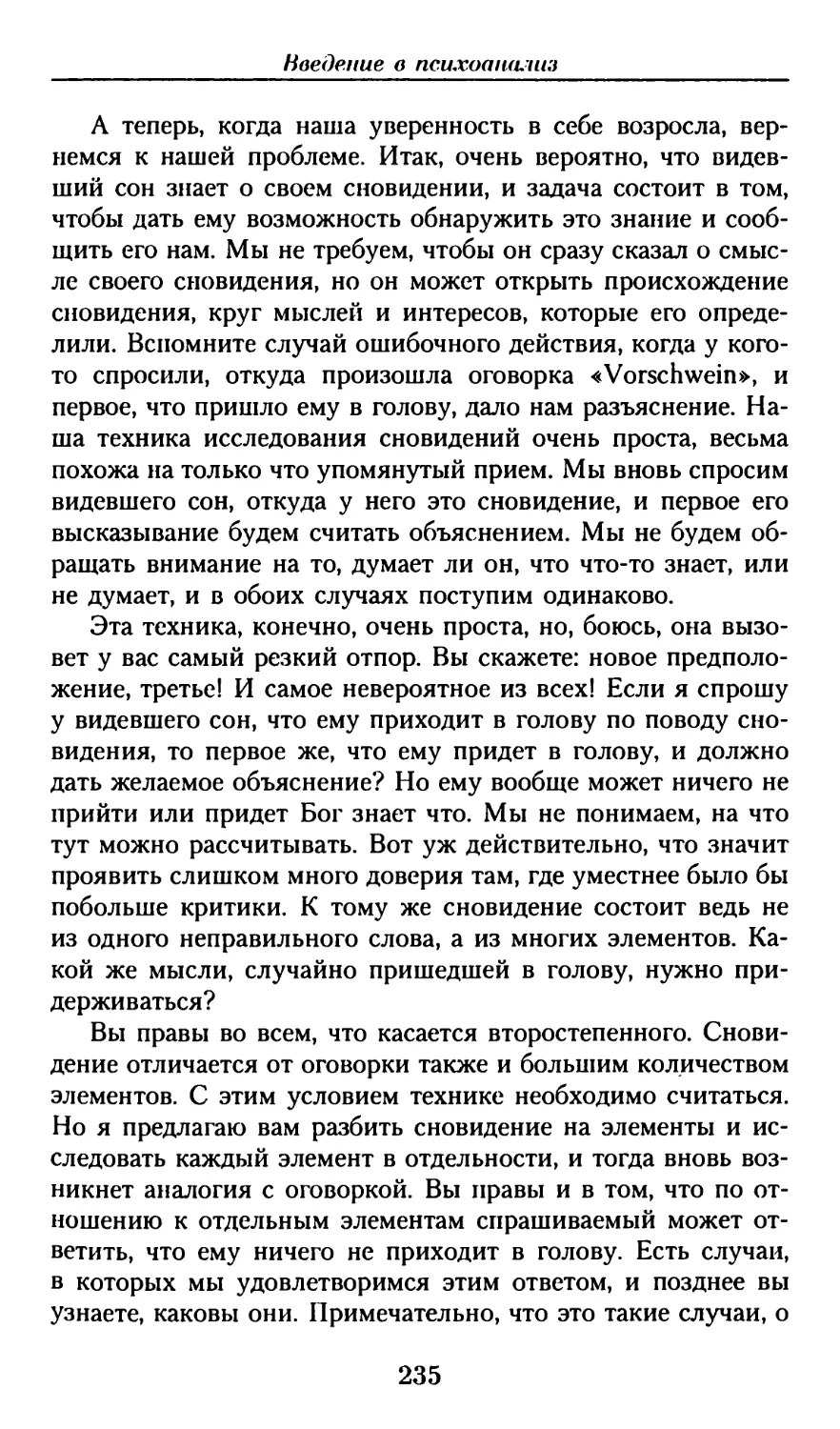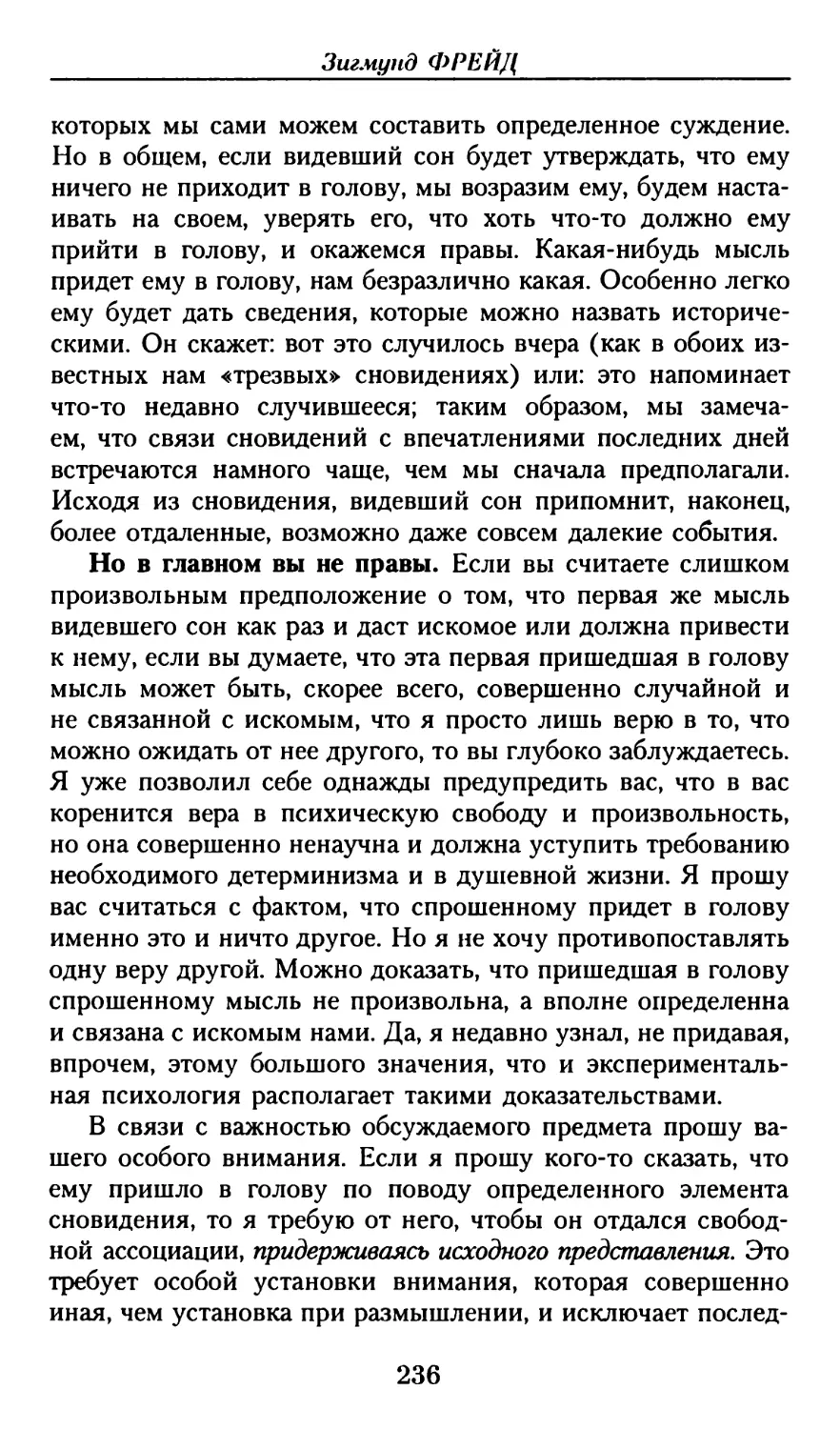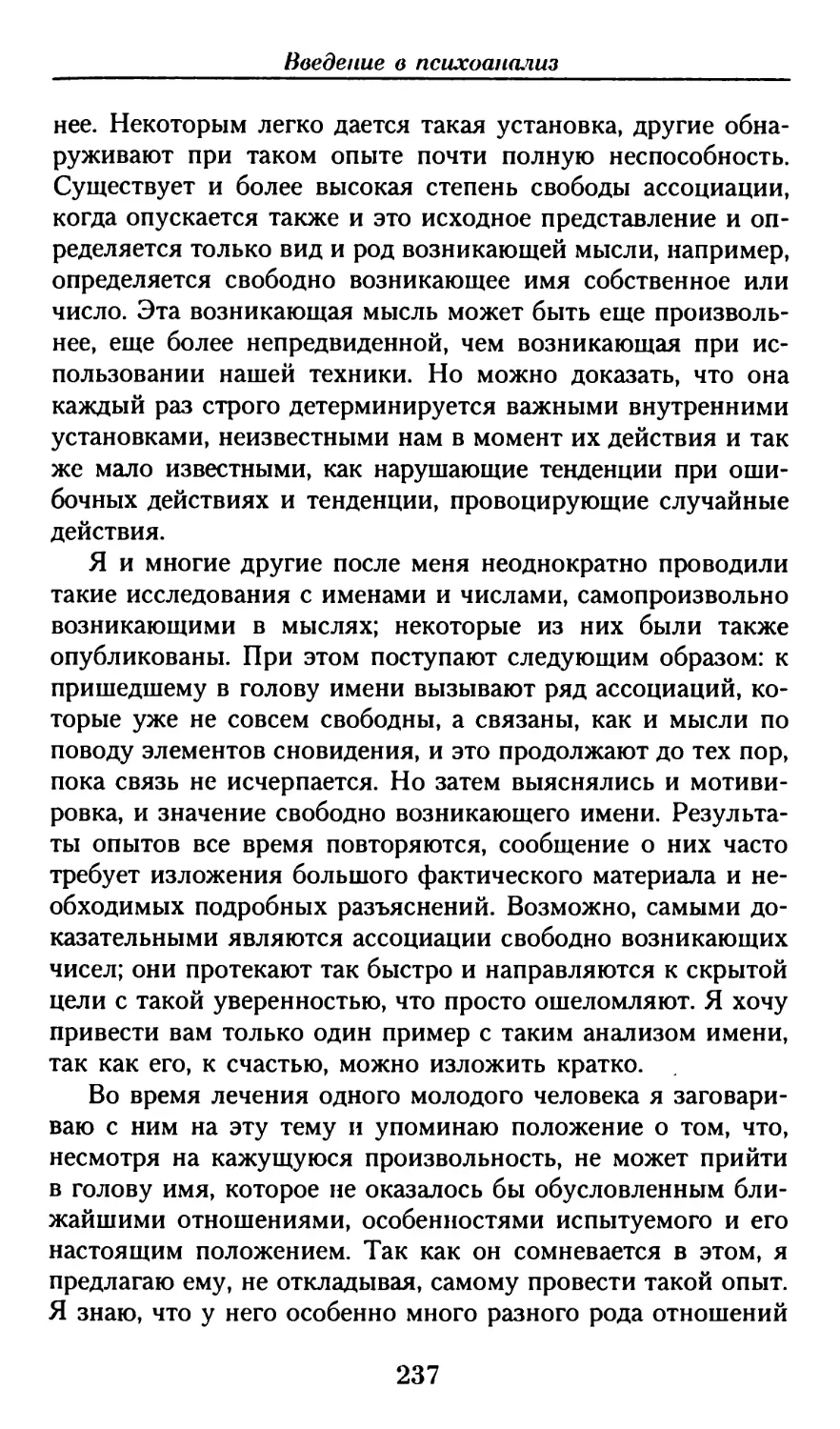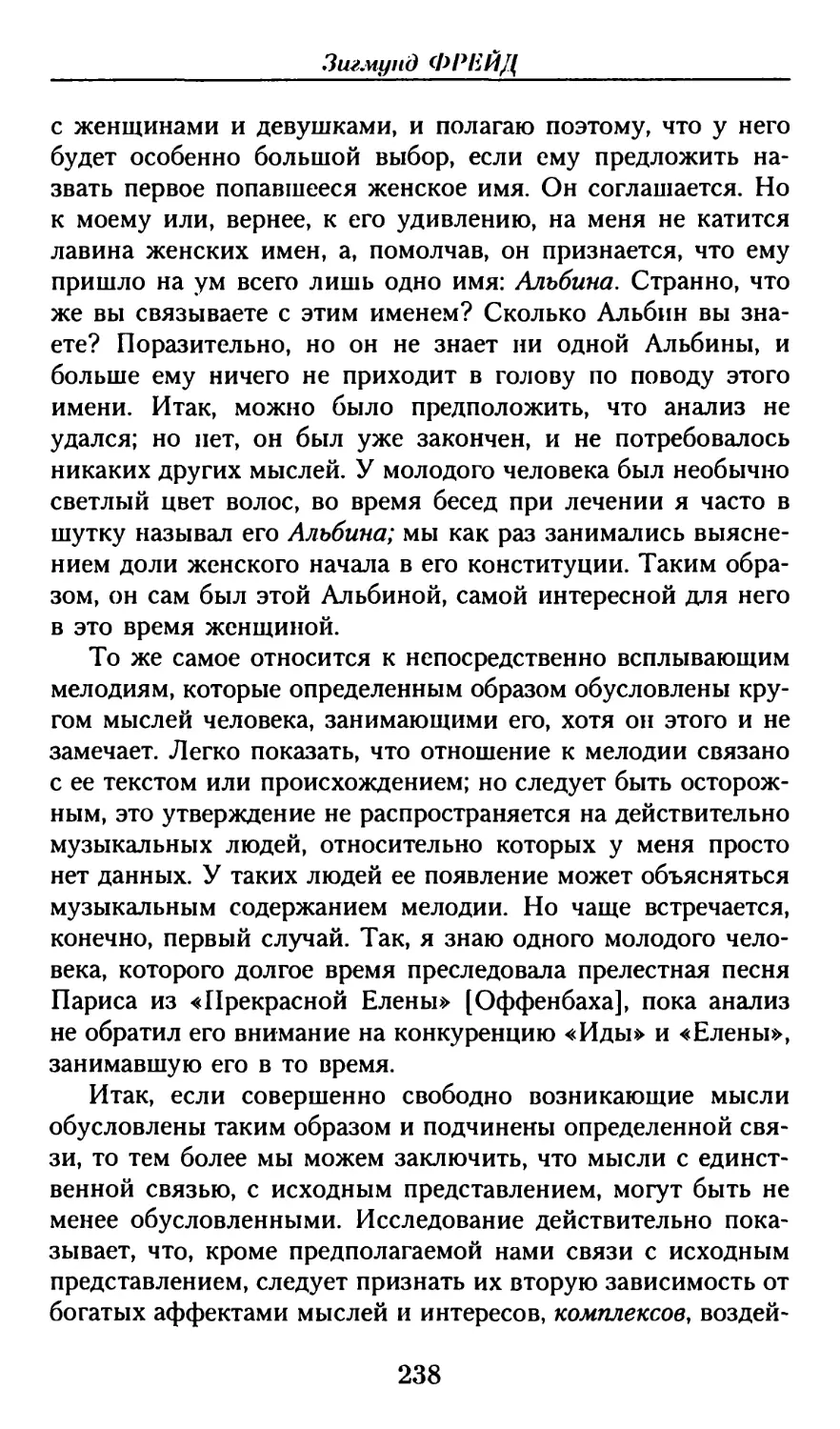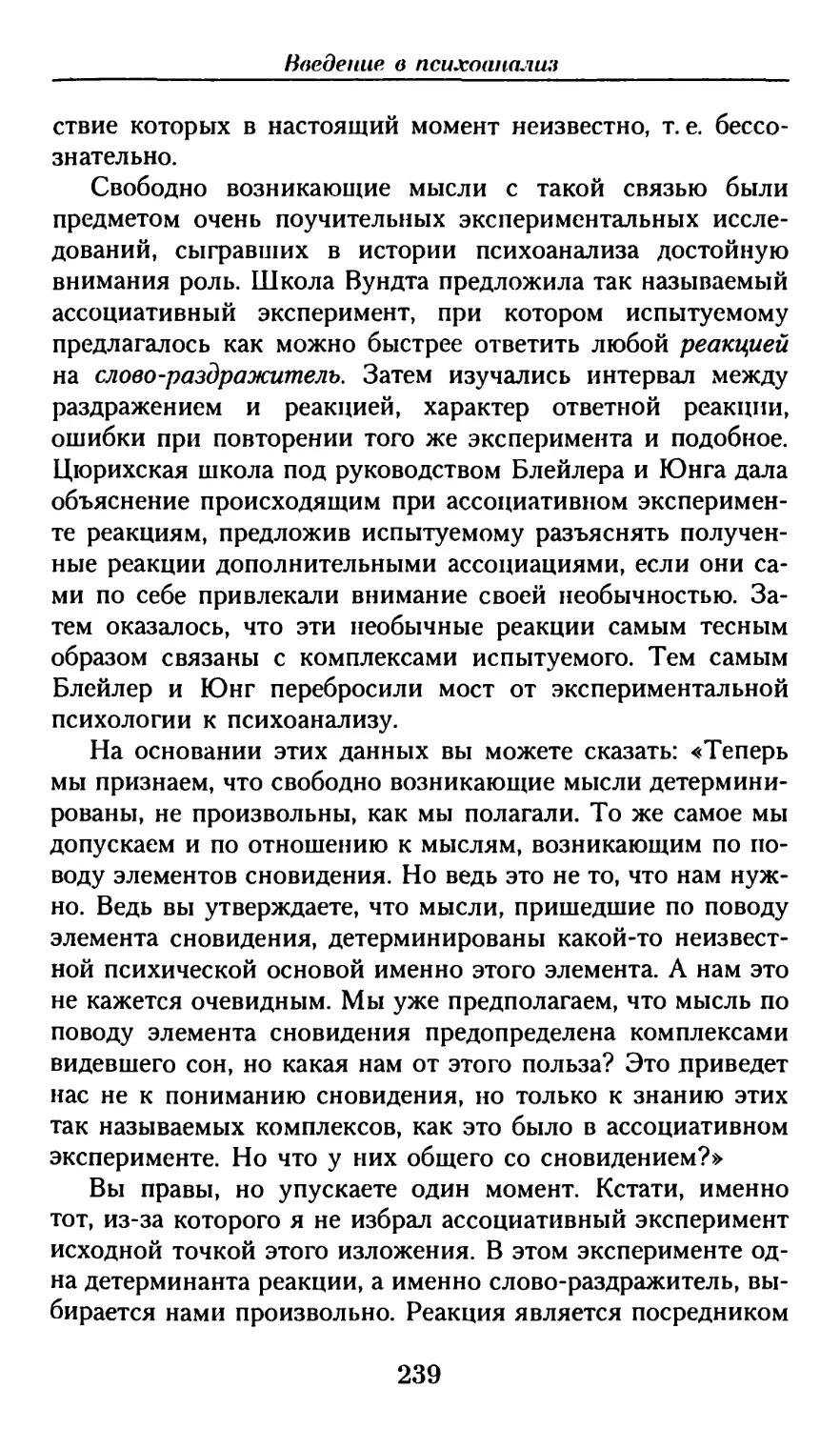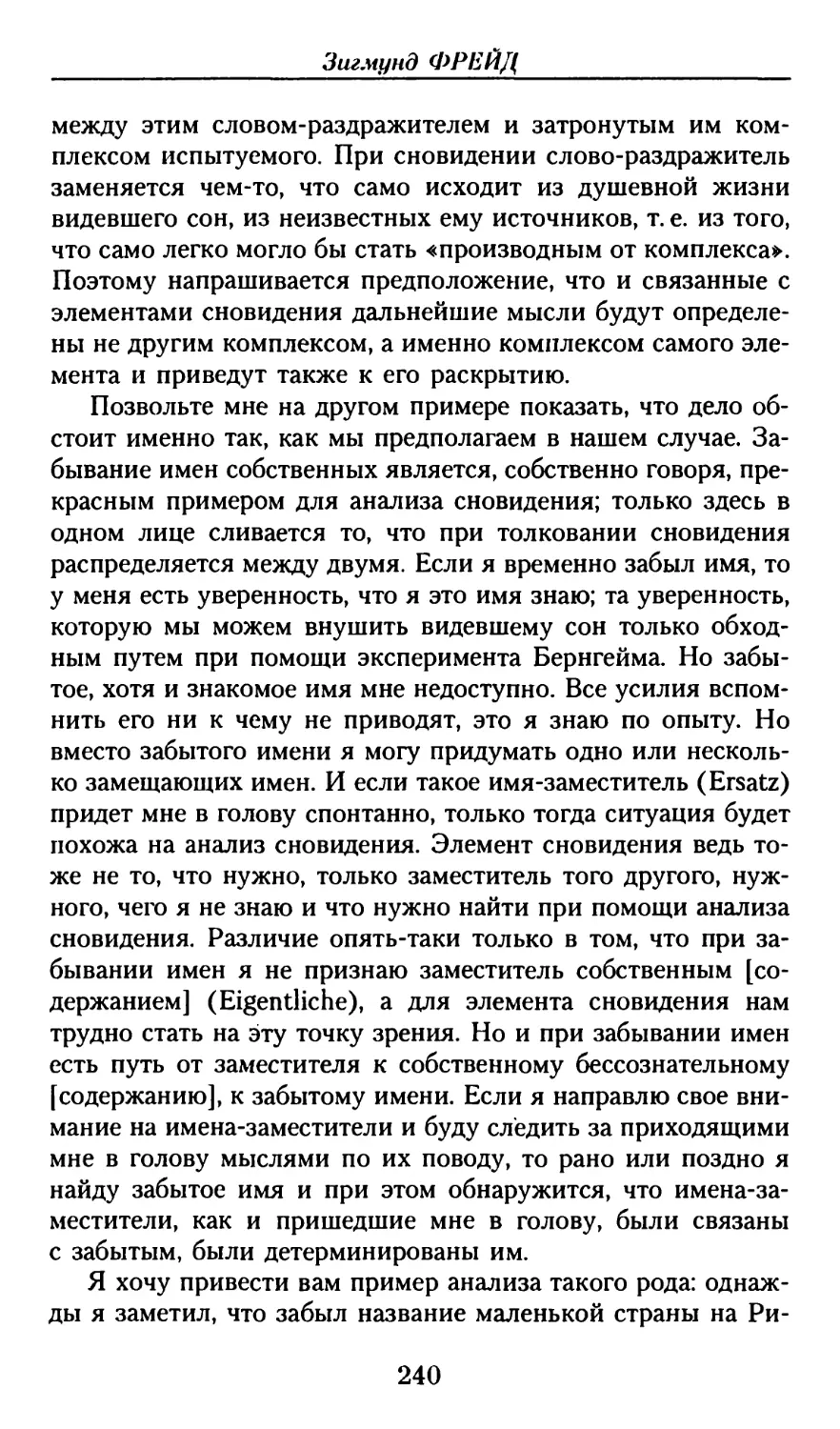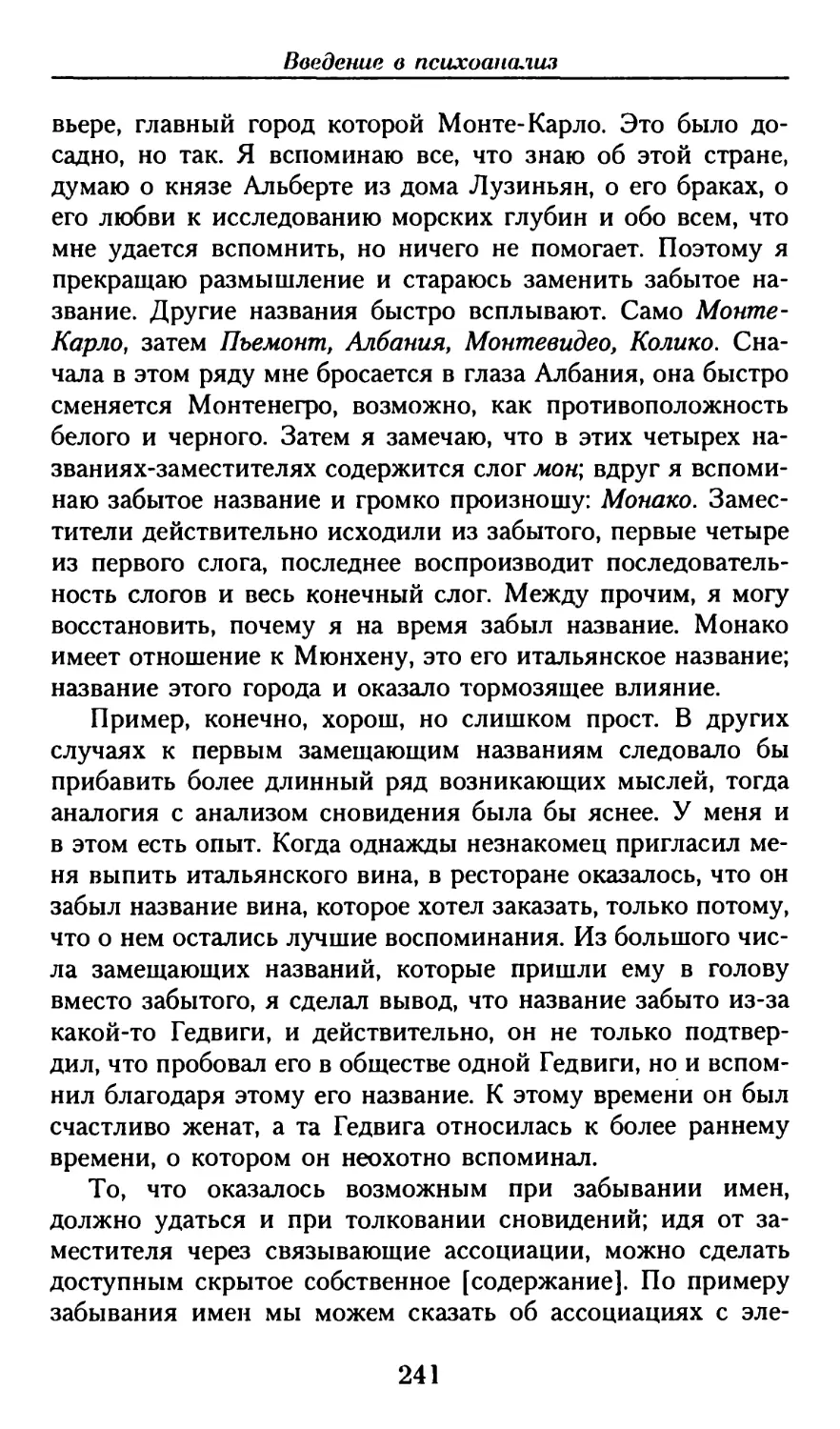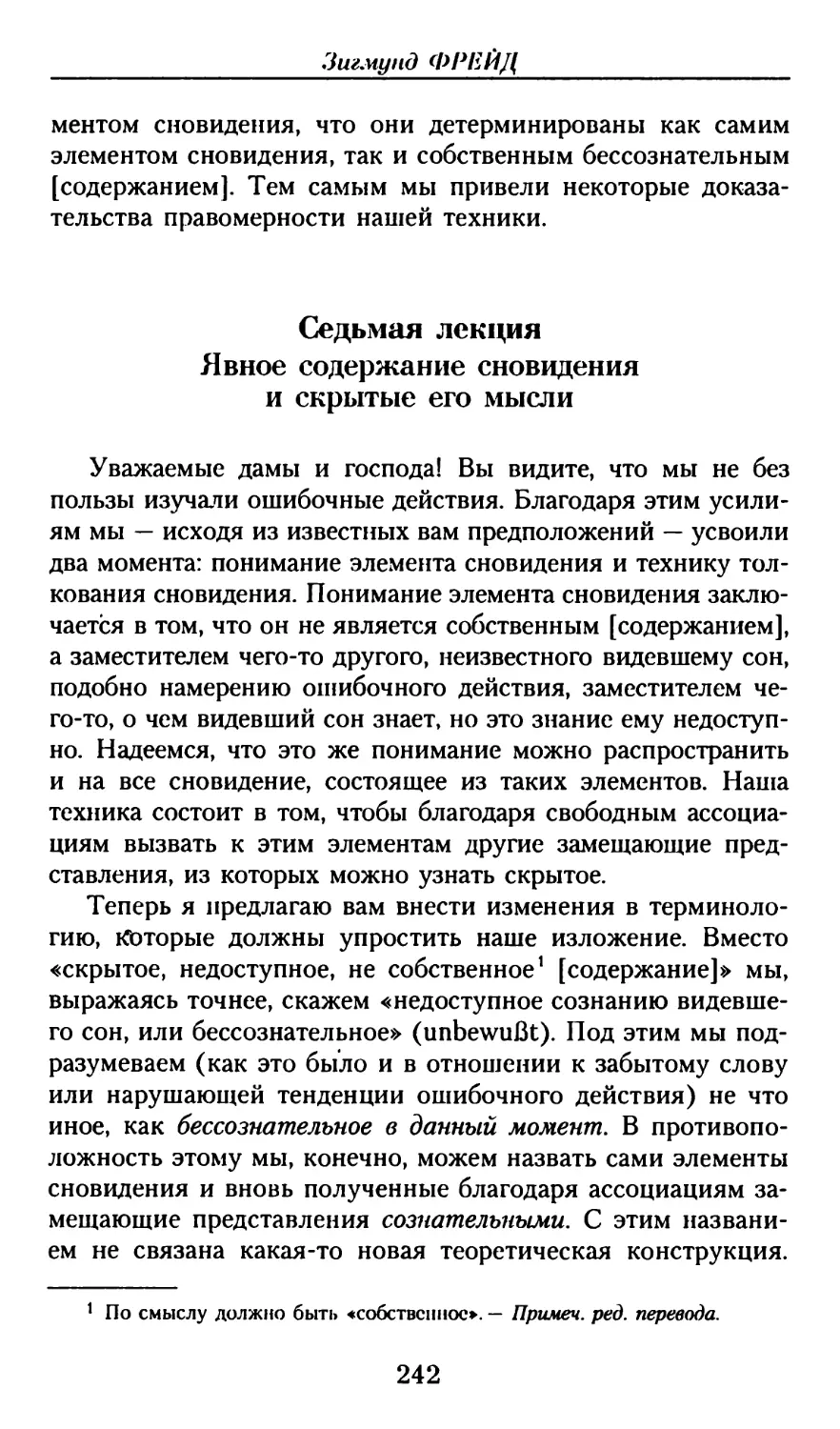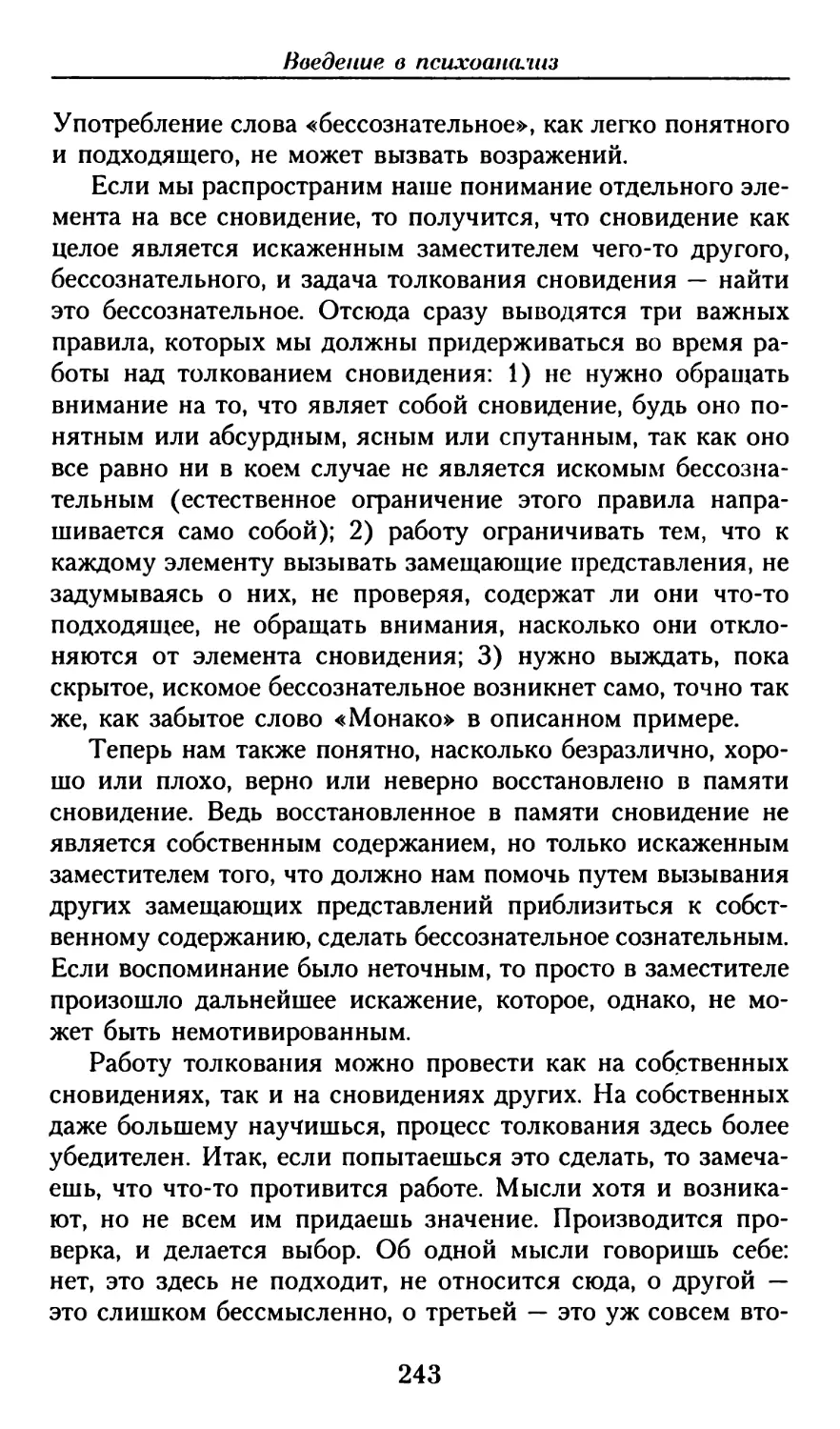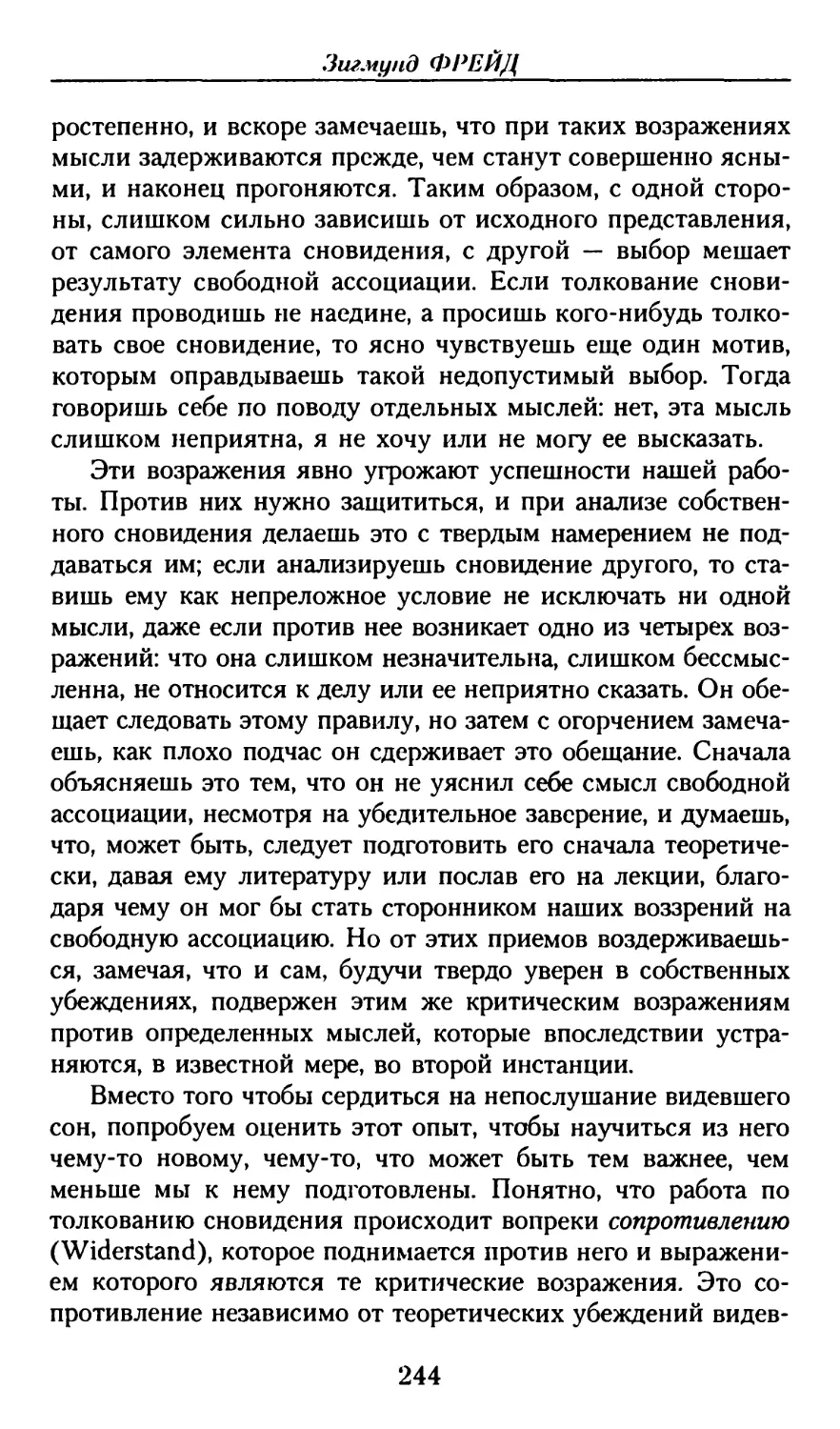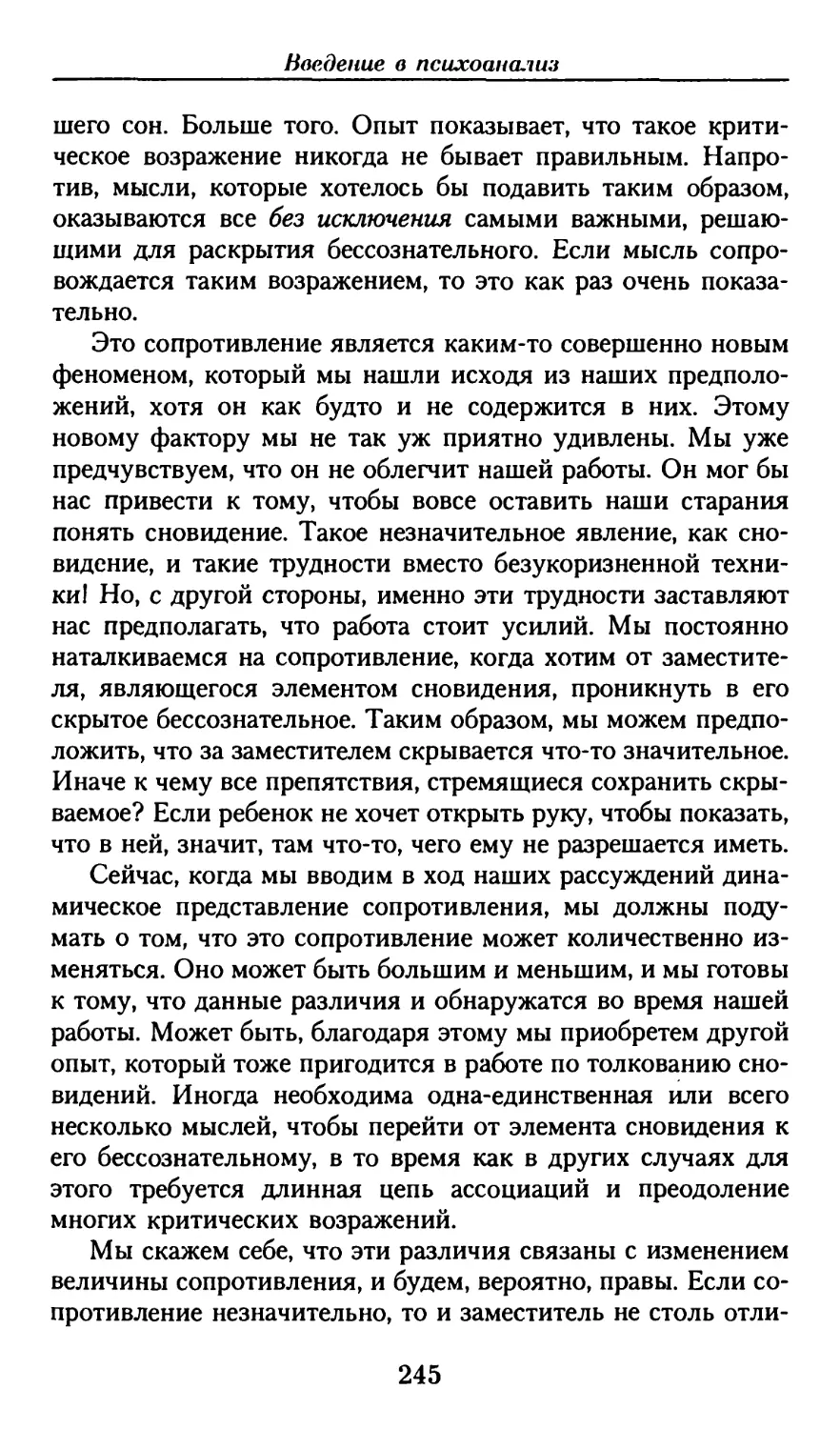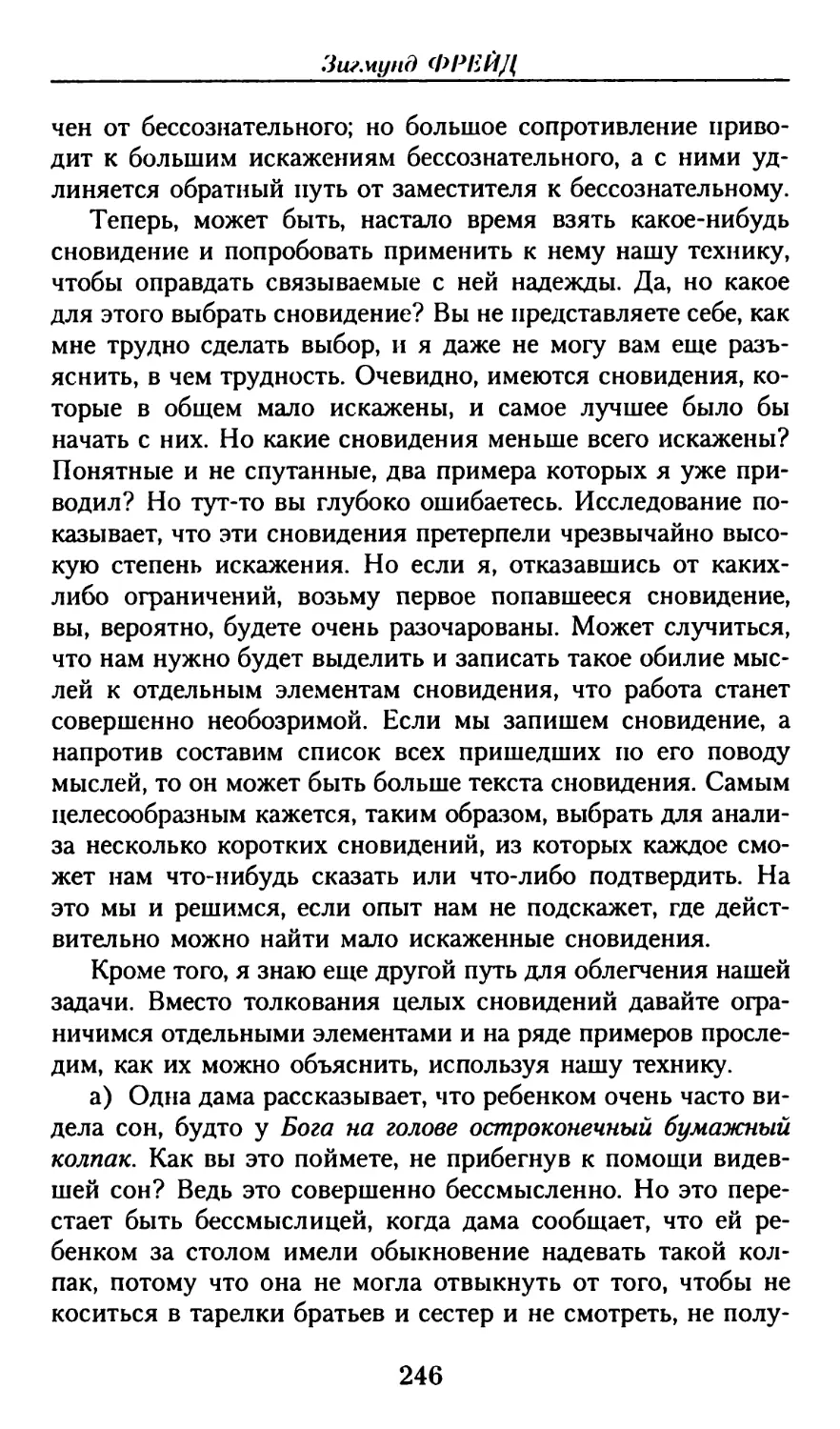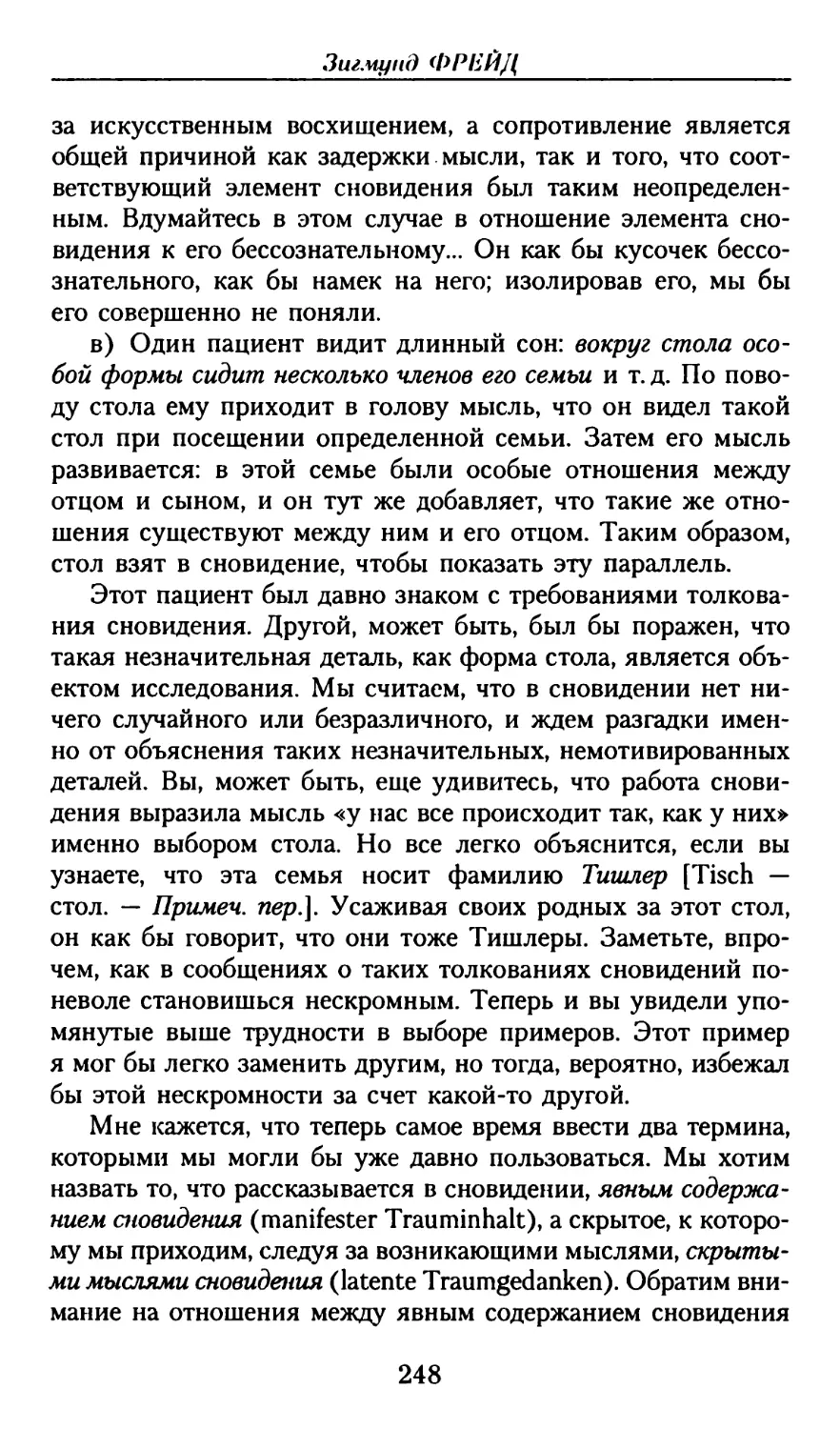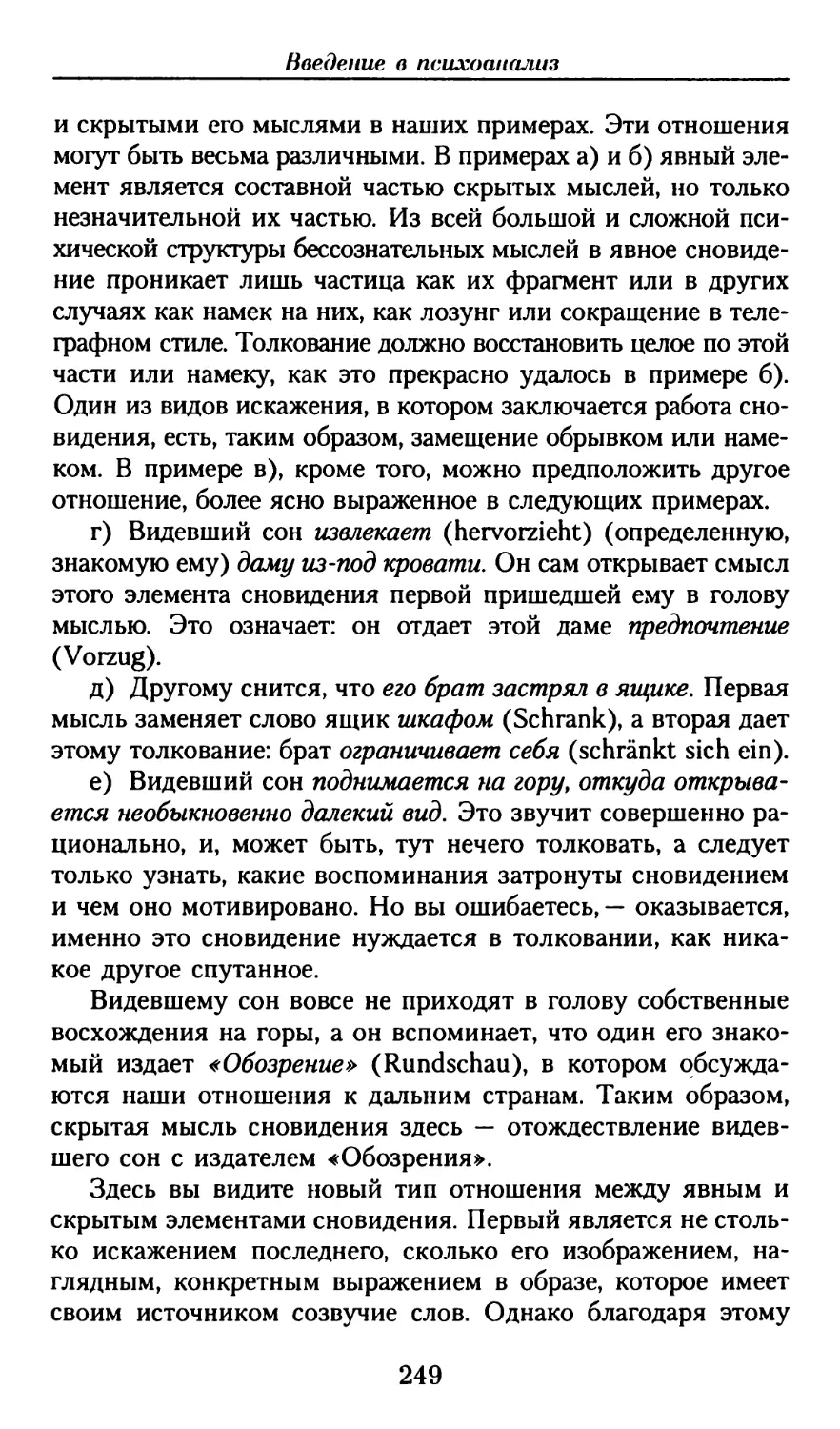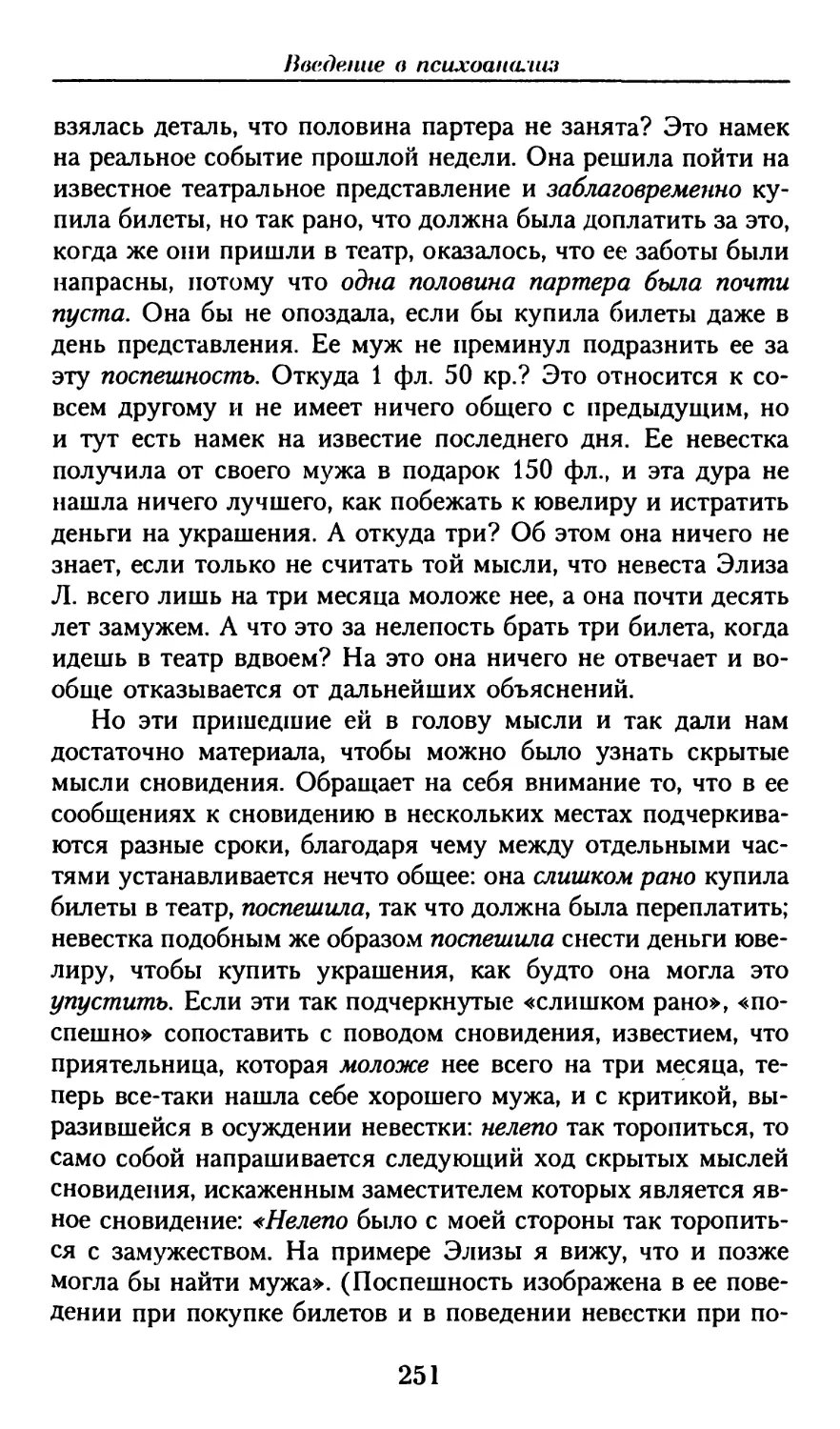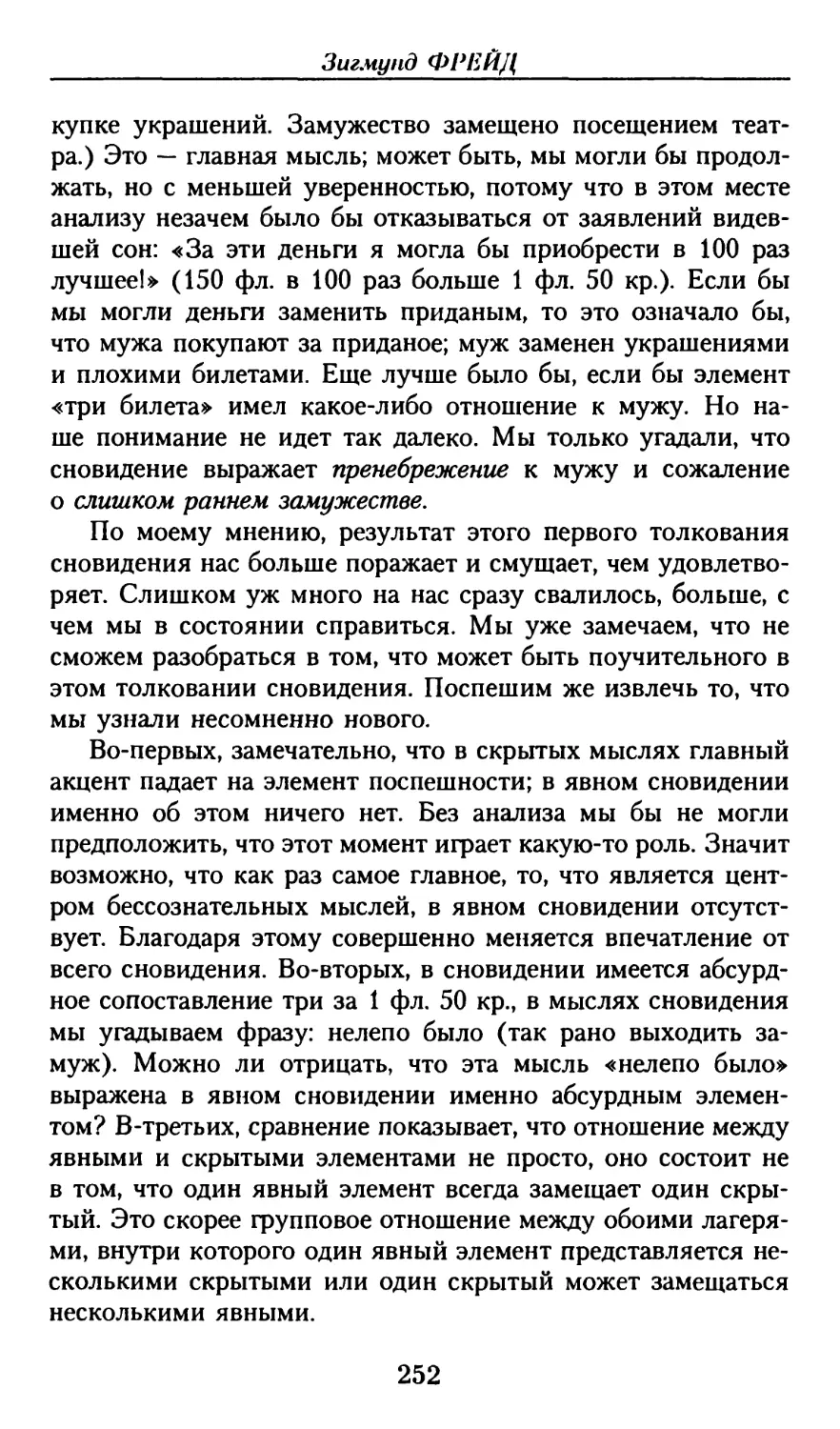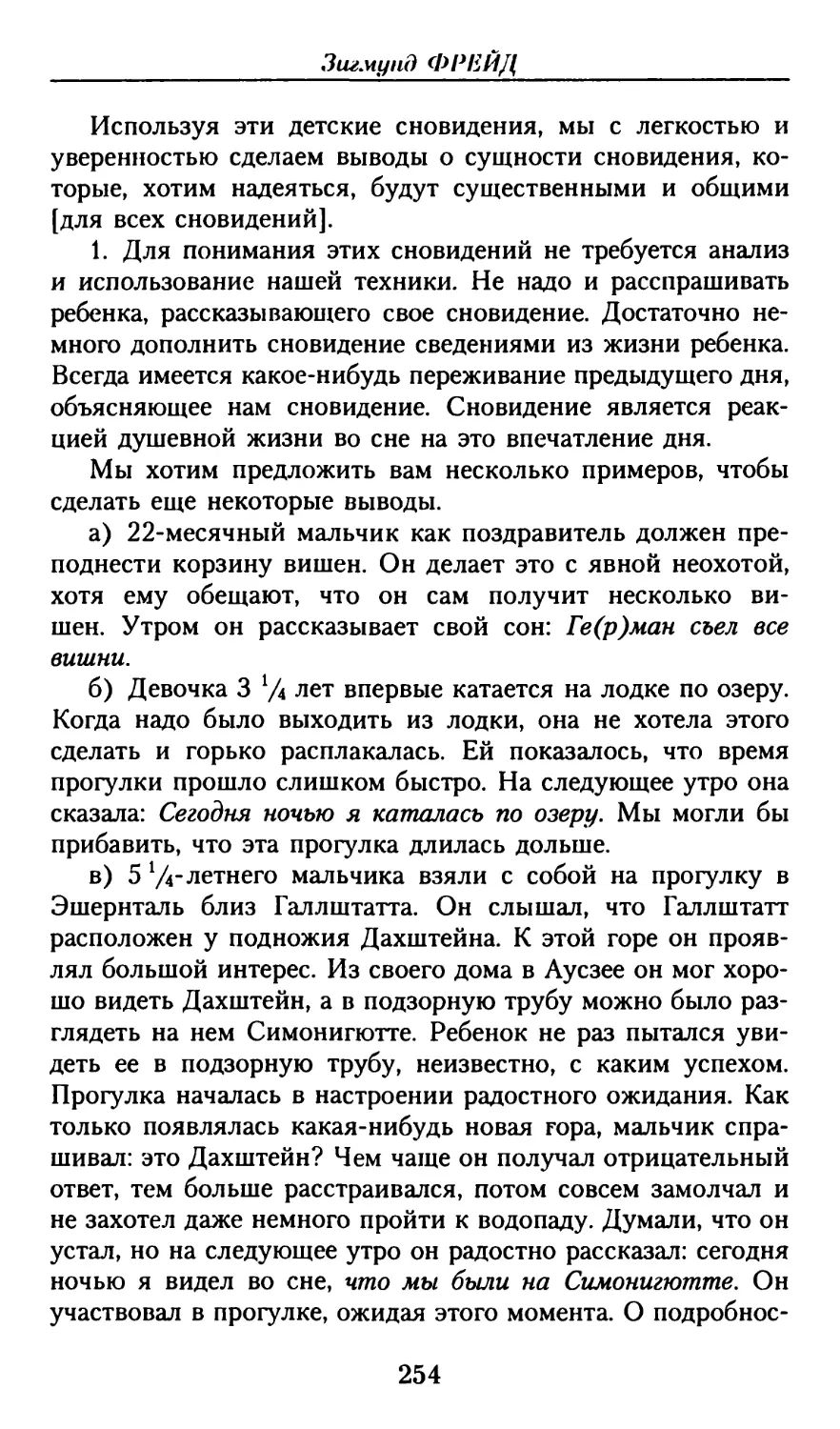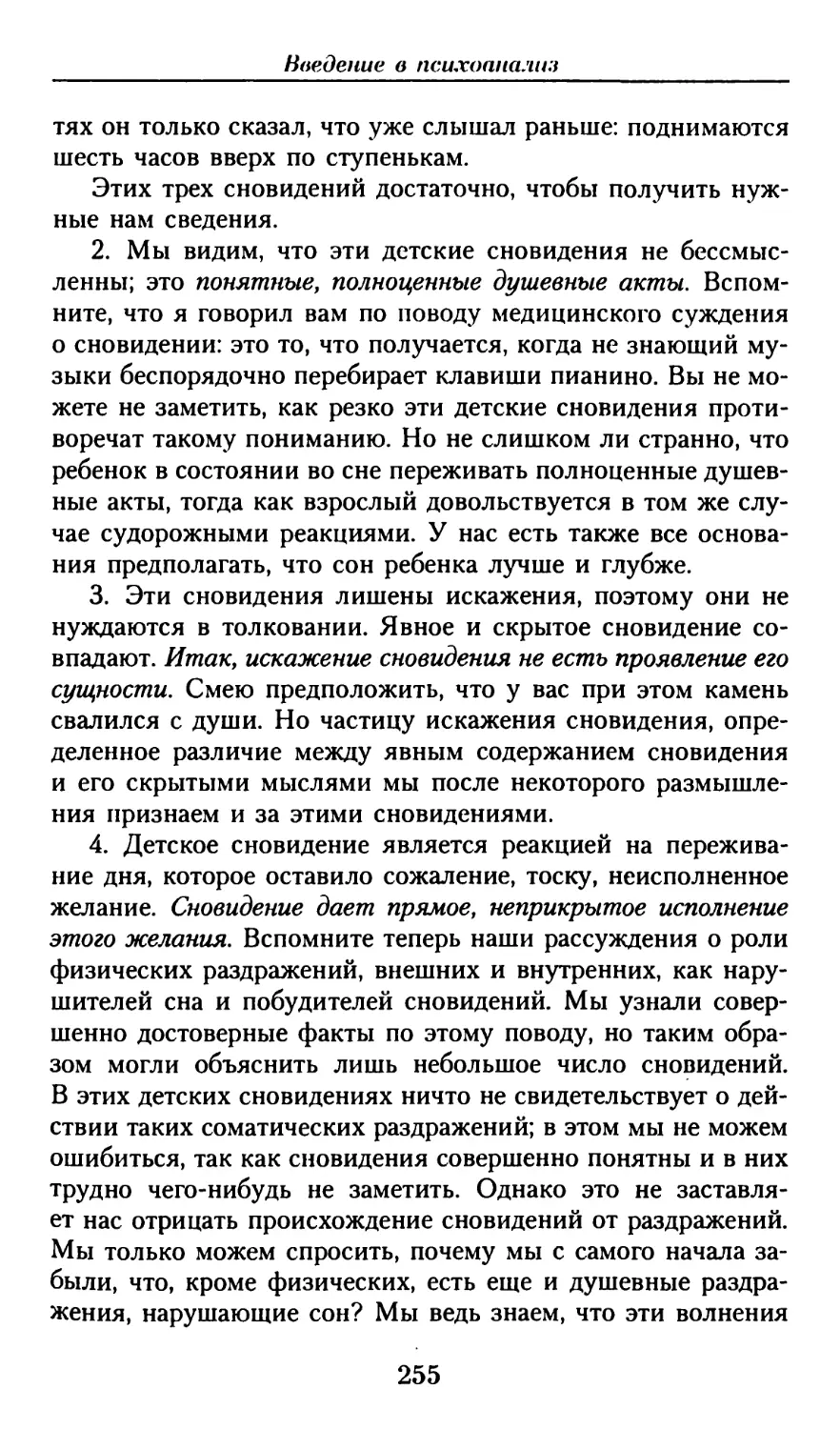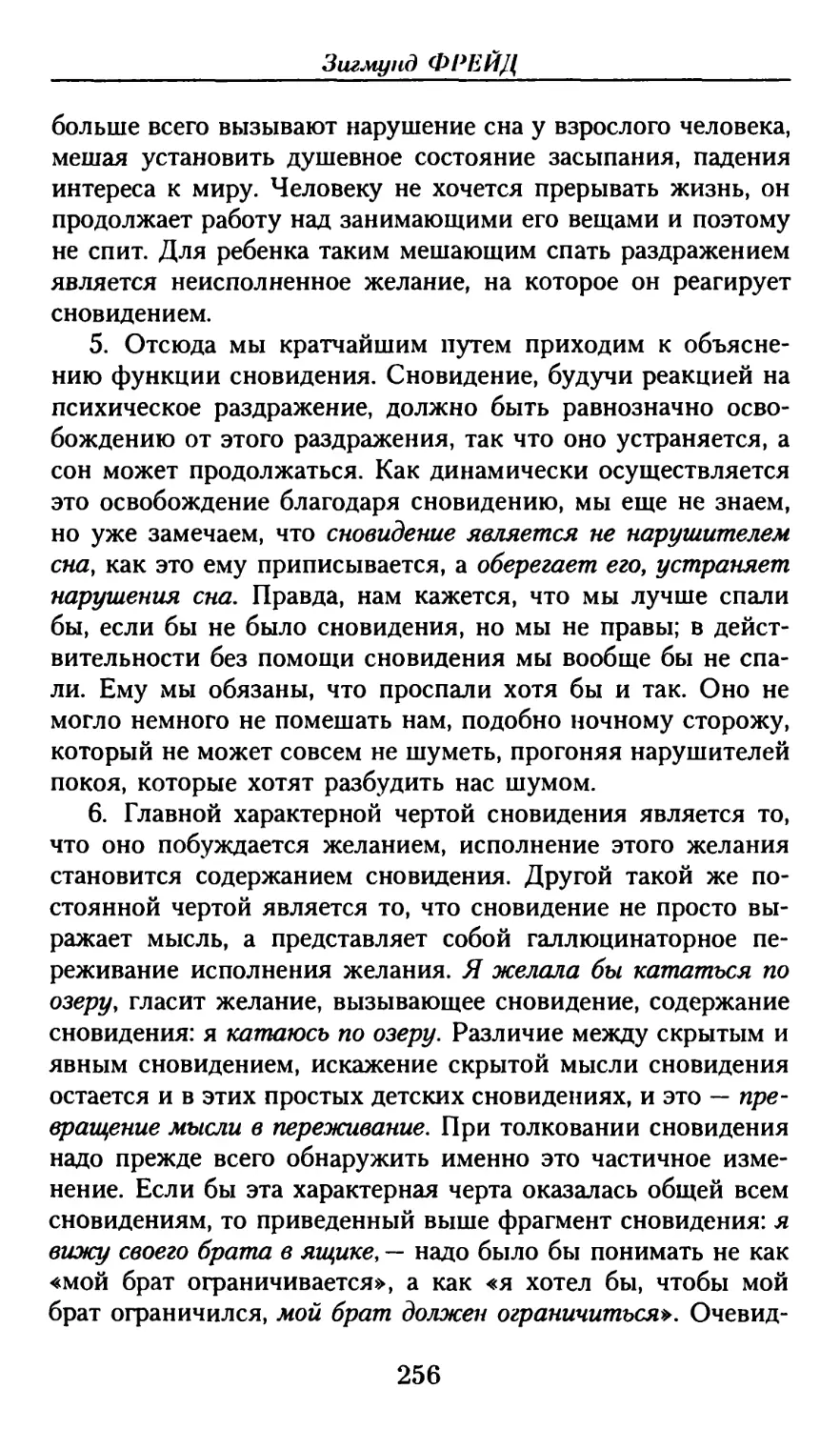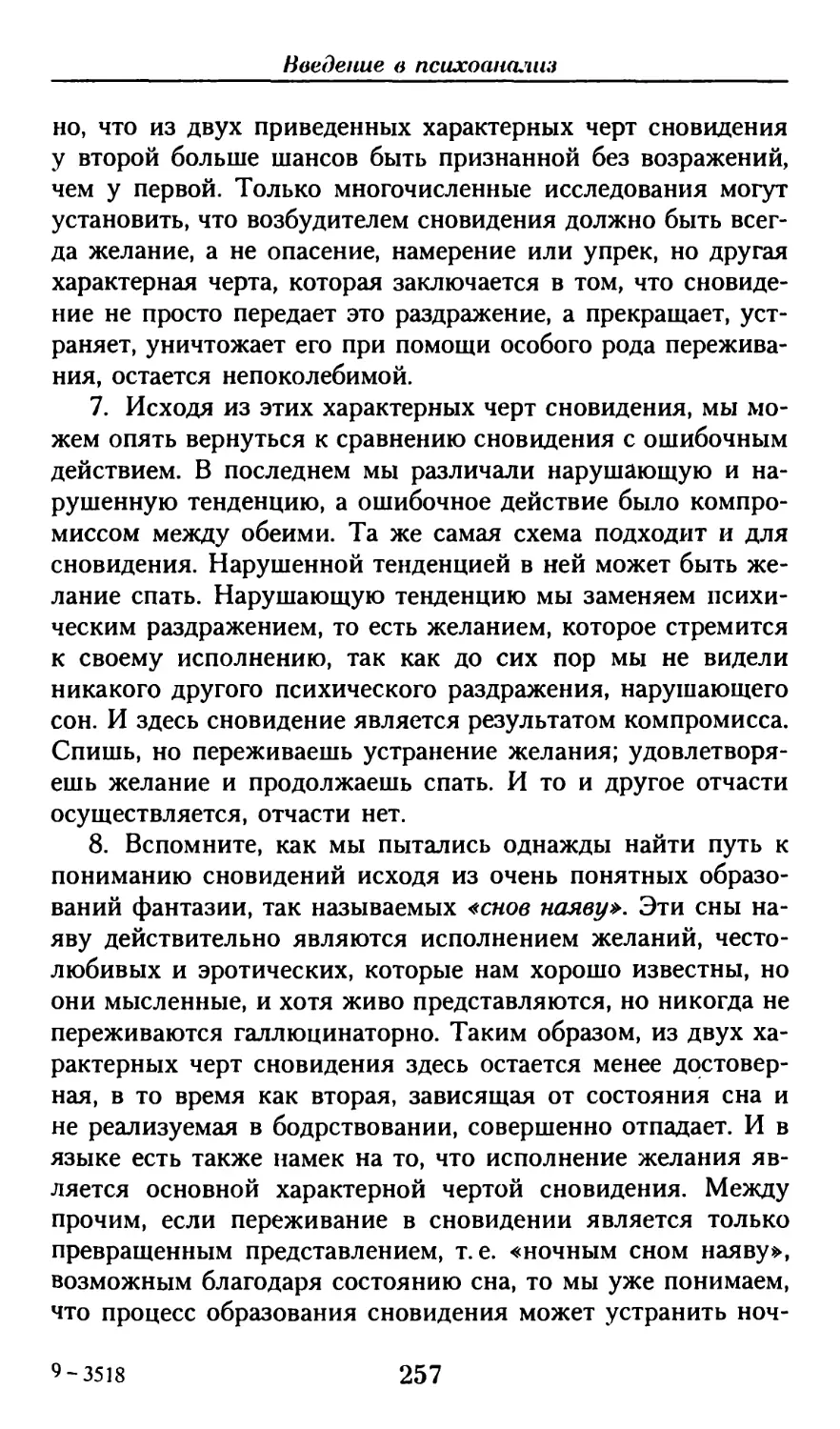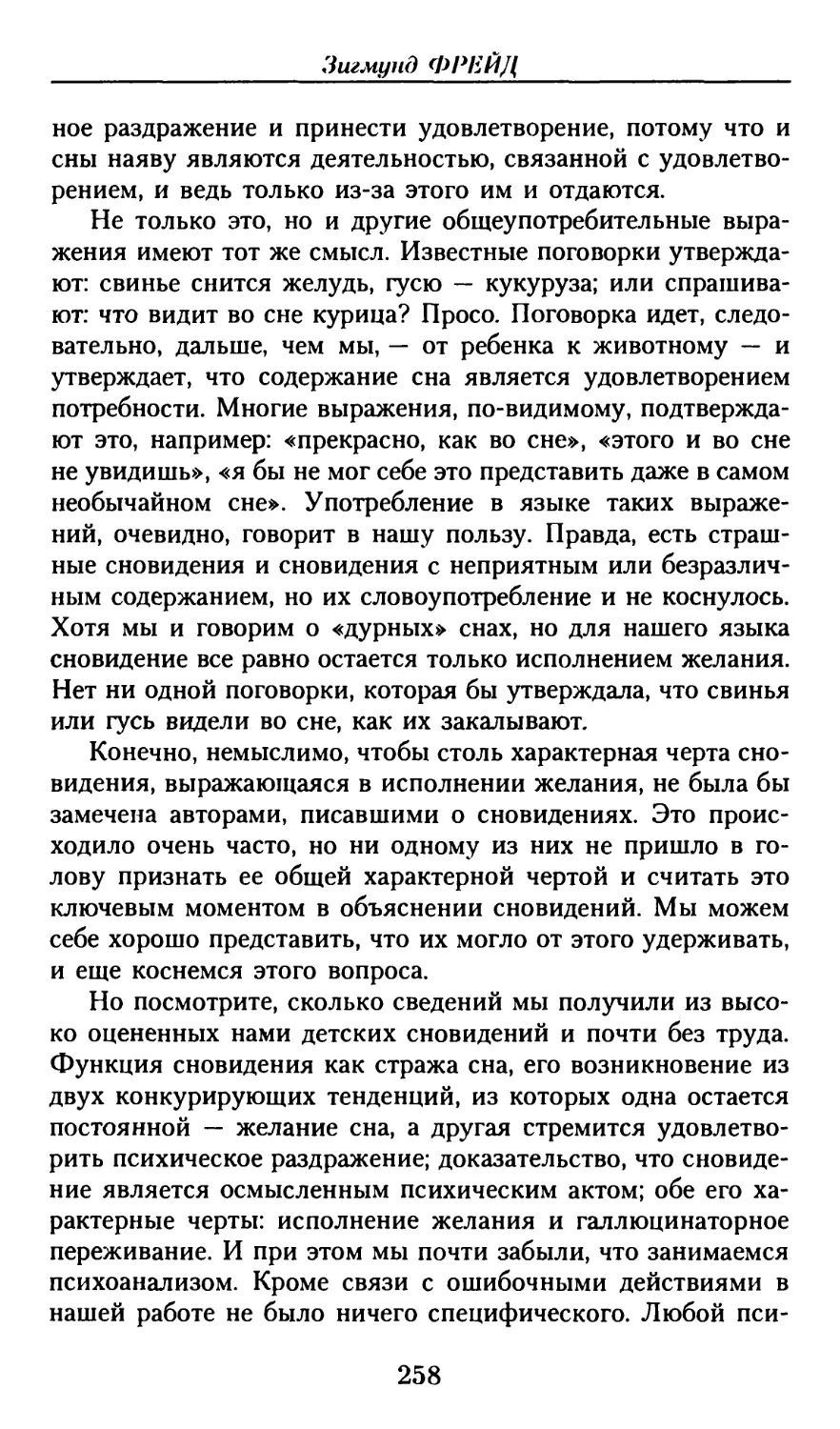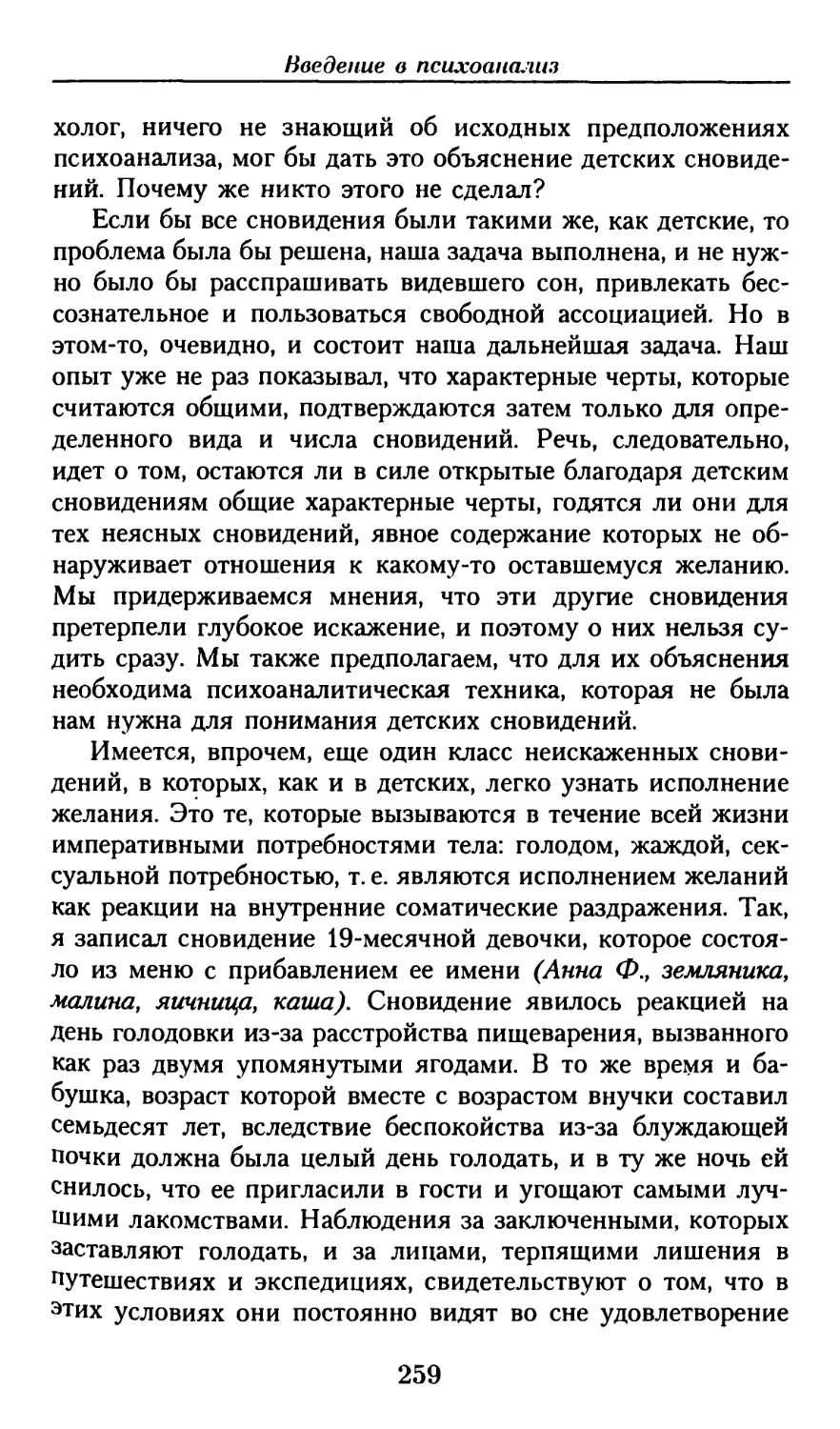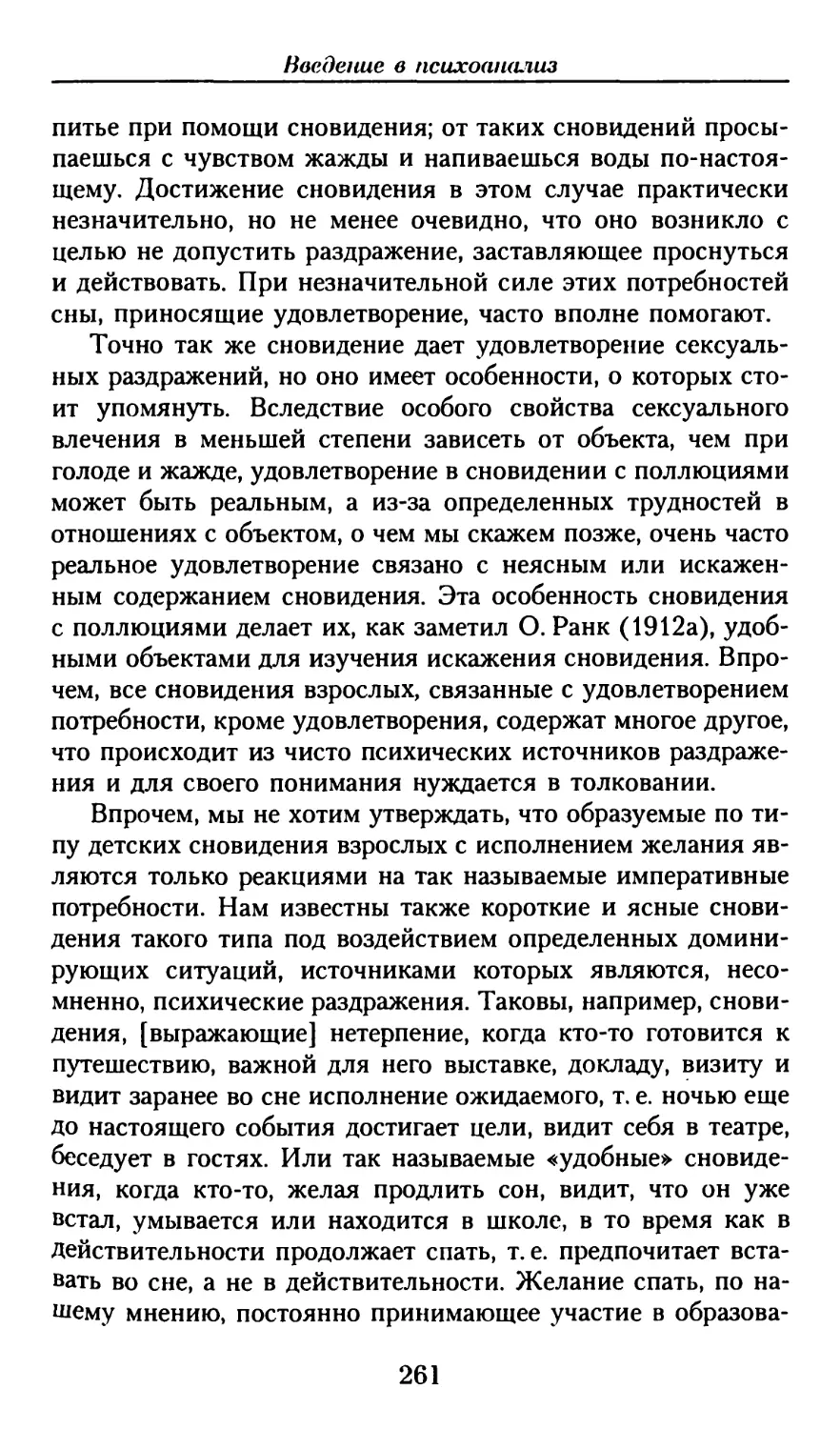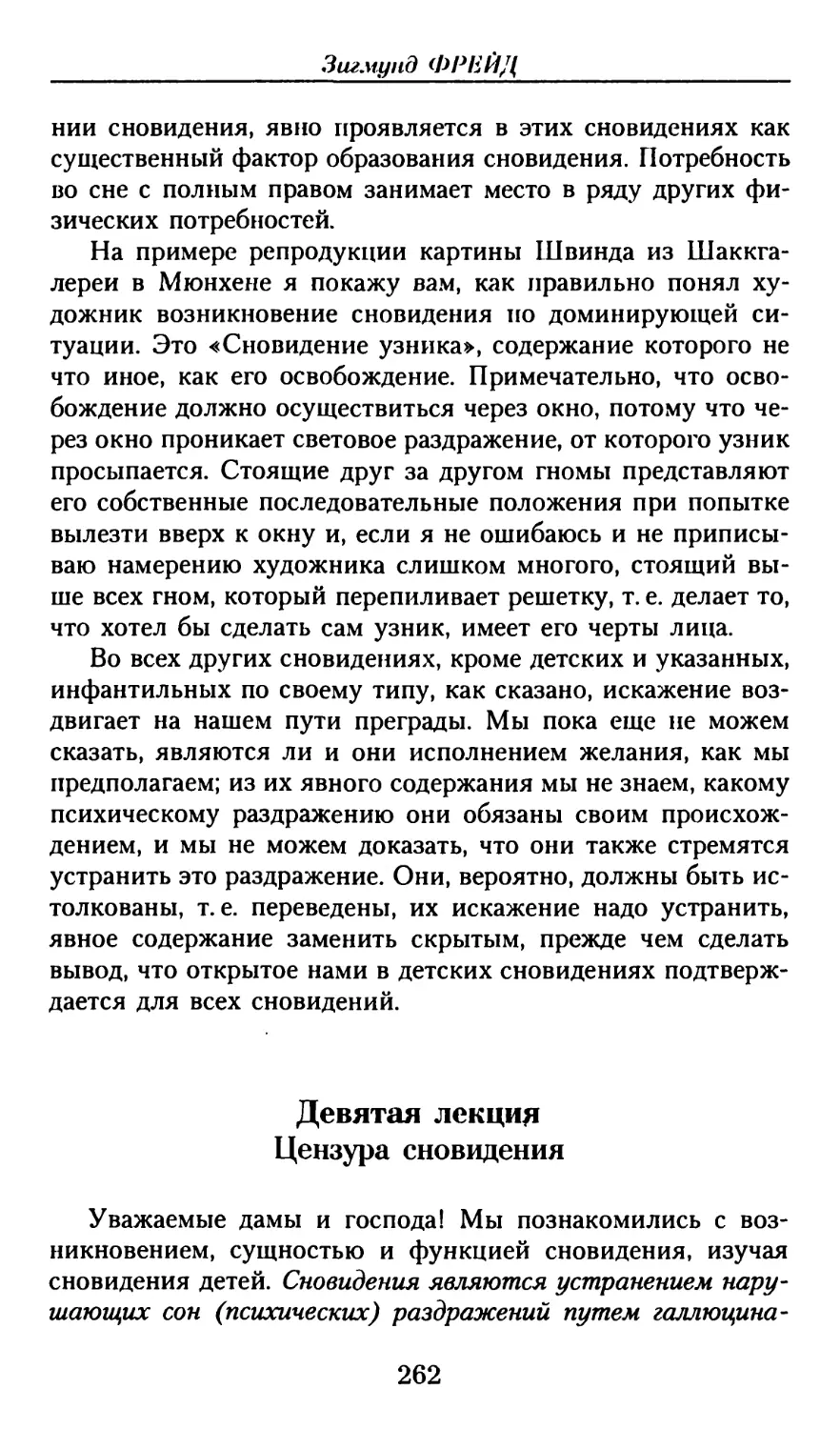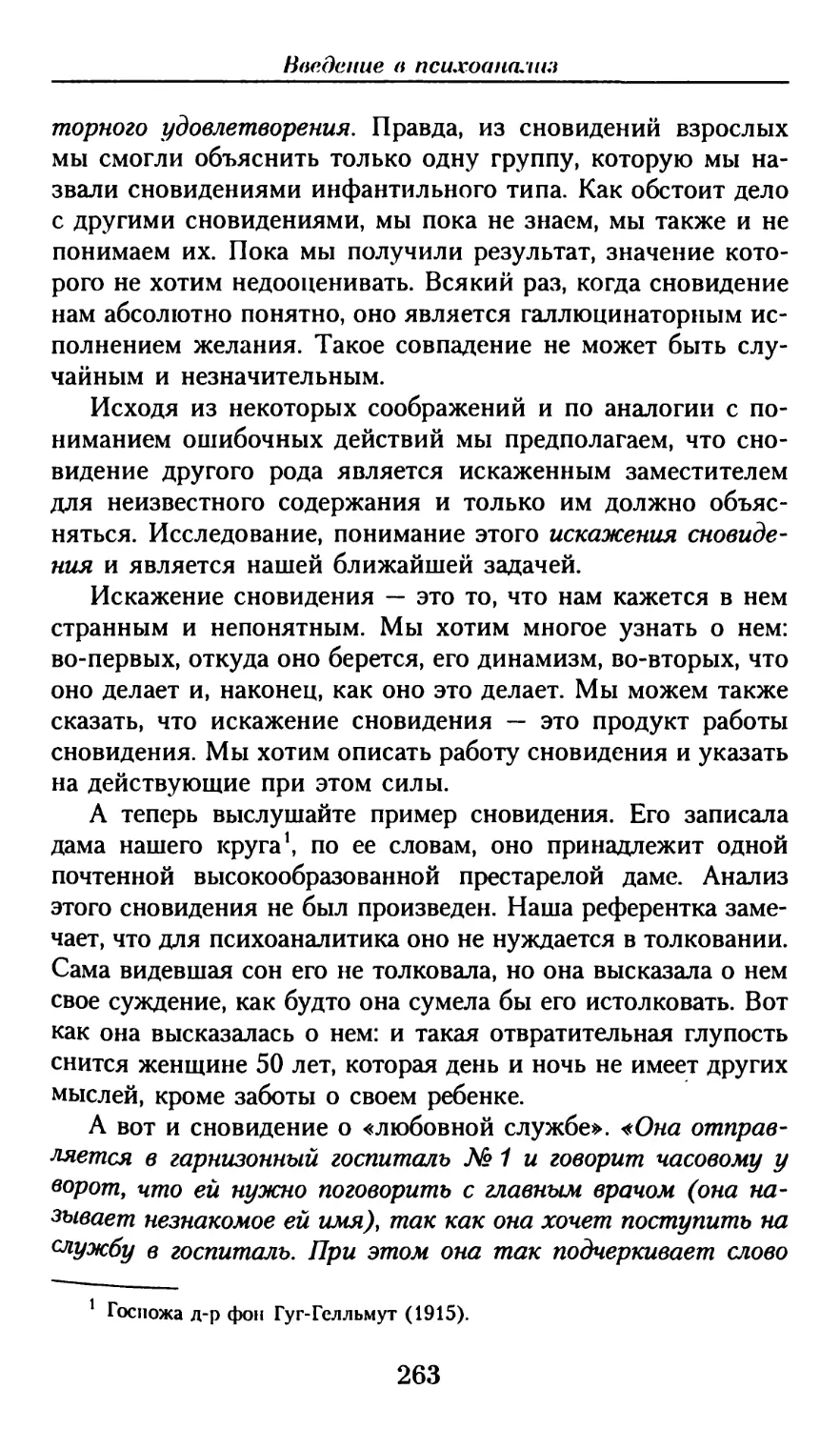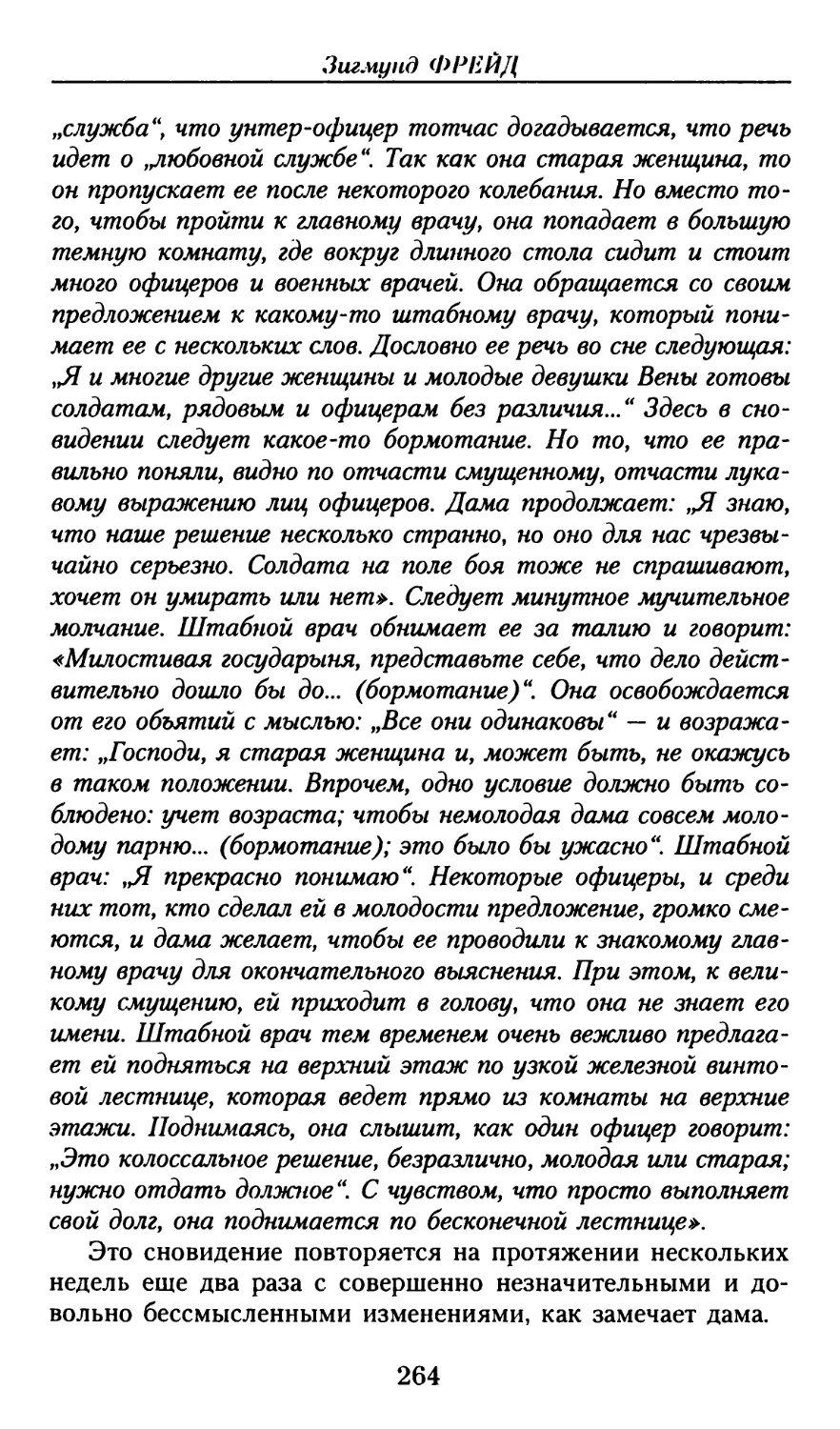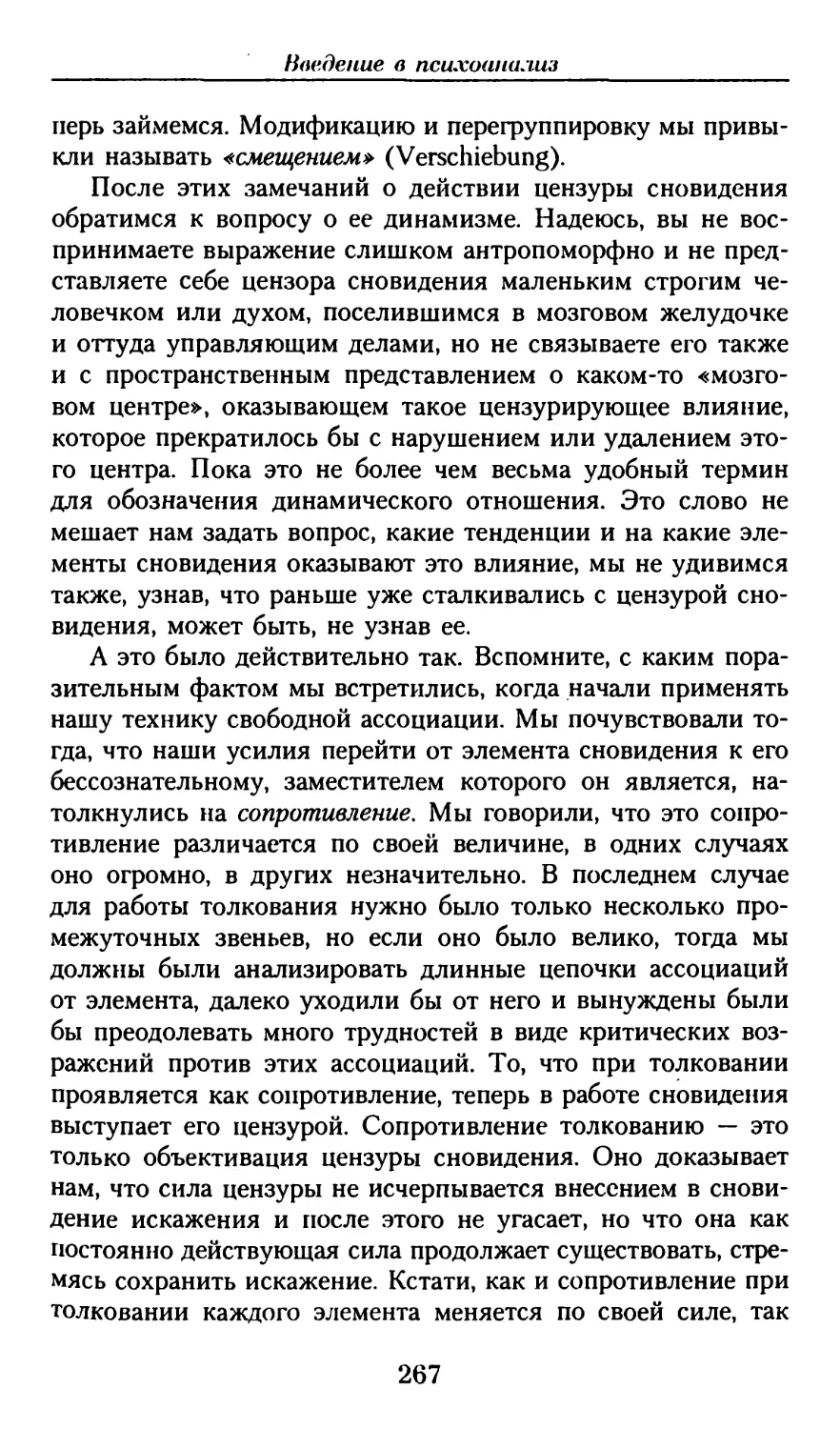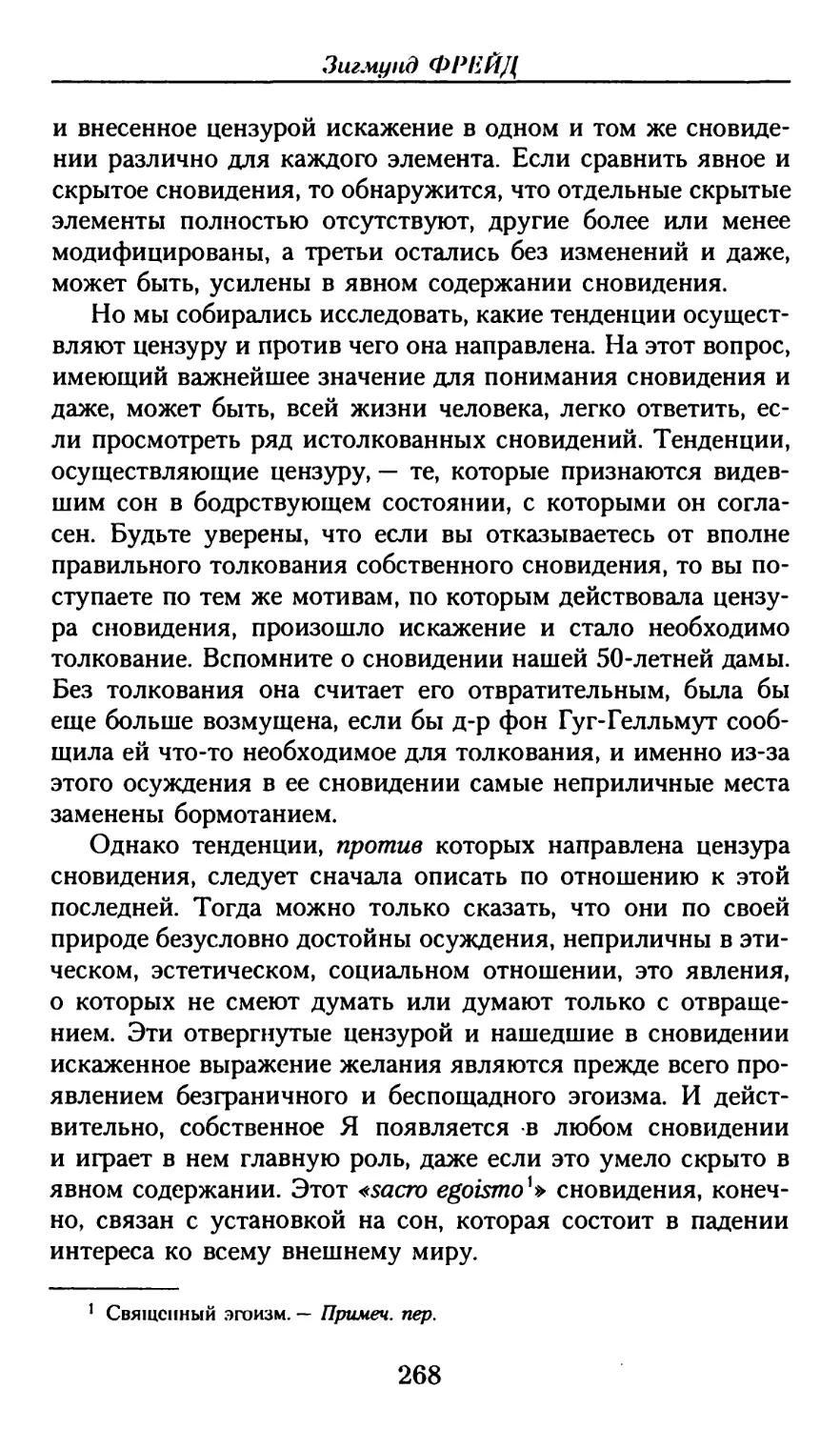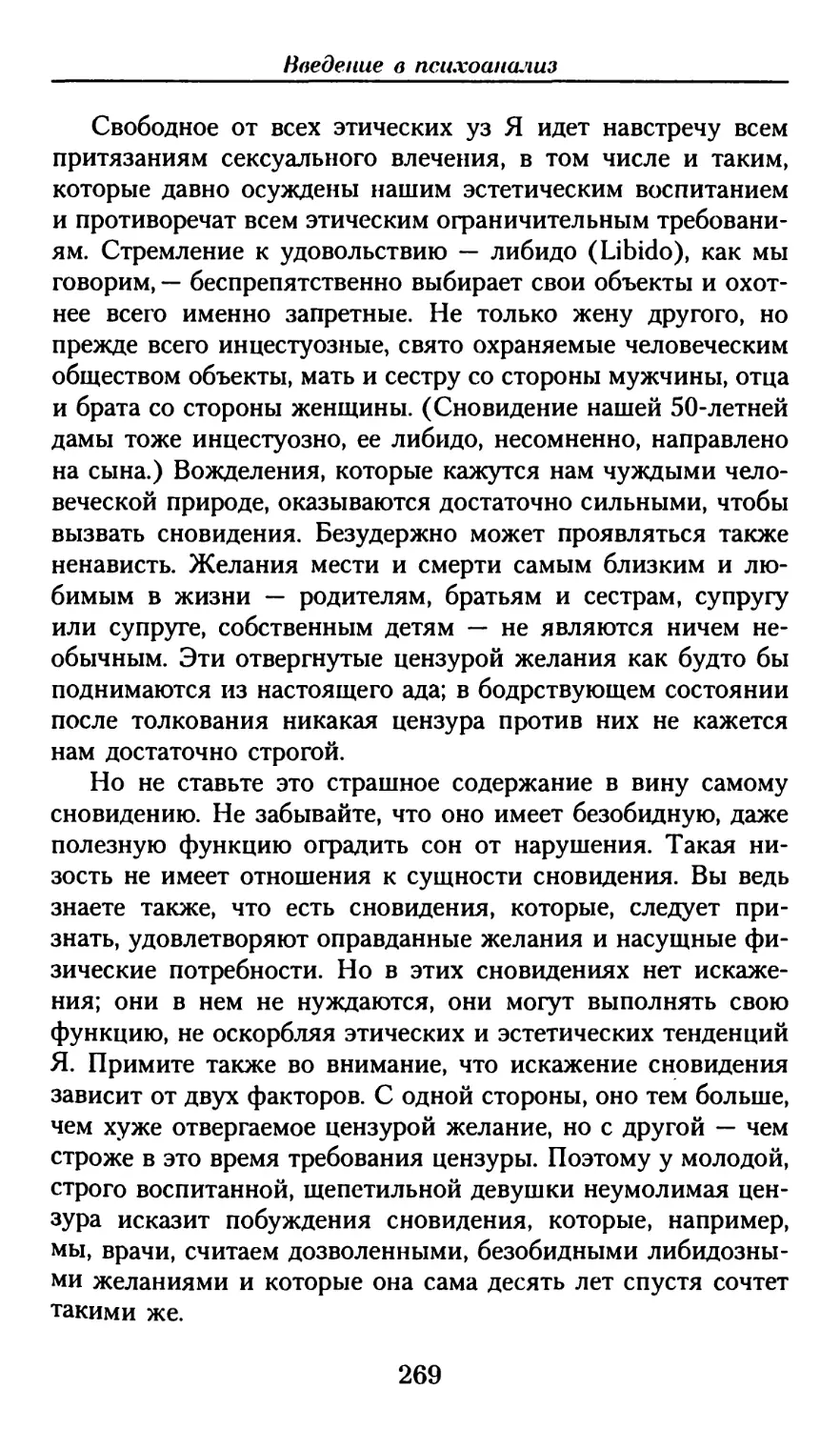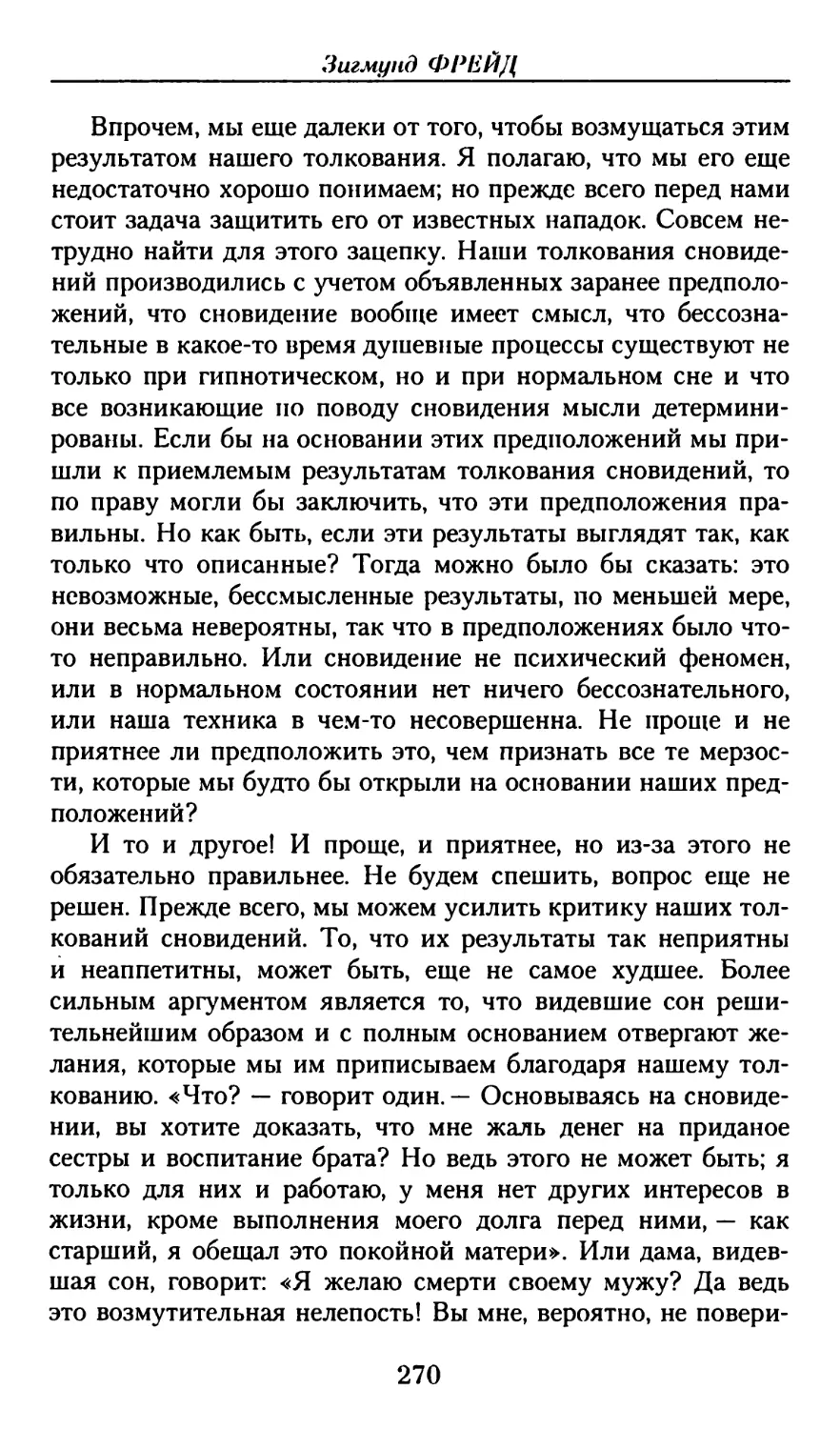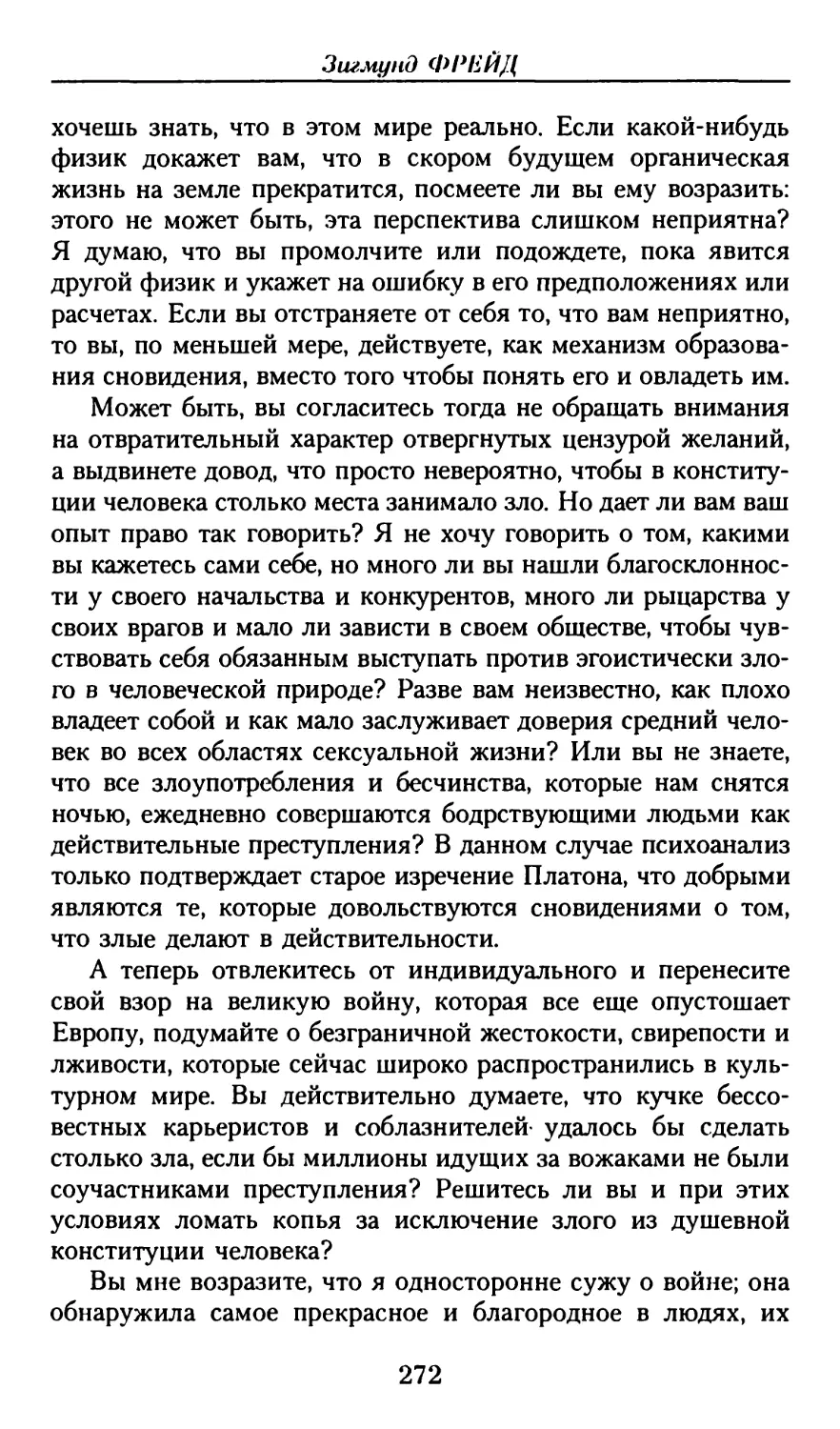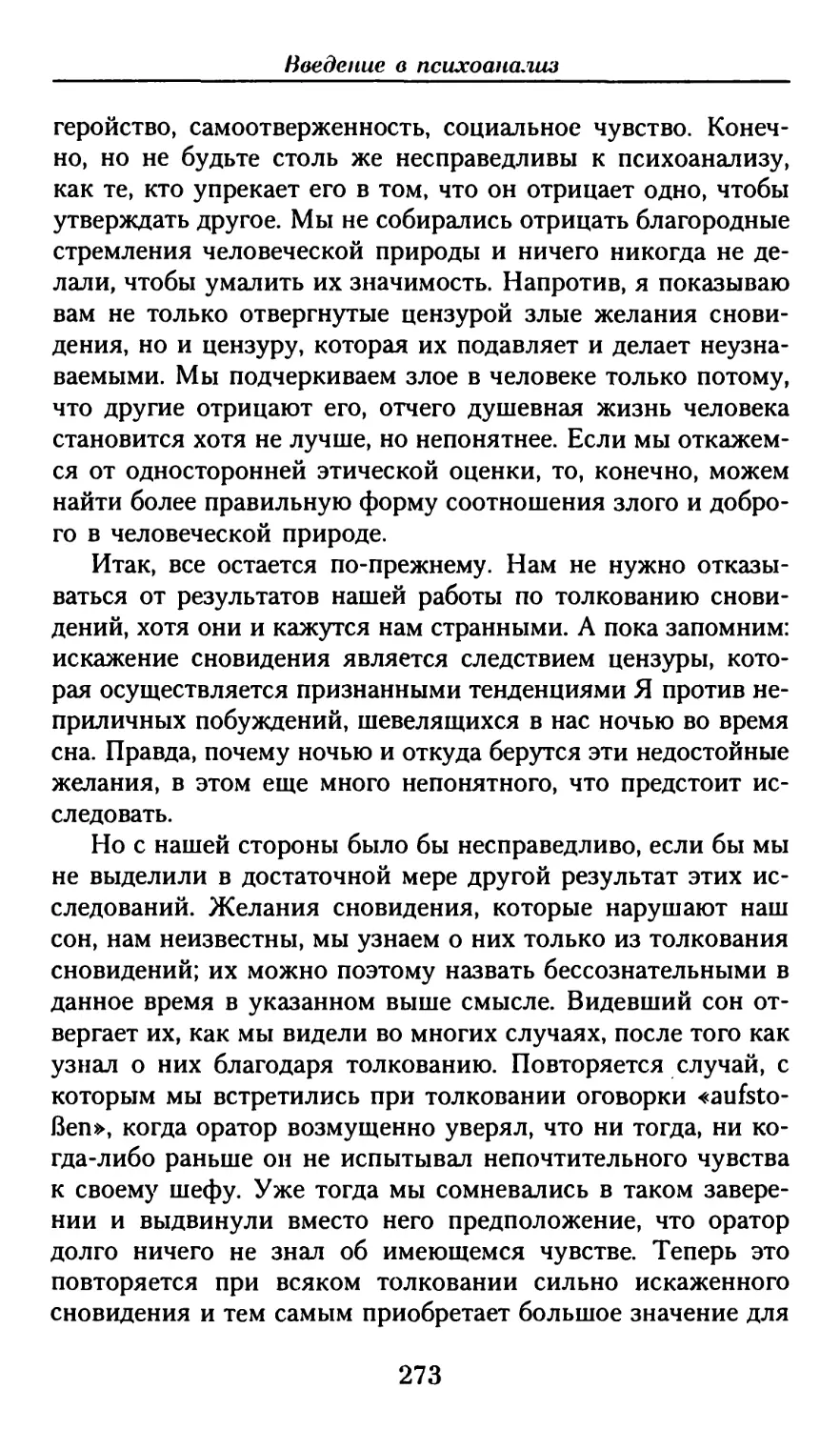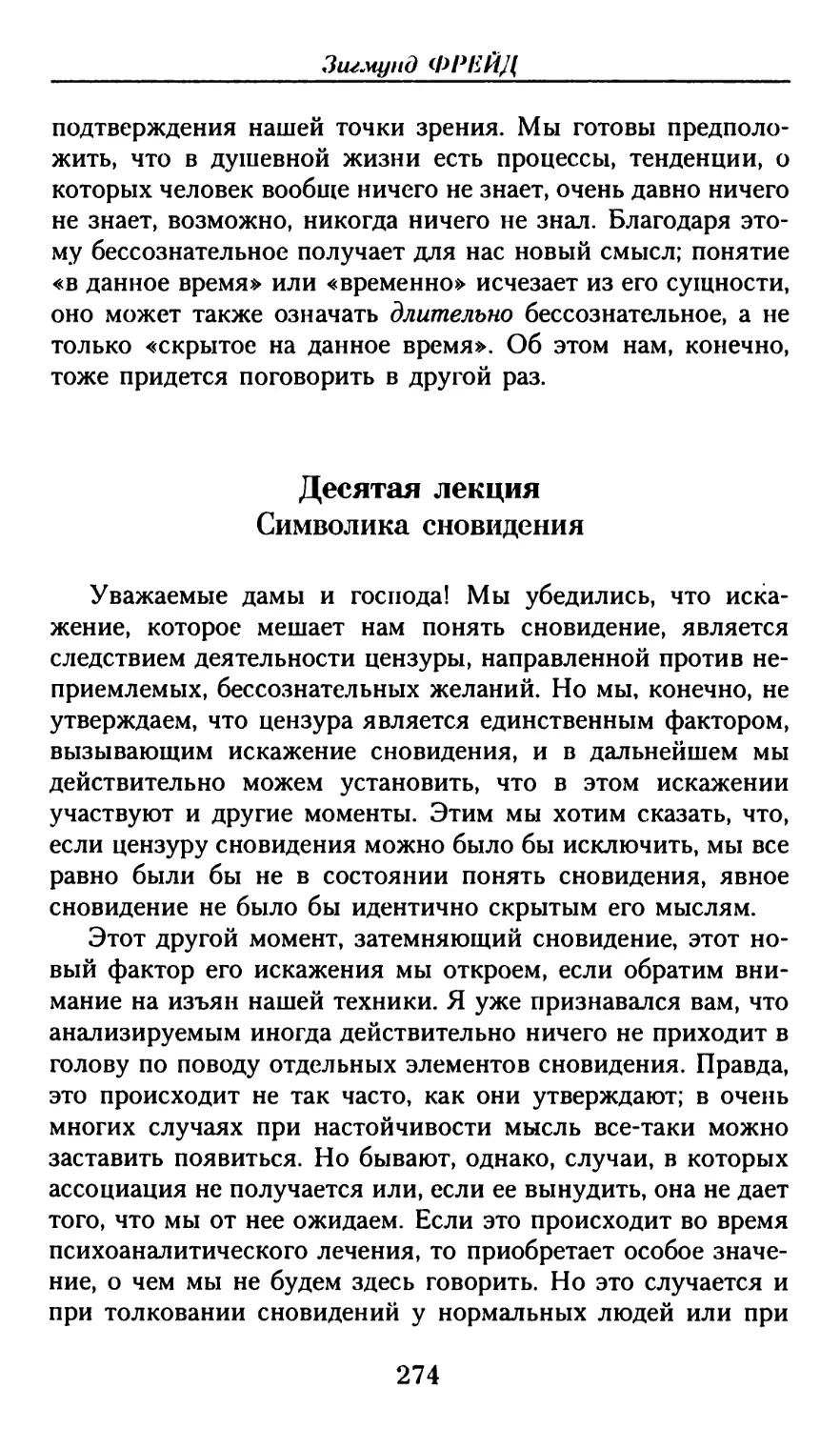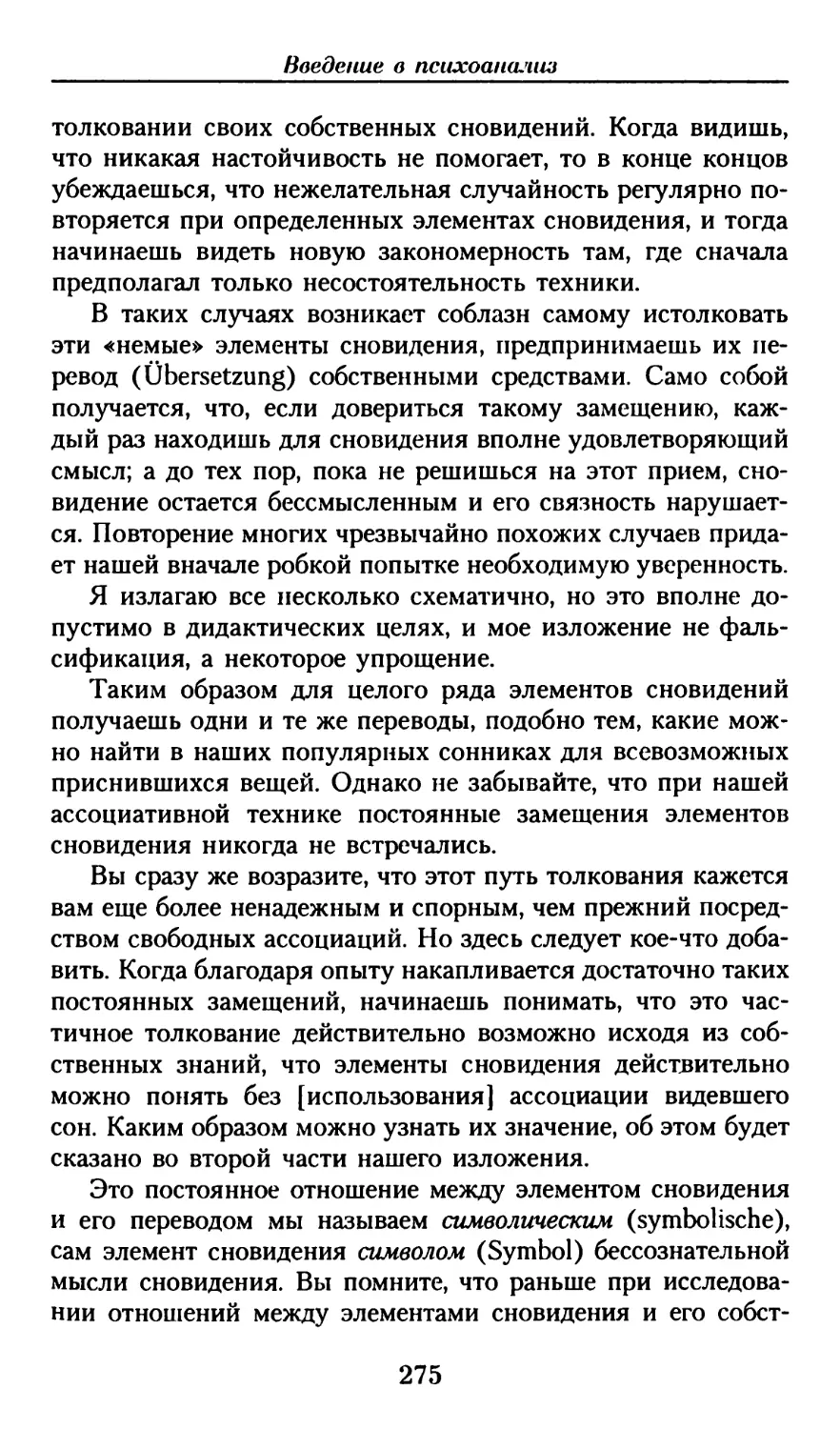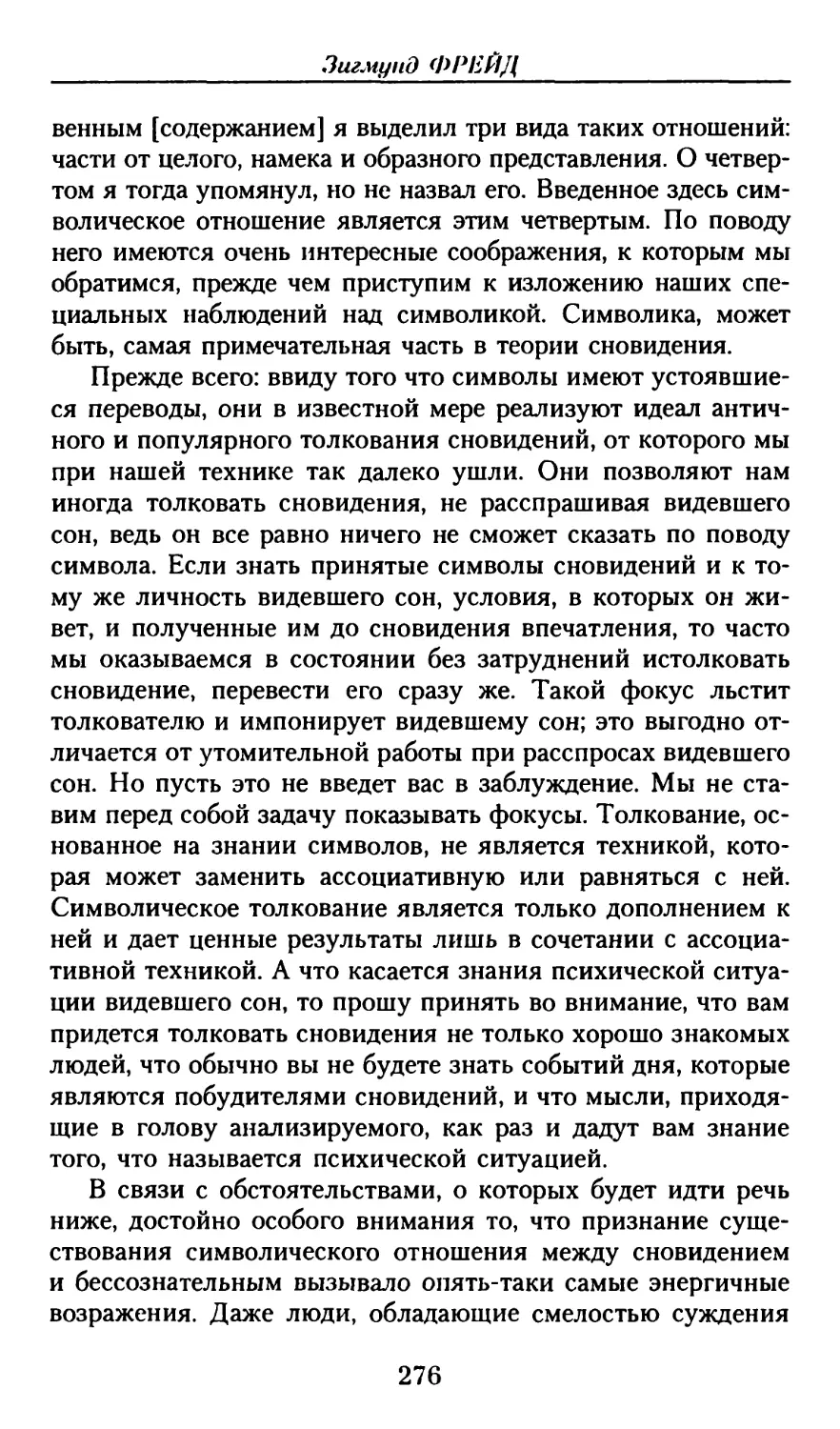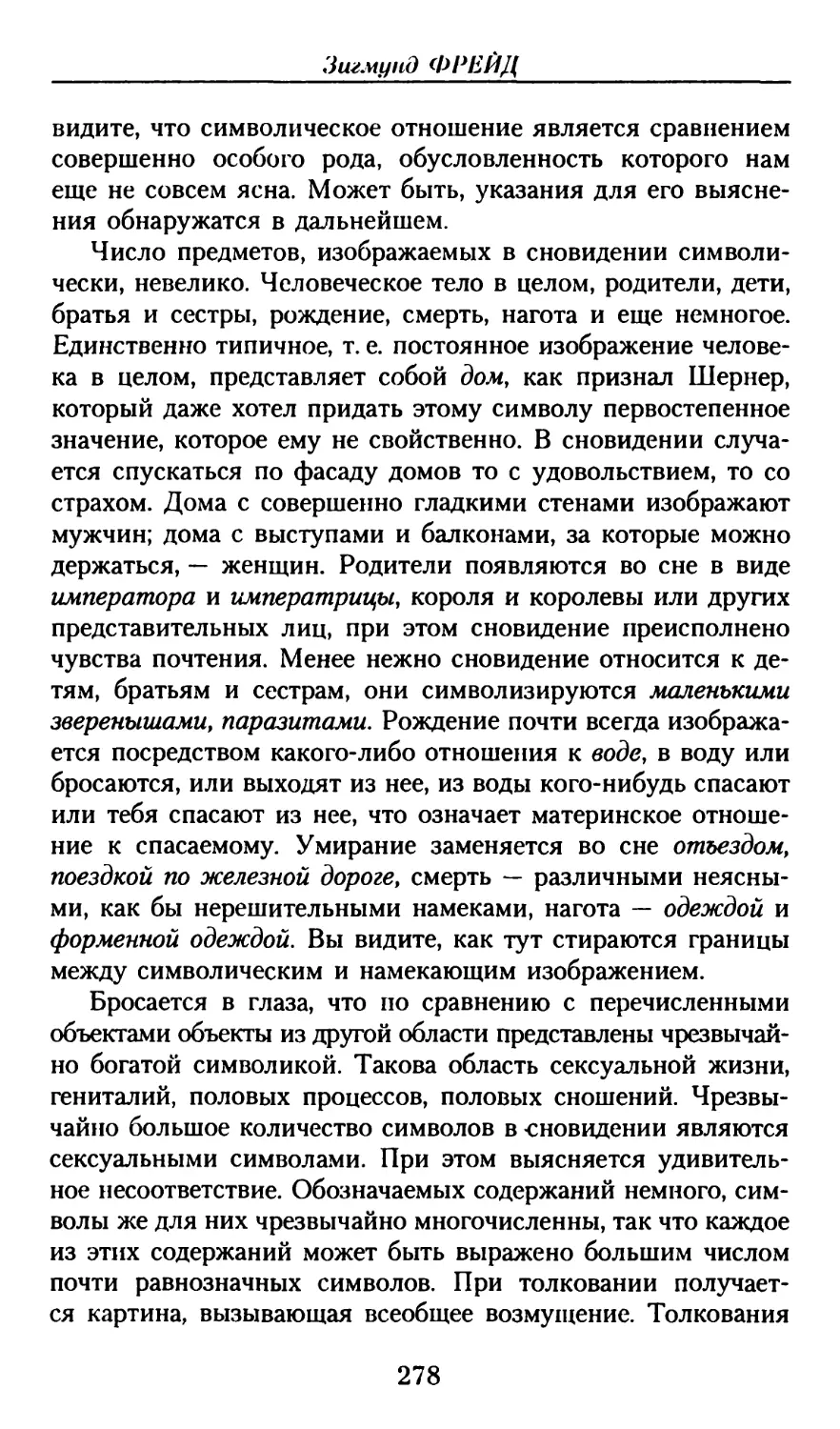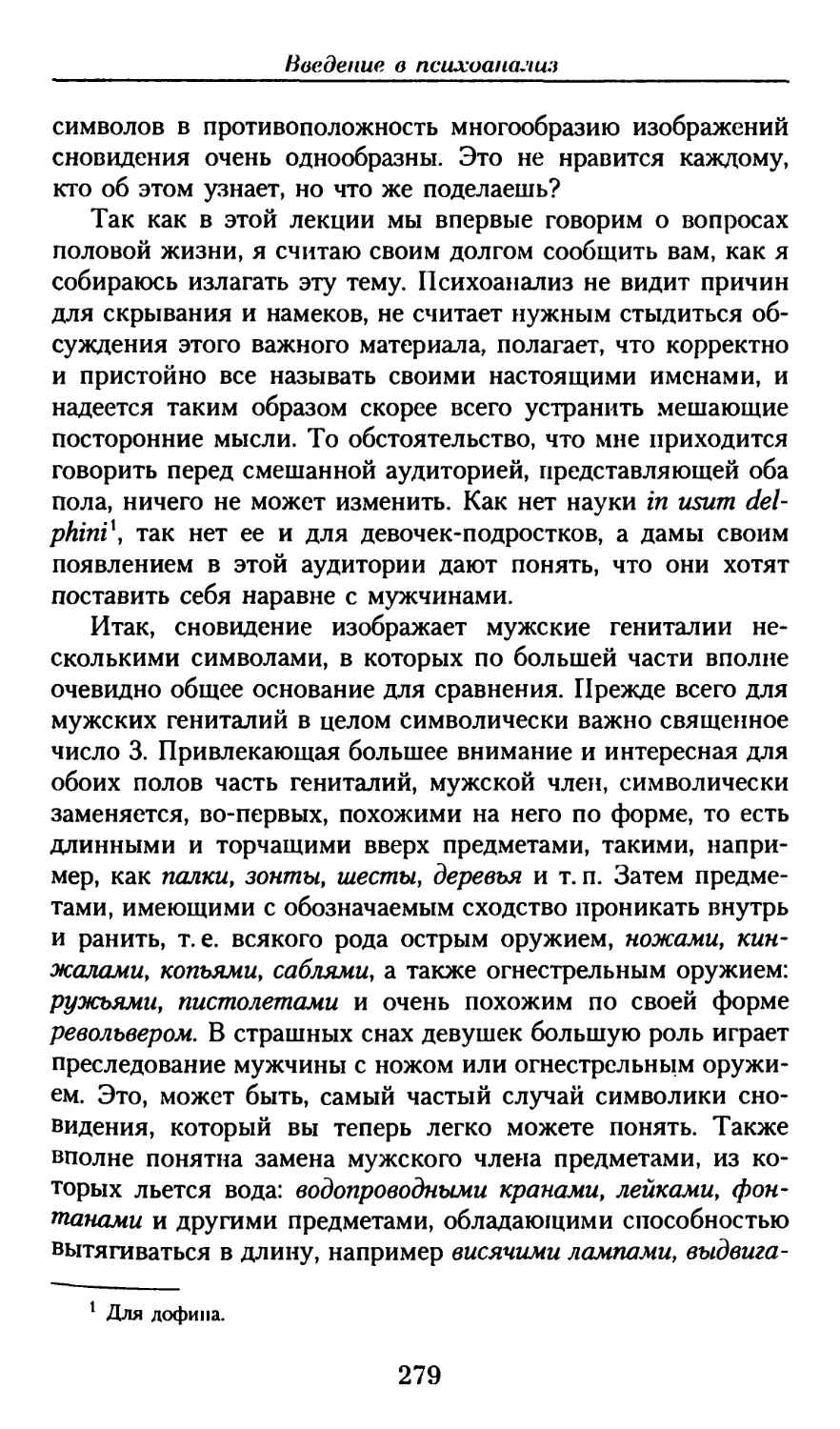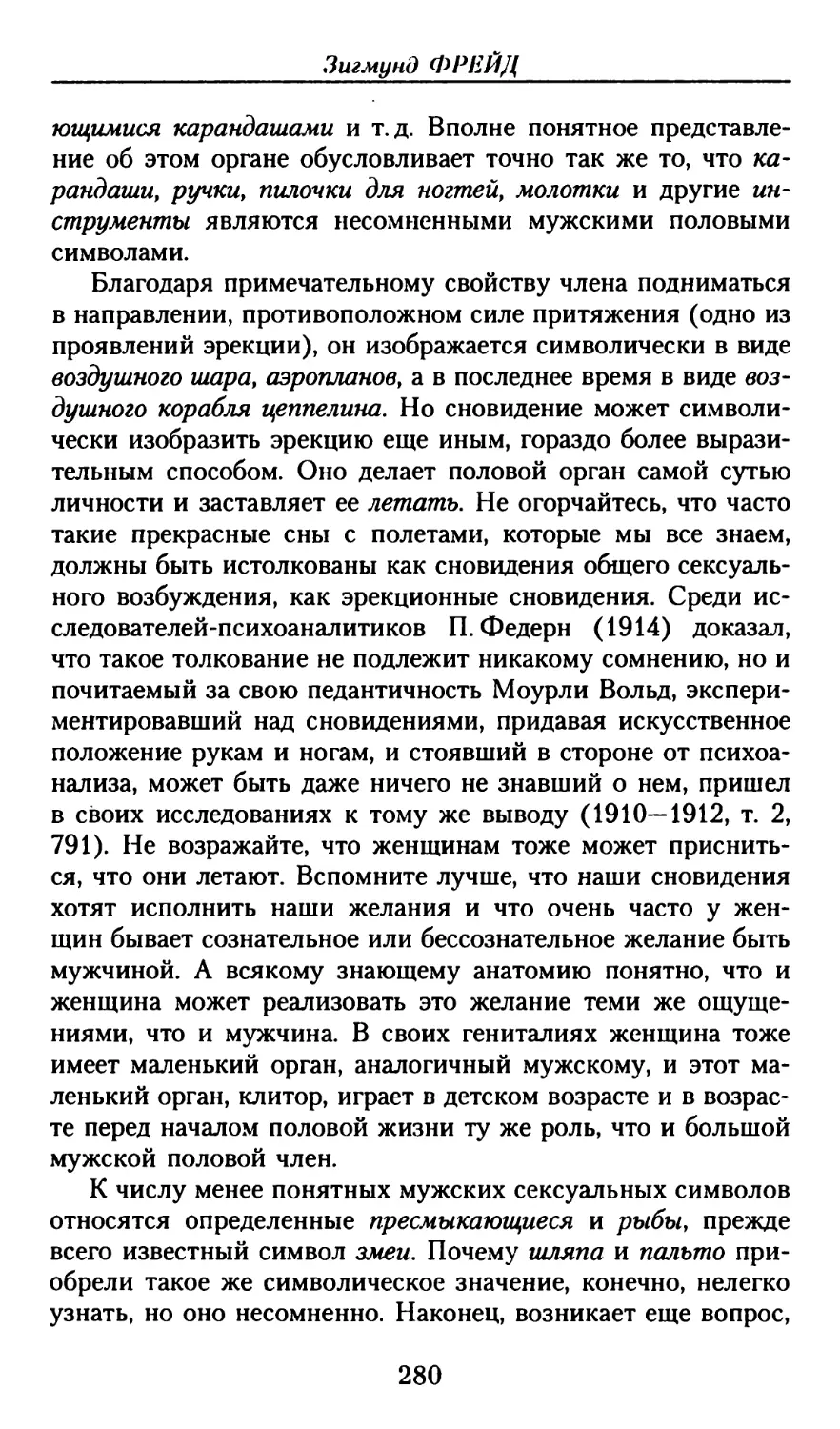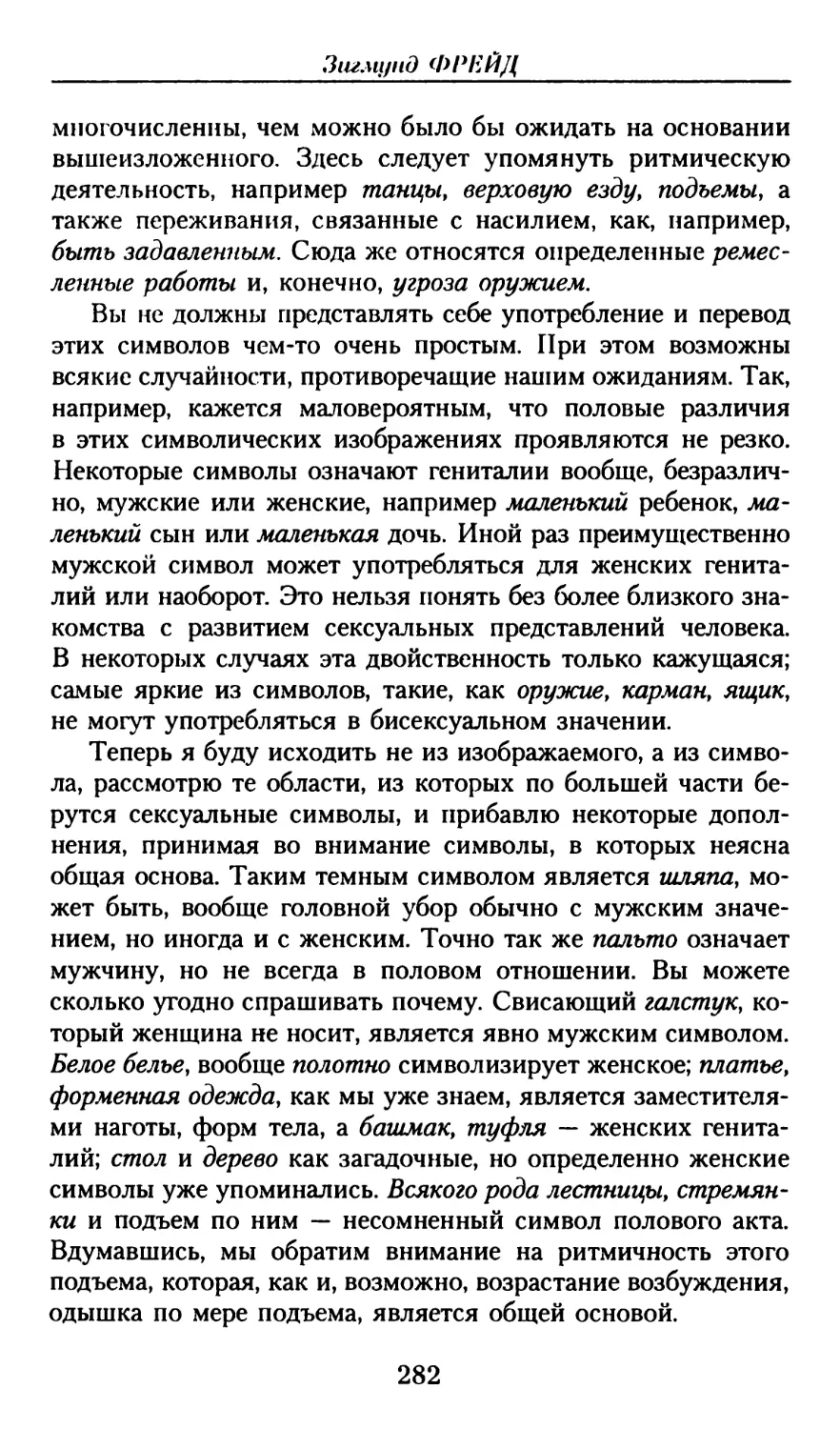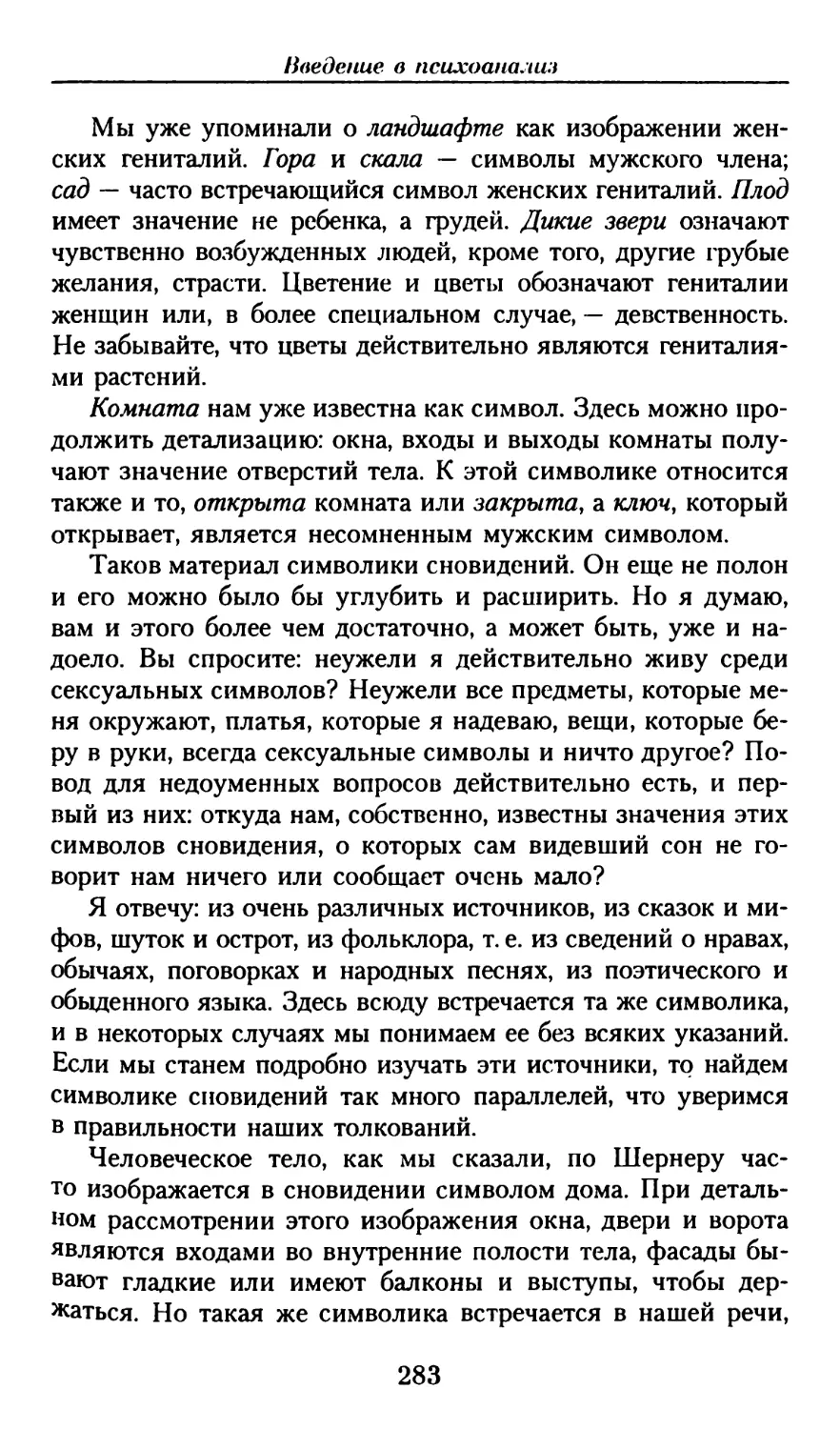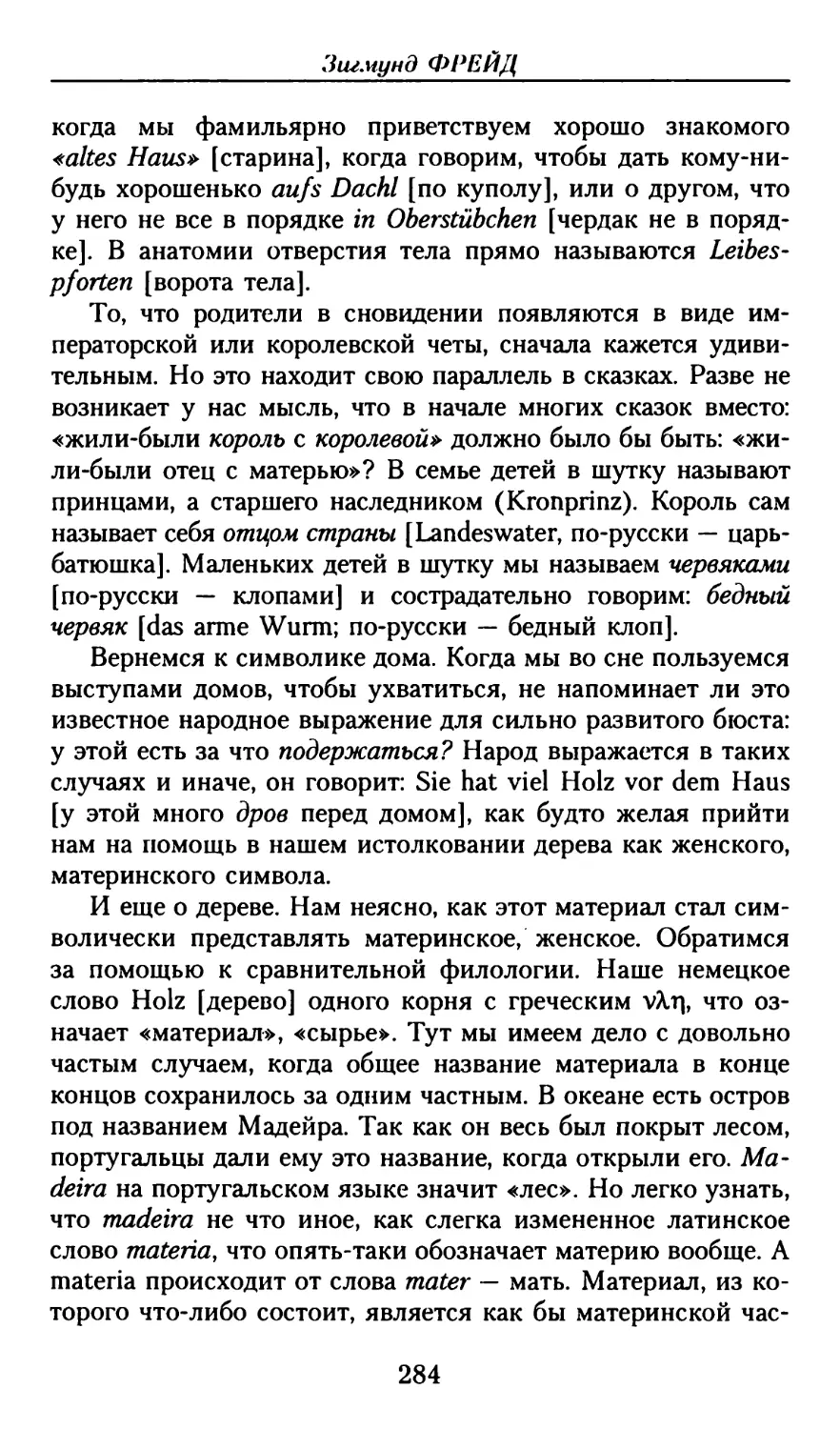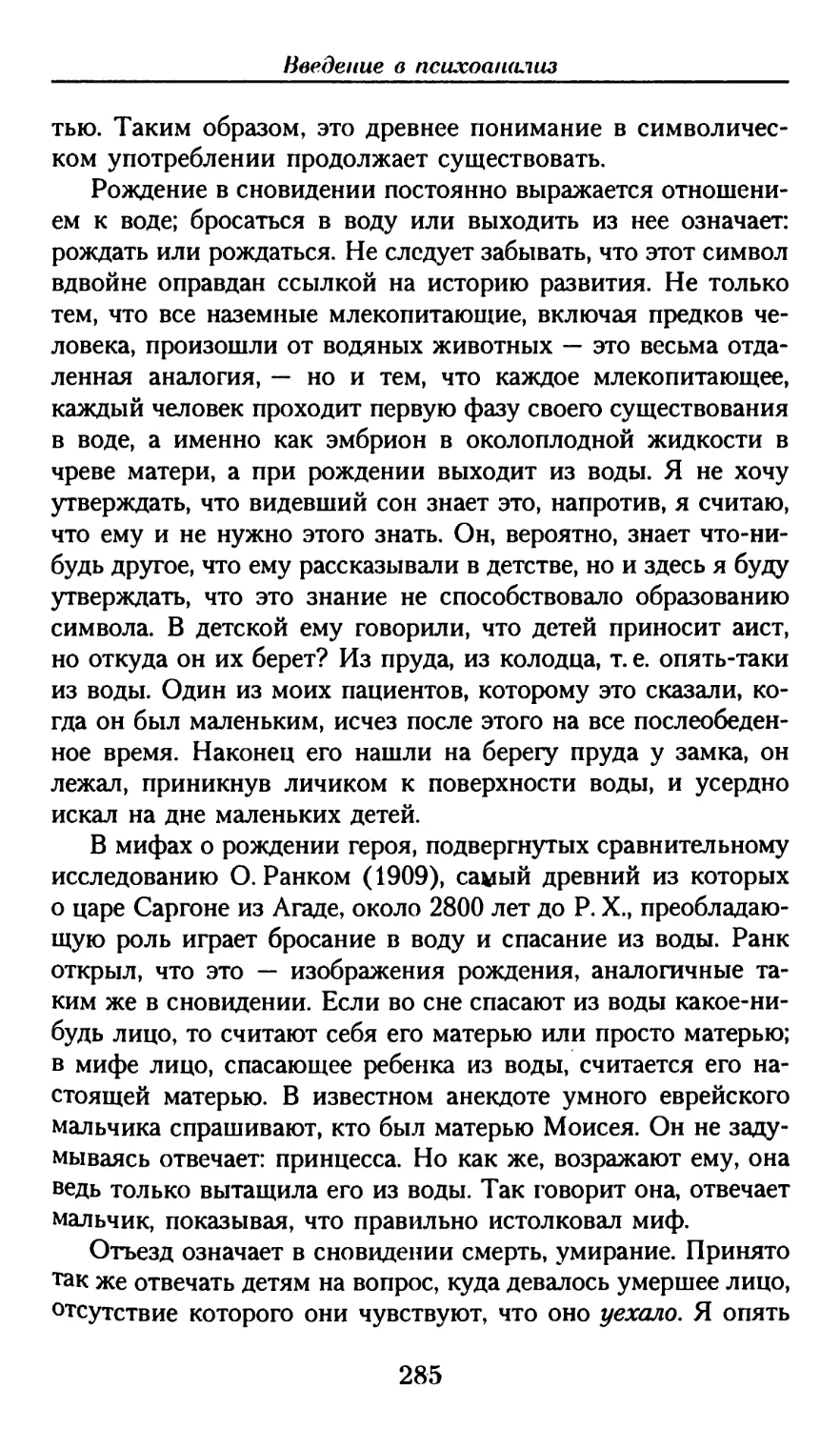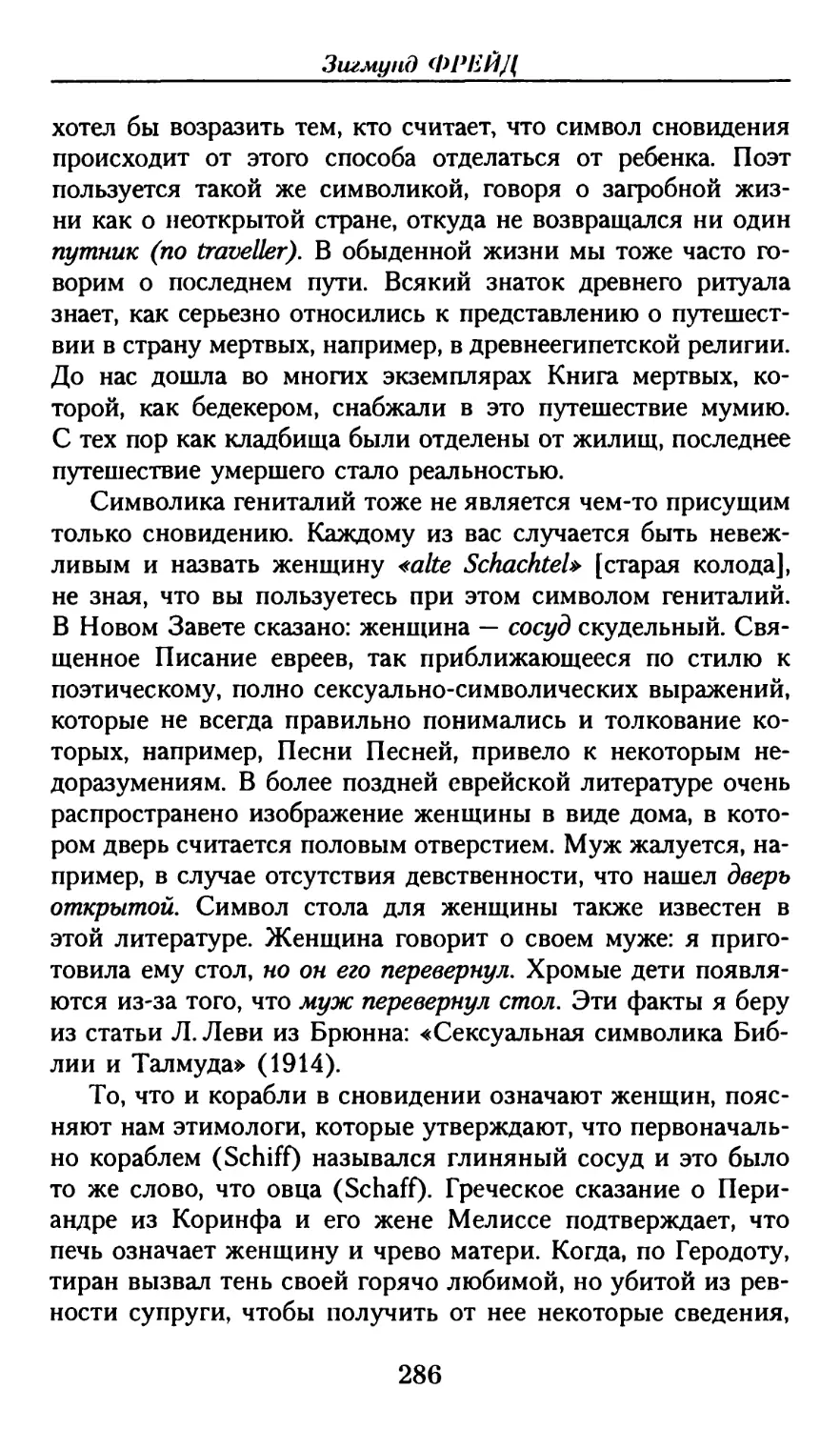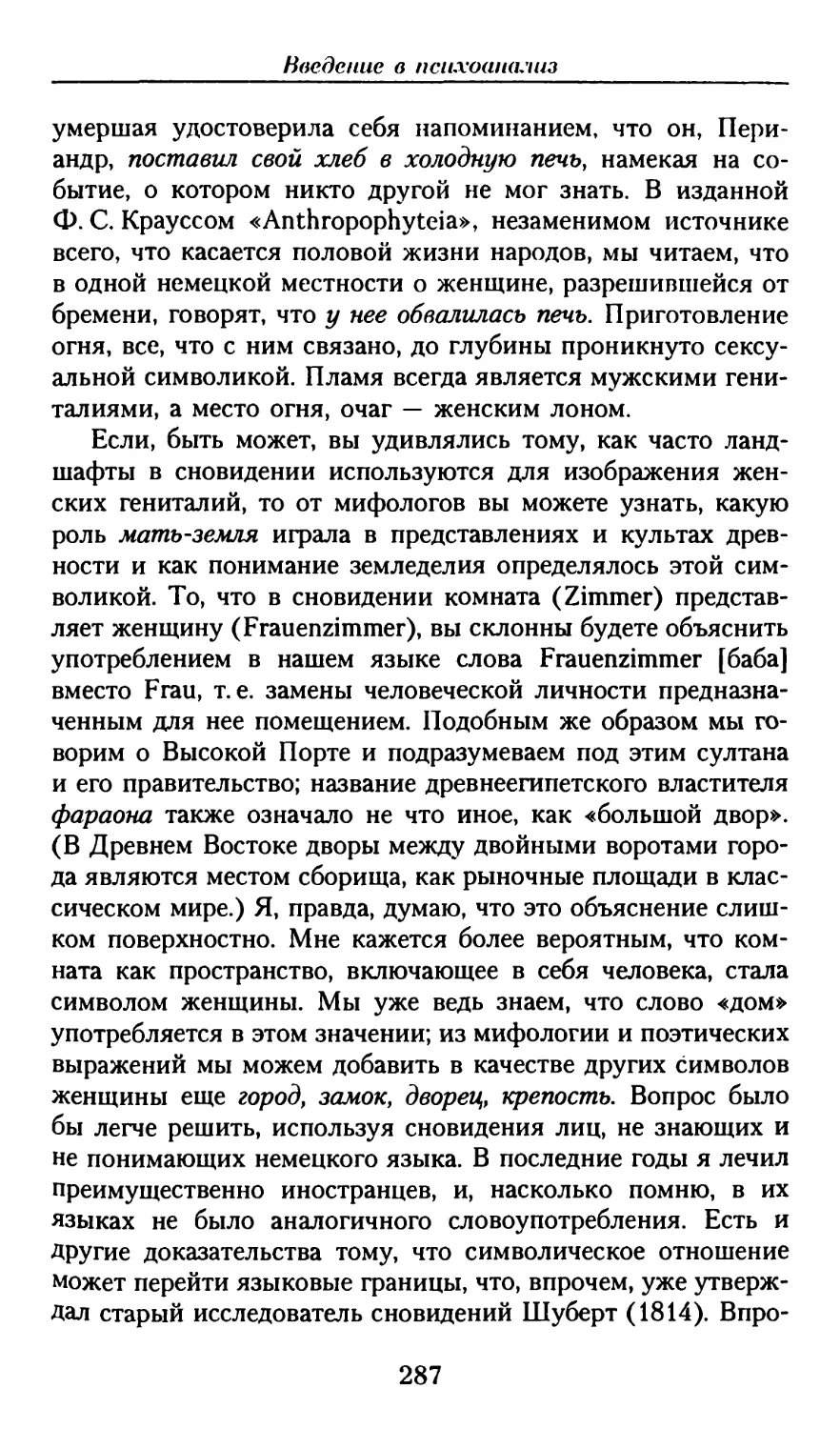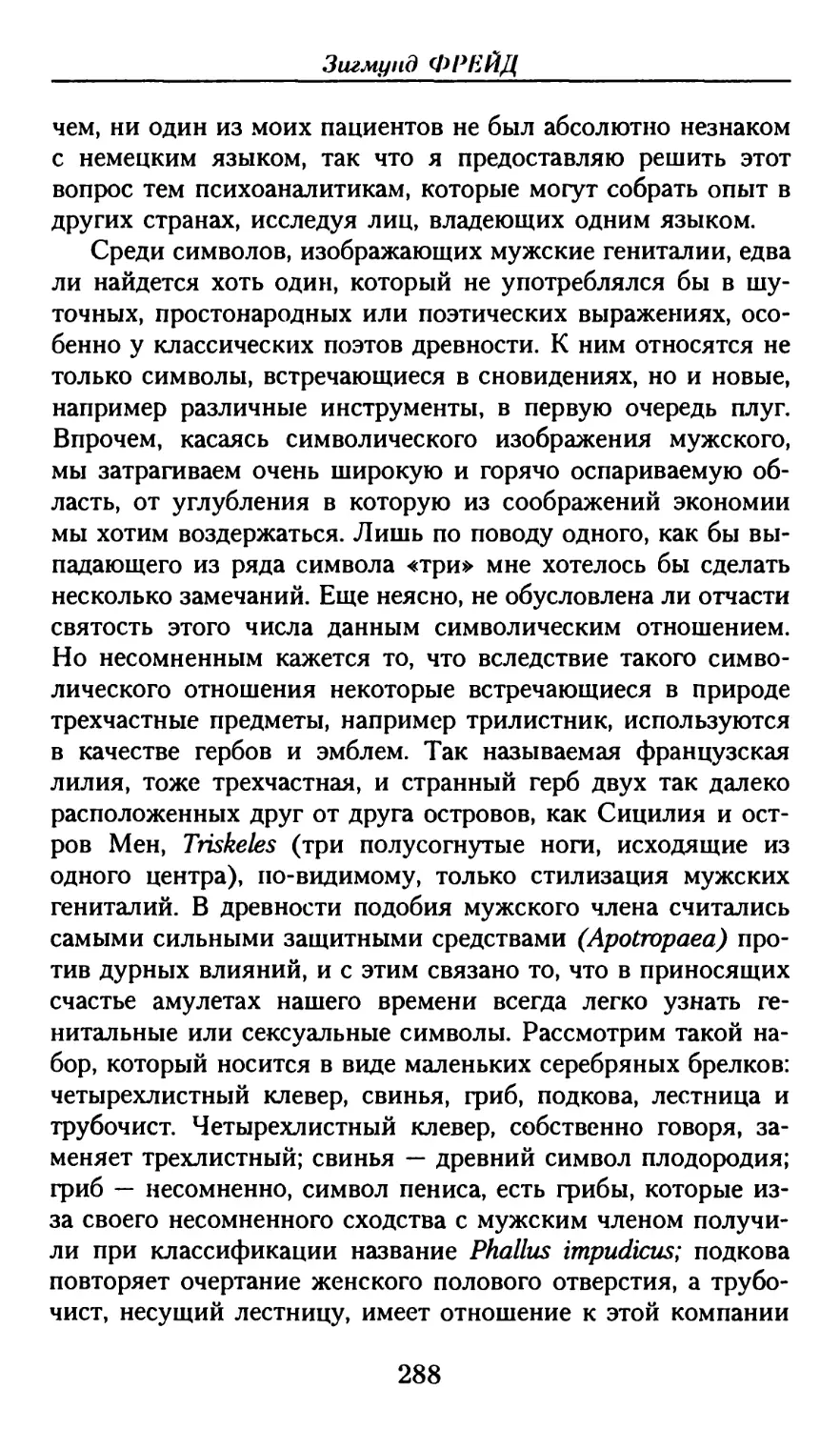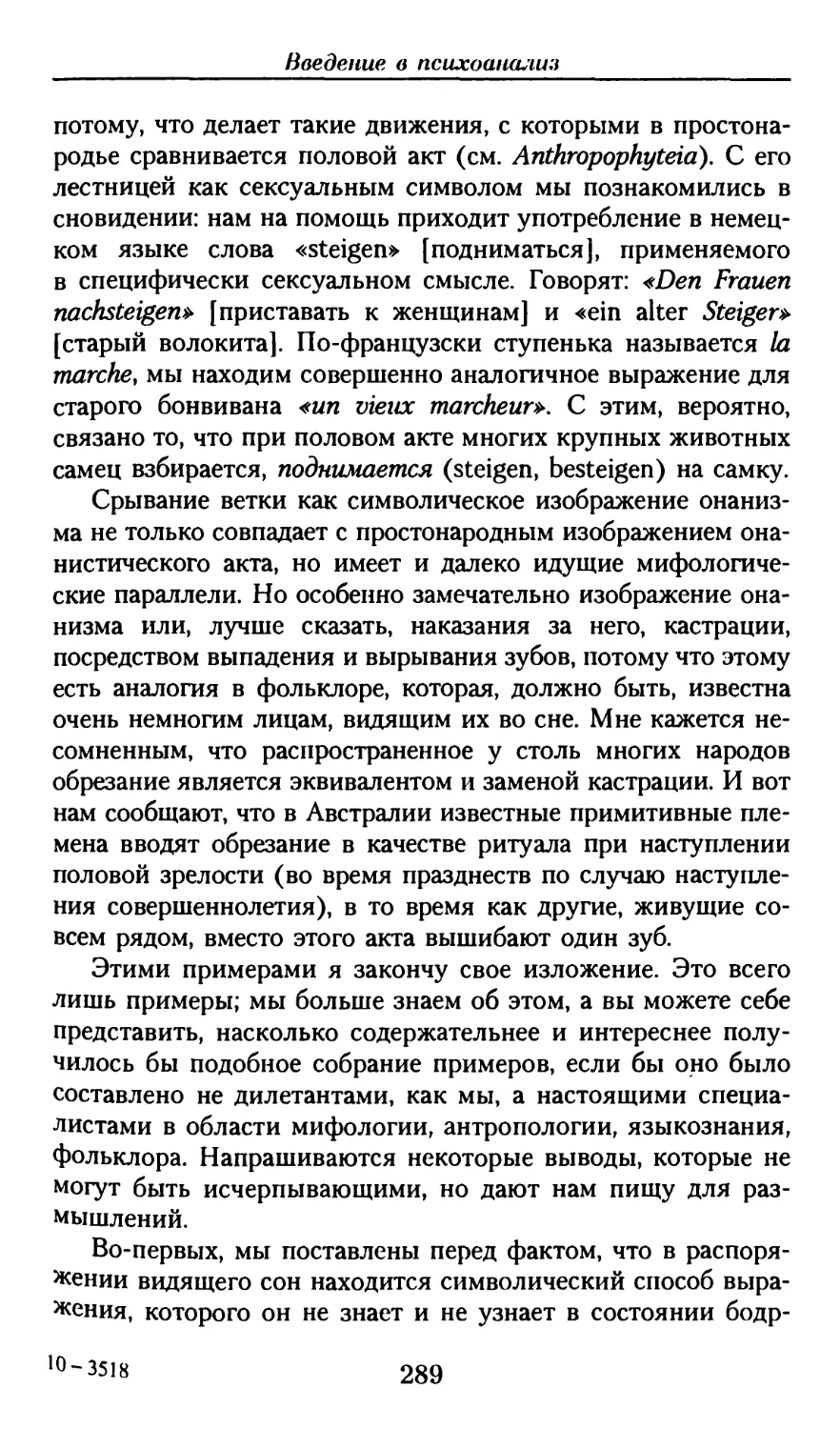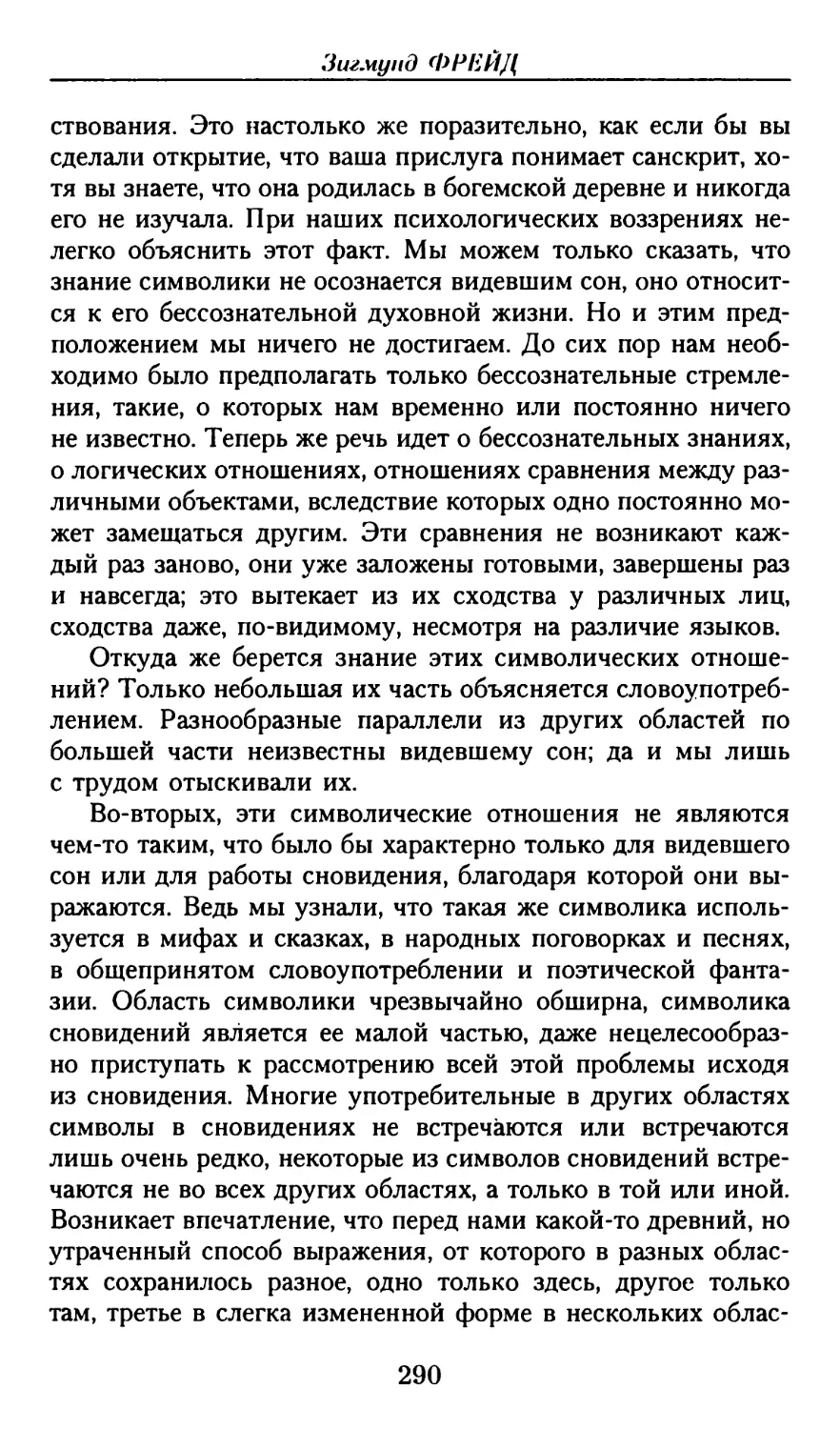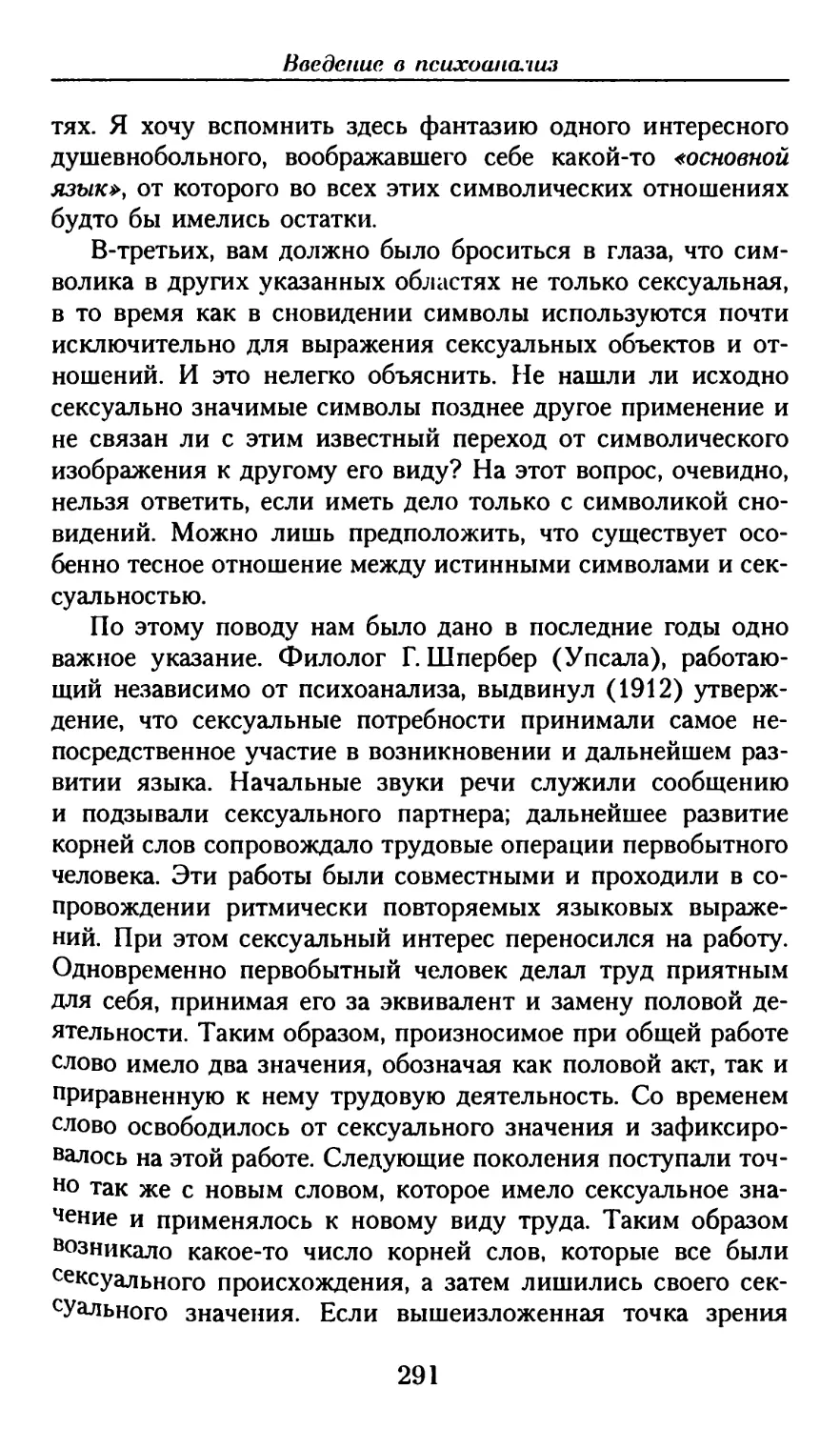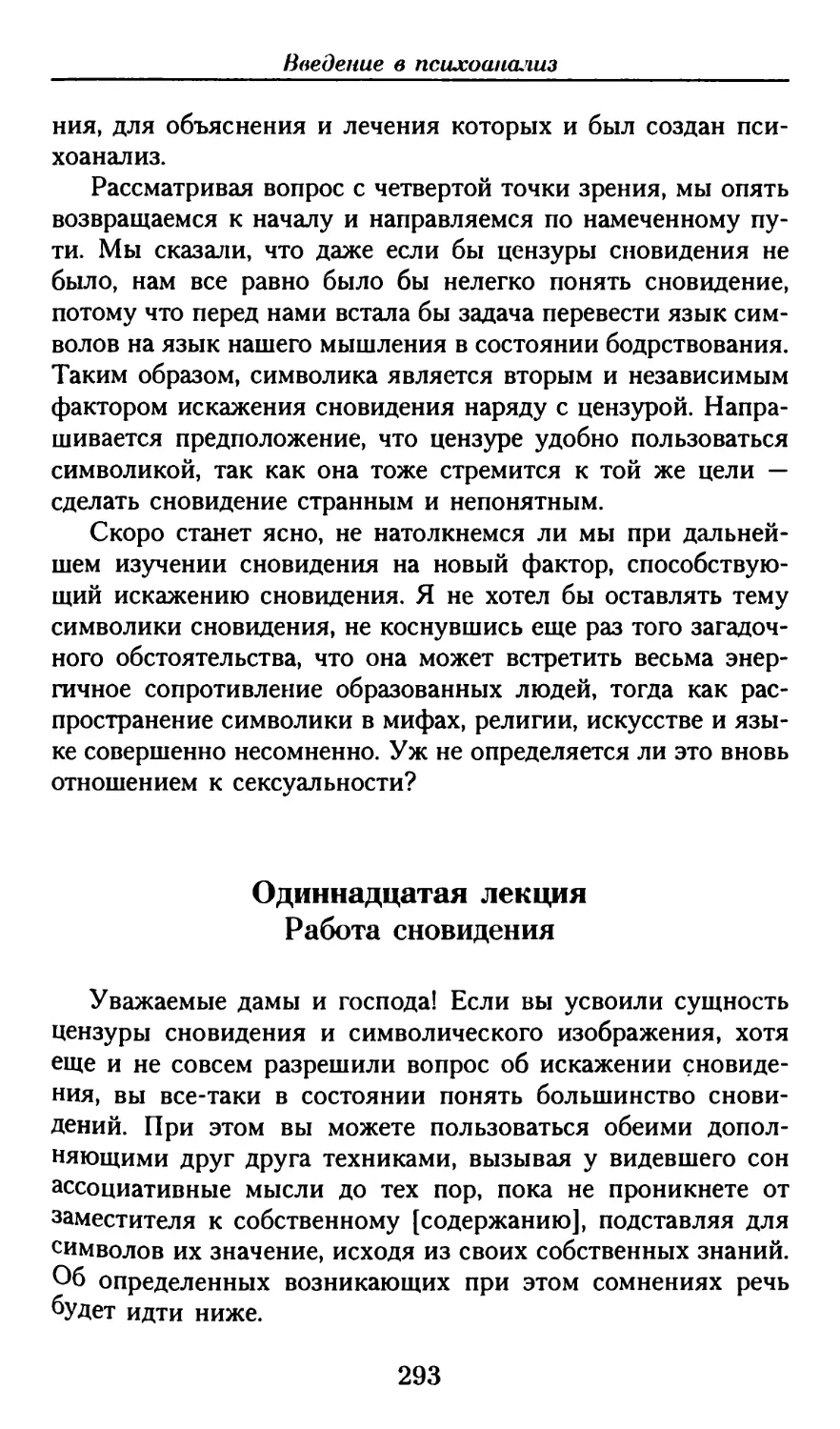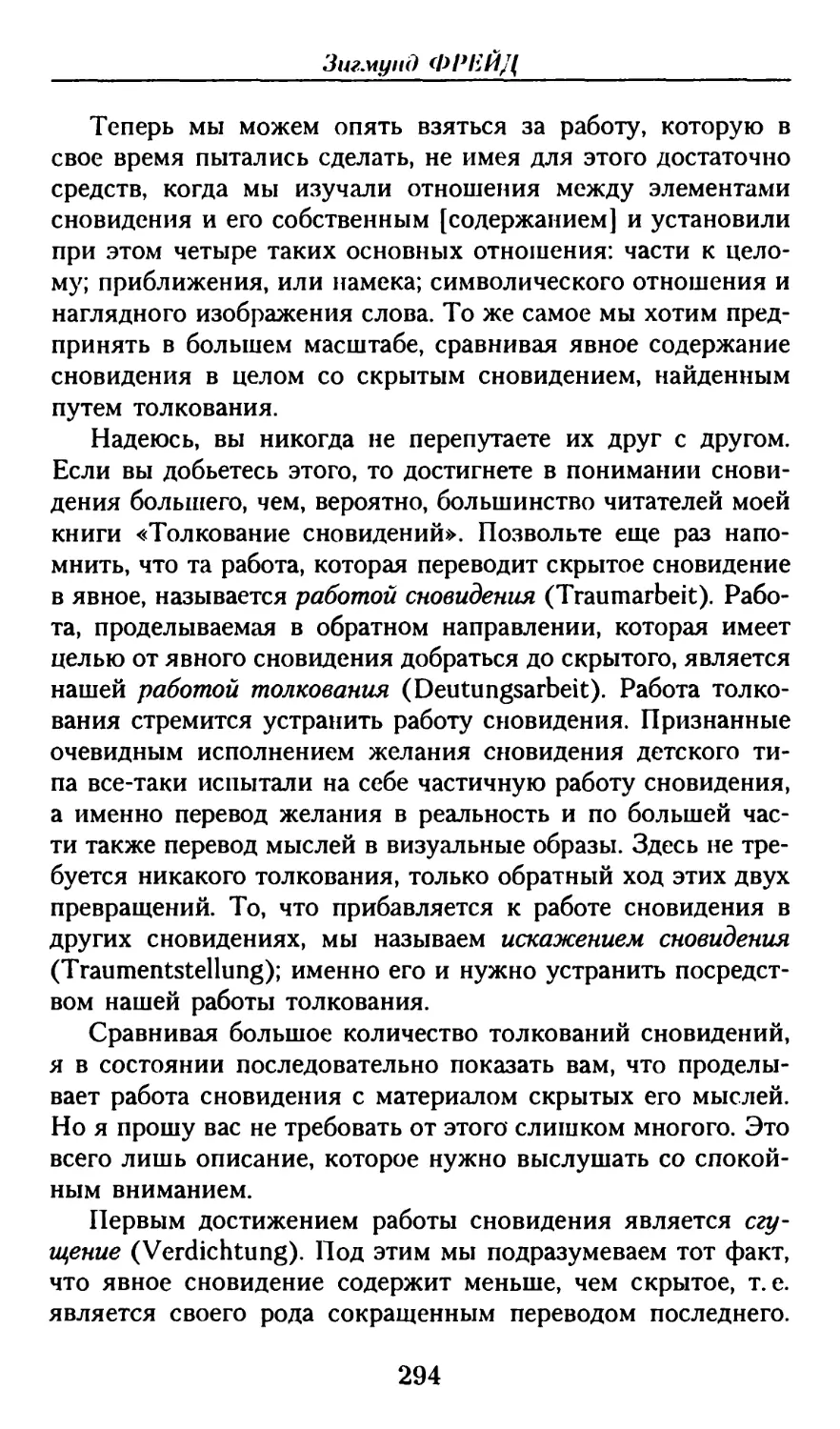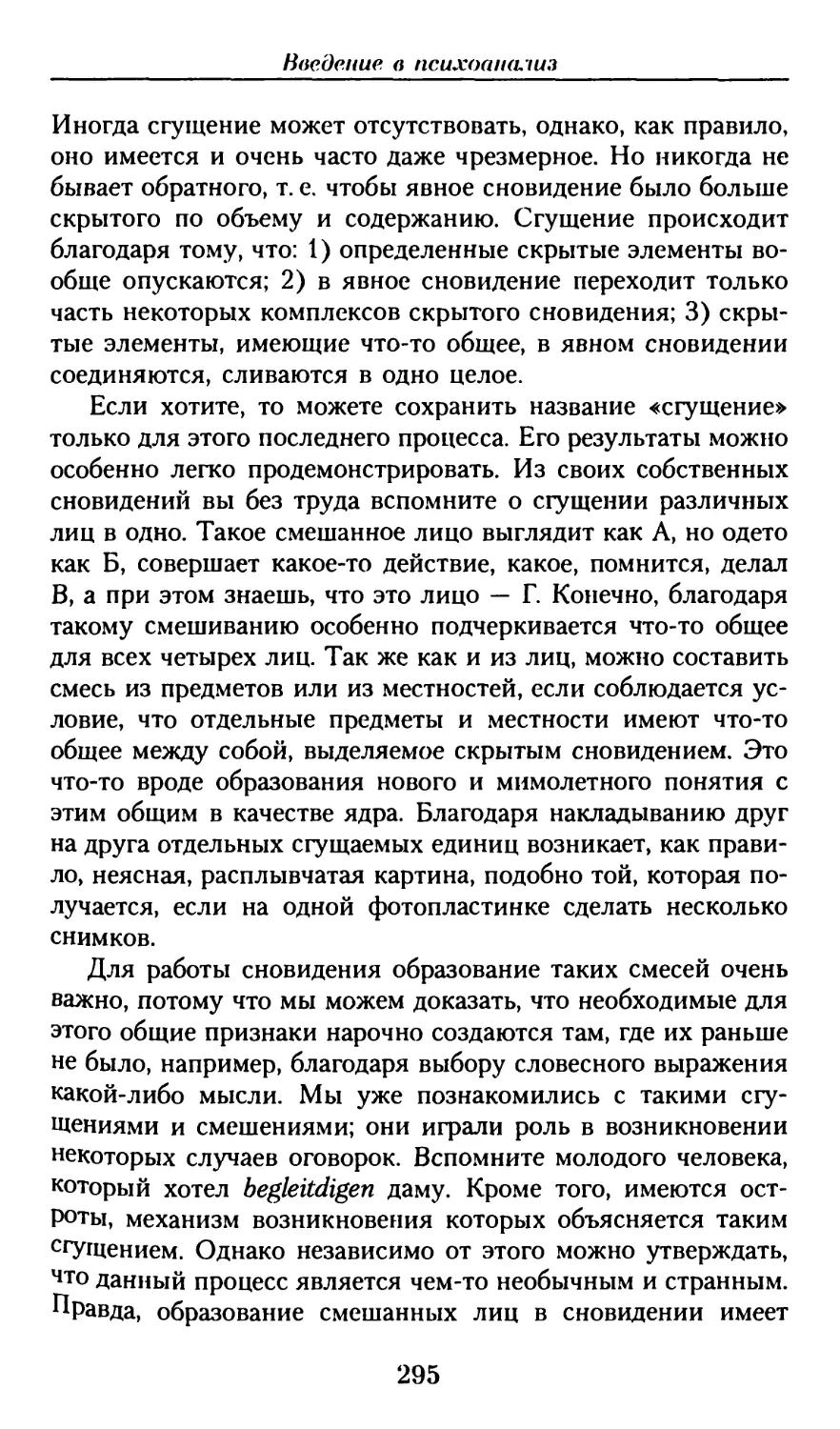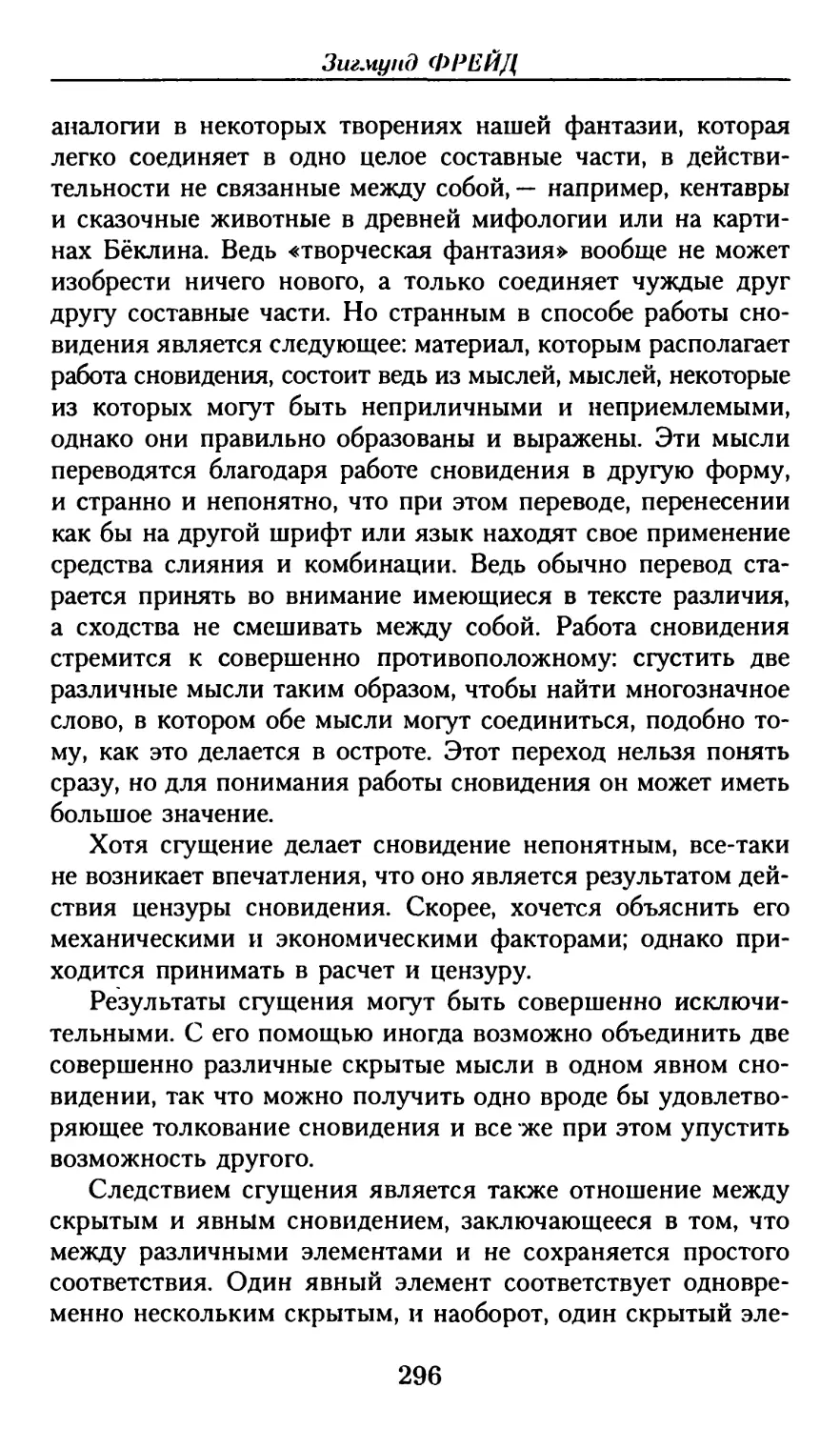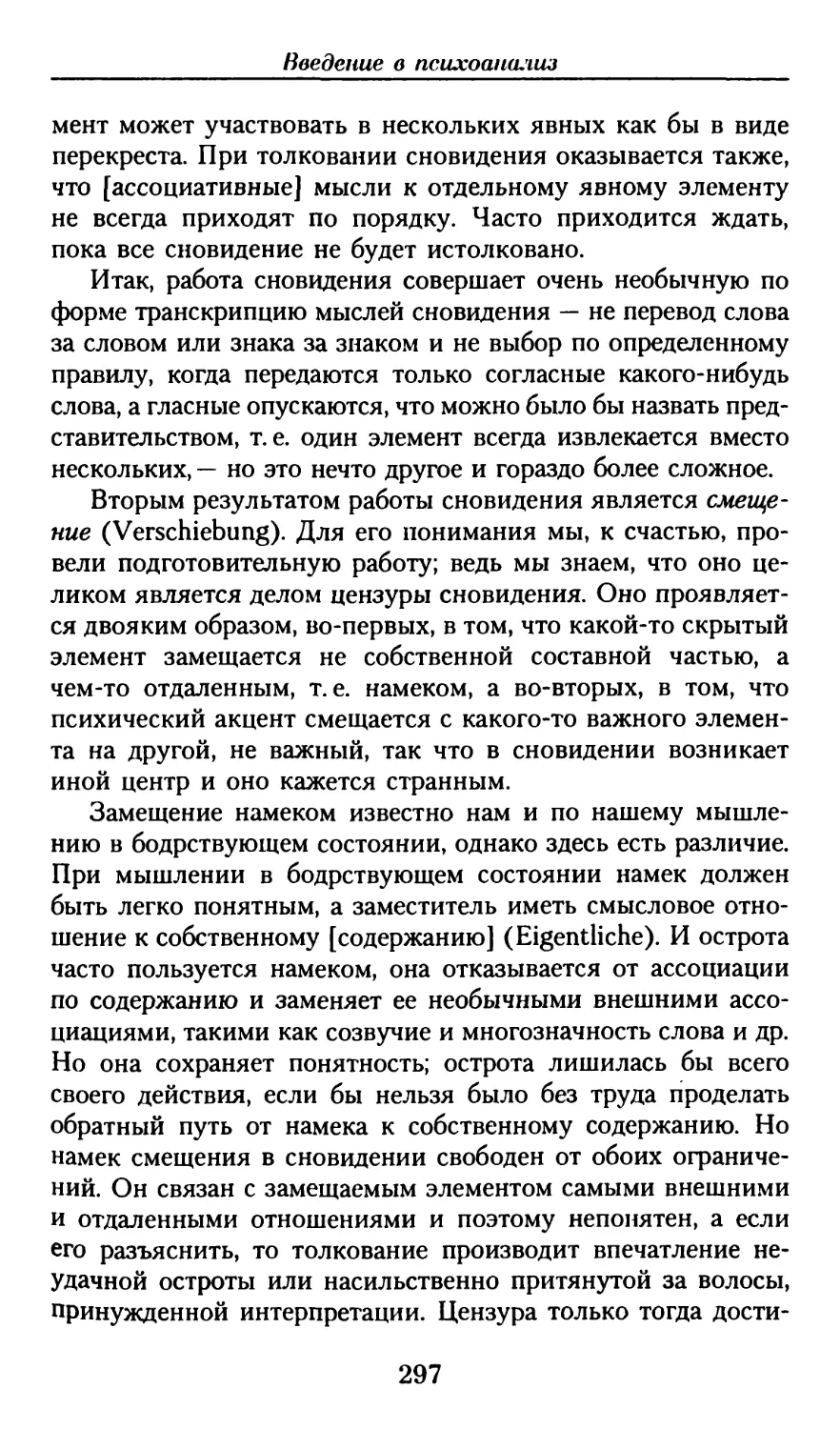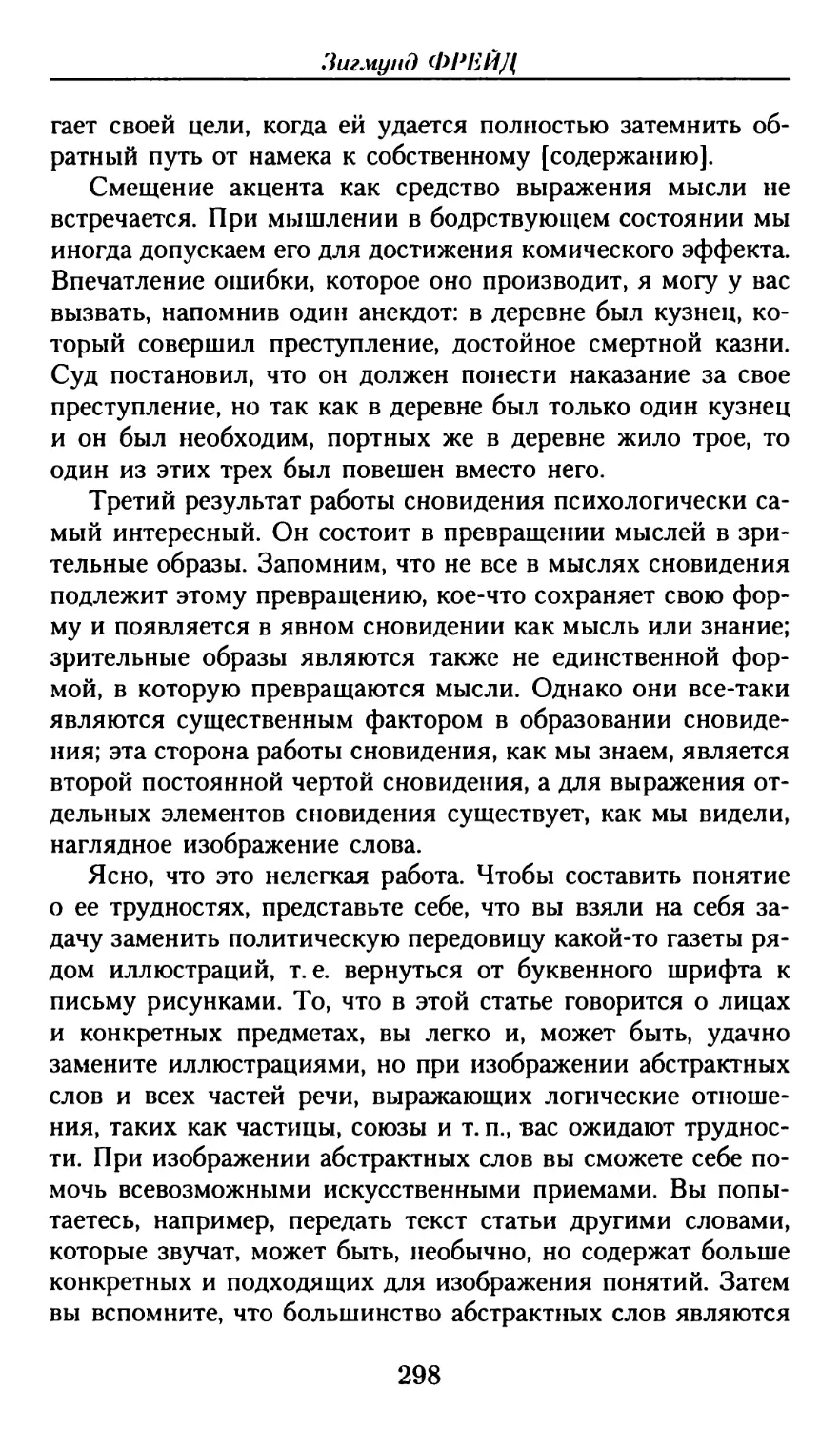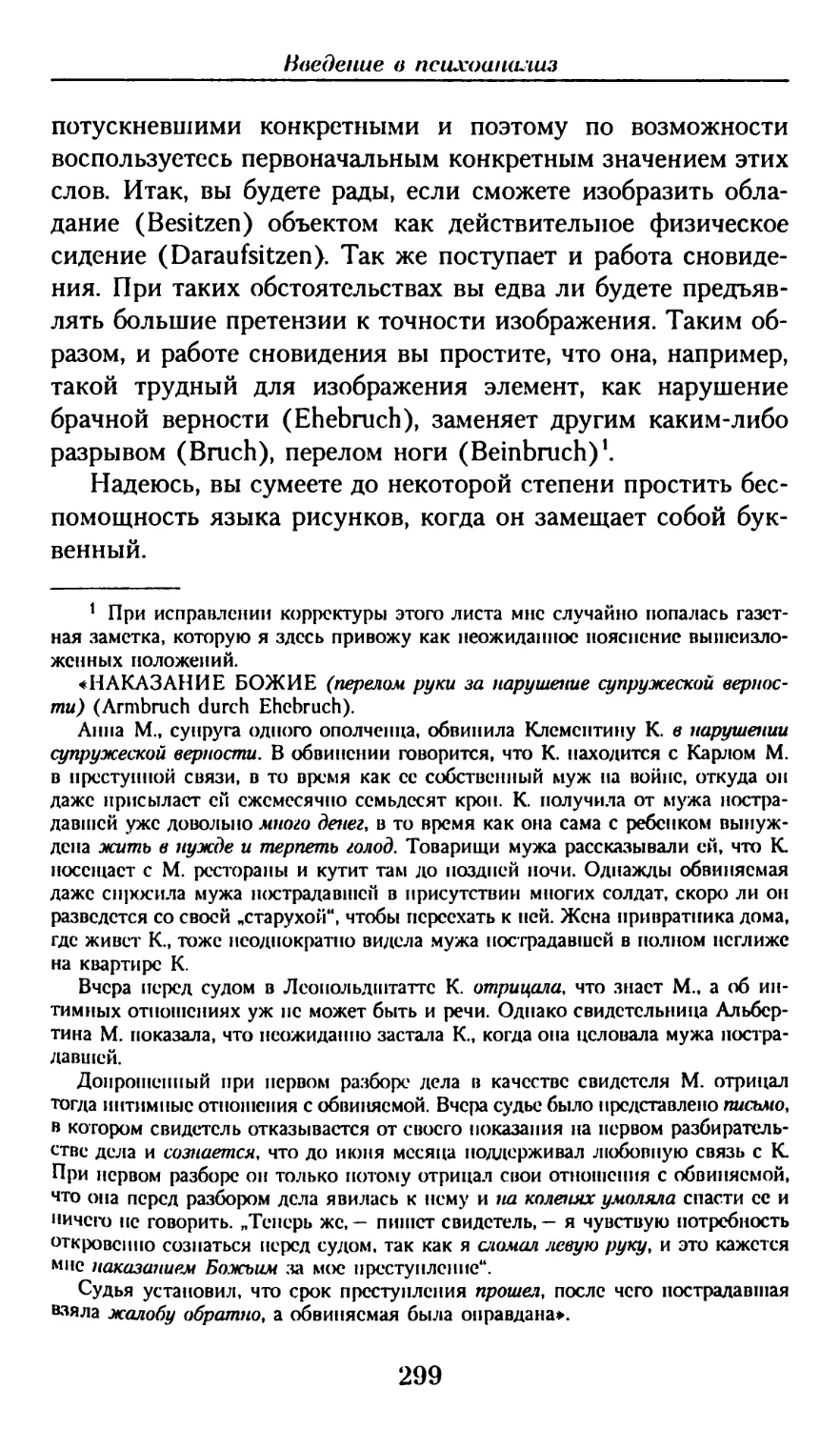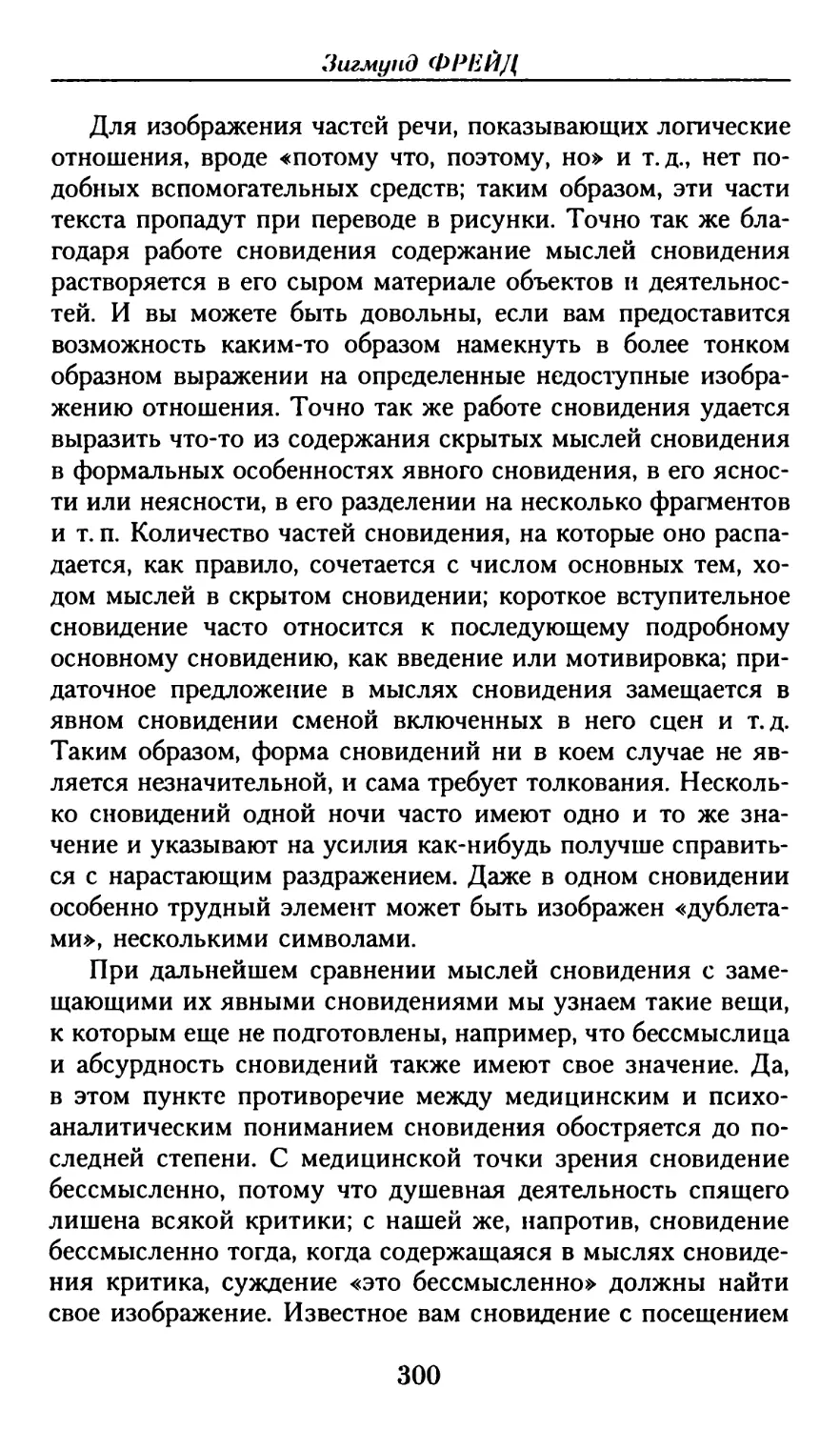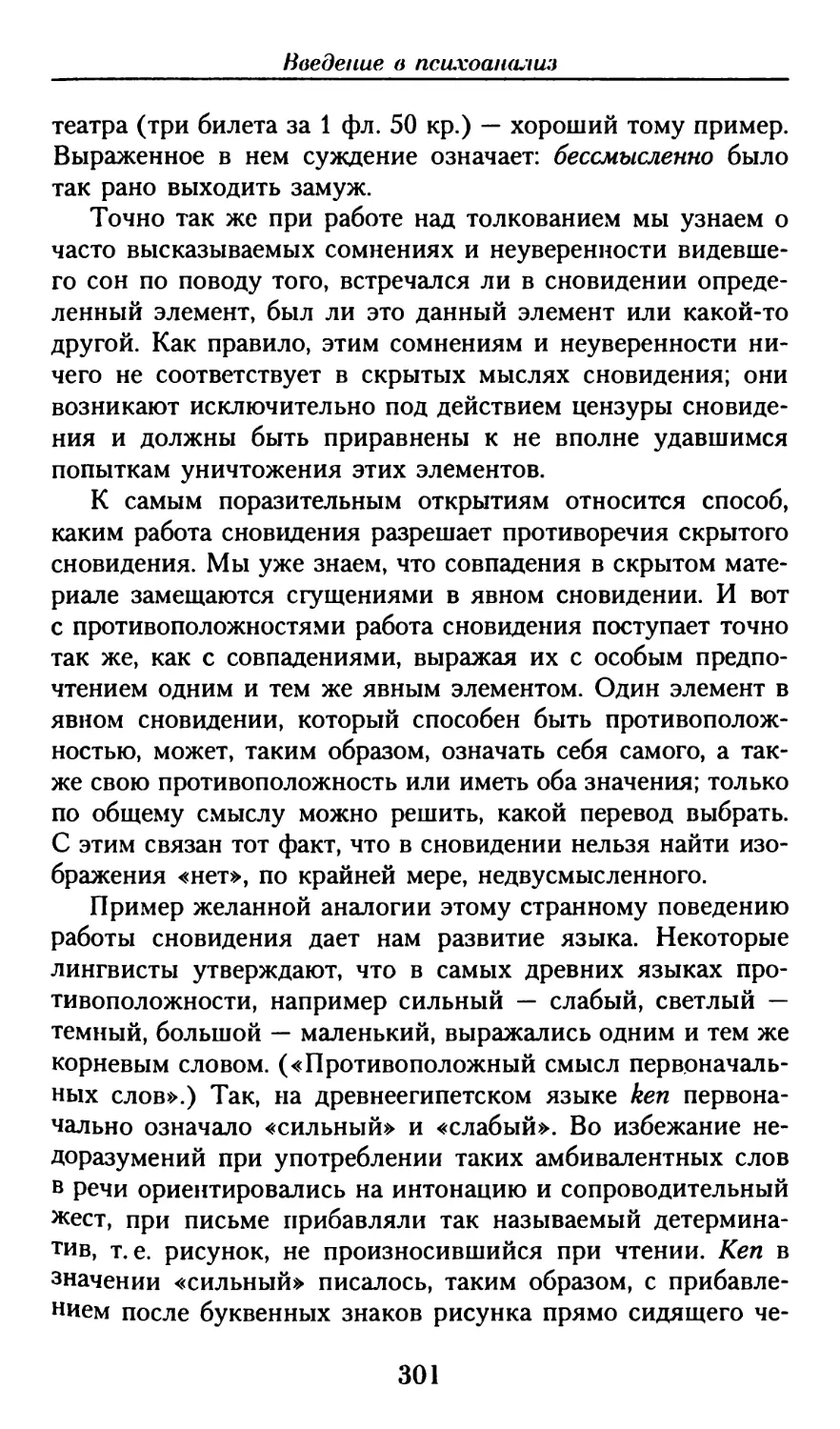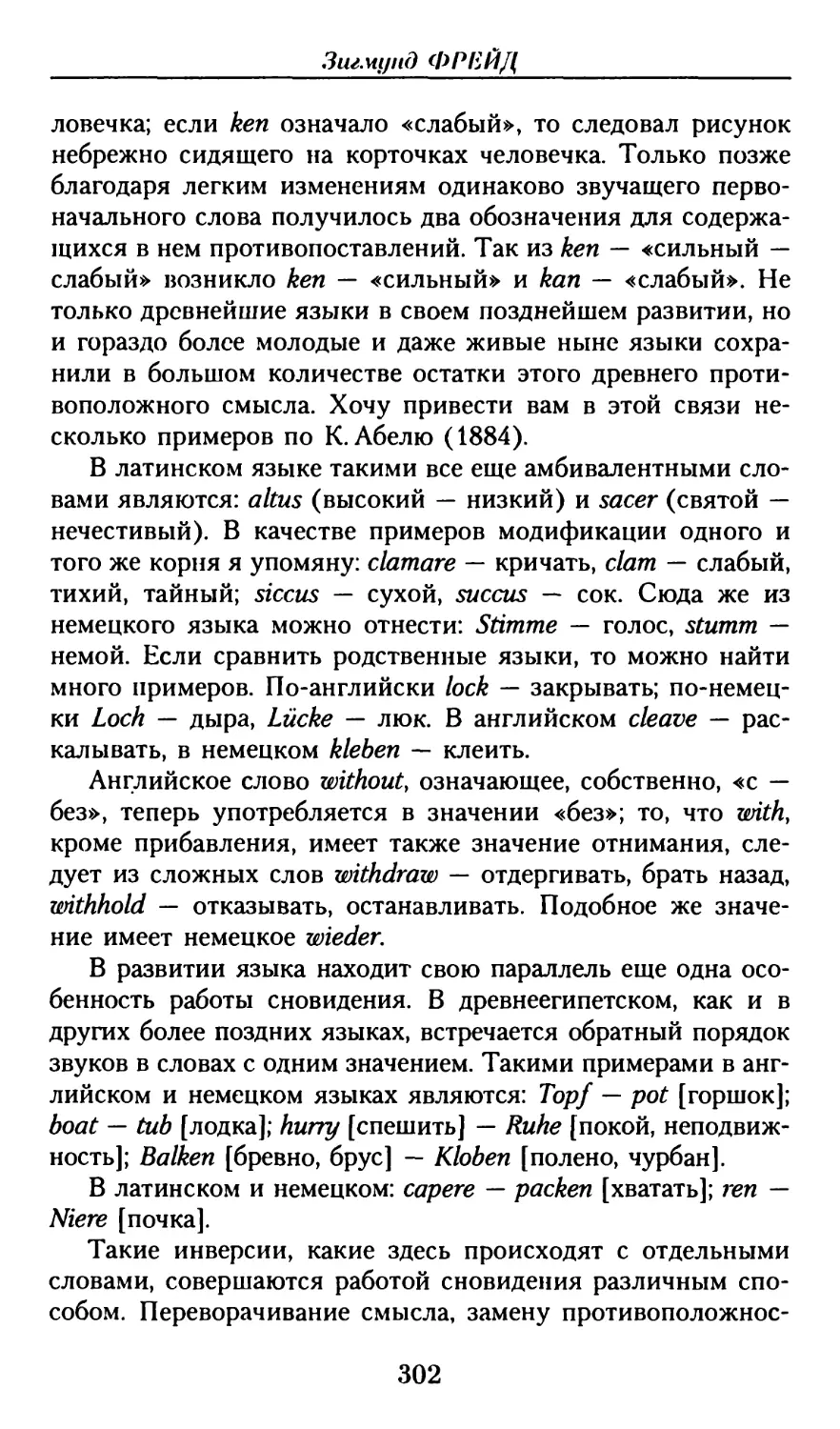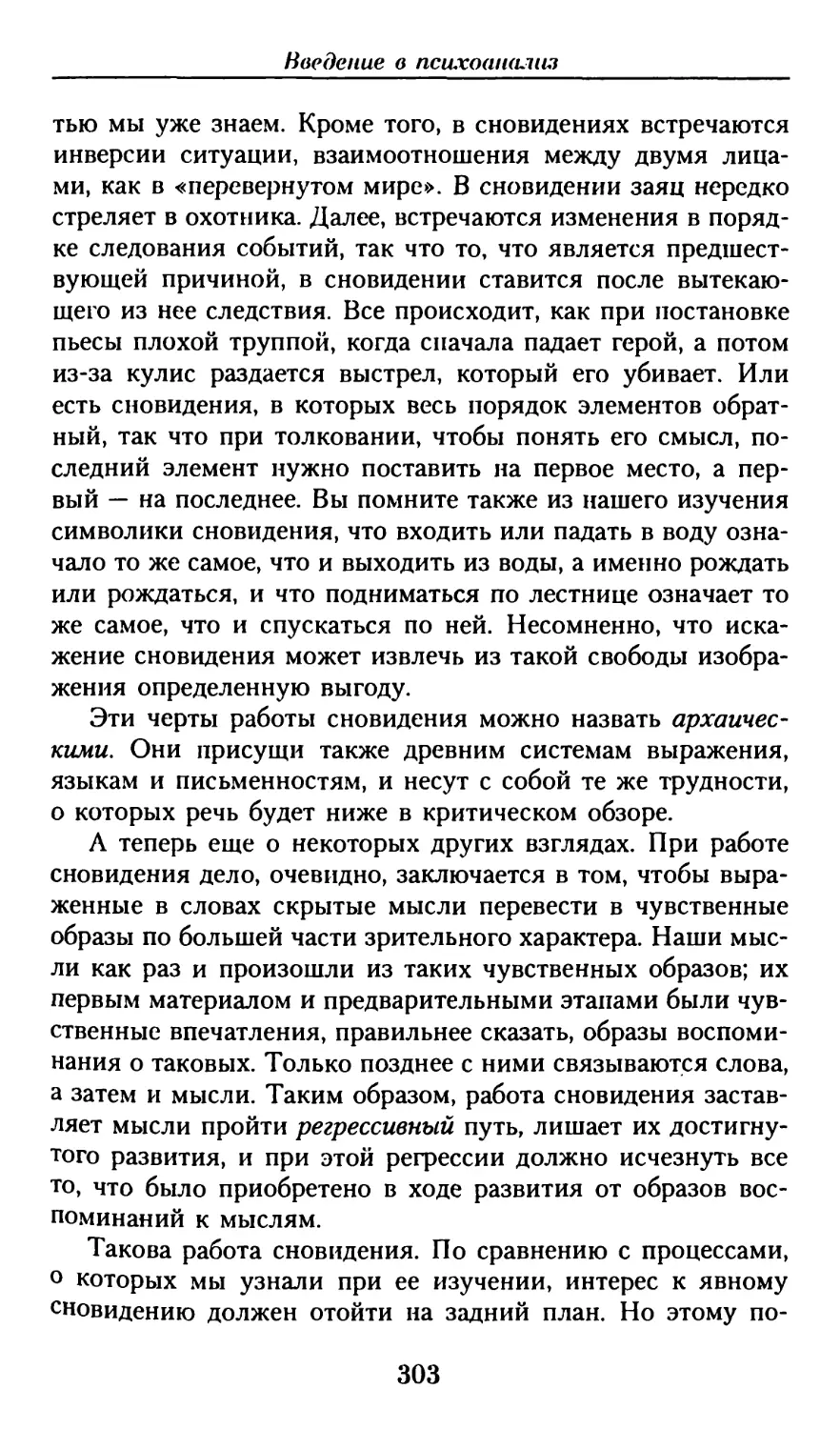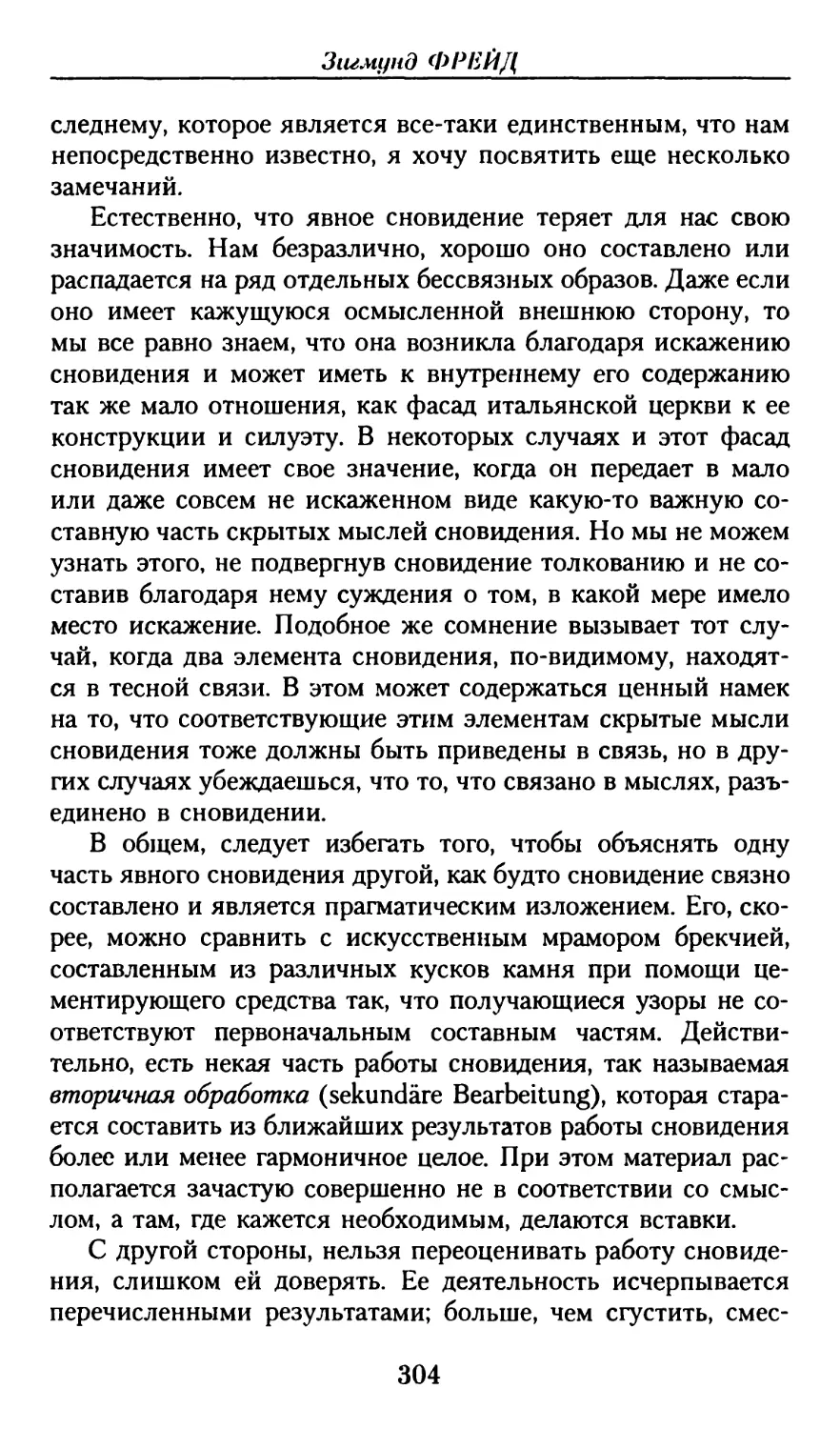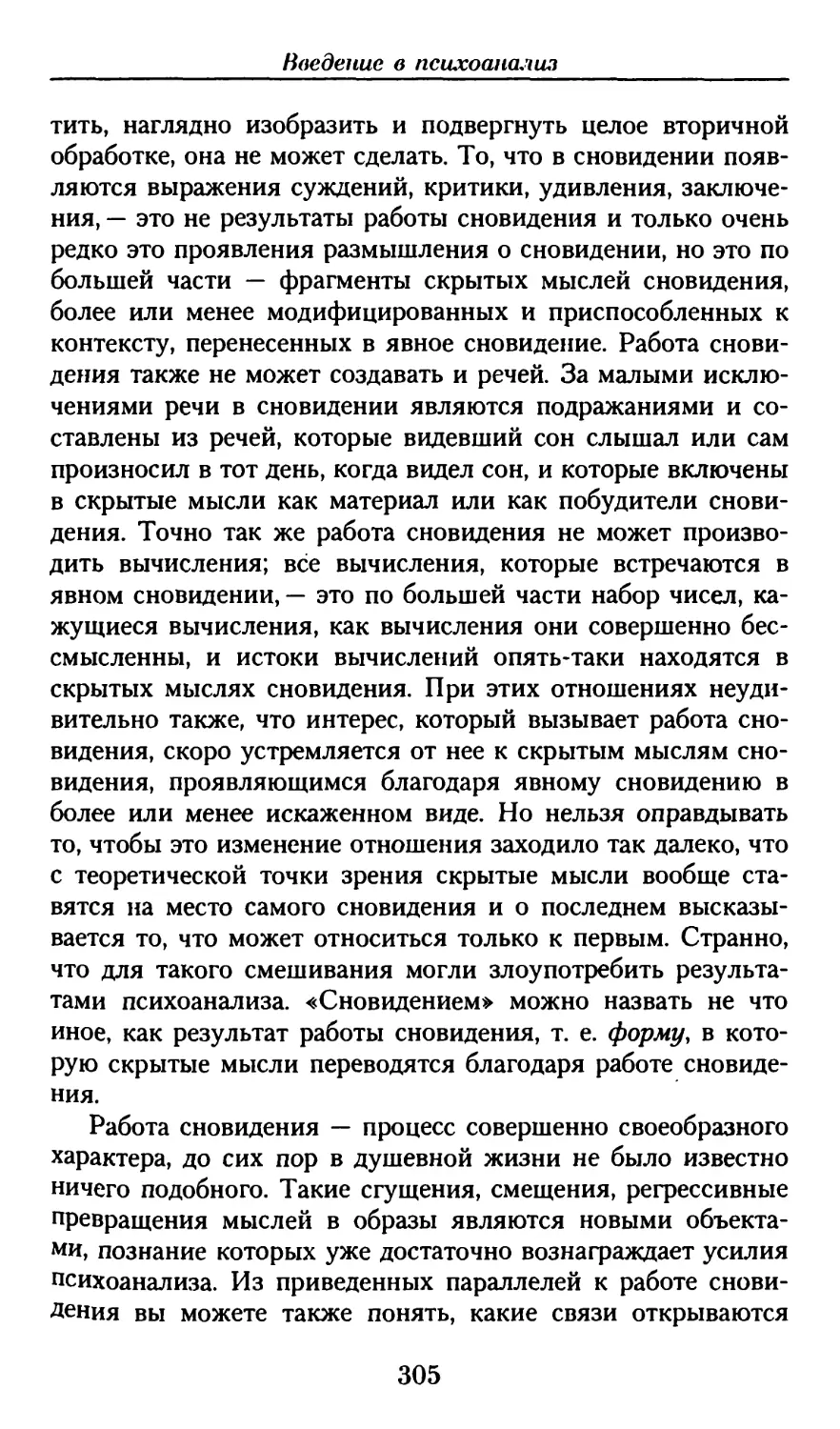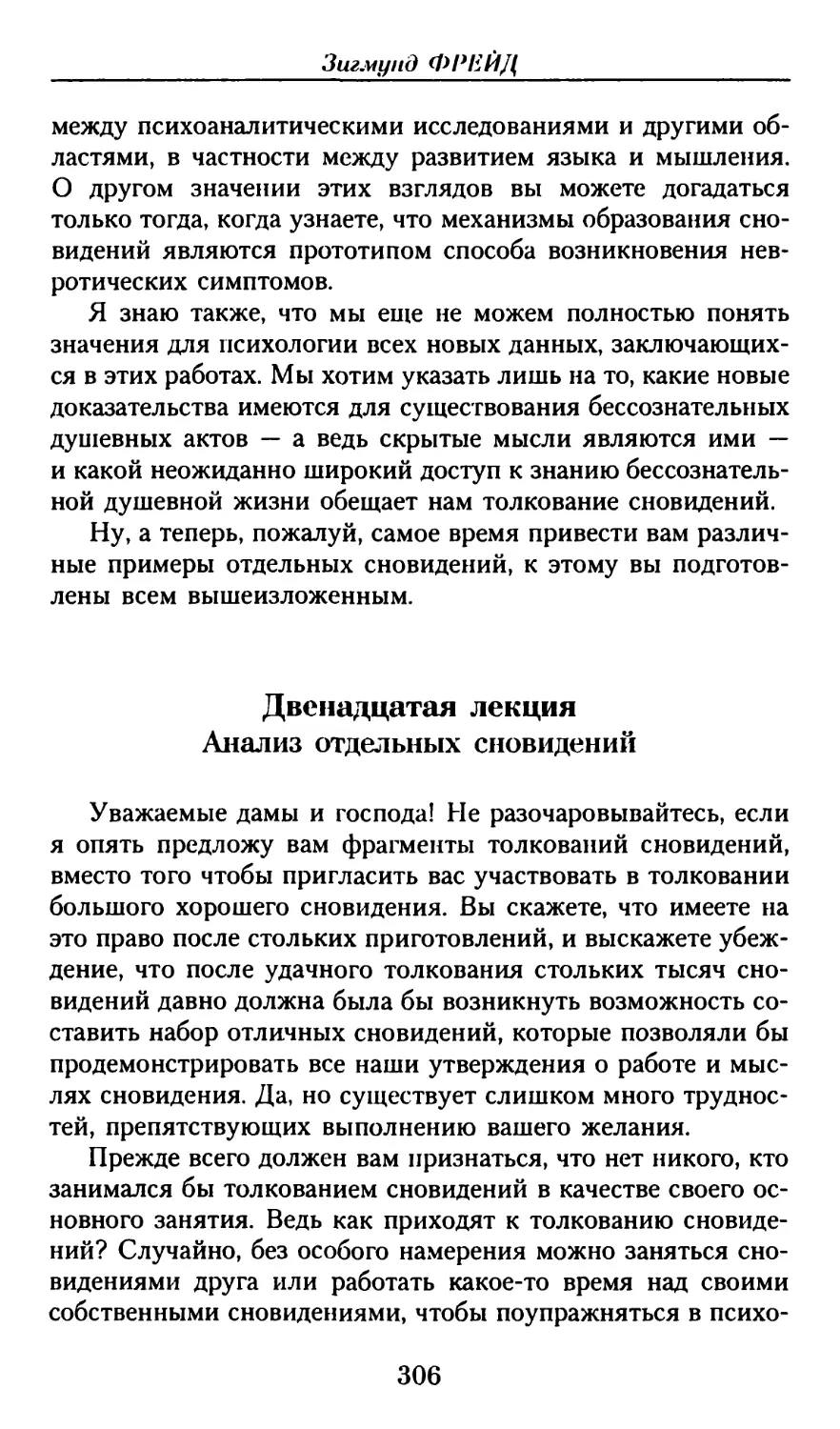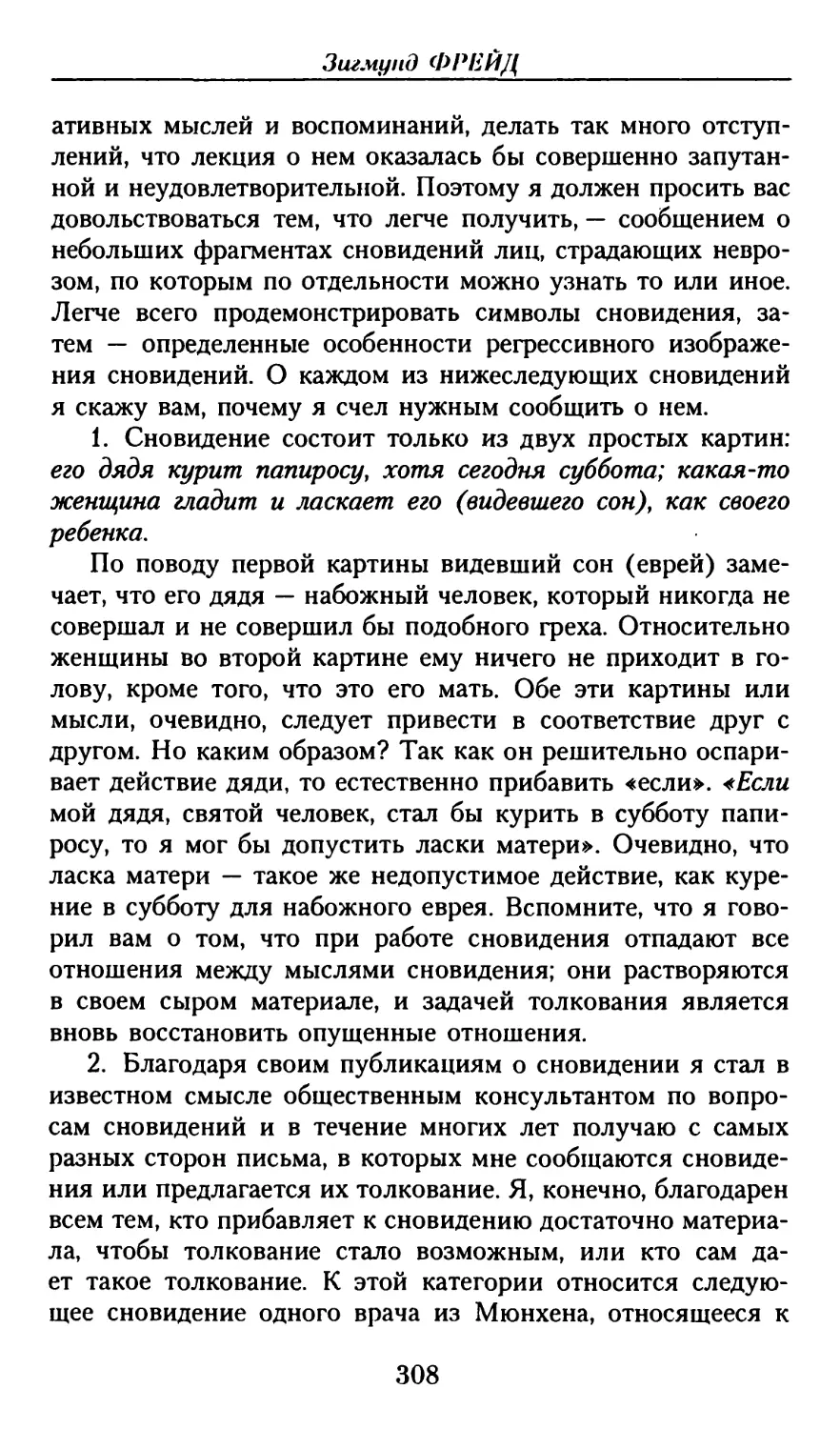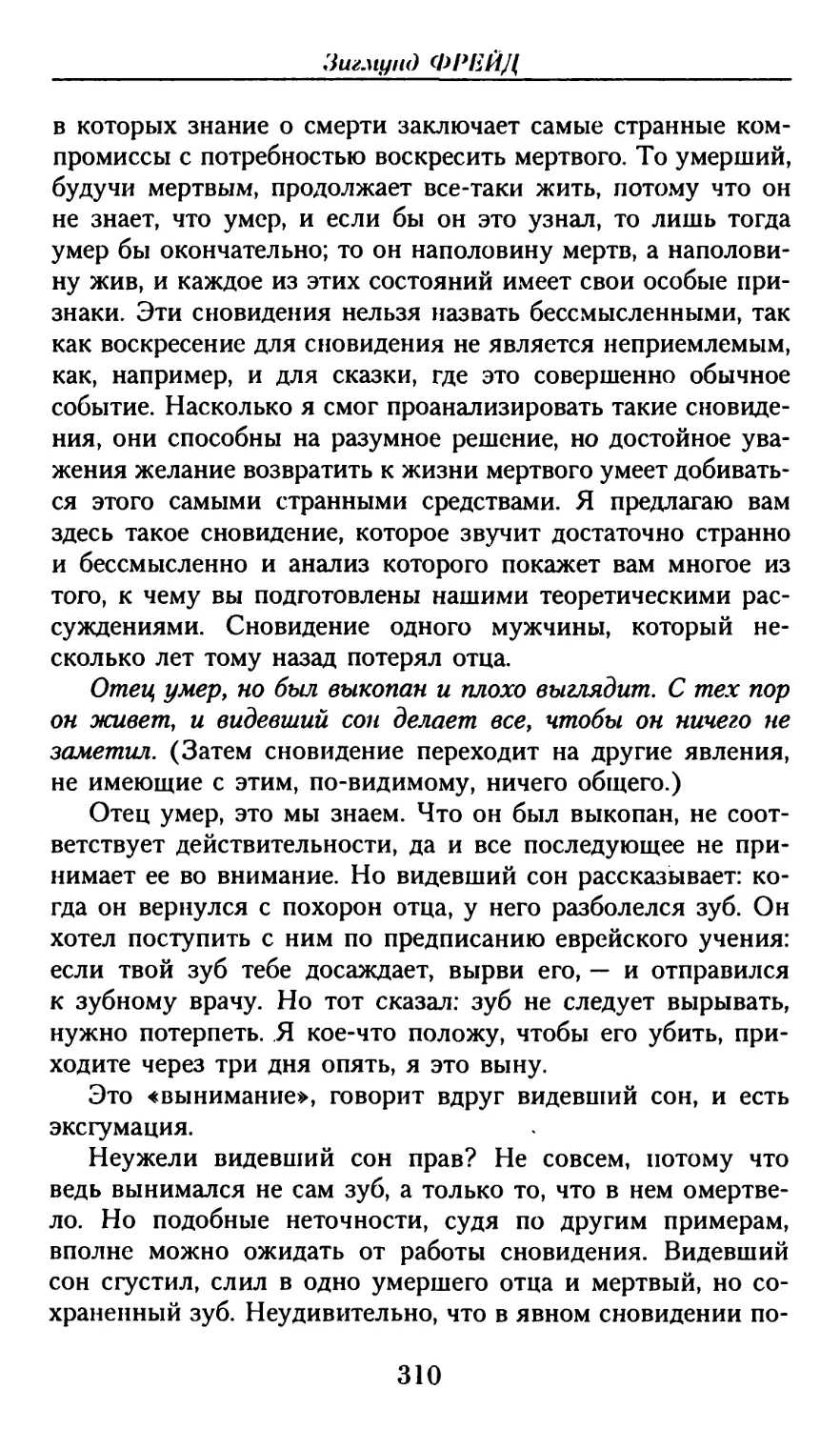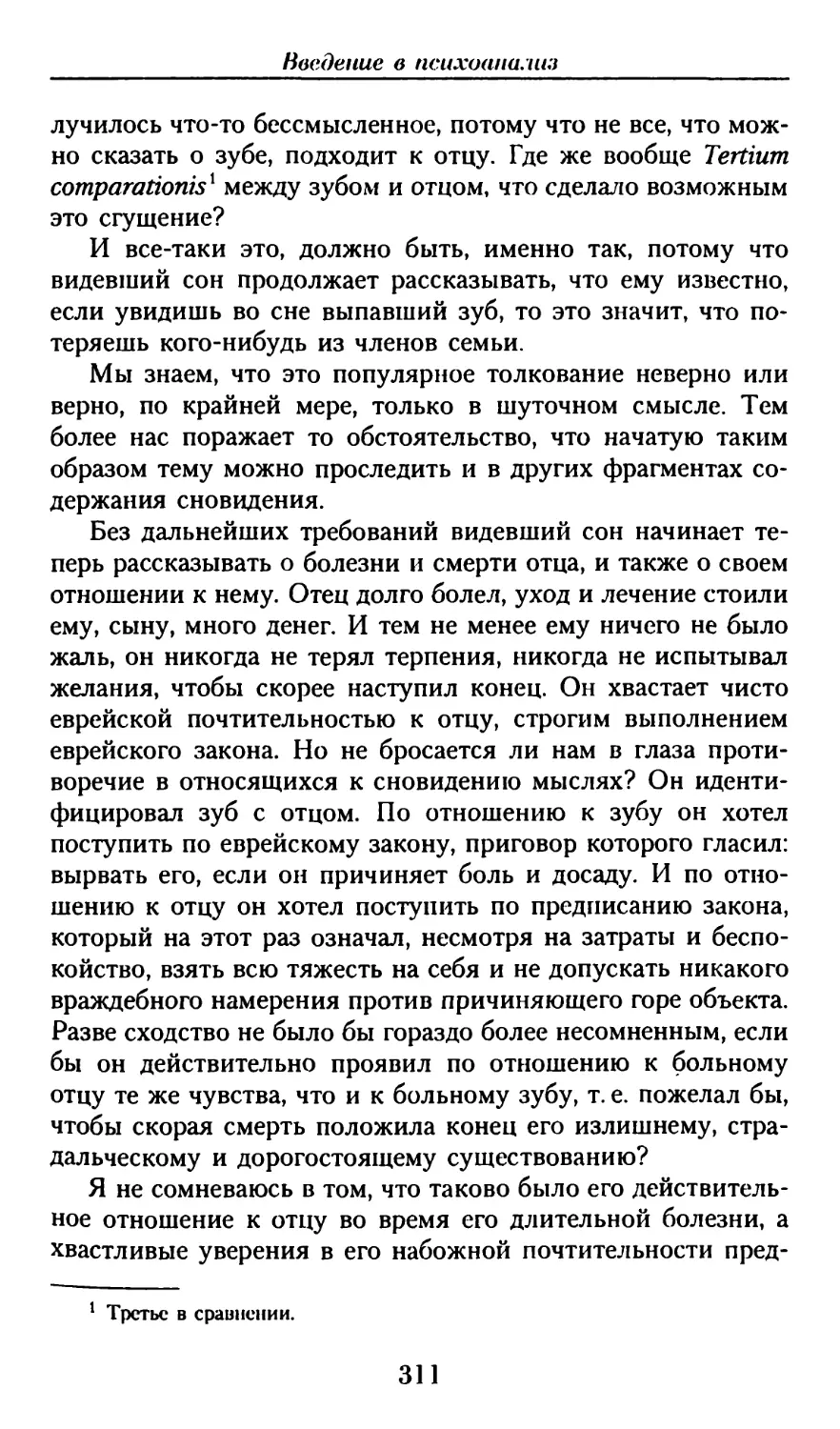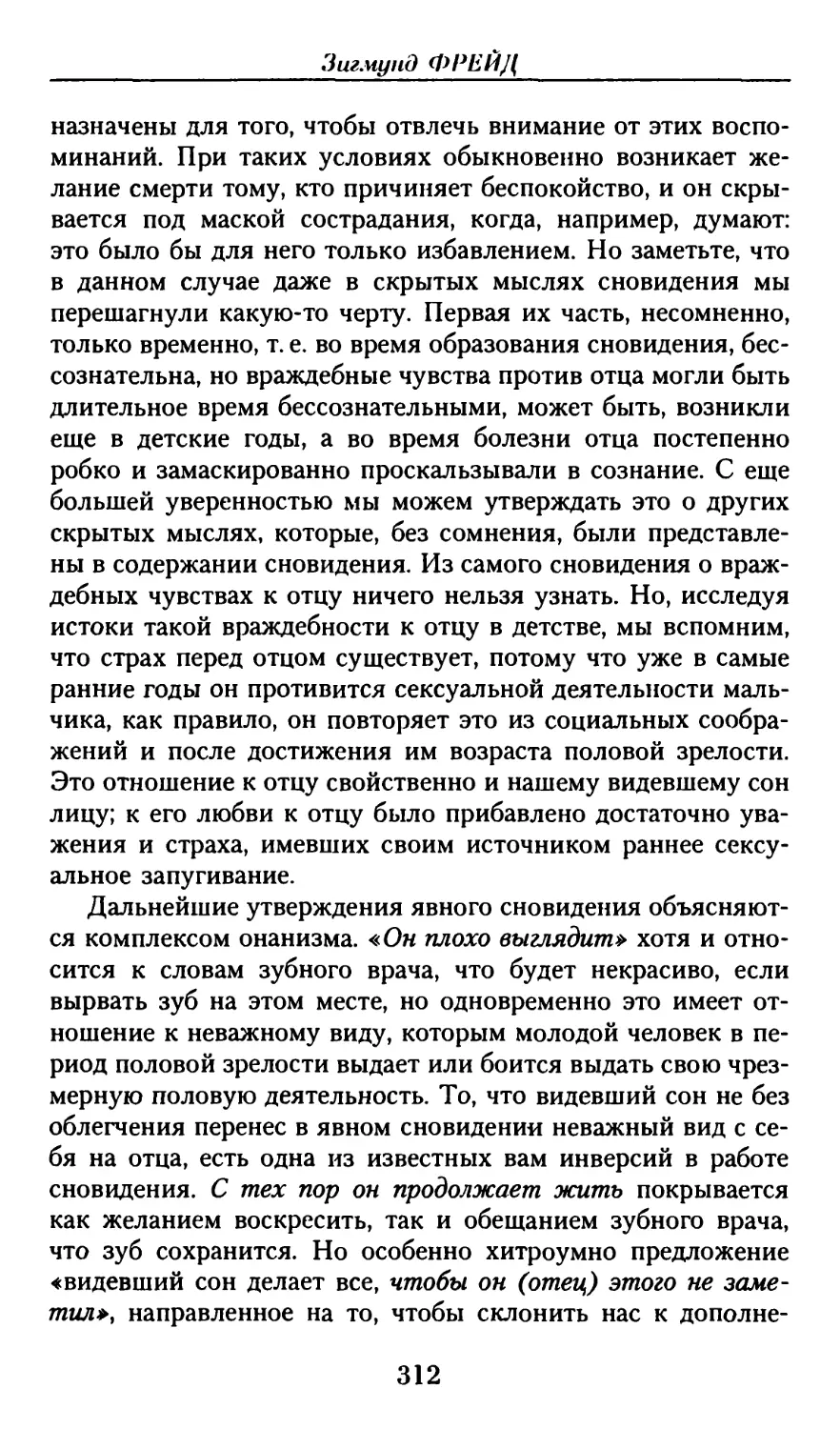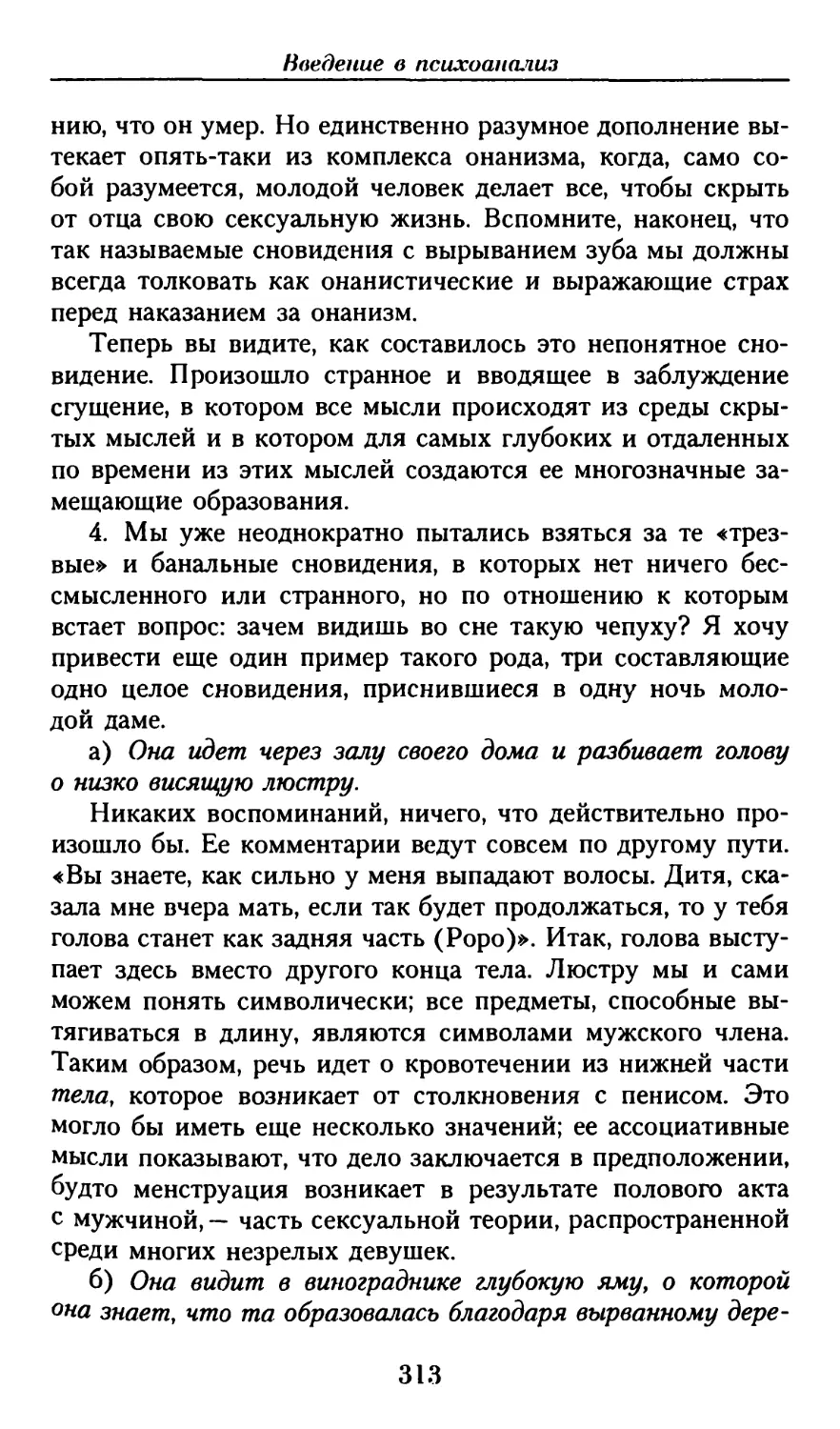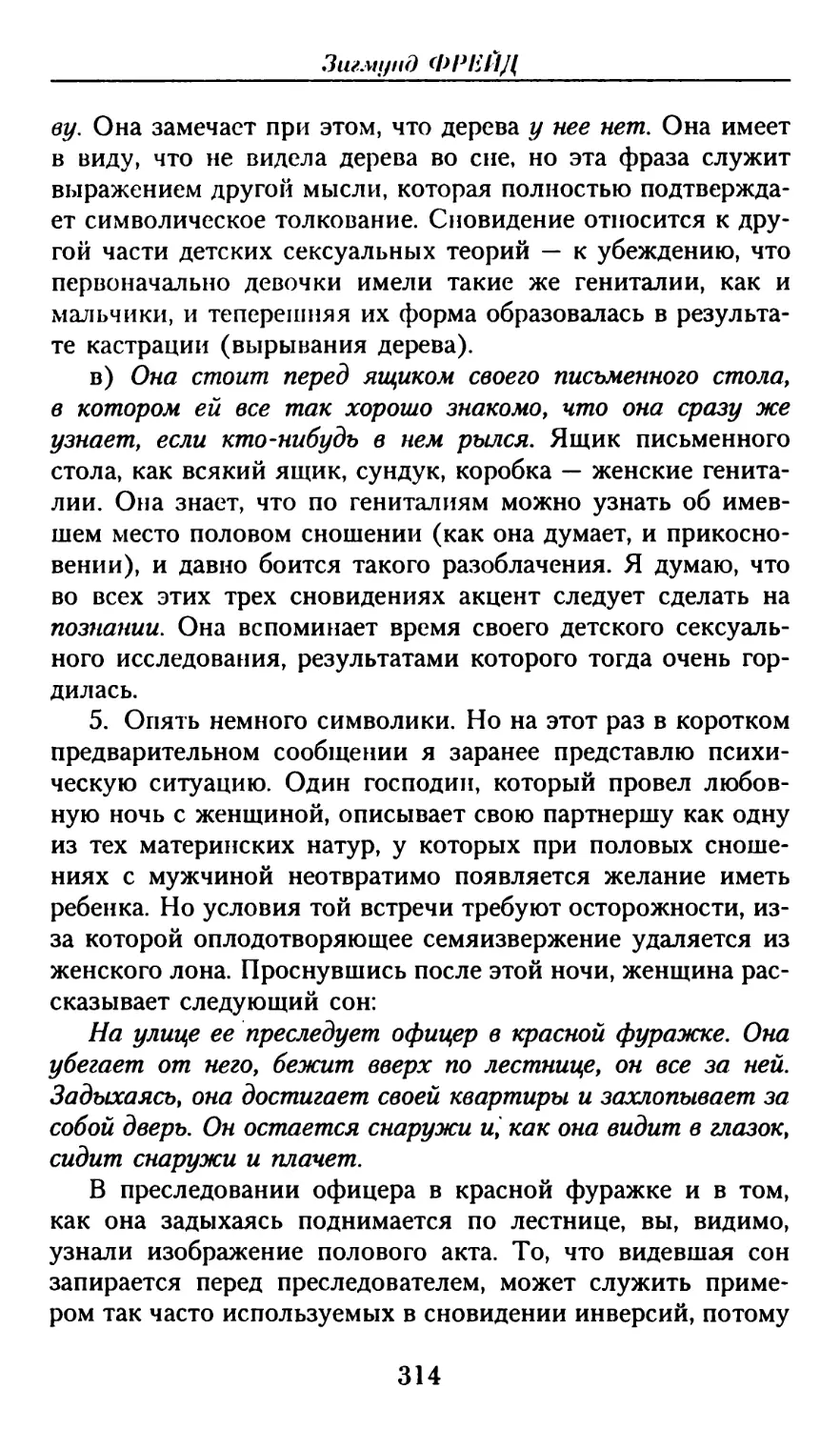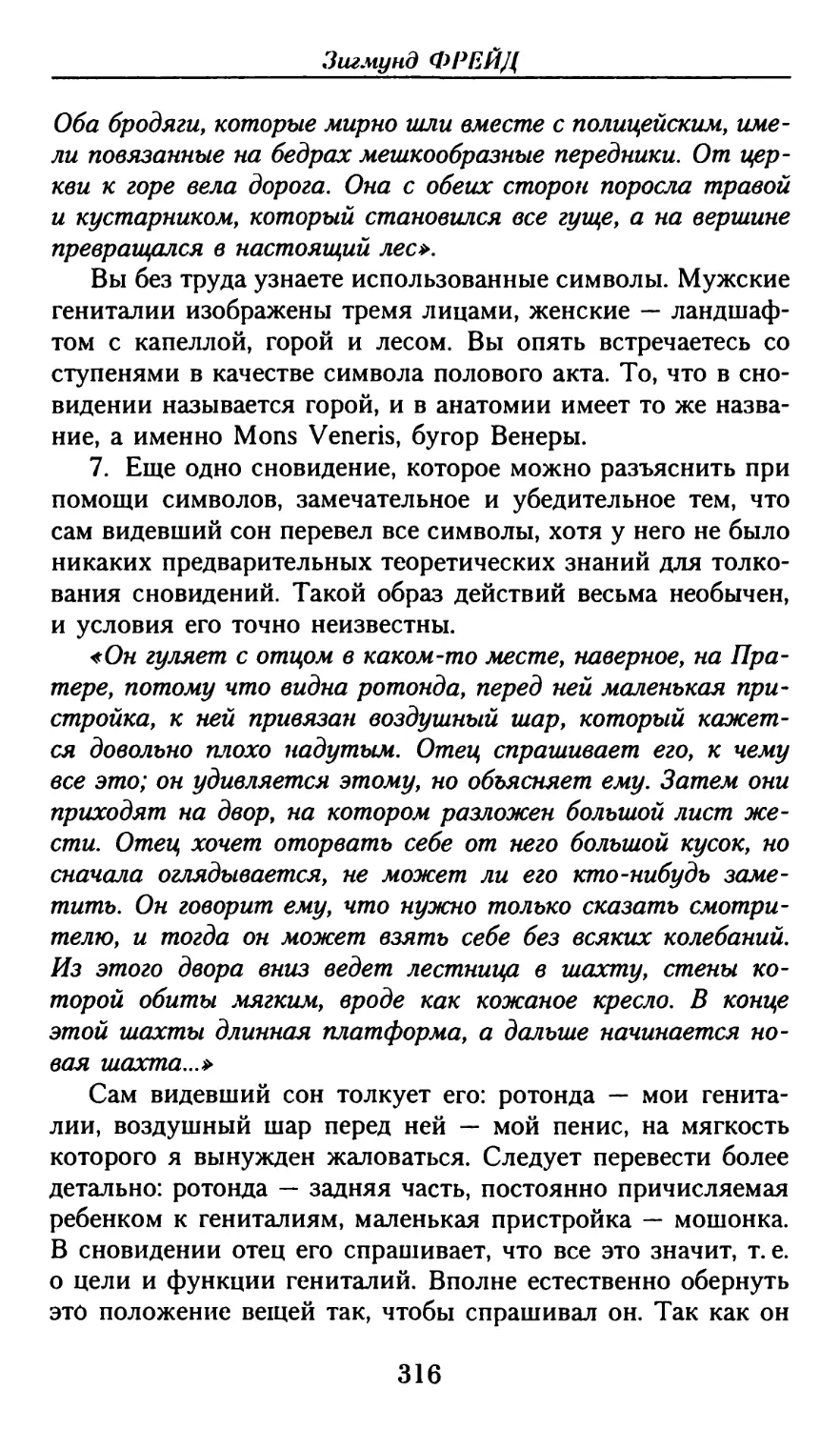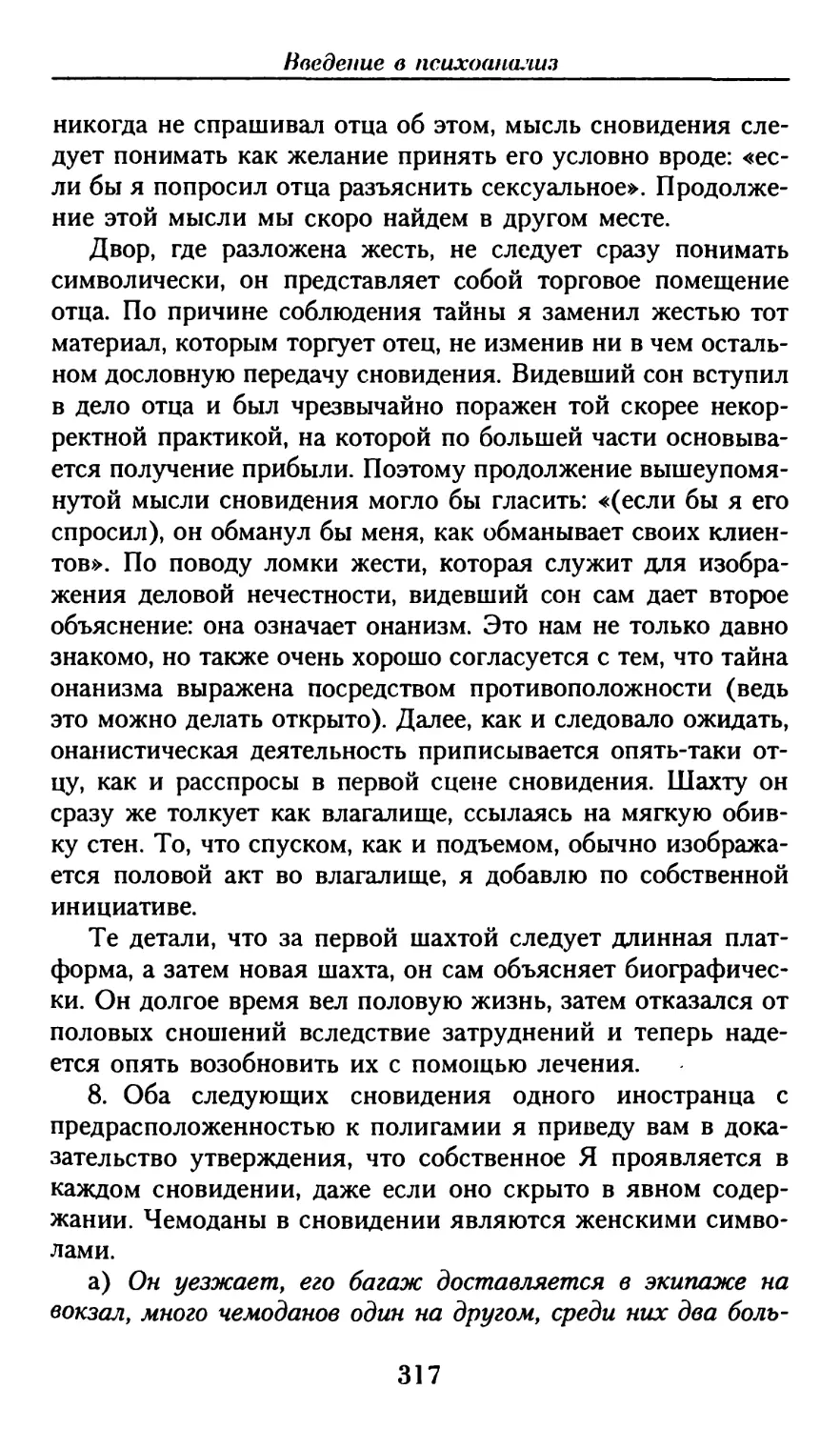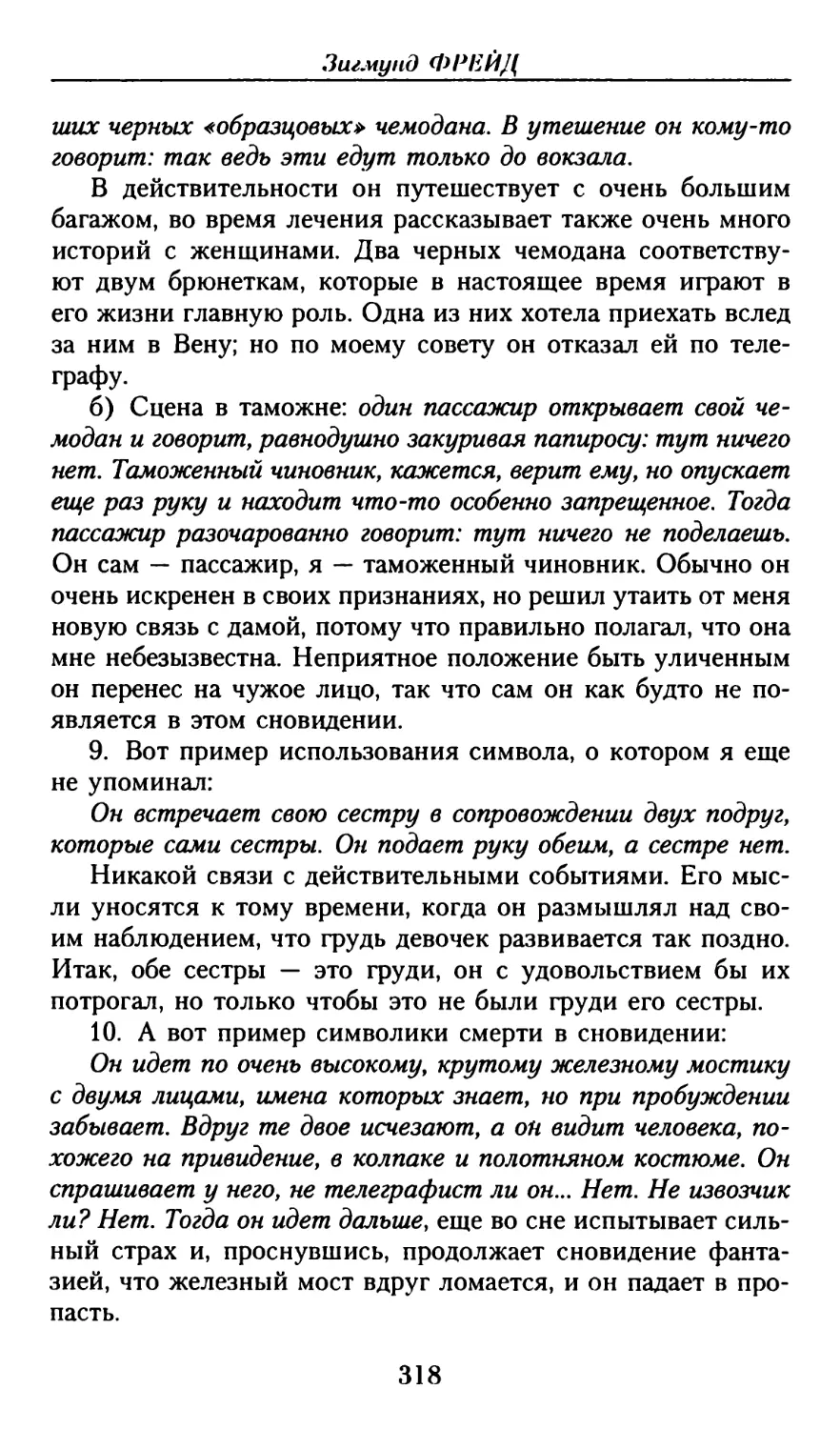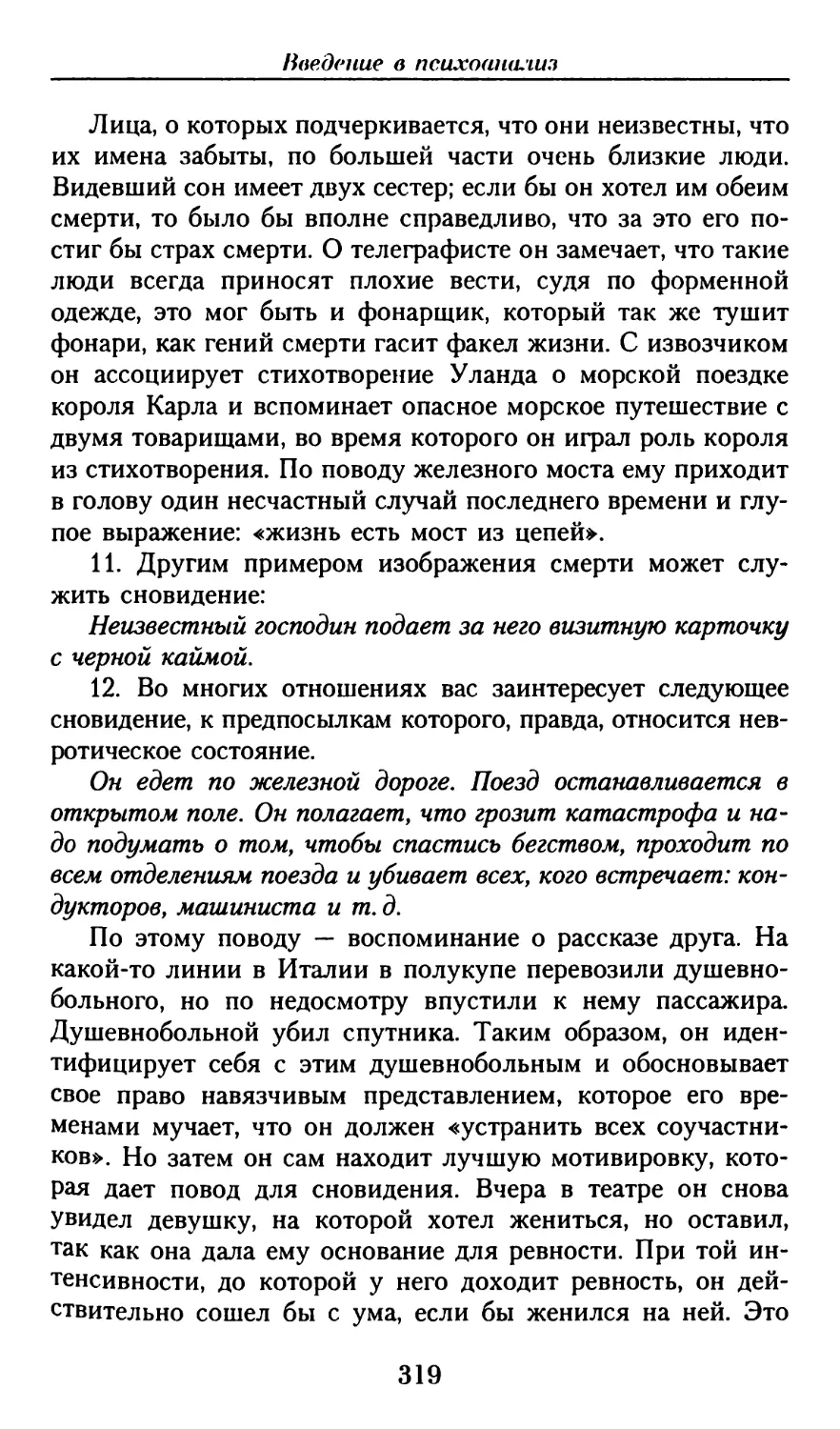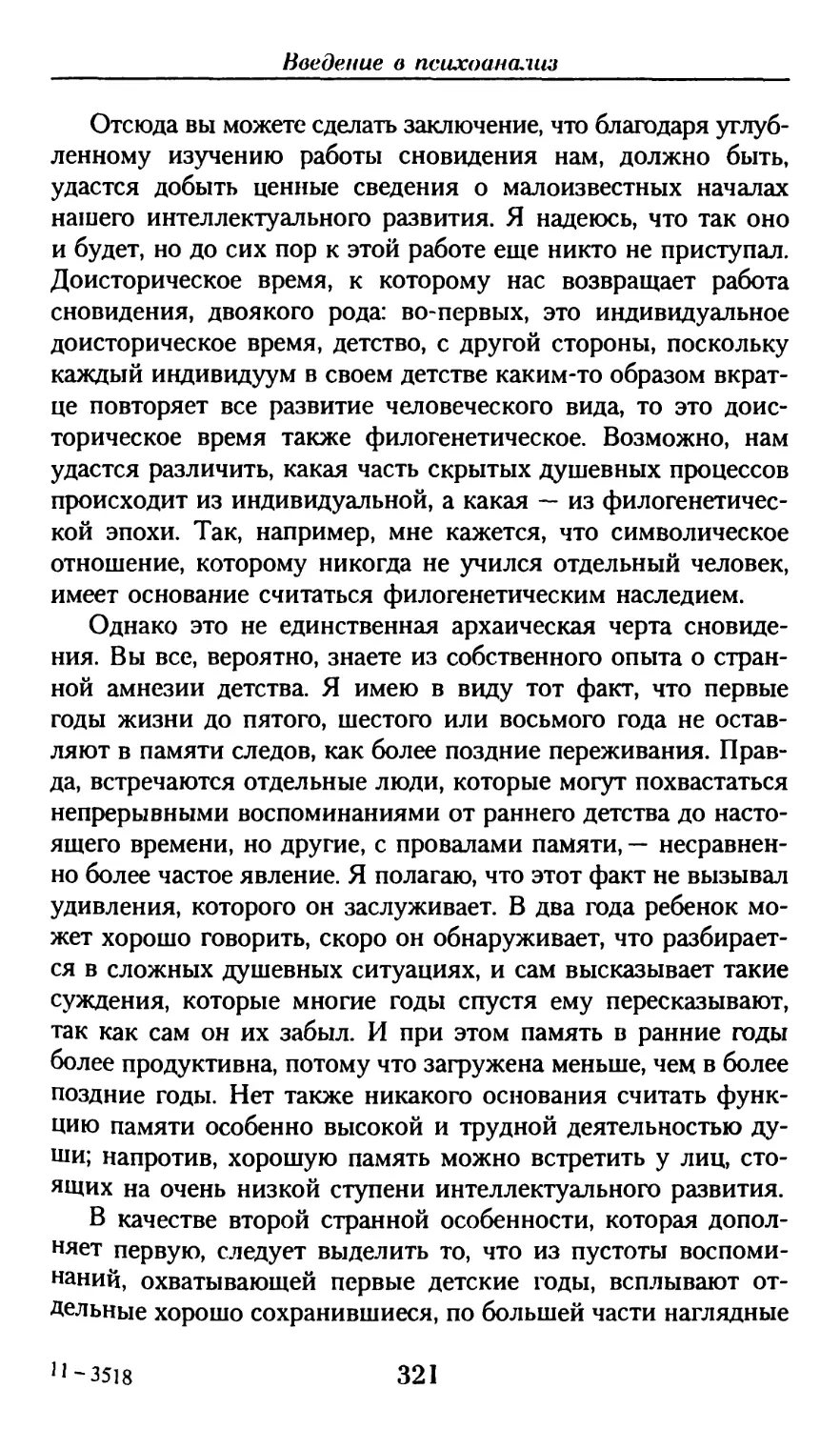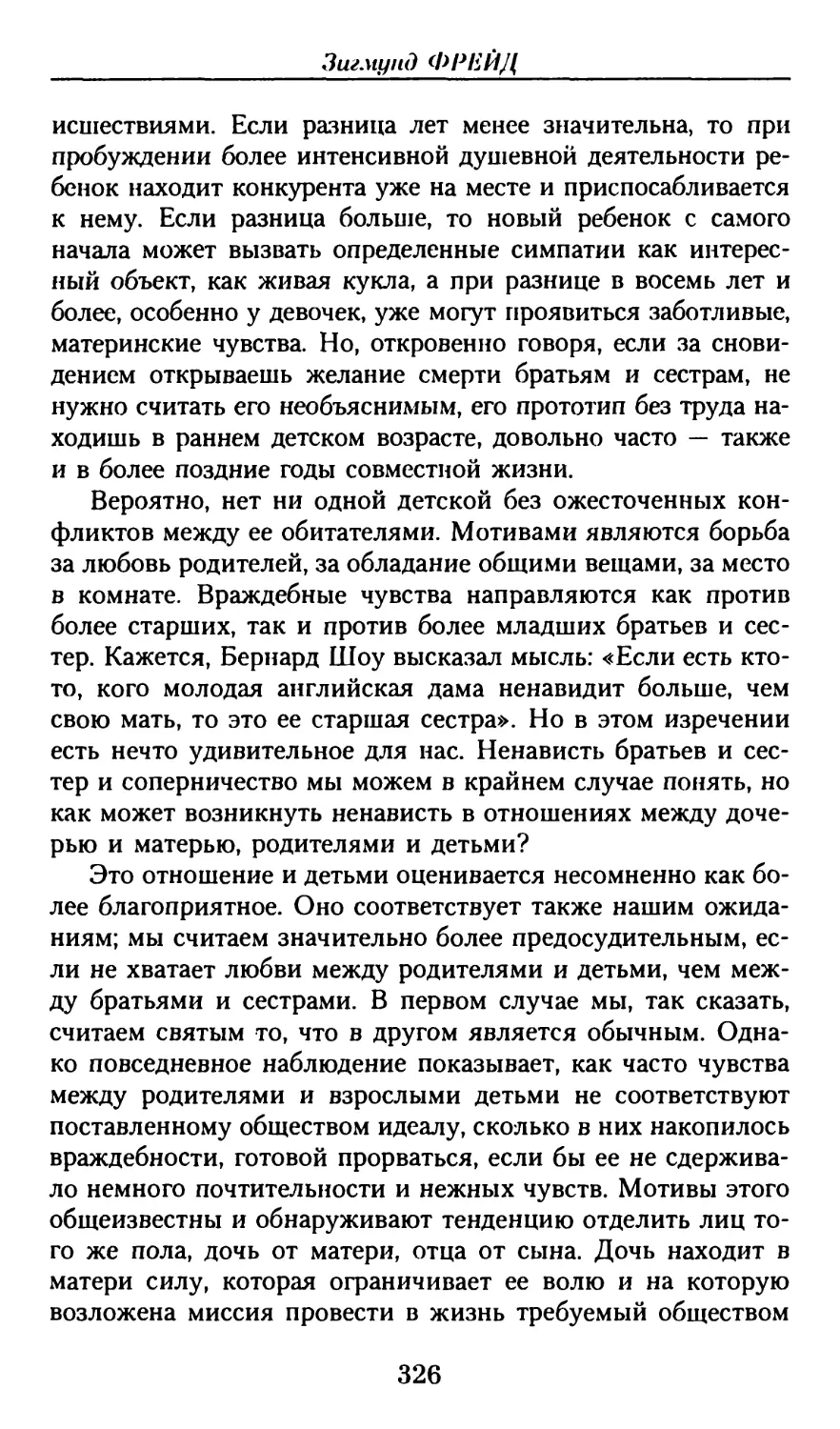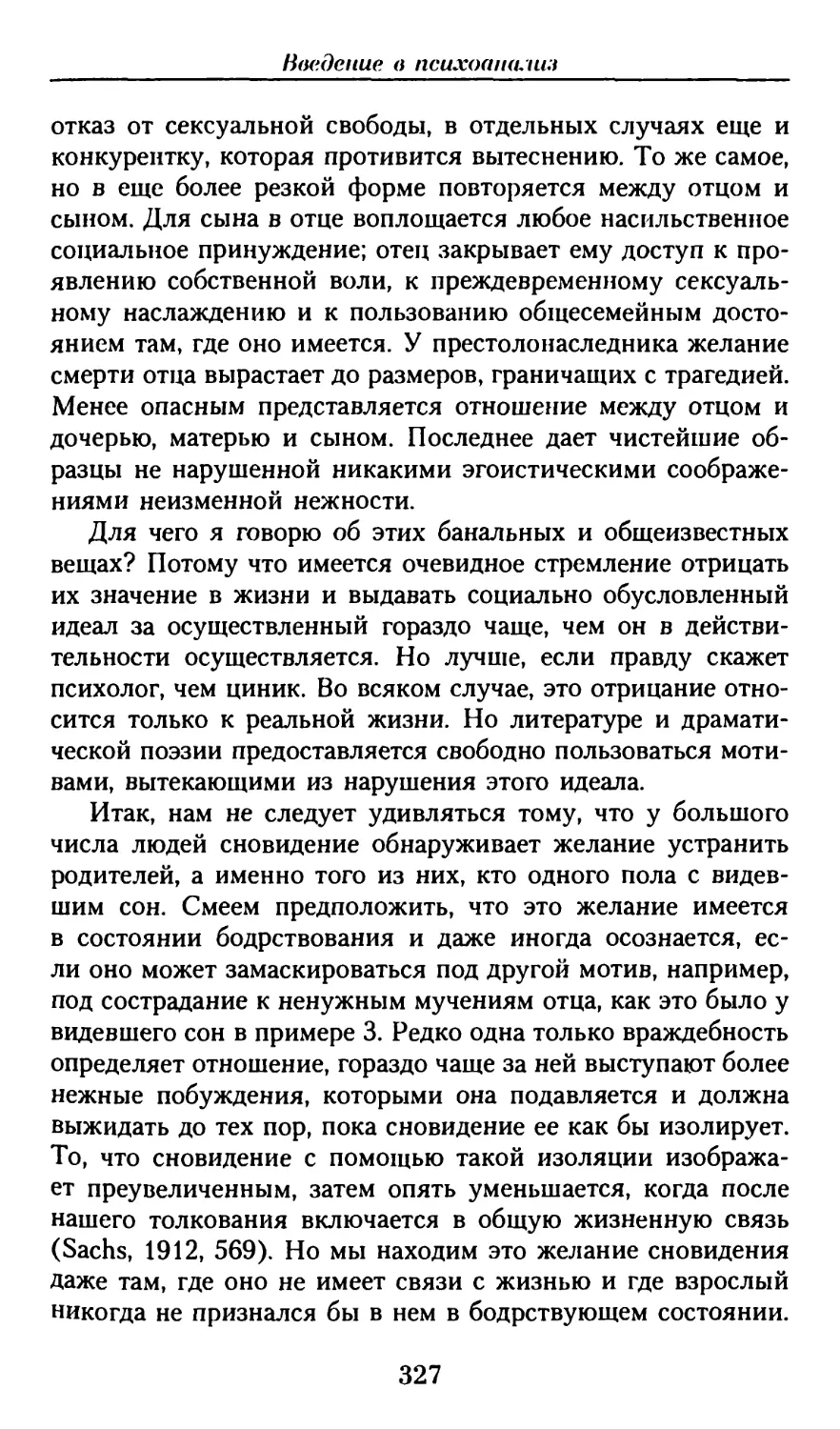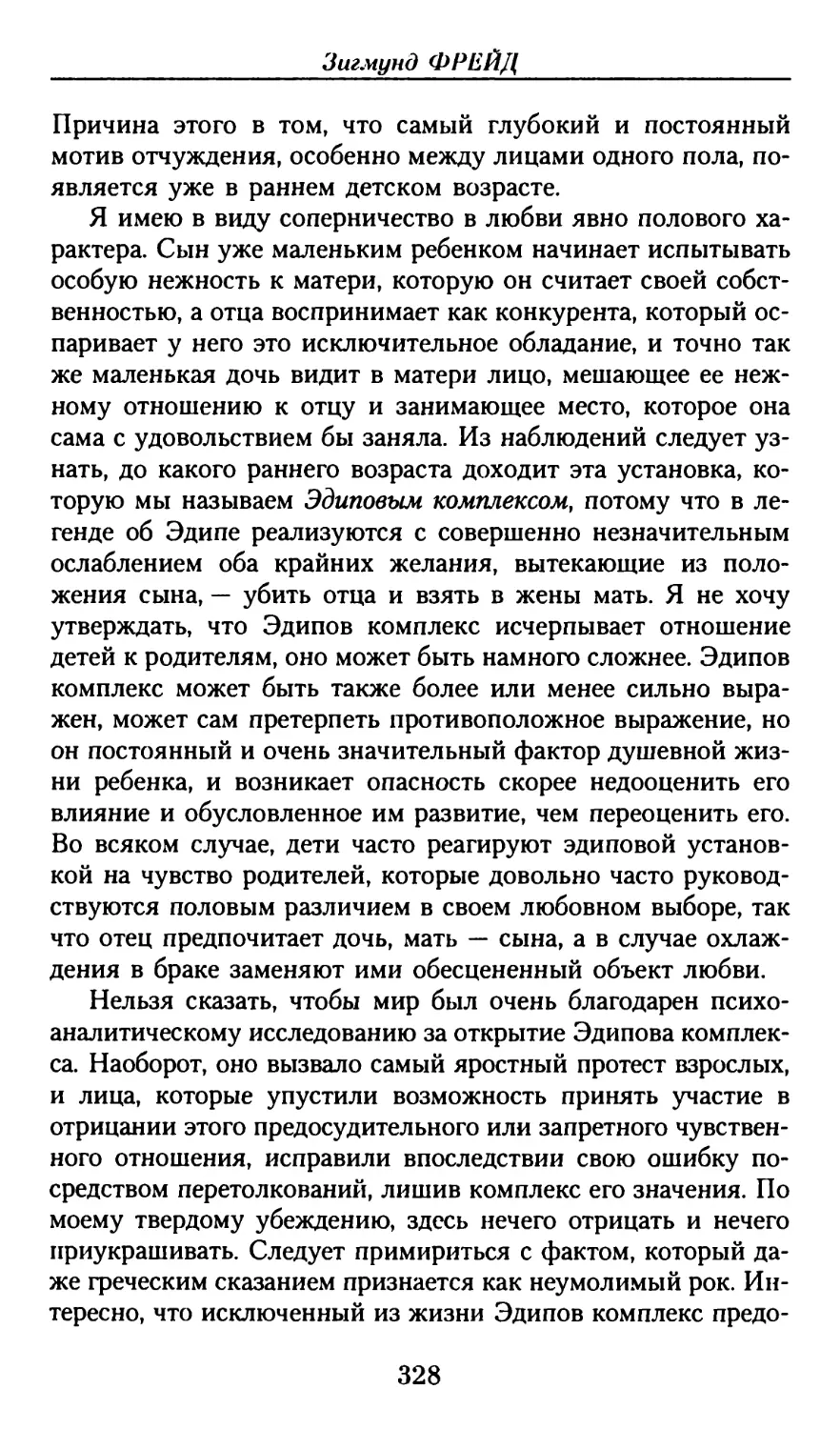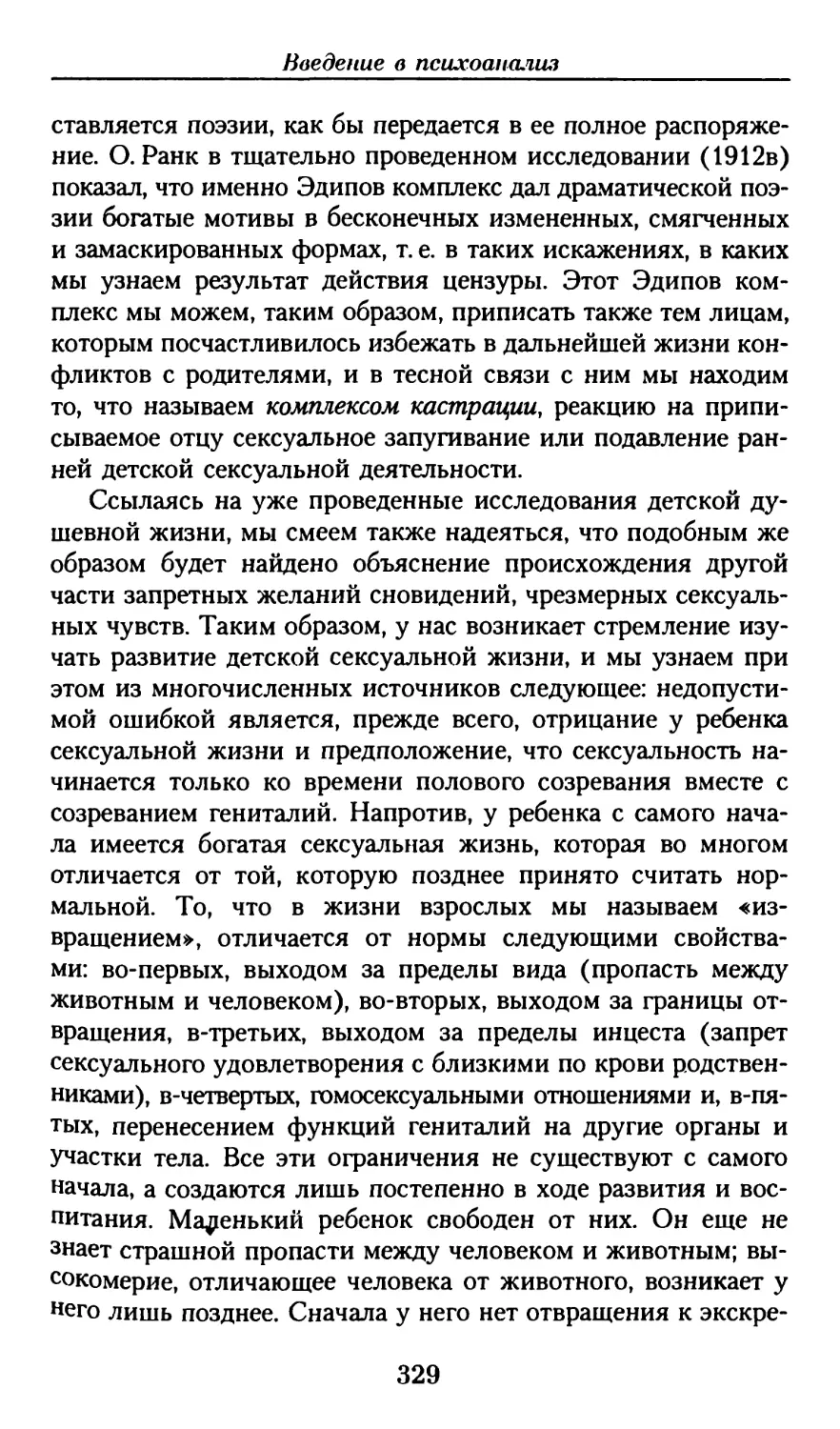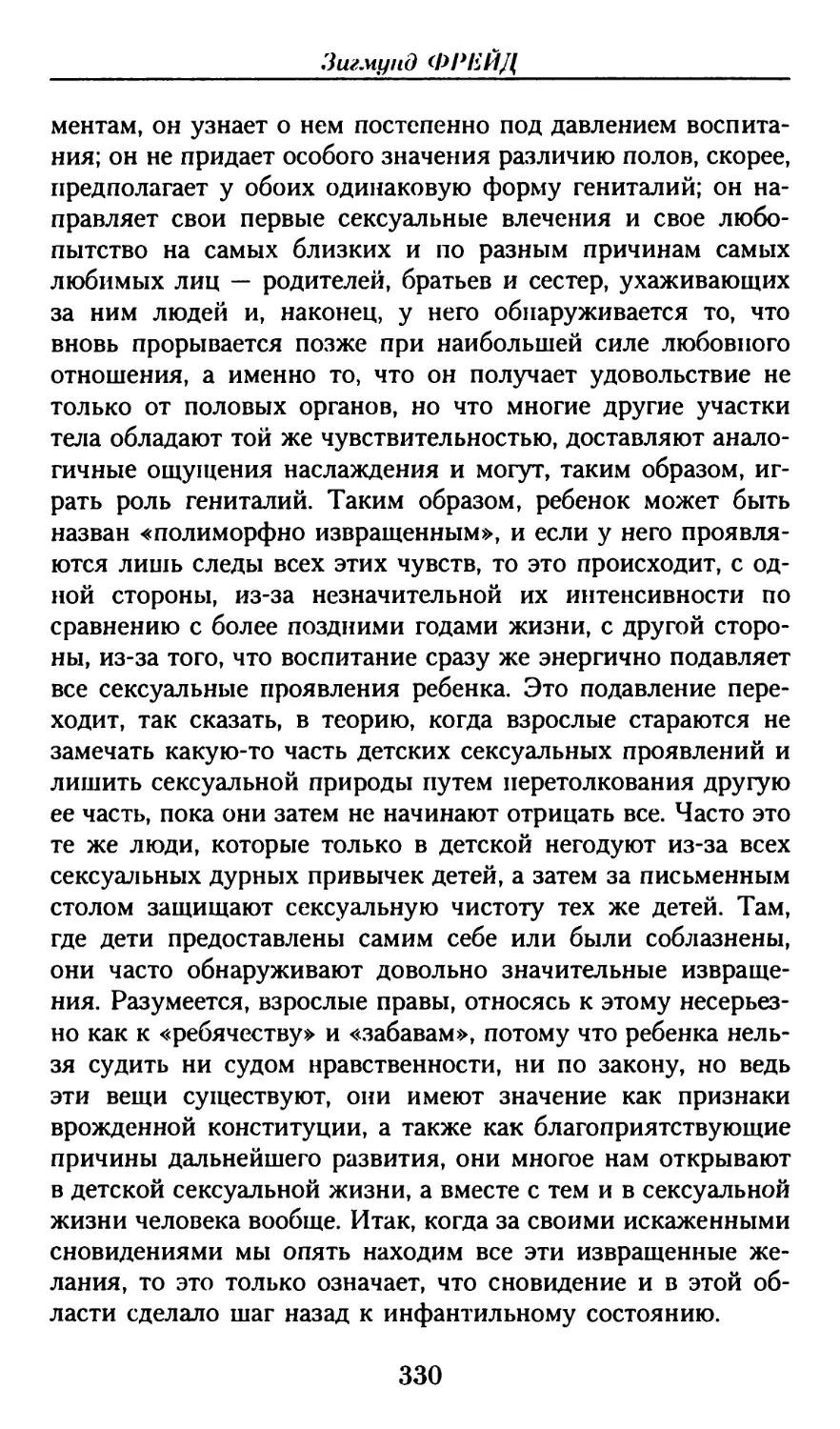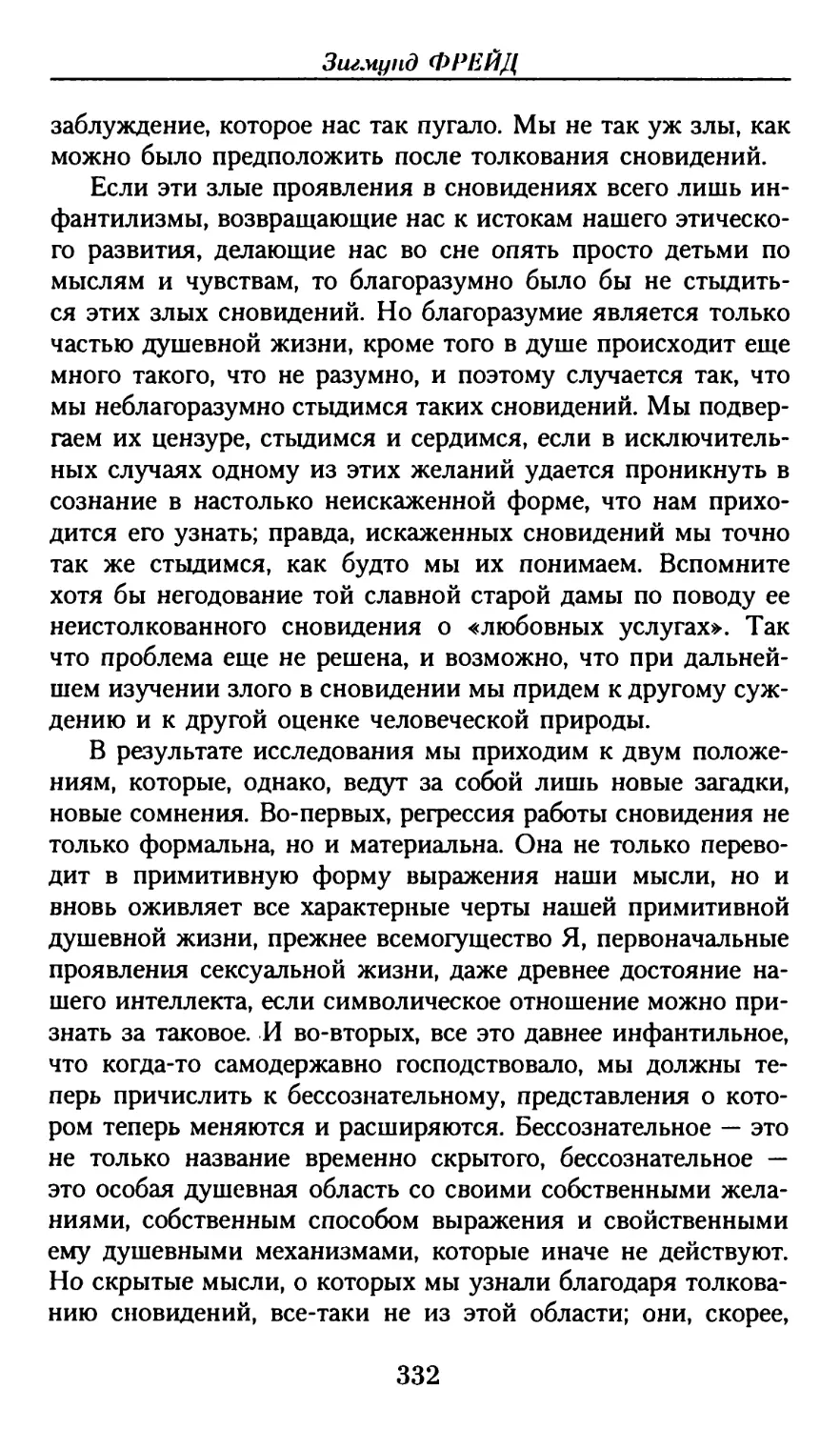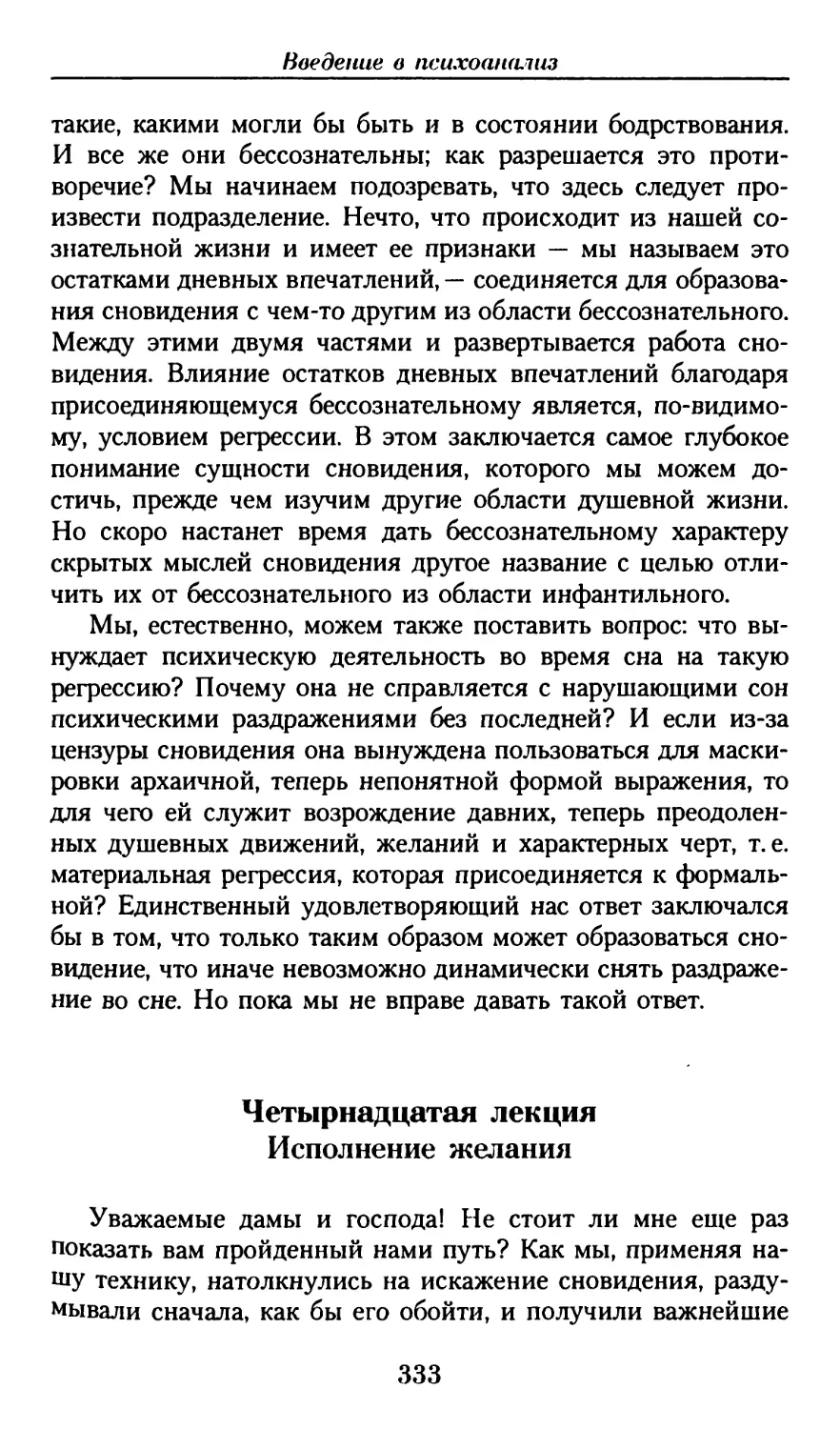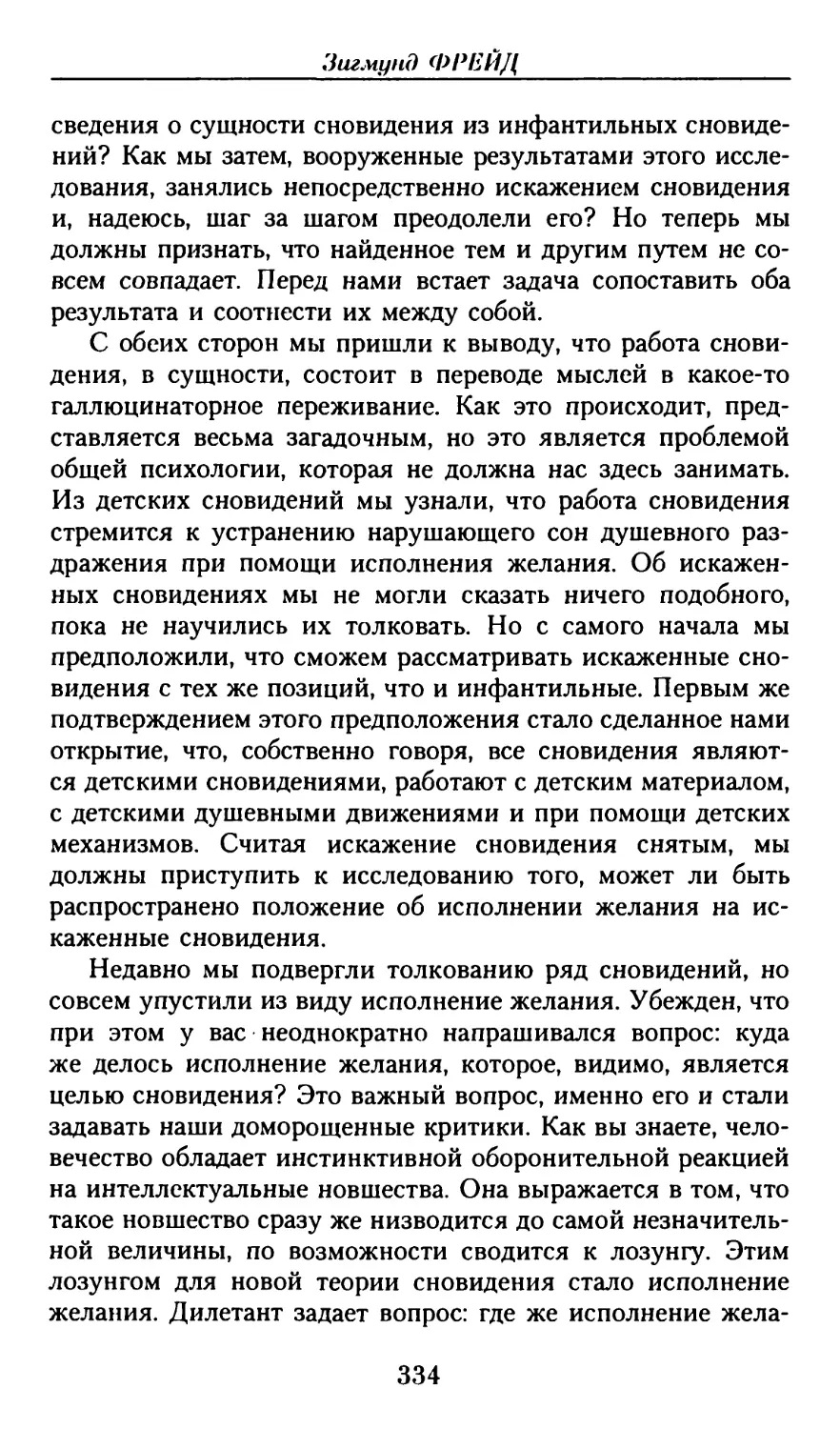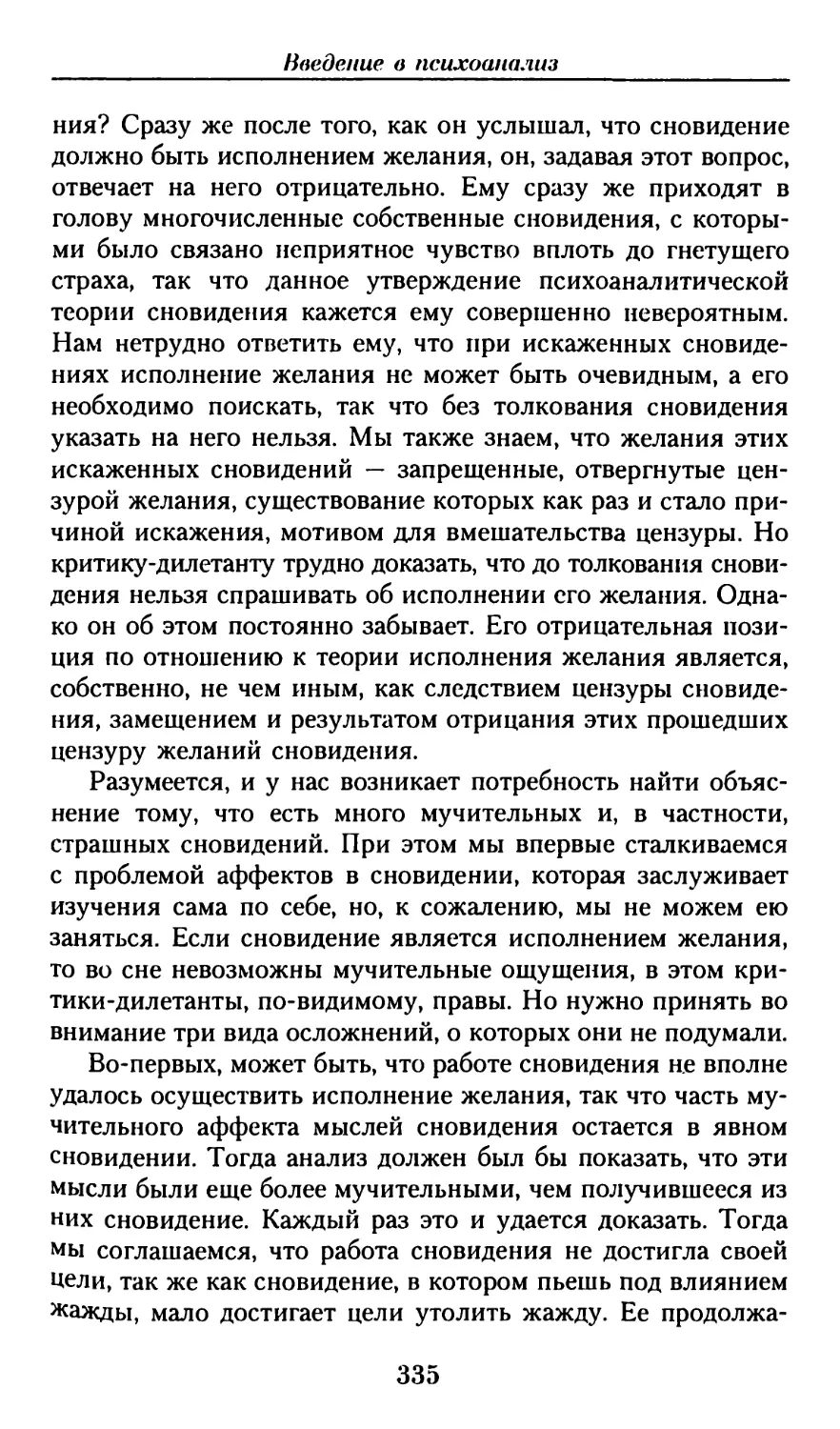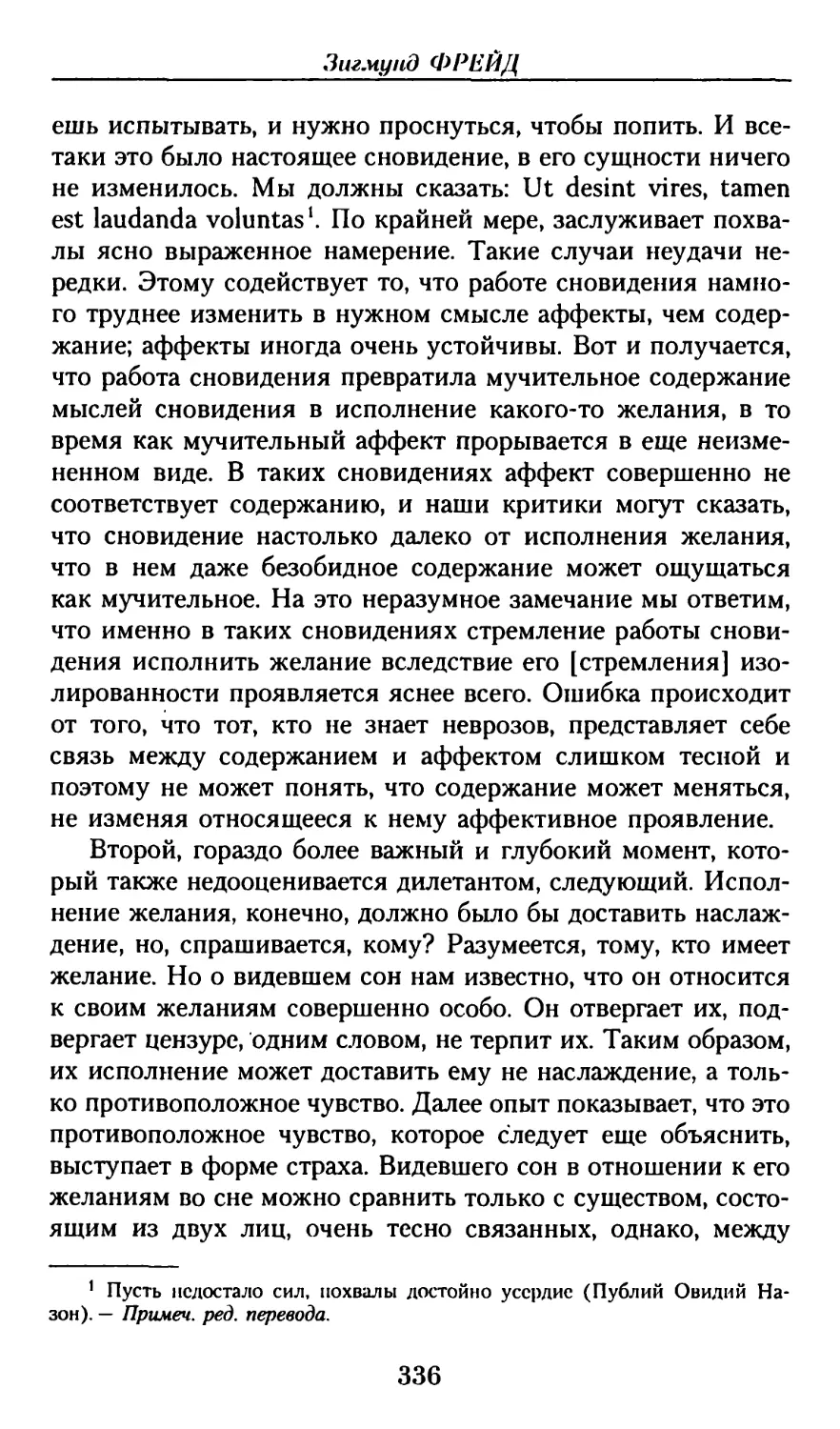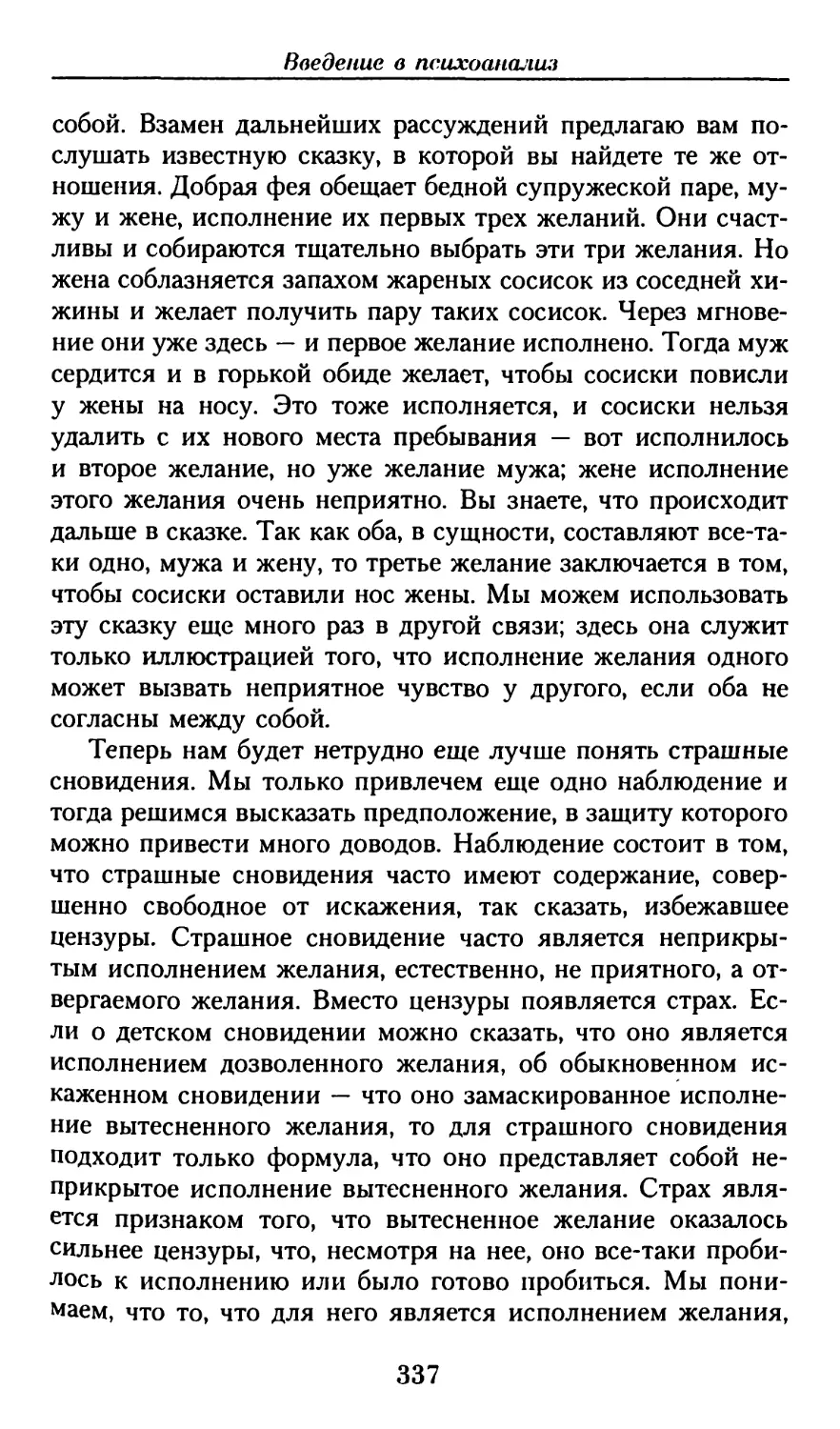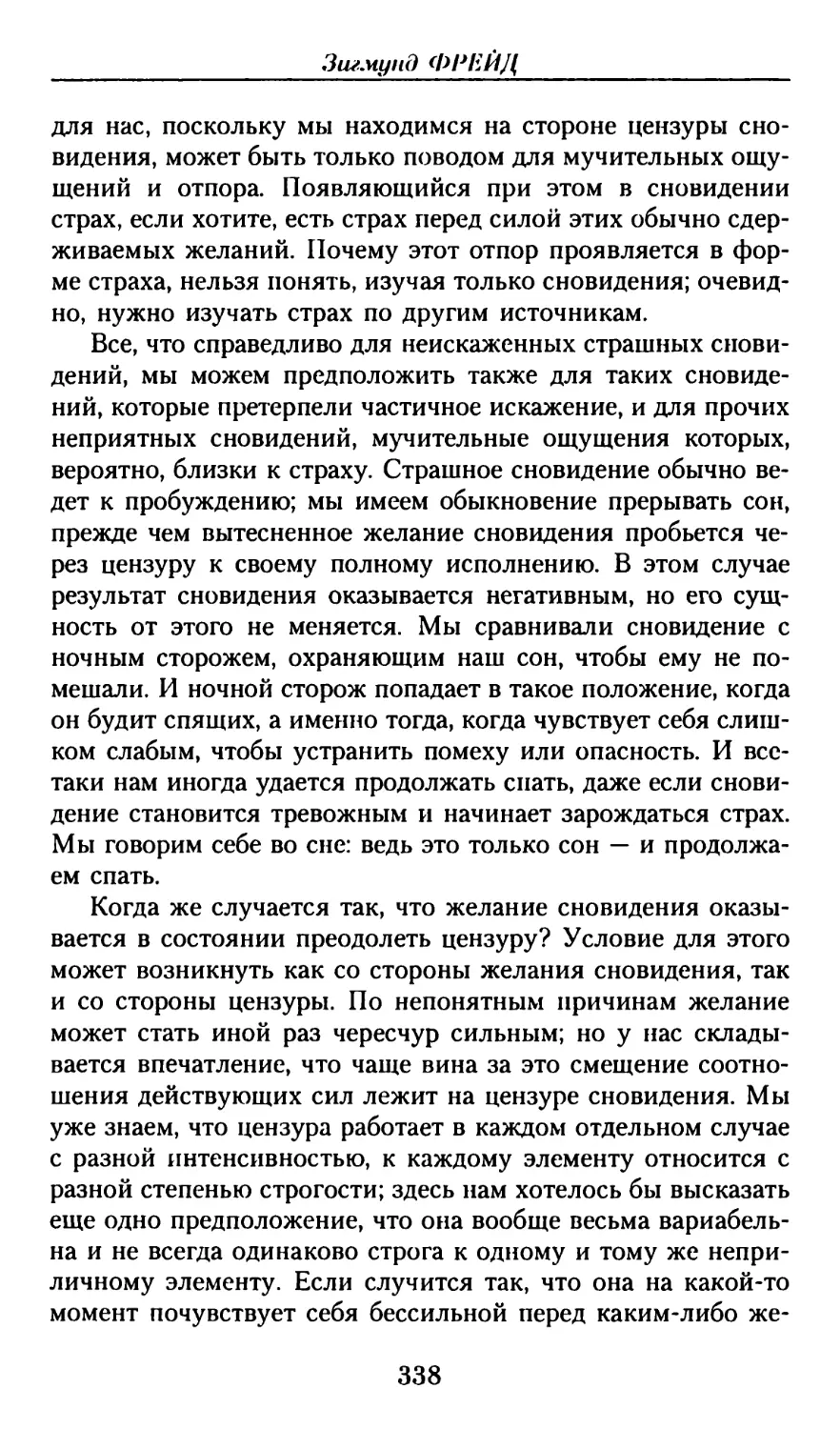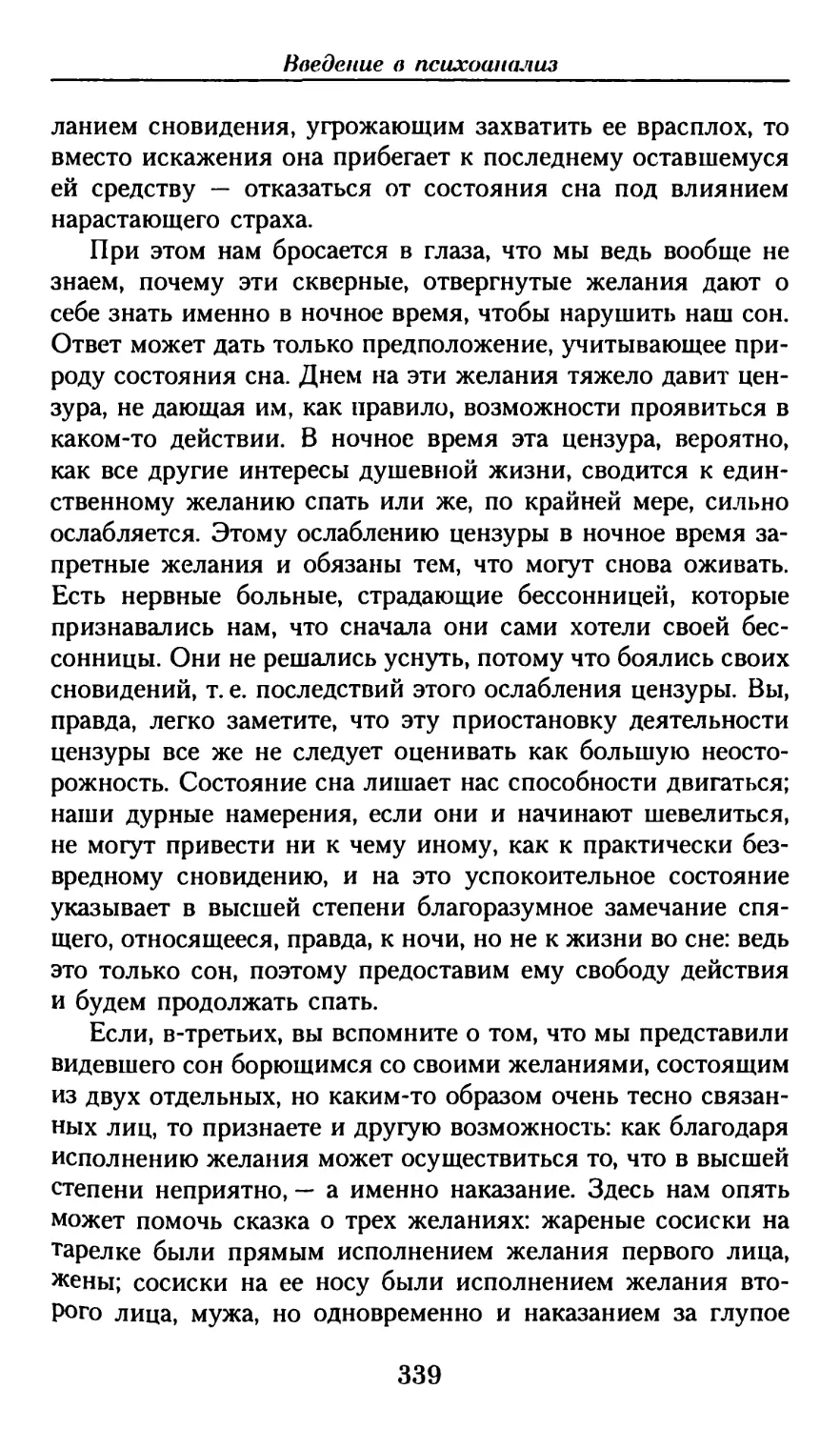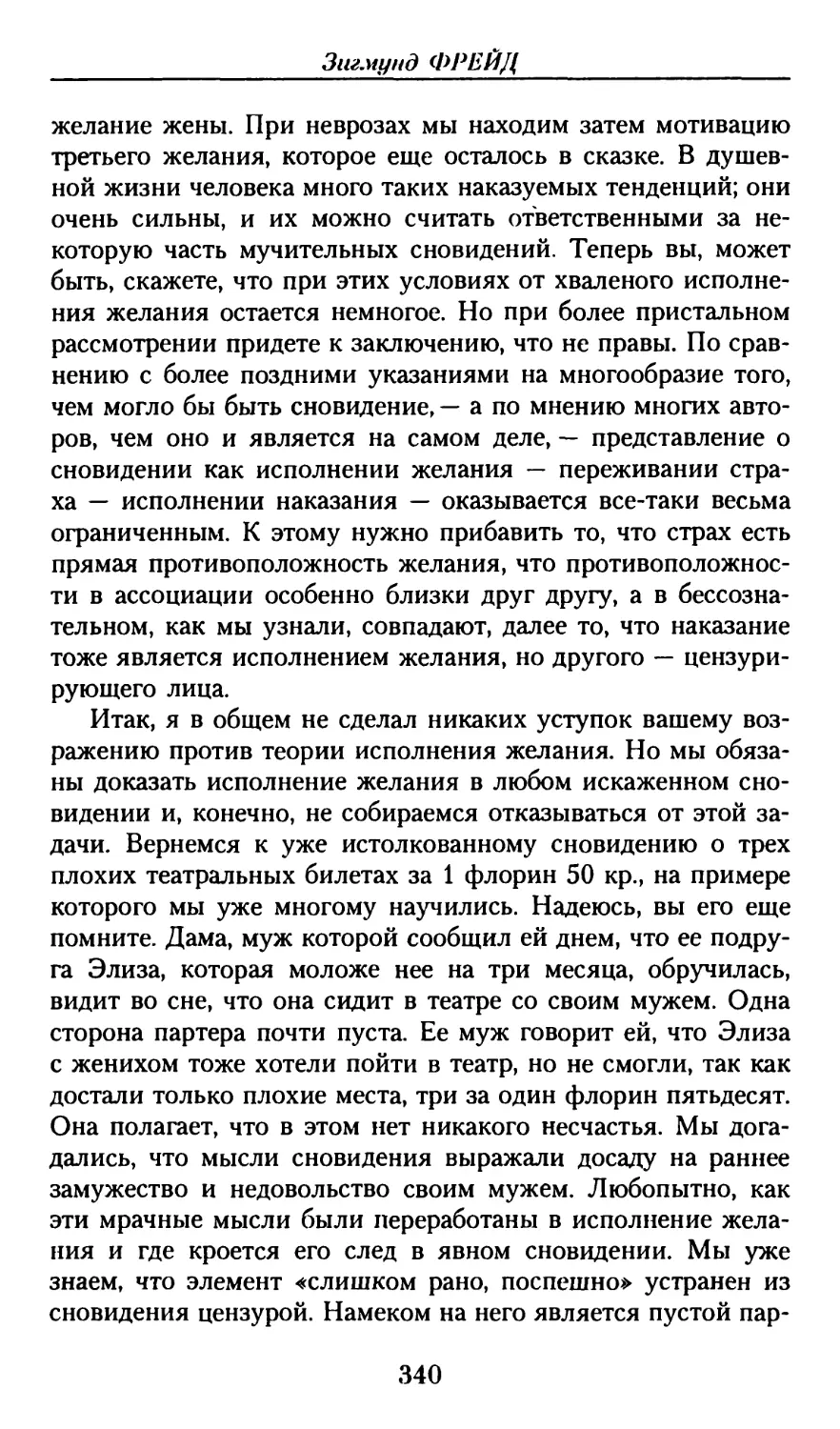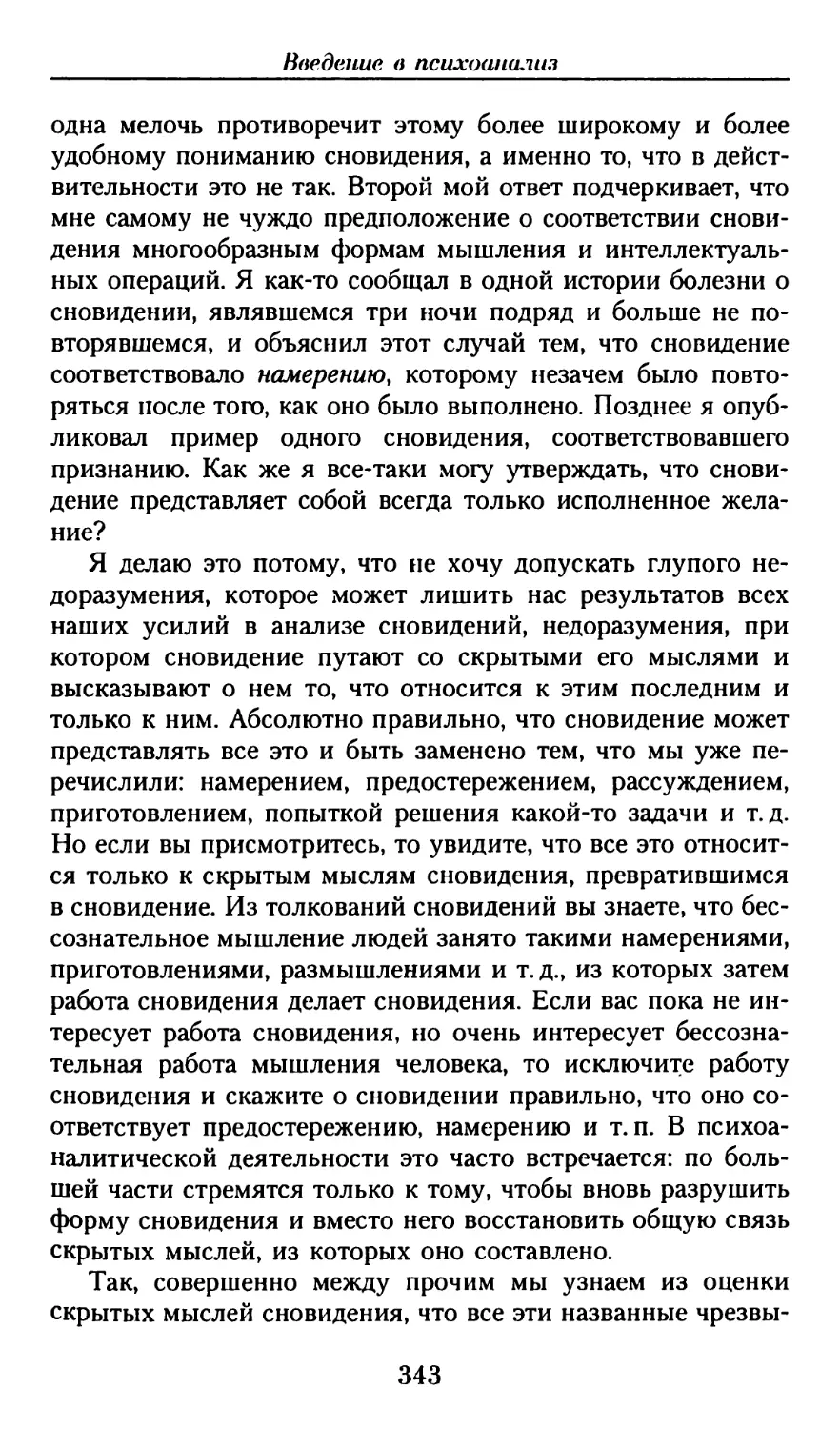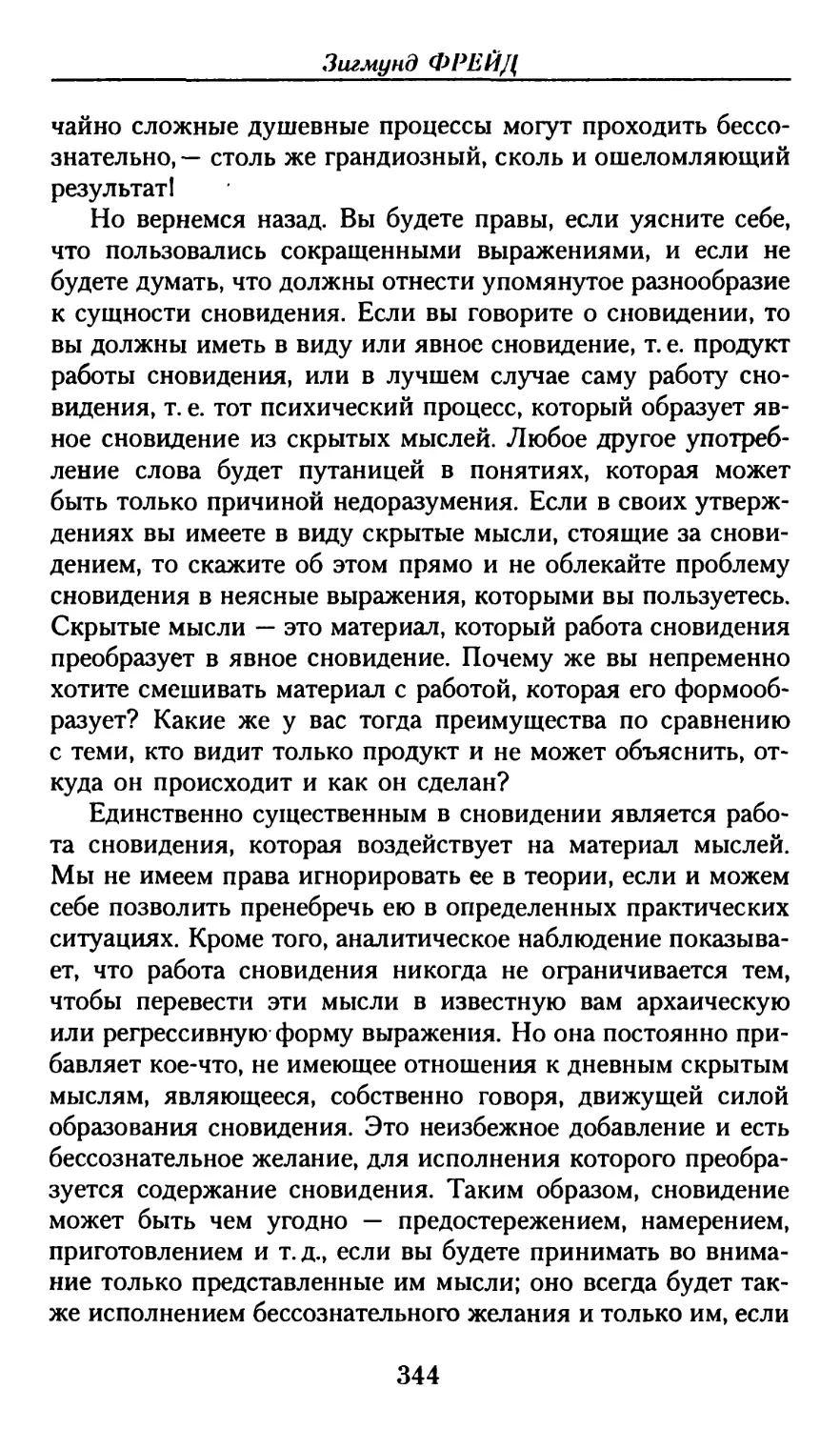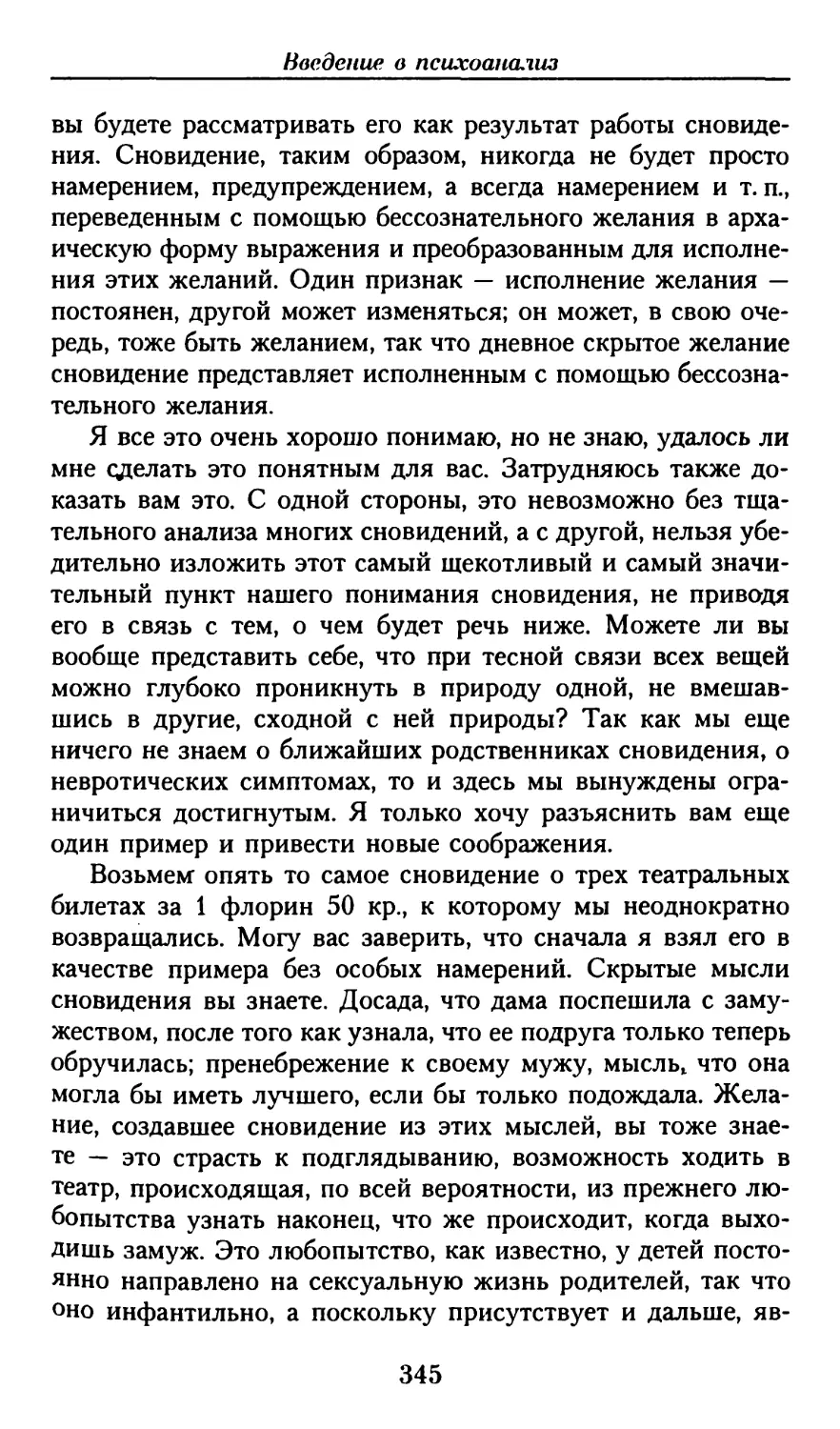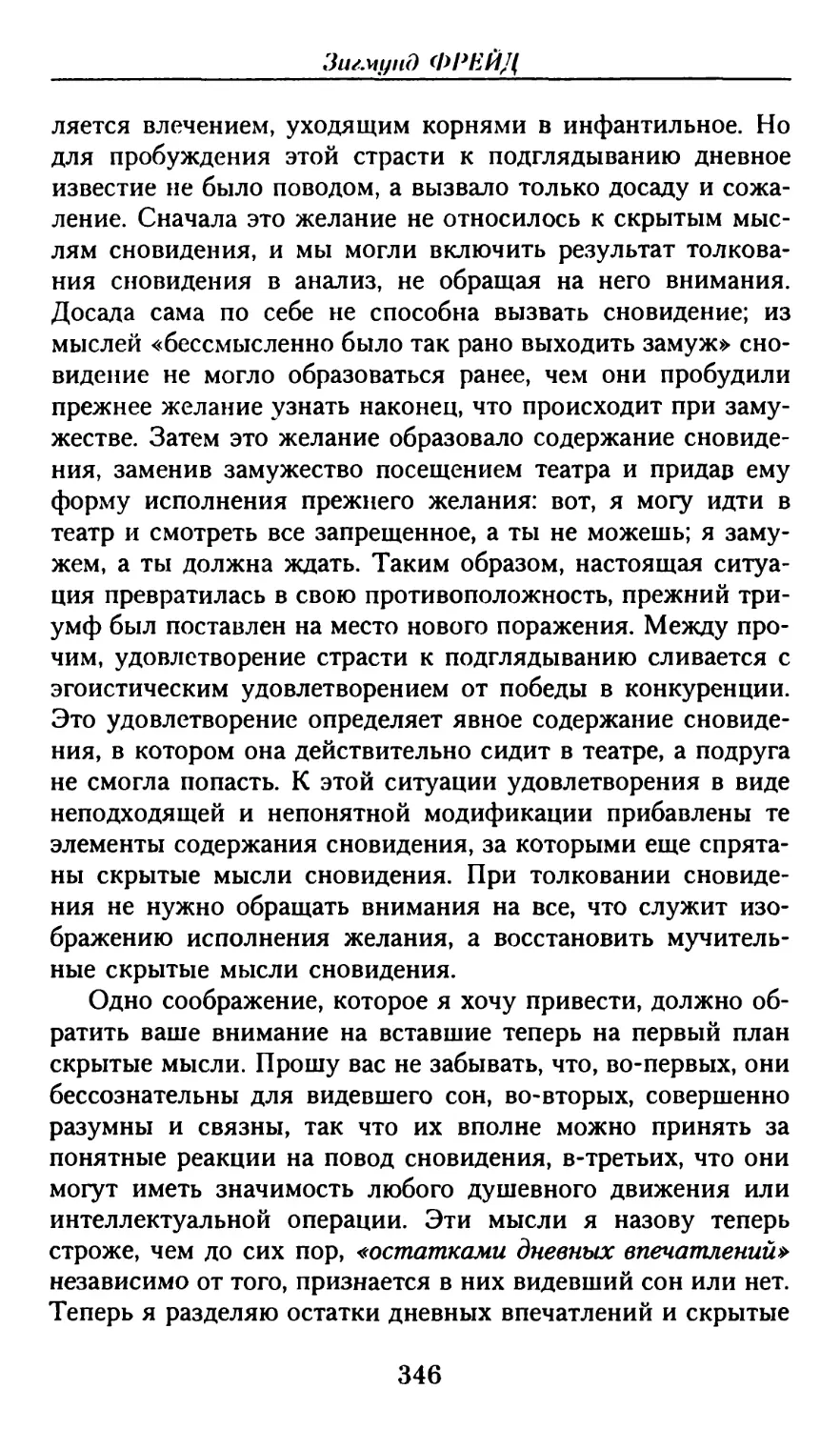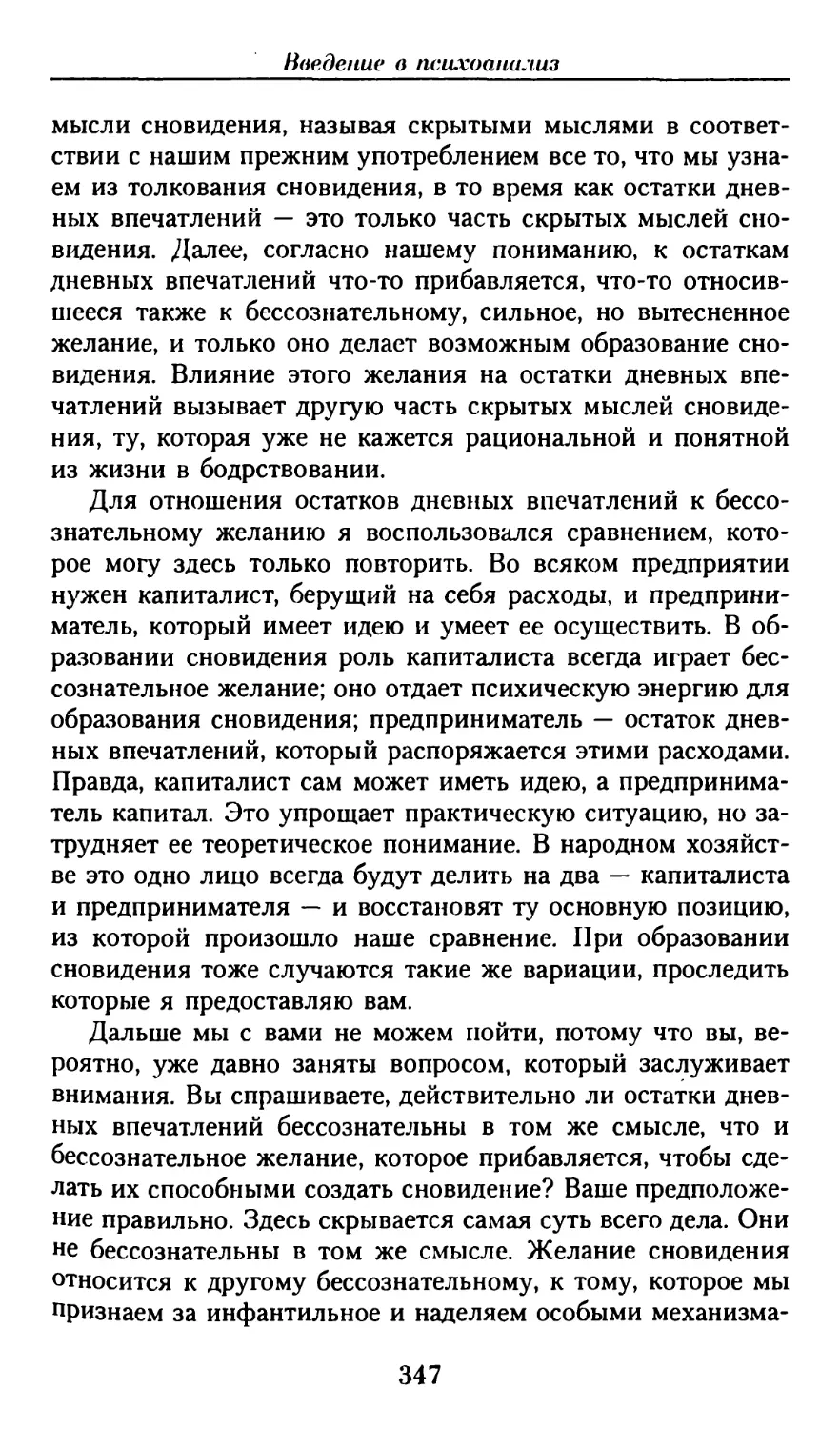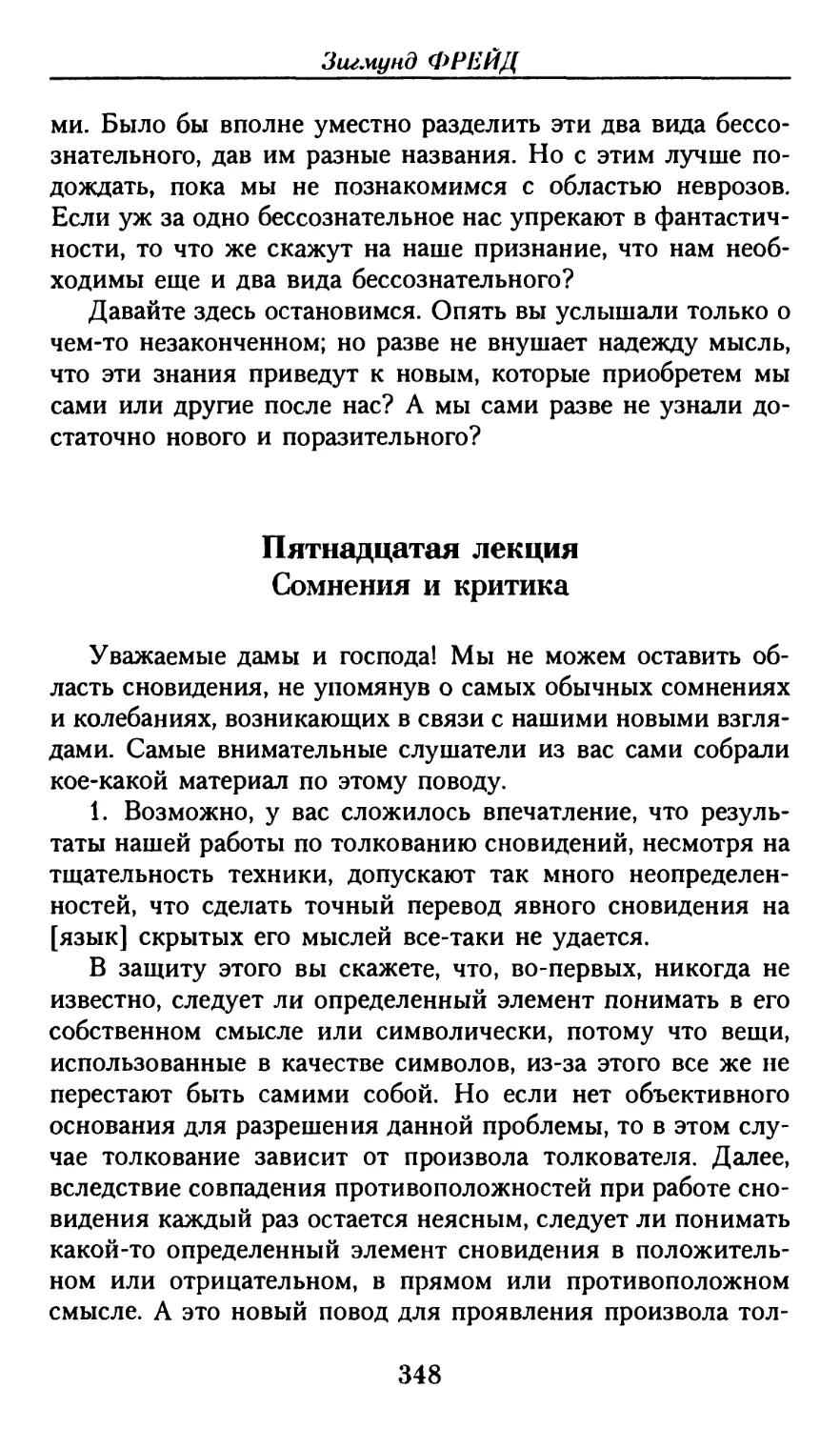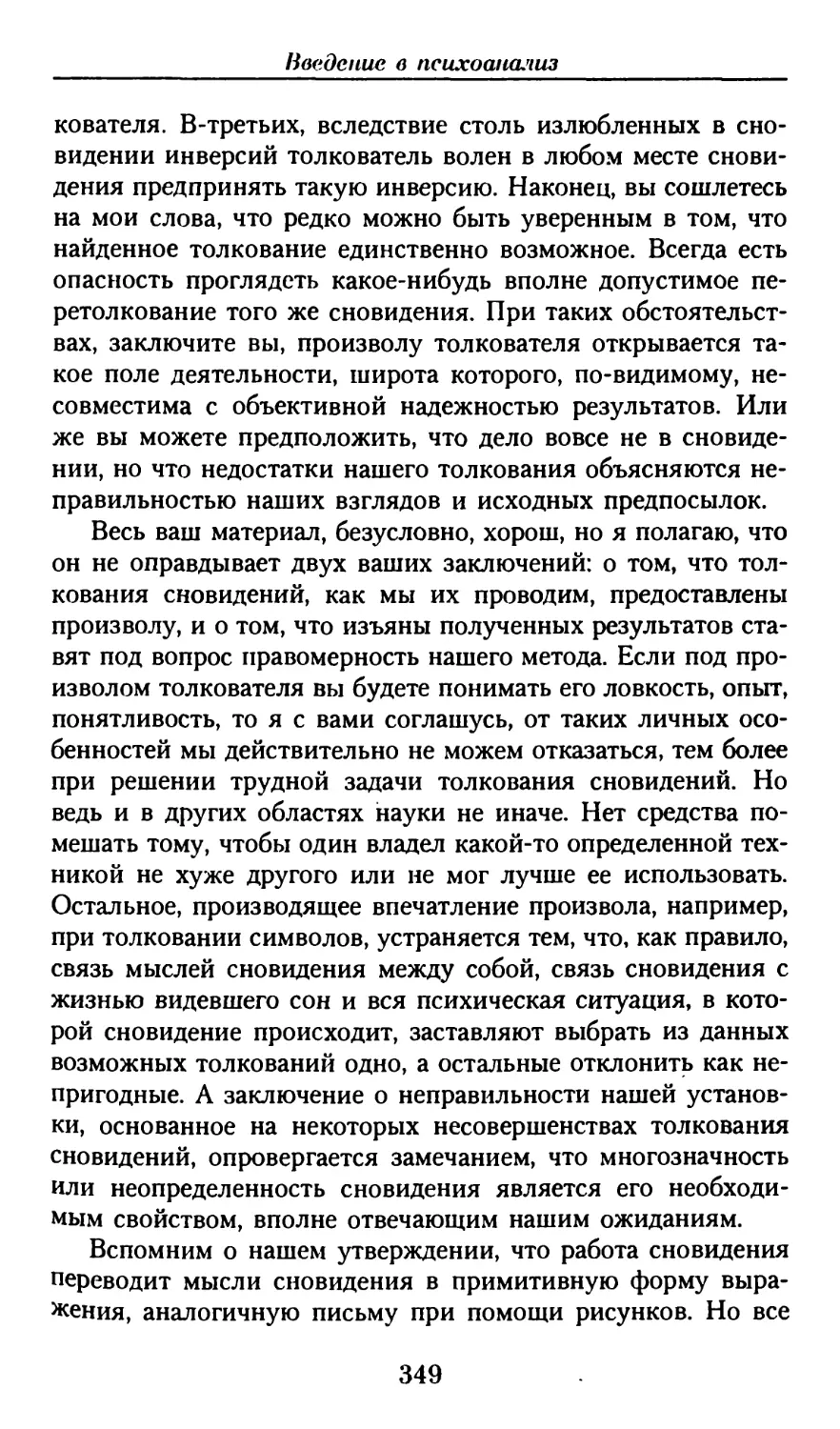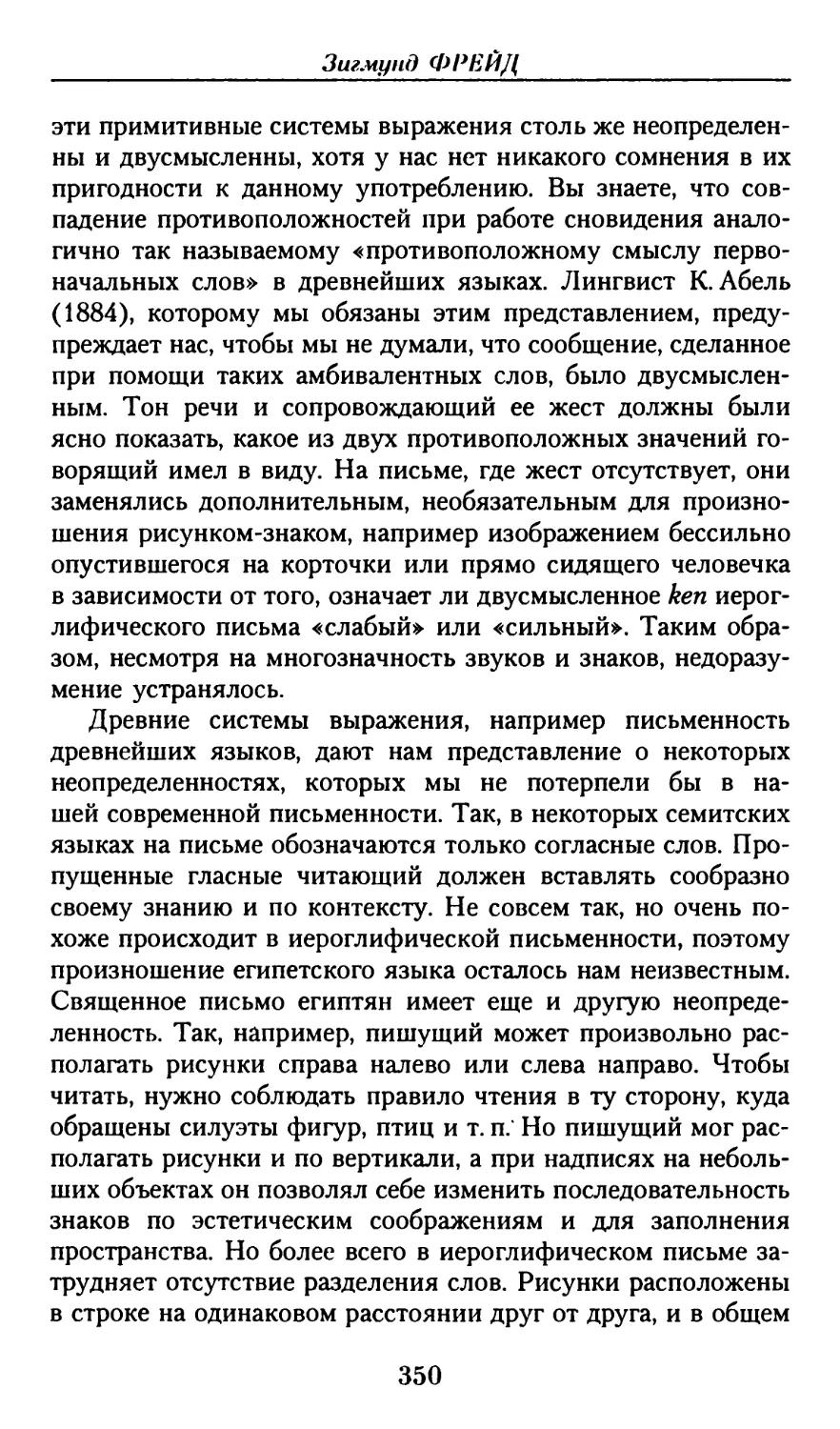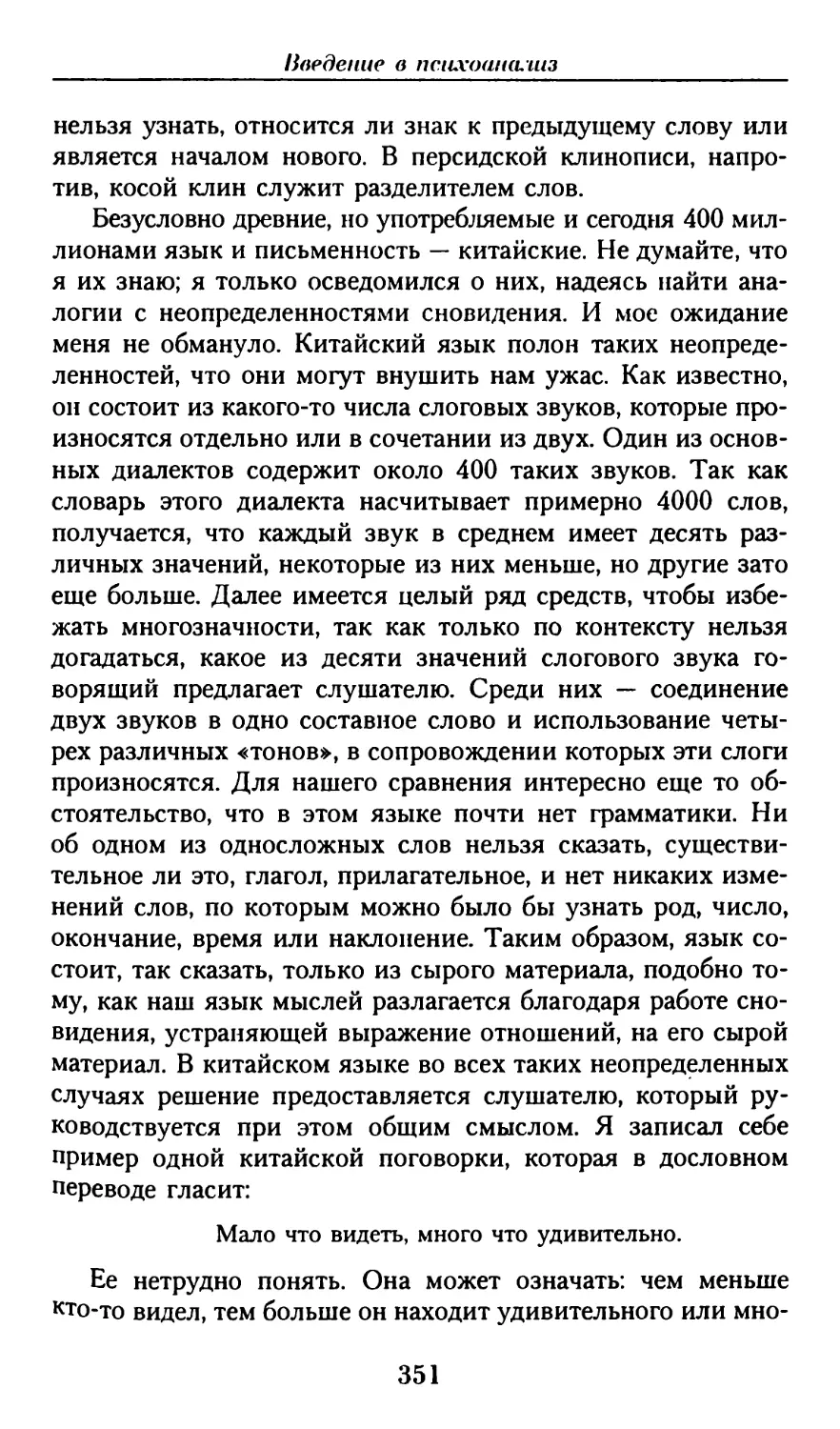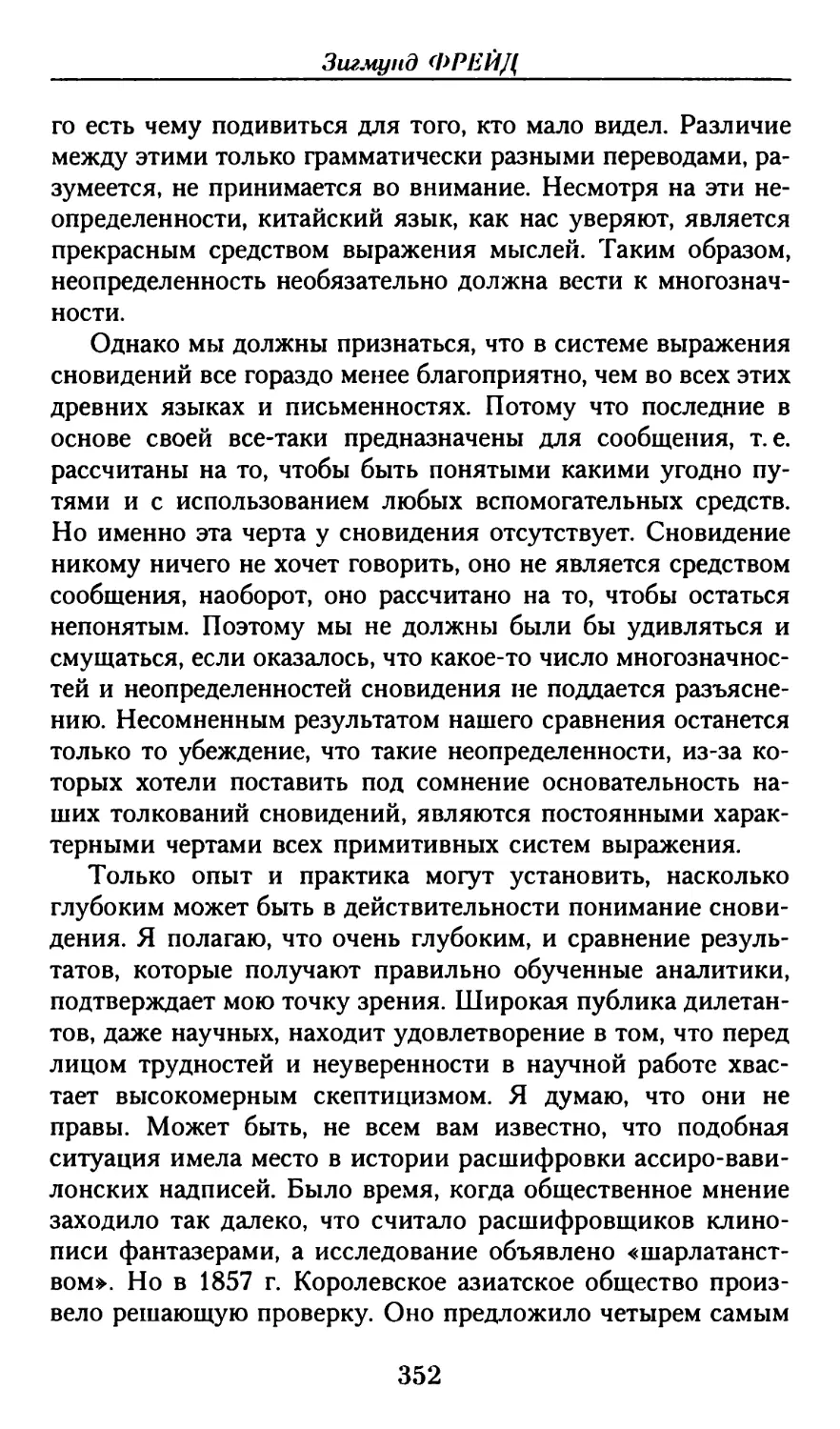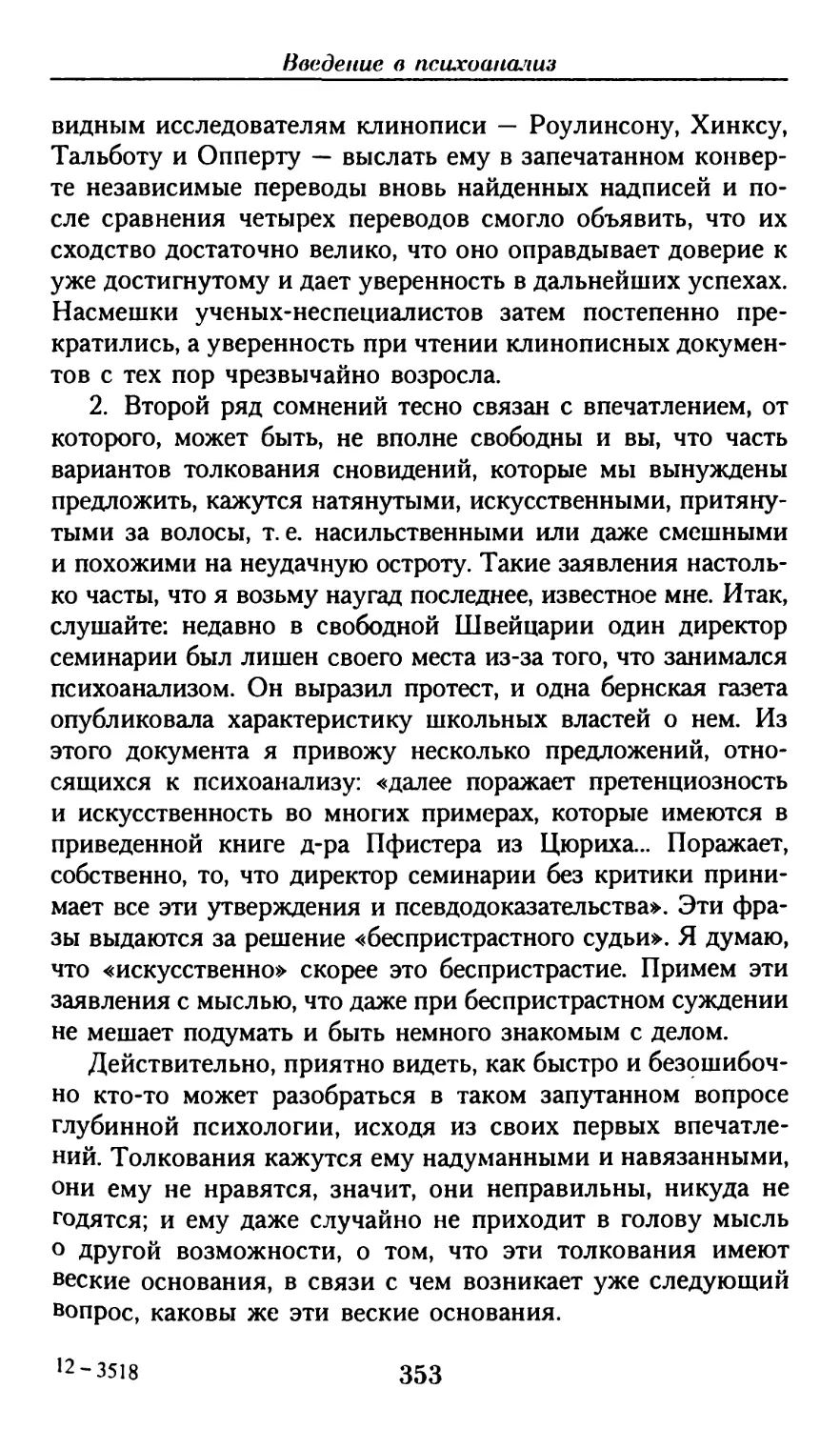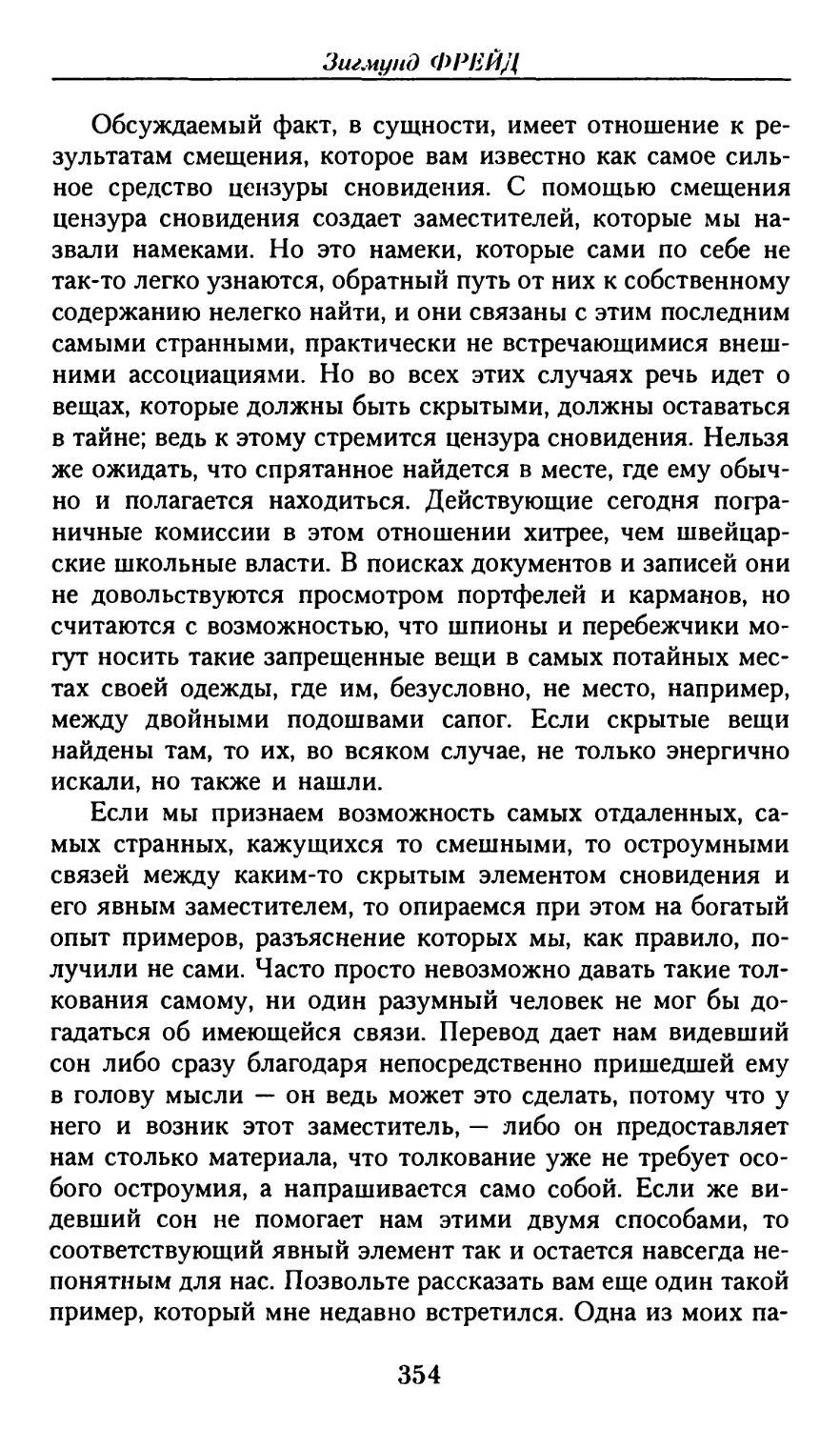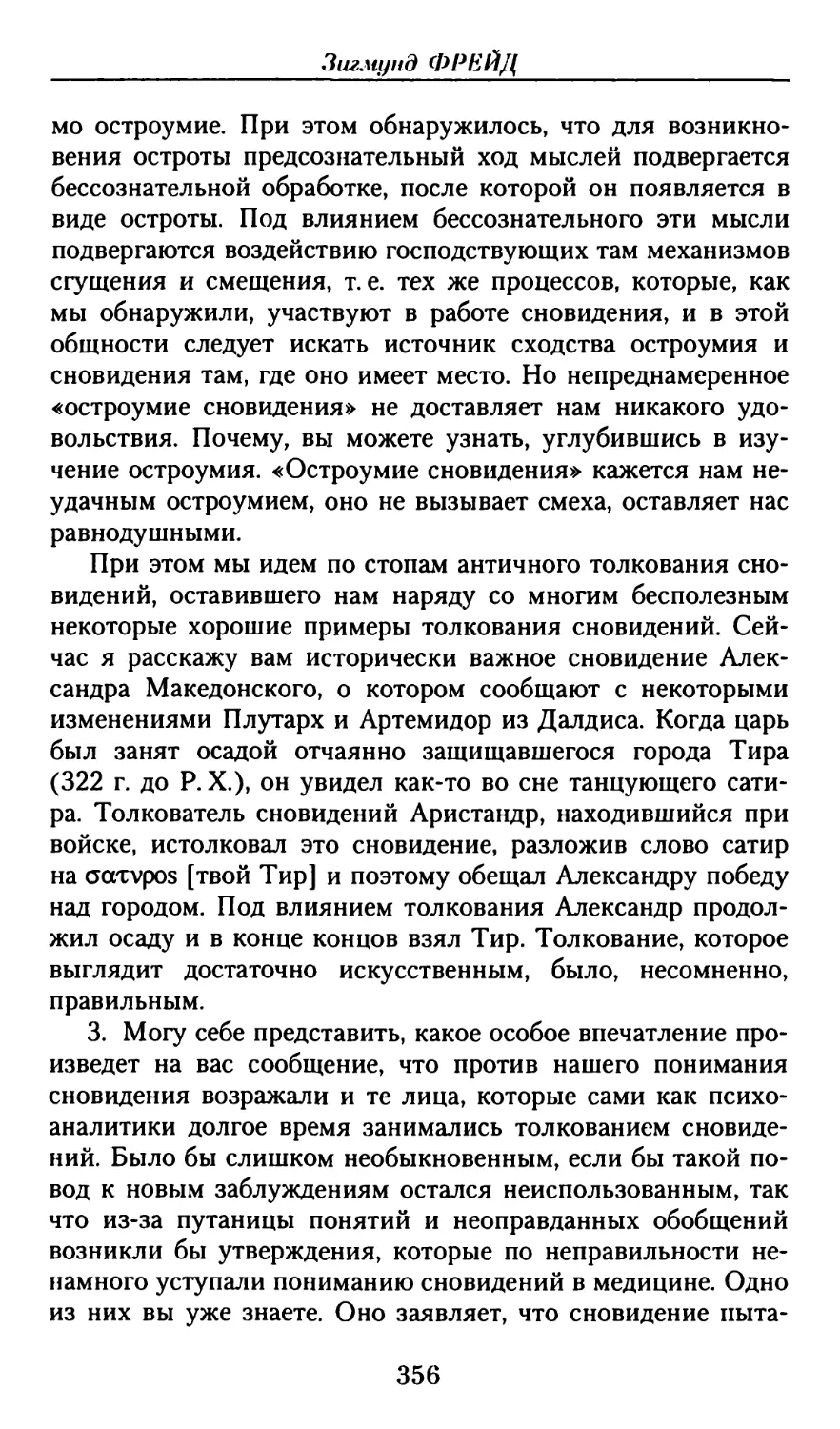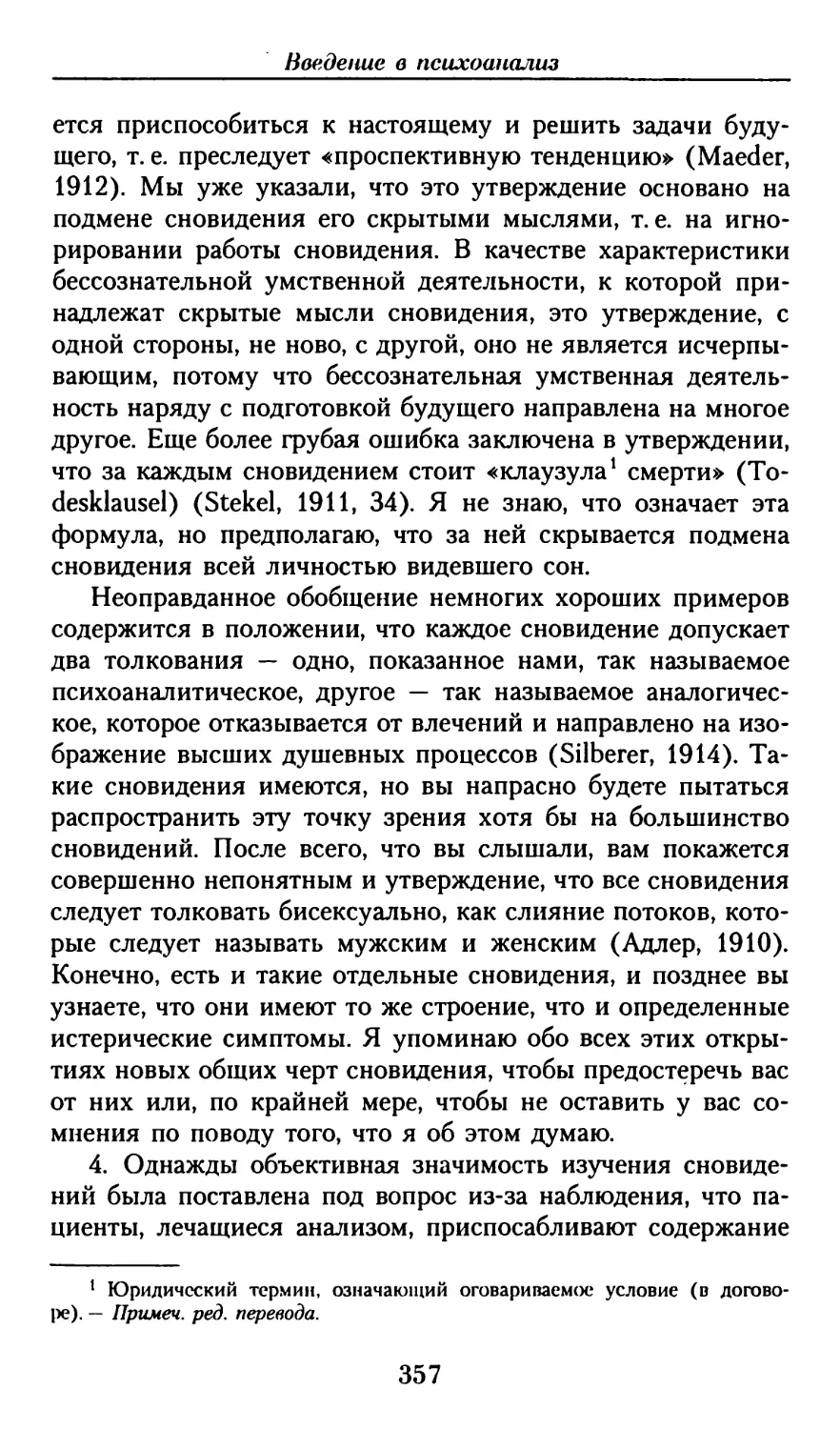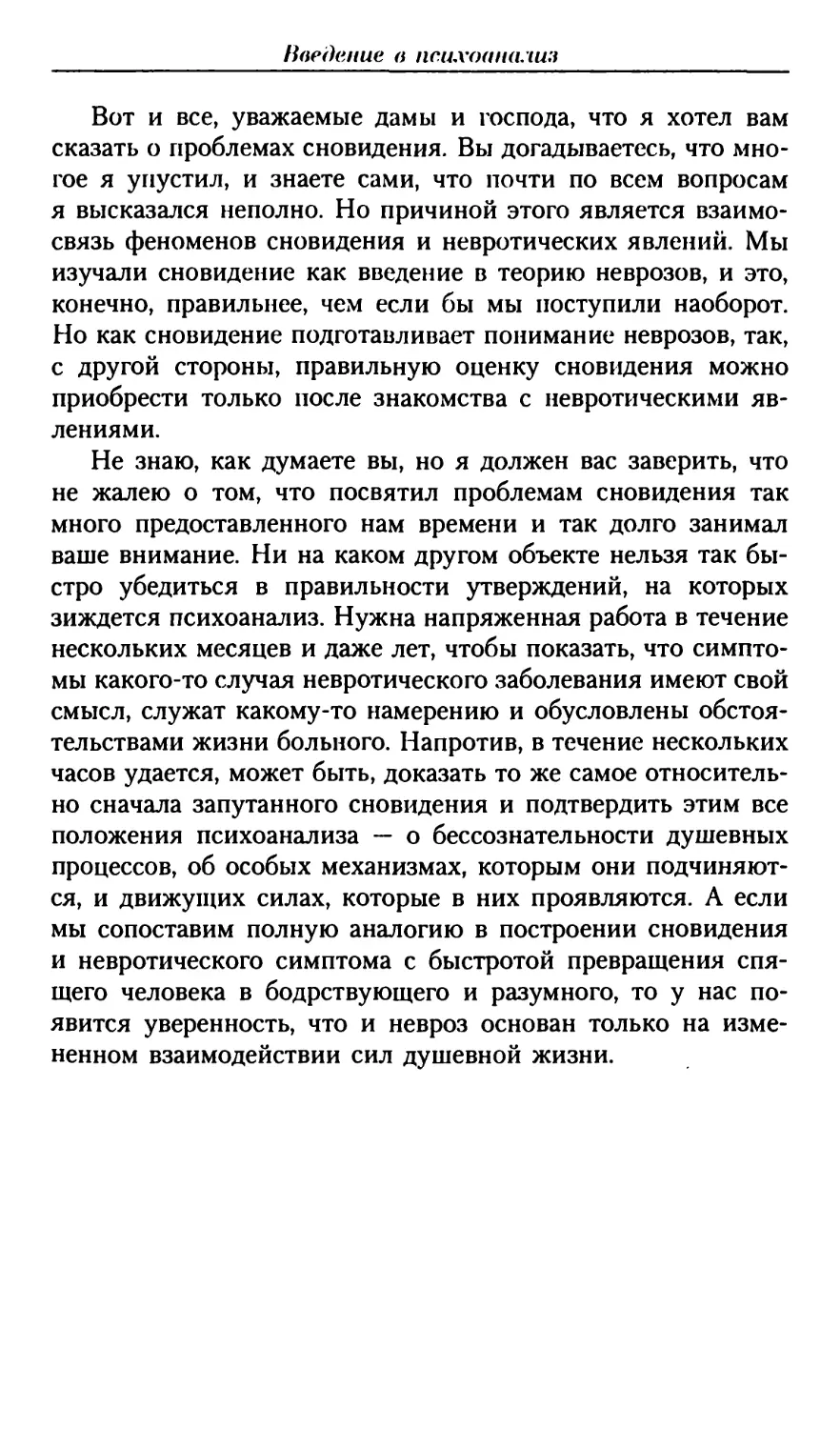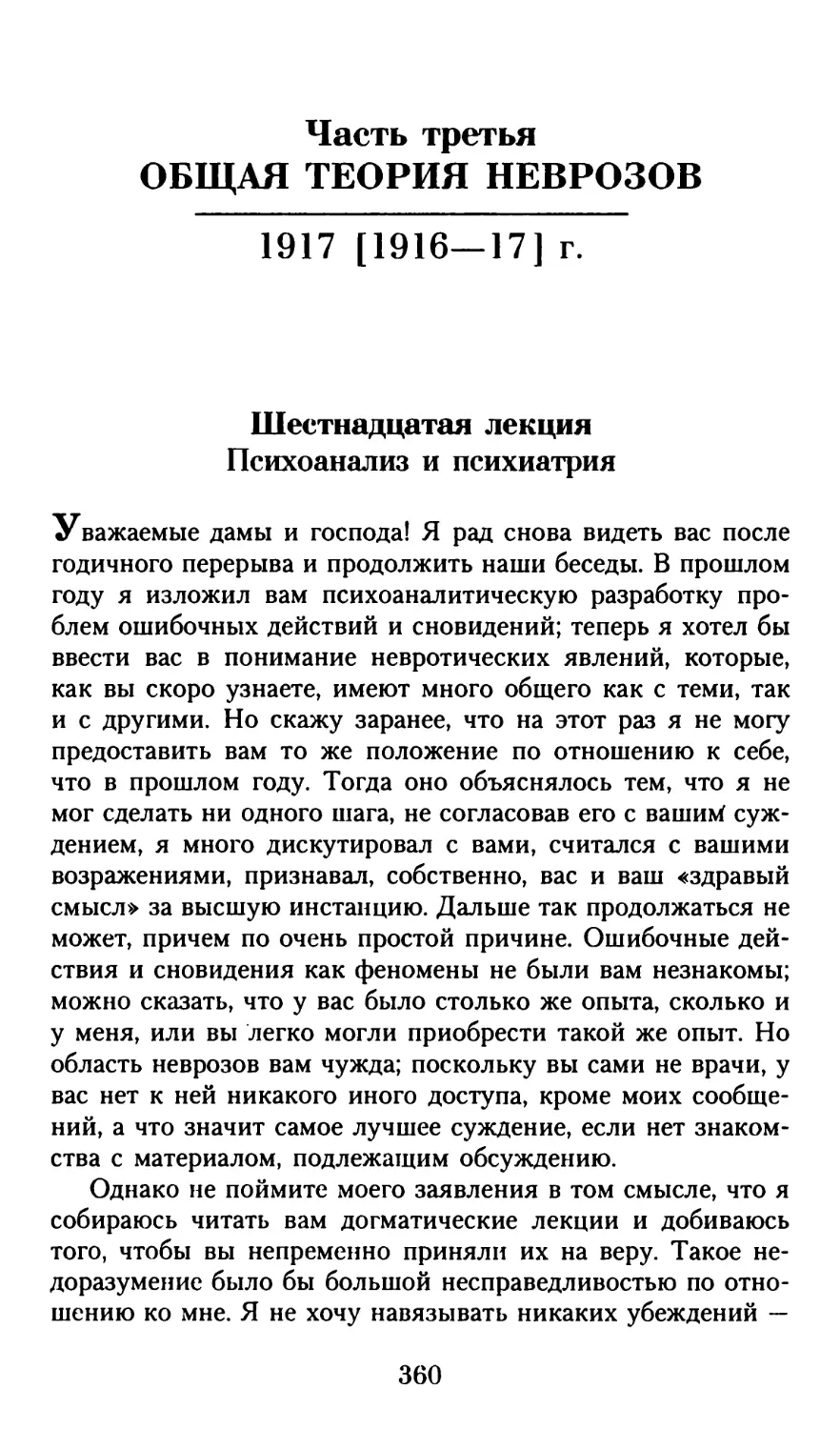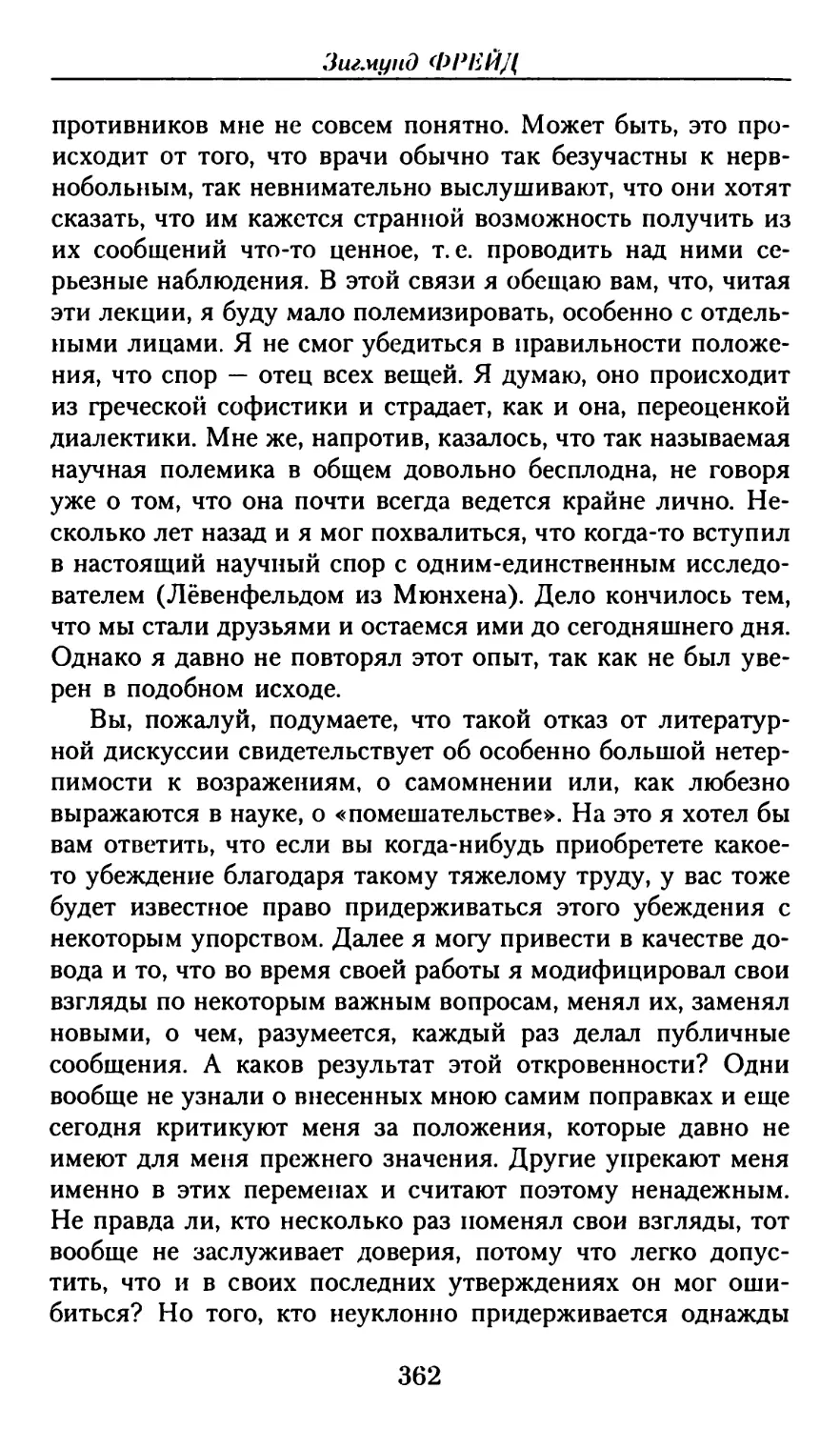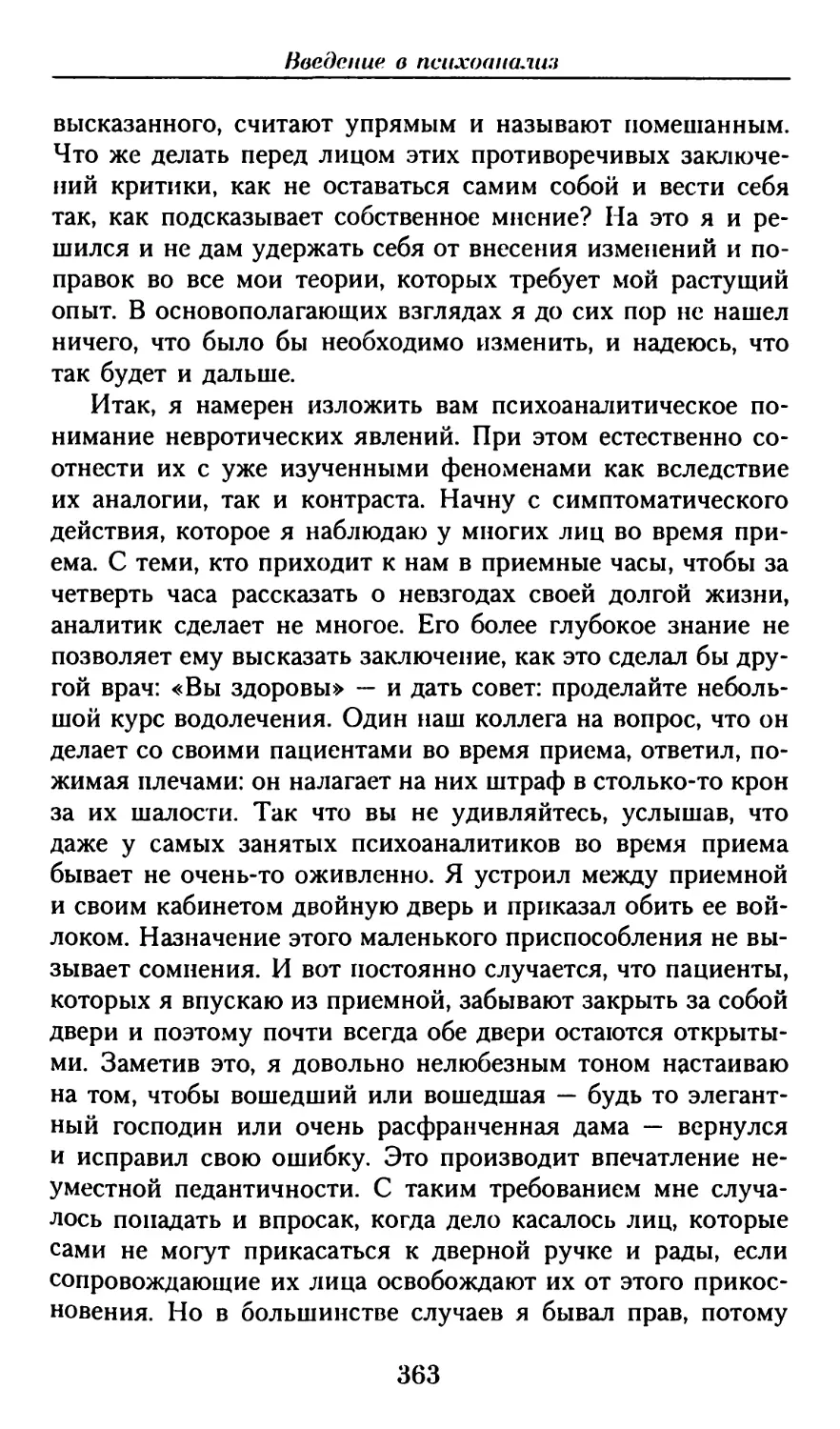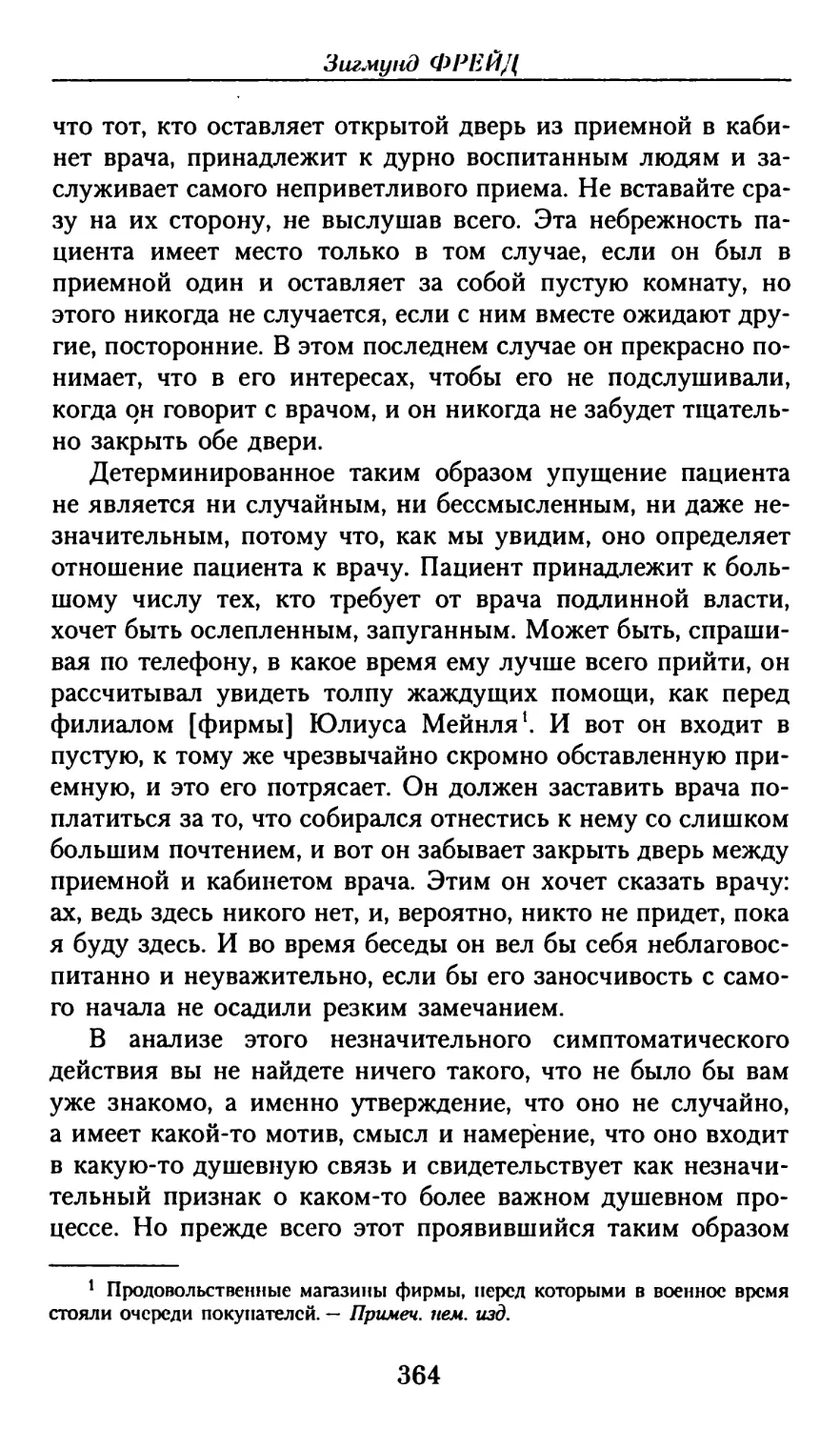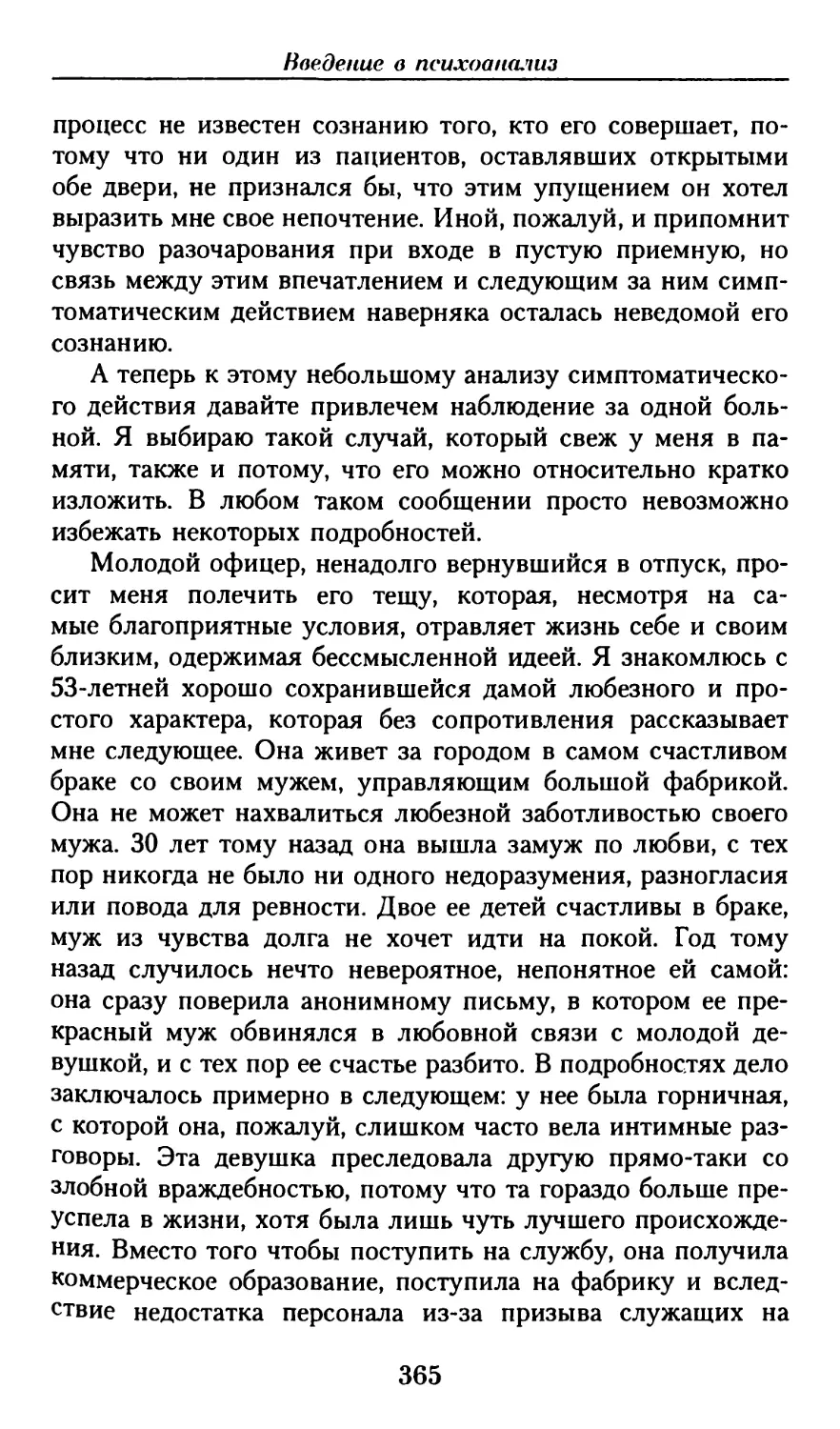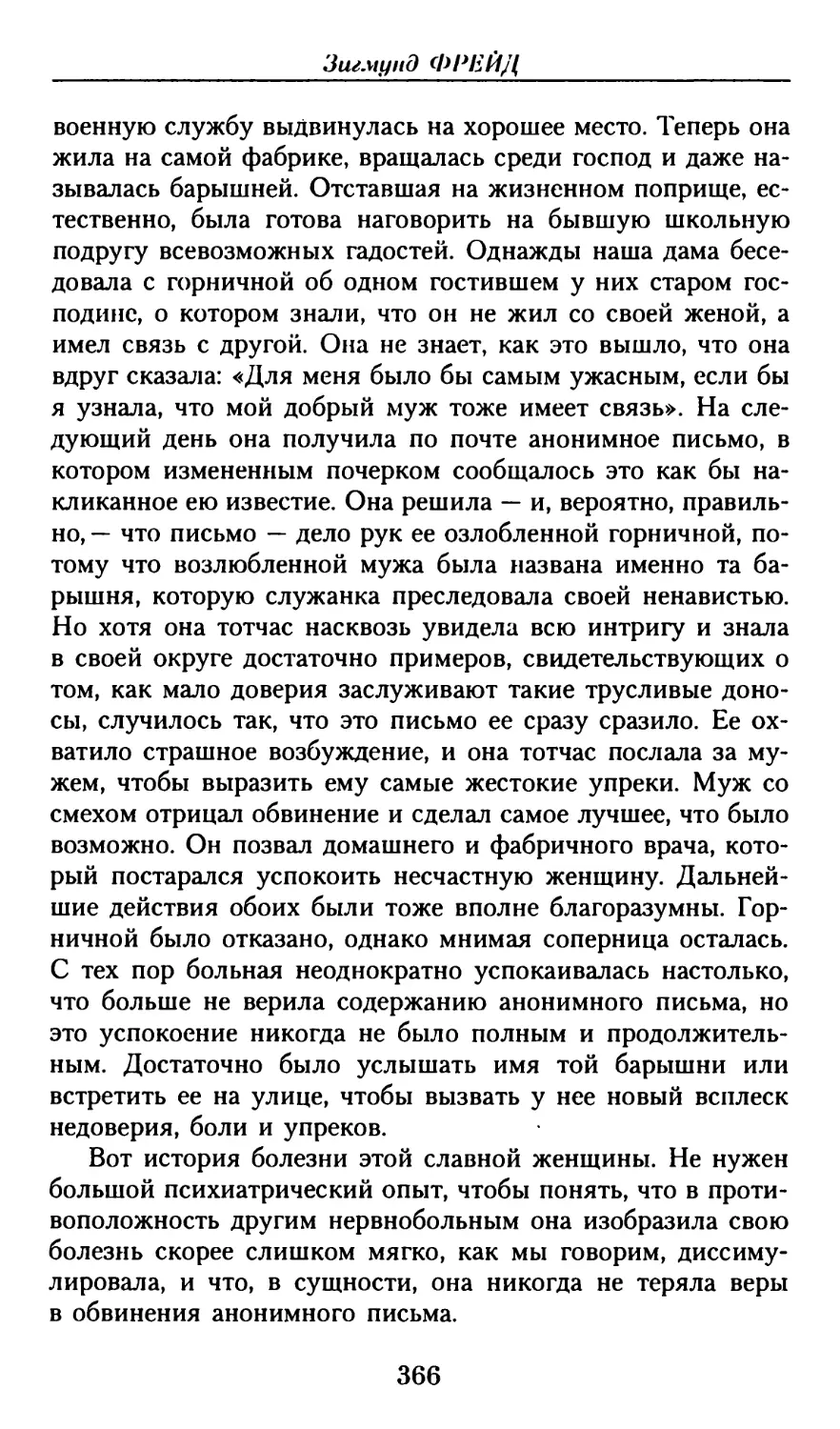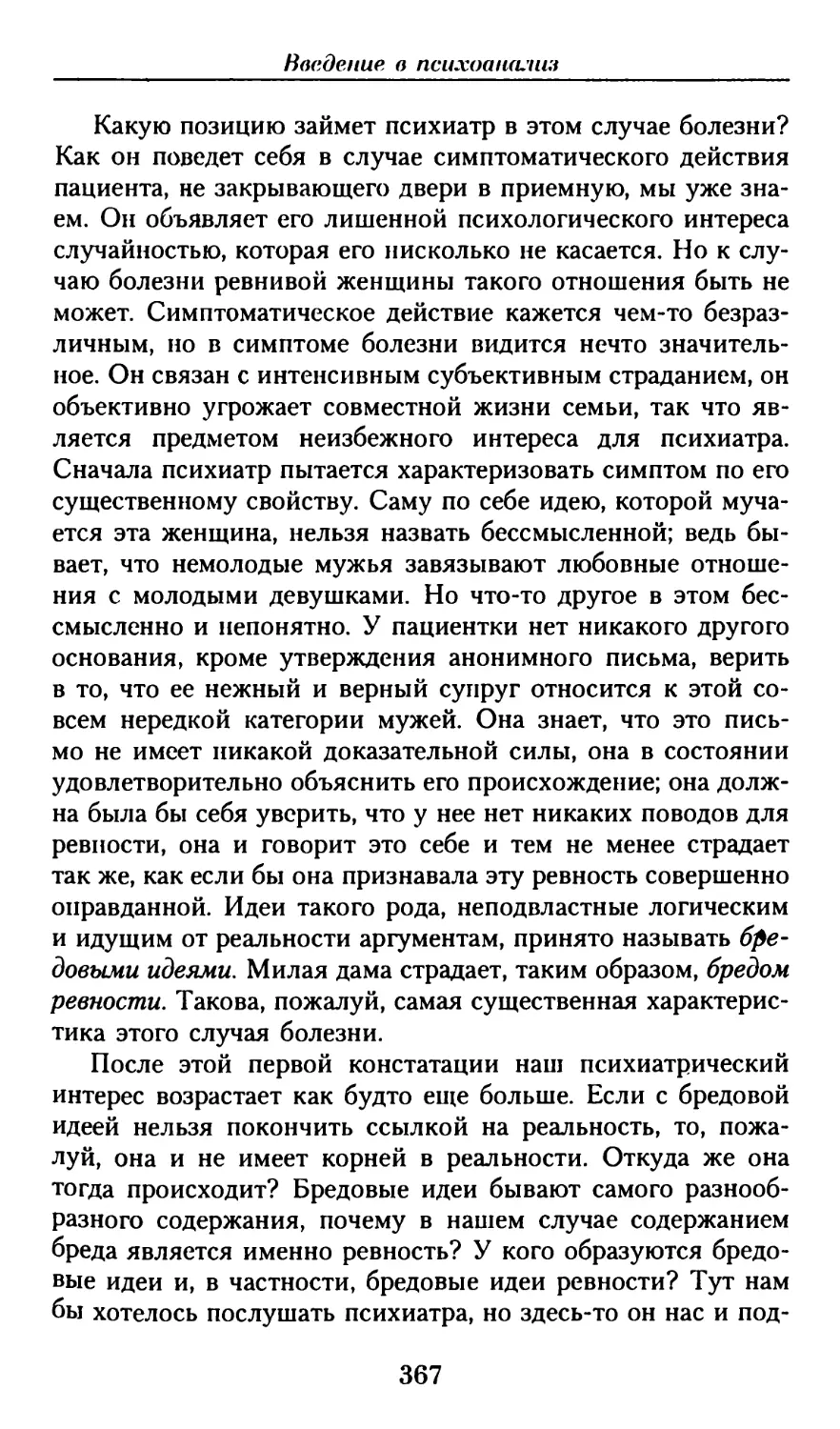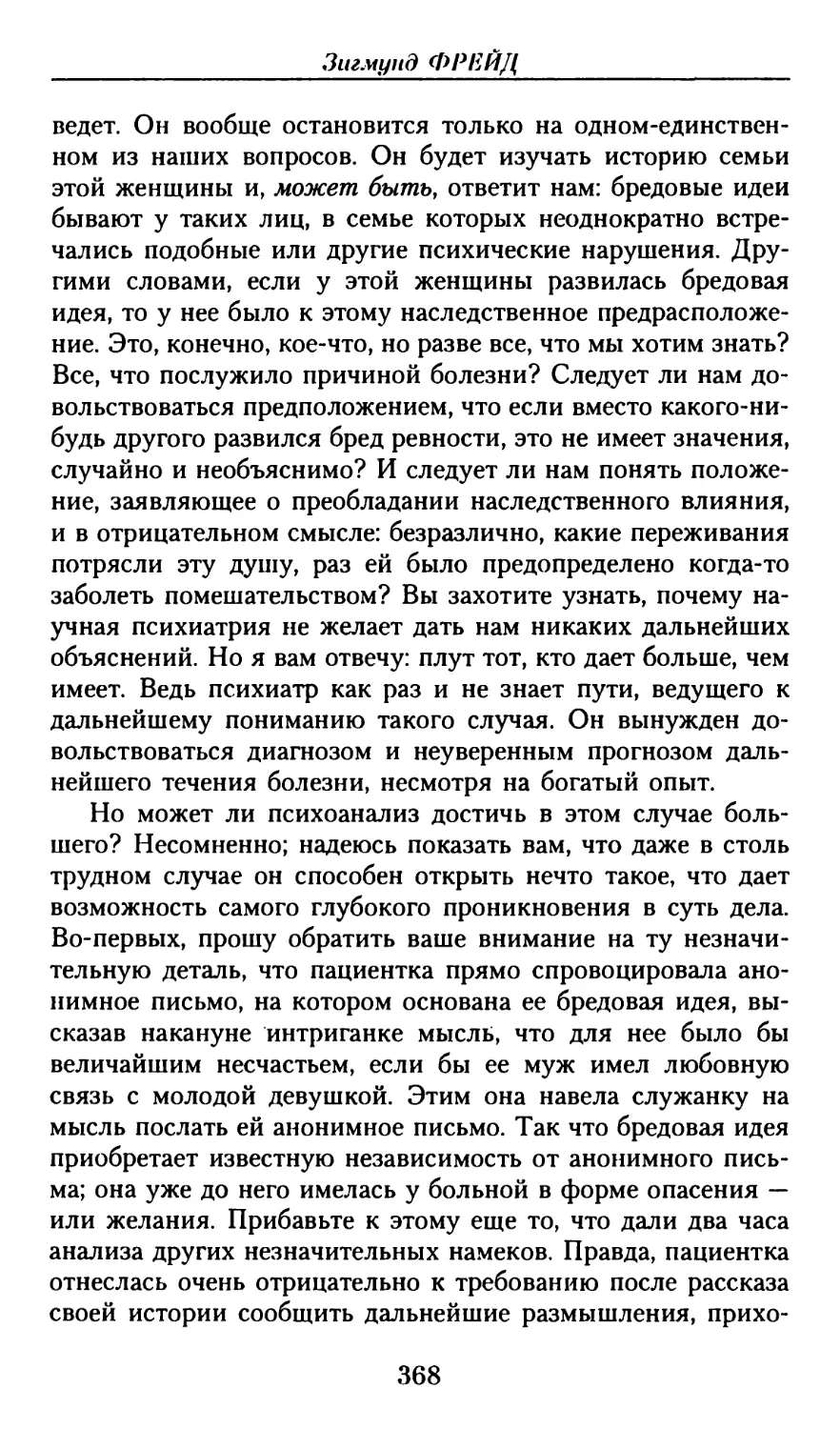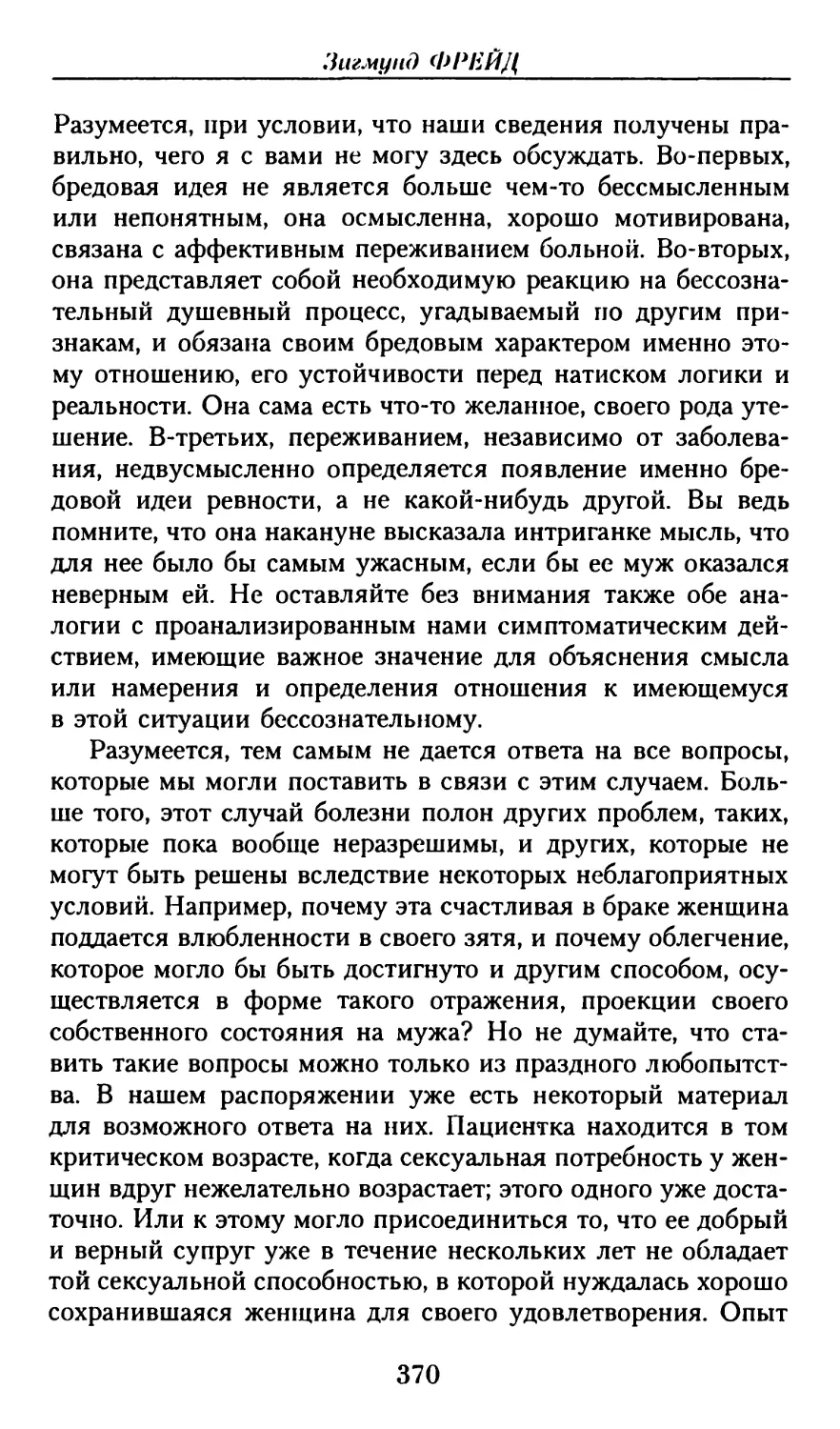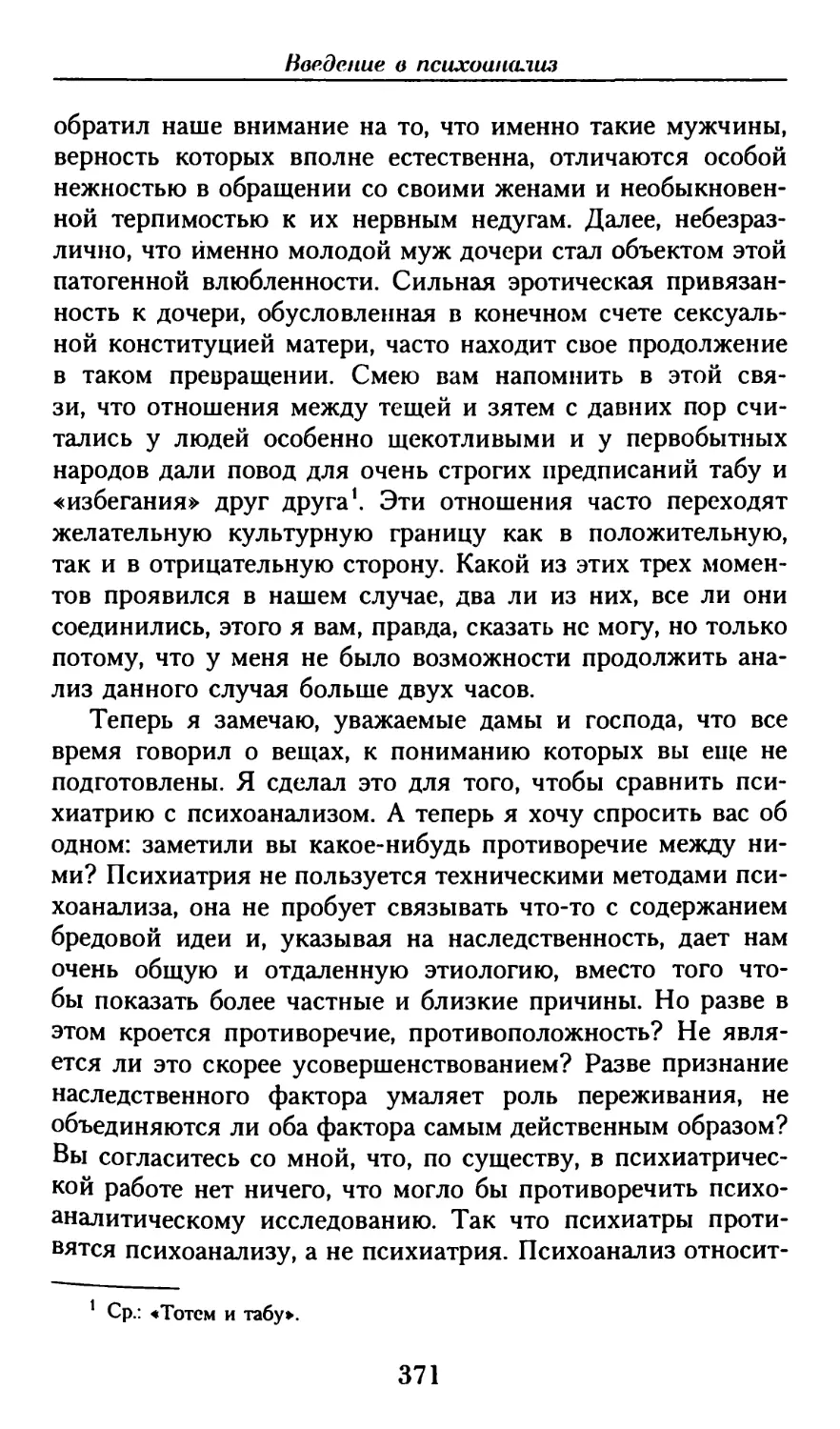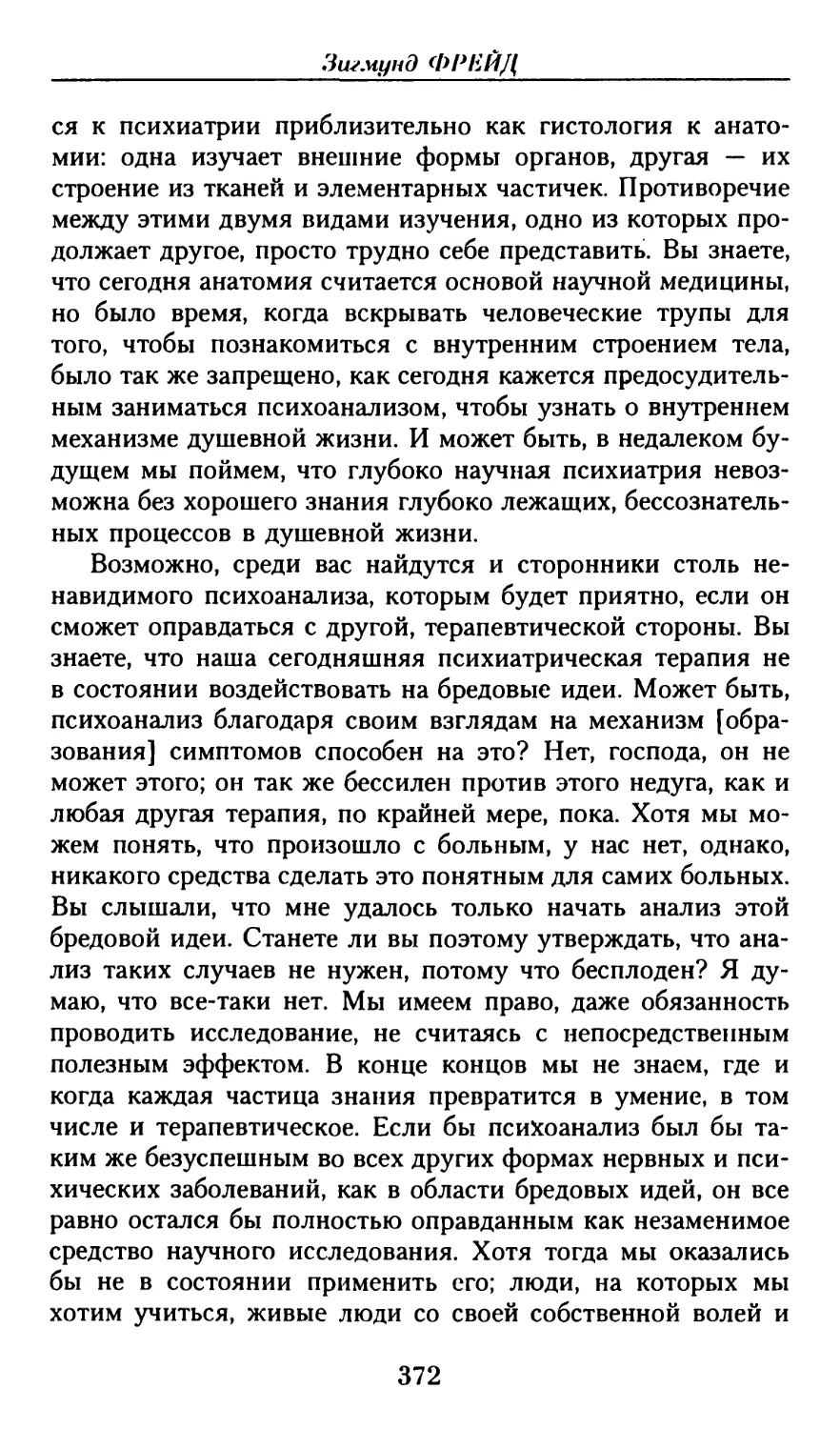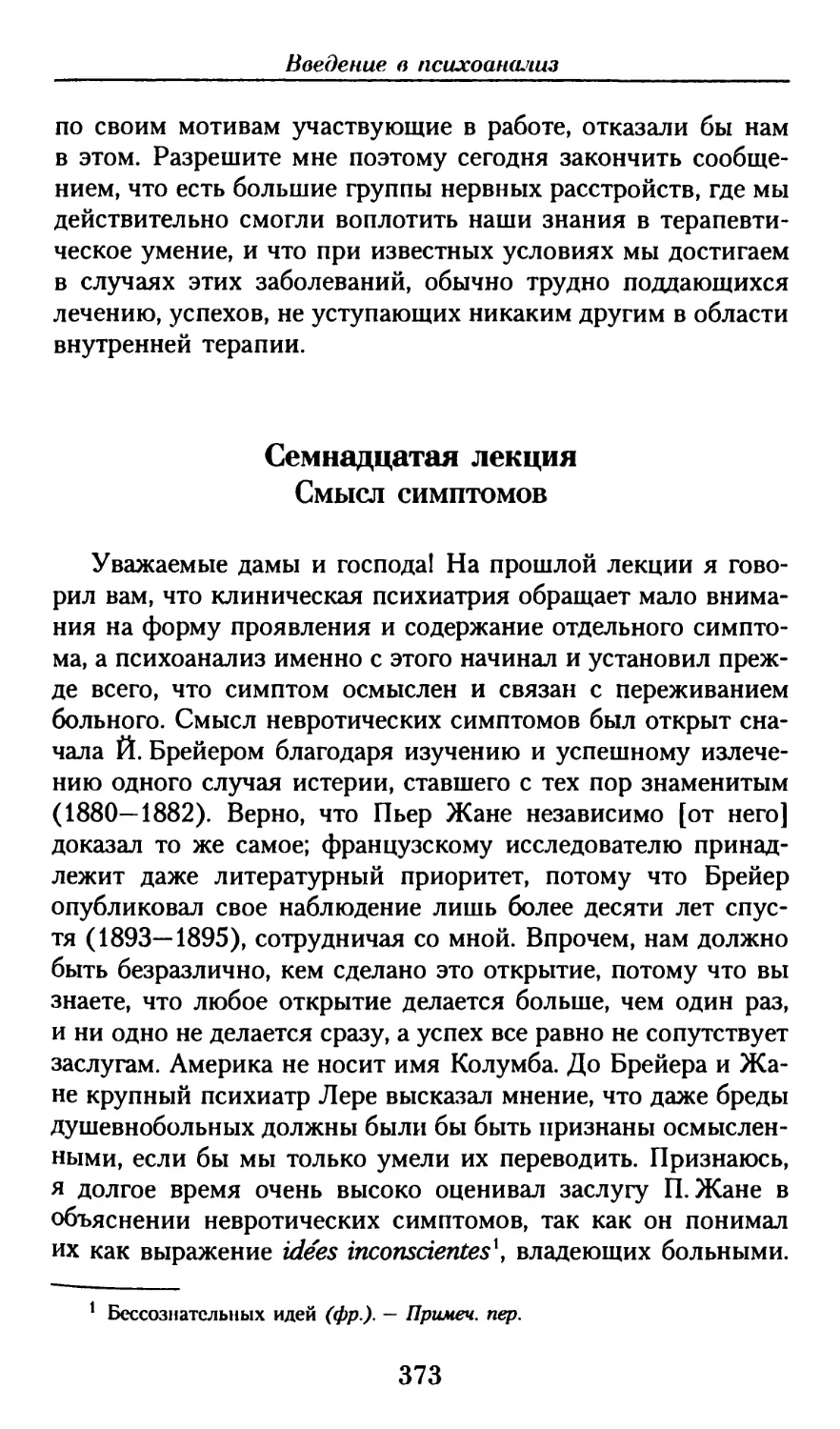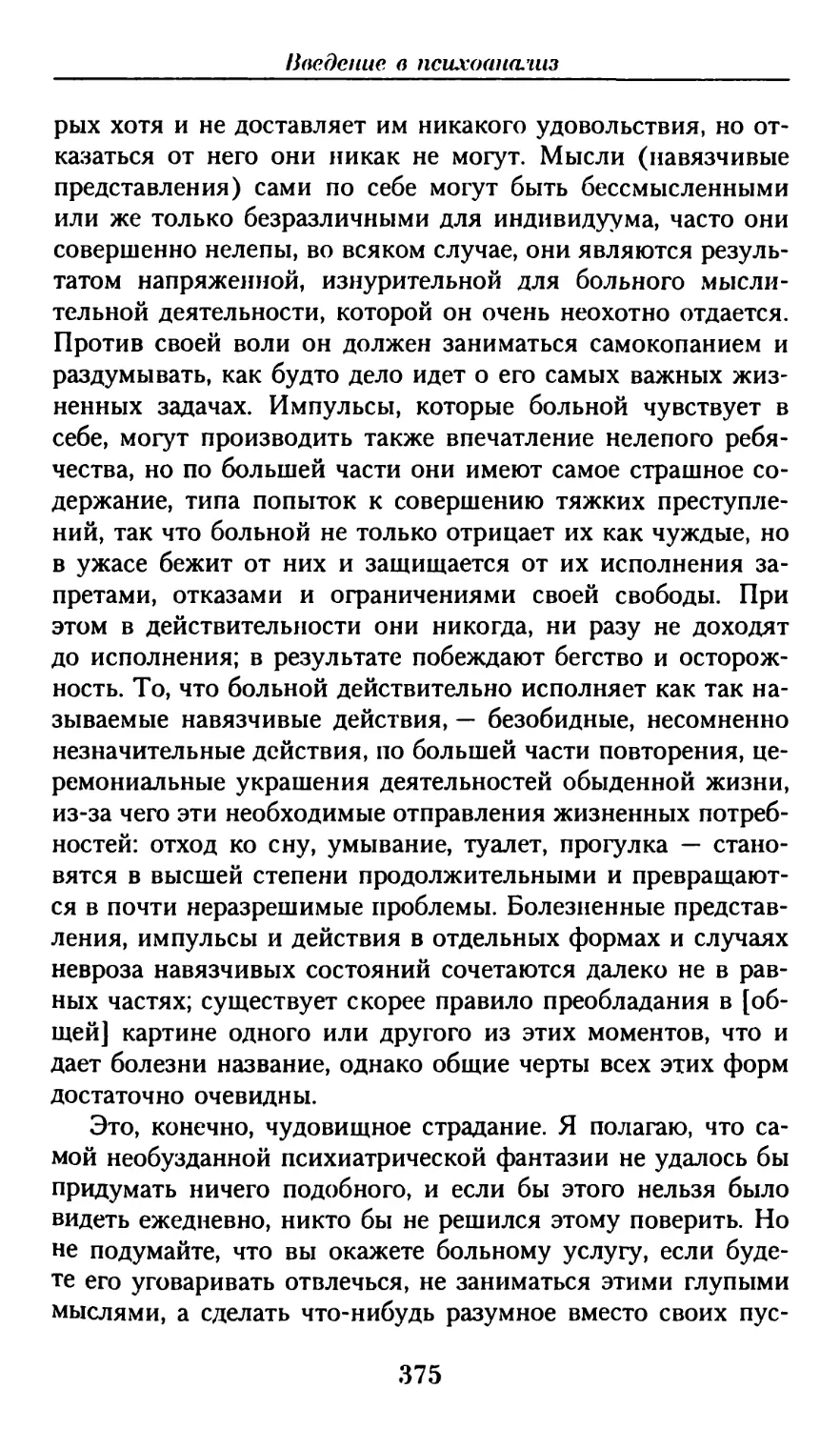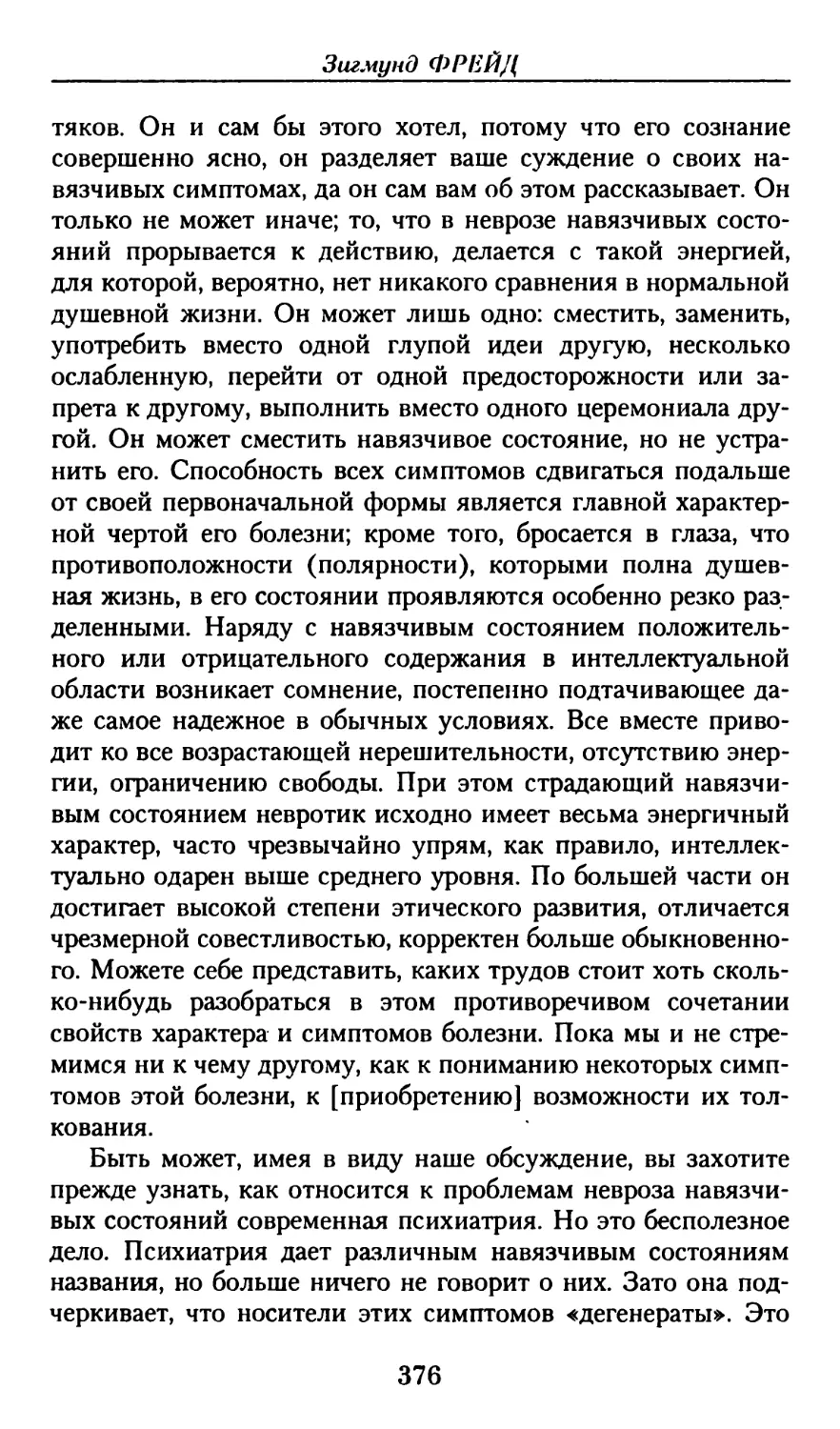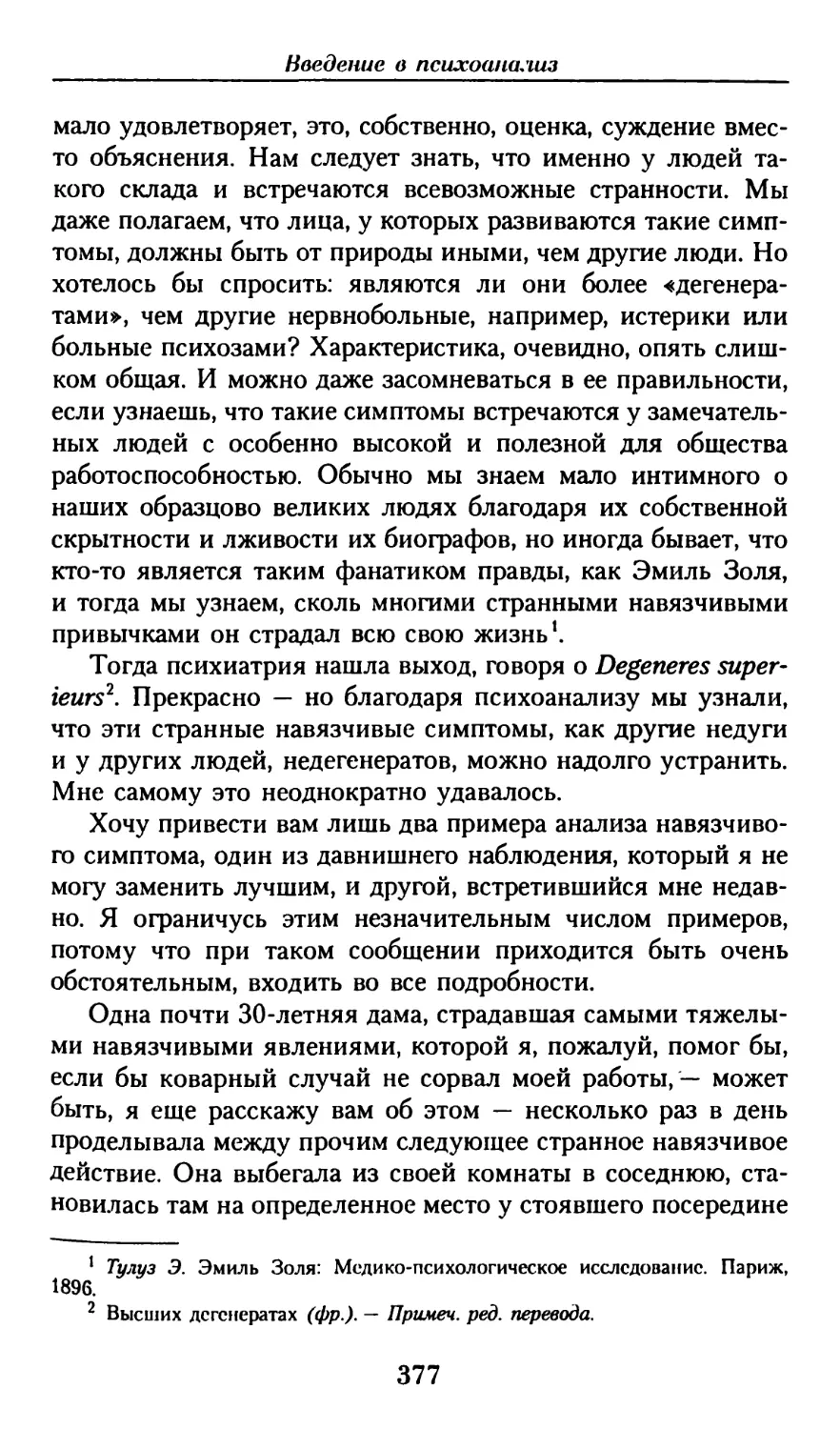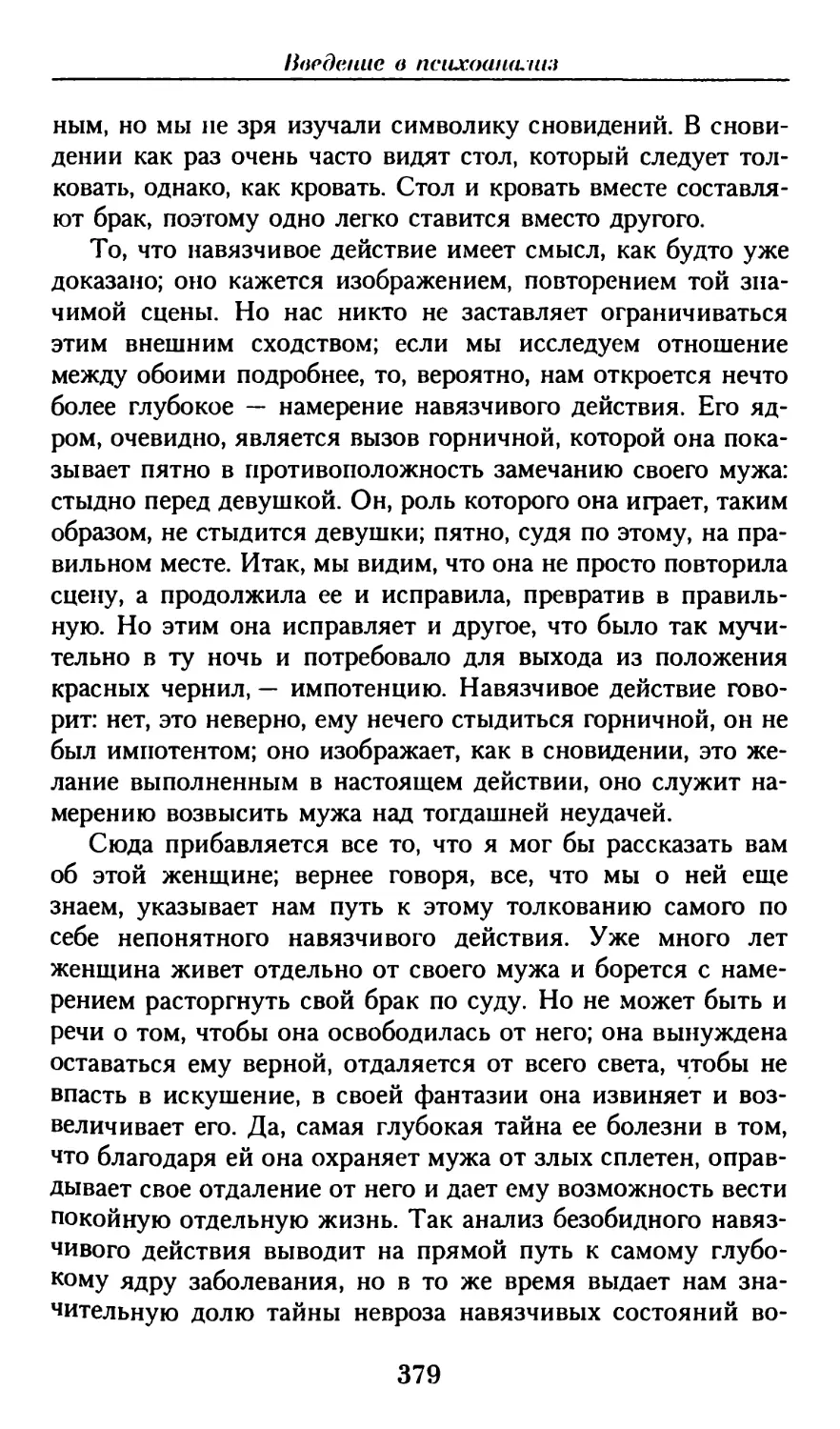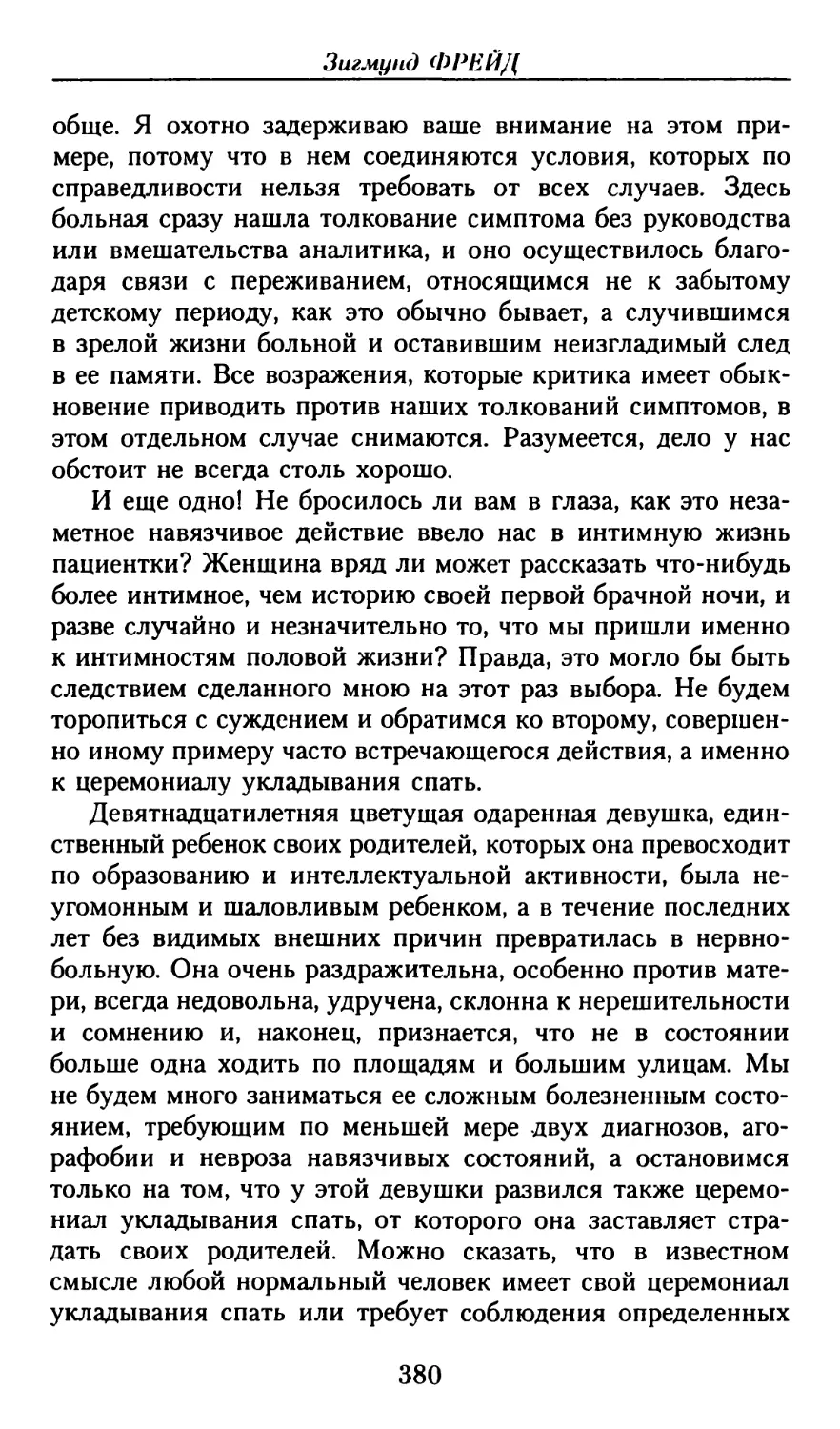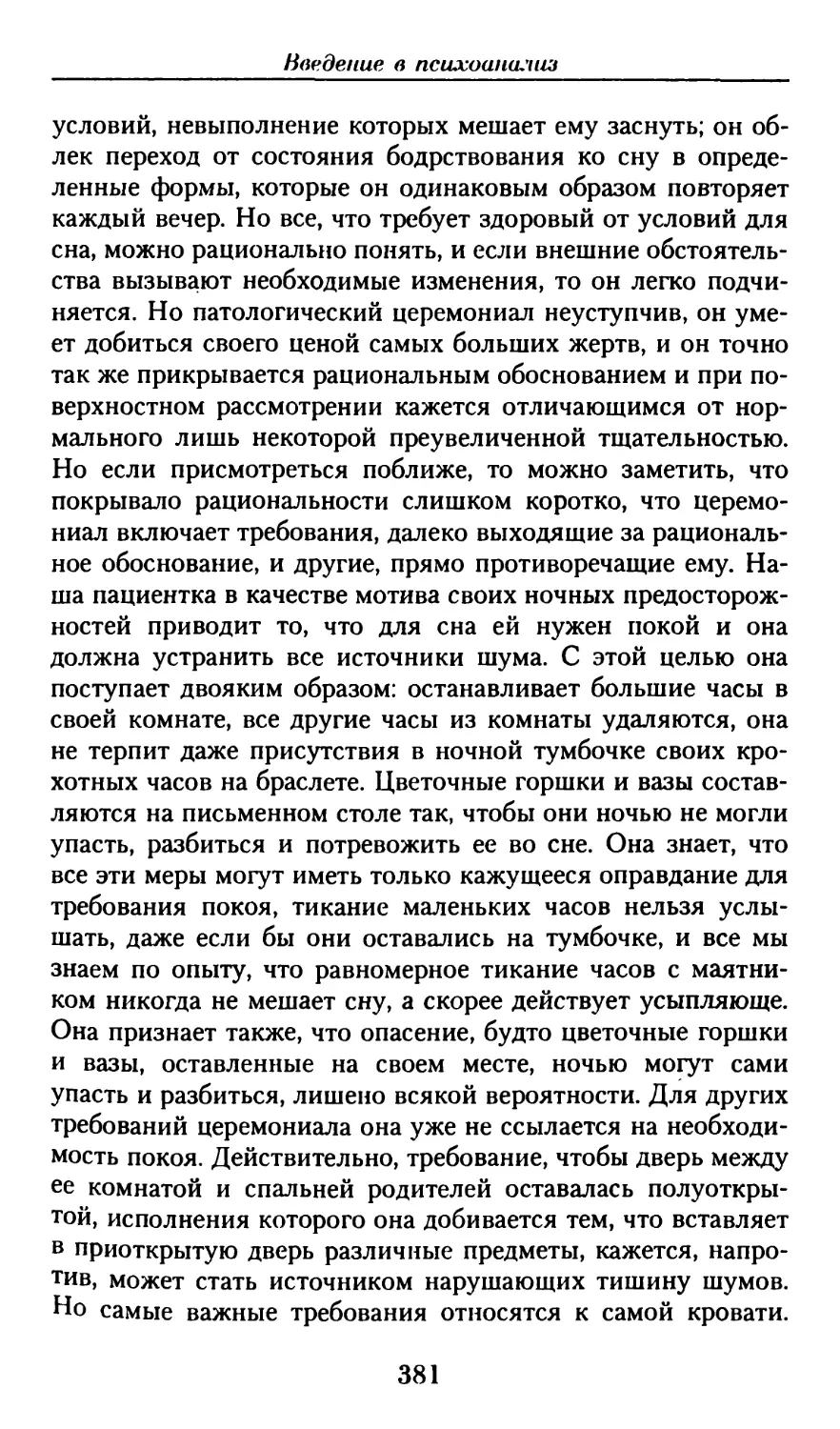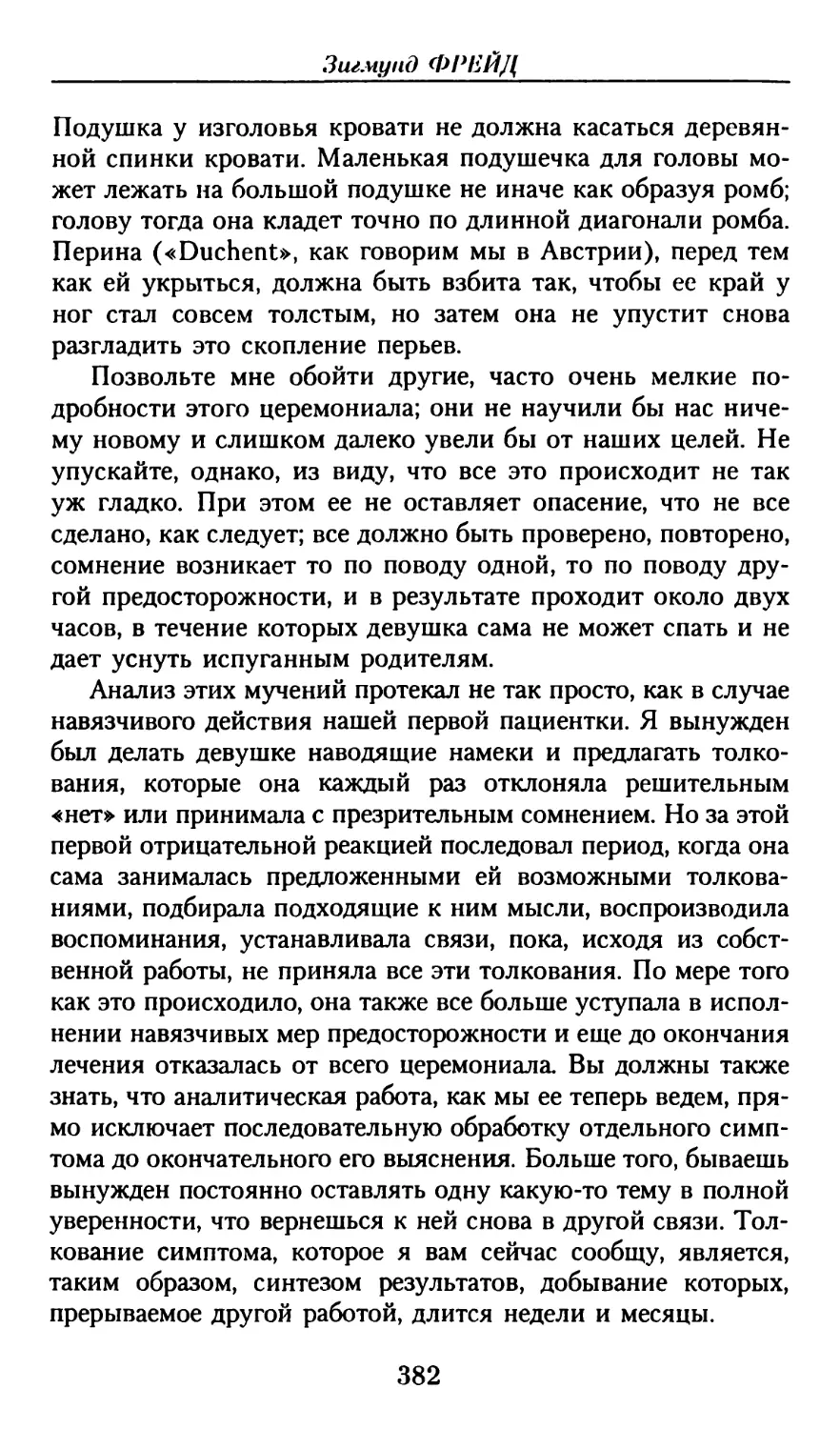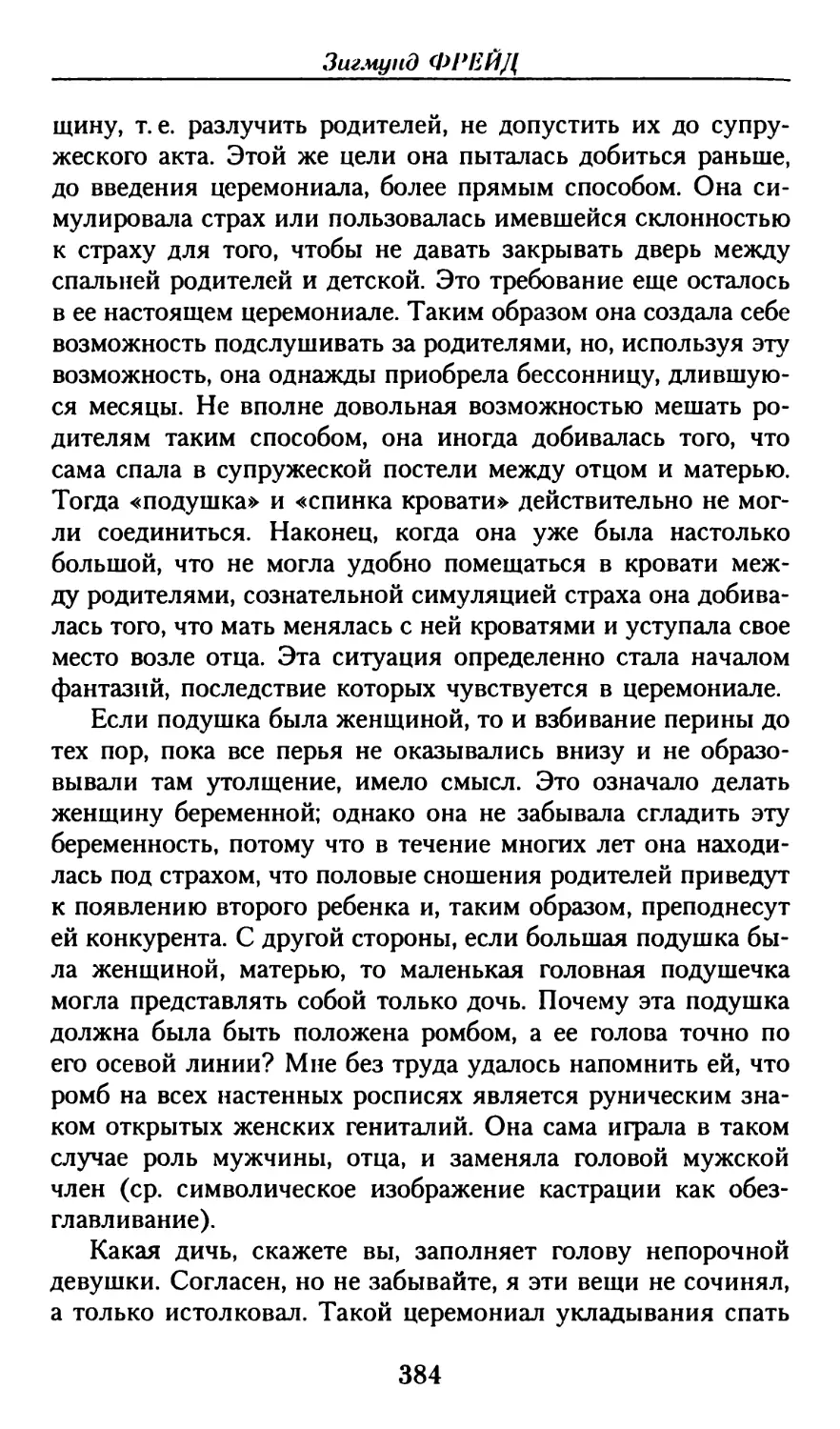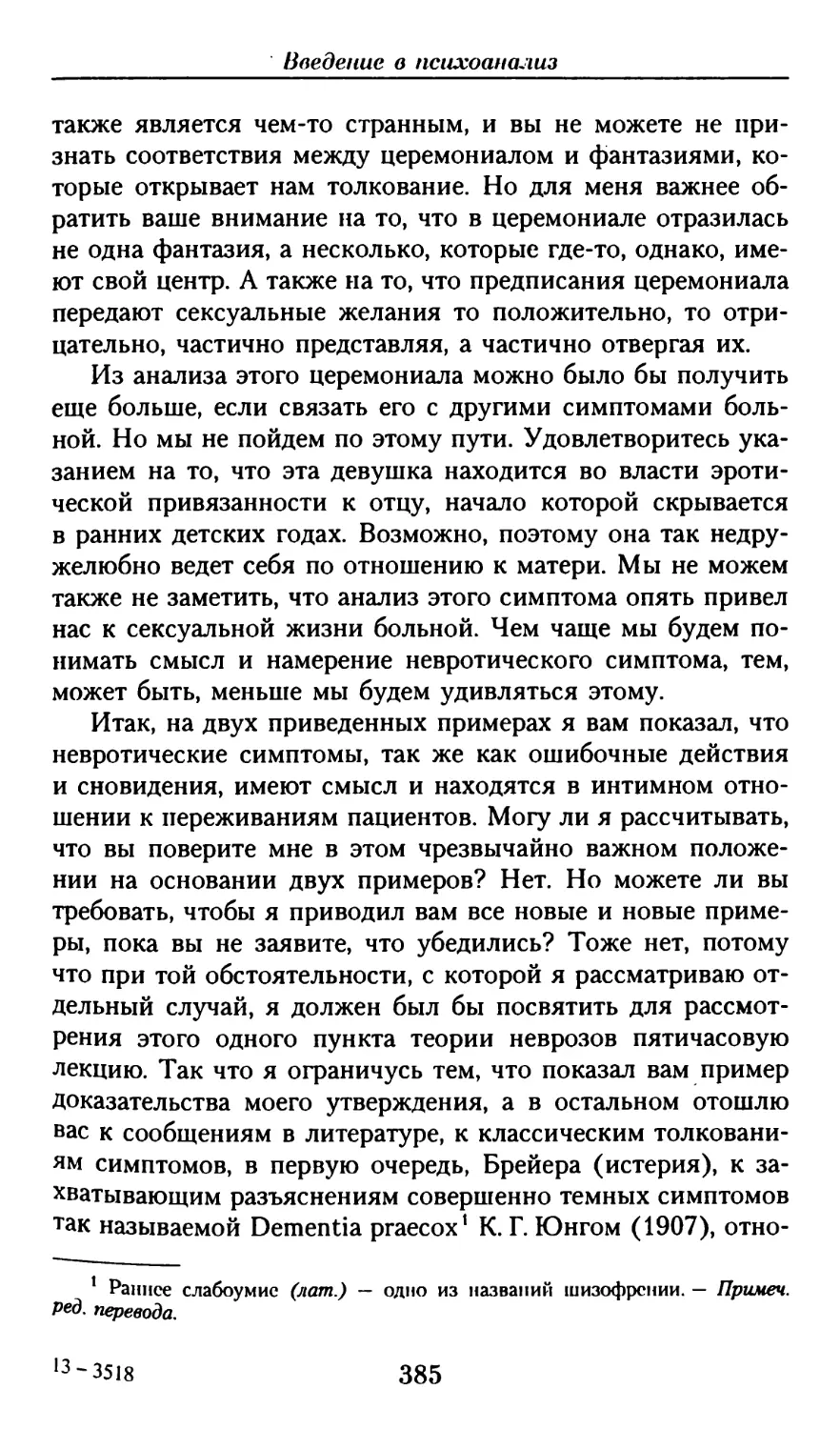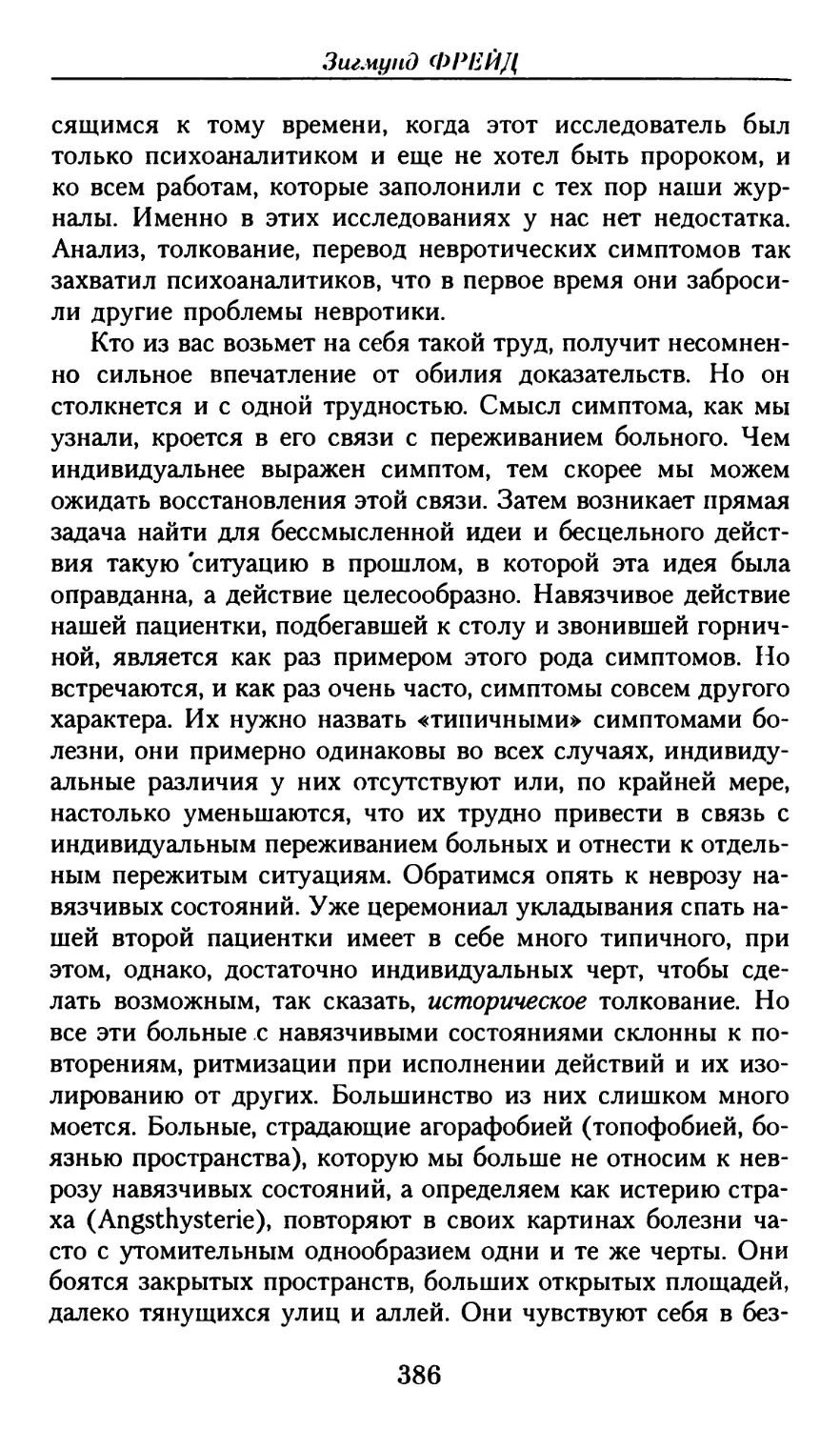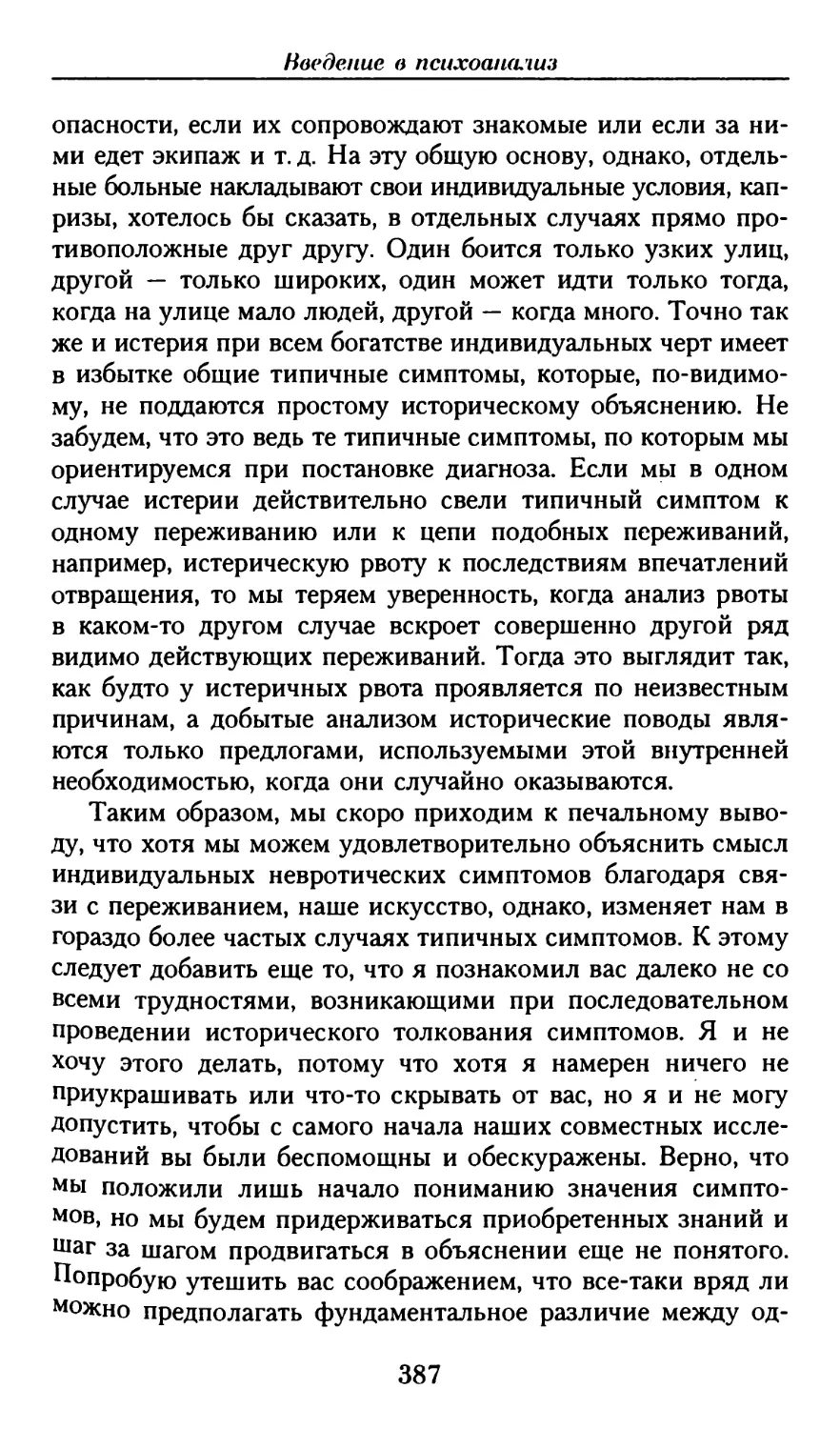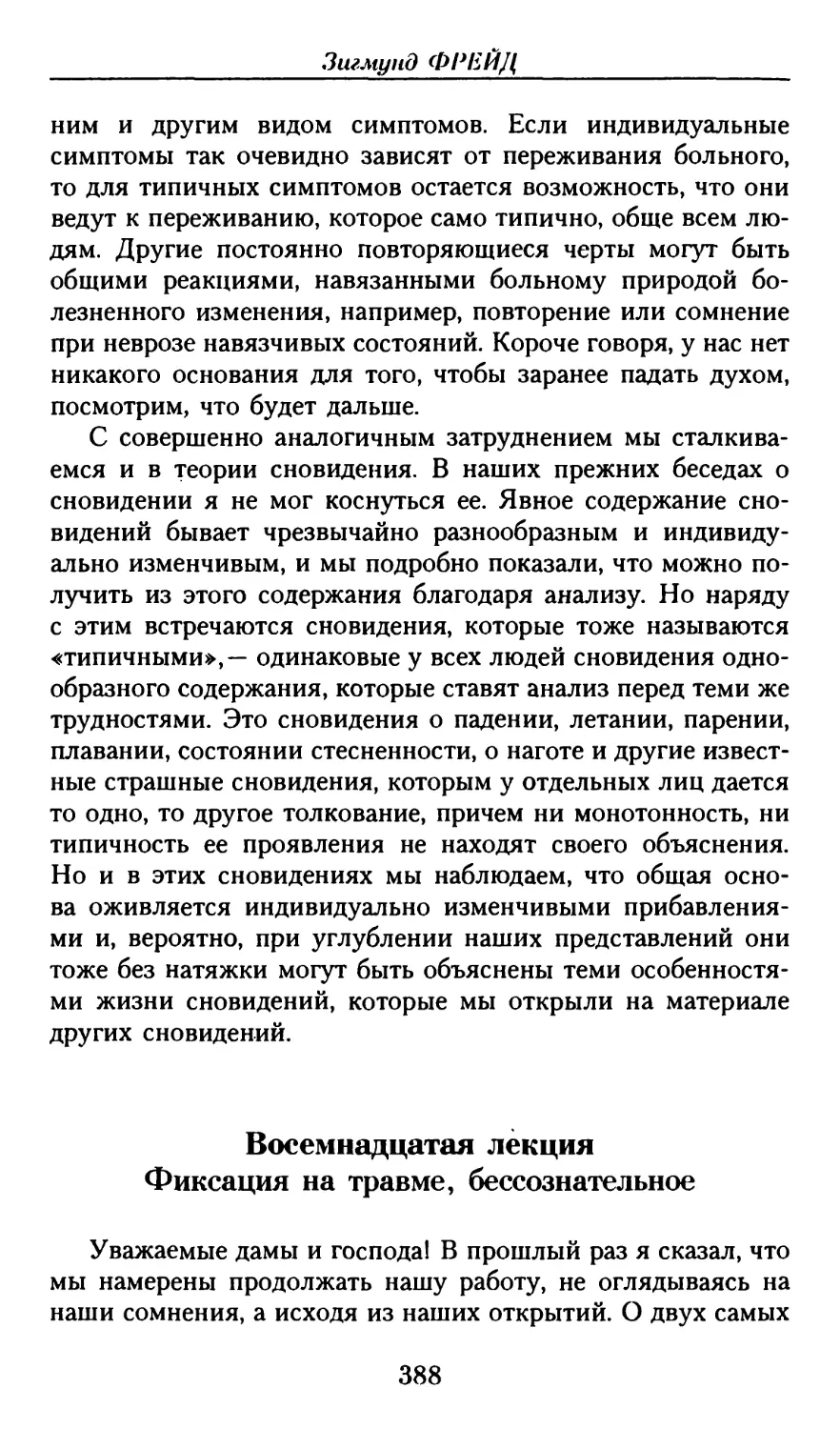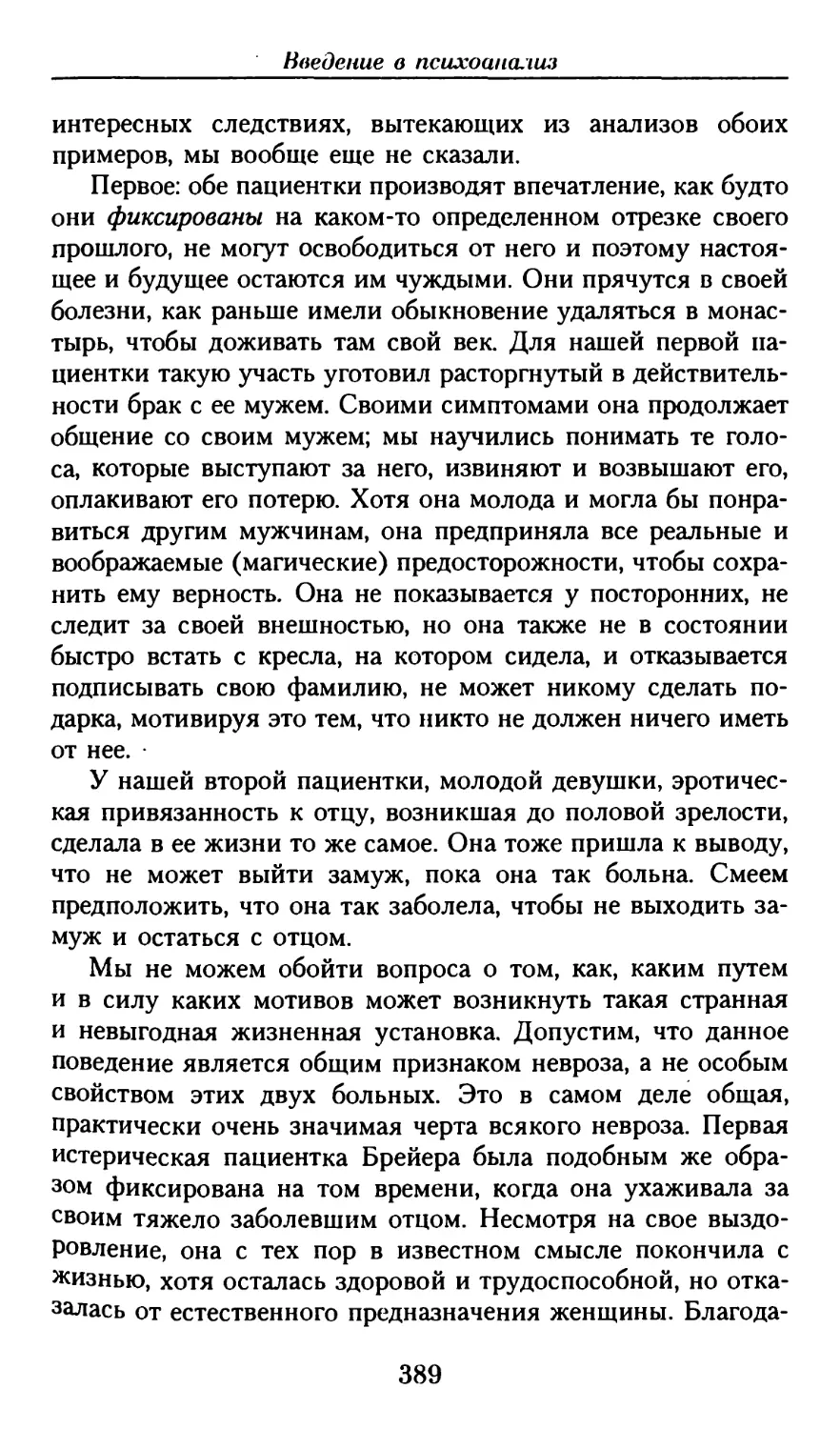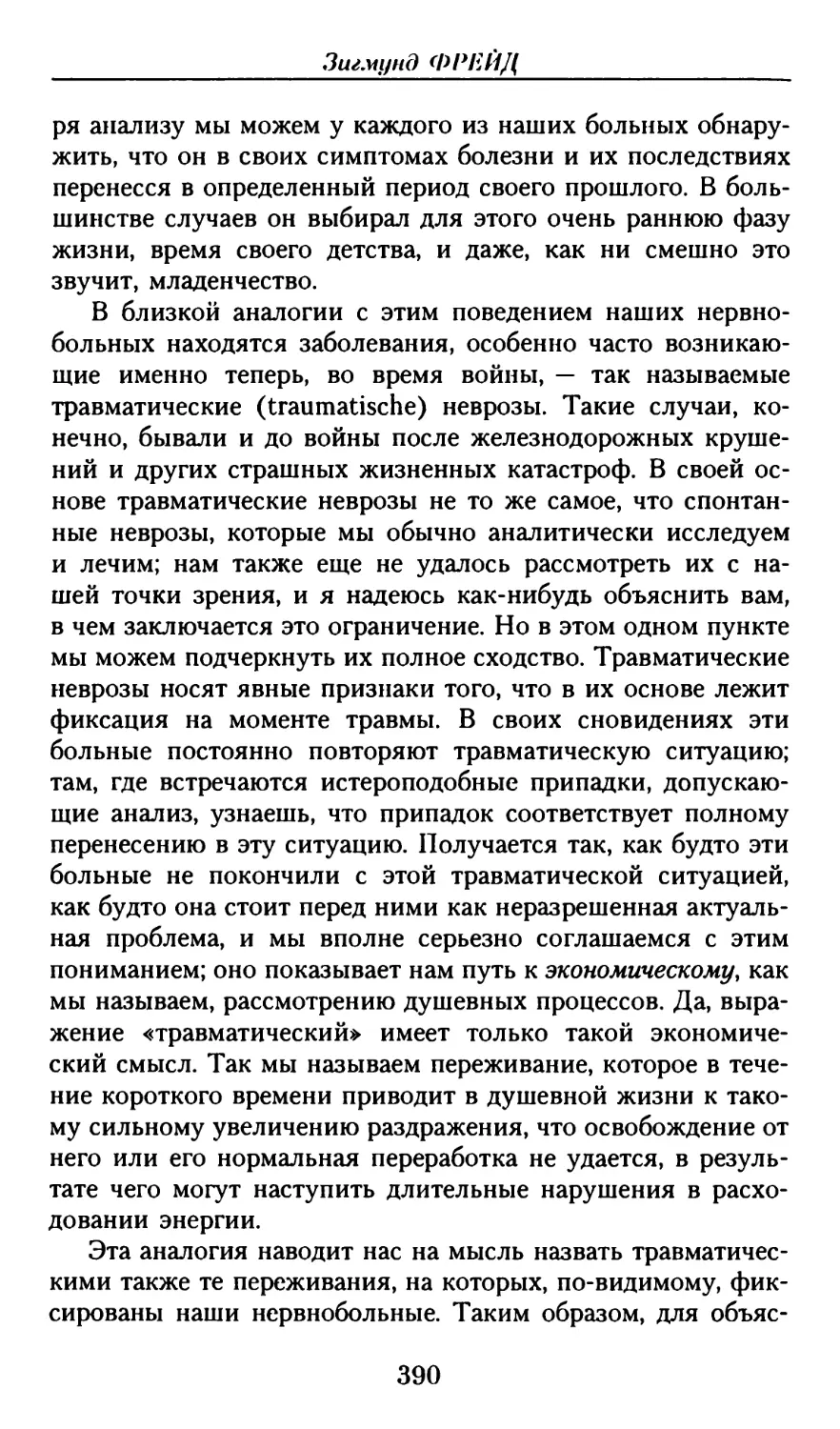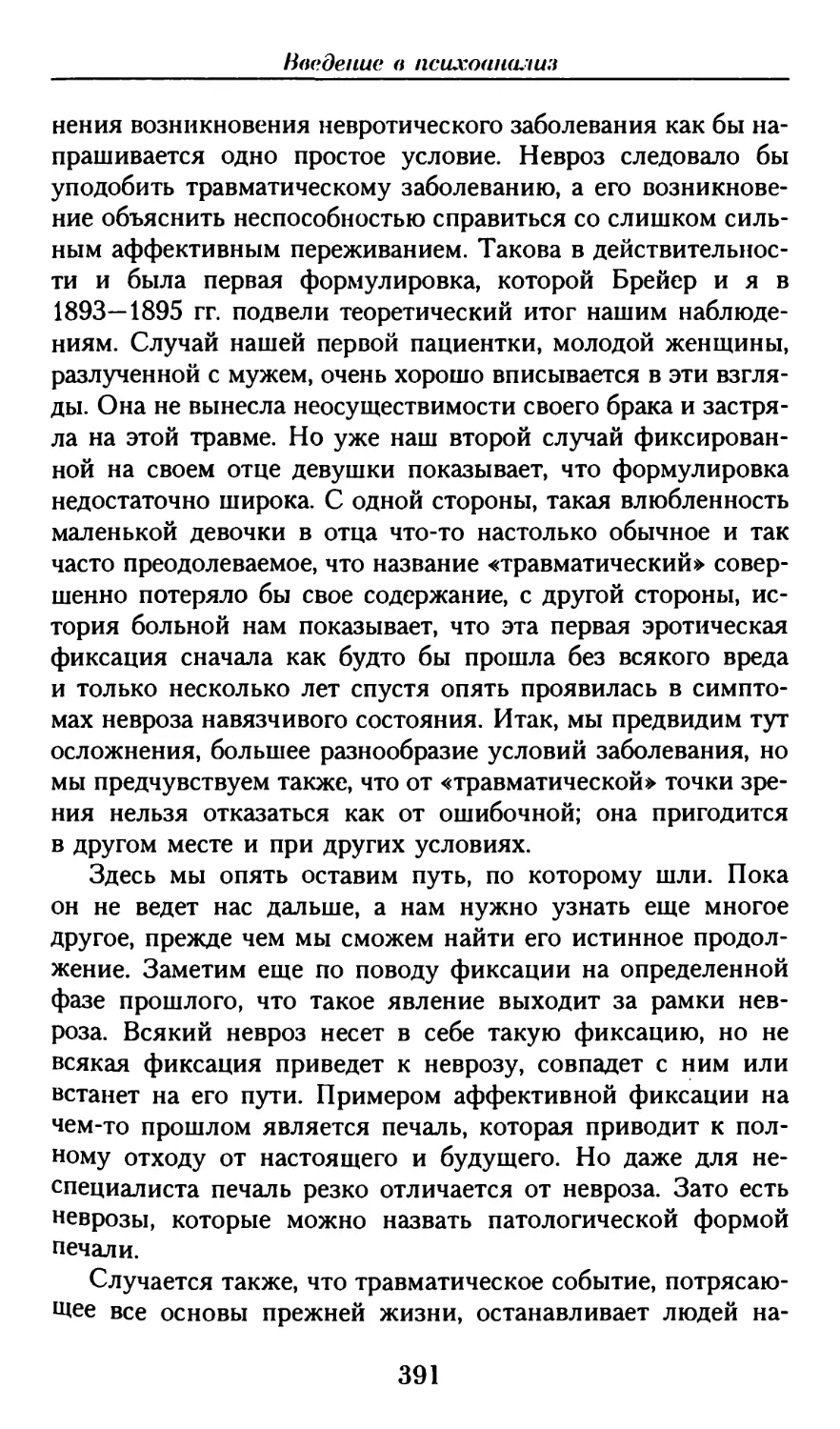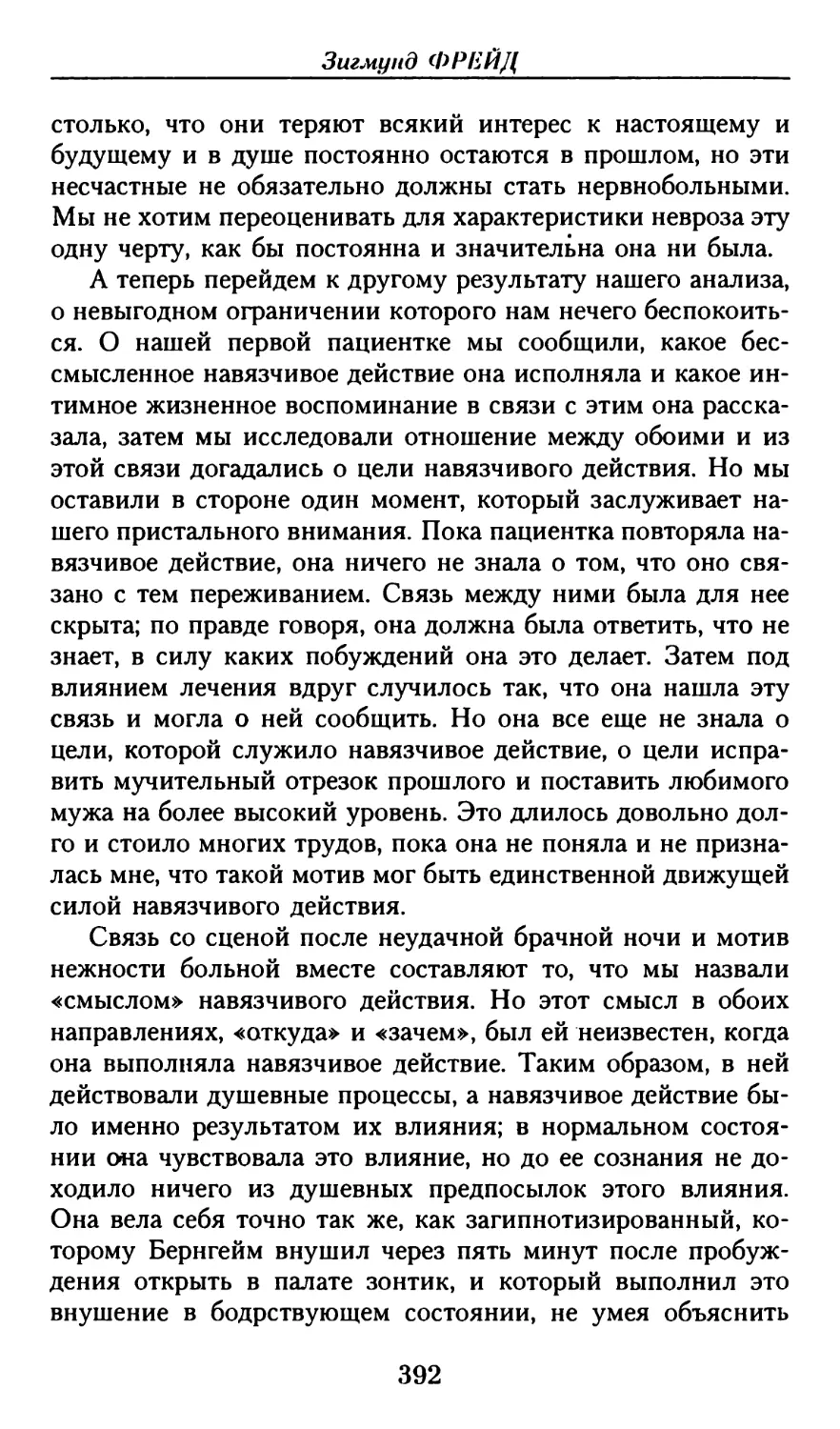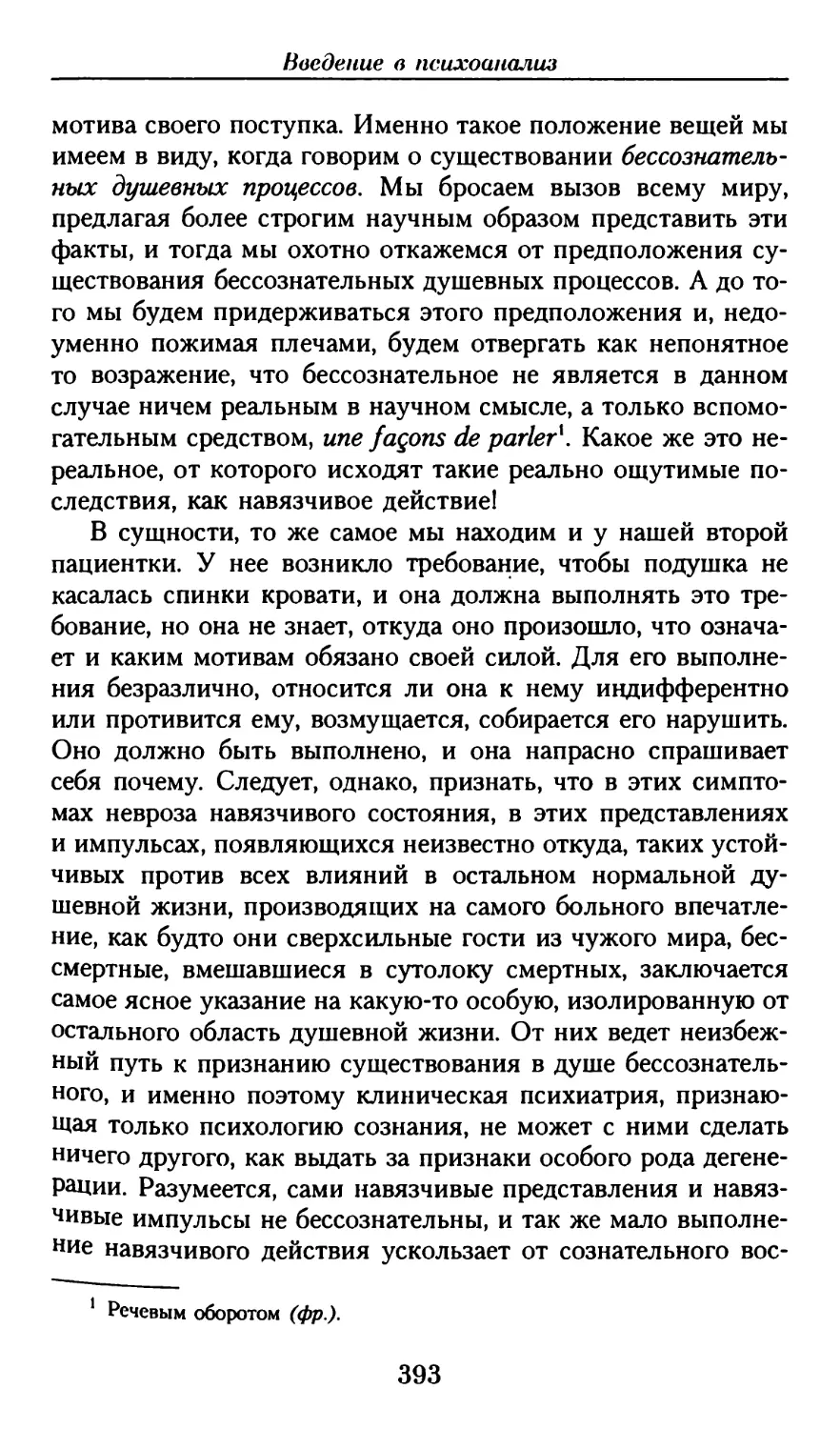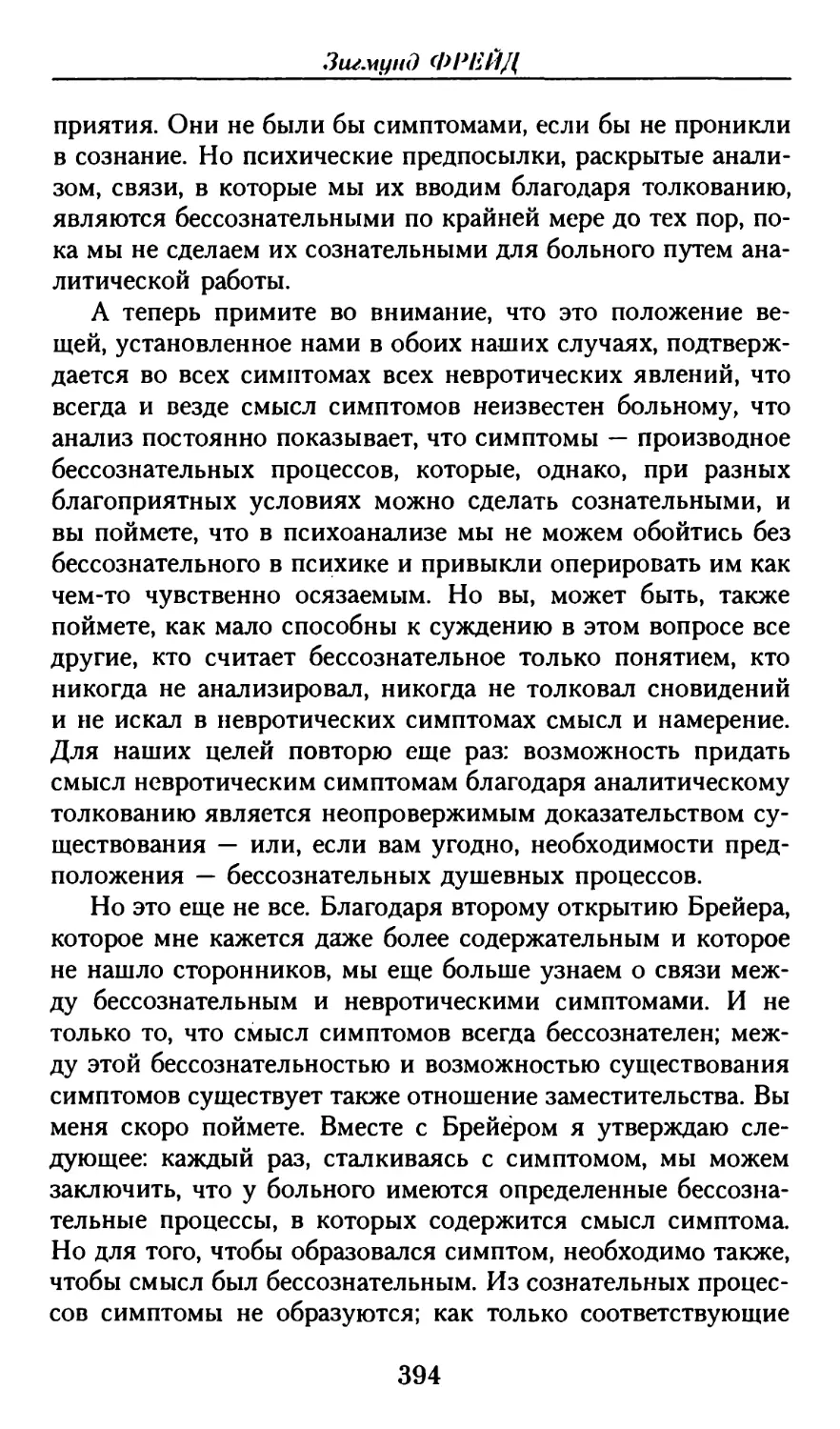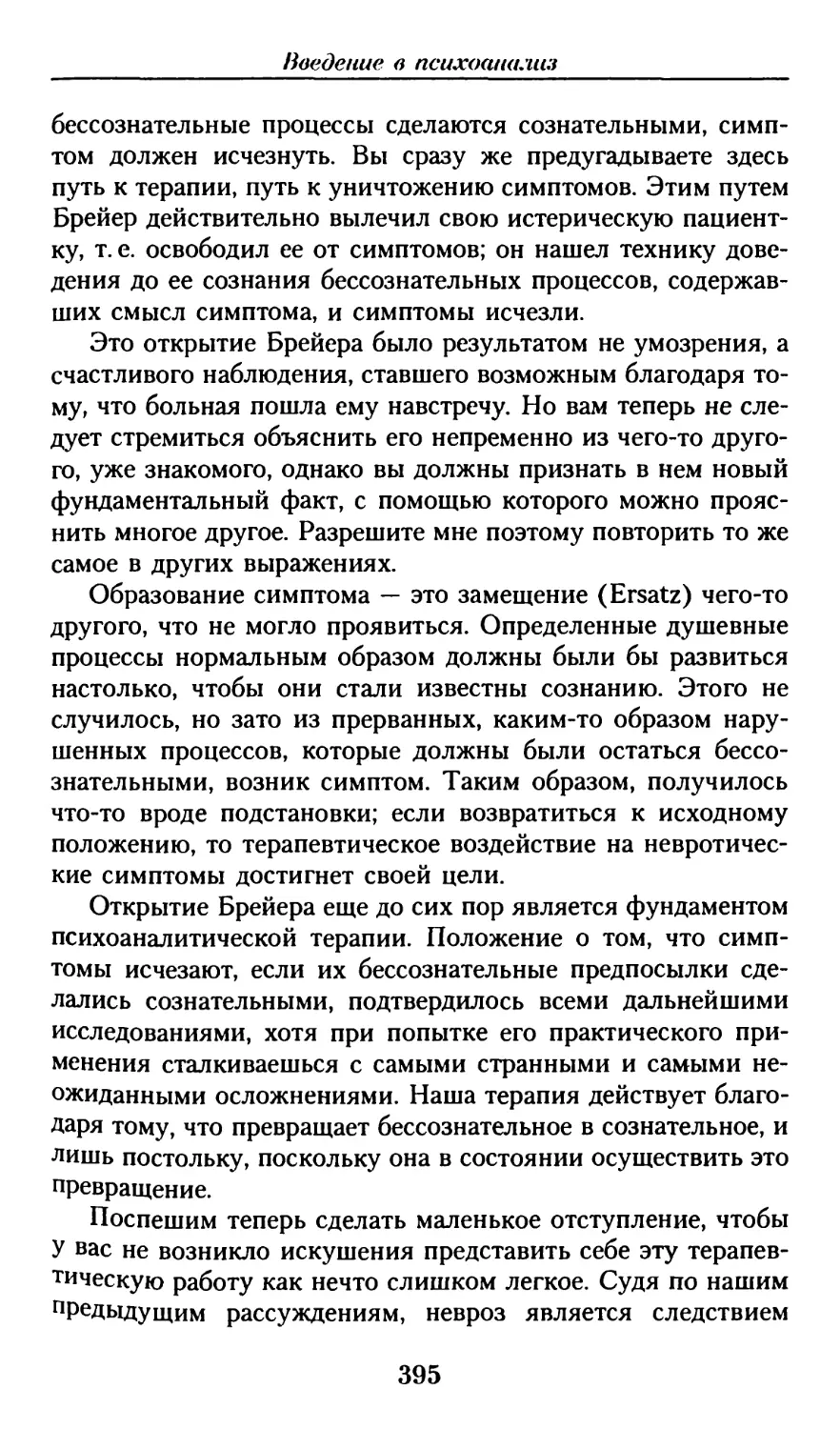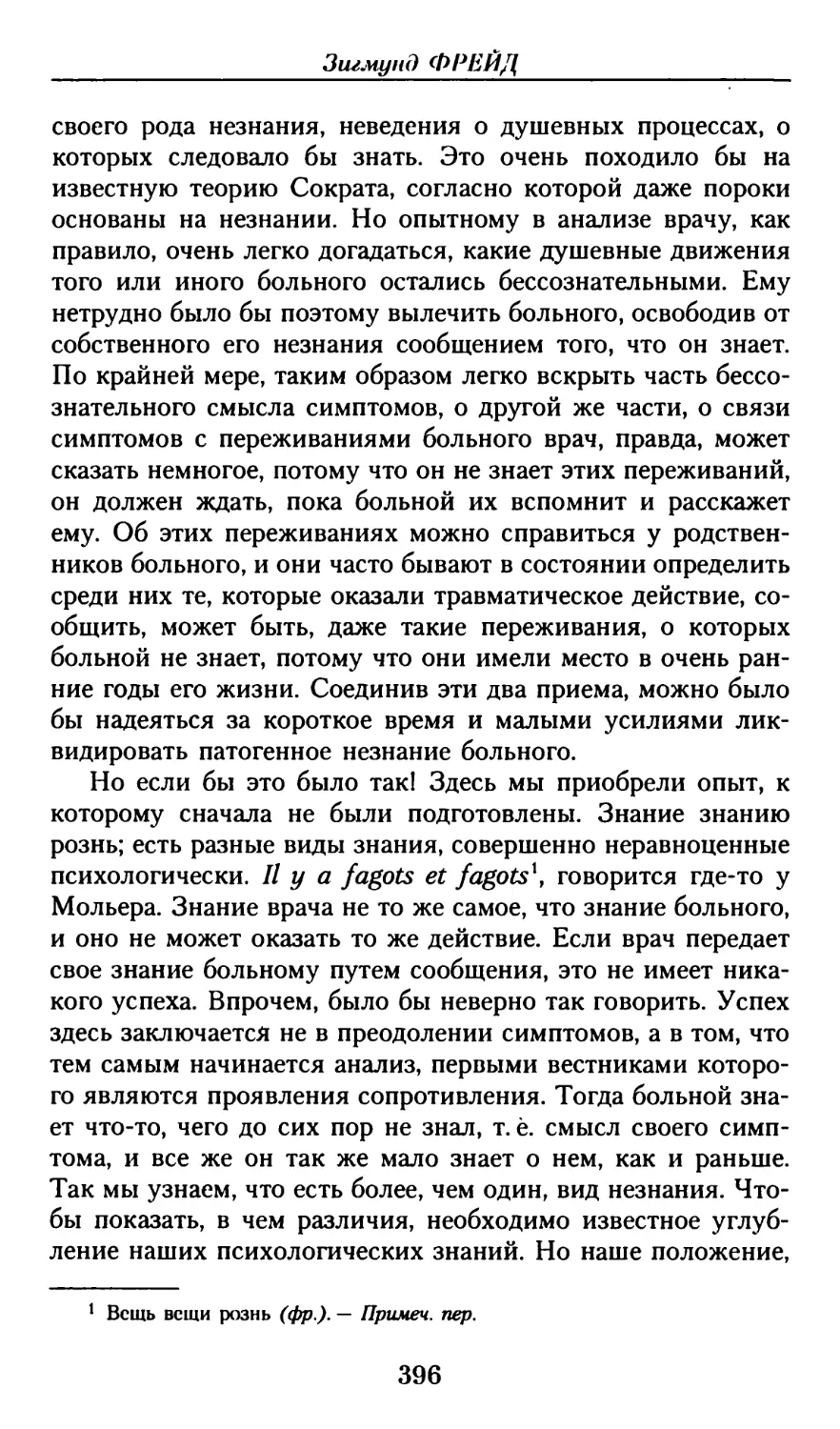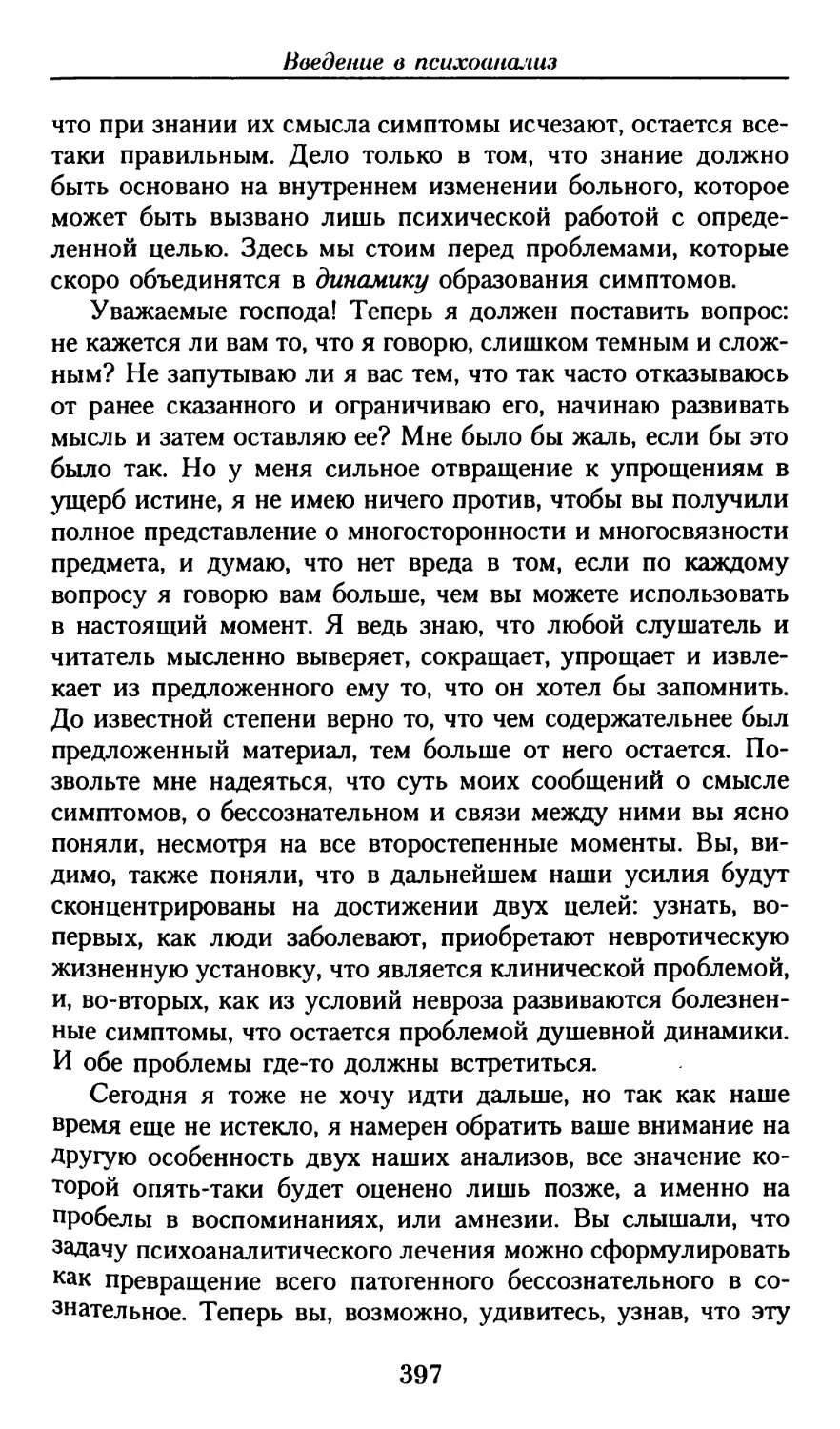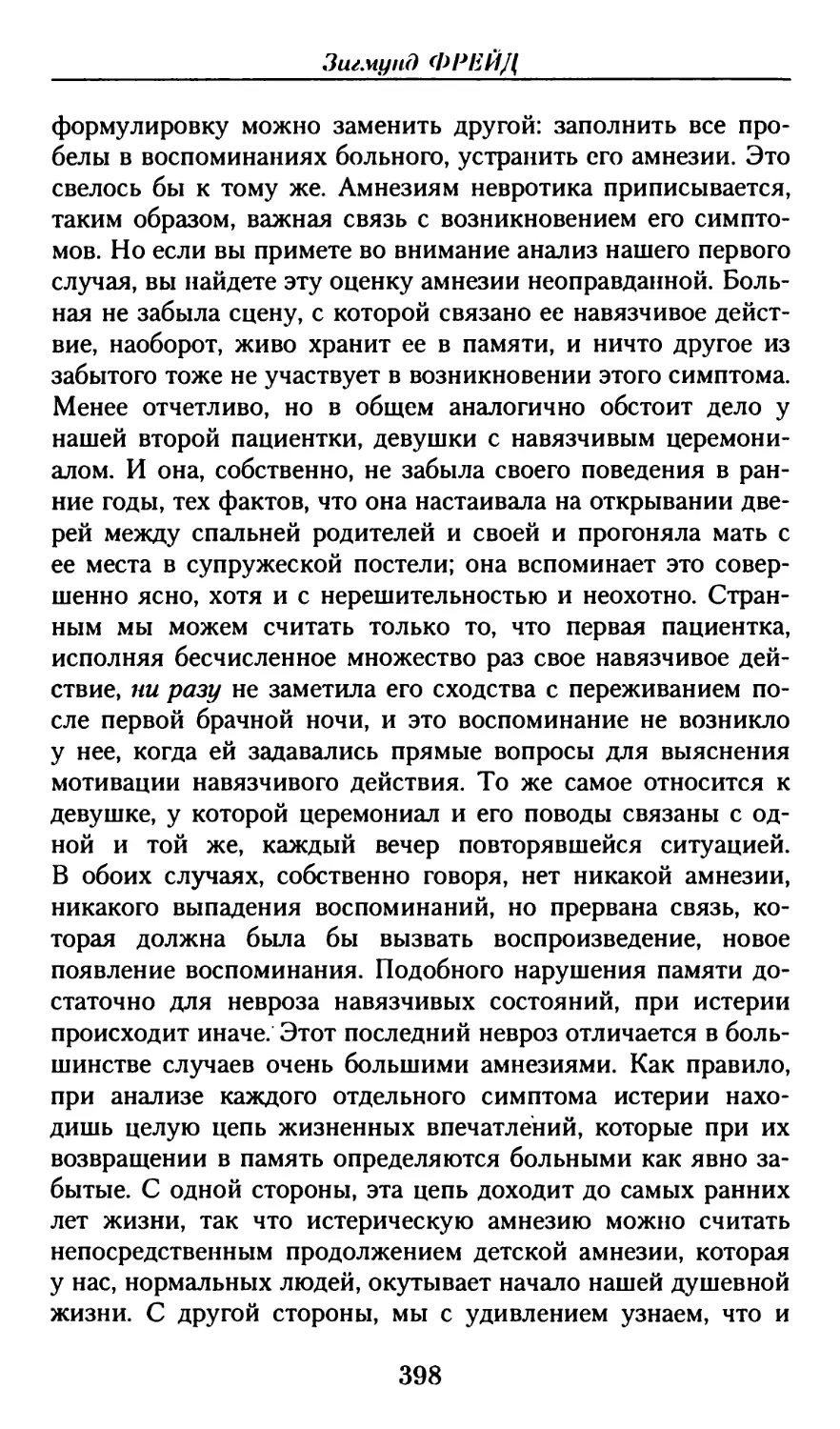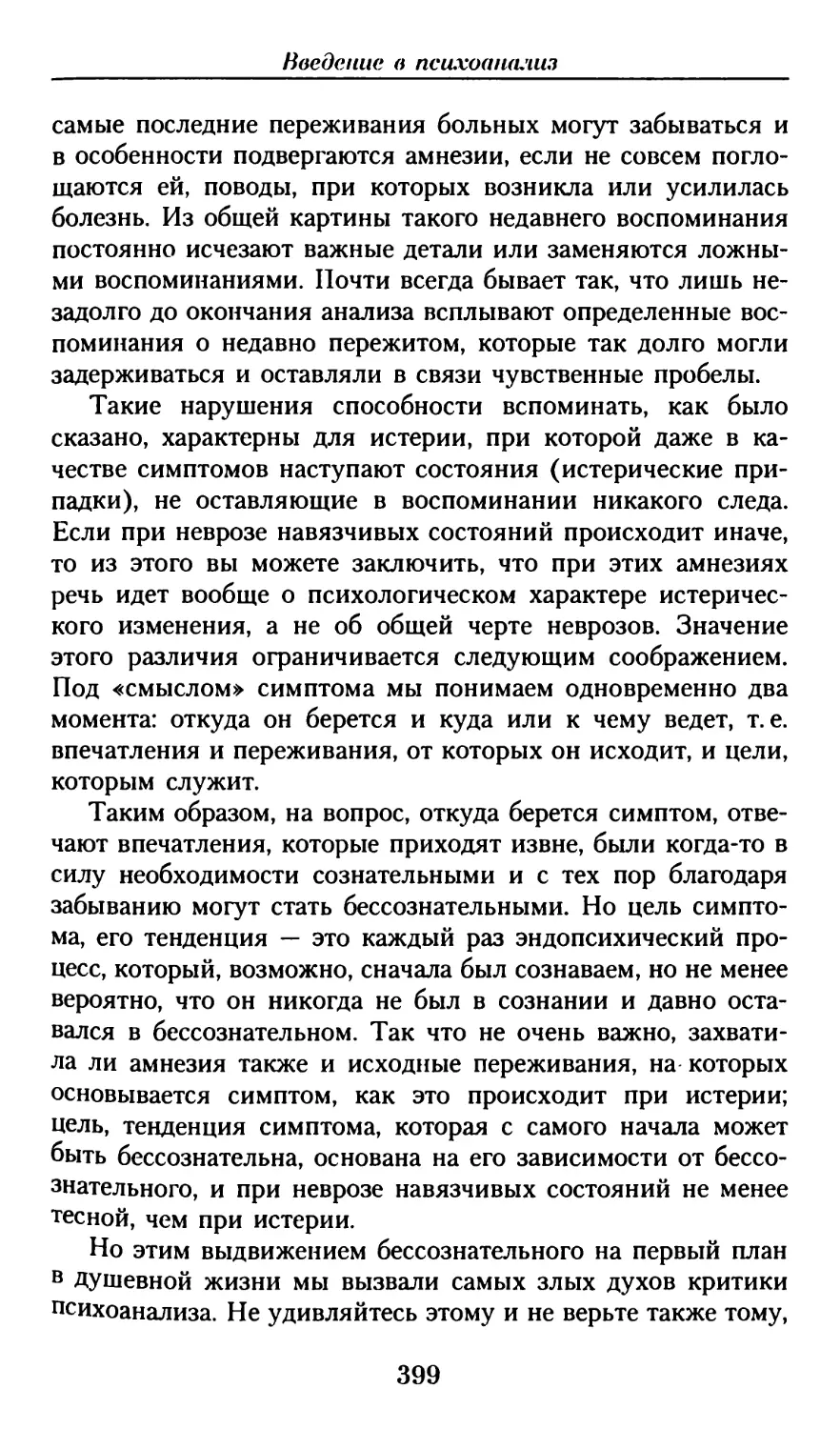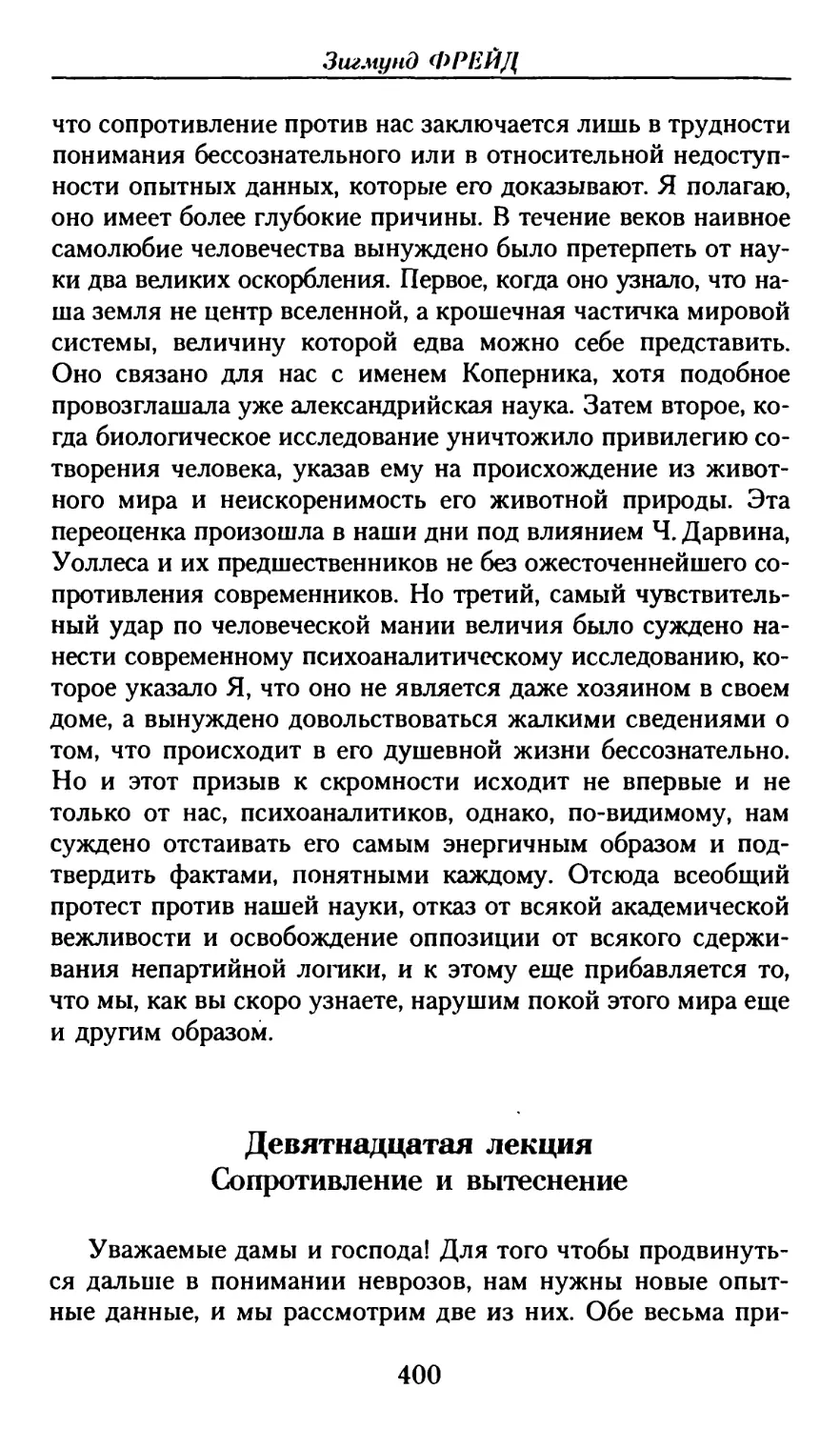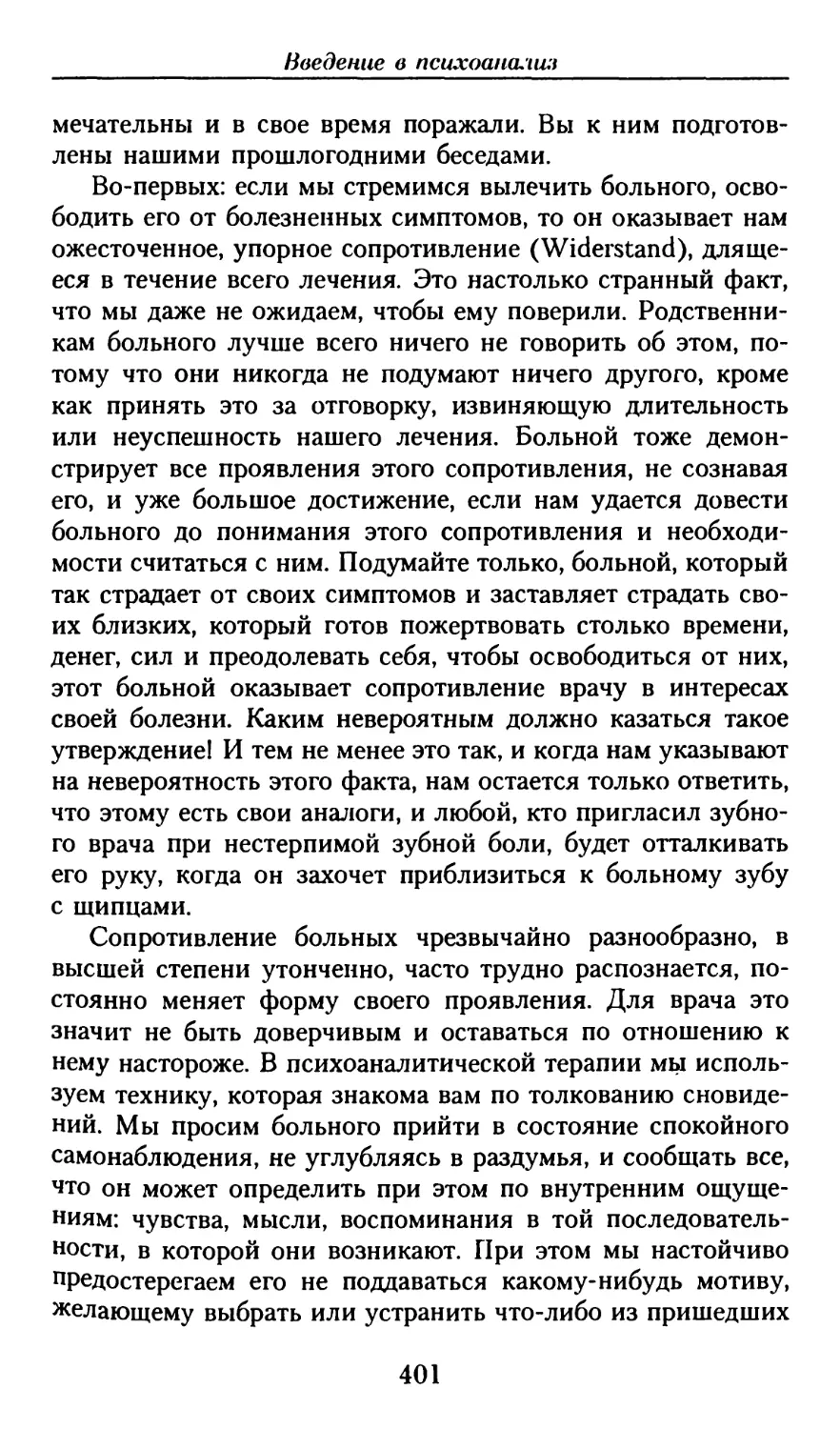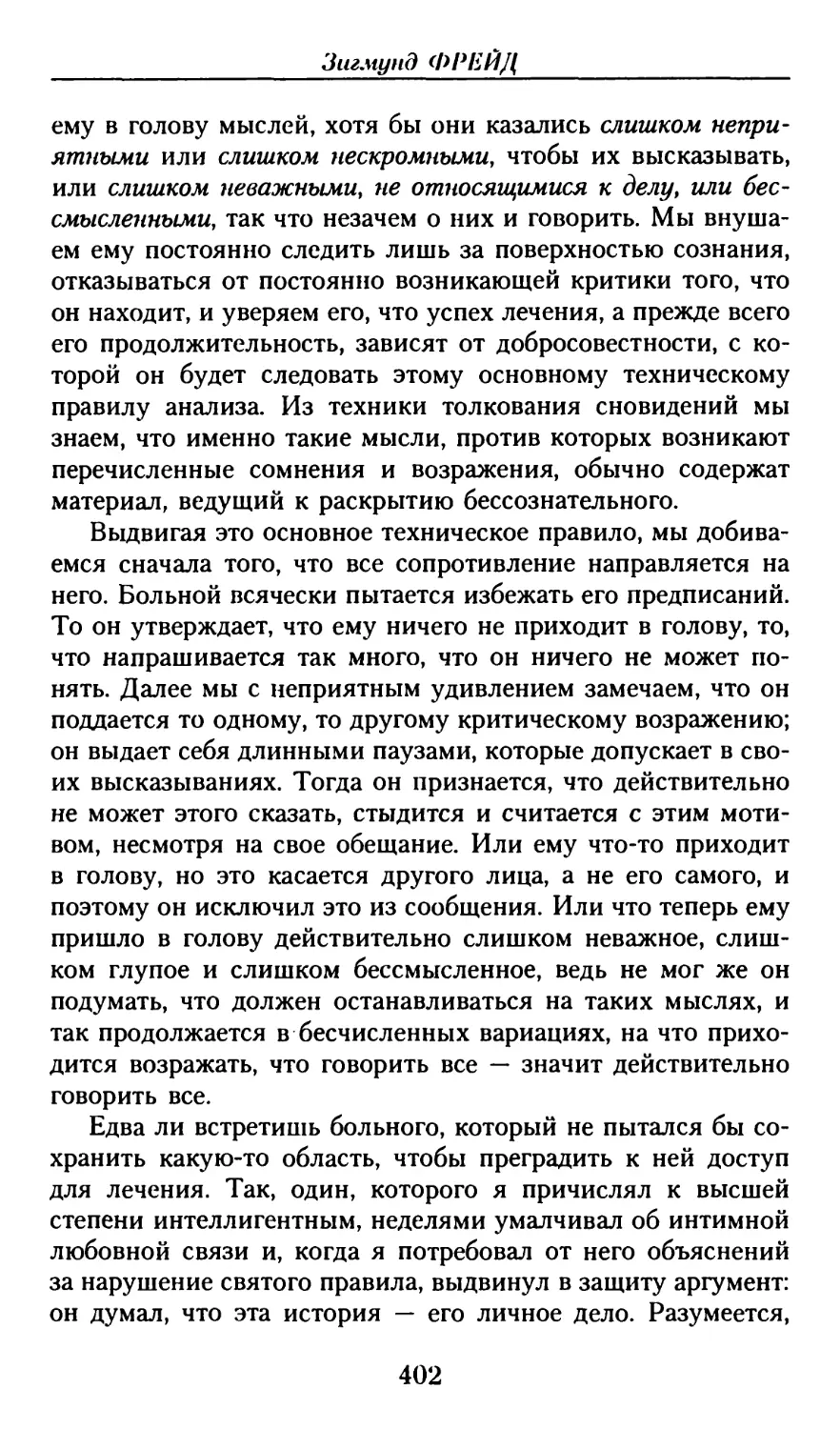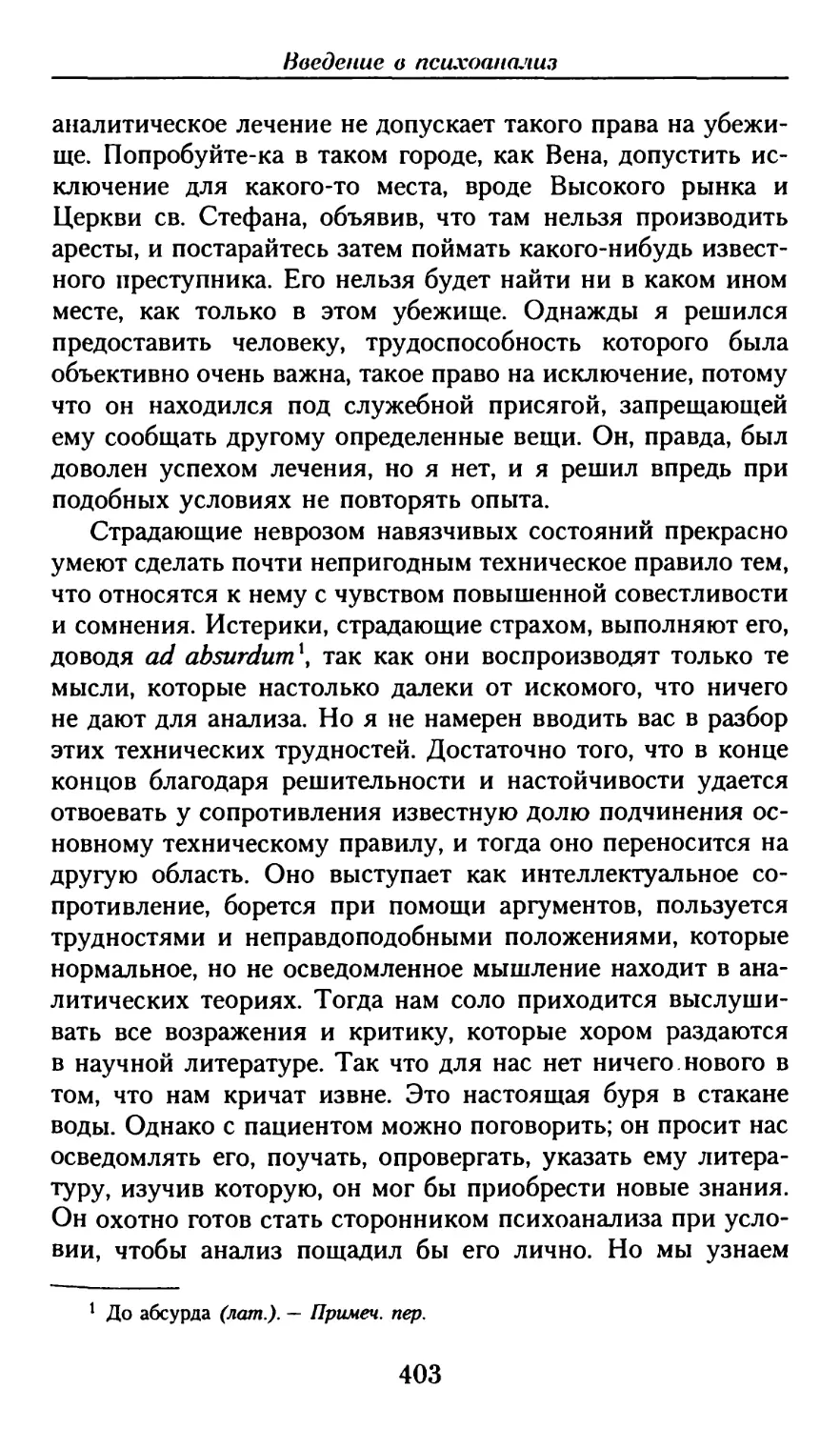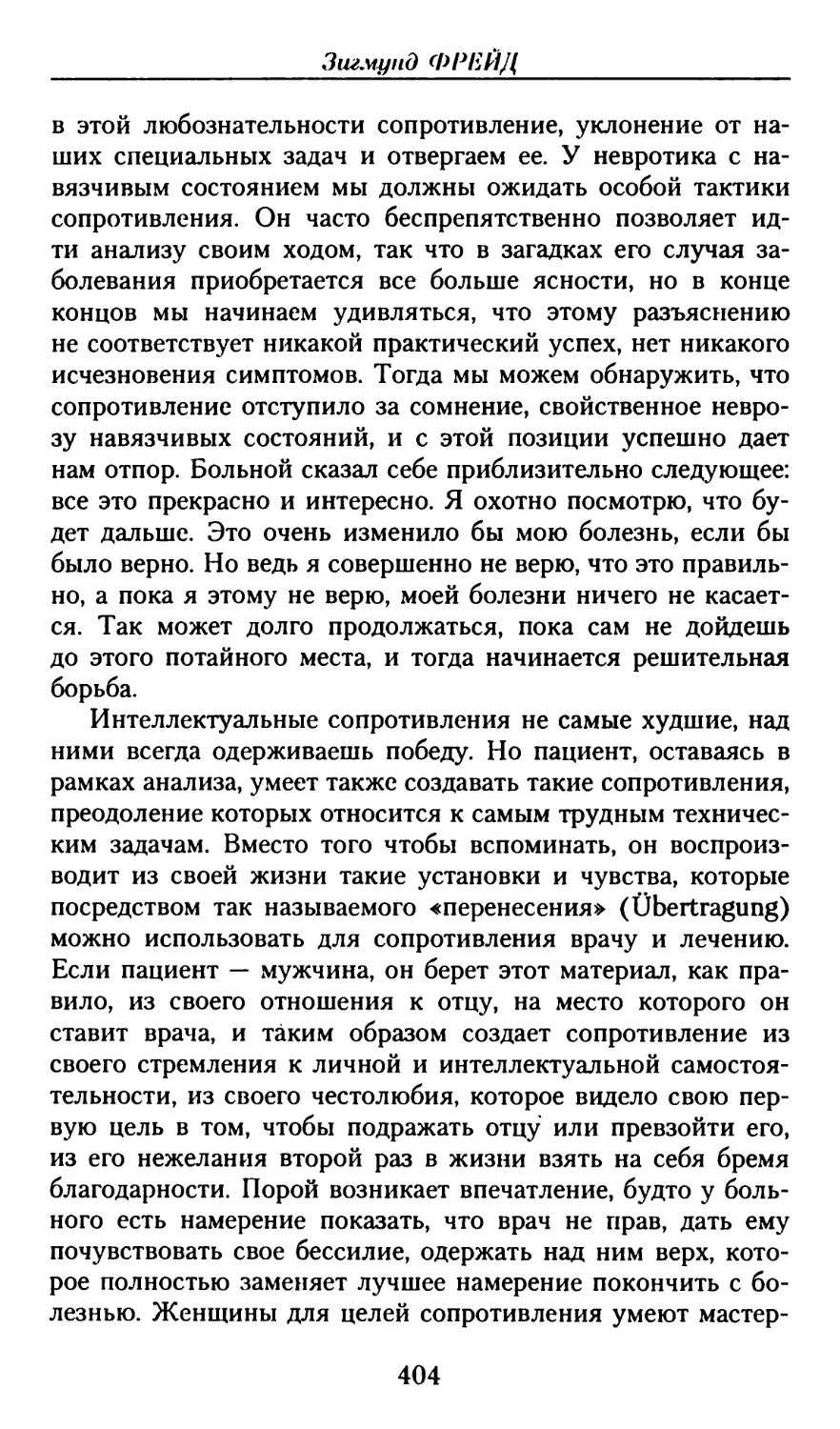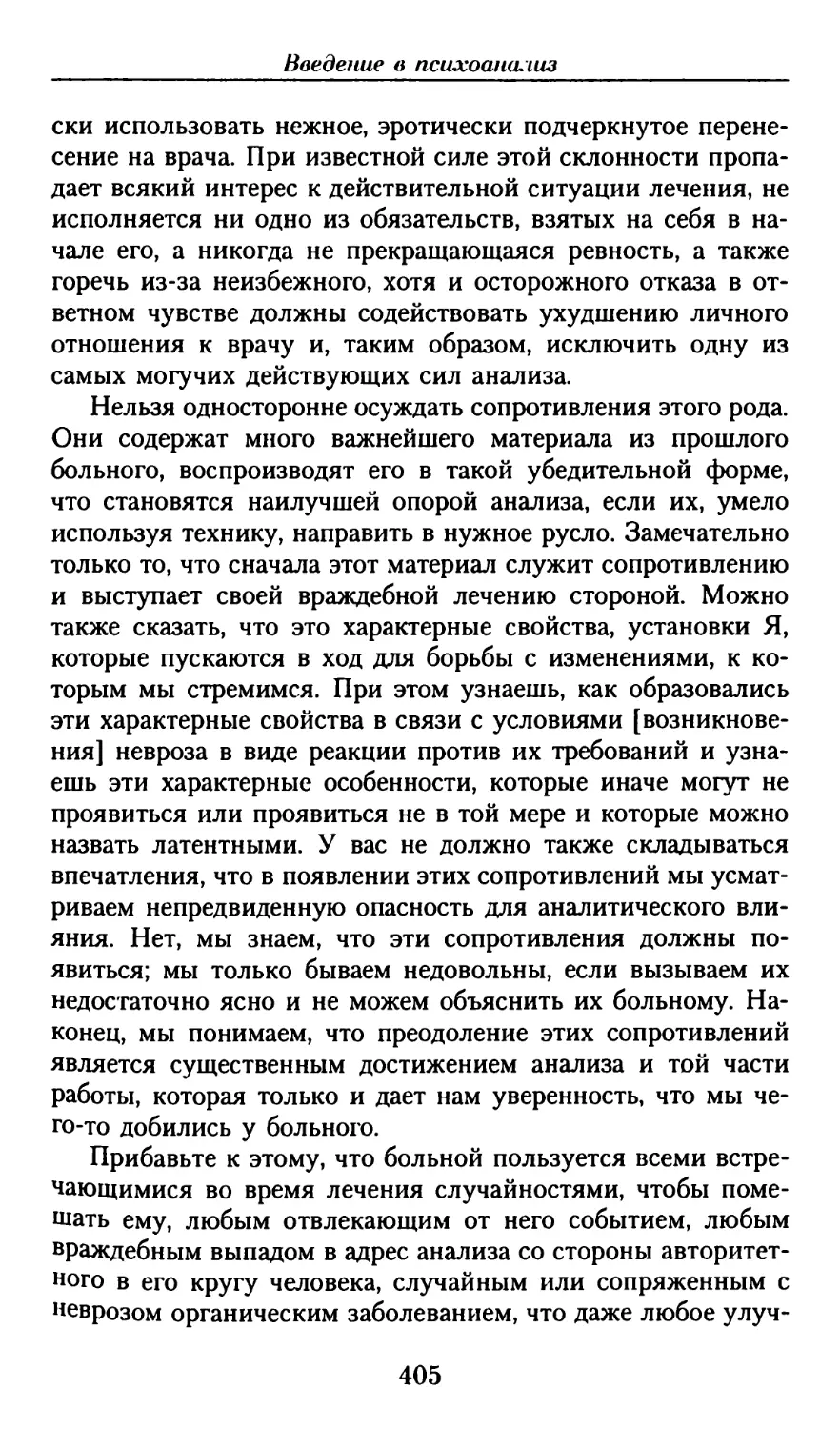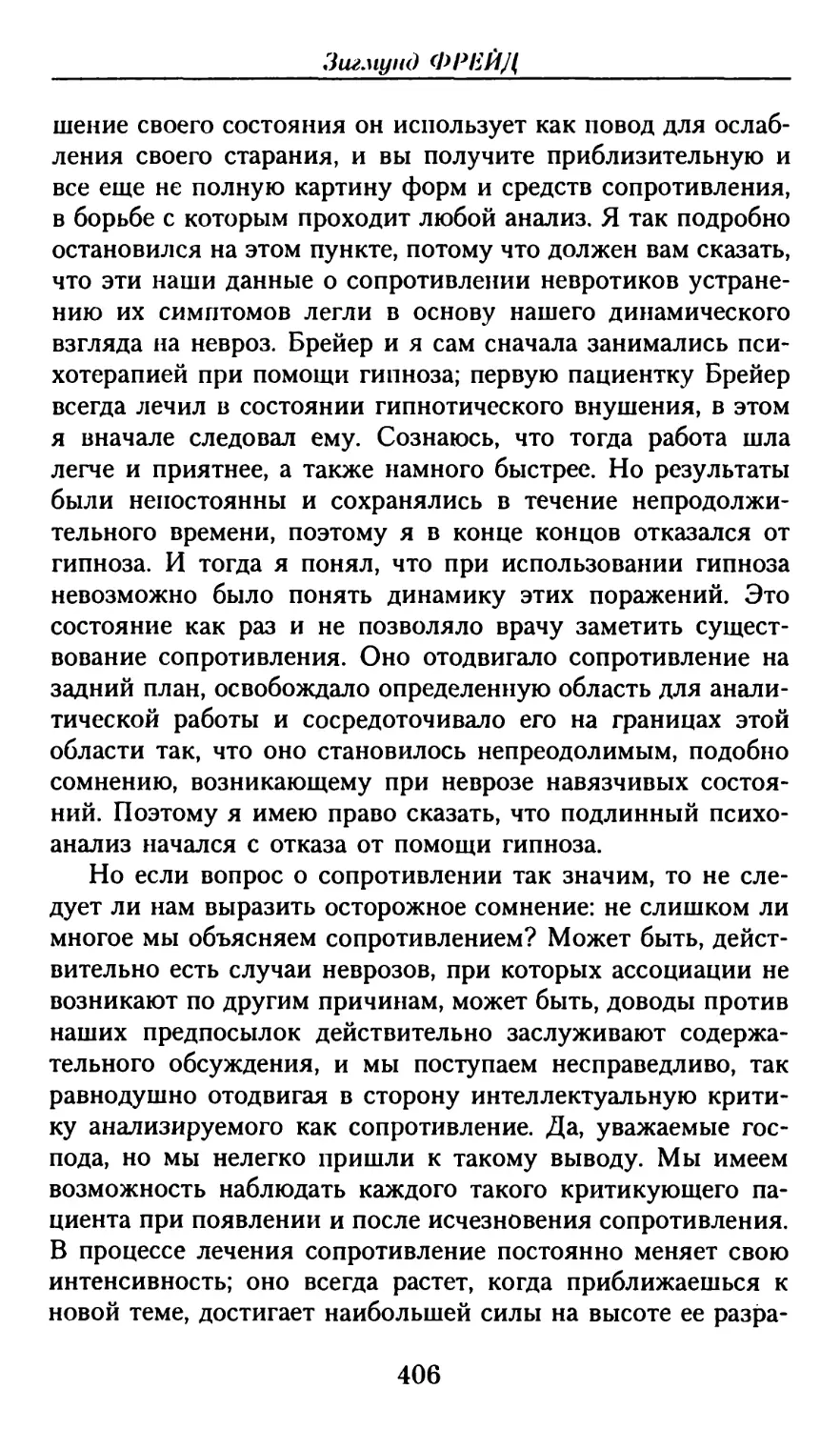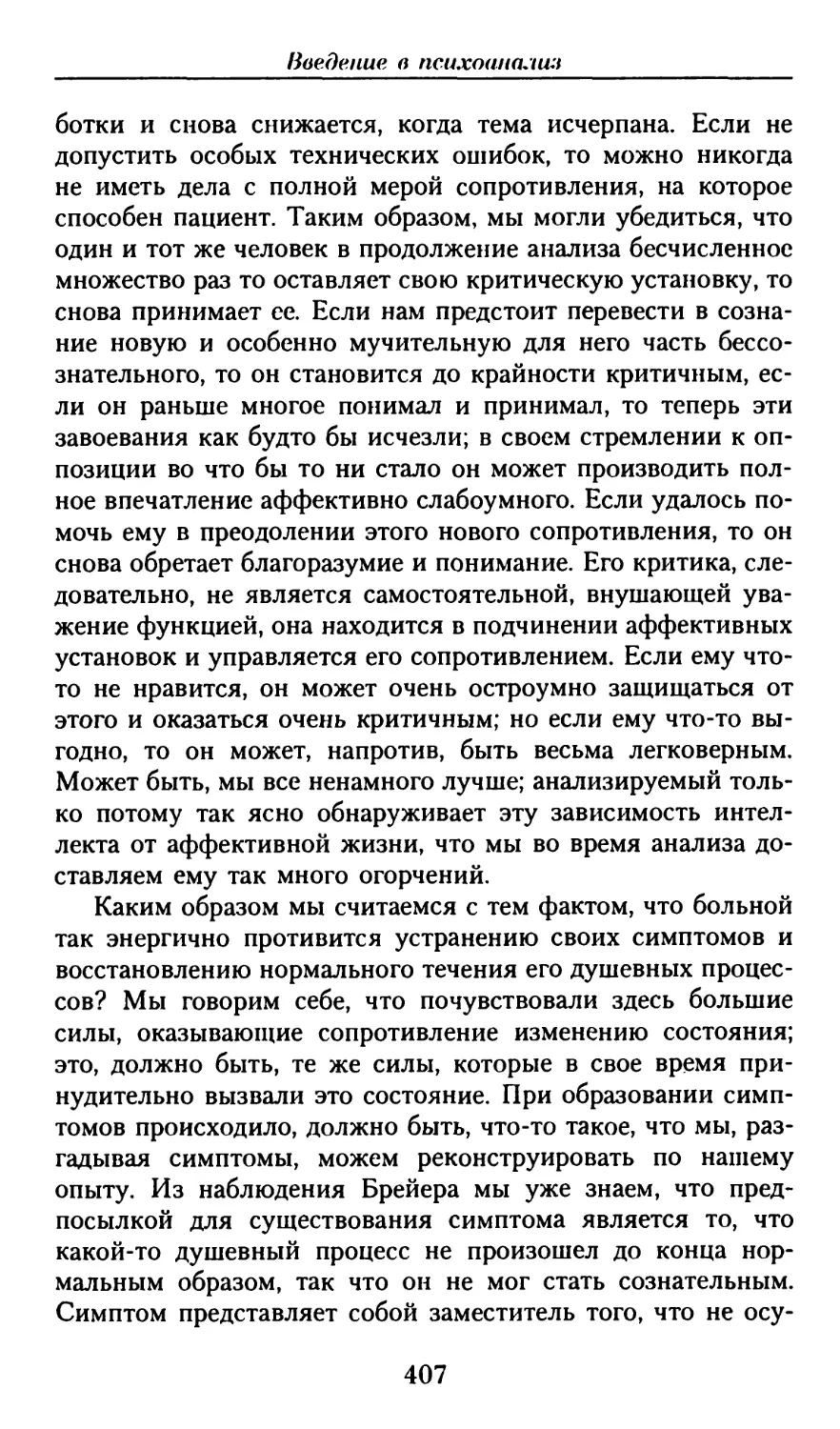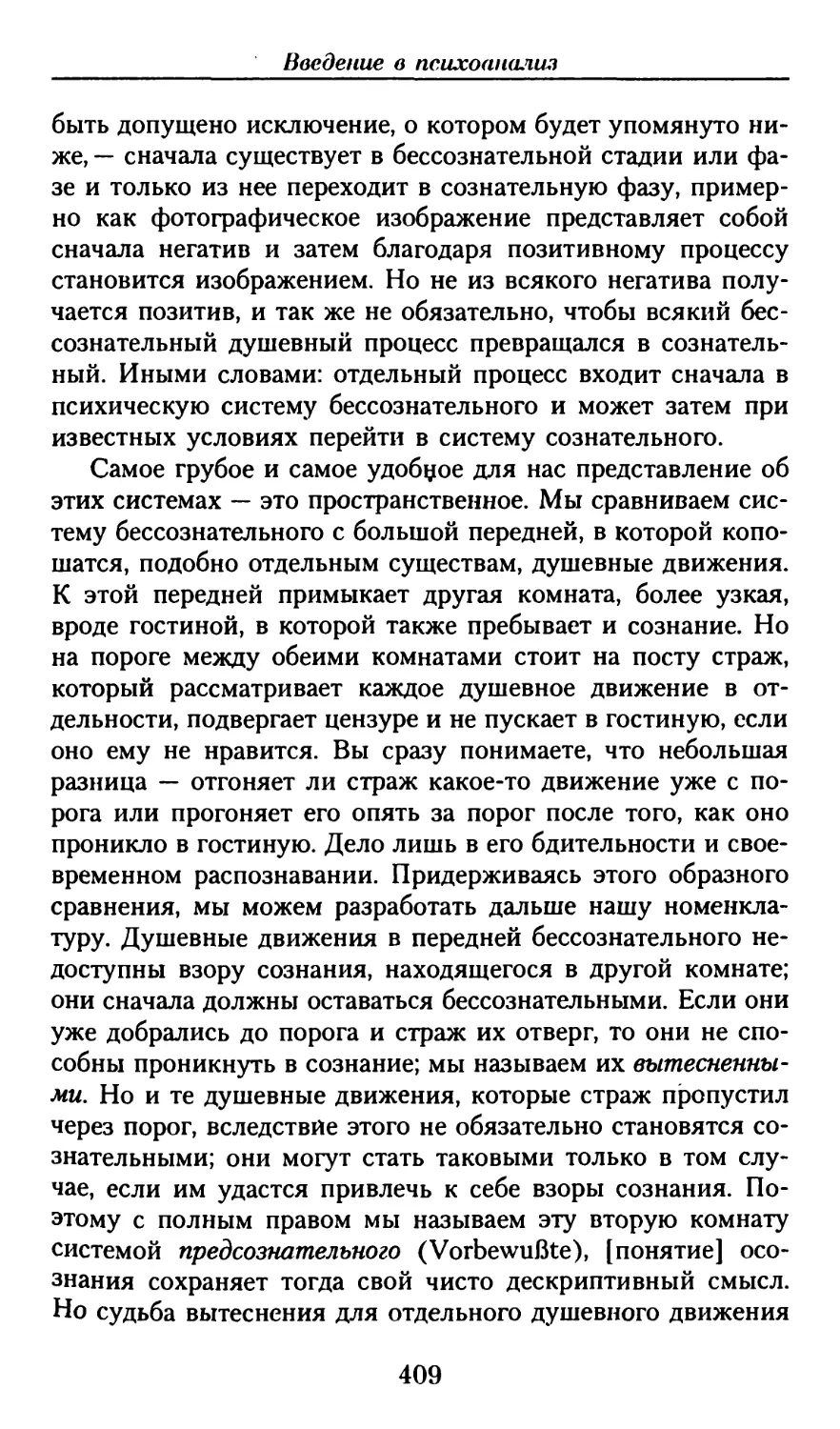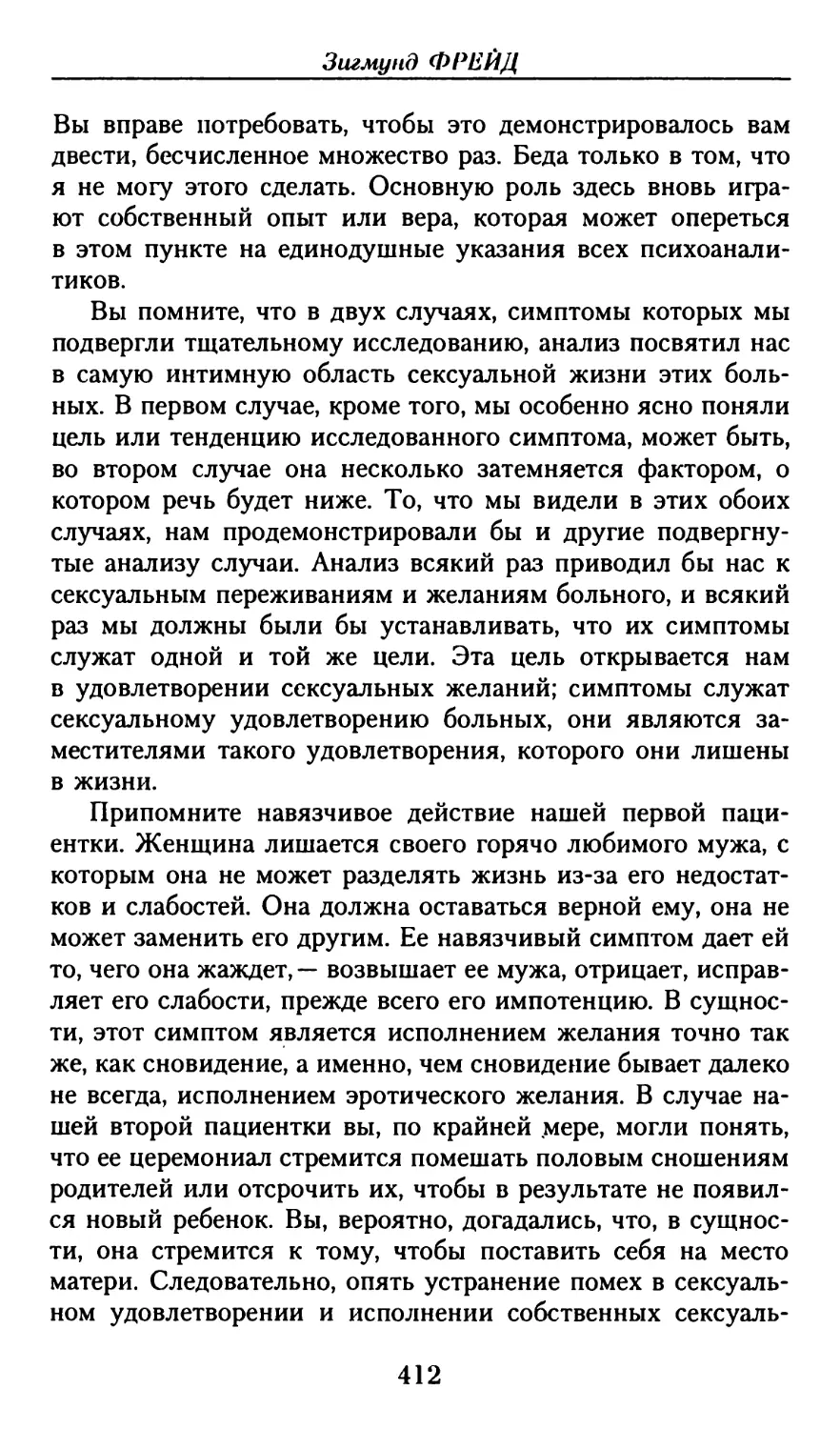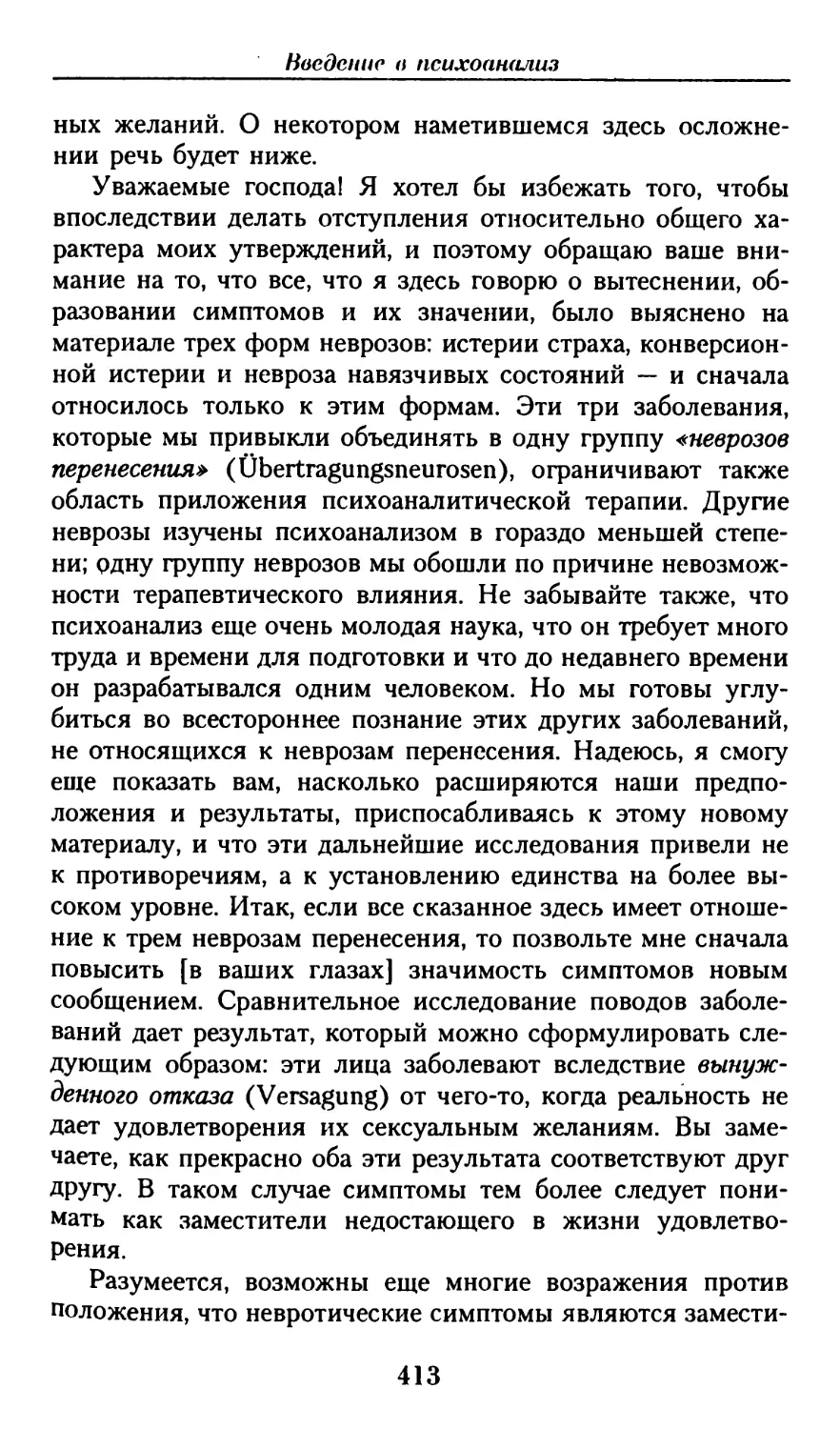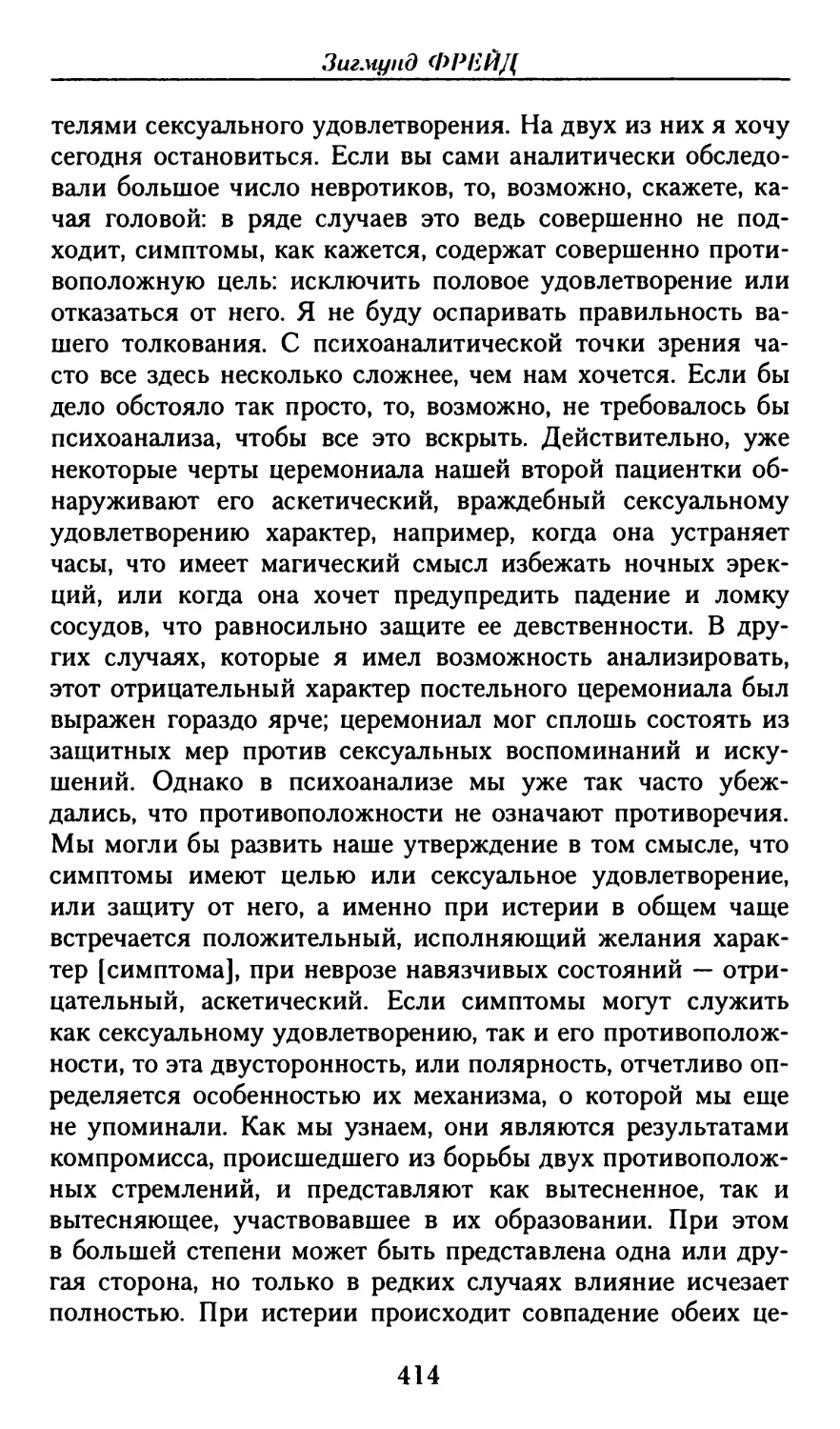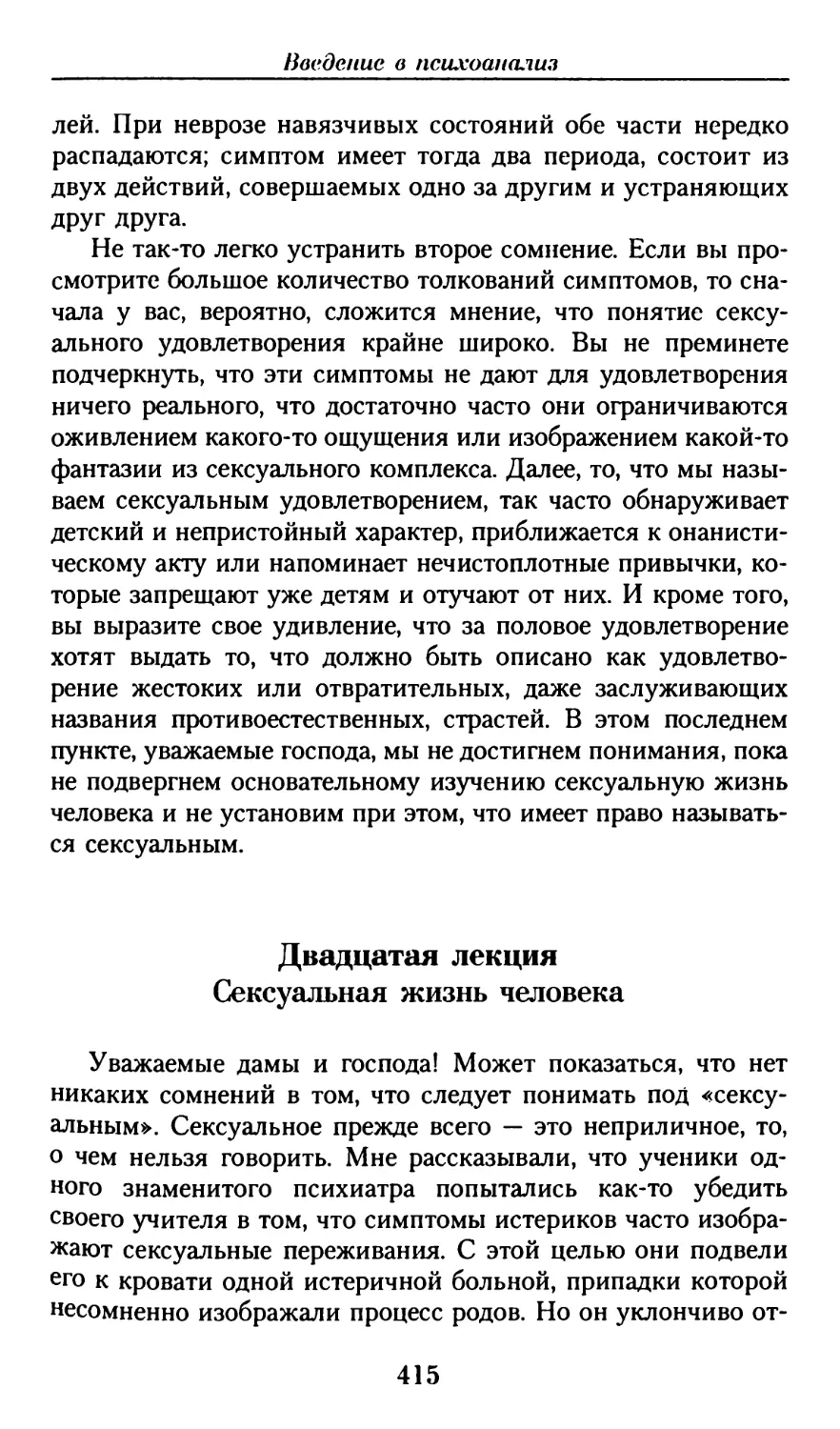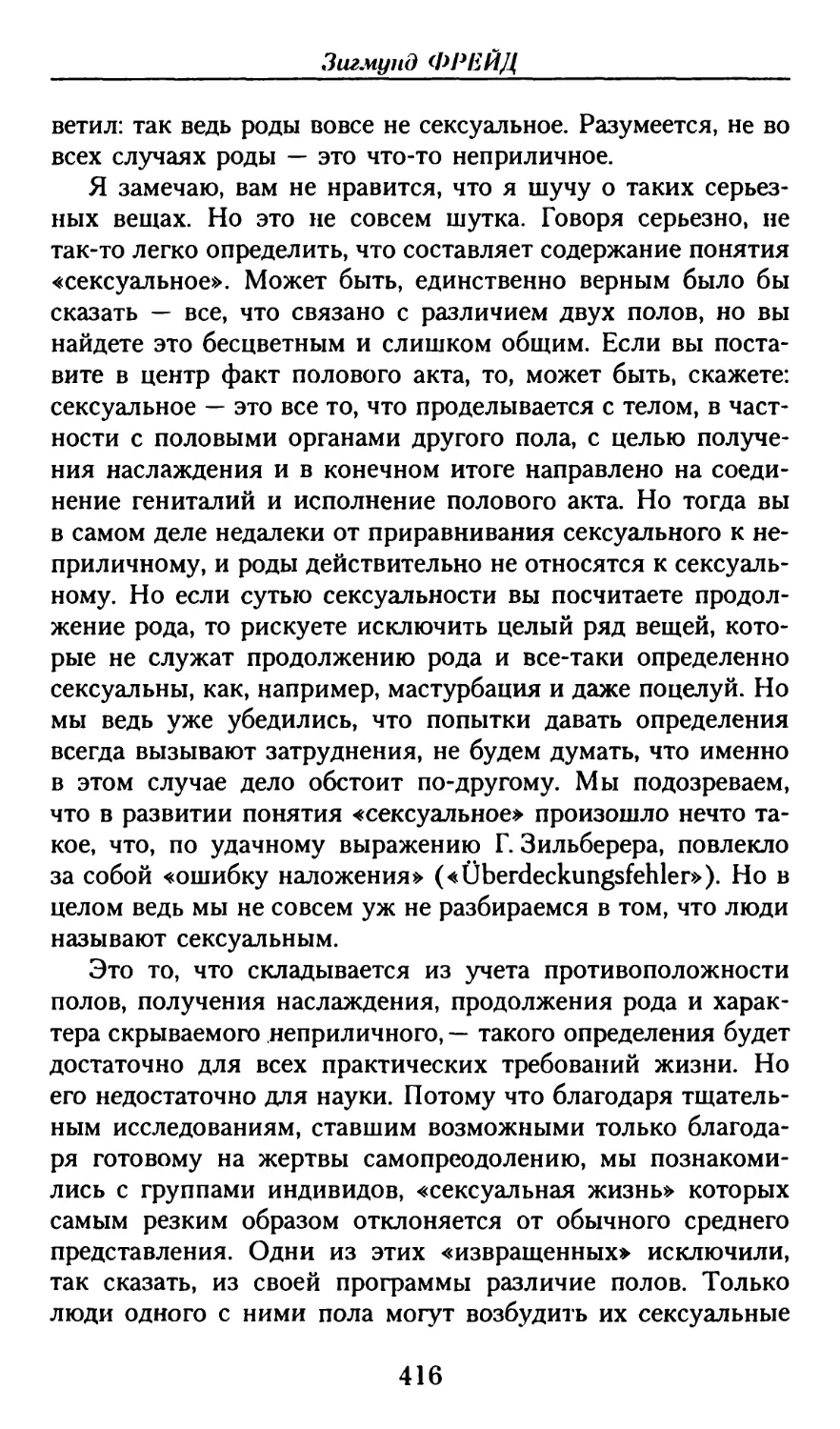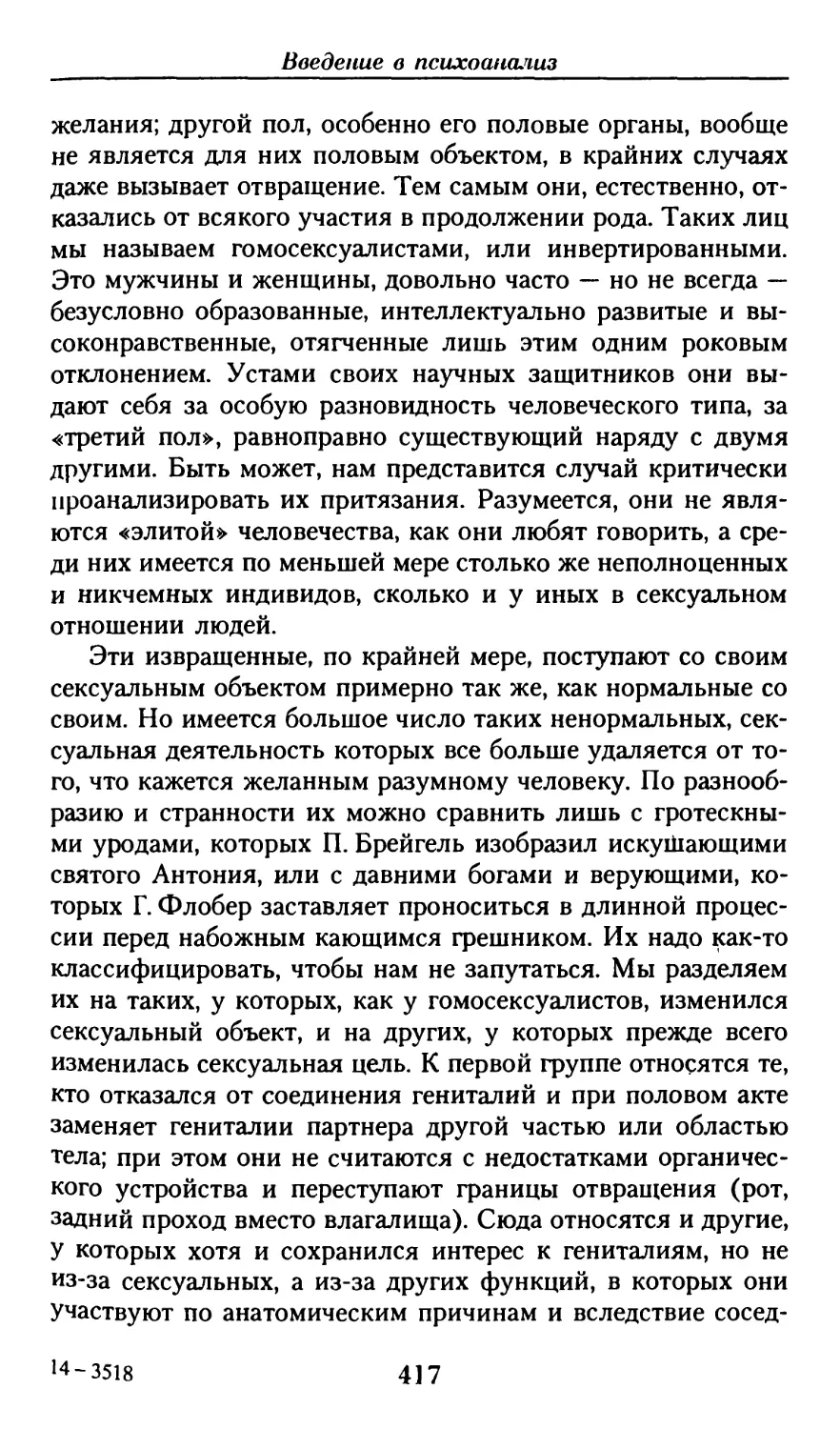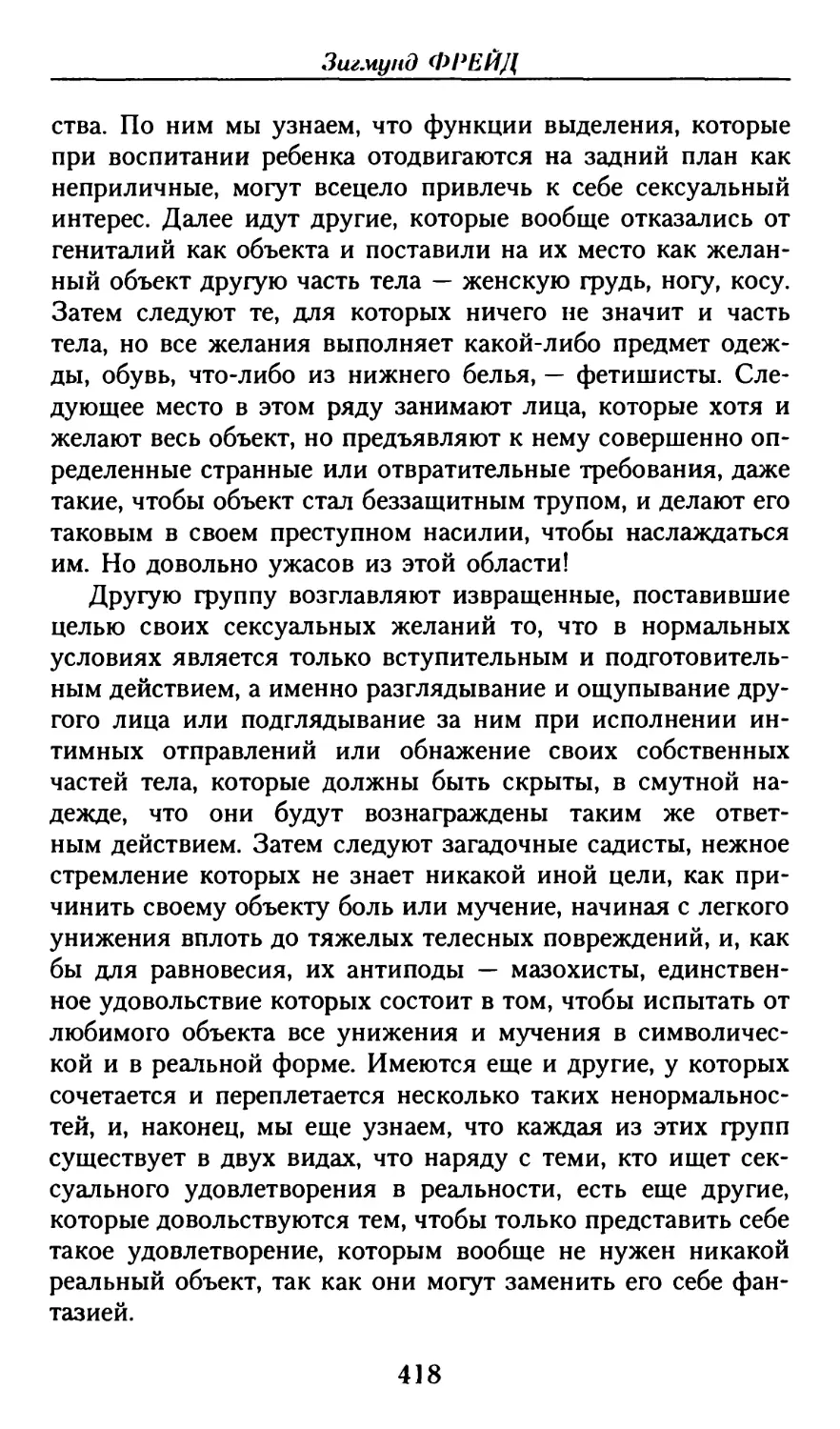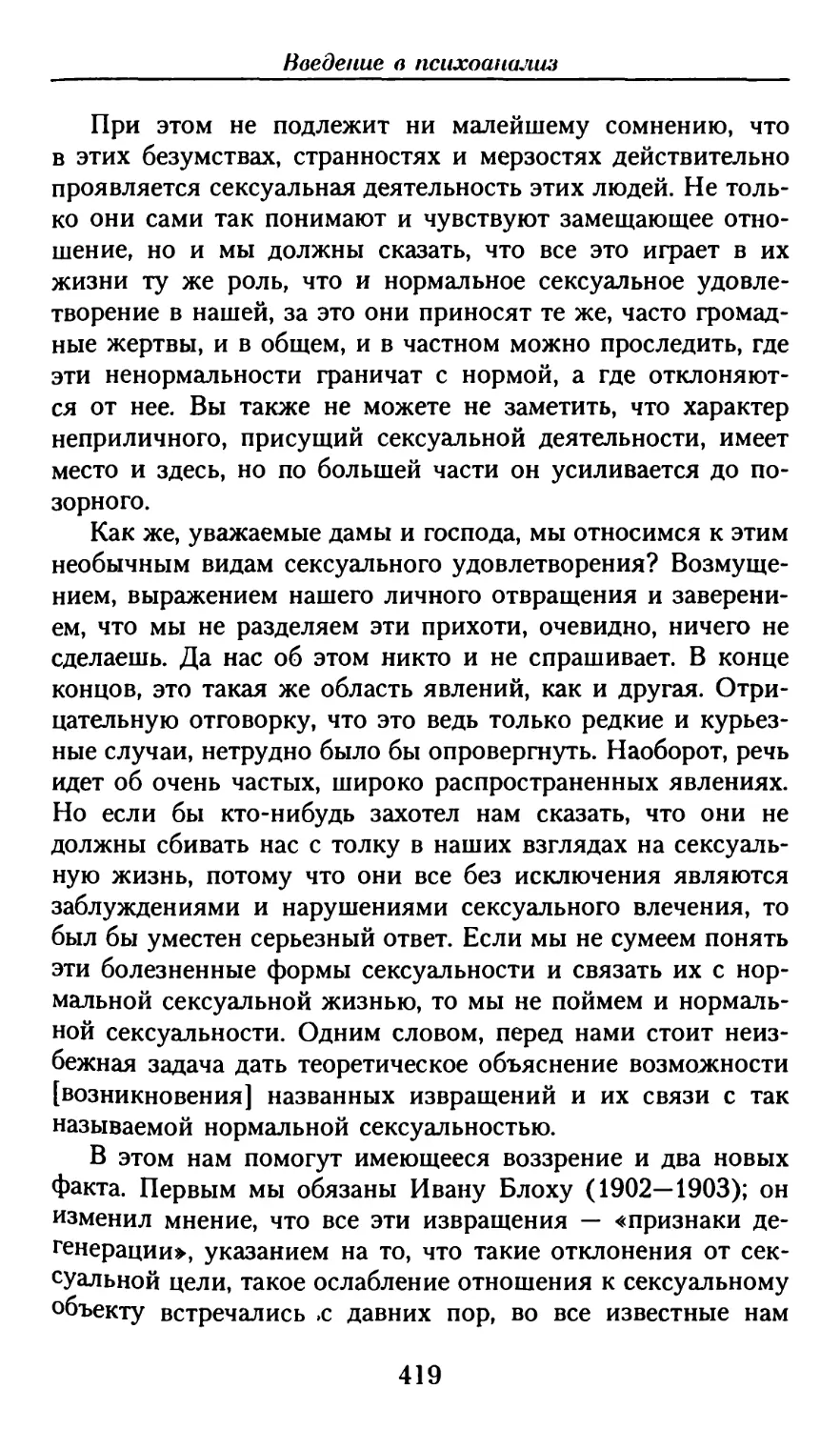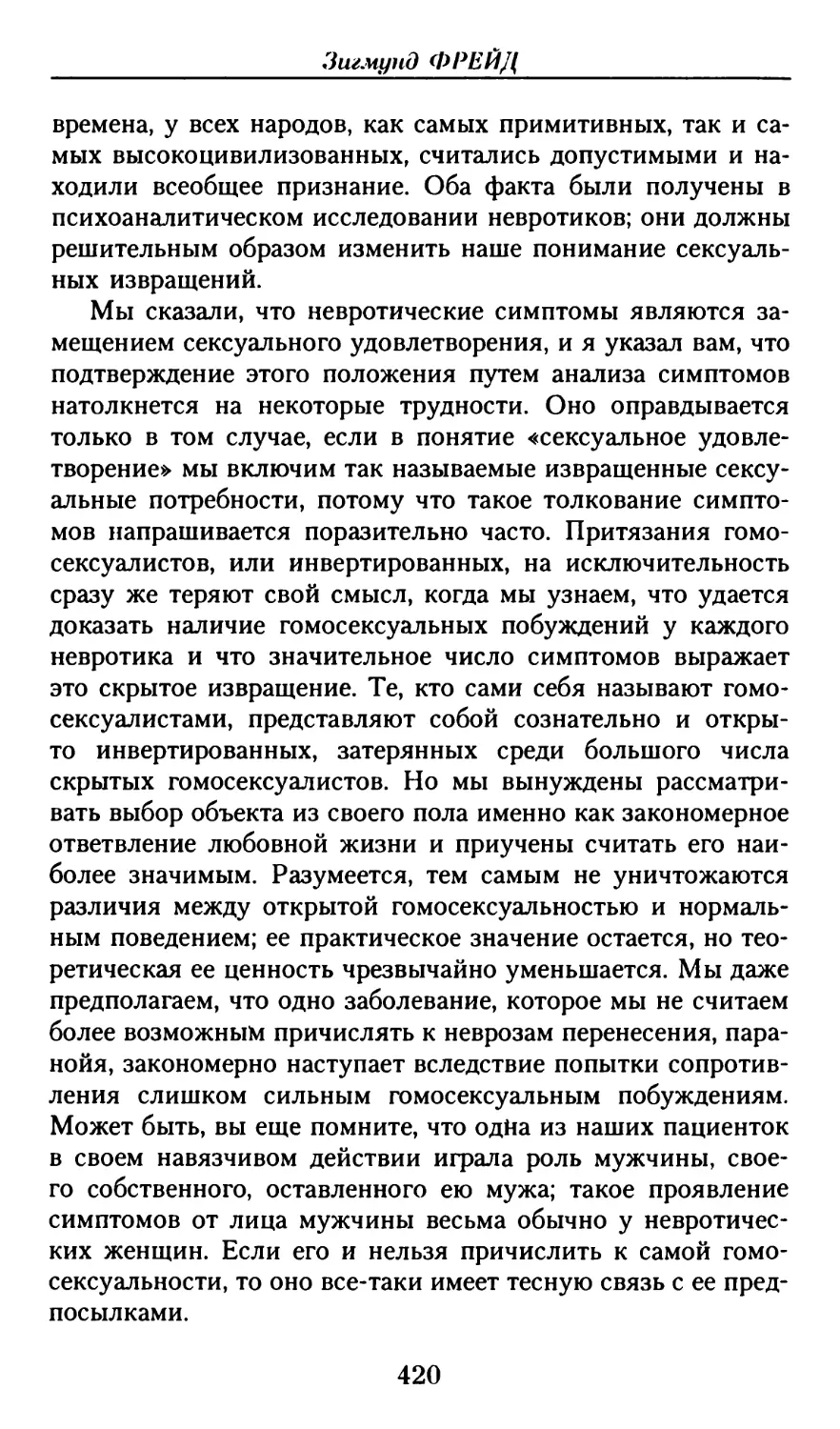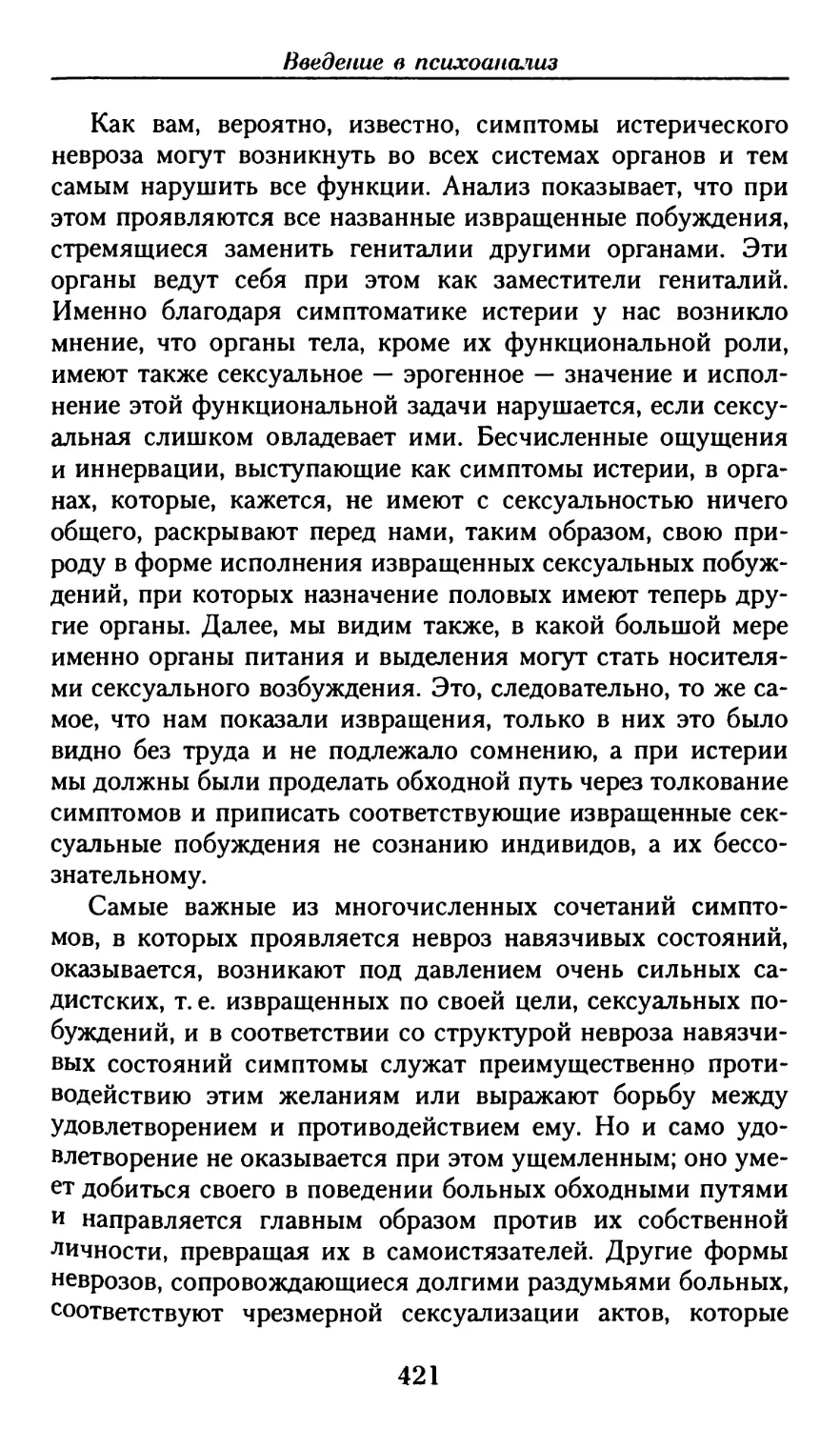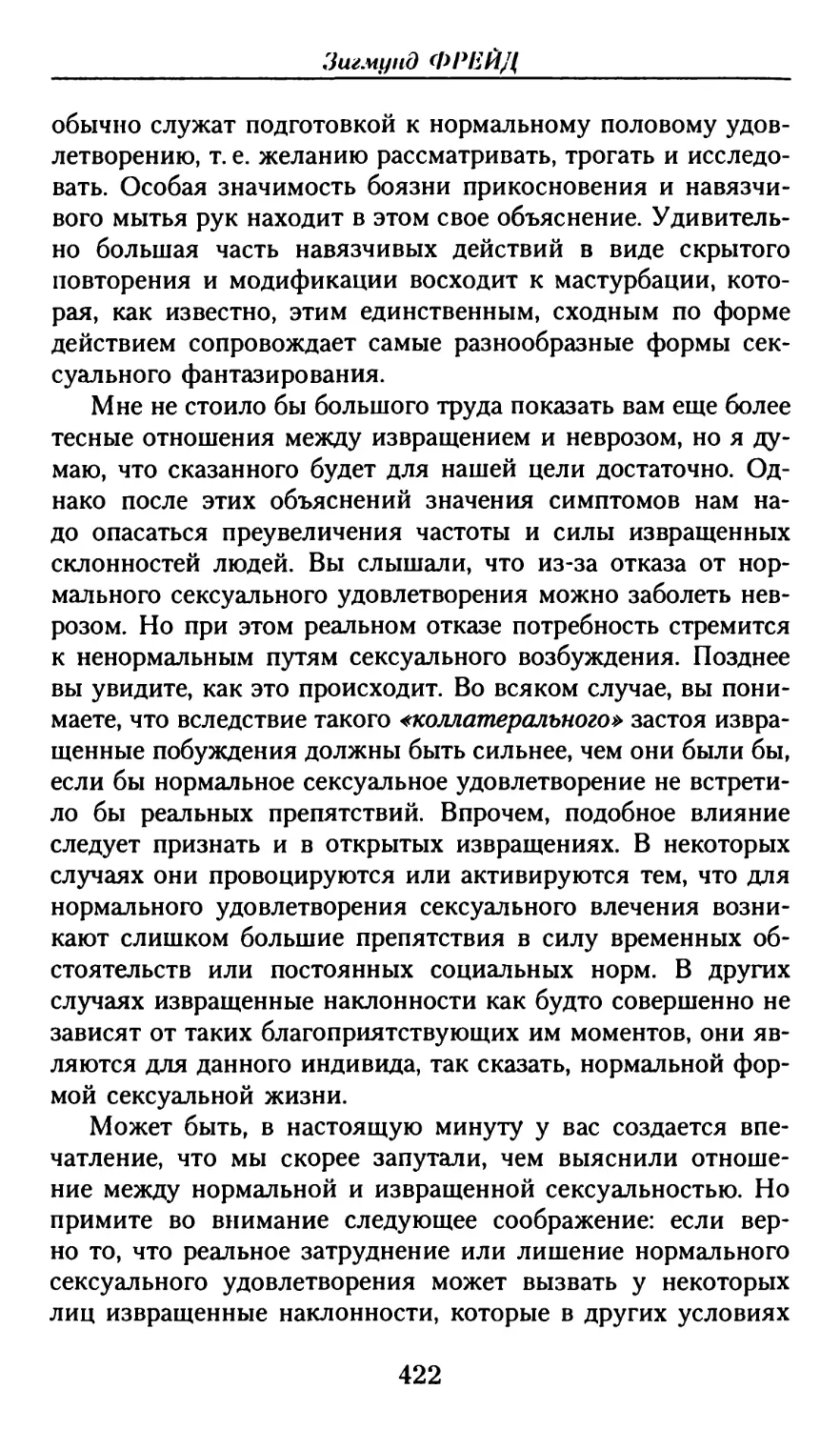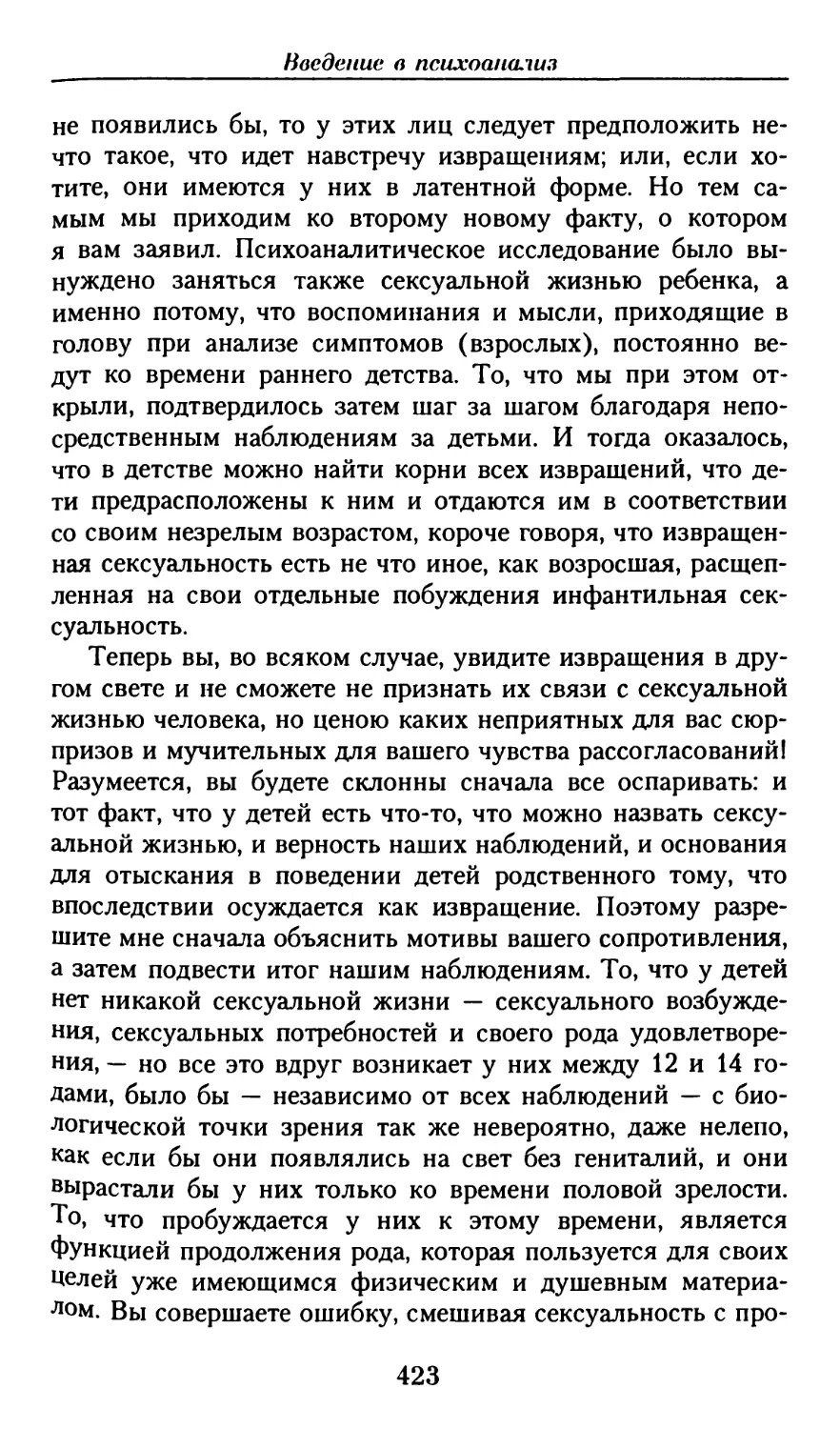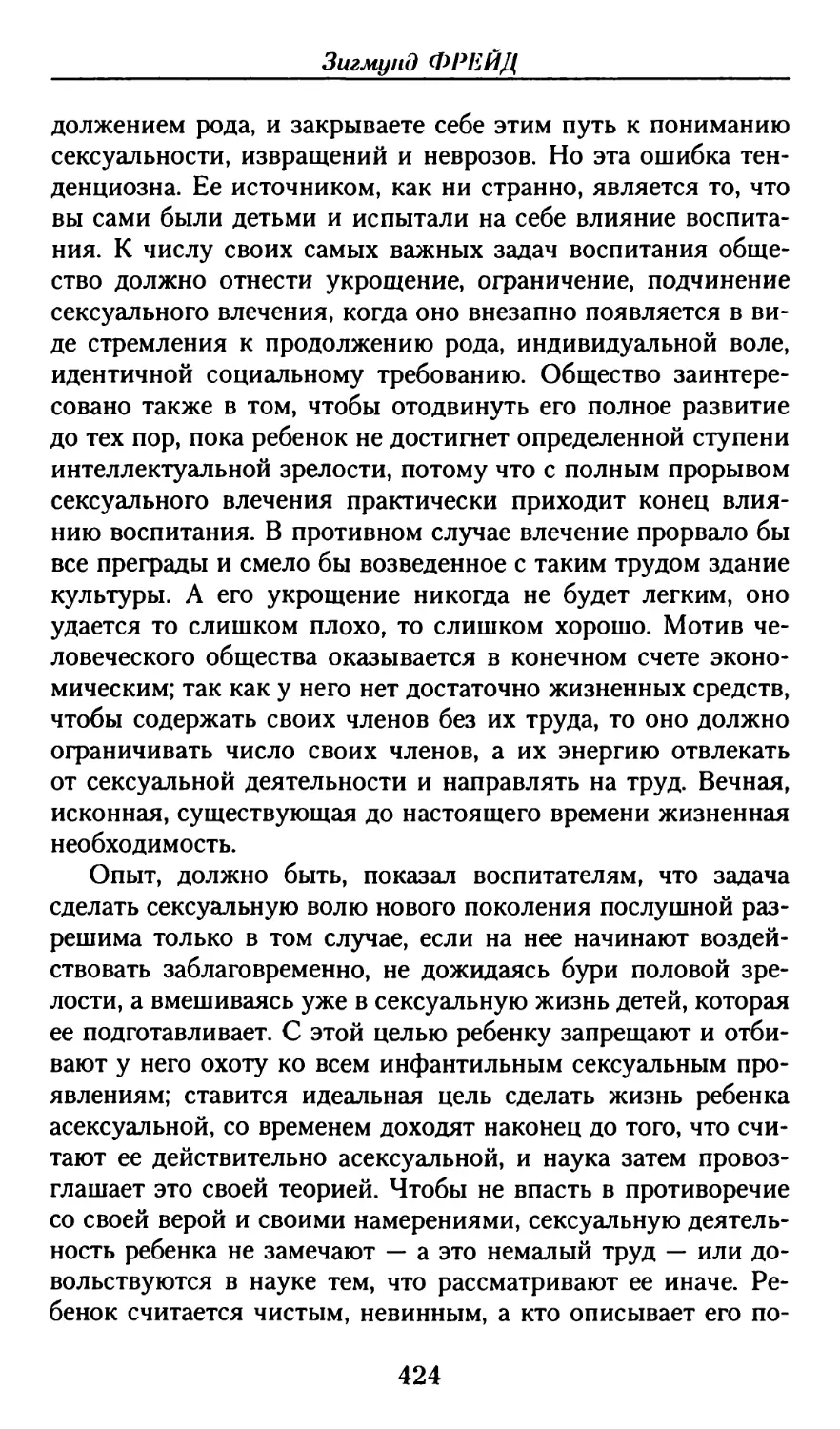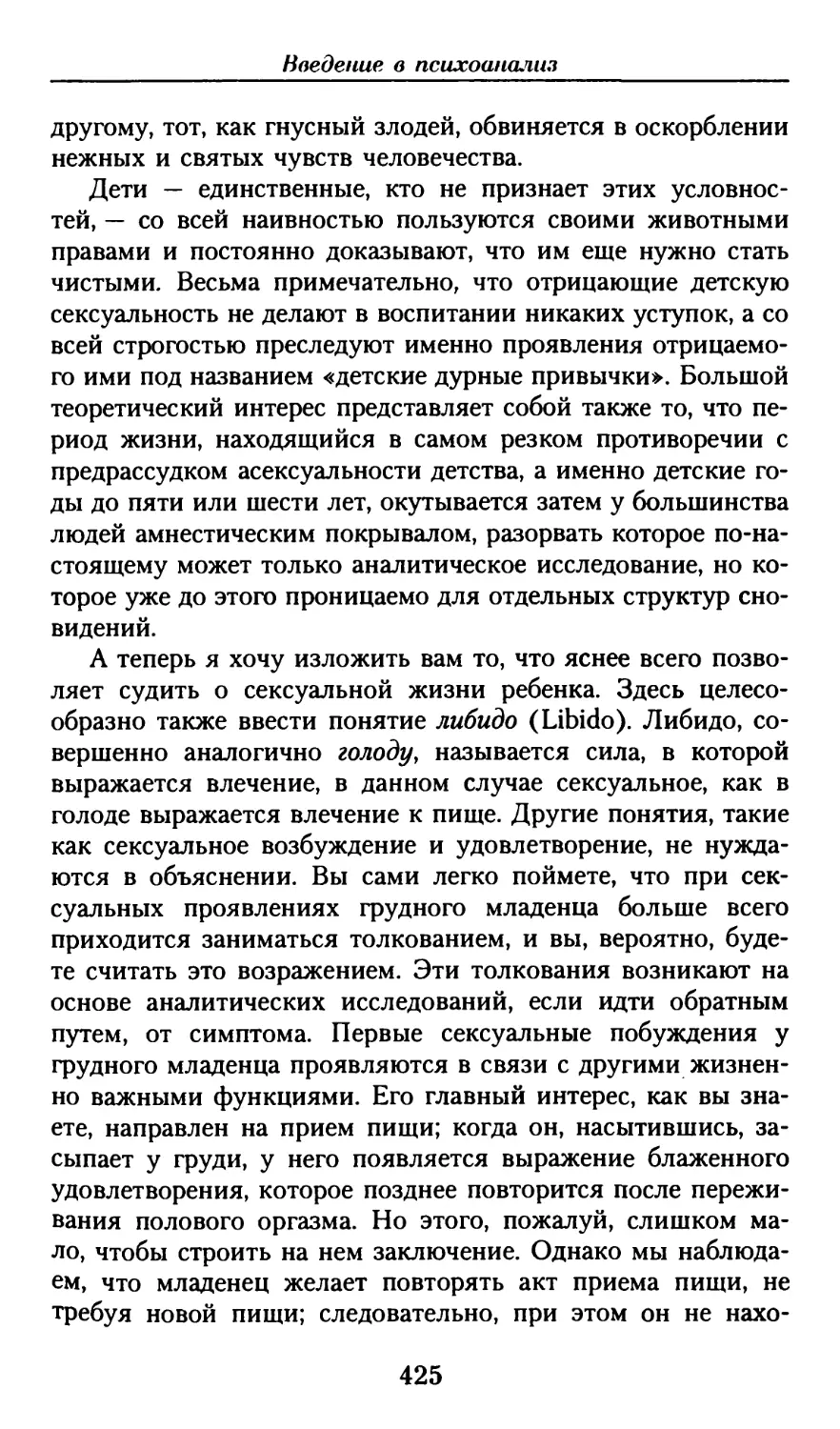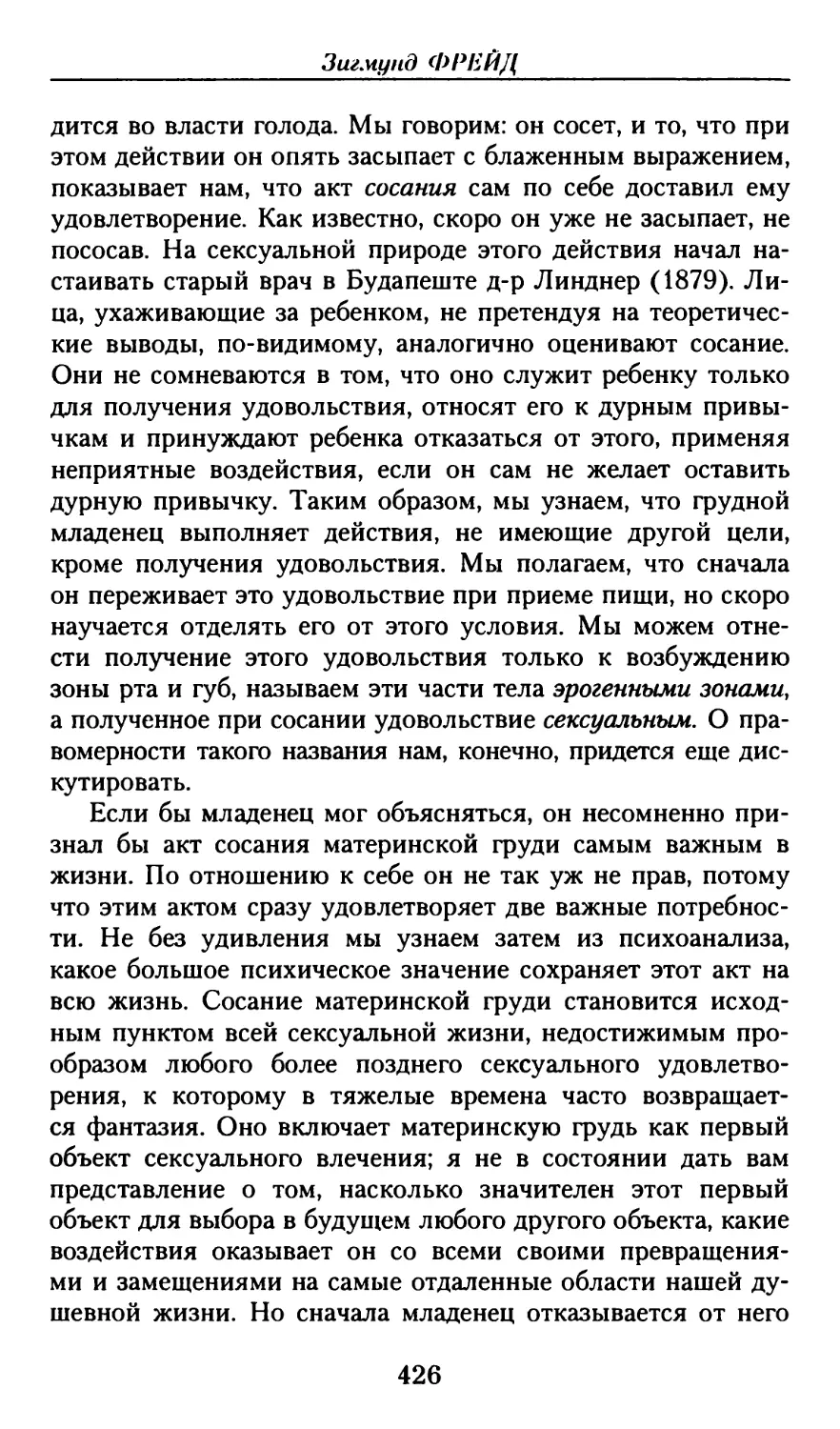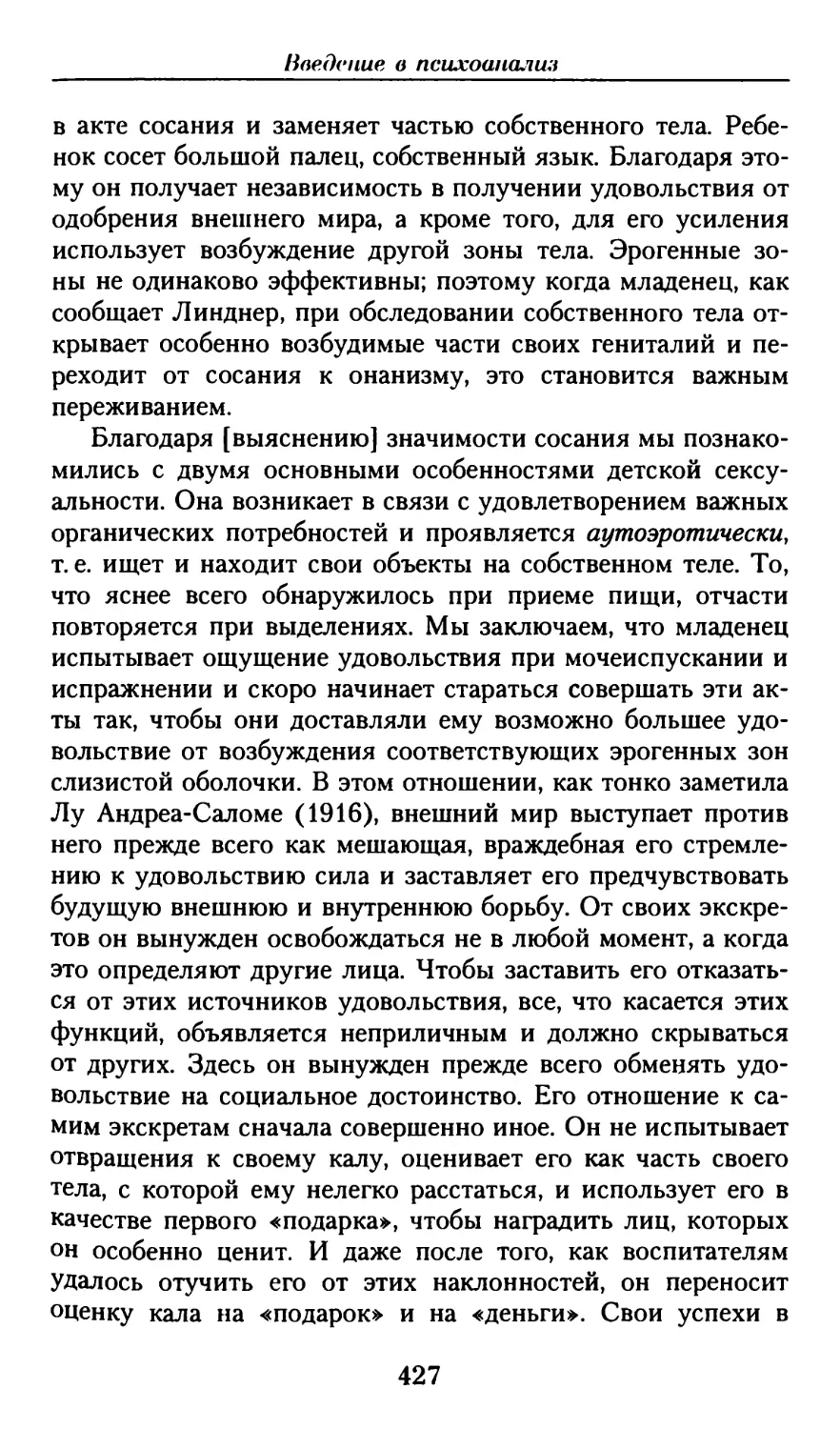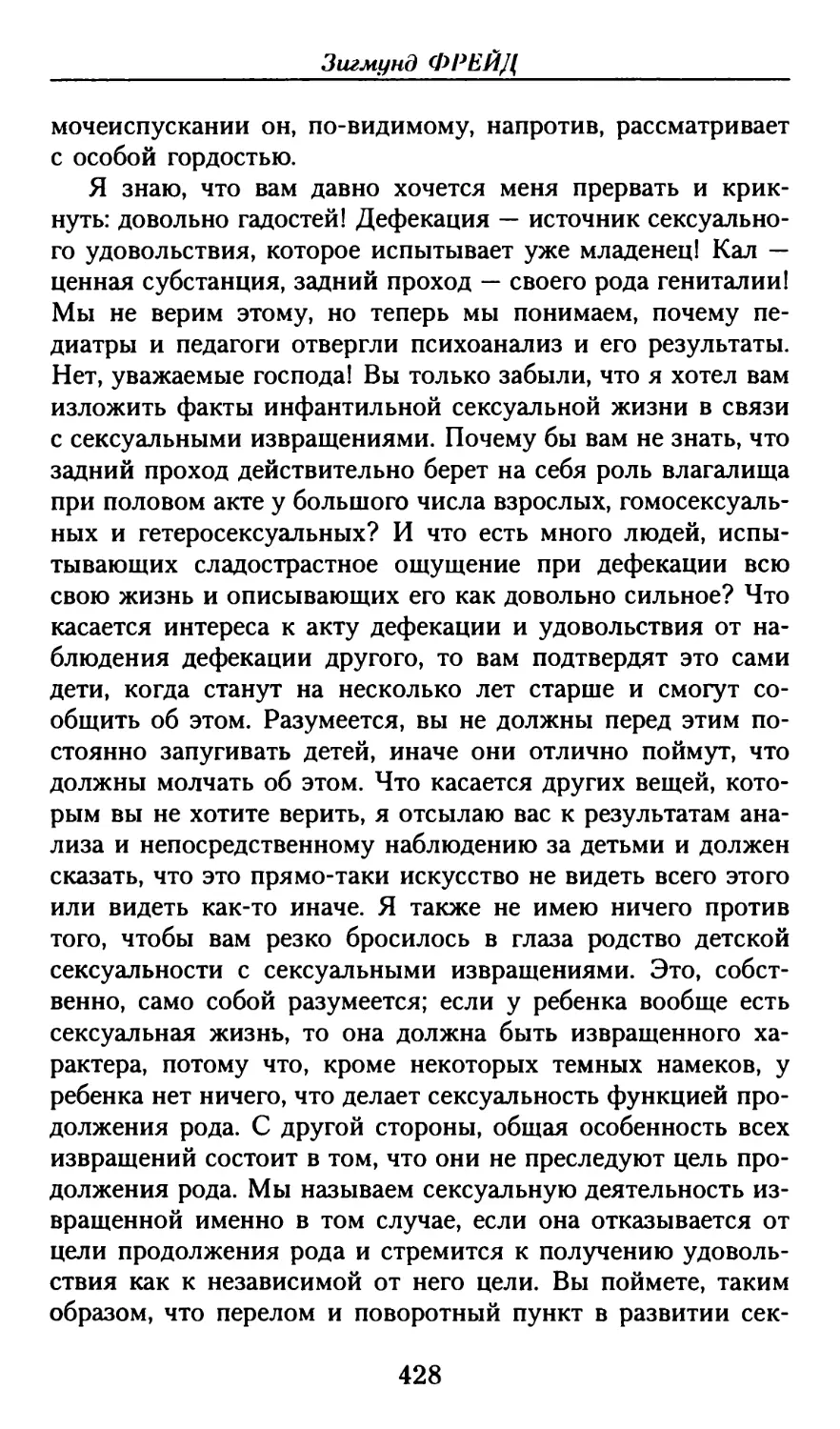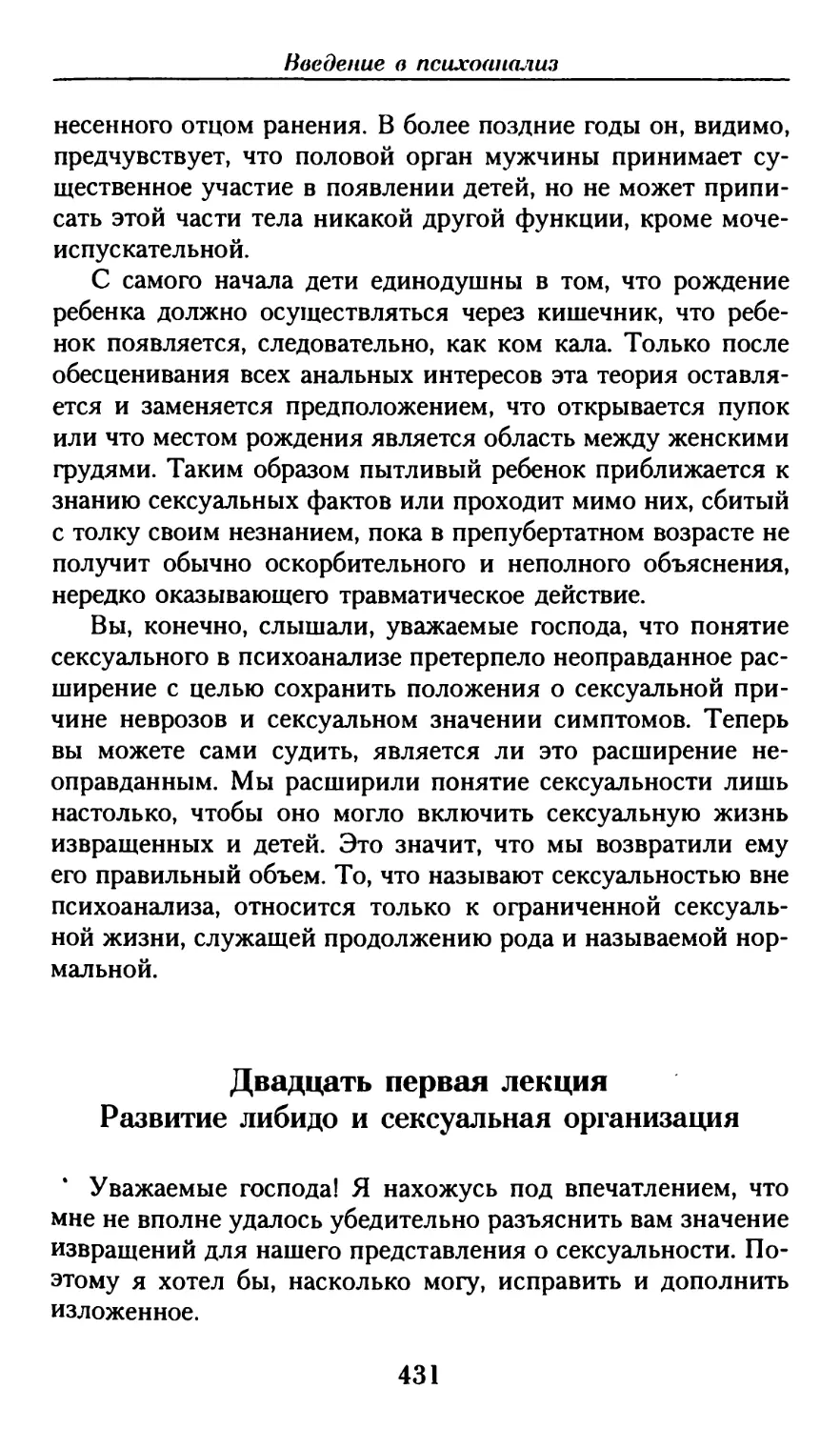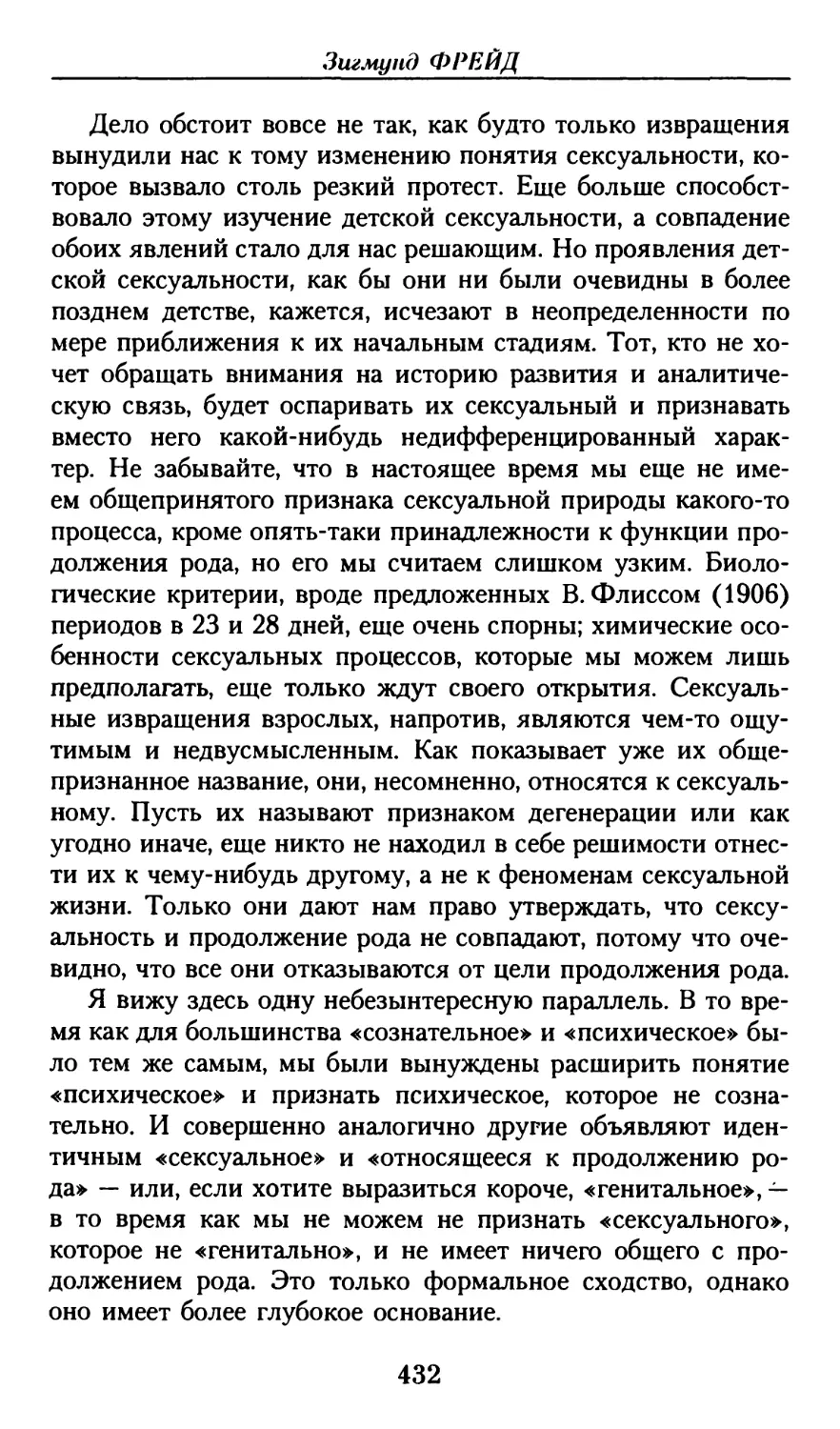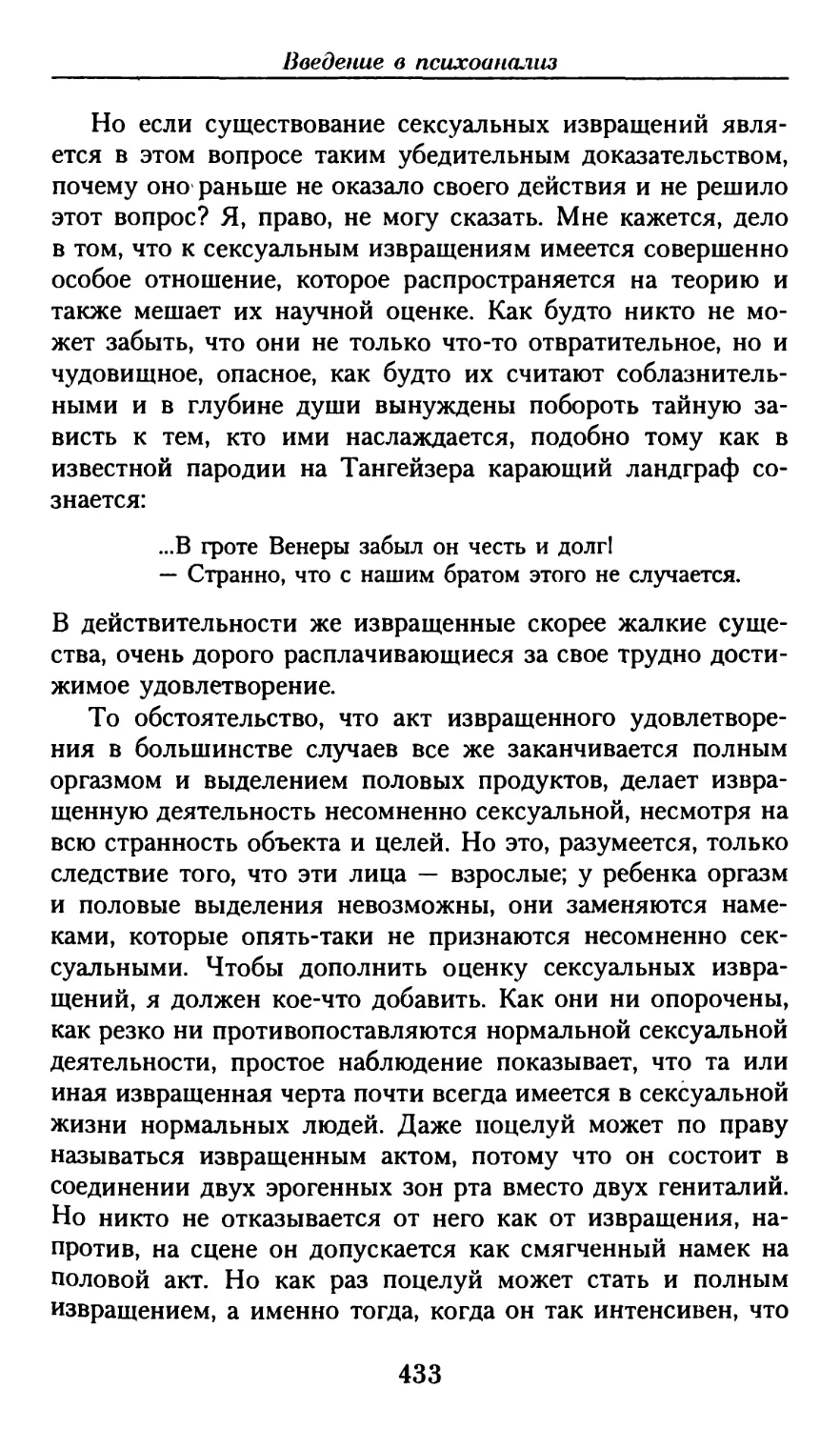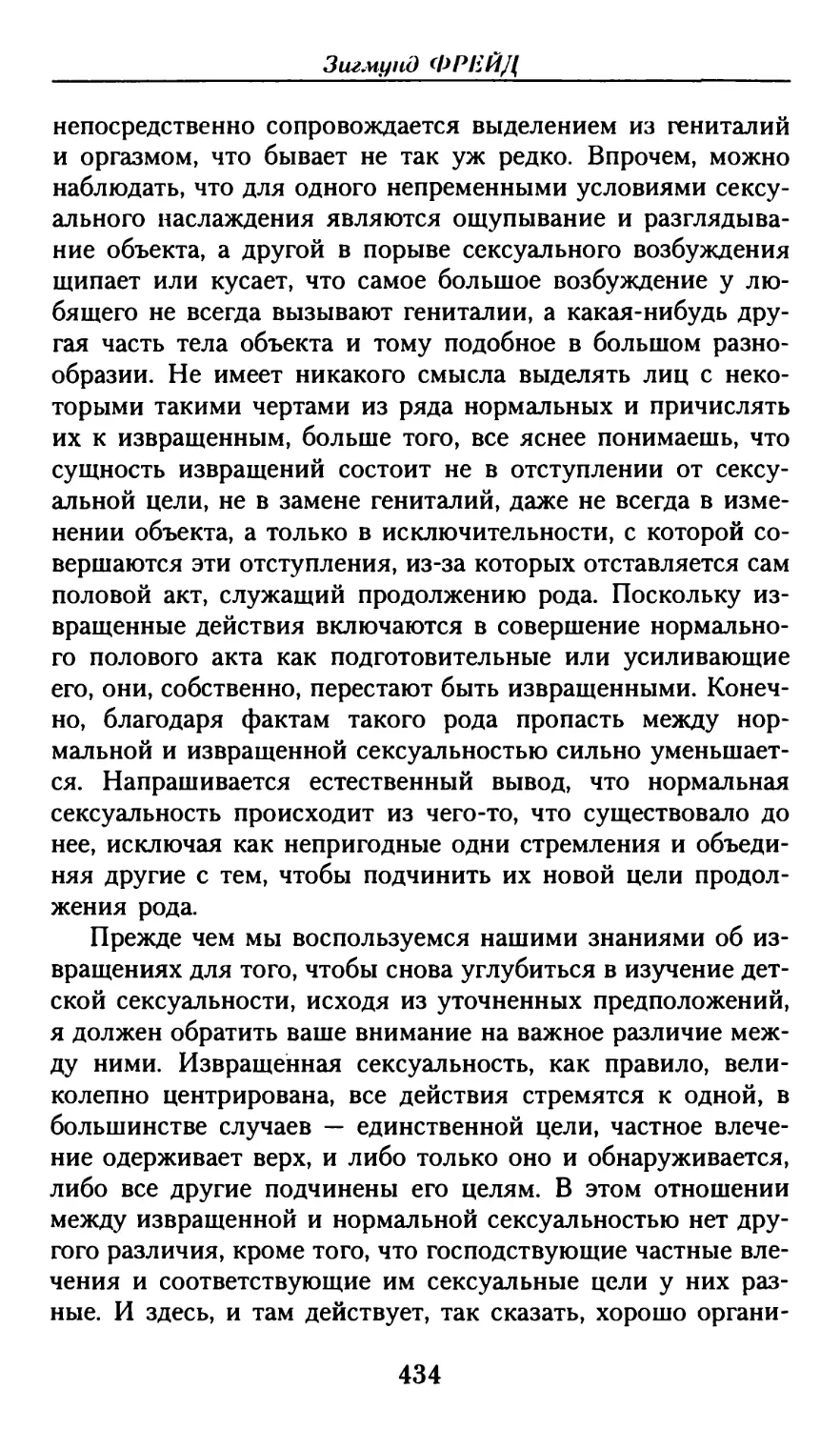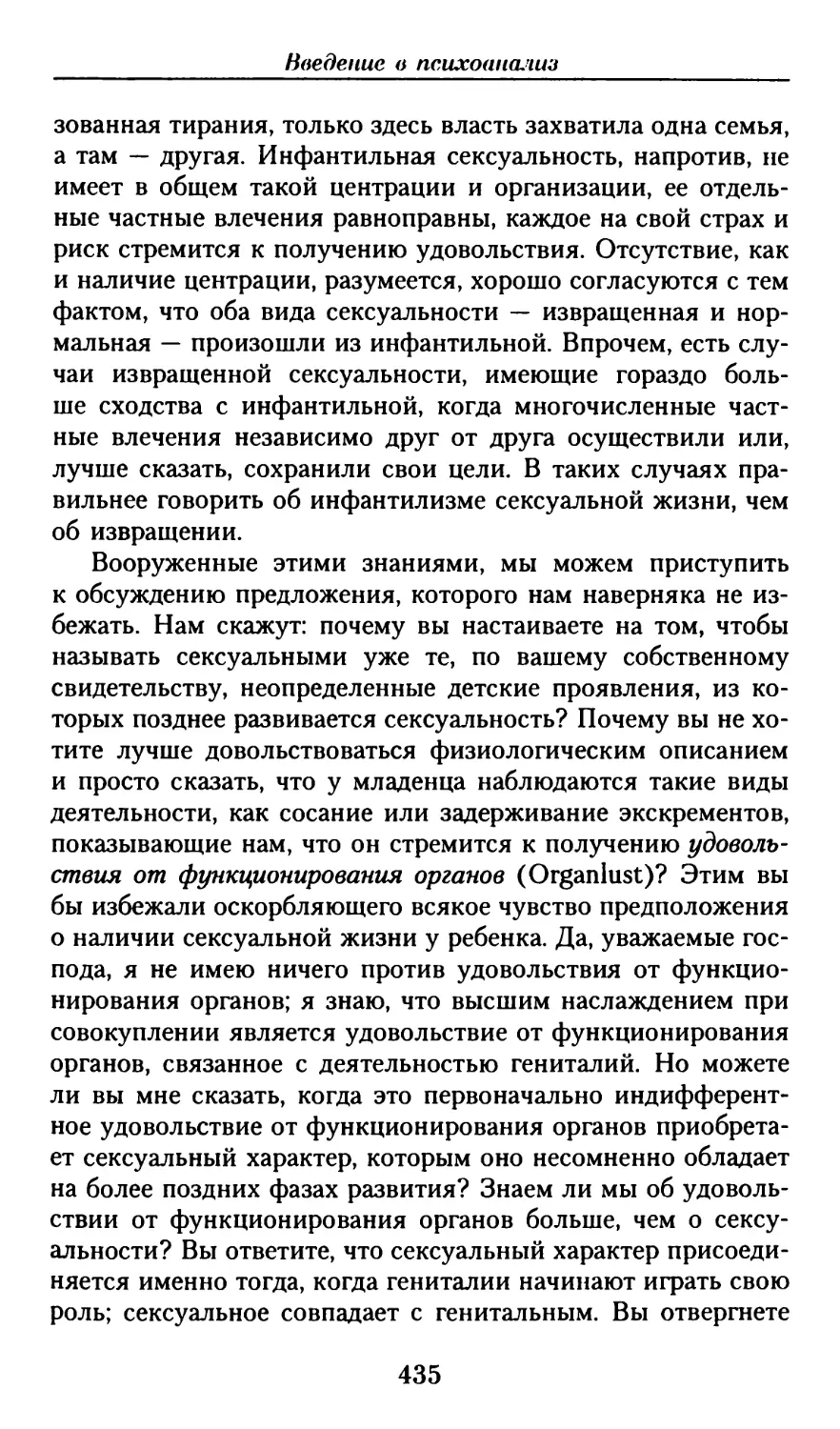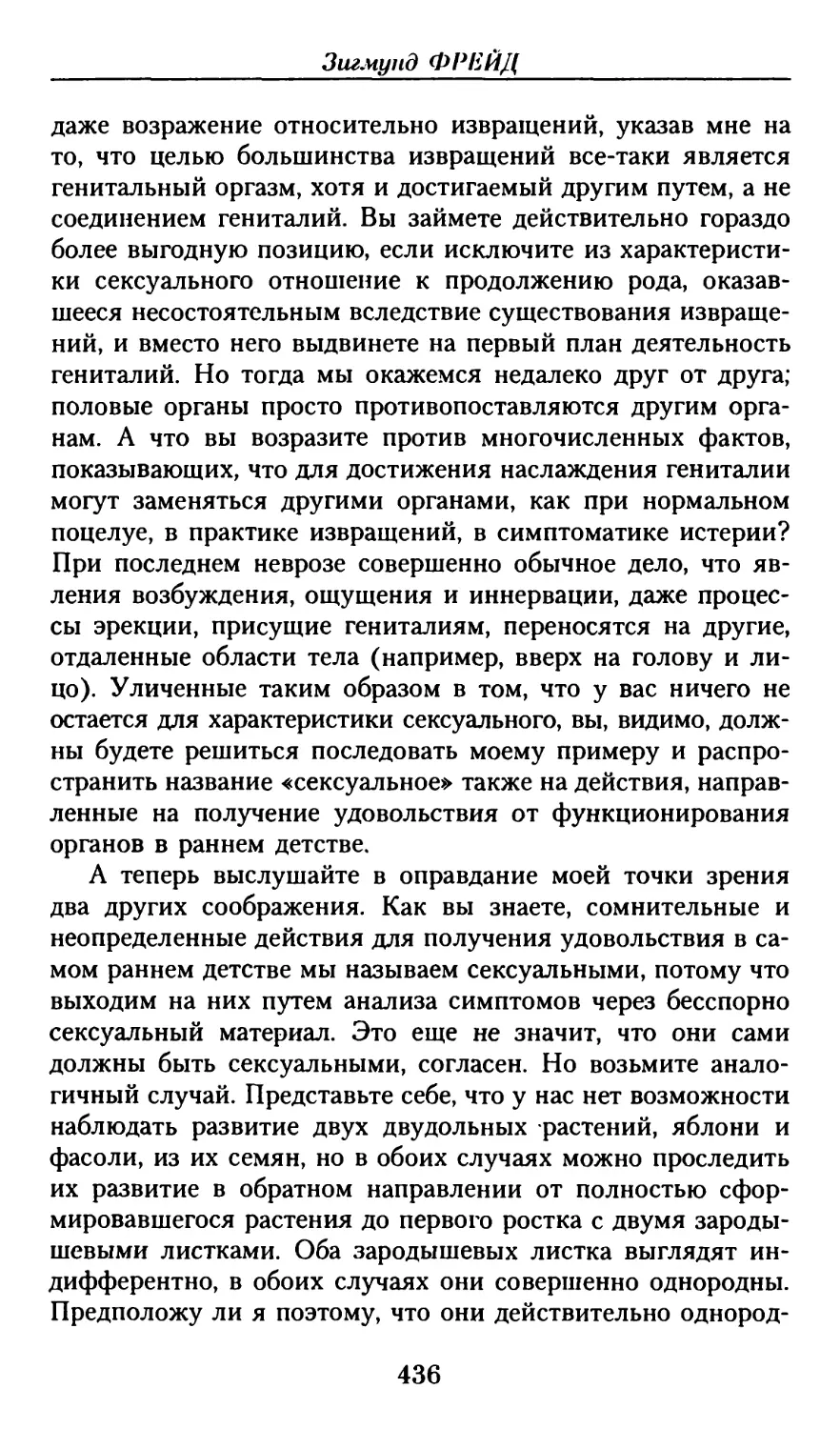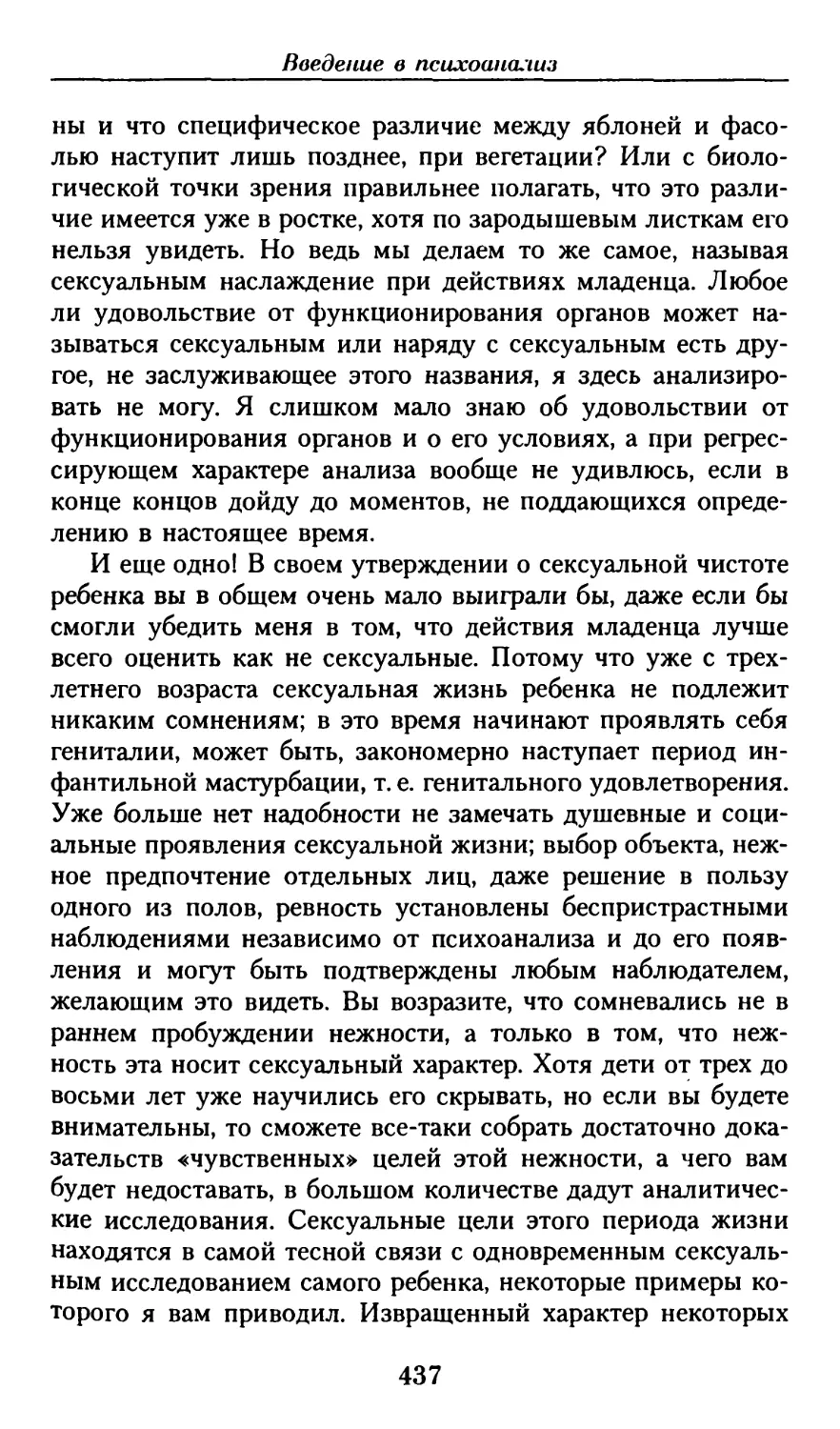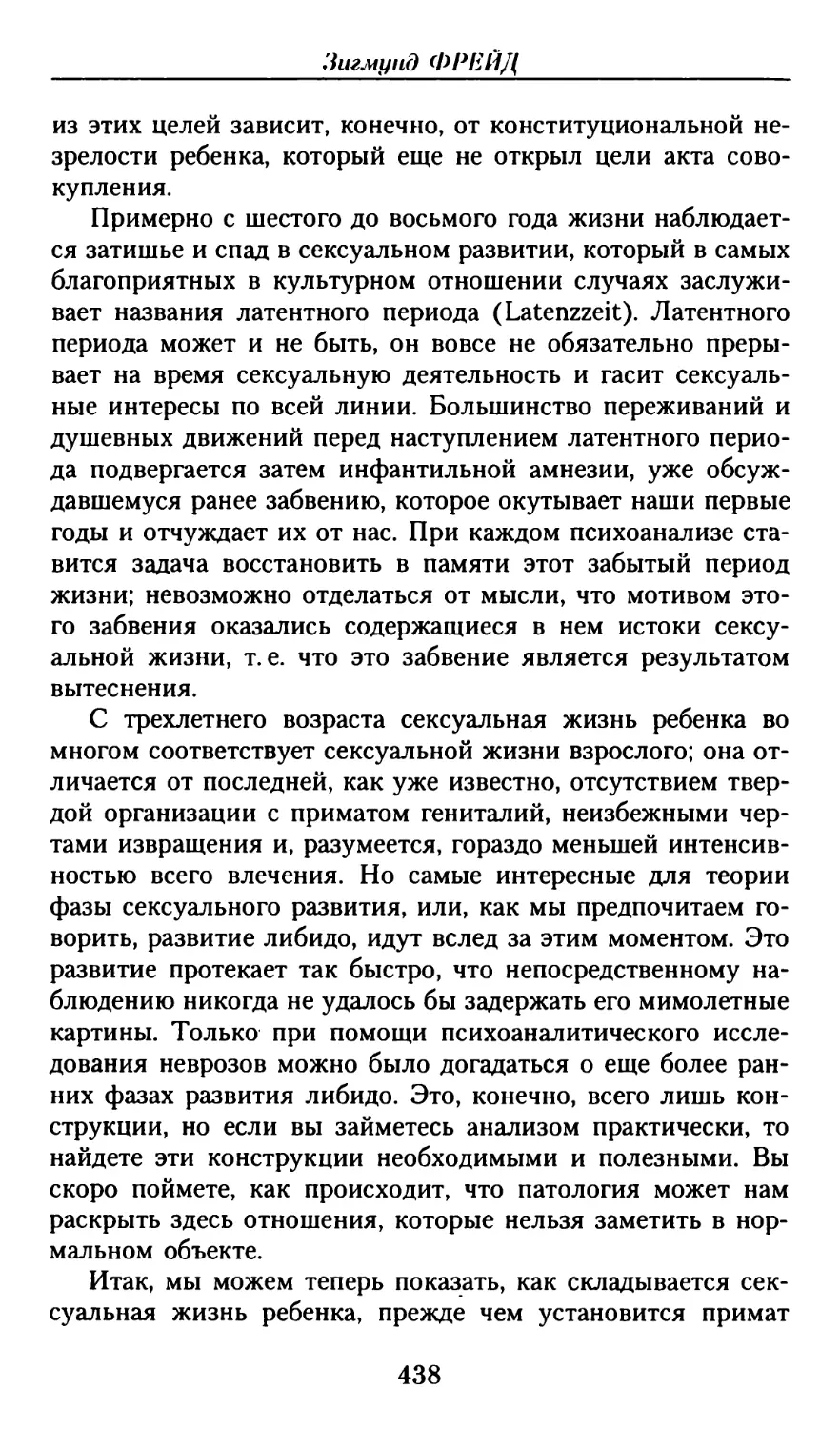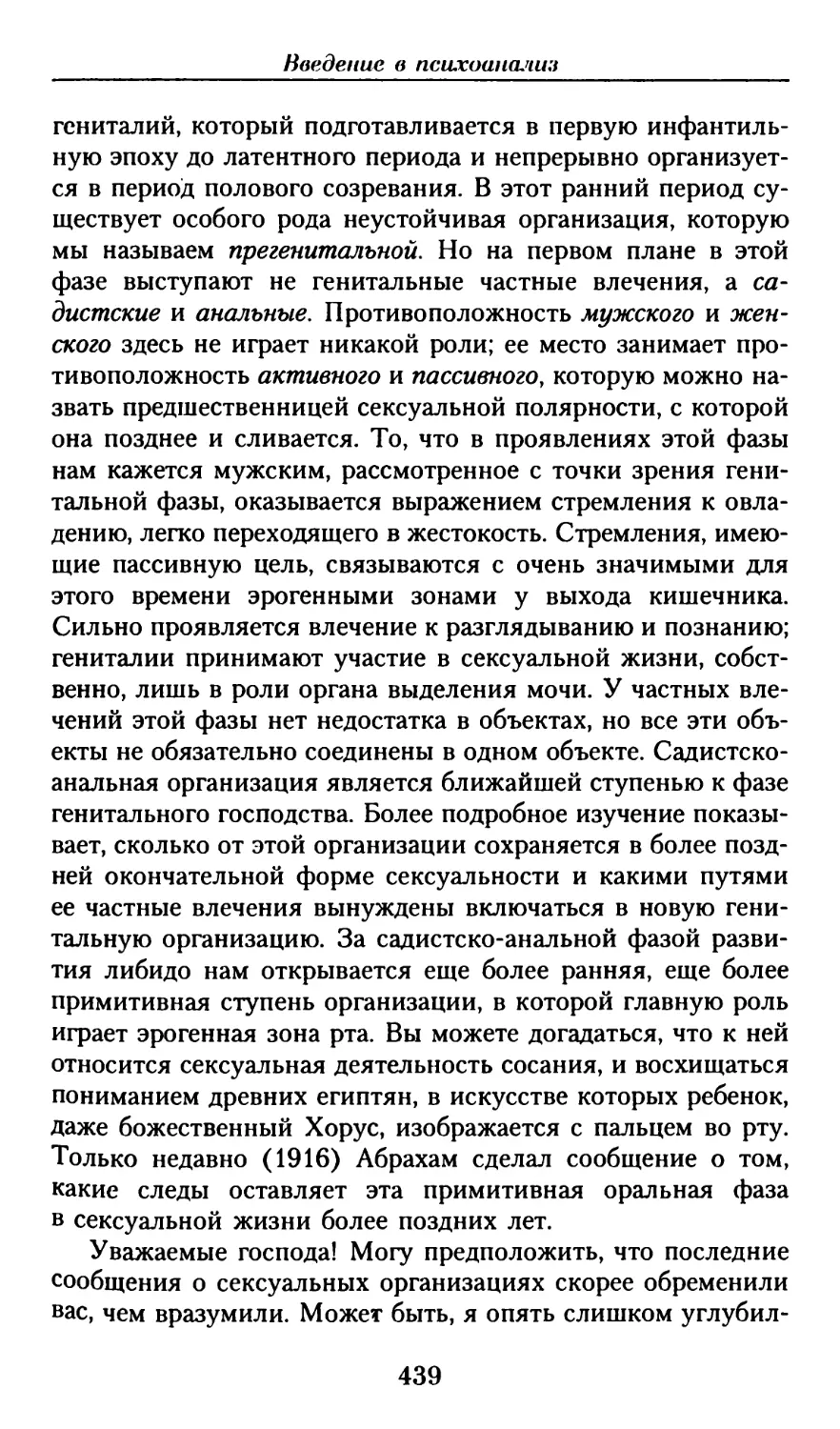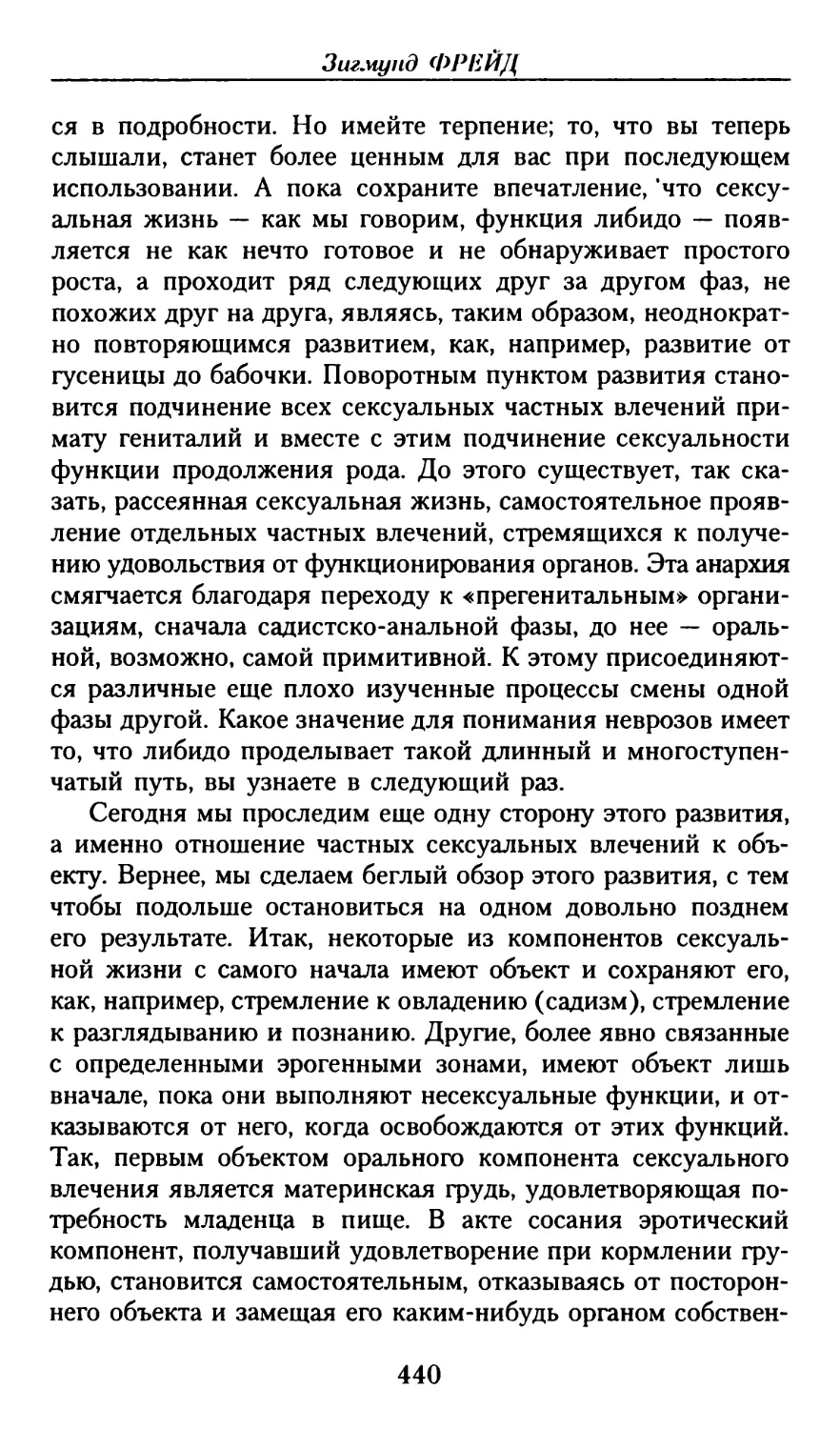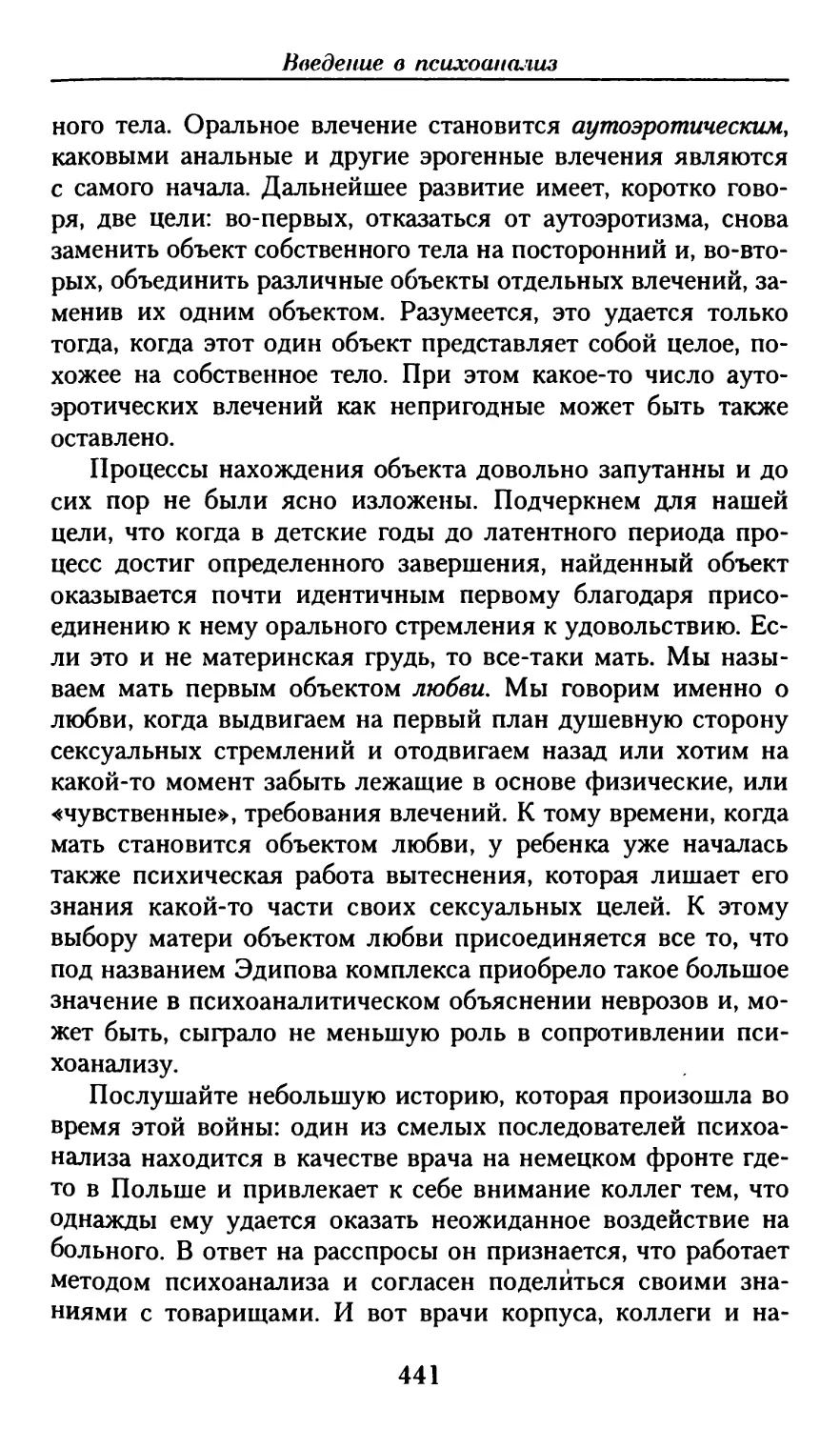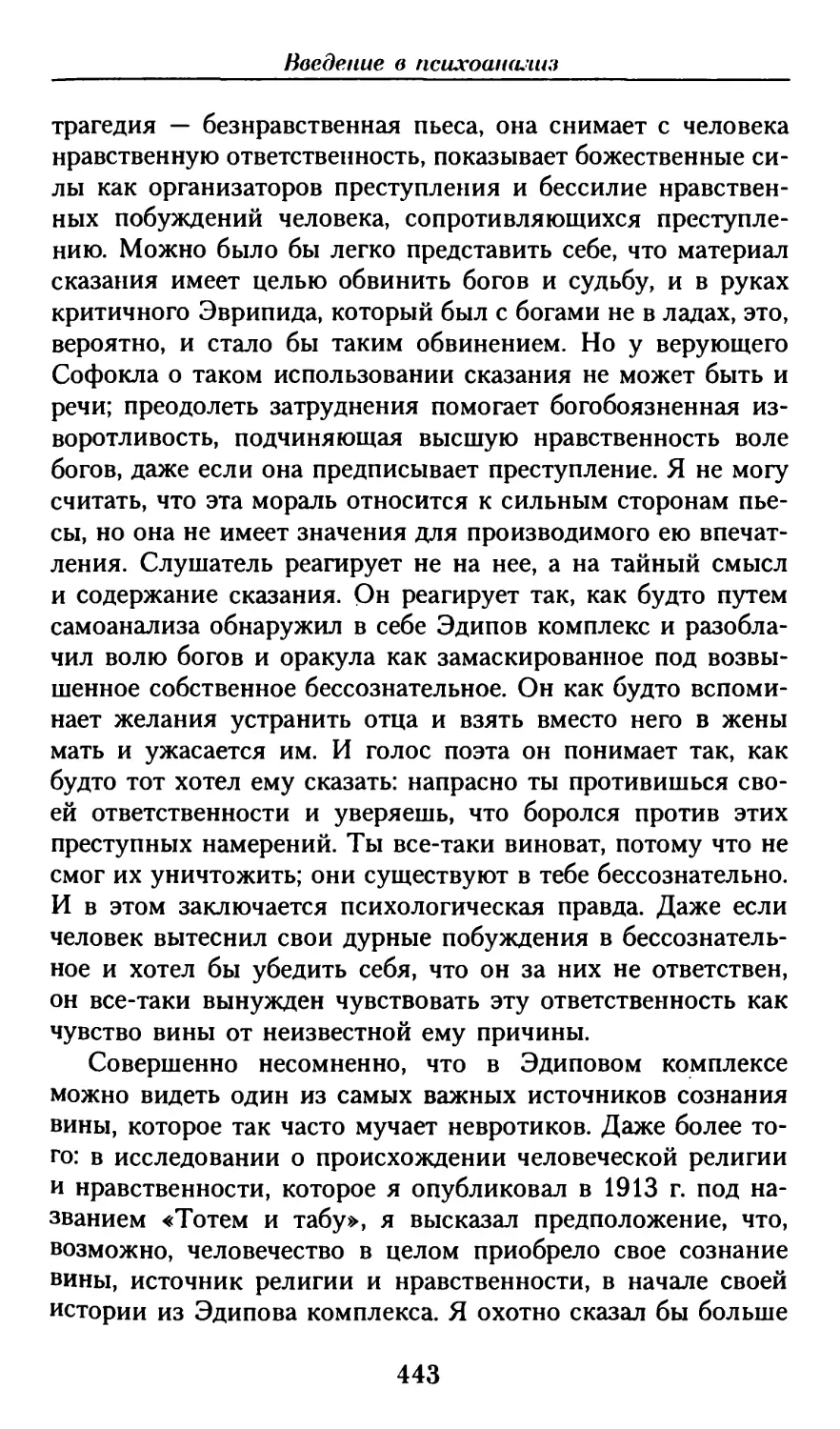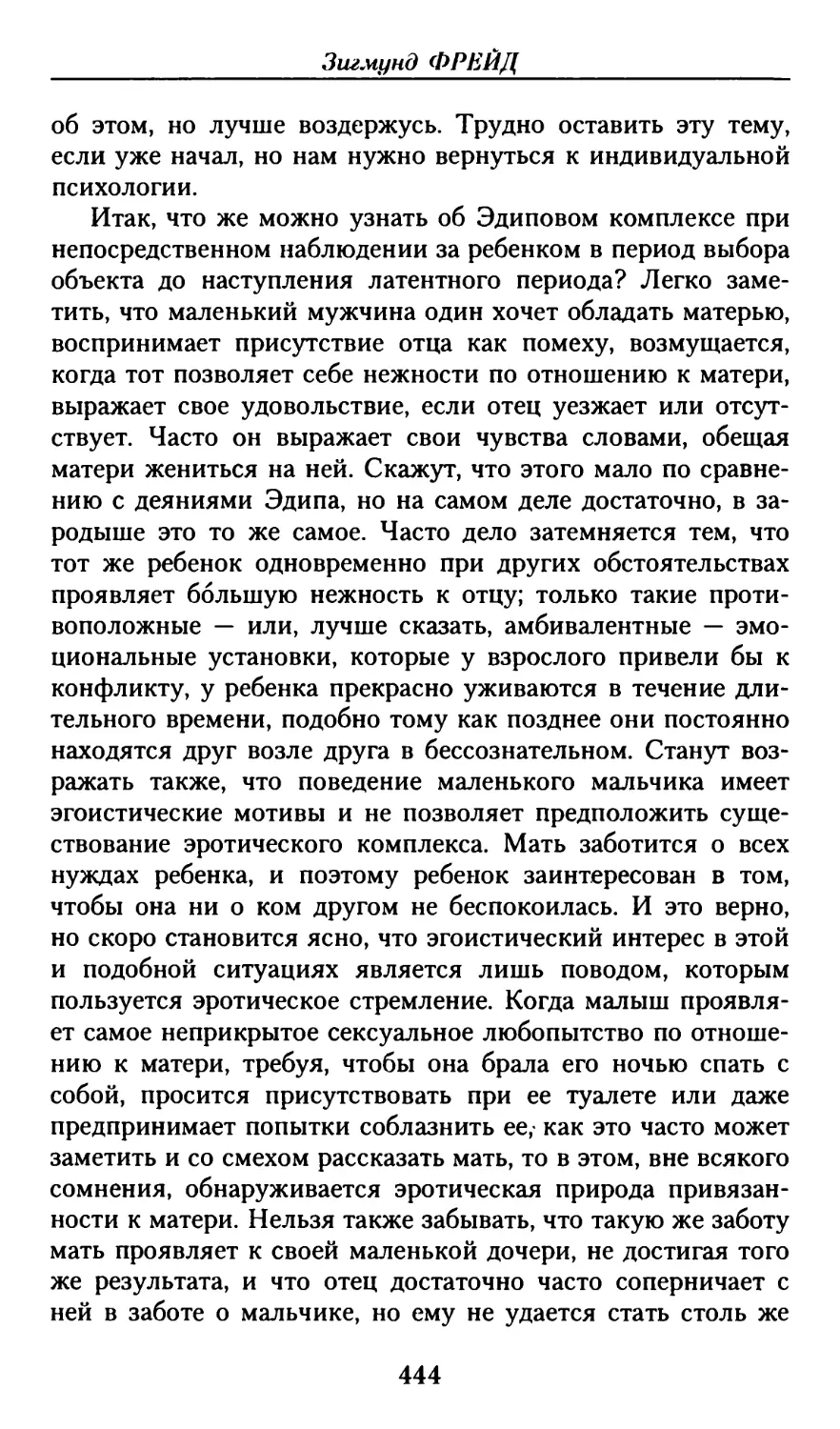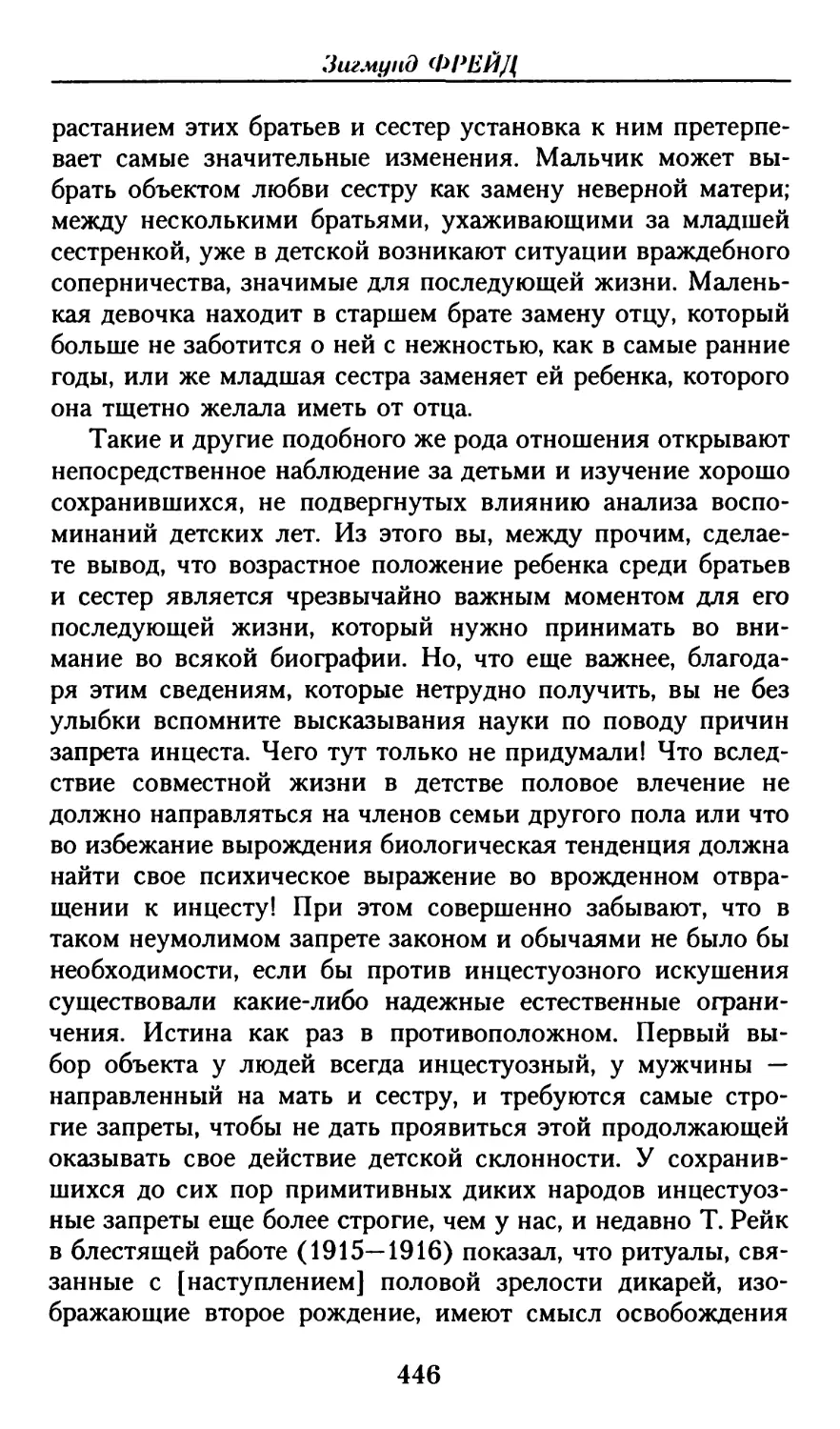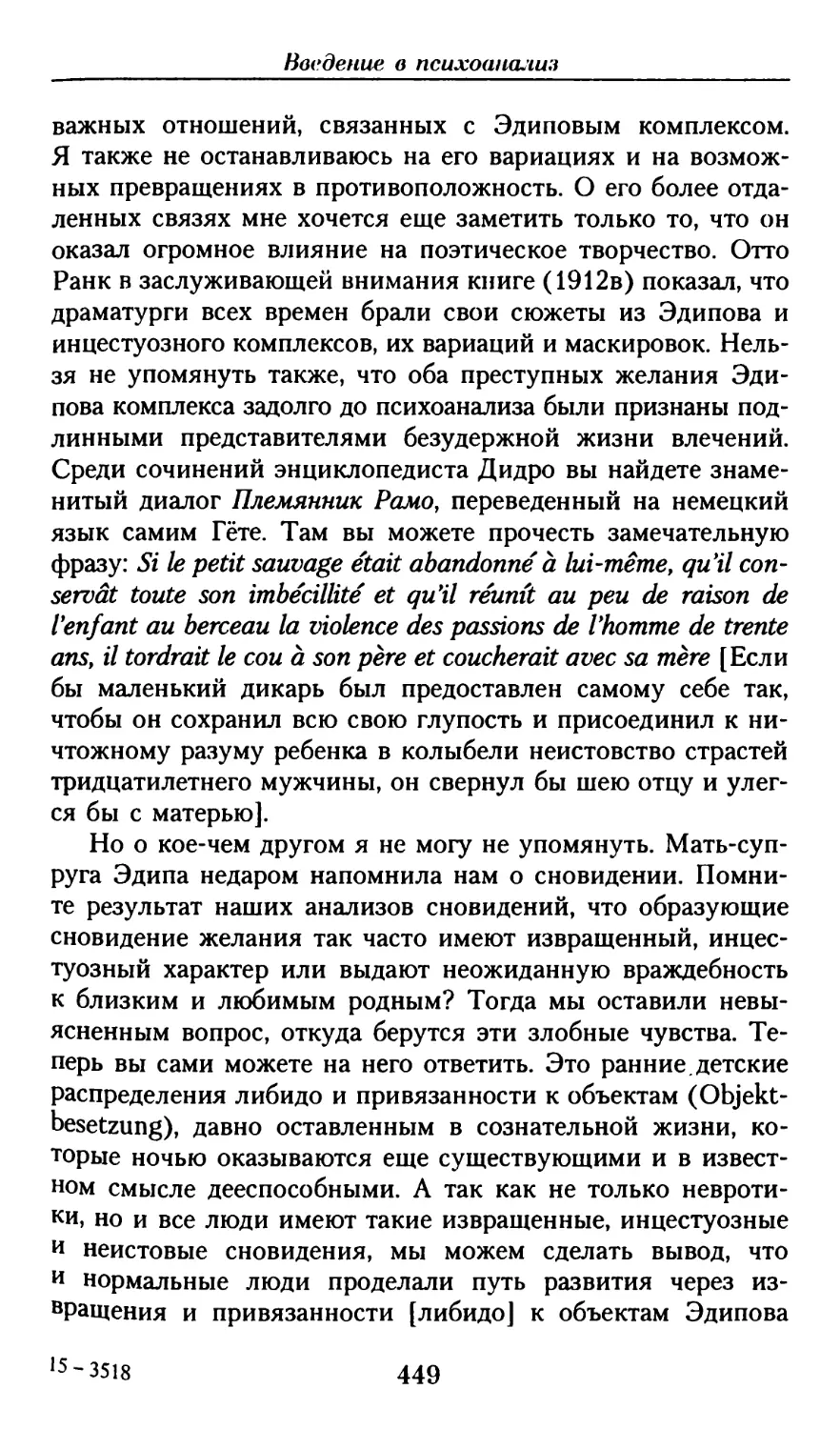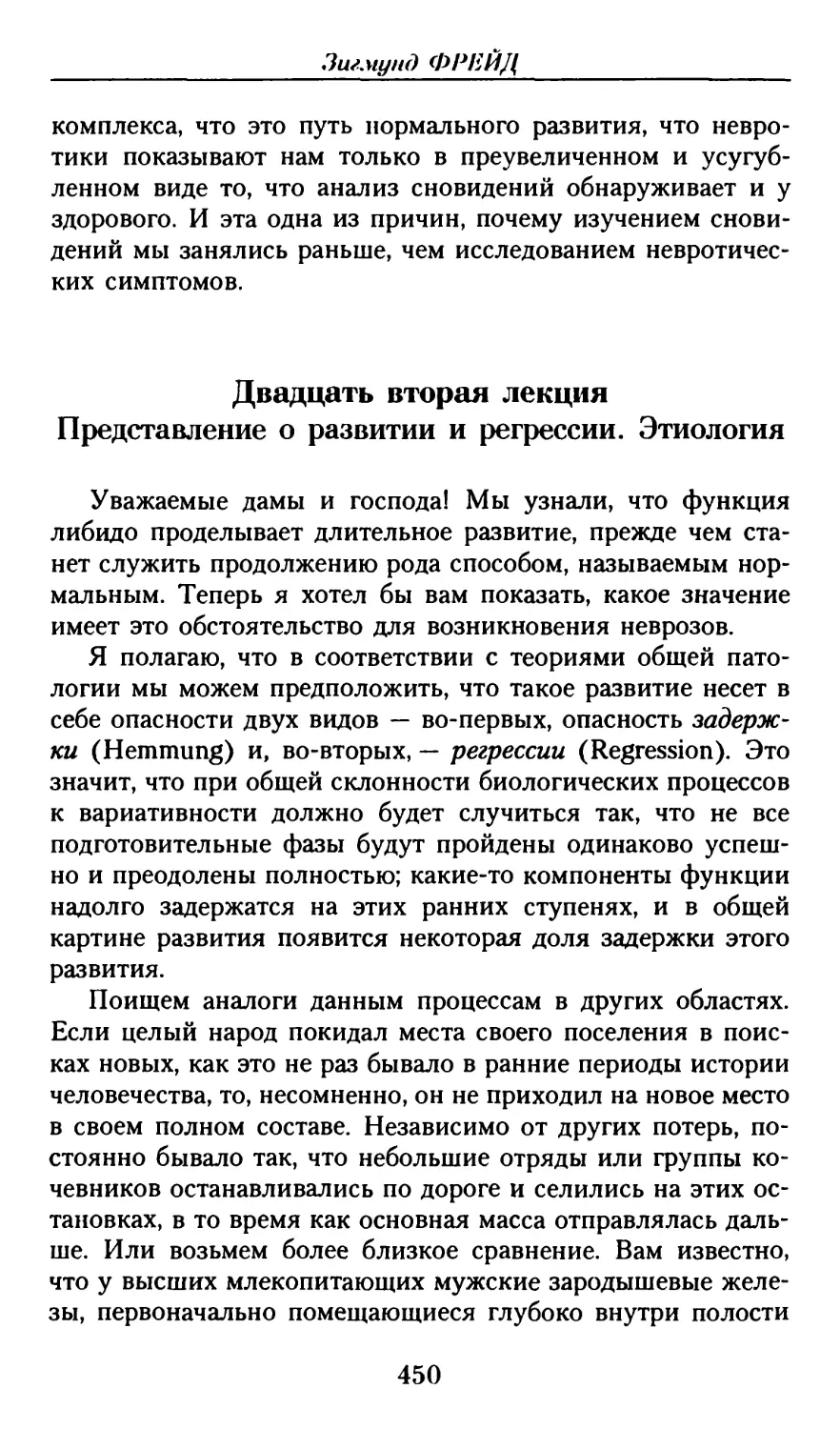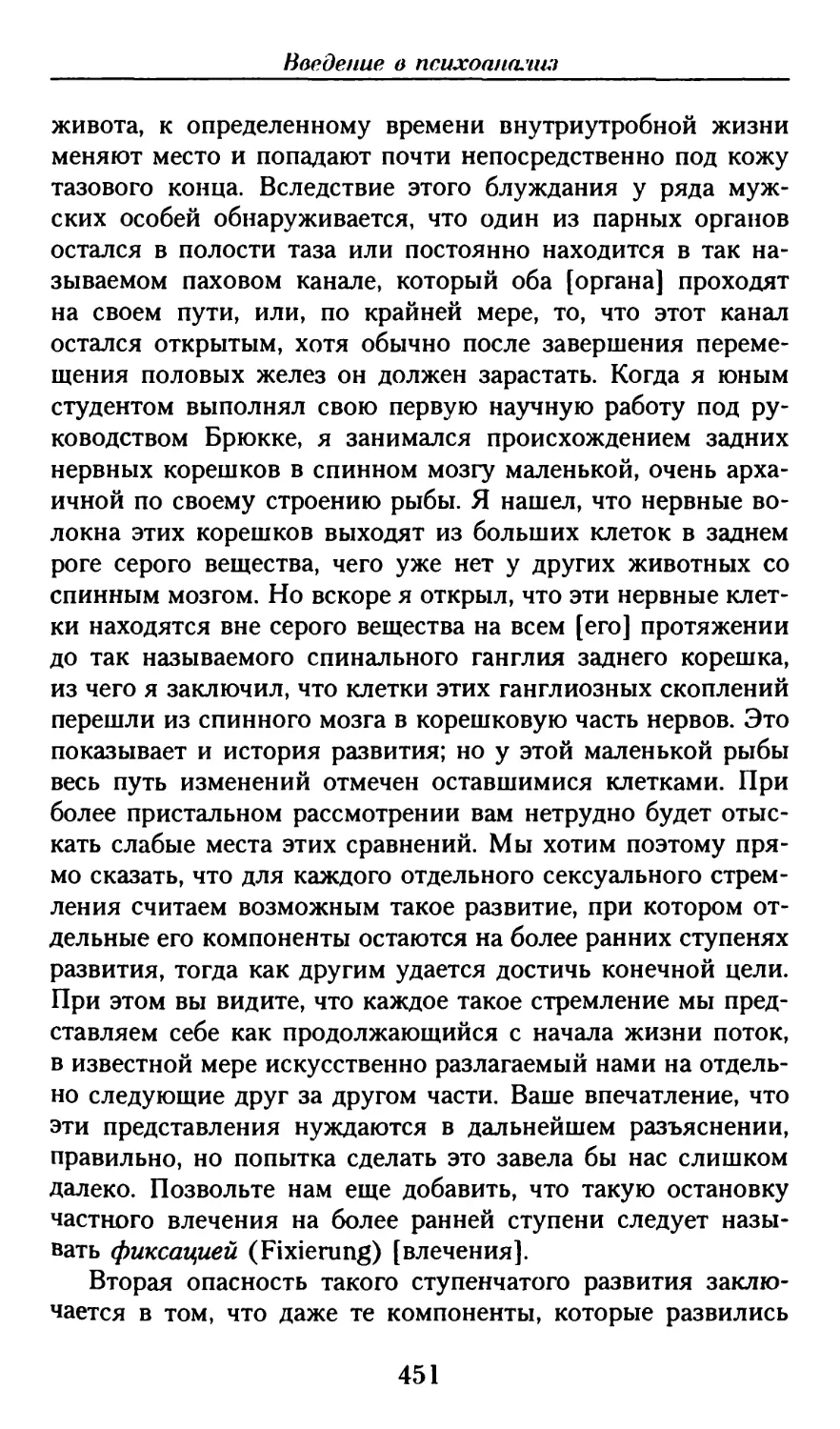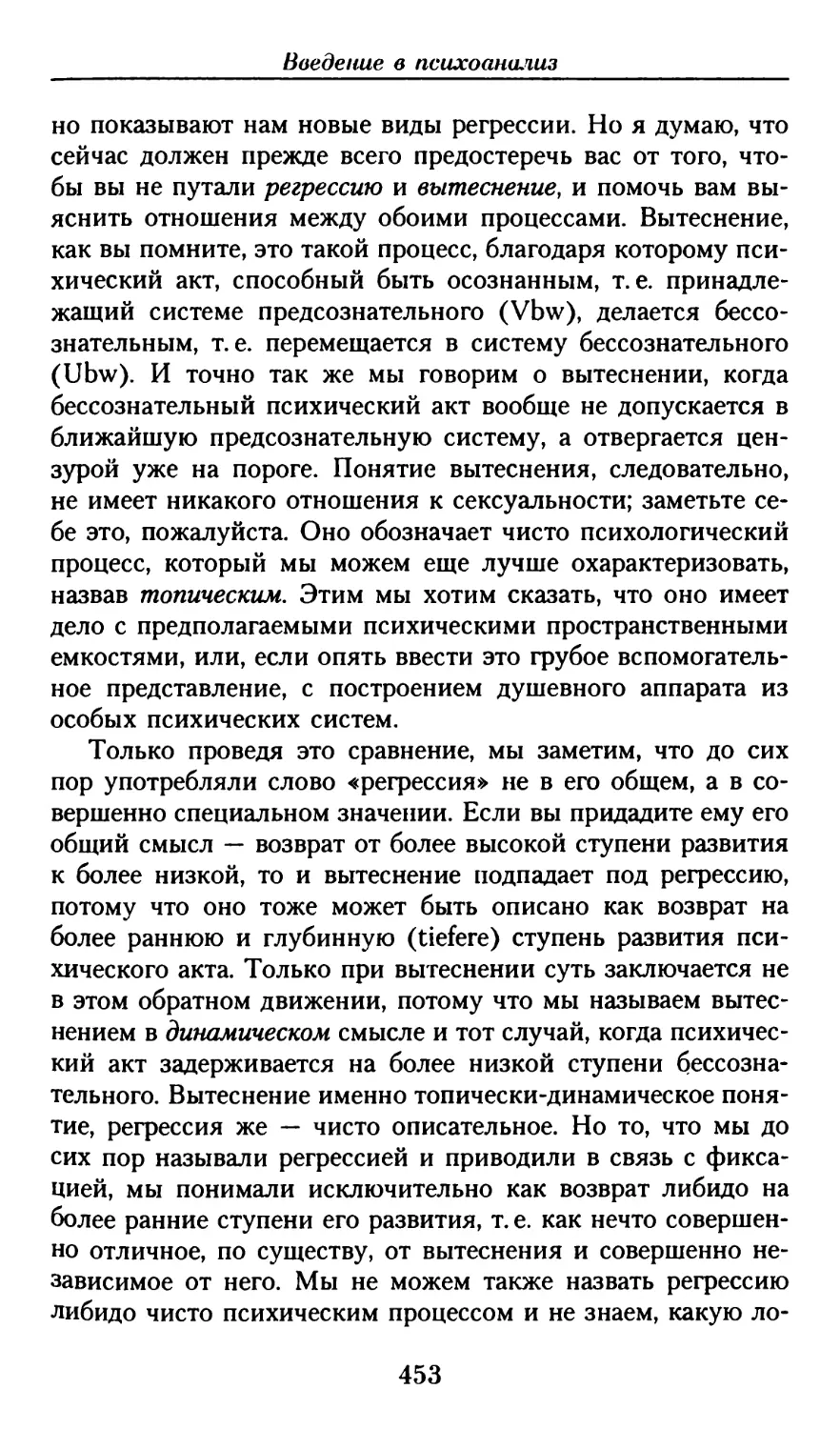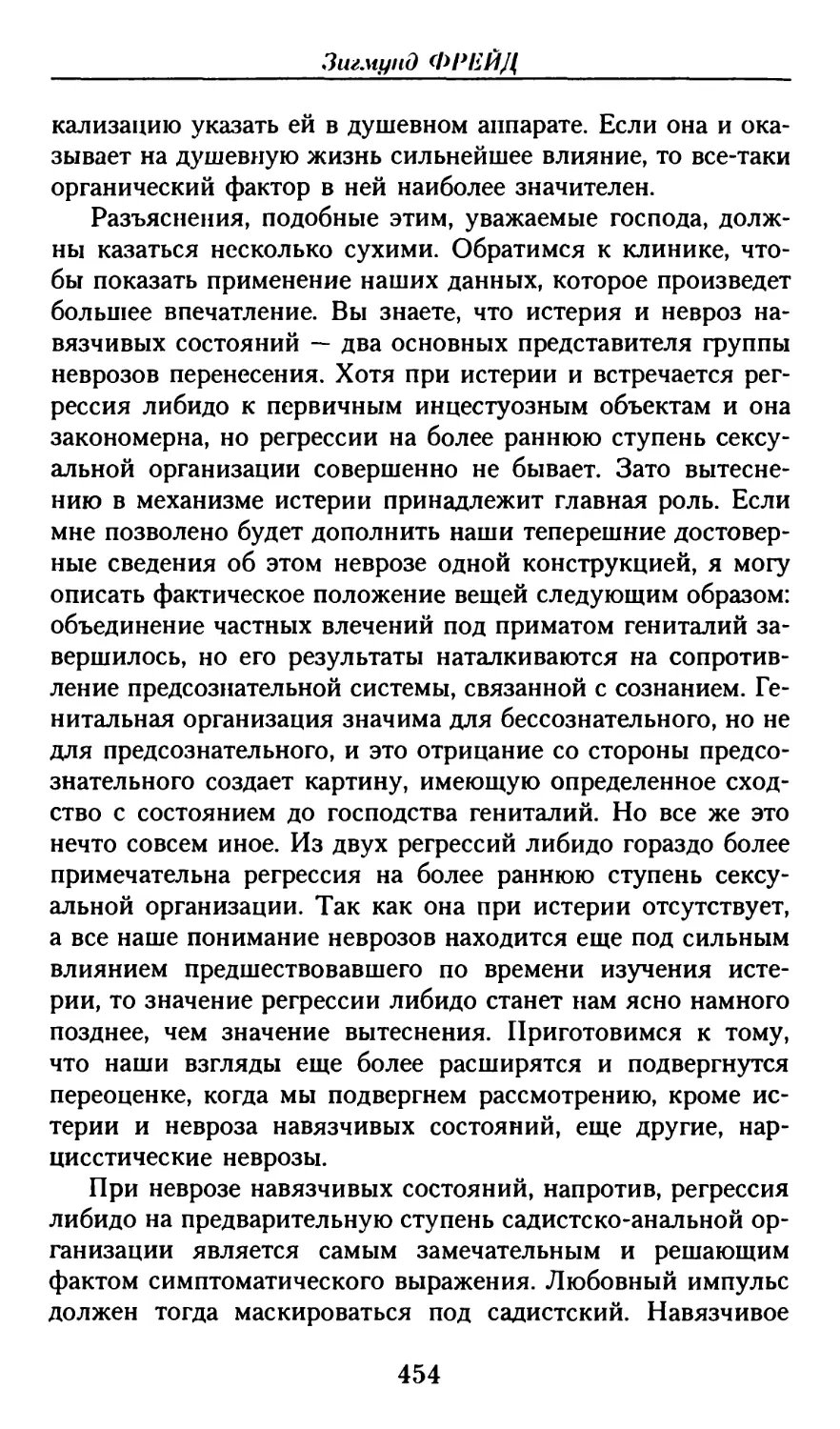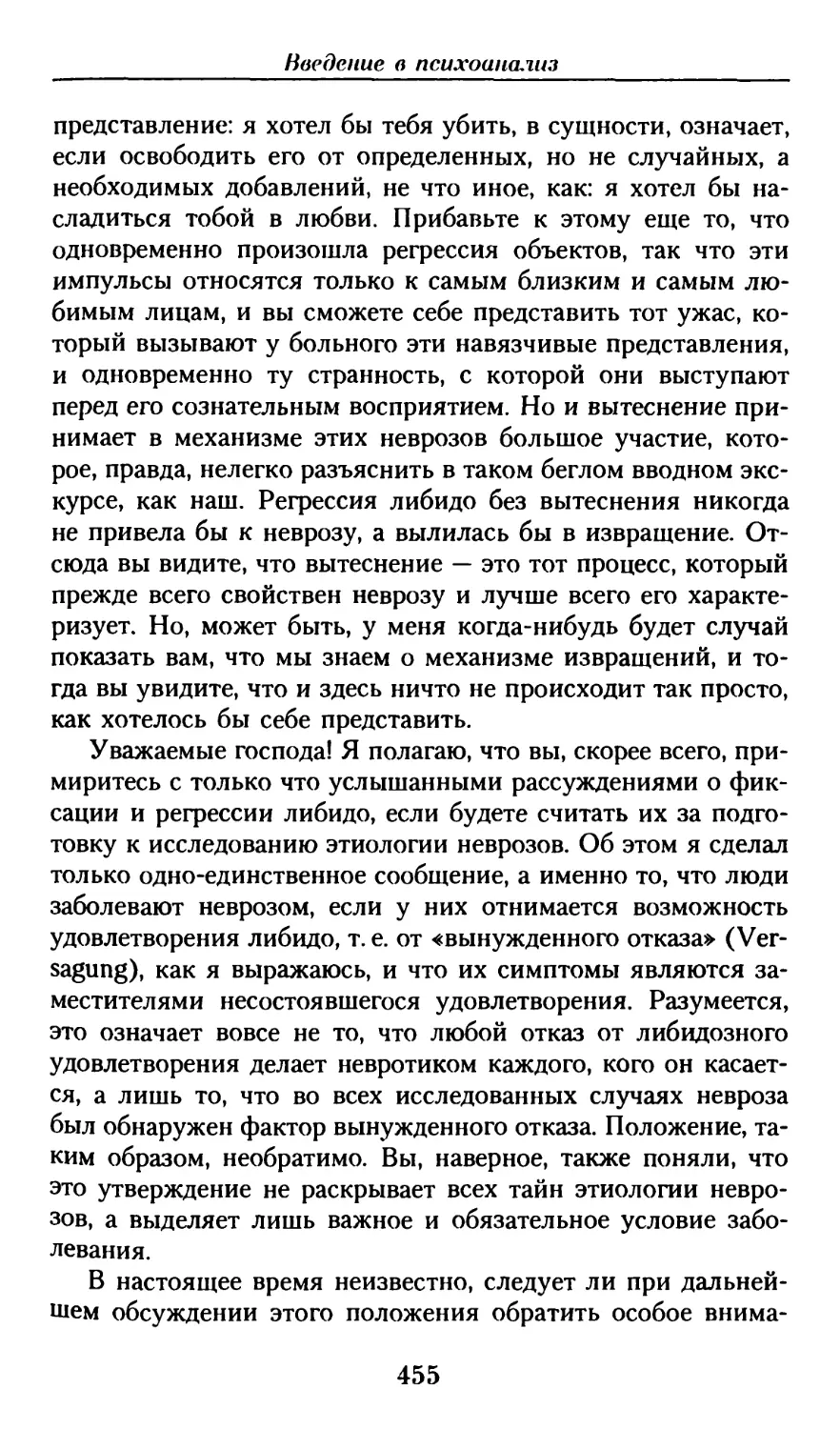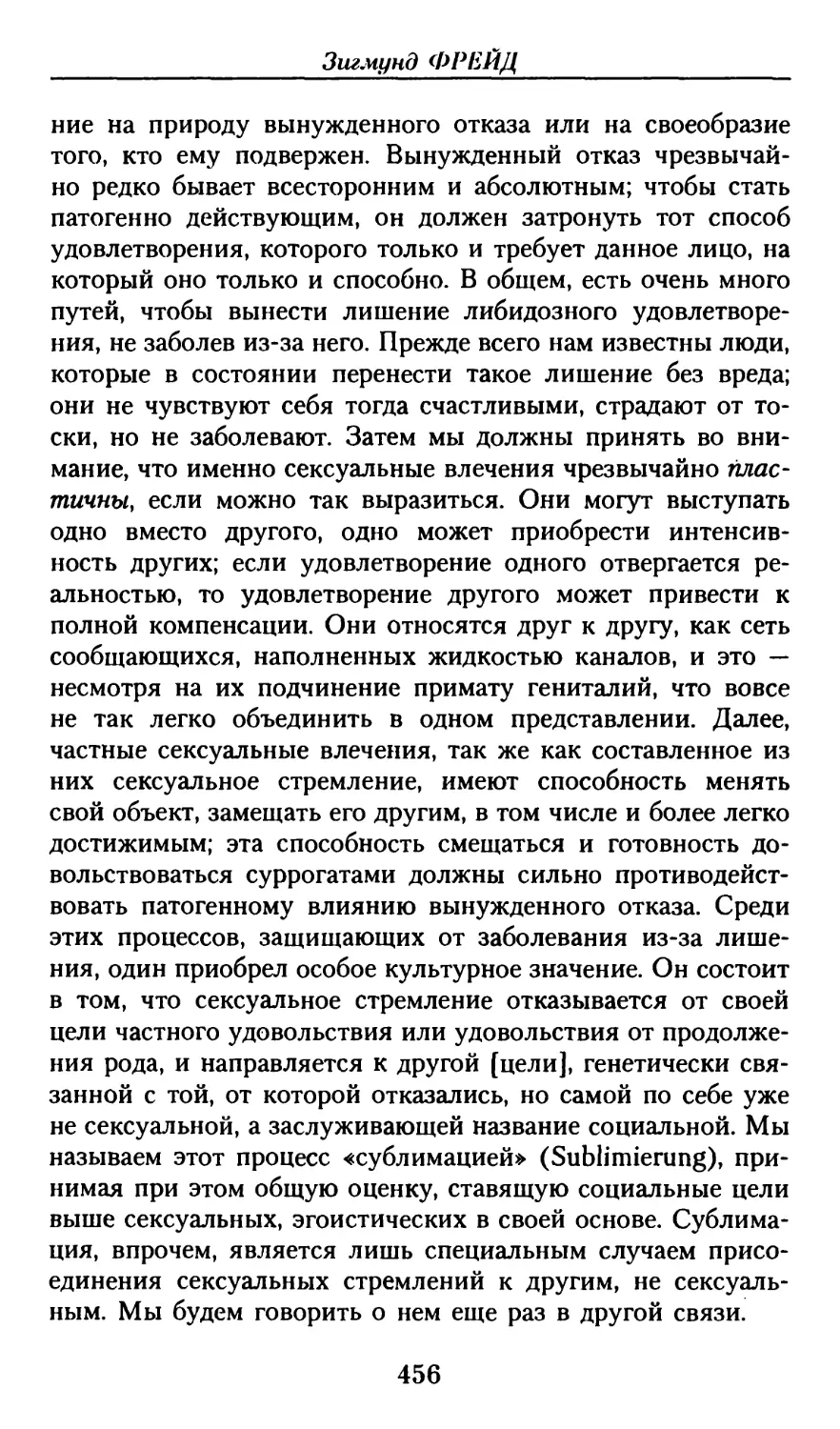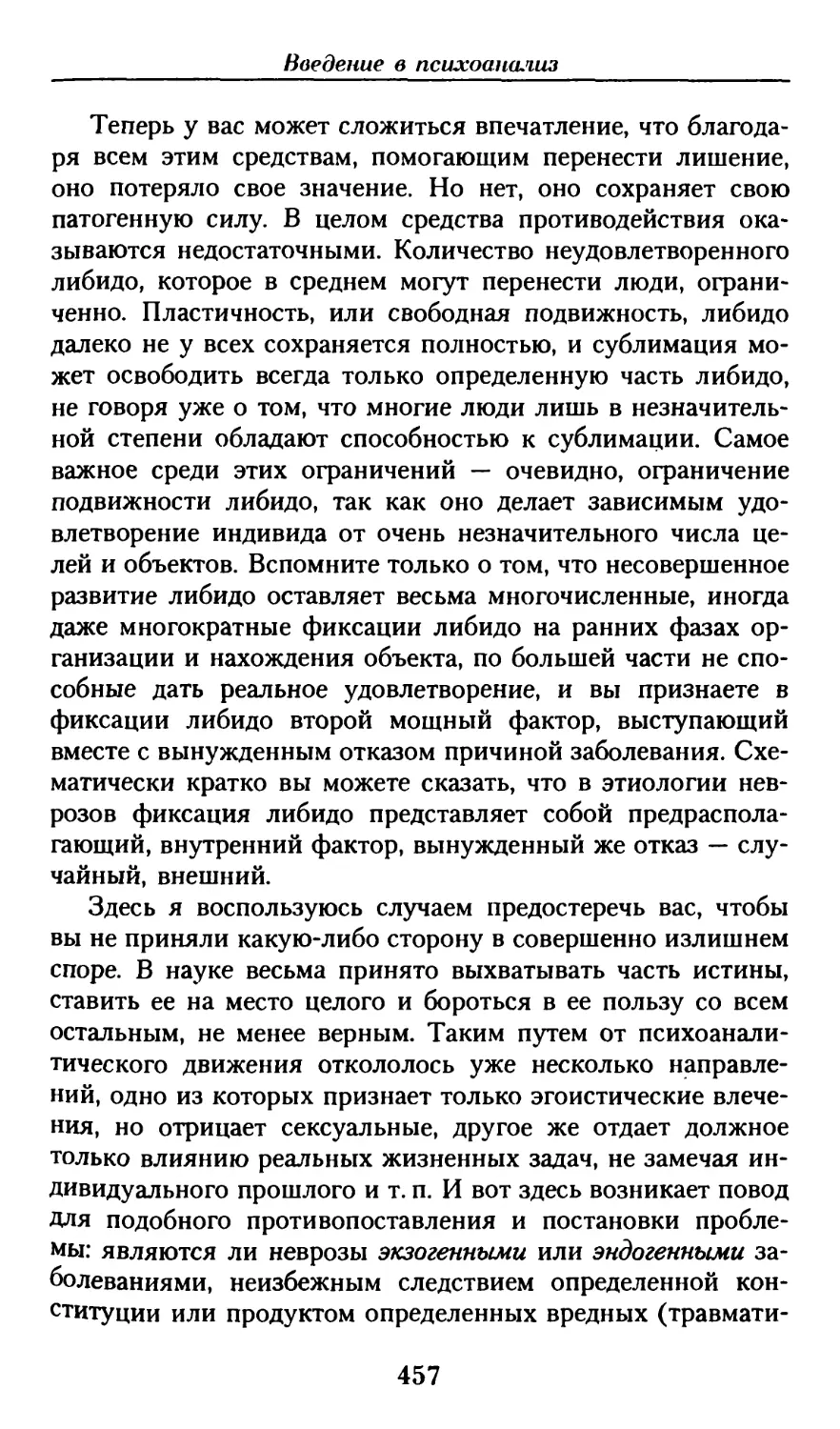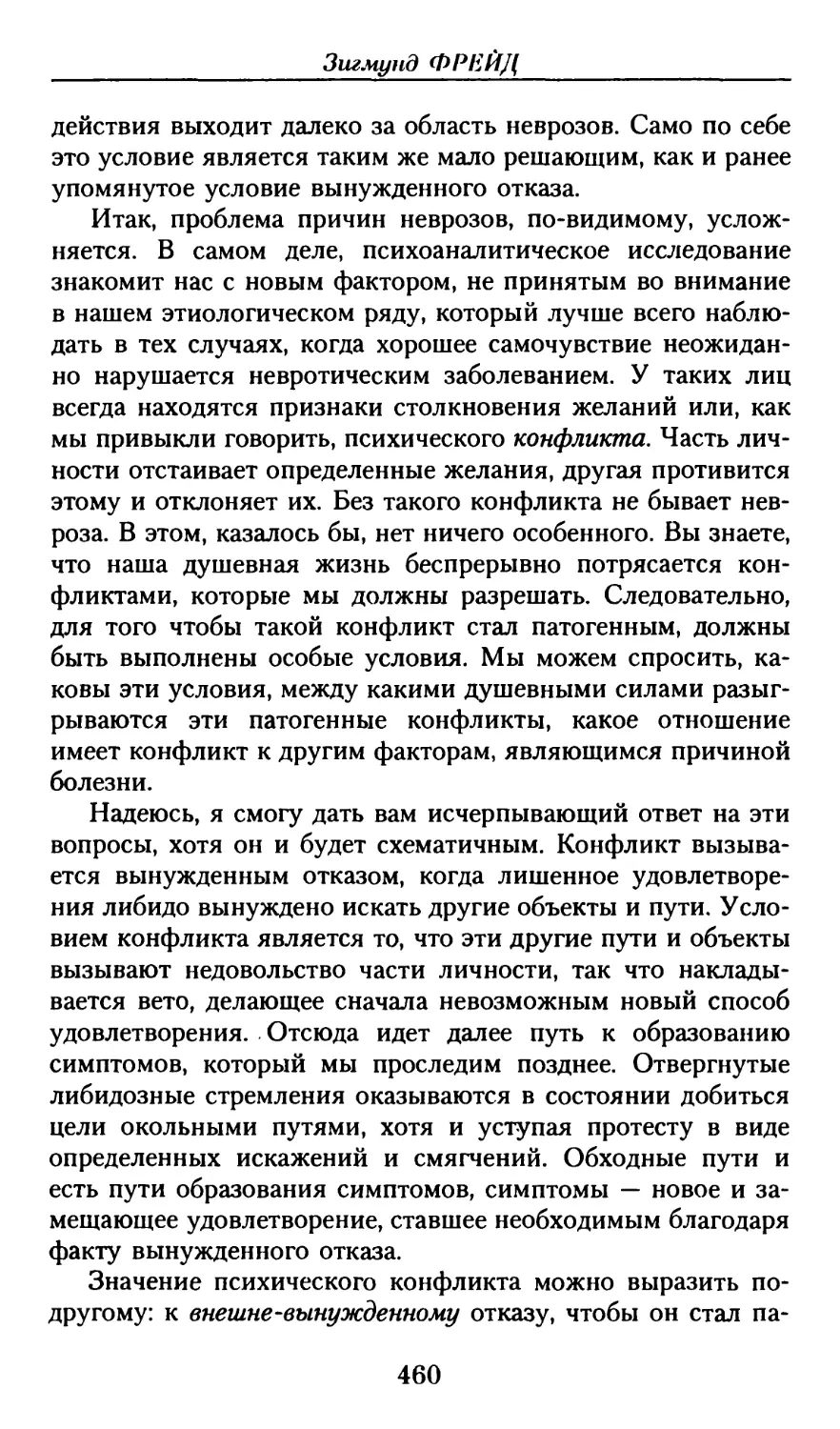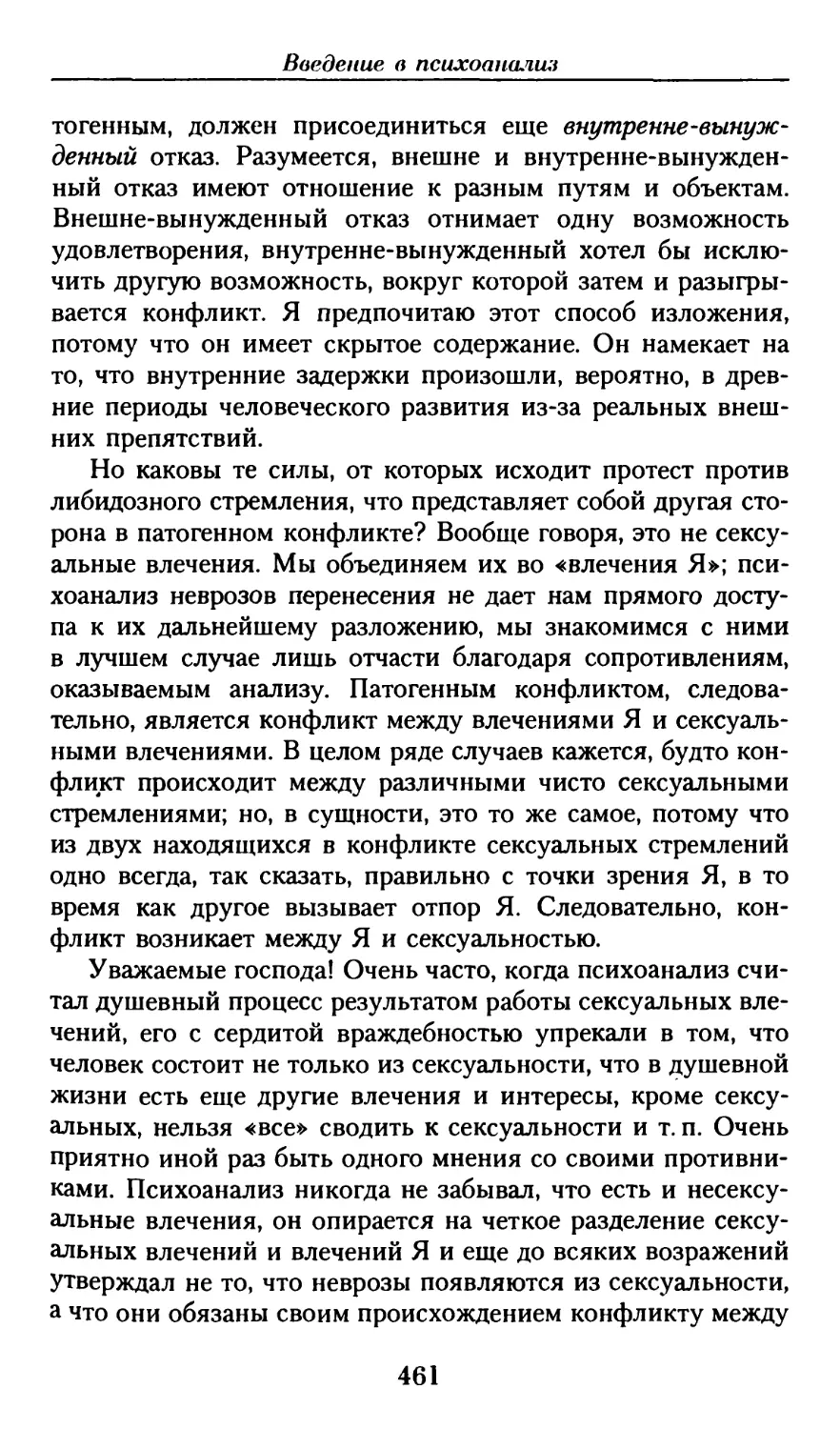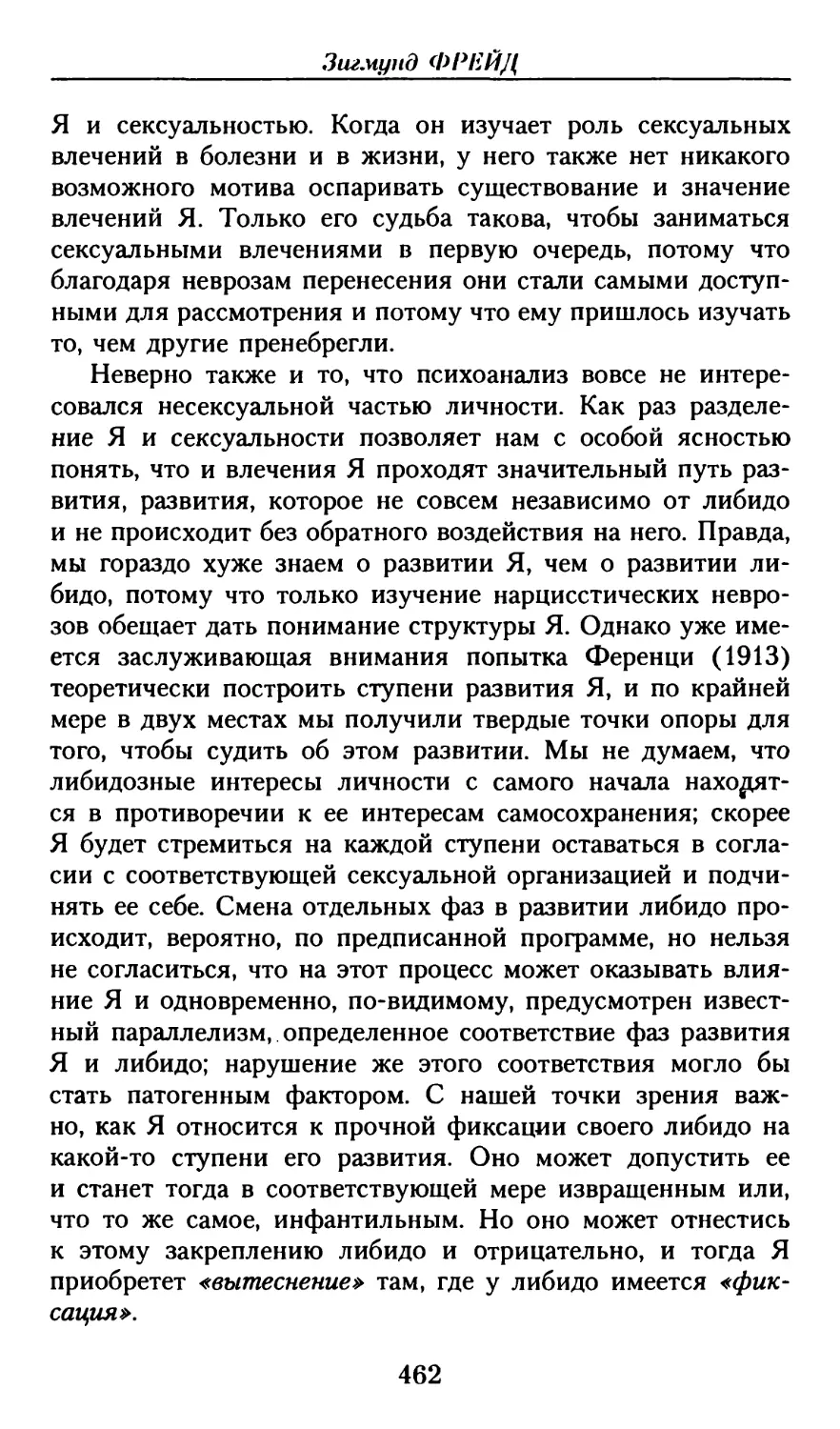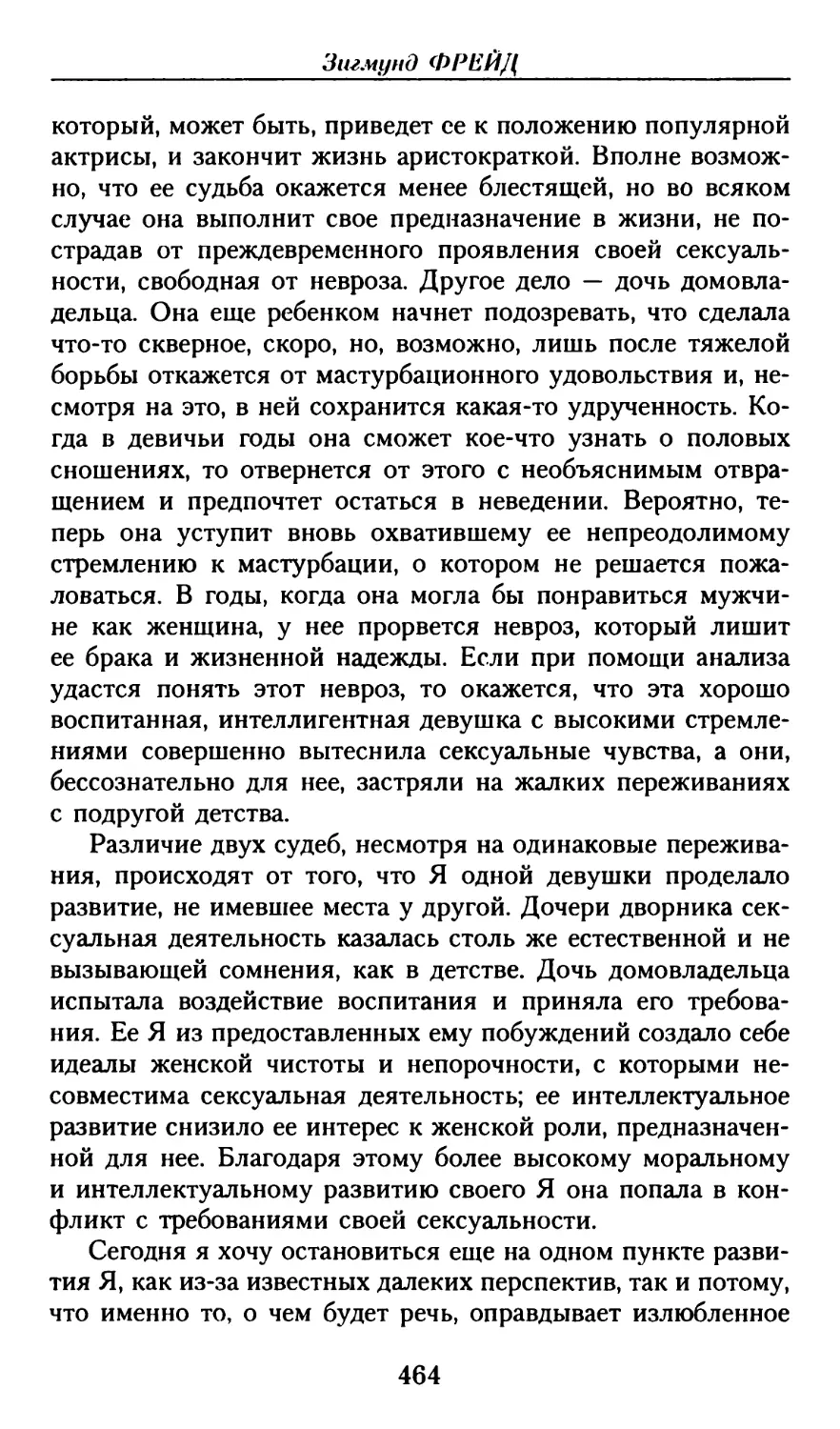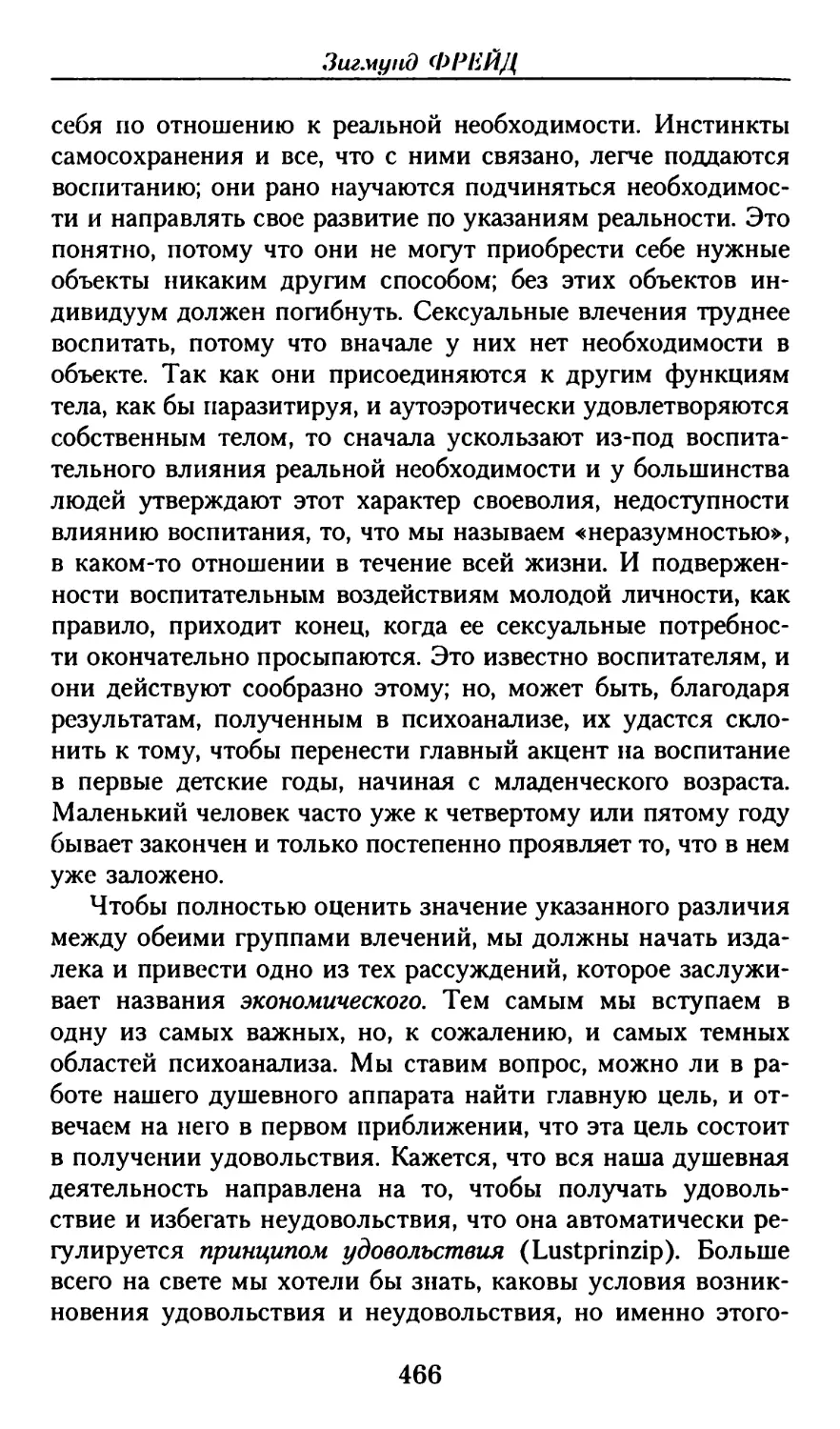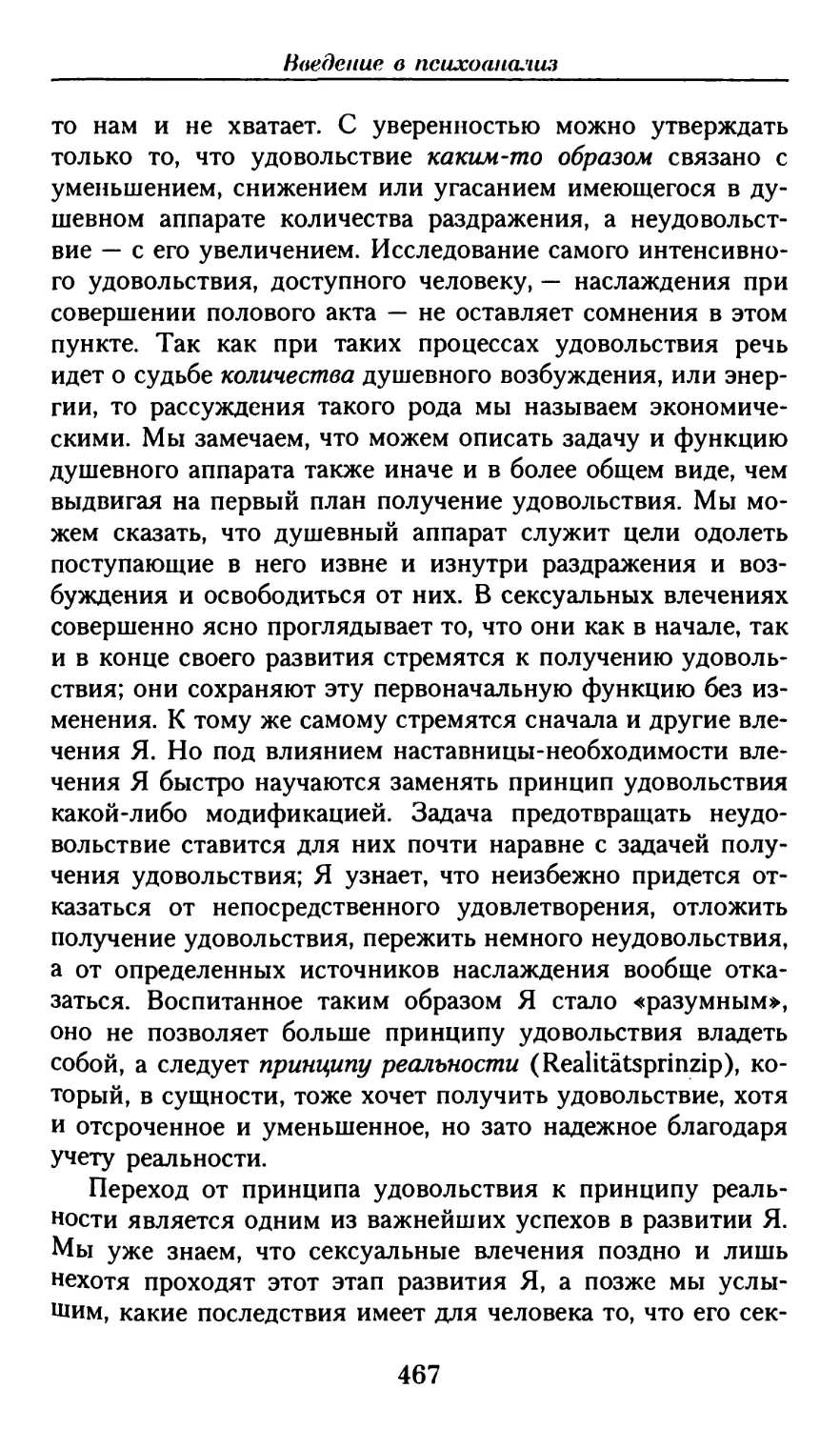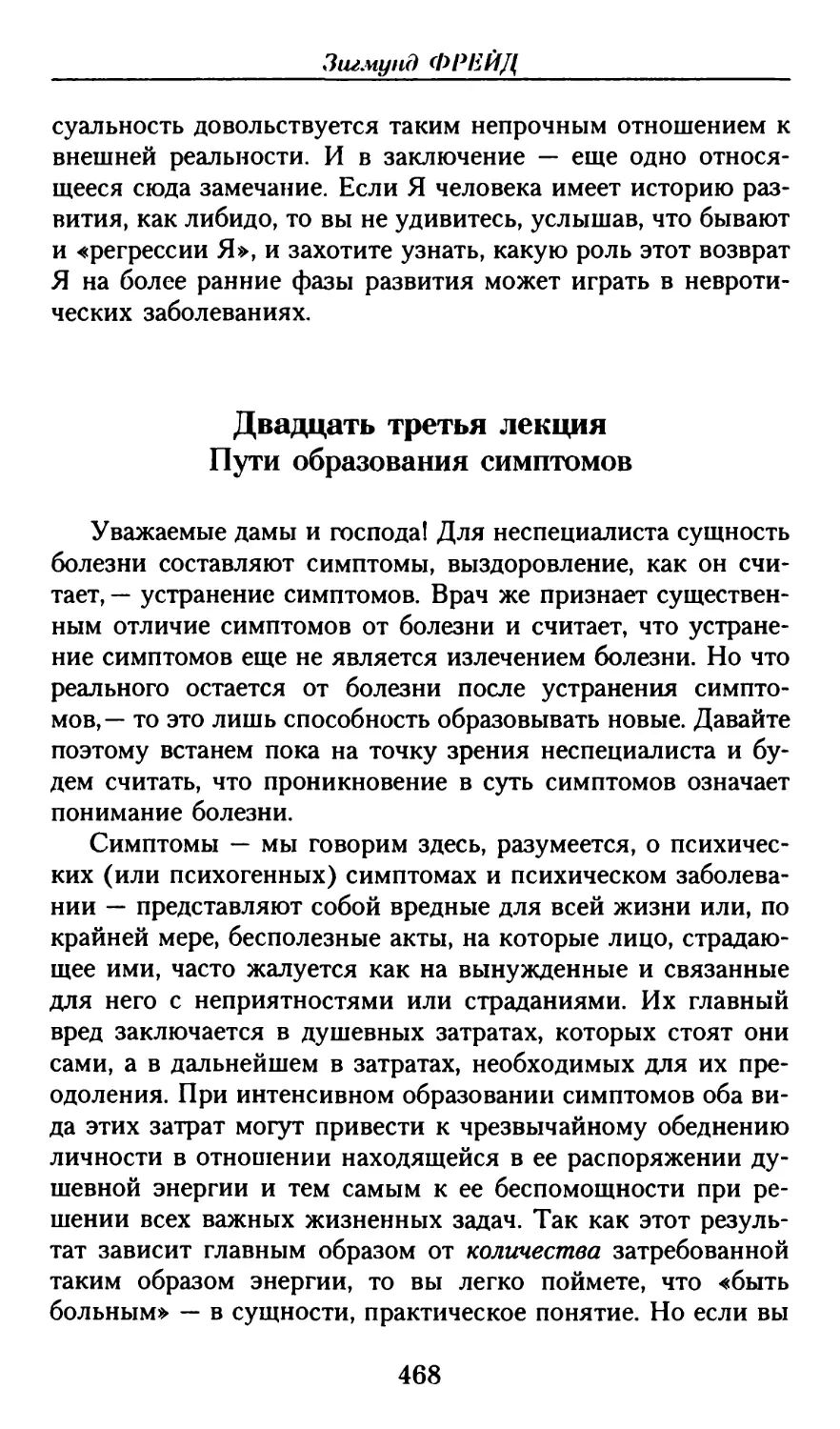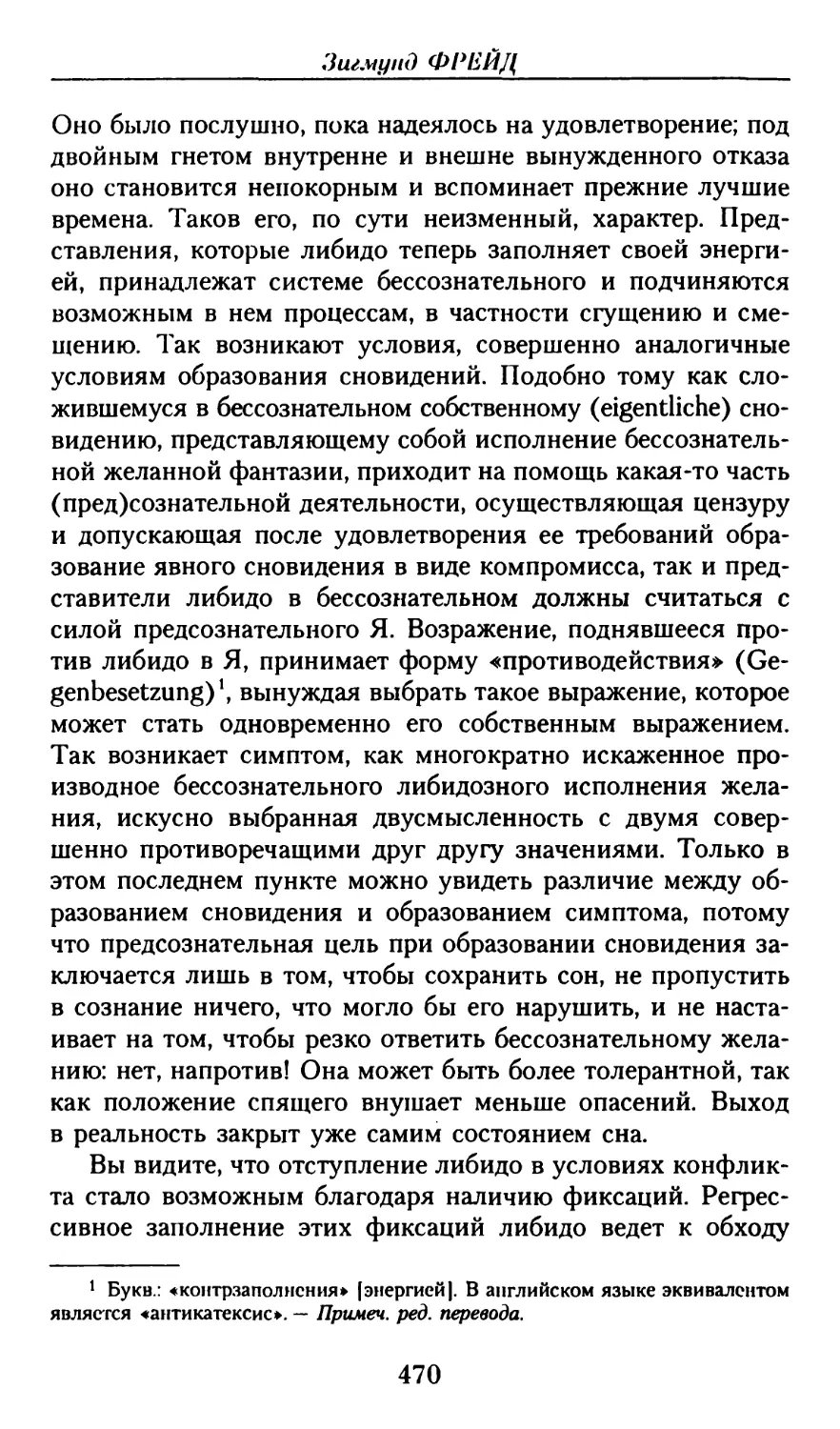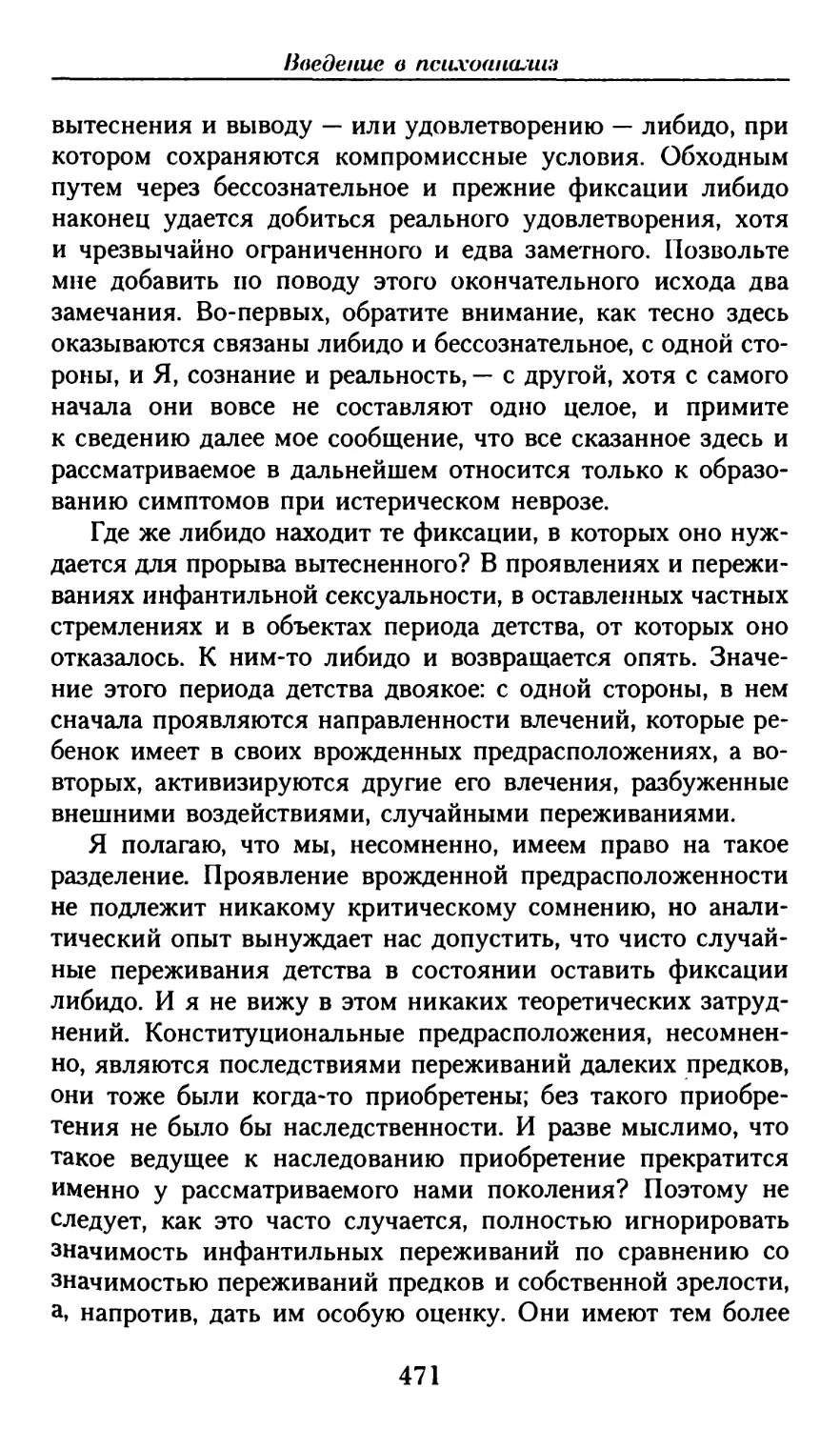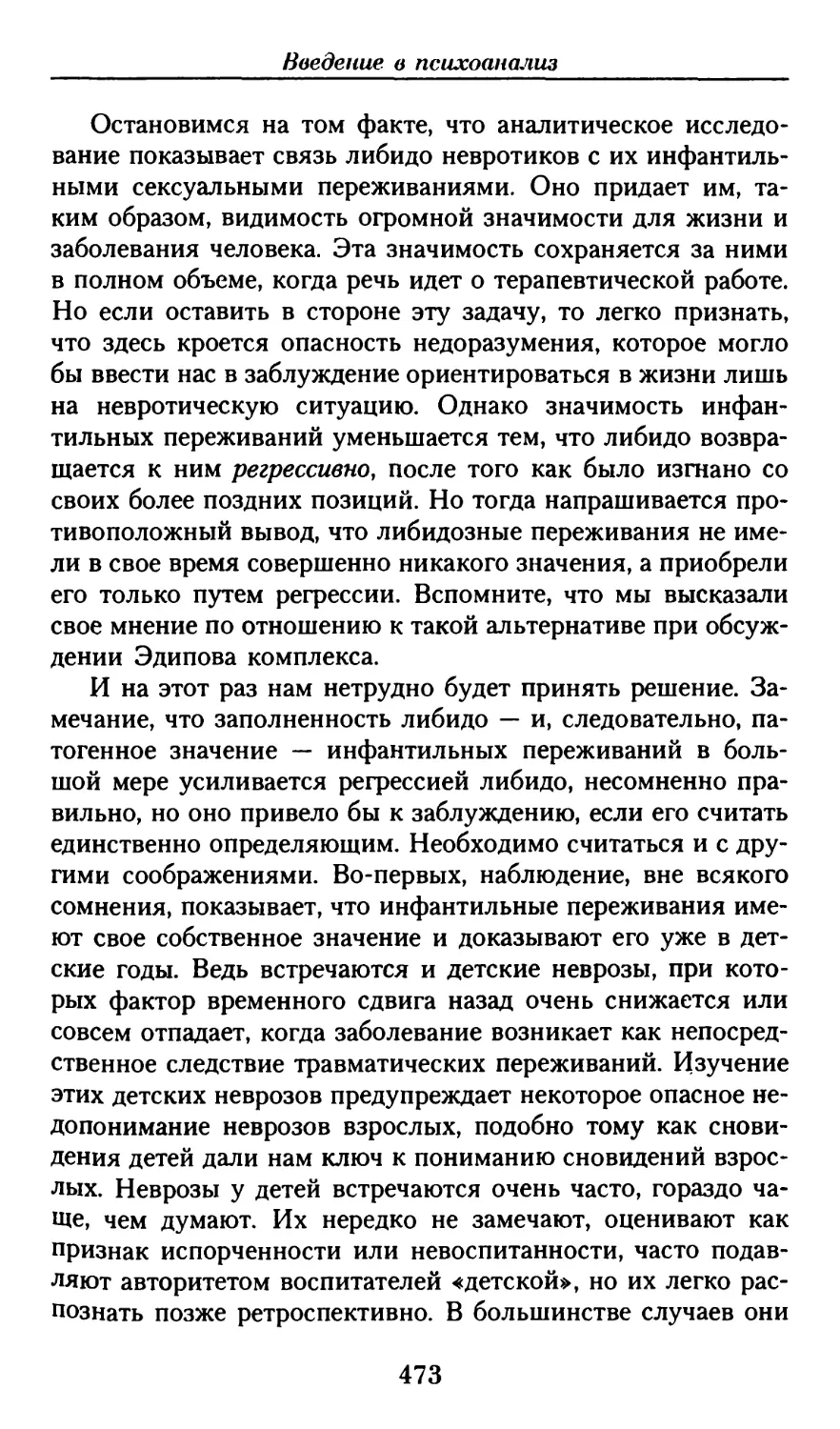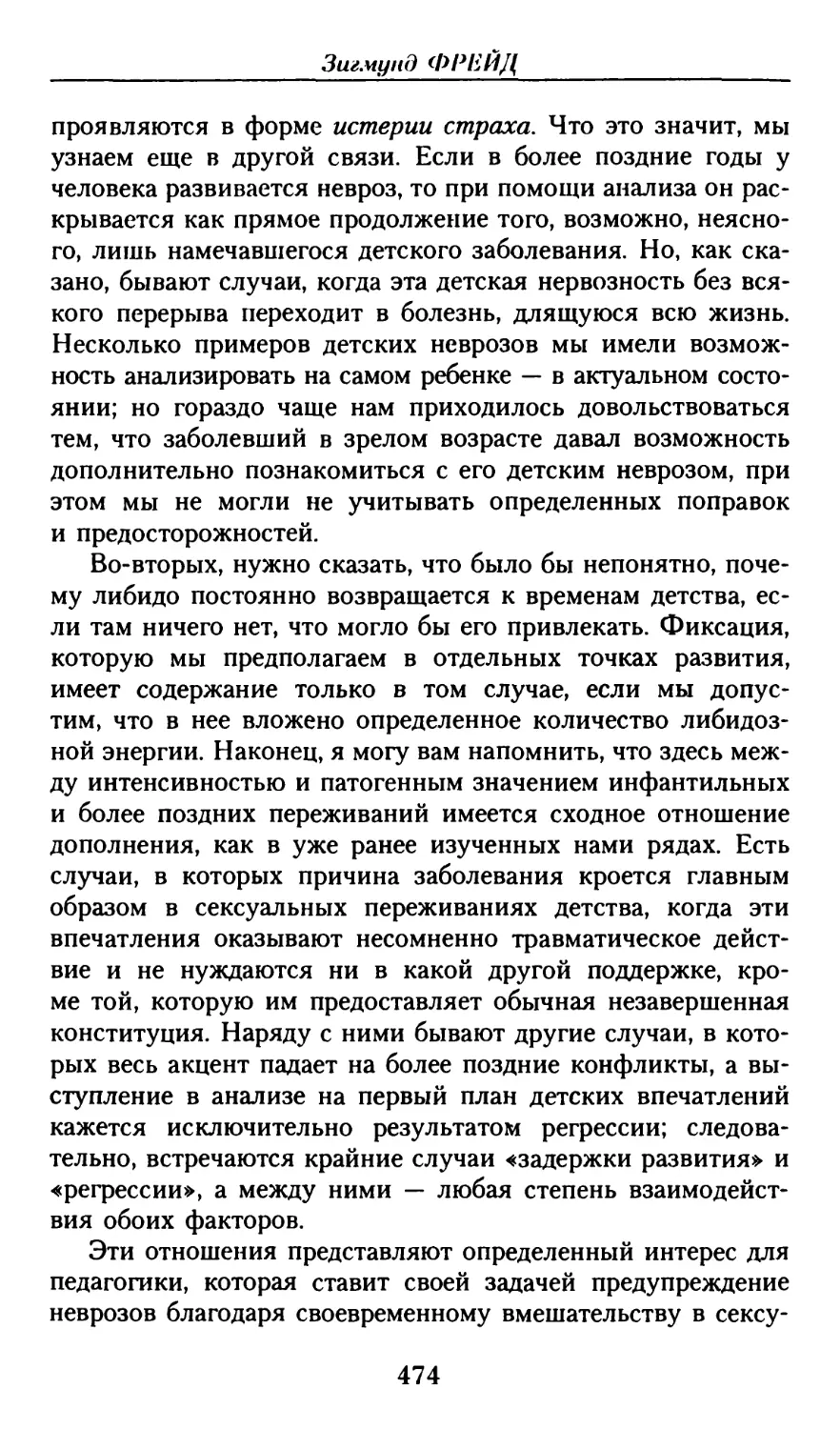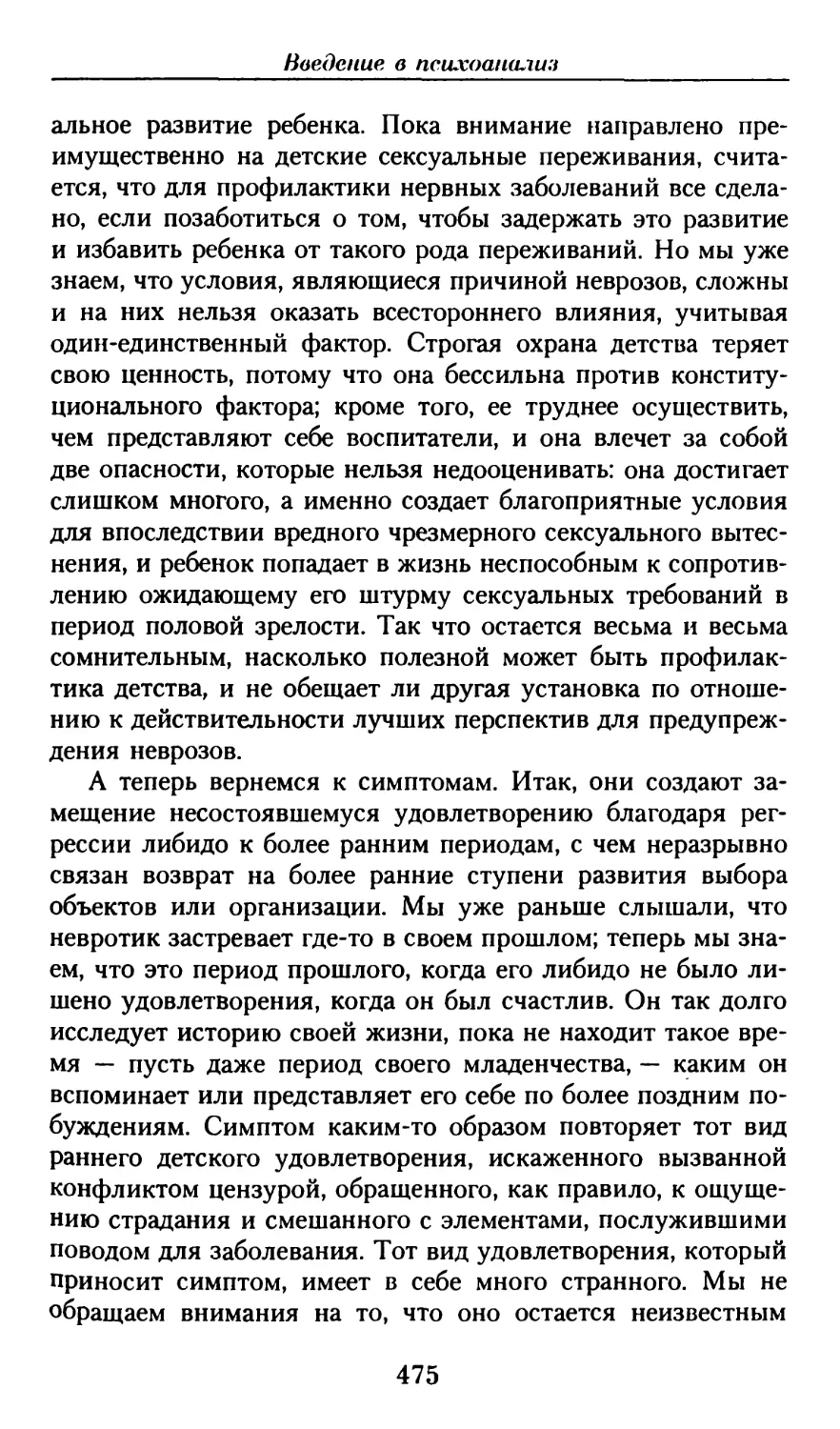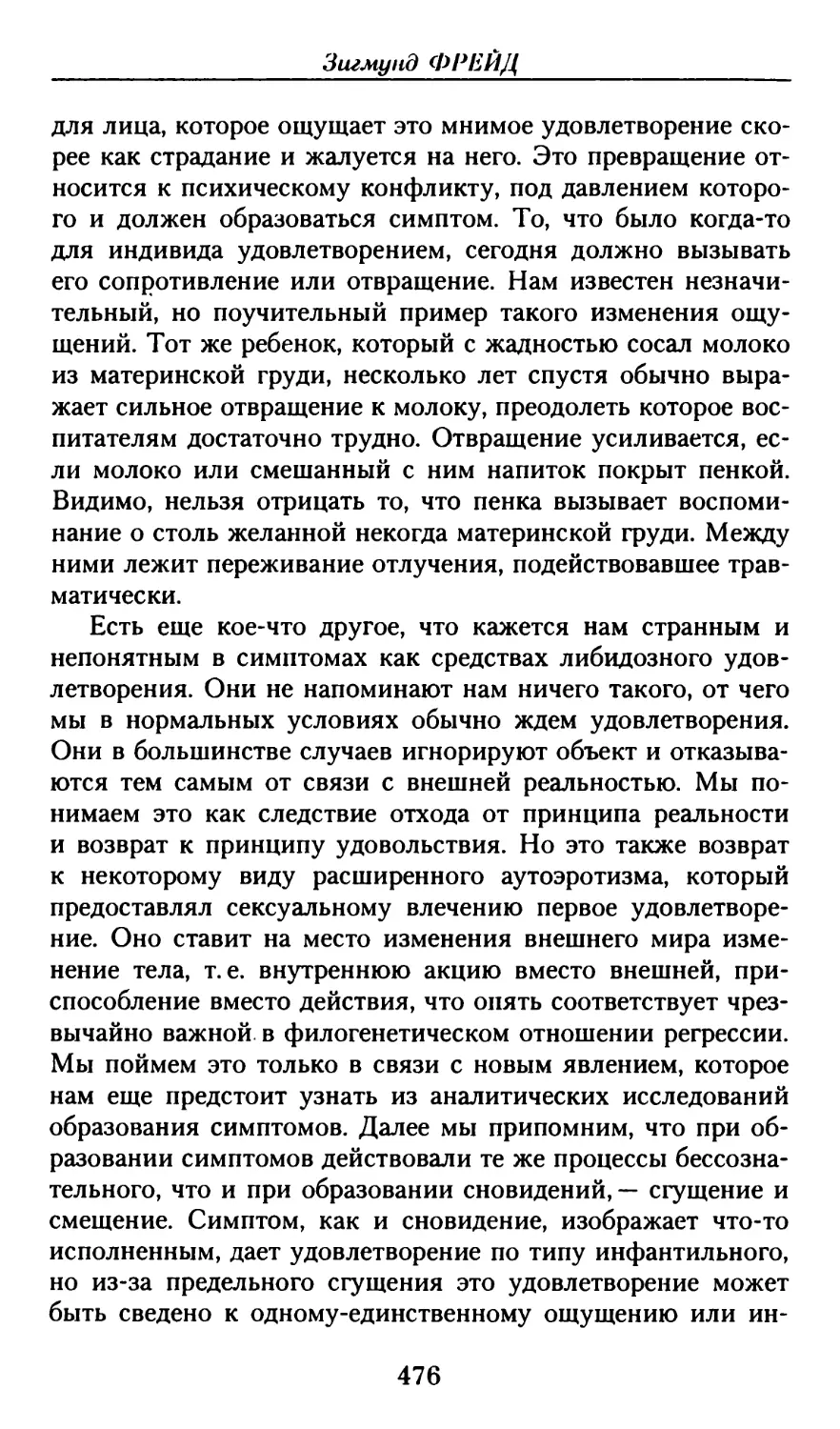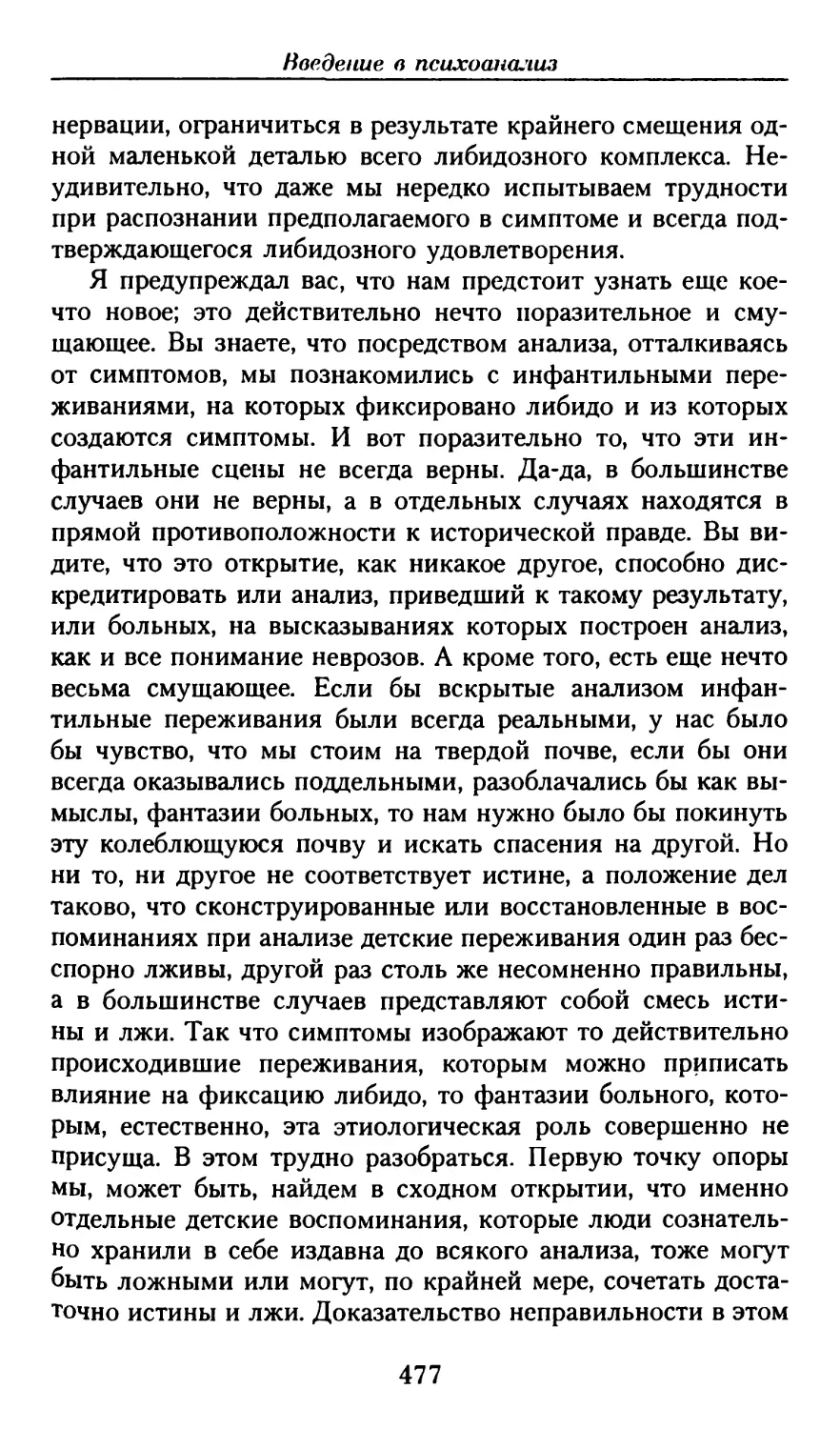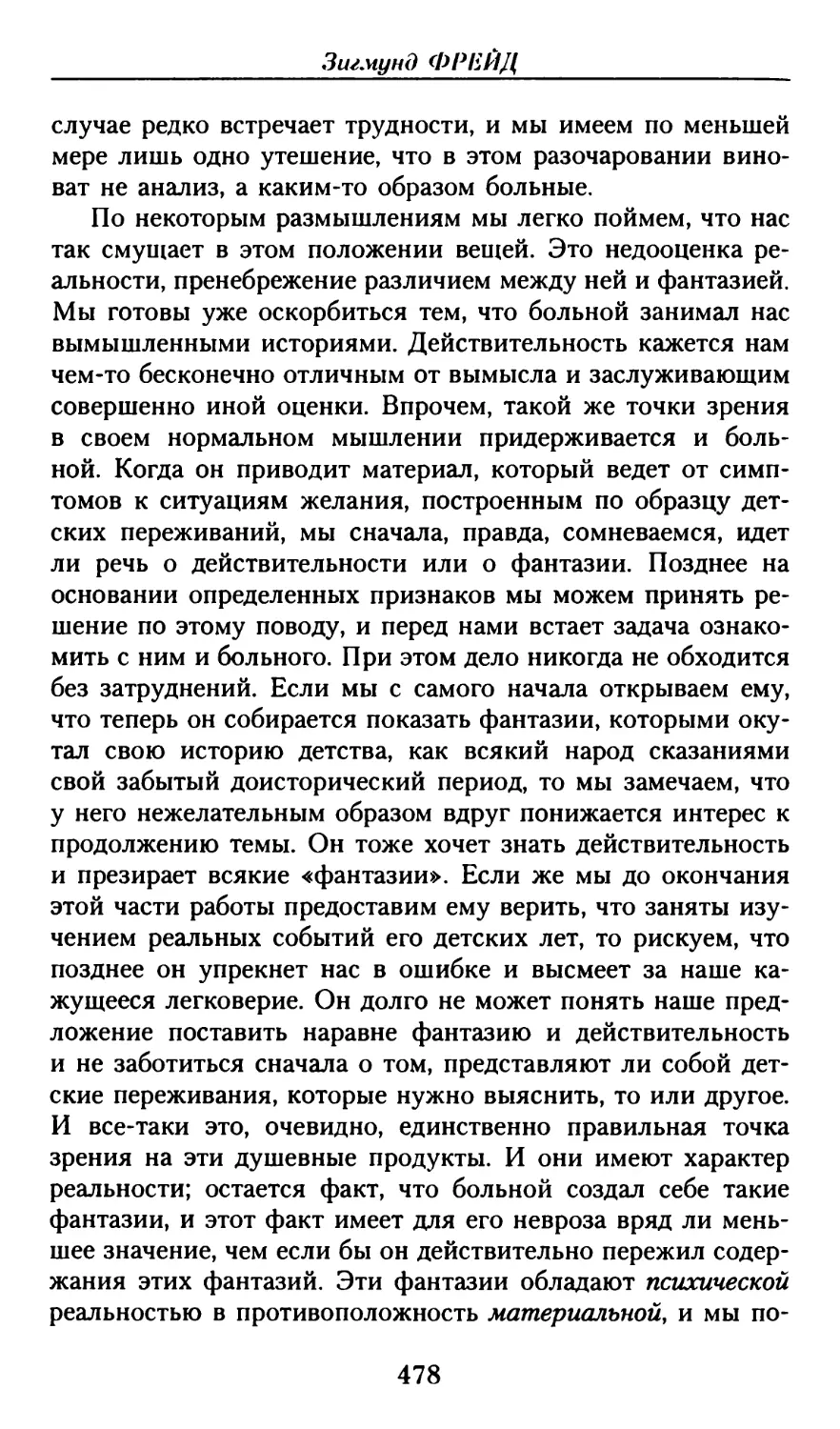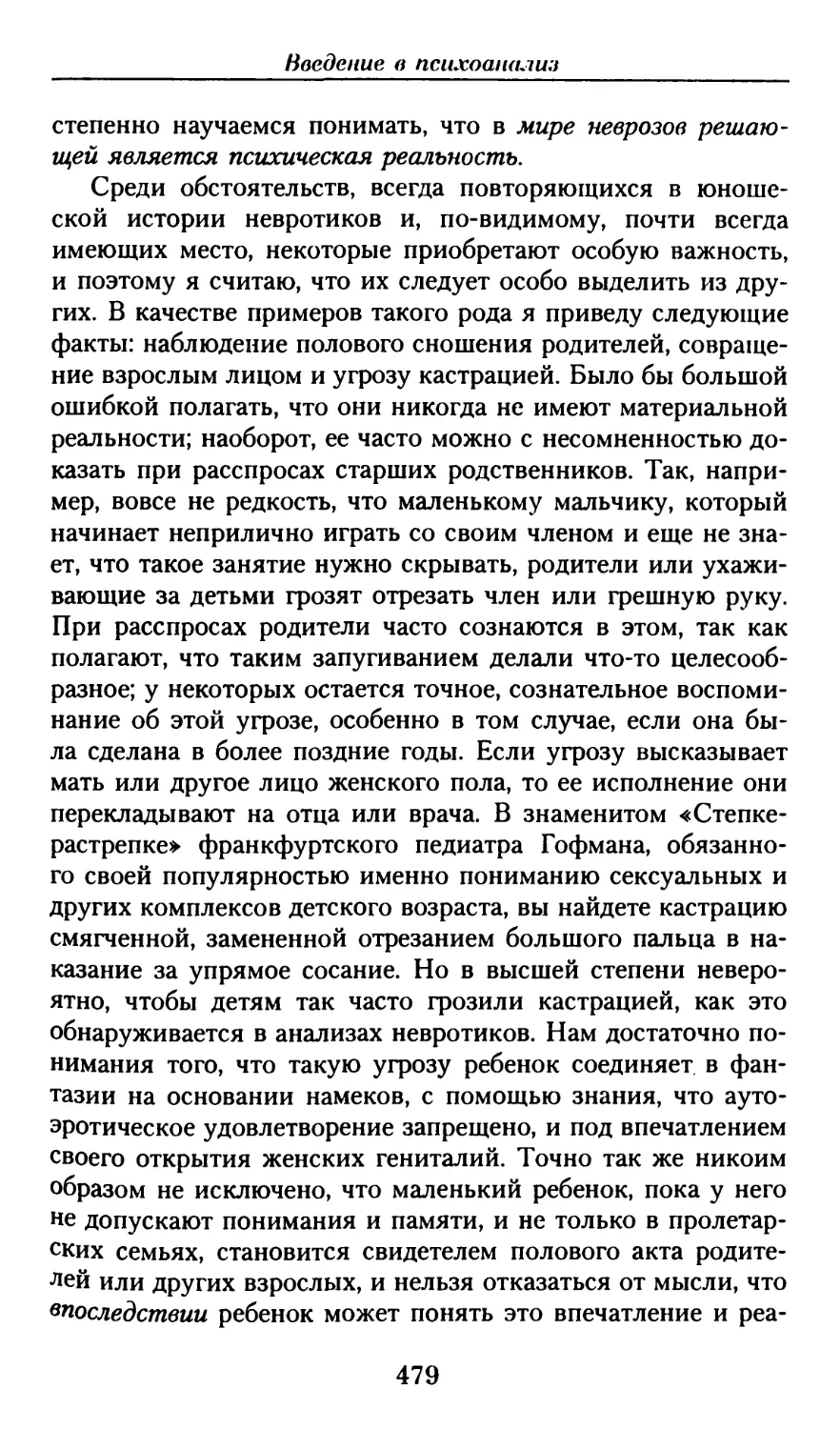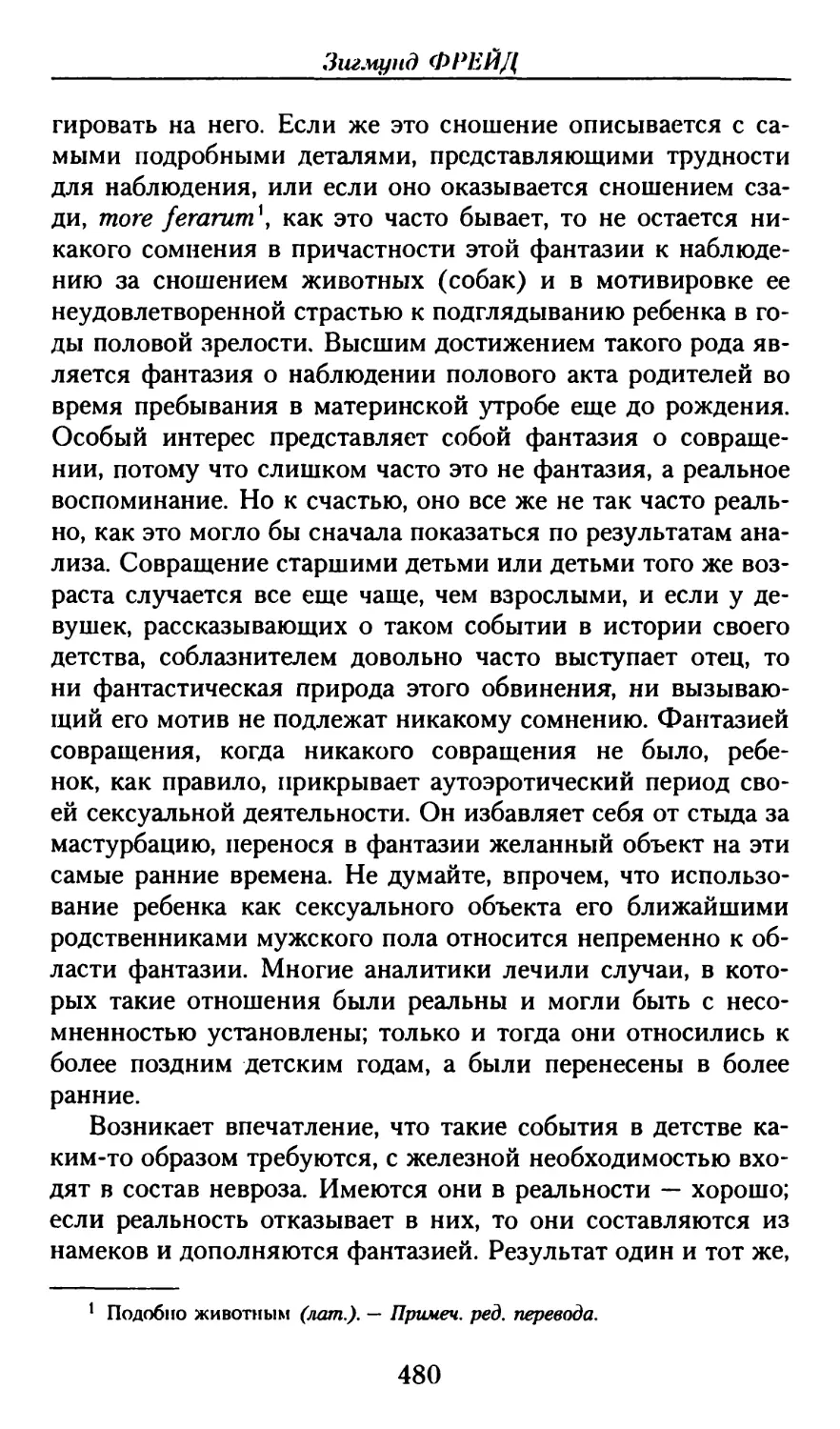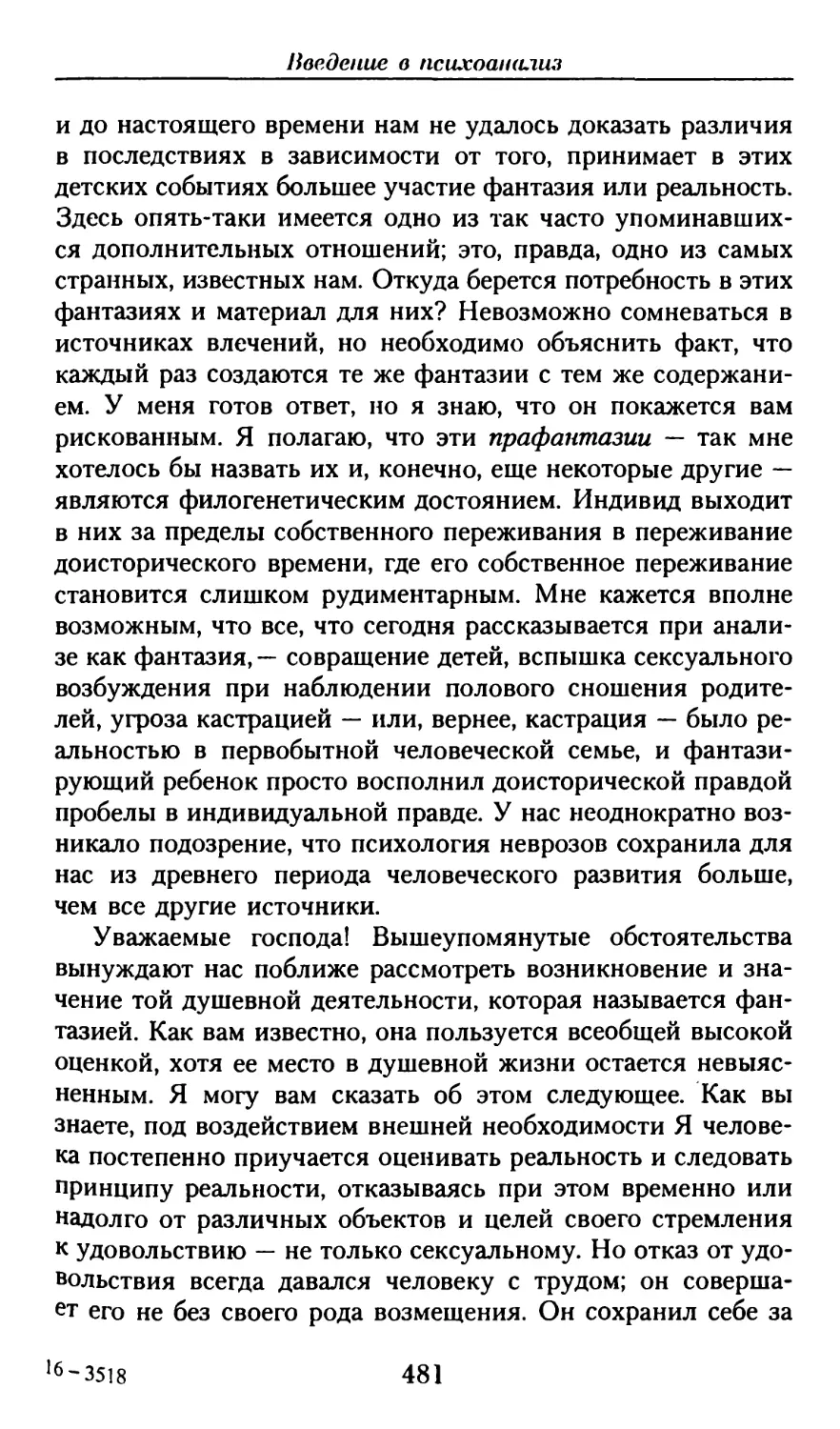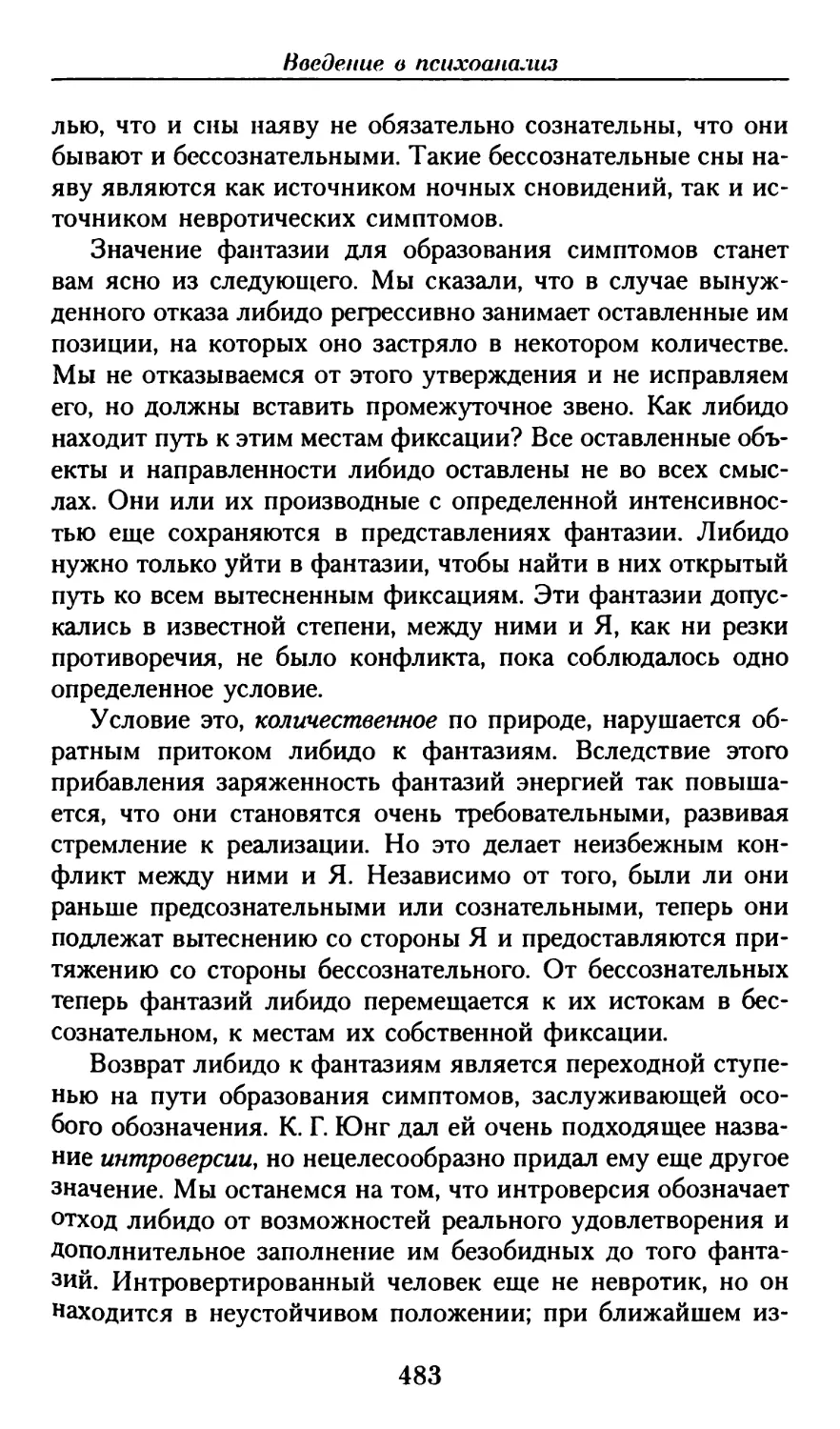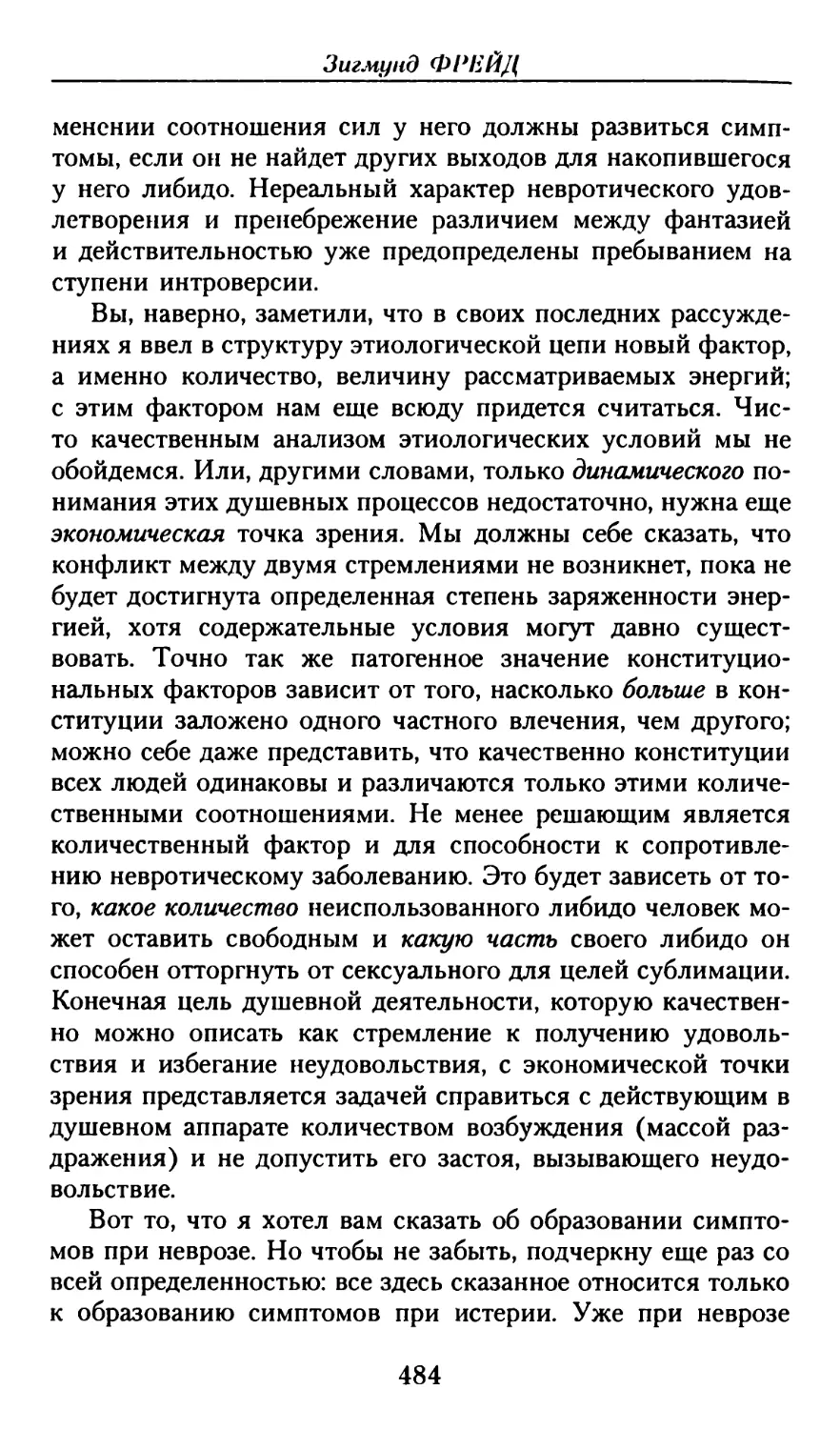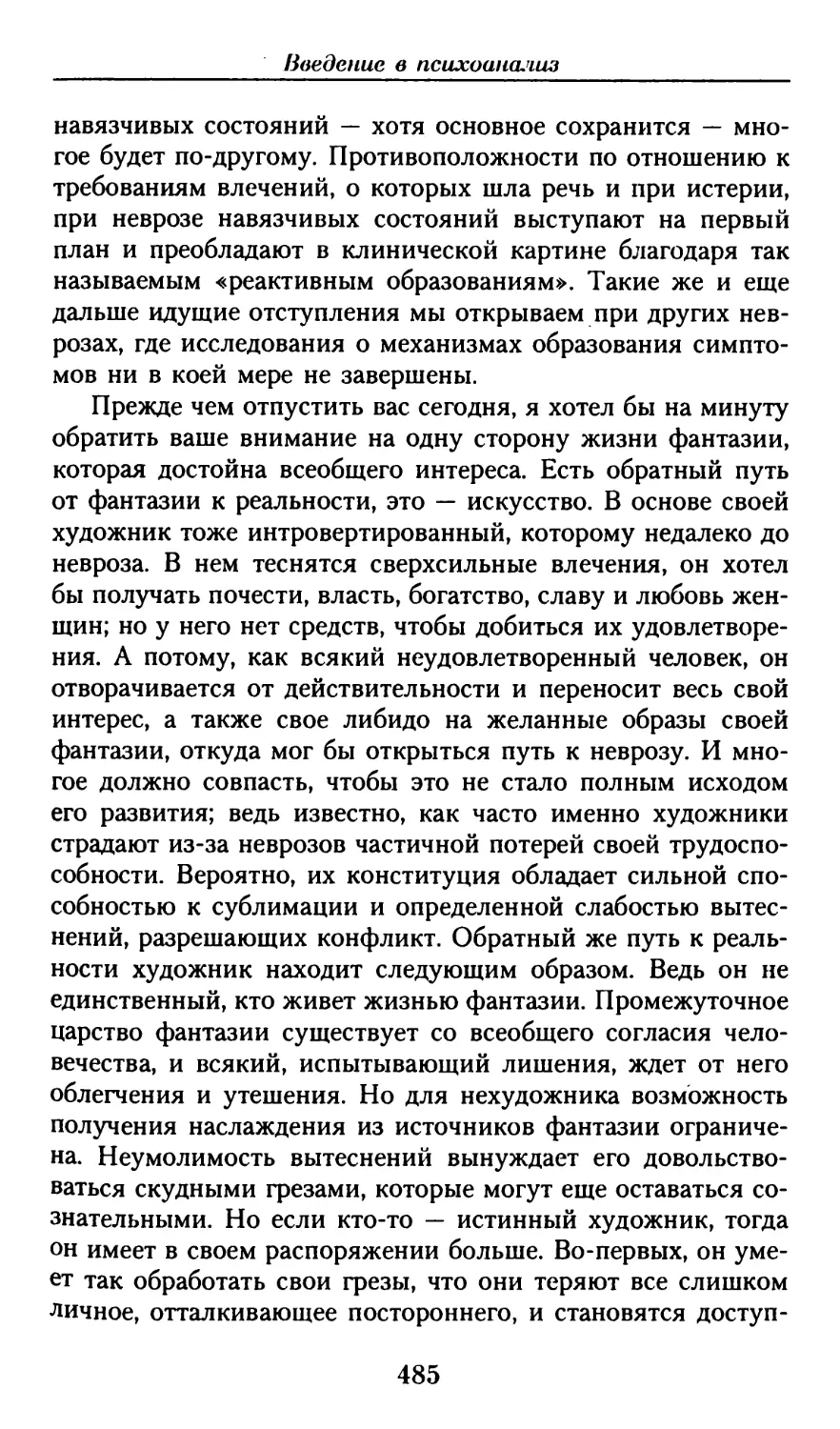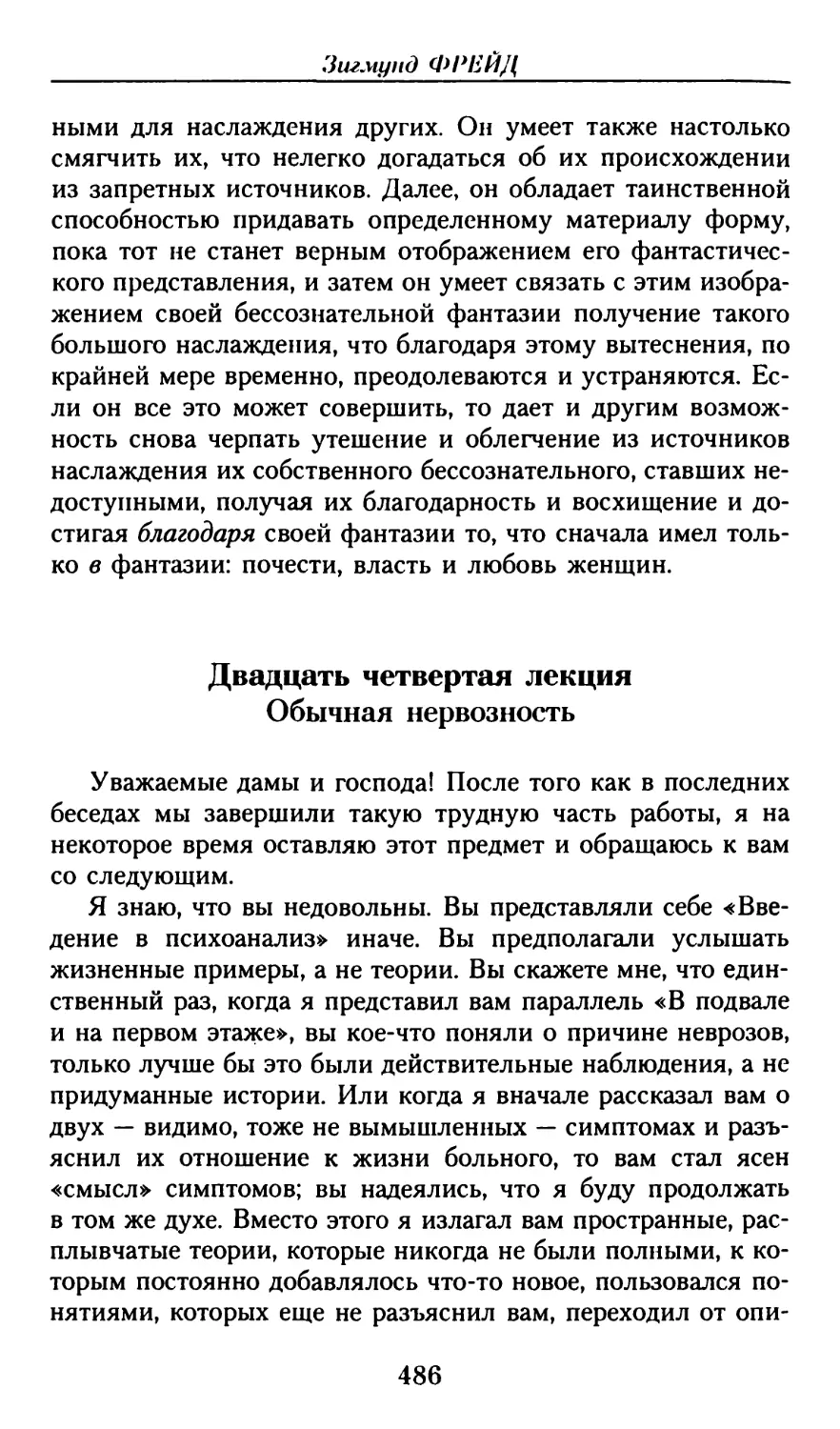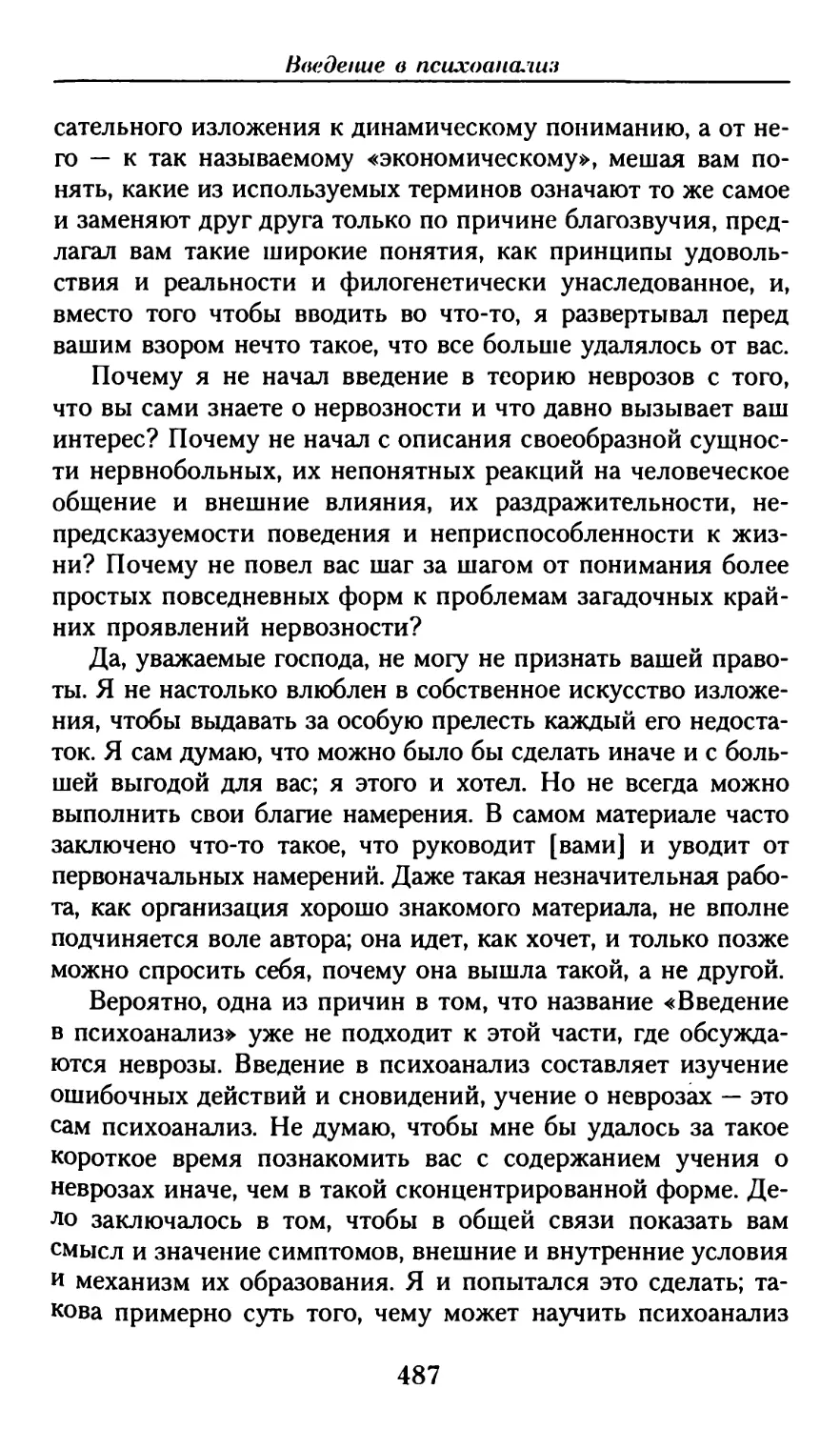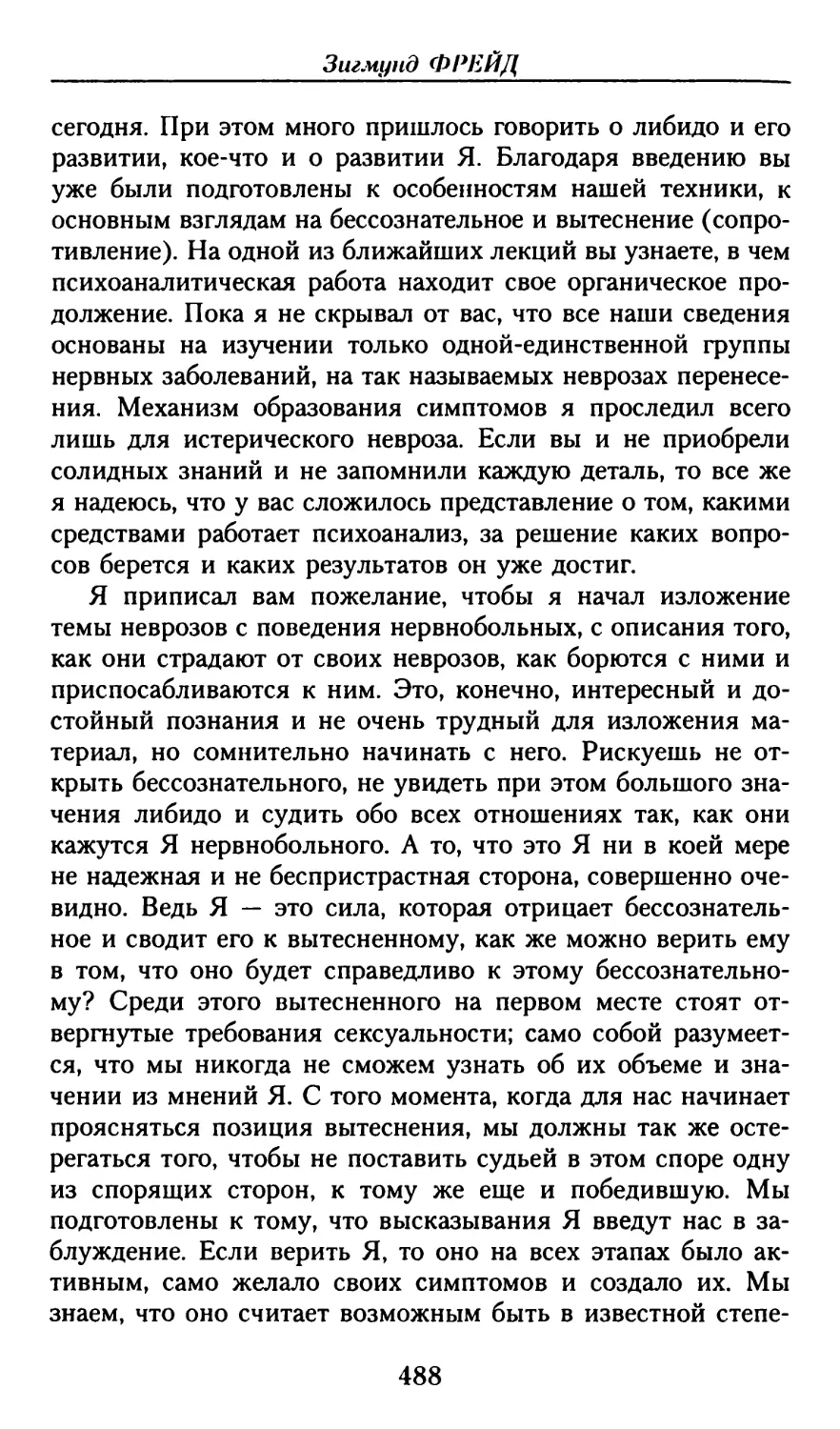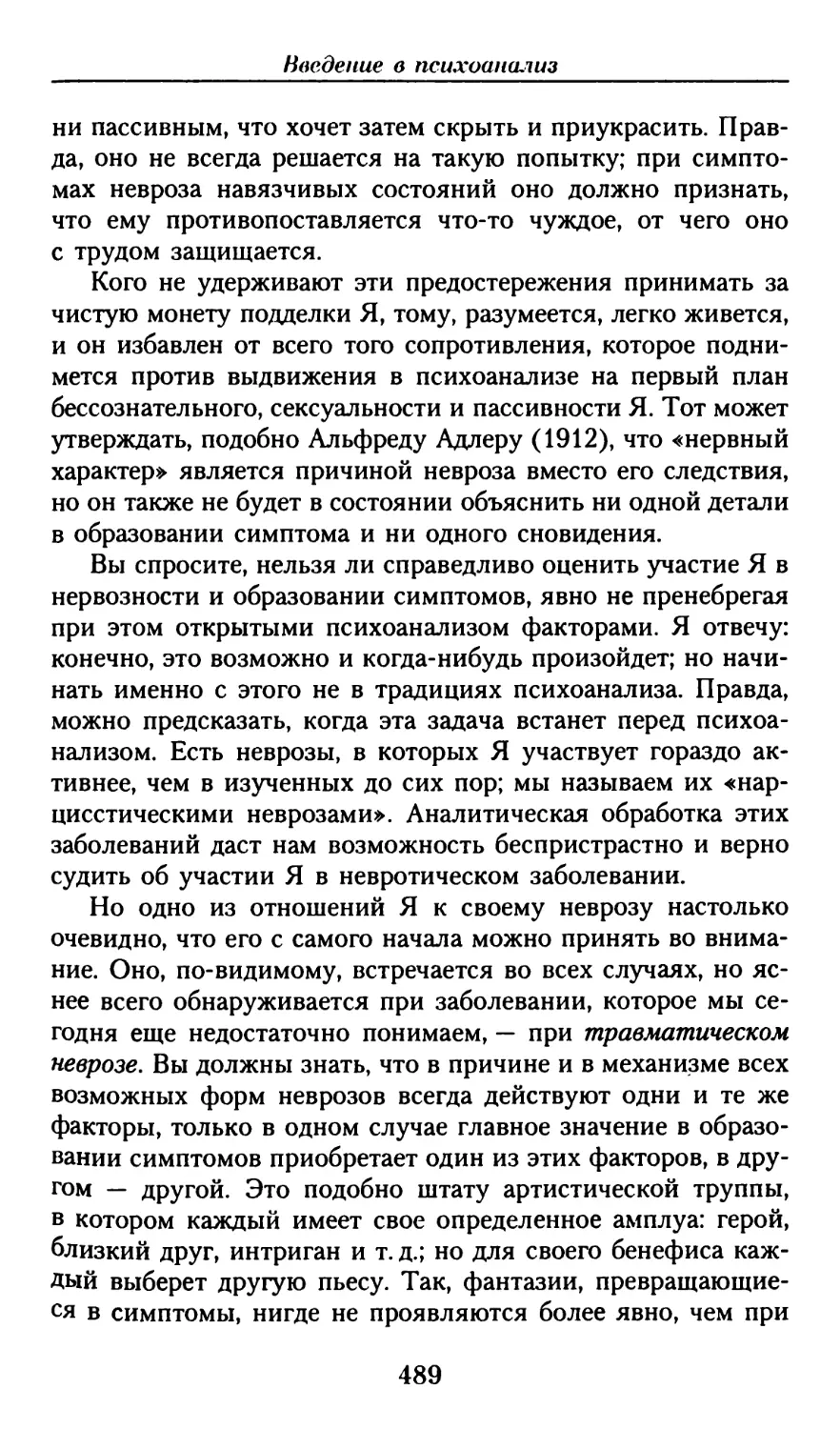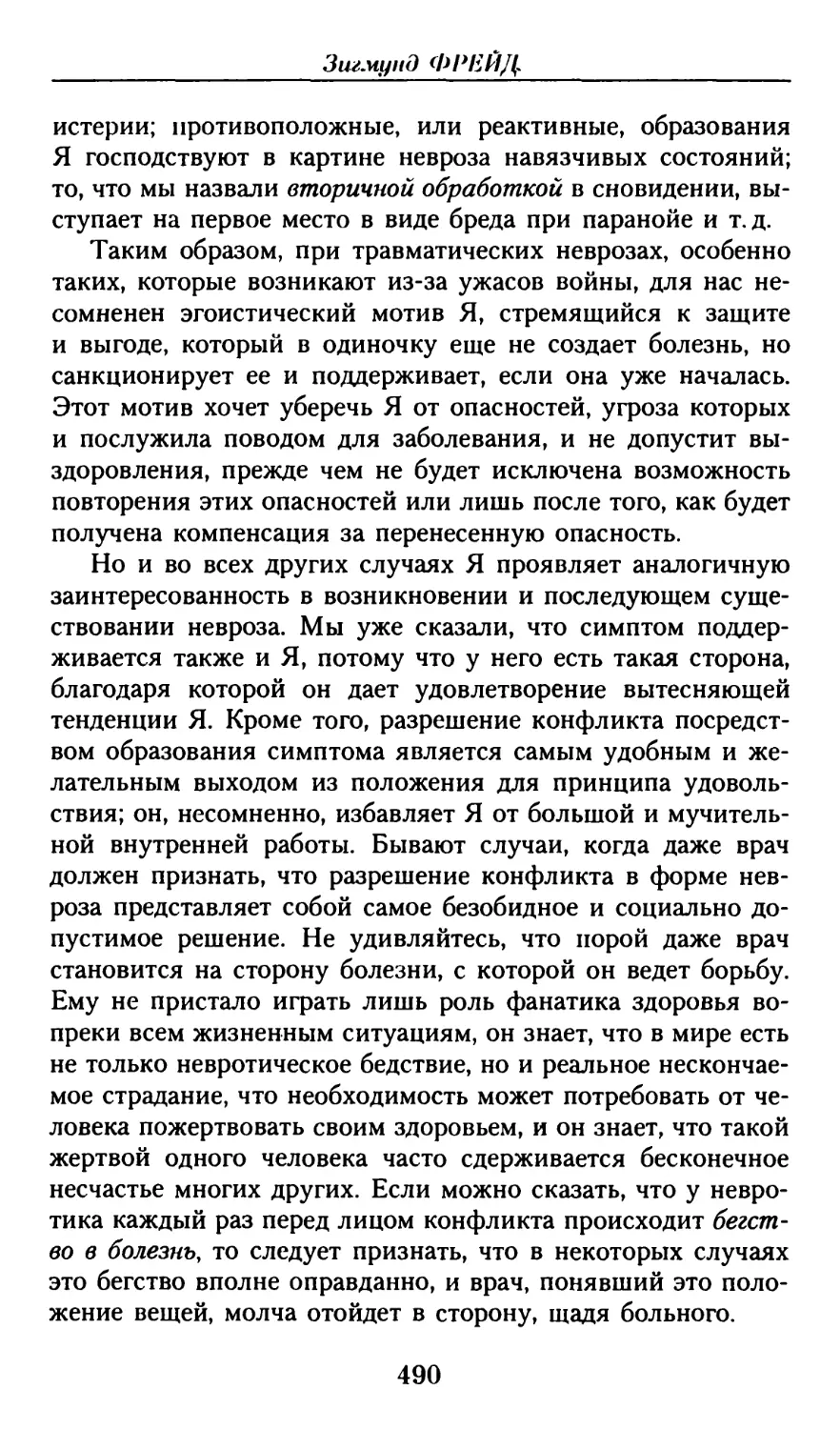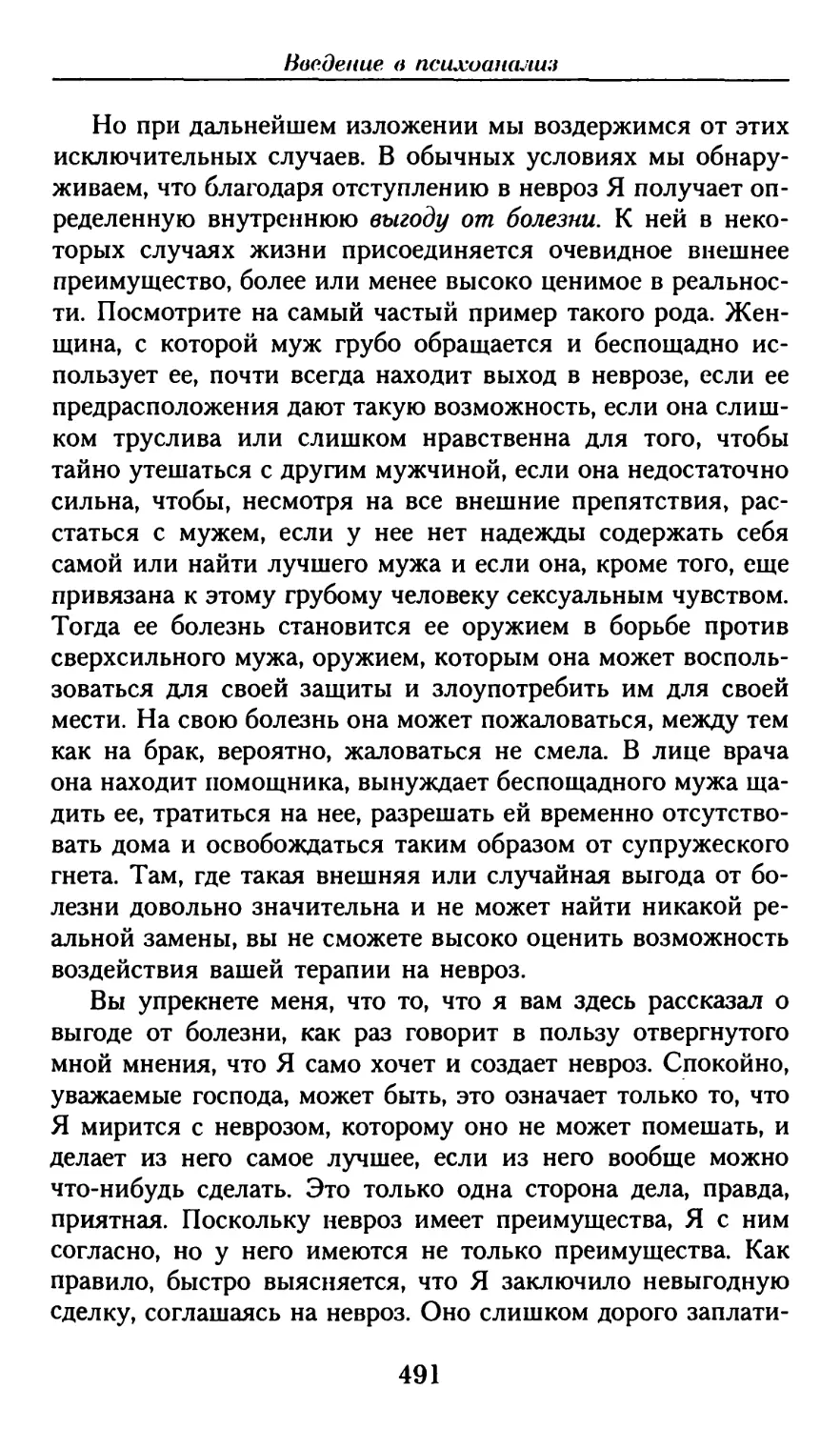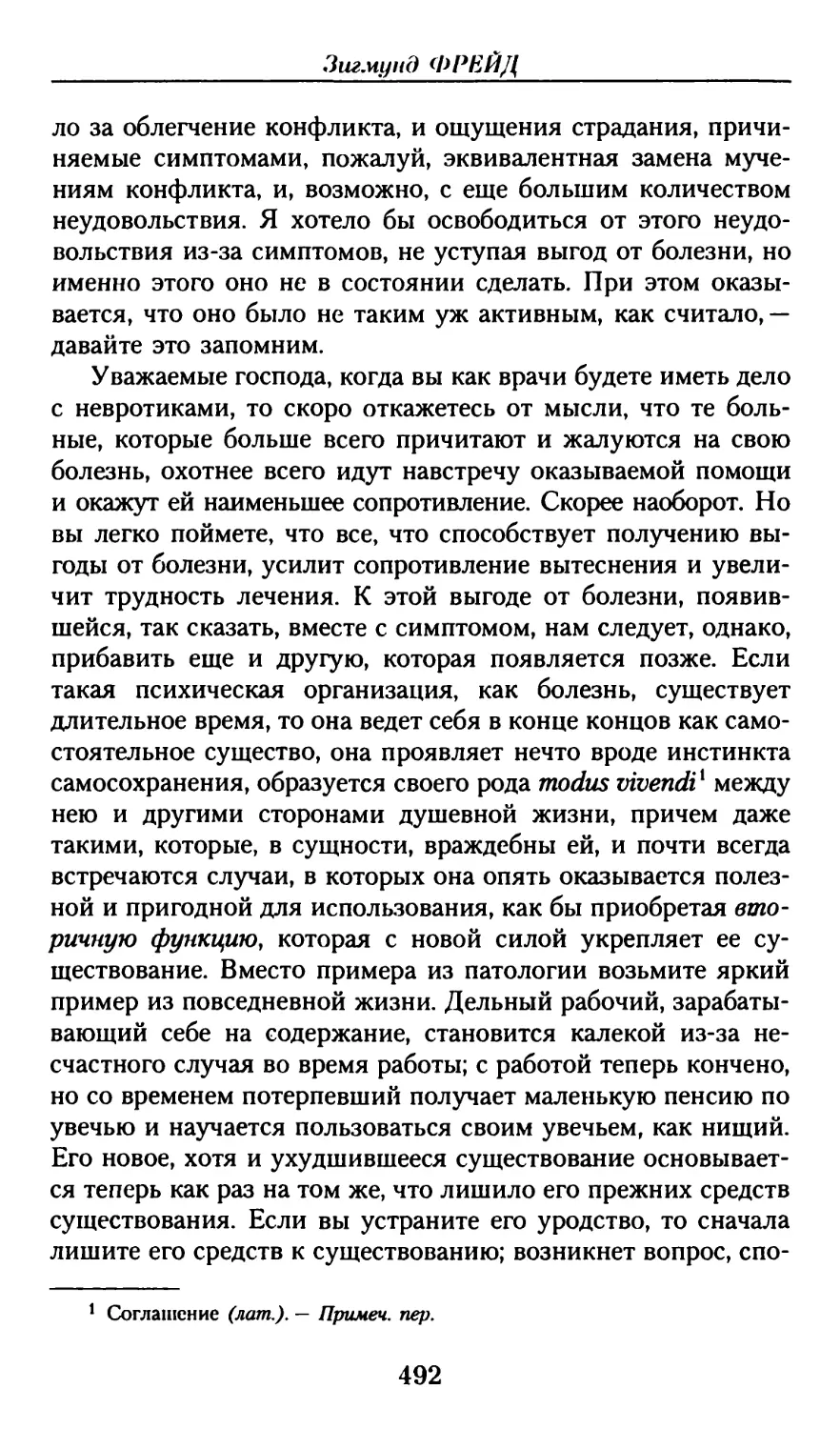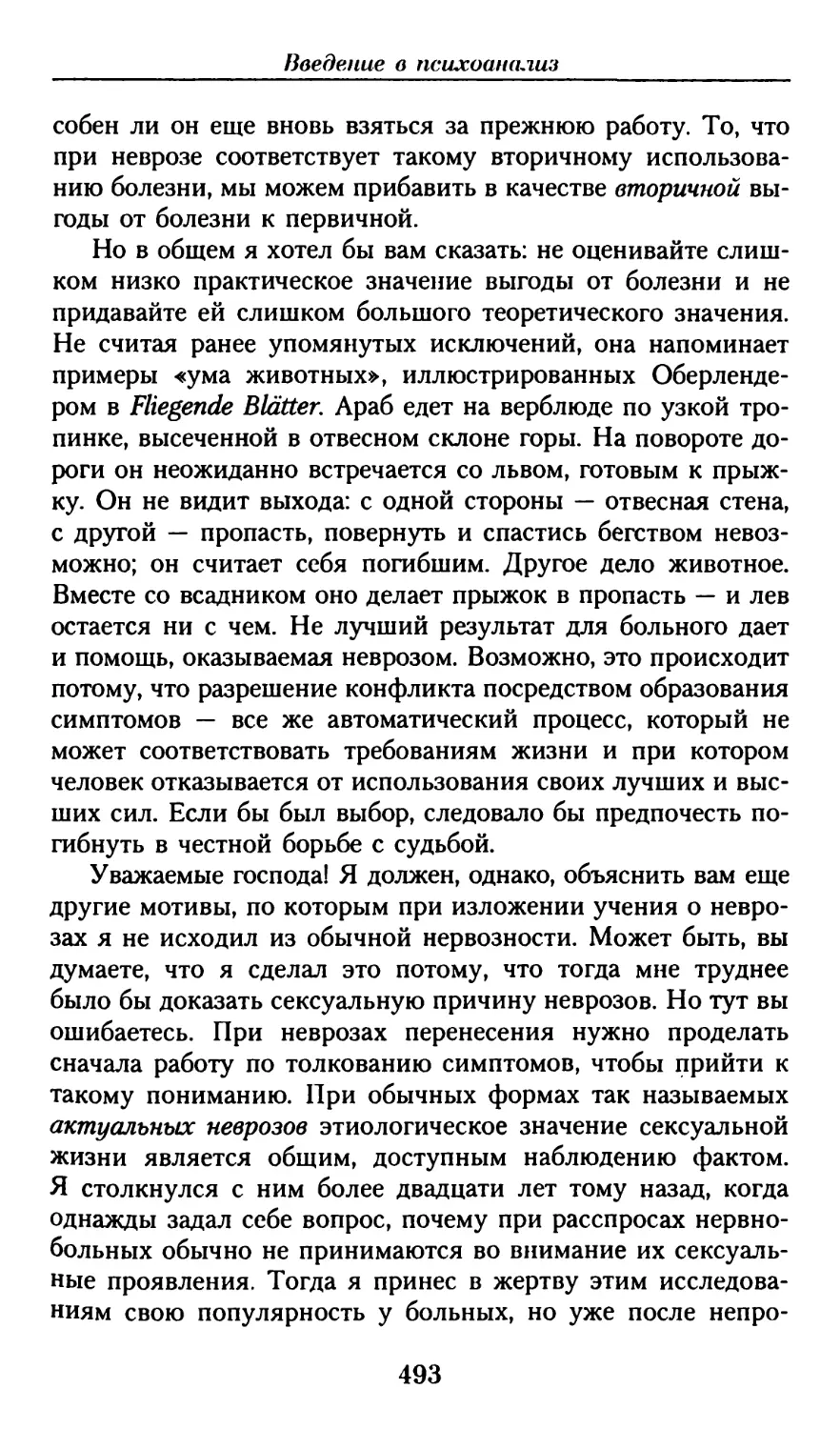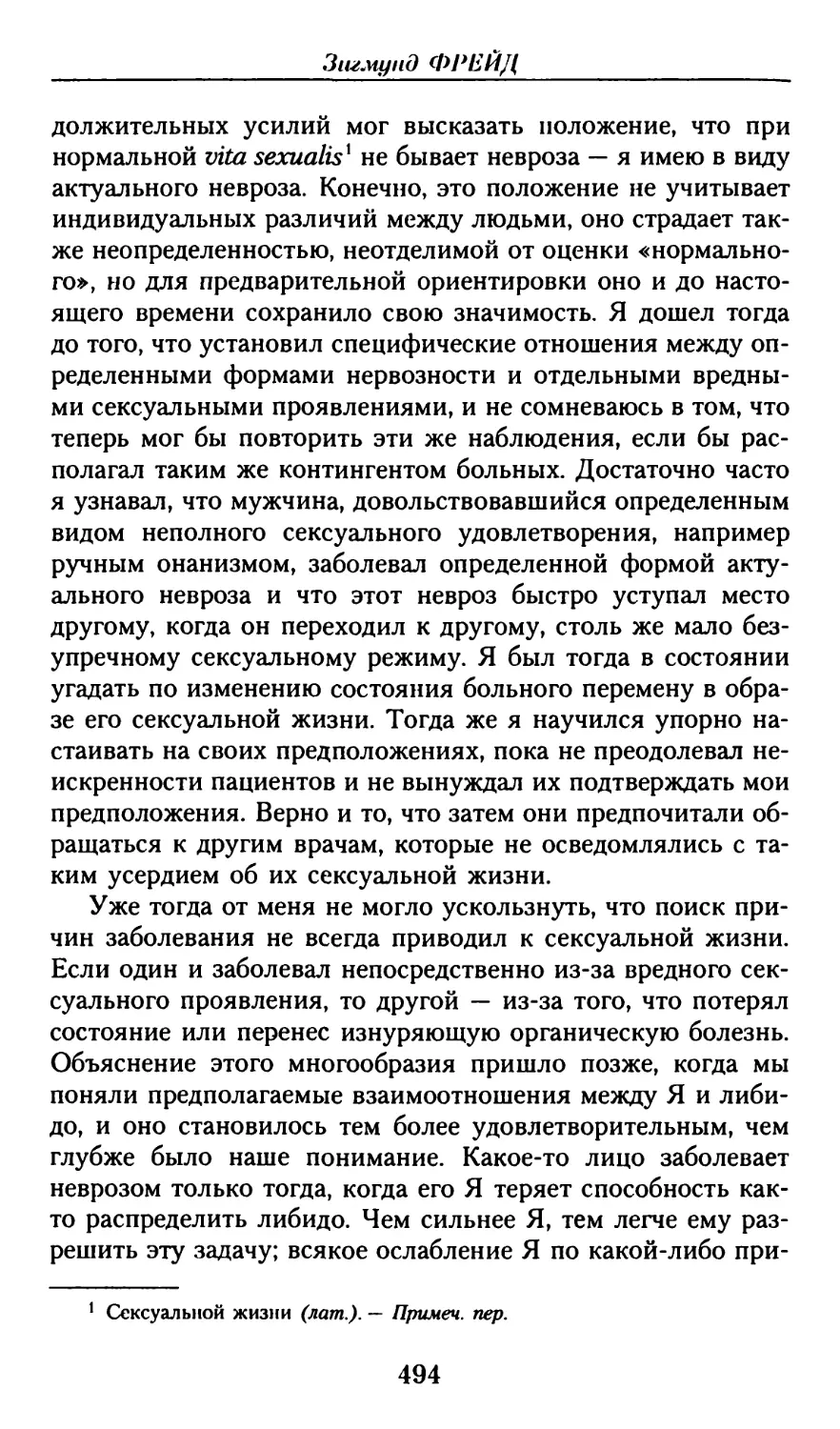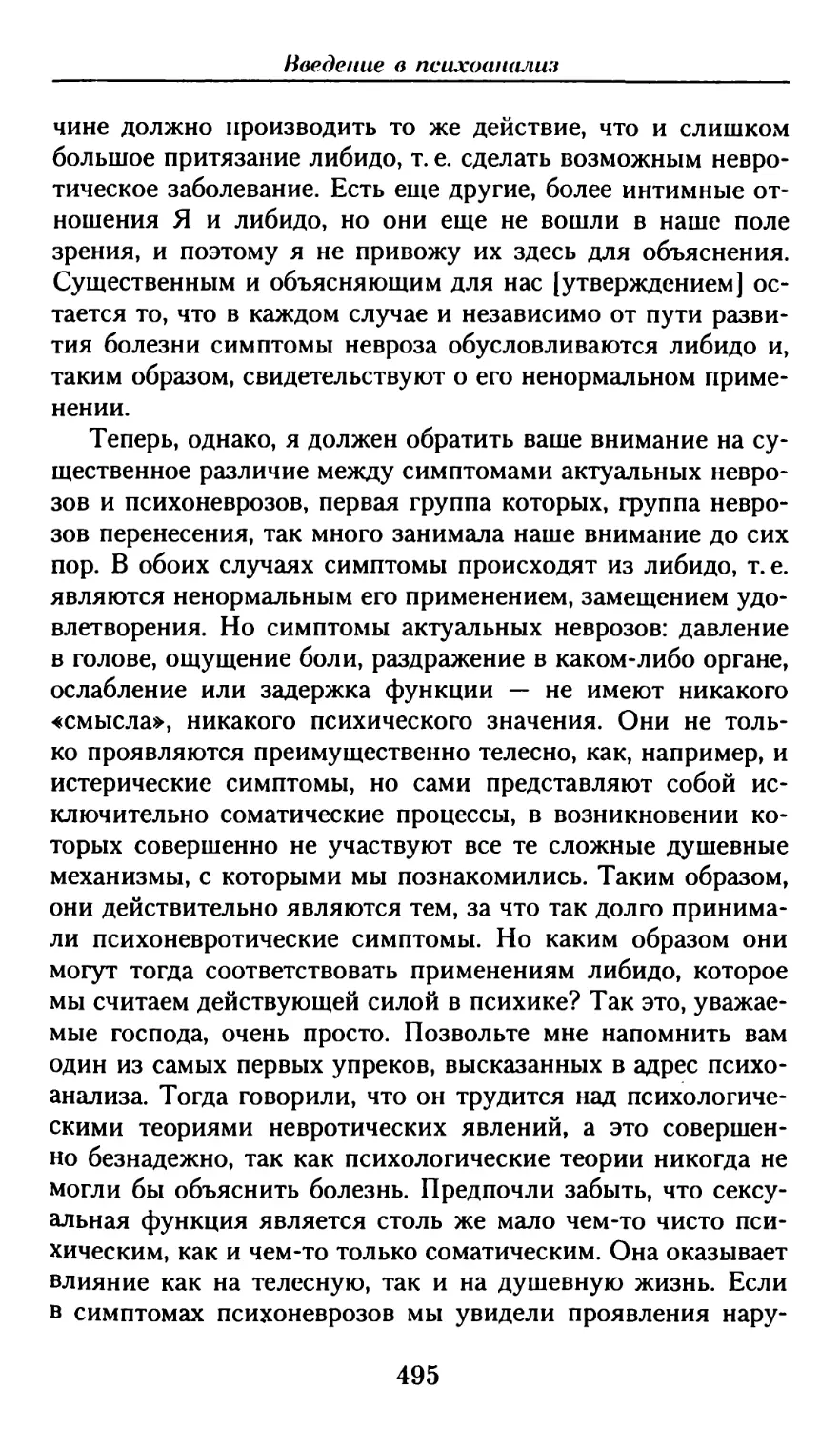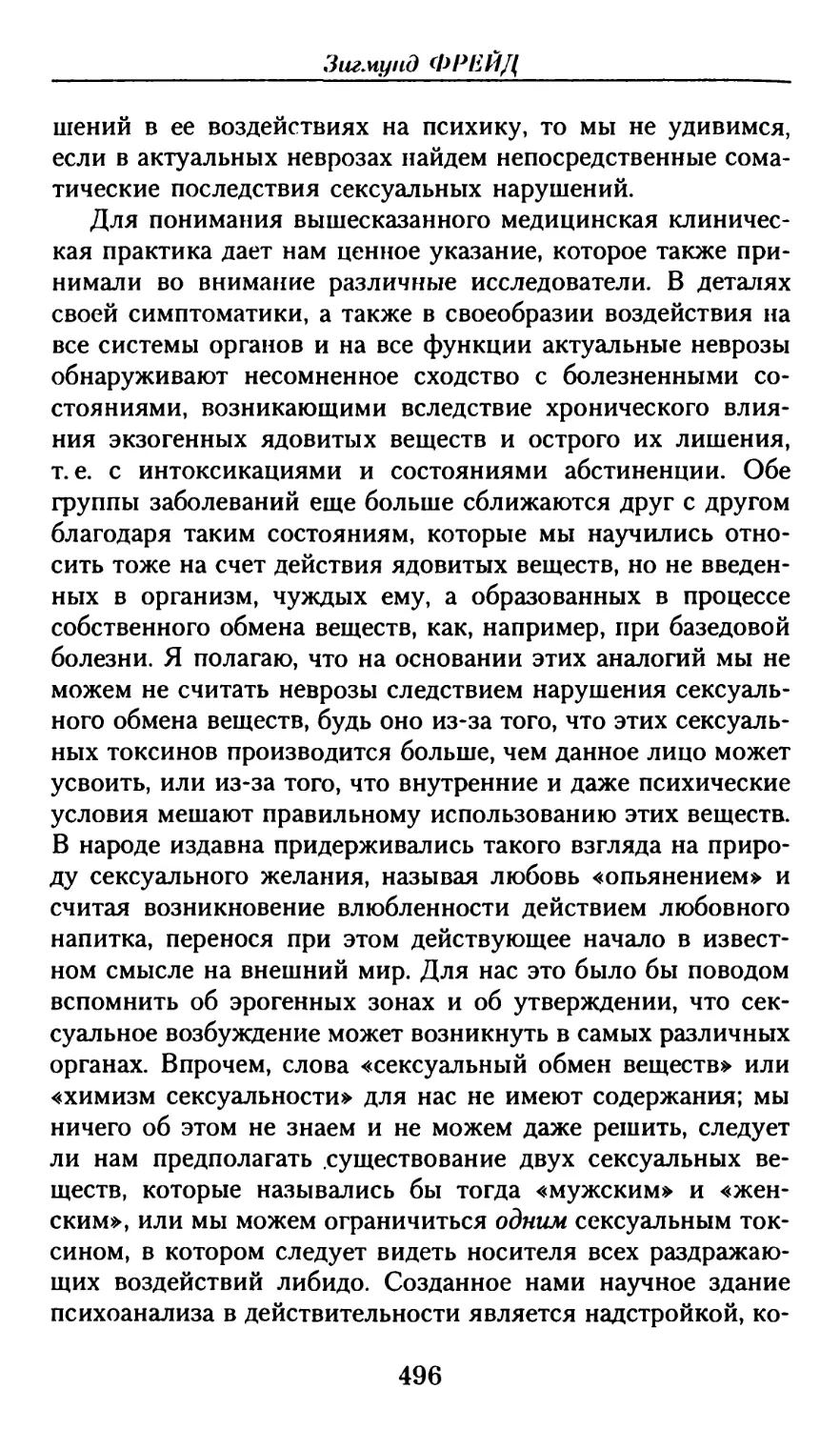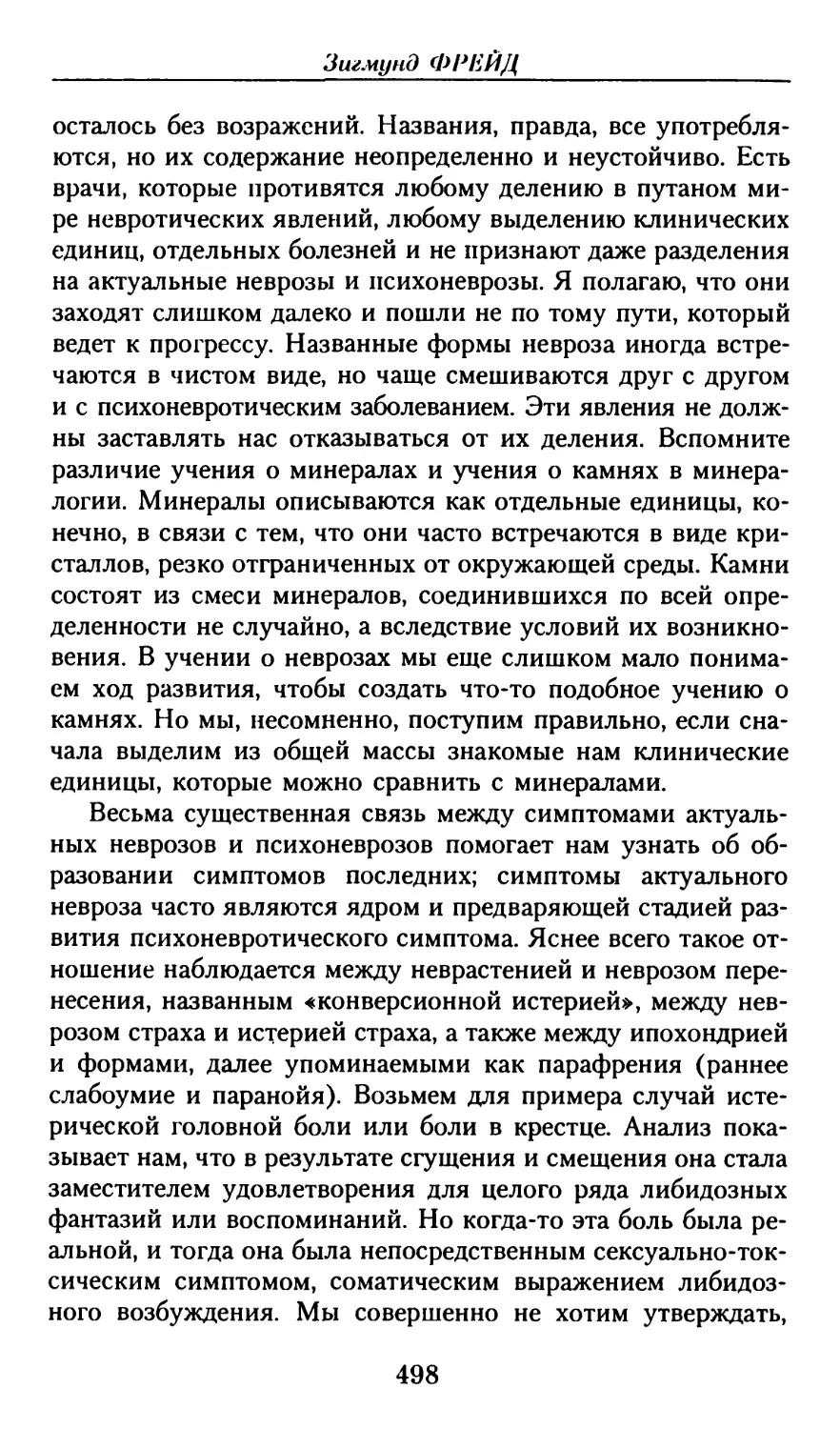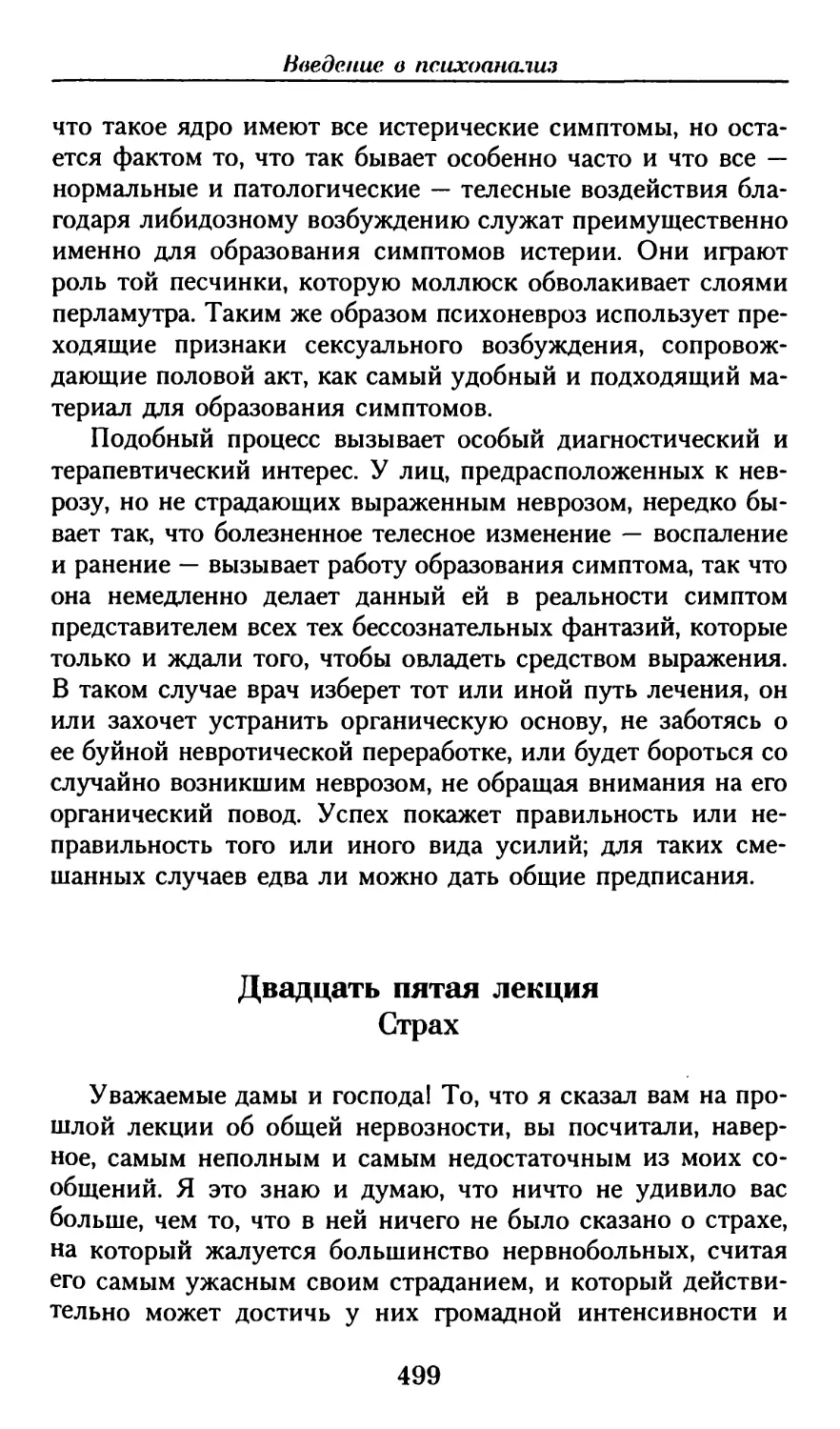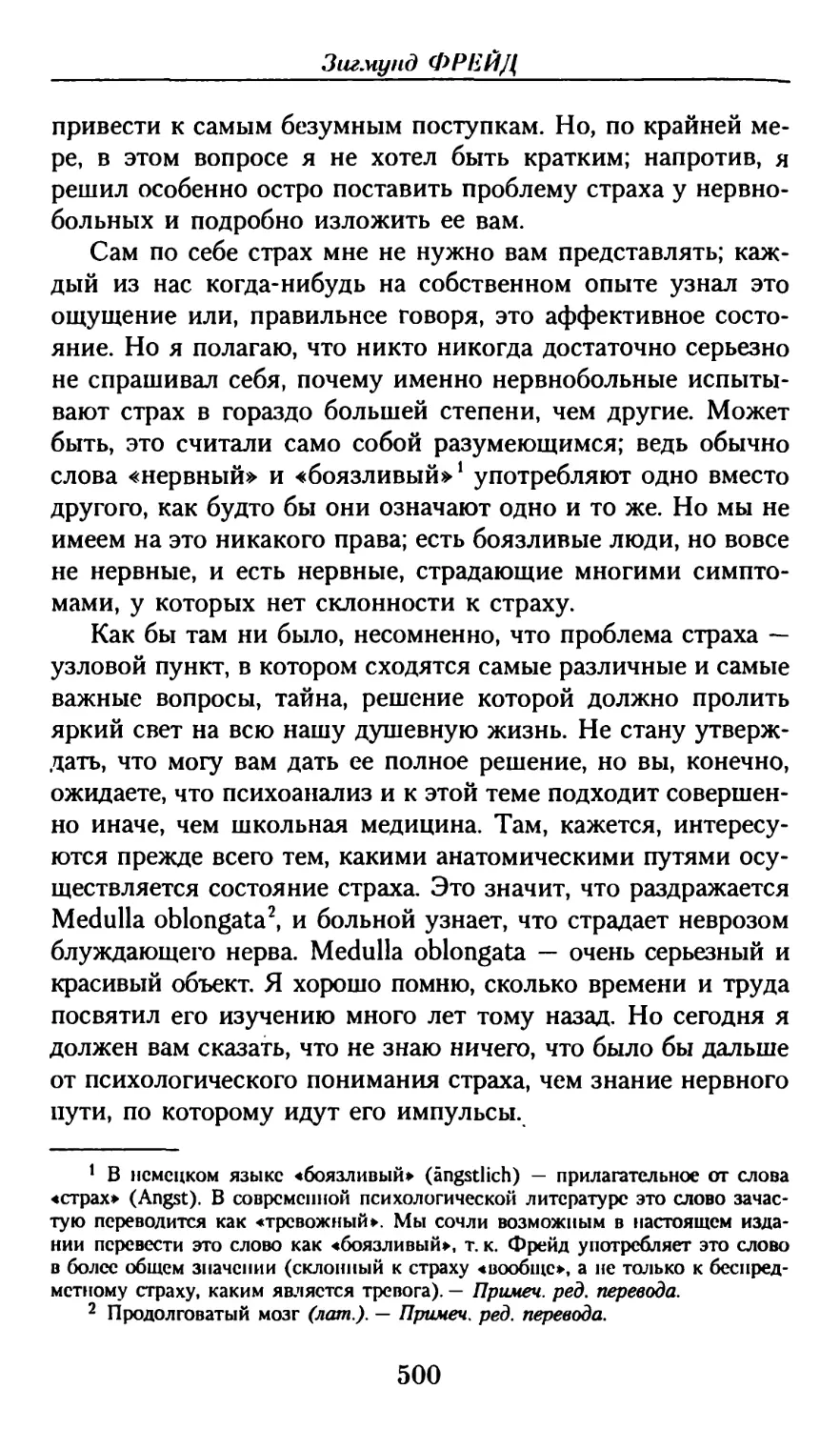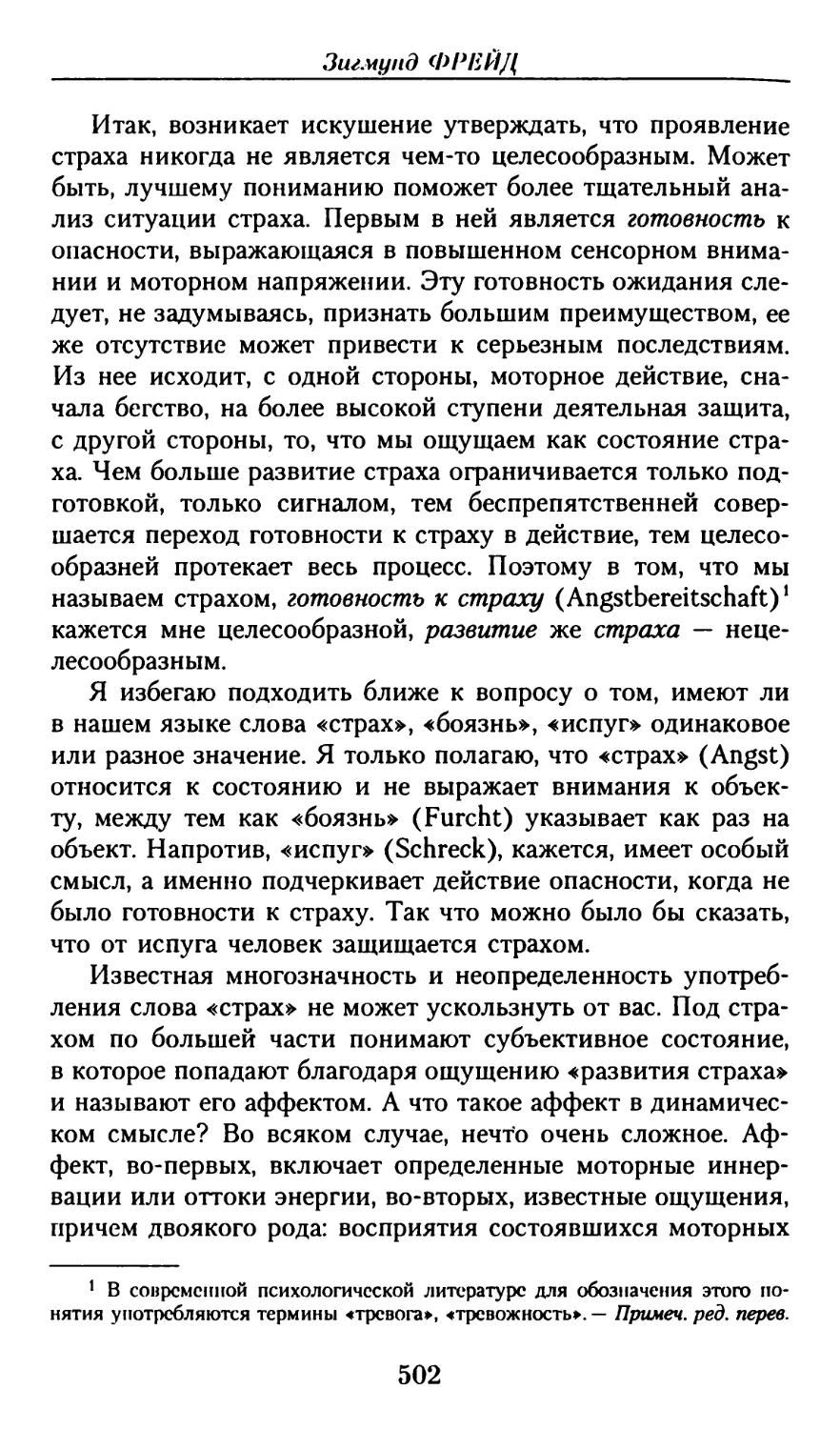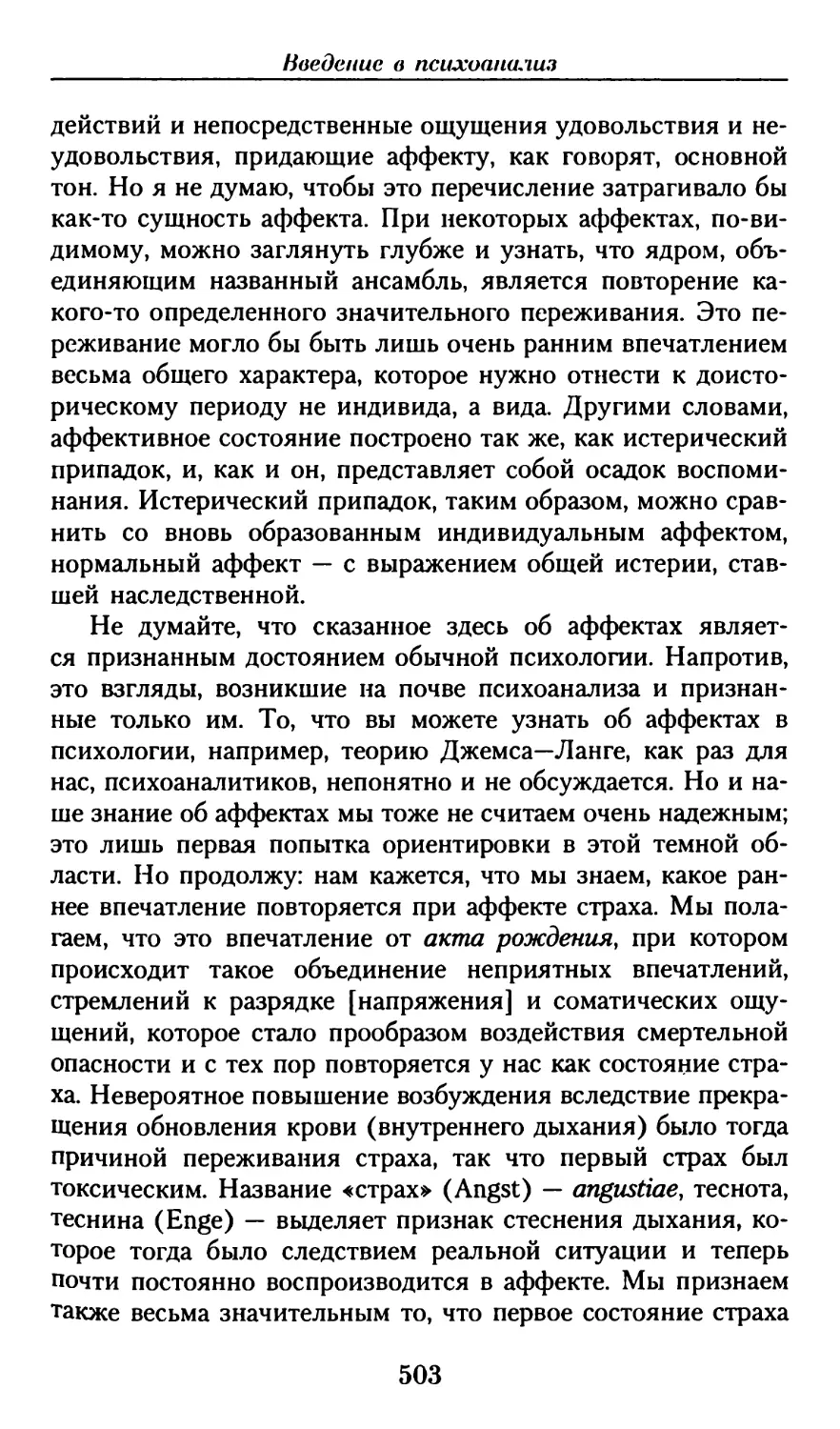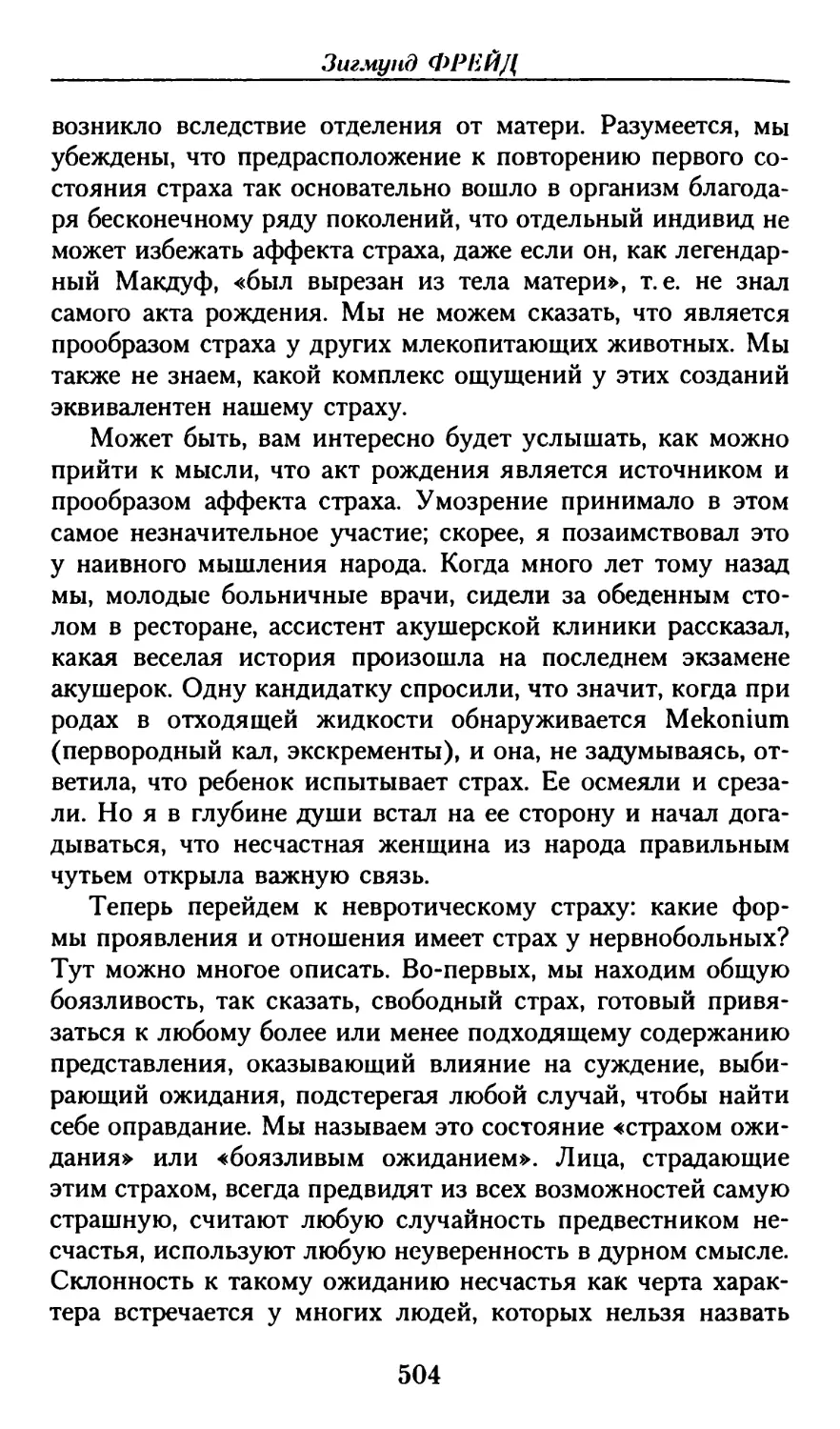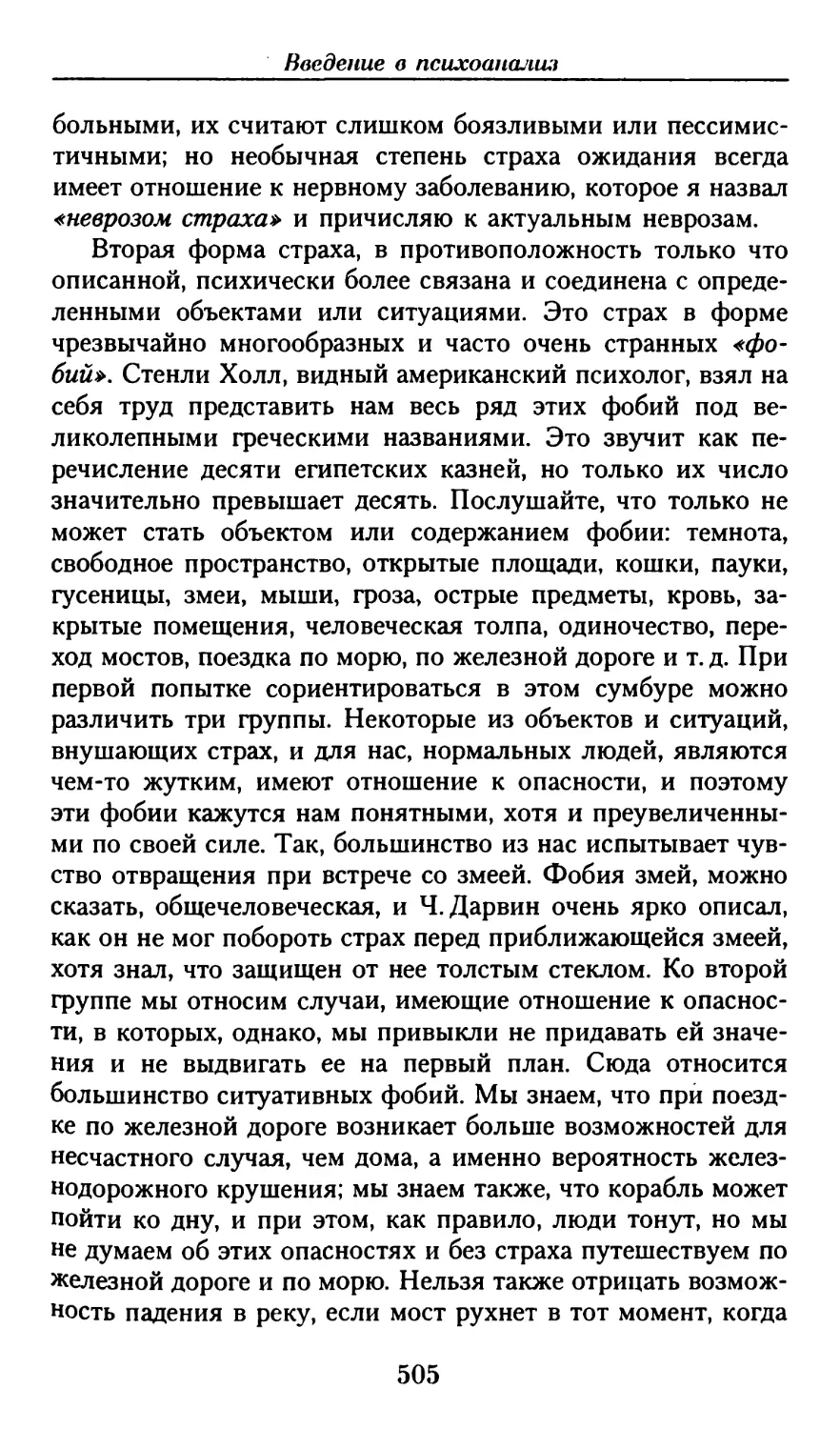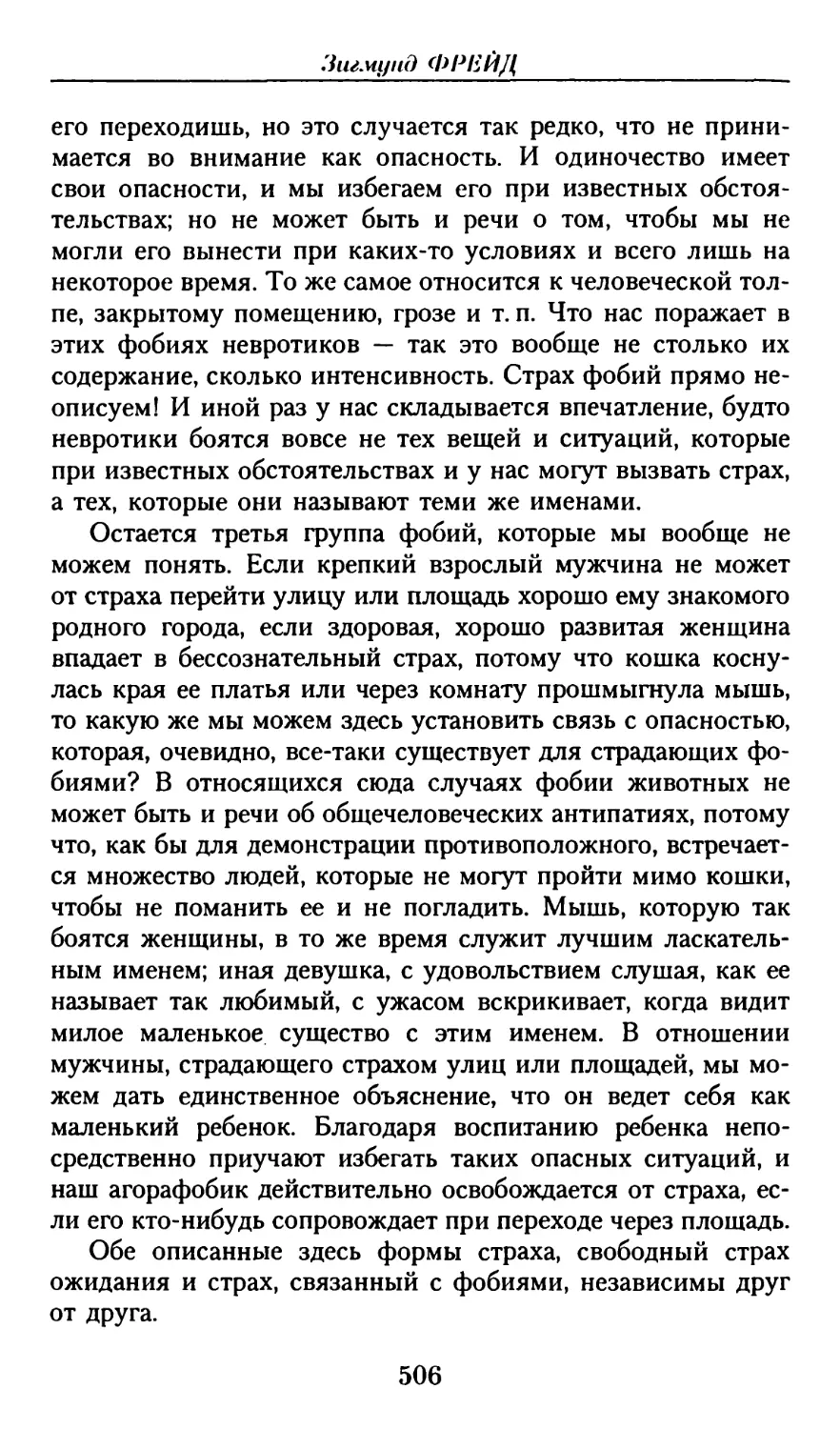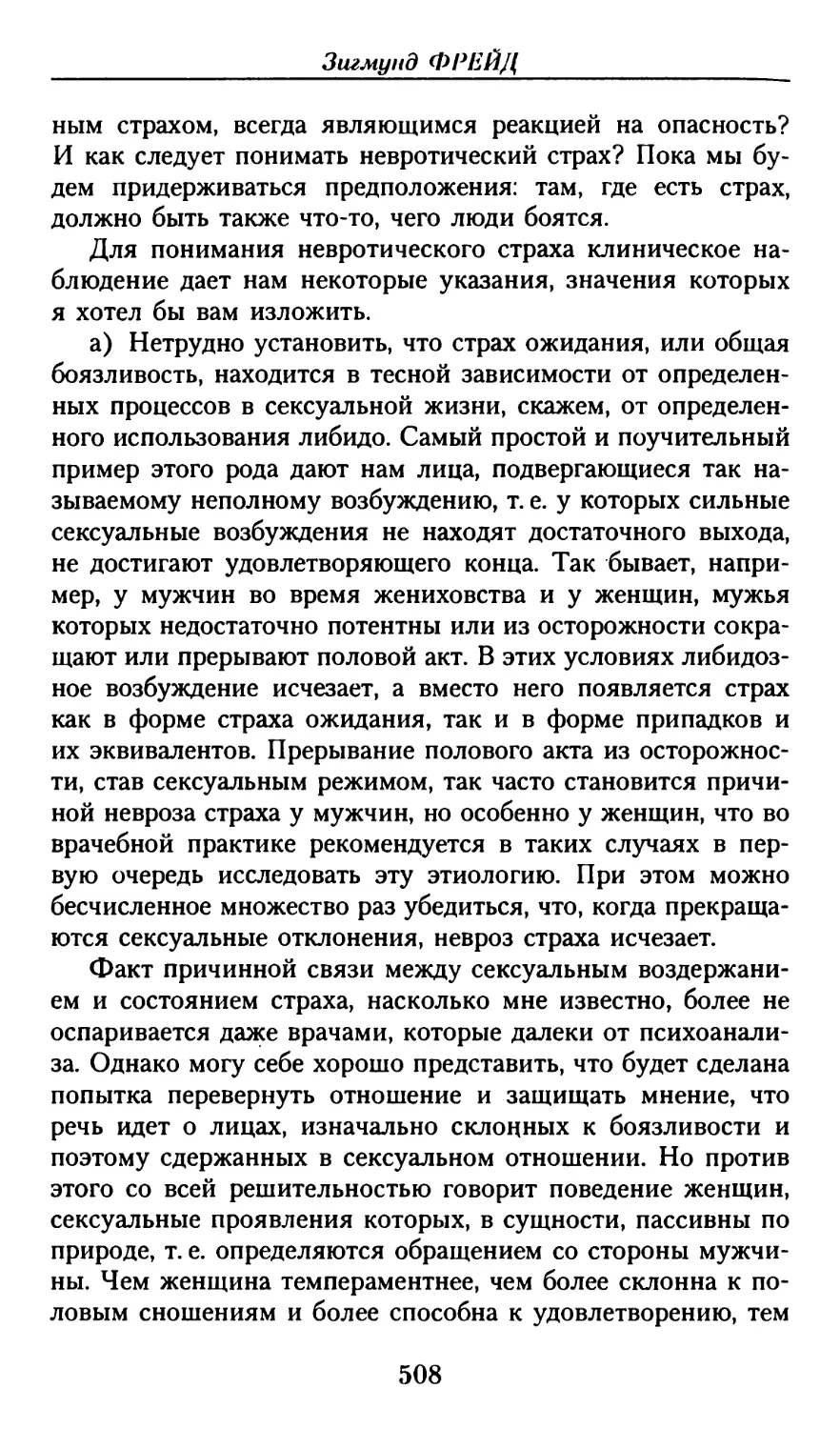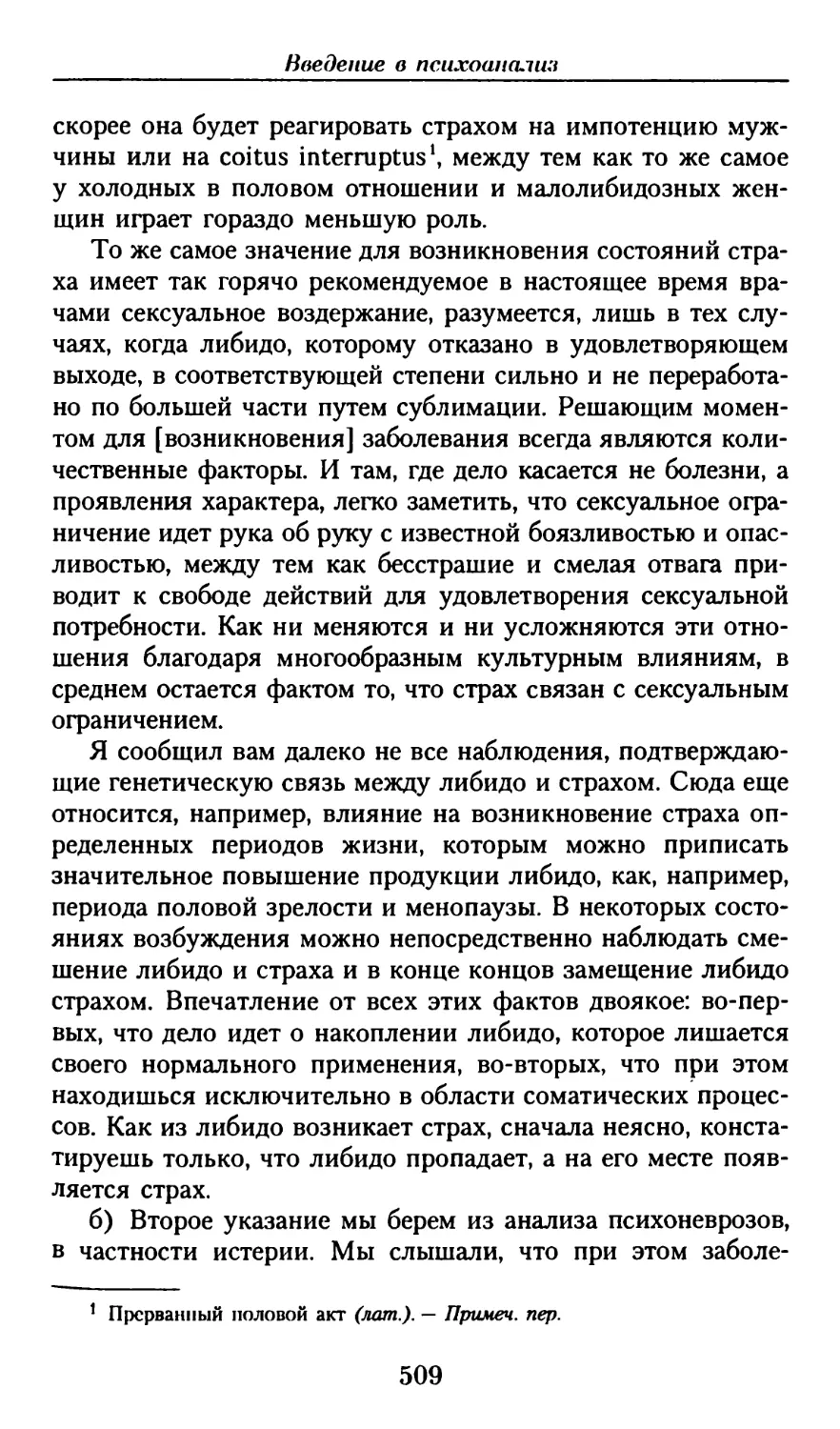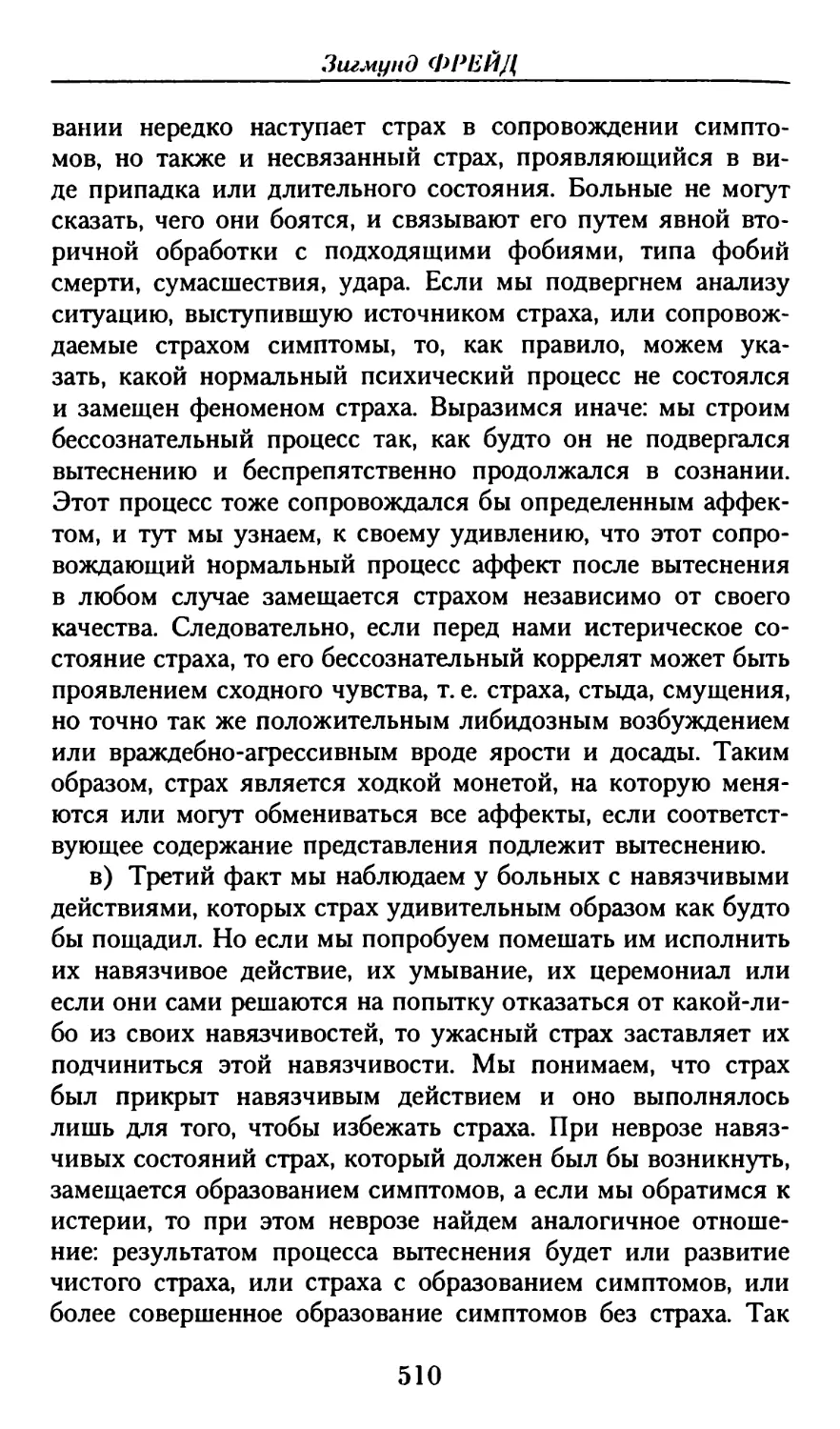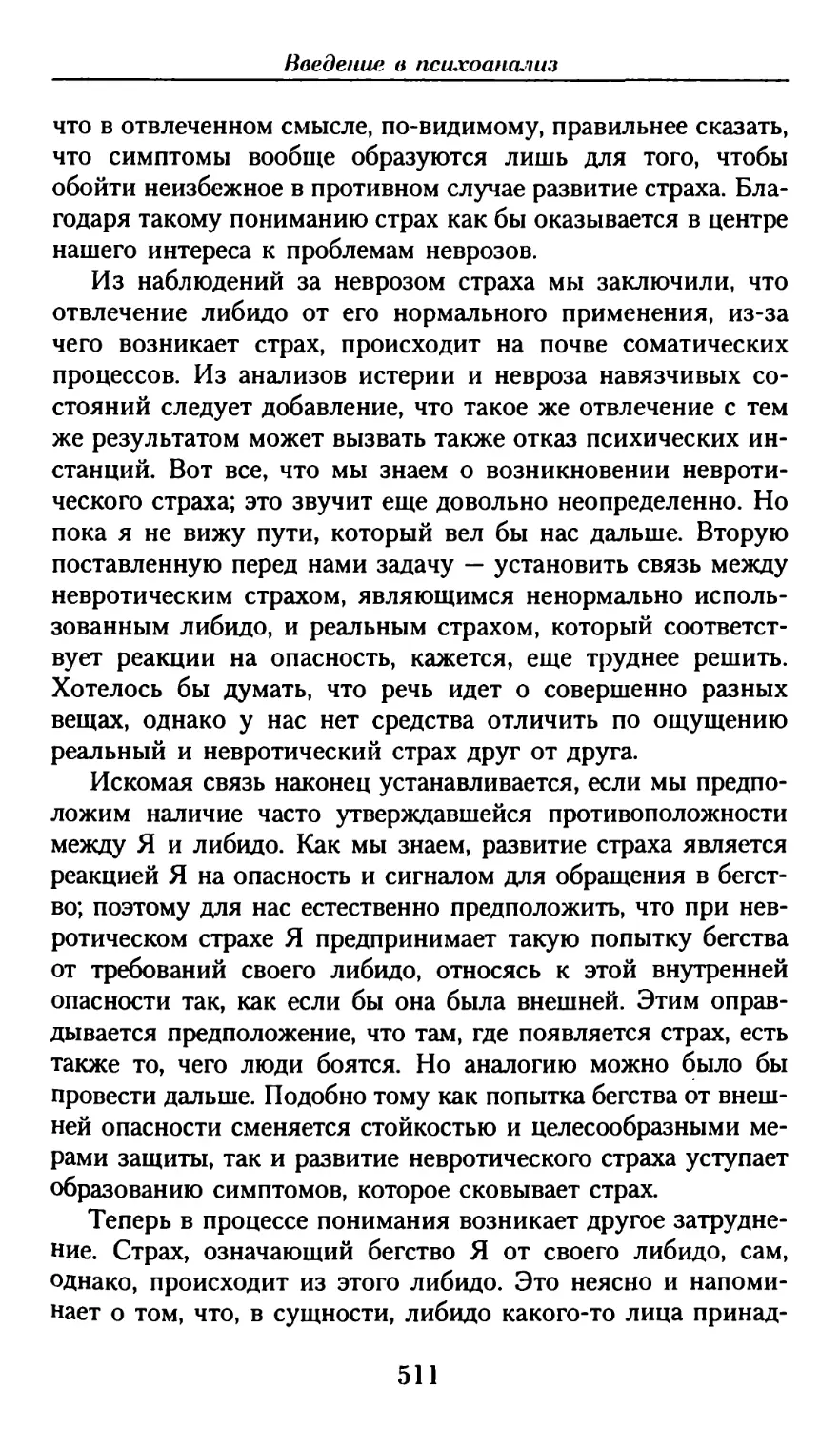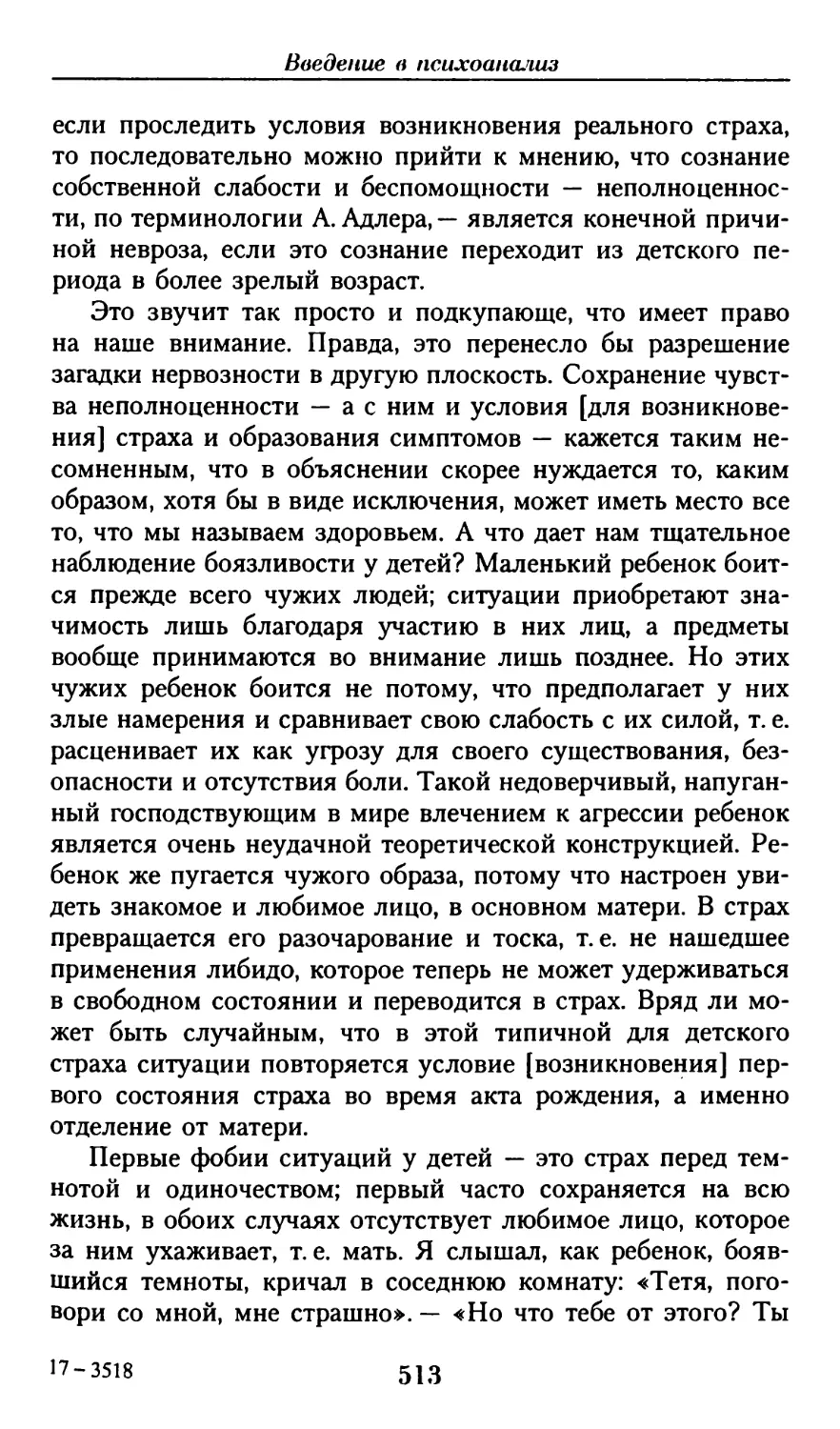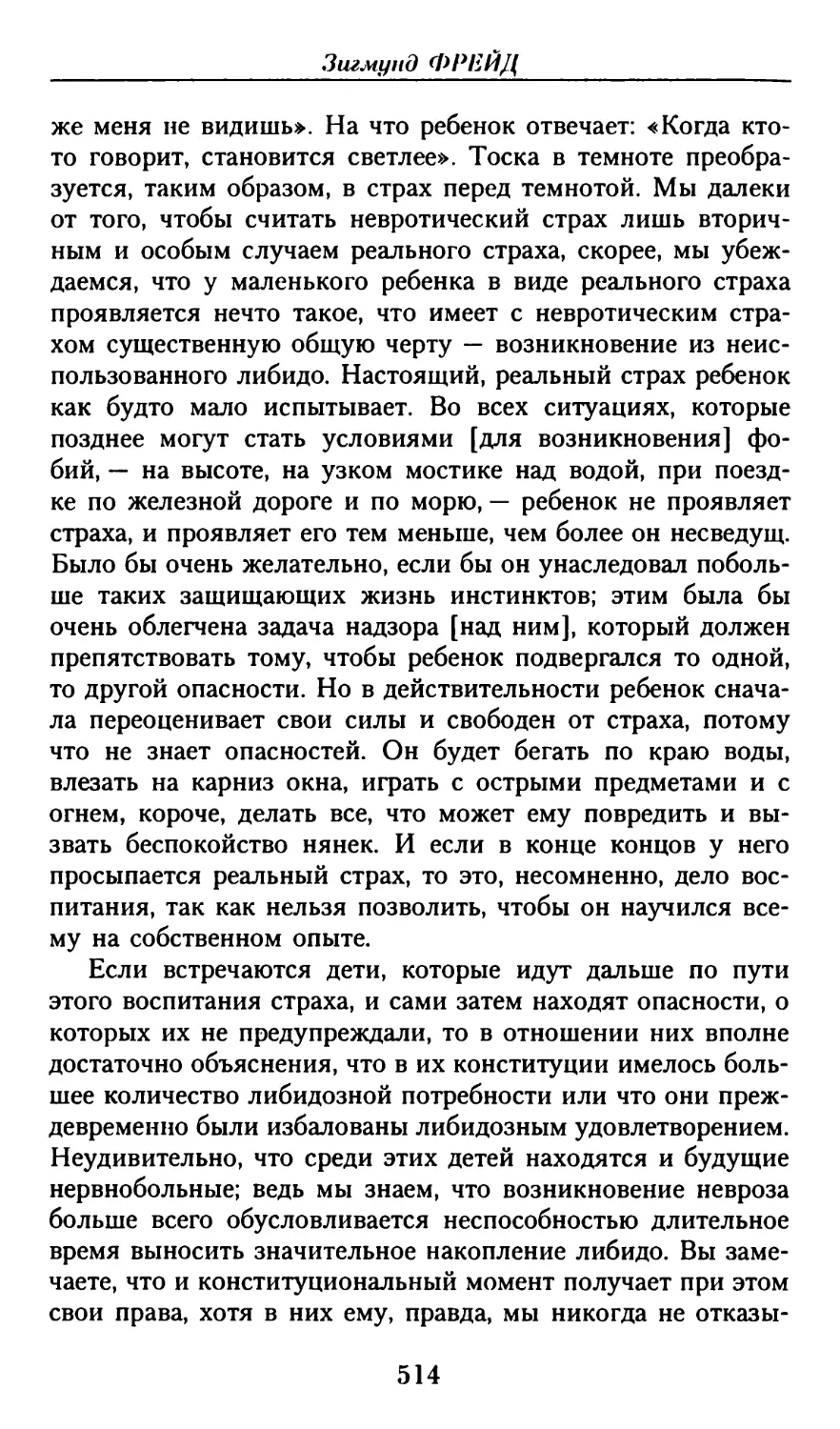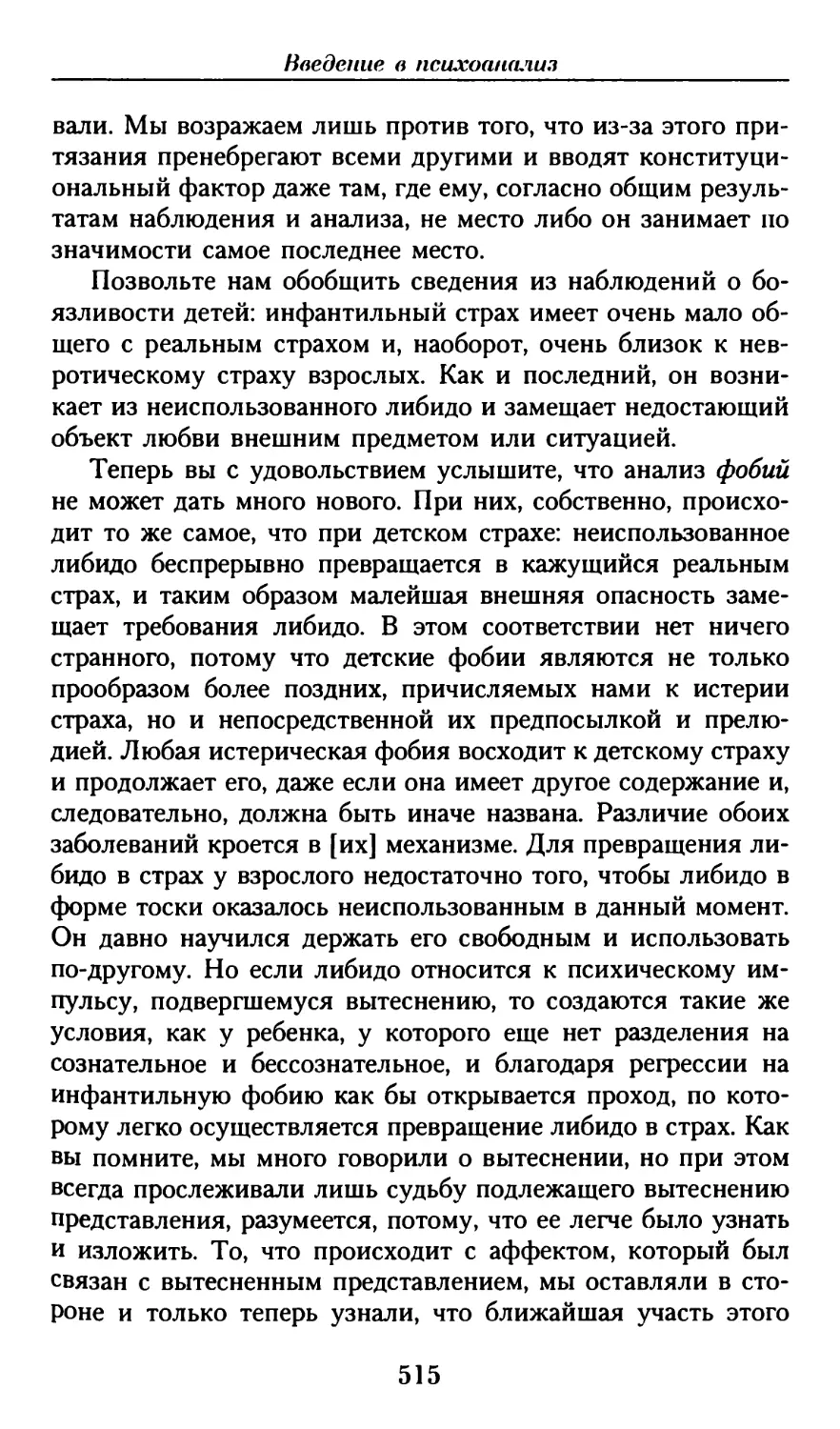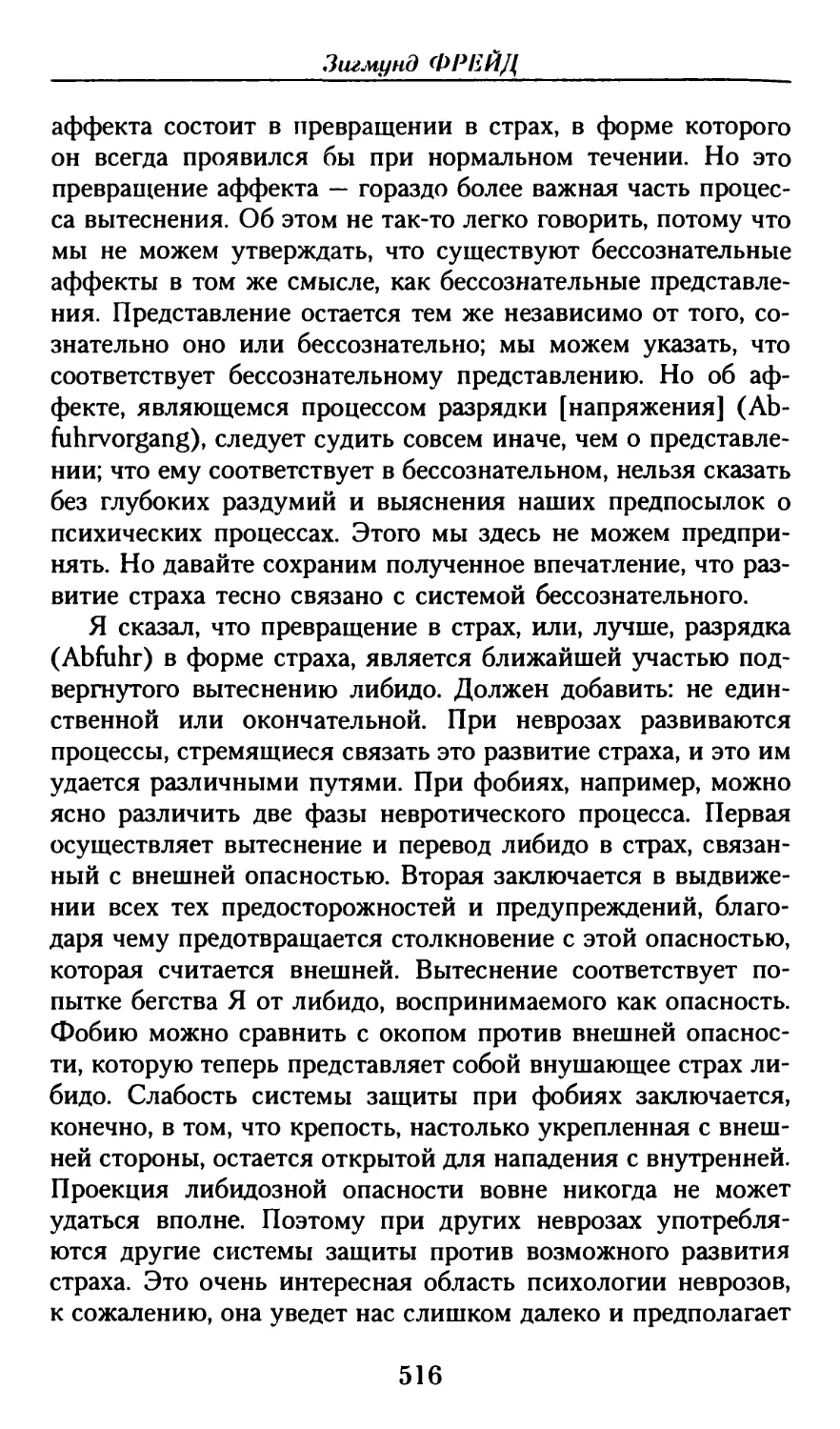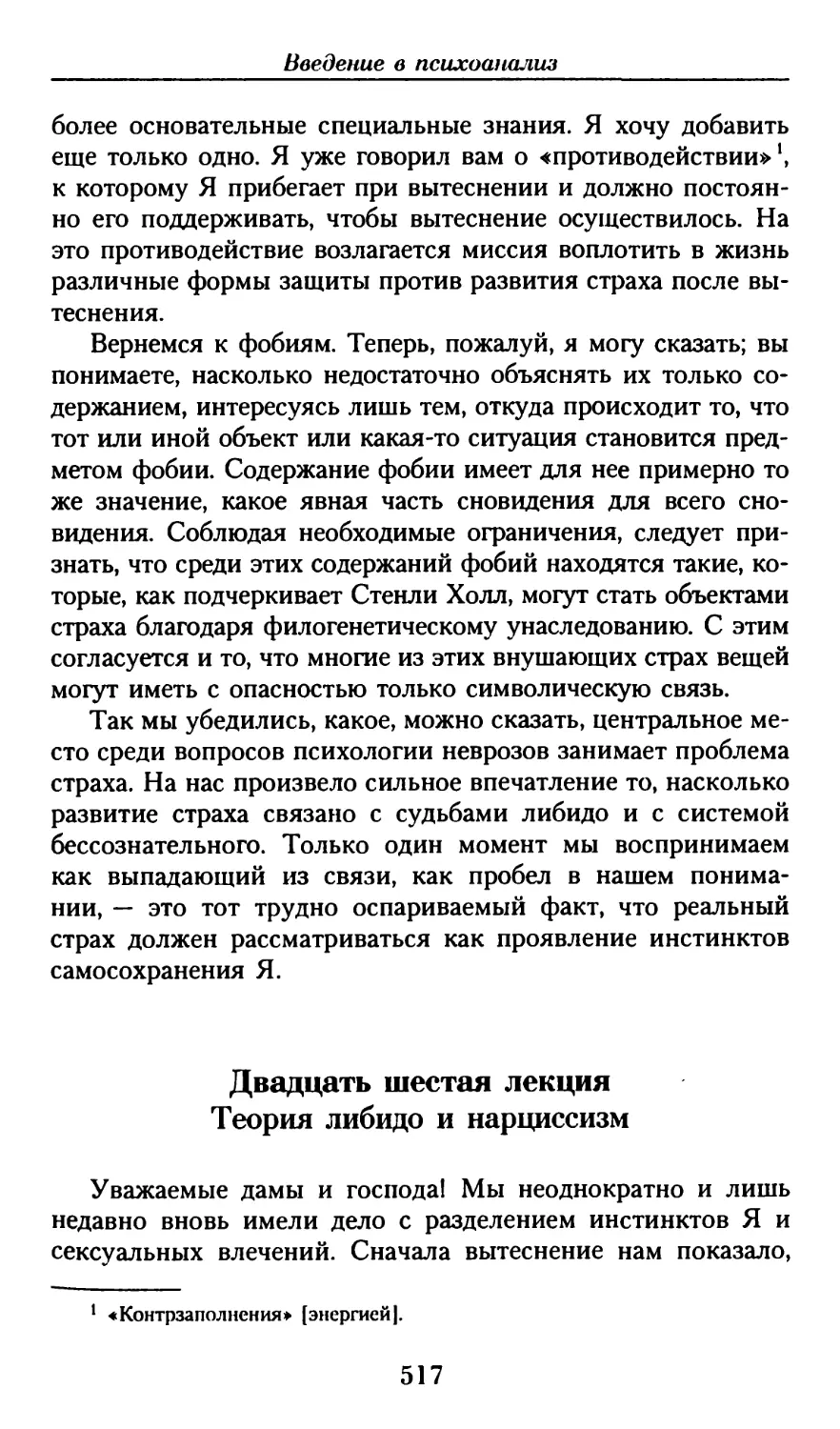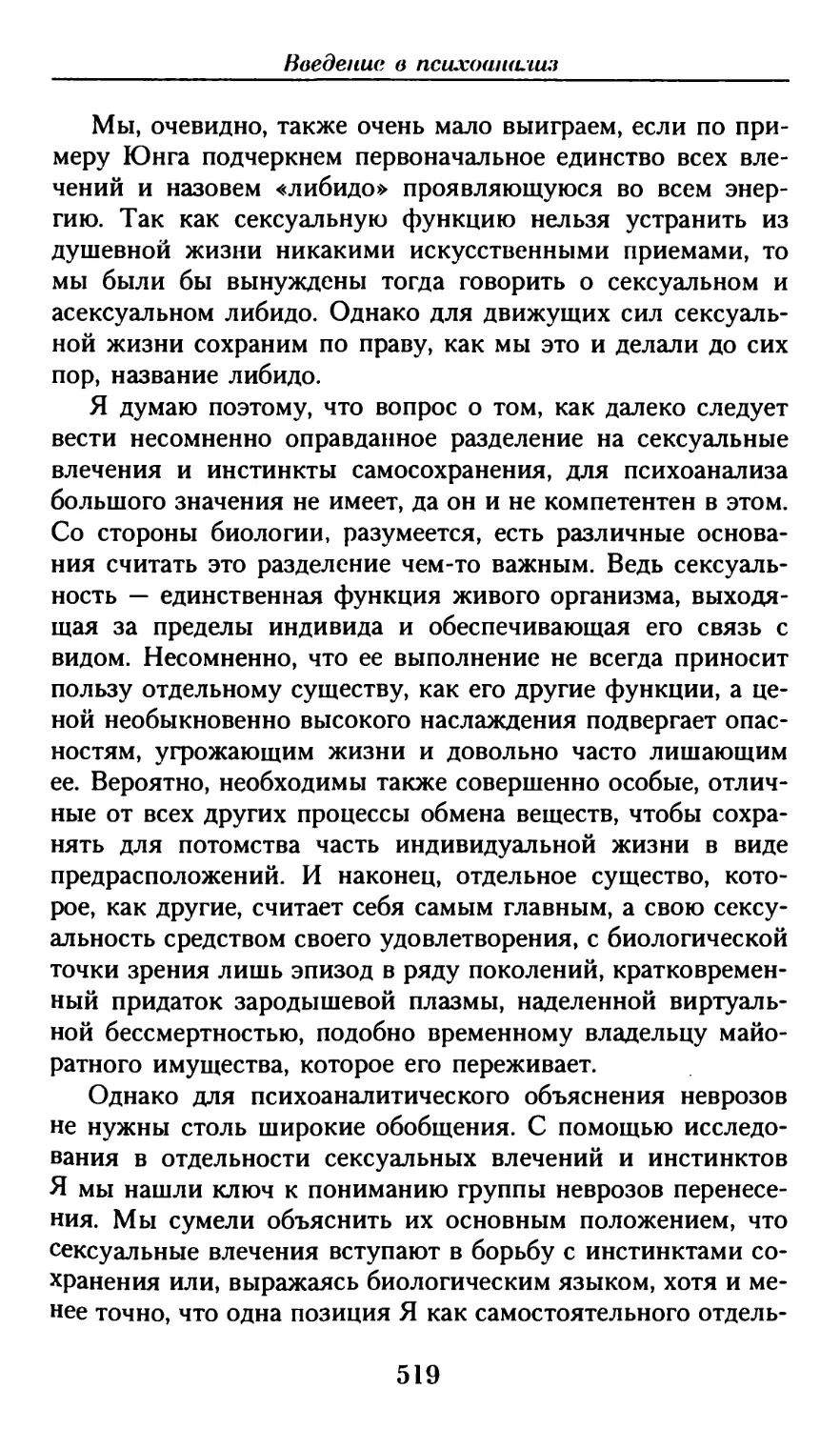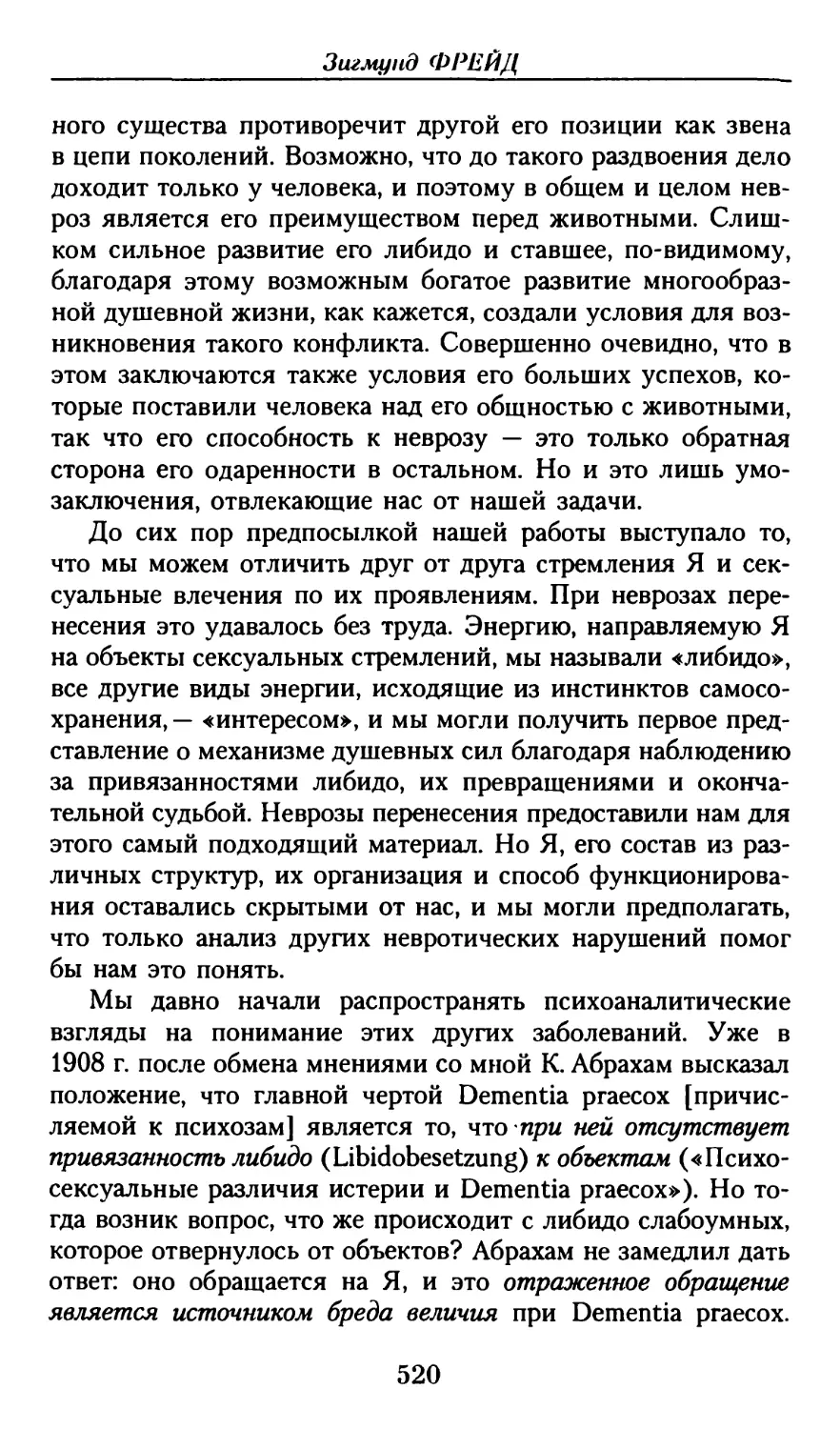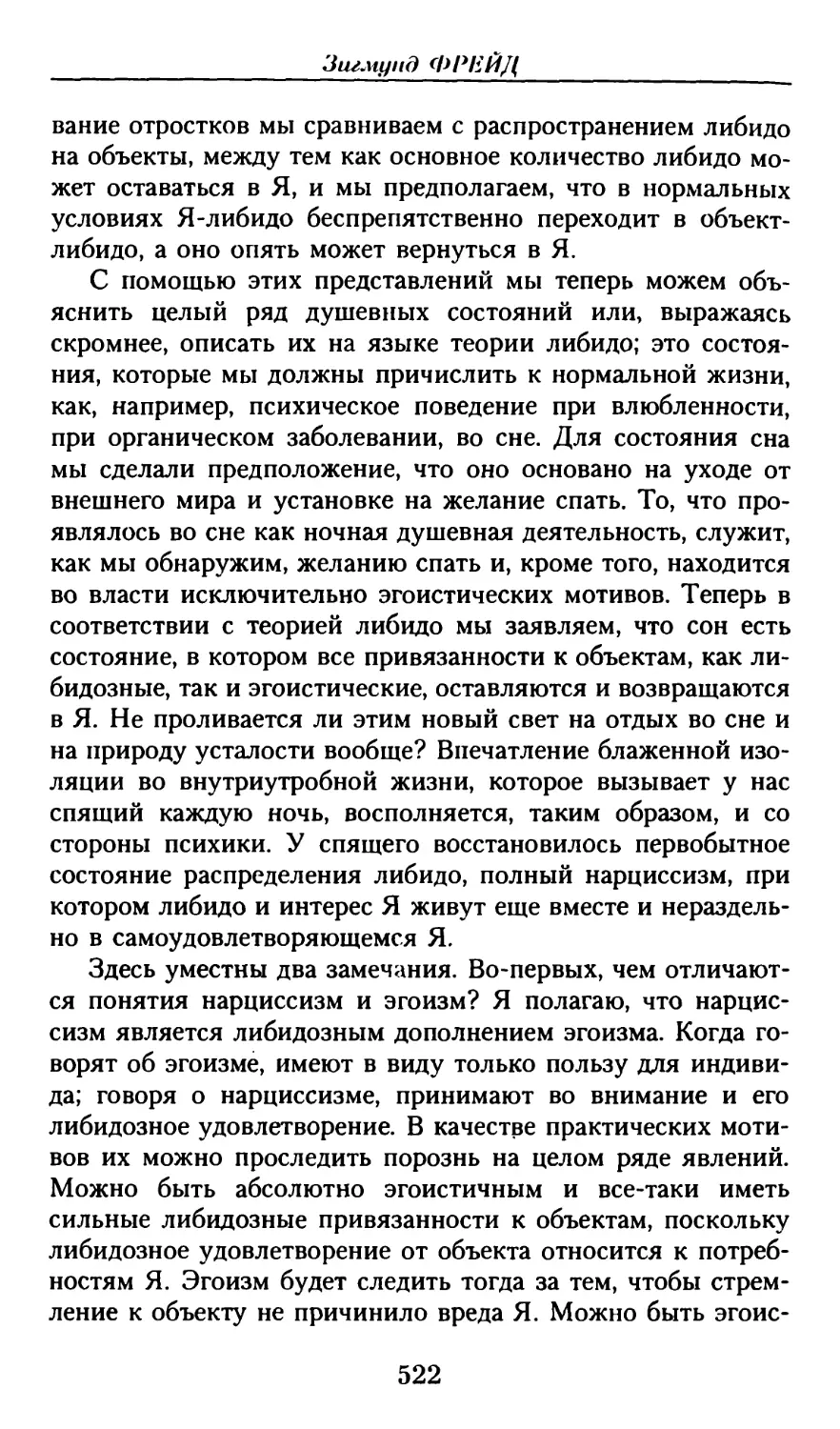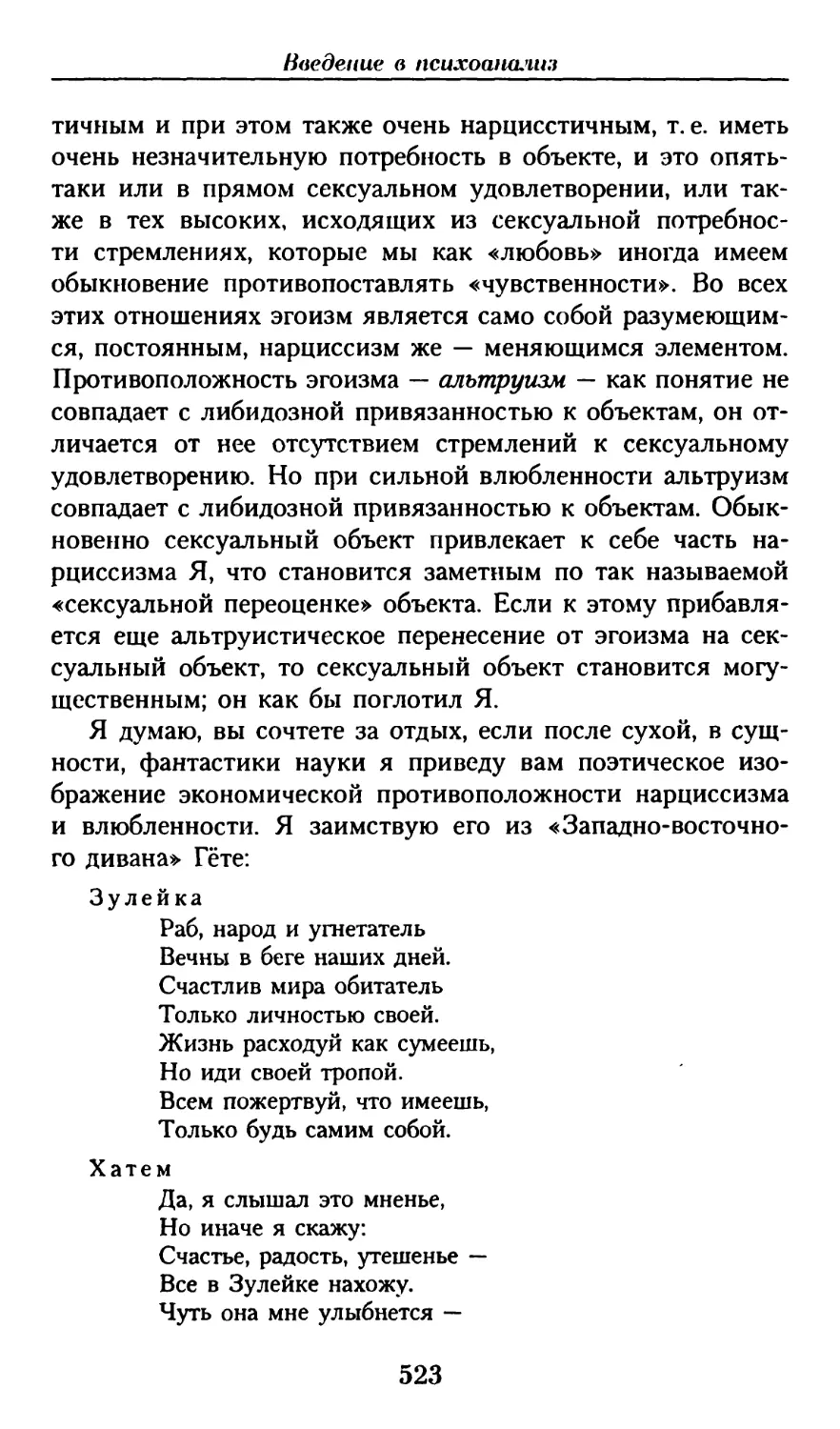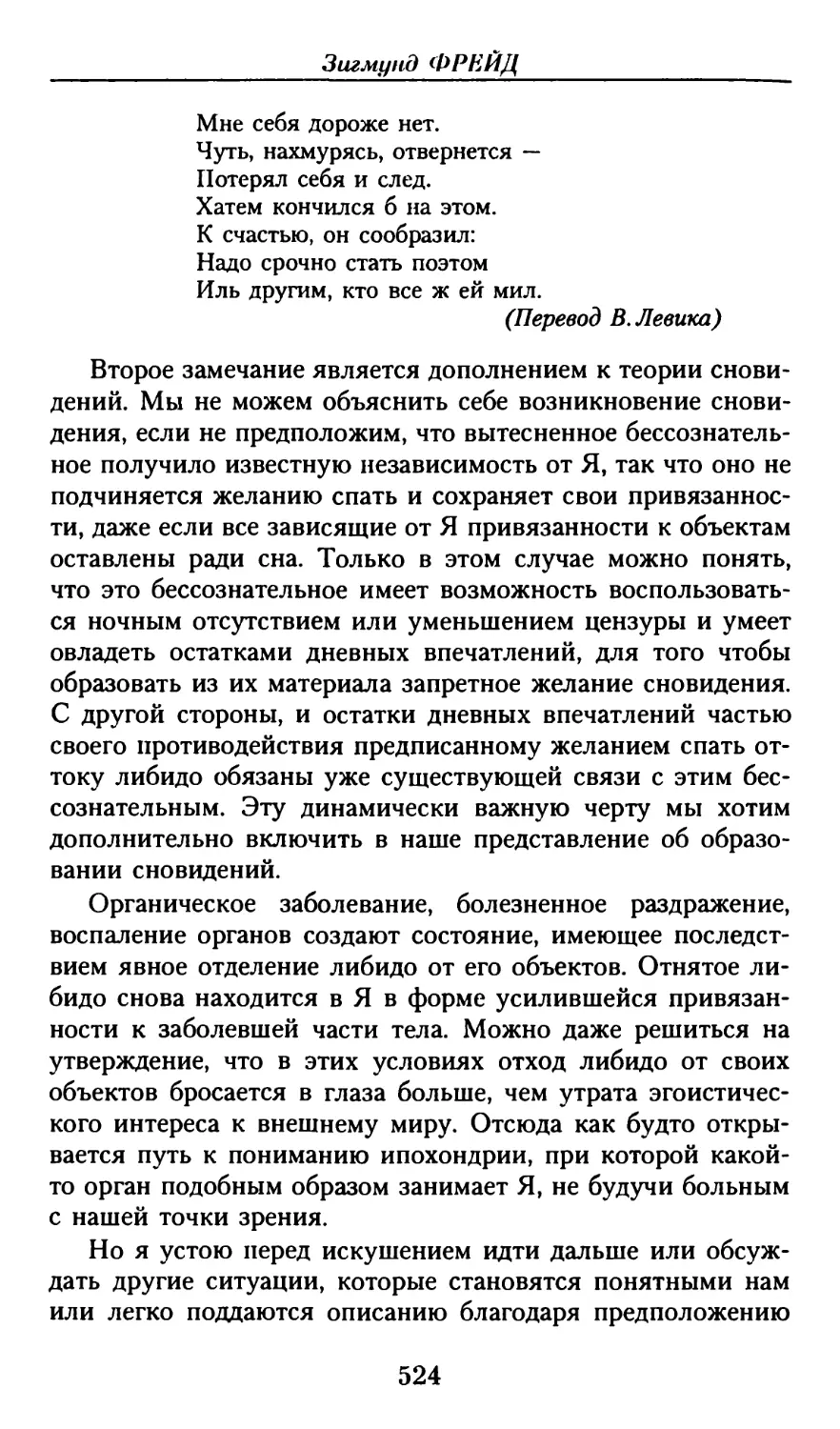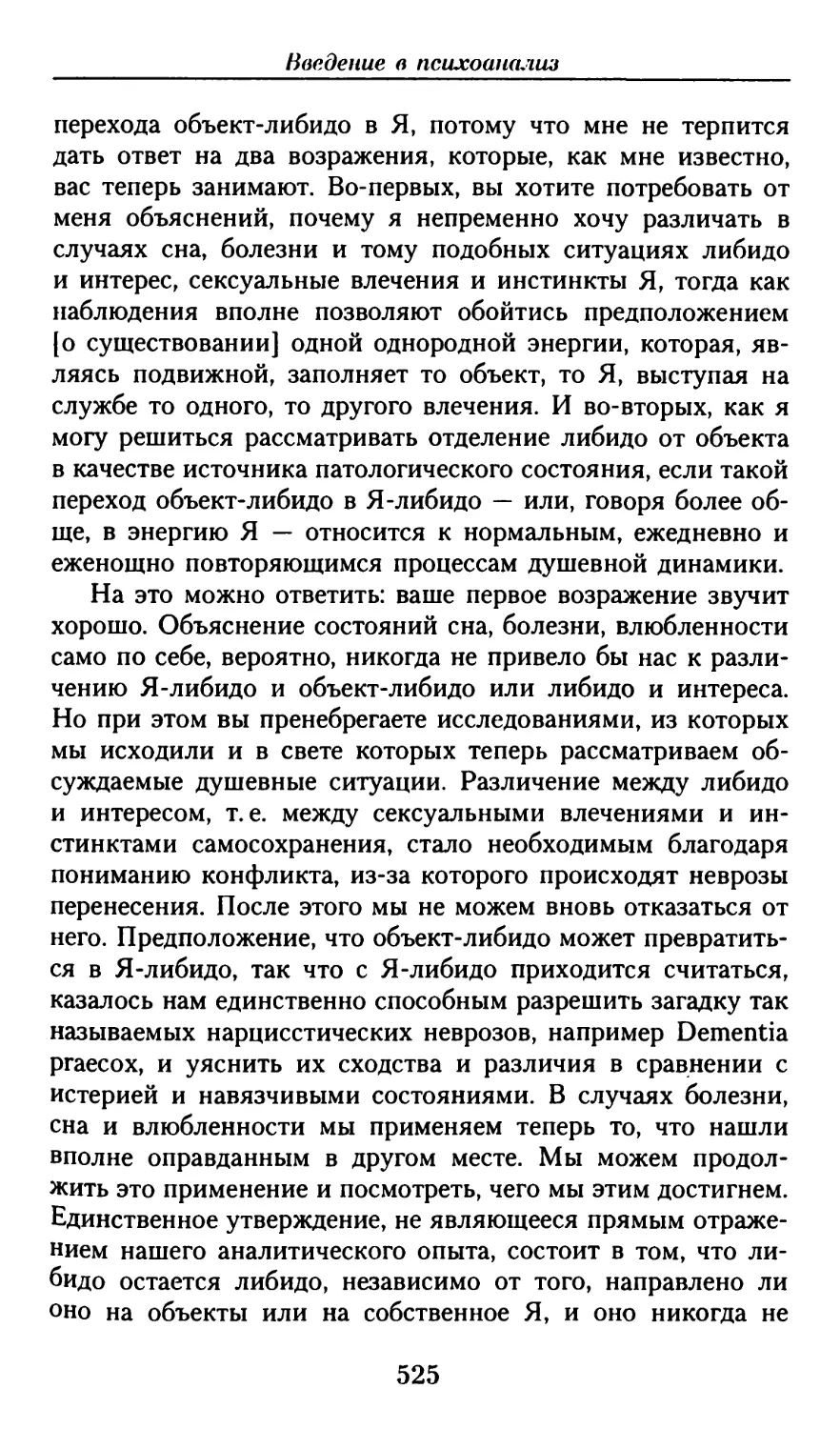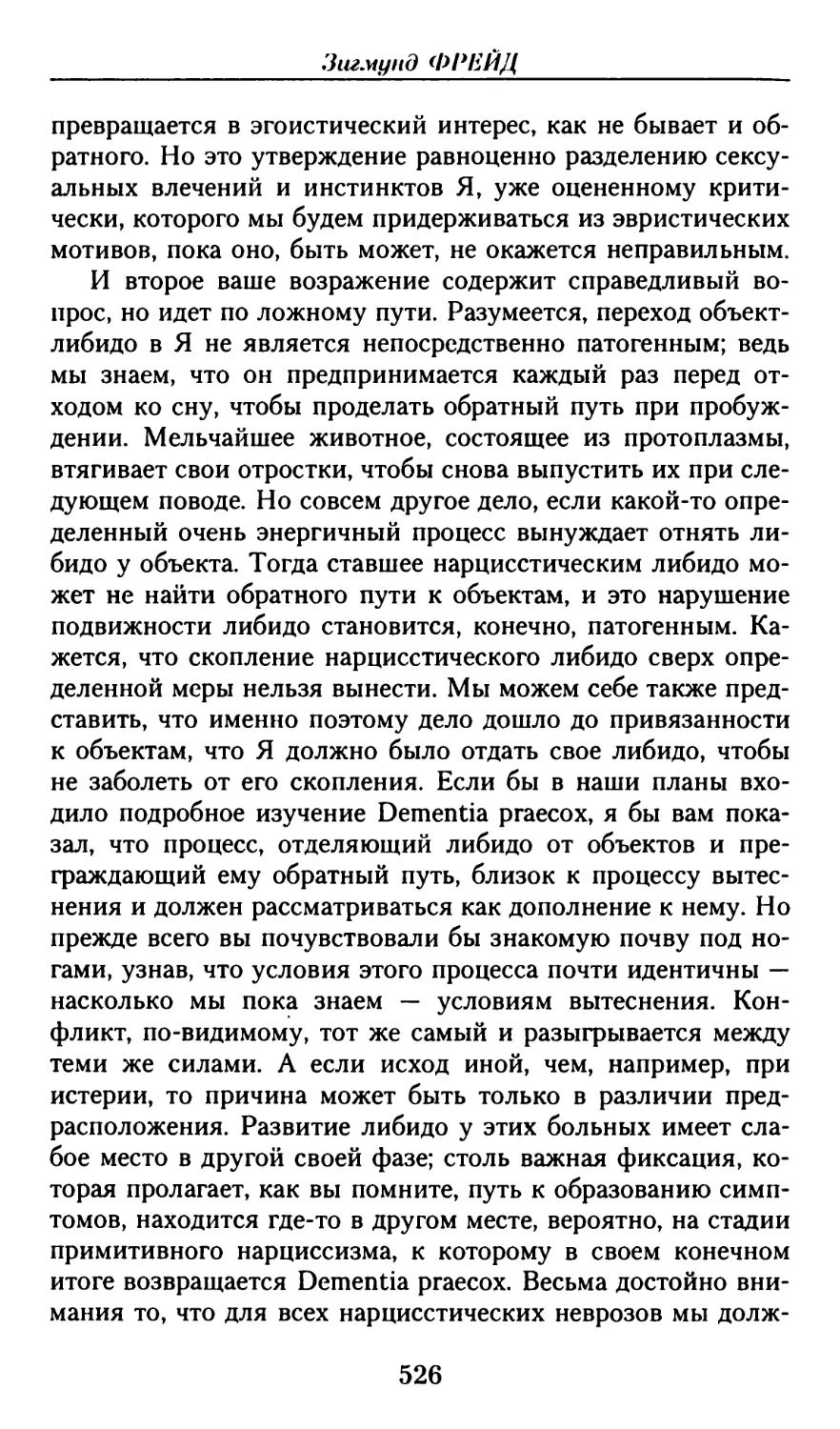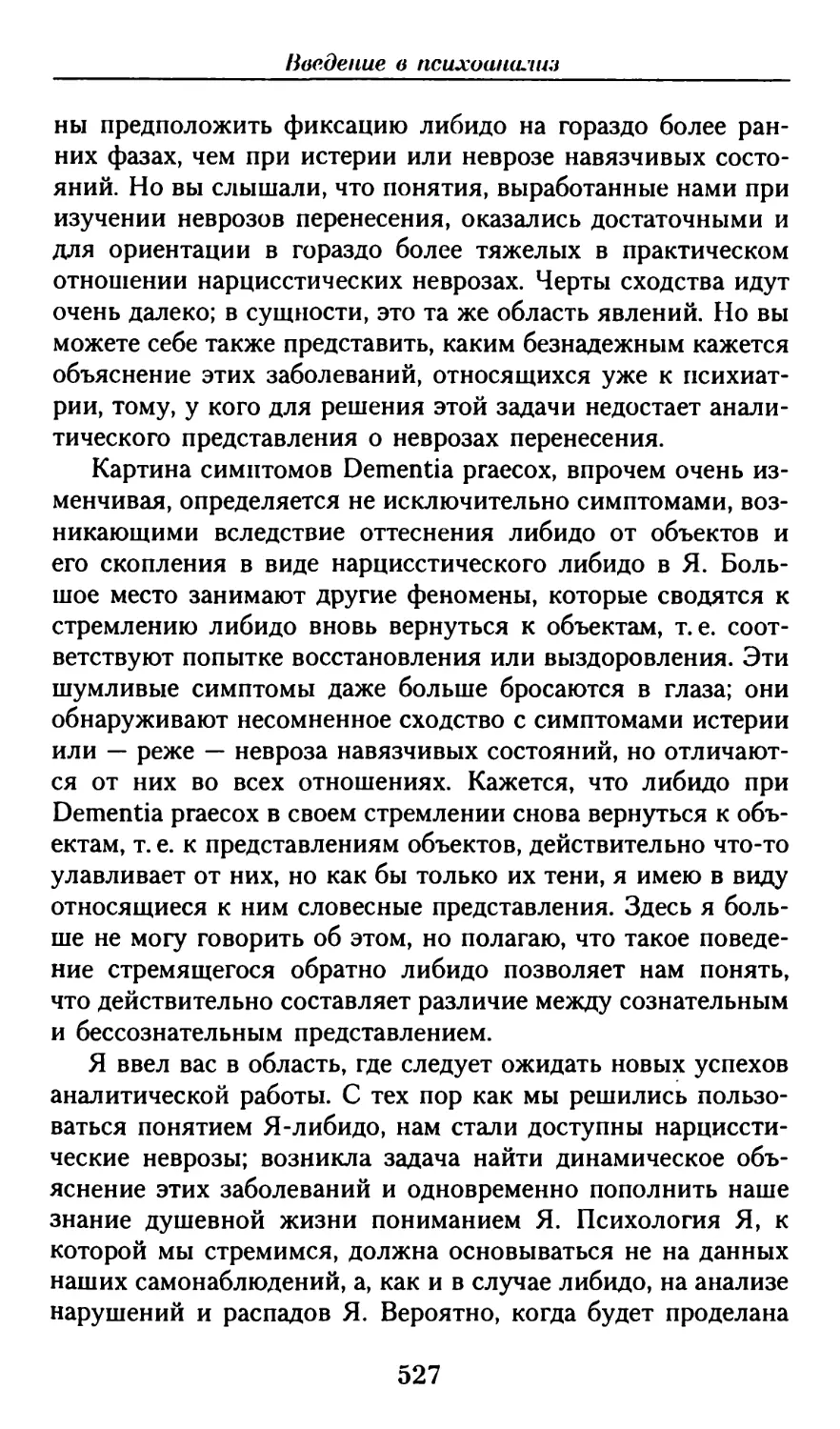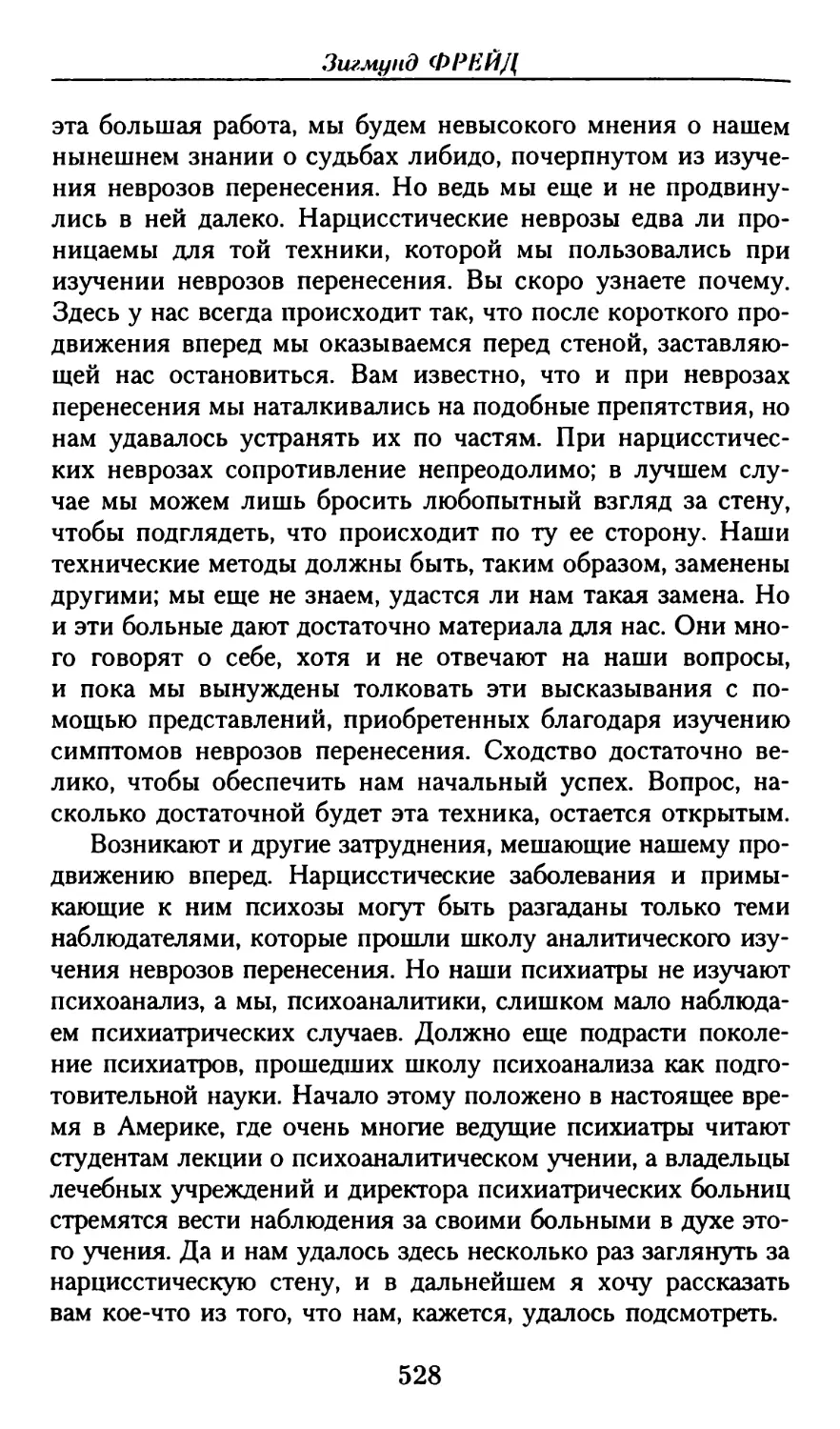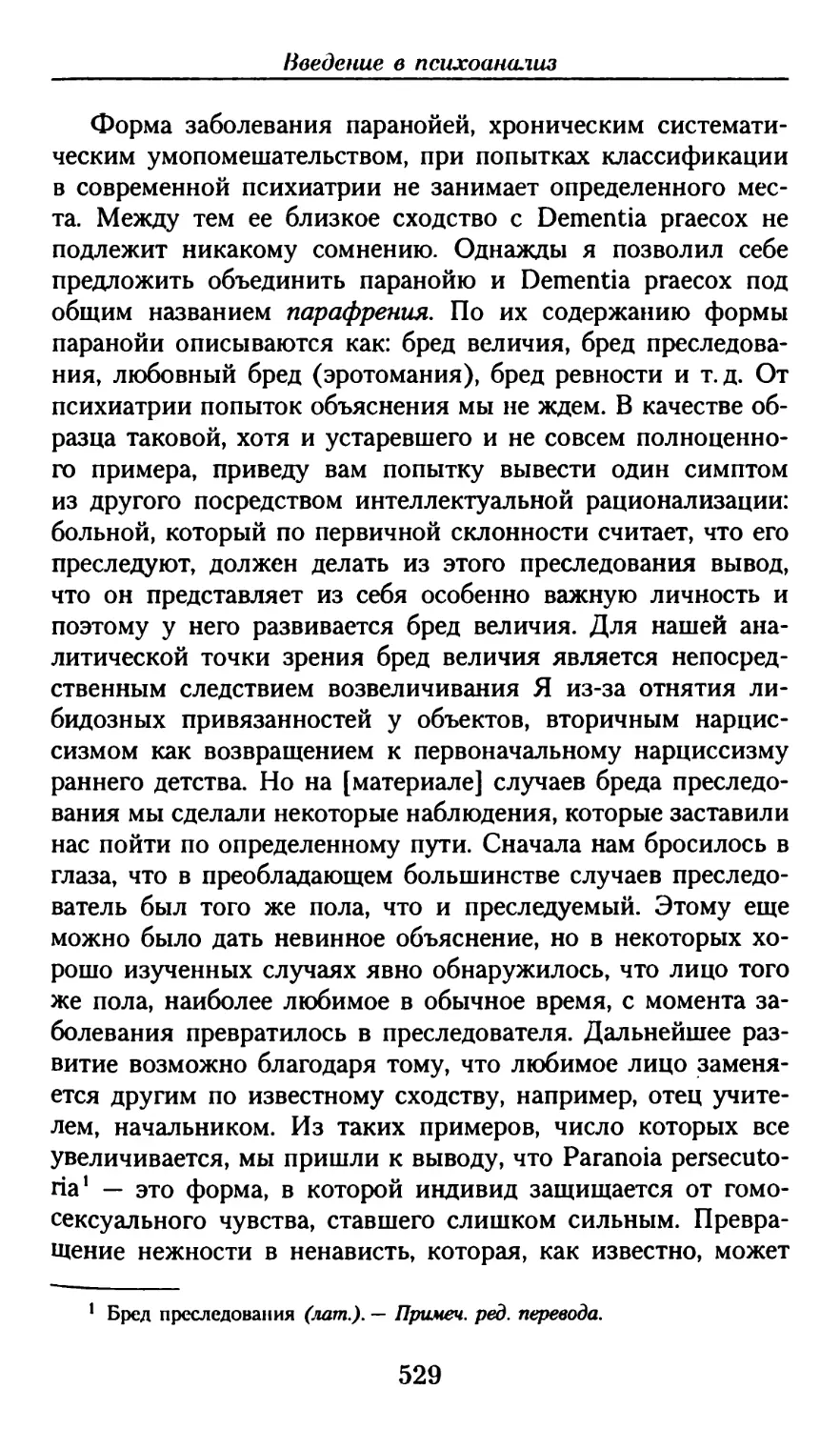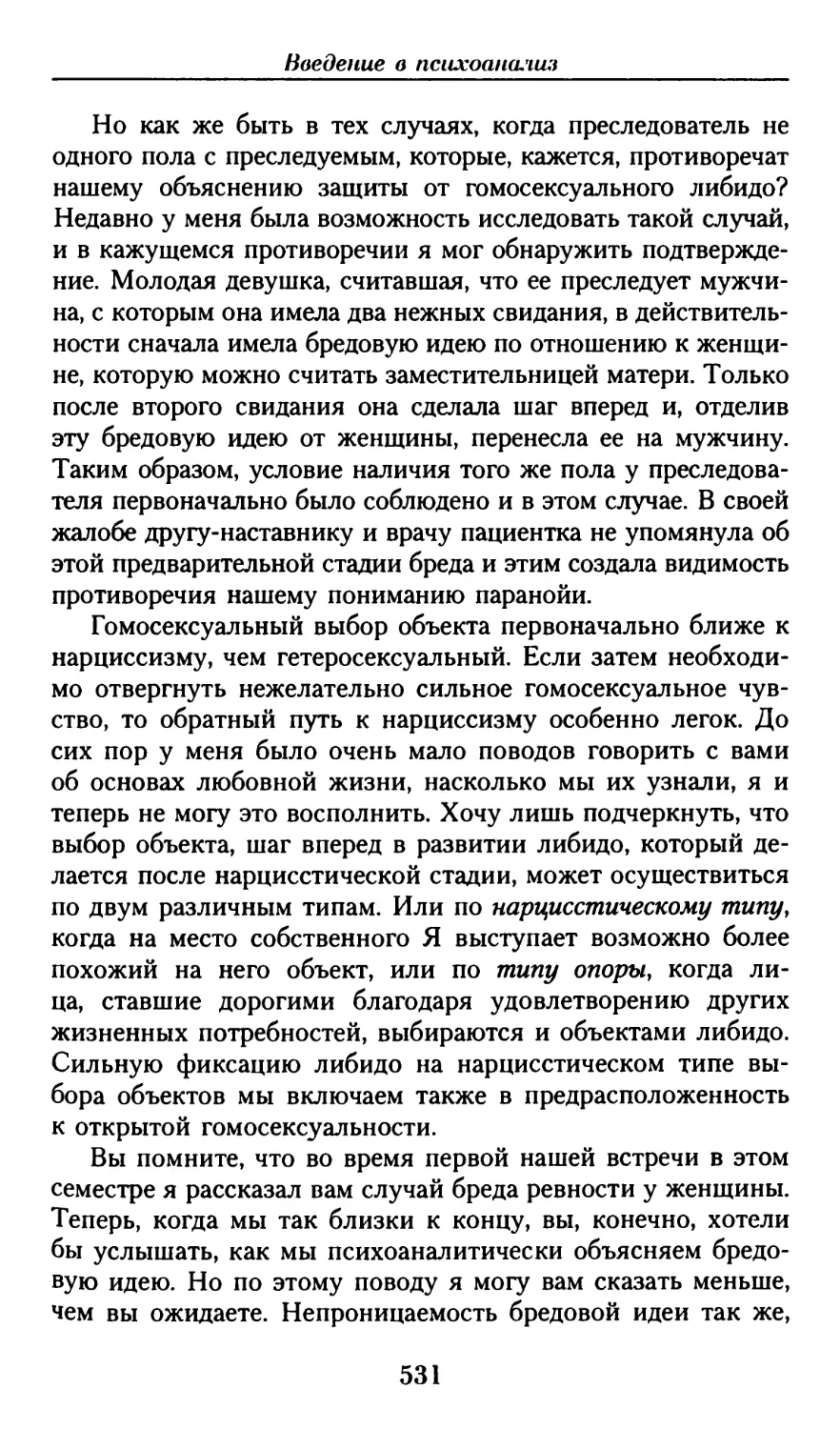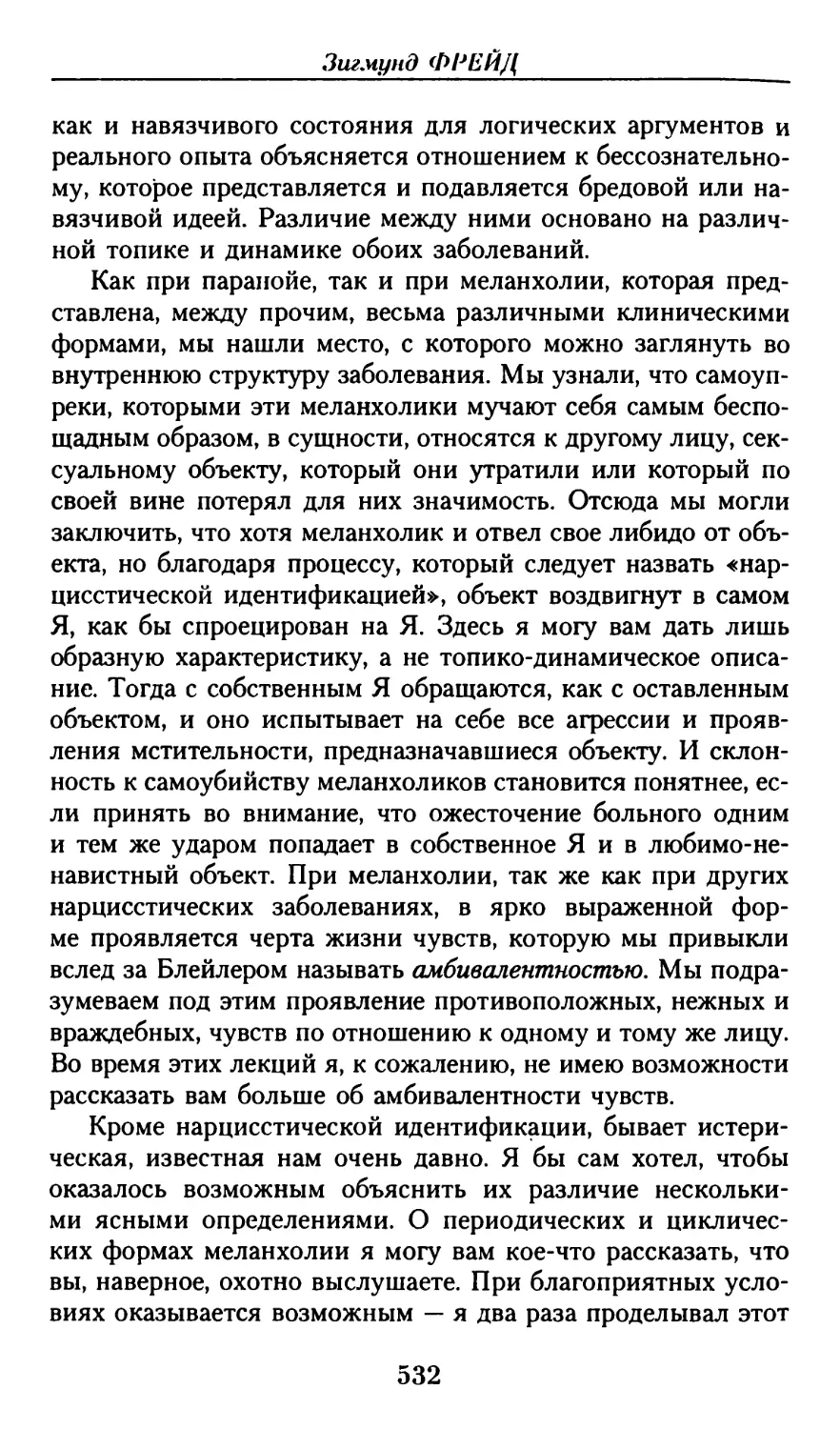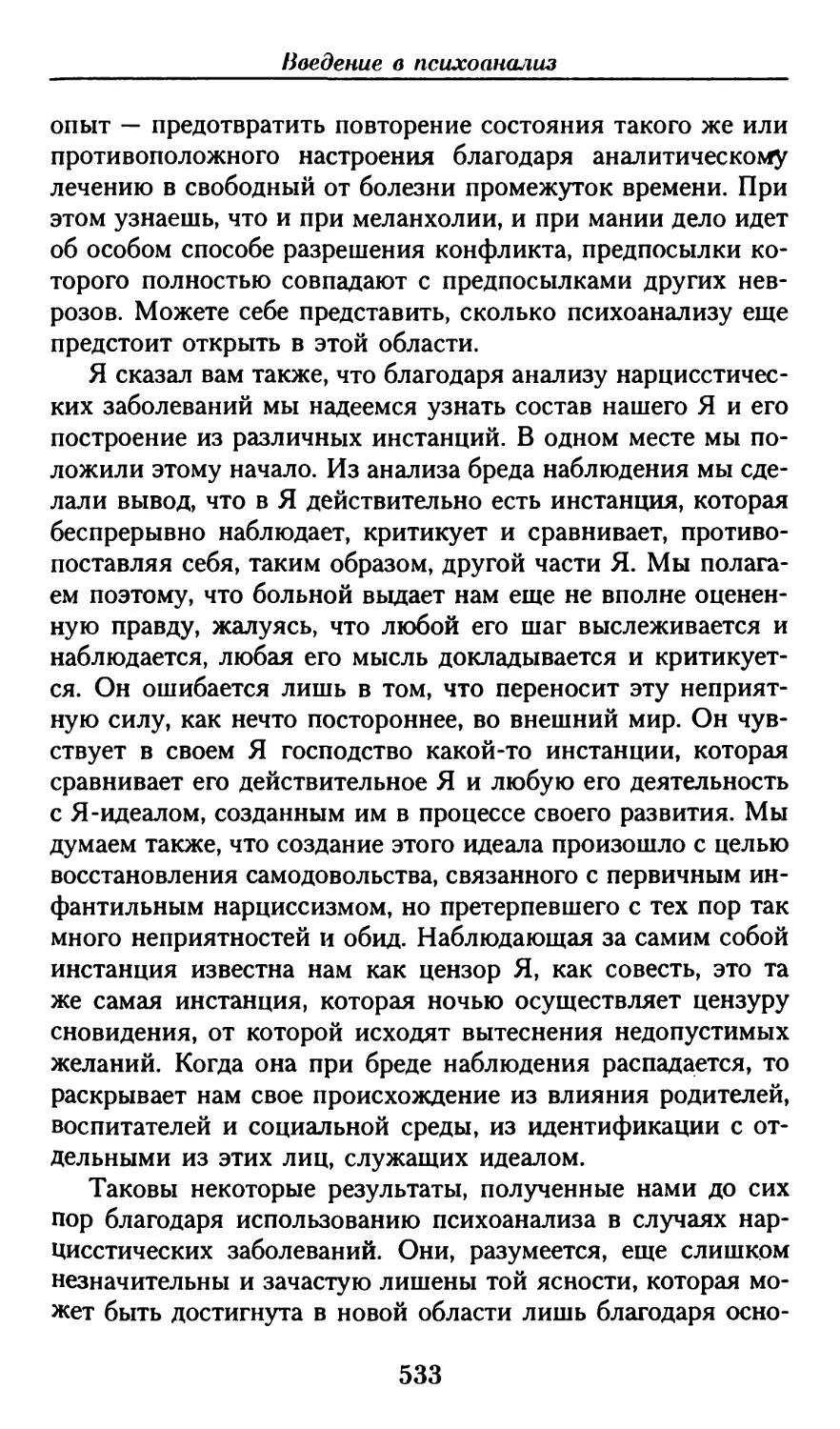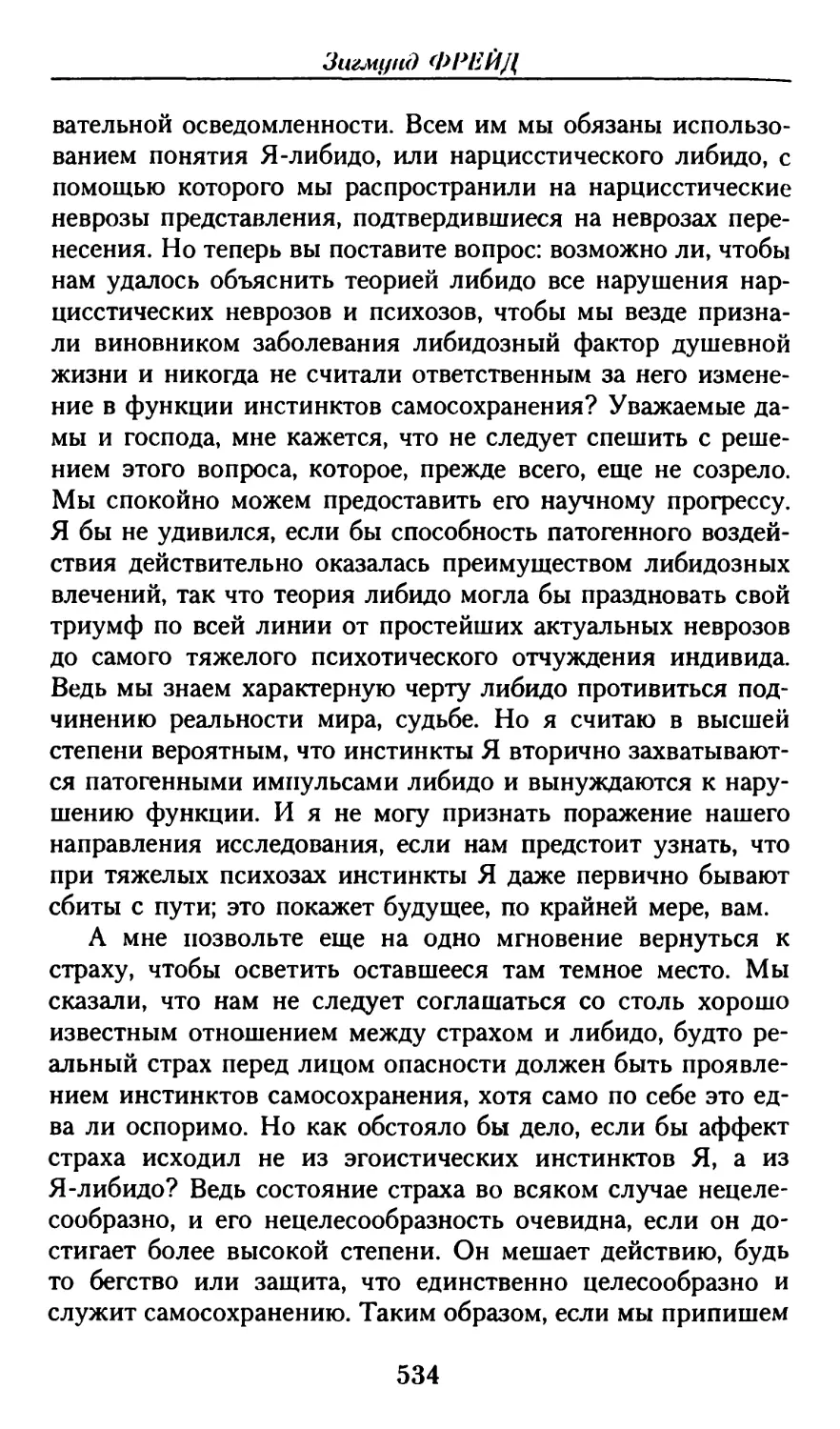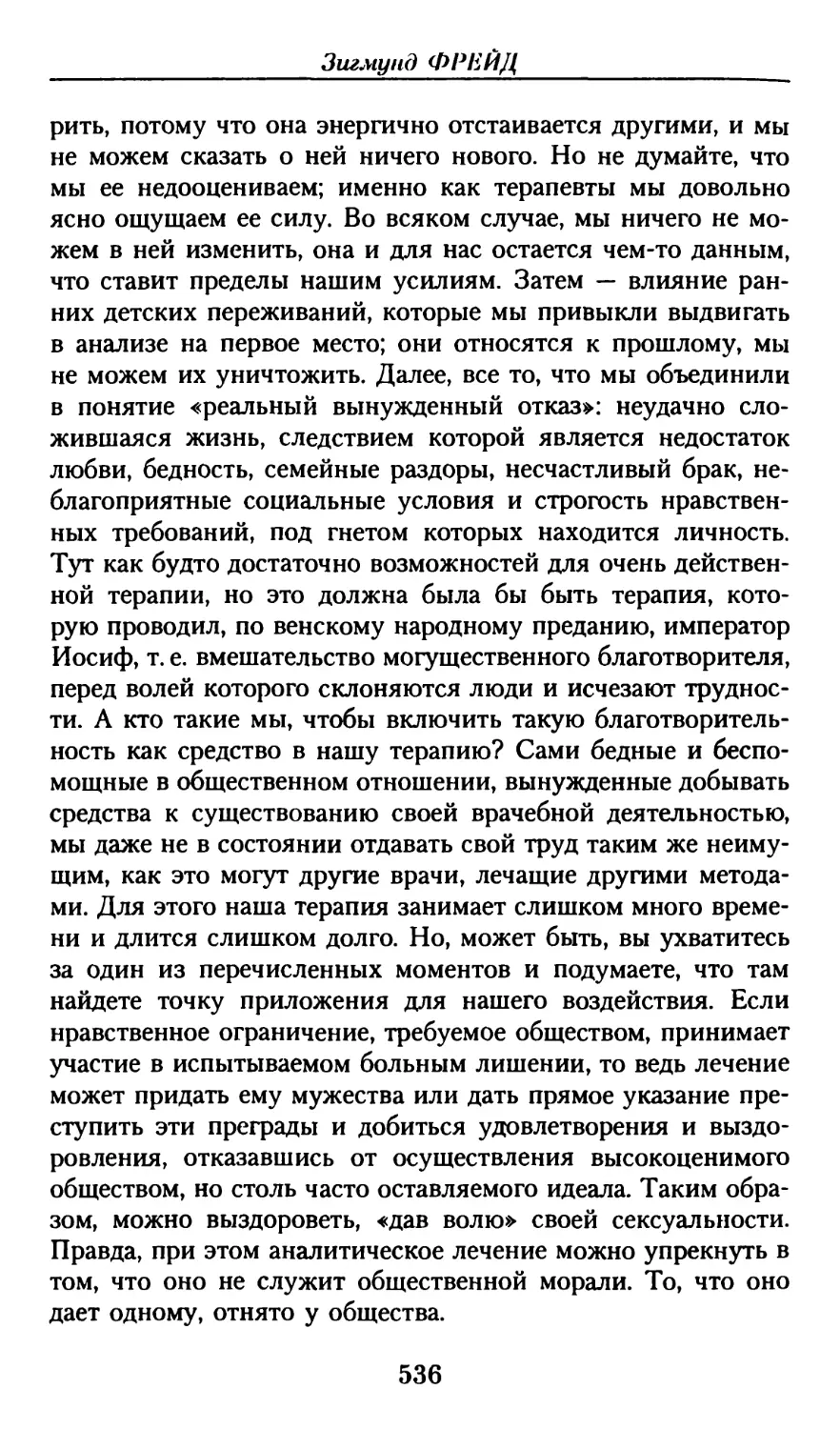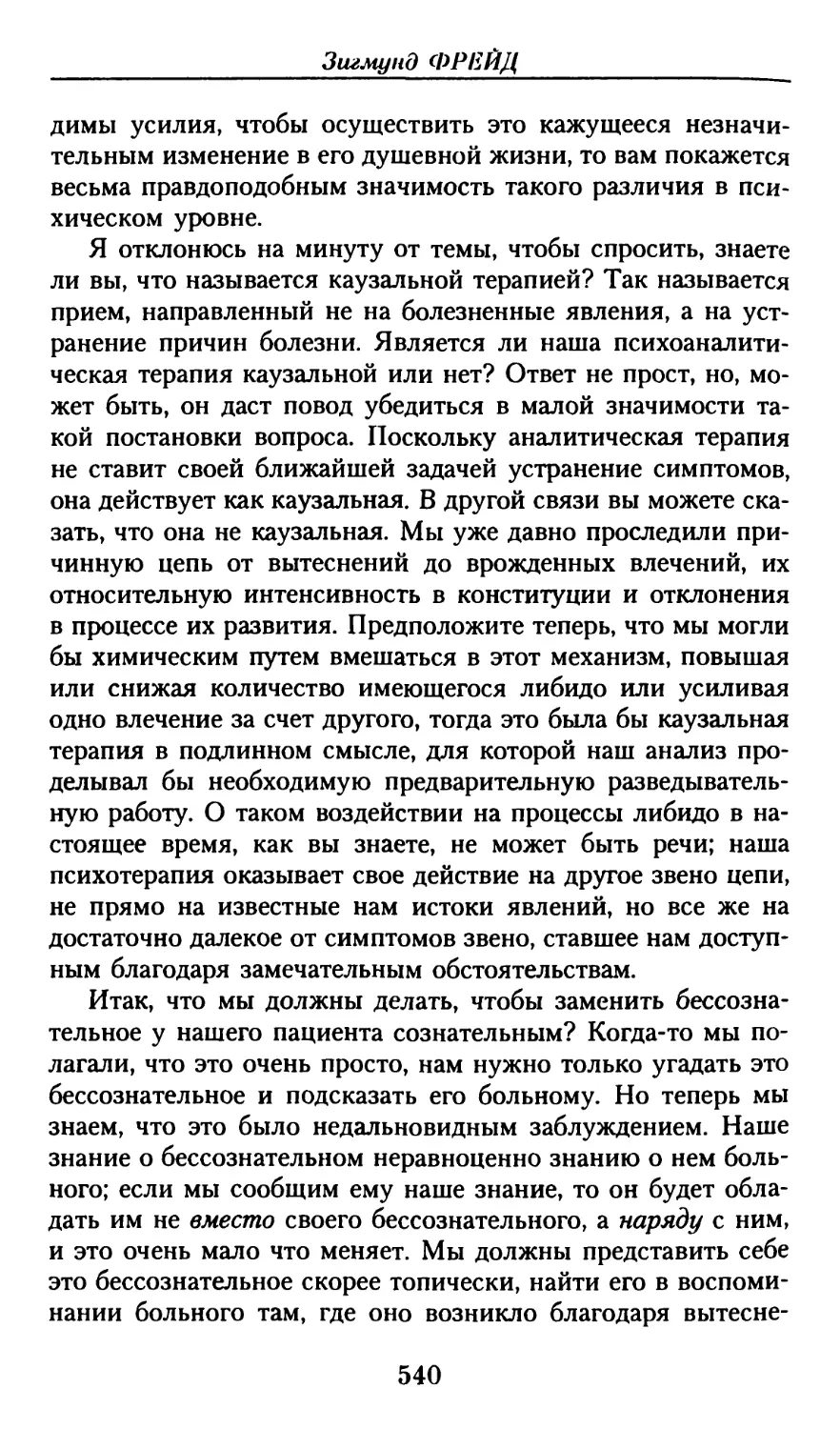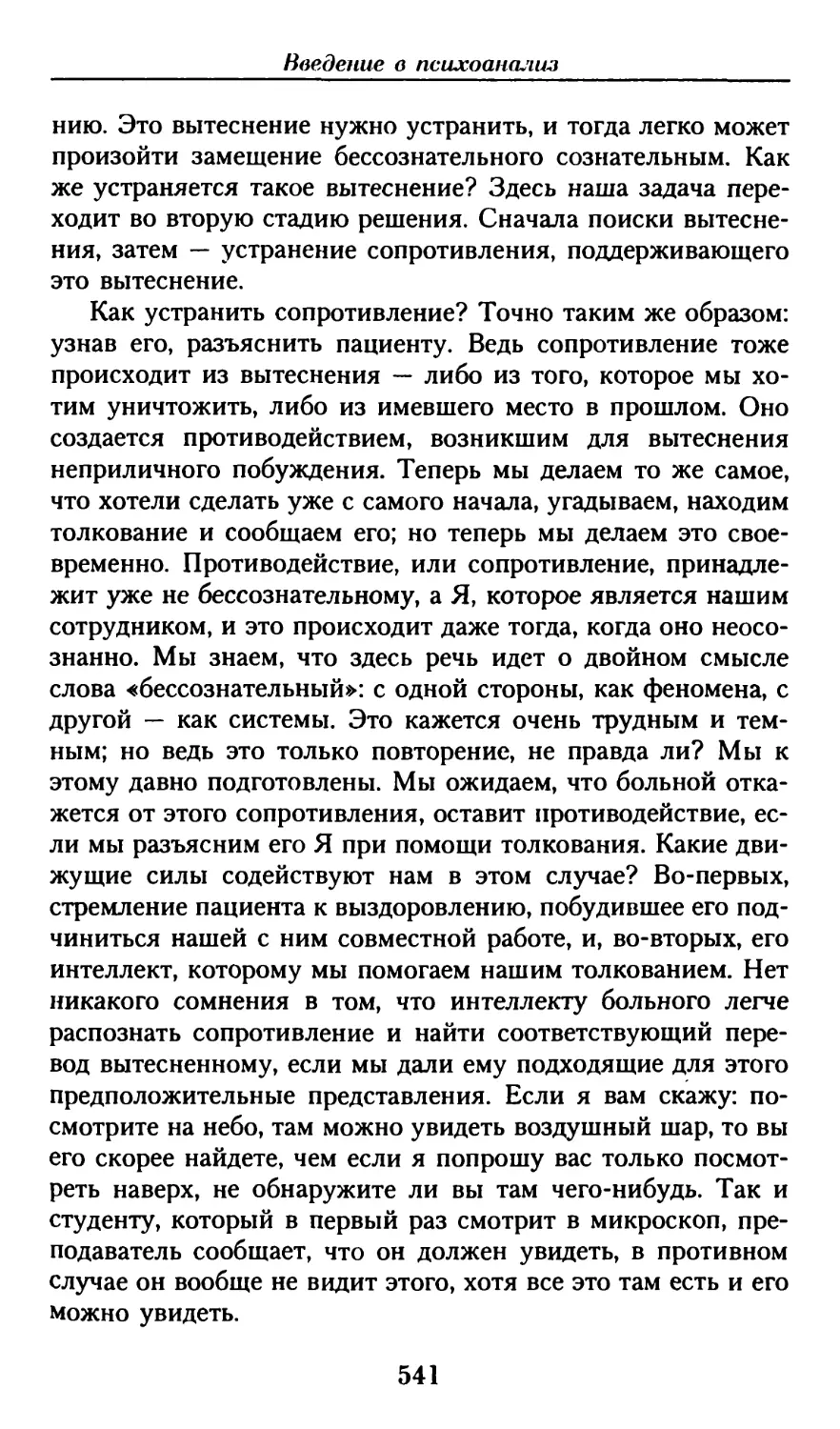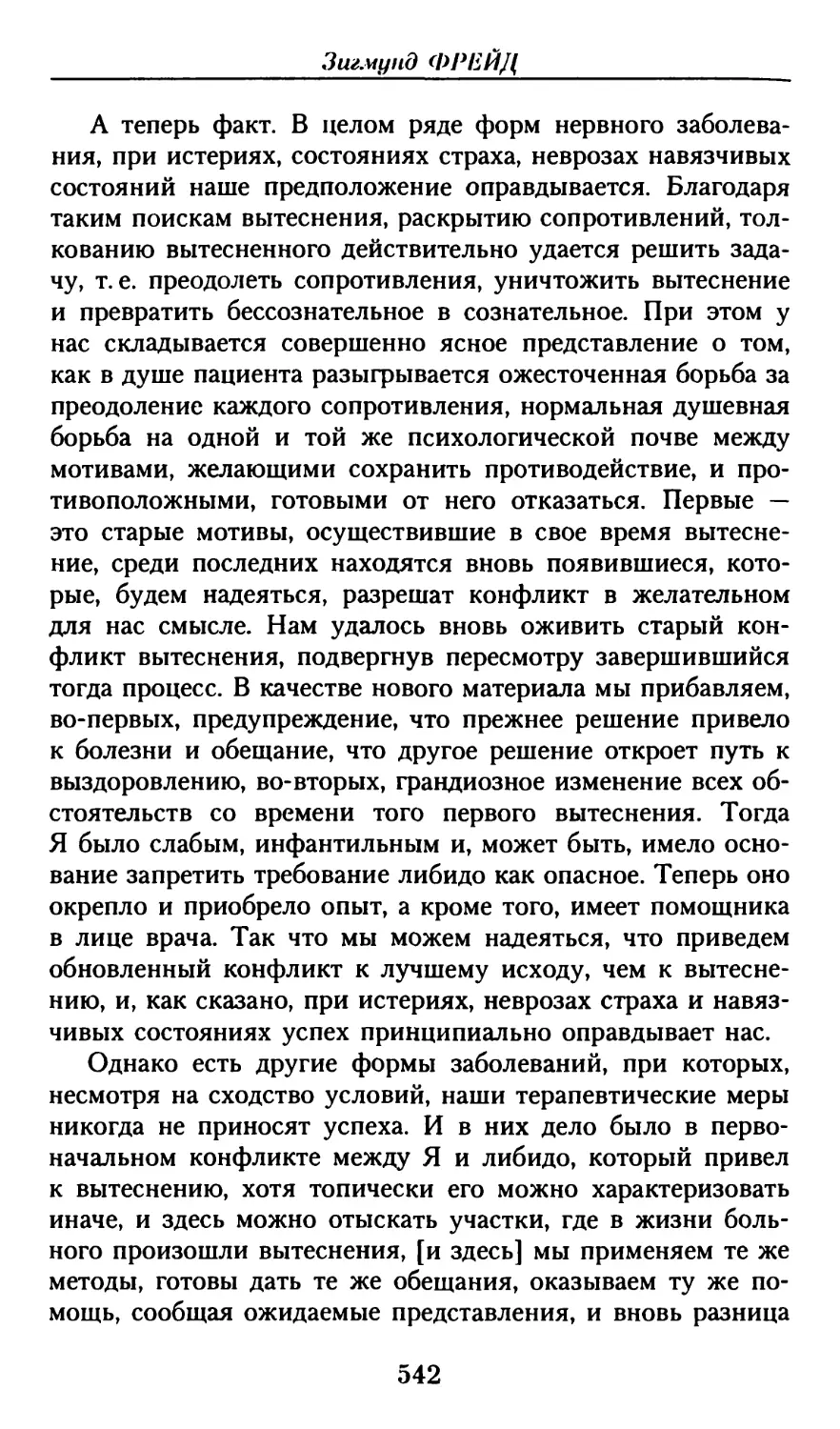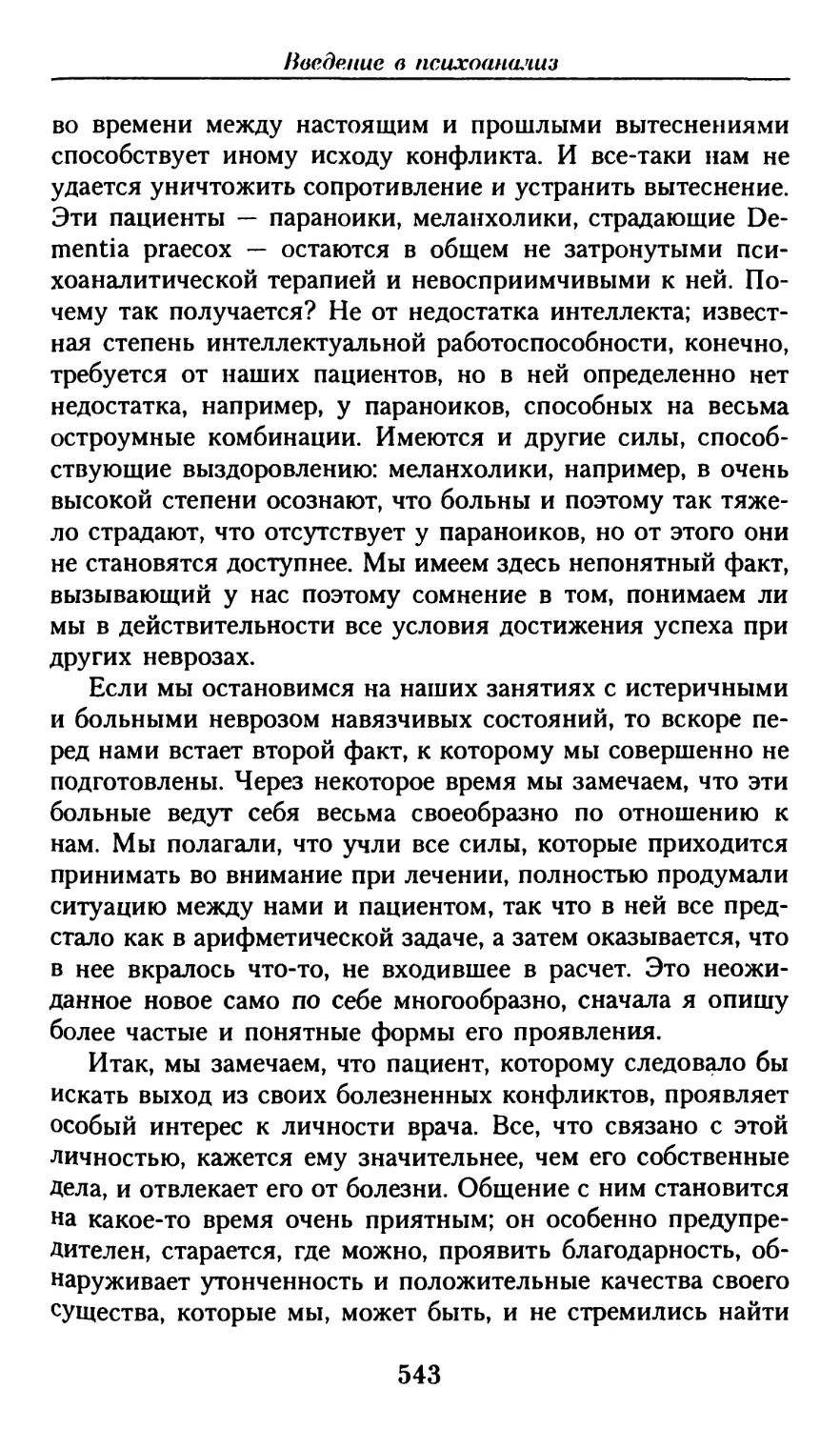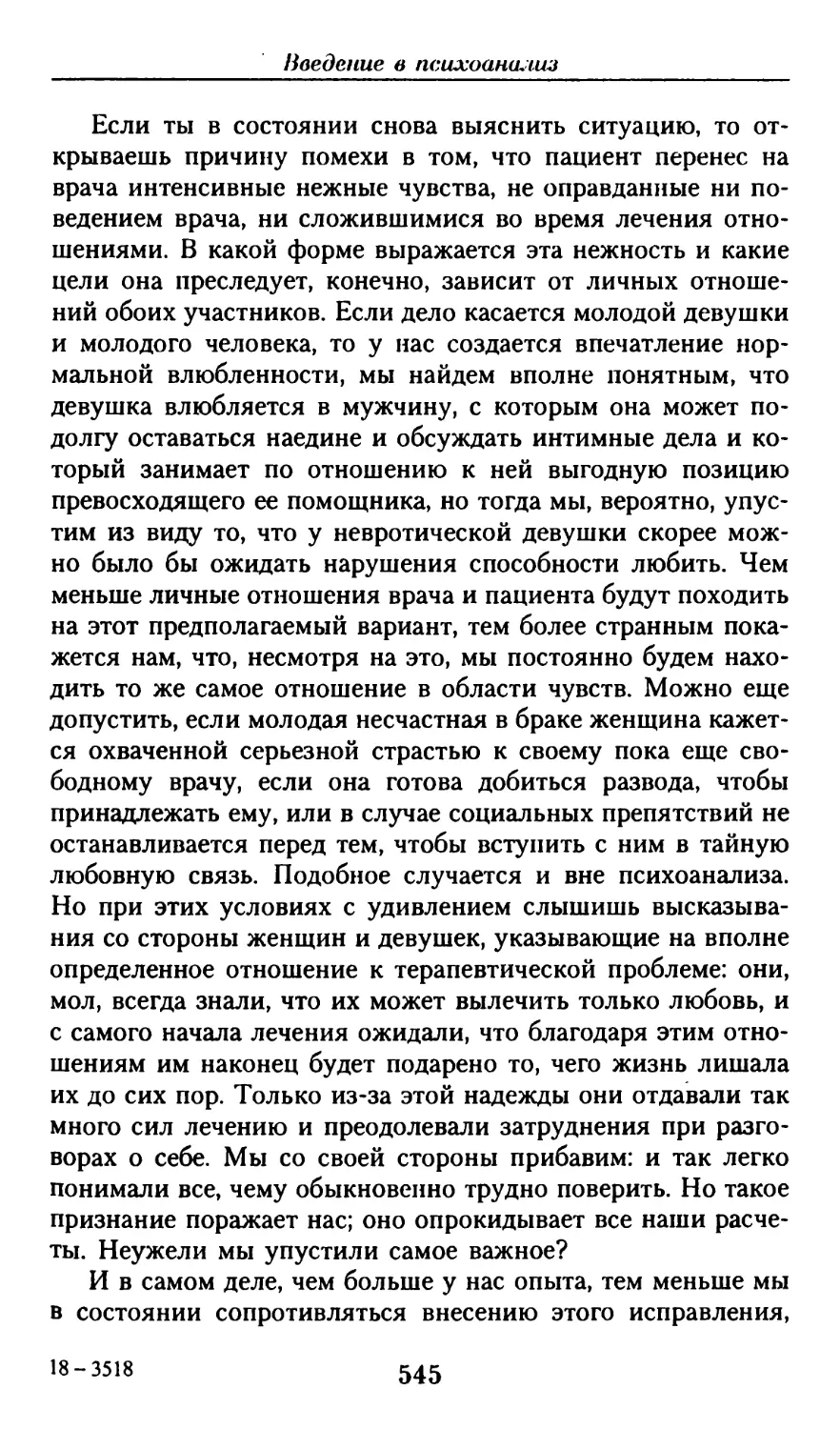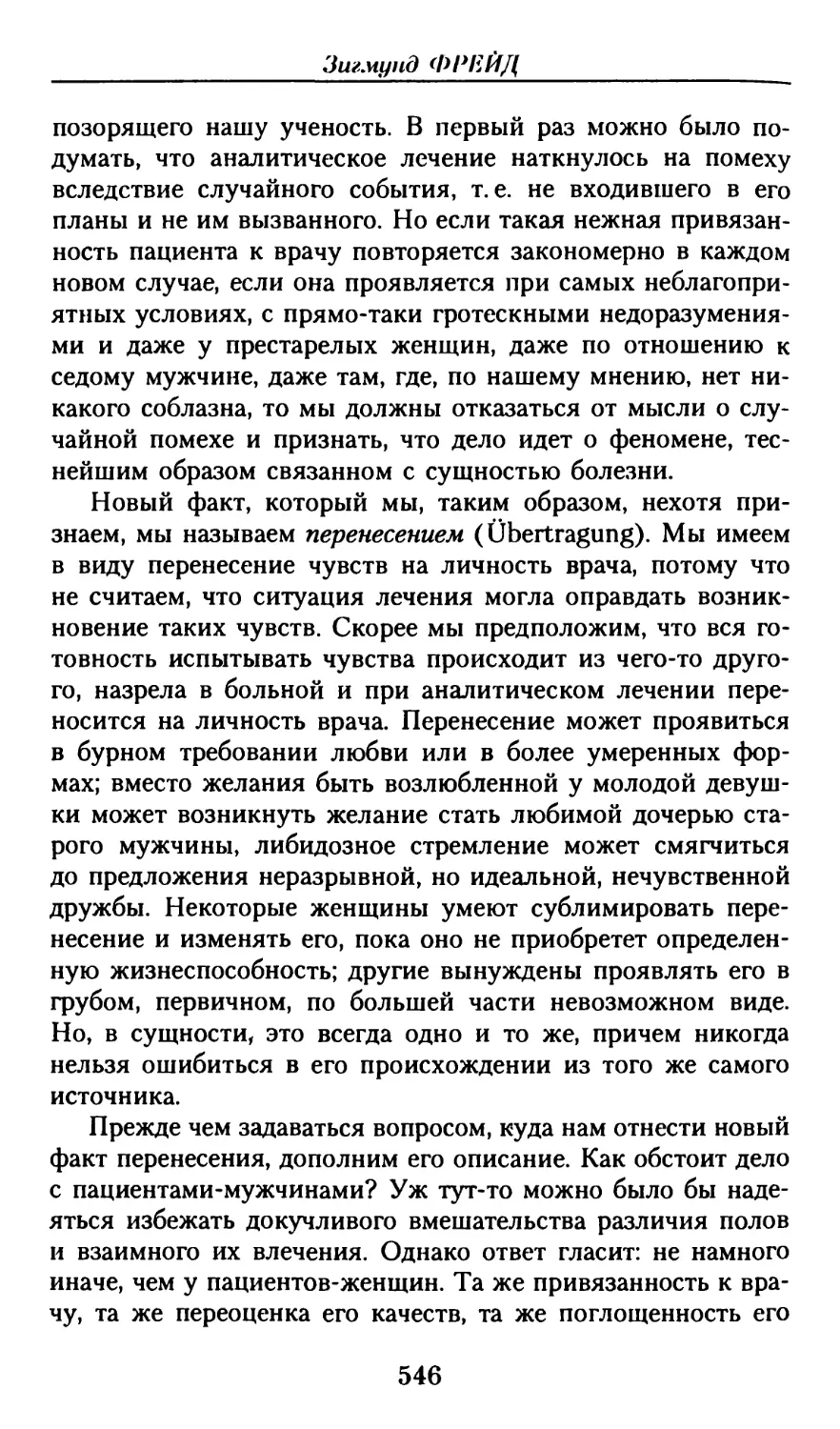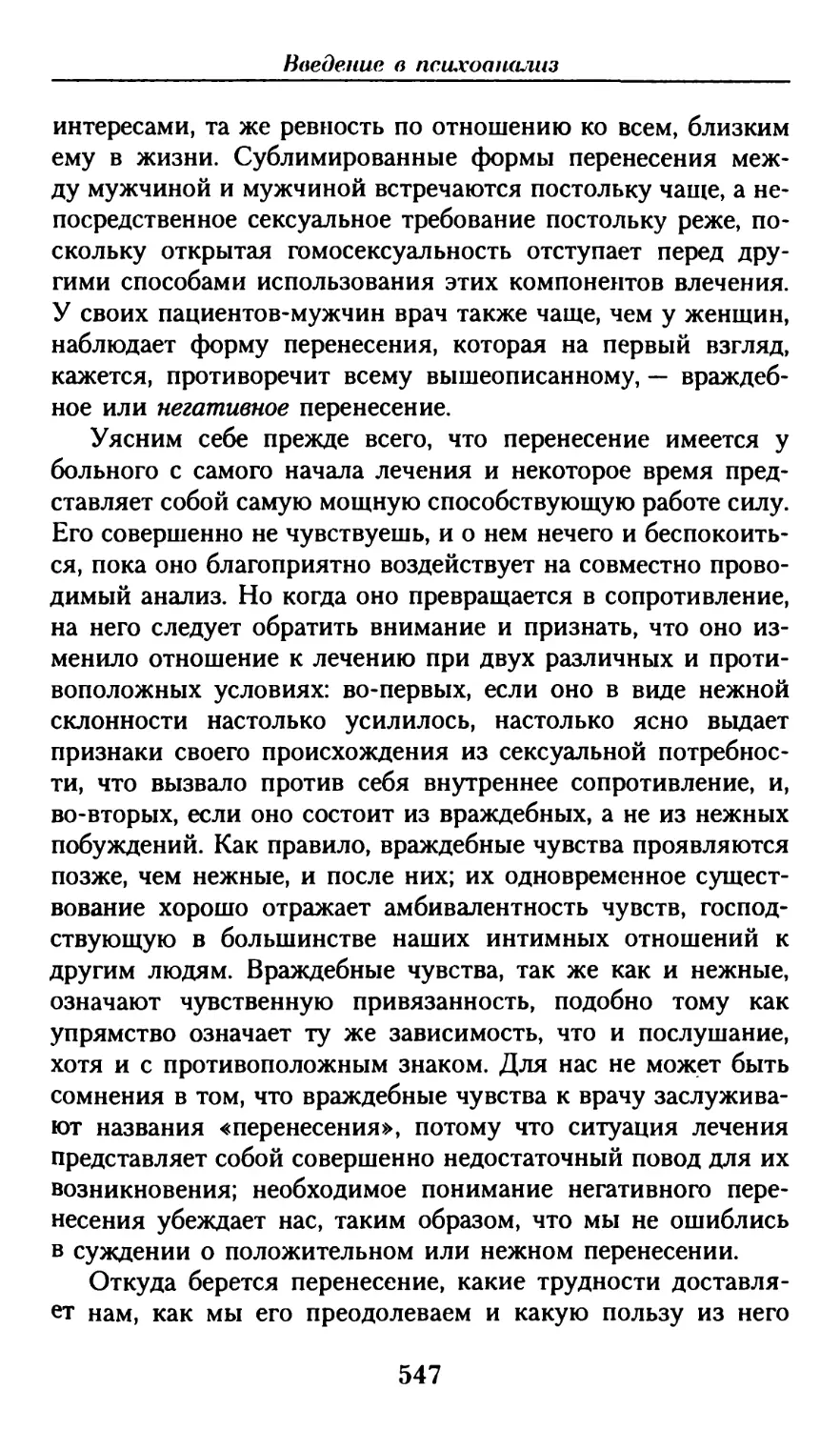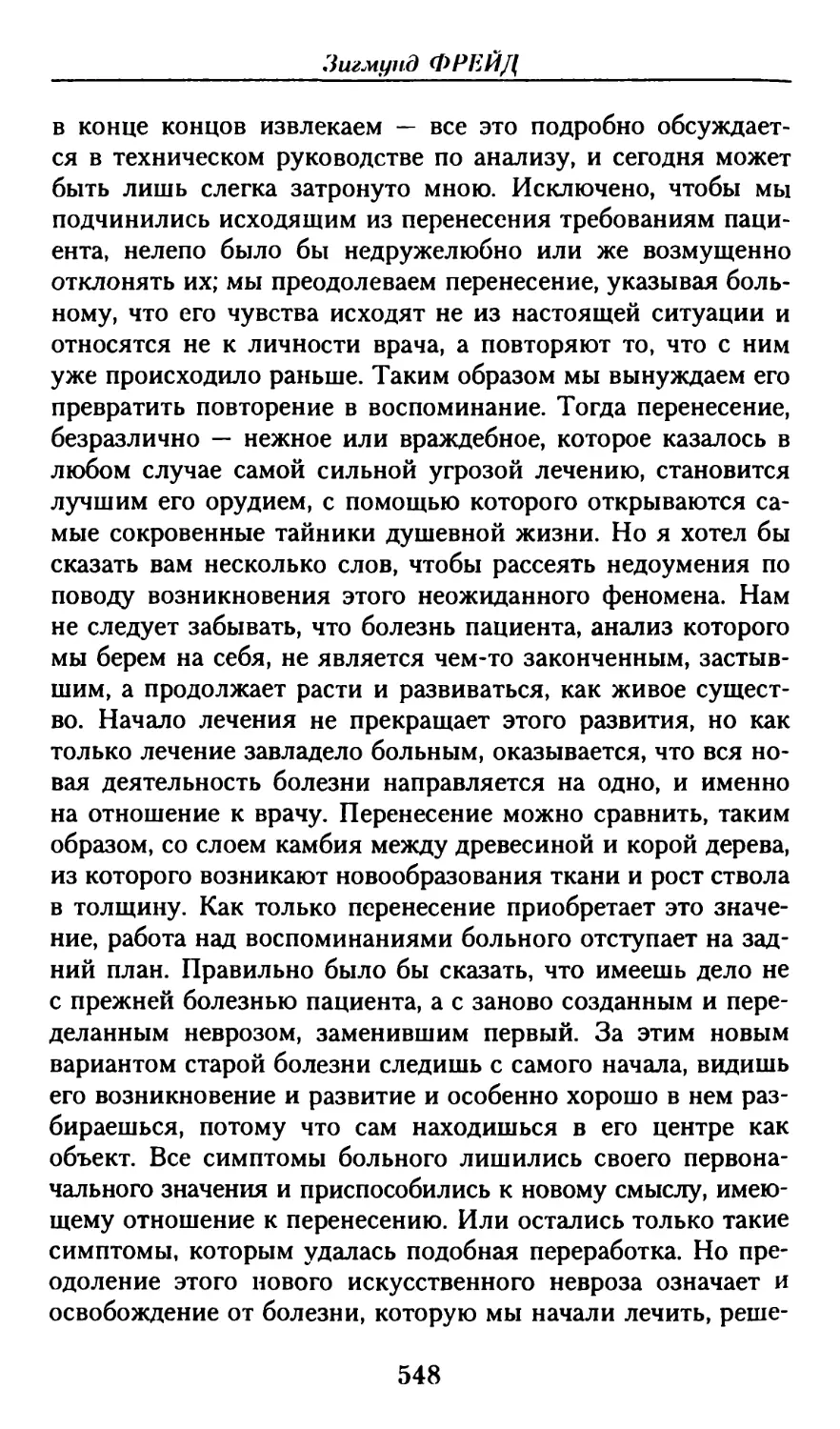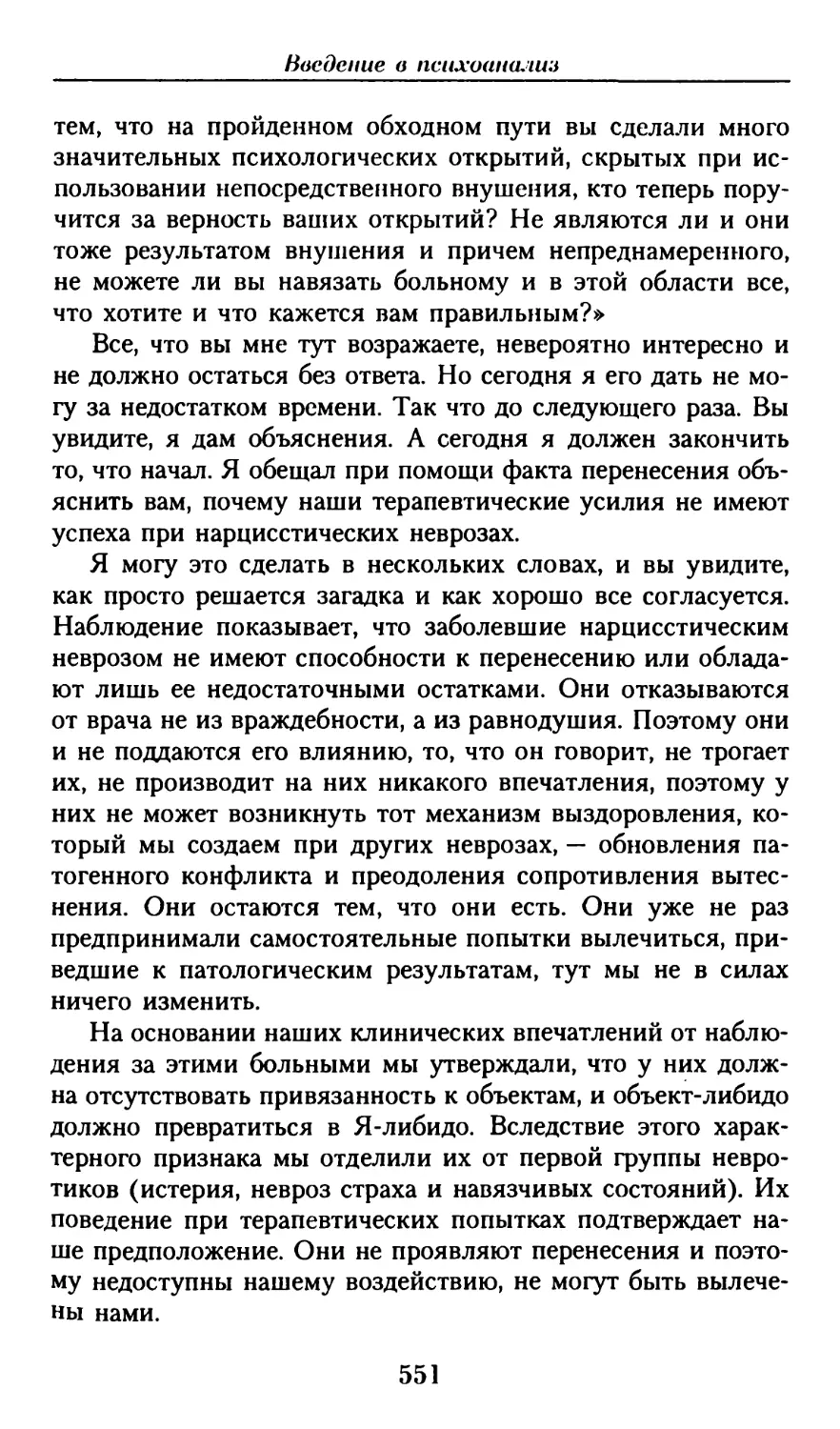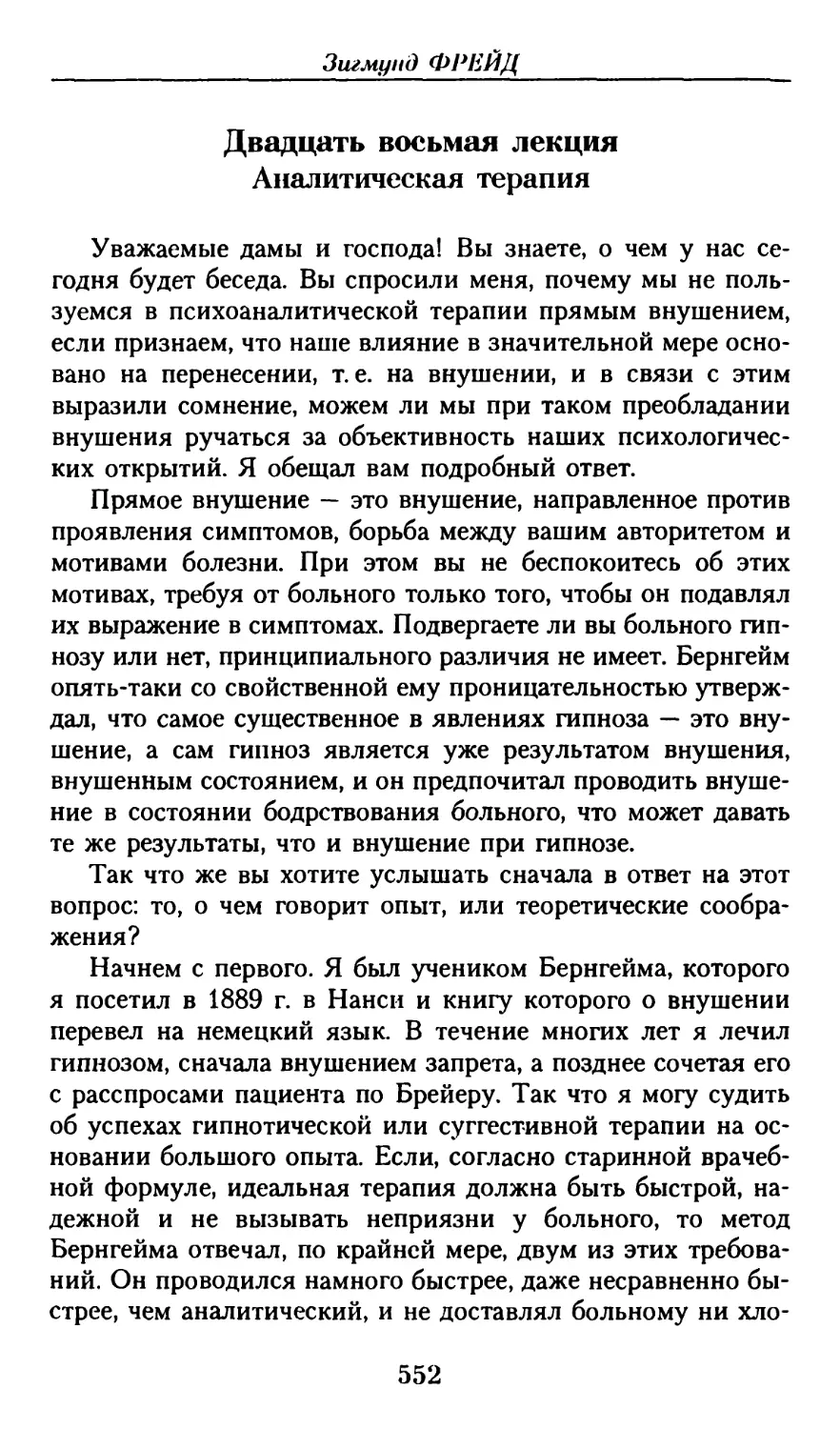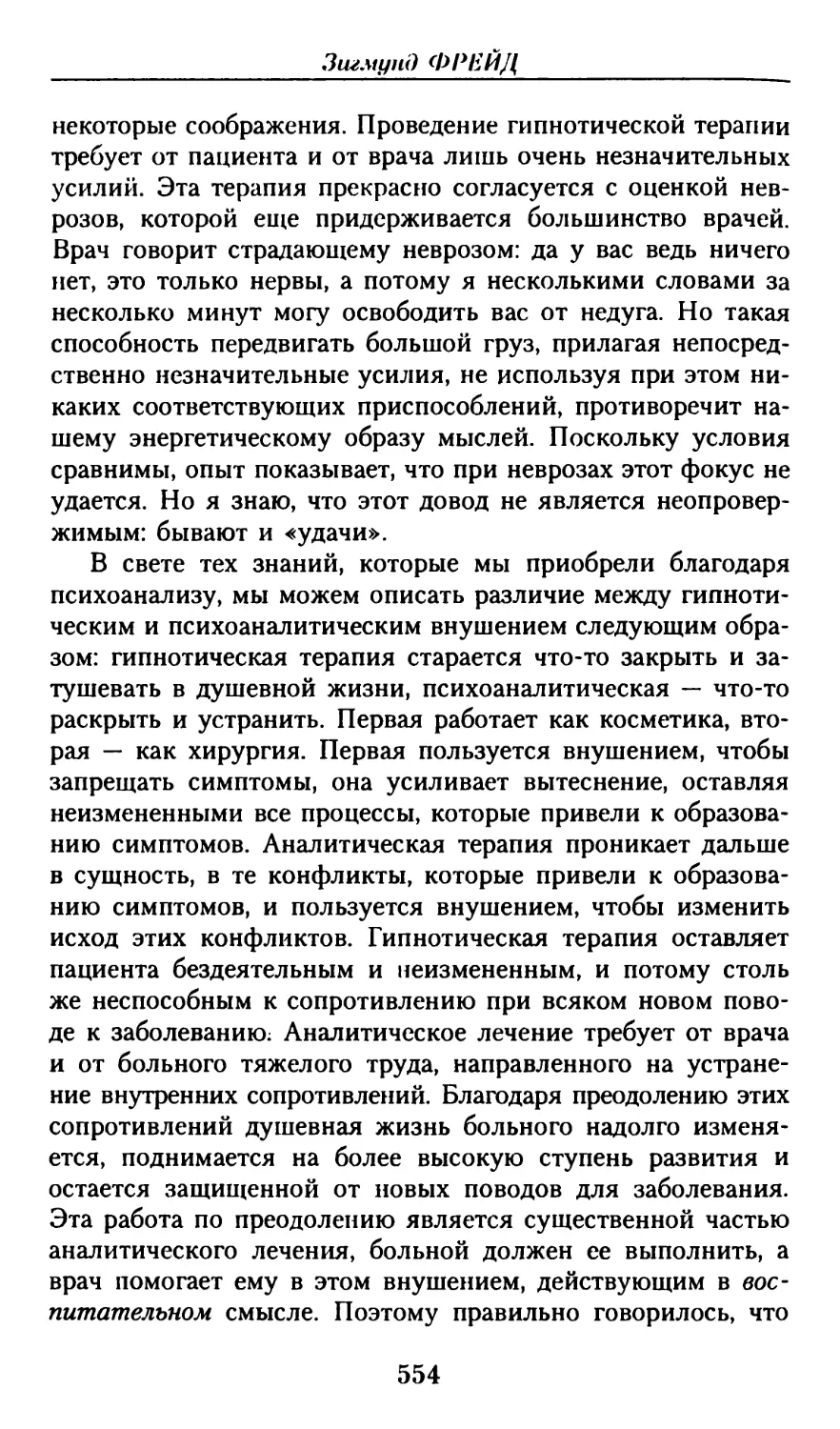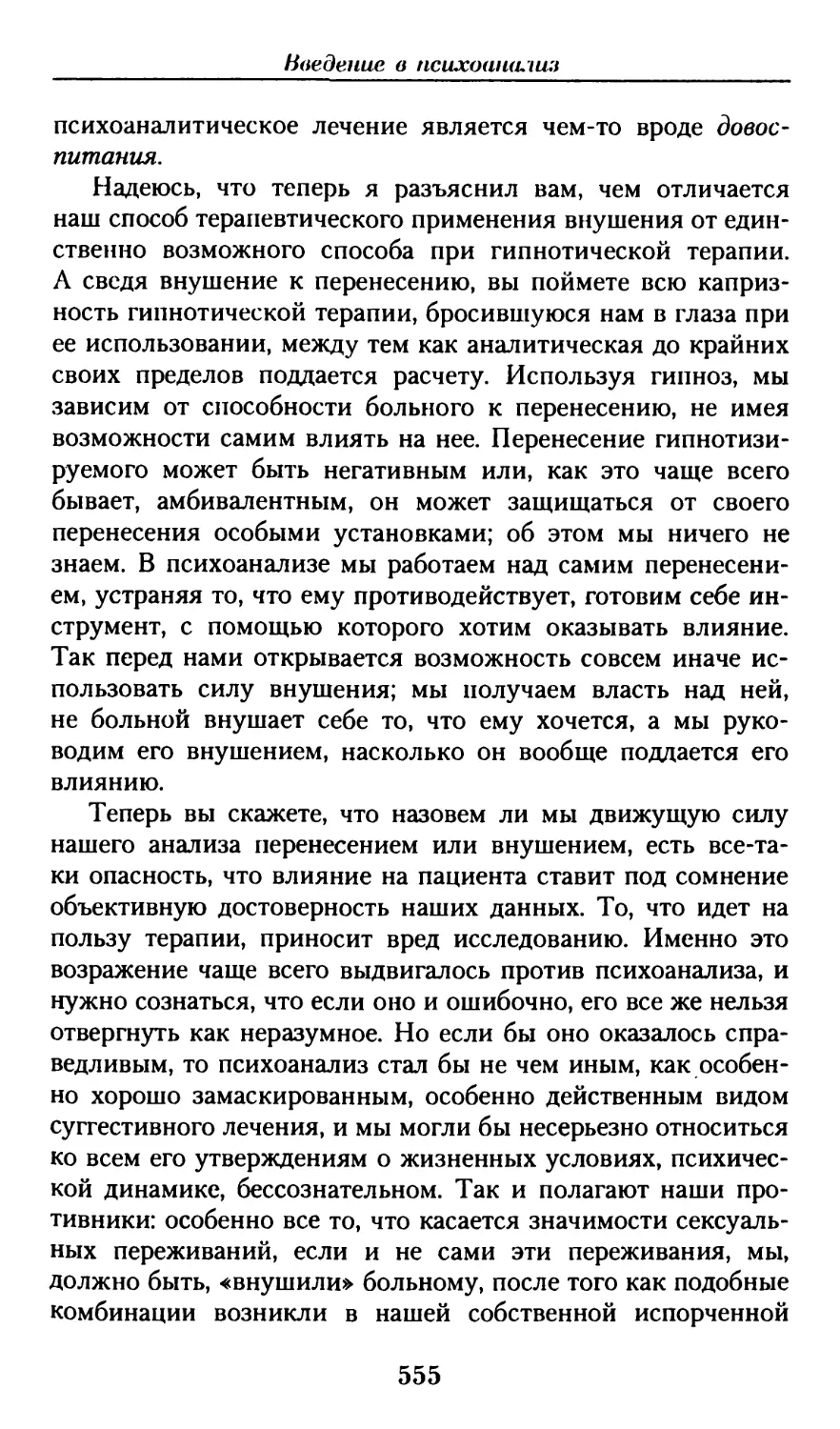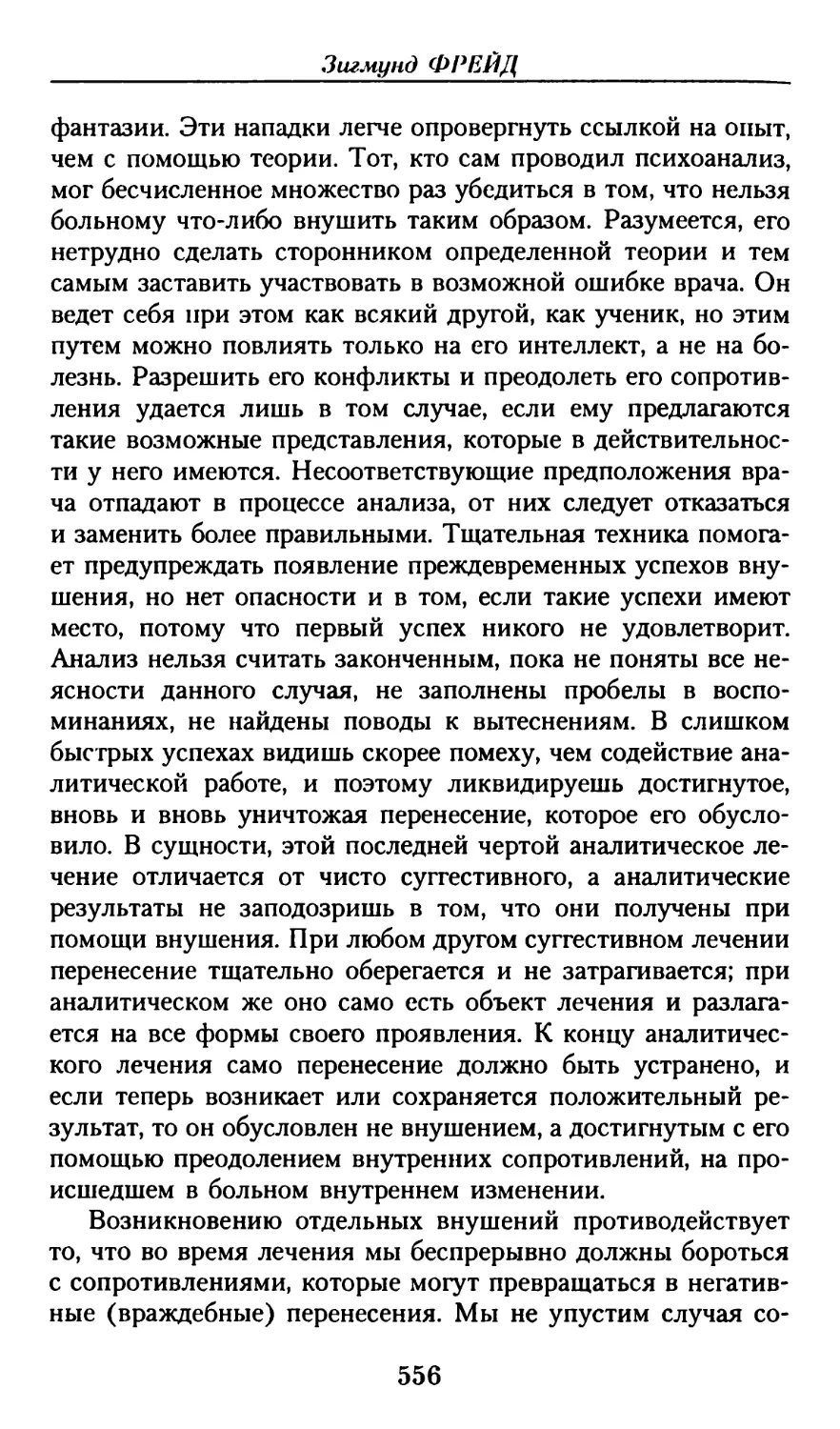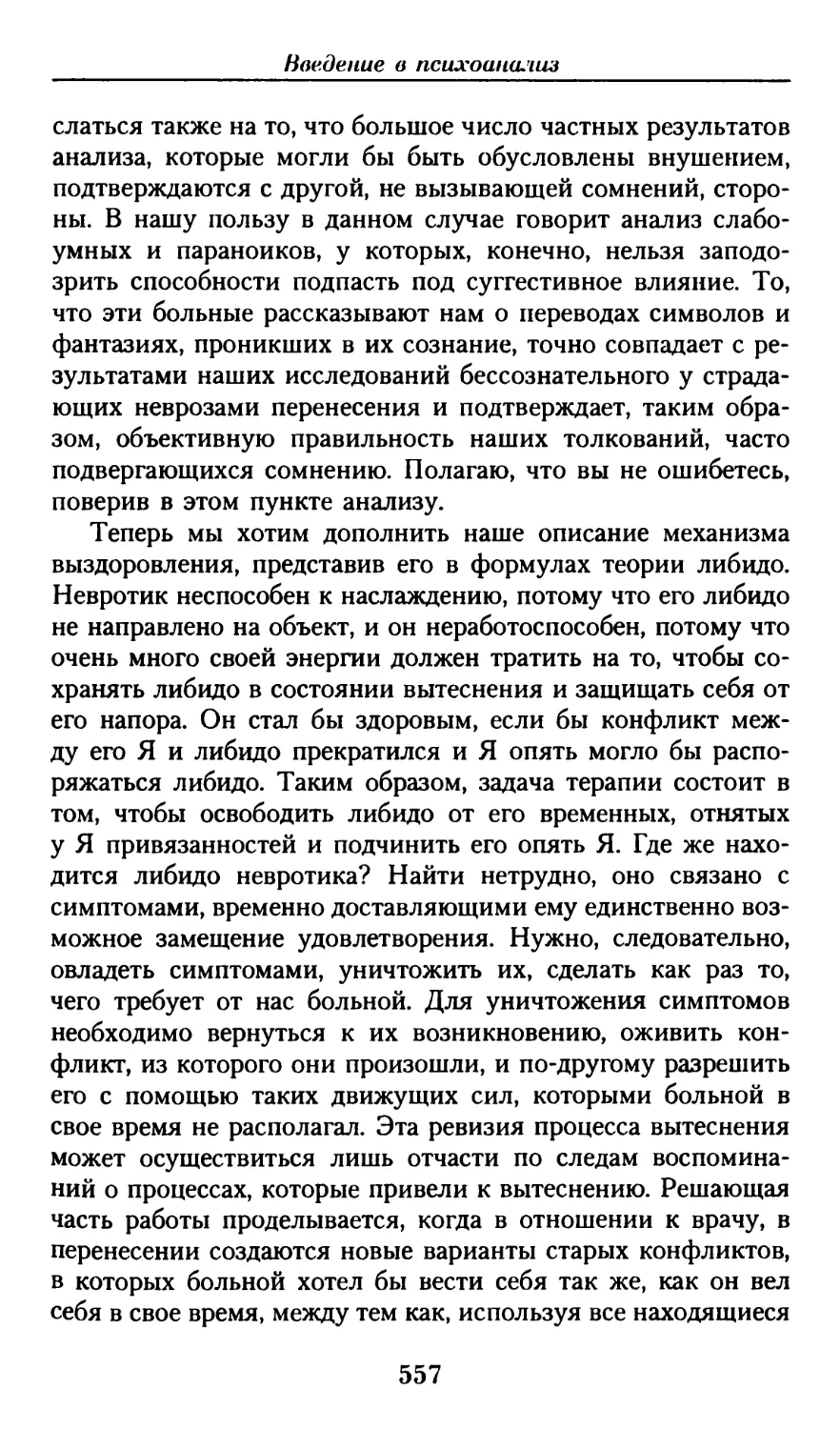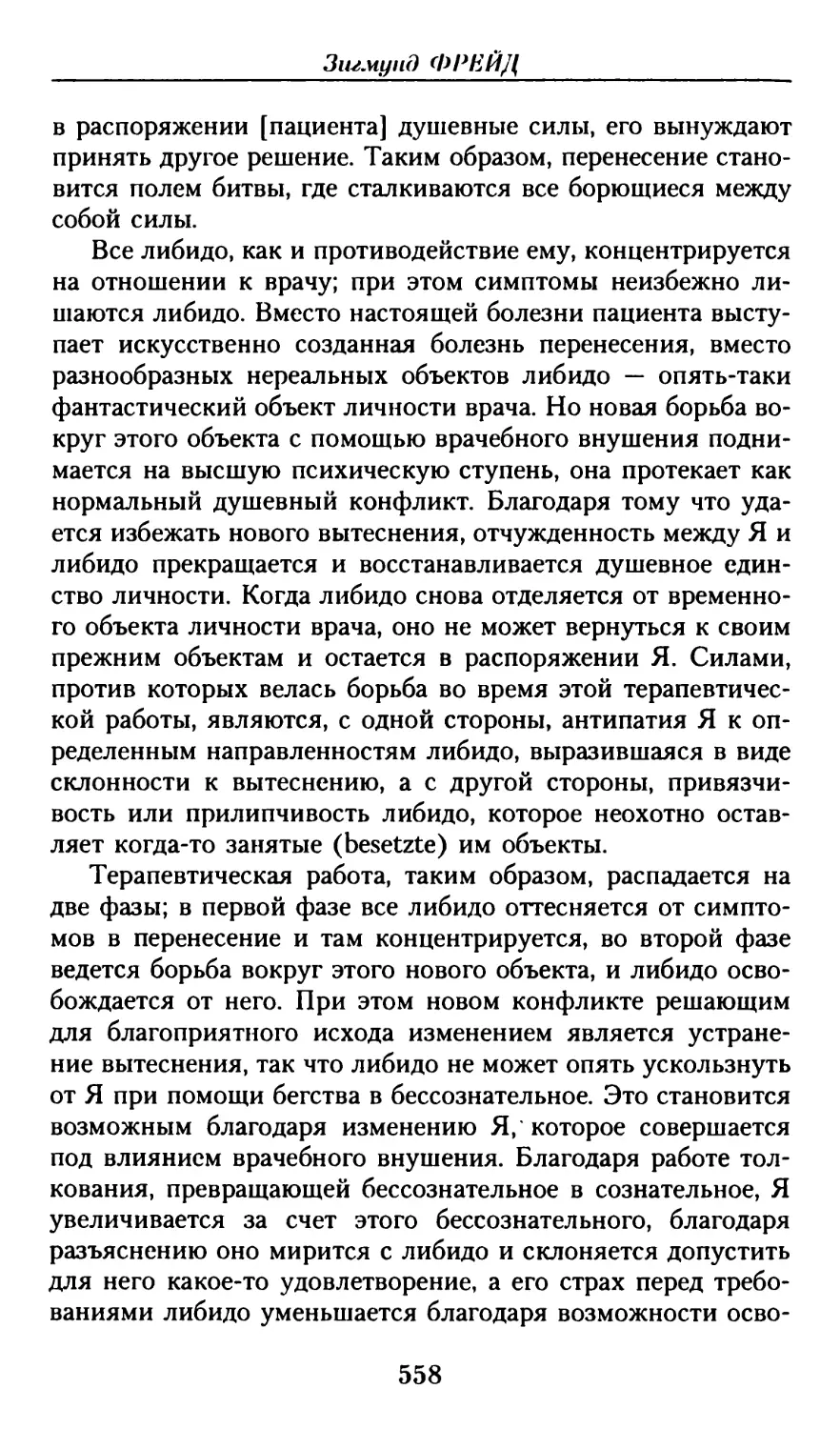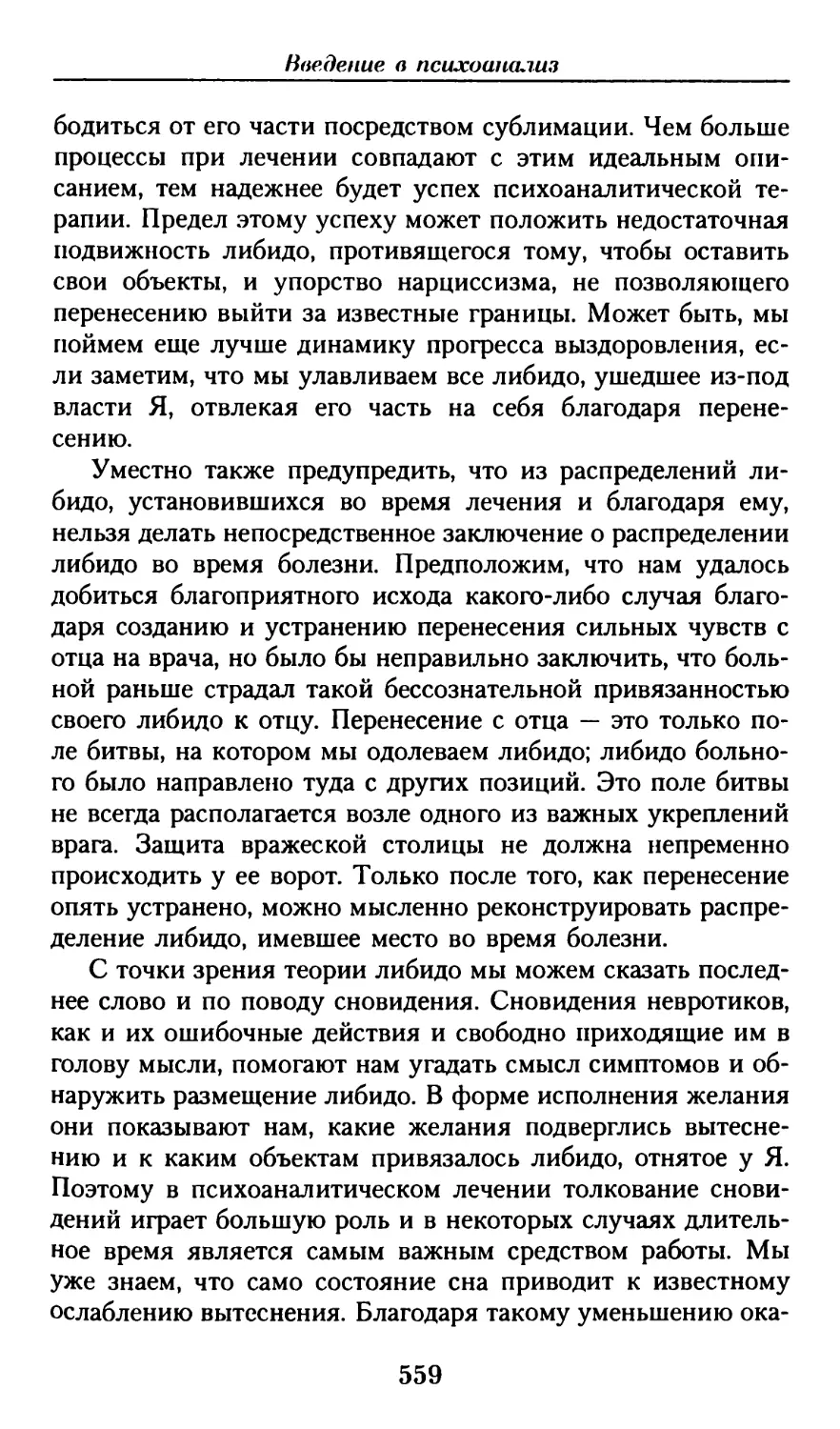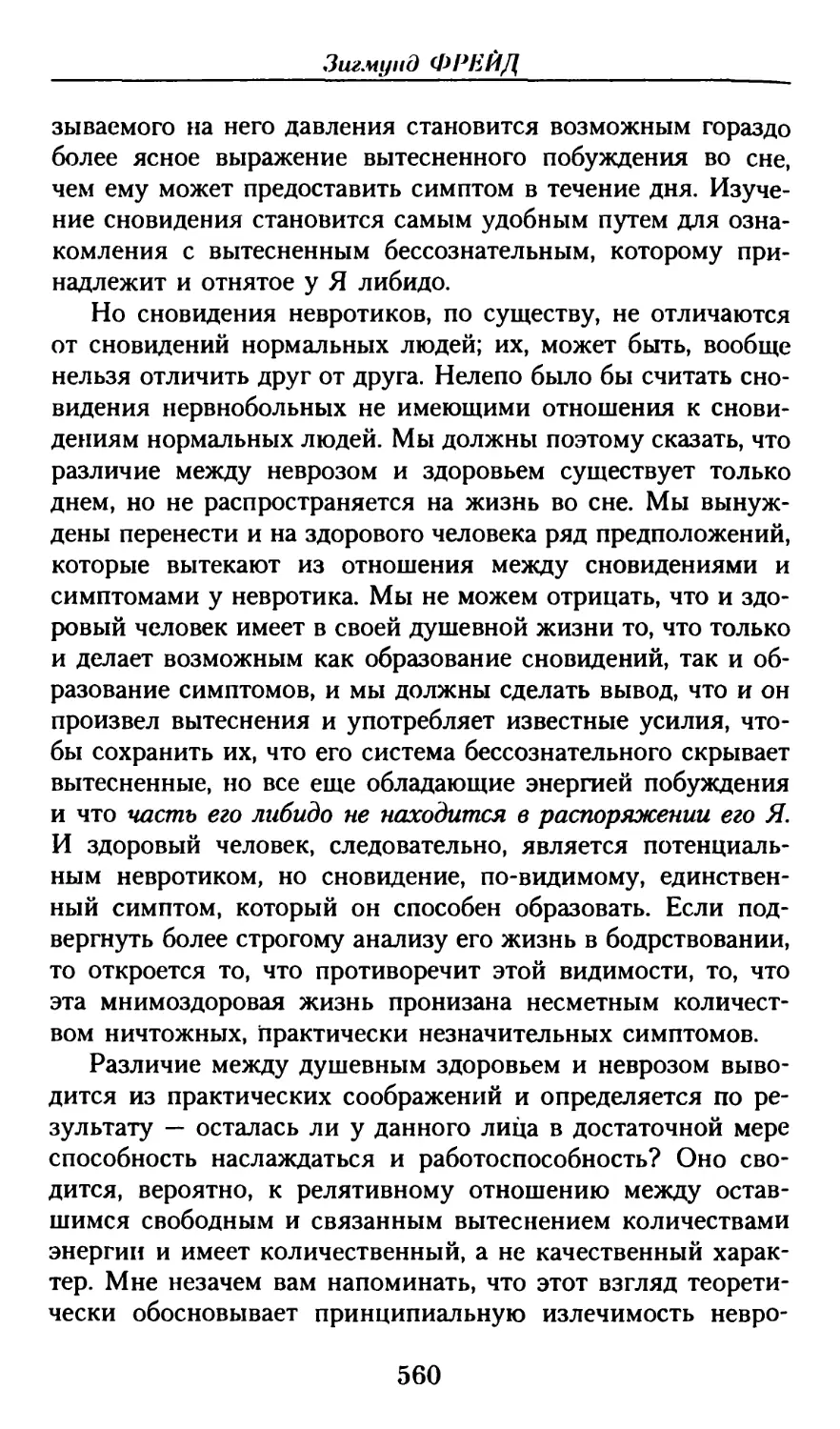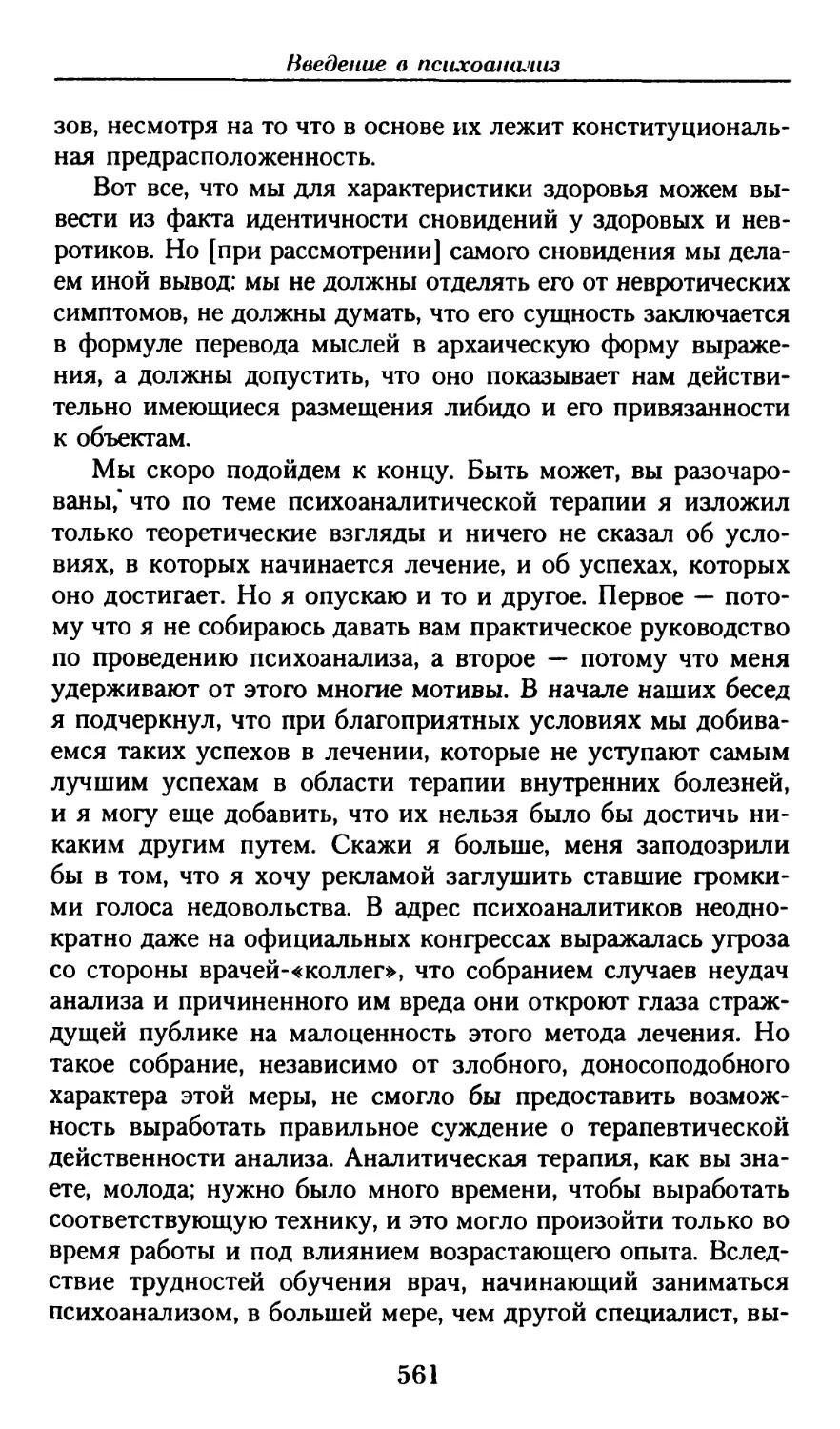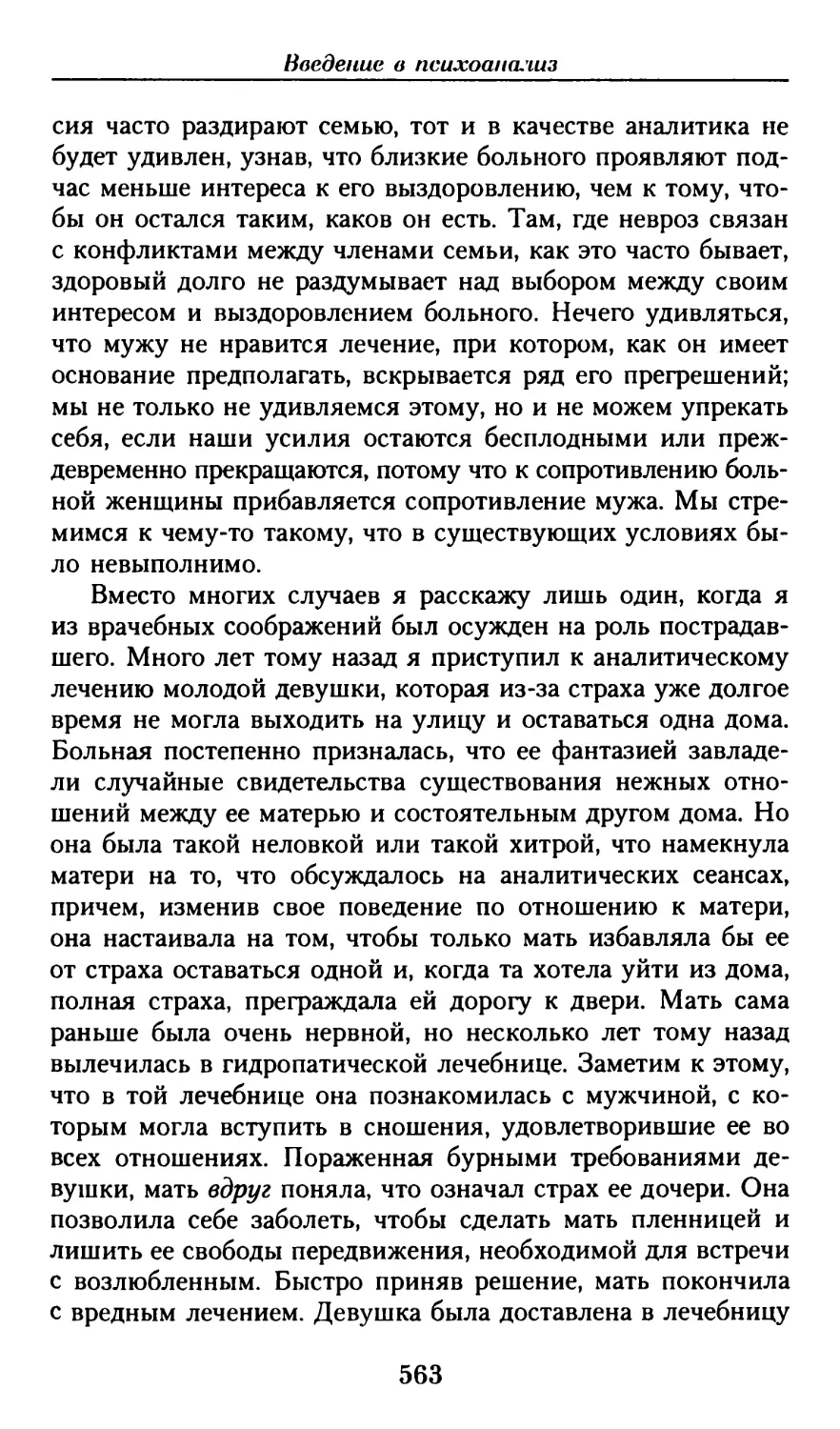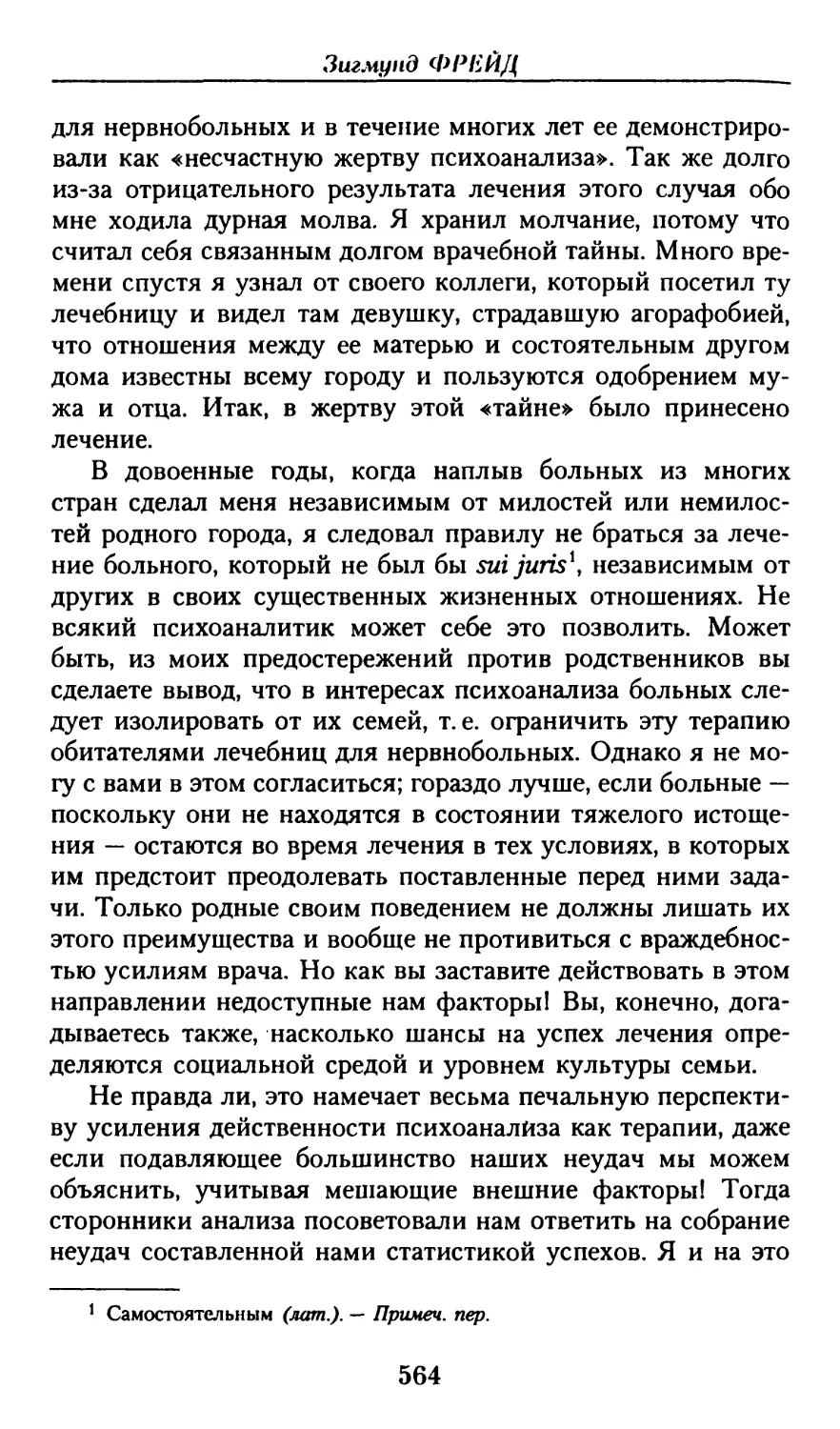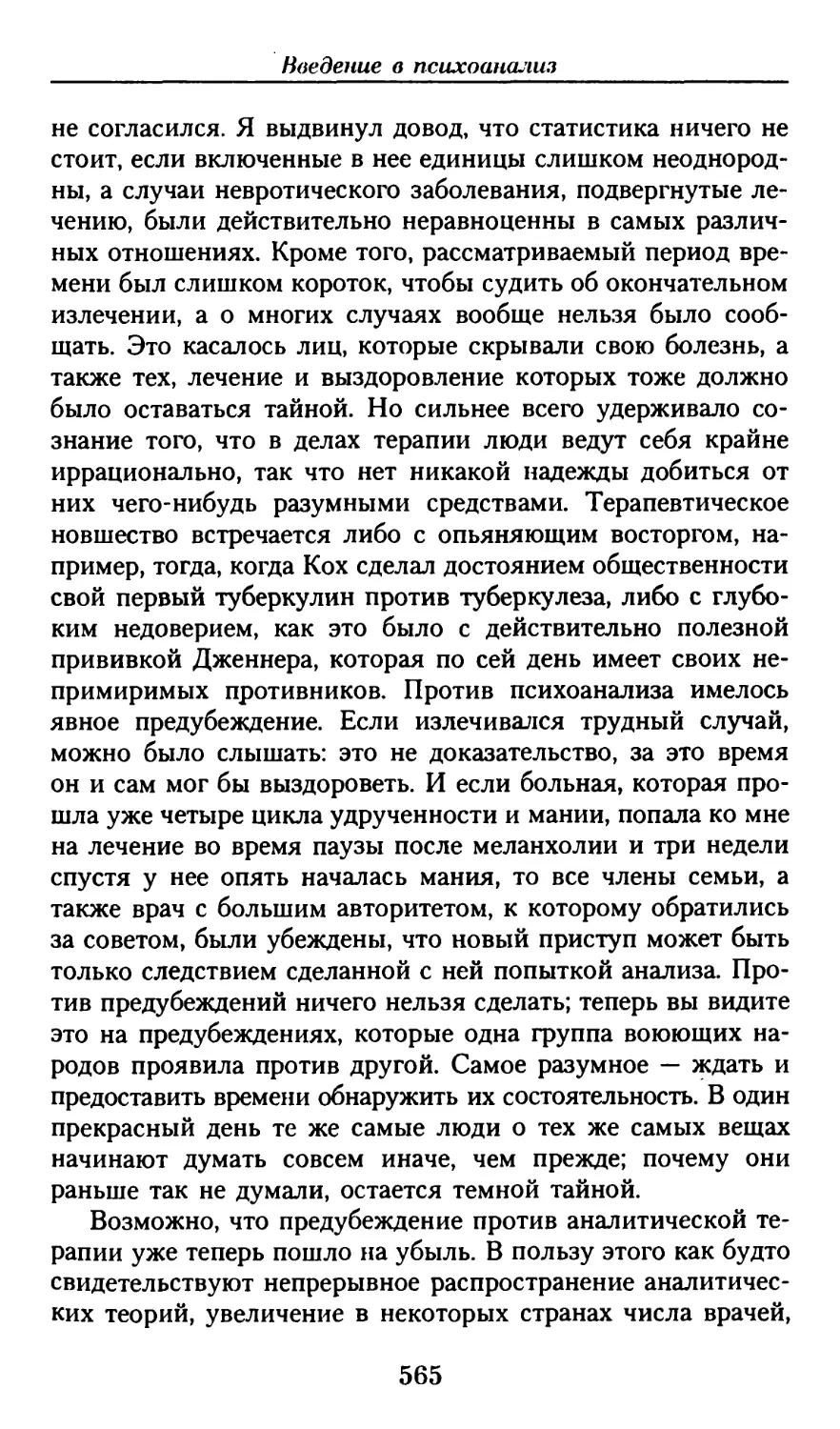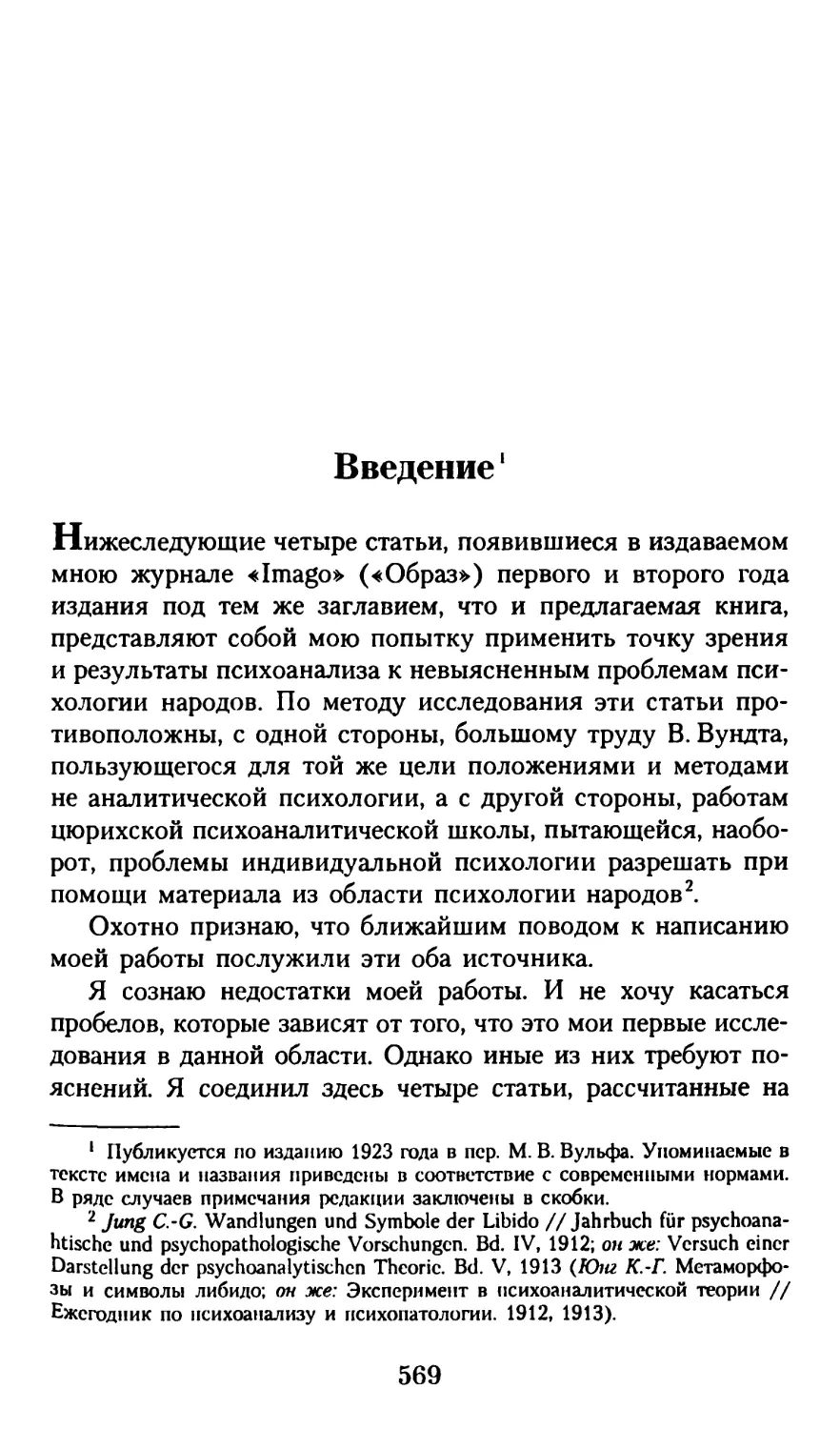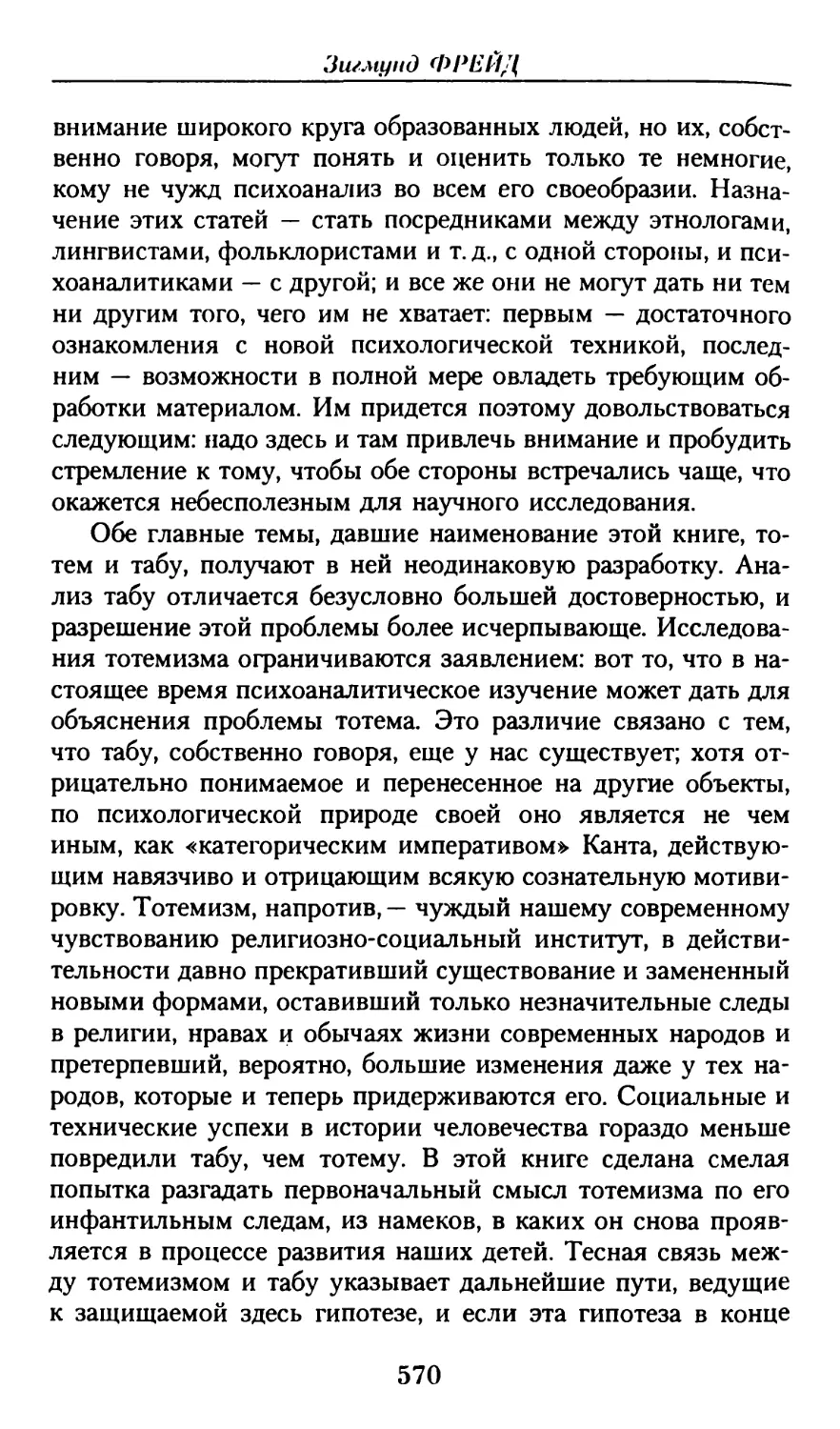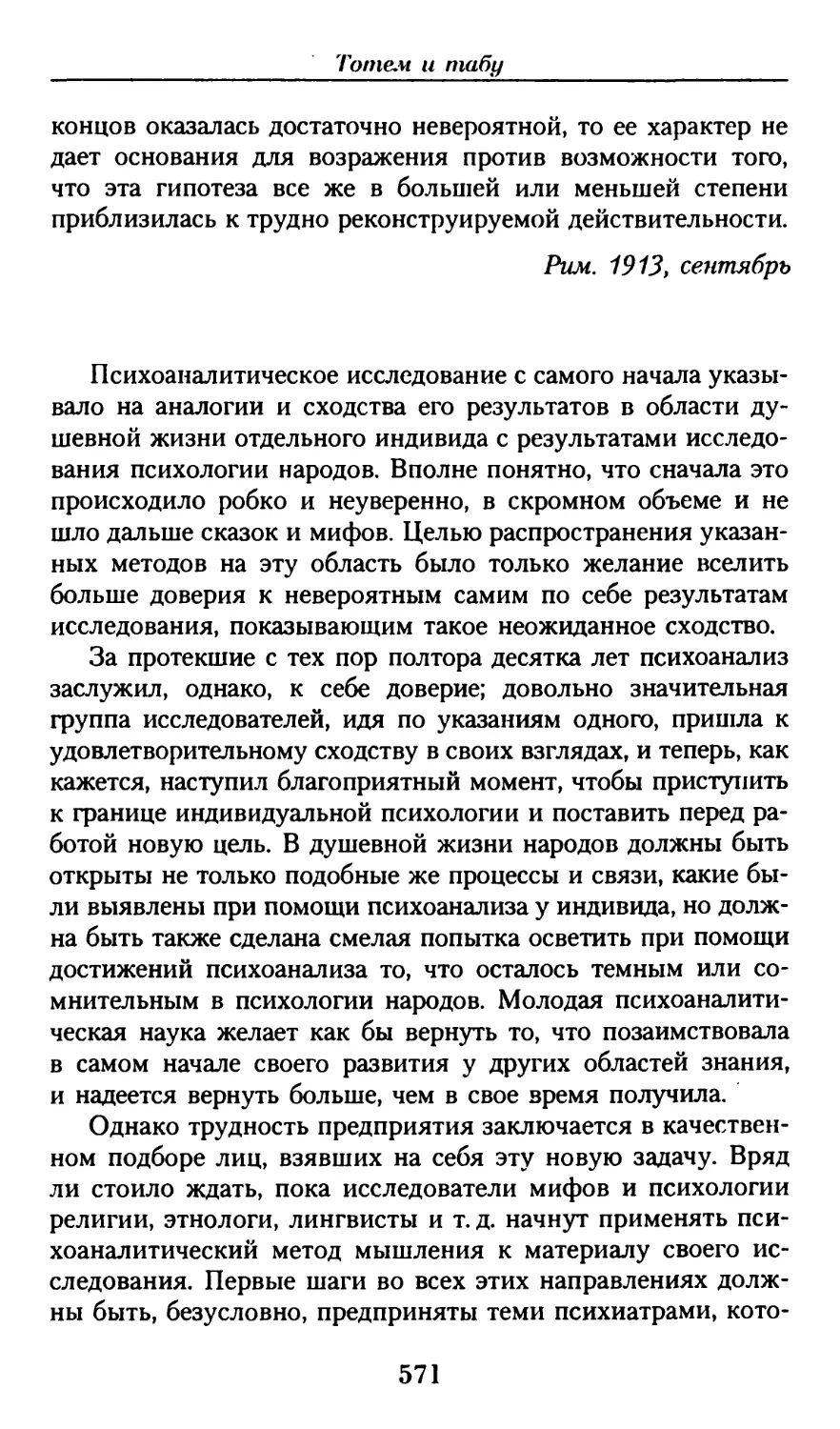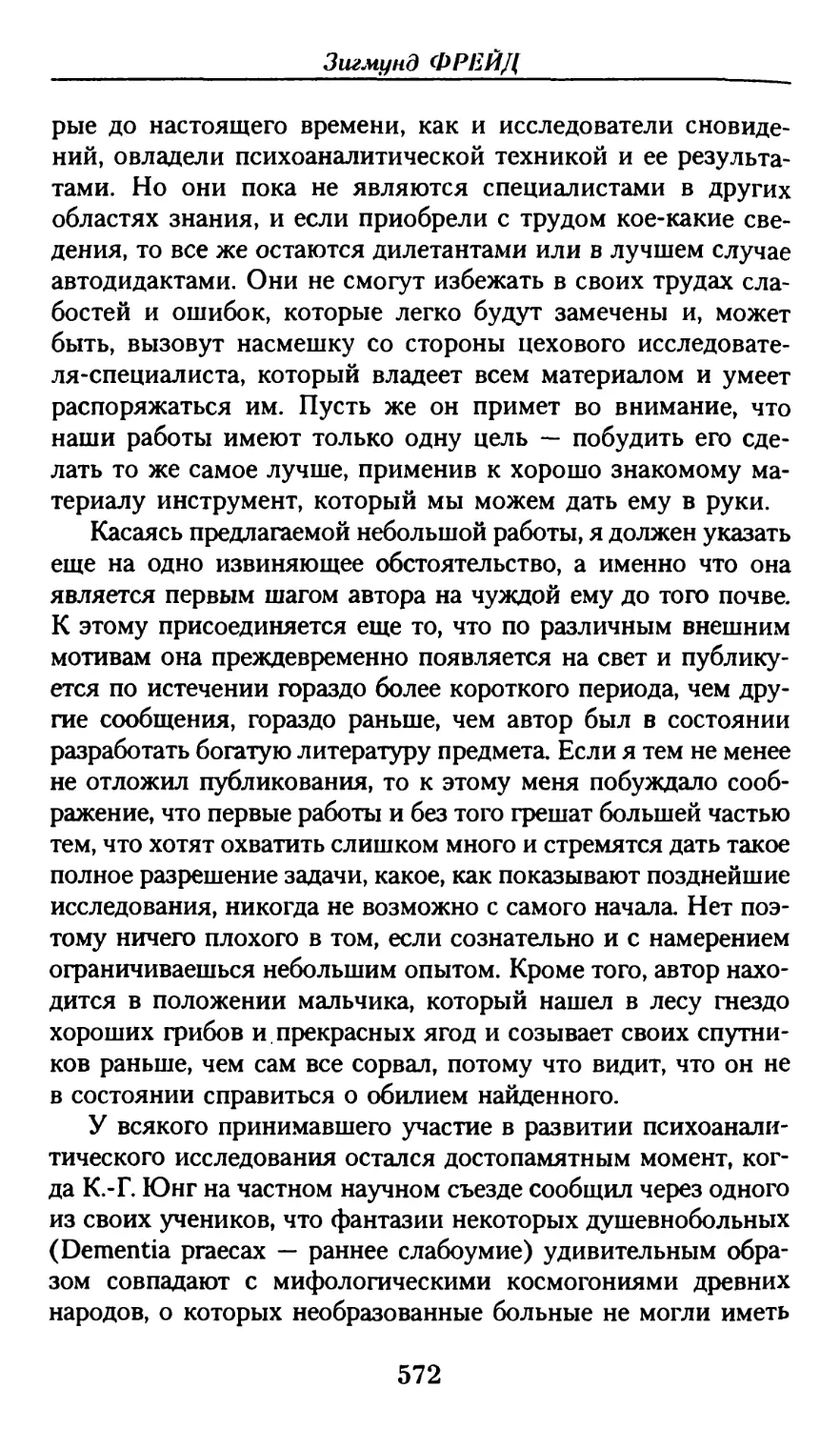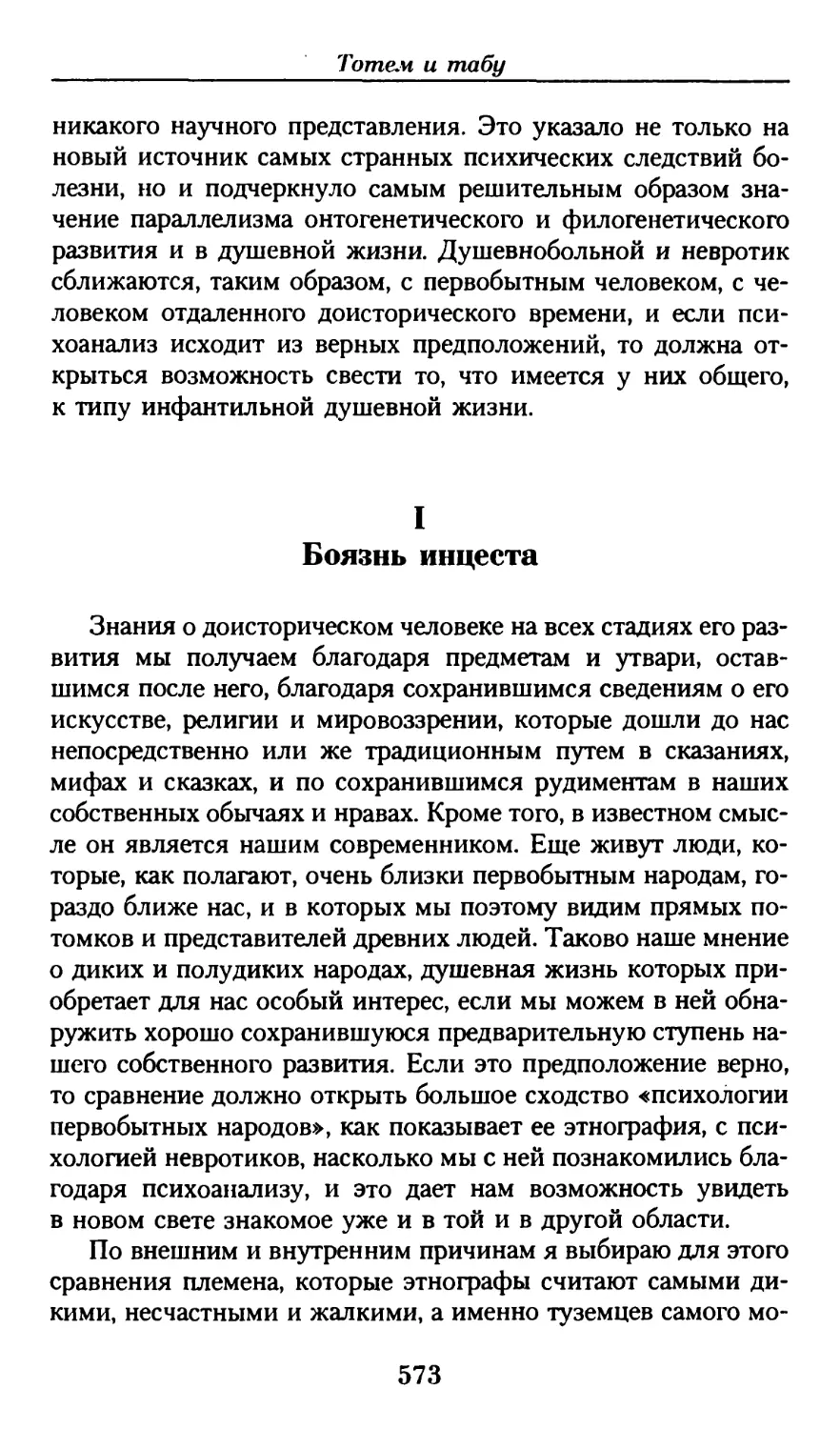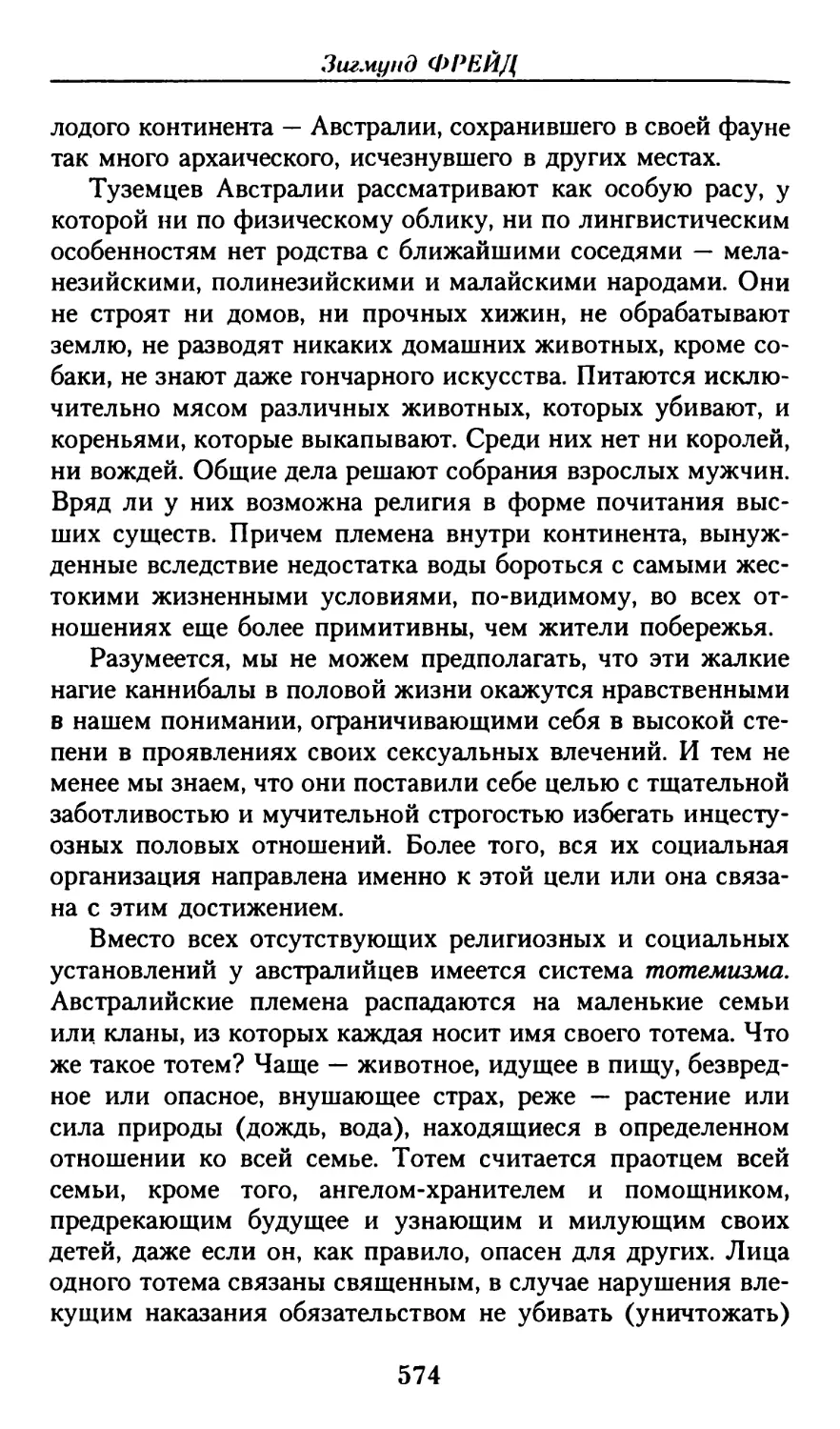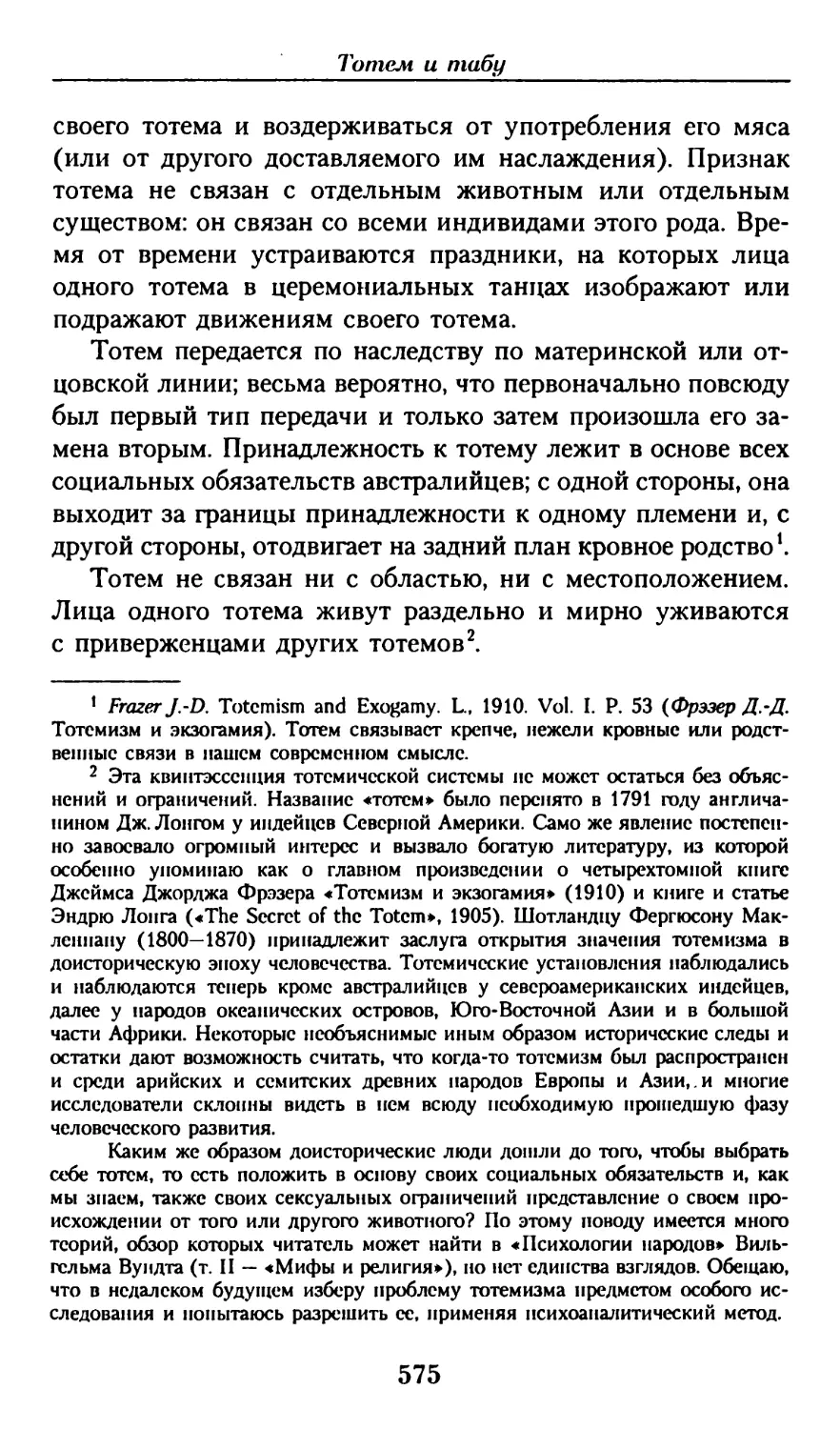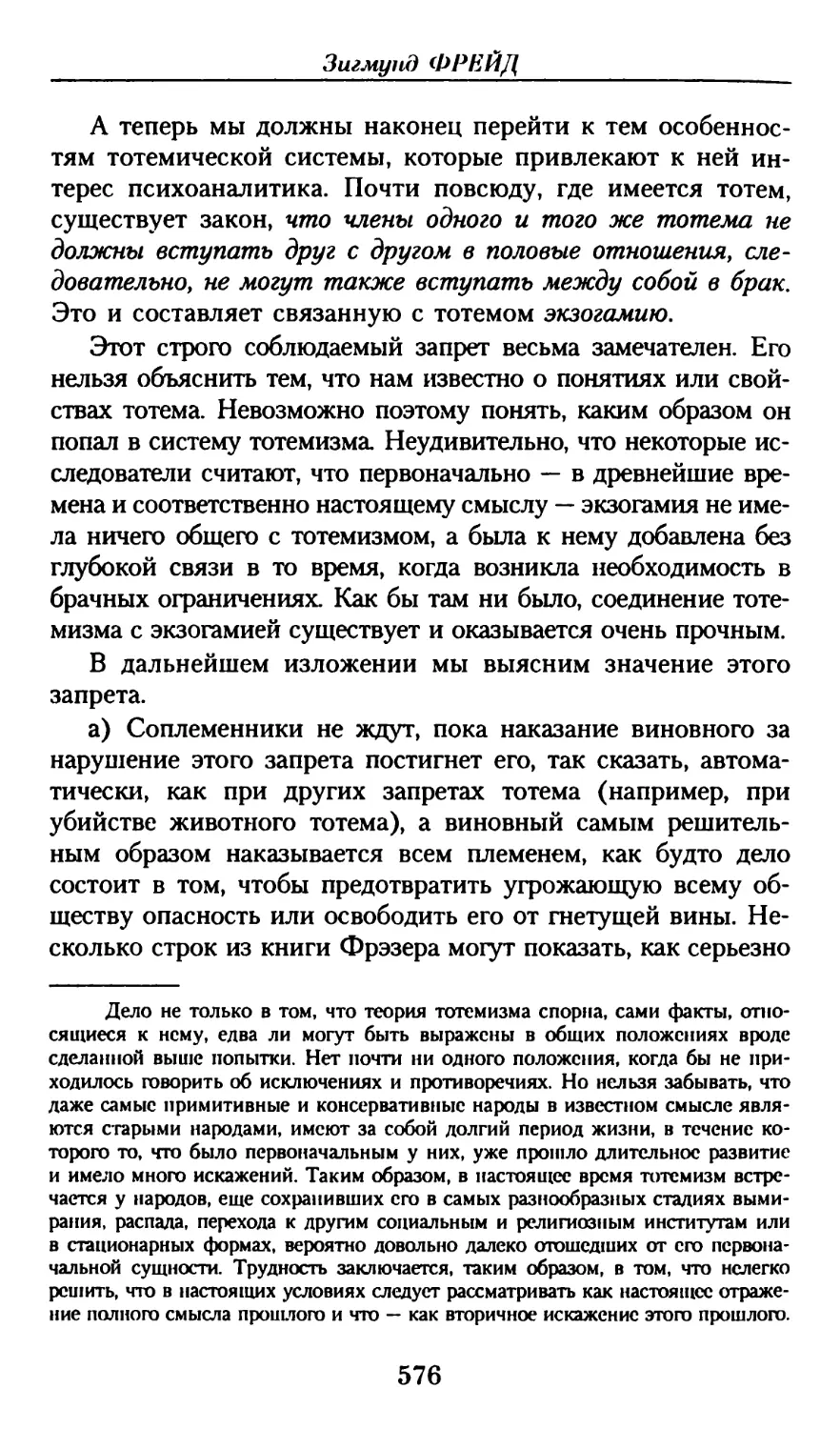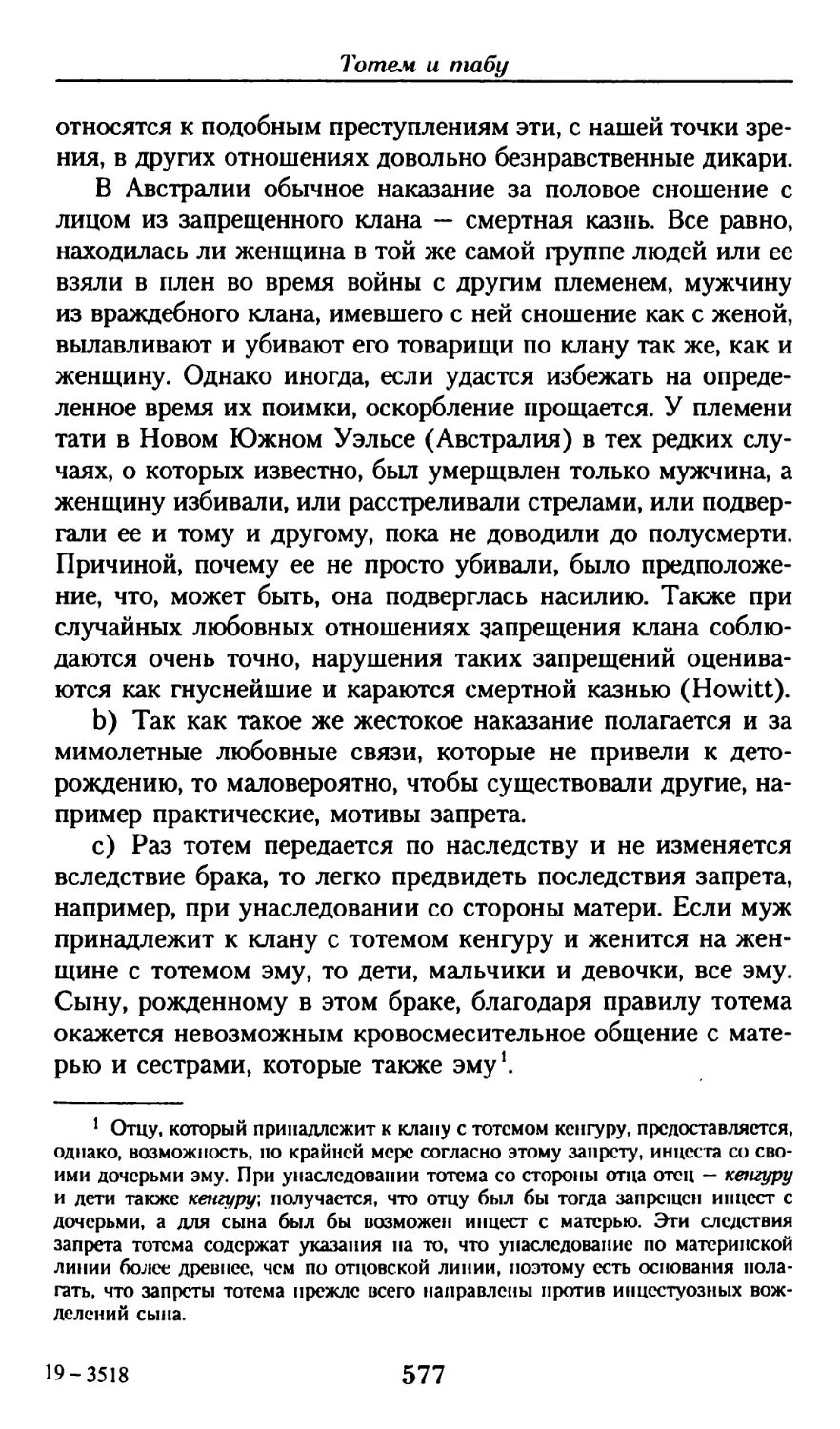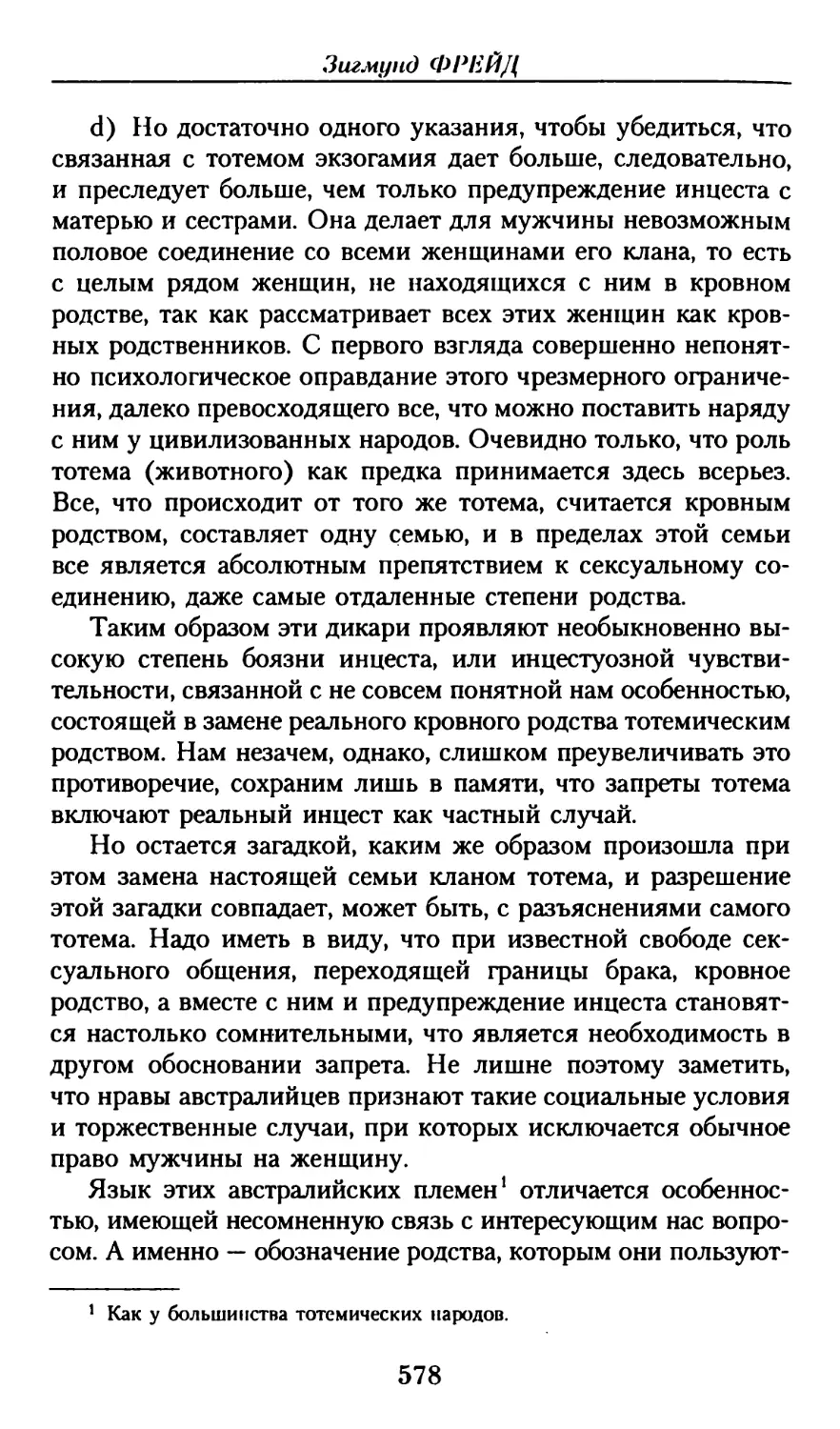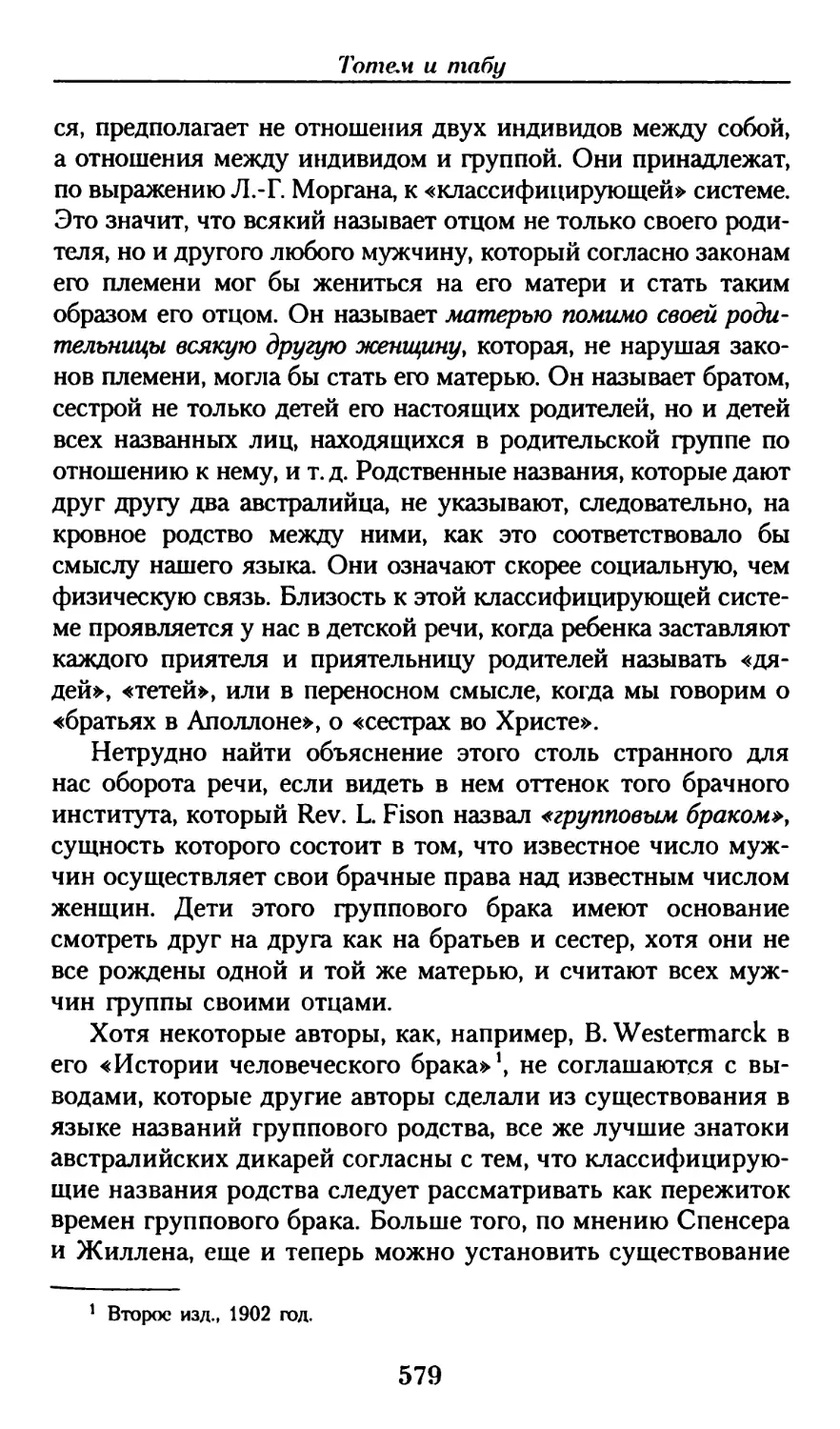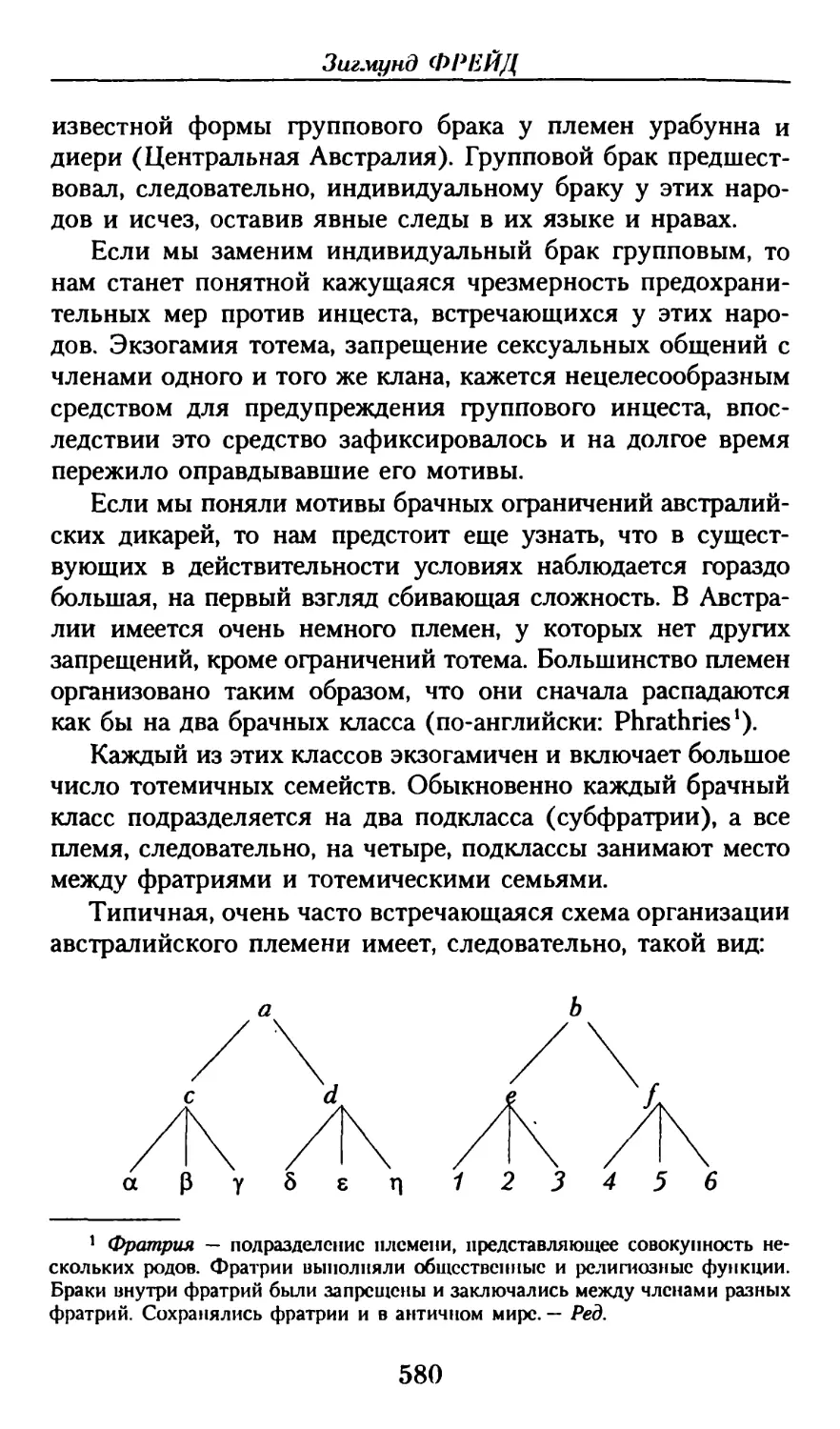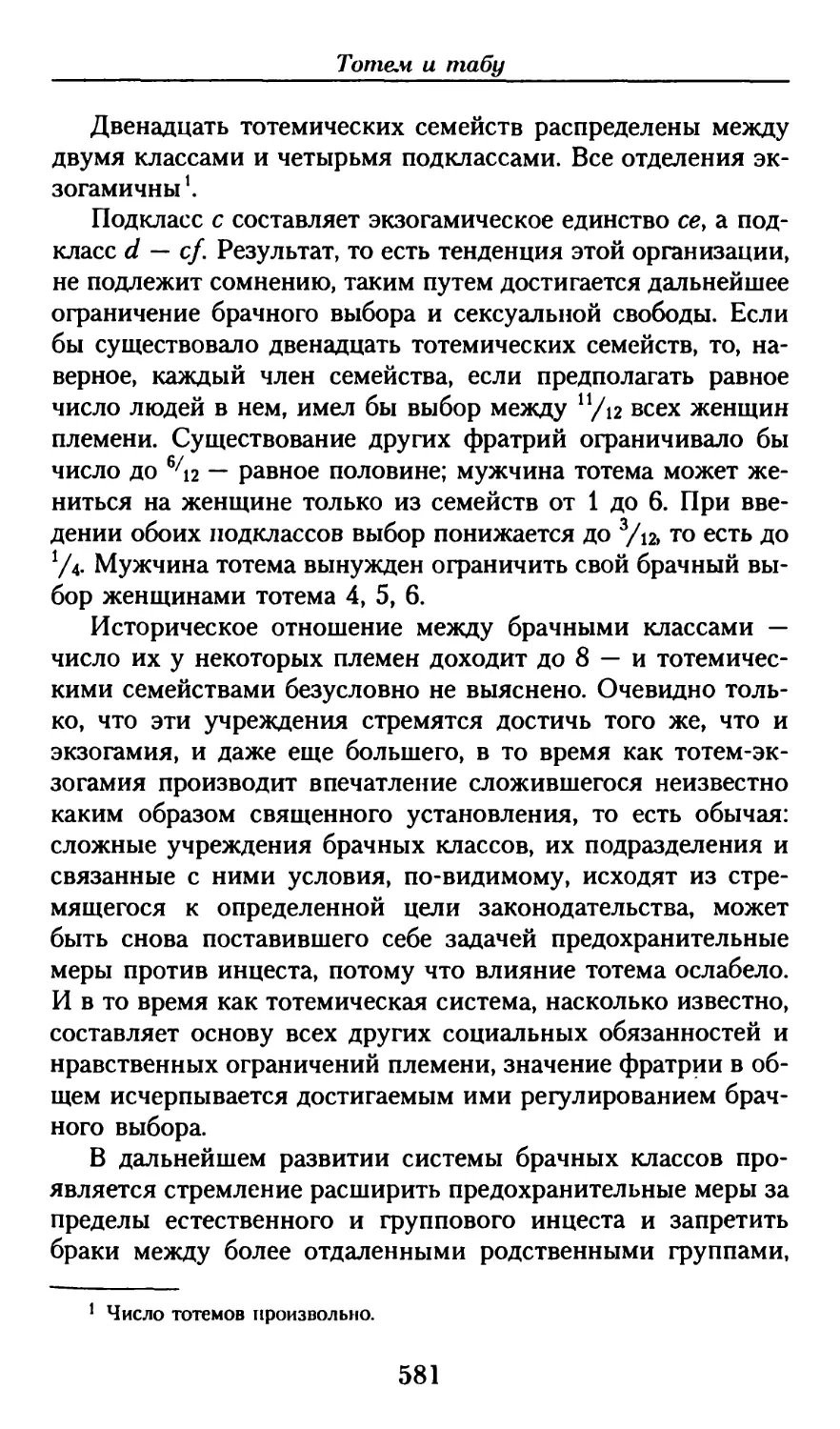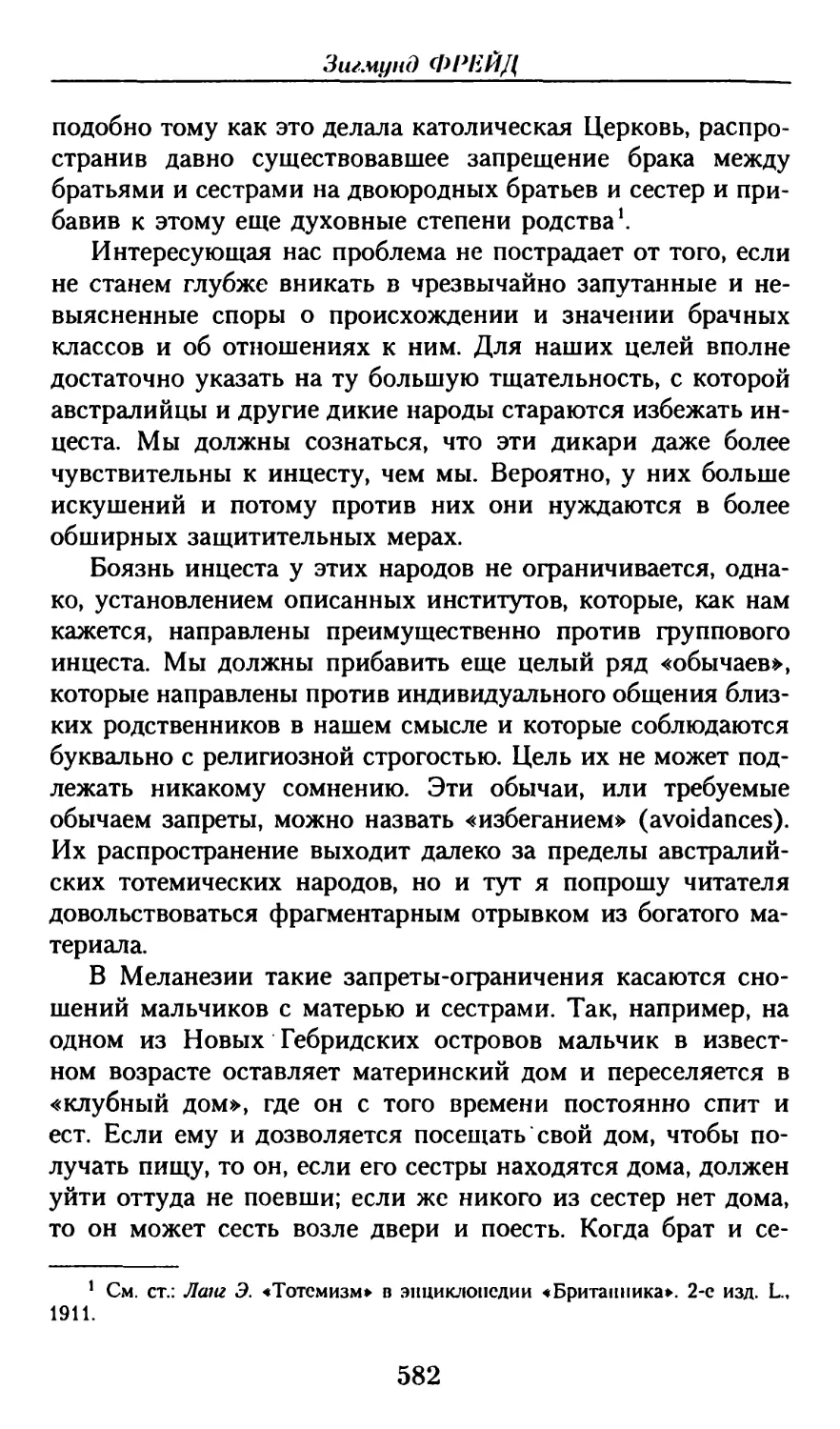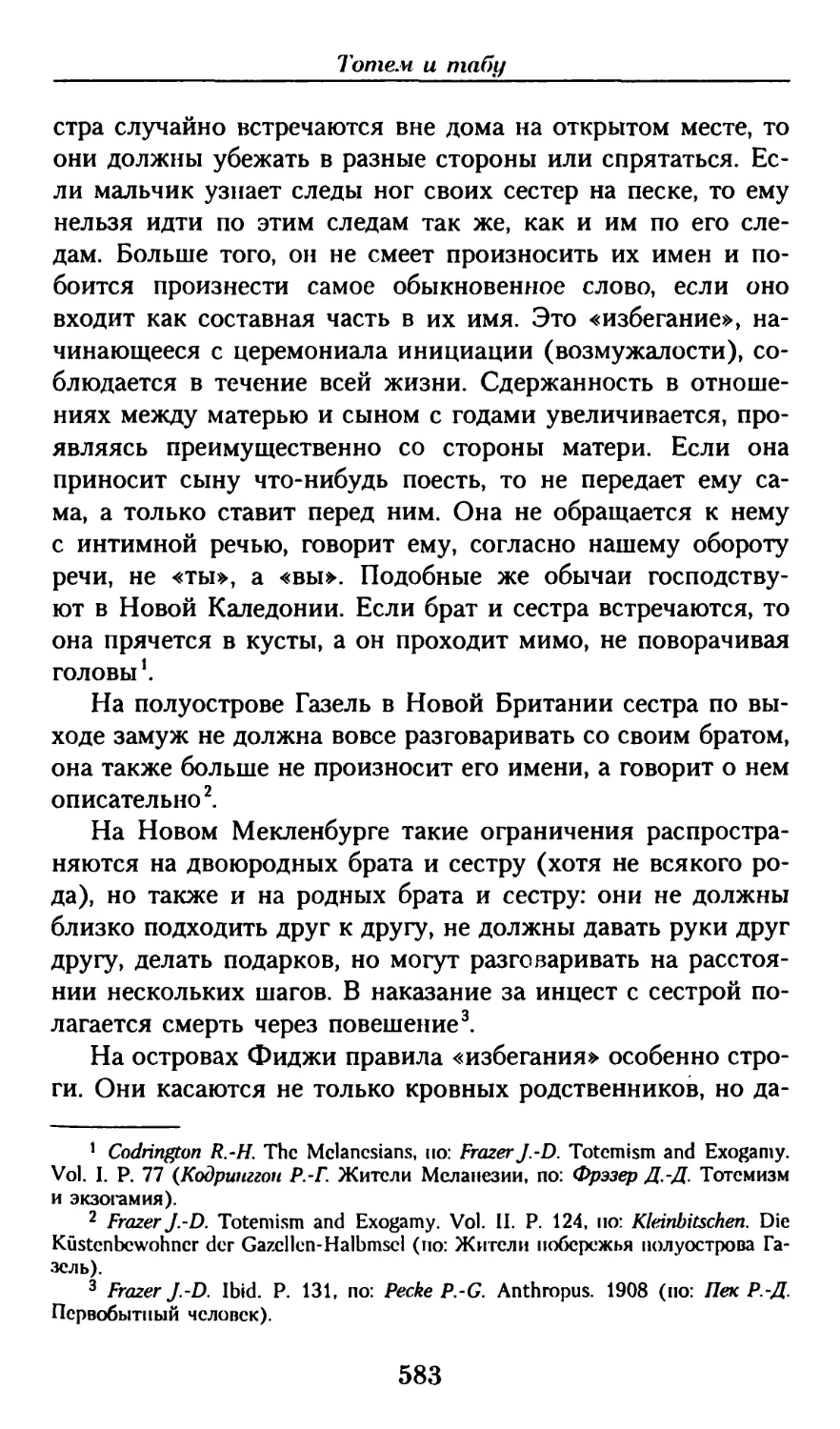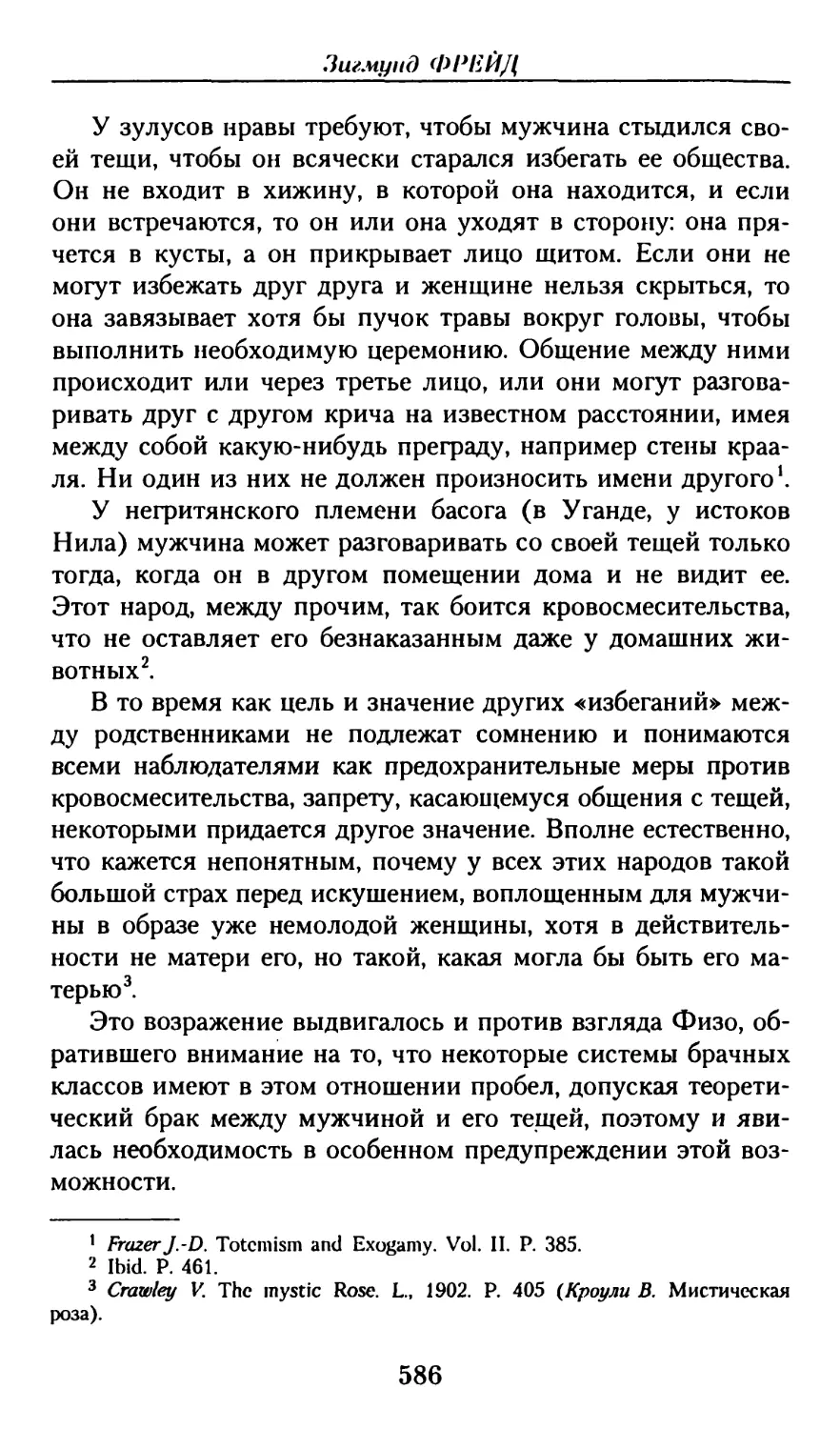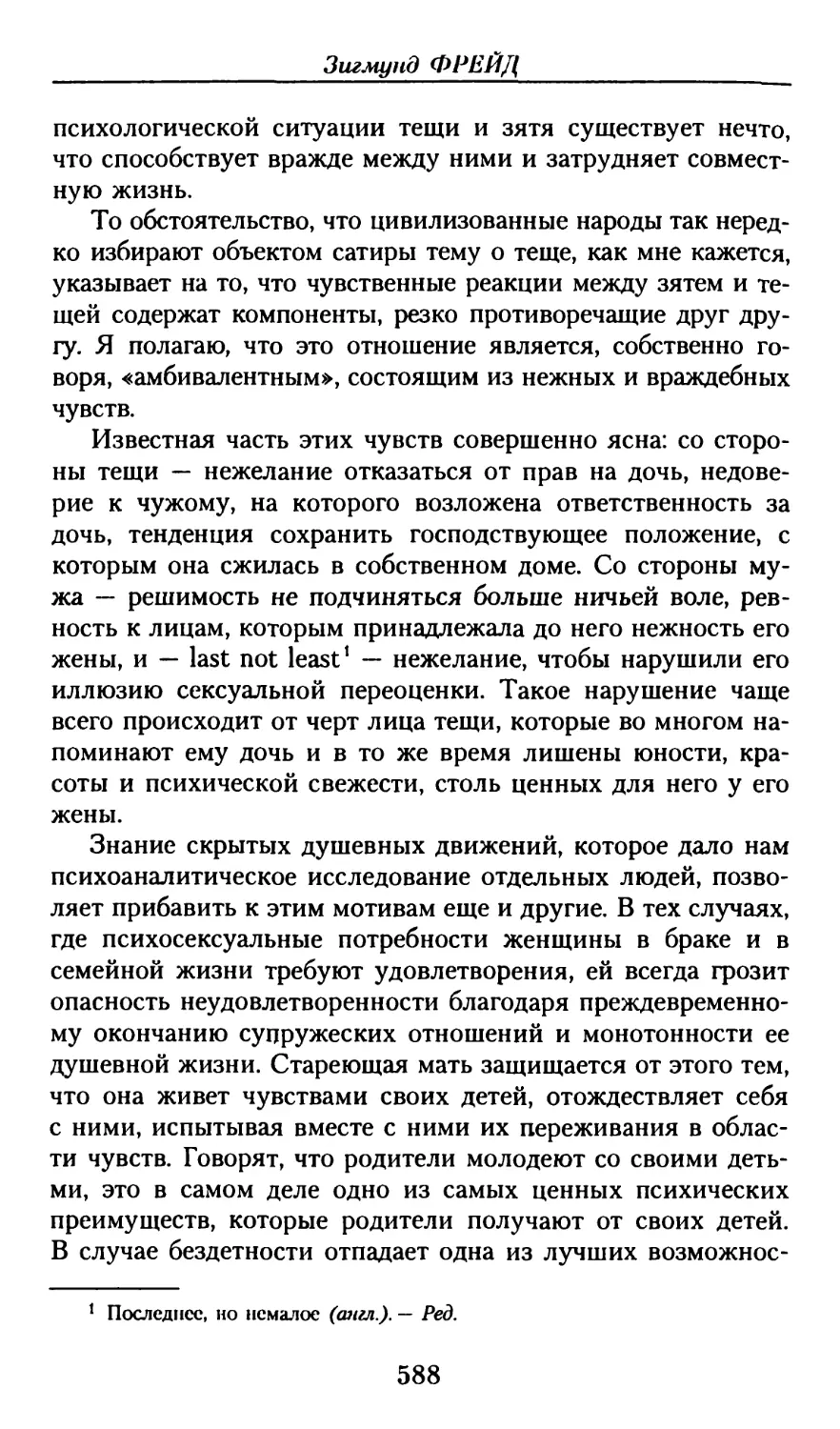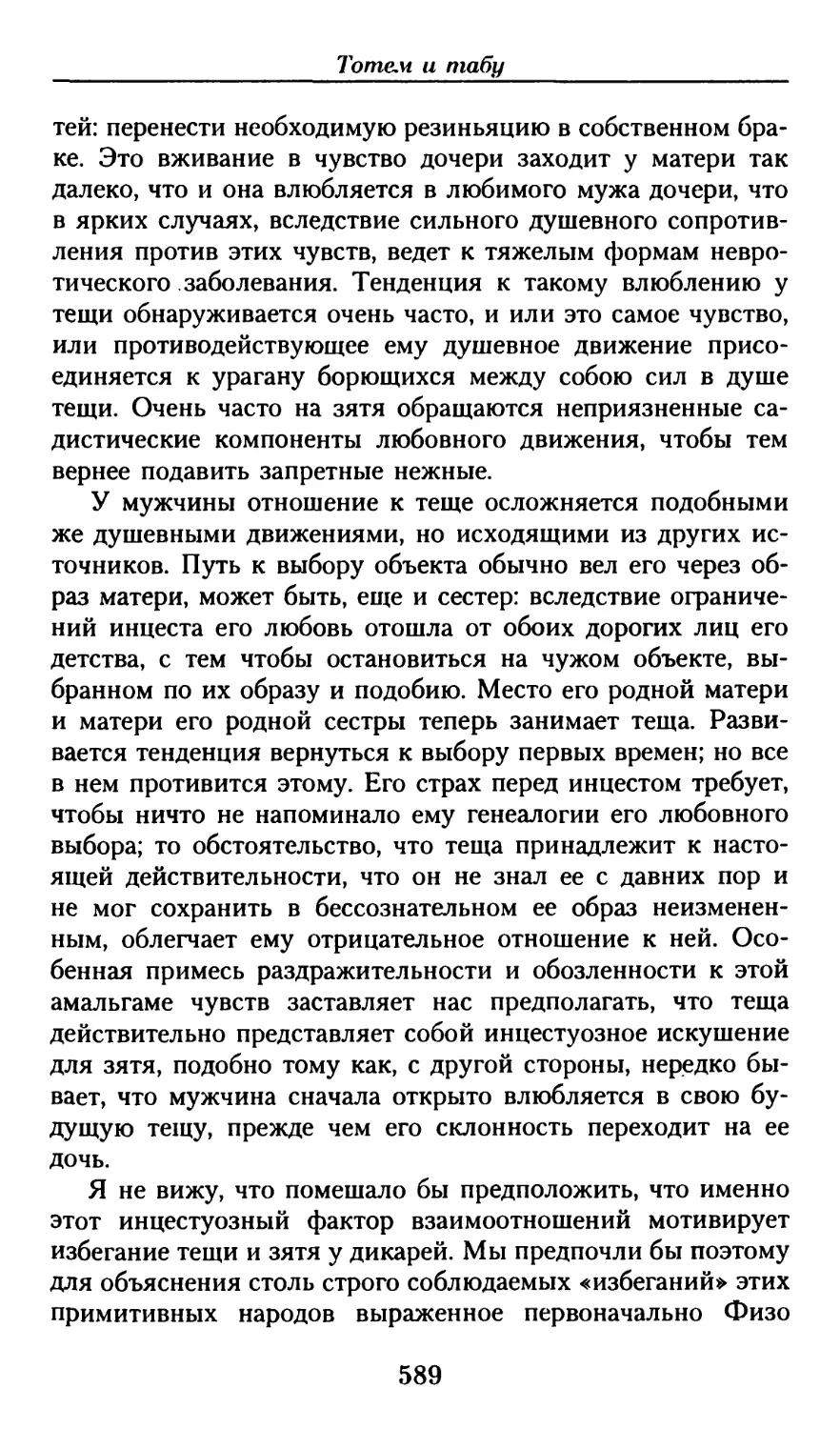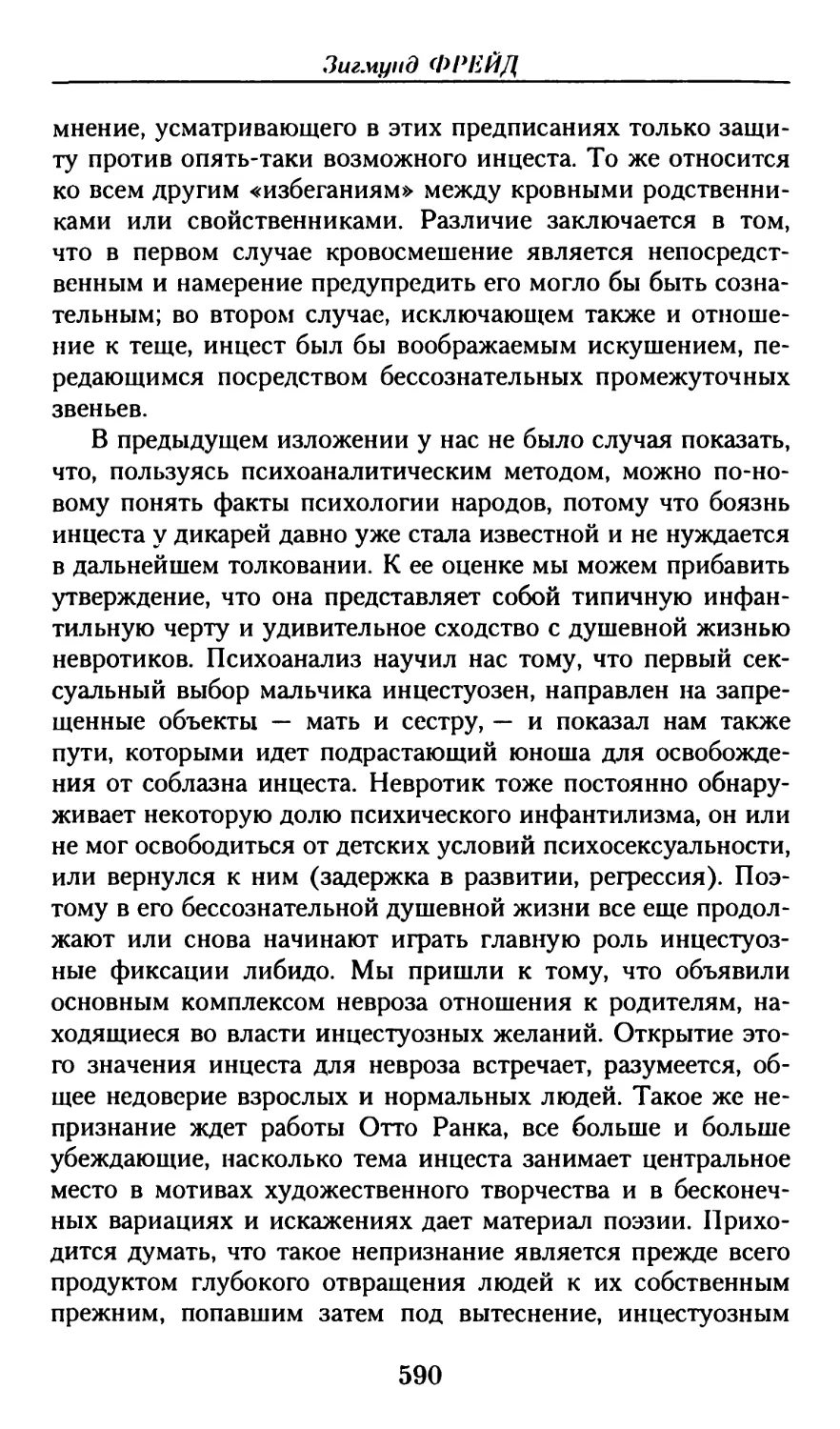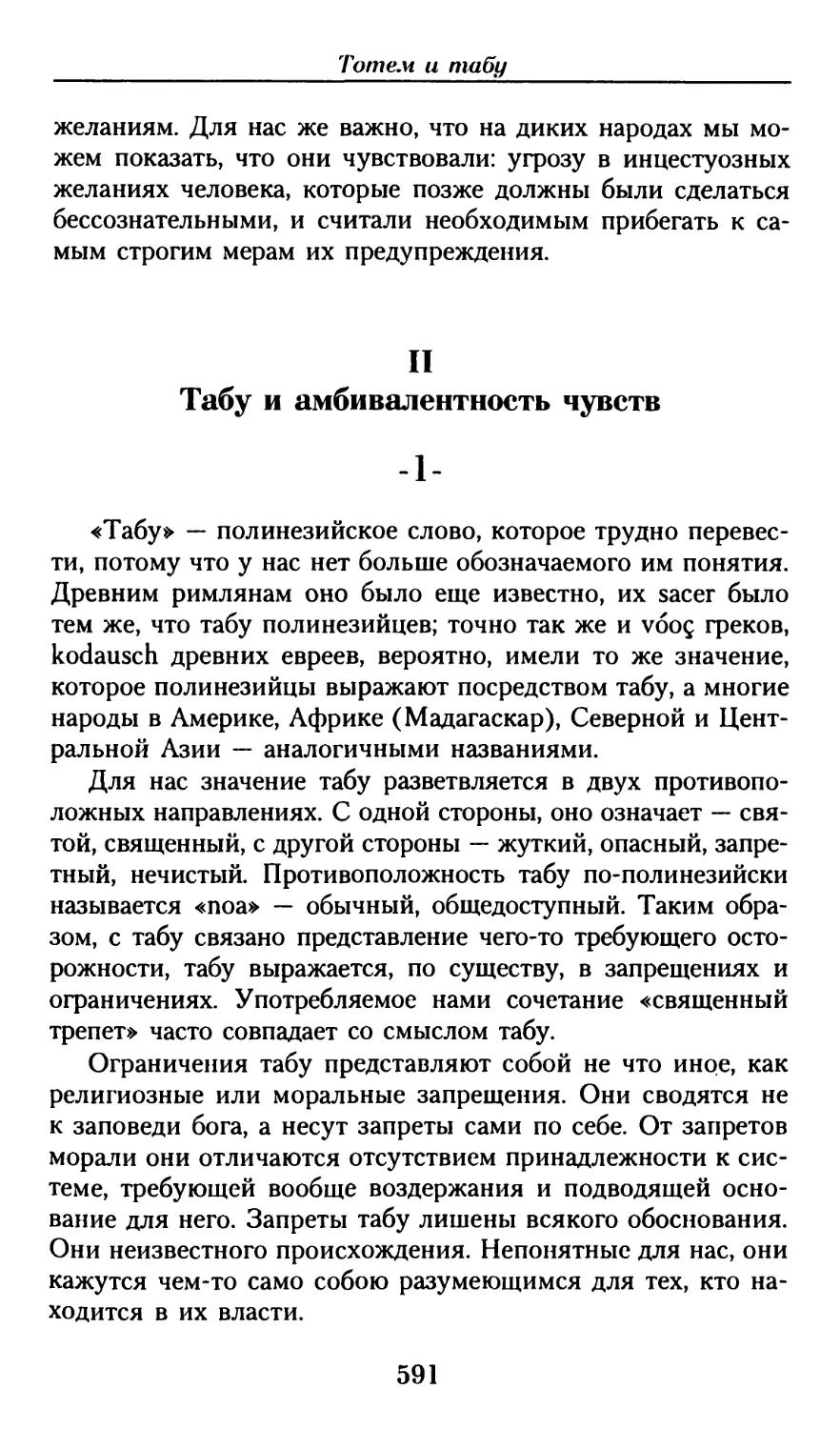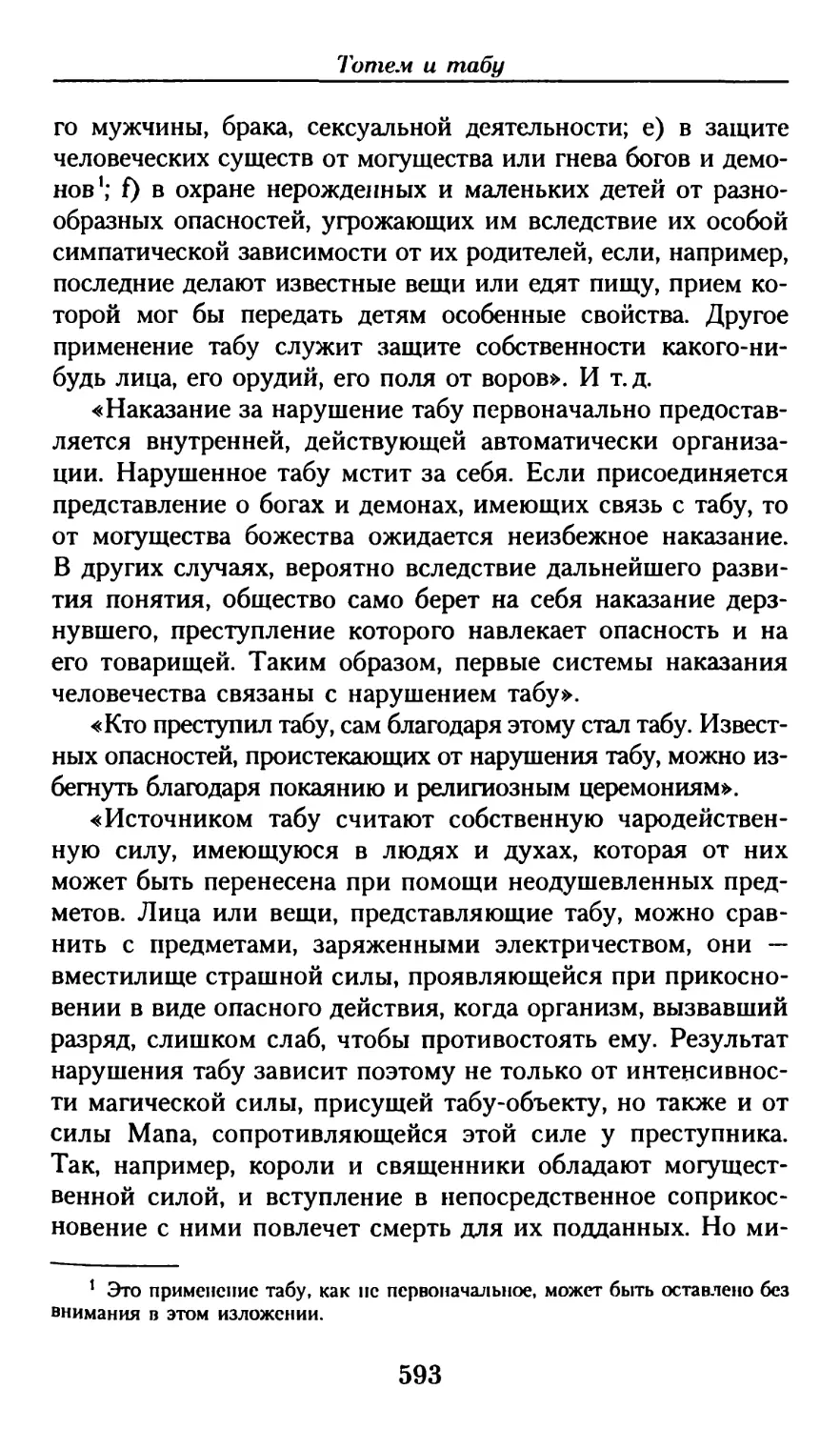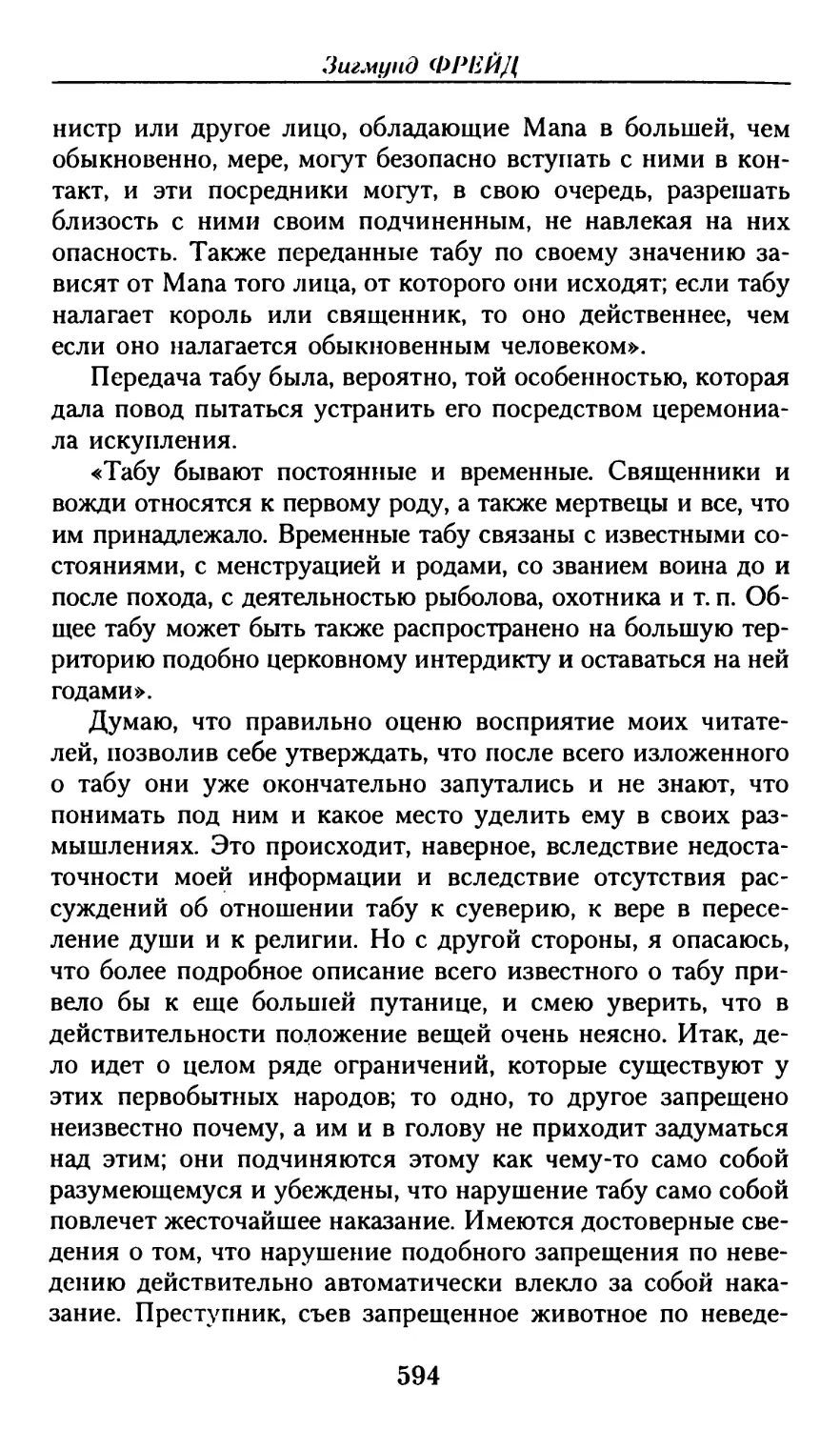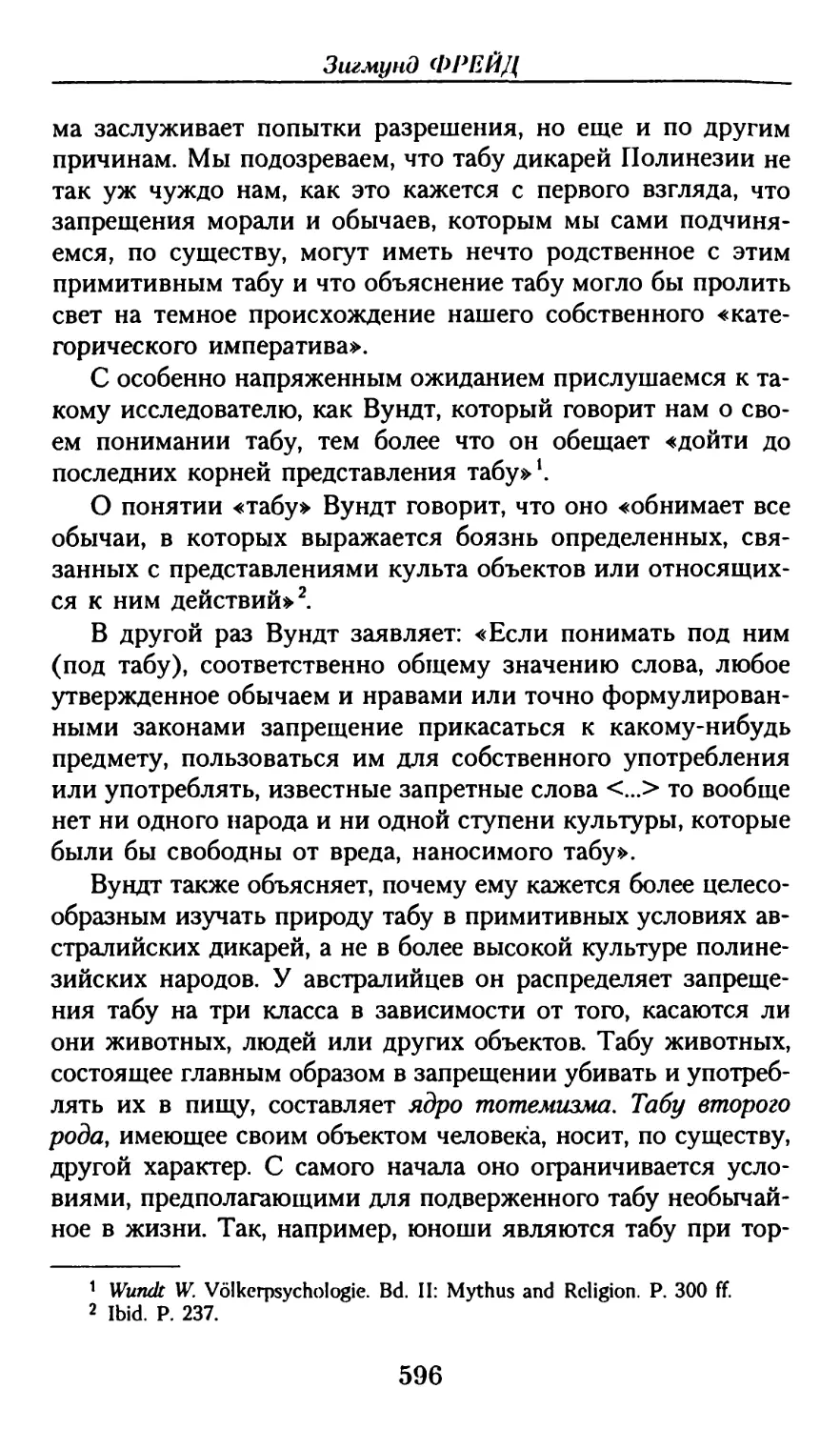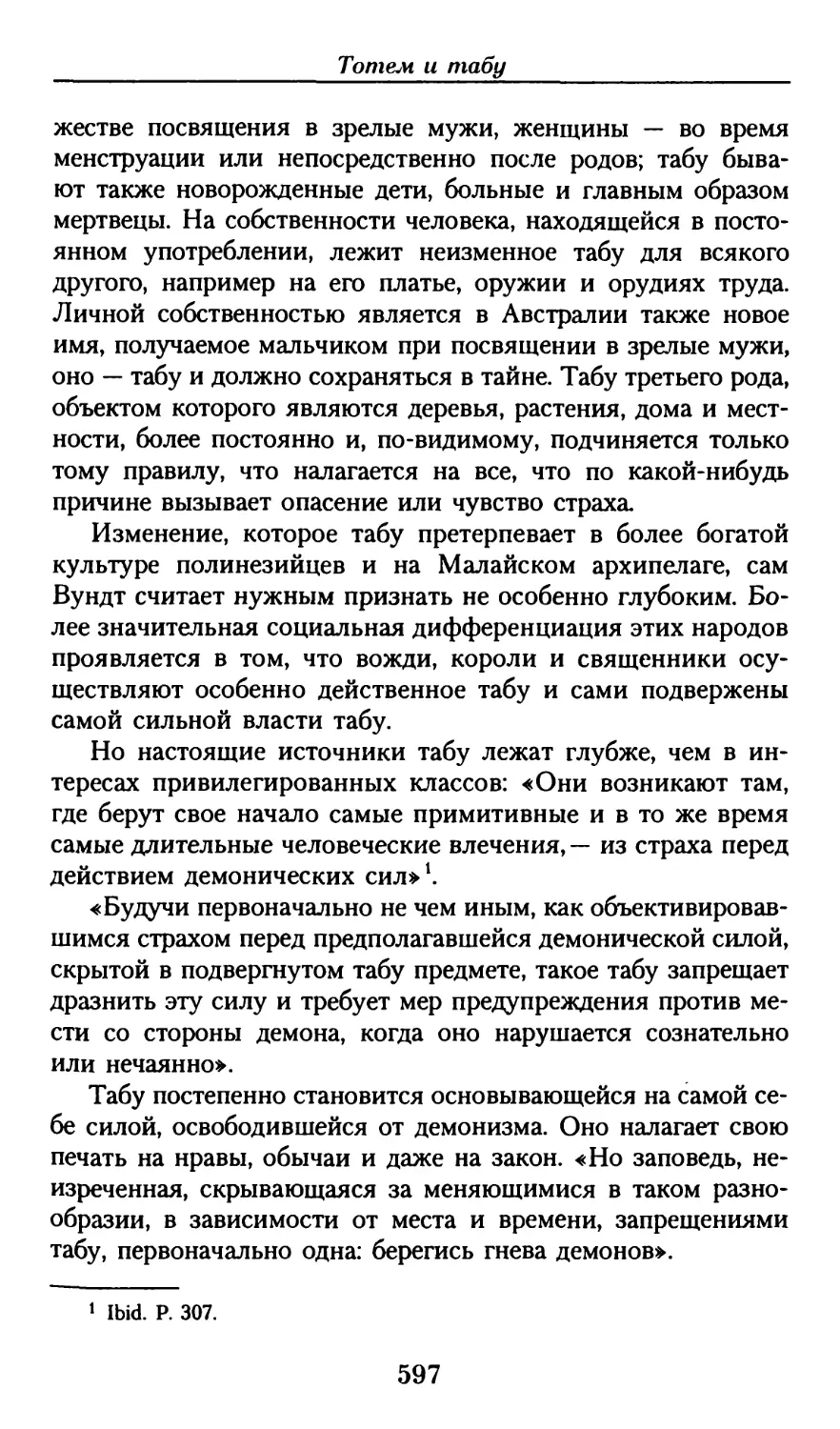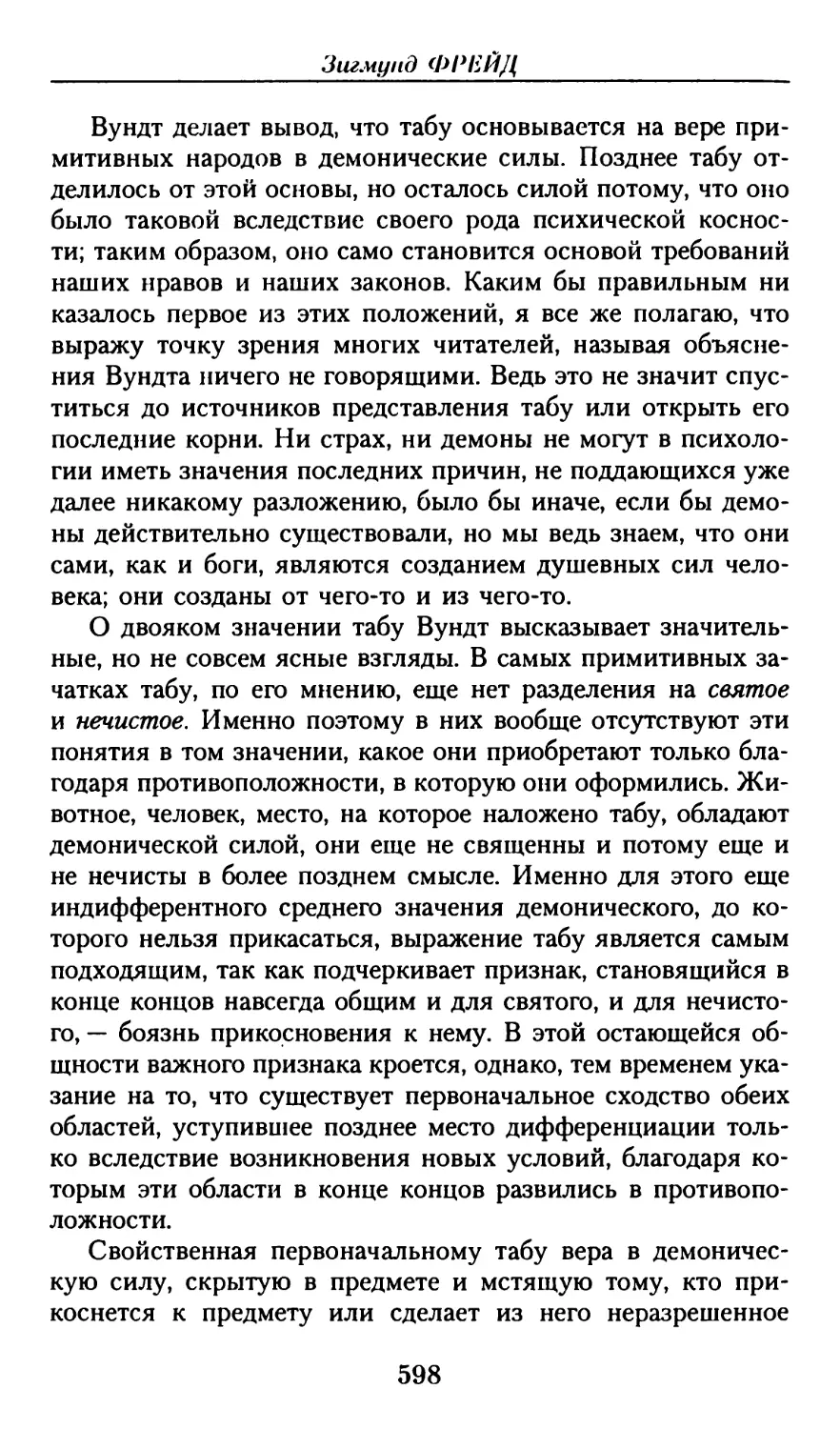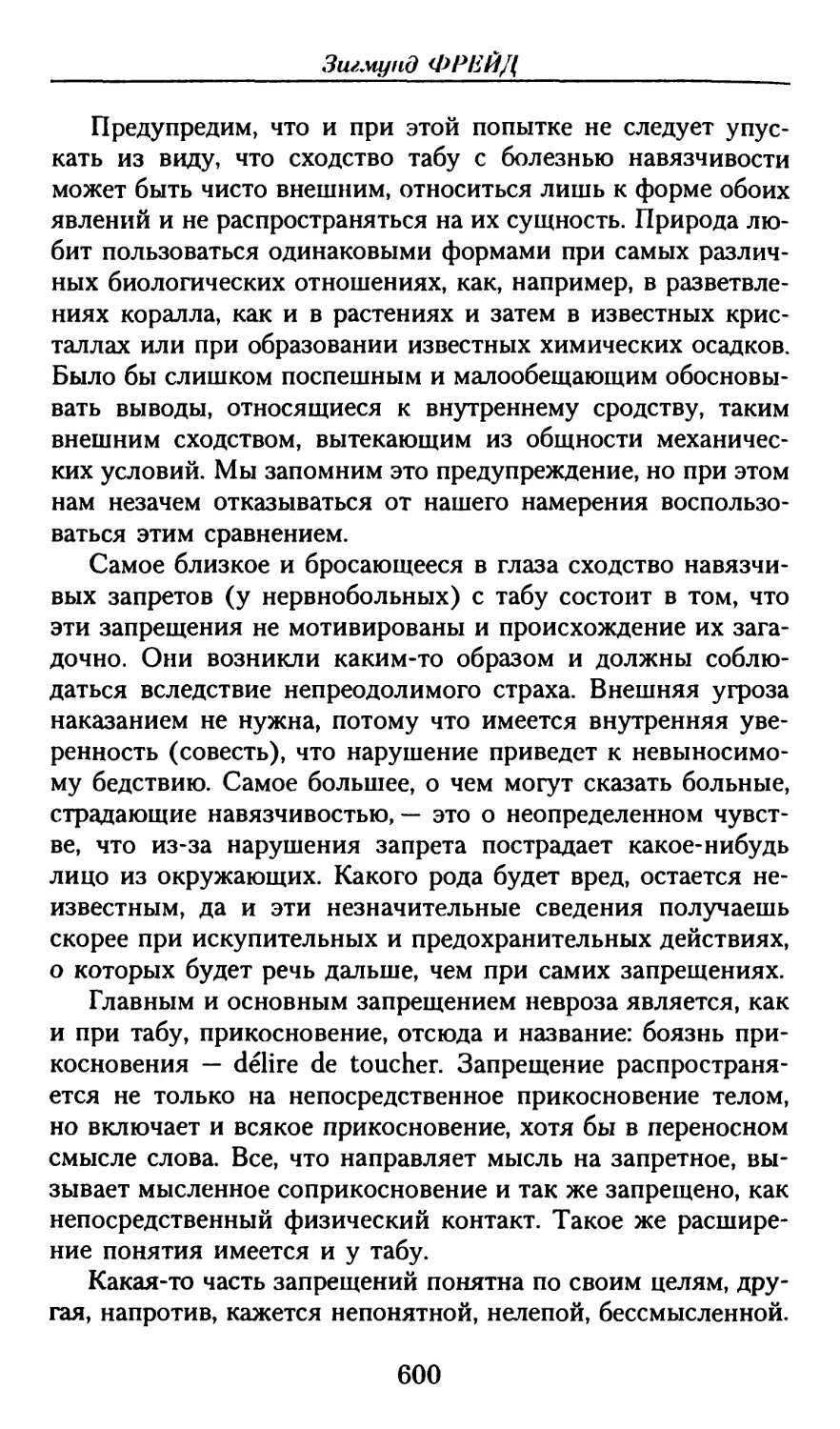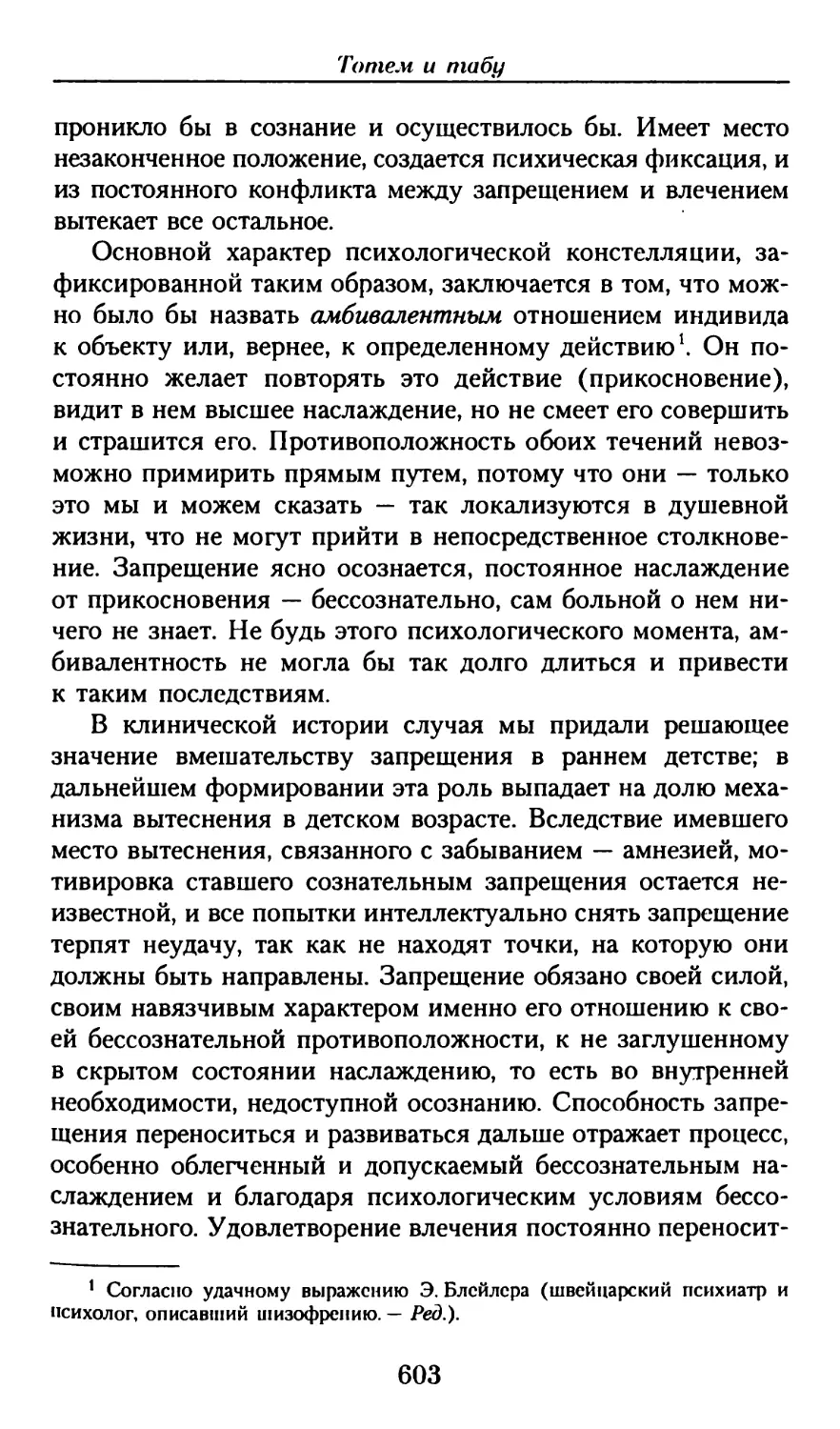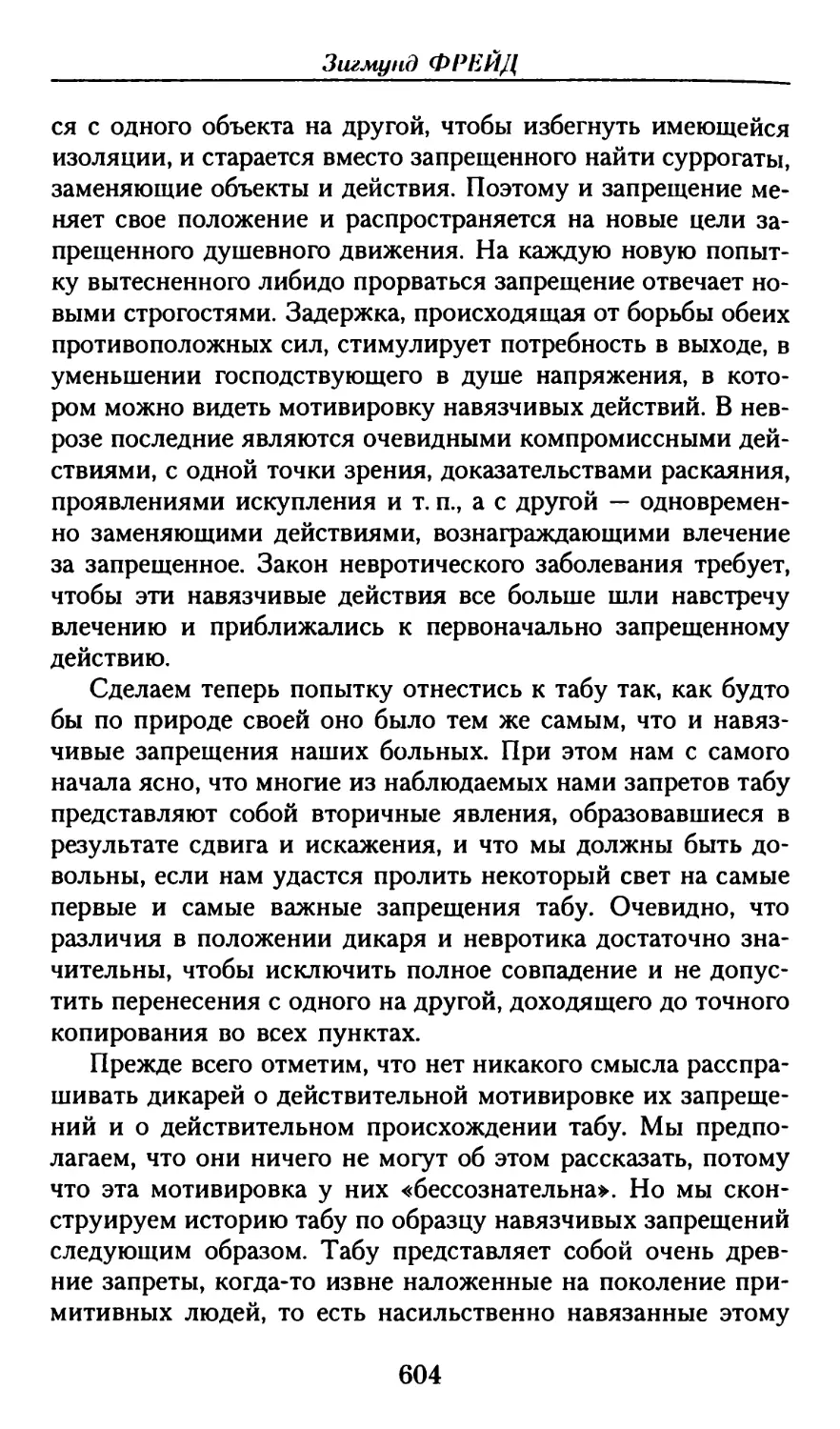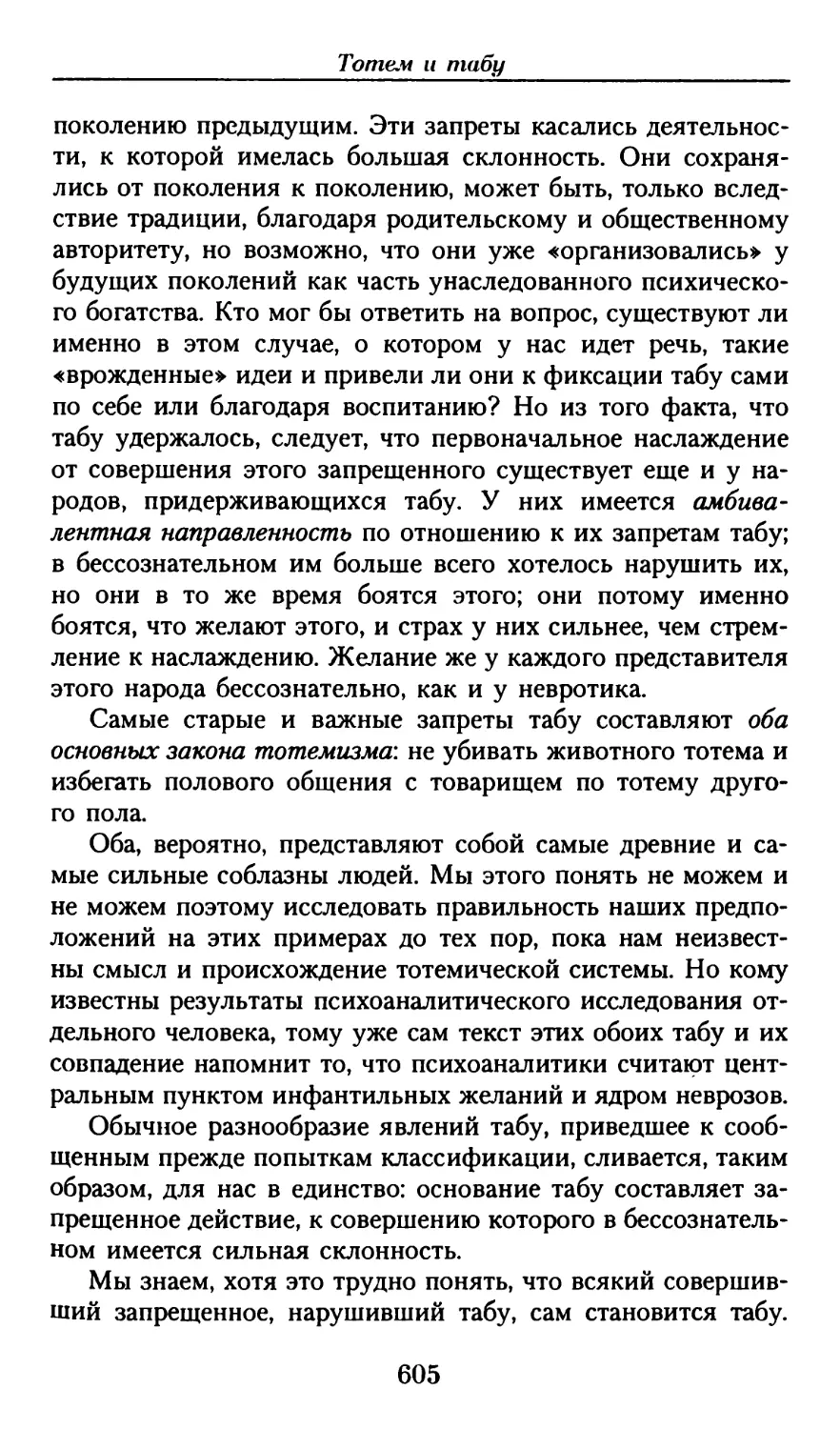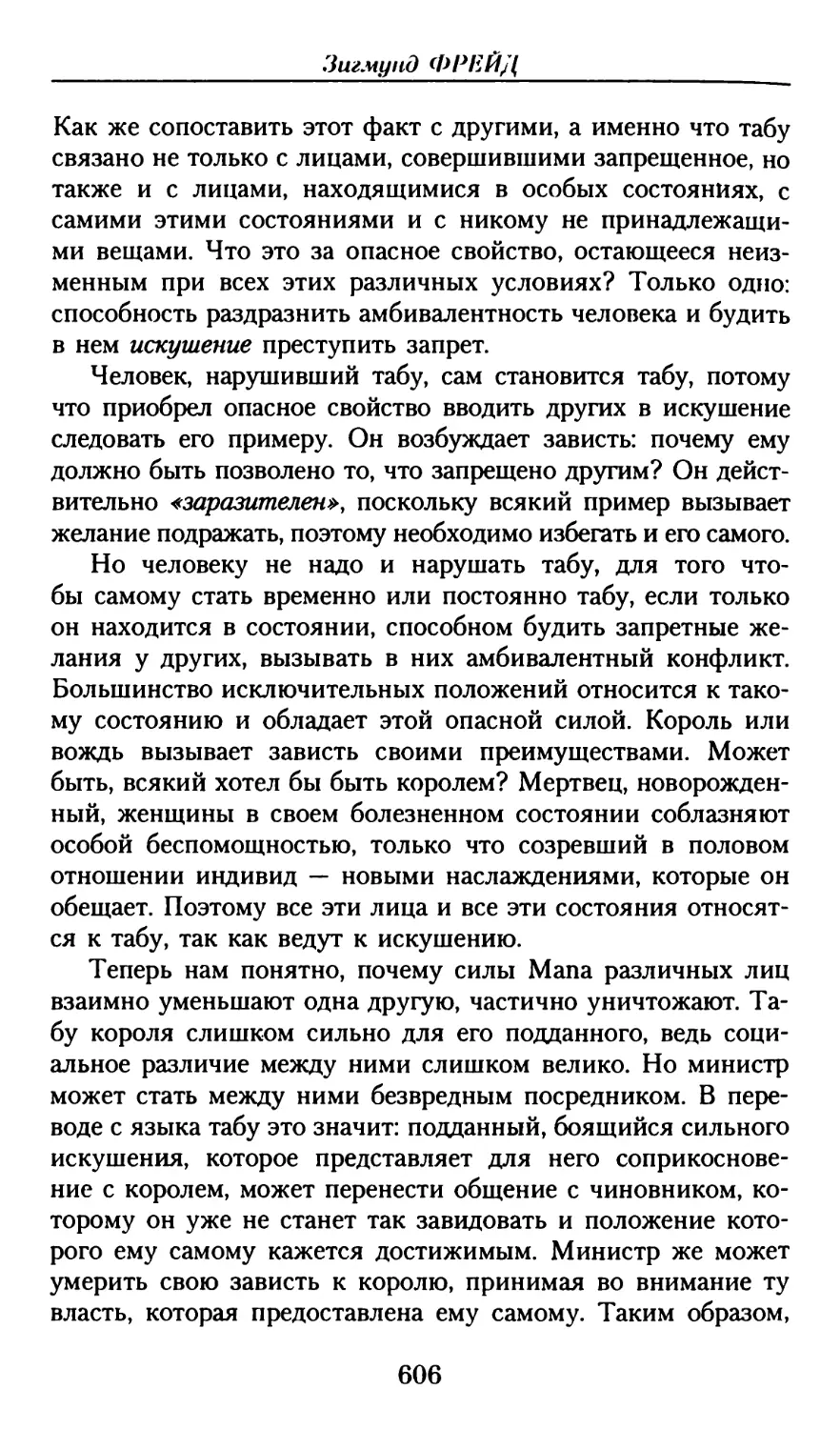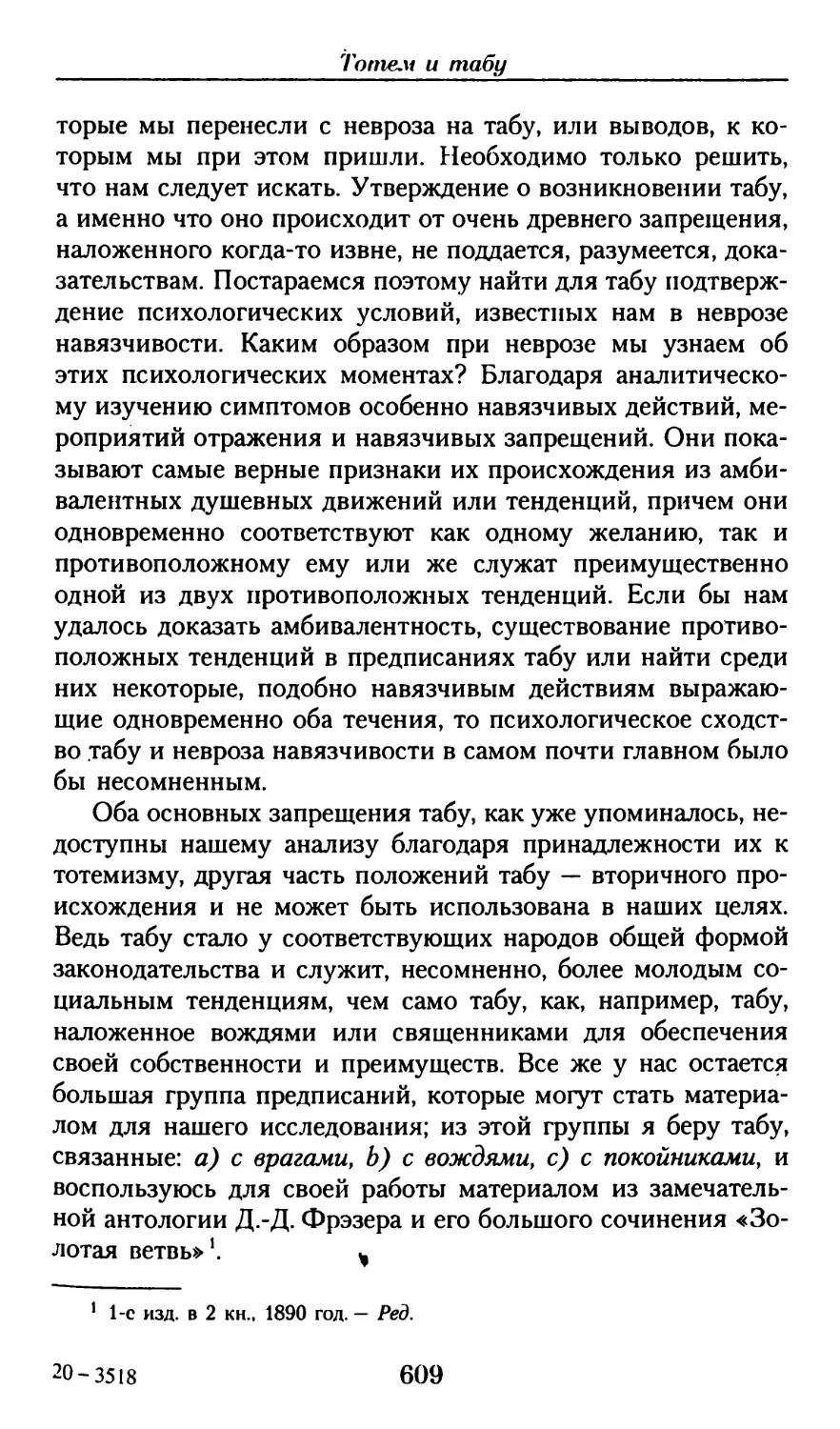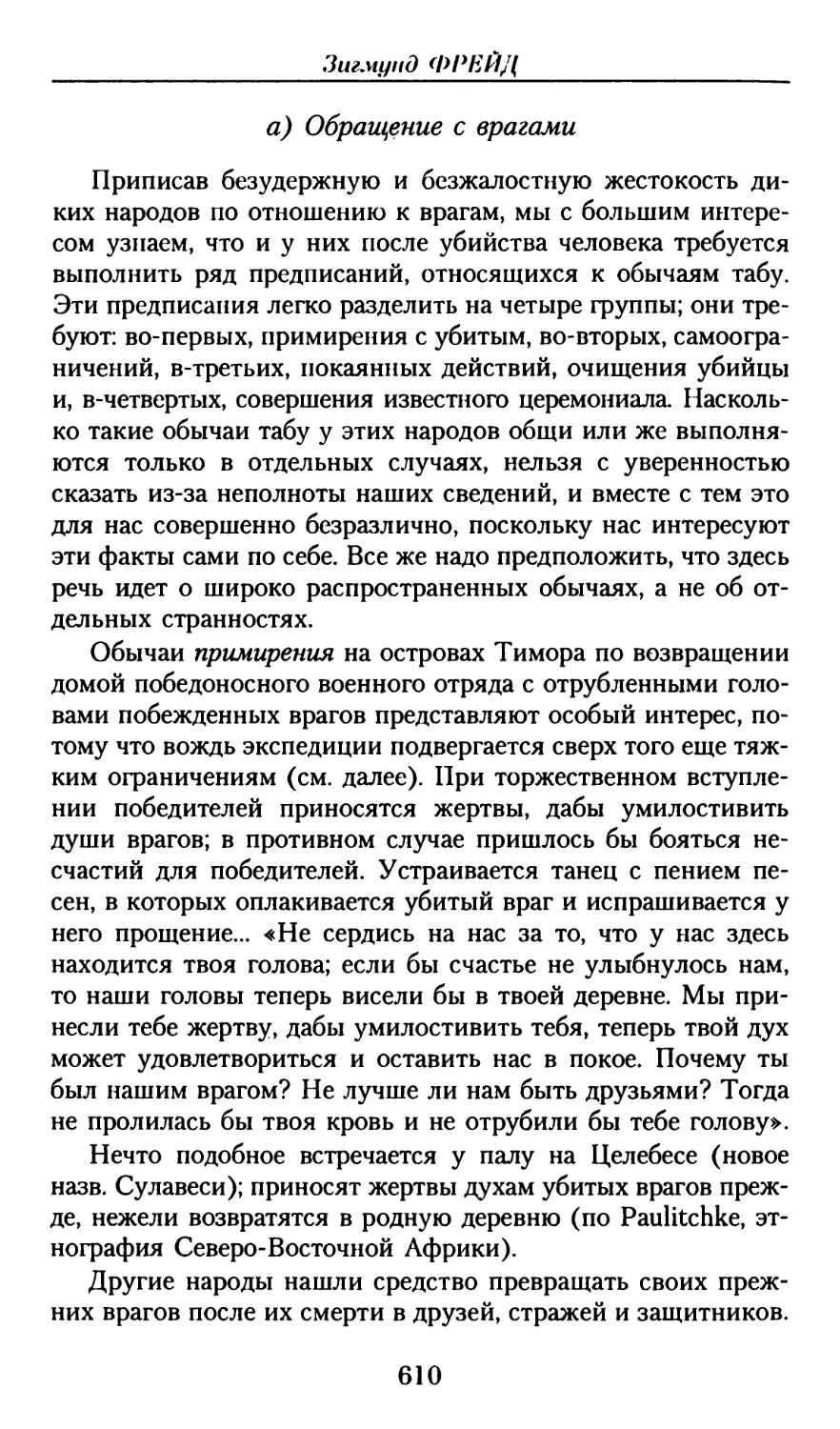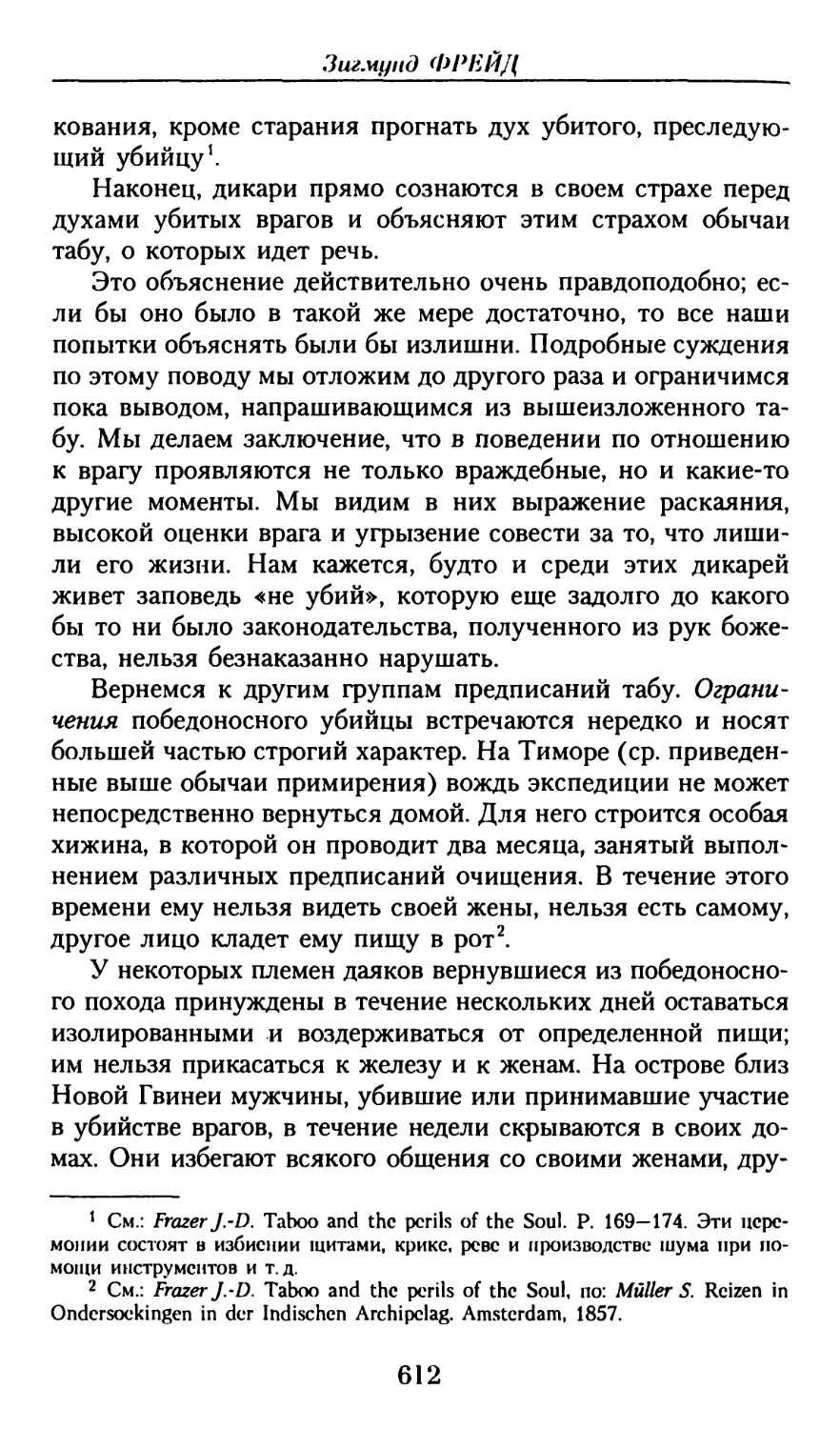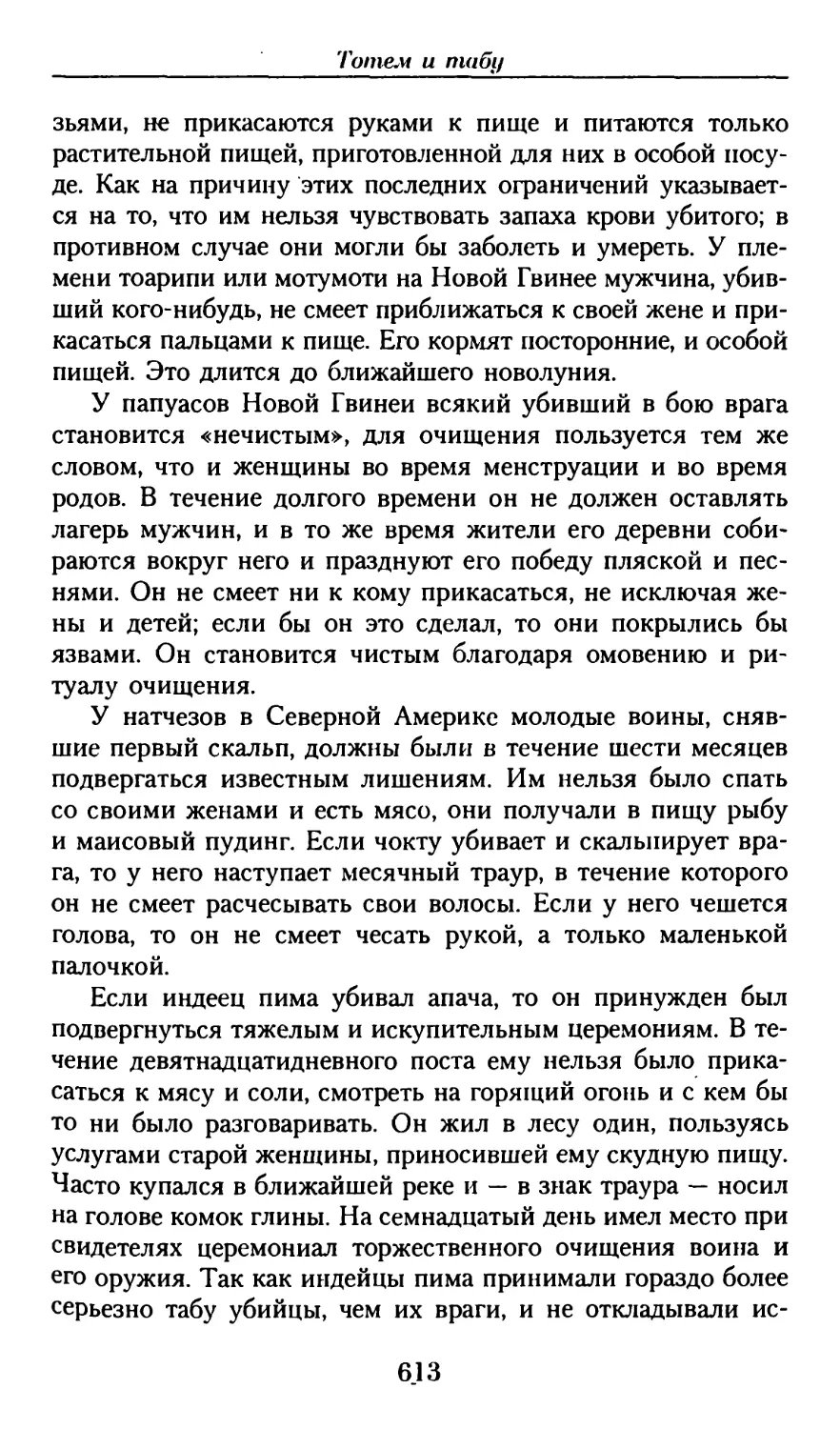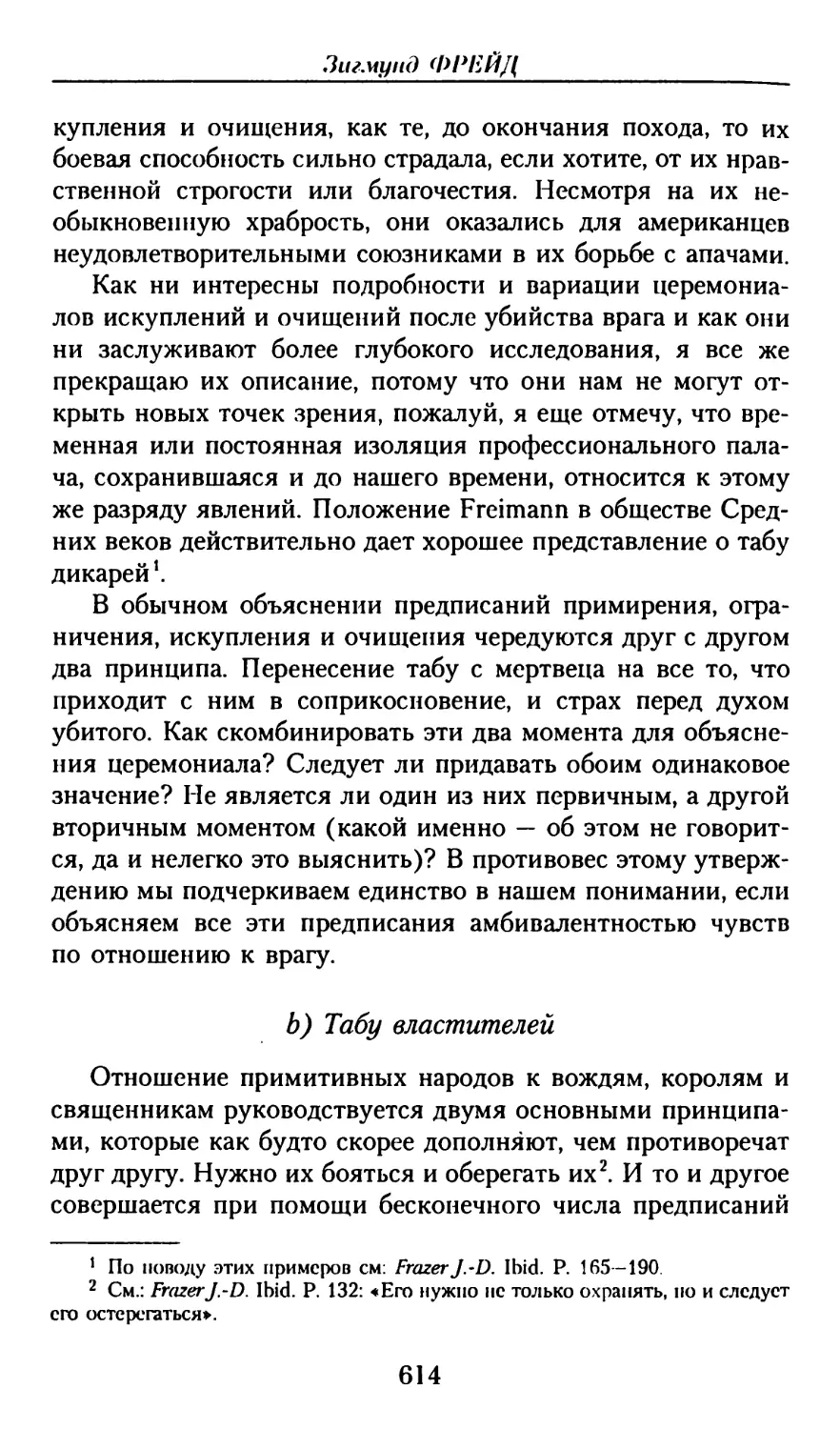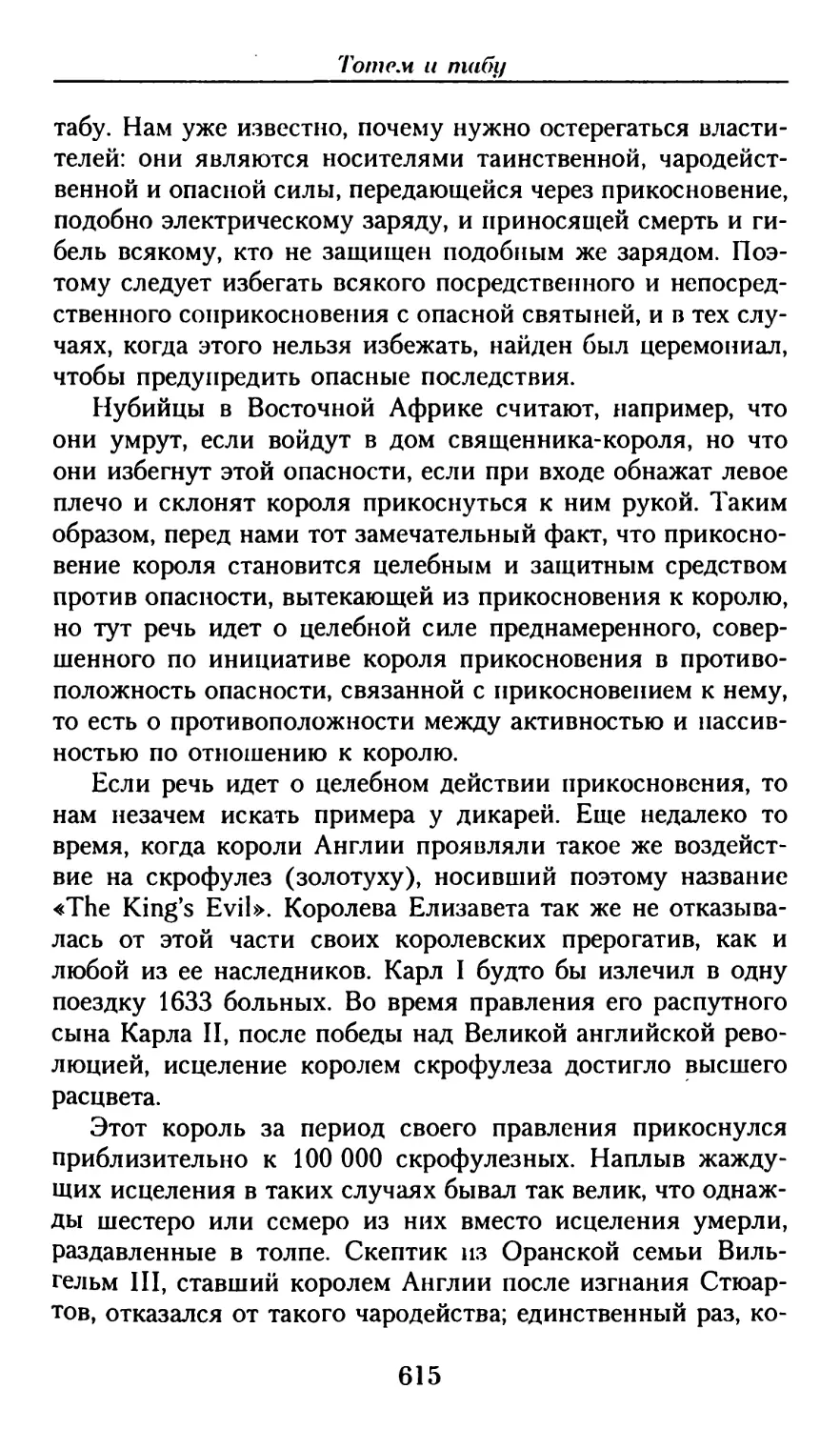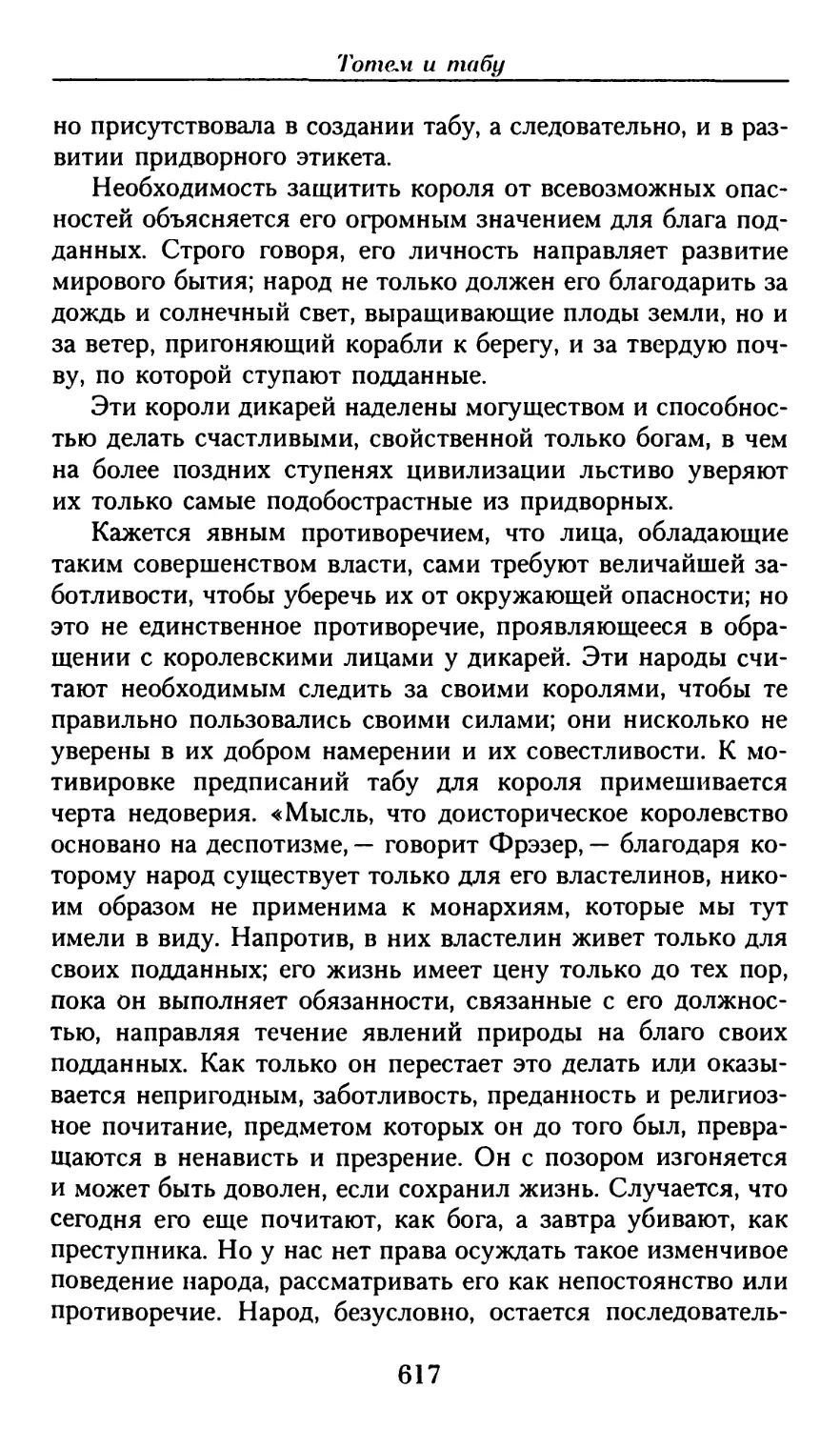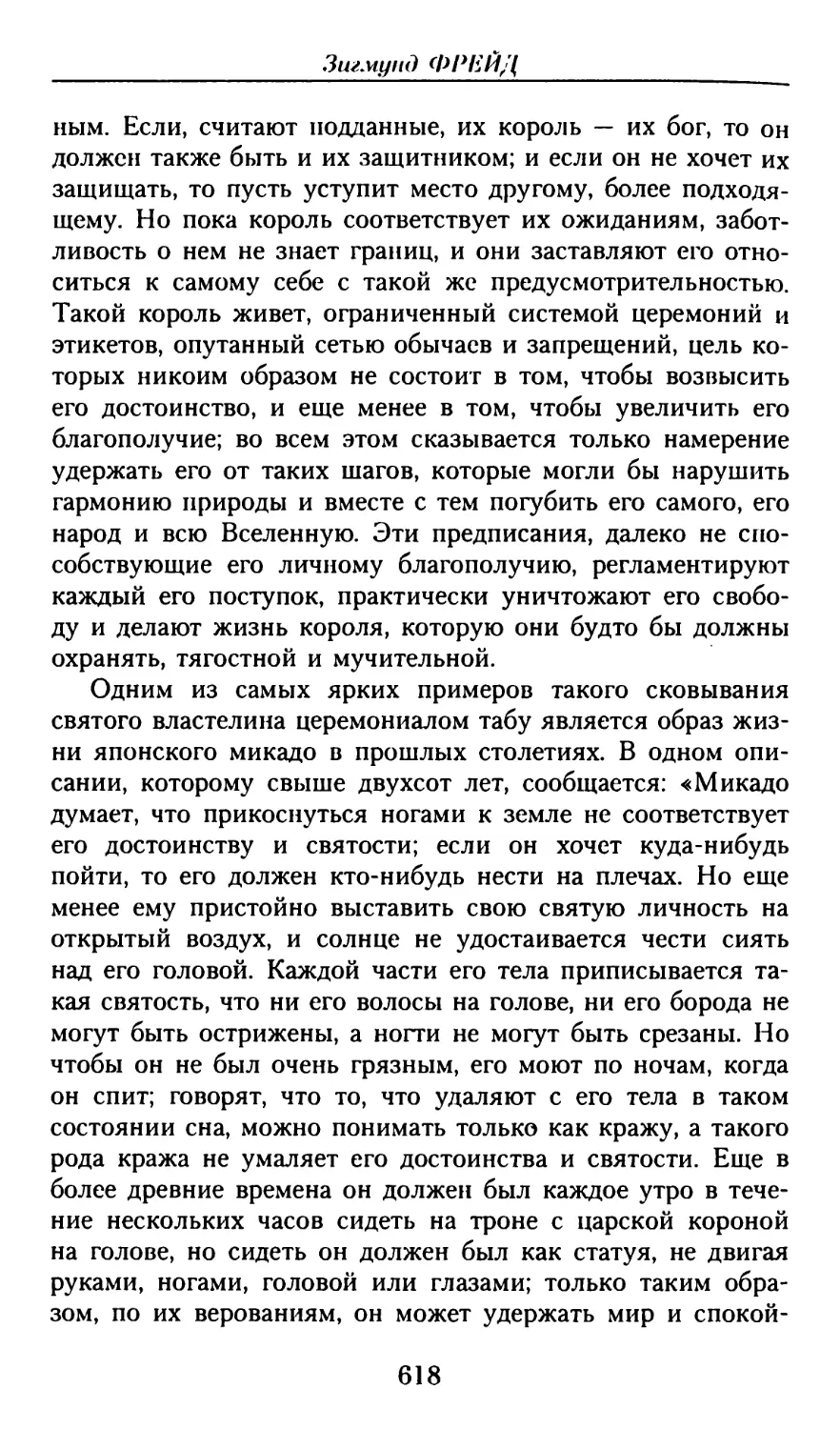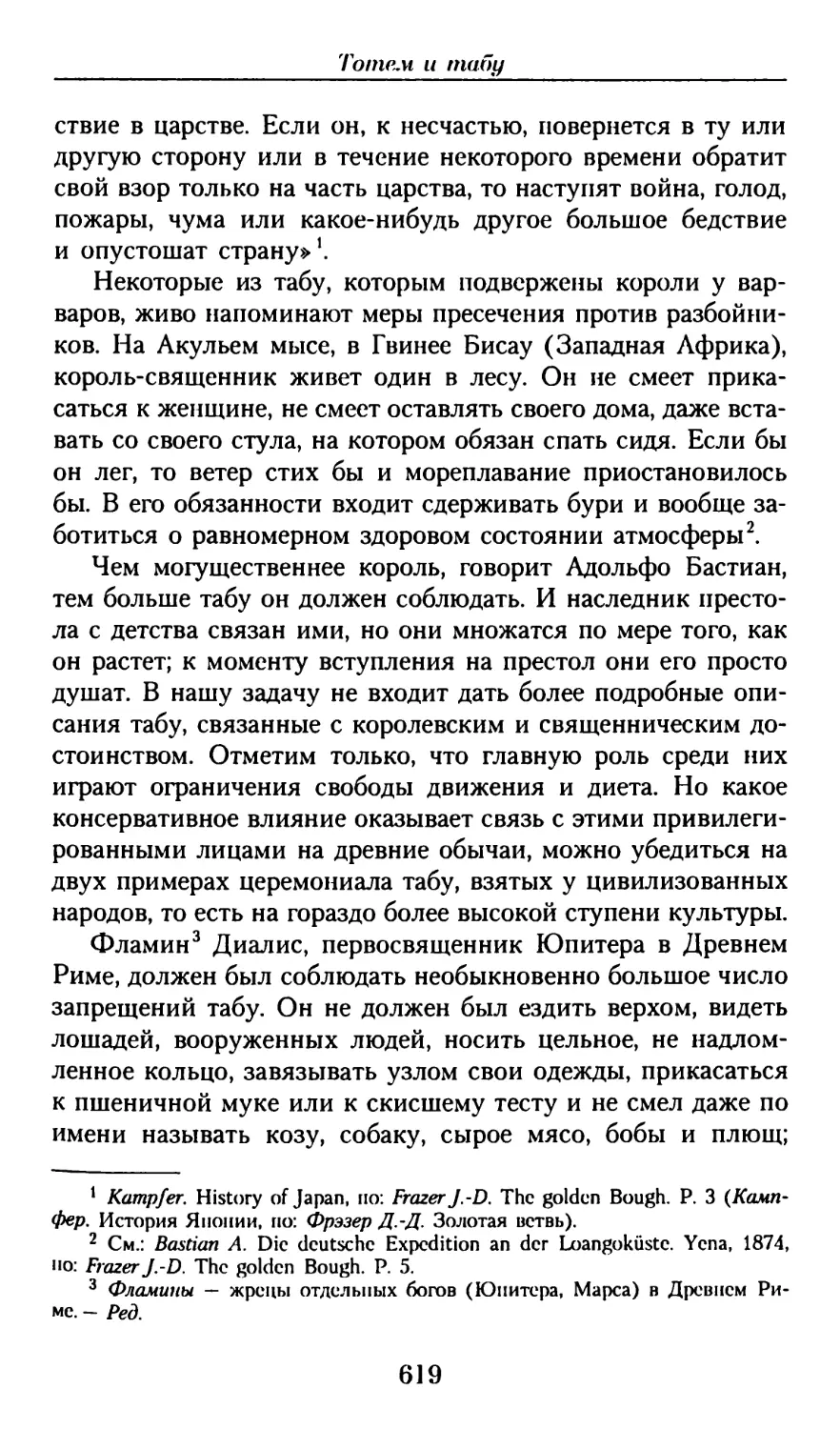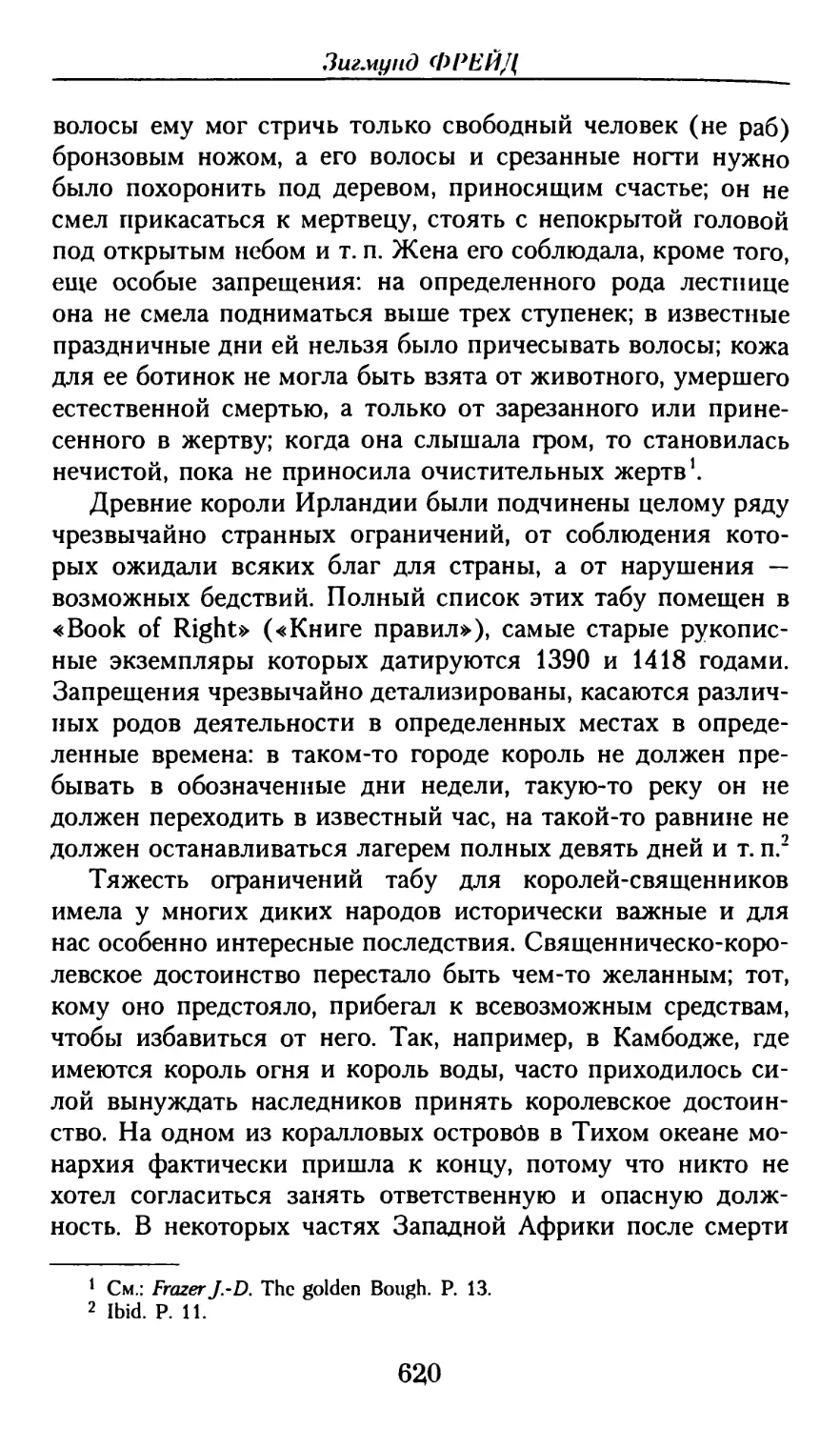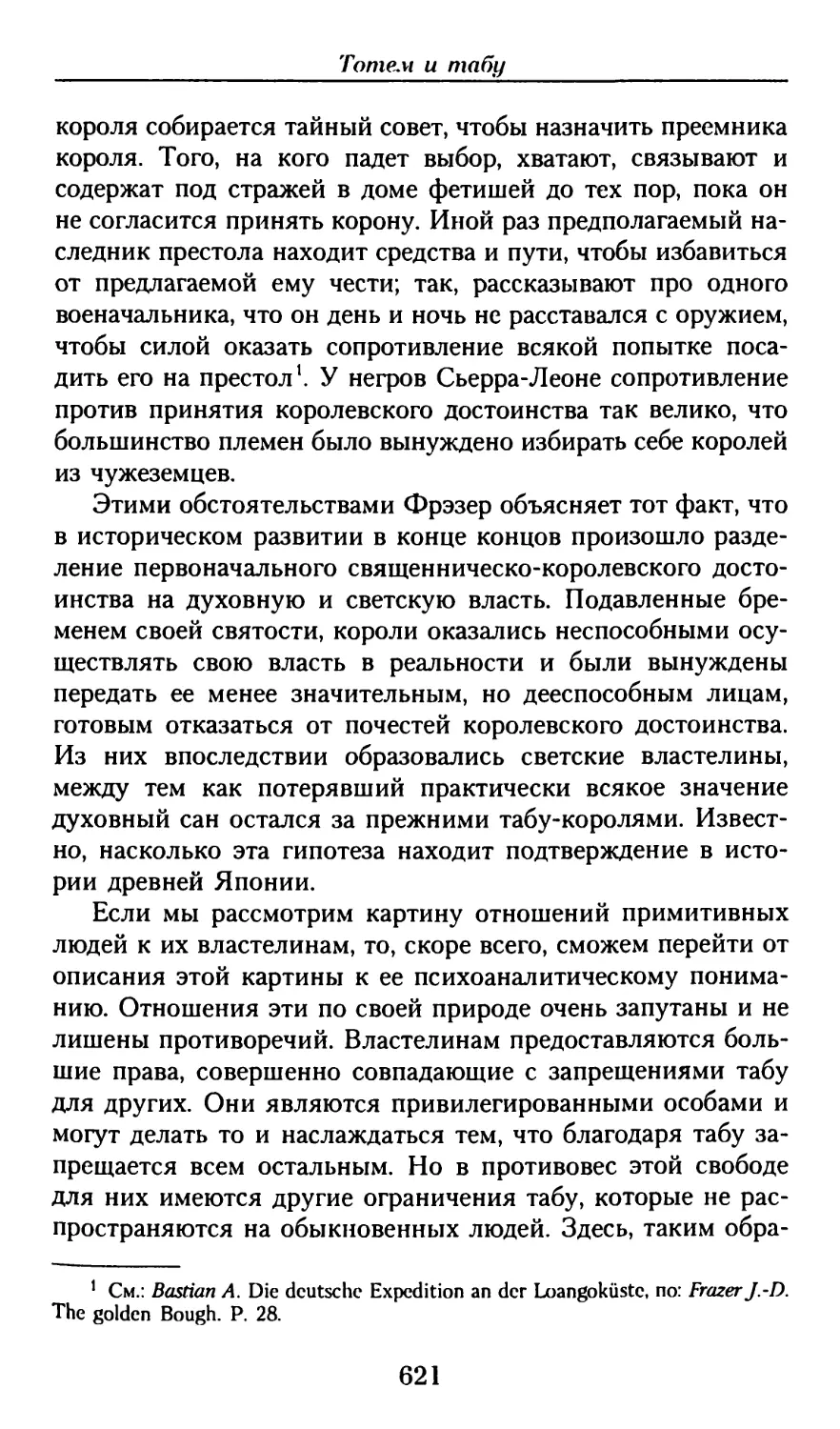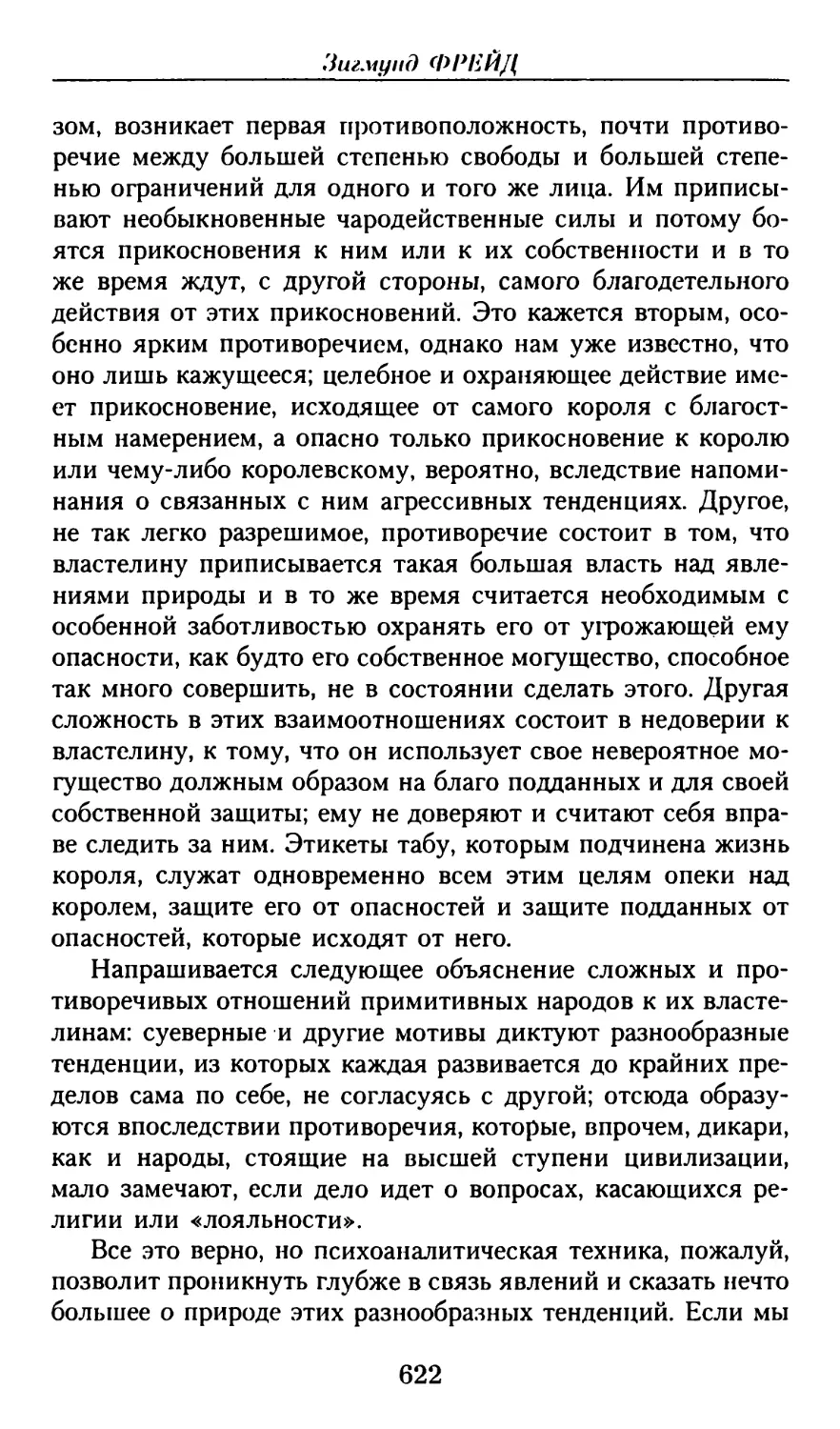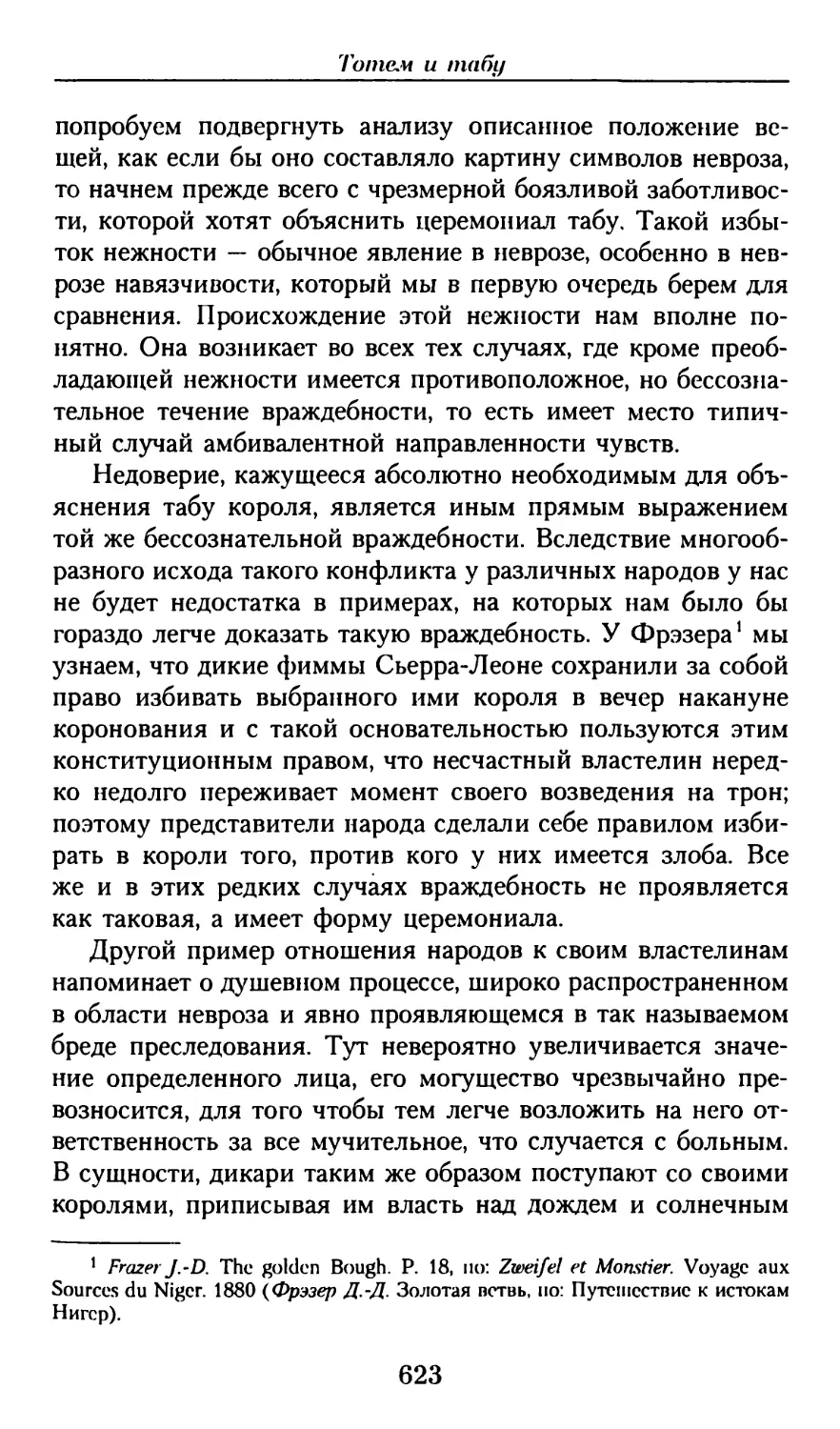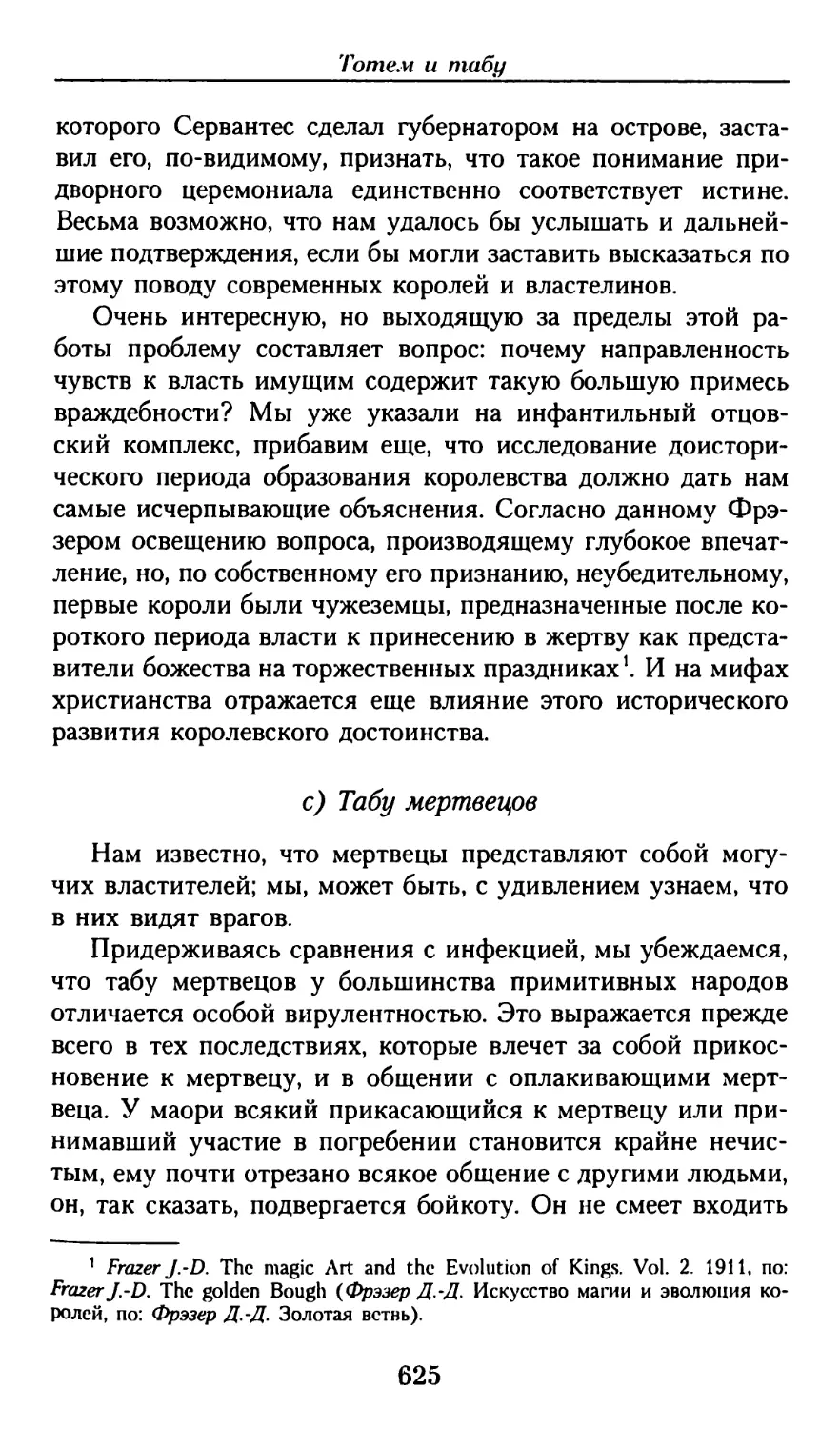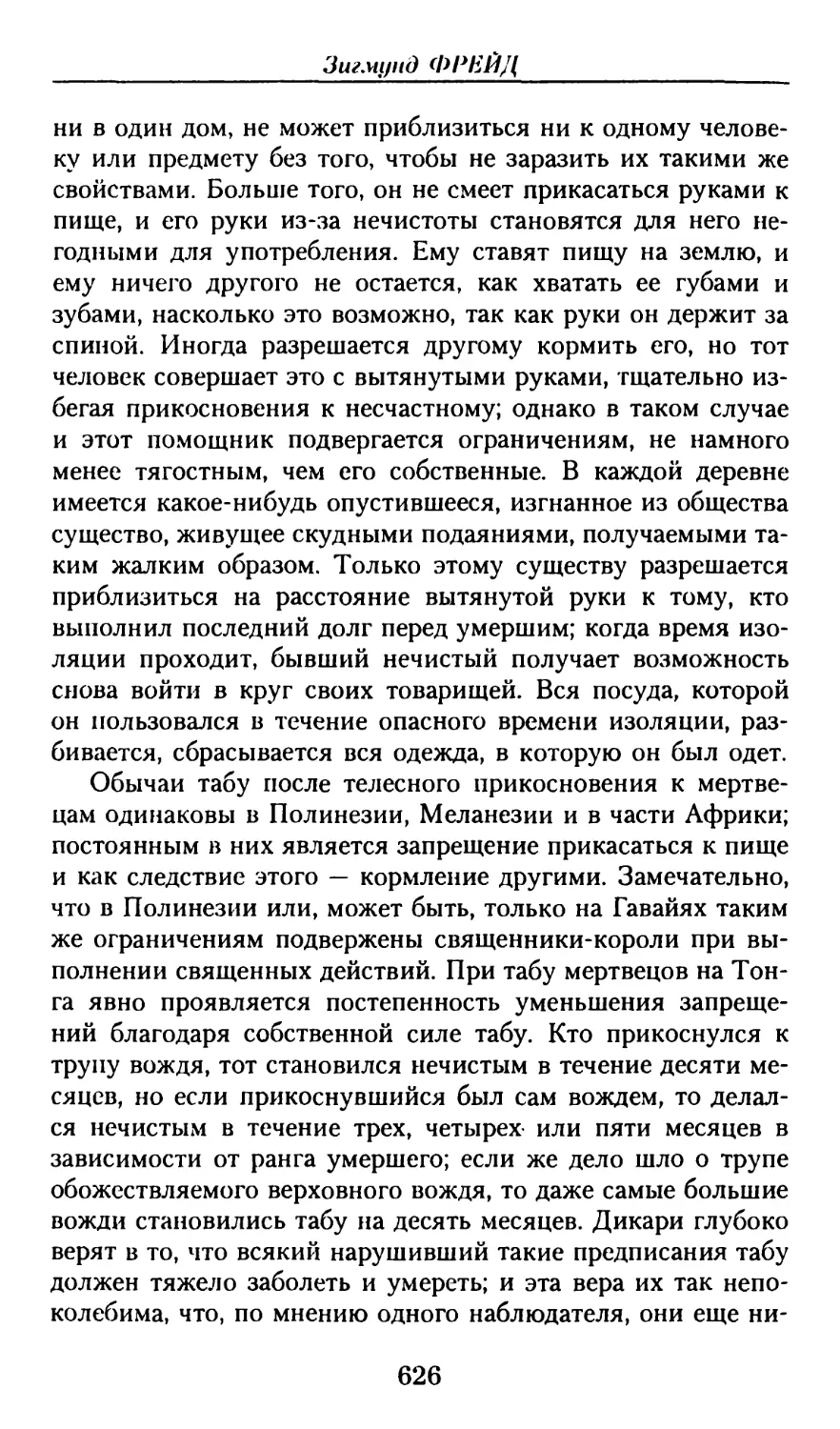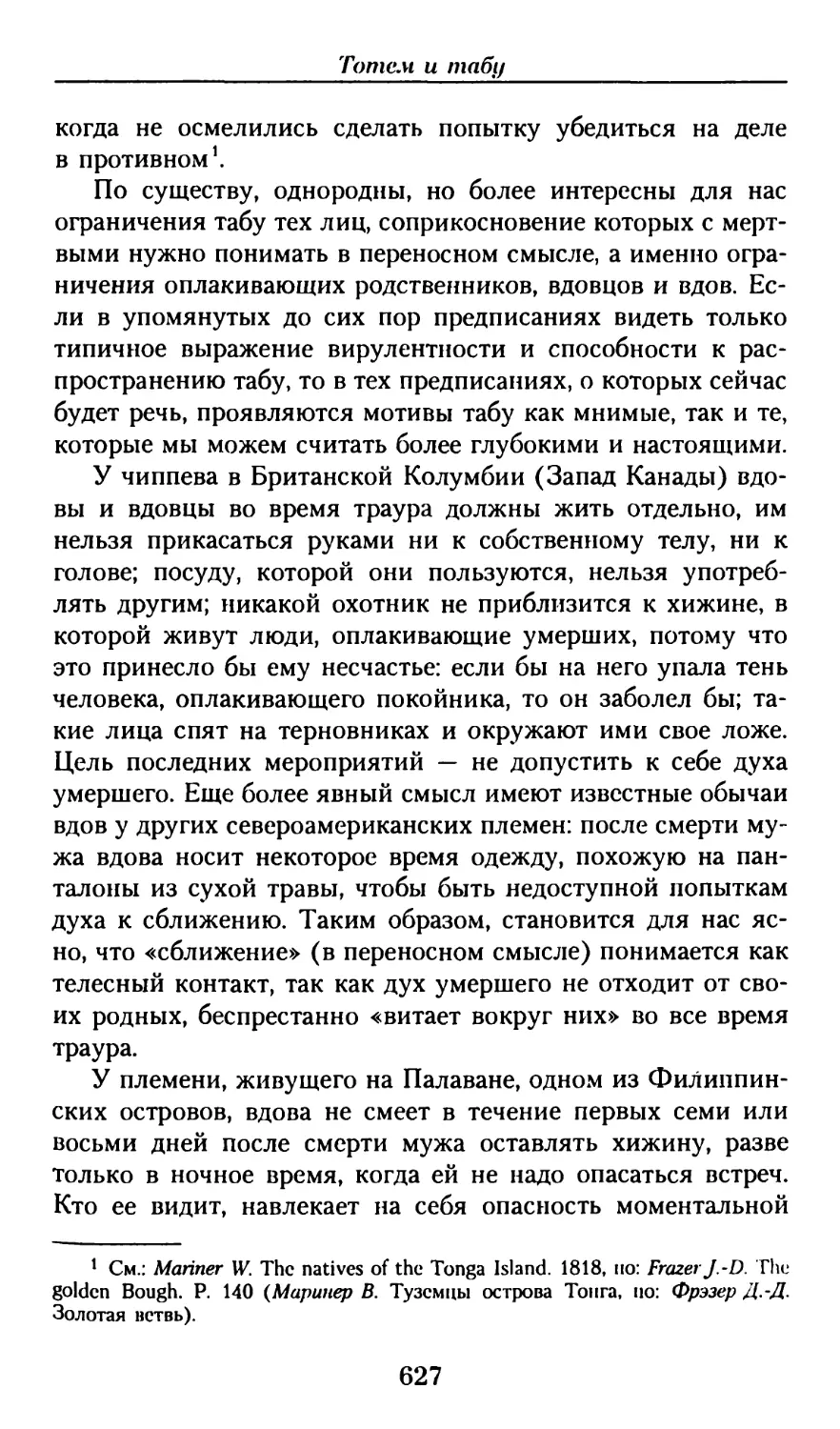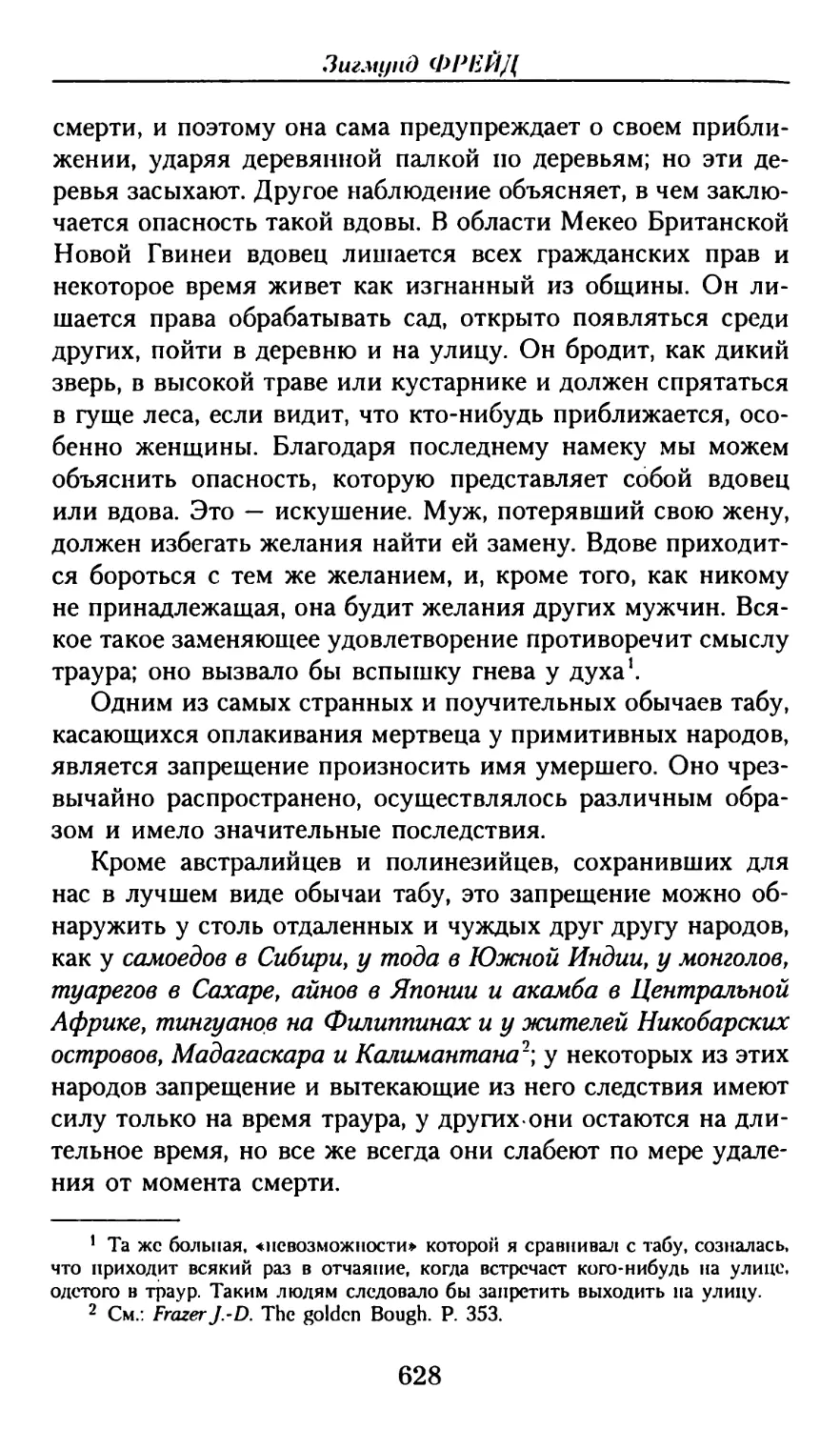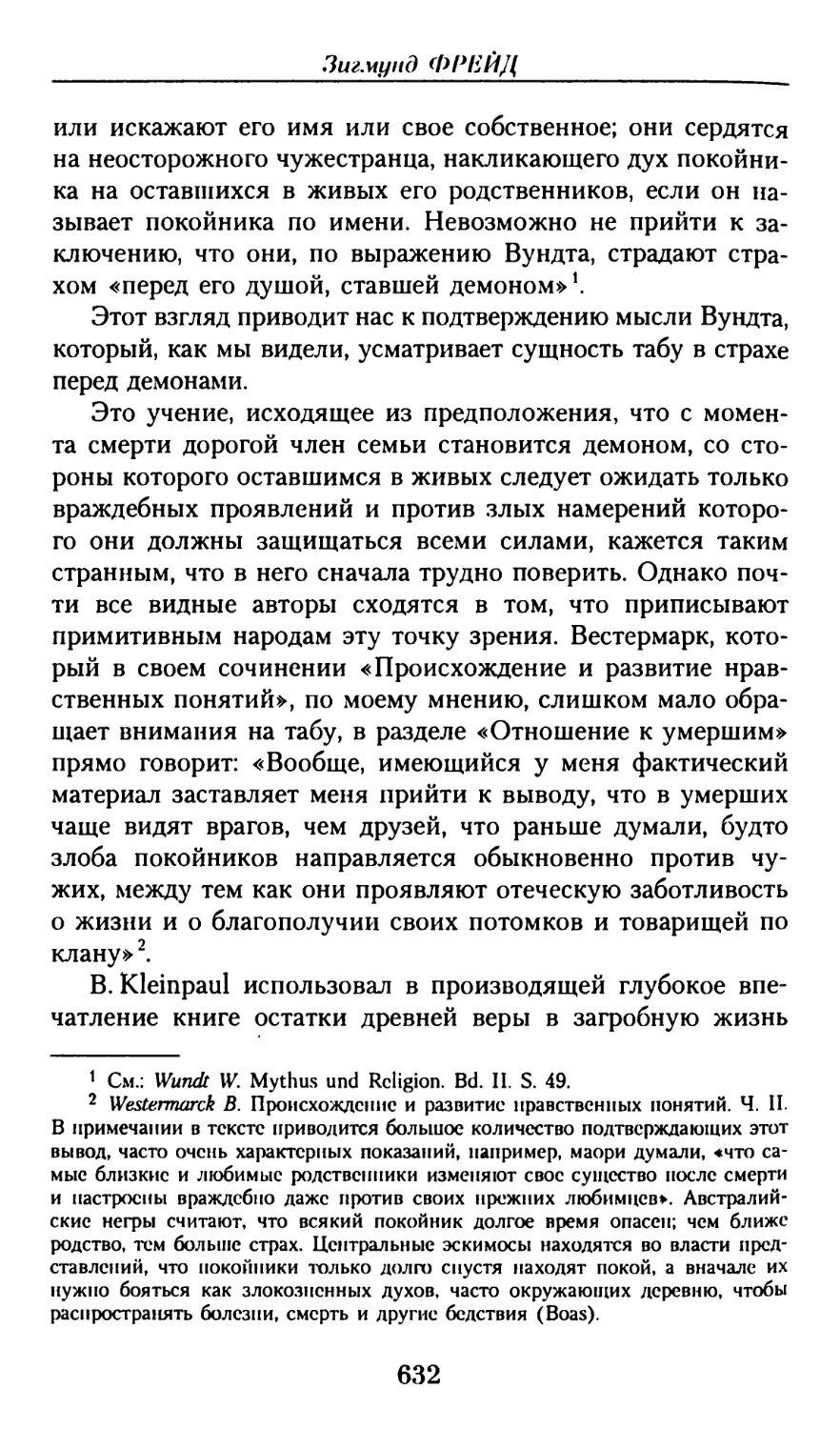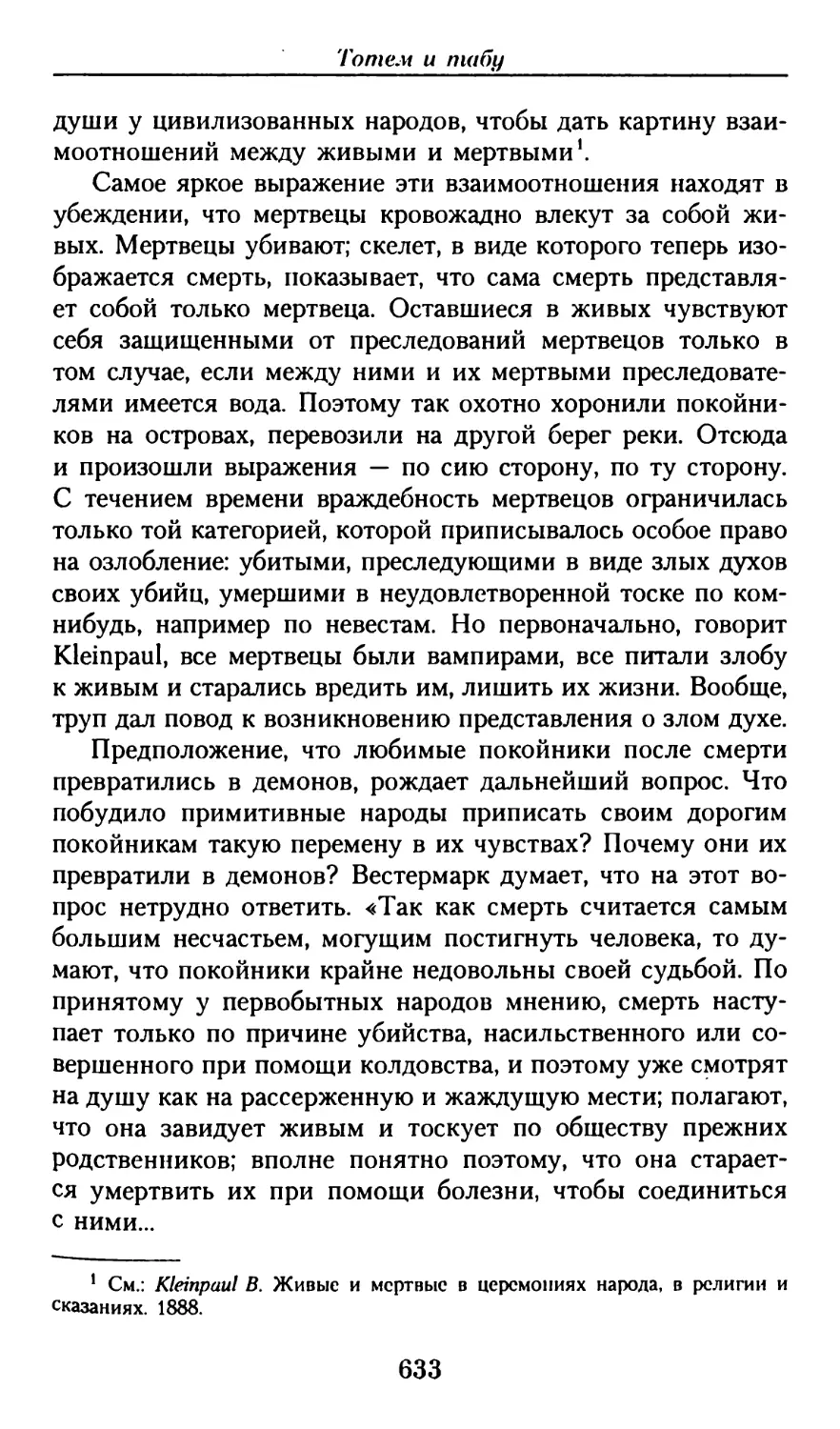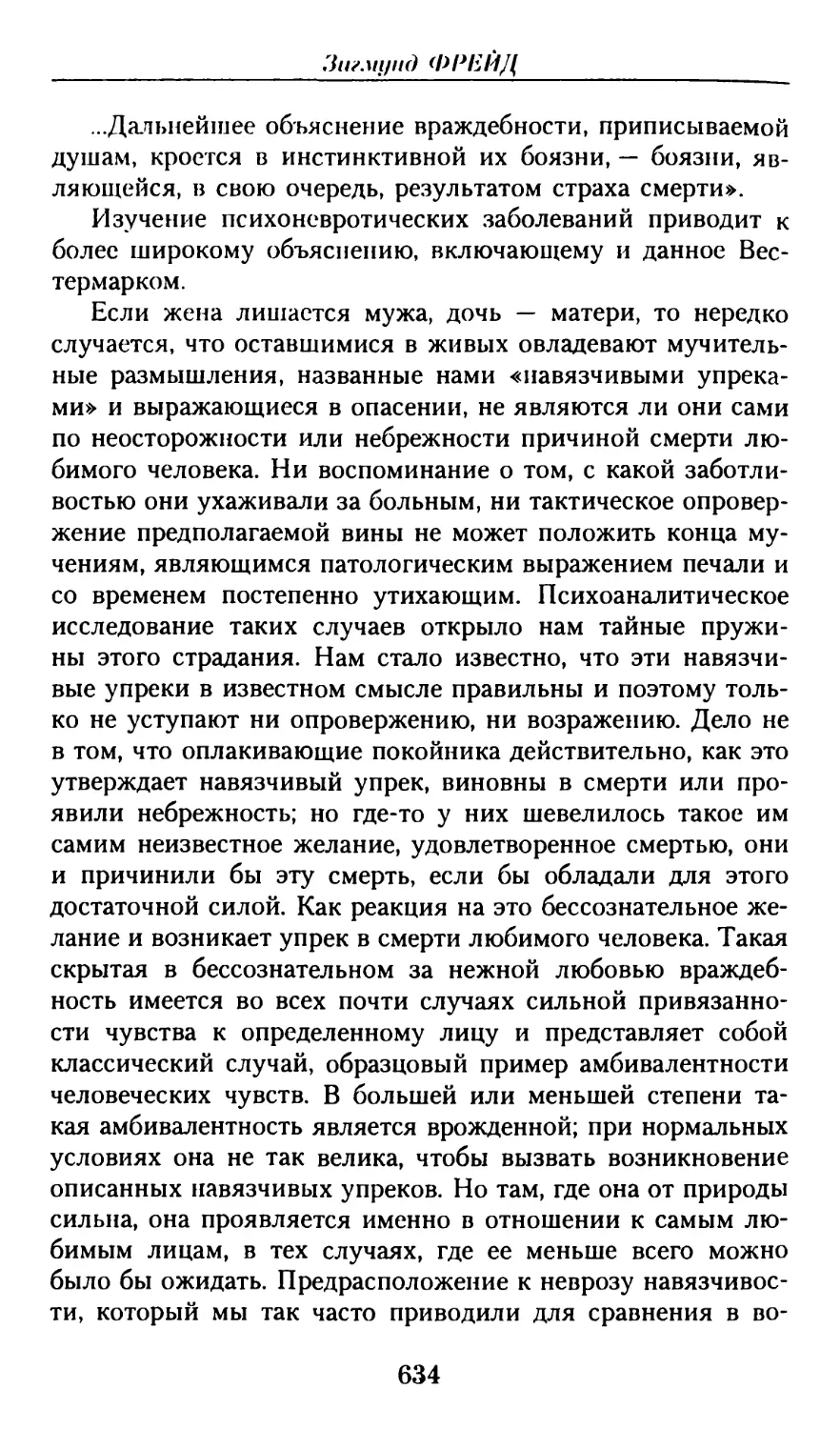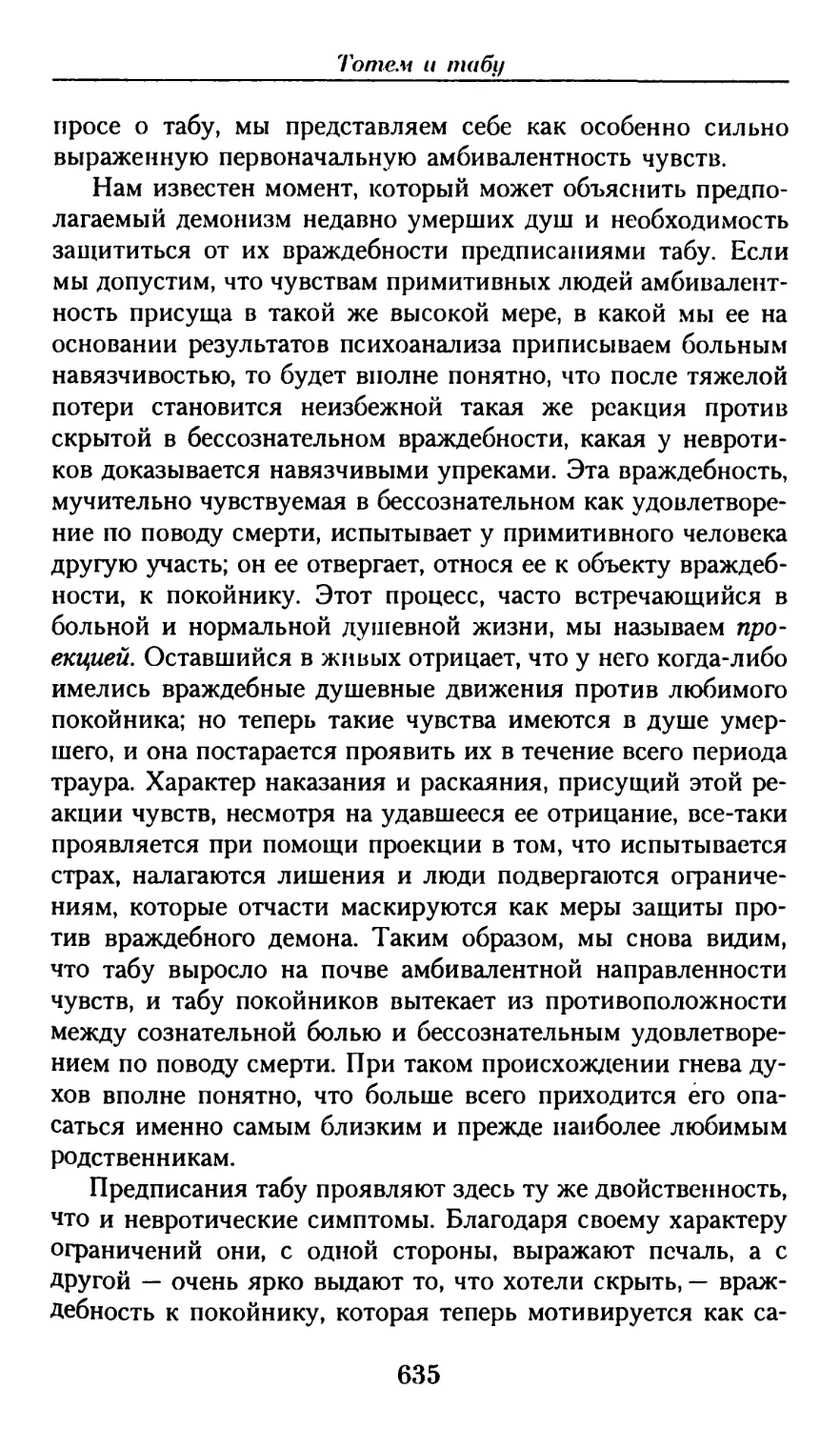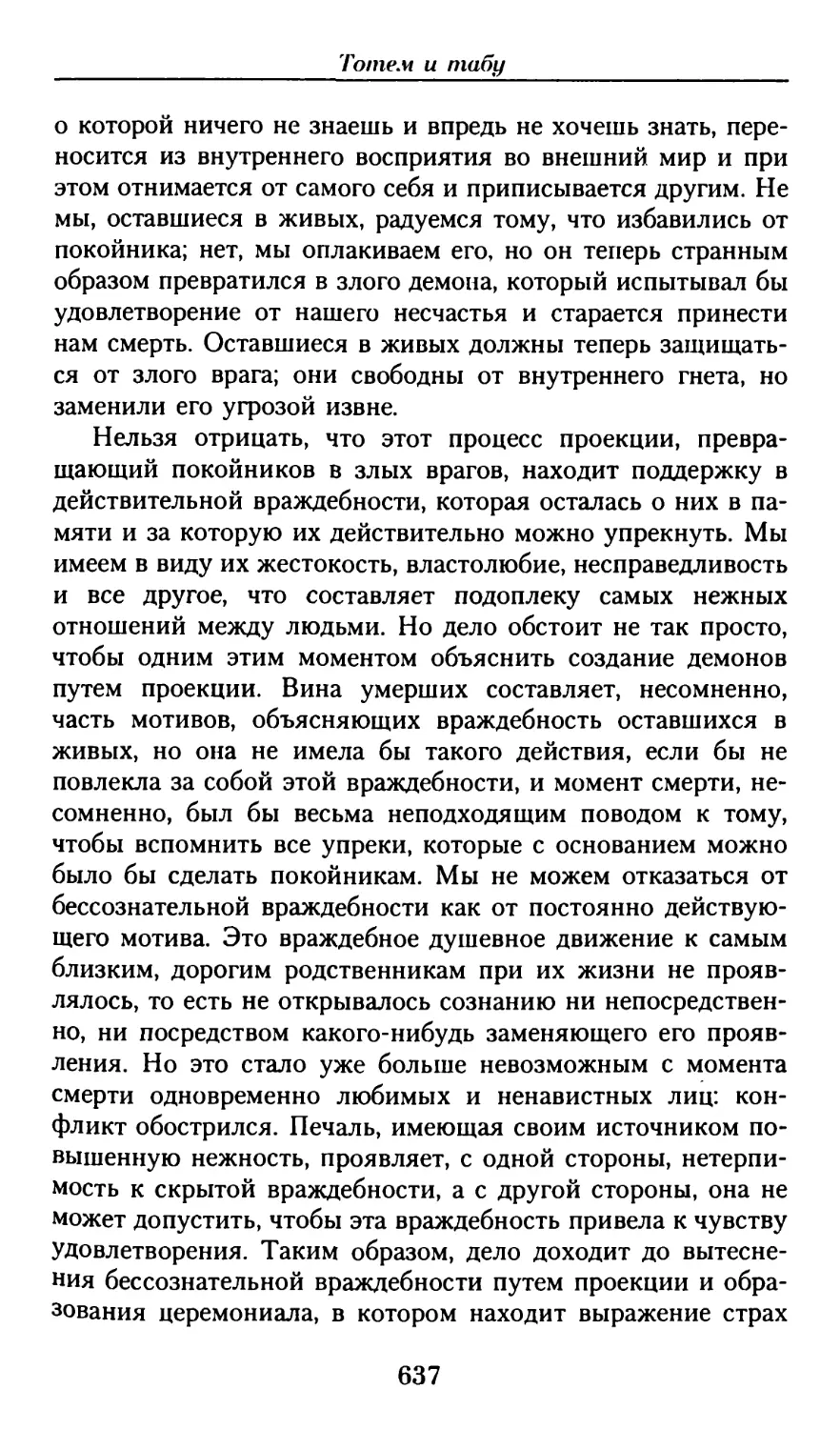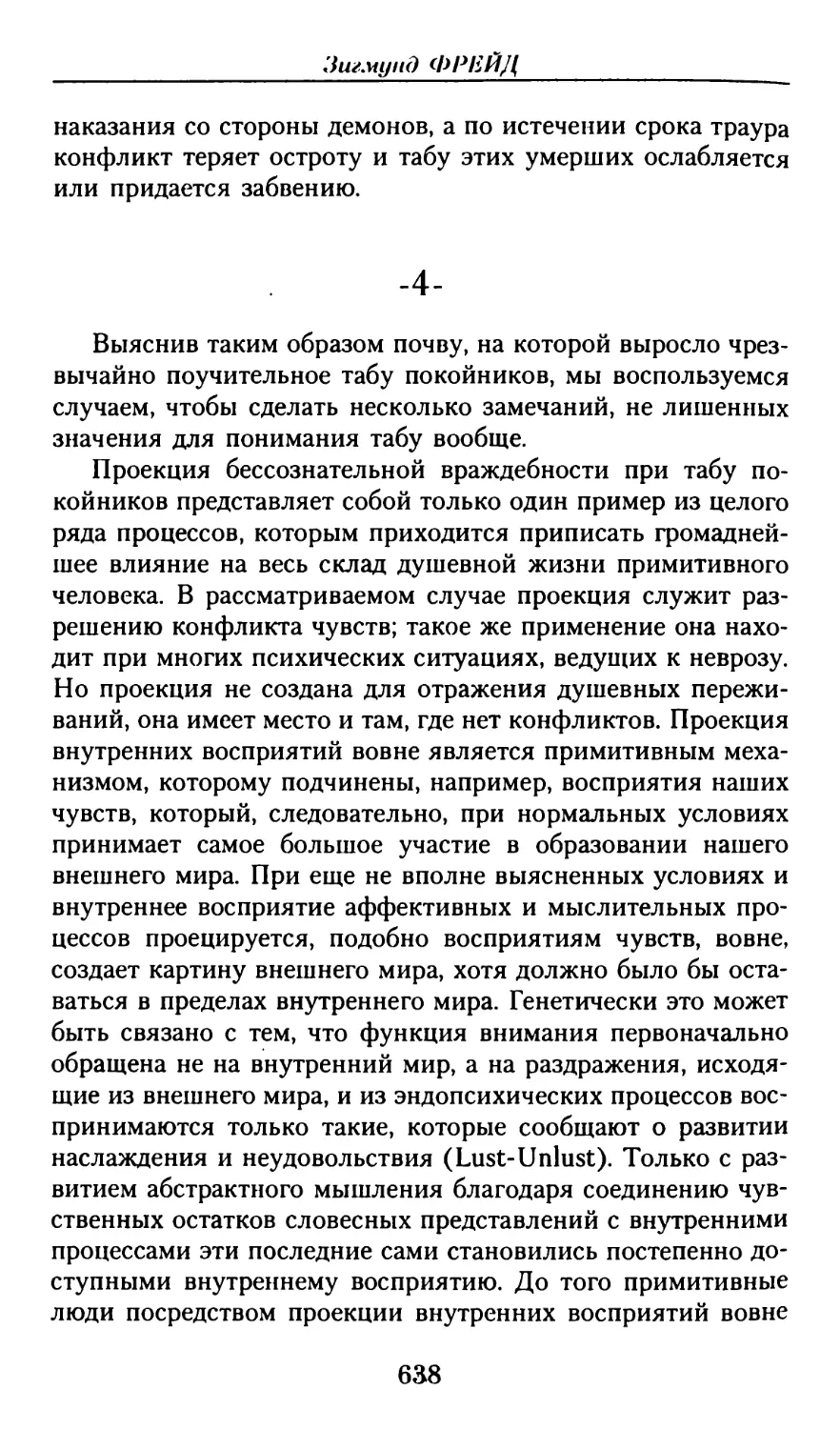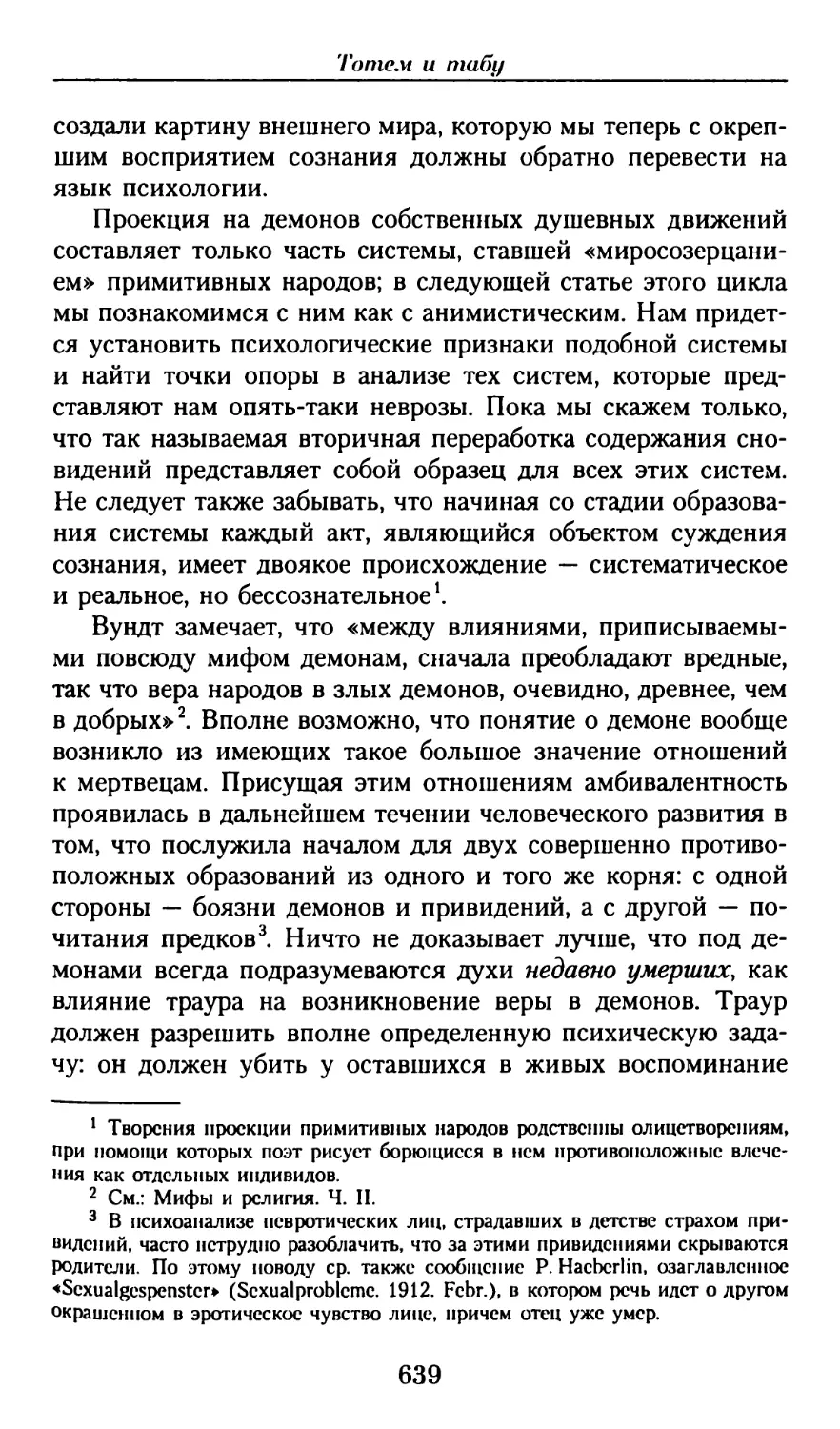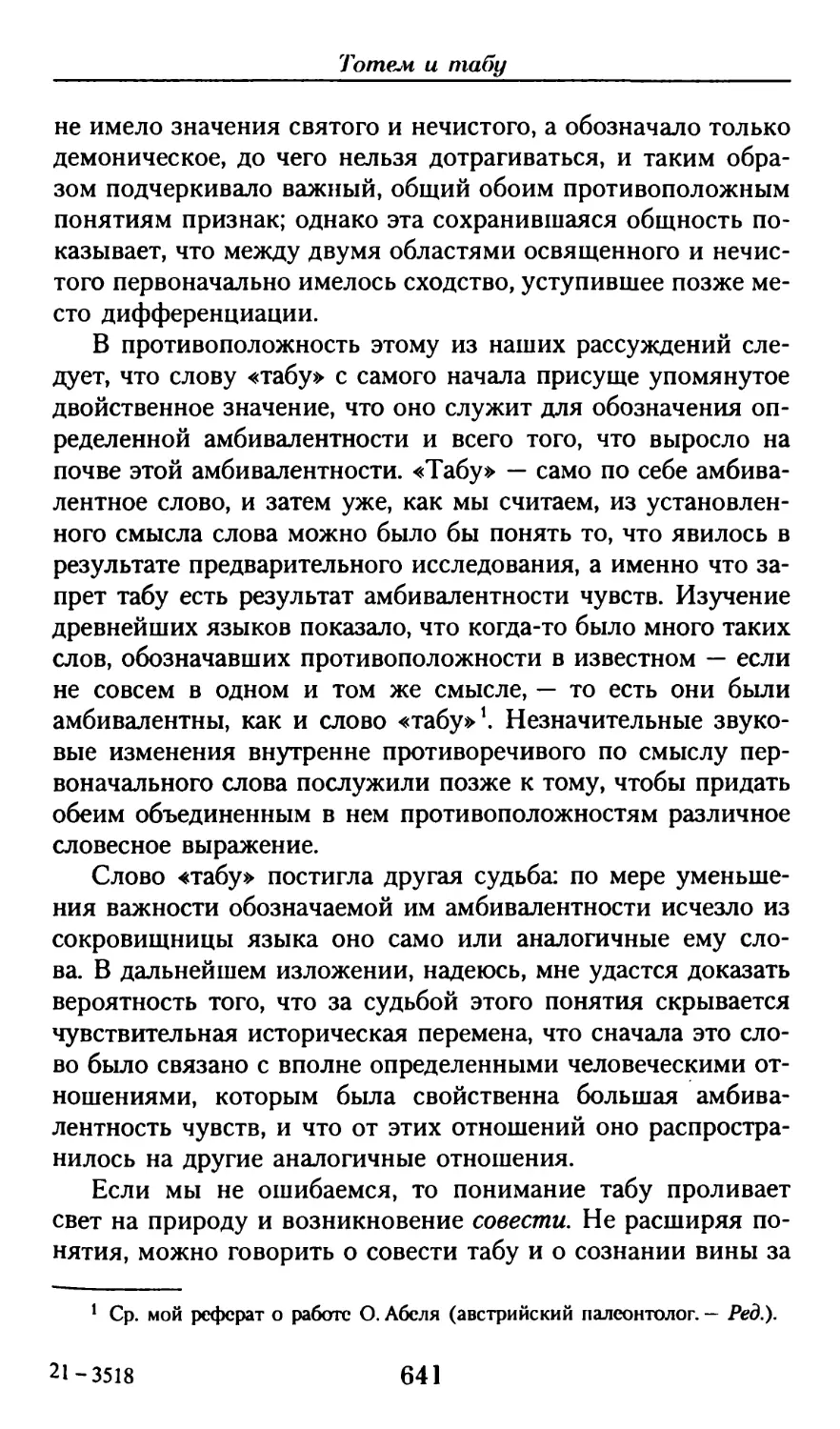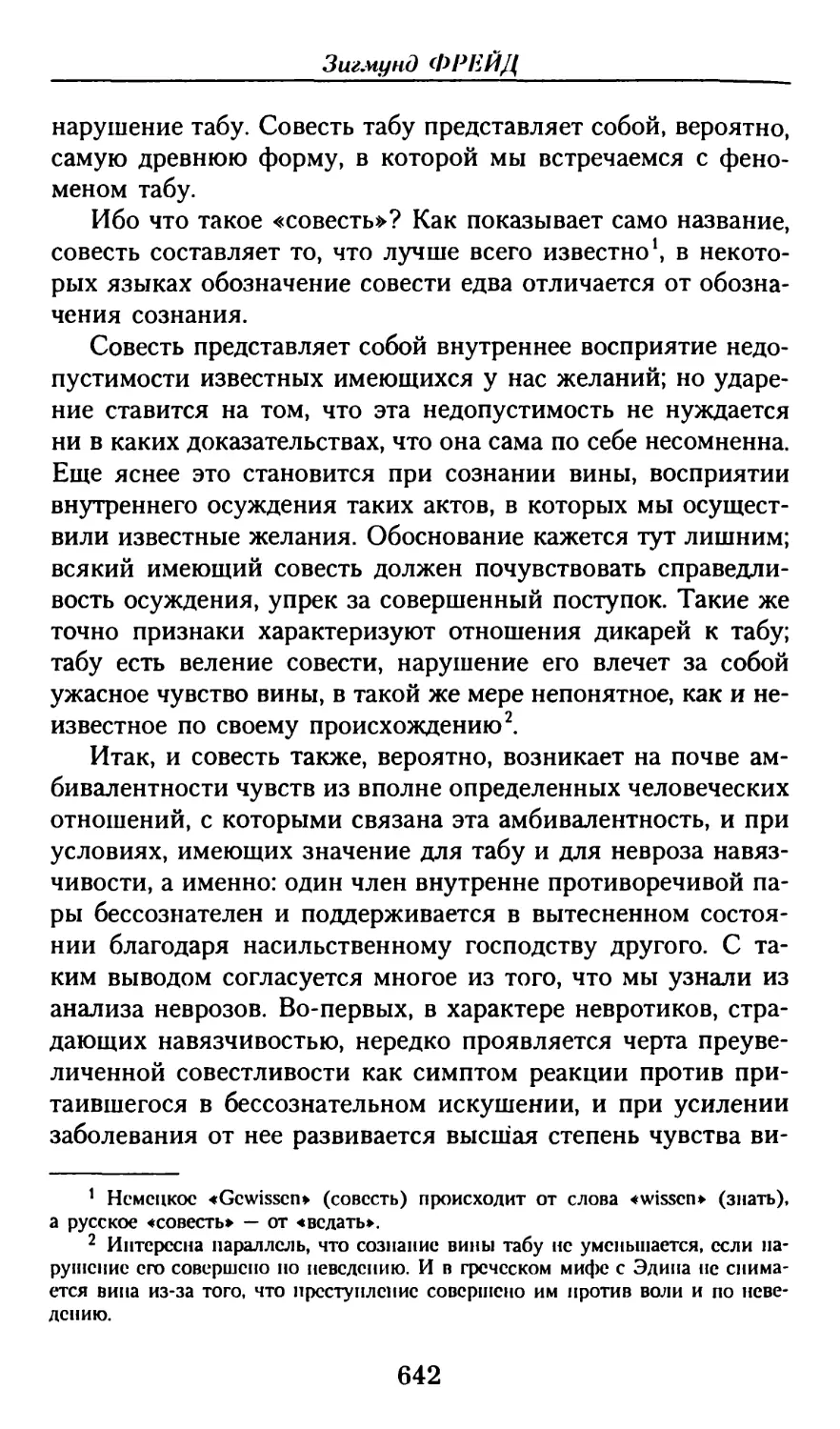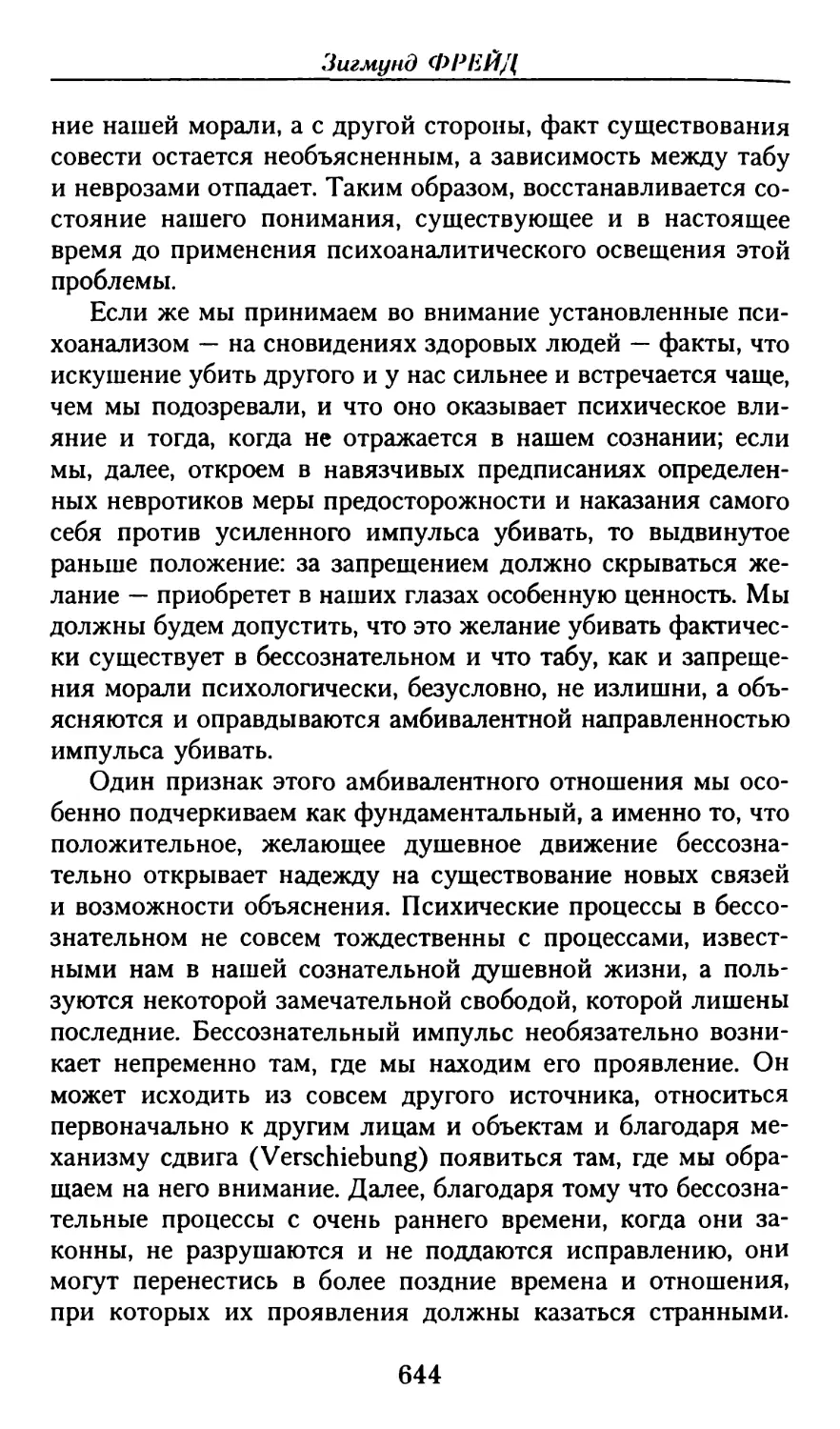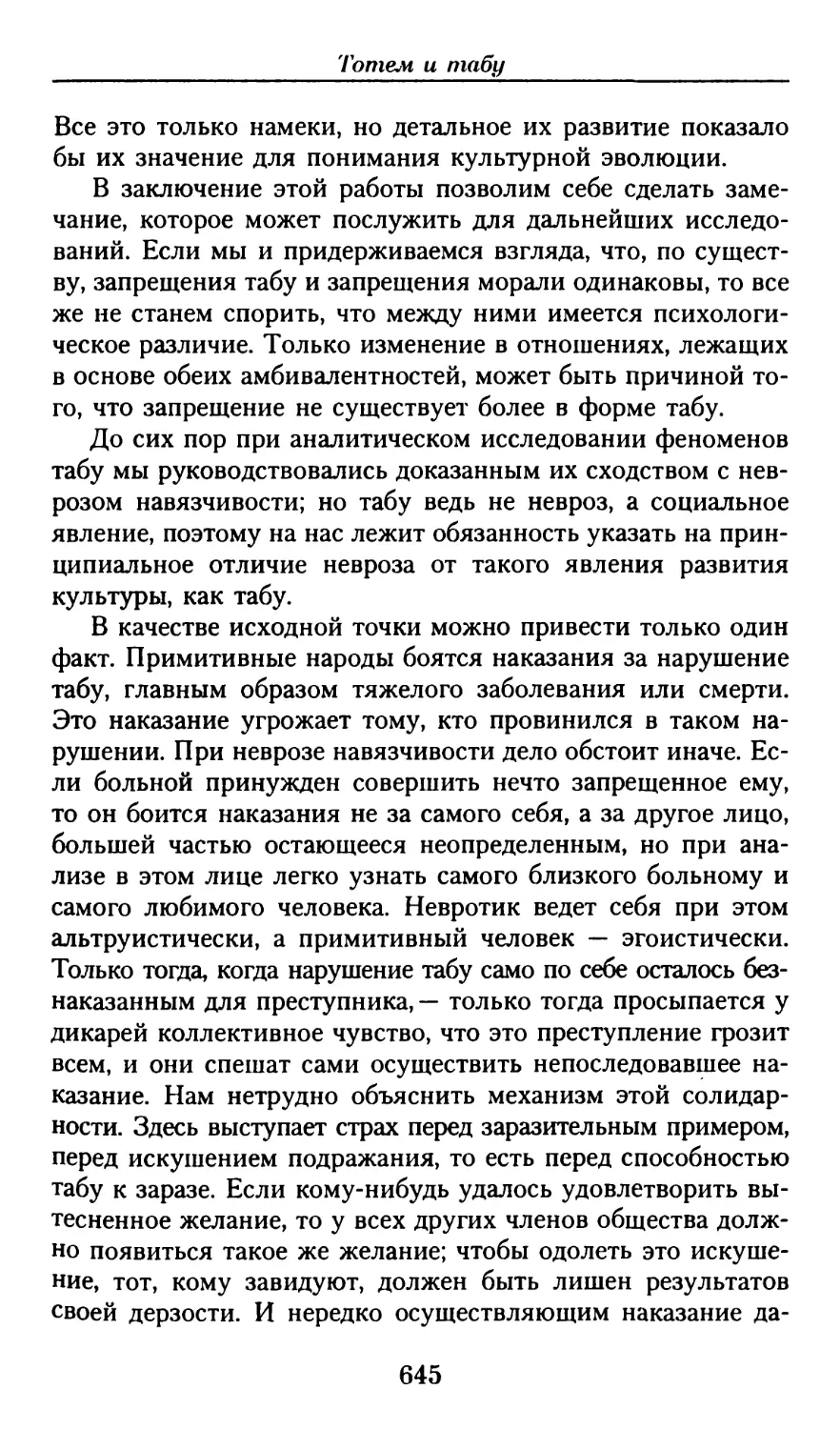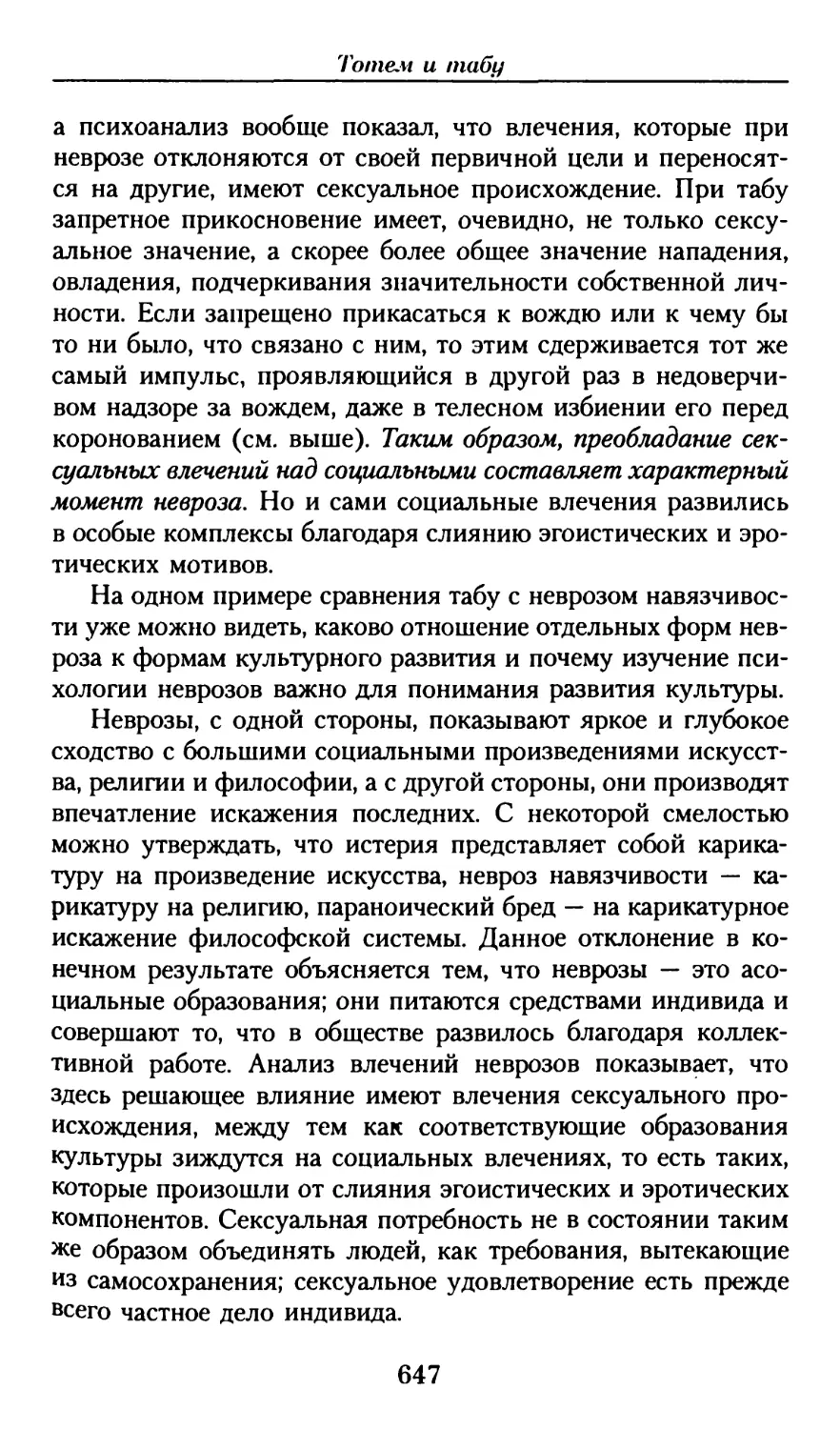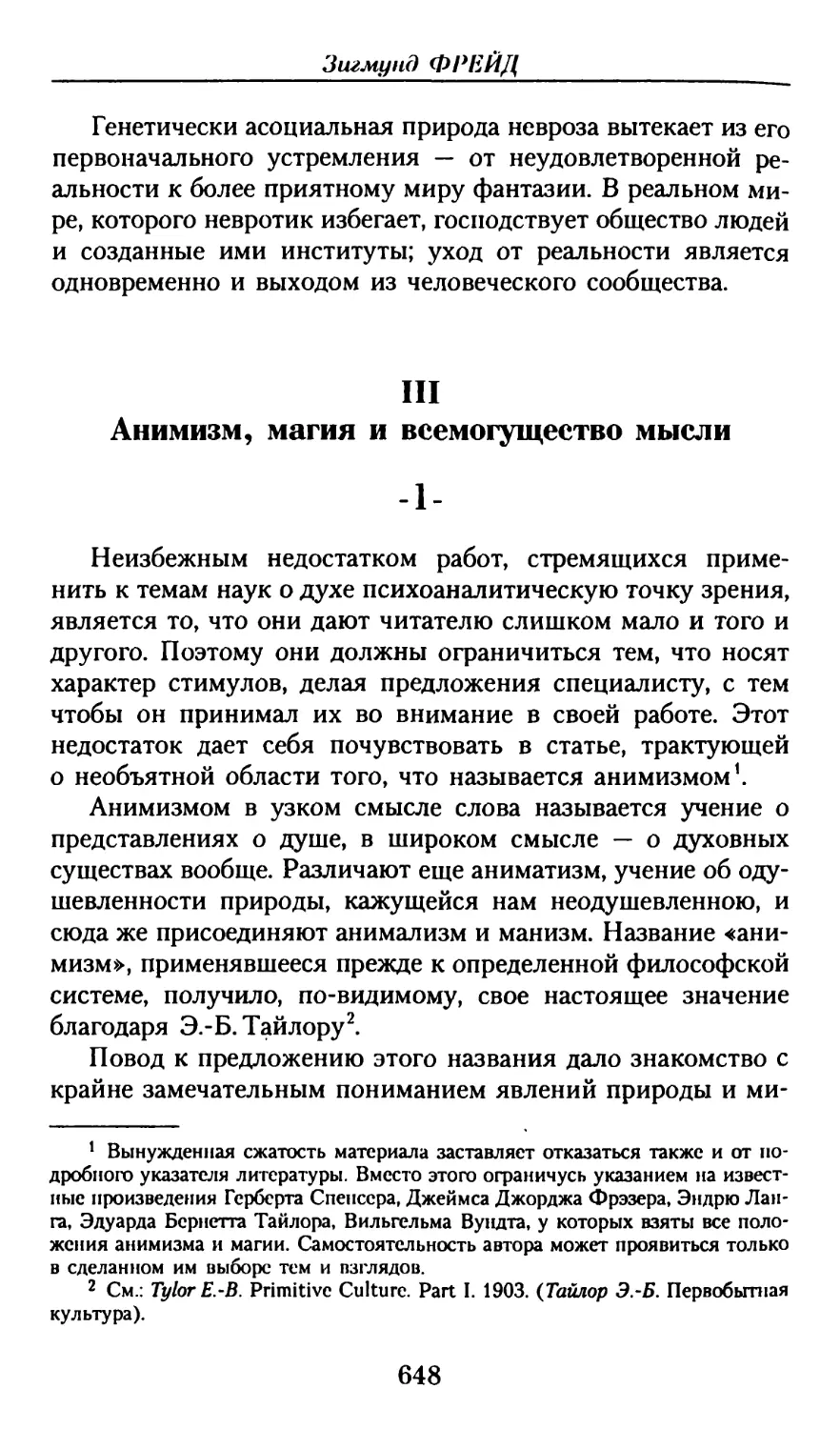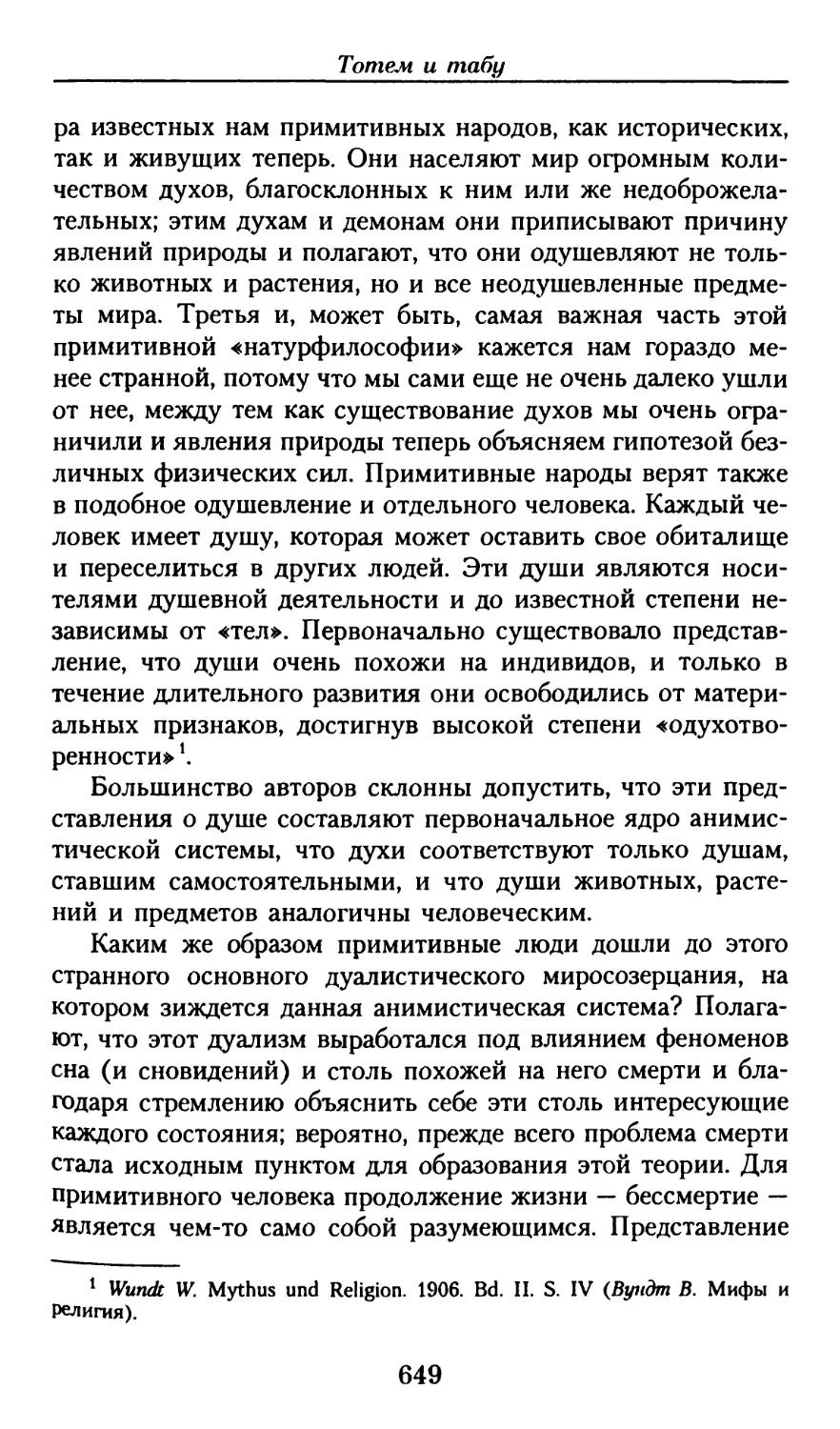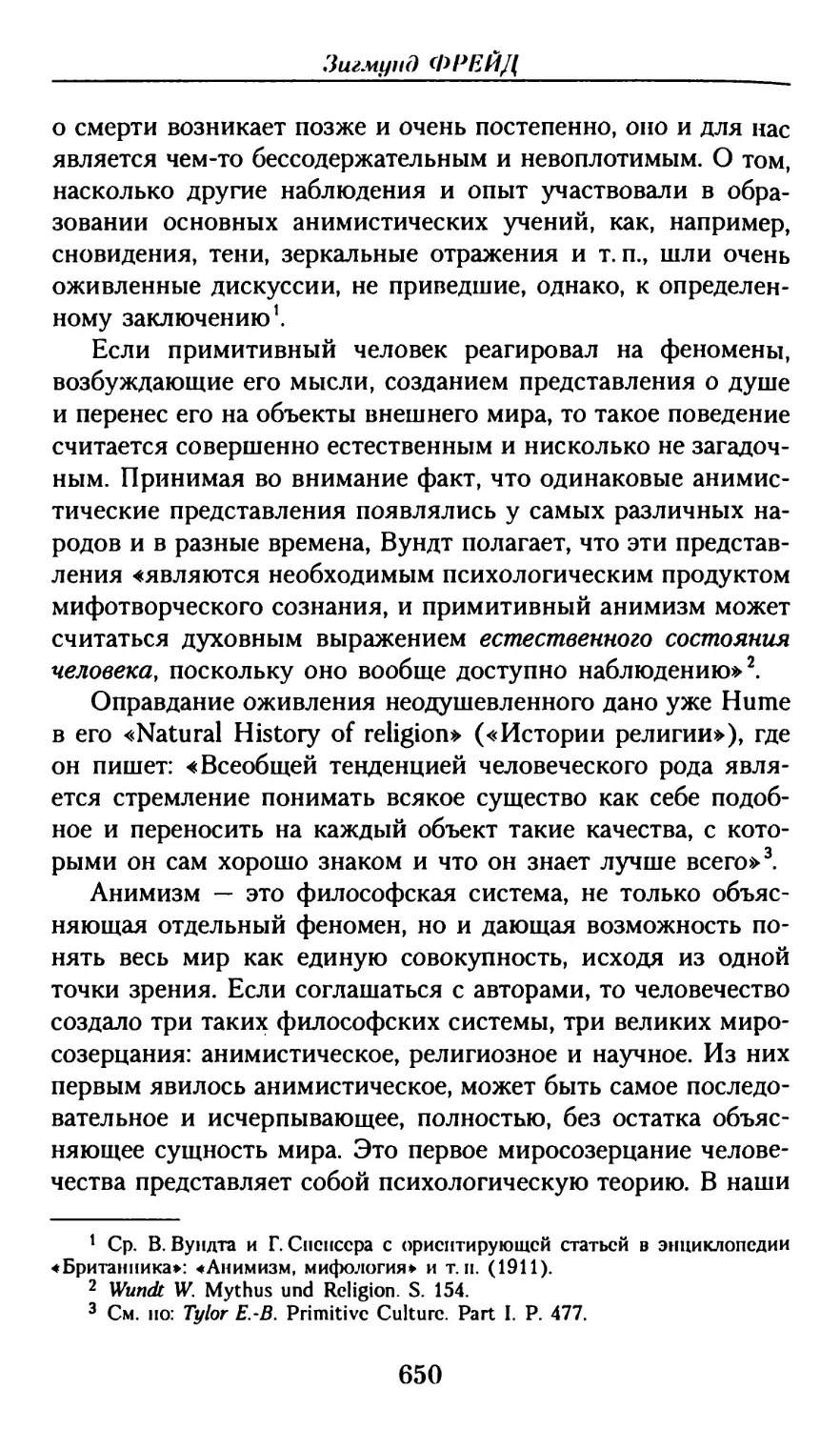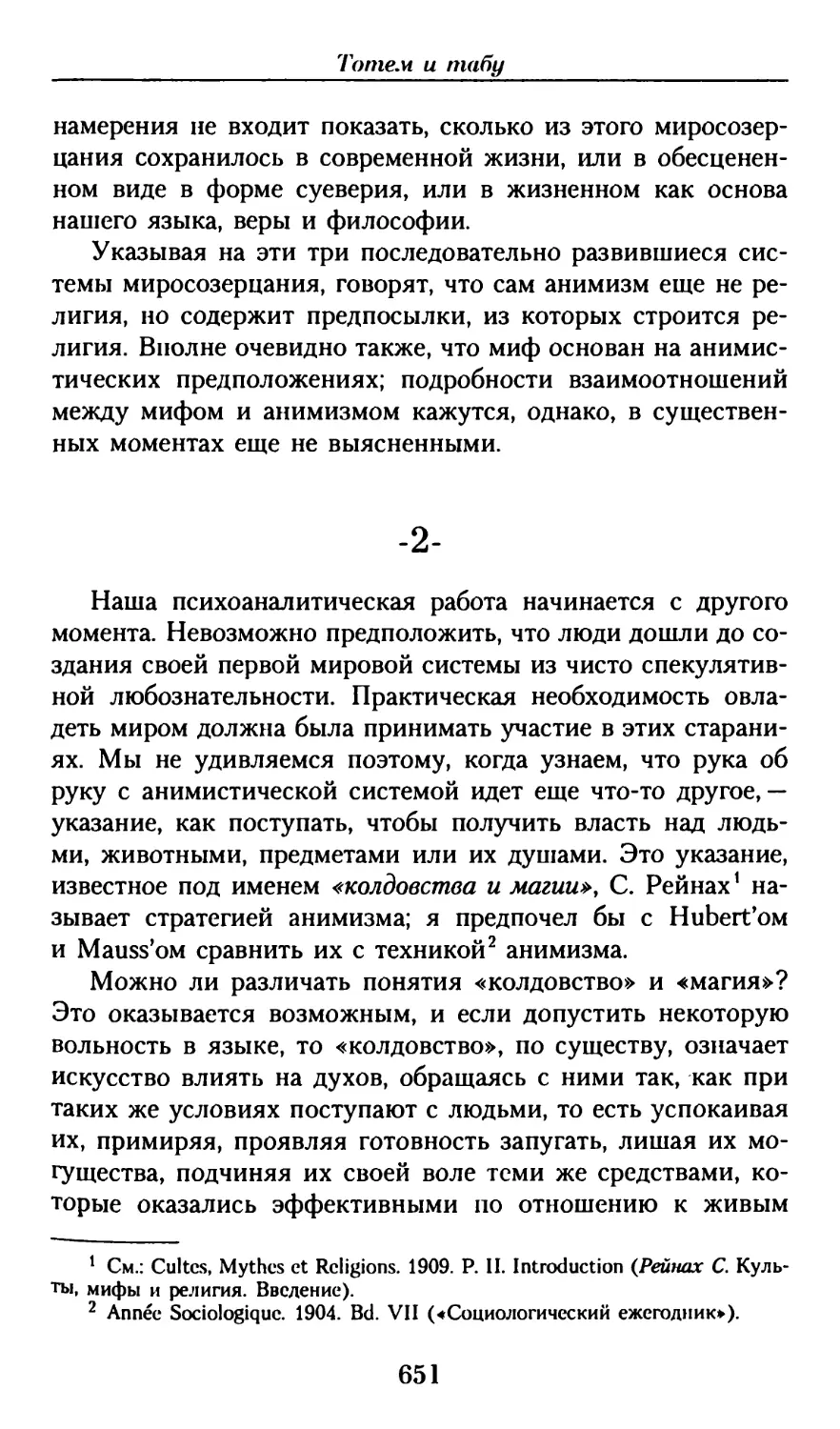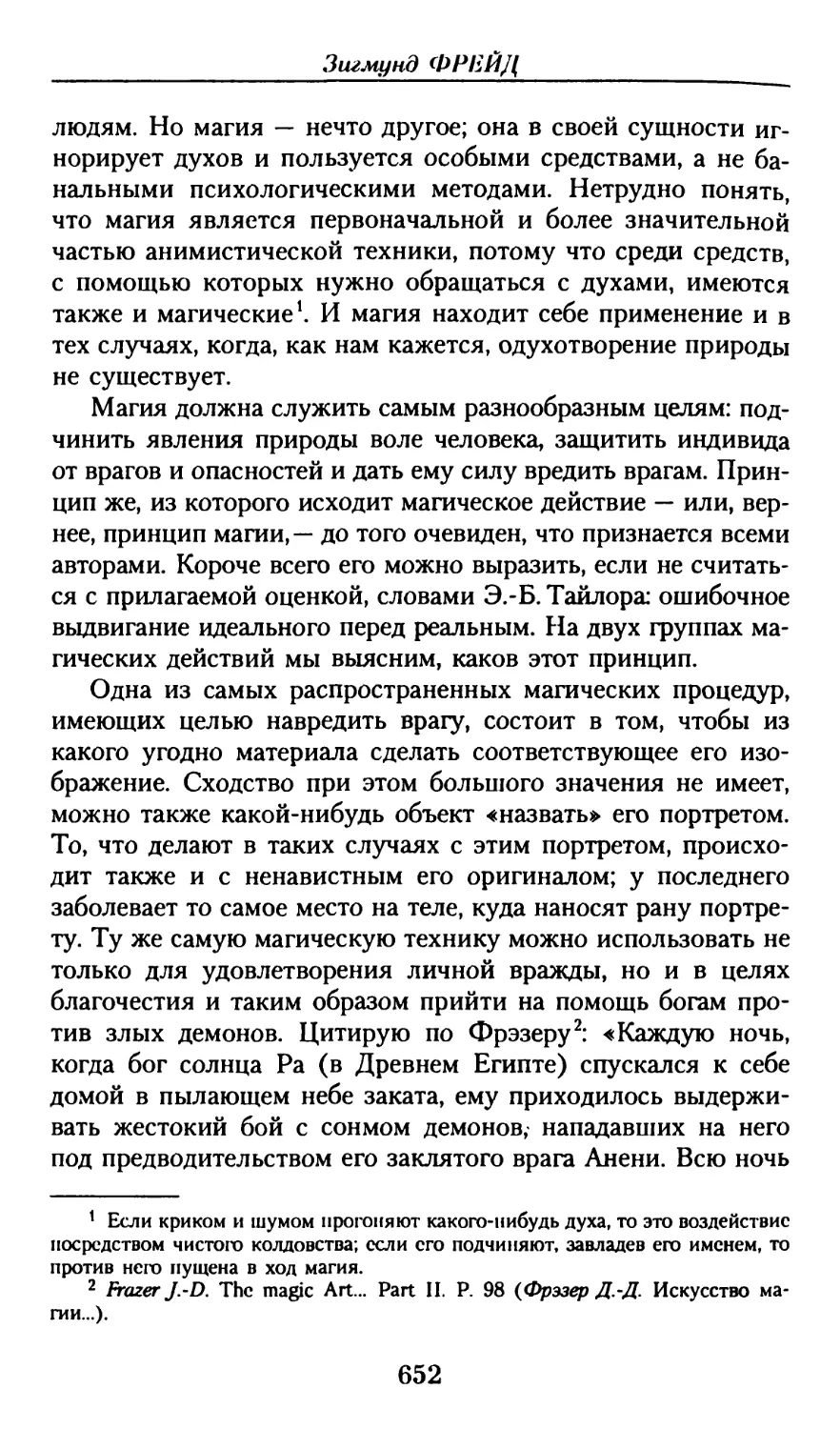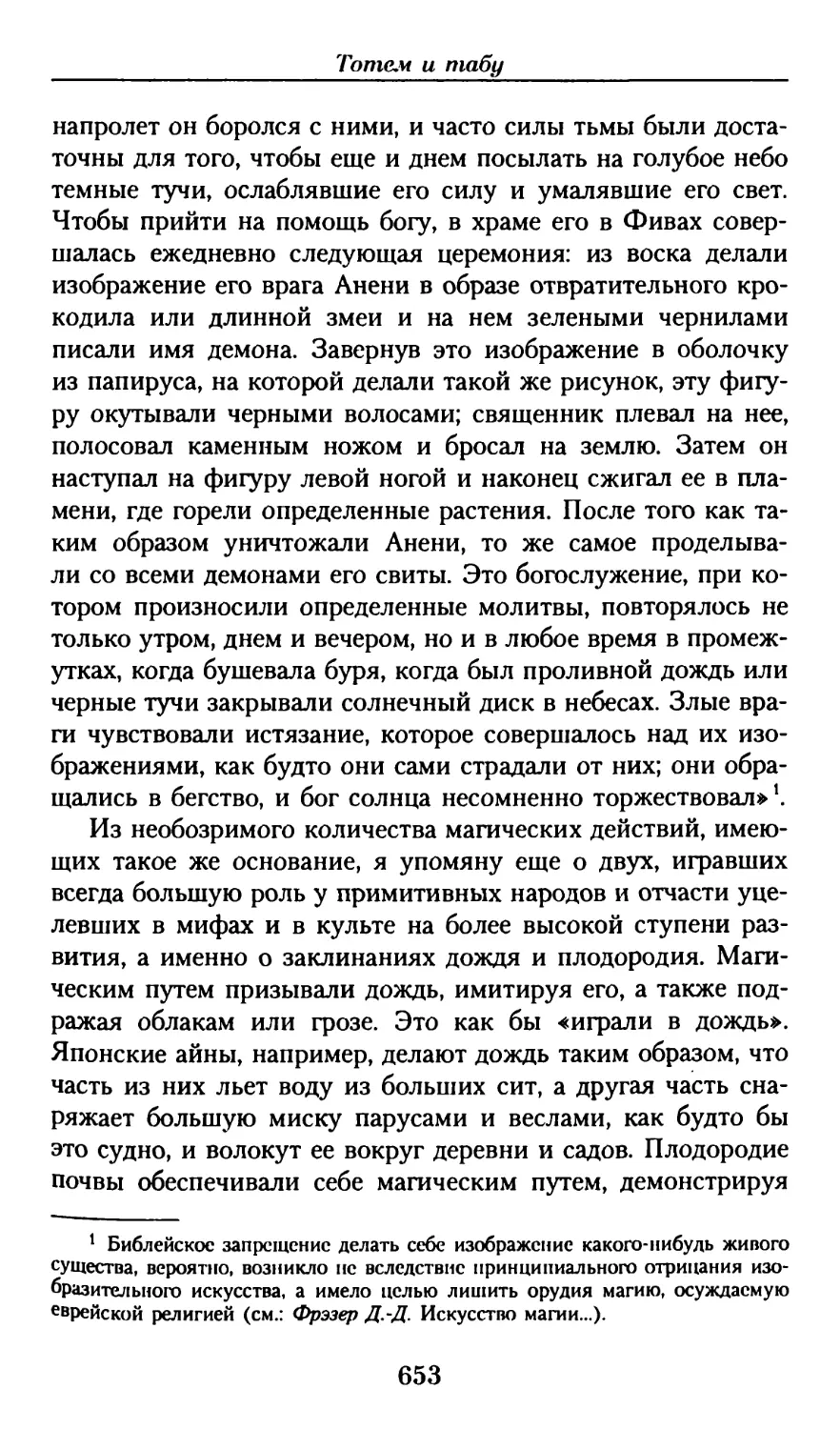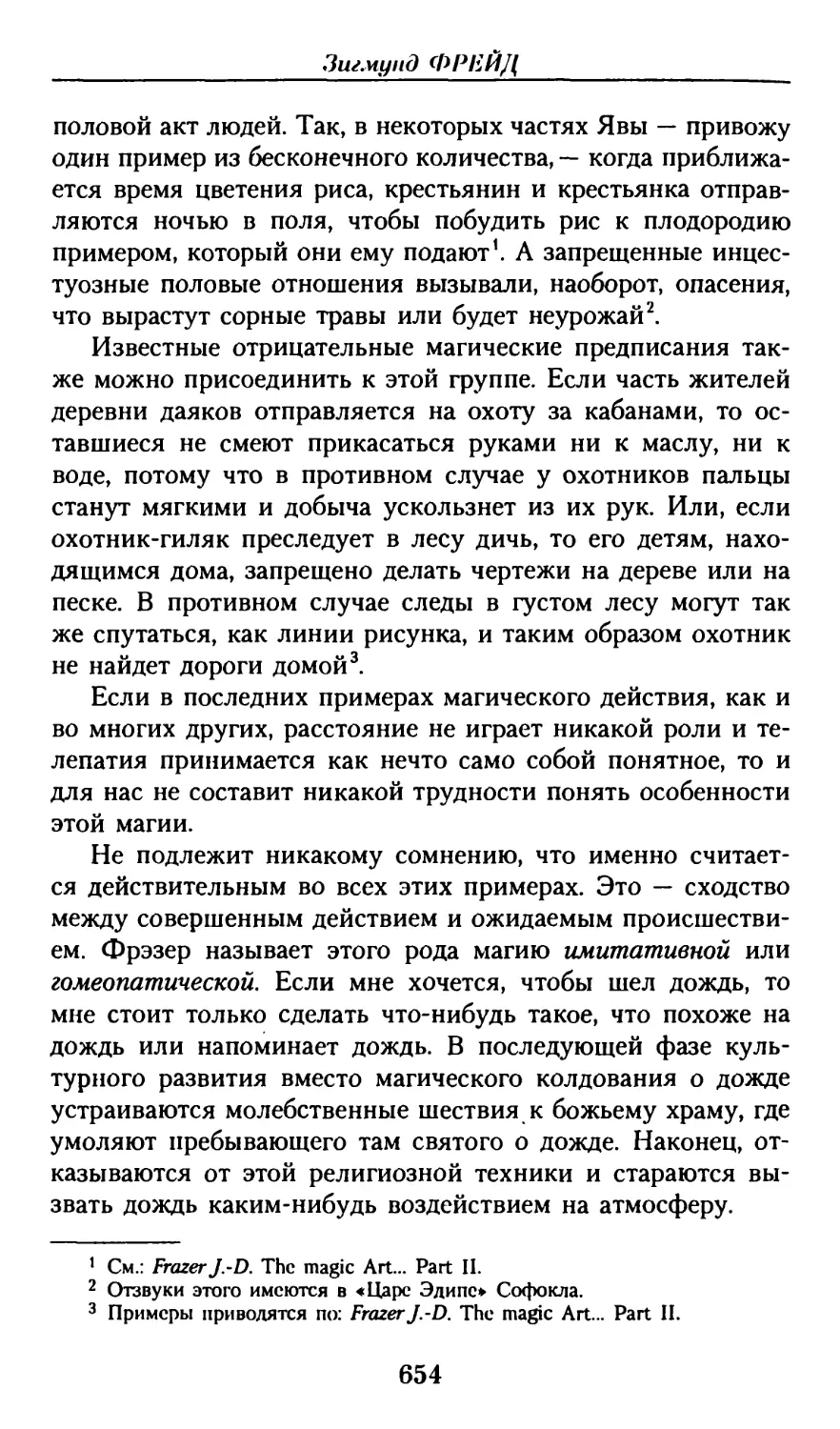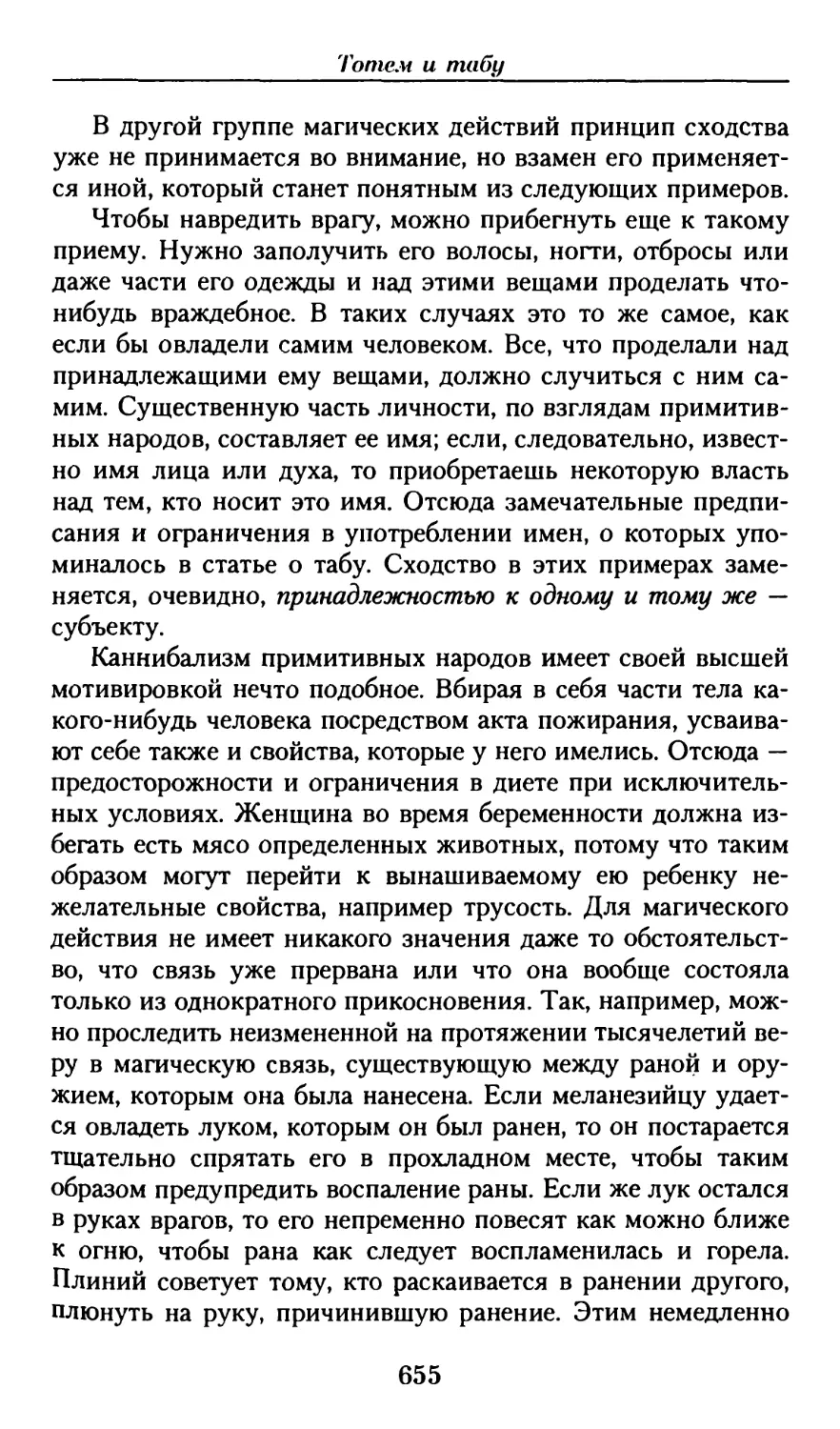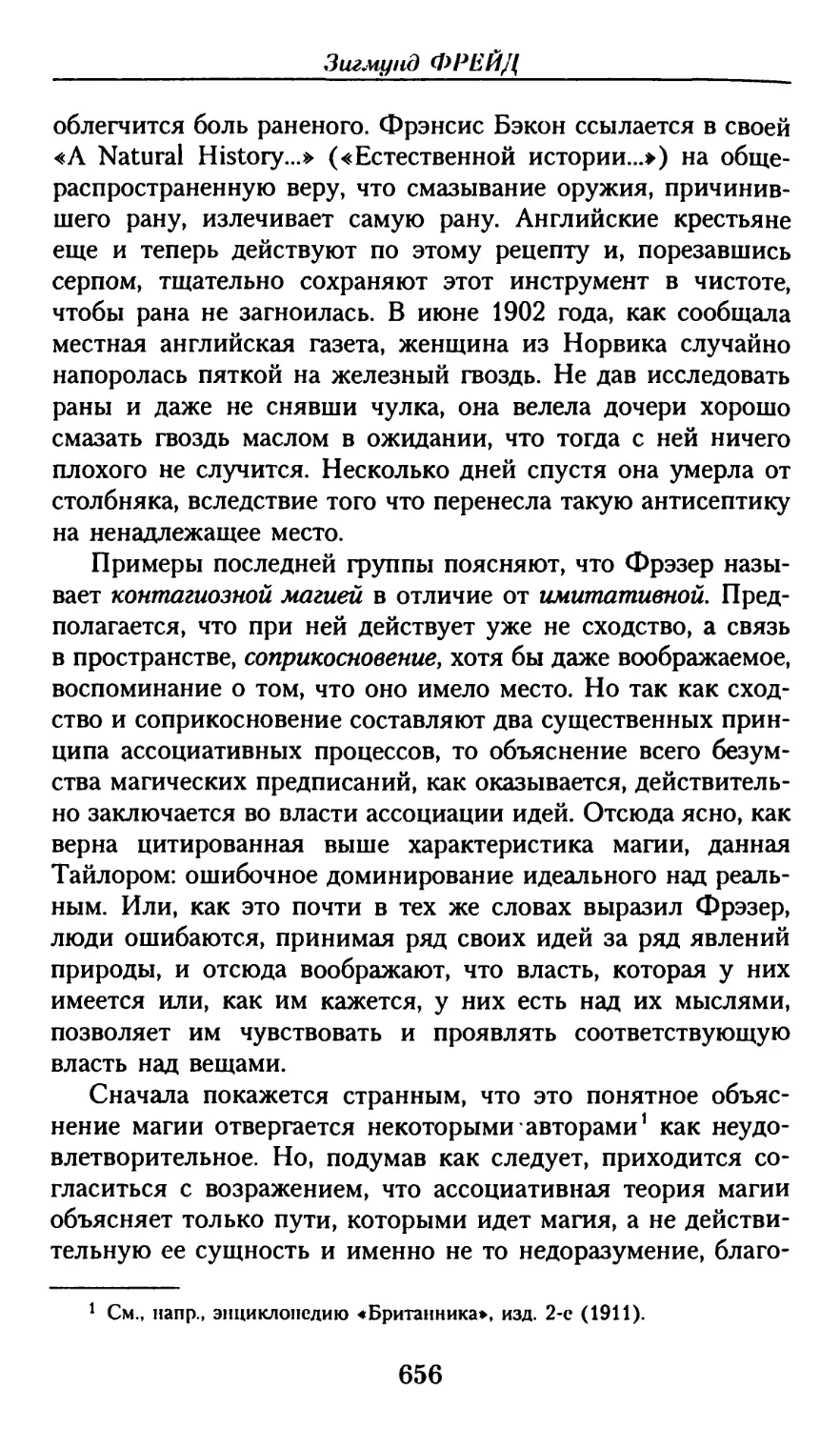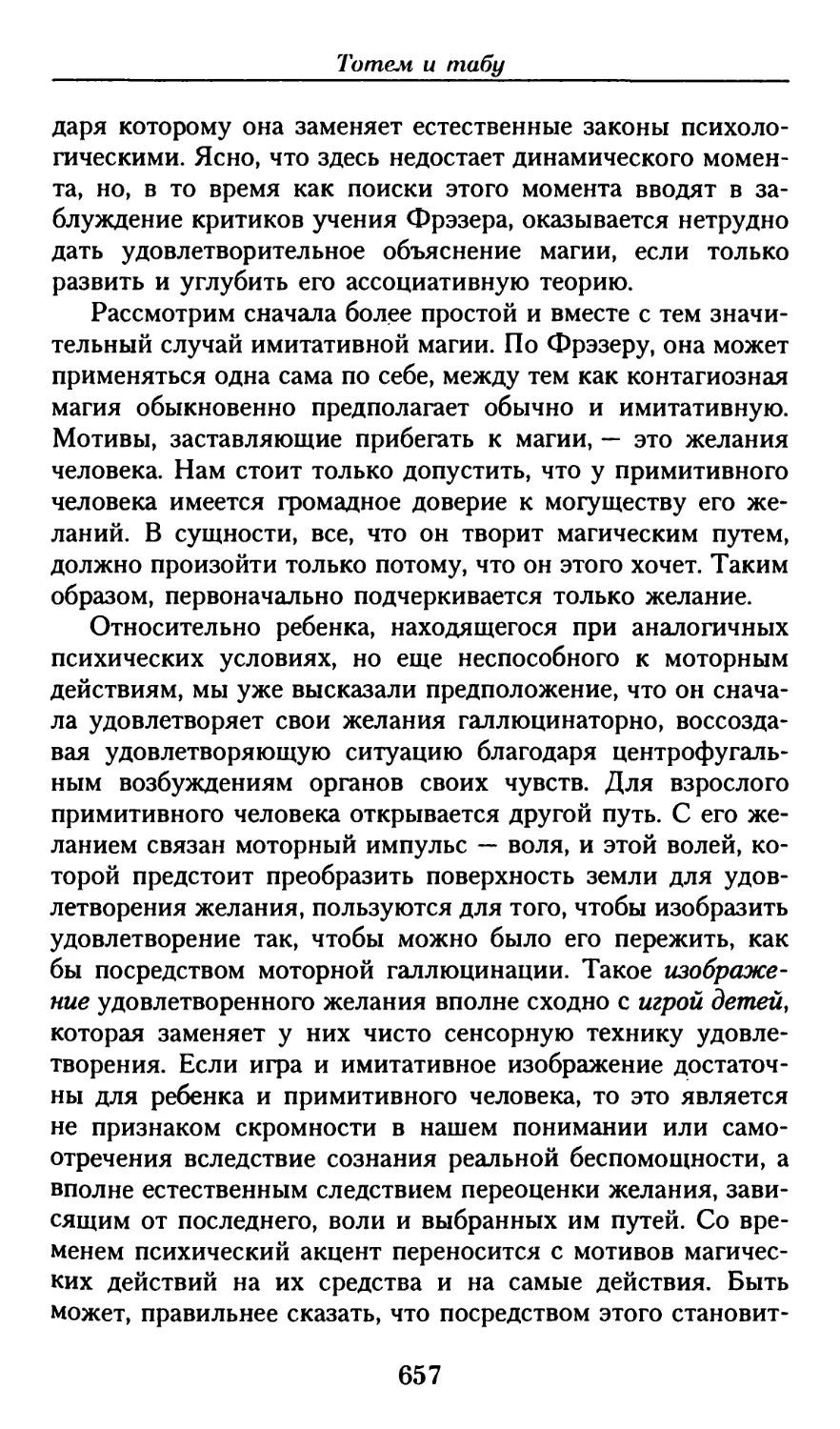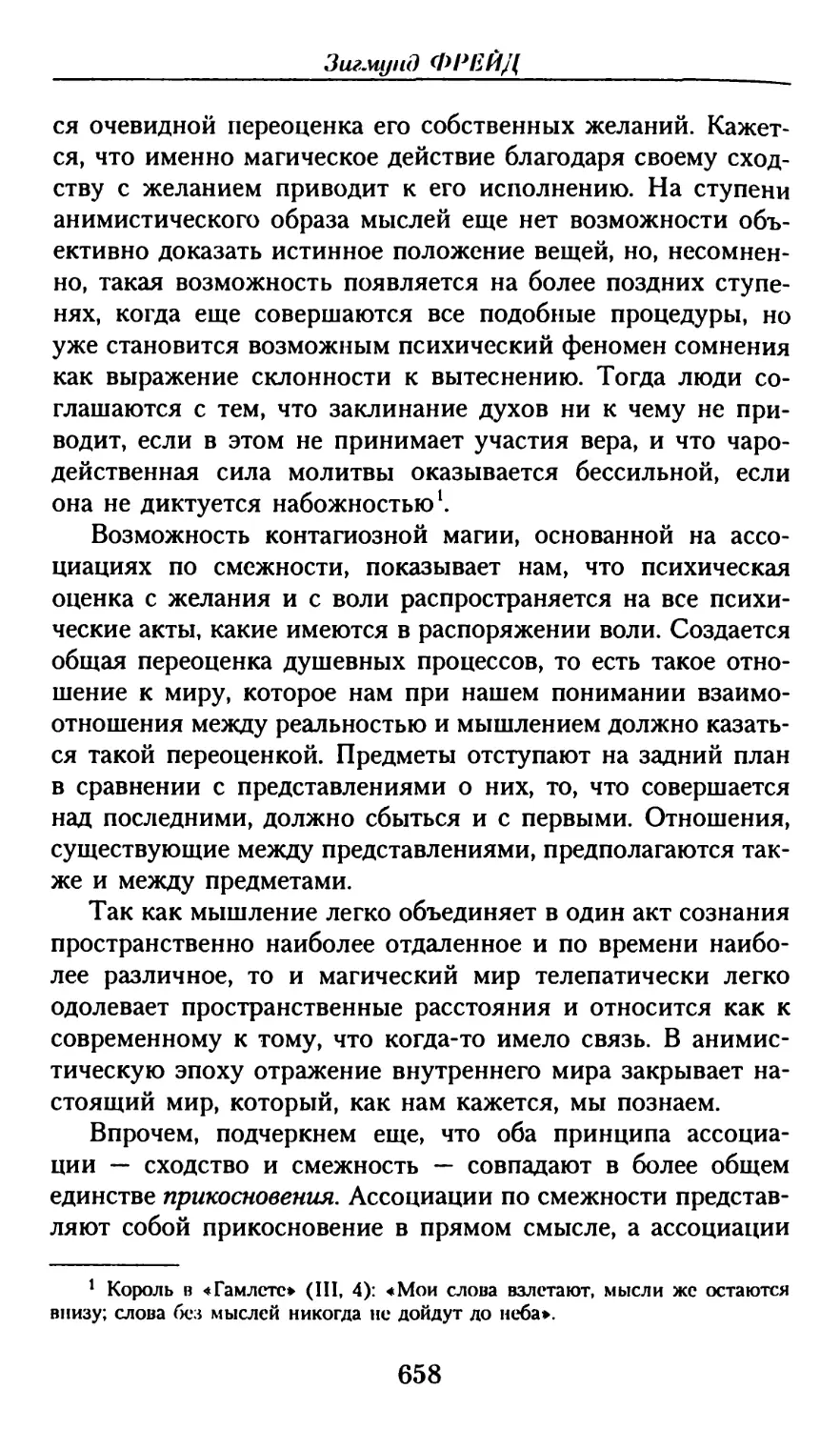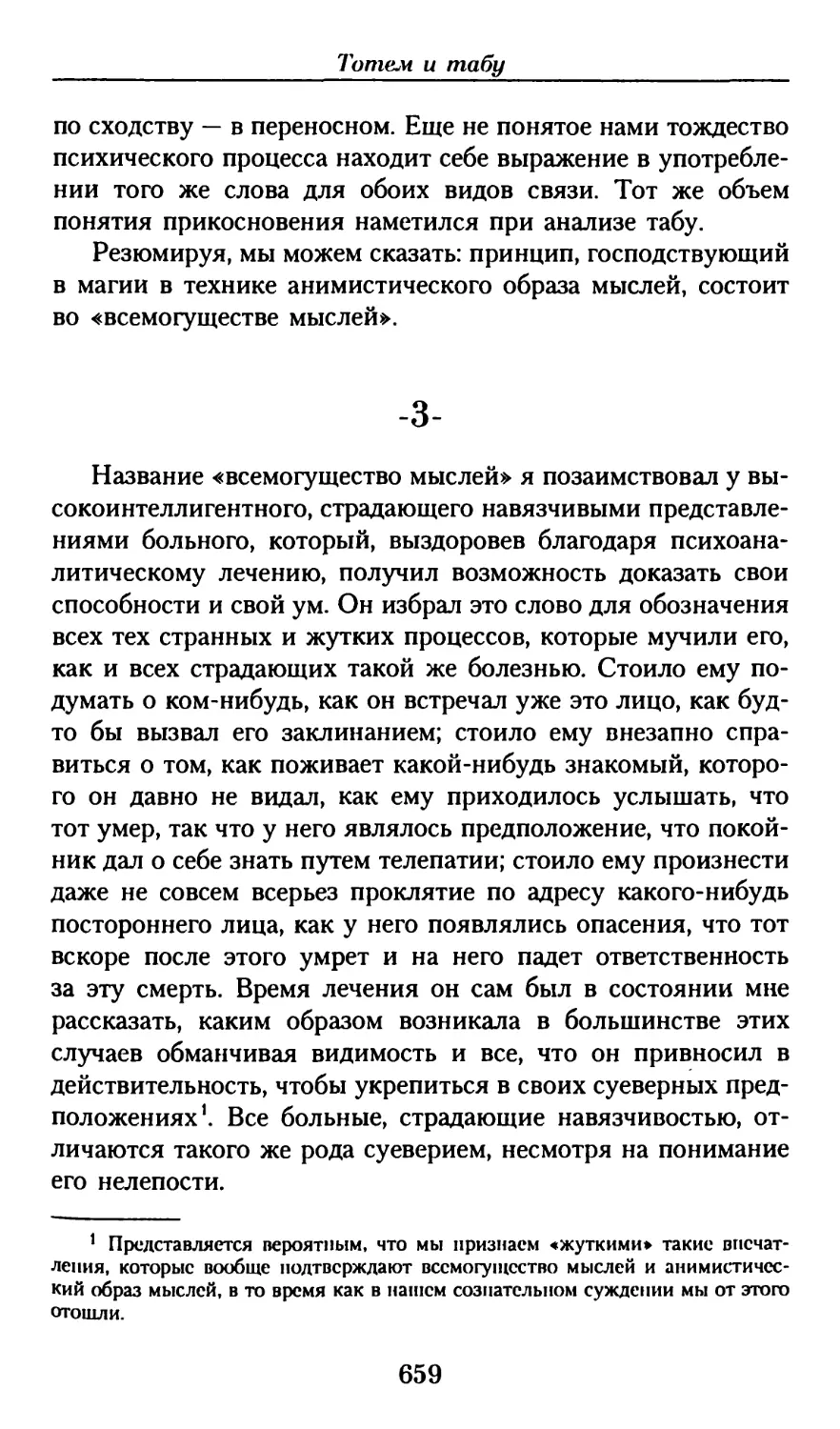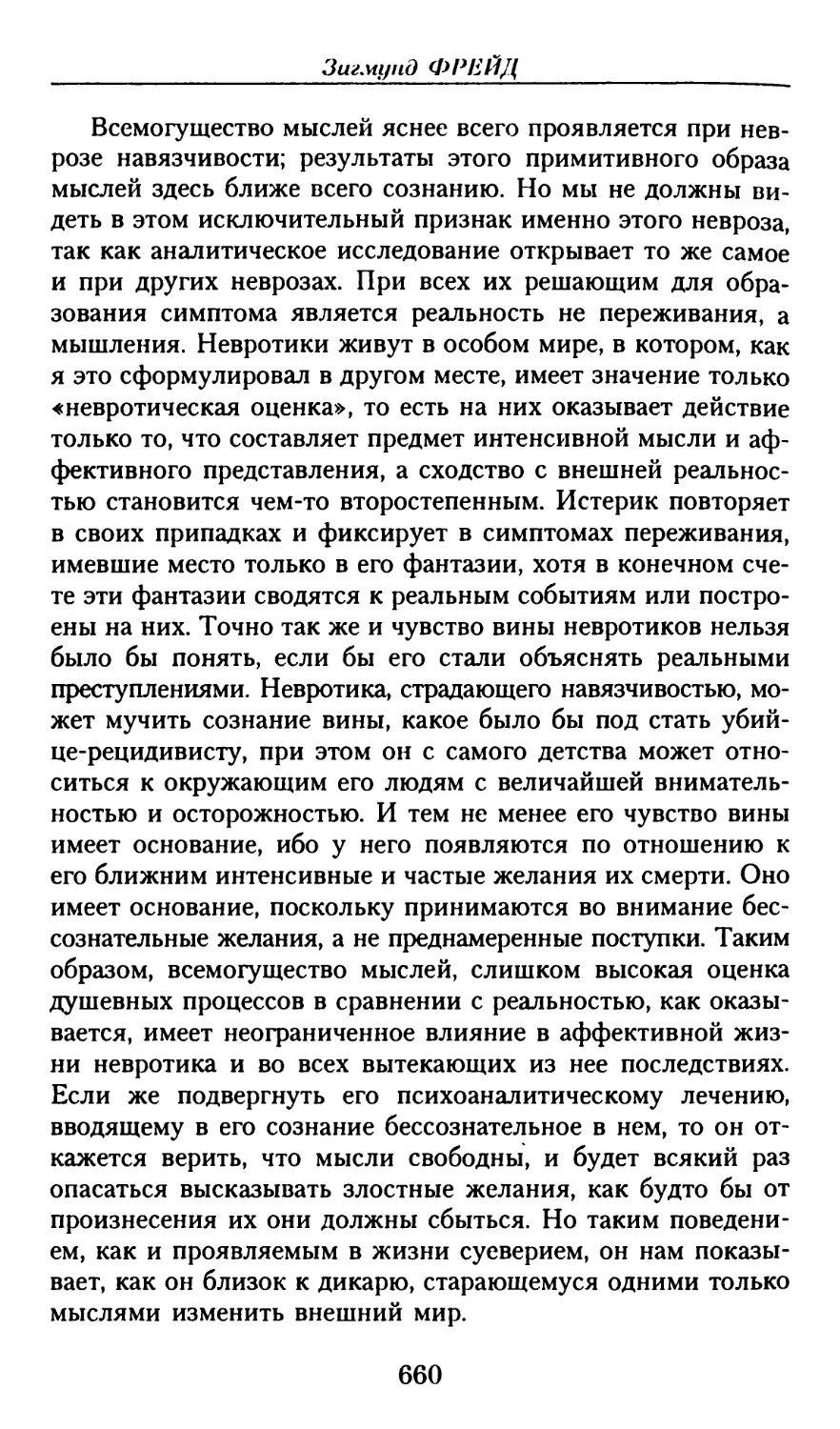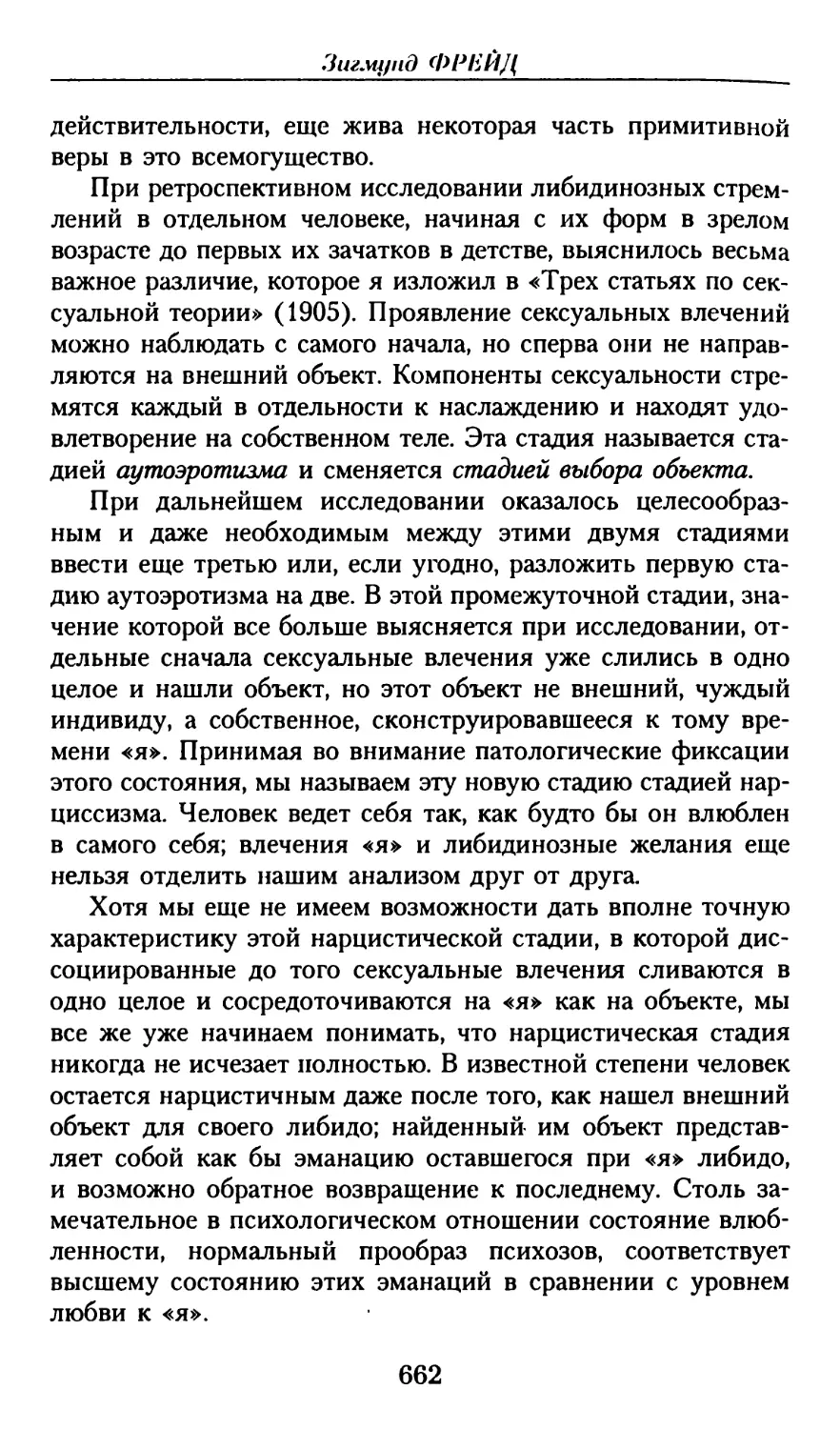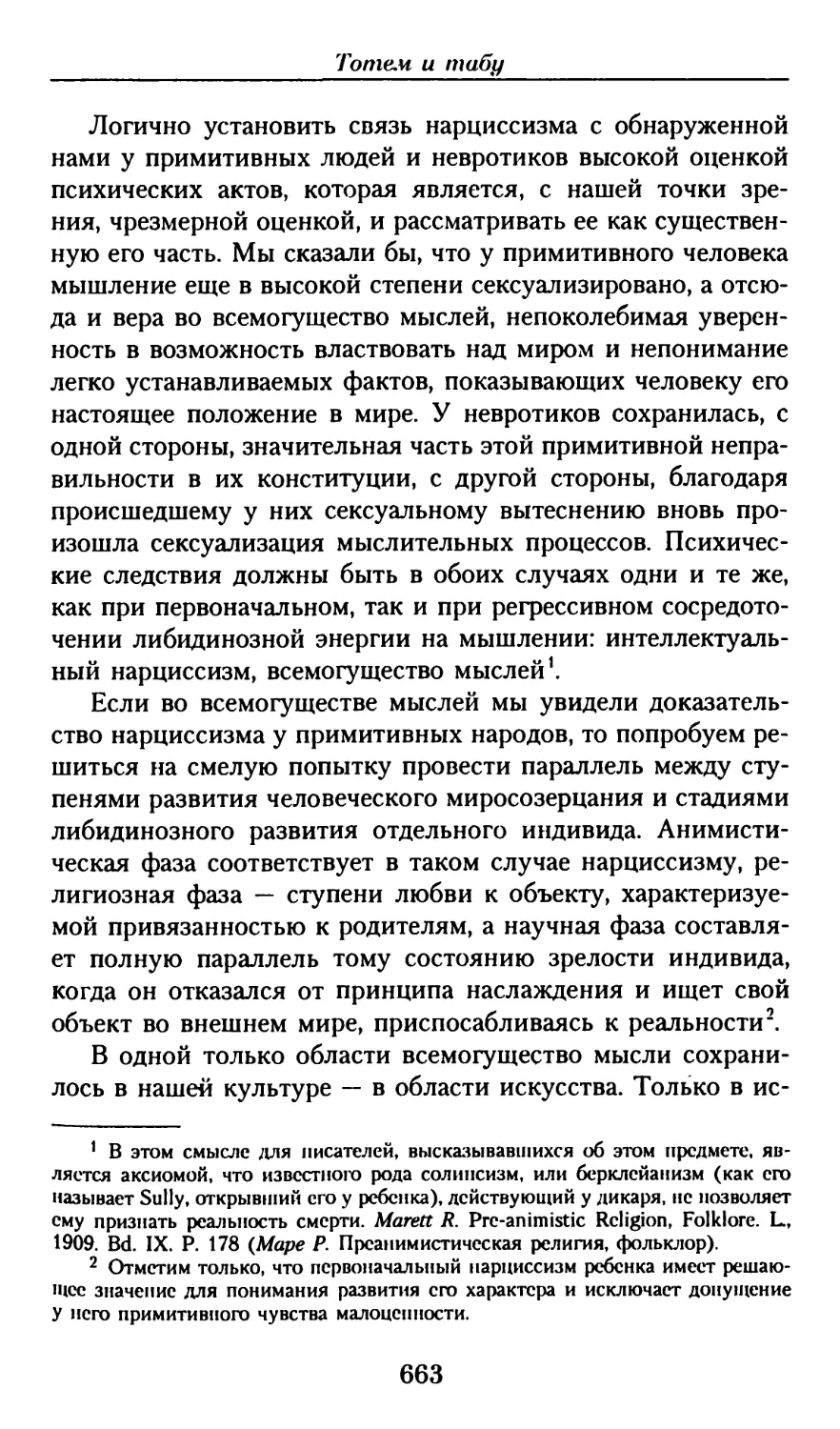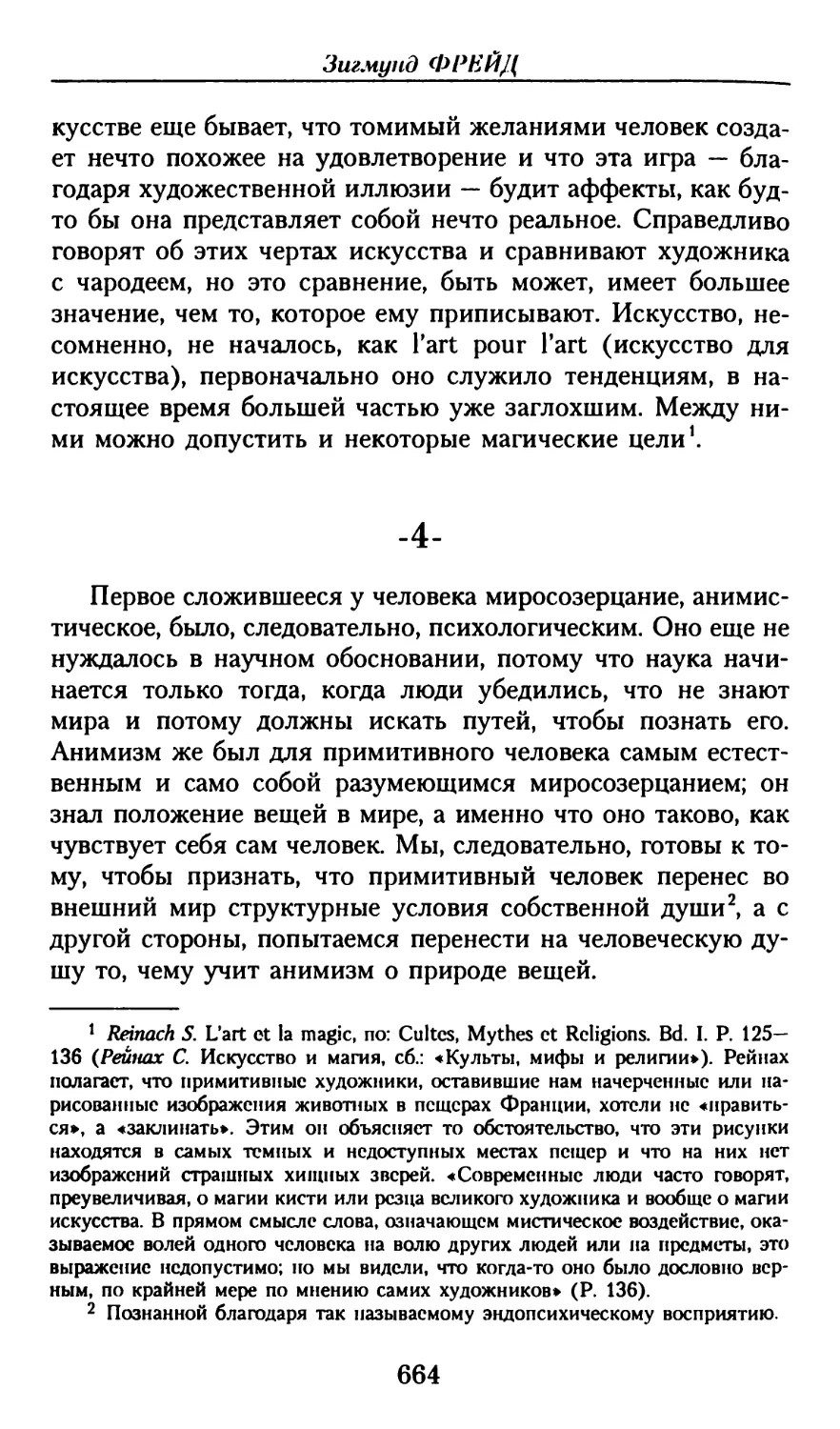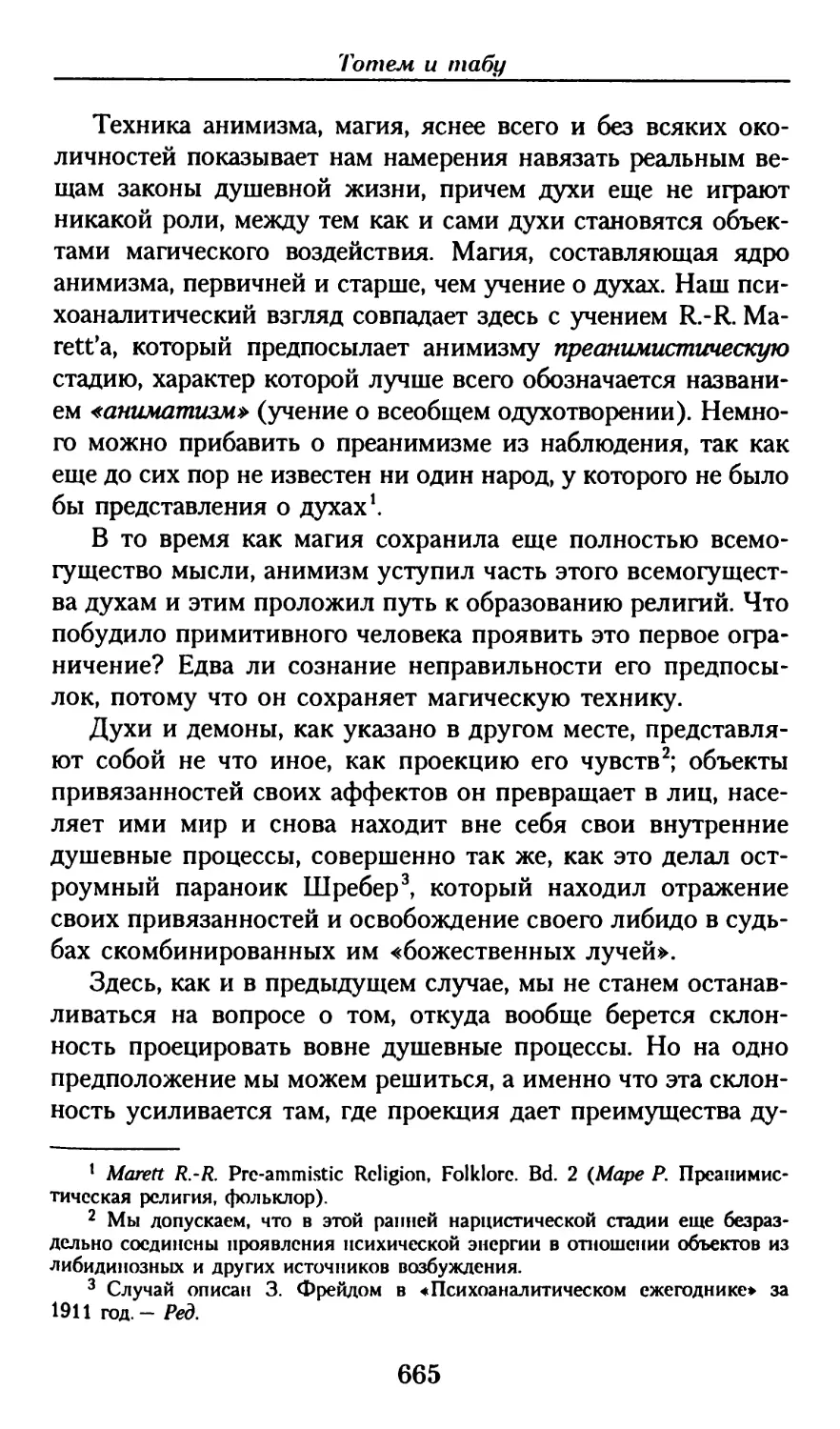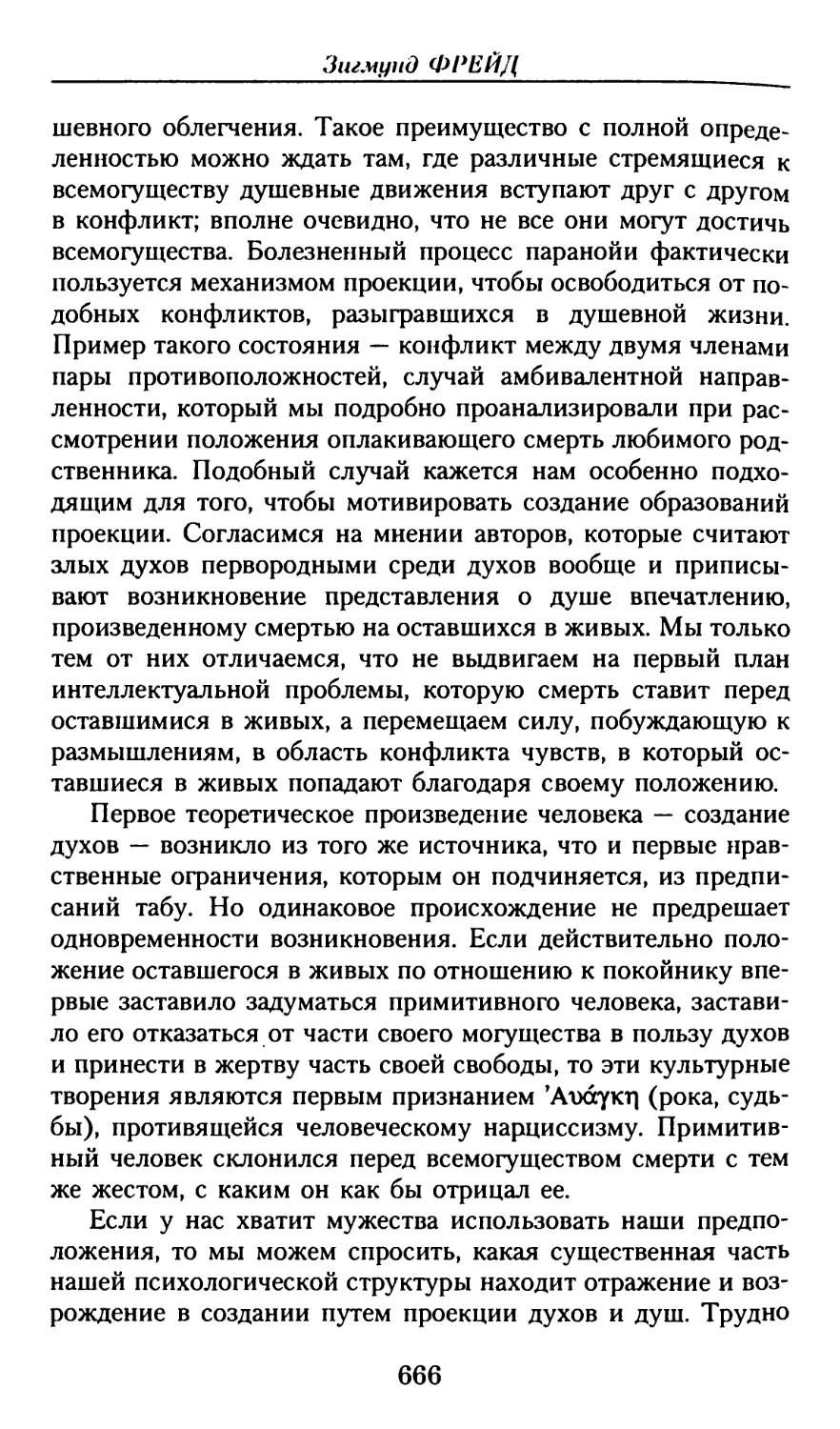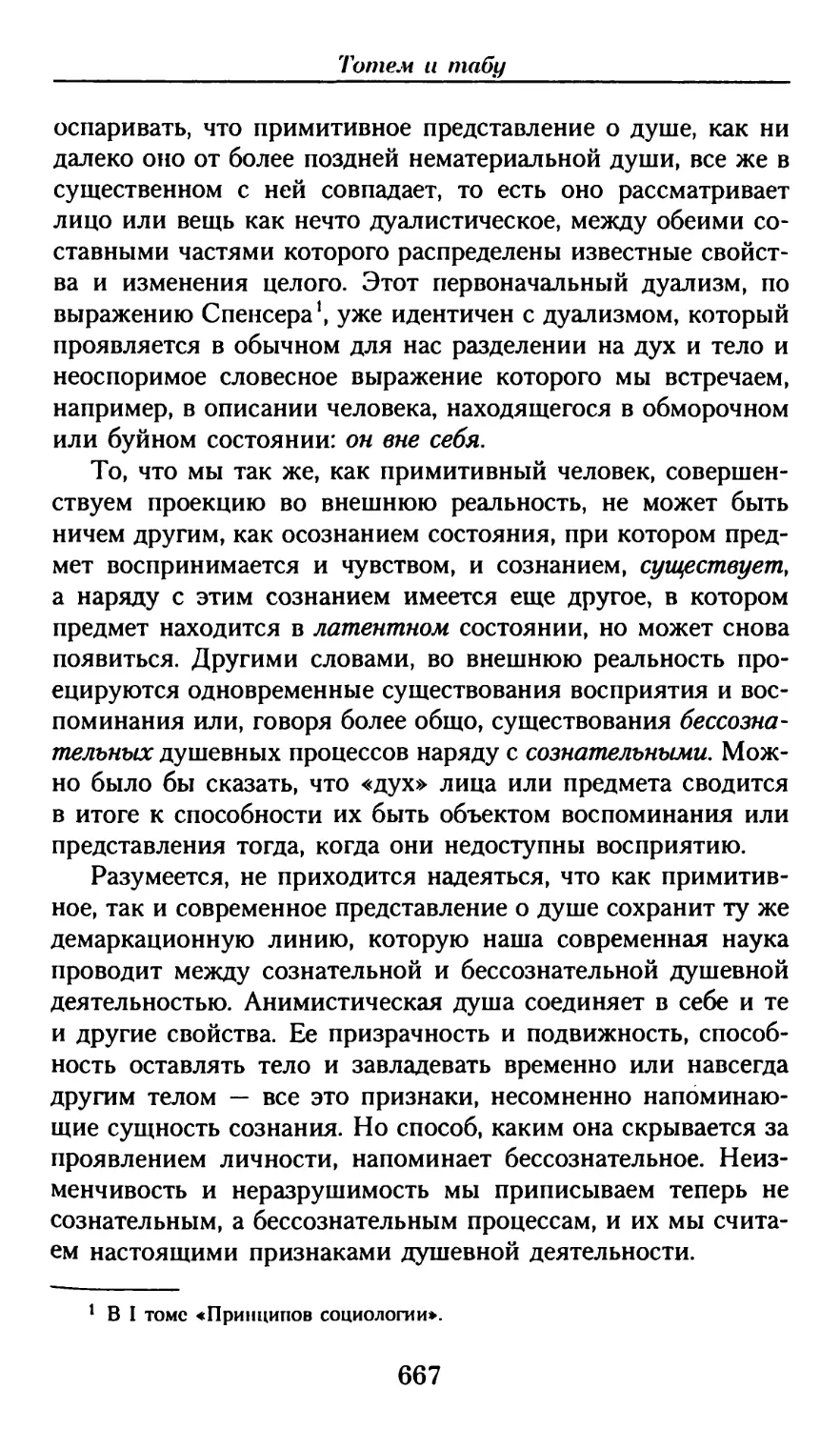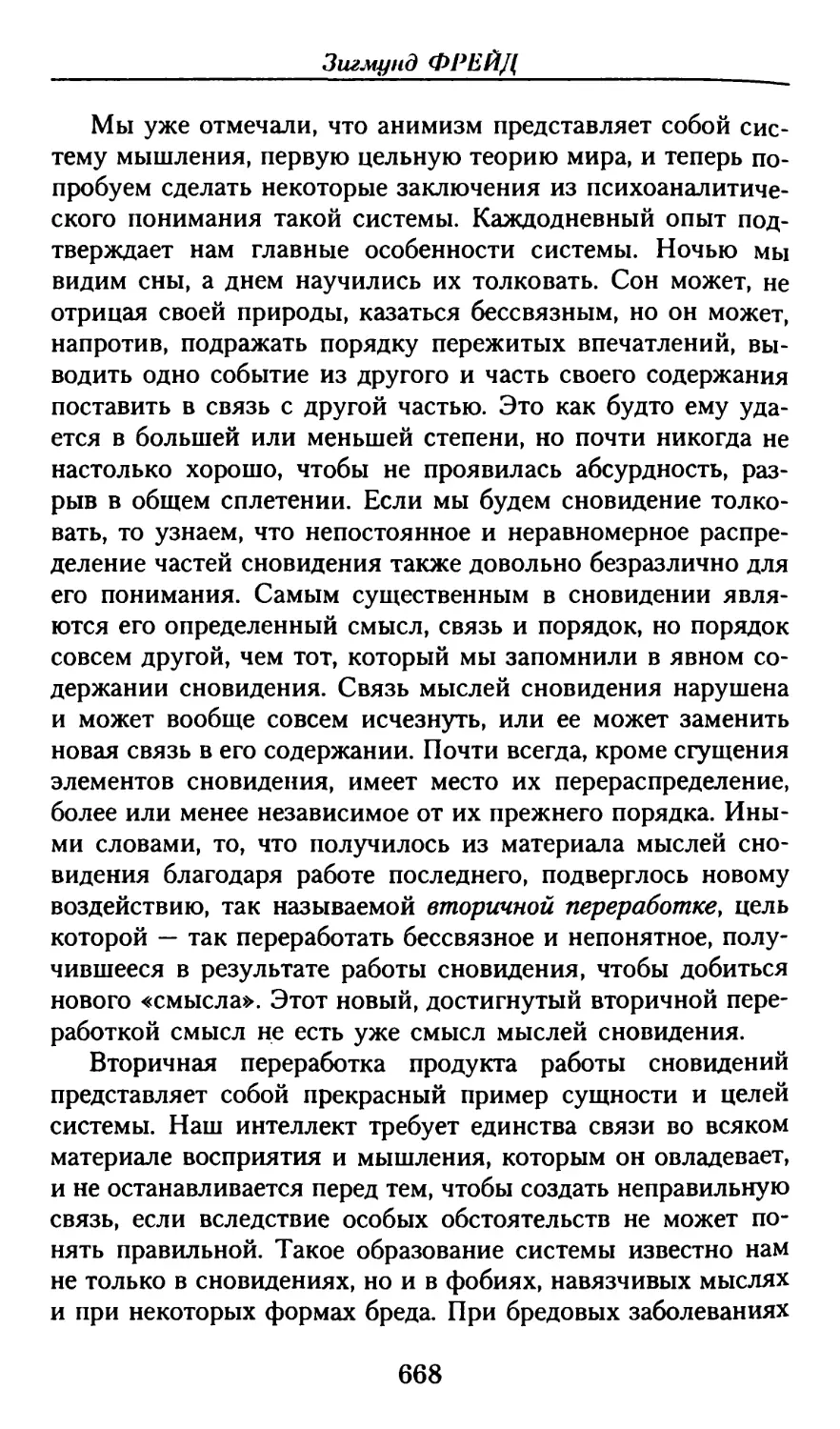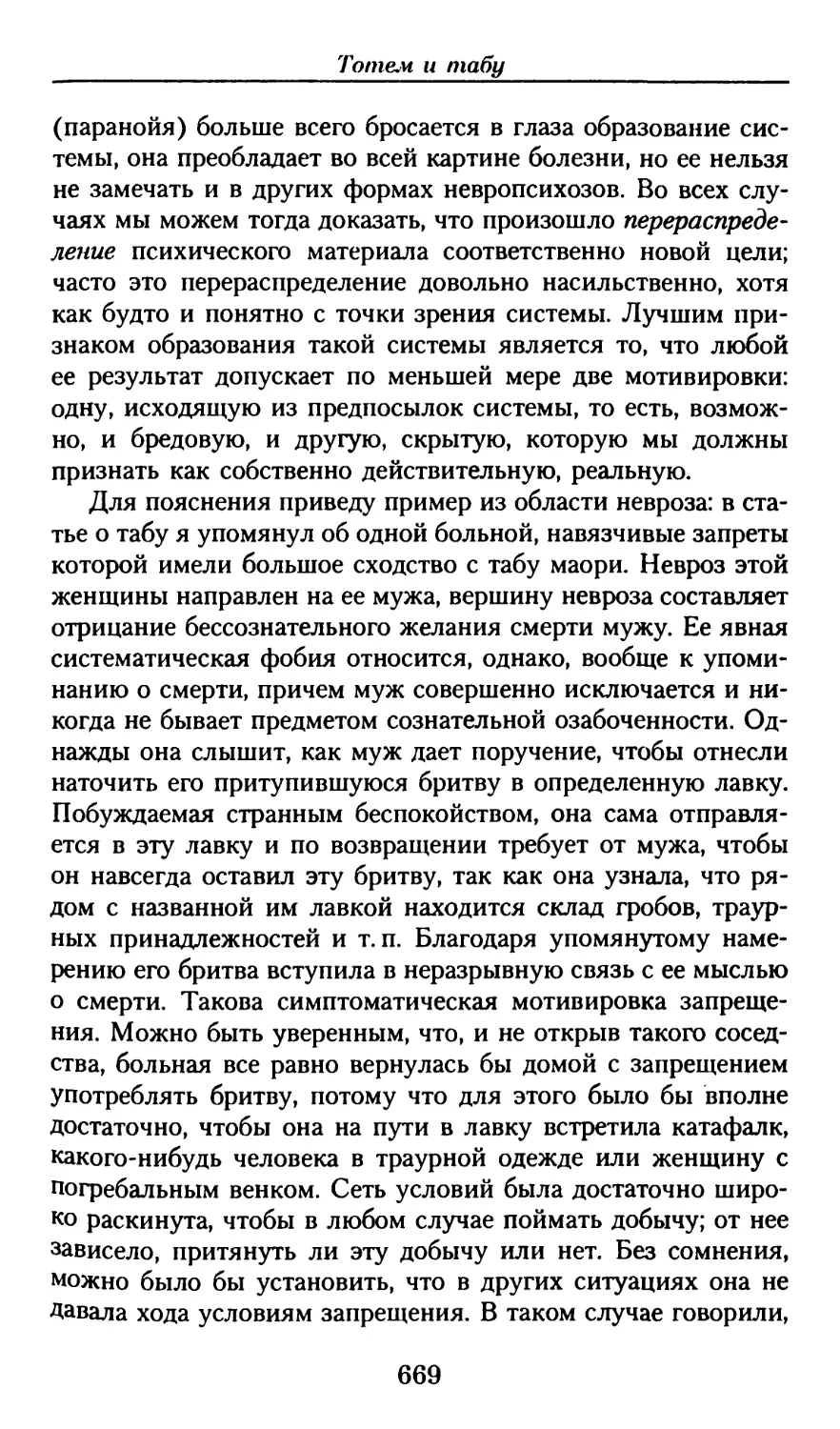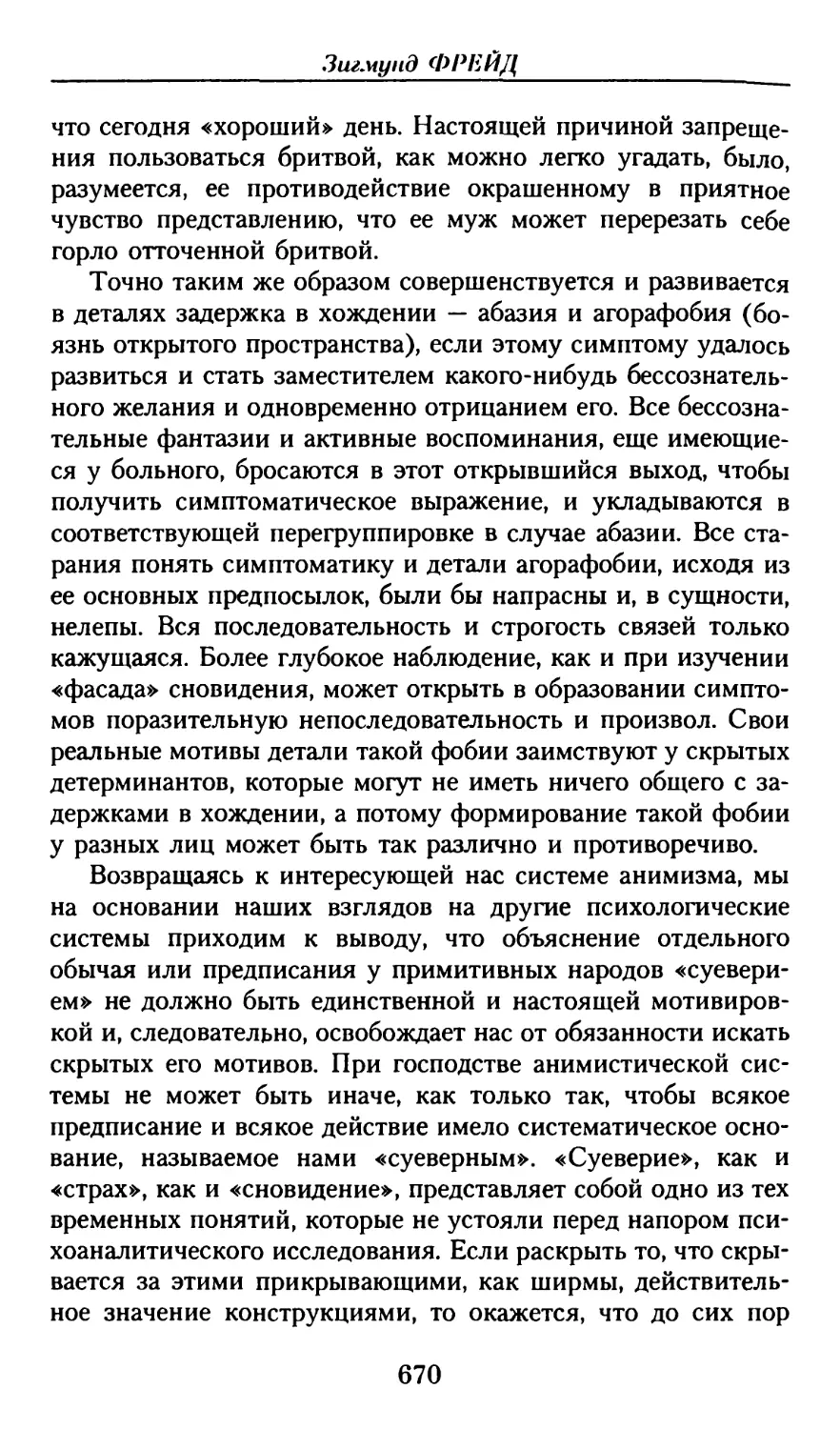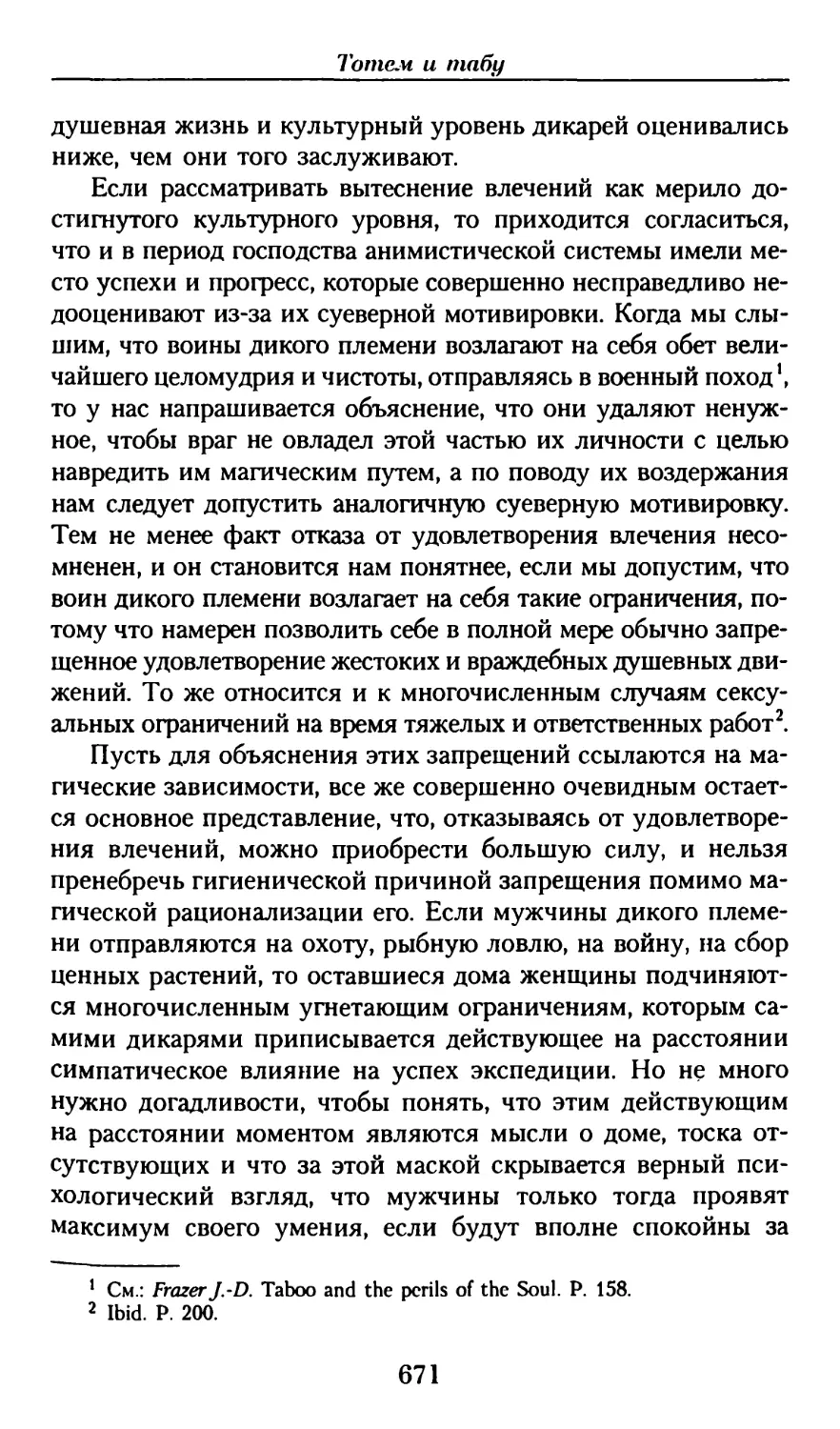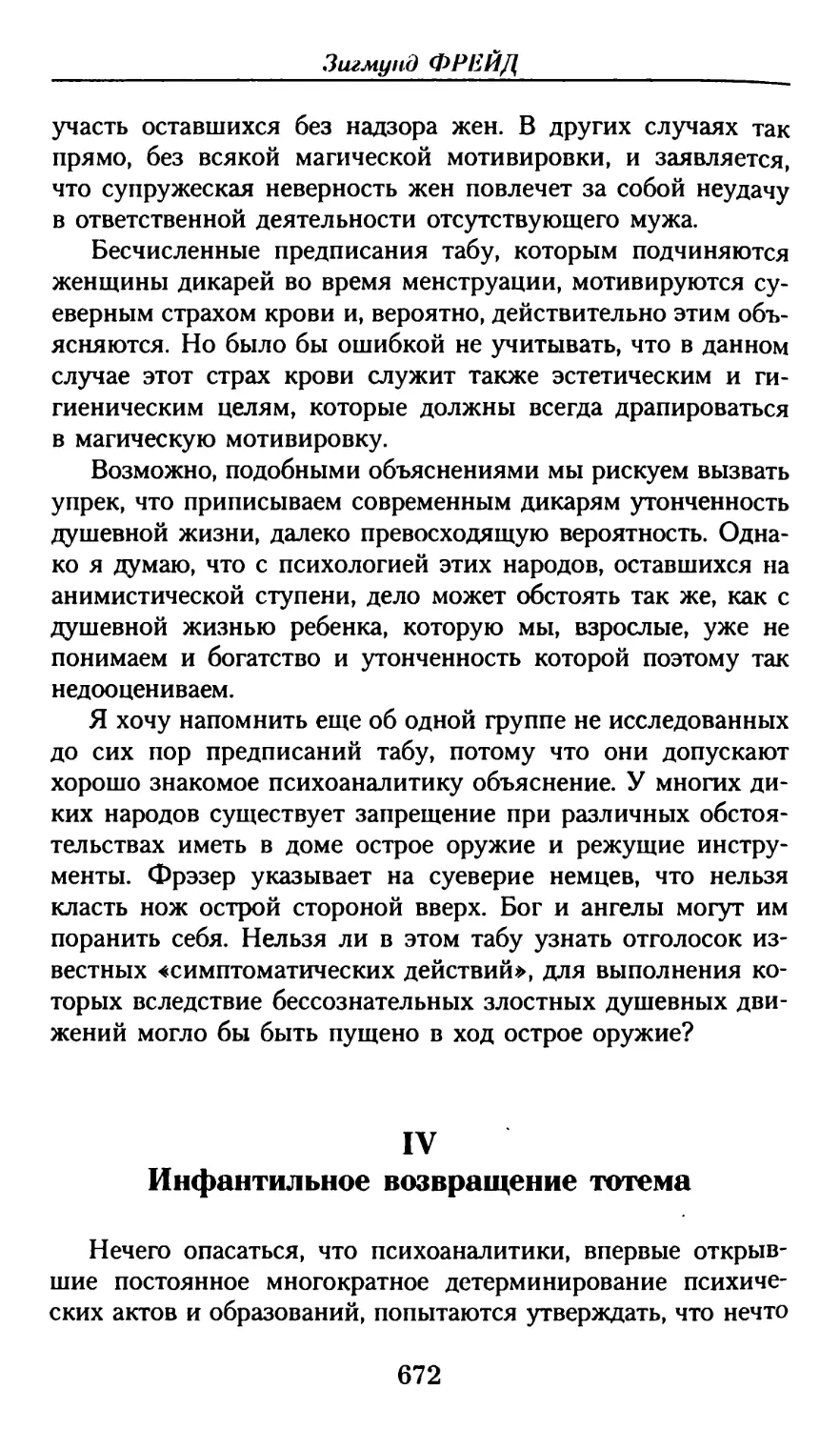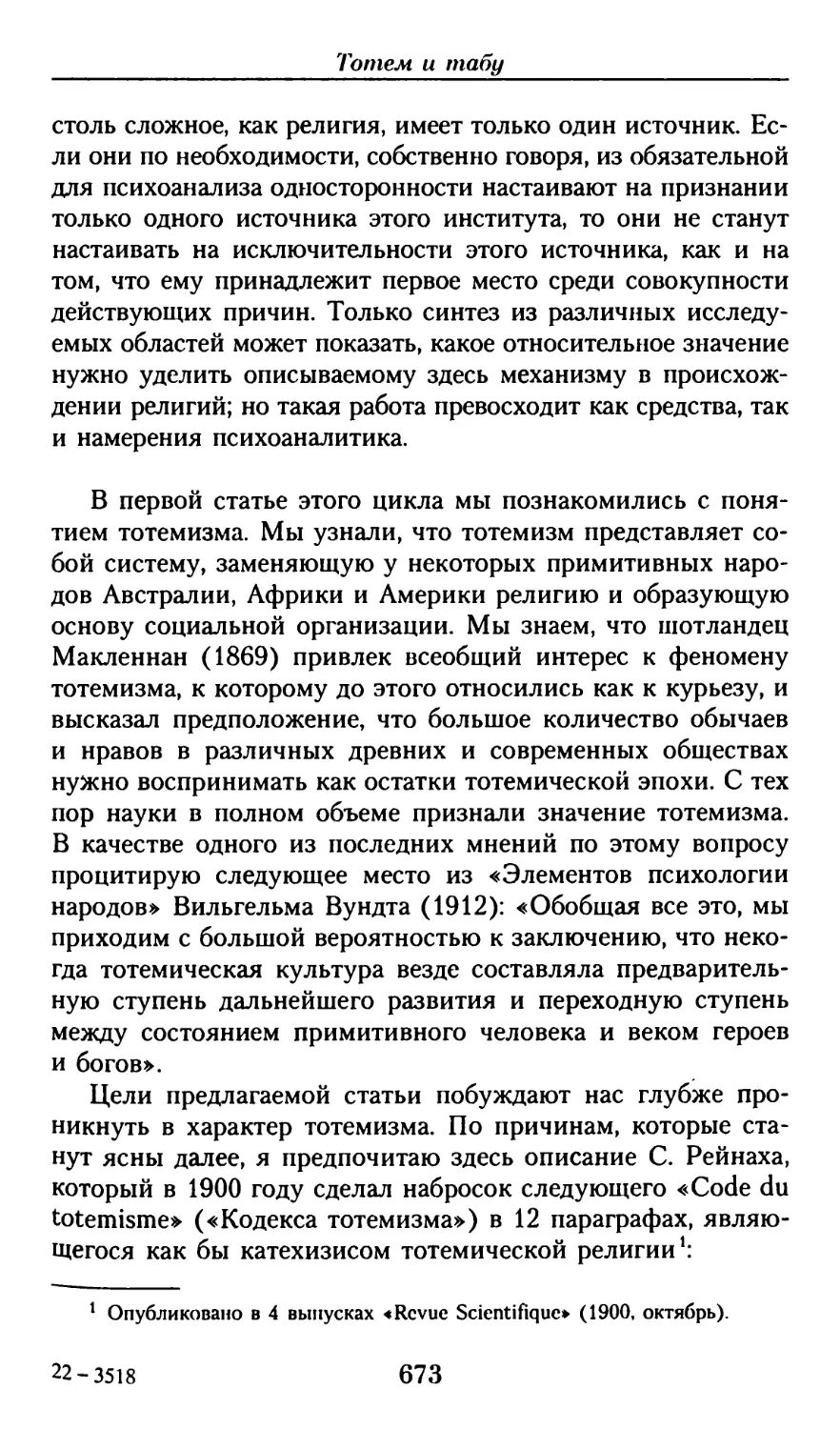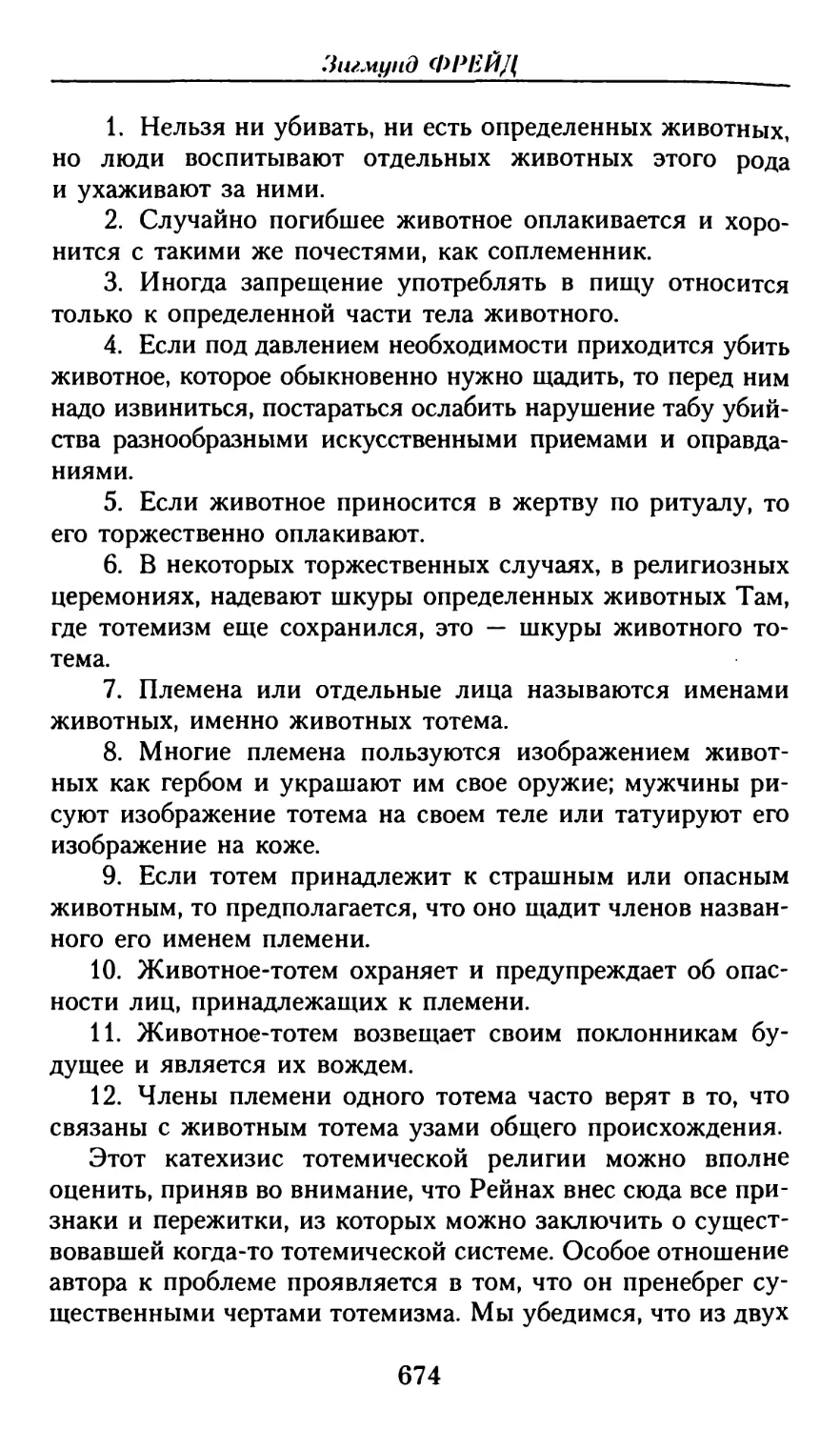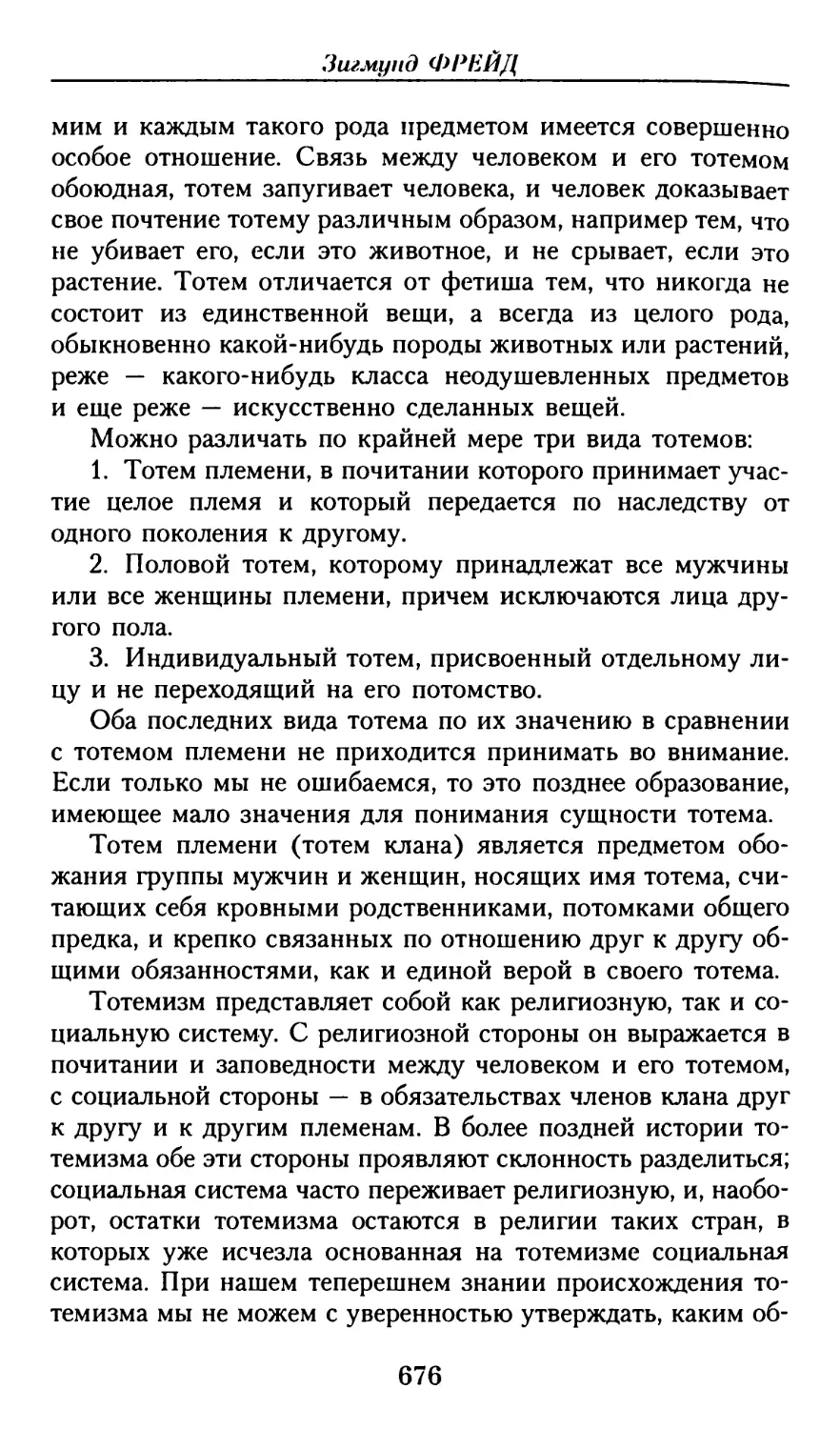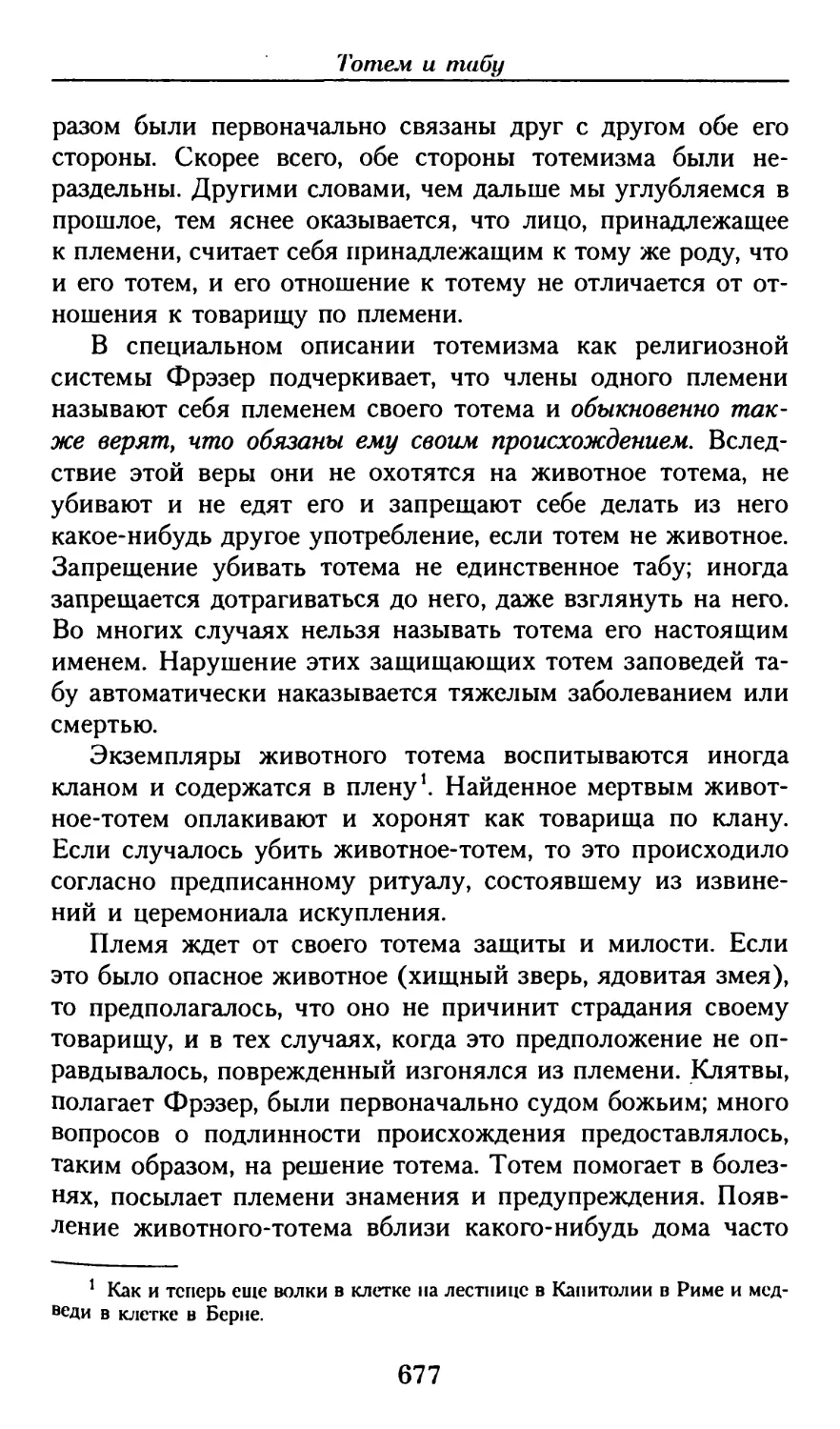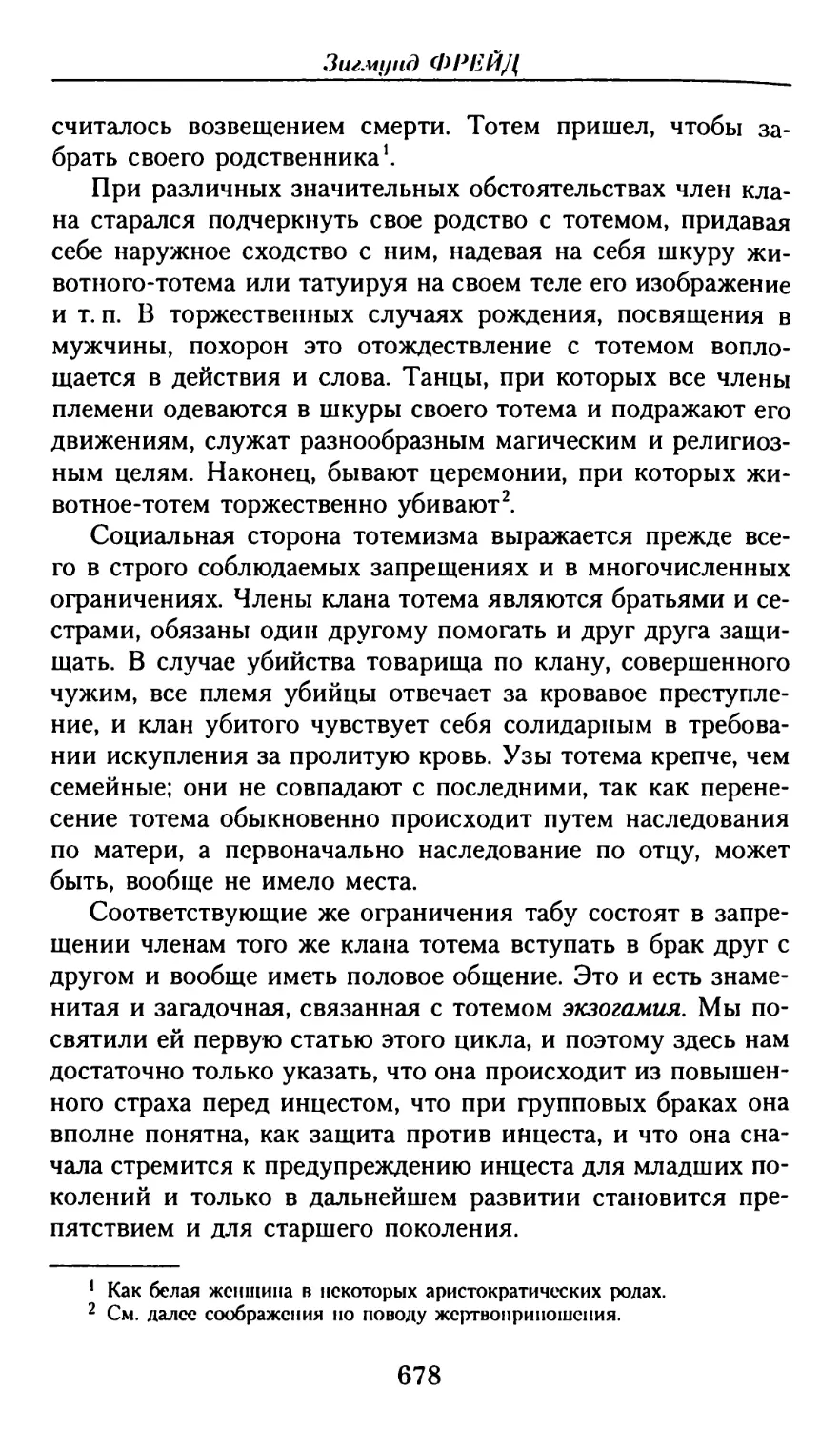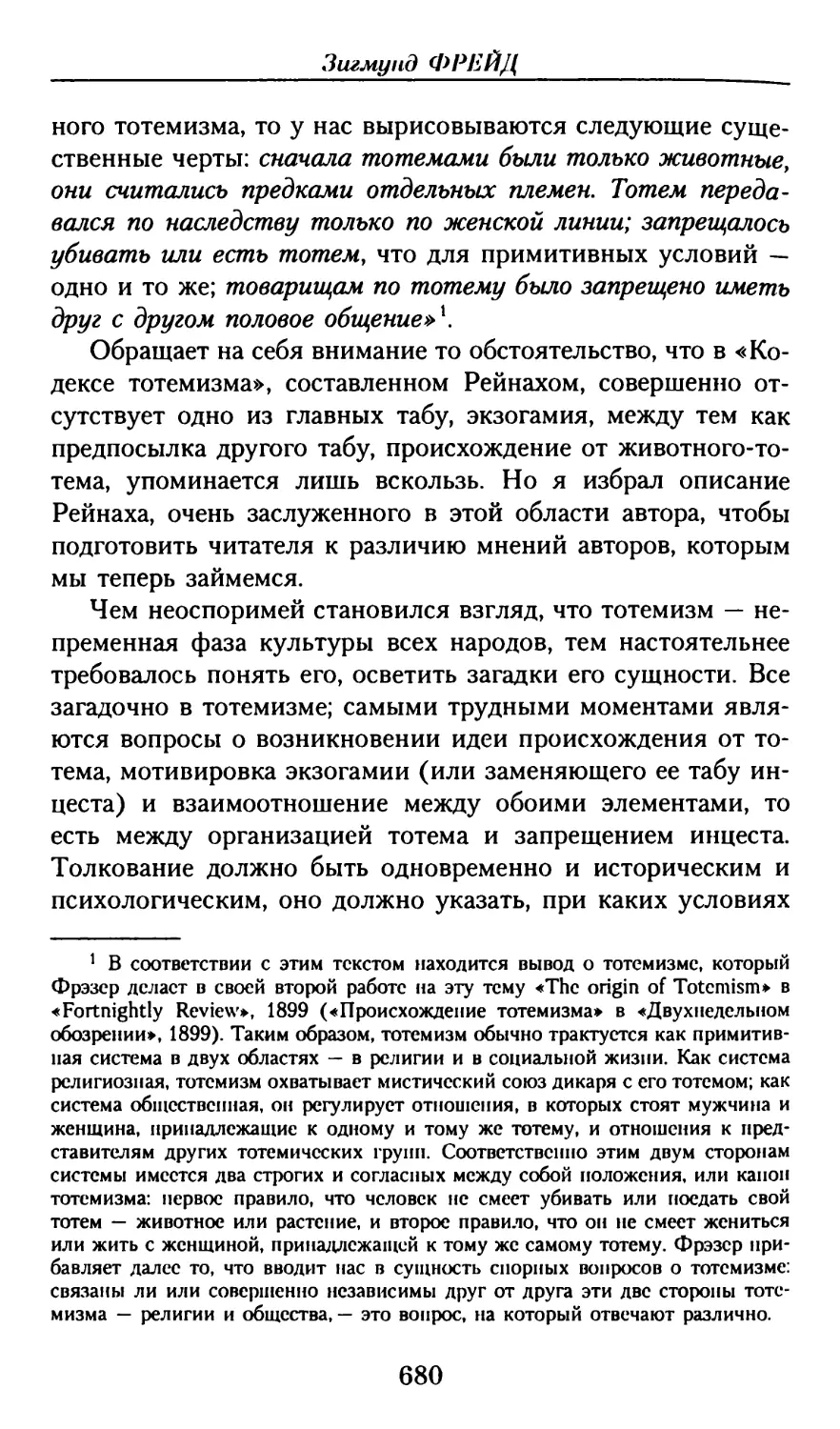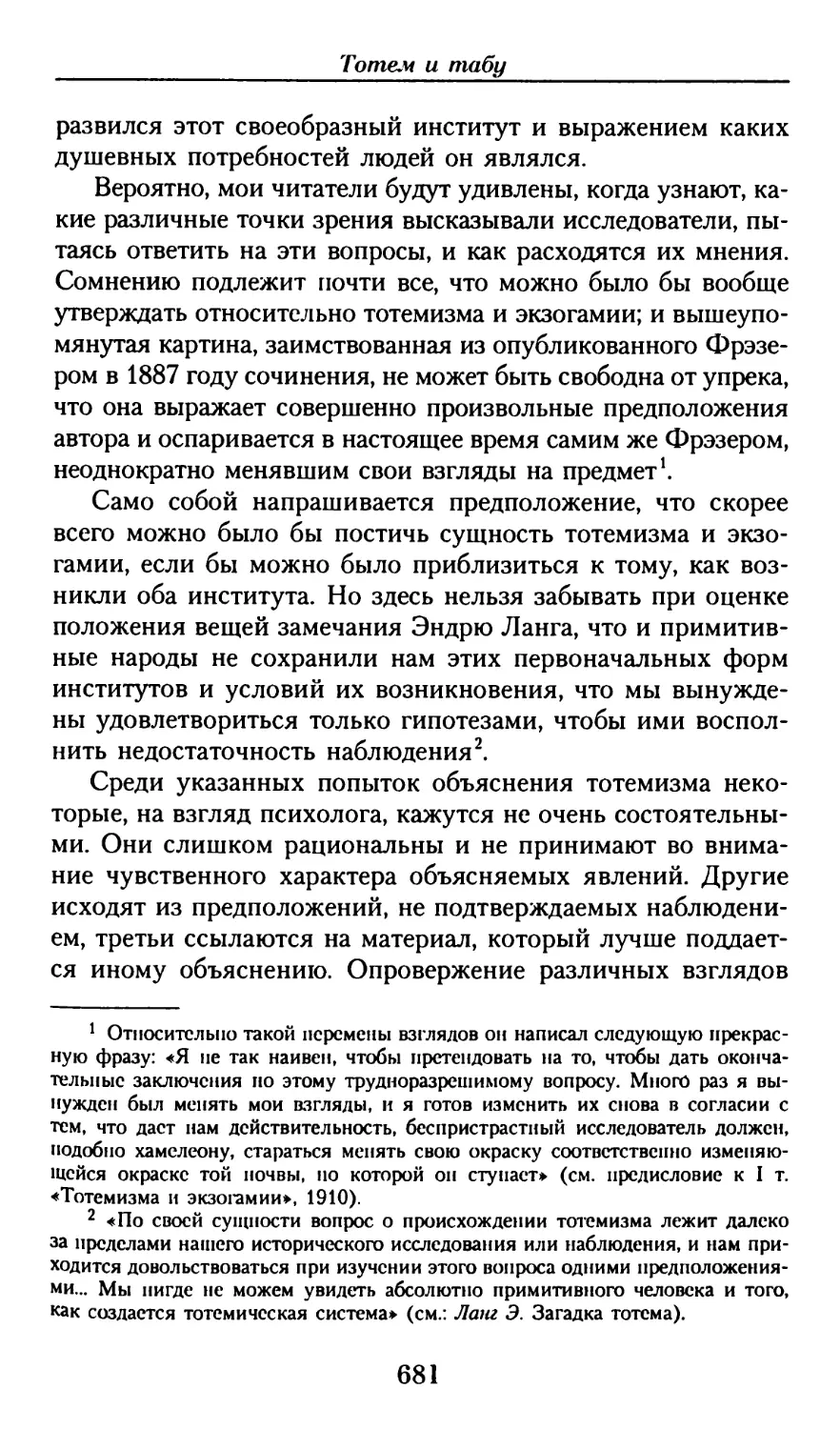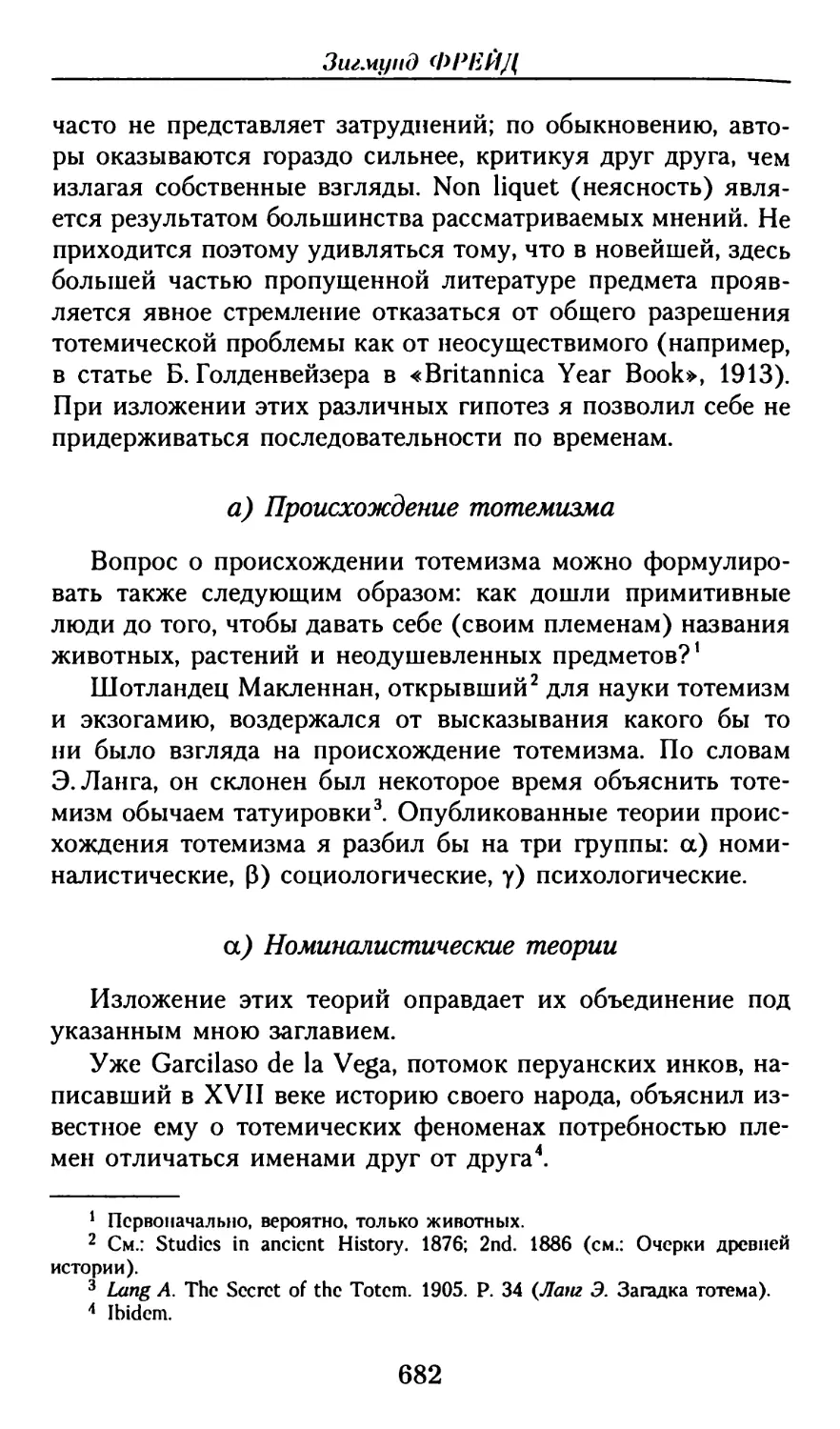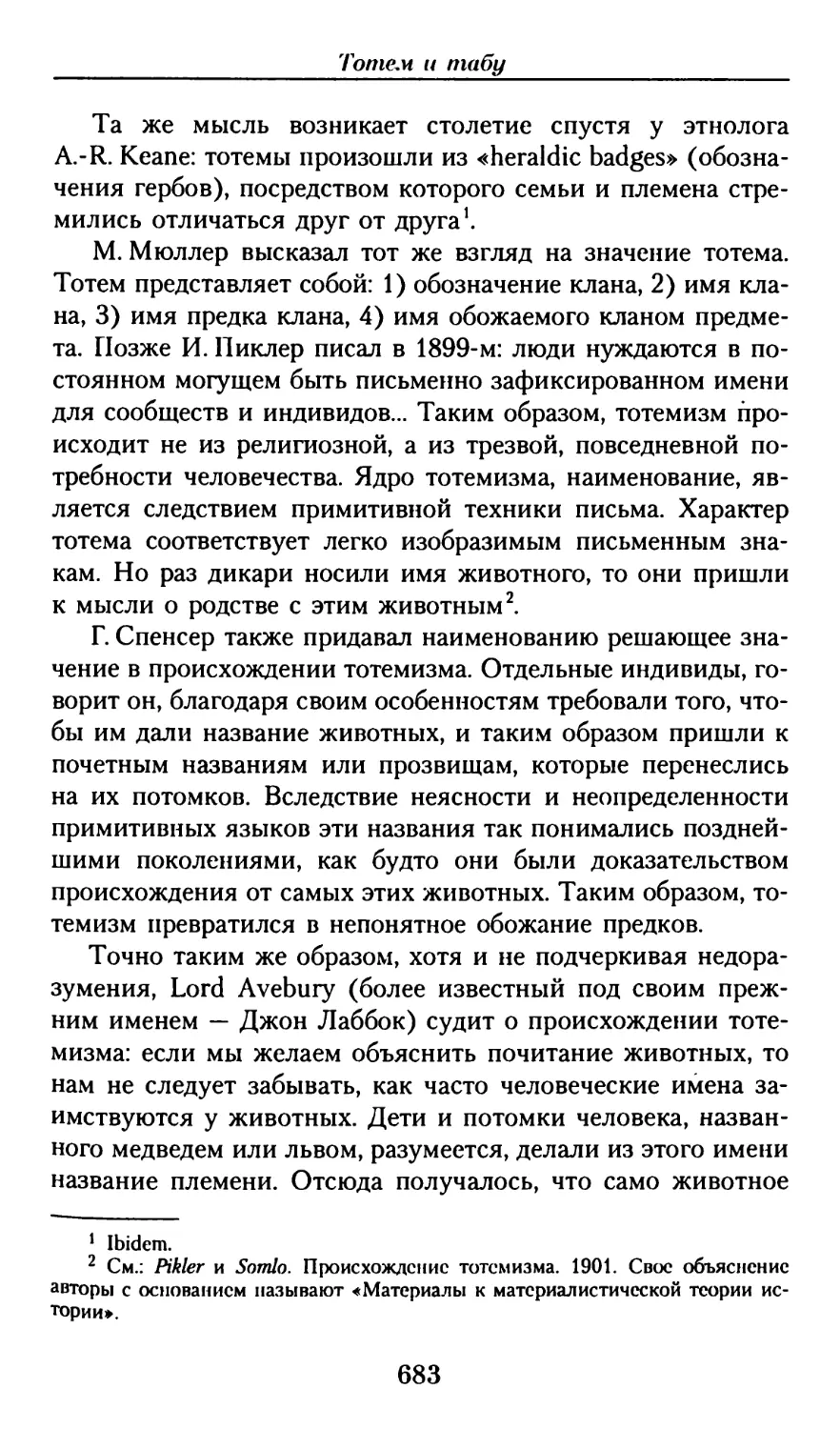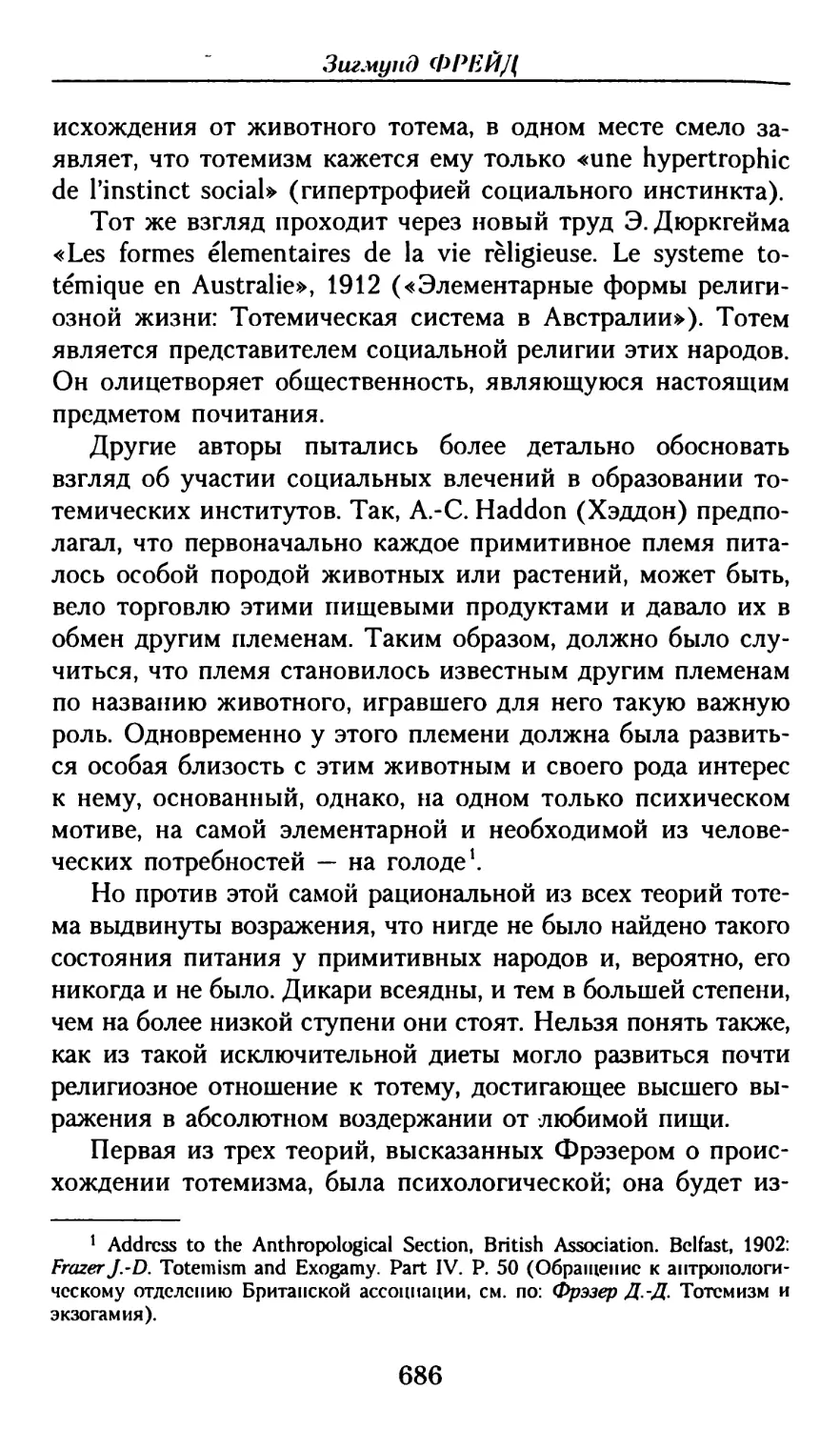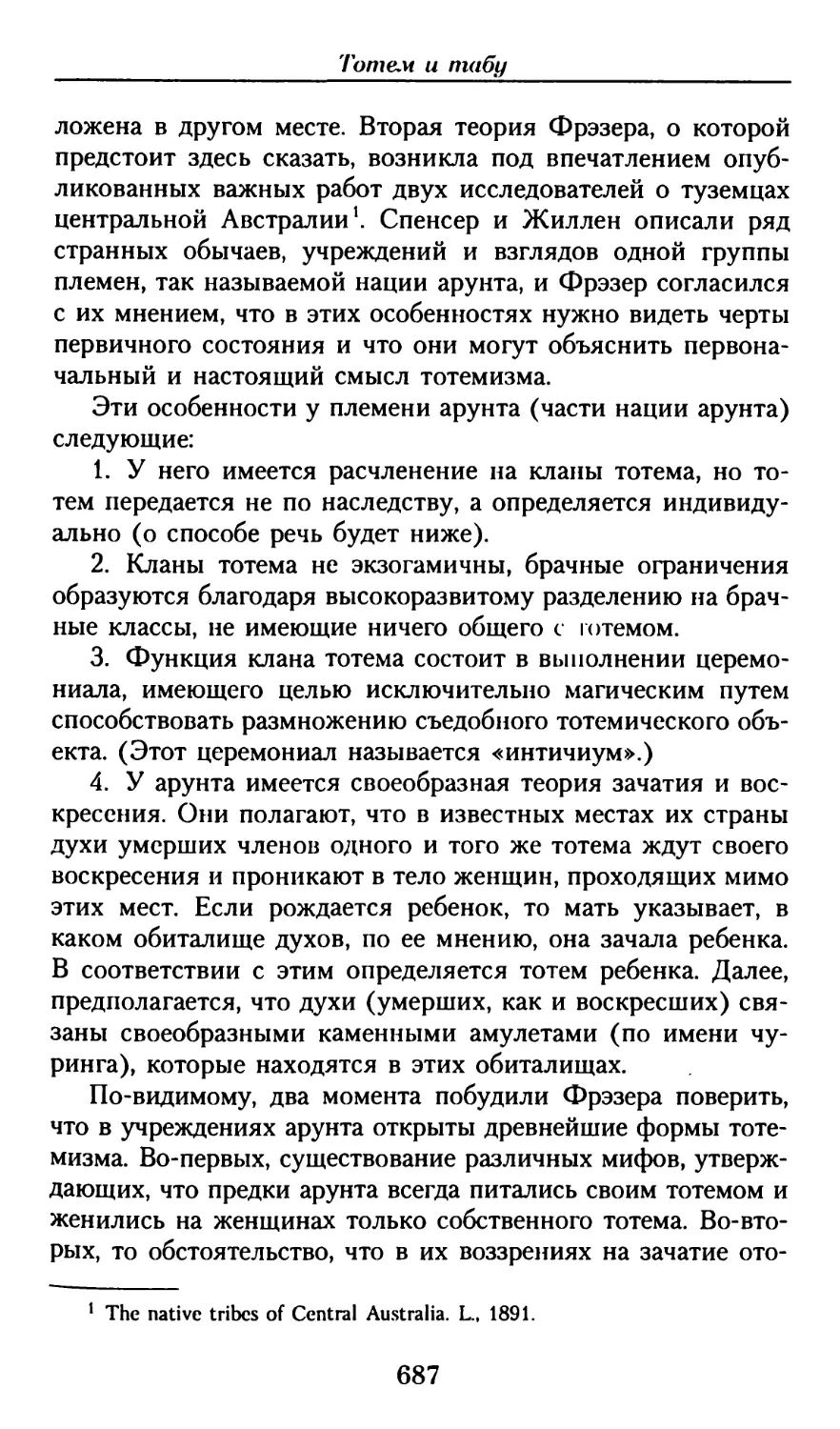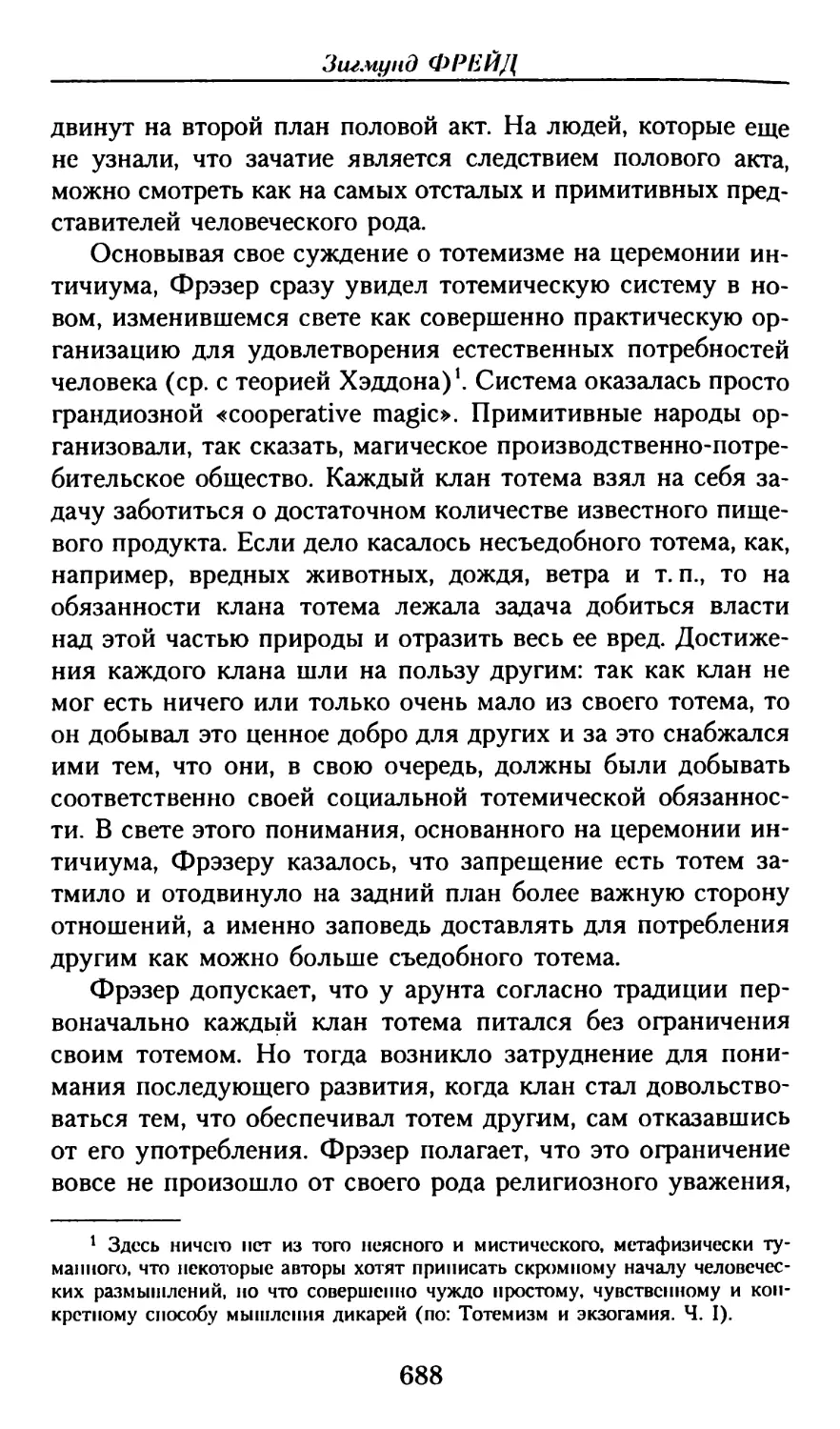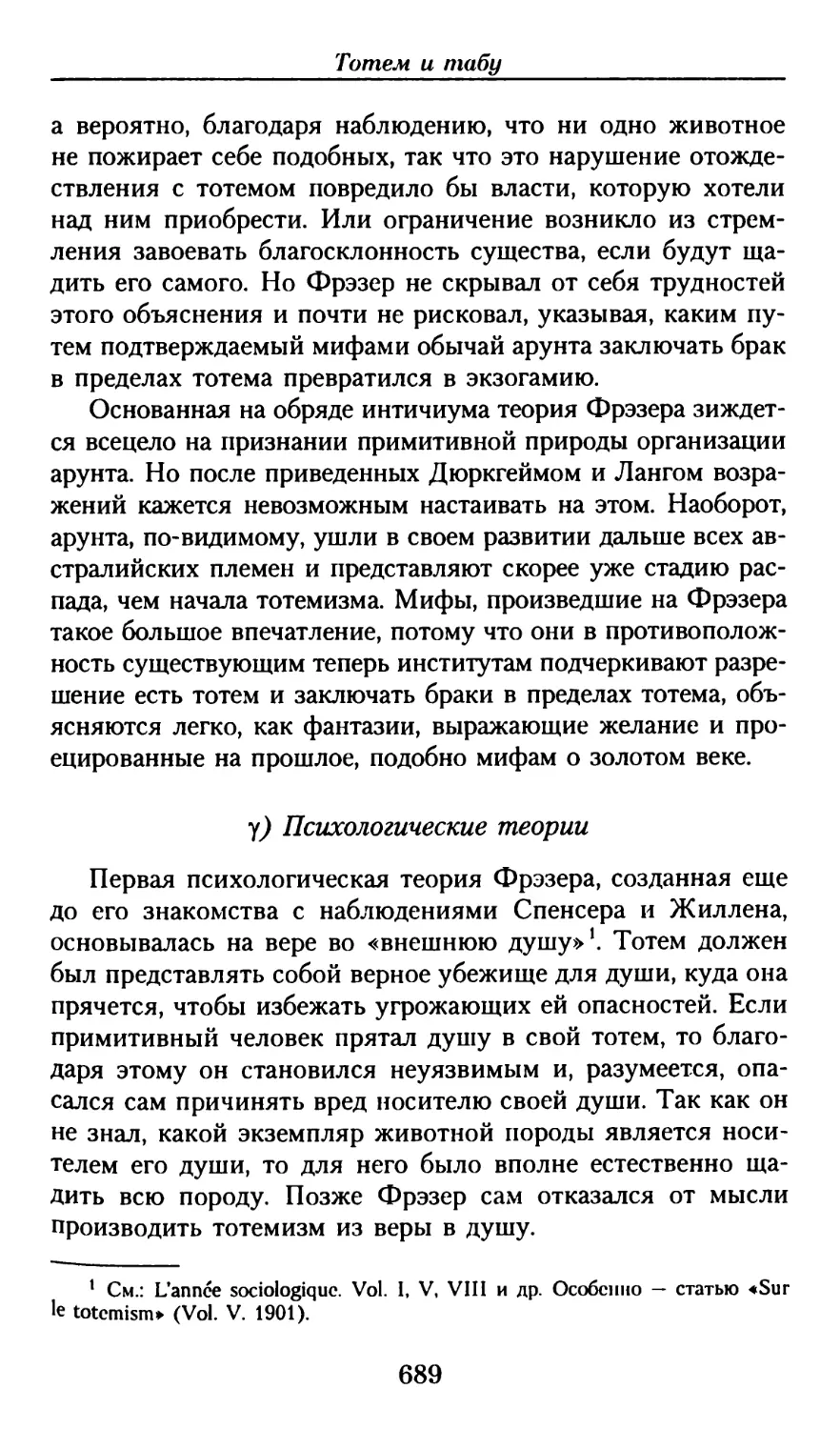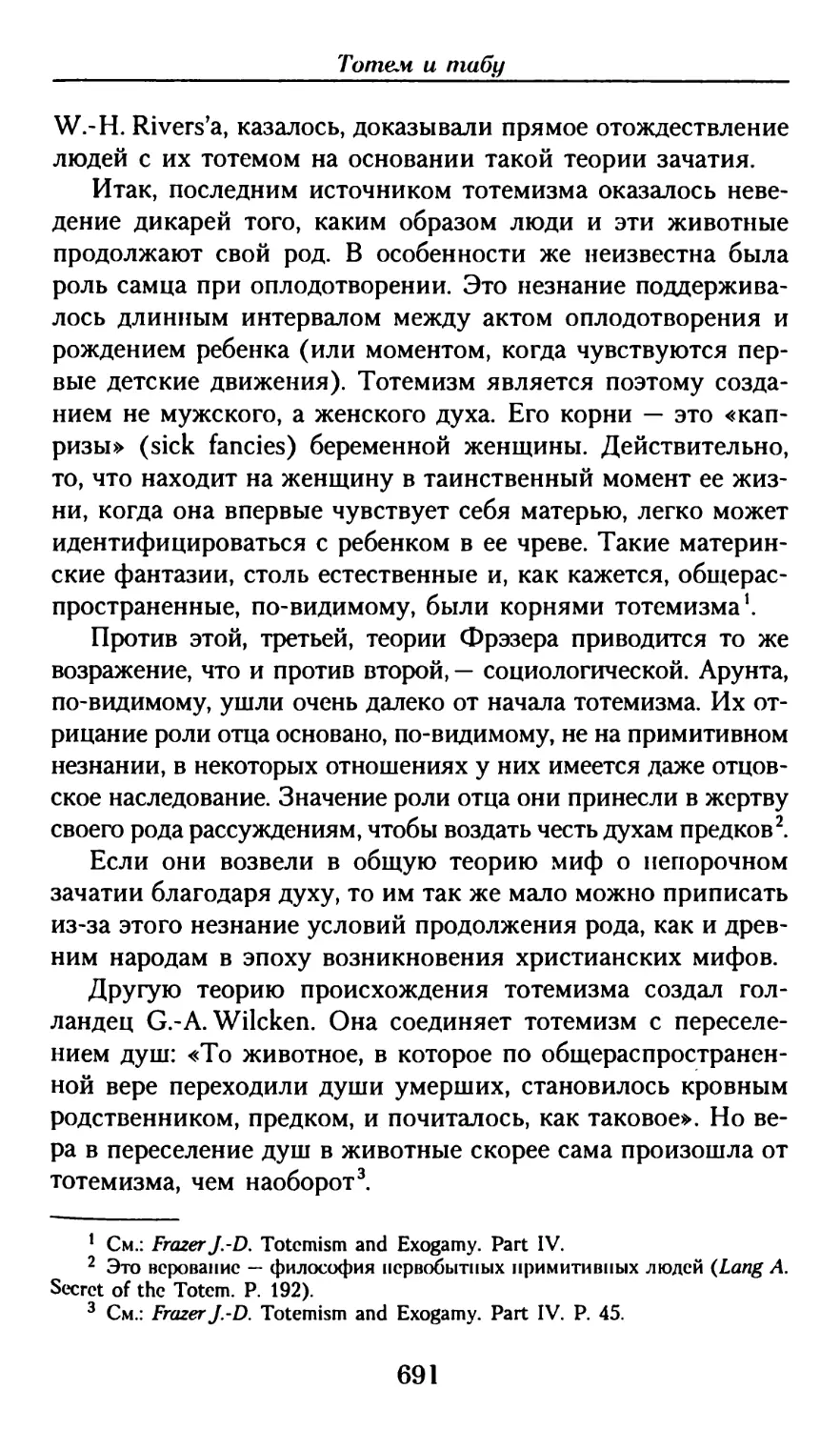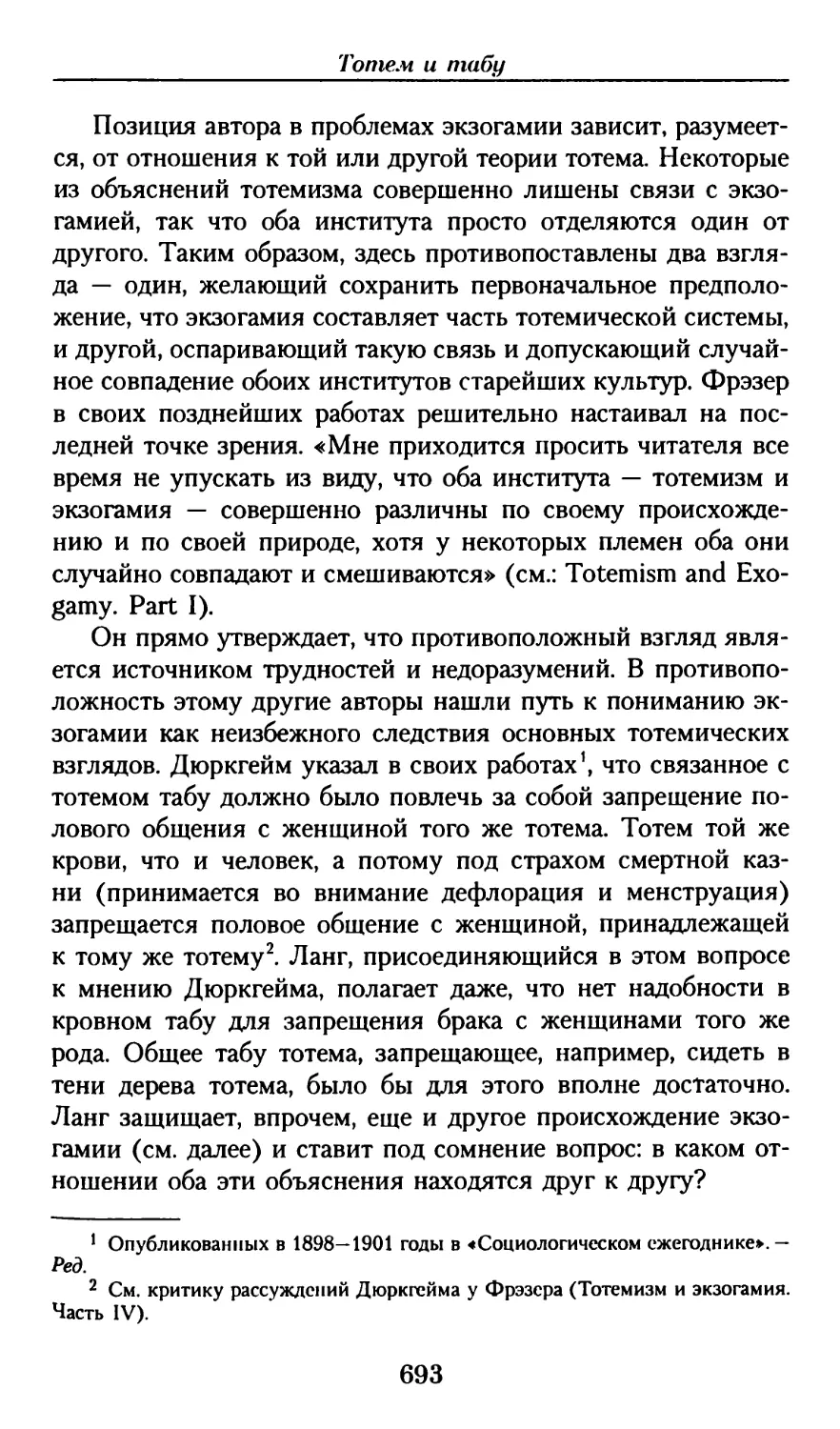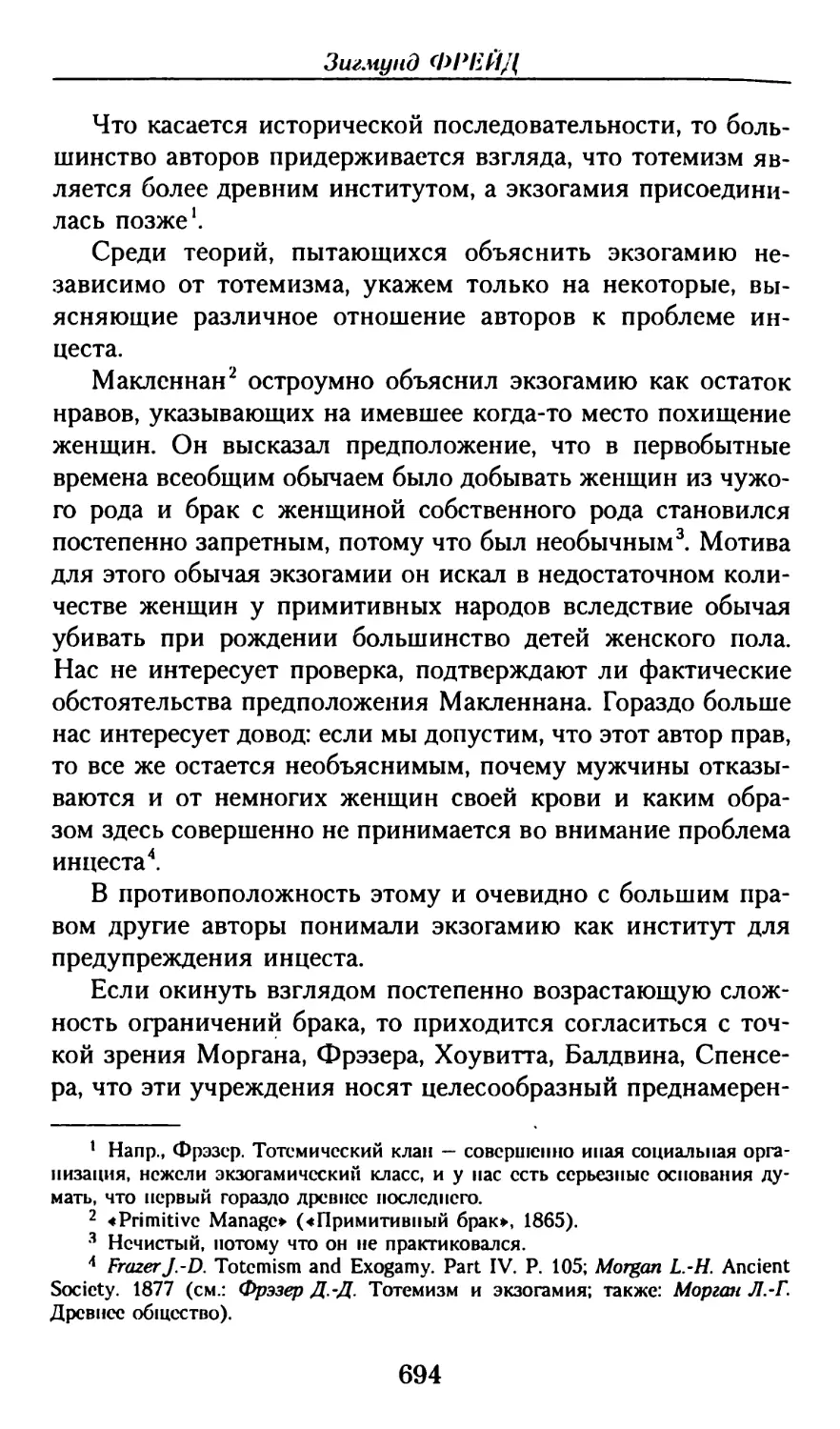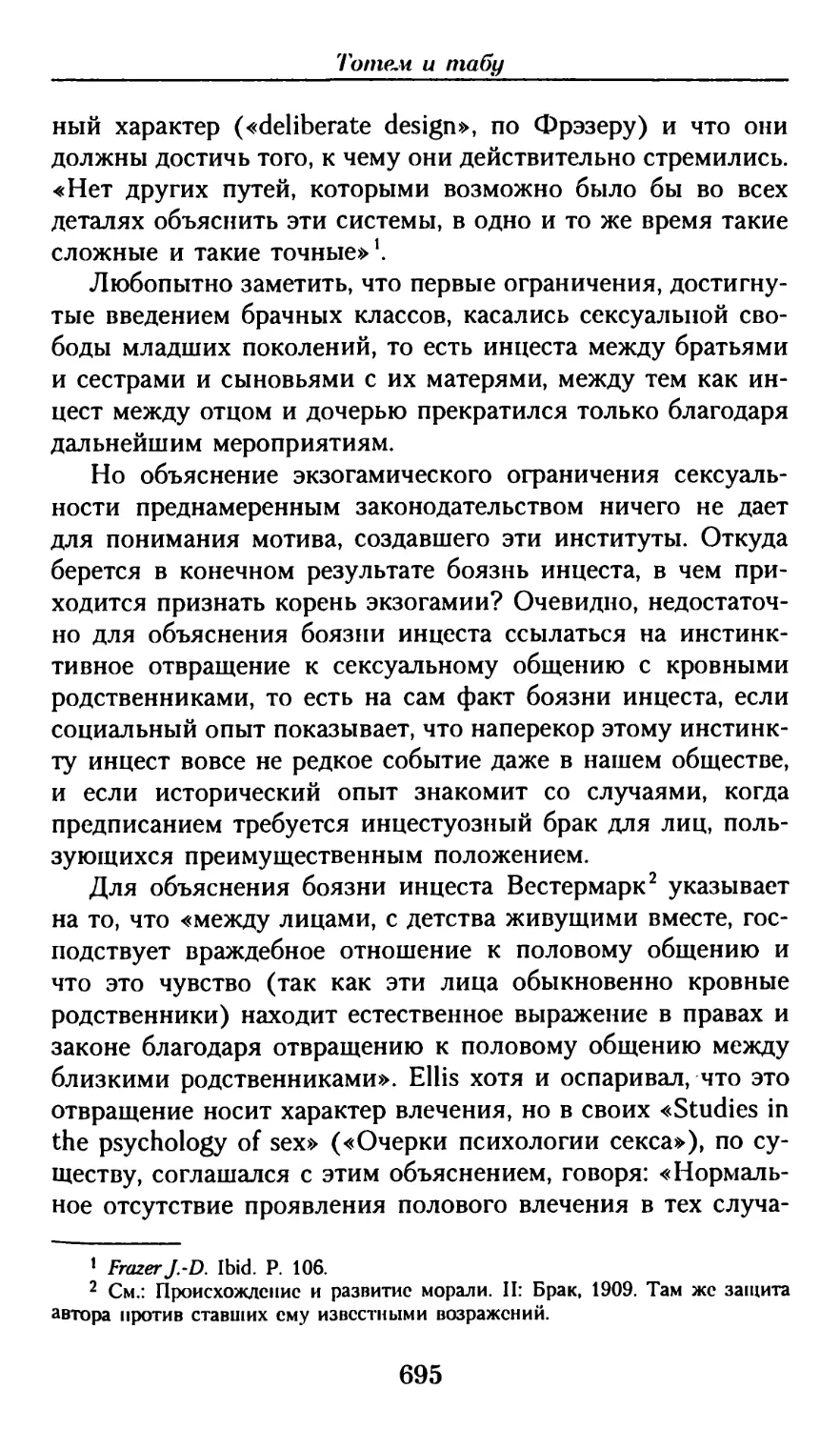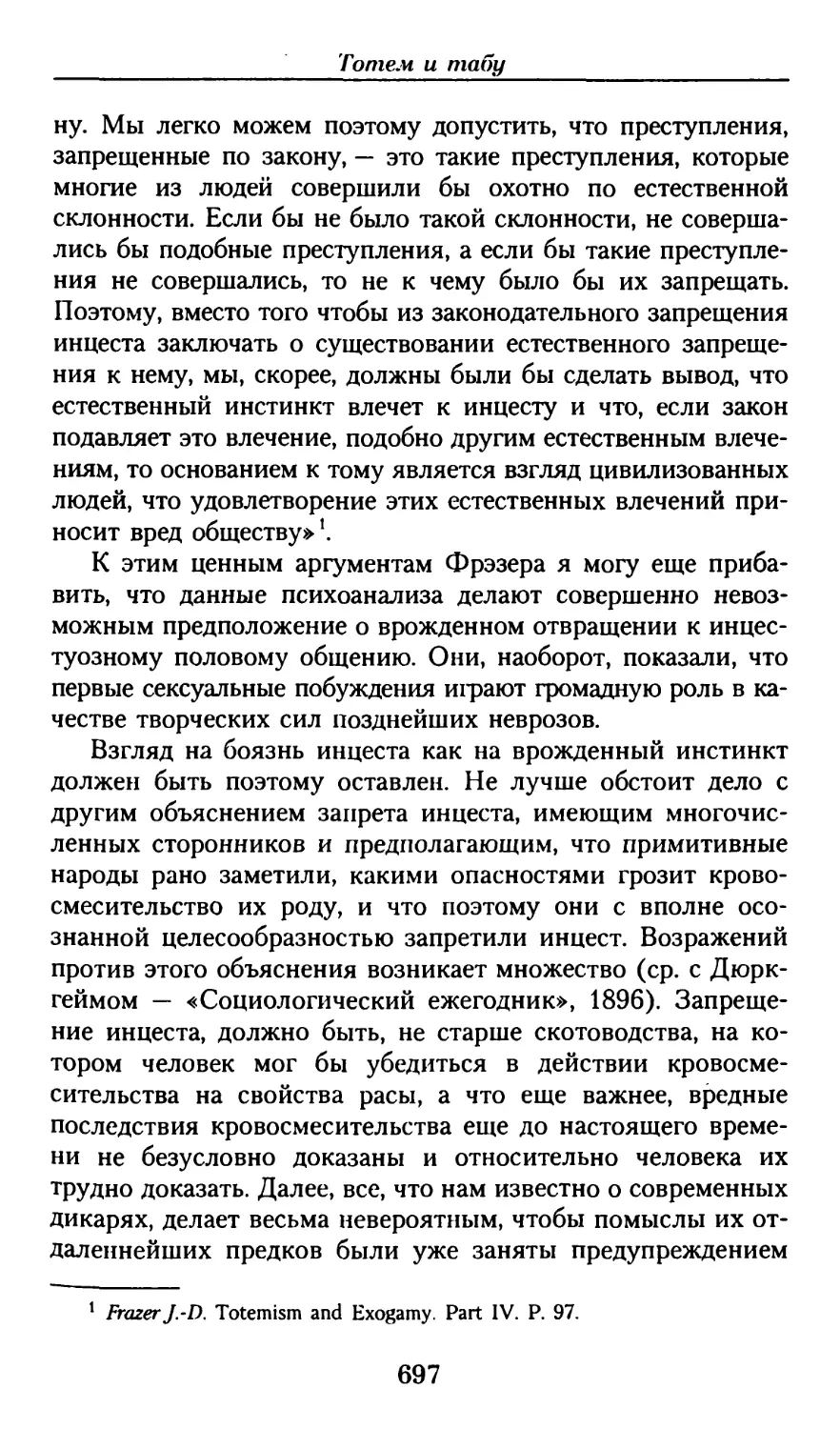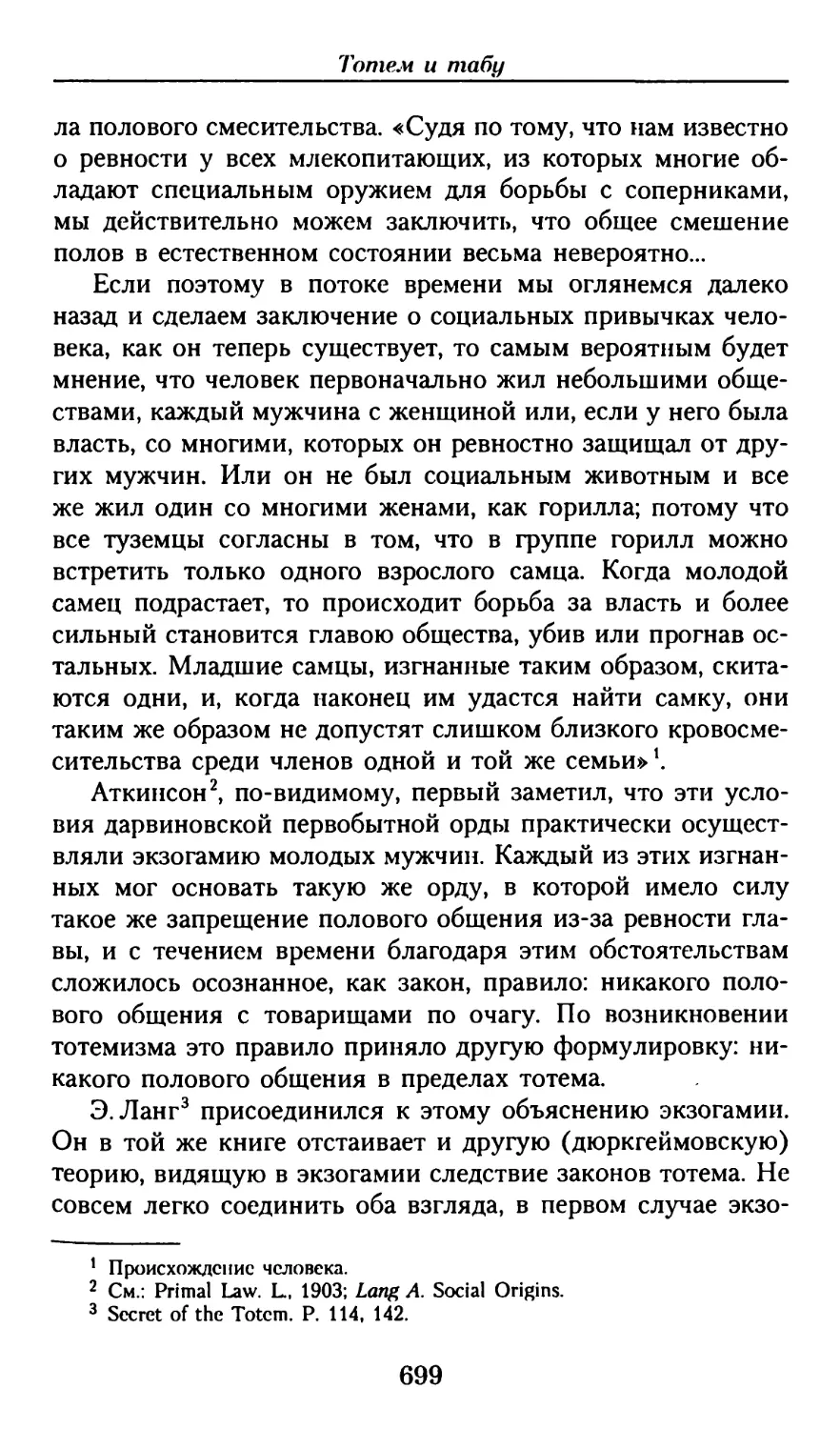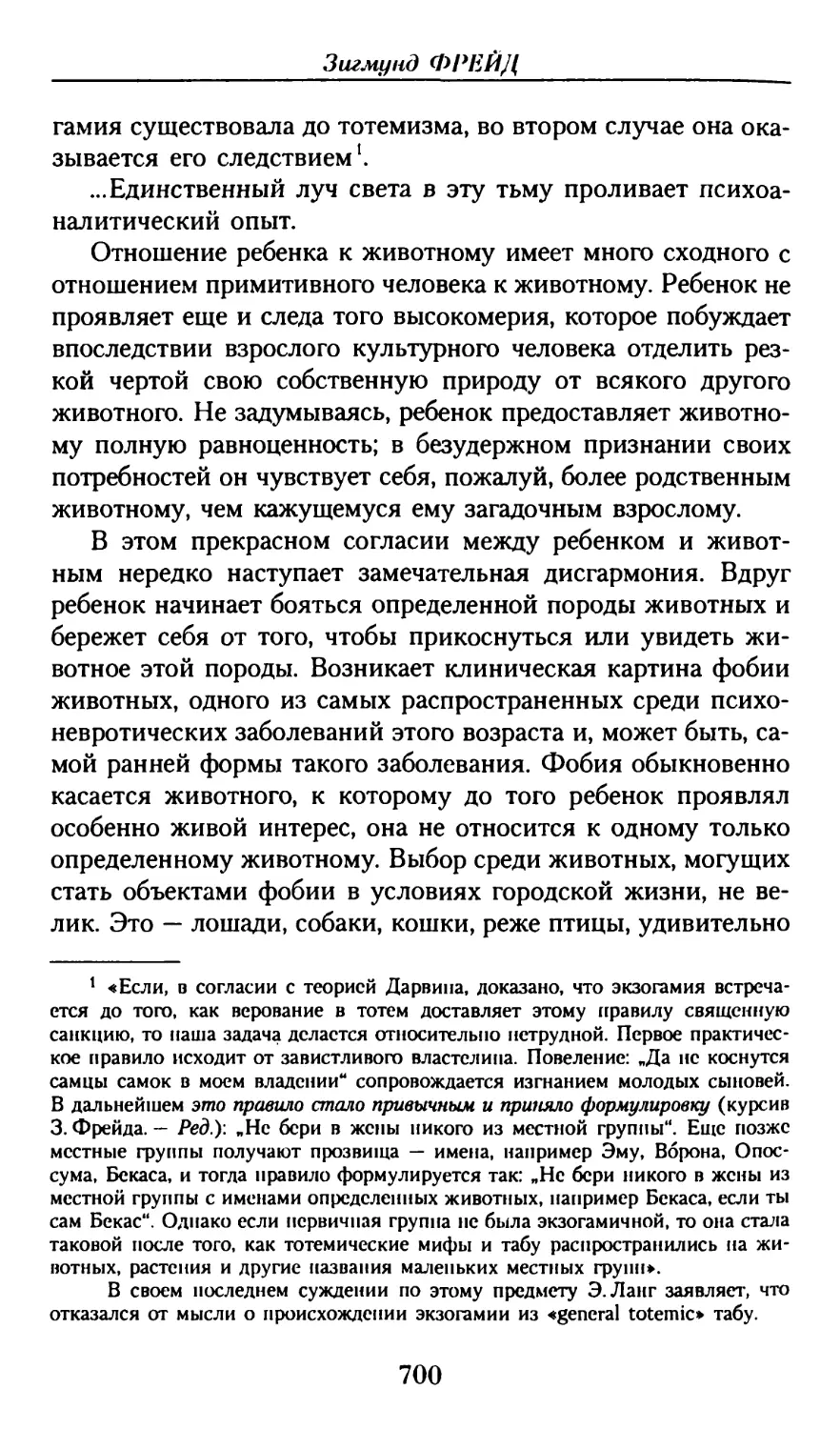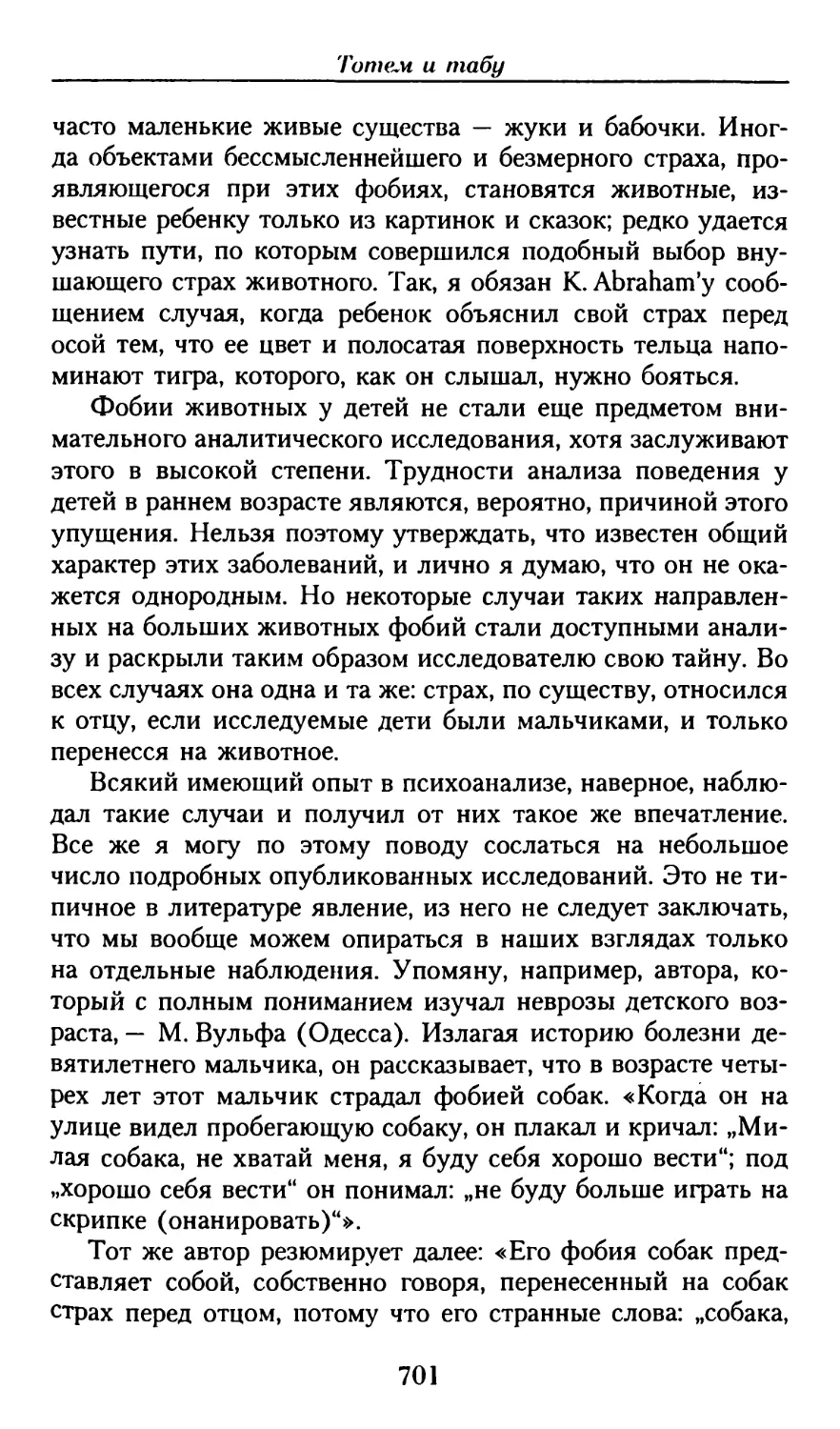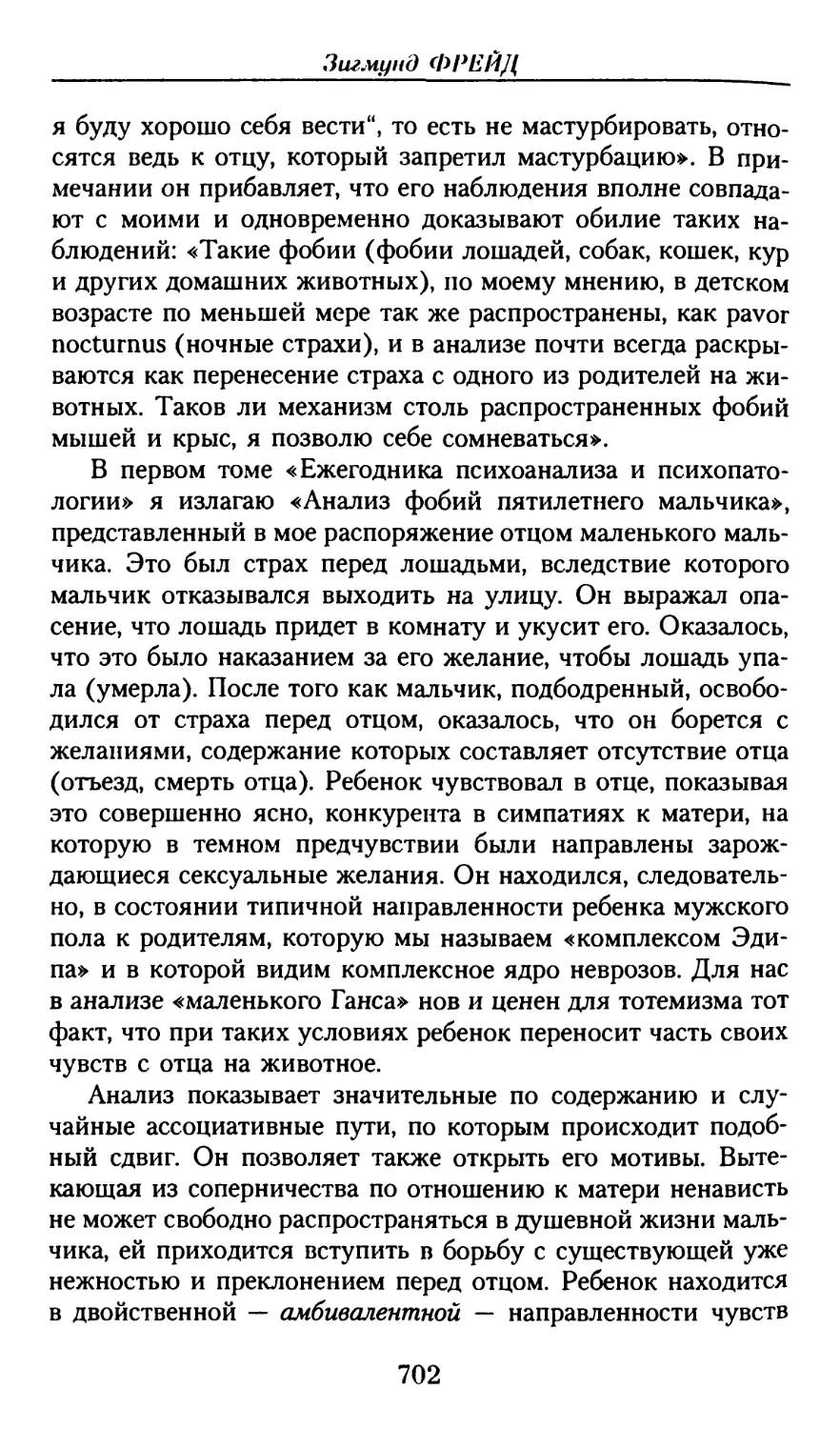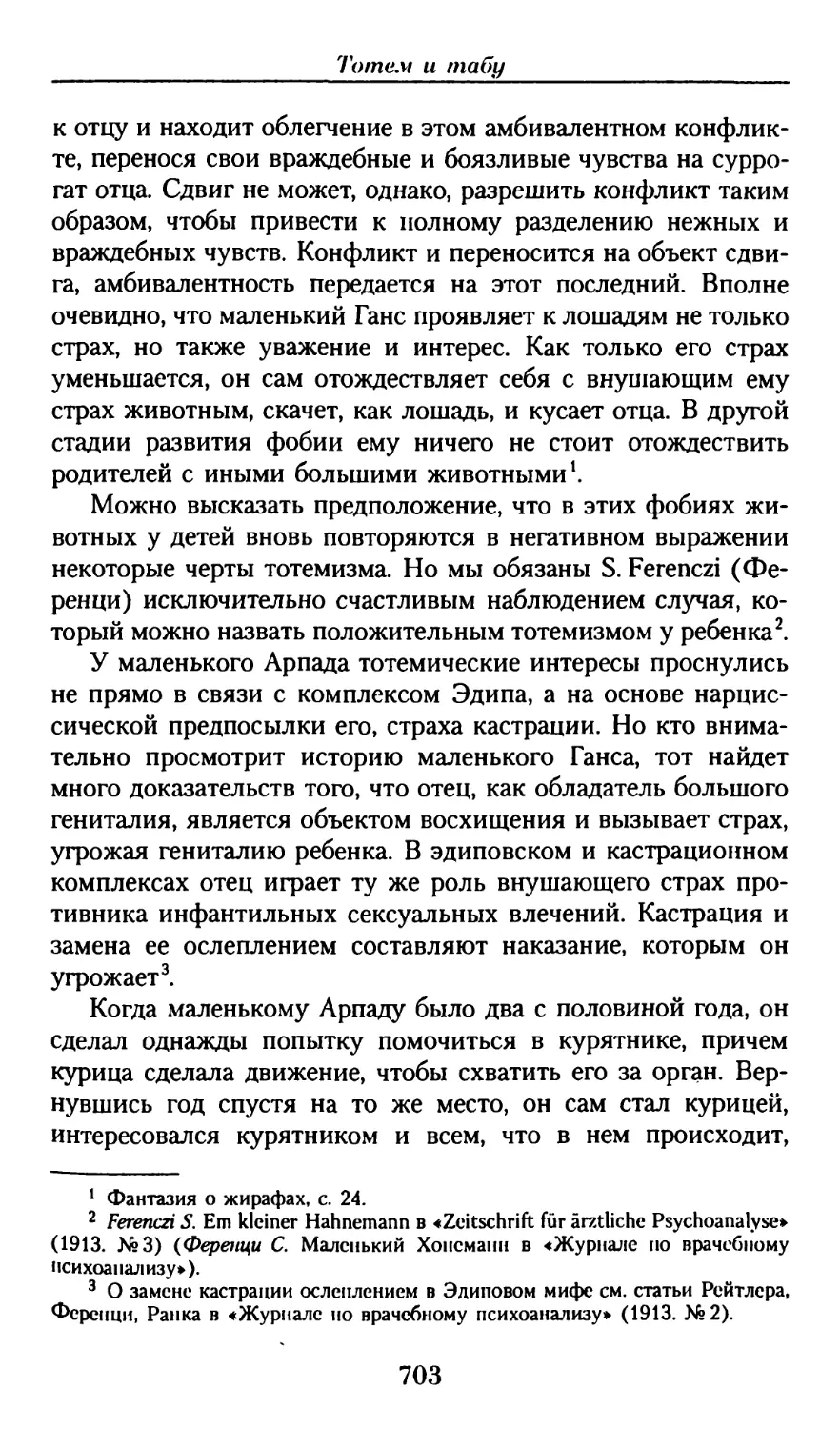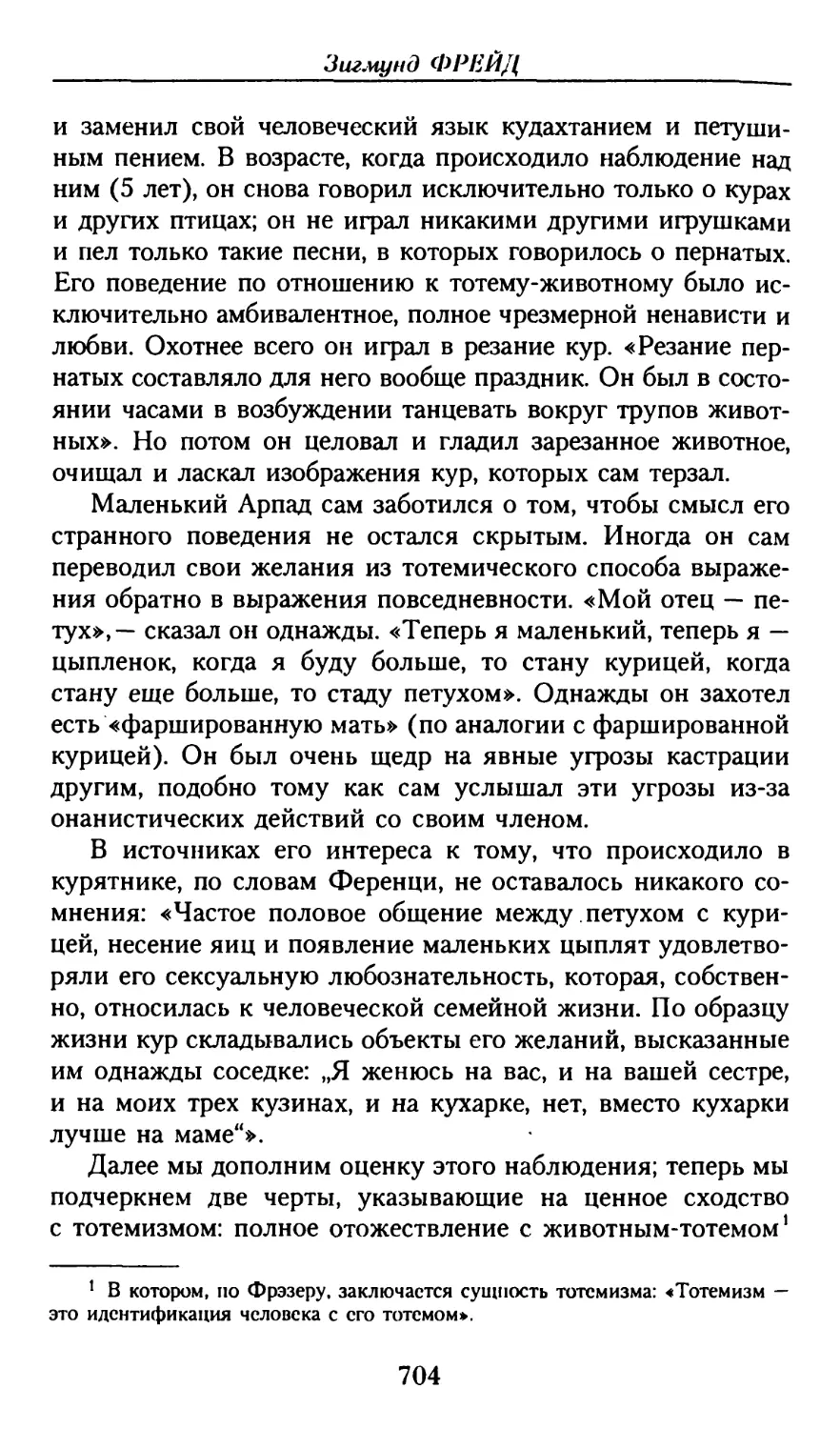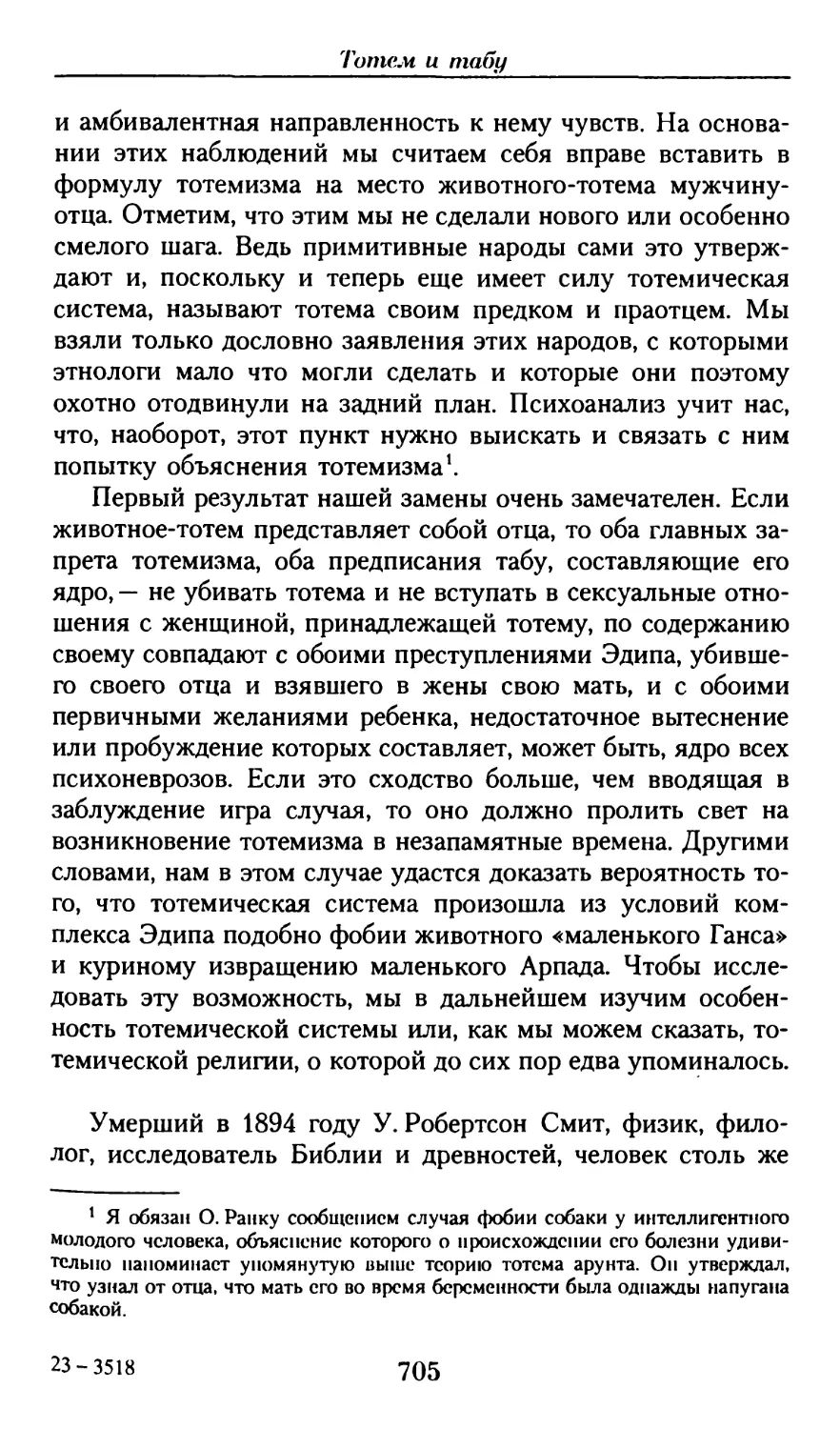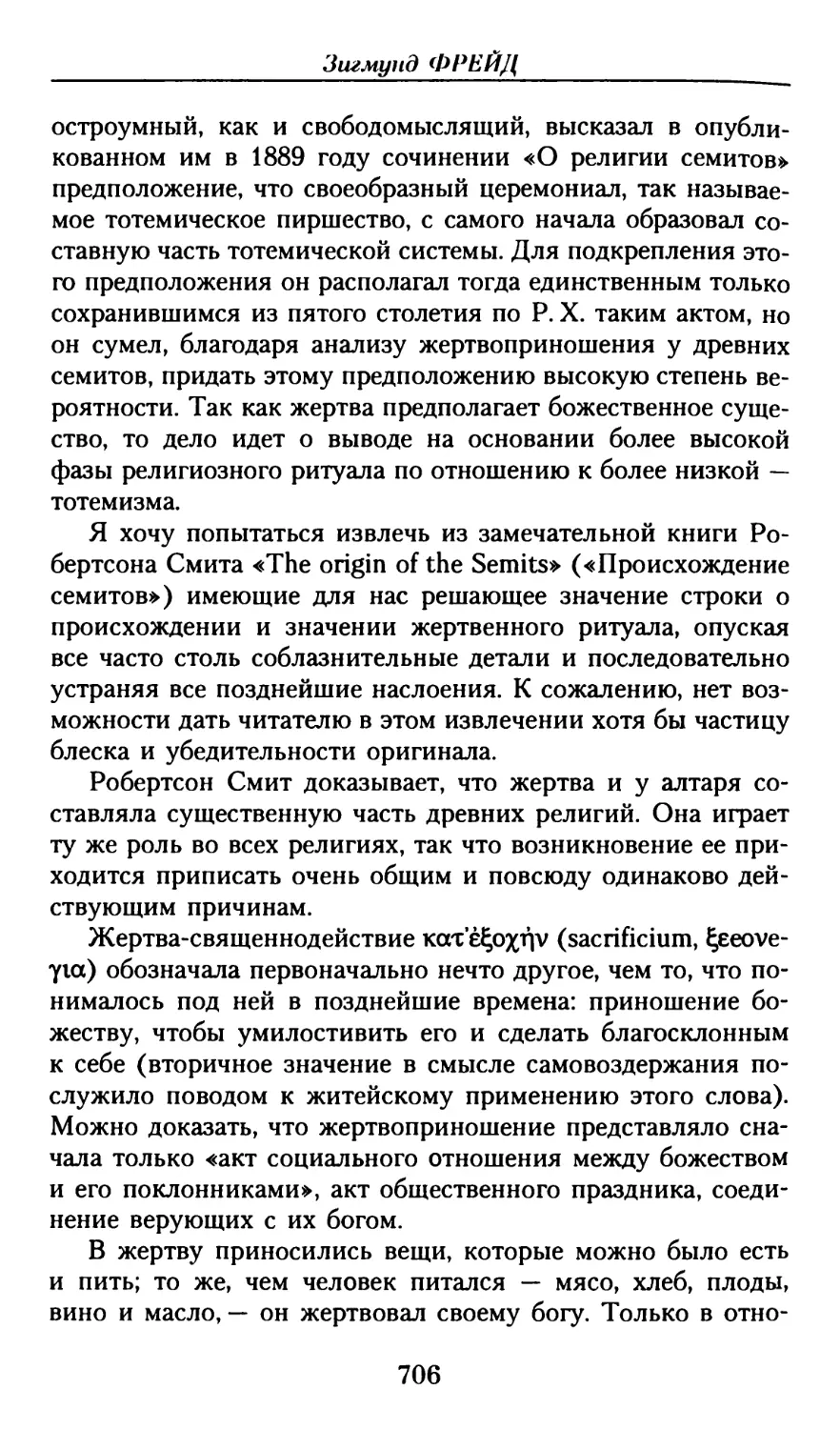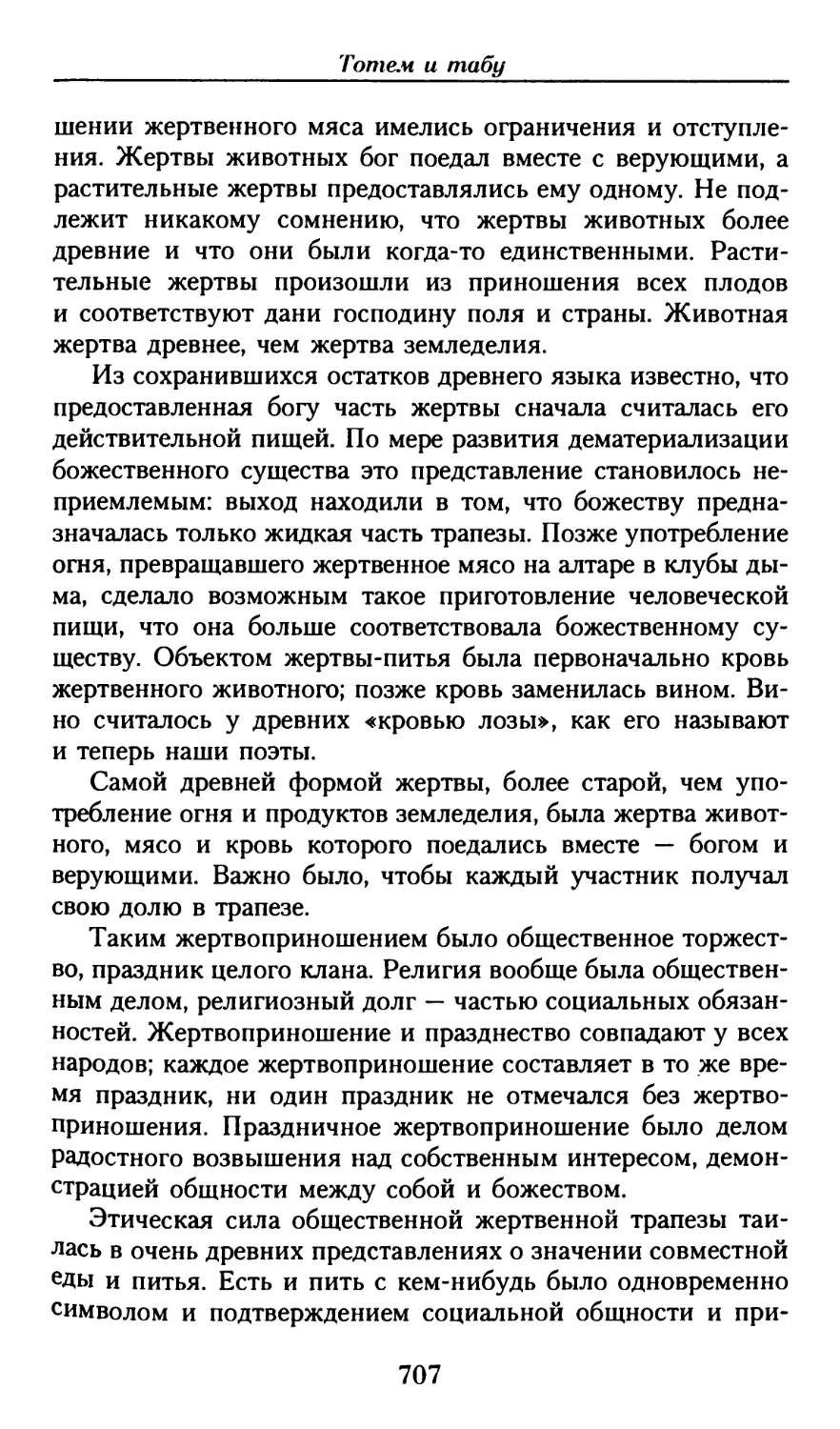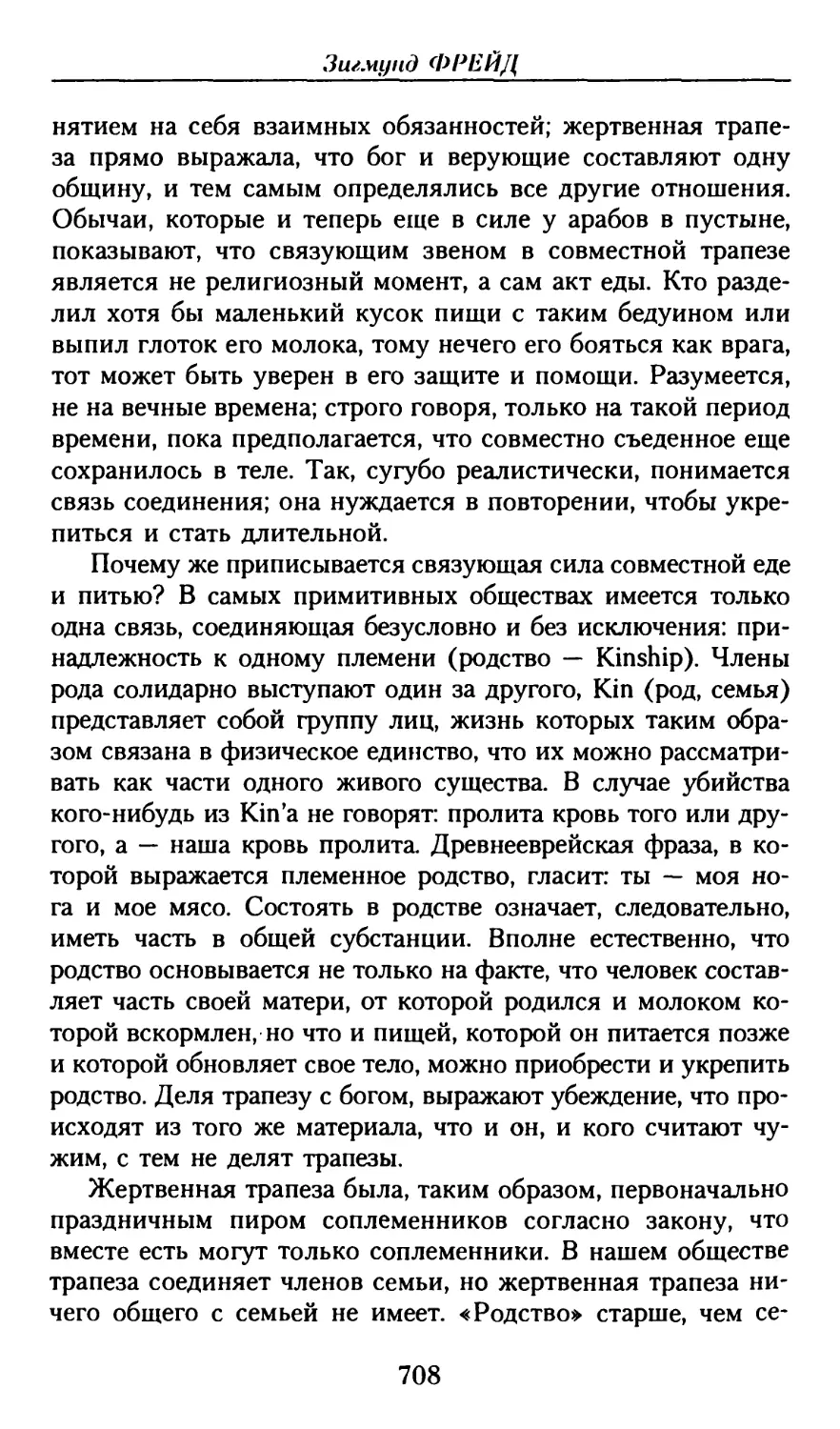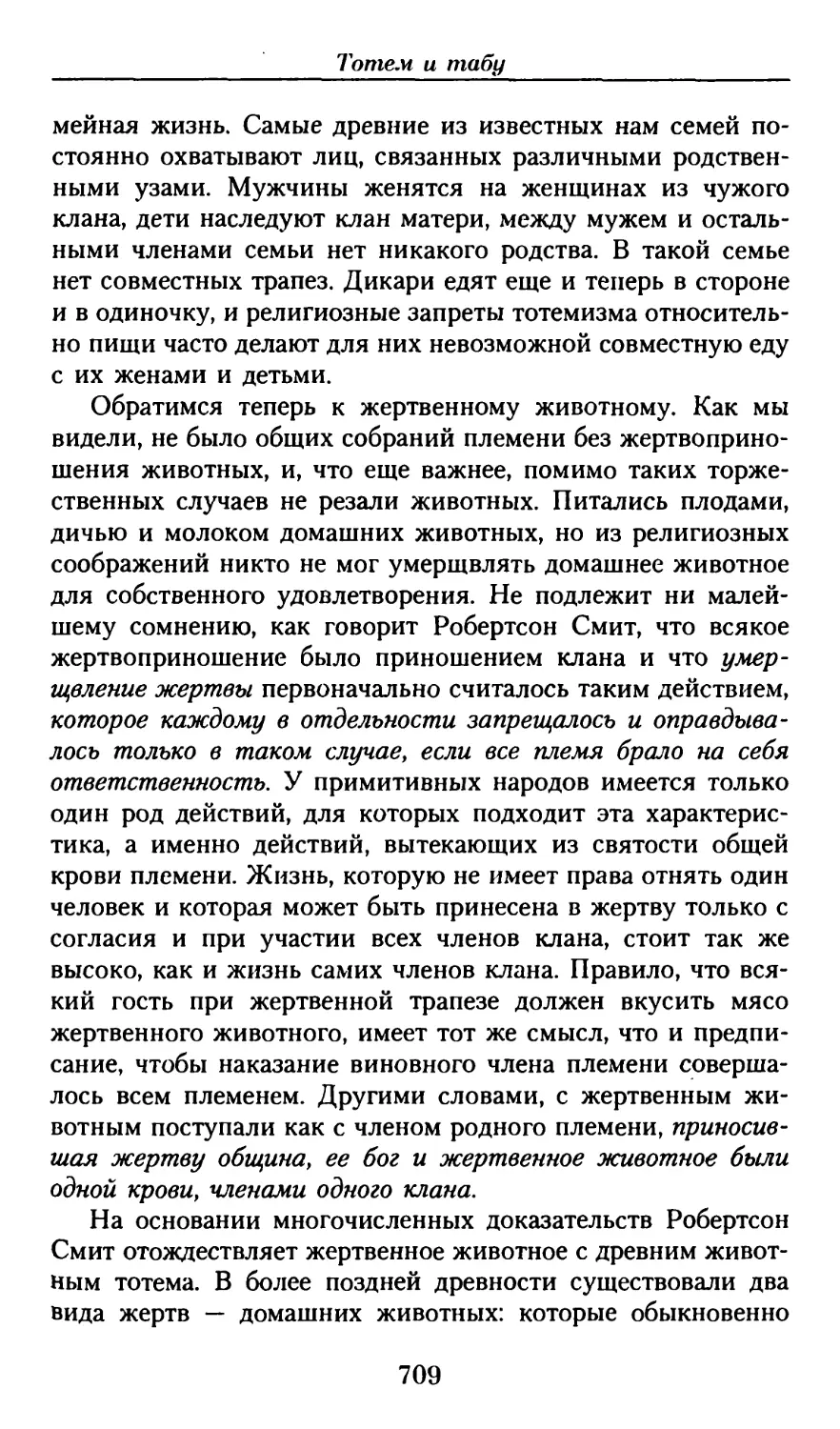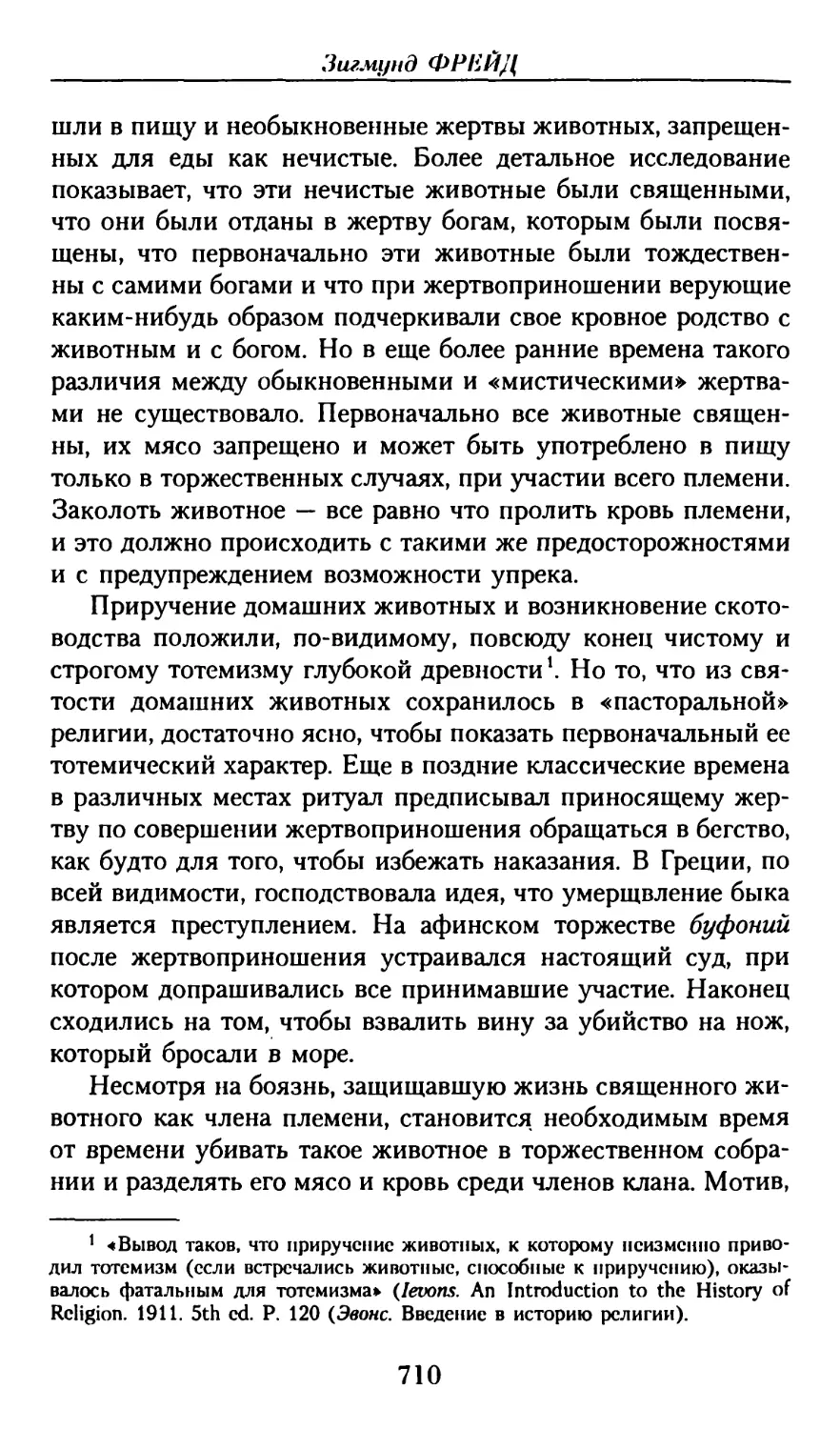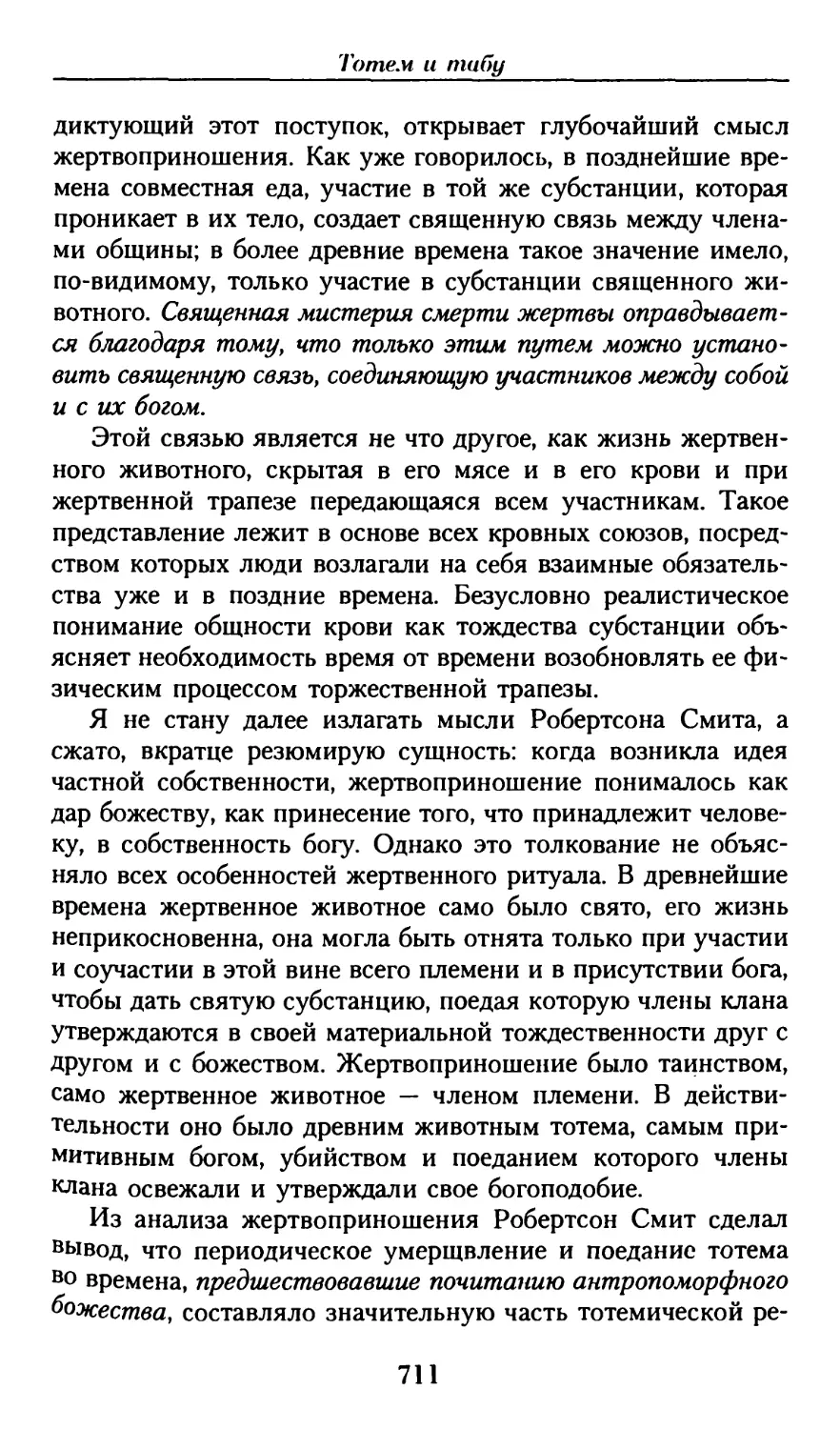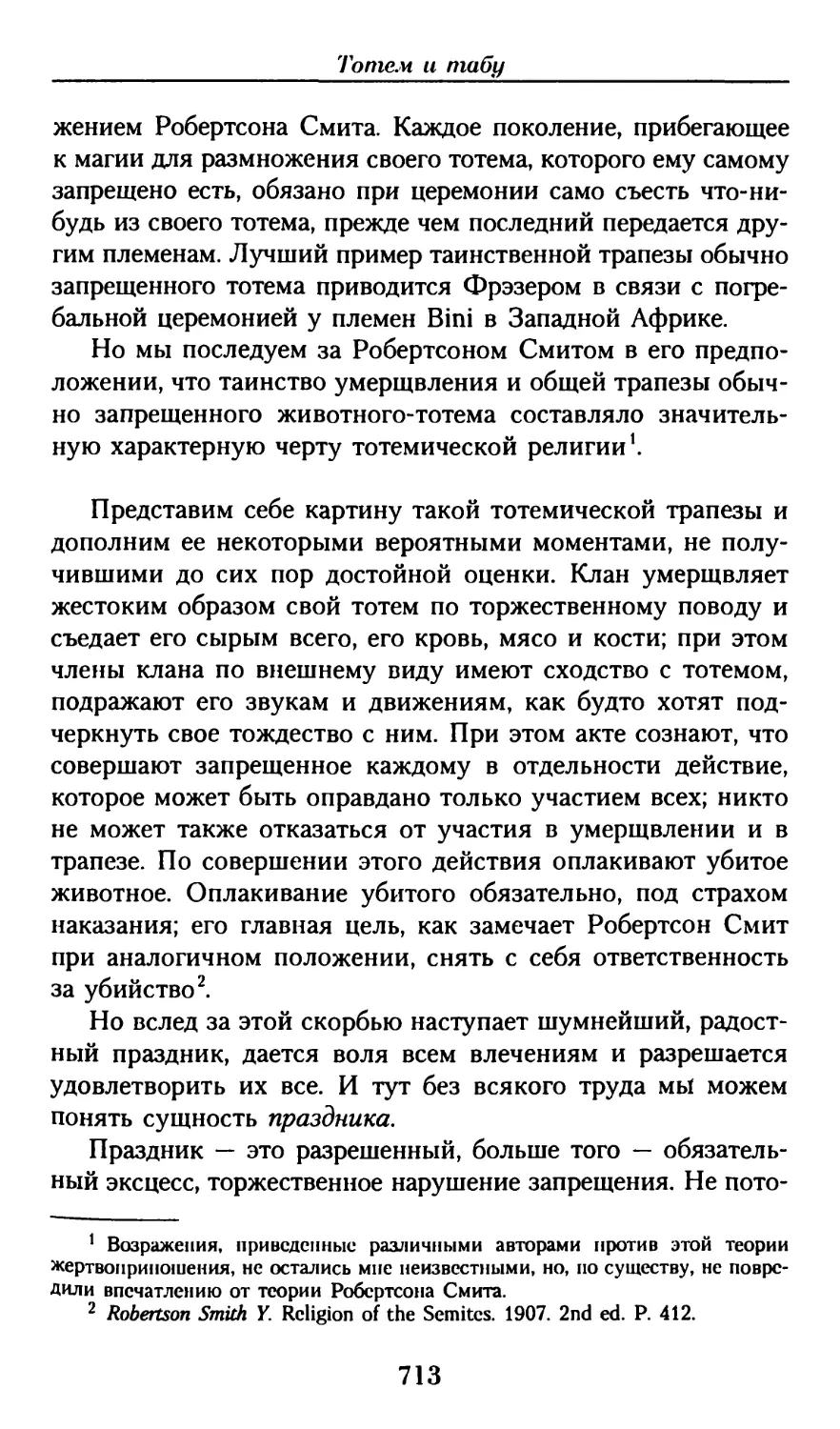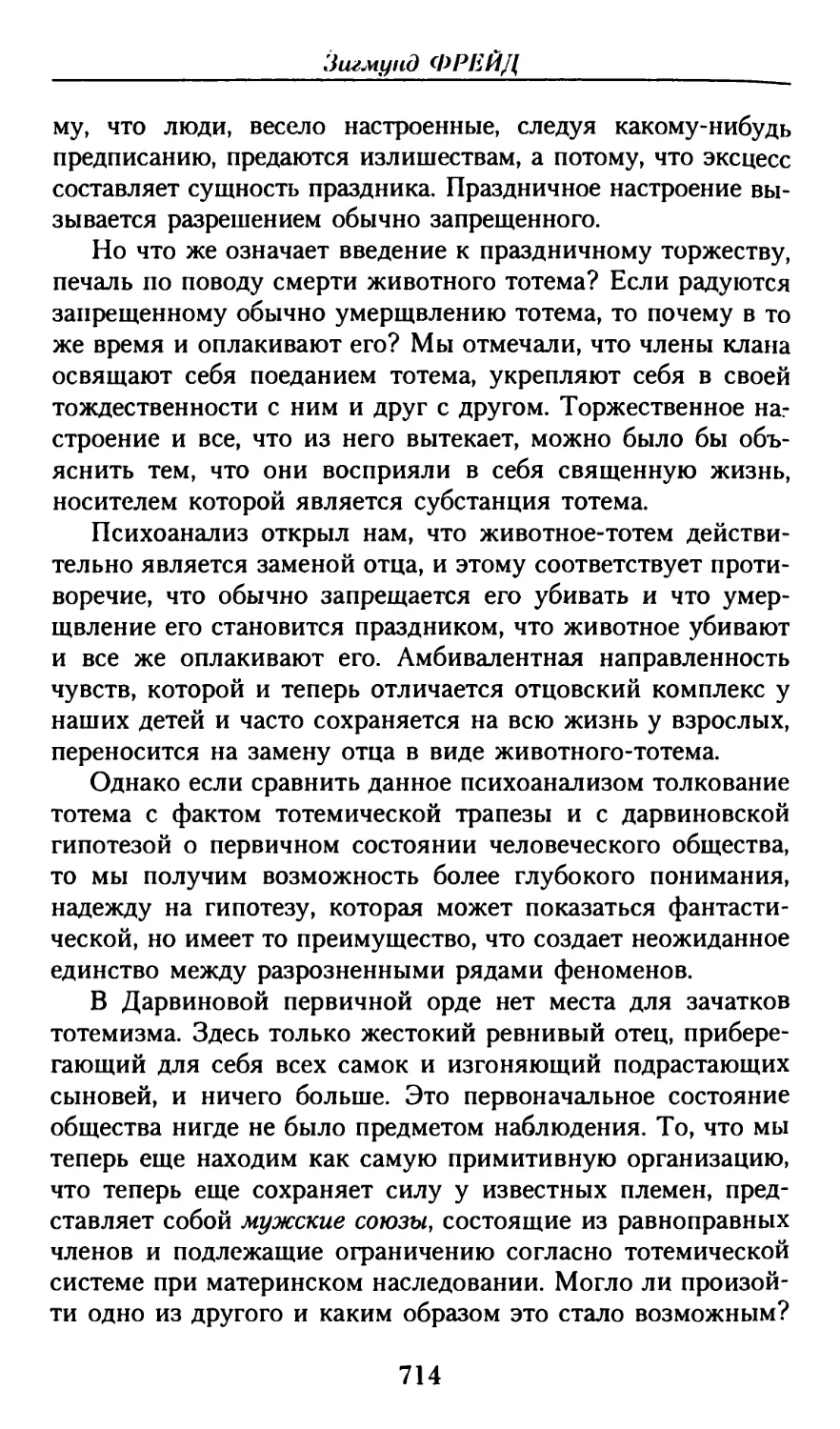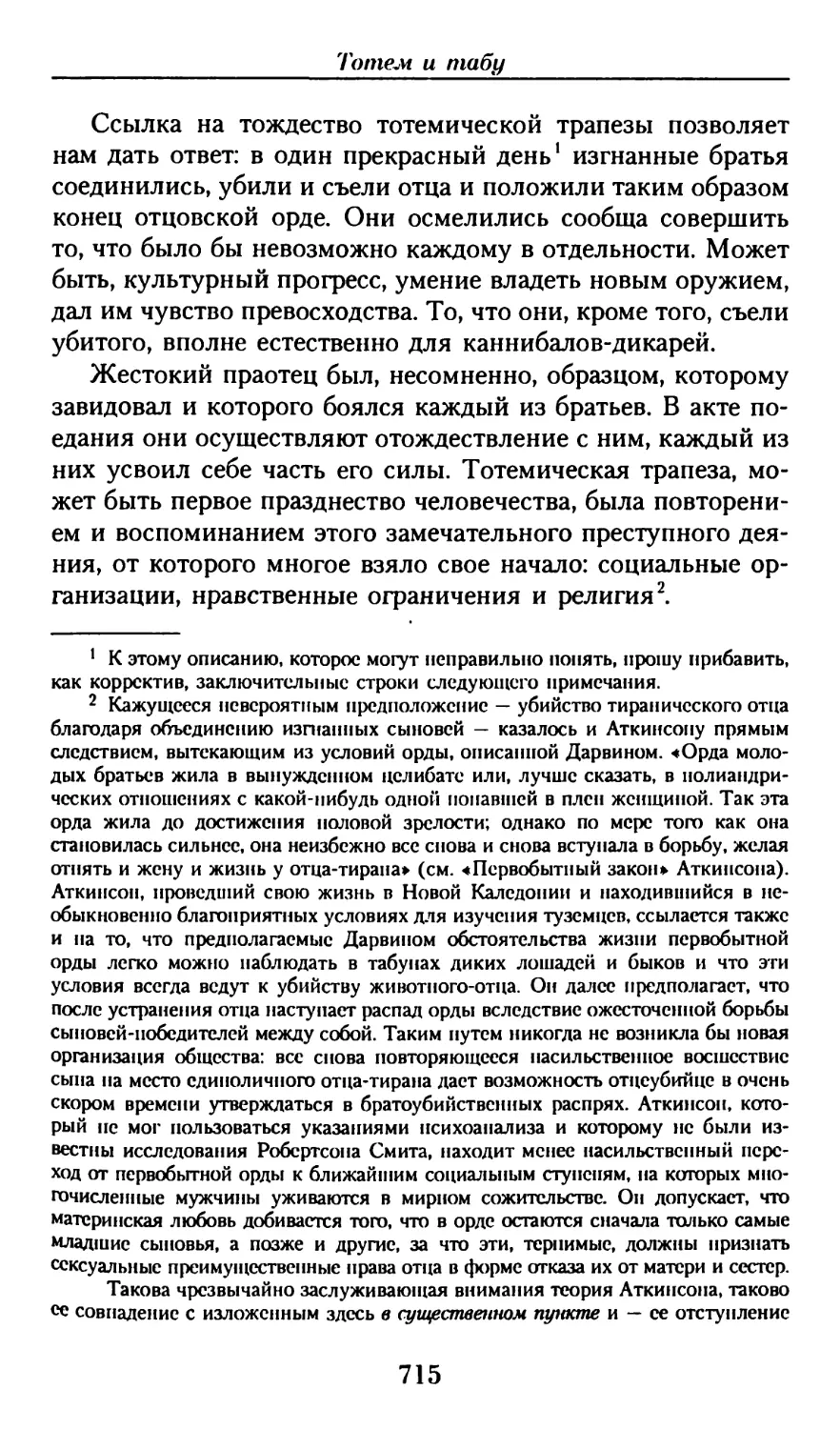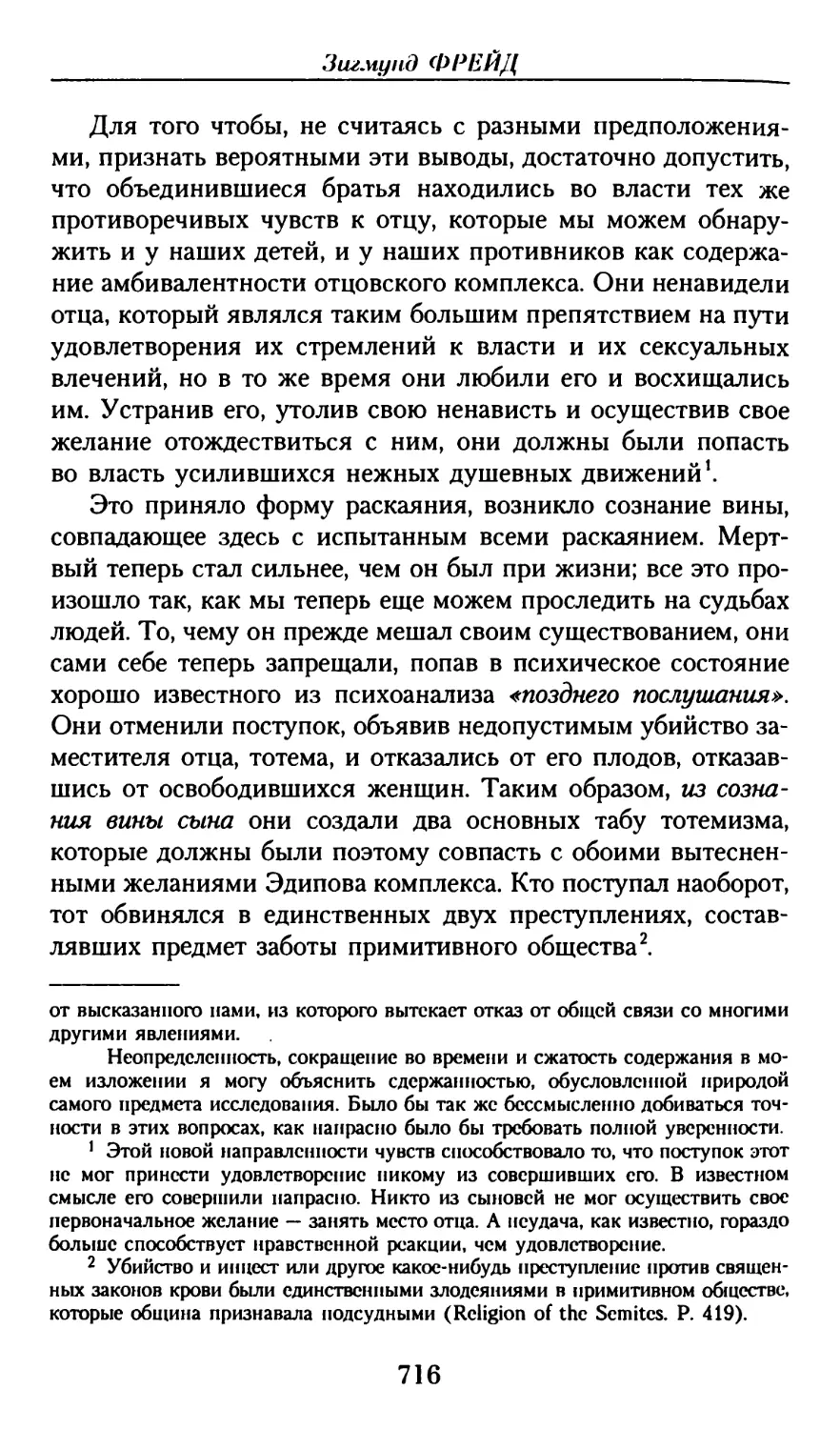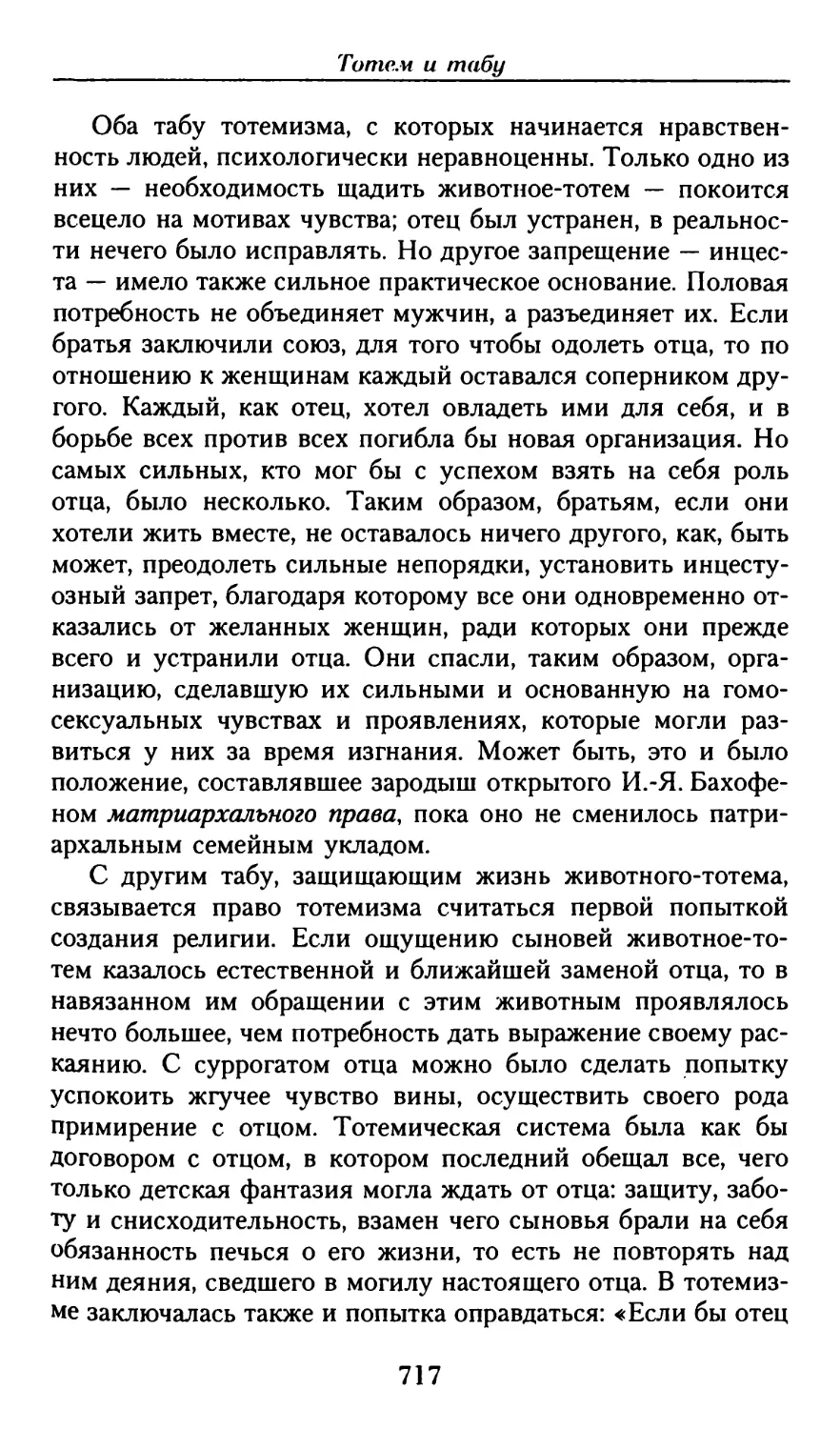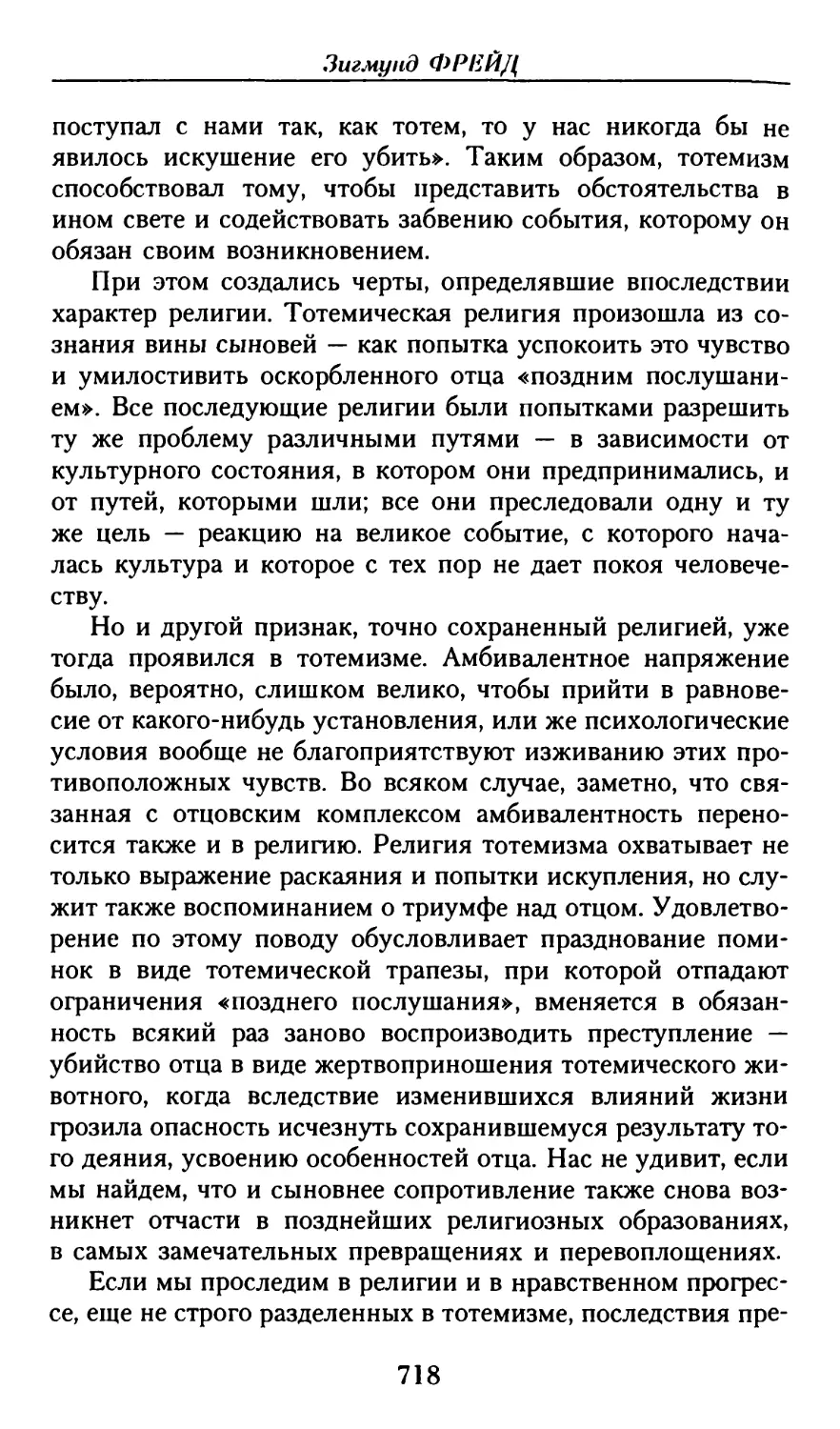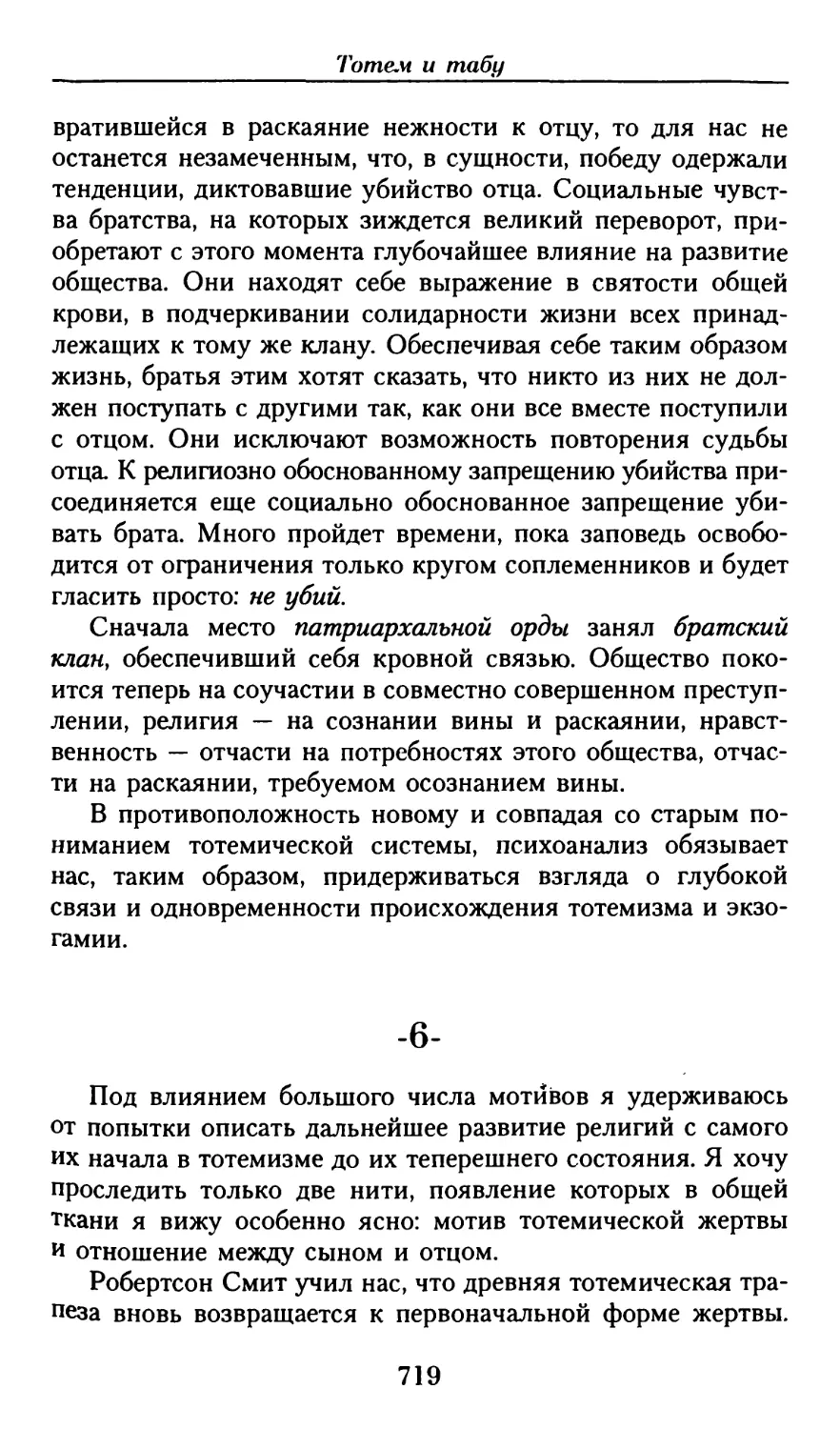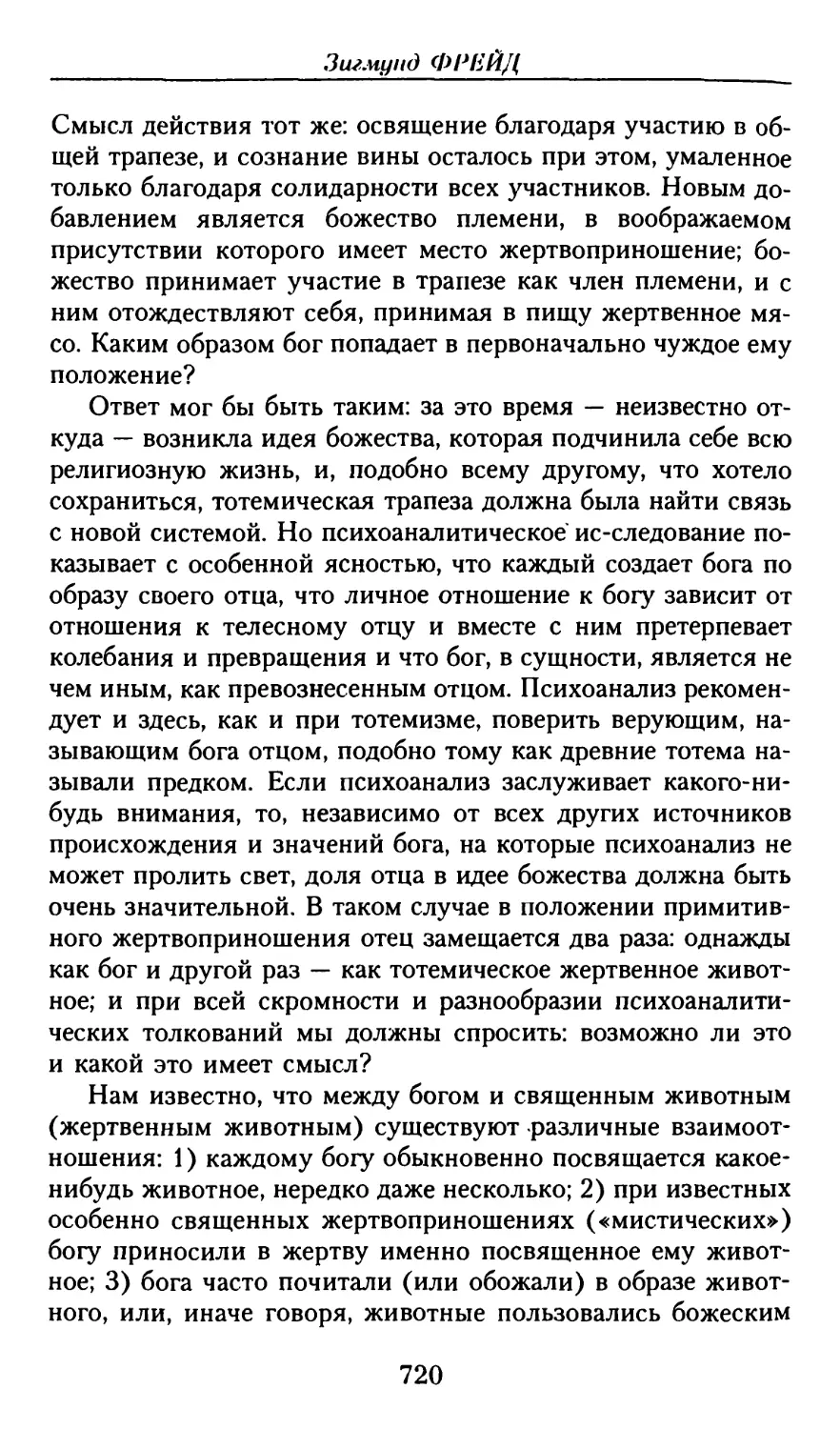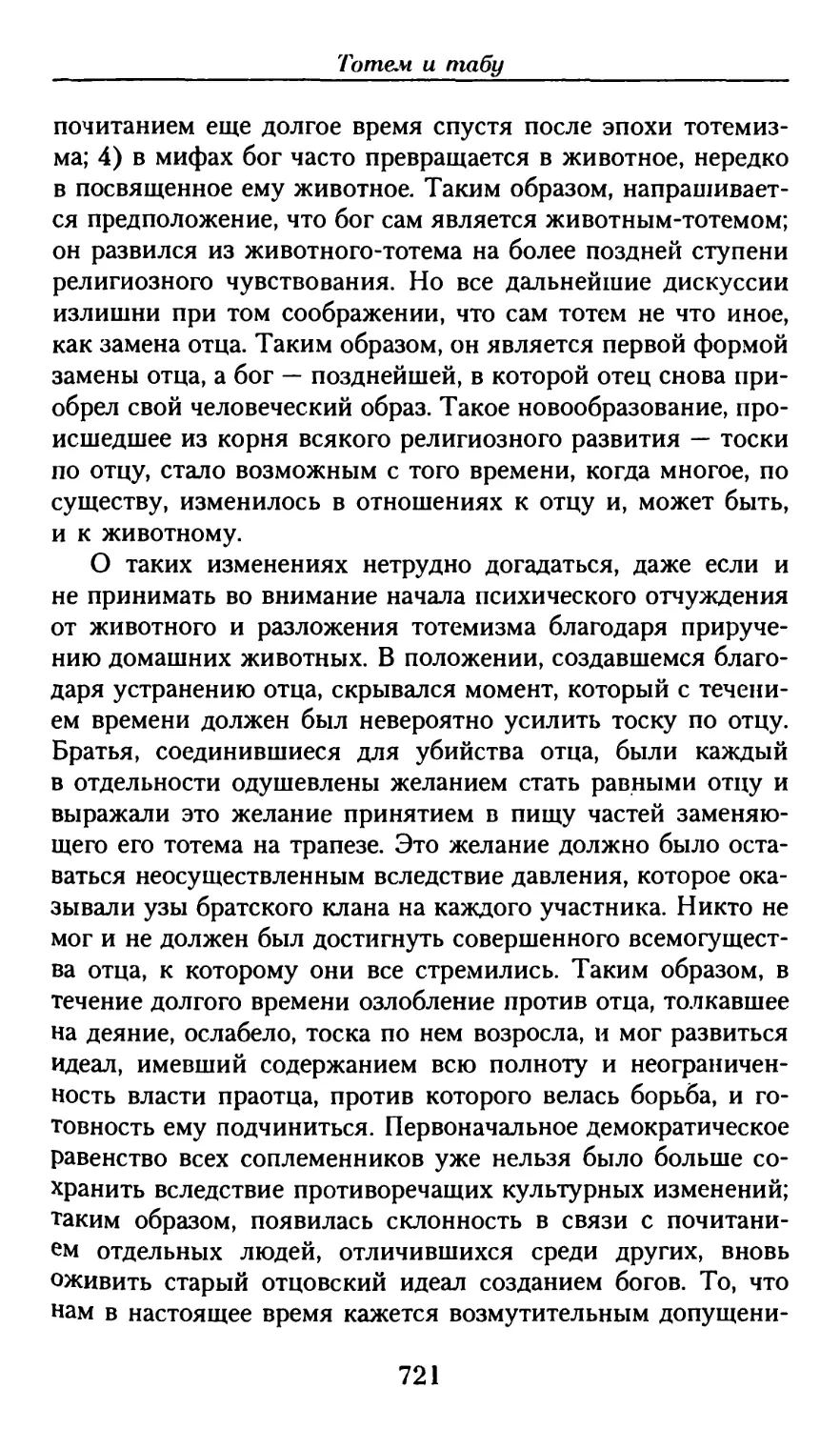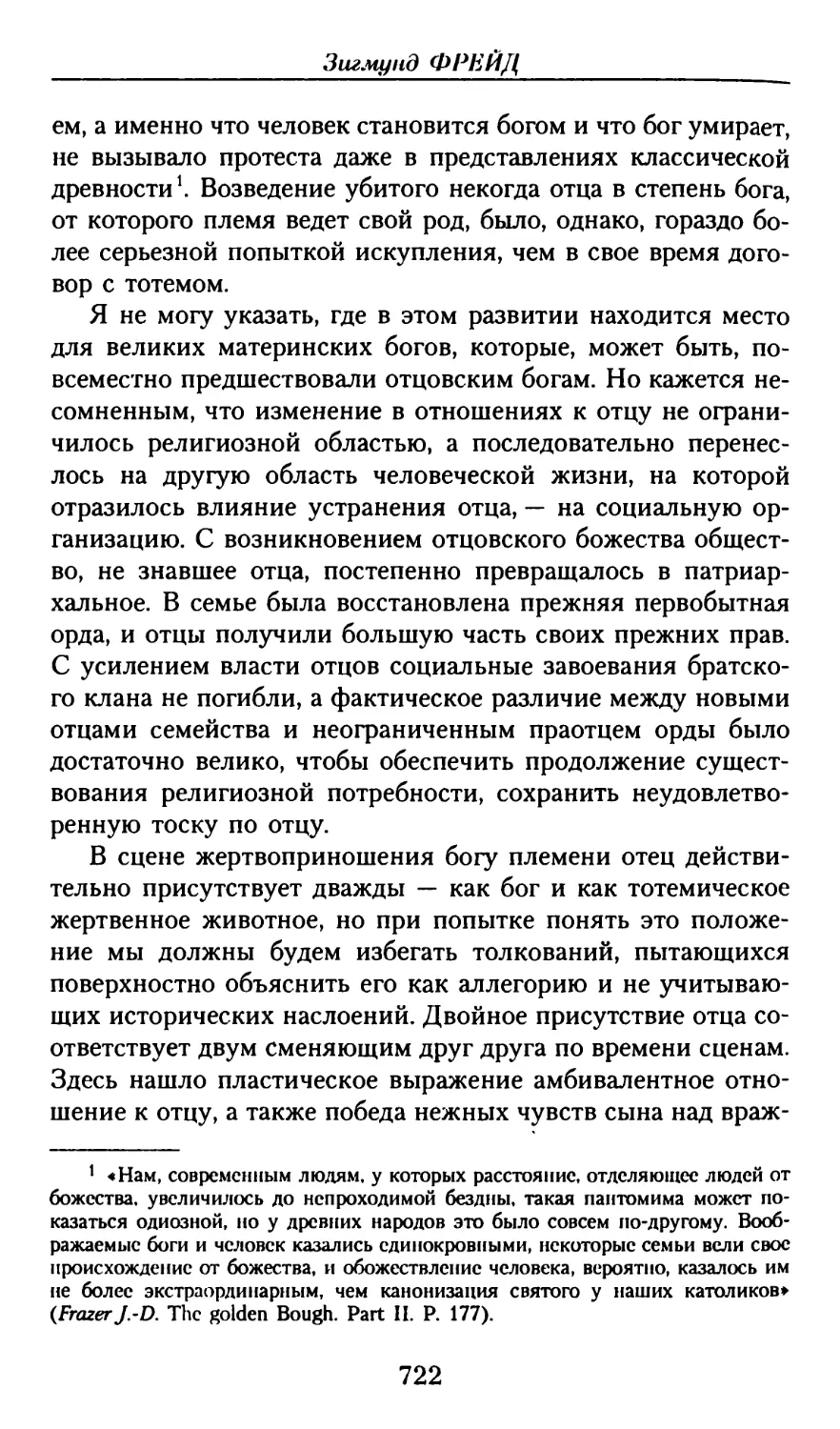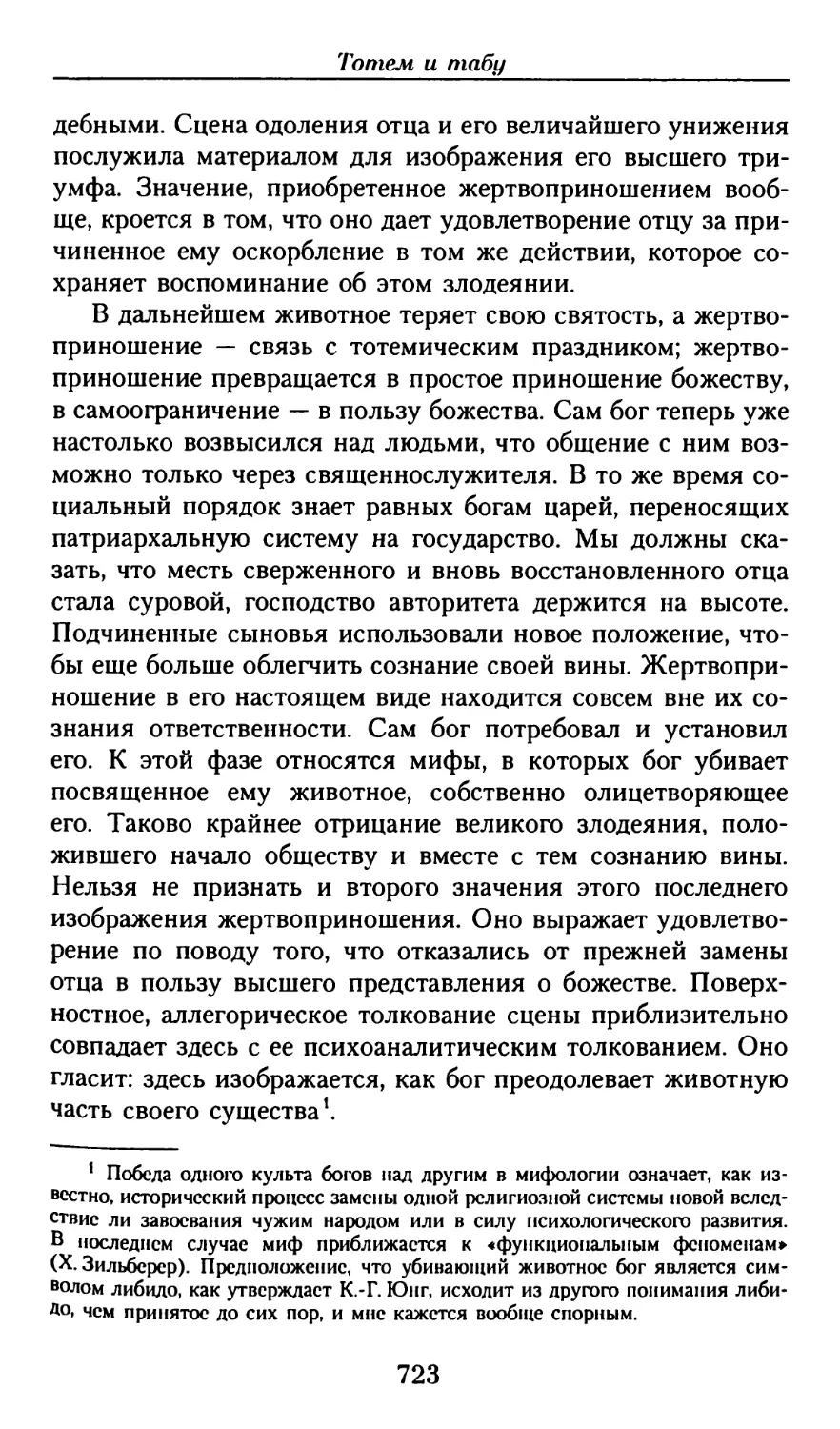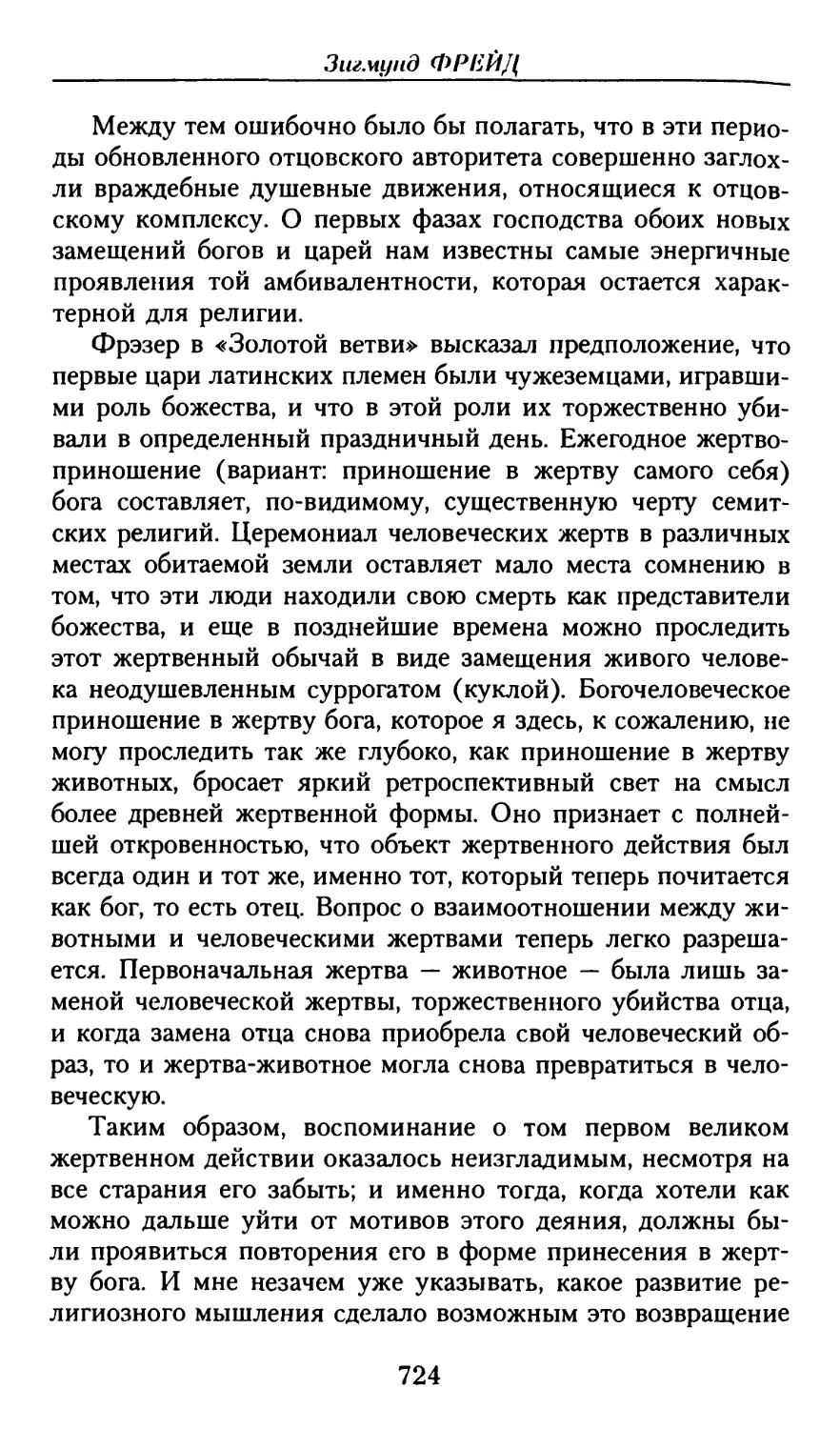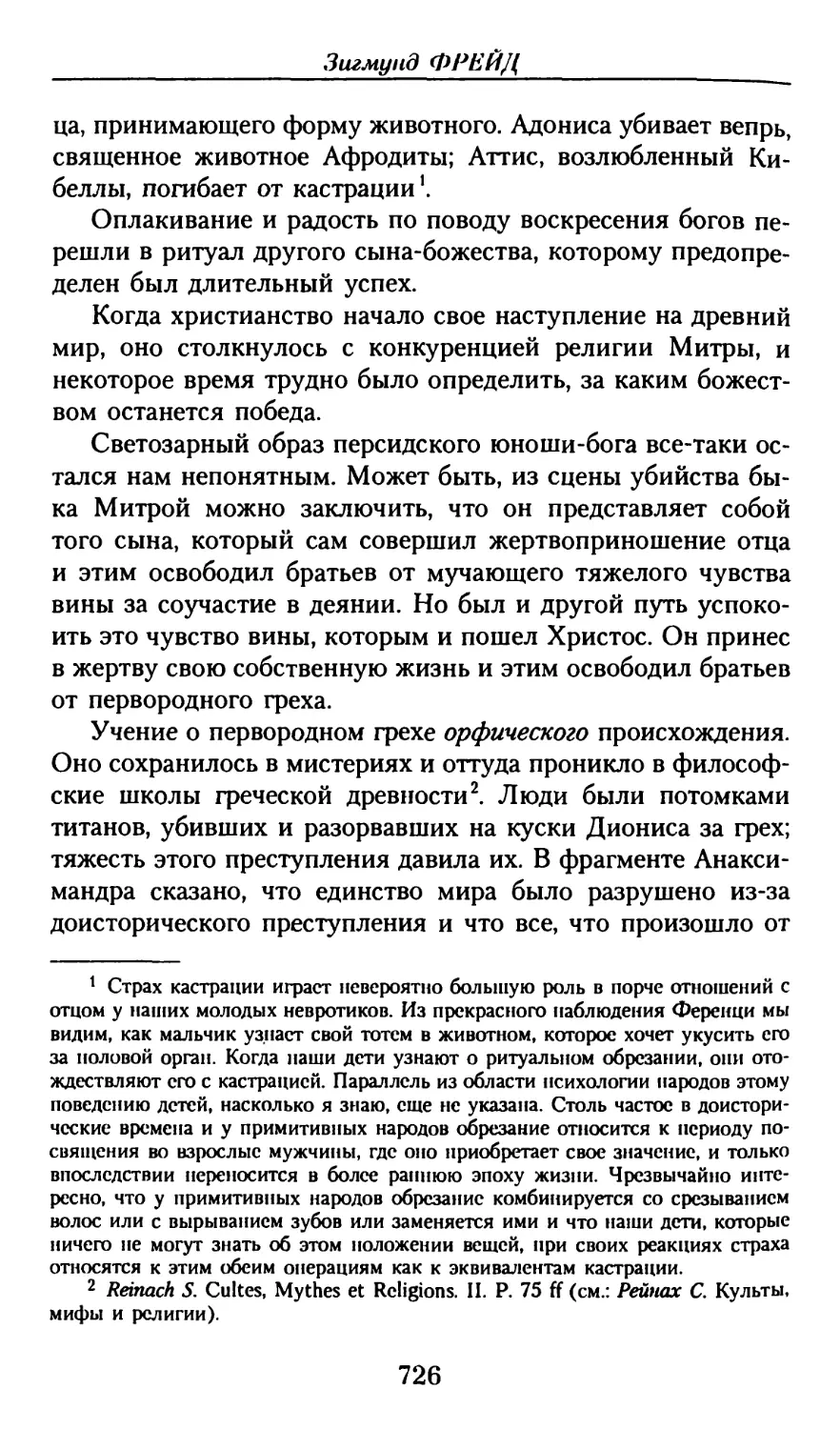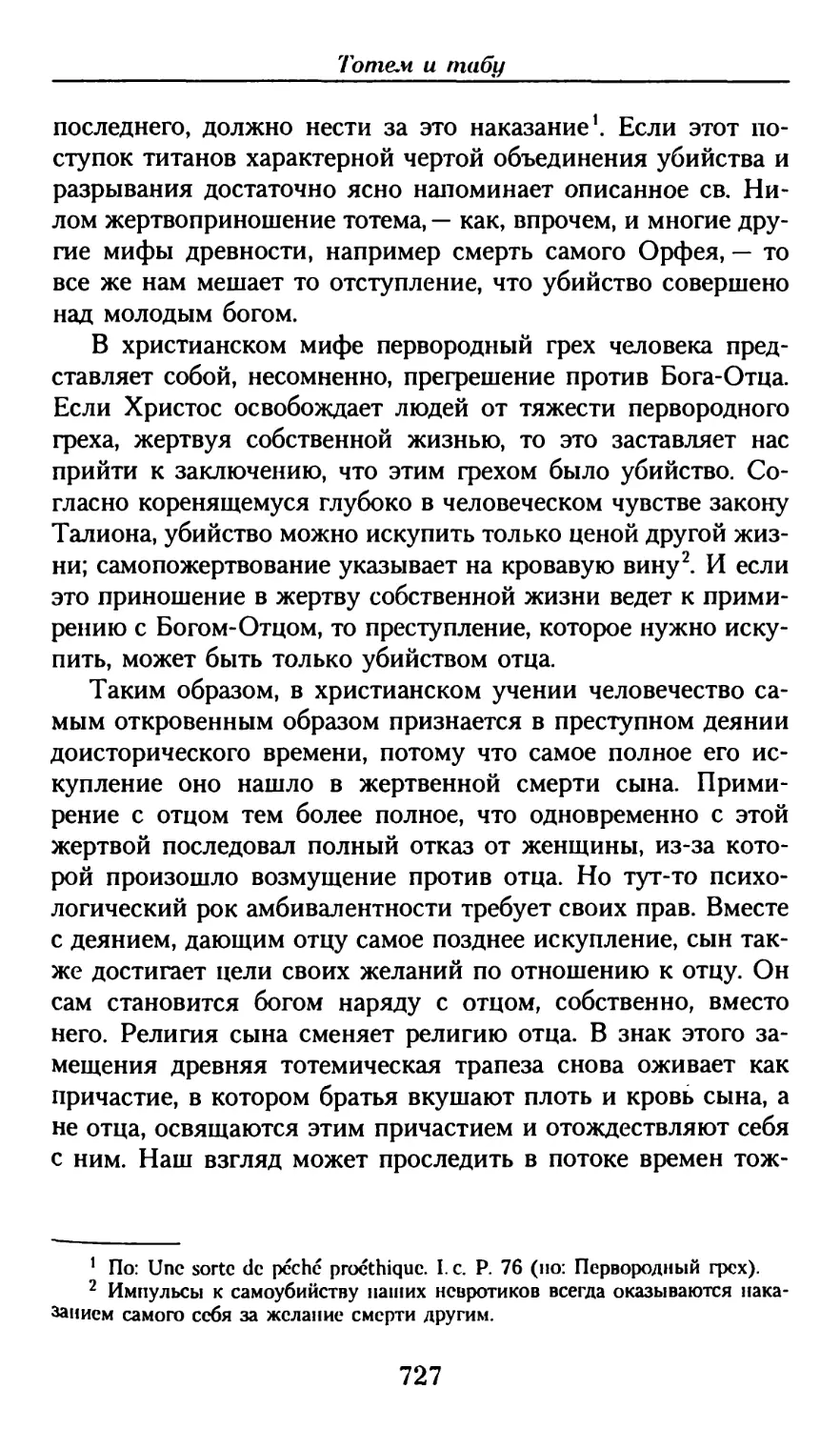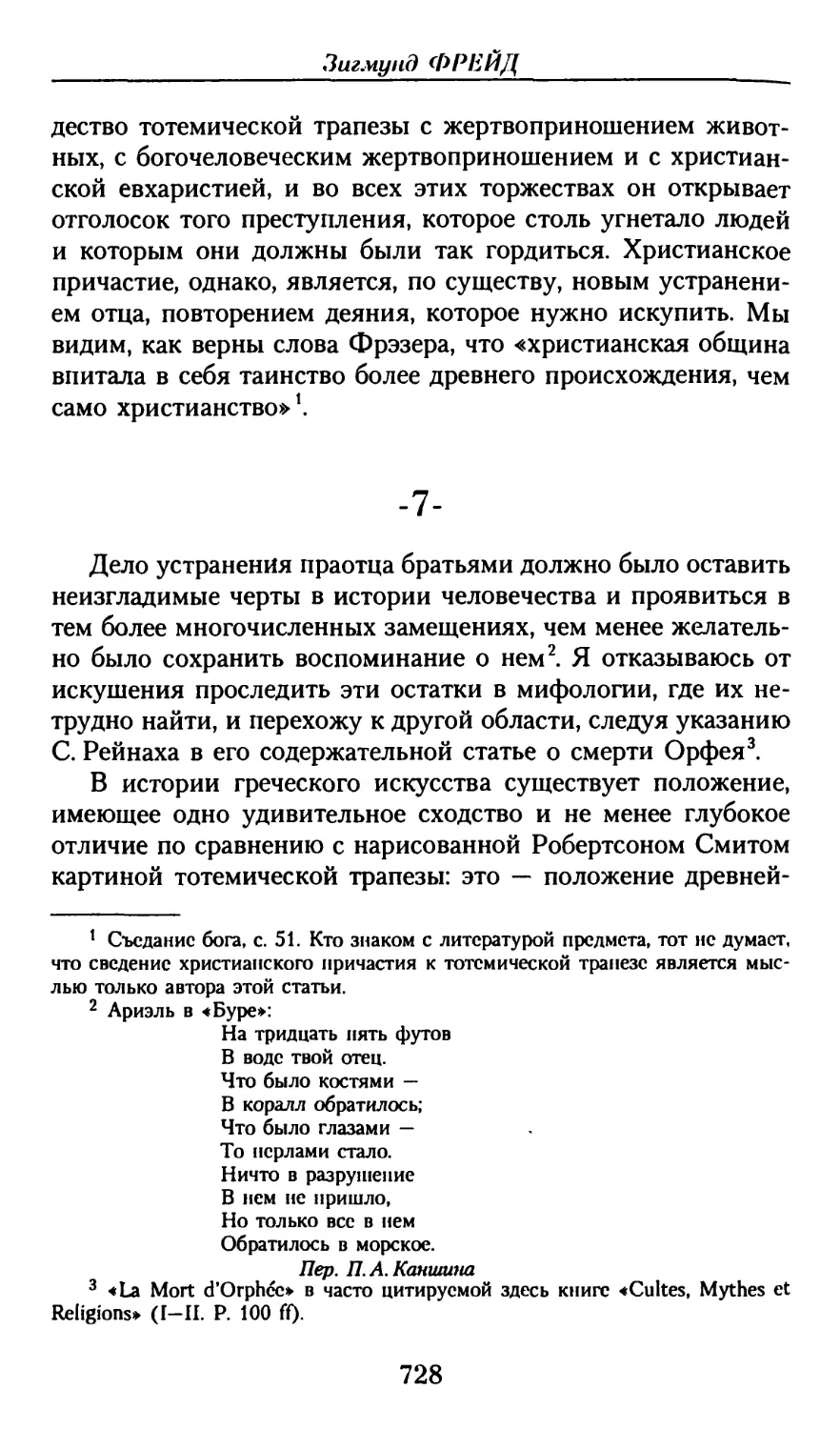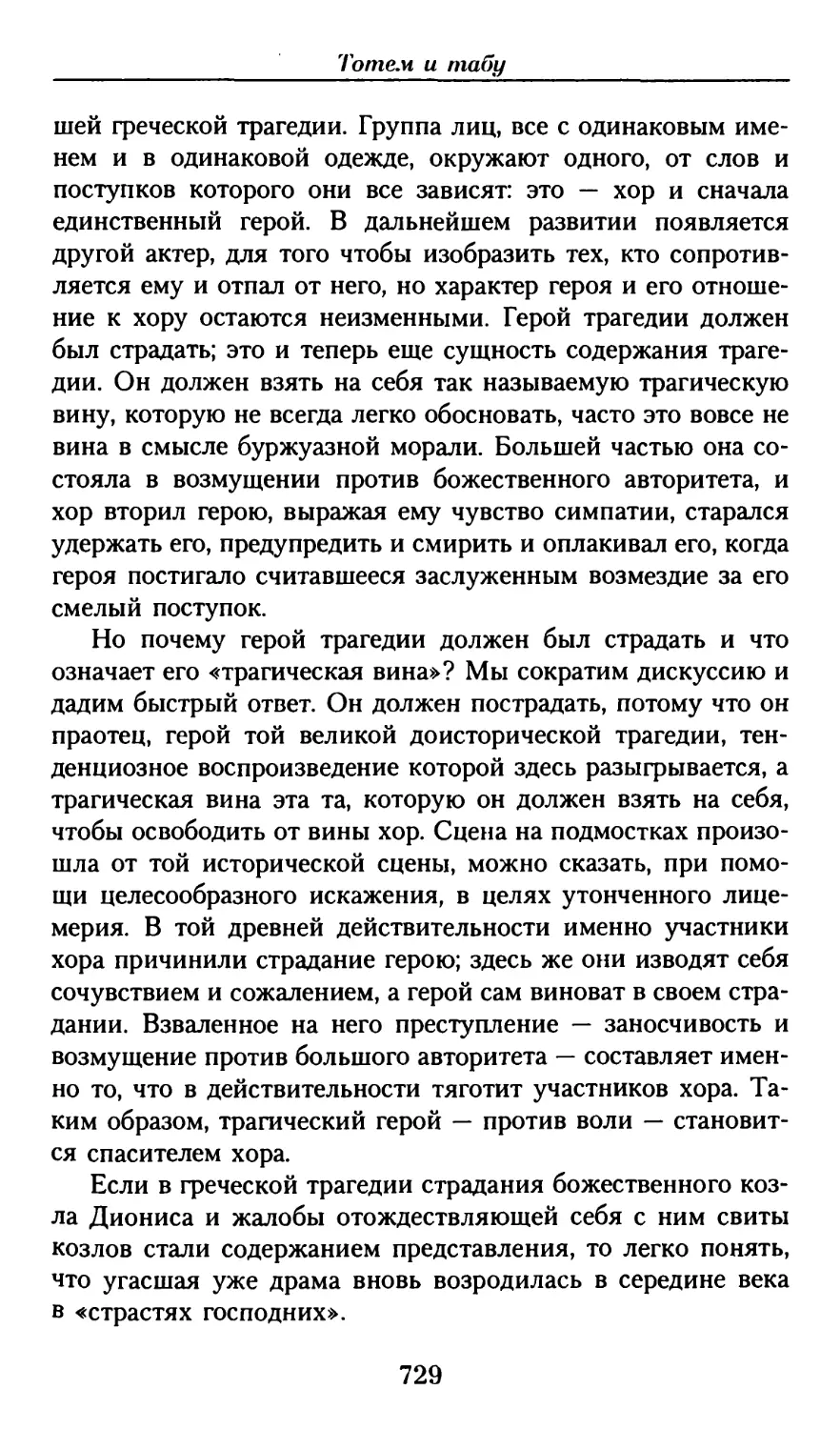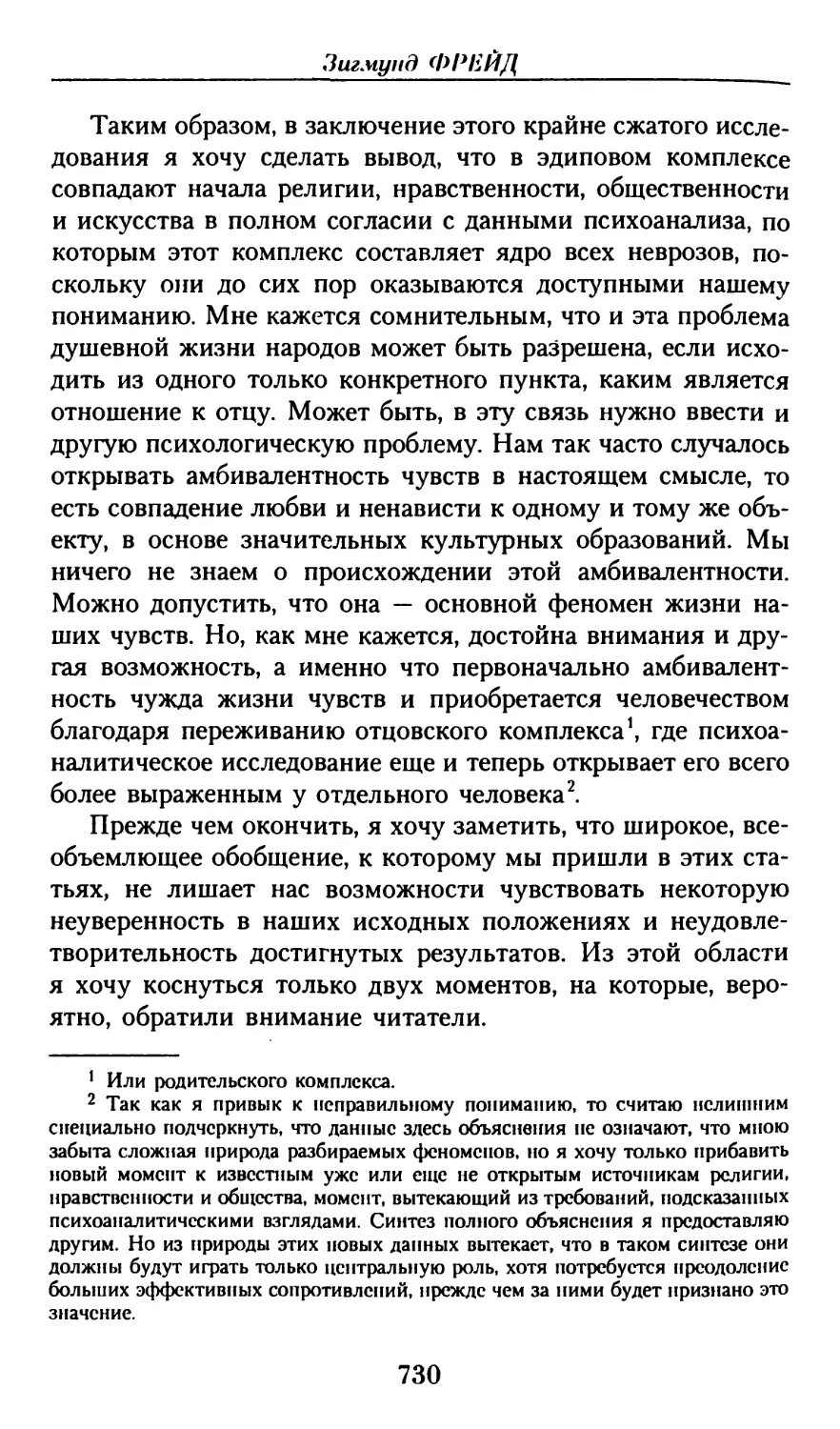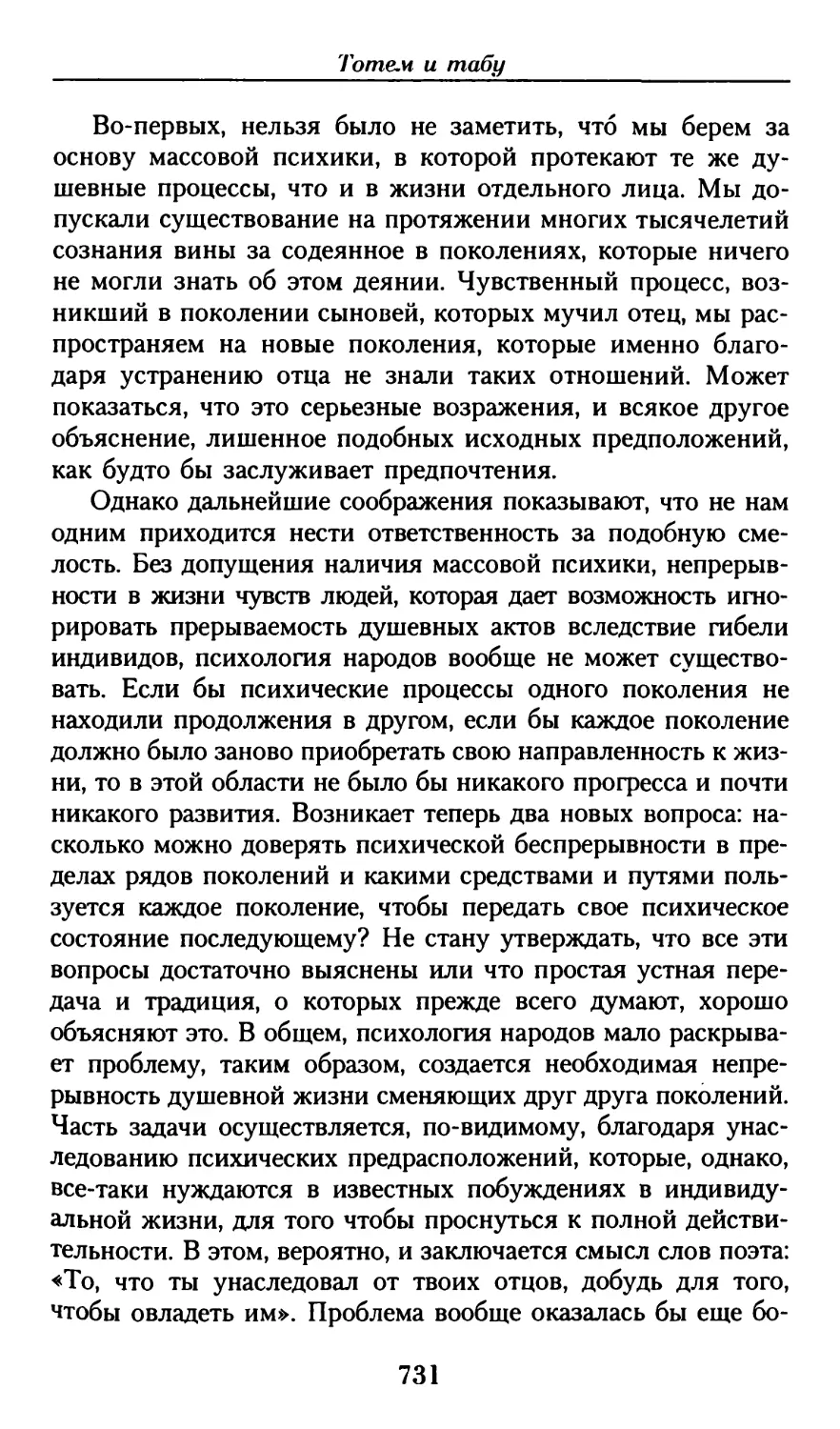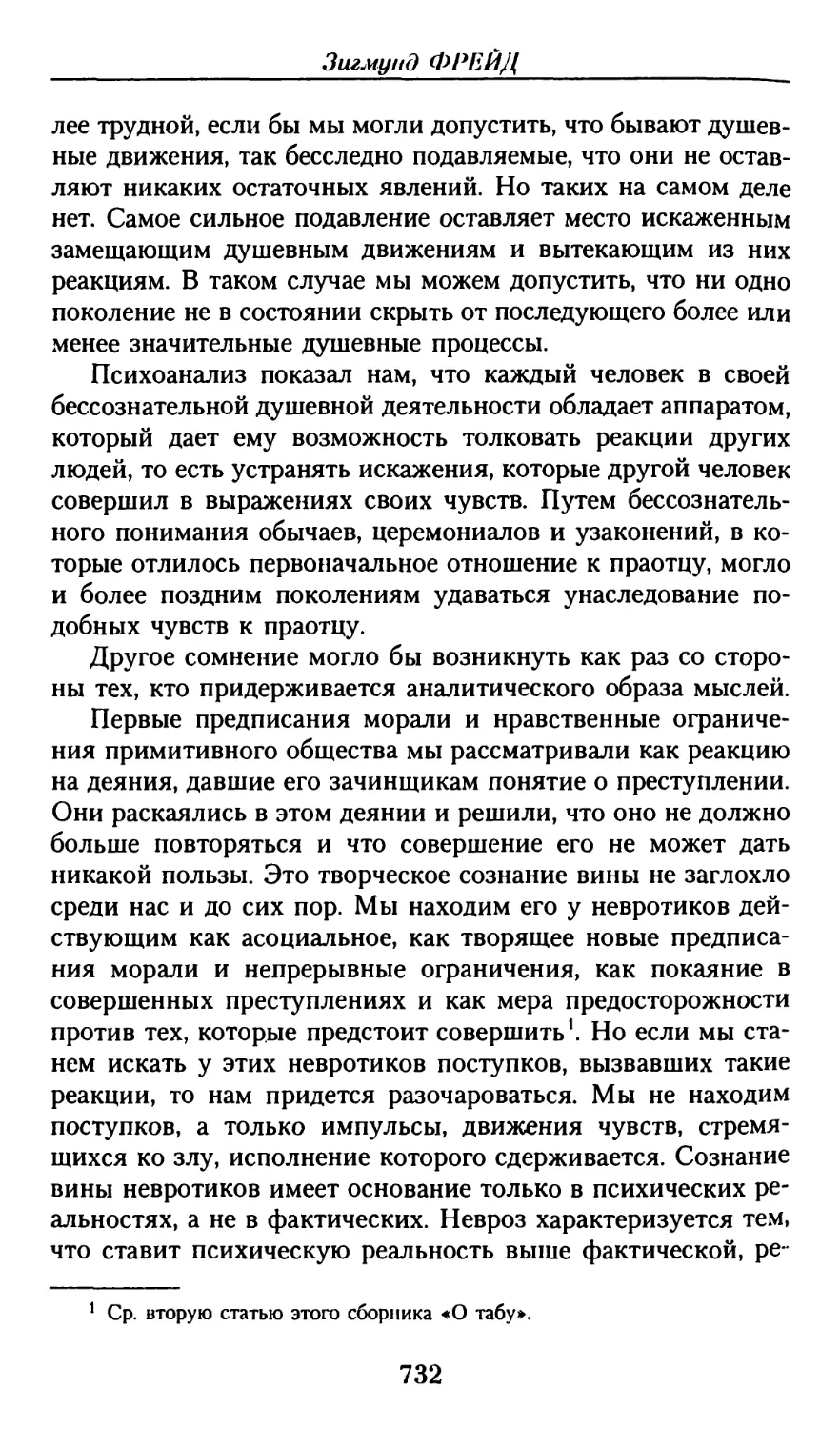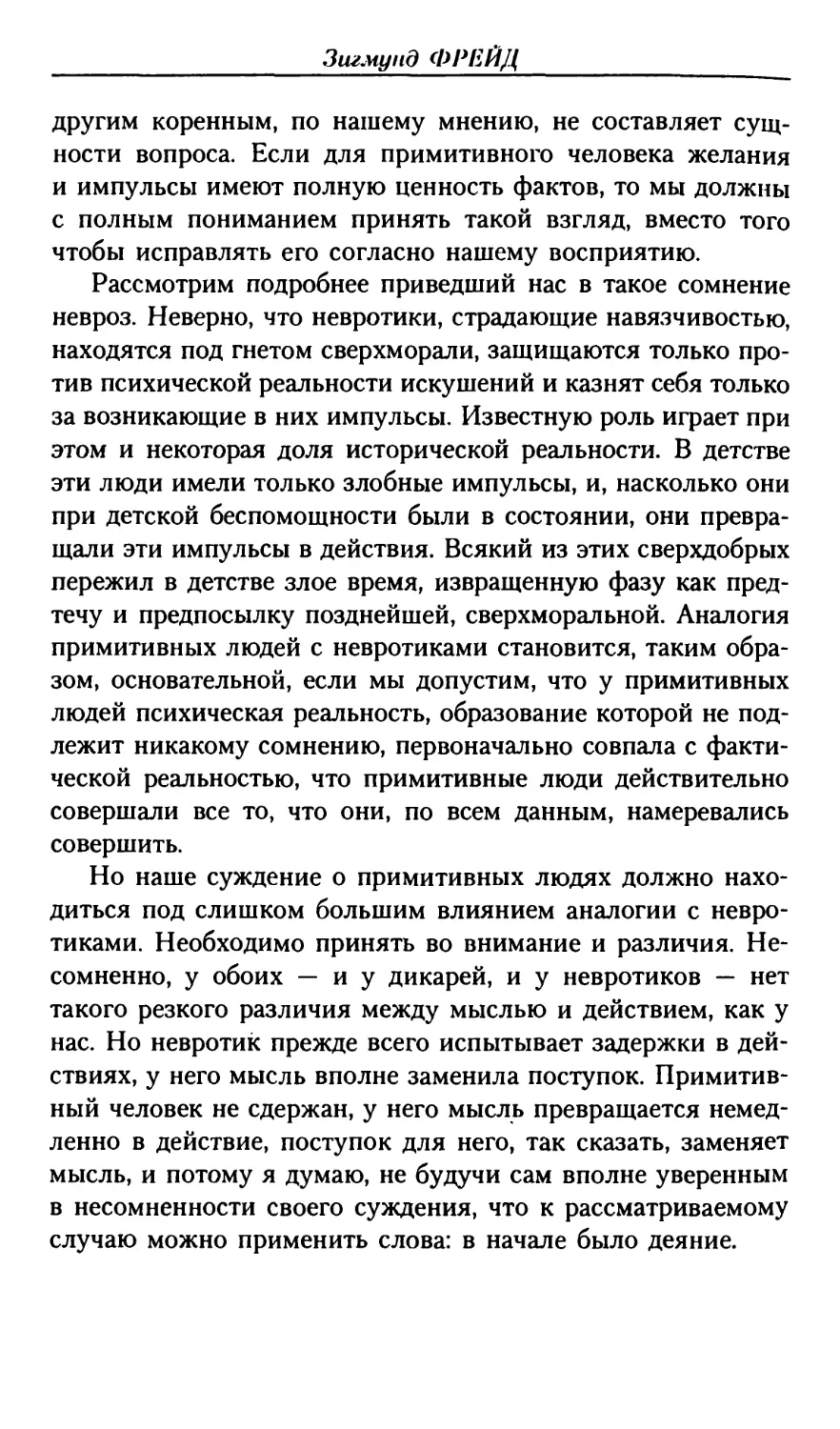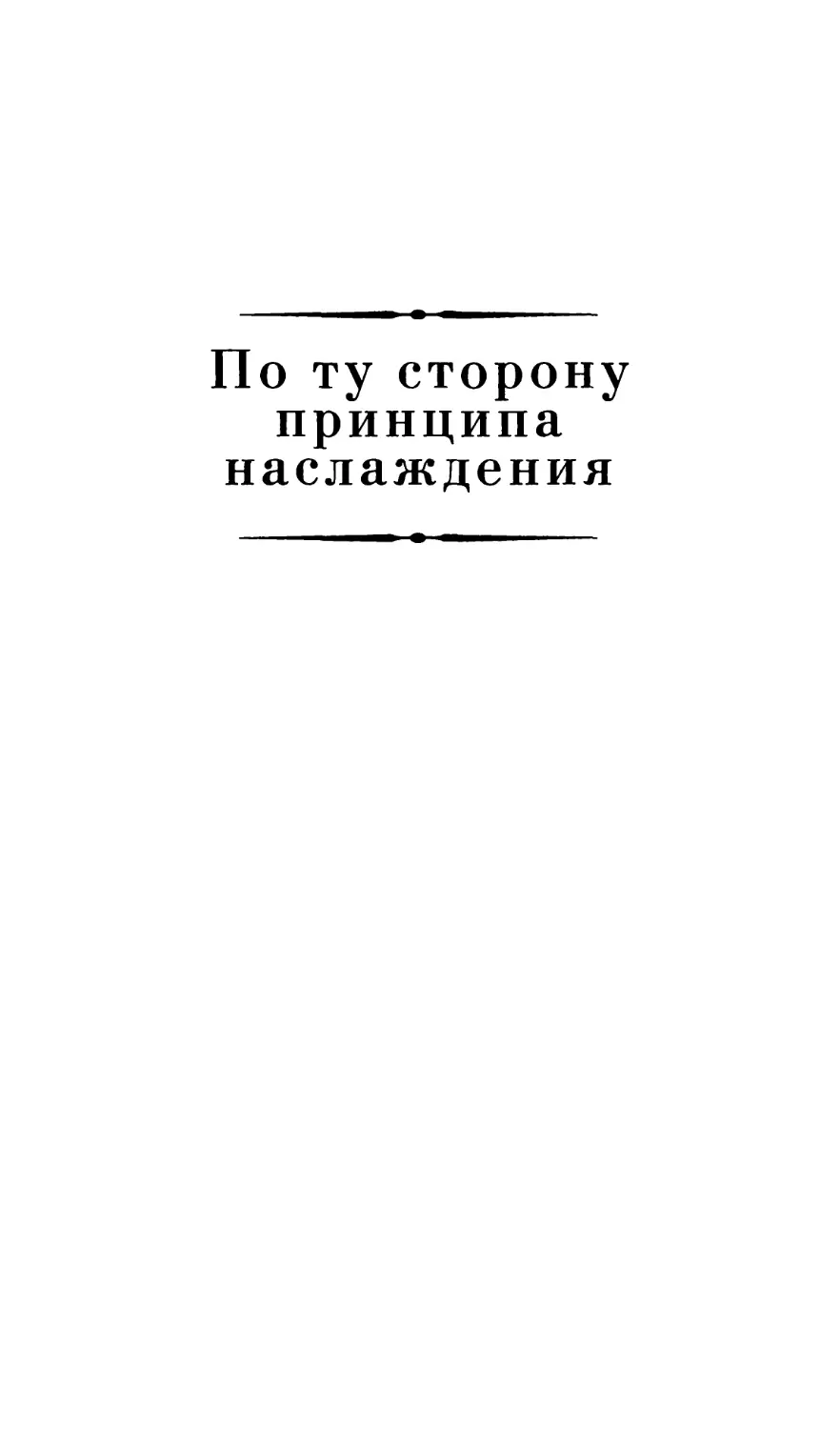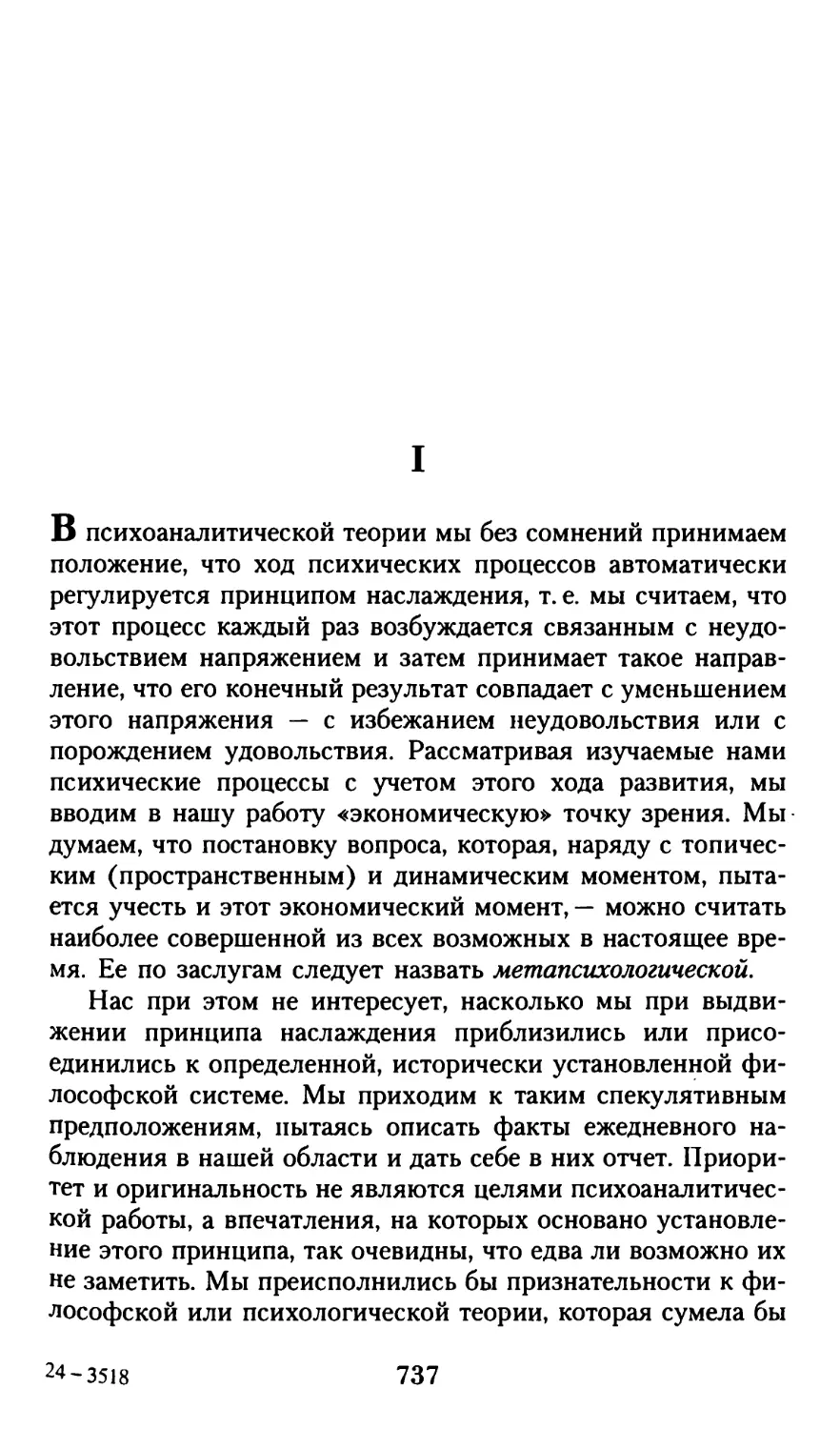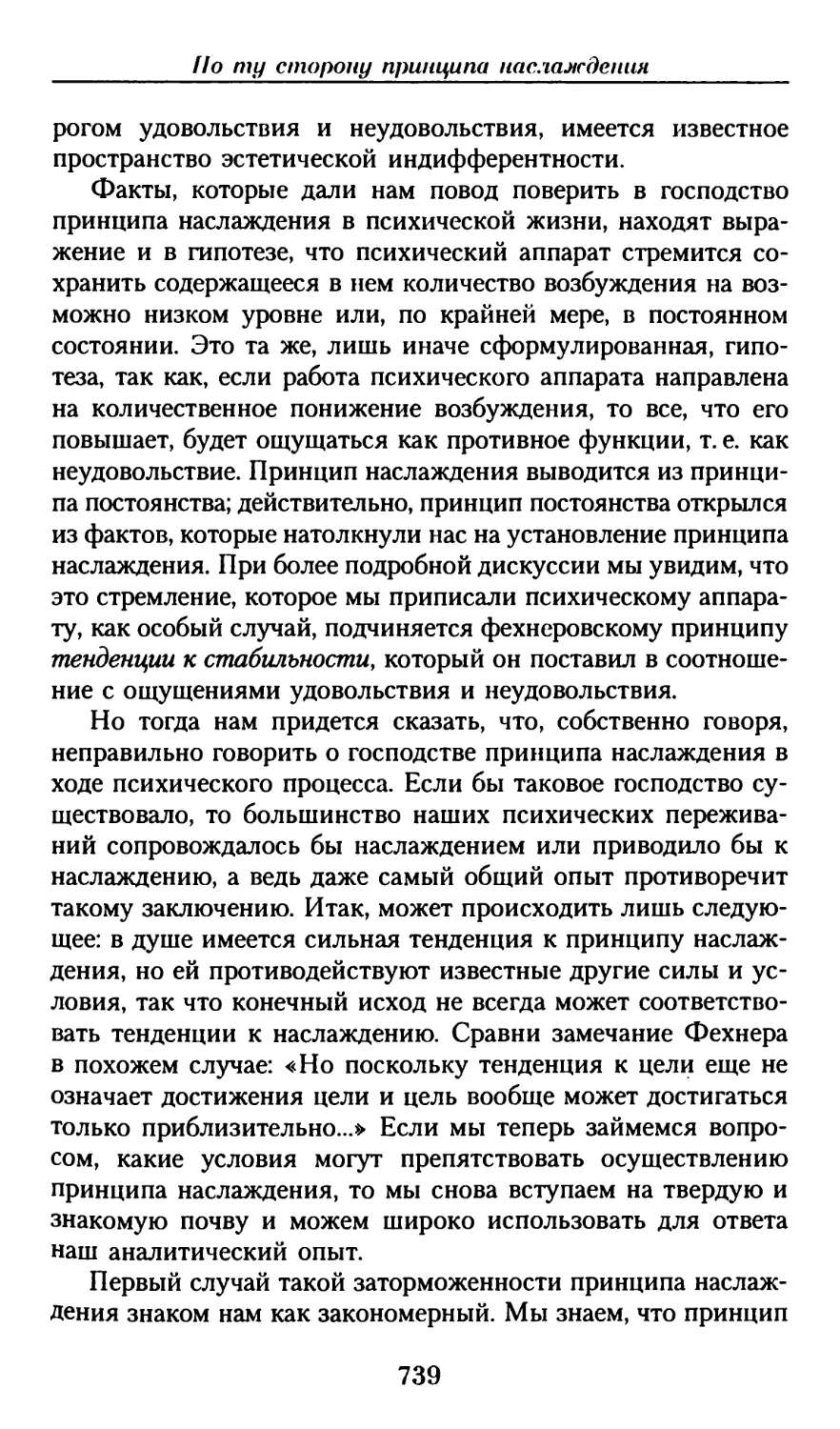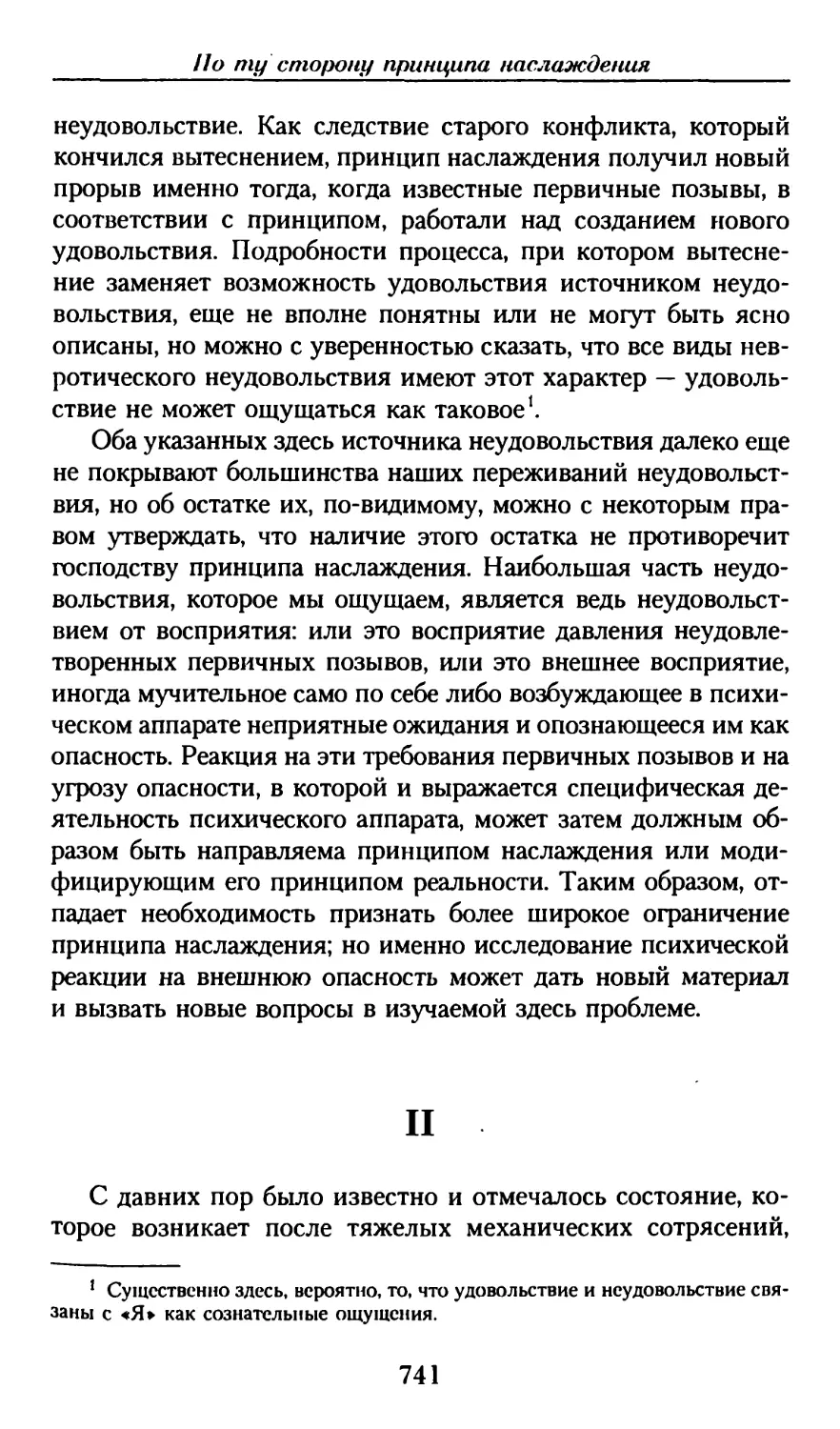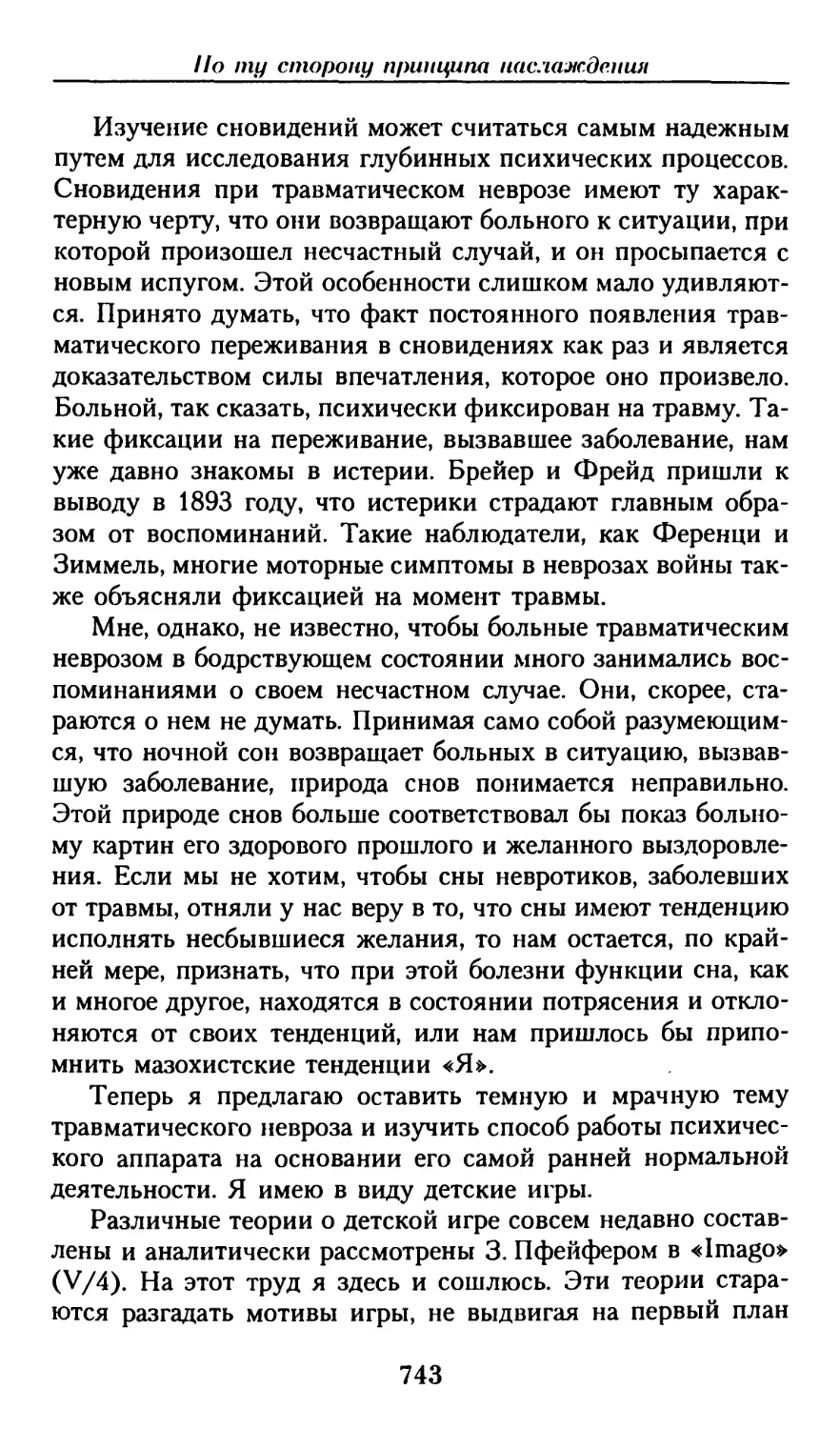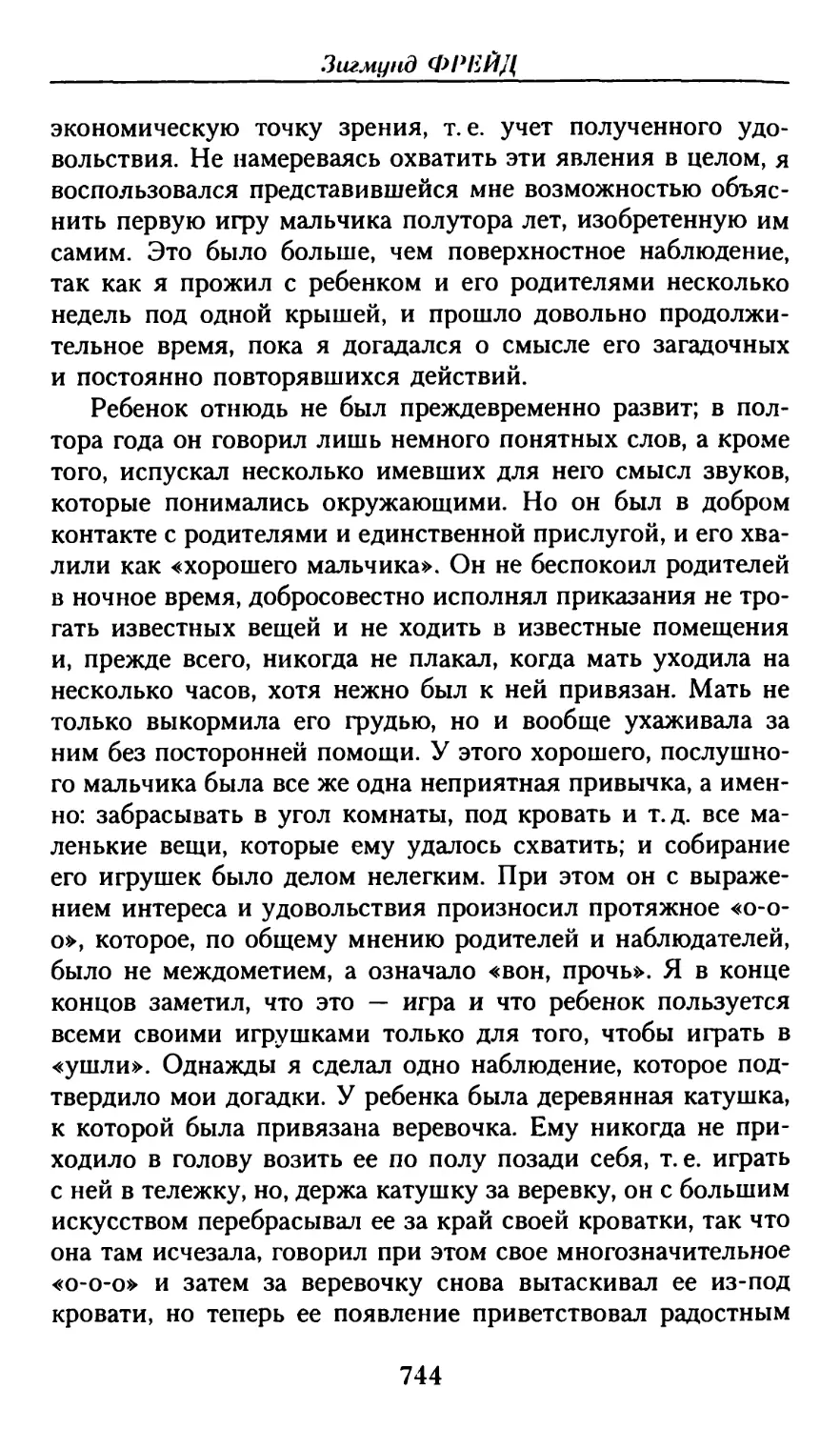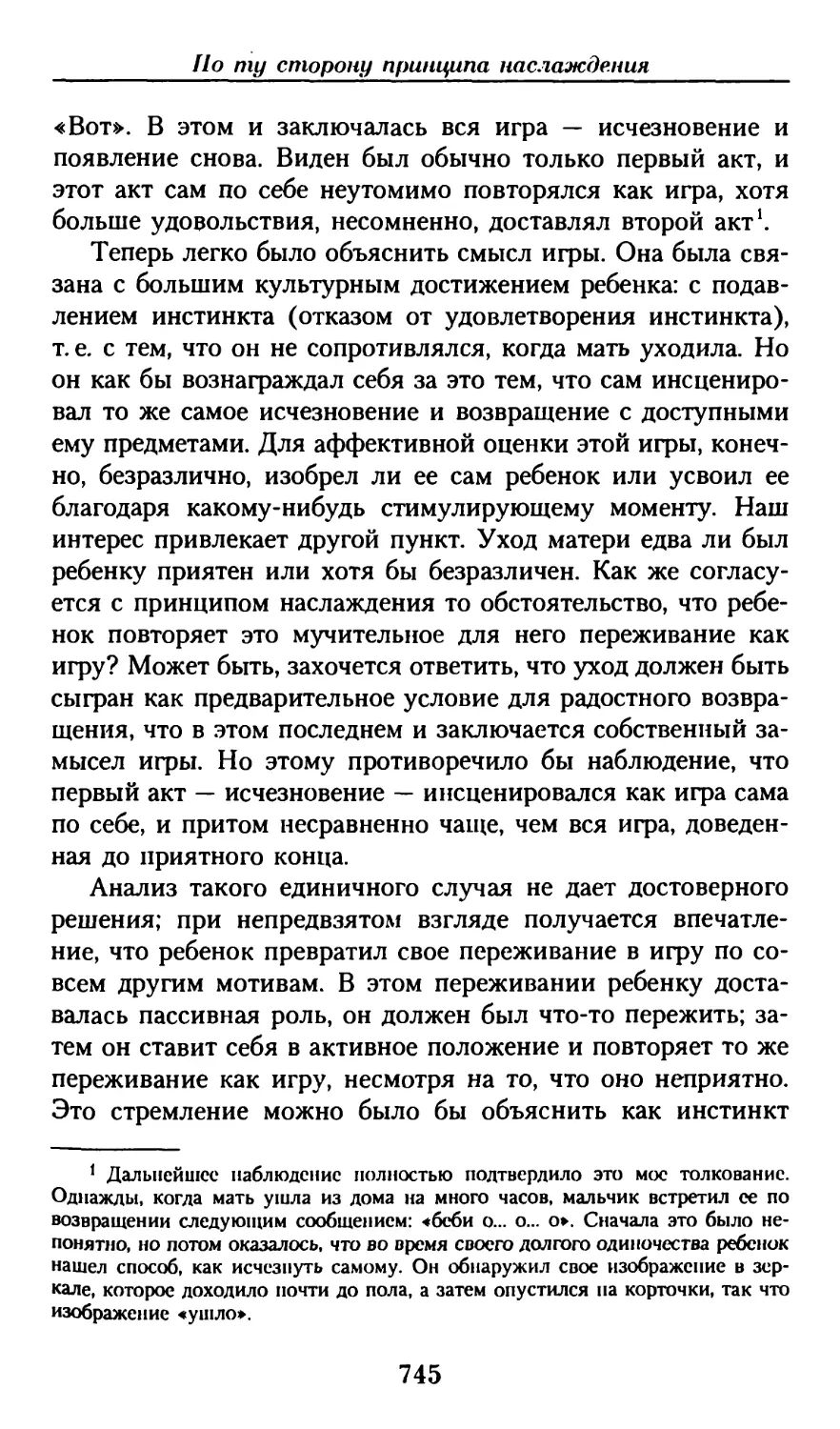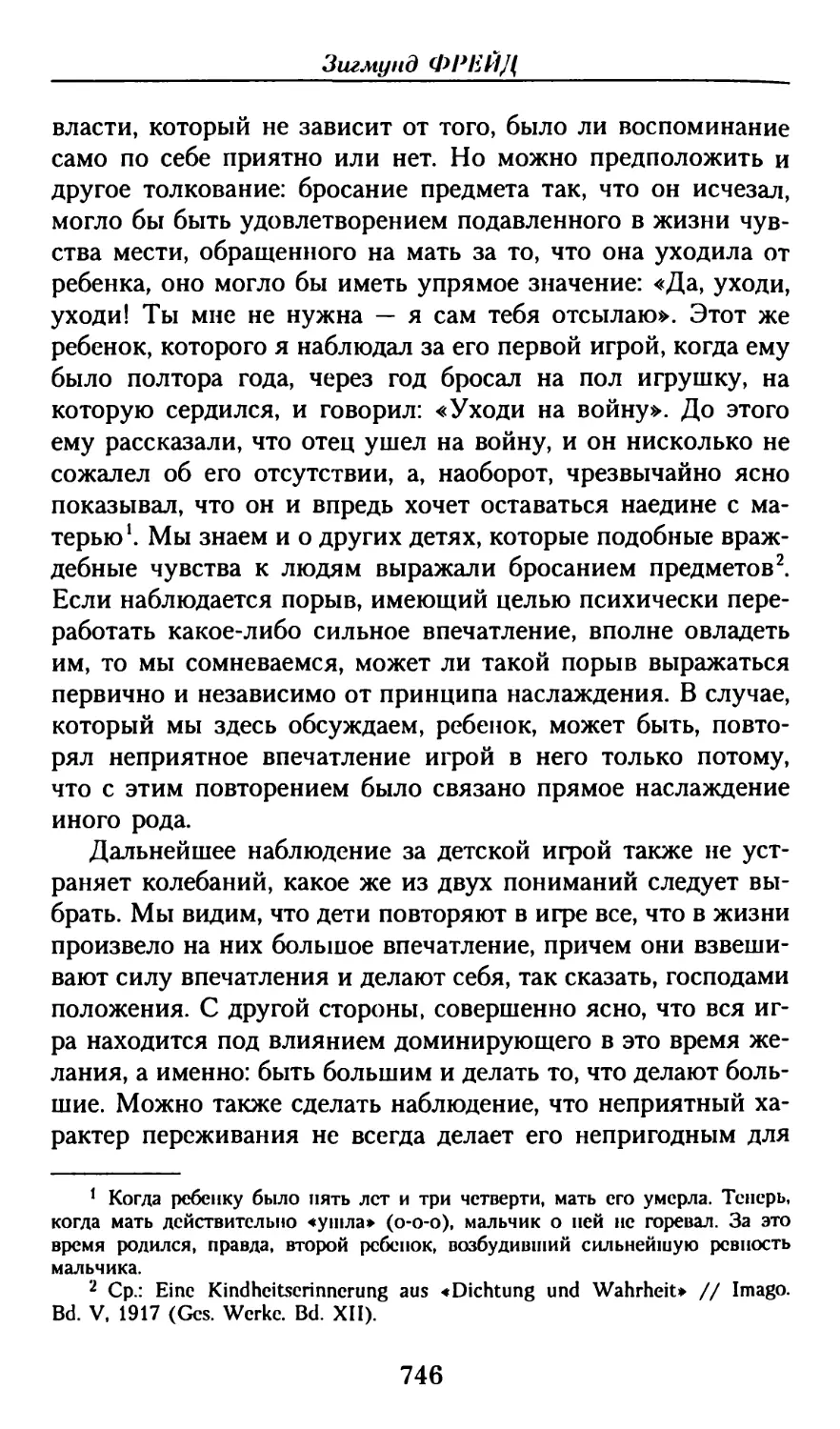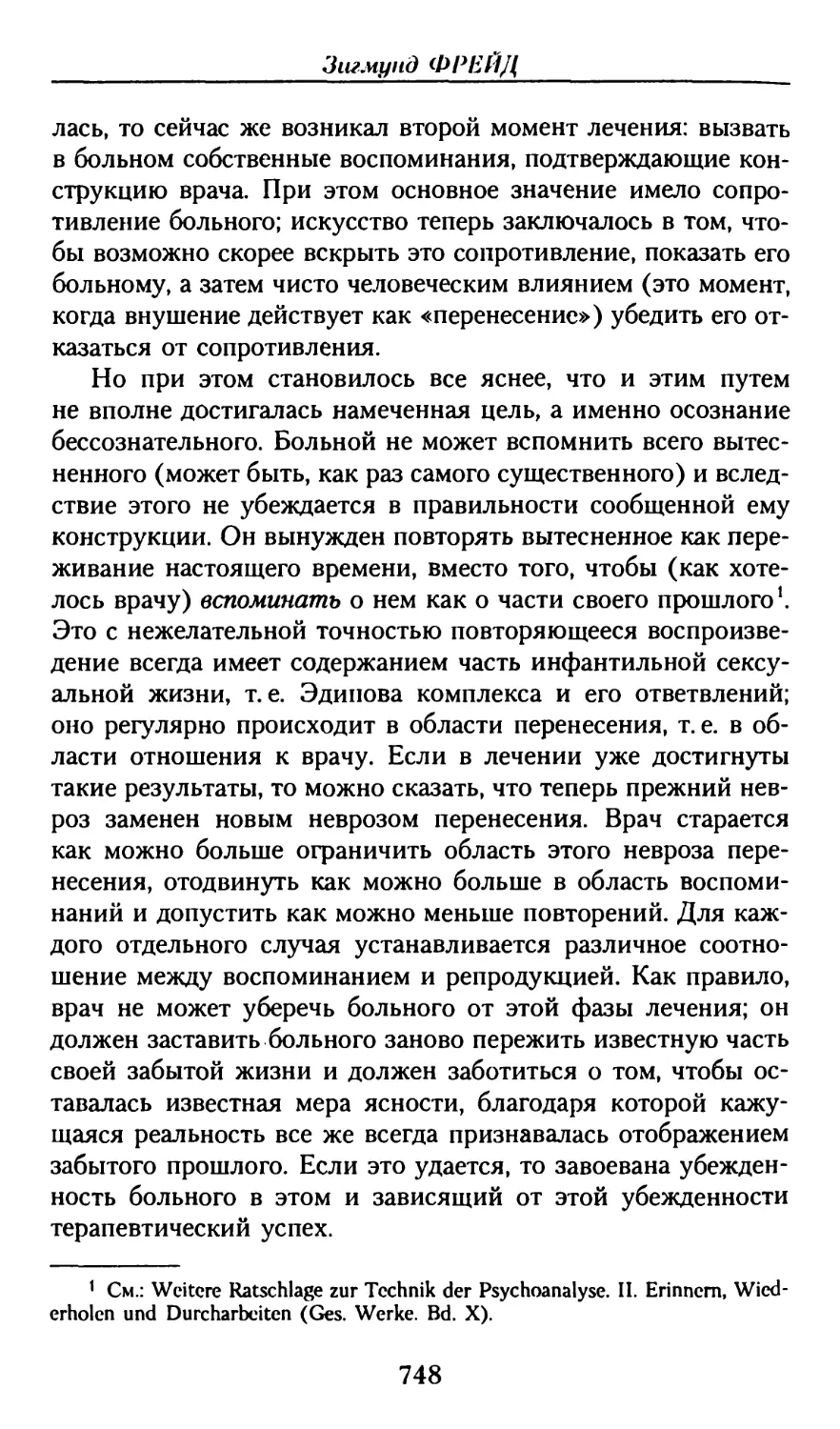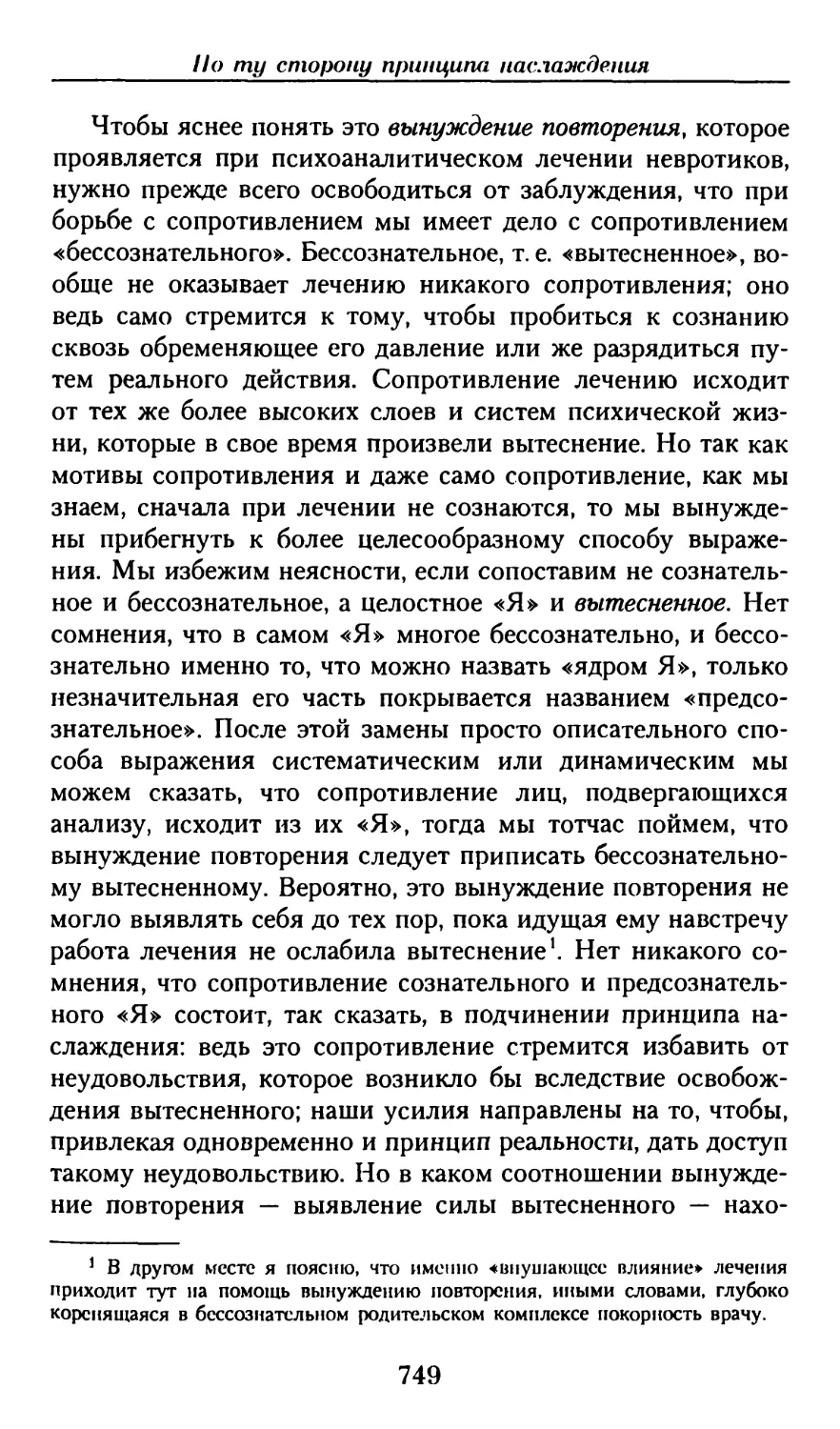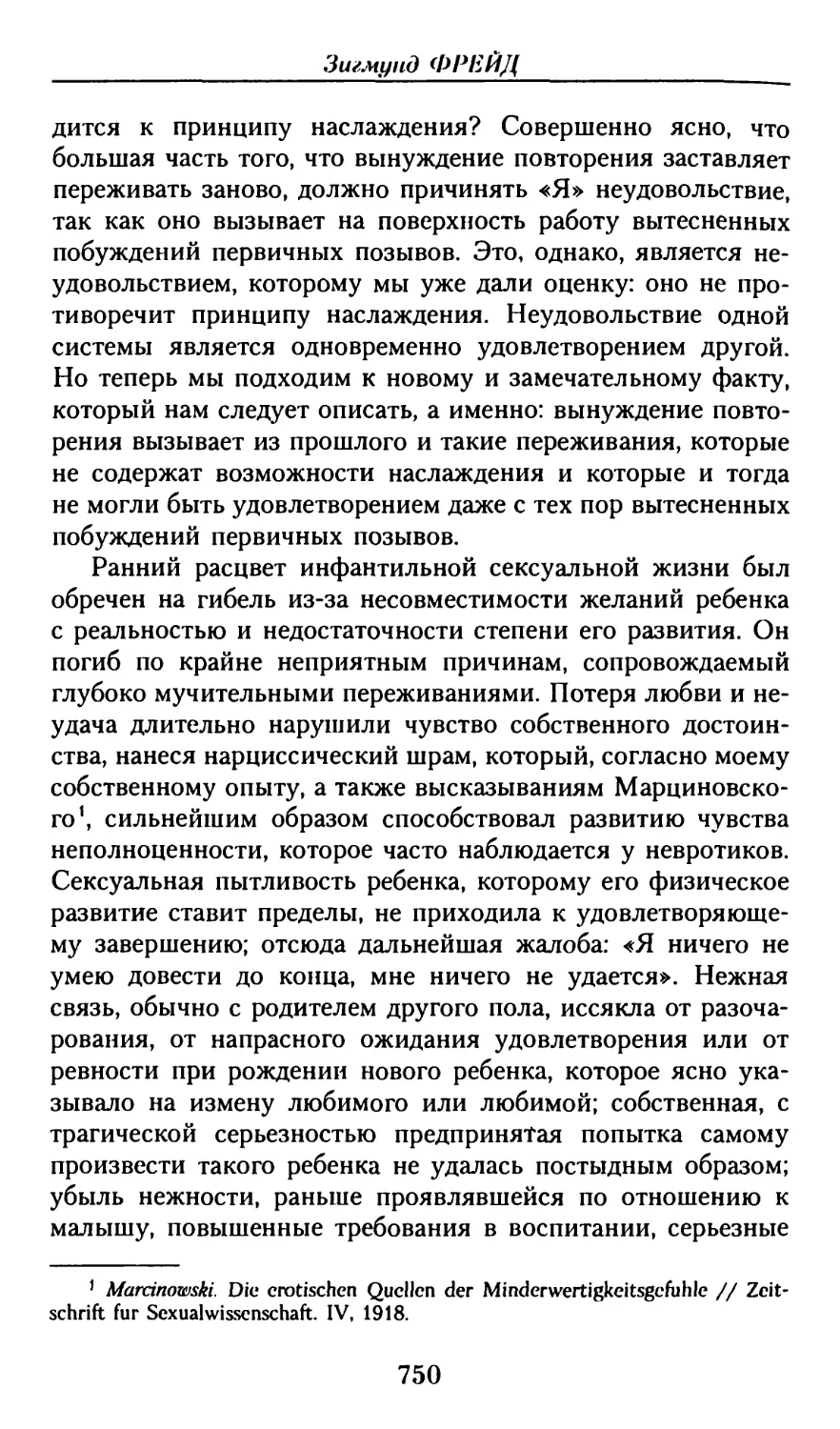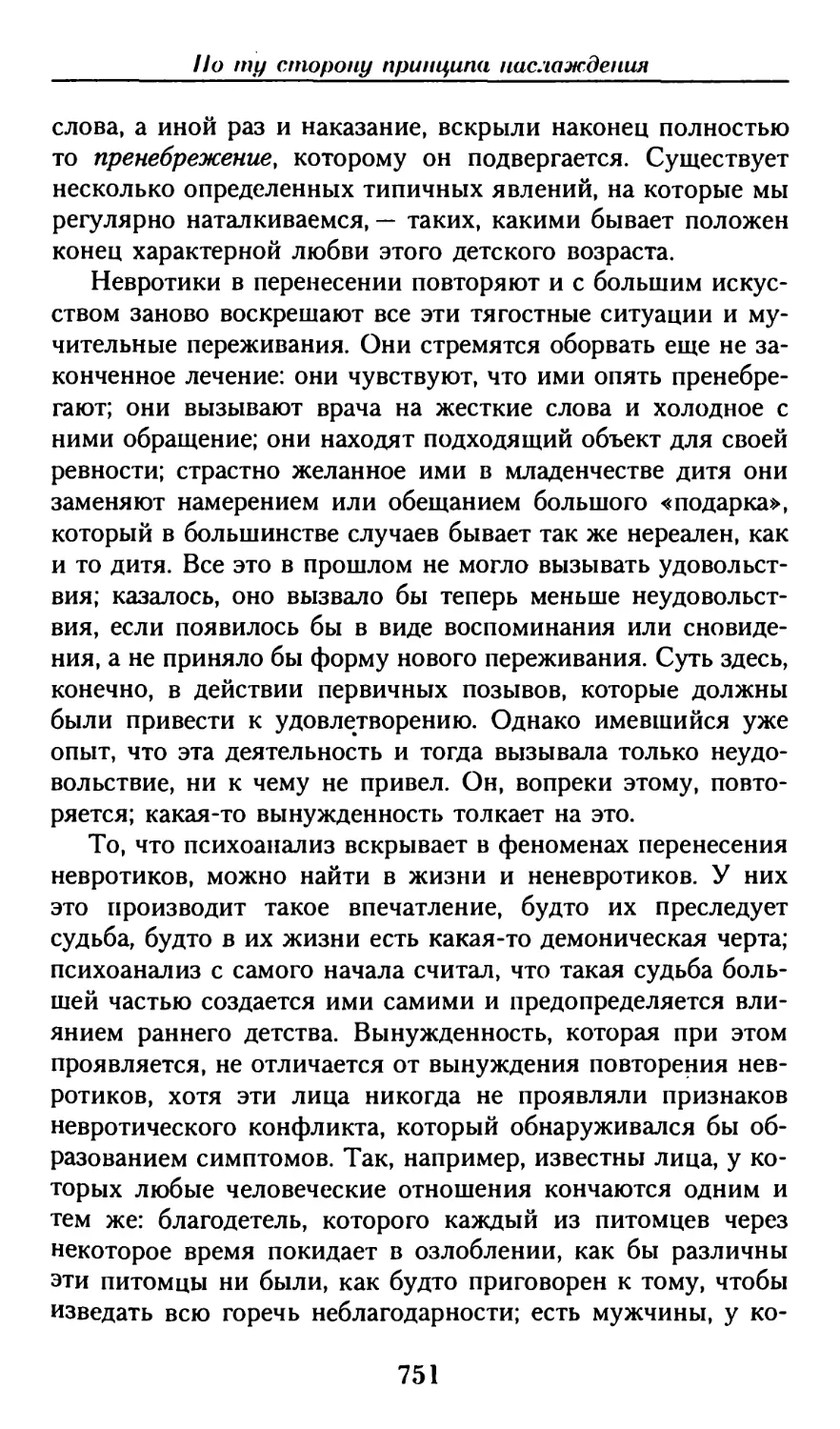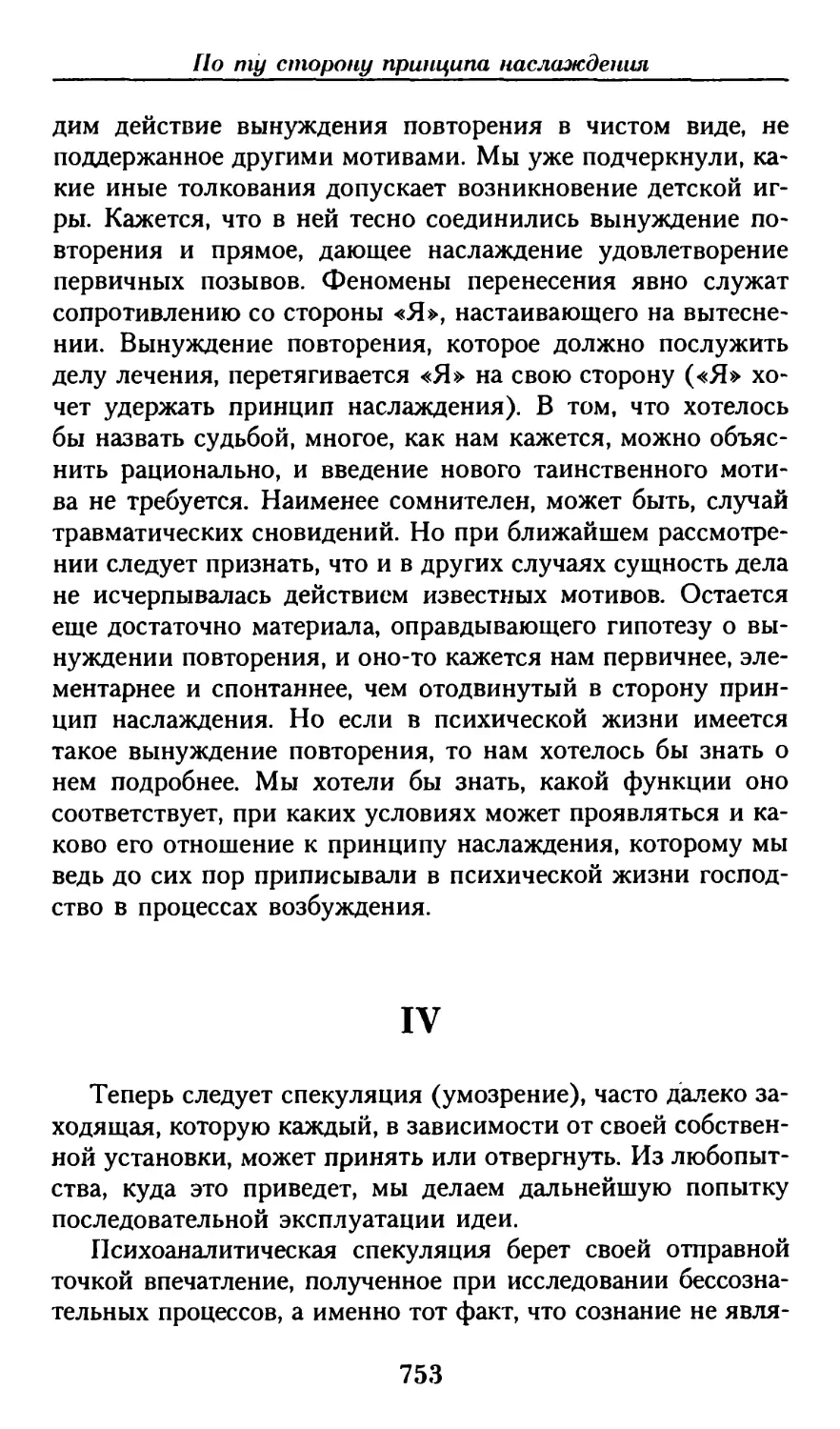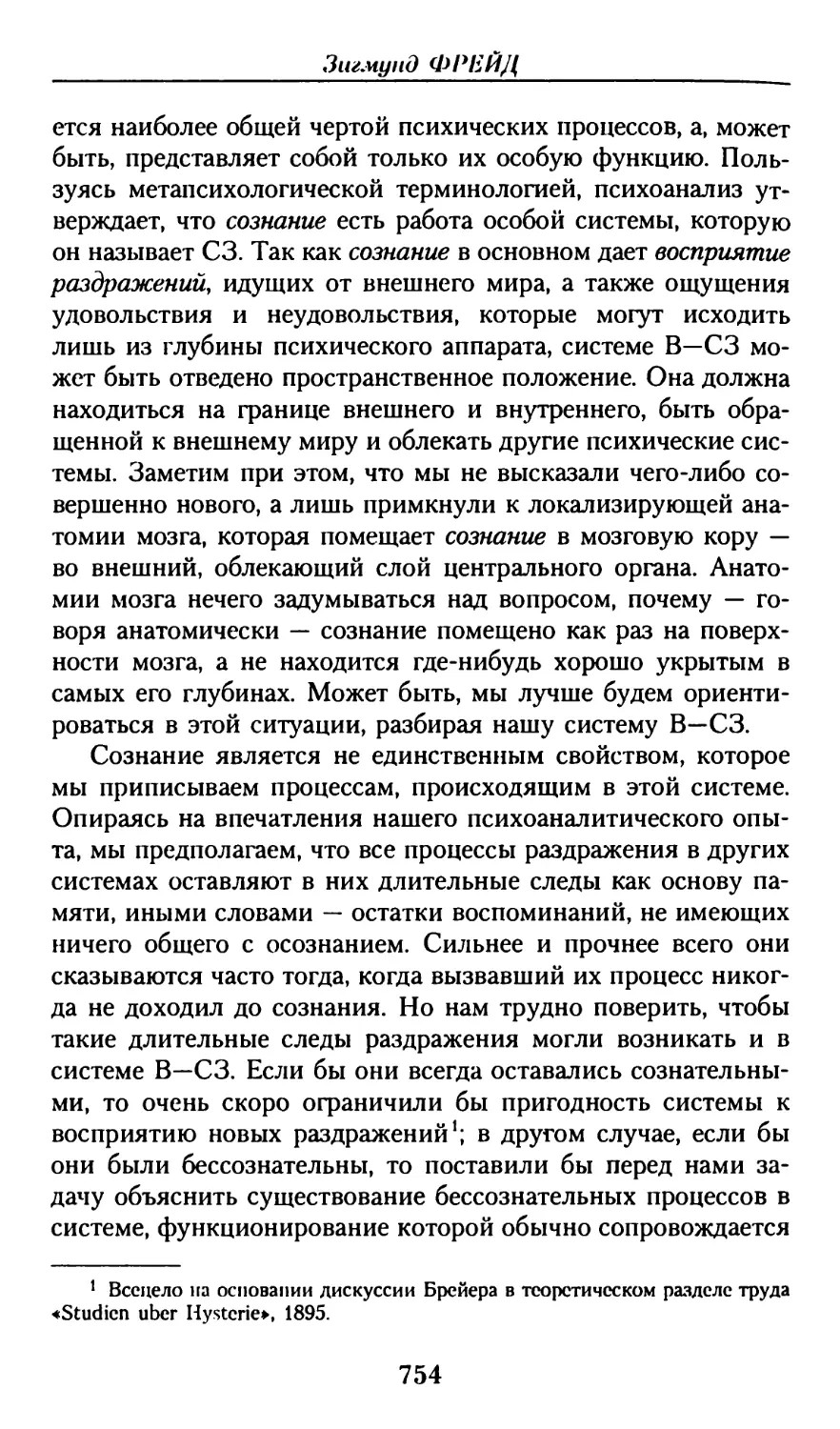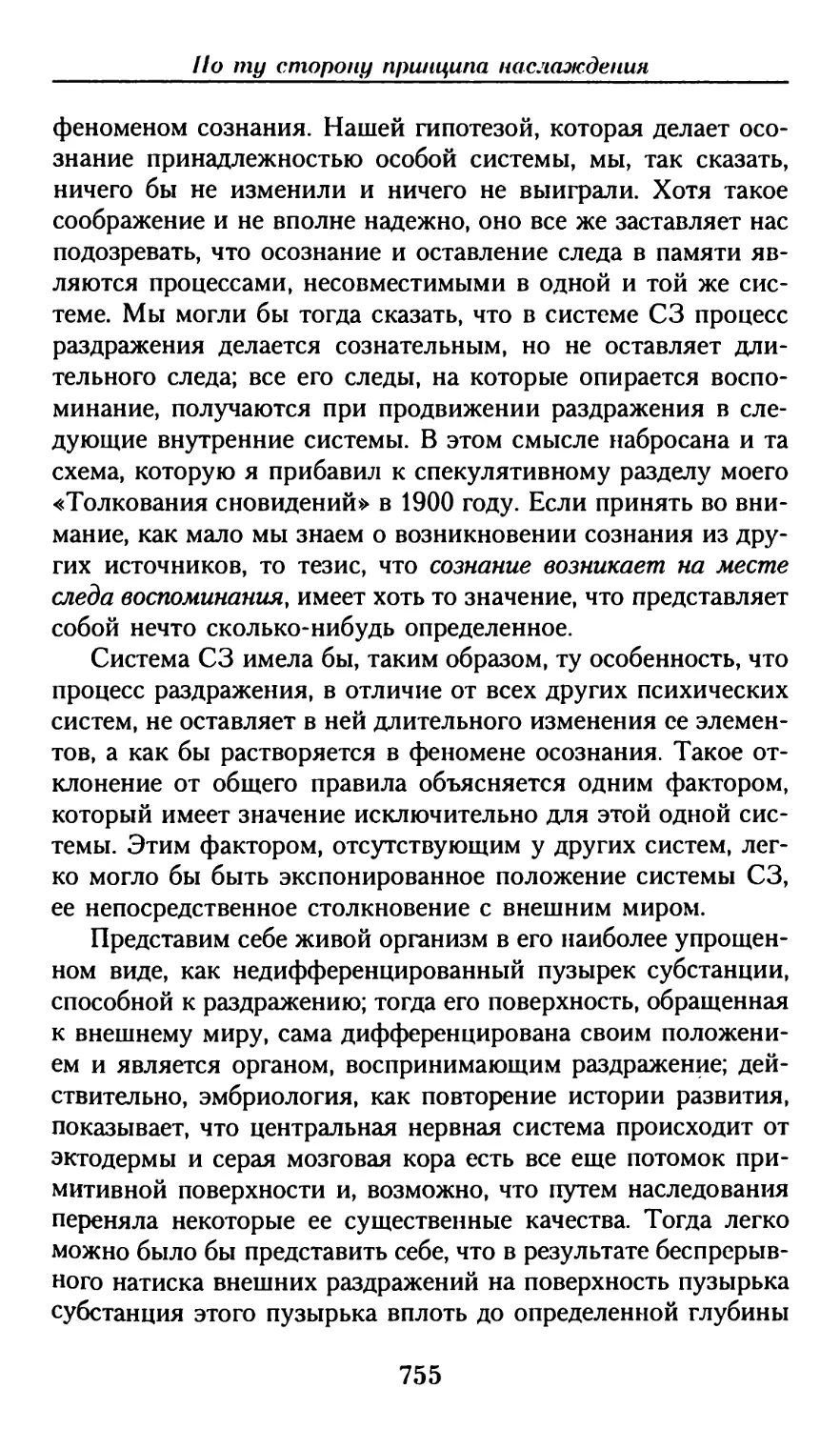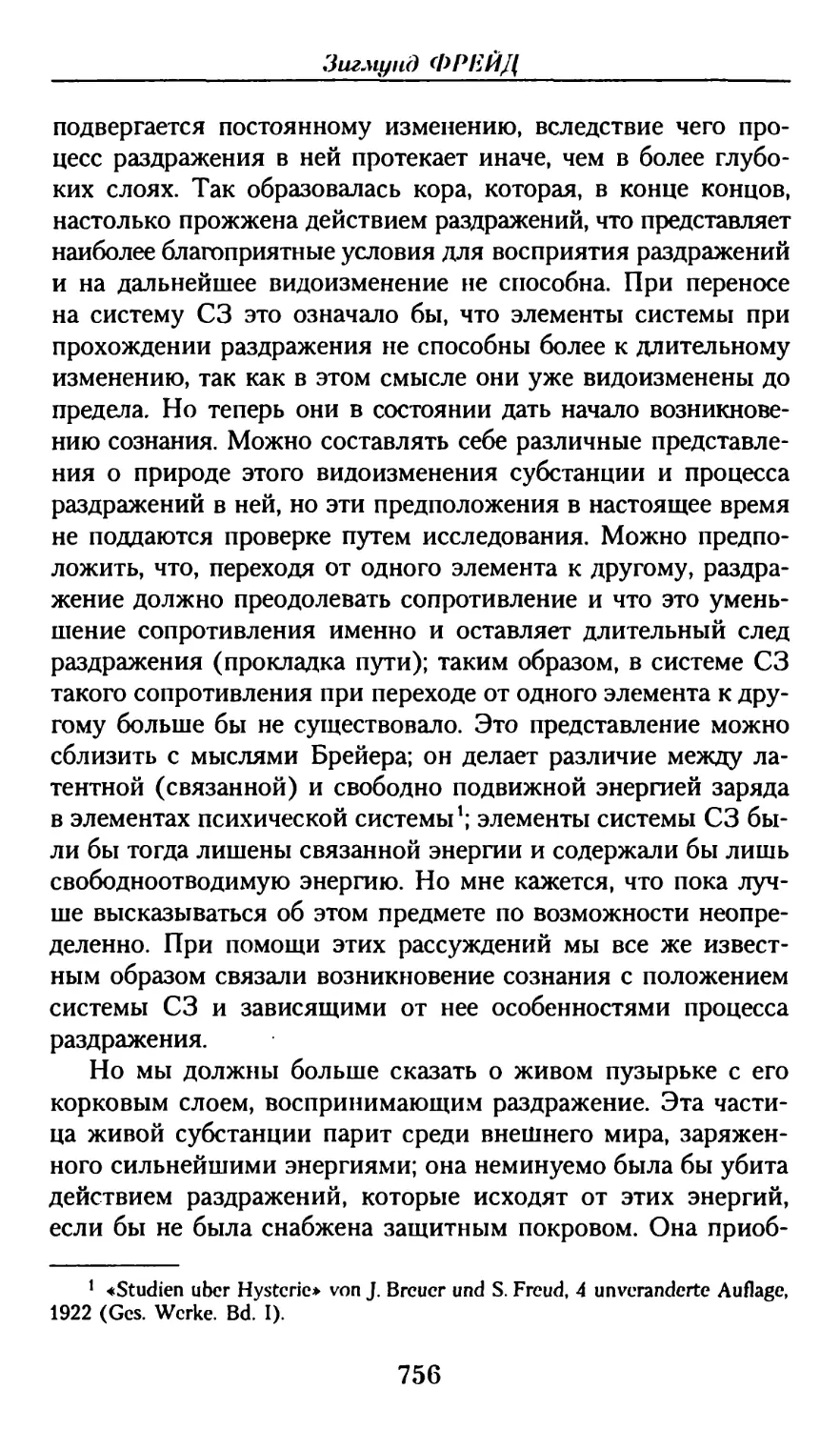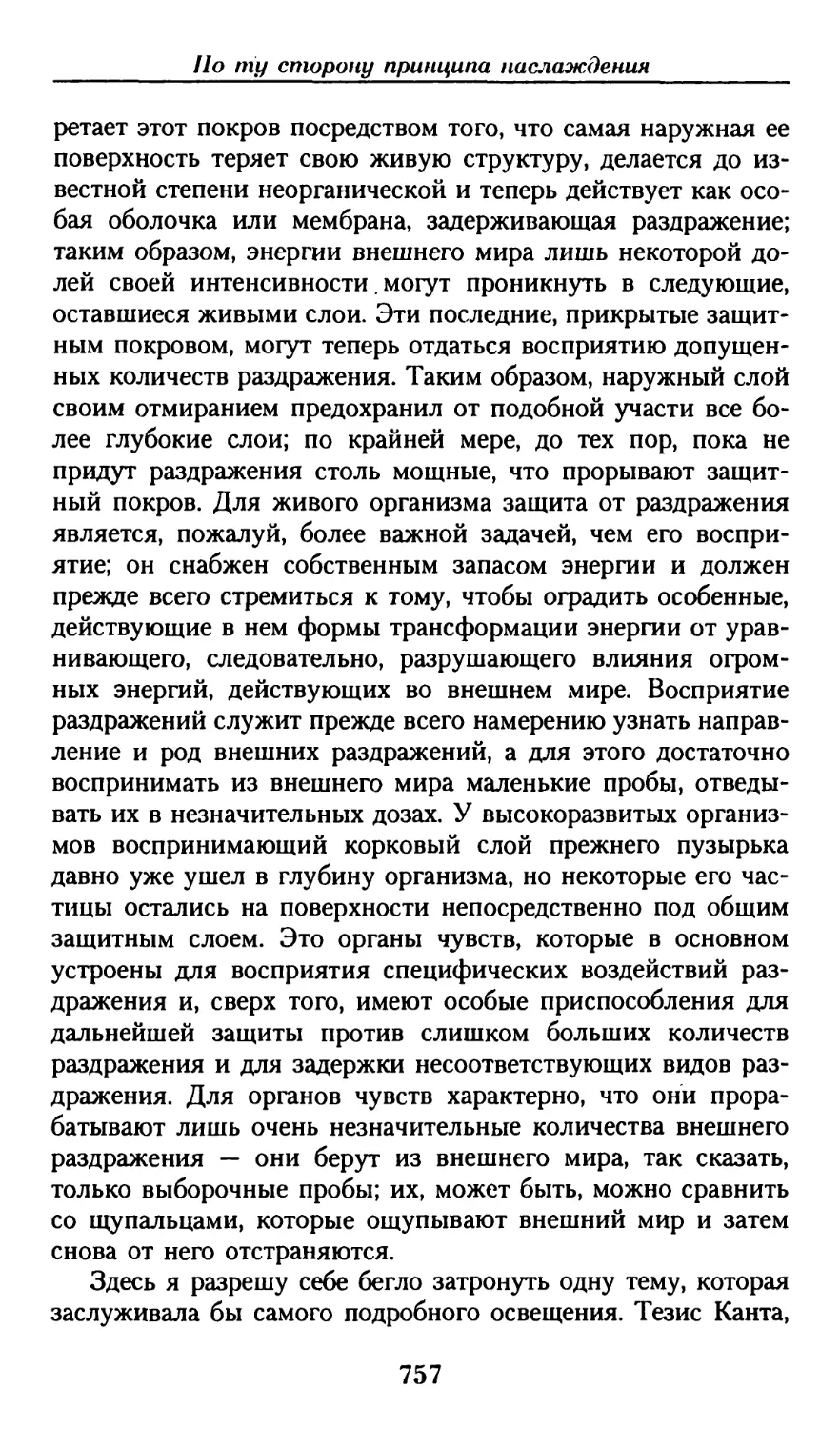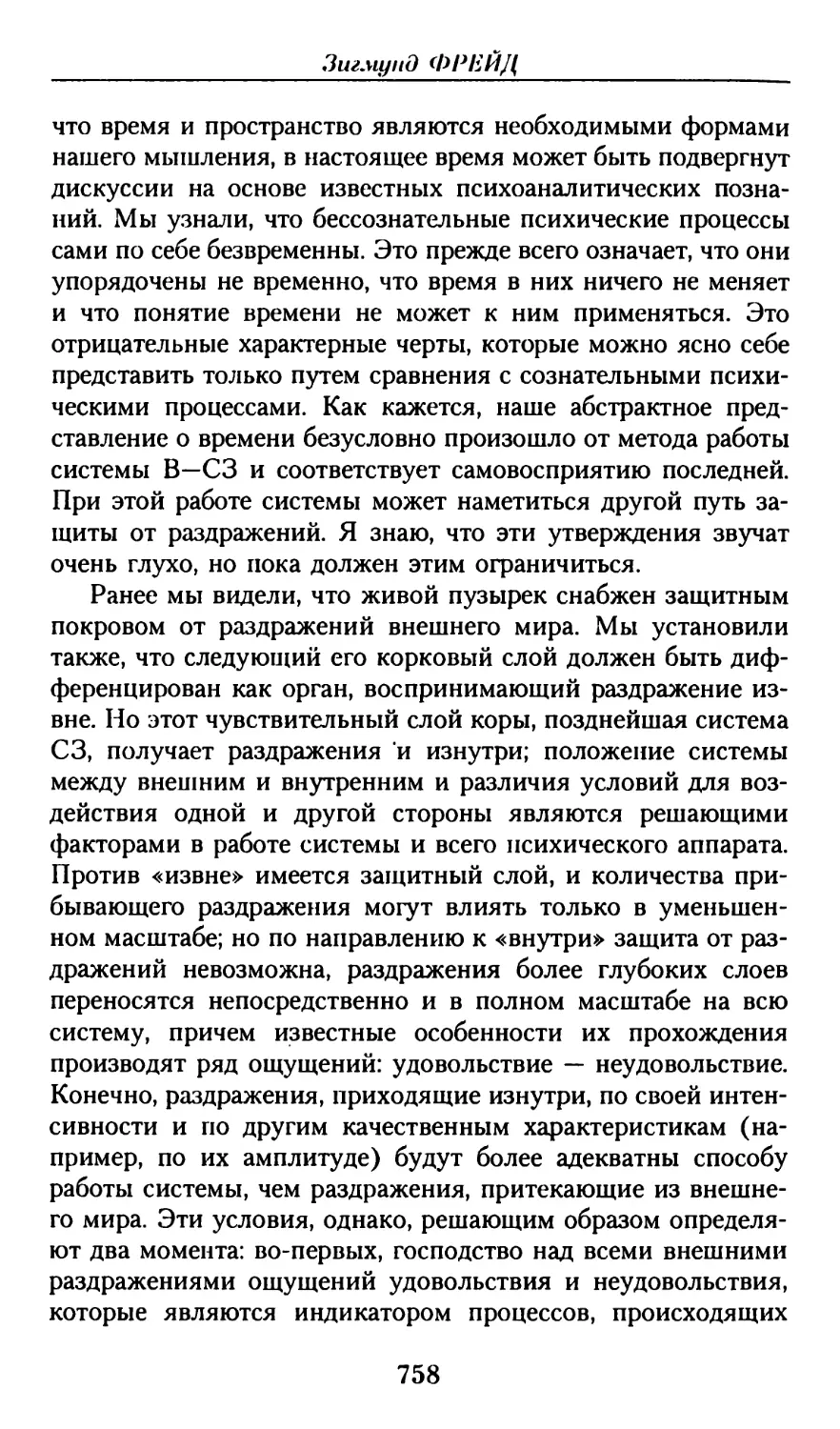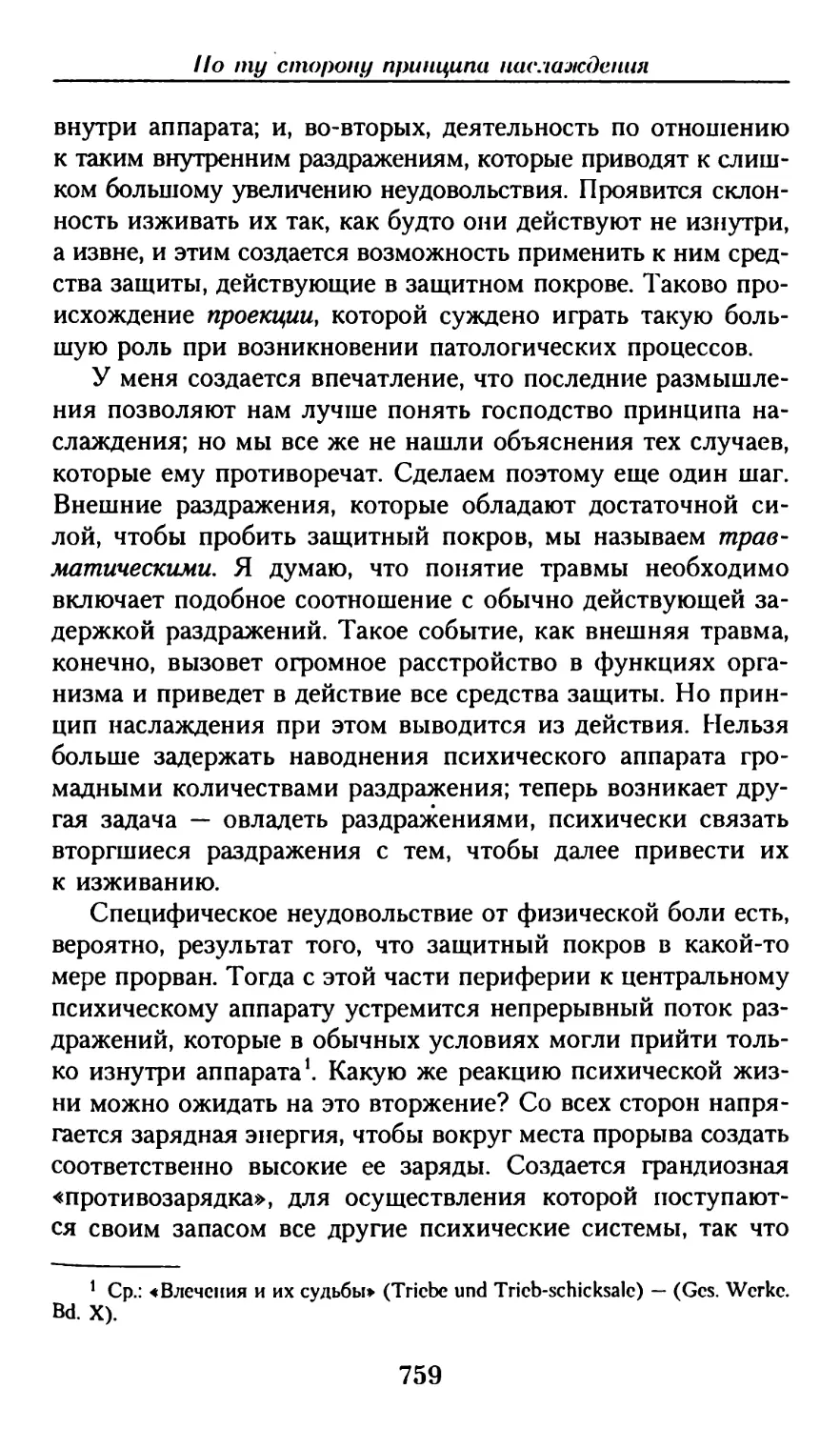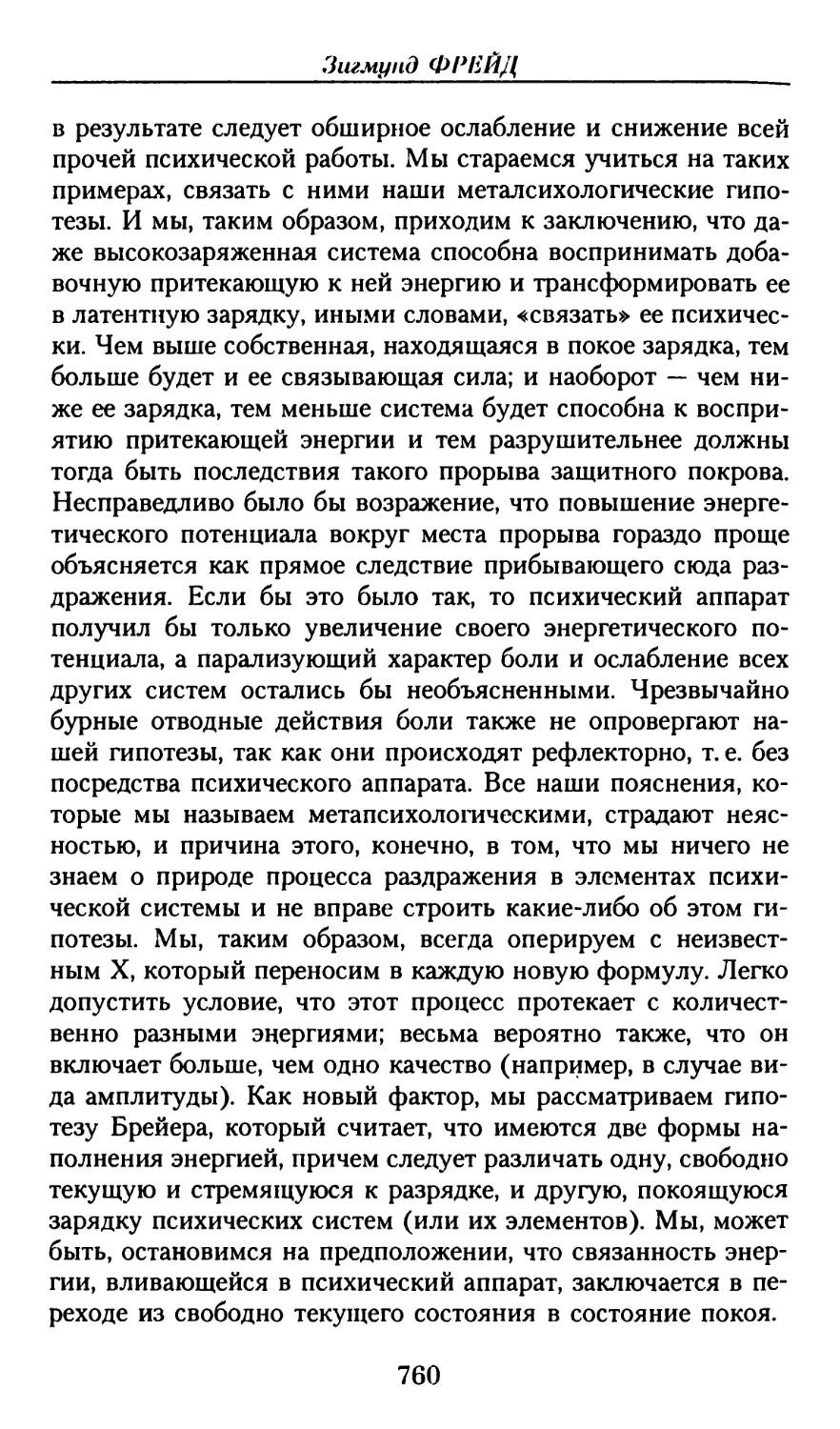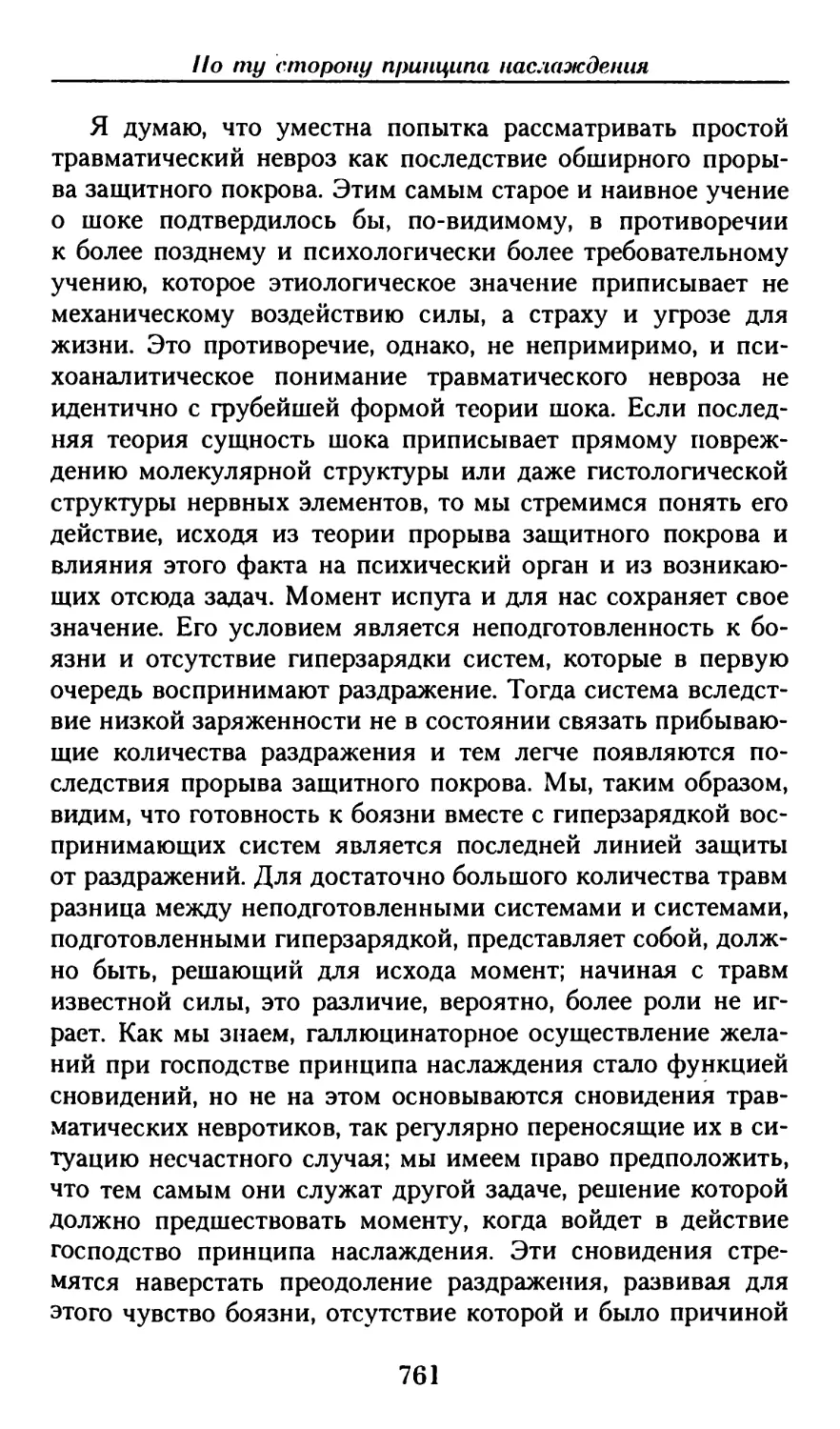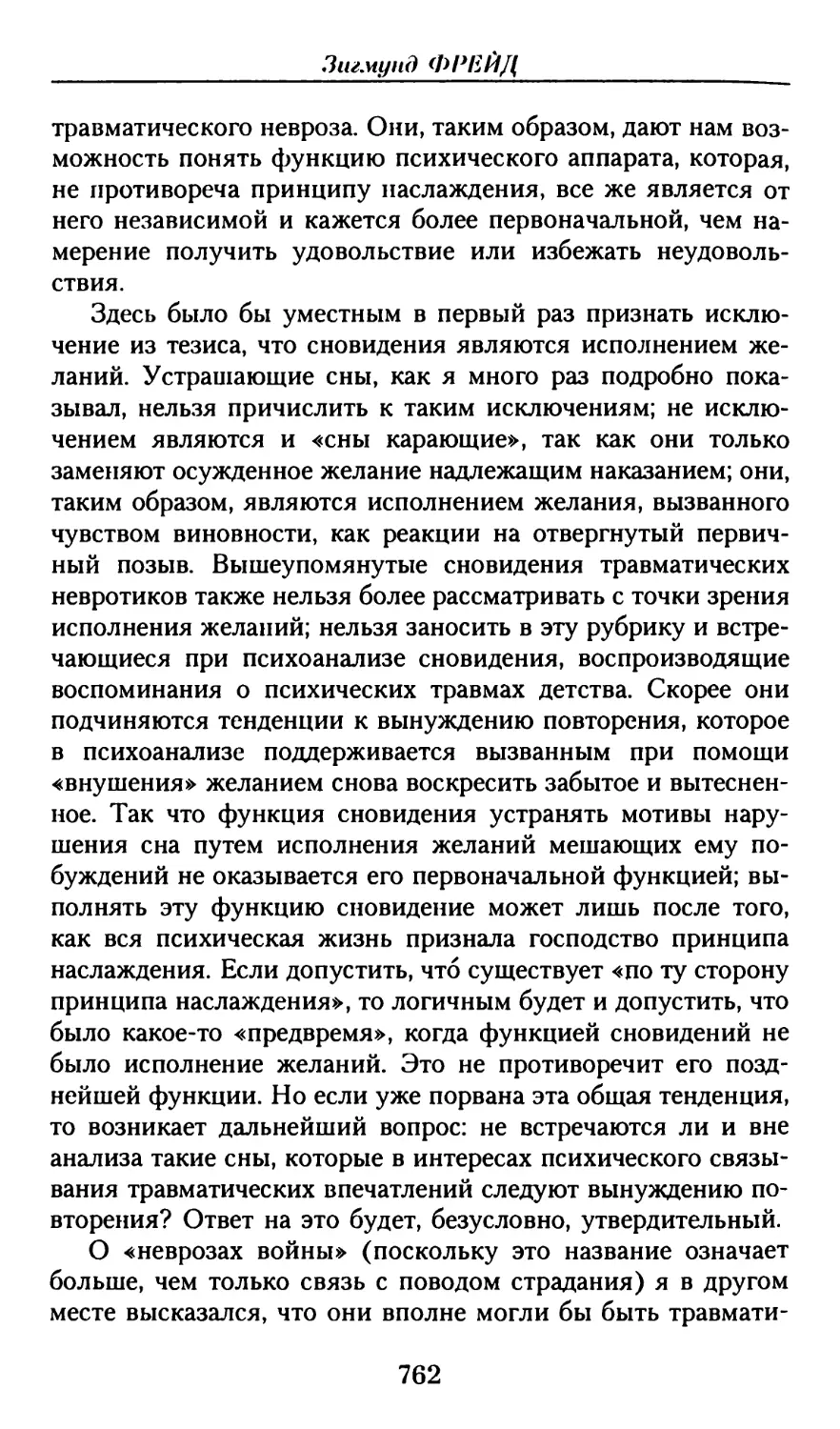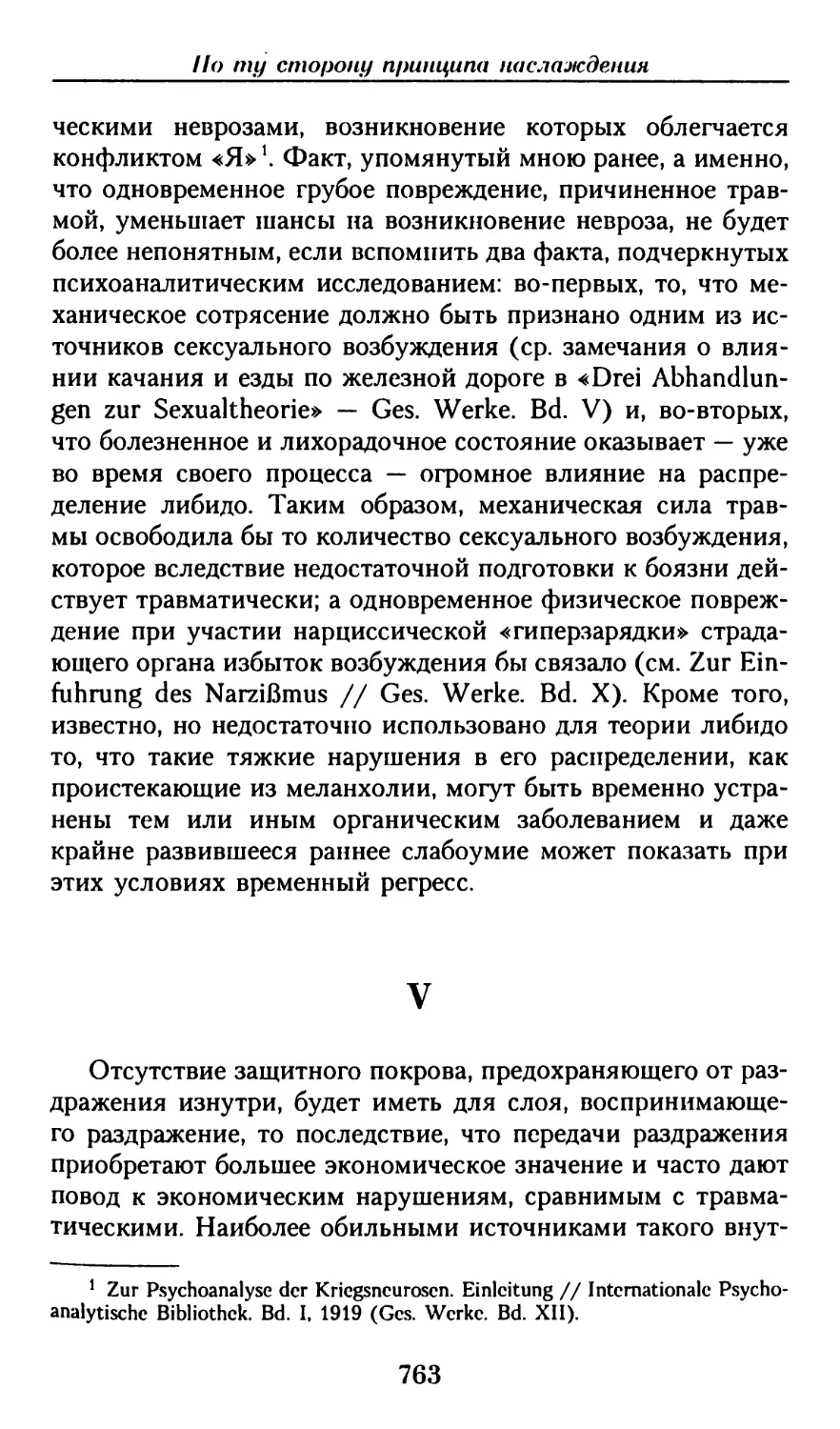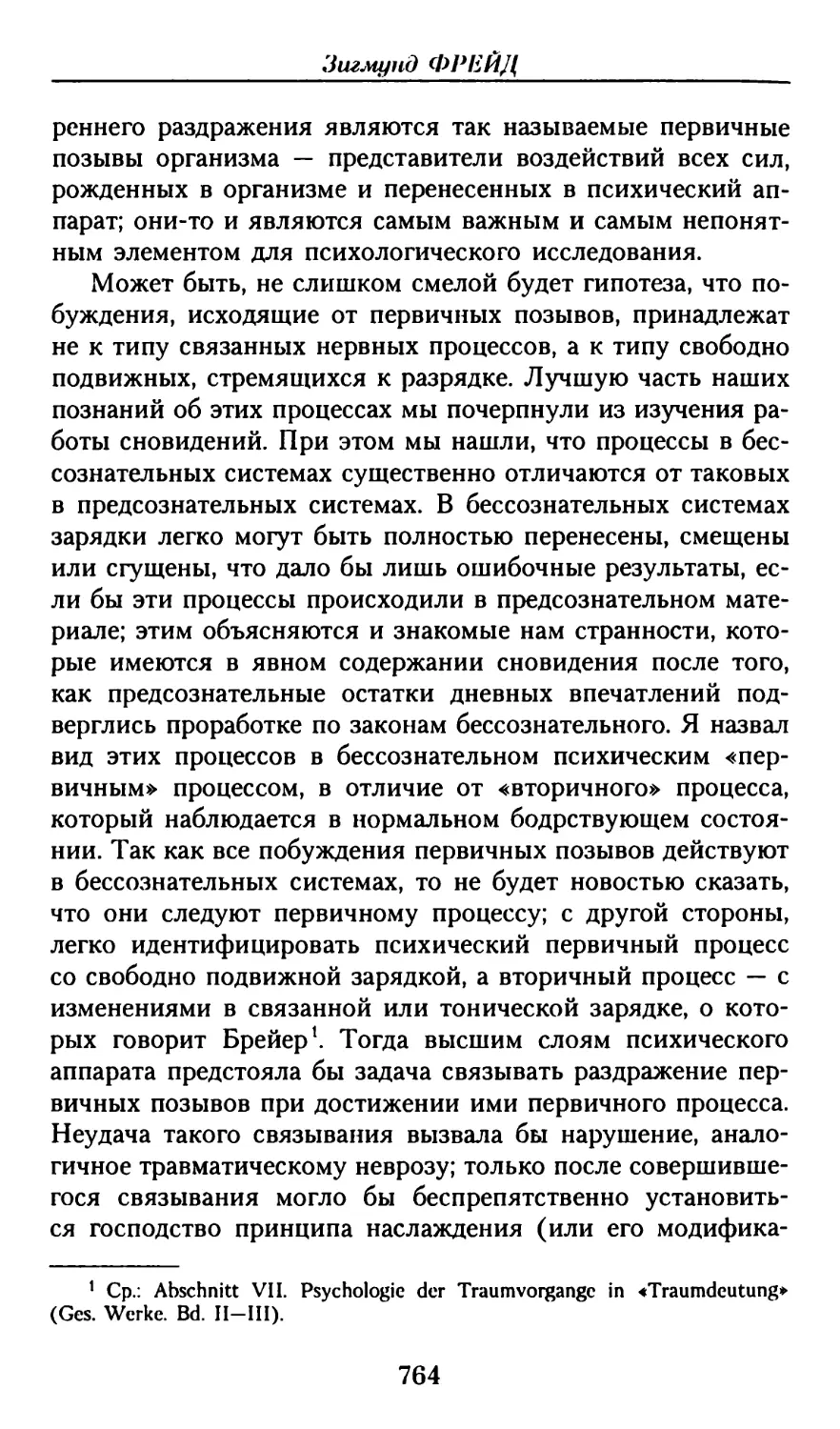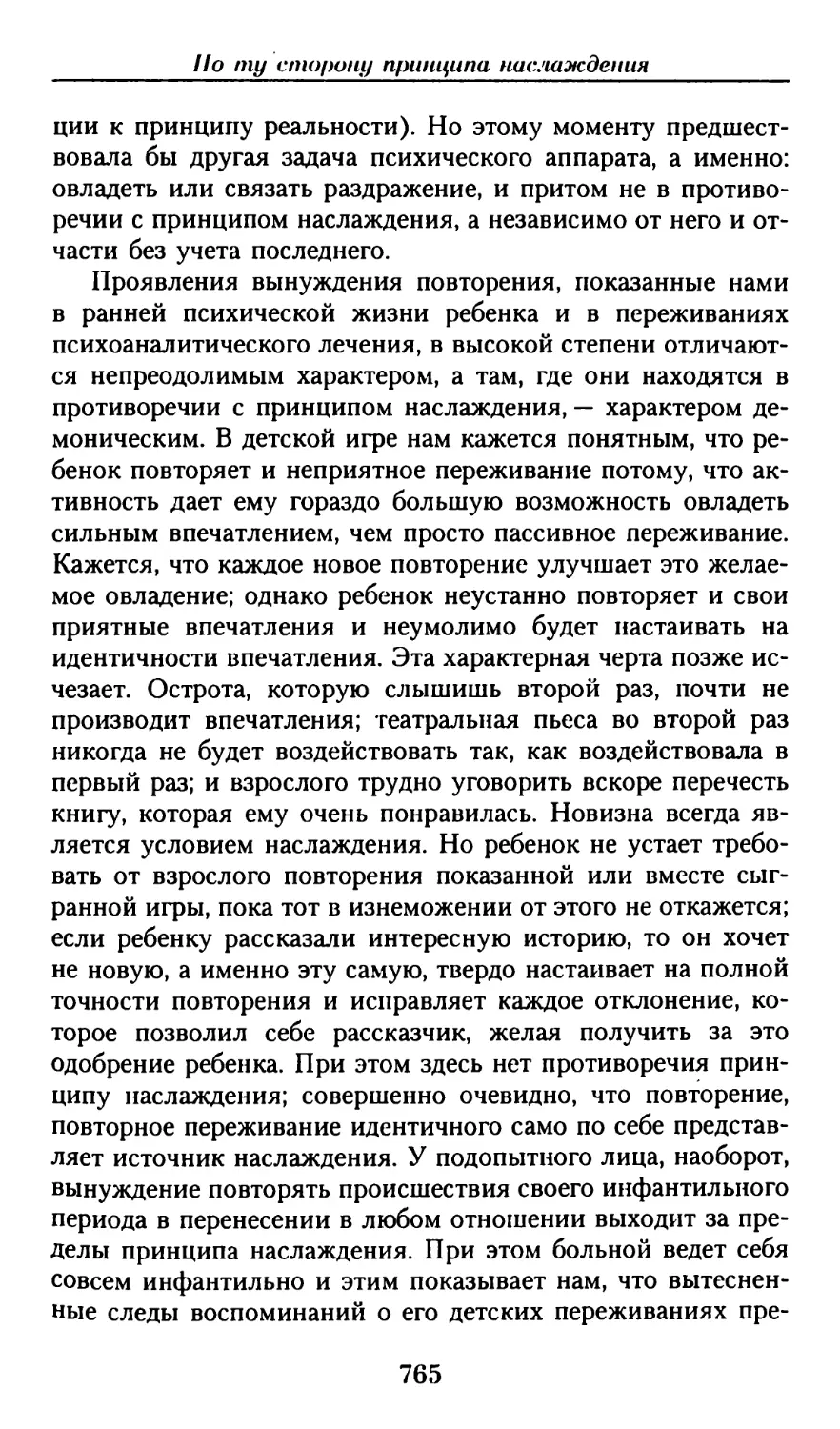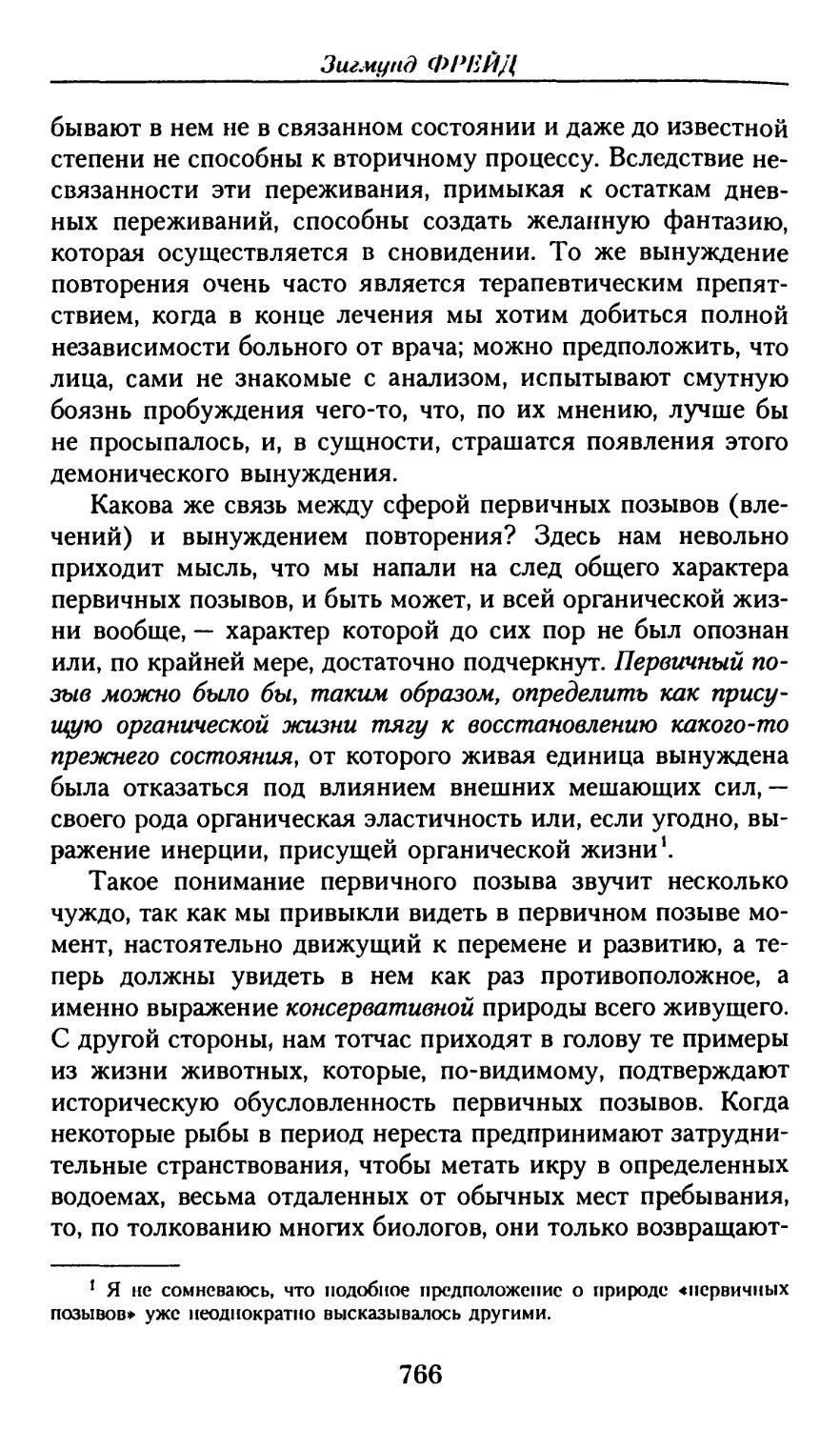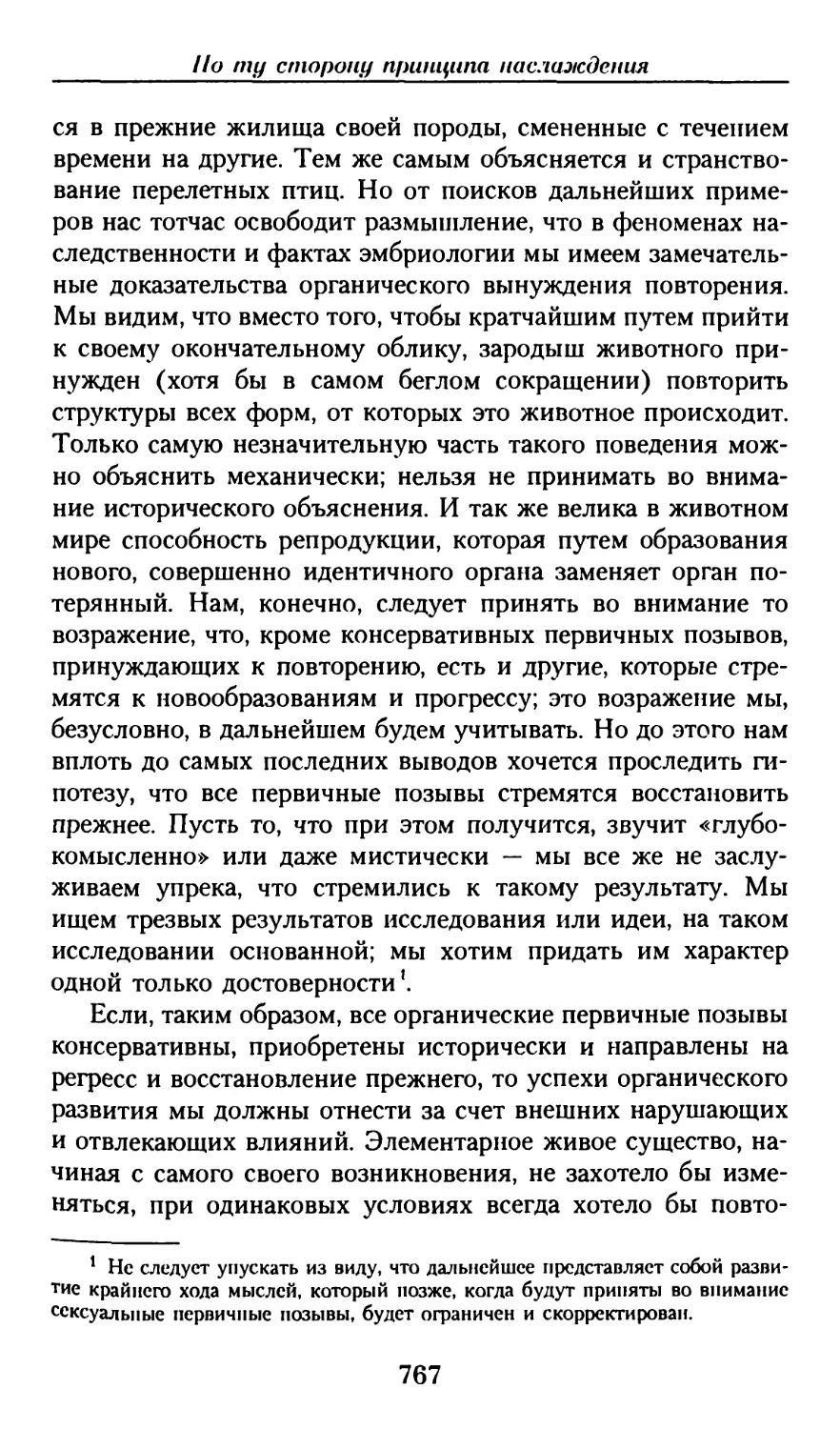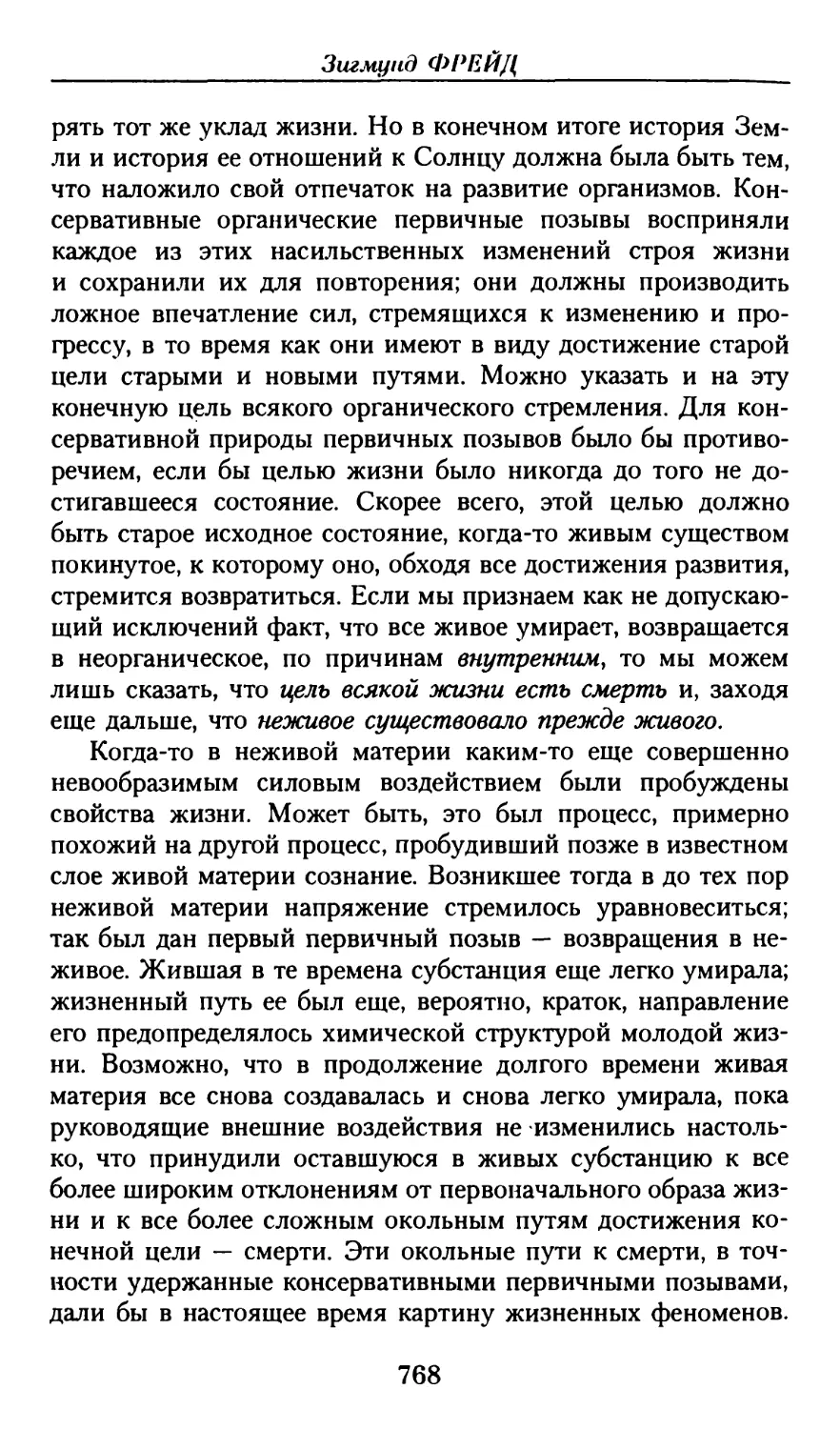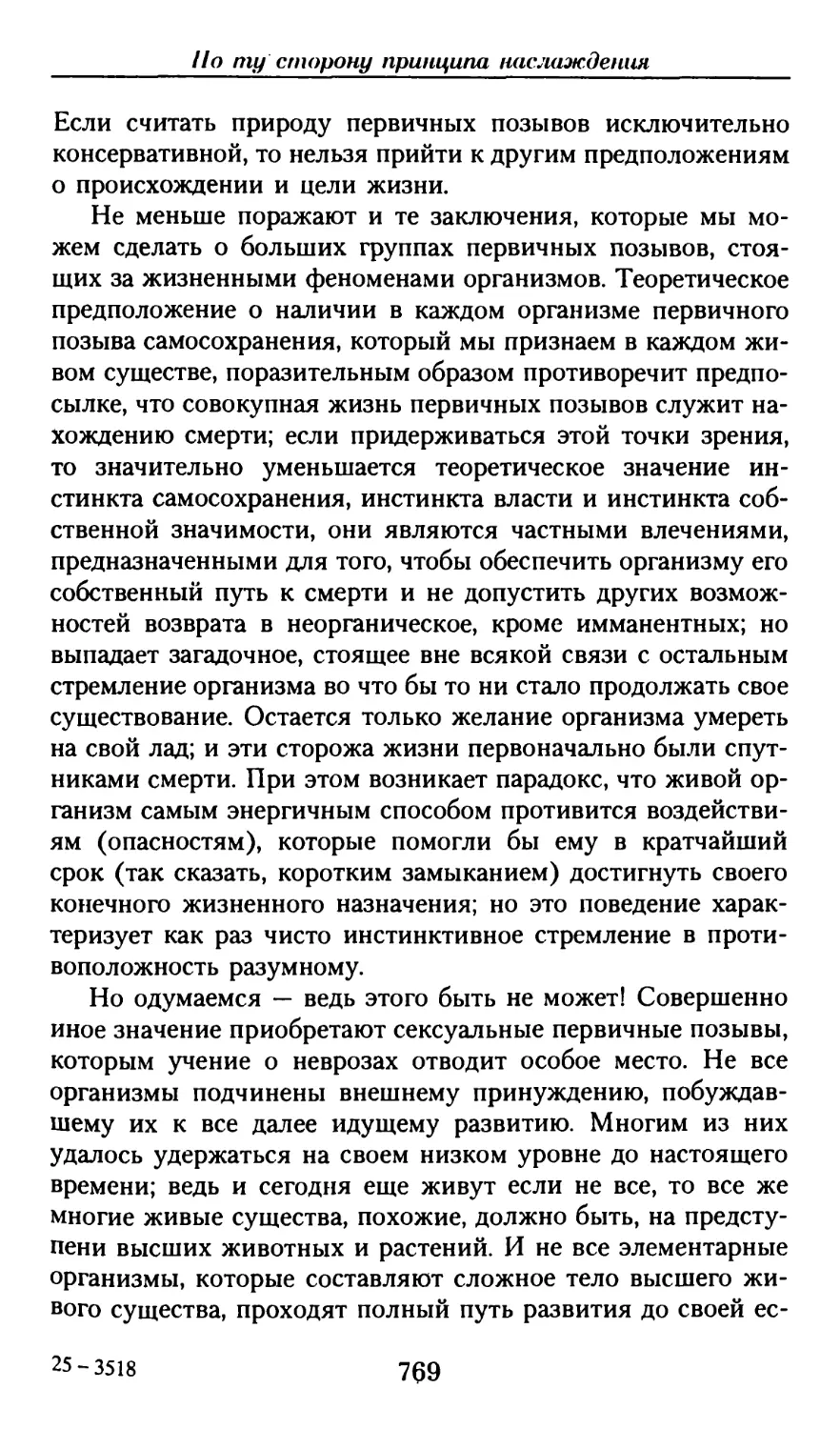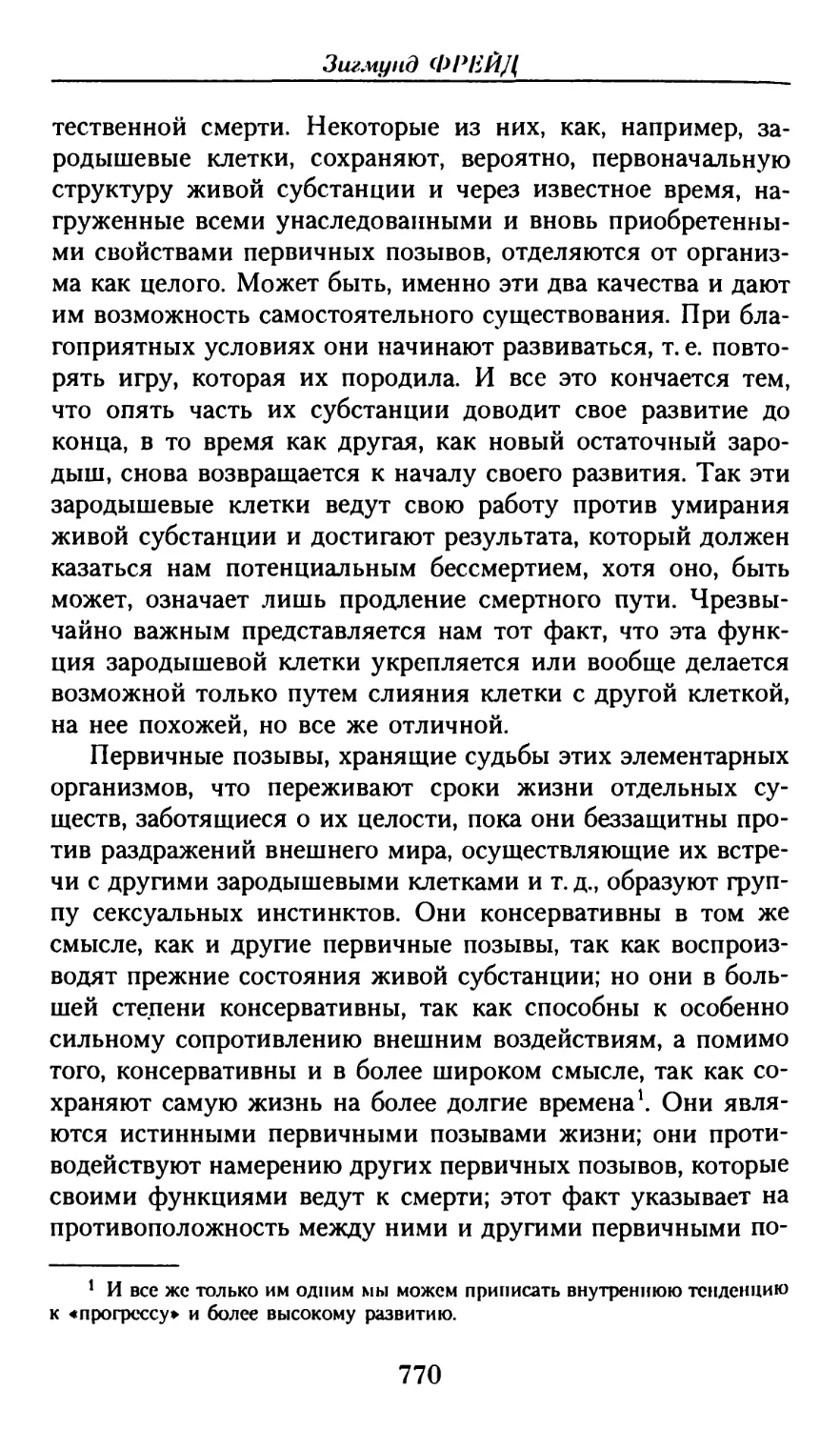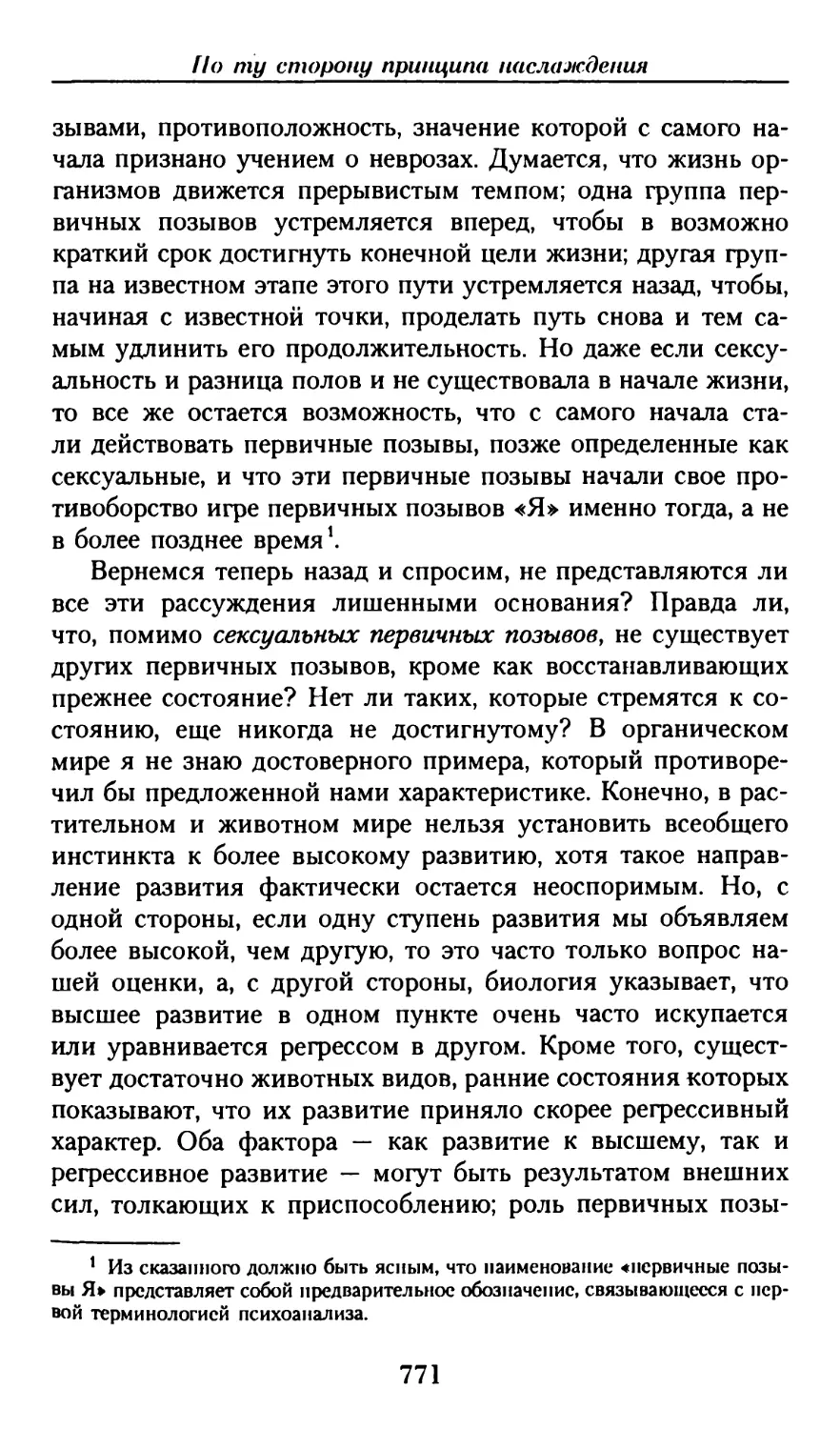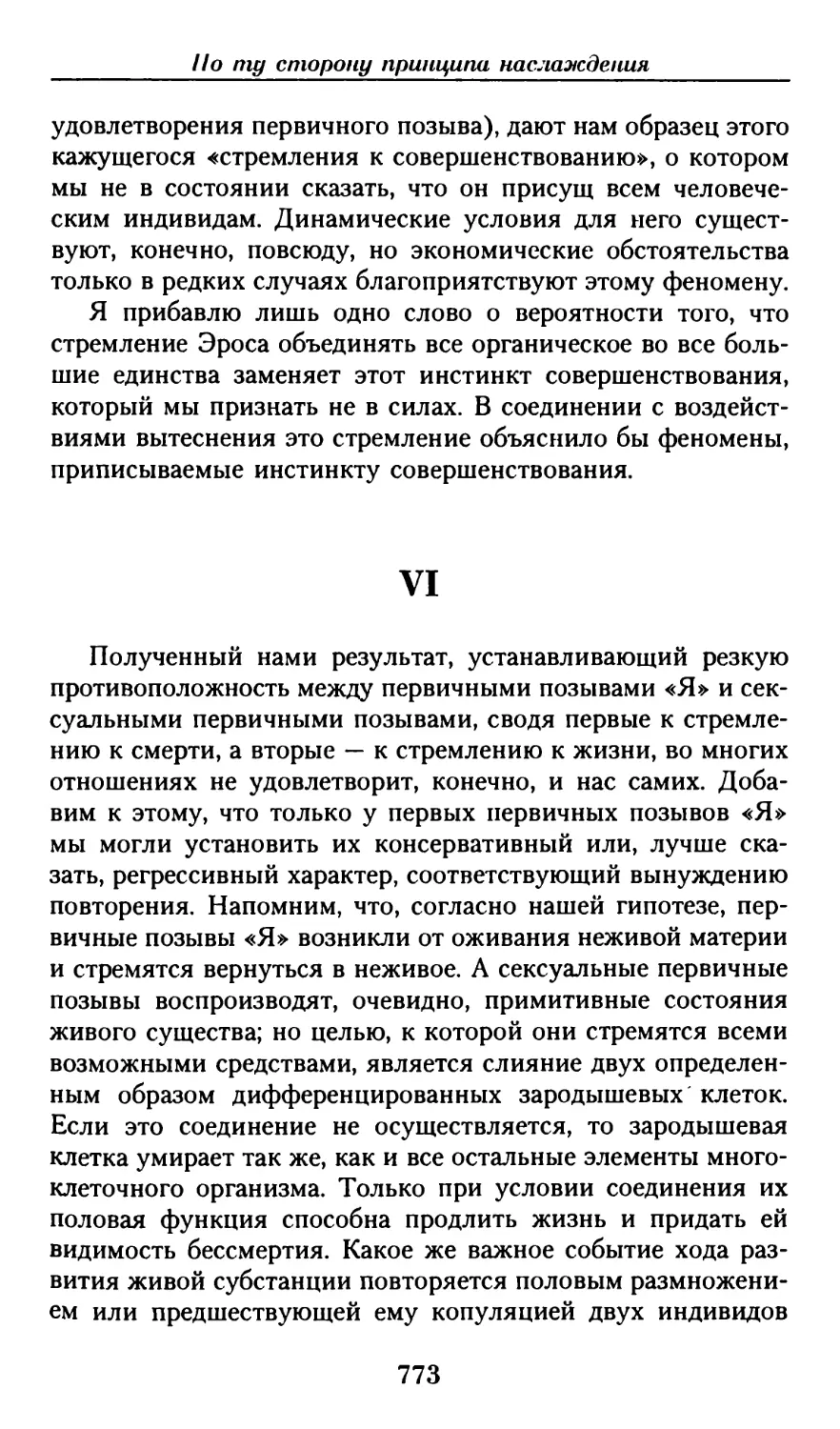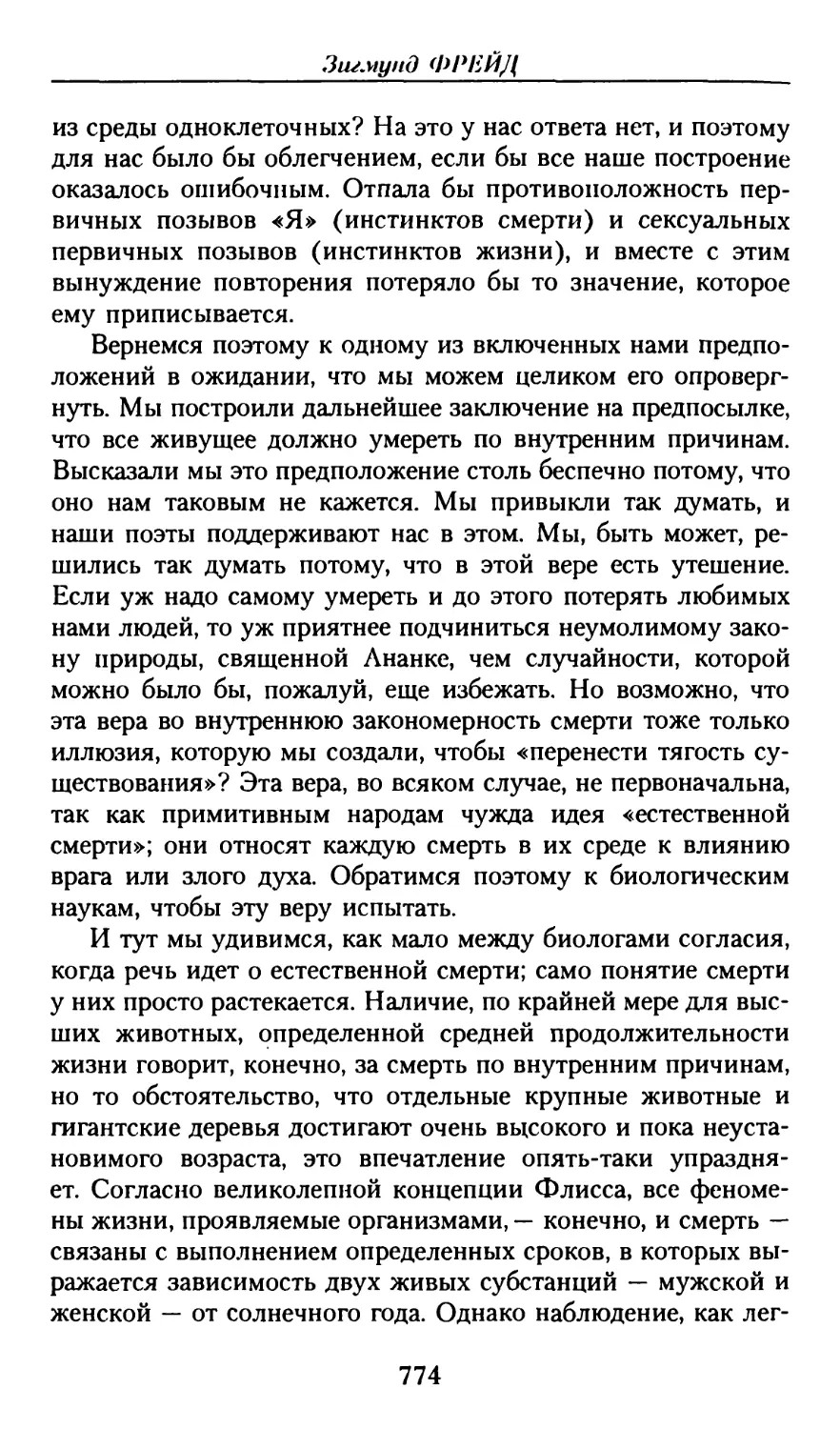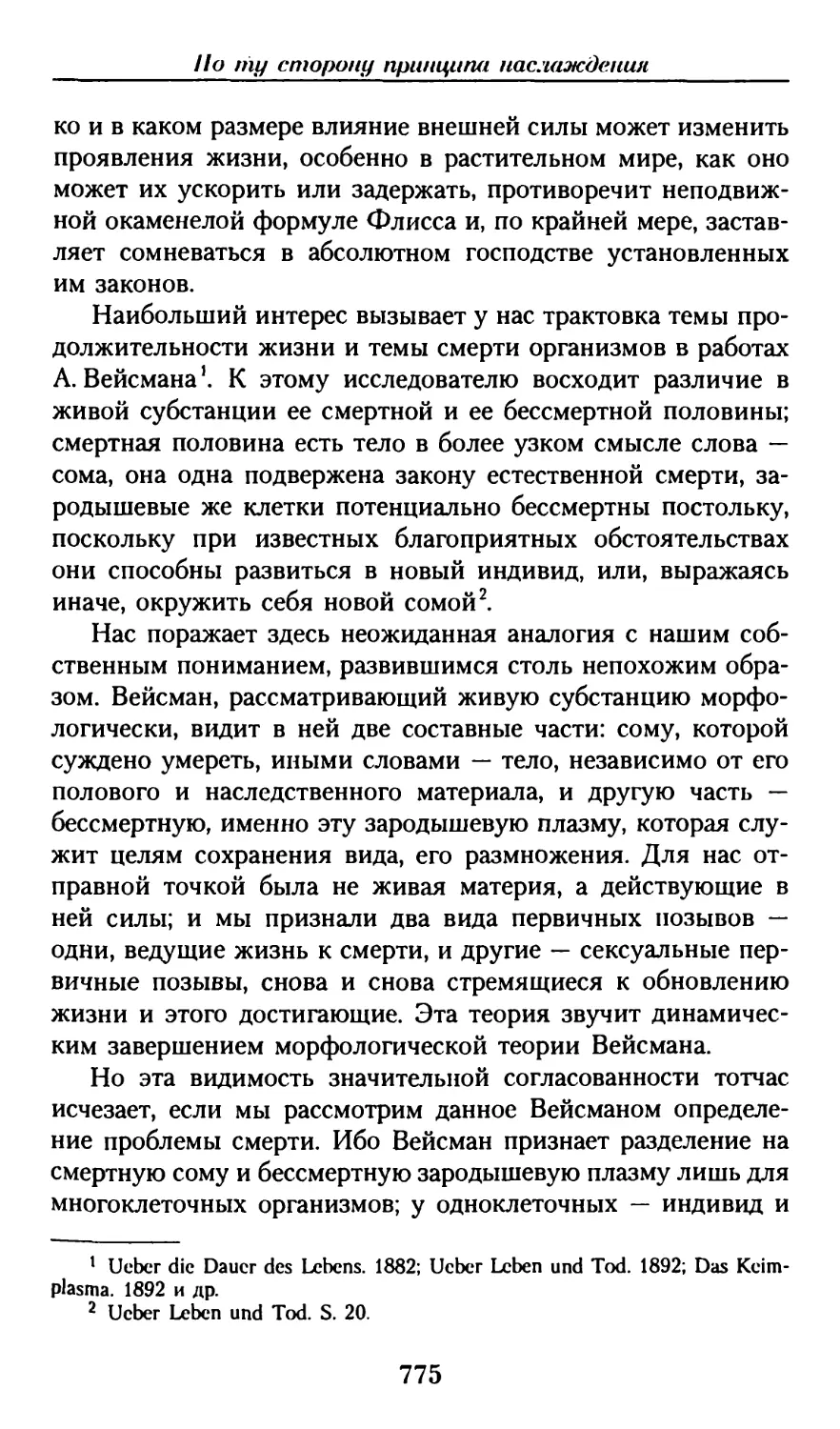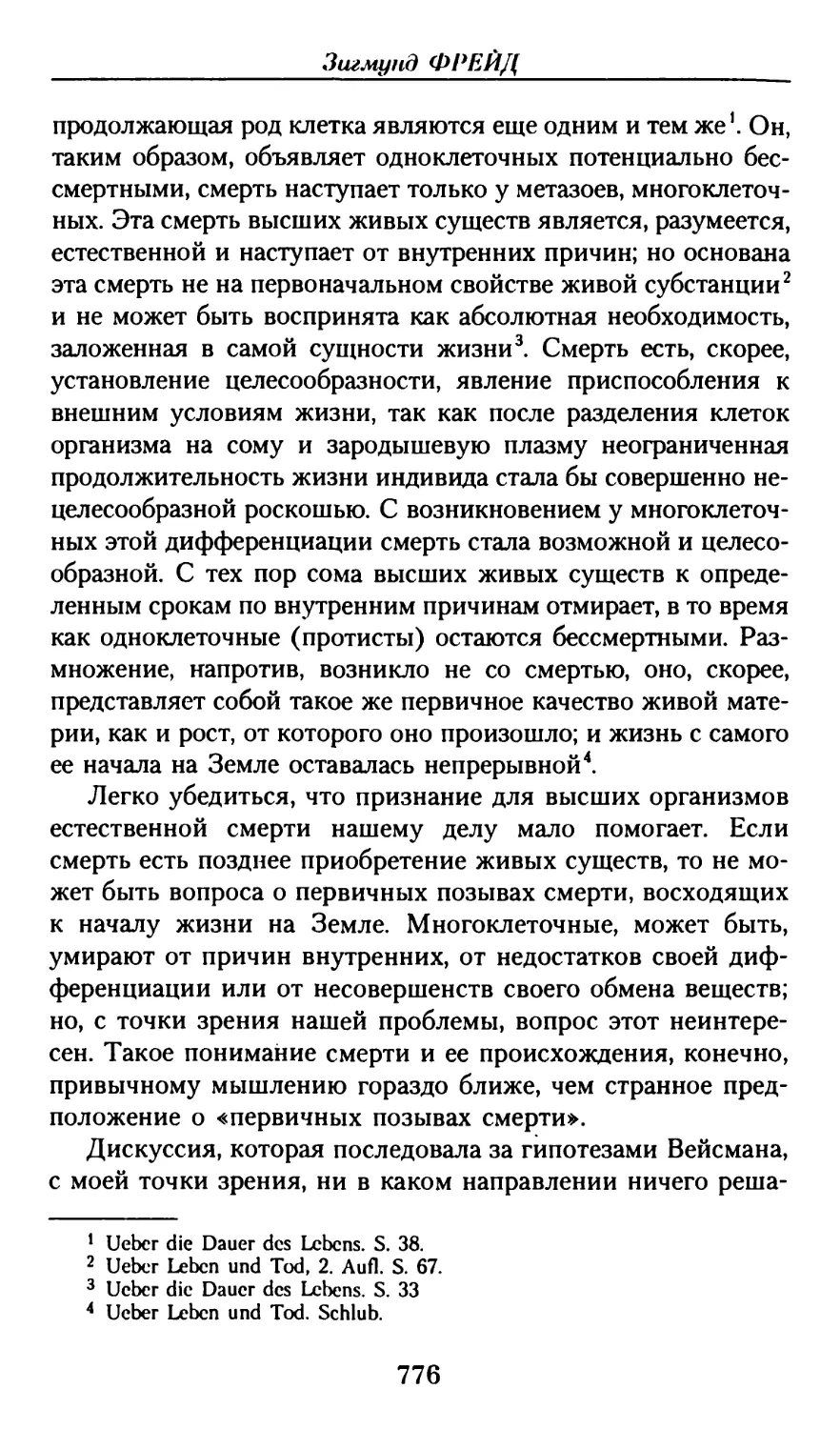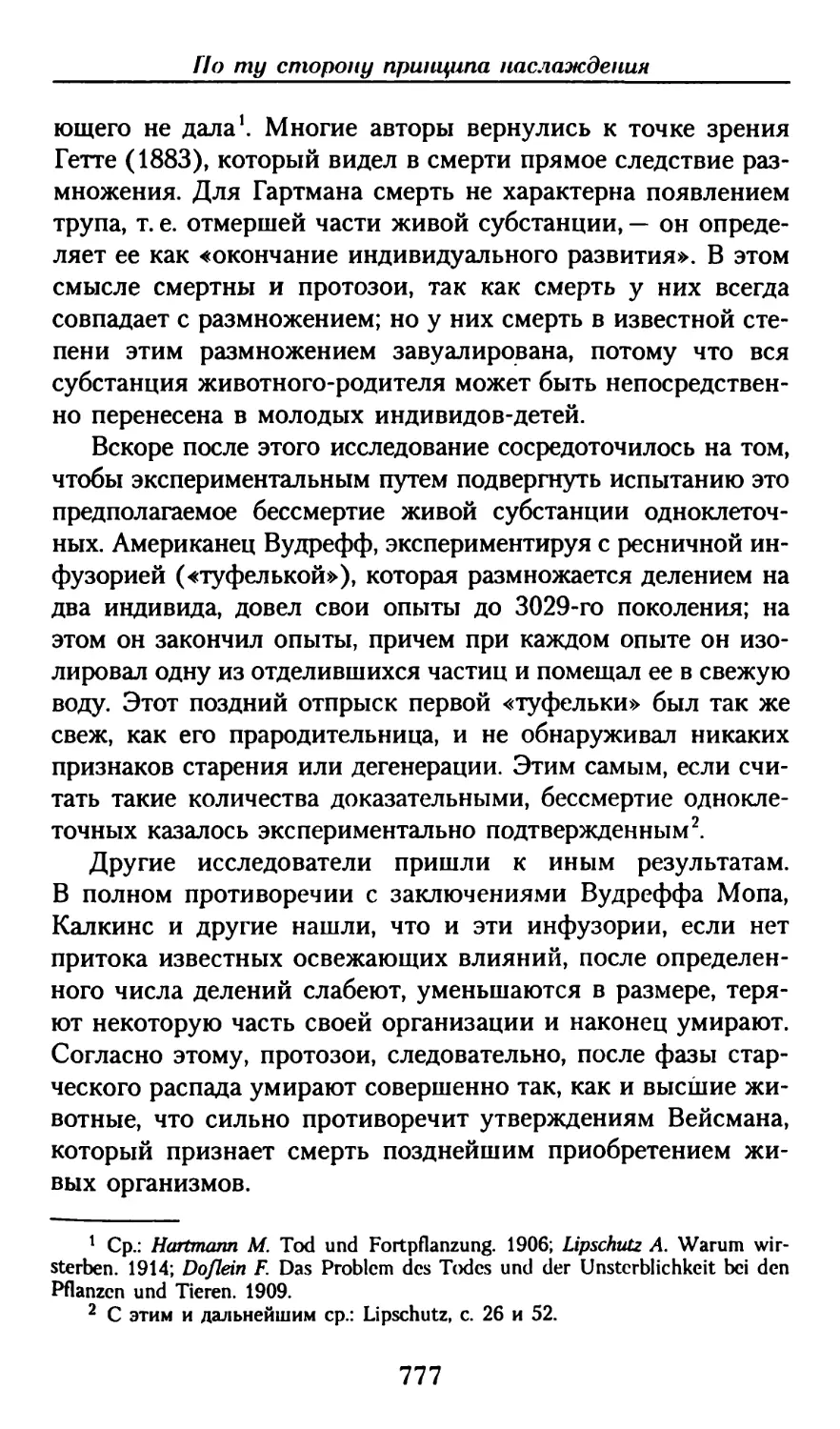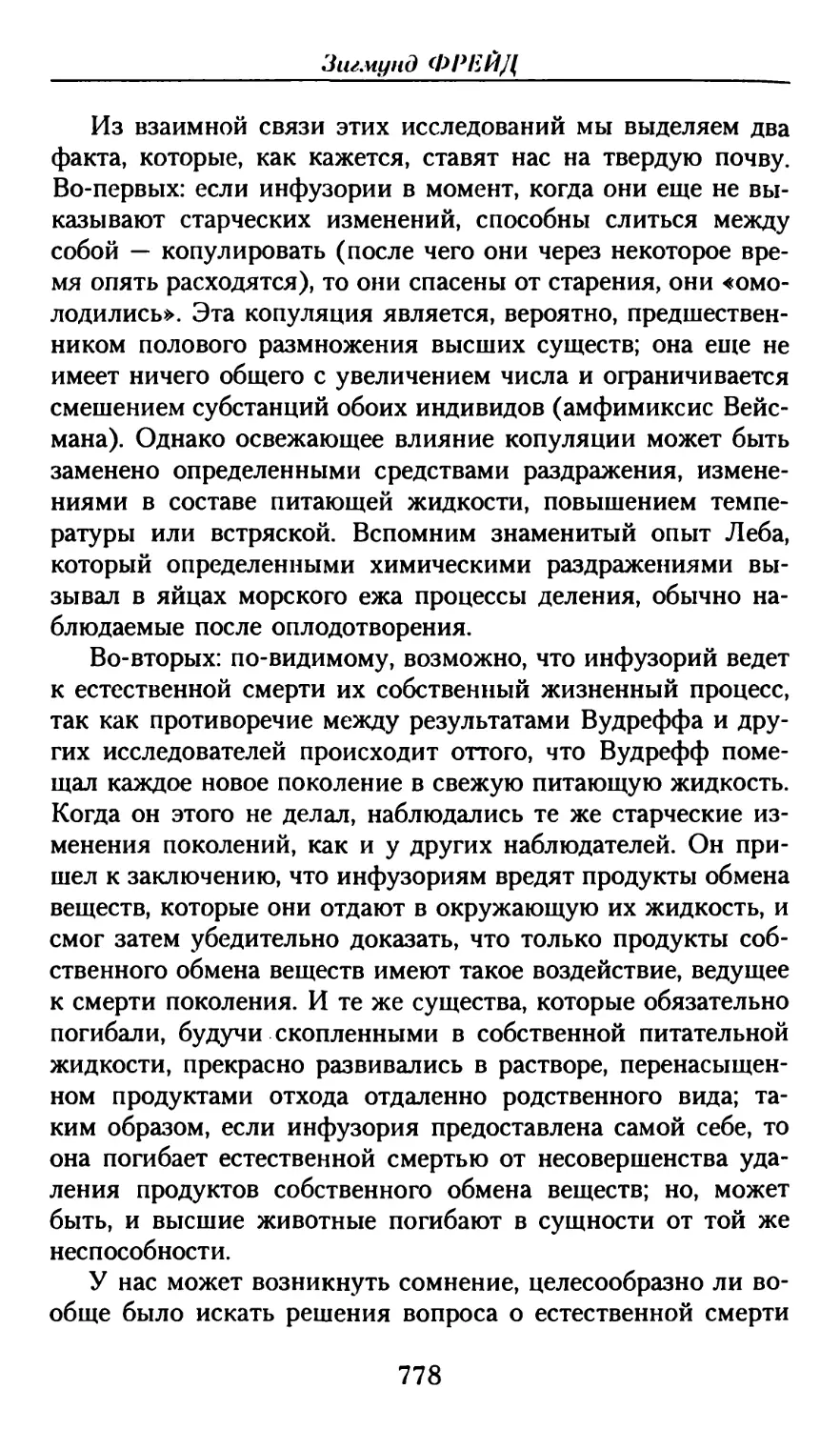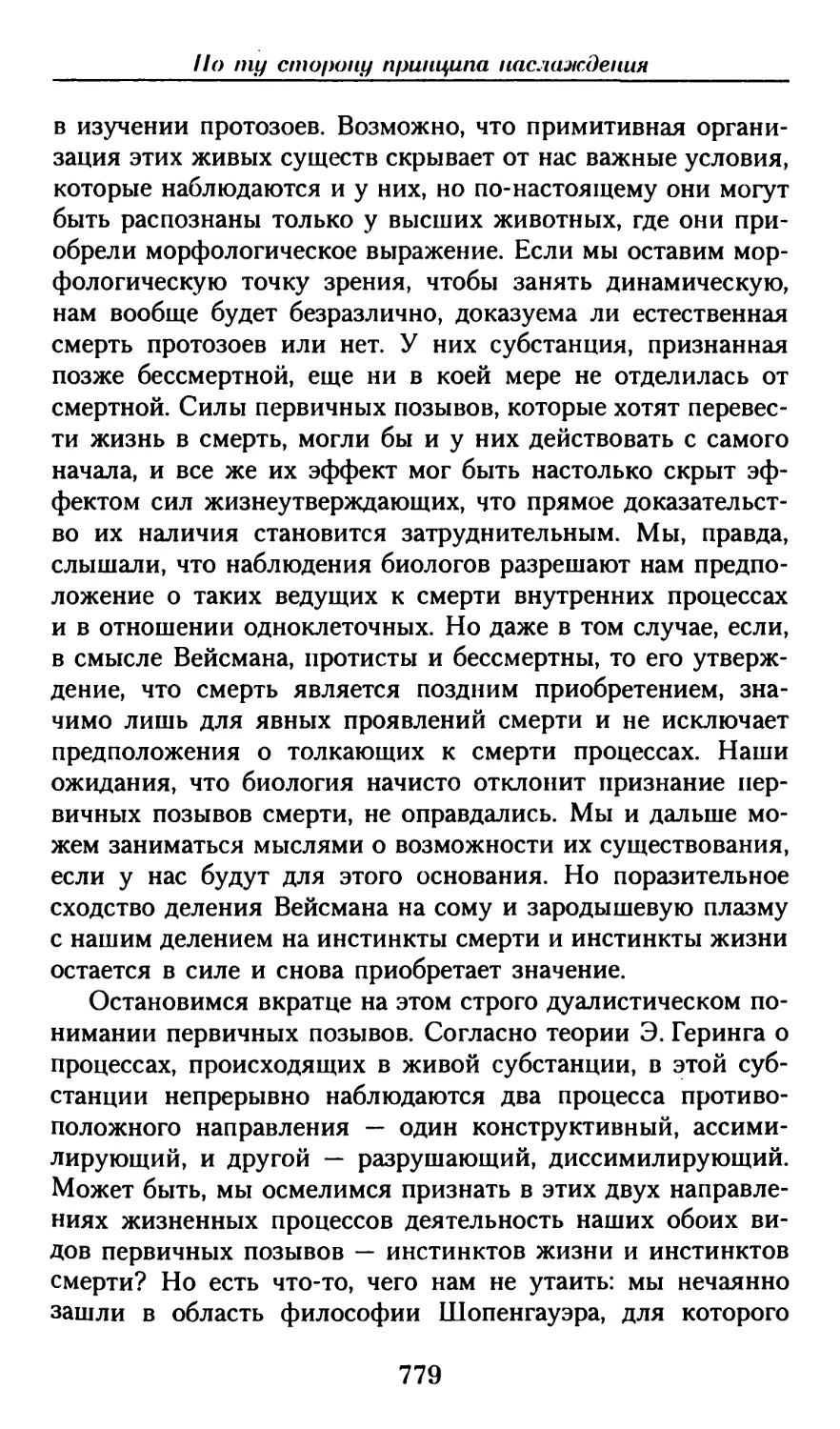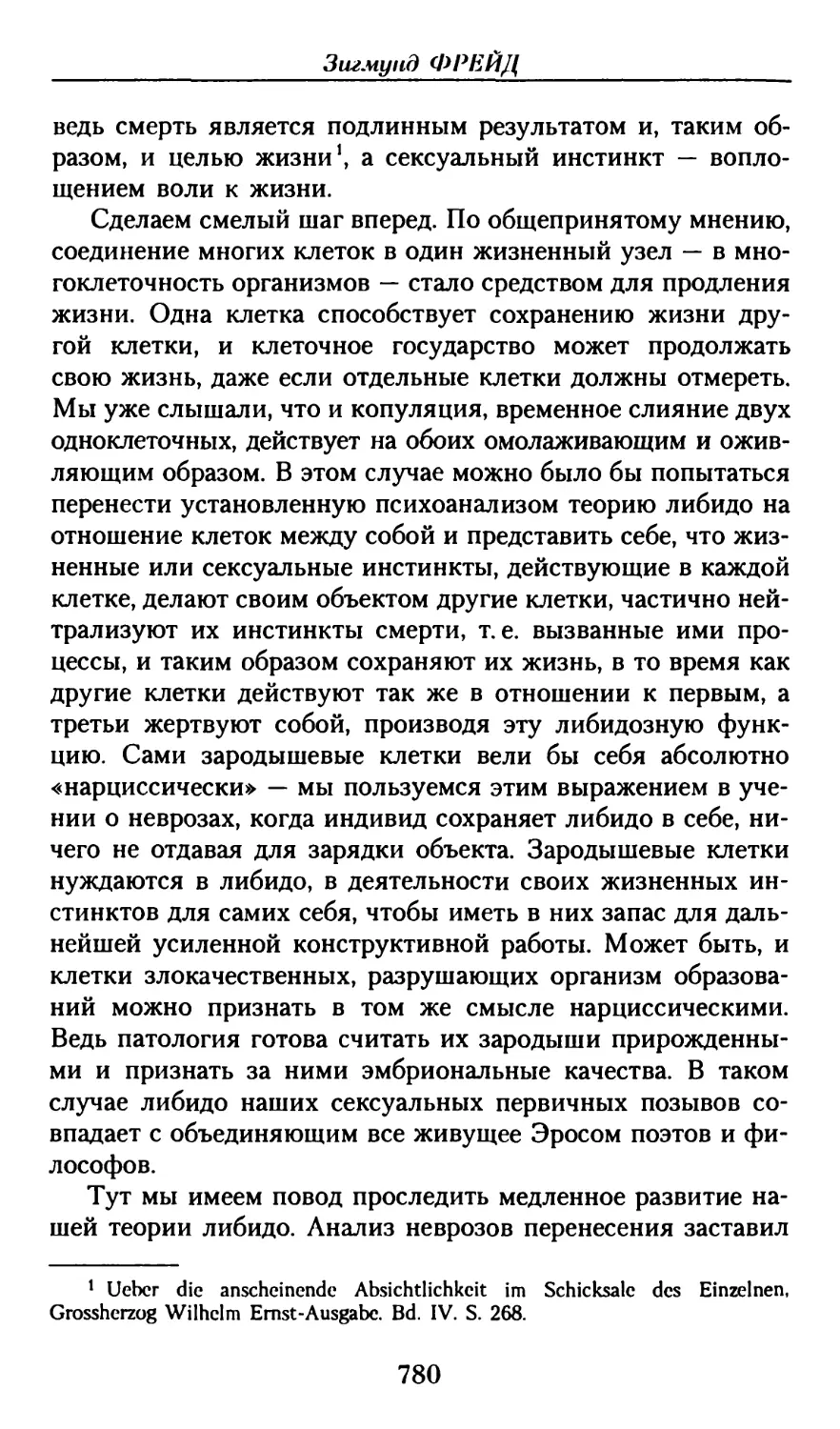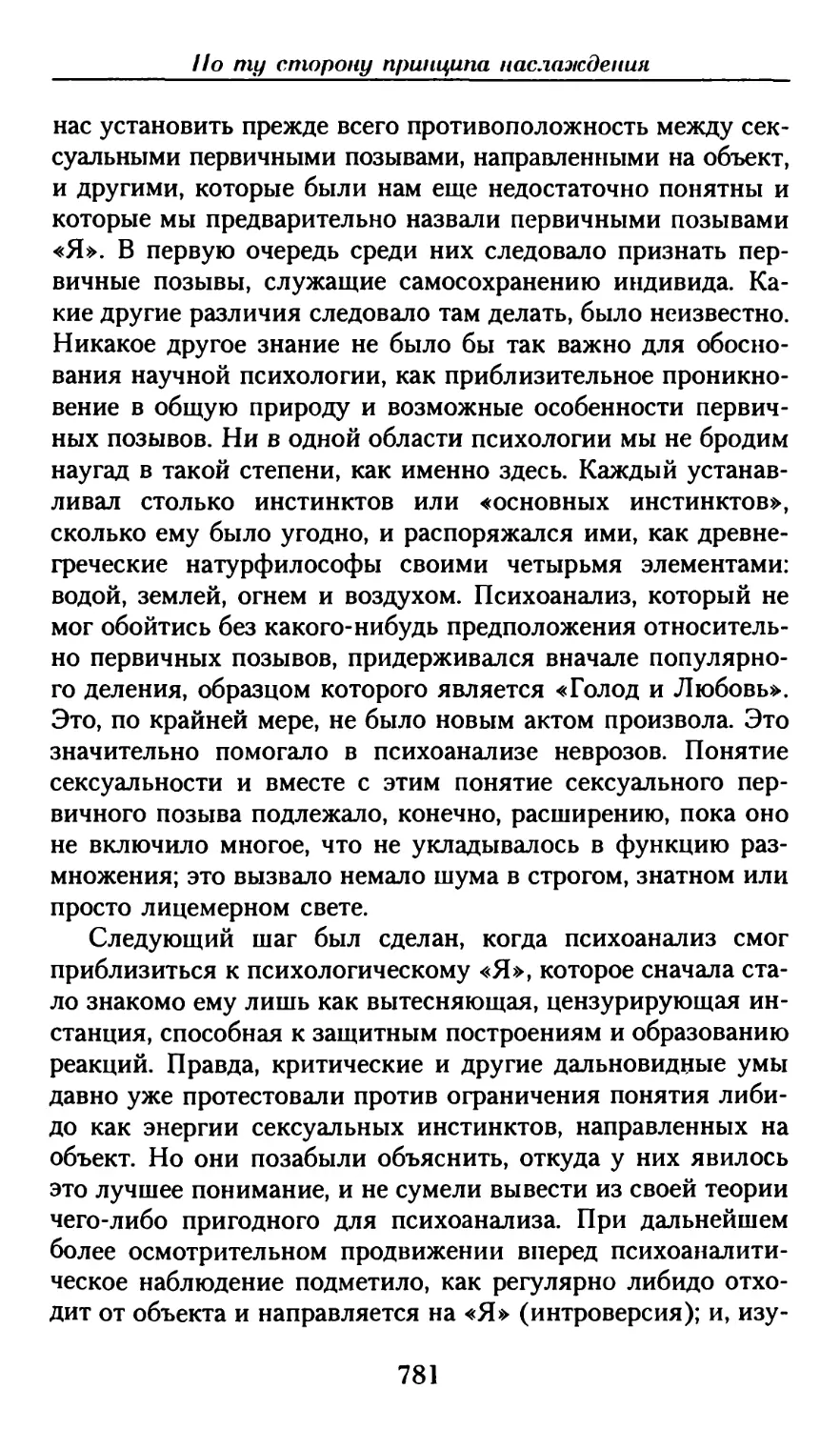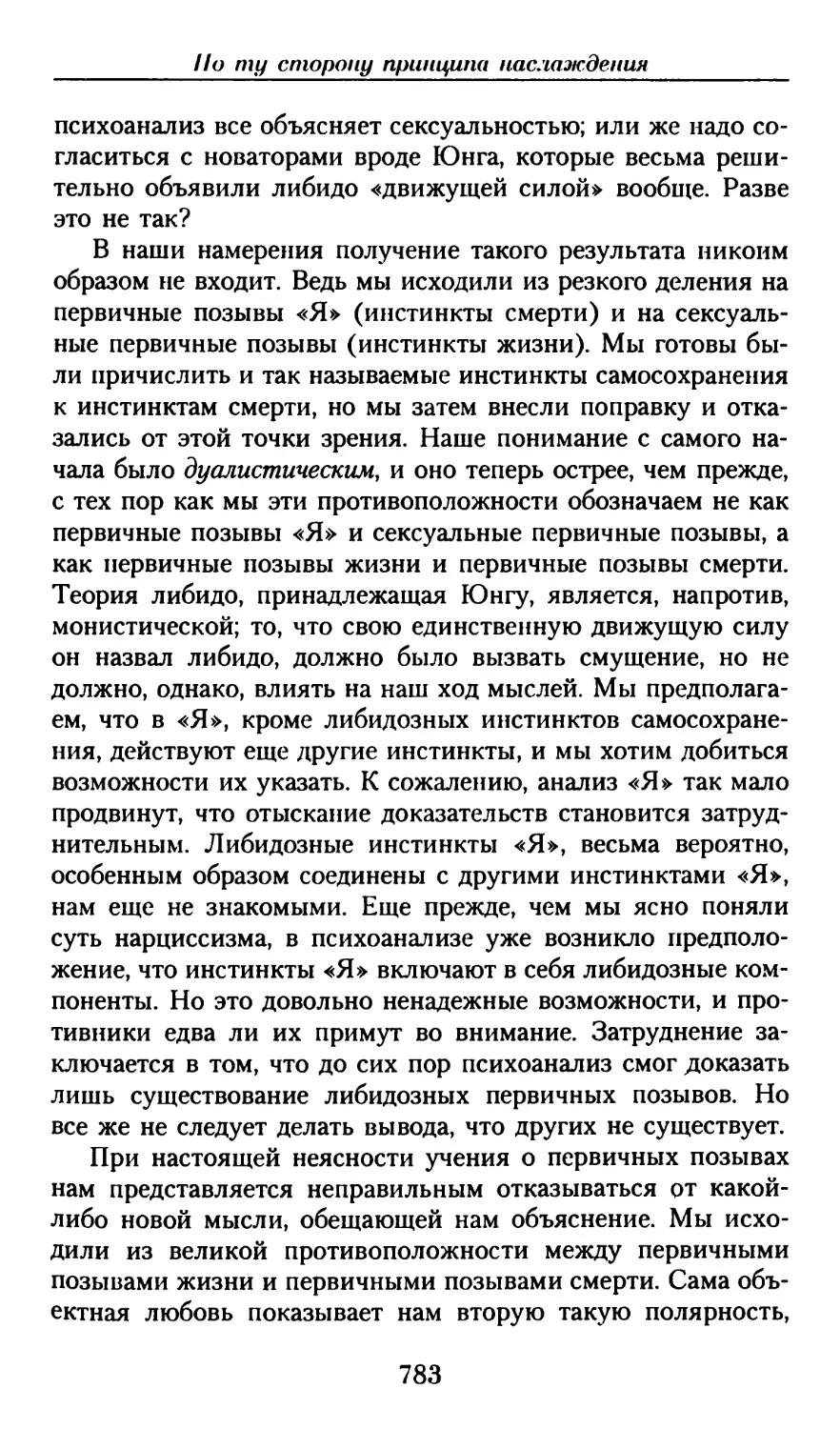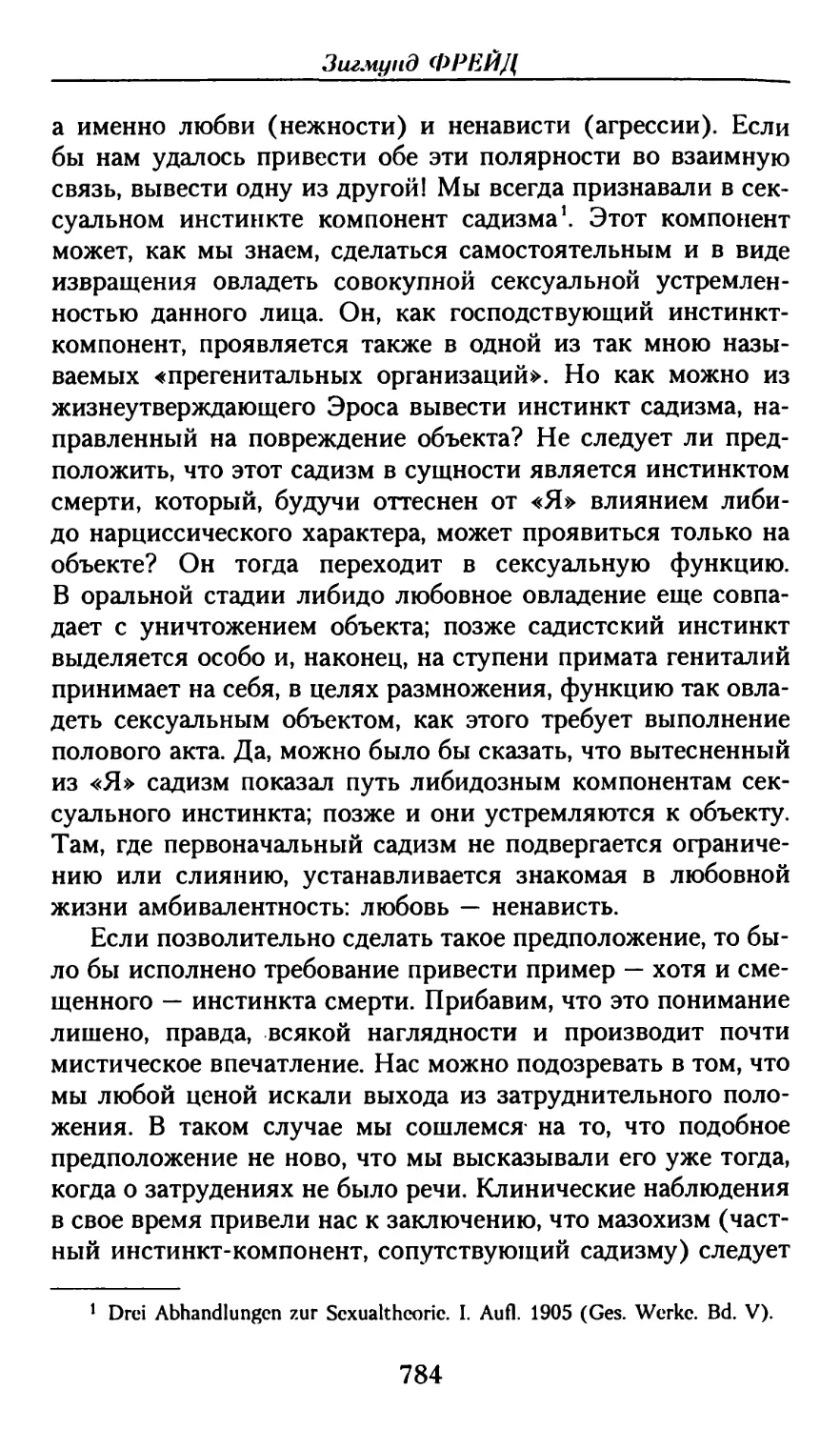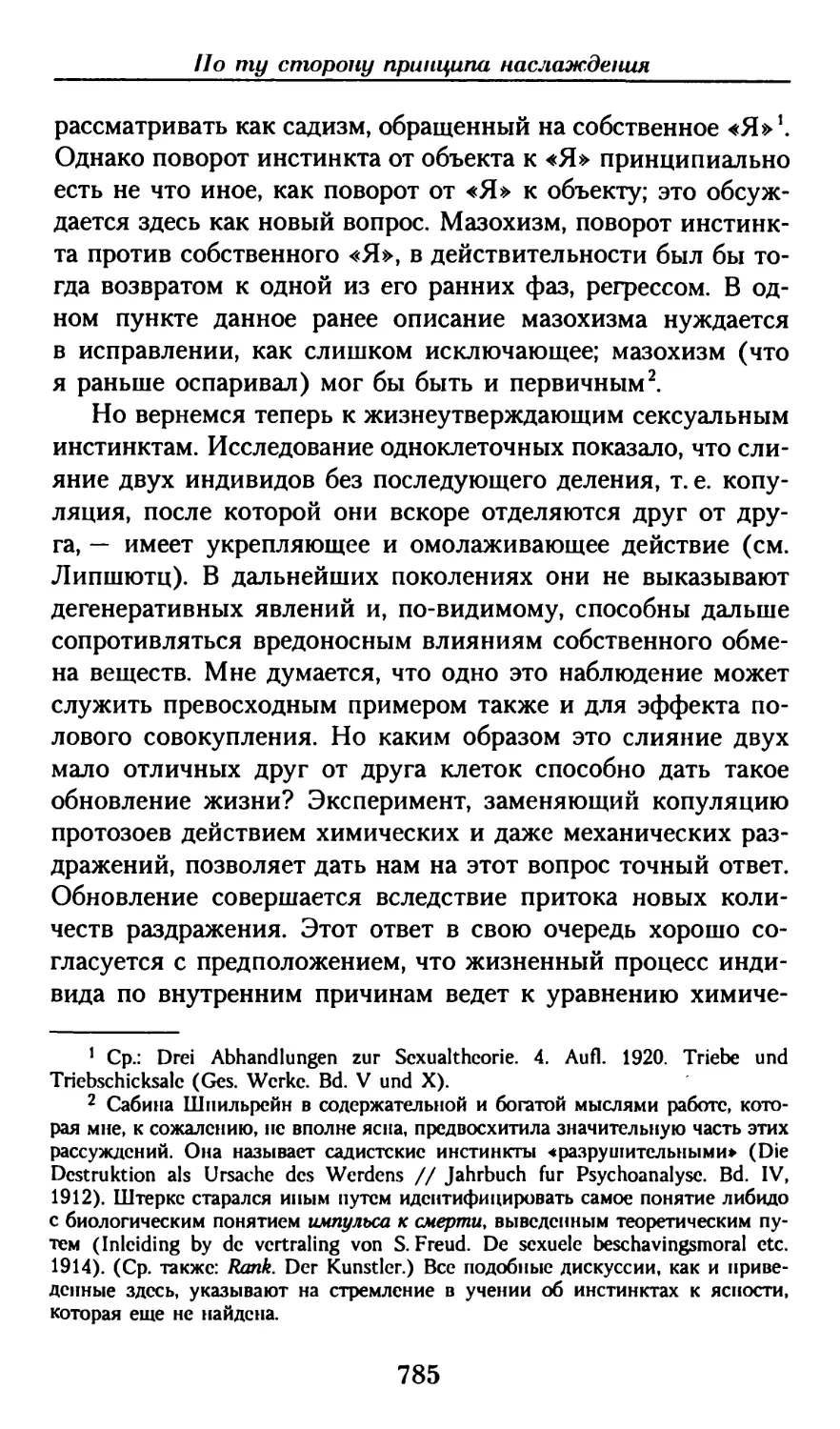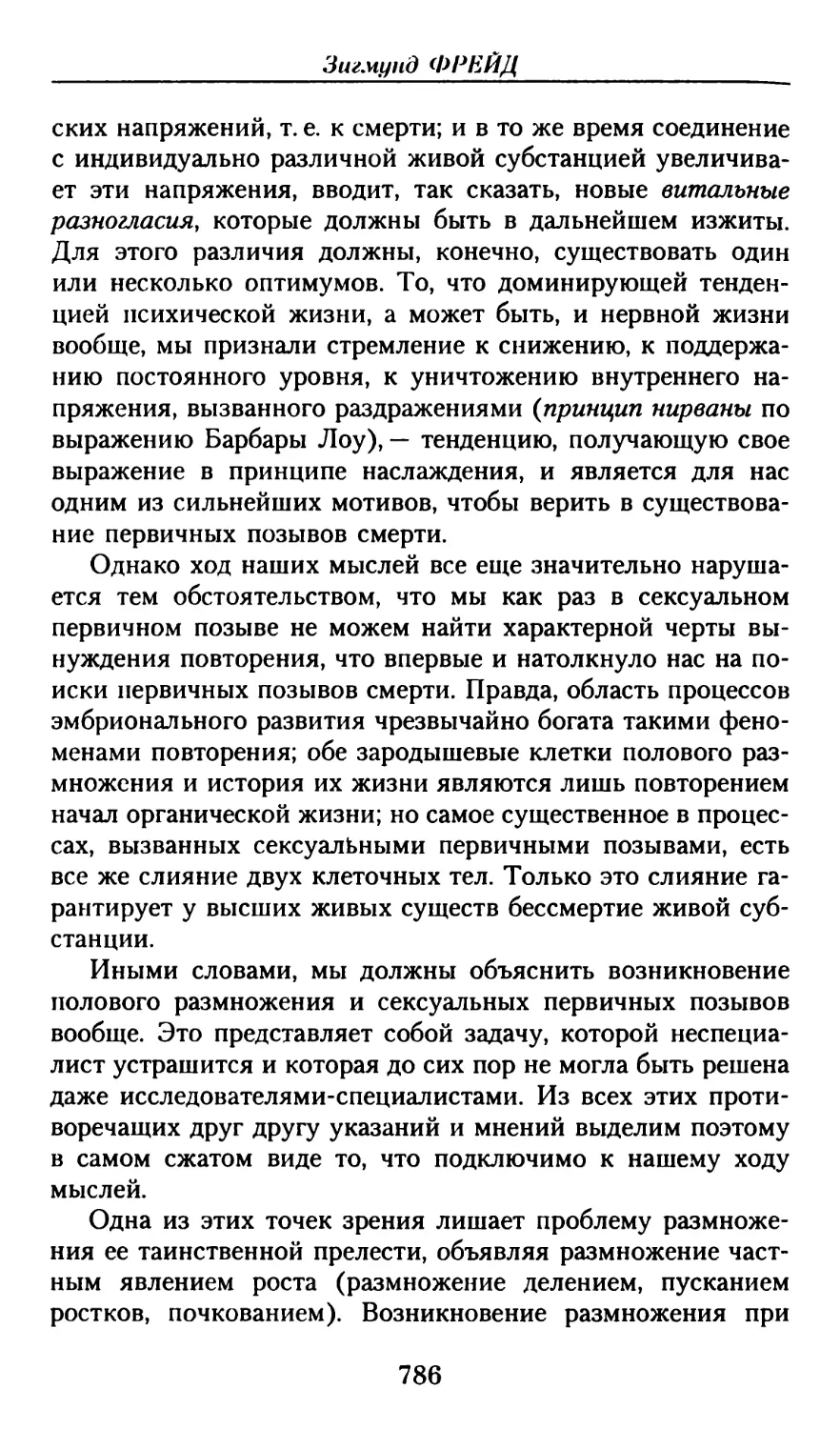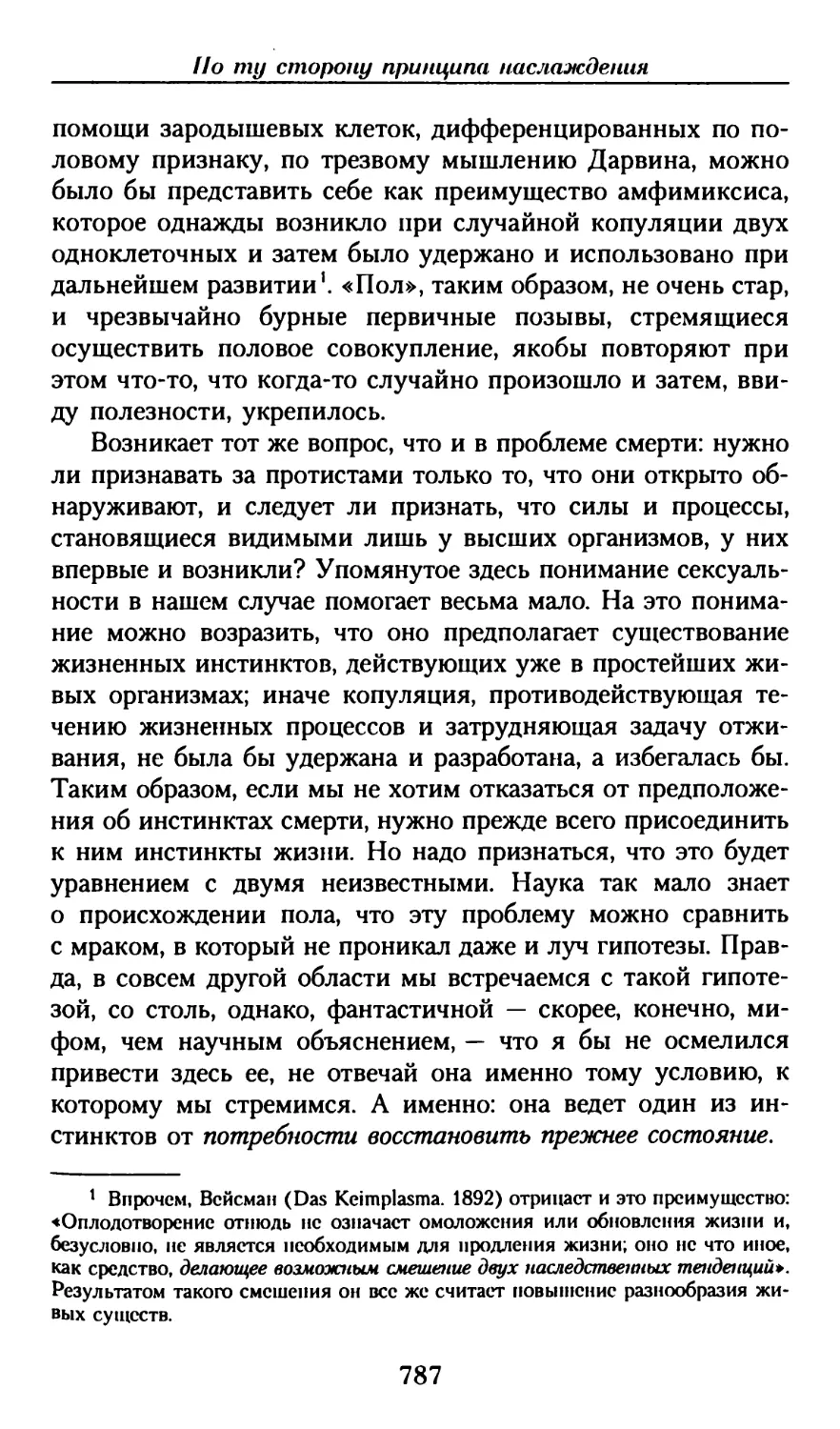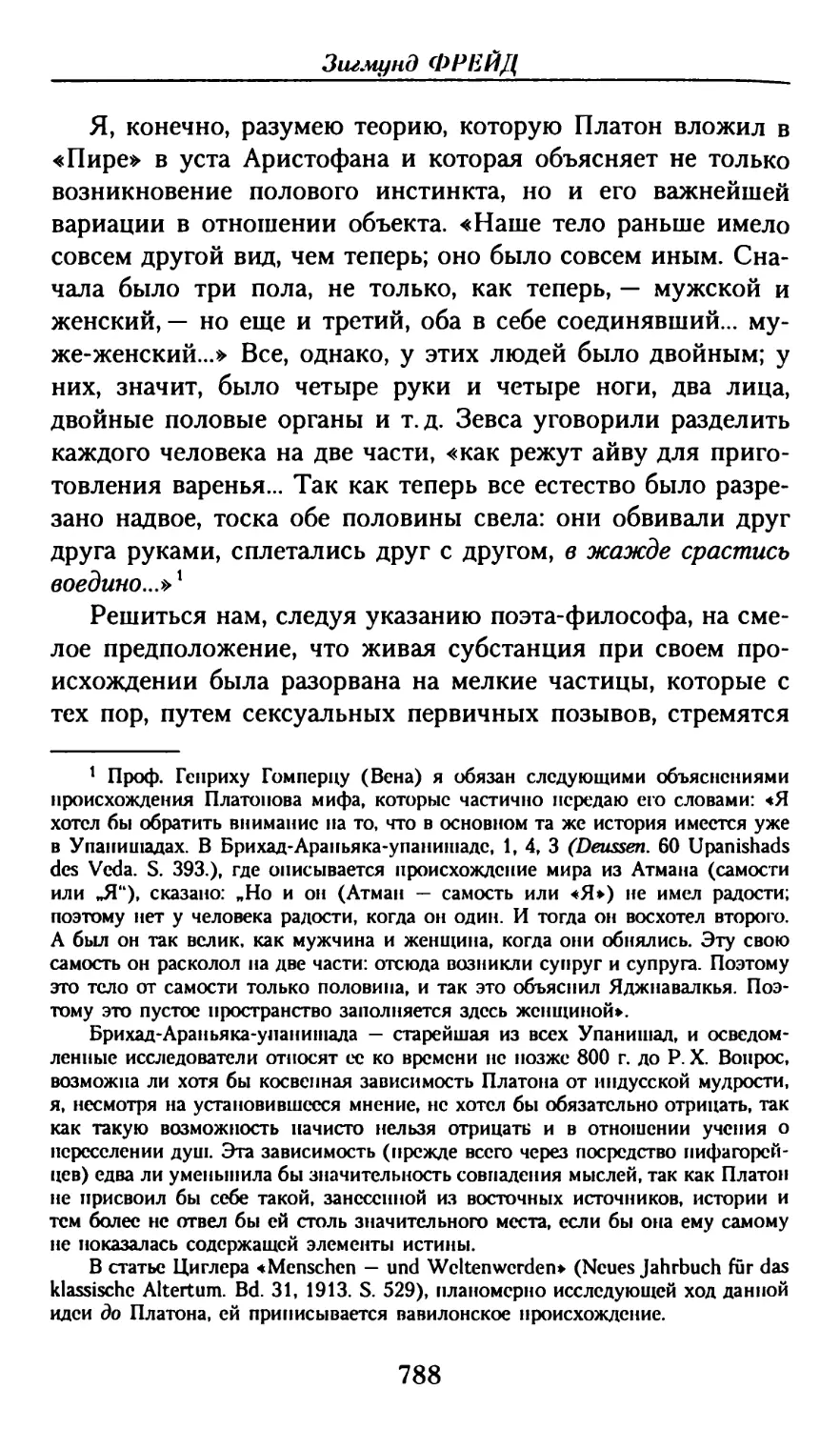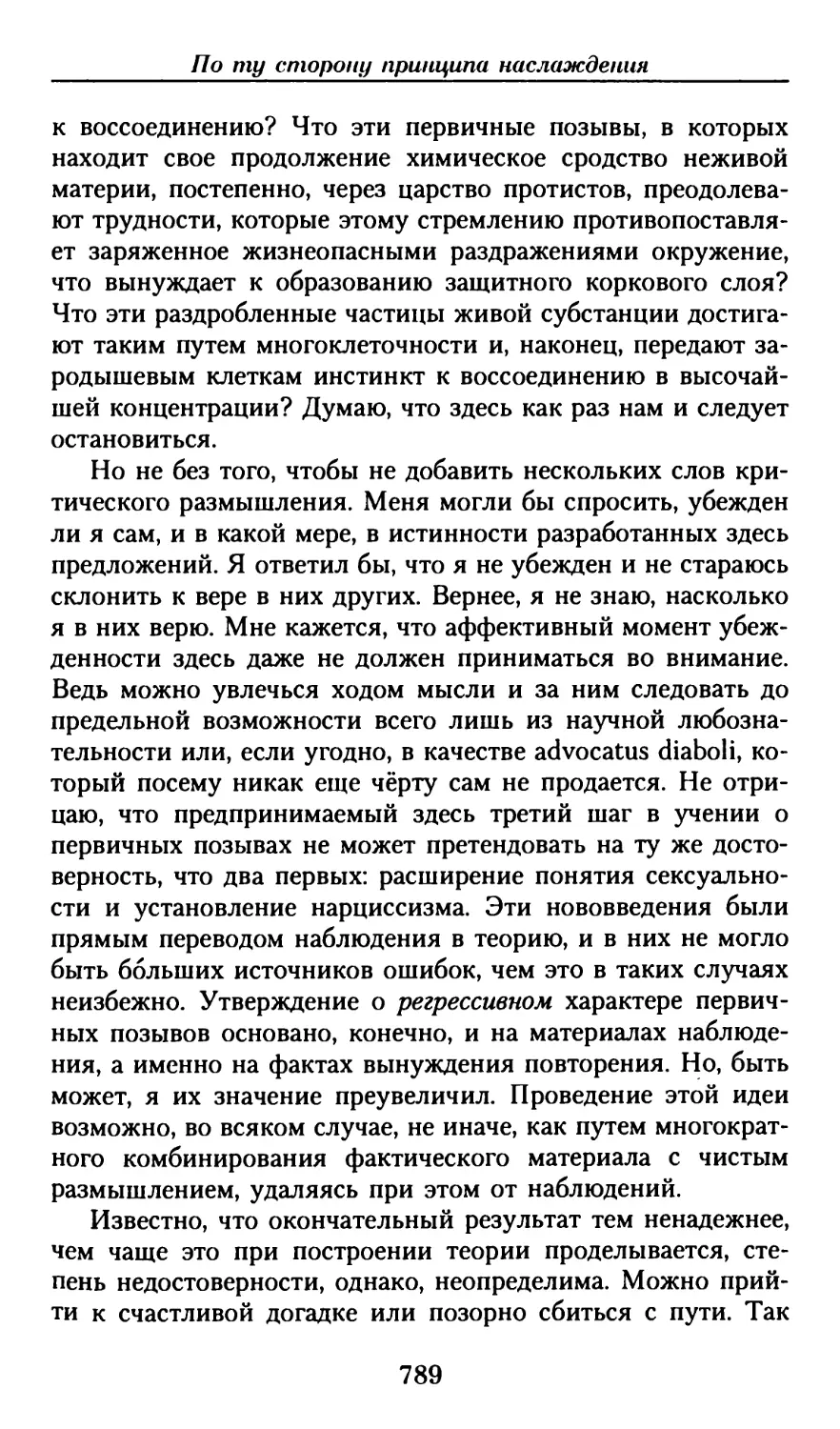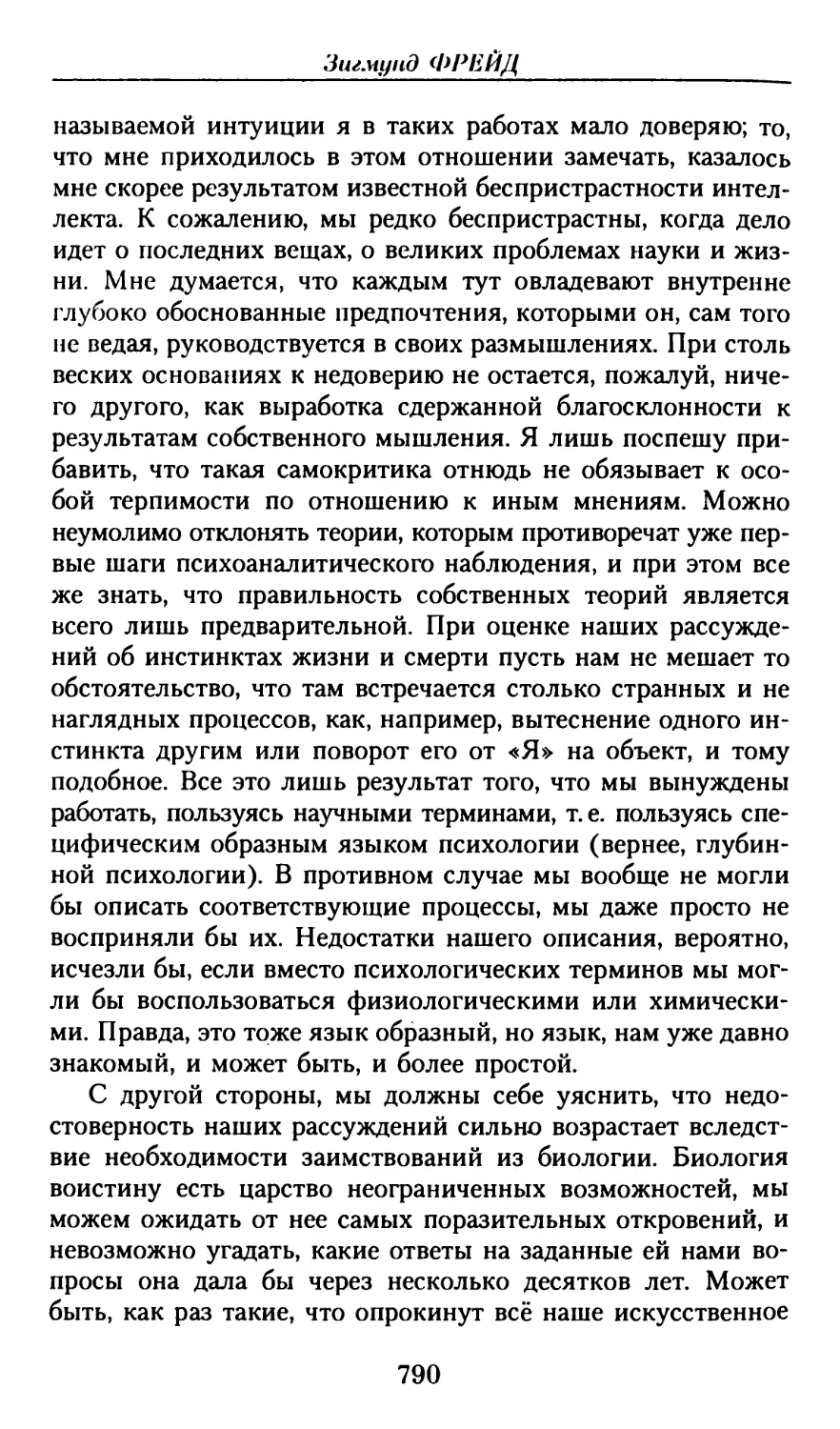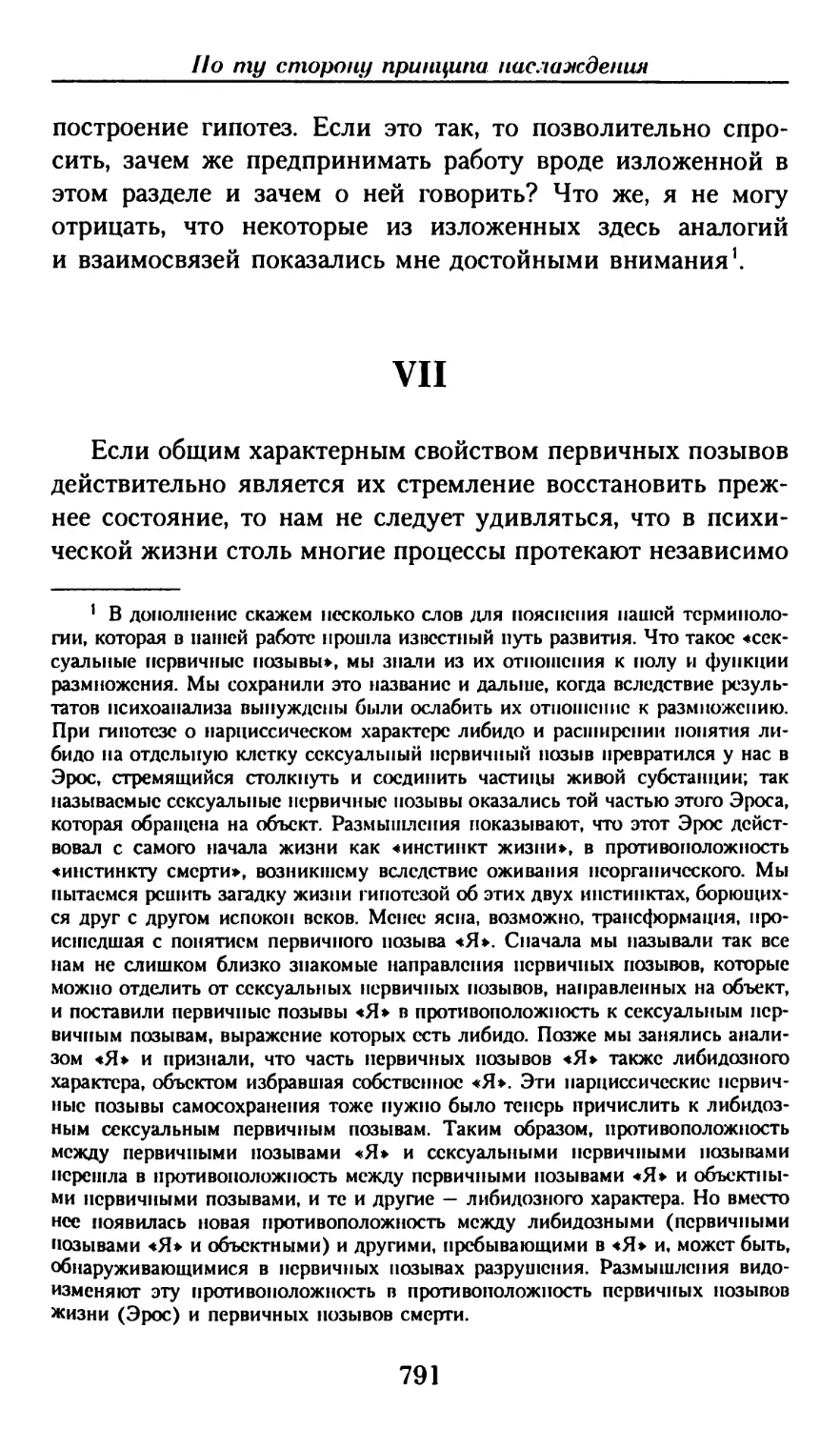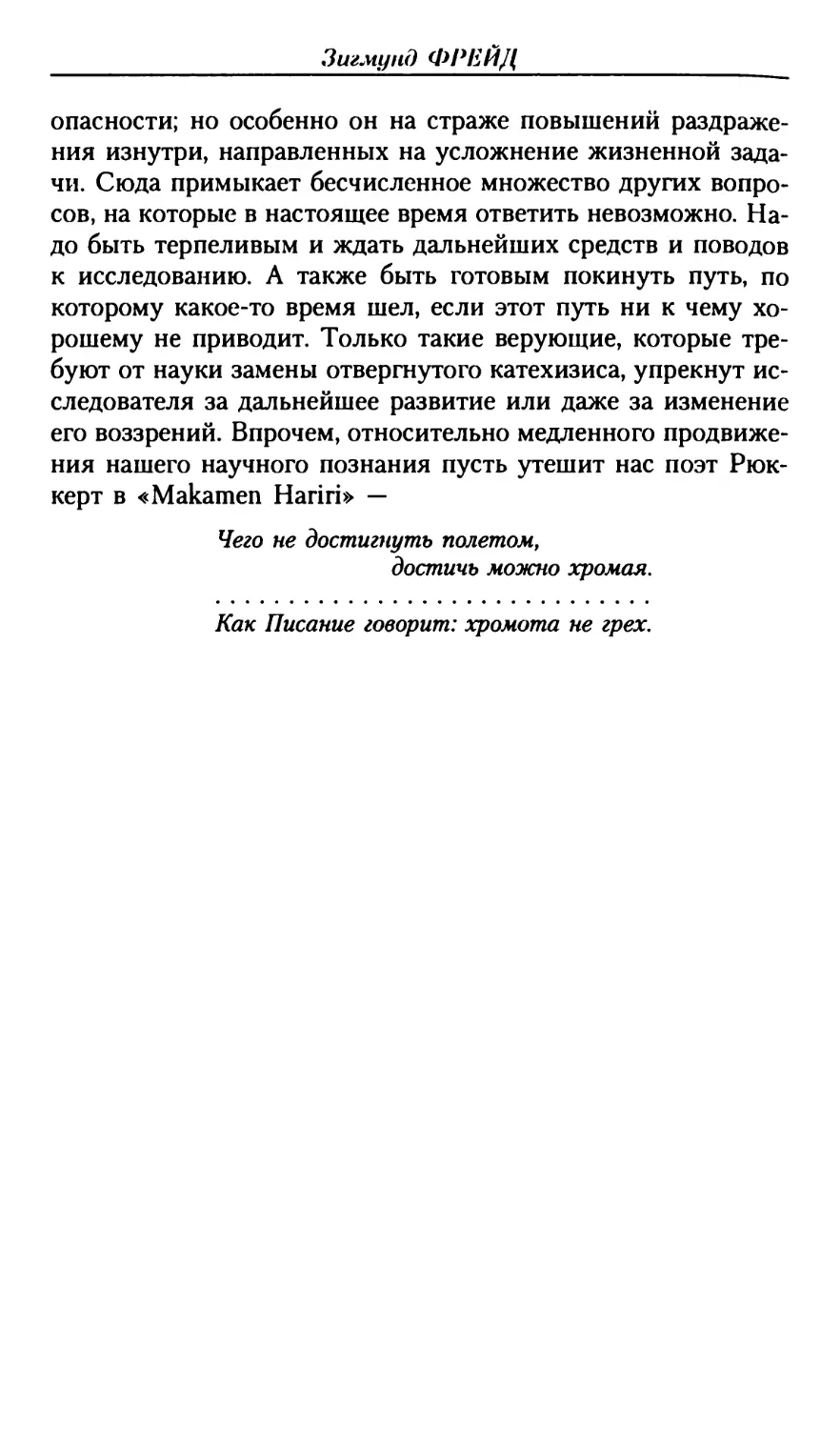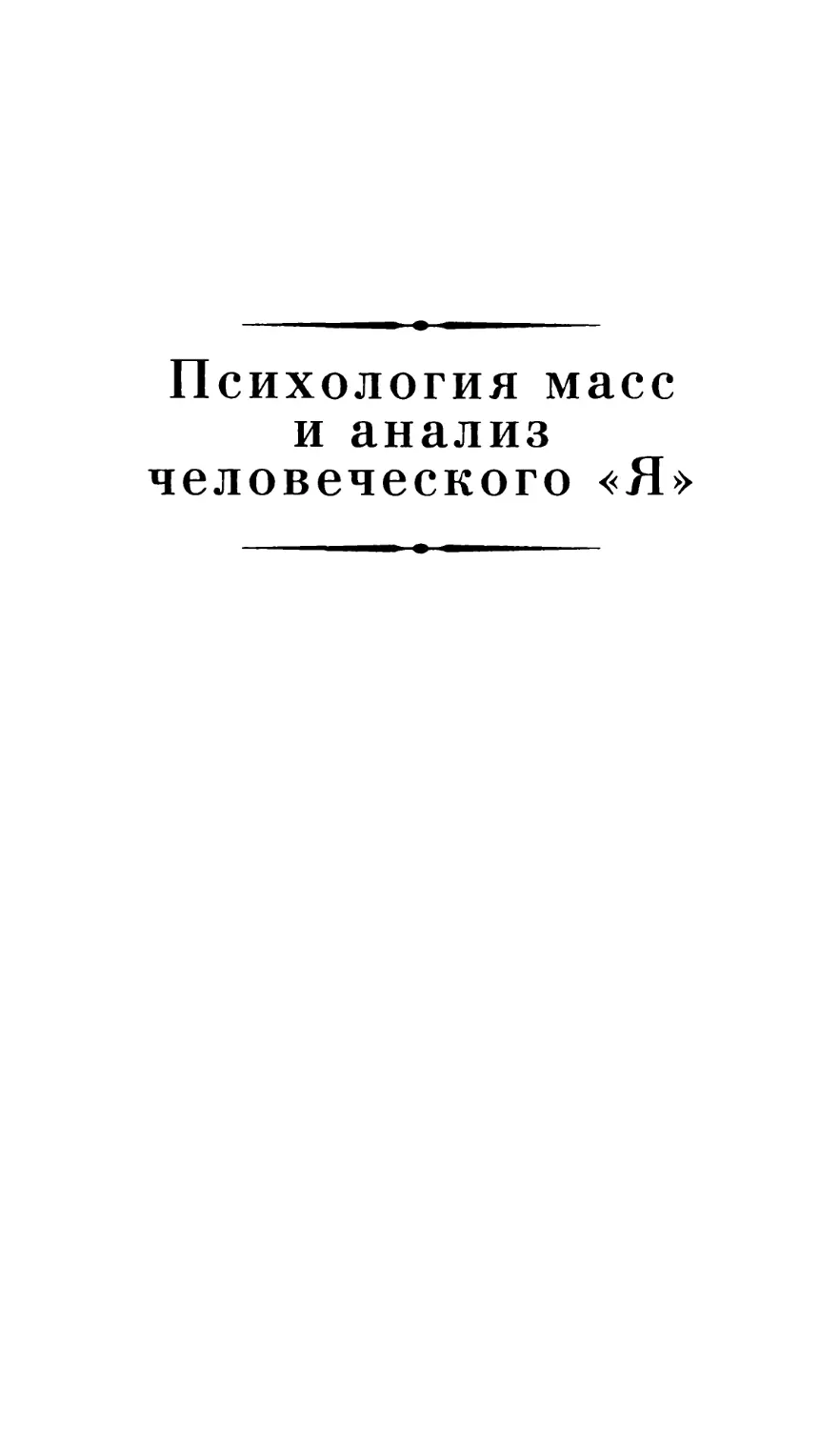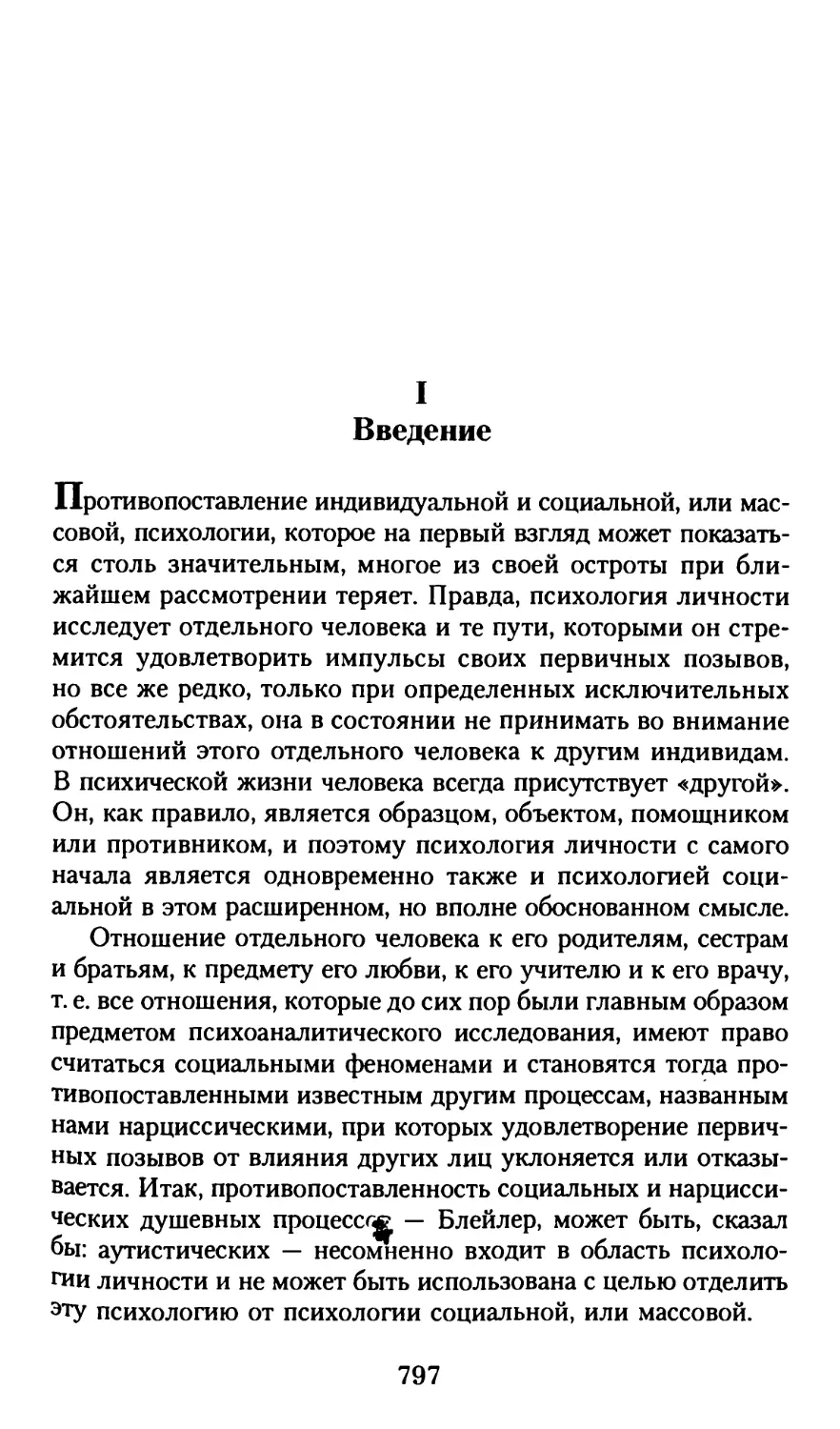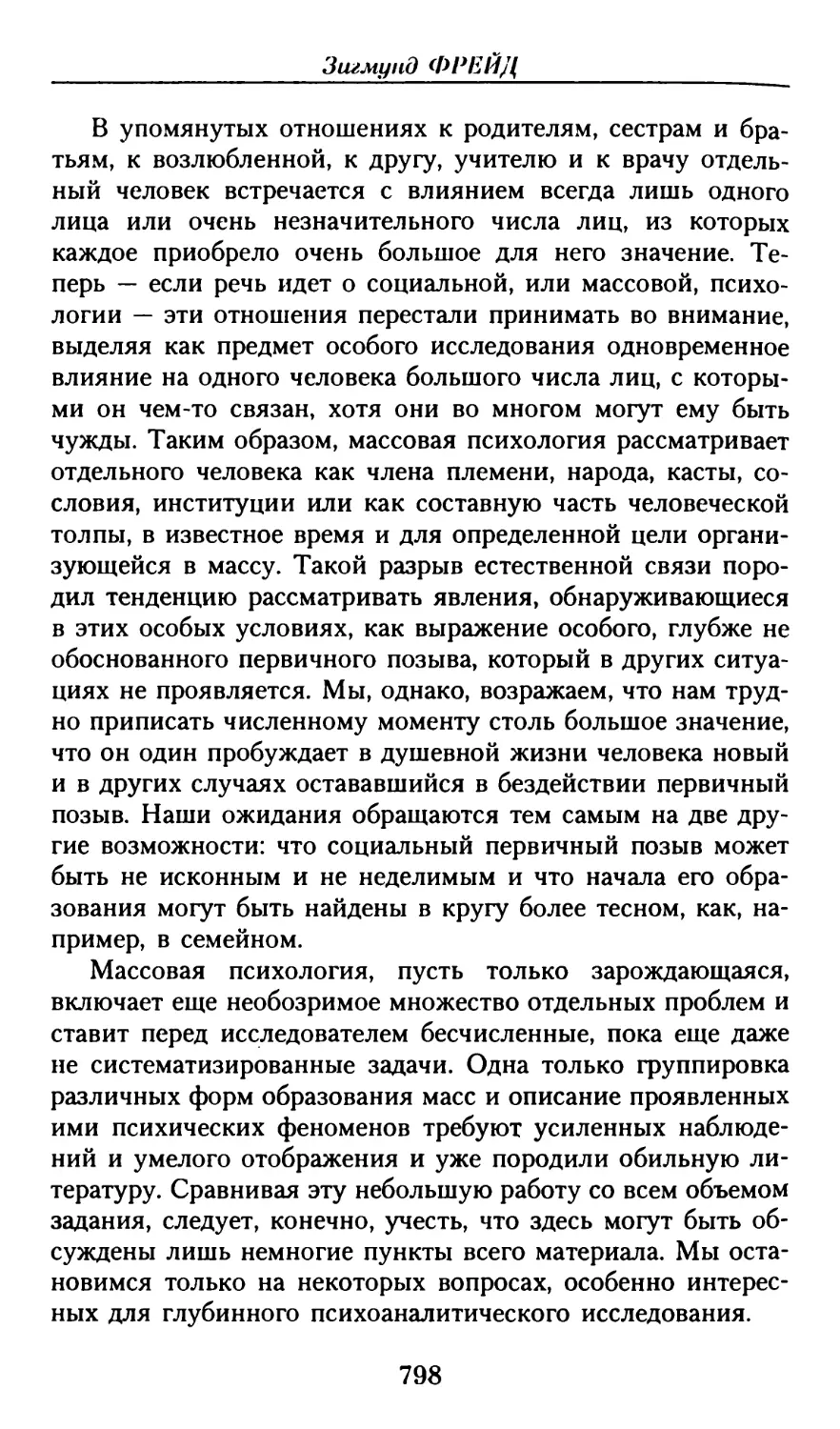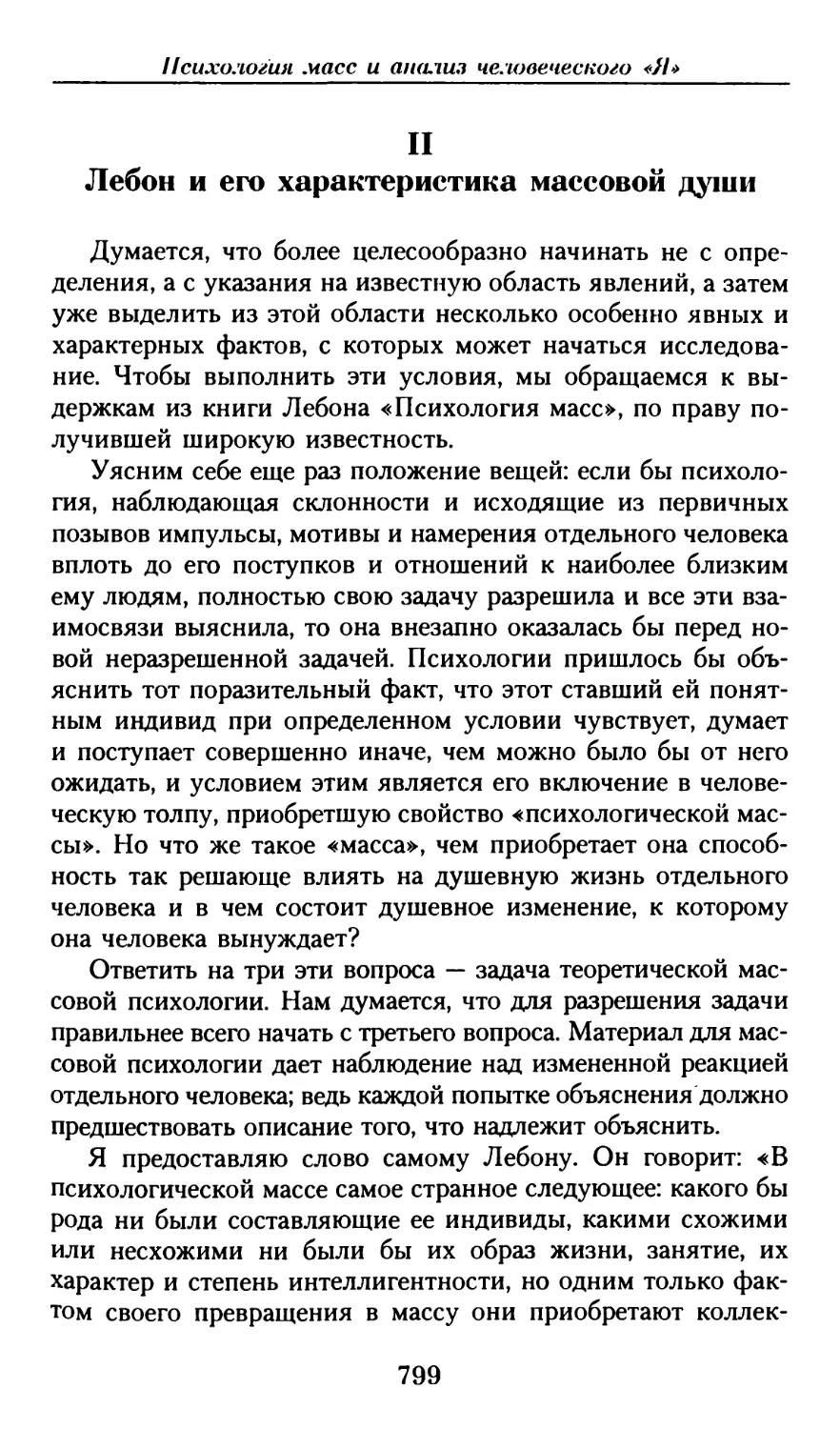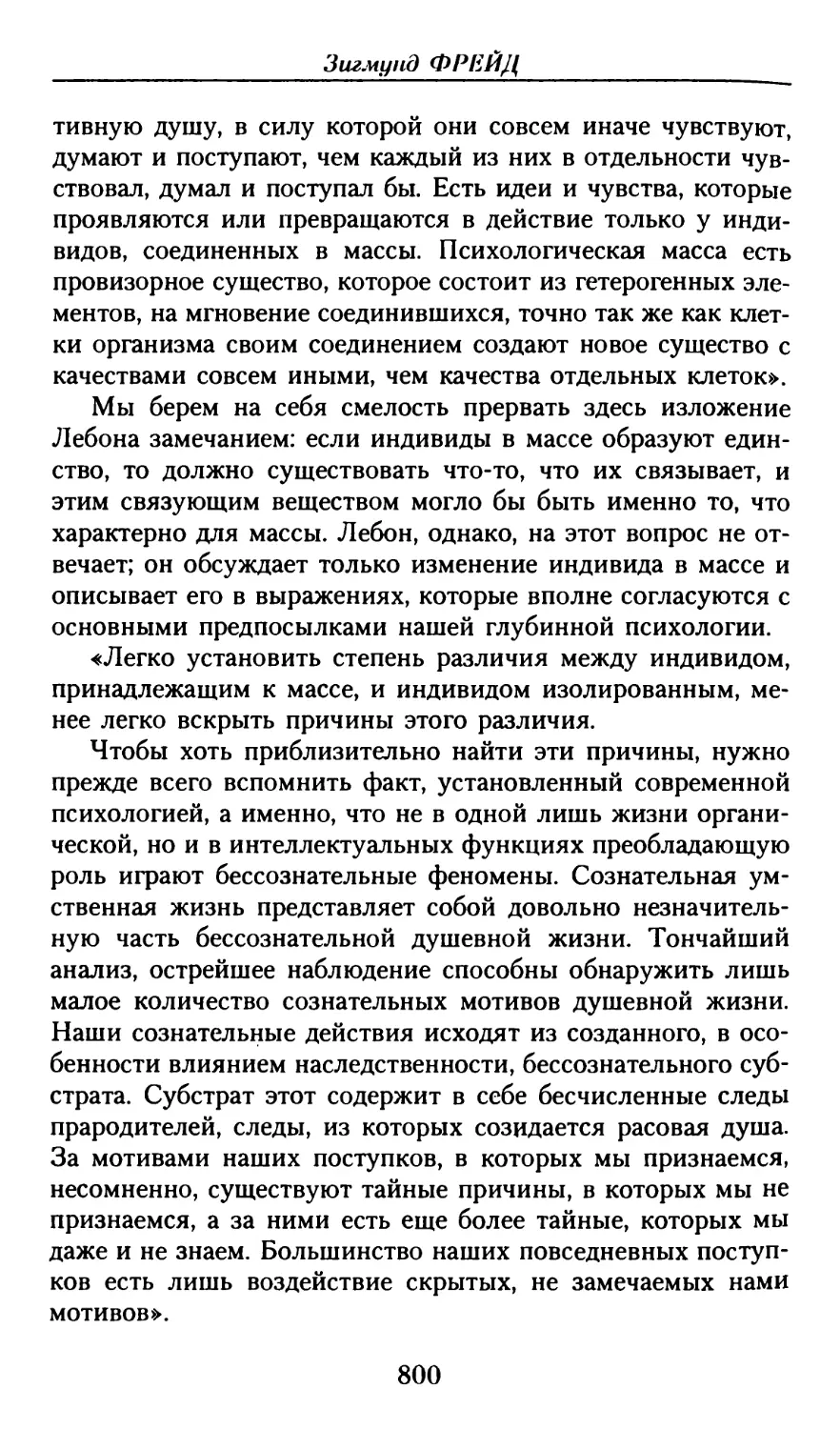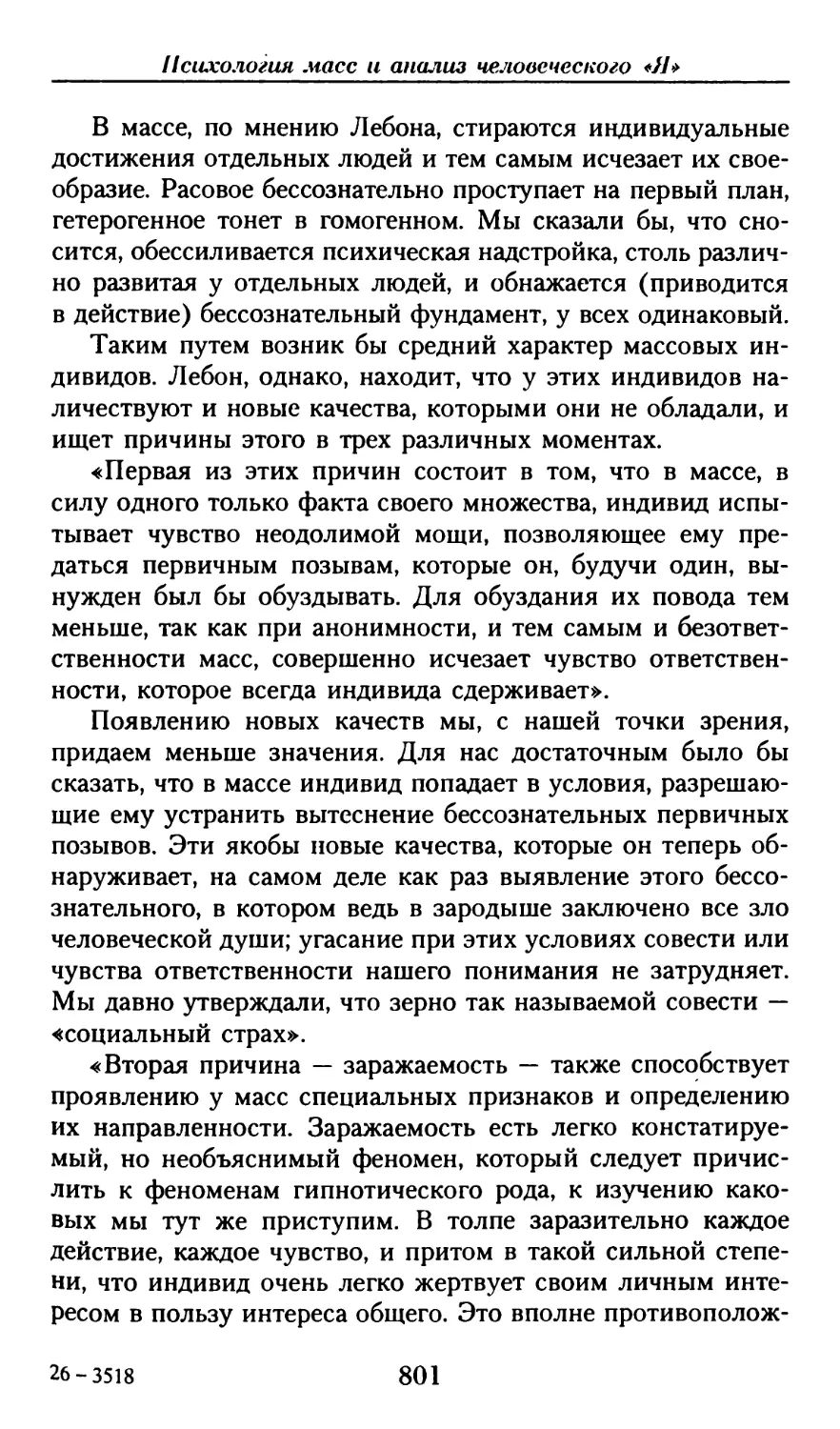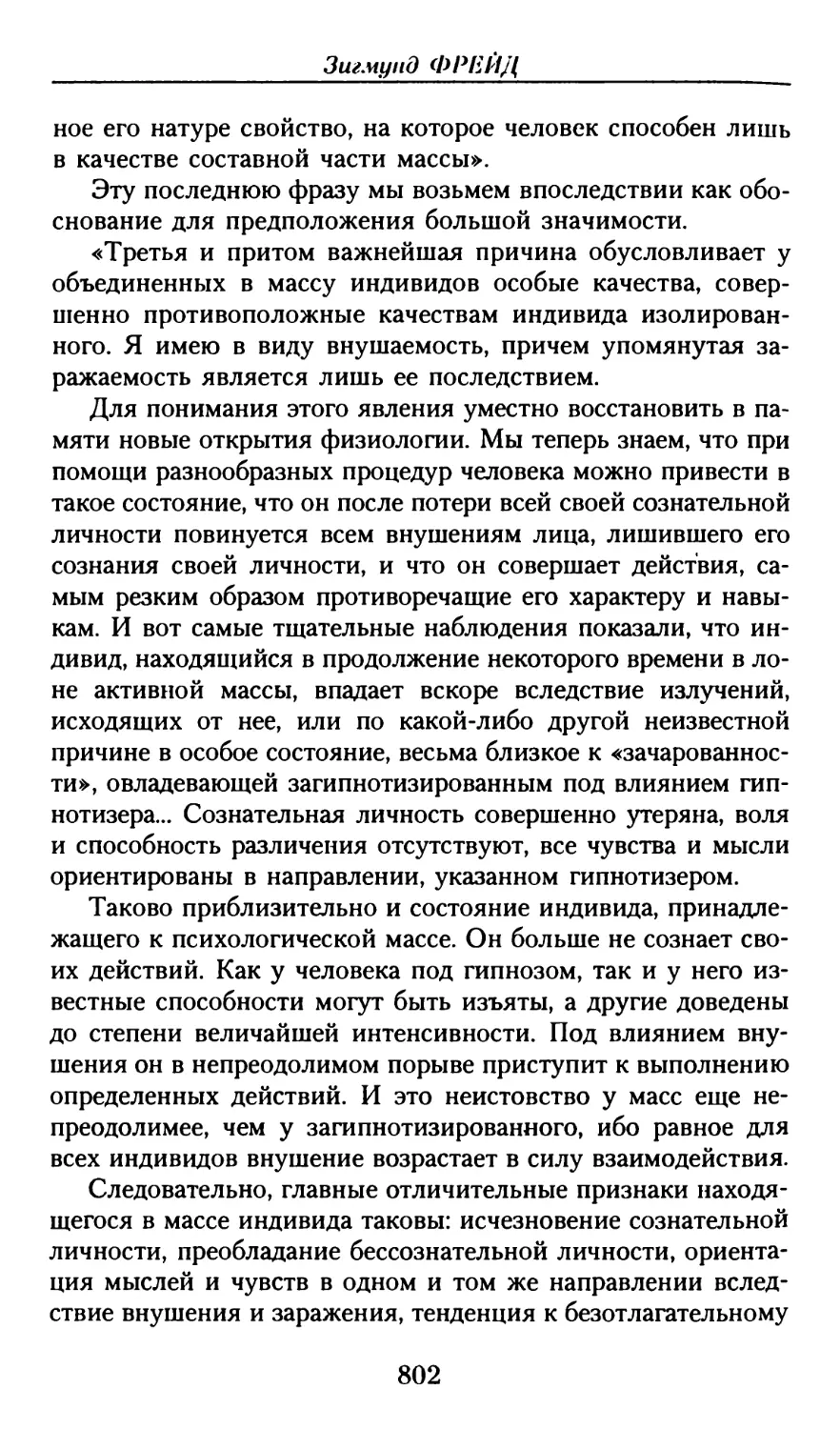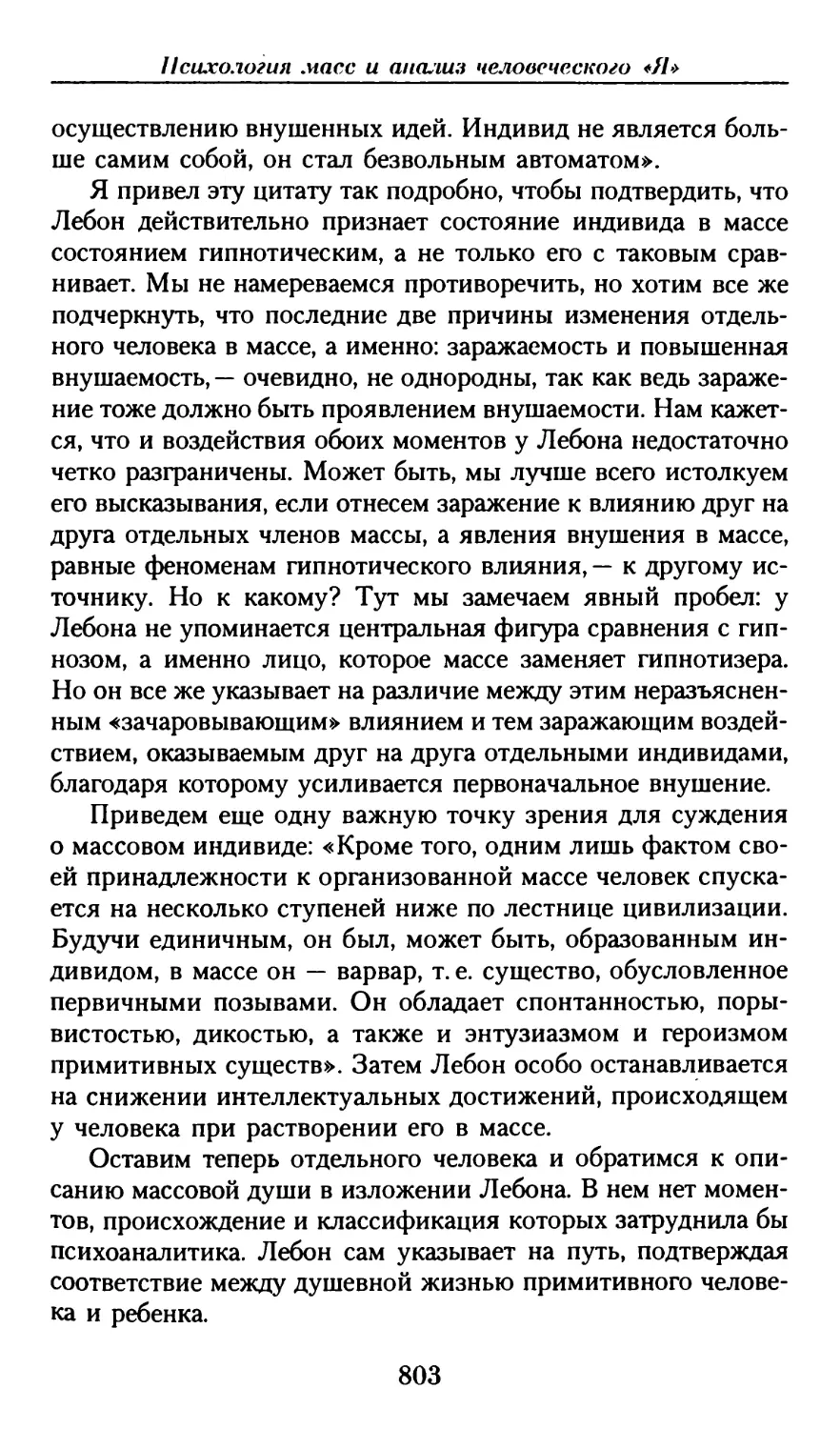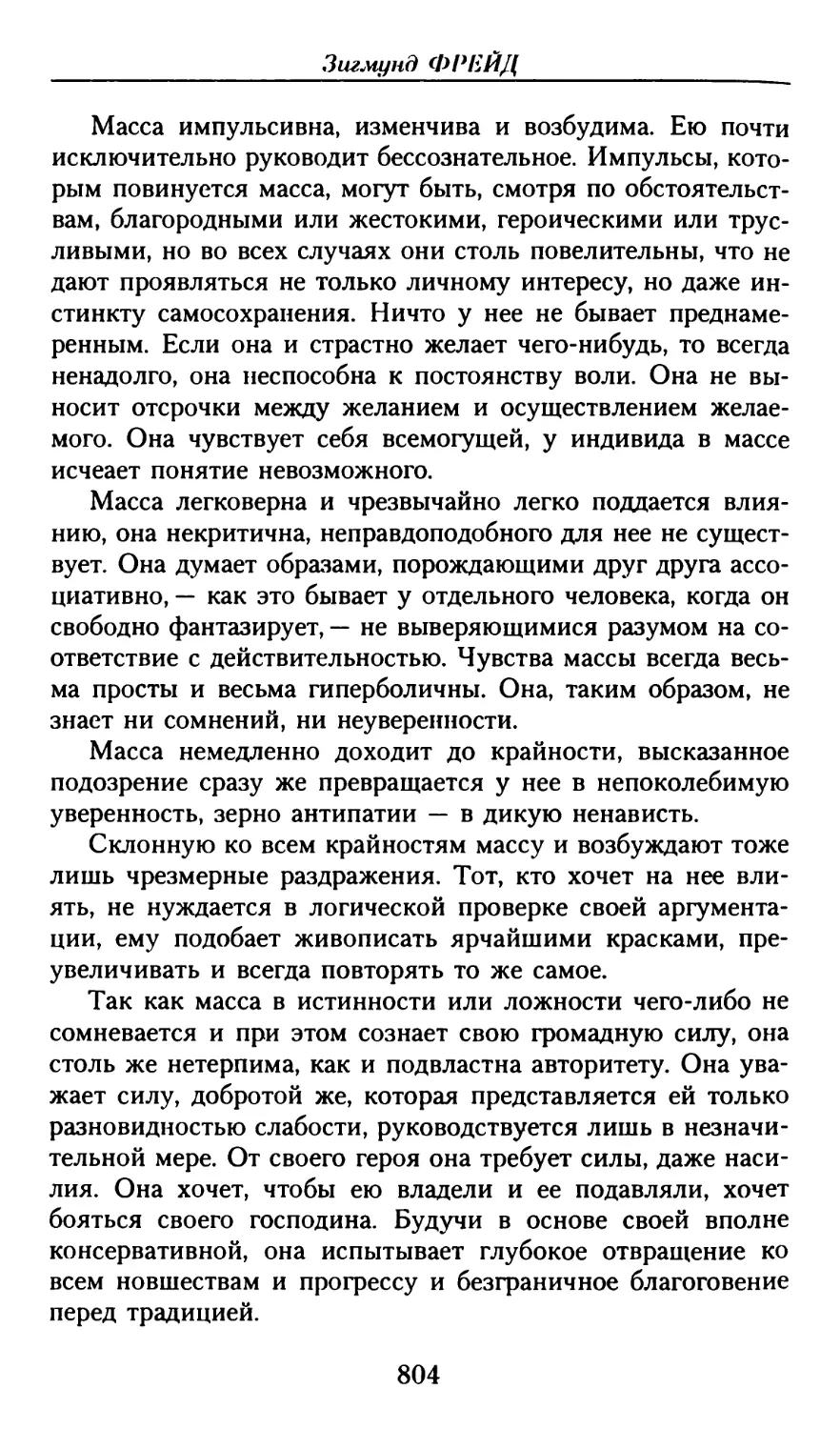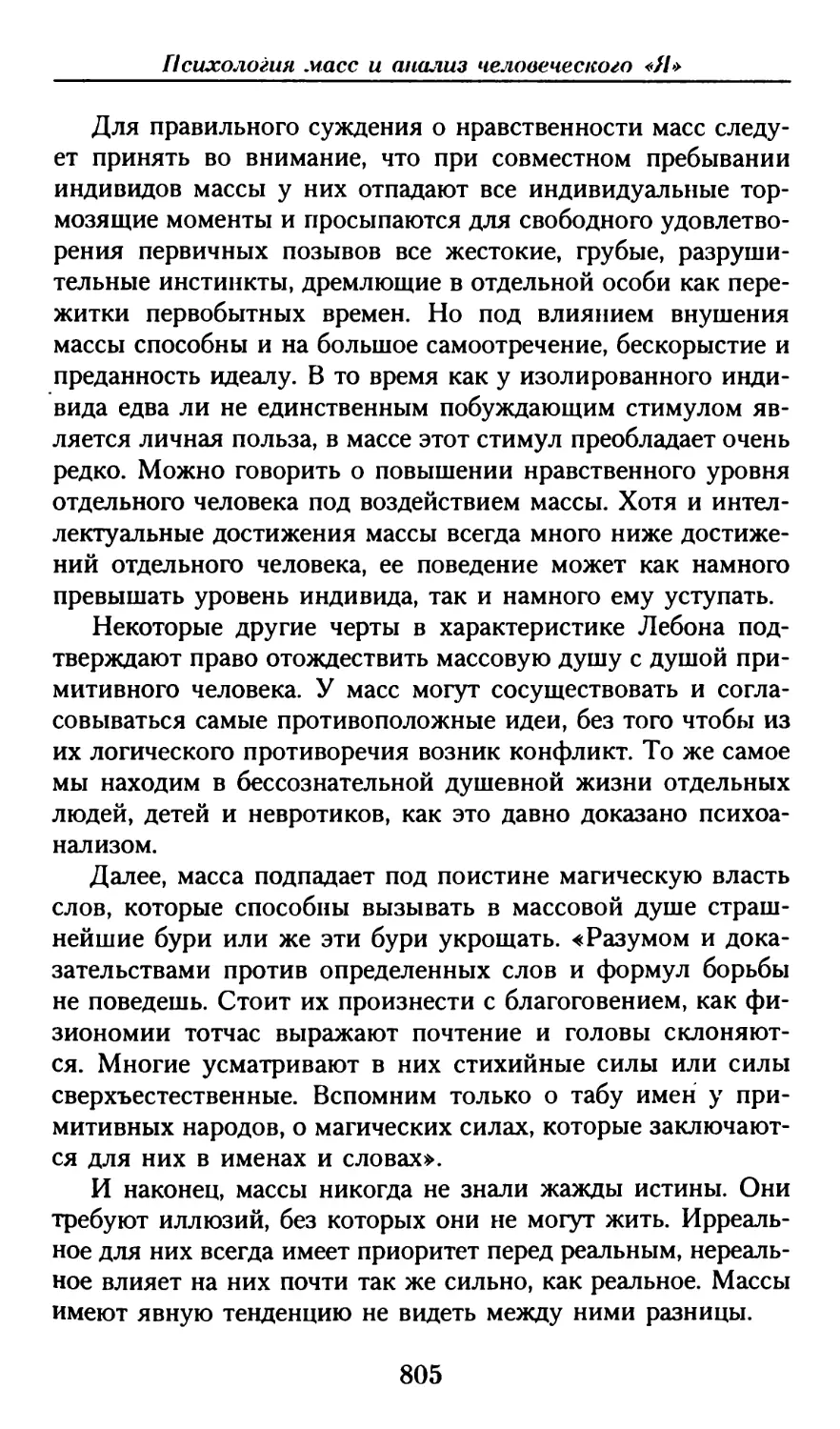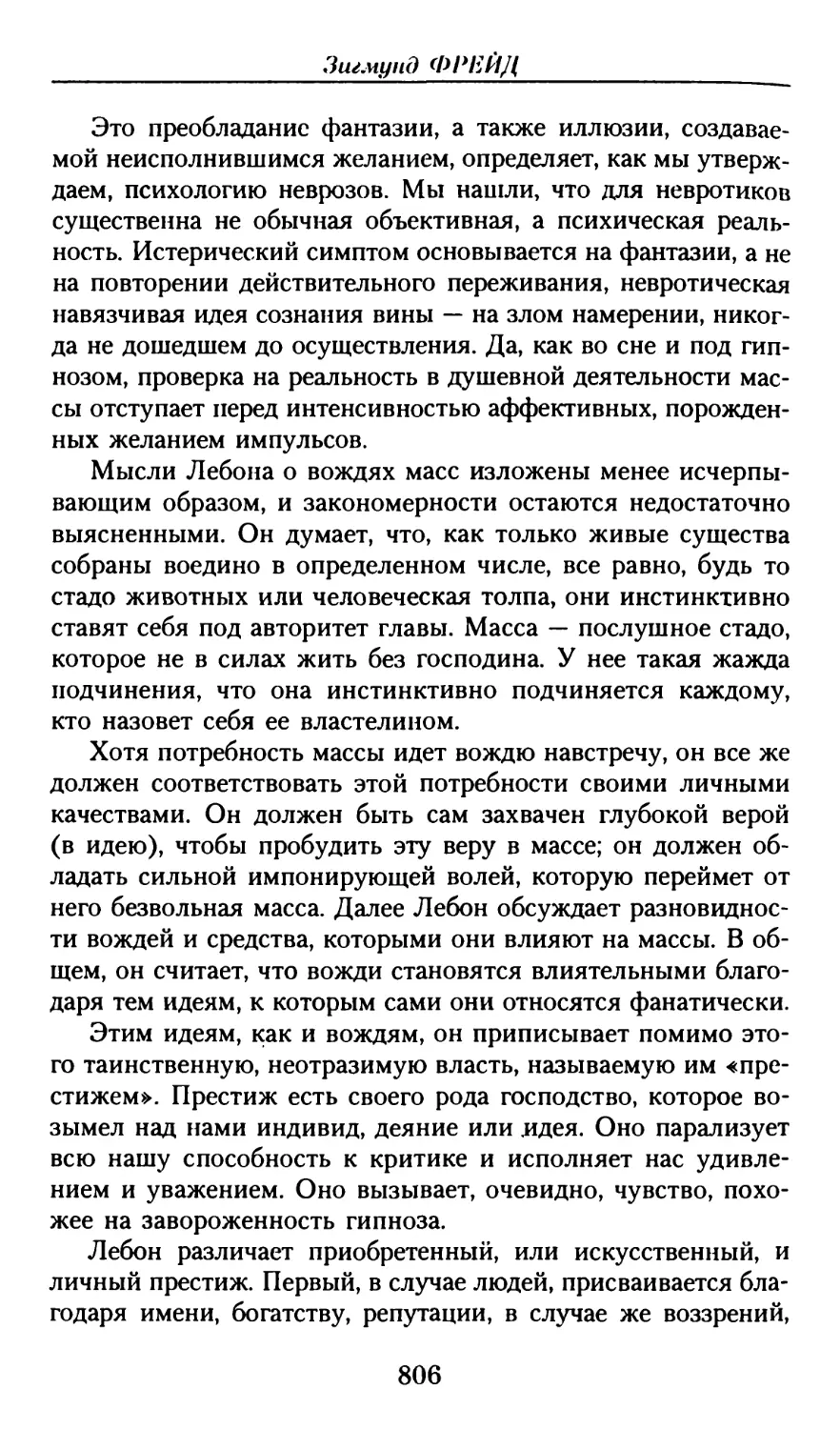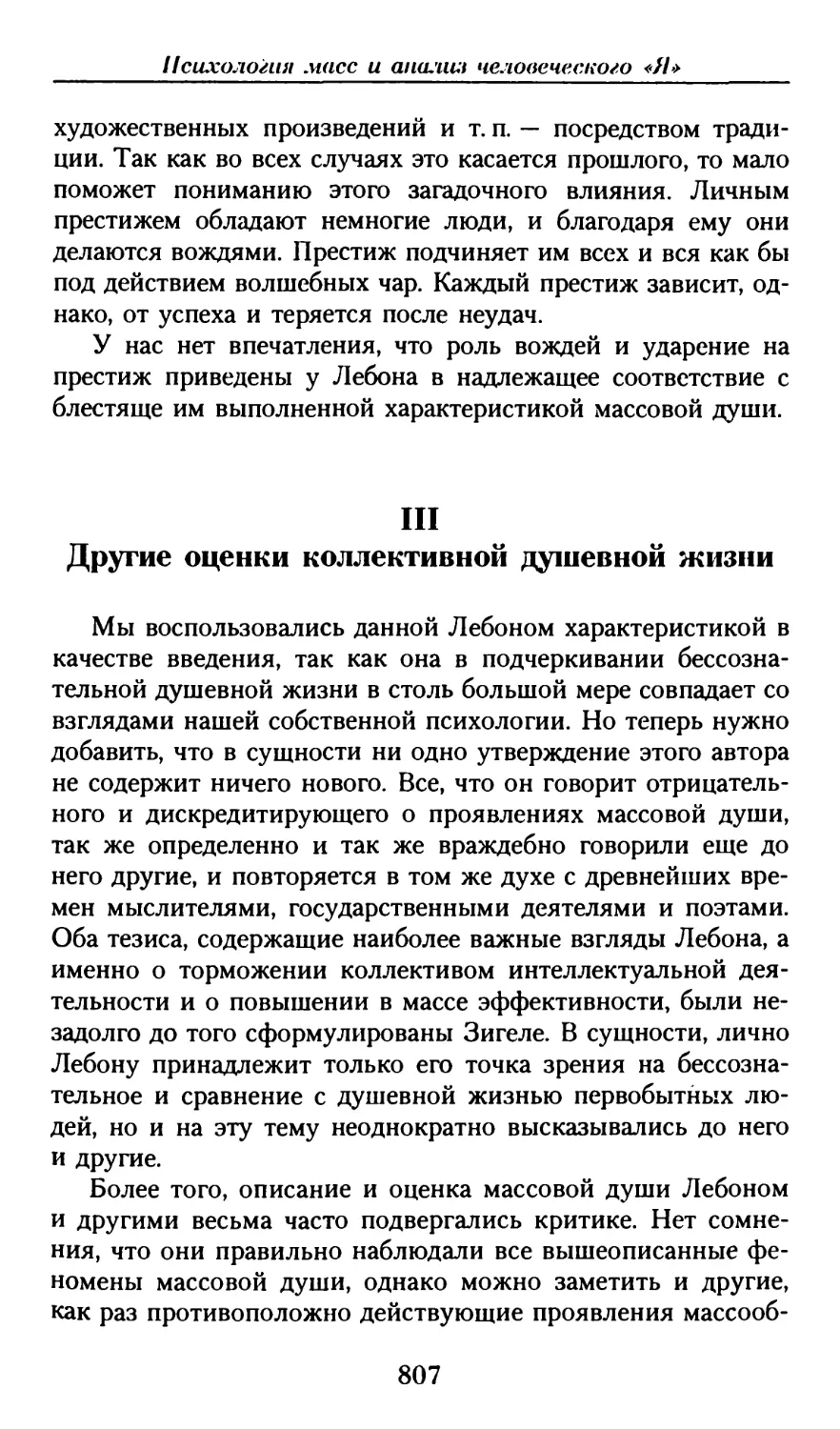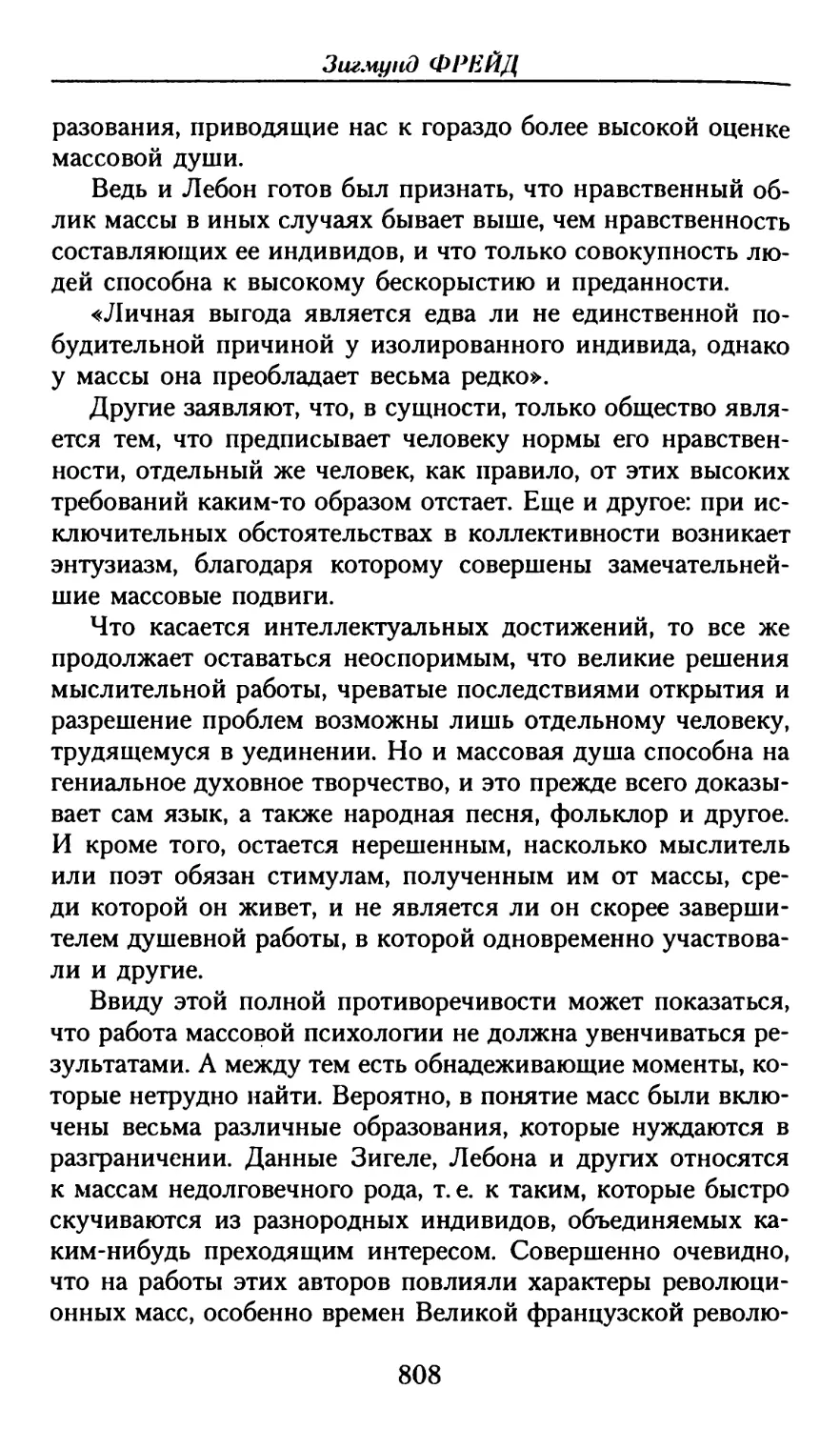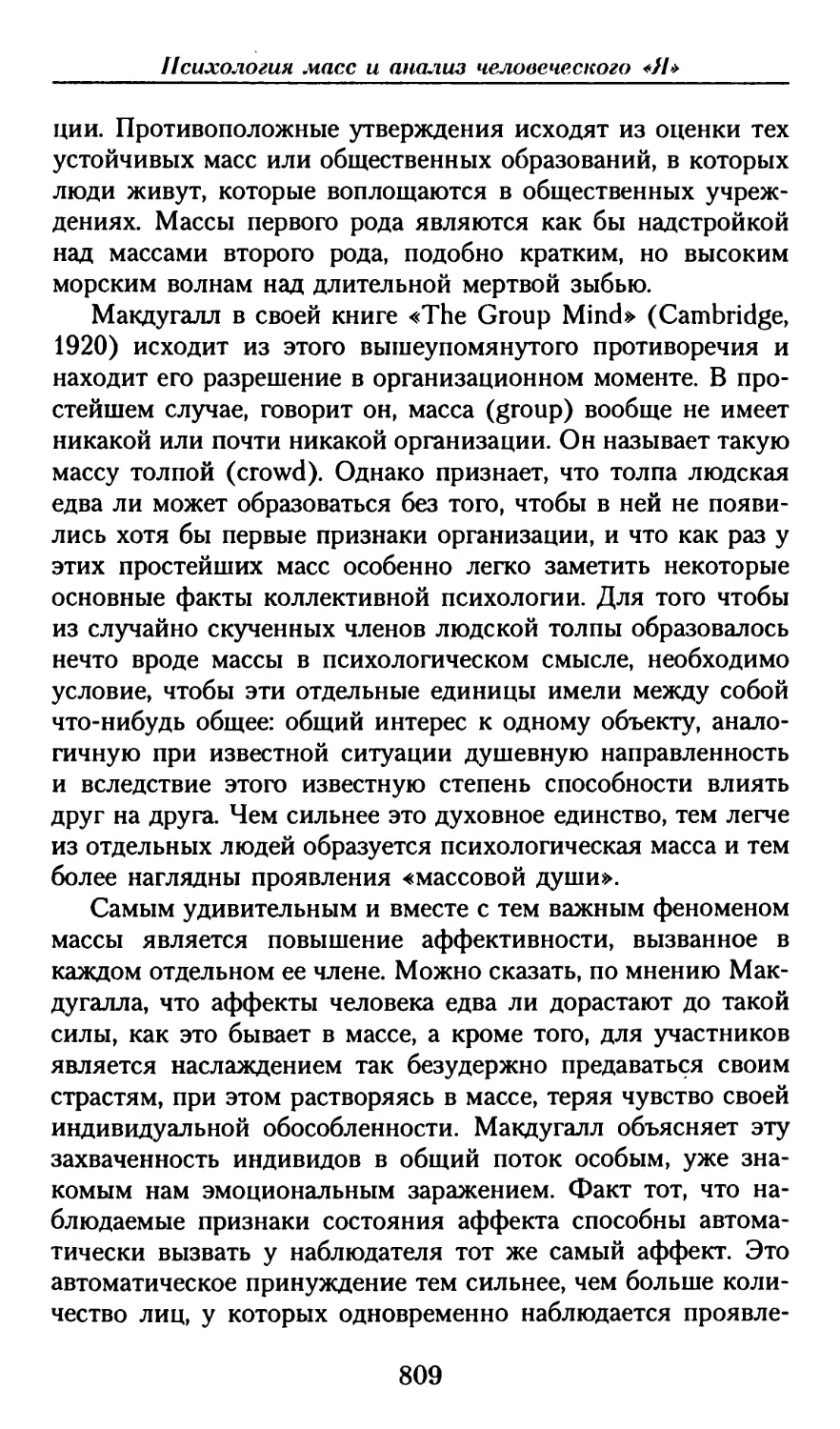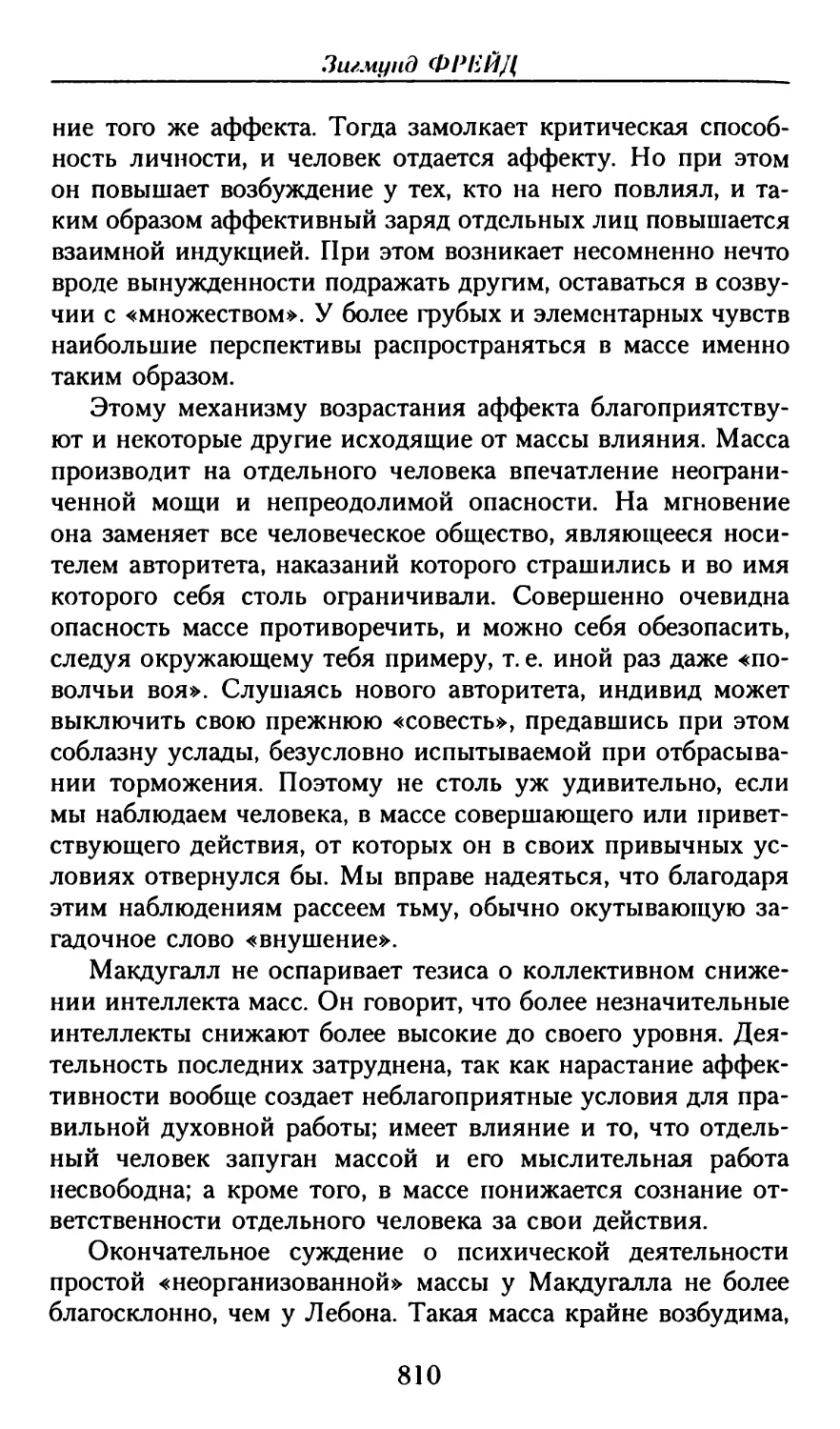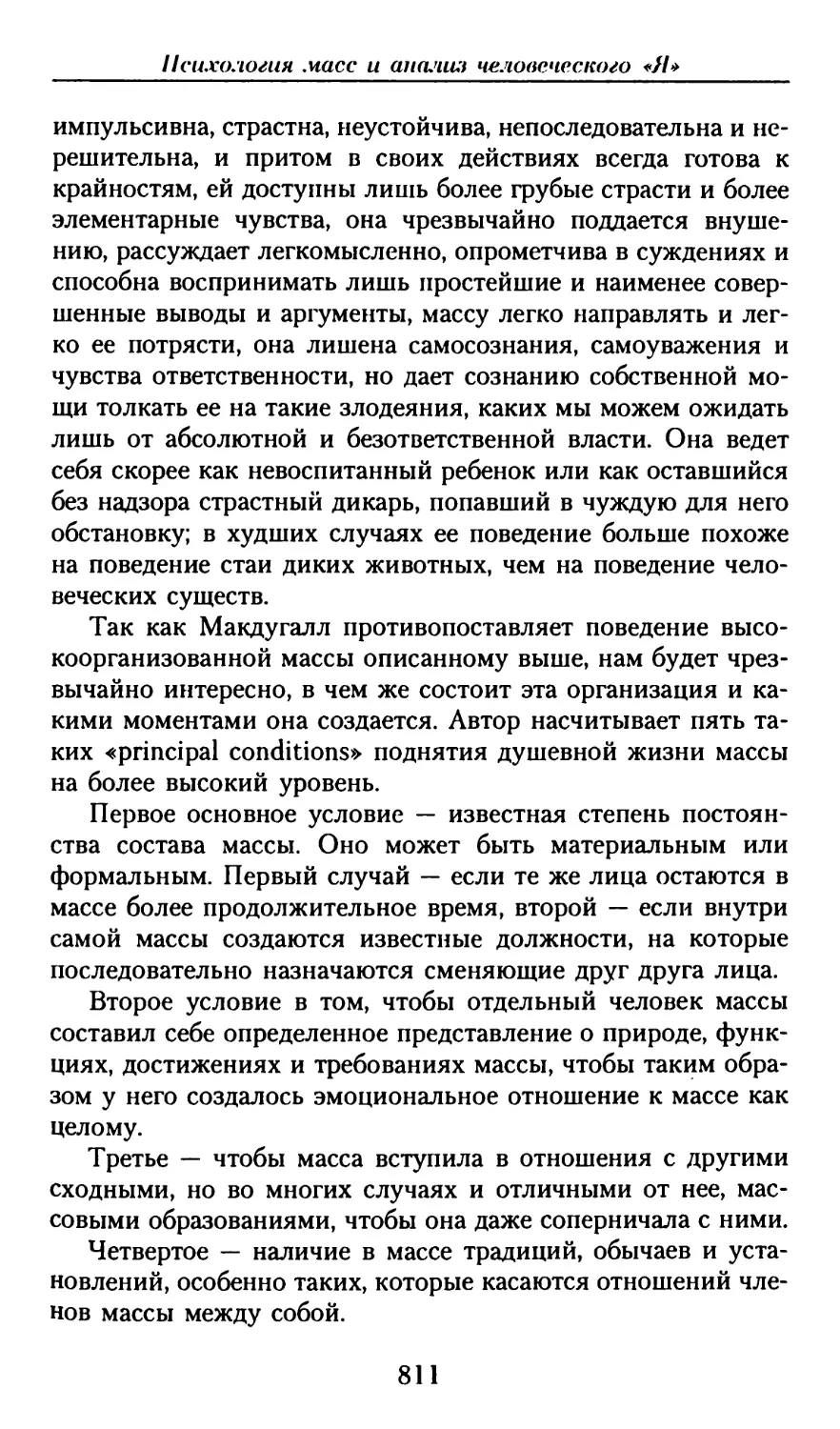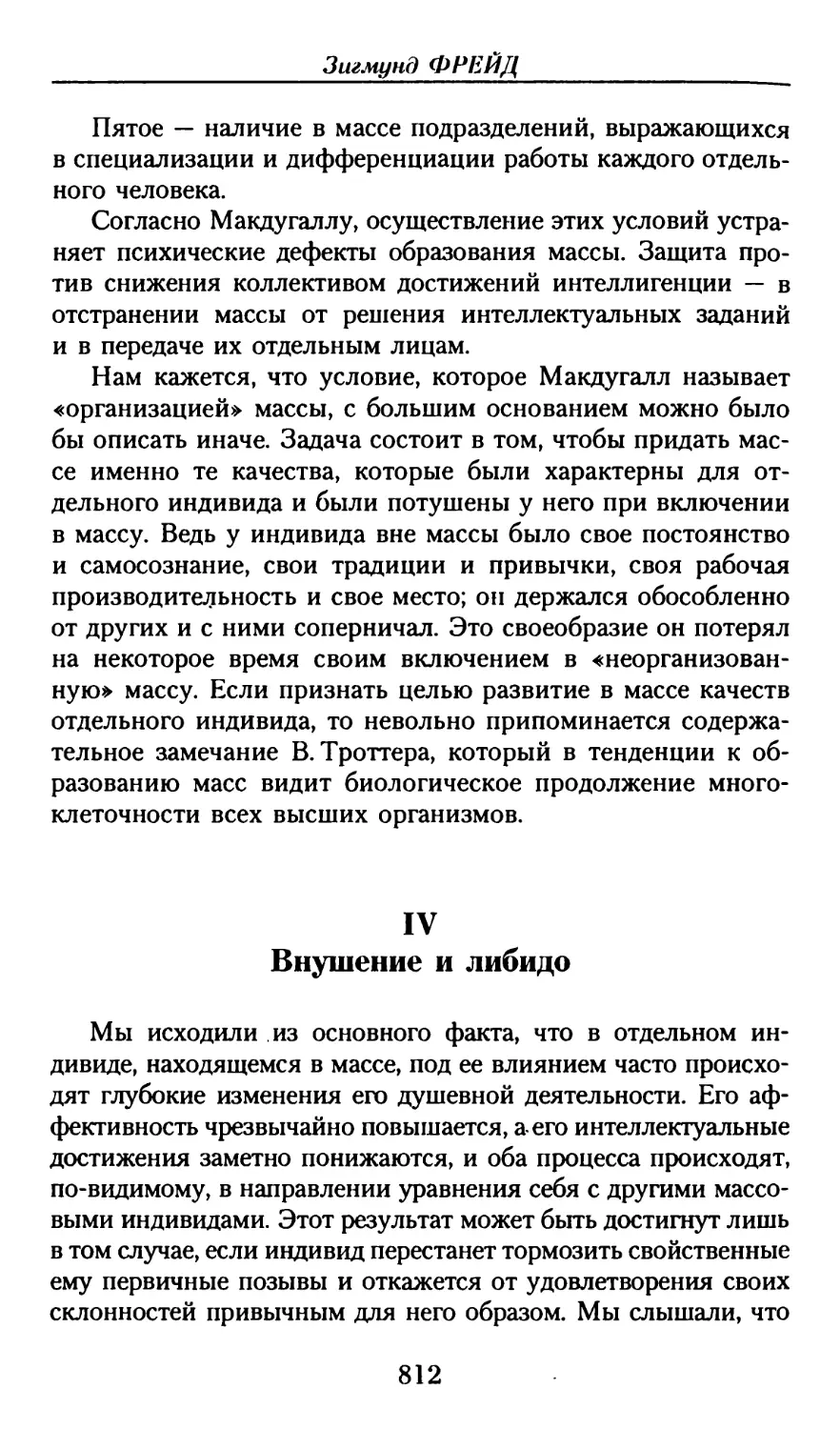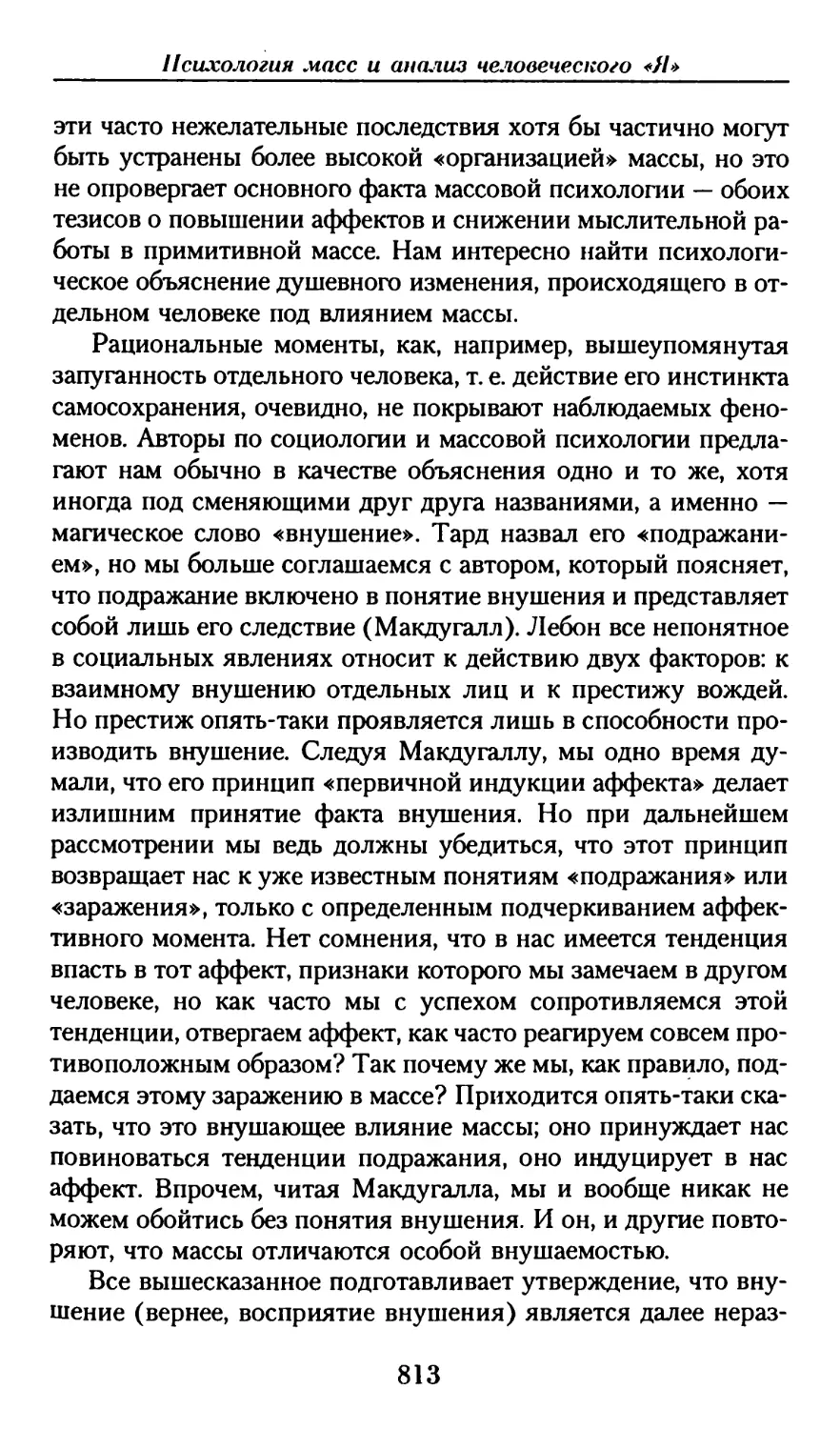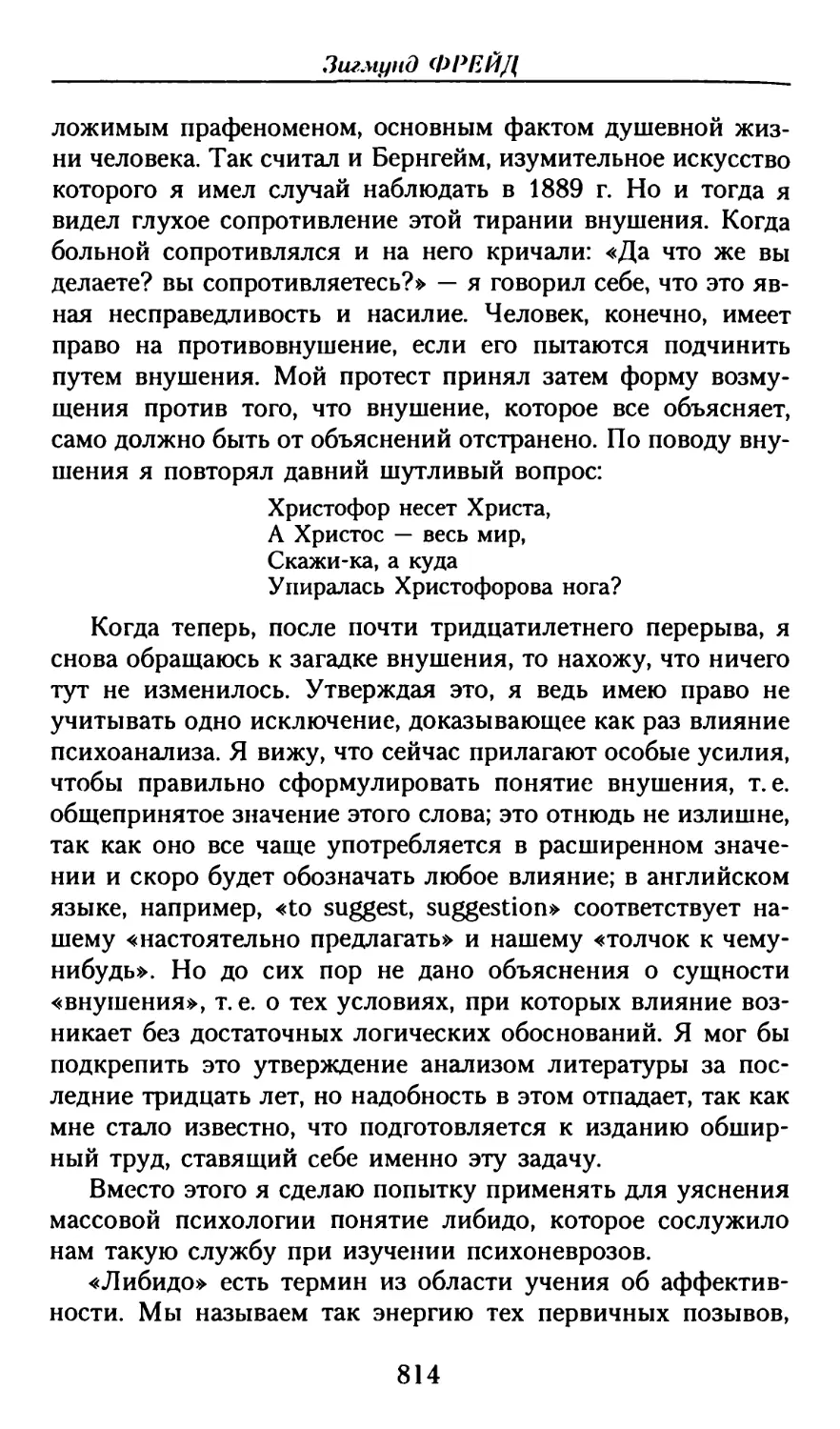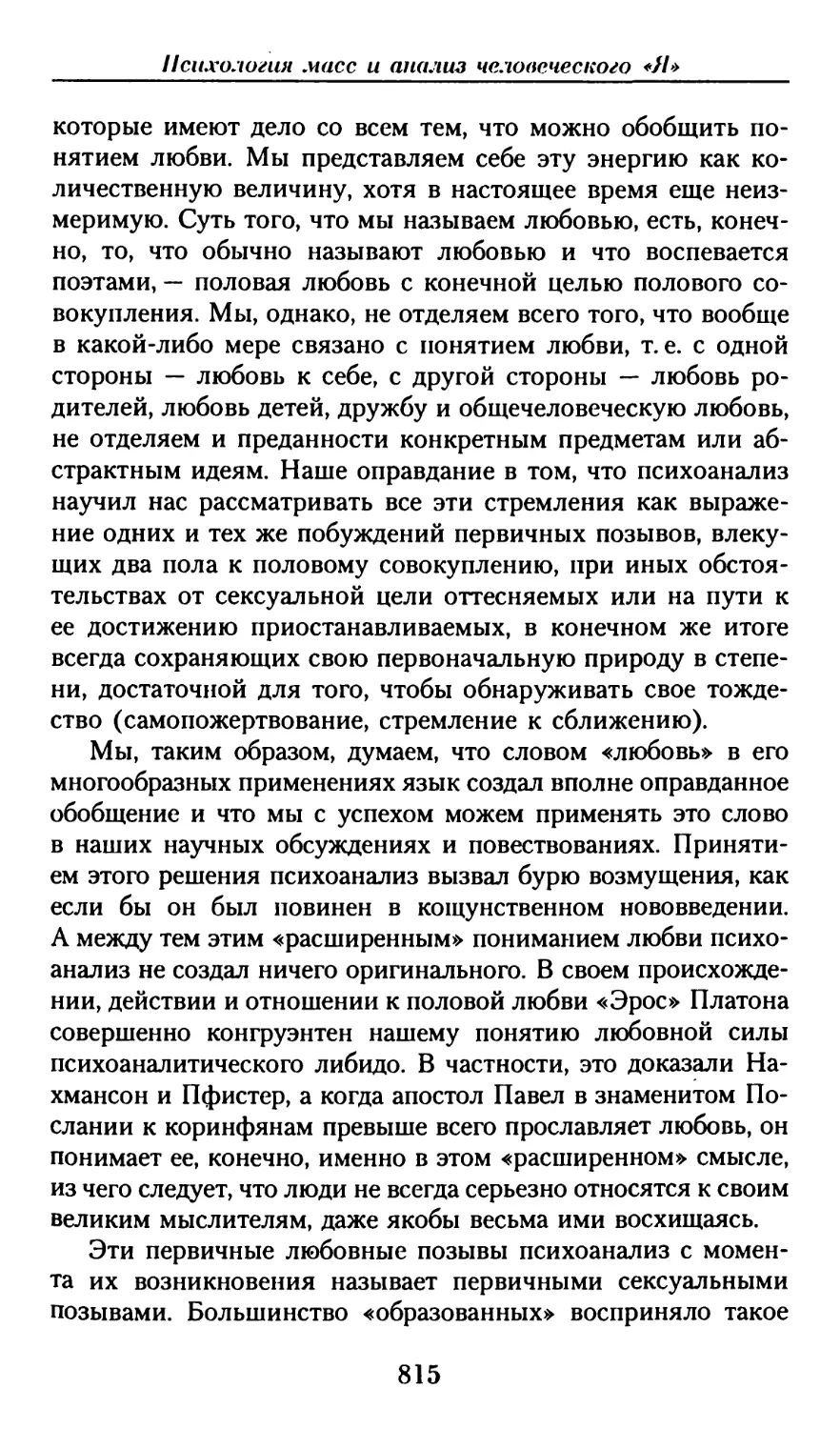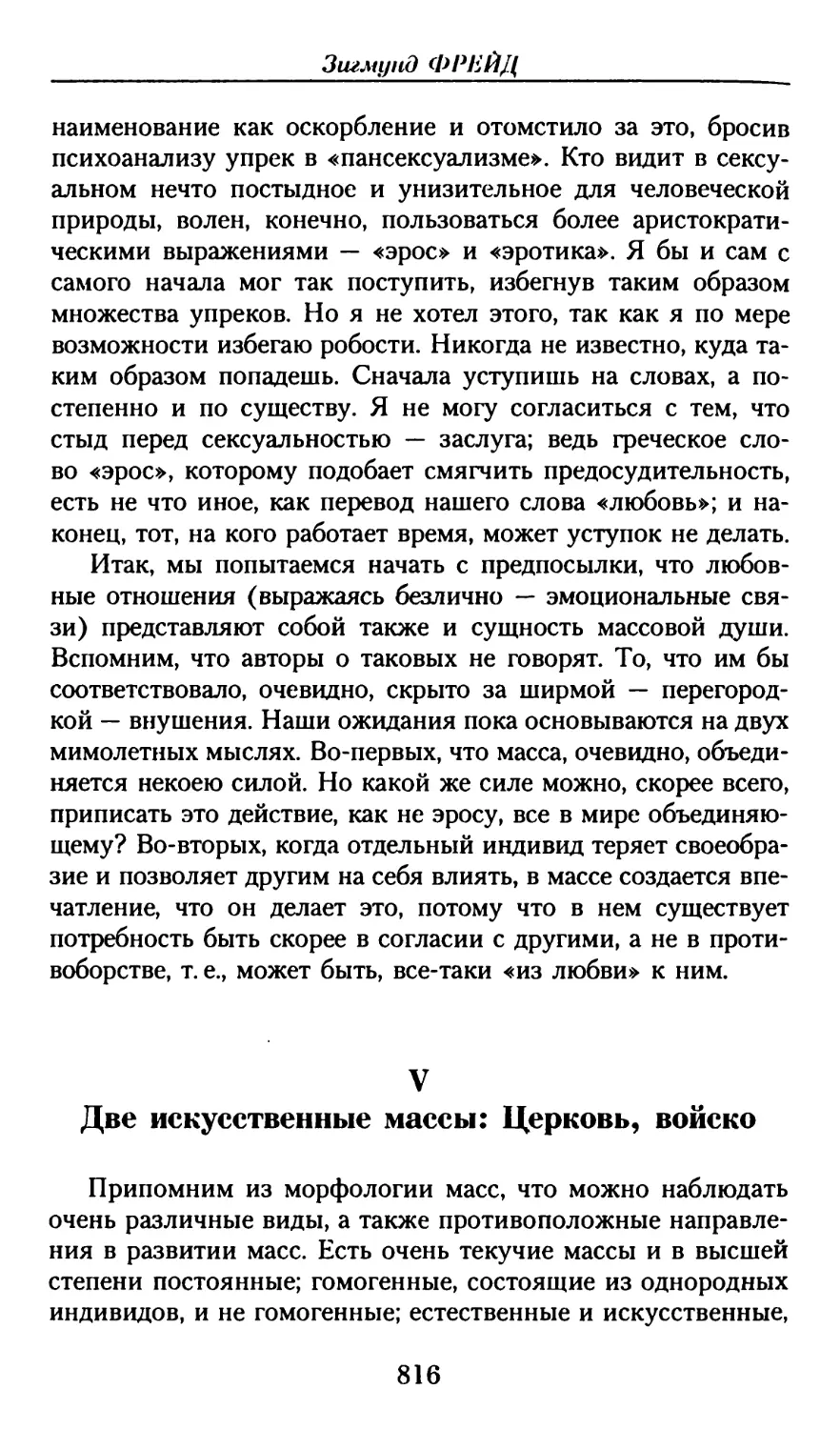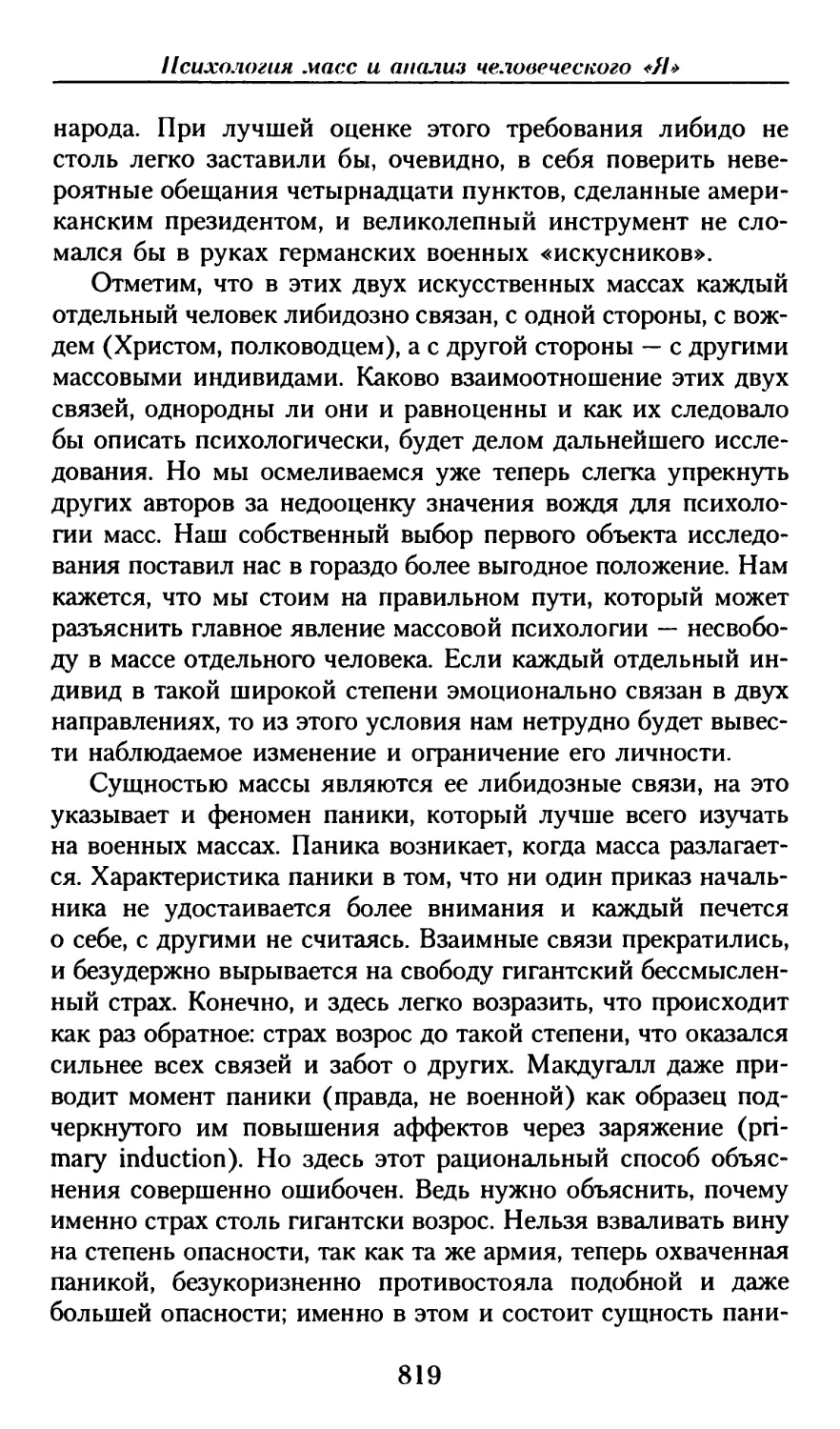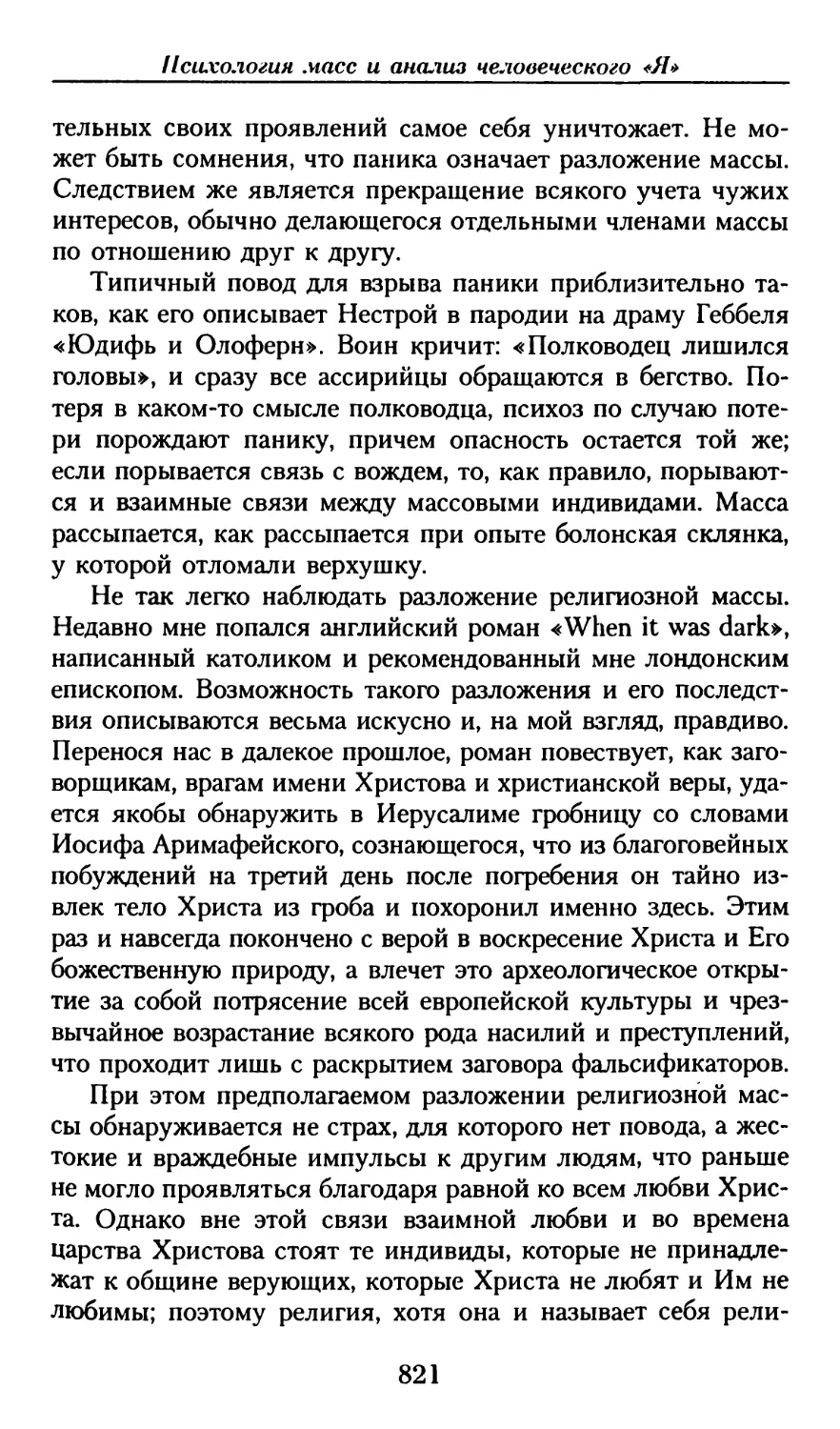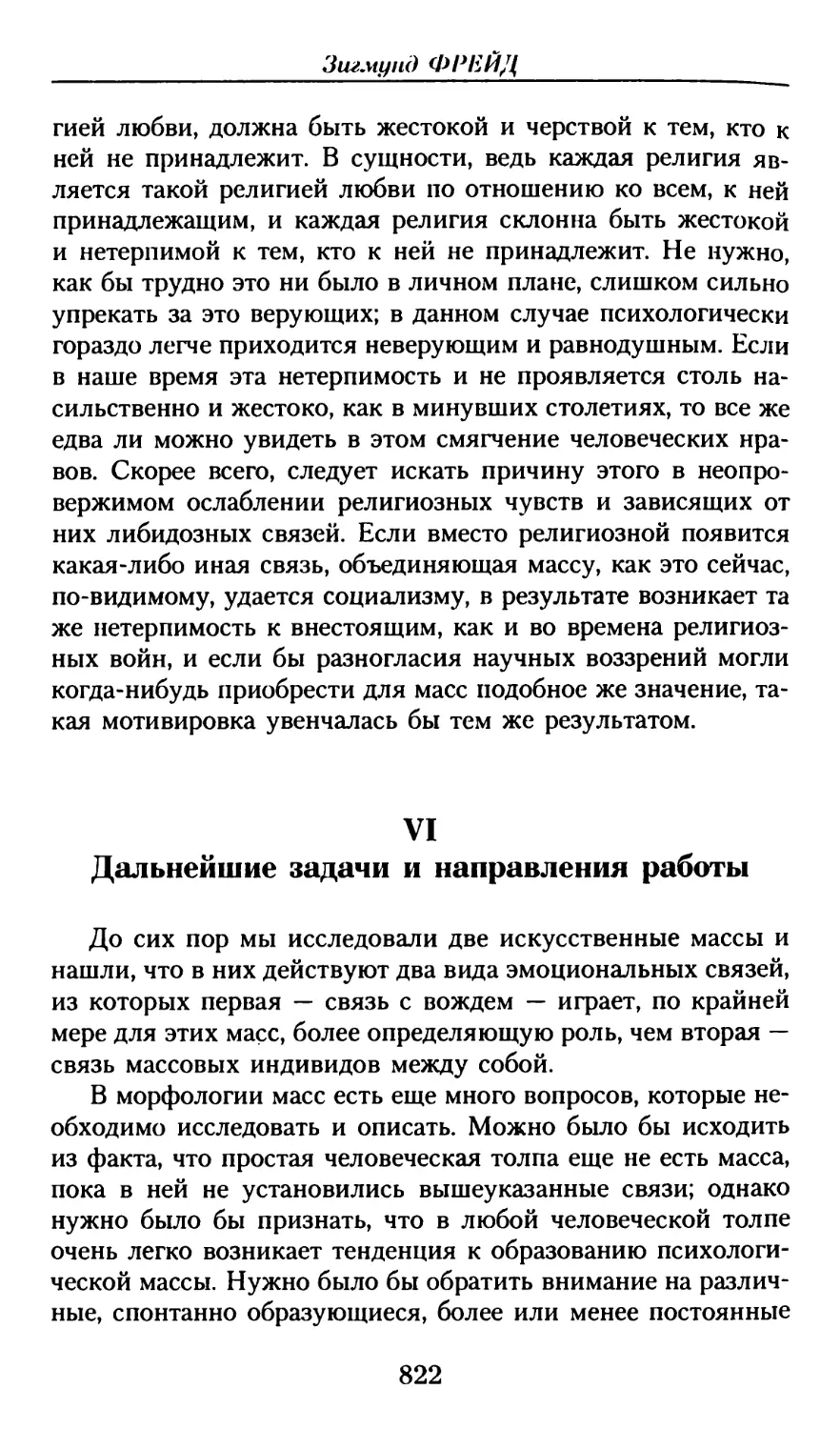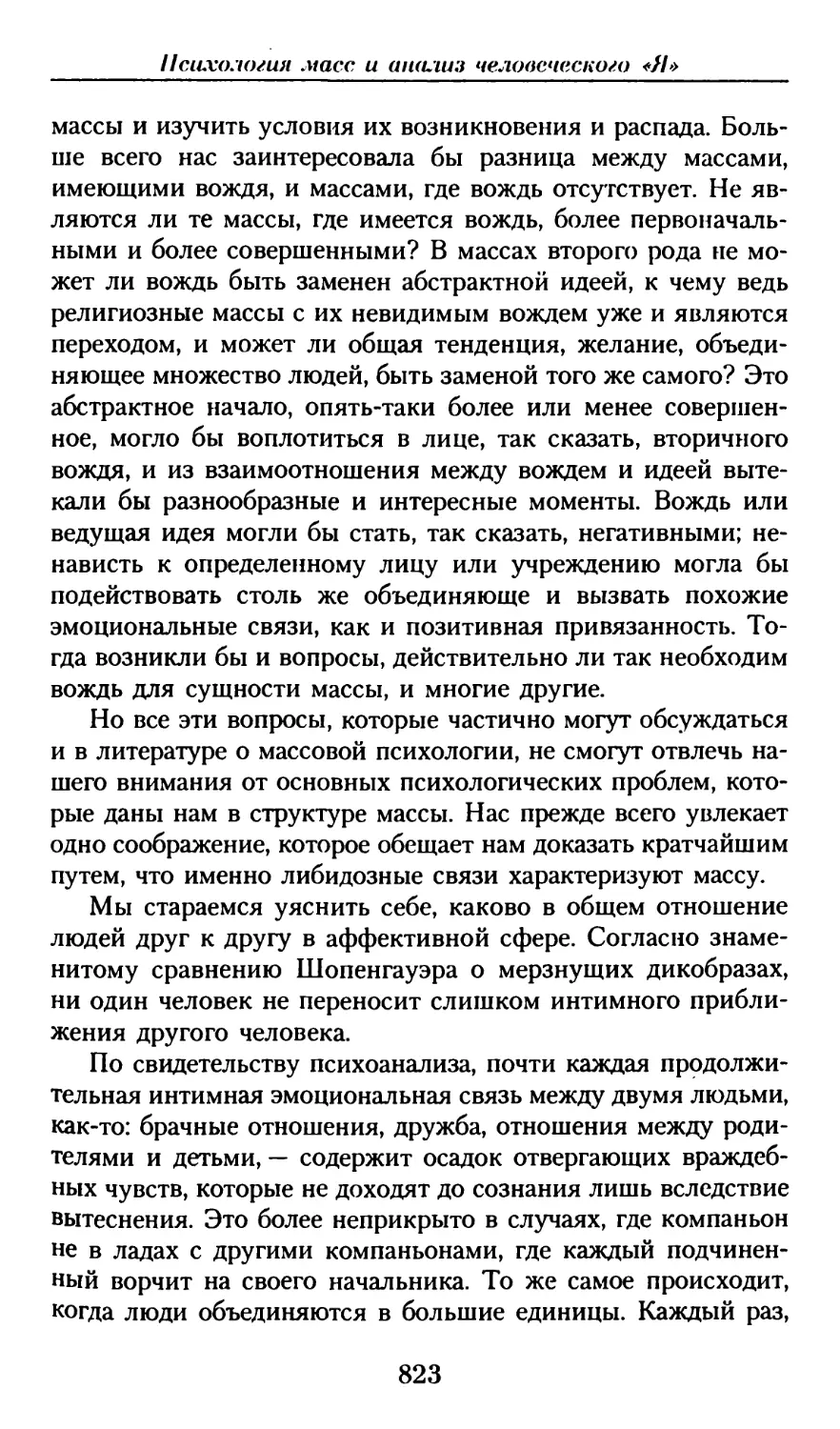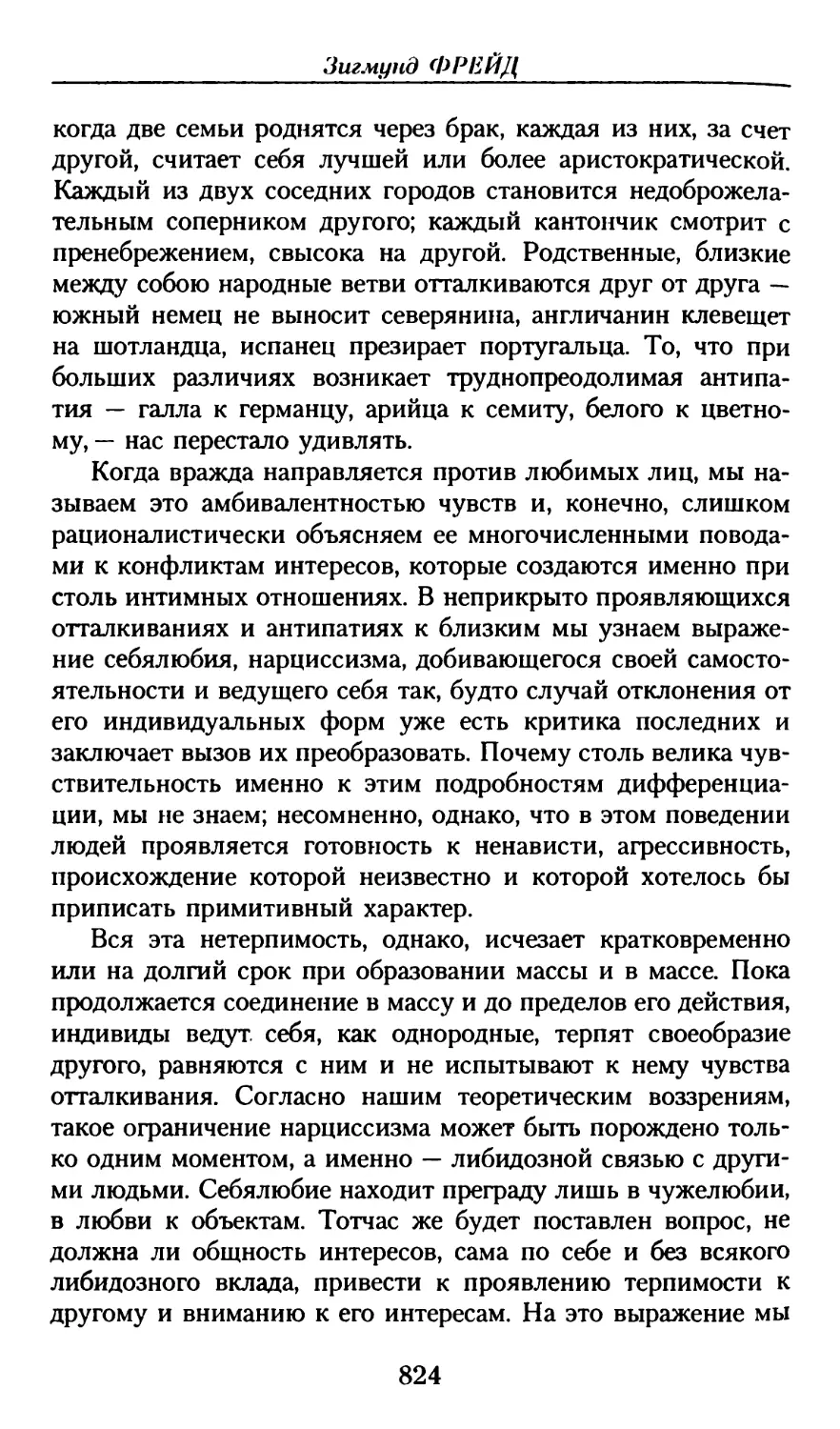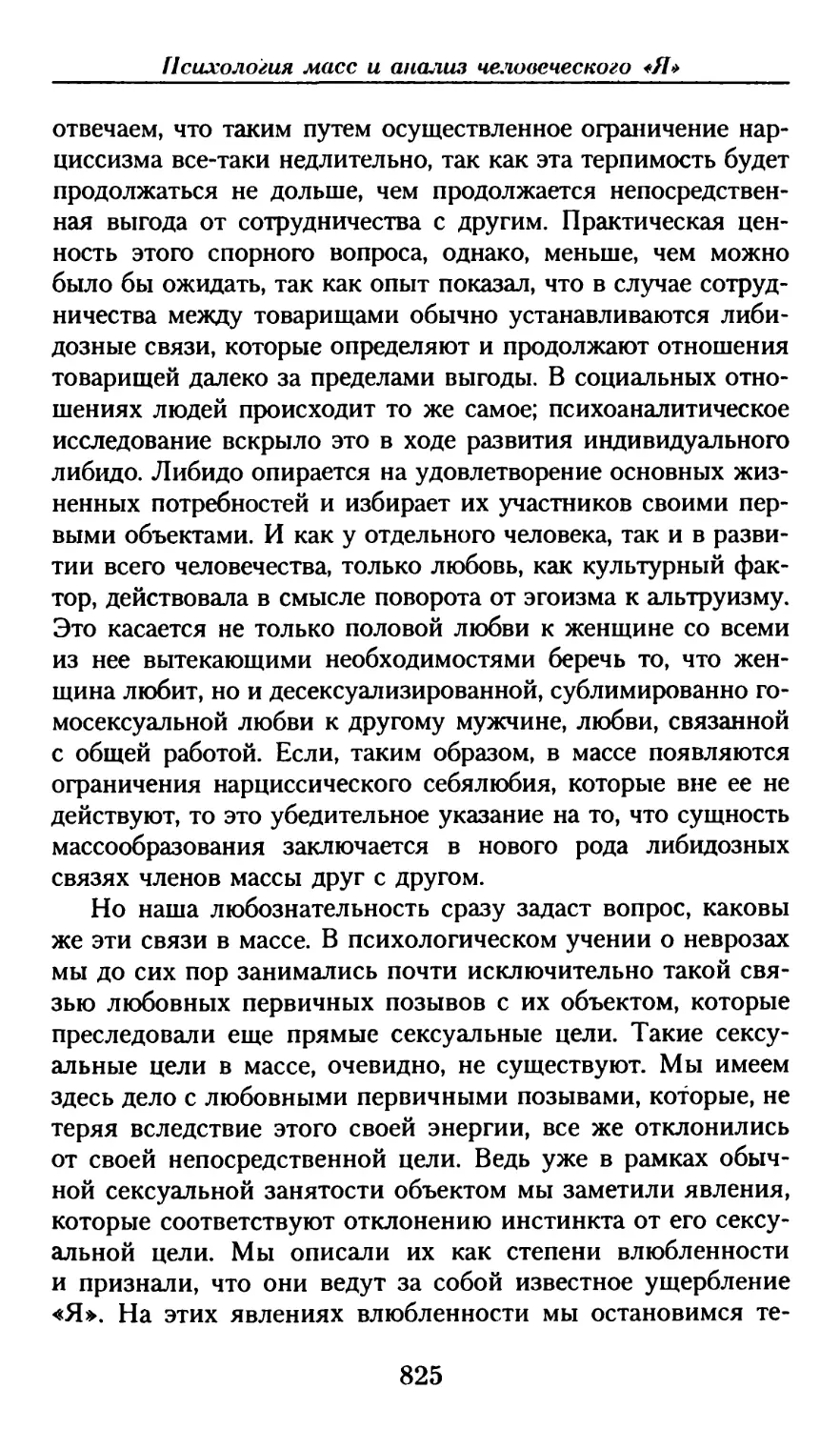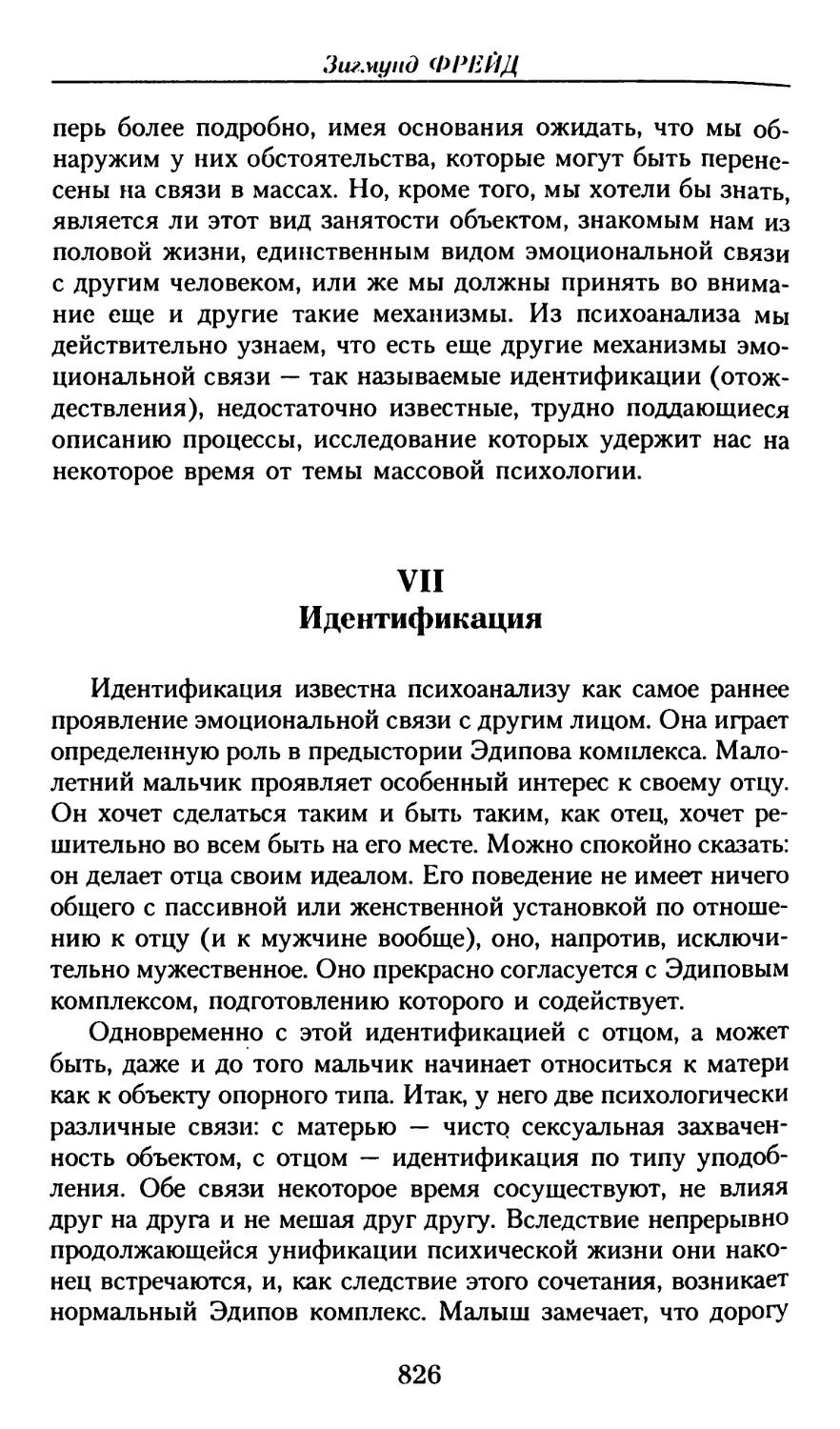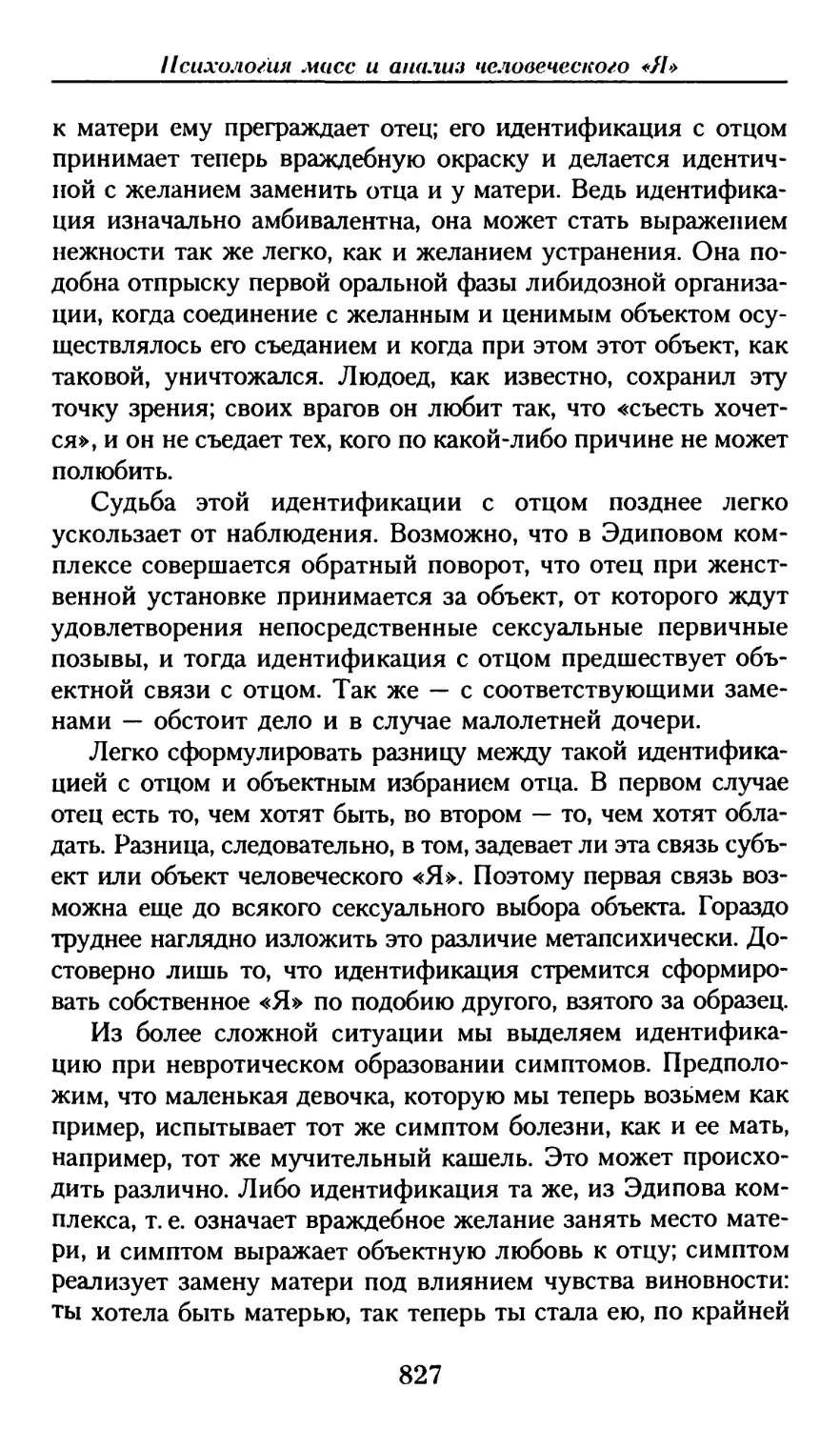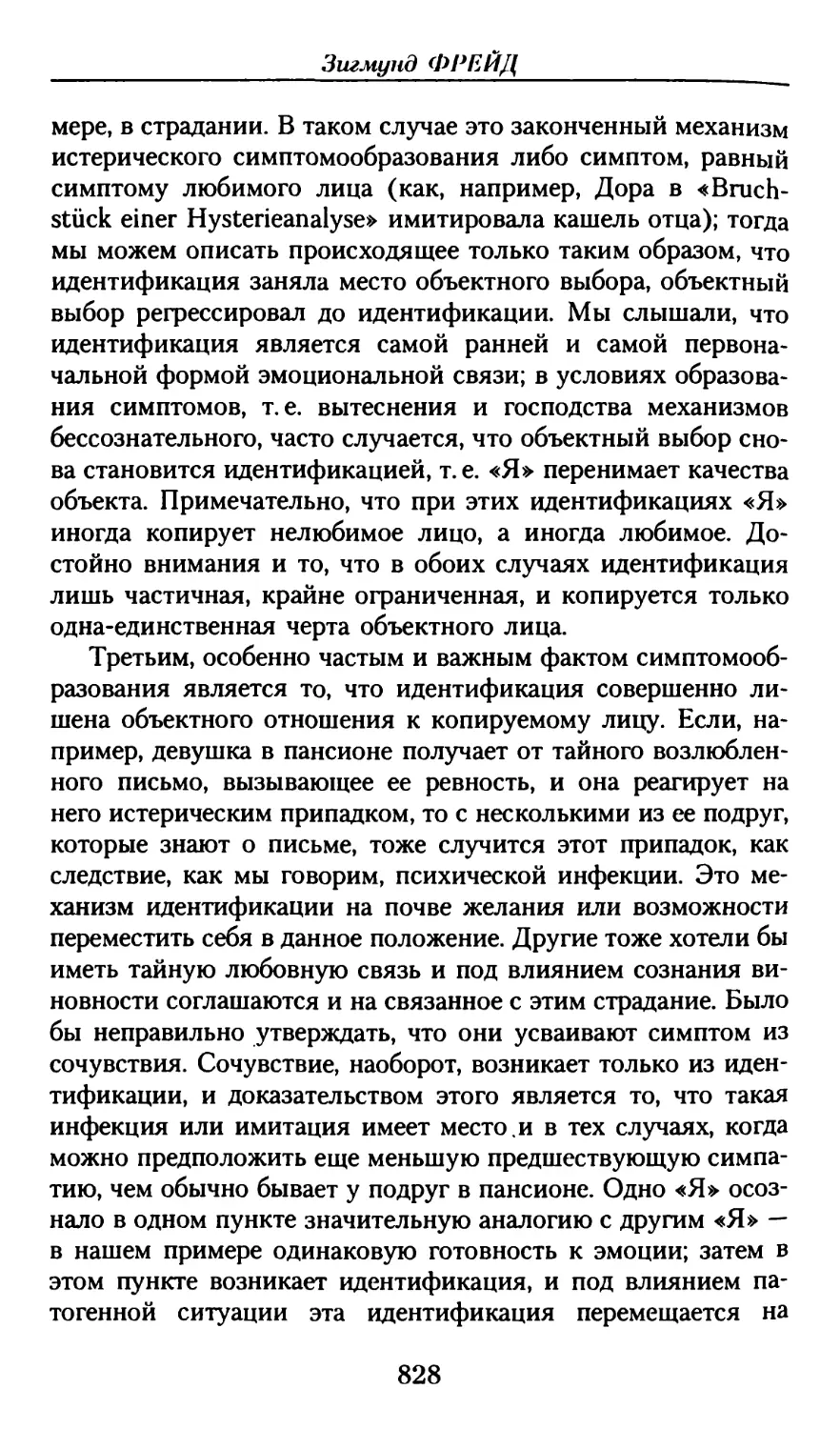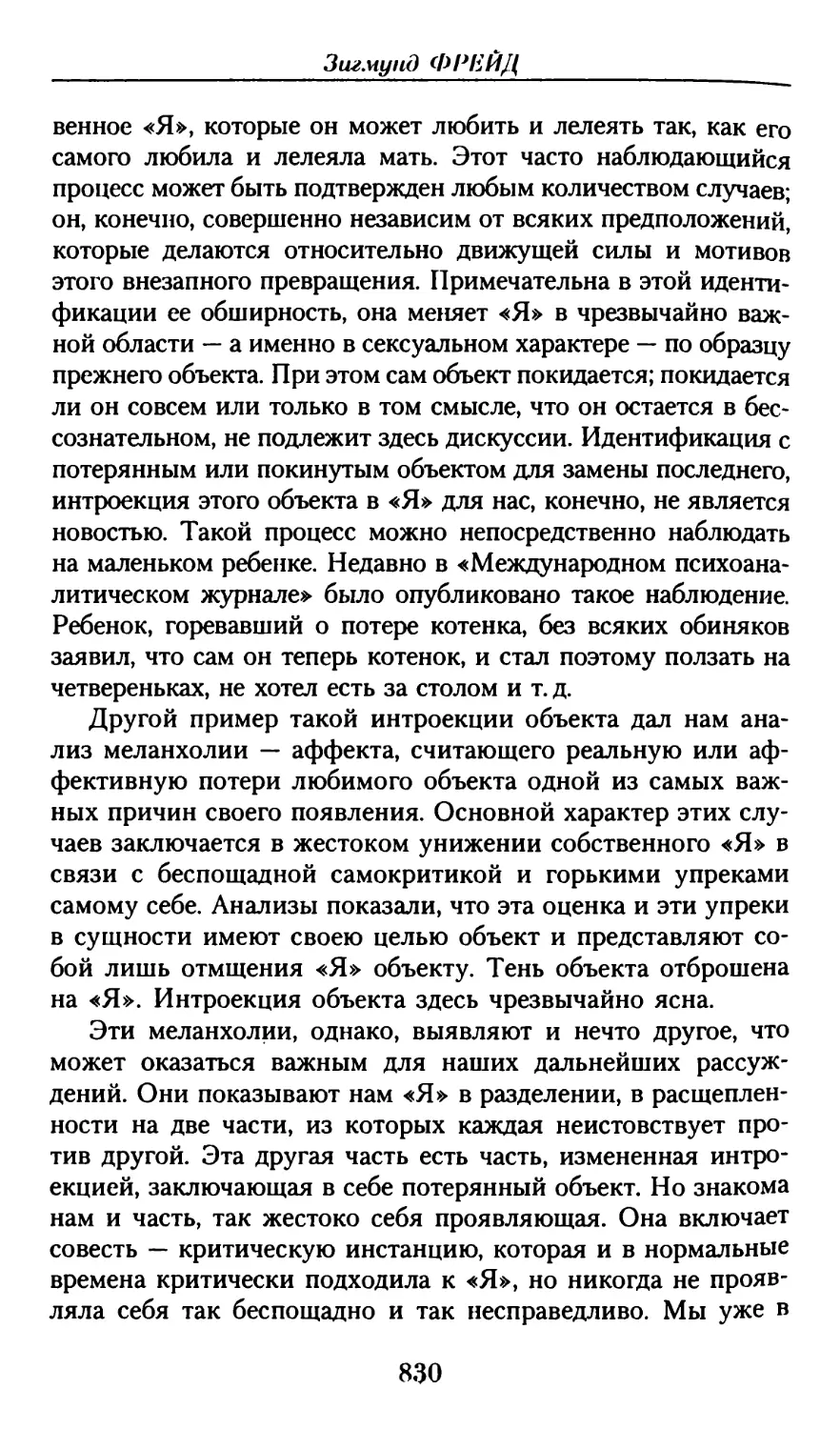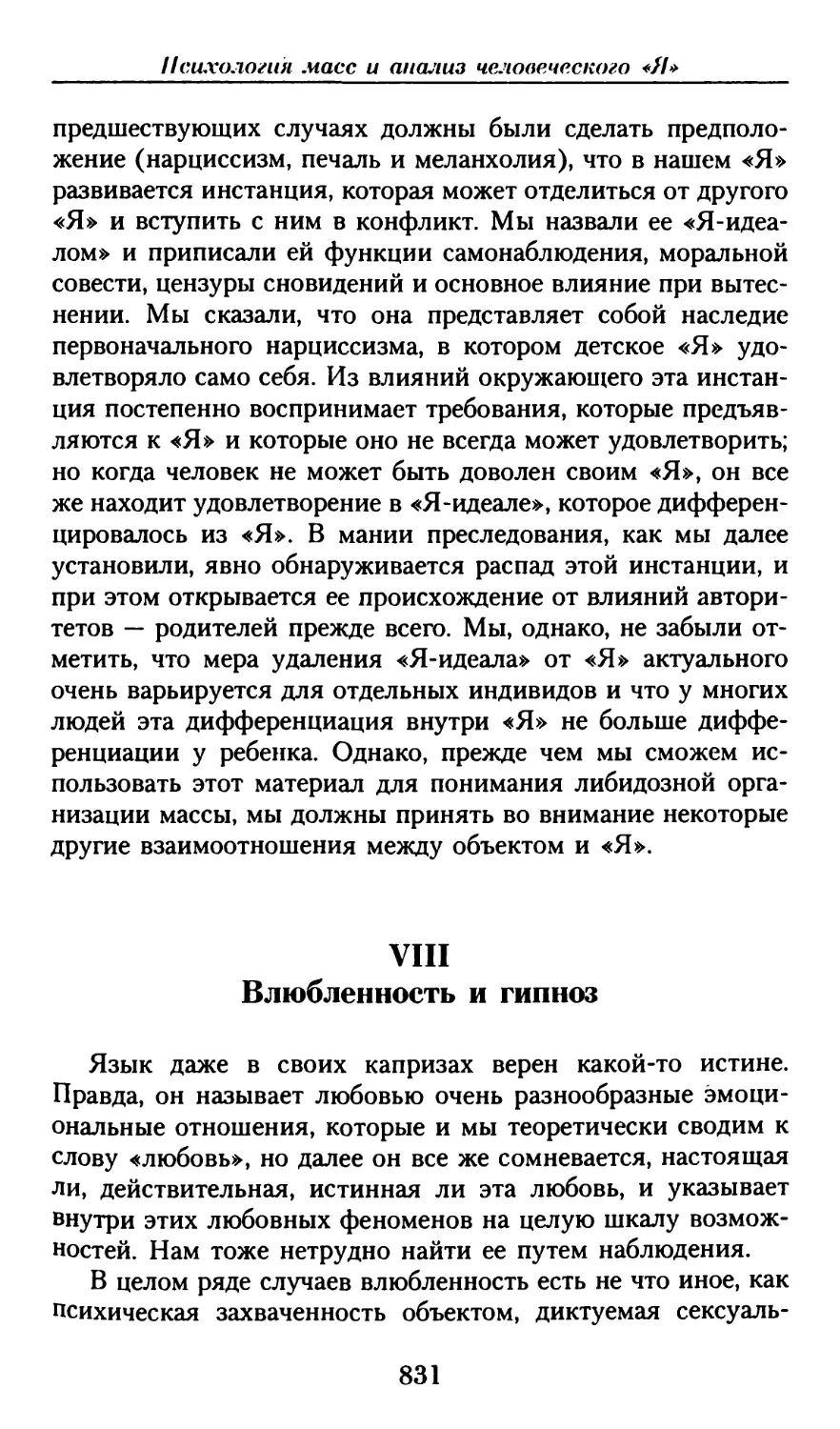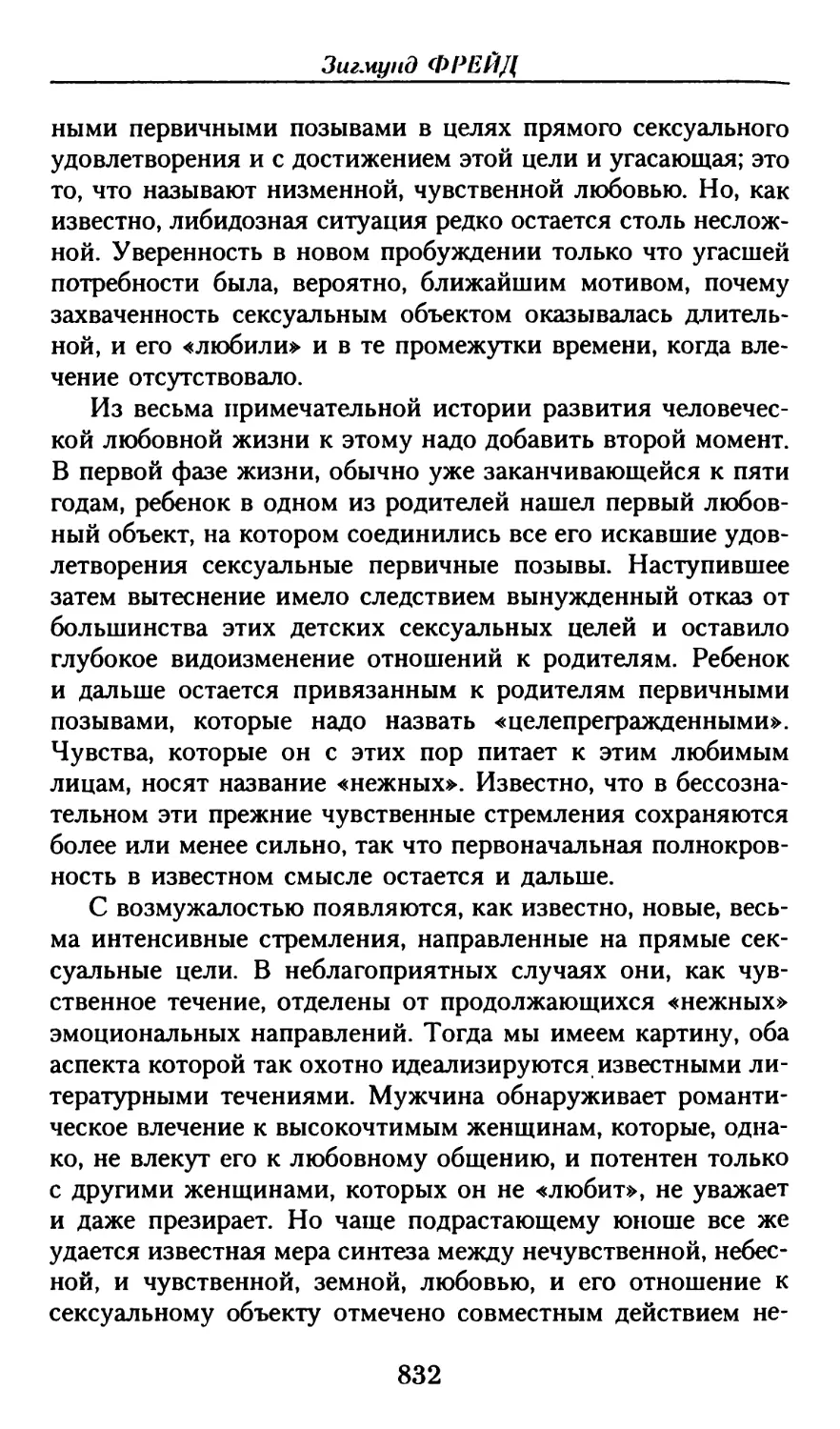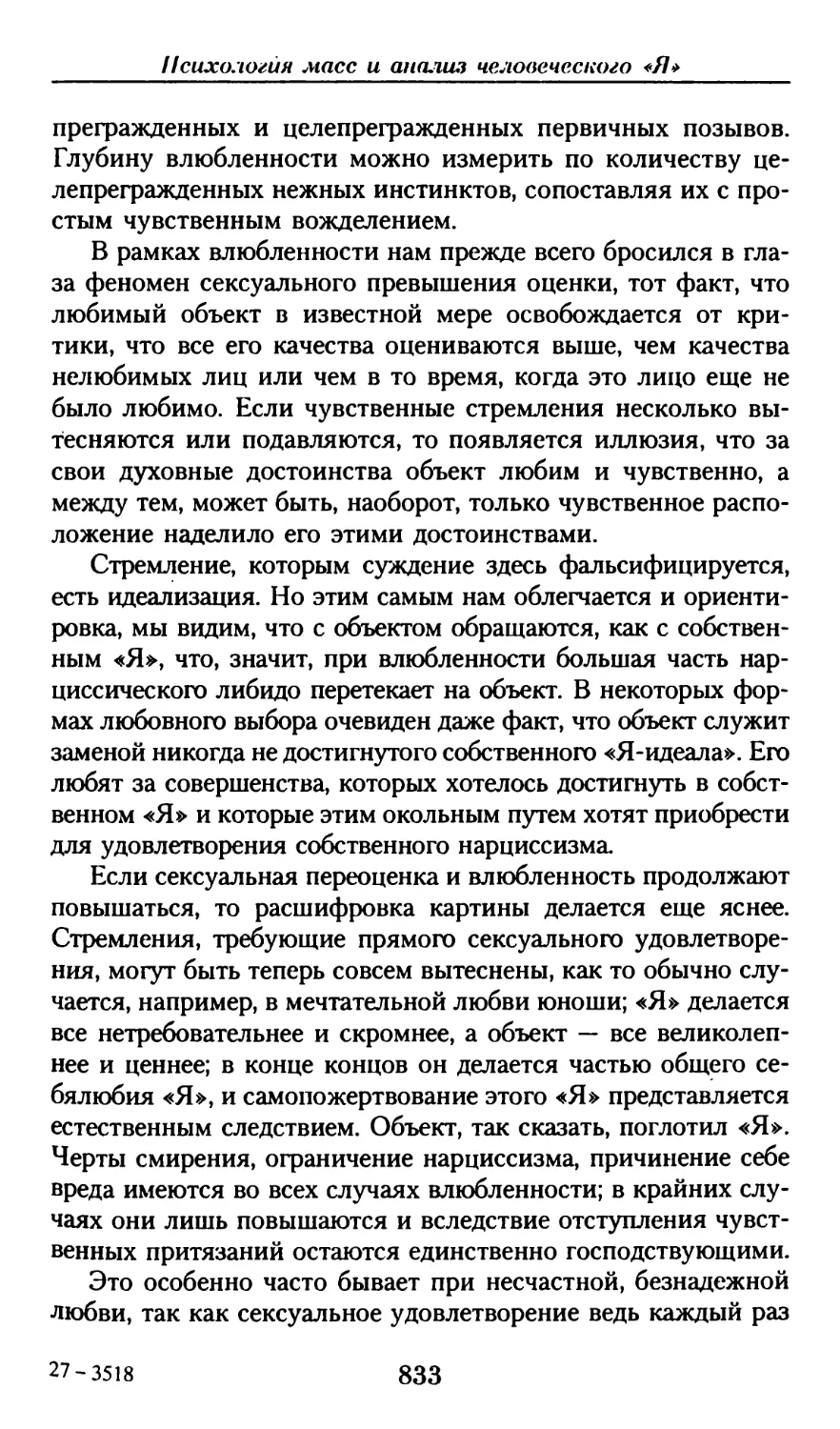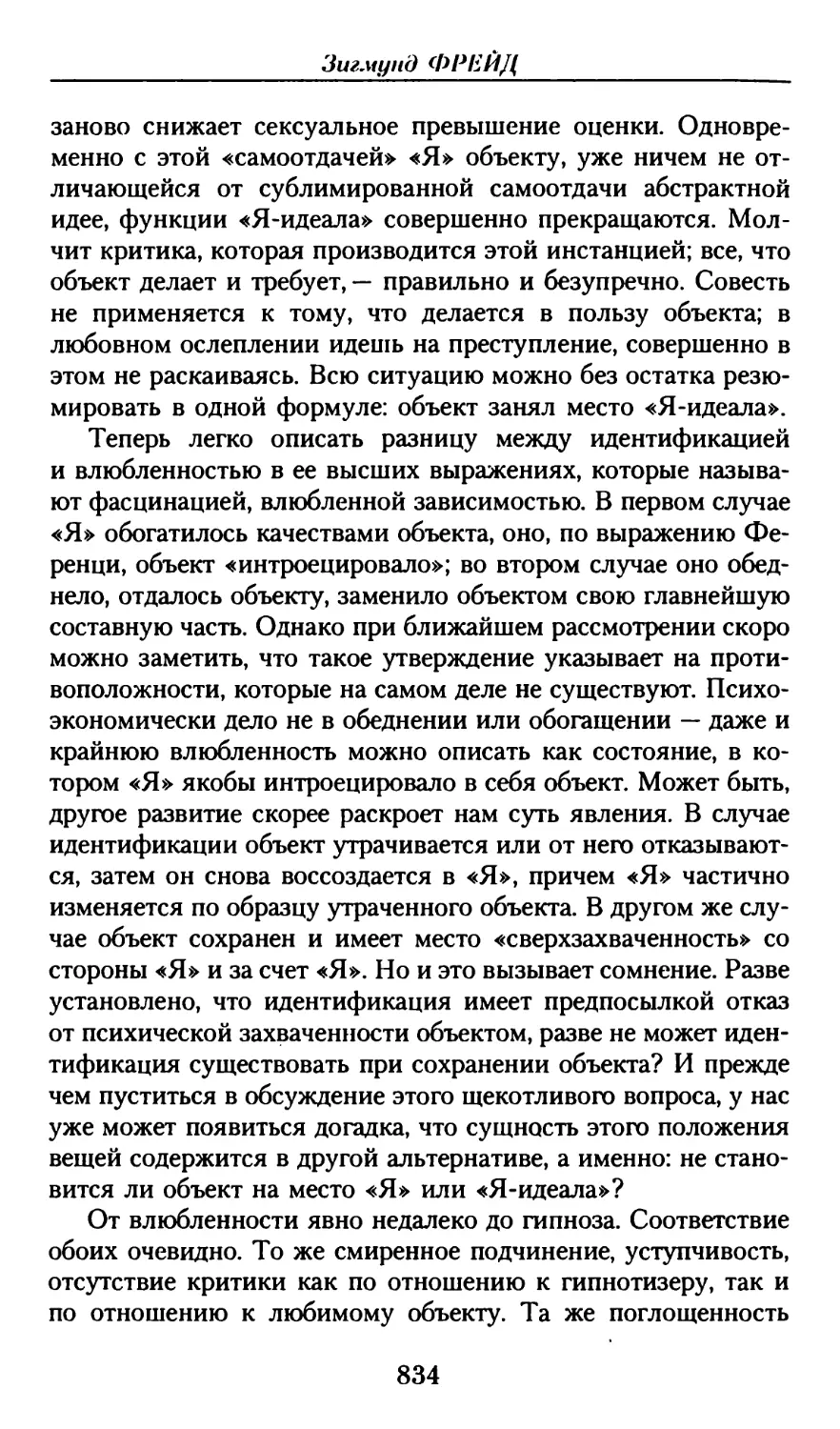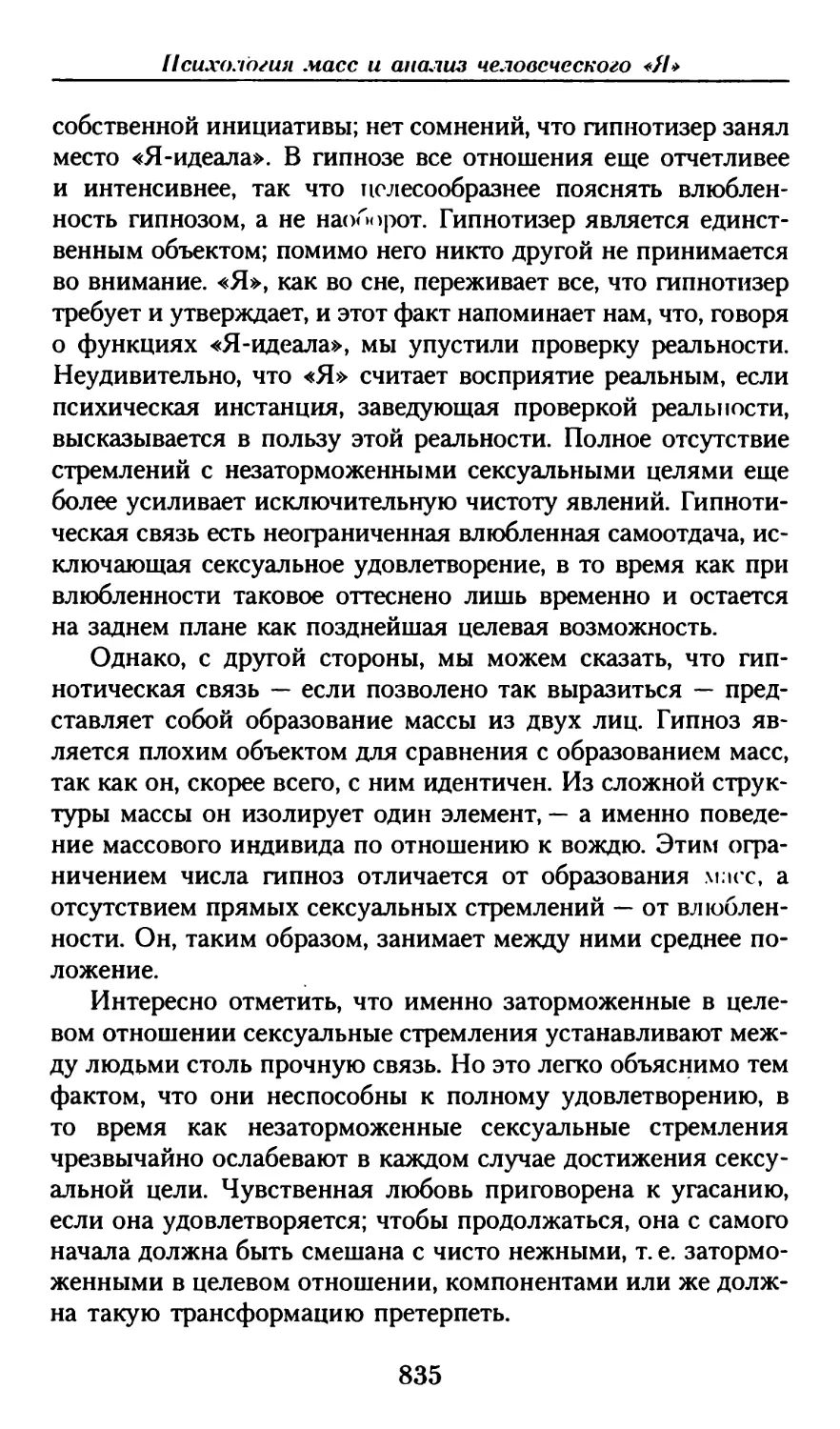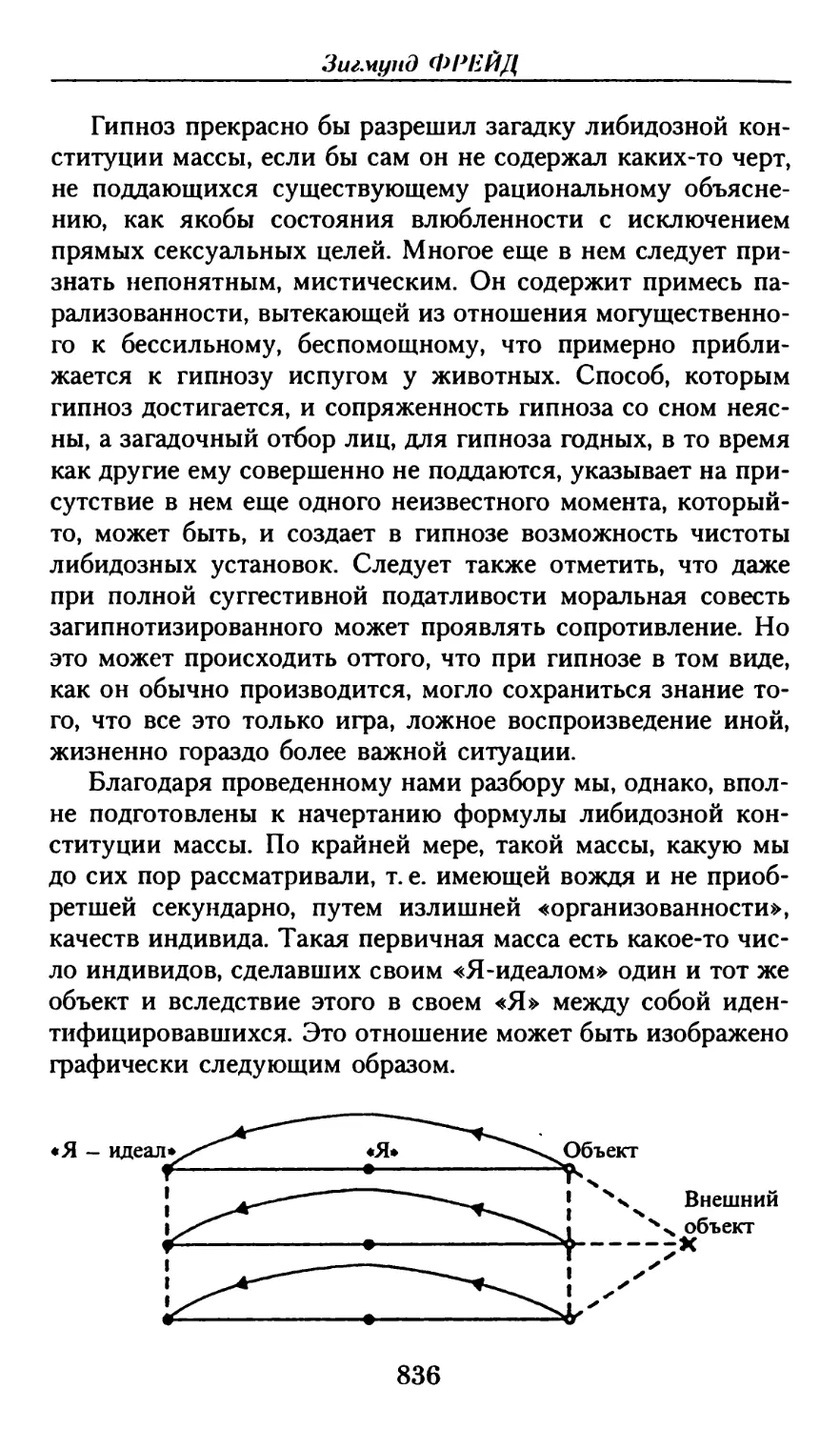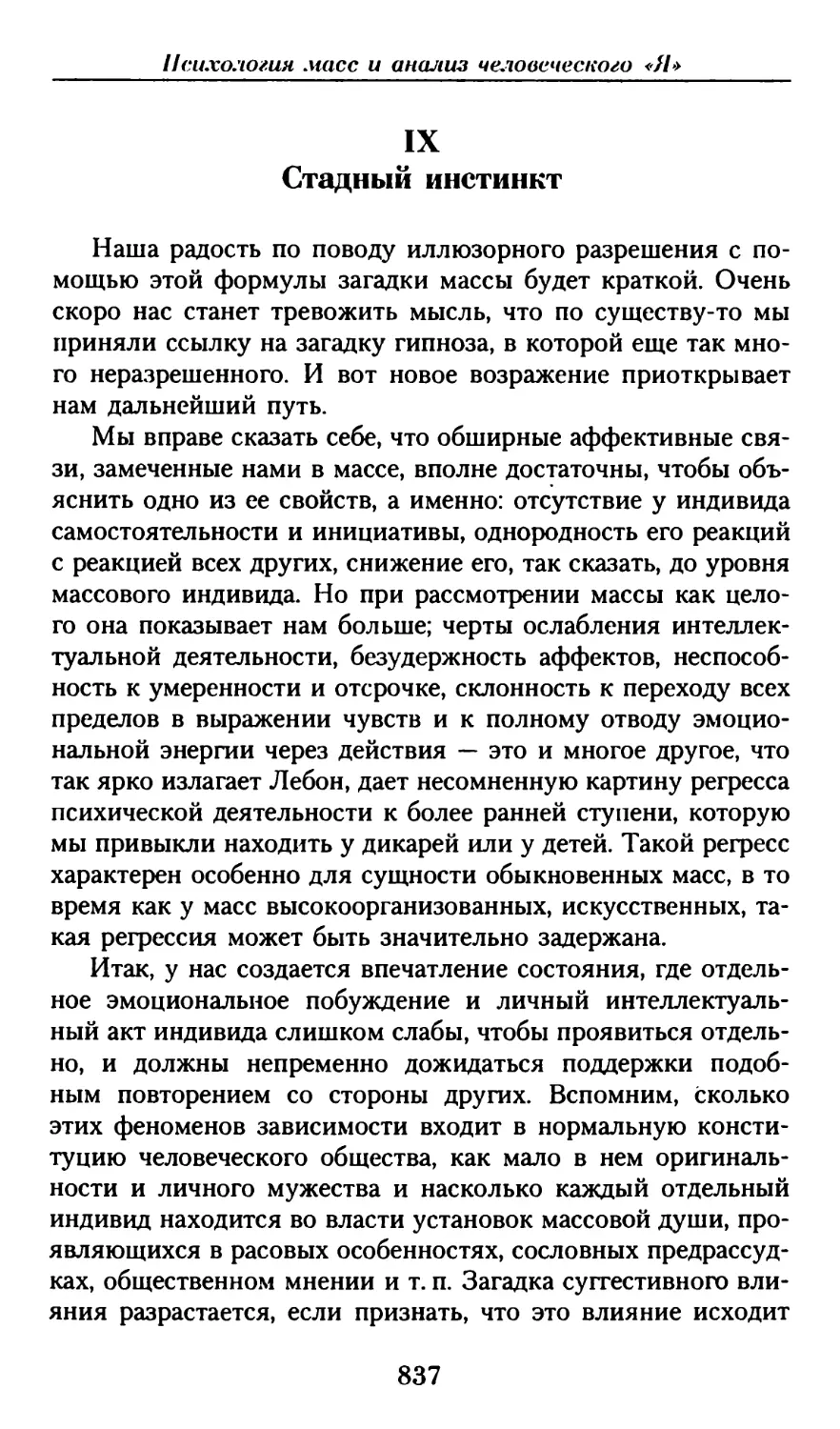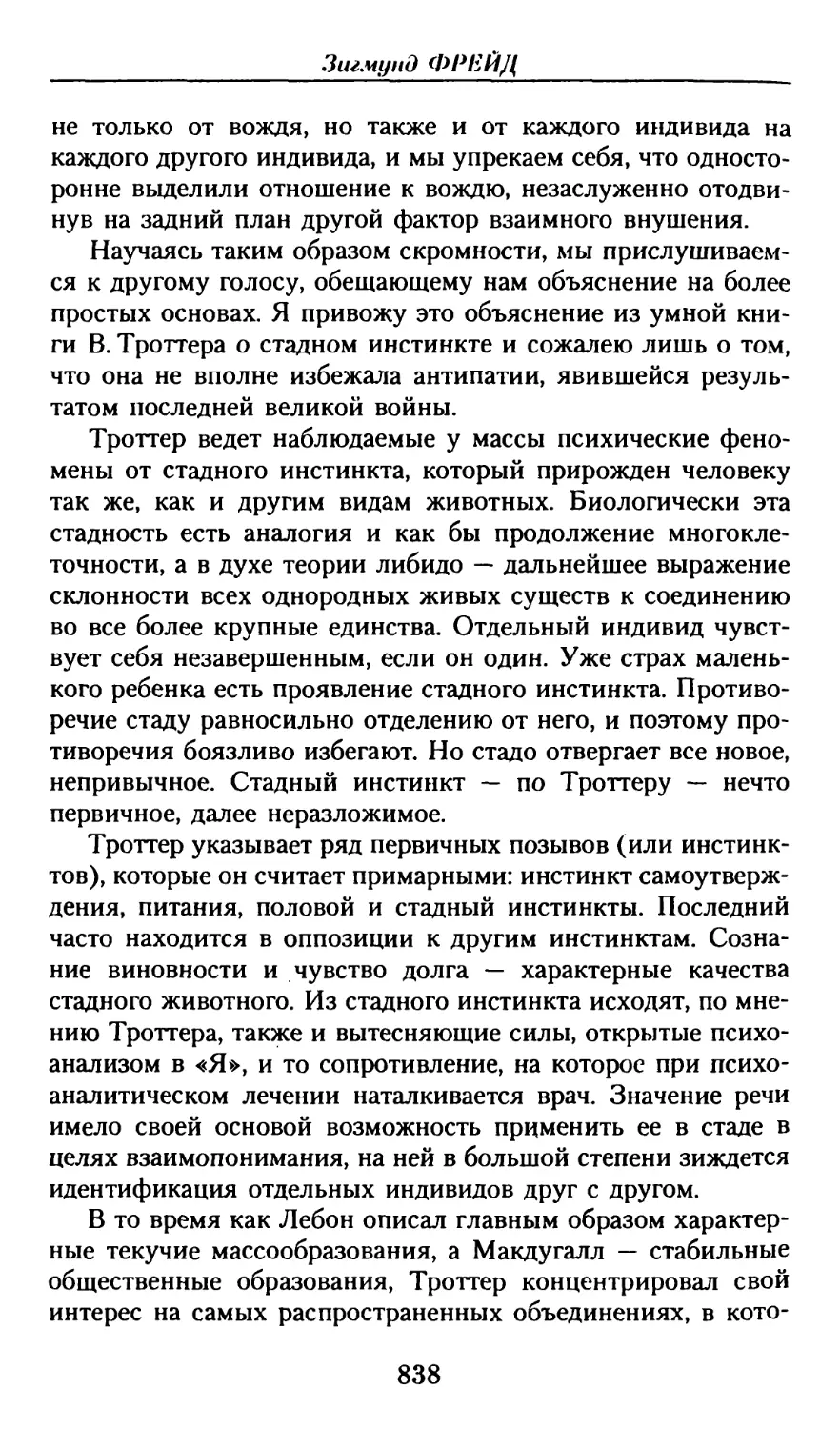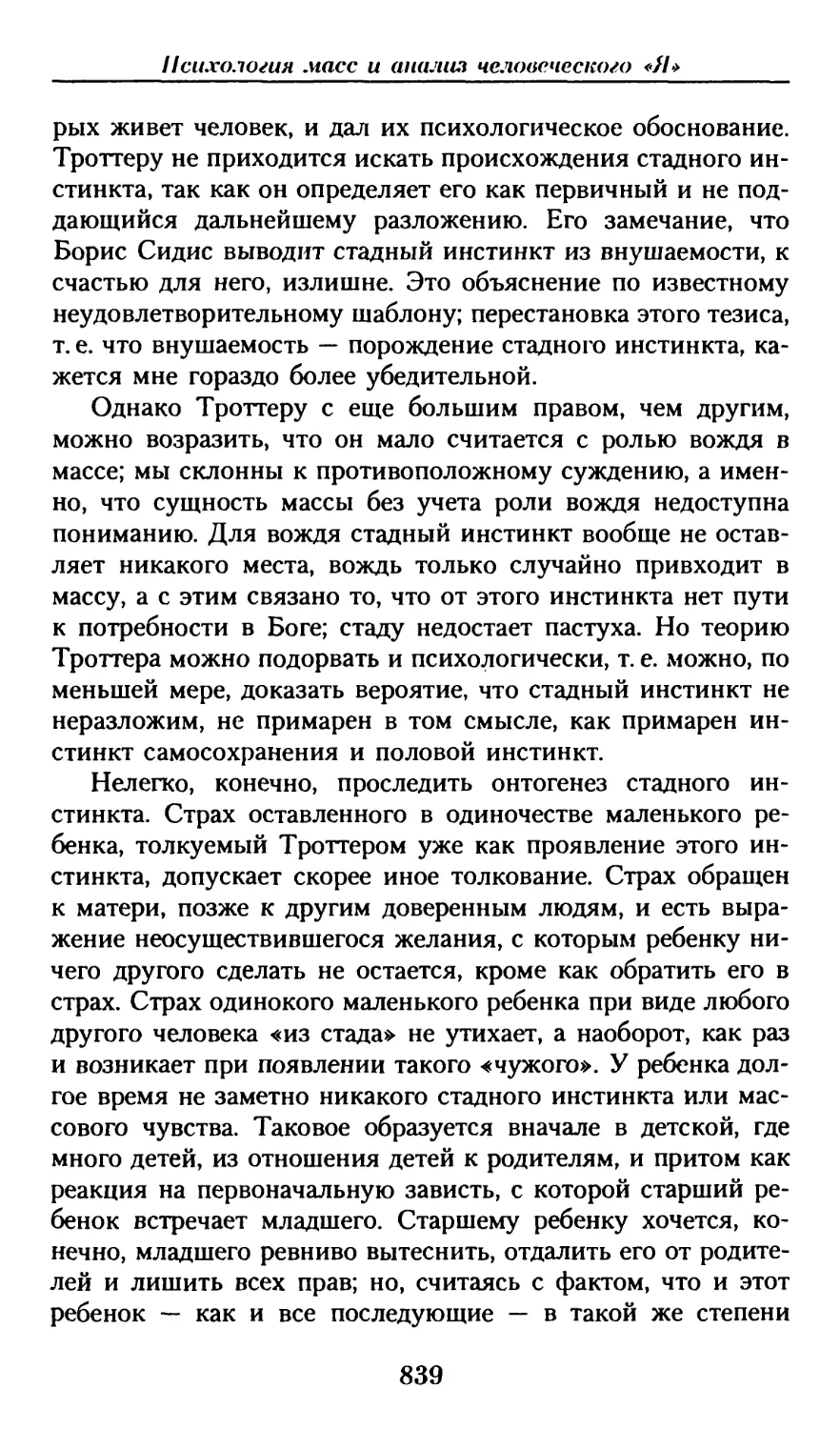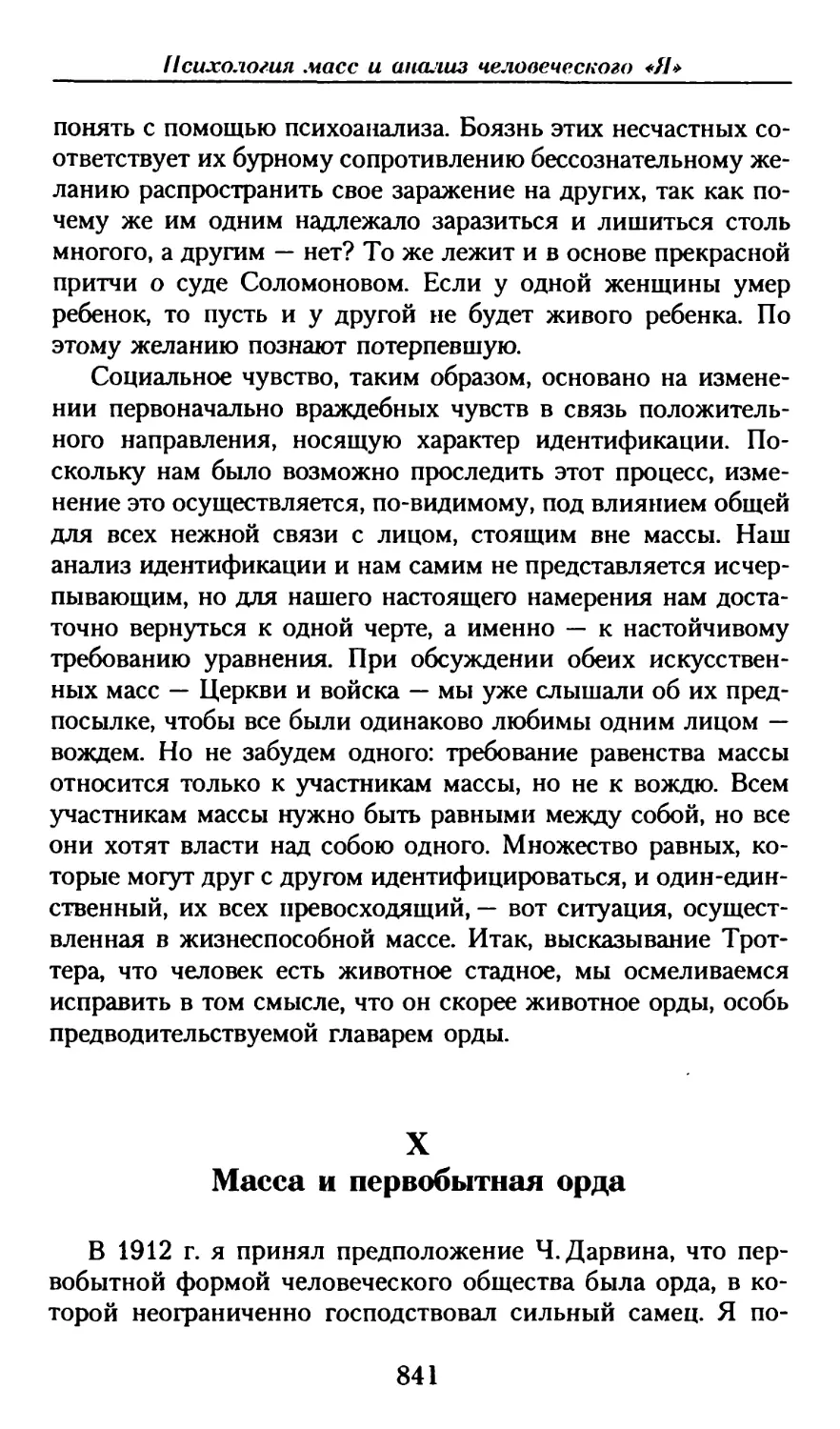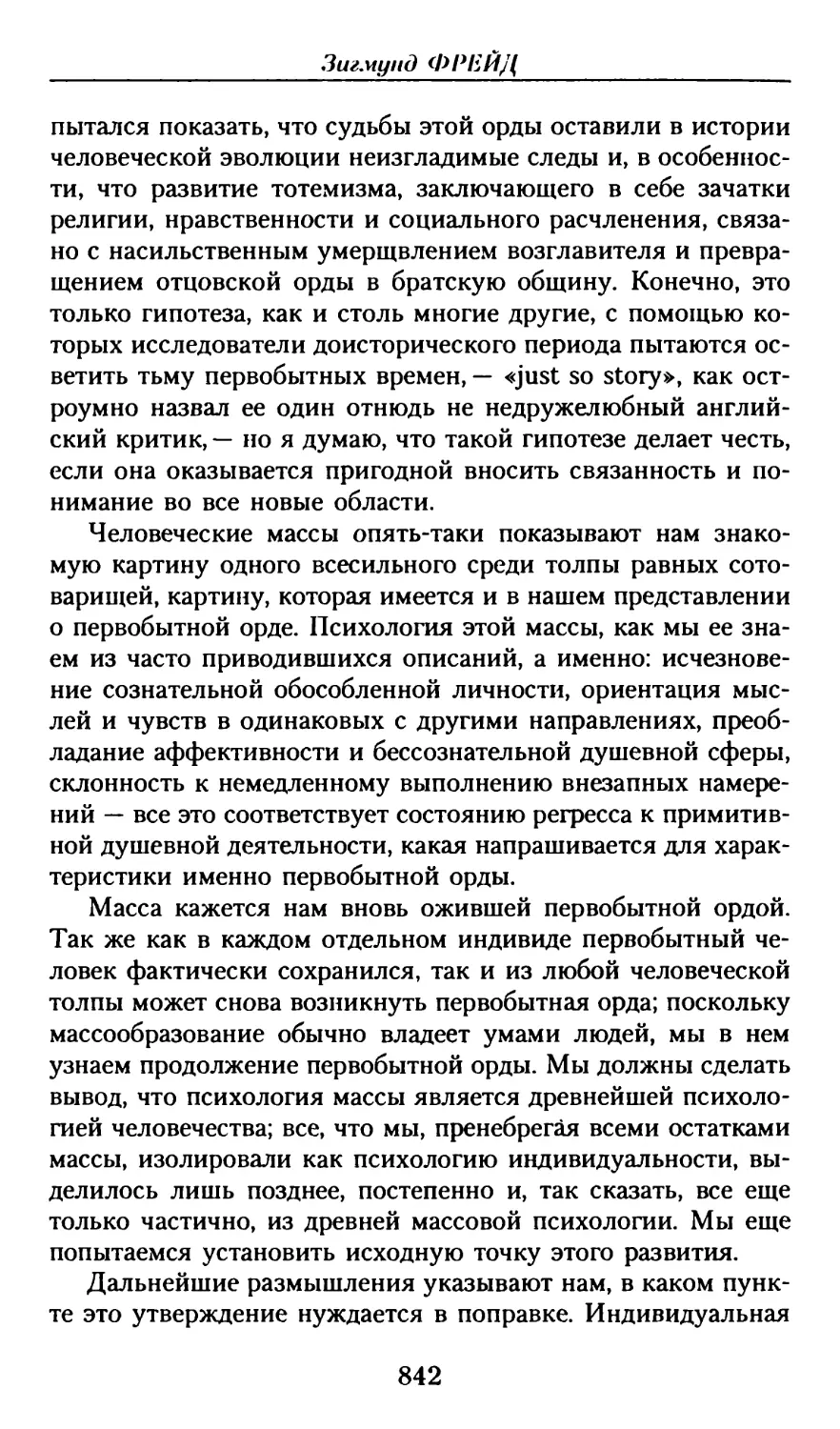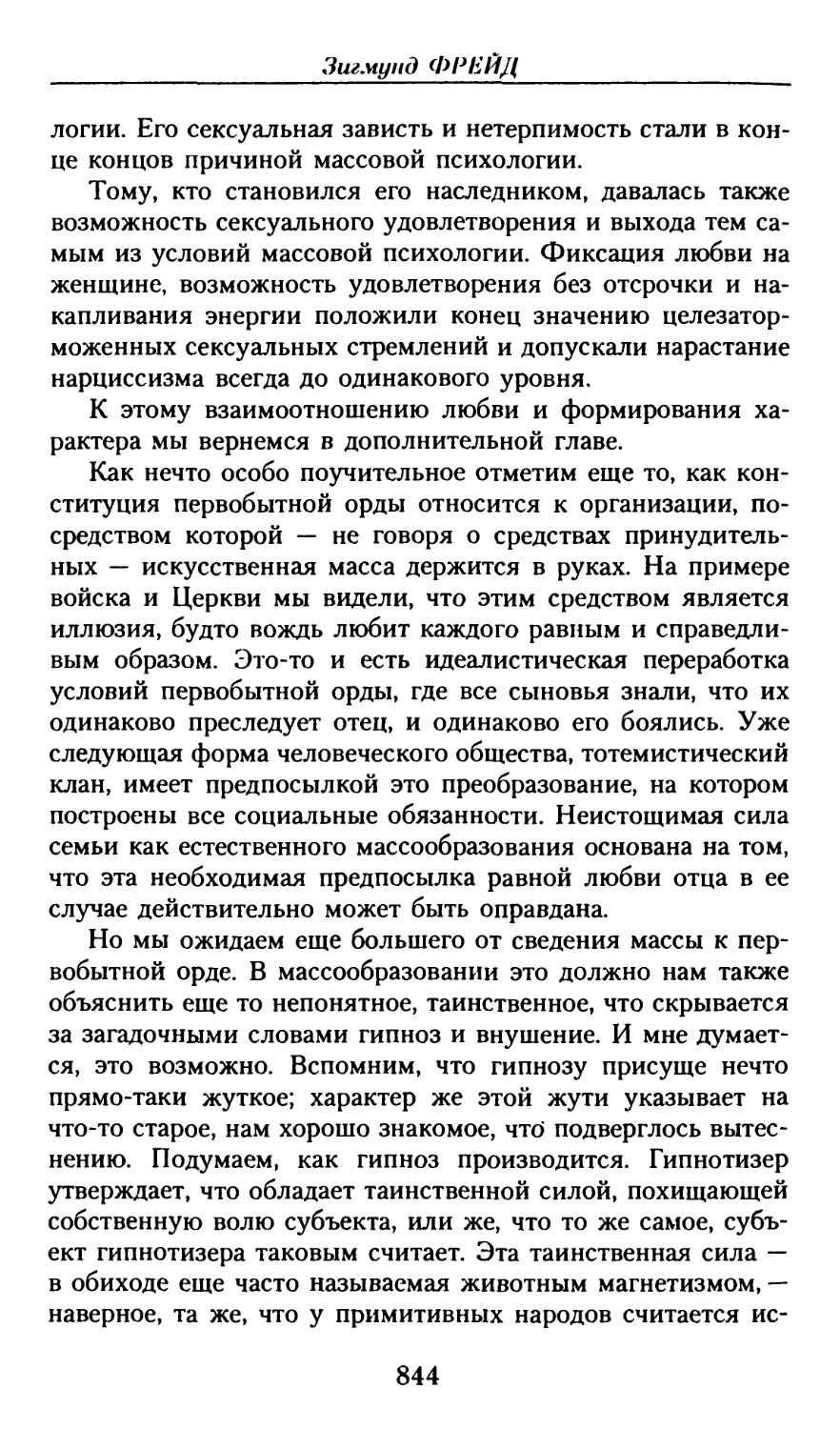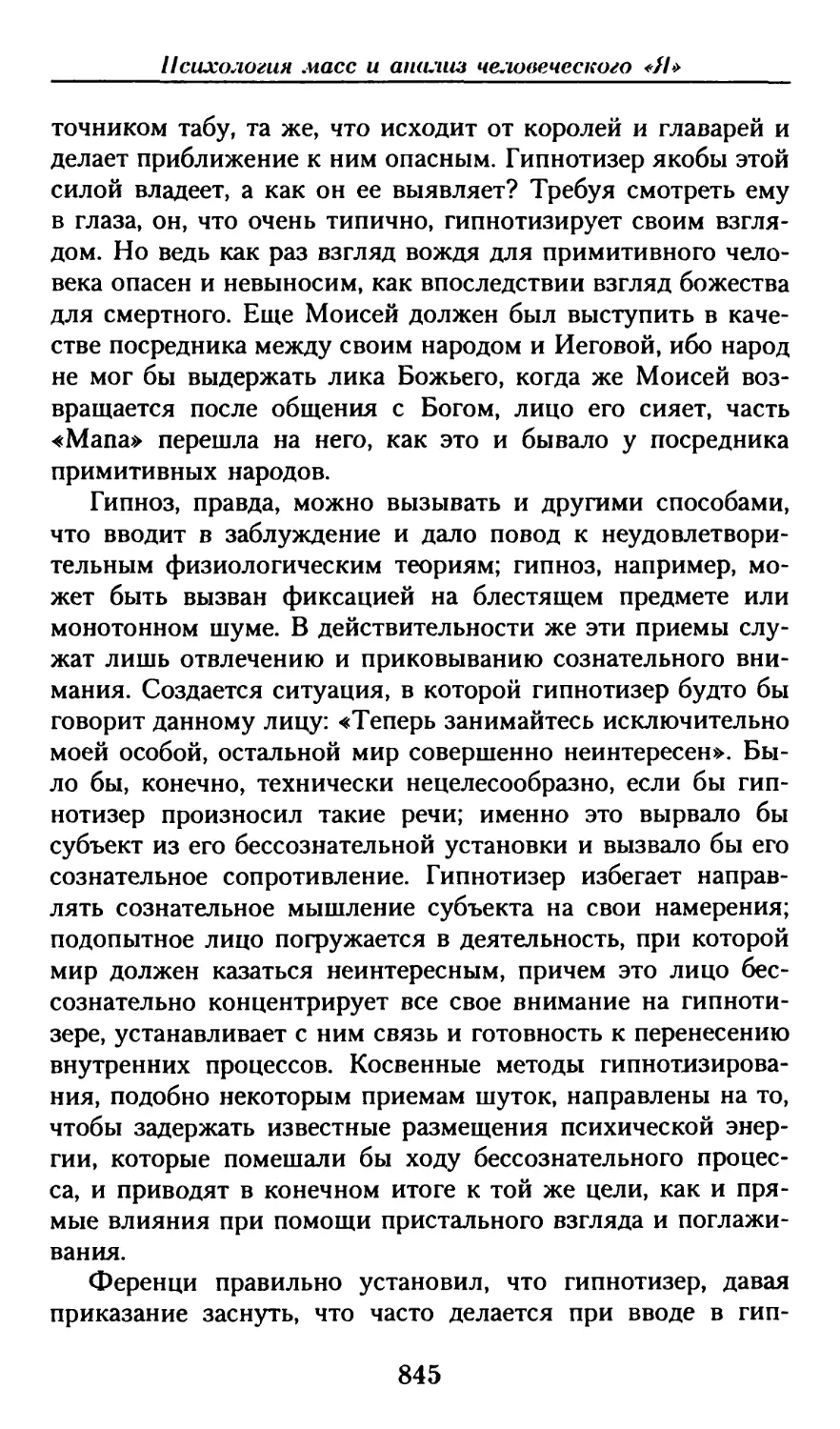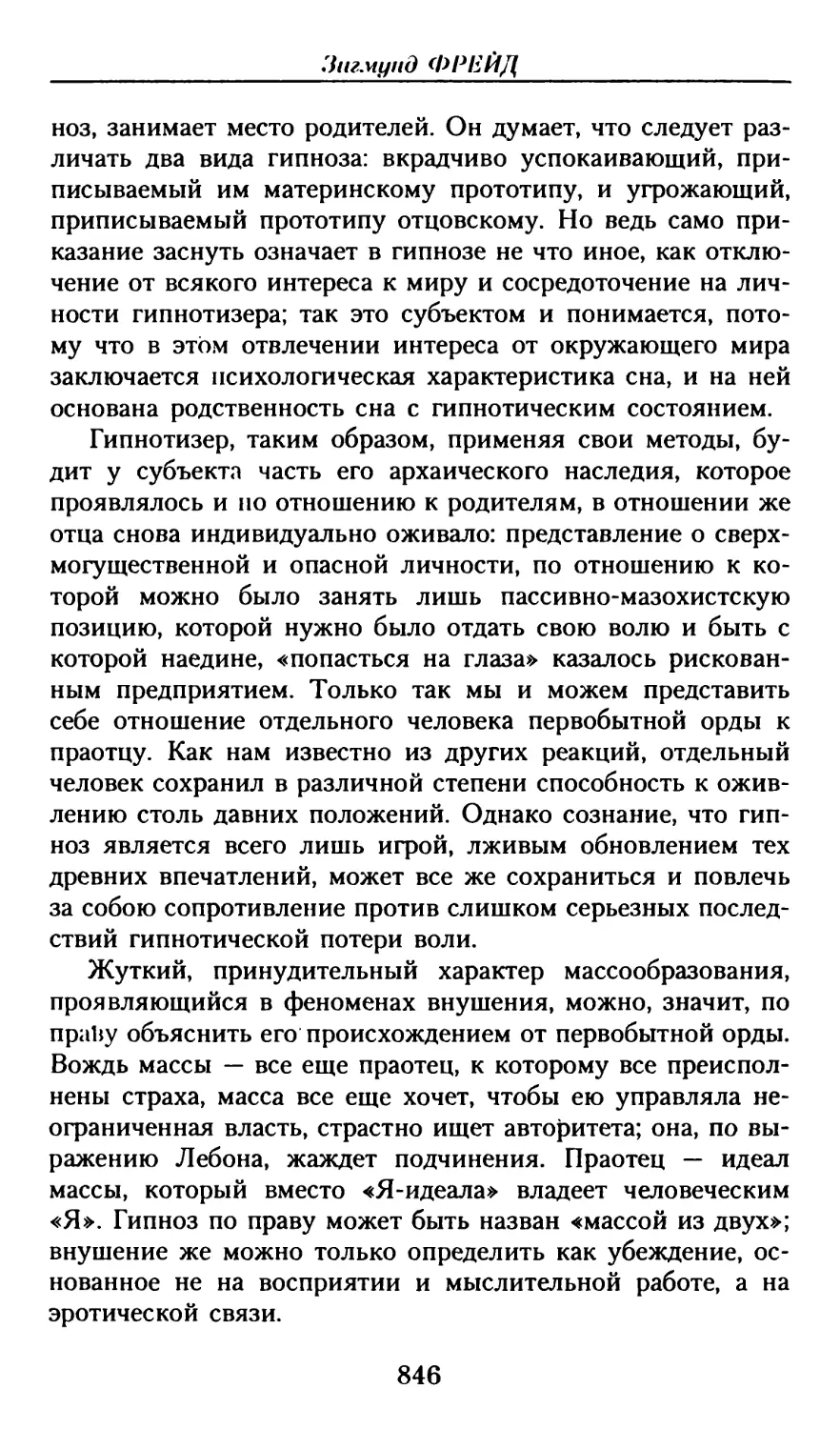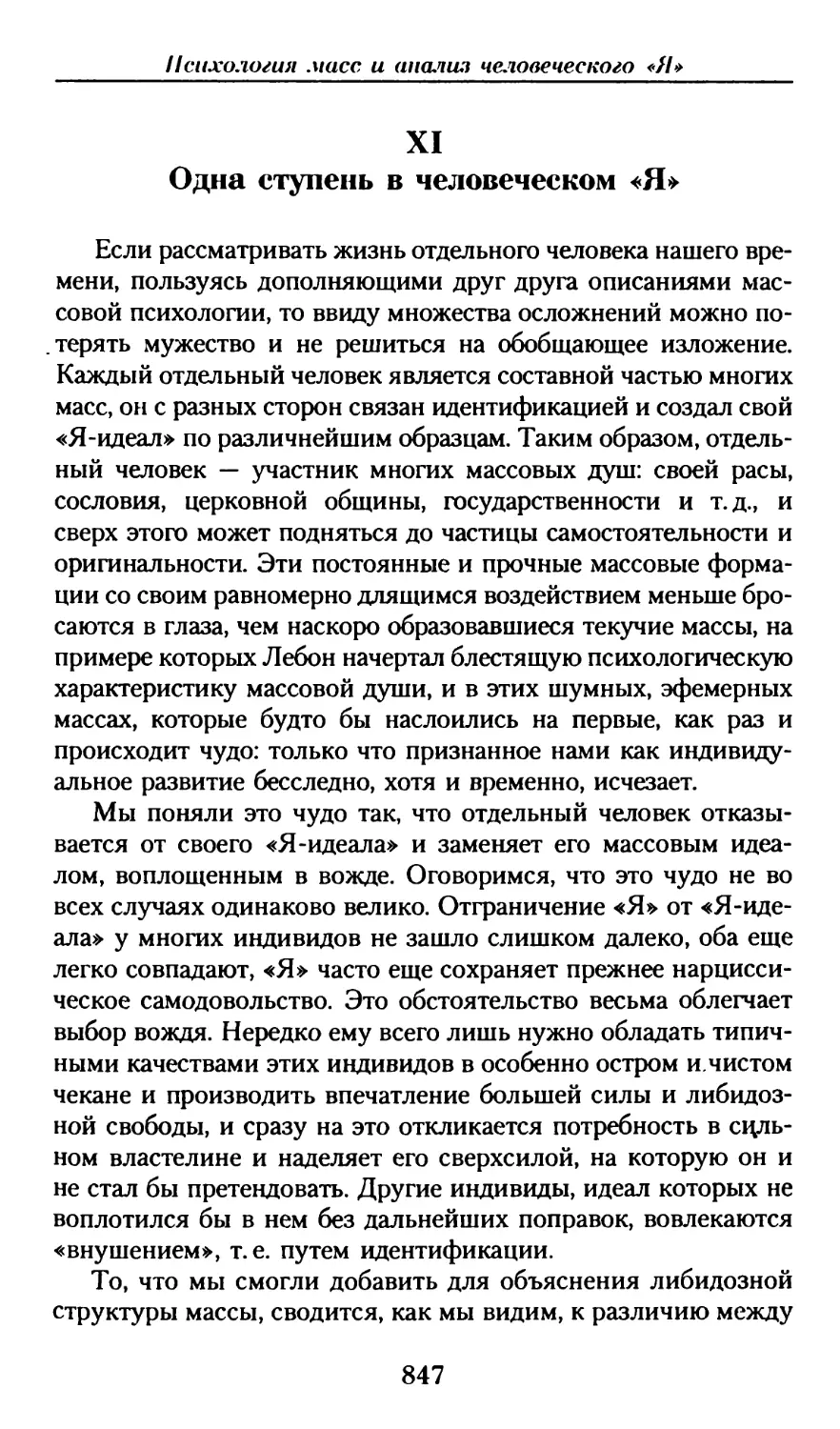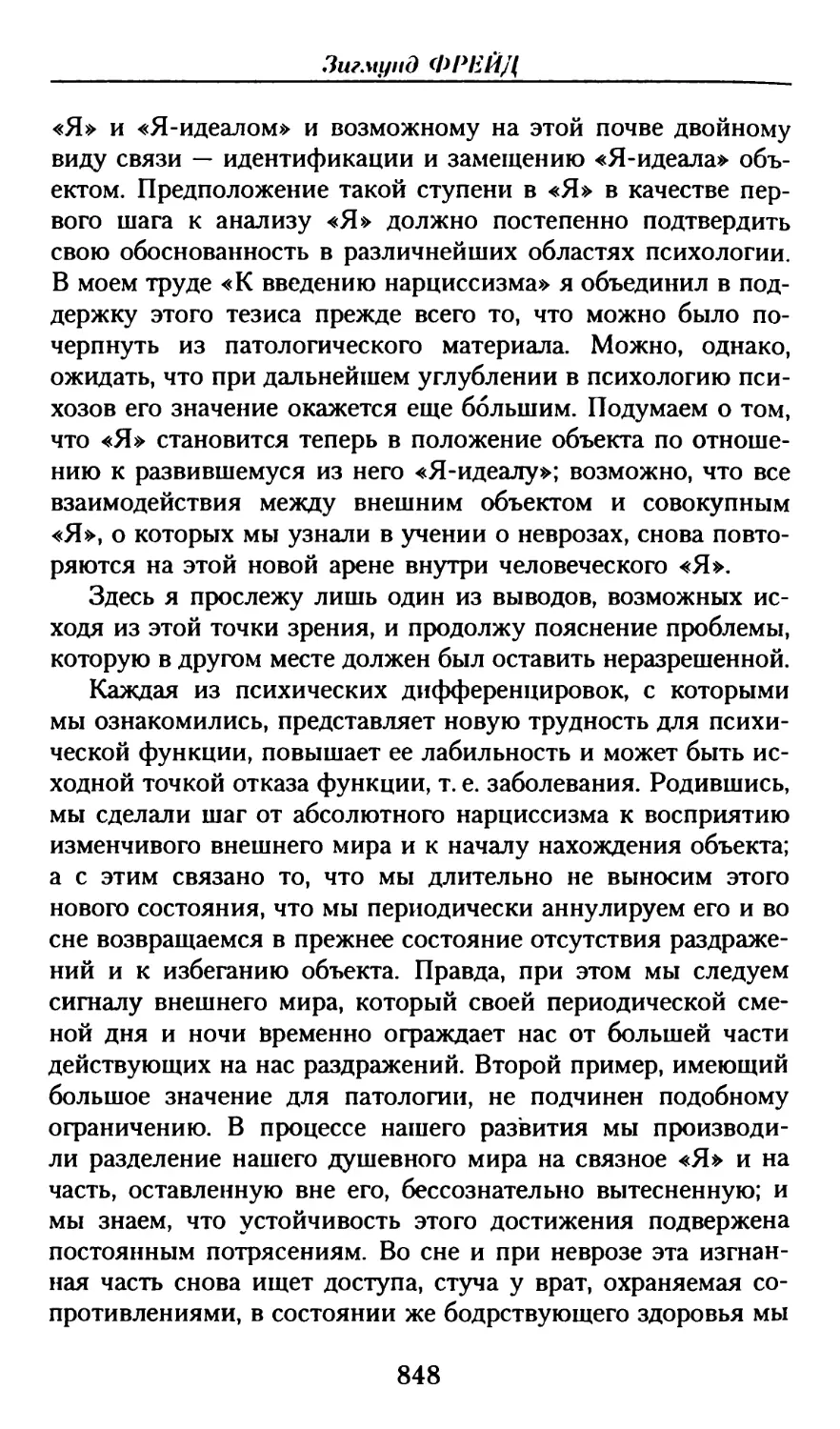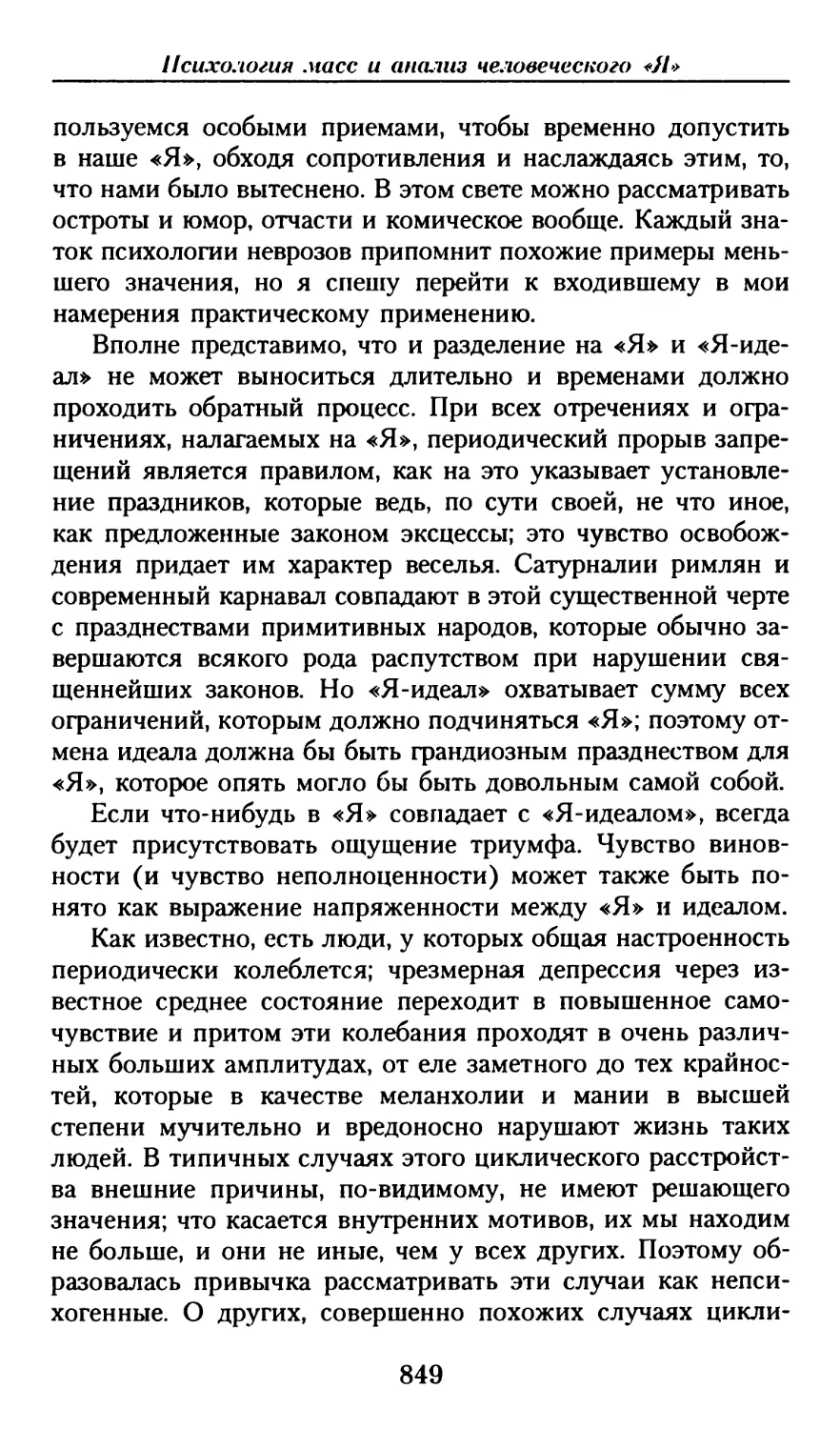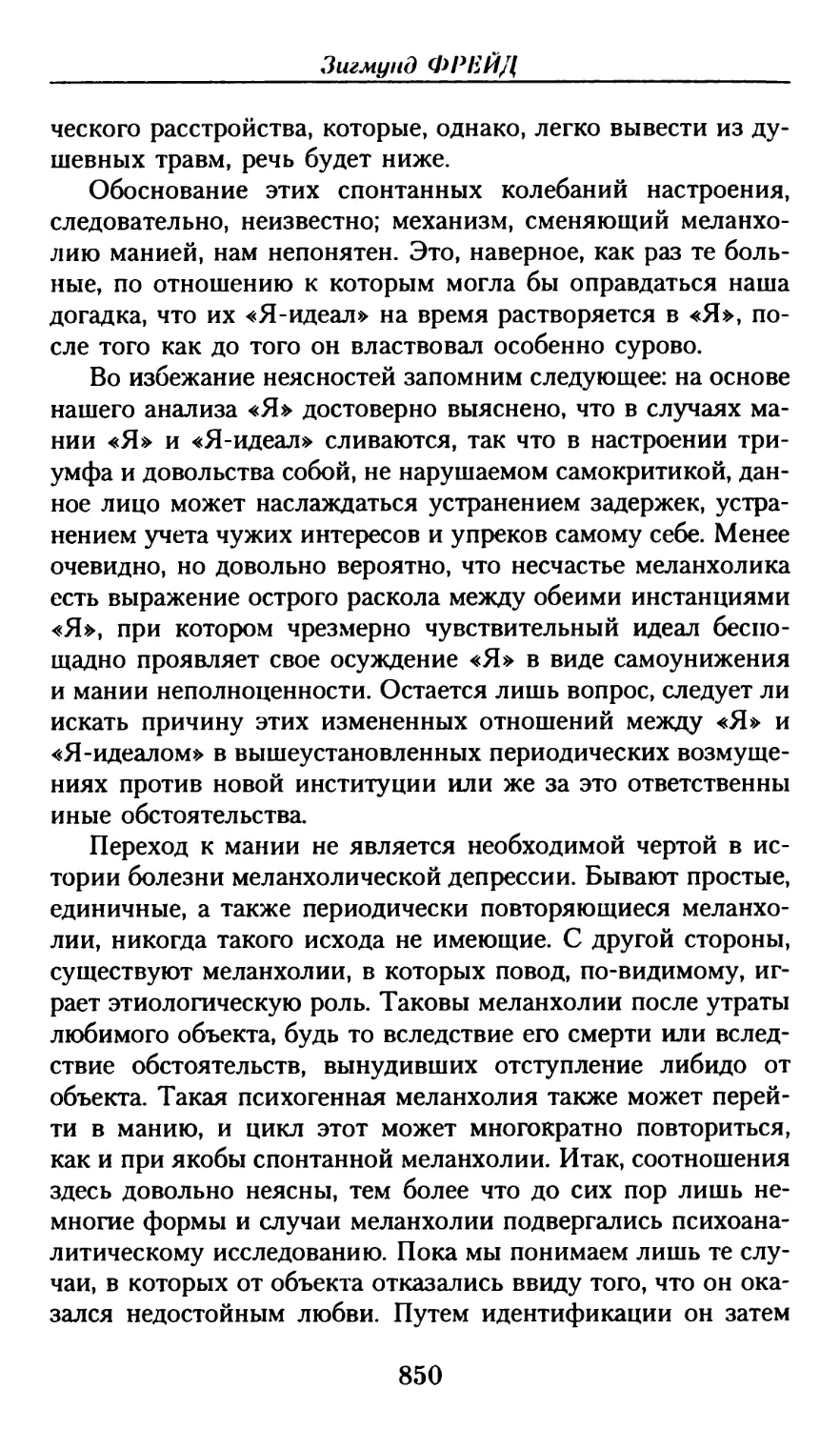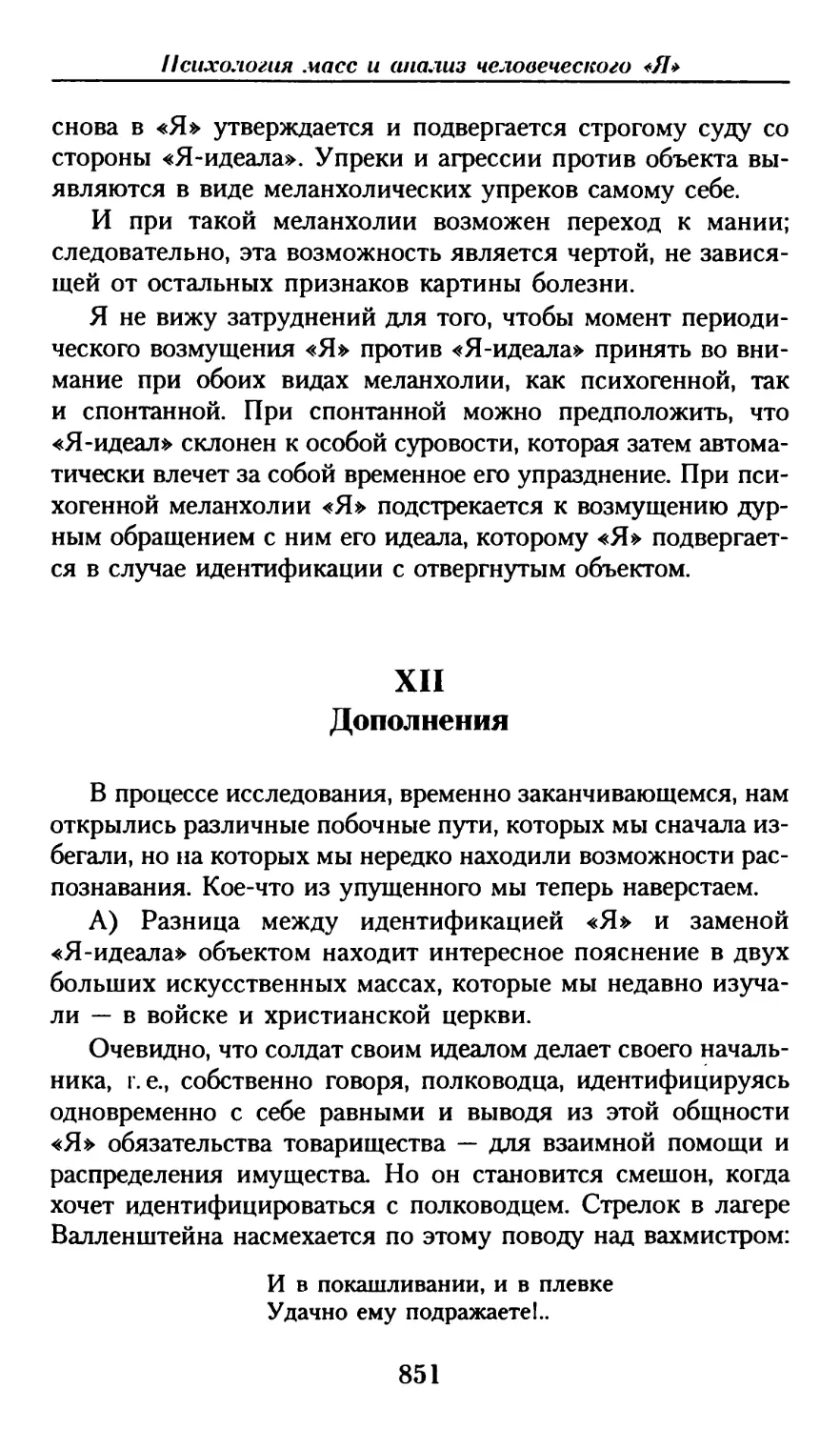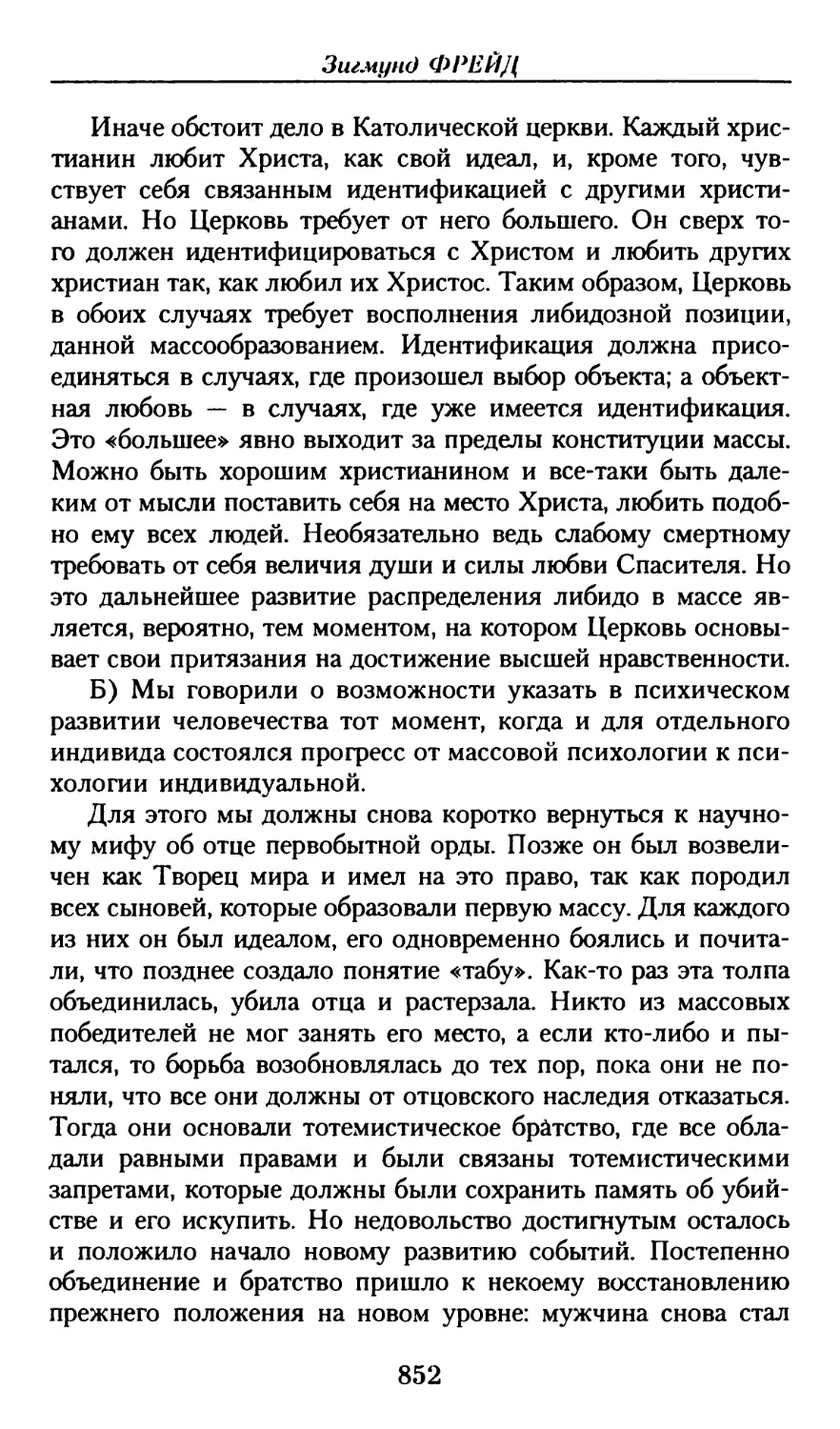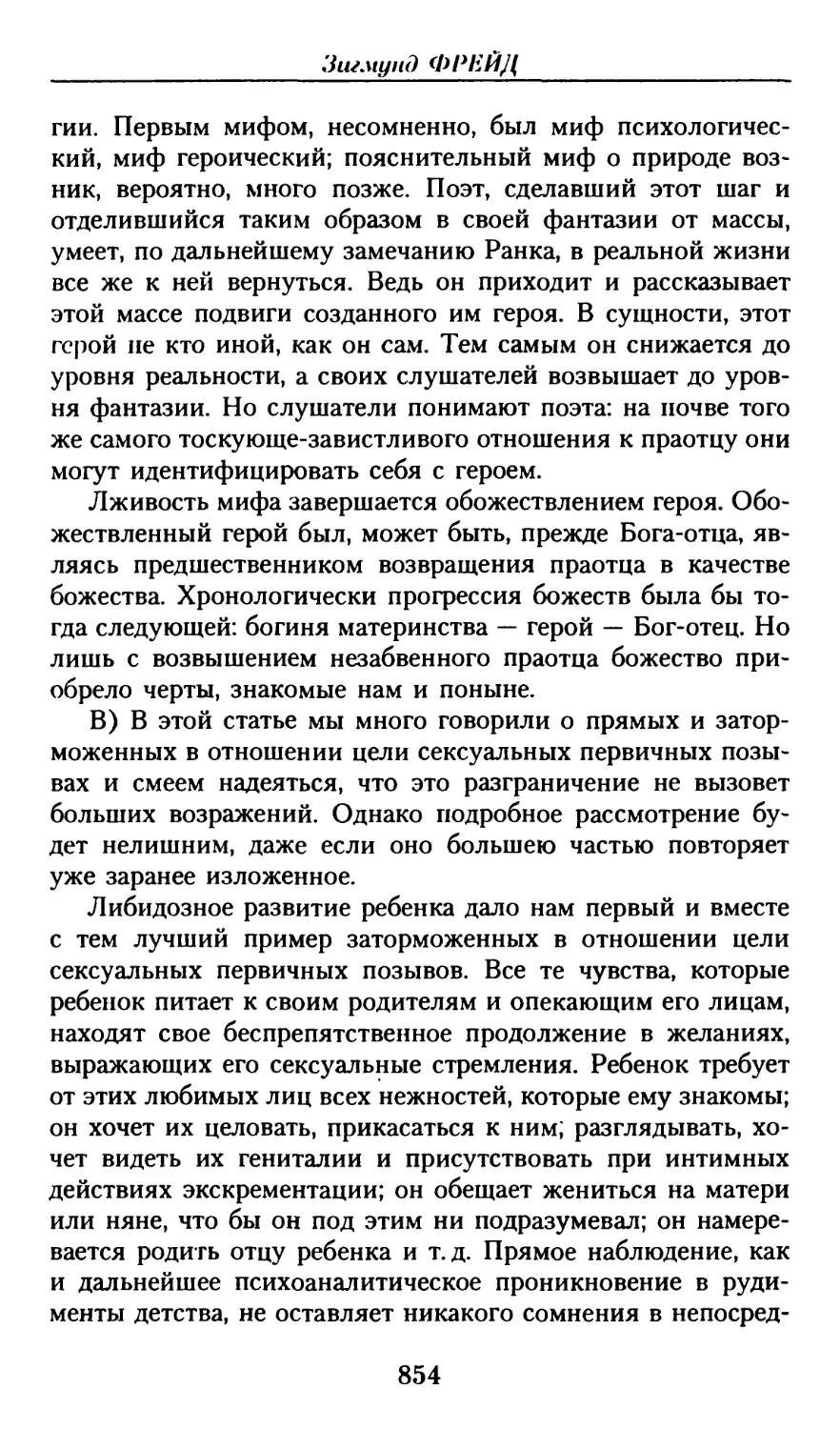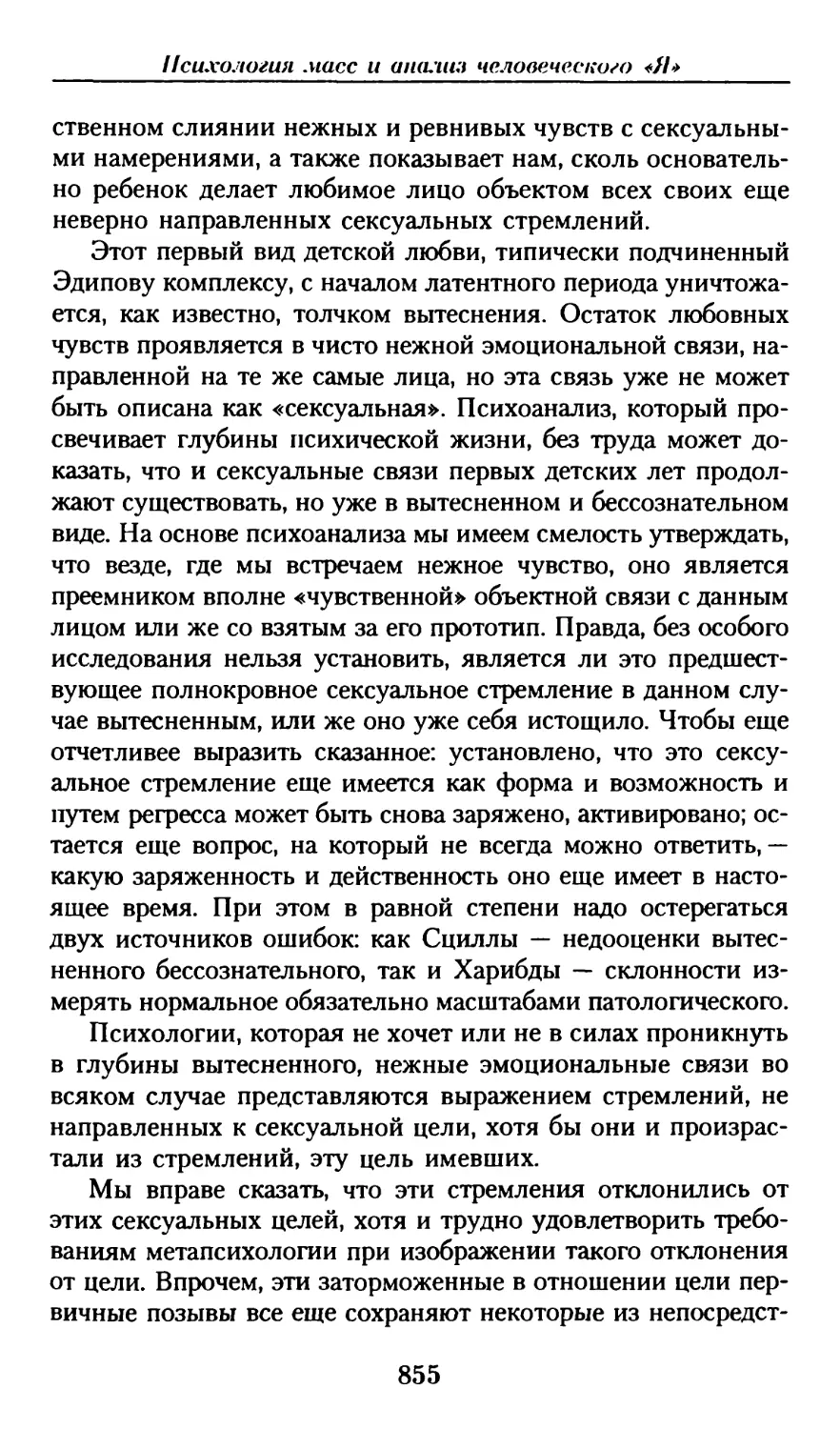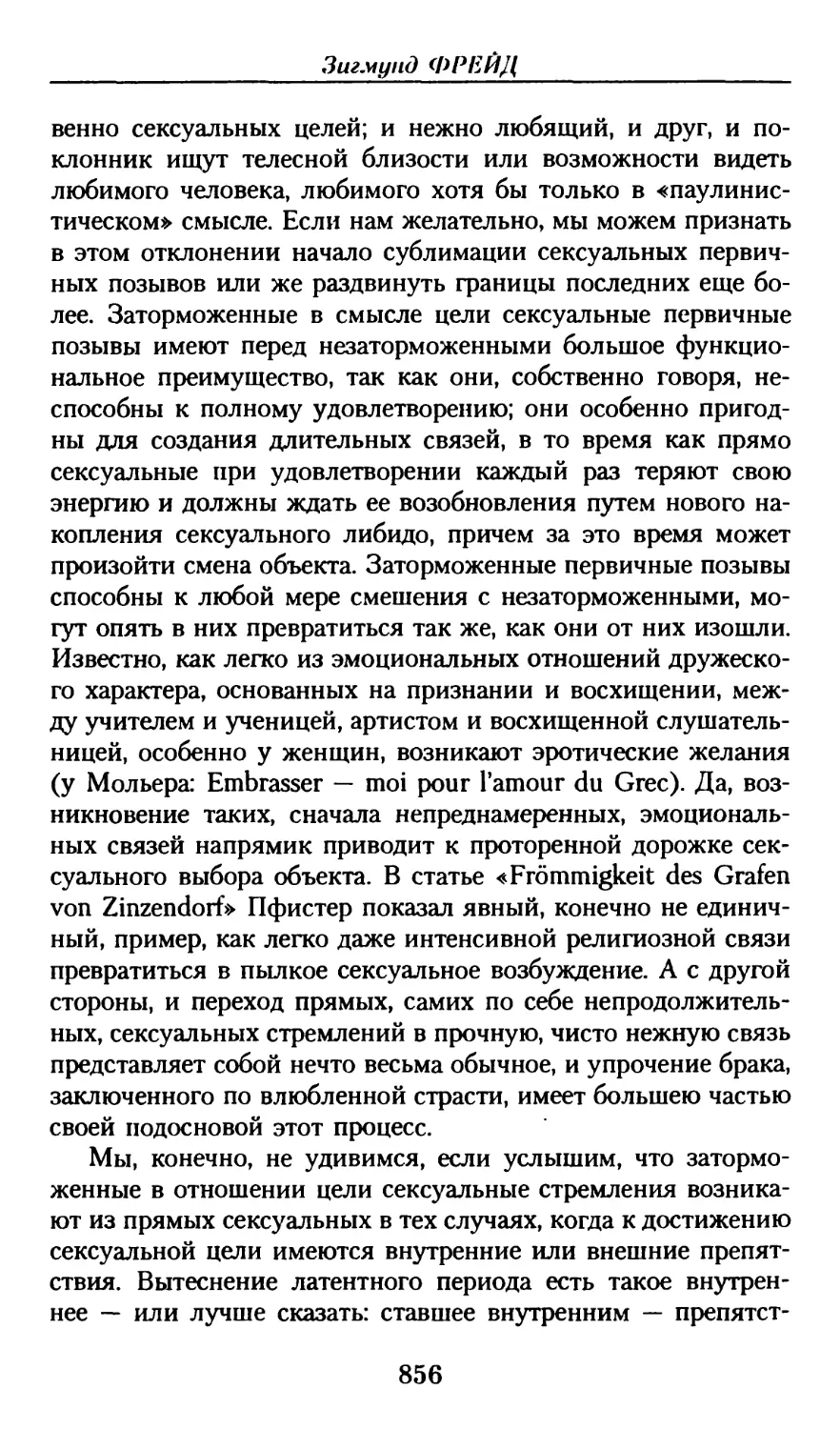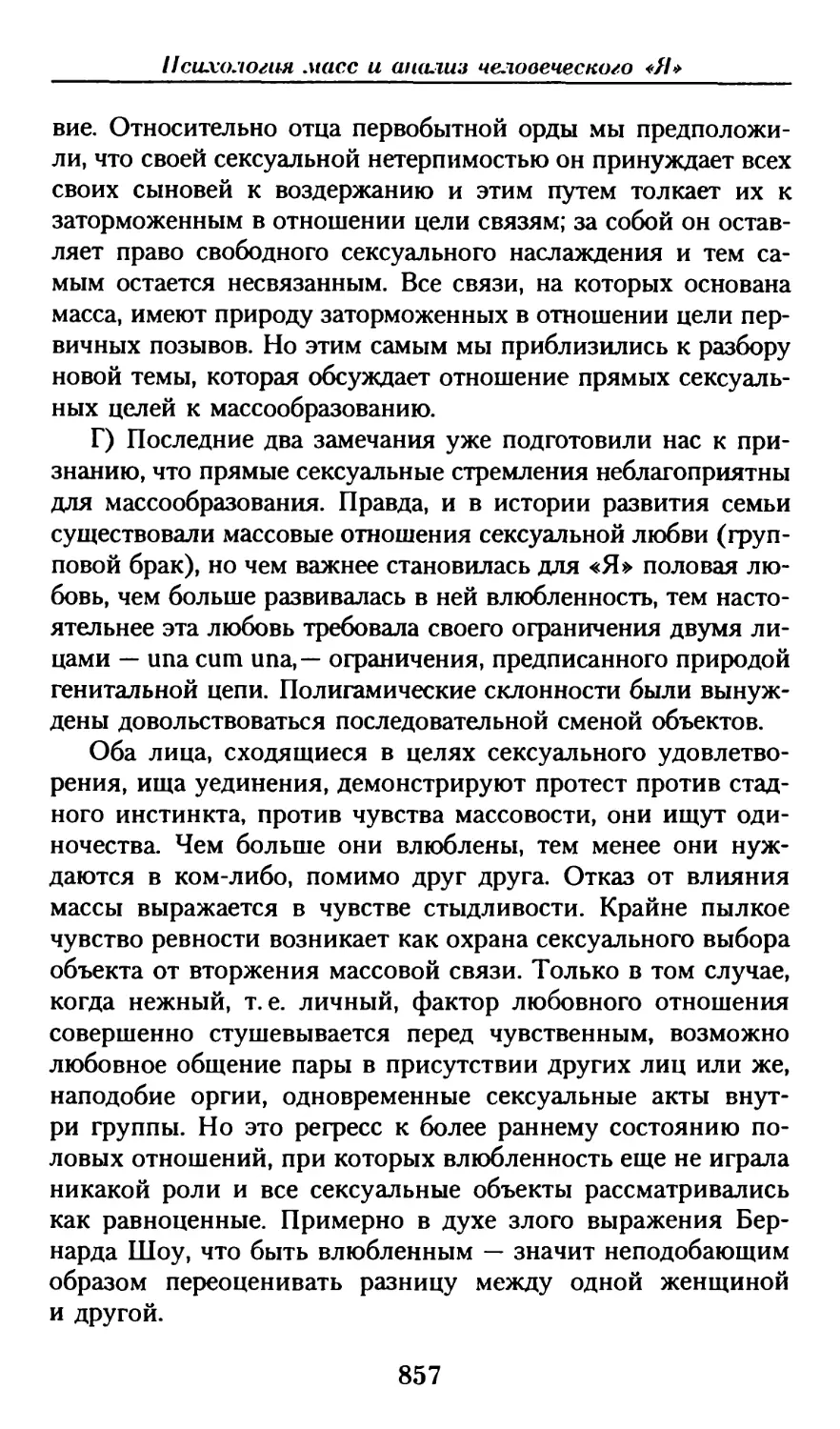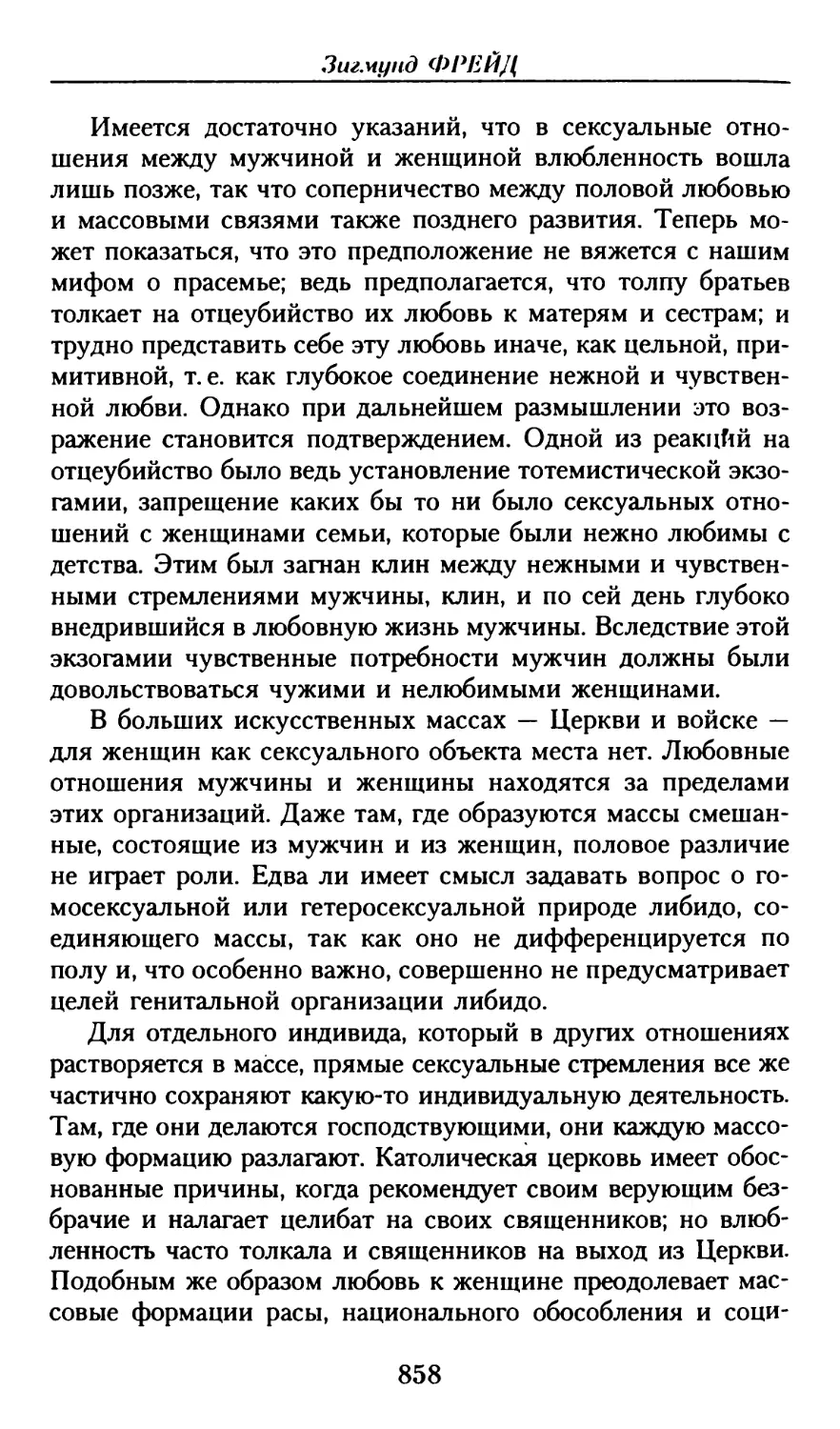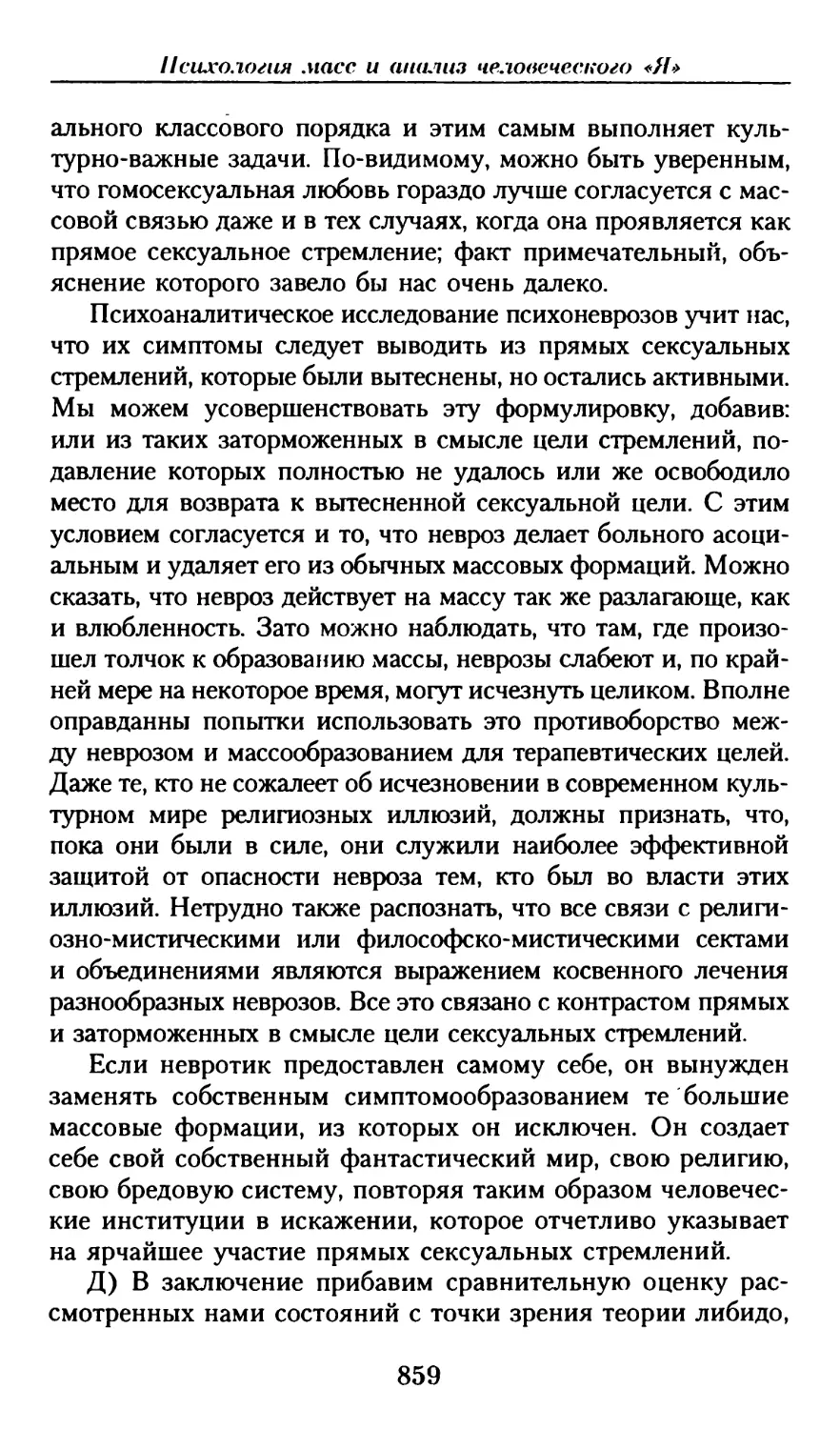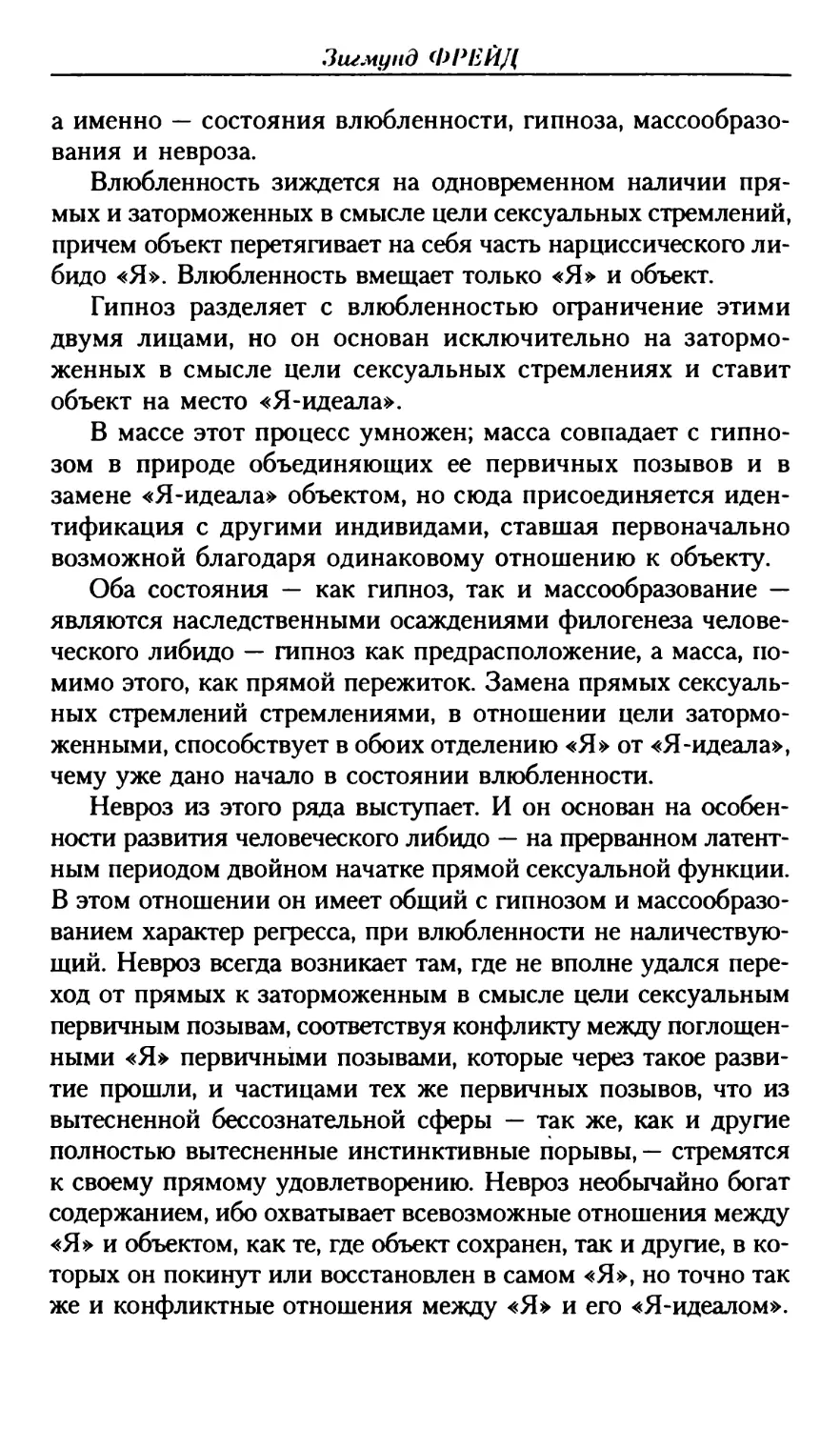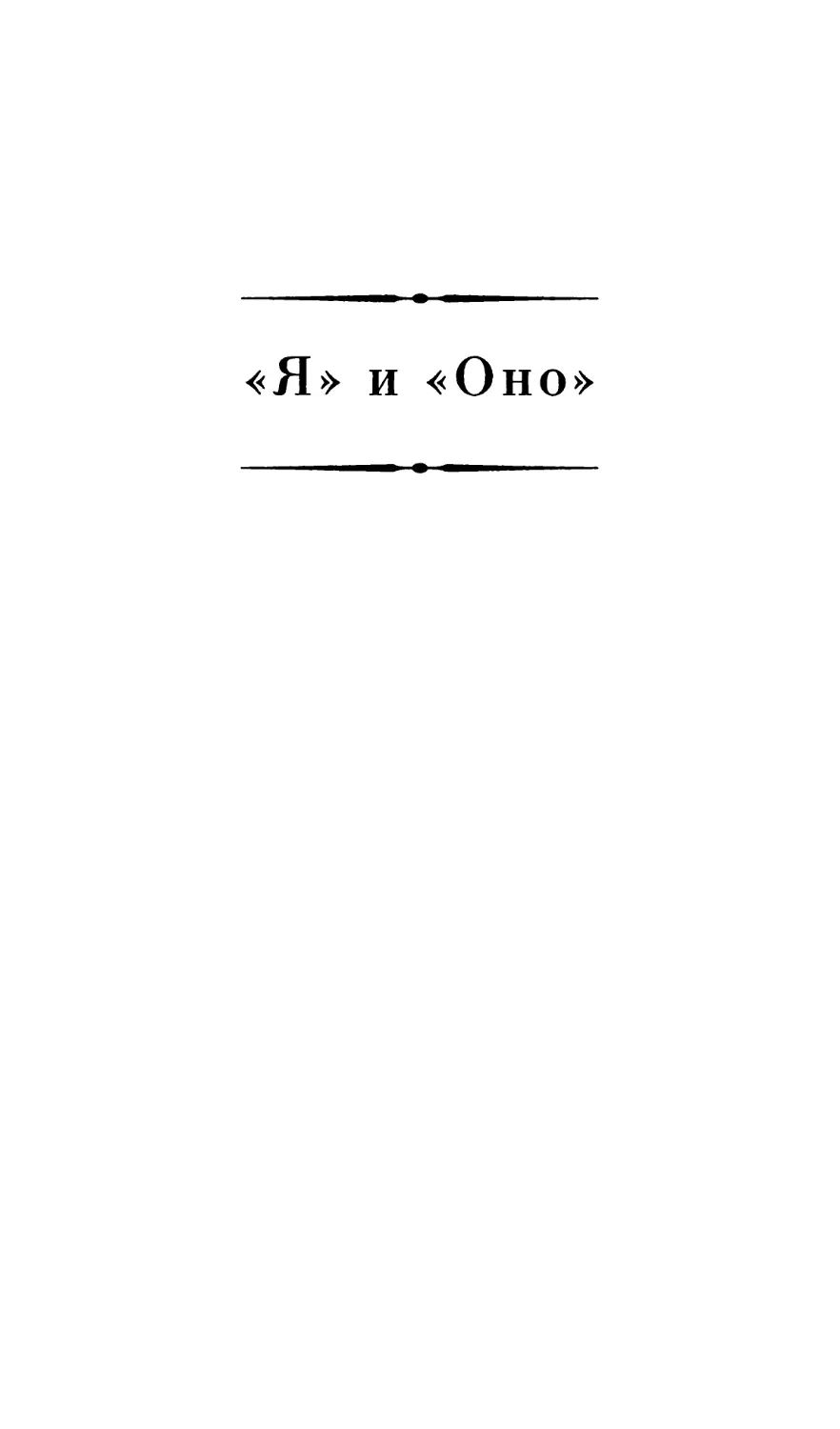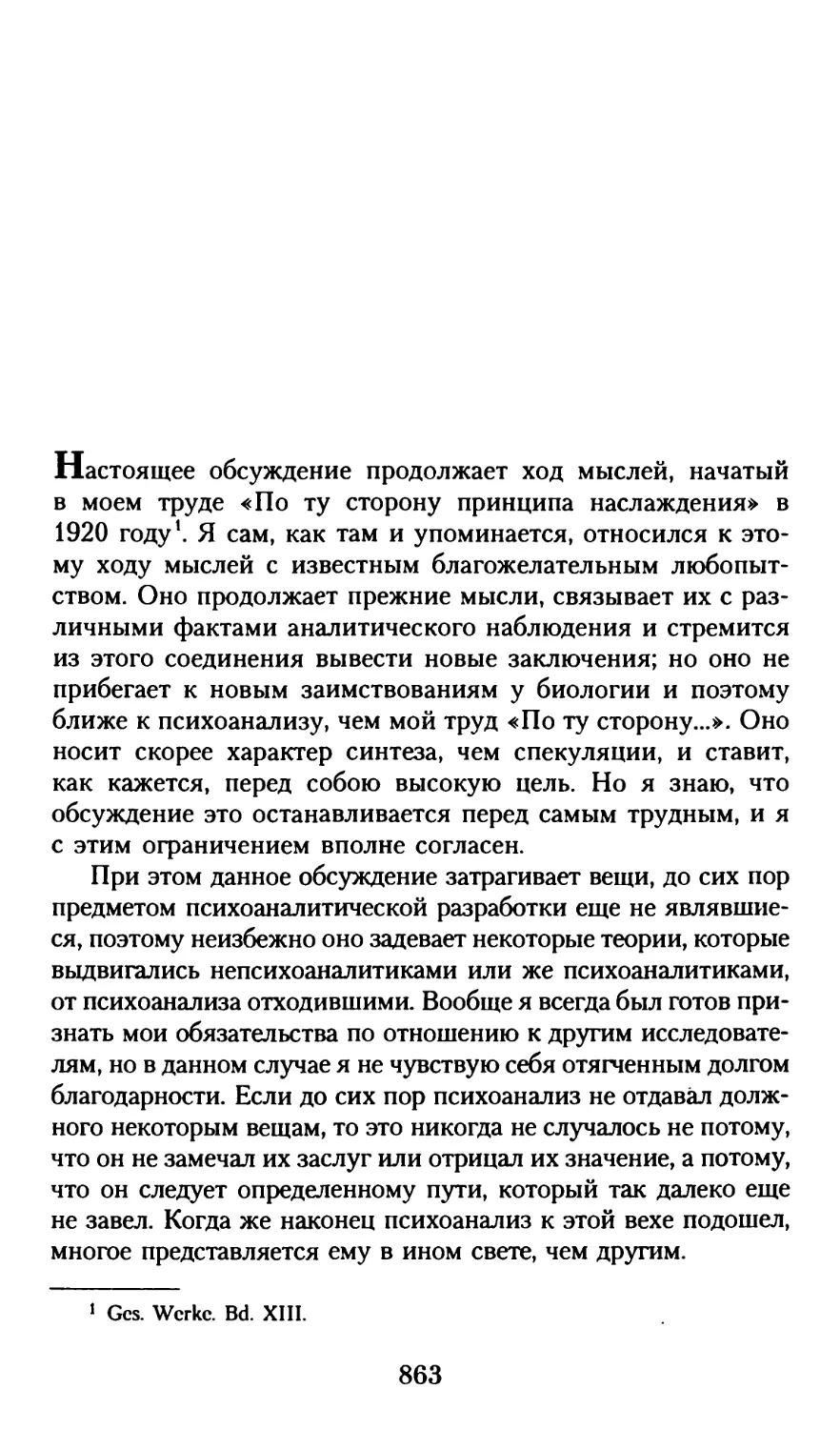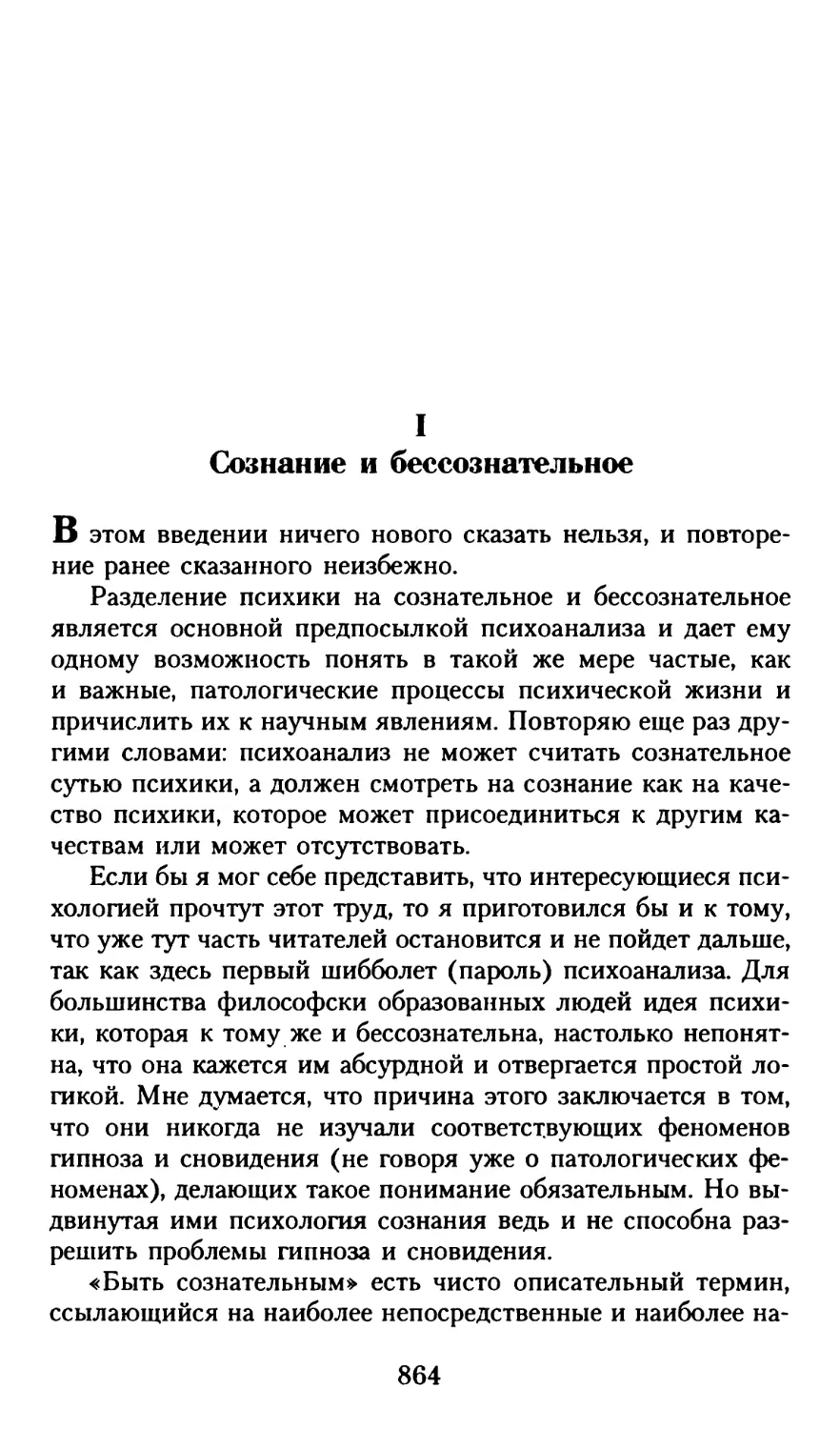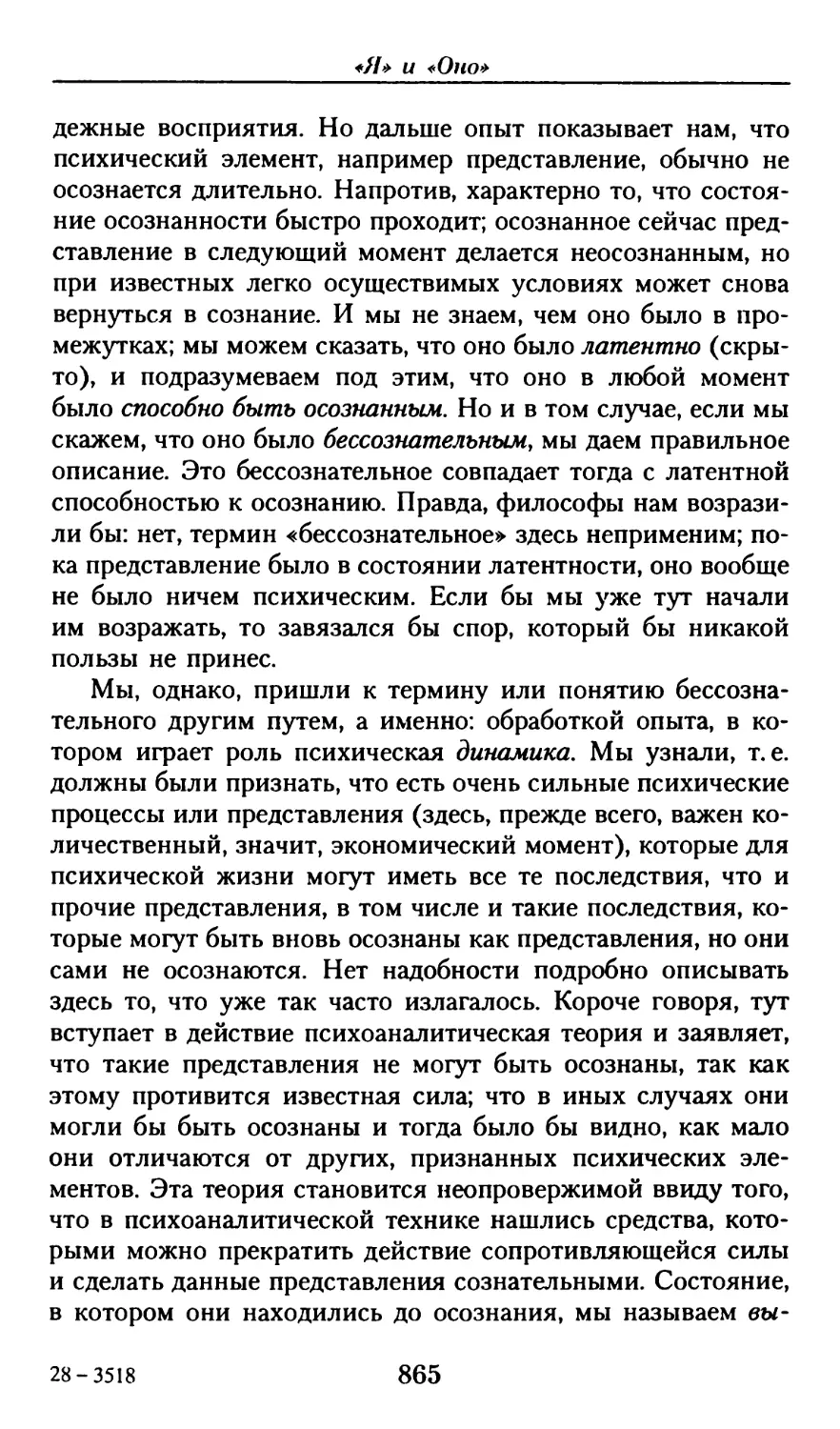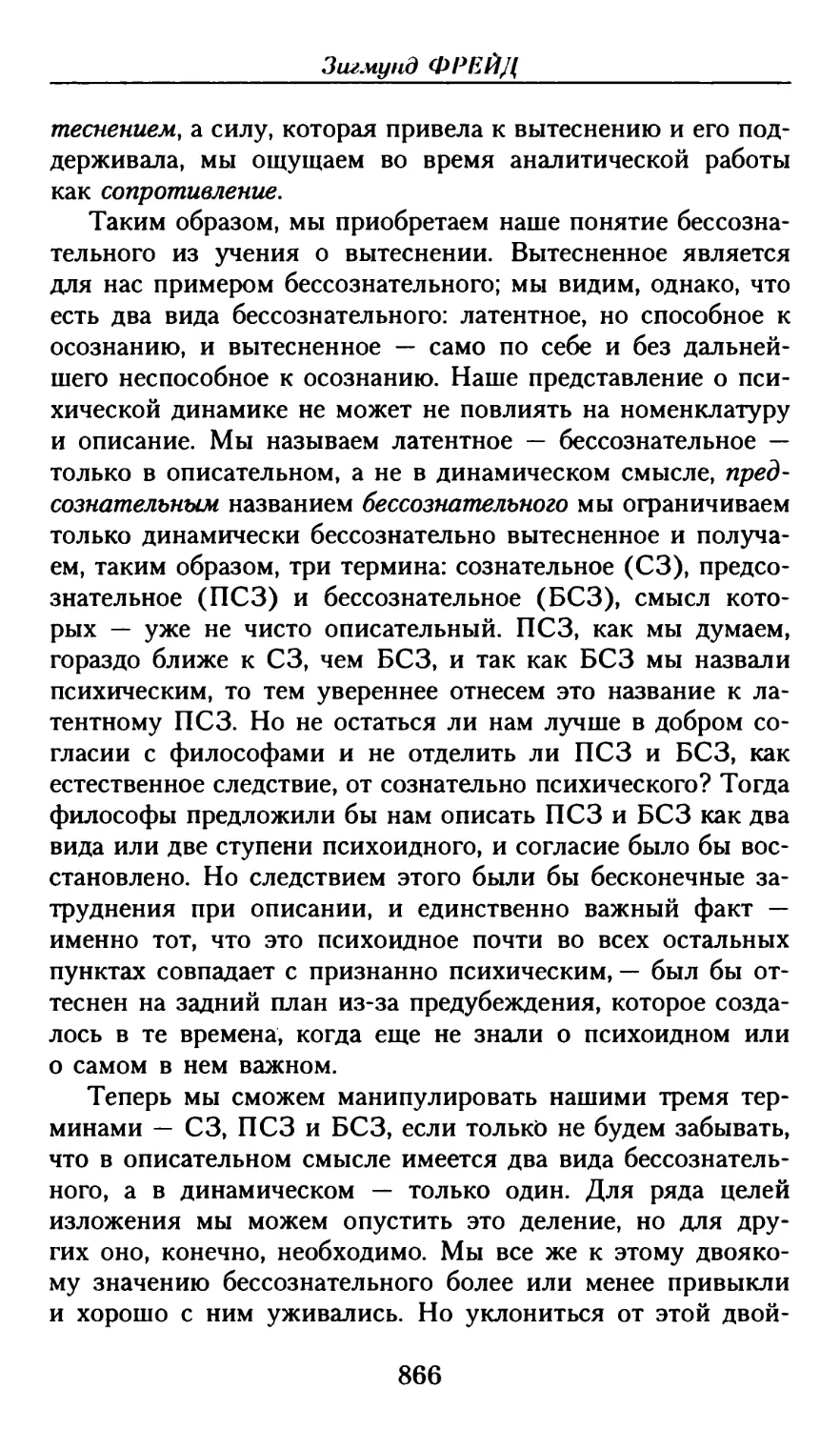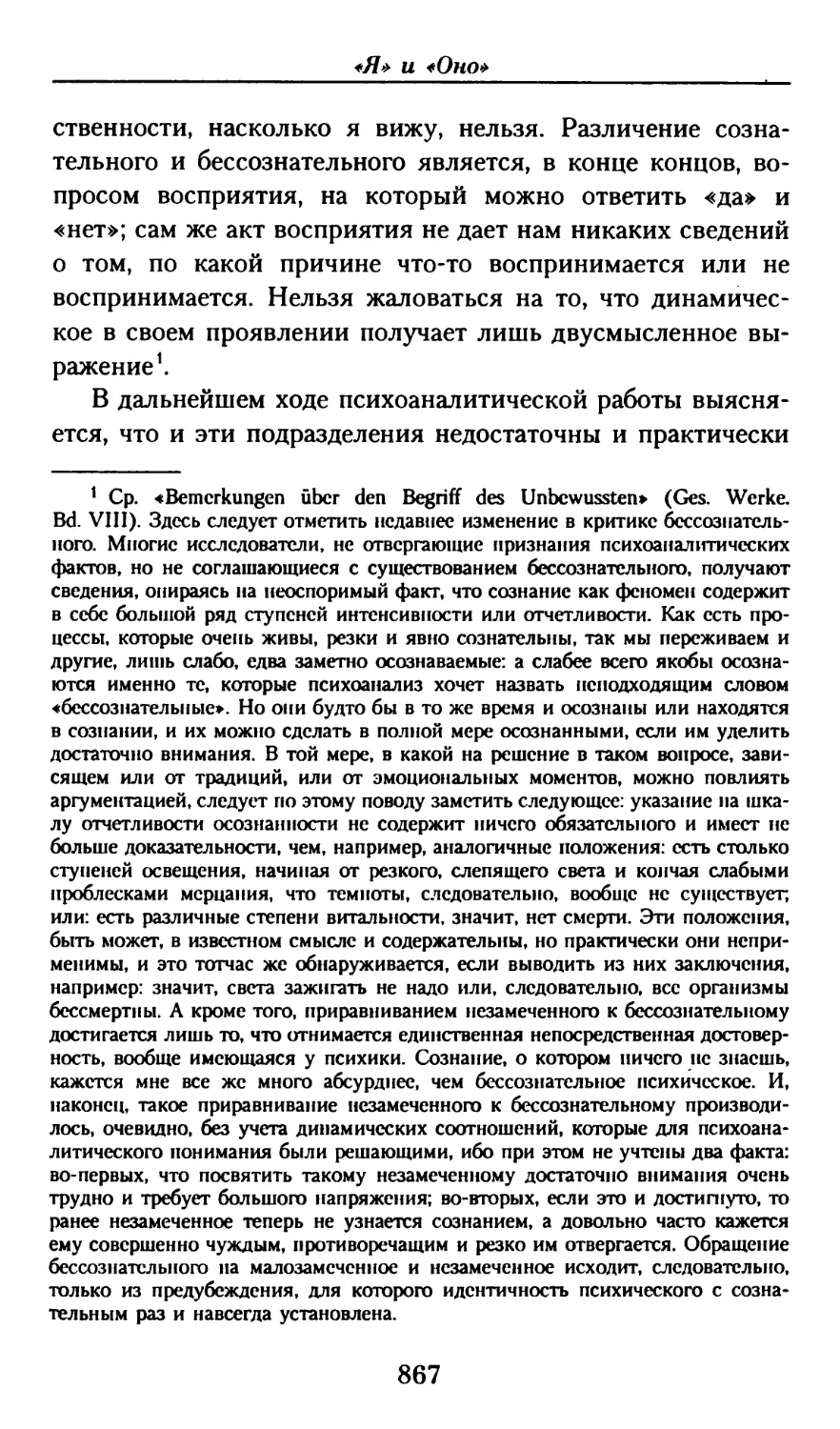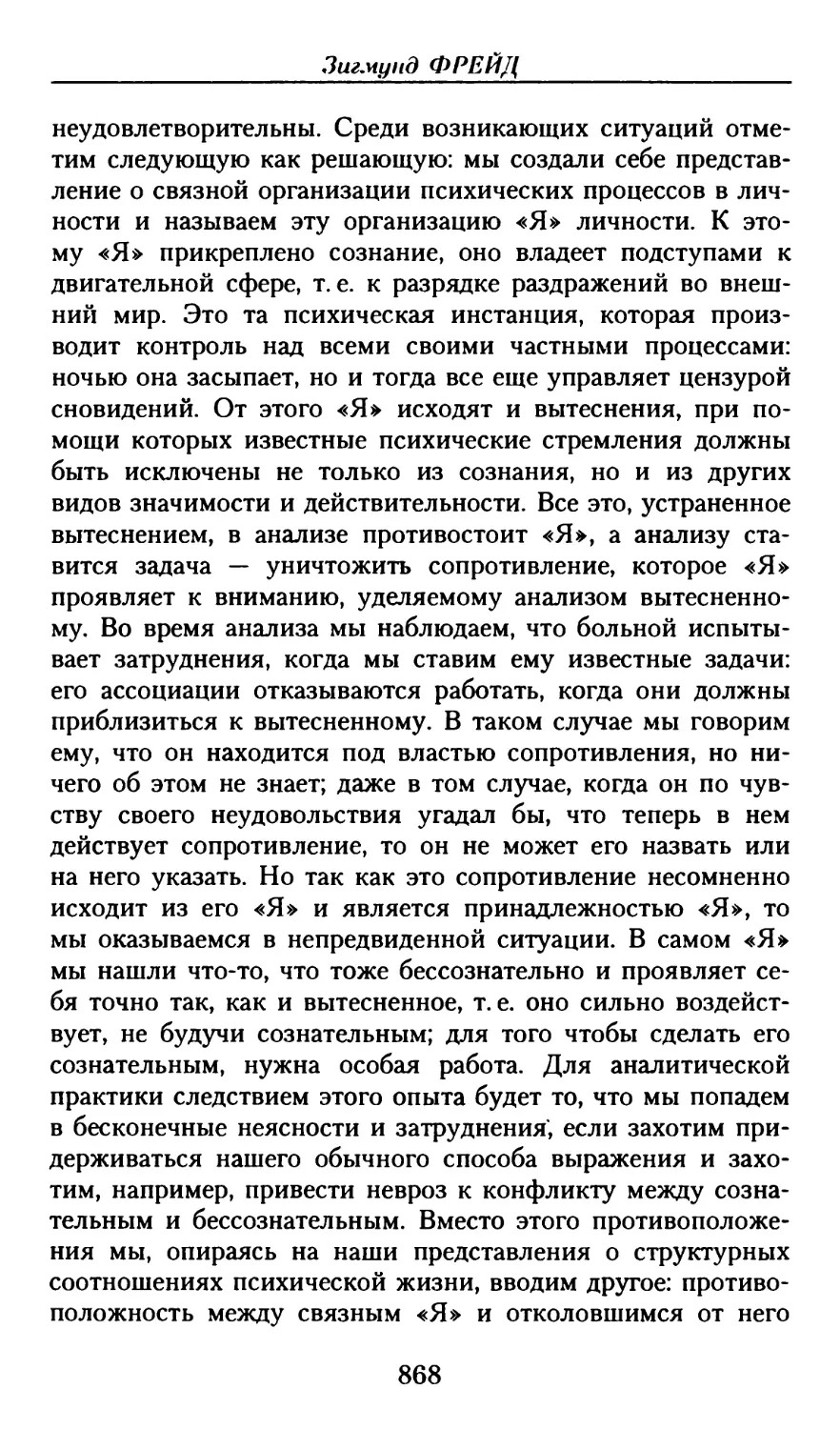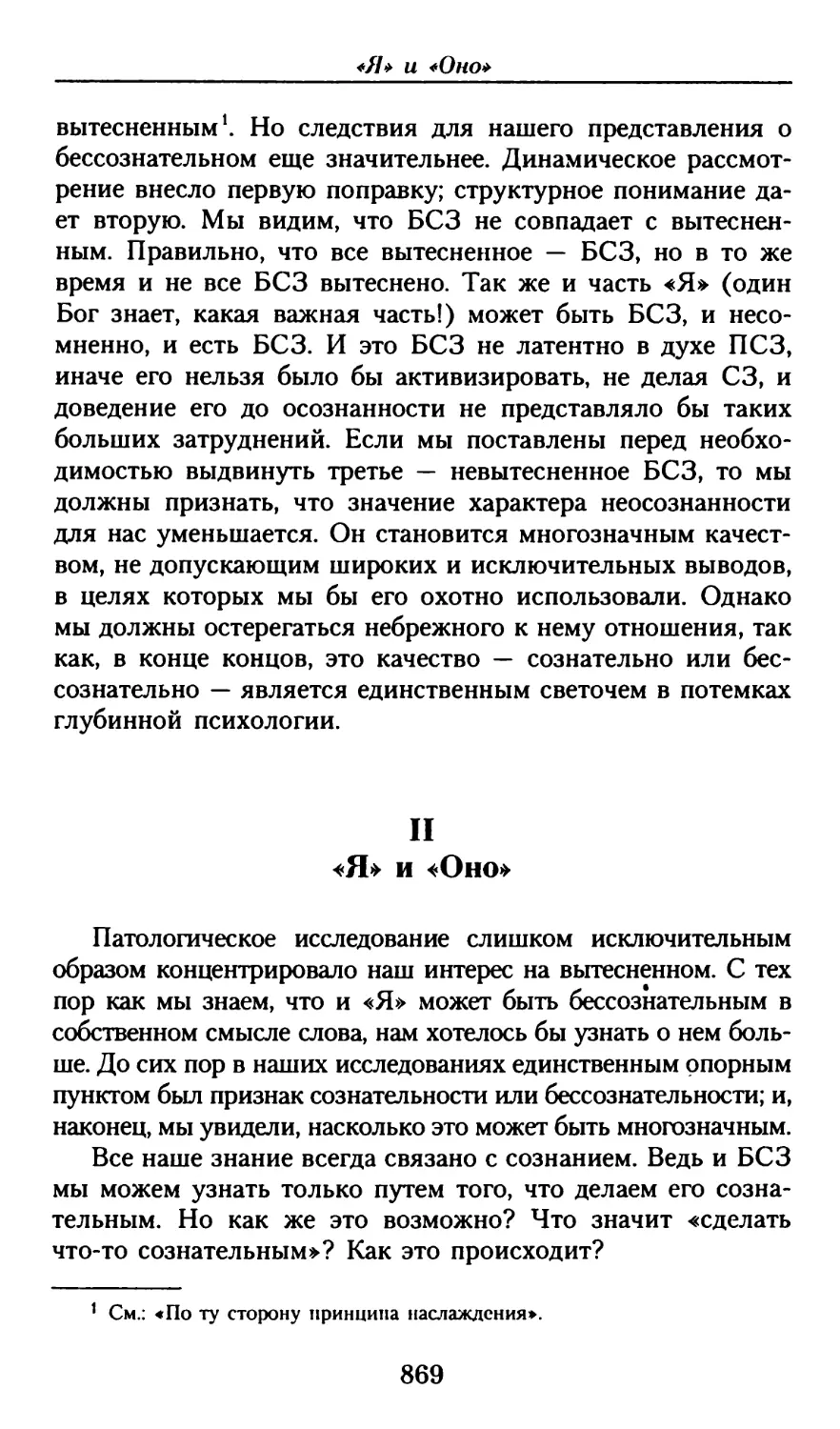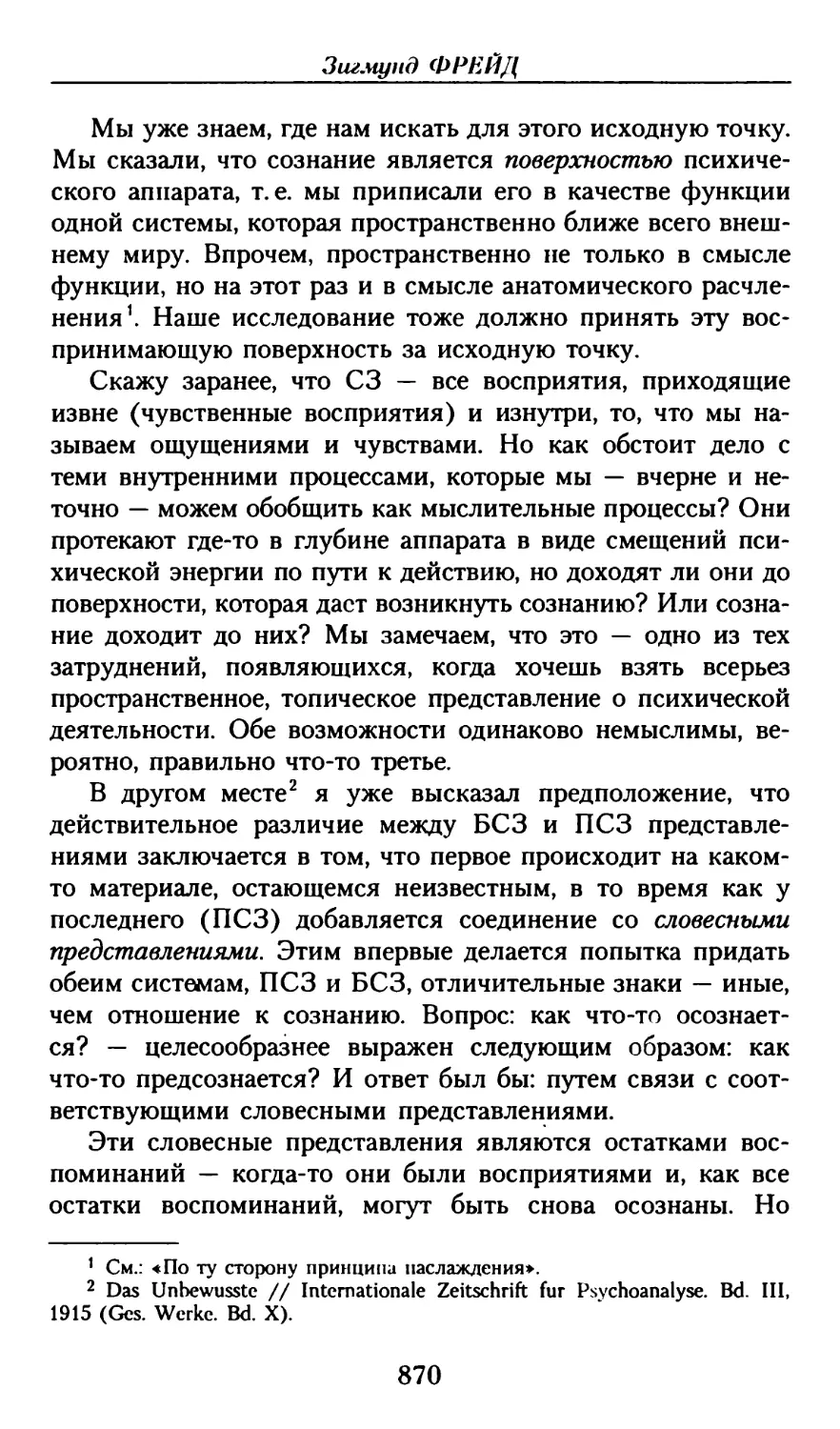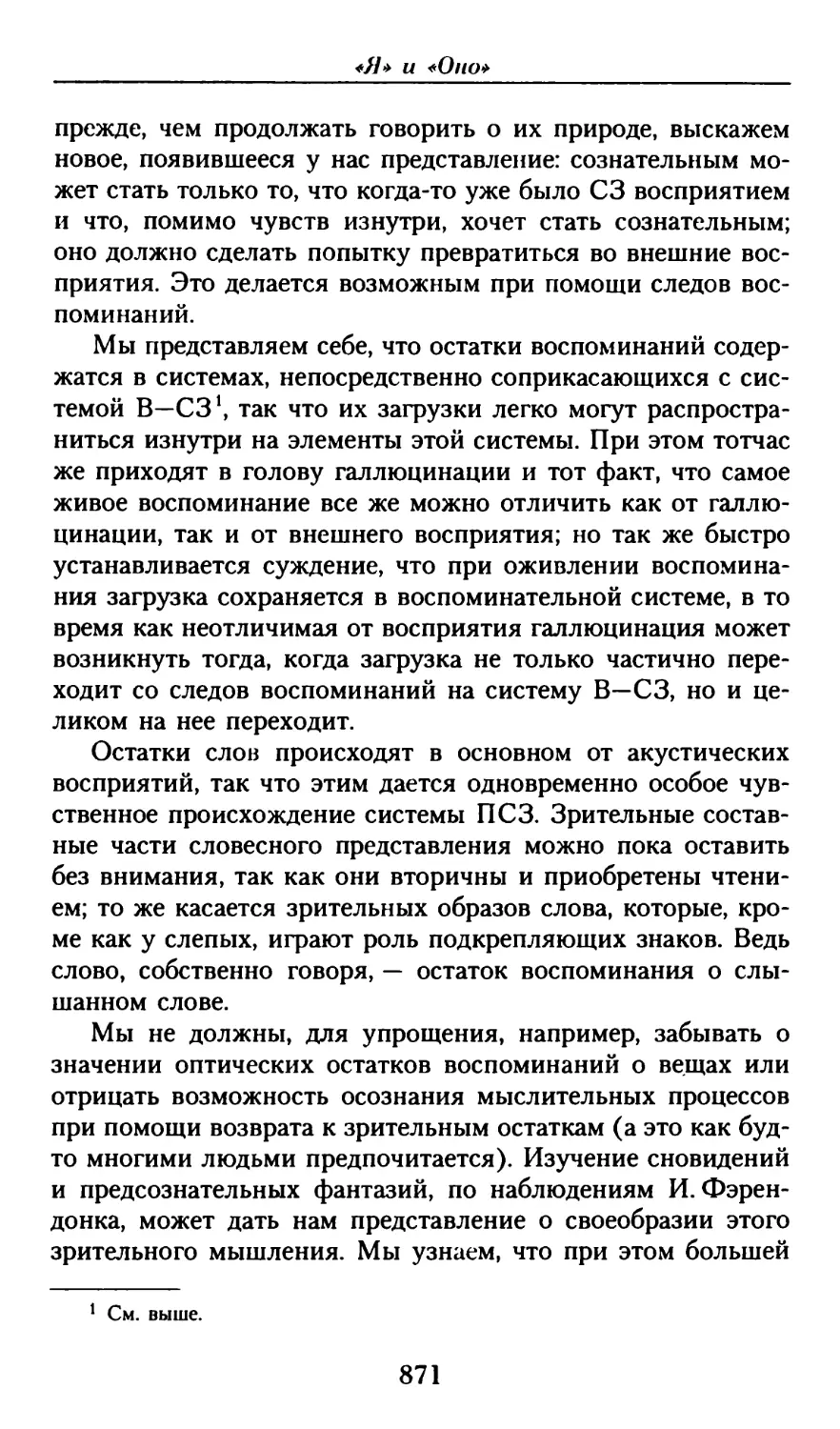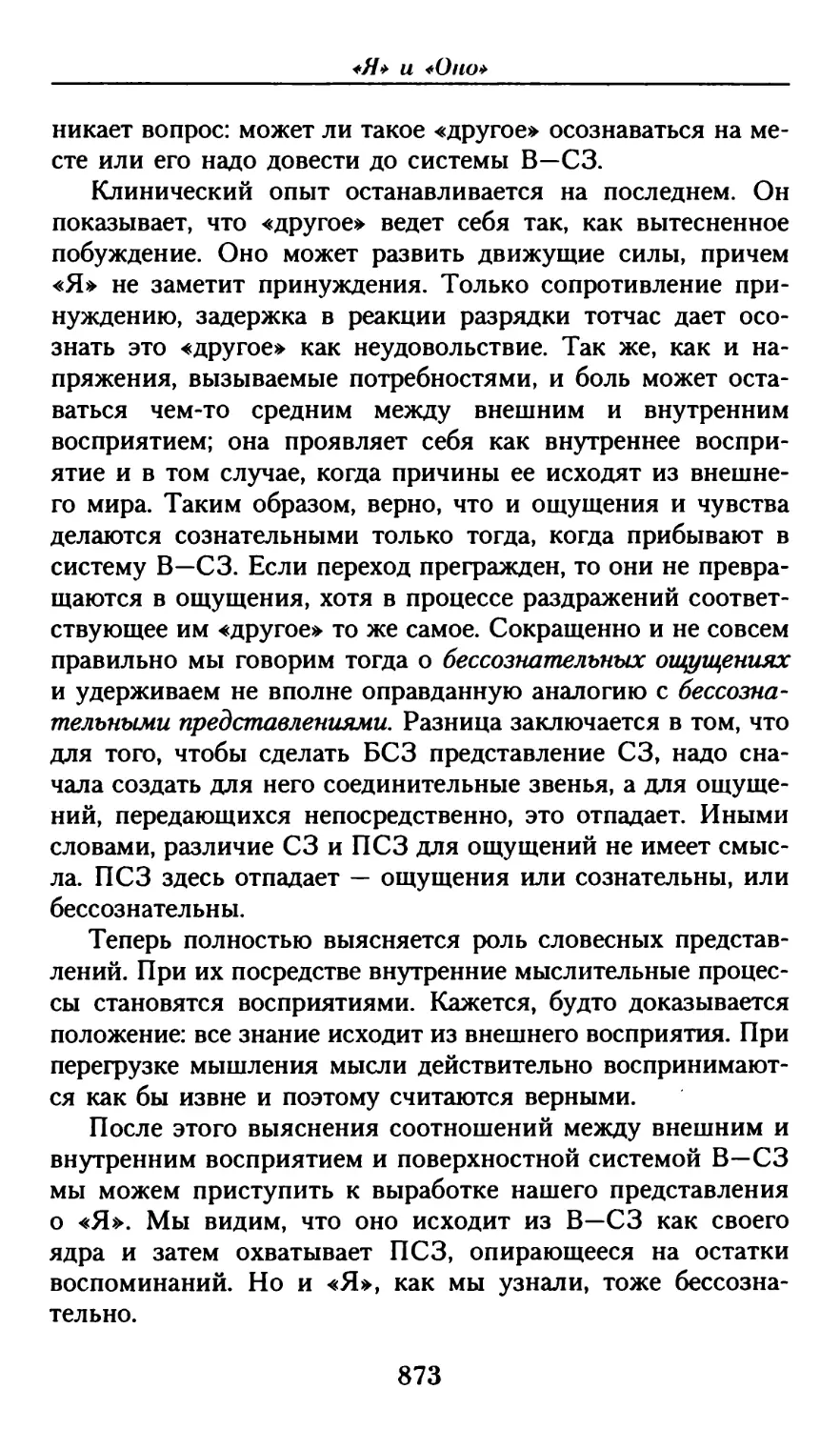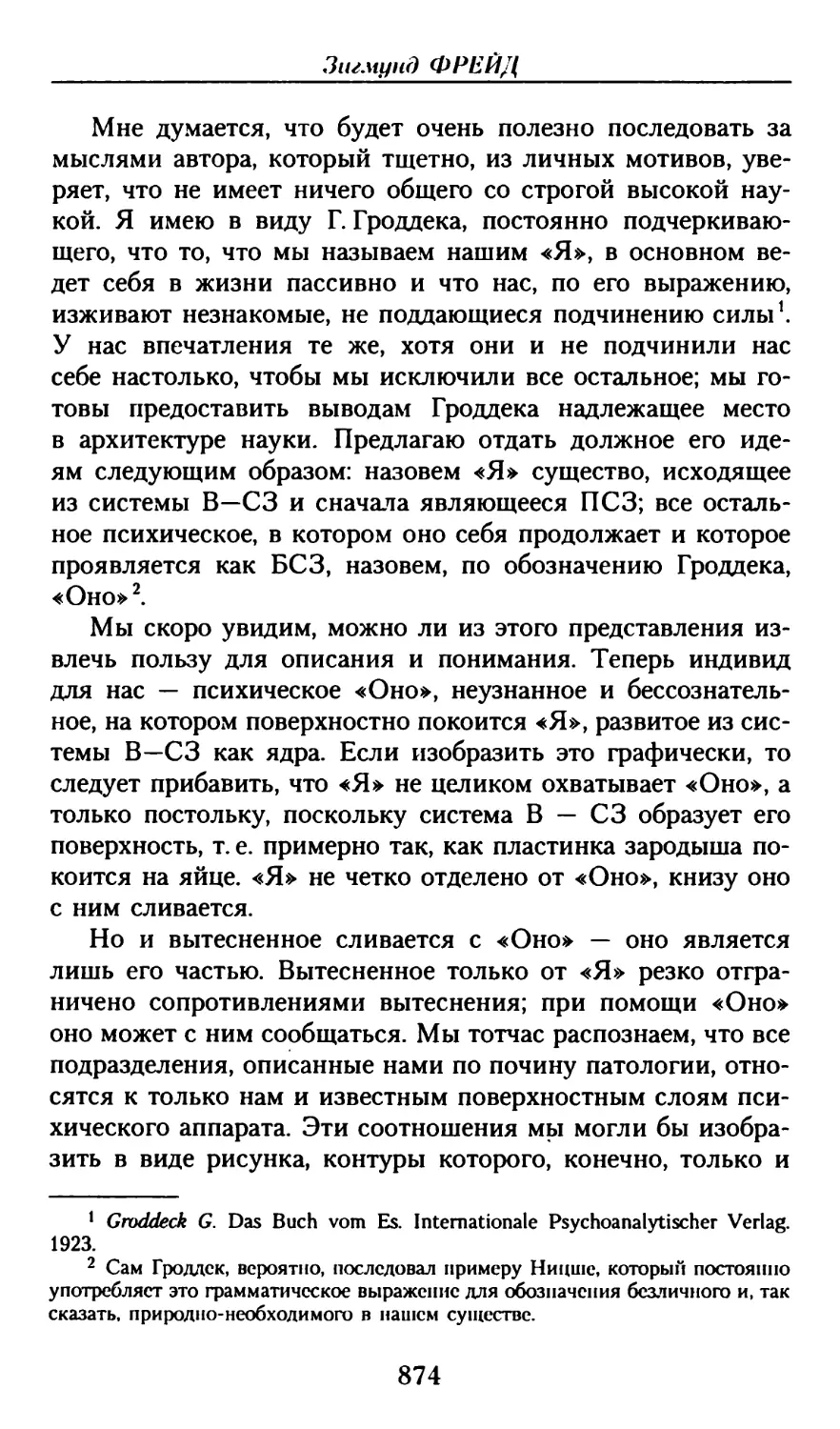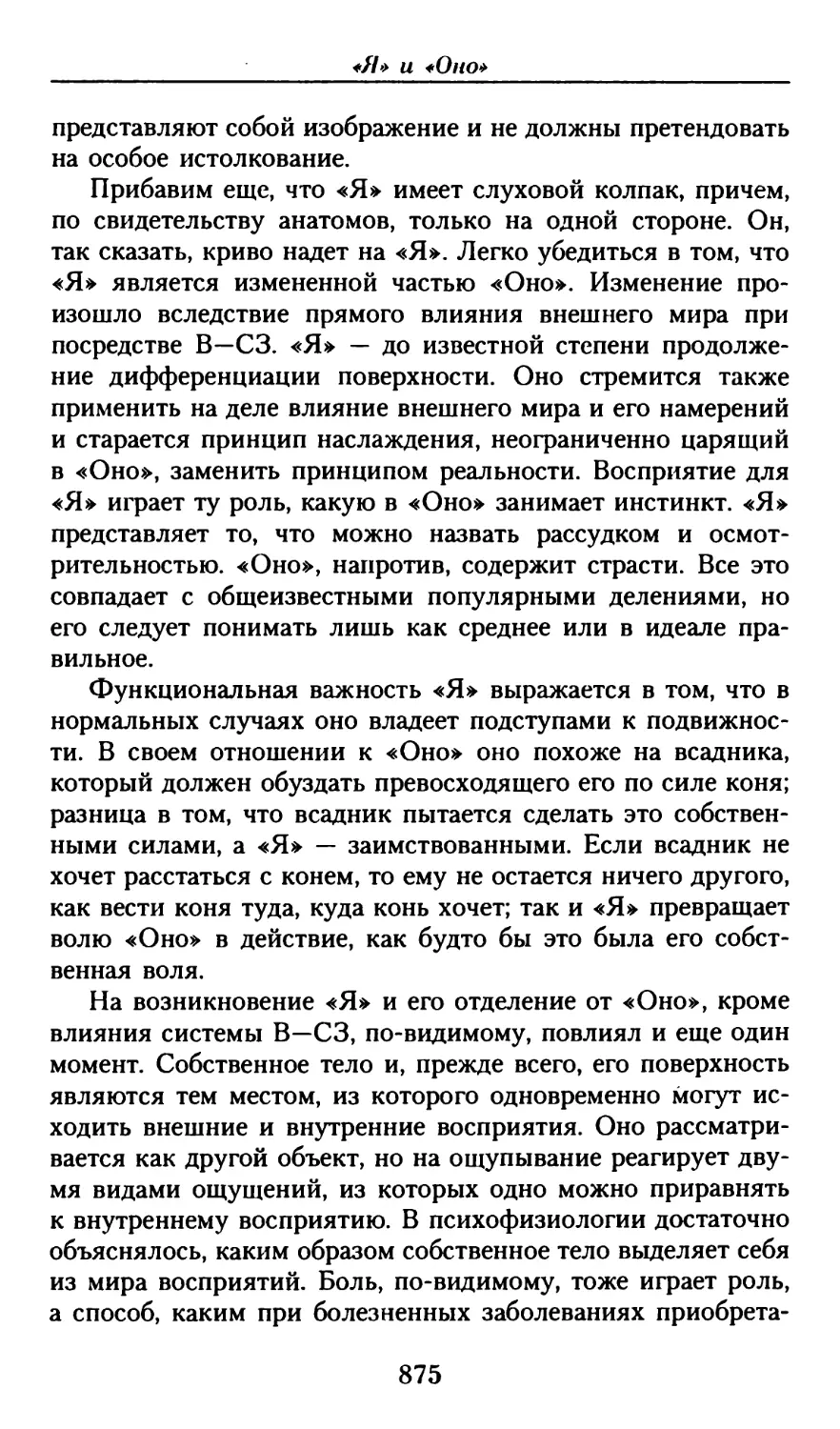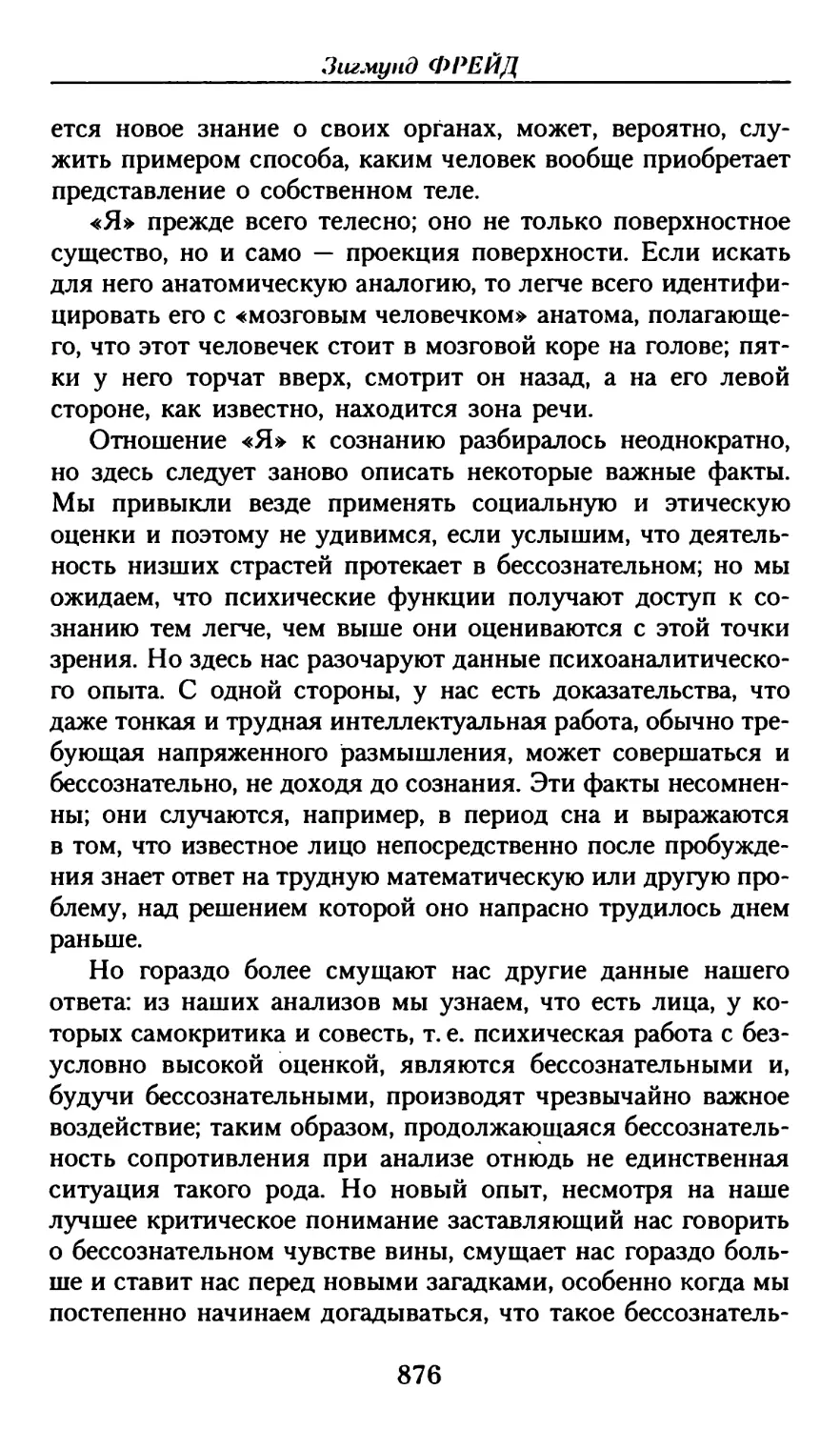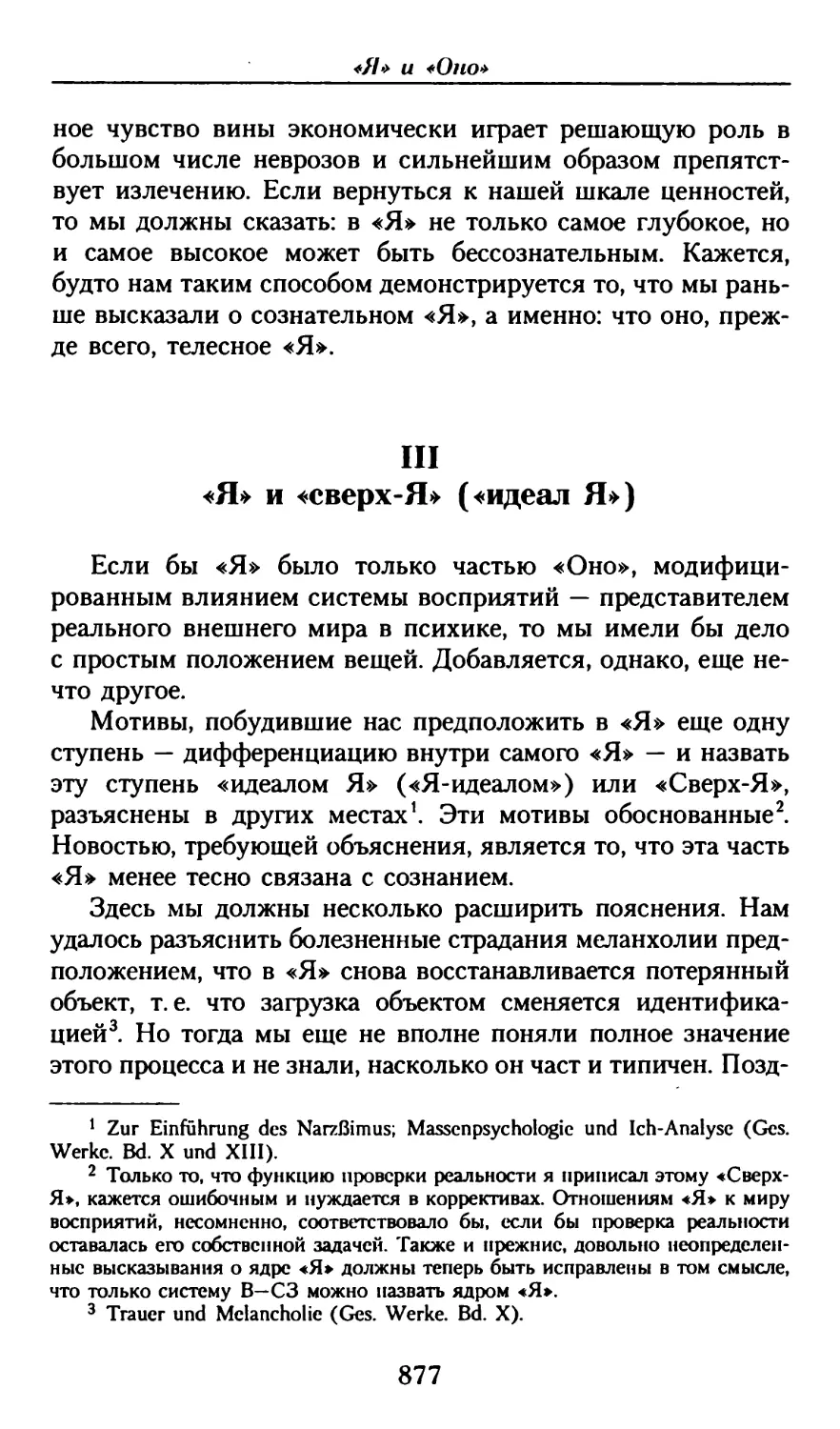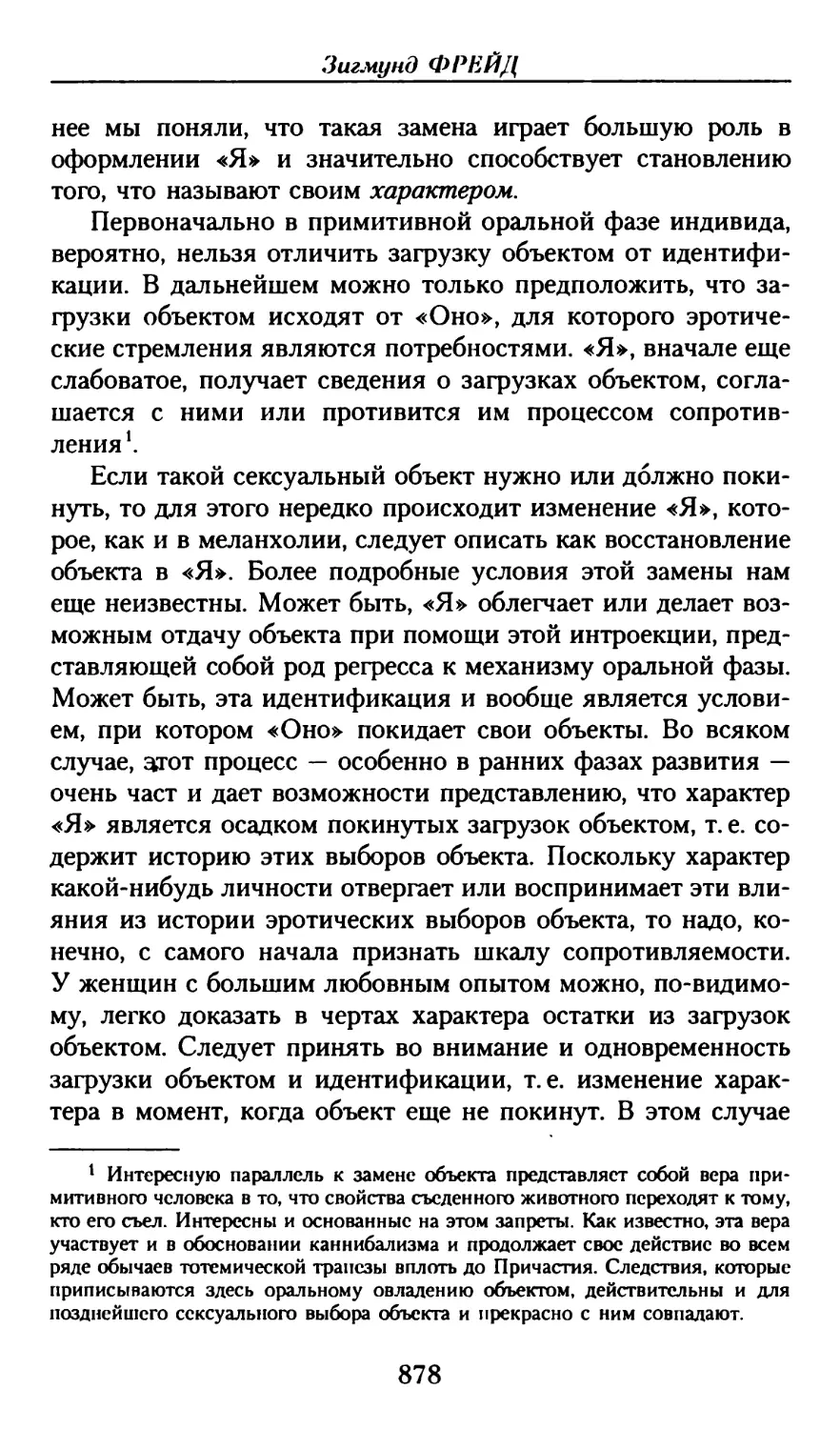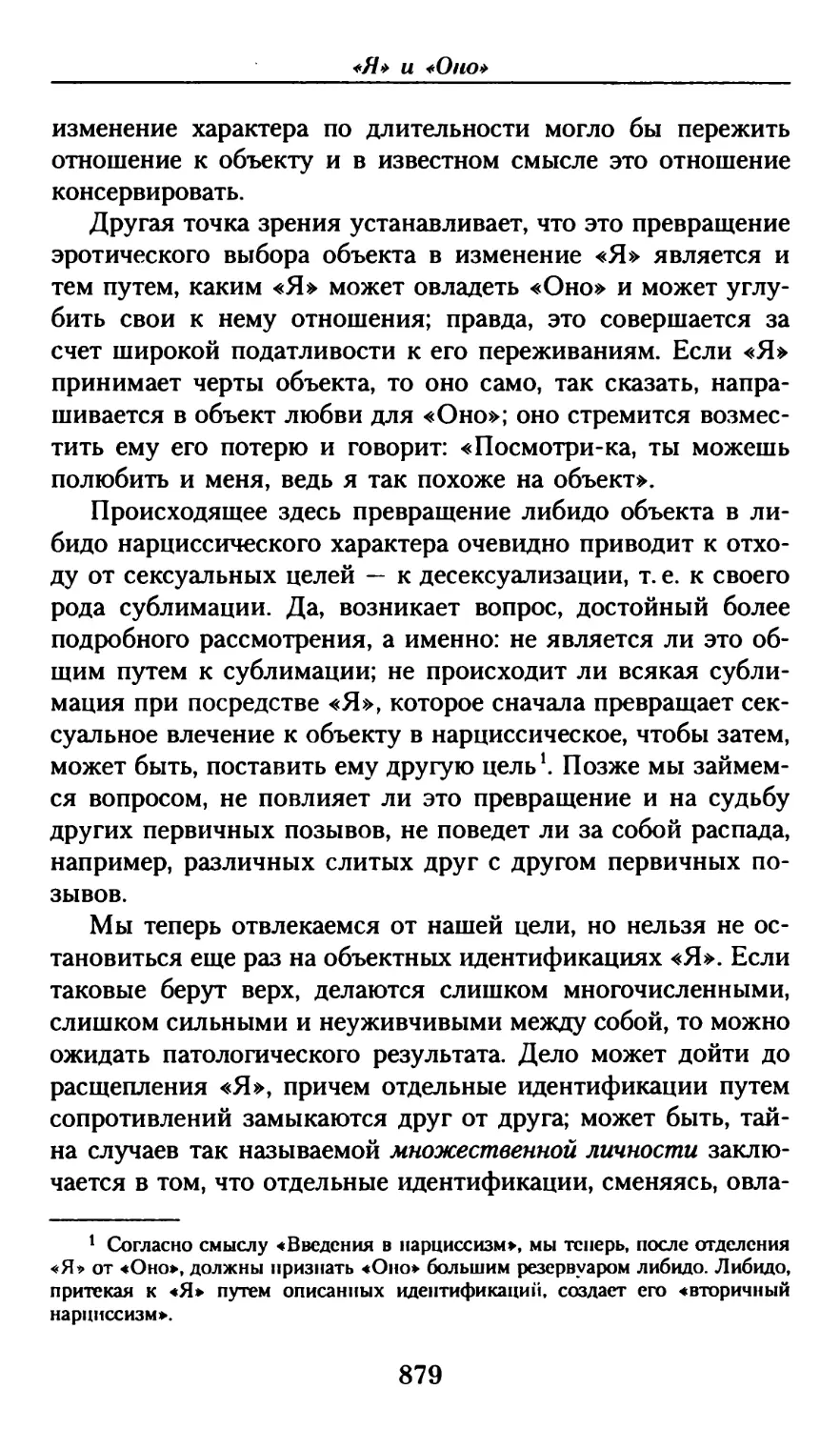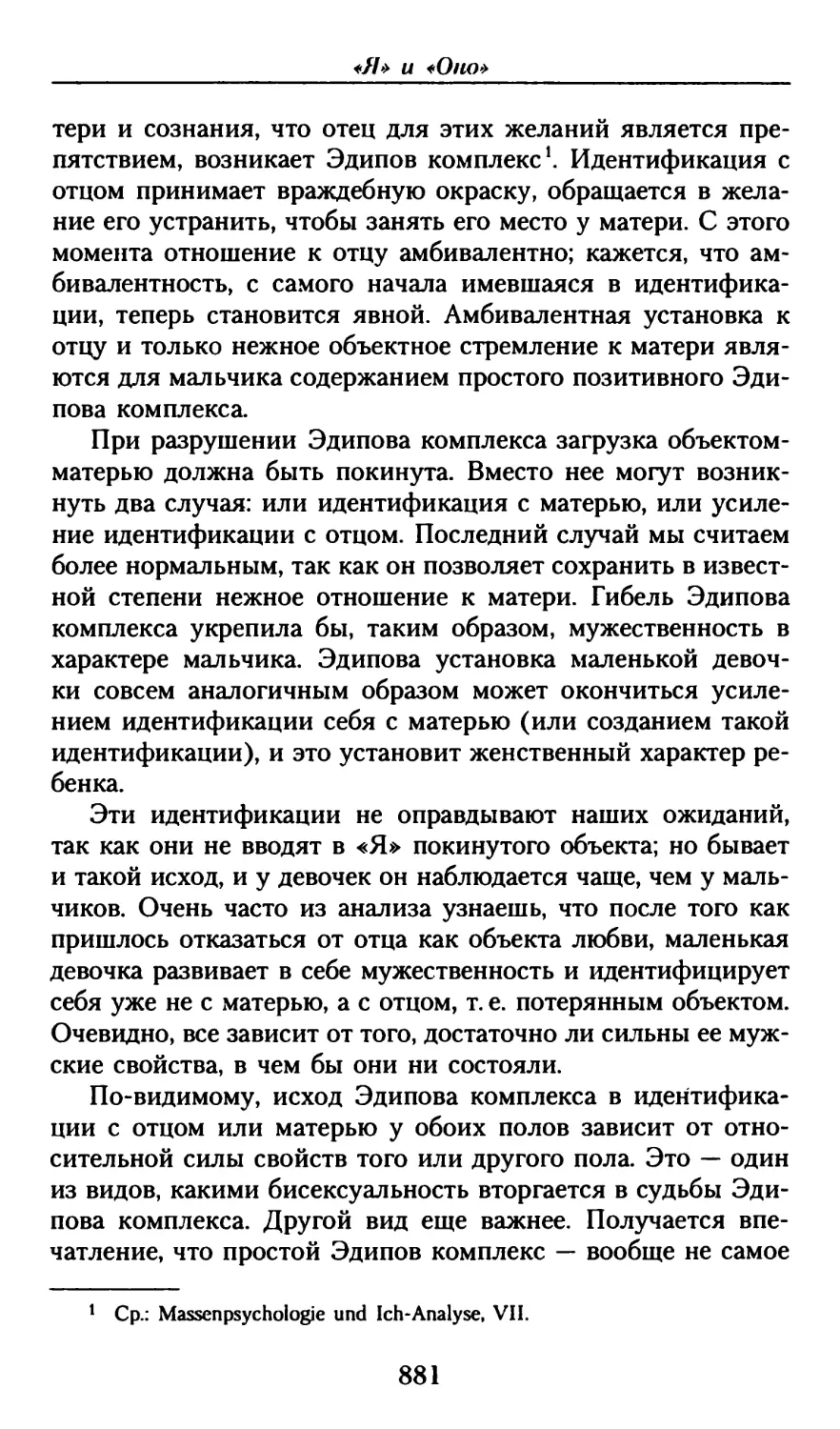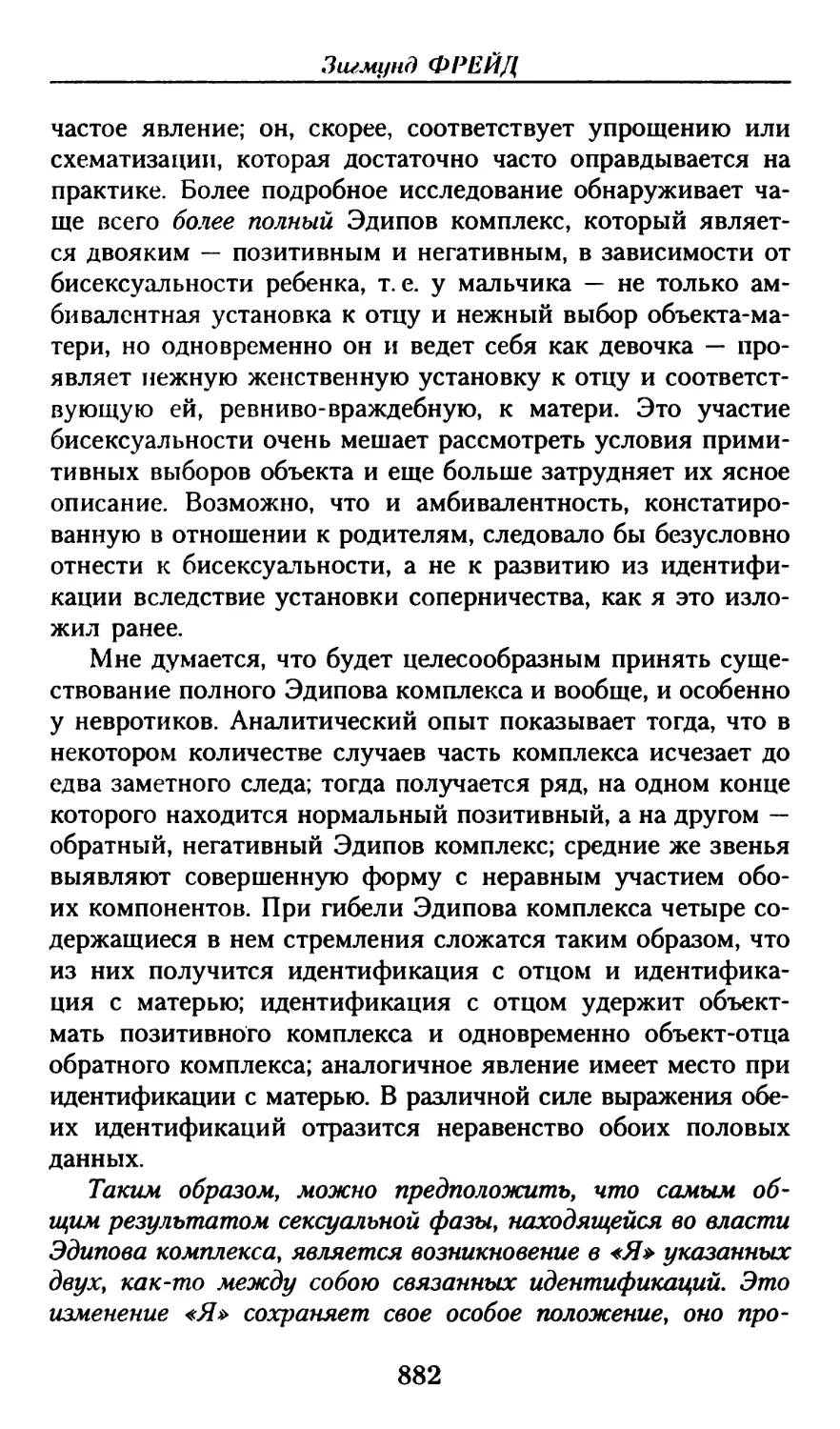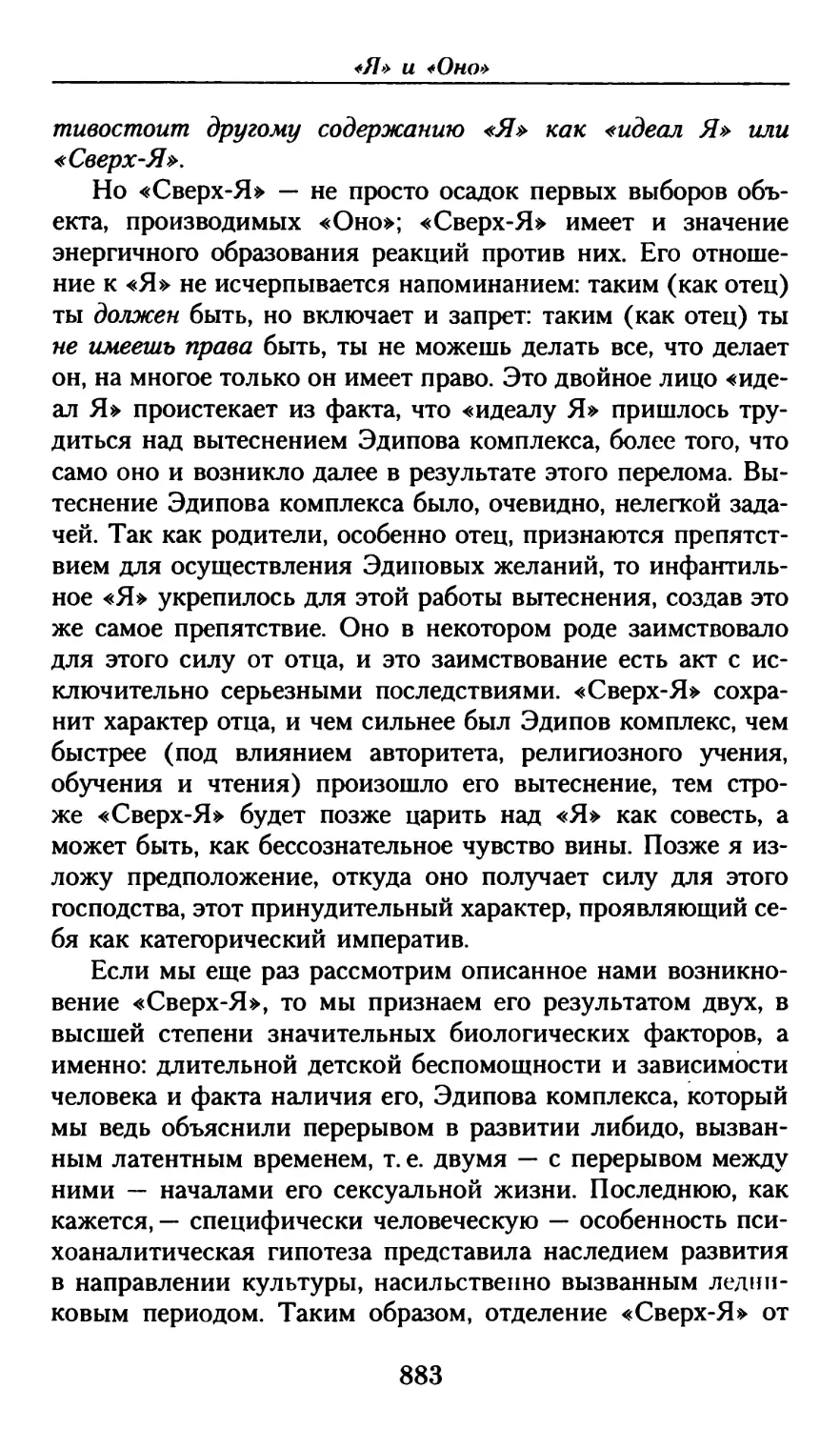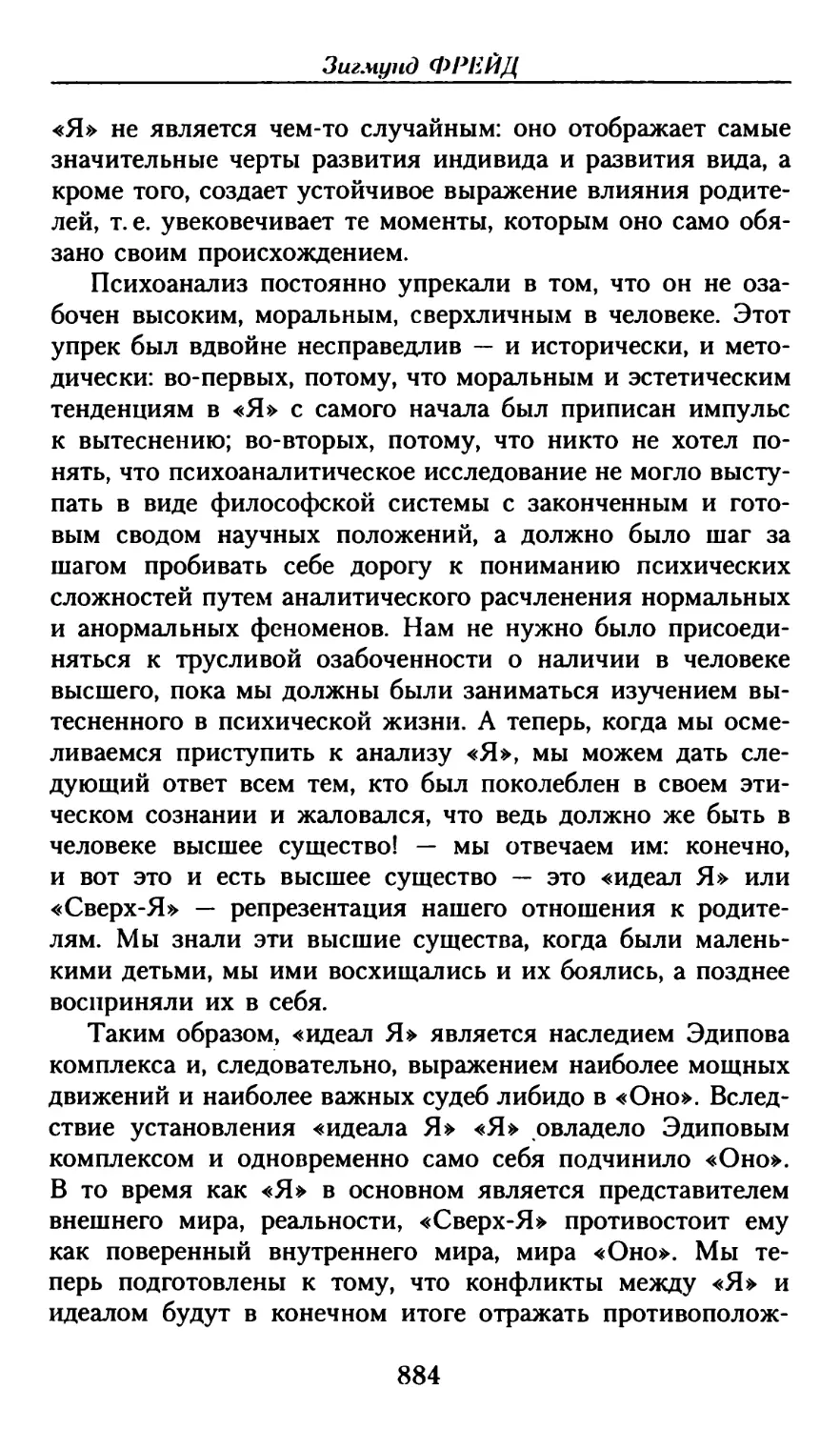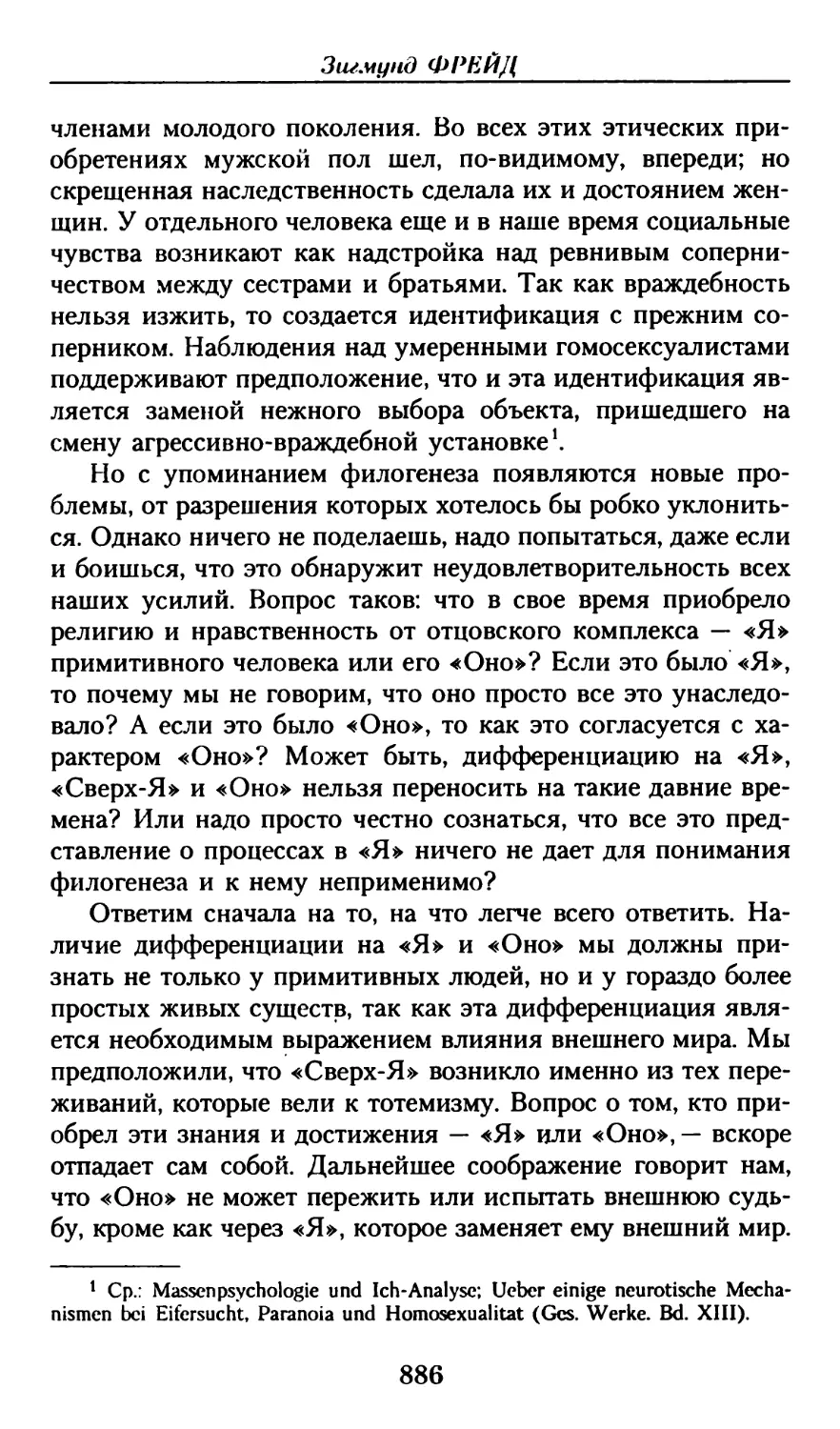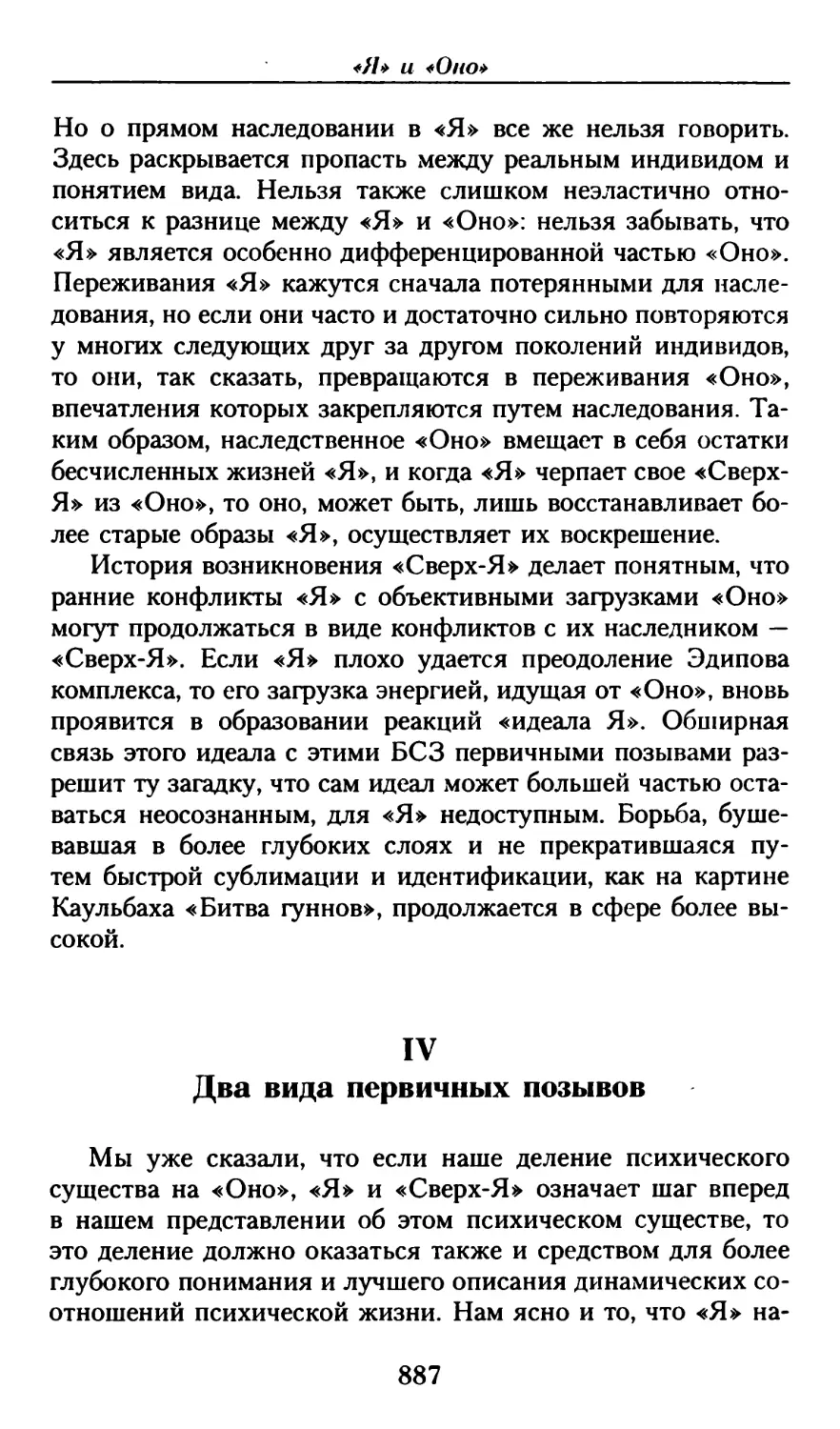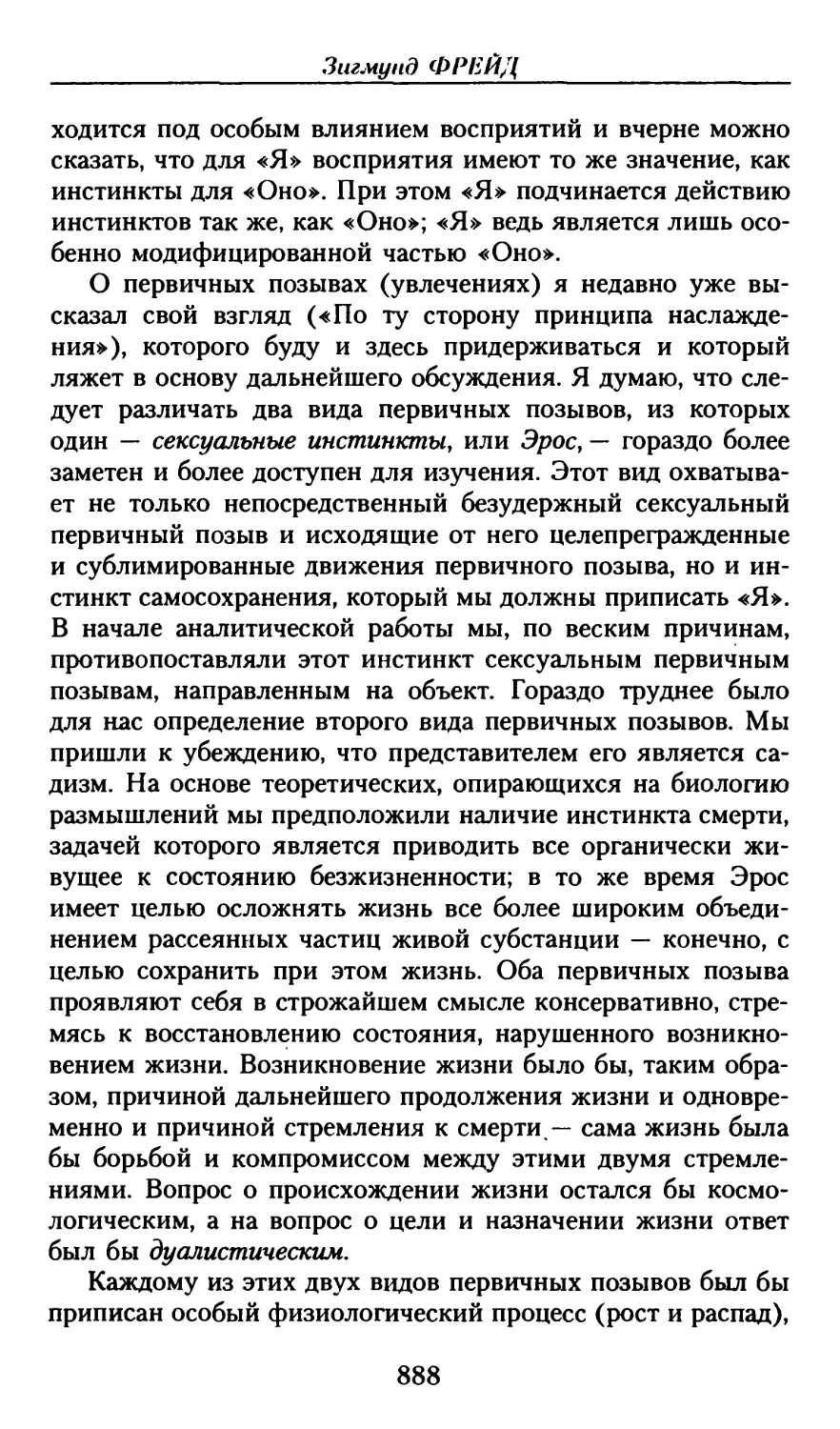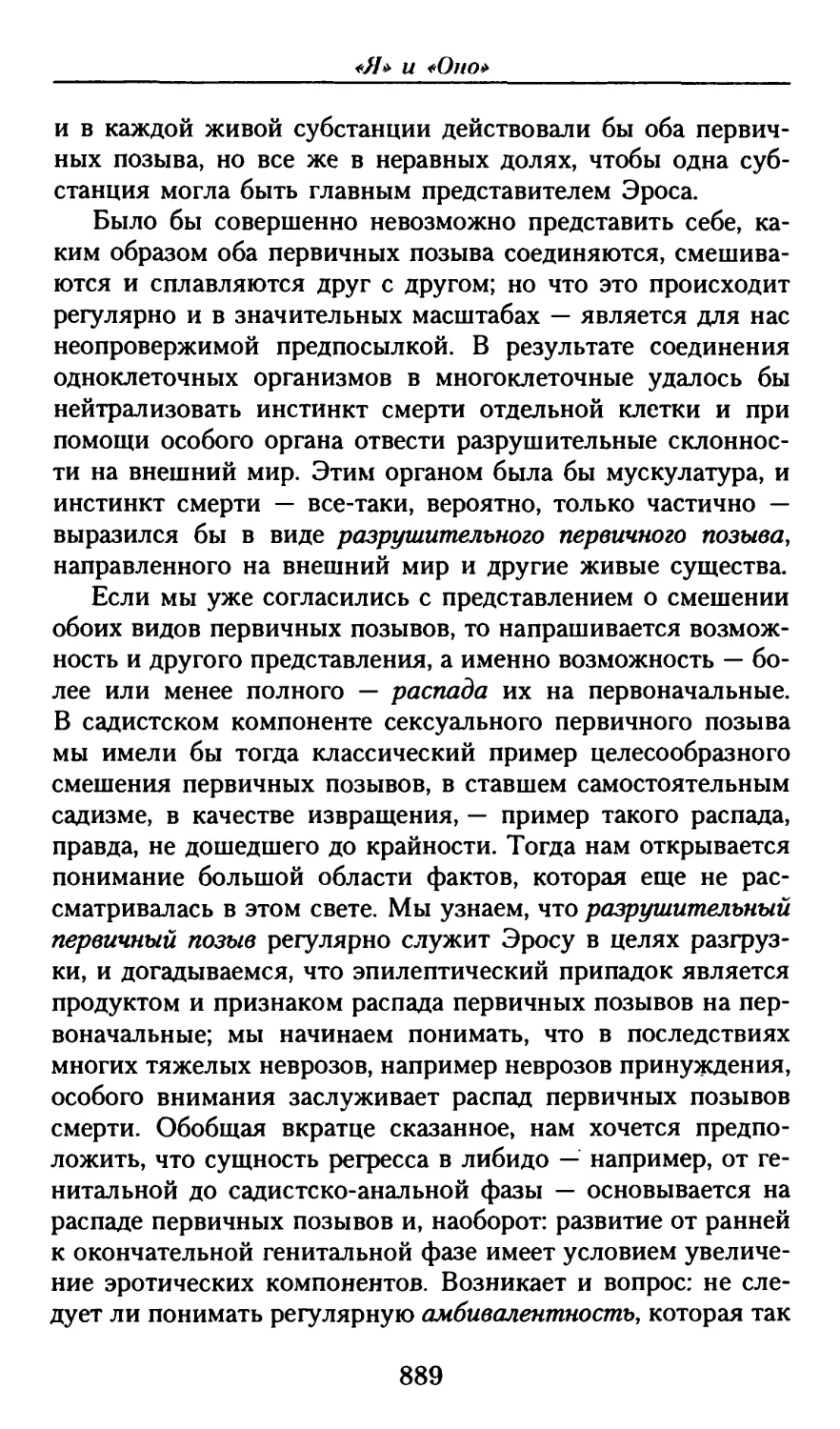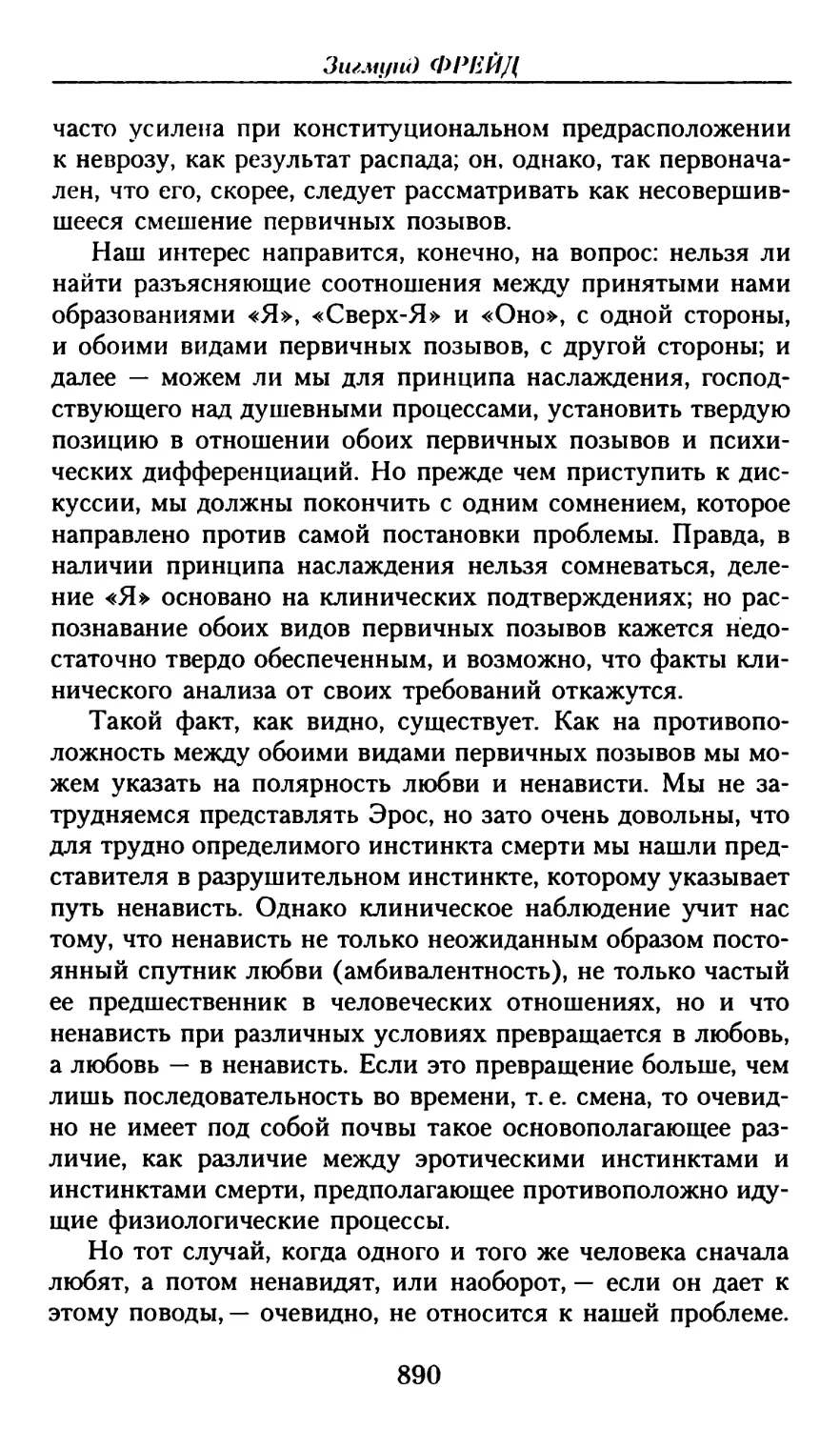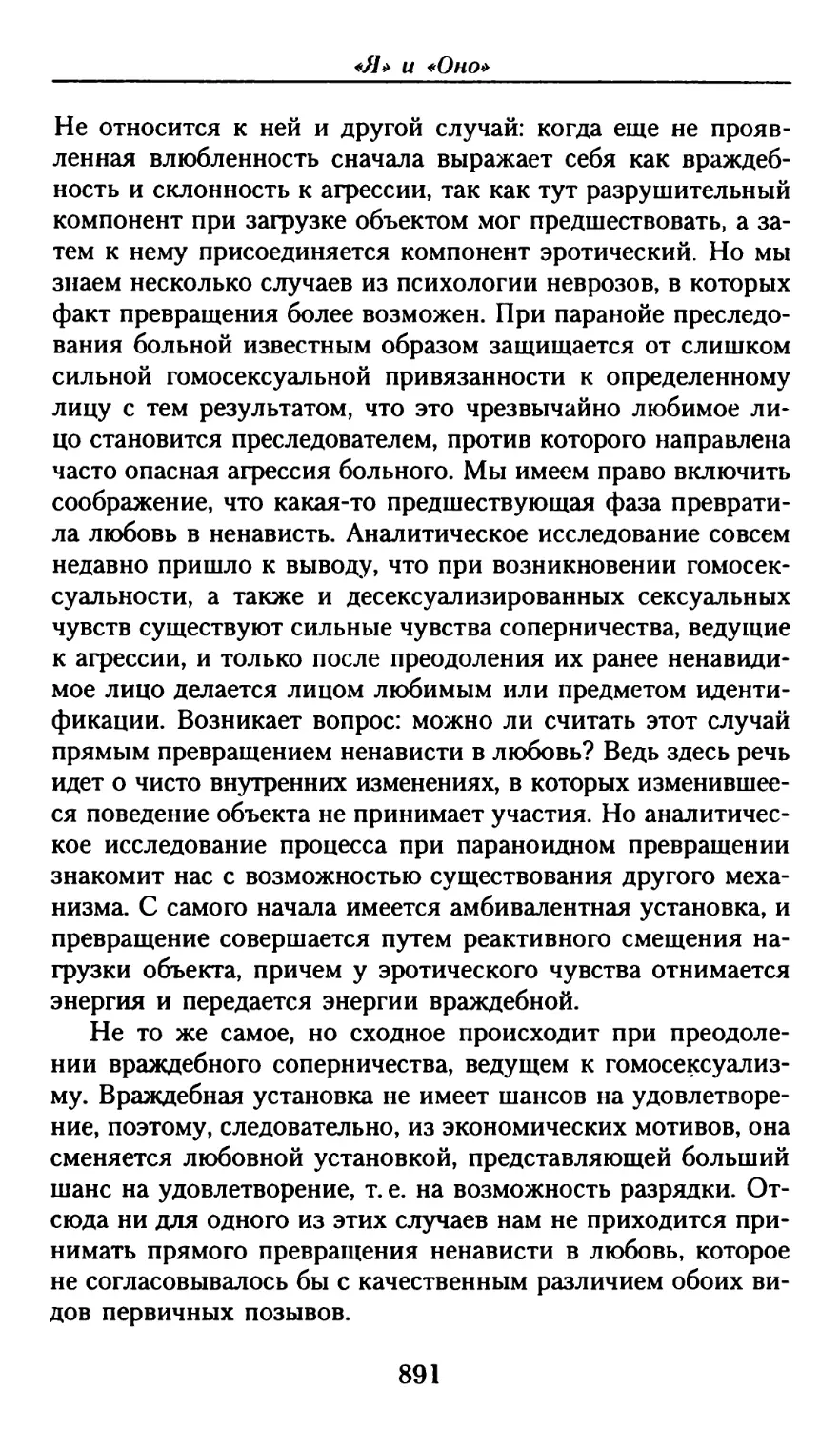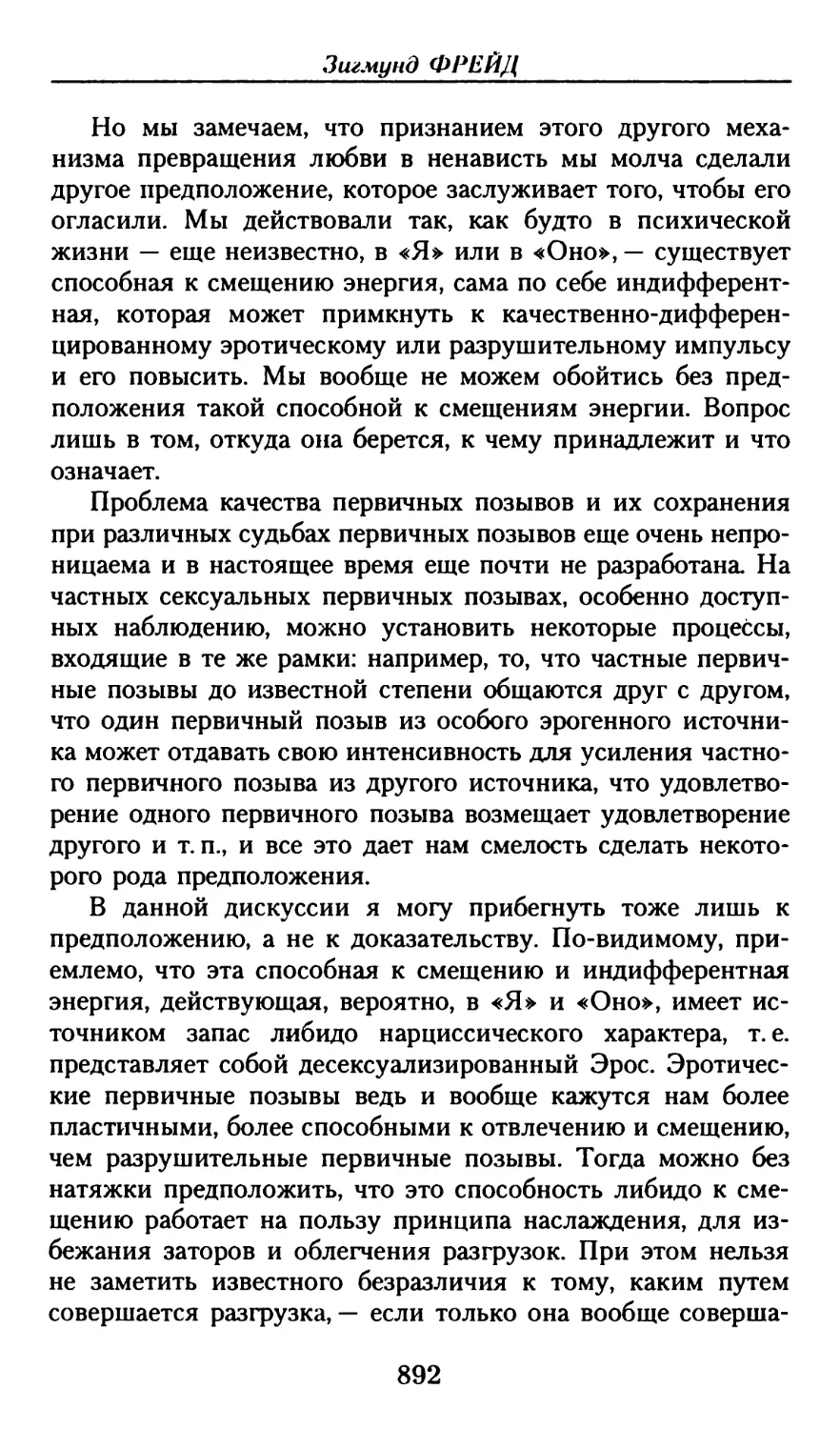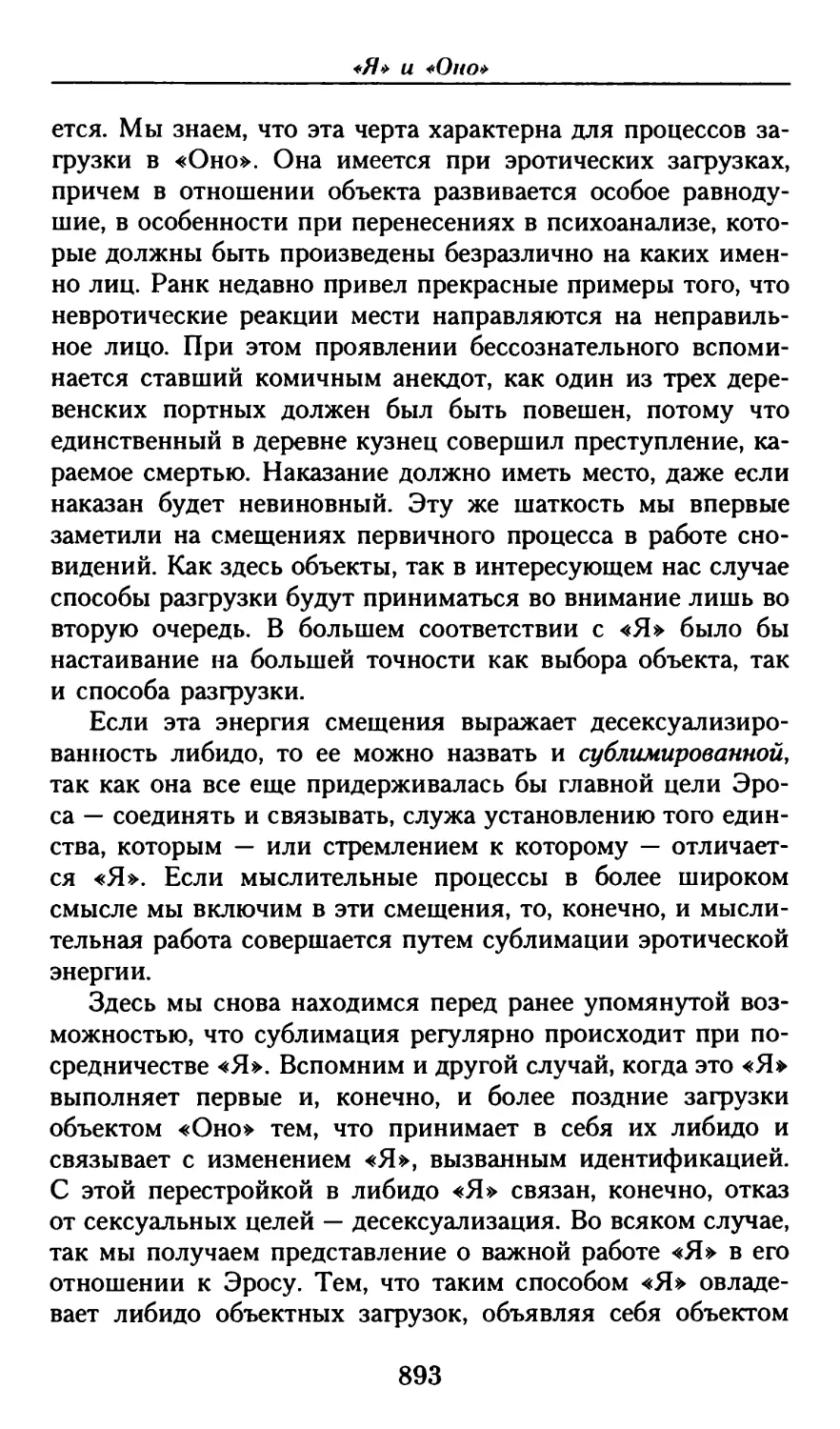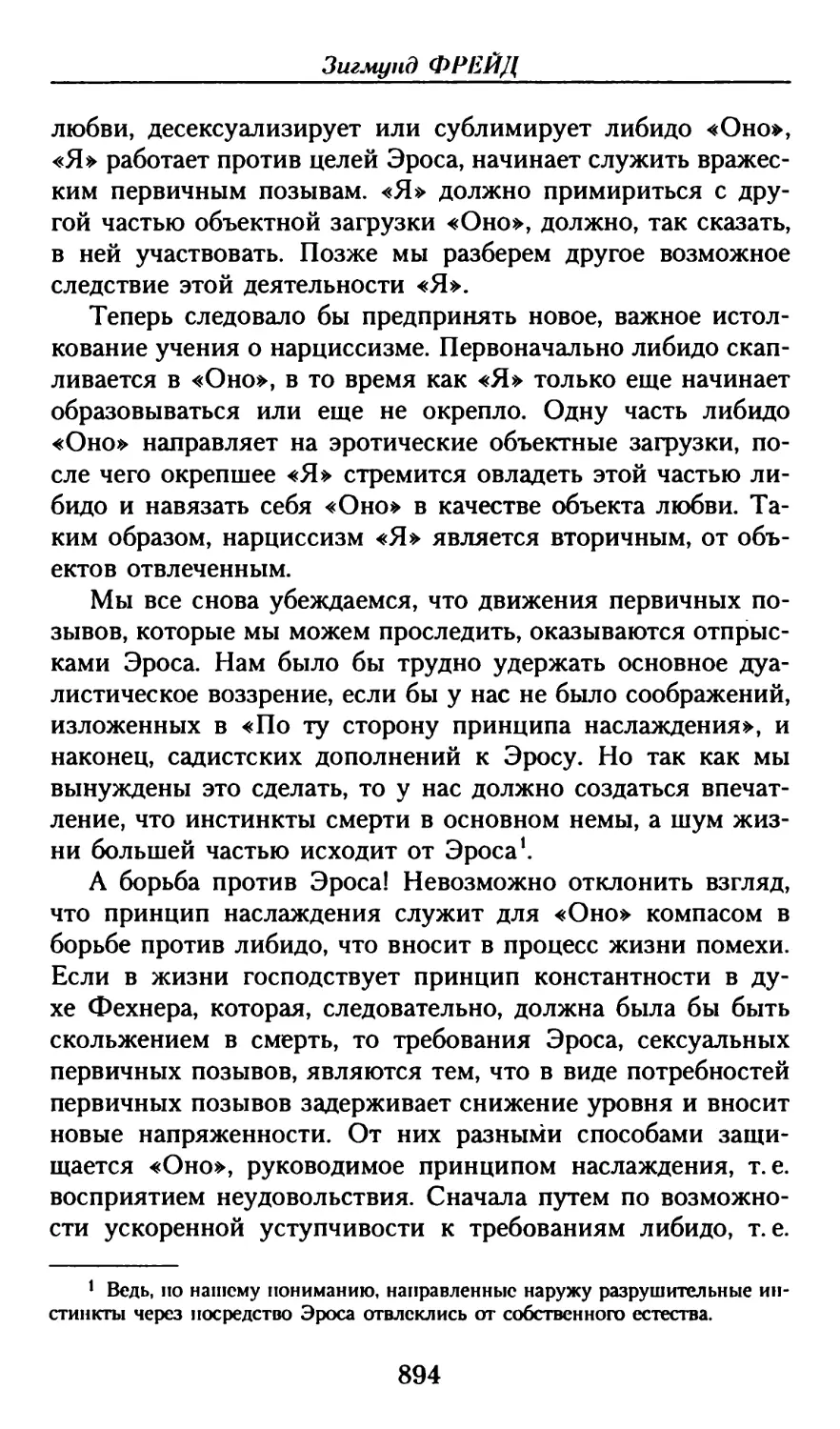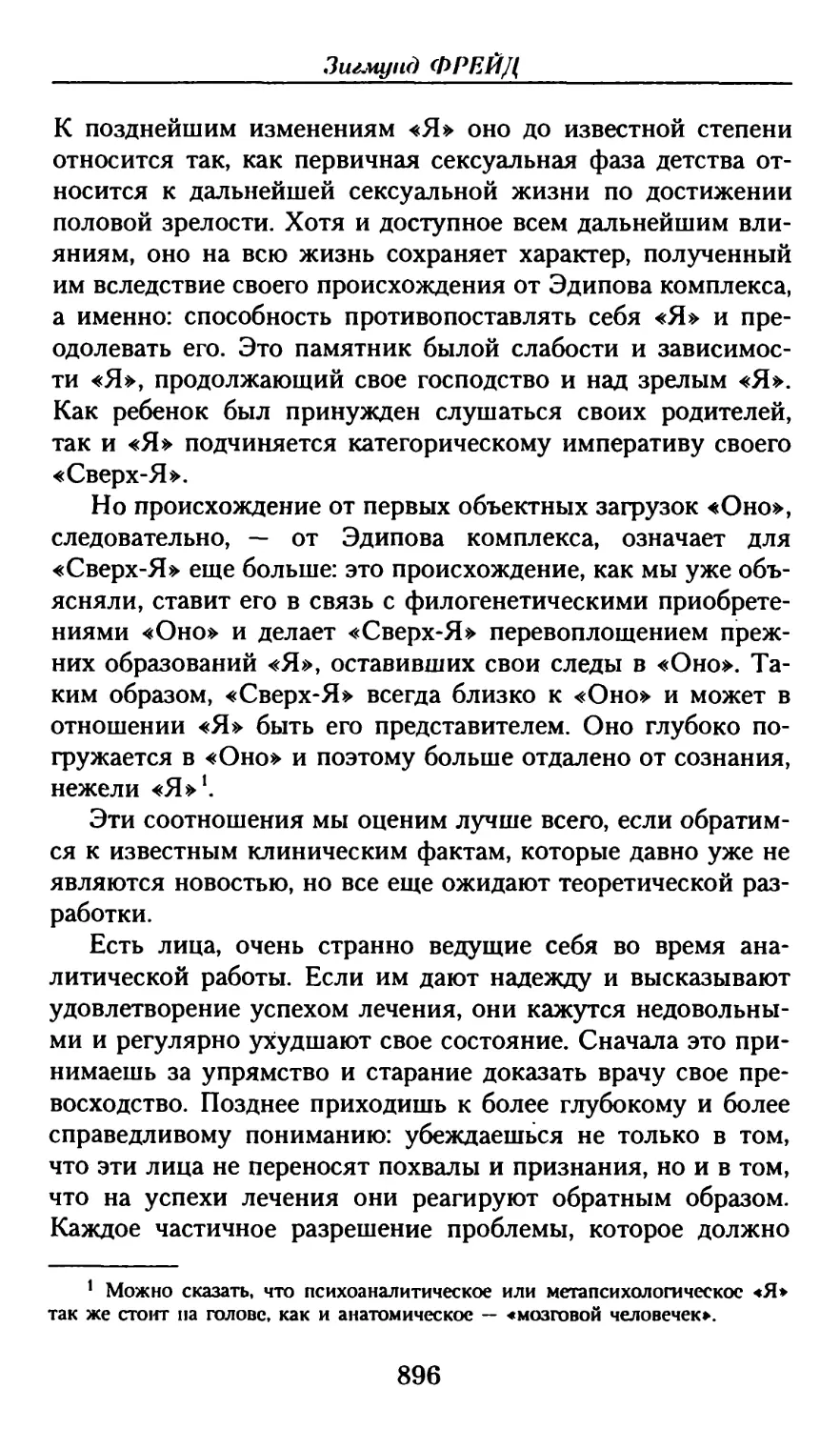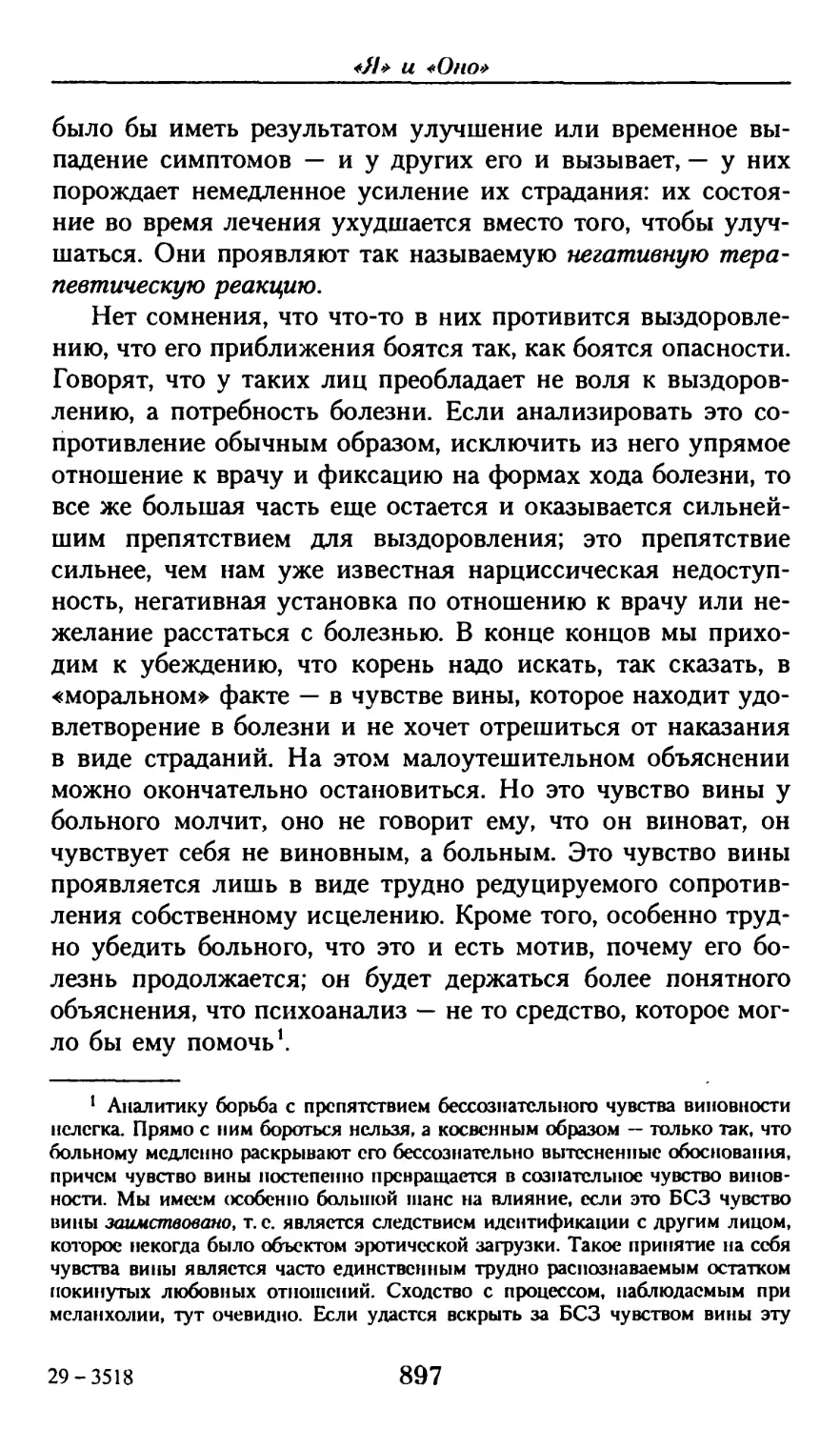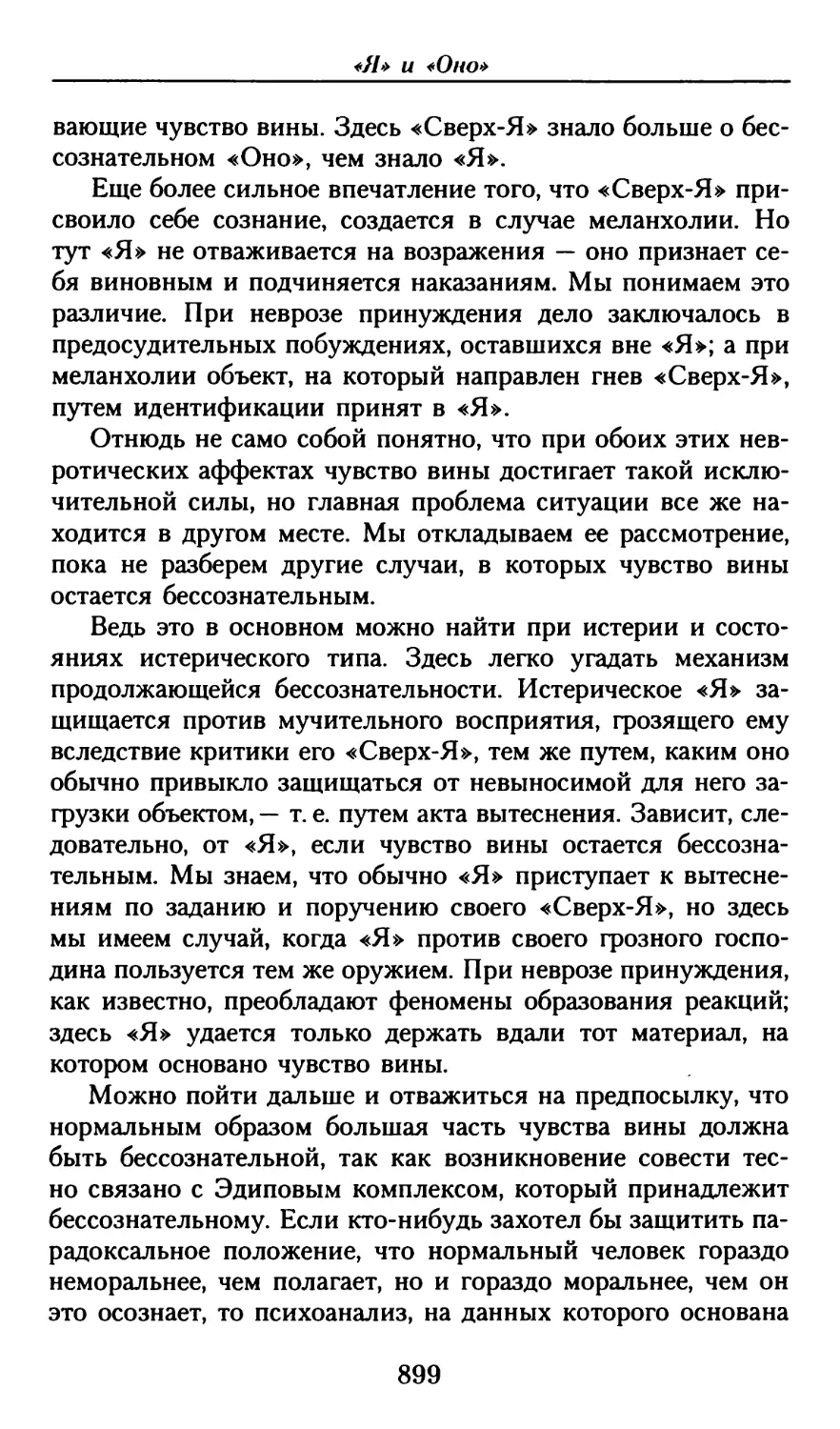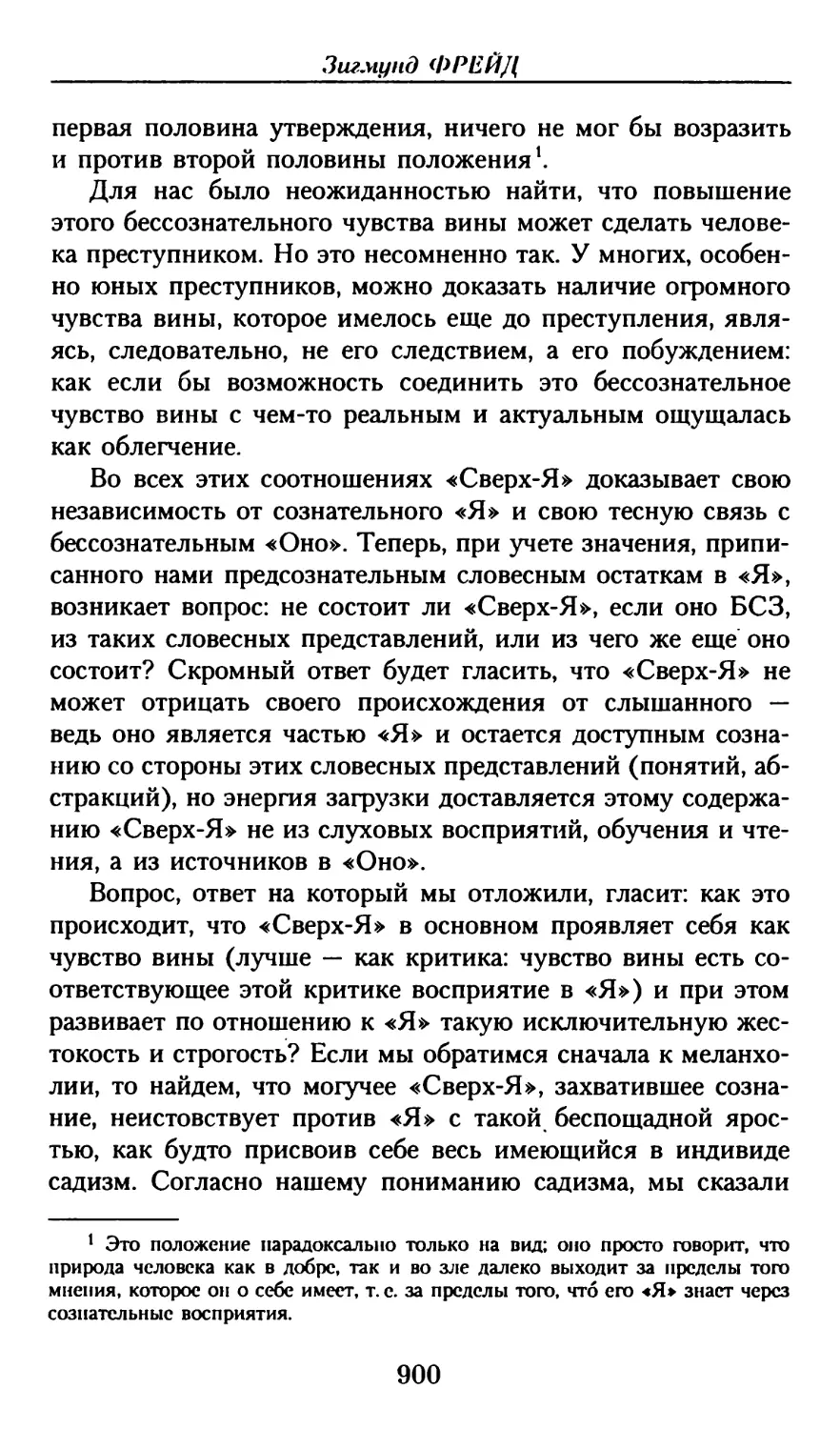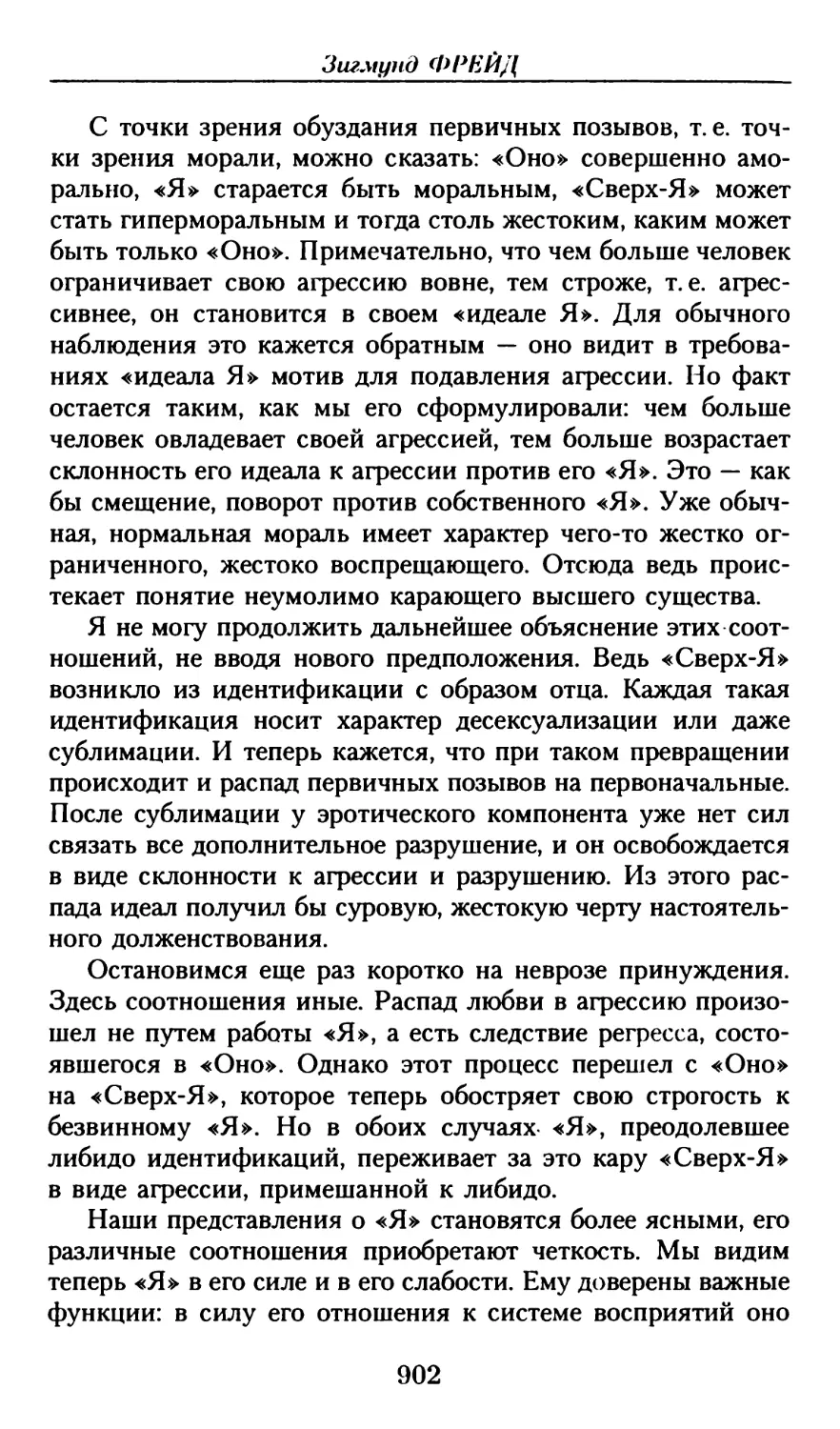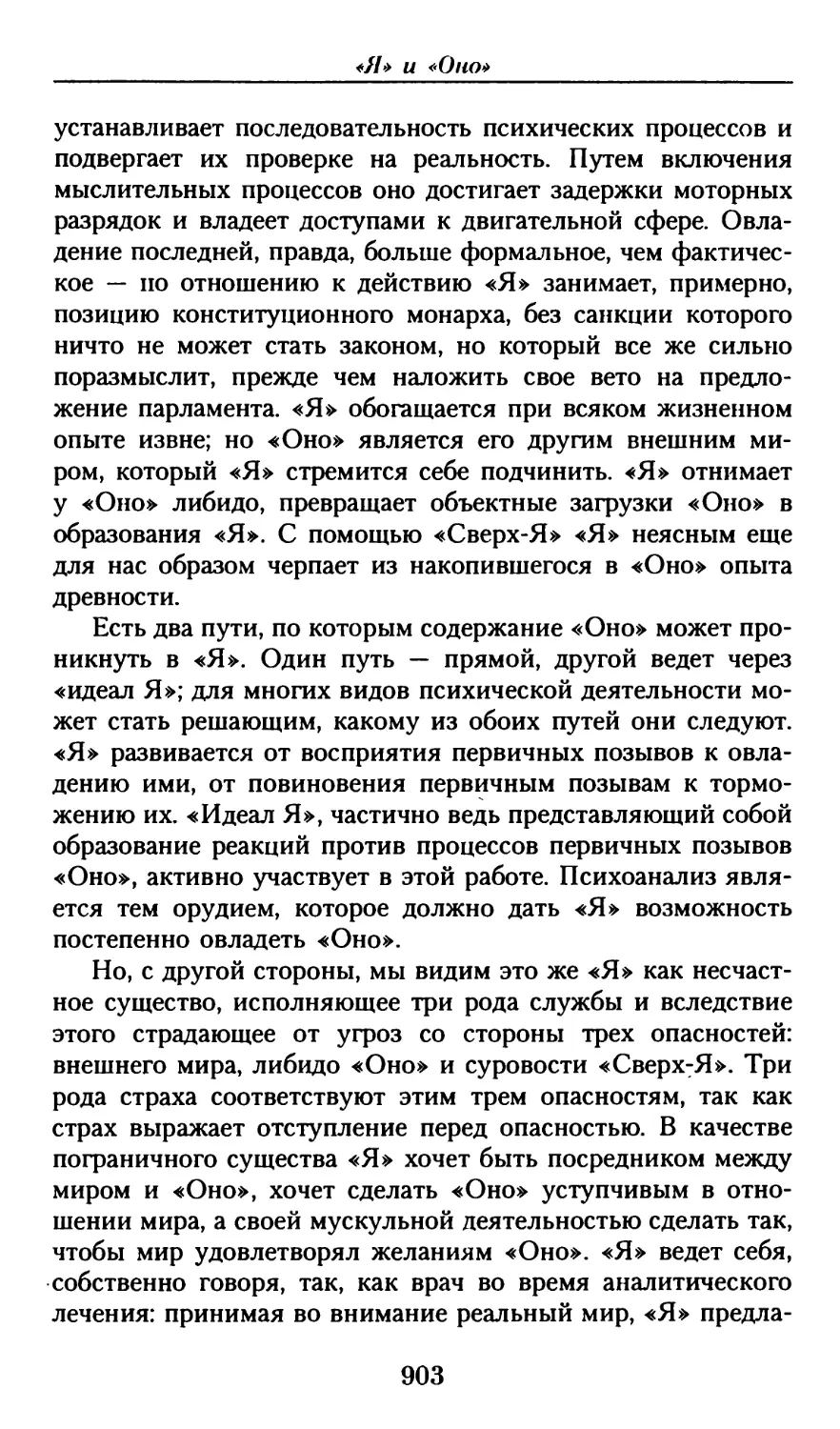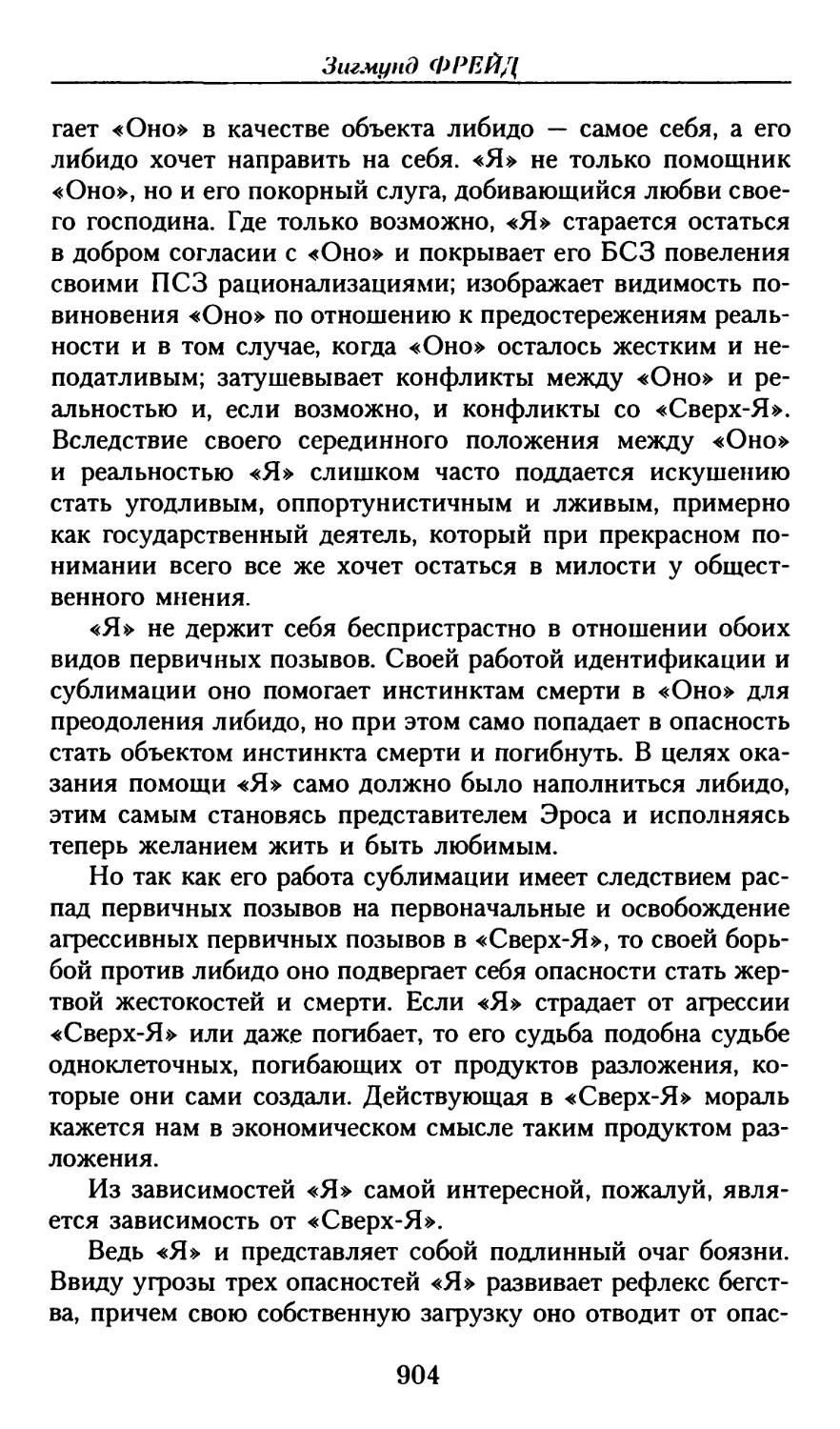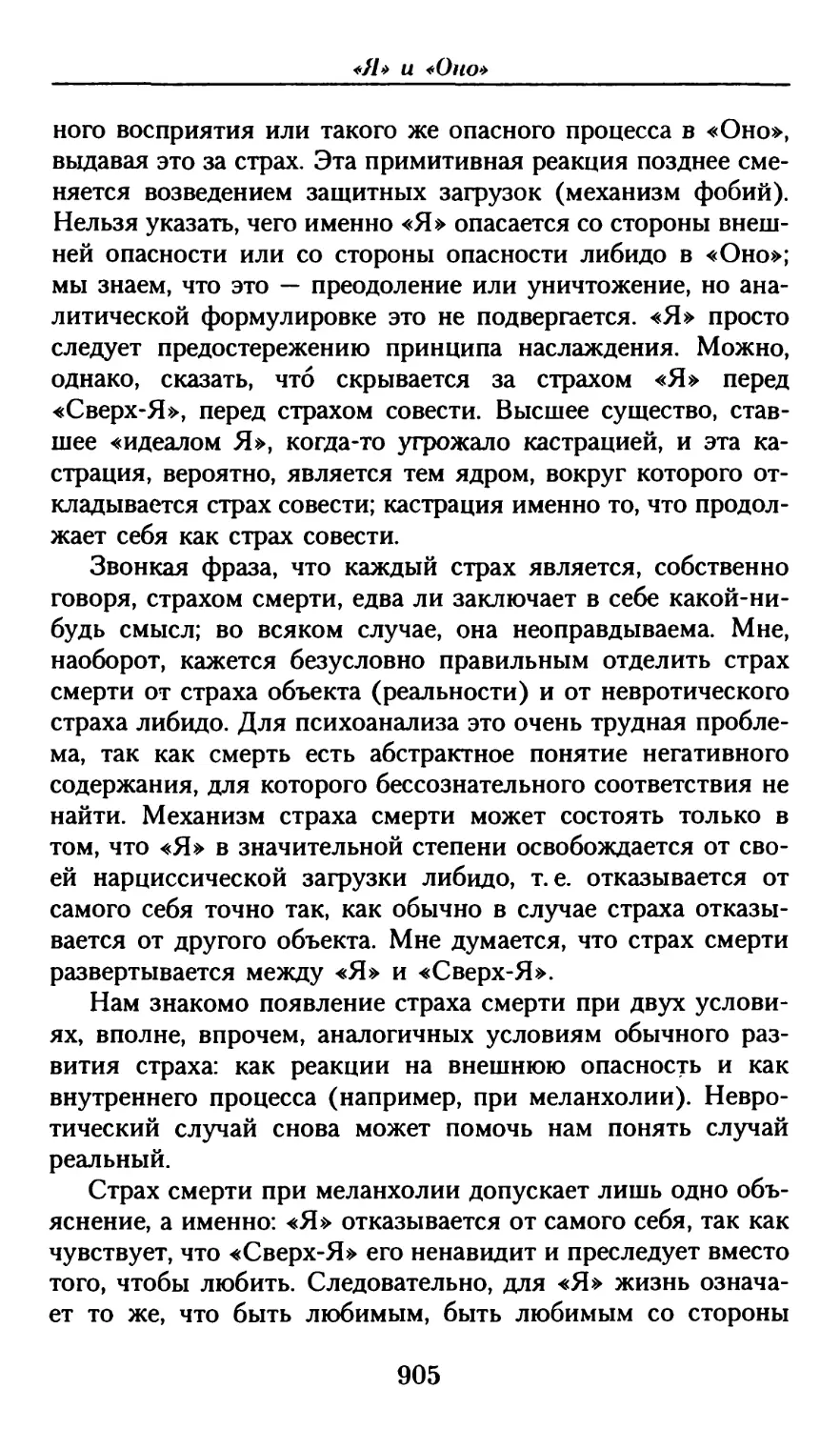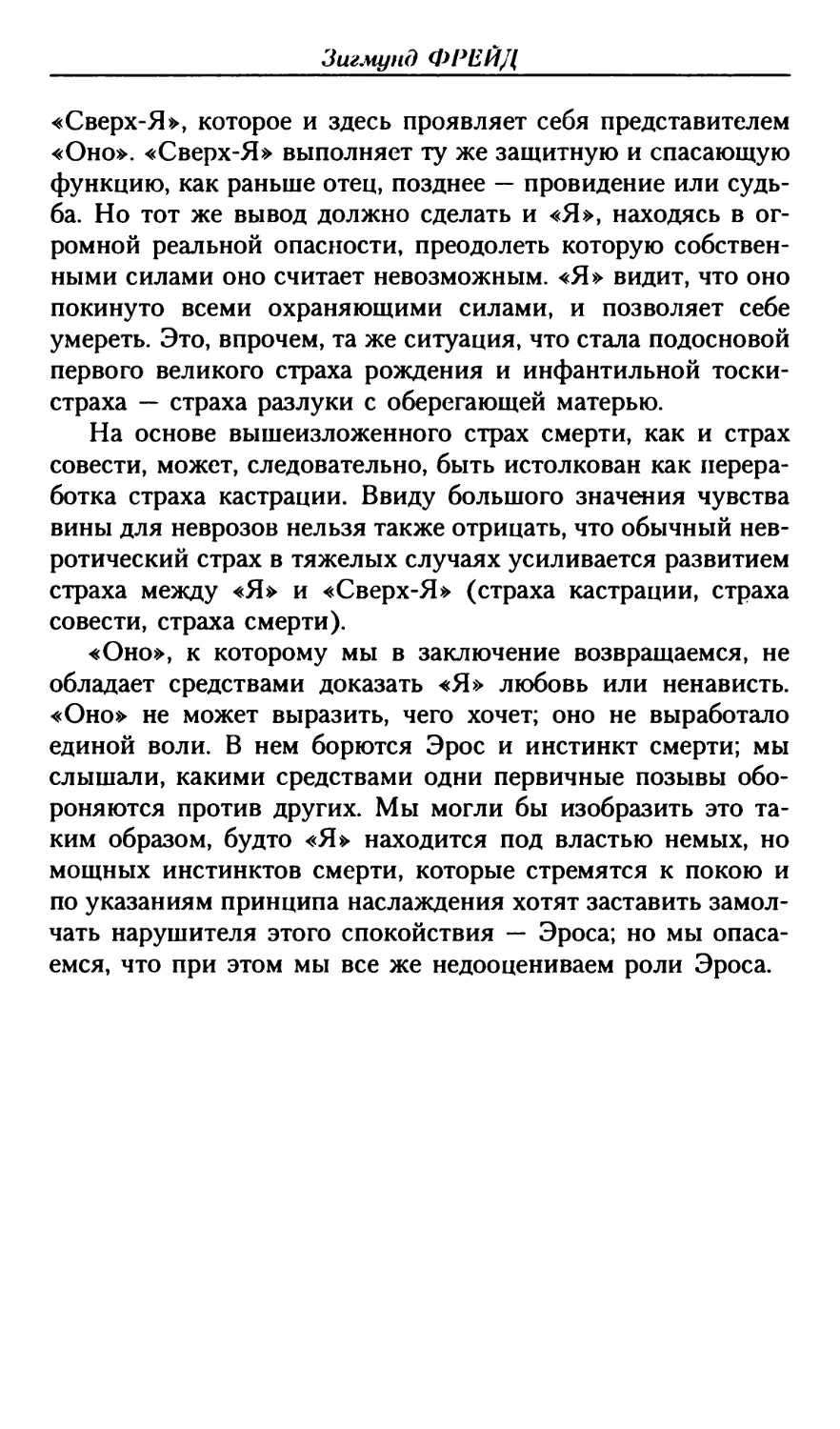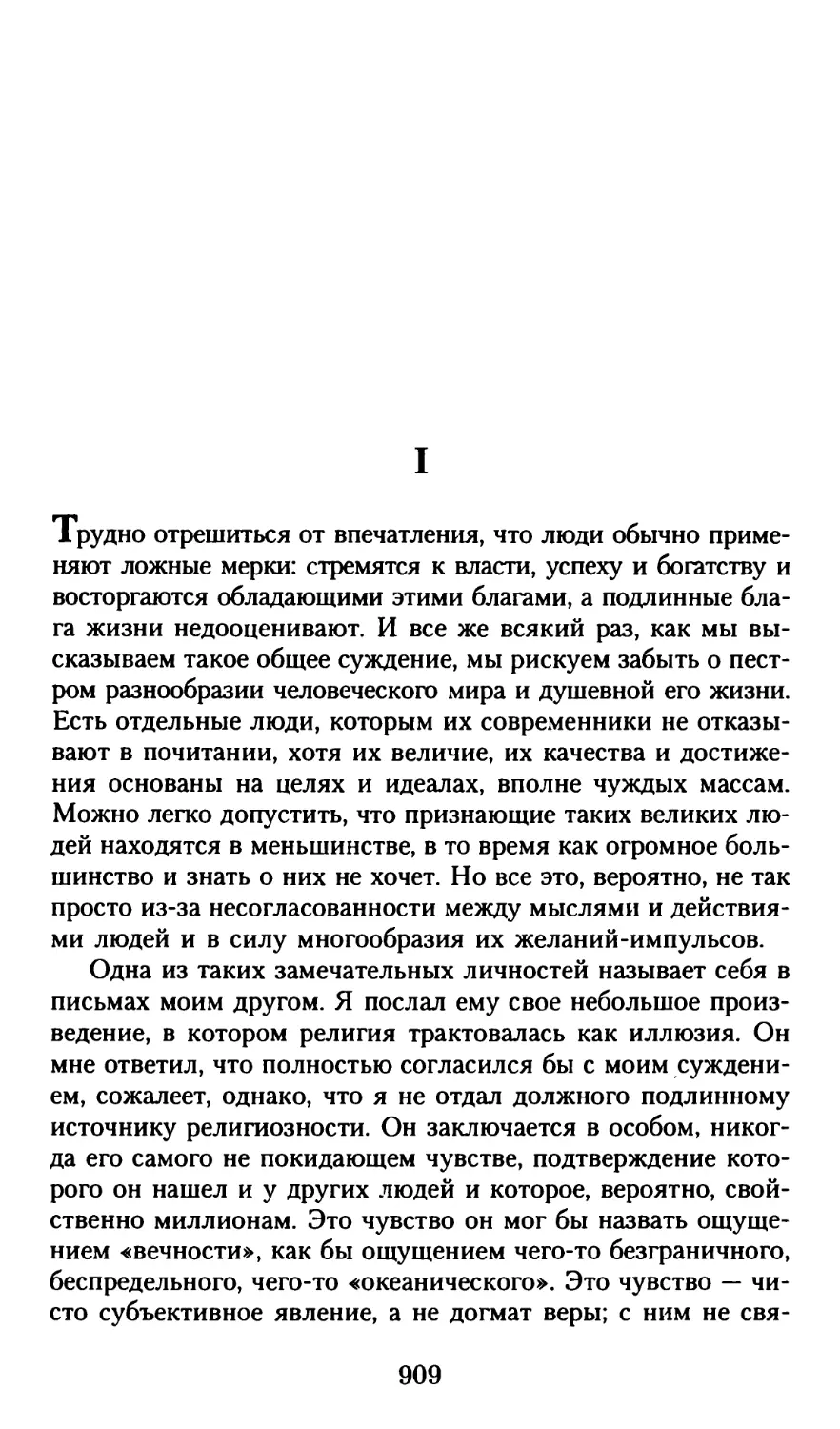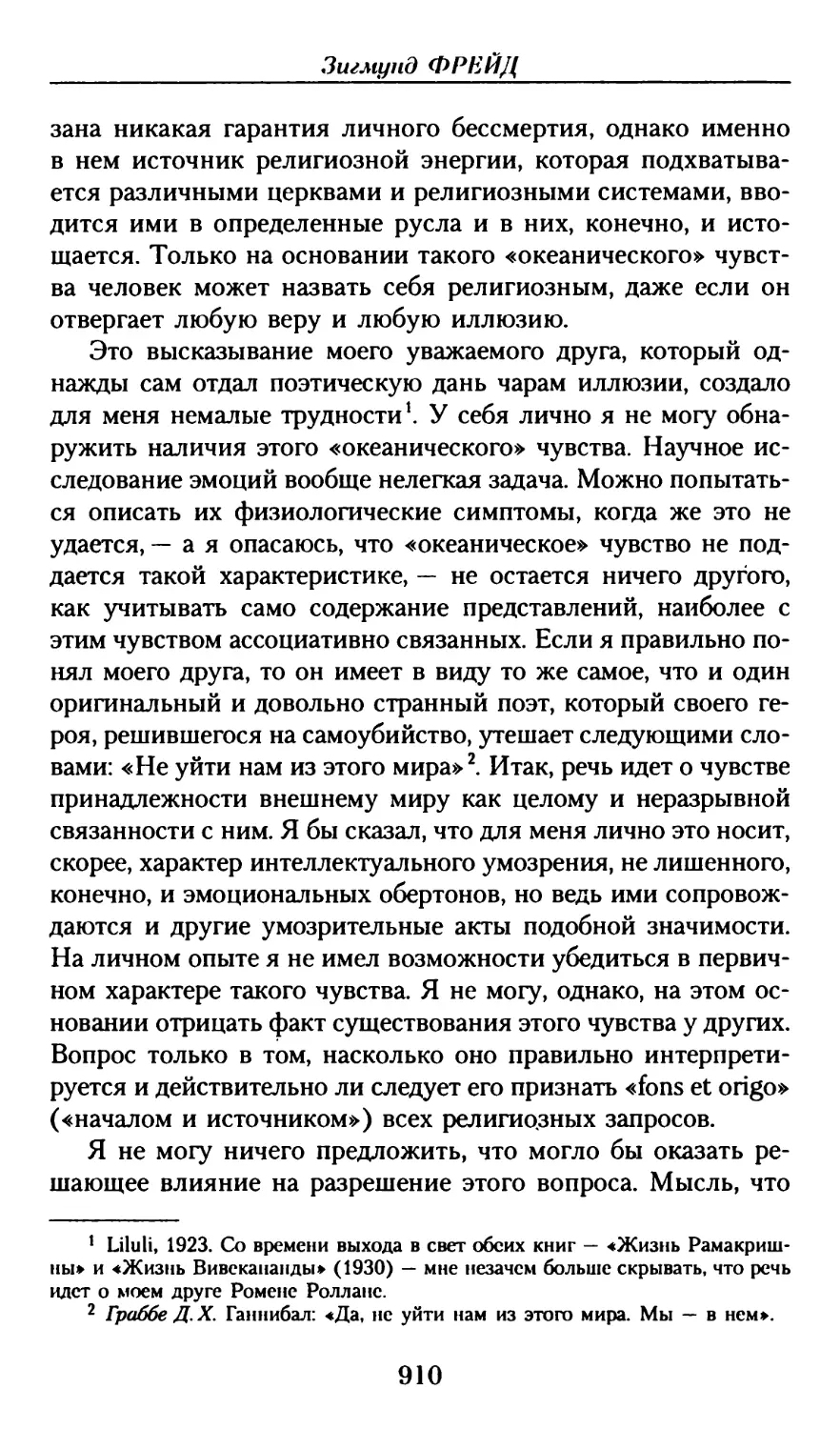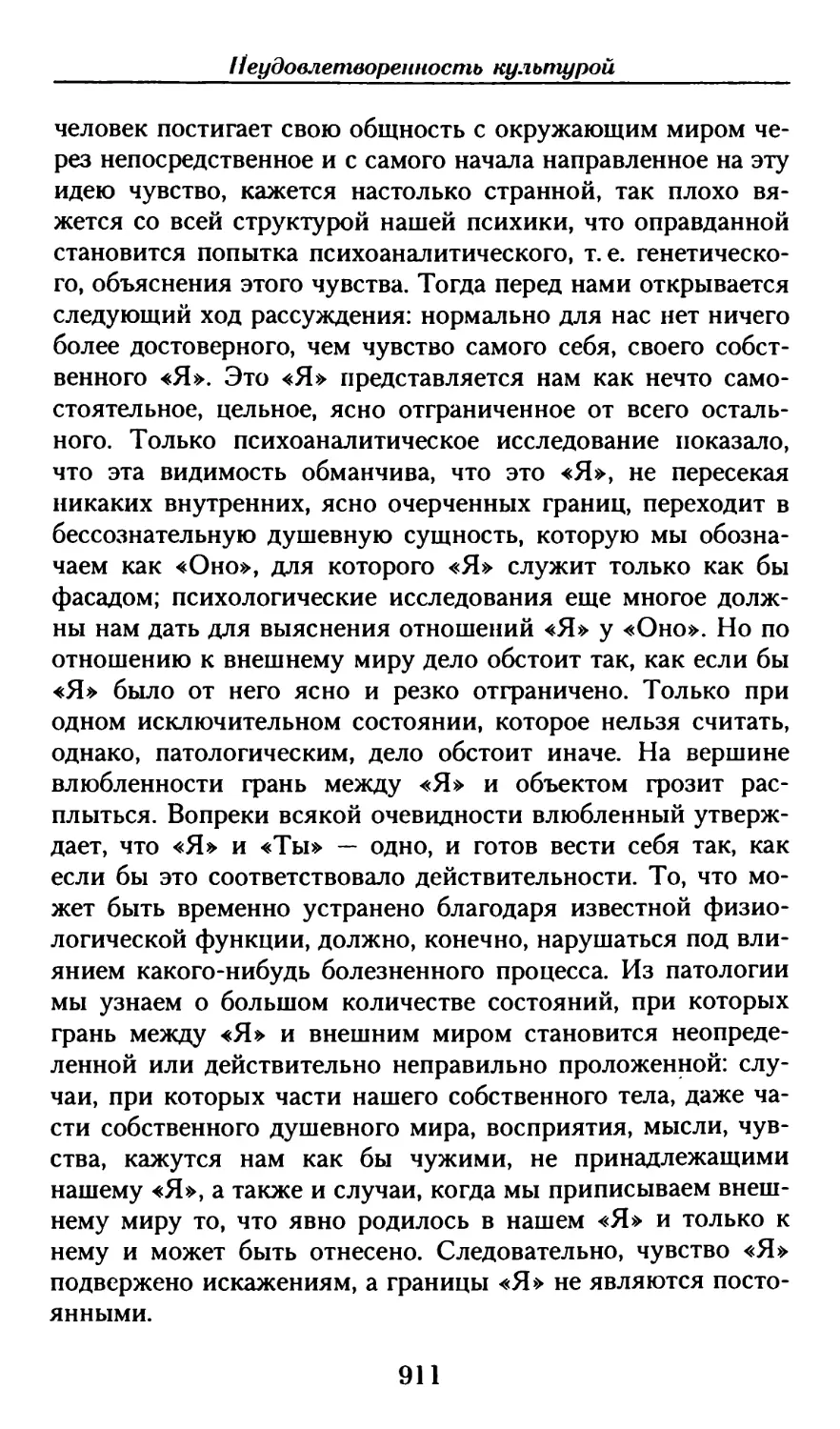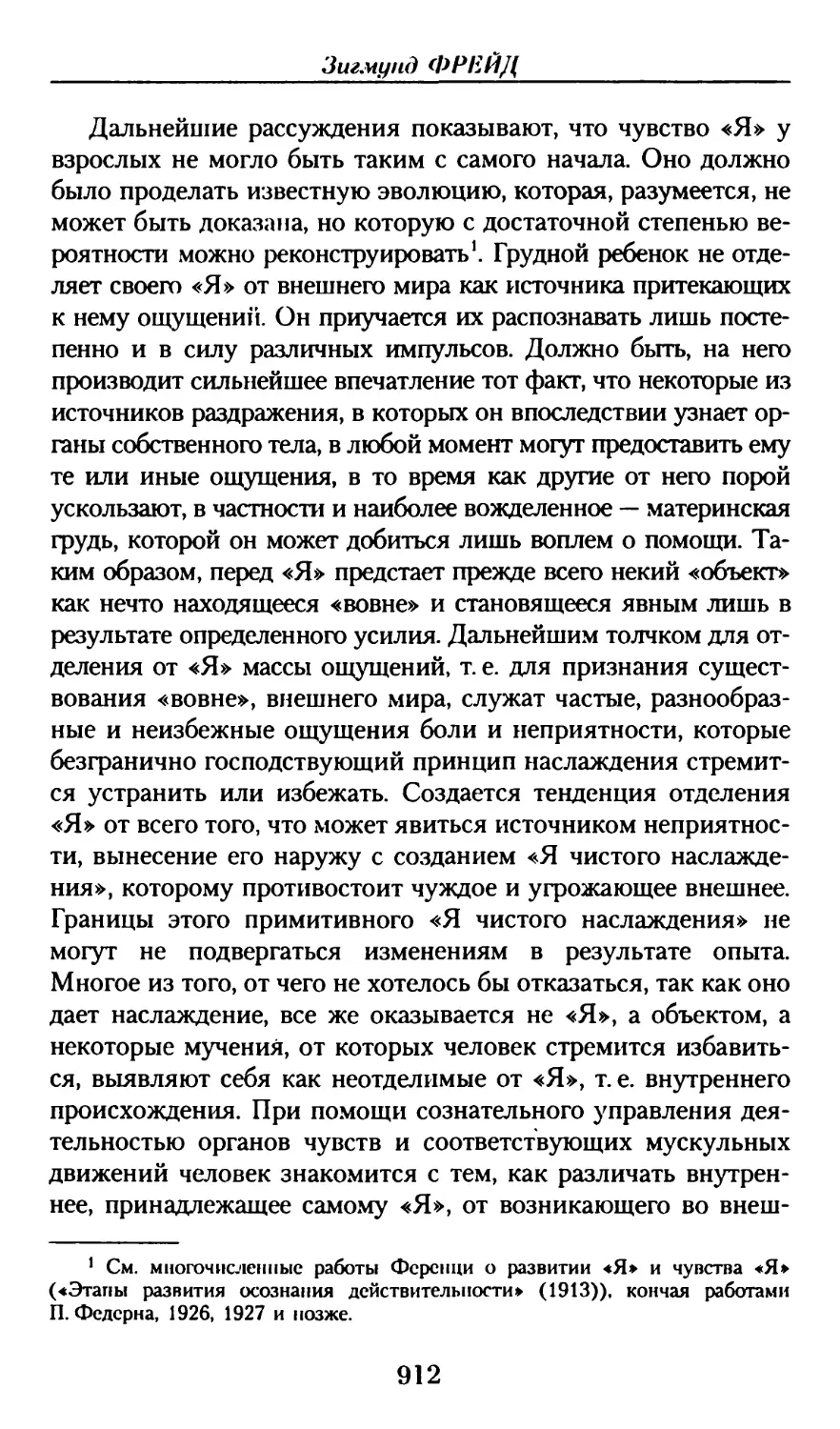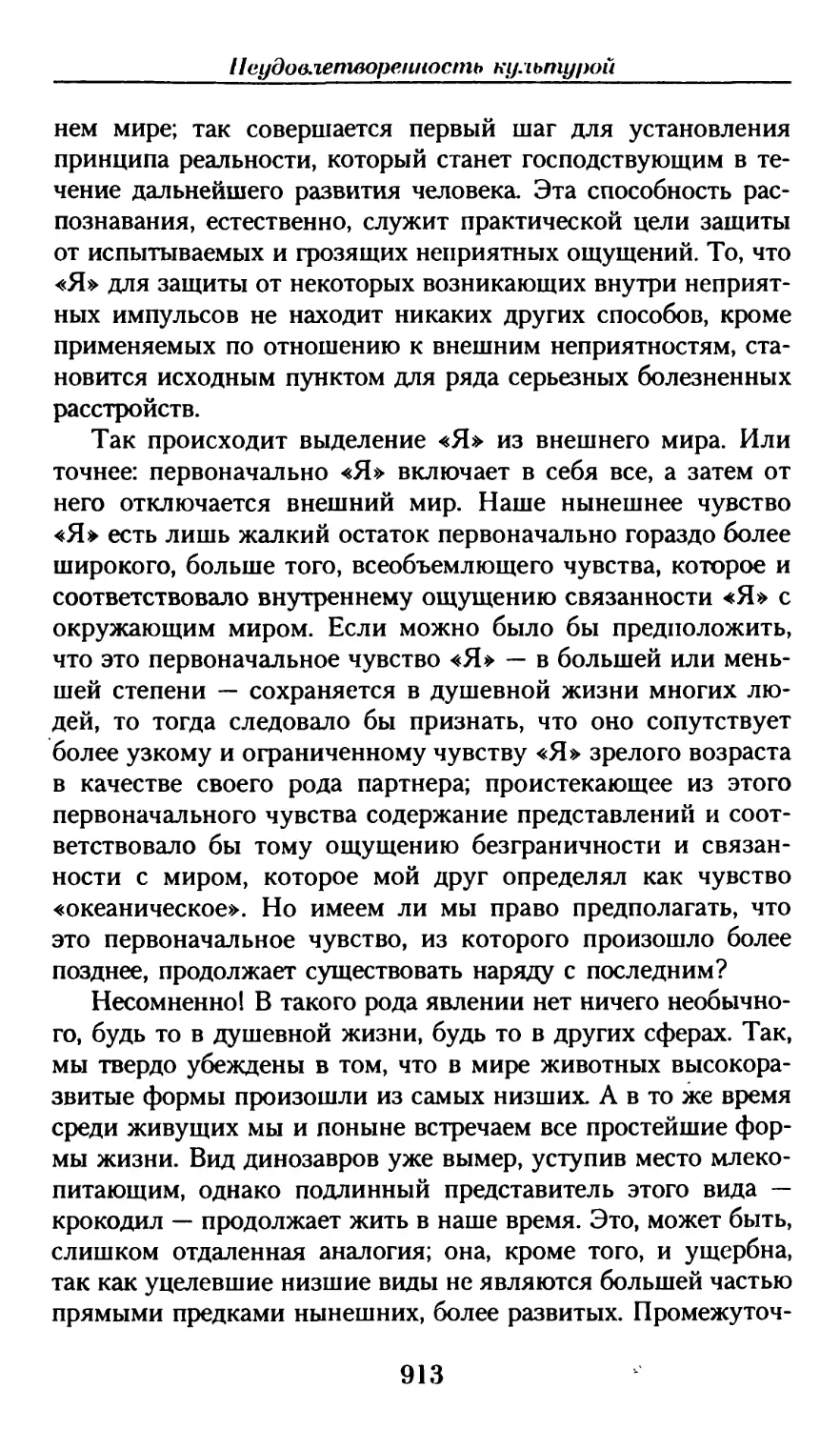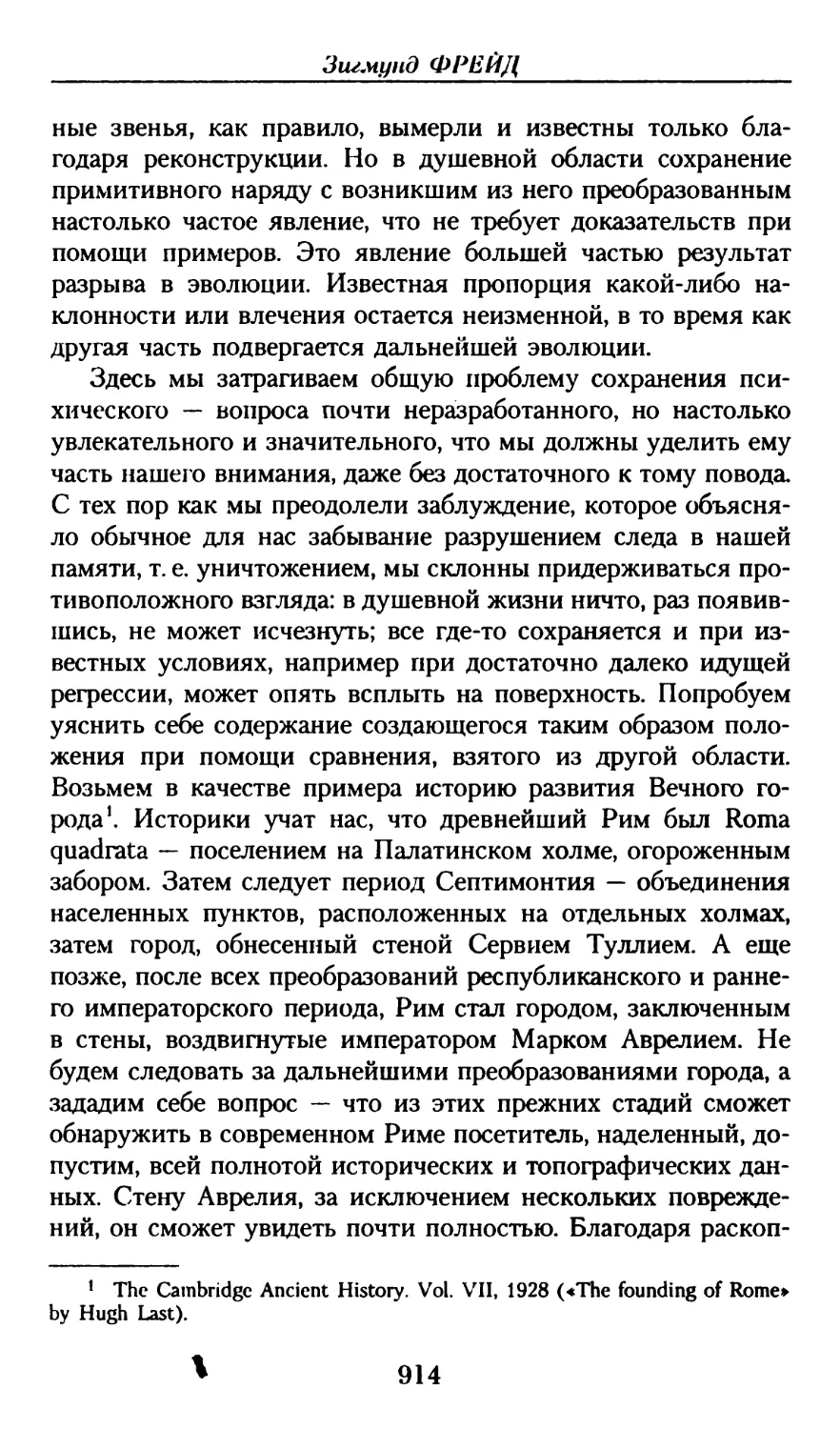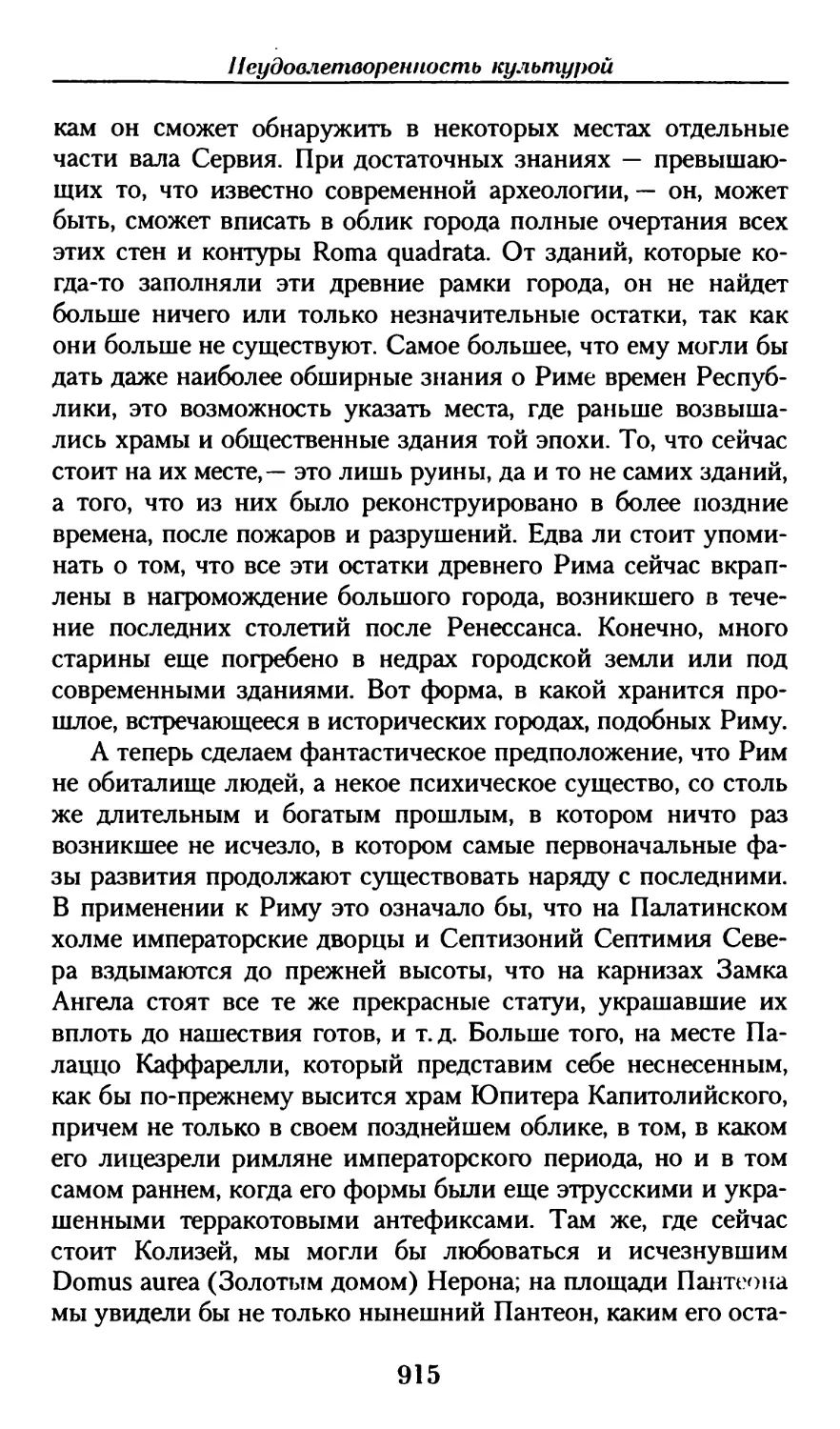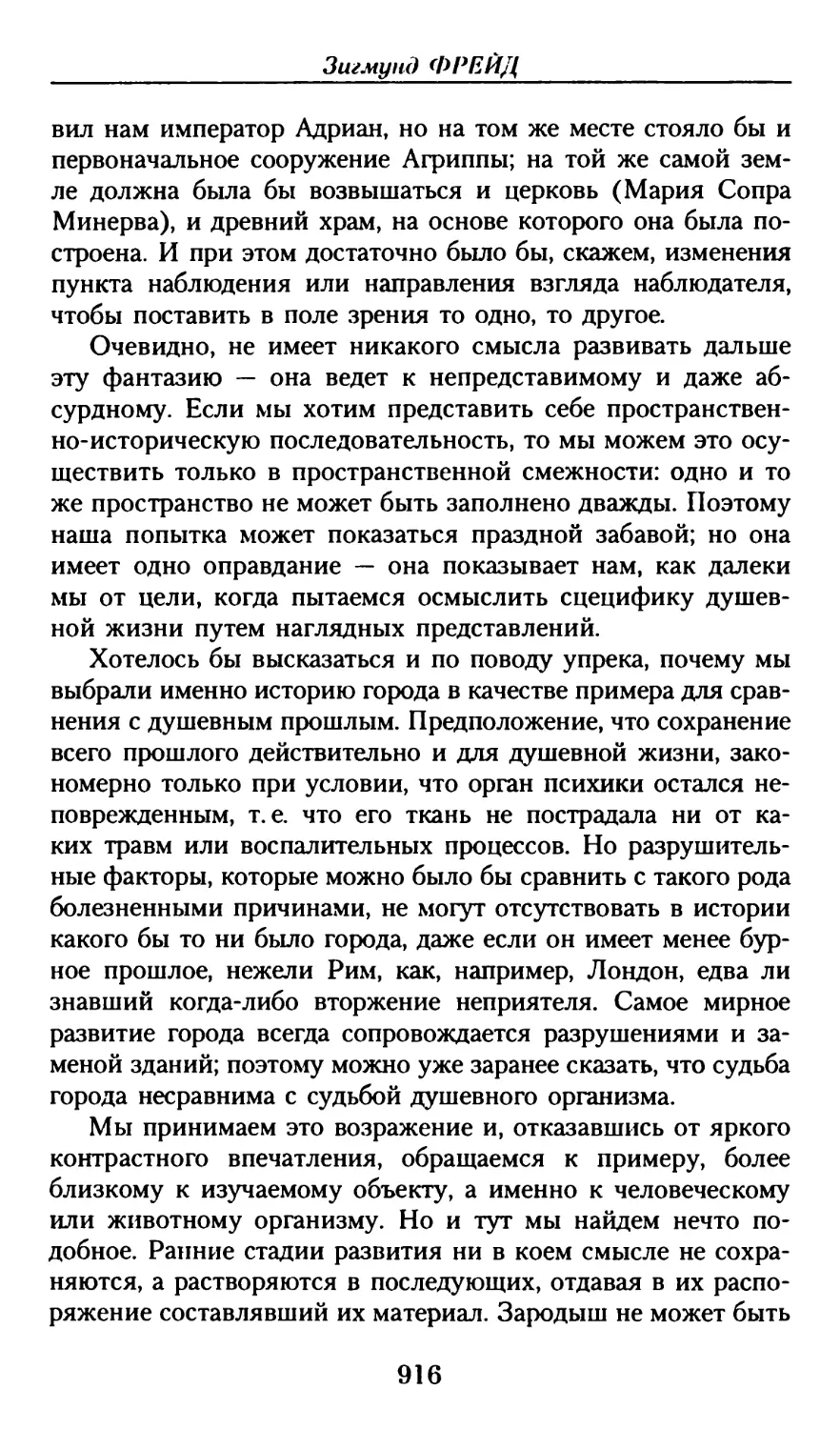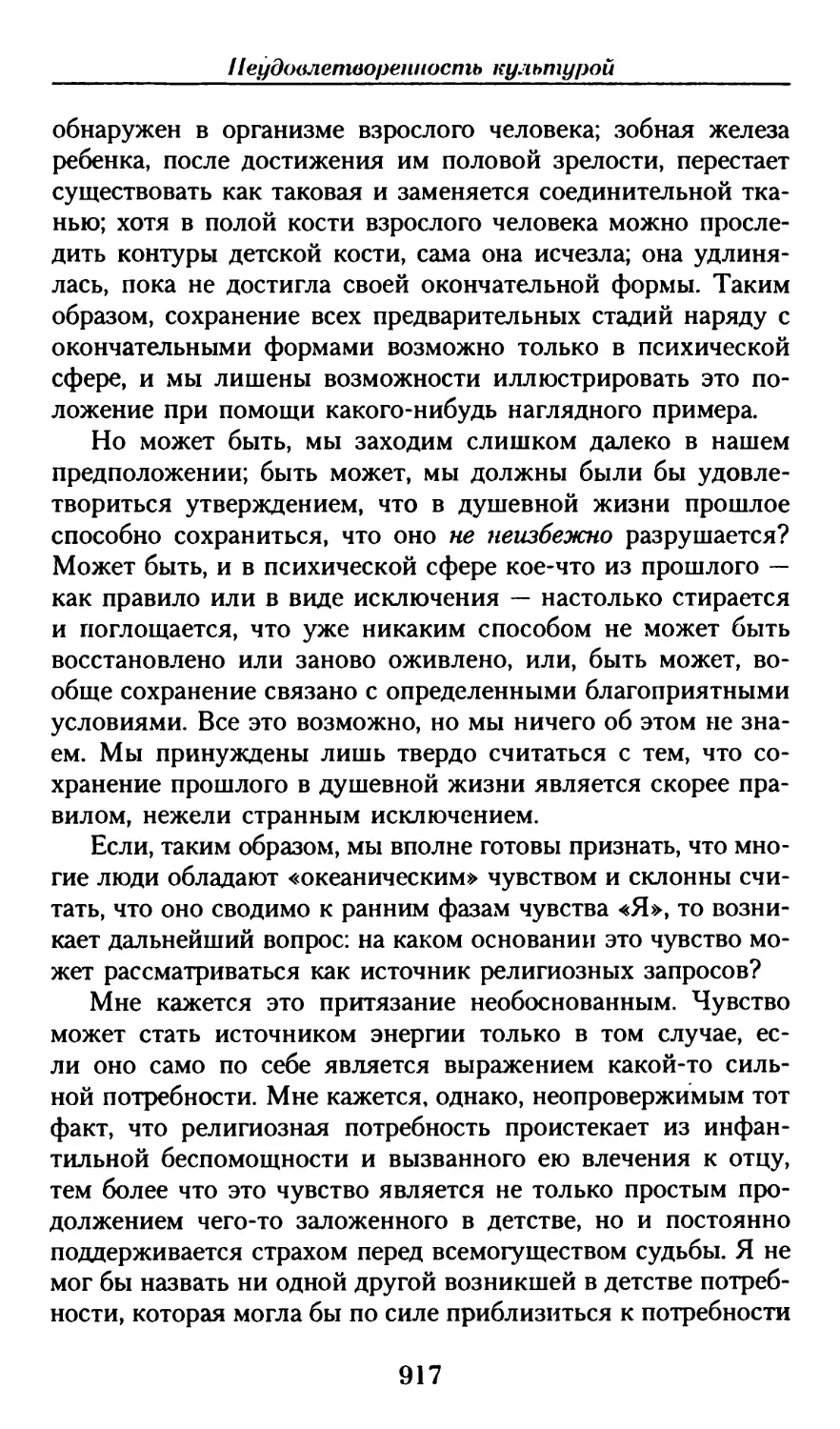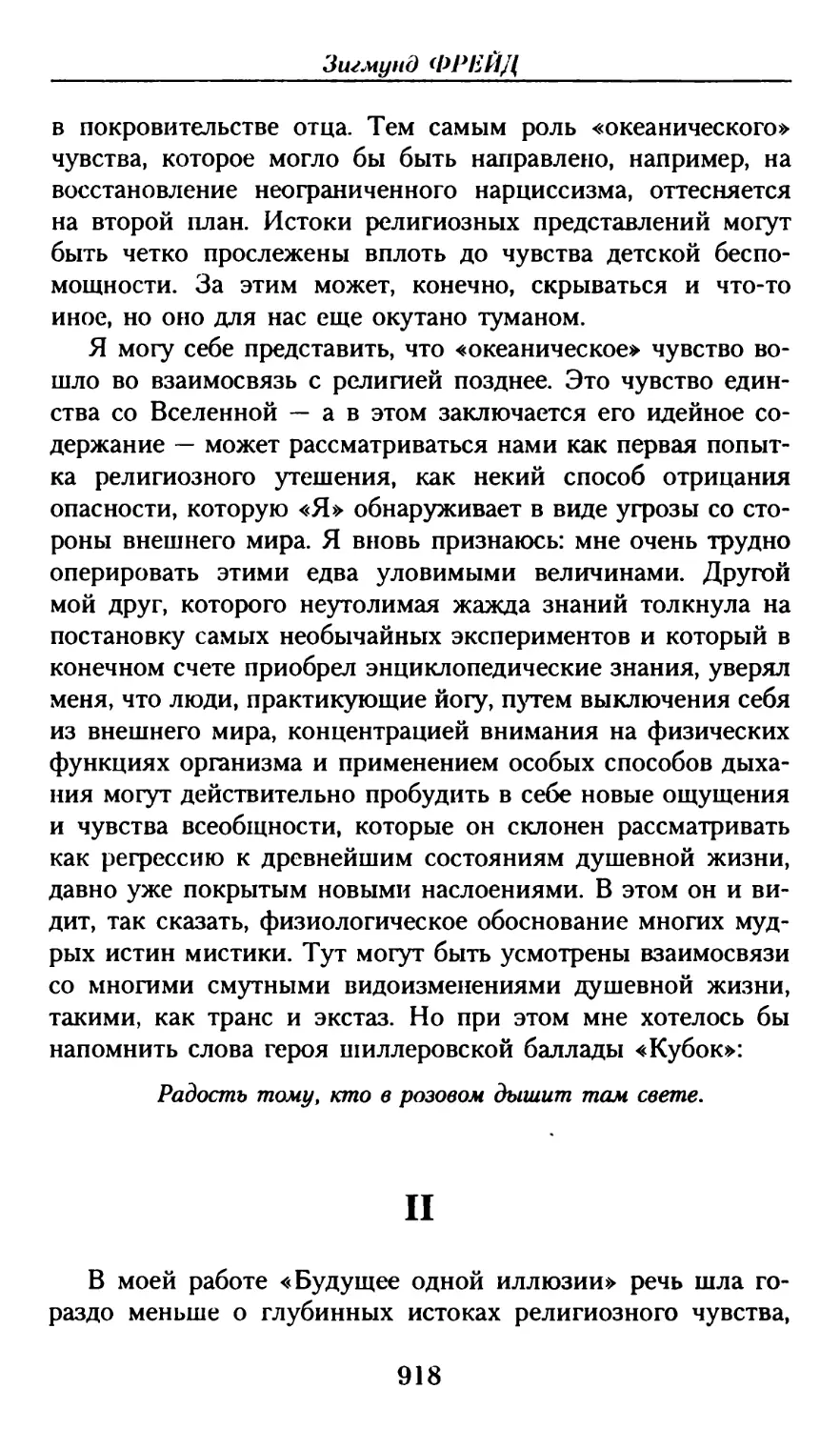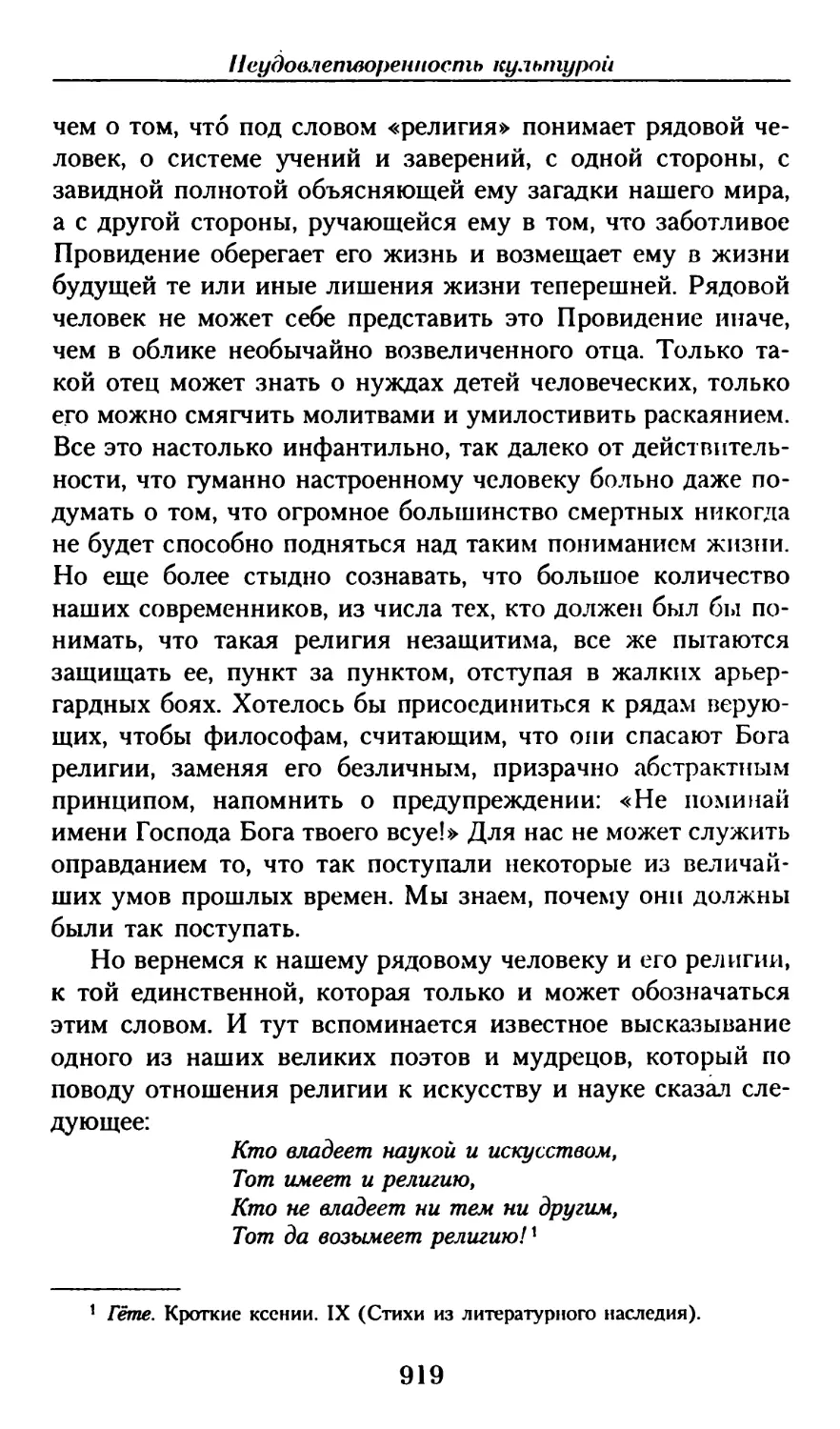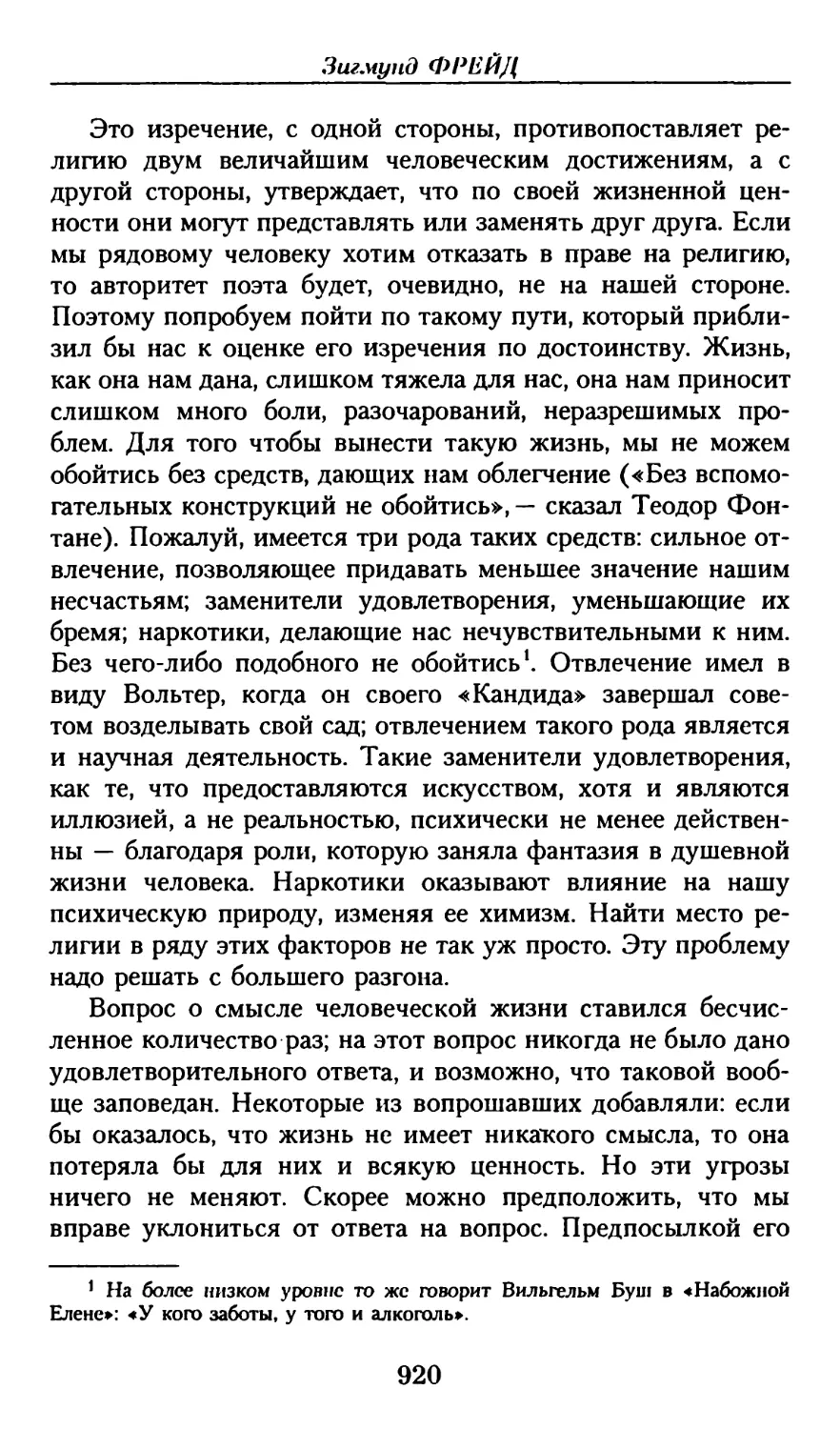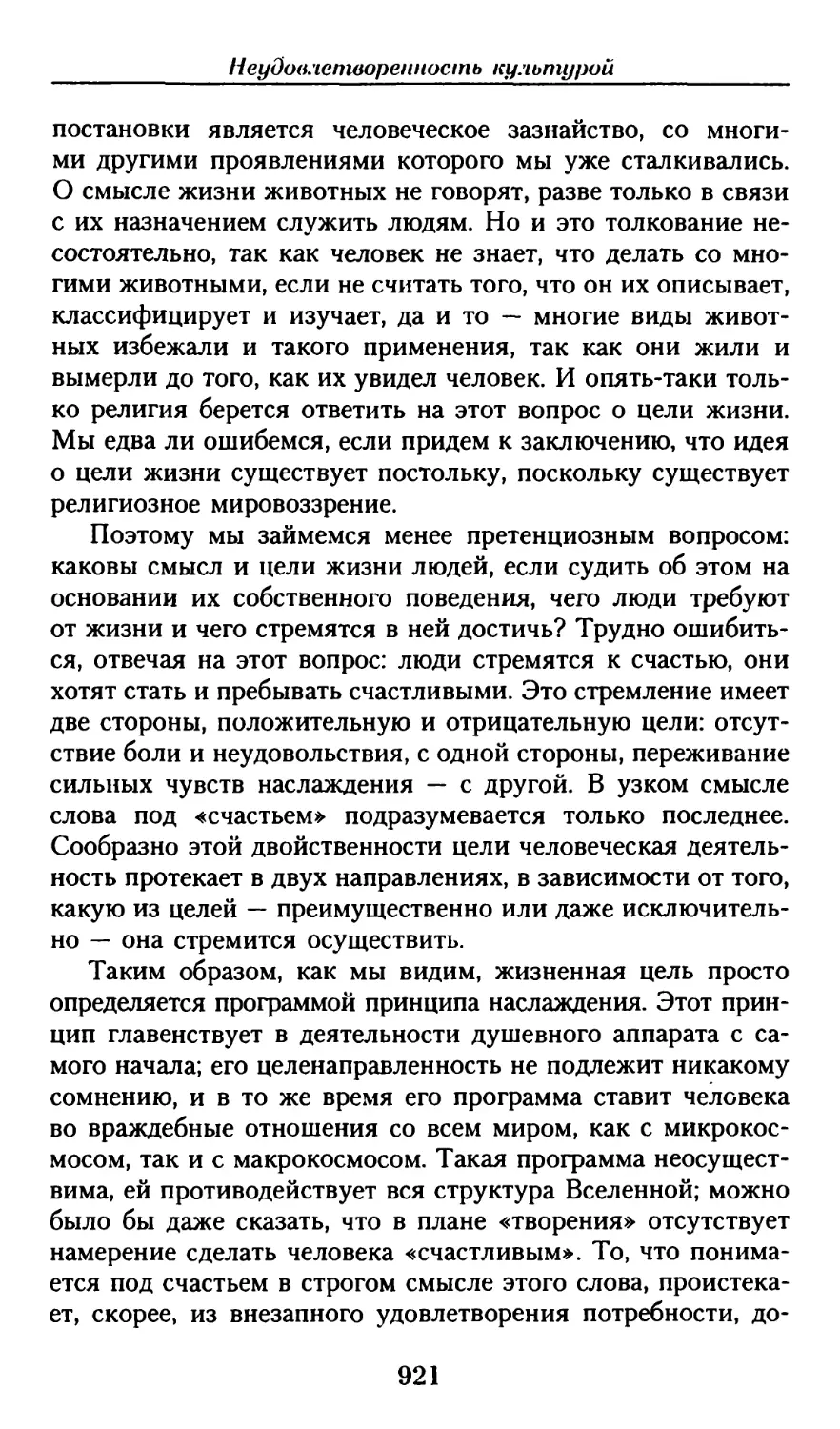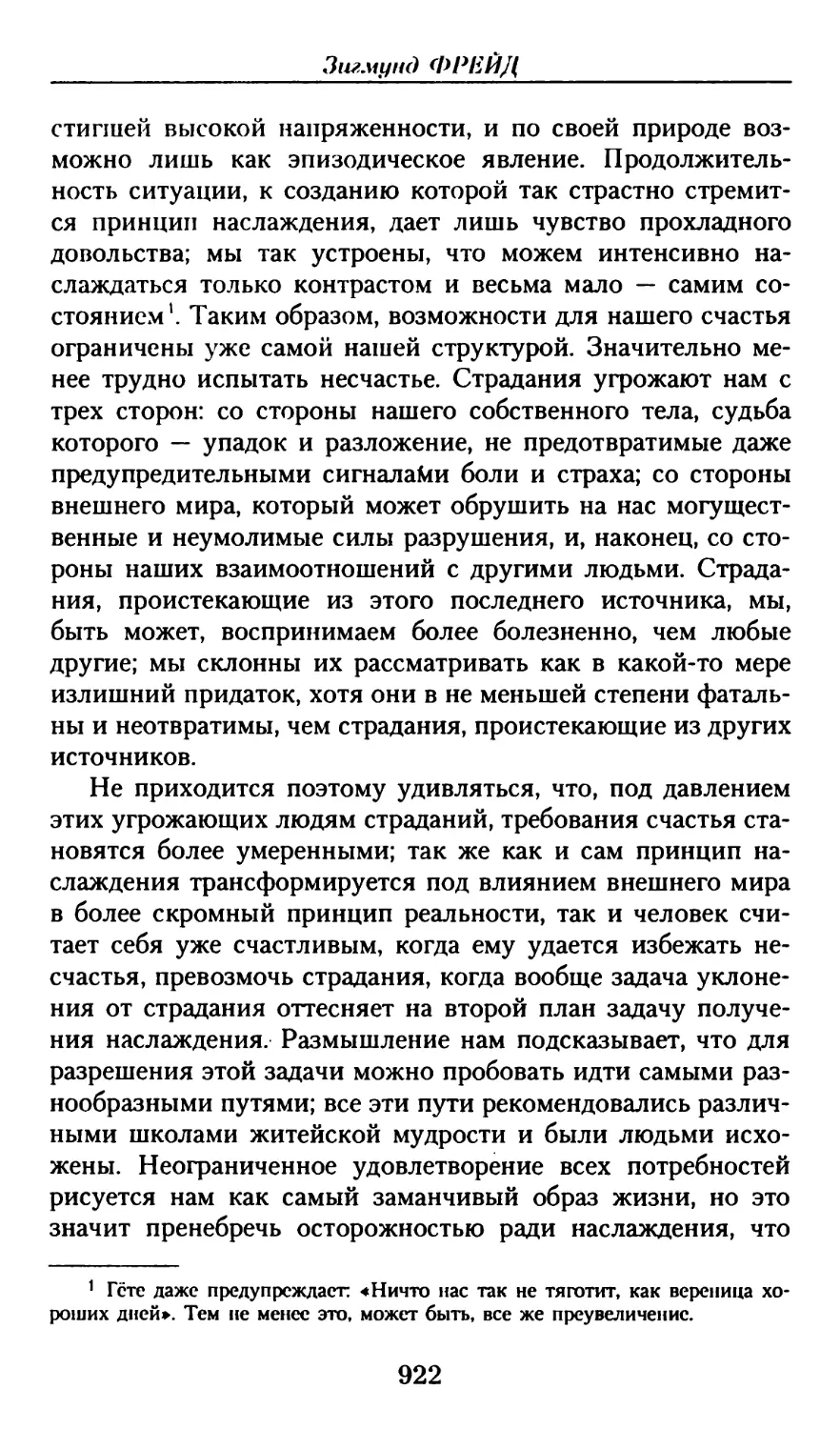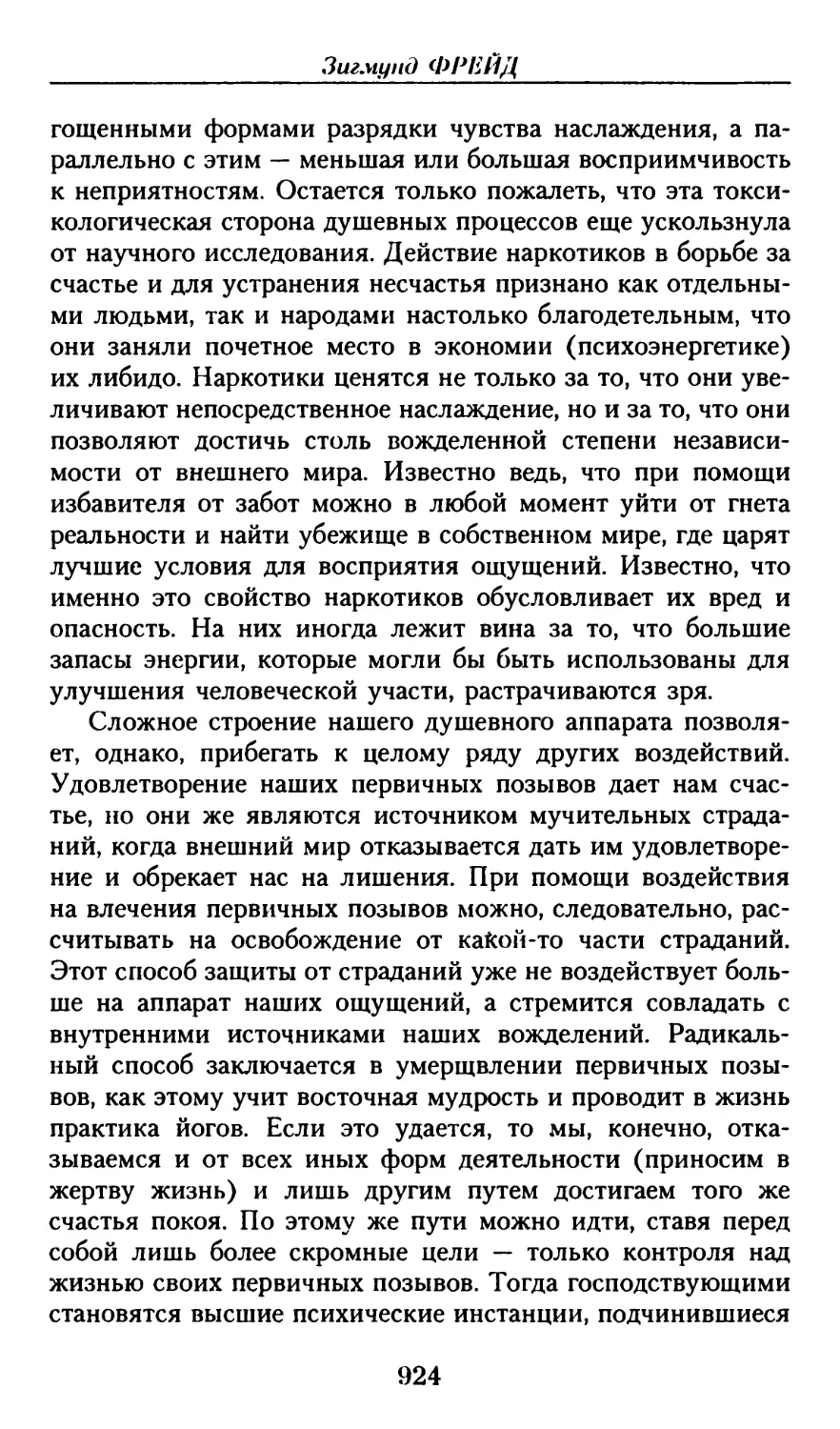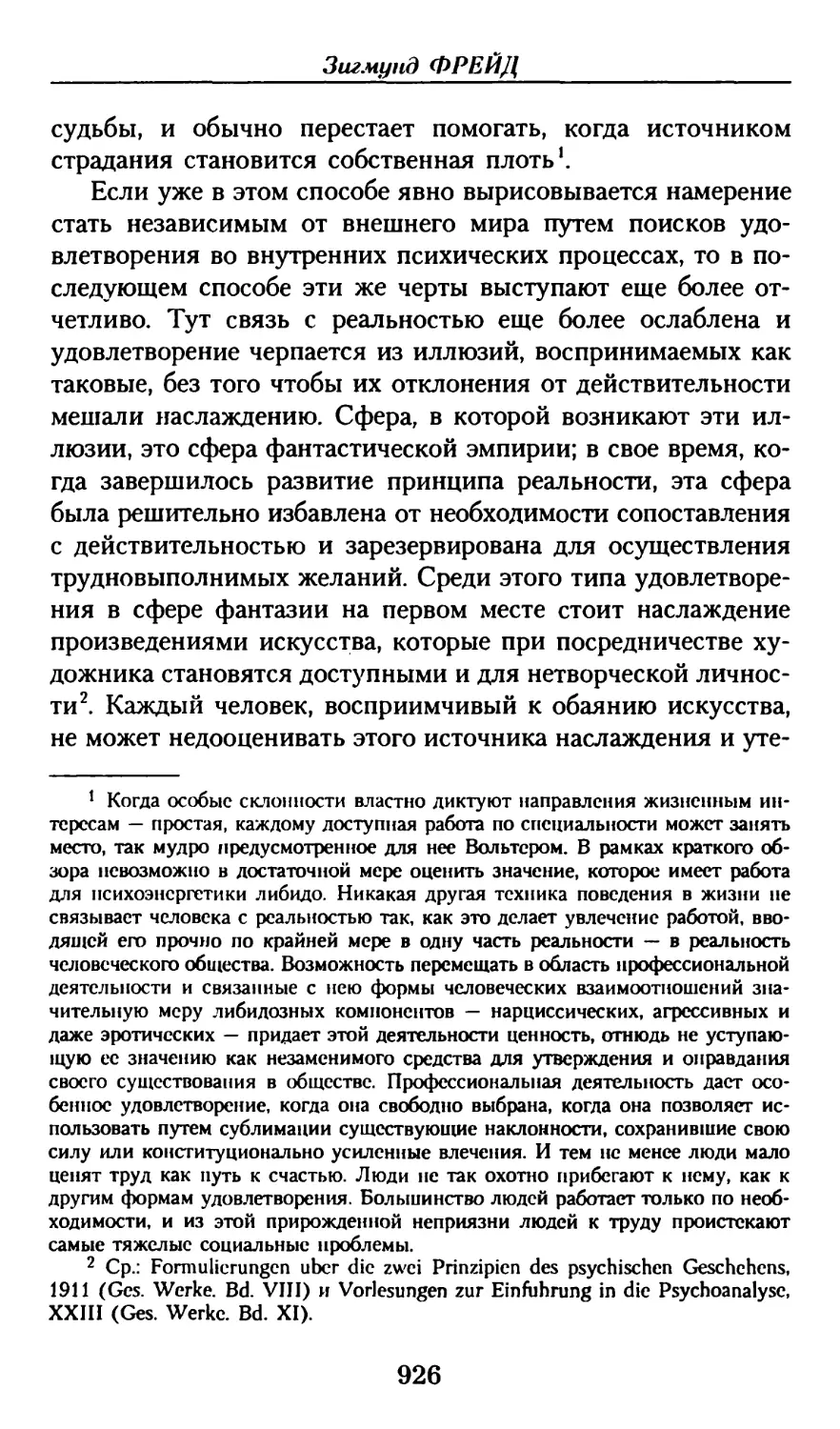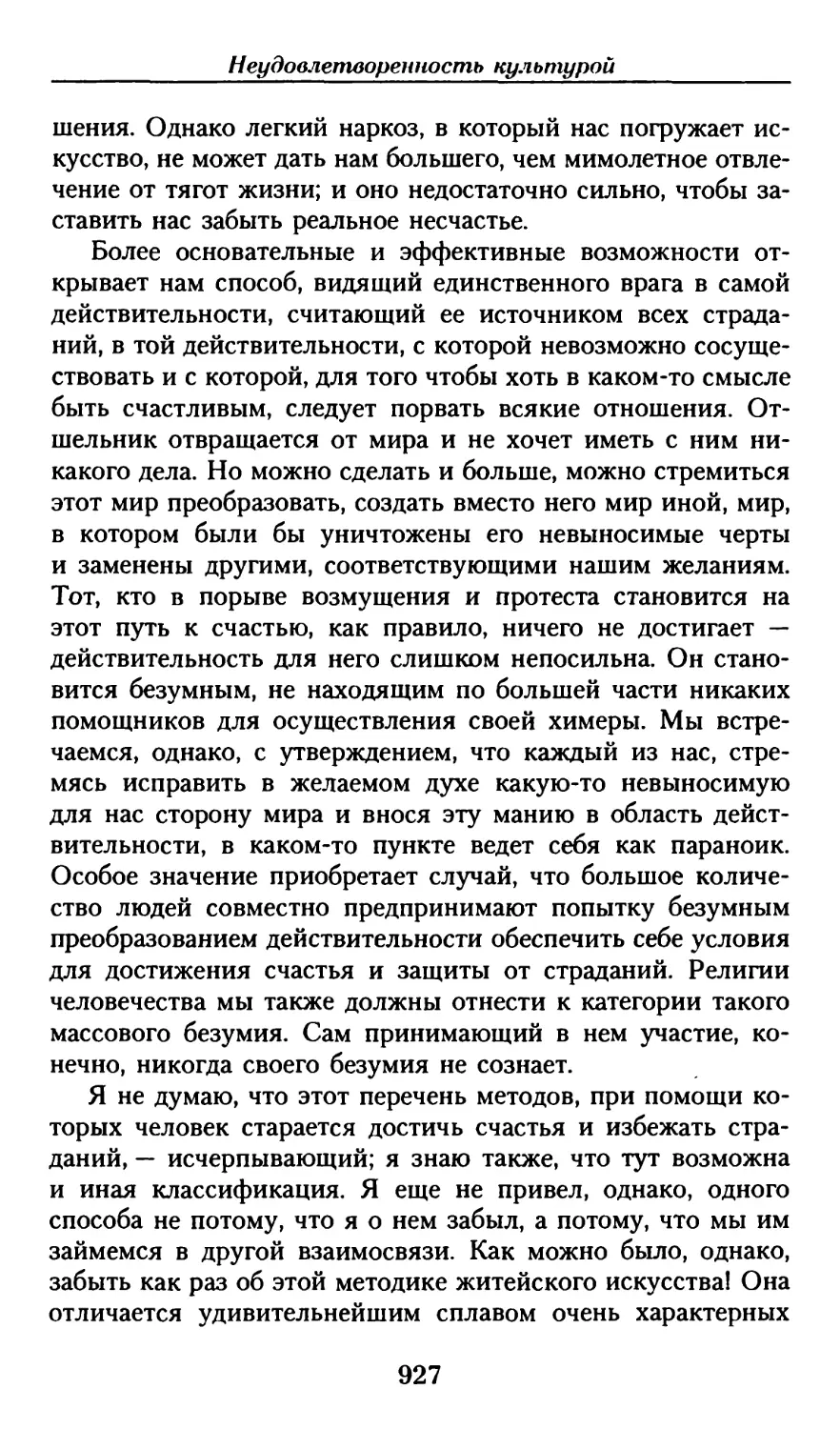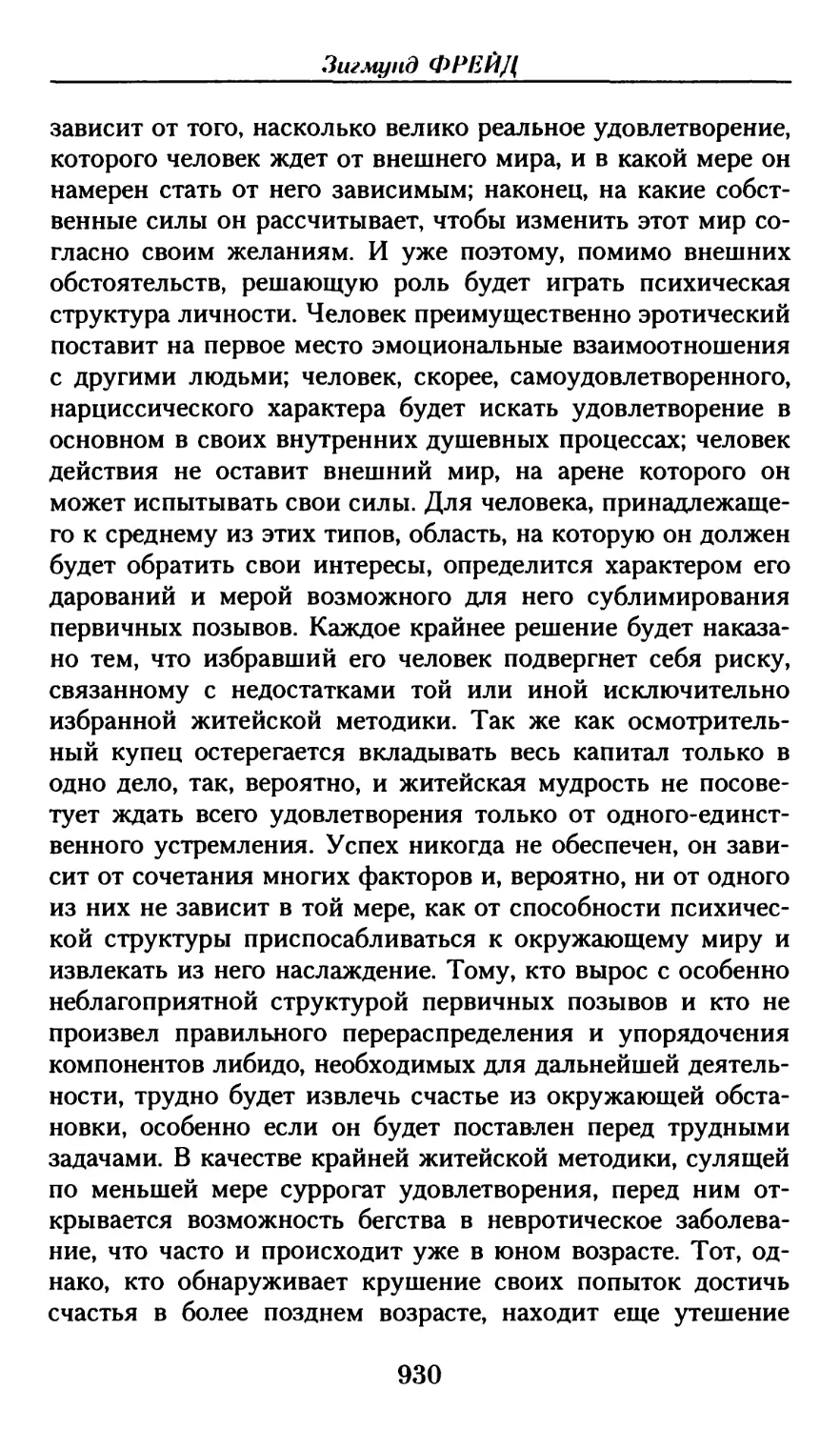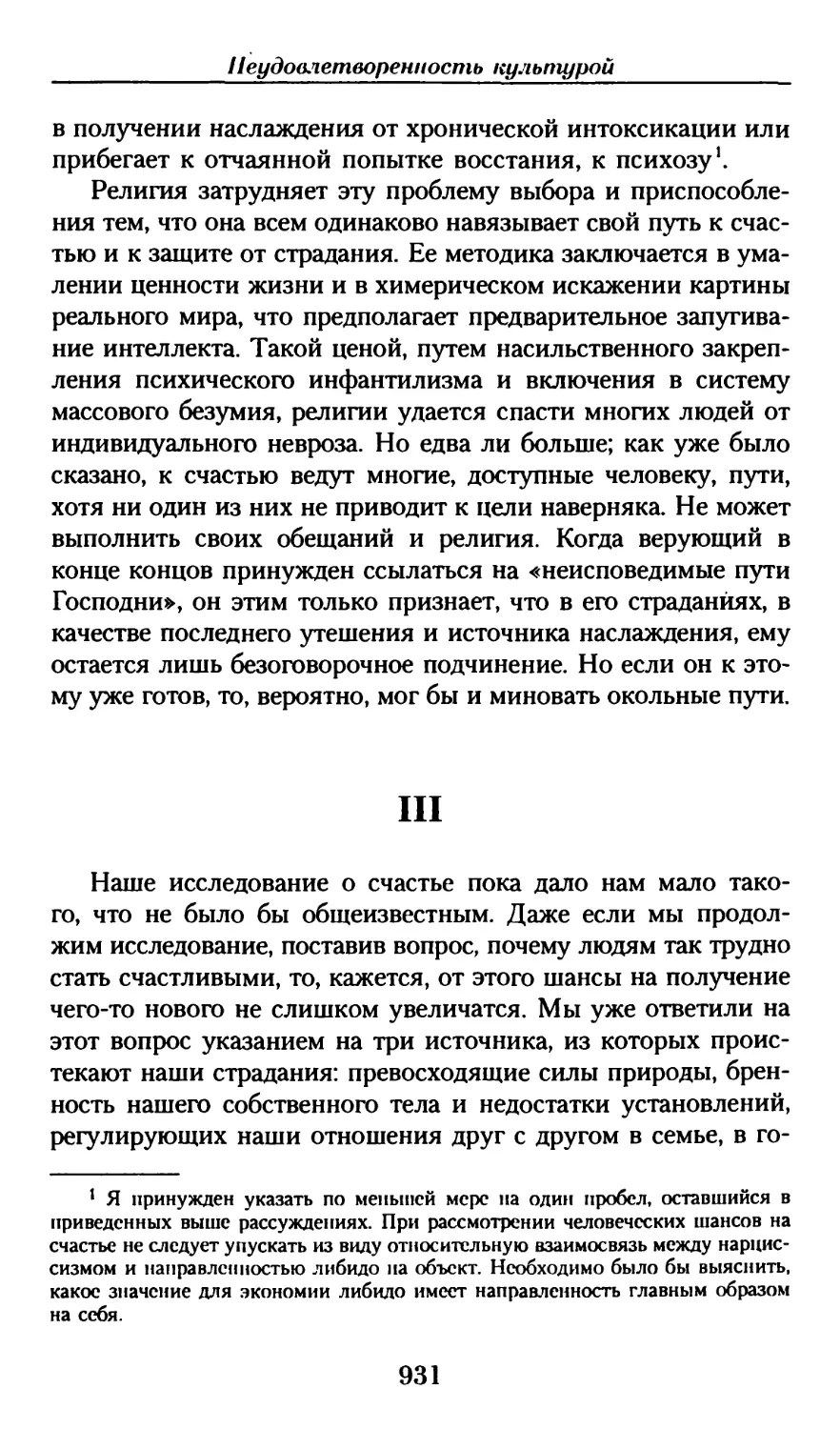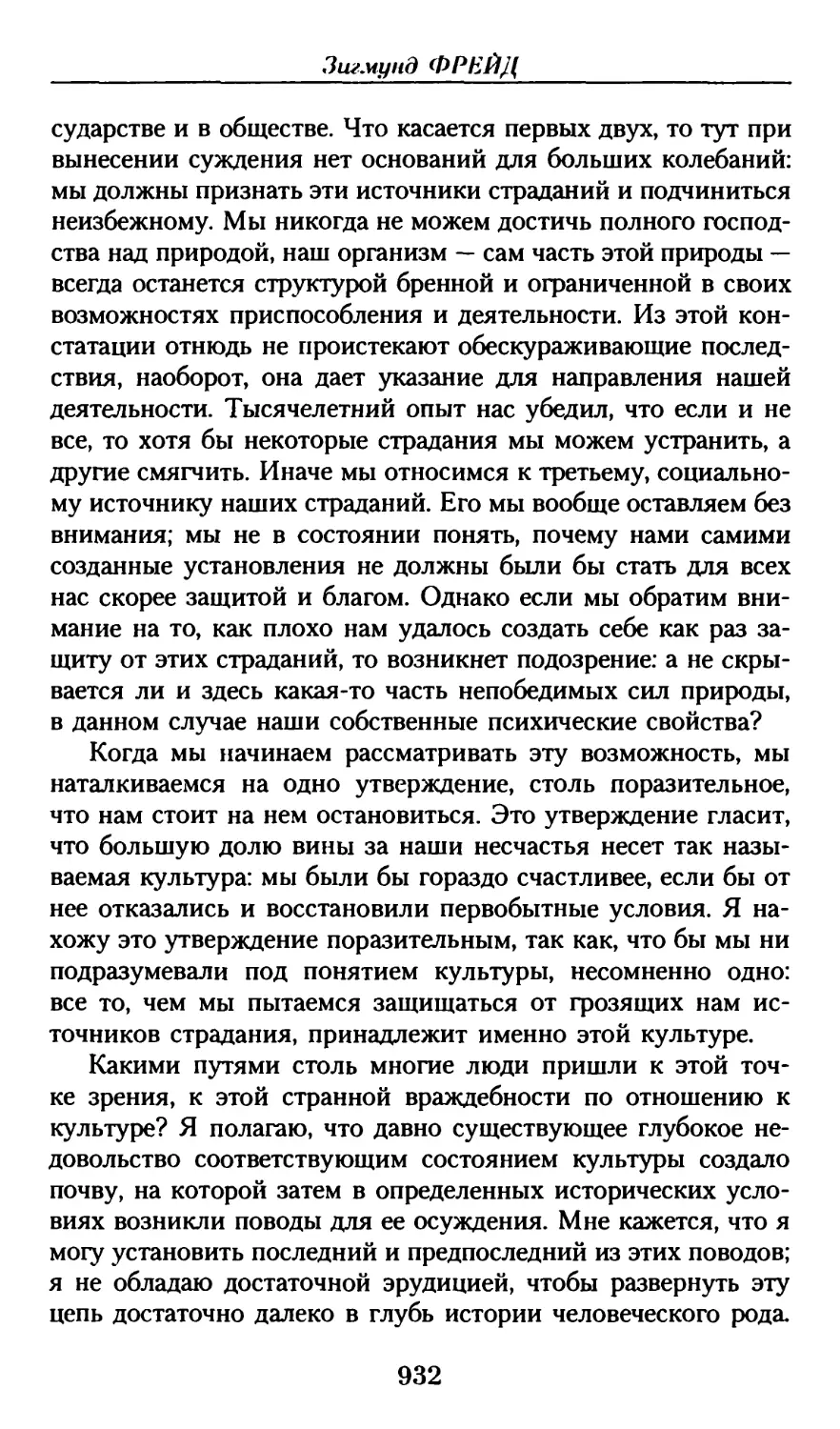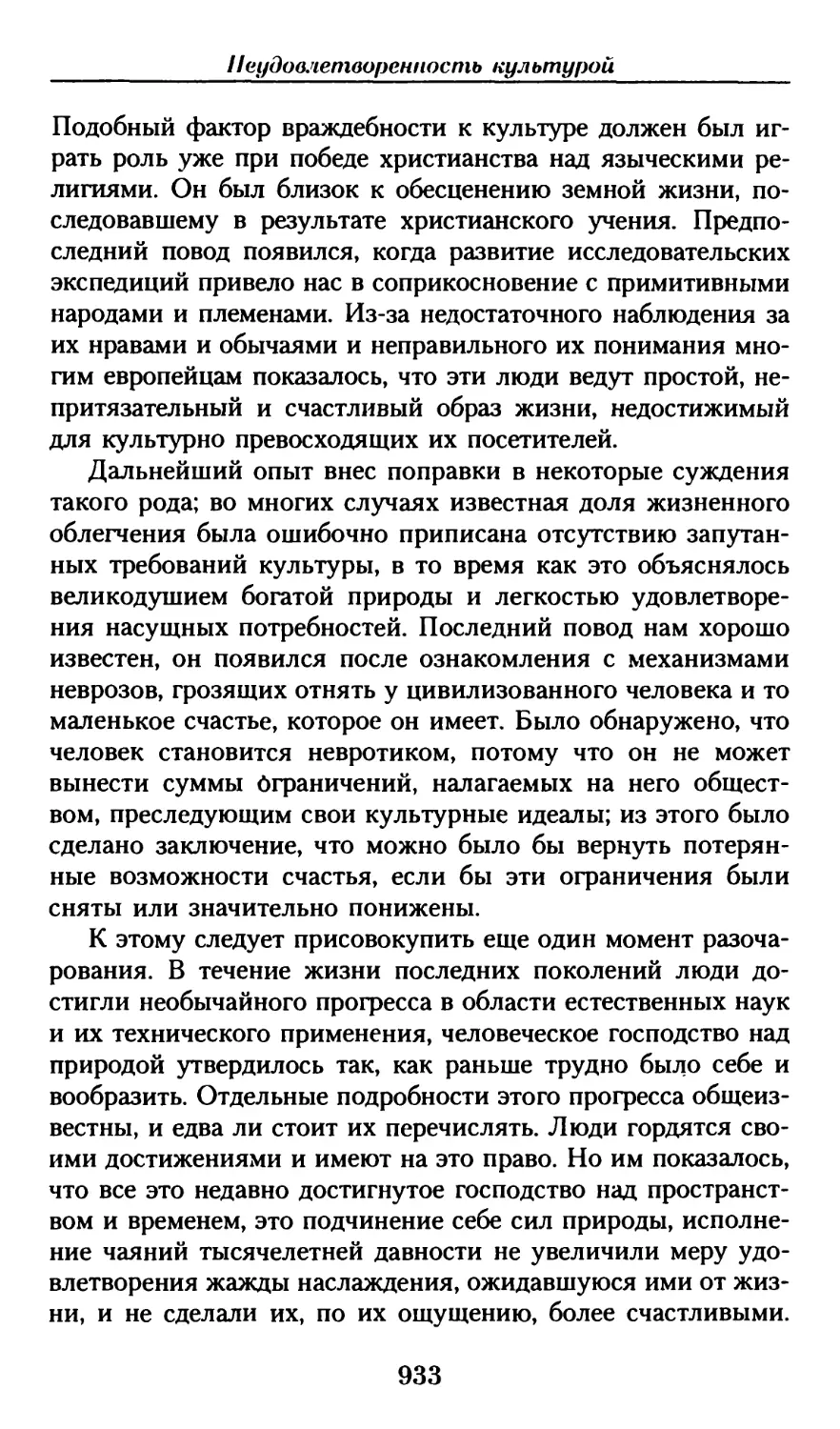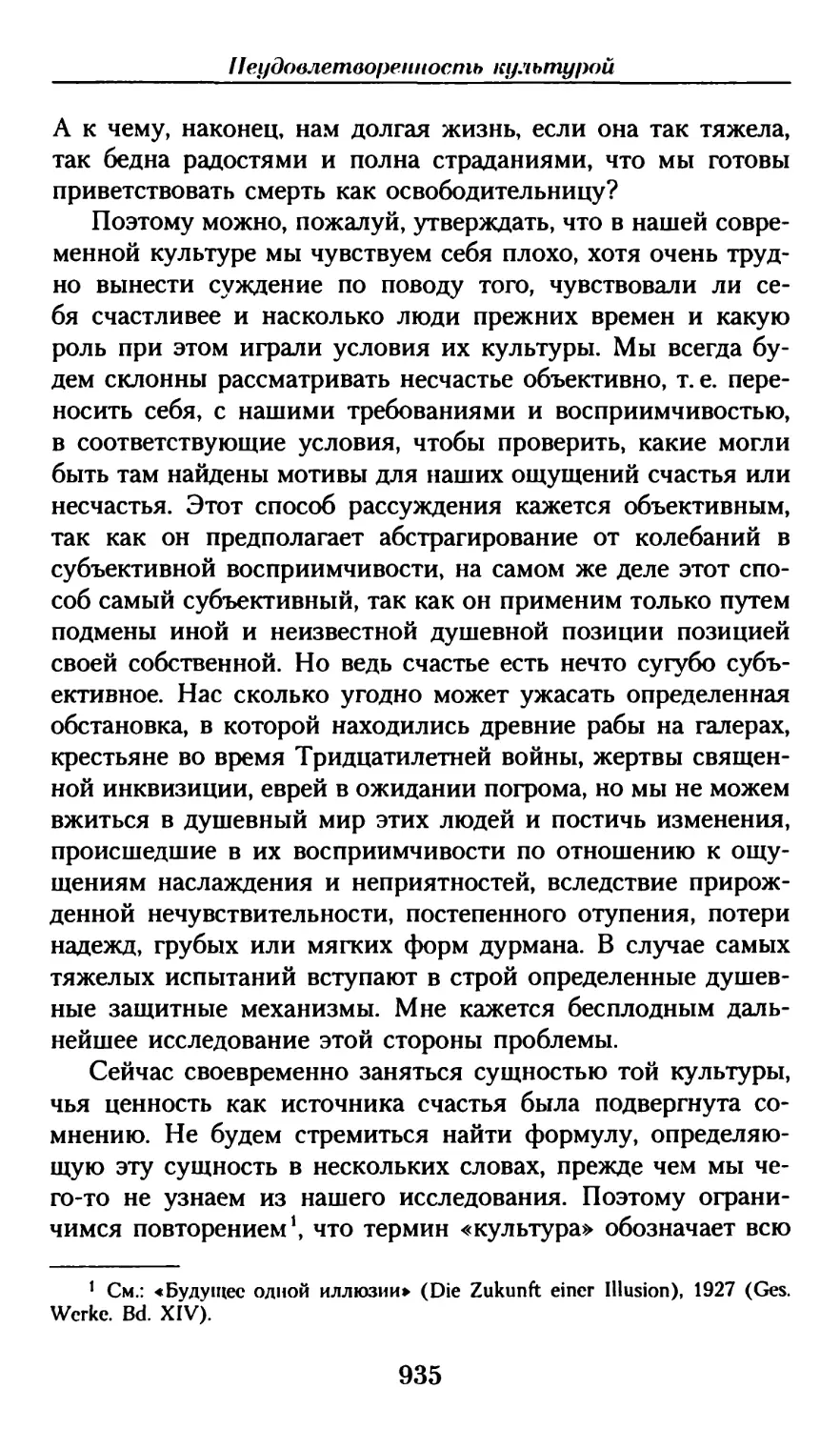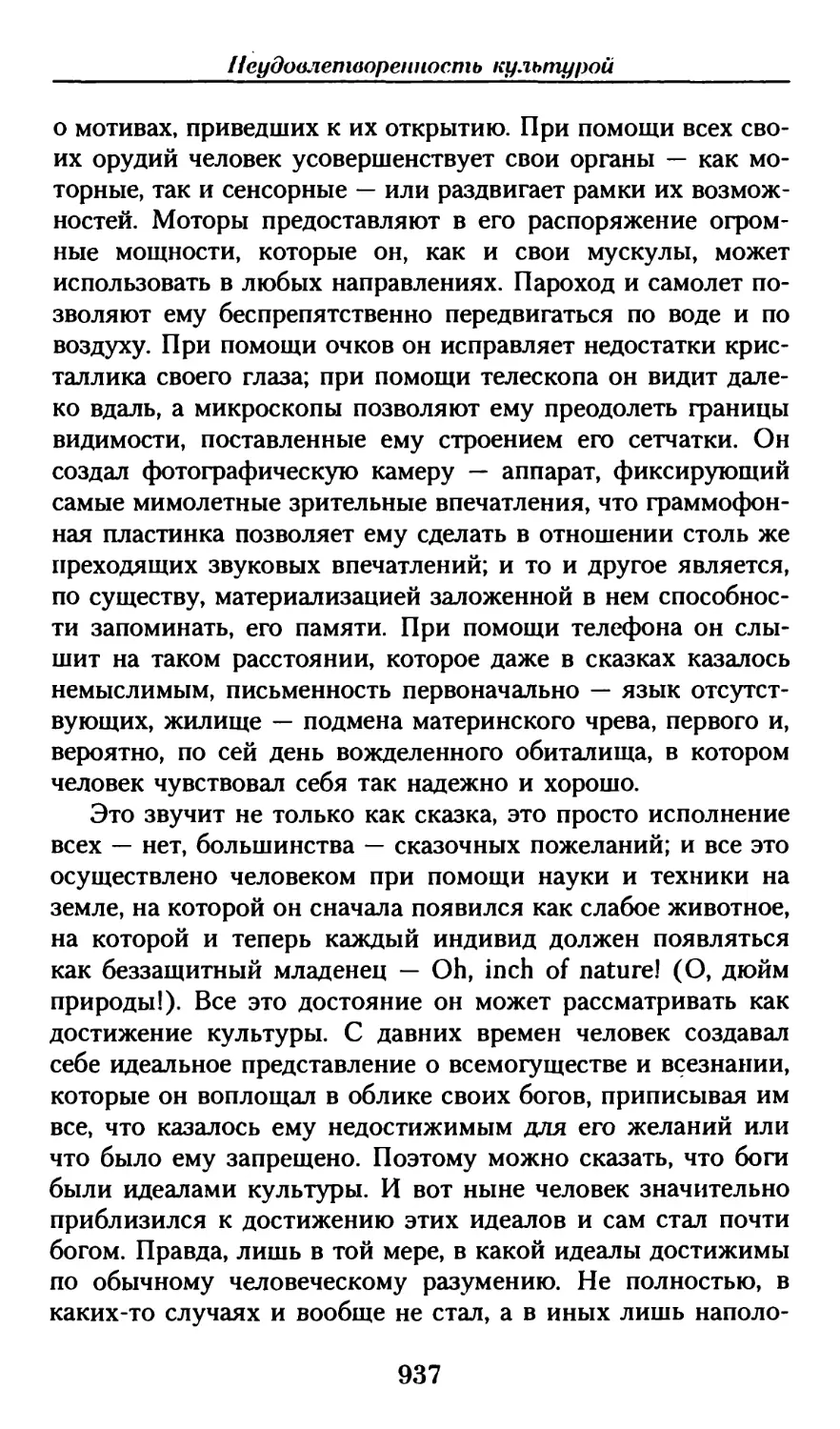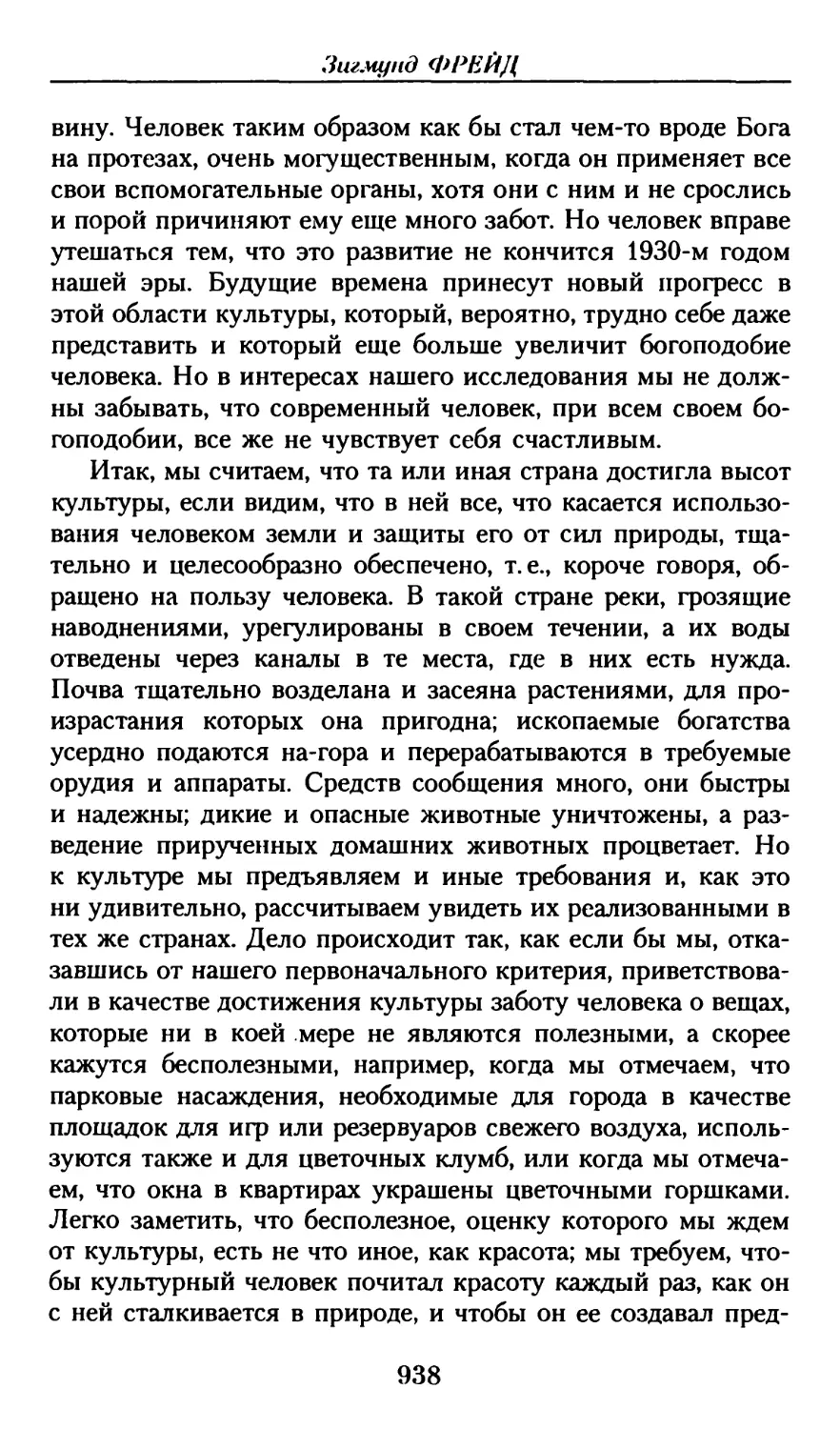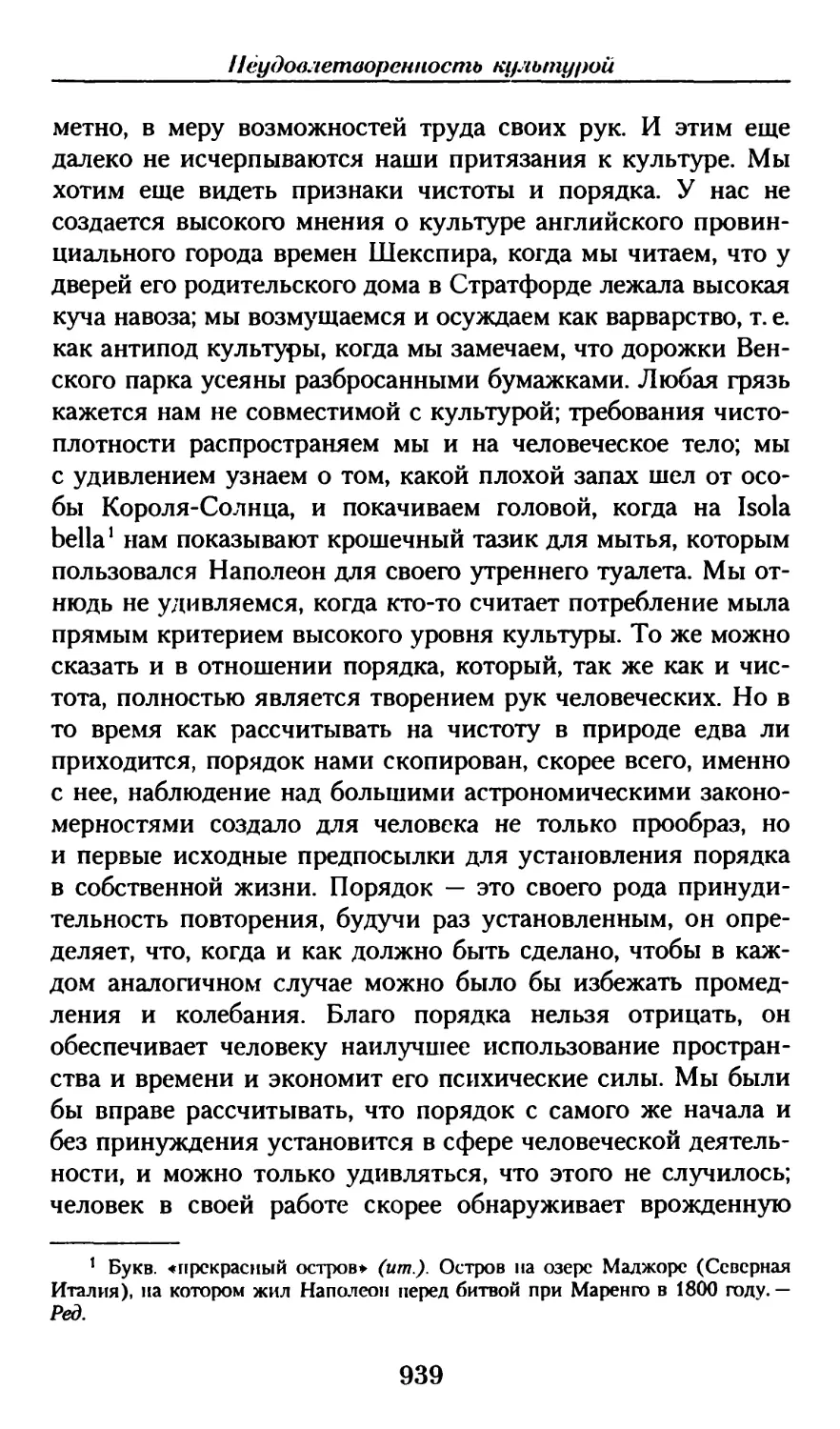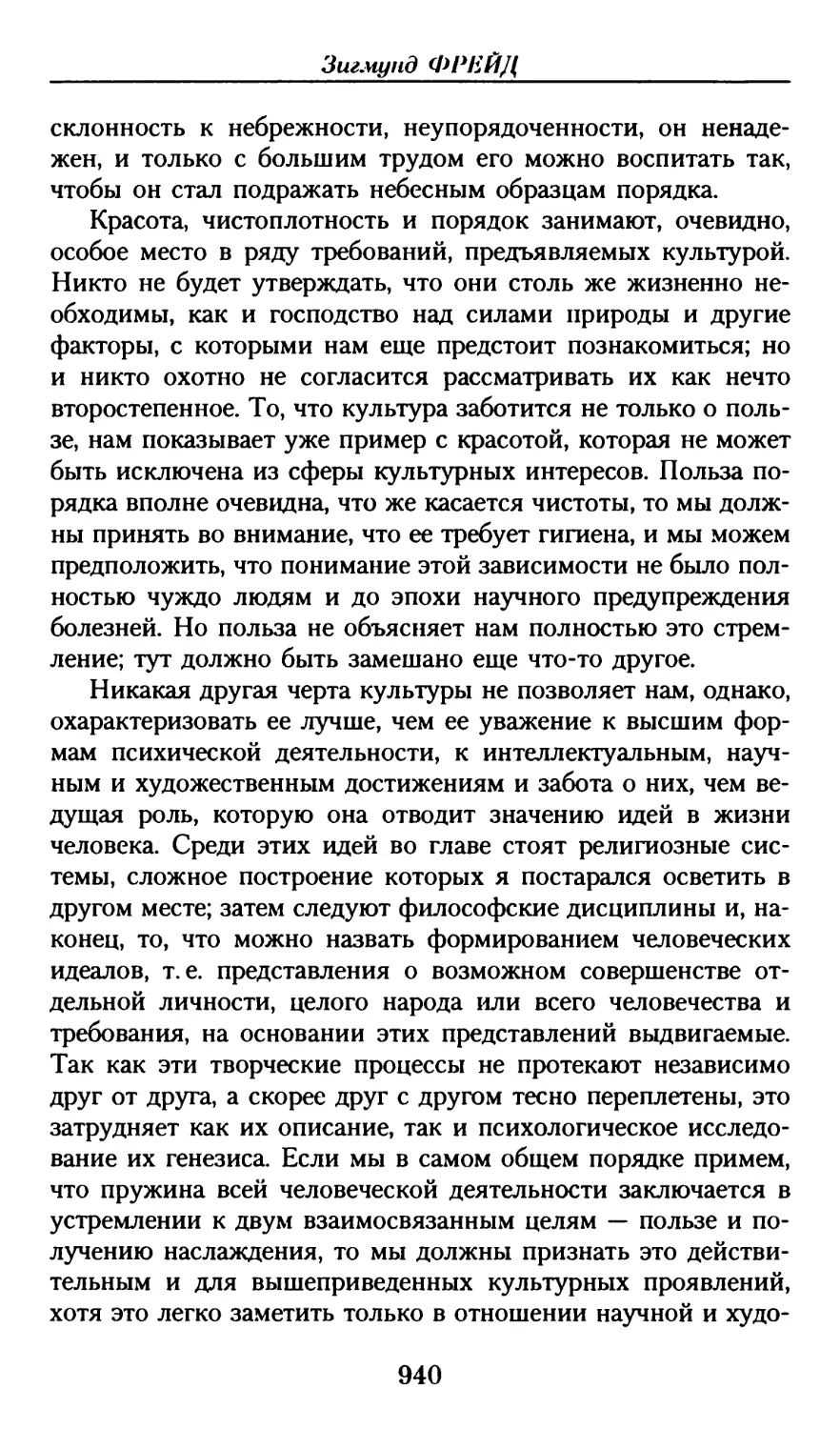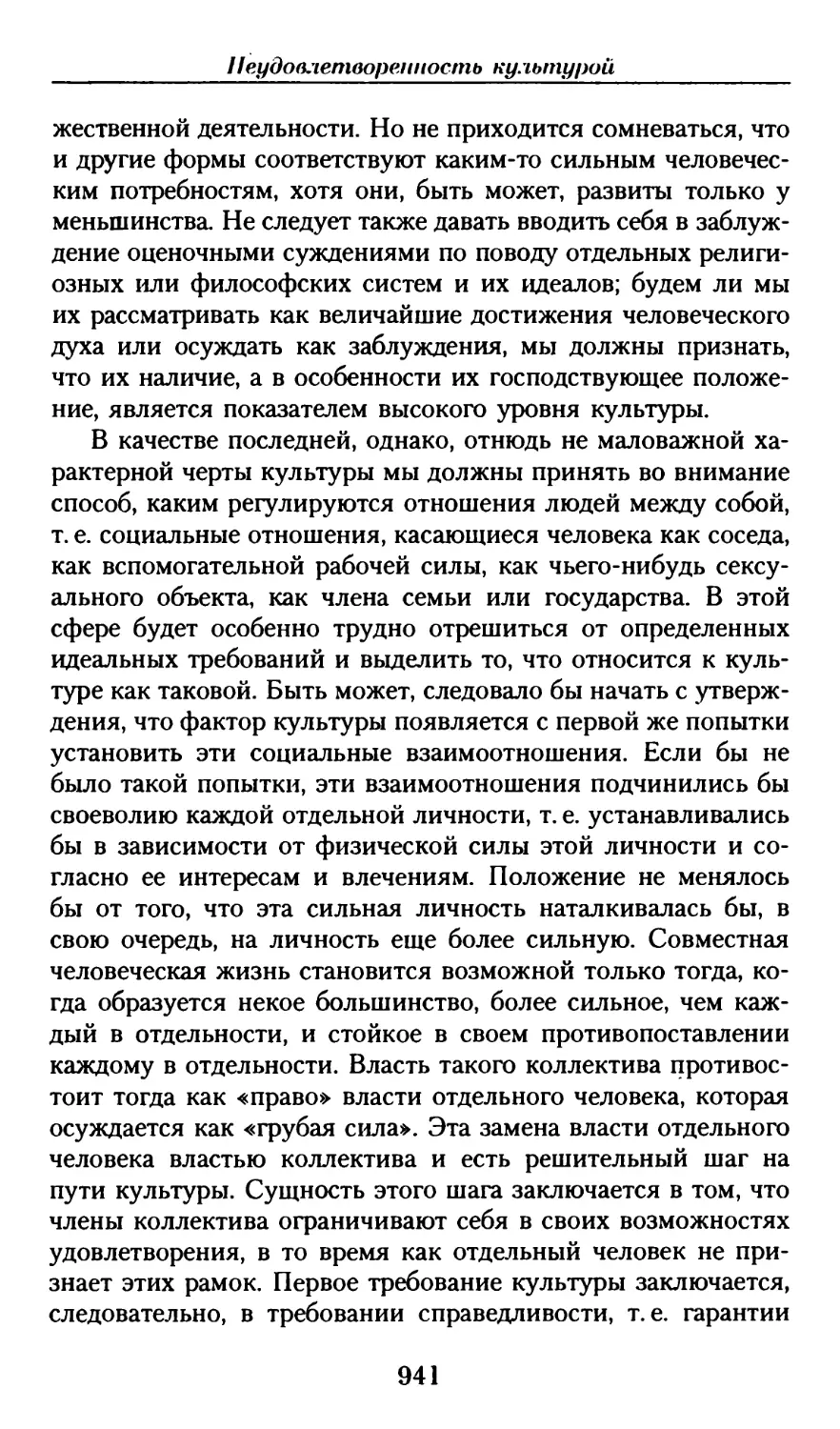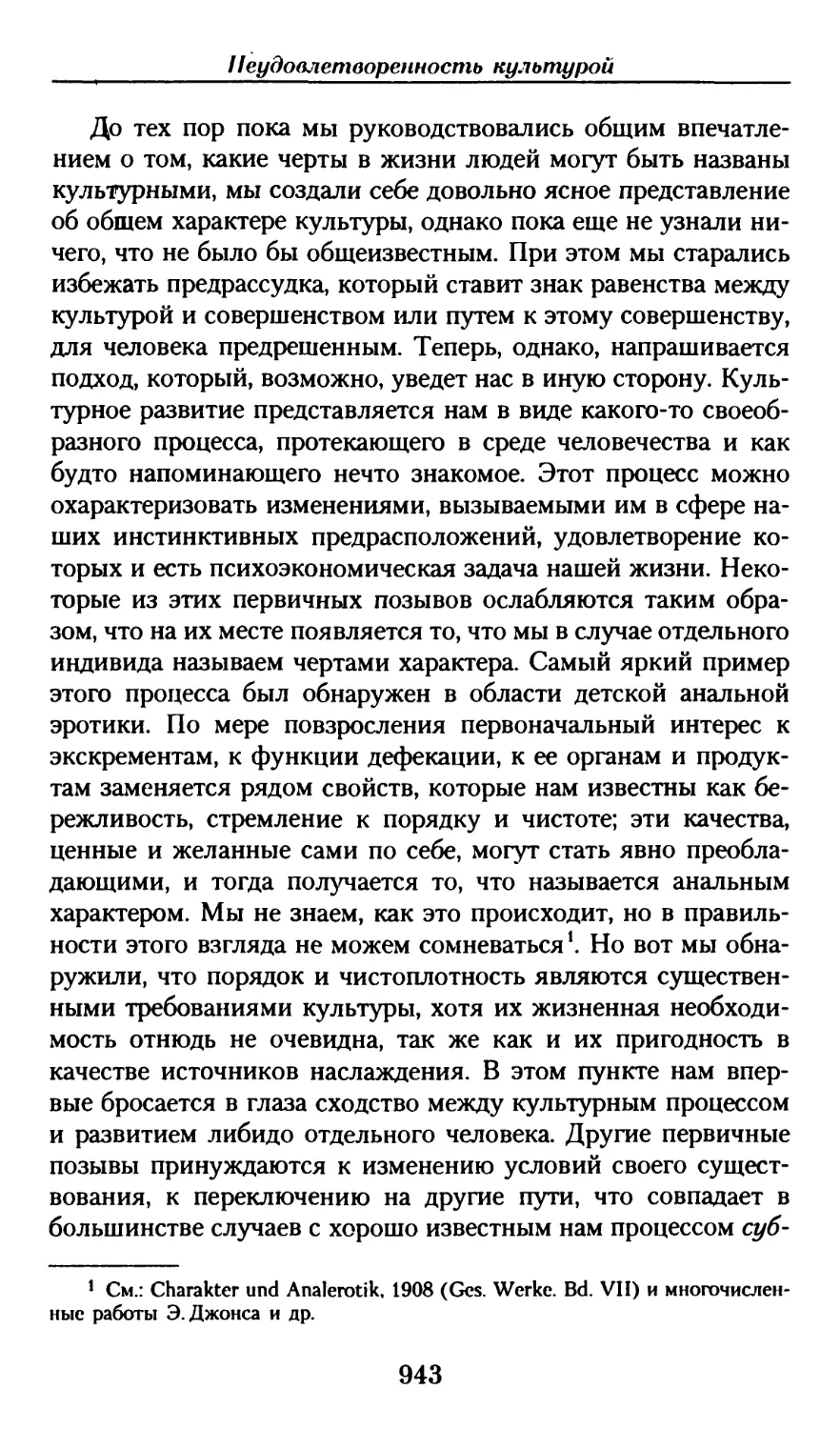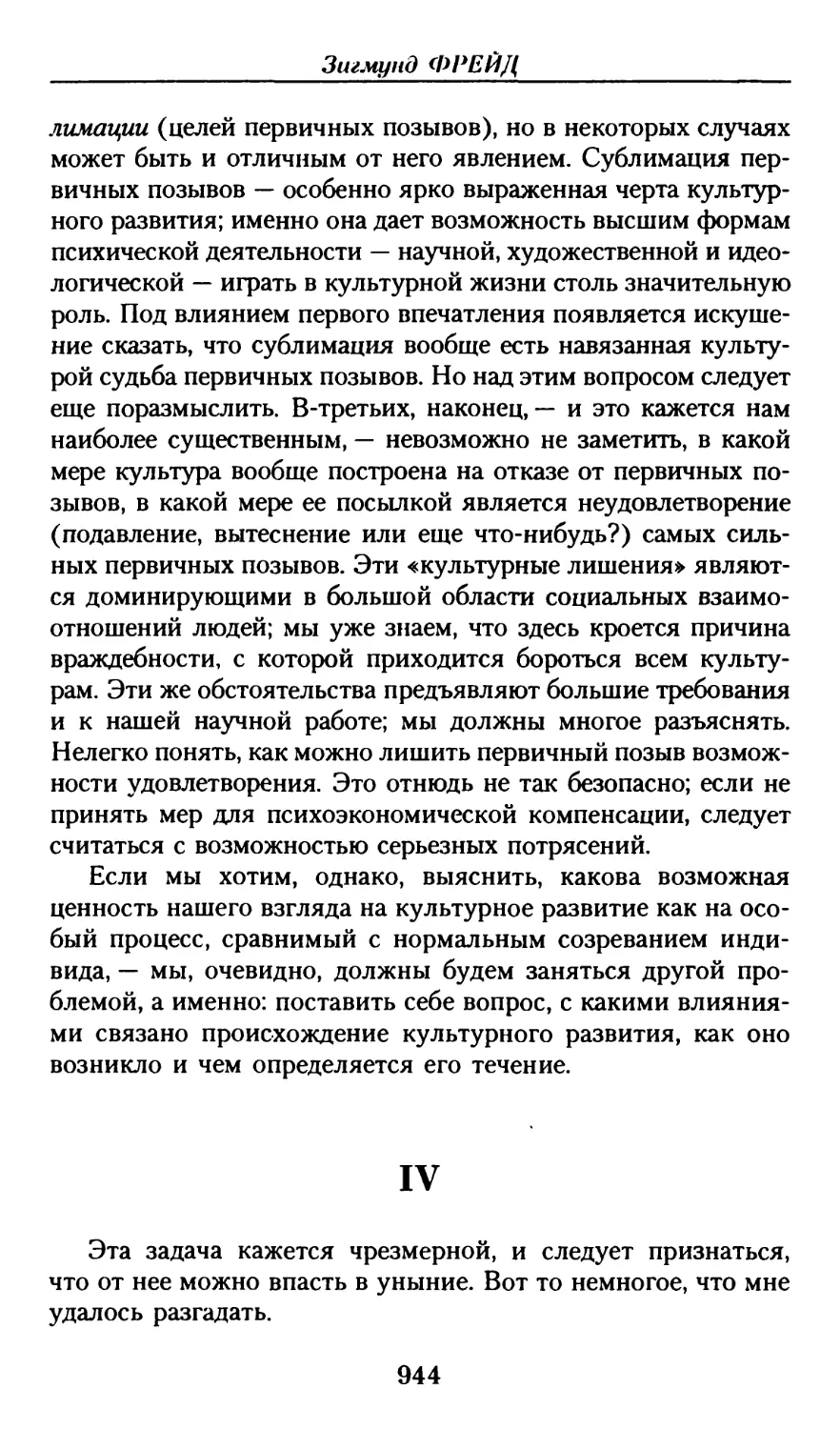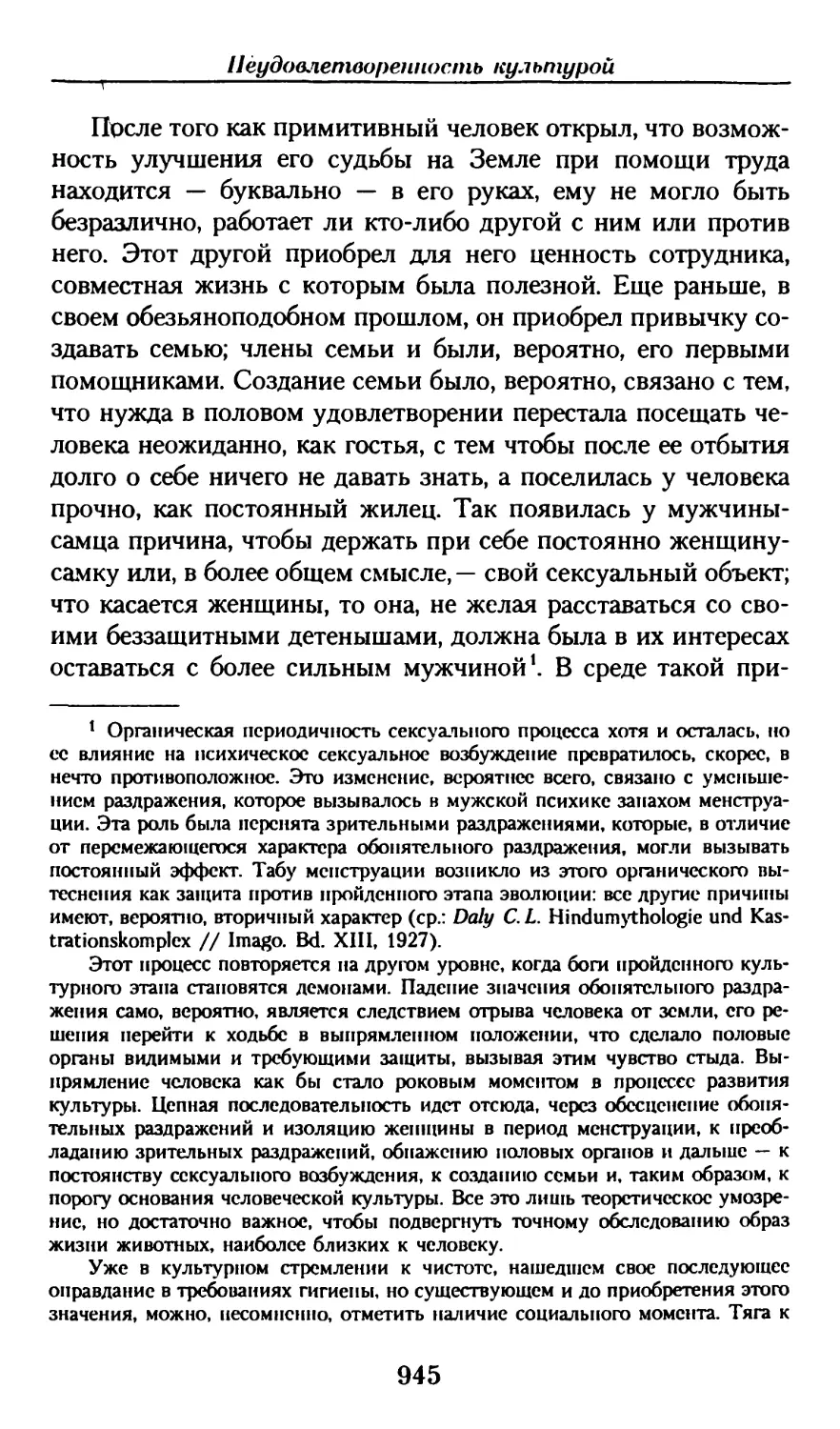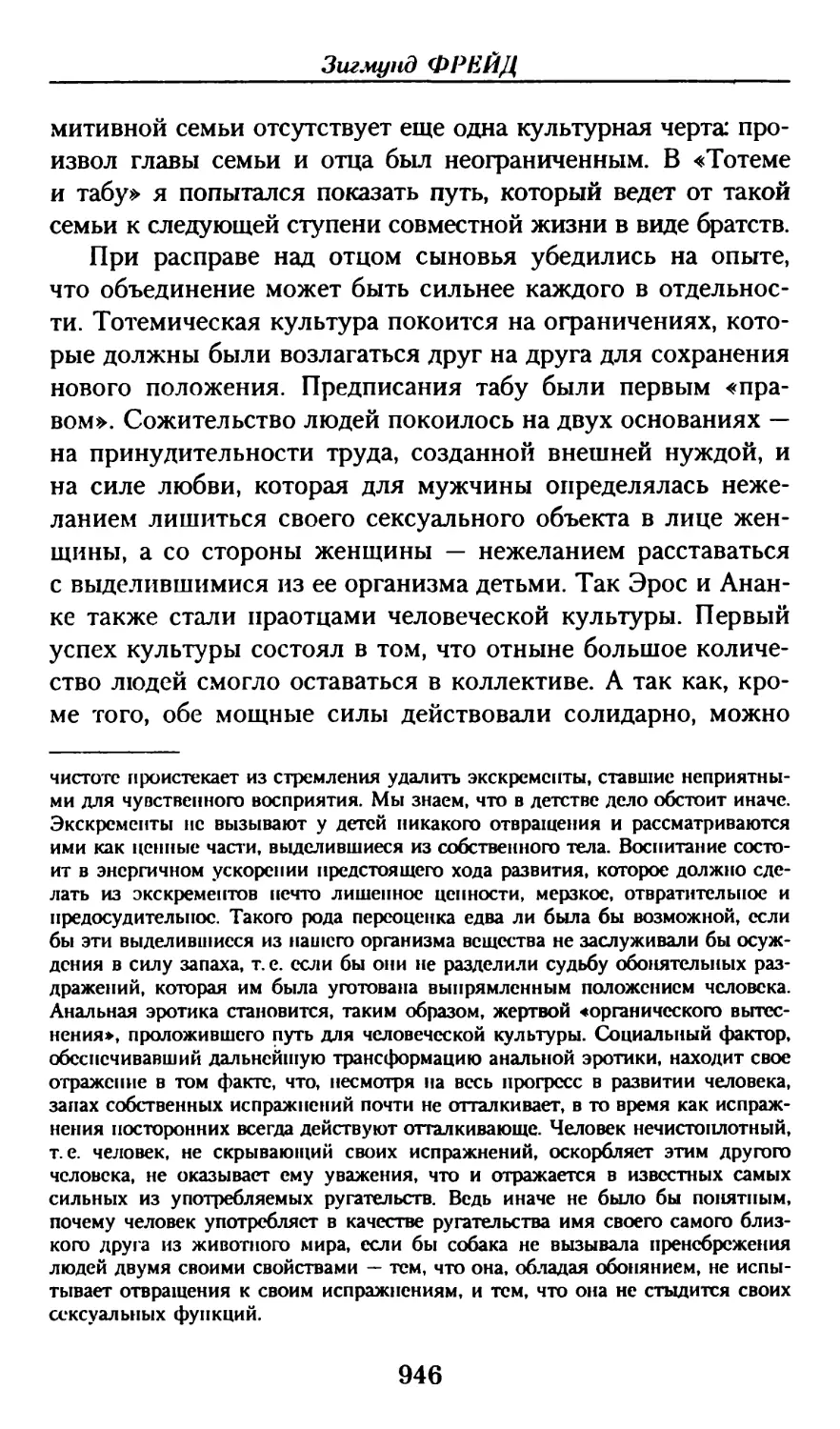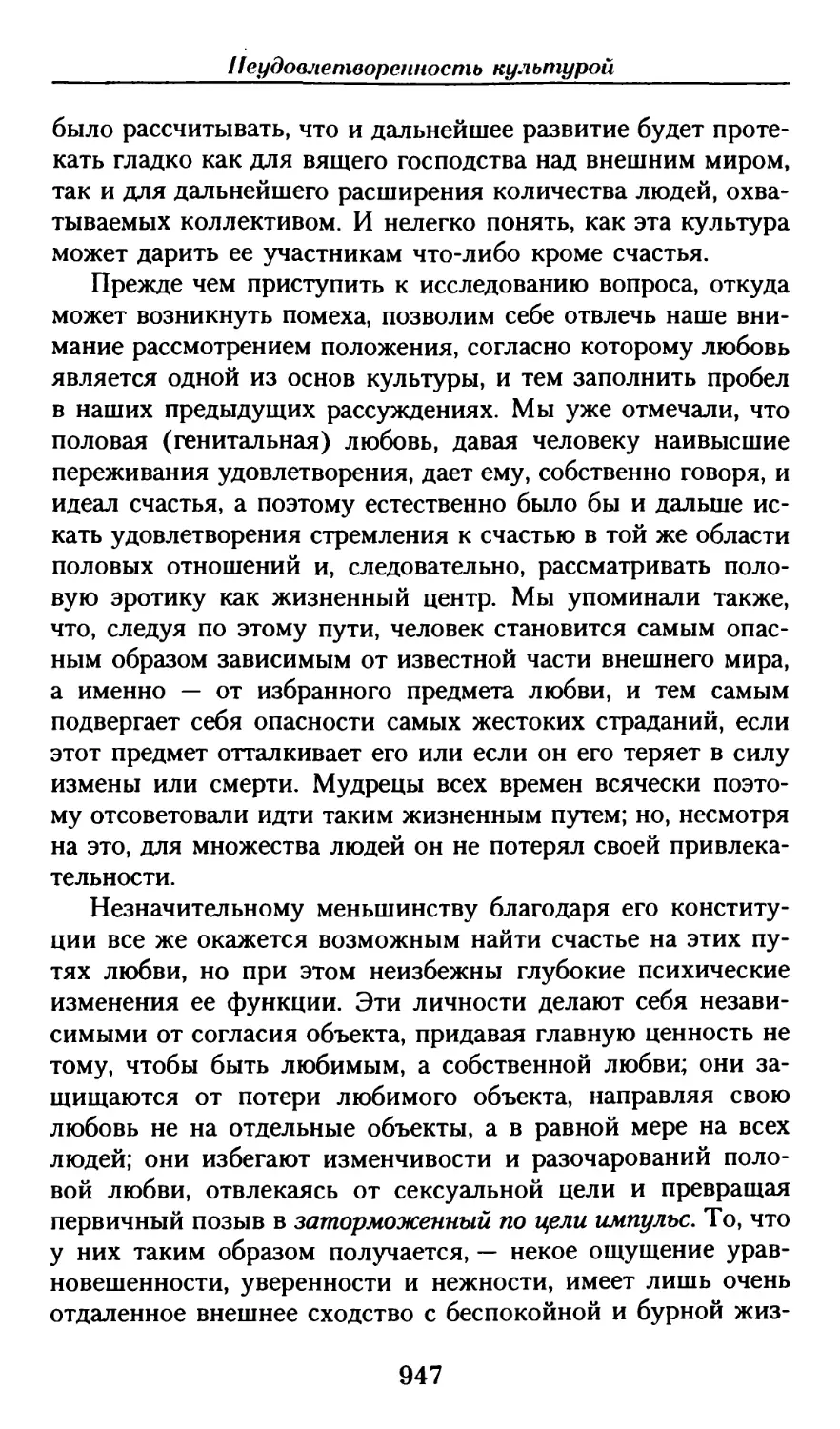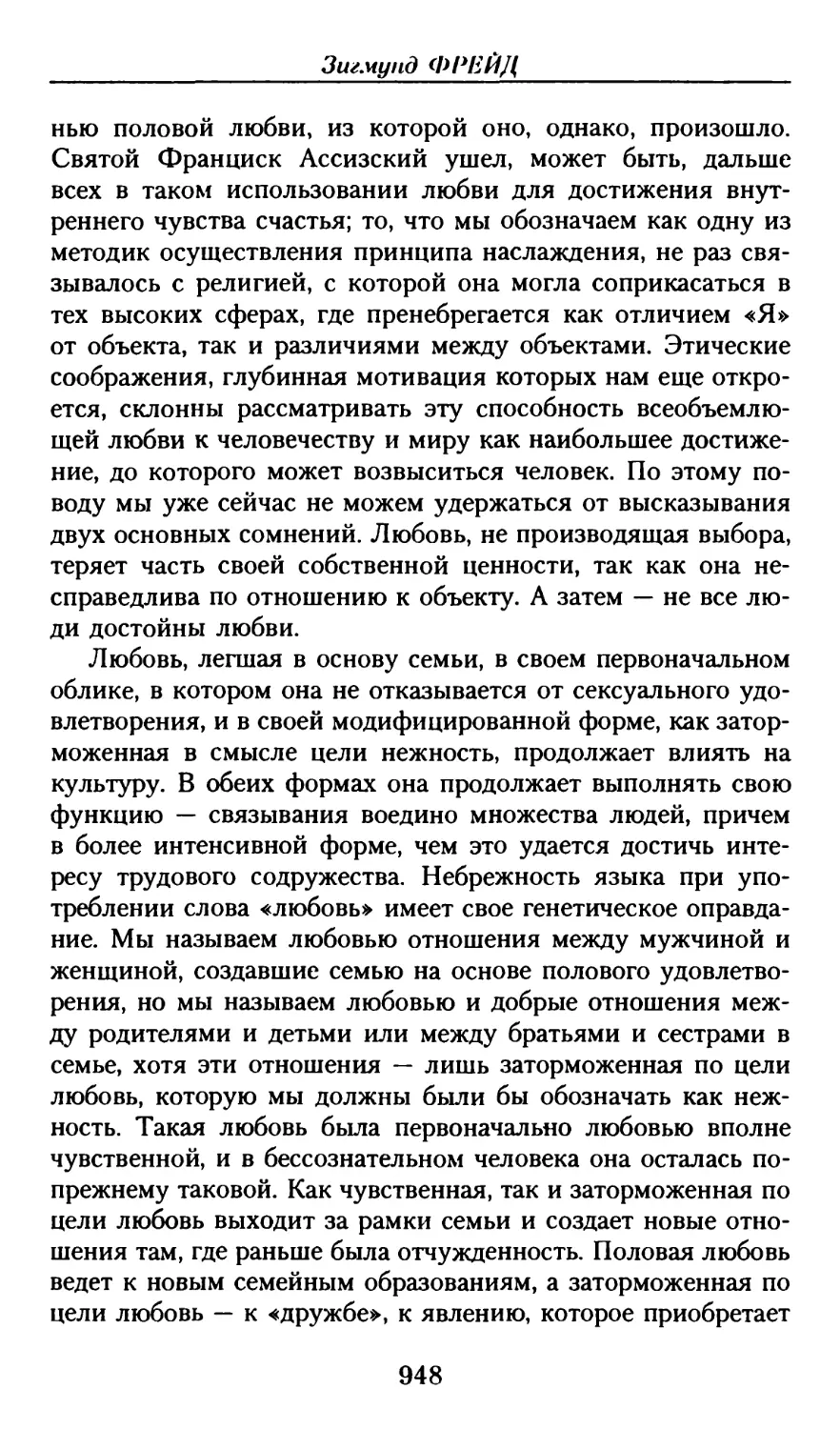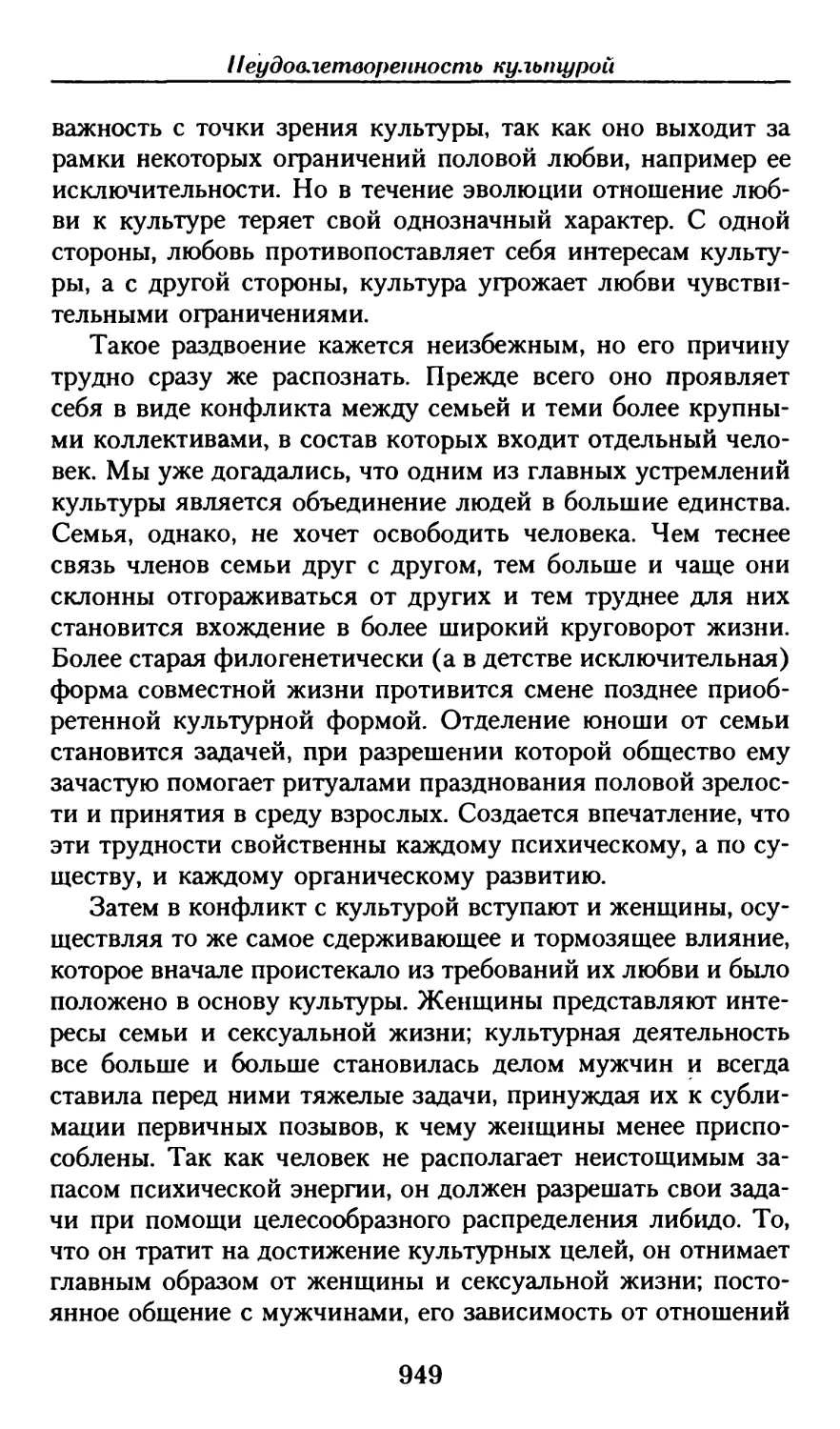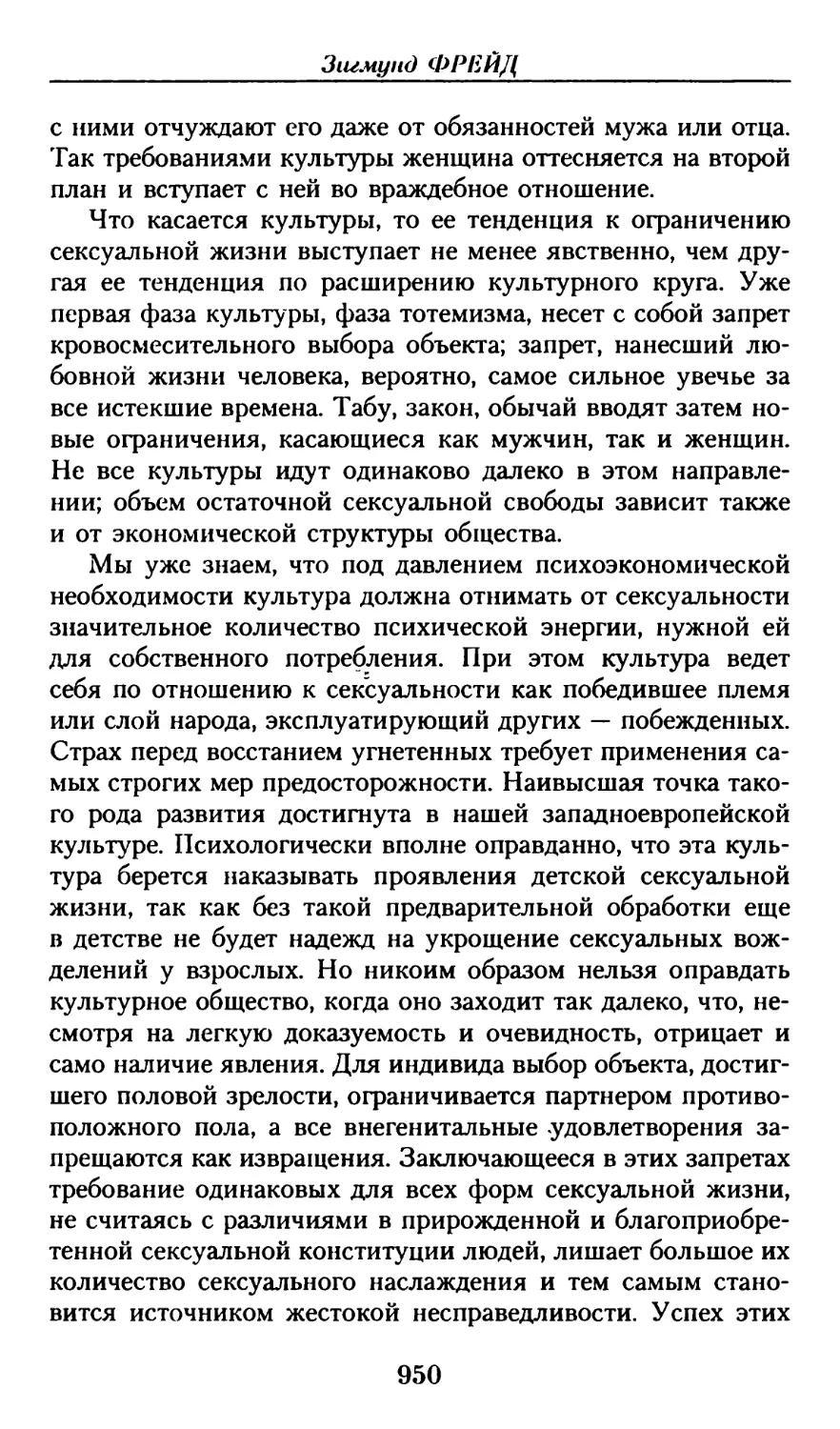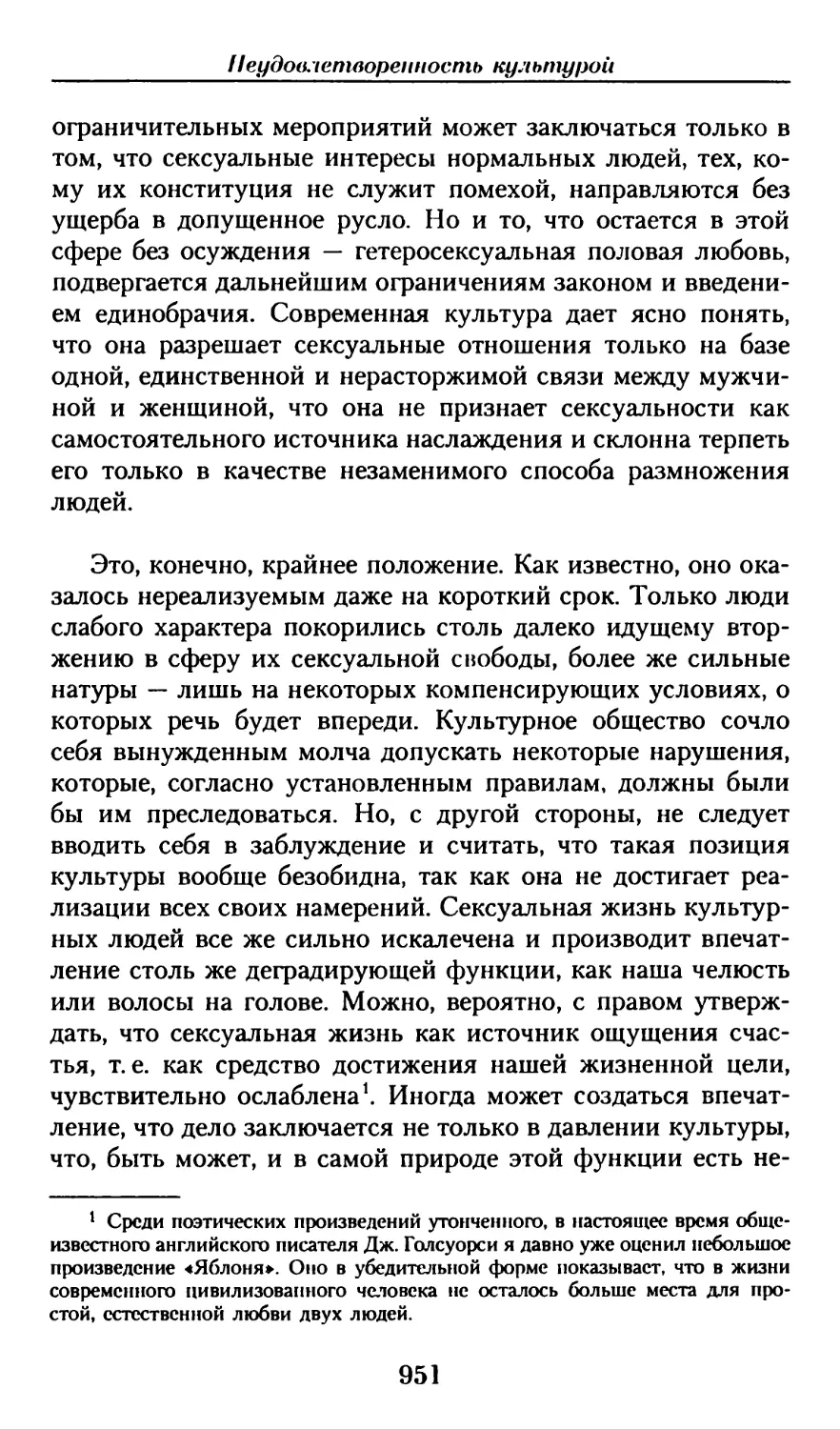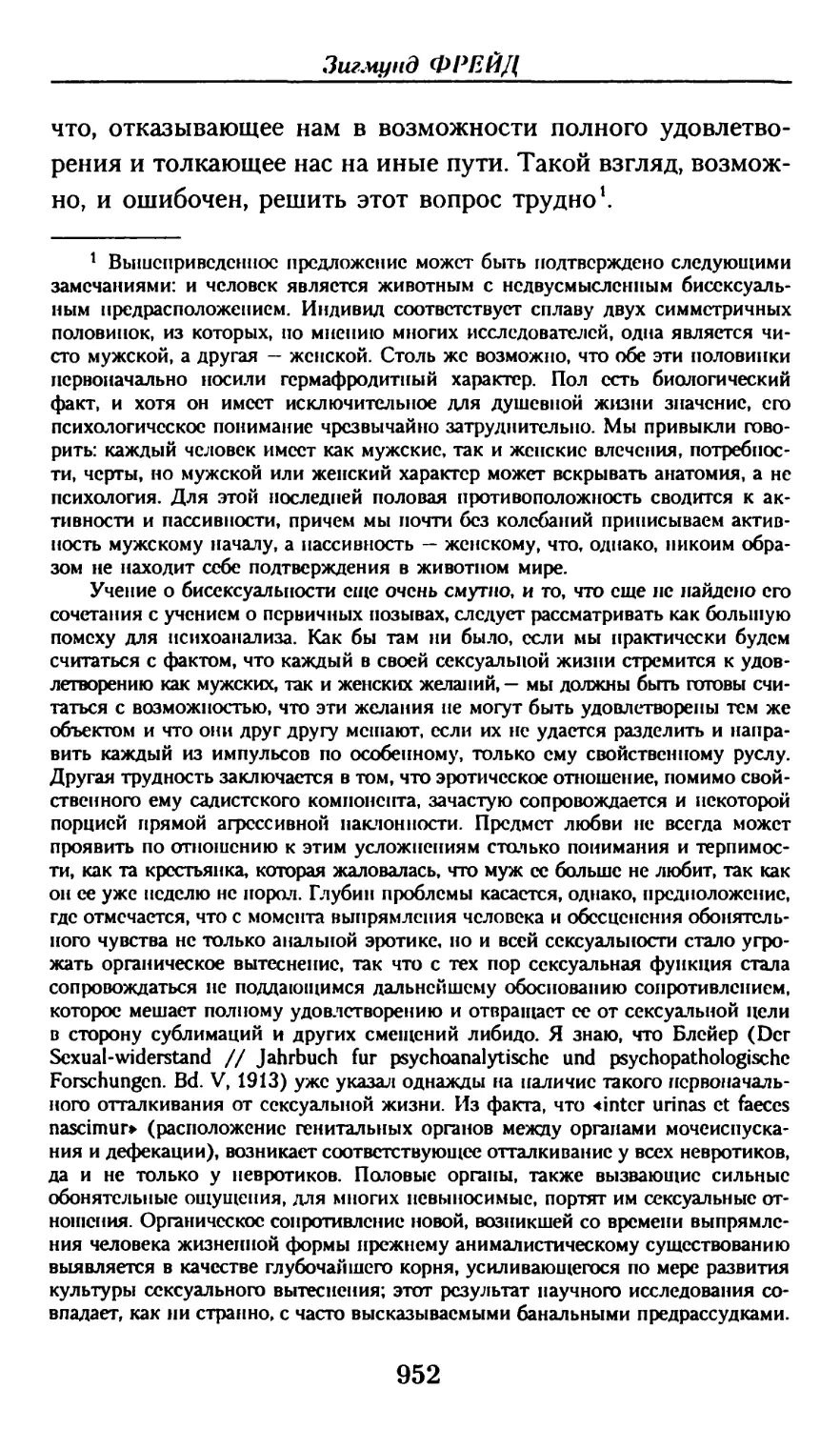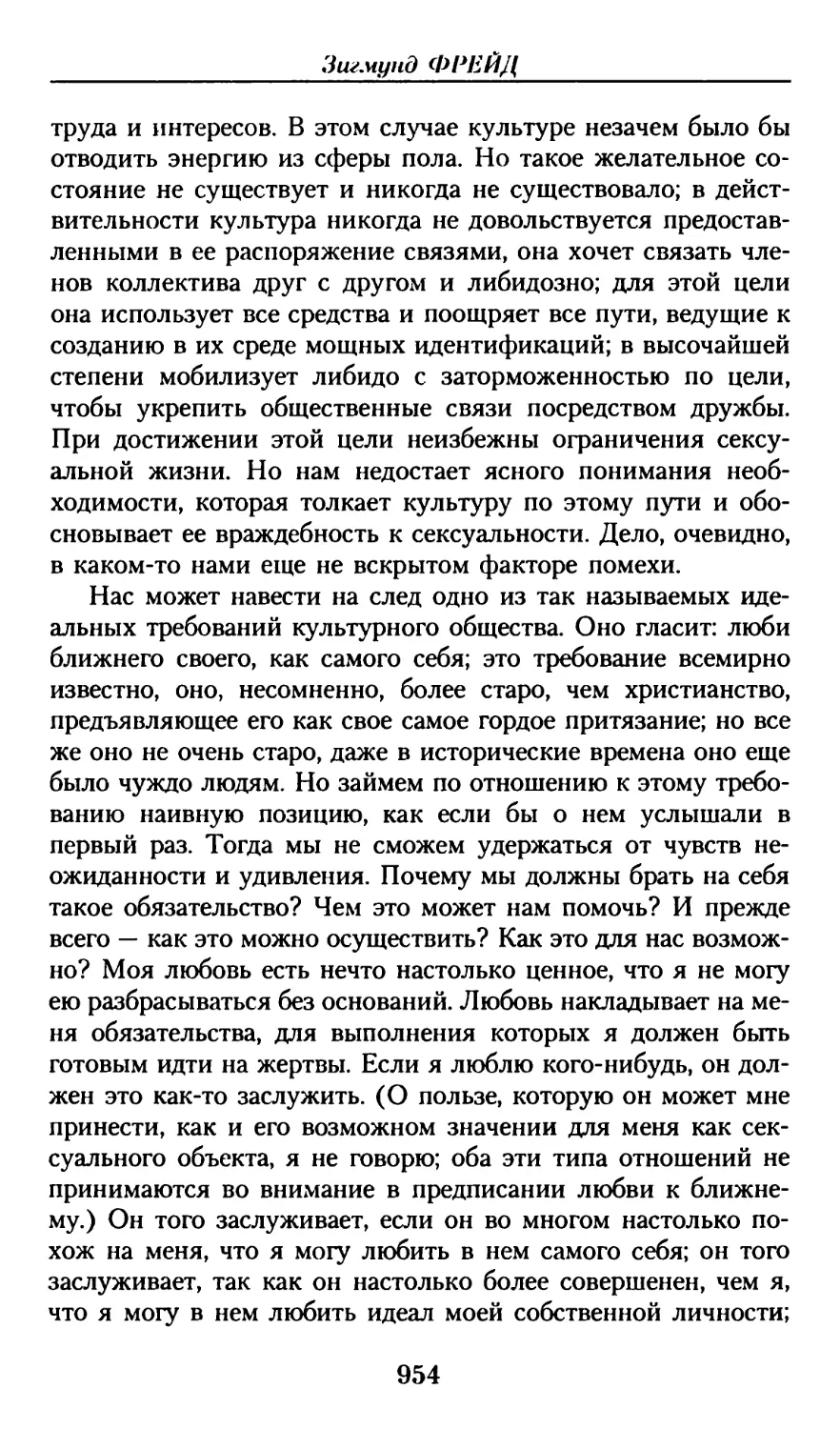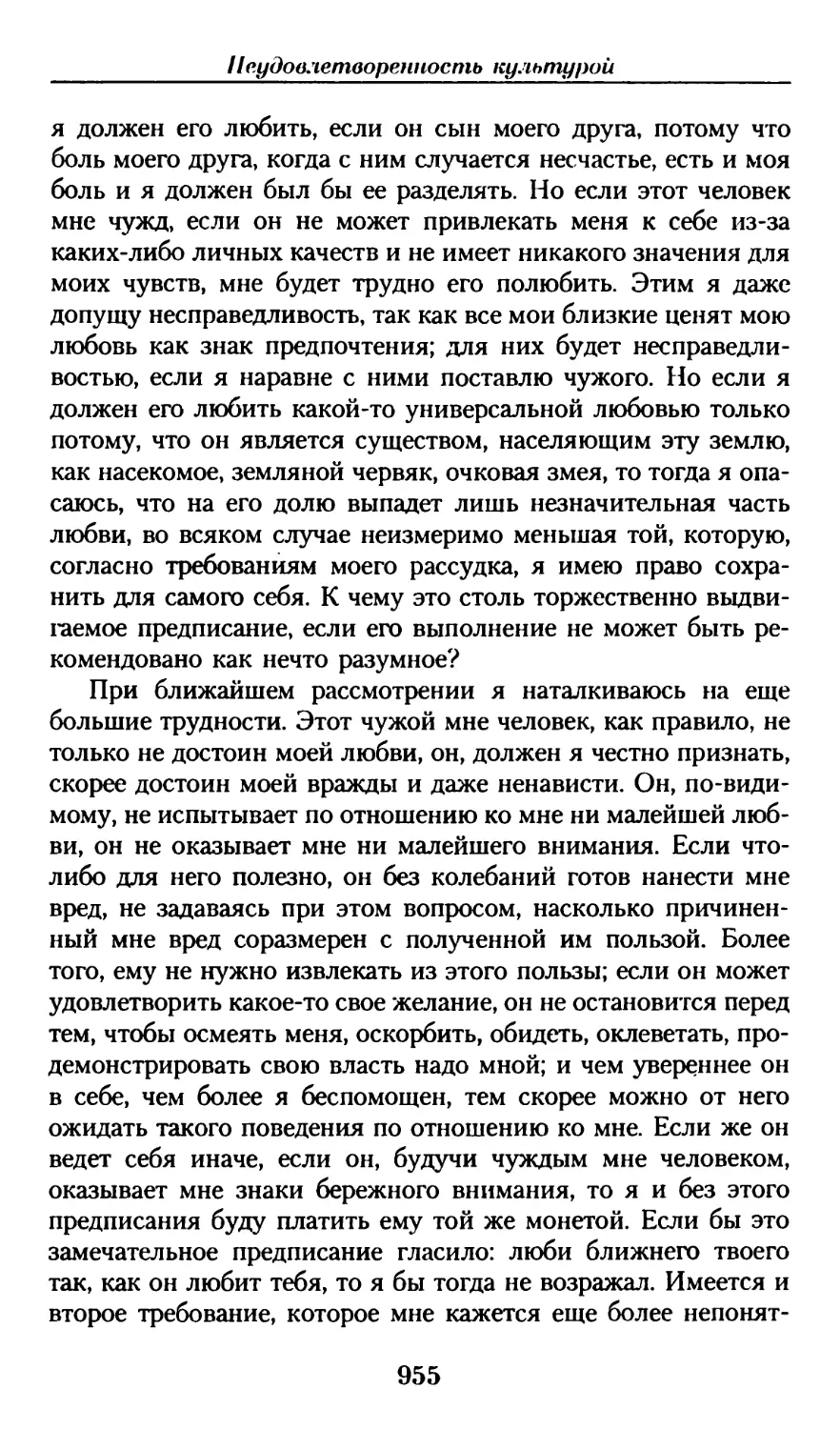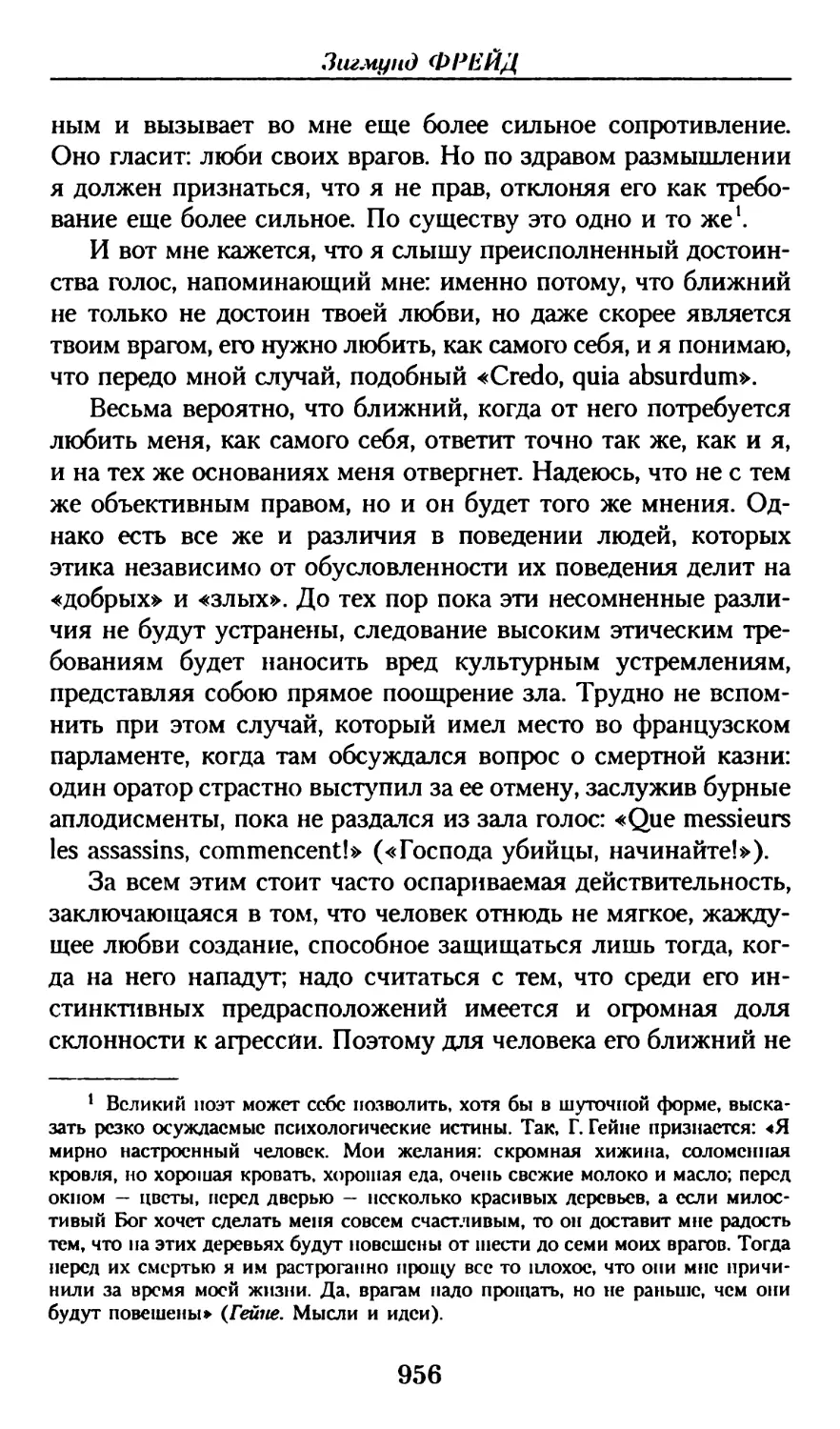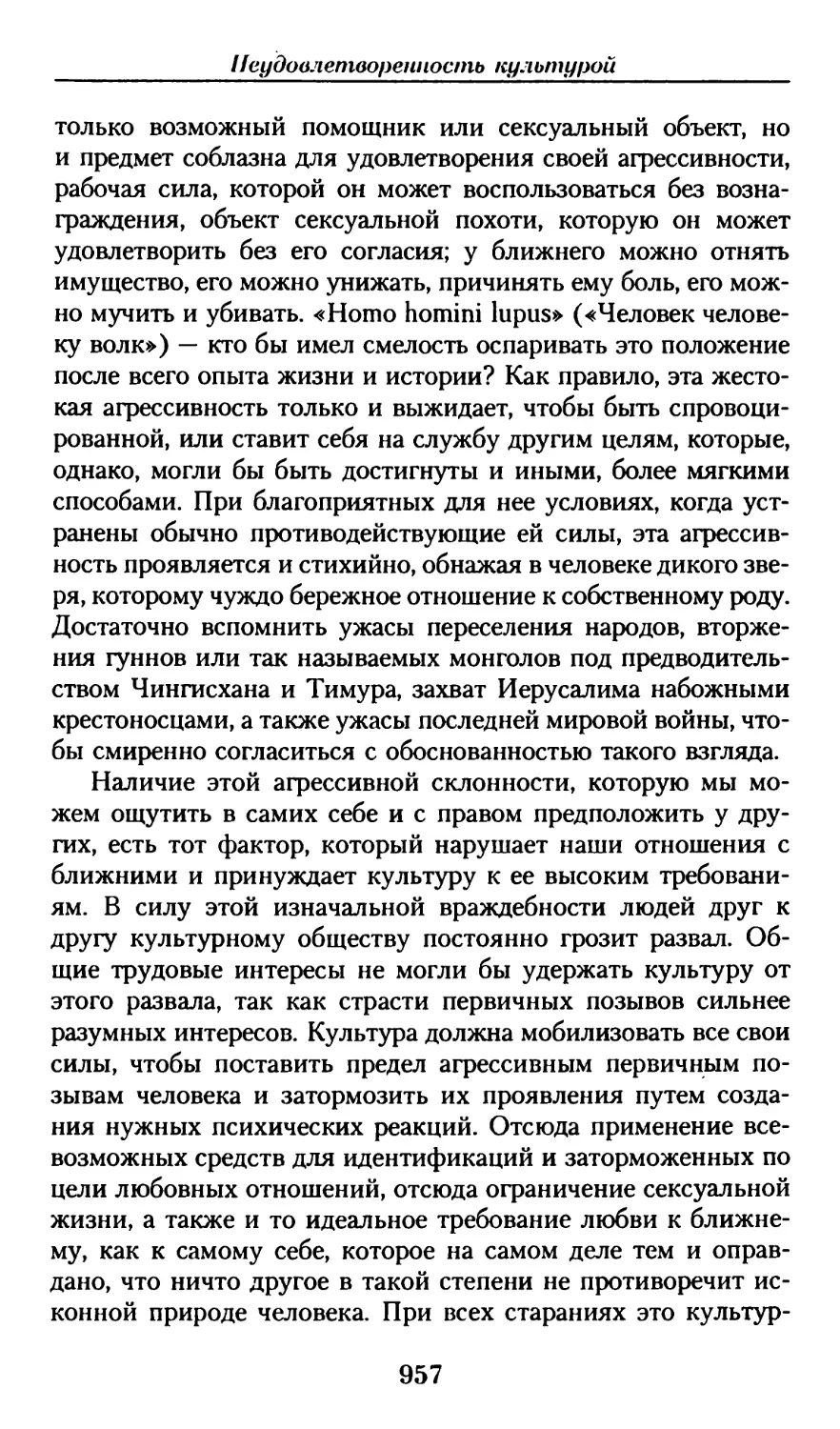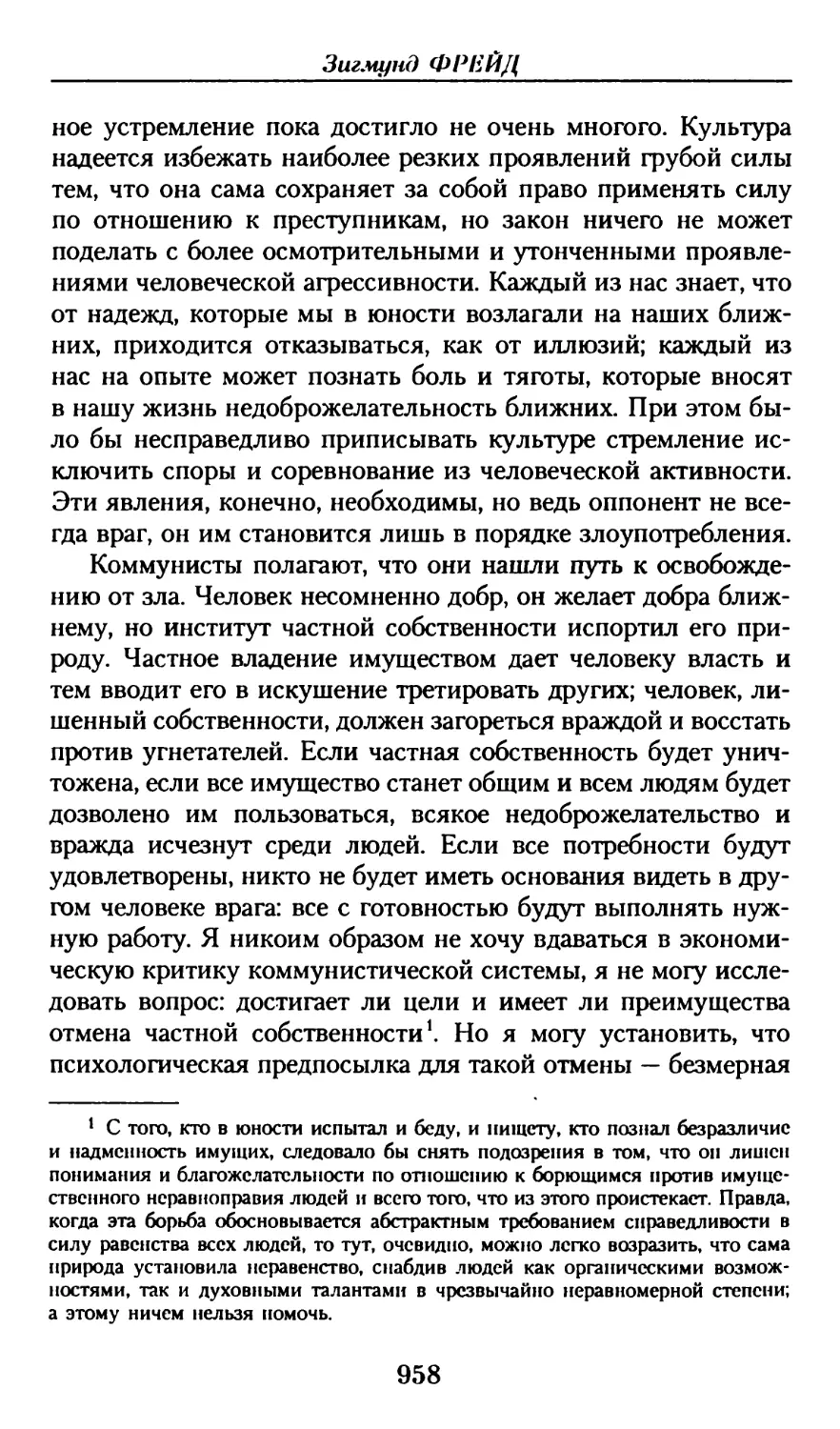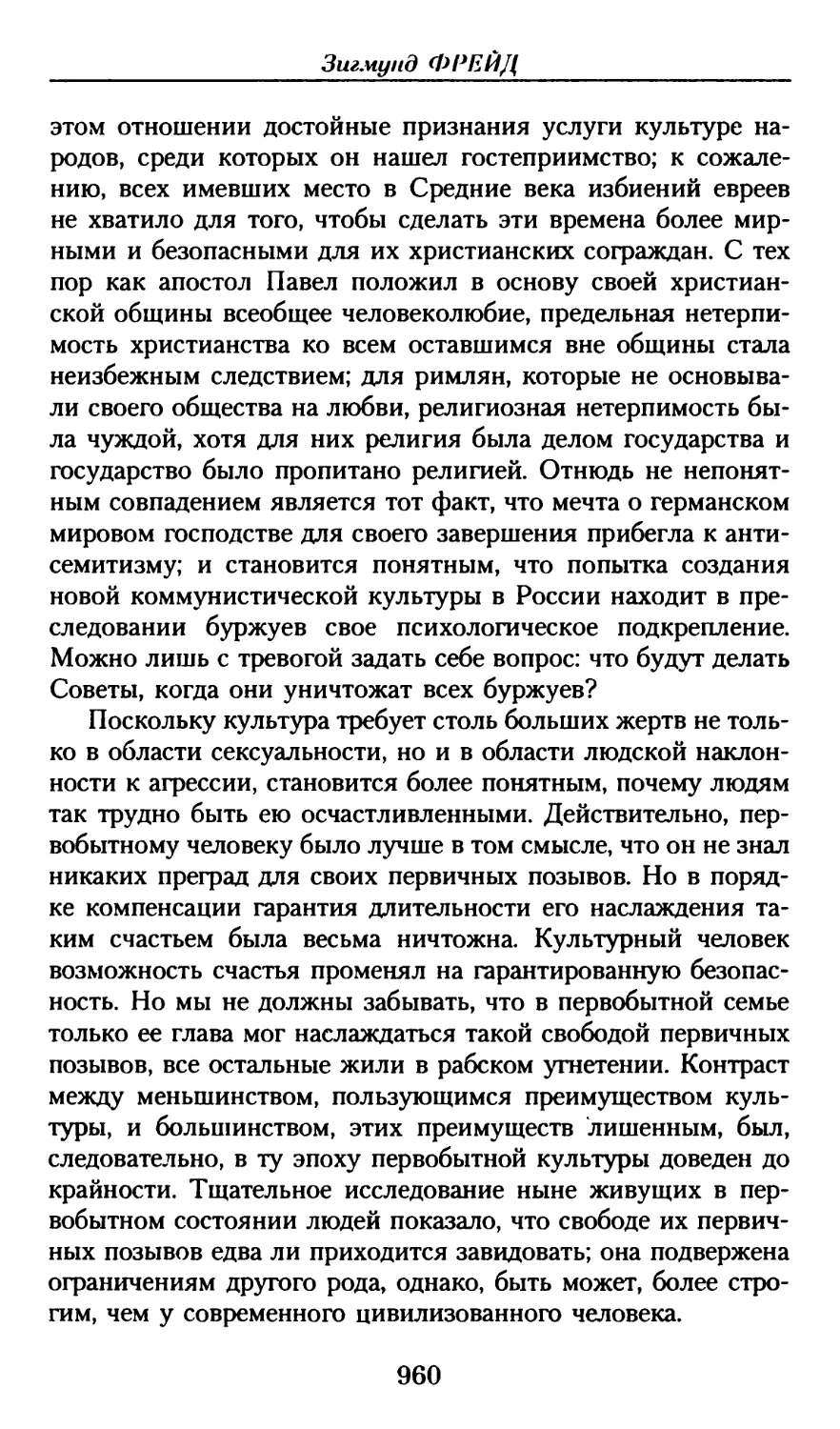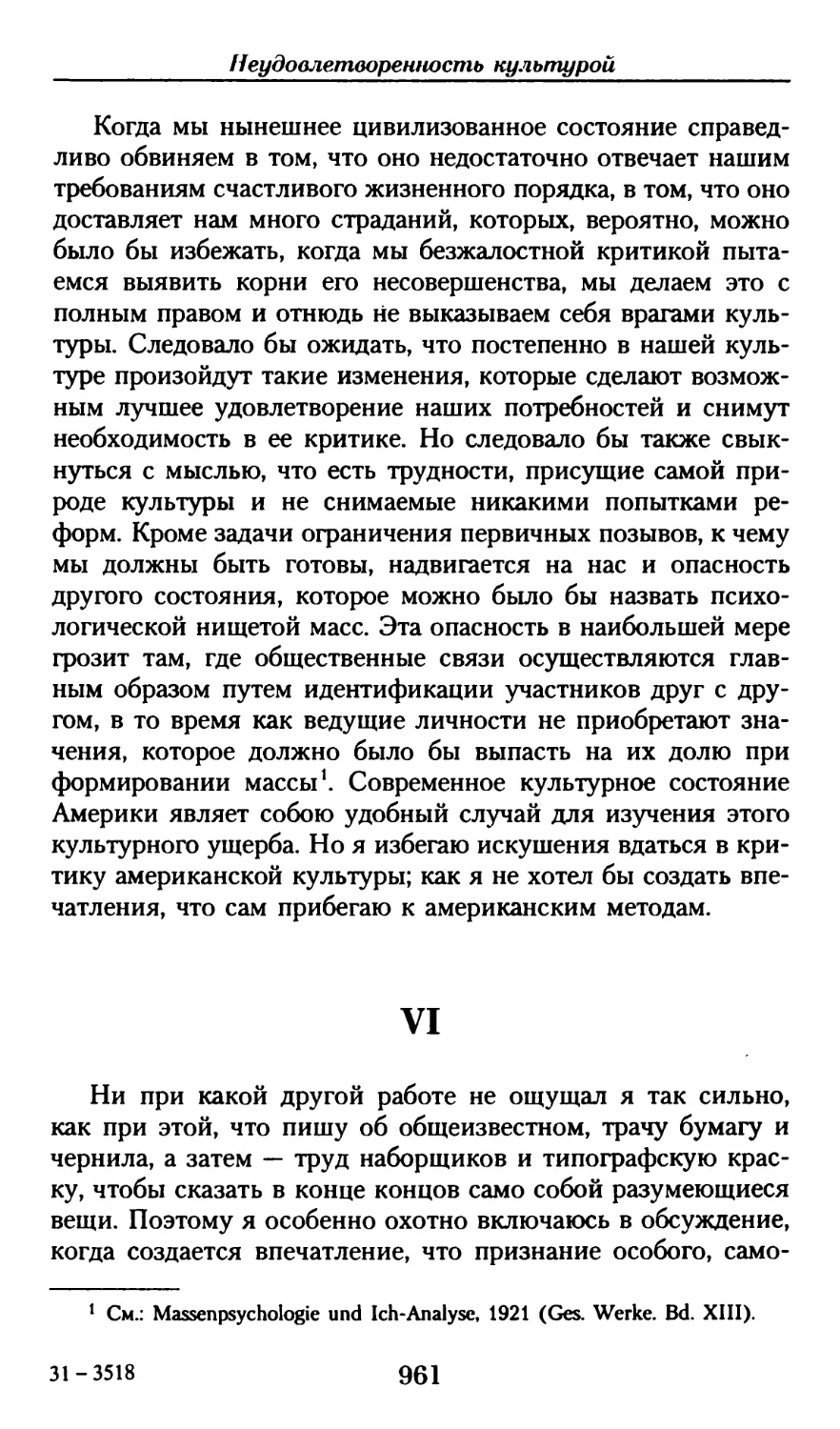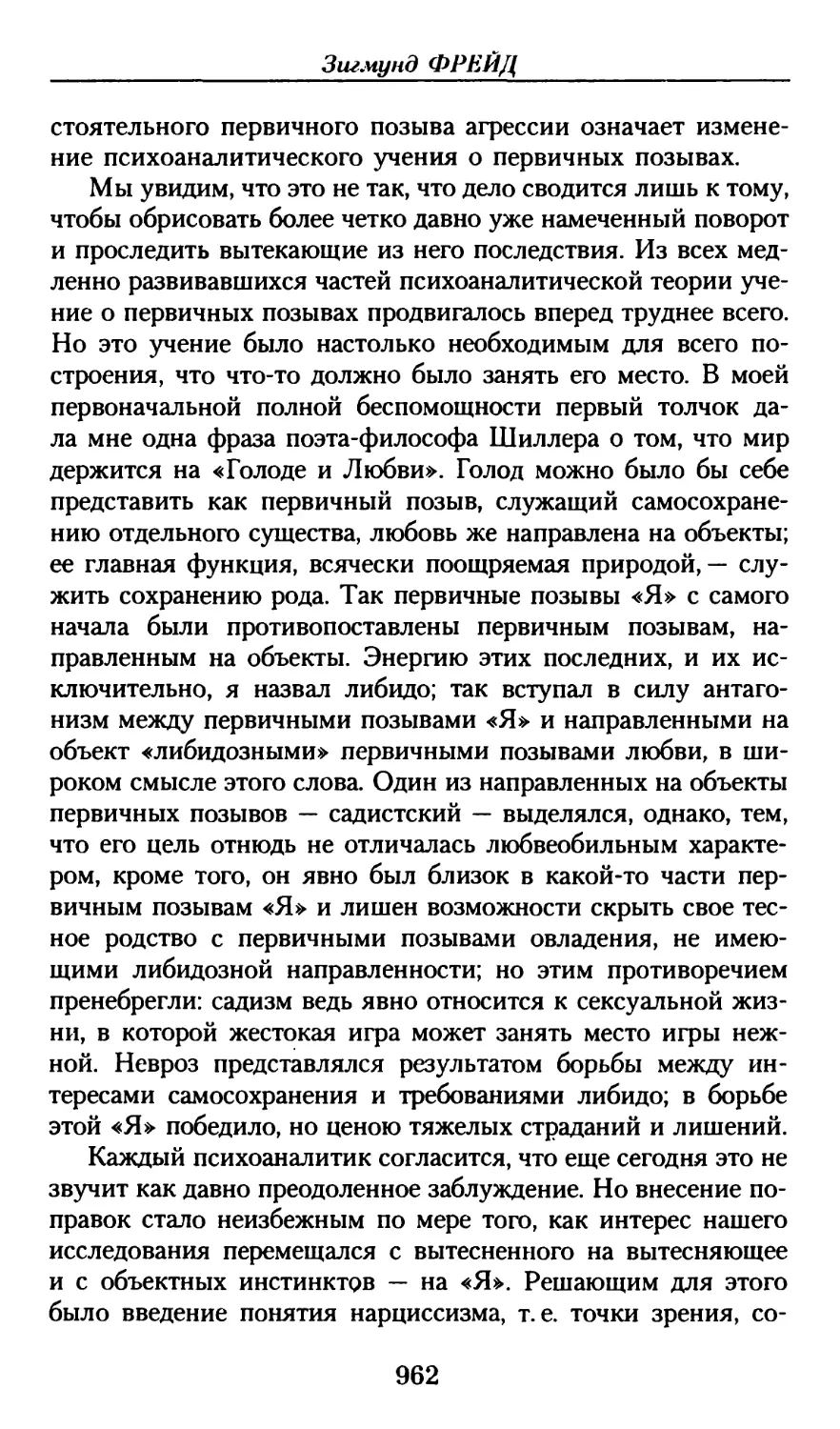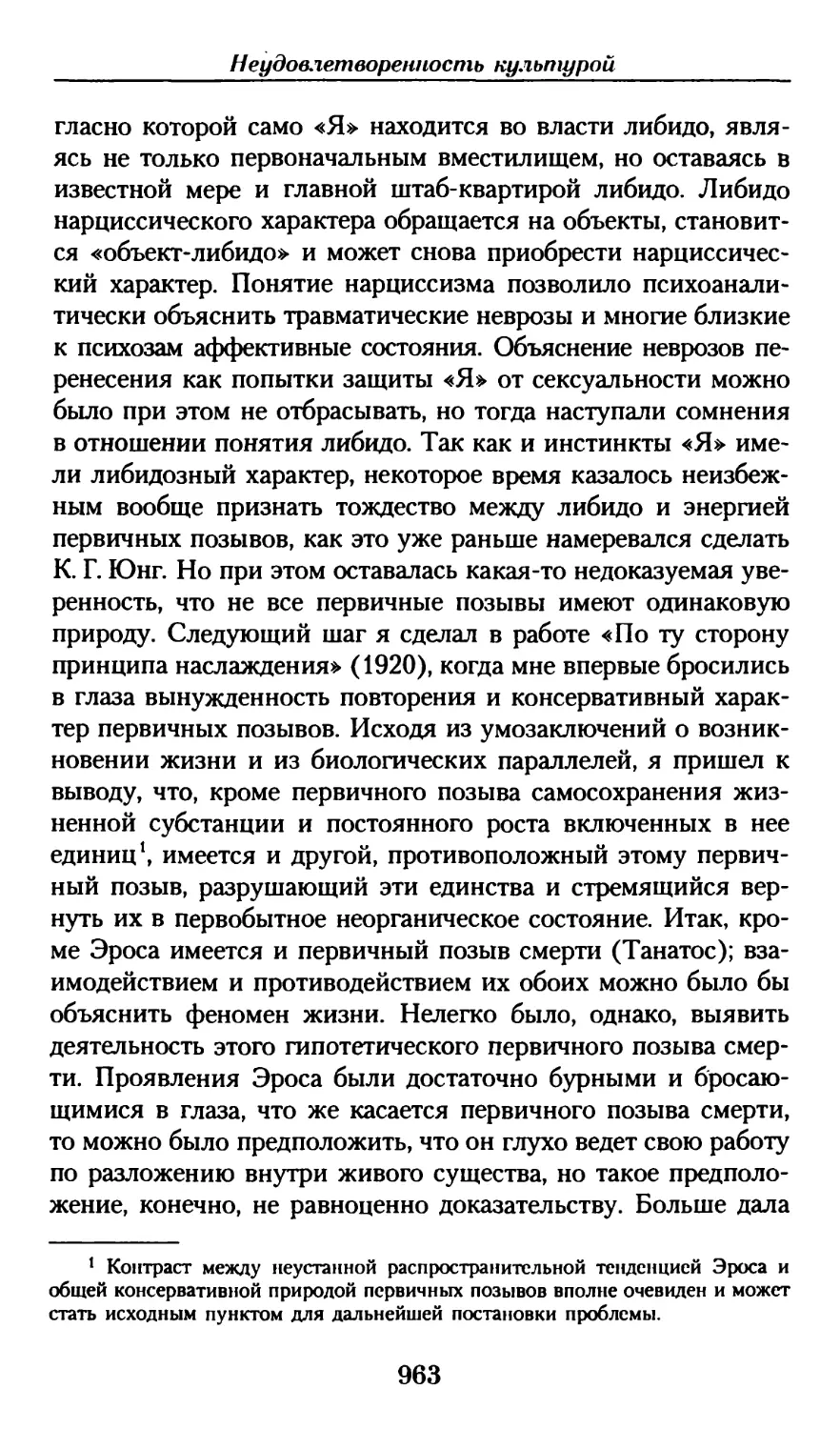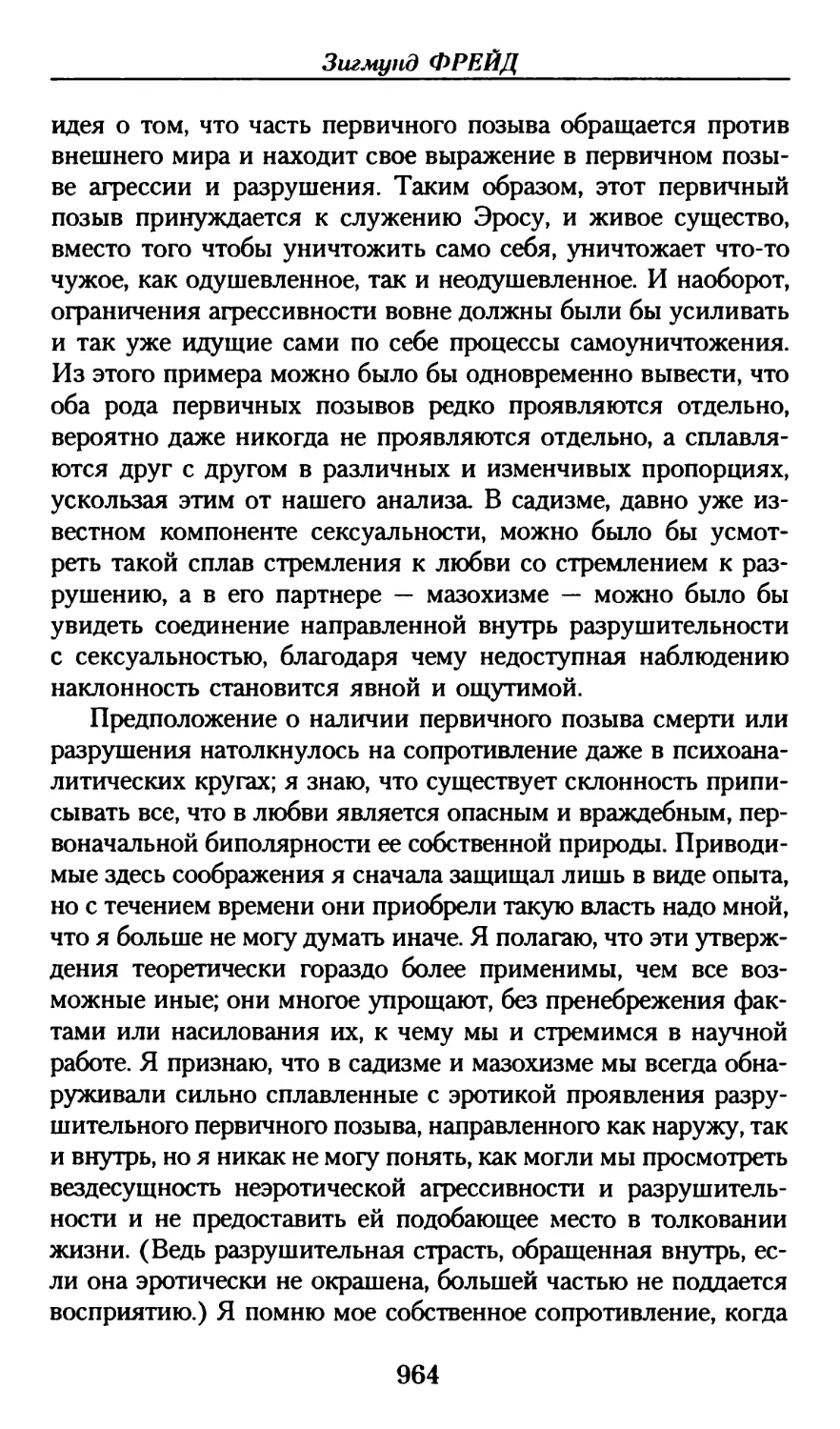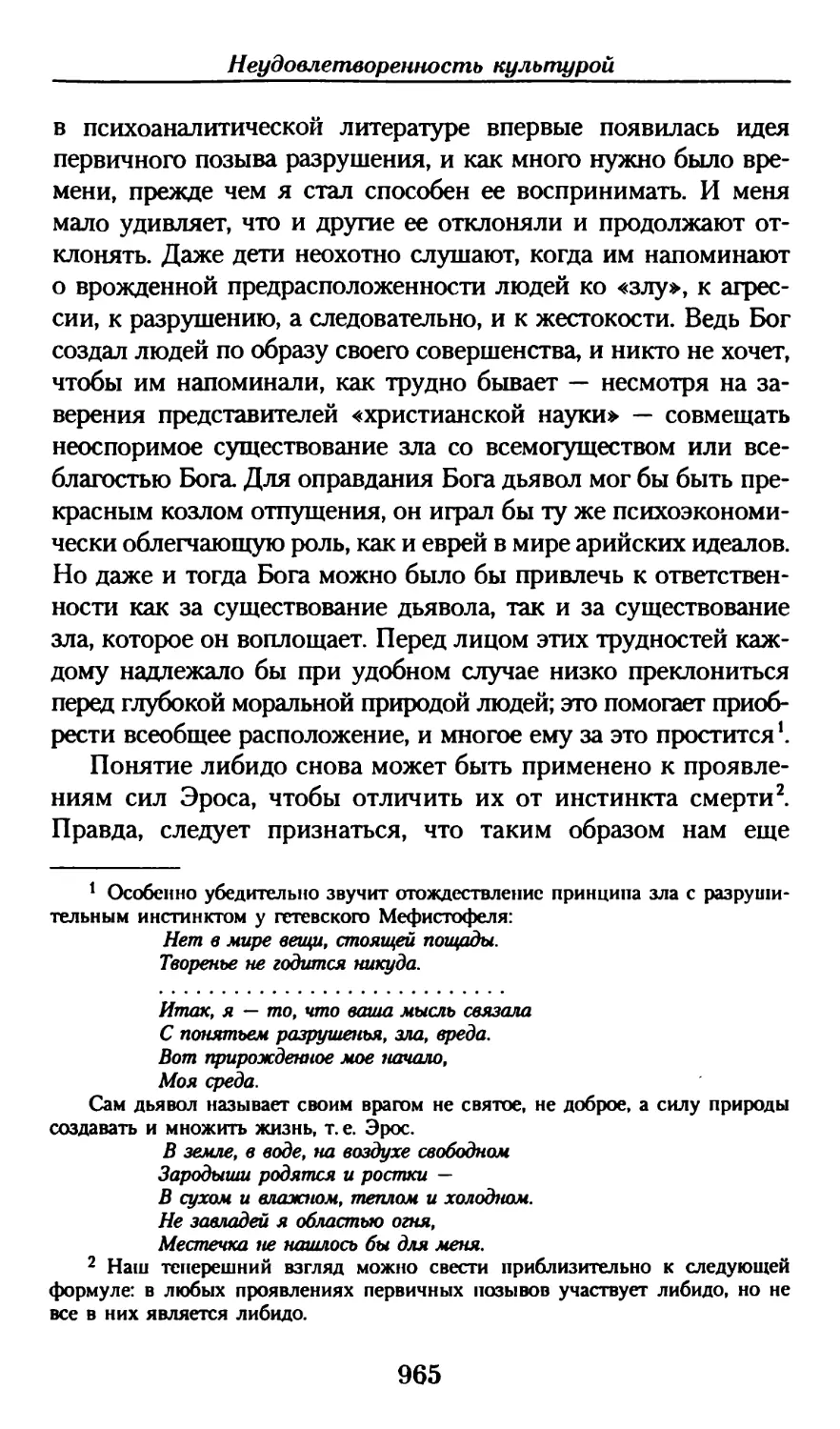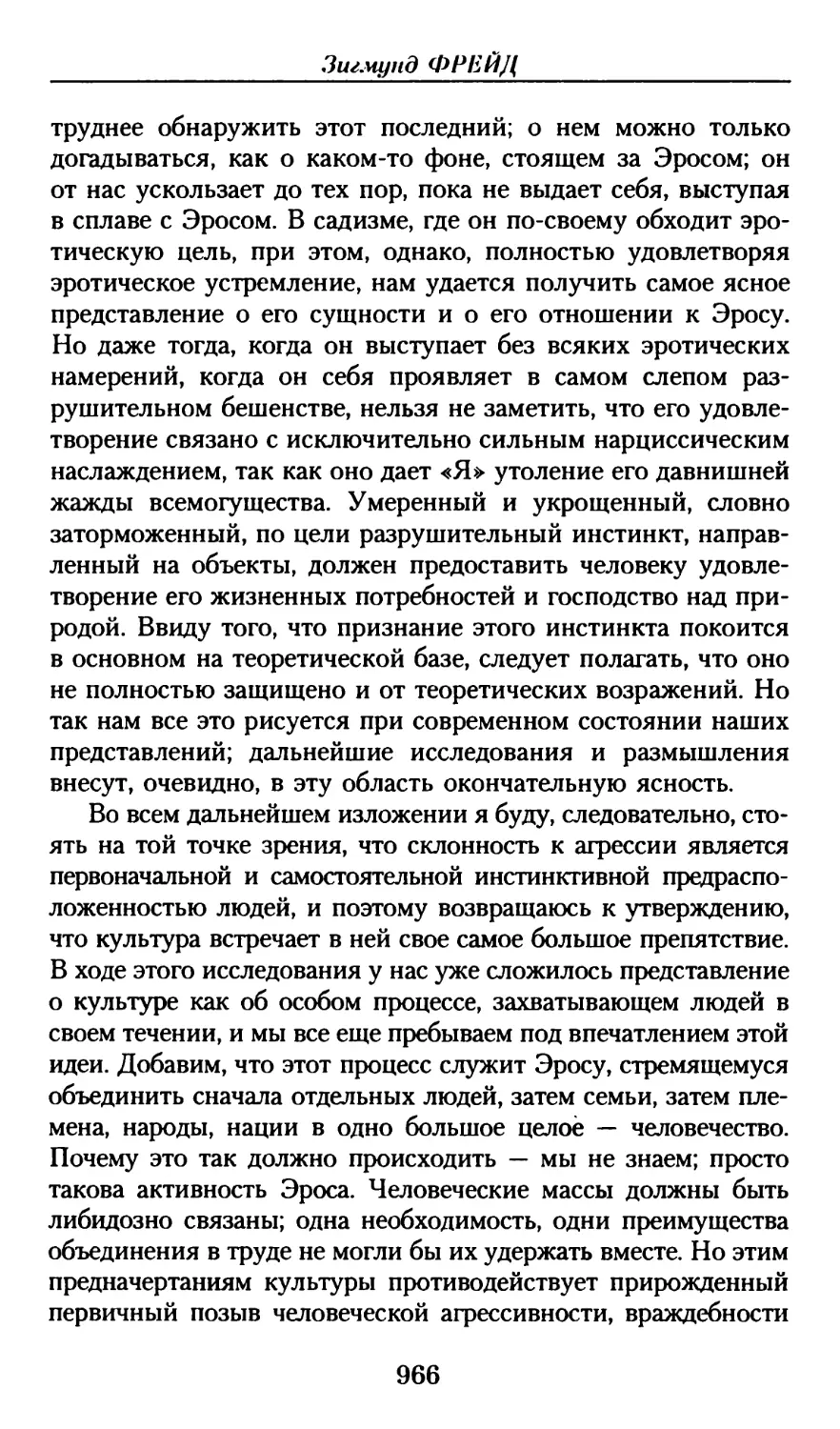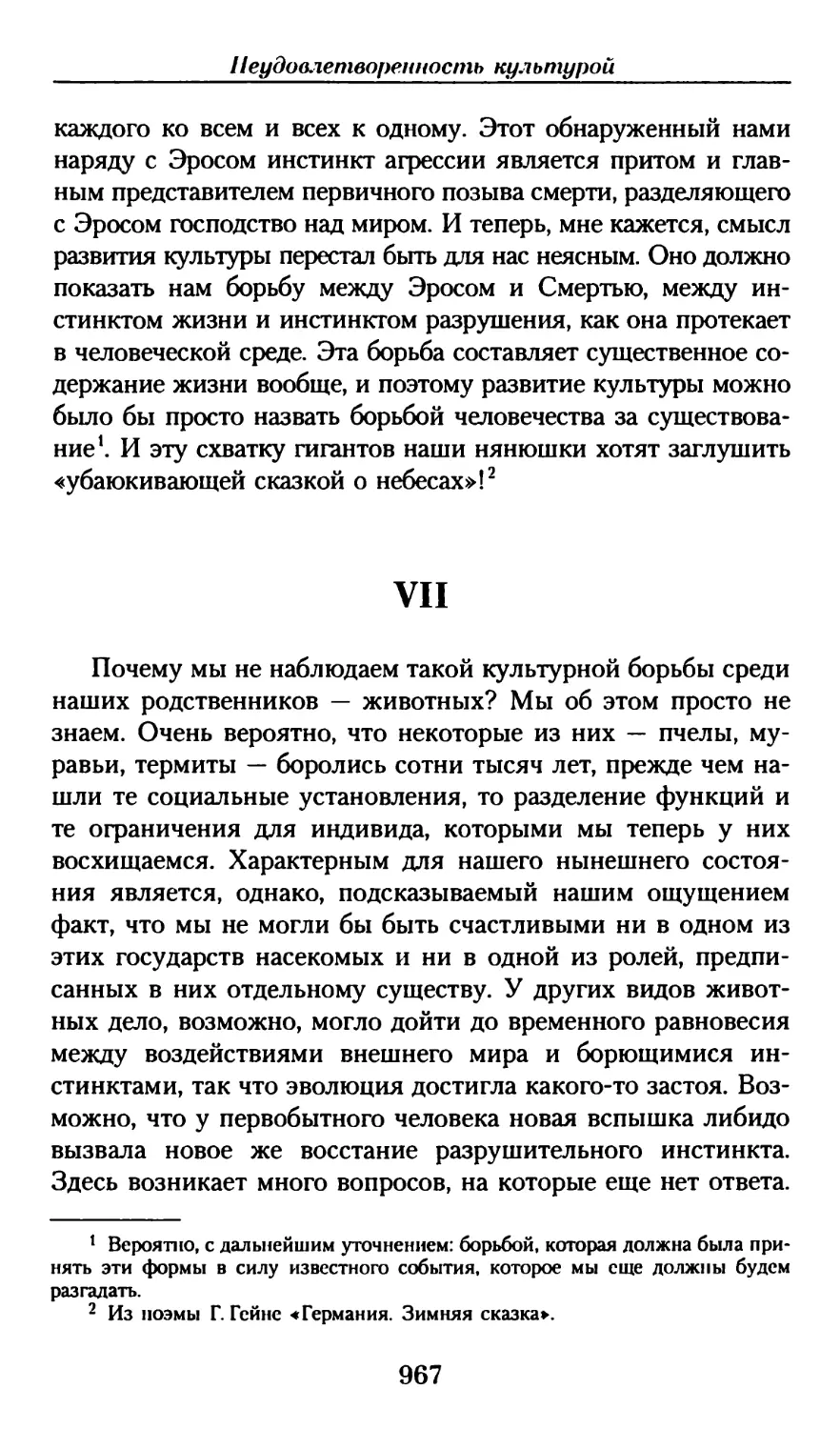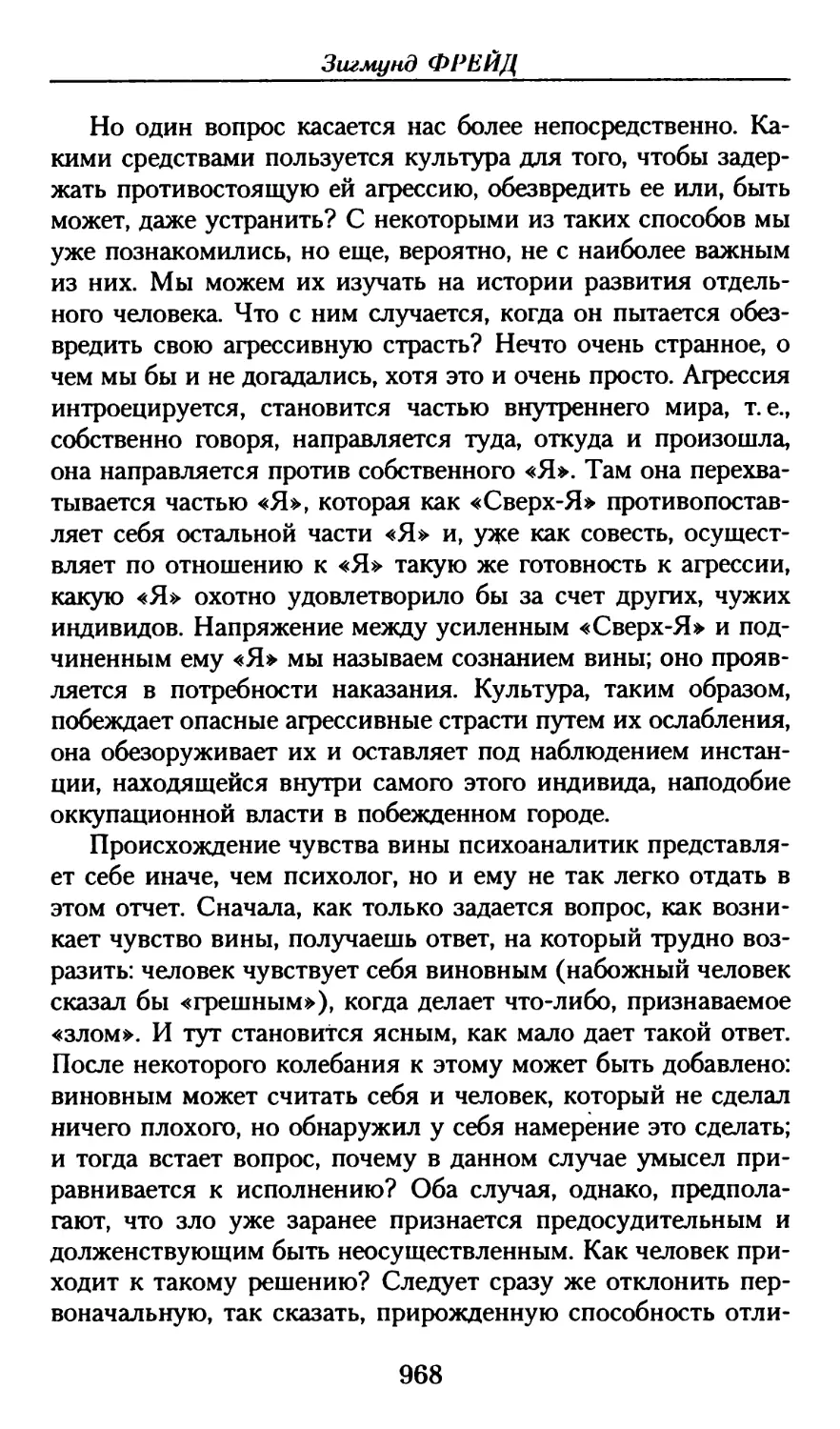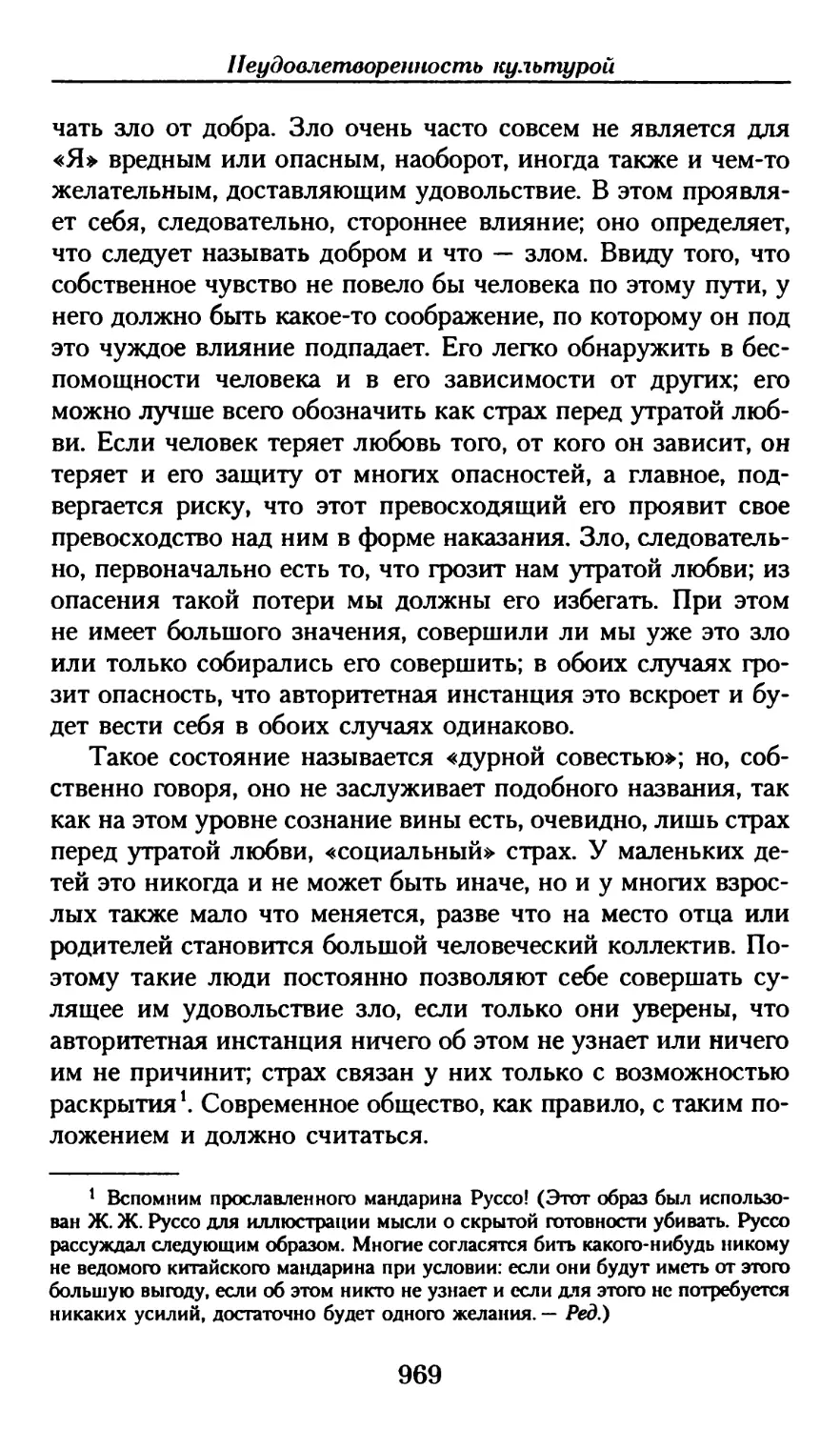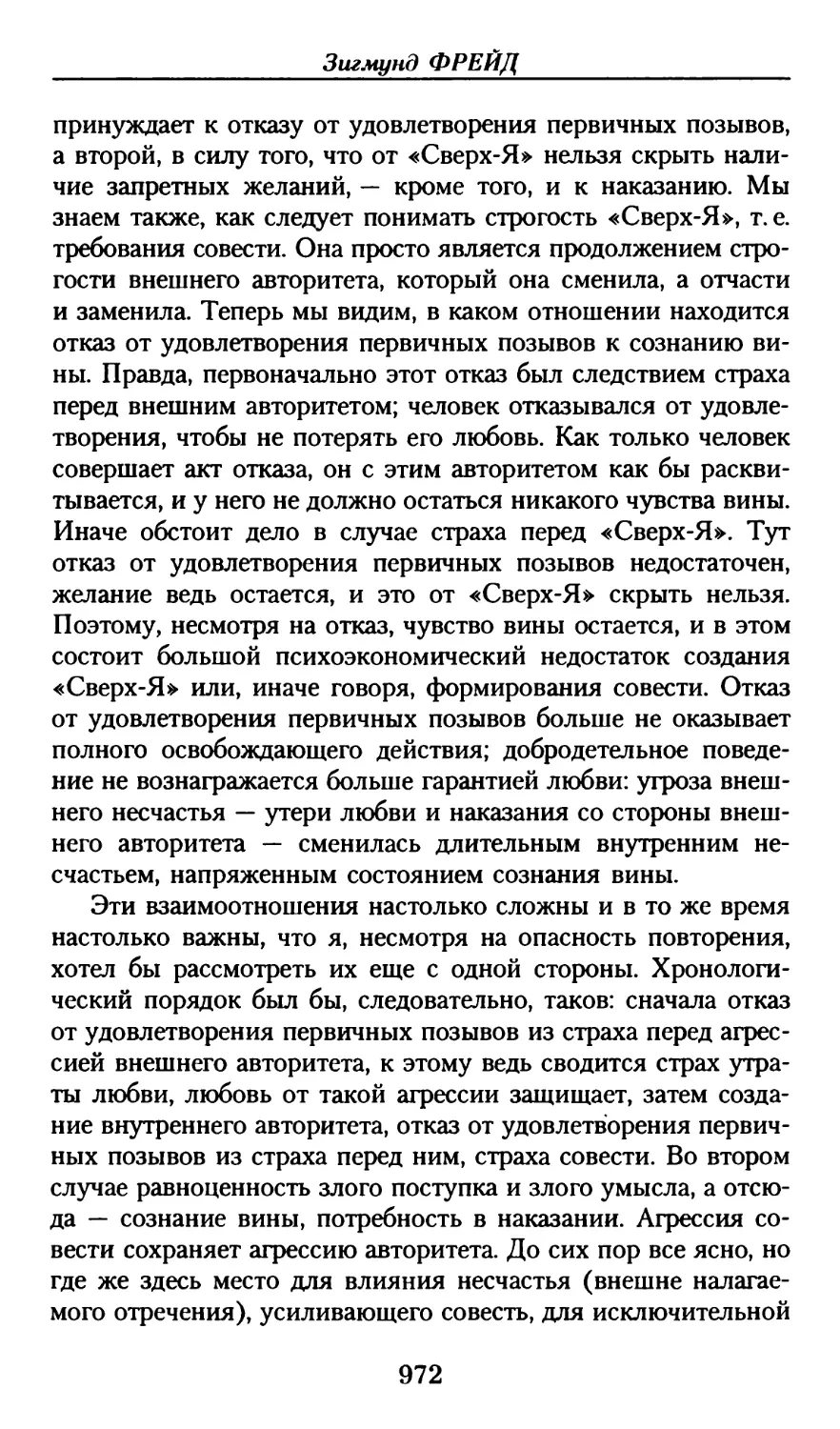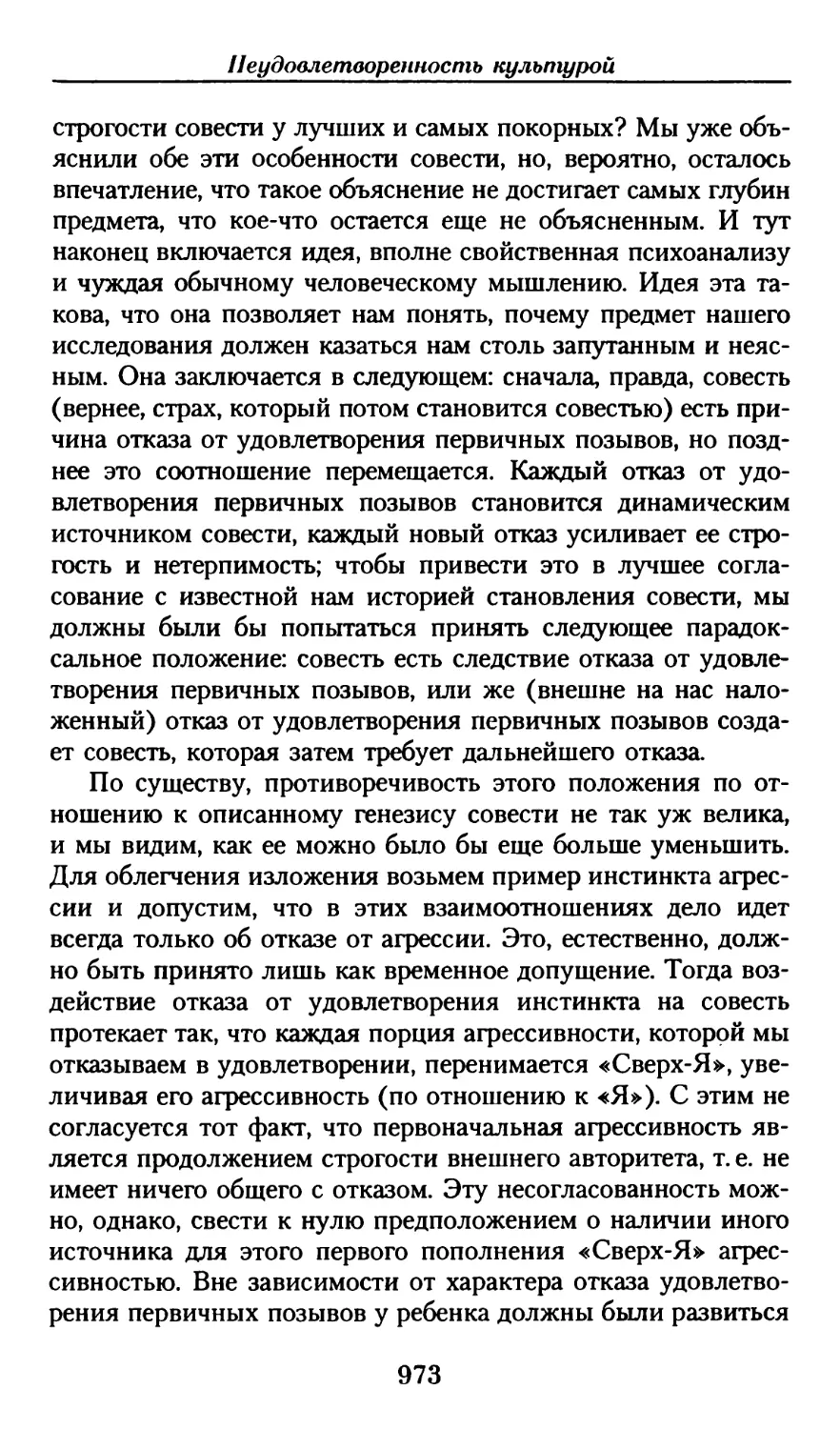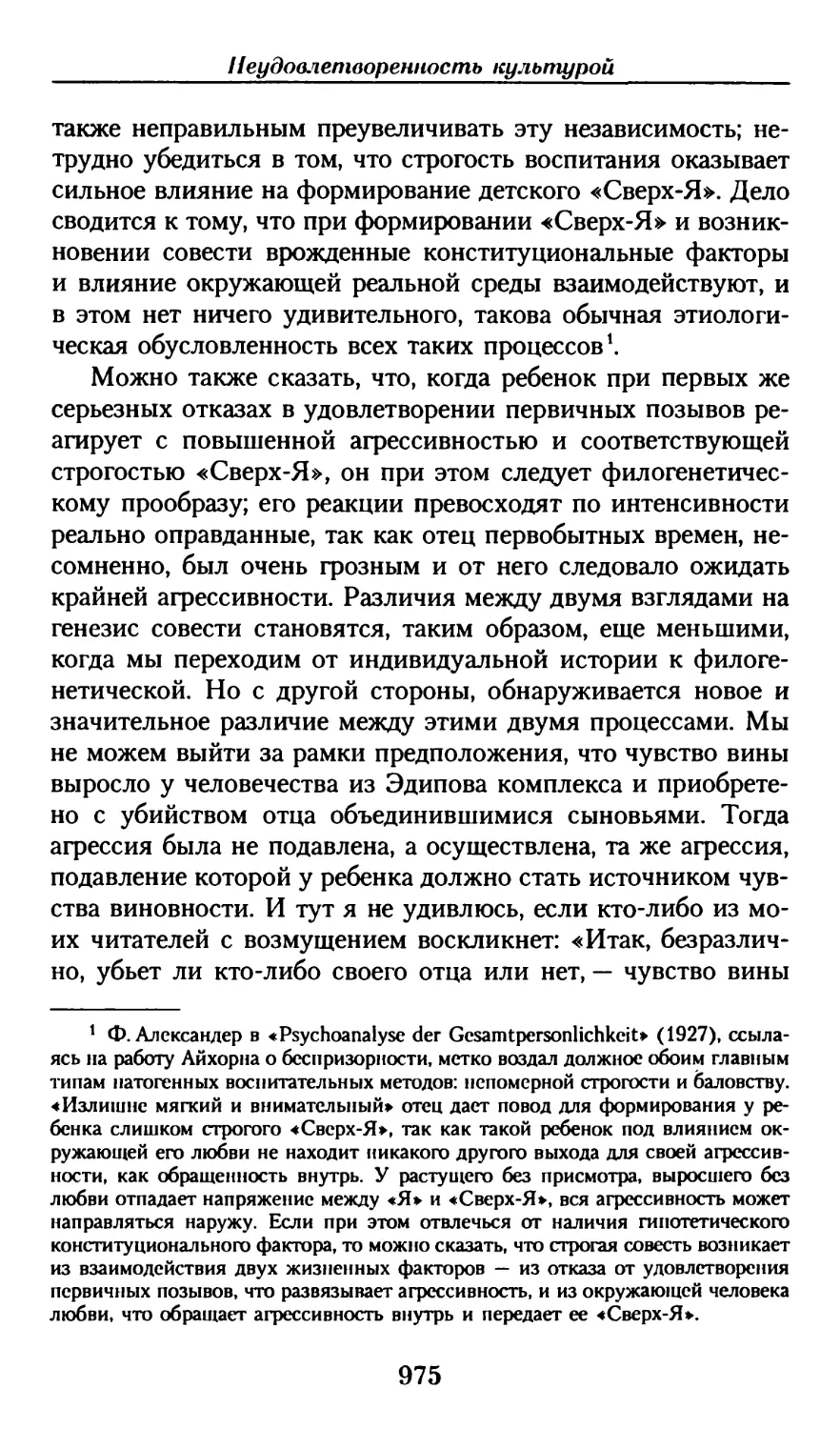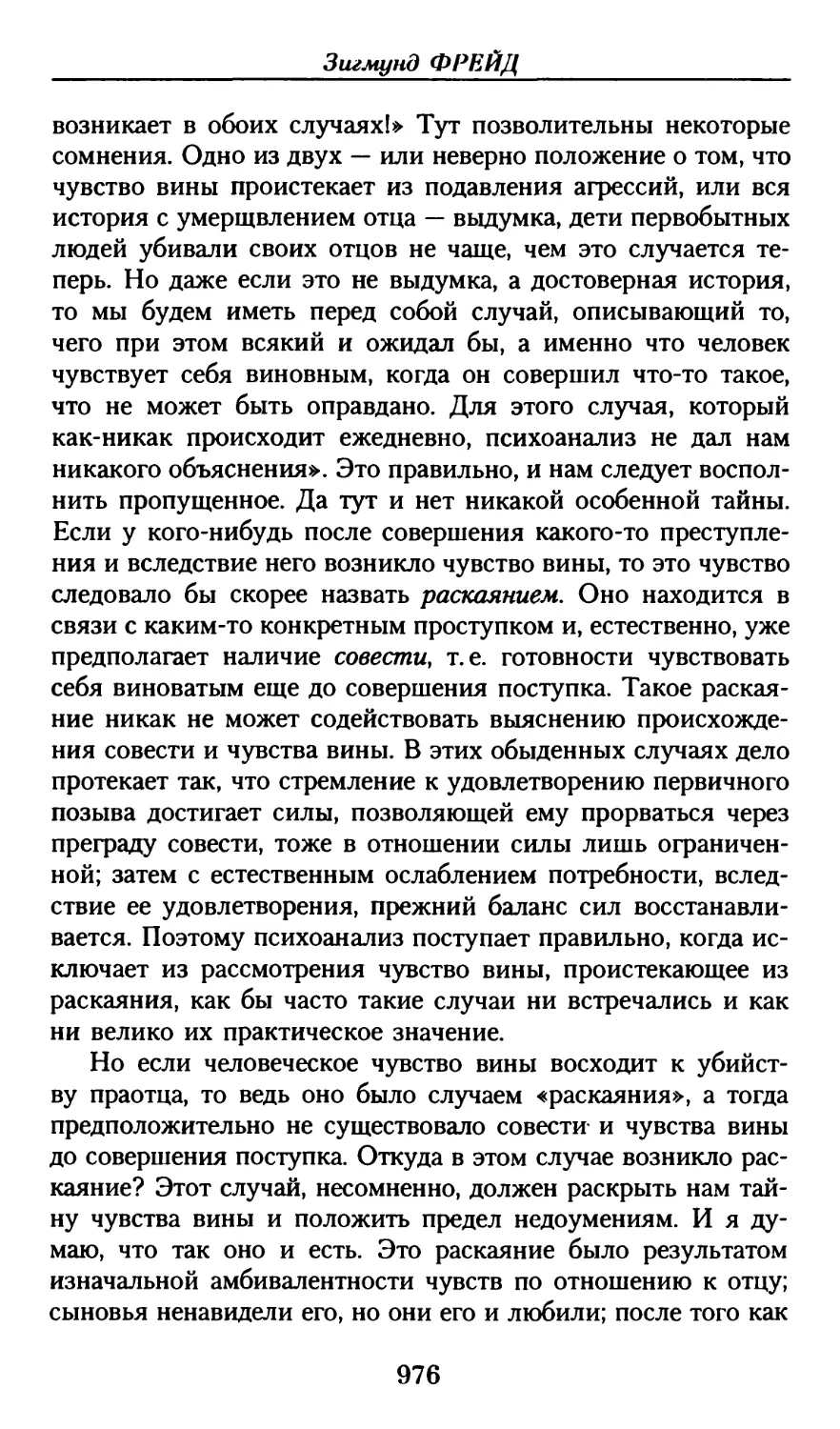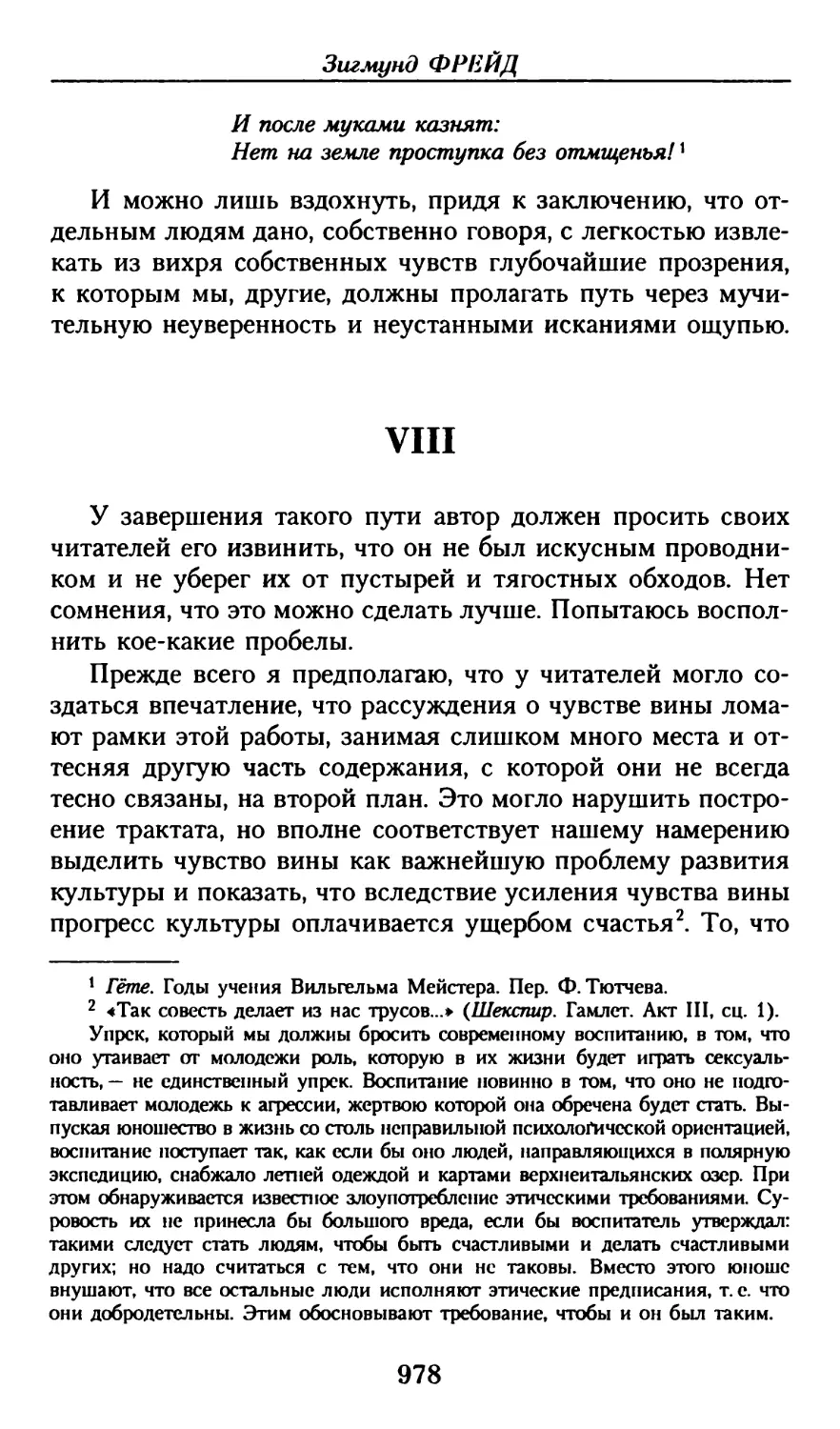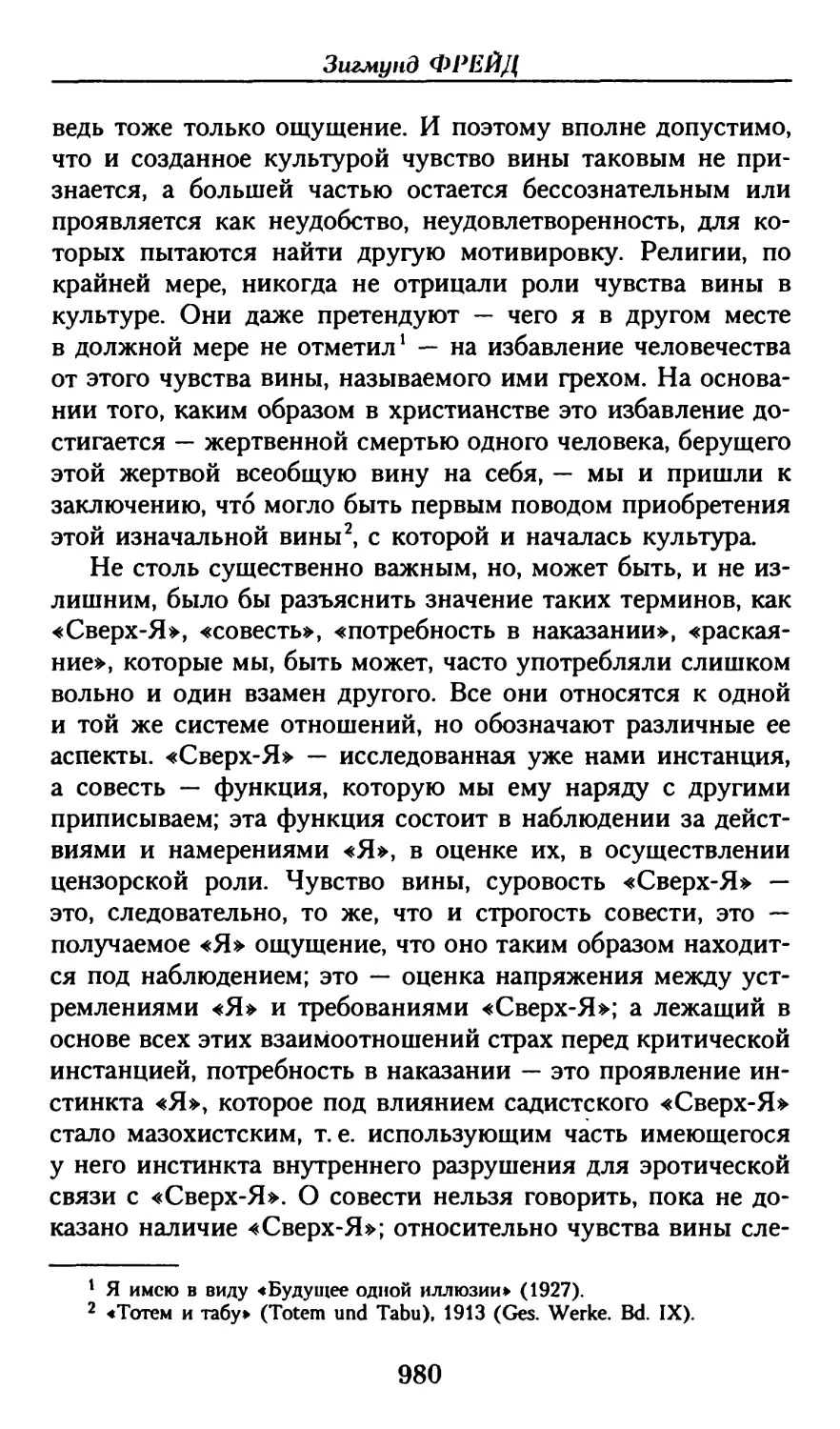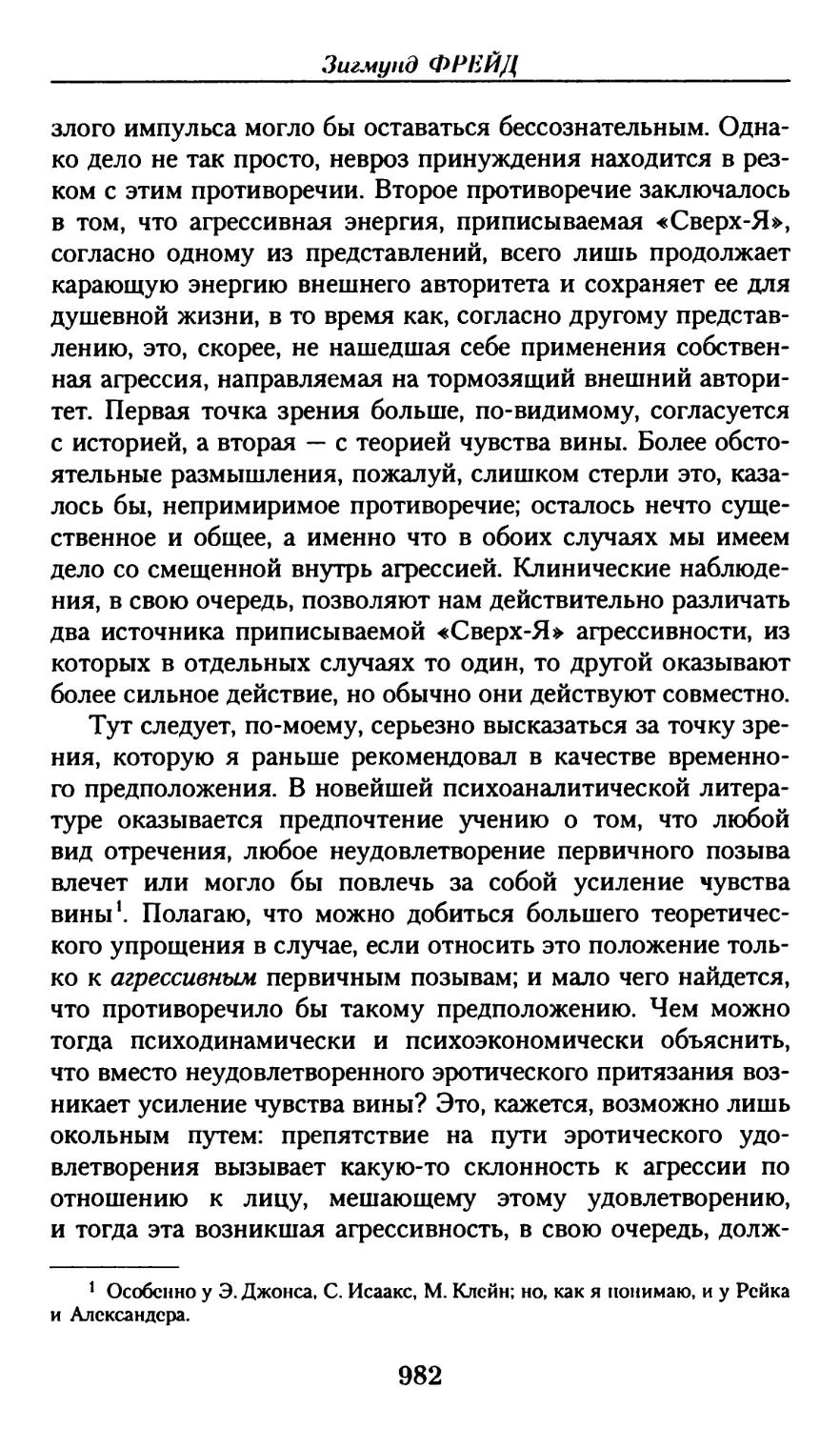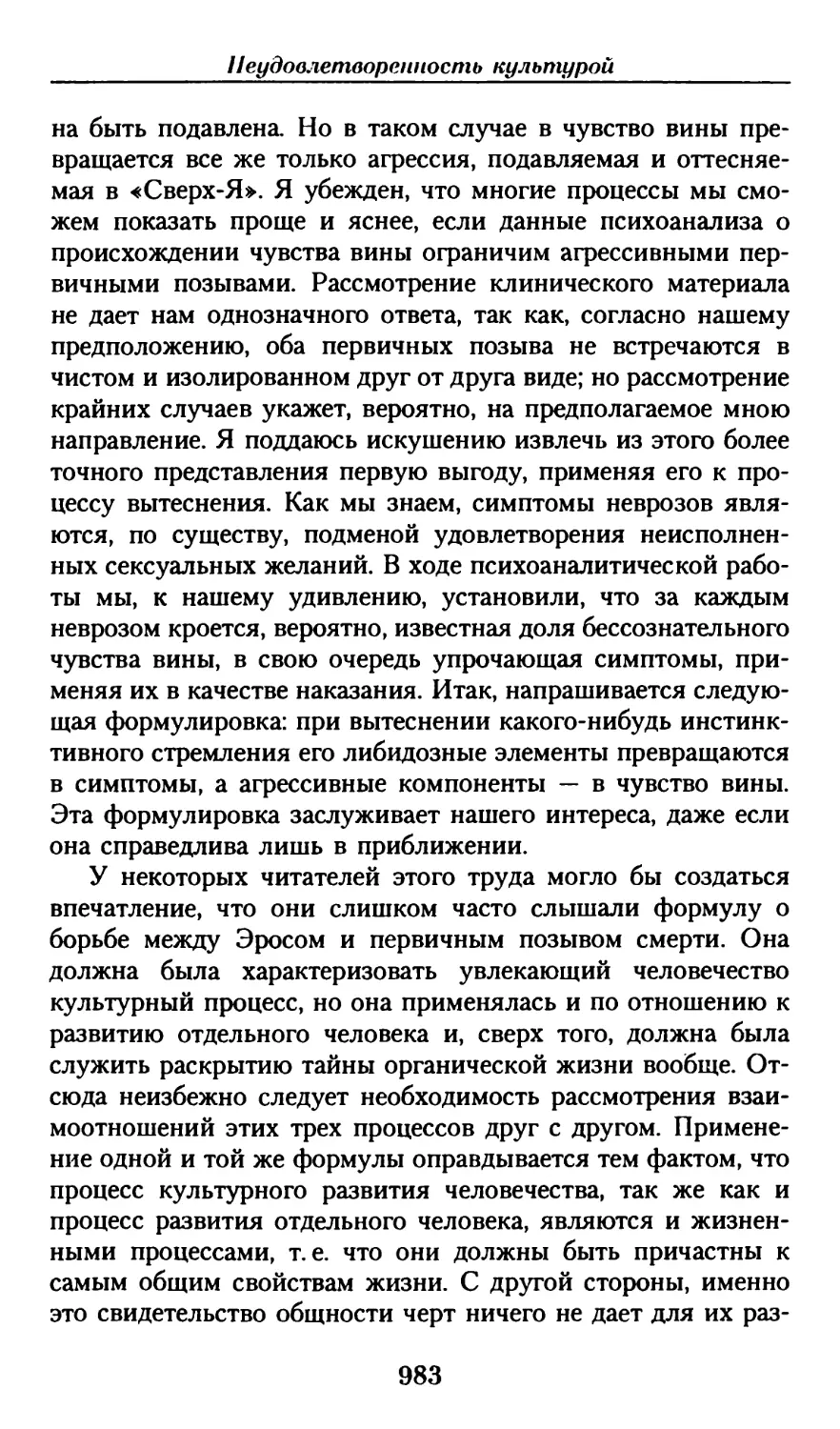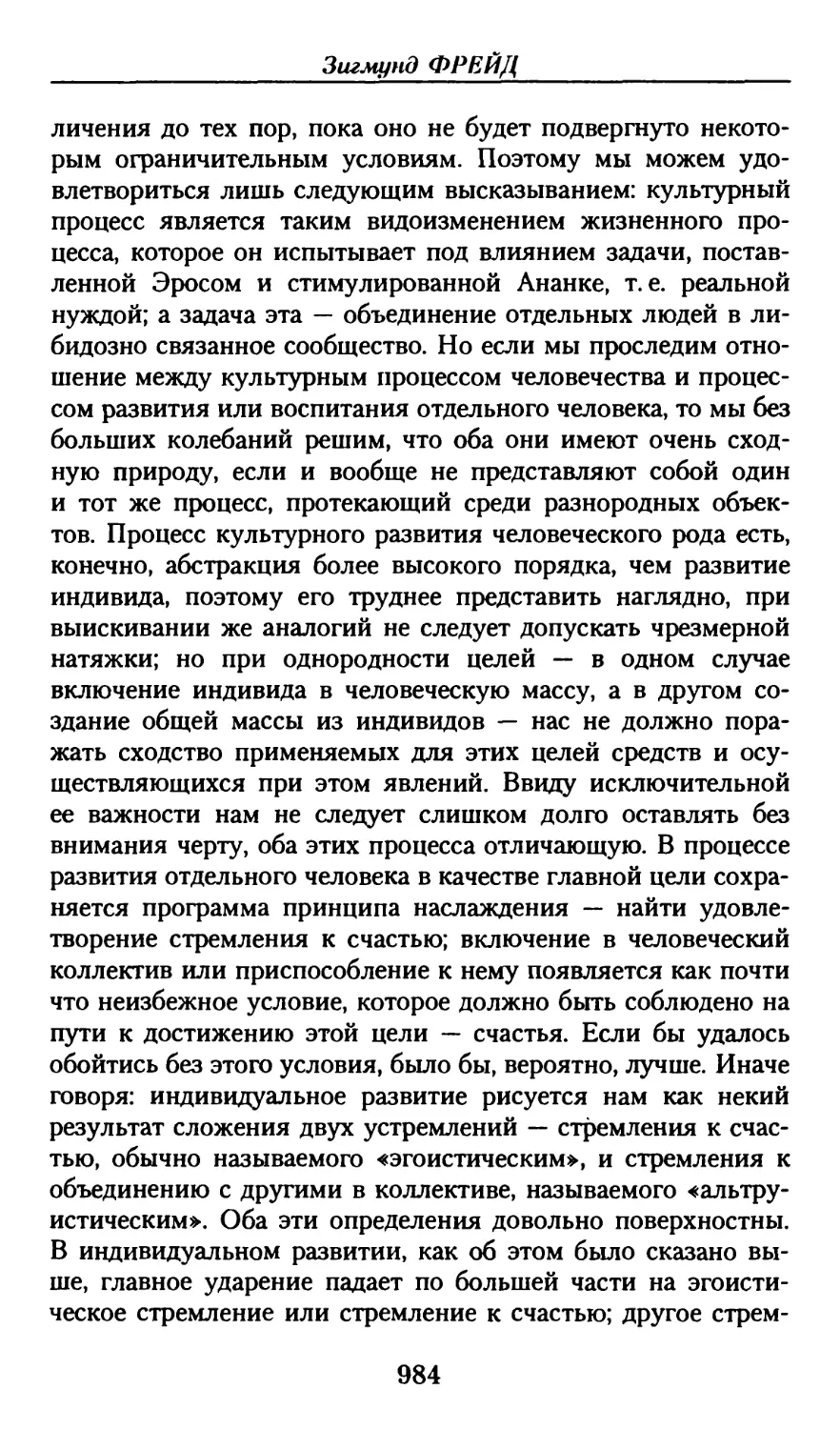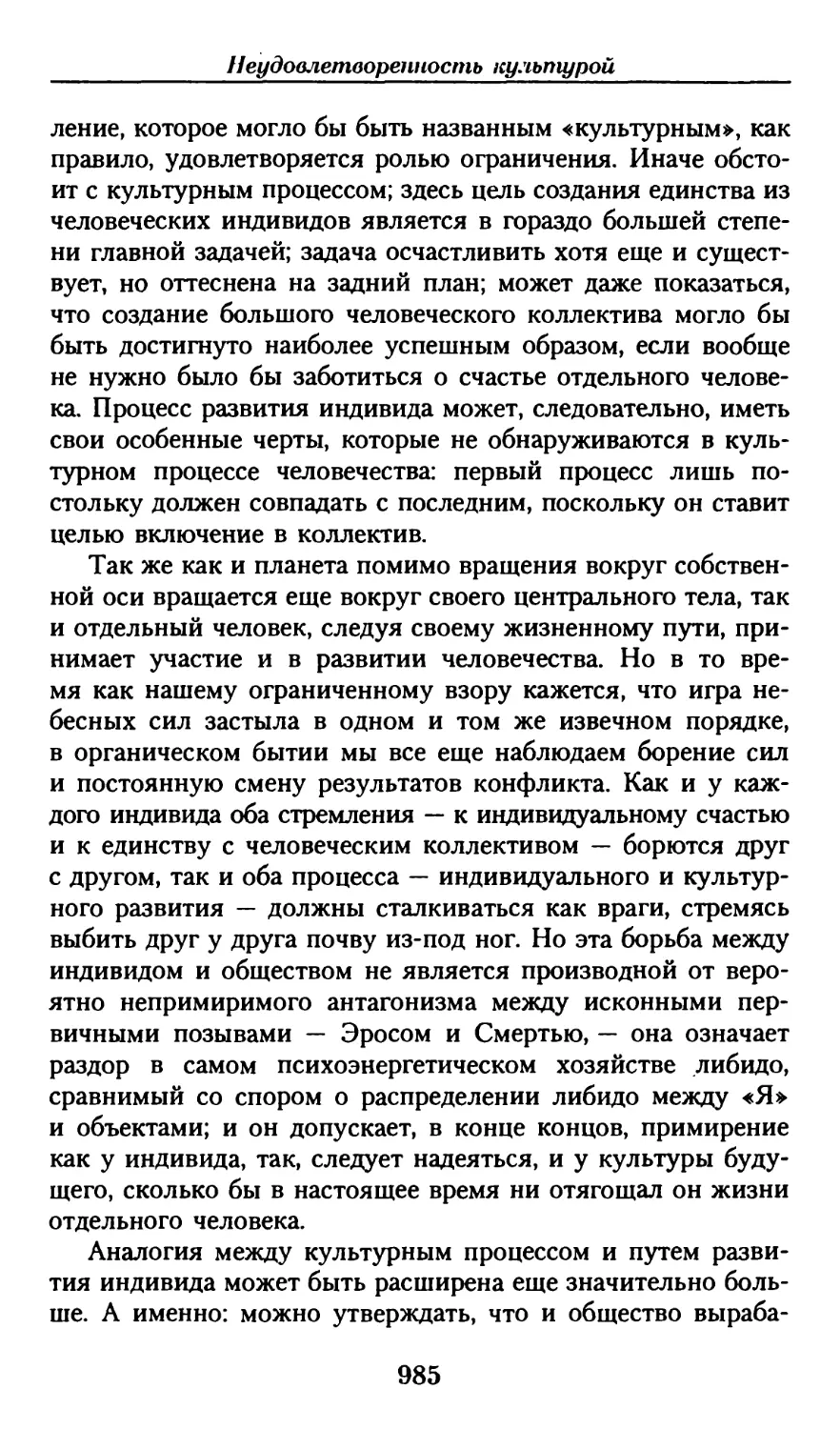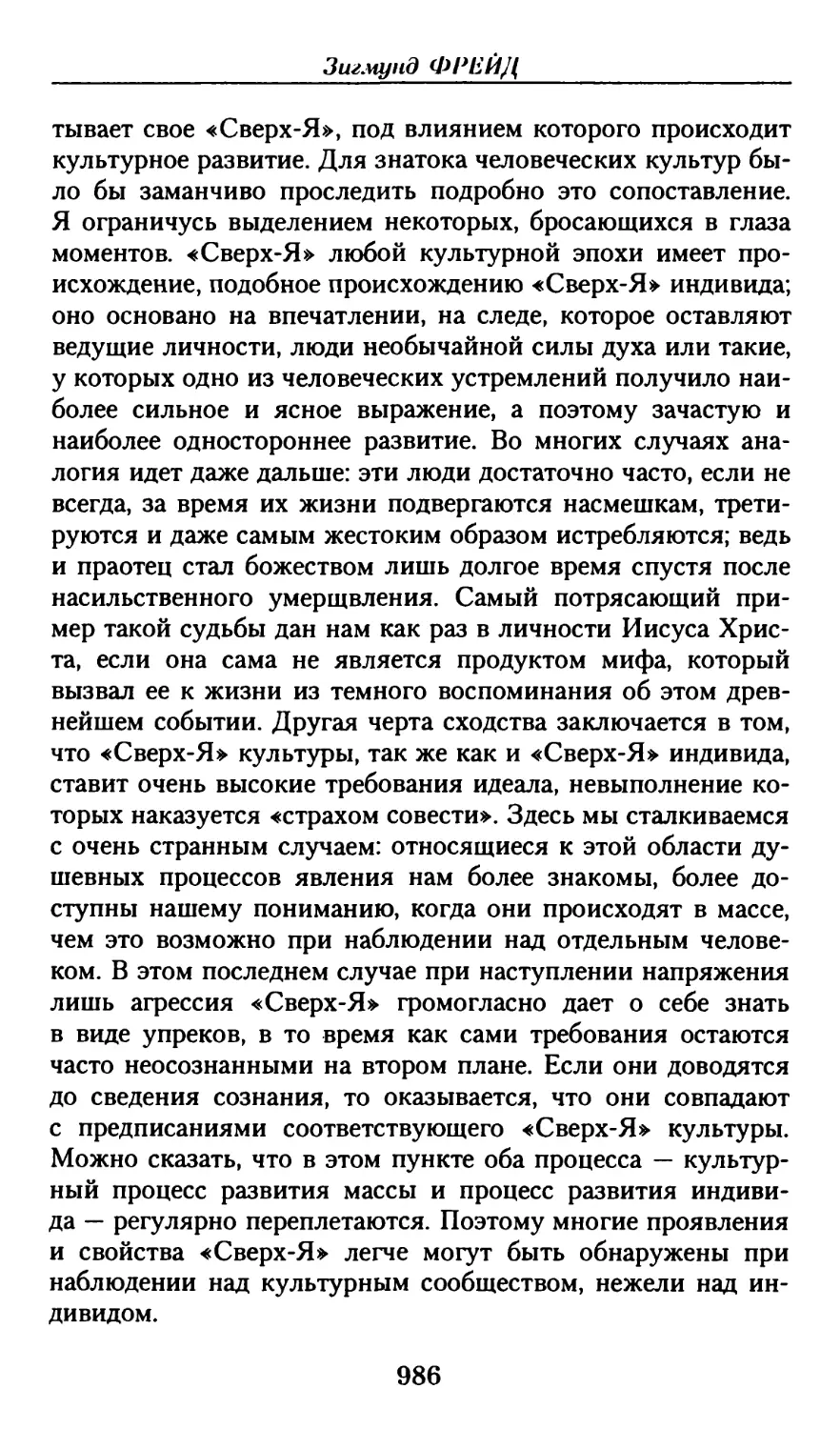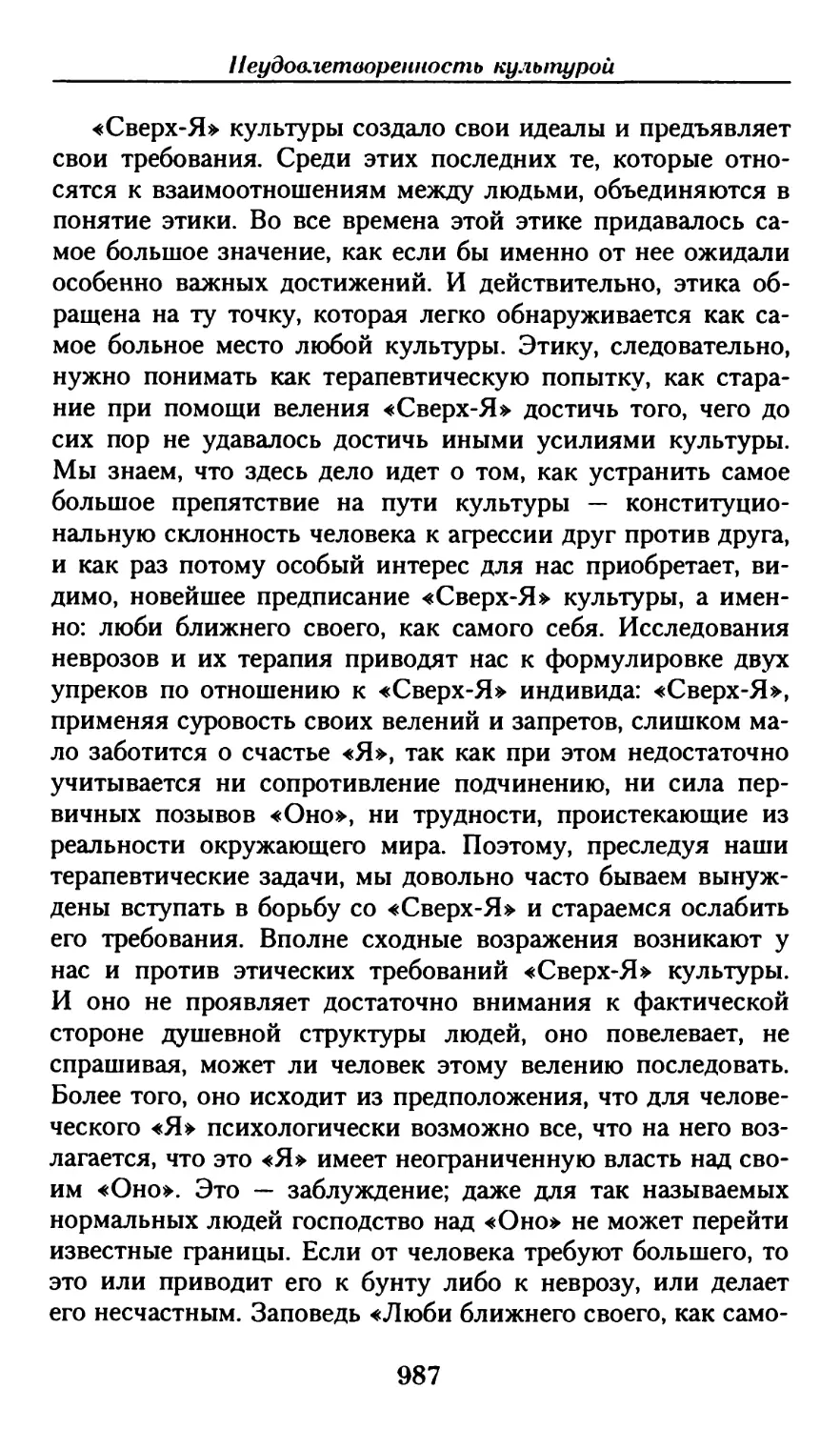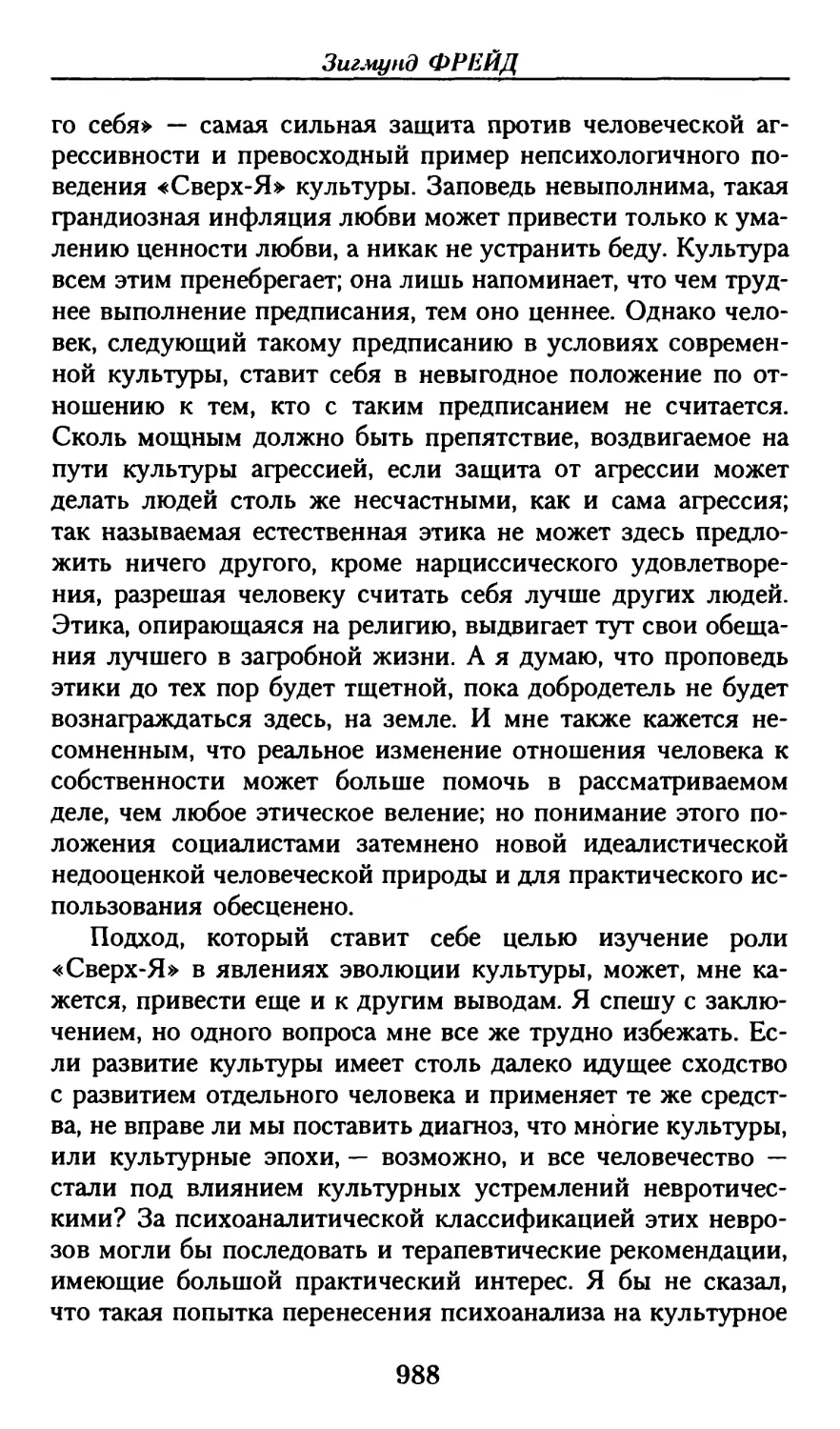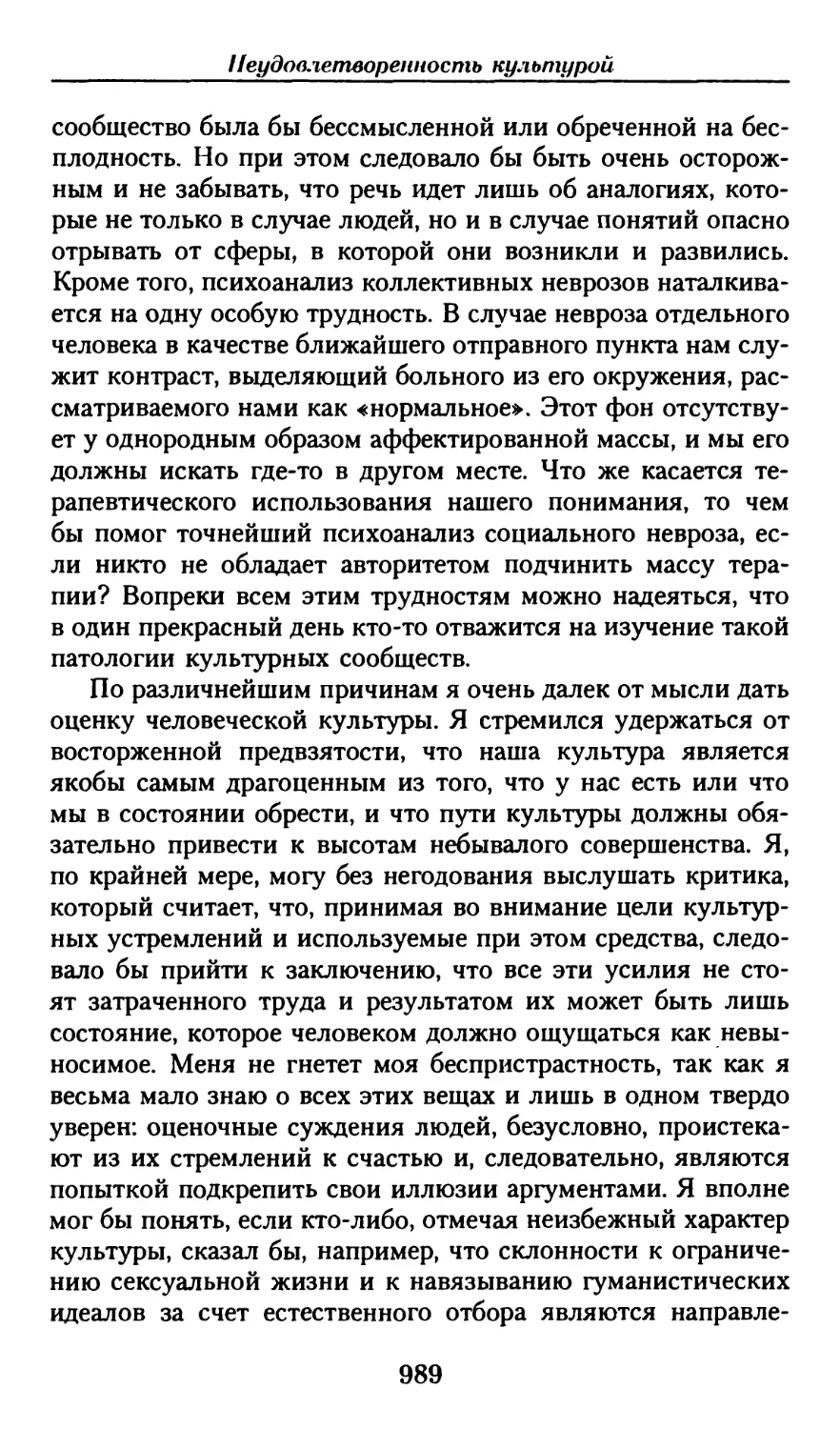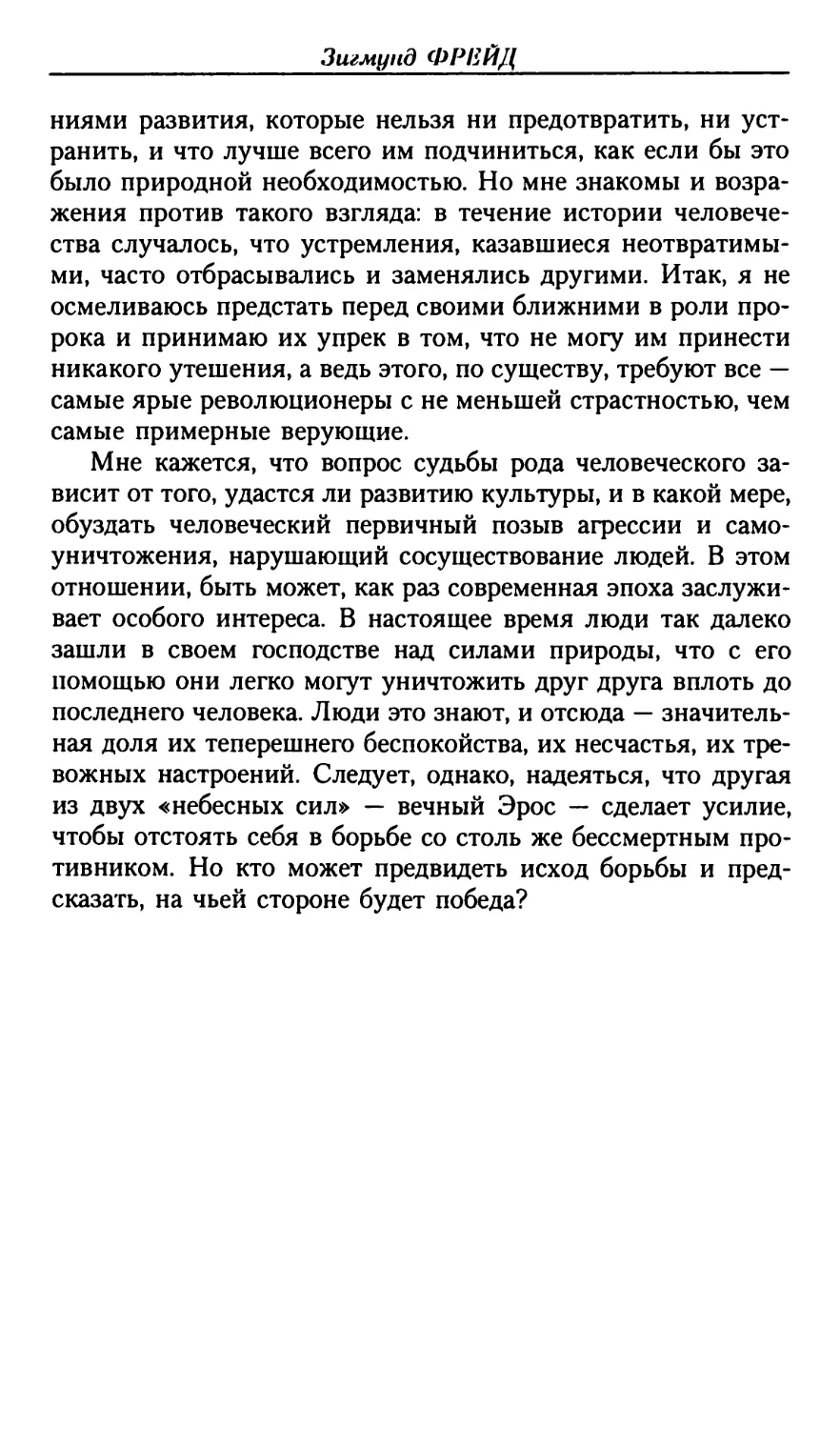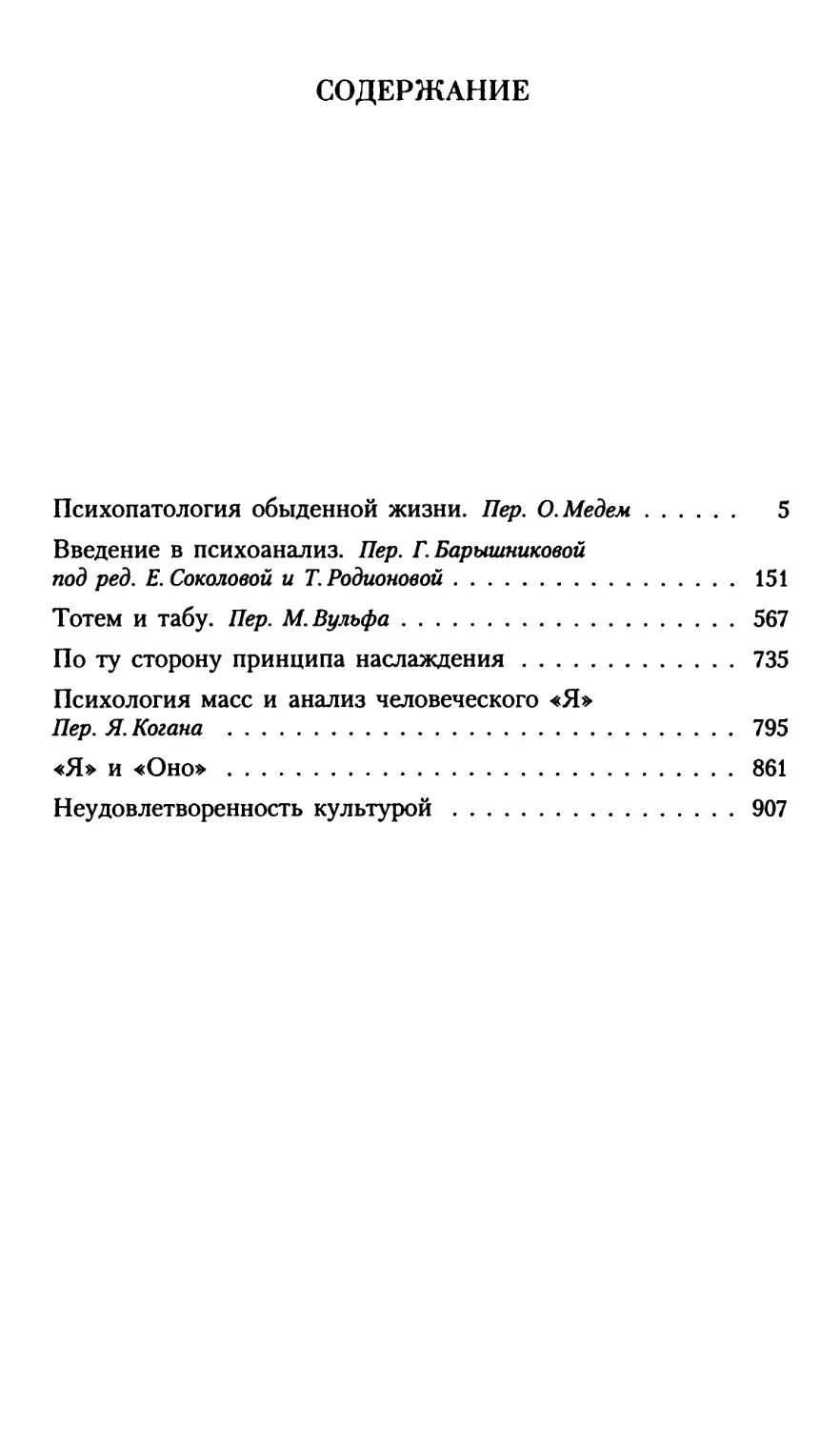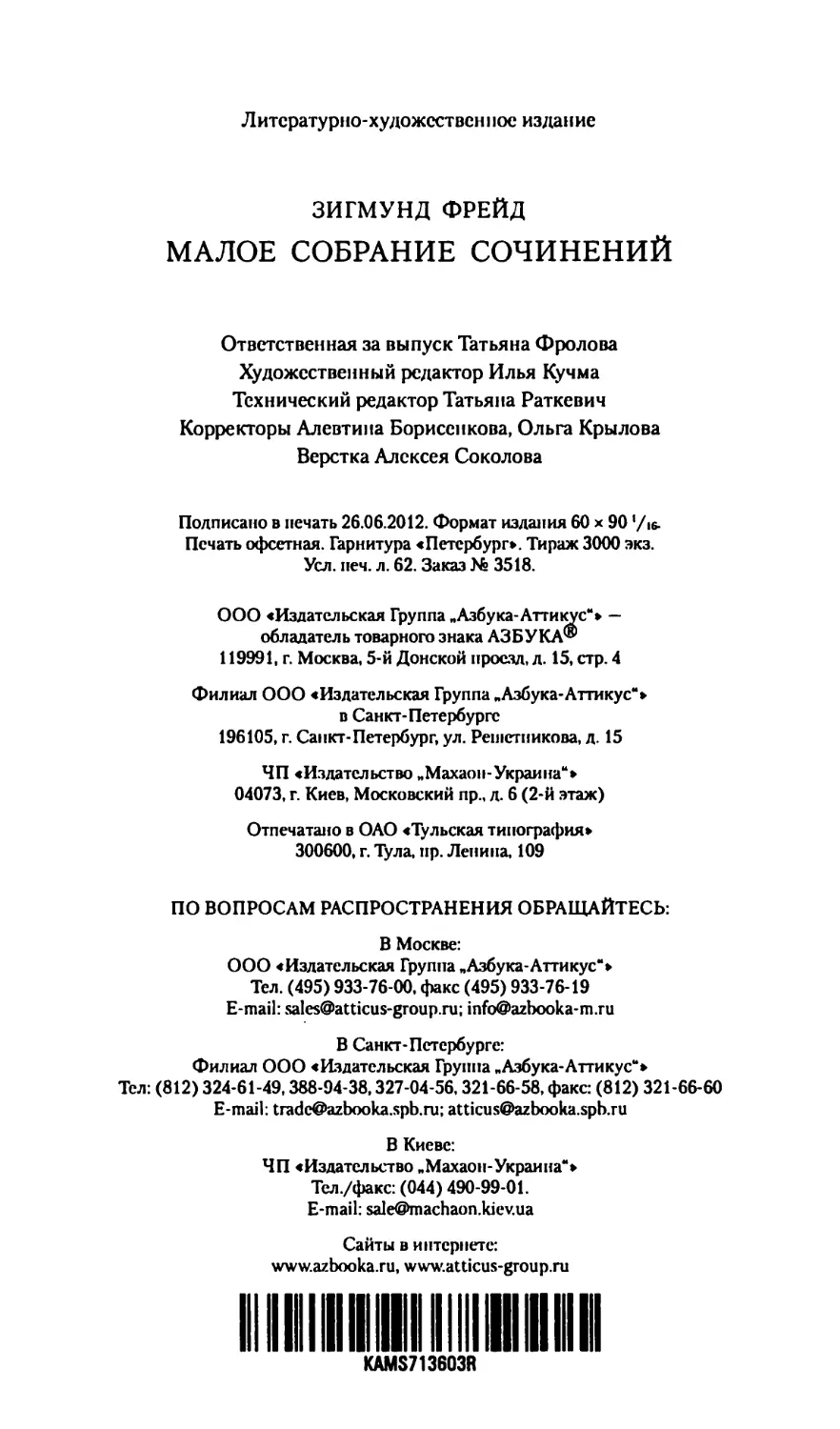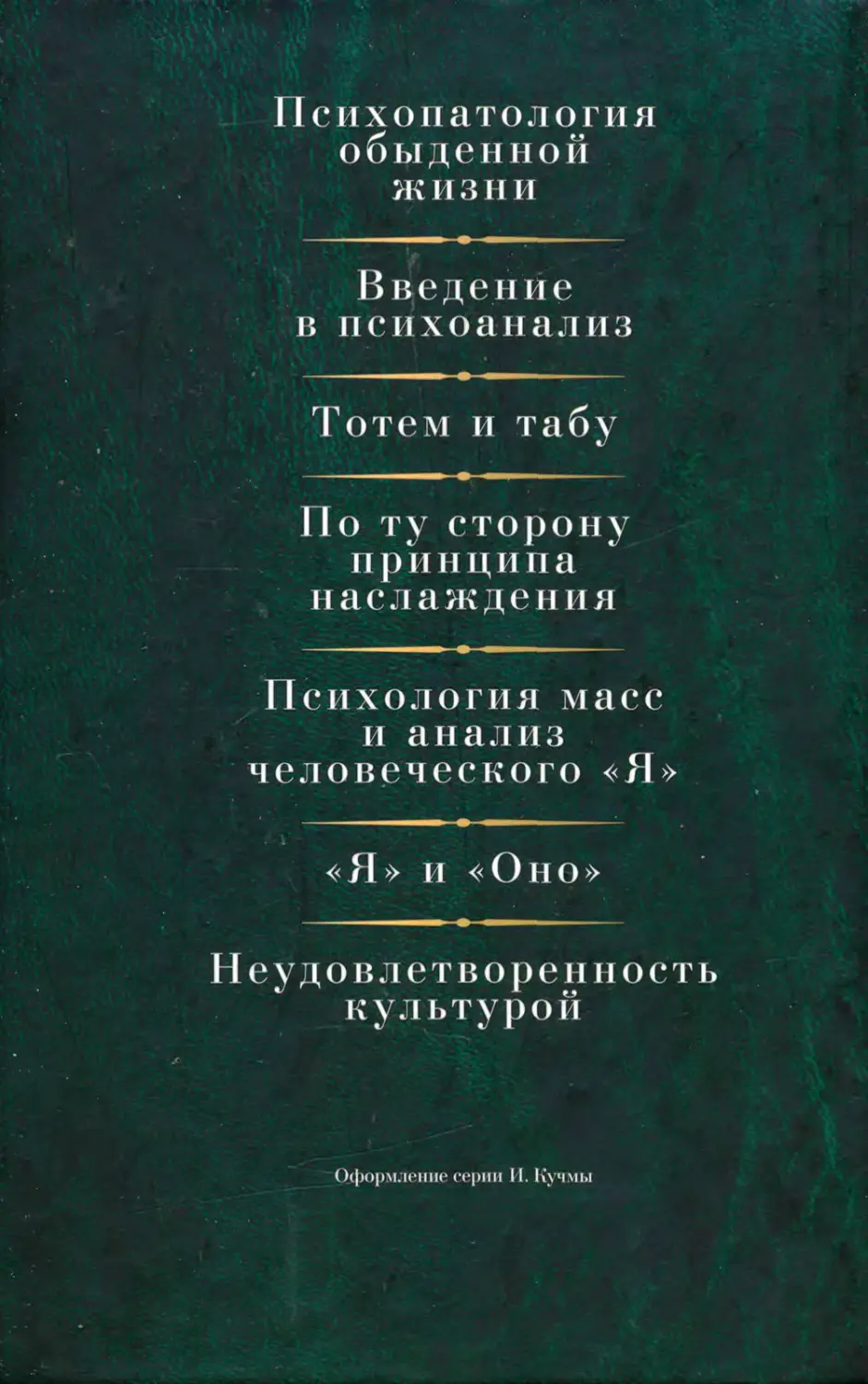Автор: Фрейд З.
Теги: психология социальная (общая) психология историческая психология личность психология семьи, быта, воспитания детей неврология психиатрия фрейдизм
ISBN: 978-5-389-01940-9
Год: 2012
Малое
собрание
сочинений
Санкт-Петербург
2012
Зигмунд
ФРЕЙД
Малое
собрание
сочинений
Перевод с немецкого
Оформление Ильи Кучмы
Фрейд 3.
Малое собрание сочинений / Пер. с нем. Г.
Барышниковой и др. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. — 992 с.
ISBN 978-5-389-01940-9
Работы Зигмунда Фрейда, легендарного австрийского невролога,
психолога и психиатра, единодушно признаются новой вехой мировой
культуры и классикой психоанализа.
В сборник пошли одни из самых ярких его произведений, такие как
«Психопатология обыденной жизни», «Тотем и табу», «По ту сторону
принципа наслаждения», в свое время шокировавшие общественность и
многими встреченные враждебно. Выйдя за рамки привычной его
современникам медицинской психологии, Фрейд дерзко приписал всему
человечеству скандальные мысли и побуждения. Представления об
эдиповом комплексе, о сексуальном влечении как определяющем импульсе
человеческого поведения оскорбляли «викторианские» взгляды
европейцев. Впрочем, споры вокруг психоанализа не утихают и сегодня...
Чтение сборника обещает быть и познавательным, и захватывающим.
Как признался Фрейд в одном из интервью, «я ученый по необходимости,
а не по призванию. В действительности я прирожденный
художник-беллетрист».
© ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус"», 2012
ISBN 978-5-389-01940-9 Издательство АЗБУКА®
Психопатология
обыденной
жизни
Забывание собственных имен
В 1898 году я поместил в «Monatschrift für Psychiatrie und
Neurologie» небольшую статью «К вопросу о психическом
механизме забывчивости»; содержание этой статьи
послужит исходной точкой настоящего изложения. В ней я
подверг на примере, взятом из моей собственной жизни,
психологическому анализу чрезвычайно распространенное
явление временного забывания собственных имен и пришел к
тому выводу, что этот весьма обыкновенный и практически
не особенно важный вид расстройства одной из психических
функций — способности припоминания — допускает
объяснение, выходящее далеко за пределы обычных взглядов.
Психолог, которому будет поставлен вопрос, чем
объясняется эта столь часто наблюдаемая неспособность
припомнить знакомое, по существу, имя, офаничится скорее всего
простым указанием на то, что собственные имена вообще
способны легче ускользать из памяти, нежели всякий другой
элемент нашего психического содержания. Он приведет ряд
более или менее правдоподобных предположений,
обосновывающих это своеобразное преимущество собственных имен.
Но мысль о существовании иной причинной зависимости
будет ему чужда.
Для меня лично поводом для более внимательного
изучения данного феномена послужили некоторые частности,
встречавшиеся если и не всегда, то все же в некоторых
случаях обнаруживавшиеся с достаточной ясностью. Это было
именно в тех случаях, когда наряду с забыванием наблю-
7
Зигмунд ФРЕЙД
далось и неверное припоминание. Субъекту, силящемуся
вспомнить ускользнувшее из его памяти имя, приходят в
голову иные, подставные имена, и если эти имена и
опознаются сразу же как неверные, то они все же упорно
возвращаются вновь с величайшей навязчивостью. Весь
процесс, который должен вести к воспроизведению искомого
имени, потерпел как бы известный сдвиг и приводит к
своего рода подмене.
Наблюдая это явление, я исхожу из того, что сдвиг этот
отнюдь не является актом психического произвола, что он,
напротив, совершается в рамках закономерных и
поддающихся научному учету. Иными словами, я предполагаю, что
«подставное» имя или имена стоят в известной, способной
быть вскрытой, связи с искомым словом, и думаю, что если
бы эту связь удалось обнаружить, этим самым был бы
пролит свет и на самый феномен забывания имен.
В том примере, на котором я построил свой анализ в
указанной выше статье, забыто было имя художника,
написавшего известные фрески в соборе итальянского городка Ор-
вието. Вместо искомого имени — Синьорелли — мне упорно
приходили в голову два других — Боттичелли и Больтраф-
фио; эти два подставных имени я тотчас же отбросил как
неверные, и, когда мне было названо настоящее имя, я не
задумываясь признал его. Я попытался установить,
благодаря каким влияниям и путем каких ассоциаций
воспроизведение этого имени потерпело подобного рода сдвиг (вместо
Синьорелли — Боттичелли и Больтраффио), и пришел к
следующим результатам:
а) Причину того, почему имя Синьорелли ускользнуло
из моей памяти, не следует искать ни в особенностях этого
имени, самого по себе, ни в психологическом характере той
комбинации, в которой оно должно было фигурировать.
Само по себе имя это было мне известно не хуже, чем одно из
подставных имен (Боттичелли) и несравненно лучше,
нежели второе подставное имя — Больтраффио; об этом
последнем я не знал почти ничего, разве лишь, что этот художник
принадлежал к миланской школе. Что же касается
комбинации, в которой находилось данное имя, то она носила ничего
не значащий характер и не давала никаких нитей для выяс-
8
Психопатология обыденной жизни
нения вопроса: я ехал лошадьми с одним чужим для меня
господином из Рагузы (в Далмации) в Герцеговину; мы
заговорили о путешествиях по Италии, и я спросил моего
спутника, был ли он уже в Орвието и видел ли знаменитые
фрески... NN.
б) Объяснить исчезновение из моей памяти этого
имени мне удалось лишь после того, как я восстановил тему,
непосредственно предшествовавшую данному разговору.
И тогда весь феномен предстал передо мной как процесс
вторжения этой предшествовавшей темы в тему
дальнейшего разговора и нарушения этой последней.
Непосредственно перед тем как спросить моего спутника, был ли он
уже в Орвието, я беседовал с ним о нравах и обычаях турок,
живущих в Боснии и Герцеговине. Я рассказал, со слов
одного моего коллеги, практиковавшего в их среде, о том, с
каким глубоким доверием они относятся к врачу и с какой
покорностью преклоняются пред судьбой. Когда
сообщаешь им, что больной безнадежен, они отвечают: «Господин
(Herr), о чем тут говорить? Я знаю, если бы его можно
было спасти, ты бы спас его». — Здесь, в этом разговоре, мы
уже встречаем такие слова и имена — Босния, Герцеговина
(Herzegomna), Herr (господин), — которые поддаются
включению в ассоциативную цепь, связывающую между собою
имена Signorelli (signor — господин), Боттичелли и Больт-
раффио.
в) Я полагаю, что мысль о нравах боснийских турок
оказалась способной нарушить течение следующей мысли
благодаря тому, что я отвлек от нее свое внимание прежде, чем
додумал ее до конца. Дело в том, что я хотел было
рассказать моему собеседнику еще один случай, связанный в
моей памяти с первым. Боснийские турки ценят выше всего
на свете половое наслаждение и в случаях заболеваний,
делающих его невозможным, впадают в отчаяние, резко
контрастирующее с их фаталистическим равнодушием к
смерти. Один из пациентов моего коллеги сказал ему раз: «Ты
знаешь, господин (Herr), если лишиться этого, то жизнь
теряет всякую цену». Я воздержался от сообщения об этой
характерной черте, не желая касаться в разговоре с чужим
человеком несколько щекотливой темы. Но я сделал при
9
Зигмунд ФРКЙД
этом еще нечто большее: я отклонил свое внимание и от
дальнейшего развития тех мыслей, которые готовы были у
меня возникнуть в связи с темой «смерть и пол». Я
находился в то время под впечатлением известия, полученного
несколькими неделями раньше, во время моего пребывания
в Trafoi: один из моих пациентов, на лечение которого я
потратил много труда, покончил с собой вследствие
неисцелимой половой болезни. Я точно знаю, что во время моей
поездки в Герцеговину это печальное известие и все то, что
было с ним связано, не всплывало в моем сознании. Но
совпадение звуков Trafoi — Boltraffio заставляет меня
предположить, что в этот момент, несмотря на то что я
намеренно направил свое внимание в другую сторону, данное
воспоминание все же оказало свое действие.
г) После всего сказанного я уже не могу рассматривать
исчезновение из моей памяти имени Синьорелли как
простую случайность. Я должен признать здесь наличность
известного мотива. Имелись известные мотивы, побудившие
меня прервать рассказ о нравах турок; они же побудили
меня отгородить от моего сознания связанные с этим
рассказом мысли, ассоциировавшиеся в свою очередь с
известием, полученным мною в Trafoi. Я хотел таким образом
нечто позабыть и вытеснить это нечто из памяти. Конечно,
позабыть я хотел не имя художника из Орвието, а нечто
другое, но этому другому удалось ассоциативно связаться с
этим именем; так что мой волевой акт попал мимо цели,
и в то время, как намеренно я хотел забыть одну вещь, я
забыл — против своей воли — другую. Нежелание
вспомнить направлялось против одного; неспособность вспомнить
обнаружилась на другом. Конечно, проще было бы, если бы
и нежелание, и неспособность сказались на одном и том же
объекте. С этой точки зрения подставные имена
представляются мне уже не столь произвольными. Они создают
известного рода компромисс: напоминают и о том, что я хотел
вспомнить, и о том, что я позабыл; они показывают, таким
образом, что мое намерение позабыть нечто не увенчалось
ни полным успехом, ни полным неуспехом.
д) Весьма очевидна та связь, которая установилась
между искомым именем и вытесненной темой («смерть и пол»;
10
Психопатология обыденной жишш
к ней же относятся имена: Босния, Герцеговина и Trafoi).
Предлагаемая схема пояснит эту связь.
pcgrwovjt
Що<\щоь[1п^ U/ [jào)sn,uin,
%tvt\ u/ai t*t (U. bu, iaaetv...
(Тосп-оли** ОЛАМ Ущигн
1
(LuthnUf tu ncJU,
(iïUrr^CXtlCjÇâl, J^bltAAJL^)
Имя Signorelli разложилось при этом на две части.
Последние два слога (elli) воспроизведены в одном из
подставных имен без изменений (Botticelli), первые же два
подверглись переводу с итальянского языка на немецкий (signor-
Herr), вступили в этом виде в целый ряд сочетаний с тем
словом, которое фигурировало в вытесненной теме (Herr,
Herzegowina) и благодаря этому оказались также
вытесненными из моей памяти. Замена их произошла так, как будто
было сделано передвижение вдоль по словосочетанию
«Герцеговина и Босния», причем передвижение это совершилось
независимо от смысла этих слов и от звукового
разграничения отдельных слогов. Отдельные части фразы механически
И
Зигмунд ФРЕЙД
рассекались подобно тому, как это делается при построении
ребуса. Весь этот процесс, в результате которого имя Синьо-
релли заменилось двумя другими, протекал всецело вне
сознания. За вычетом совпадения одних и тех же слогов (или,
точнее, сочетаний букв) никакой иной связи, которая
объединяла бы обе темы — вытесненную и следующую, —
установить на первых порах не удается.
Быть может, нелишне будет заметить, что приведенное
выше объяснение не противоречит обычному у психологов
взгляду на акт воспроизведения и забывания, как
обусловленный известным соотношением и расположением
психических элементов. Мы лишь присоединили к этим обычным,
давно признанным, моментам для некоторых случаев еще
один момент — мотив; и кроме того, выяснили механизм
неправильного припоминания. Что же касается того
«расположения», о котором говорится обычно, то оно необходимо
и в нашем случае, ибо иначе вытесненный элемент вообще
не мог бы вступить в ассоциативную связь с искомым
именем и тем самым вовлечь его в круг вытесняемого. Быть
может, если бы дело шло о каком-либо другом имени,
более приспособленном для воспроизведения, это явление и
не имело бы места. Ибо вполне вероятно, что подавленный
элемент постоянно стремится каким-либо иным путем
пробиться наружу, но удается это ему лишь там, где имеются
соответствующие благоприятные условия. С другой
стороны, подавление может произойти и без функционального
расстройства или, как мы могли бы с полным правом
сказать, без симптомов.
Сводя воедино все те условия, при которых забываются
и неправильно воспроизводятся имена, мы получаем: 1)
известное расположение, благоприятное для забывания, 2)
незадолго перед тем происшедшее подавление и 3)
возможность установить внешнюю ассоциативную связь между
соответствующим именем и подавленным элементом. Впрочем,
этому последнему условию вряд ли приходится приписывать
особое значение, ибо требования, предъявляемые к
ассоциативной связи, столь невелики, что установить ее в
большинстве случаев вполне возможно. Другой вопрос — и вопрос
более глубокий — это действительно ли достаточно одной
12
Психопатология обыденной жизни
внешней ассоциации для того, чтобы вытесненный элемент
мог помешать воспроизведению искомого имени, и не
требуется ли иной, более интимной связи между обеими
темами. При поверхностном наблюдении это последнее
требование кажется излишним, и простая смежность во времени, не
предполагающая внутренней связи, представляется
достаточной. Однако при более внимательном изучении все чаще
оказывается, что связанные внешней ассоциацией элементы
обладают, кроме того, известной связью и по своему
содержанию, и в нашем примере с именем Синьорелли также можно
вскрыть подобную связь.
Ценность тех выводов, к которым мы пришли в
результате нашего анализа, зависит, конечно, от того, является ли
данный пример (Синьорелли) типическим или единичным.
Я со своей стороны утверждаю, что процесс забывания и
неправильного воспроизведения имен совершается сплошь
да рядом именно так, как в данном случае. Почти каждый
раз, как мне случалось наблюдать это явление на себе самом,
я имел возможность объяснить его именно указанным
образом: как акт, мотивированный вытеснением. Должен указать
и еще одно соображение, подтверждающее типический
характер нашего наблюдения. Я думаю, что нет основания
делать принципиальное различие между теми случаями
забывания, когда оно связано с неправильным воспроизведением
имен, и простым забыванием, не сопровождающимся
подставными именами. В ряде случаев эти подставные имена
всплывают самопроизвольно; в других случаях их можно
вызвать напряжением внимания, и тогда они
обнаруживают такую же связь с вытесненным элементом и искомым
именем, как и при самопроизвольном появлении. Решающее
значение в этом процессе «всплывания» имеют,
по-видимому, два момента: напряжение внимания, с одной стороны, а
с другой — некоторое внутреннее условие, относящееся уже
к свойствам самого психического материала: это, быть
может, та степень легкости, с какой создается между
обоими элементами необходимая внешняя ассоциация. Таким
образом, немалое количество случаев простого забывания без
подставных имен можно отнести к тому же разряду, для
которого типичен пример Синьорелли. Я не решусь утверж-
13
Зигмунд ФРЕЙД
дать, что к этому разряду могут быть отнесены все случаи
забывания имен. Но думаю, что буду достаточно осторожен,
если, резюмируя свои наблюдения, скажу: наряду с
обыкновенным забыванием собственных имен встречаются и случаи
забывания мотивированного, причем мотивом служит
вытеснение.
Забывание иностранных слов
Слова, обычно употребляемые в нашем родном языке,
по-видимому, защищены от забывания в пределах
нормально функционирующей памяти. Иначе обстоит дело, как
известно, со словами иностранными. Предрасположение к
забыванию их существует по отношению ко всем частям речи,
и первая ступень функционального расстройства
сказывается в той неравномерности, с какой мы располагаем запасом
иностранных слов в зависимости от нашего общего
состояния и от степени усталости. Забывание это происходит в
ряде случаев путем того же механизма, который был
раскрыт перед нами в примере «Синьорелли». Чтобы доказать
это, я приведу анализ всего только одного, но имеющего
ценные особенности случая, когда забыто было иностранное
слово (не существительное) из латинской цитаты. Позволю
себе изложить этот небольшой эпизод подробно и наглядно.
Прошлым летом я возобновил — опять-таки во время
вакационного путешествия — знакомство с одним молодым
человеком, университетски образованным, который, как я
вскоре заметил, читал некоторые мои психологические работы.
В разговоре мы коснулись — не помню уже почему —
социального положения той народности, к которой мы оба
принадлежали, и он, как человек честолюбивый, стал жаловаться
на то, что его поколение обречено, как он выразился, на за-
хирение, не может развивать своих талантов и удовлетворять
свои потребности. Он закончил свою страстную речь
известным стихом из Виргилия, в котором несчастная Дидона
завещает грядущим поколениям отмщение Энею: «Exoriare...»
и т. д. Вернее, он хотел так закончить; ибо восстановить ци-
14
Психопатология обыденной жизни
тату ему не удалось, и он попытался замаскировать явный
пропуск при помощи перестановки слов: exoriar(e) ex nostris
ossibus ultor! В конце концов он с досадой сказал мне:
«Пожалуйста, не стройте такого насмешливого лица, словно бы
вы наслаждаетесь моим смущением; лучше помогите мне.
В стихе чего-то не хватает. Как он, собственно, звучит в
полном виде?»
«Охотно,— ответил я и процитировал подлинный текст: —
„Exoriare(e) aliquis nostris ex ossibus ultorl"».
«Как глупо забыть такое слово! Впрочем, вы ведь
утверждаете, что ничто не забывается без основания. В высшей
степени интересно было бы знать, каким образом я умудрился
забыть это неопределенное местоимение aliquis».
Я охотно принял вызов, надеясь получить новый вклад
в свою коллекцию. «Сейчас мы это узнаем,— сказал я ему,—
я должен вас только просить сообщать мне откровенно и не
критикуя все, что вам придет в голову, лишь только вы без
какого-либо определенного намерения сосредоточите свое
внимание на позабытом слове»1.
«Хорошо. Мне приходит в голову курьезная мысль:
расчленить слово следующим образом: а и liquis».
«Зачем?» — «Не знаю».— «Что вам приходит дальше на
мысль?» — «Дальше идет так: реликвии, ликвидация,
жидкость, флюид. Дознались вы уже до чего-нибудь?»
«Нет, далеко еще нет. Но продолжайте».
«Я думаю, — продолжал он с ироническим смехом, — о
Симоне Триентском, реликвии которого я видел два года
тому назад в одной церкви в Триенте. Я думаю об
обвинении в употреблении христианской крови, выдвигаемом как
раз теперь против евреев, и о книге Kleinpaul'a, который во
всех этих якобы жертвах видит новые воплощения, так
сказать, новые издания Христа».
«Эта мысль не всегда чужда той теме, о которой мы с
вами беседовали, когда вы позабыли латинское слово».
«Верно. Я думаю, далее, о статье в итальянском журнале,
который я недавно читал. Помнится, она была озаглавлена:
1 Это обычный путь, чтобы довести до сознания скрытые от него элементы
представлений. Ср. мою «Traumdeutung»...
15
Зигмунд ФРЕЙД
„Что говорит святой Августин о женщинах?" Что вы с этим
сделаете?»
«Я жду».
«Ну теперь идет нечто такое, что уже наверное не имеет
никакого отношения к нашей теме».
«Пожалуйста, воздержитесь от критики и...»
«Знаю. Мне вспоминается чудесный старый господин, с
которым я встретился в пути на прошлой неделе.
Настоящий оригинал. Имеет вид большой хищной птицы. Его
зовут, если хотите знать, Бенедикт».
«Получаем, по крайней мере, сопоставление святых и
отцов церкви — святой Симон, святой Августин, святой
Бенедикт. Один из отцов церкви назывался, кажется, Ориген.
Три имени из перечисленных встречаются и в наше время,
равно как и имя Paul (Павел) из Kleinpauh.
«Теперь мне вспоминается святой Януарий и его чудо с
кровью — но мне кажется, что это идет дальше уже чисто
механически!»
«Оставьте, и святой Януарий, и святой Августин имеют
оба отношение к календарю. Не напомните ли вы мне, в чем
состояло чудо с кровью святого Януария?»
«Вы, наверное, знаете это. В одной церкви в Неаполе
хранится в склянке кровь святого Януария, которая в
определенный праздник чудесным образом становится вновь
жидкой. Народ чрезвычайно дорожит этим чудом и приходит в
сильное возбуждение, если оно почему-либо медлит
случиться, как это и было раз во время французской оккупации.
Тогда командующий генерал — или, может быть, это был
Гарибальди? — отвел в сторону священника и, весьма
выразительным жестом указывая на выстроенных вдоль
улицы солдат, сказал, что он надеется, что чудо вскоре
совершится...»
«Ну, дальше? Почему вы запнулись?»
«Теперь мне действительно пришло нечто в голову... Но
это слишком интимно для того, чтобы я мог рассказать...
К тому же я не вижу никакой связи и никакой надобности
рассказывать об этом».
«О связи уже я позабочусь. Я, конечно, не могу заставить
вас рассказывать мне неприятные для вас вещи; но тогда
16
Психопатология обыденной жизни
уже и вы не требуйте от меня, чтобы я вам объяснил, каким
образом вы забыли слово aliquis».
«В самом деле? Вы так думаете? Ну так я внезапно
подумал об одной даме, от которой я могу получить известие,
очень неприятное для нас обоих».
«О том, что у нее не наступило месячное нездоровье?»
«Как вы могли это отгадать?»
«Теперь это уже не трудно, вы меня достаточно
подготовили. Подумайте только о календарных святых, о переходе
крови в жидкое состояние в определенный день, о
возмущении, которое вспыхивает, если событие не происходит, и
недвусмысленной угрозе, что чудо должно совершиться, не то...
Вы сделали из чуда святого Януария прекрасный намек
на нездоровье вашей знакомой».
«Сам того не зная. И вы действительно думаете, что из-
за этого тревожного ожидания я был не в состоянии
воспроизвести словечко aliquis?»
«Мне представляется это совершенно несомненным.
Вспомните только ваше расчленение а — liquis и
дальнейшие ассоциации: реликвия, ликвидация, жидкость... Я мог
бы еще включить в комбинацию принесенного в жертву
ребенком святого Симона, о котором вы подумали в связи со
словом реликвия».
«Нет уж, не надо. Я надеюсь, что вы не примете всерьез
этих мыслей, если даже они и появились у меня
действительно. Зато я должен вам признаться, что дама, о которой
идет речь, — итальянка и что в ее обществе я посетил
Неаполь. Но разве все это не может быть чистой случайностью?»
«Можно ли это объяснить случайностью — я
предоставляю судить вам самим. Должен только вам сказать, что
всякий аналогичный случай, подвергнутый анализу, приведет
вас к столь же замечательным „случайностям"».
Целый ряд причин заставляет меня высоко ценить этот
маленький анализ, за который я должен быть благодарен
моему тогдашнему спутнику. Во-первых, я имел возможность в
данном случае пользоваться таким источником, к которому
обычно не имею доступа. По большей части мне приходится
добывать примеры нарушения психических функций в
обыденной жизни путем собственного самонаблюдения. Несрав-
17
Зигмунд ФРЕЙД
ненно более богатый материал, доставляемый мне
многими нервнобольными пациентами, я стараюсь оставлять в
стороне во избежание возражений, что данные феномены
происходят в результате и служат проявлениями невроза. Вот
почему для моих целей особенно ценны те случаи, когда
нервноздоровый чужой человек соглашается быть объектом
исследования. Приведенный анализ имеет для меня еще и
другое значение: он освещает случай забвения, не
сопровождающегося появлением подставных слов, и подтверждает
установленный мною выше тезис, что факт появления или
отсутствия подставных слов не может обусловливать
существенного различия1.
Но главная ценность примера aliquis заключается в
другой особенности, отличающей его от случая «Синьорелли».
В последнем примере воспроизведение имени было
нарушено воздействием некоего хода мыслей, начавшегося и обо-
1 Более тщательное наблюдение несколько суживает различие между
случаями Signorclli и aliquis, поскольку дело касается подставных воспоминаний.
По-видимому, и во втором примере забвение также сопровождалось некоторым
процессом замещения. Когда я впоследствии спросил своего собеседника, не
пришло ли ему на мысль, в то время как он силился вспомнить недостающее
слово, что-либо другое в замену его, он сообщил мне, что сперва испытывал
поползновение вставить в стих слово ab: nortris ab ossibus (быть может, это
оставшаяся свободной часть a-liquis), а затем, что ему особенно отчетливо и
настойчиво навязывалось слово exoriare. Оставаясь скептиком, он добавил: «Это
объясняется, очевидно, тем, что то было первое слово стиха». — Когда я
попросил его обратить внимание на слова, ассоциирующиеся у него с exoriare, он
назвал: экзорцизм. Легко себе представить, что усиление слова exoriare при
репродукции и было в сущности равносильно образованию подставного слова.
Оно могло исходить от имени святых через ассоциацию «экзорцизм». Впрочем,
это тонкости, которым нет надобности придавать значения. — Но весьма
возможно, что «венлыванис» того или иного подставного воспоминания служит
постоянным, а может быть, только характерным и предательским вытеснением.
Процесс образования подставных имен мог бы иметься налицо даже и в тех
случаях, когда «всплываиис» неверных имен и не совершается, и сказывался
бы тогда в усилении какого-либо элемента, смежного с позабытым. Так, в
примере Signorclli у меня все то время, что я не мог вспомнить его фамилии,
было необычайно яркое зрительное воспоминание о цикле фресок и о
помещенном в углу одной из картин портрете художника, — во всяком случае, оно
было у меня гораздо интенсивнее, чем у меня бывают обычно зрительные
воспоминания. В другом случае — также сообщенном в моей статье 1898
года—я безнадежно позабыл название одной улицы в чужом городе, на которую
мне предстояло пойти с неприятным визитом; но помер дома запомнился мне
с необычной яркостью, в то время как обыкновенно я запоминаю числа лишь
с величайшим трудом.
18
Психопатология обыденной жизни
рванного непосредственно перед тем, но по своему
содержанию не стоявшего ни в какой заметной связи с новой темой,
заключавшей в себе имя Синьорелли. Между вытесненным
элементом и темой забытого имени существовала лишь
смежность по времени; и ее было достаточно для того, чтобы
оба эти элемента связались один с другим путем внешней
ассоциации1. Напротив, в примере aliquis нет и следа
подобной независимой, вытесненной темы, которая занимала бы
непосредственно перед этим сознательное мышление и
затем продолжала бы оказывать свое действие в качестве
расстраивающего фактора. Расстройство репродукции исходит
здесь изнутри, из самой же темы в силу того, что против
выраженного в цитате пожелания бессознательно заявляется
протест. Процесс этот следует представить себе в
следующем виде. Говоривший выразил сожаление по поводу того,
что нынешнее поколение его народа ограничено в правах;
новое поколение — предсказывает он вслед за Дидоной —
отомстит притеснителям. Он высказывает таким образом
пожелание о потомстве. В этот момент сюда врезается
противоречащая этому мысль. «Действительно ли ты так горячо
желаешь себе потомства? Это неправда. В каком
затруднительном положении ты бы оказался, если бы получил теперь
известие, что ты должен ожидать потомства от известной
тебе женщины? Нет, не надо потомства, — как ни нужно оно
нам для отомщения». Этот протест производит свое
действие тем же путем, что и в примере «Синьорелли»:
образуется внешняя ассоциация между одним каким-либо из числа
заключающихся в нем представлений и каким-нибудь
элементом опротестованного пожелания; притом на сей раз
ассоциация устанавливается обходным путем, имеющим вид в
высшей степени искусственный. Второй существенный пункт
схождения с примером «Синьорелли» заключается в том,
что протест берет свое начало из вытесненных элементов и
исходит от мыслей, которые могли бы отвлечь внимание. —
1 Я не решился бы с полной уверенностью утверждать об отсутствии
всякой внутренней связи между обоими кругами мыслей в примере «Синьорелли».
При тщательном рассмотрении вытесненных мыслей на тему «смерть и
половая жизнь» все же наталкиваешься на идею, близко соприкасающуюся с темой
фресок в Орвисто.
19
Зигмунд ФРЕЙД
На этом мы покончим с различиями и внутренним
сходством обоих примеров забывания имен. Мы познакомились
еще с одним механизмом забывания — это: нарушение хода
мысли силой внутреннего протеста, исходящего от чего-то
вытесненного. С этим процессом, который представляется
нам более удобопонятным, мы еще неоднократно встретимся
в дальнейшем изложении.
Забывание имен и словосочетаний
В связи с тем, что мы сообщили выше о процессе
забывания отдельных частей той или иной комбинации
иностранных слов, может возникнуть вопрос, нуждается ли забывание
словосочетаний на родном языке в существенно ином
объяснении. Правда, мы обычно не удивляемся, когда
заученная наизусть формула или стихотворение спустя некоторое
время воспроизводится неточно, с изменениями и
пропусками. Но так как забывание это затрагивает неравномерно
заученные в общей связи вещи и опять-таки как бы
выламывает из них отдельные куски, то не мешает подвергнуть
анализу отдельные случаи подобного рода ошибочного
воспроизведения.
Один молодой коллега в разговоре со мной высказал
предположение, что забывание стихотворений, написанных
на родном языке, может быть, мотивируется так же, как и
забывание отдельных элементов иностранного словосочетания,
и предложил себя в качестве объекта исследования. Я
спросил его, на каком стихотворении он хотел бы произвести
опыт, и он выбрал «Коринфскую невесту», стихотворение,
которое он очень любит и из которого помнит наизусть по
меньшей мере целые строфы. С самого же начала у него
обнаружилась странная неуверенность. «Как оно начинается:
Von Korinthos nach Athen gezogen, — спросил он, — или Nach
Korinthos von Athen gezogen?»1 Я тоже на минуту
заколебался было, но затем заметил со смехом, что уже самое заглавие
«Придя из Коринфа в Афины» или «из Афин в Коринф».
20
[1сихопатология обыденной жизни
стихотворения «Коринфская невеста» не оставляет сомнения
в том, куда лежал путь юноши. Воспроизведение первой
строфы прошло затем гладко, или по крайней мере без
заметного искажения. После первой строки второй строфы мой
коллега на минуту запнулся; вслед за тем он продолжал так:
Aber wird er auch willkommen scheinen,
Jetzt wo jeder Tag was Neues bringt?
Denn er ist noch Heide mit den Seinen
Und sie sind Christen und — getauft1.
Мне уже раньше что-то резануло ухо; по окончании
последней строки мы оба были согласны, что здесь
произошло искажение. И так как нам не удавалось его исправить,
то мы отправились в библиотеку, взяли стихотворение Гёте
и, к нашему удивлению, нашли, что вторая строка этой
строфы имеет совершенно иное содержание, которое было как
бы выкинуто из памяти моего коллеги и заменено другим,
по-видимому совершенно посторонним. У Гёте стих гласит:
Aber wird er auch willkommen scheinen,
Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft2.
Слово verkauft рифмовало с getauft, и мне показалось
странным, что сочетание слов «язычник» и «христиане» и
«крещен» так мало помогло восстановлению текста.
— Можете вы себе объяснить, — спросил я коллегу, —
каким образом в этом столь хорошо знакомом вам,
по-вашему, стихотворении вы так решительно вытравили эту
строку? И нет ли у вас каких-либо догадок насчет той
комбинации, из которой возникла заместившая эту строку фраза?
Оказалось, что он может дать мне объяснения, хотя и
сделал он это с явной неохотой: «Строка: Jetzt wo jeder Tad
was Neues bringt представляется мне знакомой; по всей
вероятности, я употребил ее недавно, говоря о моей практике,
которая, как вам известно, все улучшается, чем я очень до-
1 Но будет ли он желанным гостем, / Теперь, когда каждый день приносит
что-либо новое? / Ибо он язычник со своими родными, / А они — христиане
и крещены.
2 Но будет ли он желанным гостем, / Если не купит милости дорогой
ценой?
21
Зигмунд ФРЕЙД
волен. Но каким образом попала эта фраза сюда? Мне
кажется, я могу найти связь. Строка: Wenner teuer nicht die
Gunst erkauft мне была явно неприятна. Она находится в
связи со сватовством, в котором я в первый раз потерпел
неудачу и которое теперь, ввиду улучшившегося материального
положения, я хочу возобновить. Большего я вам не могу
сказать, но ясно, что, если я теперь получу утвердительный
ответ, мне не может быть приятна мысль о том, что теперь, как
и тогда, решающую роль сыграл известный расчет».
Это было для меня достаточно ясно даже и без
ближайшего знакомства с обстоятельствами дела. Но я поставил
дальнейший вопрос: «Каким образом вообще случилось, что
вы связали ваши частные дела с текстом „Коринфской
невесты"? Быть может, в вашем случае тоже имеются
различия вероисповедального характера, как и в этом
стихотворении?»
Keimt ein Glaube neu,
Wird oft Lieb und Treu
Wie ein böses Unkraut ausgerauft1.
Я не угадал; но интересно было видеть, как удачно
поставленный вопрос сразу раскрыл глаза моему собеседнику
и дал ему возможность сообщить мне в ответ такую вещь,
которая до того времени, наверное, не приходила ему в
голову. Он бросил на меня взгляд, из которого видно было,
что его что-то мучит и что он недоволен, и пробормотал
продолжение стихотворения:
Sieh' sie au genau!2
Morgen ist sie grau.
И добавил лаконически: она несколько старше меня.
1 Где за веру спор, / Там, как ветром сор, / И любовь и дружба сметены
(пер. А. К. Толстого).
2 Впрочем, мой коллега несколько видоизменил это прекрасное место
стихотворения и по содержанию, и по смыслу, в котором оп употребил его. У Гёте
девушка-привидение говорит своему жениху: «Meine Locke hab'ich Dir
gegeben. / Deine Locke nehm'ich mit mir fort. / Sieh'sic an genau! / Morgen bist du
grau, / Und nur braun erscheinst Du wieder dort». (Мою цепь тебе дала я, /
Прядь твою беру с собой, / Взгляни на нее. / Завтра будешь ты сед, / Но лишь
темноволосым явишься ты вновь туда.)
22
Психопатология обыденной жшши
Чтобы не мучить его дольше, я прекратил расспросы.
Объяснение казалось мне достаточным. Но удивительно, что
попытка вскрыть основу безобидной ошибки памяти должна
была затронуть столь отдаленные, интимные и связанные
с мучительным эффектом обстоятельства.
Другой пример забвения части известного стихотворения
я заимствую у К. Г. Юнга1 и излагаю его словами автора:
«Один господин хочет продекламировать известное
стихотворение „На севере диком". На строке „и дремлет
качаясь..." он безнадежно запинается; слова „и снегом сыпучим
покрыта, как ризой, она" он совершенно позабыл. Это
забвение столь известного стиха показалось мне странным, и я
попросил его воспроизвести, что приходит ему в голову в связи
с „снегом сыпучим покрыта, как ризой" („mit weisser Decke").
Получился следующий ряд: „При словах о белой ризе я
думаю о саване, которым покрывают покойников (пауза) —
теперь мне вспоминается мой близкий друг — его брат
недавно скоропостижно умер — кажется, от удара — он был тоже
полного телосложения — мой друг тоже полного
телосложения, и я уже думал, что с ним может то же случиться, — он,
вероятно, делает слишком мало движений — когда я
услышал об этой смерти, я вдруг испугался, что и со мной может
случиться то же, потому что у нас в семействе и так
существует склонность к ожирению, и мой дедушка тоже умер от
удара; я считаю себя тоже слишком полным и потому начал
на этих днях курс лечения".
Этот господин, таким образом, сразу же отождествил
себя бессознательно с сосной, окутанной белым саваном», —
замечает Юнг.
С тех пор я проделал множество анализов подобных же
случаев забывания или неправильной репродукции, и
аналогичные результаты исследований склоняют меня к
допущению, что обнаруженный в примерах aliquis и
«Коринфская невеста» механизм распространяет свое действие почти
на все случаи забывания. Обыкновенно сообщение таких
анализов не особенно удобно, так как они затрагивают —
как мы видели выше — весьма интимные и тягостные для
1 Jung С. G. Über die Psychologie der Dementia praecox. 1907. S. 64.
23
Зигмунд ФРЕЙД
данного субъекта вещи, и я ограничусь поэтому
приведенными выше примерами. Общим для всех этих случаев, без
различия материала, остается то, что позабытое или
искаженное слово или словосочетание соединяется путем той
или иной ассоциации с известным бессознательным
представлением, от которого и исходит действие, выражающееся
в форме забвения.
Я возвращаюсь опять к забыванию имен, которого мы
еще не исчерпали ни со стороны его конкретных форм, ни
со стороны мотивировки. Так как я имел в свое время
случай наблюдать в изобилии на себе самом как раз этот вид
дефектной работы памяти, то примеров у меня имеется
достаточно. Легкие мигрени, которыми я поныне страдаю,
вызывают у меня, еще за несколько часов до своего
появления — и этим они предупреждают меня о себе, — забывание
имен; а в разгар мигрени я, не теряя способности работать,
сплошь да рядом забываю все собственные имена. Правда,
как раз такого рода случаи могут дать повод к
принципиальным возражениям против всех наших попыток в области
анализа. Ибо не следует ли из таких наблюдений тот вывод, что
причина забывчивости и специально забывания собственных
имен лежит в нарушении циркуляции и общем
функциональном расстройстве больших полушарий мозга и что
поэтому всякие попытки психологического объяснения этих
феноменов излишни? По моему мнению — ни в коем случае.
Ибо это значило бы смешивать единообразный для всех
случаев механизм процесса с благоприятствующими ему
условиями — переменными и не необходимыми. Не вдаваясь в
обстоятельный разбор, ограничусь для устранения этого
довода одной лишь аналогией.
Допустим, что я был настолько неосторожен, чтобы
совершить ночью прогулку по отдаленным пустынным улицам
большого города; на меня напали и отняли часы и кошелек.
В ближайшем полицейском участке я сообщаю о
случившемся в следующих выражениях: я был на такой-то улице,
и там одиночество и темнота отняли у меня часы и
кошелек. Хотя этими словами я и не выразил ничего такого, что
не соответствовало бы истине, все же весьма вероятно, что
меня приняли бы за человека, находящегося не в своем уме.
24
Психопатология обыденной жизни
Чтобы правильно изложить обстоятельства дела, я должен
был бы сказать, что, пользуясь уединенностью места и под
прикрытием темноты, неизвестные люди ограбили меня. Я и
полагаю, что при забывании имен положение дела то же
самое: благоприятствуемая усталостью, расстройством
циркуляции, интоксикацией, неизвестная психическая сила
понижает у меня способность располагать имеющимися в
моих воспоминаниях собственными именами, — та же самая
сила, которая в других случаях может совершить это же
обессиливание памяти при полном здоровье и свежести.
Анализируя наблюдаемые на себе самом случаи
забывания имен, я почти постоянно нахожу, что недостающее имя
имеет то или иное отношение к какой-либо теме, близко
касающейся меня лично и способной вызвать во мне
сильные, нередко мучительные аффекты. В согласии с весьма
целесообразной практикой цюрихской школы (Bleuler, Jung,
Riklin), я могу это выразить в такой форме: ускользнувшее
из моей памяти имя затронуло во мне «личный комплекс».
Отношение этого имени к моей личности бывает
неожиданным, часто устанавливается путем поверхностной
ассоциации (двусмысленное слово, звучание); его можно вообще
обозначить как стороннее отношение. Несколько простых
примеров лучше всего выяснят его природу:
а) Пациент просит меня рекомендовать ему
какой-нибудь курорт на Ривьере. Я знаю одно такое место в
ближайшем соседстве с Генуей, помню фамилию немецкого врача,
практикующего там, но самой местности назвать не могу,
хотя, казалось бы, знаю ее прекрасно. Приходится
попросить пациента обождать; спешу к моим домашним и
спрашиваю наших дам: «Как называется эта местность близ
Генуи, где лечебница доктора .N., в которой так долго лечилась
такая-то дама?» — «Разумеется, как раз ты должен был
забыть это название. Нерви». И в самом деле, с нервами мне
приходится иметь достаточно дела.
б) Другой пациент говорит о близлежащей дачной
местности и утверждает, что кроме двух известных ресторанов
там есть еще и третий, с которым у него связано известное
воспоминание; название он мне сейчас скажет. Я отрицаю
существование третьего ресторана и ссылаюсь на то, что семь
25
Зигмунд ФРЕЙД
летних сезонов подряд жил в этой местности и, стало быть,
знаю ее лучше, чем мой собеседник. Раздраженный
противоречием, он, однако, уже вспомнил название; ресторан
называется Hochwarner. Мне приходится уступить и признаться
к тому же, что все эти семь лет я жил в непосредственном
соседстве с этим самым рестораном, существование которого
я отрицал. Почему я забыл в данном случае и название, и
самый факт? Я думаю, потому что это название слишком
отчетливо напоминает мне фамилию одного венского
коллеги и затрагивает во мне опять-таки «профессиональный
комплекс».
в) Однажды на вокзале в Рейхенгалле я собираюсь взять
билет и не могу вспомнить, как называется прекрасно
известная мне ближайшая большая станция, через которую я
так часто проезжал. Приходится самым серьезным образом
искать ее в расписании поездов. Станция называется
Rosenheim. Тотчас же я соображаю, в силу какой ассоциации
название это у меня ускользнуло. Часом раньше я посетил
свою сестру, жившую близ Рейхенгалля; имя сестры Роза,
стало быть, это тоже был Rosenheim («жилище Розы»).
Название было у меня похищено «семейным комплексом».
г) Прямо-таки грабительское действие семейного
комплекса я могу проследить еще на целом ряде примеров.
Однажды пришел ко мне молодой человек, младший
брат одной моей пациентки; я видел его бесчисленное
множество раз и привык, говоря о нем, называть его по имени.
Когда я затем захотел рассказать о его посещении,
оказалось, что я позабыл его имя — вполне обыкновенное, это я
знал, — и не мог ни за что восстановить его в своей памяти.
Тогда я пошел на улицу читать вывески, и, как только его
имя встретилось мне, я с первого же раза узнал его. Анализ
показал мне, что я провел параллель между этим
посетителем и моим собственным братом, параллель, которая вела к
вытесненному вопросу: сделал ли бы мой брат в подобном
случае то же или же поступил бы как раз наоборот?
Внешняя связь между мыслями о чужой и моей семье
установилась благодаря той случайности, что и здесь и там имя
матери было одно и то же — Амалия. Я понял затем и
подставные имена, которые навязались мне, не выясняя дела:
26
Психопатология обыденной жизни
Даниил и Франц. Эти имена — так же как и имя Амалия —
встречаются в шиллеровских «Разбойниках», с которыми
связывается шутка венского фланера Daniel Spitzer'a.
д) В другой раз я не могу припомнить имени моего
пациента, с которым я знаком еще с юных лет. Анализ
пришлось вести длинным, обходным путем, прежде чем удалось
получить искомое имя. Пациент сказал раз, что боится
потерять зрение; это вызвало во мне воспоминание об одном
молодом человеке, который ослеп вследствие ранения
выстрелом; с этим соединилось в свою очередь представление
о другом молодом человеке, который стрелял в себя, —
фамилия его та же, что и первого пациента, хотя они не были
в родстве. Но нашел я искомое имя лишь тогда, когда
установил, что мои опасения были перенесены с этих двух
юношей на человека, принадлежащего к моему семейству.
Непрерывный ток «самоотношения» идет, таким образом,
через мое мышление, ток, о котором я обычно ничего не
знаю, но который дает о себе знать подобного рода
забыванием имен. Я словно принужден сравнивать все, что слышу
о других людях, с самим собой; словно при всяком известии
о других приходят в действие мои личные комплексы. Это
ни в коем случае не может быть моей индивидуальной
особенностью; в этом заключается, скорее, общее указание на то,
каким образом мы вообще понимаем «других». Я имею
основание полагать, что у других людей происходит совершенно
то же, что и у меня. Лучший пример в этой области сообщил
мне некий господин Ледерер из своих личных
переживаний. Во время своего свадебного путешествия он встретился
в Венеции с одним малознакомым господином и хотел его
представить своей жене. Фамилию его он позабыл, и на
первый раз пришлось ограничиться неразборчивым
бормотанием. Встретившись с этим господином вторично (в Венеции
это неизбежно), он отвел его в сторону и рассказал, что
забыл его фамилию, и попросил вывести его из неловкого
положения и назвать себя. Ответ собеседника свидетельствовал
о прекрасном знании людей: «Охотно верю, что вы не
запомнили моей фамилии. Я зовусь так же, как вы: Ледерер!» —
Нельзя отделаться от довольно неприятного ощущения,
когда встречаешь чужого человека, носящего твою фамилию.
27
Зигмунд ФРЕЙД
Я недавно почувствовал это с достаточной отчетливостью,
когда на прием ко мне явился некий S. Freud. Впрочем, один
из моих критиков уверяет, что он в подобных случаях
испытывает как раз обратное.
е) Действие «самоотношения» обнаруживается также
в следующем примере, сообщенном Юнгомх:
«Y. безнадежно влюбился в одну даму, вскоре затем
вышедшую замуж за X. Несмотря на то, что Y. издавна знает X.
и даже находится с ним в деловых сношениях, он все же
постоянно забывает его фамилию, так что не раз случалось,
что, когда надо было написать X. письмо, ему приходилось
справляться о его фамилии у других».
Впрочем, в этом случае забвение мотивируется
прозрачнее, нежели в предыдущих примерах «самоотношения».
Забывание представляется здесь прямым результатом
нерасположения г-на Y. к своему счастливому сопернику; он не
хочет о нем знать: «думать о нем не хочу».
ж) Иначе — и тоньше — мотивируется забвение имени
в другом примере, разъясненном самим же действующим
лицом.
«На экзамене по философии (которую я сдавал в
качестве одного из побочных предметов) экзаменатор задал мне
вопрос об учении Эпикура и затем спросил, не знаю ли я,
кто был возобновителем его учения в позднейшее время.
Я назвал Пьера Гассенди — имя, которое я слышал как раз
двумя днями раньше в кафе, где о нем говорили как об
ученике Эпикура. На вопрос удивленного экзаменатора,
откуда я это знаю, я смело ответил, что давно интересуюсь
Гассенди. Результатом этого была высшая отметка в
дипломе, но вместе с тем и упорная склонность забывать имя
Гассенди. Думаю, что это моя нечистая совесть виной тому,
что, несмотря на все усилия, я теперь ни за что не могу
удержать это имя в памяти. Я и тогда не должен был его
знать».
Чтобы получить правильное представление о той
интенсивности, с какой данное лицо отклоняет от себя
воспоминание об этом экзаменационном эпизоде, надо знать, как
Указ. соч.
28
Психопатология обыденной жизни
высоко оно ценит докторский диплом и сколь многое он
должен ему заменить собой.
Я мог бы еще умножать число примеров забывания имен
и пойти значительно дальше в их разборе, если бы мне не
пришлось для этого уже здесь изложить едва ли не все те
общие соображения, которые относятся к дальнейшим
темам; а этого я хотел бы избежать. Позволю себе все же в
нескольких положениях подвести итоги выводам,
вытекающим из сообщенных выше анализов.
Механизм забывания имен (точнее: ускользания,
временного забвения) состоит в расстройстве предположенного
воспроизведения имени посторонним и в данный момент
несознаваемым рядом мыслей.
Между именем, терпящим таким образом помеху, и
комплексом, создающим эту помеху, существует либо с самого
же начала известная связь, либо эта связь устанавливается
часто путем искусственных на вид комбинаций при помощи
поверхностных (внешних) ассоциаций.
Среди расстраивающих комплексов наибольшую силу
обнаруживают комплексы «самоотношения» (личные,
семейные, профессиональные).
Имя, которое, имея несколько значений, принадлежит в
силу этого к нескольким кругам мыслей (комплексам),
нередко, будучи в связи одного ряда мыслей, подвергается
расстройству в силу принадлежности к другому, более
сильному комплексу.
Среди мотивов подобного расстройства ясно видно
намерение избежать то неприятное, что вызывается данным
воспоминанием.
В общем, можно различить два основных вида
забывания имен: когда данное имя само затрагивает что-либо
неприятное, или же оно связывается с другим, могущим
оказать подобное действие; так что расстройство репродукции
какого-либо имени может обусловливаться либо самим же
этим именем, либо его ассоциациями — близкими и
отдаленными.
Из этих общих положений мы можем понять, что в ряде
случаев дефектного функционирования временное
забывание имен встречается чаще всего.
29
Зигмунд ФРЕЙД
Мы отметим, однако, далеко не все особенности этого
феномена. Хочу указать еще, что забывание имен в высокой
степени заразительно. В разговоре между двумя людьми
иной раз достаточно одному сказать, что он забыл то или
иное имя, чтобы его позабыл и второй собеседник. Однако
там, где имя позабыто под такого рода индуцирующим
влиянием, оно легко восстанавливается.
Наблюдаются также и случаи, когда из памяти
ускользает целая цепь имен. Чтобы найти забытое имя, хватаешься
за другое, находящееся в тесной связи с первым, и нередко
это второе имя, к которому обращаешься как к опорной
точке, ускользает тогда в свою очередь. Забвение
перескакивает таким образом с одного имени на другое, как бы для
того, чтобы доказать наличность труднопреодолимого
препятствия.
О воспоминаниях детства
и воспоминаниях, служащих прикрытием
В другой статье (опубликованной в Monatsschrift für
Psychiatrie und Neurologie за 1899 год) я имел возможность
проследить тенденциозность наших воспоминаний в
совершенно неожиданной сфере. Я исходил из того
поразительного факта, что в самых ранних воспоминаниях детства
обыкновенно сохраняются безразличные и второстепенные
вещи, в то время как важные, богатые аффектами
впечатления того времени не оставляют (не всегда, конечно, но очень
часто!) в памяти взрослых никакого следа. Так как известно,
что память производит известный выбор среди тех
впечатлений, которыми она располагает, то следовало бы
предположить, что этот выбор следует в детском возрасте
совершенно иным принципам, нежели в пору интеллектуальной
зрелости.
Однако тщательное исследование показывает, что такое
предположение является излишним. Безразличные
воспоминания детства обязаны своим существованием известному
сдвиганию, они замещают в репродукции другие, действи-
30
Психопатология обыденной жизни
тельно верные впечатления, воспоминания, которые можно
развить из них путем психического анализа, но которые не
могут быть воспроизведены непосредственно из-за
сопротивления, которое они встречают. Так как они обязаны своим
сохранением не своему собственному содержанию, а
ассоциативной связи этого содержания с другими вытесненными, —
то их можно с полным основанием назвать
«прикрывающими воспоминаниями».
В указанной статье я только наметил, но отнюдь не
исчерпал всего разнообразия отношений и значений этих
«воспоминаний-прикрытий». В одном подробно
проанализированном там примере я показал и подчеркнул обыкновенный
характер отношений во времени между прикрывающим
воспоминанием и прикрытым содержанием. Дело в том, что
содержание прикрывающего воспоминания относилось там
к самому раннему детству, в то время как те
интеллектуальные переживания, которые данное воспоминание заступало
в памяти и которые остались почти всецело
неосознанными, имело место в более позднее время. Я назвал этот вид
сдвигания возвратным, идущим назад. Быть может, еще
чаще наблюдается обратное отношение, когда в памяти
закрепляется в качестве прикрытия какое-либо безразличное
впечатление недавнего времени, причем этим отличием оно
обязано лишь своей связи с каким-либо прежним
переживанием, не могущим из-за противодействия быть
воспроизведенным непосредственно. Такие воспоминания-прикрытия
я назвал бы предваряющими, забегающими вперед. То
существенное, что тревожит память, лежит здесь по времени
позади прикрывающего воспоминания. Наконец, возможен —
и встречается на деле — и третий случай, когда
прикрывающее воспоминание связано с прикрытым им
впечатлением не только по своему содержанию, но и в силу смежности
во времени, — это будут воспоминания одновременные, или
примыкающие.
Как велика та часть нашего запаса воспоминаний,
которая относится к категории воспоминаний прикрывающих, и
какую роль они играют во всякого рода невротических
интеллектуальных процессах, — это проблемы, в рассмотрение
которых я не вдавался там, не буду вдаваться и здесь. Мне
31
Зигмунд ФРЕЙД
важно только подчеркнуть, что забывание собственных имен
с ошибочными припоминаниями и образование
воспоминаний-прикрытий — процессы однородные.
На первый взгляд различия между этими двумя
феноменами несравненно больше бросаются в глаза, нежели
сходство. Там дело идет о собственных именах, здесь — о
цельных впечатлениях, о чем-то пережитом в действительности
ли или мысленно; в первом случае — память явно
отказывается служить, здесь же — совершает кажущуюся странной
работу; там — минутное расстройство (ибо забытое нами
только что имя могло воспроизводиться нами до того сотни раз
правильно и завтра будет воспроизведено вновь), здесь —
длительное, беспрерывное обладание, ибо безразличные
воспоминания детства, по-видимому, способны сопутствовать
нам на протяжении долгого периода жизни. Загадки,
стоящие перед нами в обоих этих случаях, по-видимому,
совершенно различны. Там нашу научную любознательность
возбуждает забвение, здесь — сохранение в памяти. Более
глубокое исследование показывает, однако, что, несмотря на
различие психического материала и разницу в длительности
явления, точки схождения все же преобладают. И здесь, и
там дело идет о дефекте в ходе припоминания:
воспроизводится не то, что должно было быть воспроизведено, а нечто
иное, в замену его. В случае забывания имен тоже
имеется налицо известное действие памяти в форме подставных
имен. Феномен прикрывающих воспоминаний в свою
очередь тоже основывается на забывании других, существенных
впечатлений. В обоих случаях известное интеллектуальное
ощущение дает нам знать о вмешательстве некоего
препятствия; но только это происходит в иной форме. При
забывании имен мы знаем, что подставные имена неверны; при
покрывающих воспоминаниях мы удивляемся тому, что они
еще у нас вообще сохранились. И если затем
психологический анализ показывает, что в обоих случаях замещающие
образования сложились одинаковым образом — путем
сдвигания вдоль звеньев какой-либо поверхностной ассоциации,
то именно различия в материале, в длительности и в
центрировании обоих феноменов заставляют нас в еще большей
степени ожидать, что мы нашли нечто существенно важное
32
Психопатология обыденной жизни
и имеющее общее значение. Это общее положение гласило
бы, что приостановка и дефектный ход репродуцирующей
функции указывают нам гораздо чаще, нежели мы
предполагаем, на вмешательство пристрастного фактора, на
тенденцию, благоприятствующую одному воспоминанию и
стремящуюся поставить преграду другому.
Вопрос о воспоминаниях детства представляется мне
настолько важным и интересным, -что я хотел бы посвятить
ему несколько замечаний, которые поведут нас за пределы
сказанного выше.
Как далеко в глубь детства простираются наши
воспоминания? Мне известно несколько исследований по этому
вопросу, в том числе работы V. и С. Henri1 и Potwin'a2; из них
видно существование значительных индивидуальных
различий; некоторые из подвергавшихся наблюдениям относят
свои первые воспоминания к б-му месяцу жизни, в то время
как другие ничего не помнят из своей жизни до конца 6-го
и даже 8-го года. С чем же связаны эти различия в
воспоминаниях детства и какое значение они имеют? Очевидно,
что для решения этого вопроса мало добыть материал путем
коллекционирования справок; необходима обработка его, в
которой должно участвовать то лицо, от коего данные
сообщения исходят.
На мой взгляд, мы слишком равнодушно относимся к
фактам младенческой амнезии — утрате воспоминаний о
первых годах нашей жизни — и благодаря этому проходим
мимо своеобразной загадки. Мы забываем о том, какого
высокого уровня интеллектуального развития достигает ребенок
уже на четвертом году жизни, на какие сложные эмоции он
способен; мы должны были бы поразиться, как мало
сохраняется обычно из этих душевных событий в памяти в
позднейшие годы; тем более что мы имеем все основания
предполагать, что эти забытые переживания детства отнюдь не
проскользнули бесследно в развитии данного лица;
напротив, они оказали влияние, оставшееся решающим на все вре-
1 Enquête sur les premiers souvenirs de l'enfance. L'année psychologique III,
1897.
2 Study of early memories. Psycholog. Review. 1901.
2-3518
33
Зигмунд ФРЕЙД
мена. И вот, несмотря на это несравненное влияние, они
забываются! Это свидетельствует о совершенно
своеобразных условиях воспоминания (в смысле сознательной
репродукции), до сих пор ускользавших от нашего познания.
Весьма возможно, что именно забывание детских
переживаний и даст нам ключ к пониманию тех амнезий, которые,
как показывают новейшие данные, лежат в основе
образования всех невротических симптомов.
Среди сохранившихся воспоминаний детства некоторые
представляются нам вполне понятными, другие странными
или непонятными. Нетрудно исправить некоторые
ошибки по отношению к этим обоим видам. Стоит подвергнуть
уцелевшие воспоминания какого-либо лица
аналитическому испытанию — и нетрудно установить, что поручиться
за их правильность невозможно. Некоторые воспоминания
несомненно искажены, неполны либо передвинуты во
времени или в пространстве. Сообщения опрашиваемых лиц
о том, например, что их первые воспоминания относятся,
скажем, ко второму году жизни, явно недостоверны.
Скоро удастся найти те мотивы, которые объясняют нам
искажение и сдвигание пережитого и которые вместе с тем
доказывают, что причиной этих ошибок является не
простая погрешность памяти. Могучие силы позднейшей жизни
оказали свое воздействие на способность припоминать
переживания детства, вероятно, это те же силы, благодаря
которым мы вообще так чужды пониманию этих детских
лет.
Процесс воспоминания у взрослых оперирует, как
известно, различного рода психическим материалом. Одни
вспоминают в форме зрительных образов, их воспоминания носят
зрительный характер; другие способны воспроизвести в
памяти разве лишь самые скудные очертания пережитого; их
называют — по терминологии Шарко — auditifs и moteurs в
противоположность visuels. Во сне эти различия исчезают;
сны снятся нам всем по преимуществу в форме зрительных
образов. Но то же самое происходит и по отношению к
воспоминаниям детства; они носят пластический зрительный
характер даже у тех людей, чьи позднейшие воспоминания
лишены зрительного элемента. Зрительное воспоминание со-
34
Психопатология обыденной жизни
храняет, таким образом, тип воспоминания младенческого.
У меня лично единственные зрительные воспоминания —
это воспоминания самого раннего детства: прямо-таки
пластически выпуклые сцены, сравнимые лишь с театральными
представлениями. В этих сценах из детских лет, верны ли
они или искажены, обычно и сам фигурируешь со своим
детским обликом и одеждой. Это обстоятельство
представляется весьма странным; взрослые люди со зрительной
памятью не видят самих себя в воспоминаниях о позднейших
событиях1. Предположение, что ребенок, переживая
что-либо, сосредоточивает внимание на себе и не направляет его
исключительно на внешние впечатления, — шло бы вразрез
со всем тем, что мы знаем на этот счет.
Таким образом, самые различные соображения
заставляют нас предполагать, что так называемые ранние детские
воспоминания представляют собой не настоящий след
давнишних впечатлений, а его позднейшую обработку,
подвергшуюся воздействию различных психических сил более позднего
времени. «Детские воспоминания» индивидов
приобретают — как общее правило — значение «воспоминаний
покрывающих» и приобретают при этом замечательную аналогию
с воспоминаниями детства народов, закрепленными в
сказаниях и мифах.
Кто подвергал исследованию по методу психического
анализа целый ряд лиц, тот накапливает в результате этой
работы богатый запас примеров «покрывающих
воспоминаний» всякого рода. Однако сообщение этих примеров в
высшей степени затрудняется указанным выше характером
отношений, существующих между воспоминаниями детства и
позднейшей жизнью; чтобы уяснить значение того или
иного воспоминания детства в качестве покрывающего
воспоминания, нужно было бы нередко изобразить всю
позднейшую жизнь данного лица. Лишь редко бывает возможно, как
в следующем прекрасном примере, выделить из общей связи
одно отдельное воспоминание.
Молодой человек 24 лет сохранил следующий образ из
5-го года своей жизни. Он сидит в саду дачного дома на
Утверждаю это на основании некоторых сираиок, собранных мною.
35
Зигмунд ФРЕЙД
своем стульчике рядом с теткой, старающейся научить его
распознавать буквы.
Различие между t и пне дается ему, и он просит тетку
объяснить ему, чем отличаются эти две буквы одна от
другой. Тетка обращает его внимание на то, что у буквы t целой
частью больше, чем у п, — лишняя третья черточка. Не было
никакого основания сомневаться в достоверности этого
воспоминания; но свое значение оно приобрело лишь
впоследствии, когда обнаружилось, что оно способно взять на себя
символическое представительство иного рода
любознательности мальчика. Ибо подобно тому, как ему тогда
хотелось узнать разницу между буквами t и п, так впоследствии
он старался узнать разницу между мальчиком и девочкой
и, наверное, согласился бы, чтобы его учительницей была
именно эта тетка. И действительно, он нашел тогда, что
разница несколько аналогична, что у мальчика тоже одной
частью больше, чем у девочки, и к тому времени, когда он узнал
это, у него и пробудилось воспоминание о соответствующем
детском вопросе.
На одном только примере я хотел бы показать, какой
смысл может получить благодаря аналогичной обработке
детское воспоминание, до того не имевшее, казалось бы,
никакого смысла. Когда я на 43-м году жизни начал уделять
внимание остаткам воспоминаний моего детства, мне
вспомнилась сцена, которая давно уже (мне казалось — с самых
ранних лет) время от времени приходила мне на мысль и
которую надо было отнести, на основании вполне
достаточных признаков, к исходу третьего года моей жизни. Мне
виделось, как я стою, плача, и требую чего-то перед ящиком,
дверцу которого держал открытой мой старший (на 20 лет)
сводный брат; затем вдруг вошла в комнату моя мать,
красивая, стройная, как бы возвращаясь с улицы.
Этими словами я выразил виденную мною пластическую
сцену, о которой я больше ничего не мог бы сказать.
Собирался ли брат открыть или закрыть ящик (когда я
первый раз сформулировал это воспоминание, я употребил
слово «шкаф»), почему я при этом плакал, какое отношение
имел к этому приход матери, — все это было для меня
темно; я склонен был объяснить эту сцену тем, что старший
36
Психопатология обыденной жизни
брат чем-нибудь дразнил меня и это было прервано
приходом матери.
Такие недоразумения в сохранивщейся в памяти сцене
из детства нередки: помнишь ситуацию, но в ней нет
надлежащего центра; не знаешь, на какой из ее элементов должно
пасть психическое ударение. Аналитический разбор вскрыл
передо мной совершенно неожиданный смысл картины.
Я не находил матери, ощутил подозрение, что она заперта в
этом ящике или шкафу, и потому потребовал от брата,
чтобы он открыл его. Когда он это сделал и я убедился, что
матери в ящике нет, я начал кричать; это тот момент,
который закреплен в воспоминании и за которым последовало
успокоившее мою тревогу или тоску появление матери. Но
каким образом пришла ребенку мысль искать мать в ящике?
Снившиеся мне в то время сны смутно напоминали мне о
няньке, о которой у меня сохранились еще и другие
воспоминания, о том, например, как она неукоснительно
требовала, чтобы я отдавал ей мелкие деньги, которые я получал в
подарок, — деталь, которая в свою очередь может
претендовать на роль воспоминания, «прикрывающего» нечто
позднейшее. Я решил облегчить себе на этот раз задачу
истолкования и расспросил мою мать — теперь уже старуху — об
этой няньке. Я узнал многое, в том числе, что она, умная,
но нечестная особа, во время родов матери совершила у нас
в доме большие покражи и по настоянию моего брата была
предана суду. Это указание выяснило мне сразу, словно
каким-то озарением, смысл рассказанной выше сцены.
Внезапное исчезновение няньки не было для меня безразличным;
я обратился как раз к этому брату с вопросом о том, где она,
вероятно заметив, что в ее исчезновении он сыграл какую-то
роль; он ответил мне уклончиво, играя словами, как это он
любит делать и сейчас: «Ее заперли в ящик». Ответ этот я
понял по-детски, буквально, но прекратил расспросы,
потому что ничего больше добиться не мог. Когда немного
времени спустя я хватился матери и ее не было, я заподозрил
брата в том, что он сделал с ней то же, что и с нянькой, и
заставил его открыть мне ящик. Я понимаю теперь, почему
в передаче этого зрительного воспоминания детства
подчеркнута худоба матери: мне должен был броситься в глаза
37
Зигмунд ФРЕЙД
ее вид только что выздоровевшего человека. Я двумя с
половиной годами старше родившейся тогда сестры, а когда я
достиг трехлетнего возраста, прекратилась наша совместная
жизнь со сводным братом.
Обмолвки
Если обычный материал нашей разговорной речи на
родном языке представляется огражденным от забывания, то
тем более подвержен он другому расстройству, известному
под названием обмолвок. Явление это, наблюдаемое у
здорового человека, производит впечатление подготовительной
ступени для так называемой парафазии, наступающей уже
при патологических условиях.
В данном случае я имею возможность в виде исключения
пользоваться (и воздать должное) подготовительной
работой: в 1895 году Meiringer и С. Mayer опубликовали работу
под заглавием Versprechen und Verlesen («Обмолвки и
ошибки в чтении»); точка зрения, с которой они разбирают
вопрос, выходит за пределы моего рассмотрения. Ибо один из
авторов, от имени которого и ведется изложение, — языковед,
и взялся за исследование с точки зрения лингвиста, желая
найти правила, по которым совершаются обмолвки. Он
надеялся, что на основании этих правил можно будет
заключить о существовании «известного духовного механизма», «в
котором звуки одного слова, одного предложения и даже
отдельные слова связаны и сплетены между собой совершенно
особенным образом».
Автор группирует собранные им примеры «обмолвок»
сперва с точки зрения чисто описательной, разделяя их на:
случаи обмана (например: Milo von Venus вместо Venus von
Milo); предвосхищения, или антиципации (например: es war
mir auf der Schwest... auf der Brust so schwer); отзвуки, или
постпозиции (например: Ich fordere Sie auf, auf das Wohl
unseres Chefs aufzustossen вместо auzustossen);
контаминации (Er setzt sich auf den Hinterkopf, составленное из Er setzt
sich einen Kopf auf и Er stellt sich auf die Hinterbeine); под-
38
Психопатология обыденной жизни
становий (Ich gebe die Präparate in den Briefkasten вместо
Brütkasten); к этим главным категориям надо добавить еще
некоторые, менее существенные или менее важные для
наших целей. Для этой группировки безразлично,
подвергаются ли перестановке, искажению, слиянию и т.п. отдельные
звуки слова, слоги или целые слова задуманной фразы.
Для объяснения наблюдавшихся им обмолвок Мерингер
устанавливает различие психической интенсивности
произносимых звуков. Когда мы иннервируем первый звук слова,
первое слово фразы, тогда процесс возбуждения уже
обращается к следующим звукам и следующим словам, и, поскольку
эти иннервации совпадают по времени, они могут взаимно
влиять и видоизменять одна другую. Возбуждение более
интенсивного психически звука предваряет прочие или,
напротив, отзывается впоследствии и расстраивает таким образом
более слабый иннервационный процесс. Вопрос сводится
лишь к тому, чтобы установить, какие именно звуки
являются в том или ином слове наиболее интенсивными. Мерингер
говорит по этому поводу: «Для того чтобы установить, какой
из звуков, составляющих слово, обладает наибольшей
интенсивностью, достаточно наблюдать свои собственные
переживания при отыскании какого-либо забытого слова, скажем —
имени. То, что воскресает в памяти прежде всего, обладало
во всяком случае наибольшей интенсивностью до утраты».
«Высокой интенсивностью отличаются, таким образом,
начальный звук коренного слова, начальный звук слова и,
наконец, та или те гласные, на которых приходится ударение».
Я не могу здесь воздержаться от одного возражения.
Принадлежит ли начальный звук имени к наиболее
интенсивным элементам слова или нет, во всяком случае неверно,
что в случаях забывания слов он восстанавливается в
сознании первым; указанное выше правило, таким образом,
неприменимо. Когда наблюдаешь себя в поисках позабытого
имени, довольно часто случается выразить уверенность, что
это имя начинается с такой-то буквы. Уверенность эта
оказывается ошибочной столь же часто, как и основательной.
Я решился бы даже утверждать, что в большинстве случаев
буква указывается неправильно. В нашем примере с Синьо-
релли начальный звук и существенные слоги исчезли в под-
39
Зигмунд ФРЕЙД
ставных именах; и в имени Боттичелли воскресли в
сознании как раз менее существенные слоги «elИ». Как мало
считаются подставные имена с начальным звуком исчезнувшего
имени, может показать хотя бы следующий пример. Как-то
раз я тщетно старался вспомнить название той маленькой
страны, где столица — Монте-Карло. Подставные имена
гласили: Пьемонт, Албания, Монтевидео, Колико.
Албания была скоро заменена Черногорией (Montenegro),
и тогда мне бросилось в глаза, что слог монт (читается мон)
имеется во всех подставных именах, кроме одного лишь
последнего. Это облегчило мне задачу, отправляясь от имени
князя Альберта найти забытое Монако. Колико
приблизительно воспроизводит последовательность слогов и ритм
забытого слова.
Если допустить, что психический механизм, подобный
тому, какой мы показали в случаях забывания имен, играет
роль и в случаях обмолвок, то мы будем на пути к более
глубокому пониманию этого последнего явления.
Расстройство речи, обнаруживающееся в форме
обмолвки, может быть вызвано, во-первых, влиянием другой
составной части той же речи — предвосхищением того, что
следует впереди, или отзвуком сказанного, или другой
формулировкой в пределах той же фразы той же мысли, которую
собираешься высказать; сюда относятся все заимствованные
у Мерингера и Мейера примеры; но расстройство может
произойти и путем, аналогичным тому процессу, какой
наблюдается в примере «Синьорелли»: в силу влияний,
посторонних данному слову, предложению данной связи, влияний,
идущих от элементов, которые высказывать не предполагалось
и о возбуждении которых узнаешь только по вызванному
ими расстройству. Одновременность возбуждения — вот то
общее, что объединяет оба вида обмолвок, — нахождение
внутри или вне данного предложения или данной связи
составляет пункт расхождения. На первый взгляд различие
представляется не столь большим, каким оно оказывается
затем с точки зрения некоторых выводов из
симптоматологии данного явления. Но совершенно ясно, что лишь в
первом случае есть надежда на то, чтобы из феномена обмолвок
можно было сделать выводы о существовании механизма,
40
Психопатология обыденной жизни
связывающего отдельные звуки и слова так, что они взаимно
влияют на способ их произношения, т. е. выводы, на которые
рассчитывал при изучении обмолвок лингвист. В случаях
расстройства, вызванного влияниями, стоящими вне данной
фразы или связи речи, необходимо было бы прежде всего
найти расстраивающие элементы, а затем встал бы вопрос,
не может ли механизм этого расстройства также обнаружить
предполагаемые законы образования речи.
Нельзя сказать, чтобы Мерингер и Мейер не заметили
возможности расстройства речи силою «сложных
психических влияний», элементами, находящимися вне данного
слова, предложения или связи речи. Они не могли не заметить,
что теория психической неравноценности звуков, строго
говоря, может удовлетворительно объяснить лишь случаи
нарушения отдельных звуков, равно как «предвосхищения» и
«отзвуки». Там, где расстройство не ограничивается
отдельными звуками, а простирается на целые слова, как это
бывает при «подстановках» и «контаминациях» слов, там и
они, не колеблясь, искали причину обмолвок вне
задуманной связи речи и подтвердили это прекрасными примерами.
Приведу следующие места.
«Р. рассказывает о вещах, которые он в глубине души
считает свинством (Schweinerei). Он старается, однако, найти
мягкую форму выражения и начинает: Dann über sind Thet-
sachen zum Vorschwein gekommen1. Мы с Мейером были
при этом, и Р. подтвердил, что он думал Schweinerei
(свинство). То обстоятельство, что слово, о котором он подумал,
выдало себя и вдруг прорвалось при произнесении Vorschein,
достаточно объясняется сходством обоих слов».
«При „подстановках" так же, как и при контаминациях,
но только, вероятно, в гораздо большей степени играют
важную роль „летучие" или „блуждающие" словесные образы.
Если они и находятся за порогом сознания, то все же в
действенной близости к нему, могут с легкостью вызываться
каким-либо сходством комплекса, подлежащего высказыва-
1 Непереводимая игра слов вместо zum Vorschein gekommen, что
значит «обнаружились*, слог scheim заменен слогом schwein — свинья. — Примеч.
пер.
41
Зигмунд ФРЕЙД
нию, и тогда порождают „схождение с рельсов" или
врезаются в связь речи. „Летучие" или „блуждающие" словесные
образы часто являются, как уже сказано, запоздалыми
спутниками недавно протекших словесных процессов (отзвуки)».
«„Схождение с рельсов" возможно также и благодаря
сходству: когда другое, похожее слово лежит близко к порогу
сознания, но не предназначается к произнесению. Это бывает
при подстановках. — Я надеюсь, что при проверке мои
правила должны будут подтвердиться. Но для этого необходимо
(если наблюдение производится над другим человеком)
уяснить себе все, что только передумал говорящий*. Приведу
поучительный пример. Директор училища Л. сказал в нашем
обществе: Die Frau würde mir Furcht einlagen2. Я удивился,
так как 1 показалось мне здесь непонятным. Я позволил
себе обратить внимание говорившего на его ошибку: einlagen
вместо einjagen, на что он тотчас же ответил: „Да, это
произошло потому, что я думал: Ich wäre nicht in der Lage"»3
и т.д.
«Другой случай. Я спрашиваю Р. ф. Ш., в каком
положении его больная лошадь. Он отвечает: Ia, das draut... dauert
vielleicht noch einen Monat4. Откуда взялось draut с его г,
для меня было непонятно, ибо звук г из dauert не мог
оказать такого действия. Я обратил на это внимание Р. ф. LLL,
и он объяснил, что думал при этом: Es ist eine traurige
Geschichte5. Говоривший имел, таким образом, в виду два
ответа, и они смешались воедино».
Нельзя не заметить, как близко подходит к условиям
наших анализов и то обстоятельство, что принимаются в
расчет «блуждающие» словесные образы, лежащие за порогом
сознания и не предназначенные к произношению, и
предписание осведомляться обо всем том, что думал говорящий.
Мы тоже отыскиваем бессознательный материал и делаем
это тем же путем, с той лишь разницей, что путь, которым
1 Курсив мой.
2 Вместо: Die Frau wurde mir Furcht einjagcu («эта женщина внушила
бы мне страх»). — Примеч. пер.
3 «Я не был бы в состоянии».
4 «Да, это будет тянуться, быть может, еще месяц».
5 «Это печальная история».
42
Психопатология обыденной жизни
мы идем от того, что приходит в голову спрашиваемого,
к отысканию расстраивающего элемента, — более длинный
и ведет через комплексный ряд ассоциаций.
Остановлюсь еще на другом интересном обстоятельстве,
о котором свидетельствуют примеры, приведенные у Ме-
рингера. По мнению самого автора, сходство какого-либо
слова в задуманном предложении с другим, не
предполагавшимся к произнесению, дает этому последнему возможность
путем искажения, смещения, компромисса (контаминации)
дойти до сознания данного субъекта.
Lagen, Vorschein dauert,
jogen... schwein freurig.
В моей книге «О толковании сновидений»1 я показал,
какую роль играет процесс «сгущения» в образовании так
называемого явного содержания сна из его скрытых мыслей.
Какое-либо сходство, вещественное или словесное, между
двумя элементами бессознательного материала служит
поводом для создания третьего — смешанного или
компромиссного представления, которое в содержании сна представляет
оба слагаемых и которое в силу этого своего происхождения
и отличается так часто противоречивостью отдельных своих
черт.
Образование подстановок и контаминации при
обмолвках и есть таким образом начало той «сгустительной»
работы, которую мы находим в полном ходу при построении сна.
В небольшой статье, предназначенной для широкого
круга читателей (Neue Freie Presse, 23 августа 1900 года), Ме-
рингер устанавливает особое практическое значение за
некоторыми случаями обмолвок — теми именно, когда какое-
либо слово заменяется противоположным ему по смыслу.
«Вероятно, все помнят еще, как некоторое время тому
назад председатель австрийской палаты депутатов открыл
заседание словами: „Уважаемое собрание! Я констатирую
наличность стольких-то депутатов и объявляю заседание
закрытые" Общий смех обратил его внимание на ошибку, и
он исправил ее. В данном случае это можно скорее всего
1 Die Traumdeutung. Leipzig und Wien. 1900.
43
Зигмунд ФРЕЙД
объяснить тем, что председателю хотелось иметь уже
возможность действительно закрыть заседание, от которого
можно было ожидать мало хорошего; эта сторонняя мысль — что
бывает часто — прорвалась хотя бы частично, и в результате
получилось „закрытый" вместо „открытый" — прямая
противоположность тому, что предполагалось сказать. Впрочем,
многочисленные наблюдения показали мне, что
противоположные слова вообще очень часто подставляются одно
вместо другого; они вообще тесно сплетены друг с другом в
нашем сознании, лежат в непосредственном соседстве одно с
другим и легко произносятся по ошибке».
Не во всех случаях обмолвок по контрасту так легко
показать, как в примере с председателем, вероятность того, что
обмолвка произошла вследствие своего рода протеста,
который заявляется в глубине души против высказывавшегося
предложения. Аналогичный механизм мы нашли,
анализируя пример: aliquis; там внутреннее противодействие
выразилось в забвении слова — вместо замены его
противоположным. Для устранения этого различия заметим, однако,
что словечко aliquis не обладает таким антиподом, каким
являются по отношению друг к другу слова «закрывать» и
«открывать», и далее, что слово «открывать», как весьма
общеупотребительное, не может быть забыто.
Если последние примеры Мерингера и Мейера
показывают нам, что расстройство речи может происходить как под
влиянием звуков и слов той же фразы, предназначаемых к
произнесению, так и под воздействием слов, которые
находятся за пределами задуманной фразы и иным способом не
обнаружили бы себя, — то перед нами возникает прежде
всего вопрос, возможно ли резко разграничить оба эти вида
обмолвок и как отличить случаи одной категории от другой.
Здесь уместно вспомнить о словах Вундта, который в своей
только что вышедшей в свет работе о законах развития языка
(Völkerpsychologie. Т. I, часть I, стр. 34 и дальше; 1900 год)
рассматривает также и феномен обмолвок. Что, по мнению
Вундта, никогда не отсутствует в этих явлениях и других,
им родственных, это известные психические влияния.
«Сюда относится прежде всего, как положительное условие,
ничем не стесняемое течение звуковых и словесных ассоциаций,
44
Психопатология обыденной жизни
вызванных произнесенными звуками. В качестве
отрицательного момента к нему присоединяется отпадение или
ослабление воздействий воли, стесняющих это течение,
и внимания, также выступающего здесь в качестве волевой
функции. Проявляется ли эта игра ассоциаций в том, что
предвосхищается предстоящий еще звук, или же
репродуцируется произнесенный, или между другими какой-либо
посторонний, но привычный, или в том, наконец, что на
произносимые звуки оказывают свое действие совершенно иные
слова, находящиеся с ними в ассоциативной связи, — все это
означает лишь различия в направлении и, конечно, различия
в том, каким простором пользуются происходящие
ассоциации, но не в их общей природе. И во многих случаях трудно
решить, к какой форме причислить данное расстройство и
не следует ли с большим основанием, следуя принципу
сочетания причин\ поставить его на счет совпадения
нескольких мотивов».
Я считаю замечания Вундта вполне основательными и
чрезвычайно поучительными. Быть может, можно было бы
с большей решительностью, чем это делает Вундт,
подчеркнуть, что позитивно благоприятствующий момент в
словесных ошибках — беспрепятственное течение ассоциаций — и
негативный момент — ослабление стесняющего его
внимания — действуют всегда совместно, так что оба момента
оказываются лишь различными сторонами одного и того же
процесса. С ослаблением стеснительного внимания и
приходит в действие беспрепятственное течение ассоциаций, или,
выражаясь еще категоричнее: через это ослабление.
Среди примеров обмолвок, собранных мною, я почти не
нахожу таких, где расстройство речи сводилось бы
исключительно к тому, что Вундт называет «действием контакта
звуков». Почти в каждом случае я нахожу еще и
расстраивающее влияние чего-либо, находящегося вне пределов
задуманной речи, и это «что-то» есть либо отдельная, оставшаяся
неосознанной мысль, дающая о себе знать через посредство
обмолвки и нередко лишь при помощи тщательного анализа
могущая быть доведенной до сознания, или же это более
Курсив мой.
45
Зигмунд ФРЕЙД
общий психический мотив, направленный против всей
речи в целом.
Пример:
а) Я хочу процитировать моей дочери, которая, кусая
яблоко, состроила гримасу:
Der Affe gar possierlich ist,
Zumal wenn er vorm Apfel frisst1.
Но начинаю: der Apfe...
По-видимому, это можно рассматривать как
контаминацию, компромисс между словами Affe (обезьяна) и Apfel
(яблоко) или же как антиципацию последующего Apfel.
В действительности же положение дела таково. Я уже раз
начал эту цитату и при этом не обмолвился. Обмолвка
произошла лишь при повторении цитаты; повторить же
пришлось потому, что дочь моя, занятая другим, не слушала.
Это-то повторение и связанное с ним нетерпение, желание
отделаться от этой фразы и надо также засчитать в число
мотивов моей обмолвки, выступающей в форме процесса
«сгущения».
б) Моя дочь говорит: Ich schreibe der Frau Sc h re
singe г (я пишу г-же Шрезингер). Фамилия этой дамы на
самом деле Шлезингер. Эта ошибка, конечно, находится в
связи с тенденцией к облегчению произношения, так как после
нескольких звуков р трудно произнести л. Однако я должен
прибавить, что эта обмолвка случилась у моей дочери через
несколько минут после того, как я сказал Apfe вместо Affe.
Обмолвки же в высокой мере заразительны, так же как и
забывание имен, по отношению к которому эта особенность
отмечена у Мерингера и Мейера. Причину этой психической
прилипчивости я затрудняюсь указать.
в) Пациентка говорит мне в самом начале визита: Ich
klappe zusammen, wie ein Tassenmescher—
Taschenmesser2. Звуки перепутаны, и это может быть опять-таки
оправдано трудностью произношения. Но когда ей была
указана ошибка, она не задумываясь ответила: «Это потому,
Обезьяна очень сметная, / Особенно когда она ест яблоко.
«Я складываюсь, как перочинный ножик».
46
Психопатология обыденной жизни
что вы сегодня сказали Ernscht» (вместо ernst —
«серьезно»). Я действительно встретил ее фразой, в которой в
шутку исказил это слово. Во все время приема она постоянно
обмолвливается, и я замечаю, конечно, что она не только
имитирует меня, но имеет еще и особое основание
бессознательно останавливаться на имени «Эрнст»1.
г) Та же пациентка другой раз совершает такую
обмолвку: Ich bin so verschnupft, ich kann nicht durch die a s e n a t-
men2. Она тотчас же отдает себе отчет в том, откуда эта
ошибка. «Я каждый день сажусь в трамвай на Hasenaueг-
g a s s е, и сегодня утром, когда я ждала трамвай, мне пришло
в голову, что, если бы я была француженкой, я выговаривала
бы название улицы Asenauer, потому что французы
пропускают звук h в начале слова». Далее она сообщает целый
ряд воспоминаний о французах, с которыми она была
знакома, и в результате длинного обходного движения приходит
к воспоминанию о том, что 14-летней девочкой она играла в
пьесе Kurmärker und Picarde роль Пикарды и говорила тогда
на ломаном немецком языке. В тот дом, где она жила,
приехал теперь гость из Парижа, случайность, которая и вызвала
весь этот ряд воспоминаний. Перестановка звуков была,
таким образом, вызвана вмешательством бессознательной
мысли, совершенно не связанной с тем, о чем шла речь.
д) Аналогичен механизм обмолвки у другой пациентки,
которой вдруг изменяет память в то время, как она
рассказывает давно забытое воспоминание детства. Она не может
припомнить, за какое место схватила ее рука некоего
человека. Непосредственно вслед за этим она приходит в гости
к своей подруге и разговаривает с ней о дачных квартирах.
Ее спрашивают, где находится ее домик в М., и она отвечает:
Ander Berglende вместо Berglehne3.
1 Она находилась, как это выяснилось, под влиянием бессознательной
мысли о беременности и предупреждения родов. Словами о перочинном ноже,
которыми она сознательно выразила жалобу, она хотела описать положение
ребенка в утробе матери. Слово ernst в моем обращении напомнило ей
фамилию (S. Ernst) известной венской фирмы, анонсирующей продажу
предохранительных средств против беременности.
2 Вместо Nase atmen — -«у меня такой насморк, что я не могу дышать
носом*.
3 Lende — бедро; Berglehne — склон горы.
47
Зигмунд ФРЕЙД
е) Другая пациентка, которую я спрашиваю по
окончании приема, как здоровье ее дяди, отвечает: «Не знаю, я вижу
его теперь только in flagranti». На следующий день она
начинает: «Мне было очень стыдно, что я вам так глупо
ответила. Вы, конечно, должны были счесть меня совершенно
необразованным человеком, постоянно путающим
иностранные слова. Я хотела сказать en passant». Тогда мы еще не
знали, откуда она взяла неправильно употребленное
иностранное слово. Но в тот же день она сообщила, продолжая
разговор, о вчерашнем воспоминании, в котором главную
роль играла поимка с поличными — in flagranti. Ошибка
прошлого дня таким образом предвосхитила неосознанное еще
в то время воспоминание.
ж) Относительно другой пациентки мне пришлось в ходе
анализа высказать предположение, что в то время, о котором
у нас шел разговор, она стыдилась своей семьи и сделала
своему отцу упрек, нам еще неизвестный. Она ничего такого
не помнит и считает это вообще неправдоподобным. Разговор
о ее семье, однако, продолжается, и она делает такое
замечание: «Одно нужно за ним признать: это все-таки
необычные люди,— sie haben alle Geiz» («скупость» вместо Geist —
«дух», «ум»). И таков был действительно тот упрек, который
она вытеснила из своей памяти. Что при обмолвке
прорывается как раз та идея, которую хотелось бы подавить, —
явление общее (ср. случай Мерингера: Vorschwein). Разница лишь
в том, что у Мерингера говоривший субъект хотел подавить
нечто известное ему, в то время как моя пациентка не сознает
подавляемого или, выражаясь иначе, не знает, что она нечто
подавляет и что именно она подавляет.
з) «Если вы хотите купить ковры, идите к Кауфману
в Mathäusgasse. Я думаю, что смогу вас там
отрекомендовать», — говорит мне одна дама. Я повторяю: «Стало быть, у
Матеуса... Я хотел сказать, у Кауфмана». На первый взгляд
это простая рассеянность: я поставил одно имя на место
другого. Под влиянием того, что мне говорила дама, я
действительно проявил некоторую рассеянность, так как она
направила мое внимание на нечто другое, что было для меня
несравненно важнее, чем ковры. В Mathäusgasse находится дом,
в котором жила моя жена, когда она еще была моей невестой.
48
Психопатология обыденной жизни
Вход в дом был с другой улицы, и теперь я заметил, что
название этой последней я забыл; восстановить его
приходится окольным путем. Имя Матеуса, на котором я
остановился, послужило мне заместителем позабытого названия
улицы. Оно более пригодно для этого, чем имя Кауфмана,
так как употребляется только для обозначения лица в
противоположность слову «Кауфман» (Kaufmann — купец);
забытая же улица названа также по имени лица Радецкого.
и) Следующий случай я мог бы отнести к рубрике
ошибок, о которой будет речь ниже; привожу его, однако, здесь,
потому что звуковые соотношения, на основе которых
произошла замена слов, выступают в нем с особенной
наглядностью. Пациентка рассказывает мне свой сон. Ребенок
решился покончить с собою посредством укуса змеи; он
приводит это в исполнение, она видит, как он бьется в судорогах
и т.д. Предлагаю ей найти повод для этого сна в том, что
она пережила накануне. Она тотчас же вспоминает, что вчера
вечером слушала популярную лекцию об оказании первой
помощи при змеином укусе. Если укушены одновременно
ребенок и взрослый, то прежде всего надо оказать помощь
ребенку. Она вспоминает также, какие указания дал лектор
о мерах, которые надо принять. Многое зависит от того,
сказал он, какой породы укусившая змея. Я перебиваю ее и
спрашиваю: не говорил ли он о том, что в наших краях очень
мало ядовитых пород и каких именно следует опасаться?
«Да, он назвал гремучую змею (Klapperschlange)». Я
улыбаюсь, и она замечает, что сказала что-то не так. Однако она
не исправляет название, а берет все свое заявление обратно:
«Да, такой ведь у нас нет; он говорил о гадюке. Каким
образом пришла мне на ум гремучая змея?» Я подозревал, что
это произошло вследствие примешавшихся сюда мыслей,
скрытых за ее сном. Самоубийство посредством змеиного
укуса вряд ли может иметь другой смысл, как указание на
Клеопатру. Значительное звуковое сходство обоих слов
(Kleopatra и Klapperschlange), совпадение букв kl...p...r,
следующих в одном и том же порядке, и повторение той же
буквы «а» с падающим на нее ударением было совершенно
очевидно. Связь между именами Klapperschlange и Kleopatra
ограничивает на минуту способность суждения моей паци-
49
Зигмунд ФРЕЙД
ентки, и благодаря этому утверждение, будто лектор поучал
венскую публику, какие меры принимать при укусе гремучей
змеи, не показалось ей странным. Вообще же она знает столь
же хорошо, как и я, что гремучие змеи у нас не водятся. Если
она и перенесла, не задумываясь, гремучую змею в Египет,
то это вполне простительно, ибо мы привыкли сваливать все
неевропейское, экзотическое в одну кучу, и я сам тоже
должен был на минуту призадуматься, прежде чем установить,
что гремучая змея встречается только в Новом Свете.
Дальнейшие подтверждения мы встречаем при
продолжении анализа. Моя пациентка всего лишь накануне
осмотрела выставленную недалеко от ее квартиры скульптуру
Штрассера — «Антоний». Это был второй повод для ее
сновидения (первый — лекция о змеиных укусах). В
дальнейшем течении сна она укачивала ребенка, и по поводу этой
сцены ей вспоминалась Маргарита из «Фауста». Далее у нее
возникли воспоминания об «Арриасе и Мессалине». Это
обилие имен из драматических произведений заставляет
предполагать, что пациентка в прежние годы тайно мечтала об
артистической карьере. И начало сна, будто ребенок решил
покончить с собой посредством укуса змеи, поистине
должно означать: ребенком она собиралась стать знаменитой
артисткой. Наконец, от имени Мессалины ответвляется ход
мыслей, ведущий к основному содержанию сна. Некоторые
происшествия последнего времени породили в ней
беспокойство, что ее единственный брат вступит в не подходящий
для него брак с неарийкой, т.е. допустит mesalliance.
й) Хочу привести здесь совершенно невинный — или,
быть может, недостаточно выясненный в своих мотивах —
пример, обнаруживающий весьма прозрачный механизм.
Путешествующий по Италии немец нуждается в ремне,
чтобы обвязать попорченный чемодан. Из словаря он узнает,
что ремень по-итальянски со г regia. Это слово нетрудно
запомнить, думает он, стоит мне подумать о художнике Кор-
реджио. Он идет в лавку и просит: una ribera.
По-видимому, ему не удалось заменить в своей памяти
немецкое слово итальянским, но все же старания его не
были совершенно безуспешны. Он знал, что надо иметь в виду
имя художника, но вспомнилось ему не то имя, с которым
50
Психопатология обыденной жизни
связано искомое итальянское слово, а то, которое
приближается к немецкому слову Riemen (ремень). Этот пример
может быть, конечно, и отнесен в такой же мере к категории
забывания имен, как к обмолвкам.
Собирая материал об обмолвках для первого издания
этой книги, я придерживался правила подвергать анализу
все случаи, какие только приходилось наблюдать, даже и
менее выразительные. С тех пор занимательную работу
собирания и анализирования обмолвок взяли на себя
многие другие, и я могу теперь черпать из более богатого
материала.
к) Молодой человек говорит своей сестре: «С семейством
Д. я окончательно рассорился; я уже не раскланиваюсь с
ними». Она отвечает: Überhaupt eine saubere Lippschaft —
вместо Sippschaft («вообще чистенькая семейка»); в этой
ошибке выражены две вещи: во-первых, брат ее когда-то
начал флирт с одной девицей из этой семьи, во-вторых, про эту
девицу рассказывали, что в последнее время она завела
серьезную любовную связь.
л) Целый ряд примеров я заимствую у моего коллеги
д-ра В. Штекеля из статьи в Berliner Tageblatt от 4 января
1904 года под заглавием Unbewusste Geständnisse
(«Бессознательные признания»).
«Неприятную шутку, которую сыграли со мной мои
бессознательные мысли, раскрывает следующий пример. Должен
предупредить, что в качестве врача я никогда не руковожусь
соображениями заработка и — что разумеется само собой —
имею всегда в виду лишь интересы больного. Я пользую
больную, которая пережила тяжелую болезнь и ныне
выздоравливает. Мы провели ряд тяжелых дней и ночей. Я рад, что
ей лучше, рисую ей все прелести предстоящего пребывания в
Аббации и прибавляю: „Если вы, на что я надеюсь, не скоро
встанете с постели".
Причина этой обмолвки, очевидно, эгоистический
бессознательный мотив — желание дольше лечить эту больную,
желание, которое совершенно чуждо моему сознанию и
которое я отверг бы с негодованием».
м) Другой пример (д-р В. Штекель). «Моя жена
нанимает на послеобеденное время француженку и, столковавшись
51
Зигмунд ФРЕЙД
с ней об условиях, хочет сохранить у себя ее аттестации.
Француженка просит оставить их у нее и мотивирует это:
Je cherche encore pour les après-midi, pardon les avants-midi1.
Очевидно, у нее есть намерение посмотреть еще, не найдет
ли она место на лучших условиях, — намерение, которое она
действительно выполнила».
н) «Я читаю одной даме вслух Книгу Левит, и муж ее,
по просьбе которого я это делаю, стоит за дверью и слушает.
По окончании моей проповеди, которая произвела заметное
впечатление, я говорю: „До свидания, Monsieur".
Осведомленный человек мог бы узнать отсюда, что мои слова были
обращены к мужу и что говорил я ради него».
о) Д-р Штекель рассказывает о себе самом: одно время
он имел двух пациентов из Триеста, и, здороваясь с ними,
он постоянно путал их фамилии. «Здравствуйте, г-н Пело-
ни», — говорил он, обращаясь к Асколи, и наоборот. На
первых порах он не был склонен приписывать этой ошибке
более глубокую мотивировку и объяснял ее рядом общих
черт, имевшихся у обоих пациентов. Он легко убедился,
однако, что перепутывание имен объяснялось здесь своего
рода хвастовством, желанием показать каждому из этих двух
итальянцев, что не один лишь он приехал к нему из Триеста
за медицинской помощью.
п) Сам д-р Штекель говорит в бурном собрании: Wir
streiten (schreiten) nun zu Punkt 4 der Tagesordnung: «мы
спорим» (вместо «переходим») к 4-му пункту порядка дня.
р) Некий профессор говорит во вступительной лекции:
Ich bin nicht geneigt (geeignet), die Verdienste meines sehr
geschätzten Vorgängers zu schildern: «я не расположен
(вместо — не считаю себя способным) говорить о заслугах моего
уважаемого предшественника».
с) Д-р Штекель говорит даме, у которой предполагает
базедову болезнь: Sie sind um einen Kropf (köpf) grösser
als ihre Schwester. — «Вы зобом (вместо головой) выше
вашей сестры». При психотерапевтических приемах,
которыми я пользуюсь для разрешения и устранения
невротических симптомов, очень часто встает задача: проследить в слу-
1 «Я ищу еще место на послеобеденное, pardon, на дообеденное время».
52
Психопатология обыденной жизни
чайных на первый взгляд речах и словах пациента тот круг
мыслей, который стремится скрыть себя, но все же
нечаянно, самыми различными путями выдает себя. При этом
обмолвки служат зачастую весьма ценную службу, как я мог
бы показать на самых убедительных и вместе с тем
причудливых примерах. Пациентка говорит, например, о своей
тетке и неуклонно называет ее, не замечая своей обмолвки,
«моя мать» или своего мужа «мой брат». Этим она обращает
мое внимание на то, что она отождествила этих лиц,
поместила их в один ряд, означающий для ее эмоциональной
жизни повторение того же типа. Или: молодой человек 20 лет
представляется мне на приеме следующим образом: «Я отец
NN, которого вы лечили — pardon, я хотел сказать: брат; он
на четыре года старше меня». Я понимаю, что этой своей
обмолвкой он хочет сказать, что он так же, как и его брат,
заболел по вине отца, как и брат, нуждается в лечении, но
что нужнее всего лечение — отцу. Иной раз достаточно
непривычно звучащего словосочетания, некоторой
натянутости выражения, чтобы обнаружить участие вытесненной
мысли в иначе мотивированной речи пациента.
Как в грубых, так и в более тонких погрешностях
речи, которые еще можно отнести к ряду обмолвок,
фактором, обусловливающим возникновение ошибки и
достаточно объясняющим ее, я считаю не взаимодействие
приходящих в контакт звуков, а влияние мыслей, лежащих за
пределами задуманного. Сами по себе законы, в силу
которых звуки видоизменяют друг друга, не подвергаются мной
сомнению; мне только кажется, что их действия
недостаточно для того, чтобы нарушить правильное течение речи.
В тех случаях, которые я тщательно изучил и понял, они
представляют собою лишь предуготовленный механизм,
которым с удобством пользуется более отдаленный
психический мотив, не ограничивая себя, однако, пределами его
влияния. В целом ряде подстановок эти звуковые законы
не играют при обмолвках никакой роли. В этом мои
взгляды вполне совпадают с мнением Вундта, который также
предполагает, что условия, определяющие обмолвки,
сложны и выходят далеко за пределы простого взаимодействия
звуков.
53
Зиг.нунд ФРЕЙД
Считая прочно установленными эти, по выражению
Вундта, «отдаленные психические влияния», я, с другой
стороны, не вижу основания отрицать, что при ускорении речи
и некотором отклонении внимания условия обмолвок могут
легко свестись к тем пределам, которые установлены Ме-
рингером и Мейером. Но, конечно, в некоторой части
собранных этими авторами примеров более сложное
объяснение скорее соответствует истине.
Возьму хотя бы приведенный уже случай: Es war mir auf
der Schwest... Brust soschwer1.
Так ли просто обстоит здесь дело, что s с h w e вытесняет
здесь равно интенсивный слог Bru путем
«предвосхищения»? Вряд ли можно отрицать, что звуки schwe оказались
способны к этому «выступлению» еще и благодаря особой
связи. Такой связью могла быть только одна ассоциация:
Schwester — Bruder (брат), или разве еще: Brust der Schwester
(грудь сестры): ассоциация, ведущая к другим кругам
мыслей. Этот невидимый, находящийся за сценой пособник и
сообщает невинному schwe ту силу, успешное действие
которой и проявляется в обмолвке.
При иных обмолвках приходится допустить, что
собственно помехой является в них созвучие с неприличными словами
и вещами. Преднамеренное искажение и коверкание слов и
выражений, столь излюбленное дурно воспитанными людьми,
только и имеет в виду, пользуясь невинным предлогом,
напомнить о предосудительных вещах, и эта манера забавляться
встречается так часто, что неудивительно, если она
прокладывает себе дорогу бессознательно и против воли. К этой
категории можно отнести целый ряд примеров: Eischeissweibchen
вместо Ei weiss Scheibchen, Apopos вместо Apropos, Lokuska-
pitäl вместо Lotuskapitäl; быть может, также Alabüsterbachse
(Alabasterbüchse) святой Магдалины2. Ich fordere sie auf, auf
das Wohe unseres Chefs aufzustossen — вместо anzustossen
(«предлагаю вам отрыгнуть за здоровье нашего патрона» —
1 «Мою грудь (Brust) так давило». Schwester — сестра.
2 У одной из моих пациенток симптоматические обмолвки продолжались
до тех пор, пока их не удалось свести к детской шутке: замене runieren словом
urinieren (вместо разорять — испускать мочу).
54
Психопатология обыденной жизни
вместо «чокнуться») — вряд ли что-нибудь иное, как
ненамеренная пародия, возникшая как отзвук намеренной.
На месте того патрона, в честь которого был сказан этот
тост, я подумал бы о том, как умно поступали римляне,
позволяя солдатам триумфатора громко, в шуточных песнях
выражать свой внутренний протест против чествуемого. Ме-
рингер рассказывает, как он сам обратился раз к старшему
в обществе лицу, которое называли обыкновенно
фамильярным прозвищем: Senexl или alter Senexl со словами: Prost
Senex altesl! Он сам испугался этой ошибки. Быть может,
нам станет понятен его аффект, если мы вспомним, как
близко слово altesl к ругательству alter Esel («старый осел»).
Неуважение к старости (или, в применении к детскому
возрасту, — неуважение к отцу) влечет за собой суровую
внутреннюю кару.
Я надеюсь, что читатели не упустят из виду различия в
ценности этих ничем не доказуемых указаний и тех
примеров, которые я сам собрал и подверг анализу. Но если я все
же в глубине души продолжаю ожидать, что даже и простые
на вид случаи обмолвок можно будет свести к
расстраивающему воздействию полуподавленной идеи, лежащей вне
задуманной связи, то к этому побуждает меня одно весьма
ценное замечание Мерингера. Этот автор говорит: замечательно,
что никто не хочет признать, что он обмолвился.
Встречаются весьма разумные и честные люди, которые обижаются,
если сказать им, что они обмолвились. Я не решился бы
выразить это утверждение в такой общей форме, как Мерингер
(«никто...»). Но тот след аффекта, который остается при
обнаружении обмолвки и, очевидно, имеет характер чувства
стыда, не лишен значения. Его можно поставить на одну
доску с тем чувством досады, которое мы испытываем, когда нам
не удается вспомнить забытое имя, или с тем удивлением, с
каким мы встречаем сохранившееся у нас в памяти
несущественное на первый взгляд воспоминание; аффект этот
каждый раз свидетельствует о том, что в возникновении
расстройств ту или иную роль сыграл какой-либо мотив.
Когда искажение имен проделывается нарочно, оно
равносильно некоторого рода пренебрежению: то же значение
оно имеет, надо думать, и в целом ряде случаев, когда оно
55
Зигмунд ФРЕЙД
выступает в виде ненамеренной обмолвки. Лицо, которое, по
словам Мейера, сказало раз F г е u d e г вместо Freud в
силу того, что за этим следовало имя Breuer, а другой раз
заговорило о Freuer-Breud'oecKOM методе, наверно
принадлежало к числу коллег по профессии и, надо полагать,
было не особенно восхищено этим методом. Другой случай
искажения имен, наверное не поддающийся иному
объяснению, я приведу ниже в главе об описках1. В этих случаях
в качестве расстраивающего момента врезается критика,
которую говорящему приходится опустить, так как в данную
именно минуту она не отвечает его намерениям.
В других случаях — гораздо более значительных — к
обмолвке и даже к замене задуманного слова прямой его
противоположностью вынуждает самокритика, внутренний
протест против собственных слов. В таких случаях с удивлением
замечаешь, как измененный таким образом текст какого-либо
уверения парализует его силу и ошибка в речи вскрывает
неискренность сказанного2. Обмолвка становится здесь
мимическим орудием выражения — нередко, правда, таким
орудием, которым выражаешь то, чего не хотелось сказать,
которым выдаешь самого себя. Когда, например, человек,
который в своих отношениях к женщине не питает склонности
к так называемым нормальным отношениям, вмешивается в
разговор о девушке, известной своим кокетством, со словами:
Im Umgang mit mir würde sie sich das Koettieren schon
abgewöhnen (вместо Kokettieren — «со мной она бы уже
отвыкла от кокетства»), то несомненно, что только влиянию
слова koitieren (от coitus) и можно приписать такое
изменение задуманного kokettieren.
Случайно складывающиеся удачные комбинации слов
дают примеры обмолвок, играющих роль прямо-таки
убийственных разоблачений, а иной раз производящие полный
эффект хорошей остроты.
1 Можно заметить также, что как раз аристократы особенно часто путают
имена врачей, к которым они обращались; отсюда можно заключить, что,
несмотря на обычно проявляемую ими вежливость, они относятся к врачам
пренебрежительно.
2 При помощи такого рода обмолвки клеймит, например, Анцспгрубер в
своем G'wissenswurm, лицемера, домогающегося наследства.
56
Психопатология обыденной жизни
Таков, например, случай, наблюдавшийся и сообщенный
д-ром Reitler'oM. Одна дама говорит другой в восхищении:
Diesen neuen reizenden Hut haben Sie wohl sich selbst
aufgepatzt? («Вы, вероятно, сами напялили (вместо „убрали" —
aufgeputzt) эту прелестную новую шляпу?») Задуманную
похвалу пришлось прервать; ибо тайная критическая мысль
о том, что «украшение шляпы» (Hautaufputz) — просто
нашлепка (Patzerei), выразилась в досадной обмолвке
слишком ясно, чтобы приличествующее случаю выражение
восторга могло еще быть принято всерьез.
Или следующий случай, который наблюдал д-р Max Graf:
«В общем собрании общества журналистов Concordia
молодой член общества, постоянно нуждающийся в деньгах,
держит резко оппозиционную речь и в возбуждении говорит:
Die Herren Vorschussmitglieder (вместо: Vorstands —
или Ausschussmitglieder — „члены правления". Vorschuss —
аванс). Члены правления уполномочены выдавать ссуды,
и от молодого оратора уже поступило прошение о ссуде».
Курьезное впечатление производит обмолвка в том
случае, когда она подтверждает что-либо, что пациент
оспаривает и что было бы желательно установить врачу в его
психоаналитической работе. У одного из пациентов мне
случилось раз заняться истолкованием сна, в котором встречалось
имя launer. Пациент знал лицо, носящее такое имя, но
почему оно оказалось в связи данного сна — невозможно было
найти, и я решился на предположение, не было ли это
вызвано сходством данного имени с бранным словом Gauner
(мошенник). Пациент поспешно и энергично запротестовал,
но при этом опять обмолвился и этой обмолвкой только
подтвердил мое предположение, так как произвел вторично
ту же самую замену звуков. Его ответ гласил: Das.erscheint
mir doch zu je wagt (вместо gewagt: «мне кажется это
слишком рискованным»). Когда я обратил его внимание на
эту обмолвку, он согласился с моим толкованием.
Когда такого рода обмолвка, превращающая задуманное в
его прямую противоположность, случается в серьезном
споре, это тотчас же понижает шансы спорящего, и противник
редко упускает случай использовать улучшившуюся для него
ситуацию.
57
Зигмунд ФРЕЙД
Прекрасный пример обмолвки, имеющей целью не
столько выдать самого говорящего, сколько послужить
ориентировке стоящего вне сцены слушателя, мы находим в шилле-
ровском Валленштейне (Пикколомини, действие 1, явление 5);
она показывает нам, что поэт, употребивший это средство,
хорошо знал механизм и смысл обмолвок. Макс
Пикколомини в предыдущей сцене горячо выступает в защиту
герцога и восторженно говорит о благах мира, раскрывшихся
перед ним, когда он сопровождал дочь Валленштейна в лагерь.
Он оставляет своего отца и посланника двора Квестенбер-
га в полном недоумении. И затем 5-е явление
продолжается так:
Квестенберг. О горе нам! Вот до чего дошло!
Друг, неужели в этом заблуждении
Дадим ему уйти, не позовем
Сейчас назад и здесь же не откроем
Ему глаза?
Октавио. Мне он открыл глаза.
И то, что я увидел, — не отрадно.
Квестенберг. Что же это, друг?
Октавио. Будь проклята поездка.
Квестенберг. Как? Почему?
Октавио. Идемте! Должен я
Немедленно ход злополучный дела
Сам проследить, увидеть сам... Идем1
Квестенберг. Зачем? Куда? Да объясните...
Октавио. К ней!
Квестенберг. К ней?
Октавио. К герцогу! Идем1.
Эта маленькая обмолвка: «к ней» вместо «к нему» должна
показать нам, что отец прозрел настоящую причину того,
почему сын стал на сторону герцога, в то время как
придворный жалуется, что «он говорит с ним сплошь загадками».
Изложенный здесь взгляд на обмолвки выдерживает
испытание даже на мельчайших примерах. Я неоднократно
имел возможность показать, что самые незначительные и
самые естественные случаи обмолвок имеют свое основание
и допускают ту же разгадку, что и другие, более бьющие в
Рус. пер. А. К. Толстого.
58
Психопатология обыденной жизни
глаза примеры. Пациентка, которая вопреки моему
желанию, упорствуя в своем намерении, решается предпринять
кратковременную поездку в Будапешт, оправдывается предо
мной тем, что ведь она едет всего на три дня; но
оговаривается и говорит: всего на три недели. Отсюда ясно, что она
предпочла бы назло мне остаться вместо трех дней три
недели в обществе, которое я считаю для нее неподходящим.
Раз вечером я хочу оправдать себя в том, что не зашел за
женой в театр и говорю: я был в 10 минут 11-го (10 minuten
nach 10 Uhr) у театра. Меня поправляют: ты хочешь
сказать — без десяти десять (10 minuten vor 10 Uhr).
Разумеется, я хотел сказать: без десяти десять. Ибо 10 минут 11-го —
это уже не было бы оправданием. Мне сказали, что на
афише было обозначено: окончание на исходе 10-го часа. Когда
я подошел к театру, в вестибюле было уже темно, театр —
пуст. Спектакль, очевидно, окончился раньше, и жена не
ждала меня. Когда я посмотрел на часы, было без пяти
десять. Я решил, однако, изобразить дома дело в более
благоприятном виде и сказать, что было десять часов без десяти
минут. Обмолвка испортила все дело и вскрыла мою
неискренность: она заставила меня признать больше, чем это
даже требовалось.
Мы подходим здесь к тем видам расстройства речи,
которые уже нельзя отнести к обмолвкам, так как они
искажают не отдельное слово, а общий ритм и произношение;
таково бормотание и заикание от смущения. Но и здесь в
расстройстве речи скрывается внутренний конфликт. Я
положительно не верю, чтобы кто-нибудь мог обмолвиться на
аудиенции у государя, или при серьезном объяснении в
любви, или в защитительной речи перед судом присяжных,
когда дело идет о чести и добром имени, — словом, во всех
тех случаях, когда, по меткому немецкому выражению,
человек «всецело присутствует». Даже при оценке стиля
писателя мы имеем все основания — и привыкли к этому —
руководиться тем же принципом, без которого мы не можем
обойтись при выяснении отдельных погрешностей речи.
Ясная и недвусмысленная манера писать показывает нам, что
и мысль автора здесь ясна и уверенна, а там, где мы
встречаем вымученные, вычурные выражения, пытающиеся ска-
59
Зигмунд ФРЕЙД
зать несколько вещей сразу, мы можем заметить влияние
недостаточно продуманной, осложняющей мысли или же
заглушённый голос самокритики.
Очитки и описки
Что по отношению к ошибкам в чтении и письме имеют
силу те же точки зрения и те же указания, что и по
отношению к погрешностям речи, — не удивительно, если принять
в соображение близкое родство этих функций. Я ограничусь
здесь сообщением нескольких тщательно
проанализированных примеров и воздержусь от попытки охватить эти
явления в целом.
Очитки
а) Я перелистываю в кафе номер «Лейпцигской
иллюстрированной газеты», держа ее косо перед собой, и читаю
название картины, занимающей страницу: Eine Hochzeitsfeier i n
der Odyssee — свадебное празднество в Одиссее. Обращаю
на это внимание, в изумлении придвигаю к себе газету и
читаю на этот раз правильно: Свадебное празднество an der
Ostsee (на берегу Балтийского моря). Каким образом
приключилась со мною бессмысленная ошибка? Мои мысли
обращаются тотчас же к книге Ruths'a Experimentaluntersuchun-
gen über Musikphantome, сильно занимавшей меня в
последнее время, так как она близко затрагивает разрабатываемые
мною психологические проблемы. Автор обещает издать в
ближайшем будущем работу под названием «Анализ и
основные законы феноменов сна». Непосредственно перед этим я
опубликовал свое «Толкование сновидений», и
неудивительно поэтому, что я ожидаю этой книги с величайшим
нетерпением. В книге Ruths'a о музыкальных фантомах я нашел
вначале, в оглавлении, указание на имеющееся в тексте подробное
индуктивное доказательство того, что древнегреческие мифы
и сказания коренятся главным образом в дремотных и музы-
60
Психопатология обыденной жизни
кальных фантомах, в феноменах сна, а также горячки. Я
тотчас же обратился тогда к соответствующему месту в тексте,
чтобы узнать, знаком ли он с тем, как известная сцена, когда
Одиссей является Навсикае, сводится к обычному
«сновидению о наготе». Один из моих друзей обратил мое внимание
на прекрасное место в «Зеленом Генрихе» Г. Келлера, где он
объясняет этот эпизод «Одиссеи» как объективирование снов
блуждающего далеко от родины мореплавателя, и я со своей
стороны привел его в связь со сном «показывания наготы».
У Ruths'a я не нашел об этом ничего. Очевидно, в данном
случае меня озабочивала мысль о приоритете.
6) Каким образом случилось, что я прочел однажды в
газете: «В бочке (im F as s) по Европе» вместо «Пешком (zu
Fuss)»? Этот анализ долгое время затруднял меня. Правда,
прежде всего мне пришло в голову: вероятно, я имел в виду
Диогена, и недавно еще я читал в истории искусства что-то
об искусстве времен Александра.
Отсюда было уже недалеко и до известных слов
Александра: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть
Диогеном». Была у меня также и смутная мысль о неком
Германе Цайтунге, который отправился в путешествие,
упакованный в ящике. Но дальнейшей связи мне установить не
удавалось; не удавалось мне также найти и ту страницу в
истории искусства, где мне бросилось в глаза это замечание.
Лишь спустя несколько месяцев мне внезапно вспомнилась
опять эта загадка, уже было заброшенная, и на этот раз
вместе с ней мне пришла в голову и разгадка. Я вспомнил
замечание в какой-то газетной статье о том, какие странные
способы передвижения (Beförderung) изобретают люди, чтобы
попасть в Париж на всемирную выставку; там же, помнится,
в шутку сообщалось, что какой-то господин собирается
отправиться в Париж в бочке, которую катит другой господин.
Разумеется, единственным мотивом этих людей — писала
газета — было желание произвести своими глупостями
сенсацию. Человек, который первый подал пример такого
необычайного передвижения, назывался действительно Герман
Цайтунг. Затем мне вспомнилось, что я однажды лечил
пациента, обнаружившего болезненную боязнь газеты (Zeitung),
боязнь, которая, как это выяснилось при анализе, была реак-
61
Зигмунд ФРЕЙД
цией на болезненное честолюбие — желание увидеть свое имя
в печати и встретить в газете упоминание о себе, как о
знаменитости. Александр Македонский был, несомненно, один
из самых честолюбивых людей, какие только жили на свете.
Недаром он жаловался, что не может найти второго Гомера,
который воспел бы его деяния. Но как мне не пришло в
голову, что ближе ко мне другой Александр, что таково имя
моего младшего брата! Тогда я тотчас же нашел
предосудительную и требовавшую вытеснения мысль, имевшую
отношение к этому Александру, как и непосредственный повод к
ней. Мой брат — специалист в делах тарифных и
транспортных, и должен был к известному времени за свою
педагогическую деятельность в коммерческой высшей школе
получить звание профессора. К такому же повышению
(Beförderung) я был представлен в университете уже много лет
назад, но еще не получил его. Наша мать выразила тогда свое
недовольство по поводу того, что ее младшему сыну
предстояло раньше получить профессорское звание, чем
старшему. Такое было положение дел в то время, когда я не мог
найти разгадки для моей ошибки в чтении. После этого мой
брат также встретился с трудностями: его шансы на
профессуру упали еще ниже моих. И тогда мне сразу стал ясен
смысл этой очитки; слово понижение шансов моего брата
устранило какое-то препятствие. Мое поведение было таково,
как будто я читаю в газете о назначении моего брата и
говорю сам себе при этом: удивительно, что благодаря таким
глупостям (какими он занимается по профессии) можно
попасть в газету (т.е. получить профессорское звание)! Место
в книге о греческом искусстве эпохи Александра я нашел
тогда без труда и убедился, к моему изумлению, что во время
своих прежних поисков я неоднократно просматривал эту же
страницу и как бы под влиянием какой-то отрицательной
галлюцинации каждый раз пропускал это место. Впрочем,
оно не заключало ничего такого, из чего я мог бы понять,
что собственно должно было быть — позабыто. Я думаю, что
симптом ненахождения в книге был создан только для того,
чтобы сбить меня с пути. Нужно было, чтобы я искал
продолжения серии мыслей именно там, где мое исследование
натолкнулось на препятствие, стало быть — в какой-нибудь
62
Психопатология обыденной жизни
мысли об Александре Македонском, и чтобы мое внимание
таким образом было тем надежнее отвлечено от другого
Александра — моего брата. И это действительно удалось
вполне; я направил все свои усилия на то, чтобы вновь найти
утраченное место из истории искусств.
Двусмысленность слова Beförderung («передвижение» и
«повышение») создала в данном случае ассоциативный мост
между двумя комплексами — несущественным, который был
вызван чтением газетной заметки, и другим, более
интересным, но зато и предосудительным, который мог здесь оказать
свое действие в форме искажения прочитанного текста. Из
этого примера видно, что не всегда бывает легко выяснить
эпизоды вроде такой ошибки. Иной раз бывает необходимо
отложить разрешение загадки на более благоприятное время.
Но чем труднее оказывается разгадывание, тем с большей
уверенностью можно ожидать, что, будучи наконец вскрыта,
мешающая мысль будет воспринята нашим сознательным
мышлением как нечто чуждое и противоположное.
в) Однажды я получаю письмо из окрестностей Вены,
сообщающее мне потрясающую новость. Зову тотчас же мою
жену и делюсь с ней печальным известием о том, что бедная
г-жа Вильгельм М. так тяжело больна, что врачи считают ее
безнадежной. В тех словах, в которых я выразил свое
сожаление, что-то должно было звучать неправильно, потому что
жена моя смотрит на меня с недоверием, просит, чтобы я ей
дал прочесть письмо, и выражает свою уверенность, что
этого там не может быть, ибо никто не называет жены по имени
мужа; к тому же автору письма прекрасно известно имя
жены. Я упорно стою на своем и ссылаюсь на обычные
визитные карточки, на которых жена сама обозначает себя по
имени мужа. В конце концов приходится взять письмо, и
мы действительно читаем в нем: «бедный В. М.», более
того — чего я совсем не заметил: «бедный д-р В. М.». Моя
ошибка означала, таким образом, если можно так
выразиться, судорожную попытку перенести печальное известие с
мужа на жену. Находившееся между прилагательным и
собственным именем обозначение звания плохо вязалось с
требованием, чтобы дело касалось жены, и потому при чтении
было устранено. Мотивом этого искажения было, однако, не
63
Зигмунд ФРЕЙД
то, чтобы жена была мне менее симпатична, чем муж, а то,
что участь этого несчастного вызвала во мне беспокойство
о другом, близком мне человеке, чья болезнь была в
некотором отношении аналогична этой.
г) Досадна и смешна ошибка, которую я делаю очень
часто, когда случается на каникулах гулять по улицам
незнакомого города. На каждой вывеске, которая
сколько-нибудь подходит для этого, я читаю: «антикварная торговля».
В этом сказывается зуд коллекционера.
Описки
а) На листе бумаги, заключающем в себе краткие
ежедневные заметки, преимущественно делового характера, я, к
удивлению своему, нахожу среди правильных дат сентября
месяца ошибочное обозначение «четверг, 20 октября».
Нетрудно объяснить это предвосхищение — как выражение
пожелания. Несколькими днями раньше я вернулся из
каникулярного путешествия и ощущаю готовность к усиленной
врачебной деятельности; но число пациентов еще невелико.
Приехав, я нашел письмо от одной больной, которая пишет,
что будет у меня 20 октября. В тот момент, когда я
собирался поставить ту же дату сентября месяца, я мог подумать:
«Пускай бы X. была уже здесь; как жалко терять целый
месяц!» — и с этой мыслью передвинул вперед дату. Мысль,
вызвавшая расстройство, вряд ли могла бы в данном случае
показаться предосудительной, но зато и вскрыть причины
описки мне удалось тотчас же, как только я ее заметил.
Совершенно аналогичная и подобным же образом
мотивированная описка повторилась затем осенью год спустя.
б) Я получаю корректуру моей статьи для «Ежегодника
неврологии и патологии» и должен, естественно, с особенной
тщательностью просмотреть имена авторов, которые
принадлежат к различным нациям и представляют поэтому большие
трудности для наборщика. Некоторые иностранные имена
мне действительно приходится выправить, но одно имя
наборщик исправил сам — по сравнению с тем, как оно было
64
Психопатология обыденной жизни
в рукописи, — и исправил с полным основанием. Я написал
Букргард; наборщик угадал в этом Буркгард. Я сам похвалил,
как ценную, статью одного акушера о влиянии родов на
происхождение детского паралича; ничего не имею и против
автора; но у него в Вене есть однофамилец, рассердивший
меня своей непонятливой критикой «Толкования сновидений».
Было как раз так, словно я, списывая имя акушера Буркгар-
да, подумал что-то нехорошее о другом Буркгарде —
писателе, ибо искажение имен обозначает сплошь да рядом — как
я уже указывал в главе об обмолвках — пренебрежение1.
в) Более серьезный случай описки, который, пожалуй, с
тем же основанием можно было бы отнести к разряду
«ошибочных действий», таков. Я намерен взять из сберегательной
кассы сумму в 300 крон, которые я собираюсь послать
родственнику, уехавшему лечиться. Я замечаю при этом, что у
меня на счету имеется 4380 крон, и решаю свести эту сумму
к круглой цифре 4000 крон, с тем чтобы в ближайшем
времени их уже не трогать. Заполнив чек и написав
соответствующие цифры, я вдруг замечаю, что написал не 380 крон,
как предполагал, а как раз 438, и ужасаюсь ненадежности,
которую я проявил. Что испуг мой неоснователен, я понял
скоро; не стал же я беднее, чем раньше. Но мне пришлось
довольно долго раздумывать над тем, какое влияние
могло расстроить мое первоначальное намерение, не доходя до
моего сознания. На первых порах я попадаю на ложный
путь: вычитаю одно число из другого, но не знаю, что
сделать с разностью. В конце концов случайно пришедшая в
голову мысль обнаруживает предо мной настоящую связь.
438 составляет ведь десять процентов всего моего счета в
4380 крон! Десятипроцентную же уступку дает
книгопродавец). Я вспоминаю, что несколькими днями раньше я отобрал
ряд медицинских книг, утративших для меня интерес, и
предложил их книгопродавцу как раз за 300 крон. Он нашел,
что цена слишком высока, и обещал через несколько дней
1 Ср. след. место из «Юлия Цезаря», д. III, явл. 3: «Цишш. Поистине, мое
имя Цинна. Гражданин. Разорвите его на куски! Он заговорщик! Цинна. Я поэт
Цинна, я не Цинна-заговорщик. Гражданин. Все равно; его имя Цинна, вырвите
у него имя из сердца и отпустите его».
3-3518
65
Зигмунд ФРЕЙД
дать окончательный ответ. Если он примет мое предложение,
то этим как раз возместит ту сумму, которую я собираюсь
издержать на больного. Несомненно, что этих денег мне
жалко. Аффект, испытанный мной, когда я заметил ошибку,
может быть скорее объяснен как боязнь обеднеть из-за таких
расходов. Но и то и другое, и сожаление об этом расходе и
связанная с ним боязнь обеднеть, совершенно чужды моему
сознанию; я не чувствовал сожаления, когда обещал эту
сумму, и мотивировку этого сожаления нашел бы смешной. Я,
вероятно, и не поверил бы, что во мне может зашевелиться
такое чувство, если бы, благодаря практике психоанализов,
производимых над пациентами, я в значительной степени не
освоился с феноменом вытеснения в душевной жизни, и если
бы несколькими днями раньше не видел сна, который
требовал того же самого объяснения1.
г) Цитирую по д-ру W. StekePio следующий случай,
достоверность которого также могу удостоверить:
«Прямо невероятный случай ошибочного чтения и письма
произошел в редакции одного распространенного ежеденель-
ника. Редакция эта была публично названа „продажной"; надо
было дать отповедь и защититься. Статья была написана
очень горячо, с большим пафосом. Главный редактор прочел
статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз — в рукописи
и в гранках; все были очень довольны. Вдруг появляется
корректор и обращает внимание на маленькую ошибку, никем не
замеченную. Соответствующее место ясно гласило: „Наши
читатели засвидетельствуют, что мы всегда самым корыстным
образом (in eigennützigster Weise) отстаивали общественное
благо". Само собой понятно, что должно было быть написано:
„самым бескорыстным образом" (in uneigennützigster Weise)».
Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась через
патетическую фразу.
Вундт дает интересное объяснение тому факту (который
можно легко проверить), что мы скорее подвергаемся
опискам, чем обмолвкам.
1 Это тот сон, который я привел в виде примера в небольшой статье «О
сне», напечатанной в №8 Grenzfragen des Nerven und Seelenlebens, изд.
Löwenfeld и Kurclla, 1901 год.
66
Психопатология обыденной жизни
«В процессе нормальной речи задерживающая функция
воли постоянно направлена на то, чтобы привести в
соответствие течение представлений и движение органа речи. Но
когда сопутствующие представлениям, выражающие их акты
замедляются в силу механических причин, как это бывает
при письме... подобного рода антиципации наступают
особенно легко».
Наблюдение условий, в которых случаются ошибки в
чтении, дает повод к сомнению, которое я не хочу обойти
молчанием, так как оно, на мой взгляд, может послужить отправной
точкой для плодотворного исследования. Всякий знает, как
часто при чтении вслух внимание читающего оставляет текст
и обращается к собственным мыслям. В результате этого
отклонения внимания читающий нередко вообще не в состоянии
бывает сказать, что он прочел, если его прервут и спросят об
этом. Он читал как бы автоматически, но при этом почти
всегда верно. Я не думаю, чтобы при этих условиях число ошибок
заметно увеличивалось. Предполагаем же мы обычно
относительно целого ряда функций, что с наибольшей точностью они
выполняются тогда, когда это делается автоматически, т. е.
когда внимание работает почти бессознательно.
Отсюда, по-видимому, следует, что та роль, которую
играет внимание при обмолвках, описках, ошибках в чтении
определяется иначе, чем это делает Вундт (устранение или
ослабление внимания). Примеры, которые мы подвергли
анализу, не дали нам, собственно, права допустить
количественное ослабление внимания; мы нашли — что, быть может, не
совсем то же — расстройство внимания посторонней
мыслью, предъявляющей свои требования.
Забывание впечатлений и намерений
Если бы кто-нибудь был склонен преувеличивать то, что
нам известно теперь о душевной жизни, то достаточно было
бы указать на функцию памяти, чтобы заставить его быть
скромнее. Ни одна психологическая теория не была еще в
состоянии дать отчет об основном феномене воспоминания
67
Зигмунд ФРЕЙД
и забывания в его совокупности; более того,
последовательное расчленение того фактического материала, который
можно наблюдать, едва лишь начато. Быть может, теперь
забывание стало для нас более загадочным, чем припоминание, с
тех пор как изучение сна и патологических явлений
показало, что в памяти может внезапно всплывать и то, что мы
считали давно забытым.
Правда, мы установили уже несколько отправных точек,
для которых ожидаем всеобщего признания. Мы
предполагаем, что забывание есть самопроизвольный процесс,
который можно считать протекающим на протяжении известного
времени. Мы подчеркиваем, что при забывании происходит
известный отбор наличных впечатлений, равно как и
отдельных элементов каждого данного впечатления или
переживания. Нам известны некоторые условия сохранения в памяти
и пробуждения в ней того, что без этих условий было бы
забыто. Однако повседневная жизнь дает нам бесчисленное
множество поводов заметить, как неполно и
неудовлетворительно наше знание. Стоит прислушаться к тому, как двое
людей, совместно воспринимавших внешние впечатления,—
скажем, проделавших вместе путешествие, — обмениваются
спустя некоторое время своими воспоминаниями. То, что у
одного прочно сохранилось в памяти, другой сплошь да
рядом забывает, словно этого и не было; при этом мы не имеем
никакого основания предполагать, чтобы данное впечатление
было для первого психически более значительно, чем для
второго. Ясно, что целый ряд моментов, определяющих отбор
для памяти, ускользает от нас.
Желая прибавить хотя бы немногое к тому, что мы знаем
об условиях забывания, я имею обыкновение подвергать
психологическому анализу те случаи, когда мне самому
приходится что-либо забыть. Обычно я занимаюсь лишь
определенной категорией этих случаев — теми именно, которые
приводят меня в изумление, так как я ожидаю, что данная
вещь должна быть мне известна. Хочу еще заметить, что
вообще я не склонен к забывчивости (по отношению к тому,
что я пережил, не к тому, чему научился!) и что в
юношеском возрасте я в течение некоторого короткого времени был
способен даже на необыкновенные акты запоминания. В уче-
68
Психопатология обыденной жизни
нические годы для меня было совершенно естественным
делом повторить наизусть прочитанную страницу книги, и
незадолго до поступления в университет я был в состоянии
записывать научно-популярные лекции непосредственно
после их прослушивания почти дословно. В напряженном
состоянии, в котором я находился перед последними
медицинскими экзаменами, я, по-видимому, еще использовал остатки
этой способности, ибо по некоторым предметам я давал
экзаменаторам как бы автоматические ответы, точно
совпадающие с текстом учебника, который я, однако, просмотрел
всего лишь раз с величайшей поспешностью.
С тех пор способность пользоваться материалом,
накопленным памятью, у меня постоянно слабеет, но все же вплоть
до самого последнего времени мне приходилось убеждаться в
том, что с помощью искусственного приема я могу вспомнить
гораздо больше, чем мог бы ожидать. Если, например, пациент
у меня на консультации ссылается на то, что я уже раз его
видел, между тем как я не могу припомнить ни самого факта,
ни времени, я облегчаю себе задачу путем отгадывания:
вызываю в своем воображении какое-нибудь число лет, считая
с данного момента. В тех случаях, когда имеющиеся записи
или точные указания пациента делают возможным
проконтролировать пришедшее мне в голову число, обнаруживается,
что я редко когда ошибаюсь больше чем на полгода, при
сроках, превышающих 10 лет1. То же бывает, когда я встречаю
малознакомого человека, которого из вежливости спрашиваю
о его детях. Когда он рассказывает мне об успехах, которые
они делают, я стараюсь вообразить себе, каков теперь возраст
ребенка, проверяю затем эту цифру показаниями отца, и
оказывается, что я ошибаюсь самое большое на месяц, при более
взрослых детях — на 3 месяца; но при этом я решительно не
могу сказать, что послужило для меня основанием вообразить
именно такую цифру. Под конец я до того осмелел, что сам
первый высказываю теперь свою догадку о возрасте, не
рискуя при этом обидеть отца своей неосведомленностью насчет
его ребенка. Таким образом, я лишь расширяю свое созна-
1 Обыкновенно затем в холе разговора частности тогдашнего первого
визита всплывают уже сознательно.
69
Зигмунд ФРИИД
тельное воспоминание, апеллируя к бессознательной памяти,
во всяком случае более богатой.
Итак, я буду сообщать о бросающихся в глаза случаях
забывания, которые я наблюдал по большей части на себе
самом. Я различаю забывание впечатлений и переживаний,
т.е. забывание того, что знаешь, от забывания намерений,
т.е. упущение чего-то. Результат всего этого ряда
исследований один и тот же: во всех случаях в основе забывания
лежит мотив нежелания.
Забывание впечатлений и знаний
а) Летом моя жена подала мне безобидный по
существу повод к сильному неудовольствию. Мы сидели за table
d'hôte'oM vis-à-vis с одним господином из Вены, которого я
знал и который, по всей вероятности, помнил и меня. У меня
были основания не возобновлять знакомства. Жена моя,
однако расслышавшая лишь громкое имя своего vis-à-vis,
весьма скоро дала понять, что прислушивается к его разговору
с соседями, так как время от времени обращалась ко мне
с вопросами, в которых подхватывалась нить их разговора.
Мне не терпелось; наконец это меня рассердило. Несколько
недель спустя я пожаловался одной родственнице на
поведение жены; но при этом не мог вспомнить ни одного слова из
того, что говорил этот господин. Так как вообще я довольно
злопамятен и не могу забыть ни одной детали рассердившего
меня эпизода, то очевидно, что моя амнезия в данном случае
мотивировалась известным желанием считаться, щадить
жену. Недавно еще произошел со мной подобный же случай: я
хотел в разговоре с близким знакомым посмеяться над тем,
что моя жена сказала всего несколько часов тому назад;
оказалось, однако, что мое намерение невыполнимо по той
замечательной причине, что я бесследно забыл слова жены.
Пришлось попросить ее же напомнить мне о них. Легко
понять, что эту забывчивость надо рассматривать как
аналогичную тому расстройству суждения, которому мы подвержены,
когда дело идет о близких нам людях.
70
Психопатология обыденной жизни
6) Я взялся достать для приехавшей в Вену
иногородней дамы маленькую железную шкатулку для хранения
документов и денег. В тот момент, когда я предлагал свои
услуги, передо мной с необычайной зрительной яркостью
стояла картина одной витрины в центре города, в которой
я видел такого рода шкатулки. Правда, я не мог вспомнить
название улицы, но был уверен, что стоит мне пройтись по
городу, и я найду лавку, потому что моя память говорила
мне, что я проходил мимо нее бесчисленное множество раз.
Однако, к моей досаде, мне не удалось найти витрины со
шкатулками, несмотря на то что я исходил эту часть города
во всех направлениях. Не остается ничего другого, думал я,
как разыскать в справочной книге адреса фабрикантов
шкатулок, чтобы затем, обойдя город еще раз, найти искомый
магазин. Этого, однако, не потребовалось; среди адресов,
имевшихся в справочнике, я тотчас же опознал забытый
адрес магазина. Оказалось, что я действительно бесчисленное
множество раз проходил мимо его витрины, и это было
каждый раз, когда я шел в гости к семейству М., долгие годы
жившему в том же доме. С тех пор как это близкое
знакомство сменилось полным отчуждением, я обычно, не отдавая
себе отчета в мотивах, избегал и этой местности, и этого
дома. В тот раз, когда я обходил город, ища шкатулки, я
исходил в окрестностях все улицы и только этой одной
тщательно избегал, словно на ней лежал запрет. Мотив
нежелания, послуживший в данном случае виной моей
неориентированности, здесь вполне осязателен. Но механизм забвения
здесь не так прост, как в прошлом примере. Мое
нерасположение относится, очевидно, не к фабриканту шкатулок,
а к кому-то другому, о котором я не хочу ничего знать; от
этого другого оно переносится на данное поручение и здесь
порождает забвение. Точно таким же образом в случае с
Буркгардом досада на одного человека породила описку в
имени другого. Если там связь между двумя по существу
различными кругами мыслей создалась благодаря
совпадению имен, то здесь, в примере с витриной, ту же роль могла
сыграть смежность в пространстве, непосредственное
соседство. Впрочем, в данном случае имелась налицо еще и более
прочная, внутренняя связь, ибо в числе причин, вызвавших
71
Зигмунд ФРЕЙД
разлад с жившим в этом доме семейством, большую роль
играли деньги.
в) Контора Б. & Р. приглашает меня на дом к одному
из ее служащих. По дороге к нему меня занимает мысль о
том, что в доме, где помещается фирма, я уже неоднократно
был. Мне представляется, что вывеска этой фирмы в одном
из нижних этажей бросилась мне в глаза в то время, когда
я должен был подняться к больному на один из верхних
этажей. Однако я не могу вспомнить, ни что это за дом, ни
кого я там посещал. Хотя вся эта история совершенно
безразлична и не имеет никакого значения, я все же
продолжаю ею заниматься и в конце концов прихожу обычным
окольным путем с помощью собирания всего, что мне
приходит в голову, к тому, что этажом выше над помещением
фирмы Б. & Р. находится пансион Фишер, в котором мне
не раз приходилось навещать пациентов. Теперь я уже знаю
и дом, в котором помещается бюро, и пансион. Загадкой
для меня остается все же, какой мотив оказал здесь свое
действие на мою память. Не нахожу ничего, о чем было бы
неприятно вспомнить, ни в самой фирме, ни в пансионе
Фишер, ни в живших там пациентах. Я предполагаю, что
дело не идет о чем-нибудь очень неприятном; ибо в
противном случае мне вряд ли удалось бы вновь овладеть забытым
с помощью окольного пути, не прибегая, как в предыдущем
примере, к внешним вспомогательным средствам. Наконец
мне приходит в голову, что только что, когда я двинулся
в путь к моему новому пациенту, мне поклонился на улице
какой-то господин, которого я лишь с трудом узнал.
Несколько месяцев тому назад я видел этого человека в очень
тяжелом, на мой взгляд, состоянии и поставил ему диагноз
прогрессивного паралича; впоследствии я, однако, слышал,
что он оправился, так что мой диагноз оказался неверным.
(Если только здесь не было случая «ремиссии»,
встречающейся и при dementia paralitica, ибо тогда мой диагноз был
бы все-таки верен!) От этой встречи и исходило влияние,
заставившее меня забыть, в чьем соседстве находилась
контора Б. & Р., и тот интерес, с которым я взялся за
разгадку забытого, был перенесен сюда с этого случая спорной
диагностики. Ассоциативное же соединение было при сла-
72
Психопатология обыденной жизни
бой внутренней связи — выздоровевший вопреки
ожиданиям был также служащим в большой конторе, обычно
посылавшей мне больных, — установлено благодаря тождеству
имен. Врач, с которым я совместно осматривал спорного
паралитика, носил то же имя Фишер, что и забытый мною
пансион.
г) Заложить куда-нибудь вещь означает, в сущности, не
что иное, как забыть, куда она положена. Как большинство
людей, имеющих дело с рукописями и книгами, я хорошо
ориентируюсь в том, что находится на моем письменном
столе, и могу сразу же достать искомую вещь. То, что другим
представляется беспорядком, для меня исторически
сложившийся порядок. Почему же я недавно так запрятал
присланный мне каталог книг, что невозможно было его найти? Ведь
собирался же я заказать обозначенную в нем книгу «О
языке», написанную автором, которого я люблю за остроумный
и живой стиль и в котором ценю понимание психологии и
познания по истории культуры. Я думаю, что именно
поэтому я и запрятал каталог. Дело в том, что я имею обыкновение
одалживать книги этого автора моим знакомым и недавно
еще кто-то, возвращая книгу, сказал: «Стиль его напоминает
мне совершенно ваш стиль, и манера думать та же самая».
Говоривший не знал, что он во мне затронул этим своим
замечанием. Много лет назад, когда я еще был моложе и
более нуждался в поддержке, мне то же самое сказал один
старший коллега, которому я хвалил медицинские сочинения
одного известного автора. «Совершенно ваш стиль и ваша
манера». Под влиянием этого я написал автору письмо,
прося о более тесном общении, но получил от него холодный
ответ, которым мне было указано мое место. Быть может, за
этим последним отпугивающим уроком скрываются еще и
другие, более ранние, ибо запрятанного каталога я так и не
нашел; и это предзнаменование действительно удержало
меня от покупки книги, хотя действительного препятствия
исчезновения каталога и не представило. Я помнил и название
книги, и фамилию автора1.
1 Для многих случайностей, которые мы вслед за Th. Vischcr'oM
приписываем «коварству объекта», я предложил бы аналогичное объяснение.
73
Зигмунд ФРЕЙД
Другой случай заслуживает нашего внимания благодаря
тем условиям, при которых была найдена заложенная куда-
то вещь. Один молодой человек рассказывает мне:
несколько лет тому назад в моей семье происходили недоразумения,
я находил, что моя жена слишком холодна, и, хотя я охотно
признавал ее превосходные качества, мы все же относились
друг к другу без нежности. Однажды она принесла мне,
возвращаясь с прогулки, книгу, которую купила, так как, по ее
мнению, она должна была меня заинтересовать. Я
поблагодарил за этот знак «внимания», обещая прочесть книгу,
положил ее куда-то и не нашел уже больше. Так прошел целый
ряд месяцев, в течение которых я при случае вспоминал о
затерянной книге и тщетно старался ее найти. Около
полугода спустя заболела моя мать, которая живет отдельно от
нас и которую я очень люблю. Моя жена оставила наш дом,
чтобы ухаживать за свекровью. Положение больной стало
серьезным, и моя жена имела случай показать себя с лучшей
своей стороны. Однажды вечером я возвращаюсь домой в
восторге от поведения моей жены и полный благодарности
к ней. Подхожу к моему письменному столу, открываю без
определенного намерения, но с сомнамбулической
уверенностью определенный ящик и нахожу в нем сверху давно
исчезнувшую заложенную книгу.
Обозревая случаи закладывания вещей, трудно себе в
самом деле представить, чтобы оно когда-либо происходило
иначе, как под влиянием бессознательного намерения.
д) Летом 1901 года я сказал как-то моему другу, с
которым находился в тесном идейном общении по научным
вопросам: «Эти проблемы невроза могут быть разрешены лишь
тогда, если мы всецело станем на почву допущения
первоначальной бисексуальности индивида». В ответ я услышал:
«Я сказал тебе это уже два с половиной года тому назад в
Бр., помнишь, во время вечерней прогулки. Тогда ты об этом
и слышать ничего не хотел». Неприятно, когда тебе
предлагают признать свою неоригинальность. Я не мог припомнить
ни разговора, ни этого открытия моего друга. Очевидно, что
один из нас ошибся; по принципу cui prodest ошибиться
должен был я. И действительно, в течение ближайшей недели я
вспомнил, что все было так, как хотел напомнить мне мой
74
Психопатология обыденной жизни
друг; я знаю даже, что я ответил тогда: «До этого я еще не
дошел, не хочу входить в обсуждение этого». С тех пор,
однако, я стал несколько терпимее, когда приходится
где-нибудь в медицинской литературе сталкиваться с одной из тех
немногих идей, которые связаны с моим именем, причем это
последнее не упоминается.
Упреки жене; дружба, превратившаяся в свою
противоположность; ошибка во врачебной диагностике; отпор со
стороны людей, идущих к той же цели; заимствование идей — вряд
ли может быть случайностью, что ряд примеров забывания,
собранных без выбора, требуют для своего разрешения
углубления в столь тягостные темы. Напротив, я полагаю, что
любой другой, кто только пожелает исследовать мотивы своих
собственных случаев забывания, сможет составить подобную
же таблицу неприятных вещей. Склонность к забыванию
неприятного имеет, как мне кажется, всеобщий характер, если
способность к этому и неодинаково развита у всех. Не раз
отрицание того или другого, встречающееся в медицинской
практике, можно было бы, по всей вероятности, свести к
забыванию1.
Наш взгляд на подобного рода забывание сводит различие
между ним и отрицанием к чисто психологическим
отношениям и позволяет нам в обеих формах реагирования видеть
проявление одного и того же мотива. Из всех тех
многочисленных примеров отрицания неприятных воспоминаний,
какие мне приходилось наблюдать у родственников больных, у
меня сохранился в памяти один особенно странный. Мать
рассказывала мне о детстве своего сына, нервнобольного,
находящегося в возрасте половой зрелости, и сообщила при
этом, что и он, и другие ее дети вплоть до старшего возраста
страдали по ночам недержанием мочи, обстоятельство, не
лишенное значения в истории нервной болезни. Несколько не-
1 Когда спрашиваешь у человека, не подвергся ли он лет 10 или 15 назад
сифилитическому заболеванию, легко забываешь при этом, что опрашиваемое
лицо относится к этой болезни психически совершенно иначе, чем, скажем,
острому ревматизму. В анамнезах, которые сообщают родители о своих
нервнобольных дочерях, вряд ли можно с уверенностью различить, что позабыто и
что скрывается, ибо все то, что может впослелствии помеишть замужеству
дочери, родители систематически устраняют, т.е. вытесняют.
75
Зигмунд ФРЕЙД
дель спустя, когда она осведомилась о ходе лечения, я имел
случай обратить ее внимание на признаки
конституционного предрасположения молодого человека к болезни и
сослался при этом на установленное анамнезом недержание мочи.
К моему удивлению, она стала отрицать этот факт, как по
отношению к нему, так и к остальным детям, спросила меня,
откуда мне это может быть известно, и узнала наконец от
меня, что она сама мне об этом недавно рассказала и теперь
позабыла об этом1.
Таким образом, даже и у здоровых, не подверженных
неврозу людей можно в изобилии найти указания на то, что
воспоминания о тягостных впечатлениях и представления о
тягостных мыслях наталкиваются на какое-то препятствие.
Но оценить все значение этого факта можно, лишь
рассматривая психологию невротиков. Подобного рода стихийное
стремление к отпору представлениям, могущим вызвать
ощущение неудовольствия, стремление, с которым можно
сравнить лишь рефлекс бегства при болезненных
раздражениях, приходится отнести к числу главных столпов того
механизма, который является носителем истерических
симптомов. Неправильно было бы возражение насчет того, что, на-
1 В то время, когда я работал над этими страницами, со мной произошел
следующий почти невероятный случай забвения. Я просматриваю 1 января
свою врачебную книгу, чтобы выписать гонорарные счета, встречаюсь при этом
в рубрике июня месяца с именем М-ль и не могу вспомнить соответствующего
лица. Мое удивление возрастает, когда я, перелистывая дальше, замечаю, что
я лечил этого больного в санатории и что в течение ряда недель я посещал его
ежедневно. Больного, с которым бываешь занят при таких условиях, врач не
забывает через каких-нибудь полгода. Я спрашиваю себя: кто бы это мог
быть — мужчина, паралитик, неинтересный случай? Наконец, при отметке о
полученном гонораре мне опять приходит на мысль все то, что стремилось
исчезнуть из памяти. М-ль была 14-летняя девочка, самый замечательный
случай в моей практике за последние годы; он послужил мне уроком, который я
вряд ли забуду, и исход его заставил меня пережить не один мучительный час.
Девочка заболела несомненной истерией, которая под влиянием моего лечения
обнаружила быстрое и основательное улучшение. После этого улучшения
родители взяли от меня девочку; она еще жаловалась на боли в животе, которым
принадлежала главная роль в общей картине истерических симптомов. Два
месяца спустя она умерла от саркомы брюшных желез. Истерия, к которой
девочка была, кроме того, предрасположена, воспользовалась образованием
опухоли как провоцирующей причиной, и я, будучи ослеплен шумными, но
безобидными явлениями истерии, быть может, не заметил первых признаков
подкрадывающейся фатальной болезни.
76
Психопатология обыденной жизни
против, сплошь да рядом нет возможности отделаться от
тягостных воспоминаний, преследующих нас, отогнать такие
тягостные аффекты, как раскаяние, угрызения совести. Мы
и не утверждаем, что эта тенденция отпора оказывается везде
в силах одержать верх, что она не может в игре психических
сил натолкнуться на факторы, стремящиеся по другим
мотивам к обратной цели и достигающие ее вопреки этой
тенденции. Архитектоника душевного аппарата основывается,
поскольку можно догадываться, на принципе прослойки, ряда
инстанций, находящихся одна над другой, и весьма возможно,
что это стремление к отпору относится к низшей
психической инстанции и парализуется другими, высшими. Во
всяком случае, если мы можем свести к этой тенденции отпора
такие явления, как случаи забывания, приведенные в наших
примерах, то это уже говорит о ее существовании и ее силе.
Мы видим, что многое забывается по причинам, лежащим в
нем же самом; там, где это невозможно, тенденция отпора
передвигает свою цель и устраняет из нашей памяти хотя бы
нечто иное, не столь важное, но находящееся в
ассоциативной связи с тем, что собственно и вызвало отпор.
Развитая здесь точка зрения, усматривающая в тягостных
воспоминаниях особую склонность подвергаться
мотивированному забвению, заслуживала бы применения ко многим
областям, в которых она в настоящее время еще не нашла
себе признания, или если и нашла, то в слишком
недостаточной степени. Так, мне кажется, что она все еще недостаточно
подчеркивается при оценке показаний свидетелей на суде1,
причем приведению свидетеля к присяге явно
приписывается чересчур большое очищающее влияние на психическую
игру сил. Что при происхождении традиций и исторических
сказаний из жизни народов приходится считаться с
подобным мотивом, стремящимся вытравить воспоминание обо
всем том, что тягостно для национального чувства,
признается всеми. Быть может, при более тщательном наблюдении
была бы установлена полная аналогия между тем, как
складываются народные традиции, и тем, как образуются
воспоминания детства у отдельного индивида.
Ср.: Gross Hans. Kriminalpsychologie. 1898.
77
Зигмунд ФРЕЙД
Совершенно так же, как при забывании имен, может
наблюдаться ошибочное припоминание и при забывании
впечатлений; и в тех случаях, когда оно принимается на веру,
оно носит название обмана памяти. Патологические случаи
обмана памяти (при паранойе он играет даже роль
конструирующего момента в образовании бредовых представлений)
породили обширную литературу, в которой я, однако, нигде
не нахожу указаний на мотивировку этого явления. Так как
и эта тема относится к психологии невроза, то она выходит
за пределы рассмотрения в данной связи. Зато я приведу
случившийся со мной самим своеобразный пример обмана
памяти, на котором можно с достаточной ясностью видеть,
как этот феномен мотивируется бессознательным
вытесненным материалом и как он сочетается с этим последним.
В то время, когда я писал заключительные главы моей
книги о толковании снов, я жил на даче, не имея доступа
к библиотекам и справочным изданиям, и был вынужден,
в расчете на позднейшее исправление, вносить в рукопись
всякого рода указания и цитаты по памяти. В главе о снах
наяву мне вспоминалась чудесная фигура бедного
бухгалтера из «Набоба» Альфонса Доде, в лице которого поэт,
вероятно, хотел изобразить свои собственные мечтания. Мне
казалось, что я отчетливо помню одну из тех фантазий, какие
вынашивал этот человек (я назвал его Mr. Iocelyn), гуляя
по улицам Парижа, и начал ее воспроизводить по памяти:
как господин Iocelyn смело бросается на улице навстречу
понесшейся лошади и останавливает ее; дверцы отворяются,
из экипажа выходит высокопоставленная особа, жмет
господину Iocelyn'y руку и говорит ему: «Вы мой спаситель,
я обязана вам жизнью. Что я могу для вас сделать?»
Я утешал себя тем, что ту или иную неточность в
передаче этой фантазии нетрудно будет исправить дома, имея
книгу под рукой. Но когда я перелистал «Набоба» с тем,
чтобы выправить это место моей рукописи, уже готовое к
печати, я, к величайшему своему стыду и смущению, не
нашел там ничего похожего на такого рода мечты M г. Iocelyn'a,
да и этот бедный бухгалтер назывался совершенно иначе:
Mr. loyeuse. Эта вторая ошибка дала мне скоро ключ к
выяснению моего обмана памяти. loyeuse — это женский род от
78
Психопатология обыденной жизни
слова Ioyeux: так именно я должен был бы перевести на
французский язык свое собственное имя Freud. Откуда,
стало быть, могла взяться фантазия, которую я смутно
вспомнил и приписал Доде? Это могло быть лишь мое же
произведение, сон наяву, который мне привиделся, но не дошел до
моего сознания; или же дошел когда-то, но затем был
основательно позабыт. Может быть, я видел его даже в Париже,
где не раз бродил по улицам, одинокий, полный стремлений,
весьма нуждаясь в помощнике и покровителе, пока меня не
принял в свой круг Шарко. Автора «Набоба» я затем
неоднократно видел в доме Шарко. Досадно в этой истории то, что
вряд ли есть еще другой круг представлений, к которому
я относился бы столь же враждебно, как к представлениям
о протекции. То, что приходится в этой области видеть у нас
на родине, отбивает всякую охоту к этому, и вообще с
моим характером плохо вяжется положение протеже. Я всегда
ощущал в себе необычайно много склонности к тому, чтобы
«быть самому дельным человеком». И как раз я должен был
получить напоминание о подобного рода — никогда,
впрочем, не сбывшихся — снах наяву! Кроме того, этот случай
дает хороший пример тому, как задержанное — при паранойе
победно пробивающееся наружу — отношение к своему «я»
мешает нам и запутывает нас в объективном познании вещей.
Другой случай обмана памяти, который удалось
удовлетворительно объяснить воспоминанием о так называемом
fausse reconaissance, о котором ниже (в последней главе).
Я рассказал одному из моих пациентов, честолюбивому и
очень способному человеку, что один молодой студент
написал интересную работу Der Künstler. Versuch einer
Sexualpsychologie («Художник. Опыт сексуальной психологии») и тем
ввел себя в круг моих учеников. Когда эта работа одиннадцать
месяцев спустя вышла из печати, мой пациент заявил, что
точно помнит, что еще до моего первого сообщения (месяцем
или полугодом раньше) он видел где-то, в окне книжного
магазина кажется, объявление об этой книге. Эта заметка ему и
тогда тотчас же пришла на мысль, и он, кроме того,
констатировал, что автор изменил заглавие, потому что она
называется уже не Versuch, a Ansätze. Тщательные справки у автора
и сравнение дат показало, что мой пациент хочет вспомнить
79
Зигмунд ФРЕЙД
нечто невозможное. Об этой книге нигде не было объявлено
до ее печатания, и уж во всяком случае не за одиннадцать
месяцев до выхода в свет. Я оставил этот обман памяти без
истолкования, но затем тот же господин проделал
аналогичную ошибку вторично. Он утверждал, что видел недавно в
окне книжного магазина книгу об агорафобии, хотел ее
приобрести и разыскивал ее с этой целью во всех каталогах. Мне
удалось ему тогда объяснить, почему его старания должны
были остаться безуспешными. Работа об агорафобии
существовала лишь в его фантазии, как бессознательное намерение,
и должна была быть написана им же самим. Его честолюбие,
будившее в нем желание поступить подобно тому молодому
человеку и подобной же научной работой открыть себе доступ
в среду учеников, породило и первый, и второй обман памяти.
Он сам потом вспомнил, что объявление книжного магазина,
которое дало ему повод к ошибке, относилось к сочинению
под заглавием Genesis. Das Gesetz der Zeugung. Что же
касается упомянутого им изменения заглавия, то оно уже
относится на мой счет, так как мне самому удалось вспомнить, что
я допустил эту неточность в передаче: Versuch вместо Ansätze.
Забывание намерений
Ни одна другая группа феноменов не пригодна в такой
мере для доказательства нашего положения о том, что
слабость внимания сама по себе еще не может объяснить
дефектности функции, — как забывание намерений. Намерение —
это импульс к действию, уже встретивший одобрение, но
выполнение которого отодвинуто до известного момента.
Конечно, в течение создавшегося таким образом промежутка
времени может произойти такого рода изменение в мотивах, что
намерение не будет выполнено, но в таком случае оно не
забывается, а пересматривается и отменяется. То забывание
намерений, которому мы подвергаемся изо дня в день во
всевозможных ситуациях, мы не имеем обыкновения объяснять
тем, что в соотношении мотивов появилось нечто новое; мы
либо оставляем его просто без объяснения, либо стараемся
80
Психопатология обыденной жизни
объяснить его психологически, допуская, что ко времени
выполнения уже не оказалось потребного для действия
внимания, которое, однако, было необходимым условием для того,
чтобы само намерение могло возникнуть, и которое, стало
быть, в то время имелось в достаточной для совершения этого
действия степени. Наблюдение над нашим нормативным
отношением к намерениям заставляет нас отвергнуть это
объяснение как произвольное. Если я утром принимаю решение,
которое должно быть выполнено вечером, то возможно, что в
течение дня мне несколько раз напоминали о нем; но
возможно также, что в течение дня оно вообще не доходило больше
до моего сознания. Когда приближается момент выполнения,
оно само вдруг приходит мне в голову и заставляет меня
сделать нужные приготовления для того, чтобы исполнить
задуманное. Если я, отправляясь гулять, беру с собой письмо,
которое нужно отправить, то мне, как нормальному и не
нервному человеку, нет никакой надобности держать его всю
дорогу в руке и высматривать все время почтовый ящик, куда
бы его можно было опустить; я кладу письмо в карман, иду
своей дорогой и рассчитываю на то, что один из ближайших
почтовых ящиков привлечет мое внимание и побудит меня
опустить руку в карман и вынуть письмо. Нормальный образ
действия человека, принявшего известное решение, вполне
совпадает с тем, как держат себя люди, которым было сделано
в гипнозе так называемое послегипнотическое внушение на
долгий срок1. Обычно этот феномен изображается
следующим образом: внушенное намерение дремлет в данном
человеке, пока не подходит время его выполнения. Тогда оно
просыпается и заставляет действовать.
В двоякого рода случаях жизни даже и профан отдает
себе отчет в том, что забывание намерений никак не может
быть рассматриваемо как элементарный феномен, не
поддающийся дальнейшему разложению, и что оно дает право
умозаключить о наличности признанных мотивов. Я имею в
виду любовные отношения и военную дисциплину.
Любовник, опоздавший на свидание, тщетно будет искать оправда-
1 Ср.: В с г n h e i m. Neue Studien über Hypnotismus // Suggestion und
Psychotherapie. 1892.
81
Зигмунд ФРЕЙД
ния перед своей дамой в том, что он, к сожалению,
совершенно забыл об этом. Она ему непременно ответит: «Год
тому назад ты бы не забыл. Ты меня больше не любишь».
Если бы он даже прибег к приведенному выше
психологическому объяснению и пожелал бы оправдаться множеством
дел, он достиг бы лишь того, что его дама, став столь же
проницательною, как врач при психоанализе, возразила бы:
«Как странно, что подобного рода деловые препятствия не
случались раньше». Конечно, и она тоже не подвергает
сомнению возможность того, что он действительно забыл; она
полагает только, и не без основания, что из ненамеренного
забвения можно сделать тот же вывод об известном
нежелании, как и из сознательного уклонения.
Подобно этому и на военной службе различие между
упущением по забывчивости и упущением намеренным
принципиально игнорируется — и не без основания. Солдату нельзя
забывать ничего из того, что требует от него служба. И если
он все-таки забывает, несмотря на то что требование ему
известно, то потому что мотивам, побудившим его к
выполнению данного требования службы, противопоставляются
другие, противоположные. Вольноопределяющийся, который при
рапорте захотел бы оправдаться тем, что забыл почистить
пуговицы, может быть уверен в наказании. Но это наказание
ничтожно в сравнении с тем, какому он подвергся бы, если бы
признался себе самому и своему начальнику в мотиве своего
упущения: «Эта проклятая служба мне вообще противна».
Ради этого сокращения наказания, по соображениям как бы
экономического свойства, он пользуется забвением как отговоркой,
или же оно осуществляется у него в качестве компромисса.
Служение женщине, как и военная служба, требует, чтобы
ничто, относящееся к ней, не было забываемо, и дает таким
образом повод полагать, что забвение допустимо при
неважных вещах; при вещах важных оно служит знаком того, что
к ним относятся легко, стало быть, не признают их важности.
И, действительно, наличность психической оценки здесь не
может быть отрицаема. Ни один человек не забудет
выполнить действий, представляющихся ему самому важными, не
навлекая на себя подозрения в душевном расстройстве. Наше
исследование может поэтому распространяться лишь на за-
82
Психопатология обыденной жизни
бывание более или менее второстепенных намерений;
совершенно безразличным не может считаться никакое намерение,
ибо тогда оно, наверное, не возникло бы вовсе.
Так же как и при рассмотренных выше расстройствах
функций, я и здесь собрал и попытался объяснить случаи
забывания намерений, которые я наблюдал на себе самом;
я нашел при этом, как общее правило, что они сводятся к
вторжению неизвестных и непризнанных мотивов, или, если
можно так выразиться, к встроенной воле. В целом ряде
подобных случаев я находился в положении, сходном с военной
службой, испытывал принуждение, против которого еще не
перестал сопротивляться, и протестовал против него своей
забывчивостью. К этому надо добавить, что я особенно легко
забываю, когда нужно поздравить кого-нибудь с днем
рождения, юбилеем, свадьбой, повышением. Я постоянно
собираюсь это сделать и каждый раз все больше убеждаюсь в том,
что это мне не удается. Теперь я уже решился отказаться от
этого и воздать должное мотивам, которые этому противятся.
Однажды, когда я был еще в переходной стадии, я заранее
сказал одному другу, просившему меня отправить также и
от его имени к известному сроку поздравительную
телеграмму, что я забуду об обеих телеграммах; и не удивительно, что
пророчество это оправдалось. В силу мучительных
переживаний, которые мне пришлось испытать в связи с этим, я не
способен выражать свое участие, когда это приходится по
необходимости делать в утрированной форме, ибо
употребить выражение, действительно отвечающее той небольшой
степени участия, которое я испытываю, — непозволительно.
С тех пор как я убедился в том, что не раз принимал мнимые
симпатии других людей за истинные, меня возмущают эти
условные выражения сочувствия, хотя, с другой стороны, я
понимаю их социальную полезность. Соболезнование по
случаю смерти изъято у меня из этого двойственного состояния;
раз решившись выразить его, я уже не злчмнаю сделать это.
Там, где импульс моего чувства не имеет ел ношения к
общественному долгу, он никогда не подвергается забвению.
Столкновением условного долга с внутренней оценкой, в
которой сам себе не признаешься, объясняются также и
случаи, когда забываешь совершить действия, обещанные кому-
83
Зигмунд ФРЕЙД
нибудь другому в его интересах. Здесь неизменно бывает так,
что лишь обещающий верит в смягчающую вину
забывчивость, в то время как просящий несомненно дает себе
правильный ответ: он не заинтересован в этом, иначе он не
забыл бы. Есть люди, которых вообще считают забывчивыми
и потому извиняют, подобно близоруким, которые не
кланяются на улице1. Такие люди забывают все мелкие обещания,
не выполняют данных им поручений, оказываются таким
образом в мелочах ненадежными и требуют при этом, чтобы за
эти мелкие прегрешения на них не были в претензии, т.е.
чтобы не объясняли их свойствами характера, а сводили к
органическим способностям. Я сам не принадлежу к числу
этих людей и не имел случая проанализировать поступки
кого-либо из них, чтобы в выборе объектов забвения найти
его мотивировку; но по аналогии невольно напрашивается
предположение, что здесь мотивом, утилизирующим
конституционный момент для своих целей, является необычайно
крупная доля пренебрежения к другому человеку.
В других случаях мотивы забвения не так легко
обнаруживаются, и раз будучи найдены, возбуждают немалое
удивление. Так, я заметил в прежние годы, что при большом
количестве визитов к больным я, если забываю о каком-нибудь
визите, то лишь о бесплатном пациенте или посещении
коллеги. Это было стыдно, и я приучился отмечать себе еще
утром предстоящие в течение дня визиты. Не знаю, пришли
ли другие врачи тем же путем к этому обыкновению. Но
начинаешь понимать, что заставляет так называемого
неврастеника отмечать у себя в пресловутой «записке» все то, что он
собирается сообщить врачу. Объясняется это тем, что он не
питает доверия к репродуцирующей способности своей
памяти. Конечно, это верно, но дело происходит обыкновенно
следующим образом. Больной чрезвычайно обстоятельно
излагает свои жалобы и вопросы; окончив, делает минутную паузу,
затем вынимает записку и говорит, извиняясь: я записал себе
1 Женщины, с их тонким пониманием бессознательных душевных
переживаний, обычно склонны скорее принять за оскорбление, когда их не узнают на
улице и не кланяются, чем подумать о наиболее правдоподобном объяснении,
что провинившийся близорук или задумался и не заметил. Они полагают, что
их бы уж заметили, если бы только интересовались ими.
84
Психопатология обыденной жизни
здесь кое-что, так как я все забываю. Обычно он не находит
в записке ничего нового. Он повторяет каждый пункт и
отвечает на него сам: да, об этом я уже спросил. По-видимому,
он лишь демонстрирует своей запиской один из своих
симптомов: то именно обстоятельство, что его намерения часто
расстраиваются в силу вторжения неясных мотивов.
Я коснусь дефектов, которыми страдает большинство
здоровых людей, которых я знаю, и признаюсь, что я сам,
особенно в прежние годы, очень легко и на очень долгое
время забывал возвращать одолженные книги, или что мне
с особенной легкостью случалось в силу забывчивости
откладывать уплату денег. Недавно я ушел как-то утром из
табачной лавки, в которой сделал себе запас сигар на этот день,
не расплатившись. Это было совершенно невинное
упущение, потому что меня там знают и я мог поэтому ожидать,
что на следующий день мне напомнят о долге. Но это
небольшое упущение, эта попытка наделать долгов, наверное,
не лишена связи с теми размышлениями на следующие темы,
которые занимали меня в продолжение предыдущего дня.
Вообще, что касается таких тем, как деньги и собственность,
то даже у так называемых порядочных людей можно легко
обнаружить следы некоторого двойственного отношения к
ним. Та примитивная жадность, с какой грудной младенец
стремится овладеть всеми объектами (чтобы сунуть их в
рот), быть может, вообще лишь в несовершенной степени
парализовалась культурой и воспитанием1.
1 Из соображений единства темы позволительно будет отступить здесь от
принятого мной деления и прибавить к вышесказанному, что но отношению к
денежным делам человеческая память обнаруживает особую предвзятость.
Обман памяти, при котором думаешь, что уже заплатил, бывает, как я это знаю
по себе, чрезвычайно упорен. Там, где стремление к наживе проявляется за
пределами крупных жизненных интересов, стало быть скорее в шутку, и где
поэтому ему представляется полная свобода, как, например, в карточной игре,
честнейшие люди бывают склонны к ошибкам, погрешностям памяти и счета,
и оказываются, неведомым для них самих образом, повинными в мелких
обманах. В этой свободе в немалой степени крепится психически освежающее
значение игры. Поговорку о том, что в игре узнается характер человека, надо
признать верной, с одним лишь дополнением: узнаются подавленные черты
характера. Если у кельнеров еще бывают нечаянные ошибки в счете, на них,
очевидно, нужно смотреть так же. В купеческом сословии часто можно
наблюдать известное оттягивание выдачи денежных сумм — при уплате по счетам
85
Зигмунд ФРЕЙД
Боюсь, что со всеми этими примерами я впал прямо-таки
в банальность. Но я только могу радоваться, если
наталкиваюсь на вещи, которые все знают и одинаковым образом
понимают, ибо мое намерение в том и заключается, чтобы
собирать повседневные явления и научно использовать их.
Я не могу понять, почему той мудрости, которая сложилась
на почве обыденного жизненного опыта, должен быть
закрыт доступ в круг приобретений науки. Не различие
объектов, а более строгий метод их установления и стремление
ко всеобъемлющей связи составляют существенный порядок
научной работы.
По отношению к намерениям, имеющим некоторое
значение, мы в общем нашли, что они забываются тогда, когда
против них восстают неясные мотивы. По отношению к
намерениям меньшей важности обнаруживается другой
механизм забывания: встречная воля переносится на данное
намерение с чего-либо другого в силу того, что между этим
«другим» и содержанием данного намерения установилась
какая-либо внешняя ассоциация. Сюда относится
следующий пример. Я люблю хорошую пропускную бумагу и
собираюсь сегодня после обеда, идя во внутреннюю часть
города, закупить себе новый запас. Однако в течение четырех
дней подряд я об этом забываю, пока не задаю себе вопроса
о причине этого. Нахожу ее без труда, вспомнив, что если в
письме обозначена пропускная бумага словом Löschpapier,
то говорю я обыкновенно Fliesspapier. Fliess же — имя
одного из моих друзей в Берлине, подавшего мне в эти дни повод
к мучительным мыслям и заботам. Отделаться от этих
мыслей я не могу, но склонность к отпору проявляется,
переносясь вследствие созвучия слов на безразличное и потому
менее устойчивое намерение.
и т. il, — которое собственнику ничего не дает и которое следует понимать
только психологически, как проявление нежелания расставаться с деньгами.
С наиболее интимными и менее всего выясненными побуждениями
связывается и тот факт, что как раз женщины обнаруживают особенную неохоту
расплачиваться с врачом. Обыкновенно они забывают портмоне и потому во время
визита не Moiyr заплатить, затем систематически забывают прислать из дома
гонорар, и в результате лечишь их даром — «ради их прекрасных глаз». Они
уплачивают как бы своими взглядами.
86
Психопатология обыденной жшши
В следующем случае отсрочки непосредственная
встречная воля совпадает с более определенной мотивировкой.
Я написал для издания Grenzfragen des Nerven- und
Seelenlebens небольшую статью о сне, резюмирующую мое
«Толкование сновидений». Г. Бергман посылает мне из
Висбадена корректуру и просит ее просмотреть немедленно, так как
хочет издать этот выпуск еще до Рождества. В ту же ночь
я выправляю корректуру и кладу ее на письменный стол,
чтобы взять с собой утром. Утром я, однако, забываю о ней
и вспоминаю лишь после обеда при виде бандероли,
лежащей на моем столе. Точно так же забываю я о корректуре и
после обеда, вечером и на следующее утро; наконец я беру
себя в руки и на следующий день после обеда опускаю ее в
почтовый ящик, недоумевая, каково могло бы быть
основание этой отсрочки. Очевидно, я ее не хочу отправить, не
знаю только почему. Во время этой же прогулки я
отправляюсь к своему венскому издателю, который издал также
мое «Толкование сновидений», делаю у него заказ и вдруг,
как бы под влиянием какой-то внезапной мысли, говорю
ему: «Вы знаете, я написал „Толкование сновидений"
вторично». — «О, я просил бы вас тогда...» — «Успокойтесь, это
лишь небольшая статья для издания Löwenfeld Kurella». Он
все-таки был недоволен, боясь, что статья эта повредит
сбыту книги. Я возражал ему и наконец спросил: «Если бы я
обратился к вам раньше, вы бы запретили мне издать эту
вещь?» — «Нет, ни в коем случае». Я и сам думаю, что имел
полное право так поступить и не сделал ничего такого, что
не было бы принято; но мне представляется бесспорным, что
сомнение, подобное тому, какое высказал мой издатель,
было мотивом того, что я оттягивал отправку корректуры.
Сомнение это было вызвано другим, более ранним случаем,
когда у меня были неприятности с другим издателем из-за
того, что я по необходимости перенес несколько страниц из
моей работы о церебральном параличе у детей, появившейся
в другом издательстве, в статью, написанную на ту же тему
для справочной книги Нотнагеля. Но и тогда упреки были
несправедливы; и тогда я вполне лояльно известил о
своем намерении первого издателя. Восстанавливая далее свои
воспоминания, я припоминаю еще один случай, когда при
87
Зигмунд ФРЕЙД
переводе с французского я действительно нарушил права
автора. Я снабдил перевод примечаниями, не спросив на то
согласия автора, и спустя несколько лет имел случай
убедиться, что автор был недоволен этим самоуправством.
По-немецки есть поговорка, выражающая ходячую
истину, что забывание чего-нибудь никогда не бывает случайным.
Забывание объясняется иногда также и тем, что можно
было бы назвать «ложными намерениями». Однажды я
обещал одному молодому автору дать отзыв о его небольшой
работе, но в силу внутренних, неизвестных мне
противодействий все откладывал, пока наконец, уступая его
настояниям, не обещал, что сделаю это в тот же вечер. Я
действительно имел вполне серьезное намерение так и поступить,
но забыл о том, что на тот же вечер было назначено
составление другого, неотложного отзыва. Я понял благодаря
этому, что мое намерение было ложно, перестал бороться с
испытываемым мной противодействием и отказал автору.
Действия, совершаемые по ошибке
Заимствую еще одно место из ценной работы Мерингера
и Мейера:
«Обмолвки не являются чем-либо единственным в своем
роде. Они соответствуют погрешностям, часто наблюдаемым
и при других функциях человека и обозначаемым, довольно
бессмысленно, словом „забывчивость"».
Таким образом, не я первый заподозрил в мелких
функциональных расстройствах повседневной жизни здоровых
людей смысл и преднамеренность.
Если подобное объяснение допускают погрешности
речи, — а речь ведь не что иное, как моторный акт, — то легко
предположить, что те же ожидания оправдываются и в
применении к погрешностям прочих наших моторных
отправлений. Я различаю здесь две группы явлений: все те случаи,
где самым существенным представляется ошибочный
эффект, стало быть, уклонение от намерения я обозначаю
термином Vergreifen — «действия, совершаемые по ошиб-
88
Психопатология обыденной жизни
ке>\ другие же, в которых скорее весь образ действий
представляется целесообразным, я называю
«симптоматическими и случайными действиями». Деление это не может быть
проведено с полной строгостью; мы вообще начинаем
понимать, что все деления, употребляемые в этой работе, имеют
лишь описательную ценность и противоречат внутреннему
единству наблюдаемых явлений.
В психологическом понимании «ошибочных действий»
мы, очевидно, не продвинемся вперед, если отнесем их в
общую рубрику атаксии и специально «атаксии мозговой
коры». Попытаемся лучше свести отдельные случаи к
определяющим их условиям. Я обращусь опять к примерам из
моего личного опыта, не особенно, правда, частым у меня.
а) В прежние годы, когда я посещал больных на дому
еще чаще, чем теперь, нередко случалось, что, придя к двери,
в которую мне следовало постучать или позвонить, я
доставал из кармана ключ от моей собственной квартиры, с тем
чтобы опять спрятать его, едва ли не со стыдом. Сопоставляя,
у каких больных это бывало со мной, я должен признать, что
это ошибочное действие — вынуть ключ вместо того, чтобы
позвонить, означало известную похвалу тому дому, где это
случалось. Оно было равносильно мысли: «здесь я чувствую
себя, как дома», ибо происходило лишь там, где я полюбил
больного. (У двери моей собственной квартиры я, конечно,
никогда не звоню.) Ошибочное действие было, таким
образом, символическим выражением мысли, в сущности не
предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно
допущенной, так как на деле психиатр прекрасно знает, что
больной привязывается к нему лишь на то время, пока
ожидает от него чего-нибудь, и что он сам если и позволяет себе
испытывать чрезмерно живой интерес к пациенту, то лишь
в целях оказания психической помощи.
б) В одном доме, в котором я шесть лет кряду дважды
в день в определенное время стою у дверей второго этажа,
ожидая, пока мне отворят, мне случилось за все это долгое
время два раза (с небольшим перерывом) взойти этажом
выше, «забраться чересчур высоко». В первый раз я
испытывал в это время честолюбивый «сон наяву», грезил о том,
что «поднимаюсь все выше и выше». Я не услышал даже,
89
Зигмунд ФРЕЙД
как отворилась соответствующая дверь, когда я уже начал
всходить на первые ступеньки третьего этажа. В другой раз
я прошел слишком высоко, тоже «погруженный в мысли»;
когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить
владевшую мной фантазию, то я нашел, что я сердился по
поводу (воображаемой) критики моих сочинений, в которой
мне делался упрек, что я постоянно «иду слишком далеко»,
упрек, который у меня мог связаться с не особенно
почтительным выражением: «занесся слишком высоко».
в) На моем столе долгие годы лежат рядом
перкуссионный молоток и камертон. Однажды по окончании приемного
часа я тороплюсь уйти, потому что хочу поспеть к
определенному поезду городской железной дороги, кладу средь
белого дня в карман сюртука вместо молотка камертон и лишь
благодаря тому, что он не оттягивает мне карман, замечаю
свою ошибку. Кто не привык задумываться над такими
мелочами, несомненно объяснит, назвав эту ошибку спешкой.
Однако я предпочел поставить себе вопрос, почему я
все-таки взял камертон вместо молотка. Спешка могла точно так
же служить мотивом и к тому, чтобы взять сразу нужный
предмет, чтобы не терять времени на обмен.
Кто был последним, державшим в руках камертон, — вот
вопрос, который напрашивается мне здесь. Его держал на днях
идиот-ребенок, у которого я исследовал степень внимания
к чувственным ощущениям, которого камертон в такой мере
привлек к себе, что мне лишь с трудом удалось его отнять.
Что же, это должно означать, что я идиот? Как будто бы и
так, ибо первое, что ассоциируется у меня со словом
«молоток» (Hammer) это — «хамер» — по-древнееврейски: «осел».
Что должна означать эта брань? Надо рассмотреть
ситуацию. Я спешу на консультацию в местность, лежащую при
западной железной дороге, к больному, который, согласно
сообщенному мне письменно анамнезу, несколько месяцев
тому назад упал с балкона и с тех пор не может ходить. Врач,
приглашающий меня, пишет, что он не может все же
определить, повреждение ли здесь спинного мозга или
травматический невроз — истерия. Это мне и предстоит решить.
Здесь, стало быть, уместно будет напоминание — соблюдать
особую осторожность в этом тонком дифференциальном диа-
90
Психопатология обыденной жизни
гнозе. Мои коллеги и без того думают, что мы слишком
легкомысленно ставим диагноз истерии в то время, когда на
самом деле имеется налицо нечто более серьезное. Но мы все
еще не видим достаточных оснований для брани! Да, надо
еще добавить, что на той же самой железнодорожной
станции я видел несколько лет тому назад молодого человека,
который со времени одного сильного переживания не мог
как следует ходить. Я нашел у него тогда истерию, подверг
его психическому лечению, и тогда оказалось, что если мой
диагноз и не был ошибочен, то он не был и верен. Целый
ряд симптомов у больного носили характер истерический, и
по мере лечения они действительно быстро исчезали. Но за
ними обнаружился остаток, не поддававшийся терапии и
оказавшийся множественным склерозом. Врачи, видевшие
больного после меня, без труда заметили органическое
поражение; я же вряд ли мог бы иначе действовать и судить; но
впечатление у меня все-таки осталось как о тягостной
ошибке; я обещал вылечить больного и, конечно, не мог сдержать
этого обещания. Таким образом, ошибочное движение,
которым я схватился за камертон вместо молотка, могло быть
переведено следующим образом: идиот, осел ты этакий,
возьми себя в руки на этот раз и не поставь опять диагноза
истерии, где дело идет о неизлечимой болезни, как это уже
случилось раз в той же местности с этим несчастным
человеком! К счастью для этого маленького анализа, пусть и к
несчастью для моего настроения, этот самый человек,
страдавший тяжелым спастическим параличом, был у меня на
приеме всего несколькими днями раньше, на следующий
день после идиота-ребенка.
Нетрудно заметить, что на этот раз в ошибочном
действии дал о себе знать голос самокритики. Для этого рода
роли — упрека самому себе — ошибочные действия
особенно пригодны. Ошибка, совершенная здесь, изображает
собою ошибку, сделанную где-либо в другом месте.
г) Само собой разумеется, что действия, совершаемые по
ошибке, могут служить также и целому ряду других
неясных намерений. Вот пример этого. Мне очень редко
случается разбивать что-нибудь. Я не особенно ловок, но в силу
анатомической нетронутости моих первомускульных аппа-
91
Зиг,чунд ФРЕЙД
ратов у меня, очевидно, нет данных для совершения таких
неловких движений, которые привели бы к нежелательным
результатам. Так что я не могу припомнить в моем доме ни
одного предмета, который бы я разбил. В моем рабочем
кабинете тесно, и мне часто приходилось в самых неудобных
положениях перебирать античные предметы из глины и
камня, которых у меня имеется маленькая коллекция, так что
бывшие при этом лица выражали опасение, как бы я не
уронил и не разбил чего-нибудь. Однако этого никогда не
случалось. Почему же я бросил на пол и разбил мраморную
крышку моей простой чернильницы?
Мой письменный прибор состоит из мраморной
подставки с углублением, в которое вставляется стеклянная
чернильница; на чернильнице — крышка с шишечкой, тоже из
мрамора. За письменным прибором расставлены бронзовые
статуэтки и терракотовые фигурки. Я сажусь за стол, чтобы
писать, делаю рукой, в которой держу перо, замечательно
неловкое движение по направлению от себя и сбрасываю на
пол уже лежавшую на столе крышку. Объяснение найти
нетрудно. Несколькими часами раньше в комнате была моя
сестра, зашедшая посмотреть некоторые вновь
приобретенные мной вещи. Она нашла их очень красивыми и сказала
затем: «Теперь твой письменный стол имеет действительно
красивый вид, только письменный прибор не подходит к
нему. Тебе нужен другой, более красивый». Я провожал
сестру и лишь несколькими часами позже вернулся назад.
И тогда я, по-видимому, произвел экзекуцию над
осужденным прибором. Заключил ли я из слов сестры, что она
решила к ближайшему празднику подарить мне более
красивый прибор, и я разбил некрасивый старый, чтобы заставить
ее исполнить намерение, на которое она намекнула? Если
это так, то движение, которым я швырнул крышку, было
лишь мнимо неловким; на самом деле оно было в высшей
степени ловким, так как сумело пощадить и обойти все
более ценные объекты, находившиеся поблизости.
Я думаю в самом деле, что именно такого взгляда и
следует держаться по отношению к целому ряду якобы
случайных неловких движений. Верно, что они несут на себе печать
насилия, швыряния, чего-то вроде спастической атаксии, но
92
Психопатология обыденной жизни
они обнаруживают вместе с тем известное намерение и
попадают в цель с уверенностью, которой не всегда могут
похвастаться и заведомо произвольные движения. Обе эти
отличительные черты — характер насилия и меткость — они,
впрочем, разделяют с моторными проявлениями
истерического невроза, отчасти и с моторными актами сомнамбулизма,
что, надо полагать, указывает здесь, как и там, на одну и ту
же неизвестную модификацию иннервационного процесса.
В последние годы, с тех пор как я начал собирать такого
рода наблюдения, мне случалось еще несколько раз
разбивать или ломать предметы, имеющие известную цену, но
исследование этих случаев убедило меня, что это ни разу не
было действием простого случая или намеренной
неловкости. Так, однажды утром, проходя по комнате в купальном
костюме, с соломенными туфлями на ногах, я, повинуясь
внезапному импульсу, швырнул одну из туфель об стену
так, что она свалила с консоли красивую маленькую
мраморную Венеру. Статуэтка разбилась вдребезги, я же в это
время преспокойным образом стал цитировать стихи Буша:
Ach! Die Venus ist perdü —
Klickeradoms! — Von Medici!
Эта дикая выходка и спокойствие, с которым я отнесся к
тому, что натворил, объясняются тогдашним положением
вещей. У нас в семействе была тяжелобольная, в
выздоровлении которой я в глубине души уже отчаялся. В это утро
я узнал о крупном улучшении и знаю, что я сам сказал
себе: значит, она все-таки будет жить. Охватившая меня затем
жажда разрушения послужила мне средством выразить
благодарность судьбе и произвести известного рода
«жертвенное действие», словно я дал обет: если она выздоровеет, я
принесу в жертву тот или иной предмет! Если я для этой
жертвы выбрал как раз Венеру Медицейскую, то в этом
должен заключаться, очевидно, галантный комплимент больной;
но непонятным остается мне и на этот раз, как это я так
быстро решился, так ловко прицелился и не попал ни в один
из стоявших в ближайшем соседстве предметов.
Другой случай, когда я опять-таки воспользовался пером,
выпавшим из моей руки, для того чтобы разбить одну ве-
93
Зигмунд ФРЕЙД
щицу, имел тоже значение жертвы, но на этот раз
просительной жертвы, стремившейся отвратить нечто грозящее.
Я позволил себе раз сделать моему верному и заслуженному
другу упрек, основывавшийся исключительно на
толковании известных симптомов его бессознательной жизни. Он
обиделся и написал письмо, в котором просил меня не
подвергать моих друзей психоанализу. Пришлось признать, что
он прав, и я написал ему успокоительный ответ. В то время
как я писал это письмо, предо мной стояло мое новейшее
приобретение — великолепно глазированная египетская
фигурка. Я разбил ее указанным выше способом и тотчас же
понял, что я сделал это, чтобы избежать другой, большей
беды. К счастью, и статуэтку, и дружбу удалось вновь
скрепить так, что трещина стала совершенно незаметной.
Третий случай находится в менее серьезной связи; это
была лишь, употребляя выражение Th. Vischer'a,
замаскированная «экзекуция» над объектом, который мне перестал
нравиться. Я некоторое время носил палку с серебряным
набалдашником; как-то раз, не по моей вине, тонкая
серебряная пластинка была повреждена и плохо починена.
Вскоре после того, как палка вернулась ко мне, я зацепил, играя
с детьми, набалдашник за ногу одного из ребят; при этом
он, конечно, сломался пополам, и я был от него избавлен.
То равнодушие, с которым во всех этих случаях
относишься к причиненному ущербу, может служить
доказательством, что при совершении этого действия имелось налицо
бессознательное намерение.
Случаи, когда роняешь, опрокидываешь, разбиваешь что-
либо, служат, по-видимому, очень часто проявлением
бессознательных мыслей; иной раз это можно доказать анализом,
но чаще об этом можно догадываться по тем суеверным или
шуточным толкованиям, которые связываются с подобного
рода действиями в устах народа. Известна, какое толкование
дается, например, когда кто-нибудь просыплет соль, или
опрокинет стакан с вином, или уронит нож так, чтобы он
воткнулся стоймя, и т.д. О том, в какой мере эти суеверные
толкования могут претендовать на признание, я буду
говорить ниже; здесь будет лишь уместно заметить, что
отдельный неловкий акт отнюдь не имеет постоянного значения;
94
Психопатология обыденной жизни
смотря по обстоятельствам, он употребляется как средство
выражения того или иного намерения.
Когда прислуга роняет и уничтожает таким образом
хрупкие предметы, то, наверное, никто не подумает при этом
прежде всего о психологическом объяснении, и, однако, здесь
тоже не лишена вероятности некоторая доля участия тайных
мотивов. Ничто так не чуждо необразованным людям, как
способность ценить искусство и художественные
произведения. Наша прислуга охвачена чувством глухой вражды по
отношению к этим предметам, особенно тогда, когда вещи,
ценности которых она не видит, становятся для нее
источником труда. Люди того же происхождения и стоящие на той
же ступени образования нередко обнаруживают в научных
учреждениях большую ловкость и надежность в обращении
с хрупкими предметами, но это бывает тогда, когда они
начинают отождествлять себя с хозяином и причислять себя
к главному персоналу данного учреждения.
Когда случается уронить самого себя, оступиться,
поскользнуться — это тоже не всегда нужно толковать
непременно как случайный дефект моторного акта.
Двусмысленность самих этих выражений (einen Fehltritt machen —
оступиться и сделать ложный шаг) указывает уже на то, какой
характер могут иметь скрытые фантазии, проявляющиеся в
этой потере телесного равновесия. Я вспоминаю целый ряд
легких нервных заболеваний у женщин и девушек, которые
наступают после падения без ушибов и рассматриваются как
травматическая истерия, вызванная испугом при падении.
Я уже тогда выносил такое впечатление, что связь между
событиями здесь иная, что само падение было как бы
подстроено неврозом и служило выражением тех же бессознательных
фантазий с сексуальным содержанием, которые скрываются
за симптомами и являются движущими силами их. Не это ли
имеет в виду и пословица «Когда девица падает, то падает на
спину»?
К числу ошибочных движений можно отнести также и
тот случай, когда даешь нищему вместо меди и серебра
золотую монету. Толкование подобных случаев легко; это
жертвенные действия, предназначенные для того, чтобы
умилостивить судьбу, отвратить бедствие и т.д. Если этот случай
95
Зиг.нупд ФРЕЙД
произошел с нежной матерью или тетушкой и если
непосредственно перед прогулкой, в течение которой она
проявила эту невольную щедрость, если к тому же она
высказала опасение о здоровье ребенка, то можно не сомневаться
насчет смысла этой якобы досадной случайности. Этим
путем акты, совершаемые по ошибке, дают нам возможность
выполнить все те благочестивые и суеверные обычаи,
которые в силу сопротивления, которое оказывает им наш
неверующий разум, вынуждены бояться света сознания.
д) Положение о том, что случайные действия являются в
сущности преднамеренными, вызовет меньше всего сомнений
в области сексуальных проявлений, где граница между этими
обеими категориями действительно стирается. Несколько лет
тому назад я испытал на самом себе прекрасный пример того,
как неловкое на первый взгляд движение может быть самым
утонченным образом использовано для сексуальных целей.
В одном близко знакомом мне доме я встретился с
приехавшей туда в гости молодой девушкой, когда-то я был к ней
совсем равнодушен, и, хотя я считал это делом давно
минувшим, все же ее присутствие сделало меня веселым,
разговорчивым и любезным. Я тогда уже задумался над тем, каким
образом это случилось, ведь годом раньше я отнесся к этой
же девушке с полным равнодушием. В это время в комнату
вошел ее дядя, очень старый человек, и мы оба вскочили,
чтобы принести ему стоявший в углу стул. Она была быстрее
меня — и, вероятно, ближе к нашей общей цели, — схватила
кресло первая и понесла, держа его перед собою спинкой
назад и положив обе руки на ручки кресла. Так как я подошел
позже и все же не оставил намерения отнести кресло, то
оказался вдруг вплотную позади нее и охватил ее сзади вперед
руками так, что на момент они сошлись спереди, у ее бедер.
Конечно, я прекратил это положение столь же быстро, как
оно создалось. По-видимому, никто и не заметил, как ловко
я использовал это неловкое движение.
При случае мне приходилось убедиться и в том, что те
досадные, неловкие движения, которые делаешь, когда
хочешь на улице уступить дорогу и в течение нескольких
секунд топчешься то вправо, то влево, но всегда в том же
направлении, что и твой vis-à-vis, пока наконец не останав-
96
Психопатология обыденной жизни
ливаются оба, что и в этих движениях, которыми
«заступаешь дорогу», повторяются непристойные, вызывающие
действия ранних лет и под маской неловкости преследуются
сексуальные цели. Из психоанализов, производимых мной
над невротиками, я знаю, что так называемая наивность
молодых людей и детей часто бывает лишь такого рода маской,
для того чтобы иметь возможность без стеснения говорить
или делать неприличные вещи.
Совершенно аналогичные наблюдения над самим собой
сообщает W. Stekel. «Я вхожу в дом и подаю хозяйке руку.
Удивительным образом я при этом развязываю шарф,
стягивающий ее свободное утреннее платье. Я не знаю за собой
никакого нечестного намерения и все же совершаю это
неловкое движение с ловкостью карманника».
е) Эффект, создающийся в результате ошибочных
действий нормальных людей, носит обыкновенно безобидный
характер. Тем больший интерес вызывает вопрос, можно ли
в каком-нибудь отношении распространить наш взгляд на
такие случаи ошибочных действий, которые имеют более
важное значение и сопровождаются серьезными
последствиями, как, например, ошибки врача или аптекаря.
Так как мне очень редко случается оказывать врачебную
помощь, то я могу привести лишь один пример из
собственной практики. У одной очень старой дамы, которую я в
течение ряда лет посещаю ежедневно дважды в день, моя
медицинская деятельность ограничивается утром двумя актами.
Я капаю ей в глаз несколько капель глазной воды и делаю
впрыскивания морфия. Для этого всегда стоят наготове две
бутылочки: синяя — для глазных капель и белая — с
раствором морфина. Во время обоих актов мои мысли обычно
заняты чем-либо другим; я проделывал это столько раз, что
мое внимание чувствует себя как бы свободным. Однажды
утром я заметил, что автомат сработал неправильно. Пипетка
вместо синей бутылочки погрузилась в белую и накапала в
глаза не глазные капли, а морфин. Я сильно испугался, но
затем рассудил, что несколько капель двухпроцентного
раствора морфина не могут повредить конъюнктивальному
мешку, — и успокоился. Очевидно, ощущение страха должно
было исходить из какого-нибудь другого источника.
4-3518
97
Зигмунд ФРЕЙД
При попытке подвергнуть анализу этот маленький
ошибочный акт мне прежде всего пришла в голову фраза,
которая могла указать прямой путь к решению: sich an der Alten
vergreifen («поднять руку на старуху»; глагол vergreifen
означает вместе с тем и «совершить ошибочное действие»,
буквально: «взять не то»). Я находился под впечатлением сна,
который мне рассказал накануне вечером один молодой
человек и содержание которого могло бы быть истолковано
лишь в смысле полового сожительства с собственной
матерью1. То странное обстоятельство, что сказание не
останавливается пред возрастом царицы Иокасты, вполне
подтверждает, думалось мне, тот вывод, что при влюбленности в
собственную мать дело никогда не идет о ее личности в данный
момент, а о юношеском образе, сохранившемся в
воспоминаниях детства. Подобного рода несообразности получаются
всегда в тех случаях, когда колеблющаяся между двумя
периодами времени фантазия становится сознательной и в
силу этого прикрепляется к определенному времени.
Погруженный в такого рода мысли, я пришел к своей пациентке,
старухе за 90 лет, и, очевидно, был на пути к тому, чтобы в
общечеловеческом характере сказания об Эдипе увидеть
коррелят судьбы, говорящий устами оракула; ибо я затем
совершил ошибочное действие у старухи или поднял руку на
старуху (Vergriff mich «bei oder an der Alten»). Однако этот
инцидент носил все же безобидный характер; из двух
возможных ошибок — употребить раствор морфина вместо
капель или впрыснуть глазные капли я избрал несравненно
более безобидную. И вопрос все же остается в силе:
позволительно ли в случаях таких ошибочных действий, которые
могут повлечь за собой большую беду, также предполагать
бессознательное намерение, подобно тому, как в
рассмотренных нами примерах?
Для решения этого вопроса у меня, как и следует
ожидать, нет достаточного материала, и мне приходится
ограничиваться предположениями и аналогиями. Известно, что
1 Это «сон Эдипа», как я его обыкновенно называю, так как ou заключает
в себе ключ к пониманию сказания о царе Элипе. В тексте Софокла ссылка
на такого рода сон вложена в уста Иокасте.
98
Психопатология обыденной жизни
в тяжелых случаях психоневроза в качестве болезненных
симптомов выступают иной раз самоповреждения и что
самоубийство, как исход психического конфликта, никогда не
бывает при этом исключено. Я убедился — и когда-нибудь
возьмусь подтвердить это на вполне выясненных примерах, —
что многие на вид случайные повреждения, совершаемые
такими больными, в сущности не что иное, как
самоповреждения: постоянно сторожащая тенденция самобичевания,
которая обычно проявляется в упреках, делаемых самому себе,
или же играет ту или иную роль в образовании симптомов,—
эта тенденция ловко утилизирует случайно создавшуюся
внешнюю ситуацию или же помогает ей создаться, пока не
получится желаемый эффект — повреждение. Такие явления
наблюдаются весьма нередко даже и в не особенно тяжелых
случаях, и роль, которую играет при этом бессознательное
намерение, сказывается в них в целом ряде особенных черт,
как, например, в том поразительном спокойствии, которое
сохраняют больные при мнимом несчастье1.
Из медицинской практики я хочу вместо многих
примеров рассказать подробно один случай. Одна молодая
женщина упала из экипажа и сломала себе при этом ногу; ей
приходится оставаться в постели в течение ряда недель, и
при этом бросается в глаза, как мало она жалуется на боль
и с каким спокойствием переносит свою беду. Со времени
этого несчастного случая начинается долгая и тяжкая
нервная болезнь, от которой она в конце концов излечивается
при помощи психотерапии. Во время лечения я узнаю
условия, в которых произошел этот несчастный случай, равно
как и некоторые впечатления, предшествовавшие ему.
Молодая женщина гостила вместе со своим мужем, очень
ревнивым человеком, в имении своей замужней сестры, в
многолюдном обществе сестер, братьев, их мужей и жен.
Однажды вечером она показала в этом интимном кругу один из
своих талантов: протанцевала по всем правилам искусства
1 При современном состоянии культуры самоповрсждение, не имеющее
целью полного самоуничтожения, вынуждено либо укрываться за ширмой
случайности, либо прибегать к симулированию внезапного заболевания. Некогда
самоповрсждснис было обычным выражением горя; в иные времена оно могло
служить выражением набожности и отречения от мира.
99
Зигмунд ФРЕЙД
канкан — к великому одобрению родных, но к
неудовольствию мужа, который потом прошептал ей: ты вела себя опять
как девка. Слово это попало в цель; были ли тому виной
именно танцы, для нас не важно. Ночь она спала спокойно.
На следующее утро захотела ехать кататься. Лошадей она
выбирала сама, забраковала одну пару, выбрала другую.
Младшая сестра хотела взять с собой своего грудного
ребенка с кормилицей; против этого она чрезвычайно энергично
запротестовала. Во время поездки она нервничала,
предупреждала кучера, как бы лошади не понесли, и, когда
беспокойные кони действительно закапризничали, выскочила
в испуге из коляски и сломала себе ногу, в то время как
оставшиеся в коляске вернулись целыми и невредимыми.
Зная эти подробности, вряд ли можно сомневаться в том,
что этот несчастный случай был в сущности подстроен, но
вместе с тем нельзя не удивляться той ловкости, с какой она
заставила случай применить наказание, столь
соответствующее ее вине. Ибо теперь ей долгое время уже нельзя было
танцевать канкан.
У себя самого я вряд ли мог бы отметить случаи
самоповреждения в спокойном состоянии, но при исключительных
обстоятельствах они бывают и у меня. Когда кто-нибудь из
моих домашних жалуется, что прикусил себе язык, прищемил
палец и т. д., то вместо того, чтобы проявить ожидаемое
участие, я спрашиваю: зачем ты это сделал? Однако я сам
прищемил себе очень больно палец, когда некий молодой
пациент выразил у меня на приеме намерение (которого, конечно,
нельзя было принять всерьез) жениться на моей старшей
дочери, в то время как я узнал, что она как раз находится в
санатории и ее жизни угрожает величайшая опасность.
У одного из моих мальчиков очень живой темперамент,
и это затрудняет уход за ним, когда он болен. Однажды
утром с ним случился припадок гнева из-за того, что ему
было велено остаться до обеда в кровати, и он грозил
покончить с собой (он прочел о подобном случае в газете).
Вечером он показал мне шишку, которую получил,
стукнувшись левой стороной грудной клетки о дверную ручку. На
мой иронический вопрос, зачем он это сделал и чего хотел
этим добиться, одиннадцатилетний ребенок ответил, словно
100
Психопатология обыденной жизни
по наитию: это была попытка самоубийства, которым я
грозил утром. Не думаю, чтобы мои взгляды на
самоповреждение были тогда доступны моим детям.
Кто верит в возможность полунамеренного
самоповреждения — если будет позволено употребить это неуклюжее
выражение, — тот будет этим самым подготовлен к
другому допущению: что кроме сознательного, намеренного
самоубийства существует еще и полунамеренное
самоуничтожение — с бессознательным намерением, способным ловко
использовать угрожающую жизни опасность и замаскировать
ее под видом случайного несчастья. Это отнюдь не редкость,
ибо число людей, у которых действует с известной силой
тенденция к самоуничтожению, гораздо больше того числа,
у которых она одерживает верх; самоповреждения — это в
большинстве случаев компромисс между этой тенденцией и
противодействующими ей силами; и там, где дело
действительно доходит до самоубийства, там тоже склонность к
этому имеется задолго раньше, но сказывается с меньшей силой
или в виде бессознательной и подавленной тенденции.
Сознательное намерение самоубийства тоже выбирает
себе время, средства и удобный случай; и это вполне
соответствует тому, как бессознательное намерение выжидает
какого-либо повода, который мог бы сыграть известную роль в
ряду причин самоубийства, отвести на себя силу отпора
данного лица и тем высвободить его намерение от связывающих
его сил1. Это отнюдь не праздные рассуждения; мне известен
не один пример случайных по виду несчастий (при верховой
1 Это, в сущности, то же самое, что происходит при покушении
сексуального свойства, когда женщина не может противопоставить нападению мужчины
всей своей мускульной силы, ибо некоторая доля бессознательных движений
ее идет навстречу нападающему. Недаром говорят, что подобное положение
парализует силы женщины; остается к тому прибавить лишь основания,
почему это происходит. В этом смысле остроумный приговор Санчо Пансы, в
бытность его губернатором на острове, психологически несправедлив (Дон Кихот,
II ч., гл. XLV). Женщина привлекает к суду мужчину, который якобы
насильно обесчестил се. Санчо даст ей в качестве возмещения кошелек, взятый у
подсудимого, по после того как женщина ушла, разрешает ему догнать се и
отобрать кошелек. Оба возвращаются, борясь, обратно, и женщина хвастается,
что злодей не в силах был завладеть кошельком. На это Санчо отвечает если
бы ты защищала свою честь так же серьезно, как кошелек, этот человек не мог
бы тебя лишить се.
101
Зигмунд ФРЕЙД
езде или в экипаже), ближайшие условия которых
оправдывают подозрение бессознательно допущенного самоубийства.
Так, например, на офицерских скачках один офицер падает
с лошади и получает столь тяжелые увечья, что некоторое
время спустя умирает. То, как он себя держал, когда пришел
в сознание, во многих отношениях странно. Еще более
заслуживает внимания его поведение до этого. Он глубоко огорчен
смертью любимой матери, начинает в обществе товарищей
судорожно рыдать, говорить своим близким друзьям, что
жизнь ему надоела, хочет бросить службу и принять участие
в африканской войне, которая, вообще говоря, его ничуть не
затрагивает1; блестящий ездок, он теперь избегает верховой
езды где только возможно. Наконец перед скачками, от
участия в которых он не мог уклониться, он говорит о мрачном
предчувствии; что удивительного при таком состоянии, если
предчувствие это сбылось? Мне скажут, что и без того
понятно, что человек в такой нервной депрессии не может так
же справиться с конем, как в здоровом состоянии, вполне
согласен; но механизм того моторного торможения, которое
вызывается нервозностью, я ищу в подчеркнутом здесь
намерении самоубийства.
Если за случайной на первый взгляд неловкостью и
несовершенством моторных актов может скрываться такое
интенсивное посягательство на свое здоровье и жизнь, то
остается сделать еще только шаг, чтобы найти возможным
распространение этого взгляда на такие случаи ошибочных
действий, которые серьезно угрожают жизни и здоровью
других людей. Примеры, которые я могу привести в
подтверждение этого взгляда, заимствованы из наблюдений над
невротиками, стало быть, не вполне отвечают нашему
требованию. Сообщу здесь об одном случае, в котором
собственно не ошибочное действие, а то, что можно бы скорее
назвать симптоматическим или случайным поступком,
навело меня на след, давший затем возможность разрешить кон-
1 Что ситуация на поле сражения идет навстречу сознательному
намерению самоубийства, все еще боящегося прямого пути, это ясно. Ср. в «Валлсн-
штейнс» слова шведского капитана о смерти Макса Пикколомини: «Говорят,
он хотел умереть».
102
Психопатология обыденной жизни
фликт больного. Я взял раз на себя задачу улучшить
супружеские отношения в семье одного очень интеллигентного
человека; недоразумения между ним и нежно любящей его
молодой женой, конечно, имели под собой известные
реальные основания, но, как он сам признавал, не находили себе
в них полного объяснения. Он неустанно носился с мыслью
о разводе, но затем опять отказался от нее, так как нежно
любил своих двоих детей. Все же он постоянно
возвращался к этому плану, причем, однако, не испробовал ни
единого средства, чтобы сделать свое положение сколько-нибудь
сносным. Подобного рода неспособность покончить с
конфликтом служит мне доказательством того, что в деле
замешаны бессознательные и вытесненные мотивы, которые
подкрепляют борющиеся между собою сознательные мотивы, и
в таких случаях я берусь за ликвидацию конфликта путем
психического анализа. Однажды муж рассказал мне про
маленький инцидент, донельзя испугавший его. Он играл со
своим старшим ребенком, — которого любил гораздо
больше, чем второго, — поднимал его кверху и затем опускал
вниз, причем раз поднял на таком месте и так высоко, что
ребенок почти что ударился теменем о висящую на потолке
тяжелую люстру. Почти что, но в сущности не ударился,
или чуть-чуть не ударился. С ребенком ничего не
приключилось, но с испугу у него закружилась голова. Отец в ужасе
остался на месте с ребенком на руках, с матерью сделался
истерический припадок. Та особенная ловкость, с какой
совершено было это неосторожное движение, интенсивность,
с какой реагировали на него родители, побудили меня
усмотреть в этой случайности симптоматическое действие,
в котором должно было выразиться недоброе намерение
по отношению к любимому ребенку. Этому противоречила
нежная любовь отца к ребенку, но противоречие
устранялось, стоило лишь отнести импульс повреждения к тому
времени, когда это был еще единственный ребенок и когда
он был так мал, что отец мог и не относиться к нему с
особенной нежностью. Мне нетрудно было предположить,
что не удовлетворенный своею женою муж имел такую
мысль или намерение: если это маленькое существо, для
меня безразличное, умрет, я буду свободен и смогу развестись
103
Зигмунд ФРЕЙД
с женой. Желание смерти этого, теперь столь любимого
существа должно было, таким образом, бессознательно
сохраниться. Отсюда нетрудно было найти путь к
бессознательной фиксации этого желания. Наличность
могущественного детерминирования действительно выяснилась из детских
воспоминаний пациента — о том, что смерть маленького
брата, которую мать ставила на счет небрежности отца, привела
к резким столкновениям, сопровождавшимся угрозой
развода. В дальнейшей истории семейной жизни моего пациента
моя комбинация нашла себе подтверждение также и в
успешности терапии.
Симптоматические и случайные действия
Описанные выше действия, в которых мы нашли
выполнение того или иного намерения, выступают в форме
нарушения других, преднамеренных, действий и совершаются под
предлогом неловкости. Те случайные действия, о которых мы
будем говорить теперь, отличаются от ошибочных действий
лишь тем, что они не стремятся установить связь с каким-
либо сознательным намерением и в силу этого не нуждаются
в предлогах. Они выступают сами по себе и не встречают
сопротивления, ибо в них никто не подозревает цели и
намерения. Их совершают, «ничего при этом не думая», «чисто
случайно», «чтобы куда-нибудь руки деть», и рассчитывают,
что такой ответ положит конец расследованию о значении
этого поступка. Для того чтобы оказаться в таком
исключительном положении, действия эти, не находящие себе
оправдания в неловкости, должны удовлетворять определенным
условиям: не должны бросаться в глаза, и эффект их должен
быть незначителен.
Я собрал значительное количество такого рода
случайных действий у себя и у других и по тщательному
исследованию отдельных примеров полагаю, что они скорее
заслуживают названия симптоматических действий. Они
выражают нечто, чего в них не подозревает действующий субъект
и что он обычно собирается не сообщать, а оставить при
104
Психопатология обыденной жизни
себе. Таким образом, подобно всем остальным
рассмотренным выше феноменам, они играют роль симптомов.
Конечно, наиболее обильную жатву такого рода
случайных или симптоматических действий мы собираем при
психоаналитическом лечении невротиков. Не могу удержаться,
чтобы не показать, на двух почерпнутых отсюда
примерах, как далеко идет и как тонко бывает проведено
детерминирование этих незаметных явлений бессознательными
мыслями. Грань, отделяющая симптоматические действия от
ошибочных так нечетка, что эти примеры я мог бы отнести
и к предыдущей главе.
а) Молодая женщина рассказывает во время визита, что
ей пришло в голову: вчера, обрезая ногти, она «порезала себе
палец, в то время когда хотела срезать тонкую кожицу у
ногтя». Это настолько неинтересно, что с удивлением
спрашиваешь себя, зачем об этом вспоминать и говорить, и
приходишь к предположению, что имеешь дело с
симптоматическим действием. И действительно, палец, с которым
произошло это маленькое несчастье, был тот самый, на котором
носят обручальное кольцо. Кроме того, это была годовщина
дня ее свадьбы, и это обстоятельство сообщает ранению
тонкой кожицы вполне определенный смысл, который нетрудно
разгадать. Одновременно с этим она рассказывает также сон,
содержащий указания на неловкость ее мужа и на анестезию
ее как женщины. Однако почему она поранила себе палец
левой руки, в то время как обручальное кольцо носят ведь на
правой? Ее муж юрист — «доктор права» \ а когда она была
девушкой, то втайне была неравнодушна к врачу (в шутку:
«доктор слева»). Брак с левой стороны (левой руки) имеет
(в немецком языке) тоже вполне определенное значение.
б) Молодая барышня рассказывает: «Вчера я
совершенно ненарочно разорвала пополам билет в сто гульденов и
дала одну половинку даме, бывшей у меня в гостях. Что, это
тоже симптоматический поступок?» Более тщательное
расследование обнаруживает следующие детали. Билет в сто
гульденов: барышня посвящает часть своего времени и
состояния делам благотворительности. Вместе с другой дамой
По-немецки игра слов: «доктор права» и «доктор правой».
105
Зигмунд ФРЕЙД
она заботится о воспитании одного ребенка-сироты. Билет
в сто гульденов — это присланный ей взнос той, другой
дамы, который она вложила в конверт и пока оставила у себя
на письменном столе.
Посетительница была уважаемая дама, оказавшая ей
содействие в других благотворительных делах. Дама эта
хотела записать себе имена лиц, к которым можно обратиться
за пожертвованиями. Под рукой не было бумаги, и тогда
моя пациентка схватила конверт, лежавший на письменном
столе, и, не думая о его содержимом, разорвала его на две
части, из которых одну оставила у себя, чтобы оставить
копию списка, а другой передала своей посетительнице.
Замечателен безобидный характер этого нецелесообразного
поступка. Как известно, ассигнация не теряет цены, будучи
разорвана, если только из остатков можно составить ее всю
целиком. Что дама не выбросила бы этого куска бумаги,
тому была порукой важность записанных имен; не могло
быть также сомнения и в том, что она вернет ценное
содержимое конверта, лишь только заметит.
Какое же бессознательное намерение должно было
выразиться в этом случайном, совершенном по забывчивости
действии? Посетительница имела вполне определенное
отношение к нашему курсу лечения. Это она в свое время
отрекомендовала меня больной девушке как врача, и, если я не
ошибаюсь, моя пациентка считает себя в долгу перед ней за
этот совет. Не должна ли была половинка ассигнации
изображать нечто вроде гонорара за посредничество? Все же это
было бы в достаточной мере странно.
Однако к этому присоединяется еще и материал иного
рода. За несколько дней до этого посредница совершенно
иного свойства запросила у одной родственницы, не угодно
ли будет барышне познакомиться с неким господином; и
в то же утро, о котором идет речь, за несколько часов до
посещения дамы, она получила от этого господина письмо,
в котором он сделал моей пациентке предложение; по этому
поводу много смеялись. Когда затем дама начала разговор с
вопроса о здоровье моей пациентки, эта последняя могла
подумать: «Подходящего врача ты мне отрекомендовала, но,
если бы ты могла помочь мне найти подходящего мужа (а за
106
Психопатология обыденной жизни
этим скрывалось: получить ребенка), я была бы тебе все же
более благодарна». В силу этой вытесненной мысли обе
посредницы слились для нее воедино и она вручила своей
посетительнице гонорар, предназначавшийся в ее фантазии
для другой. Это решение станет вполне убедительным, если
добавить, что не далее, как накануне вечером, я ей рассказал
про такого рода случайные или симптоматические действия.
Она воспользовалась первым же случаем, чтобы сделать
нечто аналогичное.
Все эти в высшей степени распространенные случайные
и симптоматические действия можно было бы разделить на
две группы, в зависимости от того, происходят ли они в силу
привычки, регулярно при известных обстоятельствах или же
являются актами единичными. Первые (человек играет
цепочкой от часов, щиплет бороду и т. п.), являющиеся едва ли
не характерными для данного лица вообще, близко
соприкасаются с разнообразными формами тика и подлежат
рассмотрению в связи с ними. Ко второй группе я отношу такие
явления, как, например: человек играет палкой, оказавшейся
у него в руках, марает карандашом, подвернувшимся под
руку, бренчит монетами в кармане, лепит из теста или какого-
нибудь другого пластического материала, теребит свое платье
и т.д. За этими различными видами игры систематически
обнаруживается при психическом анализе известный смысл
и значение, не находящие себе иного пути. Обыкновенно
данное лицо и не подозревает о том, что оно нечто подобное
делает или что оно так или иначе видоизменяет свои
обычные жесты; оно не слышит и не видит также и эффекта этих
действий. Оно не слышит, например, шума, который
производит, побрякивая монетами в кармане, и выражет удивление
и недоверие, когда на это обращают его внимание. Полно
значения и заслуживает внимания врача также и все то, что
человек, часто сам того не замечая, проделывает со своим
платьем. Каждое видоизменение обычного костюма, мелкая
неряшливость — скажем, незастегнутая пуговица,— каждый
след обнажения — все это выражает нечто, чего владелец
платья не хочет сказать прямо или в большинстве случаев
даже и не может выразить. Толкование этих мелких
случайных действий, равно как и доказательства для этого толко-
107
Зигмунд ФРЕЙД
вания, вытекают каждый раз с достаточной убедительностью
из сопутствующих условий, в которых происходил данный
визит, из темы разговора, из тех мыслей, которые приходят
в голову данному лицу, когда его внимание обращается на
его якобы случайный поступок. В данной связи я воздержусь
от того, чтобы подкреплять мои утверждения примерами и
анализом их; упоминаю все же об этих вещах потому, что
полагаю, что и в применении к нормальным людям они
имеют то же значение, что и для моих пациентов. Из моего
психотерапевтического опыта я могу привести случай,
когда красноречивое показание было дано рукой, игравшей
хлебным шариком. Моим пациентом был мальчик, еще не
достигший 13 лет, но уже два года страдавший истерией в
тяжелой форме; продолжительное пребывание в
водолечебнице оказалось безрезультатным, и я взял его наконец к
себе для психоаналитического лечения. Я предполагал, что он
должен столкнуться с теми или иными явлениями
сексуального характера и что сообразно с его возрастом его должны
были мучить половые вопросы; я воздерживался, однако, от
того, чтобы прийти ему на помощь своими разъяснениями,
так как хотел еще раз проверить свои предпосылки. Меня
интересовало, каков будет тот путь, которым обозначится
у него искомое.
Мне бросилось тогда в глаза, что он однажды катал что-
то пальцами правой руки, засунул затем в карман,
продолжал там играть, потом опять вытащил и т.д. Я не
спрашивал, что у него в руке; однако он сам показал мне это,
раскрыв вдруг руку. Это был хлебный мякиш, смятый в комок.
В следующий раз он опять принес с собой такой комок, и
в то время как мы беседовали, он лепил из него с
невероятной быстротой, закрыв глаза, фигуры, которые меня
заинтересовали. Это были, несомненно, человечки с головой,
двумя руками, двумя ногами, нечто вроде грубейших
доисторических идолов; между ногами у них он оставлял отросток,
который он вытягивал в виде длинного острия. Закончив
отросток, мальчик тотчас же вновь комкал человечка,
впоследствии он его оставлял, но вытягивал такой же отросток
на спине и других местах, чтобы скрыть значение первого.
Я хотел ему показать, что понял его, но при этом устранить
108
Психопатология обыденной жизни
возможность отговорки начет того, что он, мол, при этой
лепке человечков ни о чем не думает. С этой целью я
спросил его внезапно, помнит ли он историю римского царя,
который дал посланнику своего сына ответ в саду путем
пантомимы. Мальчик не хотел этого припомнить, хотя
должен был учить об этом несравненно позднее меня. Он
спросил, не история ли это с рабом, у которого написали ответ
на гладко выбритом черепе. Нет, это относится к греческой
истории, ответил я и стал рассказывать. Царь Тарквиний
Гордый велел своему сыну Сексту пробраться во
враждебный латинский город. Сын, успевший завербовать себе
сторонников в этом городе, послал к царю гонца с вопросом,
что ему делать дальше. Царь ничего не ответил, пошел в сад,
велел там повторить вопрос и молча стал сбивать самые
большие и красивые головки мака. Гонцу не осталось ничего
другого, как рассказать об этом Сексту, который понял отца
и нашел удобный случай, чтобы убить наиболее видных
граждан города.
В то время как я говорил, мальчик перестал лепить, и
когда я еще только начал рассказывать о том, что сделал
царь в своем саду, то уже при словах «молча стал сбивать»
он молниеносно, быстрым движением оторвал своему
человечку голову. Стало быть, он меня понял и заметил, что
понят мною. Теперь я мог прямо поставить ему вопросы,
дал нужные ему разъяснения, и в течение короткого
времени мы покончили с неврозом.
Симптоматические действия, которые можно наблюдать в
неисчерпаемом изобилии как у здоровых, так и у больных
людей, заслуживают нашего внимания по многим причинам.
Врачу они служат часто ценными указаниями для
ориентировки в новых или недостаточно знакомых ему условиях;
наблюдателю человеческой жизни они говорят нередко все,
иной раз даже больше, чем он сам хотел бы знать. Кто
умеет их ценить, должен иной раз походить на царя
Соломона, который, по словам восточного предания, понимал язык
зверей. Однажды я должен был подвергнуть медицинскому
осмотру незнакомого мне молодого человека в доме его
матери. Когда он вышел мне навстречу, мне бросилось в глаза
на его брюках большое пятно белка, которое можно узнать
109
Зигмунд ФРЕЙД
по особым затверделым краям. После нескольких секунд
смущения молодой человек стал оправдываться, что он
охрип и выпил поэтому сырое яйцо, причем несколько
капель жидкого белка, очевидно, и вылились на его брюки; в
подтверждение этого он мог показать мне яичную скорлупу,
которая еще осталась на тарелке в той же комнате. Таким
образом, подозрительное белое пятно было объяснено самым
безобидным образом; однако, когда его мать оставила нас
одних, я поблагодарил его за то, что он так облегчил мне
диагноз, и без дальнейших вопросов взял за основу нашего
разговора его признание, что он страдает онанизмом. Другой
раз я посетил на дому некую столь же богатую, сколько
скупую и глупую даму, ставившую обычно перед врачом задачу
прокладывать себе дорогу через целое полчище жалоб, пока
не доберешься до самого простого объяснения ее положения.
Когда я вошел, она сидела за небольшим столом и
занималась тем, что раскладывала кучками серебряные гульдены;
когда она поднялась, несколько монет упали на пол. Я помог
ей подобрать их и, когда она стала рассказывать о своих
бедствиях, скоро перебил ее вопросом: стало быть, ваш
знатный зять опять вверг вас в расход? Она с озлоблением
отрицала это — с тем, чтобы несколькими минутами спустя
рассказать мне досадную историю о том, как ее взволновала
расточительность зятя. С тех пор она меня уже больше не
приглашала. Не могу сказать, чтобы с теми, кому
объясняешь значение их симптоматических действий, всегда
устанавливались дружеские отношения.
Случайные и симптоматические действия, относящиеся к
области супружеских отношений, имеют зачастую самое
серьезное значение и могли бы заставить человека, не
желающего считаться с психологией бессознательного, уверовать в
примеры. Когда молодая женщина во время свадебного
путешествия теряет свое обручальное кольцо — это дурное
начало; впрочем, обыкновенно оказывается, что она куда-нибудь
заложила его и потом находит. Я знаю одну даму — теперь
она уже развелась с мужем, — которая сплошь да рядом
подписывала свои бумаги — по делам имущества — своей
девичьей фамилией, и это за много лет до того, как она стала ее
вновь носить на самом деле. Однажды я был в гостях у мо-
110
Психопатология обыденной жизни
лодоженов и слышал, как молодая женщина со смехом
рассказывала, что с ней недавно случилось. На следующий день
после возвращения из путешествия она пошла к своей
незамужней сестре, чтобы, как в прежние времена, отправиться с
ней вместе за покупками, в то время как муж ее пошел по
своим делам. Вдруг ей бросился в глаза какой-то господин,
шедший по другой стороне улицы, она толкнула сестру и
вскрикнула: смотри, вот господин Л. Она забыла, что этот
господин уже в течение нескольких недель — ее муж. У меня
мороз пробежал по коже, когда я это услышал; все же я не
решился сделать отсюда соответствующий вывод. Мелкий
инцидент этот вспомнился мне лишь несколько лет спустя,
когда брак этот закончился самым несчастным образом.
О знаменитой артистке Элеоноре Дузе один мой друг,
научившийся внимательно присматриваться к знакам,
рассказывает, что в одной из своих ролей она совершает
симптоматическое действие, ясно показывающее, из каких глубоких
источников идет ее игра. Это драма супружеской неверности;
героиня только что имела объяснение с мужем и стоит
теперь в стороне, погруженная в мысли, в ожидании
соблазнителя. В этот короткий промежуток времени она играет
обручальным кольцом на пальце, снимает его, надевает вновь
и опять снимает. Теперь она созрела уже для другого.
Мне известен также случай с одним пожилым
господином, который взял себе в жены очень юную девушку и
собирался провести свадебную ночь не в дороге, а в одном из
отелей того же города. Едва они успели приехать в отель,
как он с ужасом заметил, что при нем нет бумажника, в
котором лежали все деньги, предназначенные для свадебной
поездки; он сунул его куда-нибудь или потерял. Удалось все
же разыскать при помощи телефона слугу, который нашел
бумажник в старом сюртуке «молодожена» и принес его в
отель своему господину, вступившему таким образом в брак
без состояния. Благодаря этому он мог на другое утро
отправиться со своей молодой женой в дорогу; но в течение
ночи он, как это и предусматривали его опасения, остался
«несостоятельным».
Утешительно думать, что приключающиеся с людьми
«потери» являются чаще, чем мы полагаем, симптоматичес-
111
Зигмунд ФРЕЙД
кими действиями и идут благодаря этому навстречу хотя бы
тайному намерению пострадавшего лица. Потеря бывает
часто лишь выражением того, что человек не дорожит
утраченным предметом, втайне не расположен к этому предмету
или к лицу, от которого он исходит, или, наконец, что
готовность утраты была перенесена на этот предмет с других,
более важных объектов путем символической ассоциации
мыслей. Потеря более ценных вещей служит выражением
для самых разнообразных импульсов, она должна либо
символически представлять вытесненную мысль и, стало быть,
повторять напоминание, которое охотнее всего хотелось бы
пропустить мимо ушей, либо — и это скорее всего — она
стремится принести жертву темным силам судьбы, культ
которых не исчез еще и в нашей среде1.
Из числа единичных случайных действий я приведу
пример, который и без анализа допускает более глубокое
толкование и прекрасно выясняет условия, при которых подоб-
1 Вот маленькая коллекция различных симптоматических действий,
наблюдавшихся у здоровых и у больных людей. Пожилой коллега, не любящий
проигрывать в карты, однажды вечером, не жалуясь, но в каком-то странном,
сдержанном настроении уплачивает довольно значительную проигранную
сумму. После его ухода оказывается, что он оставил на своем месте едва ли не
все, что имел при себе: очки, портсигар, носовой платок. В переводе это должно
означать: «Разбойники! Ловко вы меня ограбили». — Один господин,
страдавший время от времени импотенцией, коренящейся в его искренних отношениях
к матери в детстве, рассказывает о своей привычке снабжать рукописи и записи
буквой S., первой буквой имени его матери. Он ис переносит, чтобы письма из
дому соприкасались на его письменном столе с другими, «нечистыми»
письмами, и вынужден поэтому хранить их отдельно. — Молодая дама вдруг
открывает дверь моей приемной, в которой еще находится предыдущая
посетительница. Она оправдывается тем, что «не подумала»; вскоре, однако,
обнаруживается, что она демонстрировала то же любопытство, которое в свое время
заставляло се проникать в спальню родителей,— Девушки, гордящиеся своими
красивыми волосами, умеют так ловко обходиться с гребнем и шпильками, что
волосы рассыпаются у них во время разговора. — Многие мужчины,
подвергаясь медицинскому исследованию (в лежачем положении), выгребают деньги из
кармана и таким образом вознаграждают труд врача сообразно с тем, как они
его ценят. — Кто забывает у врача предмет, принесенный с собой, например
пенсне, платок, сумку,— показывает этим обыкновенно, что не может
расстаться и хотел бы скоро вернуться. — Кто возьмет на себя труд, подобно Юнгу
(Über die Psychologie der Dementia praecox. 1907. S. 62), проследить те мелодии,
которые напеваешь про себя не нарочно, часто сам того не замечая, тот сможет
установить, в виде общего правила, связь между текстом песни и занимающим
данное лицо комплексом.
112
Психопатология обыденной жизни
ные симптомы продуцируются самым незаметным образом;
в связи с ним уместно будет также одно практически важное
замечание. Летом, во время путешествия мне случилось
в одной местности ждать несколько дней своего спутника.
В это время я познакомился с молодым человеком, который
также чувствовал себя одиноким и охотно составил мне
компанию. Так как мы жили в одном отеле, то естественно
сложилось так, что мы рядом сидели за столом и вместе
совершали прогулки. На третий день он вдруг сообщил мне
после обеда, что ожидает сегодня вечером со скорым
поездом свою жену. Это пробудило во мне интерес психолога,
ибо я еще утром заметил, что мой знакомый отклонил
предложение насчет более крупной экскурсии и во время той
небольшой прогулки, которую мы совершили, не захотел
идти по одной из дорожек — слишком крутой и опасной, по
его мнению. Гуляя после обеда, он стал вдруг говорить о
том, что я, вероятно, голоден, просил, чтобы я не откладывал
из-за него ужина, так как он сам будет ужинать, лишь когда
приедет его жена, вместе с ней. Я понял намек и сел за стол,
когда он отправился на вокзал. На следующее утро мы
встретились в вестибюле отеля. Он представил мне жену и
добавил затем: «Ведь вы позавтракаете с нами?» Мне нужно
было еще сходить кое за чем на ближайшую улицу, и я
обещал вернуться. Когда я вошел в столовую, то увидел, что
мои знакомые уселись за маленьким столиком у окна, заняв
места по одну сторону его. По другую сторону стоял стул,
на спинке которого висел большой тяжелый плащ молодого
человека, покрывая сиденье. Я прекрасно понял смысл этого
размещения, бессознательного, конечно, но тем более
выразительного. Это означало: тебе здесь не место, теперь ты
лишний. Муж не заметил, что я остановился перед стулом,
не садясь; жена заметила это, тотчас же толкнула его и
шепнула ему: «Ты же занял место этого господина!»
В этом, как и в подобных ему случаях, я говорю себе, что
ненамеренные действия должны неминуемо служить
источниками недоразумений в общении между людьми.
Совершающий их, не подозревая связанного с ними намерения, не
вменяет себе их в вину и не считает себя за них
ответственными. Но тот, против кого они направляются, обыкновенно
113
Зигмунд ФРЕЙД
делает из подобных действий своего партнера определенные
выводы о его намерениях и настроениях и знает о его
переживаниях больше, чем тот готов признать, больше, чем тот —
на его собственный взгляд — обнаружил. Партнер в свою
очередь возмущается, если ему ставят на вид сделанные из
его симптоматических действий выводы, считает их ни на
чем не основанными — ибо намерение, руководившее им, не
дошло до его сознания — и жалуется на недоразумение. При
ближайшем рассмотрении такие недоразумения
основываются на том, что наблюдающее лицо понимает слишком тонко и
слишком много. Чем более «нервны» оба действующих лица,
тем скорее они оба подают повод к трениям, причем каждый
столь же решительно отрицает свою вину, сколько уверен в
вине другого. Быть может, в этом и заключается наказание
за внутреннюю неискренность, что люди под предлогом
забвения, ошибки, непреднамеренности дают проявиться
таким импульсам, в которых лучше было бы признаться и
себе самому и другим, если уже нельзя их преодолеть. Можно
установить, как общее правило, что каждый человек
непрестанно подвергает других людей психическому анализу и
благодаря этому знает их лучше, чем самого себя. Путь к
осуществлению призыва ixooi оеоитои (познай себя) ведет
через изучение своих собственных случайных на вид
действий и упущений.
Ошибки
Ошибки памяти отличаются от забывания с
неправильным припоминанием лишь одной чертой; ошибка
(неправильное припоминание) не воспринимается как таковая и
находит себе веру. Употребление слова «ошибка» связано,
однако, с другим условием. Мы говорим об «ошибке» вместо
того, чтобы говорить о «неправильном воспоминании» тогда,
когда в воспроизводимом психическом материале должен
быть подчеркнут характер объективной реальности, когда,
стало быть, воспоминанию подлежит не факт моей
внутренней психической жизни, а нечто поддающееся подтвержде-
114
Психопатология обыденной жизни
нию или опровержению при помощи припоминания других
людей. Противоположностью ошибкам памяти в этом
смысле является незнание.
В моей книге Die Traumdeutung (1900 год) я допустил
целый ряд искажений исторического и вообще фактического
материала и был очень удивлен, когда после выхода книги в
свет на них обратили мое внимание. При более близком
рассмотрении я нашел, что причиной тому было не мое незнание,
а ошибки памяти, которые можно объяснить путем анализа.
а) На стр. 266 я говорю, что Шиллер родился в Марбур-
ге — название города, встречающееся также в Штирии.
Ошибка сделана в изложении анализа одного сна, который
я видел во время ночной поездки, когда кондуктор разбудил
меня, выкрикнув название Марбург. В этом сне был задан
вопрос об одной книге Шиллера. Но Шиллер родился не в
университетском городе Марбурге, а в швабском Марбахе.
Я утверждаю, что всегда знал это.
б) На стр. 135 я назвал отца Ганнибала — Гасдрубалом.
Эта ошибка была мне особенно досадна, но зато и больше
всего убедила меня в правильности моего взгляда на такого
рода ошибки. В истории Баркидов редкий из читателей более
осведомлен, чем автор, сделавший эту ошибку и
проглядевший ее при корректировании книги. Отцом Ганнибала был
Гамилъкар Барка, Гасдрубал — имя брата Ганнибала, а также
и его шурина и предшественника на посту полководца.
в) На стр. 177 и 370 я утверждаю, что Зевс оскопил и
сверг с престола своего отца Кроноса. Злодеяние это я по
ошибке передвинул на целое поколение; в греческой
мифологии это сделал Кронос со своим отцом Ураном.
Как же объяснить, что моя память изменила мне здесь,
в то время как в других случаях, как в этом могут убедиться
читатели моей книги, к моим услугам оказывается самый
отдаленный и малоупотребительный материал? И затем,
каким образом при трех тщательнейших корректурах я
проглядел эти ошибки, словно пораженный слепотой?
Гёте сказал про Лихтенберга: когда он шутит, то в его
шутке таится проблема. По аналогии с этим можно было бы
сказать про приведенные здесь места моей книги: где
встречается ошибка, там за ней скрывается вытеснение. Или вер-
115
Зигмунд ФРЕЙД
нее: неискренность, искажение, в последнем счете
основывающееся на вытеснении. При анализе снов, приводимых в этой
книге, я был вынужден по самой природе тех тем, на которые
распространялось содержание снов, с одной стороны,
обрывать анализ, не доводя его до полного окончания, с другой же
стороны, смягчить ту или иную нескромную частность, слегка
искажая ее. Иначе нельзя было поступить, разве что
отказаться вообще от приведения примеров; у меня не было
выбора, это неизбежно вытекало из особенности, присущей снам:
служить выражением для вытесненного, т. е. не подлежащего
сознанию материала. Несмотря на это, все же осталось,
вероятно, немало такого, что могло шокировать щепетильных
людей. Это-то искажение или ощущение известного мне
продолжения мыслей не прошло бесследно. То, что я хотел подавить,
нередко прокладывало себе против моего желания дорогу в
область того, что было мной включено в изложение, и
проявлялось там в форме ошибок, незаметных для меня. В основе
всех трех приведенных мной выше примеров лежит, впрочем,
одна и та же тема: ошибки эти коренятся в вытесненных
мыслях, касающихся моего покойного отца.
Примеры:
а) Кто даст себе труд прочесть проанализированный на
стр. 266 сон, тот заметит — частью прямо, частью из
намеков, — что я оборвал анализ на мыслях, которые должны
были заключать в себе недоброжелательную критику моего
отца. Если продолжать этот ряд мыслей и воспоминаний, то
в нем можно найти одну неприятную историю, в которой
замешаны книги и некий господин, с которым мой отец вел
дела, по фамилии Марбург — то же имя, которое выкрикнул
разбудивший меня кондуктор. При анализе я хотел скрыть
этого господина от себя и от читателей; он отомстил за себя,
забравшись туда, где ему быть не следовало, и превратив
название родины Шиллера из Марбаха в Марбург.
б) Ошибка, благодаря которой я написал Гасдрубал
вместо Гамилькара — имя брата вместо имени отца, была сделана
как раз в такой связи, в которой дело касалось моих
гимназических мечтаний о Ганнибале и моего недовольства
поведением отца по отношению к «врагам нашего народа». Я мог
бы продолжить изложение и рассказать, как мое отношение
116
Психопатология обыденной жшнш
к отцу изменилось после поездки в Англию, где я
познакомился с живущим там сводным братом, сыном отца от
первого брака. У моего брата есть старший сын, одного возраста
со мной; так что, поскольку дело шло о возрасте, ничто не
нарушало моих мечтаний о том, как все было бы иначе, если
бы я был сыном не своего отца, а брата. Эти подавленные
мной мечтания и исказили текст моей книги в том месте, где
я оборвал анализ, — заставили меня поставить на место
имени отца имя брата.
в) Влиянию воспоминаний о том же брате я приписываю
и третью ошибку, когда я передвинул на целое поколение
мифическое злодеяние из мира греческих богов. Из числа
того, в чем меня убеждал мой брат, одно осталось у меня
надолго в памяти. «Что касается образа жизни, — сказал он
мне, — то не забывай одного: ты принадлежишь, в сущности,
не ко второму, а к третьему поколению, считая от отца». Наш
отец женился впоследствии вторично и был, таким образом,
намного старше своих детей от второго брака. Указанную
ошибку я сделал как раз в том месте книги, где говорю о
чувстве почтения, связывающем родителей и детей.
Несколько раз случалось также, что мои друзья и
пациенты, чьи сны я излагал или намекал на них при анализе,
обращали мое внимание на то, что я неточно передаю пережитое
нами совместно. Это были опять исторические ошибки.
После исправления я рассмотрел отдельные случаи и опять-таки
убедился, что припомнил неправильно фактическую сторону
дела лишь там, где при анализе я что-то намеренно исказил
или скрыл. Здесь опять, стало быть, незамеченная ошибка
играет роль реванша за намеренное умолчание или вытеснение.
От такого рода ошибок, коренящихся в вытеснении,
резко отличаются другие ошибки, основывающиеся на
действительном незнании. Например, незнанием объясняется, что
я раз на прогулке в Вахау думал, что посетил место
пребывания революционера Фишгофа. Здесь имелось лишь
совпадение имен: Эммерсдорф Фишгофа лежит в Каринтии. Но
я этого просто не знал.
Еще одна пристыдившая меня и вместе с тем
поучительная ошибка — пример временного невежества, если можно
так выразиться. Один пациент напомнил мне как-то о моем
117
Зигмунд ФРЕЙД
обещании дать ему две книги о Венеции, по которым он
хотел подготовиться к своему пасхальному путешествию.
Я их отложил уже, ответил я и пошел за ними в свою
библиотеку. На самом деле я забыл отобрать их, ибо был не
особенно доволен поездкой моего пациента, в которой видел
ненужное нарушение курса лечения и материальный ущерб
для врача. В библиотеке я на скорую руку отыскиваю те две
книги, которые имел в виду. Одна из них — «Венеция как
город искусства»; кроме этого, у меня должно быть еще одно
историческое сочинение из подобной же серии. Верно, вот
оно: «Медичи»; беру его, несу к ожидающему меня пациенту
с тем, чтобы в смущении признать свою ошибку. Ведь я же
знаю, что Медичи ничего общего не имеют с Венецией, но
в данный момент я в этом не увидел ничего неправильного.
Пришлось быть справедливым; я так часто указывал моему
пациенту на его собственные симптоматические действия,
что спасти свой авторитет я мог, лишь честно признав
скрытые мотивы моего предрасположения против его поездки.
В общем, удивляешься, насколько стремление к правде
сильнее у людей, чем обыкновенно предполагаешь. Быть
может, это результат моих работ над психическими анализами,
но я не могу лгать. Стоит мне сделать попытку в этом
направлении, и я тотчас же совершаю какую-нибудь ошибку
или другое ошибочное действие, которым моя неискренность
выдает себя; так и было в тех примерах, которые я уже
привел, и некоторые приведу еще ниже.
Среди всех дефектных актов механизм ошибки
обнаруживает наименьшую связность; иными словами, наличность
ошибки свидетельствует лишь в самой общей форме о том,
что соответствующей душевной деятельности приходится
выдерживать борьбу с какой-либо помехой, причем самый
характер ошибки не детерминируется свойствами скрытой
расстраивающей идеи. Следует, однако, задним числом
заметить, что во многих несложных случаях обмолвок и описок
надо предположить то же самое.
Каждый раз, когда мы совершаем обмолвку или описку,
мы имеем право заключить о наличности помехи в виде
душевных процессов, лежащих вне нашего намерения; надо,
однако, допустить, что обмолвки и описки нередко повинуются
118
Психопатология обыденной жизни
законам сходства, удобства или стремления ускорить
процесс, причем фактору, играющему роль помехи, не удается
наложить свою собственную печать на ошибку,
получающуюся в результате обмолвки или описки. Лишь
благоприятный словесный материал дает возможность
детерминировать ошибку, но вместе с тем он ставит ей также и предел.
Чтобы не ограничиваться лишь своими собственными
ошибками, приведу еще два примера; их с тем же
основанием можно было бы отнести в разряд обмолвок и действий,
совершаемых по ошибке, но при равноценности всех этих
явлений это не играет роли.
а) Я запретил своему пациенту вызывать по телефону
женщину, с которой он собирался порвать, так как всякий
разговор вновь разжигает борьбу, связанную с отвыканием.
Предлагаю ему сообщить ей письменно свое последнее слово,
хотя и есть некоторые трудности в доставке писем. В час дня
он приходит ко мне и сообщает, что нашел путь, чтобы
обойти эти трудности, и спрашивает между прочим, может ли он
сослаться на мой авторитет как врача. Два часа он занят
составлением письма, но вдруг прерывает писание и говорит
находящейся тут же матери: «Я забыл спросить профессора,
можно ли упомянуть в письме его имя», спешит к телефону,
просит соединить себя с таким-то номером и спрашивает
в трубку: «Господин профессор уже пообедал? Можно его
попросить к телефону?» В ответ на это раздается
изумленное: «Адольф, ты с ума сошел?» — тот именно голос,
которого он, согласно моему предписанию, не должен был
больше слышать. Он «лишь ошибся» и вместо номера врача
сказал номер любимой женщины.
б) В одной дачной местности некий школьный учитель,
бедняк, но красивый молодой человек, до тех пор ухаживал
за дочерью некоего столичного домовладельца, пока девушка
не влюбилась в него страстно и не убедила свою семью
согласиться на их брак, несмотря на разницу в положении и на
расовые различия. Однажды учитель пишет письмо брату, в
котором говорится: «Девчурка совершенно не красива, но она
очень мила, и этого было бы достаточно. Но решусь ли я
жениться на еврейке, не могу тебе еще сказать». Письмо это
попадает в руки невесте, и брак расстраивается; в это же вре-
119
Зигмунд ФРЕЙД
мя брат изумляется любовным излияниям, адресованным ему.
Лицо, сообщившее мне об этом, уверяло меня, что здесь была
ошибка, а не ловко подстроенная комбинация. Известен мне
еще один случай, когда дама, недовольная своим прежним
врачом, но не хотевшая ему прямо отказать, тоже перепутала
письма; и этом случае, по крайней мере, и я могу
удостоверить, что этот обычный водевильный прием был применен не
в силу сознательной хитрости, а в результате ошибки.
Быть может, читатели будут склонны считать объясненную
здесь группу ошибок мало распространенной и не особенно
важной. Я хочу, однако, обратить их внимание на то, не
имеем ли мы основания рассматривать с той же точки зрения
также и ошибочные суждения людей в жизни и науке. Быть
может, лишь избранные и наиболее уравновешенные умы
способны уберечь картину воспринятой ими внешней
действительности от того искажения, которое она терпит, проходя
через психическую индивидуальность воспринимающего лица.
Комбинированные дефектные действия
Два из приведенных в предыдущей главе примеров — моя
ошибка с Медичи, перенесенными мной в Венецию, и ошибка
молодого человека, добившегося, несмотря на запрет,
возможности поговорить по телефону со своей возлюбленной, —
описаны мной, собственно, неточно и при более тщательном
рассмотрении оказываются комбинацией из забвения и ошибки.
Такая же комбинация может быть еще яснее показана на
других примерах.
а) Один мой друг рассказывает мне следующий случай.
Несколько лет тому назад — говорит он — я согласился быть
избранным в члены бюро одного литературного общества,
предполагая, что общество поможет мне добиться
постановки моей драмы, и регулярно, хотя и без особого интереса,
принимал участие в заседаниях, проходивших каждую
пятницу. Несколько месяцев тому назад я получил обещание,
что моя пьеса будет поставлена в ф-ском театре, и с тех пор
я стал регулярно забывать о заседаниях этого общества. Ко-
120
Психопатология обыденной жизни
гда я прочел вашу книгу об этих вещах, я сам устыдился
своей забывчивости, стал упрекать себя — некрасиво, мол,
манкировать теперь, когда я перестал нуждаться в этих
людях, — и решил в следующую пятницу непременно не
позабыть. Все время я помнил об этом намерении, пока наконец
не выполнил его. Но когда я пришел в помещение общества,
то, к моему удивлению, двери были закрыты, заседание уже
состоялось. Я ошибся днем: была уже суббота!
б) Следующий пример представляет собой комбинацию
симптоматического действия и закладывания предметов; он
дошел до меня далекими окольными путями, но источник
вполне достоверен.
Одна дама едет со своим шурином, знаменитым
художником, в Рим. Живущие в Риме немцы горячо чествуют
художника и между прочим подносят ему в подарок античную
золотую медаль. Дама недовольна тем, что ее шурин
недостаточно ценит эту красивую вещь. Смененная своей сестрой и
вернувшись домой, она, раскладывая свои вещи, замечает,
что неизвестно каким образом захватила с собой медаль. Она
тотчас же пишет об этом шурину и уведомляет его, что на
следующий день отошлет увезенную ею вещь в Рим. Однако
на следующий день медаль так искусно запрятана куда-то,
что нет возможности найти ее и отослать; и тогда дама
начинает смутно догадываться, что означала ее рассеянность:
желание оставить вещь у себя.
Не стану утверждать, чтобы подобные случаи
комбинированных погрешностей могли нам дать что-либо новое, что не
было бы известно уже из примеров отдельных погрешностей,
но смена форм, ведущих, однако, все к тому же результату,
создает еще более выпуклое впечатление наличности воли,
направленной к достижению определенной цели, и гораздо
более резко противоречит взгляду, будто ошибочное
действие является чем-то случайным и не нуждается в
истолковании. Обращает на себя внимание также и то, что в этих
примерах сознательному намерению никак не удается помешать
успеху ошибочного действия. Моему другу так и не удается
посетить заседание общества, дама оказывается не в
состоянии расстаться с медалью. Если один путь оказывается
прегражденным, тогда то неизвестное, что противится нашим
121
Зигмунд ФРЕЙД
намерениям, находит себе другой выход. Для того чтобы
преодолеть неизвестный мотив, требуется еще нечто другое,
кроме сознательного встречного намерения: нужна психическая
работа, доводящая до сознания неизвестное.
Детерминизм,
вера в случайности и суеверие.
Общие замечания
В качестве общего вывода из всего сказанного выше об
отдельных феноменах можно установить следующее
положение. Известные недостатки наших психических функций —
общий характер которых будет ниже приведен более точно —
и известные непреднамеренные на вид отправления
оказываются, будучи подвергнуты психоаналитическому
исследованию, вполне мотивированными и детерминированными,
причем мотивы их скрыты от сознания.
Для того чтобы быть отнесенным к разряду объясняемых
таким образом феноменов, психическое дефектное действие
должно удовлетворять следующим условиям.
а) Оно не должно выходить за известный предел,
установленный нашим суждением и обозначенный словами «в
границах нормального».
б) Оно должно носить характер временного и
преходящего расстройства. Нужно, чтобы то же действие перед этим
выполнялось правильно или чтобы мы считали себя
способными в любой момент выполнить его. Если нас поправит
кто-либо другой, нужно, чтобы мы тотчас же увидели, что
поправка верна, наш же психический акт неправилен.
в) Если мы вообще не замечаем погрешность, мы не
должны отдавать себе отчета ни в какой мотивировке;
наоборот, нужно, чтобы мы были склонны объяснять ее
«невнимательностью» или «случайностью».
Таким образом, в этой группе остаются случаи забывания,
ошибки в таких вещах, которые знаешь, обмолвки, описки,
очитки, ошибочные движения и так называемые случайные
действия. Одинаково присущая большинству этих обозначе-
122
Психопатология обыденной жизни
ний в немецком языке частица Ver (Vergessen, Versprechen,
Verlesen, Verschreiben, Vergreifen)1 указывает уже в самой
терминологии на их внутреннее единообразие. Выясняя
определенные таким образом психические явления, мы
приходим к ряду указаний, которые должны отчасти иметь и более
широкий интерес.
I. Отрицая преднамеренность за некоторой частью наших
психических актов, мы преуменьшаем значение
детерминирования в душевной жизни. Это последнее здесь, как и в других
областях, идет гораздо дальше, чем мы думаем. В 1900 году в
статье в Zeit историк литературы R. М. Meyer показал и
выяснил на примерах, что нет возможности сознательно и
произвольно сочинить бессмыслицу. Мне уже давно известно,
что нельзя вполне произвольно вызвать в своем воображении
какое-либо число или имя. Если исследовать любое
произвольное на вид, скажем, многозначное число, названное якобы
в шутку или от нечего делать, то обнаружится столь строгое
детерминирование, которое действительно кажется
невозможным. Я хочу разобрать сперва вкратце один пример
произвольного выбора имени, а затем более подробно
проанализировать аналогичный пример с числом, «сказанным наугад».
а) Подготавливая к печати историю болезни одной из
моих пациенток, я раздумываю над тем, какое бы имя дать
ей в моей работе. Выбор, казалось бы, очень велик; конечно,
некоторые имена уже заранее исключаются — прежде всего
настоящее имя, затем имена членов моей семьи, которые
меня коробили бы, затем, быть может, еще какие-нибудь
женские имена, особенно странно звучащие; но вообще мне
не приходится стесняться в выборе имен. Можно было бы
ожидать, и я действительно ожидаю, что в моем
распоряжении окажется множество женских имен.
Вместо этого всплывает только одно, и никакое другое не
сопровождает его: Дора. Задаюсь вопросом о его
детерминировании. Кто носит имя Дора? Первое, что мне приходит в
голову и что мне хочется отбросить как нечто бессмысленное:
так зовут няньку моей сестры. Однако я обладаю достаточной
1 По-русски ей соответствует частица «об» (обмолвки, описки) и отчасти
«за» (забывание, закладывание). — Примеч. пер.
123
Зигмунд ФРЕЙД
выдержкой или достаточной опытностью в анализах, чтобы
удержать пришедшую мне в голову мысль и продолжить
нить. Тотчас же мне вспоминается мелкий случай,
происшедший прошлым вечером, случай, несущий с собой искомое
детерминирование. В столовой у моей сестры я видел на столе
письмо с надписью: «Г-же Розе В.». Я удивлен и спрашиваю,
кто это; мне отвечают, что мнимая Дора называется
собственно Розой, но должна была при поступлении к моей сестре
переменить имя, потому что так же звали и сестру. Я говорю
с соболезнованием: бедные люди, даже имени своего они не
могут сохранить за собой! Как я теперь припоминаю, я на
минуту замолчал и стал размышлять о всякого рода
серьезных вещах, которые как-то расплылись тогда, но которые
теперь я мог бы легко вызвать в своем сознании. Когда я затем
на следующий день искал имя для лица, которому нельзя
было сохранить свое собственное имя, мне пришла в голову
именно «Дора». То обстоятельство, что мне пришло на ум
только одно это имя, основывается здесь на прочной
внутренней связи, ибо в истории моей пациентки влияние, сыгравшее
решающую роль также и в ходе ее лечения, исходило от лица,
служащего в чужом доме, — от гувернантки.
Этот мелкий случай имел спустя несколько лет
неожиданное продолжение. Однажды, разбирая в своей лекции
давно уже опубликованную историю болезни девушки,
которую я так и назвал Дорой, я вспомнил, что одна из моих
двух слушательниц тоже носит имя Дора, произносимое
мною так часто в самых различных комбинациях; я
обратился к этой студентке, с которой был знаком лично, с
извинением: я, право, не подумал о том, что вас так зовут, охотно
заменю для лекций это имя другим. Предо мной была, таким
образом, задача быстро выбрать другое имя, причем я имел
в виду, как бы мне не напасть на имя другой слушательницы
и не дать, таким образом, дурного примера опытным уже
в психоанализе студентам. Я был очень доволен, когда
вместо Доры мне пришло в голову имя Эрна, которым и
воспользовался в своей лекции. По окончании лекции я
спросил себя, откуда же могло взяться имя Эрна, и не мог не
рассмеяться, ибо заметил, что как раз то, чего я боялся, все
же случилось при выборе нового имени, хотя и частично.
124
Психопатология обыденной жизни
Фамилия второй студентки была — Люцерна; половина
этого слова — Эрна.
б) В письме к другу я сообщаю ему, что закончил с
корректурой Traumdeutung и не желаю больше ничего изменять
в этой работе, «будь в ней даже 2467 ошибок». Тотчас же я
пытаюсь выяснить себе происхождение этого числа и
присоединяю этот маленький анализ в качестве post scriptum к
письму. Лучше всего будет, если я процитирую то, что
написал тогда же, когда поймал себя на месте преступления.
«На скорую руку еще одно маленькое сообщение на тему
о психопатологии повседневной жизни. Ты найдешь в
письме цифру 2467; ею я определяю произвольно, в шутку,
число ошибок, которые окажутся в моей книге о снах. Я хотел
этим сказать — любое большое число; и в голову пришла
эта цифра. Но так как в области психического нет ничего
произвольного, недетерминированного, то ты с полным
правом можешь ожидать, что здесь бессознательное
поспешило детерминировать число, которое в моем сознании не
было связано ничем. Непосредственно перед этим я прочитал
в газете, что некий генерал Е. М. вышел в отставку в звании
фельдцейхмейстера. Надо тебе сказать, что этот человек
интересует меня. Когда я еще отбывал в качестве медика
военную службу, он — тогда еще полковник — пришел однажды
в приемный покой и сказал врачу: «Вы должны меня
вылечить в неделю, потому что мне нужно выполнить работу,
которую ждет император». Я поставил себе тогда задачу
проследить карьеру этого человека, и вот теперь (в 1899
году) он ее закончил — фельдцейхмейстером и уже в
отставке. Я хотел высчитать, во сколько лет он проделал этот
путь, и исходил при этом из того, что видел его в госпитале
в 1882 году. Стало быть, в 17 лет. Я рассказал об этом
жене, и она заметила: «Стало быть, ты тоже должен уже быть
в отставке?» Я запротестовал: «Боже меня избави от этого».
После этого разговора я сел за стол, чтобы написать тебе
письмо. Но прежний ход мыслей продолжался, и не без
основания. Я неверно сосчитал; о том свидетельствует
имеющаяся у меня в воспоминаниях спорная точка. Мое
совершеннолетие — стало быть, 24-й год — я отпраздновал на
гауптвахте (за самовольную отлучку). Это было, значит, в
125
Зигмунд ФРЕЙД
1880 году — 19 лет тому назад. Вот уже цифра 24,
заключающаяся в числе 2467! Теперь возьми мой возраст — 43 —
и прибавь к нему 24 года и получишь — 67. То есть: на
вопрос, хочу ли я тоже выйти в отставку, я мысленно
прибавил себе еще 24 года работы. Очевидно, я огорчен тем,
что за тот промежуток времени, в течение которого я следил
за полковником М., я сам не пошел так далеко и вместе с
тем испытываю нечто вроде триумфа по поводу того, что
он уже конченый человек, в то время как у меня еще все
впереди. Не правда ли, можно с полным основанием
сказать, что даже и ненамеренно набросанное число 2467 не
лишено своего детерминирования, идущего из области
бессознательного?»
Со времени этого первого объяснения якобы
произвольно выбранных чисел я неоднократно повторял этот опыт с
тем же успехом; однако большинство случаев настолько
интимно по своему содержанию, что не поддается передаче.
Именно поэтому я и не хочу упустить случая привести
здесь весьма интересный анализ, который мой коллега д-р
Альфред Адлер получил от знакомого ему, «совершенно
здорового» корреспондента1. А. пишет мне: «Вчера вечером я
взялся за „Психопатологию обыденной жизни" и прочел бы
всю книгу до конца, если бы мне не помешал замечательный
случай. Когда я прочел о том, что всякое число, которое мы,
казалось бы, совершенно произвольно вызываем в своем
сознании, имеет определенный смысл, я решил сделать опыт.
Мне пришло в голову число 1734. Вслед за этим мне
приходит на мысль одно за другим следующее: 1734 : 17 = 102;
102 : 17 = 6. Затем я расчленяю задуманное число на 17 и
34. Мне 34 года. Как я уже сам, кажется, сказал однажды, я
смотрю на 34-й год как на последний год молодости и
потому последний раз в день моего рождения чувствовал себя
отвратительно. К концу 17-го года для меня начался очень
отрадный и интересный период развития. Я делю свою
жизнь на циклы, по 17 лет каждый. Что должны обозначать
эти доли? По поводу 102 мне приходит на мысль, что № 102
1 Adler Alf. Drei Psycho-Analysen von Zahleneinfällen und obsedierenden
Zahlen // Psych.-Ncur. Wochenschrift. 1905. Nr. 28.
126
Психопатология обыденной жизни
рекламной Universalbibliothek содержит пьесу Коцебу:
„Ненависть к людям и раскаяние".
Мое теперешнее психическое состояние — это ненависть
к людям и раскаяние. №6 рекламной библиотеки (я знаю
наизусть множество номеров) — это „Вина" Müllner'a. Меня
неустанно мучает мысль, что я по своей вине не стал тем,
чем мог бы стать в силу своих способностей. Далее мне
приходит в голову, что №34 той же библиотеки содержит
рассказ Müllner'a же под названием Der Kaliber. Разделяю
это слово на Kaliber; далее мне приходит в голову, что оно
заключает в себе слова Ali и Kali. Это напоминает мне о том,
что я однажды подыскивал с моим (шестилетним) сыном
Али рифмы. Я предложил ему найти рифму к Ali. Ему
ничего не приходило на ум, и, когда он попросил меня дать
ему рифму, я сказал: Али полощет рот гипермарганцевым
кали. Мы много смеялись, и Али был очень мил. В
последние дни мне пришлось, однако, с досадой констатировать,
что он не милый Али — dass er „ka (kein) lieber Ali sei".
Я спросил себя затем, что содержит в себе № 17
рекламной библиотеки, и не мог этого доискаться. Но раньше я,
наверное, знал это; стало быть, надо допустить, что я хочу
позабыть это число. Все попытки вспомнить были напрасны.
Я хотел читать дальше, но читал чисто механически, не
понимая ни слова, так как меня мучило число 17. Я погасил
лампу и продолжал искать. Наконец мне пришло на ум, что
№ 17 — это, должно быть, вещь Шекспира. Но какая? Мне
приходит в голову: Геро и Леандр. Очевидно — нелепая
попытка моей воли сбить меня со следа. Наконец я встаю и
отыскиваю каталог. № 17 — это „Макбет". К моему
смущению, я должен констатировать, что я из этой вещи почти
ничего не помню, хотя она и занимала меня не меньше, чем
другие драмы Шекспира. Мне вспоминается только: убийца,
леди Макбет, ведьмы, „красивое уродство" и также еще и то,
что в свое время мне очень понравилась обработка Макбета
Шиллером. Нет сомнения, стало быть, что я хотел забыть
эту вещь. Приходит мне в голову еще одно: 17 и 34,
деленное на 17, составляют 1 и 2. № 1 и 2 рекламной
библиотеки — это „Фауст" Гёте. В прежнее время я находил в себе
очень много фаустовского».
127
Зшмунд ФРКАЦ
Приходится сожалеть о том, что в силу вынужденной
скрытности врача мы не можем понять значения этого ряда
мыслей. Адлер замечает, что синтез всех этих рассуждений
не удался данному лицу. Впрочем, их и не стоило бы
сообщать, если бы в дальнейшем не выступило нечто, дающее
нам ключ к пониманию числа 1734 и всего ряда мыслей.
«Сегодня утром со мной действительно случилось нечто,
говорящее много в пользу правильности фрейдовских
взглядов. Жена моя, которую я разбудил, вставая ночью, спросила
меня, зачем мне понадобился каталог. Я рассказал ей всю
историю. Она нашла, что все это вздор, и (это очень интересно!)
признала значение только за „Макбетом", от которого я так
хотел отделаться. Она сказала, что ей ничего не приходит в
голову, когда она задумывает какое-нибудь число. Я ответил:
„Сделаем опыт". Она называет число 117. Я тотчас же
возражаю на это: „17 относится к тому, что я тебе рассказал. Далее,
вчера я сказал тебе: если жене 82 года, а мужу 35, то это
ужасное несоответствие". Последние дни я дразню жену тем,
что она, мол, старая 82-летняя бабушка. 82 + 35 - 117».
Таким образом, человек, который сам не мог
детерминировать свое число, тотчас же нашел решение, когда жена
назвала ему якобы произвольно выбранное число. На самом
деле жена прекрасно поняла, из какого комплекса взялось
число ее мужа, и выбрала свое число из того же комплекса,
несомненно общего для обоих этих лиц, так как речь шла
об отношении между их возрастами. Теперь нам нетрудно
истолковать число мужа. Оно выражает, как на это и
указывает д-р Адлер, подавленное желание мужа, которое,
будучи вполне развито, гласило бы: «человеку 34 лет, как я,
под стать только семнадцатилетняя жена».
Во избежание пренебрежительного отношения к
подобного рода «забавам» добавлю, что, как я недавно узнал от
д-ра Адлера, человек этот через год после опубликования
этого анализа развелся с женой1.
1 Для объяснения «Макбета», № 17 рекламной библиотеки, Адлер
сообщает мне, что данное лицо на 17-м году своей жизни вступило в анархическое
общество, поставившее себе целью цареубийство. Очевидно, поэтому и было
позабыто содержание «Макбета». В то же время это же лицо изобрело
шифрованное письмо, в котором буквы заменялись числами.
128
Психопатология обыденной жизни
Подобным же образом объясняет Адлер и
происхождение навязчивых чисел. Прекрасный пример происхождения
навязчивого, т. е. преследующего, слова мы находим у Юнга
(Diagnost. Assoziationsstudien IV. S. 215).
«Одна дама рассказала мне, что в последние дни у нее
непрестанно вертится на языке слово „Таганрог", и она не
имеет понятия о том, откуда оно взялось. Я спросил даму о
связанных с аффектами событиях и вытесненных желаниях
последнего времени. После некоторых колебаний она
рассказала мне, что очень хотела бы иметь утреннее платье
(Morgenrock), но что муж ее относится к этому без
достаточного внимания. Morgen-rock — Tagan-rock (Tag — день, rock —
платье), — здесь, очевидно, частичное родство слова
объясняется тем, что приблизительно в то же время дама эта
познакомилась с одним лицом из Таганрога».
В моих собственных анализах из этой категории мне
особенно бросились в глаза две вещи. Во-первых, та прямо-таки
сомнамбулическая уверенность, с какой я иду к незнакомой
мне цели, погружаюсь в вычисляющий ход мыслей, который
затем внезапно приводит меня к искомому числу, и та
быстрота, с какой совершается вся последующая работа. Во-
вторых, то обстоятельство, что числа с такой готовностью
оказываются в распоряжении моего бессознательного
мышления, в то время как, вообще говоря, я плохой счетчик и с
величайшим трудом запоминаю даты, номера домов и т.п.
В этих бессознательных операциях моего мышления с
числами я нахожу склонность к суеверию, происхождение
которого мне долгое время оставалось непонятным.
II. Этот взгляд на детерминирование якобы произвольно
выбранных имен и чисел способен, быть может, послужить
к выяснению еще одной проблемы. Как известно, многие
приводят в качестве довода против последовательно
проведенного детерминизма особое чувство убежденности в том,
что существует свободная воля. Это чувство убежденности
существует и не исчезает даже тогда, когда веришь в
детерминизм. Как всякое нормальное чувство, оно должно на чем-
нибудь основываться. Но, насколько я мог заметить, оно
проявляется не в крупных и важных актах нашей воли; в
подобного рода случаях мы имеем, напротив, чувство психического
5-3518
129
Зигмунд ФРЕЙД
принуждения и охотно ссылаемся на него (лютеровское:
«Я делаю это и иначе не могу»). Зато тогда, когда мы
принимаем не важные, безразличные решения, мы склонны
утверждать, что могли бы поступить и иначе, что мы
действовали свободно, не повинуясь никаким мотивам. После наших
анализов нам нет надобности оспаривать права на
существование чувства убежденности в свободной воле. Если
различать между тем, что мотивируется сознательно, и тем, что
имеет свою мотивировку в области бессознательного, то
чувство убежденности свидетельствует о том, что сознательная
мотивировка не распространяется на все наши моторные
решения. Minima non curat praetor. Но то, что осталось не
связанным одной группой мотивов, получает свою мотивировку
с другой стороны, из области бессознательного, и таким
образом детерминирование психических феноменов
происходит все же без пробелов1.
III. Если по всей совокупности условий сознательное
мышление и не может быть знакомо с мотивами
рассмотренных выше дефектных действий, то было бы все же
желательно иметь психологическое доказательство существования
таких мотивов; при более близком изучении бессознательного
действительно находишь основания полагать, что такие
доказательства, вероятно, могут быть найдены. И в самом деле,
в двух областях можно наблюдать феномены, которые, судя
по всему, отвечают бессознательному, и в силу этого
потерпевшему известный сдвиг, знанию мотивировки.
а) В поведении параноиков бросается в глаза та
общеизвестная черта, что они придают величайшее значение мел-
1 Этот взгляд на строгие детерминирование кажущихся произвольными
психических актов принес уже обильные плоды для психолога — быть может,
и для судебной практики. Блсйлср и Юнг выяснили в этом смысле те реакции,
какие наблюдаются при так называемом ассоциативном эксперименте, когда
исследуемое лицо отвечает на сказанное ему слово первым же словом,
пришедшим ему на мысль (реакция на раздражение словом), и измеряется протекшее
при этом время (время реакции). Юнг показал в своих Diagnostische
Assoziationsstudien (1906 гол), какой тонкий реагирующий аппарат сказывается в этом
эксперименте. Ученики криминалиста H. Gross'a (Прага), Вертгсймср и Клсйи,
развили па основе экспериментов особую технику «диагностицирования
обстоятельств дела» для уголовных процессов, рассмотрением которой заняты в
настоящее время психологи и юристы.
130
Психопатология обыденной жизни
ким, обычно не замечаемым нами деталям в поведении других
людей, истолковывают эти детали и строят на их основе
далеко идущие выводы. Так, например, последний параноик,
которого я видел, заключил, что люди, с которыми он
сталкивается, пришли к какому-то соглашению, потому что,
отъезжая от вокзала, он видел, как они делали известное
движение рукой. Другой отмечал, как люди ходят по улице,
размахивают палками и т.п.1 Таким образом, если нормальный
человек признает в применении к некоторой части своих
собственных психических функций категорию случайного, не
нуждающегося в мотивировке, то параноик отвергает эту
категорию в применении к психическим актам других людей.
Все, что он замечает у других, полно значения, все подлежит
истолкованию. Каким образом он приходит к этому?
Очевидно, что здесь, как и во многих подобных случаях, он
проецирует то, что бессознательно совершается в его собственной
психике, в душевную жизнь других людей. Ибо у параноика
доходит до сознания много такого, что у нормального
человека или у невротика может быть обнаружено лишь путем
психоанализа, как находящееся вне сознания2. Таким
образом, параноик здесь в известном смысле прав, он сознает
нечто ускользающее от нормального человека, его взор острее
нормальной мыслительной способности, и только
перенесение того, что он познал таким образом, на других людей
лишает его познание всякой цены. Надеюсь, от меня теперь не
будут ожидать защиты отдельных параноидальных
истолкований. Но та доля основательности, которую мы признаем за
паранойей при этом взгляде на случайные действия, облегчит
нам психологическое понимание той убежденности, с которой
связываются у параноика все эти толкования. В них есть доля
правды, и чувство убежденности, присущее нашим собствен-
1 Наблюдатели, исходившие из других точек зрения, причисляли опенку
несущественных, случайных проявлений у других людей к «мании отношения»
( Bezieh ungswahn).
2 Так, например, фантазии истериков о сексуальных и жестоких
истязаниях, фантазии, которые при помощи анализа могут быть доведены до сознания,
в соответствующих случаях до мелочей совпадают с жалобами преследуемых
параноиков. Достойны внимания — хотя и не непонятны — случаи, когда
идентичное содержание выступает также и в реальной форме — в виде тех шагов,
которые предпринимают люди извращенные для удовлетворения своей похоти.
131
Зигмунд ФРЕЙД
ным ошибкам суждения, которые нельзя было бы назвать
болезненными, создается тем же самым путем. Поскольку речь
идет о некоторой части ошибочного.хода мыслей или об
источнике его, это чувство вполне оправдывается, и уже затем
мы распространяем его на всю остальную связь мыслей.
б) Другое указание на бессознательное и «сдвинутое»
знание мотивов случайных и дефектных действий мы
находим в феноменах суеверия. Чтобы пояснить свой взгляд, я
воспользуюсь обсуждением одного мелкого инцидента,
послужившего мне исходным пунктом в моих рассуждениях.
После того как я возвратился с каникул, мои мысли
тотчас же обратились к больным, которыми мне предстояло
заняться в начинавшемся рабочем году. Первый визит я
должен был сделать одной очень старой даме, над которой я (см.
выше) с давних пор произвожу каждый день дважды одни
и те же врачебные манипуляции. Благодаря этому
однообразию у меня очень часто на пути к больной или в то время,
когда с ней бывал занят, пробивались наружу
бессознательные мысли. Ей свыше 90 лет; было бы немудрено, если бы в
начале каждого года я спрашивал себя, сколько ей еще
осталось жить. В тот день, про который я рассказываю, я спешил
и потому взял извозчика, который и должен был отвезти
меня к ней. Каждый извозчик с биржи напротив моего дома
знает адрес старухи, ибо каждый из них не раз отвозил меня
к ней. Сегодня случилось так, что извозчик остановился не
перед ее домом, а перед тем же номером на ближайшей
параллельной улице, действительно сходной. Я замечаю
ошибку, ставлю ее извозчику на вид, тот извиняется. Должно ли
что-нибудь обозначать, что меня подвезли к дому, в котором
моей старой пациентки не оказалось? Для меня, конечно,
ничего, но если бы я был суеверен, я увидел бы в этом
обстоятельстве предзнаменование, знамение судьбы, что этот
год будет последним в жизни старухи. Целый ряд
предзнаменований, сохранившихся в истории, основывается на
символике, ничуть не лучшей, чем эта. Во всяком случае, я вижу
в этом инциденте простую случайность, не имеющую значения.
Совершенно иначе обстояло бы дело, если бы я прошел
этот конец пешком и затем «задумавшись», «по
рассеянности» пришел бы к дому на параллельной улице. Это я счел
132
Психопатология обыденной жизни
бы уже не случаем, а поступком, имеющим бессознательное
намерение и требующим истолкования. По всей
вероятности, я должен был бы истолковать его в том смысле, что я
предполагаю в скором времени уже более не застать этой
старой дамы.
Я отличаюсь, таким образом, от суеверного человека
в следующем.
Я не думаю, чтобы событие, к совершению которого моя
душевная жизнь непричастна, могло мне сказать что-либо
о реальном будущем; но я думаю, что ненамеренное
проявление моей собственной душевной деятельности вполне
может разоблачить что-либо скрытое, опять-таки относящееся
лишь к моей душевной жизни; если я и верю во внешний
(реальный) случай, то не верю во внутреннюю
(психическую) случайность. Суеверный же человек наоборот: не
подозревает о мотивировке своих собственных случайных
действий и погрешностей, верит в психические случайности, но
зато склонен приписывать внешнему случаю значение,
которое должно проявиться в форме реальных событий,
склонен усматривать в случае средство выражения чего-то
внешнего, скрытого от него. Различие между мной и суеверным
человеком двоякое. Во-первых, он проецирует наружу
мотивировку, в то время как я стараюсь найти ее внутри;
во-вторых, он истолковывает случай событиями, в то время как я
свожу его к мысли. Однако скрытое у него отвечает
бессознательному у меня, и нам обоим обще стремление не
признавать случая случаем, а всегда истолковывать его.
Я и предполагаю, что это сознательное неведение и
бессознательное знание мотивировки психических случайностей
служит одним из психических корней суеверия. Так как
суеверный человек не подозревает о мотивировке своих
собственных случайных действий и так как факт наличности этой
мотивировки требует себе признания, то он вынужден путем
передвижения отвести этой мотивировке место во внешнем
мире. И если такая связь существует, то ее вряд ли можно
ограничивать этим единичным случаем. Я и думаю, что
значительная доля мифологического миросозерцания,
простирающегося даже и на новейшие религии, представляет собой
не что иное, как проецированную во внешний мир психологию.
133
Зигмунд ФРЕЙД
Смутное познание1 (так сказать, эндопсихическое
восприятие) психических факторов и отношений бессознательного
отражается — трудно выразиться иначе, приходится
воспользоваться аналогией с паранойей — в конструировании
сверхчувственной реальности, которую наука должна опять
превратить в психологию бессознательного. Можно было бы
попытаться разрешить таким путем мифы о рае и грехопадении, о
Боге, добре и зле, о бессмертии и т.д., превратить
метафизику в метапсихологию. Различие между сдвигами,
происходящими у параноика и у суеверного человека, не так велико,
как это кажется на первый взгляд. Когда люди начали
мыслить, они были вынуждены, как известно,
антропоморфически разложить внешний мир на множество лиц по своему
собственному подобию; случайности, которые они суеверно
истолковывали, были, таким образом, действиями, поступками
определенных лиц; так что люди поступали тогда так же, как
поступают параноики, делающие выводы из незаметных
знаков, подаваемых им другими людьми, или как здоровые люди,
с полным основанием определяющие характер своих ближних
на основании случайных и непреднамеренных поступков.
Суеверие представляется столь неуместным лишь в нашем
современном, естественнонаучном, но все еще далеко не
законченном миросозерцании; в миросозерцании донаучных
времен и народов оно было вполне законно и последовательно.
Римлянин, отказывавшийся от важного предприятия из-
за неблагоприятного полета птиц, был, таким образом,
относительно прав; он действовал последовательно, сообразно со
своими поступками. Но когда он отменял предприятие из-за
того, что споткнулся на пороге своей двери (un romain
retournerait), то он и абсолютно стоял выше нас, неверующих,
и лучше знал человеческую душу, чем знаем ее, несмотря на
все старания, мы. Ибо тот факт, что он споткнулся, мог
служить для него доказательством существования сомнения,
встречного течения в его душе, которое могло в момент
исполнения ослабить силу его намерения. Между тем быть
уверенным в полном успехе можно лишь тогда, когда все
душевные силы дружно стремятся к желанной цели. Как отве-
1 Которое, конечно, нс имеет ни одного из свойств познания.
134
Психопатология обыденной жи.нш
чает шиллеровский Вильгельм Телль, так долго
колебавшийся сбить выстрелом с головы своего мальчика яблоко, на
вопрос фогта, зачем он приготовил вторую стрелу:
Стрелою этой я тебя пронзил бы,
Когда б случайно в сына я попал,
И, верно, я тогда б не промахнулся1.
IV. Кто имел случай изучать скрытые душевные
движения людей при посредстве психоанализа, тот может сказать
кое-что новое также и о качестве бессознательных мотивов,
проявляющихся в суеверии. Яснее всего видишь на примере
нервнобольных — часто весьма интеллигентных, страдающих
навязчивыми идеями и неврозом навязчивых состояний,—
что суеверие берет свое начало из подавленных враждебных
и жестоких импульсов. Суеверие — это в значительной мере
ожидание несчастья; кто часто желает другим зла, но, будучи
приучен воспитанием к добру, вытеснил такого рода
желания за пределы сознания, тот будет особенно склонен
ожидать наказания за такое бессознательное зло в виде
несчастья, угрожающего ему извне.
Признавая, что этими замечаниями мы отнюдь не
исчерпали психологии суеверия, мы все же должны, с другой
стороны, хотя бы в нескольких словах коснуться вопроса, можно
ли утверждать наверняка, что не существует предчувствий,
вещих снов, телепатических явлений, проявлений
сверхчувственных сил и т. п. Я далек от того, чтобы во всех случаях,
не долго думая, порешить сплеча с феноменами, по
отношению к которым мы располагаем таким множеством
обстоятельных наблюдений, делавшихся выдающимися в
интеллектуальном отношении людьми, и которые должны были бы
послужить объектом дальнейших исследований. Можно даже
надеяться, что тогда часть этих наблюдений получит,
благодаря начинающемуся уже пониманию бессознательных
душевных процессов, объяснение, которое не заставит нас
производить радикальную ломку наших современных воззрений.
Если бы суждено было оказаться доказуемыми еще и другим
феноменам, как, например, о которых утверждают спириты,
Перевод Миллера.
135
Зигмунд ФРЕЙД
мы и произведем требуемую новыми познаниями
модификацию наших «законов», не теряя, однако, представления об
общей связи вещей.
В рамках этого изложения я могу ответить на
поставленные вопросы лишь субъективно, т. е. на основании
моего личного опыта. К сожалению, я должен признаться, что
принадлежу к числу тех недостойных, в чьем присутствии
духи прекращают свою деятельность и сверхчувственное
улетучивается, так что я никогда не имел случая пережить
лично что-нибудь, могущее дать мне повод к вере в чудеса.
Как и у всех людей, у меня бывали предчувствия и
случались несчастья; однако они избегали друг друга, так что за
предчувствиями не следовало ничего, а несчастья
приходили без предупреждения. Когда я в молодые годы жил один
в чужом городе, я нередко слышал, как дорогой мне голос —
которого я не мог не узнать — вдруг называет меня по
имени; я отмечал себе момент этой галлюцинации, чтобы затем,
беспокоясь о родных, спросить у них, что случилось в это
время. Не случалось ничего. Зато впоследствии мне
случилось самым спокойным образом, ничего не чувствуя,
работать с моими больными, в то время как мое любимое дитя
едва не умерло от кровотечения. Из числа тех предчувствий,
о которых мне сообщали мои больные, также ни одно не
могло быть признано мною за реальный феномен.
Вера в вещие сны насчитывает много приверженцев, ибо
в ее пользу говорит то обстоятельство, что многое
действительно происходит впоследствии так, как его предварительно
конструировало во сне желание. Однако в этом мало
удивительного, и обыкновенно между сном и тем, что сбылось
наяву, можно найти еще глубокие различия, которых охотно не
замечаешь в своем доверии ко сну. Прекрасный пример
действительно пророческого сна дала мне возможность
подвергнуть точному анализу одна интеллигентная и правдивая
пациентка. По ее словам, ей однажды снилось, что она
встретила своего бывшего друга и домашнего врача около
какой-то лавки на такой-то улице. Когда она на следующее
утро пошла во внутреннюю часть города, она действительно
встретила его на том самом месте, какое было указано во сне.
Надо заметить, что за этим не произошло никаких событий,
136
Психопатология обыденной жизни
в которых могло бы обнаружиться значение этого
удивительного совпадения, так что ни в чем позднейшем нельзя было
найти для него достаточного основания.
Путем тщательного расспроса я установил, что нет
доказательств того, чтобы дама эта вспомнила о своем сне
в ближайшее после этой ночи утро, стало быть перед
своей прогулкой. Она ничего не могла возразить против такого
изложения дела, которое устраняет из него все чудесное и
оставляет лишь интересную психологическую проблему:
однажды утром она шла по известной улице, встретила близ
одной лавки своего старого домашнего врача, и при его виде
у нее создалось убеждение, что в эту ночь ей снилась эта
встреча на этом же самом месте. При помощи анализа можно
было с большей или меньшей вероятностью установить,
каким образом она пришла к этому убеждению, которое,
вообще говоря, нельзя не признать до известной степени
правдоподобным. Встреча на определенном месте после
предварительного ожидания носит на себе все признаки свидания.
Старый домашний врач воскресил в ней воспоминания о
минувших временах, когда встречи с третьим лицом, которое
было дружно также и с этим врачом, были для нее полны
значения. С этим господином она с тех пор поддерживала
сношения и накануне мнимого сна тщетно ждала его. Если
бы я мог сообщить подробнее о связанных с этим делом
отношениях, мне было бы нетрудно показать, что иллюзия
пророческого сна при виде друга прежних лет равносильна
такого рода заявлению: «Ах, доктор, вы напомнили мне
теперь о минувших годах, когда мне никогда не приходилось,
назначив N. свидание, ожидать его».
Простой и легко объяснимый пример того
«удивительного совпадения», какое происходит, когда встречаешь
человека, о котором как раз теперь думал, я наблюдал на самом
себе, и, вероятно, этот пример характерен для аналогичных
случаев. Несколько дней после того, как я получил звание
профессора — в монархических странах придающее человеку
большой авторитет, — я гулял по внутренней части города,
и мои мысли вдруг сосредоточились на ребяческой
фантазии — мести некоей паре родителей. Эти люди позвали
меня несколькими месяцами раньше к своей девочке, у которой
137
Зигмунд ФРЕЙД
в связи с одним своим сном начались интересные явления
навязчивости. Я с большим интересом отнесся к этому
случаю, генезис которого мне казался ясным, однако мое
появление было отклонено родителями, которые мне дали
понять, что намерены обратиться к заграничному авторитету,
лечащему гипнотизмом. Теперь я фантазировал о том, как
родители после возможной неудачи этого опыта просят меня
начать мой курс лечения; они, мол, питают ко мне теперь
полное доверие и пр. Я отвечаю им: да, теперь, когда я стал
профессором, вы доверяете мне. Но звание ничего не
изменило в моих способностях; если я вам был непригоден,
будучи доцентом, вы можете обойтись без меня также и теперь,
когда я стал профессором. В этот момент моя фантазия
была прервана громким приветствием: «Честь имею кланяться,
господин профессор», и, когда я взглянул на говорящего,
я увидел, что мимо меня проходила та же самая пара
родителей, которым я только что отомстил, отклонив их
предложение. Не требовалось долгих размышлений, чтобы разбить
иллюзию чудесного. Я шел по большой и широкой, почти
пустой улице навстречу этой паре; взглянув мельком, быть
может на расстоянии двадцати шагов, я заметил и узнал их
видные фигуры, но — по образцу отрицательной
галлюцинации — устранил это восприятие, по тем же эмоциональным
мотивам, которые затем сказались в якобы самопроизвольно
всплывшей фантазии.
К категории чудесного и жуткого относится также и то
своеобразное ощущение, которое испытываешь в известные
моменты и при известных ситуациях: будто уже раз пережил
то же самое, уже был раз в том же положении, причем ясно
вспомнить это прежнее, дающее о себе таким образом знать,
не удается. Я знаю, что лишь в очень свободном
словоупотреблении можно назвать то, что испытываешь в такие
моменты, ощущением; если дело и идет здесь о суждении, и притом
о познавательном суждении, то все же эти случаи имеют
совершенно своеобразный характер, и нельзя упускать из виду
того обстоятельства, что искомого не вспоминаешь никогда.
Не знаю, был ли этот феномен «уже виденного» (déjà-vu)
серьезно приводим для доказательства психического пред-
существования индивида; но психологи уделяли ему немало
138
Психопатология обыденной жизни
внимания и пытались разрешить загадку самыми
разнообразными спекулятивными путями. Ни одна из этих попыток
объяснения не представляется мне правильной, ибо ни при
одной из них не принималось в расчет ничего иного, кроме
сопутствующих и благоприятствующих феномену
обстоятельств. Ибо те психические явления, которые по моим
наблюдениям одни только могут быть ответственными при
объяснении феномена déjà-vu — именно бессознательные
фантазии, — еще и теперь находятся в общем загоне у психологов.
Я полагаю, что называть ощущение «уже виденного»
иллюзией — несправедливо. В такие моменты действительно
затрагивается нечто, что уже было раз пережито, только его
нельзя сознательно вспомнить, потому что оно и не было
никогда сознательным. Ощущение «уже виденного»
соответствует, коротко говоря, воспоминанию о бессознательной
фантазии. Подобно сознательным, существуют и
бессознательные фантазии (или сны наяву); каждый знает это по
собственному опыту.
Я знаю, что тема эта заслуживала бы самого
обстоятельного рассмотрения, но хочу привести здесь анализ одного-
единственного случая dejà-vu, в котором ощущение
отличается особенной интенсивностью и длительностью. Одна дама,
которой теперь 37 лет от роду, утверждает, что она самым
отчетливым образом помнит, как она в возрасте 12,5 лет
впервые была в гостях у своих школьных подруг в деревне и,
войдя в сад, тотчас же испытала такое ощущение, будто она
уже здесь раз была; ощущение это повторилось, когда она
вошла в комнаты, так что ей казалось, что она заранее
знает, какая будет следующая комната, какой будет из нее вид
и т.д. На самом деле совершенно исключена — и
опровергнута справками у родителей — возможность того, чтобы это
чувство знакомства имело своим источником прежнее
посещение дома и сада, хотя бы в самом раннем детстве. Дама,
рассказавшая мне об этом, не искала психологического
объяснения; в появлении этого ощущения она видела
пророческое указание на то значение, которое впоследствии должны
были иметь именно эти подруги для ее эмоциональной
жизни. Однако рассмотрение обстоятельств, при которых имел
место этот феномен, указывает нам путь к другому объясне-
139
Зигмунд ФРЕЙД
нию. Отправляясь в гости, она знала, что у этих девочек есть
тяжелобольной брат. При посещении она видела его, нашла,
что он очень плохо выглядит, и подумала: он скоро умрет.
Теперь дальше: ее собственный единственный брат был
несколькими месяцами раньше опасно болен дифтеритом; во
время его болезни она была удалена из дому родителей и
жила несколько недель у одной родственницы. Ей кажется,
что в той поездке в деревню, о которой идет здесь речь,
участвовал также ее брат, кажется даже, что это была его первая
большая прогулка после болезни; однако здесь ее
воспоминания удивительно неопределенны, в то время как все прочие
детали, особенно платье, которое было на ней в этот день,
стоят у нее перед глазами с неестественной яркостью.
Осведомленному человеку нетрудно заключить из этих показаний,
что ожидание смерти брата играло тогда большую роль у этой
девушки и либо не было никогда сознательным, либо после
благополучного исхода болезни подверглось энергичному
вытеснению. В случае иного исхода она должна была бы носить
другое платье — траурное. У подруг она нашла аналогичную
ситуацию: единственный брат в опасности; вскоре он
действительно умер. Она должна была бы сознательно вспомнить,
что несколько месяцев тому назад сама пережила то же
самое; вместо того чтобы вспомнить это — чему препятствовало
вытеснение, — она перенесла свое чувство припоминания на
местность, сад и дом, подверглась действию fausse
reconnaissance, и ей показалось, что она когда-то все это также
видела. Из факта вытеснения мы имеем основание заключить, что
ее ожидание смерти брата было не совсем чуждо окраски
желательности. Она осталась бы тогда единственным ребенком.
В своем позднейшем неврозе она страдала самым
интенсивным образом от страха потерять своих родителей, и за этим
страхом анализ, как это бывает обычно, мог вскрыть
бессознательное желание аналогичного же содержания.
Мои собственные мимолетные переживания феномена
déjà-vu я мог подобным же образом вывести из
эмоциональной констелляции момента. Это был опять повод воскресить
ту (бессознательную и неизвестную) фантазию, которая в
какой-то момент возникла во мне как желание улучшить
мое положение.
140
Психопатология обыденной жизни
V. Недавно, когда я имел случай изложить одному
философски образованному коллеге несколько примеров
забывания имен вместе с анализом их, он поспешил возразить:
все это прекрасно, но у меня забывание имен происходит
иначе. Ясно, что так облегчать себе задачу нельзя; я не
думаю, чтобы мой коллега когда-либо думал перед этим об
анализе забывания имен; он не мог сказать мне, как же
собственно это у него происходит иначе.
Но его замечание все же затрагивает проблему, которую
многие будут склонны поставить на первый план.
Применимо ли данное здесь разрешение дефектных и случайных
действий во всех или лишь в единичных случаях и если
только в единичных, то каковы те условия, при которых оно
может быть допущено для объяснения феноменов, имеющих
другое происхождение? То, что я знаю, не дает мне
возможности ответить на этот вопрос. Я хочу лишь предостеречь
от того, чтобы считать указанную здесь связь редкой, ибо
сколько раз мне ни случалось производить испытание над
собой ли самим или над пациентами, ее можно было, как и
в приведенных примерах, с уверенностью установить, или
по крайней мере найти веские основания, заставляющие
предполагать ее наличность. Неудивительно, если не всегда
удается найти скрытый смысл симптоматического действия,
ибо решающим фактором, который надо принять в
соображение, является сила внутреннего отпора,
сопротивляющегося разрешению. Нет также возможности истолковать
каждый отдельный сон — у себя или у пациента; для того чтобы
подтвердить общеприменимость данной теории, достаточно,
если нам удастся хотя бы несколько проникнуть в глубь
скрытых соотношений. Сон, который в ближайший день при
первой попытке решения оказывается неприступным,
нередко раскрывает свою тайну через неделю или через месяц,
когда какое-либо реальное изменение, происшедшее за это
время, успело понизить значение борющихся одна с другой
психических величин. То же можно сказать и о разрешении
дефектных и симптоматических действий; пример очитки «в
бочке по Европе» дал мне случай показать, как
неразрешимый на первых порах симптом поддается анализу, когда
отпадает реальная заинтересованность в вытесненных мыслях.
141
Зигмунд ФРЕЙД
До тех пор пока было возможно, что мой брат получит
завидный титул раньше, чем я, указанная выше ошибка в
чтении оказывала отпор всем неоднократно делавшимся
попыткам анализа; но, когда выяснилась малая вероятность того,
чтобы брату было оказано предпочтение, предо мной
внезапно открылся путь, ведущий к решению. Было бы, таким
образом, ошибкой утверждать про все случаи, не
поддающиеся анализу, что они произошли на основе иного
психического механизма, чем тот, который здесь был вскрыт; для
того чтобы это допустить, недостаточно одних лишь
отрицательных доказательств. Совершенно недоказательна также
и готовность — вероятно, присущая всем здоровым людям, —
с какой мы верим в то, что есть какое-либо другое
объяснение дефектных и симптоматических действий; само собой
понятно, что она служит проявлением тех же психических
сил, которые и создали тайну, которые поэтому становятся
на защиту последней и сопротивляются ее выяснению.
С другой стороны, мы не должны упускать из виду, что
вытесненные мысли и импульсы не самостоятельно создают
себе выражение в форме симптоматических и дефектных
действий. Техническая возможность подобного рода
промахов иннервации должна быть дана независимо от них; и
затем уже ею охотно пользуется вытесненный элемент в своем
намерении дать о себе знать. Установить картину тех
структурных и функциональных отношений, которыми
располагает такое намерение, имели своей задачей, в применении к
словесным дефектным актам, подробные исследования
философов и филологов. Если мы в совокупности условий
дефектных и симптоматических действий будем таким образом
различать бессознательный мотив и идущие ему навстречу
физиологические и психофизические отношения, то остается
открытым вопрос, имеются ли в пределах здоровой психики
еще и другие моменты, способные, подобно
бессознательному мотиву и вместо него, порождать на почве этих
отношений дефектные и симптоматические действия. Ответ на этот
вопрос не входит в мои задачи.
VI. После рассмотрения обмолвок мы ограничивались
тем, что доказывали в дефектных действиях наличность
скрытой мотивировки и при помощи психоанализа прокла-
142
Психопатологии обыденной жизни
дывали себе дорогу к познанию этой мотивировки. Общую
природу и особенности выражающихся в дефектных
действиях психических факторов мы оставили пока почти без
рассмотрения и во всяком случае не пытались еще определить
их точнее и вскрыть закономерность их. Мы и теперь не
возьмемся окончательно исчерпать этот предмет, ибо первые
же шаги показали бы нам, что в эту область можно
проникнуть скорее с другой стороны. Здесь можно поставить себе
целый ряд вопросов; я хотел бы их по крайней мере привести
и наметить их объем. 1. Каково содержание и происхождение
тех мыслей и импульсов, о которых свидетельствуют
дефектные и симптоматические действия? 2. Каковы должны быть
условия, необходимые для того, чтобы мысль или стимул
были вынуждены и оказались в состоянии воспользоваться
этими явлениями как средством выражения? 3. Возможно ли
установить постоянное и единообразное соотношение между
характером дефектного действия и свойствами того
переживания, которое выразилось в нем?
Начну с того, что сгруппирую некоторый материал для
ответа на последний вопрос. Разбирая примеры обмолвок, мы
нашли нужным не связывать себя содержанием задуманной
речи и вынуждены были искать причину расстройства речи
за пределами замысла. В ряде случаев эта причина была под
рукой, и говоривший сам отдавал себе в ней отчет. В
наиболее простых и прозрачных на вид примерах фактором,
расстраивающим выражение мысли, являлась другая
формулировка — звучащая столь же приемлемо — той же самой
мысли, и не было возможности сказать, почему одна из этих
формулировок должна была потерпеть поражение, другая —
пробить себе дорогу (контаминации у Meiringer'a и Мауег'а).
Во второй группе случаев поражение одной формулировки
мотивировалось наличностью соображений, говоривших
против нее, которые, однако, оказывались недостаточно
сильными, чтобы добиться полного воздержания (например, Zum
Vorchwein gekommen). Задержанная формулировка также
сознается в этих случаях с полной ясностью. Лишь о третьей
группе можно утверждать без ограничений, что здесь
препятствующая мысль отлична от задуманной, и можно установить
существенное, по-видимому, разграничение. Препятствующая
143
Зигмунд ФРЕЙД
мысль либо связана здесь с расстроенной мыслью
ассоциацией по содержанию (препятствие в силу внутреннего
противоречия), либо по существу чужда ей, и лишь
расстроенное слово связано с расстраивающей мыслью — часто
бессознательной — какой-либо странной внешней ассоциацией.
В примерах, которые я привел из моих психоанализов, вся
речь находится под влиянием мыслей, ставших одновременно
действенными, но совершенно бессознательных; их выдает
либо само же расстройство мыслей (Klapperschlange — Kleo-
patra), либо они оказывают косвенное влияние тем, что дают
возможность отдельными частями сознательно задуманной
речи взаимно расстраивать одна другую (Ase natmen: за этим
скрывается Hasenauerstrasse и воспоминание о француженке).
Задержанные или бессознательные мысли, от которых
исходит расстройство речи, могут иметь самое разнообразное
происхождение. Этот обзор не приводит нас, таким образом, ни
к какому обобщению в каком бы то ни было направлении.
Сравнительное изучение примеров очиток и описок ведет
к тем же результатам. Отдельные случаи здесь, как и при
обмолвках, по-видимому, обязаны своим происхождением не
поддающемуся дальнейшей мотивировке процессу
«сгущения» (например, der Apfe). Интересно было бы все же знать,
не требуется ли наличия особых условий для того, чтобы
имело место подобного рода сгущение — правомерное во сне,
но ненормальное наяву; примеры наши сами по себе не дают
на это ответа. Я не сделал бы, однако, отсюда вывода о том,
что таких условий — за вычетом разве лишь ослабления
сознательного внимания — не существует; ибо другие данные
показывают мне, что как раз автоматические действия
отличаются правильностью и надежностью. Я скорее подчеркнул
бы, что здесь, как это часто бывает в биологии, нормальное
или близкое к нормальному является менее благоприятным
объектом исследования, нежели патологическое. Я надеюсь,
что выяснение более тяжелых расстройств прольет свет на
то, что остается темным при объяснении этих, наиболее
легких случаев расстройства.
При очитках и описках также нет недостатка в примерах,
обнаруживающих более отдаленную и сложную
мотивировку. Im Fass durch Europa — очитка, объясняющаяся влияни-
144
Психопатология обыденной жизни
ем отдаленной, по существу чуждой мысли, порожденной
подавленным движением зависти и честолюбия и
пользующейся словом Beförderung, чтобы установить связь с
безразличной и безобидной темой, заключавшейся в прочитанном.
В примере Burckhard связь устанавливается самим же
именем Burckhard.
Нельзя не признать, что расстройства функций речи
создаются легче и требуют меньшего напряжения со стороны
расстраивающих сил, чем расстройства других психических
функций.
На другой почве стоим мы при исследовании забвения в
собственном его смысле, т.е. забвения минувших
переживаний (от этого забвения, в строгом смысле, можно было бы
отделить забвение собственных имен и иностранных слов,
рассмотренное в главах I и II, его можно назвать
«ускользанием»; и затем забывание намерений, которое можно
обозначить как «упущения»). Основные условия нормального
забывания нам неизвестны1. Не следует также упускать из ви-
1 Относительно механизма забывания в собственном смысле я могу
сделать следующие указания. Материал, которым располагает память,
подвергается, вообще говоря, двоякого рода воздействию: сгущению и искажению.
Искажение — дело господствующих в душевной жизни тенденций и направляется
прежде всего против таких следов воспоминаний, которые еще сохранили
способность вызывать аффекты и с большей устойчивостью сопротивляются
сгущению. Следы, ставшие безразличными, подвергаются сгущению без
сопротивления; однако можно наблюдать, что тенденции искажения, оставшиеся
неудовлетворенными в той области, где они хотели обнаружиться, пользуются для
своего насыщения, кроме того, и безразличным материалом. Так как эти
процессы сгущения и искажения тянутся долгое время, в течение которого на
содержание наших воспоминаний оказывают свое действие все последующие
события, то нам и кажется, что это время делает воспоминания неуверенными
и неясными. Между тем весьма вероятно, что при забывании вообще нет и
речи о прямом воздействии времени. Относительно вытесненных следов
воспоминаний можно констатировать, что на протяжении длиннейшего
промежутка времени они не терпят никаких изменений. Бессознательное находится
вообще вне времени. Наиболее важная и вместе с тем наиболее странная
особенность психической фиксации заключается в том, что, с одной стороны, все
впечатления сохраняются в том же виде, как они были восприняты, и вместе
с тем сохраняются все тс формы, которые они приняли в дальнейших стадиях
развития; сочетание, которого нельзя пояснить никакой аналогией из какой бы
то ни было другой области. Таким образом, теоретически любое состояние, в
котором когда-либо находился хранящийся в памяти материал, могло бы быть
вновь восстановлено и репродуцировано даже тогда, если бы все те соотношения,
в которых его элементы первоначально находились, были заменены новыми.
145
Зигмунд ФРЕЙД
ду, что не все то забыто, что мы считаем забытым. Наше
объяснение относится здесь лишь к тем случаям, когда
забвение нам бросается в глаза, поскольку оно нарушает
правило, в силу которого забывается неважное, важное же
удерживается в памяти. Анализ тех примеров забывания,
которые, на наш взгляд, нуждаются в особом объяснении, каждый
раз обнаруживает в качестве мотива забвения нежелание
вспомнить нечто, могущее вызвать тягостные ощущения. Мы
приходим к предположению, что этот мотив стремится
оказать свое действие повсюду в психической жизни, но что
другие, встречные, силы мешают ему проявляться сколько-
нибудь регулярно. Объем и значение этого нежелания
вспоминать тягостные ощущения кажутся нам заслуживающими
тщательнейшего психологического рассмотрения; вопрос о
том, каковы те особые условия, которые в отдельных случаях
делают возможным это забывание, являющееся общей и
постоянной целью, также не может быть выделен из этой более
обширной связи.
При забывании намерений на первый план выступает
другой момент; конфликт, о котором при вытеснении
тягостных для воспоминаний вещей можно лишь
догадываться, становится здесь осязательным, и при анализе
соответствующих примеров мы неизменно находим встречную
волю, сопротивляющуюся данному намерению, не аннулируя
его самого.
Как и при рассмотренных выше видах дефектных
действий, здесь наблюдаются два типа психических процессов:
встречная воля либо непосредственно направляется против
данного намерения (когда намерение более или менее
значительно), или же по своему существу чужда намерению и
устанавливает с ним связь путем внешней ассоциации (когда
намерение почти безразлично).
Тот же конфликт является господствующим и в
феноменах ошибочных действий. Импульс, обнаруживающийся в
форме расстройства действия, представляет собой сплошь да
рядом импульс встречный, но еще чаще это просто какой-
либо посторонний импульс, пользующийся лишь удобным
случаем, чтобы при совершении действия проявить себя в
форме расстройства его. Случаи, когда расстройство проис-
146
Психопатология обыденной жизни
ходит в силу внутреннего протеста, принадлежат к числу
более значительных и затрагивают также более важные
отправления.
Далее, в случайных, или симптоматических, действиях
внутренний конфликт отступает все более на задний план.
Эти малоценимые или совершенно игнорируемые
сознанием моторные проявления служат выражением для
различных бессознательных или вытесненных импульсов; по
большей части они символически изображают фантазии или
пожелания.
По первому вопросу — о том, каково происхождение
мыслей и импульсов, выражающихся в форме ошибок, — можно
сказать, что в ряде случаев происхождение расстраивающих
мыслей от подавленных импульсов душевной жизни может
быть легко показано. Эгоистические, завистливые,
враждебные чувства и импульсы, испытывающие на себе давление
морального воспитания, нередко утилизируют у здоровых
людей путь дефектных действий, чтобы так или иначе
проявить свою несомненно существующую, но не признанную
высшими душевными инстанциями силу. Допущение этих
дефектных и случайных действий в немалой мере
отвечает удобному способу терпеть безнравственные вещи. Среди
этих подавленных импульсов немалую роль играют
различные сексуальные течения. Если как раз эти течения так редко
встречаются среди мыслей, вскрытых анализом в моих
примерах, то виной тому — случайный подбор материала. Так
как я подвергал анализу преимущественно примеры из моей
собственной душевной жизни, то естественно, что выбор
носил предвзятый характер и стремится исключить все
сексуальное. В иных случаях расстраивающие мысли берут свое
начало из возражений и соображений, в высшей степени
безобидных на вид.
Мы подошли теперь ко второму вопросу: каковы
психологические условия, нужные для того, чтобы та или иная
мысль была вынуждена искать себе выражения не в полной
форме, а в форме, так сказать, паразитарной, в виде
модификации и расстройства другой мысли. На основании наиболее
ярких примеров дефектных действий скорее всего хочется
искать эти условия в том отношении, которое устанавлива-
147
Зигмунд ФРЕЙД
ется к функции сознания, в определенном более или менее
ясно выраженном характере «вытесненного». Однако при
рассмотрении целого ряда примеров характер этот все более
и более растворяется в ряде расплывчатых намеков.
Склонность отделаться от чего-нибудь в силу того, что данная вещь
связана с потерей времени, соображения о том, что данная
мысль собственно не относится к задуманной вещи,
по-видимому, играют в качестве мотивов для вытеснения какой-
либо мысли, вынужденной затем искать себе выражение
путем расстройства другой мысли, ту же роль, что и моральное
осуждение предосудительного эмоционального импульса или
же происхождение от совершенно неизвестного хода мыслей.
Уяснить себе этим путем общую природу условий,
определяющих собою дефектные и случайные действия, нет
возможности. Одно только можно установить при этих
исследованиях: чем безобиднее мотивировка ошибки, чем менее
избегает сознание мысль, сказывающуюся в этой ошибке, тем
легче разрешить феномен, коль скоро на него обращено
внимание; наиболее легкие случаи обмолвок замечаются тотчас
же и исправляются самопроизвольно. Там, где мотивировка
создается действительно вытесненными импульсами, там для
разрешения требуется тщательный анализ, могущий порою
встретиться с трудностями, а иногда и не удасться.
Мы имеем, таким образом, право вывести из этого
последнего рассмотрения указание на то, что
удовлетворительное выяснение психических условий, определяющих собою
дефектные и случайные действия, можно получить лишь
подойдя к вопросу иным путем и с другой стороны. Мы хотели
бы, чтобы снисходительный читатель усмотрел из этих
рассуждений, что тема их выделена довольно искусственно из
более обширной связи.
VII. Наметим в нескольких словах хотя бы направление,
ведущее к этой более обширной связи. * Механизм ошибок
и случайных действий, поскольку мы познакомились с ним
при помощи анализа, в наиболее существенных пунктах
обнаруживает совпадение с механизмом образования снов,
который я разобрал в моей книге о толковании снов, в
главе о «работе сна». Сгущение и компромиссные образования
(контаминации) мы находим и здесь и там. Ситуация одна
148
Психопатология обыденной жизни
и та же: бессознательные мысли находят себе выражение
необычным путем, посредством внешних ассоциаций, в
форме модификации других мыслей. Несообразности,
нелепости и погрешности содержания наших снов, в силу которых
сон едва не исключается из числа продуктов психической
работы, образуются тем же путем (хотя и более свободно
обращаясь с наличными средствами), что и обычные
ошибки нашей повседневной жизни; здесь, как и там, кажущаяся
неправильность функционирования разрешается в виде
своеобразной интерференции двух или большего числа
правильных актов. Из этого совпадения следует важный вывод. Тот
своеобразный вид работы, наиболее яркий результат
которой мы видим в содержании снов, не должен быть относим
всецело на счет сонного состояния психики, раз мы в
феномене дефектных действий находим столь обильные
доказательства того, что она действует также и наяву. Та же связь
не позволяет нам усматривать в глубоком распаде душевной
жизни, в болезненном состоянии функций необходимое
условие для осуществления этих психических процессов,
кажущихся нам ненормальными и странными.
Верное суждение о той странной психической работе,
которая порождает и дефектные действия, и сонные видения,
возможна лишь тогда, если мы убедимся, что симптомы
психоневроза, специально — психические преобразования
истерии и навязчивого невроза — повторяют в своем механизме
все существенные черты этого вида работы. С этого должны
были бы, таким образом, начаться наши дальнейшие
исследования. Но рассмотрение дефектных, случайных и
симптоматических действий в свете этой последней аналогии
представляет для нас еще и особый интерес. Если мы поставим
их на одну доску с действиями психоневроза, с
невротическими симптомами, то приобретут смысл и основание два
весьма распространенных утверждения: что фаница между
нормальным и ненормальным в области нервозности не
прочна и что все мы немного нервозны. Можно независимо
от врачебного опыта конструировать различные типы такого
рода едва намеченной нервозности, то, что называется formes
frustes невроза: случаи, когда симптомов мало или когда они
выступают резко или не резко, когда, таким образом, ослаб-
149
Зигмунд ФРЕЙД
ление сказывается в числе, в интенсивности, в
продолжительности болезненных явлений; но, быть может, при этом
останется необнаруженным как раз тот тип, который,
по-видимому, чаще всего стоит на границе между здоровьем и
болезнью. Этот тип, в котором проявлениями болезни
служат дефектные и симптоматические действия, отличается
именно тем, что симптомы сосредоточиваются в сфере
наименее важных психических функций, в то время как все то,
что может претендовать на более высокую психическую
ценность, протекает свободно. Обратное распределение
симптомов, их проявление в наиболее важных индивидуальных и
социальных функциях — благодаря чему они оказываются
в силах нарушить питание, сексуальные отправления,
обычную работу, общение с людьми — свойственно тяжелым
случаям невроза и характеризует их лучше, чем, скажем,
множественность или интенсивность проявлений болезни.
Общее же свойство самых легких и самых тяжелых случаев,
присущее также и ошибкам, и случайным действиям,
заключается в том, что феномены эти могут быть сведены к
действию не вполне подавленного психического материала,
который, будучи вытеснен из области сознательного, все же не
лишен окончательно способности проявлять себя.
Введение
в психоанализ
Часть первая
ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1916 [1915]
Предисловие
Предлагаемое вниманию читателя «Введение в
психоанализ» ни в коей мере не претендует на соперничество с уже
имеющимися сочинениями в этой области науки
(Hitschmann. Freuds Neurosenlehre. 2 Aufl., 1913; Pf ister. Die
psychoanalytische Methode, 1913; Leo Kaplan. Grundzüge der
Psychoanalyse, 1914; Régis et Hesnard. La psychoanalyse des névroses
et des psychoses, Paris, 1914; Adolf F.Meijer. De Behandeling
van Zenuwzieken door Psycho-Analyse. Amsterdam, 1915). Это
точное изложение лекций, которые я читал в течение двух
зимних семестров 1915/16 г. и 1916/17 г. врачам и
неспециалистам обоего пола.
Все своеобразие этого труда, на которое обратит
внимание читатель, объясняется условиями его возникновения.
В лекции нет возможности сохранить бесстрастность
научного трактата. Более того, перед лектором стоит задача
удержать внимание слушателей в течение почти двух часов.
Необходимость вызвать немедленную реакцию привела к тому,
что один и тот же предмет обсуждался неоднократно,
например в первый раз#в связи с толкованием сновидений, а
затем в связи с проблемами неврозов. Вследствие такой
подачи материала некоторые важные темы, как, например,
бессознательное, нельзя было исчерпывающе представить в
каком-то одном месте, к ним приходилось неоднократно
возвращаться и снова их оставлять, пока не представлялась
новая возможность что-то прибавить к уже имеющимся
знаниям о них.
Зигмунд ФРЕЙД
Тот, кто знаком с психоаналитической литературой,
найдет в этом «Введении» немногое из того, что было бы ему
неизвестно из других, более подробных публикаций. Однако
потребность дать материал в целостном, завершенном виде
вынудила автора привлечь в отдельных разделах (об
этиологии страха, истерических фантазиях) ранее не
использованные данные.
Вена, весна 1917 г. Фрейд
Первая лекция
Введение
Уважаемые дамы и господа! Мне неизвестно, насколько
каждый из вас из литературы или понаслышке знаком с
психоанализом. Однако само название моих лекций —
«Элементарное введение в психоанализ» — предполагает, что вы
ничего не знаете об этом и готовы получить от меня первые
сведения. Смею все же предположить, что вам известно
следующее: психоанализ является одним из методов лечения
нервнобольных; и тут я сразу могу привести вам пример,
показывающий, что в этой области кое-что делается
по-иному или даже наоборот, чем принято в медицине. Обычно,
когда больного начинают лечить новым для него методом,
ему стараются внушить, что опасность не так велика, и
уверить его в успехе лечения. Я думаю, это совершенно
оправданно, так как тем самым мы повышаем шансы на успех.
Когда же мы начинаем лечить невротика методом
психоанализа, мы действуем иначе. Мы говорим ему о трудностях
лечения, его продолжительности, усилиях и жертвах,
связанных с ним. Что же касается успеха, то мы говорим, что не
можем его гарантировать, поскольку он зависит от поведения
больного, его понятливости, сговорчивости и выдержки.
Естественно, у нас есть веские основания для такого как будто
бы неправильного подхода к больному, в чем вы, видимо,
позднее сможете убедиться сами.
Не сердитесь, если я на первых порах буду обращаться
с вами так же, как с этими нервнобольными. Собственно
154
Введение в психоансииш
говоря, я советую вам отказаться от мысли прийти сюда во
второй раз. Для этого сразу же хочу показать вам, какие
несовершенства неизбежно присущи обучению
психоанализу и какие трудности возникают в процессе выработки
собственного суждения о нем. Я покажу вам, как вся
направленность вашего предыдущего образования и все привычное
ваше мышление будут неизбежно делать вас противниками
психоанализа и сколько нужно будет вам преодолеть, чтобы
совладать с этим инстинктивным сопротивлением. Что вы
поймете в психоанализе из моих лекций, заранее сказать,
естественно, трудно, однако могу твердо обещать, что,
прослушав их, вы не научитесь проводить психоаналитическое
исследование и лечение. Если же среди вас найдется кто-то,
кто не удовлетворится беглым знакомством с
психоанализом, а захочет прочно связать себя с ним, я не только не
посоветую это сделать, но всячески стану его предостерегать
от этого шага. Обстоятельства таковы, что подобный выбор
профессии исключает для него всякую возможность
продвижения в университете. Если же такой врач займется
практикой, то окажется в обществе, не понимающем его устремлений,
относящемся к нему с недоверием и враждебностью и
ополчившем против него все скрытые темные силы. Возможно,
кое-какие моменты, сопутствующие войне, свирепствующей
ныне в Европе, дадут вам некоторое представление о том,
что сил этих — легионы.
Правда, всегда найдутся люди, для которых новое в
познании имеет свою привлекательность, несмотря на все
связанные с этим неудобства. И если кто-то из вас из их числа
и, несмотря на мои предостережения, придет сюда снова, я
буду рад приветствовать его. Однако вы все вправе знать,
какие трудности связаны с психоанализом.
Во-первых, следует указать на сложность преподавания
психоанализа и обучения ему. На занятиях по медицине вы
привыкли к наглядности. Вы видите анатомический
препарат, осадок при химической реакции, сокращение мышцы
при раздражении нервов. Позднее вам показывают больного,
симптомы его недуга, последствия болезненного процесса, а
во многих случаях и возбудителей болезни в чистом виде.
Изучая хирургию, вы присутствуете при хирургических вме-
155
Зигмунд ФРЕЙД
шательствах для оказания помощи больному и можете сами
провести операцию. В той же психиатрии осмотр больного
дает вам множество фактов, свидетельствующих об
изменениях в мимике, о характере речи и поведении, которые
весьма впечатляют. Таким образом, преподаватель в медицине
играет роль гида-экскурсовода, сопровождающего вас по
музею, в то время как вы сами вступаете в непосредственный
контакт с объектами и благодаря собственному восприятию
убеждаетесь в существовании новых для нас явлений.
В психоанализе, к сожалению, все обстоит совсем
по-другому. При аналитическом лечении не происходит ничего,
кроме обмена словами между пациентом и врачом. Пациент
говорит, рассказывает о прошлых переживаниях и нынешних
впечатлениях, жалуется, признается в своих желаниях и
чувствах. Врач же слушает, стараясь управлять ходом мыслей
больного, кое о чем напоминает ему, удерживает его
внимание в определенном направлении, дает объяснения и
наблюдает за реакциями приятия или неприятия, которые он таким
образом вызывает у больного. Необразованные
родственники наших больных, которым импонирует лишь явное и
ощутимое, а больше всего действия, какие можно увидеть разве
что в кинематографе, никогда не упустят случая
усомниться: «Как это можно вылечить болезнь одними разговорами?»
Это, конечно, столь же недальновидно, сколь и
непоследовательно. Ведь те же самые люди убеждены, что больные
«только выдумывают» свои симптомы. Когда-то слова
были колдовством, слово и теперь во многом сохранило свою
прежнюю чудодейственную силу. Словами один человек
может осчастливить другого или повергнуть его в отчаяние,
словами учитель передает свои знания ученикам, словами
оратор увлекает слушателей и способствует определению их
суждений и решений. Слова вызывают аффекты и являются
общепризнанным средством воздействия людей друг на
друга. Не будем же недооценивать использование слова в
психотерапии и будем довольны, если сможем услышать слова,
которыми обмениваются аналитик и его пациент.
Но даже и этого нам не дано. Беседа, в которой и
заключается психоаналитическое лечение, не допускает
присутствия посторонних; ее нельзя продемонстрировать. Можно,
156
Введение о психоанализ
конечно, на лекции по психиатрии показать учащимся
неврастеника или истерика. Тот, пожалуй, расскажет о своих
жалобах и симптомах, но не больше того. Сведения, нужные
психоаналитику, он может дать лишь при условии особого
расположения к врачу; однако он тут же замолчит, как
только заметит хоть одного свидетеля, индифферентного к нему.
Ведь эти сведения имеют отношение к самому интимному
в его душевной жизни, ко всему тому, что он, как лицо
социально самостоятельное, вынужден скрывать от других,
а также к тому, в чем он как цельная личность не хочет
признаться даже самому себе.
Таким образом, беседу врача, лечащего методом
психоанализа, нельзя услышать непосредственно. Вы можете только
узнать о ней и познакомитесь с психоанализом в буквальном
смысле слова лишь понаслышке. К собственному взгляду на
психоанализ вам придется прийти в необычных условиях,
поскольку сведения о нем вы получаете как бы из вторых
рук. Во многом это зависит от того доверия, с которым вы
относитесь к посреднику.
Представьте себе теперь, что вы присутствуете на лекции
не по психиатрии, а по истории, и лектор рассказывает вам
о жизни и военных подвигах Александра Македонского. На
каком основании вы верите в достоверность его сообщений?
Сначала кажется, что здесь еще сложнее, чем в
психоанализе, ведь профессор истории не был участником походов
Александра так же, как и вы; психоаналитик, по крайней
мере, сообщает вам о том, в чем он сам играл какую-то роль.
Но тут наступает черед тому, что заставляет нас поверить
историку. Он может сослаться на свидетельства древних
писателей, которые или сами были современниками
Александра, или по времени жили ближе к этим событиям, т.е. на
книги Диодора, Плутарха, Арриана и др.; он покажет вам
изображения сохранившихся монет и статуй царя,
фотографию помпейской мозаики битвы при Иссе. Однако, строго
говоря, все эти документы доказывают только то, что уже
более ранние поколения верили в существование
Александра и в реальность его подвигов, и вот с этого и могла бы
начаться ваша критика. Тогда вы обнаружите, что не все
сведения об Александре достоверны и не все подробности
157
Зигмунд ФРЕЙД
можно проверить, но я не могу предположить, чтобы вы
покинули лекционный зал, сомневаясь в реальности
личности Александра Македонского. Ваша позиция определится
главным образом двумя соображениями: во-первых, вряд ли
у лектора есть какие-то мыслимые мотивы, побудившие
выдавать за реальное то, что он сам не считает таковым, и,
во-вторых, все доступные исторические книги рисуют
события примерно одинаково. Если вы затем обратитесь к
изучению древних источников, вы обратите внимание на те же
обстоятельства, на возможные побудительные мотивы
посредников и на сходство различных свидетельств.
Результаты вашего исследования наверняка успокоят вас насчет
Александра, однако они, вероятно, будут другими, если речь
зайдет о таких личностях, как Моисей или Нимрод. О том,
какие сомнения могут возникнуть у вас относительно
доверия к лектору-психоаналитику, вы узнаете позже.
Теперь вы вправе задать вопрос: если у психоанализа нет
никаких объективных подтверждений и нет возможности его
продемонстрировать, то как же его вообще можно изучить и
убедиться в правоте его положений? Действительно,
изучение психоанализа дело нелегкое, и лишь немногие
по-настоящему овладевают им, однако приемлемый путь, естественно,
существует. Психоанализом овладевают прежде всего на
самом себе, при изучении своей личности. Это не совсем то,
что называется самонаблюдением, но в крайнем случае
психоанализ можно рассматривать как один из его видов. Есть
целый ряд распространенных и общеизвестных психических
явлений, которые при некотором овладении техникой
изучения самого себя могут стать предметами анализа. Это дает
возможность убедиться в реальности процессов,
описываемых в психоанализе, и в правильности их понимания.
Правда, успешность продвижения по этому пути имеет свои
пределы. Гораздо большего можно достичь, если тебя обследует
опытный психоаналитик, если на собственном Я
испытываешь действие анализа и можешь от другого перенять
тончайшую технику этого метода. Конечно, этот прекрасный путь
доступен лишь каждому отдельно, а не всем сразу.
Другое затруднение в понимании психоанализа лежит не
в нем, а в вас самих, поскольку вы до сих пор занимались
158
Введение о психоанализ
изучением медицины. Стиль вашего мышления,
сформированный предшествующим образованием, далек от
психоаналитического. Вы привыкли обосновывать функции
организма и их нарушения анатомически, объяснять их химически
и физически и понимать биологически, но никогда ваши
интересы не обращались к психической жизни, которая как
раз и является венцом нашего удивительно сложного
организма. А посему психологический подход вам чужд, и вы
привыкли относиться к нему с недоверием, отказывая ему
в научности и отдавая его на откуп непрофессионалам,
писателям, натурфилософам и мистикам. Такая
ограниченность, безусловно, только вредит вашей врачебной
деятельности, так как больной предстает перед вами прежде всего
своей душевной стороной, как это и происходит во всех
человеческих отношениях, и я боюсь, что в наказание за то
вам придется поделиться терапевтической помощью,
которую вы стремитесь оказать, с самоучками, знахарями и
мистиками, столь презираемыми вами.
Мне ясно, чем оправдывается этот недостаток в вашем
образовании. Вам не хватает философских знаний, которыми
вы могли бы пользоваться в вашей врачебной практике. Ни
спекулятивная философия, ни описательная психология, ни
так называемая экспериментальная психология, смежная с
физиологией чувств, как они преподносятся в учебных
заведениях, не в состоянии сказать вам что-нибудь
вразумительное об отношении между телом и душой, дать ключ к
пониманию возможного нарушения психических функций.
Правда, в рамках медицины описанием наблюдаемых психических
расстройств и составлением клинической картины болезней
занимается психиатрия, но ведь в часы откровенности
психиатры сами высказывают сомнения в том, заслуживают ли
их описания названия науки. Симптомы, составляющие эти
картины болезней, не распознаны по своему происхождению,
механизму и взаимной связи; им соответствуют либо
неопределенные изменения анатомического органа души, либо
такие изменения, которые ничего не объясняют.
Терапевтическому воздействию эти психические расстройства доступны
только тогда, когда их можно обнаружить по побочным
проявлениям какого-то иного органического изменения.
159
Зигмунд ФРЕЙД
Психоанализ как раз и стремится восполнить этот пробел.
Он предлагает психиатрии недостающую ей психологическую
основу, надеясь найти ту общую базу, благодаря которой
становится понятным сочетание соматического нарушения с
психическим. Для этого психоанализ должен избегать любой
чуждой ему посылки анатомического, химического или
физиологического характера и пользоваться чисто
психологическими вспомогательными понятиями — вот почему я
опасаюсь, что он покажется вам сначала столь необычным.
В следующем затруднении я не хочу обвинять ни вас, ни
ваше образование, ни вашу установку. Двумя своими
положениями анализ оскорбляет весь мир и вызывает к себе его
неприязнь; одно из них наталкивается на интеллектуальные,
другое — на морально-эстетические предрассудки.
Не следует, однако, недооценивать эти предрассудки; это
властные силы, побочный продукт полезных и даже
необходимых изменений в ходе развития человечества. Они
поддерживаются нашими аффективными силами, и бороться с
ними трудно.
Согласно первому коробящему утверждению
психоанализа, психические процессы сами по себе бессознательны,
сознательны лишь отдельные акты и стороны душевной жизни.
Вспомните, что мы, наоборот, привыкли идентифицировать
психическое и сознательное. Именно сознание считается у нас
основной характерной чертой психического, а психология —
наукой о содержании сознания. Да, это тождество кажется
настолько само собой разумеющимся, что возражение против
него представляется нам очевидной бессмыслицей, и все же
психоанализ не может не возражать, он не может признать
идентичность сознательного и психического. Согласно его
определению, психическое представляет собой процессы
чувствования, мышления, желания, и это определение допускает
существование бессознательного мышления и
бессознательного желания. Но данное утверждение сразу же роняет его в
глазах всех приверженцев трезвой научности и заставляет
подозревать, что психоанализ — фантастическое тайное учение,
которое бродит в потемках, желая ловить рыбу в мутной воде.
Вам же, уважаемые слушатели, пока еще непонятно, по
какому праву столь абстрактное положение, как «психическое есть
160
Введение в психоанализ
сознательное», я считаю предрассудком, вы, может быть,
также не догадываетесь, что могло привести к отрицанию
бессознательного, если таковое существует, и какие преимущества
давало такое отрицание. Вопрос о том, тождественно ли
психическое сознательному или же оно гораздо шире, может
показаться пустой игрой слов, но смею вас заверить, что
признание существования бессознательных психических
процессов ведет к совершенно новой ориентации в мире и науке.
Вы даже не подозреваете, какая тесная связь существует
между этим первым смелым утверждением психоанализа и
вторым, о котором речь пойдет ниже. Это второе положение,
которое психоанализ считает одним из своих достижений,
утверждает, что влечения, которые можно назвать
сексуальными в узком и широком смыслах слова, играют невероятно
большую и до сих пор непризнанную роль в возникновении
нервных и психических заболеваний. Более того, эти же
сексуальные влечения участвуют в создании высших
культурных, художественных и социальных ценностей
человеческого духа, и их вклад нельзя недооценивать.
По собственному опыту знаю, что неприятие этого
результата психоаналитического исследования является главным
источником сопротивления, с которым оно сталкивается. Хотите
знать, как мы это себе объясняем? Мы считаем, что культура
была создана под влиянием жизненной необходимости за счет
удовлетворения влечений, и она по большей части
постоянно воссоздается благодаря тому, что отдельная личность,
вступая в человеческое общество, снова жертвует
удовлетворением своих влечений в пользу общества. Среди этих влечений
значительную роль играют сексуальные; при этом они
сублимируются, т.е. отклоняются от своих сексуальных целей и
направляются на цели, социально более высокие, уже не
сексуальные. Эта конструкция, однако, весьма неустойчива,
сексуальные влечения подавляются с трудом, и каждому, кому
предстоит включиться в создание культурных ценностей,
грозит опасность, что его сексуальные влечения не допустят
такого их применения. Общество не знает более страшной
угрозы для своей культуры, чем высвобождение сексуальных
влечений и их возврат к изначальным целям. Итак, общество не
любит напоминаний об этом слабом месте в его основании,
6-3518
161
Зигмунд ФРЕЙД
оно не заинтересовано в признании силы сексуальных
влечений и в выяснении значения сексуальной жизни для каждого;
больше того, из воспитательных соображений оно старается
отвлечь внимание от всей этой области. Поэтому оно столь
нетерпимо к вышеупомянутому результату исследований
психоанализа и охотнее всего стремится представить его
отвратительным с эстетической точки зрения и непристойным или
даже опасным с точки зрения морали. Но такими
выпадами нельзя опровергнуть объективные результаты научной
работы. Если уж выдвигать возражения, то они должны быть
обоснованы интеллектуально. Ведь человеку свойственно
считать неправильным то, что ему не нравится, и тогда легко
находятся аргументы для возражений. Итак, общество выдает
нежелательное за неправильное, оспаривая истинность
психоанализа логическими и фактическими аргументами,
подсказанными, однако, аффектами, и держится за эти возражения-
предрассудки, несмотря на все попытки их опровергнуть.
Смею вас заверить, уважаемые дамы и господа, что,
выдвигая это спорное положение, мы вообще не стремились к
тенденциозности. Мы хотели лишь показать фактическое
положение вещей, которое, надеемся, мы познали в процессе упорной
работы. Мы и теперь считаем себя вправе отклонить всякое
вторжение подобных практических соображений в научную
работу, хотя мы еще не успели убедиться в обоснованности тех
опасений, которые имеют следствием эти соображения.
Таковы лишь некоторые из тех затруднений, с которыми
вам предстоит столкнуться в процессе занятий
психоанализом. Для начала, пожалуй, более чем достаточно. Если вы
сумеете преодолеть негативное впечатление от них, мы
продолжим наши беседы.
Вторая лекция
Ошибочные действия
Уважаемые дамы и господа! Мы начнем не с
предположений, а с исследования. Его объектом будут весьма
известные, часто встречающиеся и мало привлекавшие к себе вни-
162
Введение в психоанализ
мание явления, которые, не имея ничего общего с болезнью,
наблюдаются у любого здорового человека. Это так
называемые ошибочные действия (Fehlleistungen) человека:
оговорки (Versprechen) — когда, желая что-либо сказать, кто-то
вместо одного слова употребляет другое; описки — когда то
же самое происходит при письме, что может быть замечено
или остаться незамеченным; очитки (Verlesen) — когда
читают не то, что напечатано или написано; ослышки
(Verhören) — когда человек слышит не то, что ему говорят;
нарушения слуха по органическим причинам сюда, конечно, не
относятся. В основе другой группы таких явлений лежит
забывание (Vergessen), но не длительное, а временное, когда
человек не может вспомнить, например, имени (Name),
которое он наверняка знает и обычно затем вспоминает, или
забывает выполнить намерение (Vorsatz), о котором
позднее вспоминает, а забывает лишь на определенный момент.
В третьей группе явлений этот временной аспект
отсутствует, как, например, при запрятывании (Verlegen), когда
какой-либо предмет куда-то убираешь, так что не можешь его
больше найти, или при совершенно аналогичном затерива-
нии (Verlieren). Здесь перед нами забывание, к которому
относишься иначе, чем к забыванию другого рода; оно
вызывает удивление или досаду, вместо того чтобы мы считали
его естественным. Сюда же относятся определенные
ошибки-заблуждения (Irrtümer)1, которые также имеют
временной аспект, когда на какое-то время веришь чему-то, о чем
до и после знаешь, что это не соответствует
действительности, и целый ряд подобных явлений, имеющих различные
названия.
Внутреннее сходство всех этих случаев выражается
приставкой «о-» или «за-» (ver-) в их названиях. Почти все они
весьма несущественны, в большинстве своем скоропреходя-
щи и не играют важной роли в жизни человека. Только
изредка какой-нибудь из них, например затеривание
предметов, приобретает известную практическую значимость.
1 Слово «Irrtum» переводится буквально как «ошибка», «заблуждение».
В настоящем издании оно в зависимости от контекста переводится либо как
«ошибка», либо как «ошибка-заблуждение». — Примеч. ред. перевода.
163
Зигмунд ФРЕЙД
Именно поэтому на них не обращают особого внимания,
вызывают они лишь слабые эмоции и т.д.
Именно к этим явлениям я и хочу привлечь теперь ваше
внимание. Но вы недовольно возразите мне: «В мире, как и
в душевной жизни, более частной его области, есть столько
великих тайн, в области психических расстройств так много
удивительного, которое нуждается в объяснении и
заслуживает его, что, право, жаль тратить время на такие мелочи.
Если бы вы могли объяснить нам, каким образом человек с
хорошим зрением и слухом среди бела дня может увидеть
и услышать то, чего нет, а другой вдруг считает, что его
преследуют именно те, кого он до сих пор больше всех любил,
или самым остроумным образом защищает химеры, которые
любому ребенку покажутся бессмыслицей, мы еще
как-нибудь признали бы психоанализ. Но если он предлагает нам
лишь разбираться в том, почему оратор вместо одного слова
говорит другое или почему домохозяйка куда-то запрятала
свои ключи, да и в других подобных пустяках, то мы
сумеем найти лучшее применение своему времени и интересам».
Я бы вам ответил: «Терпение, уважаемые дамы и господа!
Я считаю, что ваша критика бьет мимо цели. Действительно,
психоанализ не может похвастаться тем, что никогда не
занимался мелочами. Напротив, материалом для его
наблюдений как раз и служат те незаметные явления, которые в
других науках отвергаются как недостойные внимания,
считаются, так сказать, отбросами мира явлений. Но не подменяете
ли вы в вашей критике значимость проблем их внешней
яркостью? Разве нет весьма существенных явлений, которые
могут при определенных обстоятельствах и в определенное
время выдать себя самыми незначительными признаками?
Я с легкостью могу привести много примеров таких
ситуаций. По каким ничтожным признакам вы, сидящие здесь
молодые люди, замечаете, что завоевали благосклонность дамы?
Разве для этого вы ждете объяснений в любви, пылких
объятий, а недостаточно ли вам едва заметного взгляда, беглого
движения, чуть затянувшегося рукопожатия? И если вы,
будучи криминалистом, участвуете в расследовании убийства,
разве рассчитываете вы в самом деле, что убийца оставил вам
на месте преступления свою фотографию с адресом, и не
164
Введение в психоанализ
вынуждены ли вы довольствоваться более слабыми и не
столь явными следами присутствия личности, которую
ищете? Так что не будем недооценивать незначительные
признаки, может быть, они наведут нас на след чего-нибудь более
важного. А впрочем, я, как и вы, полагаю, что великие
проблемы мира и науки должны интересовать нас прежде всего.
Но обычно очень мало пользы от того, что кто-то во
всеуслышание заявил о намерении сразу же приступить к
исследованию той или иной великой проблемы. Часто в таких
случаях не знают, с чего начать. В научной работе
перспективнее обратиться к изучению того, что тебя окружает и что
более доступно для исследования. Если это делать
достаточно основательно, непредвзято и терпеливо, то, если
посчастливится, даже такая весьма непритязательная работа может
открыть путь к изучению великих проблем, поскольку как все
связано со всем, так и малое соединяется с великим.
Вот так бы я рассуждал, чтобы пробудить ваш интерес к
анализу кажущихся такими ничтожными ошибочных
действий здоровых людей. А теперь поговорим с кем-нибудь, кто
совсем не знаком с психоанализом, и спросим, как он
объясняет происхождение этих явлений.
Прежде всего он, видимо, ответит: «О, это не
заслуживает каких-либо объяснений; это просто маленькие
случайности». Что же он хочет этим сказать? Выходит, существуют
настолько ничтожные события, выпадающие из цепи
мировых событий, которые с таким же успехом могут как
произойти, так и не произойти? Если кто-то нарушит, таким
образом, естественный детерминизм в одном-единственном
месте, то рухнет все научное мировоззрение. Тогда можно
поставить ему в упрек, что религиозное мировоззрение куда
последовательнее, когда настойчиво заверяет, что ни один
волос не упадет с головы без Божьей воли [букв.: ни один
воробей не упадет с крыши без Божьей воли]. Думаю, что
наш друг не будет делать выводы из своего первого ответа,
он внесет поправку и скажет, что если эти явления изучать,
то, естественно, найдутся и для них объяснения. Они могут
быть вызваны небольшими отклонениями функций,
неточностями в психической деятельности при определенных
условиях. Человек, который обычно говорит правильно, может
165
Зигмунд ФРЕЙД
оговориться: 1) если ему нездоровится и он устал; 2) если
он взволнован; 3) если он слишком занят другими вещами.
Эти предположения легко подтвердить. Действительно,
оговорки встречаются особенно часто, когда человек устал,
если у него болит голова или начинается мигрень. В этих же
условиях легко происходит забывание имен собственных.
Для некоторых лиц такое забывание имен собственных
является признаком приближающейся мигрени. В волнении
также часто путаешь слова; захватываешь «по ошибке» не
те предметы, забываешь о намерениях, да и производишь
массу других непредвиденных действий по рассеянности,
т. е. если внимание сконцентрировано на чем-то другом.
Известным примером такой рассеянности может служить
профессор из Fliegende Blätter, который забывает зонт и
надевает чужую шляпу, потому что думает о проблемах своей
будущей книги. По собственному опыту все мы знаем о
намерениях и обещаниях, забытых из-за того, что нас слишком
захватило какое-то другое переживание.
Это так понятно, что, по-видимому, не может вызвать
возражений. Правда, может быть, и не так интересно, как мы
ожидали. Посмотрим же на эти ошибочные действия
повнимательнее. Условия, которые, по предположению, необходимы
для возникновения этих феноменов, различны. Недомогание
и нарушение кровообращения являются физиологическими
причинами нарушений нормальной деятельности; волнение,
усталость, рассеянность — причины другого характера,
которые можно назвать психофизиологическими. Теоретически их
легко можно объяснить. При усталости, как и при
рассеянности и даже при общем волнении внимание распределяется
таким образом, что для. соответствующего действия его остается
слишком мало. Тогда это действие выполняется неправильно
или неточно. Легкое недомогание и изменения притока крови
к головному мозгу могут вызвать такой же эффект, т.е.
повлиять на распределение внимания. Таким образом, во всех
случаях дело сводится к результатам расстройства внимания
органической или психической этиологии.
Из всего этого для психоанализа как будто немного можно
извлечь. У нас может опять возникнуть искушение оставить
эту тему. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что
166
Введение о психоанализ
не все ошибочные действия можно объяснить данной теорией
внимания или, во всяком случае, они объясняются не только
ею. Опыт показывает, что ошибочные действия и забывание
проявляются и у лиц, которые не устали, не рассеянны и не
взволнованы, разве что им припишут это волнение после
сделанного ошибочного действия, но сами они его не
испытывали. Да и вряд ли можно свести все к простому объяснению,
что усиление внимания обеспечивает правильность действия,
ослабление же нарушает его выполнение. Существует
большое количество действий, чисто автоматических и требующих
минимального внимания, которые выполняются при этом
абсолютно уверенно. На прогулке часто не думаешь, куда
идешь, однако не сбиваешься с пути и приходишь, куда хотел.
Во всяком случае, обычно бывает так. Хороший пианист не
думает о том, какие клавиши ему нажимать. Он, конечно,
может ошибиться, но если бы автоматическая игра
способствовала увеличению числа ошибок, то именно виртуозы, игра
которых совершенно автоматизирована благодаря
упражнениям, ошибались бы чаще всех. Мы видим как раз обратное:
многие действия совершаются особенно уверенно, если на
них не обращать внимания, а ошибочное действие возникает
именно тогда, когда правильности его выполнения придается
особое значение и отвлечение внимания никак не
предполагается. Можно отнести это на счет «волнения», но непонятно,
почему оно не усиливает внимания к тому, что так хочется
выполнить. Когда в важной речи или в разговоре из-за
оговорки высказываешь противоположное тому, что хотел
сказать, вряд ли это можно объяснить психофизиологической
теорией или теорией внимания.
В ошибочных действиях есть также много
незначительных побочных явлений, которые не поняты и не объяснены
до сих пор существующими теориями. Например, когда на
время забудется слово, то чувствуешь досаду, хочешь во что
бы то ни стало вспомнить его и никак не можешь
отделаться от этого желания. Почему же рассердившемуся не
удается, как он ни старается, направить внимание на слово,
которое, как он утверждает, «вертится на языке», но это
слово тут же вспоминается, если его скажет кто-то другой?
Или бывают случаи, когда ошибочные действия множатся,
167
Зигмунд ФРЕЙД
переплетаются друг с другом, заменяют друг друга. В
первый раз забываешь о свидании, другой раз с твердым
намерением не забыть о нем оказывается, что перепутал час.
Хочешь окольным путем вспомнить забытое слово, в
результате забываешь второе, которое должно было помочь
вспомнить первое. Стараешься припомнить теперь второе,
ускользает третье и т.д. То же самое происходит и с
опечатками, которые следует понимать как ошибочные
действия наборщика. Говорят, такая устойчивая опечатка
пробралась как-то в одну социал-демократическую газету. В
сообщении об одном известном торжестве можно было прочесть:
«Среди присутствующих был его величество корнпринц».
На следующий день появилось опровержение: «Конечно,
следует читать кнорпринц». В таких случаях любят говорить
о нечистой силе, злом духе наборного ящика и тому
подобных вещах, выходящих за рамки психофизиологической
теории опечатки.
Я не знаю, известно ли вам, что оговорку можно
спровоцировать, так сказать, вызвать внушением. По этому
поводу рассказывают анекдот: как-то новичку поручили важную
роль на сцене; в Орлеанской деве он должен был доложить
королю, что коннетабль отсылает свой меч (der Connétable
schickt sein Schwert zurück). Игравший главную роль
подшутил над робким новичком и во время репетиции несколько
раз подсказал ему вместо нужных слов: комфортабль
отсылает свою лошадь (der Komfortabel schickt sein Pferd zurück)
и добился своего. На представлении несчастный дебютант
оговорился, хотя его предупреждали об этом, а может быть,
именно потому так и случилось.
Все эти маленькие особенности ошибочных действий
нельзя объяснить только теорией отвлечения внимания. Но
это еще не значит, что эта теория неправильна. Ей, пожалуй,
чего-то не хватает, какого-то дополнительного утверждения
для того, чтобы она полностью нас удовлетворяла. Но
некоторые ошибочные действия можно рассмотреть также и с
другой стороны.
Начнем с оговорки, она больше всего подходит нам из
ошибочных действий. Хотя с таким же успехом мы могли бы
выбрать описку или очитку. Сразу же следует сказать, что
168
Введение в психоанализ
до сих пор мы спрашивали только о том, когда, при каких
условиях происходит оговорка, и только на этот вопрос мы
и получали ответ. Но можно также заинтересоваться другим
и попытаться узнать: почему человек оговорился именно так,
а не иначе; следует обратить внимание на то, что происходит
при оговорке. Вы понимаете, что, пока мы не ответим на этот
вопрос, пока мы не объясним результат оговорки с
психологической точки зрения, это явление останется случайностью,
хотя физиологическое объяснение ему и можно будет найти.
Если мне случится оговориться, я могу это сделать в
бесконечно многих вариантах, вместо нужного слова можно
сказать тысячу других, нужное слово может получить
бесчисленное множество искажений. Существует ли что-то, что
заставляет меня из всех возможных оговорок сделать именно
такую, или это случайность, произвол и тогда, может быть,
на этот вопрос нельзя ответить ничего разумного?
Два автора, Мерингер и Майер (один — филолог,
другой — психиатр), попытались в 1895 г. именно с этой
стороны подойти к вопросу об оговорках. Они собрали много
примеров и просто описали их. Это, конечно, еще не дает
никакого объяснения оговоркам, но позволяет найти путь к нему.
Авторы различают следующие искажения, возникающие из-
за оговорок: перемещения (Vertauschungen),
предвосхищения (Vorklänge), отзвуки (Nachklänge), смешения, или
контаминации (Vermengungen, oder Kontaminationen), и
замещения, или субституции (Ersetzungen, oder Substitutionen).
Я приведу вам примеры, предложенные авторами для этих
основных групп. Случай перемещения: Die Milo von Venus
вместо die Venus von Milo [перемещение в
последовательности слов — Милос из Венеры вместо Венеры из Милоса];
предвосхищение: Es war mir auf der Schwest... auf der Brust so
schwer [Мне было на душе (доел.: в груди) так тяжело, но
вначале вместо слова «Brust» — грудь — была сделана
оговорка «Schwest», в которой отразилось предвосхищаемое
слово «schwer»— тяжело]. Примером отзвука может служить
неудачный тост: Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres
Chefs aufzustoßen [Предлагаю Вам выпить (доел.: чокнуться)
за здоровье нашего шефа; но вместо anstoßen — чокнуться —
сказано: aufstoßen — отрыгнуть]. Эти три вида оговорок до-
169
Зигмунд ФРЕЙД
вольно редки. Чаще встречаются оговорки из-за стяжения
или смешения, например, когда молодой человек
заговаривает с дамой: Wenn Sie gestatten mein Fräulein, möchte ich Sie
gerne begleit-digen [Если Вы разрешите, барышня, я Вас
провожу, но в слово «begleiten» — проводить — вставлены еще
три буквы «dig»]. В слове «begleit-digen» кроется, кроме
слова begleiten [проводить], очевидно, еще слово beleidigen
[оскорбить]. (Молодой человек, видимо, не имел большого
успеха у дамы.) На замещение авторы приводят пример: Ich
gebe die Präparate in den Япе/kasten anstatt Brütkasten [Я
ставлю препараты в почтовый ящик вместо термостата].
Объяснение, которое оба автора пытаются вывести из
своего собрания примеров, совершенно недостаточно. Они
считают, что звуки и слоги в слове имеют различную
значимость и иннервация более значимого элемента влияет на
иннервацию менее значимого. При этом авторы ссылаются
на редкие случаи предвосхищения и отзвука; в случаях же
оговорок другого типа эти звуковые предпочтения, если они
вообще существуют, не играют никакой роли. Чаще всего
при оговорке употребляют похожее по звучанию слово, этим
сходством и объясняют оговорку. Например, в своей
вступительной речи профессор заявляет: Ich bin nicht geneigt
(geeignet), die Verdienste meines sehr geschätzten Vorgängers
zu würdigen [Я не склонен (вместо неспособен) оценить
заслуги своего уважаемого предшественника]. Или другой
профессор: Beim weiblichen Genitale hat man trotz vieler
Versuchungen... Pardon: Versuche... [В женских гениталиях,
несмотря на много искушений, простите, попыток...].
Но самой обычной и в то же время самой поразительной
оговоркой является та, когда произносится как раз
противоположное тому, что собирался сказать. При этом
соотношение звуков и влияние сходства, конечно, не имеют значения,
а замену можно объяснить тем, что противоположности
имеют понятийное родство и в психологической ассоциации
особенно сближаются. Можно привести исторические примеры
такого рода: президент нашей палаты депутатов открыл как-
то заседание следующими словами: «Господа, я признаю
число присутствующих достаточным и объявляю заседание
закрытым». Так же предательски, как соотношение противо-
170
Введение в психоанализ
положностей, могут подвести другие привычные ассоциации,
которые иногда возникают совсем некстати. Так, например,
рассказывают, что на торжественном бракосочетании детей
Г. Гельмгольца и знаменитого изобретателя и крупного
промышленника В. Сименса известный физиолог Дюбуа-Реймон
произнес приветственную речь. Он закончил свой вполне
блестящий тост словами: «Итак, да здравствует новая фирма
Сименс и Галске». Это было, естественно, название старой
фирмы. Сочетание этих двух имен так же обычно для жителя
Берлина, как «Ридель и Бойтель» для жителя Вены.
Таким образом, мы должны к соотношению звуков и
сходству слов прибавить влияние словесных ассоциаций. Но
и этого еще недостаточно. В целом ряде случаев оговорку
едва ли можно объяснить без учета того, что было сказано
в предшествующем предложении или же что предполагалось
сказать. Итак, можно считать, что это опять случай отзвука,
как по Мерингеру, но только более отдаленно связанный по
смыслу. Должен признаться, что после всех этих
объяснений может сложиться впечатление, что мы теперь еще более
далеки от понимания оговорок, чем когда-либо!
Но надеюсь, что не ошибусь, высказав предположение,
что во время проведенного исследования у всех у нас
возникло иное впечатление от примеров оговорок, которое
стоило бы проанализировать. Мы исследовали условия, при
которых оговорки вообще возникают, определили, что влияет
на особенности искажений при оговорках, но совсем не
рассмотрели эффекта оговорки самого по себе, безотносительно
к ее возникновению. Если мы решимся на это, то необходима
известная смелость, чтобы сказать: да, в некоторых случаях
оговорка имеет смысл (Sinn). Что значит «имеет смысл»?
Это значит, что оговорку, возможно, следует считать
полноценным психическим актом, имеющим свою цель,
определенную форму выражения и значение. До сих пор мы все время
говорили об ошибочных действиях, а теперь оказывается, что
иногда ошибочное действие является совершенно
правильным, только оно возникло вместо другого ожидаемого или
предполагаемого действия.
Этот действительный смысл ошибочного действия в
отдельных случаях совершенно очевиден и несомненен. Если
171
Зигмунд ФРЕЙД
председатель палаты депутатов в первых же своих словах
закрывает заседание вместо того, чтобы его открыть, то, зная
обстоятельства, в которых произошла оговорка, мы склонны
считать это ошибочное действие не лишенным смысла. Он не
ожидает от заседания ничего хорошего и рад был бы сразу
его закрыть. Показать этот смысл, т.е. истолковать эту
оговорку, не составляет никакого труда. Или если одна дама
с кажущимся одобрением говорит другой: Diesen reizenden
neuen Hut haben Sie sich wohl selbst auf gepatz? [Эту
прелестную новую шляпу Вы, вероятно, сами обделали? — вместо
aufgeputzt — отделали], то никакая научность в мире не
помешает нам услышать в этой оговорке выражение: Dieser Hut
ist eine Patzerei [Эта шляпа безнадежно испорчена]. Или если
известная своей энергичностью дама рассказывает: «Мой муж
спросил доктора, какой диеты ему придерживаться, на это
доктор ответил — ему не нужна никакая диета, он может есть
и пить все, что я хочу», то ведь за этой оговоркой стоит ясно
выраженная последовательная программа поведения.
Уважаемые дамы и господа, если выяснилось, что не только
некоторые оговорки и ошибочные действия имеют смысл, но
и их значительное большинство, то, несомненно, этот смысл
ошибочных действий, о котором до сих пор никто не говорил,
и станет для нас наиболее интересным, а все остальные точки
зрения по праву отойдут на задний план. Мы можем оставить
физиологические и психофизиологические процессы и
посвятить себя чисто психологическим исследованиям о смысле, т. е.
значении и намерениях ошибочных действий. И в связи с этим
мы не упустим возможности привлечь более широкий
материал для проверки этих предположений.
Но прежде чем мы выполним это намерение, я просил бы
вас последовать по другому пути. Часто случается, что поэт
пользуется оговоркой или другим ошибочным действием как
выразительным средством. Этот факт сам по себе должен
нам доказать, что он считает ошибочное действие, например
оговорку, чем-то осмысленным, потому что ведь он делает ее
намеренно. Конечно, это происходит не так, что свою
случайно сделанную описку поэт оставляет затем своему
персонажу в качестве оговорки. Он хочет нам что-то объяснить
оговоркой, и мы должны поразмыслить, что это может озна-
172
Введение в психоанализ
чать: хочет ли он намекнуть, будто известное лицо рассеянно
или устало, или его ждет приступ мигрени. Конечно, не
следует преувеличивать того, что поэт всегда употребляет
оговорку как имеющую определенный смысл. В
действительности она могла быть бессмысленной психической
случайностью и только в крайне редких случаях иметь смысл, но
поэт вправе придать ей смысл, чтобы использовать его для
своих целей. И поэтому нас бы не удивило, если бы от поэта
мы узнали об оговорке больше, чем от филолога и психиатра.
Пример оговорки мы находим в Валленштейне (Пикколо-
мини, 1-й акт, 5-е явление). Макс Пикколомини в
предыдущей сцене страстно выступает на стороне герцога и мечтает
о благах мира, раскрывшихся перед ним, когда он
сопровождал дочь Валленштейна в лагерь. Его отец и посланник двора
Квестенберг в полном недоумении. А дальше в 5-м явлении
происходит следующее:
Квестенберг
Вот до чего дошло!
(Настойчиво и нетерпеливо.)
А мы ему в подобном ослепленье
Позволили уйти, мой друг,
И не зовем его тотчас обратно —
Открыть ему глаза?
Октавио
(опомнившись после глубокого раздумья)
Мне самому
Открыл глаза он шире, чем хотелось.
Квестенберг
Что с вами, друг?
Октавио
Проклятая поездка!
Квестенберг
Как? Что такое?
Октавио
Поскорей! Мне надо
Взглянуть на этот злополучный след
И самому увидеть все. Пойдемте.
(Хочет его увести.)
173
Зигмунд ФРЕЙД
Квестенберг
Зачем? Куда вы?
Октавио
(все еще торопит его)
К ней!
Квестенберг
К кому?
Октавио
(спохватываясь)
Да к герцогу! Пойдем!
(Перевод Н. Славятинского)
Октавио хотел сказать «к нему», герцогу, но оговорился
и выдал словами «к ней» причину, почему молодой герой
мечтает о мире.
О. Ранк (1910а) указал на еще более поразительный
пример у Шекспира в Венецианском купце, в знаменитой сцене
выбора счастливым возлюбленным одного из трех ларцов;
я, пожалуй, лучше процитирую самого Ранка.
«Чрезвычайно тонко художественно мотивированная и
технически блестяще использованная оговорка, которую
приводит Фрейд из Валленштейна, доказывает, что поэты
хорошо знают механизм и смысл ошибочных действий и
предполагают их понимание и у слушателя. В Венецианском купце
Шекспира (3-й акт, 2-я сцена) мы находим тому еще один
пример. Порция, которая по воле своего отца может выйти
замуж только за того, кто вытянет счастливый жребий, лишь
благодаря счастливой случайности избавляется от немилых
ей женихов. Но когда она находит наконец Бассанио,
достойного претендента, который ей нравится, она боится, как бы
и он не вытянул несчастливый жребий. Ей хочется ему
сказать, что и в этом случае он может быть уверен в ее любви,
но она связана данной отцу клятвой. В этой внутренней
двойственности она говорит желанному жениху:
Помедлите, день-два хоть подождите
Вы рисковать; ведь если ошибетесь —
Я потеряю Вас; так потерпите.
Мне что-то говорит (хоть не любовь),
Что не хочу терять Вас; Вам же ясно,
174
введение в психоанализ
Что ненависть не даст подобной мысли.
Но, если Вам не все еще понятно
(Хоть девушке пристойней мысль, чем слово), —
Я б месяц-два хотела задержать Вас,
Пока рискнете. Я б Вас научила,
Как выбрать... Но тогда нарушу клятву.
Нет, ни за что. Итак, возможен промах.
Тогда жалеть я буду, что греха
Не совершила! О, проклятье взорам,
Меня околдовавшим, разделившим!
Две половины у меня: одна
Вся Вам принадлежит; другая — Вам...
Мне — я сказать хотела; значит, Вам же, —
Так Ваше все!..
(Перевод Т. Щетиной-Куперник)
Поэт с удивительным психологическим проникновением
заставляет Порцию в оговорке сказать то, на что она хотела
только намекнуть, так как она должна была скрывать, что
до исхода выбора она вся его и его любит, и этим искусным
приемом поэт выводит любящего, так же как и
сочувствующего ему зрителя, из состояния мучительной неизвестности,
успокаивая насчет исхода выбора».
Обратите внимание на то, как ловко Порция выходит из
создавшегося вследствие ее оговорки противоречия,
подтверждая в конце концов правильность оговорки:
Мне — я сказать хотела; значит, Вам же, —
Так Ваше все!..
Так мыслитель, далекий от медицины, иногда может
раскрыть смысл ошибочного действия одним своим замечанием,
избавив нас от выслушивания разъяснений. Вы все,
конечно, знаете остроумного сатирика Лихтенберга (1742—1799),
о котором Гёте сказал: «Там, где у него шутка, может
скрываться проблема. Но ведь благодаря шутке иногда
решается проблема». В своих остроумных сатирических заметках
(1853) Лихтенберг пишет: «Он всегда читал Agamemnon
[Агамемнон] вместо angenommen [принято], настолько он
зачитывался Гомером». Вот настоящая теория очитки.
В следующий раз мы обсудим, насколько мы можем
согласиться с точкой зрения поэтов на ошибочные действия.
175
Зигмунд ФРЕЙД
Третья лекция
Ошибочные действия
(продолжение)
Уважаемые дамы и господа! В прошлый раз нам пришла
в голову мысль рассматривать ошибочное действие само по
себе, безотносительно к нарушенному им действию, которое
предполагали совершить; у нас сложилось впечатление,
будто в отдельных случаях оно выдает свой собственный смысл,
и если бы это подтвердилось еще в большем числе случаев,
то этот смысл был бы для нас интереснее, чем исследование
условий, при которых возникает ошибочное действие.
Договоримся еще раз о том, что мы понимаем под
«смыслом» (Sinn) какого-то психического процесса не что иное,
как намерение, которому он служит, и его место в ряду
других психических проявлений. В большинстве наших
исследований слово «смысл» мы можем заменить словом
«намерение» (Absicht), «тенденция» (Tendenz). Однако не
является ли самообманом или поэтической вольностью с нашей
стороны, что мы усматриваем в ошибочном действии
намерение?
Будем же по-прежнему заниматься оговорками и
рассмотрим большее количество наблюдений. Мы увидим, что
в целом ряде случаев намерение, смысл оговорки
совершенно очевиден. Это прежде всего те случаи, когда говорится
противоположное тому, что намеревались сказать.
Председатель в речи на открытии заседания говорит: «Объявляю
заседание закрытым». Смысл и намерение его ошибки в том,
что он хочет закрыть заседание. Так и хочется
процитировать: «Да ведь он сам об этом говорит»; остается только
поймать его на слове. Не возражайте мне, что это
невозможно, ведь председатель, как мы знаем, хотел не закрыть, а
открыть заседание, и он сам подтвердит это, а его мнение
является для нас высшей инстанцией. При этом вы
забываете, что мы условились рассматривать ошибочное
действие само по себе; о его отношении к намерению,
которое из-за него нарушается, мы будем говорить позже. Иначе
вы допустите логическую ошибку и просто устраните про-
176
Введение в психоанализ
блему, то, что в английском языке называется begging the
question1.
В других случаях, когда при оговорке прямо не
высказывается противоположное утверждение, в ней все же
выражается противоположный смысл. «Я не склонен (вместо
неспособен) оценить заслуги своего уважаемого
предшественника». «Geneigt» (склонен) не является
противоположным «geeignet» (способен), однако это явное признание
противоречит ситуации, о которой говорит оратор.
Встречаются случаи, когда оговорка просто прибавляет к
смыслу намерения какой-то второй смысл. Тогда
предложение звучит так, как будто оно представляет собой стяжение,
сокращение, сгущение нескольких предложений. Таково
заявление энергичной дамы: он (муж) может есть и пить все,
что я захочу. Ведь она тем самым как бы говорит: он может
есть и пить, что он хочет, но разве он смеет хотеть? Вместо
него я хочу. Оговорки часто производят впечатление таких
сокращений. Например, профессор анатомии после лекции
о носовой полости спрашивает, все ли было понятно
слушателям, и, получив утвердительный ответ, продолжает:
«Сомневаюсь, потому что даже в городе с миллионным
населением людей, понимающих анатомию носовой полости,
можно сосчитать по одному пальцу, простите, по пальцам одной
руки». Это сокращение имеет свой смысл: есть только один
человек, который это понимает.
Данной группе случаев, в которых ошибочные действия
сами указывают на свой смысл, противостоят другие, в
которых оговорки не имеют явного смысла и как бы
противоречат нашим предположениям. Если кто-то при оговорке
коверкает имя собственное или произносит
неупотребительный набор звуков, то уже из-за таких часто встречающихся
случаев вопрос об осмысленности ошибочных действий как
будто может быть решен отрицательно. И лишь при
ближайшем рассмотрении этих примеров обнаруживается, что
в этих случаях тоже возможно понимание искажений, а
разница между этими неясными и вышеописанными
очевидными случаями не так уж велика.
Свести вопрос на мет (шил.). — Примеч. пер.
177
Зигмунд ФРЕЙД
Одного господина спросили о состоянии здоровья его
лошади, он ответил: Ja, das draut... Das dauert vielleicht noch einen
Monat [Да, это продлится, вероятно, еще месяц, но вместо
слова «продлится» — dauert — вначале было сказано
странное «draut»]. На вопрос, что он этим хотел сказать, он,
подумав, ответил: Das ist eine traurige Geschichte [Это печальная
история]. Из столкновения слов «dauert» [дауерт] и «traurige»
[трауриге] получилось «драут» (Meringer, Mayer, 1895).
Другой рассказывает о происшествиях, которые он
осуждает, и продолжает: Dann aber sind die Tatsachen zum
Vorschwein [форшвайн] gekommen... [И тогда обнаружились
факты, но в слово «Vorschein» — элемент выражения
«обнаружились» — вставлена лишняя буква «w»]. На расспросы
рассказчик ответил, что он считает эти факты свинством —
Schweinerei. Два слова — Vorschein [форшайн] и Schweinerei
[швайнерай] — вместе образовали странное «форшвайн» (Ме-
рингер, Майер). Вспомним случай, когда молодой человек
хотел begleitdigen даму. Мы имели смелость разделить эту
словесную конструкцию на begleiten [проводить] и beleidigen
[оскорбить] и были уверены в таком толковании, не требуя
тому подтверждения. Из данных примеров вам понятно, что
и такие неясные случаи оговорок можно объяснить
столкновением, интерференцией двух различных намерений.
Разница состоит в том, что в первом случае одно намерение
полностью замещается (субституируется) другим, и тогда
возникают оговорки с противоположным смыслом, в другом
случае намерение только искажается или модифицируется,
так что образуются комбинации, которые кажутся более или
менее осмысленными.
Теперь мы, кажется, объяснили значительное число
оговорок. Если мы будем твердо придерживаться нашего
подхода, то сможем понять и другие бывшие до сих пор
загадочными оговорки. Например, вряд ли можно предположить,
что при искажении имен всегда имеет место конкуренция
между двумя похожими, но разными именами. Нетрудно,
впрочем, угадать и другую тенденцию. Ведь искажение
имени часто происходит не только в оговорках; имя пытаются
произнести неблагозвучно и внести в него что-то
унизительное — это является своего рода оскорблением, которого
178
Введение о психоанализ
культурный человек, хотя и не всегда охотно, старается
избегать. Он еще часто позволяет это себе в качестве «шутки»,
правда, невысокого свойства. В качестве примера приведу
отвратительное искажение имени президента Французской
республики Пуанкаре, которое в настоящее время переделали в
«Швайнкаре». Нетрудно предположить, что и при оговорке
может проявиться намерение оскорбить, как и при
искажении имени. Подобные объяснения, подтверждающие наши
представления, напрашиваются и в случае оговорок с
комическим и абсурдным эффектом. «Я прошу Вас отрыгнуть
(вместо чокнуться) за здоровье нашего шефа». Праздничный
настрой неожиданно нарушается словом, вызывающим
неприятное представление, и по примеру бранных и
насмешливых речей нетрудно предположить, что именно таким
образом выразилось намерение, противоречащее
преувеличенному почтению, что хотели сказать примерно следующее:
«Не верьте этому, все это несерьезно, плевать мне на этого
малого и т.п.» То же самое относится к тем оговоркам, в
которых безобидные слова превращаются в неприличные,
как, например, apopos [по заду] вместо apropos [кстати] или
Eischeißweibchen [гнусная бабенка] вместо Eiweiß scheibchen
[белковая пластинка] (Мерингер, Майер). Мы знаем многих
людей, которые ради удовольствия намеренно искажают
безобидные слова, превращая их в неприличные; это считается
остроумным, и в действительности часто приходится
спрашивать человека, от которого слышишь подобное, пошутил
ли он намеренно или оговорился.
Ну вот мы без особого труда и решили загадку
ошибочных действий! Они не являются случайностями, а
представляют собой серьезные психические акты, имеющие свой
смысл, они возникают благодаря взаимодействию, а лучше
сказать, противодействию двух различных намерений. А
теперь могу себе представить, какой град вопросов и
сомнений вы готовы на меня обрушить и я должен ответить на
них и разрешить ваши сомнения, прежде чем мы
порадуемся первому результату нашей работы. Я, конечно, не хочу
подталкивать вас к поспешным выводам. Давайте же
подвергнем беспристрастному анализу все по порядку, одно за
другим.
179
Зигмунд ФРЕЙД
О чем вы хотели бы меня спросить? Считаю ли я, что это
объясняет все случаи оговорок или только определенное их
число? Можно ли такое объяснение перенести и на многие
другие виды ошибочных действий: на очитки, описки,
забывание, захватывание вещей «по ошибке» (Vergreifen)1, их
затеривание и т.д.? Имеют ли какое-то значение для
психической природы ошибочных действий факторы усталости,
возбуждения, рассеянности, нарушения внимания? Можно,
далее, заметить, что из двух конкурирующих намерений
одно всегда проявляется в ошибочном действии, другое же не
всегда очевидно. Что же необходимо сделать, чтобы узнать
это скрытое намерение, и, если предположить, что мы
догадались о нем, какие есть доказательства, что наша догадка не
только вероятна, но единственно верна? Может быть, у вас
есть еще вопросы? Если нет, то я продолжу. Напомню вам,
что сами по себе ошибочные действия интересуют нас лишь
постольку, поскольку они дают ценный материал, который
изучается психоанализом. Отсюда возникает вопрос: что это
за намерения или тенденции, которые мешают проявиться
другим, и каковы взаимоотношения между ними? Мы
продолжим нашу работу только после решения этой проблемы.
Итак, подходит ли наше объяснение для всех случаев
оговорок? Я очень склонен этому верить и именно потому, что,
когда разбираешь каждый случай оговорки, такое объяснение
находится. Но это еще не доказывает, что нет оговорок
другого характера. Пусть будет так; для нашей теории это
безразлично, так как выводы, которые мы хотим сделать для
введения в психоанализ, останутся в силе даже в том случае,
если бы нашему объяснению поддавалось лишь небольшое
количество оговорок, что, впрочем, не так. На следующий
вопрос — можно ли полученные данные об оговорках рас-
1 Перевод этого слова на русский язык представляет значительные
трудности. Vergreifen означает буквально «ошибка», «ошибочный захват» какого-
либо предмета. Точный перевод слова зависит от контекста. Поэтому в одном
случае мы переводим это слово как «захватывание (по ошибке)», в другом —
как «действие по ошибке» (не путать с «ошибочным действием» — Fehlleistung,
которое является родовым понятием к Vergreifen), в третьем — просто как
«ошибка» (не путать со словом «Irrtum», которое также переводится как
«ошибка»). — Примеч. ред. перевода.
180
Введение в психоанализ
пространить на другие виды ошибочных действий? — я
хотел бы заранее ответить положительно. Вы сами убедитесь в
этом, когда мы перейдем к рассмотрению примеров описок,
захватывания «по ошибке» предметов и т.д. Но по
методическим соображениям я предлагаю отложить эту работу,
пока мы основательнее не разберемся с оговорками.
Вопрос о том, имеют ли для нас значение выдвигаемые
другими авторами на первый план факторы нарушения
кровообращения, утомления, возбуждения, рассеянности и
теория расстройства внимания, заслуживает более
внимательного рассмотрения, если мы признаем описанный выше
психический механизм оговорки. Заметьте, мы не оспариваем
этих моментов. Психоанализ вообще редко оспаривает то,
что утверждают другие; как правило, он добавляет что-то
новое, правда, часто получается так, что это ранее не
замеченное и вновь добавленное и является как раз
существенным. Нами безоговорочно признается влияние на
возникновения оговорки физиологических условий легкого
нездоровья, нарушений кровообращения, состояния истощения, об
этом свидетельствует наш повседневный личный опыт. Но
как мало этим объясняется! Прежде всего, это не
обязательные условия для ошибочного действия. Оговорка возможна
при абсолютном здоровье и в нормальном состоянии. Эти
соматические условия могут только облегчить и ускорить
проявление своеобразного психического механизма
оговорки. Для объяснения этого отношения я приводил когда-то
сравнение, которое сейчас повторю за неимением лучшего.
Предположим, что я иду темной ночью по безлюдному
месту, на меня нападает грабитель, отнимает часы и кошелек.
Так как я не разглядел лица грабителя, то в ближайшем
полицейском участке я заявляю: «Безлюдное место и
темнота только что отняли у меня ценные вещи». На что
полицейский комиссар мне может сказать: «Вы напрасно
придерживаетесь чисто механистической точки зрения.
Представим себе дело лучше так: под защитой темноты в безлюдном
месте неизвестный грабитель отнял у Вас ценные вещи.
Самым важным в Вашем случае является, как мне кажется, то,
чтобы мы нашли грабителя. Тогда, может быть, мы сможем
забрать у него похищенное».
181
Зигмунд ФРЕЙД
Такие психофизиологические условия, как возбуждение,
рассеянность, нарушение внимания, дают очень мало для
объяснения ошибочных действий. Это только фразы,
ширмы, за которые мы не должны бояться заглянуть. Лучше
спросим, чем вызвано это волнение, особое отвлечение
внимания. Влияние созвучий, сходств слов и употребительных
словесных ассоциаций тоже следует признать важными. Они
тоже облегчают появление оговорки, указывая ей пути, по
которым она может пойти. Но если передо мной лежит
какой-то путь, предрешено ли, что я пойду именно по нему?
Необходим еще какой-то мотив, чтобы я решился на него,
и, кроме того, сила, которая бы меня продвигала по этому
пути. Таким образом, как соотношение звуков и слов, так и
соматические условия только способствуют появлению
оговорки и не могут ее объяснить. Подумайте, однако, о том
огромном числе случаев, когда речь не нарушается из-за
схожести звучания употребленного слова с другим, из-за
противоположности их значений или употребительности
словесных ассоциаций. Мы могли бы согласиться с философом
Вундтом в том, что оговорка появляется, когда вследствие
физического истощения ассоциативные наклонности
начинают преобладать над другими побуждениями в речи. С этим
можно было бы легко согласиться, если бы это не
противоречило фактам возникновения оговорки в случаях, когда
отсутствуют либо физические, либо ассоциативные условия
для ее появления.
Но особенно интересным кажется мне ваш следующий
вопрос — каким образом можно убедиться в существовании
двух соперничающих намерений? Вы и не подозреваете, к
каким серьезным выводам ведет нас этот вопрос. Не правда
ли, одно из двух намерений, а именно нарушенное
(gestörte), обычно не вызывает сомнений: человек, совершивший
ошибочное действие, знает о нем и признает его. Сомнения
и размышления вызывает второе, нарушающее (störende)
намерение. Мы уже слышали, а вы, конечно, не забыли, что
в ряде случаев это намерение тоже достаточно ясно
выражено. Оно обнаруживается в эффекте оговорки, если только
взять на себя смелость считать этот эффект
доказательством. Председатель, который допускает оговорку с обратным
182
Нведспие в психошиигиз
смыслом, конечно, хочет открыть заседание, но не менее
ясно, что он хочет его и закрыть. Это настолько очевидно, что
тут и толковать нечего. А как догадаться о нарушающем
намерении по искажению в тех случаях, когда нарушающее
намерение только искажает первоначальное, не выражая
себя полностью?
В первом ряде случаев это точно так же просто и
делается таким же образом, как и при определении нарушенного
намерения. О нем сообщает сам допустивший оговорку, он
сразу может восстановить то, что намеревался сказать
первоначально: «Das draut, nein, das dauert vielleicht noch einen
Monat» [Это драут, нет, это продлится, вероятно, еще
месяц]. Искажающее намерение он тут же выразил, когда его
спросили, что он хотел сказать словом «драут»: «Das ist eine
traurige Geschichte» [Это печальная история]. Во втором
случае, при оговорке «Vorschwein», он сразу же
подтверждает, что хотел сначала сказать: «Das ist Schweinerei» [Это
свинство], но сдержался и выразился по-другому.
Искажающее намерение здесь так же легко установить, как и
искаженное. Я намеренно остановился здесь на таких примерах,
которые приводил и толковал не я или кто-нибудь из моих
последователей. Однако в обоих этих примерах для решения
проблемы нужен был один небольшой прием. Надо было
спросить говорившего, почему он сделал именно такую
оговорку и что он может о ней сказать. В противном случае, не
желая ее объяснять, он прошел бы мимо нее. На
поставленный же вопрос он дал первое пришедшее ему в голову
объяснение. А теперь вы видите, что этот прием и его результат
и есть психоанализ и образец любого психоаналитического
исследования, которым мы займемся впоследствии.
Не слишком ли я недоверчив, полагая, что в тот самый
момент, когда у вас только складывается представление о
психоанализе, против него же поднимается и протест? Не
возникает ли у вас желания возразить мне, что сведения,
полученные от человека, допустившего оговорку, не вполне
доказательны? Отвечая на вопросы, он, конечно, старался,
полагаете вы, объяснить свою оговорку, вот и сказал первое,
что пришло ему в голову и показалось хоть сколь-нибудь
пригодным для объяснения. Но это еще не доказательство
183
Зигмунд ФРЕЙД
того, что оговорка возникла именно таким образом.
Конечно, могло быть и так, но с таким же успехом и иначе. Ему
в голову могло прийти и другое объяснение, такое же
подходящее, а может быть, даже лучшее.
Удивительно, как мало у вас, в сущности, уважения к
психическому факту! Представьте себе, что кто-то
произвел химический анализ вещества и обнаружил в его составе
другое, весом в столько-то миллиграммов. Данный вес дает
возможность сделать определенные выводы. А теперь
представьте, что какому-то химику пришло в голову усомниться
в этих выводах, мотивируя это тем, что выделенное вещество
могло иметь и другой вес. Каждый считается с фактом, что
вес именно такой, а не другой, и уверенно строит на этом
дальнейшие выводы. Если же налицо психический факт,
когда человеку приходит в голову определенная мысль, вы
с этим почему-то не считаетесь и говорите, что ему могла
прийти в голову и другая мысль! У вас есть иллюзия личной
психической свободы, и вы не хотите от нее отказаться. Мне
очень жаль, но в этом я самым серьезным образом расхожусь
с вами во мнениях.
Теперь вы не станете больше возражать, но только до тех
пор, пока не найдете другого противоречия. Вы продолжите:
мы понимаем, что особенность техники психоанализа
состоит в том, чтобы заставить человека самого решить свои
проблемы. Возьмем другой пример: оратор приглашает
собравшихся чокнуться (отрыгнуть) за здоровье шефа. По нашим
словам нарушающее намерение в этом случае — унизить,
оно и не дает оратору выразить почтение. Но это всего лишь
наше толкование, основанное на наблюдениях за пределами
оговорки. Если мы в этом случае будем расспрашивать
оговорившегося, он не подтвердит, что намеревался нанести
оскорбление, более того, он будет энергично это отрицать.
Почему же мы все же не отказываемся от нашего
недоказуемого толкования и после такого четкого возражения?
Да, на этот раз вы нашли серьезный аргумент. Я
представляю себе незнакомого оратора, возможно, ассистента
того шефа, а возможно, уже приват-доцента, молодого человека
с блестящим будущим. Я настойчиво стану его
выспрашивать, не чувствовал ли он при чествовании шефа противопо-
184
Введение в психоанализ
ложного намерения? Но вот я и попался. Терпение его
истощается, и он вдруг набрасывается на меня: «Кончайте Вы
свои расспросы, иначе я не поручусь за себя. Своими
подозрениями Вы портите мне всю карьеру. Я просто оговорился,
сказал aufstoßen вместо anstoßen, потому что в этом
предложении уже два раза употребил «aw/V. У Мерингера такая
оговорка называется отзвуком, и нечего тут толковать вкривь
и вкось. Вы меня поняли? Хватит». Гм, какая удивительная
реакция; весьма энергичное отрицание. С молодым
человеком ничего не поделаешь, но я про себя думаю, что его
выдает сильная личная заинтересованность в том, чтобы его
ошибочному действию не придавали смысла. Может быть,
и вам покажется, что неправильно с его стороны вести
себя так грубо во время чисто теоретического обследования,
но, в конце концов, подумаете вы, он сам должен знать, что
он хотел сказать, а чего нет. Должен ли? Пожалуй, это еще
вопрос.
Ну, теперь вы точно считаете, что я у вас в руках. Так
вот какова ваша техника исследования, я слышу, говорите
вы. Если сделавший оговорку говорит о ней то, что вам
подходит, то вы оставляете за ним право последней решающей
инстанции. «Он ведь сам это сказал!» Если же то, что он
говорит, вам не годится, вы тут же заявляете: нечего с ним
считаться, ему нельзя верить.
Все это так. Я могу привести вам аналогичный случай,
где дело обстоит столь же невероятно. Если обвиняемый
признается судье в своем проступке, судья верит его
признанию; но если обвиняемый отрицает свою вину, судья не
верит ему. Если бы было по-другому, то не было бы
правосудия, а вы ведь признаете эту систему, несмотря на
имеющиеся в ней недостатки.
Да, но разве вы судья, а сделавший оговорку
подсудимый? Разве оговорка — преступление?
Может быть, и не следует отказываться от этого
сравнения. Но посмотрите только, к каким серьезным
разногласиям мы пришли, углубившись в такую, казалось бы,
невинную проблему, как ошибочные действия. Пока мы еще не в
состоянии сгладить все эти противоречия. Я все-таки
предлагаю временно сохранить сравнение с судьей и подсуди-
185
Зигмунд ФРЕЙД
мым. Согласитесь, что смысл ошибочного действия не
вызывает сомнения, если анализируемый сам признает его.
Зато и я должен согласиться с вами, что нельзя представить
прямого доказательства предполагаемого смысла
ошибочного действия, если анализируемый отказывается сообщить
какие-либо сведения или же он просто отсутствует. В таких
случаях так же, как и в судопроизводстве, прибегают к
косвенным уликам, которые позволяют сделать более или менее
вероятное заключение. На основании косвенных улик суд
иногда признает подсудимого виновным. У нас нет такой
необходимости, но и нам не следует отказываться от
использования таких улик. Было бы ошибкой предполагать, что
наука состоит только из строго доказанных положений, да
и неправильно от нее этого требовать. Такие требования к
науке может предъявлять только тот, кто ищет авторитетов
и ощущает потребность заменить свой религиозный
катехизис на другой, хотя бы и научный. Наука насчитывает в
своем катехизисе мало аподиктических положений, в ней
больше утверждений, имеющих определенную степень
вероятности. Признаком научного мышления как раз и является
способность довольствоваться лишь приближением к
истине и продолжать творческую работу, несмотря на отсутствие
окончательных подтверждений.
На что же нам опереться в своем толковании, где найти
косвенные улики, если показания анализируемого не
раскрывают смысла ошибочного действия? В разных местах.
Сначала будем исходить из аналогии с явлениями, не
связанными с ошибочными действиями, например, когда мы
утверждаем, что искажение имен при оговорке имеет тот же
унижающий смысл, как и при намеренном коверкании
имени. Далее мы будем исходить из психической ситуации, в
которой совершается ошибочное действие, из знания
характера человека, совершившего ошибочное действие, из тех
впечатлений, которые он получил до ошибочного действия,
возможно, что именно на них он и реагировал этим
ошибочным действием. Обычно мы толкуем ошибочное действие,
исходя из общих соображений, и высказываем сначала
только предположение, гипотезу для толкования, а затем,
исследуя психическую ситуацию допустившего ошибку, находим
186
Введение о психоансишз
ему подтверждение. Иногда приходится ждать событий, как
бы предсказанных ошибочным действием, чтобы найти
подтверждение нашему предположению.
Если я ограничусь одной только областью оговорок, я
едва ли сумею столь же легко найти нужные доказательства,
хотя и здесь есть отдельные впечатляющие примеры.
Молодой человек, который хотел бы begleitdigen даму, наверняка
робкий; даму, муж которой ест и пьет то, что она хочет, я
знаю как одну из тех энергичных женщин, которые умеют
командовать всем в доме. Или возьмем такой пример: на
общем собрании «Конкордии» молодой член этого общества
произносит горячую оппозиционную речь, во время которой
он обращается к членам правления, называя их «Vorschuß-
mitglieder» [члены ссуды], словом, которое может
получиться из слияния слов Vorstand [правление] и Ausschuß
[комиссия]. Мы предполагаем, что у него возникло нарушающее
намерение, противоречащее его оппозиционным
высказываниям и которое могло быть связано со ссудой.
Действительно, вскоре мы узнаем, что оратор постоянно нуждался в
деньгах и незадолго до того подал прошение о ссуде.
Нарушающее намерение действительно могло выразиться в такой
мысли: сдержись в своей оппозиции, это ведь люди, которые
разрешат тебе выдачу ссуды.
Я смогу привести вам целый ряд таких уличающих
доказательств, когда перейду к другим ошибочным действиям.
Если кто-то забывает хорошо известное ему имя и с
трудом его запоминает, то можно предположить, что против
носителя этого имени он что-то имеет и не хочет о нем
думать. Рассмотрим психическую ситуацию, в которой
происходит это ошибочное действие. «Господин Y был
безнадежно влюблен в даму, которая вскоре выходит замуж за
господина X. Хотя господин Y давно знает господина X и
даже имеет с ним деловые связи, он все время забывает его
фамилию и всякий раз, когда должен писать ему по делу,
справляется о его фамилии у других» \ Очевидно, господин
Y не хочет ничего знать о счастливом сопернике. «И думать
о нем не хочу».
1 По К. Г. Юнгу (1907, 52).
187
Зигмунд ФРЕЙД
Или другой пример: дама справляется у врача о здоровье
общей знакомой, называя ее по девичьей фамилии. Ее
фамилию по мужу она забыла. Затем она признается, что
очень недовольна этим замужеством и не выносит мужа
своей подруги1.
Мы еще вернемся к забыванию имен и обсудим это с
разных сторон, сейчас же нас интересует преимущественно
психическая ситуация, в которой происходит забывание.
Забывание намерений в общем можно объяснить потоком
противоположных намерений, которые не позволяют
выполнить первоначальное намерение. Так думаем не только мы,
занимающиеся психоанализом, это общепринятое мнение
людей, которые придерживаются его в жизни, но почему-то
отрицают в теории. Покровитель, извиняющийся перед
просителем за то, что забыл выполнить его просьбу, едва ли
будет оправдан в его глазах. Проситель сразу же подумает:
ему ведь совершенно все равно; хотя он обещал, он ничего
не сделал. И в жизни забывание тоже считается в известном
отношении предосудительным, различий между житейской и
психоаналитической точкой зрения на эти ошибочные
действия, по-видимому, нет. Представьте себе хозяйку, которая
встречает гостя словами: «Как, Вы пришли сегодня? А я и
забыла, что пригласила Вас на сегодня». Или молодого
человека, который признался бы возлюбленной, что он забыл
о назначенном свидании. Конечно, он в этом не признается,
а скорее придумает самые невероятные обстоятельства,
которые не позволили ему прийти на свидание и даже не дали
возможности предупредить об этом. На военной службе, как
все знают и считают справедливым, забывчивость не
является оправданием и не освобождает от наказания. Здесь
почему-то все согласны, что определенное ошибочное действие
имеет смысл, причем все знают какой. Почему же нельзя
быть до конца последовательным и не признать, что и к
другим ошибочным действиям должно быть такое же
отношение? Напрашивается естественный ответ.
Если смысл этого забывания намерений столь очевиден
даже для неспециалиста, то вы не будете удивляться тому,
1 По АА.Бриллу (1912, 191).
188
Введение о психоанализ
что и писатели используют это ошибочное действие в том
же смысле. Кто из вас читал или видел пьесу Б. Шоу Цезарь
и Клеопатра, тот помнит, что в последней сцене перед
отъездом Цезаря преследует мысль, будто он намеревался что-то
сделать, о чем теперь забыл. В конце концов оказывается, что
он забыл попрощаться с Клеопатрой. Этой маленькой сценой
писатель хочет приписать великому Цезарю преимущество,
которым он не обладал и к которому совсем не стремился.
Из исторических источников вы можете узнать, что Цезарь
заставил Клеопатру последовать за ним в Рим, и она жила
там с маленьким Цезарионом, пока Цезарь не был убит,
после чего ей пришлось бежать из города.
Случаи забывания намерений в общем настолько
ясны, что мало подходят для нашей цели получить косвенные
улики для объяснения смысла ошибочного действия из
психической ситуации. Поэтому обратимся к особенно
многозначным и малопонятным ошибочным действиям — к зате-
риванию и запрятыванию вещей. Вам, конечно, покажется
невероятным, что в затеривании, которое мы часто
воспринимаем как досадную случайность, участвует какое-то наше
намерение. Но можно привести множество наблюдений
вроде следующего. Молодой человек потерял дорогой для него
карандаш. За день до этого он получил письмо от шурина,
которое заканчивалось словами: «У меня нет желания
потворствовать твоему легкомыслию и лени» \ Карандаш был
подарком этого шурина. Без такого совпадения мы, конечно,
не могли бы утверждать, что в затеривании карандаша
участвует намерение избавиться от вещи. Аналогичные случаи
очень часты. Затериваются предметы, когда поссоришься с
тем, кто их дал и о ком неприятно вспоминать, или когда
сами вещи перестают нравиться и ищешь предлога заменить
их другими, лучшими. Проявлением такого же намерения
по отношению к предмету выступает и то, что его роняют,
разбивают, ломают. Можно ли считать случайностью, что
как раз накануне своего дня рождения школьник теряет,
портит, ломает нужные ему вещи, например ранец или
карманные часы?
По Б.Даттнеру.
189
Зигмунд Ф1Ч:ЙД
Тот, кто пережил много неприятного из-за того, что не
мог найти вещь, которую сам же куда-то заложил, вряд ли
поверит, что он сделал это намеренно. И все-таки нередки
случаи, когда обстоятельства, сопровождающие запрятыва-
ние, свидетельствуют о намерении избавиться от предмета
на короткое или долгое время. Вот лучший пример
такого рода.
Молодой человек рассказывает мне: «Несколько лет тому
назад у меня были семейные неурядицы, я считал свою жену
слишком холодной, и, хотя я признавал ее прекрасные
качества, мы жили без нежных чувств друг к другу. Однажды
она подарила мне книгу, которую купила во время прогулки
и считала интересной для меня. Я поблагодарил за этот знак
«внимания», обещал прочесть книгу, спрятал ее и не мог
потом найти. Так прошли месяцы, иногда я вспоминал об
исчезнувшей книге и напрасно пытался найти ее. Полгода
спустя заболела моя любимая мать, которая жила отдельно
от нас. Моя жена уехала, чтобы ухаживать за свекровью.
Состояние больной было тяжелое, жена показала себя с
самой лучшей стороны. Однажды вечером, охваченный
благодарными чувствами к жене, я вернулся домой, открыл без
определенного намерения, но как бы с сомнамбулической
уверенностью определенный ящик письменного стола и
сверху нашел давно исчезнувшую запрятанную книгу».
Исчезла причина, и пропажа нашлась.
Уважаемые дамы и господа! Я мог бы продолжить этот
ряд примеров. Но я не буду этого делать. В моей
книге «Психопатология обыденной жизни» (впервые вышла в
1901 г.) вы найдете богатый материал для изучения
ошибочных действий1. Все эти примеры свидетельствуют об
одном, а именно о том, что ошибочные действия имеют свой
смысл и показывают, как этот смысл можно узнать или
подтвердить по сопутствующим обстоятельствам. Сегодня я
буду краток, поскольку мы должны при изучении этих
явлений получить необходимые сведения для подготовки к
психоанализу. Я намерен остановиться только на двух группах
1 Также в сочинениях А. Мсдсра (1906-1908), А. А. Брилла (1912),
Э.Джонса (1911), И. Штсрке (1916) и др.
190
Введение в психоанализ
ошибочных действий, повторяющихся и комбинированных,
и на подтверждении нашего толкования последующими
событиями.
Повторяющиеся и комбинированные ошибочные
действия являются своего рода вершиной этого вида действий.
Если бы нам пришлось доказывать, что ошибочные
действия имеют смысл, мы бы именно ими и ограничились, так
как их смысл очевиден даже ограниченному уму и самому
придирчивому критику. Повторяемость проявлений
обнаруживает устойчивость, которую почти никогда нельзя
приписать случайности, но можно объяснить преднамеренностью.
Наконец, замена отдельных видов ошибочных действий друг
другом свидетельствует о том, что самым важным и
существенным в ошибочном действии является не форма или
средства, которыми оно пользуется, а намерение, которому
оно служит и которое должно быть реализовано самыми
различными путями. Хочу привести вам пример
повторяющегося забывания. Э.Джонс (1911, 483) рассказывает, что
однажды по неизвестным причинам в течение нескольких
дней он забывал письмо на письменном столе. Наконец
решился его отправить, но получил от «Dead letter office*
обратно, так как забыл написать адрес. Написав адрес, он
принес письмо на почту, но оказалось, что забыл наклеить
марку. Тут уж он был вынужден признать, что вообще не хотел
отправлять это письмо.
В другом случае захватывание вещей «по ошибке»
(Vergreifen) комбинируется с запрятыванием. Одна дама
совершает со своим шурином, известным артистом, путешествие
в Рим. Ему оказывается самый торжественный прием
живущими в Риме немцами, и среди прочего он получает в
подарок золотую античную медаль. Дама была задета тем, что
шурин не может оценить прекрасную вещь по достоинству.
После того как ее сменила сестра и она вернулась домой,
распаковывая вещи, она обнаружила, что взяла медаль с
собой, сама не зная как. Она тут же написала об этом шурину
и заверила его, что на следующий же день отправит
нечаянно попавшую к ней медаль в Рим. Но на следующий день
медаль была куда-то так запрятана, что ее нельзя было
найти и отправить, и тогда дама начала догадываться, что
191
Зигмунд ФРЕЙД
значит ее «рассеянность»,— просто ей хотелось оставить
медаль у себя1.
Я уже приводил вам пример комбинации забывания с
ошибкой (Irrtum), когда кто-то сначала забывает о
свидании, а потом с твердым намерением не забыть о нем
является не к условленному часу, а в другое время. Совершенно
аналогичный случай из собственной жизни рассказывал мне
мой друг, который занимался не только наукой, но и
литературой. «Несколько лет тому назад я согласился вступить
в комиссию одного литературного общества, предполагая,
что оно поможет мне поставить мою драму. Каждую
пятницу я появлялся на заседании, хотя и без особого интереса.
Несколько месяцев тому назад я получил уведомление о
постановке моей пьесы в театре в Ф., и с тех пор я
постоянно забываю о заседаниях этого общества. Когда я
прочитал Вашу книгу об этих явлениях, мне стало стыдно моей
забывчивости, я упрекал себя, что это подлость — не
являться на заседания после того, как люди перестали быть нужны,
и решил ни в коем случае не забыть про ближайшую
пятницу. Я все время напоминал себе об этом намерении, пока
наконец не выполнил его и не очутился перед дверью зала
заседаний. Но, к моему удивлению, она оказалась закрытой,
а заседание завершенным, потому что я ошибся в дне: была
уже суббота!»
Весьма соблазнительно собирать подобные наблюдения,
но нужно идти дальше. Я хочу показать вам примеры, в
которых наше толкование подтверждается в будущем.
Основной характерной особенностью этих случаев
является то, что настоящая психическая ситуация нам
неизвестна или недоступна нашему анализу. Тогда наше толкование
приобретает характер только предположения, которому мы и
сами не хотим придавать большого значения. Но позднее
происходят события, показывающие, насколько справедливо
было наше первоначальное толкование. Как-то раз я был в
гостях у новобрачных и слышал, как молодая жена со смехом
рассказывала о недавно происшедшем с ней случае: на
следующий день после возвращения из свадебного путешествия
1 По Р. Рейтлсру.
192
Введение в психоанализ
она пригласила свою незамужнюю сестру, чтобы пойти с ней,
как и раньше, за покупками, в то время как муж ушел по
своим делам. Вдруг на другой стороне улицы она замечает
мужчину и, подталкивая сестру, говорит: «Смотри, вон идет
господин Л.». Она забыла, что этот господин уже несколько
недель был ее мужем. Мне стало не по себе от такого
рассказа, но я не решился сделать должный вывод. Я вспомнил
этот маленький эпизод спустя годы, после того как этот брак
закончился самым печальным образом.
А. Медер рассказывает об одной даме, которая за день до
свадьбы забыла померить свадебное платье и, к ужасу
своей модистки, вспомнила об этом только поздно вечером. Он
приводит этот пример забывания в связи с тем, что вскоре
после этого она развелась со своим мужем. Я знаю одну теперь
уже разведенную даму, которая, управляя своим состоянием,
часто подписывала документы своей девичьей фамилией за
несколько лет до того, как она ее действительно приняла.
Я знаю других женщин, потерявших обручальное кольцо во
время свадебного путешествия, и знаю также, что их
супружеская жизнь придала этой случайности свой смысл. А вот
яркий пример с более приятным исходом. Об одном
известном немецком химике рассказывают, что его брак не состоялся
потому, что он забыл о часе венчания и вместо церкви пошел
в лабораторию. Он был так умен, что ограничился этой одной
попыткой и умер холостяком в глубокой старости.
Может быть, вам тоже пришло в голову, что в этих
примерах ошибочные действия играют роль какого-то знака или
предзнаменования древних. И действительно, часть этих
знаков была не чем иным, как ошибочным действием, когда,
например, кто-то спотыкался или падал. Другая же часть
носила характер объективного события, а не субъективного
деяния. Но вы не поверите, как трудно иногда в каждом
конкретном случае определить, к какой группе его отнести.
Деяние так часто умеет маскироваться под пассивное
переживание.
Каждый из нас, оглядываясь на долгий жизненный путь,
может, вероятно, сказать, что он избежал бы многих
разочарований и болезненных потрясений, если бы нашел в себе
смелость толковать мелкие ошибочные действия в общении
7-3518
193
Зигмунд ФРЕЙД
с людьми как предзнаменование и оценивать их как знак еще
скрытых намерений. Чаще всего на это не отваживаются:
возникает впечатление, что снова становишься суеверным —
теперь уже окольным путем, через науку. Но ведь не все
предзнаменования сбываются, а из нашей теории вы поймете, что
не все они и должны сбываться.
Четвертая лекция
Ошибочные действия
(окончание)
Уважаемые дамы и господа! В результате наших
прошлых бесед мы пришли к выводу, что ошибочные действия
имеют смысл — это мы и возьмем за основу наших
дальнейших исследований. Следует еще раз подчеркнуть, что мы не
утверждаем — да и для наших целей нет в этом никакой
необходимости, — что любое ошибочное действие имеет смысл,
хотя это кажется мне весьма вероятным. Нам достаточно
того, что такой смысл обнаруживается относительно часто в
различных формах ошибочных действий. В этом отношении
эти различные формы предполагают и различные
объяснения: при оговорке, описке и т.д. могут встречаться случаи
чисто физиологического характера, в случаях же забывания
имен, намерений, запрятывания предметов и т.д. я едва ли
соглашусь с таким объяснением. Затеривание, по всей
вероятности, может произойти и нечаянно. Встречающиеся в
жизни ошибки (Irrtümer) вообще только отчасти подлежат
нашему рассмотрению. Все это следует иметь в виду также
и в том случае, когда мы исходим из положения, что
ошибочные действия являются психическими актами и
возникают вследствие интерференции двух различных намерений.
Таков первый результат психоанализа. О существовании
таких интерференции и об их возможных следствиях,
описанных выше, психология до сих пор не знала. Мы
значительно расширили мир психических явлений и включили в
область рассмотрения психологии феномены, которыми она
раньше не занималась.
194
Введение о психоанализ
Остановимся теперь кратко на утверждении, что
ошибочные действия являются «психическими актами». Является
ли оно более содержательным, чем первое наше положение,
что они имеют смысл? Я думаю, нет; это второе положение
еще более неопределенно и может привести к
недоразумениям. Иногда все, что можно наблюдать в душевной жизни,
называют психическим феноменом. Важно выяснить,
вызвано ли отдельное психическое явление непосредственно
физическими, органическими, материальными воздействиями,
и тогда оно не относится к области психологии, или оно
обусловлено прежде всего другими психическими
процессами, за которыми скрывается, в свою очередь, ряд
органических причин. Именно в этом последнем смысле мы и
понимаем явление, называя его психическим процессом, поэтому
целесообразнее выражаться так: явление имеет содержание,
смысл. Под смыслом мы понимаем значение, намерение,
тенденцию и место в ряду психических связей.
Есть целый ряд других явлений, очень близких к
ошибочным действиям, к которым это название, однако, уже не
подходит. Мы называем их случайными и
симптоматическими действиями [Zufalls- und Symptomhandlungen]. Они тоже
носят характер не только немотивированных, незаметных и
незначительных, но и излишних действий. От ошибочных
действий их отличает отсутствие второго намерения, с
которым сталкивалось бы первое и благодаря которому оно бы
нарушалось. С другой стороны, эти действия легко
переходят в жесты и движения, которые, по нашему мнению,
выражают эмоции. К этим случайным действиям относятся все
кажущиеся бесцельными, выполняемые, как бы играя,
манипуляции с одеждой, частями тела, предметами, которые мы
то берем, то оставляем, а также мелодии, которые мы
напеваем про себя. Я убежден, что все эти явления полны
смысла и их можно толковать так же, как и ошибочные действия,
что они являются некоторым знаком других, более важных
душевных процессов и сами относятся к полноценным
психическим актам. Но я не собираюсь останавливаться на этой
новой области психических явлений, а вернусь к
ошибочным действиям, так как они позволяют с большей
точностью поставить важные для психоанализа вопросы.
195
Зигмунд ФРЕЙД
В области ошибочных действий самыми интересными
вопросами, которые мы поставили, но пока оставили без ответа,
являются следующие: мы сказали, что ошибочные действия
возникают в результате наложения друг на друга двух
различных намерений, из которых одно можно назвать
нарушенным (gestörte), а другое нарушающим (störende).
Нарушенные намерения не представляют собой проблему, а вот
о другой группе мы хотели бы знать, во-первых, что это за
намерения, выступающие как помеха для другой группы, и,
во-вторых, каковы их отношения друг к другу.
Разрешите мне опять взять в качестве примера для всех
видов ошибочных действий оговорку и ответить сначала на
второй вопрос, прежде чем я отвечу на первый.
При оговорке нарушающее намерение может иметь
отношение к содержанию нарушенного намерения, тогда оговорка
содержит противоречие, поправку или дополнение к нему.
В менее же ясных и более интересных случаях нарушающее
намерение по содержанию не имеет с нарушенным ничего
общего.
Подтверждения отношениям первого рода мы без
труда найдем в уже знакомых и им подобных примерах. Почти
во всех случаях оговорок нарушающее намерение выражает
противоположное содержание по отношению к нарушенному,
ошибочное действие представляет собой конфликт между
двумя несогласованными стремлениями. Я объявляю заседание
открытым, но хотел бы его закрыть — таков смысл оговорки
президента. Политическая газета, которую обвиняли в
продажности, защищается в статье, которая должна заканчиваться
словами: «Наши читатели могут засвидетельствовать, как мы
всегда совершенно бескорыстно выступали на благо общества».
Но редактор, составлявший эту статью, ошибся и написал
«корыстно». Он, видимо, думал: хотя я и должен написать так, но
я знаю, что это ложь. Народный представитель, призванный
говорить кайзеру беспощадную (rückhaltlos) правду,
прислушавшись к внутреннему голосу, который как бы говорит: а не
слишком ли ты смел? — делает оговорку — слово rückhaltlos
[беспощадный] превращается в rückgratlos [бесхребетный] \
В немецком рейхстаге, ноябрь 1908 г.
196
Введение в психоанализ
В уже известных вам примерах, когда оговорка
производит впечатление стяжения и сокращения слов, появляются
поправки, дополнения и продолжения высказывания, в
которых, наряду с первой, находит свое проявление и вторая
тенденция. «Тут обнаружились (zum Vorschein kommen) факты,
а лучше уж прямо сказать: свинства (Schweinereien)», — итак,
возникает оговорка: es sind Dinge zum Vorschwein gekommen.
«Людей, которые это понимают, можно сосчитать по пальцам
одной руки», но в действительности есть только один
человек, который это понимает, в результате получается:
сосчитать по одному пальиу. Или «мой муж может есть и пить, что
он хочет». Но разве я потерплю, чтобы он что-то хотел, вот
и выходит: он может есть и пить все, что я хочу.
Во всех этих случаях оговорка либо возникает из
содержания нарушенного намерения, либо она связана с этим
содержанием.
Другой вид отношения между двумя борющимися
намерениями производит весьма странное впечатление. Если
нарушающее намерение не имеет ничего общего с
содержанием нарушенного, то откуда же оно берется и почему
появляется в определенном месте как помеха? Наблюдения,
которые только и могут дать на это ответ, показывают, что
помеха вызывается тем ходом мыслей, которые незадолго до
того занимали человека и проявились теперь таким образом
независимо от того, выразились ли они в речи или нет. Эту
помеху действительно можно назвать отзвуком, однако не
обязательно отзвуком произнесенных слов. Здесь тоже
существует ассоциативная связь между нарушающим и
нарушенным намерением, но она не скрывается в содержании,
а устанавливается искусственно, часто весьма окольными
путями.
Приведу простой пример из собственных наблюдений.
Однажды я встретился у нас в горах у доломитовых пещер
с двумя одетыми по-туристски дамами. Я прошел с ними
немного, и мы поговорили о прелестях и трудностях
туристского образа жизни. Одна из дам согласилась, что такое
времяпрепровождение имеет свои неудобства.
«Действительно, — говорит она, — очень неприятно целый день шагать по
солнцепеку, когда кофта и рубашка совершенно мокры от
197
Зигмунд ФРЕЙД
пота». В этом предложении она делает маленькую заминку
и продолжает: «Когда приходить nach Hose [домой, но
вместо Hause употреблено слово Hose — панталоны] и есть
возможность переодеться...» Мы эту оговорку не
анализировали, но я думаю, вы ее легко поймете. Дама имела намерение
продолжить перечисление и сказать: кофту, рубашку и
панталоны. Из соображений благопристойности слово
панталоны не было употреблено, но в следующем предложении,
совершенно независимом по содержанию, непроизнесенное
слово появляется в виде искажения, сходного по звучанию
со словом Hause.
Ну а теперь, наконец, мы можем перейти к вопросу,
который все откладывали: что это за намерения, которые
таким необычным образом проявляются в качестве помех?
Разумеется, они весьма различны, но мы найдем в них и
общее. Изучив целый ряд примеров, мы можем выделить
три группы. К первой группе относятся случаи, в которых
говорящему известно нарушающее намерение и он
чувствовал его перед оговоркой. Так, в оговорке «Vorschwein»
говорящий не только не отрицает осуждения
определенных фактов, но признается в намерении, от которого он
потом отказался, произнести слово «Schweinereien» [свинства].
Вторую группу составляют случаи, когда говорящий тоже
признает нарушающее намерение, но не подозревает, что оно
стало активным непосредственно перед оговоркой. Он
соглашается с нашим толкованием, но в известной степени
удивлен им. Примеры такого рода легче найти в других
ошибочных действиях, чем в оговорках. К третьей группе
относятся случаи, когда сделавший оговорку энергично
отвергает наше толкование нарушающего намерения; он не только
оспаривает тот факт, что данное намерение побудило его к
оговорке, но утверждает, что оно ему совершенно чуждо.
Вспомним случай с «aufstoßen» (отрыгнуть вместо
чокнуться), и тот прямо-таки невежливый отпор, который я
получил от оратора, когда хотел истолковать нарушающее
намерение. Как вы помните, мы не пришли к единому мнению
в понимании этих случаев. Я бы пропустил мимо ушей
возражения оратора, произносившего тост, продолжая
придерживаться своего толкования, в то время как вы, полагаю,
198
Введение в психоана.шз
остаетесь под впечатлением его отповеди и подумаете, не
лучше ли отказаться от такого толкования ошибочных
действий и считать их чисто физиологическими актами, как это
было принято до психоанализа. Могу понять, что вас пугает.
Мое толкование предполагает, что у говорящего могут
проявиться намерения, о которых он сам ничего не знает, но о
которых я могу узнать на основании косвенных улик. Вас
останавливает новизна и серьезность моего предположения.
Понимаю и признаю пока вашу правоту. Но вот что мы
можем установить: если вы хотите последовательно
придерживаться определенного воззрения на ошибочные действия,
правильность которого доказана таким большим
количеством примеров, то вам придется согласиться и с этим
странным предположением. Если же вы не можете решиться на
это, то вам нужно отказаться от всего, что вы уже знаете об
ошибочных действиях.
Но остановимся пока на том, что объединяет все три
группы, что общего в механизме этих оговорок. К счастью,
это не вызывает сомнений. В первых двух группах
нарушающее намерение признается самим говорящим; в первом
случае к этому прибавляется еще то, что это намерение
проявляется непосредственно перед оговоркой. Но в обоих
случаях это намерение оттесняется. Говорящий решил не
допустить его выражения в речи, и тогда произошла оговорка,
т. е. оттесненное намерение все-таки проявилось против его
воли, изменив выражение допущенного им намерения,
смешавшись с ним или даже полностью заменив его. Таков механизм
оговорки.
С этой точки зрения мне так же нетрудно полностью
согласовать процесс оговорок, относящихся к третьей группе,
с вышеописанным механизмом. Для этого мне нужно
только предположить, что эти три группы отличаются друг от
друга разной степенью оттеснения нарушающего намерения.
В первой группе это намерение очевидно, оно дает о себе
знать говорящему еще до высказывания; только после того,
как оно отвергнуто, оно возмещает себя в оговорке. Во
второй группе нарушающее намерение оттесняется еще дальше,
перед высказыванием говорящий его уже не замечает.
Удивительно то, что это никоим образом не мешает ему быть
199
Зигмунд ФРЕЙД
причиной оговорки! Но тем легче нам объяснить
происхождение оговорок третьей группы. Я беру на себя смелость
предположить, что в ошибочном действии может
проявиться еще одна тенденция, которая давно, может быть, очень
давно оттеснена, говорящий не замечает ее и как раз
поэтому отрицает. Но оставим пока эту последнюю проблему; из
других случаев вы должны сделать вывод, что подавление
имеющегося намерения что-либо сказать является
непременным условием возникновения оговорки.
Теперь мы можем утверждать, что продвинулись еще
дальше в понимании ошибочных действий. Мы не только
знаем, что они являются психическими актами, в которых
можно усмотреть смысл и намерение, что они возникают
благодаря наложению друг на друга двух различных
намерений, но, кроме того, что одно из этих намерений
подвергается оттеснению, его выполнение не допускается, и в
результате оно проявляется в нарушении другого намерения.
Нужно сначала помешать ему самому, чтобы оно могло
стать помехой. Полное объяснение феноменов, называемых
ошибочными действиями, этим, конечно, еще не
достигается. Сразу же встают другие вопросы, и вообще кажется, чем
дальше мы продвигаемся в понимании ошибочных
действий, тем больше поводов для новых вопросов. Мы можем,
например, спросить: почему все это не происходит намного
проще? Если есть тенденция оттеснить определенное
намерение вместо того, чтобы его выполнить, то это оттеснение
должно происходить таким образом, чтобы это намерение
вообще не получило выражения или же оттеснение могло
бы не удаться вовсе и оттесненное намерение выразилось
бы полностью. Ошибочные действия, однако, представляют
собой компромиссы, они означают полуудачу и полунеудачу
для каждого из двух намерений; поставленное под угрозу
намерение не может быть ни полностью подавлено, ни
всецело проявлено, за исключением отдельных случаев. Мы
можем предполагать, что для осуществления таких
интерференции или компромиссов необходимы особые условия, но
мы не можем даже представить себе их характер. Я также
не думаю, что мы могли бы обнаружить эти неизвестные
нам отношения при дальнейших более глубоких исследова-
200
Введение в психоанализ
ниях ошибочных действий. Гораздо более необходимым мы
считаем изучение других темных областей душевной жизни;
и только аналогии с теми явлениями, которые мы найдем в
этих исследованиях, позволят нам сделать те
предположения, которые необходимы для лучшего понимания
ошибочных действий. И еще одно! Есть определенная опасность в
работе с малозначительными психическими проявлениями,
какими приходится заниматься нам. Существует душевное
заболевание, комбинаторная паранойя, при которой
[больные] бесконечно долго могут заниматься оценкой таких
малозначительных признаков, но я не поручусь, что при этом
[они] делают правильные выводы. От такой опасности нас
может уберечь только широкая база наблюдений,
повторяемость сходных заключений из самых различных областей
психической жизни.
На этом мы прервем анализ ошибочных действий. Но я
хотел бы предупредить вас об одном: запомните,
пожалуйста, метод анализа этих феноменов. На их примере вы
можете увидеть, каковы цели наших психологических
исследований. Мы хотим не просто описывать и классифицировать
явления, а стремимся понять их как проявление борьбы
душевных сил, как выражение целенаправленных тенденций,
которые работают согласно друг с другом или друг против
друга. Мы придерживаемся динамического понимания
психических явлений. С нашей точки зрения, воспринимаемые
феномены должны уступить место только предполагаемым
стремлениям.
Итак, мы будем углубляться в проблему ошибочных
действий, но бросим беглый взгляд на эту область во всей ее
широте, здесь мы встретим и уже знакомое, и кое-что новое.
Мы по-прежнему будем придерживаться уже принятого
вначале деления на три группы оговорок, а также описок,
очиток, ослышек, забывания с его подвидами в зависимости от
забытого объекта (имени собственного, чужих слов,
намерений, впечатлений) и захватывания «по ошибке», запрятыва-
ния, затеривания вещей. Ошибки-заблуждения (Irrtümer),
насколько они попадают в поле нашего внимания, относятся
частично к забыванию, частично к действию «по ошибке»
(Vergreifen).
201
Зигмунд ФРЕЙД
Об оговорке мы уже говорили довольно подробно, и все-
таки кое-что можно добавить. К оговорке присоединяются
менее значительные аффективные явления, которые
небезынтересны для нас. Никто не любит оговариваться, часто
оговорившийся не слышит собственной оговорки, но никогда
не пропустит чужой. Оговорки даже в известном смысле
заразительны, довольно трудно обсуждать оговорки и не
сделать ее самому. Самые незначительные формы оговорок,
которые не могут дать никакого особого объяснения стоящих
за ними психических процессов, нетрудно разгадать в
отношении их мотивации. Если кто-то произносит кратко
долгий гласный вследствие чем-то мотивированного
нарушения, проявившегося в произношении данного слова, то
следующую за ней краткую гласную он произносит долго и
делает новую оговорку, компенсируя этим предыдущую. То
же самое происходит, когда нечисто и небрежно
произносится дифтонг, например, ей или ог как ei; желая исправить
ошибку, человек меняет в следующем месте ei на ей или oi.
При этом, по-видимому, имеет значение мнение
собеседника, который не должен подумать, что говорящему
безразлично, как он пользуется родным языком. Второе
компенсирующее искажение как раз направлено на то, чтобы обратить
внимание слушателя на первую ошибку и показать ему, что
говоривший сам ее заметил. Самыми частыми, простыми и
малозначительными случаями оговорок являются стяжения
и предвосхищения, которые проявляются в несущественных
частях речи. В более длинном предложении оговариваются,
например, таким образом, что последнее слово
предполагаемого высказывания звучит раньше времени. Это
производит впечатление определенного нетерпения, желания
поскорее закончить предложение и свидетельствует об известном
противоборствующем стремлении по отношению к этому
предложению или против всей речи вообще. Таким образом,
мы приближаемся к пограничным случаям, в которых
различия между психоаналитическим и обычным
физиологическим пониманием оговорки стираются. Мы предполагаем,
что в этих случаях имеется нарушающая речевое намерение
тенденция, но она может только намекнуть на свое
существование, не выразив собственного намерения. Нарушение,
202
Hoedcitue в психоанализ
которое она вызывает, является следствием каких-то
звуковых или ассоциативных влияний, которые можно понимать
как отвлечение внимания от речевого намерения. Но ни это
отвлечение внимания, ни ставшие действенными
ассоциативные влияния не объясняют сущности процесса. Они
только указывают на существование нарушающей речевое
намерение тенденции, природу которой, однако, нельзя
определить по ее проявлениям, как это удается сделать во всех
более ярко выраженных случаях оговорки.
Описка (Verschreiben), к которой я теперь перехожу,
настолько аналогична оговорке, что ничего принципиально
нового от ее изучения ждать не приходится. Хотя, может быть,
некоторые дополнения мы и внесем. Столь
распространенные описки, стяжения, появление впереди дальше стоящих,
особенно последних слов свидетельствуют опять-таки об
общем нежелании писать и о нетерпении; более ярко
выраженные случаи описки позволяют обнаружить характер и
намерение нарушающей тенденции. Когда в письме
обнаруживается описка, можно признать, что у пишущего не все было
в порядке, но не всегда определишь, что именно его
волновало. Сделавший описку, так же как и оговорку, часто
не замечает ее. Примечательно следующее наблюдение: есть
люди, которые обычно перед отправлением перечитывают
написанное письмо. У других такой привычки нет; но если
они, однако, сделают это в виде исключения, то всегда
получают возможность найти описку и исправить ее. Как это
объяснить? Складывается впечатление, будто эти люди все
же знают, что они сделали описку. Можно ли это в
действительности предположить?
С практическим значением описки связана одна
интересная проблема. Вы, может быть, знаете случай убийцы X.,
который, выдавая себя за бактериолога, доставал из научно-
исследовательского института по разведению культур
чрезвычайно опасных для жизни возбудителей болезней и
употреблял их для устранения таким «современным» способом
близких людей со своего пути. Однажды он пожаловался
руководству одного из таких институтов на недейственность
присланных ему культур, но при этом допустил ошибку и
вместо слов «при моих опытах с мышами или морскими
203
Зигмунд ФРЕЙД
свинками» написал «при моих опытах с людьми». Эта описка
бросилась в глаза врачам института, но они, насколько я знаю,
не сделали из этого никаких выводов. Ну, а как вы думаете?
Могли бы врачи признать описку за признание и возбудить
следствие, благодаря чему можно было бы своевременно
предупредить преступление? Не послужило ли в данном
случае незнание нашего толкования ошибочных действий
причиной такого практически важного упущения? Полагаю,
однако, что какой бы подозрительной ни показалась мне такая
описка, использовать ее в качестве прямой улики мешает
одно важное обстоятельство. Все ведь не так-то просто.
Описка — это, конечно, улика, но самой по себе ее еще
недостаточно для начала следствия. Описка действительно указывает
на то, что человека могла занимать мысль о заражении людей,
но она не позволяет утверждать, носит ли эта мысль характер
явного злого умысла или практически безобидной фантазии.
Вполне возможно, что человек, допустивший такую описку,
будет отрицать эту фантазию с полным субъективным правом
и считать ее совершенно чуждой для себя. Когда мы в
дальнейшем будем разбирать различие между психической и
материальной реальностью, вы еще лучше сможете понять эту
возможность. В данном же случае ошибочное действие
приобрело впоследствии непредвиденное значение.
При очитке мы имеем дело с психической ситуацией,
явно отличной от ситуации, в которой происходят оговорки
и описки. Одна из двух конкурирующих тенденций
заменяется здесь сенсорным возбуждением и, возможно, поэтому
менее устойчива. То, что следует прочитать, в отличие от
того, что намереваешься написать, не является ведь
собственным продуктом психической жизни читающего. В
большинстве случаев очитка заключается в полной замене
одного слова другим. Слово, которое нужно прочесть, заменяется
другим, причем не требуется, чтобы текст был связан с
результатом очитки по содержанию, как правило, замена
происходит на основе словесной аналогии. Пример Лихтенбер-
га — Агамемнон вместо angenommen — самый лучший из
этой группы. Если мы хотим узнать нарушающую
тенденцию, вызывающую очитку, следует оставить в стороне
неправильно прочитанный текст, а подвергнуть аналитическо-
204
Введение в психоанализ
му исследованию два момента: какая мысль пришла в
голову читавшему непосредственно перед очиткой и в какой
ситуации она происходит. Иногда знания этой ситуации
достаточно для объяснения очитки. Например, некто бродит
по незнакомому городу, испытывая естественную нужду, и
на большой вывеске первого этажа читает клозет
(Klosetthaus). Не успев удивиться тому, что вывеска висит
слишком высоко, он убеждается, что следует читать корсеты
(Korsetthaus). В других случаях очиток, независимых от
содержания текста, наоборот, необходим тщательный анализ,
который нельзя провести, не зная технических приемов
психоанализа и не доверяя им. Но в большинстве случаев
объяснить очитку нетрудно. По замененному слову в примере
с Агамемноном ясен круг мыслей, из-за которых возникло
нарушение. Во время этой войны, например, названия
городов, имена полководцев и военные выражения весьма часто
вычитывают везде, где только встречается хоть какое-нибудь
похожее слово. То, что занимательно и интересно, заменяет
чуждое и неинтересное. Остатки [предшествующих] мыслей
затрудняют новое восприятие.
При очитке достаточно часто встречаются случаи другого
рода, в которых сам текст вызывает нарушающую
тенденцию, из-за которой он затем и превращается в свою
противоположность. Человек вынужден читать что-то для него
нежелательное, и анализ убеждает нас, что интенсивное
желание отвергнуть читаемое вызывает его изменение.
В ранее упомянутых более частых случаях очиток
отсутствуют два фактора, которые, по нашему мнению, играют
важную роль в механизме ошибочных действий: нет
конфликта двух тенденций и оттеснения одной из них, которая
возмещает себя в ошибочном действии. Не то чтобы при
очитке обнаруживалось бы что-то совершенно
противоположное, но важность содержания мысли, приводящего к
очитке, намного очевиднее, чем оттеснение, которому оно до
того подверглось. Именно оба этих фактора нагляднее всего
выступают в различных случаях ошибочных действий,
выражающихся в забывании.
Забывание намерений как раз однозначно, его толкование,
как мы уже знаем, не оспаривается даже неспециалиста-
205
Зигмунд ФРЕЙД
ми. Нарушающая намерение тенденция всякий раз является
противоположным намерением, нежеланием выполнить
первое, и нам остается только узнать, почему оно не выражается
по-другому и менее замаскированно. Но наличие этой
противоположной воли несомненно. Иногда даже удается
узнать кое-что о мотивах, вынуждающих скрываться эту
противоположную волю, и всякий раз она достигает своей цели
в ошибочном действии, оставаясь скрытой, потому что была
бы наверняка отклонена, если бы выступила в виде
открытого возражения. Если между намерением и его
выполнением происходит существенное изменение психической
ситуации, вследствие которого о выполнении намерения не может
быть и речи, тогда забывание намерения выходит за рамки
ошибочного действия. Такое забывание не удивляет;
понятно, что было бы излишне вспоминать о намерении, оно
выпало из памяти на более или менее длительное время.
Забывание намерения только тогда можно считать ошибочным
действием, если такое нарушение исключено.
Случаи забывания намерений в общем настолько
однообразны и прозрачны, что именно поэтому они не
представляют никакого интереса для нашего исследования. Однако
кое-что новое в двух отношениях мы можем узнать, изучая
и это ошибочное действие. Мы отметили, что забывание, т. е.
невыполнение намерения, указывает на противоположную
волю, враждебную этому намерению. Это положение
остается в силе, но противоположная воля, как показывают
наши исследования, может быть двух видов — прямая и
опосредованная. Что мы понимаем под последней, лучше всего
показать на некоторых примерах. Когда покровитель
забывает замолвить словечко за своего протеже, то это может
произойти потому, что он не очень интересуется своим
протеже и у него нет большой охоты просить за него. Именно
в этом смысле протеже и понимает забывчивость
покровителя. Но ситуация может быть и сложнее. Противоположная
выполнению намерения воля может появиться у
покровителя по другой причине и проявить свое действие совсем в
другом месте. Она может не иметь к протеже никакого
отношения, а быть направлена против третьего лица, которое
нужно просить. Вы видите теперь, какие сомнения возника-
206
Введение в психоанализ
ют и здесь в связи с практическим использованием нашего
толкования. Несмотря на правильное толкование забывания,
протеже может проявить излишнюю недоверчивость и
несправедливость по отношению к своему покровителю. Или
если кто-нибудь забывает про свидание, назначенное
другому, хотя сам и намерен был явиться, то чаще всего это
объясняется прямым отказом от встречи с этим лицом. Но
иногда анализ может обнаружить, что нарушающая
тенденция имеет отношение не к данному лицу, а направлена
против места, где должно состояться свидание, и связана с
неприятным воспоминанием, которого забывший хочет
избежать. Или в случае, когда кто-то забывает отправить письмо,
противоположная тенденция может быть связана с
содержанием самого письма; но ведь совсем не исключено, что само
по себе безобидное письмо вызывает противоположную
тенденцию только потому, что оно напоминает о другом, ранее
написанном письме, которое явилось поводом для прямого
проявления противоположной воли. Тогда можно сказать,
что противоположная воля здесь переносится с того
прежнего письма, где она была оправданна, на данное, в котором
ей, собственно, нечему противоречить. Таким образом, вы
видите, что, пользуясь нашим хотя и правильным
толкованием, следует проявлять сдержанность и осторожность; то,
что психологически тождественно, может быть практически
очень даже многозначно.
Подобные явления могут показаться вам очень
необычными. Возможно, вы склонны даже предположить, что эта
«опосредованная» противоположная воля характеризует уже
какой-то патологический процесс. Но смею вас заверить, что
она проявляется у нормальных и здоровых людей. Впрочем,
прошу понять меня правильно. Я сам ни в коей мере не хочу
признавать наши аналитические толкования ненадежными.
Вышеупомянутая многозначность забывания намерения
существует только до тех пор, пока мы не подвергли случай
анализу, а толкуем его только на основании наших общих
предположений. Если же мы проведем с соответствующим
лицом анализ, то мы узнаем с полной определенностью, была
ли в данном случае прямая противоположная воля или
откуда она возникла.
207
Зигмунд ФРЕЙД
Второй момент заключается в следующем: если мы в
большинстве случаев убеждаемся, что забывание намерений
объясняется противоположной волей, то попробуем
распространить это положение на другой ряд случаев, когда
анализируемое лицо не признает, а отрицает открытую нами
противоположную волю. Возьмем в качестве примеров очень
часто встречающиеся случаи, когда забывают вернуть взятые
на время книги, оплатить счета или долги. Мы будем
настолько смелы, что скажем забывшему, как бы он это ни
отрицал, что у него было намерение оставить книги себе и
не оплатить долги, иначе его поведение объяснить нельзя, он
имел намерение, но только ничего не знал о нем; нам, однако,
достаточно того, что его выдало забывание. Он может,
конечно, возразить, что это была всего лишь забывчивость. Теперь
вы узнаете ситуацию, в которой мы уже однажды оказались.
Если мы хотим последовательно проводить наши толкования
ошибочных действий, которые оправдали себя на
разнообразных примерах, то мы неизбежно придем к предположению,
что у человека есть намерения, которые могут действовать
независимо от того, знает он о них или нет. Но, утверждая
это, мы вступаем в противоречие со всеми господствующими
и в жизни, и в психологии взглядами.
Забывание имен собственных и иностранных названий,
а также иностранных слов тоже можно свести к
противоположному намерению, которое прямо или косвенно
направлено против соответствующего названия. Некоторые примеры
такой прямой неприязни я уже приводил ранее. Но
косвенные причины здесь особенно часты и требуют, как правило,
для их установления тщательного анализа. Так, например,
сейчас, во время войны, которая вынудила нас отказаться от
многих прежних симпатий, в силу каких-то очень странных
связей пострадала также память на имена собственные.
Недавно со мной произошел случай, когда я не мог вспомнить
название безобидного моравского города Бизенц, и анализ
показал, что причиной была не прямая враждебность, а
созвучие с названием палаццо Бизенци в Орвието, где я
раньше неоднократно жил. Мотивом тенденции, направленной
против восстановления названия в памяти, здесь впервые
выступает принцип, который впоследствии обнаружит свое
208
Введение в психоанализ
чрезвычайно большое значение для определения причин
невротических симптомов: отказ памяти вспоминать то, что
связано с неприятными ощущениями, и вновь переживать это
неудовольствие при воспоминании. Намерение избежать
неудовольствия, источником которого служат память или
другие психические акты, психическое бегство от
неудовольствия мы признаем как конечный мотив не только для
забывания имен и названий, но и для многих других ошибочных
действий, таких, как неисполнение обещанного,
ошибки-заблуждения (Irrtümer) и др.
Однако забывание имен, по-видимому, особенно легко
объяснить психофизиологическими причинами, и поэтому
есть много случаев, в которых мотив неприятного чувства
не подтверждается. Если кто-то бывает склонен к
забыванию имен, то путем аналитического исследования можно
установить, что они выпадают из памяти не только потому,
что сами вызывают неприятное чувство или как-то
напоминают о нем, а потому, что определенное имя относится к
другому ассоциативному кругу, с которым забывающий
состоит в более интимных отношениях. Имя в нем как бы
задерживается и не допускает других действующих в
данный момент ассоциаций. Если вы вспомните искусственные
приемы мнемотехники, то с удивлением заметите, что имена
забываются вследствие тех же связей, которые намеренно
устанавливают, чтобы избежать забывания. Самым ярким
примером тому являются имена людей, которые для разных
лиц могут иметь разное психическое значение. Возьмем,
например, имя Теодор. Для кого-то оно ничего особенного не
значит, для другого же это может быть имя отца, брата,
друга или его собственное. Опыт аналитических
исследований показывает, что в первом случае нет оснований
забывать это имя, если оно принадлежит постороннему лицу,
тогда как во втором будет постоянно проявляться
склонность лишить постороннего имени, с которым,
по-видимому, ассоциируются интимные отношения. Предположите, что
это ассоциативное торможение может сочетаться с
действием принципа неудовольствия (Unlustprinzip) и, кроме того,
с механизмом косвенной причинности, и вы получите
правильное представление о том, насколько сложны причины
209
Зигмунд ФРЕЙД
временного забывания имен. Но только тщательный анализ
окончательно раскроет перед вами все сложности.
В забывании впечатлений и переживаний еще отчетливее
и сильнее, чем в забывании имен, обнаруживается действие
тенденции устранения неприятного из воспоминания.
Полностью это забывание, конечно, нельзя отнести к
ошибочным действиям, оно относится к ним только в той мере,
в какой это забывание выходит за рамки обычного опыта,
т.е., например, когда забываются слишком свежие или
слишком важные впечатления или такие, забывание
которых прерывает связь событий, в остальном хорошо
сохранившихся в памяти. Почему и как мы вообще забываем, в
том числе и те переживания, которые оставили в нас
несомненно глубочайший след, такие как события первых
детских лет, — это совершенно другая проблема, в которой
защита от неприятных ощущений играет определенную роль,
но объясняет далеко не все. То, что неприятные
впечатления легко забываются, — факт, не подлежащий сомнению.
Это заметили различные психологи, а на великого Дарвина
этот факт произвел такое сильное впечатление, что он ввел
для себя «золотое правило» с особой тщательностью
записывать наблюдения, которые противоречили его теории, так
как он убедился, что именно они не удерживаются в его
памяти.
Тот, кто впервые слышит об этом принципе защиты от
нежелательных воспоминаний путем забывания, не упустит
случая возразить, призывая опыт, что как раз неприятное
трудно забыть, именно оно против нашей воли все время
возвращается, чтобы нас мучить, как, например,
воспоминания об обидах и унижениях. Даже если этот факт верен, он
не годится в качестве аргумента против нашего
утверждения. Важно вовремя понять то обстоятельство, что душевная
жизнь — это арена борьбы противоположных тенденций и
что, выражаясь не динамически, она состоит из
противоречий и противоположных пар. Наличие определенной
тенденции не исключает и противоположной ей — места хватит
для обеих. Дело только в том, как эти противоположные
тенденции относятся друг к другу, какие действия вытекают
из одной и какие из другой.
210
Введение о психоапсигиз
Затеривание и запрятывание вещей нам особенно
интересны своей многозначностью, разнообразием тенденций,
вследствие которых могут произойти эти ошибочные
действия. Общим для всех случаев является то, что какой-то
предмет хотели потерять, но причины и цели этого действия
разные. Вещь теряют, если она испортилась, если намерены
заменить ее лучшей, если она разонравилась, если
напоминает о человеке, с которым испортились отношения, или
если она была приобретена при обстоятельствах, о которых не
хочется вспоминать. С этой же целью вещи роняют, портят
и ломают. В общественной жизни были сделаны
наблюдения, что нежеланные и внебрачные дети намного
болезненнее, чем законные. Для доказательства нет необходимости
ссылаться на грубые приемы так называемых
«производительниц ангелов»1; вполне достаточно указать на известную
небрежность в уходе за детьми. В бережном отношении к
вещам проявляется то же самое, что и в отношении к детям.
Далее, на потерю могут быть обречены вещи, не
утратившие своей ценности, в том случае, если имеется намерение
что-то пожертвовать судьбе, защитив себя этим от другой
внушающей страх потери. Подобные заклинания судьбы, по
данным психоанализа, еще очень часты, так что наши потери
являются добровольной жертвой. Потери могут быть также
проявлением упрямства и наказания самого себя; короче,
более отдаленные мотивации намерения потерять вещь
необозримы.
Действия «по ошибке» (Vergreifen), как и другие ошибки
(Irrtümer) часто используют для того, чтобы выполнить
желания, в которых следовало бы себе отказать. Намерение
маскируется при этом под счастливую случайность. Так,
например, с одним моим другом произошел такой случай: он
должен был явно против своей воли сделать визит за город
по железной дороге, при пересадке он по ошибке сел в
поезд, который доставил его обратно в город. Или бывает так,
1 Engelmacherinnen (эвфемизм, производительницы ангелов) — народное
выражение, обозначающее женщин, так плохо присматривающих за данными
им на воспитание детьми, что тс из-за недостатка питания вскоре умирают, т. с.
«преждевременно становятся ангелами». — Примеч. ред. перевода.
211
Зигмунд ФРЕЙД
что во время путешествия хочется задержаться на полпути,
но из-за определенных обязательств нельзя этого делать, и
тогда пропускаешь нужный поезд, так что вынужден сделать
желанную остановку. Или как случилось с моим пациентом,
которому я запретил звонить любимой женщине, но он,
желая позвонить мне, «по ошибке», «в задумчивости» назвал
неправильный номер и все-таки был соединен с ней.
Прекрасный практический пример прямого неправильного
действия, связанного с повреждением предмета, приводит один
инженер:
«Недавно я с моими коллегами работал в лаборатории
института над серией сложных экспериментов по упругости;
работа, за которую мы взялись добровольно, затянулась,
однако, дольше, чем мы предполагали. Однажды я с коллегой
Ф. опять пошли в лабораторию, он жаловался, что именно
сегодня ему не хотелось бы терять так много времени, у него
много дел дома; я мог только согласиться с ним и в шутку
сказал, вспомнив случай на прошлой неделе: „Будем
надеяться, что и сегодня машина опять испортится, так что
оставим работу и пораньше уйдем".
Во время работы случилось так, что коллега Ф. должен
был управлять краном пресса, осторожно открывая кран и
медленно впуская жидкость под давлением из аккумулятора
в цилиндр гидравлического пресса. Руководитель опыта
стоит у манометра и, когда давление достигает нужного уровня,
кричит: „Стоп!" На эту команду Ф. со всей силой
поворачивает кран влево (все краны без исключения закрываются
поворотом вправо!). Из-за этого в прессе начинает
действовать полное давление аккумулятора, подводящая трубка не
выдерживает и лопается — совсем невинная поломка
машины, но мы вынуждены прервать на сегодня работу и пойти
домой.
Характерно, впрочем, что некоторое время спустя, когда
мы обсуждали этот случай, приятель Ф. абсолютно не
помнил моих слов о поломке машины, которые я помню
совершенно отчетливо».
Этот случай может навести на предположение, что не
всегда безобидная случайность делает руки вашей прислуги
такими опасными врагами вашего дома. Здесь же встает во-
212
Введение о психоанализ
прос, всегда ли случайно наносишь себе вред и подвергаешь
опасности собственное существование. Все это положения,
значимость которых вы при случае можете проверить на
основании анализа наблюдений.
Уважаемые слушатели! Это далеко не все, что можно
было бы сказать об ошибочных действиях. Есть еще много
такого, что нужно исследовать и обсудить. Но я доволен, если
в результате наших бесед вы пересмотрели прежние взгляды
и готовы принять новые. Впрочем, я ограничусь тем, что
некоторые стороны дела останутся невыясненными. Изучая
ошибочные действия, мы можем доказать далеко не все наши
положения, но для их доказательства мы будем привлекать
не только этот материал. Большая ценность ошибочных
действий для нас состоит в том, что это очень часто
встречающиеся явления, которые можно легко наблюдать на самом
себе, и их появление совершенно не связано с каким-либо
болезненным состоянием. В заключение я хотел бы
остановиться только на одном вопросе, на который еще не ответил:
если люди, как мы это видели во многих примерах, так
близко подходят к пониманию ошибочных действий и часто
ведут себя так, как будто они догадываются об их смысле, то
как же можно считать эти явления случайными, лишенными
смысла и значения и так энергично сопротивляться
психоаналитическому их объяснению?
Вы правы — это удивительно и требует своего
объяснения. Но я вам его не дам, а постепенно подведу к
пониманию взаимосвязей, из которого объяснение откроется вам
само по себе без моего непосредственного участия.
Часть вторая
СНОВИДЕНИЯ
1916 [1915—16]
Пятая лекция
Трудности и первые попытки понимания
Уважаемые дамы и господа! Когда-то было сделано
открытие, что симптомы болезни некоторых нервнобольных
имеют смысл1. На этом был основан психоаналитический метод
лечения. Во время этого лечения обнаружилось, что взамен
симптомов у больных также появлялись сновидения. Так
возникло предположение, что и эти сновидения имеют
смысл.
Но мы не пойдем этим историческим путем, а совершим
обратный ход. Мы хотим показать смысл сновидений и
таким образом подойти к изучению неврозов. Этот ход
оправдан, так как изучение сновидений не только лучший способ
подготовки к исследованию неврозов, само сновидение тоже
невротический симптом, который, к тому же, что имеет для
нас неоценимое преимущество, проявляется у всех
здоровых. Даже если бы все люди были здоровы и только видели
сновидения, мы могли бы по их сновидениям сделать все те
выводы, к которым нас привело изучение неврозов.
Итак, сделаем сновидение объектом психоаналитического
исследования. Вновь обычный, недостаточно оцененный
феномен, как будто лишенный практической значимости, как и
ошибочные действия, с которыми он имеет то общее, что
проявляется и у здоровых. Но в остальном условия нашей
1 Иозсф Брсйер в 1880—1882 гг. Ср. также мои лекции *0 психоанализе»
(1910а), прочитанные в Америке, и «К истории психоаналитического
движения» (1914d).
214
Введение в психоанализ
работы менее благоприятны. Ошибочные действия всего
лишь недооценивались наукой, их мало изучали; но, в конце
концов, нет ничего постыдного заниматься ими. Правда,
говорили, что есть вещи поважнее, но можно и из них кое-что
извлечь. Заниматься же сновидениями не только
непрактично и излишне, но просто стыдно; это влечет за собой упреки
в ненаучности, вызывает подозрение в личной склонности к
мистицизму. Чтобы врач занимался сновидениями, когда
даже в невропатологии и психиатрии столько более серьезных
вещей: опухоли величиной с яблоко, которые давят на мозг,
орган душевной жизни, кровоизлияния, хронические
воспаления, при которых изменения тканей можно показать под
микроскопом! Нет, сновидение — это слишком ничтожный
и недостойный исследования объект.
И еще одна особенность, противоречащая всем
требованиям точного исследования. Ведь при исследовании
сновидения нет уверенности даже в объекте. Бредовая идея,
например, проявляется ясно и определенно. «Я — китайский
император», — заявляет больной во всеуслышание. А
сновидение? Его часто вообще нельзя рассказать. Разве есть у
рассказчика гарантия, что он передает сновидение правильно, а
не изменяет многое в процессе пересказа, что-то
придумывает, вследствие неопределенности воспоминаний?
Большинство сновидений вообще нельзя вспомнить, они забываются
целиком, вплоть до мельчайших фрагментов. И на
толковании этого материала и должна основываться научная
психология или метод лечения больных?
Определенное преувеличение в этой оценке может нас
насторожить. Возражения против сновидения как объекта
исследования, очевидно, заходят слишком далеко. С
утверждением о незначительности изучаемого объекта мы уже
имели дело, разбирая ошибочные действия. Мы говорили себе,
что великое может проявляться и в малом. Что касается
неопределенности сновидения, то именно она является
характерной его особенностью наряду с другими; явлениям нельзя
предписывать их свойства. А кроме того, есть ведь ясные
и вполне определенные сновидения. В психиатрии
существуют и другие объекты, которые имеют тот же
неопределенный характер, например многие случаи навязчивых пред-
215
Зигмунд ФРЕЙД
ставлений, которыми, однако, занимаются респектабельные,
признанные психиатры. Мне вспоминается случай из моей
врачебной практики. Больная обратилась ко мне со
словами: «У меня такое чувство, как будто я причинила вред или
хотела это сделать живому существу — ребенку? — или нет,
скорее собаке, — может быть, сбросила с моста или сделала
что-то другое». Мы можем устранить неточность
воспоминания о сновидении, если будем считать сновидением то, что
рассказывает видевший сон, не обращая внимания на то, что
он мог забыть или изменить при воспоминании. В конце
концов, нельзя же так безоговорочно утверждать, что
сновидение является чем-то незначительным. Нам известно из
собственного опыта, что настроение, с которым пробуждаешься
от сна, может длиться весь день; врачи наблюдают случаи,
когда со сновидения начинается душевная болезнь и
бредовая идея берется из этого сновидения; известны
исторические личности, которых побудили к важным делам
сновидения. Поэтому и задаешься вопросом, откуда, собственно, в
научных кругах возникает презрение к сновидению?
Я думаю, что оно является реакцией на слишком
высокую оценку сновидений в древние времена. Известно, что
восстановить прошлое — дело нелегкое, но с уверенностью
можно предположить — позвольте мне эту шутку, — что
наши предки 3000 лет тому назад и раньше точно так же
видели сны, как и мы. Насколько мы знаем, древние народы
придавали всем сновидениям большое значение и считали их
практически значимыми. Они видели в них знаки будущего,
искали в них предзнаменования. Для древних греков и
других народов Ближнего и Среднего Востока военный поход
без толкователя сновидений был подчас так же невозможен,
как сегодня без воздушной разведки. Когда Александр
Македонский предпринимал свой завоевательный поход, в его
свите были самые знаменитые толкователи сновидений.
Город Тир, расположенный тогда еще на острове, оказал царю
такое яростное сопротивление, что он подумывал уже об
отказе от его осады. Но вот однажды ночью он увидел во сне
танцующих в триумфе сатиров и, когда рассказал это
сновидение толкователю, узнал, что ему предвещается победа над
городом. Он приказал войскам наступать и взял Тир. Чтобы
216
Введение в психоанализ
узнать будущее, этруски и римляне пользовались другими
методами, но в течение всего эллинско-римского периода
толкование сновидений культивировалось и высоко
ценилось. Из литературы, занимавшейся этими вопросами, до нас
дошло, по крайней мере, главное произведение, книга Арте-
мидора из Далдиса, которого относят ко времени императора
Адриана. Как потом случилось, что искусство толкования
сновидений пришло в упадок и сновидению перестали
доверять, я не мргу вам сказать. Просвещение не могло сыграть
тут большую роль, ведь темное средневековье сохранило в
том же виде гораздо более абсурдные вещи, чем античное
толкование сновидений. Остается констатировать, что
интерес к сновидению постепенно опустился до суеверия и мог
остаться только среди необразованных людей. Последнее
злоупотребление толкованием сновидений находит себя в
наши дни в попытке узнать из снов числа, которые следует
вытащить при игре в лото. Напротив, современная точная
наука снова вернулась к сновидениям, но только с
намерением проверить на них свои физиологические теории. У
врачей сновидение, конечно, считается не психическим актом, а
проявлением в душевной жизни соматических раздражений.
Бинц в 1878 г. объявил сновидение «физическим процессом,
во всех случаях бесполезным, во многих же прямо-таки
болезненным, от которого мировая душа и бессмертие отстоят
так же далеко, как голубой эфир от заросшей сорняками
песчаной поверхности в самой глубокой долине» (Binz, 1878,
35). Мори (Maury, 1878, 50) сравнивает его с
беспорядочными подергиваниями пляски св. Витта в противоположность
координированным движениям нормального человека;
старое сравнение проводит параллель между содержанием
сновидения и звуками, которые произвели бы «десять пальцев
несведущего в музыке человека, касающегося инструмента»
(Strümpell, 1877, 84).
Толковать — значит найти скрытый смысл; при такой же
оценке сновидения об этом, конечно, не может быть и речи.
Посмотрите описание сновидения у Вундта (1874), Йодля
(1896) и других более поздних философов; с целью
принизить сновидение они довольствуются перечислением
отклонений происходящих во сне процессов от мышления в со-
217
Зигмунд ФРЕЙД
стоянии бодрствования, отмечают распад ассоциаций, отказ
от критики, исключение всего знания и другие признаки
пониженной работоспособности психики. Единственно
ценные факты для понимания сновидения, которыми мы
обязаны точной науке, дали исследования влияния физических
раздражений, действующих во время сна, на содержание
сновидения. Мы располагаем двумя толстыми томами
экспериментальных исследований сновидений недавно умершего
норвежского автора, Дж. Моурли Вольда (в 1910 и 1912 гг.
переведены на немецкий язык), в которых излагаются почти
исключительно результаты изучения изменений положения
конечностей. Их нам расхваливают как образец исследования
сновидений. Можете себе теперь представить, что бы сказали
представители точной науки, если бы они узнали, что мы
хотим попытаться найти смысл сновидений? Возможно, они
уже это и сказали. Но мы не дадим себя запугать. Если
ошибочные действия могут иметь смысл, то и сновидения тоже,
а ошибочные действия в очень многих случаях имеют смысл,
который ускользает от исследования точными методами.
Признаем же себя только сторонниками предрассудков
древних и простого народа и пойдем по стопам античных
толкователей сновидений.
Для решения проблемы мы прежде всего должны
сориентироваться, обозреть в общем всю область сновидений.
Ведь что такое сновидение (Traum)? Его трудно определить
в одном предложении. Но мы и не пытаемся давать
определение там, где достаточно указания на общеизвестный
материал. Однако нам следовало бы выделить в сновидении
существенное. Где же его можно найти? В этой области имеют
место такие невероятные различия, различия по всем
линиям. Существенным будет, пожалуй, то, что мы можем
считать общим для всех сновидений.
Во всяком случае, первое, что объединяет все
сновидения, — это то, что мы при этом спим. Очевидно, видеть
сновидения (Träume) во время сна (Schlaf) является душевной
жизнью, которая имеет известные аналогии с таковой в
состоянии бодрствования и в то же время обнаруживает резкие
отличия от нее. Это определение было уже дано
Аристотелем. Возможно, что между сновидением и сном существуют
218
Введение в психоанализ
еще более близкие отношения. От сновидения можно
проснуться, очень часто сновидение возникает при спонтанном
пробуждении, при насильственном нарушении засыпания.
Таким образом, сновидение, по-видимому, является
промежуточным состоянием между сном и бодрствованием. В таком
случае нам приходится обратиться ко сну. Что же такое сон?
Это физиологическая и биологическая проблема, в
которой еще много спорного. Мы не можем здесь ничего сказать
окончательно, но я полагаю, можно попытаться дать
психологическую характеристику сна. Сон — это состояние, в
котором я ничего не хочу знать о внешнем мире, мой
интерес к нему угасает. Я погружаюсь в сон, отходя от внешнего
мира, задерживая его раздражения. Я засыпаю также, если я
от него устал. Засыпая, я как бы говорю внешнему миру:
«Оставь меня в покое, я хочу спать». Ребенок заявляет
противоположное: «Я не пойду спать, я еще не устал, я хочу еще
что-нибудь пережить». Таким образом, биологической целью
сна, по-видимому, является отдых, его психологическим
признаком — потеря интереса к миру. Наше отношение к миру,
в который мы так неохотно пришли, кажется, несет с собой
то, что мы не можем его выносить непрерывно. Поэтому мы
время от времени возвращаемся в состояние, в котором
находились до появления на свет, т.е. во внутриутробное
существование. Мы создаем, по крайней мере, совершенно
аналогичные условия, которые были тогда: тепло, темно и ничто
не раздражает. Некоторые еще сворачиваются в клубочек и
принимают во сне такое же положение тела, как в утробе
матери. Мы выглядим так, как будто от нас, взрослых, в мире
остается только две трети, а одна треть вообще еще не
родилась. Каждое пробуждение утром является как бы новым
рождением. О состоянии после сна мы даже говорим: я как
будто вновь родился, хотя при этом мы, вероятно, делаем
весьма неправильное предположение об общем самочувствии
новорожденного. Есть основания предполагать, что он
чувствует себя, скорее всего, очень неуютно. О рождении мы
также говорим: увидеть свет.
Если сон понимать именно так, то сновидение вообще не
входит в его программу, а кажется скорее какой-то
нежелательной примесью. Мы даже считаем, что сон без сновиде-
219
Зигмунд ФРЕЙД
ний — лучший и единственно правильный. Во сне не
должно быть никакой душевной деятельности; если же она все-
таки происходит, то мы не достигаем состояния
абсолютного покоя; от остатков душевной деятельности нельзя
полностью освободиться. Эти остатки и есть сновидения. Но
тогда действительно кажется, что сновидению не нужен
смысл. При ошибочных действиях дело обстояло иначе; это
были все-таки действия во время бодрствования. Но если я
сплю, совсем остановил душевную деятельность и только
определенные ее остатки не смог подавить, это еще не
значит, что эти остатки имеют смысл. Да мне и не нужен этот
смысл, так как ведь все остальное в моей душевной жизни
спит. Тут действительно речь может идти только о
судорожных реакциях, только о таких психических феноменах,
которые прямо следуют за соматическим раздражением. Итак,
сновидения как будто являются мешающими сну остатками
душевной жизни при бодрствовании, и мы можем вновь
прийти к заключению, что следует оставить эту
неподходящую для психоанализа тему.
И в то же время, как бы сновидение ни казалось
излишним, оно все-таки существует, и мы можем попытаться
понять причины его существования. Почему душевная жизнь
не прекращается совсем? Вероятно, потому, что что-то не
дает душе покоя. На нее действуют раздражители, и она на
них реагирует. Таким образом, сновидение — это способ
реагирования души на действующие во сне раздражители.
Теперь у нас есть определенный подход к пониманию
сновидения. Рассматривая различные сновидения, мы можем
искать эти мешающие сну раздражители, на которые человек
реагирует сновидением. Вот мы и отметили первое, что
объединяет все сновидения.
Есть ли у них еще что-нибудь общее? Да, несомненно, но
его труднее понять и описать. Душевные процессы во время
сна носят совсем другой характер, чем при бодрствовании.
В сновидении многое переживаешь и в это веришь, хотя на
самом деле ничего не переживаешь, кроме, пожалуй, какого-
то мешающего раздражения. Сновидение переживается
преимущественно в зрительных образах; при этом могут
возникать и чувства, и даже мысли, другие органы чувств могут
220
Воедение о психоанализ
тоже что-то испытывать, но преобладают все-таки
зрительные образы. Затруднения при передаче сновидения
происходят отчасти потому, что эти образы нужно перевести в
слова. Я мог бы это нарисовать, часто говорит видевший сон, но
я не знаю, как это выразить словами. Собственно говоря, это
не является снижением психической деятельности, как у
слабоумных по сравнению с гениальными людьми; это что-то
качественно другое, но трудно сказать, в чем заключается
различие. Г. Т. Фехнер высказал как-то предположение, что
место (в душе), где разыгрываются сновидения, иное, чем
место существования представлений при бодрствовании.
Правда, мы этого не понимаем, не знаем, что по этому поводу
думать, но впечатление чуждости, которое производят
большинство сновидений, здесь действительно передается.
Сравнение деятельности сновидения с действиями
немузыкальной руки также не помогает. Ведь пианино в любом случае
ответит теми же звуками, пусть и не мелодиями, как только
кто-нибудь случайно коснется его клавиш. Эту вторую
общую черту всех сновидений, как бы она ни была непонятна,
давайте не будем упускать из виду.
Есть ли еще другие общие черты? Я не нахожу больше
ни одной, всюду вижу только различия, причем во всех
отношениях, — как в отношении кажущейся длительности, так
и того, что касается четкости, участия аффектов, сохранения
в памяти и т. п. Все происходит, собственно говоря, совсем
не так, как мы могли бы ожидать при вынужденном, бедном,
конвульсивном отражении раздражения. Что касается
длительности сновидений, то есть очень короткие, содержащие
одну или несколько картин, одну мысль или даже только
одно слово; другие, невероятно богатые содержанием,
представляют собой целые романы и, по-видимому, длятся долго.
Есть сновидения отчетливые, как переживания [при
бодрствовании], настолько отчетливые, что мы какое-то время
после пробуждения не признаем их за сновидения, другие же
невероятно слабые, расплывчатые, как тени; в одном и том
же сновидении очень яркие места могут сменяться едва
уловимыми и неясными. Сновидения могут быть осмысленными
или по крайней мере связными, даже остроумными,
фантастически прекрасными; другие же спутанными, как бы слабо-
221
Зигмунд ФРЕЙД
умными, абсурдными, часто даже безумными. Бывают
сновидения, которые оставляют нас равнодушными, другие полны
всяких аффектов, болью до слез, страхом вплоть до
пробуждения, удивлением, восторгом и т.д. Большинство
сновидений после пробуждения забывается, или же они сохраняются
целый день, но к вечеру вспоминаются все слабее и с
пробелами; другие, например детские, сновидения сохраняются
настолько хорошо, что и спустя 30 лет еще свежи в памяти.
Сновидения, как индивиды, могут явиться
один-единственный раз и никогда больше не появляться, или они
повторяются у одного и того же лица без изменений или с
небольшими отступлениями. Короче говоря, эта ночная
деятельность души имеет огромный репертуар, может, собственно,
проделать все, что душа творит днем, но это все-таки не то
же самое.
Можно было бы попытаться объяснить это многообразие
сновидений, предположив, что они соответствуют
различным промежуточным стадиям между сном и
бодрствованием, различным степеням неглубокого сна. Да, но тогда вместе
с повышением значимости, содержательности и
отчетливости сновидения должно было бы усиливаться понимание того,
что это — сновидение, так как при таких сновидениях душа
близка к пробуждению, и не могло быть так, что вслед за
ясной и разумной частью сновидения шла бы бессмысленная
или неясная, а за ней — опять хорошо разработанная часть.
Так быстро душа не могла бы, конечно, изменять глубину
сна. Итак, это объяснение ничего не дает; все не так просто.
Откажемся пока от [проблемы] «смысла» сновидения и
попытаемся лучше понять сновидения, исходя из их общих
черт. Из отношения сновидений к состоянию сна мы
заключили, что сновидение является реакцией на мешающее сну
раздражение. Как мы уже знаем, это единственный момент,
где нам на помощь может прийти точная экспериментальная
психология; она приводит доказательства того, что
раздражения, произведенные во время сна, проявляются в
сновидении. Много таких опытов было поставлено уже
упомянутым Моурли Вольдом; каждый из нас в состоянии
подтвердить этот результат на основании личного наблюдения. Для
сообщения я выберу некоторые более старые эксперименты.
222
Введение в психоанализ
Мори (1878) производил такие опыты над самим собой. Ему
давали понюхать во сне одеколон. Он видел во сне, что он
в Каире в лавке Иоганна Мария Фарина, и далее следовали
невероятные приключения. Или его ущипнули слегка за
затылок: ему снится наложенный нарывной пластырь и врач,
лечивший его в детстве. Или ему налили на лоб каплю воды.
Тогда он оказался в Италии, сильно потел и пил белое вино
Орвието.
То, что нам бросается в глаза в этих экспериментально
вызванных сновидениях, будет, может быть, яснее из других
примеров сновидений, вызванных внешним раздражителем.
Это три сновидения, о которых сообщил остроумный
наблюдатель Гильдебрандт (1875); все они являются
реакциями на звон будильника.
«Итак, весенним утром я иду гулять и бреду
зеленеющими полями в соседнюю деревню, там я вижу жителей
деревни в праздничных платьях с молитвенниками в руках,
большой толпой направляющихся в церковь. Ну да, ведь сегодня
воскресенье, и скоро начнется ранняя обедня. Я решаю
принять в ней участие, но сначала отдохнуть на окружающем
церковь кладбище, так как я немного разгорячен.^ Читая здесь
различные надгробные надписи, я слышу, как звонарь
поднимается на колокольню, и вижу наверху маленький
деревенский колокол, который должен возвестить начало
богослужения. Некоторое время он висит неподвижно, затем
начинает колебаться — и вдруг раздаются его громкие
пронзительные звуки, такие громкие и пронзительные, что я
просыпаюсь. Звуки, однако, исходят от будильника».
«Вторая комбинация. Ясный зимний день; на улицах
сугробы. Я согласился принять участие в прогулке на санях, но
вынужден долго ждать, пока мне сообщат, что сани у ворот.
Затем следуют приготовления к тому, чтобы усесться, —
надевается шуба, достается ножной мешок; наконец я сижу на
своем месте. Но отъезд еще задерживается, пока вожжами
не дается знак нетерпеливым лошадям. Вот они трогаются
с места; сильно трясущиеся колокольчики начинают свою
знаменитую янычарскую музыку с такой силой, что паутина
сна моментально рвется. Опять это не что иное, как резкий
звон будильника».
223
Зигмунд ФРЕЙД
«И третий пример! Я вижу судомойку, проходящую по
коридору в столовую с несколькими дюжинами тарелок,
поставленных одна на другую. Мне кажется, что колонна
фарфора в ее руках вот-вот потеряет равновесие. Смотри, говорю
я, весь груз полетит на землю. Разумеется, следует
неизбежное возражение: я уже привыкла к подобному и т.д., между
тем я все еще не спускаю беспокойного взгляда с идущей.
И в самом деле, на пороге она спотыкается, и хрупкая посуда
с треском и звоном разлетается по полу. Но этот бесконечно
продолжающийся звон, как я скоро замечаю, не треск, а
настоящий звон, и виновником его, как уже понимает
просыпающийся, является будильник».
Эти сновидения довольно выразительны, совершенно
осмысленны, вовсе не так бессвязны, как это обычно
свойственно сновидениям. Мы не будем поэтому что-либо
возражать по их поводу. Общее в них то, что все они кончаются
шумом, который при пробуждении оказывается звоном
будильника. Мы видим здесь, как производится сновидение,
но узнаем также кое-что другое. Сновидение не узнает
будильника — он и не появляется в сновидении, — но оно
заменяет звон будильника другим, оно толкует раздражение,
которое нарушает сон, но толкует его каждый раз
по-разному. Почему так? На этот вопрос нет ответа, это кажется
произвольным. Но понять сновидение означало бы указать,
почему именно этот шум, а не никакой другой выбирается
для обозначения раздражения от будильника. Совершенно
аналогичным образом можно возразить против
экспериментов Мори: произведенное раздражение появляется во сне, но
почему именно в этой форме, этого нельзя узнать и это,
по-видимому, совсем не вытекает из природы нарушающего
сон раздражения. К тому же в опытах Мори к
непосредственному действию раздражения присоединяется огромное
количество другого материала сновидения, например
безумные приключения в сновидении с одеколоном, для которых
нет объяснения.
Но примите во внимание, что изучение сновидения с
пробуждением даст наилучшие шансы для установления
влияния внешних раздражений, нарушающих сон. В большинстве
других случаев это труднее. Просыпаются не от всех снови-
224
Введение в психоанализ
дений, и если утром вспомнить ночное сновидение, то как
можно найти то нарушающее раздражение, которое
действовало ночью? Однажды мне удалось позже установить такой
раздражающий шум, но, конечно, только благодаря особым
обстоятельствам. Как-то утром я проснулся в горном
тирольском местечке с уверенностью, что я видел во сне, будто умер
римский папа. Я не мог объяснить себе сновидения, но затем
моя жена спросила меня: «Ты слышал сегодня ближе к утру
ужасный колокольный звон, раздававшийся во всех церквах
и капеллах?» Нет, я ничего не слышал, мой сон был более
крепким, но я понял благодаря этому сообщению свое
сновидение. Как часто такие раздражения могут вызывать у
спящего сновидения, в то время как он о них ничего не знает?
Может быть, очень часто, может быть, и нет. Если нет
возможности доказать наличие раздражения, то нельзя и
убедиться в нем. Но ведь мы и без этого отказались от оценки
нарушающих сон внешних раздражений с тех пор, как мы
узнали, что они могут объяснить только часть сновидения,
а не все его целиком.
Поэтому нам не следует совсем отказываться от этой
теории. Более того, она может найти свое дальнейшее
развитие. Совершенно безразлично, чем нарушается сон, а душа
побуждается к сновидению. Не всегда это может быть
чувственное раздражение, исходящее извне, иногда это
раздражение, исходящее из внутренних органов, так называемое
органическое раздражение. Последнее предположение
напрашивается само собой, оно соответствует также самым
распространенным взглядам на возникновение сновидений.
Часто приходится слышать, что сновидения возникают в
связи с состоянием желудка. К сожалению, и в этом случае
приходится только предполагать, было ли ночью какое-либо
внутреннее раздражение, которое после пробуждения
невозможно определить, и потому действие такого раздражения
остается недоказуемым. Но не будем оставлять без внимания
тот факт, что многие достоверные наблюдения подтверждают
возникновение сновидений от раздражений внутренних
органов. В общем, несомненно, что состояние внутренних
органов может влиять на сновидения. Связь между некоторым
содержанием сновидения и переполнением мочевого пузыря
8-3518
225
Зигмунд ФРЕЙД
или возбужденным состоянием половых органов до того
очевидна, что ее невозможно отрицать. От этих ясных случаев
можно перейти к другим, в которых содержание сновидения,
по крайней мере, позволяет определенно предположить, что
такие раздражения внутренних органов оказали свое
действие, так как в этом содержании есть что-то, что можно
понять как переработку, отображение, толкование этих
раздражений. Исследователь сновидений Шернер (Scherner, 1861)
особенно настойчиво отстаивал точку зрения на
происхождение сновидений от раздражений внутренних органов и
привел тому несколько прекрасных примеров. Так,
например, в сновидении «два ряда красивых мальчиков с
белокурыми волосами и нежным цветом лица стоят друг против
друга с желанием бороться, бросаются друг на друга, одна
сторона нападает на другую, обе стороны опять расходятся,
занимают прежнее положение, и все повторяется сначала»,
он толкует эти ряды мальчиков как зубы, соответствующие
друг другу, и оно находит полное подтверждение, когда
после этой сцены видящий сон «вытягивает из челюсти
длинный зуб». Толкование о «длинных, узких, извилистых
ходах», по-видимому, тоже верно указывает на кишечное
раздражение и подтверждает положение Шернера о том, что
сновидение прежде всего старается изобразить вызывающий
раздражение орган похожими на него предметами.
Итак, мы, должно быть, готовы уже признать, что
внутренние раздражения могут играть в сновидении такую же роль,
как и внешние. К сожалению, их оценивание вызывает те же
возражения. В большом числе случаев толкование
раздражения внутренних органов ненадежно или бездоказательно, не
все сновидения, но только определенная их часть возникает
при участии раздражения внутренних органов, и наконец,
раздражение внутренних органов, так же как и внешнее
чувственное раздражение, в состоянии объяснить из сновидения не
больше, чем непосредственную реакцию на раздражение.
Откуда берется остальная часть сновидения, остается неясным.
Отметим себе, однако, своеобразие жизни сновидений,
которое выявляется при изучении раздражающих воздействий.
Сновидение не просто передает раздражение, оно
перерабатывает его, намекает на него, ставит его в определенную
226
Введение в психоанализ
связь, заменяет чем-то другим. Это одна сторона работы
сновидения, которая должна нас заинтересовать, потому что она,
возможно, ближе подведет нас к сущности сновидения: если
кто-то делает что-нибудь по побуждению, то этим
побуждением дело не ограничивается. Драма «Макбет» Шекспира,
например, возникла как пьеса по случаю того, что на престол
взошел король, впервые объединивший три страны под своей
короной. Но разве этот исторический повод исчерпывает все
содержание драмы, объясняет нам ее величие и загадки?
Возможно, действующие на спящего внешние и внутренние
раздражения тоже только побудители сновидения, ничего не
говорящие нам о его сущности.
Другое общее сновидениям качество — его психическая
особенность, с одной стороны, трудно уловима, а с другой —
не дает отправной точки для дальнейшего исследования.
В сновидении мы в большинстве случаев что-то переживаем
в визуальных формах. Могут ли раздражения дать этому
объяснение? Действительно ли это то раздражение, которое
мы переживаем? Почему же тогда переживание визуально,
если раздражение глаз происходит только в самых редких
случаях? Или следует допустить, что когда нам снятся речи,
то во время сна мы слышим разговор или подобный ему
шум? Эту возможность я позволю себе со всей
решительностью отвергнуть.
Если изучение общих черт сновидений не может помочь
нам в дальнейших исследованиях, то, возможно, стоит
обратиться к изучению их различий. Правда, сновидения часто
бессмысленны, запутанны, абсурдны; но есть и
осмысленные, трезвые (nüchterne), разумные. Посмотрим, не смогут
ли последние, осмысленные, разъяснить нам первые,
бессмысленные. Сообщу вам разумное сновидение,
рассказанное мне одним молодым человеком. «Я гулял по Кертнер-
штрассе, встретил господина X., к которому присоединился
на какое-то время, потом пошел в ресторан. За моим
столиком сидели две дамы и один господин. Я сначала очень
рассердился на это и не хотел на них смотреть. Потом взглянул
и нашел, что они весьма милы». Видевший сон замечает при
этом, что вечером перед сном действительно гулял по Керт-
нерштрассе, это его обычный путь, и встретил господина X.
227
Зигмунд ФРЕЙД
Другая часть сновидения не является прямым
воспоминанием, но имеет определенное сходство с недавним
переживанием. Или другое «трезвое» сновидение одной дамы. «Ее
муж спрашивает: не настроить ли пианино? Она отвечает:
не стоит, для него все равно нужно сделать новый чехол».
Это сновидение повторяет почти без изменений разговор,
происшедший за день до сновидения между мужем и ею.
Чему же учат нас эти два «трезвых» сновидения? Только
тому, что в них можно найти повторения из дневной жизни
или из связей с ней. Это было бы значимо, если бы
относилось ко всем сновидениям. Но об этом не может быть и
речи; это относится только к небольшому числу сновидений,
в большинстве же их нельзя найти связей с предыдущим
днем, а бессмысленные и абсурдные сновидения этим
вообще никак не объясняются. Мы знаем только, что
сталкиваемся с новыми проблемами. Мы не только хотим знать, о
чем говорит сновидение, но даже в тех случаях, когда оно,
как в вышеприведенных примерах, ясно выражено, мы
хотим знать также, почему и зачем повторяется это знакомое,
только что пережитое.
Я полагаю, что вы, как и я, только устанем, продолжая
подобные эксперименты. Мы видим, что недостаточно
одного интереса к проблеме, если не знать пути, который привел
бы к ее решению. Пока у нас этого пути нет.
Экспериментальная психология не дала нам ничего, кроме некоторых
очень ценных данных о значении раздражений как
побудителей сновидений. От философии нам нечего ждать, кроме
высокомерных упреков в интеллектуальной малоценности
нашего объекта; у оккультных наук мы и сами не хотим
ничего заимствовать. История и народная молва говорят
нам, что сновидение полно смысла и значения, оно
предвидит будущее; это, однако, трудно предположить и, конечно,
невозможно доказать. Таким образом, при первой же
попытке мы оказались полностью беспомощны.
Неожиданно помощь приходит к нам оттуда, откуда мы
и не подозревали. В нашем словоупотреблении, которое
далеко не случайно, а является выражением древнего
познания, хотя его и надо оценивать с осторожностью, — в нашем
языке есть примечательное выражение «сны наяву» (Tagtr-
228
Введение в психошкигиз
äume). Сны наяву являются фантазиями (продуктами
фантазии); это очень распространенные феномены,
наблюдаемые как у здоровых, так и у больных и легко доступные для
изучения на себе. Самое удивительное в этих
фантастических образованиях то, что они сохранили название «снов
наяву», не имея двух общих для всех сновидений черт. Уже
их название противоречит отношению к состоянию сна, а
что касается второй общей черты, то в них ничего не
переживается, не галлюцинируется, а что-то представляется:
сознаешь, что фантазируешь, не видишь, но думаешь. Эти сны
наяву появляются в возрасте, предшествующем половой
зрелости, часто уже в позднем детстве, сохраняются в годы
зрелости, затем от них либо отказываются, либо они
остаются до престарелого возраста. Содержание этих фантазий
обусловлено вполне ясной мотивацией. Это сцены и
происшествия, в которых находят свое удовлетворение
эгоистические, честолюбивые и властолюбивые потребности или
эротические желания личности. У молодых мужчин обычно
преобладают честолюбивые фантазии, у женщин,
честолюбие которых ограничивается любовными успехами, —
эротические. Но довольно часто и у мужчин обнаруживается
эротическая подкладка; все геройские поступки и успехи
должны способствовать восхищению и благосклонности женщин.
Впрочем, сны наяву очень разнообразны, и их судьба
различна. Каждый из них через короткое время или
обрывается и заменяется новым, или они сохраняются, сплетаются
в длинные истории и приспосабливаются к изменяющимся
жизненным обстоятельствам. Они идут, так сказать, в ногу
со временем и получают «печать времени» под влиянием
новой ситуации. Они являются сырым материалом для
поэтического творчества, потому что из снов наяву поэт создает
путем преобразований, переделок и исключений ситуации,
которые он использует в своих новеллах, романах, пьесах.
Но героем снов наяву всегда является сама фантазирующая
личность или непосредственно, или в какой-либо очевидной
идентификации с другим лицом.
Может быть, сны наяву носят это название из-за такого
же отношения к действительности, подчеркивая, что их
содержание так же мало реально, как и содержание сновиде-
229
Зигмунд ФРЕЙД
ний. Но может быть, эта общность названий обусловлена
еще неизвестным нам психическим характером сновидения,
тем, который мы ищем. Возможно также, что мы вообще не
правы, когда придаем определенное значение общности
названий. Но это выяснится лишь позднее.
Шестая лекция
Предположения и техника толкования
Уважаемые дамы и господа! Итак, нам нужен новый
подход, определенный метод, чтобы сдвинуться с места в
изучении сновидения. Сделаю одно простое предложение:
давайте будем придерживаться в дальнейшем предположения, что
сновидение является не соматическим, а психическим
феноменом. Что это означает, вы знаете, но что дает нам право на
это предположение? Ничего, но ничто не мешает нам его
сделать. Вопрос ставится так: если сновидение является
соматическим феноменом, то нам нет до него дела; оно
интересует нас только при условии, что является психическим
феноменом. Таким образом, мы будем работать при условии,
что это действительно так, чтобы посмотреть, что из этого
следует. Результаты нашей работы покажут, останемся ли мы
при этом предположении и сможем ли считать его, в свою
очередь, определенным результатом. Чего мы, собственно,
хотим достичь, для чего работаем? Мы хотим того, к чему
вообще стремятся в науке, т.е. понимания феноменов,
установления связей между ними и в конечном счете там, где это
возможно, усиления нашей власти над ними.
Итак, мы продолжаем работу, предполагая, что сновидение
есть психический феномен. В этом случае оно является
продуктом и проявлением видевшего сон, который, однако, нам
ничего не говорит, который мы не понимаем. Но что вы
будете делать в случае, если я скажу вам что-то непонятное?
Спросите меня, не так ли? Почему нам не сделать то же самое,
не расспросить видевшего сон, что означает его сновидение?
Вспомните, мы уже были однажды в данной ситуации. Это
было при исследовании ошибочных действий, в случае ого-
230
Введение в психоанализ
ворки. Некто сказал: Da sind Dinge zum Vorschwein
gekommen, и по этому поводу его спросили — нет, к счастью, не мы,
а другие, совершенно непричастные к психоанализу люди, —
эти другие спросили, что он хотел сказать данными
непонятными словами. Спрошенный тотчас же ответил, что он имел
намерение сказать: das waren Schweinereien (это были
свинства), но подавил это намерение для другого, выраженного
более мягко. Уже тогда я вам заявил, что этот расспрос
является прообразом любого психоаналитического
исследования, и теперь вы понимаете, что техника психоанализа
заключается в том, чтобы получить решение загадок, насколько это
возможно, от самого обследуемого. Таким образом, видевший
сон сам должен нам сказать, что значит его сновидение.
Но, как известно, при сновидении все не так просто. При
ошибочных действиях это удавалось в целом ряде случаев,
но были и случаи, когда спрашиваемый ничего не хотел
говорить и даже возмущенно отклонял предложенный нами
вариант ответа. При сновидении же случаев первого рода
вообще нет; видевший сон всегда отвечает, что он ничего не
знает. Отрицать наше толкование он не может, потому что
мы ему ничего не можем предложить. Может быть, нам все
же отказаться от своей попытки? Ни он, ни мы ничего не
знаем, а кто-то третий уж наверняка ничего не может знать,
так что у нас, пожалуй, нет никакой надежды что-либо узнать.
Тогда, если хотите, оставьте эту попытку. Если нет, можете
следовать за мной. Я скажу вам, что весьма возможно и
даже очень вероятно, что видевший сон все-таки знает, что
означает его сновидение, он только не знает о своем знании
и полагает поэтому, что не знает этого.
Вы можете мне заметить, что я опять ввожу новое
предположение, уже второе в этом коротком изложении, и тем
самым в значительной степени ставлю под сомнение
достоверность своего метода. Итак, первое предположение
заключается в том, что сновидение есть психический феномен,
второе — в том, что в душе человека существует что-то, о
чем он знает, не зная, что он о нем знает, и т. д. Стоит
только принять во внимание внутреннюю неправдоподобность
каждого из этих двух предположений, чтобы вообще
утратить всякий интерес к вытекающим из них выводам.
231
Зигмунд ФРЕЙД
Но, уважаемые дамы и господа, я пригласил вас сюда не
для того, чтобы подурачить или что-то скрывать. Я, правда,
заявил об «элементарном курсе лекций по введению в
психоанализ», но я не намерен был излагать вам материал in
usum delphini1, изображая все сглаженным, тщательно
скрывая от вас все трудности, заполняя все пробелы, затушевывая
сомнения, чтобы вы с легким сердцем могли подумать, что
научились чему-то новому. Нет, именно потому, что вы
начинающие, я хотел показать вам нашу науку как она есть, с
ее шероховатостями и трудностями, претензиями и
сомнениями. Я знаю, что ни в одной науке не может быть иначе,
особенно вначале. Я знаю также, что при преподавании
сначала стараются скрыть от учащихся эти трудности и
несовершенства. Но к психоанализу это не подходит. Я
действительно сделал два предположения, одно в пределах другого,
и кому все это кажется слишком трудным и неопределенным,
кто привык к большей достоверности и изяществу выводов,
тому не следует идти с нами дальше. Я только думаю, что
ему вообще следовало бы оставить психологические
проблемы, потому что, боюсь, точных и достоверных путей,
которыми он готов идти, здесь он, скорее всего, не найдет. Да
и совершенно излишне, чтобы наука, которая может что-то
предложить, беспокоилась о том, чтобы ее услышали, и
вербовала бы себе сторонников. Ее результаты должны говорить
за нее сами, а сама она может подождать, пока они привлекут
внимание.
Но тех из вас, кто хочет продолжать занятия, я должен
предупредить, что оба мои предположения не равноценны.
Первое предположение, что сновидение является
психическим феноменом, мы хотим доказать результатами нашей
работы; второе уже доказано в другой области науки, и я
только беру на себя смелость приложить его к решению наших
проблем.
Так где же, в какой области науки было доказано, что
есть такое знание, о котором человеку ничего не известно
1 In usum delphini — -«для дофина» (надпись, сделанная на издании
классиков, которое но приказу Людооика XIV было составлено для его сына). —
Примеч. }1ем. изд.
232
Введение в психоанализ
(как это имеет место, по нашему предположению, у
видевшего сон)? Это был бы замечательный, поразительный факт,
меняющий наше представление о душевной жизни, который
нет надобности скрывать. Между прочим, это факт, который
сам отрицает то, что утверждает, и все-таки является чем-то
действительным, contradictio in adjecto1. Так он и не
скрывается. И не его вина, если о нем ничего не знают или
недостаточно в него вдумываются. Точно так же не наша
вина, что обо всех этих психологических проблемах судят
люди, которые далеки от всех наблюдений и опытов, имеющих
в данном вопросе решающее значение.
Доказательство было дано в области гипнотических
явлений. Когда я в 1889 г. наблюдал чрезвычайно убедительные
демонстрации Льебо и Бернгейма в Нанси, я был свидетелем
и следующего эксперимента. Когда человека привели в
сомнамбулическое состояние, заставили в этом состоянии гал-
люцинаторно пережить всевозможные ситуации, а затем
разбудили, то сначала ему казалось, что он ничего не знает о
происходившем во время гипнотического сна. Бернгейм
потребовал рассказать, что с ним происходило во время
гипноза. Человек, утверждал, что ничего не может вспомнить. Но
Бернгейм настаивал, требовал, уверял его, что он знает,
должен вспомнить, и вот человек заколебался, начал собираться
с мыслями, вспомнил сначала смутно одно из внушенных
ему переживаний, затем другое, воспоминание становилось
все отчетливей, все полнее и наконец было восстановлено без
пробелов. Но так как он все это знал, как затем и оказалось,
хотя никто посторонний не мог ему ничего сообщить, то
напрашивается вывод, что он знал об этих переживаниях ранее.
Только они были ему недоступны, он не знал, что они у него
есть, он полагал, что ничего о них не знает. Итак, это
совершенно та же самая ситуация, в которой, как мы
предполагаем, находится видевший сон.
Надеюсь, вас поразит этот факт, и вы спросите меня:
почему же вы не сослались на это доказательство уже
раньше, рассматривая ошибочные действия, когда мы пришли
к заключению, что приписывали оговорившемуся человеку
Противоречие в определении (лат.). — Примеч. пер.
233
Зигмунд ФРЕЙД
намерения, о которых он не знал и которые отрицал? Если
кто-нибудь думает, что ничего не знает о переживаниях,
воспоминания о которых у него все-таки есть, то тем более
вероятно, что он ничего не знает и о других внутренних
душевных процессах. Этот довод, конечно, произвел бы
впечатление и помог бы нам понять ошибочные действия.
Разумеется, я мог бы сослаться на него и тогда, но я приберег
его для другого случая, где он был более необходим.
Ошибочные действия частично разъяснились сами собой; с
другой стороны, они напомнили нам, что вследствие общей
связи явлений все-таки следует предположить существование
таких душевных процессов, о которых ничего не известно.
Изучая сновидения, мы вынуждены пользоваться
сведениями из других областей, и, кроме того, я учитываю тот факт,
что здесь вы скорее согласитесь на привлечение сведений из
области гипноза. Состояние, в котором совершаются
ошибочные действия, должно быть, кажется вам нормальным,
оно не похоже на гипнотическое. Напротив, между
гипнотическим состоянием и сном, при котором возникают
сновидения, имеется значительное сходство. Ведь гипнозом
называется искусственный сон; мы говорим лицу, которое
гипнотизируем: спите, и внушения, которые мы ему делаем,
можно сравнить со сновидениями во время естественного
сна. Психические ситуации в обоих случаях
действительно аналогичны. При естественном сне мы гасим интерес к
внешнему миру, при гипнотическом — опять-таки ко всему
миру, за исключением лица, которое нас гипнотизирует, с
которым мы остаемся в связи. Впрочем, так называемый сон
кормилицы, при котором она имеет связь с ребенком и
только им может быть разбужена, является нормальной
аналогией гипнотического сна. Перенесение особенностей гипноза
на естественный сон не кажется поэтому таким уж смелым.
Предположение, что видевший сон также знает о своем
сновидении, которое ему только недоступно, так что он и сам
этому не верит, не совсем беспочвенно. Кстати, заметим
себе, что здесь перед нами открывается третий путь к
изучению сновидений: от нарушающих сон раздражений, от снов
наяву, а теперь еще от сновидений, внушенных в
гипнотическом состоянии.
234
Введение о психоашичш
А теперь, когда наша уверенность в себе возросла,
вернемся к нашей проблеме. Итак, очень вероятно, что
видевший сон знает о своем сновидении, и задача состоит в том,
чтобы дать ему возможность обнаружить это знание и
сообщить его нам. Мы не требуем, чтобы он сразу сказал о
смысле своего сновидения, но он может открыть происхождение
сновидения, круг мыслей и интересов, которые его
определили. Вспомните случай ошибочного действия, когда у кого-
то спросили, откуда произошла оговорка «Vorschwein», и
первое, что пришло ему в голову, дало нам разъяснение.
Наша техника исследования сновидений очень проста, весьма
похожа на только что упомянутый прием. Мы вновь спросим
видевшего сон, откуда у него это сновидение, и первое его
высказывание будем считать объяснением. Мы не будем
обращать внимание на то, думает ли он, что что-то знает, или
не думает, и в обоих случаях поступим одинаково.
Эта техника, конечно, очень проста, но, боюсь, она
вызовет у вас самый резкий отпор. Вы скажете: новое
предположение, третье! И самое невероятное из всех! Если я спрошу
у видевшего сон, что ему приходит в голову по поводу
сновидения, то первое же, что ему придет в голову, и должно
дать желаемое объяснение? Но ему вообще может ничего не
прийти или придет Бог знает что. Мы не понимаем, на что
тут можно рассчитывать. Вот уж действительно, что значит
проявить слишком много доверия там, где уместнее было бы
побольше критики. К тому же сновидение состоит ведь не
из одного неправильного слова, а из многих элементов.
Какой же мысли, случайно пришедшей в голову, нужно
придерживаться?
Вы правы во всем, что касается второстепенного.
Сновидение отличается от оговорки также и большим количеством
элементов. С этим условием технике необходимо считаться.
Но я предлагаю вам разбить сновидение на элементы и
исследовать каждый элемент в отдельности, и тогда вновь
возникнет аналогия с оговоркой. Вы правы и в том, что по
отношению к отдельным элементам спрашиваемый может
ответить, что ему ничего не приходит в голову. Есть случаи,
в которых мы удовлетворимся этим ответом, и позднее вы
узнаете, каковы они. Примечательно, что это такие случаи, о
235
Зигмунд ФРЕЙД
которых мы сами можем составить определенное суждение.
Но в общем, если видевший сон будет утверждать, что ему
ничего не приходит в голову, мы возразим ему, будем
настаивать на своем, уверять его, что хоть что-то должно ему
прийти в голову, и окажемся правы. Какая-нибудь мысль
придет ему в голову, нам безразлично какая. Особенно легко
ему будет дать сведения, которые можно назвать
историческими. Он скажет: вот это случилось вчера (как в обоих
известных нам «трезвых» сновидениях) или: это напоминает
что-то недавно случившееся; таким образом, мы
замечаем, что связи сновидений с впечатлениями последних дней
встречаются намного чаще, чем мы сначала предполагали.
Исходя из сновидения, видевший сон припомнит, наконец,
более отдаленные, возможно даже совсем далекие события.
Но в главном вы не правы. Если вы считаете слишком
произвольным предположение о том, что первая же мысль
видевшего сон как раз и даст искомое или должна привести
к нему, если вы думаете, что эта первая пришедшая в голову
мысль может быть, скорее всего, совершенно случайной и
не связанной с искомым, что я просто лишь верю в то, что
можно ожидать от нее другого, то вы глубоко заблуждаетесь.
Я уже позволил себе однажды предупредить вас, что в вас
коренится вера в психическую свободу и произвольность,
но она совершенно ненаучна и должна уступить требованию
необходимого детерминизма и в душевной жизни. Я прошу
вас считаться с фактом, что спрошенному придет в голову
именно это и ничто другое. Но я не хочу противопоставлять
одну веру другой. Можно доказать, что пришедшая в голову
спрошенному мысль не произвольна, а вполне определенна
и связана с искомым нами. Да, я недавно узнал, не придавая,
впрочем, этому большого значения, что и
экспериментальная психология располагает такими доказательствами.
В связи с важностью обсуждаемого предмета прошу
вашего особого внимания. Если я прошу кого-то сказать, что
ему пришло в голову по поводу определенного элемента
сновидения, то я требую от него, чтобы он отдался
свободной ассоциации, придерживаясь исходного представления. Это
требует особой установки внимания, которая совершенно
иная, чем установка при размышлении, и исключает послед-
236
Введение в психоанализ
нее. Некоторым легко дается такая установка, другие
обнаруживают при таком опыте почти полную неспособность.
Существует и более высокая степень свободы ассоциации,
когда опускается также и это исходное представление и
определяется только вид и род возникающей мысли, например,
определяется свободно возникающее имя собственное или
число. Эта возникающая мысль может быть еще
произвольнее, еще более непредвиденной, чем возникающая при
использовании нашей техники. Но можно доказать, что она
каждый раз строго детерминируется важными внутренними
установками, неизвестными нам в момент их действия и так
же мало известными, как нарушающие тенденции при
ошибочных действиях и тенденции, провоцирующие случайные
действия.
Я и многие другие после меня неоднократно проводили
такие исследования с именами и числами, самопроизвольно
возникающими в мыслях; некоторые из них были также
опубликованы. При этом поступают следующим образом: к
пришедшему в голову имени вызывают ряд ассоциаций,
которые уже не совсем свободны, а связаны, как и мысли по
поводу элементов сновидения, и это продолжают до тех пор,
пока связь не исчерпается. Но затем выяснялись и
мотивировка, и значение свободно возникающего имени.
Результаты опытов все время повторяются, сообщение о них часто
требует изложения большого фактического материала и
необходимых подробных разъяснений. Возможно, самыми
доказательными являются ассоциации свободно возникающих
чисел; они протекают так быстро и направляются к скрытой
цели с такой уверенностью, что просто ошеломляют. Я хочу
привести вам только один пример с таким анализом имени,
так как его, к счастью, можно изложить кратко.
Во время лечения одного молодого человека я
заговариваю с ним на эту тему и упоминаю положение о том, что,
несмотря на кажущуюся произвольность, не может прийти
в голову имя, которое не оказалось бы обусловленным
ближайшими отношениями, особенностями испытуемого и его
настоящим положением. Так как он сомневается в этом, я
предлагаю ему, не откладывая, самому провести такой опыт.
Я знаю, что у него особенно много разного рода отношений
237
Зигмунд ФРЕЙД
с женщинами и девушками, и полагаю поэтому, что у него
будет особенно большой выбор, если ему предложить
назвать первое попавшееся женское имя. Он соглашается. Но
к моему или, вернее, к его удивлению, на меня не катится
лавина женских имен, а, помолчав, он признается, что ему
пришло на ум всего лишь одно имя: Альбина. Странно, что
же вы связываете с этим именем? Сколько Альбин вы
знаете? Поразительно, но он не знает ни одной Альбины, и
больше ему ничего не приходит в голову по поводу этого
имени. Итак, можно было предположить, что анализ не
удался; но нет, он был уже закончен, и не потребовалось
никаких других мыслей. У молодого человека был необычно
светлый цвет волос, во время бесед при лечении я часто в
шутку называл его Альбина; мы как раз занимались
выяснением доли женского начала в его конституции. Таким
образом, он сам был этой Альбиной, самой интересной для него
в это время женщиной.
То же самое относится к непосредственно всплывающим
мелодиям, которые определенным образом обусловлены
кругом мыслей человека, занимающими его, хотя он этого и не
замечает. Легко показать, что отношение к мелодии связано
с ее текстом или происхождением; но следует быть
осторожным, это утверждение не распространяется на действительно
музыкальных людей, относительно которых у меня просто
нет данных. У таких людей ее появление может объясняться
музыкальным содержанием мелодии. Но чаще встречается,
конечно, первый случай. Так, я знаю одного молодого
человека, которого долгое время преследовала прелестная песня
Париса из «Прекрасной Елены» [Оффенбаха], пока анализ
не обратил его внимание на конкуренцию «Иды» и «Елены»,
занимавшую его в то время.
Итак, если совершенно свободно возникающие мысли
обусловлены таким образом и подчинены определенной
связи, то тем более мы можем заключить, что мысли с
единственной связью, с исходным представлением, могут быть не
менее обусловленными. Исследование действительно
показывает, что, кроме предполагаемой нами связи с исходным
представлением, следует признать их вторую зависимость от
богатых аффектами мыслей и интересов, комплексов, воздей-
238
Введение в психоанализ
ствие которых в настоящий момент неизвестно, т.е.
бессознательно.
Свободно возникающие мысли с такой связью были
предметом очень поучительных экспериментальных
исследований, сыгравших в истории психоанализа достойную
внимания роль. Школа Вундта предложила так называемый
ассоциативный эксперимент, при котором испытуемому
предлагалось как можно быстрее ответить любой реакцией
на слово-раздражитель. Затем изучались интервал между
раздражением и реакцией, характер ответной реакции,
ошибки при повторении того же эксперимента и подобное.
Цюрихская школа под руководством Блейлера и Юнга дала
объяснение происходящим при ассоциативном
эксперименте реакциям, предложив испытуемому разъяснять
полученные реакции дополнительными ассоциациями, если они
сами по себе привлекали внимание своей необычностью.
Затем оказалось, что эти необычные реакции самым тесным
образом связаны с комплексами испытуемого. Тем самым
Блейлер и Юнг перебросили мост от экспериментальной
психологии к психоанализу.
На основании этих данных вы можете сказать: «Теперь
мы признаем, что свободно возникающие мысли
детерминированы, не произвольны, как мы полагали. То же самое мы
допускаем и по отношению к мыслям, возникающим по
поводу элементов сновидения. Но ведь это не то, что нам
нужно. Ведь вы утверждаете, что мысли, пришедшие по поводу
элемента сновидения, детерминированы какой-то
неизвестной психической основой именно этого элемента. А нам это
не кажется очевидным. Мы уже предполагаем, что мысль по
поводу элемента сновидения предопределена комплексами
видевшего сон, но какая нам от этого польза? Это приведет
нас не к пониманию сновидения, но только к знанию этих
так называемых комплексов, как это было в ассоциативном
эксперименте. Но что у них общего со сновидением?»
Вы правы, но упускаете один момент. Кстати, именно
тот, из-за которого я не избрал ассоциативный эксперимент
исходной точкой этого изложения. В этом эксперименте
одна детерминанта реакции, а именно слово-раздражитель,
выбирается нами произвольно. Реакция является посредником
239
Зигмунд ФРЕЙД
между этим словом-раздражителем и затронутым им
комплексом испытуемого. При сновидении слово-раздражитель
заменяется чем-то, что само исходит из душевной жизни
видевшего сон, из неизвестных ему источников, т. е. из того,
что само легко могло бы стать «производным от комплекса».
Поэтому напрашивается предположение, что и связанные с
элементами сновидения дальнейшие мысли будут
определены не другим комплексом, а именно комплексом самого
элемента и приведут также к его раскрытию.
Позвольте мне на другом примере показать, что дело
обстоит именно так, как мы предполагаем в нашем случае.
Забывание имен собственных является, собственно говоря,
прекрасным примером для анализа сновидения; только здесь в
одном лице сливается то, что при толковании сновидения
распределяется между двумя. Если я временно забыл имя, то
у меня есть уверенность, что я это имя знаю; та уверенность,
которую мы можем внушить видевшему сон только
обходным путем при помощи эксперимента Бернгейма. Но
забытое, хотя и знакомое имя мне недоступно. Все усилия
вспомнить его ни к чему не приводят, это я знаю по опыту. Но
вместо забытого имени я могу придумать одно или
несколько замещающих имен. И если такое имя-заместитель (Ersatz)
придет мне в голову спонтанно, только тогда ситуация будет
похожа на анализ сновидения. Элемент сновидения ведь
тоже не то, что нужно, только заместитель того другого,
нужного, чего я не знаю и что нужно найти при помощи анализа
сновидения. Различие опять-таки только в том, что при
забывании имен я не признаю заместитель собственным
[содержанием] (Eigentliche), а для элемента сновидения нам
трудно стать на эту точку зрения. Но и при забывании имен
есть путь от заместителя к собственному бессознательному
[содержанию], к забытому имени. Если я направлю свое
внимание на имена-заместители и буду следить за приходящими
мне в голову мыслями по их поводу, то рано или поздно я
найду забытое имя и при этом обнаружится, что
имена-заместители, как и пришедшие мне в голову, были связаны
с забытым, были детерминированы им.
Я хочу привести вам пример анализа такого рода:
однажды я заметил, что забыл название маленькой страны на Ри-
240
Введение в психоанализ
вьере, главный город которой Монте-Карло. Это было
досадно, но так. Я вспоминаю все, что знаю об этой стране,
думаю о князе Альберте из дома Лузиньян, о его браках, о
его любви к исследованию морских глубин и обо всем, что
мне удается вспомнить, но ничего не помогает. Поэтому я
прекращаю размышление и стараюсь заменить забытое
название. Другие названия быстро всплывают. Само Монте-
Карло, затем Пьемонт, Албания, Монтевидео, Колико.
Сначала в этом ряду мне бросается в глаза Албания, она быстро
сменяется Монтенегро, возможно, как противоположность
белого и черного. Затем я замечаю, что в этих четырех
названиях-заместителях содержится слог мон; вдруг я
вспоминаю забытое название и громко произношу: Монако.
Заместители действительно исходили из забытого, первые четыре
из первого слога, последнее воспроизводит
последовательность слогов и весь конечный слог. Между прочим, я могу
восстановить, почему я на время забыл название. Монако
имеет отношение к Мюнхену, это его итальянское название;
название этого города и оказало тормозящее влияние.
Пример, конечно, хорош, но слишком прост. В других
случаях к первым замещающим названиям следовало бы
прибавить более длинный ряд возникающих мыслей, тогда
аналогия с анализом сновидения была бы яснее. У меня и
в этом есть опыт. Когда однажды незнакомец пригласил
меня выпить итальянского вина, в ресторане оказалось, что он
забыл название вина, которое хотел заказать, только потому,
что о нем остались лучшие воспоминания. Из большого
числа замещающих названий, которые пришли ему в голову
вместо забытого, я сделал вывод, что название забыто из-за
какой-то Гедвиги, и действительно, он не только
подтвердил, что пробовал его в обществе одной Гедвиги, но и
вспомнил благодаря этому его название. К этому времени он был
счастливо женат, а та Гедвига относилась к более раннему
времени, о котором он неохотно вспоминал.
То, что оказалось возможным при забывании имен,
должно удаться и при толковании сновидений; идя от
заместителя через связывающие ассоциации, можно сделать
доступным скрытое собственное [содержание]. По примеру
забывания имен мы можем сказать об ассоциациях с эле-
241
Зигмунд ФРЕЙД
ментом сновидения, что они детерминированы как самим
элементом сновидения, так и собственным бессознательным
[содержанием]. Тем самым мы привели некоторые
доказательства правомерности нашей техники.
Седьмая лекция
Явное содержание сновидения
и скрытые его мысли
Уважаемые дамы и господа! Вы видите, что мы не без
пользы изучали ошибочные действия. Благодаря этим
усилиям мы — исходя из известных вам предположений — усвоили
два момента: понимание элемента сновидения и технику
толкования сновидения. Понимание элемента сновидения
заключается в том, что он не является собственным [содержанием],
а заместителем чего-то другого, неизвестного видевшему сон,
подобно намерению ошибочного действия, заместителем
чего-то, о чем видевший сон знает, но это знание ему
недоступно. Надеемся, что это же понимание можно распространить
и на все сновидение, состоящее из таких элементов. Наша
техника состоит в том, чтобы благодаря свободным
ассоциациям вызвать к этим элементам другие замещающие
представления, из которых можно узнать скрытое.
Теперь я предлагаю вам внести изменения в
терминологию, которые должны упростить наше изложение. Вместо
«скрытое, недоступное, не собственное1 [содержание]» мы,
выражаясь точнее, скажем «недоступное сознанию
видевшего сон, или бессознательное» (unbewußt). Под этим мы
подразумеваем (как это было и в отношении к забытому слову
или нарушающей тенденции ошибочного действия) не что
иное, как бессознательное в данный момент. В
противоположность этому мы, конечно, можем назвать сами элементы
сновидения и вновь полученные благодаря ассоциациям
замещающие представления сознательными. С этим
названием не связана какая-то новая теоретическая конструкция.
По смыслу должно быть «собственное*. — Примеч. ред. перевода.
242
Введение о психоанализ
Употребление слова «бессознательное», как легко понятного
и подходящего, не может вызвать возражений.
Если мы распространим наше понимание отдельного
элемента на все сновидение, то получится, что сновидение как
целое является искаженным заместителем чего-то другого,
бессознательного, и задача толкования сновидения — найти
это бессознательное. Отсюда сразу выводятся три важных
правила, которых мы должны придерживаться во время
работы над толкованием сновидения: 1) не нужно обращать
внимание на то, что являет собой сновидение, будь оно
понятным или абсурдным, ясным или спутанным, так как оно
все равно ни в коем случае не является искомым
бессознательным (естественное ограничение этого правила
напрашивается само собой); 2) работу ограничивать тем, что к
каждому элементу вызывать замещающие представления, не
задумываясь о них, не проверяя, содержат ли они что-то
подходящее, не обращать внимания, насколько они
отклоняются от элемента сновидения; 3) нужно выждать, пока
скрытое, искомое бессознательное возникнет само, точно так
же, как забытое слово «Монако» в описанном примере.
Теперь нам также понятно, насколько безразлично,
хорошо или плохо, верно или неверно восстановлено в памяти
сновидение. Ведь восстановленное в памяти сновидение не
является собственным содержанием, но только искаженным
заместителем того, что должно нам помочь путем вызывания
других замещающих представлений приблизиться к
собственному содержанию, сделать бессознательное сознательным.
Если воспоминание было неточным, то просто в заместителе
произошло дальнейшее искажение, которое, однако, не
может быть немотивированным.
Работу толкования можно провести как на собственных
сновидениях, так и на сновидениях других. На собственных
даже большему научишься, процесс толкования здесь более
убедителен. Итак, если попытаешься это сделать, то
замечаешь, что что-то противится работе. Мысли хотя и
возникают, но не всем им придаешь значение. Производится
проверка, и делается выбор. Об одной мысли говоришь себе:
нет, это здесь не подходит, не относится сюда, о другой —
это слишком бессмысленно, о третьей — это уж совсем вто-
243
Зшмунд ФРЕЙД
ростепенно, и вскоре замечаешь, что при таких возражениях
мысли задерживаются прежде, чем станут совершенно
ясными, и наконец прогоняются. Таким образом, с одной
стороны, слишком сильно зависишь от исходного представления,
от самого элемента сновидения, с другой — выбор мешает
результату свободной ассоциации. Если толкование
сновидения проводишь не наедине, а просишь кого-нибудь
толковать свое сновидение, то ясно чувствуешь еще один мотив,
которым оправдываешь такой недопустимый выбор. Тогда
говоришь себе по поводу отдельных мыслей: нет, эта мысль
слишком неприятна, я не хочу или не могу ее высказать.
Эти возражения явно угрожают успешности нашей
работы. Против них нужно защититься, и при анализе
собственного сновидения делаешь это с твердым намерением не
поддаваться им; если анализируешь сновидение другого, то
ставишь ему как непреложное условие не исключать ни одной
мысли, даже если против нее возникает одно из четырех
возражений: что она слишком незначительна, слишком
бессмысленна, не относится к делу или ее неприятно сказать. Он
обещает следовать этому правилу, но затем с огорчением
замечаешь, как плохо подчас он сдерживает это обещание. Сначала
объясняешь это тем, что он не уяснил себе смысл свободной
ассоциации, несмотря на убедительное заверение, и думаешь,
что, может быть, следует подготовить его сначала
теоретически, давая ему литературу или послав его на лекции,
благодаря чему он мог бы стать сторонником наших воззрений на
свободную ассоциацию. Но от этих приемов
воздерживаешься, замечая, что и сам, будучи твердо уверен в собственных
убеждениях, подвержен этим же критическим возражениям
против определенных мыслей, которые впоследствии
устраняются, в известной мере, во второй инстанции.
Вместо того чтобы сердиться на непослушание видевшего
сон, попробуем оценить этот опыт, чтобы научиться из него
чему-то новому, чему-то, что может быть тем важнее, чем
меньше мы к нему подготовлены. Понятно, что работа по
толкованию сновидения происходит вопреки сопротивлению
(Widerstand), которое поднимается против него и
выражением которого являются те критические возражения. Это
сопротивление независимо от теоретических убеждений видев-
244
Введение в психоанализ
шего сон. Больше того. Опыт показывает, что такое
критическое возражение никогда не бывает правильным.
Напротив, мысли, которые хотелось бы подавить таким образом,
оказываются все без исключения самыми важными,
решающими для раскрытия бессознательного. Если мысль
сопровождается таким возражением, то это как раз очень
показательно.
Это сопротивление является каким-то совершенно новым
феноменом, который мы нашли исходя из наших
предположений, хотя он как будто и не содержится в них. Этому
новому фактору мы не так уж приятно удивлены. Мы уже
предчувствуем, что он не облегчит нашей работы. Он мог бы
нас привести к тому, чтобы вовсе оставить наши старания
понять сновидение. Такое незначительное явление, как
сновидение, и такие трудности вместо безукоризненной
техники! Но, с другой стороны, именно эти трудности заставляют
нас предполагать, что работа стоит усилий. Мы постоянно
наталкиваемся на сопротивление, когда хотим от
заместителя, являющегося элементом сновидения, проникнуть в его
скрытое бессознательное. Таким образом, мы можем
предположить, что за заместителем скрывается что-то значительное.
Иначе к чему все препятствия, стремящиеся сохранить
скрываемое? Если ребенок не хочет открыть руку, чтобы показать,
что в ней, значит, там что-то, чего ему не разрешается иметь.
Сейчас, когда мы вводим в ход наших рассуждений
динамическое представление сопротивления, мы должны
подумать о том, что это сопротивление может количественно
изменяться. Оно может быть большим и меньшим, и мы готовы
к тому, что данные различия и обнаружатся во время нашей
работы. Может быть, благодаря этому мы приобретем другой
опыт, который тоже пригодится в работе по толкованию
сновидений. Иногда необходима одна-единственная или всего
несколько мыслей, чтобы перейти от элемента сновидения к
его бессознательному, в то время как в других случаях для
этого требуется длинная цепь ассоциаций и преодоление
многих критических возражений.
Мы скажем себе, что эти различия связаны с изменением
величины сопротивления, и будем, вероятно, правы. Если
сопротивление незначительно, то и заместитель не столь отли-
245
Зигмунд ФРЕЙД
чен от бессознательного; но большое сопротивление
приводит к большим искажениям бессознательного, а с ними
удлиняется обратный путь от заместителя к бессознательному.
Теперь, может быть, настало время взять какое-нибудь
сновидение и попробовать применить к нему нашу технику,
чтобы оправдать связываемые с ней надежды. Да, но какое
для этого выбрать сновидение? Вы не представляете себе, как
мне трудно сделать выбор, и я даже не могу вам еще
разъяснить, в чем трудность. Очевидно, имеются сновидения,
которые в общем мало искажены, и самое лучшее было бы
начать с них. Но какие сновидения меньше всего искажены?
Понятные и не спутанные, два примера которых я уже
приводил? Но тут-то вы глубоко ошибаетесь. Исследование
показывает, что эти сновидения претерпели чрезвычайно
высокую степень искажения. Но если я, отказавшись от каких-
либо ограничений, возьму первое попавшееся сновидение,
вы, вероятно, будете очень разочарованы. Может случиться,
что нам нужно будет выделить и записать такое обилие
мыслей к отдельным элементам сновидения, что работа станет
совершенно необозримой. Если мы запишем сновидение, а
напротив составим список всех пришедших но его поводу
мыслей, то он может быть больше текста сновидения. Самым
целесообразным кажется, таким образом, выбрать для
анализа несколько коротких сновидений, из которых каждое
сможет нам что-нибудь сказать или что-либо подтвердить. На
это мы и решимся, если опыт нам не подскажет, где
действительно можно найти мало искаженные сновидения.
Кроме того, я знаю еще другой путь для облегчения нашей
задачи. Вместо толкования целых сновидений давайте
ограничимся отдельными элементами и на ряде примеров
проследим, как их можно объяснить, используя нашу технику.
а) Одна дама рассказывает, что ребенком очень часто
видела сон, будто у Бога на голове остроконечный бумажный
колпак. Как вы это поймете, не прибегнув к помощи
видевшей сон? Ведь это совершенно бессмысленно. Но это
перестает быть бессмыслицей, когда дама сообщает, что ей
ребенком за столом имели обыкновение надевать такой
колпак, потому что она не могла отвыкнуть от того, чтобы не
коситься в тарелки братьев и сестер и не смотреть, не полу-
246
Введение в психоанализ
чил ли кто-нибудь из них больше нее. Таким образом,
колпак должен был действовать, как шоры. Кстати,
историческое сообщение было дано без всякой задержки. Толкование
этого элемента, а с ним и всего короткого сновидения легко
осуществляется благодаря следующей мысли видевшей сон.
«Так как я слышала, что Бог всеведущ и все видит, —
говорит она, — то сновидение означает только, что я все знаю и
все вижу, как Бог, даже если мне хотят помешать». Этот
пример, возможно, слишком прост.
б) Одна скептически настроенная пациентка видит
длинный сон, в котором известные лица рассказывают ей о моей
книге «Остроумие» (1905с) и очень ее хвалят. Затем что-то
упоминается о «Канапе», возможно, о другой книге, в которой
фигурирует канал, или еще что-то, связанное с каналом... она
не знает... это совершенно неясно.
Вы склонны будете предположить, что элемент «канал»
не поддается толкованию, потому что он сам так
неопределенен. Вы правы относительно предполагаемого
затруднения, но толкование трудно не потому, что этот элемент
неясен, наоборот, он неясен по той же причине, по которой
затруднено толкование: видевшей сон не приходит по поводу
канала никаких мыслей; я, конечно, тоже ничего не могу
сказать. Некоторое время спустя, вернее, на следующий день
она говорит, что ей пришло в голову, что, может быть,
относится к делу. А именно острота, которую она слышала. На
пароходе между Дувром и Кале известный писатель беседует
с одним англичанином, который в определенной связи
цитирует: Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas [От великого до
смешного только один шаг]. Писатель отвечает: Oui, le pas
de Calais [Да, Па-де-Кале]; (шаг по-французски «па». — При-
меч. пер.) — этим он хочет сказать, что Франция великая
страна, а Англия — смешная. Но Pas de Calais ведь канал,
именно рукав канала, Canal la manche. Не думаю ли я, что
эта мысль имеет отношение к сновидению? Конечно, говорю
я, она действительно объясняет загадочный элемент
сновидения. Или вы сомневаетесь, что эта шутка уже до
сновидения была бессознательным для элемента «канал», и
предполагаете, что она появилась позднее? Пришедшая ей в голову
мысль свидетельствует о скепсисе, который скрывается у нее
247
Зигмунд ФРЕЙД
за искусственным восхищением, а сопротивление является
общей причиной как задержки мысли, так и того, что
соответствующий элемент сновидения был таким
неопределенным. Вдумайтесь в этом случае в отношение элемента
сновидения к его бессознательному... Он как бы кусочек
бессознательного, как бы намек на него; изолировав его, мы бы
его совершенно не поняли.
в) Один пациент видит длинный сон: вокруг стола
особой формы сидит несколько членов его семьи и т. д. По
поводу стола ему приходит в голову мысль, что он видел такой
стол при посещении определенной семьи. Затем его мысль
развивается: в этой семье были особые отношения между
отцом и сыном, и он тут же добавляет, что такие же
отношения существуют между ним и его отцом. Таким образом,
стол взят в сновидение, чтобы показать эту параллель.
Этот пациент был давно знаком с требованиями
толкования сновидения. Другой, может быть, был бы поражен, что
такая незначительная деталь, как форма стола, является
объектом исследования. Мы считаем, что в сновидении нет
ничего случайного или безразличного, и ждем разгадки
именно от объяснения таких незначительных, немотивированных
деталей. Вы, может быть, еще удивитесь, что работа
сновидения выразила мысль «у нас все происходит так, как у них»
именно выбором стола. Но все легко объяснится, если вы
узнаете, что эта семья носит фамилию Тишлер [Tisch —
стол. — Примеч. пер.]. Усаживая своих родных за этот стол,
он как бы говорит, что они тоже Тишлеры. Заметьте,
впрочем, как в сообщениях о таких толкованиях сновидений
поневоле становишься нескромным. Теперь и вы увидели
упомянутые выше трудности в выборе примеров. Этот пример
я мог бы легко заменить другим, но тогда, вероятно, избежал
бы этой нескромности за счет какой-то другой.
Мне кажется, что теперь самое время ввести два термина,
которыми мы могли бы уже давно пользоваться. Мы хотим
назвать то, что рассказывается в сновидении, явным
содержанием аювидения (manifester Trauminhalt), а скрытое, к
которому мы приходим, следуя за возникающими мыслями,
скрытыми мыслями сновидения (latente Traumgedanken). Обратим
внимание на отношения между явным содержанием сновидения
248
Введение в психоанализ
и скрытыми его мыслями в наших примерах. Эти отношения
могут быть весьма различными. В примерах а) и б) явный
элемент является составной частью скрытых мыслей, но только
незначительной их частью. Из всей большой и сложной
психической структуры бессознательных мыслей в явное
сновидение проникает лишь частица как их фрагмент или в других
случаях как намек на них, как лозунг или сокращение в
телеграфном стиле. Толкование должно восстановить целое по этой
части или намеку, как это прекрасно удалось в примере б).
Один из видов искажения, в котором заключается работа
сновидения, есть, таким образом, замещение обрывком или
намеком. В примере в), кроме того, можно предположить другое
отношение, более ясно выраженное в следующих примерах.
г) Видевший сон извлекает (hervorzieht) (определенную,
знакомую ему) даму из-под кровати Он сам открывает смысл
этого элемента сновидения первой пришедшей ему в голову
мыслью. Это означает: он отдает этой даме предпочтение
(Vorzug).
д) Другому снится, что его брат застрял в ящике. Первая
мысль заменяет слово ящик шкафом (Schrank), а вторая дает
этому толкование: брат ограничивает себя (schränkt sich ein).
е) Видевший сон поднимается на гору, откуда
открывается необыкновенно далекий вид. Это звучит совершенно
рационально, и, может быть, тут нечего толковать, а следует
только узнать, какие воспоминания затронуты сновидением
и чем оно мотивировано. Но вы ошибаетесь, — оказывается,
именно это сновидение нуждается в толковании, как
никакое другое спутанное.
Видевшему сон вовсе не приходят в голову собственные
восхождения на горы, а он вспоминает, что один его
знакомый издает «Обозрение» (Rundschau), в котором
обсуждаются наши отношения к дальним странам. Таким образом,
скрытая мысль сновидения здесь — отождествление
видевшего сон с издателем «Обозрения».
Здесь вы видите новый тип отношения между явным и
скрытым элементами сновидения. Первый является не
столько искажением последнего, сколько его изображением,
наглядным, конкретным выражением в образе, которое имеет
своим источником созвучие слов. Однако благодаря этому
249
Зигмунд ФРЕЙД
получается опять искажение, потому что мы давно забыли,
из какого конкретного образа выходит слово, и не узнаем его
в замещении образом. Если вы подумаете о том, что явное
сновидение состоит преимущественно из зрительных
образов, реже из мыслей и слов, то можете догадаться, что этому
виду отношения принадлежит особое значение в
образовании сновидения. Вы видите также, что этим путем можно
создать в явном сновидении для целого ряда абстрактных
мыслей замещающие образы, которые служат намерению
скрыть их. Это та же техника ребуса. Откуда такие
изображения приобретают остроумный характер, это особый
вопрос, которого мы здесь можем не касаться.
О четвертом виде отношения между явным и скрытым
элементами сновидения я умолчу, пока наша техника не
откроет нам его особенность. Но и тогда я не дал бы полного
перечисления этих отношений, для наших же целей
достаточно и этого.
Есть у вас теперь мужество решиться на толкование
целого сновидения? Сделаем попытку и посмотрим,
достаточно ли мы подготовлены для решения этой задачи.
Разумеется, я выберу не самое непонятное сновидение, а
остановлюсь на таком, которое хорошо отражает его свойства.
Итак, молодая, но уже давно вышедшая замуж дама
видит сон: она сидит с мужем в театре, одна половина
партера совершенно пуста. Ее муж рассказывает ей, что Элиза
Л. и ее жених тоже хотели пойти, но смогли достать только
плохие места, три за 1 фл. 50 кр.\ а ведь такие места они
не могли взять. Она считает, что это не беда.
Первое, что сообщает нам видевшая сон, — это то, что
повод к сновидению указан в явном сновидении. Муж
действительно рассказал ей, что Элиза Л., знакомая, примерно
тех же лет, обручилась. Сновидение является реакцией на
это сообщение. Мы уже знаем, что подобный повод в
переживаниях дня накануне сновидения нетрудно доказать во
многих сновидениях, и видевшие сон часто без затруднений
дают такие указания. Такие же сведения видевшая сон дает
и по поводу других элементов явного сновидения. Откуда
1 флорин 50 крейцеров. — Примеч. ред. перевода.
250
Введение а психоанализ
взялась деталь, что половина партера не занята? Это намек
на реальное событие прошлой недели. Она решила пойти на
известное театральное представление и заблаговременно
купила билеты, но так рано, что должна была доплатить за это,
когда же они пришли в театр, оказалось, что ее заботы были
напрасны, потому что одна половина партера была почти
пуста. Она бы не опоздала, если бы купила билеты даже в
день представления. Ее муж не преминул подразнить ее за
эту поспешность. Откуда 1 фл. 50 кр.? Это относится к
совсем другому и не имеет ничего общего с предыдущим, но
и тут есть намек на известие последнего дня. Ее невестка
получила от своего мужа в подарок 150 фл., и эта дура не
нашла ничего лучшего, как побежать к ювелиру и истратить
деньги на украшения. А откуда три? Об этом она ничего не
знает, если только не считать той мысли, что невеста Элиза
Л. всего лишь на три месяца моложе нее, а она почти десять
лет замужем. А что это за нелепость брать три билета, когда
идешь в театр вдвоем? На это она ничего не отвечает и
вообще отказывается от дальнейших объяснений.
Но эти пришедшие ей в голову мысли и так дали нам
достаточно материала, чтобы можно было узнать скрытые
мысли сновидения. Обращает на себя внимание то, что в ее
сообщениях к сновидению в нескольких местах
подчеркиваются разные сроки, благодаря чему между отдельными
частями устанавливается нечто общее: она слишком рано купила
билеты в театр, поспешила, так что должна была переплатить;
невестка подобным же образом поспешила снести деньги
ювелиру, чтобы купить украшения, как будто она могла это
упустить. Если эти так подчеркнутые «слишком рано»,
«поспешно» сопоставить с поводом сновидения, известием, что
приятельница, которая моложе нее всего на три месяца,
теперь все-таки нашла себе хорошего мужа, и с критикой,
выразившейся в осуждении невестки: нелепо так торопиться, то
само собой напрашивается следующий ход скрытых мыслей
сновидения, искаженным заместителем которых является
явное сновидение: «Нелепо было с моей стороны так
торопиться с замужеством. На примере Элизы я вижу, что и позже
могла бы найти мужа». (Поспешность изображена в ее
поведении при покупке билетов и в поведении невестки при по-
251
Зигмунд ФРЕЙД
купке украшений. Замужество замещено посещением
театра.) Это — главная мысль; может быть, мы могли бы
продолжать, но с меньшей уверенностью, потому что в этом месте
анализу незачем было бы отказываться от заявлений
видевшей сон: «За эти деньги я могла бы приобрести в 100 раз
лучшее!» (150 фл. в 100 раз больше 1 фл. 50 кр.). Если бы
мы могли деньги заменить приданым, то это означало бы,
что мужа покупают за приданое; муж заменен украшениями
и плохими билетами. Еще лучше было бы, если бы элемент
«три билета» имел какое-либо отношение к мужу. Но
наше понимание не идет так далеко. Мы только угадали, что
сновидение выражает пренебрежение к мужу и сожаление
о слишком раннем замужестве.
По моему мнению, результат этого первого толкования
сновидения нас больше поражает и смущает, чем
удовлетворяет. Слишком уж много на нас сразу свалилось, больше, с
чем мы в состоянии справиться. Мы уже замечаем, что не
сможем разобраться в том, что может быть поучительного в
этом толковании сновидения. Поспешим же извлечь то, что
мы узнали несомненно нового.
Во-первых, замечательно, что в скрытых мыслях главный
акцент падает на элемент поспешности; в явном сновидении
именно об этом ничего нет. Без анализа мы бы не могли
предположить, что этот момент играет какую-то роль. Значит
возможно, что как раз самое главное, то, что является
центром бессознательных мыслей, в явном сновидении
отсутствует. Благодаря этому совершенно меняется впечатление от
всего сновидения. Во-вторых, в сновидении имеется
абсурдное сопоставление три за 1 фл. 50 кр., в мыслях сновидения
мы угадываем фразу: нелепо было (так рано выходить
замуж). Можно ли отрицать, что эта мысль «нелепо было»
выражена в явном сновидении именно абсурдным
элементом? В-третьих, сравнение показывает, что отношение между
явными и скрытыми элементами не просто, оно состоит не
в том, что один явный элемент всегда замещает один
скрытый. Это скорее групповое отношение между обоими
лагерями, внутри которого один явный элемент представляется
несколькими скрытыми или один скрытый может замещаться
несколькими явными.
252
Введение о психоанализ
Что касается смысла сновидения и отношения к нему
видевшей сон, то об этом можно было бы тоже сказать
много удивительного. Правда, она признает толкование, но
поражается ему. Она не знала, что пренебрежительно
относится к своему мужу, она также не знает, почему она к нему
так относится. Итак, в этом еще много непонятного. Я
действительно думаю, что мы еще не готовы к толкованию
сновидений и нам надо сначала еще поучиться и подготовиться.
Восьмая лекция
Детские сновидения
Уважаемые дамы и господа! У нас возникло впечатление,
что мы слишком ушли вперед. Вернемся немного назад.
Прежде чем мы предприняли последнюю попытку
преодолеть с помощью нашей техники трудности искажения
сновидения, мы поняли, что лучше было бы ее обойти, взяв
такие сновидения, если они имеются, в которых искажение
отсутствует или оно очень незначительно. При этом мы
опять отойдем от истории развития наших знаний, потому
что в действительности на существование таких свободных
от искажения сновидений обратили внимание только после
последовательного применения техники толкования и
проведения анализа искаженных сновидений.
Сновидения, которые нам нужны, встречаются у детей.
Они кратки, ясны, не бессвязны, не двусмысленны, их легко
понять, и все-таки это сновидения. Но не думайте, что все
сновидения детей такого рода. И в детском возрасте очень
рано наступает искажение сновидений, записаны сновидения
пяти-восьмилетних детей, которые имеют все признаки более
поздних. Но если вы ограничитесь возрастом с начала
известной душевной деятельности до четвертого или пятого
года, то встретитесь с рядом сновидений, которые имеют так
называемый инфантильный характер, а затем отдельные
сновидения такого рода можно найти и в более поздние детские
годы. Даже у взрослых при определенных условиях бывают
сновидения, похожие на типично инфантильные.
253
Зигмунд ФРЕЙД
Используя эти детские сновидения, мы с легкостью и
уверенностью сделаем выводы о сущности сновидения,
которые, хотим надеяться, будут существенными и общими
[для всех сновидений].
1. Для понимания этих сновидений не требуется анализ
и использование нашей техники. Не надо и расспрашивать
ребенка, рассказывающего свое сновидение. Достаточно
немного дополнить сновидение сведениями из жизни ребенка.
Всегда имеется какое-нибудь переживание предыдущего дня,
объясняющее нам сновидение. Сновидение является
реакцией душевной жизни во сне на это впечатление дня.
Мы хотим предложить вам несколько примеров, чтобы
сделать еще некоторые выводы.
а) 22-месячный мальчик как поздравитель должен
преподнести корзину вишен. Он делает это с явной неохотой,
хотя ему обещают, что он сам получит несколько
вишен. Утром он рассказывает свой сон: Ге(р)ман съел все
вишни.
б) Девочка 3 l/i лет впервые катается на лодке по озеру.
Когда надо было выходить из лодки, она не хотела этого
сделать и горько расплакалась. Ей показалось, что время
прогулки прошло слишком быстро. На следующее утро она
сказала: Сегодня ночью я каталась по озеру. Мы могли бы
прибавить, что эта прогулка длилась дольше.
в) 5 1Д- летнего мальчика взяли с собой на прогулку в
Эшернталь близ Галлштатта. Он слышал, что Галлштатт
расположен у подножия Дахштейна. К этой горе он
проявлял большой интерес. Из своего дома в Аусзее он мог
хорошо видеть Дахштейн, а в подзорную трубу можно было
разглядеть на нем Симонигютте. Ребенок не раз пытался
увидеть ее в подзорную трубу, неизвестно, с каким успехом.
Прогулка началась в настроении радостного ожидания. Как
только появлялась какая-нибудь новая гора, мальчик
спрашивал: это Дахштейн? Чем чаще он получал отрицательный
ответ, тем больше расстраивался, потом совсем замолчал и
не захотел даже немного пройти к водопаду. Думали, что он
устал, но на следующее утро он радостно рассказал: сегодня
ночью я видел во сне, что мы были на Симонигютте. Он
участвовал в прогулке, ожидая этого момента. О подробнос-
254
Введение в психоанализ
тях он только сказал, что уже слышал раньше: поднимаются
шесть часов вверх по ступенькам.
Этих трех сновидений достаточно, чтобы получить
нужные нам сведения.
2. Мы видим, что эти детские сновидения не
бессмысленны; это понятные, полноценные душевные акты.
Вспомните, что я говорил вам по поводу медицинского суждения
о сновидении: это то, что получается, когда не знающий
музыки беспорядочно перебирает клавиши пианино. Вы не
можете не заметить, как резко эти детские сновидения
противоречат такому пониманию. Но не слишком ли странно, что
ребенок в состоянии во сне переживать полноценные
душевные акты, тогда как взрослый довольствуется в том же
случае судорожными реакциями. У нас есть также все
основания предполагать, что сон ребенка лучше и глубже.
3. Эти сновидения лишены искажения, поэтому они не
нуждаются в толковании. Явное и скрытое сновидение
совпадают. Итак, искажение сновидения не есть проявление его
сущности. Смею предположить, что у вас при этом камень
свалился с души. Но частицу искажения сновидения,
определенное различие между явным содержанием сновидения
и его скрытыми мыслями мы после некоторого
размышления признаем и за этими сновидениями.
4. Детское сновидение является реакцией на
переживание дня, которое оставило сожаление, тоску, неисполненное
желание. Сновидение дает прямое, неприкрытое исполнение
этого желания. Вспомните теперь наши рассуждения о роли
физических раздражений, внешних и внутренних, как
нарушителей сна и побудителей сновидений. Мы узнали
совершенно достоверные факты по этому поводу, но таким
образом могли объяснить лишь небольшое число сновидений.
В этих детских сновидениях ничто не свидетельствует о
действии таких соматических раздражений; в этом мы не можем
ошибиться, так как сновидения совершенно понятны и в них
трудно чего-нибудь не заметить. Однако это не
заставляет нас отрицать происхождение сновидений от раздражений.
Мы только можем спросить, почему мы с самого начала
забыли, что, кроме физических, есть еще и душевные
раздражения, нарушающие сон? Мы ведь знаем, что эти волнения
255
Зигмунд ФРЕЙД
больше всего вызывают нарушение сна у взрослого человека,
мешая установить душевное состояние засыпания, падения
интереса к миру. Человеку не хочется прерывать жизнь, он
продолжает работу над занимающими его вещами и поэтому
не спит. Для ребенка таким мешающим спать раздражением
является неисполненное желание, на которое он реагирует
сновидением.
5. Отсюда мы кратчайшим путем приходим к
объяснению функции сновидения. Сновидение, будучи реакцией на
психическое раздражение, должно быть равнозначно
освобождению от этого раздражения, так что оно устраняется, а
сон может продолжаться. Как динамически осуществляется
это освобождение благодаря сновидению, мы еще не знаем,
но уже замечаем, что сновидение является не нарушителем
сна, как это ему приписывается, а оберегает его, устраняет
нарушения сна. Правда, нам кажется, что мы лучше спали
бы, если бы не было сновидения, но мы не правы; в
действительности без помощи сновидения мы вообще бы не
спали. Ему мы обязаны, что проспали хотя бы и так. Оно не
могло немного не помешать нам, подобно ночному сторожу,
который не может совсем не шуметь, прогоняя нарушителей
покоя, которые хотят разбудить нас шумом.
6. Главной характерной чертой сновидения является то,
что оно побуждается желанием, исполнение этого желания
становится содержанием сновидения. Другой такой же
постоянной чертой является то, что сновидение не просто
выражает мысль, а представляет собой галлюцинаторное
переживание исполнения желания. Я желала бы кататься по
озеру> гласит желание, вызывающее сновидение, содержание
сновидения: я катаюсь по озеру. Различие между скрытым и
явным сновидением, искажение скрытой мысли сновидения
остается и в этих простых детских сновидениях, и это —
превращение мысли в переживание. При толковании сновидения
надо прежде всего обнаружить именно это частичное
изменение. Если бы эта характерная черта оказалась общей всем
сновидениям, то приведенный выше фрагмент сновидения: я
вижу своего брата в ящике, — надо было бы понимать не как
«мой брат ограничивается», а как «я хотел бы, чтобы мой
брат ограничился, мой брат должен ограничиться». Очевид-
256
Введение в психоанализ
но, что из двух приведенных характерных черт сновидения
у второй больше шансов быть признанной без возражений,
чем у первой. Только многочисленные исследования могут
установить, что возбудителем сновидения должно быть
всегда желание, а не опасение, намерение или упрек, но другая
характерная черта, которая заключается в том, что
сновидение не просто передает это раздражение, а прекращает,
устраняет, уничтожает его при помощи особого рода
переживания, остается непоколебимой.
7. Исходя из этих характерных черт сновидения, мы
можем опять вернуться к сравнению сновидения с ошибочным
действием. В последнем мы различали нарушающую и
нарушенную тенденцию, а ошибочное действие было
компромиссом между обеими. Та же самая схема подходит и для
сновидения. Нарушенной тенденцией в ней может быть
желание спать. Нарушающую тенденцию мы заменяем
психическим раздражением, то есть желанием, которое стремится
к своему исполнению, так как до сих пор мы не видели
никакого другого психического раздражения, нарушающего
сон. И здесь сновидение является результатом компромисса.
Спишь, но переживаешь устранение желания;
удовлетворяешь желание и продолжаешь спать. И то и другое отчасти
осуществляется, отчасти нет.
8. Вспомните, как мы пытались однажды найти путь к
пониманию сновидений исходя из очень понятных
образований фантазии, так называемых «снов наяву». Эти сны
наяву действительно являются исполнением желаний,
честолюбивых и эротических, которые нам хорошо известны, но
они мысленные, и хотя живо представляются, но никогда не
переживаются галлюцинаторно. Таким образом, из двух
характерных черт сновидения здесь остается менее
достоверная, в то время как вторая, зависящая от состояния сна и
не реализуемая в бодрствовании, совершенно отпадает. И в
языке есть также намек на то, что исполнение желания
является основной характерной чертой сновидения. Между
прочим, если переживание в сновидении является только
превращенным представлением, т.е. «ночным сном наяву»,
возможным благодаря состоянию сна, то мы уже понимаем,
что процесс образования сновидения может устранить ноч-
9-3518
257
Зигмунд ФРЕЙД
ное раздражение и принести удовлетворение, потому что и
сны наяву являются деятельностью, связанной с
удовлетворением, и ведь только из-за этого им и отдаются.
Не только это, но и другие общеупотребительные
выражения имеют тот же смысл. Известные поговорки
утверждают: свинье снится желудь, гусю — кукуруза; или
спрашивают: что видит во сне курица? Просо. Поговорка идет,
следовательно, дальше, чем мы, — от ребенка к животному — и
утверждает, что содержание сна является удовлетворением
потребности. Многие выражения, по-видимому,
подтверждают это, например: «прекрасно, как во сне», «этого и во сне
не увидишь», «я бы не мог себе это представить даже в самом
необычайном сне». Употребление в языке таких
выражений, очевидно, говорит в нашу пользу. Правда, есть
страшные сновидения и сновидения с неприятным или
безразличным содержанием, но их словоупотребление и не коснулось.
Хотя мы и говорим о «дурных» снах, но для нашего языка
сновидение все равно остается только исполнением желания.
Нет ни одной поговорки, которая бы утверждала, что свинья
или гусь видели во сне, как их закалывают.
Конечно, немыслимо, чтобы столь характерная черта
сновидения, выражающаяся в исполнении желания, не была бы
замечена авторами, писавшими о сновидениях. Это
происходило очень часто, но ни одному из них не пришло в
голову признать ее общей характерной чертой и считать это
ключевым моментом в объяснении сновидений. Мы можем
себе хорошо представить, что их могло от этого удерживать,
и еще коснемся этого вопроса.
Но посмотрите, сколько сведений мы получили из
высоко оцененных нами детских сновидений и почти без труда.
Функция сновидения как стража сна, его возникновение из
двух конкурирующих тенденций, из которых одна остается
постоянной — желание сна, а другая стремится
удовлетворить психическое раздражение; доказательство, что
сновидение является осмысленным психическим актом; обе его
характерные черты: исполнение желания и галлюцинаторное
переживание. И при этом мы почти забыли, что занимаемся
психоанализом. Кроме связи с ошибочными действиями в
нашей работе не было ничего специфического. Любой пси-
258
Введение в психоанализ
холог, ничего не знающий об исходных предположениях
психоанализа, мог бы дать это объяснение детских
сновидений. Почему же никто этого не сделал?
Если бы все сновидения были такими же, как детские, то
проблема была бы решена, наша задача выполнена, и не
нужно было бы расспрашивать видевшего сон, привлекать
бессознательное и пользоваться свободной ассоциацией. Но в
этом-то, очевидно, и состоит наша дальнейшая задача. Наш
опыт уже не раз показывал, что характерные черты, которые
считаются общими, подтверждаются затем только для
определенного вида и числа сновидений. Речь, следовательно,
идет о том, остаются ли в силе открытые благодаря детским
сновидениям общие характерные черты, годятся ли они для
тех неясных сновидений, явное содержание которых не
обнаруживает отношения к какому-то оставшемуся желанию.
Мы придерживаемся мнения, что эти другие сновидения
претерпели глубокое искажение, и поэтому о них нельзя
судить сразу. Мы также предполагаем, что для их объяснения
необходима психоаналитическая техника, которая не была
нам нужна для понимания детских сновидений.
Имеется, впрочем, еще один класс неискаженных
сновидений, в которых, как и в детских, легко узнать исполнение
желания. Это те, которые вызываются в течение всей жизни
императивными потребностями тела: голодом, жаждой,
сексуальной потребностью, т. е. являются исполнением желаний
как реакции на внутренние соматические раздражения. Так,
я записал сновидение 19-месячной девочки, которое
состояло из меню с прибавлением ее имени (Анна Ф., земляника,
малина, яичница, каша). Сновидение явилось реакцией на
день голодовки из-за расстройства пищеварения, вызванного
как раз двумя упомянутыми ягодами. В то же время и
бабушка, возраст которой вместе с возрастом внучки составил
семьдесят лет, вследствие беспокойства из-за блуждающей
почки должна была целый день голодать, и в ту же ночь ей
снилось, что ее пригласили в гости и угощают самыми
лучшими лакомствами. Наблюдения за заключенными, которых
заставляют голодать, и за лицами, терпящими лишения в
путешествиях и экспедициях, свидетельствуют о том, что в
этих условиях они постоянно видят во сне удовлетворение
259
Зигмунд ФРЕЙД
этих потребностей. Так Отто Норденшельд в своей книге
«Антарктика» (1904) сообщает о зимовавшей с ним команде
(т. 1, с. 366 и ел.): «О направленности наших сокровеннейших
мыслей очень ясно говорили наши сновидения, которые
никогда прежде не были столь ярки и многочисленны. Даже те
наши товарищи, которые видели сны в исключительных
случаях, теперь по утрам, когда мы обменивались своими
переживаниями из этого фантастического мира, могли
рассказывать длинные истории. Во всех них речь шла о том внешнем
мире, который был теперь так далек от нас, но часто они
имели отношение и к нашим тогдашним условиям... Еда и
питье были центром, вокруг которого чаще всего вращались
наши сновидения. Один из нас, который особенно часто
наслаждался грандиозными ночными пирами, был от души рад,
если утром мог сообщить, „что съел обед из трех блюд";
другой видел во сне табак, целые горы табаку; третьи — корабль,
на всех парусах приближающийся из открытого моря.
Заслуживает упоминания еще одно сновидение: является
почтальон с почтой и длинно объясняет, почему ее пришлось так
долго ждать, он неправильно ее сдал, и ему с большим
трудом удалось получить ее обратно. Конечно, во время сна нас
занимали еще более невозможные вещи, но почти во всех
сновидениях, которые видел я сам или о которых слышал,
поражает бедность фантазии. Если бы все эти сновидения
были записаны, это, несомненно, представило бы большой
психологический интерес. Но легко понять, каким желанным
был для нас сон, потому что он мог дать нам все, чего
каждый больше всего желал». Цитирую еще по Дю Прелю (1885,
231): «Мунго Парк, погибавший от жажды во время
путешествия по Африке, беспрерывно видел во сне многоводные
долины и луга своей родины. Так и мучимый голодом Тренк
видел себя во сне в Sternschanze в Магдебурге, окруженным
роскошными обедами, а Георг Бакк, участник первой
экспедиции Франклина, когда вследствие невыносимых лишений
был близок к голодной смерти, постоянно видел во сне
обильные обеды».
Тому, кто за ужином ест острую пищу, вызывающую
жажду, легко может присниться, что он пьет. Разумеется,
невозможно удовлетворить сильную потребность в еде или
260
Введение в психоанализ
питье при помощи сновидения; от таких сновидений
просыпаешься с чувством жажды и напиваешься воды
по-настоящему. Достижение сновидения в этом случае практически
незначительно, но не менее очевидно, что оно возникло с
целью не допустить раздражение, заставляющее проснуться
и действовать. При незначительной силе этих потребностей
сны, приносящие удовлетворение, часто вполне помогают.
Точно так же сновидение дает удовлетворение
сексуальных раздражений, но оно имеет особенности, о которых
стоит упомянуть. Вследствие особого свойства сексуального
влечения в меньшей степени зависеть от объекта, чем при
голоде и жажде, удовлетворение в сновидении с поллюциями
может быть реальным, а из-за определенных трудностей в
отношениях с объектом, о чем мы скажем позже, очень часто
реальное удовлетворение связано с неясным или
искаженным содержанием сновидения. Эта особенность сновидения
с поллюциями делает их, как заметил О. Ранк (1912а),
удобными объектами для изучения искажения сновидения.
Впрочем, все сновидения взрослых, связанные с удовлетворением
потребности, кроме удовлетворения, содержат многое другое,
что происходит из чисто психических источников
раздражения и для своего понимания нуждается в толковании.
Впрочем, мы не хотим утверждать, что образуемые по
типу детских сновидения взрослых с исполнением желания
являются только реакциями на так называемые императивные
потребности. Нам известны также короткие и ясные
сновидения такого типа под воздействием определенных
доминирующих ситуаций, источниками которых являются,
несомненно, психические раздражения. Таковы, например,
сновидения, [выражающие] нетерпение, когда кто-то готовится к
путешествию, важной для него выставке, докладу, визиту и
видит заранее во сне исполнение ожидаемого, т. е. ночью еще
до настоящего события достигает цели, видит себя в театре,
беседует в гостях. Или так называемые «удобные»
сновидения, когда кто-то, желая продлить сон, видит, что он уже
встал, умывается или находится в школе, в то время как в
действительности продолжает спать, т.е. предпочитает
вставать во сне, а не в действительности. Желание спать, по
нашему мнению, постоянно принимающее участие в образова-
261
Зигмунд ФРЕЙД
нии сновидения, явно проявляется в этих сновидениях как
существенный фактор образования сновидения. Потребность
во сне с полным правом занимает место в ряду других
физических потребностей.
На примере репродукции картины Швинда из Шаккга-
лереи в Мюнхене я покажу вам, как правильно понял
художник возникновение сновидения по доминирующей
ситуации. Это «Сновидение узника», содержание которого не
что иное, как его освобождение. Примечательно, что
освобождение должно осуществиться через окно, потому что
через окно проникает световое раздражение, от которого узник
просыпается. Стоящие друг за другом гномы представляют
его собственные последовательные положения при попытке
вылезти вверх к окну и, если я не ошибаюсь и не
приписываю намерению художника слишком многого, стоящий
выше всех гном, который перепиливает решетку, т. е. делает то,
что хотел бы сделать сам узник, имеет его черты лица.
Во всех других сновидениях, кроме детских и указанных,
инфантильных по своему типу, как сказано, искажение
воздвигает на нашем пути преграды. Мы пока еще не можем
сказать, являются ли и они исполнением желания, как мы
предполагаем; из их явного содержания мы не знаем, какому
психическому раздражению они обязаны своим
происхождением, и мы не можем доказать, что они также стремятся
устранить это раздражение. Они, вероятно, должны быть
истолкованы, т.е. переведены, их искажение надо устранить,
явное содержание заменить скрытым, прежде чем сделать
вывод, что открытое нами в детских сновидениях
подтверждается для всех сновидений.
Девятая лекция
Цензура сновидения
Уважаемые дамы и господа! Мы познакомились с
возникновением, сущностью и функцией сновидения, изучая
сновидения детей. Сновидения являются устранением
нарушающих сон (психических) раздражений путем галлюцина-
262
Введение а психоанализ
торного удовлетворения. Правда, из сновидений взрослых
мы смогли объяснить только одну группу, которую мы
назвали сновидениями инфантильного типа. Как обстоит дело
с другими сновидениями, мы пока не знаем, мы также и не
понимаем их. Пока мы получили результат, значение
которого не хотим недооценивать. Всякий раз, когда сновидение
нам абсолютно понятно, оно является галлюцинаторным
исполнением желания. Такое совпадение не может быть
случайным и незначительным.
Исходя из некоторых соображений и по аналогии с
пониманием ошибочных действий мы предполагаем, что
сновидение другого рода является искаженным заместителем
для неизвестного содержания и только им должно
объясняться. Исследование, понимание этого искажения
сновидения и является нашей ближайшей задачей.
Искажение сновидения — это то, что нам кажется в нем
странным и непонятным. Мы хотим многое узнать о нем:
во-первых, откуда оно берется, его динамизм, во-вторых, что
оно делает и, наконец, как оно это делает. Мы можем также
сказать, что искажение сновидения — это продукт работы
сновидения. Мы хотим описать работу сновидения и указать
на действующие при этом силы.
А теперь выслушайте пример сновидения. Его записала
дама нашего круга1, по ее словам, оно принадлежит одной
почтенной высокообразованной престарелой даме. Анализ
этого сновидения не был произведен. Наша референтка
замечает, что для психоаналитика оно не нуждается в толковании.
Сама видевшая сон его не толковала, но она высказала о нем
свое суждение, как будто она сумела бы его истолковать. Вот
как она высказалась о нем: и такая отвратительная глупость
снится женщине 50 лет, которая день и ночь не имеет других
мыслей, кроме заботы о своем ребенке.
А вот и сновидение о «любовной службе». Юна
отправляется в гарнизонный госпиталь № 1 и говорит часовому у
ворот, что ей нужно поговорить с главным, врачом (она
называет незнакомое ей имя), так как она хочет поступить на
службу в госпиталь. При этом она так подчеркивает слово
1 Госпожа л-р фон Гуг-Гелльмут (1915).
263
Зигмунд ФРЕЙД
„служба", что унтер-офицер тотчас догадывается, что речь
идет о любовной службе". Так как она старая женщина, то
он пропускает ее после некоторого колебания. Но вместо
того, чтобы пройти к главному врачу, она попадает в большую
темную комнату, где вокруг длинного стола сидит и стоит
много офицеров и военных врачей. Она обращается со своим
предложением к какому-то штабному врачу, который
понимает ее с нескольких слов. Дословно ее речь во сне следующая:
,Я и многие другие женщины и молодые девушки Вены готовы
солдатам, рядовым и офицерам без различия..." Здесь в
сновидении следует какое-то бормотание. Но то, что ее
правильно поняли, видно по отчасти смущенному, отчасти
лукавому выражению лиц офицеров. Дама продолжает: ,Я знаю,
что наше решение несколько странно, но оно для нас
чрезвычайно серьезно. Солдата на поле боя тоже не спрашивают,
хочет он умирать или нет». Следует минутное мучительное
молчание. Штабной врач обнимает ее за талию и говорит:
«Милостивая государыня, представьте себе, что дело
действительно дошло бы до... (бормотание)". Она освобождается
от его объятий с мыслью: „Все они одинаковы" — и
возражает: „Господи, я старая женщина и, может быть, не окажусь
в таком положении. Впрочем, одно условие должно быть
соблюдено: учет возраста; чтобы немолодая дама совсем
молодому парню... (бормотание); это было бы ужасно". Штабной
врач: ,Я прекрасно понимаю". Некоторые офицеры, и среди
них тот, кто сделал ей в молодости предложение, громко
смеются, и дама желает, чтобы ее проводили к знакомому
главному врачу для окончательного выяснения. При этом, к
великому смущению, ей приходит в голову, что она не знает его
имени. Штабной врач тем временем очень вежливо
предлагает ей подняться на верхний этаж по узкой железной
винтовой лестнице, которая ведет прямо из комнаты на верхние
этажи. Поднимаясь, она слышит, как один офицер говорит:
„Это колоссальное решение, безразлично, молодая или старая;
нужно отдать должное ". С чувством, что просто выполняет
свой долг, она поднимается по бесконечной лестнице».
Это сновидение повторяется на протяжении нескольких
недель еще два раза с совершенно незначительными и
довольно бессмысленными изменениями, как замечает дама.
264
Введение в психоанализ
В своем течении сновидение соответствует дневной
фантазии: в нем мало перерывов, некоторые частности в его
содержании могли бы быть разъяснены расспросами, чего, как вы
знаете, не было. Но самое замечательное и интересное для нас
то, что в сновидении есть несколько пропусков, пропусков не
в воспоминании, а в содержании. В трех местах содержание
как бы стерто; речи, в которых имеются пропуски,
прерываются бормотанием. Так как мы не проводили анализа, то,
строго говоря, не имеем права что-либо говорить о смысле
сновидения. Правда, в нем есть намеки, из которых можно кое-что
заключить, например, выражение «любовная служба», но
части речи, непосредственно предшествующие бормотанию,
требуют прежде всего дополнений, которые могут иметь один
смысл. Если мы их используем, то получится фантазия такого
содержания, что видевшая сон готова, исполняя
патриотический долг, предоставить себя для удовлетворения любовных
потребностей военных, как офицеров, так и рядовых. Это,
безусловно, совершенно неприлично, образец дерзкой либидоз-
ной фантазии, но в сновидении этого вовсе нет. Как раз там,
где ход мыслей привел бы к этому признанию, в явном
сновидении неясное бормотание, что-то утрачено или подавлено.
Вы согласитесь, надеюсь, что именно неприличие этих
мест было мотивом для их подавления. Где, однако, найти
аналогию этому случаю? В наши дни вам не придется ее
долго искать. Возьмите какую-нибудь политическую газету,
и вы найдете, что в нескольких местах текст изъят, на его
месте светится белая бумага. Вы знаете, что это дело
газетной цензуры. На этих пустых местах было что-то, что не
понравилось высоким цензурным властям и поэтому было
удалено. Вы думаете, как жаль, это было, может быть, самое
интересное, «самое лучшее место».
В других случаях цензура оказывает свое действие не на
готовый текст. Автор предвидел, какие высказывания могут
вызвать возражения цензуры, и предусмотрительно смягчил
их, слегка изменил или удовольствовался намеками и
неполным изложением того, что хотел сказать. Тогда в газете
нет пустых мест, а по некоторым намекам и неясностям
выражения вы можете догадаться, что требования цензуры уже
заранее приняты во внимание.
265
Зигмунд ФРЕЙД
Будем придерживаться этого сравнения. Мы утверждаем,
что пропущенные, скрытые за бормотанием слова
сновидения принесены в жертву цензуре. Мы прямо говорим о
цензуре сновидения, которой следует приписать известное
участие в искажении сновидения. Везде, где в явном сновидении
есть пропуски, в них виновата цензура сновидения. Нам
следовало бы пойти еще дальше и считать, что действие цензуры
сказывается каждый раз там, где элемент сновидения
вспоминается особенно слабо, неопределенно и с сомнением по
сравнению с другими, более ясными элементами. Но цензура
редко проявляется так откровенно, так, хотелось бы сказать,
наивно, как в примере сновидения о «любовной службе».
Гораздо чаще цензура проявляется по второму типу,
подставляя на место того, что должно быть, смягченное,
приблизительное, намекающее.
Третий способ действия цензуры нельзя сравнить с
приемами газетной цензуры; но я могу продемонстрировать его
на уже проанализированном примере сновидения.
Вспомните сновидение с «тремя плохими билетами в театр за 1 фл.
50 кр.». В скрытых мыслях этого сновидения на первом
месте был элемент «поспешно, слишком рано». Это означало:
нелепо было так рано выходить замуж, также бессмысленно
было покупать так рано билеты в театр, смешно было со
стороны невестки так поспешно истратить деньги на
украшения. От этого центрального элемента сновидения ничего
не осталось в явном сновидении; в нем центр тяжести
переместился на посещение театра и покупку билетов. Благодаря
этому смещению акцента, этой перегруппировке элементов
содержания явное сновидение становится настолько
непохожим на скрытые мысли сновидения, что мы и не
подозреваем о наличии этих последних за первым. Это
смещение акцента является главным средством искажения
сновидения и придает сновидению ту странность, из-за которой
видевший сон сам не хотел бы признать его за собственный
продукт.
Пропуск, модификация, перегруппировка материала —
таковы действия цензуры сновидения и средства его искажения.
Сама цензура сновидения является причиной или одной из
причин искажения сновидения, изучением которого мы те-
266
Введение в психоанализ
перь займемся. Модификацию и перегруппировку мы
привыкли называть «смещением» (Verschiebung).
После этих замечаний о действии цензуры сновидения
обратимся к вопросу о ее динамизме. Надеюсь, вы не
воспринимаете выражение слишком антропоморфно и не
представляете себе цензора сновидения маленьким строгим
человечком или духом, поселившимся в мозговом желудочке
и оттуда управляющим делами, но не связываете его также
и с пространственным представлением о каком-то
«мозговом центре», оказывающем такое цензурирующее влияние,
которое прекратилось бы с нарушением или удалением
этого центра. Пока это не более чем весьма удобный термин
для обозначения динамического отношения. Это слово не
мешает нам задать вопрос, какие тенденции и на какие
элементы сновидения оказывают это влияние, мы не удивимся
также, узнав, что раньше уже сталкивались с цензурой
сновидения, может быть, не узнав ее.
А это было действительно так. Вспомните, с каким
поразительным фактом мы встретились, когда начали применять
нашу технику свободной ассоциации. Мы почувствовали
тогда, что наши усилия перейти от элемента сновидения к его
бессознательному, заместителем которого он является,
натолкнулись на сопротивление. Мы говорили, что это
сопротивление различается по своей величине, в одних случаях
оно огромно, в других незначительно. В последнем случае
для работы толкования нужно было только несколько
промежуточных звеньев, но если оно было велико, тогда мы
должны были анализировать длинные цепочки ассоциаций
от элемента, далеко уходили бы от него и вынуждены были
бы преодолевать много трудностей в виде критических
возражений против этих ассоциаций. То, что при толковании
проявляется как сопротивление, теперь в работе сновидения
выступает его цензурой. Сопротивление толкованию — это
только объективация цензуры сновидения. Оно доказывает
нам, что сила цензуры не исчерпывается внесением в
сновидение искажения и после этого не угасает, но что она как
постоянно действующая сила продолжает существовать,
стремясь сохранить искажение. Кстати, как и сопротивление при
толковании каждого элемента меняется по своей силе, так
267
Зигмунд ФРЕЙД
и внесенное цензурой искажение в одном и том же
сновидении различно для каждого элемента. Если сравнить явное и
скрытое сновидения, то обнаружится, что отдельные скрытые
элементы полностью отсутствуют, другие более или менее
модифицированы, а третьи остались без изменений и даже,
может быть, усилены в явном содержании сновидения.
Но мы собирались исследовать, какие тенденции
осуществляют цензуру и против чего она направлена. На этот вопрос,
имеющий важнейшее значение для понимания сновидения и
даже, может быть, всей жизни человека, легко ответить,
если просмотреть ряд истолкованных сновидений. Тенденции,
осуществляющие цензуру, — те, которые признаются
видевшим сон в бодрствующем состоянии, с которыми он
согласен. Будьте уверены, что если вы отказываетесь от вполне
правильного толкования собственного сновидения, то вы
поступаете по тем же мотивам, по которым действовала
цензура сновидения, произошло искажение и стало необходимо
толкование. Вспомните о сновидении нашей 50-летней дамы.
Без толкования она считает его отвратительным, была бы
еще больше возмущена, если бы д-р фон Гуг-Гелльмут
сообщила ей что-то необходимое для толкования, и именно из-за
этого осуждения в ее сновидении самые неприличные места
заменены бормотанием.
Однако тенденции, против которых направлена цензура
сновидения, следует сначала описать по отношению к этой
последней. Тогда можно только сказать, что они по своей
природе безусловно достойны осуждения, неприличны в
этическом, эстетическом, социальном отношении, это явления,
о которых не смеют думать или думают только с
отвращением. Эти отвергнутые цензурой и нашедшие в сновидении
искаженное выражение желания являются прежде всего
проявлением безграничного и беспощадного эгоизма. И
действительно, собственное Я появляется в любом сновидении
и играет в нем главную роль, даже если это умело скрыто в
явном содержании. Этот «sacro egoismo\ сновидения,
конечно, связан с установкой на сон, которая состоит в падении
интереса ко всему внешнему миру.
Священный эгоизм. — Примеч. пер.
268
Введение в психоанализ
Свободное от всех этических уз Я идет навстречу всем
притязаниям сексуального влечения, в том числе и таким,
которые давно осуждены нашим эстетическим воспитанием
и противоречат всем этическим ограничительным
требованиям. Стремление к удовольствию — либидо (Libido), как мы
говорим, — беспрепятственно выбирает свои объекты и
охотнее всего именно запретные. Не только жену другого, но
прежде всего инцестуозные, свято охраняемые человеческим
обществом объекты, мать и сестру со стороны мужчины, отца
и брата со стороны женщины. (Сновидение нашей 50-летней
дамы тоже инцестуозно, ее либидо, несомненно, направлено
на сына.) Вожделения, которые кажутся нам чуждыми
человеческой природе, оказываются достаточно сильными, чтобы
вызвать сновидения. Безудержно может проявляться также
ненависть. Желания мести и смерти самым близким и
любимым в жизни — родителям, братьям и сестрам, супругу
или супруге, собственным детям — не являются ничем
необычным. Эти отвергнутые цензурой желания как будто бы
поднимаются из настоящего ада; в бодрствующем состоянии
после толкования никакая цензура против них не кажется
нам достаточно строгой.
Но не ставьте это страшное содержание в вину самому
сновидению. Не забывайте, что оно имеет безобидную, даже
полезную функцию оградить сон от нарушения. Такая
низость не имеет отношения к сущности сновидения. Вы ведь
знаете также, что есть сновидения, которые, следует
признать, удовлетворяют оправданные желания и насущные
физические потребности. Но в этих сновидениях нет
искажения; они в нем не нуждаются, они могут выполнять свою
функцию, не оскорбляя этических и эстетических тенденций
Я. Примите также во внимание, что искажение сновидения
зависит от двух факторов. С одной стороны, оно тем больше,
чем хуже отвергаемое цензурой желание, но с другой — чем
строже в это время требования цензуры. Поэтому у молодой,
строго воспитанной, щепетильной девушки неумолимая
цензура исказит побуждения сновидения, которые, например,
мы, врачи, считаем дозволенными, безобидными либидозны-
ми желаниями и которые она сама десять лет спустя сочтет
такими же.
269
Зигмунд ФРЕЙД
Впрочем, мы еще далеки от того, чтобы возмущаться этим
результатом нашего толкования. Я полагаю, что мы его еще
недостаточно хорошо понимаем; но прежде всего перед нами
стоит задача защитить его от известных нападок. Совсем
нетрудно найти для этого зацепку. Наши толкования
сновидений производились с учетом объявленных заранее
предположений, что сновидение вообще имеет смысл, что
бессознательные в какое-то время душевные процессы существуют не
только при гипнотическом, но и при нормальном сне и что
все возникающие по поводу сновидения мысли
детерминированы. Если бы на основании этих предположений мы
пришли к приемлемым результатам толкования сновидений, то
по праву могли бы заключить, что эти предположения
правильны. Но как быть, если эти результаты выглядят так, как
только что описанные? Тогда можно было бы сказать: это
невозможные, бессмысленные результаты, по меньшей мере,
они весьма невероятны, так что в предположениях было что-
то неправильно. Или сновидение не психический феномен,
или в нормальном состоянии нет ничего бессознательного,
или наша техника в чем-то несовершенна. Не проще и не
приятнее ли предположить это, чем признать все те
мерзости, которые мы будто бы открыли на основании наших
предположений?
И то и другое! И проще, и приятнее, но из-за этого не
обязательно правильнее. Не будем спешить, вопрос еще не
решен. Прежде всего, мы можем усилить критику наших
толкований сновидений. То, что их результаты так неприятны
и неаппетитны, может быть, еще не самое худшее. Более
сильным аргументом является то, что видевшие сон
решительнейшим образом и с полным основанием отвергают
желания, которые мы им приписываем благодаря нашему
толкованию. «Что? — говорит один.— Основываясь на
сновидении, вы хотите доказать, что мне жаль денег на приданое
сестры и воспитание брата? Но ведь этого не может быть; я
только для них и работаю, у меня нет других интересов в
жизни, кроме выполнения моего долга перед ними, — как
старший, я обещал это покойной матери». Или дама,
видевшая сон, говорит: «Я желаю смерти своему мужу? Да ведь
это возмутительная нелепость! Вы мне, вероятно, не повери-
270
Введение в психоанализ
те, что у нас не только самый счастливый брак, но его смерть
отняла бы у меня все, что я имею в жизни». Или третий
возразит нам: «Я должен испытывать чувственные желания
к своей сестре? Это смешно; я на нее не обращаю никакого
внимания, у нас плохие отношения друг с другом, и я в
течение многих лет не обменялся с ней ни словом». Мы
могли бы с легкостью отнестись к тому, что видевшие сон не
подтверждают или отрицают приписываемые им намерения;
мы могли бы сказать, что именно об этих вещах они и не
знают. Но то, что они чувствуют в себе как раз
противоположное тому желанию, которое приписывает им толкование,
и могут доказать нам преобладание этого противоположного
своим образом жизни, это нас наконец озадачивает. Не
бросить ли теперь всю эту работу по толкованию сновидений,
поскольку ее результаты вроде бы и привели к абсурду?
Нет, все еще нет. И этот более сильный аргумент
окажется несостоятельным, если к нему подойти критически.
Предположение, что в душевной жизни есть бессознательные
тенденции, еще не доказательство, что противоположные им
являются господствующими в сознательной жизни. Возможно,
что в душевной жизни есть место для противоположных
тенденций, для противоречий, которые существуют рядом друг
с другом; возможно даже, что как раз преобладание одного
побуждения является условием бессознательного
существования его противоположности. Итак, выдвинутые вначале
возражения, что результаты толкования сновидений не
просты и очень неприятны, остаются в силе. На первое
можно возразить, что, мечтая о простоте, вы не сможете решить
ни одной проблемы сновидения; вы должны примириться с
предполагаемой сложностью отношений. А на второе — что
вы явно не правы, используя в качестве обоснования для
научного суждения испытываемое вами чувство
удовольствия или отвращения. Что нам за дело до того, что результаты
толкования кажутся вам неприятными, даже позорными и
противными? Ça n'empêche pas d'exister\— слышал я в таких
случаях молодым врачом от своего учителя Шарко.
Приходится смириться со своими симпатиями и антипатиями, если
Это нс мешает тому, чтобы было так (фр.). — Примеч. пер.
271
Зигмунд ФРНЙД
хочешь знать, что в этом мире реально. Если какой-нибудь
физик докажет вам, что в скором будущем органическая
жизнь на земле прекратится, посмеете ли вы ему возразить:
этого не может быть, эта перспектива слишком неприятна?
Я думаю, что вы промолчите или подождете, пока явится
другой физик и укажет на ошибку в его предположениях или
расчетах. Если вы отстраняете от себя то, что вам неприятно,
то вы, по меньшей мере, действуете, как механизм
образования сновидения, вместо того чтобы понять его и овладеть им.
Может быть, вы согласитесь тогда не обращать внимания
на отвратительный характер отвергнутых цензурой желаний,
а выдвинете довод, что просто невероятно, чтобы в
конституции человека столько места занимало зло. Но дает ли вам ваш
опыт право так говорить? Я не хочу говорить о том, какими
вы кажетесь сами себе, но много ли вы нашли
благосклонности у своего начальства и конкурентов, много ли рыцарства у
своих врагов и мало ли зависти в своем обществе, чтобы
чувствовать себя обязанным выступать против эгоистически
злого в человеческой природе? Разве вам неизвестно, как плохо
владеет собой и как мало заслуживает доверия средний
человек во всех областях сексуальной жизни? Или вы не знаете,
что все злоупотребления и бесчинства, которые нам снятся
ночью, ежедневно совершаются бодрствующими людьми как
действительные преступления? В данном случае психоанализ
только подтверждает старое изречение Платона, что добрыми
являются те, которые довольствуются сновидениями о том,
что злые делают в действительности.
А теперь отвлекитесь от индивидуального и перенесите
свой взор на великую войну, которая все еще опустошает
Европу, подумайте о безграничной жестокости, свирепости и
лживости, которые сейчас широко распространились в
культурном мире. Вы действительно думаете, что кучке
бессовестных карьеристов и соблазнителей удалось бы сделать
столько зла, если бы миллионы идущих за вожаками не были
соучастниками преступления? Решитесь ли вы и при этих
условиях ломать копья за исключение злого из душевной
конституции человека?
Вы мне возразите, что я односторонне сужу о войне; она
обнаружила самое прекрасное и благородное в людях, их
272
введение в психоанализ
геройство, самоотверженность, социальное чувство.
Конечно, но не будьте столь же несправедливы к психоанализу,
как те, кто упрекает его в том, что он отрицает одно, чтобы
утверждать другое. Мы не собирались отрицать благородные
стремления человеческой природы и ничего никогда не
делали, чтобы умалить их значимость. Напротив, я показываю
вам не только отвергнутые цензурой злые желания
сновидения, но и цензуру, которая их подавляет и делает
неузнаваемыми. Мы подчеркиваем злое в человеке только потому,
что другие отрицают его, отчего душевная жизнь человека
становится хотя не лучше, но непонятнее. Если мы
откажемся от односторонней этической оценки, то, конечно, можем
найти более правильную форму соотношения злого и
доброго в человеческой природе.
Итак, все остается по-прежнему. Нам не нужно
отказываться от результатов нашей работы по толкованию
сновидений, хотя они и кажутся нам странными. А пока запомним:
искажение сновидения является следствием цензуры,
которая осуществляется признанными тенденциями Я против
неприличных побуждений, шевелящихся в нас ночью во время
сна. Правда, почему ночью и откуда берутся эти недостойные
желания, в этом еще много непонятного, что предстоит
исследовать.
Но с нашей стороны было бы несправедливо, если бы мы
не выделили в достаточной мере другой результат этих
исследований. Желания сновидения, которые нарушают наш
сон, нам неизвестны, мы узнаем о них только из толкования
сновидений; их можно поэтому назвать бессознательными в
данное время в указанном выше смысле. Видевший сон
отвергает их, как мы видели во многих случаях, после того как
узнал о них благодаря толкованию. Повторяется случай, с
которым мы встретились при толковании оговорки
«aufstoßen», когда оратор возмущенно уверял, что ни тогда, ни
когда-либо раньше он не испытывал непочтительного чувства
к своему шефу. Уже тогда мы сомневались в таком
заверении и выдвинули вместо него предположение, что оратор
долго ничего не знал об имеющемся чувстве. Теперь это
повторяется при всяком толковании сильно искаженного
сновидения и тем самым приобретает большое значение для
273
Зигмунд ФРЕЙД
подтверждения нашей точки зрения. Мы готовы
предположить, что в душевной жизни есть процессы, тенденции, о
которых человек вообще ничего не знает, очень давно ничего
не знает, возможно, никогда ничего не знал. Благодаря
этому бессознательное получает для нас новый смысл; понятие
«в данное время» или «временно» исчезает из его сущности,
оно может также означать длительно бессознательное, а не
только «скрытое на данное время». Об этом нам, конечно,
тоже придется поговорить в другой раз.
Десятая лекция
Символика сновидения
Уважаемые дамы и госиода! Мы убедились, что
искажение, которое мешает нам понять сновидение, является
следствием деятельности цензуры, направленной против
неприемлемых, бессознательных желаний. Но мы, конечно, не
утверждаем, что цензура является единственным фактором,
вызывающим искажение сновидения, и в дальнейшем мы
действительно можем установить, что в этом искажении
участвуют и другие моменты. Этим мы хотим сказать, что,
если цензуру сновидения можно было бы исключить, мы все
равно были бы не в состоянии понять сновидения, явное
сновидение не было бы идентично скрытым его мыслям.
Этот другой момент, затемняющий сновидение, этот
новый фактор его искажения мы откроем, если обратим
внимание на изъян нашей техники. Я уже признавался вам, что
анализируемым иногда действительно ничего не приходит в
голову по поводу отдельных элементов сновидения. Правда,
это происходит не так часто, как они утверждают; в очень
многих случаях при настойчивости мысль все-таки можно
заставить появиться. Но бывают, однако, случаи, в которых
ассоциация не получается или, если ее вынудить, она не дает
того, что мы от нее ожидаем. Если это происходит во время
психоаналитического лечения, то приобретает особое
значение, о чем мы не будем здесь говорить. Но это случается и
при толковании сновидений у нормальных людей или при
274
Введение о психоанализ
толковании своих собственных сновидений. Когда видишь,
что никакая настойчивость не помогает, то в конце концов
убеждаешься, что нежелательная случайность регулярно
повторяется при определенных элементах сновидения, и тогда
начинаешь видеть новую закономерность там, где сначала
предполагал только несостоятельность техники.
В таких случаях возникает соблазн самому истолковать
эти «немые» элементы сновидения, предпринимаешь их
перевод (Übersetzung) собственными средствами. Само собой
получается, что, если довериться такому замещению,
каждый раз находишь для сновидения вполне удовлетворяющий
смысл; а до тех пор, пока не решишься на этот прием,
сновидение остается бессмысленным и его связность
нарушается. Повторение многих чрезвычайно похожих случаев
придает нашей вначале робкой попытке необходимую уверенность.
Я излагаю все несколько схематично, но это вполне
допустимо в дидактических целях, и мое изложение не
фальсификация, а некоторое упрощение.
Таким образом для целого ряда элементов сновидений
получаешь одни и те же переводы, подобно тем, какие
можно найти в наших популярных сонниках для всевозможных
приснившихся вещей. Однако не забывайте, что при нашей
ассоциативной технике постоянные замещения элементов
сновидения никогда не встречались.
Вы сразу же возразите, что этот путь толкования кажется
вам еще более ненадежным и спорным, чем прежний
посредством свободных ассоциаций. Но здесь следует кое-что
добавить. Когда благодаря опыту накапливается достаточно таких
постоянных замещений, начинаешь понимать, что это
частичное толкование действительно возможно исходя из
собственных знаний, что элементы сновидения действительно
можно понять без [использования] ассоциации видевшего
сон. Каким образом можно узнать их значение, об этом будет
сказано во второй части нашего изложения.
Это постоянное отношение между элементом сновидения
и его переводом мы называем символическим (symbolische),
сам элемент сновидения символом (Symbol) бессознательной
мысли сновидения. Вы помните, что раньше при
исследовании отношений между элементами сновидения и его собст-
275
Зигмунд ФРЕЙД
венным [содержанием] я выделил три вида таких отношений:
части от целого, намека и образного представления. О
четвертом я тогда упомянул, но не назвал его. Введенное здесь
символическое отношение является этим четвертым. По поводу
него имеются очень интересные соображения, к которым мы
обратимся, прежде чем приступим к изложению наших
специальных наблюдений над символикой. Символика, может
быть, самая примечательная часть в теории сновидения.
Прежде всего: ввиду того что символы имеют
устоявшиеся переводы, они в известной мере реализуют идеал
античного и популярного толкования сновидений, от которого мы
при нашей технике так далеко ушли. Они позволяют нам
иногда толковать сновидения, не расспрашивая видевшего
сон, ведь он все равно ничего не сможет сказать по поводу
символа. Если знать принятые символы сновидений и к
тому же личность видевшего сон, условия, в которых он
живет, и полученные им до сновидения впечатления, то часто
мы оказываемся в состоянии без затруднений истолковать
сновидение, перевести его сразу же. Такой фокус льстит
толкователю и импонирует видевшему сон; это выгодно
отличается от утомительной работы при расспросах видевшего
сон. Но пусть это не введет вас в заблуждение. Мы не
ставим перед собой задачу показывать фокусы. Толкование,
основанное на знании символов, не является техникой,
которая может заменить ассоциативную или равняться с ней.
Символическое толкование является только дополнением к
ней и дает ценные результаты лишь в сочетании с
ассоциативной техникой. А что касается знания психической
ситуации видевшего сон, то прошу принять во внимание, что вам
придется толковать сновидения не только хорошо знакомых
людей, что обычно вы не будете знать событий дня, которые
являются побудителями сновидений, и что мысли,
приходящие в голову анализируемого, как раз и дадут вам знание
того, что называется психической ситуацией.
В связи с обстоятельствами, о которых будет идти речь
ниже, достойно особого внимания то, что признание
существования символического отношения между сновидением
и бессознательным вызывало опять-таки самые энергичные
возражения. Даже люди, обладающие смелостью суждения
276
Введение в психоанализ
и пользующиеся признанием, прошедшие с психоанализом
значительный путь, отказались в этом следовать за ним.
Такое отношение тем более удивительно, что, во-первых,
символика свойственна и характерна не только для сновидения,
а, во-вторых, символику в сновидении, как ни богат он
ошеломляющими открытиями, открыл не психоанализ. Если уж
вообще приписывать открытие символики сновидения
современникам, то следует назвать философа К. А. Шернера
(Scherner, 1861). Психоанализ только подтвердил открытия
Шернера, хотя и основательно видоизменил их.
Теперь вам хочется услышать что-нибудь о сущности
символики сновидения и познакомиться с ее примерами. Я
охотно сообщу вам, что знаю, но сознаюсь, что наши знания не
соответствуют тому, чего бы нам хотелось.
Сущностью символического отношения является
сравнение, хотя и не любое. Предполагается, что это сравнение
особым образом обусловлено, хотя эта обусловленность нам
не совсем ясна. Не все то, с чем мы можем сравнить какой-
то предмет или процесс, выступает в сновидении как
символ. С другой стороны, сновидение выражает в символах не
все, а только определенные элементы скрытых мыслей
сновидения. Итак, ограничения имеются с обеих сторон.
Следует также согласиться с тем, что пока понятие символа
нельзя строго определить, оно сливается с замещением,
изображением и т. п., приближается к намеку. Лежащее в
основе сравнения в ряде символов осмысленно. Наряду с этими
символами есть другие, при которых возникает вопрос, где
искать общее, Tertium comparationis1 этого предполагаемого
сравнения. При ближайшем рассмотрении мы либо найдем
его, либо действительно оно останется скрытым от нас.
Удивительно, далее, то, что если символ и является сравнением,
то оно не обнаруживается при помощи ассоциации, что
видевший сон тоже не знает сравнения, пользуется им, не зная
о нем. Даже больше того, видевший сон не желает
признавать это сравнение, когда ему на него указывают. Итак, вы
1 Tertium comparationis — «третье и сравнении», т.е. общее в двух
сравниваемых межлу собой явлениях, служащее основанием для сравнения. — Примеч.
ред. перевода.
277
Зигмунд ФРЕЙД
видите, что символическое отношение является сравнением
совершенно особого рода, обусловленность которого нам
еще не совсем ясна. Может быть, указания для его
выяснения обнаружатся в дальнейшем.
Число предметов, изображаемых в сновидении
символически, невелико. Человеческое тело в целом, родители, дети,
братья и сестры, рождение, смерть, нагота и еще немногое.
Единственно типичное, т. е. постоянное изображение
человека в целом, представляет собой дом, как признал Шернер,
который даже хотел придать этому символу первостепенное
значение, которое ему не свойственно. В сновидении
случается спускаться по фасаду домов то с удовольствием, то со
страхом. Дома с совершенно гладкими стенами изображают
мужчин; дома с выступами и балконами, за которые можно
держаться, — женщин. Родители появляются во сне в виде
императора и императрицы, короля и королевы или других
представительных лиц, при этом сновидение преисполнено
чувства почтения. Менее нежно сновидение относится к
детям, братьям и сестрам, они символизируются маленькими
зверенышами, паразитами. Рождение почти всегда
изображается посредством какого-либо отношения к воде, в воду или
бросаются, или выходят из нее, из воды кого-нибудь спасают
или тебя спасают из нее, что означает материнское
отношение к спасаемому. Умирание заменяется во сне отъездом,
поездкой по железной дороге, смерть — различными
неясными, как бы нерешительными намеками, нагота — одеждой и
форменной одеждой. Вы видите, как тут стираются границы
между символическим и намекающим изображением.
Бросается в глаза, что по сравнению с перечисленными
объектами объекты из другой области представлены
чрезвычайно богатой символикой. Такова область сексуальной жизни,
гениталий, половых процессов, половых сношений.
Чрезвычайно большое количество символов в сновидении являются
сексуальными символами. При этом выясняется
удивительное несоответствие. Обозначаемых содержаний немного,
символы же для них чрезвычайно многочисленны, так что каждое
из этих содержаний может быть выражено большим числом
почти равнозначных символов. При толковании
получается картина, вызывающая всеобщее возмущение. Толкования
278
Введение в психоанализ
символов в противоположность многообразию изображений
сновидения очень однообразны. Это не нравится каждому,
кто об этом узнает, но что же поделаешь?
Так как в этой лекции мы впервые говорим о вопросах
половой жизни, я считаю своим долгом сообщить вам, как я
собираюсь излагать эту тему. Психоанализ не видит причин
для скрывания и намеков, не считает нужным стыдиться
обсуждения этого важного материала, полагает, что корректно
и пристойно все называть своими настоящими именами, и
надеется таким образом скорее всего устранить мешающие
посторонние мысли. То обстоятельство, что мне приходится
говорить перед смешанной аудиторией, представляющей оба
пола, ничего не может изменить. Как нет науки in usum del-
phini\ так нет ее и для девочек-подростков, а дамы своим
появлением в этой аудитории дают понять, что они хотят
поставить себя наравне с мужчинами.
Итак, сновидение изображает мужские гениталии
несколькими символами, в которых по большей части вполне
очевидно общее основание для сравнения. Прежде всего для
мужских гениталий в целом символически важно священное
число 3. Привлекающая большее внимание и интересная для
обоих полов часть гениталий, мужской член, символически
заменяется, во-первых, похожими на него по форме, то есть
длинными и торчащими вверх предметами, такими,
например, как палки, зонты, шесты, деревья и т. п. Затем
предметами, имеющими с обозначаемым сходство проникать внутрь
и ранить, т.е. всякого рода острым оружием, ножами,
кинжалами, копьями, саблями, а также огнестрельным оружием:
ружьями, пистолетами и очень похожим по своей форме
револьвером. В страшных снах девушек большую роль играет
преследование мужчины с ножом или огнестрельным
оружием. Это, может быть, самый частый случай символики
сновидения, который вы теперь легко можете понять. Также
вполне понятна замена мужского члена предметами, из
которых льется вода: водопроводными кранами, лейками,
фонтанами и другими предметами, обладающими способностью
вытягиваться в длину, например висячими лампами, выдвига-
Для дофина.
279
Зигмунд ФРЕЙД
ющимися карандашами и т.д. Вполне понятное
представление об этом органе обусловливает точно так же то, что
карандаши, ручки, пилочки для ногтей, молотки и другие
инструменты являются несомненными мужскими половыми
символами.
Благодаря примечательному свойству члена подниматься
в направлении, противоположном силе притяжения (одно из
проявлений эрекции), он изображается символически в виде
воздушного шара, аэропланов, а в последнее время в виде
воздушного корабля цеппелина. Но сновидение может
символически изобразить эрекцию еще иным, гораздо более
выразительным способом. Оно делает половой орган самой сутью
личности и заставляет ее летать. Не огорчайтесь, что часто
такие прекрасные сны с полетами, которые мы все знаем,
должны быть истолкованы как сновидения общего
сексуального возбуждения, как эрекционные сновидения. Среди
исследователей-психоаналитиков П. Федерн (1914) доказал,
что такое толкование не подлежит никакому сомнению, но и
почитаемый за свою педантичность Моурли Вольд,
экспериментировавший над сновидениями, придавая искусственное
положение рукам и ногам, и стоявший в стороне от
психоанализа, может быть даже ничего не знавший о нем, пришел
в своих исследованиях к тому же выводу (1910—1912, т. 2,
791). Не возражайте, что женщинам тоже может
присниться, что они летают. Вспомните лучше, что наши сновидения
хотят исполнить наши желания и что очень часто у
женщин бывает сознательное или бессознательное желание быть
мужчиной. А всякому знающему анатомию понятно, что и
женщина может реализовать это желание теми же
ощущениями, что и мужчина. В своих гениталиях женщина тоже
имеет маленький орган, аналогичный мужскому, и этот
маленький орган, клитор, играет в детском возрасте и в
возрасте перед началом половой жизни ту же роль, что и большой
мужской половой член.
К числу менее понятных мужских сексуальных символов
относятся определенные пресмыкающиеся и рыбы, прежде
всего известный символ змеи. Почему шляпа и пальто
приобрели такое же символическое значение, конечно, нелегко
узнать, но оно несомненно. Наконец, возникает еще вопрос,
280
Введение в психоанализ
можно ли считать символическим замещение мужского
органа каким-нибудь другим, ногой или рукой. Я думаю, что
общий ход сновидения и соответствующие аналогии у
женщин заставляют нас это сделать.
Женские половые органы изображаются символически
при помощи всех предметов, обладающих свойством
ограничивать полое пространство, что-то принять в себя. Т.е. при
помощи шахт, копей и пещер, при помощи сосудов и
бутылок, коробок, табакерок, чемоданов, банок, ящиков, карманов
и т.д. Судно тоже относится к их разряду. Многие символы
имеют больше отношения к матке, чем к гениталиям
женщины, таковы шкафы, печи и прежде всего комната. Символика
комнаты соприкасается здесь с символикой дома, двери и
ворота становятся символами полового отверстия.
Материалы тоже могут быть символами женщины, дерево, бумага и
предметы, сделанные из этих материалов, например стол и
книга. Из животных несомненными женскими символами
являются улитка и раковина; из частей тела рот как образ
полового отверстия, из строений церковь и капелла. Как видите,
не все символы одинаково понятны.
К гениталиям следует отнести также и груди, которые, как
и ягодицы женского тела, изображаются при помощи яблок,
персиков, вообще фруктов. Волосы на гениталиях обоих
полов сновидение описывает как лес и кустарник. Сложностью
топографии женских половых органов объясняется то, что
они часто изображаются ландшафтом со скалами, лесом и
водой, между тем как внушительный механизм мужского
полового аппарата приводит к тому, что его символами
становятся трудно поддающиеся описанию в виде сложных машин.
Как символ женских гениталий следует упомянуть еще
шкатулку для украшений; драгоценностью и сокровищем
называются любимые лица и во сне; сладости часто
изображают половое наслаждение. Самоудовлетворение обозначается
часто как всякого рода игра, так же как игра на фортепиано.
Типичным изображением онанизма является скольжение и
скатывание, а также срывание ветки. Особенно
примечателен символ выпадения или вырывания зуба. Прежде всего он
означает кастрацию в наказание за онанизм. Особые
символы для изображения в сновидении полового акта менее
281
Зиглц/нд ФРЕЙД
многочисленны, чем можно было бы ожидать на основании
вышеизложенного. Здесь следует упомянуть ритмическую
деятельность, например танцы, верховую езду, подъемы, а
также переживания, связанные с насилием, как, например,
быть задавленным. Сюда же относятся определенные
ремесленные работы и, конечно, угроза оружием.
Вы не должны представлять себе употребление и перевод
этих символов чем-то очень простым. При этом возможны
всякие случайности, противоречащие нашим ожиданиям. Так,
например, кажется маловероятным, что половые различия
в этих символических изображениях проявляются не резко.
Некоторые символы означают гениталии вообще,
безразлично, мужские или женские, например маленький ребенок,
маленький сын или маленькая дочь. Иной раз преимущественно
мужской символ может употребляться для женских
гениталий или наоборот. Это нельзя понять без более близкого
знакомства с развитием сексуальных представлений человека.
В некоторых случаях эта двойственность только кажущаяся;
самые яркие из символов, такие, как оружие, карман, ящик,
не могут употребляться в бисексуальном значении.
Теперь я буду исходить не из изображаемого, а из
символа, рассмотрю те области, из которых по большей части
берутся сексуальные символы, и прибавлю некоторые
дополнения, принимая во внимание символы, в которых неясна
общая основа. Таким темным символом является шляпа,
может быть, вообще головной убор обычно с мужским
значением, но иногда и с женским. Точно так же пальто означает
мужчину, но не всегда в половом отношении. Вы можете
сколько угодно спрашивать почему. Свисающий галстук,
который женщина не носит, является явно мужским символом.
Белое белье, вообще полотно символизирует женское; платье,
форменная одежда, как мы уже знаем, является
заместителями наготы, форм тела, а башмак, туфля — женских
гениталий; стол и дерево как загадочные, но определенно женские
символы уже упоминались. Всякого рода лестницы,
стремянки и подъем по ним — несомненный символ полового акта.
Вдумавшись, мы обратим внимание на ритмичность этого
подъема, которая, как и, возможно, возрастание возбуждения,
одышка по мере подъема, является общей основой.
282
Введение в психоанализ
Мы уже упоминали о ландшафте как изображении
женских гениталий. Гора и скала — символы мужского члена;
сад — часто встречающийся символ женских гениталий. Плод
имеет значение не ребенка, а грудей. Дикие звери означают
чувственно возбужденных людей, кроме того, другие грубые
желания, страсти. Цветение и цветы обозначают гениталии
женщин или, в более специальном случае, — девственность.
Не забывайте, что цветы действительно являются
гениталиями растений.
Комната нам уже известна как символ. Здесь можно
продолжить детализацию: окна, входы и выходы комнаты
получают значение отверстий тела. К этой символике относится
также и то, открыта комната или закрыта, а ключ, который
открывает, является несомненным мужским символом.
Таков материал символики сновидений. Он еще не полон
и его можно было бы углубить и расширить. Но я думаю,
вам и этого более чем достаточно, а может быть, уже и
надоело. Вы спросите: неужели я действительно живу среди
сексуальных символов? Неужели все предметы, которые
меня окружают, платья, которые я надеваю, вещи, которые
беру в руки, всегда сексуальные символы и ничто другое?
Повод для недоуменных вопросов действительно есть, и
первый из них: откуда нам, собственно, известны значения этих
символов сновидения, о которых сам видевший сон не
говорит нам ничего или сообщает очень мало?
Я отвечу: из очень различных источников, из сказок и
мифов, шуток и острот, из фольклора, т. е. из сведений о нравах,
обычаях, поговорках и народных песнях, из поэтического и
обыденного языка. Здесь всюду встречается та же символика,
и в некоторых случаях мы понимаем ее без всяких указаний.
Если мы станем подробно изучать эти источники, то найдем
символике сновидений так много параллелей, что уверимся
в правильности наших толкований.
Человеческое тело, как мы сказали, по Шернеру
часто изображается в сновидении символом дома. При
детальном рассмотрении этого изображения окна, двери и ворота
являются входами во внутренние полости тела, фасады
бывают гладкие или имеют балконы и выступы, чтобы
держаться. Но такая же символика встречается в нашей речи,
283
Зигмунд ФРЕЙД
когда мы фамильярно приветствуем хорошо знакомого
«altes Haus» [старина], когда говорим, чтобы дать
кому-нибудь хорошенько aufs Dacht [по куполу], или о другом, что
у него не все в порядке in Oberstübchen [чердак не в
порядке]. В анатомии отверстия тела прямо называются Leibes-
pforten [ворота тела].
То, что родители в сновидении появляются в виде
императорской или королевской четы, сначала кажется
удивительным. Но это находит свою параллель в сказках. Разве не
возникает у нас мысль, что в начале многих сказок вместо:
«жили-были король с королевой» должно было бы быть:
«жили-были отец с матерью»? В семье детей в шутку называют
принцами, а старшего наследником (Kronprinz). Король сам
называет себя отцом страны [Landeswater, по-русски — царь-
батюшка]. Маленьких детей в шутку мы называем червяками
[по-русски — клопами] и сострадательно говорим: бедный
червяк [das arme Wurm; по-русски — бедный клоп].
Вернемся к символике дома. Когда мы во сне пользуемся
выступами домов, чтобы ухватиться, не напоминает ли это
известное народное выражение для сильно развитого бюста:
у этой есть за что подержаться? Народ выражается в таких
случаях и иначе, он говорит: Sie hat viel Holz vor dem Haus
[у этой много дров перед домом], как будто желая прийти
нам на помощь в нашем истолковании дерева как женского,
материнского символа.
И еще о дереве. Нам неясно, как этот материал стал
символически представлять материнское, женское. Обратимся
за помощью к сравнительной филологии. Наше немецкое
слово Holz [дерево] одного корня с греческим v\r\, что
означает «материал», «сырье». Тут мы имеем дело с довольно
частым случаем, когда общее название материала в конце
концов сохранилось за одним частным. В океане есть остров
под названием Мадейра. Так как он весь был покрыт лесом,
португальцы дали ему это название, когда открыли его.
Madeira на португальском языке значит «лес». Но легко узнать,
что madeira не что иное, как слегка измененное латинское
слово materia, что опять-таки обозначает материю вообще. А
materia происходит от слова mater — мать. Материал, из
которого что-либо состоит, является как бы материнской час-
284
Введение в психоашшиз
тью. Таким образом, это древнее понимание в
символическом употреблении продолжает существовать.
Рождение в сновидении постоянно выражается
отношением к воде; бросаться в воду или выходить из нее означает:
рождать или рождаться. Не следует забывать, что этот символ
вдвойне оправдан ссылкой на историю развития. Не только
тем, что все наземные млекопитающие, включая предков
человека, произошли от водяных животных — это весьма
отдаленная аналогия, — но и тем, что каждое млекопитающее,
каждый человек проходит первую фазу своего существования
в воде, а именно как эмбрион в околоплодной жидкости в
чреве матери, а при рождении выходит из воды. Я не хочу
утверждать, что видевший сон знает это, напротив, я считаю,
что ему и не нужно этого знать. Он, вероятно, знает
что-нибудь другое, что ему рассказывали в детстве, но и здесь я буду
утверждать, что это знание не способствовало образованию
символа. В детской ему говорили, что детей приносит аист,
но откуда он их берет? Из пруда, из колодца, т. е. опять-таки
из воды. Один из моих пациентов, которому это сказали,
когда он был маленьким, исчез после этого на все
послеобеденное время. Наконец его нашли на берегу пруда у замка, он
лежал, приникнув личиком к поверхности воды, и усердно
искал на дне маленьких детей.
В мифах о рождении героя, подвергнутых сравнительному
исследованию О. Ранком (1909), самый древний из которых
о царе Саргоне из Агаде, около 2800 лет до Р. X.,
преобладающую роль играет бросание в воду и спасание из воды. Ранк
открыл, что это — изображения рождения, аналогичные
таким же в сновидении. Если во сне спасают из воды
какое-нибудь лицо, то считают себя его матерью или просто матерью;
в мифе лицо, спасающее ребенка из воды, считается его
настоящей матерью. В известном анекдоте умного еврейского
мальчика спрашивают, кто был матерью Моисея. Он не
задумываясь отвечает: принцесса. Но как же, возражают ему, она
ведь только вытащила его из воды. Так говорит она, отвечает
мальчик, показывая, что правильно истолковал миф.
Отъезд означает в сновидении смерть, умирание. Принято
так же отвечать детям на вопрос, куда девалось умершее лицо,
отсутствие которого они чувствуют, что оно уехало. Я опять
285
Зшмупд ФРЕЙД
хотел бы возразить тем, кто считает, что символ сновидения
происходит от этого способа отделаться от ребенка. Поэт
пользуется такой же символикой, говоря о загробной
жизни как о неоткрытой стране, откуда не возвращался ни один
путник (по traveller). В обыденной жизни мы тоже часто
говорим о последнем пути. Всякий знаток древнего ритуала
знает, как серьезно относились к представлению о
путешествии в страну мертвых, например, в древнеегипетской религии.
До нас дошла во многих экземплярах Книга мертвых,
которой, как бедекером, снабжали в это путешествие мумию.
С тех пор как кладбища были отделены от жилищ, последнее
путешествие умершего стало реальностью.
Символика гениталий тоже не является чем-то присущим
только сновидению. Каждому из вас случается быть
невежливым и назвать женщину «alte Schachtel» [старая колода],
не зная, что вы пользуетесь при этом символом гениталий.
В Новом Завете сказано: женщина — сосуд скудельный.
Священное Писание евреев, так приближающееся по стилю к
поэтическому, полно сексуально-символических выражений,
которые не всегда правильно понимались и толкование
которых, например, Песни Песней, привело к некоторым
недоразумениям. В более поздней еврейской литературе очень
распространено изображение женщины в виде дома, в
котором дверь считается половым отверстием. Муж жалуется,
например, в случае отсутствия девственности, что нашел дверь
открытой. Символ стола для женщины также известен в
этой литературе. Женщина говорит о своем муже: я
приготовила ему стол, но он его перевернул. Хромые дети
появляются из-за того, что муж перевернул стол. Эти факты я беру
из статьи Л. Леви из Брюнна: «Сексуальная символика
Библии и Талмуда» (1914).
То, что и корабли в сновидении означают женщин,
поясняют нам этимологи, которые утверждают, что
первоначально кораблем (Schiff) назывался глиняный сосуд и это было
то же слово, что овца (Schaff). Греческое сказание о Пери-
андре из Коринфа и его жене Мелиссе подтверждает, что
печь означает женщину и чрево матери. Когда, по Геродоту,
тиран вызвал тень своей горячо любимой, но убитой из
ревности супруги, чтобы получить от нее некоторые сведения,
286
Введение о психоанализ
умершая удостоверила себя напоминанием, что он, Пери-
андр, поставил свой хлеб в холодную печь, намекая на
событие, о котором никто другой не мог знать. В изданной
Ф. С. Крауссом «Anthropophyteia», незаменимом источнике
всего, что касается половой жизни народов, мы читаем, что
в одной немецкой местности о женщине, разрешившейся от
бремени, говорят, что у нее обвалилась печь. Приготовление
огня, все, что с ним связано, до глубины проникнуто
сексуальной символикой. Пламя всегда является мужскими
гениталиями, а место огня, очаг — женским лоном.
Если, быть может, вы удивлялись тому, как часто
ландшафты в сновидении используются для изображения
женских гениталий, то от мифологов вы можете узнать, какую
роль мать-земля играла в представлениях и культах
древности и как понимание земледелия определялось этой
символикой. То, что в сновидении комната (Zimmer)
представляет женщину (Frauenzimmer), вы склонны будете объяснить
употреблением в нашем языке слова Frauenzimmer [баба]
вместо Frau, т.е. замены человеческой личности
предназначенным для нее помещением. Подобным же образом мы
говорим о Высокой Порте и подразумеваем под этим султана
и его правительство; название древнеегипетского властителя
фараона также означало не что иное, как «большой двор».
(В Древнем Востоке дворы между двойными воротами
города являются местом сборища, как рыночные площади в
классическом мире.) Я, правда, думаю, что это объяснение
слишком поверхностно. Мне кажется более вероятным, что
комната как пространство, включающее в себя человека, стала
символом женщины. Мы уже ведь знаем, что слово «дом»
употребляется в этом значении; из мифологии и поэтических
выражений мы можем добавить в качестве других символов
женщины еще город, замок, дворец, крепость. Вопрос было
бы легче решить, используя сновидения лиц, не знающих и
не понимающих немецкого языка. В последние годы я лечил
преимущественно иностранцев, и, насколько помню, в их
языках не было аналогичного словоупотребления. Есть и
Другие доказательства тому, что символическое отношение
может перейти языковые границы, что, впрочем, уже
утверждал старый исследователь сновидений Шуберт (1814). Впро-
287
Зигмунд ФРЕЙД
чем, ни один из моих пациентов не был абсолютно незнаком
с немецким языком, так что я предоставляю решить этот
вопрос тем психоаналитикам, которые могут собрать опыт в
других странах, исследуя лиц, владеющих одним языком.
Среди символов, изображающих мужские гениталии, едва
ли найдется хоть один, который не употреблялся бы в
шуточных, простонародных или поэтических выражениях,
особенно у классических поэтов древности. К ним относятся не
только символы, встречающиеся в сновидениях, но и новые,
например различные инструменты, в первую очередь плуг.
Впрочем, касаясь символического изображения мужского,
мы затрагиваем очень широкую и горячо оспариваемую
область, от углубления в которую из соображений экономии
мы хотим воздержаться. Лишь по поводу одного, как бы
выпадающего из ряда символа «три» мне хотелось бы сделать
несколько замечаний. Еще неясно, не обусловлена ли отчасти
святость этого числа данным символическим отношением.
Но несомненным кажется то, что вследствие такого
символического отношения некоторые встречающиеся в природе
трехчастные предметы, например трилистник, используются
в качестве гербов и эмблем. Так называемая французская
лилия, тоже трехчастная, и странный герб двух так далеко
расположенных друг от друга островов, как Сицилия и
остров Мен, Triskeles (три полусогнутые ноги, исходящие из
одного центра), по-видимому, только стилизация мужских
гениталий. В древности подобия мужского члена считались
самыми сильными защитными средствами (АроСгораеа)
против дурных влияний, и с этим связано то, что в приносящих
счастье амулетах нашего времени всегда легко узнать ге-
нитальные или сексуальные символы. Рассмотрим такой
набор, который носится в виде маленьких серебряных брелков:
четырехлистный клевер, свинья, гриб, подкова, лестница и
трубочист. Четырехлистный клевер, собственно говоря,
заменяет трехлистный; свинья — древний символ плодородия;
гриб — несомненно, символ пениса, есть грибы, которые из-
за своего несомненного сходства с мужским членом
получили при классификации название Phallus impudicus; подкова
повторяет очертание женского полового отверстия, а
трубочист, несущий лестницу, имеет отношение к этой компании
288
Введение в психоанализ
потому, что делает такие движения, с которыми в
простонародье сравнивается половой акт (см. Anthropophyteià). С его
лестницей как сексуальным символом мы познакомились в
сновидении: нам на помощь приходит употребление в
немецком языке слова «steigen» [подниматься], применяемого
в специфически сексуальном смысле. Говорят: Wen Frauen
nachsteigen^ [приставать к женщинам] и «ein alter Steiger»
[старый волокита]. По-французски ступенька называется la
marche, мы находим совершенно аналогичное выражение для
старого бонвивана «un vieux marcheur». С этим, вероятно,
связано то, что при половом акте многих крупных животных
самец взбирается, поднимается (steigen, besteigen) на самку.
Срывание ветки как символическое изображение
онанизма не только совпадает с простонародным изображением она-
нистического акта, но имеет и далеко идущие
мифологические параллели. Но особенно замечательно изображение
онанизма или, лучше сказать, наказания за него, кастрации,
посредством выпадения и вырывания зубов, потому что этому
есть аналогия в фольклоре, которая, должно быть, известна
очень немногим лицам, видящим их во сне. Мне кажется
несомненным, что распространенное у столь многих народов
обрезание является эквивалентом и заменой кастрации. И вот
нам сообщают, что в Австралии известные примитивные
племена вводят обрезание в качестве ритуала при наступлении
половой зрелости (во время празднеств по случаю
наступления совершеннолетия), в то время как другие, живущие
совсем рядом, вместо этого акта вышибают один зуб.
Этими примерами я закончу свое изложение. Это всего
лишь примеры; мы больше знаем об этом, а вы можете себе
представить, насколько содержательнее и интереснее
получилось бы подобное собрание примеров, если бы оно было
составлено не дилетантами, как мы, а настоящими
специалистами в области мифологии, антропологии, языкознания,
фольклора. Напрашиваются некоторые выводы, которые не
могут быть исчерпывающими, но дают нам пищу для
размышлений.
Во-первых, мы поставлены перед фактом, что в
распоряжении видящего сон находится символический способ
выражения, которого он не знает и не узнает в состоянии бодр-
Ю-3518
289
Зигмунд ФРКЙЦ
ствования. Это настолько же поразительно, как если бы вы
сделали открытие, что ваша прислуга понимает санскрит,
хотя вы знаете, что она родилась в богемской деревне и никогда
его не изучала. При наших психологических воззрениях
нелегко объяснить этот факт. Мы можем только сказать, что
знание символики не осознается видевшим сон, оно
относится к его бессознательной духовной жизни. Но и этим
предположением мы ничего не достигаем. До сих пор нам
необходимо было предполагать только бессознательные
стремления, такие, о которых нам временно или постоянно ничего
не известно. Теперь же речь идет о бессознательных знаниях,
о логических отношениях, отношениях сравнения между
различными объектами, вследствие которых одно постоянно
может замещаться другим. Эти сравнения не возникают
каждый раз заново, они уже заложены готовыми, завершены раз
и навсегда; это вытекает из их сходства у различных лиц,
сходства даже, по-видимому, несмотря на различие языков.
Откуда же берется знание этих символических
отношений? Только небольшая их часть объясняется
словоупотреблением. Разнообразные параллели из других областей по
большей части неизвестны видевшему сон; да и мы лишь
с трудом отыскивали их.
Во-вторых, эти символические отношения не являются
чем-то таким, что было бы характерно только для видевшего
сон или для работы сновидения, благодаря которой они
выражаются. Ведь мы узнали, что такая же символика
используется в мифах и сказках, в народных поговорках и песнях,
в общепринятом словоупотреблении и поэтической
фантазии. Область символики чрезвычайно обширна, символика
сновидений является ее малой частью, даже
нецелесообразно приступать к рассмотрению всей этой проблемы исходя
из сновидения. Многие употребительные в других областях
символы в сновидениях не встречаются или встречаются
лишь очень редко, некоторые из символов сновидений
встречаются не во всех других областях, а только в той или иной.
Возникает впечатление, что перед нами какой-то древний, но
утраченный способ выражения, от которого в разных
областях сохранилось разное, одно только здесь, другое только
там, третье в слегка измененной форме в нескольких облас-
290
Введение о ncuxoaiKLiiui
тях. Я хочу вспомнить здесь фантазию одного интересного
душевнобольного, воображавшего себе какой-то «основной
язык», от которого во всех этих символических отношениях
будто бы имелись остатки.
В-третьих, вам должно было броситься в глаза, что
символика в других указанных областях не только сексуальная,
в то время как в сновидении символы используются почти
исключительно для выражения сексуальных объектов и
отношений. И это нелегко объяснить. Не нашли ли исходно
сексуально значимые символы позднее другое применение и
не связан ли с этим известный переход от символического
изображения к другому его виду? На этот вопрос, очевидно,
нельзя ответить, если иметь дело только с символикой
сновидений. Можно лишь предположить, что существует
особенно тесное отношение между истинными символами и
сексуальностью.
По этому поводу нам было дано в последние годы одно
важное указание. Филолог Г. Шпербер (Упсала),
работающий независимо от психоанализа, выдвинул (1912)
утверждение, что сексуальные потребности принимали самое
непосредственное участие в возникновении и дальнейшем
развитии языка. Начальные звуки речи служили сообщению
и подзывали сексуального партнера; дальнейшее развитие
корней слов сопровождало трудовые операции первобытного
человека. Эти работы были совместными и проходили в
сопровождении ритмически повторяемых языковых
выражений. При этом сексуальный интерес переносился на работу.
Одновременно первобытный человек делал труд приятным
для себя, принимая его за эквивалент и замену половой
деятельности. Таким образом, произносимое при общей работе
слово имело два значения, обозначая как половой акт, так и
приравненную к нему трудовую деятельность. Со временем
слово освободилось от сексуального значения и
зафиксировалось на этой работе. Следующие поколения поступали
точно так же с новым словом, которое имело сексуальное
значение и применялось к новому виду труда. Таким образом
возникало какое-то число корней слов, которые все были
сексуального происхождения, а затем лишились своего сек-
сУального значения. Если вышеизложенная точка зрения
291
Зигмунд ФРЕЙД
правильна, то перед нами, во всяком случае, открывается
возможность понимания символики сновидений. Мы могли бы
понять, почему в сновидении, сохраняющем кое-что из этих
самых древних отношений, имеется такое огромное
множество символов для сексуального, почему в общем оружие и
орудия символизируют мужское, материалы и то, что
обрабатывается, — женское. Символическое отношение было бы
остатком древней принадлежности слова; вещи, которые
когда-то назывались так же, как и гениталии, могли теперь в
сновидении выступить для того же в качестве символов.
Но благодаря этим параллелям к символике сновидений
вы можете также оценить характерную особенность
психоанализа, благодаря которой он становится предметом
всеобщего интереса, чего не могут добиться ни психология, ни
психиатрия. При психоаналитической работе завязываются
отношения с очень многими другими гуманитарными
науками, с мифологией, а также с языкознанием, фольклором,
психологией народов и религиоведением, изучение которых
обещает ценнейшие результаты. Вам будет понятно, почему на
почве психоанализа вырос журнал «Imago», основанный в
1912 г. под редакцией Ганса Сакса и Отто Ранка,
поставивший себе исключительную задачу поддерживать эти
отношения. Во всех этих отношениях психоанализ сначала больше
давал, чем получал. Хотя и он извлекает выгоду из того, что
его своеобразные результаты подтверждаются в других
областях и тем самым становятся более достоверными, но в
целом именно психоанализ предложил те технические
приемы и подходы, применение которых оказалось
плодотворным в этих других областях. Душевная жизнь отдельного
человеческого существа дает при психоаналитическом
исследовании сведения, с помощью которых мы можем разрешить
или по крайней мере правильно осветить некоторые тайны
из жизни человеческих масс.
Впрочем, я вам еще не сказал, при каких обстоятельствах
мы можем глубже всего заглянуть в тот предполагаемый
«основной язык», из какой области узнать о нем больше
всего. Пока вы этого не знаете, вы не можете оценить
всего значения предмета. Областью этой является невротика,
материалом — симптомы и другие невротические проявле-
292
Введение в психоанализ
ния, для объяснения и лечения которых и был создан
психоанализ.
Рассматривая вопрос с четвертой точки зрения, мы опять
возвращаемся к началу и направляемся по намеченному
пути. Мы сказали, что даже если бы цензуры сновидения не
было, нам все равно было бы нелегко понять сновидение,
потому что перед нами встала бы задача перевести язык
символов на язык нашего мышления в состоянии бодрствования.
Таким образом, символика является вторым и независимым
фактором искажения сновидения наряду с цензурой.
Напрашивается предположение, что цензуре удобно пользоваться
символикой, так как она тоже стремится к той же цели —
сделать сновидение странным и непонятным.
Скоро станет ясно, не натолкнемся ли мы при
дальнейшем изучении сновидения на новый фактор,
способствующий искажению сновидения. Я не хотел бы оставлять тему
символики сновидения, не коснувшись еще раз того
загадочного обстоятельства, что она может встретить весьма
энергичное сопротивление образованных людей, тогда как
распространение символики в мифах, религии, искусстве и
языке совершенно несомненно. Уж не определяется ли это вновь
отношением к сексуальности?
Одиннадцатая лекция
Работа сновидения
Уважаемые дамы и господа! Если вы усвоили сущность
цензуры сновидения и символического изображения, хотя
еще и не совсем разрешили вопрос об искажении
сновидения, вы все-таки в состоянии понять большинство
сновидений. При этом вы можете пользоваться обеими
дополняющими друг друга техниками, вызывая у видевшего сон
ассоциативные мысли до тех пор, пока не проникнете от
заместителя к собственному [содержанию], подставляя для
символов их значение, исходя из своих собственных знаний.
Об определенных возникающих при этом сомнениях речь
будет идти ниже.
293
Зигмунд ФРЕЙД
Теперь мы можем опять взяться за работу, которую в
свое время пытались сделать, не имея для этого достаточно
средств, когда мы изучали отношения между элементами
сновидения и его собственным [содержанием] и установили
при этом четыре таких основных отношения: части к
целому; приближения, или намека; символического отношения и
наглядного изображения слова. То же самое мы хотим
предпринять в большем масштабе, сравнивая явное содержание
сновидения в целом со скрытым сновидением, найденным
путем толкования.
Надеюсь, вы никогда не перепутаете их друг с другом.
Если вы добьетесь этого, то достигнете в понимании
сновидения большего, чем, вероятно, большинство читателей моей
книги «Толкование сновидений». Позвольте еще раз
напомнить, что та работа, которая переводит скрытое сновидение
в явное, называется работой сновидения (Traumarbeit).
Работа, проделываемая в обратном направлении, которая имеет
целью от явного сновидения добраться до скрытого, является
нашей работой толкования (Deutungsarbeit). Работа
толкования стремится устранить работу сновидения. Признанные
очевидным исполнением желания сновидения детского
типа все-таки испытали на себе частичную работу сновидения,
а именно перевод желания в реальность и по большей
части также перевод мыслей в визуальные образы. Здесь не
требуется никакого толкования, только обратный ход этих двух
превращений. То, что прибавляется к работе сновидения в
других сновидениях, мы называем искажением сновидения
(Traumentstellung); именно его и нужно устранить
посредством нашей работы толкования.
Сравнивая большое количество толкований сновидений,
я в состоянии последовательно показать вам, что
проделывает работа сновидения с материалом скрытых его мыслей.
Но я прошу вас не требовать от этого слишком многого. Это
всего лишь описание, которое нужно выслушать со
спокойным вниманием.
Первым достижением работы сновидения является
сгущение (Verdichtung). Под этим мы подразумеваем тот факт,
что явное сновидение содержит меньше, чем скрытое, т.е.
является своего рода сокращенным переводом последнего.
294
Введение в психоанализ
Иногда сгущение может отсутствовать, однако, как правило,
оно имеется и очень часто даже чрезмерное. Но никогда не
бывает обратного, т. е. чтобы явное сновидение было больше
скрытого по объему и содержанию. Сгущение происходит
благодаря тому, что: 1) определенные скрытые элементы
вообще опускаются; 2) в явное сновидение переходит только
часть некоторых комплексов скрытого сновидения; 3)
скрытые элементы, имеющие что-то общее, в явном сновидении
соединяются, сливаются в одно целое.
Если хотите, то можете сохранить название «сгущение»
только для этого последнего процесса. Его результаты можно
особенно легко продемонстрировать. Из своих собственных
сновидений вы без труда вспомните о сгущении различных
лиц в одно. Такое смешанное лицо выглядит как А, но одето
как Б, совершает какое-то действие, какое, помнится, делал
В, а при этом знаешь, что это лицо — Г. Конечно, благодаря
такому смешиванию особенно подчеркивается что-то общее
для всех четырех лиц. Так же как и из лиц, можно составить
смесь из предметов или из местностей, если соблюдается
условие, что отдельные предметы и местности имеют что-то
общее между собой, выделяемое скрытым сновидением. Это
что-то вроде образования нового и мимолетного понятия с
этим общим в качестве ядра. Благодаря накладыванию друг
на друга отдельных сгущаемых единиц возникает, как
правило, неясная, расплывчатая картина, подобно той, которая
получается, если на одной фотопластинке сделать несколько
снимков.
Для работы сновидения образование таких смесей очень
важно, потому что мы можем доказать, что необходимые для
этого общие признаки нарочно создаются там, где их раньше
не было, например, благодаря выбору словесного выражения
какой-либо мысли. Мы уже познакомились с такими
сгущениями и смешениями; они играли роль в возникновении
некоторых случаев оговорок. Вспомните молодого человека,
который хотел begleitdigen даму. Кроме того, имеются
остроты, механизм возникновения которых объясняется таким
сГУЩением. Однако независимо от этого можно утверждать,
что данный процесс является чем-то необычным и странным.
Правда, образование смешанных лиц в сновидении имеет
295
Зигмунд ФРЕЙД
аналогии в некоторых творениях нашей фантазии, которая
легко соединяет в одно целое составные части, в
действительности не связанные между собой, — например, кентавры
и сказочные животные в древней мифологии или на
картинах Бёклина. Ведь «творческая фантазия» вообще не может
изобрести ничего нового, а только соединяет чуждые друг
другу составные части. Но странным в способе работы
сновидения является следующее: материал, которым располагает
работа сновидения, состоит ведь из мыслей, мыслей, некоторые
из которых могут быть неприличными и неприемлемыми,
однако они правильно образованы и выражены. Эти мысли
переводятся благодаря работе сновидения в другую форму,
и странно и непонятно, что при этом переводе, перенесении
как бы на другой шрифт или язык находят свое применение
средства слияния и комбинации. Ведь обычно перевод
старается принять во внимание имеющиеся в тексте различия,
а сходства не смешивать между собой. Работа сновидения
стремится к совершенно противоположному: сгустить две
различные мысли таким образом, чтобы найти многозначное
слово, в котором обе мысли могут соединиться, подобно
тому, как это делается в остроте. Этот переход нельзя понять
сразу, но для понимания работы сновидения он может иметь
большое значение.
Хотя сгущение делает сновидение непонятным, все-таки
не возникает впечатления, что оно является результатом
действия цензуры сновидения. Скорее, хочется объяснить его
механическими и экономическими факторами; однако
приходится принимать в расчет и цензуру.
Результаты сгущения могут быть совершенно
исключительными. С его помощью иногда возможно объединить две
совершенно различные скрытые мысли в одном явном
сновидении, так что можно получить одно вроде бы
удовлетворяющее толкование сновидения и все же при этом упустить
возможность другого.
Следствием сгущения является также отношение между
скрытым и явным сновидением, заключающееся в том, что
между различными элементами и не сохраняется простого
соответствия. Один явный элемент соответствует
одновременно нескольким скрытым, и наоборот, один скрытый эле-
296
Введение о психоанализ
мент может участвовать в нескольких явных как бы в виде
перекреста. При толковании сновидения оказывается также,
что [ассоциативные] мысли к отдельному явному элементу
не всегда приходят по порядку. Часто приходится ждать,
пока все сновидение не будет истолковано.
Итак, работа сновидения совершает очень необычную по
форме транскрипцию мыслей сновидения — не перевод слова
за словом или знака за знаком и не выбор по определенному
правилу, когда передаются только согласные какого-нибудь
слова, а гласные опускаются, что можно было бы назвать
представительством, т.е. один элемент всегда извлекается вместо
нескольких, — но это нечто другое и гораздо более сложное.
Вторым результатом работы сновидения является
смещение (Verschiebung). Для его понимания мы, к счастью,
провели подготовительную работу; ведь мы знаем, что оно
целиком является делом цензуры сновидения. Оно
проявляется двояким образом, во-первых, в том, что какой-то скрытый
элемент замещается не собственной составной частью, а
чем-то отдаленным, т.е. намеком, а во-вторых, в том, что
психический акцент смещается с какого-то важного
элемента на другой, не важный, так что в сновидении возникает
иной центр и оно кажется странным.
Замещение намеком известно нам и по нашему
мышлению в бодрствующем состоянии, однако здесь есть различие.
При мышлении в бодрствующем состоянии намек должен
быть легко понятным, а заместитель иметь смысловое
отношение к собственному [содержанию] (Eigentliche). И острота
часто пользуется намеком, она отказывается от ассоциации
по содержанию и заменяет ее необычными внешними
ассоциациями, такими как созвучие и многозначность слова и др.
Но она сохраняет понятность; острота лишилась бы всего
своего действия, если бы нельзя было без труда проделать
обратный путь от намека к собственному содержанию. Но
намек смещения в сновидении свободен от обоих
ограничений. Он связан с замещаемым элементом самыми внешними
и отдаленными отношениями и поэтому непонятен, а если
его разъяснить, то толкование производит впечатление
неудачной остроты или насильственно притянутой за волосы,
принужденной интерпретации. Цензура только тогда дости-
297
Зигмунд ФРЕЙД
гает своей цели, когда ей удается полностью затемнить
обратный путь от намека к собственному [содержанию].
Смещение акцента как средство выражения мысли не
встречается. При мышлении в бодрствующем состоянии мы
иногда допускаем его для достижения комического эффекта.
Впечатление ошибки, которое оно производит, я могу у вас
вызвать, напомнив один анекдот: в деревне был кузнец,
который совершил преступление, достойное смертной казни.
Суд постановил, что он должен понести наказание за свое
преступление, но так как в деревне был только один кузнец
и он был необходим, портных же в деревне жило трое, то
один из этих трех был повешен вместо него.
Третий результат работы сновидения психологически
самый интересный. Он состоит в превращении мыслей в
зрительные образы. Запомним, что не все в мыслях сновидения
подлежит этому превращению, кое-что сохраняет свою
форму и появляется в явном сновидении как мысль или знание;
зрительные образы являются также не единственной
формой, в которую превращаются мысли. Однако они все-таки
являются существенным фактором в образовании
сновидения; эта сторона работы сновидения, как мы знаем, является
второй постоянной чертой сновидения, а для выражения
отдельных элементов сновидения существует, как мы видели,
наглядное изображение слова.
Ясно, что это нелегкая работа. Чтобы составить понятие
о ее трудностях, представьте себе, что вы взяли на себя
задачу заменить политическую передовицу какой-то газеты
рядом иллюстраций, т.е. вернуться от буквенного шрифта к
письму рисунками. То, что в этой статье говорится о лицах
и конкретных предметах, вы легко и, может быть, удачно
замените иллюстрациями, но при изображении абстрактных
слов и всех частей речи, выражающих логические
отношения, таких как частицы, союзы и т. п., вас ожидают
трудности. При изображении абстрактных слов вы сможете себе
помочь всевозможными искусственными приемами. Вы
попытаетесь, например, передать текст статьи другими словами,
которые звучат, может быть, необычно, но содержат больше
конкретных и подходящих для изображения понятий. Затем
вы вспомните, что большинство абстрактных слов являются
298
Введение в психоанализ
потускневшими конкретными и поэтому по возможности
воспользуетесь первоначальным конкретным значением этих
слов. Итак, вы будете рады, если сможете изобразить
обладание (Besitzen) объектом как действительное физическое
сидение (Daraufsitzen). Так же поступает и работа
сновидения. При таких обстоятельствах вы едва ли будете
предъявлять большие претензии к точности изображения. Таким
образом, и работе сновидения вы простите, что она, например,
такой трудный для изображения элемент, как нарушение
брачной верности (Ehebruch), заменяет другим каким-либо
разрывом (Bruch), перелом ноги (Beinbruch)1.
Надеюсь, вы сумеете до некоторой степени простить
беспомощность языка рисунков, когда он замещает собой
буквенный.
1 При исправлении корректуры этого листа мне случайно попалась
газетная заметка, которую я здесь привожу как неожиданное пояснение
вышеизложенных положений.
«НАКАЗАНИЕ БОЖИЕ (перелом руки за нарушение супружеской
верности) (Armbruch durch Ehebruch).
Анна M., супруга одного ополченца, обвинила Клементину К. в нарушении
супружеской верности. В обвинении говорится, что К. находится с Карлом М.
в преступной связи, в то время как се собственный муж на войне, откуда он
даже присылает ей ежемесячно семьдесят крои. К. получила от мужа
пострадавшей уже довольно много денег, в то время как она сама с ребенком
вынуждена жить в нужде и терпеть голод. Товарищи мужа рассказывали ей, что К.
посещает с М. рестораны и кутит там до поздней ночи. Однажды обвиняемая
даже ацюсила мужа пострадавшей в присутствии многих солдат, скоро ли он
разведется со своей „старухой", чтобы переехать к ней. Жена привратника дома,
где живет К., тоже неоднократно видела мужа пострадавшей в полном неглиже
на квартире К.
Вчера перед судом в Леоиольдштаттс К. отрицала, что знает M., a об
интимных отношениях уж не может быть и речи. Однако свидетельница Альбер-
тина М. показала, что неожиданно застала К., когда она целовала мужа
пострадавшей.
Допрошенный при первом разборе дела в качестве свидетеля М. отрицал
тогда интимные отношения с обвиняемой. Вчера судье было представлено письмо,
в котором свидетель отказывается от своего показания на первом
разбирательстве дела и сознается, что до июня месяца поддерживал любопиую связь с К.
При нервом разборе он только потому отрицал свои отношения с обвиняемой,
что она перед разбором дела явилась к нему и на коленях умоляла спасти се и
ничего не говорить. „Теперь же,— пишет свидетель,— я чувствую потребность
откровенно сознаться перед судом, так как я сломал левую руку, и это кажется
мне наказанием Божьим за мое преступление".
Судья установил, что срок преступления прошел, после чего пострадавшая
взяла жалобу обратно, а обвиняемая была оправдана».
299
Зигмунд ФРЕЙД
Для изображения частей речи, показывающих логические
отношения, вроде «потому что, поэтому, но» и т.д., нет
подобных вспомогательных средств; таким образом, эти части
текста пропадут при переводе в рисунки. Точно так же
благодаря работе сновидения содержание мыслей сновидения
растворяется в его сыром материале объектов и деятельнос-
тей. И вы можете быть довольны, если вам предоставится
возможность каким-то образом намекнуть в более тонком
образном выражении на определенные недоступные
изображению отношения. Точно так же работе сновидения удается
выразить что-то из содержания скрытых мыслей сновидения
в формальных особенностях явного сновидения, в его
ясности или неясности, в его разделении на несколько фрагментов
и т. п. Количество частей сновидения, на которые оно
распадается, как правило, сочетается с числом основных тем,
ходом мыслей в скрытом сновидении; короткое вступительное
сновидение часто относится к последующему подробному
основному сновидению, как введение или мотивировка;
придаточное предложение в мыслях сновидения замещается в
явном сновидении сменой включенных в него сцен и т.д.
Таким образом, форма сновидений ни в коем случае не
является незначительной, и сама требует толкования.
Несколько сновидений одной ночи часто имеют одно и то же
значение и указывают на усилия как-нибудь получше
справиться с нарастающим раздражением. Даже в одном сновидении
особенно трудный элемент может быть изображен
«дублетами», несколькими символами.
При дальнейшем сравнении мыслей сновидения с
замещающими их явными сновидениями мы узнаем такие вещи,
к которым еще не подготовлены, например, что бессмыслица
и абсурдность сновидений также имеют свое значение. Да,
в этом пункте противоречие между медицинским и
психоаналитическим пониманием сновидения обостряется до
последней степени. С медицинской точки зрения сновидение
бессмысленно, потому что душевная деятельность спящего
лишена всякой критики; с нашей же, напротив, сновидение
бессмысленно тогда, когда содержащаяся в мыслях
сновидения критика, суждение «это бессмысленно» должны найти
свое изображение. Известное вам сновидение с посещением
300
Введение о психоанализ
театра (три билета за 1 фл. 50 кр.) — хороший тому пример.
Выраженное в нем суждение означает: бессмысленно было
так рано выходить замуж.
Точно так же при работе над толкованием мы узнаем о
часто высказываемых сомнениях и неуверенности
видевшего сон по поводу того, встречался ли в сновидении
определенный элемент, был ли это данный элемент или какой-то
другой. Как правило, этим сомнениям и неуверенности
ничего не соответствует в скрытых мыслях сновидения; они
возникают исключительно под действием цензуры
сновидения и должны быть приравнены к не вполне удавшимся
попыткам уничтожения этих элементов.
К самым поразительным открытиям относится способ,
каким работа сновидения разрешает противоречия скрытого
сновидения. Мы уже знаем, что совпадения в скрытом
материале замещаются сгущениями в явном сновидении. И вот
с противоположностями работа сновидения поступает точно
так же, как с совпадениями, выражая их с особым
предпочтением одним и тем же явным элементом. Один элемент в
явном сновидении, который способен быть
противоположностью, может, таким образом, означать себя самого, а
также свою противоположность или иметь оба значения; только
по общему смыслу можно решить, какой перевод выбрать.
С этим связан тот факт, что в сновидении нельзя найти
изображения «нет», по крайней мере, недвусмысленного.
Пример желанной аналогии этому странному поведению
работы сновидения дает нам развитие языка. Некоторые
лингвисты утверждают, что в самых древних языках
противоположности, например сильный — слабый, светлый —
темный, большой — маленький, выражались одним и тем же
корневым словом. («Противоположный смысл
первоначальных слов».) Так, на древнеегипетском языке ken
первоначально означало «сильный» и «слабый». Во избежание
недоразумений при употреблении таких амбивалентных слов
в речи ориентировались на интонацию и сопроводительный
жест, при письме прибавляли так называемый
детерминатив, т.е. рисунок, не произносившийся при чтении. Ken в
значении «сильный» писалось, таким образом, с
прибавлением после буквенных знаков рисунка прямо сидящего че-
301
Зигмунд ФРЕЙД
ловечка; если ken означало «слабый», то следовал рисунок
небрежно сидящего на корточках человечка. Только позже
благодаря легким изменениям одинаково звучащего
первоначального слова получилось два обозначения для
содержащихся в нем противопоставлений. Так из ken — «сильный —
слабый» возникло ken — «сильный» и kan — «слабый». Не
только древнейшие языки в своем позднейшем развитии, но
и гораздо более молодые и даже живые ныне языки
сохранили в большом количестве остатки этого древнего
противоположного смысла. Хочу привести вам в этой связи
несколько примеров по К.Абелю (1884).
В латинском языке такими все еще амбивалентными
словами являются: altus (высокий — низкий) и sacer (святой —
нечестивый). В качестве примеров модификации одного и
того же корня я упомяну: clamare — кричать, clam — слабый,
тихий, тайный; siccus — сухой, succus — сок. Сюда же из
немецкого языка можно отнести: Stimme — голос, stumm —
немой. Если сравнить родственные языки, то можно найти
много примеров. По-английски lock — закрывать;
по-немецки Loch — дыра, Lücke — люк. В английском cleave —
раскалывать, в немецком kleben — клеить.
Английское слово without, означающее, собственно, «с —
без», теперь употребляется в значении «без»; то, что with,
кроме прибавления, имеет также значение отнимания,
следует из сложных слов withdraw — отдергивать, брать назад,
withhold — отказывать, останавливать. Подобное же
значение имеет немецкое wieder.
В развитии языка находит свою параллель еще одна
особенность работы сновидения. В древнеегипетском, как и в
других более поздних языках, встречается обратный порядок
звуков в словах с одним значением. Такими примерами в
английском и немецком языках являются: Topf — pot [горшок];
boat — tub [лодка]; hurry [спешить] — Ruhe [покой,
неподвижность]; Balken [бревно, брус] — Kloben [полено, чурбан].
В латинском и немецком: capere — packen [хватать]; геп —
Niere [почка].
Такие инверсии, какие здесь происходят с отдельными
словами, совершаются работой сновидения различным
способом. Переворачивание смысла, замену противоположнос-
302
Введение в психоанализ
тью мы уже знаем. Кроме того, в сновидениях встречаются
инверсии ситуации, взаимоотношения между двумя
лицами, как в «перевернутом мире». В сновидении заяц нередко
стреляет в охотника. Далее, встречаются изменения в
порядке следования событий, так что то, что является
предшествующей причиной, в сновидении ставится после
вытекающего из нее следствия. Все происходит, как при постановке
пьесы плохой труппой, когда сначала падает герой, а потом
из-за кулис раздается выстрел, который его убивает. Или
есть сновидения, в которых весь порядок элементов
обратный, так что при толковании, чтобы понять его смысл,
последний элемент нужно поставить на первое место, а
первый — на последнее. Вы помните также из нашего изучения
символики сновидения, что входить или падать в воду
означало то же самое, что и выходить из воды, а именно рождать
или рождаться, и что подниматься по лестнице означает то
же самое, что и спускаться по ней. Несомненно, что
искажение сновидения может извлечь из такой свободы
изображения определенную выгоду.
Эти черты работы сновидения можно назвать
архаическими. Они присущи также древним системам выражения,
языкам и письменностям, и несут с собой те же трудности,
о которых речь будет ниже в критическом обзоре.
А теперь еще о некоторых других взглядах. При работе
сновидения дело, очевидно, заключается в том, чтобы
выраженные в словах скрытые мысли перевести в чувственные
образы по большей части зрительного характера. Наши
мысли как раз и произошли из таких чувственных образов; их
первым материалом и предварительными этапами были
чувственные впечатления, правильнее сказать, образы
воспоминания о таковых. Только позднее с ними связываются слова,
а затем и мысли. Таким образом, работа сновидения
заставляет мысли пройти регрессивный путь, лишает их
достигнутого развития, и при этой регрессии должно исчезнуть все
то, что было приобретено в ходе развития от образов
воспоминаний к мыслям.
Такова работа сновидения. По сравнению с процессами,
о которых мы узнали при ее изучении, интерес к явному
сновидению должен отойти на задний план. Но этому по-
303
Зигмунд ФРЕЙД
следнему, которое является все-таки единственным, что нам
непосредственно известно, я хочу посвятить еще несколько
замечаний.
Естественно, что явное сновидение теряет для нас свою
значимость. Нам безразлично, хорошо оно составлено или
распадается на ряд отдельных бессвязных образов. Даже если
оно имеет кажущуюся осмысленной внешнюю сторону, то
мы все равно знаем, что она возникла благодаря искажению
сновидения и может иметь к внутреннему его содержанию
так же мало отношения, как фасад итальянской церкви к ее
конструкции и силуэту. В некоторых случаях и этот фасад
сновидения имеет свое значение, когда он передает в мало
или даже совсем не искаженном виде какую-то важную
составную часть скрытых мыслей сновидения. Но мы не можем
узнать этого, не подвергнув сновидение толкованию и не
составив благодаря нему суждения о том, в какой мере имело
место искажение. Подобное же сомнение вызывает тот
случай, когда два элемента сновидения, по-видимому,
находятся в тесной связи. В этом может содержаться ценный намек
на то, что соответствующие этим элементам скрытые мысли
сновидения тоже должны быть приведены в связь, но в
других случаях убеждаешься, что то, что связано в мыслях,
разъединено в сновидении.
В общем, следует избегать того, чтобы объяснять одну
часть явного сновидения другой, как будто сновидение связно
составлено и является прагматическим изложением. Его,
скорее, можно сравнить с искусственным мрамором брекчией,
составленным из различных кусков камня при помощи
цементирующего средства так, что получающиеся узоры не
соответствуют первоначальным составным частям.
Действительно, есть некая часть работы сновидения, так называемая
вторичная обработка (sekundäre Bearbeitung), которая
старается составить из ближайших результатов работы сновидения
более или менее гармоничное целое. При этом материал
располагается зачастую совершенно не в соответствии со
смыслом, а там, где кажется необходимым, делаются вставки.
С другой стороны, нельзя переоценивать работу
сновидения, слишком ей доверять. Ее деятельность исчерпывается
перечисленными результатами; больше, чем сгустить, смес-
304
Введение в психоанализ
тить, наглядно изобразить и подвергнуть целое вторичной
обработке, она не может сделать. То, что в сновидении
появляются выражения суждений, критики, удивления,
заключения, — это не результаты работы сновидения и только очень
редко это проявления размышления о сновидении, но это по
большей части — фрагменты скрытых мыслей сновидения,
более или менее модифицированных и приспособленных к
контексту, перенесенных в явное сновидение. Работа
сновидения также не может создавать и речей. За малыми
исключениями речи в сновидении являются подражаниями и
составлены из речей, которые видевший сон слышал или сам
произносил в тот день, когда видел сон, и которые включены
в скрытые мысли как материал или как побудители
сновидения. Точно так же работа сновидения не может
производить вычисления; все вычисления, которые встречаются в
явном сновидении, — это по большей части набор чисел,
кажущиеся вычисления, как вычисления они совершенно
бессмысленны, и истоки вычислений опять-таки находятся в
скрытых мыслях сновидения. При этих отношениях
неудивительно также, что интерес, который вызывает работа
сновидения, скоро устремляется от нее к скрытым мыслям
сновидения, проявляющимся благодаря явному сновидению в
более или менее искаженном виде. Но нельзя оправдывать
то, чтобы это изменение отношения заходило так далеко, что
с теоретической точки зрения скрытые мысли вообще
ставятся на место самого сновидения и о последнем
высказывается то, что может относиться только к первым. Странно,
что для такого смешивания могли злоупотребить
результатами психоанализа. «Сновидением» можно назвать не что
иное, как результат работы сновидения, т. е. форму, в
которую скрытые мысли переводятся благодаря работе
сновидения.
Работа сновидения — процесс совершенно своеобразного
характера, до сих пор в душевной жизни не было известно
ничего подобного. Такие сгущения, смещения, регрессивные
превращения мыслей в образы являются новыми
объектами, познание которых уже достаточно вознаграждает усилия
психоанализа. Из приведенных параллелей к работе
сновидения вы можете также понять, какие связи открываются
305
Зигмунд ФРЕЙД
между психоаналитическими исследованиями и другими
областями, в частности между развитием языка и мышления.
О другом значении этих взглядов вы можете догадаться
только тогда, когда узнаете, что механизмы образования
сновидений являются прототипом способа возникновения
невротических симптомов.
Я знаю также, что мы еще не можем полностью понять
значения для психологии всех новых данных,
заключающихся в этих работах. Мы хотим указать лишь на то, какие новые
доказательства имеются для существования бессознательных
душевных актов — а ведь скрытые мысли являются ими —
и какой неожиданно широкий доступ к знанию
бессознательной душевной жизни обещает нам толкование сновидений.
Ну, а теперь, пожалуй, самое время привести вам
различные примеры отдельных сновидений, к этому вы
подготовлены всем вышеизложенным.
Двенадцатая лекция
Анализ отдельных сновидений
Уважаемые дамы и господа! Не разочаровывайтесь, если
я опять предложу вам фрагменты толкований сновидений,
вместо того чтобы пригласить вас участвовать в толковании
большого хорошего сновидения. Вы скажете, что имеете на
это право после стольких приготовлений, и выскажете
убеждение, что после удачного толкования стольких тысяч
сновидений давно должна была бы возникнуть возможность
составить набор отличных сновидений, которые позволяли бы
продемонстрировать все наши утверждения о работе и
мыслях сновидения. Да, но существует слишком много
трудностей, препятствующих выполнению вашего желания.
Прежде всего должен вам признаться, что нет никого, кто
занимался бы толкованием сновидений в качестве своего
основного занятия. Ведь как приходят к толкованию
сновидений? Случайно, без особого намерения можно заняться
сновидениями друга или работать какое-то время над своими
собственными сновидениями, чтобы поупражняться в психо-
306
Введение в психоанализ
аналитической работе; но по большей части приходится
иметь дело со сновидениями лиц, страдающих неврозами,
подвергающихся аналитическому лечению. Сновидения этих
последних представляют собой отличный материал и никоим
образом не уступают сновидениям здоровых, но техника
лечения вынуждает нас подчинять толкование сновидения
терапевтическим задачам и оставлять без внимания большое
число сновидений после того, как из них было взято что-то
нужное для лечения. Некоторые сновидения, встречающиеся
во время лечения, вообще недоступны полному толкованию.
Так как они возникают из всей совокупности
неизвестного нам психического материала, то их понимание возможно
только после окончания лечения. Сообщение о таких
сновидениях сделало бы неизбежным раскрытие всех тайн невроза;
это нам не нужно, так как мы взялись за сновидение с целью
подготовиться к изучению неврозов.
Вы охотно отказались бы от этого материала и скорее
предпочли бы услышать толкования сновидений здоровых
людей или своих собственных. Но из-за содержания
сновидений это недопустимо. Ни самого себя, ни другого, чьим
доверием пользуешься, нельзя так беспощадно обнажать, как
этого требует подробное толкование его сновидений,
которые, как вы уже знаете, имеют отношение к самому
интимному в его личности. Кроме этого затруднения в
получении материала, для сообщения принимается во внимание и
другое. Вы знаете, что сновидение кажется странным даже
самому видевшему сон, не говоря уже о другом человеке,
которому личность видевшего сон незнакома. В нашей
литературе нет недостатка в хороших и подробных анализах
сновидений, я сам опубликовал некоторые из них в рамках
историй болезни; может быть, самый лучший пример
толкования сновидений представляют собой опубликованные
О. Ранком (1910b) два связанных между собой сновидения
одной молодой девушки, запись которых занимает около
двух печатных страниц, тогда как их анализ — 76 страниц.
Мне понадобился бы примерно целый семестр, чтобы
показать вам эту работу. Если берешься за какое-нибудь более
длинное и еще более искаженное сновидение, то приходится
давать столько объяснений, привлекать такое обилие ассоци-
307
Зигмунд ФРЕЙД
ативных мыслей и воспоминаний, делать так много
отступлений, что лекция о нем оказалась бы совершенно
запутанной и неудовлетворительной. Поэтому я должен просить вас
довольствоваться тем, что легче получить, — сообщением о
небольших фрагментах сновидений лиц, страдающих
неврозом, по которым по отдельности можно узнать то или иное.
Легче всего продемонстрировать символы сновидения,
затем — определенные особенности регрессивного
изображения сновидений. О каждом из нижеследующих сновидений
я скажу вам, почему я счел нужным сообщить о нем.
1. Сновидение состоит только из двух простых картин:
его дядя курит папиросу, хотя сегодня суббота; какая-то
женщина гладит и ласкает его (видевшего сон), как своего
ребенка.
По поводу первой картины видевший сон (еврей)
замечает, что его дядя — набожный человек, который никогда не
совершал и не совершил бы подобного греха. Относительно
женщины во второй картине ему ничего не приходит в
голову, кроме того, что это его мать. Обе эти картины или
мысли, очевидно, следует привести в соответствие друг с
другом. Но каким образом? Так как он решительно
оспаривает действие дяди, то естественно прибавить «если». «Если
мой дядя, святой человек, стал бы курить в субботу
папиросу, то я мог бы допустить ласки матери». Очевидно, что
ласка матери — такое же недопустимое действие, как
курение в субботу для набожного еврея. Вспомните, что я
говорил вам о том, что при работе сновидения отпадают все
отношения между мыслями сновидения; они растворяются
в своем сыром материале, и задачей толкования является
вновь восстановить опущенные отношения.
2. Благодаря своим публикациям о сновидении я стал в
известном смысле общественным консультантом по
вопросам сновидений и в течение многих лет получаю с самых
разных сторон письма, в которых мне сообщаются
сновидения или предлагается их толкование. Я, конечно, благодарен
всем тем, кто прибавляет к сновидению достаточно
материала, чтобы толкование стало возможным, или кто сам
дает такое толкование. К этой категории относится
следующее сновидение одного врача из Мюнхена, относящееся к
308
Введение в психоанализ
1910 г. Я привожу его, потому что оно может вам доказать,
насколько сновидение в общем недоступно пониманию,
пока видевший сон не даст нам дополнительно своих
сведений. Я ведь предполагаю, что вы, в сущности, считаете
идеальным толкование сновидений с помощью использования
значения символов, ассоциативную же технику хотели бы
устранить, а мне хочется освободить вас от этого вредного
заблуждения.
«13 июля 1910 г. мне снится: я еду на велосипеде вниз по
улице Тюбингена, как вдруг коричневая такса пускается за
мной в погоню и хватает меня за пятку. Проехав немного
дальше, я слезаю с велосипеда, сажусь на ступеньку и
начинаю колотить животное, крепко уцепившееся зубами (от
укуса и всей сцены у меня нет неприятных чувств). Напротив
сидят несколько престарелых дам, которые смотрят на меня
улыбаясь. Затем я просыпаюсь, и, как уже часто бывало, в
этот момент перехода к бодрствованию все сновидение
становится мне ясным».
Символами здесь мало поможешь. Но видевший сон
сообщает нам: «В последнее время я был влюблен в одну
девушку, видел ее только на улице, но не имел никакой
возможности завести знакомство. Самым приятным для меня
поводом для знакомства могла быть такса, так как я
большой любитель животных и это же качество с симпатией
заметил у девушки». Он добавляет также, что неоднократно
с большой ловкостью и зачастую к удивлению зрителей
вмешивался в борьбу грызущихся между собой собак. Итак, мы
узнаем, что понравившаяся ему девушка постоянно
появлялась в сопровождении этой особенной собаки. Но из явного
сновидения эта девушка устранена, осталась только
ассоциируемая с ней собака. Может быть, престарелые дамы,
которые ему улыбаются, заняли место девушки. Того, что
он еще сообщает, недостаточно для объяснения этого
момента. То, что в сновидении он едет на велосипеде, является
прямым повторением припоминаемой ситуации. Он всегда
встречал девушку с собакой только тогда, когда был на
велосипеде.
3. Если кто-нибудь потерял своего дорогого
родственника, то ему долгое время после этого снятся сны особого рода,
309
Зигмут) ФРЕЙД
в которых знание о смерти заключает самые странные
компромиссы с потребностью воскресить мертвого. То умерший,
будучи мертвым, продолжает все-таки жить, потому что он
не знает, что умер, и если бы он это узнал, то лишь тогда
умер бы окончательно; то он наполовину мертв, а
наполовину жив, и каждое из этих состояний имеет свои особые
признаки. Эти сновидения нельзя назвать бессмысленными, так
как воскресение для сновидения не является неприемлемым,
как, например, и для сказки, где это совершенно обычное
событие. Насколько я смог проанализировать такие
сновидения, они способны на разумное решение, но достойное
уважения желание возвратить к жизни мертвого умеет
добиваться этого самыми странными средствами. Я предлагаю вам
здесь такое сновидение, которое звучит достаточно странно
и бессмысленно и анализ которого покажет вам многое из
того, к чему вы подготовлены нашими теоретическими
рассуждениями. Сновидение одного мужчины, который
несколько лет тому назад потерял отца.
Отец умер, но был выкопан и плохо выглядит. С тех пор
он живет, и видевший сон делает все, чтобы он ничего не
заметил. (Затем сновидение переходит на другие явления,
не имеющие с этим, по-видимому, ничего общего.)
Отец умер, это мы знаем. Что он был выкопан, не
соответствует действительности, да и все последующее не
принимает ее во внимание. Но видевший сон рассказывает:
когда он вернулся с похорон отца, у него разболелся зуб. Он
хотел поступить с ним по предписанию еврейского учения:
если твой зуб тебе досаждает, вырви его, — и отправился
к зубному врачу. Но тот сказал: зуб не следует вырывать,
нужно потерпеть. Я кое-что положу, чтобы его убить,
приходите через три дня опять, я это выну.
Это «вынимание», говорит вдруг видевший сон, и есть
эксгумация.
Неужели видевший сон прав? Не совсем, потому что
ведь вынимался не сам зуб, а только то, что в нем
омертвело. Но подобные неточности, судя по другим примерам,
вполне можно ожидать от работы сновидения. Видевший
сон сгустил, слил в одно умершего отца и мертвый, но
сохраненный зуб. Неудивительно, что в явном сновидении по-
310
Введение в психоанализ
лучилось что-то бессмысленное, потому что не все, что
можно сказать о зубе, подходит к отцу. Где же вообще Tertium
comparalionisx между зубом и отцом, что сделало возможным
это сгущение?
И все-таки это, должно быть, именно так, потому что
видевший сон продолжает рассказывать, что ему известно,
если увидишь во сне выпавший зуб, то это значит, что
потеряешь кого-нибудь из членов семьи.
Мы знаем, что это популярное толкование неверно или
верно, по крайней мере, только в шуточном смысле. Тем
более нас поражает то обстоятельство, что начатую таким
образом тему можно проследить и в других фрагментах
содержания сновидения.
Без дальнейших требований видевший сон начинает
теперь рассказывать о болезни и смерти отца, и также о своем
отношении к нему. Отец долго болел, уход и лечение стоили
ему, сыну, много денег. И тем не менее ему ничего не было
жаль, он никогда не терял терпения, никогда не испытывал
желания, чтобы скорее наступил конец. Он хвастает чисто
еврейской почтительностью к отцу, строгим выполнением
еврейского закона. Но не бросается ли нам в глаза
противоречие в относящихся к сновидению мыслях? Он
идентифицировал зуб с отцом. По отношению к зубу он хотел
поступить по еврейскому закону, приговор которого гласил:
вырвать его, если он причиняет боль и досаду. И по
отношению к отцу он хотел поступить по предписанию закона,
который на этот раз означал, несмотря на затраты и
беспокойство, взять всю тяжесть на себя и не допускать никакого
враждебного намерения против причиняющего горе объекта.
Разве сходство не было бы гораздо более несомненным, если
бы он действительно проявил по отношению к больному
отцу те же чувства, что и к больному зубу, т. е. пожелал бы,
чтобы скорая смерть положила конец его излишнему,
страдальческому и дорогостоящему существованию?
Я не сомневаюсь в том, что таково было его
действительное отношение к отцу во время его длительной болезни, а
хвастливые уверения в его набожной почтительности пред-
Третье в сравнении.
311
Зигмунд ФРЕЙД
назначены для того, чтобы отвлечь внимание от этих
воспоминаний. При таких условиях обыкновенно возникает
желание смерти тому, кто причиняет беспокойство, и он
скрывается под маской сострадания, когда, например, думают:
это было бы для него только избавлением. Но заметьте, что
в данном случае даже в скрытых мыслях сновидения мы
перешагнули какую-то черту. Первая их часть, несомненно,
только временно, т. е. во время образования сновидения,
бессознательна, но враждебные чувства против отца могли быть
длительное время бессознательными, может быть, возникли
еще в детские годы, а во время болезни отца постепенно
робко и замаскированно проскальзывали в сознание. С еще
большей уверенностью мы можем утверждать это о других
скрытых мыслях, которые, без сомнения, были
представлены в содержании сновидения. Из самого сновидения о
враждебных чувствах к отцу ничего нельзя узнать. Но, исследуя
истоки такой враждебности к отцу в детстве, мы вспомним,
что страх перед отцом существует, потому что уже в самые
ранние годы он противится сексуальной деятельности
мальчика, как правило, он повторяет это из социальных
соображений и после достижения им возраста половой зрелости.
Это отношение к отцу свойственно и нашему видевшему сон
лицу; к его любви к отцу было прибавлено достаточно
уважения и страха, имевших своим источником раннее
сексуальное запугивание.
Дальнейшие утверждения явного сновидения
объясняются комплексом онанизма. «Он плохо выглядит» хотя и
относится к словам зубного врача, что будет некрасиво, если
вырвать зуб на этом месте, но одновременно это имеет
отношение к неважному виду, которым молодой человек в
период половой зрелости выдает или боится выдать свою
чрезмерную половую деятельность. То, что видевший сон не без
облегчения перенес в явном сновидении неважный вид с
себя на отца, есть одна из известных вам инверсий в работе
сновидения. С тех пор он продолжает жить покрывается
как желанием воскресить, так и обещанием зубного врача,
что зуб сохранится. Но особенно хитроумно предложение
«видевший сон делает все, чтобы он (отец) этого не
заметил», направленное на то, чтобы склонить нас к дополне-
312
Введение в психоанализ
нию, что он умер. Но единственно разумное дополнение
вытекает опять-таки из комплекса онанизма, когда, само
собой разумеется, молодой человек делает все, чтобы скрыть
от отца свою сексуальную жизнь. Вспомните, наконец, что
так называемые сновидения с вырыванием зуба мы должны
всегда толковать как онанистические и выражающие страх
перед наказанием за онанизм.
Теперь вы видите, как составилось это непонятное
сновидение. Произошло странное и вводящее в заблуждение
сгущение, в котором все мысли происходят из среды
скрытых мыслей и в котором для самых глубоких и отдаленных
по времени из этих мыслей создаются ее многозначные
замещающие образования.
4. Мы уже неоднократно пытались взяться за те
«трезвые» и банальные сновидения, в которых нет ничего
бессмысленного или странного, но по отношению к которым
встает вопрос: зачем видишь во сне такую чепуху? Я хочу
привести еще один пример такого рода, три составляющие
одно целое сновидения, приснившиеся в одну ночь
молодой даме.
а) Она идет через залу своего дома и разбивает голову
о низко висящую люстру.
Никаких воспоминаний, ничего, что действительно
произошло бы. Ее комментарии ведут совсем по другому пути.
«Вы знаете, как сильно у меня выпадают волосы. Дитя,
сказала мне вчера мать, если так будет продолжаться, то у тебя
голова станет как задняя часть (Роро)». Итак, голова
выступает здесь вместо другого конца тела. Люстру мы и сами
можем понять символически; все предметы, способные
вытягиваться в длину, являются символами мужского члена.
Таким образом, речь идет о кровотечении из нижней части
тела, которое возникает от столкновения с пенисом. Это
могло бы иметь еще несколько значений; ее ассоциативные
мысли показывают, что дело заключается в предположении,
будто менструация возникает в результате полового акта
с мужчиной, — часть сексуальной теории, распространенной
среди многих незрелых девушек.
б) Она видит в винограднике глубокую яму, о которой
она знает, что та образовалась благодаря вырванному дере-
313
Зигмунд ФРИЙД
ву. Она замечает при этом, что дерева у нее нет. Она имеет
в виду, что не видела дерева во сне, но эта фраза служит
выражением другой мысли, которая полностью
подтверждает символическое толкование. Сновидение относится к
другой части детских сексуальных теорий — к убеждению, что
первоначально девочки имели такие же гениталии, как и
мальчики, и теперешняя их форма образовалась в
результате кастрации (вырывания дерева).
в) Она стоит перед ящиком своего письменного стола,
в котором ей все так хорошо знакомо, что она сразу же
узнает, если кто-нибудь в нем рылся. Ящик письменного
стола, как всякий ящик, сундук, коробка — женские
гениталии. Она знает, что по гениталиям можно узнать об
имевшем место половом сношении (как она думает, и
прикосновении), и давно боится такого разоблачения. Я думаю, что
во всех этих трех сновидениях акцент следует сделать на
познании. Она вспоминает время своего детского
сексуального исследования, результатами которого тогда очень
гордилась.
5. Опять немного символики. Но на этот раз в коротком
предварительном сообщении я заранее представлю
психическую ситуацию. Один господин, который провел
любовную ночь с женщиной, описывает свою партнершу как одну
из тех материнских натур, у которых при половых
сношениях с мужчиной неотвратимо появляется желание иметь
ребенка. Но условия той встречи требуют осторожности, из-
за которой оплодотворяющее семяизвержение удаляется из
женского лона. Проснувшись после этой ночи, женщина
рассказывает следующий сон:
На улице ее преследует офицер в красной фуражке. Она
убегает от него, бежит вверх по лестнице, он все за ней.
Задыхаясь, она достигает своей квартиры и захлопывает за
собой дверь. Он остается снаружи и, как она видит в глазок,
сидит снаружи и плачет.
В преследовании офицера в красной фуражке и в том,
как она задыхаясь поднимается по лестнице, вы, видимо,
узнали изображение полового акта. То, что видевшая сон
запирается перед преследователем, может служить
примером так часто используемых в сновидении инверсий, потому
314
Введение в психошиитз
что ведь в действительности мужчина воздержался от
окончания любовного акта. Точно так же она перенесла свою
грусть на партнера, так как он плачет в сновидении;
одновременно этим делается намек на семяизвержение.
Вы, конечно, когда-нибудь слышали, будто психоанализ
утверждает, что все сновидения имеют сексуальное
значение. Теперь вы сами в состоянии судить о корректности
этого упрека. Вы познакомились со сновидениями,
выражающими желания, в которых речь идет об удовлетворении
самых ясных потребностей: голода, жажды, тоски по
свободе, со сновидениями, выражающими удобство и нетерпение,
а также чисто корыстолюбивыми и эгоистическими. Но во
всяком случае вы должны запомнить как результат
психоаналитического исследования, что сильно искаженные
сновидения преимущественно, но опять-таки не исключительно,
выражают сексуальные желания.
6. У меня особая причина привести побольше примеров
использования символов в сновидении. При нашей первой
встрече я жаловался на то, как трудна при преподавании
психоанализа демонстрация и как сложно сформировать
таким путем убеждения, и вы со мной, несомненно, согласны.
Однако отдельные утверждения психоанализа настолько
тесно связаны между собой, что убеждение легко может
распространиться с одного пункта на большую часть всей теории.
О психоанализе можно было бы сказать: кто дает ему палец,
того он держит уже за всю руку. Кому ясно объяснение
ошибочных действий, тот, по логике вещей, не может не поверить
всему остальному. Вторым таким же доступным моментом
является символика сновидений. Сообщу вам уже
опубликованное сновидение женщины из простонародья, муж которой
полицейский и которая, конечно, никогда ничего не слышала
о символике сновидений и психоанализе. Судите сами,
можно ли назвать произвольным и искусственным его
толкование с помощью сексуальных символов.
«...Затем кто-то ворвался в квартиру, и она в испуге
позвала полицейского. Но тот с двумя „бродягами" спокойно
пошел в церковь, к которой вело несколько ступеней. За
церковью была гора, а наверху густой лес. На полицейском был
шлем, круглый воротник и плащ, у него была темная борода.
315
Зигмунд ФРЕЙД
Оба бродяги, которые мирно гили вместе с полицейским,
имели повязанные на бедрах мешкообразные передники. От
церкви к горе вела дорога. Она с обеих сторон поросла травой
и кустарником, который становился все гуще, а на вершине
превращался в настоящий лес».
Вы без труда узнаете использованные символы. Мужские
гениталии изображены тремя лицами, женские —
ландшафтом с капеллой, горой и лесом. Вы опять встречаетесь со
ступенями в качестве символа полового акта. То, что в
сновидении называется горой, и в анатомии имеет то же
название, а именно Mons Veneris, бугор Венеры.
7. Еще одно сновидение, которое можно разъяснить при
помощи символов, замечательное и убедительное тем, что
сам видевший сон перевел все символы, хотя у него не было
никаких предварительных теоретических знаний для
толкования сновидений. Такой образ действий весьма необычен,
и условия его точно неизвестны.
Юн гуляет с отцом в каком-то месте, наверное, на Пра-
тере, потому что видна ротонда, перед ней маленькая
пристройка, к ней привязан воздушный шар, который
кажется довольно плохо надутым. Отец спрашивает его, к чему
все это; он удивляется этому, но объясняет ему. Затем они
приходят на двор, на котором разложен большой лист
жести. Отец хочет оторвать себе от него большой кусок, но
сначала оглядывается, не может ли его кто-нибудь
заметить. Он говорит ему, что нужно только сказать
смотрителю, и тогда он может взять себе без всяких колебаний.
Из этого двора вниз ведет лестница в шахту, стены
которой обиты мягким, вроде как кожаное кресло. В конце
этой шахты длинная платформа, а дальше начинается
новая шахта...»
Сам видевший сон толкует его: ротонда — мои
гениталии, воздушный шар перед ней — мой пенис, на мягкость
которого я вынужден жаловаться. Следует перевести более
детально: ротонда — задняя часть, постоянно причисляемая
ребенком к гениталиям, маленькая пристройка — мошонка.
В сновидении отец его спрашивает, что все это значит, т.е.
о цели и функции гениталий. Вполне естественно обернуть
это положение вещей так, чтобы спрашивал он. Так как он
316
Введение в психоанализ
никогда не спрашивал отца об этом, мысль сновидения
следует понимать как желание принять его условно вроде:
«если бы я попросил отца разъяснить сексуальное».
Продолжение этой мысли мы скоро найдем в другом месте.
Двор, где разложена жесть, не следует сразу понимать
символически, он представляет собой торговое помещение
отца. По причине соблюдения тайны я заменил жестью тот
материал, которым торгует отец, не изменив ни в чем
остальном дословную передачу сновидения. Видевший сон вступил
в дело отца и был чрезвычайно поражен той скорее
некорректной практикой, на которой по большей части
основывается получение прибыли. Поэтому продолжение
вышеупомянутой мысли сновидения могло бы гласить: «(если бы я его
спросил), он обманул бы меня, как обманывает своих
клиентов». По поводу ломки жести, которая служит для
изображения деловой нечестности, видевший сои сам дает второе
объяснение: она означает онанизм. Это нам не только давно
знакомо, но также очень хорошо согласуется с тем, что тайна
онанизма выражена посредством противоположности (ведь
это можно делать открыто). Далее, как и следовало ожидать,
онанистическая деятельность приписывается опять-таки
отцу, как и расспросы в первой сцене сновидения. Шахту он
сразу же толкует как влагалище, ссылаясь на мягкую
обивку стен. То, что спуском, как и подъемом, обычно
изображается половой акт во влагалище, я добавлю по собственной
инициативе.
Те детали, что за первой шахтой следует длинная
платформа, а затем новая шахта, он сам объясняет
биографически. Он долгое время вел половую жизнь, затем отказался от
половых сношений вследствие затруднений и теперь
надеется опять возобновить их с помощью лечения.
8. Оба следующих сновидения одного иностранца с
предрасположенностью к полигамии я приведу вам в
доказательство утверждения, что собственное Я проявляется в
каждом сновидении, даже если оно скрыто в явном
содержании. Чемоданы в сновидении являются женскими
символами.
а) Он уезжает, его багаж доставляется в экипаже на
вокзал, много чемоданов один на другом, среди них два боль-
317
Зигмунд ФРЕЙД
ших черных «образцовых» чемодана. В утешение он кому-то
говорит: так ведь эти едут только до вокзала.
В действительности он путешествует с очень большим
багажом, во время лечения рассказывает также очень много
историй с женщинами. Два черных чемодана
соответствуют двум брюнеткам, которые в настоящее время играют в
его жизни главную роль. Одна из них хотела приехать вслед
за ним в Вену; но по моему совету он отказал ей по
телеграфу.
6) Сцена в таможне: один пассажир открывает свой
чемодан и говорит, равнодушно закуривая папиросу: тут ничего
нет. Таможенный чиновник, кажется, верит ему, но опускает
еще раз руку и находит что-то особенно запрещенное. Тогда
пассажир разочарованно говорит: тут ничего не поделаешь.
Он сам — пассажир, я — таможенный чиновник. Обычно он
очень искренен в своих признаниях, но решил утаить от меня
новую связь с дамой, потому что правильно полагал, что она
мне небезызвестна. Неприятное положение быть уличенным
он перенес на чужое лицо, так что сам он как будто не
появляется в этом сновидении.
9. Вот пример использования символа, о котором я еще
не упоминал:
Он встречает свою сестру в сопровождении двух подруг,
которые сами сестры. Он подает руку обеим, а сестре нет.
Никакой связи с действительными событиями. Его
мысли уносятся к тому времени, когда он размышлял над
своим наблюдением, что грудь девочек развивается так поздно.
Итак, обе сестры — это груди, он с удовольствием бы их
потрогал, но только чтобы это не были груди его сестры.
10. А вот пример символики смерти в сновидении:
Он идет по очень высокому, крутому железному мостику
с двумя лицами, имена которых знает, но при пробуждении
забывает. Вдруг те двое исчезают, а он видит человека,
похожего на привидение, в колпаке и полотняном костюме. Он
спрашивает у него, не телеграфист ли он... Нет. Не извозчик
ли? Нет. Тогда он идет дальше, еще во сне испытывает
сильный страх и, проснувшись, продолжает сновидение
фантазией, что железный мост вдруг ломается, и он падает в
пропасть.
318
Введение в психоанилиз
Лица, о которых подчеркивается, что они неизвестны, что
их имена забыты, по большей части очень близкие люди.
Видевший сон имеет двух сестер; если бы он хотел им обеим
смерти, то было бы вполне справедливо, что за это его
постиг бы страх смерти. О телеграфисте он замечает, что такие
люди всегда приносят плохие вести, судя по форменной
одежде, это мог быть и фонарщик, который так же тушит
фонари, как гений смерти гасит факел жизни. С извозчиком
он ассоциирует стихотворение Уланда о морской поездке
короля Карла и вспоминает опасное морское путешествие с
двумя товарищами, во время которого он играл роль короля
из стихотворения. По поводу железного моста ему приходит
в голову один несчастный случай последнего времени и
глупое выражение: «жизнь есть мост из цепей».
11. Другим примером изображения смерти может
служить сновидение:
Неизвестный господин подает за него визитную карточку
с черной каймой.
12. Во многих отношениях вас заинтересует следующее
сновидение, к предпосылкам которого, правда, относится
невротическое состояние.
Он едет по железной дороге. Поезд останавливается в
открытом поле. Он полагает, что грозит катастрофа и
надо подумать о том, чтобы спастись бегством, проходит по
всем отделениям поезда и убивает всех, кого встречает:
кондукторов, машиниста и т. д.
По этому поводу — воспоминание о рассказе друга. На
какой-то линии в Италии в полукупе перевозили
душевнобольного, но по недосмотру впустили к нему пассажира.
Душевнобольной убил спутника. Таким образом, он
идентифицирует себя с этим душевнобольным и обосновывает
свое право навязчивым представлением, которое его
временами мучает, что он должен «устранить всех
соучастников». Но затем он сам находит лучшую мотивировку,
которая дает повод для сновидения. Вчера в театре он снова
увидел девушку, на которой хотел жениться, но оставил,
так как она дала ему основание для ревности. При той
интенсивности, до которой у него доходит ревность, он
действительно сошел бы с ума, если бы женился на ней. Это
319
Зигмунд ФРЕЙД
значит: он считает ее настолько ненадежной, что из
ревности должен был бы убивать всех людей, которые попадались
ему на пути. Хождение через ряд комнат, в данном
случае отделений, как символ состояния в браке
(Verheiratetsein) (противоположность единобрачию — Einehe) мы уже
знаем.
Об остановке поезда в открытом поле и страхе перед
катастрофой он рассказывает: когда однажды во время
поездки по железной дороге произошла неожиданная
остановка не на станции, одна едущая вместе с ним молодая
дама заявила, что, возможно, предстоит столкновение, и
тогда самым целесообразным было бы убежать [die Beine hoch
zu heben — поднять вверх ноги]. Но это «ноги вверх» (die
Beine hoch) играло также свою роль во многих прогулках и
экскурсиях на лоно природы, которые он предпринимал с
той девушкой в первое счастливое время любви. Новый
аргумент для того, что он должен был сойти с ума, чтобы
теперь жениться на ней. Я мог считать несомненным, зная
ситуацию, что у него все еще имелось это желание быть
таким сумасшедшим.
Тринадцатая лекция
Архаические черты и инфантилизм сновидения
Уважаемые дамы и господа! Позвольте мне опять начать
с полученного нами результата, что работа сновидения под
влиянием цензуры переводит скрытые мысли в другую
форму выражения. Скрытые мысли — это не что иное, как
известные нам сознательные мысли нашей жизни в состоянии
бодрствования; новый способ их выражения непонятен нам
из-за своих многообразных черт. Мы сказали, что он
возвращается к тем состояниям нашего интеллектуального
развития, которые мы давно преодолели, к образному языку,
символическому отношению, может быть, к отношениям,
существовавшим до развития языка нашего мышления. Способ
выражения работы сновидения мы назвали поэтому
архаическим или регрессивным.
320
Введение о психоанализ
Отсюда вы можете сделать заключение, что благодаря
углубленному изучению работы сновидения нам, должно быть,
удастся добыть ценные сведения о малоизвестных началах
нашего интеллектуального развития. Я надеюсь, что так оно
и будет, но до сих пор к этой работе еще никто не приступал.
Доисторическое время, к которому нас возвращает работа
сновидения, двоякого рода: во-первых, это индивидуальное
доисторическое время, детство, с другой стороны, поскольку
каждый индивидуум в своем детстве каким-то образом
вкратце повторяет все развитие человеческого вида, то это
доисторическое время также филогенетическое. Возможно, нам
удастся различить, какая часть скрытых душевных процессов
происходит из индивидуальной, а какая — из
филогенетической эпохи. Так, например, мне кажется, что символическое
отношение, которому никогда не учился отдельный человек,
имеет основание считаться филогенетическим наследием.
Однако это не единственная архаическая черта
сновидения. Вы все, вероятно, знаете из собственного опыта о
странной амнезии детства. Я имею в виду тот факт, что первые
годы жизни до пятого, шестого или восьмого года не
оставляют в памяти следов, как более поздние переживания.
Правда, встречаются отдельные люди, которые могут похвастаться
непрерывными воспоминаниями от раннего детства до
настоящего времени, но другие, с провалами памяти, —
несравненно более частое явление. Я полагаю, что этот факт не вызывал
удивления, которого он заслуживает. В два года ребенок
может хорошо говорить, скоро он обнаруживает, что
разбирается в сложных душевных ситуациях, и сам высказывает такие
суждения, которые многие годы спустя ему пересказывают,
так как сам он их забыл. И при этом память в ранние годы
более продуктивна, потому что загружена меньше, чем в более
поздние годы. Нет также никакого основания считать
функцию памяти особенно высокой и трудной деятельностью
души; напротив, хорошую память можно встретить у лиц,
стоящих на очень низкой ступени интеллектуального развития.
В качестве второй странной особенности, которая
дополняет первую, следует выделить то, что из пустоты
воспоминаний, охватывающей первые детские годы, всплывают
отдельные хорошо сохранившиеся, по большей части наглядные
31 -3518
321
Зшмупд ФРЕЙД
воспоминания, сохранять которые нет никаких оснований.
С материалом впечатлений, встречающихся нам в
последующей жизни, память распоряжается таким образом, что делает
из него выбор. Она сохраняет что-то важное, а от неважного
отказывается. С сохранившимися детскими воспоминаниями
дело обстоит иначе. Они соответствуют не самым важным
переживаниям детских лет, и даже не тем, которые должны
бы казаться важными с точки зрения ребенка. Часто они
настолько банальны и сами по себе незначительны, что мы
только удивляемся, почему именно эта деталь избежала забвения.
В свое время я пытался с помощью анализа исследовать
загадку детской амнезии и прорывающих ее остатков
воспоминаний и пришел к выводу, что все-таки в воспоминаниях
у ребенка остается только важное. Лишь благодаря уже
знакомым вам процессам сгущения и особенно смещения это
важное в воспоминании представляется другим, что кажется
неважным. Эти детские воспоминания я назвал поэтому
покрывающими воспоминаниями (Deckerrinemngen), путем
основательного анализа из них можно извлечь все забытое.
При психоаналитическом лечении совершенно
закономерно возникает задача заполнить пробел в детских
воспоминаниях, и поскольку лечение вообще в какой-то степени
удается, и это случается весьма часто, мы в состоянии опять
восстановить содержание тех забытых детских пет. Эти
впечатления никогда по-настоящему не забываются, они
были только недоступными, скрытыми, принадлежали к
бессознательному. Но само по себе случается и так, что они
всплывают из бессознательного, и происходит это в связи
со сновидениями. Оказывается, что жизнь во сне умеет
находить доступ к этим скрытым инфантильным
переживаниям. В литературе имеются прекрасные тому примеры, и я
сам имел возможность опубликовать сообщение о подобном
случае. Однажды я видел во сне в определенной связи одно
лицо, которое, по всей вероятности, оказало мне услугу и
которое я ясно увидел перед собой. Это был одноглазый
мужчина маленького роста, толстый, с глубоко сидящей
между плечами головой. Из общего контекста я заключил,
что он был врач. К счастью, я мог расспросить свою тогда
бывшую еще в живых мать, как выглядел врач той местнос-
322
Введение в психоанализ
ти, где я родился и которую я покинул в три года, и узнал
от нее, что он был одноглазый, короткий, толстый, с глубоко
сидящей между плечами головой, получил также сведения
о том, при каком забытом мной несчастном случае он оказал
мне помощь. Таким образом, эта возможность
распоряжаться забытым материалом детских лет является другой
архаической чертой сновидения.
То же самое относится и к другой из тех загадок, с
которыми мы уже до этого столкнулись. Вы помните, с каким
удивлением вы все приняли результаты нашего
исследования, которые показали, что побудителями сновидений
являются злобно-энергичные и безудержные сексуальные
желания, сделавшие необходимыми цензуру и искажение
сновидений. Когда мы толковали такое сновидение видевшему сон,
он в лучшем случае не оспаривал само толкование, но все-
таки постоянно задавал вопрос, откуда у него берется такое
желание, так как он воспринимает его как чуждое и осознает
противоположное ему. Нам нечего стесняться указаний на
их происхождение. Эти злобные желания происходят из
прошлого, часто из очень недалекого. Можно показать, что
когда-то они были известны и осознанны, хотя теперь этого уже
нет. Женщина, сновидение которой означает, что она хотела
бы видеть мертвой свою единственную 17-летнюю дочь, под
нашим руководством признает, что она когда-то почти
желала этой смерти. Ребенок является плодом несчастного,
вскоре расторгнутого брака. Когда она носила дочь еще во чреве,
однажды после бурной сцены с мужем в припадке ярости
она начала колотить кулаками по животу, чтобы убить в нем
ребенка. Сколько есть матерей, которые в настоящее время
нежно, может быть, чересчур нежно любят своих детей,
которые, однако, неохотно встретили их появление на свет и
когда-то желали, чтобы жизнь в них прекратилась; да они
и переводили это желание в различные, к счастью,
безвредные действия. Такое позднее кажущееся загадочным желание
смерти любимому лицу происходит, таким образом, из более
раннего отношения к нему.
Отец, сновидение которого подтверждает толкование, что
он желает смерти своему любимому старшему ребенку, тоже
вынужден вспомнить о том, что когда-то это желание было
323
Зшмунд ФРЕЙД
ему не чуждо. Когда этот ребенок был еще грудным
младенцем, недовольный своим браком муж часто думал, что если
бы маленькое существо, ничего для него не значащее, умерло,
он опять был бы свободен и лучше использовал бы эту
свободу. Можно обнаружить, что большое число подобных чувств
ненависти имеют такое же происхождение; они являются
напоминаниями о том, что относилось к прошлому, когда-то
было сознательным и играло свою роль в душевной жизни.
Отсюда вы захотите сделать вывод, что таких желаний и
таких сновидений не должно быть, когда подобные перемены
отношения к какому-то лицу не имели места, когда это
отношение было ровным с самого начала. Я готов согласиться
с этим вашим выводом, хочу только предупредить вас о том,
чтобы вы имели в виду не буквальный текст сновидения, а
его смысл после толкования. Может случиться, что явное
сновидение о смерти любимого лица только надело
страшную маску, а означает оно совершенно другое, или любимое
лицо выступает обманчивым заместителем другого лица.
Но те же факты вызовут у вас другой, более серьезный
вопрос. Вы скажете: если это желание смерти даже имелось
когда-то и подтверждается воспоминанием, то это все-таки
еще не объяснение, это желание ведь давно преодолено,
сегодня оно может существовать в бессознательном только как
лишенное аффектов воспоминание, а не как сильное
проявление чувства. В пользу последнего ведь ничего не говорит.
Зачем же сновидение вообще о нем напоминает? Этот
вопрос действительно оправдан; попытка ответить на него
завела бы нас слишком далеко и заставила бы определить свои
позиции по отношению к одному из самых значительных
моментов теории сновидений. Но я вынужден оставаться в
рамках нашего разбора и воздерживаться от лишнего.
Смиритесь с этим временным отказом. Будем довольствоваться
фактическим указанием на то, что это преодоленное
желание, как доказано, является побудителем сновидения, и
продолжим исследование относительно того, не выводятся ли
и другие злобные желания из прошлого.
Остановимся на желаниях устранения, которые мы в
большинстве случаев можем объяснить неограниченным
эгоизмом видевшего сон. Можно доказать, что такое жела-
324
Введение в психоанализ
ние очень часто является причиной образования
сновидения. Всякий раз, когда кто-нибудь встает у нас на пути — а
как часто это случается в сложных жизненных
отношениях, — сновидение тут же готово его убить, будь то отец, мать,
кто-то из братьев и сестер, партнер по браку и т. п. Мы уже
достаточно удивлялись этой испорченности человеческой
натуры и, конечно, не склонны безоговорочно считать
правильным этот результат толкования сновидений. Но если
нам указывают на то, что истоки таких желаний надо искать
в прошлом, то вскоре мы открываем период
индивидуального прошлого, когда такой эгоизм и такие желания даже
против самых близких совсем не удивительны. Именно
таков ребенок в те первые годы, которые позднее
окутываются амнезией, он часто обнаруживает эти резкие проявления
эгоизма, постоянно дает почувствовать явную
предрасположенность к нему или, вернее, его остатки. Ребенок прежде
всего любит самого себя и только позднее учится любить
других, жертвовать частицей своего Я ради других. Даже
лиц, которых он, кажется, любит с самого начала, он любит
только потому, что нуждается в них, не может без них
обойтись, так что опять-таки из эгоистических мотивов. Только
позднее чувство любви делается независимым от этого
эгоизма. Он фактически на эгоизме научился любви.
В этой связи будет поучительно сравнить установку
ребенка к его братьям и сестрам с установкой к его родителям.
Своих братьев и сестер маленький ребенок не всегда любит,
часто же явно не любит. Несомненно, что он ненавидит в них
конкурентов, и известно, как часто эта установка существует
непрерывно в течение долгих лет вплоть до времени зрелости,
даже еще дольше. Правда, она достаточно часто
сменяется или, лучше сказать, покрывается более нежной, но
враждебная, повидимому вполне закономерно, появляется раньше.
Легче всего ее наблюдать у ребенка от 2,5 до 4 и 5 лет, если
появляется новый братик или сестренка. В большинстве
случаев это встречает очень недружелюбный прием. Выражения
вроде: «Я его не люблю, пусть аист опять возьмет его с собой»
весьма обычны. Впоследствии используется любая
возможность унизить пришельца и даже попытки искалечить его,
прямые покушения на него не являются неслыханными про-
325
Зигмунд ФРЕЙД
исшествиями. Если разница лет менее значительна, то при
пробуждении более интенсивной душевной деятельности
ребенок находит конкурента уже на месте и приспосабливается
к нему. Если разница больше, то новый ребенок с самого
начала может вызвать определенные симпатии как
интересный объект, как живая кукла, а при разнице в восемь лет и
более, особенно у девочек, уже могут проявиться заботливые,
материнские чувства. Но, откровенно говоря, если за
сновидением открываешь желание смерти братьям и сестрам, не
нужно считать его необъяснимым, его прототип без труда
находишь в раннем детском возрасте, довольно часто — также
и в более поздние годы совместной жизни.
Вероятно, нет ни одной детской без ожесточенных
конфликтов между ее обитателями. Мотивами являются борьба
за любовь родителей, за обладание общими вещами, за место
в комнате. Враждебные чувства направляются как против
более старших, так и против более младших братьев и
сестер. Кажется, Бернард Шоу высказал мысль: «Если есть кто-
то, кого молодая английская дама ненавидит больше, чем
свою мать, то это ее старшая сестра». Но в этом изречении
есть нечто удивительное для нас. Ненависть братьев и
сестер и соперничество мы можем в крайнем случае понять, но
как может возникнуть ненависть в отношениях между
дочерью и матерью, родителями и детьми?
Это отношение и детьми оценивается несомненно как
более благоприятное. Оно соответствует также нашим
ожиданиям; мы считаем значительно более предосудительным,
если не хватает любви между родителями и детьми, чем
между братьями и сестрами. В первом случае мы, так сказать,
считаем святым то, что в другом является обычным.
Однако повседневное наблюдение показывает, как часто чувства
между родителями и взрослыми детьми не соответствуют
поставленному обществом идеалу, сколько в них накопилось
враждебности, готовой прорваться, если бы ее не
сдерживало немного почтительности и нежных чувств. Мотивы этого
общеизвестны и обнаруживают тенденцию отделить лиц
того же пола, дочь от матери, отца от сына. Дочь находит в
матери силу, которая ограничивает ее волю и на которую
возложена миссия провести в жизнь требуемый обществом
326
Введение в психоанализ
отказ от сексуальной свободы, в отдельных случаях еще и
конкурентку, которая противится вытеснению. То же самое,
но в еще более резкой форме повторяется между отцом и
сыном. Для сына в отце воплощается любое насильственное
социальное принуждение; отец закрывает ему доступ к
проявлению собственной воли, к преждевременному
сексуальному наслаждению и к пользованию общесемейным
достоянием там, где оно имеется. У престолонаследника желание
смерти отца вырастает до размеров, граничащих с трагедией.
Менее опасным представляется отношение между отцом и
дочерью, матерью и сыном. Последнее дает чистейшие
образцы не нарушенной никакими эгоистическими
соображениями неизменной нежности.
Для чего я говорю об этих банальных и общеизвестных
вещах? Потому что имеется очевидное стремление отрицать
их значение в жизни и выдавать социально обусловленный
идеал за осуществленный гораздо чаще, чем он в
действительности осуществляется. Но лучше, если правду скажет
психолог, чем циник. Во всяком случае, это отрицание
относится только к реальной жизни. Но литературе и
драматической поэзии предоставляется свободно пользоваться
мотивами, вытекающими из нарушения этого идеала.
Итак, нам не следует удивляться тому, что у большого
числа людей сновидение обнаруживает желание устранить
родителей, а именно того из них, кто одного пола с
видевшим сон. Смеем предположить, что это желание имеется
в состоянии бодрствования и даже иногда осознается,
если оно может замаскироваться под другой мотив, например,
под сострадание к ненужным мучениям отца, как это было у
видевшего сон в примере 3. Редко одна только враждебность
определяет отношение, гораздо чаще за ней выступают более
нежные побуждения, которыми она подавляется и должна
выжидать до тех пор, пока сновидение ее как бы изолирует.
То, что сновидение с помощью такой изоляции
изображает преувеличенным, затем опять уменьшается, когда после
нашего толкования включается в общую жизненную связь
(Sachs, 1912, 569). Но мы находим это желание сновидения
даже там, где оно не имеет связи с жизнью и где взрослый
никогда не признался бы в нем в бодрствующем состоянии.
327
Зигмунд ФРЕЙД
Причина этого в том, что самый глубокий и постоянный
мотив отчуждения, особенно между лицами одного пола,
появляется уже в раннем детском возрасте.
Я имею в виду соперничество в любви явно полового
характера. Сын уже маленьким ребенком начинает испытывать
особую нежность к матери, которую он считает своей
собственностью, а отца воспринимает как конкурента, который
оспаривает у него это исключительное обладание, и точно так
же маленькая дочь видит в матери лицо, мешающее ее
нежному отношению к отцу и занимающее место, которое она
сама с удовольствием бы заняла. Из наблюдений следует
узнать, до какого раннего возраста доходит эта установка,
которую мы называем Эдиповым комплексом, потому что в
легенде об Эдипе реализуются с совершенно незначительным
ослаблением оба крайних желания, вытекающие из
положения сына, — убить отца и взять в жены мать. Я не хочу
утверждать, что Эдипов комплекс исчерпывает отношение
детей к родителям, оно может быть намного сложнее. Эдипов
комплекс может быть также более или менее сильно
выражен, может сам претерпеть противоположное выражение, но
он постоянный и очень значительный фактор душевной
жизни ребенка, и возникает опасность скорее недооценить его
влияние и обусловленное им развитие, чем переоценить его.
Во всяком случае, дети часто реагируют эдиповой
установкой на чувство родителей, которые довольно часто
руководствуются половым различием в своем любовном выборе, так
что отец предпочитает дочь, мать — сына, а в случае
охлаждения в браке заменяют ими обесцененный объект любви.
Нельзя сказать, чтобы мир был очень благодарен
психоаналитическому исследованию за открытие Эдипова
комплекса. Наоборот, оно вызвало самый яростный протест взрослых,
и лица, которые упустили возможность принять участие в
отрицании этого предосудительного или запретного
чувственного отношения, исправили впоследствии свою ошибку
посредством перетолкований, лишив комплекс его значения. По
моему твердому убеждению, здесь нечего отрицать и нечего
приукрашивать. Следует примириться с фактом, который
даже греческим сказанием признается как неумолимый рок.
Интересно, что исключенный из жизни Эдипов комплекс предо-
328
Введение в психоанализ
ставляется поэзии, как бы передается в ее полное
распоряжение. О. Ранк в тщательно проведенном исследовании (1912в)
показал, что именно Эдипов комплекс дал драматической
поэзии богатые мотивы в бесконечных измененных, смягченных
и замаскированных формах, т. е. в таких искажениях, в каких
мы узнаем результат действия цензуры. Этот Эдипов
комплекс мы можем, таким образом, приписать также тем лицам,
которым посчастливилось избежать в дальнейшей жизни
конфликтов с родителями, и в тесной связи с ним мы находим
то, что называем комплексом кастрации, реакцию на
приписываемое отцу сексуальное запугивание или подавление
ранней детской сексуальной деятельности.
Ссылаясь на уже проведенные исследования детской
душевной жизни, мы смеем также надеяться, что подобным же
образом будет найдено объяснение происхождения другой
части запретных желаний сновидений, чрезмерных
сексуальных чувств. Таким образом, у нас возникает стремление
изучать развитие детской сексуальной жизни, и мы узнаем при
этом из многочисленных источников следующее:
недопустимой ошибкой является, прежде всего, отрицание у ребенка
сексуальной жизни и предположение, что сексуальность
начинается только ко времени полового созревания вместе с
созреванием гениталий. Напротив, у ребенка с самого
начала имеется богатая сексуальная жизнь, которая во многом
отличается от той, которую позднее принято считать
нормальной. То, что в жизни взрослых мы называем
«извращением», отличается от нормы следующими
свойствами: во-первых, выходом за пределы вида (пропасть между
животным и человеком), во-вторых, выходом за границы
отвращения, в-третьих, выходом за пределы инцеста (запрет
сексуального удовлетворения с близкими по крови
родственниками), в-четвертых, гомосексуальными отношениями и,
в-пятых, перенесением функций гениталий на другие органы и
участки тела. Все эти ограничения не существуют с самого
начала, а создаются лишь постепенно в ходе развития и
воспитания. Маленький ребенок свободен от них. Он еще не
знает страшной пропасти между человеком и животным;
высокомерие, отличающее человека от животного, возникает у
него лишь позднее. Сначала у него нет отвращения к экскре-
329
Зигмунд ФРЕЙД
ментам, он узнает о нем постепенно под давлением
воспитания; он не придает особого значения различию полов, скорее,
предполагает у обоих одинаковую форму гениталий; он
направляет свои первые сексуальные влечения и свое
любопытство на самых близких и по разным причинам самых
любимых лиц — родителей, братьев и сестер, ухаживающих
за ним людей и, наконец, у него обнаруживается то, что
вновь прорывается позже при наибольшей силе любовного
отношения, а именно то, что он получает удовольствие не
только от половых органов, но что многие другие участки
тела обладают той же чувствительностью, доставляют
аналогичные ощущения наслаждения и могут, таким образом,
играть роль гениталий. Таким образом, ребенок может быть
назван «полиморфно извращенным», и если у него
проявляются лишь следы всех этих чувств, то это происходит, с
одной стороны, из-за незначительной их интенсивности по
сравнению с более поздними годами жизни, с другой
стороны, из-за того, что воспитание сразу же энергично подавляет
все сексуальные проявления ребенка. Это подавление
переходит, так сказать, в теорию, когда взрослые стараются не
замечать какую-то часть детских сексуальных проявлений и
лишить сексуальной природы путем перетолкования другую
ее часть, пока они затем не начинают отрицать все. Часто это
те же люди, которые только в детской негодуют из-за всех
сексуальных дурных привычек детей, а затем за письменным
столом защищают сексуальную чистоту тех же детей. Там,
где дети предоставлены самим себе или были соблазнены,
они часто обнаруживают довольно значительные
извращения. Разумеется, взрослые правы, относясь к этому
несерьезно как к «ребячеству» и «забавам», потому что ребенка
нельзя судить ни судом нравственности, ни по закону, но ведь
эти вещи существуют, они имеют значение как признаки
врожденной конституции, а также как благоприятствующие
причины дальнейшего развития, они многое нам открывают
в детской сексуальной жизни, а вместе с тем и в сексуальной
жизни человека вообще. Итак, когда за своими искаженными
сновидениями мы опять находим все эти извращенные
желания, то это только означает, что сновидение и в этой
области сделало шаг назад к инфантильному состоянию.
330
Иведение в психоанализ
Среди этих запретных желаний особого упоминания
заслуживают еще инцестуозные, т. е. направленные на половой
акт с родителями, братьями и сестрами. Вы знаете, какое
отвращение чувствует или, по крайней мере, проявляет
человеческое общество против половых отношений такого рода
и какое внимание обращается на запреты, направленные
против этого. Прилагались самые невероятные усилия, чтобы
объяснить этот страх перед инцестом. Одни предполагали,
что это соображения улучшения вида в природе, психически
представленные в этом запрете, потому что инцест ухудшил
бы характерные признаки рас, другие утверждали, что
благодаря совместной жизни с раннего детства сексуальное
вожделение к указанным лицам ослабевает. В обоих случаях,
впрочем, избегание инцеста было бы обеспечено
автоматически, и непонятно, зачем нужны строгие запреты, которые
свидетельствуют скорее о наличии сильного вожделения.
Психоаналитические исследования недвусмысленно
показали, что инцестуозный выбор объекта любви является,
напротив, первым и обычным, и только впоследствии против него
возникает сопротивление, происхождение которого из
индивидуальной психологии следует, видимо, отрицать.
Сопоставим теперь, что же нам дало углубление в
изучение детской психологии для понимания сновидения. Мы
обнаружили не только то, что для сновидения доступен
материал забытых детских переживаний, но увидели также, что
душевная жизнь детей со всеми своими особенностями,
эгоизмом, инцестуозным выбором объекта любви и т.д. еще
продолжает существовать для сновидения, т.е. в
бессознательном, и что сновидение каждую ночь возвращает нас на
эту инфантильную ступень. Таким образом, подтверждается,
что бессознательное душевной жизни есть инфантильное.
Странно-неприятное впечатление, что в человеке так много
злого, начинает ослабевать. Это страшно злое — просто
первоначальное, примитивное инфантильное в душевной жизни,
открытое проявление которого мы можем найти у ребенка,
но чего мы отчасти не замечаем из-за его незначительности,
потому что не требуем от ребенка этического совершенства.
Сновидение, спустившись на эту ступень, создает
впечатление, будто оно раскрывает в нас это злое. Но это всего лишь
331
Зигмунд ФРЕЙД
заблуждение, которое нас так пугало. Мы не так уж злы, как
можно было предположить после толкования сновидений.
Если эти злые проявления в сновидениях всего лишь ин-
фантилизмы, возвращающие нас к истокам нашего
этического развития, делающие нас во сне опять просто детьми по
мыслям и чувствам, то благоразумно было бы не
стыдиться этих злых сновидений. Но благоразумие является только
частью душевной жизни, кроме того в душе происходит еще
много такого, что не разумно, и поэтому случается так, что
мы неблагоразумно стьщимся таких сновидений. Мы
подвергаем их цензуре, стьщимся и сердимся, если в
исключительных случаях одному из этих желаний удается проникнуть в
сознание в настолько неискаженной форме, что нам
приходится его узнать; правда, искаженных сновидений мы точно
так же стьщимся, как будто мы их понимаем. Вспомните
хотя бы негодование той славной старой дамы по поводу ее
неистол кованного сновидения о «любовных услугах». Так
что проблема еще не решена, и возможно, что при
дальнейшем изучении злого в сновидении мы придем к другому
суждению и к другой оценке человеческой природы.
В результате исследования мы приходим к двум
положениям, которые, однако, ведут за собой лишь новые загадки,
новые сомнения. Во-первых, регрессия работы сновидения не
только формальна, но и материальна. Она не только
переводит в примитивную форму выражения наши мысли, но и
вновь оживляет все характерные черты нашей примитивной
душевной жизни, прежнее всемогущество Я, первоначальные
проявления сексуальной жизни, даже древнее достояние
нашего интеллекта, если символическое отношение можно
признать за таковое. И во-вторых, все это давнее инфантильное,
что когда-то самодержавно господствовало, мы должны
теперь причислить к бессознательному, представления о
котором теперь меняются и расширяются. Бессознательное — это
не только название временно скрытого, бессознательное —
это особая душевная область со своими собственными
желаниями, собственным способом выражения и свойственными
ему душевными механизмами, которые иначе не действуют.
Но скрытые мысли, о которых мы узнали благодаря
толкованию сновидений, все-таки не из этой области; они, скорее,
332
Введение в психоанализ
такие, какими могли бы быть и в состоянии бодрствования.
И все же они бессознательны; как разрешается это
противоречие? Мы начинаем подозревать, что здесь следует
произвести подразделение. Нечто, что происходит из нашей
сознательной жизни и имеет ее признаки — мы называем это
остатками дневных впечатлений, — соединяется для
образования сновидения с чем-то другим из области бессознательного.
Между этими двумя частями и развертывается работа
сновидения. Влияние остатков дневных впечатлений благодаря
присоединяющемуся бессознательному является,
по-видимому, условием регрессии. В этом заключается самое глубокое
понимание сущности сновидения, которого мы можем
достичь, прежде чем изучим другие области душевной жизни.
Но скоро настанет время дать бессознательному характеру
скрытых мыслей сновидения другое название с целью
отличить их от бессознательного из области инфантильного.
Мы, естественно, можем также поставить вопрос: что
вынуждает психическую деятельность во время сна на такую
регрессию? Почему она не справляется с нарушающими сон
психическими раздражениями без последней? И если из-за
цензуры сновидения она вынуждена пользоваться для
маскировки архаичной, теперь непонятной формой выражения, то
для чего ей служит возрождение давних, теперь
преодоленных душевных движений, желаний и характерных черт, т. е.
материальная регрессия, которая присоединяется к
формальной? Единственный удовлетворяющий нас ответ заключался
бы в том, что только таким образом может образоваться
сновидение, что иначе невозможно динамически снять
раздражение во сне. Но пока мы не вправе давать такой ответ.
Четырнадцатая лекция
Исполнение желания
Уважаемые дамы и господа! Не стоит ли мне еще раз
показать вам пройденный нами путь? Как мы, применяя
нашу технику, натолкнулись на искажение сновидения,
раздумывали сначала, как бы его обойти, и получили важнейшие
333
Зигмунд ФРЕЙД
сведения о сущности сновидения из инфантильных
сновидений? Как мы затем, вооруженные результатами этого
исследования, занялись непосредственно искажением сновидения
и, надеюсь, шаг за шагом преодолели его? Но теперь мы
должны признать, что найденное тем и другим путем не
совсем совпадает. Перед нами встает задача сопоставить оба
результата и соотнести их между собой.
С обеих сторон мы пришли к выводу, что работа
сновидения, в сущности, состоит в переводе мыслей в какое-то
галлюцинаторное переживание. Как это происходит,
представляется весьма загадочным, но это является проблемой
общей психологии, которая не должна нас здесь занимать.
Из детских сновидений мы узнали, что работа сновидения
стремится к устранению нарушающего сон душевного
раздражения при помощи исполнения желания. Об
искаженных сновидениях мы не могли сказать ничего подобного,
пока не научились их толковать. Но с самого начала мы
предположили, что сможем рассматривать искаженные
сновидения с тех же позиций, что и инфантильные. Первым же
подтверждением этого предположения стало сделанное нами
открытие, что, собственно говоря, все сновидения
являются детскими сновидениями, работают с детским материалом,
с детскими душевными движениями и при помощи детских
механизмов. Считая искажение сновидения снятым, мы
должны приступить к исследованию того, может ли быть
распространено положение об исполнении желания на
искаженные сновидения.
Недавно мы подвергли толкованию ряд сновидений, но
совсем упустили из виду исполнение желания. Убежден, что
при этом у вас неоднократно напрашивался вопрос: куда
же делось исполнение желания, которое, видимо, является
целью сновидения? Это важный вопрос, именно его и стали
задавать наши доморощенные критики. Как вы знаете,
человечество обладает инстинктивной оборонительной реакцией
на интеллектуальные новшества. Она выражается в том, что
такое новшество сразу же низводится до самой
незначительной величины, по возможности сводится к лозунгу. Этим
лозунгом для новой теории сновидения стало исполнение
желания. Дилетант задает вопрос: где же исполнение жела-
334
Введение о психоанализ
ния? Сразу же после того, как он услышал, что сновидение
должно быть исполнением желания, он, задавая этот вопрос,
отвечает на него отрицательно. Ему сразу же приходят в
голову многочисленные собственные сновидения, с
которыми было связано неприятное чувство вплоть до гнетущего
страха, так что данное утверждение психоаналитической
теории сновидения кажется ему совершенно невероятным.
Нам нетрудно ответить ему, что при искаженных
сновидениях исполнение желания не может быть очевидным, а его
необходимо поискать, так что без толкования сновидения
указать на него нельзя. Мы также знаем, что желания этих
искаженных сновидений — запрещенные, отвергнутые
цензурой желания, существование которых как раз и стало
причиной искажения, мотивом для вмешательства цензуры. Но
критику-дилетанту трудно доказать, что до толкования
сновидения нельзя спрашивать об исполнении его желания.
Однако он об этом постоянно забывает. Его отрицательная
позиция по отношению к теории исполнения желания является,
собственно, не чем иным, как следствием цензуры
сновидения, замещением и результатом отрицания этих прошедших
цензуру желаний сновидения.
Разумеется, и у нас возникает потребность найти
объяснение тому, что есть много мучительных и, в частности,
страшных сновидений. При этом мы впервые сталкиваемся
с проблемой аффектов в сновидении, которая заслуживает
изучения сама по себе, но, к сожалению, мы не можем ею
заняться. Если сновидение является исполнением желания,
то во сне невозможны мучительные ощущения, в этом
критики-дилетанты, по-видимому, правы. Но нужно принять во
внимание три вида осложнений, о которых они не подумали.
Во-первых, может быть, что работе сновидения не вполне
удалось осуществить исполнение желания, так что часть
мучительного аффекта мыслей сновидения остается в явном
сновидении. Тогда анализ должен был бы показать, что эти
мысли были еще более мучительными, чем получившееся из
них сновидение. Каждый раз это и удается доказать. Тогда
мы соглашаемся, что работа сновидения не достигла своей
Цели, так же как сновидение, в котором пьешь под влиянием
жажды, мало достигает цели утолить жажду. Ее продол жа-
335
Зигмунд ФРЕЙД
ешь испытывать, и нужно проснуться, чтобы попить. И все-
таки это было настоящее сновидение, в его сущности ничего
не изменилось. Мы должны сказать: Ut desint vires, tarnen
est laudanda voluntas1. По крайней мере, заслуживает
похвалы ясно выраженное намерение. Такие случаи неудачи
нередки. Этому содействует то, что работе сновидения
намного труднее изменить в нужном смысле аффекты, чем
содержание; аффекты иногда очень устойчивы. Вот и получается,
что работа сновидения превратила мучительное содержание
мыслей сновидения в исполнение какого-то желания, в то
время как мучительный аффект прорывается в еще
неизмененном виде. В таких сновидениях аффект совершенно не
соответствует содержанию, и наши критики могут сказать,
что сновидение настолько далеко от исполнения желания,
что в нем даже безобидное содержание может ощущаться
как мучительное. На это неразумное замечание мы ответим,
что именно в таких сновидениях стремление работы
сновидения исполнить желание вследствие его [стремления]
изолированности проявляется яснее всего. Ошибка происходит
от того, что тот, кто не знает неврозов, представляет себе
связь между содержанием и аффектом слишком тесной и
поэтому не может понять, что содержание может меняться,
не изменяя относящееся к нему аффективное проявление.
Второй, гораздо более важный и глубокий момент,
который также недооценивается дилетантом, следующий.
Исполнение желания, конечно, должно было бы доставить
наслаждение, но, спрашивается, кому? Разумеется, тому, кто имеет
желание. Но о видевшем сон нам известно, что он относится
к своим желаниям совершенно особо. Он отвергает их,
подвергает цензуре, одним словом, не терпит их. Таким образом,
их исполнение может доставить ему не наслаждение, а
только противоположное чувство. Далее опыт показывает, что это
противоположное чувство, которое следует еще объяснить,
выступает в форме страха. Видевшего сон в отношении к его
желаниям во сне можно сравнить только с существом,
состоящим из двух лиц, очень тесно связанных, однако, между
1 Пусть недостало сил, похвалы достойно усердие (Публий Овидий
Назон). — Примеч. ред. перевода.
336
Введение в психоанализ
собой. Взамен дальнейших рассуждений предлагаю вам
послушать известную сказку, в которой вы найдете те же
отношения. Добрая фея обещает бедной супружеской паре,
мужу и жене, исполнение их первых трех желаний. Они
счастливы и собираются тщательно выбрать эти три желания. Но
жена соблазняется запахом жареных сосисок из соседней
хижины и желает получить пару таких сосисок. Через
мгновение они уже здесь — и первое желание исполнено. Тогда муж
сердится и в горькой обиде желает, чтобы сосиски повисли
у жены на носу. Это тоже исполняется, и сосиски нельзя
удалить с их нового места пребывания — вот исполнилось
и второе желание, но уже желание мужа; жене исполнение
этого желания очень неприятно. Вы знаете, что происходит
дальше в сказке. Так как оба, в сущности, составляют
все-таки одно, мужа и жену, то третье желание заключается в том,
чтобы сосиски оставили нос жены. Мы можем использовать
эту сказку еще много раз в другой связи; здесь она служит
только иллюстрацией того, что исполнение желания одного
может вызвать неприятное чувство у другого, если оба не
согласны между собой.
Теперь нам будет нетрудно еще лучше понять страшные
сновидения. Мы только привлечем еще одно наблюдение и
тогда решимся высказать предположение, в защиту которого
можно привести много доводов. Наблюдение состоит в том,
что страшные сновидения часто имеют содержание,
совершенно свободное от искажения, так сказать, избежавшее
цензуры. Страшное сновидение часто является
неприкрытым исполнением желания, естественно, не приятного, а
отвергаемого желания. Вместо цензуры появляется страх.
Если о детском сновидении можно сказать, что оно является
исполнением дозволенного желания, об обыкновенном
искаженном сновидении — что оно замаскированное
исполнение вытесненного желания, то для страшного сновидения
подходит только формула, что оно представляет собой
неприкрытое исполнение вытесненного желания. Страх
является признаком того, что вытесненное желание оказалось
сильнее цензуры, что, несмотря на нее, оно все-таки
пробилось к исполнению или было готово пробиться. Мы
понимаем, что то, что для него является исполнением желания,
337
Зшмупд Ф1>ЕЩ
для нас, поскольку мы находимся на стороне цензуры
сновидения, может быть только поводом для мучительных
ощущений и отпора. Появляющийся при этом в сновидении
страх, если хотите, есть страх перед силой этих обычно
сдерживаемых желаний. Почему этот отпор проявляется в
форме страха, нельзя понять, изучая только сновидения;
очевидно, нужно изучать страх по другим источникам.
Все, что справедливо для неискаженных страшных
сновидений, мы можем предположить также для таких
сновидений, которые претерпели частичное искажение, и для прочих
неприятных сновидений, мучительные ощущения которых,
вероятно, близки к страху. Страшное сновидение обычно
ведет к пробуждению; мы имеем обыкновение прерывать сон,
прежде чем вытесненное желание сновидения пробьется
через цензуру к своему полному исполнению. В этом случае
результат сновидения оказывается негативным, но его
сущность от этого не меняется. Мы сравнивали сновидение с
ночным сторожем, охраняющим наш сон, чтобы ему не
помешали. И ночной сторож попадает в такое положение, когда
он будит спящих, а именно тогда, когда чувствует себя
слишком слабым, чтобы устранить помеху или опасность. И все-
таки нам иногда удается продолжать спать, даже если
сновидение становится тревожным и начинает зарождаться страх.
Мы говорим себе во сне: ведь это только сон — и
продолжаем спать.
Когда же случается так, что желание сновидения
оказывается в состоянии преодолеть цензуру? Условие для этого
может возникнуть как со стороны желания сновидения, так
и со стороны цензуры. По непонятным причинам желание
может стать иной раз чересчур сильным; но у нас
складывается впечатление, что чаще вина за это смещение
соотношения действующих сил лежит на цензуре сновидения. Мы
уже знаем, что цензура работает в каждом отдельном случае
с разной интенсивностью, к каждому элементу относится с
разной степенью строгости; здесь нам хотелось бы высказать
еще одно предположение, что она вообще весьма
вариабельна и не всегда одинаково строга к одному и тому же
неприличному элементу. Если случится так, что она на какой-то
момент почувствует себя бессильной перед каким-либо же-
338
Введение в психоанализ
ланием сновидения, угрожающим захватить ее врасплох, то
вместо искажения она прибегает к последнему оставшемуся
ей средству — отказаться от состояния сна под влиянием
нарастающего страха.
При этом нам бросается в глаза, что мы ведь вообще не
знаем, почему эти скверные, отвергнутые желания дают о
себе знать именно в ночное время, чтобы нарушить наш сон.
Ответ может дать только предположение, учитывающее
природу состояния сна. Днем на эти желания тяжело давит
цензура, не дающая им, как правило, возможности проявиться в
каком-то действии. В ночное время эта цензура, вероятно,
как все другие интересы душевной жизни, сводится к
единственному желанию спать или же, по крайней мере, сильно
ослабляется. Этому ослаблению цензуры в ночное время
запретные желания и обязаны тем, что могут снова оживать.
Есть нервные больные, страдающие бессонницей, которые
признавались нам, что сначала они сами хотели своей
бессонницы. Они не решались уснуть, потому что боялись своих
сновидений, т. е. последствий этого ослабления цензуры. Вы,
правда, легко заметите, что эту приостановку деятельности
цензуры все же не следует оценивать как большую
неосторожность. Состояние сна лишает нас способности двигаться;
наши дурные намерения, если они и начинают шевелиться,
не могут привести ни к чему иному, как к практически
безвредному сновидению, и на это успокоительное состояние
указывает в высшей степени благоразумное замечание
спящего, относящееся, правда, к ночи, но не к жизни во сне: ведь
это только сон, поэтому предоставим ему свободу действия
и будем продолжать спать.
Если, в-третьих, вы вспомните о том, что мы представили
видевшего сон борющимся со своими желаниями, состоящим
из двух отдельных, но каким-то образом очень тесно
связанных лиц, то признаете и другую возможность: как благодаря
исполнению желания может осуществиться то, что в высшей
степени неприятно, — а именно наказание. Здесь нам опять
может помочь сказка о трех желаниях: жареные сосиски на
тарелке были прямым исполнением желания первого лица,
жены; сосиски на ее носу были исполнением желания
второго лица, мужа, но одновременно и наказанием за глупое
339
Зигмунд ФРЕЙД
желание жены. При неврозах мы находим затем мотивацию
третьего желания, которое еще осталось в сказке. В
душевной жизни человека много таких наказуемых тенденций; они
очень сильны, и их можно считать ответственными за
некоторую часть мучительных сновидений. Теперь вы, может
быть, скажете, что при этих условиях от хваленого
исполнения желания остается немногое. Но при более пристальном
рассмотрении придете к заключению, что не правы. По
сравнению с более поздними указаниями на многообразие того,
чем могло бы быть сновидение, — а по мнению многих
авторов, чем оно и является на самом деле, — представление о
сновидении как исполнении желания — переживании
страха — исполнении наказания — оказывается все-таки весьма
ограниченным. К этому нужно прибавить то, что страх есть
прямая противоположность желания, что
противоположности в ассоциации особенно близки друг другу, а в
бессознательном, как мы узнали, совпадают, далее то, что наказание
тоже является исполнением желания, но другого — цензури-
рующего лица.
Итак, я в общем не сделал никаких уступок вашему
возражению против теории исполнения желания. Но мы
обязаны доказать исполнение желания в любом искаженном
сновидении и, конечно, не собираемся отказываться от этой
задачи. Вернемся к уже истолкованному сновидению о трех
плохих театральных билетах за 1 флорин 50 кр., на примере
которого мы уже многому научились. Надеюсь, вы его еще
помните. Дама, муж которой сообщил ей днем, что ее
подруга Элиза, которая моложе нее на три месяца, обручилась,
видит во сне, что она сидит в театре со своим мужем. Одна
сторона партера почти пуста. Ее муж говорит ей, что Элиза
с женихом тоже хотели пойти в театр, но не смогли, так как
достали только плохие места, три за один флорин пятьдесят.
Она полагает, что в этом нет никакого несчастья. Мы
догадались, что мысли сновидения выражали досаду на раннее
замужество и недовольство своим мужем. Любопытно, как
эти мрачные мысли были переработаны в исполнение
желания и где кроется его след в явном сновидении. Мы уже
знаем, что элемент «слишком рано, поспешно» устранен из
сновидения цензурой. Намеком на него является пустой пар-
340
Введение в психоанализ
тер. Загадочное «три за один флорин пятьдесят» становится
теперь более понятным с помощью символики, с которой мы
за это время познакомились. Эта тройка в действительности
означает мужчину, и явный элемент легко можно перевести:
купить себе мужа за приданое («за мое приданое я могла бы
себе купить в десять раз лучшего»). Замужество явно
замещено посещением театра1. «Слишком ранняя покупка
билетов» прямо замещает слишком раннее замужество. Но это
замещение является делом исполнения желания. Наша дама
не всегда была так недовольна своим ранним замужеством,
как в тот день, когда она получила известие о помолвке своей
подруги. В свое время она гордилась им и чувствовала свое
превосходство перед подругой. Наивные девушки часто
после помолвки выражают радость, что теперь скоро пойдут в
театр на все до сих пор запрещенные пьесы и все увидят.
Доля страсти к подглядыванию или любопытства, которая
здесь проявляется, была сначала определенно сексуальной
страстью к подглядыванию, направленной на половую жизнь,
особенно родителей, и затем стала сильным мотивом,
побуждавшим девушку к раннему замужеству. Таким образом,
посещение театра становится понятным намекающим
заместителем для замужества. Так что в своей теперешней досаде на
свое раннее замужество она возвращается к тому времени,
когда оно было исполнением желания, потому что
удовлетворяло страсть к подглядыванию, а под влиянием этого
прежнего желания замужество замещается посещением театра.
Мы можем сказать, что выбрали не самый удачный
пример для доказательства исполнения скрытого желания.
Аналогичным образом мы должны были бы поступить и с
другими искаженными сновидениями. Я не могу этого сделать
и хочу только выразить убеждение, что это всюду удастся.
Но на этом моменте теории мне хочется еще задержаться.
Опыт показал мне, что во всей теории сновидения этот
момент самый уязвимый и что многие возражения и
недоразумения связаны с ним. Кроме того, у вас, может быть,
сложится впечатление, что я уже отчасти отказался от своего
1 О другом напрашивающемся толковании этой тройки у бездетной
женщины я не упоминаю, так как настоящий анализ не дал этого материала.
341
Зигмунд ФРНЙД
утверждения, сказав, что сновидение является выполненным
желанием или его противоположностью — осуществленным
страхом или наказанием, и подумаете, что это удобный
случай для того, чтобы вынудить меня на дальнейшие уступки.
Я слышал также упрек в том, что излагаю вещи,
кажущиеся мне очевидными, слишком сжато и потому недостаточно
убедительно.
Если кто-нибудь следовал за нами в толковании
сновидений до этого места и принял все, что оно нам до сих пор
дало, то нередко перед вопросом об исполнении желания он
останавливается и спрашивает: допустим, что каждое
сновидение имеет смысл, и этот смысл можно вскрыть при
помощи психоаналитической техники, почему же этот смысл,
вопреки всякой очевидности, обязательно должен быть втиснут
в формулу исполнения желания? Почему смысл этого
ночного мышления не может быть настолько же разнообразным,
как и смысл дневного мышления, т. е. сновидение может
соответствовать один раз одному исполненному желанию, в
другой раз, как вы сами говорите, его противоположности,
какому-то действительному опасению, а затем выражать и
какое-то намерение, предостережение, рассуждение за и
против или упрек, укор совести, попытку подготовиться к
предстоящему действию и т. д.? Почему же всегда одно желание
или в лучшем случае еще его противоположность?
Можно было бы подумать, что разногласие в этом
вопросе не так важно, если во всем остальном с нами согласны.
Достаточно того, что мы нашли смысл сновидения и пути,
чтобы его узнать; в сравнении с этим не имеет большого
значения то, что мы вынуждены ограничить этот смысл,
однако это не так. Недоразумение в этом пункте затрагивает
самую суть наших представлений о сновидении и ставит под
сомнение их значение для понимания невроза. Кроме того,
та уступчивость, которая в коммерческом мире ценится как
«предупредительность», в науке неуместна и, скорее всего,
вредна.
Мой первый ответ на вопрос, почему сновидение не
должно быть в указанном смысле многозначным, гласит, как
обычно в таких случаях: я не знаю, почему так не должно
быть. Я бы не имел ничего против. Пусть будет так. Лишь
342
Введение о психоанализ
одна мелочь противоречит этому более широкому и более
удобному пониманию сновидения, а именно то, что в
действительности это не так. Второй мой ответ подчеркивает, что
мне самому не чуждо предположение о соответствии
сновидения многообразным формам мышления и
интеллектуальных операций. Я как-то сообщал в одной истории болезни о
сновидении, являвшемся три ночи подряд и больше не
повторявшемся, и объяснил этот случай тем, что сновидение
соответствовало намерению, которому незачем было
повторяться после того, как оно было выполнено. Позднее я
опубликовал пример одного сновидения, соответствовавшего
признанию. Как же я все-таки могу утверждать, что
сновидение представляет собой всегда только исполненное
желание?
Я делаю это потому, что не хочу допускать глупого
недоразумения, которое может лишить нас результатов всех
наших усилий в анализе сновидений, недоразумения, при
котором сновидение путают со скрытыми его мыслями и
высказывают о нем то, что относится к этим последним и
только к ним. Абсолютно правильно, что сновидение может
представлять все это и быть заменено тем, что мы уже
перечислили: намерением, предостережением, рассуждением,
приготовлением, попыткой решения какой-то задачи и т.д.
Но если вы присмотритесь, то увидите, что все это
относится только к скрытым мыслям сновидения, превратившимся
в сновидение. Из толкований сновидений вы знаете, что
бессознательное мышление людей занято такими намерениями,
приготовлениями, размышлениями и т.д., из которых затем
работа сновидения делает сновидения. Если вас пока не
интересует работа сновидения, но очень интересует
бессознательная работа мышления человека, то исключите работу
сновидения и скажите о сновидении правильно, что оно
соответствует предостережению, намерению и т. п. В
психоаналитической деятельности это часто встречается: по
большей части стремятся только к тому, чтобы вновь разрушить
форму сновидения и вместо него восстановить общую связь
скрытых мыслей, из которых оно составлено.
Так, совершенно между прочим мы узнаем из оценки
скрытых мыслей сновидения, что все эти названные чрезвы-
343
Зигмунд ФРЕЙД
чайно сложные душевные процессы могут проходить
бессознательно, — столь же грандиозный, сколь и ошеломляющий
результат!
Но вернемся назад. Вы будете правы, если уясните себе,
что пользовались сокращенными выражениями, и если не
будете думать, что должны отнести упомянутое разнообразие
к сущности сновидения. Если вы говорите о сновидении, то
вы должны иметь в виду или явное сновидение, т. е. продукт
работы сновидения, или в лучшем случае саму работу
сновидения, т. е. тот психический процесс, который образует
явное сновидение из скрытых мыслей. Любое другое
употребление слова будет путаницей в понятиях, которая может
быть только причиной недоразумения. Если в своих
утверждениях вы имеете в виду скрытые мысли, стоящие за
сновидением, то скажите об этом прямо и не облекайте проблему
сновидения в неясные выражения, которыми вы пользуетесь.
Скрытые мысли — это материал, который работа сновидения
преобразует в явное сновидение. Почему же вы непременно
хотите смешивать материал с работой, которая его формооб-
разует? Какие же у вас тогда преимущества по сравнению
с теми, кто видит только продукт и не может объяснить,
откуда он происходит и как он сделан?
Единственно существенным в сновидении является
работа сновидения, которая воздействует на материал мыслей.
Мы не имеем права игнорировать ее в теории, если и можем
себе позволить пренебречь ею в определенных практических
ситуациях. Кроме того, аналитическое наблюдение
показывает, что работа сновидения никогда не ограничивается тем,
чтобы перевести эти мысли в известную вам архаическую
или регрессивную форму выражения. Но она постоянно
прибавляет кое-что, не имеющее отношения к дневным скрытым
мыслям, являющееся, собственно говоря, движущей силой
образования сновидения. Это неизбежное добавление и есть
бессознательное желание, для исполнения которого
преобразуется содержание сновидения. Таким образом, сновидение
может быть чем угодно — предостережением, намерением,
приготовлением и т.д., если вы будете принимать во
внимание только представленные им мысли; оно всегда будет
также исполнением бессознательного желания и только им, если
344
Введение о психоанализ
вы будете рассматривать его как результат работы
сновидения. Сновидение, таким образом, никогда не будет просто
намерением, предупреждением, а всегда намерением и т. п.,
переведенным с помощью бессознательного желания в
архаическую форму выражения и преобразованным для
исполнения этих желаний. Один признак — исполнение желания —
постоянен, другой может изменяться; он может, в свою
очередь, тоже быть желанием, так что дневное скрытое желание
сновидение представляет исполненным с помощью
бессознательного желания.
Я все это очень хорошо понимаю, но не знаю, удалось ли
мне сделать это понятным для вас. Затрудняюсь также
доказать вам это. С одной стороны, это невозможно без
тщательного анализа многих сновидений, а с другой, нельзя
убедительно изложить этот самый щекотливый и самый
значительный пункт нашего понимания сновидения, не приводя
его в связь с тем, о чем будет речь ниже. Можете ли вы
вообще представить себе, что при тесной связи всех вещей
можно глубоко проникнуть в природу одной, не
вмешавшись в другие, сходной с ней природы? Так как мы еще
ничего не знаем о ближайших родственниках сновидения, о
невротических симптомах, то и здесь мы вынуждены
ограничиться достигнутым. Я только хочу разъяснить вам еще
один пример и привести новые соображения.
Возьмем опять то самое сновидение о трех театральных
билетах за 1 флорин 50 кр., к которому мы неоднократно
возвращались. Могу вас заверить, что сначала я взял его в
качестве примера без особых намерений. Скрытые мысли
сновидения вы знаете. Досада, что дама поспешила с
замужеством, после того как узнала, что ее подруга только теперь
обручилась; пренебрежение к своему мужу, мысль1 что она
могла бы иметь лучшего, если бы только подождала.
Желание, создавшее сновидение из этих мыслей, вы тоже
знаете — это страсть к подглядыванию, возможность ходить в
театр, происходящая, по всей вероятности, из прежнего
любопытства узнать наконец, что же происходит, когда
выходишь замуж. Это любопытство, как известно, у детей
постоянно направлено на сексуальную жизнь родителей, так что
оно инфантильно, а поскольку присутствует и дальше, яв-
345
Зигмунд ФРЕЙД
ляется влечением, уходящим корнями в инфантильное. Но
для пробуждения этой страсти к подглядыванию дневное
известие не было поводом, а вызвало только досаду и
сожаление. Сначала это желание не относилось к скрытым
мыслям сновидения, и мы могли включить результат
толкования сновидения в анализ, не обращая на него внимания.
Досада сама по себе не способна вызвать сновидение; из
мыслей «бессмысленно было так рано выходить замуж»
сновидение не могло образоваться ранее, чем они пробудили
прежнее желание узнать наконец, что происходит при
замужестве. Затем это желание образовало содержание
сновидения, заменив замужество посещением театра и придав ему
форму исполнения прежнего желания: вот, я могу идти в
театр и смотреть все запрещенное, а ты не можешь; я
замужем, а ты должна ждать. Таким образом, настоящая
ситуация превратилась в свою противоположность, прежний
триумф был поставлен на место нового поражения. Между
прочим, удовлетворение страсти к подглядыванию сливается с
эгоистическим удовлетворением от победы в конкуренции.
Это удовлетворение определяет явное содержание
сновидения, в котором она действительно сидит в театре, а подруга
не смогла попасть. К этой ситуации удовлетворения в виде
неподходящей и непонятной модификации прибавлены те
элементы содержания сновидения, за которыми еще
спрятаны скрытые мысли сновидения. При толковании
сновидения не нужно обращать внимания на все, что служит
изображению исполнения желания, а восстановить
мучительные скрытые мысли сновидения.
Одно соображение, которое я хочу привести, должно
обратить ваше внимание на вставшие теперь на первый план
скрытые мысли. Прошу вас не забывать, что, во-первых, они
бессознательны для видевшего сон, во-вторых, совершенно
разумны и связны, так что их вполне можно принять за
понятные реакции на повод сновидения, в-третьих, что они
могут иметь значимость любого душевного движения или
интеллектуальной операции. Эти мысли я назову теперь
строже, чем до сих пор, «остатками дневных впечатлений»'
независимо от того, признается в них видевший сон или нет.
Теперь я разделяю остатки дневных впечатлений и скрытые
346
Введение о психоанализ
мысли сновидения, называя скрытыми мыслями в
соответствии с нашим прежним употреблением все то, что мы
узнаем из толкования сновидения, в то время как остатки
дневных впечатлений — это только часть скрытых мыслей
сновидения. Далее, согласно нашему пониманию, к остаткам
дневных впечатлений что-то прибавляется, что-то
относившееся также к бессознательному, сильное, но вытесненное
желание, и только оно делает возможным образование
сновидения. Влияние этого желания на остатки дневных
впечатлений вызывает другую часть скрытых мыслей
сновидения, ту, которая уже не кажется рациональной и понятной
из жизни в бодрствовании.
Для отношения остатков дневных впечатлений к
бессознательному желанию я воспользовался сравнением,
которое могу здесь только повторить. Во всяком предприятии
нужен капиталист, берущий на себя расходы, и
предприниматель, который имеет идею и умеет ее осуществить. В
образовании сновидения роль капиталиста всегда играет
бессознательное желание; оно отдает психическую энергию для
образования сновидения; предприниматель — остаток
дневных впечатлений, который распоряжается этими расходами.
Правда, капиталист сам может иметь идею, а
предприниматель капитал. Это упрощает практическую ситуацию, но
затрудняет ее теоретическое понимание. В народном
хозяйстве это одно лицо всегда будут делить на два — капиталиста
и предпринимателя — и восстановят ту основную позицию,
из которой произошло наше сравнение. При образовании
сновидения тоже случаются такие же вариации, проследить
которые я предоставляю вам.
Дальше мы с вами не можем пойти, потому что вы,
вероятно, уже давно заняты вопросом, который заслуживает
внимания. Вы спрашиваете, действительно ли остатки
дневных впечатлений бессознательны в том же смысле, что и
бессознательное желание, которое прибавляется, чтобы
сделать их способными создать сновидение? Ваше
предположение правильно. Здесь скрывается самая суть всего дела. Они
не бессознательны в том же смысле. Желание сновидения
относится к другому бессознательному, к тому, которое мы
признаем за инфантильное и наделяем особыми механизма-
347
Зигмунд ФРЕЙД
ми. Было бы вполне уместно разделить эти два вида
бессознательного, дав им разные названия. Но с этим лучше
подождать, пока мы не познакомимся с областью неврозов.
Если уж за одно бессознательное нас упрекают в
фантастичности, то что же скажут на наше признание, что нам
необходимы еще и два вида бессознательного?
Давайте здесь остановимся. Опять вы услышали только о
чем-то незаконченном; но разве не внушает надежду мысль,
что эти знания приведут к новым, которые приобретем мы
сами или другие после нас? А мы сами разве не узнали
достаточно нового и поразительного?
Пятнадцатая лекция
Сомнения и критика
Уважаемые дамы и господа! Мы не можем оставить
область сновидения, не упомянув о самых обычных сомнениях
и колебаниях, возникающих в связи с нашими новыми
взглядами. Самые внимательные слушатели из вас сами собрали
кое-какой материал по этому поводу.
1. Возможно, у вас сложилось впечатление, что
результаты нашей работы по толкованию сновидений, несмотря на
тщательность техники, допускают так много
неопределенностей, что сделать точный перевод явного сновидения на
[язык] скрытых его мыслей все-таки не удается.
В защиту этого вы скажете, что, во-первых, никогда не
известно, следует ли определенный элемент понимать в его
собственном смысле или символически, потому что вещи,
использованные в качестве символов, из-за этого все же не
перестают быть самими собой. Но если нет объективного
основания для разрешения данной проблемы, то в этом
случае толкование зависит от произвола толкователя. Далее,
вследствие совпадения противоположностей при работе
сновидения каждый раз остается неясным, следует ли понимать
какой-то определенный элемент сновидения в
положительном или отрицательном, в прямом или противоположном
смысле. А это новый повод для проявления произвола тол-
348
Введение в психоанализ
кователя. В-третьих, вследствие столь излюбленных в
сновидении инверсий толкователь волен в любом месте
сновидения предпринять такую инверсию. Наконец, вы сошлетесь
на мои слова, что редко можно быть уверенным в том, что
найденное толкование единственно возможное. Всегда есть
опасность проглядеть какое-нибудь вполне допустимое
перетолкование того же сновидения. При таких
обстоятельствах, заключите вы, произволу толкователя открывается
такое поле деятельности, широта которого, по-видимому,
несовместима с объективной надежностью результатов. Или
же вы можете предположить, что дело вовсе не в
сновидении, но что недостатки нашего толкования объясняются
неправильностью наших взглядов и исходных предпосылок.
Весь ваш материал, безусловно, хорош, но я полагаю, что
он не оправдывает двух ваших заключений: о том, что
толкования сновидений, как мы их проводим, предоставлены
произволу, и о том, что изъяны полученных результатов
ставят под вопрос правомерность нашего метода. Если под
произволом толкователя вы будете понимать его ловкость, опыт,
понятливость, то я с вами соглашусь, от таких личных
особенностей мы действительно не можем отказаться, тем более
при решении трудной задачи толкования сновидений. Но
ведь и в других областях науки не иначе. Нет средства
помешать тому, чтобы один владел какой-то определенной
техникой не хуже другого или не мог лучше ее использовать.
Остальное, производящее впечатление произвола, например,
при толковании символов, устраняется тем, что, как правило,
связь мыслей сновидения между собой, связь сновидения с
жизнью видевшего сон и вся психическая ситуация, в
которой сновидение происходит, заставляют выбрать из данных
возможных толкований одно, а остальные отклонить как
непригодные. А заключение о неправильности нашей
установки, основанное на некоторых несовершенствах толкования
сновидений, опровергается замечанием, что многозначность
или неопределенность сновидения является его
необходимым свойством, вполне отвечающим нашим ожиданиям.
Вспомним о нашем утверждении, что работа сновидения
переводит мысли сновидения в примитивную форму
выражения, аналогичную письму при помощи рисунков. Но все
349
Зигмунд ФРЕЙД
эти примитивные системы выражения столь же
неопределенны и двусмысленны, хотя у нас нет никакого сомнения в их
пригодности к данному употреблению. Вы знаете, что
совпадение противоположностей при работе сновидения
аналогично так называемому «противоположному смыслу
первоначальных слов» в древнейших языках. Лингвист К.Абель
(1884), которому мы обязаны этим представлением,
предупреждает нас, чтобы мы не думали, что сообщение, сделанное
при помощи таких амбивалентных слов, было
двусмысленным. Тон речи и сопровождающий ее жест должны были
ясно показать, какое из двух противоположных значений
говорящий имел в виду. На письме, где жест отсутствует, они
заменялись дополнительным, необязательным для
произношения рисунком-знаком, например изображением бессильно
опустившегося на корточки или прямо сидящего человечка
в зависимости от того, означает ли двусмысленное ken
иероглифического письма «слабый» или «сильный». Таким
образом, несмотря на многозначность звуков и знаков,
недоразумение устранялось.
Древние системы выражения, например письменность
древнейших языков, дают нам представление о некоторых
неопределенностях, которых мы не потерпели бы в
нашей современной письменности. Так, в некоторых семитских
языках на письме обозначаются только согласные слов.
Пропущенные гласные читающий должен вставлять сообразно
своему знанию и по контексту. Не совсем так, но очень
похоже происходит в иероглифической письменности, поэтому
произношение египетского языка осталось нам неизвестным.
Священное письмо египтян имеет еще и другую
неопределенность. Так, например, пишущий может произвольно
располагать рисунки справа налево или слева направо. Чтобы
читать, нужно соблюдать правило чтения в ту сторону, куда
обращены силуэты фигур, птиц и т. п. Но пишущий мог
располагать рисунки и по вертикали, а при надписях на
небольших объектах он позволял себе изменить последовательность
знаков по эстетическим соображениям и для заполнения
пространства. Но более всего в иероглифическом письме
затрудняет отсутствие разделения слов. Рисунки расположены
в строке на одинаковом расстоянии друг от друга, и в общем
350
Введение в пслихоансишз
нельзя узнать, относится ли знак к предыдущему слову или
является началом нового. В персидской клинописи,
напротив, косой клин служит разделителем слов.
Безусловно древние, но употребляемые и сегодня 400
миллионами язык и письменность — китайские. Не думайте, что
я их знаю; я только осведомился о них, надеясь найти
аналогии с неопределенностями сновидения. И мое ожидание
меня не обмануло. Китайский язык полон таких
неопределенностей, что они могут внушить нам ужас. Как известно,
он состоит из какого-то числа слоговых звуков, которые
произносятся отдельно или в сочетании из двух. Один из
основных диалектов содержит около 400 таких звуков. Так как
словарь этого диалекта насчитывает примерно 4000 слов,
получается, что каждый звук в среднем имеет десять
различных значений, некоторые из них меньше, но другие зато
еще больше. Далее имеется целый ряд средств, чтобы
избежать многозначности, так как только по контексту нельзя
догадаться, какое из десяти значений слогового звука
говорящий предлагает слушателю. Среди них — соединение
двух звуков в одно составное слово и использование
четырех различных «тонов», в сопровождении которых эти слоги
произносятся. Для нашего сравнения интересно еще то
обстоятельство, что в этом языке почти нет грамматики. Ни
об одном из односложных слов нельзя сказать,
существительное ли это, глагол, прилагательное, и нет никаких
изменений слов, по которым можно было бы узнать род, число,
окончание, время или наклонение. Таким образом, язык
состоит, так сказать, только из сырого материала, подобно
тому, как наш язык мыслей разлагается благодаря работе
сновидения, устраняющей выражение отношений, на его сырой
материал. В китайском языке во всех таких неопределенных
случаях решение предоставляется слушателю, который
руководствуется при этом общим смыслом. Я записал себе
пример одной китайской поговорки, которая в дословном
переводе гласит:
Мало что видеть, много что удивительно.
Ее нетрудно понять. Она может означать: чем меньше
кто-то видел, тем больше он находит удивительного или мно-
351
Зигмунд ФРЕЙД
го есть чему подивиться для того, кто мало видел. Различие
между этими только грамматически разными переводами,
разумеется, не принимается во внимание. Несмотря на эти
неопределенности, китайский язык, как нас уверяют, является
прекрасным средством выражения мыслей. Таким образом,
неопределенность необязательно должна вести к
многозначности.
Однако мы должны признаться, что в системе выражения
сновидений все гораздо менее благоприятно, чем во всех этих
древних языках и письменностях. Потому что последние в
основе своей все-таки предназначены для сообщения, т.е.
рассчитаны на то, чтобы быть понятыми какими угодно
путями и с использованием любых вспомогательных средств.
Но именно эта черта у сновидения отсутствует. Сновидение
никому ничего не хочет говорить, оно не является средством
сообщения, наоборот, оно рассчитано на то, чтобы остаться
непонятым. Поэтому мы не должны были бы удивляться и
смущаться, если оказалось, что какое-то число
многозначностей и неопределенностей сновидения не поддается
разъяснению. Несомненным результатом нашего сравнения останется
только то убеждение, что такие неопределенности, из-за
которых хотели поставить под сомнение основательность
наших толкований сновидений, являются постоянными
характерными чертами всех примитивных систем выражения.
Только опыт и практика могут установить, насколько
глубоким может быть в действительности понимание
сновидения. Я полагаю, что очень глубоким, и сравнение
результатов, которые получают правильно обученные аналитики,
подтверждает мою точку зрения. Широкая публика
дилетантов, даже научных, находит удовлетворение в том, что перед
лицом трудностей и неуверенности в научной работе
хвастает высокомерным скептицизмом. Я думаю, что они не
правы. Может быть, не всем вам известно, что подобная
ситуация имела место в истории расшифровки
ассиро-вавилонских надписей. Было время, когда общественное мнение
заходило так далеко, что считало расшифровщиков
клинописи фантазерами, а исследование объявлено
«шарлатанством». Но в 1857 г. Королевское азиатское общество
произвело решающую проверку. Оно предложило четырем самым
352
Введение в психоанализ
видным исследователям клинописи — Роулинсону, Хинксу,
Тальботу и Опперту — выслать ему в запечатанном
конверте независимые переводы вновь найденных надписей и
после сравнения четырех переводов смогло объявить, что их
сходство достаточно велико, что оно оправдывает доверие к
уже достигнутому и дает уверенность в дальнейших успехах.
Насмешки ученых-неспециалистов затем постепенно
прекратились, а уверенность при чтении клинописных
документов с тех пор чрезвычайно возросла.
2. Второй ряд сомнений тесно связан с впечатлением, от
которого, может быть, не вполне свободны и вы, что часть
вариантов толкования сновидений, которые мы вынуждены
предложить, кажутся натянутыми, искусственными,
притянутыми за волосы, т. е. насильственными или даже смешными
и похожими на неудачную остроту. Такие заявления
настолько часты, что я возьму наугад последнее, известное мне. Итак,
слушайте: недавно в свободной Швейцарии один директор
семинарии был лишен своего места из-за того, что занимался
психоанализом. Он выразил протест, и одна бернская газета
опубликовала характеристику школьных властей о нем. Из
этого документа я привожу несколько предложений,
относящихся к психоанализу: «далее поражает претенциозность
и искусственность во многих примерах, которые имеются в
приведенной книге д-ра Пфистера из Цюриха... Поражает,
собственно, то, что директор семинарии без критики
принимает все эти утверждения и псевдодоказательства». Эти
фразы выдаются за решение «беспристрастного судьи». Я думаю,
что «искусственно» скорее это беспристрастие. Примем эти
заявления с мыслью, что даже при беспристрастном суждении
не мешает подумать и быть немного знакомым с делом.
Действительно, приятно видеть, как быстро и
безошибочно кто-то может разобраться в таком запутанном вопросе
глубинной психологии, исходя из своих первых
впечатлений. Толкования кажутся ему надуманными и навязанными,
они ему не нравятся, значит, они неправильны, никуда не
годятся; и ему даже случайно не приходит в голову мысль
о другой возможности, о том, что эти толкования имеют
веские основания, в связи с чем возникает уже следующий
вопрос, каковы же эти веские основания.
12-3518
353
Зигмунд ФРЕЙД
Обсуждаемый факт, в сущности, имеет отношение к
результатам смещения, которое вам известно как самое
сильное средство цензуры сновидения. С помощью смещения
цензура сновидения создает заместителей, которые мы
назвали намеками. Но это намеки, которые сами по себе не
так-то легко узнаются, обратный путь от них к собственному
содержанию нелегко найти, и они связаны с этим последним
самыми странными, практически не встречающимися
внешними ассоциациями. Но во всех этих случаях речь идет о
вещах, которые должны быть скрытыми, должны оставаться
в тайне; ведь к этому стремится цензура сновидения. Нельзя
же ожидать, что спрятанное найдется в месте, где ему
обычно и полагается находиться. Действующие сегодня
пограничные комиссии в этом отношении хитрее, чем
швейцарские школьные власти. В поисках документов и записей они
не довольствуются просмотром портфелей и карманов, но
считаются с возможностью, что шпионы и перебежчики
могут носить такие запрещенные вещи в самых потайных
местах своей одежды, где им, безусловно, не место, например,
между двойными подошвами сапог. Если скрытые вещи
найдены там, то их, во всяком случае, не только энергично
искали, но также и нашли.
Если мы признаем возможность самых отдаленных,
самых странных, кажущихся то смешными, то остроумными
связей между каким-то скрытым элементом сновидения и
его явным заместителем, то опираемся при этом на богатый
опыт примеров, разъяснение которых мы, как правило,
получили не сами. Часто просто невозможно давать такие
толкования самому, ни один разумный человек не мог бы
догадаться об имеющейся связи. Перевод дает нам видевший
сон либо сразу благодаря непосредственно пришедшей ему
в голову мысли — он ведь может это сделать, потому что у
него и возник этот заместитель, — либо он предоставляет
нам столько материала, что толкование уже не требует
особого остроумия, а напрашивается само собой. Если же
видевший сон не помогает нам этими двумя способами, то
соответствующий явный элемент так и остается навсегда
непонятным для нас. Позвольте рассказать вам еще один такой
пример, который мне недавно встретился. Одна из моих па-
354
Введение в психоанализ
циенток во время лечения потеряла отца. С тех пор она
использует любой повод, чтобы воскресить его во сне. В одном
из ее сновидений отец появляется в определенной, не
имеющей особого значения связи и говорит: теперь четверть
двенадцатого, половина двенадцатого, три четверти
двенадцатого. При толковании этой странности ей пришла в
голову только та мысль, что отец бывал доволен, когда взрослые
дети аккуратно являлись к общему столу. Это, конечно,
было связано с элементом сновидения, но не позволяло
сделать никакого заключения о его происхождении. Было
подозрение, обусловленное тогдашней ситуацией лечения, что в
этом сновидении принимало участие тщательно
подавляемое критическое сопротивление любимому и почитаемому
отцу. О последующем ходе возникающих у нее мыслей, как
будто бы совсем отдалившихся от сновидения, видевшая сон
рассказывает, что вчера в ее присутствии много говорилось
о психологии, и один родственник высказал замечание: во
всех нас продолжает жить первобытный человек (Urmensch).
Теперь нам все понятно. Это дало ей прекрасный повод еще
раз воскресить умершего отца. В сновидении она сделала
его, таким образом, человеком, живущим по часам
(Uhrmensch), заставив его объявлять четверти часа пополудни.
В этом примере вы не можете не заметить сходства с
остротой, и действительно достаточно часто случается так,
что остроту видевшего сон принимают за остроумие
толкователя. Есть и другие примеры, когда совсем не легко
решить, имеешь ли дело с остротой или со сновидением. Но
вы помните, что именно такое сомнение появилось у нас
при анализе некоторых оговорок. Один мужчина
рассказывает, что ему снилось, будто его дядя поцеловал его, когда
они сидели в его авто(мобиле) (Auto). Он сразу же
прибавляет толкование. Это значит аутоэротизм (Autoerotismus)
(термин из теории либидо, означающий удовлетворение без
постороннего объекта). Не позволил ли себе этот человек с
нами шутку и не выдал ли понравившуюся ему остроту за
сновидение? Я думаю, что нет; он действительно увидел
такой сон. Но откуда берется это поразительное сходство?
В свое время этот вопрос увел меня немного в сторону от
моего пути, поставив перед необходимостью исследовать са-
355
Зигмунд ФРЕЙД
мо остроумие. При этом обнаружилось, что для
возникновения остроты предсознательный ход мыслей подвергается
бессознательной обработке, после которой он появляется в
виде остроты. Под влиянием бессознательного эти мысли
подвергаются воздействию господствующих там механизмов
сгущения и смещения, т.е. тех же процессов, которые, как
мы обнаружили, участвуют в работе сновидения, и в этой
общности следует искать источник сходства остроумия и
сновидения там, где оно имеет место. Но непреднамеренное
«остроумие сновидения» не доставляет нам никакого
удовольствия. Почему, вы можете узнать, углубившись в
изучение остроумия. «Остроумие сновидения» кажется нам
неудачным остроумием, оно не вызывает смеха, оставляет нас
равнодушными.
При этом мы идем по стопам античного толкования
сновидений, оставившего нам наряду со многим бесполезным
некоторые хорошие примеры толкования сновидений.
Сейчас я расскажу вам исторически важное сновидение
Александра Македонского, о котором сообщают с некоторыми
изменениями Плутарх и Артемидор из Далдиса. Когда царь
был занят осадой отчаянно защищавшегося города Тира
(322 г. до Р. X.), он увидел как-то во сне танцующего
сатира. Толкователь сновидений Аристандр, находившийся при
войске, истолковал это сновидение, разложив слово сатир
на GCCTvpos [твой Тир] и поэтому обещал Александру победу
над городом. Под влиянием толкования Александр
продолжил осаду и в конце концов взял Тир. Толкование, которое
выглядит достаточно искусственным, было, несомненно,
правильным.
3. Могу себе представить, какое особое впечатление
произведет на вас сообщение, что против нашего понимания
сновидения возражали и те лица, которые сами как
психоаналитики долгое время занимались толкованием
сновидений. Было бы слишком необыкновенным, если бы такой
повод к новым заблуждениям остался неиспользованным, так
что из-за путаницы понятий и неоправданных обобщений
возникли бы утверждения, которые по неправильности
ненамного уступали пониманию сновидений в медицине. Одно
из них вы уже знаете. Оно заявляет, что сновидение пыта-
356
Введение в психоанализ
ется приспособиться к настоящему и решить задачи
будущего, т.е. преследует «проспективную тенденцию» (Maeder,
1912). Мы уже указали, что это утверждение основано на
подмене сновидения его скрытыми мыслями, т.е. на
игнорировании работы сновидения. В качестве характеристики
бессознательной умственной деятельности, к которой
принадлежат скрытые мысли сновидения, это утверждение, с
одной стороны, не ново, с другой, оно не является
исчерпывающим, потому что бессознательная умственная
деятельность наряду с подготовкой будущего направлена на многое
другое. Еще более грубая ошибка заключена в утверждении,
что за каждым сновидением стоит «клаузула1 смерти»
(Todesklausel) (Stekel, 1911, 34). Я не знаю, что означает эта
формула, но предполагаю, что за ней скрывается подмена
сновидения всей личностью видевшего сон.
Неоправданное обобщение немногих хороших примеров
содержится в положении, что каждое сновидение допускает
два толкования — одно, показанное нами, так называемое
психоаналитическое, другое — так называемое
аналогическое, которое отказывается от влечений и направлено на
изображение высших душевных процессов (Silberer, 1914).
Такие сновидения имеются, но вы напрасно будете пытаться
распространить эту точку зрения хотя бы на большинство
сновидений. После всего, что вы слышали, вам покажется
совершенно непонятным и утверждение, что все сновидения
следует толковать бисексуально, как слияние потоков,
которые следует называть мужским и женским (Адлер, 1910).
Конечно, есть и такие отдельные сновидения, и позднее вы
узнаете, что они имеют то же строение, что и определенные
истерические симптомы. Я упоминаю обо всех этих
открытиях новых общих черт сновидения, чтобы предостеречь вас
от них или, по крайней мере, чтобы не оставить у вас
сомнения по поводу того, что я об этом думаю.
4. Однажды объективная значимость изучения
сновидений была поставлена под вопрос из-за наблюдения, что
пациенты, лечащиеся анализом, приспосабливают содержание
1 Юридический термин, означающий оговариваемое условие (в
договоре). — Примеч. ред. перевода.
357
Зигмунд ФРЕЙД
своих сновидений к любимым теориям своих врачей; одним
снятся преимущественно сексуальные влечения, другим —
стремление к власти, третьим — даже новое рождение (Ште-
кель). Ценность этого наблюдения понижается, если принять
во внимание то, что люди видели сны уже до
психоаналитического лечения, которое могло бы влиять на их сновидения,
и что теперешние пациенты также имели обыкновение
видеть сны и до лечения. Фактическая сторона этого открытия
скоро признается само собой разумеющейся и не имеющей
никакого значения для теории сновидения. Остатки дневных
впечатлений, побуждающие к образованию сновидения,
имеют своим источником устойчивые жизненные интересы при
бодрствовании. Если беседы врача и данные им указания
приобрели для анализируемого большое значение, то они
входят в круг остатков дневных впечатлений, могут стать
психическими побудителями сновидения, как другие
эмоционально окрашенные неудовлетворенные интересы дня, и
действовать подобно соматическим раздражителям,
оказывающим воздействие на спящего во время сна. Подобно этим
другим побудителям сновидения вызванные врачом мысли
могут возникнуть в явном сновидении или обнаружиться в
скрытом. Мы уже знаем, что сновидения можно вызвать
экспериментально или, правильнее сказать, ввести в сновидение
часть его материала. Таким образом, благодаря этому
влиянию на своего пациента аналитик играет роль
экспериментатора, который, как Моурли Вольд, придает членам
испытуемого определенные положения.
Часто можно внушить спящему, о чем должно быть его
сновидение, но никогда нельзя повлиять на то, что он увидит
во сне. Механизм работы сновидения и его бессознательное
желание не поддаются никакому чужому воздействию. При
оценке сновидений, вызванных соматическими
раздражителями, вы уже узнали, что своеобразие и самостоятельность
жизни во сне проявляется в реакции, которой сновидение
отвечает на влиявшие на него соматические или психические
раздражители. Итак, в основе обсуждавшегося здесь
утверждения, которое поставило под сомнение объективность
изучения сновидений, опять лежит подмена сновидения его
материалом.
358
Введение в психоанализ
Вот и все, уважаемые дамы и господа, что я хотел вам
сказать о проблемах сновидения. Вы догадываетесь, что
многое я упустил, и знаете сами, что почти по всем вопросам
я высказался неполно. Но причиной этого является
взаимосвязь феноменов сновидения и невротических явлений. Мы
изучали сновидение как введение в теорию неврозов, и это,
конечно, правильнее, чем если бы мы поступили наоборот.
Но как сновидение подготавливает понимание неврозов, так,
с другой стороны, правильную оценку сновидения можно
приобрести только после знакомства с невротическими
явлениями.
Не знаю, как думаете вы, но я должен вас заверить, что
не жалею о том, что посвятил проблемам сновидения так
много предоставленного нам времени и так долго занимал
ваше внимание. Ни на каком другом объекте нельзя так
быстро убедиться в правильности утверждений, на которых
зиждется психоанализ. Нужна напряженная работа в течение
нескольких месяцев и даже лет, чтобы показать, что
симптомы какого-то случая невротического заболевания имеют свой
смысл, служат какому-то намерению и обусловлены
обстоятельствами жизни больного. Напротив, в течение нескольких
часов удается, может быть, доказать то же самое
относительно сначала запутанного сновидения и подтвердить этим все
положения психоанализа — о бессознательности душевных
процессов, об особых механизмах, которым они
подчиняются, и движущих силах, которые в них проявляются. А если
мы сопоставим полную аналогию в построении сновидения
и невротического симптома с быстротой превращения
спящего человека в бодрствующего и разумного, то у нас
появится уверенность, что и невроз основан только на
измененном взаимодействии сил душевной жизни.
Часть третья
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ НЕВРОЗОВ
1917 [1916—17] г.
Шестнадцатая лекция
Психоанализ и психиатрия
Уважаемые дамы и господа! Я рад снова видеть вас после
годичного перерыва и продолжить наши беседы. В прошлом
году я изложил вам психоаналитическую разработку
проблем ошибочных действий и сновидений; теперь я хотел бы
ввести вас в понимание невротических явлений, которые,
как вы скоро узнаете, имеют много общего как с теми, так
и с другими. Но скажу заранее, что на этот раз я не могу
предоставить вам то же положение по отношению к себе,
что в прошлом году. Тогда оно объяснялось тем, что я не
мог сделать ни одного шага, не согласовав его с вашим"
суждением, я много дискутировал с вами, считался с вашими
возражениями, признавал, собственно, вас и ваш «здравый
смысл» за высшую инстанцию. Дальше так продолжаться не
может, причем по очень простой причине. Ошибочные
действия и сновидения как феномены не были вам незнакомы;
можно сказать, что у вас было столько же опыта, сколько и
у меня, или вы легко могли приобрести такой же опыт. Но
область неврозов вам чужда; поскольку вы сами не врачи, у
вас нет к ней никакого иного доступа, кроме моих
сообщений, а что значит самое лучшее суждение, если нет
знакомства с материалом, подлежащим обсуждению.
Однако не поймите моего заявления в том смысле, что я
собираюсь читать вам догматические лекции и добиваюсь
того, чтобы вы непременно приняли их на веру. Такое
недоразумение было бы большой несправедливостью по
отношению ко мне. Я не хочу навязывать никаких убеждений —
360
Введение в психоанализ
я намерен пробудить вашу мысль и поколебать
предубеждения. Если из-за фактического незнания вы не в состоянии
иметь суждения, то вам не следует ни верить, ни отрицать.
Вы должны слушать и не противиться воздействию того,
о чем я вам расскажу. Убеждения приобретаются не так
легко, а если к ним приходят без труда, то они скоро теряют
свою значимость и оказываются не способными к
сопротивлению. Право на убеждение имеет только тот, кто подобно
мне многие годы работал над одним и тем же материалом и
сам приобрел при этом тот же новый удивительный опыт.
К чему вообще в интеллектуальной области эти
скороспелые убеждения, молниеносное обращение в иную веру,
моментальный отказ от нее? Разве вы не замечаете, что «coup
de foudre», любовь с первого взгляда, происходит совсем из
другой — аффективной — области? Даже от наших
пациентов мы не требуем, чтобы они приходили к нам с
убеждением или готовностью стать сторонниками психоанализа.
Часто это даже вызывает подозрения. Благожелательный
скепсис — вот самая желательная для нас их установка. Так
что и вы попытайтесь проникнуться психоаналитическими
взглядами наряду с общепринятыми или психиатрическими,
пока не представится случай, когда они повлияют друг на
друга, сообразуются друг с другом и объединятся в одно
окончательное убеждение.
Но с другой стороны, вы ни минуты не должны полагать,
что излагаемые мною психоаналитические взгляды
являются спекулятивной системой. Это, напротив, опыт — либо
непосредственное впечатление от наблюдения, либо результат
его переработки. Является ли эта переработка достаточной
и оправданной, выяснится в ходе дальнейшего развития
науки, а по прошествии почти двух с половиной десятилетий,
достигнув довольно престарелого возраста, я без хвастовства
смею сказать, что работа, давшая эти наблюдения, была
особенно тяжелой, интенсивной и углубленной. У меня часто
создавалось впечатление, будто наши противники
совершенно не хотят принимать во внимание это происхождение
наших утверждений, как будто они полагают, что дело идет
всего лишь о субъективных идеях, которым другой может
противопоставить свое собственное мнение. Это поведение
361
Зигмунд ФРЕЙД
противников мне не совсем понятно. Может быть, это
происходит от того, что врачи обычно так безучастны к
нервнобольным, так невнимательно выслушивают, что они хотят
сказать, что им кажется странной возможность получить из
их сообщений что-то ценное, т.е. проводить над ними
серьезные наблюдения. В этой связи я обещаю вам, что, читая
эти лекции, я буду мало полемизировать, особенно с
отдельными лицами. Я не смог убедиться в правильности
положения, что спор — отец всех вещей. Я думаю, оно происходит
из греческой софистики и страдает, как и она, переоценкой
диалектики. Мне же, напротив, казалось, что так называемая
научная полемика в общем довольно бесплодна, не говоря
уже о том, что она почти всегда ведется крайне лично.
Несколько лет назад и я мог похвалиться, что когда-то вступил
в настоящий научный спор с одним-единственным
исследователем (Лёвенфельдом из Мюнхена). Дело кончилось тем,
что мы стали друзьями и остаемся ими до сегодняшнего дня.
Однако я давно не повторял этот опыт, так как не был
уверен в подобном исходе.
Вы, пожалуй, подумаете, что такой отказ от
литературной дискуссии свидетельствует об особенно большой
нетерпимости к возражениям, о самомнении или, как любезно
выражаются в науке, о «помешательстве». На это я хотел бы
вам ответить, что если вы когда-нибудь приобретете какое-
то убеждение благодаря такому тяжелому труду, у вас тоже
будет известное право придерживаться этого убеждения с
некоторым упорством. Далее я могу привести в качестве
довода и то, что во время своей работы я модифицировал свои
взгляды по некоторым важным вопросам, менял их, заменял
новыми, о чем, разумеется, каждый раз делал публичные
сообщения. А каков результат этой откровенности? Одни
вообще не узнали о внесенных мною самим поправках и еще
сегодня критикуют меня за положения, которые давно не
имеют для меня прежнего значения. Другие упрекают меня
именно в этих переменах и считают поэтому ненадежным.
Не правда ли, кто несколько раз поменял свои взгляды, тот
вообще не заслуживает доверия, потому что легко
допустить, что и в своих последних утверждениях он мог
ошибиться? Но того, кто неуклонно придерживается однажды
362
Введение в психоанализ
высказанного, считают упрямым и называют помешанным.
Что же делать перед лицом этих противоречивых
заключений критики, как не оставаться самим собой и вести себя
так, как подсказывает собственное мнение? На это я и
решился и не дам удержать себя от внесения изменений и
поправок во все мои теории, которых требует мой растущий
опыт. В основополагающих взглядах я до сих пор не нашел
ничего, что было бы необходимо изменить, и надеюсь, что
так будет и дальше.
Итак, я намерен изложить вам психоаналитическое
понимание невротических явлений. При этом естественно
соотнести их с уже изученными феноменами как вследствие
их аналогии, так и контраста. Начну с симптоматического
действия, которое я наблюдаю у многих лиц во время
приема. С теми, кто приходит к нам в приемные часы, чтобы за
четверть часа рассказать о невзгодах своей долгой жизни,
аналитик сделает не многое. Его более глубокое знание не
позволяет ему высказать заключение, как это сделал бы
другой врач: «Вы здоровы» — и дать совет: проделайте
небольшой курс водолечения. Один наш коллега на вопрос, что он
делает со своими пациентами во время приема, ответил,
пожимая плечами: он налагает на них штраф в столько-то крон
за их шалости. Так что вы не удивляйтесь, услышав, что
даже у самых занятых психоаналитиков во время приема
бывает не очень-то оживленно. Я устроил между приемной
и своим кабинетом двойную дверь и приказал обить ее
войлоком. Назначение этого маленького приспособления не
вызывает сомнения. И вот постоянно случается, что пациенты,
которых я впускаю из приемной, забывают закрыть за собой
двери и поэтому почти всегда обе двери остаются
открытыми. Заметив это, я довольно нелюбезным тоном настаиваю
на том, чтобы вошедший или вошедшая — будь то
элегантный господин или очень расфранченная дама — вернулся
и исправил свою ошибку. Это производит впечатление
неуместной педантичности. С таким требованием мне
случалось попадать и впросак, когда дело касалось лиц, которые
сами не могут прикасаться к дверной ручке и рады, если
сопровождающие их лица освобождают их от этого
прикосновения. Но в большинстве случаев я бывал прав, потому
363
Зигмунд ФРЕЙД
что тот, кто оставляет открытой дверь из приемной в
кабинет врача, принадлежит к дурно воспитанным людям и
заслуживает самого неприветливого приема. Не вставайте
сразу на их сторону, не выслушав всего. Эта небрежность
пациента имеет место только в том случае, если он был в
приемной один и оставляет за собой пустую комнату, но
этого никогда не случается, если с ним вместе ожидают
другие, посторонние. В этом последнем случае он прекрасно
понимает, что в его интересах, чтобы его не подслушивали,
когда он говорит с врачом, и он никогда не забудет
тщательно закрыть обе двери.
Детерминированное таким образом упущение пациента
не является ни случайным, ни бессмысленным, ни даже
незначительным, потому что, как мы увидим, оно определяет
отношение пациента к врачу. Пациент принадлежит к
большому числу тех, кто требует от врача подлинной власти,
хочет быть ослепленным, запуганным. Может быть,
спрашивая по телефону, в какое время ему лучше всего прийти, он
рассчитывал увидеть толпу жаждущих помощи, как перед
филиалом [фирмы] Юлиуса Мейнля1. И вот он входит в
пустую, к тому же чрезвычайно скромно обставленную
приемную, и это его потрясает. Он должен заставить врача
поплатиться за то, что собирался отнестись к нему со слишком
большим почтением, и вот он забывает закрыть дверь между
приемной и кабинетом врача. Этим он хочет сказать врачу:
ах, ведь здесь никого нет, и, вероятно, никто не придет, пока
я буду здесь. И во время беседы он вел бы себя
неблаговоспитанно и неуважительно, если бы его заносчивость с
самого начала не осадили резким замечанием.
В анализе этого незначительного симптоматического
действия вы не найдете ничего такого, что не было бы вам
уже знакомо, а именно утверждение, что оно не случайно,
а имеет какой-то мотив, смысл и намерение, что оно входит
в какую-то душевную связь и свидетельствует как
незначительный признак о каком-то более важном душевном
процессе. Но прежде всего этот проявившийся таким образом
1 Продовольственные магазины фирмы, перед которыми в военное время
стояли очереди покупателей. — Примеч. нем. изд.
364
Введение в психоанализ
процесс не известен сознанию того, кто его совершает,
потому что ни один из пациентов, оставлявших открытыми
обе двери, не признался бы, что этим упущением он хотел
выразить мне свое непочтение. Иной, пожалуй, и припомнит
чувство разочарования при входе в пустую приемную, но
связь между этим впечатлением и следующим за ним
симптоматическим действием наверняка осталась неведомой его
сознанию.
А теперь к этому небольшому анализу
симптоматического действия давайте привлечем наблюдение за одной
больной. Я выбираю такой случай, который свеж у меня в
памяти, также и потому, что его можно относительно кратко
изложить. В любом таком сообщении просто невозможно
избежать некоторых подробностей.
Молодой офицер, ненадолго вернувшийся в отпуск,
просит меня полечить его тещу, которая, несмотря на
самые благоприятные условия, отравляет жизнь себе и своим
близким, одержимая бессмысленной идеей. Я знакомлюсь с
53-летней хорошо сохранившейся дамой любезного и
простого характера, которая без сопротивления рассказывает
мне следующее. Она живет за городом в самом счастливом
браке со своим мужем, управляющим большой фабрикой.
Она не может нахвалиться любезной заботливостью своего
мужа. 30 лет тому назад она вышла замуж по любви, с тех
пор никогда не было ни одного недоразумения, разногласия
или повода для ревности. Двое ее детей счастливы в браке,
муж из чувства долга не хочет идти на покой. Год тому
назад случилось нечто невероятное, непонятное ей самой:
она сразу поверила анонимному письму, в котором ее
прекрасный муж обвинялся в любовной связи с молодой
девушкой, и с тех пор ее счастье разбито. В подробностях дело
заключалось примерно в следующем: у нее была горничная,
с которой она, пожалуй, слишком часто вела интимные
разговоры. Эта девушка преследовала другую прямо-таки со
злобной враждебностью, потому что та гораздо больше
преуспела в жизни, хотя была лишь чуть лучшего
происхождения. Вместо того чтобы поступить на службу, она получила
коммерческое образование, поступила на фабрику и
вследствие недостатка персонала из-за призыва служащих на
365
Зигмунд ФРЕЙД
военную службу выдвинулась на хорошее место. Теперь она
жила на самой фабрике, вращалась среди господ и даже
называлась барышней. Отставшая на жизненном поприще,
естественно, была готова наговорить на бывшую школьную
подругу всевозможных гадостей. Однажды наша дама
беседовала с горничной об одном гостившем у них старом
господине, о котором знали, что он не жил со своей женой, а
имел связь с другой. Она не знает, как это вышло, что она
вдруг сказала: «Для меня было бы самым ужасным, если бы
я узнала, что мой добрый муж тоже имеет связь». На
следующий день она получила по почте анонимное письмо, в
котором измененным почерком сообщалось это как бы
накликанное ею известие. Она решила — и, вероятно,
правильно, — что письмо — дело рук ее озлобленной горничной,
потому что возлюбленной мужа была названа именно та
барышня, которую служанка преследовала своей ненавистью.
Но хотя она тотчас насквозь увидела всю интригу и знала
в своей округе достаточно примеров, свидетельствующих о
том, как мало доверия заслуживают такие трусливые
доносы, случилось так, что это письмо ее сразу сразило. Ее
охватило страшное возбуждение, и она тотчас послала за
мужем, чтобы выразить ему самые жестокие упреки. Муж со
смехом отрицал обвинение и сделал самое лучшее, что было
возможно. Он позвал домашнего и фабричного врача,
который постарался успокоить несчастную женщину.
Дальнейшие действия обоих были тоже вполне благоразумны.
Горничной было отказано, однако мнимая соперница осталась.
С тех пор больная неоднократно успокаивалась настолько,
что больше не верила содержанию анонимного письма, но
это успокоение никогда не было полным и
продолжительным. Достаточно было услышать имя той барышни или
встретить ее на улице, чтобы вызвать у нее новый всплеск
недоверия, боли и упреков.
Вот история болезни этой славной женщины. Не нужен
большой психиатрический опыт, чтобы понять, что в
противоположность другим нервнобольным она изобразила свою
болезнь скорее слишком мягко, как мы говорим,
диссимулировала, и что, в сущности, она никогда не теряла веры
в обвинения анонимного письма.
366
Введение о психоанализ
Какую позицию займет психиатр в этом случае болезни?
Как он поведет себя в случае симптоматического действия
пациента, не закрывающего двери в приемную, мы уже
знаем. Он объявляет его лишенной психологического интереса
случайностью, которая его нисколько не касается. Но к
случаю болезни ревнивой женщины такого отношения быть не
может. Симптоматическое действие кажется чем-то
безразличным, но в симптоме болезни видится нечто
значительное. Он связан с интенсивным субъективным страданием, он
объективно угрожает совместной жизни семьи, так что
является предметом неизбежного интереса для психиатра.
Сначала психиатр пытается характеризовать симптом по его
существенному свойству. Саму по себе идею, которой
мучается эта женщина, нельзя назвать бессмысленной; ведь
бывает, что немолодые мужья завязывают любовные
отношения с молодыми девушками. Но что-то другое в этом
бессмысленно и непонятно. У пациентки нет никакого другого
основания, кроме утверждения анонимного письма, верить
в то, что ее нежный и верный супруг относится к этой
совсем нередкой категории мужей. Она знает, что это
письмо не имеет никакой доказательной силы, она в состоянии
удовлетворительно объяснить его происхождение; она
должна была бы себя уверить, что у нее нет никаких поводов для
ревности, она и говорит это себе и тем не менее страдает
так же, как если бы она признавала эту ревность совершенно
оправданной. Идеи такого рода, неподвластные логическим
и идущим от реальности аргументам, принято называть
бредовыми идеями. Милая дама страдает, таким образом, бредом
ревности. Такова, пожалуй, самая существенная
характеристика этого случая болезни.
После этой первой констатации наш психиатрический
интерес возрастает как будто еще больше. Если с бредовой
идеей нельзя покончить ссылкой на реальность, то,
пожалуй, она и не имеет корней в реальности. Откуда же она
тогда происходит? Бредовые идеи бывают самого
разнообразного содержания, почему в нашем случае содержанием
бреда является именно ревность? У кого образуются
бредовые идеи и, в частности, бредовые идеи ревности? Тут нам
бы хотелось послушать психиатра, но здесь-то он нас и под-
367
Зигмунд ФРЕЙД
ведет. Он вообще остановится только на одном-единствен-
ном из наших вопросов. Он будет изучать историю семьи
этой женщины и, может быть, ответит нам: бредовые идеи
бывают у таких лиц, в семье которых неоднократно
встречались подобные или другие психические нарушения.
Другими словами, если у этой женщины развилась бредовая
идея, то у нее было к этому наследственное
предрасположение. Это, конечно, кое-что, но разве все, что мы хотим знать?
Все, что послужило причиной болезни? Следует ли нам
довольствоваться предположением, что если вместо
какого-нибудь другого развился бред ревности, это не имеет значения,
случайно и необъяснимо? И следует ли нам понять
положение, заявляющее о преобладании наследственного влияния,
и в отрицательном смысле: безразлично, какие переживания
потрясли эту душу, раз ей было предопределено когда-то
заболеть помешательством? Вы захотите узнать, почему
научная психиатрия не желает дать нам никаких дальнейших
объяснений. Но я вам отвечу: плут тот, кто дает больше, чем
имеет. Ведь психиатр как раз и не знает пути, ведущего к
дальнейшему пониманию такого случая. Он вынужден
довольствоваться диагнозом и неуверенным прогнозом
дальнейшего течения болезни, несмотря на богатый опыт.
Но может ли психоанализ достичь в этом случае
большего? Несомненно; надеюсь показать вам, что даже в столь
трудном случае он способен открыть нечто такое, что дает
возможность самого глубокого проникновения в суть дела.
Во-первых, прошу обратить ваше внимание на ту
незначительную деталь, что пациентка прямо спровоцировала
анонимное письмо, на котором основана ее бредовая идея,
высказав накануне интриганке мысль, что для нее было бы
величайшим несчастьем, если бы ее муж имел любовную
связь с молодой девушкой. Этим она навела служанку на
мысль послать ей анонимное письмо. Так что бредовая идея
приобретает известную независимость от анонимного
письма; она уже до него имелась у больной в форме опасения —
или желания. Прибавьте к этому еще то, что дали два часа
анализа других незначительных намеков. Правда, пациентка
отнеслась очень отрицательно к требованию после рассказа
своей истории сообщить дальнейшие размышления, прихо-
368
Введение в психоанализ
дящие ей в голову мысли и воспоминания. Она утверждала,
что ей ничего не приходит в голову, что она уже все сказала,
и через два часа попытка дальнейшей беседы с пей
действительно вынуждена была прекратиться, так как она заявила,
что чувствует себя уже здоровой и уверена, что болезненная
идея больше не появится. Она сказала это, конечно, только
из сопротивления и страха перед продолжением анализа. Но
за эти два часа она все-таки обронила несколько замечаний,
которые допускают определенное толкование, даже делают
его неизбежным, и это толкование проливает яркий свет на
происхождение ее бреда ревности. Она сама была сильно
влюблена в молодого человека, того самого зятя, по
настоянию которого обратилась ко мне как пациентка. Об этой
влюбленности она ничего не знала или, может быть, знала
очень мало; при существовавших родственных отношениях
эта влюбленность могла легко маскироваться под
безобидную нежность. При всем нашем опыте нам нетрудно
проникнуть в душевную жизнь этой 53-летней порядочной
женщины и хорошей матери. Такая влюбленность, как нечто
чудовищное, невозможное, не могла стать сознательной;
однако она оставалась и как бессознательная лежала тяжелым
грузом. Что-то должно было с ней произойти, какой-то
выход должен был быть найден, и самое простое облегчение
предоставил механизм смещения, который так часто
участвует в возникновении бредовой ревности. Если не только
она, старая женщина, влюблена в молодого мужчину, но и
ее старый муж поддерживает любовную связь с молодой
девушкой, то она освобождалась бы от упреков совести из-за
неверности. Фантазия о неверности мужа была, таким
образом, охлаждающим компрессом на ее жгучую рану. Ее
собственная любовь не осознавалась ею, но ее отражение,
дававшее ей такие преимущества, навязчиво осознавалось в
виде бреда. Все доводы против него, разумеется, не
достигали цели, потому что направлялись лишь против
отражения, а не против первоначального образа, которому оно
было обязано своей силой и который неприкосновенно
оставался скрытым в бессознательном.
А теперь сопоставим, что нам дал для понимания
этого случая болезни короткий, но затрудненный психоанализ.
369
Зигмунд ФРЕЙЦ
Разумеется, при условии, что наши сведения получены
правильно, чего я с вами не могу здесь обсуждать. Во-первых,
бредовая идея не является больше чем-то бессмысленным
или непонятным, она осмысленна, хорошо мотивирована,
связана с аффективным переживанием больной. Во-вторых,
она представляет собой необходимую реакцию на
бессознательный душевный процесс, угадываемый но другим
признакам, и обязана своим бредовым характером именно
этому отношению, его устойчивости перед натиском логики и
реальности. Она сама есть что-то желанное, своего рода
утешение. В-третьих, переживанием, независимо от
заболевания, недвусмысленно определяется появление именно
бредовой идеи ревности, а не какой-нибудь другой. Вы ведь
помните, что она накануне высказала интриганке мысль, что
для нее было бы самым ужасным, если бы ее муж оказался
неверным ей. Не оставляйте без внимания также обе
аналогии с проанализированным нами симптоматическим
действием, имеющие важное значение для объяснения смысла
или намерения и определения отношения к имеющемуся
в этой ситуации бессознательному.
Разумеется, тем самым не дается ответа на все вопросы,
которые мы могли поставить в связи с этим случаем.
Больше того, этот случай болезни полон других проблем, таких,
которые пока вообще неразрешимы, и других, которые не
могут быть решены вследствие некоторых неблагоприятных
условий. Например, почему эта счастливая в браке женщина
поддается влюбленности в своего зятя, и почему облегчение,
которое могло бы быть достигнуто и другим способом,
осуществляется в форме такого отражения, проекции своего
собственного состояния на мужа? Но не думайте, что
ставить такие вопросы можно только из праздного
любопытства. В нашем распоряжении уже есть некоторый материал
для возможного ответа на них. Пациентка находится в том
критическом возрасте, когда сексуальная потребность у
женщин вдруг нежелательно возрастает; этого одного уже
достаточно. Или к этому могло присоединиться то, что ее добрый
и верный супруг уже в течение нескольких лет не обладает
той сексуальной способностью, в которой нуждалась хорошо
сохранившаяся женщина для своего удовлетворения. Опыт
370
введение о психоанализ
обратил наше внимание на то, что именно такие мужчины,
верность которых вполне естественна, отличаются особой
нежностью в обращении со своими женами и
необыкновенной терпимостью к их нервным недугам. Далее,
небезразлично, что именно молодой муж дочери стал объектом этой
патогенной влюбленности. Сильная эротическая
привязанность к дочери, обусловленная в конечном счете
сексуальной конституцией матери, часто находит свое продолжение
в таком превращении. Смею вам напомнить в этой
связи, что отношения между тещей и зятем с давних пор
считались у людей особенно щекотливыми и у первобытных
народов дали повод для очень строгих предписаний табу и
«избегания» друг друга1. Эти отношения часто переходят
желательную культурную границу как в положительную,
так и в отрицательную сторону. Какой из этих трех
моментов проявился в нашем случае, два ли из них, все ли они
соединились, этого я вам, правда, сказать не могу, но только
потому, что у меня не было возможности продолжить
анализ данного случая больше двух часов.
Теперь я замечаю, уважаемые дамы и господа, что все
время говорил о вещах, к пониманию которых вы еще не
подготовлены. Я сделал это для того, чтобы сравнить
психиатрию с психоанализом. А теперь я хочу спросить вас об
одном: заметили вы какое-нибудь противоречие между
ними? Психиатрия не пользуется техническими методами
психоанализа, она не пробует связывать что-то с содержанием
бредовой идеи и, указывая на наследственность, дает нам
очень общую и отдаленную этиологию, вместо того
чтобы показать более частные и близкие причины. Но разве в
этом кроется противоречие, противоположность? Не
является ли это скорее усовершенствованием? Разве признание
наследственного фактора умаляет роль переживания, не
объединяются ли оба фактора самым действенным образом?
Вы согласитесь со мной, что, по существу, в
психиатрической работе нет ничего, что могло бы противоречить
психоаналитическому исследованию. Так что психиатры
противятся психоанализу, а не психиатрия. Психоанализ относит-
Ср.: «Тотем и табу».
371
Зигмунд ФРЕЙД
ся к психиатрии приблизительно как гистология к
анатомии: одна изучает внешние формы органов, другая — их
строение из тканей и элементарных частичек. Противоречие
между этими двумя видами изучения, одно из которых
продолжает другое, просто трудно себе представить. Вы знаете,
что сегодня анатомия считается основой научной медицины,
но было время, когда вскрывать человеческие трупы для
того, чтобы познакомиться с внутренним строением тела,
было так же запрещено, как сегодня кажется
предосудительным заниматься психоанализом, чтобы узнать о внутреннем
механизме душевной жизни. И может быть, в недалеком
будущем мы поймем, что глубоко научная психиатрия
невозможна без хорошего знания глубоко лежащих,
бессознательных процессов в душевной жизни.
Возможно, среди вас найдутся и сторонники столь
ненавидимого психоанализа, которым будет приятно, если он
сможет оправдаться с другой, терапевтической стороны. Вы
знаете, что наша сегодняшняя психиатрическая терапия не
в состоянии воздействовать на бредовые идеи. Может быть,
психоанализ благодаря своим взглядам на механизм
[образования] симптомов способен на это? Нет, господа, он не
может этого; он так же бессилен против этого недуга, как и
любая другая терапия, по крайней мере, пока. Хотя мы
можем понять, что произошло с больным, у нас нет, однако,
никакого средства сделать это понятным для самих больных.
Вы слышали, что мне удалось только начать анализ этой
бредовой идеи. Станете ли вы поэтому утверждать, что
анализ таких случаев не нужен, потому что бесплоден? Я
думаю, что все-таки нет. Мы имеем право, даже обязанность
проводить исследование, не считаясь с непосредственным
полезным эффектом. В конце концов мы не знаем, где и
когда каждая частица знания превратится в умение, в том
числе и терапевтическое. Если бы психоанализ был бы
таким же безуспешным во всех других формах нервных и
психических заболеваний, как в области бредовых идей, он все
равно остался бы полностью оправданным как незаменимое
средство научного исследования. Хотя тогда мы оказались
бы не в состоянии применить его; люди, на которых мы
хотим учиться, живые люди со своей собственной волей и
372
Введение в психоанализ
по своим мотивам участвующие в работе, отказали бы нам
в этом. Разрешите мне поэтому сегодня закончить
сообщением, что есть большие группы нервных расстройств, где мы
действительно смогли воплотить наши знания в
терапевтическое умение, и что при известных условиях мы достигаем
в случаях этих заболеваний, обычно трудно поддающихся
лечению, успехов, не уступающих никаким другим в области
внутренней терапии.
Семнадцатая лекция
Смысл симптомов
Уважаемые дамы и господа! На прошлой лекции я
говорил вам, что клиническая психиатрия обращает мало
внимания на форму проявления и содержание отдельного
симптома, а психоанализ именно с этого начинал и установил
прежде всего, что симптом осмыслен и связан с переживанием
больного. Смысл невротических симптомов был открыт
сначала Й. Брейером благодаря изучению и успешному
излечению одного случая истерии, ставшего с тех пор знаменитым
(1880—1882). Верно, что Пьер Жане независимо [от него]
доказал то же самое; французскому исследователю
принадлежит даже литературный приоритет, потому что Брейер
опубликовал свое наблюдение лишь более десяти лет
спустя (1893—1895), сотрудничая со мной. Впрочем, нам должно
быть безразлично, кем сделано это открытие, потому что вы
знаете, что любое открытие делается больше, чем один раз,
и ни одно не делается сразу, а успех все равно не сопутствует
заслугам. Америка не носит имя Колумба. До Брейера и
Жане крупный психиатр Лере высказал мнение, что даже бреды
душевнобольных должны были бы быть признаны
осмысленными, если бы мы только умели их переводить. Признаюсь,
я долгое время очень высоко оценивал заслугу П.Жане в
объяснении невротических симптомов, так как он понимал
их как выражение idées inconscientes^', владеющих больными.
Бессознательных идей (фр). — Примеч. пер.
373
Зигмунд ФРЕЙД
Но после того Жане с чрезвычайной сдержанностью
высказывался таким образом, как будто хотел признаться, что
бессознательное было для него не чем иным, как способом
выражения, вспомогательным средством, une façon de parler\
под этим он не подразумевал ничего реального. С тех пор я
больше не понимаю рассуждений Жане, но полагаю, что он
совершенно напрасно лишил себя многих заслуг.
Итак, невротические симптомы, как ошибочные действия,
как сновидения, имеют свой смысл и так же, как они, по-
своему связаны с жизнью лиц, у которых они
обнаруживаются. Этот важный результат исследования мне хотелось бы
пояснить вам несколькими примерами. Можно только
утверждать, но не доказать, что так бывает всегда и во всех
случаях. Тот, кто попытается приобрести свой собственный
опыт, убедится в этом. Но по известным соображениям я
возьму эти примеры не из области истерии, а из области
другого, весьма странного, в принципе очень близкого ей
невроза, о котором я должен вам сказать несколько вводных
слов. Этот так называемый невроз навязчивых состояний не
столь популярен, как всем известная истерия; он, если можно
так выразиться, не столь вызывающе шумлив, выступает
скорее частным делом больного, почти полностью отказывается
от соматических проявлений и все свои симптомы создает
в душевной области. Невроз навязчивых состояний и
истерия — это те формы невротического заболевания, на
изучении которых прежде всего и был построен психоанализ, в
лечении которых наша терапия также достигает своего
триумфа. Но невроз навязчивых состояний, который обходит
тот загадочный скачок из душевного в соматическое,
благодаря психоаналитическому исследованию стал нам,
собственно говоря, более ясным и знакомым, чем истерия, и мы
узнали, что определенные крайние характерные невротические
черты в нем проявляются намного резче.
Невроз навязчивых состояний выражается в том, что
больные заняты мыслями, которыми они, собственно, не
интересуются, чувствуют в себе импульсы, кажущиеся им
весьма чуждыми, и побуждения к действиям, выполнение кото-
Рсчевым обо!ютом (фр). — Примеч. ред. перевода.
374
Ihiedcuuc в психоанализ
рых хотя и не доставляет им никакого удовольствия, но
отказаться от него они никак не могут. Мысли (навязчивые
представления) сами по себе могут быть бессмысленными
или же только безразличными для индивидуума, часто они
совершенно нелепы, во всяком случае, они являются
результатом напряженной, изнурительной для больного
мыслительной деятельности, которой он очень неохотно отдается.
Против своей воли он должен заниматься самокопанием и
раздумывать, как будто дело идет о его самых важных
жизненных задачах. Импульсы, которые больной чувствует в
себе, могут производить также впечатление нелепого
ребячества, но по большей части они имеют самое страшное
содержание, типа попыток к совершению тяжких
преступлений, так что больной не только отрицает их как чуждые, но
в ужасе бежит от них и защищается от их исполнения
запретами, отказами и ограничениями своей свободы. При
этом в действительности они никогда, ни разу не доходят
до исполнения; в результате побеждают бегство и
осторожность. То, что больной действительно исполняет как так
называемые навязчивые действия, — безобидные, несомненно
незначительные действия, по большей части повторения,
церемониальные украшения деятельностей обыденной жизни,
из-за чего эти необходимые отправления жизненных
потребностей: отход ко сну, умывание, туалет, прогулка —
становятся в высшей степени продолжительными и
превращаются в почти неразрешимые проблемы. Болезненные
представления, импульсы и действия в отдельных формах и случаях
невроза навязчивых состояний сочетаются далеко не в
равных частях; существует скорее правило преобладания в
[общей] картине одного или другого из этих моментов, что и
дает болезни название, однако общие черты всех этих форм
достаточно очевидны.
Это, конечно, чудовищное страдание. Я полагаю, что
самой необузданной психиатрической фантазии не удалось бы
придумать ничего подобного, и если бы этого нельзя было
видеть ежедневно, никто бы не решился этому поверить. Но
не подумайте, что вы окажете больному услугу, если
будете его уговаривать отвлечься, не заниматься этими глупыми
мыслями, а сделать что-нибудь разумное вместо своих пус-
375
Зигмунд ФРЕЙД
тяков. Он и сам бы этого хотел, потому что его сознание
совершенно ясно, он разделяет ваше суждение о своих
навязчивых симптомах, да он сам вам об этом рассказывает. Он
только не может иначе; то, что в неврозе навязчивых
состояний прорывается к действию, делается с такой энергией,
для которой, вероятно, нет никакого сравнения в нормальной
душевной жизни. Он может лишь одно: сместить, заменить,
употребить вместо одной глупой идеи другую, несколько
ослабленную, перейти от одной предосторожности или
запрета к другому, выполнить вместо одного церемониала
другой. Он может сместить навязчивое состояние, но не
устранить его. Способность всех симптомов сдвигаться подальше
от своей первоначальной формы является главной
характерной чертой его болезни; кроме того, бросается в глаза, что
противоположности (полярности), которыми полна
душевная жизнь, в его состоянии проявляются особенно резко
разделенными. Наряду с навязчивым состоянием
положительного или отрицательного содержания в интеллектуальной
области возникает сомнение, постепенно подтачивающее
даже самое надежное в обычных условиях. Все вместе
приводит ко все возрастающей нерешительности, отсутствию
энергии, ограничению свободы. При этом страдающий
навязчивым состоянием невротик исходно имеет весьма энергичный
характер, часто чрезвычайно упрям, как правило,
интеллектуально одарен выше среднего уровня. По большей части он
достигает высокой степени этического развития, отличается
чрезмерной совестливостью, корректен больше
обыкновенного. Можете себе представить, каких трудов стоит хоть
сколько-нибудь разобраться в этом противоречивом сочетании
свойств характера и симптомов болезни. Пока мы и не
стремимся ни к чему другому, как к пониманию некоторых
симптомов этой болезни, к [приобретению] возможности их
толкования.
Быть может, имея в виду наше обсуждение, вы захотите
прежде узнать, как относится к проблемам невроза
навязчивых состояний современная психиатрия. Но это бесполезное
дело. Психиатрия дает различным навязчивым состояниям
названия, но больше ничего не говорит о них. Зато она
подчеркивает, что носители этих симптомов «дегенераты». Это
376
Введение в психоанализ
мало удовлетворяет, это, собственно, оценка, суждение
вместо объяснения. Нам следует знать, что именно у людей
такого склада и встречаются всевозможные странности. Мы
даже полагаем, что лица, у которых развиваются такие
симптомы, должны быть от природы иными, чем другие люди. Но
хотелось бы спросить: являются ли они более
«дегенератами», чем другие нервнобольные, например, истерики или
больные психозами? Характеристика, очевидно, опять
слишком общая. И можно даже засомневаться в ее правильности,
если узнаешь, что такие симптомы встречаются у
замечательных людей с особенно высокой и полезной для общества
работоспособностью. Обычно мы знаем мало интимного о
наших образцово великих людях благодаря их собственной
скрытности и лживости их биографов, но иногда бывает, что
кто-то является таким фанатиком правды, как Эмиль Золя,
и тогда мы узнаем, сколь многими странными навязчивыми
привычками он страдал всю свою жизнь1.
Тогда психиатрия нашла выход, говоря о Dégénères
supérieurs2. Прекрасно — но благодаря психоанализу мы узнали,
что эти странные навязчивые симптомы, как другие недуги
и у других людей, недегенератов, можно надолго устранить.
Мне самому это неоднократно удавалось.
Хочу привести вам лишь два примера анализа
навязчивого симптома, один из давнишнего наблюдения, который я не
могу заменить лучшим, и другой, встретившийся мне
недавно. Я ограничусь этим незначительным числом примеров,
потому что при таком сообщении приходится быть очень
обстоятельным, входить во все подробности.
Одна почти 30-летняя дама, страдавшая самыми
тяжелыми навязчивыми явлениями, которой я, пожалуй, помог бы,
если бы коварный случай не сорвал моей работы,— может
быть, я еще расскажу вам об этом — несколько раз в день
проделывала между прочим следующее странное навязчивое
действие. Она выбегала из своей комнаты в соседнюю,
становилась там на определенное место у стоявшего посередине
1 Тулуз Э. Эмиль Золя: Медико-психологическое исследование. Париж,
189G.
2 Высших дегенератах (фр.). — Примеч. ред. перевода.
377
Зшмунд Ф1Ч:ЙД
стола, звонила горничной, давала ей какое-нибудь
незначительное поручение или отпускала ни с чем и затем убегала
обратно. Это, конечно, не тяжелый болезненный симптом,
но он мог все-таки вызвать любопытство. Объяснение
явилось самым естественным, не допускающим возражений
образом, исключающим всякое вмешательство со стороны
врача. Я совершенно не представляю себе, как бы я мог прийти
к какому-либо предположению о смысле этого навязчивого
действия, к какому-либо предположению относительно его
толкования. Сколько я ни спрашивал больную: «Почему вы
это делаете, какой это имеет смысл?» — она отвечала: «Я не
знаю». Но однажды, после того, как мне удалось побороть
ее важное принципиальное сомнение, она вдруг осознала и
рассказала все, что имело отношение к навязчивому
действию. Более десяти лет тому назад она вышла замуж за
человека намного старше нее, который оказался импотентом в
первую брачную ночь. Бесчисленное множество раз вбегал
он из своей комнаты в ее, чтобы повторить попытку, но
каждый раз безуспешно. Утром он с досадой сказал: «Ведь
стыдно перед горничной, когда она будет убирать постель»,
схватил бутылку красных чернил, которая случайно
оказалась в комнате, и вылил ее содержимое на простыню, но не
на то место, которое могло бы иметь право на такое
пятно. Сначала я не понял, что общего между этим
воспоминанием и обсуждаемым навязчивым действием, так как
находил сходство только в повторяющемся выбегании и
вбегании в комнату и кое-что еще в появлении горничной. Тогда
пациентка подвела меня к столу во второй комнате и
показала большое пятно на скатерти. Она объяснила также, что
становится у стола так, чтобы вызванная ею девушка не
могла не заметить пятна. Теперь нельзя было сомневаться в
интимной связи между той сценой после брачной ночи и ее
теперешним навязчивым действием; на этом примере,
однако, можно еще многому поучиться.
Прежде всего, ясно, что пациентка идентифицирует себя
со своим мужем; она играет его роль, подражая его беготне
из одной комнаты в другую. Придерживаясь этого сравнения,
мы должны согласиться далее, что кровать и простыню она
замещает столом и скатертью. Это показалось бы произволь-
378
Введение в психоаши-иш
ным, но мы не зря изучали символику сновидений. В
сновидении как раз очень часто видят стол, который следует
толковать, однако, как кровать. Стол и кровать вместе
составляют брак, поэтому одно легко ставится вместо другого.
То, что навязчивое действие имеет смысл, как будто уже
доказано; оно кажется изображением, повторением той
значимой сцены. Но нас никто не заставляет ограничиваться
этим внешним сходством; если мы исследуем отношение
между обоими подробнее, то, вероятно, нам откроется нечто
более глубокое — намерение навязчивого действия. Его
ядром, очевидно, является вызов горничной, которой она
показывает пятно в противоположность замечанию своего мужа:
стыдно перед девушкой. Он, роль которого она играет, таким
образом, не стыдится девушки; пятно, судя по этому, на
правильном месте. Итак, мы видим, что она не просто повторила
сцену, а продолжила ее и исправила, превратив в
правильную. Но этим она исправляет и другое, что было так
мучительно в ту ночь и потребовало для выхода из положения
красных чернил, — импотенцию. Навязчивое действие
говорит: нет, это неверно, ему нечего стыдиться горничной, он не
был импотентом; оно изображает, как в сновидении, это
желание выполненным в настоящем действии, оно служит
намерению возвысить мужа над тогдашней неудачей.
Сюда прибавляется все то, что я мог бы рассказать вам
об этой женщине; вернее говоря, все, что мы о ней еще
знаем, указывает нам путь к этому толкованию самого по
себе непонятного навязчивого действия. Уже много лет
женщина живет отдельно от своего мужа и борется с
намерением расторгнуть свой брак по суду. Но не может быть и
речи о том, чтобы она освободилась от него; она вынуждена
оставаться ему верной, отдаляется от всего света, чтобы не
впасть в искушение, в своей фантазии она извиняет и
возвеличивает его. Да, самая глубокая тайна ее болезни в том,
что благодаря ей она охраняет мужа от злых сплетен,
оправдывает свое отдаление от него и дает ему возможность вести
покойную отдельную жизнь. Так анализ безобидного
навязчивого действия выводит на прямой путь к самому
глубокому ядру заболевания, но в то же время выдает нам
значительную долю тайны невроза навязчивых состояний во-
379
Зигмунд ФРЕЙД
обще. Я охотно задерживаю ваше внимание на этом
примере, потому что в нем соединяются условия, которых по
справедливости нельзя требовать от всех случаев. Здесь
больная сразу нашла толкование симптома без руководства
или вмешательства аналитика, и оно осуществилось
благодаря связи с переживанием, относящимся не к забытому
детскому периоду, как это обычно бывает, а случившимся
в зрелой жизни больной и оставившим неизгладимый след
в ее памяти. Все возражения, которые критика имеет
обыкновение приводить против наших толкований симптомов, в
этом отдельном случае снимаются. Разумеется, дело у нас
обстоит не всегда столь хорошо.
И еще одно! Не бросилось ли вам в глаза, как это
незаметное навязчивое действие ввело нас в интимную жизнь
пациентки? Женщина вряд ли может рассказать что-нибудь
более интимное, чем историю своей первой брачной ночи, и
разве случайно и незначительно то, что мы пришли именно
к интимностям половой жизни? Правда, это могло бы быть
следствием сделанного мною на этот раз выбора. Не будем
торопиться с суждением и обратимся ко второму,
совершенно иному примеру часто встречающегося действия, а именно
к церемониалу укладывания спать.
Девятнадцатилетняя цветущая одаренная девушка,
единственный ребенок своих родителей, которых она превосходит
по образованию и интеллектуальной активности, была
неугомонным и шаловливым ребенком, а в течение последних
лет без видимых внешних причин превратилась в
нервнобольную. Она очень раздражительна, особенно против
матери, всегда недовольна, удручена, склонна к нерешительности
и сомнению и, наконец, признается, что не в состоянии
больше одна ходить по площадям и большим улицам. Мы
не будем много заниматься ее сложным болезненным
состоянием, требующим по меньшей мере двух диагнозов,
агорафобии и невроза навязчивых состояний, а остановимся
только на том, что у этой девушки развился также
церемониал укладывания спать, от которого она заставляет
страдать своих родителей. Можно сказать, что в известном
смысле любой нормальный человек имеет свой церемониал
укладывания спать или требует соблюдения определенных
380
Введение в психоанализ
условий, невыполнение которых мешает ему заснуть; он
облек переход от состояния бодрствования ко сну в
определенные формы, которые он одинаковым образом повторяет
каждый вечер. Но все, что требует здоровый от условий для
сна, можно рационально понять, и если внешние
обстоятельства вызывают необходимые изменения, то он легко
подчиняется. Но патологический церемониал неуступчив, он
умеет добиться своего ценой самых больших жертв, и он точно
так же прикрывается рациональным обоснованием и при
поверхностном рассмотрении кажется отличающимся от
нормального лишь некоторой преувеличенной тщательностью.
Но если присмотреться поближе, то можно заметить, что
покрывало рациональности слишком коротко, что
церемониал включает требования, далеко выходящие за
рациональное обоснование, и другие, прямо противоречащие ему.
Наша пациентка в качестве мотива своих ночных
предосторожностей приводит то, что для сна ей нужен покой и она
должна устранить все источники шума. С этой целью она
поступает двояким образом: останавливает большие часы в
своей комнате, все другие часы из комнаты удаляются, она
не терпит даже присутствия в ночной тумбочке своих
крохотных часов на браслете. Цветочные горшки и вазы
составляются на письменном столе так, чтобы они ночью не могли
упасть, разбиться и потревожить ее во сне. Она знает, что
все эти меры могут иметь только кажущееся оправдание для
требования покоя, тикание маленьких часов нельзя
услышать, даже если бы они оставались на тумбочке, и все мы
знаем по опыту, что равномерное тикание часов с
маятником никогда не мешает сну, а скорее действует усыпляюще.
Она признает также, что опасение, будто цветочные горшки
и вазы, оставленные на своем месте, ночью могут сами
упасть и разбиться, лишено всякой вероятности. Для других
требований церемониала она уже не ссылается на
необходимость покоя. Действительно, требование, чтобы дверь между
ее комнатой и спальней родителей оставалась
полуоткрытой, исполнения которого она добивается тем, что вставляет
в приоткрытую дверь различные предметы, кажется,
напротив, может стать источником нарушающих тишину шумов.
Но самые важные требования относятся к самой кровати.
381
Зигмунд ФРЕЙД
Подушка у изголовья кровати не должна касаться
деревянной спинки кровати. Маленькая подушечка для головы
может лежать на большой подушке не иначе как образуя ромб;
голову тогда она кладет точно по длинной диагонали ромба.
Перина («Duchent», как говорим мы в Австрии), перед тем
как ей укрыться, должна быть взбита так, чтобы ее край у
ног стал совсем толстым, но затем она не упустит снова
разгладить это скопление перьев.
Позвольте мне обойти другие, часто очень мелкие
подробности этого церемониала; они не научили бы нас
ничему новому и слишком далеко увели бы от наших целей. Не
упускайте, однако, из виду, что все это происходит не так
уж гладко. При этом ее не оставляет опасение, что не все
сделано, как следует; все должно быть проверено, повторено,
сомнение возникает то по поводу одной, то по поводу
другой предосторожности, и в результате проходит около двух
часов, в течение которых девушка сама не может спать и не
дает уснуть испуганным родителям.
Анализ этих мучений протекал не так просто, как в случае
навязчивого действия нашей первой пациентки. Я вынужден
был делать девушке наводящие намеки и предлагать
толкования, которые она каждый раз отклоняла решительным
«нет» или принимала с презрительным сомнением. Но за этой
первой отрицательной реакцией последовал период, когда она
сама занималась предложенными ей возможными
толкованиями, подбирала подходящие к ним мысли, воспроизводила
воспоминания, устанавливала связи, пока, исходя из
собственной работы, не приняла все эти толкования. По мере того
как это происходило, она также все больше уступала в
исполнении навязчивых мер предосторожности и еще до окончания
лечения отказалась от всего церемониала. Вы должны также
знать, что аналитическая работа, как мы ее теперь ведем,
прямо исключает последовательную обработку отдельного
симптома до окончательного его выяснения. Больше того, бываешь
вынужден постоянно оставлять одну какую-то тему в полной
уверенности, что вернешься к ней снова в другой связи.
Толкование симптома, которое я вам сейчас сообщу, является,
таким образом, синтезом результатов, добывание которых,
прерываемое другой работой, длится недели и месяцы.
382
Нвсдснис в психоанализ
Наша пациентка начинает постепенно понимать, что во
время своих приготовлений ко сну она устраняла часы как
символ женских гениталий. Часы, которые могут быть
символически истолкованы и по-другому, приобретают эту гени-
тальную роль в связи с периодичностью процессов и
правильными интервалами. Женщина может похвалиться, что у нее
менструации наступают с правильностью часового
механизма. Но особенно наша пациентка боялась, что тикание часов
помешает сну. Тикание часов можно сравнить с пульсацией
клитора при половом возбуждении. Из-за этого неприятного
ей ощущения она действительно неоднократно просыпалась,
а теперь этот страх перед эрекцией выразился в требовании
удалить от себя на ночь идущие часы. Цветочные горшки и
вазы, как все сосуды, тоже женские символы.
Предосторожность, чтобы они не упали и не разбились, следовательно,
не лишена смысла. Нам известен широко распространенный
обычай разбивать во время помолвки сосуд или тарелку.
Каждый из присутствующих берет себе осколок, что мы должны
понимать как отказ от притязаний на невесту с точки зрения
брачного обычая до моногамии. Относительно этой части
церемониала у девушки появилось одно воспоминание и
несколько мыслей. Однажды ребенком она упала со
стеклянным или глиняным сосудом, порезала пальцы, и сильно шла
кровь. Когда она выросла и узнала факты из половой жизни,
у нее возникла пугающая мысль, что в первую брачную ночь
у нее не пойдет кровь и она окажется не девственницей. Ее
предосторожности против того, чтобы вазы не разбились,
означают, таким образом, отрицание всего комплекса,
связанного с девственностью и кровотечением при первом половом
акте, а также отрицание страха перед кровотечением и
противоположного [ему страха] — не иметь кровотечения.
К предупреждению шума, ради которого она предпринимала
эти меры, они имели лишь отдаленное отношение.
Главный смысл своего церемониала она угадала в один
прекрасный день, когда вдруг поняла предписание, чтобы
подушка не касалась спинки кровати. Подушка для нее всегда
была женщиной, говорила она, а вертикальная деревянная
спинка — мужчиной. Таким образом, она хотела —
магическим способом, смеем добавить — разделить мужчину и жен-
383
Зиг.нупд ФРЕЙД
щину, т.е. разлучить родителей, не допустить их до
супружеского акта. Этой же цели она пыталась добиться раньше,
до введения церемониала, более прямым способом. Она
симулировала страх или пользовалась имевшейся склонностью
к страху для того, чтобы не давать закрывать дверь между
спальней родителей и детской. Это требование еще осталось
в ее настоящем церемониале. Таким образом она создала себе
возможность подслушивать за родителями, но, используя эту
возможность, она однажды приобрела бессонницу,
длившуюся месяцы. Не вполне довольная возможностью мешать
родителям таким способом, она иногда добивалась того, что
сама спала в супружеской постели между отцом и матерью.
Тогда «подушка» и «спинка кровати» действительно не
могли соединиться. Наконец, когда она уже была настолько
большой, что не могла удобно помещаться в кровати
между родителями, сознательной симуляцией страха она
добивалась того, что мать менялась с ней кроватями и уступала свое
место возле отца. Эта ситуация определенно стала началом
фантазий, последствие которых чувствуется в церемониале.
Если подушка была женщиной, то и взбивание перины до
тех пор, пока все перья не оказывались внизу и не
образовывали там утолщение, имело смысл. Это означало делать
женщину беременной; однако она не забывала сгладить эту
беременность, потому что в течение многих лет она
находилась под страхом, что половые сношения родителей приведут
к появлению второго ребенка и, таким образом, преподнесут
ей конкурента. С другой стороны, если большая подушка
была женщиной, матерью, то маленькая головная подушечка
могла представлять собой только дочь. Почему эта подушка
должна была быть положена ромбом, а ее голова точно по
его осевой линии? Мне без труда удалось напомнить ей, что
ромб на всех настенных росписях является руническим
знаком открытых женских гениталий. Она сама играла в таком
случае роль мужчины, отца, и заменяла головой мужской
член (ср. символическое изображение кастрации как
обезглавливание).
Какая дичь, скажете вы, заполняет голову непорочной
девушки. Согласен, но не забывайте, я эти вещи не сочинял,
а только истолковал. Такой церемониал укладывания спать
384
Введение в психоанализ
также является чем-то странным, и вы не можете не
признать соответствия между церемониалом и фантазиями,
которые открывает нам толкование. Но для меня важнее
обратить ваше внимание на то, что в церемониале отразилась
не одна фантазия, а несколько, которые где-то, однако,
имеют свой центр. А также на то, что предписания церемониала
передают сексуальные желания то положительно, то
отрицательно, частично представляя, а частично отвергая их.
Из анализа этого церемониала можно было бы получить
еще больше, если связать его с другими симптомами
больной. Но мы не пойдем по этому пути. Удовлетворитесь
указанием на то, что эта девушка находится во власти
эротической привязанности к отцу, начало которой скрывается
в ранних детских годах. Возможно, поэтому она так
недружелюбно ведет себя по отношению к матери. Мы не можем
также не заметить, что анализ этого симптома опять привел
нас к сексуальной жизни больной. Чем чаще мы будем
понимать смысл и намерение невротического симптома, тем,
может быть, меньше мы будем удивляться этому.
Итак, на двух приведенных примерах я вам показал, что
невротические симптомы, так же как ошибочные действия
и сновидения, имеют смысл и находятся в интимном
отношении к переживаниям пациентов. Могу ли я рассчитывать,
что вы поверите мне в этом чрезвычайно важном
положении на основании двух примеров? Нет. Но можете ли вы
требовать, чтобы я приводил вам все новые и новые
примеры, пока вы не заявите, что убедились? Тоже нет, потому
что при той обстоятельности, с которой я рассматриваю
отдельный случай, я должен был бы посвятить для
рассмотрения этого одного пункта теории неврозов пятичасовую
лекцию. Так что я ограничусь тем, что показал вам пример
доказательства моего утверждения, а в остальном отошлю
вас к сообщениям в литературе, к классическим
толкованиям симптомов, в первую очередь, Брейера (истерия), к
захватывающим разъяснениям совершенно темных симптомов
так называемой Dementia praecox1 К. Г. Юнгом (1907), отно-
Раннее слабоумие (лат.) — одно из названии шизофрении. — Примеч.
ред. перевода.
13-3518
385
Зигмунд ФРЕЙД
сящимся к тому времени, когда этот исследователь был
только психоаналитиком и еще не хотел быть пророком, и
ко всем работам, которые заполонили с тех пор наши
журналы. Именно в этих исследованиях у нас нет недостатка.
Анализ, толкование, перевод невротических симптомов так
захватил психоаналитиков, что в первое время они
забросили другие проблемы невротики.
Кто из вас возьмет на себя такой труд, получит
несомненно сильное впечатление от обилия доказательств. Но он
столкнется и с одной трудностью. Смысл симптома, как мы
узнали, кроется в его связи с переживанием больного. Чем
индивидуальнее выражен симптом, тем скорее мы можем
ожидать восстановления этой связи. Затем возникает прямая
задача найти для бессмысленной идеи и бесцельного
действия такую ситуацию в прошлом, в которой эта идея была
оправданна, а действие целесообразно. Навязчивое действие
нашей пациентки, подбегавшей к столу и звонившей
горничной, является как раз примером этого рода симптомов. Но
встречаются, и как раз очень часто, симптомы совсем другого
характера. Их нужно назвать «типичными» симптомами
болезни, они примерно одинаковы во всех случаях,
индивидуальные различия у них отсутствуют или, по крайней мере,
настолько уменьшаются, что их трудно привести в связь с
индивидуальным переживанием больных и отнести к
отдельным пережитым ситуациям. Обратимся опять к неврозу
навязчивых состояний. Уже церемониал укладывания спать
нашей второй пациентки имеет в себе много типичного, при
этом, однако, достаточно индивидуальных черт, чтобы
сделать возможным, так сказать, историческое толкование. Но
все эти больные с навязчивыми состояниями склонны к
повторениям, ритмизации при исполнении действий и их
изолированию от других. Большинство из них слишком много
моется. Больные, страдающие агорафобией (топофобией,
боязнью пространства), которую мы больше не относим к
неврозу навязчивых состояний, а определяем как истерию
страха (Angsthysterie), повторяют в своих картинах болезни
часто с утомительным однообразием одни и те же черты. Они
боятся закрытых пространств, больших открытых площадей,
далеко тянущихся улиц и аллей. Они чувствуют себя в без-
386
Введение в психоанализ
опасности, если их сопровождают знакомые или если за
ними едет экипаж и т. д. На эту общую основу, однако,
отдельные больные накладывают свои индивидуальные условия,
капризы, хотелось бы сказать, в отдельных случаях прямо
противоположные друг другу. Один боится только узких улиц,
другой — только широких, один может идти только тогда,
когда на улице мало людей, другой — когда много. Точно так
же и истерия при всем богатстве индивидуальных черт имеет
в избытке общие типичные симптомы, которые,
по-видимому, не поддаются простому историческому объяснению. Не
забудем, что это ведь те типичные симптомы, по которым мы
ориентируемся при постановке диагноза. Если мы в одном
случае истерии действительно свели типичный симптом к
одному переживанию или к цепи подобных переживаний,
например, истерическую рвоту к последствиям впечатлений
отвращения, то мы теряем уверенность, когда анализ рвоты
в каком-то другом случае вскроет совершенно другой ряд
видимо действующих переживаний. Тогда это выглядит так,
как будто у истеричных рвота проявляется по неизвестным
причинам, а добытые анализом исторические поводы
являются только предлогами, используемыми этой внутренней
необходимостью, когда они случайно оказываются.
Таким образом, мы скоро приходим к печальному
выводу, что хотя мы можем удовлетворительно объяснить смысл
индивидуальных невротических симптомов благодаря
связи с переживанием, наше искусство, однако, изменяет нам в
гораздо более частых случаях типичных симптомов. К этому
следует добавить еще то, что я познакомил вас далеко не со
всеми трудностями, возникающими при последовательном
проведении исторического толкования симптомов. Я и не
хочу этого делать, потому что хотя я намерен ничего не
приукрашивать или что-то скрывать от вас, но я и не могу
допустить, чтобы с самого начала наших совместных
исследований вы были беспомощны и обескуражены. Верно, что
мы положили лишь начало пониманию значения
симптомов, но мы будем придерживаться приобретенных знаний и
шаг за шагом продвигаться в объяснении еще не понятого.
Попробую утешить вас соображением, что все-таки вряд ли
можно предполагать фундаментальное различие между од-
387
Зигмунд ФРЕЙД
ним и другим видом симптомов. Если индивидуальные
симптомы так очевидно зависят от переживания больного,
то для типичных симптомов остается возможность, что они
ведут к переживанию, которое само типично, обще всем
людям. Другие постоянно повторяющиеся черты могут быть
общими реакциями, навязанными больному природой
болезненного изменения, например, повторение или сомнение
при неврозе навязчивых состояний. Короче говоря, у нас нет
никакого основания для того, чтобы заранее падать духом,
посмотрим, что будет дальше.
С совершенно аналогичным затруднением мы
сталкиваемся и в теории сновидения. В наших прежних беседах о
сновидении я не мог коснуться ее. Явное содержание
сновидений бывает чрезвычайно разнообразным и
индивидуально изменчивым, и мы подробно показали, что можно
получить из этого содержания благодаря анализу. Но наряду
с этим встречаются сновидения, которые тоже называются
«типичными»,— одинаковые у всех людей сновидения
однообразного содержания, которые ставят анализ перед теми же
трудностями. Это сновидения о падении, летании, парении,
плавании, состоянии стесненности, о наготе и другие
известные страшные сновидения, которым у отдельных лиц дается
то одно, то другое толкование, причем ни монотонность, ни
типичность ее проявления не находят своего объяснения.
Но и в этих сновидениях мы наблюдаем, что общая
основа оживляется индивидуально изменчивыми
прибавлениями и, вероятно, при углублении наших представлений они
тоже без натяжки могут быть объяснены теми
особенностями жизни сновидений, которые мы открыли на материале
других сновидений.
Восемнадцатая лекция
Фиксация на травме, бессознательное
Уважаемые дамы и господа! В прошлый раз я сказал, что
мы намерены продолжать нашу работу, не оглядываясь на
наши сомнения, а исходя из наших открытий. О двух самых
388
Введение в психошкииз
интересных следствиях, вытекающих из анализов обоих
примеров, мы вообще еще не сказали.
Первое: обе пациентки производят впечатление, как будто
они фиксированы на каком-то определенном отрезке своего
прошлого, не могут освободиться от него и поэтому
настоящее и будущее остаются им чуждыми. Они прячутся в своей
болезни, как раньше имели обыкновение удаляться в
монастырь, чтобы доживать там свой век. Для нашей первой
пациентки такую участь уготовил расторгнутый в
действительности брак с ее мужем. Своими симптомами она продолжает
общение со своим мужем; мы научились понимать те
голоса, которые выступают за него, извиняют и возвышают его,
оплакивают его потерю. Хотя она молода и могла бы
понравиться другим мужчинам, она предприняла все реальные и
воображаемые (магические) предосторожности, чтобы
сохранить ему верность. Она не показывается у посторонних, не
следит за своей внешностью, но она также не в состоянии
быстро встать с кресла, на котором сидела, и отказывается
подписывать свою фамилию, не может никому сделать
подарка, мотивируя это тем, что никто не должен ничего иметь
от нее.
У нашей второй пациентки, молодой девушки,
эротическая привязанность к отцу, возникшая до половой зрелости,
сделала в ее жизни то же самое. Она тоже пришла к выводу,
что не может выйти замуж, пока она так больна. Смеем
предположить, что она так заболела, чтобы не выходить
замуж и остаться с отцом.
Мы не можем обойти вопроса о том, как, каким путем
и в силу каких мотивов может возникнуть такая странная
и невыгодная жизненная установка. Допустим, что данное
поведение является общим признаком невроза, а не особым
свойством этих двух больных. Это в самом деле общая,
практически очень значимая черта всякого невроза. Первая
истерическая пациентка Брейера была подобным же
образом фиксирована на том времени, когда она ухаживала за
своим тяжело заболевшим отцом. Несмотря на свое
выздоровление, она с тех пор в известном смысле покончила с
жизнью, хотя осталась здоровой и трудоспособной, но
отказалась от естественного предназначения женщины. Благода-
389
Зигмунд ФРЕЙД
ря анализу мы можем у каждого из наших больных
обнаружить, что он в своих симптомах болезни и их последствиях
перенесся в определенный период своего прошлого. В
большинстве случаев он выбирал для этого очень раннюю фазу
жизни, время своего детства, и даже, как ни смешно это
звучит, младенчество.
В близкой аналогии с этим поведением наших
нервнобольных находятся заболевания, особенно часто
возникающие именно теперь, во время войны, — так называемые
травматические (traumatische) неврозы. Такие случаи,
конечно, бывали и до войны после железнодорожных
крушений и других страшных жизненных катастроф. В своей
основе травматические неврозы не то же самое, что
спонтанные неврозы, которые мы обычно аналитически исследуем
и лечим; нам также еще не удалось рассмотреть их с
нашей точки зрения, и я надеюсь как-нибудь объяснить вам,
в чем заключается это ограничение. Но в этом одном пункте
мы можем подчеркнуть их полное сходство. Травматические
неврозы носят явные признаки того, что в их основе лежит
фиксация на моменте травмы. В своих сновидениях эти
больные постоянно повторяют травматическую ситуацию;
там, где встречаются истероподобные припадки,
допускающие анализ, узнаешь, что припадок соответствует полному
перенесению в эту ситуацию. Получается так, как будто эти
больные не покончили с этой травматической ситуацией,
как будто она стоит перед ними как неразрешенная
актуальная проблема, и мы вполне серьезно соглашаемся с этим
пониманием; оно показывает нам путь к экономическому, как
мы называем, рассмотрению душевных процессов. Да,
выражение «травматический» имеет только такой
экономический смысл. Так мы называем переживание, которое в
течение короткого времени приводит в душевной жизни к
такому сильному увеличению раздражения, что освобождение от
него или его нормальная переработка не удается, в
результате чего могут наступить длительные нарушения в
расходовании энергии.
Эта аналогия наводит нас на мысль назвать
травматическими также те переживания, на которых, по-видимому,
фиксированы наши нервнобольные. Таким образом, для объяс-
390
Введение в психоапшша
нения возникновения невротического заболевания как бы
напрашивается одно простое условие. Невроз следовало бы
уподобить травматическому заболеванию, а его
возникновение объяснить неспособностью справиться со слишком
сильным аффективным переживанием. Такова в
действительности и была первая формулировка, которой Брейер и я в
1893—1895 гг. подвели теоретический итог нашим
наблюдениям. Случай нашей первой пациентки, молодой женщины,
разлученной с мужем, очень хорошо вписывается в эти
взгляды. Она не вынесла неосуществимости своего брака и
застряла на этой травме. Но уже наш второй случай
фиксированной на своем отце девушки показывает, что формулировка
недостаточно широка. С одной стороны, такая влюбленность
маленькой девочки в отца что-то настолько обычное и так
часто преодолеваемое, что название «травматический»
совершенно потеряло бы свое содержание, с другой стороны,
история больной нам показывает, что эта первая эротическая
фиксация сначала как будто бы прошла без всякого вреда
и только несколько лет спустя опять проявилась в
симптомах невроза навязчивого состояния. Итак, мы предвидим тут
осложнения, большее разнообразие условий заболевания, но
мы предчувствуем также, что от «травматической» точки
зрения нельзя отказаться как от ошибочной; она пригодится
в другом месте и при других условиях.
Здесь мы опять оставим путь, по которому шли. Пока
он не ведет нас дальше, а нам нужно узнать еще многое
другое, прежде чем мы сможем найти его истинное
продолжение. Заметим еще по поводу фиксации на определенной
фазе прошлого, что такое явление выходит за рамки
невроза. Всякий невроз несет в себе такую фиксацию, но не
всякая фиксация приведет к неврозу, совпадет с ним или
встанет на его пути. Примером аффективной фиксации на
чем-то прошлом является печаль, которая приводит к
полному отходу от настоящего и будущего. Но даже для
неспециалиста печаль резко отличается от невроза. Зато есть
неврозы, которые можно назвать патологической формой
печали.
Случается также, что травматическое событие,
потрясающее все основы прежней жизни, останавливает людей на-
391
Зигмунд ФРЕЙД
столько, что они теряют всякий интерес к настоящему и
будущему и в душе постоянно остаются в прошлом, но эти
несчастные не обязательно должны стать нервнобольными.
Мы не хотим переоценивать для характеристики невроза эту
одну черту, как бы постоянна и значительна она ни была.
А теперь перейдем к другому результату нашего анализа,
о невыгодном ограничении которого нам нечего
беспокоиться. О нашей первой пациентке мы сообщили, какое
бессмысленное навязчивое действие она исполняла и какое
интимное жизненное воспоминание в связи с этим она
рассказала, затем мы исследовали отношение между обоими и из
этой связи догадались о цели навязчивого действия. Но мы
оставили в стороне один момент, который заслуживает
нашего пристального внимания. Пока пациентка повторяла
навязчивое действие, она ничего не знала о том, что оно
связано с тем переживанием. Связь между ними была для нее
скрыта; по правде говоря, она должна была ответить, что не
знает, в силу каких побуждений она это делает. Затем под
влиянием лечения вдруг случилось так, что она нашла эту
связь и могла о ней сообщить. Но она все еще не знала о
цели, которой служило навязчивое действие, о цели
исправить мучительный отрезок прошлого и поставить любимого
мужа на более высокий уровень. Это длилось довольно
долго и стоило многих трудов, пока она не поняла и не
призналась мне, что такой мотив мог быть единственной движущей
силой навязчивого действия.
Связь со сценой после неудачной брачной ночи и мотив
нежности больной вместе составляют то, что мы назвали
«смыслом» навязчивого действия. Но этот смысл в обоих
направлениях, «откуда» и «зачем», был ей неизвестен, когда
она выполняла навязчивое действие. Таким образом, в ней
действовали душевные процессы, а навязчивое действие
было именно результатом их влияния; в нормальном
состоянии она чувствовала это влияние, но до ее сознания не
доходило ничего из душевных предпосылок этого влияния.
Она вела себя точно так же, как загипнотизированный,
которому Бернгейм внушил через пять минут после
пробуждения открыть в палате зонтик, и который выполнил это
внушение в бодрствующем состоянии, не умея объяснить
392
Введение в психоанализ
мотива своего поступка. Именно такое положение вещей мы
имеем в виду, когда говорим о существовании
бессознательных душевных процессов. Мы бросаем вызов всему миру,
предлагая более строгим научным образом представить эти
факты, и тогда мы охотно откажемся от предположения
существования бессознательных душевных процессов. А до
того мы будем придерживаться этого предположения и,
недоуменно пожимая плечами, будем отвергать как непонятное
то возражение, что бессознательное не является в данном
случае ничем реальным в научном смысле, а только
вспомогательным средством, une façons de parler1. Какое же это
нереальное, от которого исходят такие реально ощутимые
последствия, как навязчивое действие!
В сущности, то же самое мы находим и у нашей второй
пациентки. У нее возникло требование, чтобы подушка не
касалась спинки кровати, и она должна выполнять это
требование, но она не знает, откуда оно произошло, что
означает и каким мотивам обязано своей силой. Для его
выполнения безразлично, относится ли она к нему индифферентно
или противится ему, возмущается, собирается его нарушить.
Оно должно быть выполнено, и она напрасно спрашивает
себя почему. Следует, однако, признать, что в этих
симптомах невроза навязчивого состояния, в этих представлениях
и импульсах, появляющихся неизвестно откуда, таких
устойчивых против всех влияний в остальном нормальной
душевной жизни, производящих на самого больного
впечатление, как будто они сверхсильные гости из чужого мира,
бессмертные, вмешавшиеся в сутолоку смертных, заключается
самое ясное указание на какую-то особую, изолированную от
остального область душевной жизни. От них ведет
неизбежный путь к признанию существования в душе
бессознательного, и именно поэтому клиническая психиатрия,
признающая только психологию сознания, не может с ними сделать
ничего другого, как выдать за признаки особого рода
дегенерации. Разумеется, сами навязчивые представления и
навязчивые импульсы не бессознательны, и так же мало
выполнение навязчивого действия ускользает от сознательного вос-
1 Речевым оборотом (фр.).
393
Зигмунд ФРЕЙД
приятия. Они не были бы симптомами, если бы не проникли
в сознание. Но психические предпосылки, раскрытые
анализом, связи, в которые мы их вводим благодаря толкованию,
являются бессознательными по крайней мере до тех пор,
пока мы не сделаем их сознательными для больного путем
аналитической работы.
А теперь примите во внимание, что это положение
вещей, установленное нами в обоих наших случаях,
подтверждается во всех симптомах всех невротических явлений, что
всегда и везде смысл симптомов неизвестен больному, что
анализ постоянно показывает, что симптомы — производное
бессознательных процессов, которые, однако, при разных
благоприятных условиях можно сделать сознательными, и
вы поймете, что в психоанализе мы не можем обойтись без
бессознательного в психике и привыкли оперировать им как
чем-то чувственно осязаемым. Но вы, может быть, также
поймете, как мало способны к суждению в этом вопросе все
другие, кто считает бессознательное только понятием, кто
никогда не анализировал, никогда не толковал сновидений
и не искал в невротических симптомах смысл и намерение.
Для наших целей повторю еще раз: возможность придать
смысл невротическим симптомам благодаря аналитическому
толкованию является неопровержимым доказательством
существования — или, если вам угодно, необходимости
предположения — бессознательных душевных процессов.
Но это еще не все. Благодаря второму открытию Брейера,
которое мне кажется даже более содержательным и которое
не нашло сторонников, мы еще больше узнаем о связи
между бессознательным и невротическими симптомами. И не
только то, что смысл симптомов всегда бессознателен;
между этой бессознательностью и возможностью существования
симптомов существует также отношение заместительства. Вы
меня скоро поймете. Вместе с Брейёром я утверждаю
следующее: каждый раз, сталкиваясь с симптомом, мы можем
заключить, что у больного имеются определенные
бессознательные процессы, в которых содержится смысл симптома.
Но для того, чтобы образовался симптом, необходимо также,
чтобы смысл был бессознательным. Из сознательных
процессов симптомы не образуются; как только соответствующие
394
Введение в психоанализ
бессознательные процессы сделаются сознательными,
симптом должен исчезнуть. Вы сразу же предугадываете здесь
путь к терапии, путь к уничтожению симптомов. Этим путем
Брейер действительно вылечил свою истерическую
пациентку, т. е. освободил ее от симптомов; он нашел технику
доведения до ее сознания бессознательных процессов,
содержавших смысл симптома, и симптомы исчезли.
Это открытие Брейера было результатом не умозрения, а
счастливого наблюдения, ставшего возможным благодаря
тому, что больная пошла ему навстречу. Но вам теперь не
следует стремиться объяснить его непременно из чего-то
другого, уже знакомого, однако вы должны признать в нем новый
фундаментальный факт, с помощью которого можно
прояснить многое другое. Разрешите мне поэтому повторить то же
самое в других выражениях.
Образование симптома — это замещение (Ersatz) чего-то
другого, что не могло проявиться. Определенные душевные
процессы нормальным образом должны были бы развиться
настолько, чтобы они стали известны сознанию. Этого не
случилось, но зато из прерванных, каким-то образом
нарушенных процессов, которые должны были остаться
бессознательными, возник симптом. Таким образом, получилось
что-то вроде подстановки; если возвратиться к исходному
положению, то терапевтическое воздействие на
невротические симптомы достигнет своей цели.
Открытие Брейера еще до сих пор является фундаментом
психоаналитической терапии. Положение о том, что
симптомы исчезают, если их бессознательные предпосылки
сделались сознательными, подтвердилось всеми дальнейшими
исследованиями, хотя при попытке его практического
применения сталкиваешься с самыми странными и самыми
неожиданными осложнениями. Наша терапия действует
благодаря тому, что превращает бессознательное в сознательное, и
лишь постольку, поскольку она в состоянии осуществить это
превращение.
Поспешим теперь сделать маленькое отступление, чтобы
У вас не возникло искушения представить себе эту
терапевтическую работу как нечто слишком легкое. Судя по нашим
предыдущим рассуждениям, невроз является следствием
395
Зигмунд ФРЕЙД
своего рода незнания, неведения о душевных процессах, о
которых следовало бы знать. Это очень походило бы на
известную теорию Сократа, согласно которой даже пороки
основаны на незнании. Но опытному в анализе врачу, как
правило, очень легко догадаться, какие душевные движения
того или иного больного остались бессознательными. Ему
нетрудно было бы поэтому вылечить больного, освободив от
собственного его незнания сообщением того, что он знает.
По крайней мере, таким образом легко вскрыть часть
бессознательного смысла симптомов, о другой же части, о связи
симптомов с переживаниями больного врач, правда, может
сказать немногое, потому что он не знает этих переживаний,
он должен ждать, пока больной их вспомнит и расскажет
ему. Об этих переживаниях можно справиться у
родственников больного, и они часто бывают в состоянии определить
среди них те, которые оказали травматическое действие,
сообщить, может быть, даже такие переживания, о которых
больной не знает, потому что они имели место в очень
ранние годы его жизни. Соединив эти два приема, можно было
бы надеяться за короткое время и малыми усилиями
ликвидировать патогенное незнание больного.
Но если бы это было так! Здесь мы приобрели опыт, к
которому сначала не были подготовлены. Знание знанию
рознь; есть разные виды знания, совершенно неравноценные
психологически. Il y a fagots et fagots1, говорится где-то у
Мольера. Знание врача не то же самое, что знание больного,
и оно не может оказать то же действие. Если врач передает
свое знание больному путем сообщения, это не имеет
никакого успеха. Впрочем, было бы неверно так говорить. Успех
здесь заключается не в преодолении симптомов, а в том, что
тем самым начинается анализ, первыми вестниками
которого являются проявления сопротивления. Тогда больной
знает что-то, чего до сих пор не знал, т. е. смысл своего
симптома, и все же он так же мало знает о нем, как и раньше.
Так мы узнаем, что есть более, чем один, вид незнания.
Чтобы показать, в чем различия, необходимо известное
углубление наших психологических знаний. Но наше положение,
Вещь вещи рознь (фр.). — Примеч. пер.
396
Введение в психоанализ
что при знании их смысла симптомы исчезают, остается все-
таки правильным. Дело только в том, что знание должно
быть основано на внутреннем изменении больного, которое
может быть вызвано лишь психической работой с
определенной целью. Здесь мы стоим перед проблемами, которые
скоро объединятся в динамику образования симптомов.
Уважаемые господа! Теперь я должен поставить вопрос:
не кажется ли вам то, что я говорю, слишком темным и
сложным? Не запутываю ли я вас тем, что так часто отказываюсь
от ранее сказанного и ограничиваю его, начинаю развивать
мысль и затем оставляю ее? Мне было бы жаль, если бы это
было так. Но у меня сильное отвращение к упрощениям в
ущерб истине, я не имею ничего против, чтобы вы получили
полное представление о многосторонности и многосвязности
предмета, и думаю, что нет вреда в том, если по каждому
вопросу я говорю вам больше, чем вы можете использовать
в настоящий момент. Я ведь знаю, что любой слушатель и
читатель мысленно выверяет, сокращает, упрощает и
извлекает из предложенного ему то, что он хотел бы запомнить.
До известной степени верно то, что чем содержательнее был
предложенный материал, тем больше от него остается.
Позвольте мне надеяться, что суть моих сообщений о смысле
симптомов, о бессознательном и связи между ними вы ясно
поняли, несмотря на все второстепенные моменты. Вы,
видимо, также поняли, что в дальнейшем наши усилия будут
сконцентрированы на достижении двух целей: узнать, во-
первых, как люди заболевают, приобретают невротическую
жизненную установку, что является клинической проблемой,
и, во-вторых, как из условий невроза развиваются
болезненные симптомы, что остается проблемой душевной динамики.
И обе проблемы где-то должны встретиться.
Сегодня я тоже не хочу идти дальше, но так как наше
время еще не истекло, я намерен обратить ваше внимание на
другую особенность двух наших анализов, все значение
которой опять-таки будет оценено лишь позже, а именно на
пробелы в воспоминаниях, или амнезии. Вы слышали, что
задачу психоаналитического лечения можно сформулировать
как превращение всего патогенного бессознательного в
сознательное. Теперь вы, возможно, удивитесь, узнав, что эту
397
Зигмунд ФРЕЙД
формулировку можно заменить другой: заполнить все
пробелы в воспоминаниях больного, устранить его амнезии. Это
свелось бы к тому же. Амнезиям невротика приписывается,
таким образом, важная связь с возникновением его
симптомов. Но если вы примете во внимание анализ нашего первого
случая, вы найдете эту оценку амнезии неоправданной.
Больная не забыла сцену, с которой связано ее навязчивое
действие, наоборот, живо хранит ее в памяти, и ничто другое из
забытого тоже не участвует в возникновении этого симптома.
Менее отчетливо, но в общем аналогично обстоит дело у
нашей второй пациентки, девушки с навязчивым
церемониалом. И она, собственно, не забыла своего поведения в
ранние годы, тех фактов, что она настаивала на открывании
дверей между спальней родителей и своей и прогоняла мать с
ее места в супружеской постели; она вспоминает это
совершенно ясно, хотя и с нерешительностью и неохотно.
Странным мы можем считать только то, что первая пациентка,
исполняя бесчисленное множество раз свое навязчивое
действие, ни разу не заметила его сходства с переживанием
после первой брачной ночи, и это воспоминание не возникло
у нее, когда ей задавались прямые вопросы для выяснения
мотивации навязчивого действия. То же самое относится к
девушке, у которой церемониал и его поводы связаны с
одной и той же, каждый вечер повторявшейся ситуацией.
В обоих случаях, собственно говоря, нет никакой амнезии,
никакого выпадения воспоминаний, но прервана связь,
которая должна была бы вызвать воспроизведение, новое
появление воспоминания. Подобного нарушения памяти
достаточно для невроза навязчивых состояний, при истерии
происходит иначе. Этот последний невроз отличается в
большинстве случаев очень большими амнезиями. Как правило,
при анализе каждого отдельного симптома истерии
находишь целую цепь жизненных впечатлений, которые при их
возвращении в память определяются больными как явно
забытые. С одной стороны, эта цепь доходит до самых ранних
лет жизни, так что истерическую амнезию можно считать
непосредственным продолжением детской амнезии, которая
у нас, нормальных людей, окутывает начало нашей душевной
жизни. С другой стороны, мы с удивлением узнаем, что и
398
Введение в психоанализ
самые последние переживания больных могут забываться и
в особенности подвергаются амнезии, если не совсем
поглощаются ей, поводы, при которых возникла или усилилась
болезнь. Из общей картины такого недавнего воспоминания
постоянно исчезают важные детали или заменяются
ложными воспоминаниями. Почти всегда бывает так, что лишь
незадолго до окончания анализа всплывают определенные
воспоминания о недавно пережитом, которые так долго могли
задерживаться и оставляли в связи чувственные пробелы.
Такие нарушения способности вспоминать, как было
сказано, характерны для истерии, при которой даже в
качестве симптомов наступают состояния (истерические
припадки), не оставляющие в воспоминании никакого следа.
Если при неврозе навязчивых состояний происходит иначе,
то из этого вы можете заключить, что при этих амнезиях
речь идет вообще о психологическом характере
истерического изменения, а не об общей черте неврозов. Значение
этого различия ограничивается следующим соображением.
Под «смыслом» симптома мы понимаем одновременно два
момента: откуда он берется и куда или к чему ведет, т.е.
впечатления и переживания, от которых он исходит, и цели,
которым служит.
Таким образом, на вопрос, откуда берется симптом,
отвечают впечатления, которые приходят извне, были когда-то в
силу необходимости сознательными и с тех пор благодаря
забыванию могут стать бессознательными. Но цель
симптома, его тенденция — это каждый раз эндопсихический
процесс, который, возможно, сначала был сознаваем, но не менее
вероятно, что он никогда не был в сознании и давно
оставался в бессознательном. Так что не очень важно,
захватила ли амнезия также и исходные переживания, на которых
основывается симптом, как это происходит при истерии;
цель, тенденция симптома, которая с самого начала может
быть бессознательна, основана на его зависимости от
бессознательного, и при неврозе навязчивых состояний не менее
тесной, чем при истерии.
Но этим выдвижением бессознательного на первый план
в душевной жизни мы вызвали самых злых духов критики
психоанализа. Не удивляйтесь этому и не верьте также тому,
399
Зигмунд ФРЕЙД
что сопротивление против нас заключается лишь в трудности
понимания бессознательного или в относительной
недоступности опытных данных, которые его доказывают. Я полагаю,
оно имеет более глубокие причины. В течение веков наивное
самолюбие человечества вынуждено было претерпеть от
науки два великих оскорбления. Первое, когда оно узнало, что
наша земля не центр вселенной, а крошечная частичка мировой
системы, величину которой едва можно себе представить.
Оно связано для нас с именем Коперника, хотя подобное
провозглашала уже александрийская наука. Затем второе,
когда биологическое исследование уничтожило привилегию
сотворения человека, указав ему на происхождение из
животного мира и неискоренимость его животной природы. Эта
переоценка произошла в наши дни под влиянием Ч. Дарвина,
Уоллеса и их предшественников не без ожесточеннейшего
сопротивления современников. Но третий, самый
чувствительный удар по человеческой мании величия было суждено
нанести современному психоаналитическому исследованию,
которое указало Я, что оно не является даже хозяином в своем
доме, а вынуждено довольствоваться жалкими сведениями о
том, что происходит в его душевной жизни бессознательно.
Но и этот призыв к скромности исходит не впервые и не
только от нас, психоаналитиков, однако, по-видимому, нам
суждено отстаивать его самым энергичным образом и
подтвердить фактами, понятными каждому. Отсюда всеобщий
протест против нашей науки, отказ от всякой академической
вежливости и освобождение оппозиции от всякого
сдерживания непартийной логики, и к этому еще прибавляется то,
что мы, как вы скоро узнаете, нарушим покой этого мира еще
и другим образом.
Девятнадцатая лекция
Сопротивление и вытеснение
Уважаемые дамы и господа! Для того чтобы
продвинуться дальше в понимании неврозов, нам нужны новые
опытные данные, и мы рассмотрим две из них. Обе весьма при-
400
Введение в психоапситх
мечательны и в свое время поражали. Вы к ним
подготовлены нашими прошлогодними беседами.
Во-первых: если мы стремимся вылечить больного,
освободить его от болезненных симптомов, то он оказывает нам
ожесточенное, упорное сопротивление (Widerstand),
длящееся в течение всего лечения. Это настолько странный факт,
что мы даже не ожидаем, чтобы ему поверили.
Родственникам больного лучше всего ничего не говорить об этом,
потому что они никогда не подумают ничего другого, кроме
как принять это за отговорку, извиняющую длительность
или неуспешность нашего лечения. Больной тоже
демонстрирует все проявления этого сопротивления, не сознавая
его, и уже большое достижение, если нам удается довести
больного до понимания этого сопротивления и
необходимости считаться с ним. Подумайте только, больной, который
так страдает от своих симптомов и заставляет страдать
своих близких, который готов пожертвовать столько времени,
денег, сил и преодолевать себя, чтобы освободиться от них,
этот больной оказывает сопротивление врачу в интересах
своей болезни. Каким невероятным должно казаться такое
утверждение! И тем не менее это так, и когда нам указывают
на невероятность этого факта, нам остается только ответить,
что этому есть свои аналоги, и любой, кто пригласил
зубного врача при нестерпимой зубной боли, будет отталкивать
его руку, когда он захочет приблизиться к больному зубу
с щипцами.
Сопротивление больных чрезвычайно разнообразно, в
высшей степени утонченно, часто трудно распознается,
постоянно меняет форму своего проявления. Для врача это
значит не быть доверчивым и оставаться по отношению к
нему настороже. В психоаналитической терапии мы
используем технику, которая знакома вам по толкованию
сновидений. Мы просим больного прийти в состояние спокойного
самонаблюдения, не углубляясь в раздумья, и сообщать все,
что он может определить при этом по внутренним
ощущениям: чувства, мысли, воспоминания в той
последовательности, в которой они возникают. При этом мы настойчиво
предостерегаем его не поддаваться какому-нибудь мотиву,
желающему выбрать или устранить что-либо из пришедших
401
Зигмунд ФРЕЙД
ему в голову мыслей, хотя бы они казались слишком
неприятными или слишком нескромными, чтобы их высказывать,
или слишком неважными, не относящимися к делу, или
бессмысленными, так что незачем о них и говорить. Мы
внушаем ему постоянно следить лишь за поверхностью сознания,
отказываться от постоянно возникающей критики того, что
он находит, и уверяем его, что успех лечения, а прежде всего
его продолжительность, зависят от добросовестности, с
которой он будет следовать этому основному техническому
правилу анализа. Из техники толкования сновидений мы
знаем, что именно такие мысли, против которых возникают
перечисленные сомнения и возражения, обычно содержат
материал, ведущий к раскрытию бессознательного.
Выдвигая это основное техническое правило, мы
добиваемся сначала того, что все сопротивление направляется на
него. Больной всячески пытается избежать его предписаний.
То он утверждает, что ему ничего не приходит в голову, то,
что напрашивается так много, что он ничего не может
понять. Далее мы с неприятным удивлением замечаем, что он
поддается то одному, то другому критическому возражению;
он выдает себя длинными паузами, которые допускает в
своих высказываниях. Тогда он признается, что действительно
не может этого сказать, стыдится и считается с этим
мотивом, несмотря на свое обещание. Или ему что-то приходит
в голову, но это касается другого лица, а не его самого, и
поэтому он исключил это из сообщения. Или что теперь ему
пришло в голову действительно слишком неважное,
слишком глупое и слишком бессмысленное, ведь не мог же он
подумать, что должен останавливаться на таких мыслях, и
так продолжается в бесчисленных вариациях, на что
приходится возражать, что говорить все — значит действительно
говорить все.
Едва ли встретишь больного, который не пытался бы
сохранить какую-то область, чтобы преградить к ней доступ
для лечения. Так, один, которого я причислял к высшей
степени интеллигентным, неделями умалчивал об интимной
любовной связи и, когда я потребовал от него объяснений
за нарушение святого правила, выдвинул в защиту аргумент:
он думал, что эта история — его личное дело. Разумеется,
402
Введение о психоанализ
аналитическое лечение не допускает такого права на
убежище. Попробуйте-ка в таком городе, как Вена, допустить
исключение для какого-то места, вроде Высокого рынка и
Церкви св. Стефана, объявив, что там нельзя производить
аресты, и постарайтесь затем поймать какого-нибудь
известного преступника. Его нельзя будет найти ни в каком ином
месте, как только в этом убежище. Однажды я решился
предоставить человеку, трудоспособность которого была
объективно очень важна, такое право на исключение, потому
что он находился под служебной присягой, запрещающей
ему сообщать другому определенные вещи. Он, правда, был
доволен успехом лечения, но я нет, и я решил впредь при
подобных условиях не повторять опыта.
Страдающие неврозом навязчивых состояний прекрасно
умеют сделать почти непригодным техническое правило тем,
что относятся к нему с чувством повышенной совестливости
и сомнения. Истерики, страдающие страхом, выполняют его,
доводя ad absurdum \ так как они воспроизводят только те
мысли, которые настолько далеки от искомого, что ничего
не дают для анализа. Но я не намерен вводить вас в разбор
этих технических трудностей. Достаточно того, что в конце
концов благодаря решительности и настойчивости удается
отвоевать у сопротивления известную долю подчинения
основному техническому правилу, и тогда оно переносится на
другую область. Оно выступает как интеллектуальное
сопротивление, борется при помощи аргументов, пользуется
трудностями и неправдоподобными положениями, которые
нормальное, но не осведомленное мышление находит в
аналитических теориях. Тогда нам соло приходится
выслушивать все возражения и критику, которые хором раздаются
в научной литературе. Так что для нас нет ничего нового в
том, что нам кричат извне. Это настоящая буря в стакане
воды. Однако с пациентом можно поговорить; он просит нас
осведомлять его, поучать, опровергать, указать ему
литературу, изучив которую, он мог бы приобрести новые знания.
Он охотно готов стать сторонником психоанализа при
условии, чтобы анализ пощадил бы его лично. Но мы узнаем
До абсурда (лат.). — Примеч. пер.
403
Зигмунд ФРЕЙД
в этой любознательности сопротивление, уклонение от
наших специальных задач и отвергаем ее. У невротика с
навязчивым состоянием мы должны ожидать особой тактики
сопротивления. Он часто беспрепятственно позволяет
идти анализу своим ходом, так что в загадках его случая
заболевания приобретается все больше ясности, но в конце
концов мы начинаем удивляться, что этому разъяснению
не соответствует никакой практический успех, нет никакого
исчезновения симптомов. Тогда мы можем обнаружить, что
сопротивление отступило за сомнение, свойственное
неврозу навязчивых состояний, и с этой позиции успешно дает
нам отпор. Больной сказал себе приблизительно следующее:
все это прекрасно и интересно. Я охотно посмотрю, что
будет дальше. Это очень изменило бы мою болезнь, если бы
было верно. Но ведь я совершенно не верю, что это
правильно, а пока я этому не верю, моей болезни ничего не
касается. Так может долго продолжаться, пока сам не дойдешь
до этого потайного места, и тогда начинается решительная
борьба.
Интеллектуальные сопротивления не самые худшие, над
ними всегда одерживаешь победу. Но пациент, оставаясь в
рамках анализа, умеет также создавать такие сопротивления,
преодоление которых относится к самым трудным
техническим задачам. Вместо того чтобы вспоминать, он
воспроизводит из своей жизни такие установки и чувства, которые
посредством так называемого «перенесения» (Übertragung)
можно использовать для сопротивления врачу и лечению.
Если пациент — мужчина, он берет этот материал, как
правило, из своего отношения к отцу, на место которого он
ставит врача, и таким образом создает сопротивление из
своего стремления к личной и интеллектуальной
самостоятельности, из своего честолюбия, которое видело свою
первую цель в том, чтобы подражать отцу или превзойти его,
из его нежелания второй раз в жизни взять на себя бремя
благодарности. Порой возникает впечатление, будто у
больного есть намерение показать, что врач не прав, дать ему
почувствовать свое бессилие, одержать над ним верх,
которое полностью заменяет лучшее намерение покончить с
болезнью. Женщины для целей сопротивления умеют мастер-
404
Введение в психоанализ
ски использовать нежное, эротически подчеркнутое
перенесение на врача. При известной силе этой склонности
пропадает всякий интерес к действительной ситуации лечения, не
исполняется ни одно из обязательств, взятых на себя в
начале его, а никогда не прекращающаяся ревность, а также
горечь из-за неизбежного, хотя и осторожного отказа в
ответном чувстве должны содействовать ухудшению личного
отношения к врачу и, таким образом, исключить одну из
самых могучих действующих сил анализа.
Нельзя односторонне осуждать сопротивления этого рода.
Они содержат много важнейшего материала из прошлого
больного, воспроизводят его в такой убедительной форме,
что становятся наилучшей опорой анализа, если их, умело
используя технику, направить в нужное русло. Замечательно
только то, что сначала этот материал служит сопротивлению
и выступает своей враждебной лечению стороной. Можно
также сказать, что это характерные свойства, установки Я,
которые пускаются в ход для борьбы с изменениями, к
которым мы стремимся. При этом узнаешь, как образовались
эти характерные свойства в связи с условиями
[возникновения] невроза в виде реакции против их требований и
узнаешь эти характерные особенности, которые иначе могут не
проявиться или проявиться не в той мере и которые можно
назвать латентными. У вас не должно также складываться
впечатления, что в появлении этих сопротивлений мы
усматриваем непредвиденную опасность для аналитического
влияния. Нет, мы знаем, что эти сопротивления должны
появиться; мы только бываем недовольны, если вызываем их
недостаточно ясно и не можем объяснить их больному.
Наконец, мы понимаем, что преодоление этих сопротивлений
является существенным достижением анализа и той части
работы, которая только и дает нам уверенность, что мы
чего-то добились у больного.
Прибавьте к этому, что больной пользуется всеми
встречающимися во время лечения случайностями, чтобы
помешать ему, любым отвлекающим от него событием, любым
враждебным выпадом в адрес анализа со стороны
авторитетного в его кругу человека, случайным или сопряженным с
неврозом органическим заболеванием, что даже любое улуч-
405
Зигмуш) ФРЕЙД
шение своего состояния он использует как повод для
ослабления своего старания, и вы получите приблизительную и
все еще не полную картину форм и средств сопротивления,
в борьбе с которым проходит любой анализ. Я так подробно
остановился на этом пункте, потому что должен вам сказать,
что эти наши данные о сопротивлении невротиков
устранению их симптомов легли в основу нашего динамического
взгляда на невроз. Брейер и я сам сначала занимались
психотерапией при помощи гипноза; первую пациентку Брейер
всегда лечил в состоянии гипнотического внушения, в этом
я вначале следовал ему. Сознаюсь, что тогда работа шла
легче и приятнее, а также намного быстрее. Но результаты
были непостоянны и сохранялись в течение
непродолжительного времени, поэтому я в конце концов отказался от
гипноза. И тогда я понял, что при использовании гипноза
невозможно было понять динамику этих поражений. Это
состояние как раз и не позволяло врачу заметить
существование сопротивления. Оно отодвигало сопротивление на
задний план, освобождало определенную область для
аналитической работы и сосредоточивало его на границах этой
области так, что оно становилось непреодолимым, подобно
сомнению, возникающему при неврозе навязчивых
состояний. Поэтому я имею право сказать, что подлинный
психоанализ начался с отказа от помощи гипноза.
Но если вопрос о сопротивлении так значим, то не
следует ли нам выразить осторожное сомнение: не слишком ли
многое мы объясняем сопротивлением? Может быть,
действительно есть случаи неврозов, при которых ассоциации не
возникают по другим причинам, может быть, доводы против
наших предпосылок действительно заслуживают
содержательного обсуждения, и мы поступаем несправедливо, так
равнодушно отодвигая в сторону интеллектуальную
критику анализируемого как сопротивление. Да, уважаемые
господа, но мы нелегко пришли к такому выводу. Мы имеем
возможность наблюдать каждого такого критикующего
пациента при появлении и после исчезновения сопротивления.
В процессе лечения сопротивление постоянно меняет свою
интенсивность; оно всегда растет, когда приближаешься к
новой теме, достигает наибольшей силы на высоте ее разра-
406
Введение в психоанализ
ботки и снова снижается, когда тема исчерпана. Если не
допустить особых технических ошибок, то можно никогда
не иметь дела с полной мерой сопротивления, на которое
способен пациент. Таким образом, мы могли убедиться, что
один и тот же человек в продолжение анализа бесчисленное
множество раз то оставляет свою критическую установку, то
снова принимает ее. Если нам предстоит перевести в
сознание новую и особенно мучительную для него часть
бессознательного, то он становится до крайности критичным,
если он раньше многое понимал и принимал, то теперь эти
завоевания как будто бы исчезли; в своем стремлении к
оппозиции во что бы то ни стало он может производить
полное впечатление аффективно слабоумного. Если удалось
помочь ему в преодолении этого нового сопротивления, то он
снова обретает благоразумие и понимание. Его критика,
следовательно, не является самостоятельной, внушающей
уважение функцией, она находится в подчинении аффективных
установок и управляется его сопротивлением. Если ему что-
то не нравится, он может очень остроумно защищаться от
этого и оказаться очень критичным; но если ему что-то
выгодно, то он может, напротив, быть весьма легковерным.
Может быть, мы все ненамного лучше; анализируемый
только потому так ясно обнаруживает эту зависимость
интеллекта от аффективной жизни, что мы во время анализа
доставляем ему так много огорчений.
Каким образом мы считаемся с тем фактом, что больной
так энергично противится устранению своих симптомов и
восстановлению нормального течения его душевных
процессов? Мы говорим себе, что почувствовали здесь большие
силы, оказывающие сопротивление изменению состояния;
это, должно быть, те же силы, которые в свое время
принудительно вызвали это состояние. При образовании
симптомов происходило, должно быть, что-то такое, что мы,
разгадывая симптомы, можем реконструировать по нашему
опыту. Из наблюдения Брейера мы уже знаем, что
предпосылкой для существования симптома является то, что
какой-то душевный процесс не произошел до конца
нормальным образом, так что он не мог стать сознательным.
Симптом представляет собой заместитель того, что не осу-
407
Зигмунд ФРЕЙД
ществилось. Теперь мы знаем, к какой точке
прилагается действие предполагаемой силы. Сильное сопротивление
должно было направиться против того, чтобы упомянутый
душевный процесс проник в сознание; поэтому он
остался бессознательным. Как бессознательный, он обладает
способностью образовать симптом. То же самое сопротивление
во время аналитического лечения вновь противодействует
стремлению перевести бессознательное в сознание. Это мы
ощущаем как сопротивление. Патогенный процесс,
проявляющийся в виде сопротивления, заслуживает названия
вытеснения (Verdrängung).
Об этом процессе вытеснения мы должны составить себе
более определенное представление. Оно является
предпосылкой образования симптомов, но оно выступает также как
то, чему мы не знаем аналогов. Если мы возьмем, к примеру,
импульс, душевный процесс, стремящийся превратиться в
действие, то мы знаем, что он может быть отклонен, и это
мы называем отказом или осуждением. При этом у него
отнимается энергия, которой он располагает, он становится
бессильным, но может сохраниться как воспоминание. Весь
процесс принятия решения о нем проходит под контролем
Я. Совсем иное дело, если мы представим себе, что этот же
импульс подлежит вытеснению. Тогда он сохранил бы свою
энергию, и о нем не осталось бы никакого воспоминания, а
процесс вытеснения совершился бы так же незаметно для Я.
Таким образом, это сравнение не приближает нас к
пониманию сущности вытеснения.
Я хочу сообщить вам, какие теоретические
представления оказались единственно приемлемыми, чтобы придать
понятию вытеснения большую определенность. Прежде
всего, нам необходимо перейти от чисто описательного
смысла слова «бессознательное» к систематическому, т. е. мы
решаемся сказать, что сознательность или бессознательность
психического процесса является лишь одним из его свойств,
которое может быть неоднозначным. Если такой процесс
остался бессознательным, то это отсутствие сознания, быть
может, только знак постигшей его судьбы, но не сама
судьба. Для того чтобы наглядно представить эту судьбу,
предположим, что всякий душевный процесс — здесь должно
408
Введение о психоанализ
быть допущено исключение, о котором будет упомянуто
ниже, — сначала существует в бессознательной стадии или
фазе и только из нее переходит в сознательную фазу,
примерно как фотографическое изображение представляет собой
сначала негатив и затем благодаря позитивному процессу
становится изображением. Но не из всякого негатива
получается позитив, и так же не обязательно, чтобы всякий
бессознательный душевный процесс превращался в
сознательный. Иными словами: отдельный процесс входит сначала в
психическую систему бессознательного и может затем при
известных условиях перейти в систему сознательного.
Самое грубое и самое удобное для нас представление об
этих системах — это пространственное. Мы сравниваем
систему бессознательного с большой передней, в которой
копошатся, подобно отдельным существам, душевные движения.
К этой передней примыкает другая комната, более узкая,
вроде гостиной, в которой также пребывает и сознание. Но
на пороге между обеими комнатами стоит на посту страж,
который рассматривает каждое душевное движение в
отдельности, подвергает цензуре и не пускает в гостиную, если
оно ему не нравится. Вы сразу понимаете, что небольшая
разница — отгоняет ли страж какое-то движение уже с
порога или прогоняет его опять за порог после того, как оно
проникло в гостиную. Дело лишь в его бдительности и
своевременном распознавании. Придерживаясь этого образного
сравнения, мы можем разработать дальше нашу
номенклатуру. Душевные движения в передней бессознательного
недоступны взору сознания, находящегося в другой комнате;
они сначала должны оставаться бессознательными. Если они
уже добрались до порога и страж их отверг, то они не
способны проникнуть в сознание; мы называем их
вытесненными. Но и те душевные движения, которые страж пропустил
через порог, вследствие этого не обязательно становятся
сознательными; они могут стать таковыми только в том
случае, если им удастся привлечь к себе взоры сознания.
Поэтому с полным правом мы называем эту вторую комнату
системой предсознательного (Vorbewußte), [понятие]
осознания сохраняет тогда свой чисто дескриптивный смысл.
Но судьба вытеснения для отдельного душевного движения
409
Зигмунд ФРЕЙД
состоит в том, что оно не допускается стражем из системы
бессознательного в систему предсознательного. Это тот же
страж, который выступает для нас как сопротивление, когда
мы пытаемся с помощью аналитического лечения устранить
вытеснение.
Но я знаю, вы скажете, что эти представления столь же
грубы, сколь фантастичны и совершенно недопустимы в
научном изложении. Я знаю, что они грубы; более того, мы
знаем также, что они неправильны, и если мы не очень
ошибаемся, то у нас уже готова лучшая замена. Не знаю,
покажутся ли они вам столь же фантастичными. Пока это
вспомогательные представления вроде человечка Ампера,
плавающего в электрическом токе, и ими не следует пренебрегать,
поскольку они помогают понять наблюдаемые факты. Могу
вас уверить, что эти грубые предположения о двух
комнатах, о страже на пороге между ними и о сознании как
наблюдателе в конце второго зала все-таки очень близки к
действительному положению вещей. Мне хотелось бы
также услышать от вас признание, что наши названия
отношений — бессознательное, предсознательное, сознательное —
менее способны ввести в заблуждение и более оправданны,
чем другие предлагаемые и употребляемые, как-то: подсо-
знательное (unterbewußt), околосознательное (nebenbewußt),
внг/т/и/сознательное (binnenbewußt) и т.п.
Поэтому еще более значимым для меня будет, если вы
мне укажете, что такое устройство душевного аппарата,
которое я предположил, объясняя невротические симптомы,
должно было бы иметь общее значение и, следовательно,
отражать также и нормальное функционирование. В этом
вы, конечно, правы. Сейчас мы не можем вникать в суть
этого вывода, но наш интерес к психологии образования
симптомов чрезвычайно возрастает, если благодаря
изучению патологических отношений возникнет перспектива
разобраться в столь глубоко скрытых нормальных душевных
процессах.
Впрочем, разве вы не узнаете, на чем основывается наше
предположение о двух системах, отношении между ними и
к сознанию? Ведь страж между бессознательным и предсо-
знательным — не что иное, как цензура, которой, как мы
410
Нведенис о психоанализ
знаем, подвергается образование явного сновидения.
Остатки дневных впечатлений, в которых мы узнаем побудителей
сновидения, были предсознательным материалом,
испытавшим ночью в состоянии сна влияние бессознательных и
вытесненных желаний и благодаря их энергии сумевшим
образовать вместе с ними скрытое сновидение. Под давлением
бессознательной системы этот материал подвергся
переработке — сгущению и смещению, которые в нормальной
душевной жизни, т.е. в предсознательном, неизвестны и
допустимы лишь в виде исключения. Это различие в способе
работы стало для нас характеристикой обеих систем;
отношение к сознанию, которое соединено с предсознательным,
мы считали только признаком принадлежности к той или
другой системе. Ведь сновидение уже не патологический
феномен; оно может появиться у всех здоровых в условиях
состояния сна. Такое предположение о структуре душевного
аппарата, которое позволяет нам понять как возникновение
сновидения, так и возникновение невротических симптомов,
имеет неоспоримое право на то, чтобы быть принятым во
внимание и при нормальной душевной жизни.
Вот все, что мы желаем сказать сейчас о вытеснении. Но
оно лишь предпосылка для образования симптомов. Мы
знаем, что симптом — это заместитель чего-то, чему
помешало вытеснение. Но от вытеснения до понимания
образования этого заместителя еще далеко. В связи с
выявлением вытеснения возникают вопросы и с другой стороны:
какого рода душевные движения подлежат вытеснению,
какими силами оно осуществляется, по каким мотивам? По
этому поводу нам до сих пор известно только одно. При
исследовании сопротивления мы узнали, что оно исходит
из сил Я, из известных и скрытых свойств характера.
Следовательно, они и позаботились о вытеснении или, по
крайней мере, участвовали в нем. Все остальное нам пока
неизвестно.
Тут нам на помощь приходит второй факт, о котором я
говорил. Из анализа мы в самых общих чертах можем
указать, что является целью невротических симптомов. И в
этом для вас нет ничего нового. Я вам уже показал это на
Двух примерах неврозов. Правда, что значат два примера?
411
Зигмунд ФРЕЙД
Вы вправе потребовать, чтобы это демонстрировалось вам
двести, бесчисленное множество раз. Беда только в том, что
я не могу этого сделать. Основную роль здесь вновь
играют собственный опыт или вера, которая может опереться
в этом пункте на единодушные указания всех
психоаналитиков.
Вы помните, что в двух случаях, симптомы которых мы
подвергли тщательному исследованию, анализ посвятил нас
в самую интимную область сексуальной жизни этих
больных. В первом случае, кроме того, мы особенно ясно поняли
цель или тенденцию исследованного симптома, может быть,
во втором случае она несколько затемняется фактором, о
котором речь будет ниже. То, что мы видели в этих обоих
случаях, нам продемонстрировали бы и другие
подвергнутые анализу случаи. Анализ всякий раз приводил бы нас к
сексуальным переживаниям и желаниям больного, и всякий
раз мы должны были бы устанавливать, что их симптомы
служат одной и той же цели. Эта цель открывается нам
в удовлетворении сексуальных желаний; симптомы служат
сексуальному удовлетворению больных, они являются
заместителями такого удовлетворения, которого они лишены
в жизни.
Припомните навязчивое действие нашей первой
пациентки. Женщина лишается своего горячо любимого мужа, с
которым она не может разделять жизнь из-за его
недостатков и слабостей. Она должна оставаться верной ему, она не
может заменить его другим. Ее навязчивый симптом дает ей
то, чего она жаждет, — возвышает ее мужа, отрицает,
исправляет его слабости, прежде всего его импотенцию. В
сущности, этот симптом является исполнением желания точно так
же, как сновидение, а именно, чем сновидение бывает далеко
не всегда, исполнением эротического желания. В случае
нашей второй пациентки вы, по крайней мере, могли понять,
что ее церемониал стремится помешать половым сношениям
родителей или отсрочить их, чтобы в результате не
появился новый ребенок. Вы, вероятно, догадались, что, в
сущности, она стремится к тому, чтобы поставить себя на место
матери. Следовательно, опять устранение помех в
сексуальном удовлетворении и исполнении собственных сексуаль-
412
введение в психоанализ
ных желаний. О некотором наметившемся здесь
осложнении речь будет ниже.
Уважаемые господа! Я хотел бы избежать того, чтобы
впоследствии делать отступления относительно общего
характера моих утверждений, и поэтому обращаю ваше
внимание на то, что все, что я здесь говорю о вытеснении,
образовании симптомов и их значении, было выяснено на
материале трех форм неврозов: истерии страха,
конверсионной истерии и невроза навязчивых состояний — и сначала
относилось только к этим формам. Эти три заболевания,
которые мы привыкли объединять в одну группу «неврозов
перенесения» (Übertragungsneurosen), ограничивают также
область приложения психоаналитической терапии. Другие
неврозы изучены психоанализом в гораздо меньшей
степени; одну группу неврозов мы обошли по причине
невозможности терапевтического влияния. Не забывайте также, что
психоанализ еще очень молодая наука, что он требует много
труда и времени для подготовки и что до недавнего времени
он разрабатывался одним человеком. Но мы готовы
углубиться во всестороннее познание этих других заболеваний,
не относящихся к неврозам перенесения. Надеюсь, я смогу
еще показать вам, насколько расширяются наши
предположения и результаты, приспосабливаясь к этому новому
материалу, и что эти дальнейшие исследования привели не
к противоречиям, а к установлению единства на более
высоком уровне. Итак, если все сказанное здесь имеет
отношение к трем неврозам перенесения, то позвольте мне сначала
повысить [в ваших глазах] значимость симптомов новым
сообщением. Сравнительное исследование поводов
заболеваний дает результат, который можно сформулировать
следующим образом: эти лица заболевают вследствие
вынужденного отказа (Versagung) от чего-то, когда реальность не
Дает удовлетворения их сексуальным желаниям. Вы
замечаете, как прекрасно оба эти результата соответствуют друг
Другу. В таком случае симптомы тем более следует
понимать как заместители недостающего в жизни
удовлетворения.
Разумеется, возможны еще многие возражения против
положения, что невротические симптомы являются замести-
413
Зигмунд ФРЕЙД
телями сексуального удовлетворения. На двух из них я хочу
сегодня остановиться. Если вы сами аналитически
обследовали большое число невротиков, то, возможно, скажете,
качая головой: в ряде случаев это ведь совершенно не
подходит, симптомы, как кажется, содержат совершенно
противоположную цель: исключить половое удовлетворение или
отказаться от него. Я не буду оспаривать правильность
вашего толкования. С психоаналитической точки зрения
часто все здесь несколько сложнее, чем нам хочется. Если бы
дело обстояло так просто, то, возможно, не требовалось бы
психоанализа, чтобы все это вскрыть. Действительно, уже
некоторые черты церемониала нашей второй пациентки
обнаруживают его аскетический, враждебный сексуальному
удовлетворению характер, например, когда она устраняет
часы, что имеет магический смысл избежать ночных
эрекций, или когда она хочет предупредить падение и ломку
сосудов, что равносильно защите ее девственности. В
других случаях, которые я имел возможность анализировать,
этот отрицательный характер постельного церемониала был
выражен гораздо ярче; церемониал мог сплошь состоять из
защитных мер против сексуальных воспоминаний и
искушений. Однако в психоанализе мы уже так часто
убеждались, что противоположности не означают противоречия.
Мы могли бы развить наше утверждение в том смысле, что
симптомы имеют целью или сексуальное удовлетворение,
или защиту от него, а именно при истерии в общем чаще
встречается положительный, исполняющий желания
характер [симптома], при неврозе навязчивых состояний —
отрицательный, аскетический. Если симптомы могут служить
как сексуальному удовлетворению, так и его
противоположности, то эта двусторонность, или полярность, отчетливо
определяется особенностью их механизма, о которой мы еще
не упоминали. Как мы узнаем, они являются результатами
компромисса, происшедшего из борьбы двух
противоположных стремлений, и представляют как вытесненное, так и
вытесняющее, участвовавшее в их образовании. При этом
в большей степени может быть представлена одна или
другая сторона, но только в редких случаях влияние исчезает
полностью. При истерии происходит совпадение обеих це-
414
Введение о психоанализ
лей. При неврозе навязчивых состояний обе части нередко
распадаются; симптом имеет тогда два периода, состоит из
двух действий, совершаемых одно за другим и устраняющих
друг друга.
Не так-то легко устранить второе сомнение. Если вы
просмотрите большое количество толкований симптомов, то
сначала у вас, вероятно, сложится мнение, что понятие
сексуального удовлетворения крайне широко. Вы не преминете
подчеркнуть, что эти симптомы не дают для удовлетворения
ничего реального, что достаточно часто они ограничиваются
оживлением какого-то ощущения или изображением какой-то
фантазии из сексуального комплекса. Далее, то, что мы
называем сексуальным удовлетворением, так часто обнаруживает
детский и непристойный характер, приближается к онанисти-
ческому акту или напоминает нечистоплотные привычки,
которые запрещают уже детям и отучают от них. И кроме того,
вы выразите свое удивление, что за половое удовлетворение
хотят выдать то, что должно быть описано как
удовлетворение жестоких или отвратительных, даже заслуживающих
названия противоестественных, страстей. В этом последнем
пункте, уважаемые господа, мы не достигнем понимания, пока
не подвергнем основательному изучению сексуальную жизнь
человека и не установим при этом, что имеет право
называться сексуальным.
Двадцатая лекция
Сексуальная жизнь человека
Уважаемые дамы и господа! Может показаться, что нет
никаких сомнений в том, что следует понимать под
«сексуальным». Сексуальное прежде всего — это неприличное, то,
о чем нельзя говорить. Мне рассказывали, что ученики
одного знаменитого психиатра попытались как-то убедить
своего учителя в том, что симптомы истериков часто
изображают сексуальные переживания. С этой целью они подвели
его к кровати одной истеричной больной, припадки которой
несомненно изображали процесс родов. Но он уклончиво от-
415
Зигмунд ФРЕЙД
ветил: так ведь роды вовсе не сексуальное. Разумеется, не во
всех случаях роды — это что-то неприличное.
Я замечаю, вам не нравится, что я шучу о таких
серьезных вещах. Но это не совсем шутка. Говоря серьезно, не
так-то легко определить, что составляет содержание понятия
«сексуальное». Может быть, единственно верным было бы
сказать — все, что связано с различием двух полов, но вы
найдете это бесцветным и слишком общим. Если вы
поставите в центр факт полового акта, то, может быть, скажете:
сексуальное — это все то, что проделывается с телом, в
частности с половыми органами другого пола, с целью
получения наслаждения и в конечном итоге направлено на
соединение гениталий и исполнение полового акта. Но тогда вы
в самом деле недалеки от приравнивания сексуального к
неприличному, и роды действительно не относятся к
сексуальному. Но если сутью сексуальности вы посчитаете
продолжение рода, то рискуете исключить целый ряд вещей,
которые не служат продолжению рода и все-таки определенно
сексуальны, как, например, мастурбация и даже поцелуй. Но
мы ведь уже убедились, что попытки давать определения
всегда вызывают затруднения, не будем думать, что именно
в этом случае дело обстоит по-другому. Мы подозреваем,
что в развитии понятия «сексуальное» произошло нечто
такое, что, по удачному выражению Г. Зильберера, повлекло
за собой «ошибку наложения» («Überdeckungsfehler»). Но в
целом ведь мы не совсем уж не разбираемся в том, что люди
называют сексуальным.
Это то, что складывается из учета противоположности
полов, получения наслаждения, продолжения рода и
характера скрываемого неприличного, — такого определения будет
достаточно для всех практических требований жизни. Но
его недостаточно для науки. Потому что благодаря
тщательным исследованиям, ставшим возможными только
благодаря готовому на жертвы самопреодолению, мы
познакомились с группами индивидов, «сексуальная жизнь» которых
самым резким образом отклоняется от обычного среднего
представления. Одни из этих «извращенных» исключили,
так сказать, из своей программы различие полов. Только
люди одного с ними пола могут возбудить их сексуальные
416
Введение в психоанализ
желания; другой пол, особенно его половые органы, вообще
не является для них половым объектом, в крайних случаях
даже вызывает отвращение. Тем самым они, естественно,
отказались от всякого участия в продолжении рода. Таких лиц
мы называем гомосексуалистами, или инвертированными.
Это мужчины и женщины, довольно часто — но не всегда —
безусловно образованные, интеллектуально развитые и
высоконравственные, отягченные лишь этим одним роковым
отклонением. Устами своих научных защитников они
выдают себя за особую разновидность человеческого типа, за
«третий пол», равноправно существующий наряду с двумя
другими. Быть может, нам представится случай критически
проанализировать их притязания. Разумеется, они не
являются «элитой» человечества, как они любят говорить, а
среди них имеется по меньшей мере столько же неполноценных
и никчемных индивидов, сколько и у иных в сексуальном
отношении людей.
Эти извращенные, по крайней мере, поступают со своим
сексуальным объектом примерно так же, как нормальные со
своим. Но имеется большое число таких ненормальных,
сексуальная деятельность которых все больше удаляется от
того, что кажется желанным разумному человеку. По
разнообразию и странности их можно сравнить лишь с
гротескными уродами, которых П. Брейгель изобразил искушающими
святого Антония, или с давними богами и верующими,
которых Г. Флобер заставляет проноситься в длинной
процессии перед набожным кающимся грешником. Их надо как-то
классифицировать, чтобы нам не запутаться. Мы разделяем
их на таких, у которых, как у гомосексуалистов, изменился
сексуальный объект, и на других, у которых прежде всего
изменилась сексуальная цель. К первой группе относятся те,
кто отказался от соединения гениталий и при половом акте
заменяет гениталии партнера другой частью или областью
тела; при этом они не считаются с недостатками
органического устройства и переступают границы отвращения (рот,
задний проход вместо влагалища). Сюда относятся и другие,
У которых хотя и сохранился интерес к гениталиям, но не
из-за сексуальных, а из-за других функций, в которых они
участвуют по анатомическим причинам и вследствие сосед-
14-3518
417
Зигмунд ФРЕЙД
ства. По ним мы узнаем, что функции выделения, которые
при воспитании ребенка отодвигаются на задний план как
неприличные, могут всецело привлечь к себе сексуальный
интерес. Далее идут другие, которые вообще отказались от
гениталий как объекта и поставили на их место как
желанный объект другую часть тела — женскую грудь, ногу, косу.
Затем следуют те, для которых ничего не значит и часть
тела, но все желания выполняет какой-либо предмет
одежды, обувь, что-либо из нижнего белья, — фетишисты.
Следующее место в этом ряду занимают лица, которые хотя и
желают весь объект, но предъявляют к нему совершенно
определенные странные или отвратительные требования, даже
такие, чтобы объект стал беззащитным трупом, и делают его
таковым в своем преступном насилии, чтобы наслаждаться
им. Но довольно ужасов из этой области!
Другую группу возглавляют извращенные, поставившие
целью своих сексуальных желаний то, что в нормальных
условиях является только вступительным и
подготовительным действием, а именно разглядывание и ощупывание
другого лица или подглядывание за ним при исполнении
интимных отправлений или обнажение своих собственных
частей тела, которые должны быть скрыты, в смутной
надежде, что они будут вознаграждены таким же
ответным действием. Затем следуют загадочные садисты, нежное
стремление которых не знает никакой иной цели, как
причинить своему объекту боль или мучение, начиная с легкого
унижения вплоть до тяжелых телесных повреждений, и, как
бы для равновесия, их антиподы — мазохисты,
единственное удовольствие которых состоит в том, чтобы испытать от
любимого объекта все унижения и мучения в
символической и в реальной форме. Имеются еще и другие, у которых
сочетается и переплетается несколько таких ненормальнос-
тей, и, наконец, мы еще узнаем, что каждая из этих групп
существует в двух видах, что наряду с теми, кто ищет
сексуального удовлетворения в реальности, есть еще другие,
которые довольствуются тем, чтобы только представить себе
такое удовлетворение, которым вообще не нужен никакой
реальный объект, так как они могут заменить его себе
фантазией.
418
Введение в психоанализ
При этом не подлежит ни малейшему сомнению, что
в этих безумствах, странностях и мерзостях действительно
проявляется сексуальная деятельность этих людей. Не
только они сами так понимают и чувствуют замещающее
отношение, но и мы должны сказать, что все это играет в их
жизни ту же роль, что и нормальное сексуальное
удовлетворение в нашей, за это они приносят те же, часто
громадные жертвы, и в общем, и в частном можно проследить, где
эти ненормальности граничат с нормой, а где
отклоняются от нее. Вы также не можете не заметить, что характер
неприличного, присущий сексуальной деятельности, имеет
место и здесь, но по большей части он усиливается до
позорного.
Как же, уважаемые дамы и господа, мы относимся к этим
необычным видам сексуального удовлетворения?
Возмущением, выражением нашего личного отвращения и
заверением, что мы не разделяем эти прихоти, очевидно, ничего не
сделаешь. Да нас об этом никто и не спрашивает. В конце
концов, это такая же область явлений, как и другая.
Отрицательную отговорку, что это ведь только редкие и
курьезные случаи, нетрудно было бы опровергнуть. Наоборот, речь
идет об очень частых, широко распространенных явлениях.
Но если бы кто-нибудь захотел нам сказать, что они не
должны сбивать нас с толку в наших взглядах на
сексуальную жизнь, потому что они все без исключения являются
заблуждениями и нарушениями сексуального влечения, то
был бы уместен серьезный ответ. Если мы не сумеем понять
эти болезненные формы сексуальности и связать их с
нормальной сексуальной жизнью, то мы не поймем и
нормальной сексуальности. Одним словом, перед нами стоит
неизбежная задача дать теоретическое объяснение возможности
[возникновения] названных извращений и их связи с так
называемой нормальной сексуальностью.
В этом нам помогут имеющееся воззрение и два новых
факта. Первым мы обязаны Ивану Блоху (1902—1903); он
изменил мнение, что все эти извращения — «признаки
дегенерации», указанием на то, что такие отклонения от
сексуальной цели, такое ослабление отношения к сексуальному
объекту встречались >с давних пор, во все известные нам
419
Зигмунд ФРЕЙД
времена, у всех народов, как самых примитивных, так и
самых высокоцивилизованных, считались допустимыми и
находили всеобщее признание. Оба факта были получены в
психоаналитическом исследовании невротиков; они должны
решительным образом изменить наше понимание
сексуальных извращений.
Мы сказали, что невротические симптомы являются
замещением сексуального удовлетворения, и я указал вам, что
подтверждение этого положения путем анализа симптомов
натолкнется на некоторые трудности. Оно оправдывается
только в том случае, если в понятие «сексуальное
удовлетворение» мы включим так называемые извращенные
сексуальные потребности, потому что такое толкование
симптомов напрашивается поразительно часто. Притязания
гомосексуалистов, или инвертированных, на исключительность
сразу же теряют свой смысл, когда мы узнаем, что удается
доказать наличие гомосексуальных побуждений у каждого
невротика и что значительное число симптомов выражает
это скрытое извращение. Те, кто сами себя называют
гомосексуалистами, представляют собой сознательно и
открыто инвертированных, затерянных среди большого числа
скрытых гомосексуалистов. Но мы вынуждены
рассматривать выбор объекта из своего пола именно как закономерное
ответвление любовной жизни и приучены считать его
наиболее значимым. Разумеется, тем самым не уничтожаются
различия между открытой гомосексуальностью и
нормальным поведением; ее практическое значение остается, но
теоретическая ее ценность чрезвычайно уменьшается. Мы даже
предполагаем, что одно заболевание, которое мы не считаем
более возможным причислять к неврозам перенесения,
паранойя, закономерно наступает вследствие попытки
сопротивления слишком сильным гомосексуальным побуждениям.
Может быть, вы еще помните, что одна из наших пациенток
в своем навязчивом действии играла роль мужчины,
своего собственного, оставленного ею мужа; такое проявление
симптомов от лица мужчины весьма обычно у
невротических женщин. Если его и нельзя причислить к самой
гомосексуальности, то оно все-таки имеет тесную связь с ее
предпосылками.
420
Введение в психоанализ
Как вам, вероятно, известно, симптомы истерического
невроза могут возникнуть во всех системах органов и тем
самым нарушить все функции. Анализ показывает, что при
этом проявляются все названные извращенные побуждения,
стремящиеся заменить гениталии другими органами. Эти
органы ведут себя при этом как заместители гениталий.
Именно благодаря симптоматике истерии у нас возникло
мнение, что органы тела, кроме их функциональной роли,
имеют также сексуальное — эрогенное — значение и
исполнение этой функциональной задачи нарушается, если
сексуальная слишком овладевает ими. Бесчисленные ощущения
и иннервации, выступающие как симптомы истерии, в
органах, которые, кажется, не имеют с сексуальностью ничего
общего, раскрывают перед нами, таким образом, свою
природу в форме исполнения извращенных сексуальных
побуждений, при которых назначение половых имеют теперь
другие органы. Далее, мы видим также, в какой большой мере
именно органы питания и выделения могут стать
носителями сексуального возбуждения. Это, следовательно, то же
самое, что нам показали извращения, только в них это было
видно без труда и не подлежало сомнению, а при истерии
мы должны были проделать обходной путь через толкование
симптомов и приписать соответствующие извращенные
сексуальные побуждения не сознанию индивидов, а их
бессознательному.
Самые важные из многочисленных сочетаний
симптомов, в которых проявляется невроз навязчивых состояний,
оказывается, возникают под давлением очень сильных
садистских, т. е. извращенных по своей цели, сексуальных
побуждений, и в соответствии со структурой невроза
навязчивых состояний симптомы служат преимущественно
противодействию этим желаниям или выражают борьбу между
удовлетворением и противодействием ему. Но и само
удовлетворение не оказывается при этом ущемленным; оно
умеет добиться своего в поведении больных обходными путями
и направляется главным образом против их собственной
личности, превращая их в самоистязателей. Другие формы
неврозов, сопровождающиеся долгими раздумьями больных,
соответствуют чрезмерной сексуализации актов, которые
421
Зигмунд ФРЕЙД
обычно служат подготовкой к нормальному половому
удовлетворению, т. е. желанию рассматривать, трогать и
исследовать. Особая значимость боязни прикосновения и
навязчивого мытья рук находит в этом свое объяснение.
Удивительно большая часть навязчивых действий в виде скрытого
повторения и модификации восходит к мастурбации,
которая, как известно, этим единственным, сходным по форме
действием сопровождает самые разнообразные формы
сексуального фантазирования.
Мне не стоило бы большого труда показать вам еще более
тесные отношения между извращением и неврозом, но я
думаю, что сказанного будет для нашей цели достаточно.
Однако после этих объяснений значения симптомов нам
надо опасаться преувеличения частоты и силы извращенных
склонностей людей. Вы слышали, что из-за отказа от
нормального сексуального удовлетворения можно заболеть
неврозом. Но при этом реальном отказе потребность стремится
к ненормальным путям сексуального возбуждения. Позднее
вы увидите, как это происходит. Во всяком случае, вы
понимаете, что вследствие такого «коллатерального» застоя
извращенные побуждения должны быть сильнее, чем они были бы,
если бы нормальное сексуальное удовлетворение не
встретило бы реальных препятствий. Впрочем, подобное влияние
следует признать и в открытых извращениях. В некоторых
случаях они провоцируются или активируются тем, что для
нормального удовлетворения сексуального влечения
возникают слишком большие препятствия в силу временных
обстоятельств или постоянных социальных норм. В других
случаях извращенные наклонности как будто совершенно не
зависят от таких благоприятствующих им моментов, они
являются для данного индивида, так сказать, нормальной
формой сексуальной жизни.
Может быть, в настоящую минуту у вас создается
впечатление, что мы скорее запутали, чем выяснили
отношение между нормальной и извращенной сексуальностью. Но
примите во внимание следующее соображение: если
верно то, что реальное затруднение или лишение нормального
сексуального удовлетворения может вызвать у некоторых
лиц извращенные наклонности, которые в других условиях
422
Введение в психоанализ
не появились бы, то у этих лиц следует предположить
нечто такое, что идет навстречу извращениям; или, если
хотите, они имеются у них в латентной форме. Но тем
самым мы приходим ко второму новому факту, о котором
я вам заявил. Психоаналитическое исследование было
вынуждено заняться также сексуальной жизнью ребенка, а
именно потому, что воспоминания и мысли, приходящие в
голову при анализе симптомов (взрослых), постоянно
ведут ко времени раннего детства. То, что мы при этом
открыли, подтвердилось затем шаг за шагом благодаря
непосредственным наблюдениям за детьми. И тогда оказалось,
что в детстве можно найти корни всех извращений, что
дети предрасположены к ним и отдаются им в соответствии
со своим незрелым возрастом, короче говоря, что
извращенная сексуальность есть не что иное, как возросшая,
расщепленная на свои отдельные побуждения инфантильная
сексуальность.
Теперь вы, во всяком случае, увидите извращения в
другом свете и не сможете не признать их связи с сексуальной
жизнью человека, но ценою каких неприятных для вас
сюрпризов и мучительных для вашего чувства рассогласований!
Разумеется, вы будете склонны сначала все оспаривать: и
тот факт, что у детей есть что-то, что можно назвать
сексуальной жизнью, и верность наших наблюдений, и основания
для отыскания в поведении детей родственного тому, что
впоследствии осуждается как извращение. Поэтому
разрешите мне сначала объяснить мотивы вашего сопротивления,
а затем подвести итог нашим наблюдениям. То, что у детей
нет никакой сексуальной жизни — сексуального
возбуждения, сексуальных потребностей и своего рода
удовлетворения, — но все это вдруг возникает у них между 12 и 14
годами, было бы — независимо от всех наблюдений — с
биологической точки зрения так же невероятно, даже нелепо,
как если бы они появлялись на свет без гениталий, и они
вырастали бы у них только ко времени половой зрелости.
То, что пробуждается у них к этому времени, является
Функцией продолжения рода, которая пользуется для своих
Целей уже имеющимся физическим и душевным
материалом. Вы совершаете ошибку, смешивая сексуальность с про-
423
Зигмунд ФРЕЙД
должением рода, и закрываете себе этим путь к пониманию
сексуальности, извращений и неврозов. Но эта ошибка
тенденциозна. Ее источником, как ни странно, является то, что
вы сами были детьми и испытали на себе влияние
воспитания. К числу своих самых важных задач воспитания
общество должно отнести укрощение, ограничение, подчинение
сексуального влечения, когда оно внезапно появляется в
виде стремления к продолжению рода, индивидуальной воле,
идентичной социальному требованию. Общество
заинтересовано также в том, чтобы отодвинуть его полное развитие
до тех пор, пока ребенок не достигнет определенной ступени
интеллектуальной зрелости, потому что с полным прорывом
сексуального влечения практически приходит конец
влиянию воспитания. В противном случае влечение прорвало бы
все преграды и смело бы возведенное с таким трудом здание
культуры. А его укрощение никогда не будет легким, оно
удается то слишком плохо, то слишком хорошо. Мотив
человеческого общества оказывается в конечном счете
экономическим; так как у него нет достаточно жизненных средств,
чтобы содержать своих членов без их труда, то оно должно
ограничивать число своих членов, а их энергию отвлекать
от сексуальной деятельности и направлять на труд. Вечная,
исконная, существующая до настоящего времени жизненная
необходимость.
Опыт, должно быть, показал воспитателям, что задача
сделать сексуальную волю нового поколения послушной
разрешима только в том случае, если на нее начинают
воздействовать заблаговременно, не дожидаясь бури половой
зрелости, а вмешиваясь уже в сексуальную жизнь детей, которая
ее подготавливает. С этой целью ребенку запрещают и
отбивают у него охоту ко всем инфантильным сексуальным
проявлениям; ставится идеальная цель сделать жизнь ребенка
асексуальной, со временем доходят наконец до того, что
считают ее действительно асексуальной, и наука затем
провозглашает это своей теорией. Чтобы не впасть в противоречие
со своей верой и своими намерениями, сексуальную
деятельность ребенка не замечают — а это немалый труд — или
довольствуются в науке тем, что рассматривают ее иначе.
Ребенок считается чистым, невинным, а кто описывает его по-
424
Введение в психоанализ
другому, тот, как гнусный злодей, обвиняется в оскорблении
нежных и святых чувств человечества.
Дети — единственные, кто не признает этих
условностей, — со всей наивностью пользуются своими животными
правами и постоянно доказывают, что им еще нужно стать
чистыми. Весьма примечательно, что отрицающие детскую
сексуальность не делают в воспитании никаких уступок, а со
всей строгостью преследуют именно проявления
отрицаемого ими под названием «детские дурные привычки». Большой
теоретический интерес представляет собой также то, что
период жизни, находящийся в самом резком противоречии с
предрассудком асексуальности детства, а именно детские
годы до пяти или шести лет, окутывается затем у большинства
людей амнестическим покрывалом, разорвать которое
по-настоящему может только аналитическое исследование, но
которое уже до этого проницаемо для отдельных структур
сновидений.
А теперь я хочу изложить вам то, что яснее всего
позволяет судить о сексуальной жизни ребенка. Здесь
целесообразно также ввести понятие либидо (Libido). Либидо,
совершенно аналогично голоду, называется сила, в которой
выражается влечение, в данном случае сексуальное, как в
голоде выражается влечение к пище. Другие понятия, такие
как сексуальное возбуждение и удовлетворение, не
нуждаются в объяснении. Вы сами легко поймете, что при
сексуальных проявлениях грудного младенца больше всего
приходится заниматься толкованием, и вы, вероятно,
будете считать это возражением. Эти толкования возникают на
основе аналитических исследований, если идти обратным
путем, от симптома. Первые сексуальные побуждения у
грудного младенца проявляются в связи с другими
жизненно важными функциями. Его главный интерес, как вы
знаете, направлен на прием пищи; когда он, насытившись,
засыпает у груди, у него появляется выражение блаженного
удовлетворения, которое позднее повторится после
переживания полового оргазма. Но этого, пожалуй, слишком
мало, чтобы строить на нем заключение. Однако мы
наблюдаем, что младенец желает повторять акт приема пищи, не
требуя новой пищи; следовательно, при этом он не нахо-
425
Зигмунд ФРЕЙД
дится во власти голода. Мы говорим: он сосет, и то, что при
этом действии он опять засыпает с блаженным выражением,
показывает нам, что акт сосания сам по себе доставил ему
удовлетворение. Как известно, скоро он уже не засыпает, не
пососав. На сексуальной природе этого действия начал
настаивать старый врач в Будапеште д-р Линднер (1879).
Лица, ухаживающие за ребенком, не претендуя на
теоретические выводы, по-видимому, аналогично оценивают сосание.
Они не сомневаются в том, что оно служит ребенку только
для получения удовольствия, относят его к дурным
привычкам и принуждают ребенка отказаться от этого, применяя
неприятные воздействия, если он сам не желает оставить
дурную привычку. Таким образом, мы узнаем, что грудной
младенец выполняет действия, не имеющие другой цели,
кроме получения удовольствия. Мы полагаем, что сначала
он переживает это удовольствие при приеме пищи, но скоро
научается отделять его от этого условия. Мы можем
отнести получение этого удовольствия только к возбуждению
зоны рта и губ, называем эти части тела эрогенными зонами,
а полученное при сосании удовольствие сексуальным. О
правомерности такого названия нам, конечно, придется еще
дискутировать.
Если бы младенец мог объясняться, он несомненно
признал бы акт сосания материнской груди самым важным в
жизни. По отношению к себе он не так уж не прав, потому
что этим актом сразу удовлетворяет две важные
потребности. Не без удивления мы узнаем затем из психоанализа,
какое большое психическое значение сохраняет этот акт на
всю жизнь. Сосание материнской груди становится
исходным пунктом всей сексуальной жизни, недостижимым
прообразом любого более позднего сексуального
удовлетворения, к которому в тяжелые времена часто
возвращается фантазия. Оно включает материнскую грудь как первый
объект сексуального влечения; я не в состоянии дать вам
представление о том, насколько значителен этот первый
объект для выбора в будущем любого другого объекта, какие
воздействия оказывает он со всеми своими
превращениями и замещениями на самые отдаленные области нашей
душевной жизни. Но сначала младенец отказывается от него
426
Введение в психоанализ
в акте сосания и заменяет частью собственного тела.
Ребенок сосет большой палец, собственный язык. Благодаря
этому он получает независимость в получении удовольствия от
одобрения внешнего мира, а кроме того, для его усиления
использует возбуждение другой зоны тела. Эрогенные
зоны не одинаково эффективны; поэтому когда младенец, как
сообщает Линднер, при обследовании собственного тела
открывает особенно возбудимые части своих гениталий и
переходит от сосания к онанизму, это становится важным
переживанием.
Благодаря [выяснению] значимости сосания мы
познакомились с двумя основными особенностями детской
сексуальности. Она возникает в связи с удовлетворением важных
органических потребностей и проявляется аутоэротически,
т. е. ищет и находит свои объекты на собственном теле. То,
что яснее всего обнаружилось при приеме пищи, отчасти
повторяется при выделениях. Мы заключаем, что младенец
испытывает ощущение удовольствия при мочеиспускании и
испражнении и скоро начинает стараться совершать эти
акты так, чтобы они доставляли ему возможно большее
удовольствие от возбуждения соответствующих эрогенных зон
слизистой оболочки. В этом отношении, как тонко заметила
Лу Андреа-Саломе (1916), внешний мир выступает против
него прежде всего как мешающая, враждебная его
стремлению к удовольствию сила и заставляет его предчувствовать
будущую внешнюю и внутреннюю борьбу. От своих
экскретов он вынужден освобождаться не в любой момент, а когда
это определяют другие лица. Чтобы заставить его
отказаться от этих источников удовольствия, все, что касается этих
функций, объявляется неприличным и должно скрываться
от других. Здесь он вынужден прежде всего обменять
удовольствие на социальное достоинство. Его отношение к
самим экскретам сначала совершенно иное. Он не испытывает
отвращения к своему калу, оценивает его как часть своего
тела, с которой ему нелегко расстаться, и использует его в
качестве первого «подарка», чтобы наградить лиц, которых
он особенно ценит. И даже после того, как воспитателям
Удалось отучить его от этих наклонностей, он переносит
оценку кала на «подарок» и на «деньги». Свои успехи в
427
Зигмунд ФРЕЙД
мочеиспускании он, по-видимому, напротив, рассматривает
с особой гордостью.
Я знаю, что вам давно хочется меня прервать и
крикнуть: довольно гадостей! Дефекация — источник
сексуального удовольствия, которое испытывает уже младенец! Кал —
ценная субстанция, задний проход — своего рода гениталии!
Мы не верим этому, но теперь мы понимаем, почему
педиатры и педагоги отвергли психоанализ и его результаты.
Нет, уважаемые господа! Вы только забыли, что я хотел вам
изложить факты инфантильной сексуальной жизни в связи
с сексуальными извращениями. Почему бы вам не знать, что
задний проход действительно берет на себя роль влагалища
при половом акте у большого числа взрослых,
гомосексуальных и гетеросексуальных? И что есть много людей,
испытывающих сладострастное ощущение при дефекации всю
свою жизнь и описывающих его как довольно сильное? Что
касается интереса к акту дефекации и удовольствия от
наблюдения дефекации другого, то вам подтвердят это сами
дети, когда станут на несколько лет старше и смогут
сообщить об этом. Разумеется, вы не должны перед этим
постоянно запугивать детей, иначе они отлично поймут, что
должны молчать об этом. Что касается других вещей,
которым вы не хотите верить, я отсылаю вас к результатам
анализа и непосредственному наблюдению за детьми и должен
сказать, что это прямо-таки искусство не видеть всего этого
или видеть как-то иначе. Я также не имею ничего против
того, чтобы вам резко бросилось в глаза родство детской
сексуальности с сексуальными извращениями. Это,
собственно, само собой разумеется; если у ребенка вообще есть
сексуальная жизнь, то она должна быть извращенного
характера, потому что, кроме некоторых темных намеков, у
ребенка нет ничего, что делает сексуальность функцией
продолжения рода. С другой стороны, общая особенность всех
извращений состоит в том, что они не преследуют цель
продолжения рода. Мы называем сексуальную деятельность
извращенной именно в том случае, если она отказывается от
цели продолжения рода и стремится к получению
удовольствия как к независимой от него цели. Вы поймете, таким
образом, что перелом и поворотный пункт в развитии сек-
428
Введение в психоанализ
суальной жизни состоит в подчинении ее целям
продолжения рода. Все, что происходит до этого поворота, так же как
и все, что его избежало, что служит только получению
удовольствия, приобретает малопочтенное название
«извращенного» и презирается как таковое.
Позвольте мне поэтому продолжить краткое изложение
[фактов] инфантильной сексуальности. То, что я сообщил
о двух органических системах (пищеварительной и
выделительной), я мог бы дополнить с учетом других систем.
Сексуальная жизнь ребенка исчерпывается именно
проявлением ряда частных влечений (Partialtriebe), которые
независимо друг от друга пытаются получить удовольствие частично
от собственного тела, частично уже от внешнего объекта.
Очень скоро среди этих органов выделяются гениталии; есть
люди, у которых получение удовольствия от собственных
гениталий без помощи гениталий другого человека или
объекта продолжается без перерыва от младенческого онанизма
до вынужденного онанизма в годы половой зрелости и
существует затем неопределенно долго и в дальнейшем.
Впрочем, с темой онанизма мы не так-то скоро покончим; это
материал, требующий многостороннего рассмотрения. Все-
таки должен вам сказать кое-что о сексуальном исследовании
(Sexualforschung) детей. Оно слишком типично для детской
сексуальности и крайне значимо для симптоматики
неврозов. Детское сексуальное исследование начинается очень
рано, иногда еще до трехлетнего возраста. Оно связано не
с различием полов, ничего не говорящим ребенку, так как
он — по крайней мере, мальчик — приписывает обоим
полам те же мужские гениталии. Если мальчик затем
обнаруживает влагалище у маленькой сестры или подруги по
играм, то сначала он пытается отрицать это свидетельство
своих органов чувств, потому что не может представить
подобное себе человеческое существо без столь ценной для
него части. Позднее он пугается этого открытия, и
тогда прежние угрозы за слишком интенсивное занятие своим
маленьким членом оказывают свое действие. Он попадает
во власть кастрационного комплекса, образование которого
имеет большое значение для формирования его характера,
если он остается здоровым, для его невроза, если он заболе-
429
Зигмунд ФРЕЙД
вает, и для его сопротивлений, если он подвергается
аналитическому лечению. О маленькой девочке мы знаем, что она
считает себя глубоко ущемленной из-за отсутствия
большого видимого пениса, завидует в этом мальчику и в основном
по этой причине у нее возникает желание быть мужчиной,
желание, снова появляющееся позднее при неврозе, который
наступает вследствие ее неудачи в женской роли. Впрочем,
клитор девочки в детском возрасте вполне играет роль
пениса, он является носителем особой возбудимости, местом,
в котором достигается аутоэротическое удовлетворение.
Превращение маленькой девочки в женщину во многом зависит
от того, переносится ли эта чувствительность клитора
своевременно и полностью на вход во влагалище. В случаях так
называемой сексуальной анестезии у женщин клитор
упорно сохраняет свою чувствительность.
Сексуальный интерес ребенка скорее обращается сначала
к проблеме, откуда берутся дети, к той самой, которая лежит
в основе вопроса фиванского сфинкса, и пробуждается
большей частью эгоистическими опасениями при появлении
нового ребенка. Ответ, даваемый в детской, что детей приносит
аист, вызывает недоверие даже у маленьких детей гораздо
чаще, чем мы думаем. Ощущение, что взрослые его
обманывают, скрывая истину, способствует отчуждению ребенка и
развитию его самостоятельности. Но ребенок не в состоянии
разрешить проблему собственными средствами. Его еще
неразвитая сексуальная конституция ставит определенные
границы для его познавательной способности. Сначала он
предполагает, что дети происходят от того, что с пищей съедают
что-то особое, и ничего не знает о том, что детей могут
иметь только женщины. Позже он узнает об этом
ограничении и отказывается от мысли, что ребенок происходит от
еды, эта мысль остается только в сказке. Подрастающий
ребенок скоро замечает, что отец должен играть какую-то роль
в появлении ребенка, но не может угадать какую. Если он
случайно становится свидетелем полового акта, то видит в
нем попытку насилия, борьбу, садистски истолковывает
коитус. Но сначала он не связывает этот акт с появлением
ребенка. Когда он обнаруживает следы крови в постели и на
белье матери, он тоже принимает это за доказательство на-
430
Введение в психоанализ
несенного отцом ранения. В более поздние годы он, видимо,
предчувствует, что половой орган мужчины принимает
существенное участие в появлении детей, но не может
приписать этой части тела никакой другой функции, кроме
мочеиспускательной.
С самого начала дети единодушны в том, что рождение
ребенка должно осуществляться через кишечник, что
ребенок появляется, следовательно, как ком кала. Только после
обесценивания всех анальных интересов эта теория
оставляется и заменяется предположением, что открывается пупок
или что местом рождения является область между женскими
грудями. Таким образом пытливый ребенок приближается к
знанию сексуальных фактов или проходит мимо них, сбитый
с толку своим незнанием, пока в препубертатном возрасте не
получит обычно оскорбительного и неполного объяснения,
нередко оказывающего травматическое действие.
Вы, конечно, слышали, уважаемые господа, что понятие
сексуального в психоанализе претерпело неоправданное
расширение с целью сохранить положения о сексуальной
причине неврозов и сексуальном значении симптомов. Теперь
вы можете сами судить, является ли это расширение
неоправданным. Мы расширили понятие сексуальности лишь
настолько, чтобы оно могло включить сексуальную жизнь
извращенных и детей. Это значит, что мы возвратили ему
его правильный объем. То, что называют сексуальностью вне
психоанализа, относится только к ограниченной
сексуальной жизни, служащей продолжению рода и называемой
нормальной.
Двадцать первая лекция
Развитие либидо и сексуальная организация
Уважаемые господа! Я нахожусь под впечатлением, что
мне не вполне удалось убедительно разъяснить вам значение
извращений для нашего представления о сексуальности.
Поэтому я хотел бы, насколько могу, исправить и дополнить
изложенное.
431
Зигмунд ФРЕЙД
Дело обстоит вовсе не так, как будто только извращения
вынудили нас к тому изменению понятия сексуальности,
которое вызвало столь резкий протест. Еще больше
способствовало этому изучение детской сексуальности, а совпадение
обоих явлений стало для нас решающим. Но проявления
детской сексуальности, как бы они ни были очевидны в более
позднем детстве, кажется, исчезают в неопределенности по
мере приближения к их начальным стадиям. Тот, кто не
хочет обращать внимания на историю развития и
аналитическую связь, будет оспаривать их сексуальный и признавать
вместо него какой-нибудь недифференцированный
характер. Не забывайте, что в настоящее время мы еще не
имеем общепринятого признака сексуальной природы какого-то
процесса, кроме опять-таки принадлежности к функции
продолжения рода, но его мы считаем слишком узким.
Биологические критерии, вроде предложенных В. Флиссом (1906)
периодов в 23 и 28 дней, еще очень спорны; химические
особенности сексуальных процессов, которые мы можем лишь
предполагать, еще только ждут своего открытия.
Сексуальные извращения взрослых, напротив, являются чем-то
ощутимым и недвусмысленным. Как показывает уже их
общепризнанное название, они, несомненно, относятся к
сексуальному. Пусть их называют признаком дегенерации или как
угодно иначе, еще никто не находил в себе решимости
отнести их к чему-нибудь другому, а не к феноменам сексуальной
жизни. Только они дают нам право утверждать, что
сексуальность и продолжение рода не совпадают, потому что
очевидно, что все они отказываются от цели продолжения рода.
Я вижу здесь одну небезынтересную параллель. В то
время как для большинства «сознательное» и «психическое»
было тем же самым, мы были вынуждены расширить понятие
«психическое» и признать психическое, которое не
сознательно. И совершенно аналогично другие объявляют
идентичным «сексуальное» и «относящееся к продолжению
рода» — или, если хотите выразиться короче, «генитальное», —
в то время как мы не можем не признать «сексуального»,
которое не «генитально», и не имеет ничего общего с
продолжением рода. Это только формальное сходство, однако
оно имеет более глубокое основание.
432
Введение в психоанализ
Но если существование сексуальных извращений
является в этом вопросе таким убедительным доказательством,
почему оно раньше не оказало своего действия и не решило
этот вопрос? Я, право, не могу сказать. Мне кажется, дело
в том, что к сексуальным извращениям имеется совершенно
особое отношение, которое распространяется на теорию и
также мешает их научной оценке. Как будто никто не
может забыть, что они не только что-то отвратительное, но и
чудовищное, опасное, как будто их считают
соблазнительными и в глубине души вынуждены побороть тайную
зависть к тем, кто ими наслаждается, подобно тому как в
известной пародии на Тангейзера карающий ландграф
сознается:
...В гроте Венеры забыл он честь и долг!
— Странно, что с нашим братом этого не случается.
В действительности же извращенные скорее жалкие
существа, очень дорого расплачивающиеся за свое трудно
достижимое удовлетворение.
То обстоятельство, что акт извращенного
удовлетворения в большинстве случаев все же заканчивается полным
оргазмом и выделением половых продуктов, делает
извращенную деятельность несомненно сексуальной, несмотря на
всю странность объекта и целей. Но это, разумеется, только
следствие того, что эти лица — взрослые; у ребенка оргазм
и половые выделения невозможны, они заменяются
намеками, которые опять-таки не признаются несомненно
сексуальными. Чтобы дополнить оценку сексуальных
извращений, я должен кое-что добавить. Как они ни опорочены,
как резко ни противопоставляются нормальной сексуальной
деятельности, простое наблюдение показывает, что та или
иная извращенная черта почти всегда имеется в сексуальной
жизни нормальных людей. Даже поцелуй может по праву
называться извращенным актом, потому что он состоит в
соединении двух эрогенных зон рта вместо двух гениталий.
Но никто не отказывается от него как от извращения,
напротив, на сцене он допускается как смягченный намек на
половой акт. Но как раз поцелуй может стать и полным
извращением, а именно тогда, когда он так интенсивен, что
433
Зигмунд ФРЕЙД
непосредственно сопровождается выделением из гениталий
и оргазмом, что бывает не так уж редко. Впрочем, можно
наблюдать, что для одного непременными условиями
сексуального наслаждения являются ощупывание и
разглядывание объекта, а другой в порыве сексуального возбуждения
щипает или кусает, что самое большое возбуждение у
любящего не всегда вызывают гениталии, а какая-нибудь
другая часть тела объекта и тому подобное в большом
разнообразии. Не имеет никакого смысла выделять лиц с
некоторыми такими чертами из ряда нормальных и причислять
их к извращенным, больше того, все яснее понимаешь, что
сущность извращений состоит не в отступлении от
сексуальной цели, не в замене гениталий, даже не всегда в
изменении объекта, а только в исключительности, с которой
совершаются эти отступления, из-за которых отставляется сам
половой акт, служащий продолжению рода. Поскольку
извращенные действия включаются в совершение
нормального полового акта как подготовительные или усиливающие
его, они, собственно, перестают быть извращенными.
Конечно, благодаря фактам такого рода пропасть между
нормальной и извращенной сексуальностью сильно
уменьшается. Напрашивается естественный вывод, что нормальная
сексуальность происходит из чего-то, что существовало до
нее, исключая как непригодные одни стремления и
объединяя другие с тем, чтобы подчинить их новой цели
продолжения рода.
Прежде чем мы воспользуемся нашими знаниями об
извращениях для того, чтобы снова углубиться в изучение
детской сексуальности, исходя из уточненных предположений,
я должен обратить ваше внимание на важное различие
между ними. Извращенная сексуальность, как правило,
великолепно центрирована, все действия стремятся к одной, в
большинстве случаев — единственной цели, частное
влечение одерживает верх, и либо только оно и обнаруживается,
либо все другие подчинены его целям. В этом отношении
между извращенной и нормальной сексуальностью нет
другого различия, кроме того, что господствующие частные
влечения и соответствующие им сексуальные цели у них
разные. И здесь, и там действует, так сказать, хорошо органи-
434
Введение в психоанализ
зованная тирания, только здесь власть захватила одна семья,
а там — другая. Инфантильная сексуальность, напротив, не
имеет в общем такой центрации и организации, ее
отдельные частные влечения равноправны, каждое на свой страх и
риск стремится к получению удовольствия. Отсутствие, как
и наличие центрации, разумеется, хорошо согласуются с тем
фактом, что оба вида сексуальности — извращенная и
нормальная — произошли из инфантильной. Впрочем, есть
случаи извращенной сексуальности, имеющие гораздо
больше сходства с инфантильной, когда многочисленные
частные влечения независимо друг от друга осуществили или,
лучше сказать, сохранили свои цели. В таких случаях
правильнее говорить об инфантилизме сексуальной жизни, чем
об извращении.
Вооруженные этими знаниями, мы можем приступить
к обсуждению предложения, которого нам наверняка не
избежать. Нам скажут: почему вы настаиваете на том, чтобы
называть сексуальными уже те, по вашему собственному
свидетельству, неопределенные детские проявления, из
которых позднее развивается сексуальность? Почему вы не
хотите лучше довольствоваться физиологическим описанием
и просто сказать, что у младенца наблюдаются такие виды
деятельности, как сосание или задерживание экскрементов,
показывающие нам, что он стремится к получению
удовольствия от функционирования органов (Organlust)? Этим вы
бы избежали оскорбляющего всякое чувство предположения
о наличии сексуальной жизни у ребенка. Да, уважаемые
господа, я не имею ничего против удовольствия от
функционирования органов; я знаю, что высшим наслаждением при
совокуплении является удовольствие от функционирования
органов, связанное с деятельностью гениталий. Но можете
ли вы мне сказать, когда это первоначально
индифферентное удовольствие от функционирования органов
приобретает сексуальный характер, которым оно несомненно обладает
на более поздних фазах развития? Знаем ли мы об
удовольствии от функционирования органов больше, чем о
сексуальности? Вы ответите, что сексуальный характер
присоединяется именно тогда, когда гениталии начинают играть свою
роль; сексуальное совпадает с генитальным. Вы отвергнете
435
Зигмунд ФРЕЙД
даже возражение относительно извращений, указав мне на
то, что целью большинства извращений все-таки является
генитальный оргазм, хотя и достигаемый другим путем, а не
соединением гениталий. Вы займете действительно гораздо
более выгодную позицию, если исключите из
характеристики сексуального отношение к продолжению рода,
оказавшееся несостоятельным вследствие существования
извращений, и вместо него выдвинете на первый план деятельность
гениталий. Но тогда мы окажемся недалеко друг от друга;
половые органы просто противопоставляются другим
органам. А что вы возразите против многочисленных фактов,
показывающих, что для достижения наслаждения гениталии
могут заменяться другими органами, как при нормальном
поцелуе, в практике извращений, в симптоматике истерии?
При последнем неврозе совершенно обычное дело, что
явления возбуждения, ощущения и иннервации, даже
процессы эрекции, присущие гениталиям, переносятся на другие,
отдаленные области тела (например, вверх на голову и
лицо). Уличенные таким образом в том, что у вас ничего не
остается для характеристики сексуального, вы, видимо,
должны будете решиться последовать моему примеру и
распространить название «сексуальное» также на действия,
направленные на получение удовольствия от функционирования
органов в раннем детстве.
А теперь выслушайте в оправдание моей точки зрения
два других соображения. Как вы знаете, сомнительные и
неопределенные действия для получения удовольствия в
самом раннем детстве мы называем сексуальными, потому что
выходим на них путем анализа симптомов через бесспорно
сексуальный материал. Это еще не значит, что они сами
должны быть сексуальными, согласен. Но возьмите
аналогичный случай. Представьте себе, что у нас нет возможности
наблюдать развитие двух двудольных растений, яблони и
фасоли, из их семян, но в обоих случаях можно проследить
их развитие в обратном направлении от полностью
сформировавшегося растения до первого ростка с двумя
зародышевыми листками. Оба зародышевых листка выглядят
индифферентно, в обоих случаях они совершенно однородны.
Предположу ли я поэтому, что они действительно однород-
436
Введение в психоансичиз
ны и что специфическое различие между яблоней и
фасолью наступит лишь позднее, при вегетации? Или с
биологической точки зрения правильнее полагать, что это
различие имеется уже в ростке, хотя по зародышевым листкам его
нельзя увидеть. Но ведь мы делаем то же самое, называя
сексуальным наслаждение при действиях младенца. Любое
ли удовольствие от функционирования органов может
называться сексуальным или наряду с сексуальным есть
другое, не заслуживающее этого названия, я здесь
анализировать не могу. Я слишком мало знаю об удовольствии от
функционирования органов и о его условиях, а при
регрессирующем характере анализа вообще не удивлюсь, если в
конце концов дойду до моментов, не поддающихся
определению в настоящее время.
И еще одно! В своем утверждении о сексуальной чистоте
ребенка вы в общем очень мало выиграли бы, даже если бы
смогли убедить меня в том, что действия младенца лучше
всего оценить как не сексуальные. Потому что уже с
трехлетнего возраста сексуальная жизнь ребенка не подлежит
никаким сомнениям; в это время начинают проявлять себя
гениталии, может быть, закономерно наступает период
инфантильной мастурбации, т. е. генитального удовлетворения.
Уже больше нет надобности не замечать душевные и
социальные проявления сексуальной жизни; выбор объекта,
нежное предпочтение отдельных лиц, даже решение в пользу
одного из полов, ревность установлены беспристрастными
наблюдениями независимо от психоанализа и до его
появления и могут быть подтверждены любым наблюдателем,
желающим это видеть. Вы возразите, что сомневались не в
раннем пробуждении нежности, а только в том, что
нежность эта носит сексуальный характер. Хотя дети от трех до
восьми лет уже научились его скрывать, но если вы будете
внимательны, то сможете все-таки собрать достаточно
доказательств «чувственных» целей этой нежности, а чего вам
будет недоставать, в большом количестве дадут
аналитические исследования. Сексуальные цели этого периода жизни
находятся в самой тесной связи с одновременным
сексуальным исследованием самого ребенка, некоторые примеры
которого я вам приводил. Извращенный характер некоторых
437
Зигмунд ФРЕЙД
из этих целей зависит, конечно, от конституциональной
незрелости ребенка, который еще не открыл цели акта
совокупления.
Примерно с шестого до восьмого года жизни
наблюдается затишье и спад в сексуальном развитии, который в самых
благоприятных в культурном отношении случаях
заслуживает названия латентного периода (Latenzzeit). Латентного
периода может и не быть, он вовсе не обязательно
прерывает на время сексуальную деятельность и гасит
сексуальные интересы по всей линии. Большинство переживаний и
душевных движений перед наступлением латентного
периода подвергается затем инфантильной амнезии, уже
обсуждавшемуся ранее забвению, которое окутывает наши первые
годы и отчуждает их от нас. При каждом психоанализе
ставится задача восстановить в памяти этот забытый период
жизни; невозможно отделаться от мысли, что мотивом
этого забвения оказались содержащиеся в нем истоки
сексуальной жизни, т.е. что это забвение является результатом
вытеснения.
С трехлетнего возраста сексуальная жизнь ребенка во
многом соответствует сексуальной жизни взрослого; она
отличается от последней, как уже известно, отсутствием
твердой организации с приматом гениталий, неизбежными
чертами извращения и, разумеется, гораздо меньшей
интенсивностью всего влечения. Но самые интересные для теории
фазы сексуального развития, или, как мы предпочитаем
говорить, развитие либидо, идут вслед за этим моментом. Это
развитие протекает так быстро, что непосредственному
наблюдению никогда не удалось бы задержать его мимолетные
картины. Только при помощи психоаналитического
исследования неврозов можно было догадаться о еще более
ранних фазах развития либидо. Это, конечно, всего лишь
конструкции, но если вы займетесь анализом практически, то
найдете эти конструкции необходимыми и полезными. Вы
скоро поймете, как происходит, что патология может нам
раскрыть здесь отношения, которые нельзя заметить в
нормальном объекте.
Итак, мы можем теперь показать, как складывается
сексуальная жизнь ребенка, прежде чем установится примат
438
Введение в психоанализ
гениталий, который подготавливается в первую
инфантильную эпоху до латентного периода и непрерывно
организуется в период полового созревания. В этот ранний период
существует особого рода неустойчивая организация, которую
мы называем прегенитальной. Но на первом плане в этой
фазе выступают не генитальные частные влечения, а
садистские и анальные. Противоположность мужского и
женского здесь не играет никакой роли; ее место занимает
противоположность активного и пассивного, которую можно
назвать предшественницей сексуальной полярности, с которой
она позднее и сливается. То, что в проявлениях этой фазы
нам кажется мужским, рассмотренное с точки зрения гени-
тальной фазы, оказывается выражением стремления к
овладению, легко переходящего в жестокость. Стремления,
имеющие пассивную цель, связываются с очень значимыми для
этого времени эрогенными зонами у выхода кишечника.
Сильно проявляется влечение к разглядыванию и познанию;
гениталии принимают участие в сексуальной жизни,
собственно, лишь в роли органа выделения мочи. У частных
влечений этой фазы нет недостатка в объектах, но все эти
объекты не обязательно соединены в одном объекте. Садистско-
анальная организация является ближайшей ступенью к фазе
генитального господства. Более подробное изучение
показывает, сколько от этой организации сохраняется в более
поздней окончательной форме сексуальности и какими путями
ее частные влечения вынуждены включаться в новую гени-
тальную организацию. За садистско-анальной фазой
развития либидо нам открывается еще более ранняя, еще более
примитивная ступень организации, в которой главную роль
играет эрогенная зона рта. Вы можете догадаться, что к ней
относится сексуальная деятельность сосания, и восхищаться
пониманием древних египтян, в искусстве которых ребенок,
даже божественный Хорус, изображается с пальцем во рту.
Только недавно (1916) Абрахам сделал сообщение о том,
какие следы оставляет эта примитивная оральная фаза
в сексуальной жизни более поздних лет.
Уважаемые господа! Могу предположить, что последние
сообщения о сексуальных организациях скорее обременили
вас, чем вразумили. Может быть, я опять слишком углубил-
439
Зиг.чупд ФРЕЙД
ся в подробности. Но имейте терпение; то, что вы теперь
слышали, станет более ценным для вас при последующем
использовании. А пока сохраните впечатление, 'что
сексуальная жизнь — как мы говорим, функция либидо —
появляется не как нечто готовое и не обнаруживает простого
роста, а проходит ряд следующих друг за другом фаз, не
похожих друг на друга, являясь, таким образом,
неоднократно повторяющимся развитием, как, например, развитие от
гусеницы до бабочки. Поворотным пунктом развития
становится подчинение всех сексуальных частных влечений
примату гениталий и вместе с этим подчинение сексуальности
функции продолжения рода. До этого существует, так
сказать, рассеянная сексуальная жизнь, самостоятельное
проявление отдельных частных влечений, стремящихся к
получению удовольствия от функционирования органов. Эта анархия
смягчается благодаря переходу к «прегенитальным»
организациям, сначала садистско-анальной фазы, до нее —
оральной, возможно, самой примитивной. К этому
присоединяются различные еще плохо изученные процессы смены одной
фазы другой. Какое значение для понимания неврозов имеет
то, что либидо проделывает такой длинный и
многоступенчатый путь, вы узнаете в следующий раз.
Сегодня мы проследим еще одну сторону этого развития,
а именно отношение частных сексуальных влечений к
объекту. Вернее, мы сделаем беглый обзор этого развития, с тем
чтобы подольше остановиться на одном довольно позднем
его результате. Итак, некоторые из компонентов
сексуальной жизни с самого начала имеют объект и сохраняют его,
как, например, стремление к овладению (садизм), стремление
к разглядыванию и познанию. Другие, более явно связанные
с определенными эрогенными зонами, имеют объект лишь
вначале, пока они выполняют несексуальные функции, и
отказываются от него, когда освобождаются от этих функций.
Так, первым объектом орального компонента сексуального
влечения является материнская грудь, удовлетворяющая
потребность младенца в пище. В акте сосания эротический
компонент, получавший удовлетворение при кормлении
грудью, становится самостоятельным, отказываясь от
постороннего объекта и замещая его каким-нибудь органом собствен-
440
Введение в психоанализ
ного тела. Оральное влечение становится аутоэротическим,
каковыми анальные и другие эрогенные влечения являются
с самого начала. Дальнейшее развитие имеет, коротко
говоря, две цели: во-первых, отказаться от аутоэротизма, снова
заменить объект собственного тела на посторонний и,
во-вторых, объединить различные объекты отдельных влечений,
заменив их одним объектом. Разумеется, это удается только
тогда, когда этот один объект представляет собой целое,
похожее на собственное тело. При этом какое-то число ауто-
эротических влечений как непригодные может быть также
оставлено.
Процессы нахождения объекта довольно запутанны и до
сих пор не были ясно изложены. Подчеркнем для нашей
цели, что когда в детские годы до латентного периода
процесс достиг определенного завершения, найденный объект
оказывается почти идентичным первому благодаря
присоединению к нему орального стремления к удовольствию.
Если это и не материнская грудь, то все-таки мать. Мы
называем мать первым объектом любви. Мы говорим именно о
любви, когда выдвигаем на первый план душевную сторону
сексуальных стремлений и отодвигаем назад или хотим на
какой-то момент забыть лежащие в основе физические, или
«чувственные», требования влечений. К тому времени, когда
мать становится объектом любви, у ребенка уже началась
также психическая работа вытеснения, которая лишает его
знания какой-то части своих сексуальных целей. К этому
выбору матери объектом любви присоединяется все то, что
под названием Эдипова комплекса приобрело такое большое
значение в психоаналитическом объяснении неврозов и,
может быть, сыграло не меньшую роль в сопротивлении
психоанализу.
Послушайте небольшую историю, которая произошла во
время этой войны: один из смелых последователей
психоанализа находится в качестве врача на немецком фронте где-
то в Польше и привлекает к себе внимание коллег тем, что
однажды ему удается оказать неожиданное воздействие на
больного. В ответ на расспросы он признается, что работает
методом психоанализа и согласен поделиться своими
знаниями с товарищами. И вот врачи корпуса, коллеги и на-
441
Зигмунд ФРЕЙД
чальники, собираются каждый вечер, чтобы послушать
тайные учения анализа. Какое-то время все идет хорошо, но
после того, как он рассказал слушателям об Эдиповом
комплексе, встает один начальник и заявляет, что этому он не
верит, что гнусно со стороны докладчика рассказывать такие
вещи им, бравым мужчинам, борющимся за свое отечество,
и отцам семейства, и что он запрещает продолжение лекций.
Этим дело и кончилось. Аналитик просил перевести его на
другой участок фронта. Но я думаю, плохо дело, если
немецкая победа нуждается в такой «организации» науки,
и немецкая наука плохо переносит эту организацию.
А теперь вы с нетерпением хотите узнать, что же такое
этот страшный Эдипов комплекс. Само имя вам говорит об
этом. Вы все знаете греческое сказание о царе Эдипе,
которому судьбой было предопределено убить своего отца и
взять в жены мать, который делает все, чтобы избежать
исполнения предсказаний оракула, и после того, как
узнает, что по незнанию все-таки совершил оба этих
преступления, в наказание выкалывает себе глаза. Надеюсь, многие из
вас сами пережили потрясающее действие трагедии, в
которой Софокл представил этот материал. Произведение
аттического поэта изображает, как благодаря искусно
задерживаемому и опять возбуждаемому все новыми уликами
расследованию постепенно раскрывается давно совершенное
преступление Эдипа; в этом отношении оно имеет
определенное сходство с ходом психоанализа. В процессе диалога
оказывается, что ослепленная мать-супруга Иокаста
противится продолжению расследования. Она ссылается на то,
что многим людям приходится видеть во сне, будто они
имеют сношения с матерью, но на сны не стоит обращать
внимания. Мы не считаем сновидения маловажными, и
меньше всего типичные сновидения, такие, которые снятся
многим людям, и не сомневаемся, что упомянутое Иокастой
сновидение тесно связано со странным и страшным
содержанием сказания.
Удивительно, что трагедия Софокла не вызывает у
слушателя по меньшей мере возмущенного протеста, сходной
и гораздо более оправданной реакции, чем реакция нашего
простоватого военного врача. Потому что, в сущности, эта
442
Введение в психоанализ
трагедия — безнравственная пьеса, она снимает с человека
нравственную ответственность, показывает божественные
силы как организаторов преступления и бессилие
нравственных побуждений человека, сопротивляющихся
преступлению. Можно было бы легко представить себе, что материал
сказания имеет целью обвинить богов и судьбу, и в руках
критичного Эврипида, который был с богами не в ладах, это,
вероятно, и стало бы таким обвинением. Но у верующего
Софокла о таком использовании сказания не может быть и
речи; преодолеть затруднения помогает богобоязненная
изворотливость, подчиняющая высшую нравственность воле
богов, даже если она предписывает преступление. Я не могу
считать, что эта мораль относится к сильным сторонам
пьесы, но она не имеет значения для производимого ею
впечатления. Слушатель реагирует не на нее, а на тайный смысл
и содержание сказания. Он реагирует так, как будто путем
самоанализа обнаружил в себе Эдипов комплекс и
разоблачил волю богов и оракула как замаскированное под
возвышенное собственное бессознательное. Он как будто
вспоминает желания устранить отца и взять вместо него в жены
мать и ужасается им. И голос поэта он понимает так, как
будто тот хотел ему сказать: напрасно ты противишься
своей ответственности и уверяешь, что боролся против этих
преступных намерений. Ты все-таки виноват, потому что не
смог их уничтожить; они существуют в тебе бессознательно.
И в этом заключается психологическая правда. Даже если
человек вытеснил свои дурные побуждения в
бессознательное и хотел бы убедить себя, что он за них не ответствен,
он все-таки вынужден чувствовать эту ответственность как
чувство вины от неизвестной ему причины.
Совершенно несомненно, что в Эдиповом комплексе
можно видеть один из самых важных источников сознания
вины, которое так часто мучает невротиков. Даже более
того: в исследовании о происхождении человеческой религии
и нравственности, которое я опубликовал в 1913 г. под
названием «Тотем и табу», я высказал предположение, что,
возможно, человечество в целом приобрело свое сознание
вины, источник религии и нравственности, в начале своей
истории из Эдипова комплекса. Я охотно сказал бы больше
443
Зигмунд ФРЕЙД
об этом, но лучше воздержусь. Трудно оставить эту тему,
если уже начал, но нам нужно вернуться к индивидуальной
психологии.
Итак, что же можно узнать об Эдиповом комплексе при
непосредственном наблюдении за ребенком в период выбора
объекта до наступления латентного периода? Легко
заметить, что маленький мужчина один хочет обладать матерью,
воспринимает присутствие отца как помеху, возмущается,
когда тот позволяет себе нежности по отношению к матери,
выражает свое удовольствие, если отец уезжает или
отсутствует. Часто он выражает свои чувства словами, обещая
матери жениться на ней. Скажут, что этого мало по
сравнению с деяниями Эдипа, но на самом деле достаточно, в
зародыше это то же самое. Часто дело затемняется тем, что
тот же ребенок одновременно при других обстоятельствах
проявляет большую нежность к отцу; только такие
противоположные — или, лучше сказать, амбивалентные —
эмоциональные установки, которые у взрослого привели бы к
конфликту, у ребенка прекрасно уживаются в течение
длительного времени, подобно тому как позднее они постоянно
находятся друг возле друга в бессознательном. Станут
возражать также, что поведение маленького мальчика имеет
эгоистические мотивы и не позволяет предположить
существование эротического комплекса. Мать заботится о всех
нуждах ребенка, и поэтому ребенок заинтересован в том,
чтобы она ни о ком другом не беспокоилась. И это верно,
но скоро становится ясно, что эгоистический интерес в этой
и подобной ситуациях является лишь поводом, которым
пользуется эротическое стремление. Когда малыш
проявляет самое неприкрытое сексуальное любопытство по
отношению к матери, требуя, чтобы она брала его ночью спать с
собой, просится присутствовать при ее туалете или даже
предпринимает попытки соблазнить ее, как это часто может
заметить и со смехом рассказать мать, то в этом, вне всякого
сомнения, обнаруживается эротическая природа
привязанности к матери. Нельзя также забывать, что такую же заботу
мать проявляет к своей маленькой дочери, не достигая того
же результата, и что отец достаточно часто соперничает с
ней в заботе о мальчике, но ему не удается стать столь же
444
Введение в психоанализ
значимым, как мать. Короче говоря, никакой критикой
нельзя исключить из ситуации момент полового предпочтения.
С точки зрения эгоистического интереса со стороны
маленького мужчины, было бы лишь неразумно не пожелать иметь
к своим услугам двух лиц вместо одного из них.
Как вы заметили, я охарактеризовал только отношение
мальчика к отцу и матери. У маленькой девочки оно
складывается с необходимыми изменениями совершенно
аналогично. Нежная привязанность к отцу, потребность
устранить мать как лишнюю и занять ее место, кокетство,
пользующееся средствами более позднего периода
женственности, именно у маленькой девочки образуют
прелестную картину, которая заставляет забывать о серьезности и
возможных тяжелых последствиях, стоящих за этой
инфантильной ситуацией. Не забудем прибавить, что часто сами
родители оказывают решающее влияние на пробуждение
эдиповой установки у ребенка, следуя половому
притяжению, и там, где несколько детей, отец самым явным образом
отдает нежное предпочтение дочери, а мать сыну. Но и этот
момент не может серьезно поколебать независимую природу
детского Эдипова комплекса. Эдипов комплекс разрастается
в семейный комплекс, когда появляются другие дети. Вновь
опираясь на эгоистическое чувство, он мотивирует
отрицательное отношение к появлению братьев и сестер и желание
непременно устранить их. Об этих чувствах ненависти дети
заявляют, как правило, даже гораздо чаще, чем о чувствах,
имеющих своим источником родительский комплекс. Если
такое желание исполняется и смерть быстро уносит
нежелательного нового члена семьи, то из анализа в более поздние
годы можно узнать, каким важным переживанием был для
ребенка этот случай смерти, хотя он мог и не сохраниться
в памяти. Ребенок, отодвинутый рождением нового ребенка
на второй план, первое время почти изолированный от
матери, с трудом прощает ей это свое положение; у него
появляются чувства, которые у взрослого можно было бы
назвать глубоким ожесточением, и часто они становятся
причиной длительного отчуждения. Мы уже упоминали, что
сексуальное исследование со всеми его последствиями
обычно опирается на этот жизненный опыт ребенка. С под-
445
Зигмунд ФРЕЙД
растанием этих братьев и сестер установка к ним
претерпевает самые значительные изменения. Мальчик может
выбрать объектом любви сестру как замену неверной матери;
между несколькими братьями, ухаживающими за младшей
сестренкой, уже в детской возникают ситуации враждебного
соперничества, значимые для последующей жизни.
Маленькая девочка находит в старшем брате замену отцу, который
больше не заботится о ней с нежностью, как в самые ранние
годы, или же младшая сестра заменяет ей ребенка, которого
она тщетно желала иметь от отца.
Такие и другие подобного же рода отношения открывают
непосредственное наблюдение за детьми и изучение хорошо
сохранившихся, не подвергнутых влиянию анализа
воспоминаний детских лет. Из этого вы, между прочим,
сделаете вывод, что возрастное положение ребенка среди братьев
и сестер является чрезвычайно важным моментом для его
последующей жизни, который нужно принимать во
внимание во всякой биографии. Но, что еще важнее,
благодаря этим сведениям, которые нетрудно получить, вы не без
улыбки вспомните высказывания науки по поводу причин
запрета инцеста. Чего тут только не придумали! Что
вследствие совместной жизни в детстве половое влечение не
должно направляться на членов семьи другого пола или что
во избежание вырождения биологическая тенденция должна
найти свое психическое выражение во врожденном
отвращении к инцесту! При этом совершенно забывают, что в
таком неумолимом запрете законом и обычаями не было бы
необходимости, если бы против инцестуозного искушения
существовали какие-либо надежные естественные
ограничения. Истина как раз в противоположном. Первый
выбор объекта у людей всегда инцестуозный, у мужчины —
направленный на мать и сестру, и требуются самые
строгие запреты, чтобы не дать проявиться этой продолжающей
оказывать свое действие детской склонности. У
сохранившихся до сих пор примитивных диких народов инцестуоз-
ные запреты еще более строгие, чем у нас, и недавно Т. Рейк
в блестящей работе (1915—1916) показал, что ритуалы,
связанные с [наступлением] половой зрелости дикарей,
изображающие второе рождение, имеют смысл освобождения
446
Введение в психоанализ
мальчика от инцестуозной привязанности к матери и его
примирения с отцом.
Мифология говорит вам, что якобы столь
отвратительный для людей инцест без всяких опасений
разрешается богам, а из древней истории вы можете узнать, что ин-
цестуозный брак с сестрой был священным предписанием
для властелина (у древних фараонов, инков в Перу). Речь
идет, следовательно, о преимуществе, недоступном
простому народу.
Кровосмесительство с матерью — одно преступление
Эдипа, убийство отца — другое. Кстати говоря, это также те два
великих преступления, которые запрещает первая
социально-религиозная организация людей, тотемизм. Перейдем
теперь от непосредственных наблюдений за ребенком к
аналитическому исследованию взрослых, заболевших неврозом.
Что же дает анализ для дальнейшего изучения Эдипова
комплекса? Это можно сказать в двух словах. Он находит его
таким же, каким описывает его сказание; он показывает, что
каждый невротик сам Эдип или, как реакция на комплекс,
Гамлет, что сводится к тому же. Разумеется, аналитическое
изображение Эдипова комплекса является увеличением и
огрублением того, что в детстве было лишь наброском.
Ненависть к отцу, желание его смерти — уже не робкие
намеки, в нежности к матери скрывается цель обладать ею как
женщиной. Можем ли мы действительно предполагать
существование столь резких и крайних проявлений чувств в
нежные детские годы или анализ вводит нас в заблуждение
из-за вмешательства какого-то нового фактора? Таковой
нетрудно найти. Всякий раз, когда человек, будь то даже
историк, рассказывает о прошлом, нужно принимать во
внимание, что именно он невольно что-то переносит в прошлое
из настоящего или из промежуточных периодов, искажая
тем самым его картину. Если это невротик, то возникает
даже вопрос, является ли такое перенесение
непреднамеренным; позднее мы познакомимся с его мотивами и вообще
должны будем считаться с фактом «фантазирования назад»
в Далекое прошлое. Мы легко обнаруживаем также, что
ненависть к отцу усиливается рядом мотивов, происходящих
из более поздних периодов и отношений, что сексуальные
447
Зигмунд ФРЕЙД
желания по отношению к матери выливаются в формы,
которые, очевидно, еще неизвестны ребенку. Но напрасно
было бы стараться объяснять все в Эдиповом комплексе
«фантазированием назад» и относить к более поздним периодам.
Инфантильное ядро, а также большая или меньшая часть
мелочей сохраняется, как это подтверждает
непосредственное наблюдение за ребенком.
Клинический факт, выступающий за аналитически
установленной формой Эдипова комплекса, имеет огромное
практическое значение. Мы узнаем, что ко времени половой
зрелости, когда сексуальное влечение сначала с полной
силой выдвигает свои требования, снова принимаются
прежние семейные и инцестуозные объекты и опять
захватываются (besetzt) либидо. Инфантильный выбор объекта был
лишь слабой прелюдией, задавшей направление выбора
объекта в период половой зрелости. Здесь разыгрываются очень
интенсивные эмоциональные процессы в направлении
Эдипова комплекса или реакции на него, которые, однако, по
большей части остаются вне сознания, так как условия их
осуществления стали невыносимы. С этого времени
индивид должен посвятить себя великой задаче отхода от
родителей и только после ее решения он может перестать быть
ребенком, чтобы стать членом социального целого. Для сына
задача состоит в том, чтобы отделить свои либидозные
желания от матери и использовать их для выбора
постороннего реального объекта любви и примириться с отцом, если
он оставался с ним во вражде, или освободиться от его
давления, если он в виде реакции на детский протест попал в
подчинение к нему. Эти задачи стоят перед каждым;
удивительно, как редко удается их решить идеальным образом,
т. е. правильно в психологическом и социальном отношении.
А невротикам это решение вообще не удается; сын всю свою
жизнь склоняется перед авторитетом отца и не в состоянии
перенести свое либидо на посторонний сексуальный объект.
При соответствующем изменении отношений такой же
может быть и участь дочери. В этом смысле Эдипов комплекс
по праву считается ядром неврозов.
Вы догадываетесь, уважаемые господа, как кратко я
останавливаюсь на большом числе практически и теоретически
448
Введение в психоанализ
важных отношений, связанных с Эдиповым комплексом.
Я также не останавливаюсь на его вариациях и на
возможных превращениях в противоположность. О его более
отдаленных связях мне хочется еще заметить только то, что он
оказал огромное влияние на поэтическое творчество. Отто
Ранк в заслуживающей внимания книге (1912в) показал, что
драматурги всех времен брали свои сюжеты из Эдипова и
инцестуозного комплексов, их вариаций и маскировок.
Нельзя не упомянуть также, что оба преступных желания
Эдипова комплекса задолго до психоанализа были признаны
подлинными представителями безудержной жизни влечений.
Среди сочинений энциклопедиста Дидро вы найдете
знаменитый диалог Племянник Рамо} переведенный на немецкий
язык самим Гёте. Там вы можете прочесть замечательную
фразу: Si le petit sauvage était abandonné à lui-même, qu'il
conservât toute son imbécillité et qu'il réunit au peu de raison de
l'enfant au berceau la violence des passions de l'homme de trente
ans, il tordrait le cou à son père et coucherait avec sa mère [Если
бы маленький дикарь был предоставлен самому себе так,
чтобы он сохранил всю свою глупость и присоединил к
ничтожному разуму ребенка в колыбели неистовство страстей
тридцатилетнего мужчины, он свернул бы шею отцу и
улегся бы с матерью].
Но о кое-чем другом я не могу не упомянуть.
Мать-супруга Эдипа недаром напомнила нам о сновидении.
Помните результат наших анализов сновидений, что образующие
сновидение желания так часто имеют извращенный, инцес-
туозный характер или выдают неожиданную враждебность
к близким и любимым родным? Тогда мы оставили
невыясненным вопрос, откуда берутся эти злобные чувства.
Теперь вы сами можете на него ответить. Это ранние.детские
распределения либидо и привязанности к объектам
(Objektbesetzung), давно оставленным в сознательной жизни,
которые ночью оказываются еще существующими и в
известном смысле дееспособными. А так как не только
невротики, но и все люди имеют такие извращенные, инцестуозные
и неистовые сновидения, мы можем сделать вывод, что
и нормальные люди проделали путь развития через из-
вращения и привязанности [либидо] к объектам Эдипова
15-3518
449
Зигмунд ФРЕЙД
комплекса, что это путь нормального развития, что
невротики показывают нам только в преувеличенном и
усугубленном виде то, что анализ сновидений обнаруживает и у
здорового. И эта одна из причин, почему изучением
сновидений мы занялись раньше, чем исследованием
невротических симптомов.
Двадцать вторая лекция
Представление о развитии и регрессии. Этиология
Уважаемые дамы и господа! Мы узнали, что функция
либидо проделывает длительное развитие, прежде чем
станет служить продолжению рода способом, называемым
нормальным. Теперь я хотел бы вам показать, какое значение
имеет это обстоятельство для возникновения неврозов.
Я полагаю, что в соответствии с теориями общей
патологии мы можем предположить, что такое развитие несет в
себе опасности двух видов — во-первых, опасность
задержки (Hemmung) и, во-вторых, — регрессии (Regression). Это
значит, что при общей склонности биологических процессов
к вариативности должно будет случиться так, что не все
подготовительные фазы будут пройдены одинаково
успешно и преодолены полностью; какие-то компоненты функции
надолго задержатся на этих ранних ступенях, и в общей
картине развития появится некоторая доля задержки этого
развития.
Поищем аналоги данным процессам в других областях.
Если целый народ покидал места своего поселения в
поисках новых, как это не раз бывало в ранние периоды истории
человечества, то, несомненно, он не приходил на новое место
в своем полном составе. Независимо от других потерь,
постоянно бывало так, что небольшие отряды или группы
кочевников останавливались по дороге и селились на этих
остановках, в то время как основная масса отправлялась
дальше. Или возьмем более близкое сравнение. Вам известно,
что у высших млекопитающих мужские зародышевые
железы, первоначально помещающиеся глубоко внутри полости
450
Введение в психоанализ
живота, к определенному времени внутриутробной жизни
меняют место и попадают почти непосредственно под кожу
тазового конца. Вследствие этого блуждания у ряда
мужских особей обнаруживается, что один из парных органов
остался в полости таза или постоянно находится в так
называемом паховом канале, который оба [органа] проходят
на своем пути, или, по крайней мере, то, что этот канал
остался открытым, хотя обычно после завершения
перемещения половых желез он должен зарастать. Когда я юным
студентом выполнял свою первую научную работу под
руководством Брюкке, я занимался происхождением задних
нервных корешков в спинном мозгу маленькой, очень
архаичной по своему строению рыбы. Я нашел, что нервные
волокна этих корешков выходят из больших клеток в заднем
роге серого вещества, чего уже нет у других животных со
спинным мозгом. Но вскоре я открыл, что эти нервные
клетки находятся вне серого вещества на всем [его] протяжении
до так называемого спинального ганглия заднего корешка,
из чего я заключил, что клетки этих ганглиозных скоплений
перешли из спинного мозга в корешковую часть нервов. Это
показывает и история развития; но у этой маленькой рыбы
весь путь изменений отмечен оставшимися клетками. При
более пристальном рассмотрении вам нетрудно будет
отыскать слабые места этих сравнений. Мы хотим поэтому
прямо сказать, что для каждого отдельного сексуального
стремления считаем возможным такое развитие, при котором
отдельные его компоненты остаются на более ранних ступенях
развития, тогда как другим удается достичь конечной цели.
При этом вы видите, что каждое такое стремление мы
представляем себе как продолжающийся с начала жизни поток,
в известной мере искусственно разлагаемый нами на
отдельно следующие друг за другом части. Ваше впечатление, что
эти представления нуждаются в дальнейшем разъяснении,
правильно, но попытка сделать это завела бы нас слишком
далеко. Позвольте нам еще добавить, что такую остановку
частного влечения на более ранней ступени следует
называть фиксацией (Fixierung) [влечения].
Вторая опасность такого ступенчатого развития
заключается в том, что даже те компоненты, которые развились
451
Зигмунд ФРЕЙД
дальше, могут легко вернуться обратным путем на одну из
этих более ранних ступеней, что мы называем регрессией.
Стремление переживает регрессию в том случае, если
исполнение его функций, т. е. достижение цели его
удовлетворения, в более поздней или более высокоразвитой форме
наталкивается на серьезные внешние препятствия.
Напрашивается предположение, что фиксация и регрессия не
совсем независимы друг от друга. Чем прочнее фиксации на
пути развития, тем скорее функция отступит перед
внешними трудностями, регрессируя до этих фиксаций, т. е. тем
неспособнее к сопротивлению внешним препятствиям для
ее выполнения окажется сформированная функция.
Представьте себе, если кочевой народ оставил на стоянках на
своем пути сильные отряды, то ушедшим вперед
естественно вернуться к этим стоянкам, если они будут разбиты или
встретятся с превосходящим их по силе противником. Но
вместе с тем они тем скорее окажутся в опасности
потерпеть поражение, чем больше народу из своего числа они
оставили на пути.
Для понимания неврозов вам важно не упускать из виду
это отношение между фиксацией и регрессией. Тогда вы
приобретете твердую опору в вопросе о причинах неврозов,
в вопросе об этиологии неврозов, к которым мы скоро
подойдем.
Сначала давайте остановимся еще на регрессии. По тому,
что вам известно о развитии функции либидо, вы можете
предположить существование двух видов регрессии: возврат
к первым захваченным либидо объектам, которые, как
известно, инцестуозного характера, и возврат общей
сексуальной организации на более раннюю ступень. Оба вида
встречаются при неврозах перенесения и играют в их механизме
большую роль. Особенно возврат к первым инцестуозным
объектам либидо является чертой, повторяющейся у
невротиков с прямо-таки утомительной регулярностью. Гораздо
больше можно сказать о регрессиях либидо, если привлечь
другую группу неврозов, так называемых нарцисстических,
чего мы не намерены делать в настоящее время. Эти
заболевания позволяют нам судить о других, еще не
упоминавшихся процессах развития функции либидо и соответствен-
452
Введение в психоанализ
но показывают нам новые виды регрессии. Но я думаю, что
сейчас должен прежде всего предостеречь вас от того,
чтобы вы не путали регрессию и вытеснение, и помочь вам
выяснить отношения между обоими процессами. Вытеснение,
как вы помните, это такой процесс, благодаря которому
психический акт, способный быть осознанным, т.е.
принадлежащий системе предсознательного (Vbw), делается
бессознательным, т.е. перемещается в систему бессознательного
(Ubw). И точно так же мы говорим о вытеснении, когда
бессознательный психический акт вообще не допускается в
ближайшую предсознательную систему, а отвергается
цензурой уже на пороге. Понятие вытеснения, следовательно,
не имеет никакого отношения к сексуальности; заметьте
себе это, пожалуйста. Оно обозначает чисто психологический
процесс, который мы можем еще лучше охарактеризовать,
назвав топическим. Этим мы хотим сказать, что оно имеет
дело с предполагаемыми психическими пространственными
емкостями, или, если опять ввести это грубое
вспомогательное представление, с построением душевного аппарата из
особых психических систем.
Только проведя это сравнение, мы заметим, что до сих
пор употребляли слово «регрессия» не в его общем, а в
совершенно специальном значении. Если вы придадите ему его
общий смысл — возврат от более высокой ступени развития
к более низкой, то и вытеснение подпадает под регрессию,
потому что оно тоже может быть описано как возврат на
более раннюю и глубинную (tiefere) ступень развития
психического акта. Только при вытеснении суть заключается не
в этом обратном движении, потому что мы называем
вытеснением в динамическом смысле и тот случай, когда
психический акт задерживается на более низкой ступени
бессознательного. Вытеснение именно топически-динамическое
понятие, регрессия же — чисто описательное. Но то, что мы до
сих пор называли регрессией и приводили в связь с
фиксацией, мы понимали исключительно как возврат либидо на
более ранние ступени его развития, т. е. как нечто
совершенно отличное, по существу, от вытеснения и совершенно
независимое от него. Мы не можем также назвать регрессию
либидо чисто психическим процессом и не знаем, какую ло-
453
Зигмунд ФРЕЙД
кализацию указать ей в душевном аппарате. Если она и
оказывает на душевную жизнь сильнейшее влияние, то все-таки
органический фактор в ней наиболее значителен.
Разъяснения, подобные этим, уважаемые господа,
должны казаться несколько сухими. Обратимся к клинике,
чтобы показать применение наших данных, которое произведет
большее впечатление. Вы знаете, что истерия и невроз
навязчивых состояний — два основных представителя группы
неврозов перенесения. Хотя при истерии и встречается
регрессия либидо к первичным инцестуозным объектам и она
закономерна, но регрессии на более раннюю ступень
сексуальной организации совершенно не бывает. Зато
вытеснению в механизме истерии принадлежит главная роль. Если
мне позволено будет дополнить наши теперешние
достоверные сведения об этом неврозе одной конструкцией, я могу
описать фактическое положение вещей следующим образом:
объединение частных влечений под приматом гениталий
завершилось, но его результаты наталкиваются на
сопротивление предсознательной системы, связанной с сознанием. Ге-
нитальная организация значима для бессознательного, но не
для предсознательного, и это отрицание со стороны предсо-
знательного создает картину, имеющую определенное
сходство с состоянием до господства гениталий. Но все же это
нечто совсем иное. Из двух регрессий либидо гораздо более
примечательна регрессия на более раннюю ступень
сексуальной организации. Так как она при истерии отсутствует,
а все наше понимание неврозов находится еще под сильным
влиянием предшествовавшего по времени изучения
истерии, то значение регрессии либидо станет нам ясно намного
позднее, чем значение вытеснения. Приготовимся к тому,
что наши взгляды еще более расширятся и подвергнутся
переоценке, когда мы подвергнем рассмотрению, кроме
истерии и невроза навязчивых состояний, еще другие, нар-
цисстические неврозы.
При неврозе навязчивых состояний, напротив, регрессия
либидо на предварительную ступень садистеко-анальной
организации является самым замечательным и решающим
фактом симптоматического выражения. Любовный импульс
должен тогда маскироваться под садистский. Навязчивое
454
введение в психошшлиз
представление: я хотел бы тебя убить, в сущности, означает,
если освободить его от определенных, но не случайных, а
необходимых добавлений, не что иное, как: я хотел бы
насладиться тобой в любви. Прибавьте к этому еще то, что
одновременно произошла регрессия объектов, так что эти
импульсы относятся только к самым близким и самым
любимым лицам, и вы сможете себе представить тот ужас,
который вызывают у больного эти навязчивые представления,
и одновременно ту странность, с которой они выступают
перед его сознательным восприятием. Но и вытеснение
принимает в механизме этих неврозов большое участие,
которое, правда, нелегко разъяснить в таком беглом вводном
экскурсе, как наш. Регрессия либидо без вытеснения никогда
не привела бы к неврозу, а вылилась бы в извращение.
Отсюда вы видите, что вытеснение — это тот процесс, который
прежде всего свойствен неврозу и лучше всего его
характеризует. Но, может быть, у меня когда-нибудь будет случай
показать вам, что мы знаем о механизме извращений, и
тогда вы увидите, что и здесь ничто не происходит так просто,
как хотелось бы себе представить.
Уважаемые господа! Я полагаю, что вы, скорее всего,
примиритесь с только что услышанными рассуждениями о
фиксации и регрессии либидо, если будете считать их за
подготовку к исследованию этиологии неврозов. Об этом я сделал
только одно-единственное сообщение, а именно то, что люди
заболевают неврозом, если у них отнимается возможность
удовлетворения либидо, т. е. от «вынужденного отказа»
(Versagung), как я выражаюсь, и что их симптомы являются
заместителями несостоявшегося удовлетворения. Разумеется,
это означает вовсе не то, что любой отказ от либидозного
удовлетворения делает невротиком каждого, кого он
касается, а лишь то, что во всех исследованных случаях невроза
был обнаружен фактор вынужденного отказа. Положение,
таким образом, необратимо. Вы, наверное, также поняли, что
это утверждение не раскрывает всех тайн этиологии
неврозов, а выделяет лишь важное и обязательное условие
заболевания.
В настоящее время неизвестно, следует ли при
дальнейшем обсуждении этого положения обратить особое внима-
455
Зигмунд ФРЕЙД
ние на природу вынужденного отказа или на своеобразие
того, кто ему подвержен. Вынужденный отказ
чрезвычайно редко бывает всесторонним и абсолютным; чтобы стать
патогенно действующим, он должен затронуть тот способ
удовлетворения, которого только и требует данное лицо, на
который оно только и способно. В общем, есть очень много
путей, чтобы вынести лишение либидозного
удовлетворения, не заболев из-за него. Прежде всего нам известны люди,
которые в состоянии перенести такое лишение без вреда;
они не чувствуют себя тогда счастливыми, страдают от
тоски, но не заболевают. Затем мы должны принять во
внимание, что именно сексуальные влечения чрезвычайно
пластичны, если можно так выразиться. Они могут выступать
одно вместо другого, одно может приобрести
интенсивность других; если удовлетворение одного отвергается
реальностью, то удовлетворение другого может привести к
полной компенсации. Они относятся друг к другу, как сеть
сообщающихся, наполненных жидкостью каналов, и это —
несмотря на их подчинение примату гениталий, что вовсе
не так легко объединить в одном представлении. Далее,
частные сексуальные влечения, так же как составленное из
них сексуальное стремление, имеют способность менять
свой объект, замещать его другим, в том числе и более легко
достижимым; эта способность смещаться и готовность
довольствоваться суррогатами должны сильно
противодействовать патогенному влиянию вынужденного отказа. Среди
этих процессов, защищающих от заболевания из-за
лишения, один приобрел особое культурное значение. Он состоит
в том, что сексуальное стремление отказывается от своей
цели частного удовольствия или удовольствия от
продолжения рода, и направляется к другой [цели], генетически
связанной с той, от которой отказались, но самой по себе уже
не сексуальной, а заслуживающей название социальной. Мы
называем этот процесс «сублимацией» (Sublimierung),
принимая при этом общую оценку, ставящую социальные цели
выше сексуальных, эгоистических в своей основе.
Сублимация, впрочем, является лишь специальным случаем
присоединения сексуальных стремлений к другим, не
сексуальным. Мы будем говорить о нем еще раз в другой связи.
456
Введение в психоанализ
Теперь у вас может сложиться впечатление, что
благодаря всем этим средствам, помогающим перенести лишение,
оно потеряло свое значение. Но нет, оно сохраняет свою
патогенную силу. В целом средства противодействия
оказываются недостаточными. Количество неудовлетворенного
либидо, которое в среднем могут перенести люди,
ограниченно. Пластичность, или свободная подвижность, либидо
далеко не у всех сохраняется полностью, и сублимация
может освободить всегда только определенную часть либидо,
не говоря уже о том, что многие люди лишь в
незначительной степени обладают способностью к сублимации. Самое
важное среди этих ограничений — очевидно, ограничение
подвижности либидо, так как оно делает зависимым
удовлетворение индивида от очень незначительного числа
целей и объектов. Вспомните только о том, что несовершенное
развитие либидо оставляет весьма многочисленные, иногда
даже многократные фиксации либидо на ранних фазах
организации и нахождения объекта, по большей части не
способные дать реальное удовлетворение, и вы признаете в
фиксации либидо второй мощный фактор, выступающий
вместе с вынужденным отказом причиной заболевания.
Схематически кратко вы можете сказать, что в этиологии
неврозов фиксация либидо представляет собой
предрасполагающий, внутренний фактор, вынужденный же отказ —
случайный, внешний.
Здесь я воспользуюсь случаем предостеречь вас, чтобы
вы не приняли какую-либо сторону в совершенно излишнем
споре. В науке весьма принято выхватывать часть истины,
ставить ее на место целого и бороться в ее пользу со всем
остальным, не менее верным. Таким путем от
психоаналитического движения откололось уже несколько
направлений, одно из которых признает только эгоистические
влечения, но отрицает сексуальные, другое же отдает должное
только влиянию реальных жизненных задач, не замечая
индивидуального прошлого и т. п. И вот здесь возникает повод
Для подобного противопоставления и постановки
проблемы: являются ли неврозы экзогенными или эндогенными
заболеваниями, неизбежным следствием определенной
конституции или продуктом определенных вредных (травмати-
457
Зигмунд ФРЕЙД
ческих) жизненных впечатлений, в частности, вызываются
ли они фиксацией либидо (и прочей сексуальной
конституцией) или возникают под гнетом вынужденного отказа? Эта
дилемма кажется мне в общем не более глубокомысленной,
чем другая, которую я мог бы вам предложить: появляется
ли ребенок в результате оплодотворения отцом или
вследствие зачатия матерью? Оба условия одинаково
необходимы, справедливо ответите вы. В причинах неврозов
соотношение если не совсем такое, то очень похожее. Все случаи
невротических заболеваний при рассмотрении их причин
располагаются в один ряд, в пределах которого оба
фактора — сексуальная конституция и переживания или, если
хотите, фиксация либидо и вынужденный отказ —
представлены так, что одно возрастает, если другое уменьшается. На
одном конце ряда находятся крайние случаи, о которых вы
с убеждением можете сказать: эти люди заболели бы в
любом случае вследствие своего особого развития либидо, что
бы они ни пережили, как бы заботливо ни щадила их жизнь.
На другом конце располагаются случаи, о которых
следовало бы судить противоположным образом: [эти люди]
определенно избежали бы болезни, если бы жизнь не поставила
их в то или иное положение. В случаях, находящихся
внутри ряда, большая или меньшая степень
предрасположенности сексуальной конституции накладывается на большую
или меньшую степень вредности жизненных требований. Их
сексуальная конституция не привела бы к неврозу, если бы у
них не было таких переживаний, и эти переживания не
подействовали бы на них травматически, если бы у них были
другие отношения либидо. Я, пожалуй, мог бы признать, что
в этом ряду большую роль играют предрасполагающие
моменты, но и это зависит от того, как далеко вы растянете
границы неврастении.
Уважаемые господа! Предлагаю назвать подобного рода
ряды дополнительными рядами (Ergänzungsreihen) и
предупреждаю вас, что у нас будет повод образовать и другие
подобные ряды.
Упорство, с которым либидо держится за определенные
направления и объекты, так сказать, прилипчивость либидо,
кажется нам самостоятельным, индивидуально изменчивым,
458
Введение о психоанализ
совершенно неизвестно от чего зависящим фактором,
значение которого для этиологии неврозов мы, конечно, не будем
больше недооценивать. Но нельзя и переоценивать глубину
этой связи. Такая же «прилипчивость» либидо — по
неизвестным причинам — встречается при многих условиях у
нормального человека и считается определяющим фактором
для лиц, которые в известном смысле противоположны
страдающим неврозом, — для извращенных. Еще до
психоанализа (Binet, 1888) было известно, что в анамнезе
извращенных весьма часто встречается очень раннее впечатление
ненормальной направленности влечения или выбора
объекта, на котором либидо этого лица застряло на всю жизнь.
Часто нельзя сказать, что сделало это впечатление
способным оказать на либидо столь интенсивное притягательное
действие. Я расскажу вам случай такого рода из
собственного опыта наблюдений. Один мужчина, для которого
гениталии и другие прелести женщины уже ничего не значили,
который мог прийти в непреодолимое сексуальное
возбуждение только от обутой ноги определенной формы,
вспоминает одно переживание в шестилетнем возрасте, ставшее
решающим для фиксации его либидо. Он сидел на скамеечке
возле гувернантки, у которой брал уроки английского языка.
У гувернантки, старой, сухой, некрасивой девы с
водянистыми голубыми глазами и вздернутым носом, в тот день
болела нога, и поэтому она вытянула ее, обутую в бархатную
туфлю, на подушке; при этом верхняя часть ноги была
закрыта самым скромным образом. Такая худая жилистая
нога, которую он видел тогда у гувернантки, после робкой
попытки нормальной половой деятельности в период половой
зрелости стала его единственным сексуальным объектом, и
он был неудержимо увлечен, если к этой ноге
присоединялись еще и другие черты, напоминавшие тип гувернантки-
англичанки. Но вследствие этой фиксации своего либидо
этот человек стал не невротиком, а извращенным, как мы
говорим, фетишистом ноги1. Итак, вы видите, хотя
чрезмерная, к тому же еще и преждевременная фиксация либидо
является непременной причиной неврозов, однако круг ее
Ср. работу Фрейда «Фетишизм» (1927е).
459
Зигмунд ФРЕЙД
действия выходит далеко за область неврозов. Само по себе
это условие является таким же мало решающим, как и ранее
упомянутое условие вынужденного отказа.
Итак, проблема причин неврозов, по-видимому,
усложняется. В самом деле, психоаналитическое исследование
знакомит нас с новым фактором, не принятым во внимание
в нашем этиологическом ряду, который лучше всего
наблюдать в тех случаях, когда хорошее самочувствие
неожиданно нарушается невротическим заболеванием. У таких лиц
всегда находятся признаки столкновения желаний или, как
мы привыкли говорить, психического конфликта. Часть
личности отстаивает определенные желания, другая противится
этому и отклоняет их. Без такого конфликта не бывает
невроза. В этом, казалось бы, нет ничего особенного. Вы знаете,
что наша душевная жизнь беспрерывно потрясается
конфликтами, которые мы должны разрешать. Следовательно,
для того чтобы такой конфликт стал патогенным, должны
быть выполнены особые условия. Мы можем спросить,
каковы эти условия, между какими душевными силами
разыгрываются эти патогенные конфликты, какое отношение
имеет конфликт к другим факторам, являющимся причиной
болезни.
Надеюсь, я смогу дать вам исчерпывающий ответ на эти
вопросы, хотя он и будет схематичным. Конфликт
вызывается вынужденным отказом, когда лишенное
удовлетворения либидо вынуждено искать другие объекты и пути.
Условием конфликта является то, что эти другие пути и объекты
вызывают недовольство части личности, так что
накладывается вето, делающее сначала невозможным новый способ
удовлетворения. Отсюда идет далее путь к образованию
симптомов, который мы проследим позднее. Отвергнутые
либидозные стремления оказываются в состоянии добиться
цели окольными путями, хотя и уступая протесту в виде
определенных искажений и смягчений. Обходные пути и
есть пути образования симптомов, симптомы — новое и
замещающее удовлетворение, ставшее необходимым благодаря
факту вынужденного отказа.
Значение психического конфликта можно выразить по-
другому: к внешне-вынужденному отказу, чтобы он стал па-
460
Введение в психоанализ
тогенным, должен присоединиться еще
внутренне-вынужденный отказ. Разумеется, внешне и
внутренне-вынужденный отказ имеют отношение к разным путям и объектам.
Внешне-вынужденный отказ отнимает одну возможность
удовлетворения, внутренне-вынужденный хотел бы
исключить другую возможность, вокруг которой затем и
разыгрывается конфликт. Я предпочитаю этот способ изложения,
потому что он имеет скрытое содержание. Он намекает на
то, что внутренние задержки произошли, вероятно, в
древние периоды человеческого развития из-за реальных
внешних препятствий.
Но каковы те силы, от которых исходит протест против
либидозного стремления, что представляет собой другая
сторона в патогенном конфликте? Вообще говоря, это не
сексуальные влечения. Мы объединяем их во «влечения Я»;
психоанализ неврозов перенесения не дает нам прямого
доступа к их дальнейшему разложению, мы знакомимся с ними
в лучшем случае лишь отчасти благодаря сопротивлениям,
оказываемым анализу. Патогенным конфликтом,
следовательно, является конфликт между влечениями Я и
сексуальными влечениями. В целом ряде случаев кажется, будто
конфликт происходит между различными чисто сексуальными
стремлениями; но, в сущности, это то же самое, потому что
из двух находящихся в конфликте сексуальных стремлений
одно всегда, так сказать, правильно с точки зрения Я, в то
время как другое вызывает отпор Я. Следовательно,
конфликт возникает между Я и сексуальностью.
Уважаемые господа! Очень часто, когда психоанализ
считал душевный процесс результатом работы сексуальных
влечений, его с сердитой враждебностью упрекали в том, что
человек состоит не только из сексуальности, что в душевной
жизни есть еще другие влечения и интересы, кроме
сексуальных, нельзя «все» сводить к сексуальности и т. п. Очень
приятно иной раз быть одного мнения со своими
противниками. Психоанализ никогда не забывал, что есть и
несексуальные влечения, он опирается на четкое разделение
сексуальных влечений и влечений Я и еще до всяких возражений
утверждал не то, что неврозы появляются из сексуальности,
а что они обязаны своим происхождением конфликту между
461
Зигмунд ФРЕЙД
Я и сексуальностью. Когда он изучает роль сексуальных
влечений в болезни и в жизни, у него также нет никакого
возможного мотива оспаривать существование и значение
влечений Я. Только его судьба такова, чтобы заниматься
сексуальными влечениями в первую очередь, потому что
благодаря неврозам перенесения они стали самыми
доступными для рассмотрения и потому что ему пришлось изучать
то, чем другие пренебрегли.
Неверно также и то, что психоанализ вовсе не
интересовался несексуальной частью личности. Как раз
разделение Я и сексуальности позволяет нам с особой ясностью
понять, что и влечения Я проходят значительный путь
развития, развития, которое не совсем независимо от либидо
и не происходит без обратного воздействия на него. Правда,
мы гораздо хуже знаем о развитии Я, чем о развитии
либидо, потому что только изучение нарцисстических
неврозов обещает дать понимание структуры Я. Однако уже
имеется заслуживающая внимания попытка Ференци (1913)
теоретически построить ступени развития Я, и по крайней
мере в двух местах мы получили твердые точки опоры для
того, чтобы судить об этом развитии. Мы не думаем, что
либидозные интересы личности с самого начала
находятся в противоречии к ее интересам самосохранения; скорее
Я будет стремиться на каждой ступени оставаться в
согласии с соответствующей сексуальной организацией и
подчинять ее себе. Смена отдельных фаз в развитии либидо
происходит, вероятно, по предписанной программе, но нельзя
не согласиться, что на этот процесс может оказывать
влияние Я и одновременно, по-видимому, предусмотрен
известный параллелизм, определенное соответствие фаз развития
Я и либидо; нарушение же этого соответствия могло бы
стать патогенным фактором. С нашей точки зрения
важно, как Я относится к прочной фиксации своего либидо на
какой-то ступени его развития. Оно может допустить ее
и станет тогда в соответствующей мере извращенным или,
что то же самое, инфантильным. Но оно может отнестись
к этому закреплению либидо и отрицательно, и тогда Я
приобретет «вытеснение» там, где у либидо имеется
«фиксация».
462
Введение в психоанализ
Таким образом, мы получаем, что третий фактор
этиологии неврозов, склонность к конфликтам, точно так же
зависит от развития Я, как и от развития либидо. Наше
понимание причин неврозов, таким образом, углубилось.
Сначала, как самое общее условие — вынужденный отказ, затем —
фиксация либидо, которая теснит его в определенных
направлениях, и, в-третьих, склонность к конфликтам в
результате развития Я, отвергающего такие проявления
либидо. Положение вещей, следовательно, не так уж запутано и
не так трудно в нем разобраться, как вам, вероятно,
показалось в ходе моих рассуждений. Пожалуй, однако, это еще не
все. Нужно прибавить еще кое-что новое и детализировать
уже известное.
Для того чтобы продемонстрировать вам влияние
развития Я на образование конфликтов и вместе с тем на
причину неврозов, я хотел бы привести пример, хотя и
совершенно вымышленный, но ни в коей мере не лишенный
вероятности. Ссылаясь на заглавие комедии Нестройя, я дам
примеру характерное название «В подвале и на первом
этаже». В подвале живет дворник, на первом этаже —
домовладелец, богатый и знатный человек. У обоих есть дети, и
предположим, что дочери домовладельца разрешается без
присмотра играть с ребенком пролетария. Легко может
случиться, что игры детей примут непристойный, т.е.
сексуальный, характер, что они будут играть «в папу и маму»,
разглядывать друг друга при интимных отправлениях и
раздражать гениталии. Девочка дворника, которая, несмотря на
свои пять или шесть лет, могла наблюдать кое-что из
сексуальной жизни взрослых, пожалуй, сыграет при этом роль
соблазнительницы. Этих переживаний, даже если они
продолжаются недолго, достаточно, чтобы активизировать у
обоих детей определенные сексуальные импульсы,
которые после прекращения совместных игр в течение
нескольких лет будут выражаться в мастурбации. Таково общее,
конечный же результат у обоих детей будет очень
различным. Дочь дворника будет продолжать мастурбацию до
наступления менструаций, затем без труда прекратит ее,
несколько лет спустя найдет себе любовника и, возможно,
родит ребенка, пойдет по тому или другому жизненному пути,
463
Зигмунд ФРЕЙД
который, может быть, приведет ее к положению популярной
актрисы, и закончит жизнь аристократкой. Вполне
возможно, что ее судьба окажется менее блестящей, но во всяком
случае она выполнит свое предназначение в жизни, не
пострадав от преждевременного проявления своей
сексуальности, свободная от невроза. Другое дело — дочь
домовладельца. Она еще ребенком начнет подозревать, что сделала
что-то скверное, скоро, но, возможно, лишь после тяжелой
борьбы откажется от мастурбационного удовольствия и,
несмотря на это, в ней сохранится какая-то удрученность.
Когда в девичьи годы она сможет кое-что узнать о половых
сношениях, то отвернется от этого с необъяснимым
отвращением и предпочтет остаться в неведении. Вероятно,
теперь она уступит вновь охватившему ее непреодолимому
стремлению к мастурбации, о котором не решается
пожаловаться. В годы, когда она могла бы понравиться
мужчине как женщина, у нее прорвется невроз, который лишит
ее брака и жизненной надежды. Если при помощи анализа
удастся понять этот невроз, то окажется, что эта хорошо
воспитанная, интеллигентная девушка с высокими
стремлениями совершенно вытеснила сексуальные чувства, а они,
бессознательно для нее, застряли на жалких переживаниях
с подругой детства.
Различие двух судеб, несмотря на одинаковые
переживания, происходят от того, что Я одной девушки проделало
развитие, не имевшее места у другой. Дочери дворника
сексуальная деятельность казалась столь же естественной и не
вызывающей сомнения, как в детстве. Дочь домовладельца
испытала воздействие воспитания и приняла его
требования. Ее Я из предоставленных ему побуждений создало себе
идеалы женской чистоты и непорочности, с которыми
несовместима сексуальная деятельность; ее интеллектуальное
развитие снизило ее интерес к женской роли,
предназначенной для нее. Благодаря этому более высокому моральному
и интеллектуальному развитию своего Я она попала в
конфликт с требованиями своей сексуальности.
Сегодня я хочу остановиться еще на одном пункте
развития Я, как из-за известных далеких перспектив, так и потому,
что именно то, о чем будет речь, оправдывает излюбленное
464
Введение в психоанализ
нами, резкое и не само собой разумеющееся отделение
влечений Я от сексуальных влечений. В оценке обоих развитии,
Я и либидо, мы должны выдвинуть на первый план точку
зрения, на которую до сих пор не часто обращали внимание.
Оба они представляют собой в основе унаследованные,
сокращенные повторения развития, пройденного всем
человечеством в течение очень длительного времени, начиная с
первобытных времен. Мне кажется, что это филогенетическое
происхождение развития либидо вполне очевидно.
Представьте себе, что у одного класса животных генитальный
аппарат находится в теснейшей связи с ртом, у другого
неотделим от аппарата выделения, у третьего связан с органами
движения, все эти данные прекрасно описаны в ценной
книге В. Бёльше (1911—1913). У животных можно видеть, так
сказать, застывшими в сексуальной организации все виды
извращений. Но у человека филогенетическое рассмотрение
отчасти заслоняется тем обстоятельством, что то, что
является, по существу, унаследованным, вновь приобретается в
индивидуальном развитии и, вероятно, потому, что те же
самые обстоятельства, которые в свое время вызвали
необходимость приобретения новых свойств, продолжают
существовать и действовать на каждого в отдельности. Я бы сказал,
что в свое время они оказали творческое влияние, теперь же
вызывают к жизни уже созданное. Кроме того, несомненно,
что ход предначертанного развития у каждого в отдельности
может быть нарушен и изменен новыми влияниями извне.
Но мы знаем силу, которая вынудила человечество на такое
развитие и сегодня продолжает оказывать свое давление в
том же направлении: это опять-таки вынужденный
реальностью отказ или, если называть ее настоящим именем,
жизненная необходимость ('Avàyicri). Она была строгой
воспитательницей и многое сделала из нас. Невротики относятся к тем
детям, которым эта строгость принесла горькие плоды, но
такой риск есть в любом воспитании. Впрочем, данная
оценка жизненной необходимости как двигателя развития не
должна восстанавливать нас против значения «внутренних
тенденций развития», если таковые можно доказать.
Весьма достойно внимания то, что сексуальные влечения
и инстинкты самосохранения не одинаковым образом ведут
465
Зигмунд ФРЕЙД
себя по отношению к реальной необходимости. Инстинкты
самосохранения и все, что с ними связано, легче поддаются
воспитанию; они рано научаются подчиняться
необходимости и направлять свое развитие по указаниям реальности. Это
понятно, потому что они не могут приобрести себе нужные
объекты никаким другим способом; без этих объектов
индивидуум должен погибнуть. Сексуальные влечения труднее
воспитать, потому что вначале у них нет необходимости в
объекте. Так как они присоединяются к другим функциям
тела, как бы паразитируя, и аутоэротически удовлетворяются
собственным телом, то сначала ускользают из-под
воспитательного влияния реальной необходимости и у большинства
людей утверждают этот характер своеволия, недоступности
влиянию воспитания, то, что мы называем «неразумностью»,
в каком-то отношении в течение всей жизни. И
подверженности воспитательным воздействиям молодой личности, как
правило, приходит конец, когда ее сексуальные
потребности окончательно просыпаются. Это известно воспитателям, и
они действуют сообразно этому; но, может быть, благодаря
результатам, полученным в психоанализе, их удастся
склонить к тому, чтобы перенести главный акцент на воспитание
в первые детские годы, начиная с младенческого возраста.
Маленький человек часто уже к четвертому или пятому году
бывает закончен и только постепенно проявляет то, что в нем
уже заложено.
Чтобы полностью оценить значение указанного различия
между обеими группами влечений, мы должны начать
издалека и привести одно из тех рассуждений, которое
заслуживает названия экономического. Тем самым мы вступаем в
одну из самых важных, но, к сожалению, и самых темных
областей психоанализа. Мы ставим вопрос, можно ли в
работе нашего душевного аппарата найти главную цель, и
отвечаем на него в первом приближении, что эта цель состоит
в получении удовольствия. Кажется, что вся наша душевная
деятельность направлена на то, чтобы получать
удовольствие и избегать неудовольствия, что она автоматически
регулируется принципом удовольствия (Lustprinzip). Больше
всего на свете мы хотели бы знать, каковы условия
возникновения удовольствия и неудовольствия, но именно этого-
466
Введение в психоанализ
то нам и не хватает. С уверенностью можно утверждать
только то, что удовольствие каким-то образом связано с
уменьшением, снижением или угасанием имеющегося в
душевном аппарате количества раздражения, а
неудовольствие — с его увеличением. Исследование самого
интенсивного удовольствия, доступного человеку, — наслаждения при
совершении полового акта — не оставляет сомнения в этом
пункте. Так как при таких процессах удовольствия речь
идет о судьбе количества душевного возбуждения, или
энергии, то рассуждения такого рода мы называем
экономическими. Мы замечаем, что можем описать задачу и функцию
душевного аппарата также иначе и в более общем виде, чем
выдвигая на первый план получение удовольствия. Мы
можем сказать, что душевный аппарат служит цели одолеть
поступающие в него извне и изнутри раздражения и
возбуждения и освободиться от них. В сексуальных влечениях
совершенно ясно проглядывает то, что они как в начале, так
и в конце своего развития стремятся к получению
удовольствия; они сохраняют эту первоначальную функцию без
изменения. К тому же самому стремятся сначала и другие
влечения Я. Но под влиянием наставницы-необходимости
влечения Я быстро научаются заменять принцип удовольствия
какой-либо модификацией. Задача предотвращать
неудовольствие ставится для них почти наравне с задачей
получения удовольствия; Я узнает, что неизбежно придется
отказаться от непосредственного удовлетворения, отложить
получение удовольствия, пережить немного неудовольствия,
а от определенных источников наслаждения вообще
отказаться. Воспитанное таким образом Я стало «разумным»,
оно не позволяет больше принципу удовольствия владеть
собой, а следует принципу реальности (Realitätsprinzip),
который, в сущности, тоже хочет получить удовольствие, хотя
и отсроченное и уменьшенное, но зато надежное благодаря
учету реальности.
Переход от принципа удовольствия к принципу
реальности является одним из важнейших успехов в развитии Я.
Мы уже знаем, что сексуальные влечения поздно и лишь
нехотя проходят этот этап развития Я, а позже мы
услышим, какие последствия имеет для человека то, что его сек-
467
Зигмунд ФРЕЙД
суальность довольствуется таким непрочным отношением к
внешней реальности. И в заключение — еще одно
относящееся сюда замечание. Если Я человека имеет историю
развития, как либидо, то вы не удивитесь, услышав, что бывают
и «регрессии Я», и захотите узнать, какую роль этот возврат
Я на более ранние фазы развития может играть в
невротических заболеваниях.
Двадцать третья лекция
Пути образования симптомов
Уважаемые дамы и господа! Для неспециалиста сущность
болезни составляют симптомы, выздоровление, как он
считает, — устранение симптомов. Врач же признает
существенным отличие симптомов от болезни и считает, что
устранение симптомов еще не является излечением болезни. Но что
реального остается от болезни после устранения
симптомов, — то это лишь способность образовывать новые. Давайте
поэтому встанем пока на точку зрения неспециалиста и
будем считать, что проникновение в суть симптомов означает
понимание болезни.
Симптомы — мы говорим здесь, разумеется, о
психических (или психогенных) симптомах и психическом
заболевании — представляют собой вредные для всей жизни или, по
крайней мере, бесполезные акты, на которые лицо,
страдающее ими, часто жалуется как на вынужденные и связанные
для него с неприятностями или страданиями. Их главный
вред заключается в душевных затратах, которых стоят они
сами, а в дальнейшем в затратах, необходимых для их
преодоления. При интенсивном образовании симптомов оба
вида этих затрат могут привести к чрезвычайному обеднению
личности в отношении находящейся в ее распоряжении
душевной энергии и тем самым к ее беспомощности при
решении всех важных жизненных задач. Так как этот
результат зависит главным образом от количества затребованной
таким образом энергии, то вы легко поймете, что «быть
больным» — в сущности, практическое понятие. Но если вы
468
Введение в психоанализ
встанете на теоретическую точку зрения и не будете
обращать внимания на эти количества, то легко можете сказать,
что все мы больны, т.е. невротичны, так как условия для
образования симптомов можно обнаружить и у нормальных
людей.
О невротических симптомах нам уже известно, что они
являются результатом конфликта, возникающего из-за
нового вида удовлетворения либидо. Обе разошедшиеся было
силы снова встречаются в симптоме, как будто
примиряются благодаря компромиссу — образованию симптомов.
Поэтому симптом так устойчив — он поддерживается с двух
сторон. Мы знаем также, что одной из двух сторон
конфликта является неудовлетворенное, отвергнутое
реальностью либидо, вынужденное теперь искать других путей для
своего удовлетворения. Если реальность остается
неумолимой, даже когда либидо готово согласиться на другой объект
вместо запретного, то оно вынуждено в конце концов встать
на путь регрессии и стремиться к удовлетворению в рамках
одной из уже преодоленных организаций или благодаря
одному из ранее оставленных объектов. На путь регрессии
либидо увлекает фиксация, которая оставила его на этих
участках его развития.
Тут пути, ведущие к извращению и к неврозу, резко
расходятся. Если эти регрессии не вызывают возражений со
стороны Я, то дело и не доходит до невроза, а либидо
добивается какого-нибудь реального, хотя уже и
ненормального удовлетворения. Если же Я, имеющее в своем
распоряжении не только сознание, но и доступ к моторной
иннервации и тем самым к реализации душевных стремлений, не
согласно с этими регрессиями, то создается конфликт.
Либидо как бы отрезано и должно попытаться отступить куда-
то, где найдет отток для своей энергии по требованию
принципа удовольствия. Оно должно выйти из-под власти Я. Но
такое отступление ему предоставляют фиксации на его пути
развития, проходимом теперь регрессивно, против которых
Я защищалось в свое время вытеснениями. Занимая в
обратном движении эти вытесненные позиции, либидо
выходит из-под власти Я и его законов, отказываясь при этом
также от всего полученного под влиянием Я воспитания.
469
Зигмунд ФРЕЙД
Оно было послушно, пока надеялось на удовлетворение; под
двойным гнетом внутренне и внешне вынужденного отказа
оно становится непокорным и вспоминает прежние лучшие
времена. Таков его, по сути неизменный, характер.
Представления, которые либидо теперь заполняет своей
энергией, принадлежат системе бессознательного и подчиняются
возможным в нем процессам, в частности сгущению и
смещению. Так возникают условия, совершенно аналогичные
условиям образования сновидений. Подобно тому как
сложившемуся в бессознательном собственному (eigentliche)
сновидению, представляющему собой исполнение
бессознательной желанной фантазии, приходит на помощь какая-то часть
(пред)сознательной деятельности, осуществляющая цензуру
и допускающая после удовлетворения ее требований
образование явного сновидения в виде компромисса, так и
представители либидо в бессознательном должны считаться с
силой предсознательного Я. Возражение, поднявшееся
против либидо в Я, принимает форму «противодействия»
(Gegenbesetzung)1, вынуждая выбрать такое выражение, которое
может стать одновременно его собственным выражением.
Так возникает симптом, как многократно искаженное
производное бессознательного либидозного исполнения
желания, искусно выбранная двусмысленность с двумя
совершенно противоречащими друг другу значениями. Только в
этом последнем пункте можно увидеть различие между
образованием сновидения и образованием симптома, потому
что предсознательная цель при образовании сновидения
заключается лишь в том, чтобы сохранить сон, не пропустить
в сознание ничего, что могло бы его нарушить, и не
настаивает на том, чтобы резко ответить бессознательному
желанию: нет, напротив! Она может быть более толерантной, так
как положение спящего внушает меньше опасений. Выход
в реальность закрыт уже самим состоянием сна.
Вы видите, что отступление либидо в условиях
конфликта стало возможным благодаря наличию фиксаций.
Регрессивное заполнение этих фиксаций либидо ведет к обходу
1 Букв.: * контрзаполнения» [энергией]. В английском языке эквивалентом
является «антикатексис». — Примеч. ред. перевода.
470
Введение о психоанализ
вытеснения и выводу — или удовлетворению — либидо, при
котором сохраняются компромиссные условия. Обходным
путем через бессознательное и прежние фиксации либидо
наконец удается добиться реального удовлетворения, хотя
и чрезвычайно ограниченного и едва заметного. Позвольте
мне добавить по поводу этого окончательного исхода два
замечания. Во-первых, обратите внимание, как тесно здесь
оказываются связаны либидо и бессознательное, с одной
стороны, и Я, сознание и реальность, — с другой, хотя с самого
начала они вовсе не составляют одно целое, и примите
к сведению далее мое сообщение, что все сказанное здесь и
рассматриваемое в дальнейшем относится только к
образованию симптомов при истерическом неврозе.
Где же либидо находит те фиксации, в которых оно
нуждается для прорыва вытесненного? В проявлениях и
переживаниях инфантильной сексуальности, в оставленных частных
стремлениях и в объектах периода детства, от которых оно
отказалось. К ним-то либидо и возвращается опять.
Значение этого периода детства двоякое: с одной стороны, в нем
сначала проявляются направленности влечений, которые
ребенок имеет в своих врожденных предрасположениях, а во-
вторых, активизируются другие его влечения, разбуженные
внешними воздействиями, случайными переживаниями.
Я полагаю, что мы, несомненно, имеем право на такое
разделение. Проявление врожденной предрасположенности
не подлежит никакому критическому сомнению, но
аналитический опыт вынуждает нас допустить, что чисто
случайные переживания детства в состоянии оставить фиксации
либидо. И я не вижу в этом никаких теоретических
затруднений. Конституциональные предрасположения,
несомненно, являются последствиями переживаний далеких предков,
они тоже были когда-то приобретены; без такого
приобретения не было бы наследственности. И разве мыслимо, что
такое ведущее к наследованию приобретение прекратится
именно у рассматриваемого нами поколения? Поэтому не
следует, как это часто случается, полностью игнорировать
значимость инфантильных переживаний по сравнению со
значимостью переживаний предков и собственной зрелости,
а, напротив, дать им особую оценку. Они имеют тем более
471
Зигмунд ФРЕЙД
тяжелые последствия, что попадают на время
незавершенного развития и благодаря именно этому обстоятельству
способны действовать травматически. Работы по механике
развития Ру и других показали, что укол в зародышевую
ткань, находящуюся в стадии деления клеток, имеет
следствием тяжелое нарушение развития. Такое же ранение,
причиненное личинке или развившемуся животному,
перенеслось бы без вреда.
Фиксация либидо взрослого, введенная нами в
этиологическое уравнение неврозов в качестве представителя
конституционального фактора, распадается, таким образом, для нас
на два компонента: на унаследованное предрасположение и
на предрасположение, приобретенное в раннем детстве. Мы
знаем, что схема наверняка вызовет симпатию
обучающегося, поэтому представим эти отношения в схеме:
Причина Предрасположение Случайное переживание
невроза ™ благодаря (травматическое)
фиксации либидо [взрослого]
Сексуальная конституция Инфантильное переживание
(доисторическое переживание)
Наследственная сексуальная конституция предоставляет нам
большое разнообразие предрасположений в зависимости от
того, какой заложенной силой обладает то или иное частное
влечение само по себе или в сочетании с другими. С
фактором детского переживания сексуальная конституция
образует опять-таки «дополнительный ряд», подобно уже
известному ряду между предрасположением и случайным
переживанием взрослого. Здесь, как и там, встречаются такие же
крайние случаи, и их представляют те же отношения. Тут
естественно поставить вопрос, не обусловлена ли самая
замечательная из регрессий либидо, регрессия на более
ранние ступени сексуальной организации, преимущественно
наследственно-конституциональным фактором; но ответ на
этот вопрос лучше всего отложить, пока не рассмотрено
большее число форм невротических заболеваний.
472
Введение в психоанализ
Остановимся на том факте, что аналитическое
исследование показывает связь либидо невротиков с их
инфантильными сексуальными переживаниями. Оно придает им,
таким образом, видимость огромной значимости для жизни и
заболевания человека. Эта значимость сохраняется за ними
в полном объеме, когда речь идет о терапевтической работе.
Но если оставить в стороне эту задачу, то легко признать,
что здесь кроется опасность недоразумения, которое могло
бы ввести нас в заблуждение ориентироваться в жизни лишь
на невротическую ситуацию. Однако значимость
инфантильных переживаний уменьшается тем, что либидо
возвращается к ним регрессивно, после того как было изгнано со
своих более поздних позиций. Но тогда напрашивается
противоположный вывод, что либидозные переживания не
имели в свое время совершенно никакого значения, а приобрели
его только путем регрессии. Вспомните, что мы высказали
свое мнение по отношению к такой альтернативе при
обсуждении Эдипова комплекса.
И на этот раз нам нетрудно будет принять решение.
Замечание, что заполненность либидо — и, следовательно,
патогенное значение — инфантильных переживаний в
большой мере усиливается регрессией либидо, несомненно
правильно, но оно привело бы к заблуждению, если его считать
единственно определяющим. Необходимо считаться и с
другими соображениями. Во-первых, наблюдение, вне всякого
сомнения, показывает, что инфантильные переживания
имеют свое собственное значение и доказывают его уже в
детские годы. Ведь встречаются и детские неврозы, при
которых фактор временного сдвига назад очень снижается или
совсем отпадает, когда заболевание возникает как
непосредственное следствие травматических переживаний. Изучение
этих детских неврозов предупреждает некоторое опасное
недопонимание неврозов взрослых, подобно тому как
сновидения детей дали нам ключ к пониманию сновидений
взрослых. Неврозы у детей встречаются очень часто, гораздо
чаще, чем думают. Их нередко не замечают, оценивают как
признак испорченности или невоспитанности, часто
подавляют авторитетом воспитателей «детской», но их легко
распознать позже ретроспективно. В большинстве случаев они
473
Зигмунд ФРЕЙД
проявляются в форме истерии страха. Что это значит, мы
узнаем еще в другой связи. Если в более поздние годы у
человека развивается невроз, то при помощи анализа он
раскрывается как прямое продолжение того, возможно,
неясного, лишь намечавшегося детского заболевания. Но, как
сказано, бывают случаи, когда эта детская нервозность без
всякого перерыва переходит в болезнь, длящуюся всю жизнь.
Несколько примеров детских неврозов мы имели
возможность анализировать на самом ребенке — в актуальном
состоянии; но гораздо чаще нам приходилось довольствоваться
тем, что заболевший в зрелом возрасте давал возможность
дополнительно познакомиться с его детским неврозом, при
этом мы не могли не учитывать определенных поправок
и предосторожностей.
Во-вторых, нужно сказать, что было бы непонятно,
почему либидо постоянно возвращается к временам детства,
если там ничего нет, что могло бы его привлекать. Фиксация,
которую мы предполагаем в отдельных точках развития,
имеет содержание только в том случае, если мы
допустим, что в нее вложено определенное количество либидоз-
ной энергии. Наконец, я могу вам напомнить, что здесь
между интенсивностью и патогенным значением инфантильных
и более поздних переживаний имеется сходное отношение
дополнения, как в уже ранее изученных нами рядах. Есть
случаи, в которых причина заболевания кроется главным
образом в сексуальных переживаниях детства, когда эти
впечатления оказывают несомненно травматическое
действие и не нуждаются ни в какой другой поддержке,
кроме той, которую им предоставляет обычная незавершенная
конституция. Наряду с ними бывают другие случаи, в
которых весь акцент падает на более поздние конфликты, а
выступление в анализе на первый план детских впечатлений
кажется исключительно результатом регрессии;
следовательно, встречаются крайние случаи «задержки развития» и
«регрессии», а между ними — любая степень
взаимодействия обоих факторов.
Эти отношения представляют определенный интерес для
педагогики, которая ставит своей задачей предупреждение
неврозов благодаря своевременному вмешательству в сексу-
474
Введение в психоанализ
альное развитие ребенка. Пока внимание направлено
преимущественно на детские сексуальные переживания,
считается, что для профилактики нервных заболеваний все
сделано, если позаботиться о том, чтобы задержать это развитие
и избавить ребенка от такого рода переживаний. Но мы уже
знаем, что условия, являющиеся причиной неврозов, сложны
и на них нельзя оказать всестороннего влияния, учитывая
один-единственный фактор. Строгая охрана детства теряет
свою ценность, потому что она бессильна против
конституционального фактора; кроме того, ее труднее осуществить,
чем представляют себе воспитатели, и она влечет за собой
две опасности, которые нельзя недооценивать: она достигает
слишком многого, а именно создает благоприятные условия
для впоследствии вредного чрезмерного сексуального
вытеснения, и ребенок попадает в жизнь неспособным к
сопротивлению ожидающему его штурму сексуальных требований в
период половой зрелости. Так что остается весьма и весьма
сомнительным, насколько полезной может быть
профилактика детства, и не обещает ли другая установка по
отношению к действительности лучших перспектив для
предупреждения неврозов.
А теперь вернемся к симптомам. Итак, они создают
замещение несостоявшемуся удовлетворению благодаря
регрессии либидо к более ранним периодам, с чем неразрывно
связан возврат на более ранние ступени развития выбора
объектов или организации. Мы уже раньше слышали, что
невротик застревает где-то в своем прошлом; теперь мы
знаем, что это период прошлого, когда его либидо не было
лишено удовлетворения, когда он был счастлив. Он так долго
исследует историю своей жизни, пока не находит такое
время — пусть даже период своего младенчества, — каким он
вспоминает или представляет его себе по более поздним
побуждениям. Симптом каким-то образом повторяет тот вид
раннего детского удовлетворения, искаженного вызванной
конфликтом цензурой, обращенного, как правило, к
ощущению страдания и смешанного с элементами, послужившими
поводом для заболевания. Тот вид удовлетворения, который
приносит симптом, имеет в себе много странного. Мы не
обращаем внимания на то, что оно остается неизвестным
475
Зигмунд ФРЕЙД
для лица, которое ощущает это мнимое удовлетворение
скорее как страдание и жалуется на него. Это превращение
относится к психическому конфликту, под давлением
которого и должен образоваться симптом. То, что было когда-то
для индивида удовлетворением, сегодня должно вызывать
его сопротивление или отвращение. Нам известен
незначительный, но поучительный пример такого изменения
ощущений. Тот же ребенок, который с жадностью сосал молоко
из материнской груди, несколько лет спустя обычно
выражает сильное отвращение к молоку, преодолеть которое
воспитателям достаточно трудно. Отвращение усиливается,
если молоко или смешанный с ним напиток покрыт пенкой.
Видимо, нельзя отрицать то, что пенка вызывает
воспоминание о столь желанной некогда материнской груди. Между
ними лежит переживание отлучения, подействовавшее
травматически.
Есть еще кое-что другое, что кажется нам странным и
непонятным в симптомах как средствах либидозного
удовлетворения. Они не напоминают нам ничего такого, от чего
мы в нормальных условиях обычно ждем удовлетворения.
Они в большинстве случаев игнорируют объект и
отказываются тем самым от связи с внешней реальностью. Мы
понимаем это как следствие отхода от принципа реальности
и возврат к принципу удовольствия. Но это также возврат
к некоторому виду расширенного аутоэротизма, который
предоставлял сексуальному влечению первое
удовлетворение. Оно ставит на место изменения внешнего мира
изменение тела, т.е. внутреннюю акцию вместо внешней,
приспособление вместо действия, что опять соответствует
чрезвычайно важной в филогенетическом отношении регрессии.
Мы поймем это только в связи с новым явлением, которое
нам еще предстоит узнать из аналитических исследований
образования симптомов. Далее мы припомним, что при
образовании симптомов действовали те же процессы
бессознательного, что и при образовании сновидений, — сгущение и
смещение. Симптом, как и сновидение, изображает что-то
исполненным, дает удовлетворение по типу инфантильного,
но из-за предельного сгущения это удовлетворение может
быть сведено к одному-единственному ощущению или ин-
476
Введение в психоанализ
нервации, ограничиться в результате крайнего смещения
одной маленькой деталью всего либидозного комплекса.
Неудивительно, что даже мы нередко испытываем трудности
при распознании предполагаемого в симптоме и всегда
подтверждающегося либидозного удовлетворения.
Я предупреждал вас, что нам предстоит узнать еще кое-
что новое; это действительно нечто поразительное и
смущающее. Вы знаете, что посредством анализа, отталкиваясь
от симптомов, мы познакомились с инфантильными
переживаниями, на которых фиксировано либидо и из которых
создаются симптомы. И вот поразительно то, что эти
инфантильные сцены не всегда верны. Да-да, в большинстве
случаев они не верны, а в отдельных случаях находятся в
прямой противоположности к исторической правде. Вы
видите, что это открытие, как никакое другое, способно
дискредитировать или анализ, приведший к такому результату,
или больных, на высказываниях которых построен анализ,
как и все понимание неврозов. А кроме того, есть еще нечто
весьма смущающее. Если бы вскрытые анализом
инфантильные переживания были всегда реальными, у нас было
бы чувство, что мы стоим на твердой почве, если бы они
всегда оказывались поддельными, разоблачались бы как
вымыслы, фантазии больных, то нам нужно было бы покинуть
эту колеблющуюся почву и искать спасения на другой. Но
ни то, ни другое не соответствует истине, а положение дел
таково, что сконструированные или восстановленные в
воспоминаниях при анализе детские переживания один раз
бесспорно лживы, другой раз столь же несомненно правильны,
а в большинстве случаев представляют собой смесь
истины и лжи. Так что симптомы изображают то действительно
происходившие переживания, которым можно приписать
влияние на фиксацию либидо, то фантазии больного,
которым, естественно, эта этиологическая роль совершенно не
присуща. В этом трудно разобраться. Первую точку опоры
мы, может быть, найдем в сходном открытии, что именно
отдельные детские воспоминания, которые люди
сознательно хранили в себе издавна до всякого анализа, тоже могут
быть ложными или могут, по крайней мере, сочетать
достаточно истины и лжи. Доказательство неправильности в этом
477
Зигмунд ФРЕЙД
случае редко встречает трудности, и мы имеем по меньшей
мере лишь одно утешение, что в этом разочаровании
виноват не анализ, а каким-то образом больные.
По некоторым размышлениям мы легко поймем, что нас
так смущает в этом положении вещей. Это недооценка
реальности, пренебрежение различием между ней и фантазией.
Мы готовы уже оскорбиться тем, что больной занимал нас
вымышленными историями. Действительность кажется нам
чем-то бесконечно отличным от вымысла и заслуживающим
совершенно иной оценки. Впрочем, такой же точки зрения
в своем нормальном мышлении придерживается и
больной. Когда он приводит материал, который ведет от
симптомов к ситуациям желания, построенным по образцу
детских переживаний, мы сначала, правда, сомневаемся, идет
ли речь о действительности или о фантазии. Позднее на
основании определенных признаков мы можем принять
решение по этому поводу, и перед нами встает задача
ознакомить с ним и больного. При этом дело никогда не обходится
без затруднений. Если мы с самого начала открываем ему,
что теперь он собирается показать фантазии, которыми
окутал свою историю детства, как всякий народ сказаниями
свой забытый доисторический период, то мы замечаем, что
у него нежелательным образом вдруг понижается интерес к
продолжению темы. Он тоже хочет знать действительность
и презирает всякие «фантазии». Если же мы до окончания
этой части работы предоставим ему верить, что заняты
изучением реальных событий его детских лет, то рискуем, что
позднее он упрекнет нас в ошибке и высмеет за наше
кажущееся легковерие. Он долго не может понять наше
предложение поставить наравне фантазию и действительность
и не заботиться сначала о том, представляют ли собой
детские переживания, которые нужно выяснить, то или другое.
И все-таки это, очевидно, единственно правильная точка
зрения на эти душевные продукты. И они имеют характер
реальности; остается факт, что больной создал себе такие
фантазии, и этот факт имеет для его невроза вряд ли
меньшее значение, чем если бы он действительно пережил
содержания этих фантазий. Эти фантазии обладают психической
реальностью в противоположность материальной, и мы по-
478
Введение в психоанализ
степенно научаемся понимать, что в мире неврозов
решающей является психическая реальность.
Среди обстоятельств, всегда повторяющихся в
юношеской истории невротиков и, по-видимому, почти всегда
имеющих место, некоторые приобретают особую важность,
и поэтому я считаю, что их следует особо выделить из
других. В качестве примеров такого рода я приведу следующие
факты: наблюдение полового сношения родителей,
совращение взрослым лицом и угрозу кастрацией. Было бы большой
ошибкой полагать, что они никогда не имеют материальной
реальности; наоборот, ее часто можно с несомненностью
доказать при расспросах старших родственников. Так,
например, вовсе не редкость, что маленькому мальчику, который
начинает неприлично играть со своим членом и еще не
знает, что такое занятие нужно скрывать, родители или
ухаживающие за детьми грозят отрезать член или грешную руку.
При расспросах родители часто сознаются в этом, так как
полагают, что таким запугиванием делали что-то
целесообразное; у некоторых остается точное, сознательное
воспоминание об этой угрозе, особенно в том случае, если она
была сделана в более поздние годы. Если угрозу высказывает
мать или другое лицо женского пола, то ее исполнение они
перекладывают на отца или врача. В знаменитом «Степке-
растрепке» франкфуртского педиатра Гофмана,
обязанного своей популярностью именно пониманию сексуальных и
других комплексов детского возраста, вы найдете кастрацию
смягченной, замененной отрезанием большого пальца в
наказание за упрямое сосание. Но в высшей степени
невероятно, чтобы детям так часто грозили кастрацией, как это
обнаруживается в анализах невротиков. Нам достаточно
понимания того, что такую угрозу ребенок соединяет в
фантазии на основании намеков, с помощью знания, что ауто-
эротическое удовлетворение запрещено, и под впечатлением
своего открытия женских гениталий. Точно так же никоим
образом не исключено, что маленький ребенок, пока у него
не допускают понимания и памяти, и не только в
пролетарских семьях, становится свидетелем полового акта
родителей или других взрослых, и нельзя отказаться от мысли, что
впоследствии ребенок может понять это впечатление и реа-
479
Зигмунд ФРЕЙД
гировать на него. Если же это сношение описывается с
самыми подробными деталями, представляющими трудности
для наблюдения, или если оно оказывается сношением
сзади, more ferarum\ как это часто бывает, то не остается
никакого сомнения в причастности этой фантазии к
наблюдению за сношением животных (собак) и в мотивировке ее
неудовлетворенной страстью к подглядыванию ребенка в
годы половой зрелости. Высшим достижением такого рода
является фантазия о наблюдении полового акта родителей во
время пребывания в материнской утробе еще до рождения.
Особый интерес представляет собой фантазия о
совращении, потому что слишком часто это не фантазия, а реальное
воспоминание. Но к счастью, оно все же не так часто
реально, как это могло бы сначала показаться по результатам
анализа. Совращение старшими детьми или детьми того же
возраста случается все еще чаще, чем взрослыми, и если у
девушек, рассказывающих о таком событии в истории своего
детства, соблазнителем довольно часто выступает отец, то
ни фантастическая природа этого обвинения, ни
вызывающий его мотив не подлежат никакому сомнению. Фантазией
совращения, когда никакого совращения не было,
ребенок, как правило, прикрывает аутоэротический период
своей сексуальной деятельности. Он избавляет себя от стыда за
мастурбацию, перенося в фантазии желанный объект на эти
самые ранние времена. Не думайте, впрочем, что
использование ребенка как сексуального объекта его ближайшими
родственниками мужского пола относится непременно к
области фантазии. Многие аналитики лечили случаи, в
которых такие отношения были реальны и могли быть с
несомненностью установлены; только и тогда они относились к
более поздним детским годам, а были перенесены в более
ранние.
Возникает впечатление, что такие события в детстве
каким-то образом требуются, с железной необходимостью
входят в состав невроза. Имеются они в реальности — хорошо;
если реальность отказывает в них, то они составляются из
намеков и дополняются фантазией. Результат один и тот же,
Подобно животным (лат.). — Примеч. ред. перевода.
480
Введение в психоанализ
и до настоящего времени нам не удалось доказать различия
в последствиях в зависимости от того, принимает в этих
детских событиях большее участие фантазия или реальность.
Здесь опять-таки имеется одно из так часто
упоминавшихся дополнительных отношений; это, правда, одно из самых
странных, известных нам. Откуда берется потребность в этих
фантазиях и материал для них? Невозможно сомневаться в
источниках влечений, но необходимо объяснить факт, что
каждый раз создаются те же фантазии с тем же
содержанием. У меня готов ответ, но я знаю, что он покажется вам
рискованным. Я полагаю, что эти прафантазии — так мне
хотелось бы назвать их и, конечно, еще некоторые другие —
являются филогенетическим достоянием. Индивид выходит
в них за пределы собственного переживания в переживание
доисторического времени, где его собственное переживание
становится слишком рудиментарным. Мне кажется вполне
возможным, что все, что сегодня рассказывается при
анализе как фантазия, — совращение детей, вспышка сексуального
возбуждения при наблюдении полового сношения
родителей, угроза кастрацией — или, вернее, кастрация — было
реальностью в первобытной человеческой семье, и
фантазирующий ребенок просто восполнил доисторической правдой
пробелы в индивидуальной правде. У нас неоднократно
возникало подозрение, что психология неврозов сохранила для
нас из древнего периода человеческого развития больше,
чем все другие источники.
Уважаемые господа! Вышеупомянутые обстоятельства
вынуждают нас поближе рассмотреть возникновение и
значение той душевной деятельности, которая называется
фантазией. Как вам известно, она пользуется всеобщей высокой
оценкой, хотя ее место в душевной жизни остается
невыясненным. Я могу вам сказать об этом следующее. Как вы
знаете, под воздействием внешней необходимости Я
человека постепенно приучается оценивать реальность и следовать
принципу реальности, отказываясь при этом временно или
надолго от различных объектов и целей своего стремления
к удовольствию — не только сексуальному. Но отказ от
удовольствия всегда давался человеку с трудом; он
совершает его не без своего рода возмещения. Он сохранил себе за
1б-3518
481
Зигмунд ФРЕЙД
это душевную деятельность, в которой допускается
дальнейшее существование всех этих оставленных источников
наслаждения и покинутых путей его получения, форма
существования, в которой они освобождаются от притязания на
реальность и от того, что мы называем «испытанием
реальностью». Любое стремление сразу достигает формы
представления о его исполнении; несомненно, что направление
фантазии на исполнение желаний дает удовлетворение, хотя
при этом существует знание того, что речь идет не о
реальности. Таким образом, в деятельности фантазии человек
наслаждается свободой от внешнего принуждения, от которой
он давно отказался в действительности. Ему удается быть
еще попеременно то наслаждающимся животным, то опять
разумным существом. Он не довольствуется жалким
удовлетворением, которое может отвоевать у действительности.
«Обойтись без вспомогательных конструкций вообще
нельзя», — сказал однажды Т. Фонтане. Создание душевной
области фантазии находит полную аналогию в организации
«заповедников», «национальных парков» там, где
требования земледелия, транспорта и промышленности угрожают
быстро изменить до неузнаваемости первоначальный вид
земли. Национальный парк сохраняет свое прежнее состояние,
которое повсюду в других местах принесено в жертву
необходимости. Там может расти и разрастаться все, что хочет,
даже бесполезное, даже вредное. Таким лишенным
принципа реальности заповедником и является душевная область
фантазии.
Самые известные продукты фантазии — уже знакомые
нам «сны наяву», воображаемое удовлетворение
честолюбивых, выражающих манию величия, эротических желаний,
расцветающих тем пышнее, чем больше действительность
призывает к скромности или терпению. В них с
очевидностью обнаруживается сущность счастья в фантазии,
восстановление независимости получения наслаждения от
одобрения реальности. Нам известно, что такие сны наяву
являются ядром и прообразами ночных сновидений. Ночное
сновидение, в сущности, не что иное, как сон наяву,
использованный ночной свободой влечений и искаженный ночной
формой душевной деятельности. Мы уже освоились с мыс-
482
Введение в психоанализ
лью, что и сны наяву не обязательно сознательны, что они
бывают и бессознательными. Такие бессознательные сны
наяву являются как источником ночных сновидений, так и
источником невротических симптомов.
Значение фантазии для образования симптомов станет
вам ясно из следующего. Мы сказали, что в случае
вынужденного отказа либидо регрессивно занимает оставленные им
позиции, на которых оно застряло в некотором количестве.
Мы не отказываемся от этого утверждения и не исправляем
его, но должны вставить промежуточное звено. Как либидо
находит путь к этим местам фиксации? Все оставленные
объекты и направленности либидо оставлены не во всех
смыслах. Они или их производные с определенной
интенсивностью еще сохраняются в представлениях фантазии. Либидо
нужно только уйти в фантазии, чтобы найти в них открытый
путь ко всем вытесненным фиксациям. Эти фантазии
допускались в известной степени, между ними и Я, как ни резки
противоречия, не было конфликта, пока соблюдалось одно
определенное условие.
Условие это, количественное по природе, нарушается
обратным притоком либидо к фантазиям. Вследствие этого
прибавления заряженность фантазий энергией так
повышается, что они становятся очень требовательными, развивая
стремление к реализации. Но это делает неизбежным
конфликт между ними и Я. Независимо от того, были ли они
раньше предсознательными или сознательными, теперь они
подлежат вытеснению со стороны Я и предоставляются
притяжению со стороны бессознательного. От бессознательных
теперь фантазий либидо перемещается к их истокам в
бессознательном, к местам их собственной фиксации.
Возврат либидо к фантазиям является переходной
ступенью на пути образования симптомов, заслуживающей
особого обозначения. К. Г. Юнг дал ей очень подходящее
название интроверсии, но нецелесообразно придал ему еще другое
значение. Мы останемся на том, что интроверсия обозначает
отход либидо от возможностей реального удовлетворения и
Дополнительное заполнение им безобидных до того
фантазий. Интровертированный человек еще не невротик, но он
находится в неустойчивом положении; при ближайшем из-
483
Зигмунд ФРЕЙД
менении соотношения сил у него должны развиться
симптомы, если он не найдет других выходов для накопившегося
у него либидо. Нереальный характер невротического
удовлетворения и пренебрежение различием между фантазией
и действительностью уже предопределены пребыванием на
ступени интроверсии.
Вы, наверно, заметили, что в своих последних
рассуждениях я ввел в структуру этиологической цепи новый фактор,
а именно количество, величину рассматриваемых энергий;
с этим фактором нам еще всюду придется считаться.
Чисто качественным анализом этиологических условий мы не
обойдемся. Или, другими словами, только динамического
понимания этих душевных процессов недостаточно, нужна еще
экономическая точка зрения. Мы должны себе сказать, что
конфликт между двумя стремлениями не возникнет, пока не
будет достигнута определенная степень заряженности
энергией, хотя содержательные условия могут давно
существовать. Точно так же патогенное значение
конституциональных факторов зависит от того, насколько больше в
конституции заложено одного частного влечения, чем другого;
можно себе даже представить, что качественно конституции
всех людей одинаковы и различаются только этими
количественными соотношениями. Не менее решающим является
количественный фактор и для способности к
сопротивлению невротическому заболеванию. Это будет зависеть от
того, какое количество неиспользованного либидо человек
может оставить свободным и какую часть своего либидо он
способен отторгнуть от сексуального для целей сублимации.
Конечная цель душевной деятельности, которую
качественно можно описать как стремление к получению
удовольствия и избегание неудовольствия, с экономической точки
зрения представляется задачей справиться с действующим в
душевном аппарате количеством возбуждения (массой
раздражения) и не допустить его застоя, вызывающего
неудовольствие.
Вот то, что я хотел вам сказать об образовании
симптомов при неврозе. Но чтобы не забыть, подчеркну еще раз со
всей определенностью: все здесь сказанное относится только
к образованию симптомов при истерии. Уже при неврозе
484
Введение в психоанализ
навязчивых состояний — хотя основное сохранится —
многое будет по-другому. Противоположности по отношению к
требованиям влечений, о которых шла речь и при истерии,
при неврозе навязчивых состояний выступают на первый
план и преобладают в клинической картине благодаря так
называемым «реактивным образованиям». Такие же и еще
дальше идущие отступления мы открываем при других
неврозах, где исследования о механизмах образования
симптомов ни в коей мере не завершены.
Прежде чем отпустить вас сегодня, я хотел бы на минуту
обратить ваше внимание на одну сторону жизни фантазии,
которая достойна всеобщего интереса. Есть обратный путь
от фантазии к реальности, это — искусство. В основе своей
художник тоже интровертированный, которому недалеко до
невроза. В нем теснятся сверхсильные влечения, он хотел
бы получать почести, власть, богатство, славу и любовь
женщин; но у него нет средств, чтобы добиться их
удовлетворения. А потому, как всякий неудовлетворенный человек, он
отворачивается от действительности и переносит весь свой
интерес, а также свое либидо на желанные образы своей
фантазии, откуда мог бы открыться путь к неврозу. И
многое должно совпасть, чтобы это не стало полным исходом
его развития; ведь известно, как часто именно художники
страдают из-за неврозов частичной потерей своей
трудоспособности. Вероятно, их конституция обладает сильной
способностью к сублимации и определенной слабостью
вытеснений, разрешающих конфликт. Обратный же путь к
реальности художник находит следующим образом. Ведь он не
единственный, кто живет жизнью фантазии. Промежуточное
царство фантазии существует со всеобщего согласия
человечества, и всякий, испытывающий лишения, ждет от него
облегчения и утешения. Но для нехудожника возможность
получения наслаждения из источников фантазии
ограничена. Неумолимость вытеснений вынуждает его
довольствоваться скудными грезами, которые могут еще оставаться
сознательными. Но если кто-то — истинный художник, тогда
он имеет в своем распоряжении больше. Во-первых, он
умеет так обработать свои грезы, что они теряют все слишком
личное, отталкивающее постороннего, и становятся доступ-
485
Зигмунд ФРЕЙД
ными для наслаждения других. Он умеет также настолько
смягчить их, что нелегко догадаться об их происхождении
из запретных источников. Далее, он обладает таинственной
способностью придавать определенному материалу форму,
пока тот не станет верным отображением его
фантастического представления, и затем он умеет связать с этим
изображением своей бессознательной фантазии получение такого
большого наслаждения, что благодаря этому вытеснения, по
крайней мере временно, преодолеваются и устраняются.
Если он все это может совершить, то дает и другим
возможность снова черпать утешение и облегчение из источников
наслаждения их собственного бессознательного, ставших
недоступными, получая их благодарность и восхищение и
достигая благодаря своей фантазии то, что сначала имел
только в фантазии: почести, власть и любовь женщин.
Двадцать четвертая лекция
Обычная нервозность
Уважаемые дамы и господа! После того как в последних
беседах мы завершили такую трудную часть работы, я на
некоторое время оставляю этот предмет и обращаюсь к вам
со следующим.
Я знаю, что вы недовольны. Вы представляли себе
«Введение в психоанализ» иначе. Вы предполагали услышать
жизненные примеры, а не теории. Вы скажете мне, что
единственный раз, когда я представил вам параллель «В подвале
и на первом этаже», вы кое-что поняли о причине неврозов,
только лучше бы это были действительные наблюдения, а не
придуманные истории. Или когда я вначале рассказал вам о
двух — видимо, тоже не вымышленных — симптомах и
разъяснил их отношение к жизни больного, то вам стал ясен
«смысл» симптомов; вы надеялись, что я буду продолжать
в том же духе. Вместо этого я излагал вам пространные,
расплывчатые теории, которые никогда не были полными, к
которым постоянно добавлялось что-то новое, пользовался
понятиями, которых еще не разъяснил вам, переходил от опи-
486
Введение о психоанализ
сательного изложения к динамическому пониманию, а от
него—к так называемому «экономическому», мешая вам
понять, какие из используемых терминов означают то же самое
и заменяют друг друга только по причине благозвучия,
предлагал вам такие широкие понятия, как принципы
удовольствия и реальности и филогенетически унаследованное, и,
вместо того чтобы вводить во что-то, я развертывал перед
вашим взором нечто такое, что все больше удалялось от вас.
Почему я не начал введение в теорию неврозов с того,
что вы сами знаете о нервозности и что давно вызывает ваш
интерес? Почему не начал с описания своеобразной
сущности нервнобольных, их непонятных реакций на человеческое
общение и внешние влияния, их раздражительности,
непредсказуемости поведения и неприспособленности к
жизни? Почему не повел вас шаг за шагом от понимания более
простых повседневных форм к проблемам загадочных
крайних проявлений нервозности?
Да, уважаемые господа, не могу не признать вашей
правоты. Я не настолько влюблен в собственное искусство
изложения, чтобы выдавать за особую прелесть каждый его
недостаток. Я сам думаю, что можно было бы сделать иначе и с
большей выгодой для вас; я этого и хотел. Но не всегда можно
выполнить свои благие намерения. В самом материале часто
заключено что-то такое, что руководит [вами] и уводит от
первоначальных намерений. Даже такая незначительная
работа, как организация хорошо знакомого материала, не вполне
подчиняется воле автора; она идет, как хочет, и только позже
можно спросить себя, почему она вышла такой, а не другой.
Вероятно, одна из причин в том, что название «Введение
в психоанализ» уже не подходит к этой части, где
обсуждаются неврозы. Введение в психоанализ составляет изучение
ошибочных действий и сновидений, учение о неврозах — это
сам психоанализ. Не думаю, чтобы мне бы удалось за такое
короткое время познакомить вас с содержанием учения о
неврозах иначе, чем в такой сконцентрированной форме.
Дело заключалось в том, чтобы в общей связи показать вам
смысл и значение симптомов, внешние и внутренние условия
и механизм их образования. Я и попытался это сделать;
такова примерно суть того, чему может научить психоанализ
487
Зигмунд ФРЕЙД
сегодня. При этом много пришлось говорить о либидо и его
развитии, кое-что и о развитии Я. Благодаря введению вы
уже были подготовлены к особенностям нашей техники, к
основным взглядам на бессознательное и вытеснение
(сопротивление). На одной из ближайших лекций вы узнаете, в чем
психоаналитическая работа находит свое органическое
продолжение. Пока я не скрывал от вас, что все наши сведения
основаны на изучении только одной-единственной группы
нервных заболеваний, на так называемых неврозах
перенесения. Механизм образования симптомов я проследил всего
лишь для истерического невроза. Если вы и не приобрели
солидных знаний и не запомнили каждую деталь, то все же
я надеюсь, что у вас сложилось представление о том, какими
средствами работает психоанализ, за решение каких
вопросов берется и каких результатов он уже достиг.
Я приписал вам пожелание, чтобы я начал изложение
темы неврозов с поведения нервнобольных, с описания того,
как они страдают от своих неврозов, как борются с ними и
приспосабливаются к ним. Это, конечно, интересный и
достойный познания и не очень трудный для изложения
материал, но сомнительно начинать с него. Рискуешь не
открыть бессознательного, не увидеть при этом большого
значения либидо и судить обо всех отношениях так, как они
кажутся Я нервнобольного. А то, что это Я ни в коей мере
не надежная и не беспристрастная сторона, совершенно
очевидно. Ведь Я — это сила, которая отрицает
бессознательное и сводит его к вытесненному, как же можно верить ему
в том, что оно будет справедливо к этому
бессознательному? Среди этого вытесненного на первом месте стоят
отвергнутые требования сексуальности; само собой
разумеется, что мы никогда не сможем узнать об их объеме и
значении из мнений Я. С того момента, когда для нас начинает
проясняться позиция вытеснения, мы должны так же
остерегаться того, чтобы не поставить судьей в этом споре одну
из спорящих сторон, к тому же еще и победившую. Мы
подготовлены к тому, что высказывания Я введут нас в
заблуждение. Если верить Я, то оно на всех этапах было
активным, само желало своих симптомов и создало их. Мы
знаем, что оно считает возможным быть в известной степе-
488
Введение в психоанализ
ни пассивным, что хочет затем скрыть и приукрасить.
Правда, оно не всегда решается на такую попытку; при
симптомах невроза навязчивых состояний оно должно признать,
что ему противопоставляется что-то чуждое, от чего оно
с трудом защищается.
Кого не удерживают эти предостережения принимать за
чистую монету подделки Я, тому, разумеется, легко живется,
и он избавлен от всего того сопротивления, которое
поднимется против выдвижения в психоанализе на первый план
бессознательного, сексуальности и пассивности Я. Тот может
утверждать, подобно Альфреду Адлеру (1912), что «нервный
характер» является причиной невроза вместо его следствия,
но он также не будет в состоянии объяснить ни одной детали
в образовании симптома и ни одного сновидения.
Вы спросите, нельзя ли справедливо оценить участие Я в
нервозности и образовании симптомов, явно не пренебрегая
при этом открытыми психоанализом факторами. Я отвечу:
конечно, это возможно и когда-нибудь произойдет; но
начинать именно с этого не в традициях психоанализа. Правда,
можно предсказать, когда эта задача встанет перед
психоанализом. Есть неврозы, в которых Я участвует гораздо
активнее, чем в изученных до сих пор; мы называем их «нар-
цисстическими неврозами». Аналитическая обработка этих
заболеваний даст нам возможность беспристрастно и верно
судить об участии Я в невротическом заболевании.
Но одно из отношений Я к своему неврозу настолько
очевидно, что его с самого начала можно принять во
внимание. Оно, по-видимому, встречается во всех случаях, но
яснее всего обнаруживается при заболевании, которое мы
сегодня еще недостаточно понимаем, — при травматическом
неврозе. Вы должны знать, что в причине и в механизме всех
возможных форм неврозов всегда действуют одни и те же
факторы, только в одном случае главное значение в
образовании симптомов приобретает один из этих факторов, в
другом — другой. Это подобно штату артистической труппы,
в котором каждый имеет свое определенное амплуа: герой,
близкий друг, интриган и т. д.; но для своего бенефиса
каждый выберет другую пьесу. Так, фантазии,
превращающиеся в симптомы, нигде не проявляются более явно, чем при
489
Зигмунд ФРЕЙД.
истерии; противоположные, или реактивные, образования
Я господствуют в картине невроза навязчивых состояний;
то, что мы назвали вторичной обработкой в сновидении,
выступает на первое место в виде бреда при паранойе и т.д.
Таким образом, при травматических неврозах, особенно
таких, которые возникают из-за ужасов войны, для нас
несомненен эгоистический мотив Я, стремящийся к защите
и выгоде, который в одиночку еще не создает болезнь, но
санкционирует ее и поддерживает, если она уже началась.
Этот мотив хочет уберечь Я от опасностей, угроза которых
и послужила поводом для заболевания, и не допустит
выздоровления, прежде чем не будет исключена возможность
повторения этих опасностей или лишь после того, как будет
получена компенсация за перенесенную опасность.
Но и во всех других случаях Я проявляет аналогичную
заинтересованность в возникновении и последующем
существовании невроза. Мы уже сказали, что симптом
поддерживается также и Я, потому что у него есть такая сторона,
благодаря которой он дает удовлетворение вытесняющей
тенденции Я. Кроме того, разрешение конфликта
посредством образования симптома является самым удобным и
желательным выходом из положения для принципа
удовольствия; он, несомненно, избавляет Я от большой и
мучительной внутренней работы. Бывают случаи, когда даже врач
должен признать, что разрешение конфликта в форме
невроза представляет собой самое безобидное и социально
допустимое решение. Не удивляйтесь, что порой даже врач
становится на сторону болезни, с которой он ведет борьбу.
Ему не пристало играть лишь роль фанатика здоровья
вопреки всем жизненным ситуациям, он знает, что в мире есть
не только невротическое бедствие, но и реальное
нескончаемое страдание, что необходимость может потребовать от
человека пожертвовать своим здоровьем, и он знает, что такой
жертвой одного человека часто сдерживается бесконечное
несчастье многих других. Если можно сказать, что у
невротика каждый раз перед лицом конфликта происходит
бегство в болезнь, то следует признать, что в некоторых случаях
это бегство вполне оправданно, и врач, понявший это
положение вещей, молча отойдет в сторону, щадя больного.
490
Введение в психоанализ
Но при дальнейшем изложении мы воздержимся от этих
исключительных случаев. В обычных условиях мы
обнаруживаем, что благодаря отступлению в невроз Я получает
определенную внутреннюю выгоду от болезни. К ней в
некоторых случаях жизни присоединяется очевидное внешнее
преимущество, более или менее высоко ценимое в
реальности. Посмотрите на самый частый пример такого рода.
Женщина, с которой муж грубо обращается и беспощадно
использует ее, почти всегда находит выход в неврозе, если ее
предрасположения дают такую возможность, если она
слишком труслива или слишком нравственна для того, чтобы
тайно утешаться с другим мужчиной, если она недостаточно
сильна, чтобы, несмотря на все внешние препятствия,
расстаться с мужем, если у нее нет надежды содержать себя
самой или найти лучшего мужа и если она, кроме того, еще
привязана к этому грубому человеку сексуальным чувством.
Тогда ее болезнь становится ее оружием в борьбе против
сверхсильного мужа, оружием, которым она может
воспользоваться для своей защиты и злоупотребить им для своей
мести. На свою болезнь она может пожаловаться, между тем
как на брак, вероятно, жаловаться не смела. В лице врача
она находит помощника, вынуждает беспощадного мужа
щадить ее, тратиться на нее, разрешать ей временно
отсутствовать дома и освобождаться таким образом от супружеского
гнета. Там, где такая внешняя или случайная выгода от
болезни довольно значительна и не может найти никакой
реальной замены, вы не сможете высоко оценить возможность
воздействия вашей терапии на невроз.
Вы упрекнете меня, что то, что я вам здесь рассказал о
выгоде от болезни, как раз говорит в пользу отвергнутого
мной мнения, что Я само хочет и создает невроз. Спокойно,
уважаемые господа, может быть, это означает только то, что
Я мирится с неврозом, которому оно не может помешать, и
делает из него самое лучшее, если из него вообще можно
что-нибудь сделать. Это только одна сторона дела, правда,
приятная. Поскольку невроз имеет преимущества, Я с ним
согласно, но у него имеются не только преимущества. Как
правило, быстро выясняется, что Я заключило невыгодную
сделку, соглашаясь на невроз. Оно слишком дорого заплати-
491
Зигмунд ФРЕЙД
ло за облегчение конфликта, и ощущения страдания,
причиняемые симптомами, пожалуй, эквивалентная замена
мучениям конфликта, и, возможно, с еще большим количеством
неудовольствия. Я хотело бы освободиться от этого
неудовольствия из-за симптомов, не уступая выгод от болезни, но
именно этого оно не в состоянии сделать. При этом
оказывается, что оно было не таким уж активным, как считало, —
давайте это запомним.
Уважаемые господа, когда вы как врачи будете иметь дело
с невротиками, то скоро откажетесь от мысли, что те
больные, которые больше всего причитают и жалуются на свою
болезнь, охотнее всего идут навстречу оказываемой помощи
и окажут ей наименьшее сопротивление. Скорее наоборот. Но
вы легко поймете, что все, что способствует получению
выгоды от болезни, усилит сопротивление вытеснения и
увеличит трудность лечения. К этой выгоде от болезни,
появившейся, так сказать, вместе с симптомом, нам следует, однако,
прибавить еще и другую, которая появляется позже. Если
такая психическая организация, как болезнь, существует
длительное время, то она ведет себя в конце концов как
самостоятельное существо, она проявляет нечто вроде инстинкта
самосохранения, образуется своего рода modus vivendi1 между
нею и другими сторонами душевной жизни, причем даже
такими, которые, в сущности, враждебны ей, и почти всегда
встречаются случаи, в которых она опять оказывается
полезной и пригодной для использования, как бы приобретая
вторичную функцию, которая с новой силой укрепляет ее
существование. Вместо примера из патологии возьмите яркий
пример из повседневной жизни. Дельный рабочий,
зарабатывающий себе на содержание, становится калекой из-за
несчастного случая во время работы; с работой теперь кончено,
но со временем потерпевший получает маленькую пенсию по
увечью и научается пользоваться своим увечьем, как нищий.
Его новое, хотя и ухудшившееся существование
основывается теперь как раз на том же, что лишило его прежних средств
существования. Если вы устраните его уродство, то сначала
лишите его средств к существованию; возникнет вопрос, спо-
Соглашение (лат.). — Примеч. пер.
492
Введение о психоанализ
собен ли он еще вновь взяться за прежнюю работу. То, что
при неврозе соответствует такому вторичному
использованию болезни, мы можем прибавить в качестве вторичной
выгоды от болезни к первичной.
Но в общем я хотел бы вам сказать: не оценивайте
слишком низко практическое значение выгоды от болезни и не
придавайте ей слишком большого теоретического значения.
Не считая ранее упомянутых исключений, она напоминает
примеры «ума животных», иллюстрированных Оберленде-
ром в Fliegende Blätter. Араб едет на верблюде по узкой
тропинке, высеченной в отвесном склоне горы. На повороте
дороги он неожиданно встречается со львом, готовым к
прыжку. Он не видит выхода: с одной стороны — отвесная стена,
с другой — пропасть, повернуть и спастись бегством
невозможно; он считает себя погибшим. Другое дело животное.
Вместе со всадником оно делает прыжок в пропасть — и лев
остается ни с чем. Не лучший результат для больного дает
и помощь, оказываемая неврозом. Возможно, это происходит
потому, что разрешение конфликта посредством образования
симптомов — все же автоматический процесс, который не
может соответствовать требованиям жизни и при котором
человек отказывается от использования своих лучших и
высших сил. Если бы был выбор, следовало бы предпочесть
погибнуть в честной борьбе с судьбой.
Уважаемые господа! Я должен, однако, объяснить вам еще
другие мотивы, по которым при изложении учения о
неврозах я не исходил из обычной нервозности. Может быть, вы
думаете, что я сделал это потому, что тогда мне труднее
было бы доказать сексуальную причину неврозов. Но тут вы
ошибаетесь. При неврозах перенесения нужно проделать
сначала работу по толкованию симптомов, чтобы прийти к
такому пониманию. При обычных формах так называемых
актуальных неврозов этиологическое значение сексуальной
жизни является общим, доступным наблюдению фактом.
Я столкнулся с ним более двадцати лет тому назад, когда
однажды задал себе вопрос, почему при расспросах
нервнобольных обычно не принимаются во внимание их
сексуальные проявления. Тогда я принес в жертву этим
исследованиям свою популярность у больных, но уже после непро-
493
Зигмунд ФРЕЙД
должительных усилий мог высказать положение, что при
нормальной vita sexualisx не бывает невроза — я имею в виду
актуального невроза. Конечно, это положение не учитывает
индивидуальных различий между людьми, оно страдает
также неопределенностью, неотделимой от оценки
«нормального», но для предварительной ориентировки оно и до
настоящего времени сохранило свою значимость. Я дошел тогда
до того, что установил специфические отношения между
определенными формами нервозности и отдельными
вредными сексуальными проявлениями, и не сомневаюсь в том, что
теперь мог бы повторить эти же наблюдения, если бы
располагал таким же контингентом больных. Достаточно часто
я узнавал, что мужчина, довольствовавшийся определенным
видом неполного сексуального удовлетворения, например
ручным онанизмом, заболевал определенной формой
актуального невроза и что этот невроз быстро уступал место
другому, когда он переходил к другому, столь же мало
безупречному сексуальному режиму. Я был тогда в состоянии
угадать по изменению состояния больного перемену в
образе его сексуальной жизни. Тогда же я научился упорно
настаивать на своих предположениях, пока не преодолевал
неискренности пациентов и не вынуждал их подтверждать мои
предположения. Верно и то, что затем они предпочитали
обращаться к другим врачам, которые не осведомлялись с
таким усердием об их сексуальной жизни.
Уже тогда от меня не могло ускользнуть, что поиск
причин заболевания не всегда приводил к сексуальной жизни.
Если один и заболевал непосредственно из-за вредного
сексуального проявления, то другой — из-за того, что потерял
состояние или перенес изнуряющую органическую болезнь.
Объяснение этого многообразия пришло позже, когда мы
поняли предполагаемые взаимоотношения между Я и
либидо, и оно становилось тем более удовлетворительным, чем
глубже было наше понимание. Какое-то лицо заболевает
неврозом только тогда, когда его Я теряет способность как-
то распределить либидо. Чем сильнее Я, тем легче ему
разрешить эту задачу; всякое ослабление Я по какой-либо при-
Ссксуалыюй жизни (лат.). — Примеч. пер.
494
Введение в психоанализ
чине должно производить то же действие, что и слишком
большое притязание либидо, т. е. сделать возможным
невротическое заболевание. Есть еще другие, более интимные
отношения Я и либидо, но они еще не вошли в наше поле
зрения, и поэтому я не привожу их здесь для объяснения.
Существенным и объясняющим для нас [утверждением]
остается то, что в каждом случае и независимо от пути
развития болезни симптомы невроза обусловливаются либидо и,
таким образом, свидетельствуют о его ненормальном
применении.
Теперь, однако, я должен обратить ваше внимание на
существенное различие между симптомами актуальных
неврозов и психоневрозов, первая группа которых, группа
неврозов перенесения, так много занимала наше внимание до сих
пор. В обоих случаях симптомы происходят из либидо, т. е.
являются ненормальным его применением, замещением
удовлетворения. Но симптомы актуальных неврозов: давление
в голове, ощущение боли, раздражение в каком-либо органе,
ослабление или задержка функции — не имеют никакого
«смысла», никакого психического значения. Они не
только проявляются преимущественно телесно, как, например, и
истерические симптомы, но сами представляют собой
исключительно соматические процессы, в возникновении
которых совершенно не участвуют все те сложные душевные
механизмы, с которыми мы познакомились. Таким образом,
они действительно являются тем, за что так долго
принимали психоневротические симптомы. Но каким образом они
могут тогда соответствовать применениям либидо, которое
мы считаем действующей силой в психике? Так это,
уважаемые господа, очень просто. Позвольте мне напомнить вам
один из самых первых упреков, высказанных в адрес
психоанализа. Тогда говорили, что он трудится над
психологическими теориями невротических явлений, а это
совершенно безнадежно, так как психологические теории никогда не
могли бы объяснить болезнь. Предпочли забыть, что
сексуальная функция является столь же мало чем-то чисто
психическим, как и чем-то только соматическим. Она оказывает
влияние как на телесную, так и на душевную жизнь. Если
в симптомах психоневрозов мы увидели проявления нару-
495
Зигмунд ФРЕЙД
шений в ее воздействиях на психику, то мы не удивимся,
если в актуальных неврозах найдем непосредственные
соматические последствия сексуальных нарушений.
Для понимания вышесказанного медицинская
клиническая практика дает нам ценное указание, которое также
принимали во внимание различные исследователи. В деталях
своей симптоматики, а также в своеобразии воздействия на
все системы органов и на все функции актуальные неврозы
обнаруживают несомненное сходство с болезненными
состояниями, возникающими вследствие хронического
влияния экзогенных ядовитых веществ и острого их лишения,
т.е. с интоксикациями и состояниями абстиненции. Обе
группы заболеваний еще больше сближаются друг с другом
благодаря таким состояниям, которые мы научились
относить тоже на счет действия ядовитых веществ, но не
введенных в организм, чуждых ему, а образованных в процессе
собственного обмена веществ, как, например, при базедовой
болезни. Я полагаю, что на основании этих аналогий мы не
можем не считать неврозы следствием нарушения
сексуального обмена веществ, будь оно из-за того, что этих
сексуальных токсинов производится больше, чем данное лицо может
усвоить, или из-за того, что внутренние и даже психические
условия мешают правильному использованию этих веществ.
В народе издавна придерживались такого взгляда на
природу сексуального желания, называя любовь «опьянением» и
считая возникновение влюбленности действием любовного
напитка, перенося при этом действующее начало в
известном смысле на внешний мир. Для нас это было бы поводом
вспомнить об эрогенных зонах и об утверждении, что
сексуальное возбуждение может возникнуть в самых различных
органах. Впрочем, слова «сексуальный обмен веществ» или
«химизм сексуальности» для нас не имеют содержания; мы
ничего об этом не знаем и не можем даже решить, следует
ли нам предполагать существование двух сексуальных
веществ, которые назывались бы тогда «мужским» и
«женским», или мы можем ограничиться одним сексуальным
токсином, в котором следует видеть носителя всех
раздражающих воздействий либидо. Созданное нами научное здание
психоанализа в действительности является надстройкой, ко-
496
Введение в психоанализ
торая должна быть когда-нибудь поставлена на свой
органический фундамент; но пока мы его еще не знаем.
Психоанализ как науку характеризует не материал,
которым он занимается, а техника, при помощи которой он
работает. Без особых натяжек психоанализ можно применять
к истории культуры, науке о религии и мифологии точно так
же, как и к учению о неврозах. Целью его является не что
иное, как раскрытие бессознательного в душевной жизни.
Проблемы актуальных неврозов, симптомы которых,
вероятно, возникают из-за вредного токсического воздействия, не
дают возможности применять психоанализ, он не многое
может сделать для их объяснения и должен предоставить эту
задачу биологическому медицинскому исследованию. Теперь
вы, может быть, лучше поймете, почему я не расположил
свой материал в другом порядке. Если бы я обещал вам
«Введение в учение о неврозах», то, несомненно, правильным
был бы путь от простых форм актуальных неврозов к более
сложным психическим заболеваниям вследствие расстройств
либидо. При обсуждении актуальных неврозов я должен был
бы собрать с разных сторон все, что мы узнали или полагали,
что знаем, а при психоневрозах речь зашла бы о
психоанализе как о важнейшем техническом вспомогательном
средстве для прояснения этих состояний. Но я объявил и
намеревался прочесть «Введение в психоанализ»; для меня было
важнее, чтобы вы получили представление о психоанализе, а
не определенные знания о неврозах, и поэтому я не мог
выдвинуть на первый план бесплодные для психоанализа
актуальные неврозы. Думаю также, что сделал для вас более
благоприятный выбор, так как психоанализ вследствие своих
глубоких предпосылок и обширных связей заслуживает того,
чтобы привлечь интерес любого образованного человека, а
учение о неврозах — такая же область медицины, как и
любая другая.
Между тем вы обоснованно надеетесь, что мы должны
будем проявить некоторый интерес и к актуальным
неврозам. Нас вынуждает к этому их интимная клиническая связь
с психоневрозами. Поэтому я хочу вам сообщить, что мы
различаем три чистых формы актуальных неврозов:
неврастению, невроз страха и ипохондрию. Но и это разделение не
497
Зигмунд ФРЕЙД
осталось без возражений. Названия, правда, все
употребляются, но их содержание неопределенно и неустойчиво. Есть
врачи, которые противятся любому делению в путаном
мире невротических явлений, любому выделению клинических
единиц, отдельных болезней и не признают даже разделения
на актуальные неврозы и психоневрозы. Я полагаю, что они
заходят слишком далеко и пошли не по тому пути, который
ведет к прогрессу. Названные формы невроза иногда
встречаются в чистом виде, но чаще смешиваются друг с другом
и с психоневротическим заболеванием. Эти явления не
должны заставлять нас отказываться от их деления. Вспомните
различие учения о минералах и учения о камнях в
минералогии. Минералы описываются как отдельные единицы,
конечно, в связи с тем, что они часто встречаются в виде
кристаллов, резко отграниченных от окружающей среды. Камни
состоят из смеси минералов, соединившихся по всей
определенности не случайно, а вследствие условий их
возникновения. В учении о неврозах мы еще слишком мало
понимаем ход развития, чтобы создать что-то подобное учению о
камнях. Но мы, несомненно, поступим правильно, если
сначала выделим из общей массы знакомые нам клинические
единицы, которые можно сравнить с минералами.
Весьма существенная связь между симптомами
актуальных неврозов и психоневрозов помогает нам узнать об
образовании симптомов последних; симптомы актуального
невроза часто являются ядром и предваряющей стадией
развития психоневротического симптома. Яснее всего такое
отношение наблюдается между неврастенией и неврозом
перенесения, названным «конверсионной истерией», между
неврозом страха и истерией страха, а также между ипохондрией
и формами, далее упоминаемыми как парафрения (раннее
слабоумие и паранойя). Возьмем для примера случай
истерической головной боли или боли в крестце. Анализ
показывает нам, что в результате сгущения и смещения она стала
заместителем удовлетворения для целого ряда либидозных
фантазий или воспоминаний. Но когда-то эта боль была
реальной, и тогда она была непосредственным
сексуально-токсическим симптомом, соматическим выражением либидоз-
ного возбуждения. Мы совершенно не хотим утверждать,
498
Введение в психоанализ
что такое ядро имеют все истерические симптомы, но
остается фактом то, что так бывает особенно часто и что все —
нормальные и патологические — телесные воздействия
благодаря либидозному возбуждению служат преимущественно
именно для образования симптомов истерии. Они играют
роль той песчинки, которую моллюск обволакивает слоями
перламутра. Таким же образом психоневроз использует
преходящие признаки сексуального возбуждения,
сопровождающие половой акт, как самый удобный и подходящий
материал для образования симптомов.
Подобный процесс вызывает особый диагностический и
терапевтический интерес. У лиц, предрасположенных к
неврозу, но не страдающих выраженным неврозом, нередко
бывает так, что болезненное телесное изменение — воспаление
и ранение — вызывает работу образования симптома, так что
она немедленно делает данный ей в реальности симптом
представителем всех тех бессознательных фантазий, которые
только и ждали того, чтобы овладеть средством выражения.
В таком случае врач изберет тот или иной путь лечения, он
или захочет устранить органическую основу, не заботясь о
ее буйной невротической переработке, или будет бороться со
случайно возникшим неврозом, не обращая внимания на его
органический повод. Успех покажет правильность или
неправильность того или иного вида усилий; для таких
смешанных случаев едва ли можно дать общие предписания.
Двадцать пятая лекция
Страх
Уважаемые дамы и господа! То, что я сказал вам на
прошлой лекции об общей нервозности, вы посчитали,
наверное, самым неполным и самым недостаточным из моих
сообщений. Я это знаю и думаю, что ничто не удивило вас
больше, чем то, что в ней ничего не было сказано о страхе,
на который жалуется большинство нервнобольных, считая
его самым ужасным своим страданием, и который
действительно может достичь у них громадной интенсивности и
499
Зигмунд ФРЕЙД
привести к самым безумным поступкам. Но, по крайней
мере, в этом вопросе я не хотел быть кратким; напротив, я
решил особенно остро поставить проблему страха у
нервнобольных и подробно изложить ее вам.
Сам по себе страх мне не нужно вам представлять;
каждый из нас когда-нибудь на собственном опыте узнал это
ощущение или, правильнее говоря, это аффективное
состояние. Но я полагаю, что никто никогда достаточно серьезно
не спрашивал себя, почему именно нервнобольные
испытывают страх в гораздо большей степени, чем другие. Может
быть, это считали само собой разумеющимся; ведь обычно
слова «нервный» и «боязливый»! употребляют одно вместо
другого, как будто бы они означают одно и то же. Но мы не
имеем на это никакого права; есть боязливые люди, но вовсе
не нервные, и есть нервные, страдающие многими
симптомами, у которых нет склонности к страху.
Как бы там ни было, несомненно, что проблема страха —
узловой пункт, в котором сходятся самые различные и самые
важные вопросы, тайна, решение которой должно пролить
яркий свет на всю нашу душевную жизнь. Не стану
утверждать, что могу вам дать ее полное решение, но вы, конечно,
ожидаете, что психоанализ и к этой теме подходит
совершенно иначе, чем школьная медицина. Там, кажется,
интересуются прежде всего тем, какими анатомическими путями
осуществляется состояние страха. Это значит, что раздражается
Medulla oblongata2, и больной узнает, что страдает неврозом
блуждающего нерва. Medulla oblongata — очень серьезный и
красивый объект. Я хорошо помню, сколько времени и труда
посвятил его изучению много лет тому назад. Но сегодня я
должен вам сказать, что не знаю ничего, что было бы дальше
от психологического понимания страха, чем знание нервного
пути, по которому идут его импульсы.
1 В немецком языке «боязливый» (ängstlich) — прилагательное от слова
«страх» (Angst). В современной психологической литературе это слово
зачастую переводится как «тревожный». Мы сочли возможным в настоящем
издании перевести это слово как «боязливый», т. к. Фрейд употребляет это слово
в более общем значении (склонный к страху «вообще», а не только к
беспредметному страху, каким является тревога). — Примеч. ред. перевода.
2 Продолговатый мозг (лат.). — Примеч. ред. перевода.
500
Введение в психоанализ
О страхе можно много рассуждать, вообще не упоминая
нервозности. Вы меня сразу поймете, если такой страх я
назову реальным в противоположность невротическому.
Реальный страх является для нас чем-то вполне рациональным
и понятным. О нем мы скажем, что он представляет собой
реакцию на восприятие внешней опасности, т.е.
ожидаемого, предполагаемого повреждения, связан с рефлексом
бегства, и его можно рассматривать как выражение инстинкта
самосохранения. По какому поводу, т.е. перед какими
объектами и в каких ситуациях появляется страх, в большой
мере, разумеется, зависит от состояния нашего знания и от
ощущения собственной силы перед внешним миром. Мы
находим совершенно понятным, что дикарь боится пушки и
пугается солнечного затмения, в то время как белый
человек, умеющий обращаться с этим орудием и предсказать
данное событие, в этих условиях свободен от страха. В
другой раз именно большее знание вызовет страх, так как оно
позволяет заранее знать об опасности. Так, дикарь
испугается следов в лесу, ничего не говорящих неосведомленному,
но указывающих дикарю на близость хищного зверя, а
опытный мореплаватель будет с ужасом рассматривать облачко
на небе, кажущееся незначительным пассажиру, но
предвещающее моряку приближение урагана.
При дальнейшем размышлении следует признать, что
мнение о реальном страхе, будто он разумен и
целесообразен, нуждается в основательной проверке. Единственно
целесообразным поведением при угрожающей опасности
была бы спокойная оценка собственных сил по сравнению с
величиной угрозы и затем решение, что обещает большую
надежду на благополучный исход: бегство или защита, а
может быть, даже нападение. Но в таком случае для страха
вообще не остается места; все, что происходит, произошло бы
так же хорошо и, вероятно, еще лучше, если бы дело не
дошло до развития страха. Вы видите также, что если страх
чрезмерно силен, то он крайне нецелесообразен, он
парализует тогда любое действие, в том числе и бегство. Обычно
реакция на опасность состоит из смеси аффекта страха и
защитного действия. Испуганное животное боится и бежит,
но целесообразным при этом является бегство, а не боязнь.
501
Зигмунд ФРЕЙД
Итак, возникает искушение утверждать, что проявление
страха никогда не является чем-то целесообразным. Может
быть, лучшему пониманию поможет более тщательный
анализ ситуации страха. Первым в ней является готовность к
опасности, выражающаяся в повышенном сенсорном
внимании и моторном напряжении. Эту готовность ожидания
следует, не задумываясь, признать большим преимуществом, ее
же отсутствие может привести к серьезным последствиям.
Из нее исходит, с одной стороны, моторное действие,
сначала бегство, на более высокой ступени деятельная защита,
с другой стороны, то, что мы ощущаем как состояние
страха. Чем больше развитие страха ограничивается только
подготовкой, только сигналом, тем беспрепятственней
совершается переход готовности к страху в действие, тем
целесообразней протекает весь процесс. Поэтому в том, что мы
называем страхом, готовность к страху (Angstbereitschaft)1
кажется мне целесообразной, развитие же страха —
нецелесообразным.
Я избегаю подходить ближе к вопросу о том, имеют ли
в нашем языке слова «страх», «боязнь», «испуг» одинаковое
или разное значение. Я только полагаю, что «страх» (Angst)
относится к состоянию и не выражает внимания к
объекту, между тем как «боязнь» (Furcht) указывает как раз на
объект. Напротив, «испуг» (Schreck), кажется, имеет особый
смысл, а именно подчеркивает действие опасности, когда не
было готовности к страху. Так что можно было бы сказать,
что от испуга человек защищается страхом.
Известная многозначность и неопределенность
употребления слова «страх» не может ускользнуть от вас. Под
страхом по большей части понимают субъективное состояние,
в которое попадают благодаря ощущению «развития страха»
и называют его аффектом. А что такое аффект в
динамическом смысле? Во всяком случае, нечто очень сложное.
Аффект, во-первых, включает определенные моторные
иннервации или оттоки энергии, во-вторых, известные ощущения,
причем двоякого рода: восприятия состоявшихся моторных
1 В современной психологической литературе для обозначения этого
понятия употребляются термины -«тревога», «тревожность». — Примеч. ред. перев.
502
Введение в психоанализ
действий и непосредственные ощущения удовольствия и
неудовольствия, придающие аффекту, как говорят, основной
тон. Но я не думаю, чтобы это перечисление затрагивало бы
как-то сущность аффекта. При некоторых аффектах,
по-видимому, можно заглянуть глубже и узнать, что ядром,
объединяющим названный ансамбль, является повторение
какого-то определенного значительного переживания. Это
переживание могло бы быть лишь очень ранним впечатлением
весьма общего характера, которое нужно отнести к
доисторическому периоду не индивида, а вида. Другими словами,
аффективное состояние построено так же, как истерический
припадок, и, как и он, представляет собой осадок
воспоминания. Истерический припадок, таким образом, можно
сравнить со вновь образованным индивидуальным аффектом,
нормальный аффект — с выражением общей истерии,
ставшей наследственной.
Не думайте, что сказанное здесь об аффектах
является признанным достоянием обычной психологии. Напротив,
это взгляды, возникшие на почве психоанализа и
признанные только им. То, что вы можете узнать об аффектах в
психологии, например, теорию Джемса—Ланге, как раз для
нас, психоаналитиков, непонятно и не обсуждается. Но и
наше знание об аффектах мы тоже не считаем очень надежным;
это лишь первая попытка ориентировки в этой темной
области. Но продолжу: нам кажется, что мы знаем, какое
раннее впечатление повторяется при аффекте страха. Мы
полагаем, что это впечатление от акта рождения, при котором
происходит такое объединение неприятных впечатлений,
стремлений к разрядке [напряжения] и соматических
ощущений, которое стало прообразом воздействия смертельной
опасности и с тех пор повторяется у нас как состояние
страха. Невероятное повышение возбуждения вследствие
прекращения обновления крови (внутреннего дыхания) было тогда
причиной переживания страха, так что первый страх был
токсическим. Название «страх» (Angst) — angustiae, теснота,
теснина (Enge) — выделяет признак стеснения дыхания,
которое тогда было следствием реальной ситуации и теперь
почти постоянно воспроизводится в аффекте. Мы признаем
также весьма значительным то, что первое состояние страха
503
Зигмунд ФРЕЙД
возникло вследствие отделения от матери. Разумеется, мы
убеждены, что предрасположение к повторению первого
состояния страха так основательно вошло в организм
благодаря бесконечному ряду поколений, что отдельный индивид не
может избежать аффекта страха, даже если он, как
легендарный Макдуф, «был вырезан из тела матери», т.е. не знал
самого акта рождения. Мы не можем сказать, что является
прообразом страха у других млекопитающих животных. Мы
также не знаем, какой комплекс ощущений у этих созданий
эквивалентен нашему страху.
Может быть, вам интересно будет услышать, как можно
прийти к мысли, что акт рождения является источником и
прообразом аффекта страха. Умозрение принимало в этом
самое незначительное участие; скорее, я позаимствовал это
у наивного мышления народа. Когда много лет тому назад
мы, молодые больничные врачи, сидели за обеденным
столом в ресторане, ассистент акушерской клиники рассказал,
какая веселая история произошла на последнем экзамене
акушерок. Одну кандидатку спросили, что значит, когда при
родах в отходящей жидкости обнаруживается Mekonium
(первородный кал, экскременты), и она, не задумываясь,
ответила, что ребенок испытывает страх. Ее осмеяли и
срезали. Но я в глубине души встал на ее сторону и начал
догадываться, что несчастная женщина из народа правильным
чутьем открыла важную связь.
Теперь перейдем к невротическому страху: какие
формы проявления и отношения имеет страх у нервнобольных?
Тут можно многое описать. Во-первых, мы находим общую
боязливость, так сказать, свободный страх, готовый
привязаться к любому более или менее подходящему содержанию
представления, оказывающий влияние на суждение,
выбирающий ожидания, подстерегая любой случай, чтобы найти
себе оправдание. Мы называем это состояние «страхом
ожидания» или «боязливым ожиданием». Лица, страдающие
этим страхом, всегда предвидят из всех возможностей самую
страшную, считают любую случайность предвестником
несчастья, используют любую неуверенность в дурном смысле.
Склонность к такому ожиданию несчастья как черта
характера встречается у многих людей, которых нельзя назвать
504
Введение о психоанализ
больными, их считают слишком боязливыми или
пессимистичными; но необычная степень страха ожидания всегда
имеет отношение к нервному заболеванию, которое я назвал
«неврозом страха» и причисляю к актуальным неврозам.
Вторая форма страха, в противоположность только что
описанной, психически более связана и соединена с
определенными объектами или ситуациями. Это страх в форме
чрезвычайно многообразных и часто очень странных
«фобий». Стенли Холл, видный американский психолог, взял на
себя труд представить нам весь ряд этих фобий под
великолепными греческими названиями. Это звучит как
перечисление десяти египетских казней, но только их число
значительно превышает десять. Послушайте, что только не
может стать объектом или содержанием фобии: темнота,
свободное пространство, открытые площади, кошки, пауки,
гусеницы, змеи, мыши, гроза, острые предметы, кровь,
закрытые помещения, человеческая толпа, одиночество,
переход мостов, поездка по морю, по железной дороге и т. д. При
первой попытке сориентироваться в этом сумбуре можно
различить три группы. Некоторые из объектов и ситуаций,
внушающих страх, и для нас, нормальных людей, являются
чем-то жутким, имеют отношение к опасности, и поэтому
эти фобии кажутся нам понятными, хотя и
преувеличенными по своей силе. Так, большинство из нас испытывает
чувство отвращения при встрече со змеей. Фобия змей, можно
сказать, общечеловеческая, и Ч.Дарвин очень ярко описал,
как он не мог побороть страх перед приближающейся змеей,
хотя знал, что защищен от нее толстым стеклом. Ко второй
группе мы относим случаи, имеющие отношение к
опасности, в которых, однако, мы привыкли не придавать ей
значения и не выдвигать ее на первый план. Сюда относится
большинство ситуативных фобий. Мы знаем, что при
поездке по железной дороге возникает больше возможностей для
несчастного случая, чем дома, а именно вероятность
железнодорожного крушения; мы знаем также, что корабль может
пойти ко дну, и при этом, как правило, люди тонут, но мы
не думаем об этих опасностях и без страха путешествуем по
железной дороге и по морю. Нельзя также отрицать
возможность падения в реку, если мост рухнет в тот момент, когда
505
Зигмунд ФРЕЙД
его переходишь, но это случается так редко, что не
принимается во внимание как опасность. И одиночество имеет
свои опасности, и мы избегаем его при известных
обстоятельствах; но не может быть и речи о том, чтобы мы не
могли его вынести при каких-то условиях и всего лишь на
некоторое время. То же самое относится к человеческой
толпе, закрытому помещению, грозе и т. п. Что нас поражает в
этих фобиях невротиков — так это вообще не столько их
содержание, сколько интенсивность. Страх фобий прямо
неописуем! И иной раз у нас складывается впечатление, будто
невротики боятся вовсе не тех вещей и ситуаций, которые
при известных обстоятельствах и у нас могут вызвать страх,
а тех, которые они называют теми же именами.
Остается третья группа фобий, которые мы вообще не
можем понять. Если крепкий взрослый мужчина не может
от страха перейти улицу или площадь хорошо ему знакомого
родного города, если здоровая, хорошо развитая женщина
впадает в бессознательный страх, потому что кошка
коснулась края ее платья или через комнату прошмыгнула мышь,
то какую же мы можем здесь установить связь с опасностью,
которая, очевидно, все-таки существует для страдающих
фобиями? В относящихся сюда случаях фобии животных не
может быть и речи об общечеловеческих антипатиях, потому
что, как бы для демонстрации противоположного,
встречается множество людей, которые не могут пройти мимо кошки,
чтобы не поманить ее и не погладить. Мышь, которую так
боятся женщины, в то же время служит лучшим
ласкательным именем; иная девушка, с удовольствием слушая, как ее
называет так любимый, с ужасом вскрикивает, когда видит
милое маленькое существо с этим именем. В отношении
мужчины, страдающего страхом улиц или площадей, мы
можем дать единственное объяснение, что он ведет себя как
маленький ребенок. Благодаря воспитанию ребенка
непосредственно приучают избегать таких опасных ситуаций, и
наш агорафобик действительно освобождается от страха,
если его кто-нибудь сопровождает при переходе через площадь.
Обе описанные здесь формы страха, свободный страх
ожидания и страх, связанный с фобиями, независимы друг
от друга.
506
Введение о психоанализ
Один не является более высокой ступенью развития
другого, они встречаются вместе только в виде исключения и
то как бы случайно. Самая сильная общая боязливость не
обязательно проявляется в фобиях; лица, вся жизнь которых
ограничена агорафобией, могут быть совершенно свободны
от пессимистического страха ожидания. Некоторые фобии,
например страх площадей, страх перед железной дорогой,
приобретаются, бесспорно, лишь в зрелые годы, другие, как
страх перед темнотой, грозой, животными, по-видимому,
существовали с самого начала. Страхи первого рода похожи
на тяжелые болезни; последние кажутся скорее
странностями, капризами. У того, кто обнаруживает эти последние, как
правило, можно предположить и другие, аналогичные.
Должен прибавить, что все эти фобии мы относим к истерии
страха, т. е. рассматриваем их как заболевание, родственное
известной конверсионной истерии.
Третья из форм невротического страха ставит нас перед
той загадкой, что мы полностью теряем из виду связь между
страхом и угрожающей опасностью. Этот страх появляется,
например, при истерии, сопровождая истерические
симптомы, или в любых условиях возбуждения, когда мы, правда,
могли бы ожидать аффективных проявлений, но только не
аффекта страха, или в виде приступа свободного страха,
независимого от каких-либо условий и одинаково непонятного
как для нас, так и для больного. О какой-то опасности и
каком-то поводе, который мог бы быть раздут до нее
преувеличением, вовсе не может быть речи. Во время этих
спонтанных приступов мы узнаем, что комплекс, называемый
нами состоянием страха, способен расколоться на части. Весь
припадок может быть представлен отдельным, интенсивно
выраженным симптомом — дрожью, головокружением,
сердцебиением, одышкой, — а обычное чувство, по которому мы
узнаем страх, — отсутствовать или быть неясным, и все же
эти состояния, описанные нами как «эквиваленты страха»,
во всех клинических и этиологических отношениях можно
приравнять к страху.
Теперь возникают два вопроса. Можно ли невротический
страх, при котором опасность не играет никакой роли или
играет столь незначительную роль, привести в связь с реаль-
507
Зигмунд ФРЕЙД
ным страхом, всегда являющимся реакцией на опасность?
И как следует понимать невротический страх? Пока мы
будем придерживаться предположения: там, где есть страх,
должно быть также что-то, чего люди боятся.
Для понимания невротического страха клиническое
наблюдение дает нам некоторые указания, значения которых
я хотел бы вам изложить.
а) Нетрудно установить, что страх ожидания, или общая
боязливость, находится в тесной зависимости от
определенных процессов в сексуальной жизни, скажем, от
определенного использования либидо. Самый простой и поучительный
пример этого рода дают нам лица, подвергающиеся так
называемому неполному возбуждению, т. е. у которых сильные
сексуальные возбуждения не находят достаточного выхода,
не достигают удовлетворяющего конца. Так бывает,
например, у мужчин во время жениховства и у женщин, мужья
которых недостаточно потентны или из осторожности
сокращают или прерывают половой акт. В этих условиях либидоз-
ное возбуждение исчезает, а вместо него появляется страх
как в форме страха ожидания, так и в форме припадков и
их эквивалентов. Прерывание полового акта из
осторожности, став сексуальным режимом, так часто становится
причиной невроза страха у мужчин, но особенно у женщин, что во
врачебной практике рекомендуется в таких случаях в
первую очередь исследовать эту этиологию. При этом можно
бесчисленное множество раз убедиться, что, когда
прекращаются сексуальные отклонения, невроз страха исчезает.
Факт причинной связи между сексуальным
воздержанием и состоянием страха, насколько мне известно, более не
оспаривается даже врачами, которые далеки от
психоанализа. Однако могу себе хорошо представить, что будет сделана
попытка перевернуть отношение и защищать мнение, что
речь идет о лицах, изначально склочных к боязливости и
поэтому сдержанных в сексуальном отношении. Но против
этого со всей решительностью говорит поведение женщин,
сексуальные проявления которых, в сущности, пассивны по
природе, т. е. определяются обращением со стороны
мужчины. Чем женщина темпераментнее, чем более склонна к
половым сношениям и более способна к удовлетворению, тем
508
Введение в психоанализ
скорее она будет реагировать страхом на импотенцию
мужчины или на coitus interruptus1, между тем как то же самое
у холодных в половом отношении и малолибидозных
женщин играет гораздо меньшую роль.
То же самое значение для возникновения состояний
страха имеет так горячо рекомендуемое в настоящее время
врачами сексуальное воздержание, разумеется, лишь в тех
случаях, когда либидо, которому отказано в удовлетворяющем
выходе, в соответствующей степени сильно и не
переработано по большей части путем сублимации. Решающим
моментом для [возникновения] заболевания всегда являются
количественные факторы. И там, где дело касается не болезни, а
проявления характера, легко заметить, что сексуальное
ограничение идет рука об руку с известной боязливостью и опас-
ливостью, между тем как бесстрашие и смелая отвага
приводит к свободе действий для удовлетворения сексуальной
потребности. Как ни меняются и ни усложняются эти
отношения благодаря многообразным культурным влияниям, в
среднем остается фактом то, что страх связан с сексуальным
ограничением.
Я сообщил вам далеко не все наблюдения,
подтверждающие генетическую связь между либидо и страхом. Сюда еще
относится, например, влияние на возникновение страха
определенных периодов жизни, которым можно приписать
значительное повышение продукции либидо, как, например,
периода половой зрелости и менопаузы. В некоторых
состояниях возбуждения можно непосредственно наблюдать
смешение либидо и страха и в конце концов замещение либидо
страхом. Впечатление от всех этих фактов двоякое:
во-первых, что дело идет о накоплении либидо, которое лишается
своего нормального применения, во-вторых, что при этом
находишься исключительно в области соматических
процессов. Как из либидо возникает страх, сначала неясно,
констатируешь только, что либидо пропадает, а на его месте
появляется страх.
б) Второе указание мы берем из анализа психоневрозов,
в частности истерии. Мы слышали, что при этом заболе-
Прсрванный половой акт (лат.). — Примеч. пер.
509
Зигмунд ФРЕЙД
вании нередко наступает страх в сопровождении
симптомов, но также и несвязанный страх, проявляющийся в
виде припадка или длительного состояния. Больные не могут
сказать, чего они боятся, и связывают его путем явной
вторичной обработки с подходящими фобиями, типа фобий
смерти, сумасшествия, удара. Если мы подвергнем анализу
ситуацию, выступившую источником страха, или
сопровождаемые страхом симптомы, то, как правило, можем
указать, какой нормальный психический процесс не состоялся
и замещен феноменом страха. Выразимся иначе: мы строим
бессознательный процесс так, как будто он не подвергался
вытеснению и беспрепятственно продолжался в сознании.
Этот процесс тоже сопровождался бы определенным
аффектом, и тут мы узнаем, к своему удивлению, что этот
сопровождающий нормальный процесс аффект после вытеснения
в любом случае замещается страхом независимо от своего
качества. Следовательно, если перед нами истерическое
состояние страха, то его бессознательный коррелят может быть
проявлением сходного чувства, т. е. страха, стыда, смущения,
но точно так же положительным либидозным возбуждением
или враждебно-агрессивным вроде ярости и досады. Таким
образом, страх является ходкой монетой, на которую
меняются или могут обмениваться все аффекты, если
соответствующее содержание представления подлежит вытеснению.
в) Третий факт мы наблюдаем у больных с навязчивыми
действиями, которых страх удивительным образом как будто
бы пощадил. Но если мы попробуем помешать им исполнить
их навязчивое действие, их умывание, их церемониал или
если они сами решаются на попытку отказаться от
какой-либо из своих навязчивостей, то ужасный страх заставляет их
подчиниться этой навязчивости. Мы понимаем, что страх
был прикрыт навязчивым действием и оно выполнялось
лишь для того, чтобы избежать страха. При неврозе
навязчивых состояний страх, который должен был бы возникнуть,
замещается образованием симптомов, а если мы обратимся к
истерии, то при этом неврозе найдем аналогичное
отношение: результатом процесса вытеснения будет или развитие
чистого страха, или страха с образованием симптомов, или
более совершенное образование симптомов без страха. Так
510
Введение а психоанализ
что в отвлеченном смысле, по-видимому, правильнее сказать,
что симптомы вообще образуются лишь для того, чтобы
обойти неизбежное в противном случае развитие страха.
Благодаря такому пониманию страх как бы оказывается в центре
нашего интереса к проблемам неврозов.
Из наблюдений за неврозом страха мы заключили, что
отвлечение либидо от его нормального применения, из-за
чего возникает страх, происходит на почве соматических
процессов. Из анализов истерии и невроза навязчивых
состояний следует добавление, что такое же отвлечение с тем
же результатом может вызвать также отказ психических
инстанций. Вот все, что мы знаем о возникновении
невротического страха; это звучит еще довольно неопределенно. Но
пока я не вижу пути, который вел бы нас дальше. Вторую
поставленную перед нами задачу — установить связь между
невротическим страхом, являющимся ненормально
использованным либидо, и реальным страхом, который
соответствует реакции на опасность, кажется, еще труднее решить.
Хотелось бы думать, что речь идет о совершенно разных
вещах, однако у нас нет средства отличить по ощущению
реальный и невротический страх друг от друга.
Искомая связь наконец устанавливается, если мы
предположим наличие часто утверждавшейся противоположности
между Я и либидо. Как мы знаем, развитие страха является
реакцией Я на опасность и сигналом для обращения в
бегство; поэтому для нас естественно предположить, что при
невротическом страхе Я предпринимает такую попытку бегства
от требований своего либидо, относясь к этой внутренней
опасности так, как если бы она была внешней. Этим
оправдывается предположение, что там, где появляется страх, есть
также то, чего люди боятся. Но аналогию можно было бы
провести дальше. Подобно тому как попытка бегства от
внешней опасности сменяется стойкостью и целесообразными
мерами защиты, так и развитие невротического страха уступает
образованию симптомов, которое сковывает страх.
Теперь в процессе понимания возникает другое
затруднение. Страх, означающий бегство Я от своего либидо, сам,
однако, происходит из этого либидо. Это неясно и
напоминает о том, что, в сущности, либидо какого-то лица принад-
511
Зигмунд ФРЕЙД
лежит ему и не может противопоставляться как что-то
внешнее. Это еще темная для нас область топической динамики
развития страха, неизвестно, какие при этом расходуются
душевные энергии и из каких психических систем. Я не могу
обещать вам ответить и на эти вопросы, но не будем упускать
возможность пойти по двум другим путям и
воспользуемся при этом снова непосредственным наблюдением и
аналитическим исследованием, чтобы помочь нашим
умозрительным взглядам. Обратимся к возникновению страха у ребенка
и к происхождению невротического страха, связанного с
фобиями.
Боязливость детей является чем-то весьма обычным, и
достаточно трудно, по-видимому, различить, невротический
это страх или реальный. Больше того, ценность этого
различия ставится под вопрос поведением детей. Потому что,
с одной стороны, мы не удивляемся, если ребенок боится
всех чужих лиц, новых ситуаций и предметов, и очень легко
объясняем себе эту реакцию его слабостью и незнанием.
Таким образом, мы приписываем ребенку сильную склонность
к реальному страху и считали бы вполне целесообразным,
если бы он наследовал эту боязливость. В этом отношении
ребенок лишь повторял бы поведение первобытного
человека и современного дикаря, который вследствие своего
незнания и беспомощности боится всего нового и многого того,
что в настоящее время нам знакомо и уже не внушает
страха. И нашему ожиданию вполне соответствовало бы, если
бы фобии ребенка хотя бы отчасти оказывались теми же,
какие мы можем предположить в те первобытные времена
человеческого развития.
С другой стороны, нельзя не заметить, что не все дети
боязливы в равной мере и что как раз те дети, которые
проявляют особую пугливость перед всевозможными
объектами и ситуациями, впоследствии оказываются нервными.
Невротическая предрасположенность проявляется, таким
образом, и в явной склонности к реальному страху,
боязливость кажется чем-то первичным, и приходишь к
заключению, что ребенок, а позднее подросток боится
интенсивности своего либидо именно потому, что всего боится.
Возникновение страха из либидо тем самым как бы отрицается, а
512
Введение в психоанализ
если проследить условия возникновения реального страха,
то последовательно можно прийти к мнению, что сознание
собственной слабости и беспомощности —
неполноценности, по терминологии А. Адлера, — является конечной
причиной невроза, если это сознание переходит из детского
периода в более зрелый возраст.
Это звучит так просто и подкупающе, что имеет право
на наше внимание. Правда, это перенесло бы разрешение
загадки нервозности в другую плоскость. Сохранение
чувства неполноценности — а с ним и условия [для
возникновения] страха и образования симптомов — кажется таким
несомненным, что в объяснении скорее нуждается то, каким
образом, хотя бы в виде исключения, может иметь место все
то, что мы называем здоровьем. А что дает нам тщательное
наблюдение боязливости у детей? Маленький ребенок
боится прежде всего чужих людей; ситуации приобретают
значимость лишь благодаря участию в них лиц, а предметы
вообще принимаются во внимание лишь позднее. Но этих
чужих ребенок боится не потому, что предполагает у них
злые намерения и сравнивает свою слабость с их силой, т. е.
расценивает их как угрозу для своего существования,
безопасности и отсутствия боли. Такой недоверчивый,
напуганный господствующим в мире влечением к агрессии ребенок
является очень неудачной теоретической конструкцией.
Ребенок же пугается чужого образа, потому что настроен
увидеть знакомое и любимое лицо, в основном матери. В страх
превращается его разочарование и тоска, т.е. не нашедшее
применения либидо, которое теперь не может удерживаться
в свободном состоянии и переводится в страх. Вряд ли
может быть случайным, что в этой типичной для детского
страха ситуации повторяется условие [возникновения]
первого состояния страха во время акта рождения, а именно
отделение от матери.
Первые фобии ситуаций у детей — это страх перед
темнотой и одиночеством; первый часто сохраняется на всю
жизнь, в обоих случаях отсутствует любимое лицо, которое
за ним ухаживает, т.е. мать. Я слышал, как ребенок,
боявшийся темноты, кричал в соседнюю комнату: «Тетя,
поговори со мной, мне страшно». — «Но что тебе от этого? Ты
П-3518
513
Зигмунд ФРЕЙД
же меня не видишь». На что ребенок отвечает: «Когда кто-
то говорит, становится светлее». Тоска в темноте
преобразуется, таким образом, в страх перед темнотой. Мы далеки
от того, чтобы считать невротический страх лишь
вторичным и особым случаем реального страха, скорее, мы
убеждаемся, что у маленького ребенка в виде реального страха
проявляется нечто такое, что имеет с невротическим
страхом существенную общую черту — возникновение из
неиспользованного либидо. Настоящий, реальный страх ребенок
как будто мало испытывает. Во всех ситуациях, которые
позднее могут стать условиями [для возникновения]
фобий, — на высоте, на узком мостике над водой, при
поездке по железной дороге и по морю, — ребенок не проявляет
страха, и проявляет его тем меньше, чем более он несведущ.
Было бы очень желательно, если бы он унаследовал
побольше таких защищающих жизнь инстинктов; этим была бы
очень облегчена задача надзора [над ним], который должен
препятствовать тому, чтобы ребенок подвергался то одной,
то другой опасности. Но в действительности ребенок
сначала переоценивает свои силы и свободен от страха, потому
что не знает опасностей. Он будет бегать по краю воды,
влезать на карниз окна, играть с острыми предметами и с
огнем, короче, делать все, что может ему повредить и
вызвать беспокойство нянек. И если в конце концов у него
просыпается реальный страх, то это, несомненно, дело
воспитания, так как нельзя позволить, чтобы он научился
всему на собственном опыте.
Если встречаются дети, которые идут дальше по пути
этого воспитания страха, и сами затем находят опасности, о
которых их не предупреждали, то в отношении них вполне
достаточно объяснения, что в их конституции имелось
большее количество либидозной потребности или что они
преждевременно были избалованы либидозным удовлетворением.
Неудивительно, что среди этих детей находятся и будущие
нервнобольные; ведь мы знаем, что возникновение невроза
больше всего обусловливается неспособностью длительное
время выносить значительное накопление либидо. Вы
замечаете, что и конституциональный момент получает при этом
свои права, хотя в них ему, правда, мы никогда не отказы-
514
Введение в психоанализ
вали. Мы возражаем лишь против того, что из-за этого
притязания пренебрегают всеми другими и вводят
конституциональный фактор даже там, где ему, согласно общим
результатам наблюдения и анализа, не место либо он занимает по
значимости самое последнее место.
Позвольте нам обобщить сведения из наблюдений о
боязливости детей: инфантильный страх имеет очень мало
общего с реальным страхом и, наоборот, очень близок к
невротическому страху взрослых. Как и последний, он
возникает из неиспользованного либидо и замещает недостающий
объект любви внешним предметом или ситуацией.
Теперь вы с удовольствием услышите, что анализ фобий
не может дать много нового. При них, собственно,
происходит то же самое, что при детском страхе: неиспользованное
либидо беспрерывно превращается в кажущийся реальным
страх, и таким образом малейшая внешняя опасность
замещает требования либидо. В этом соответствии нет ничего
странного, потому что детские фобии являются не только
прообразом более поздних, причисляемых нами к истерии
страха, но и непосредственной их предпосылкой и
прелюдией. Любая истерическая фобия восходит к детскому страху
и продолжает его, даже если она имеет другое содержание и,
следовательно, должна быть иначе названа. Различие обоих
заболеваний кроется в [их] механизме. Для превращения
либидо в страх у взрослого недостаточно того, чтобы либидо в
форме тоски оказалось неиспользованным в данный момент.
Он давно научился держать его свободным и использовать
по-другому. Но если либидо относится к психическому
импульсу, подвергшемуся вытеснению, то создаются такие же
условия, как у ребенка, у которого еще нет разделения на
сознательное и бессознательное, и благодаря регрессии на
инфантильную фобию как бы открывается проход, по
которому легко осуществляется превращение либидо в страх. Как
вы помните, мы много говорили о вытеснении, но при этом
всегда прослеживали лишь судьбу подлежащего вытеснению
представления, разумеется, потому, что ее легче было узнать
и изложить. То, что происходит с аффектом, который был
связан с вытесненным представлением, мы оставляли в
стороне и только теперь узнали, что ближайшая участь этого
515
Зигмунд ФРЕЙД
аффекта состоит в превращении в страх, в форме которого
он всегда проявился бы при нормальном течении. Но это
превращение аффекта — гораздо более важная часть
процесса вытеснения. Об этом не так-то легко говорить, потому что
мы не можем утверждать, что существуют бессознательные
аффекты в том же смысле, как бессознательные
представления. Представление остается тем же независимо от того,
сознательно оно или бессознательно; мы можем указать, что
соответствует бессознательному представлению. Но об
аффекте, являющемся процессом разрядки [напряжения] (АЬ-
mhrvorgang), следует судить совсем иначе, чем о
представлении; что ему соответствует в бессознательном, нельзя сказать
без глубоких раздумий и выяснения наших предпосылок о
психических процессах. Этого мы здесь не можем
предпринять. Но давайте сохраним полученное впечатление, что
развитие страха тесно связано с системой бессознательного.
Я сказал, что превращение в страх, или, лучше, разрядка
(Abfuhr) в форме страха, является ближайшей участью
подвергнутого вытеснению либидо. Должен добавить: не
единственной или окончательной. При неврозах развиваются
процессы, стремящиеся связать это развитие страха, и это им
удается различными путями. При фобиях, например, можно
ясно различить две фазы невротического процесса. Первая
осуществляет вытеснение и перевод либидо в страх,
связанный с внешней опасностью. Вторая заключается в
выдвижении всех тех предосторожностей и предупреждений,
благодаря чему предотвращается столкновение с этой опасностью,
которая считается внешней. Вытеснение соответствует
попытке бегства Я от либидо, воспринимаемого как опасность.
Фобию можно сравнить с окопом против внешней
опасности, которую теперь представляет собой внушающее страх
либидо. Слабость системы защиты при фобиях заключается,
конечно, в том, что крепость, настолько укрепленная с
внешней стороны, остается открытой для нападения с внутренней.
Проекция либидозной опасности вовне никогда не может
удаться вполне. Поэтому при других неврозах
употребляются другие системы защиты против возможного развития
страха. Это очень интересная область психологии неврозов,
к сожалению, она уведет нас слишком далеко и предполагает
516
Введение в психоанализ
более основательные специальные знания. Я хочу добавить
еще только одно. Я уже говорил вам о «противодействии» \
к которому Я прибегает при вытеснении и должно
постоянно его поддерживать, чтобы вытеснение осуществилось. На
это противодействие возлагается миссия воплотить в жизнь
различные формы защиты против развития страха после
вытеснения.
Вернемся к фобиям. Теперь, пожалуй, я могу сказать; вы
понимаете, насколько недостаточно объяснять их только
содержанием, интересуясь лишь тем, откуда происходит то, что
тот или иной объект или какая-то ситуация становится
предметом фобии. Содержание фобии имеет для нее примерно то
же значение, какое явная часть сновидения для всего
сновидения. Соблюдая необходимые ограничения, следует
признать, что среди этих содержаний фобий находятся такие,
которые, как подчеркивает Стенли Холл, могут стать объектами
страха благодаря филогенетическому унаследованию. С этим
согласуется и то, что многие из этих внушающих страх вещей
могут иметь с опасностью только символическую связь.
Так мы убедились, какое, можно сказать, центральное
место среди вопросов психологии неврозов занимает проблема
страха. На нас произвело сильное впечатление то, насколько
развитие страха связано с судьбами либидо и с системой
бессознательного. Только один момент мы воспринимаем
как выпадающий из связи, как пробел в нашем
понимании, — это тот трудно оспариваемый факт, что реальный
страх должен рассматриваться как проявление инстинктов
самосохранения Я.
Двадцать шестая лекция
Теория либидо и нарциссизм
Уважаемые дамы и господа! Мы неоднократно и лишь
недавно вновь имели дело с разделением инстинктов Я и
сексуальных влечений. Сначала вытеснение нам показало,
1 «Контрзаполнения» [энергией].
517
Зигмунд ФРЕЙД
что они могут вступить в противоречие друг с другом, что
затем, формально побежденные, сексуальные влечения
вынуждены получать удовлетворение регрессивными
обходными путями, компенсируя при этом свое поражение своей
непреодолимостью. Далее мы узнали, что они с самого
начала по-разному относятся к
воспитательнице-необходимости, так что проделывают неодинаковое развитие и имеют
неодинаковое отношение к принципу реальности. Наконец,
мы полагаем, что сексуальные влечения связаны с
аффективным состоянием страха гораздо более тесными узами,
чем инстинкты Я, — результат, который кажется неполным
только в одном важном пункте. Поэтому для его
дополнительного подтверждения мы хотим привлечь достойный
внимания факт, что неудовлетворение голода и жажды, двух
самых элементарных инстинктов самосохранения, никогда
не ведет к возникновению страха, между тем как
превращение в страх неудовлетворенного либидо, как мы знаем,
принадлежит к числу самых известных и чаще всего
наблюдаемых феноменов.
Но нельзя отменить наше право разделять инстинкты
Я и сексуальные влечения. Оно дано вместе с
существованием сексуальной жизни как особой деятельности
индивида. Можно лишь спросить, какое значение мы придаем
этому разделению, насколько существенным считаем его. Но
ответ на этот вопрос будет зависеть от определения того,
насколько иначе ведут себя сексуальные влечения в
соматических и душевных проявлениях по сравнению с другими,
которые мы противопоставляем им, и насколько
значительны последствия этих различий. Настаивать на
существенном, хотя и не очень уловимом различии обеих групп
влечений, у нас, разумеется, нет никаких оснований. Обе
группы выступают перед нами лишь как названия источников
энергии индивида, и дискуссия о том, являются ли они в
основе одним и тем же или существенно различным (и если
одним, то где они отделились друг от друга?), должна
вестись не о понятиях, а о биологических фактах, стоящих за
ними. Об этом мы пока знаем слишком мало, а если бы даже
знали больше, то к нашей аналитической задаче это не
имело бы отношения.
518
Введение в психоашишз
Мы, очевидно, также очень мало выиграем, если по
примеру Юнга подчеркнем первоначальное единство всех
влечений и назовем «либидо» проявляющуюся во всем
энергию. Так как сексуальную функцию нельзя устранить из
душевной жизни никакими искусственными приемами, то
мы были бы вынуждены тогда говорить о сексуальном и
асексуальном либидо. Однако для движущих сил
сексуальной жизни сохраним по праву, как мы это и делали до сих
пор, название либидо.
Я думаю поэтому, что вопрос о том, как далеко следует
вести несомненно оправданное разделение на сексуальные
влечения и инстинкты самосохранения, для психоанализа
большого значения не имеет, да он и не компетентен в этом.
Со стороны биологии, разумеется, есть различные
основания считать это разделение чем-то важным. Ведь
сексуальность — единственная функция живого организма,
выходящая за пределы индивида и обеспечивающая его связь с
видом. Несомненно, что ее выполнение не всегда приносит
пользу отдельному существу, как его другие функции, а
ценой необыкновенно высокого наслаждения подвергает
опасностям, угрожающим жизни и довольно часто лишающим
ее. Вероятно, необходимы также совершенно особые,
отличные от всех других процессы обмена веществ, чтобы
сохранять для потомства часть индивидуальной жизни в виде
предрасположений. И наконец, отдельное существо,
которое, как другие, считает себя самым главным, а свою
сексуальность средством своего удовлетворения, с биологической
точки зрения лишь эпизод в ряду поколений,
кратковременный придаток зародышевой плазмы, наделенной
виртуальной бессмертностью, подобно временному владельцу
майоратного имущества, которое его переживает.
Однако для психоаналитического объяснения неврозов
не нужны столь широкие обобщения. С помощью
исследования в отдельности сексуальных влечений и инстинктов
Я мы нашли ключ к пониманию группы неврозов
перенесения. Мы сумели объяснить их основным положением, что
сексуальные влечения вступают в борьбу с инстинктами
сохранения или, выражаясь биологическим языком, хотя и
менее точно, что одна позиция Я как самостоятельного отдель-
519
Зигмунд ФРЕЙД
ного существа противоречит другой его позиции как звена
в цепи поколений. Возможно, что до такого раздвоения дело
доходит только у человека, и поэтому в общем и целом
невроз является его преимуществом перед животными.
Слишком сильное развитие его либидо и ставшее, по-видимому,
благодаря этому возможным богатое развитие
многообразной душевной жизни, как кажется, создали условия для
возникновения такого конфликта. Совершенно очевидно, что в
этом заключаются также условия его больших успехов,
которые поставили человека над его общностью с животными,
так что его способность к неврозу — это только обратная
сторона его одаренности в остальном. Но и это лишь
умозаключения, отвлекающие нас от нашей задачи.
До сих пор предпосылкой нашей работы выступало то,
что мы можем отличить друг от друга стремления Я и
сексуальные влечения по их проявлениям. При неврозах
перенесения это удавалось без труда. Энергию, направляемую Я
на объекты сексуальных стремлений, мы называли «либидо»,
все другие виды энергии, исходящие из инстинктов
самосохранения, — «интересом», и мы могли получить первое
представление о механизме душевных сил благодаря наблюдению
за привязанностями либидо, их превращениями и
окончательной судьбой. Неврозы перенесения предоставили нам для
этого самый подходящий материал. Но Я, его состав из
различных структур, их организация и способ
функционирования оставались скрытыми от нас, и мы могли предполагать,
что только анализ других невротических нарушений помог
бы нам это понять.
Мы давно начали распространять психоаналитические
взгляды на понимание этих других заболеваний. Уже в
1908 г. после обмена мнениями со мной К. Абрахам высказал
положение, что главной чертой Dementia praecox
[причисляемой к психозам] является то, что при ней отсутствует
привязанность либидо (Libidobesetzung) к объектам
(«Психосексуальные различия истерии и Dementia praecox»). Но
тогда возник вопрос, что же происходит с либидо слабоумных,
которое отвернулось от объектов? Абрахам не замедлил дать
ответ: оно обращается на Я, и это отраженное обращение
является источником бреда величия при Dementia praecox.
520
Введение в психоанализ
Бред величия, безусловно, можно сравнить с известной в
(нормальной) любовной жизни сексуальной переоценкой
объекта любви. Так нам впервые удалось понять какую-то
черту психотического заболевания по связи с нормальной
любовной жизнью.
Скажу сразу, что эти первые взгляды Абрахама
сохранились в психоанализе и были положены в основу нашей
позиции по отношению к психозам. Со временем укрепилось
представление, что либидо, которое мы находим привязанным
к объектам, которое является выражением стремления
получить удовлетворение от этих объектов, может оставить эти
объекты и поставить на их место собственное Я;
постепенно это представление развивалось со все большей
последовательностью. Название для такого размещения либидо —
нарциссизм — мы заимствовали из описанного П. Некке ( 1899)
извращения, при котором взрослый индивид дарит своему
собственному телу все нежности, обычно проявляемые к
постороннему сексуальному объекту.
Но вскоре говоришь себе, что если существует такая
фиксация либидо на собственном теле и собственной
личности вместо объекта, то это не может быть
исключительным и маловажным явлением. Гораздо вероятнее, что этот
нарциссизм — общее и первоначальное состояние, из
которого только позднее развилась любовь к объекту, причем
из-за этого нарциссизм вовсе не должен исчезнуть. Из
истории развития объект-либидо нужно вспомнить, что
многие сексуальные влечения сначала удовлетворяются на
собственном теле, как мы говорим, аутоэротически и что эта
способность к аутоэротизму является причиной отставания
развития сексуальности при воспитании по принципу
реальности. Таким образом, аутоэротизм был сексуальным
проявлением нарцисстической стадии размещения либидо.
Короче говоря, мы составили себе представление об
отношении Я-либидо и объект-либидо, которое я могу
показать вам наглядно на сравнении из зоологии. Вспомните о
тех простейших живых существах, состоящих из малодиф-
ференцированного комочка протоплазматической
субстанции. Они протягивают отростки, называемые
псевдоподиями, в которые переливают субстанцию своего тела. Вытяги-
521
Зигмунд ФРЕЙД
вание отростков мы сравниваем с распространением либидо
на объекты, между тем как основное количество либидо
может оставаться в Я, и мы предполагаем, что в нормальных
условиях Я-либидо беспрепятственно переходит в объект-
либидо, а оно опять может вернуться в Я.
С помощью этих представлений мы теперь можем
объяснить целый ряд душевных состояний или, выражаясь
скромнее, описать их на языке теории либидо; это
состояния, которые мы должны причислить к нормальной жизни,
как, например, психическое поведение при влюбленности,
при органическом заболевании, во сне. Для состояния сна
мы сделали предположение, что оно основано на уходе от
внешнего мира и установке на желание спать. То, что
проявлялось во сне как ночная душевная деятельность, служит,
как мы обнаружим, желанию спать и, кроме того, находится
во власти исключительно эгоистических мотивов. Теперь в
соответствии с теорией либидо мы заявляем, что сон есть
состояние, в котором все привязанности к объектам, как
либидозные, так и эгоистические, оставляются и возвращаются
в Я. Не проливается ли этим новый свет на отдых во сне и
на природу усталости вообще? Впечатление блаженной
изоляции во внутриутробной жизни, которое вызывает у нас
спящий каждую ночь, восполняется, таким образом, и со
стороны психики. У спящего восстановилось первобытное
состояние распределения либидо, полный нарциссизм, при
котором либидо и интерес Я живут еще вместе и
нераздельно в самоудовлетворяющемся Я.
Здесь уместны два замечания. Во-первых, чем
отличаются понятия нарциссизм и эгоизм? Я полагаю, что
нарциссизм является либидозным дополнением эгоизма. Когда
говорят об эгоизме, имеют в виду только пользу для
индивида; говоря о нарциссизме, принимают во внимание и его
либидозное удовлетворение. В качестве практических
мотивов их можно проследить порознь на целом ряде явлений.
Можно быть абсолютно эгоистичным и все-таки иметь
сильные либидозные привязанности к объектам, поскольку
либидозное удовлетворение от объекта относится к
потребностям Я. Эгоизм будет следить тогда за тем, чтобы
стремление к объекту не причинило вреда Я. Можно быть эгоис-
522
Введение в психоанализ
тичным и при этом также очень нарцисстичным, т. е. иметь
очень незначительную потребность в объекте, и это опять-
таки или в прямом сексуальном удовлетворении, или
также в тех высоких, исходящих из сексуальной
потребности стремлениях, которые мы как «любовь» иногда имеем
обыкновение противопоставлять «чувственности». Во всех
этих отношениях эгоизм является само собой
разумеющимся, постоянным, нарциссизм же — меняющимся элементом.
Противоположность эгоизма — альтруизм — как понятие не
совпадает с либидозной привязанностью к объектам, он
отличается от нее отсутствием стремлений к сексуальному
удовлетворению. Но при сильной влюбленности альтруизм
совпадает с либидозной привязанностью к объектам.
Обыкновенно сексуальный объект привлекает к себе часть
нарциссизма Я, что становится заметным по так называемой
«сексуальной переоценке» объекта. Если к этому
прибавляется еще альтруистическое перенесение от эгоизма на
сексуальный объект, то сексуальный объект становится
могущественным; он как бы поглотил Я.
Я думаю, вы сочтете за отдых, если после сухой, в
сущности, фантастики науки я приведу вам поэтическое
изображение экономической противоположности нарциссизма
и влюбленности. Я заимствую его из
«Западно-восточного дивана» Гёте:
Зулейка
Раб, народ и угнетатель
Вечны в беге наших дней.
Счастлив мира обитатель
Только личностью своей.
Жизнь расходуй как сумеешь,
Но иди своей тропой.
Всем пожертвуй, что имеешь,
Только будь самим собой.
Хатем
Да, я слышал это мненье,
Но иначе я скажу:
Счастье, радость, утешенье —
Все в Зулейке нахожу.
Чуть она мне улыбнется —
523
Зигмунд ФРЕЙД
Мне себя дороже нет.
Чуть, нахмурясь, отвернется —
Потерял себя и след.
Хатем кончился б на этом.
К счастью, он сообразил:
Надо срочно стать поэтом
Иль другим, кто все ж ей мил.
(Перевод В. Левина)
Второе замечание является дополнением к теории
сновидений. Мы не можем объяснить себе возникновение
сновидения, если не предположим, что вытесненное
бессознательное получило известную независимость от Я, так что оно не
подчиняется желанию спать и сохраняет свои
привязанности, даже если все зависящие от Я привязанности к объектам
оставлены ради сна. Только в этом случае можно понять,
что это бессознательное имеет возможность
воспользоваться ночным отсутствием или уменьшением цензуры и умеет
овладеть остатками дневных впечатлений, для того чтобы
образовать из их материала запретное желание сновидения.
С другой стороны, и остатки дневных впечатлений частью
своего противодействия предписанному желанием спать
оттоку либидо обязаны уже существующей связи с этим
бессознательным. Эту динамически важную черту мы хотим
дополнительно включить в наше представление об
образовании сновидений.
Органическое заболевание, болезненное раздражение,
воспаление органов создают состояние, имеющее
последствием явное отделение либидо от его объектов. Отнятое
либидо снова находится в Я в форме усилившейся
привязанности к заболевшей части тела. Можно даже решиться на
утверждение, что в этих условиях отход либидо от своих
объектов бросается в глаза больше, чем утрата
эгоистического интереса к внешнему миру. Отсюда как будто
открывается путь к пониманию ипохондрии, при которой какой-
то орган подобным образом занимает Я, не будучи больным
с нашей точки зрения.
Но я устою перед искушением идти дальше или
обсуждать другие ситуации, которые становятся понятными нам
или легко поддаются описанию благодаря предположению
524
Введение в психоанализ
перехода объект-либидо в Я, потому что мне не терпится
дать ответ на два возражения, которые, как мне известно,
вас теперь занимают. Во-первых, вы хотите потребовать от
меня объяснений, почему я непременно хочу различать в
случаях сна, болезни и тому подобных ситуациях либидо
и интерес, сексуальные влечения и инстинкты Я, тогда как
наблюдения вполне позволяют обойтись предположением
[о существовании] одной однородной энергии, которая,
являясь подвижной, заполняет то объект, то Я, выступая на
службе то одного, то другого влечения. И во-вторых, как я
могу решиться рассматривать отделение либидо от объекта
в качестве источника патологического состояния, если такой
переход объект-либидо в Я-либидо — или, говоря более
обще, в энергию Я — относится к нормальным, ежедневно и
еженощно повторяющимся процессам душевной динамики.
На это можно ответить: ваше первое возражение звучит
хорошо. Объяснение состояний сна, болезни, влюбленности
само по себе, вероятно, никогда не привело бы нас к
различению Я-либидо и объект-либидо или либидо и интереса.
Но при этом вы пренебрегаете исследованиями, из которых
мы исходили и в свете которых теперь рассматриваем
обсуждаемые душевные ситуации. Различение между либидо
и интересом, т.е. между сексуальными влечениями и
инстинктами самосохранения, стало необходимым благодаря
пониманию конфликта, из-за которого происходят неврозы
перенесения. После этого мы не можем вновь отказаться от
него. Предположение, что объект-либидо может
превратиться в Я-либидо, так что с Я-либидо приходится считаться,
казалось нам единственно способным разрешить загадку так
называемых нарцисстических неврозов, например Dementia
praecox, и уяснить их сходства и различия в сравнении с
истерией и навязчивыми состояниями. В случаях болезни,
сна и влюбленности мы применяем теперь то, что нашли
вполне оправданным в другом месте. Мы можем
продолжить это применение и посмотреть, чего мы этим достигнем.
Единственное утверждение, не являющееся прямым
отражением нашего аналитического опыта, состоит в том, что
либидо остается либидо, независимо от того, направлено ли
оно на объекты или на собственное Я, и оно никогда не
525
Зигмунд ФРЕЙД
превращается в эгоистический интерес, как не бывает и
обратного. Но это утверждение равноценно разделению
сексуальных влечений и инстинктов Я, уже оцененному
критически, которого мы будем придерживаться из эвристических
мотивов, пока оно, быть может, не окажется неправильным.
И второе ваше возражение содержит справедливый
вопрос, но идет по ложному пути. Разумеется, переход объект-
либидо в Я не является непосредственно патогенным; ведь
мы знаем, что он предпринимается каждый раз перед
отходом ко сну, чтобы проделать обратный путь при
пробуждении. Мельчайшее животное, состоящее из протоплазмы,
втягивает свои отростки, чтобы снова выпустить их при
следующем поводе. Но совсем другое дело, если какой-то
определенный очень энергичный процесс вынуждает отнять
либидо у объекта. Тогда ставшее нарцисстическим либидо
может не найти обратного пути к объектам, и это нарушение
подвижности либидо становится, конечно, патогенным.
Кажется, что скопление нарцисстического либидо сверх
определенной меры нельзя вынести. Мы можем себе также
представить, что именно поэтому дело дошло до привязанности
к объектам, что Я должно было отдать свое либидо, чтобы
не заболеть от его скопления. Если бы в наши планы
входило подробное изучение Dementia praecox, я бы вам
показал, что процесс, отделяющий либидо от объектов и
преграждающий ему обратный путь, близок к процессу
вытеснения и должен рассматриваться как дополнение к нему. Но
прежде всего вы почувствовали бы знакомую почву под
ногами, узнав, что условия этого процесса почти идентичны —
насколько мы пока знаем — условиям вытеснения.
Конфликт, по-видимому, тот же самый и разыгрывается между
теми же силами. А если исход иной, чем, например, при
истерии, то причина может быть только в различии
предрасположения. Развитие либидо у этих больных имеет
слабое место в другой своей фазе; столь важная фиксация,
которая пролагает, как вы помните, путь к образованию
симптомов, находится где-то в другом месте, вероятно, на стадии
примитивного нарциссизма, к которому в своем конечном
итоге возвращается Dementia praecox. Весьма достойно
внимания то, что для всех нарцисстических неврозов мы долж-
526
Введение в психоанализ
ны предположить фиксацию либидо на гораздо более
ранних фазах, чем при истерии или неврозе навязчивых
состояний. Но вы слышали, что понятия, выработанные нами при
изучении неврозов перенесения, оказались достаточными и
для ориентации в гораздо более тяжелых в практическом
отношении нарцисстических неврозах. Черты сходства идут
очень далеко; в сущности, это та же область явлений. Но вы
можете себе также представить, каким безнадежным кажется
объяснение этих заболеваний, относящихся уже к
психиатрии, тому, у кого для решения этой задачи недостает
аналитического представления о неврозах перенесения.
Картина симптомов Dementia praecox, впрочем очень
изменчивая, определяется не исключительно симптомами,
возникающими вследствие оттеснения либидо от объектов и
его скопления в виде нарцисстического либидо в Я.
Большое место занимают другие феномены, которые сводятся к
стремлению либидо вновь вернуться к объектам, т.е.
соответствуют попытке восстановления или выздоровления. Эти
шумливые симптомы даже больше бросаются в глаза; они
обнаруживают несомненное сходство с симптомами истерии
или — реже — невроза навязчивых состояний, но
отличаются от них во всех отношениях. Кажется, что либидо при
Dementia praecox в своем стремлении снова вернуться к
объектам, т. е. к представлениям объектов, действительно что-то
улавливает от них, но как бы только их тени, я имею в виду
относящиеся к ним словесные представления. Здесь я
больше не могу говорить об этом, но полагаю, что такое
поведение стремящегося обратно либидо позволяет нам понять,
что действительно составляет различие между сознательным
и бессознательным представлением.
Я ввел вас в область, где следует ожидать новых успехов
аналитической работы. С тех пор как мы решились
пользоваться понятием Я-либидо, нам стали доступны нарциссти-
ческие неврозы; возникла задача найти динамическое
объяснение этих заболеваний и одновременно пополнить наше
знание душевной жизни пониманием Я. Психология Я, к
которой мы стремимся, должна основываться не на данных
наших самонаблюдений, а, как и в случае либидо, на анализе
нарушений и распадов Я. Вероятно, когда будет проделана
527
Зигмунд ФРЕЙД
эта большая работа, мы будем невысокого мнения о нашем
нынешнем знании о судьбах либидо, почерпнутом из
изучения неврозов перенесения. Но ведь мы еще и не
продвинулись в ней далеко. Нарцисстические неврозы едва ли
проницаемы для той техники, которой мы пользовались при
изучении неврозов перенесения. Вы скоро узнаете почему.
Здесь у нас всегда происходит так, что после короткого
продвижения вперед мы оказываемся перед стеной,
заставляющей нас остановиться. Вам известно, что и при неврозах
перенесения мы наталкивались на подобные препятствия, но
нам удавалось устранять их по частям. При нарцисстичес-
ких неврозах сопротивление непреодолимо; в лучшем
случае мы можем лишь бросить любопытный взгляд за стену,
чтобы подглядеть, что происходит по ту ее сторону. Наши
технические методы должны быть, таким образом, заменены
другими; мы еще не знаем, удастся ли нам такая замена. Но
и эти больные дают достаточно материала для нас. Они
много говорят о себе, хотя и не отвечают на наши вопросы,
и пока мы вынуждены толковать эти высказывания с
помощью представлений, приобретенных благодаря изучению
симптомов неврозов перенесения. Сходство достаточно
велико, чтобы обеспечить нам начальный успех. Вопрос,
насколько достаточной будет эта техника, остается открытым.
Возникают и другие затруднения, мешающие нашему
продвижению вперед. Нарцисстические заболевания и
примыкающие к ним психозы могут быть разгаданы только теми
наблюдателями, которые прошли школу аналитического
изучения неврозов перенесения. Но наши психиатры не изучают
психоанализ, а мы, психоаналитики, слишком мало
наблюдаем психиатрических случаев. Должно еще подрасти
поколение психиатров, прошедших школу психоанализа как
подготовительной науки. Начало этому положено в настоящее
время в Америке, где очень многие ведущие психиатры читают
студентам лекции о психоаналитическом учении, а владельцы
лечебных учреждений и директора психиатрических больниц
стремятся вести наблюдения за своими больными в духе
этого учения. Да и нам удалось здесь несколько раз заглянуть за
нарцисстическую стену, и в дальнейшем я хочу рассказать
вам кое-что из того, что нам, кажется, удалось подсмотреть.
528
Введение в психоанализ
Форма заболевания паранойей, хроническим
систематическим умопомешательством, при попытках классификации
в современной психиатрии не занимает определенного
места. Между тем ее близкое сходство с Dementia praecox не
подлежит никакому сомнению. Однажды я позволил себе
предложить объединить паранойю и Dementia praecox под
общим названием парафрения. По их содержанию формы
паранойи описываются как: бред величия, бред
преследования, любовный бред (эротомания), бред ревности и т.д. От
психиатрии попыток объяснения мы не ждем. В качестве
образца таковой, хотя и устаревшего и не совсем
полноценного примера, приведу вам попытку вывести один симптом
из другого посредством интеллектуальной рационализации:
больной, который по первичной склонности считает, что его
преследуют, должен делать из этого преследования вывод,
что он представляет из себя особенно важную личность и
поэтому у него развивается бред величия. Для нашей
аналитической точки зрения бред величия является
непосредственным следствием возвеличивания Я из-за отнятия ли-
бидозных привязанностей у объектов, вторичным
нарциссизмом как возвращением к первоначальному нарциссизму
раннего детства. Но на [материале] случаев бреда
преследования мы сделали некоторые наблюдения, которые заставили
нас пойти по определенному пути. Сначала нам бросилось в
глаза, что в преобладающем большинстве случаев
преследователь был того же пола, что и преследуемый. Этому еще
можно было дать невинное объяснение, но в некоторых
хорошо изученных случаях явно обнаружилось, что лицо того
же пола, наиболее любимое в обычное время, с момента
заболевания превратилось в преследователя. Дальнейшее
развитие возможно благодаря тому, что любимое лицо
заменяется другим по известному сходству, например, отец
учителем, начальником. Из таких примеров, число которых все
увеличивается, мы пришли к выводу, что Paranoia persecuto-
ria1 — это форма, в которой индивид защищается от
гомосексуального чувства, ставшего слишком сильным.
Превращение нежности в ненависть, которая, как известно, может
Брел преследования (лат.). — Примеч. ред. перевода.
529
Зигмунд ФРЕЙД
стать серьезной угрозой для жизни любимого и ненавистного
объекта, соответствует превращению либидозных импульсов
в страх, являющийся постоянным результатом процесса
вытеснения. Вот, например, последний случай моих
наблюдений такого рода. Одного молодого врача пришлось выслать
из его родного города, потому что он угрожал жизни сына
профессора из того же города, бывшего до того его лучшим
другом. Этому прежнему другу он приписывал поистине
дьявольские намерения и демоническое могущество. Он был
виновником всех несчастий, постигших за последние годы
семью больного, всех семейных и социальных неудач. Но
мало того, злой друг и его отец, профессор, вызвали войну
и привели в страну русских. За это он тысячу раз должен
был бы поплатиться жизнью, и наш больной был убежден,
что со смертью преступника наступил бы конец всем
несчастьям. И все-таки его прежняя нежность к нему была
настолько сильна, что парализовала его руку, когда ему
однажды представился случай подстрелить врага на самом
близком расстоянии. В коротких беседах, которые были у меня
с больным, выяснилось, что дружеские отношения между
обоими начались давно, в гимназические годы. По меньшей
мере один раз были перейдены границы дружбы;
проведенная вместе ночь была поводом для полного сексуального
сношения. К женщинам наш пациент никогда не испытывал тех
чувств, которые соответствовали его возрасту и его
привлекательности. Один раз он был обручен с красивой и знатной
девушкой, но та расстроила помолвку, так как не встретила
нежности со стороны своего жениха. Годы спустя его болезнь
разразилась как раз в тот момент, когда ему в первый раз
удалось полностью удовлетворить женщину. Когда эта
женщина с благодарностью и в самозабвении обняла его, он
вдруг почувствовал загадочную боль, которая прошла как
острый надрез вокруг крышки черепа. Позднее он
истолковал это ощущение так, будто ему сделали надрез, которым
открывают мозг при вскрытии, а так как его друг стал
патологоанатомом, то постепенно он открыл, что только тот мог
подослать ему эту женщину для искушения. С тех пор у него
открылись глаза и на другие преследования, жертвой
которых он стал благодаря действиям бывшего друга.
530
Введение о психоанализ
Но как же быть в тех случаях, когда преследователь не
одного пола с преследуемым, которые, кажется, противоречат
нашему объяснению защиты от гомосексуального либидо?
Недавно у меня была возможность исследовать такой случай,
и в кажущемся противоречии я мог обнаружить
подтверждение. Молодая девушка, считавшая, что ее преследует
мужчина, с которым она имела два нежных свидания, в
действительности сначала имела бредовую идею по отношению к
женщине, которую можно считать заместительницей матери. Только
после второго свидания она сделала шаг вперед и, отделив
эту бредовую идею от женщины, перенесла ее на мужчину.
Таким образом, условие наличия того же пола у
преследователя первоначально было соблюдено и в этом случае. В своей
жалобе другу-наставнику и врачу пациентка не упомянула об
этой предварительной стадии бреда и этим создала видимость
противоречия нашему пониманию паранойи.
Гомосексуальный выбор объекта первоначально ближе к
нарциссизму, чем гетеросексуальный. Если затем
необходимо отвергнуть нежелательно сильное гомосексуальное
чувство, то обратный путь к нарциссизму особенно легок. До
сих пор у меня было очень мало поводов говорить с вами
об основах любовной жизни, насколько мы их узнали, я и
теперь не могу это восполнить. Хочу лишь подчеркнуть, что
выбор объекта, шаг вперед в развитии либидо, который
делается после нарцисстической стадии, может осуществиться
по двум различным типам. Или по нарцисстическому типу,
когда на место собственного Я выступает возможно более
похожий на него объект, или по типу опоры, когда
лица, ставшие дорогими благодаря удовлетворению других
жизненных потребностей, выбираются и объектами либидо.
Сильную фиксацию либидо на нарцисстическом типе
выбора объектов мы включаем также в предрасположенность
к открытой гомосексуальности.
Вы помните, что во время первой нашей встречи в этом
семестре я рассказал вам случай бреда ревности у женщины.
Теперь, когда мы так близки к концу, вы, конечно, хотели
бы услышать, как мы психоаналитически объясняем
бредовую идею. Но по этому поводу я могу вам сказать меньше,
чем вы ожидаете. Непроницаемость бредовой идеи так же,
531
Зигмунд ФРЕЙД
как и навязчивого состояния для логических аргументов и
реального опыта объясняется отношением к
бессознательному, которое представляется и подавляется бредовой или
навязчивой идеей. Различие между ними основано на
различной топике и динамике обоих заболеваний.
Как при паранойе, так и при меланхолии, которая
представлена, между прочим, весьма различными клиническими
формами, мы нашли место, с которого можно заглянуть во
внутреннюю структуру заболевания. Мы узнали, что
самоупреки, которыми эти меланхолики мучают себя самым
беспощадным образом, в сущности, относятся к другому лицу,
сексуальному объекту, который они утратили или который по
своей вине потерял для них значимость. Отсюда мы могли
заключить, что хотя меланхолик и отвел свое либидо от
объекта, но благодаря процессу, который следует назвать «нар-
цисстической идентификацией», объект воздвигнут в самом
Я, как бы спроецирован на Я. Здесь я могу вам дать лишь
образную характеристику, а не топико-динамическое
описание. Тогда с собственным Я обращаются, как с оставленным
объектом, и оно испытывает на себе все агрессии и
проявления мстительности, предназначавшиеся объекту. И
склонность к самоубийству меланхоликов становится понятнее,
если принять во внимание, что ожесточение больного одним
и тем же ударом попадает в собственное Я и в
любимо-ненавистный объект. При меланхолии, так же как при других
нарцисстических заболеваниях, в ярко выраженной
форме проявляется черта жизни чувств, которую мы привыкли
вслед за Блейлером называть амбивалентностью. Мы
подразумеваем под этим проявление противоположных, нежных и
враждебных, чувств по отношению к одному и тому же лицу.
Во время этих лекций я, к сожалению, не имею возможности
рассказать вам больше об амбивалентности чувств.
Кроме нарцисстической идентификации, бывает
истерическая, известная нам очень давно. Я бы сам хотел, чтобы
оказалось возможным объяснить их различие
несколькими ясными определениями. О периодических и
циклических формах меланхолии я могу вам кое-что рассказать, что
вы, наверное, охотно выслушаете. При благоприятных
условиях оказывается возможным — я два раза проделывал этот
532
Введение в психоанализ
опыт — предотвратить повторение состояния такого же или
противоположного настроения благодаря аналитическому
лечению в свободный от болезни промежуток времени. При
этом узнаешь, что и при меланхолии, и при мании дело идет
об особом способе разрешения конфликта, предпосылки
которого полностью совпадают с предпосылками других
неврозов. Можете себе представить, сколько психоанализу еще
предстоит открыть в этой области.
Я сказал вам также, что благодаря анализу нарцисстичес-
ких заболеваний мы надеемся узнать состав нашего Я и его
построение из различных инстанций. В одном месте мы
положили этому начало. Из анализа бреда наблюдения мы
сделали вывод, что в Я действительно есть инстанция, которая
беспрерывно наблюдает, критикует и сравнивает,
противопоставляя себя, таким образом, другой части Я. Мы
полагаем поэтому, что больной выдает нам еще не вполне
оцененную правду, жалуясь, что любой его шаг выслеживается и
наблюдается, любая его мысль докладывается и
критикуется. Он ошибается лишь в том, что переносит эту
неприятную силу, как нечто постороннее, во внешний мир. Он
чувствует в своем Я господство какой-то инстанции, которая
сравнивает его действительное Я и любую его деятельность
с Я-идеалом, созданным им в процессе своего развития. Мы
думаем также, что создание этого идеала произошло с целью
восстановления самодовольства, связанного с первичным
инфантильным нарциссизмом, но претерпевшего с тех пор так
много неприятностей и обид. Наблюдающая за самим собой
инстанция известна нам как цензор Я, как совесть, это та
же самая инстанция, которая ночью осуществляет цензуру
сновидения, от которой исходят вытеснения недопустимых
желаний. Когда она при бреде наблюдения распадается, то
раскрывает нам свое происхождение из влияния родителей,
воспитателей и социальной среды, из идентификации с
отдельными из этих лиц, служащих идеалом.
Таковы некоторые результаты, полученные нами до сих
пор благодаря использованию психоанализа в случаях нар-
Цисстических заболеваний. Они, разумеется, еще слишком
незначительны и зачастую лишены той ясности, которая
может быть достигнута в новой области лишь благодаря осно-
533
Зигмунд ФРЕЙД
вательной осведомленности. Всем им мы обязаны
использованием понятия Я-либидо, или нарцисстического либидо, с
помощью которого мы распространили на нарцисстические
неврозы представления, подтвердившиеся на неврозах
перенесения. Но теперь вы поставите вопрос: возможно ли, чтобы
нам удалось объяснить теорией либидо все нарушения нар-
цисстических неврозов и психозов, чтобы мы везде
признали виновником заболевания либидозный фактор душевной
жизни и никогда не считали ответственным за него
изменение в функции инстинктов самосохранения? Уважаемые
дамы и господа, мне кажется, что не следует спешить с
решением этого вопроса, которое, прежде всего, еще не созрело.
Мы спокойно можем предоставить его научному прогрессу.
Я бы не удивился, если бы способность патогенного
воздействия действительно оказалась преимуществом либидозных
влечений, так что теория либидо могла бы праздновать свой
триумф по всей линии от простейших актуальных неврозов
до самого тяжелого психотического отчуждения индивида.
Ведь мы знаем характерную черту либидо противиться
подчинению реальности мира, судьбе. Но я считаю в высшей
степени вероятным, что инстинкты Я вторично
захватываются патогенными импульсами либидо и вынуждаются к
нарушению функции. И я не могу признать поражение нашего
направления исследования, если нам предстоит узнать, что
при тяжелых психозах инстинкты Я даже первично бывают
сбиты с пути; это покажет будущее, по крайней мере, вам.
А мне позвольте еще на одно мгновение вернуться к
страху, чтобы осветить оставшееся там темное место. Мы
сказали, что нам не следует соглашаться со столь хорошо
известным отношением между страхом и либидо, будто
реальный страх перед лицом опасности должен быть
проявлением инстинктов самосохранения, хотя само по себе это
едва ли оспоримо. Но как обстояло бы дело, если бы аффект
страха исходил не из эгоистических инстинктов Я, а из
Я-либидо? Ведь состояние страха во всяком случае
нецелесообразно, и его нецелесообразность очевидна, если он
достигает более высокой степени. Он мешает действию, будь
то бегство или защита, что единственно целесообразно и
служит самосохранению. Таким образом, если мы припишем
534
Введение в психоанализ
аффективную часть реального страха Я-либидо, а действие
при этом — инстинктам самосохранения, то устраним все
теоретические трудности. Впрочем, вы ведь не думаете
всерьез, что человек убегает, потому что испытывает страх?
Нет, испытывают страх и обращаются в бегство по общей
причине, которая возникает, когда замечают опасность.
Люди, пережившие большие жизненные опасности,
рассказывают, что они совсем не боялись, а только действовали,
например, целились из ружья в хищника, а это было, конечно,
самым целесообразным.
Двадцать седьмая лекция
Перенесение
Уважаемые дамы и господа! Так как теперь мы
приближаемся к концу наших бесед, то у вас возникает надежда, в
которой вы не должны обмануться. Вы, вероятно, думаете,
что не для того я водил вас по дебрям психоаналитического
материала, чтобы в конце концов отпустить, не сказав ни
слова о терапии, на которой основана возможность вообще
заниматься психоанализом. Да я и не могу не коснуться
этой темы, потому что при этом вы наглядно познакомитесь
с новым фактом, без знания которого понимание изученных
нами болезней осталось бы самым ощутимым образом
неполным.
Я знаю, что вы не ждете от меня руководства по
технике проведения анализа с терапевтической целью. Вы хотите
лишь в самых общих чертах знать, каким образом
воздействует психоаналитическая терапия и чего она примерно
достигает. И узнать это вы имеете неоспоримое право. Но я
не хочу вам это сообщать, а настаиваю на том, чтобы вы
догадались сами.
Подумайте! Вы познакомились с самыми существенными
условиями заболевания, а также со всеми факторами,
действующими на заболевшего. Что же тут подлежит
терапевтическому воздействию? Это, прежде всего, наследственная
предрасположенность; нам не часто приходится о ней гово-
535
Зигмунд ФРЕЙД
рить, потому что она энергично отстаивается другими, и мы
не можем сказать о ней ничего нового. Но не думайте, что
мы ее недооцениваем; именно как терапевты мы довольно
ясно ощущаем ее силу. Во всяком случае, мы ничего не
можем в ней изменить, она и для нас остается чем-то данным,
что ставит пределы нашим усилиям. Затем — влияние
ранних детских переживаний, которые мы привыкли выдвигать
в анализе на первое место; они относятся к прошлому, мы
не можем их уничтожить. Далее, все то, что мы объединили
в понятие «реальный вынужденный отказ»: неудачно
сложившаяся жизнь, следствием которой является недостаток
любви, бедность, семейные раздоры, несчастливый брак,
неблагоприятные социальные условия и строгость
нравственных требований, под гнетом которых находится личность.
Тут как будто достаточно возможностей для очень
действенной терапии, но это должна была бы быть терапия,
которую проводил, по венскому народному преданию, император
Иосиф, т. е. вмешательство могущественного благотворителя,
перед волей которого склоняются люди и исчезают
трудности. А кто такие мы, чтобы включить такую
благотворительность как средство в нашу терапию? Сами бедные и
беспомощные в общественном отношении, вынужденные добывать
средства к существованию своей врачебной деятельностью,
мы даже не в состоянии отдавать свой труд таким же
неимущим, как это могут другие врачи, лечащие другими
методами. Для этого наша терапия занимает слишком много
времени и длится слишком долго. Но, может быть, вы ухватитесь
за один из перечисленных моментов и подумаете, что там
найдете точку приложения для нашего воздействия. Если
нравственное ограничение, требуемое обществом, принимает
участие в испытываемом больным лишении, то ведь лечение
может придать ему мужества или дать прямое указание
преступить эти преграды и добиться удовлетворения и
выздоровления, отказавшись от осуществления высокоценимого
обществом, но столь часто оставляемого идеала. Таким
образом, можно выздороветь, «дав волю» своей сексуальности.
Правда, при этом аналитическое лечение можно упрекнуть в
том, что оно не служит общественной морали. То, что оно
дает одному, отнято у общества.
536
Введение в психоанализ
Но, уважаемые дамы и господа, кто вас так неправильно
информировал? Не может быть и речи о том, чтобы совет
дать волю своей сексуальности мог сыграть какую-то роль в
аналитической терапии. Уже потому это не так, что мы сами
объявили, что у больного имеется упорный конфликт между
либидозным побуждением и сексуальным вытеснением,
между чувственной и аскетической направленностями. Этот
конфликт не устраняется с помощью того, что одной из направ-
ленностей помогает одержать победу над противоположной.
Мы видим, что у нервнобольного аскетизм одержал верх.
Следствием этого является как раз то, что подавленное
сексуальное стремление находит себе выход в симптомах. Если
бы мы теперь, наоборот, добились победы чувственности, то
отодвинутое в сторону сексуальное вытеснение должно было
бы найти себе замещение в симптомах. Ни одно из обоих
решений не может уничтожить внутренний конфликт,
всякий раз какая-либо одна сторона оставалась бы
неудовлетворенной. Только в некоторых случаях конфликт бывает так
неустойчив, что такой фактор, как сочувствие врача той или
иной стороне, может иметь решающее значение, но эти
случаи, собственно, и не нуждаются в аналитическом лечении.
Лица, на которых врач может оказать такое влияние, нашли
бы этот путь и без врача. Вы знаете, что если воздержанный
молодой человек решится на внебрачную половую связь или
неудовлетворенная женщина вознаграждает себя с другим
мужчиной, то обычно они не ждут разрешения врача или
даже аналитика.
В этой ситуации обычно упускают из вида один
существенный момент, а именно тот, что патогенный конфликт
невротиков нельзя смешивать с нормальной борьбой
душевных движений, выросших на одной и той же
психологической почве. Это столкновение сил, из которых одна достигла
ступени предсознательного и сознательного, а другая
задержалась на ступени бессознательного. Поэтому конфликт не
может быть разрешен; спорящие так же мало подходят друг
другу, как белый медведь и кит в известном примере.
Решение может быть принято только тогда, когда они встретятся
на одной и той же почве. Я полагаю, что сделать это
возможным и является единственной задачей терапии.
537
Зигмунд ФРЕЙД
А кроме того, уверяю вас, что вы неверно осведомлены,
если предполагаете, что советы и руководство в житейских
делах являются составной частью аналитического
воздействия. Напротив, мы по возможности избегаем такой
менторской роли и больше всего желаем, чтобы больной
самостоятельно принимал свои решения. С этой целью мы даже
требуем, чтобы все жизненно важные решения — о выборе
профессии, хозяйственных предприятиях, заключении брака
или разводе — он отложил на время лечения и привел в
исполнение только после его окончания. Согласитесь, все
обстоит иначе, чем вы себе представляли. Только с
определенными очень молодыми или совершенно беспомощными и
неуравновешенными больными мы не можем осуществить
это желательное ограничение. Для них мы должны
совмещать деятельность врача и воспитателя; тогда мы прекрасно
сознаем свою ответственность и ведем себя с необходимой
осторожностью.
Но из того рвения, с которым я защищаюсь против
упрека, что нервнобольного во время аналитического лечения
побуждают «дать себе волю», вам не следует делать вывод,
что мы воздействуем на него в пользу общественной
нравственности. Это нам по меньшей мере столь же чуждо. Хотя
мы не реформаторы, а лишь наблюдатели, но мы не можем
не смотреть критическими глазами и сочли невозможным
встать на сторону условной сексуальной морали и высоко
оценить тот способ, каким общество пытается практически
уладить проблемы сексуальной жизни. Мы можем прямо
подсчитать, что то, что общество называет своей
нравственностью, стоит больших жертв, чем заслуживает, и что его
методы не основаны на правдивости и не свидетельствуют
об уме. Мы не мешаем нашим пациентам слушать эту
критику, приучая их к свободному от предрассудков
обсуждению сексуальных вопросов, как и всяких других, и если они,
став самостоятельными после завершения лечения,
решаются по собственному разумению занять какую-то среднюю
позицию между полным наслаждением жизнью и
обязательным аскетизмом, мы не чувствуем угрызений совести ни за
один из этих выходов. Мы говорим себе, что тот, кто с
успехом выработал истинное отношение к самому себе, навсег-
538
Введение о психоанализ
да защищен от опасности стать безнравственным, если даже
его критерий нравственности каким-то образом и
отличается от принятого в обществе. Впрочем, мы остерегаемся
преувеличить значение вопроса о воздержании в лечении
неврозов. Лишь в небольшом числе случаев можно разрешить
патологическую ситуацию вынужденного отказа с
соответствующим застоем либидо легко достижимым способом
половых сношений.
Таким образом, вы не можете объяснить терапевтическое
воздействие анализа разрешением сексуальных наслаждений.
Поищите другое объяснение. Мне кажется, что, отклоняя это
ваше предположение, я одним замечанием навел вас на
правильный путь. Мы, должно быть, приносим пользу тем, что
заменяем бессознательное сознательным, переводя
бессознательное в сознательное. Действительно, так оно и есть.
Приближая бессознательное к сознательному, мы уничтожаем
вытеснение, устраняем условия для образования симптомов,
превращаем патогенный конфликт в нормальный, который
каким-то образом должен найти разрешение. Мы вызываем
у больного не что иное, как одно это психическое изменение:
насколько оно достигнуто, настолько оказана помощь. Там,
где нельзя уничтожить вытеснение или аналогичный ему
процесс, там нашей терапии делать нечего.
Цель наших усилий мы можем сформулировать
по-разному: осознание бессознательного, уничтожение
вытеснений, восполнение амнестических пробелов, — все это одно и
то же. Но, возможно, вас не удовлетворит это признание.
Вы совсем иначе представляли себе выздоровление
нервнобольного, а именно так, что он становится другим человеком
после того, как подвергся утомительной работе
психоанализа, а тут весь результат состоит лишь в том, что у
него оказывается немного меньше бессознательного и немного
больше сознательного, чем раньше. Но вы, вероятно,
недооцениваете значение такого внутреннего изменения.
Вылеченный нервнобольной действительно стал другим
человеком, но, по существу, он, разумеется, остался тем же самым,
т. е. он стал таким, каким мог бы стать в лучшем случае при
самых благоприятных условиях. А это очень много. Если вы
затем узнаете, сколько всего нужно сделать и какие необхо-
539
Зигмунд ФРЕЙД
димы усилия, чтобы осуществить это кажущееся
незначительным изменение в его душевной жизни, то вам покажется
весьма правдоподобным значимость такого различия в
психическом уровне.
Я отклонюсь на минуту от темы, чтобы спросить, знаете
ли вы, что называется каузальной терапией? Так называется
прием, направленный не на болезненные явления, а на
устранение причин болезни. Является ли наша
психоаналитическая терапия каузальной или нет? Ответ не прост, но,
может быть, он даст повод убедиться в малой значимости
такой постановки вопроса. Поскольку аналитическая терапия
не ставит своей ближайшей задачей устранение симптомов,
она действует как каузальная. В другой связи вы можете
сказать, что она не каузальная. Мы уже давно проследили
причинную цепь от вытеснений до врожденных влечений, их
относительную интенсивность в конституции и отклонения
в процессе их развития. Предположите теперь, что мы могли
бы химическим путем вмешаться в этот механизм, повышая
или снижая количество имеющегося либидо или усиливая
одно влечение за счет другого, тогда это была бы каузальная
терапия в подлинном смысле, для которой наш анализ
проделывал бы необходимую предварительную
разведывательную работу. О таком воздействии на процессы либидо в
настоящее время, как вы знаете, не может быть речи; наша
психотерапия оказывает свое действие на другое звено цепи,
не прямо на известные нам истоки явлений, но все же на
достаточно далекое от симптомов звено, ставшее нам
доступным благодаря замечательным обстоятельствам.
Итак, что мы должны делать, чтобы заменить
бессознательное у нашего пациента сознательным? Когда-то мы
полагали, что это очень просто, нам нужно только угадать это
бессознательное и подсказать его больному. Но теперь мы
знаем, что это было недальновидным заблуждением. Наше
знание о бессознательном неравноценно знанию о нем
больного; если мы сообщим ему наше знание, то он будет
обладать им не вместо своего бессознательного, а наряду с ним,
и это очень мало что меняет. Мы должны представить себе
это бессознательное скорее топически, найти его в
воспоминании больного там, где оно возникло благодаря вытесне-
540
Введение в психоанализ
нию. Это вытеснение нужно устранить, и тогда легко может
произойти замещение бессознательного сознательным. Как
же устраняется такое вытеснение? Здесь наша задача
переходит во вторую стадию решения. Сначала поиски
вытеснения, затем — устранение сопротивления, поддерживающего
это вытеснение.
Как устранить сопротивление? Точно таким же образом:
узнав его, разъяснить пациенту. Ведь сопротивление тоже
происходит из вытеснения — либо из того, которое мы
хотим уничтожить, либо из имевшего место в прошлом. Оно
создается противодействием, возникшим для вытеснения
неприличного побуждения. Теперь мы делаем то же самое,
что хотели сделать уже с самого начала, угадываем, находим
толкование и сообщаем его; но теперь мы делаем это
своевременно. Противодействие, или сопротивление,
принадлежит уже не бессознательному, а Я, которое является нашим
сотрудником, и это происходит даже тогда, когда оно
неосознанно. Мы знаем, что здесь речь идет о двойном смысле
слова «бессознательный»: с одной стороны, как феномена, с
другой — как системы. Это кажется очень трудным и
темным; но ведь это только повторение, не правда ли? Мы к
этому давно подготовлены. Мы ожидаем, что больной
откажется от этого сопротивления, оставит противодействие,
если мы разъясним его Я при помощи толкования. Какие
движущие силы содействуют нам в этом случае? Во-первых,
стремление пациента к выздоровлению, побудившее его
подчиниться нашей с ним совместной работе, и, во-вторых, его
интеллект, которому мы помогаем нашим толкованием. Нет
никакого сомнения в том, что интеллекту больного легче
распознать сопротивление и найти соответствующий
перевод вытесненному, если мы дали ему подходящие для этого
предположительные представления. Если я вам скажу:
посмотрите на небо, там можно увидеть воздушный шар, то вы
его скорее найдете, чем если я попрошу вас только
посмотреть наверх, не обнаружите ли вы там чего-нибудь. Так и
студенту, который в первый раз смотрит в микроскоп,
преподаватель сообщает, что он должен увидеть, в противном
случае он вообще не видит этого, хотя все это там есть и его
можно увидеть.
541
Зигмунд ФРЕЙД
А теперь факт. В целом ряде форм нервного
заболевания, при истериях, состояниях страха, неврозах навязчивых
состояний наше предположение оправдывается. Благодаря
таким поискам вытеснения, раскрытию сопротивлений,
толкованию вытесненного действительно удается решить
задачу, т.е. преодолеть сопротивления, уничтожить вытеснение
и превратить бессознательное в сознательное. При этом у
нас складывается совершенно ясное представление о том,
как в душе пациента разыгрывается ожесточенная борьба за
преодоление каждого сопротивления, нормальная душевная
борьба на одной и той же психологической почве между
мотивами, желающими сохранить противодействие, и
противоположными, готовыми от него отказаться. Первые —
это старые мотивы, осуществившие в свое время
вытеснение, среди последних находятся вновь появившиеся,
которые, будем надеяться, разрешат конфликт в желательном
для нас смысле. Нам удалось вновь оживить старый
конфликт вытеснения, подвергнув пересмотру завершившийся
тогда процесс. В качестве нового материала мы прибавляем,
во-первых, предупреждение, что прежнее решение привело
к болезни и обещание, что другое решение откроет путь к
выздоровлению, во-вторых, грандиозное изменение всех
обстоятельств со времени того первого вытеснения. Тогда
Я было слабым, инфантильным и, может быть, имело
основание запретить требование либидо как опасное. Теперь оно
окрепло и приобрело опыт, а кроме того, имеет помощника
в лице врача. Так что мы можем надеяться, что приведем
обновленный конфликт к лучшему исходу, чем к
вытеснению, и, как сказано, при истериях, неврозах страха и
навязчивых состояниях успех принципиально оправдывает нас.
Однако есть другие формы заболеваний, при которых,
несмотря на сходство условий, наши терапевтические меры
никогда не приносят успеха. И в них дело было в
первоначальном конфликте между Я и либидо, который привел
к вытеснению, хотя топически его можно характеризовать
иначе, и здесь можно отыскать участки, где в жизни
больного произошли вытеснения, [и здесь] мы применяем те же
методы, готовы дать те же обещания, оказываем ту же
помощь, сообщая ожидаемые представления, и вновь разница
542
/ieedetiue в психоанализ
во времени между настоящим и прошлыми вытеснениями
способствует иному исходу конфликта. И все-таки нам не
удается уничтожить сопротивление и устранить вытеснение.
Эти пациенты — параноики, меланхолики, страдающие
Dementia praecox — остаются в общем не затронутыми
психоаналитической терапией и невосприимчивыми к ней.
Почему так получается? Не от недостатка интеллекта;
известная степень интеллектуальной работоспособности, конечно,
требуется от наших пациентов, но в ней определенно нет
недостатка, например, у параноиков, способных на весьма
остроумные комбинации. Имеются и другие силы,
способствующие выздоровлению: меланхолики, например, в очень
высокой степени осознают, что больны и поэтому так
тяжело страдают, что отсутствует у параноиков, но от этого они
не становятся доступнее. Мы имеем здесь непонятный факт,
вызывающий у нас поэтому сомнение в том, понимаем ли
мы в действительности все условия достижения успеха при
других неврозах.
Если мы остановимся на наших занятиях с истеричными
и больными неврозом навязчивых состояний, то вскоре
перед нами встает второй факт, к которому мы совершенно не
подготовлены. Через некоторое время мы замечаем, что эти
больные ведут себя весьма своеобразно по отношению к
нам. Мы полагали, что учли все силы, которые приходится
принимать во внимание при лечении, полностью продумали
ситуацию между нами и пациентом, так что в ней все
предстало как в арифметической задаче, а затем оказывается, что
в нее вкралось что-то, не входившее в расчет. Это
неожиданное новое само по себе многообразно, сначала я опишу
более частые и понятные формы его проявления.
Итак, мы замечаем, что пациент, которому следовало бы
искать выход из своих болезненных конфликтов, проявляет
особый интерес к личности врача. Все, что связано с этой
личностью, кажется ему значительнее, чем его собственные
Дела, и отвлекает его от болезни. Общение с ним становится
на какое-то время очень приятным; он особенно
предупредителен, старается, где можно, проявить благодарность,
обнаруживает утонченность и положительные качества своего
существа, которые мы, может быть, и не стремились найти
543
Зигмунд ФРЕЙД
у него. Врач тоже составляет себе благоприятное мнение
о пациенте и благодарит случай, давший ему возможность
оказать помощь особо значимой личности. Если врачу
представился случай побеседовать с родственниками пациента,
то он с удовольствием слышит, что эта симпатия взаимна.
Дома пациент без устали расхваливает врача, превознося в
нем все новые положительные качества. «Он грезит вами,
слепо доверяет вам; все, что вы говорите, для него
откровение», — рассказывают родственники. Иногда кто-нибудь из
этого хора выражается резче: «Просто надоело, он
беспрестанно говорит только о вас».
Хотим надеяться, что врач достаточно скромен, чтобы
объяснять эту оценку своей личности пациентом надеждами,
которые он ему может подать, и расширением его
интеллектуального горизонта благодаря поразительным и
раскрепощающим открытиям, которые несет с собой [его] лечение.
При таких условиях анализ характеризуется
замечательными успехами, пациент понимает намеки, углубляется в
поставленные лечением задачи, у него в изобилии всплывает
материал воспоминаний и мыслей, он поражает врача
уверенностью и меткостью своих толкований, и тот только с
удовлетворением констатирует, с какой готовностью больной
воспринимает все те психологические новшества, которые
обыкновенно вызывают самое ожесточенное сопротивление
у здоровых. Хорошему взаимопониманию во время
аналитической работы соответствует и объективное, всеми
признаваемое улучшение состояния больного.
Но не все время стоит такая ясная погода. Однажды
небосклон заволакивается тучами. В лечении обнаруживаются
затруднения; пациент утверждает, что ему ничего не
приходит в голову. Возникает совершенно ясное впечатление, что
он больше не интересуется работой и что он с легким
сердцем отказался от данного ему предписания говорить все, что
придет ему в голову, не поддаваясь никаким критическим
соображениям. Он находится как бы вне лечения, как будто
у него с врачом не было никакого уговора; он явно чем-то
увлечен, что хочет сохранить для себя. Это опасная для
лечения ситуация. Несомненно, что здесь имеет место сильное
сопротивление. Но что же произошло?
544
Введение в психоанализ
Если ты в состоянии снова выяснить ситуацию, то
открываешь причину помехи в том, что пациент перенес на
врача интенсивные нежные чувства, не оправданные ни
поведением врача, ни сложившимися во время лечения
отношениями. В какой форме выражается эта нежность и какие
цели она преследует, конечно, зависит от личных
отношений обоих участников. Если дело касается молодой девушки
и молодого человека, то у нас создается впечатление
нормальной влюбленности, мы найдем вполне понятным, что
девушка влюбляется в мужчину, с которым она может
подолгу оставаться наедине и обсуждать интимные дела и
который занимает по отношению к ней выгодную позицию
превосходящего ее помощника, но тогда мы, вероятно,
упустим из виду то, что у невротической девушки скорее
можно было бы ожидать нарушения способности любить. Чем
меньше личные отношения врача и пациента будут походить
на этот предполагаемый вариант, тем более странным
покажется нам, что, несмотря на это, мы постоянно будем
находить то же самое отношение в области чувств. Можно еще
допустить, если молодая несчастная в браке женщина
кажется охваченной серьезной страстью к своему пока еще
свободному врачу, если она готова добиться развода, чтобы
принадлежать ему, или в случае социальных препятствий не
останавливается перед тем, чтобы вступить с ним в тайную
любовную связь. Подобное случается и вне психоанализа.
Но при этих условиях с удивлением слышишь
высказывания со стороны женщин и девушек, указывающие на вполне
определенное отношение к терапевтической проблеме: они,
мол, всегда знали, что их может вылечить только любовь, и
с самого начала лечения ожидали, что благодаря этим
отношениям им наконец будет подарено то, чего жизнь лишала
их до сих пор. Только из-за этой надежды они отдавали так
много сил лечению и преодолевали затруднения при
разговорах о себе. Мы со своей стороны прибавим: и так легко
понимали все, чему обыкновенно трудно поверить. Но такое
признание поражает нас; оно опрокидывает все наши
расчеты. Неужели мы упустили самое важное?
И в самом деле, чем больше у нас опыта, тем меньше мы
в состоянии сопротивляться внесению этого исправления,
18-3518
545
Зигмунд ФРИЙД
позорящего нашу ученость. В первый раз можно было
подумать, что аналитическое лечение наткнулось на помеху
вследствие случайного события, т.е. не входившего в его
планы и не им вызванного. Но если такая нежная
привязанность пациента к врачу повторяется закономерно в каждом
новом случае, если она проявляется при самых
неблагоприятных условиях, с прямо-таки гротескными
недоразумениями и даже у престарелых женщин, даже по отношению к
седому мужчине, даже там, где, по нашему мнению, нет
никакого соблазна, то мы должны отказаться от мысли о
случайной помехе и признать, что дело идет о феномене,
теснейшим образом связанном с сущностью болезни.
Новый факт, который мы, таким образом, нехотя
признаем, мы называем перенесением (Übertragung). Мы имеем
в виду перенесение чувств на личность врача, потому что
не считаем, что ситуация лечения могла оправдать
возникновение таких чувств. Скорее мы предположим, что вся
готовность испытывать чувства происходит из чего-то
другого, назрела в больной и при аналитическом лечении
переносится на личность врача. Перенесение может проявиться
в бурном требовании любви или в более умеренных
формах; вместо желания быть возлюбленной у молодой
девушки может возникнуть желание стать любимой дочерью
старого мужчины, либидозное стремление может смягчиться
до предложения неразрывной, но идеальной, нечувственной
дружбы. Некоторые женщины умеют сублимировать
перенесение и изменять его, пока оно не приобретет
определенную жизнеспособность; другие вынуждены проявлять его в
грубом, первичном, по большей части невозможном виде.
Но, в сущности, это всегда одно и то же, причем никогда
нельзя ошибиться в его происхождении из того же самого
источника.
Прежде чем задаваться вопросом, куда нам отнести новый
факт перенесения, дополним его описание. Как обстоит дело
с пациентами-мужчинами? Уж тут-то можно было бы
надеяться избежать докучливого вмешательства различия полов
и взаимного их влечения. Однако ответ гласит: не намного
иначе, чем у пациентов-женщин. Та же привязанность к
врачу, та же переоценка его качеств, та же поглощенность его
546
Введение в психоанализ
интересами, та же ревность по отношению ко всем, близким
ему в жизни. Сублимированные формы перенесения
между мужчиной и мужчиной встречаются постольку чаще, а
непосредственное сексуальное требование постольку реже,
поскольку открытая гомосексуальность отступает перед
другими способами использования этих компонентов влечения.
У своих пациентов-мужчин врач также чаще, чем у женщин,
наблюдает форму перенесения, которая на первый взгляд,
кажется, противоречит всему вышеописанному, —
враждебное или негативное перенесение.
Уясним себе прежде всего, что перенесение имеется у
больного с самого начала лечения и некоторое время
представляет собой самую мощную способствующую работе силу.
Его совершенно не чувствуешь, и о нем нечего и
беспокоиться, пока оно благоприятно воздействует на совместно
проводимый анализ. Но когда оно превращается в сопротивление,
на него следует обратить внимание и признать, что оно
изменило отношение к лечению при двух различных и
противоположных условиях: во-первых, если оно в виде нежной
склонности настолько усилилось, настолько ясно выдает
признаки своего происхождения из сексуальной
потребности, что вызвало против себя внутреннее сопротивление, и,
во-вторых, если оно состоит из враждебных, а не из нежных
побуждений. Как правило, враждебные чувства проявляются
позже, чем нежные, и после них; их одновременное
существование хорошо отражает амбивалентность чувств,
господствующую в большинстве наших интимных отношений к
другим людям. Враждебные чувства, так же как и нежные,
означают чувственную привязанность, подобно тому как
упрямство означает ту же зависимость, что и послушание,
хотя и с противоположным знаком. Для нас не может быть
сомнения в том, что враждебные чувства к врачу
заслуживают названия «перенесения», потому что ситуация лечения
представляет собой совершенно недостаточный повод для их
возникновения; необходимое понимание негативного
перенесения убеждает нас, таким образом, что мы не ошиблись
в суждении о положительном или нежном перенесении.
Откуда берется перенесение, какие трудности
доставляет нам, как мы его преодолеваем и какую пользу из него
547
Зигмунд ФРЕЙД
в конце концов извлекаем — все это подробно
обсуждается в техническом руководстве по анализу, и сегодня может
быть лишь слегка затронуто мною. Исключено, чтобы мы
подчинились исходящим из перенесения требованиям
пациента, нелепо было бы недружелюбно или же возмущенно
отклонять их; мы преодолеваем перенесение, указывая
больному, что его чувства исходят не из настоящей ситуации и
относятся не к личности врача, а повторяют то, что с ним
уже происходило раньше. Таким образом мы вынуждаем его
превратить повторение в воспоминание. Тогда перенесение,
безразлично — нежное или враждебное, которое казалось в
любом случае самой сильной угрозой лечению, становится
лучшим его орудием, с помощью которого открываются
самые сокровенные тайники душевной жизни. Но я хотел бы
сказать вам несколько слов, чтобы рассеять недоумения по
поводу возникновения этого неожиданного феномена. Нам
не следует забывать, что болезнь пациента, анализ которого
мы берем на себя, не является чем-то законченным,
застывшим, а продолжает расти и развиваться, как живое
существо. Начало лечения не прекращает этого развития, но как
только лечение завладело больным, оказывается, что вся
новая деятельность болезни направляется на одно, и именно
на отношение к врачу. Перенесение можно сравнить, таким
образом, со слоем камбия между древесиной и корой дерева,
из которого возникают новообразования ткани и рост ствола
в толщину. Как только перенесение приобретает это
значение, работа над воспоминаниями больного отступает на
задний план. Правильно было бы сказать, что имеешь дело не
с прежней болезнью пациента, а с заново созданным и
переделанным неврозом, заменившим первый. За этим новым
вариантом старой болезни следишь с самого начала, видишь
его возникновение и развитие и особенно хорошо в нем
разбираешься, потому что сам находишься в его центре как
объект. Все симптомы больного лишились своего
первоначального значения и приспособились к новому смыслу,
имеющему отношение к перенесению. Или остались только такие
симптомы, которым удалась подобная переработка. Но
преодоление этого нового искусственного невроза означает и
освобождение от болезни, которую мы начали лечить, реше-
548
Введение б психоанализ
ние нашей терапевтической задачи. Человек, ставший
нормальным по отношению к врачу и освободившийся от
действия вытесненных влечений, остается таким и в частной
жизни, когда врач опять отстранил себя.
Такое исключительное, центральное значение
перенесение имеет при истериях, истериях страха и неврозах
навязчивых состояний, объединяемых поэтому по праву под
названием неврозов перенесения. Кто получил полное
впечатление о факте перенесения из аналитической работы, тот
больше не может сомневаться в том, какого характера
были подавленные побуждения, которые нашли выражение в
симптомах этих неврозов, и не потребует более веского
доказательства их либидозной природы. Мы можем сказать,
что наше убеждение о значении симптомов как
заместителей либидозного удовлетворения окончательно укрепилось
лишь благодаря введению перенесения.
Теперь у нас есть все основания исправить наше прежнее
динамическое понимание процесса выздоровления и
согласовать его с нашими новыми взглядами. Когда больной
должен преодолеть нормальный конфликт с сопротивлениями,
которые мы ему открыли при анализе, он нуждается в
мощном стимуле, ведущем к выздоровлению. В противном
случае могло бы случиться, что он вновь решился бы на
прежний исход и опять вытеснил бы то, что поднялось в сознание.
Решающее значение в этой борьбе имеет тогда не его
интеллектуальное понимание — для такого действия оно
недостаточно глубоко и свободно, — а единственно его отношение к
врачу. Поскольку его перенесение носит положительный
характер, оно наделяет врача авторитетом, воплощается в вере
его сообщениям и мнениям. Без такого перенесения или если
оно отрицательно, он бы и слушать не стал врача и его
аргументы. Вера при этом повторяет историю своего
возникновения: она является производной любви и сначала не
нуждалась в аргументах. Лишь позднее он уделяет аргументам
столько места, что подвергает их проверке, даже если они
приводятся его любимым лицом. Аргументы без такой
поддержки ничего не значили и никогда ничего не значат в жизни
большинства людей. В общем, человек и с интеллектуальной
стороны доступен воздействию лишь постольку, поскольку
549
Зигмунд ФРЕЙД
он способен на либидозную привязанность к объекту, и у нас
есть полное основание видеть в степени его нарциссизма
предел для возможности влияния на него даже при помощи
самой лучшей аналитической техники и опасаться этого
ограничения.
Способность распространять либидозную привязанность
к объектам также и на лиц должна быть признана у всех
нормальных людей. Склонность к перенесению у
вышеназванных невротиков является лишь чрезмерным
преувеличением этого присущего всем качества. Но было бы очень
странно, если бы такая распространенная и значительная
черта характера людей никогда не была бы замечена и
использована. И это действительно произошло. Бернгейм с
необыкновенной проницательностью обосновал учение о
гипнотических явлениях положением, что всем людям
каким-то образом свойственна способность к внушению,
«внушаемость». Его внушаемость не что иное, как склонность к
перенесению. Но Бернгейм никогда не мог сказать, что
такое собственно внушение и как оно осуществляется. Оно
было для него основополагающим фактом, происхождение
которого он не мог доказать. Он не обнаружил
зависимости suggestibilité1 от сексуальности, от проявления либидо.
И мы должны заметить, что в нашей технике мы отказались
от гипноза только для того, чтобы снова открыть внушение
в виде перенесения.
Теперь я умолкаю и предоставляю слово вам. Я замечаю,
что у вас так сильно напрашивается одно возражение, что
оно лишило бы вас способности слушать, если вам не дать
возможности его высказать: «Итак, вы наконец признались,
что работаете с помощью внушения, как гипнотизер. Мы
давно это предполагали. Но зачем же тогда был нужен
обходной путь через воспоминания прошлого, открытие
бессознательного, толкование и обратный перевод искажений,
огромная затрата труда, времени и денег, если единственно
действенным является лишь внушение? Почему вы прямо
не внушаете борьбу с симптомами, как это делают другие,
честные гипнотизеры? И далее, если вы хотите оправдаться
Внушаемости (фр.). — Примеч. ред. перевода.
550
Введение о психоанализ
тем, что на пройденном обходном пути вы сделали много
значительных психологических открытий, скрытых при
использовании непосредственного внушения, кто теперь
поручится за верность ваших открытий? Не являются ли и они
тоже результатом внушения и причем непреднамеренного,
не можете ли вы навязать больному и в этой области все,
что хотите и что кажется вам правильным?»
Все, что вы мне тут возражаете, невероятно интересно и
не должно остаться без ответа. Но сегодня я его дать не
могу за недостатком времени. Так что до следующего раза. Вы
увидите, я дам объяснения. А сегодня я должен закончить
то, что начал. Я обещал при помощи факта перенесения
объяснить вам, почему наши терапевтические усилия не имеют
успеха при нарцисстических неврозах.
Я могу это сделать в нескольких словах, и вы увидите,
как просто решается загадка и как хорошо все согласуется.
Наблюдение показывает, что заболевшие нарцисстическим
неврозом не имеют способности к перенесению или
обладают лишь ее недостаточными остатками. Они отказываются
от врача не из враждебности, а из равнодушия. Поэтому они
и не поддаются его влиянию, то, что он говорит, не трогает
их, не производит на них никакого впечатления, поэтому у
них не может возникнуть тот механизм выздоровления,
который мы создаем при других неврозах, — обновления
патогенного конфликта и преодоления сопротивления
вытеснения. Они остаются тем, что они есть. Они уже не раз
предпринимали самостоятельные попытки вылечиться,
приведшие к патологическим результатам, тут мы не в силах
ничего изменить.
На основании наших клинических впечатлений от
наблюдения за этими больными мы утверждали, что у них
должна отсутствовать привязанность к объектам, и объект-либидо
должно превратиться в Я-либидо. Вследствие этого
характерного признака мы отделили их от первой группы
невротиков (истерия, невроз страха и навязчивых состояний). Их
поведение при терапевтических попытках подтверждает
наше предположение. Они не проявляют перенесения и
поэтому недоступны нашему воздействию, не могут быть
вылечены нами.
551
Зигмунд ФРЕЙД
Двадцать восьмая лекция
Аналитическая терапия
Уважаемые дамы и господа! Вы знаете, о чем у нас
сегодня будет беседа. Вы спросили меня, почему мы не
пользуемся в психоаналитической терапии прямым внушением,
если признаем, что наше влияние в значительной мере
основано на перенесении, т.е. на внушении, и в связи с этим
выразили сомнение, можем ли мы при таком преобладании
внушения ручаться за объективность наших
психологических открытий. Я обещал вам подробный ответ.
Прямое внушение — это внушение, направленное против
проявления симптомов, борьба между вашим авторитетом и
мотивами болезни. При этом вы не беспокоитесь об этих
мотивах, требуя от больного только того, чтобы он подавлял
их выражение в симптомах. Подвергаете ли вы больного
гипнозу или нет, принципиального различия не имеет. Бернгейм
опять-таки со свойственной ему проницательностью
утверждал, что самое существенное в явлениях гипноза — это
внушение, а сам гипноз является уже результатом внушения,
внушенным состоянием, и он предпочитал проводить
внушение в состоянии бодрствования больного, что может давать
те же результаты, что и внушение при гипнозе.
Так что же вы хотите услышать сначала в ответ на этот
вопрос: то, о чем говорит опыт, или теоретические
соображения?
Начнем с первого. Я был учеником Бернгейма, которого
я посетил в 1889 г. в Нанси и книгу которого о внушении
перевел на немецкий язык. В течение многих лет я лечил
гипнозом, сначала внушением запрета, а позднее сочетая его
с расспросами пациента по Брейеру. Так что я могу судить
об успехах гипнотической или суггестивной терапии на
основании большого опыта. Если, согласно старинной
врачебной формуле, идеальная терапия должна быть быстрой,
надежной и не вызывать неприязни у больного, то метод
Бернгейма отвечал, по крайней мере, двум из этих
требований. Он проводился намного быстрее, даже несравненно
быстрее, чем аналитический, и не доставлял больному ни хло-
552
Введение в психоанализ
пот, ни затруднений. Со временем для врача это
становилось монотонным занятием: каждый раз одинаково, при
помощи одних и тех же приемов запрещать проявляться
самым различным симптомам, не имея возможности понять
их смысл и значение. Это была не научная деятельность, а
работа подмастерья, которая напоминала магию, заклинания
и фокусы; однако это не принималось во внимание в
сравнении с интересами больного. Но третье требование не
соблюдалось: этот метод не был надежным ни в каком
отношении. К одному больному его можно было применять, к
другому — нет; в одном случае удавалось достичь многого,
в другом — очень малого, неизвестно почему. Еще хуже, чем
эта капризность метода, было отсутствие длительного
успеха. Через некоторое время, если вновь приходилось опять
слышать о больном, оказывалось, что прежний недуг
вернулся или заменился новым. Можно было снова начинать
лечение гипнозом. А кроме того, опытные люди
предостерегали не лишать больного самостоятельности частым
повторением гипноза и не приучать его к этой терапии, как к
наркотику. Согласен, что иной раз все удавалось как нельзя
лучше; небольшими усилиями достигался полный и
длительный успех. Но условия такого благоприятного исхода
оставались неизвестными. Однажды у меня произошел случай,
когда тяжелое состояние, полностью устраненное мной при
помощи непродолжительного лечения гипнозом, вернулось
неизмененным после того, как больная рассердилась на
меня безо всякой моей вины; после примирения с ней я опять
и гораздо основательней уничтожил болезненное состояние,
и все-таки оно опять появилось, когда она во второй раз
отдалилась от меня. В другой раз я оказался в ситуации,
когда больная, которой я неоднократно помогал гипнозом
избавиться от нервных состояний, неожиданно во время
лечения особенно трудного случая обвила руками мою шею.
Это заставило бы любого, хочет он того или нет, заняться
вопросом о природе и происхождении своего авторитета
при внушении.
Таковы опытные данные. Они показывают, что,
отказавшись от прямого внушения, мы не потеряли ничего
незаменимого. Теперь разрешите нам прибавить к этому еще
553
Зшмунд ФРЕЙД
некоторые соображения. Проведение гипнотической терапии
требует от пациента и от врача лишь очень незначительных
усилий. Эта терапия прекрасно согласуется с оценкой
неврозов, которой еще придерживается большинство врачей.
Врач говорит страдающему неврозом: да у вас ведь ничего
нет, это только нервы, а потому я несколькими словами за
несколько минут могу освободить вас от недуга. Но такая
способность передвигать большой груз, прилагая
непосредственно незначительные усилия, не используя при этом
никаких соответствующих приспособлений, противоречит
нашему энергетическому образу мыслей. Поскольку условия
сравнимы, опыт показывает, что при неврозах этот фокус не
удается. Но я знаю, что этот довод не является
неопровержимым: бывают и «удачи».
В свете тех знаний, которые мы приобрели благодаря
психоанализу, мы можем описать различие между
гипнотическим и психоаналитическим внушением следующим
образом: гипнотическая терапия старается что-то закрыть и
затушевать в душевной жизни, психоаналитическая — что-то
раскрыть и устранить. Первая работает как косметика,
вторая — как хирургия. Первая пользуется внушением, чтобы
запрещать симптомы, она усиливает вытеснение, оставляя
неизмененными все процессы, которые привели к
образованию симптомов. Аналитическая терапия проникает дальше
в сущность, в те конфликты, которые привели к
образованию симптомов, и пользуется внушением, чтобы изменить
исход этих конфликтов. Гипнотическая терапия оставляет
пациента бездеятельным и неизмененным, и потому столь
же неспособным к сопротивлению при всяком новом
поводе к заболеванию; Аналитическое лечение требует от врача
и от больного тяжелого труда, направленного на
устранение внутренних сопротивлений. Благодаря преодолению этих
сопротивлений душевная жизнь больного надолго
изменяется, поднимается на более высокую ступень развития и
остается защищенной от новых поводов для заболевания.
Эта работа по преодолению является существенной частью
аналитического лечения, больной должен ее выполнить, а
врач помогает ему в этом внушением, действующим в
воспитательном смысле. Поэтому правильно говорилось, что
554
Введение в психошшлиа
психоаналитическое лечение является чем-то вроде довос-
питания.
Надеюсь, что теперь я разъяснил вам, чем отличается
наш способ терапевтического применения внушения от
единственно возможного способа при гипнотической терапии.
А сведя внушение к перенесению, вы поймете всю
капризность гипнотической терапии, бросившуюся нам в глаза при
ее использовании, между тем как аналитическая до крайних
своих пределов поддается расчету. Используя гипноз, мы
зависим от способности больного к перенесению, не имея
возможности самим влиять на нее. Перенесение
гипнотизируемого может быть негативным или, как это чаще всего
бывает, амбивалентным, он может защищаться от своего
перенесения особыми установками; об этом мы ничего не
знаем. В психоанализе мы работаем над самим
перенесением, устраняя то, что ему противодействует, готовим себе
инструмент, с помощью которого хотим оказывать влияние.
Так перед нами открывается возможность совсем иначе
использовать силу внушения; мы получаем власть над ней,
не больной внушает себе то, что ему хочется, а мы
руководим его внушением, насколько он вообще поддается его
влиянию.
Теперь вы скажете, что назовем ли мы движущую силу
нашего анализа перенесением или внушением, есть
все-таки опасность, что влияние на пациента ставит под сомнение
объективную достоверность наших данных. То, что идет на
пользу терапии, приносит вред исследованию. Именно это
возражение чаще всего выдвигалось против психоанализа, и
нужно сознаться, что если оно и ошибочно, его все же нельзя
отвергнуть как неразумное. Но если бы оно оказалось
справедливым, то психоанализ стал бы не чем иным, как
особенно хорошо замаскированным, особенно действенным видом
суггестивного лечения, и мы могли бы несерьезно относиться
ко всем его утверждениям о жизненных условиях,
психической динамике, бессознательном. Так и полагают наши
противники: особенно все то, что касается значимости
сексуальных переживаний, если и не сами эти переживания, мы,
должно быть, «внушили» больному, после того как подобные
комбинации возникли в нашей собственной испорченной
555
Зигмунд ФРЕЙД
фантазии. Эти нападки легче опровергнуть ссылкой на опыт,
чем с помощью теории. Тот, кто сам проводил психоанализ,
мог бесчисленное множество раз убедиться в том, что нельзя
больному что-либо внушить таким образом. Разумеется, его
нетрудно сделать сторонником определенной теории и тем
самым заставить участвовать в возможной ошибке врача. Он
ведет себя при этом как всякий другой, как ученик, но этим
путем можно повлиять только на его интеллект, а не на
болезнь. Разрешить его конфликты и преодолеть его
сопротивления удается лишь в том случае, если ему предлагаются
такие возможные представления, которые в
действительности у него имеются. Несоответствующие предположения
врача отпадают в процессе анализа, от них следует отказаться
и заменить более правильными. Тщательная техника
помогает предупреждать появление преждевременных успехов
внушения, но нет опасности и в том, если такие успехи имеют
место, потому что первый успех никого не удовлетворит.
Анализ нельзя считать законченным, пока не поняты все
неясности данного случая, не заполнены пробелы в
воспоминаниях, не найдены поводы к вытеснениям. В слишком
быстрых успехах видишь скорее помеху, чем содействие
аналитической работе, и поэтому ликвидируешь достигнутое,
вновь и вновь уничтожая перенесение, которое его
обусловило. В сущности, этой последней чертой аналитическое
лечение отличается от чисто суггестивного, а аналитические
результаты не заподозришь в том, что они получены при
помощи внушения. При любом другом суггестивном лечении
перенесение тщательно оберегается и не затрагивается; при
аналитическом же оно само есть объект лечения и
разлагается на все формы своего проявления. К концу
аналитического лечения само перенесение должно быть устранено, и
если теперь возникает или сохраняется положительный
результат, то он обусловлен не внушением, а достигнутым с его
помощью преодолением внутренних сопротивлений, на
происшедшем в больном внутреннем изменении.
Возникновению отдельных внушений противодействует
то, что во время лечения мы беспрерывно должны бороться
с сопротивлениями, которые могут превращаться в
негативные (враждебные) перенесения. Мы не упустим случая со-
556
Введение в психоанализ
слаться также на то, что большое число частных результатов
анализа, которые могли бы быть обусловлены внушением,
подтверждаются с другой, не вызывающей сомнений,
стороны. В нашу пользу в данном случае говорит анализ
слабоумных и параноиков, у которых, конечно, нельзя
заподозрить способности подпасть под суггестивное влияние. То,
что эти больные рассказывают нам о переводах символов и
фантазиях, проникших в их сознание, точно совпадает с
результатами наших исследований бессознательного у
страдающих неврозами перенесения и подтверждает, таким
образом, объективную правильность наших толкований, часто
подвергающихся сомнению. Полагаю, что вы не ошибетесь,
поверив в этом пункте анализу.
Теперь мы хотим дополнить наше описание механизма
выздоровления, представив его в формулах теории либидо.
Невротик неспособен к наслаждению, потому что его либидо
не направлено на объект, и он неработоспособен, потому что
очень много своей энергии должен тратить на то, чтобы
сохранять либидо в состоянии вытеснения и защищать себя от
его напора. Он стал бы здоровым, если бы конфликт
между его Я и либидо прекратился и Я опять могло бы
распоряжаться либидо. Таким образом, задача терапии состоит в
том, чтобы освободить либидо от его временных, отнятых
у Я привязанностей и подчинить его опять Я. Где же
находится либидо невротика? Найти нетрудно, оно связано с
симптомами, временно доставляющими ему единственно
возможное замещение удовлетворения. Нужно, следовательно,
овладеть симптомами, уничтожить их, сделать как раз то,
чего требует от нас больной. Для уничтожения симптомов
необходимо вернуться к их возникновению, оживить
конфликт, из которого они произошли, и по-другому разрешить
его с помощью таких движущих сил, которыми больной в
свое время не располагал. Эта ревизия процесса вытеснения
может осуществиться лишь отчасти по следам
воспоминаний о процессах, которые привели к вытеснению. Решающая
часть работы проделывается, когда в отношении к врачу, в
перенесении создаются новые варианты старых конфликтов,
в которых больной хотел бы вести себя так же, как он вел
себя в свое время, между тем как, используя все находящиеся
557
Зигмунд ФРЕЙД
в распоряжении [пациента] душевные силы, его вынуждают
принять другое решение. Таким образом, перенесение
становится полем битвы, где сталкиваются все борющиеся между
собой силы.
Все либидо, как и противодействие ему, концентрируется
на отношении к врачу; при этом симптомы неизбежно
лишаются либидо. Вместо настоящей болезни пациента
выступает искусственно созданная болезнь перенесения, вместо
разнообразных нереальных объектов либидо — опять-таки
фантастический объект личности врача. Но новая борьба
вокруг этого объекта с помощью врачебного внушения
поднимается на высшую психическую ступень, она протекает как
нормальный душевный конфликт. Благодаря тому что
удается избежать нового вытеснения, отчужденность между Я и
либидо прекращается и восстанавливается душевное
единство личности. Когда либидо снова отделяется от
временного объекта личности врача, оно не может вернуться к своим
прежним объектам и остается в распоряжении Я. Силами,
против которых велась борьба во время этой
терапевтической работы, являются, с одной стороны, антипатия Я к
определенным направленностям либидо, выразившаяся в виде
склонности к вытеснению, а с другой стороны,
привязчивость или прилипчивость либидо, которое неохотно
оставляет когда-то занятые (besetzte) им объекты.
Терапевтическая работа, таким образом, распадается на
две фазы; в первой фазе все либидо оттесняется от
симптомов в перенесение и там концентрируется, во второй фазе
ведется борьба вокруг этого нового объекта, и либидо
освобождается от него. При этом новом конфликте решающим
для благоприятного исхода изменением является
устранение вытеснения, так что либидо не может опять ускользнуть
от Я при помощи бегства в бессознательное. Это становится
возможным благодаря изменению Я, которое совершается
под влиянием врачебного внушения. Благодаря работе
толкования, превращающей бессознательное в сознательное, Я
увеличивается за счет этого бессознательного, благодаря
разъяснению оно мирится с либидо и склоняется допустить
для него какое-то удовлетворение, а его страх перед
требованиями либидо уменьшается благодаря возможности осво-
558
Введение в психоанализ
бодиться от его части посредством сублимации. Чем больше
процессы при лечении совпадают с этим идеальным
описанием, тем надежнее будет успех психоаналитической
терапии. Предел этому успеху может положить недостаточная
подвижность либидо, противящегося тому, чтобы оставить
свои объекты, и упорство нарциссизма, не позволяющего
перенесению выйти за известные границы. Может быть, мы
поймем еще лучше динамику прогресса выздоровления,
если заметим, что мы улавливаем все либидо, ушедшее из-под
власти Я, отвлекая его часть на себя благодаря
перенесению.
Уместно также предупредить, что из распределений
либидо, установившихся во время лечения и благодаря ему,
нельзя делать непосредственное заключение о распределении
либидо во время болезни. Предположим, что нам удалось
добиться благоприятного исхода какого-либо случая
благодаря созданию и устранению перенесения сильных чувств с
отца на врача, но было бы неправильно заключить, что
больной раньше страдал такой бессознательной привязанностью
своего либидо к отцу. Перенесение с отца — это только
поле битвы, на котором мы одолеваем либидо; либидо
больного было направлено туда с других позиций. Это поле битвы
не всегда располагается возле одного из важных укреплений
врага. Защита вражеской столицы не должна непременно
происходить у ее ворот. Только после того, как перенесение
опять устранено, можно мысленно реконструировать
распределение либидо, имевшее место во время болезни.
С точки зрения теории либидо мы можем сказать
последнее слово и по поводу сновидения. Сновидения невротиков,
как и их ошибочные действия и свободно приходящие им в
голову мысли, помогают нам угадать смысл симптомов и
обнаружить размещение либидо. В форме исполнения желания
они показывают нам, какие желания подверглись
вытеснению и к каким объектам привязалось либидо, отнятое у Я.
Поэтому в психоаналитическом лечении толкование
сновидений играет большую роль и в некоторых случаях
длительное время является самым важным средством работы. Мы
уже знаем, что само состояние сна приводит к известному
ослаблению вытеснения. Благодаря такому уменьшению ока-
559
Зигмунд ФРЕЙД
зываемого на него давления становится возможным гораздо
более ясное выражение вытесненного побуждения во сне,
чем ему может предоставить симптом в течение дня.
Изучение сновидения становится самым удобным путем для
ознакомления с вытесненным бессознательным, которому
принадлежит и отнятое у Я либидо.
Но сновидения невротиков, по существу, не отличаются
от сновидений нормальных людей; их, может быть, вообще
нельзя отличить друг от друга. Нелепо было бы считать
сновидения нервнобольных не имеющими отношения к
сновидениям нормальных людей. Мы должны поэтому сказать, что
различие между неврозом и здоровьем существует только
днем, но не распространяется на жизнь во сне. Мы
вынуждены перенести и на здорового человека ряд предположений,
которые вытекают из отношения между сновидениями и
симптомами у невротика. Мы не можем отрицать, что и
здоровый человек имеет в своей душевной жизни то, что только
и делает возможным как образование сновидений, так и
образование симптомов, и мы должны сделать вывод, что и он
произвел вытеснения и употребляет известные усилия,
чтобы сохранить их, что его система бессознательного скрывает
вытесненные, но все еще обладающие энергией побуждения
и что часть его либидо не находится в распоряжении его Я.
И здоровый человек, следовательно, является
потенциальным невротиком, но сновидение, по-видимому,
единственный симптом, который он способен образовать. Если
подвергнуть более строгому анализу его жизнь в бодрствовании,
то откроется то, что противоречит этой видимости, то, что
эта мнимоздоровая жизнь пронизана несметным
количеством ничтожных, практически незначительных симптомов.
Различие между душевным здоровьем и неврозом
выводится из практических соображений и определяется по
результату — осталась ли у данного лица в достаточной мере
способность наслаждаться и работоспособность? Оно
сводится, вероятно, к релятивному отношению между
оставшимся свободным и связанным вытеснением количествами
энергии и имеет количественный, а не качественный
характер. Мне незачем вам напоминать, что этот взгляд
теоретически обосновывает принципиальную излечимость невро-
560
Введение в психоанализ
зов, несмотря на то что в основе их лежит
конституциональная предрасположенность.
Вот все, что мы для характеристики здоровья можем
вывести из факта идентичности сновидений у здоровых и
невротиков. Но [при рассмотрении] самого сновидения мы
делаем иной вывод: мы не должны отделять его от невротических
симптомов, не должны думать, что его сущность заключается
в формуле перевода мыслей в архаическую форму
выражения, а должны допустить, что оно показывает нам
действительно имеющиеся размещения либидо и его привязанности
к объектам.
Мы скоро подойдем к концу. Быть может, вы
разочарованы,* что по теме психоаналитической терапии я изложил
только теоретические взгляды и ничего не сказал об
условиях, в которых начинается лечение, и об успехах, которых
оно достигает. Но я опускаю и то и другое. Первое —
потому что я не собираюсь давать вам практическое руководство
по проведению психоанализа, а второе — потому что меня
удерживают от этого многие мотивы. В начале наших бесед
я подчеркнул, что при благоприятных условиях мы
добиваемся таких успехов в лечении, которые не уступают самым
лучшим успехам в области терапии внутренних болезней,
и я могу еще добавить, что их нельзя было бы достичь
никаким другим путем. Скажи я больше, меня заподозрили
бы в том, что я хочу рекламой заглушить ставшие
громкими голоса недовольства. В адрес психоаналитиков
неоднократно даже на официальных конгрессах выражалась угроза
со стороны врачей-«коллег», что собранием случаев неудач
анализа и причиненного им вреда они откроют глаза
страждущей публике на малоценность этого метода лечения. Но
такое собрание, независимо от злобного, доносоподобного
характера этой меры, не смогло бы предоставить
возможность выработать правильное суждение о терапевтической
действенности анализа. Аналитическая терапия, как вы
знаете, молода; нужно было много времени, чтобы выработать
соответствующую технику, и это могло произойти только во
время работы и под влиянием возрастающего опыта.
Вследствие трудностей обучения врач, начинающий заниматься
психоанализом, в большей мере, чем другой специалист, вы-
561
Зигмунд ФРЕЙД
нужден совершенствоваться самостоятельно, и успехи
первых его работ никогда не позволяют судить о
действительной эффективности аналитической терапии.
Многие попытки лечения не удались в первое время
использования анализа, потому что он применялся в случаях,
которые вообще не подходят для этого метода и которые
сегодня мы исключаем благодаря нашим взглядам на его
назначение. Но это назначение могло быть установлено
только на основании опыта. В свое время не знали заранее,
что паранойя и Dementia praecox в ярко выраженных
формах неподвластны анализу, и пытались применять этот
метод при всех заболеваниях. Однако большинство неудач
первых лет произошло не по вине врача или вследствие
неподходящего объекта, а из-за неблагоприятных внешних
условий. Нашей темой были только внутренние
сопротивления пациента, которые неизбежны и преодолимы.
Внешние сопротивления, оказываемые анализу условиями жизни
больного, его окружением, имеют незначительный
теоретический интерес, но огромное практическое значение.
Психоаналитическое лечение можно сравнить с хирургическим
вмешательством, и оно тоже требует самых благоприятных
условий для удачного проведения. Вы знаете, какие меры
обычно предпринимает при этом хирург: соответствующее
помещение, хорошее освещение, ассистенты, отстранение
родственников и т.д. А теперь спросите себя, сколько из этих
операций закончилось бы благополучно, если бы они
делались в присутствии всех членов семьи, сующих свой нос в
операционное поле и громко вскрикивающих при каждом
разрезе ножа. При психоаналитическом лечении
вмешательство родственников — прямая опасность и именно такая, к
которой не знаешь, как отнестись. Мы готовы к внутренним
сопротивлениям пациента, которые считаем необходимыми,
но как защититься от этих внешних сопротивлений? С
родственниками пациента нельзя справиться при помощи
каких-либо разъяснений, их невозможно убедить держаться в
стороне от всего дела, и никогда нельзя быть с ними заодно,
потому что рискуешь потерять доверие больного, который
справедливо требует, чтобы лицо, пользующееся его
доверием, было на его стороне. Кто вообще знает, какие разногла-
562
Введение в психоанализ
сия часто раздирают семью, тот и в качестве аналитика не
будет удивлен, узнав, что близкие больного проявляют
подчас меньше интереса к его выздоровлению, чем к тому,
чтобы он остался таким, каков он есть. Там, где невроз связан
с конфликтами между членами семьи, как это часто бывает,
здоровый долго не раздумывает над выбором между своим
интересом и выздоровлением больного. Нечего удивляться,
что мужу не нравится лечение, при котором, как он имеет
основание предполагать, вскрывается ряд его прегрешений;
мы не только не удивляемся этому, но и не можем упрекать
себя, если наши усилия остаются бесплодными или
преждевременно прекращаются, потому что к сопротивлению
больной женщины прибавляется сопротивление мужа. Мы
стремимся к чему-то такому, что в существующих условиях
было невыполнимо.
Вместо многих случаев я расскажу лишь один, когда я
из врачебных соображений был осужден на роль
пострадавшего. Много лет тому назад я приступил к аналитическому
лечению молодой девушки, которая из-за страха уже долгое
время не могла выходить на улицу и оставаться одна дома.
Больная постепенно призналась, что ее фантазией
завладели случайные свидетельства существования нежных
отношений между ее матерью и состоятельным другом дома. Но
она была такой неловкой или такой хитрой, что намекнула
матери на то, что обсуждалось на аналитических сеансах,
причем, изменив свое поведение по отношению к матери,
она настаивала на том, чтобы только мать избавляла бы ее
от страха оставаться одной и, когда та хотела уйти из дома,
полная страха, преграждала ей дорогу к двери. Мать сама
раньше была очень нервной, но несколько лет тому назад
вылечилась в гидропатической лечебнице. Заметим к этому,
что в той лечебнице она познакомилась с мужчиной, с
которым могла вступить в сношения, удовлетворившие ее во
всех отношениях. Пораженная бурными требованиями
девушки, мать вдруг поняла, что означал страх ее дочери. Она
позволила себе заболеть, чтобы сделать мать пленницей и
лишить ее свободы передвижения, необходимой для встречи
с возлюбленным. Быстро приняв решение, мать покончила
с вредным лечением. Девушка была доставлена в лечебницу
563
Зигмунд ФРЕЙД
для нервнобольных и в течение многих лет ее
демонстрировали как «несчастную жертву психоанализа». Так же долго
из-за отрицательного результата лечения этого случая обо
мне ходила дурная молва. Я хранил молчание, потому что
считал себя связанным долгом врачебной тайны. Много
времени спустя я узнал от своего коллеги, который посетил ту
лечебницу и видел там девушку, страдавшую агорафобией,
что отношения между ее матерью и состоятельным другом
дома известны всему городу и пользуются одобрением
мужа и отца. Итак, в жертву этой «тайне» было принесено
лечение.
В довоенные годы, когда наплыв больных из многих
стран сделал меня независимым от милостей или
немилостей родного города, я следовал правилу не браться за
лечение больного, который не был бы suijuris\ независимым от
других в своих существенных жизненных отношениях. Не
всякий психоаналитик может себе это позволить. Может
быть, из моих предостережений против родственников вы
сделаете вывод, что в интересах психоанализа больных
следует изолировать от их семей, т.е. ограничить эту терапию
обитателями лечебниц для нервнобольных. Однако я не
могу с вами в этом согласиться; гораздо лучше, если больные —
поскольку они не находятся в состоянии тяжелого
истощения — остаются во время лечения в тех условиях, в которых
им предстоит преодолевать поставленные перед ними
задачи. Только родные своим поведением не должны лишать их
этого преимущества и вообще не противиться с
враждебностью усилиям врача. Но как вы заставите действовать в этом
направлении недоступные нам факторы! Вы, конечно,
догадываетесь также, насколько шансы на успех лечения
определяются социальной средой и уровнем культуры семьи.
Не правда ли, это намечает весьма печальную
перспективу усиления действенности психоанализа как терапии, даже
если подавляющее большинство наших неудач мы можем
объяснить, учитывая мешающие внешние факторы! Тогда
сторонники анализа посоветовали нам ответить на собрание
неудач составленной нами статистикой успехов. Я и на это
Самостоятельным (лат.). — Примеч. пер.
564
Введение в психоанализ
не согласился. Я выдвинул довод, что статистика ничего не
стоит, если включенные в нее единицы слишком
неоднородны, а случаи невротического заболевания, подвергнутые
лечению, были действительно неравноценны в самых
различных отношениях. Кроме того, рассматриваемый период
времени был слишком короток, чтобы судить об окончательном
излечении, а о многих случаях вообще нельзя было
сообщать. Это касалось лиц, которые скрывали свою болезнь, а
также тех, лечение и выздоровление которых тоже должно
было оставаться тайной. Но сильнее всего удерживало
сознание того, что в делах терапии люди ведут себя крайне
иррационально, так что нет никакой надежды добиться от
них чего-нибудь разумными средствами. Терапевтическое
новшество встречается либо с опьяняющим восторгом,
например, тогда, когда Кох сделал достоянием общественности
свой первый туберкулин против туберкулеза, либо с
глубоким недоверием, как это было с действительно полезной
прививкой Дженнера, которая по сей день имеет своих
непримиримых противников. Против психоанализа имелось
явное предубеждение. Если излечивался трудный случай,
можно было слышать: это не доказательство, за это время
он и сам мог бы выздороветь. И если больная, которая
прошла уже четыре цикла удрученности и мании, попала ко мне
на лечение во время паузы после меланхолии и три недели
спустя у нее опять началась мания, то все члены семьи, а
также врач с большим авторитетом, к которому обратились
за советом, были убеждены, что новый приступ может быть
только следствием сделанной с ней попыткой анализа.
Против предубеждений ничего нельзя сделать; теперь вы видите
это на предубеждениях, которые одна группа воюющих
народов проявила против другой. Самое разумное — ждать и
предоставить времени обнаружить их состоятельность. В один
прекрасный день те же самые люди о тех же самых вещах
начинают думать совсем иначе, чем прежде; почему они
раньше так не думали, остается темной тайной.
Возможно, что предубеждение против аналитической
терапии уже теперь пошло на убыль. В пользу этого как будто
свидетельствуют непрерывное распространение
аналитических теорий, увеличение в некоторых странах числа врачей,
565
Зигмунд ФРЕЙД
лечащих анализом. Когда я был молодым врачом, то
встретился с такой же бурей возмущения врачей против
гипнотического суггестивного лечения, которое «трезвые головы»
теперь противопоставляют психоанализу. Но гипнотизм как
терапевтическое средство не сделал того, что обещал
вначале; мы, психоаналитики, можем считать себя его законными
наследниками и не забываем, насколько обязаны ему
поддержкой и теоретическими разъяснениями. Приписываемый
психоанализу вред ограничивается в основном
проходящими явлениями вследствие обострения конфликта, если
анализ проводится неумело или если он обрывается на
середине. Вы ведь слышали отчет о том, что мы делаем с
больными, и можете сами судить, способны ли наши действия
нанести длительный вред. Злоупотребление анализом
возможно в различных формах; особенно перенесение является
опасным средством в руках недобросовестного врача. Но от
злоупотребления не застраховано ни одно медицинское
средство или метод; если нож не режет, он тоже не может
служить выздоровлению.
Вот я и подошел к концу, уважаемые дамы и господа.
И это больше, чем привычный речевой оборот, если я
признаю, что меня самого удручают многочисленные
недостатки лекций, которые я вам прочел. Прежде всего мне жаль,
что я так часто обещал вам вернуться к едва затронутой теме
в другом месте, а затем общая связь изложения не давала
мне возможности сдержать свое обещание. Я взялся за то,
чтобы познакомить вас с еще не законченным, находящимся
в развитии предметом, и мое сокращенное обобщение само
вышло неполным. В некоторых местах я приготовил
материал для вывода, а сам не сделал его. Но я и не рассчитывал
на то, чтобы сделать из вас знатоков, я хотел лишь
просветить вас и пробудить ваш интерес.
Тотем
и табу
Введение '
Нижеследующие четыре статьи, появившиеся в издаваемом
мною журнале «Imago» («Образ») первого и второго года
издания под тем же заглавием, что и предлагаемая книга,
представляют собой мою попытку применить точку зрения
и результаты психоанализа к невыясненным проблемам
психологии народов. По методу исследования эти статьи
противоположны, с одной стороны, большому труду В. Вундта,
пользующегося для той же цели положениями и методами
не аналитической психологии, а с другой стороны, работам
цюрихской психоаналитической школы, пытающейся,
наоборот, проблемы индивидуальной психологии разрешать при
помощи материала из области психологии народов2.
Охотно признаю, что ближайшим поводом к написанию
моей работы послужили эти оба источника.
Я сознаю недостатки моей работы. И не хочу касаться
пробелов, которые зависят от того, что это мои первые
исследования в данной области. Однако иные из них требуют
пояснений. Я соединил здесь четыре статьи, рассчитанные на
1 Публикуется по изданию 1923 года в пер. М. В. Вульфа. Упоминаемые в
тексте имена и названия приведены в соответствие с современными нормами.
В ряде случаев примечания редакции заключены в скобки.
2 Jung C.-G. Wandlungen und Symbole der Libido //Jahrbuch für
psychoanalytische und psychopathologische Vorsehungen. Bd. IV, 1912; он же: Versuch einer
Darstellung der psychoanalytischen Theorie. Bd. V, 1913 (Юнг К.-Г.
Метаморфозы и символы либидо; он же: Эксперимент в психоаналитической теории //
Ежегодник по психоанализу и психопатологии. 1912, 1913).
569
Зигмунд ФРЕЙД
внимание широкого круга образованных людей, но их,
собственно говоря, могут понять и оценить только те немногие,
кому не чужд психоанализ во всем его своеобразии.
Назначение этих статей — стать посредниками между этнологами,
лингвистами, фольклористами и т. д., с одной стороны, и
психоаналитиками — с другой; и все же они не могут дать ни тем
ни другим того, чего им не хватает: первым — достаточного
ознакомления с новой психологической техникой,
последним — возможности в полной мере овладеть требующим
обработки материалом. Им придется поэтому довольствоваться
следующим: надо здесь и там привлечь внимание и пробудить
стремление к тому, чтобы обе стороны встречались чаще, что
окажется небесполезным для научного исследования.
Обе главные темы, давшие наименование этой книге,
тотем и табу, получают в ней неодинаковую разработку.
Анализ табу отличается безусловно большей достоверностью, и
разрешение этой проблемы более исчерпывающе.
Исследования тотемизма ограничиваются заявлением: вот то, что в
настоящее время психоаналитическое изучение может дать для
объяснения проблемы тотема. Это различие связано с тем,
что табу, собственно говоря, еще у нас существует; хотя
отрицательно понимаемое и перенесенное на другие объекты,
по психологической природе своей оно является не чем
иным, как «категорическим императивом» Канта,
действующим навязчиво и отрицающим всякую сознательную
мотивировку. Тотемизм, напротив, — чуждый нашему современному
чувствованию религиозно-социальный институт, в
действительности давно прекративший существование и замененный
новыми формами, оставивший только незначительные следы
в религии, нравах и обычаях жизни современных народов и
претерпевший, вероятно, большие изменения даже у тех
народов, которые и теперь придерживаются его. Социальные и
технические успехи в истории человечества гораздо меньше
повредили табу, чем тотему. В этой книге сделана смелая
попытка разгадать первоначальный смысл тотемизма по его
инфантильным следам, из намеков, в каких он снова
проявляется в процессе развития наших детей. Тесная связь
между тотемизмом и табу указывает дальнейшие пути, ведущие
к защищаемой здесь гипотезе, и если эта гипотеза в конце
570
Тотем и табу
концов оказалась достаточно невероятной, то ее характер не
дает основания для возражения против возможности того,
что эта гипотеза все же в большей или меньшей степени
приблизилась к трудно реконструируемой действительности.
Рим. 1913, сентябрь
Психоаналитическое исследование с самого начала
указывало на аналогии и сходства его результатов в области
душевной жизни отдельного индивида с результатами
исследования психологии народов. Вполне понятно, что сначала это
происходило робко и неуверенно, в скромном объеме и не
шло дальше сказок и мифов. Целью распространения
указанных методов на эту область было только желание вселить
больше доверия к невероятным самим по себе результатам
исследования, показывающим такое неожиданное сходство.
За протекшие с тех пор полтора десятка лет психоанализ
заслужил, однако, к себе доверие; довольно значительная
группа исследователей, идя по указаниям одного, пришла к
удовлетворительному сходству в своих взглядах, и теперь, как
кажется, наступил благоприятный момент, чтобы приступить
к границе индивидуальной психологии и поставить перед
работой новую цель. В душевной жизни народов должны быть
открыты не только подобные же процессы и связи, какие
были выявлены при помощи психоанализа у индивида, но
должна быть также сделана смелая попытка осветить при помощи
достижений психоанализа то, что осталось темным или
сомнительным в психологии народов. Молодая
психоаналитическая наука желает как бы вернуть то, что позаимствовала
в самом начале своего развития у других областей знания,
и надеется вернуть больше, чем в свое время получила.
Однако трудность предприятия заключается в
качественном подборе лиц, взявших на себя эту новую задачу. Вряд
ли стоило ждать, пока исследователи мифов и психологии
религии, этнологи, лингвисты и т.д. начнут применять
психоаналитический метод мышления к материалу своего
исследования. Первые шаги во всех этих направлениях
должны быть, безусловно, предприняты теми психиатрами, кото-
571
Зигмунд ФРЕЙД
рые до настоящего времени, как и исследователи
сновидений, овладели психоаналитической техникой и ее
результатами. Но они пока не являются специалистами в других
областях знания, и если приобрели с трудом кое-какие
сведения, то все же остаются дилетантами или в лучшем случае
автодидактами. Они не смогут избежать в своих трудах
слабостей и ошибок, которые легко будут замечены и, может
быть, вызовут насмешку со стороны цехового
исследователя-специалиста, который владеет всем материалом и умеет
распоряжаться им. Пусть же он примет во внимание, что
наши работы имеют только одну цель — побудить его
сделать то же самое лучше, применив к хорошо знакомому
материалу инструмент, который мы можем дать ему в руки.
Касаясь предлагаемой небольшой работы, я должен указать
еще на одно извиняющее обстоятельство, а именно что она
является первым шагом автора на чуждой ему до того почве.
К этому присоединяется еще то, что по различным внешним
мотивам она преждевременно появляется на свет и
публикуется по истечении гораздо более короткого периода, чем
другие сообщения, гораздо раньше, чем автор был в состоянии
разработать богатую литературу предмета. Если я тем не менее
не отложил публикования, то к этому меня побуждало
соображение, что первые работы и без того грешат большей частью
тем, что хотят охватить слишком много и стремятся дать такое
полное разрешение задачи, какое, как показывают позднейшие
исследования, никогда не возможно с самого начала. Нет
поэтому ничего плохого в том, если сознательно и с намерением
ограничиваешься небольшим опытом. Кроме того, автор
находится в положении мальчика, который нашел в лесу гнездо
хороших грибов и прекрасных ягод и созывает своих
спутников раньше, чем сам все сорвал, потому что видит, что он не
в состоянии справиться о обилием найденного.
У всякого принимавшего участие в развитии
психоаналитического исследования остался достопамятным момент,
когда К.-Г. Юнг на частном научном съезде сообщил через одного
из своих учеников, что фантазии некоторых душевнобольных
(Dementia ргаесах — раннее слабоумие) удивительным
образом совпадают с мифологическими космогониями древних
народов, о которых необразованные больные не могли иметь
572
Тотем и табу
никакого научного представления. Это указало не только на
новый источник самых странных психических следствий
болезни, но и подчеркнуло самым решительным образом
значение параллелизма онтогенетического и филогенетического
развития и в душевной жизни. Душевнобольной и невротик
сближаются, таким образом, с первобытным человеком, с
человеком отдаленного доисторического времени, и если
психоанализ исходит из верных предположений, то должна
открыться возможность свести то, что имеется у них общего,
к типу инфантильной душевной жизни.
I
Боязнь инцеста
Знания о доисторическом человеке на всех стадиях его
развития мы получаем благодаря предметам и утвари,
оставшимся после него, благодаря сохранившимся сведениям о его
искусстве, религии и мировоззрении, которые дошли до нас
непосредственно или же традиционным путем в сказаниях,
мифах и сказках, и по сохранившимся рудиментам в наших
собственных обычаях и нравах. Кроме того, в известном
смысле он является нашим современником. Еще живут люди,
которые, как полагают, очень близки первобытным народам,
гораздо ближе нас, и в которых мы поэтому видим прямых
потомков и представителей древних людей. Таково наше мнение
о диких и полудиких народах, душевная жизнь которых
приобретает для нас особый интерес, если мы можем в ней
обнаружить хорошо сохранившуюся предварительную ступень
нашего собственного развития. Если это предположение верно,
то сравнение должно открыть большое сходство «психологии
первобытных народов», как показывает ее этнография, с
психологией невротиков, насколько мы с ней познакомились
благодаря психоанализу, и это дает нам возможность увидеть
в новом свете знакомое уже и в той и в другой области.
По внешним и внутренним причинам я выбираю для этого
сравнения племена, которые этнографы считают самыми
дикими, несчастными и жалкими, а именно туземцев самого мо-
573
Зигмунд ФРЕЙД
лодого континента — Австралии, сохранившего в своей фауне
так много архаического, исчезнувшего в других местах.
Туземцев Австралии рассматривают как особую расу, у
которой ни по физическому облику, ни по лингвистическим
особенностям нет родства с ближайшими соседями —
меланезийскими, полинезийскими и малайскими народами. Они
не строят ни домов, ни прочных хижин, не обрабатывают
землю, не разводят никаких домашних животных, кроме
собаки, не знают даже гончарного искусства. Питаются
исключительно мясом различных животных, которых убивают, и
кореньями, которые выкапывают. Среди них нет ни королей,
ни вождей. Общие дела решают собрания взрослых мужчин.
Вряд ли у них возможна религия в форме почитания
высших существ. Причем племена внутри континента,
вынужденные вследствие недостатка воды бороться с самыми
жестокими жизненными условиями, по-видимому, во всех
отношениях еще более примитивны, чем жители побережья.
Разумеется, мы не можем предполагать, что эти жалкие
нагие каннибалы в половой жизни окажутся нравственными
в нашем понимании, ограничивающими себя в высокой
степени в проявлениях своих сексуальных влечений. И тем не
менее мы знаем, что они поставили себе целью с тщательной
заботливостью и мучительной строгостью избегать инцесту-
озных половых отношений. Более того, вся их социальная
организация направлена именно к этой цели или она
связана с этим достижением.
Вместо всех отсутствующих религиозных и социальных
установлений у австралийцев имеется система тотемизма.
Австралийские племена распадаются на маленькие семьи
или кланы, из которых каждая носит имя своего тотема. Что
же такое тотем? Чаще — животное, идущее в пищу,
безвредное или опасное, внушающее страх, реже — растение или
сила природы (дождь, вода), находящиеся в определенном
отношении ко всей семье. Тотем считается праотцем всей
семьи, кроме того, ангелом-хранителем и помощником,
предрекающим будущее и узнающим и милующим своих
детей, даже если он, как правило, опасен для других. Лица
одного тотема связаны священным, в случае нарушения
влекущим наказания обязательством не убивать (уничтожать)
574
Тотем и табу
своего тотема и воздерживаться от употребления его мяса
(или от другого доставляемого им наслаждения). Признак
тотема не связан с отдельным животным или отдельным
существом: он связан со всеми индивидами этого рода.
Время от времени устраиваются праздники, на которых лица
одного тотема в церемониальных танцах изображают или
подражают движениям своего тотема.
Тотем передается по наследству по материнской или
отцовской линии; весьма вероятно, что первоначально повсюду
был первый тип передачи и только затем произошла его
замена вторым. Принадлежность к тотему лежит в основе всех
социальных обязательств австралийцев; с одной стороны, она
выходит за границы принадлежности к одному племени и, с
другой стороны, отодвигает на задний план кровное родство1.
Тотем не связан ни с областью, ни с местоположением.
Лица одного тотема живут раздельно и мирно уживаются
с приверженцами других тотемов2.
1 FrazerJ.-D. Totcmism and Exogamy. L., 1910. Vol. I. P. 53 (Фрэзер Д.-Д.
Тотемизм и экзогамия). Тотем связывает крепче, нежели кровные или
родственные связи в нашем современном смысле.
2 Эта квинтэссенция тотсмической системы не может остаться без
объяснений и ограничении. Название «тотем» было перенято в 1791 году
англичанином Дж. Лонгом у индейцев Северной Америки. Само же явление
постепенно завоевало огромный интерес и вызвало богатую литературу, из которой
особенно упоминаю как о главном произведении о четырехтомной книге
Джеймса Джорджа Фрэзера «Тотемизм и экзогамия» (1910) и книге и статье
Эндрю Лонга («The Secret of the Totem», 1905). Шотландцу Фергюсону Мак-
леннану (1800—1870) принадлежит заслуга открытия значения тотемизма в
доисторическую эпоху человечества. Тотсмические установления наблюдались
и наблюдаются теперь кроме австралийцев у североамериканских индейцев,
далее у народов океанических островов, Юго-Восточной Азии и в большой
части Африки. Некоторые необъяснимые иным образом исторические следы и
остатки дают возможность считать, что когда-то тотемизм был распространен
и среди арийских и семитских древних пародов Европы и Азии,.и многие
исследователи склонны видеть в нем всюду необходимую прошедшую фазу
человеческого развития.
Каким же образом доисторические люди дошли до того, чтобы выбрать
себе тотем, то есть положить в основу своих социальных обязательств и, как
мы знаем, также своих сексуальных ограничений представление о своем
происхождении от того или другого животного? По этому поводу имеется много
теорий, обзор которых читатель может найти в «Психологии народов»
Вильгельма Вундта (т. II — «Мифы и религия»), но нет единства взглядов. Обещаю,
что в недалеком будущем изберу проблему тотемизма предметом особого
исследования и попытаюсь разрешить се, применяя психоаналитический метод.
575
Зигмунд ФРЕЙД
А теперь мы должны наконец перейти к тем
особенностям тотемической системы, которые привлекают к ней
интерес психоаналитика. Почти повсюду, где имеется тотем,
существует закон, что члены одного и того же тотема не
должны вступать друг с другом в половые отношения,
следовательно, не могут также вступать между собой в брак.
Это и составляет связанную с тотемом экзогамию.
Этот строго соблюдаемый запрет весьма замечателен. Его
нельзя объяснить тем, что нам известно о понятиях или
свойствах тотема. Невозможно поэтому понять, каким образом он
попал в систему тотемизма Неудивительно, что некоторые
исследователи считают, что первоначально — в древнейшие
времена и соответственно настоящему смыслу — экзогамия не
имела ничего общего с тотемизмом, а была к нему добавлена без
глубокой связи в то время, когда возникла необходимость в
брачных ограничениях. Как бы там ни было, соединение
тотемизма с экзогамией существует и оказывается очень прочным.
В дальнейшем изложении мы выясним значение этого
запрета.
а) Соплеменники не ждут, пока наказание виновного за
нарушение этого запрета постигнет его, так сказать,
автоматически, как при других запретах тотема (например, при
убийстве животного тотема), а виновный самым
решительным образом наказывается всем племенем, как будто дело
состоит в том, чтобы предотвратить угрожающую всему
обществу опасность или освободить его от гнетущей вины.
Несколько строк из книги Фрэзера могут показать, как серьезно
Дело не только в том, что теория тотемизма спорна, сами факты,
относящиеся к нему, едва ли могут быть выражены в общих положениях вроде
сделанной выше попытки. Нет почти ни одного положения, когда бы не
приходилось говорить об исключениях и противоречиях. Но нельзя забывать, что
даже самые примитивные и консервативные народы в известном смысле
являются старыми народами, имеют за собой долгий период жизни, в течение
которого то, что было первоначальным у них, уже прошло длительное развитие
и имело много искажений. Таким образом, в настоящее время тотемизм
встречается у народов, еще сохранивших его в самых разнообразных стадиях
вымирания, распада, перехода к другим социальным и религиозным институтам или
в стационарных формах, вероятно довольно далеко отошедших от его
первоначальной сущности. Трудность заключается, таким образом, в том, что нелегко
решить, что в настоящих условиях следует рассматривать как настоящее
отражение полного смысла прошлого и что — как вторичное искажение этого прошлого.
576
Тотем и табу
относятся к подобным преступлениям эти, с нашей точки
зрения, в других отношениях довольно безнравственные дикари.
В Австралии обычное наказание за половое сношение с
лицом из запрещенного клана — смертная казнь. Все равно,
находилась ли женщина в той же самой группе людей или ее
взяли в плен во время войны с другим племенем, мужчину
из враждебного клана, имевшего с ней сношение как с женой,
вылавливают и убивают его товарищи по клану так же, как и
женщину. Однако иногда, если удастся избежать на
определенное время их поимки, оскорбление прощается. У племени
тати в Новом Южном Уэльсе (Австралия) в тех редких
случаях, о которых известно, был умерщвлен только мужчина, а
женщину избивали, или расстреливали стрелами, или
подвергали ее и тому и другому, пока не доводили до полусмерти.
Причиной, почему ее не просто убивали, было
предположение, что, может быть, она подверглась насилию. Также при
случайных любовных отношениях запрещения клана
соблюдаются очень точно, нарушения таких запрещений
оцениваются как гнуснейшие и караются смертной казнью (Howitt).
b) Так как такое же жестокое наказание полагается и за
мимолетные любовные связи, которые не привели к
деторождению, то маловероятно, чтобы существовали другие,
например практические, мотивы запрета.
c) Раз тотем передается по наследству и не изменяется
вследствие брака, то легко предвидеть последствия запрета,
например, при унаследовании со стороны матери. Если муж
принадлежит к клану с тотемом кенгуру и женится на
женщине с тотемом эму, то дети, мальчики и девочки, все эму.
Сыну, рожденному в этом браке, благодаря правилу тотема
окажется невозможным кровосмесительное общение с
матерью и сестрами, которые также эму1.
1 Отцу, который принадлежит к клану с тотемом кенгуру, предоставляется,
однако, возможность, по крайней мерс согласно этому запрету, инцеста со
своими дочерьми эму. При унаследовании тотема со стороны отца отец — кенгуру
и дети также кенгуру; получается, что отцу был бы тогда запрещен инцест с
дочерьми, а для сына был бы возможен инцест с матерью. Эти следствия
запрета тотема содержат указания на то, что унаследование по материнской
линии более древнее, чем по отцовской линии, поэтому есть основания
полагать, что запреты тотема прежде всего направлены против инцестуозных
вожделений сына.
19-3518
577
Зигмунд ФРЕЙД
d) Но достаточно одного указания, чтобы убедиться, что
связанная с тотемом экзогамия дает больше, следовательно,
и преследует больше, чем только предупреждение инцеста с
матерью и сестрами. Она делает для мужчины невозможным
половое соединение со всеми женщинами его клана, то есть
с целым рядом женщин, не находящихся с ним в кровном
родстве, так как рассматривает всех этих женщин как
кровных родственников. С первого взгляда совершенно
непонятно психологическое оправдание этого чрезмерного
ограничения, далеко превосходящего все, что можно поставить наряду
с ним у цивилизованных народов. Очевидно только, что роль
тотема (животного) как предка принимается здесь всерьез.
Все, что происходит от того же тотема, считается кровным
родством, составляет одну семью, и в пределах этой семьи
все является абсолютным препятствием к сексуальному
соединению, даже самые отдаленные степени родства.
Таким образом эти дикари проявляют необыкновенно
высокую степень боязни инцеста, или инцестуозной
чувствительности, связанной с не совсем понятной нам особенностью,
состоящей в замене реального кровного родства тотемическим
родством. Нам незачем, однако, слишком преувеличивать это
противоречие, сохраним лишь в памяти, что запреты тотема
включают реальный инцест как частный случай.
Но остается загадкой, каким же образом произошла при
этом замена настоящей семьи кланом тотема, и разрешение
этой загадки совпадает, может быть, с разъяснениями самого
тотема. Надо иметь в виду, что при известной свободе
сексуального общения, переходящей фаницы брака, кровное
родство, а вместе с ним и предупреждение инцеста
становятся настолько сомнительными, что является необходимость в
другом обосновании запрета. Не лишне поэтому заметить,
что нравы австралийцев признают такие социальные условия
и торжественные случаи, при которых исключается обычное
право мужчины на женщину.
Язык этих австралийских племен1 отличается
особенностью, имеющей несомненную связь с интересующим нас
вопросом. А именно — обозначение родства, которым они пользуют-
Как у большинства тотемических народов.
578
Тотем и табу
ся, предполагает не отношения двух индивидов между собой,
а отношения между индивидом и группой. Они принадлежат,
по выражению Л.-Г. Моргана, к «классифицирующей» системе.
Это значит, что всякий называет отцом не только своего
родителя, но и другого любого мужчину, который согласно законам
его племени мог бы жениться на его матери и стать таким
образом его отцом. Он называет матерью помимо своей
родительницы всякую другую женщину, которая, не нарушая
законов племени, могла бы стать его матерью. Он называет братом,
сестрой не только детей его настоящих родителей, но и детей
всех названных лиц, находящихся в родительской группе по
отношению к нему, и т. д. Родственные названия, которые дают
друг другу два австралийца, не указывают, следовательно, на
кровное родство между ними, как это соответствовало бы
смыслу нашего языка. Они означают скорее социальную, чем
физическую связь. Близость к этой классифицирующей
системе проявляется у нас в детской речи, когда ребенка заставляют
каждого приятеля и приятельницу родителей называть
«дядей», «тетей», или в переносном смысле, когда мы говорим о
«братьях в Аполлоне», о «сестрах во Христе».
Нетрудно найти объяснение этого столь странного для
нас оборота речи, если видеть в нем оттенок того брачного
института, который Rev. L. Fison назвал «групповым браком»,
сущность которого состоит в том, что известное число
мужчин осуществляет свои брачные права над известным числом
женщин. Дети этого группового брака имеют основание
смотреть друг на друга как на братьев и сестер, хотя они не
все рождены одной и той же матерью, и считают всех
мужчин группы своими отцами.
Хотя некоторые авторы, как, например, В. Westermarck в
его «Истории человеческого брака»1, не соглашаются с
выводами, которые другие авторы сделали из существования в
языке названий группового родства, все же лучшие знатоки
австралийских дикарей согласны с тем, что
классифицирующие названия родства следует рассматривать как пережиток
времен группового брака. Больше того, по мнению Спенсера
и Жиллена, еще и теперь можно установить существование
Второе изд., 1902 гол.
579
Зигмунд ФРЕЙД
известной формы группового брака у племен урабунна и
диери (Центральная Австралия). Групповой брак
предшествовал, следовательно, индивидуальному браку у этих
народов и исчез, оставив явные следы в их языке и нравах.
Если мы заменим индивидуальный брак групповым, то
нам станет понятной кажущаяся чрезмерность
предохранительных мер против инцеста, встречающихся у этих
народов. Экзогамия тотема, запрещение сексуальных общений с
членами одного и того же клана, кажется нецелесообразным
средством для предупреждения группового инцеста,
впоследствии это средство зафиксировалось и на долгое время
пережило оправдывавшие его мотивы.
Если мы поняли мотивы брачных ограничений
австралийских дикарей, то нам предстоит еще узнать, что в
существующих в действительности условиях наблюдается гораздо
большая, на первый взгляд сбивающая сложность. В
Австралии имеется очень немного племен, у которых нет других
запрещений, кроме ограничений тотема. Большинство племен
организовано таким образом, что они сначала распадаются
как бы на два брачных класса (по-английски: Phrathries1).
Каждый из этих классов экзогамичен и включает большое
число тотемичных семейств. Обыкновенно каждый брачный
класс подразделяется на два подкласса (субфратрии), а все
племя, следовательно, на четыре, подклассы занимают место
между фратриями и тотемическими семьями.
Типичная, очень часто встречающаяся схема организации
австралийского племени имеет, следовательно, такой вид:
1 Фратрия — подразделение племени, представляющее совокупность
нескольких родов. Фратрии выполняли общественные и религиозные функции.
Браки внутри фратрий были запрещены и заключались между членами разных
фратрий. Сохранялись фратрии и в античном мире. — Ред.
580
Тотем и табу
Двенадцать тотемических семейств распределены между
двумя классами и четырьмя подклассами. Все отделения эк-
зогамичны1.
Подкласс с составляет экзогамическое единство се> а
подкласс d — cf. Результат, то есть тенденция этой организации,
не подлежит сомнению, таким путем достигается дальнейшее
ограничение брачного выбора и сексуальной свободы. Если
бы существовало двенадцать тотемических семейств, то,
наверное, каждый член семейства, если предполагать равное
число людей в нем, имел бы выбор между п/п всех женщин
племени. Существование других фратрий ограничивало бы
число до 6/i2 — равное половине; мужчина тотема может
жениться на женщине только из семейств от 1 до 6. При
введении обоих подклассов выбор понижается до 3/i2, то есть до
У4. Мужчина тотема вынужден ограничить свой брачный
выбор женщинами тотема 4, 5, 6.
Историческое отношение между брачными классами —
число их у некоторых племен доходит до 8 — и тотемичес-
кими семействами безусловно не выяснено. Очевидно
только, что эти учреждения стремятся достичь того же, что и
экзогамия, и даже еще большего, в то время как
тотем-экзогамия производит впечатление сложившегося неизвестно
каким образом священного установления, то есть обычая:
сложные учреждения брачных классов, их подразделения и
связанные с ними условия, по-видимому, исходят из
стремящегося к определенной цели законодательства, может
быть снова поставившего себе задачей предохранительные
меры против инцеста, потому что влияние тотема ослабело.
И в то время как тотемическая система, насколько известно,
составляет основу всех других социальных обязанностей и
нравственных ограничений племени, значение фратрии в
общем исчерпывается достигаемым ими регулированием
брачного выбора.
В дальнейшем развитии системы брачных классов
проявляется стремление расширить предохранительные меры за
пределы естественного и группового инцеста и запретить
браки между более отдаленными родственными группами,
Число тотемов произвольно.
581
Зигмунд ФРЕЙД
подобно тому как это делала католическая Церковь,
распространив давно существовавшее запрещение брака между
братьями и сестрами на двоюродных братьев и сестер и
прибавив к этому еще духовные степени родства1.
Интересующая нас проблема не пострадает от того, если
не станем глубже вникать в чрезвычайно запутанные и
невыясненные споры о происхождении и значении брачных
классов и об отношениях к ним. Для наших целей вполне
достаточно указать на ту большую тщательность, с которой
австралийцы и другие дикие народы стараются избежать
инцеста. Мы должны сознаться, что эти дикари даже более
чувствительны к инцесту, чем мы. Вероятно, у них больше
искушений и потому против них они нуждаются в более
обширных защитительных мерах.
Боязнь инцеста у этих народов не ограничивается,
однако, установлением описанных институтов, которые, как нам
кажется, направлены преимущественно против группового
инцеста. Мы должны прибавить еще целый ряд «обычаев»,
которые направлены против индивидуального общения
близких родственников в нашем смысле и которые соблюдаются
буквально с религиозной строгостью. Цель их не может
подлежать никакому сомнению. Эти обычаи, или требуемые
обычаем запреты, можно назвать «избеганием» (avoidances).
Их распространение выходит далеко за пределы
австралийских тотемических народов, но и тут я попрошу читателя
довольствоваться фрагментарным отрывком из богатого
материала.
В Меланезии такие запреты-ограничения касаются
сношений мальчиков с матерью и сестрами. Так, например, на
одном из Новых Гебридских островов мальчик в
известном возрасте оставляет материнский дом и переселяется в
«клубный дом», где он с того времени постоянно спит и
ест. Если ему и дозволяется посещать свой дом, чтобы
получать пищу, то он, если его сестры находятся дома, должен
уйти оттуда не поевши; если же никого из сестер нет дома,
то он может сесть возле двери и поесть. Когда брат и се-
1 См. ст.: Лат Э. « Тотемизм» в энциклопедии * Бригами ика*. 2-е изд. L.,
1911.
582
Тотем и табу
стра случайно встречаются вне дома на открытом месте, то
они должны убежать в разные стороны или спрятаться.
Если мальчик узнает следы ног своих сестер на песке, то ему
нельзя идти по этим следам так же, как и им по его
следам. Больше того, он не смеет произносить их имен и
побоится произнести самое обыкновенное слово, если оно
входит как составная часть в их имя. Это «избегание»,
начинающееся с церемониала инициации (возмужалости),
соблюдается в течение всей жизни. Сдержанность в
отношениях между матерью и сыном с годами увеличивается,
проявляясь преимущественно со стороны матери. Если она
приносит сыну что-нибудь поесть, то не передает ему
сама, а только ставит перед ним. Она не обращается к нему
с интимной речью, говорит ему, согласно нашему обороту
речи, не «ты», а «вы». Подобные же обычаи
господствуют в Новой Каледонии. Если брат и сестра встречаются, то
она прячется в кусты, а он проходит мимо, не поворачивая
головы1.
На полуострове Газель в Новой Британии сестра по
выходе замуж не должна вовсе разговаривать со своим братом,
она также больше не произносит его имени, а говорит о нем
описательно2.
На Новом Мекленбурге такие ограничения
распространяются на двоюродных брата и сестру (хотя не всякого
рода), но также и на родных брата и сестру: они не должны
близко подходить друг к другу, не должны давать руки друг
другу, делать подарков, но могут разговаривать на
расстоянии нескольких шагов. В наказание за инцест с сестрой
полагается смерть через повешение3.
На островах Фиджи правила «избегания» особенно
строги. Они касаются не только кровных родственников, но да-
1 Codrington R.-H. The Mclancsians, no: FrazerJ.-D. Totemism and Exogamy.
Vol. I. P. 77 {Кодрииггои Р.-Г. Жители Меланезии, по: Фрэзер Д.-Д. Тотемизм
и экзогамия).
2 FrazerJ.-D. Totemism and Exogamy. Vol. II. P. 124, no: Kleinbitschen. Die
Küstenbewohner der Gazcllen-Halbmscl (по: Жители побережья полуострова
Газель).
3 Frazer J.-D. Ibid. P. 131, по: Pecke P.-G. Anthropus. 1908 (по: Пек Р.-Д
Первобытный человек).
583
Зигмунд ФРЕЙД
же и групповых сестер. Тем более странное впечатление
производит на нас, когда мы узнаем, что этим дикарям
известны священные оргии, в которых лица именно с этой
запрещенной степенью родства отдаются половому
соединению, если мы только не предпочтем воспользоваться этим
противоречием для объяснения указанного запрещения,
вместо того чтобы ему удивляться1.
У батаков на Суматре эти правила «избегания»
распространяются на все родственные отношения. Для батака
было бы крайне неприлично сопровождать родную сестру на
вечеринку. Брат чувствует себя весьма неловко в
обществе сестры даже в присутствии посторонних лиц. Если кто-
нибудь из них заходит в дом, то другой предпочитает уйти.
Отец также не останется наедине со своею дочерью в
доме, как и мать со своим сыном. Голландский миссионер,
сообщающий об этих нравах, прибавляет, что, к сожалению,
должен считать их очень обоснованными. У этого народа
принято думать, что пребывание наедине мужчины с
женщиной приведет к неподобающей интимности, и так как
они опасаются всевозможных наказаний и печальных
последствий от полового общения между кровными
родственниками, то поступают вполне правильно, когда
благодаря таким запретам стараются избежать подобных
искушений2.
У баронга в бухте Делагоа в Африке (побережье
Мозамбика) странным образом самые строгие предосторожности
принимаются по отношению к невестке, жене брата
собственной жены. Если мужчина встречается где-нибудь с этой
опасной для него личностью, то тщательно избегает ее. Он
не рискует есть с ней из одной миски, нерешительно
заговаривает с ней, не позволяет себе зайти в ее хижину и
здоровается с ней дрожащим голосом3.
У акамба (или вакамба) в Восточной Африке существует
закон «избегания», который должен был бы встречаться
чаще. Девушка обязана тщательно избегать родного отца в
1 FrazerJ.-D. Ibid. P. 147, по: Rev. L.Fison.
2 FrazerJ.-D. Totemism and Exogamy. Vol. II. P. 189.
3 Ibid. P. 388.
584
Тотем и табу
период времени между наступлением половой зрелости и
замужеством. Она прячется при встрече с ним на улице,
никогда не рискует сесть возле него и ведет себя так до
момента своего обручения. После замужества нет больше
никаких препятствий для ее общения с отцом1.
Самое распространенное и самое интересное для
цивилизованных народов «избегание» касается ограничений
общения между мужчиной и его тещей. Оно существует повсюду
в Австралии, а также в силе у меланезийских, полинезийских
и негритянских народов; но, вероятно, имеет еще более
широкое распространение, поскольку распространены следы
тотемизма и группового родства. У некоторых из этих
народов имеются подобные же запрещения безобидного общения
женщины с ее тестем, но все же они не так уж постоянны и
не так серьезны. В отдельных случаях и тесть, и теща
становятся предметом «избегания».
Так как нас меньше интересует этнографическое
распространение, чем содержание и цель «избегания» тещи, то я
и в этом случае ограничусь описанием немногих примеров.
На Банковых островах эти запреты очень строги и
мучительно точны. Мужчина должен избегать своей тещи, так же
как и она его. Если они случайно встречаются на тропинке,
то женщина отходит в сторону и поворачивается к нему
спиной, пока он не пройдет, то же самое делает он.
В Вануа-Леву (Фиджи) мужчина не должен проходить
даже берегом моря за своей тещей раньше, чем прилив не
смоет следов ее ног на песке. Но они могут разговаривать
друг с другом на известном расстоянии. Совершенно
исключается возможность того, чтобы он когда-нибудь произнес
имя своей тещи или она — зятя2.
На Соломоновых островах мужчина со времени
женитьбы не должен ни смотреть на свою тещу, ни разговаривать
с ней. Когда он встречается с ней, то делает вид, как будто
ее не знает, и изо всех сил убегает, чтобы спрятаться от нее3.
1 Ibid. P. 424.
2 FrazerJ.-D. Totemism and Exogamy. Vol. II. P. 76.
3 Ibid. P. 117, no: Ribbe С. Два года у каннибалов Соломоновых островов.
1905.
585
Зигмунд ФРЕЙД
У зулусов нравы требуют, чтобы мужчина стыдился
своей тещи, чтобы он всячески старался избегать ее общества.
Он не входит в хижину, в которой она находится, и если
они встречаются, то он или она уходят в сторону: она
прячется в кусты, а он прикрывает лицо щитом. Если они не
могут избежать друг друга и женщине нельзя скрыться, то
она завязывает хотя бы пучок травы вокруг головы, чтобы
выполнить необходимую церемонию. Общение между ними
происходит или через третье лицо, или они могут
разговаривать друг с другом крича на известном расстоянии, имея
между собой какую-нибудь преграду, например стены
крааля. Ни один из них не должен произносить имени другого1.
У негритянского племени басога (в Уганде, у истоков
Нила) мужчина может разговаривать со своей тещей только
тогда, когда он в другом помещении дома и не видит ее.
Этот народ, между прочим, так боится кровосмесительства,
что не оставляет его безнаказанным даже у домашних
животных2.
В то время как цель и значение других «избеганий»
между родственниками не подлежат сомнению и понимаются
всеми наблюдателями как предохранительные меры против
кровосмесительства, запрету, касающемуся общения с тещей,
некоторыми придается другое значение. Вполне естественно,
что кажется непонятным, почему у всех этих народов такой
большой страх перед искушением, воплощенным для
мужчины в образе уже немолодой женщины, хотя в
действительности не матери его, но такой, какая могла бы быть его
матерью3.
Это возражение выдвигалось и против взгляда Физо,
обратившего внимание на то, что некоторые системы брачных
классов имеют в этом отношении пробел, допуская
теоретический брак между мужчиной и его тещей, поэтому и
явилась необходимость в особенном предупреждении этой
возможности.
1 FrazerJ.-D. Totcmism and Exogamy. Vol. II. P. 385.
2 Ibid. P. 461.
3 Crawley V. The mystic Rose. L., 1902. P. 405 (Кроули В. Мистическая
роза).
586
Тотем и табу
Сэр J. Lubbok сводит в своем сочинении
«Происхождение цивилизации» поведение тещи по отношению к зятю
к существовавшему когда-то браку посредством похищения
(marriage by capture): «Пока имело место похищение
женщины, возмущение родителей должно было быть
достаточно серьезным. Когда от этой формы брака остались только
символы, было символизировано также возмущение
родителей, и этот обычай сохранился после того, как
происхождение его забылось». V. Crawley легко было показать, как
мало это объяснение соответствует деталям фактического
наблюдения.
Э.-Б. Тайлор полагает, что отношение тещи к зятю
представляет собой только форму «непризнания» (cutting) со
стороны семьи жены. Муж считается чужим до тех пор, пока
не нарождается первый ребенок. Однако помимо тех
случаев, когда последнее условие не уничтожает запрещения, это
утверждение вызывает возражение, так как оно не объясняет
распространения обычая на отношение между тещей и
зятем, то есть не обращает внимания на половой фактор и не
считается с моментом чисто священного отвращения,
которое проявляется в законе об «избегании».
Зулуска, которую спросили о причине запрещения, дала
с большой четкостью ответ: нехорошо, чтобы он видел
сосцы, вскормившие его жену1.
Известно, что отношение между зятем и тещей
составляет и у цивилизованных народов слабую сторону
организации семьи. В обществе белых народов Европы и Америки
хотя и нет больше законов об «избегании», но можно было
бы избежать многих ссор и неприятностей, если бы нравы
такие законы сохранили и не приходилось бы их снова
воскрешать отдельным индивидам. Иному европейцу может
показаться откровением мудрости, что дикие народы
благодаря закону об избегании сделали наперед невозможным
возникновение несогласия между лицами, ставшими близкими
родственниками. Не подлежит никакому сомнению, что в
1 Crawley V. The mystic Rose. P. 405, no: Leslie. Among the Zulus and
Amabongas. 1875 (Кроули В. Мистическая роза, но: Лесли. Срсли зулусов и
амабопга).
587
Зигмунд ФРЕЙД
психологической ситуации тещи и зятя существует нечто,
что способствует вражде между ними и затрудняет
совместную жизнь.
То обстоятельство, что цивилизованные народы так
нередко избирают объектом сатиры тему о теще, как мне кажется,
указывает на то, что чувственные реакции между зятем и
тещей содержат компоненты, резко противоречащие друг
другу. Я полагаю, что это отношение является, собственно
говоря, «амбивалентным», состоящим из нежных и враждебных
чувств.
Известная часть этих чувств совершенно ясна: со
стороны тещи — нежелание отказаться от прав на дочь,
недоверие к чужому, на которого возложена ответственность за
дочь, тенденция сохранить господствующее положение, с
которым она сжилась в собственном доме. Со стороны
мужа — решимость не подчиняться больше ничьей воле,
ревность к лицам, которым принадлежала до него нежность его
жены, и — last not least1 — нежелание, чтобы нарушили его
иллюзию сексуальной переоценки. Такое нарушение чаще
всего происходит от черт лица тещи, которые во многом
напоминают ему дочь и в то же время лишены юности,
красоты и психической свежести, столь ценных для него у его
жены.
Знание скрытых душевных движений, которое дало нам
психоаналитическое исследование отдельных людей,
позволяет прибавить к этим мотивам еще и другие. В тех случаях,
где психосексуальные потребности женщины в браке и в
семейной жизни требуют удовлетворения, ей всегда грозит
опасность неудовлетворенности благодаря
преждевременному окончанию супружеских отношений и монотонности ее
душевной жизни. Стареющая мать защищается от этого тем,
что она живет чувствами своих детей, отождествляет себя
с ними, испытывая вместе с ними их переживания в
области чувств. Говорят, что родители молодеют со своими
детьми, это в самом деле одно из самых ценных психических
преимуществ, которые родители получают от своих детей.
В случае бездетности отпадает одна из лучших возможное-
Последнее, но немалое (англ.). — Ред.
588
Тотем и табу
тей: перенести необходимую резиньяцию в собственном
браке. Это вживание в чувство дочери заходит у матери так
далеко, что и она влюбляется в любимого мужа дочери, что
в ярких случаях, вследствие сильного душевного
сопротивления против этих чувств, ведет к тяжелым формам
невротического заболевания. Тенденция к такому влюблению у
тещи обнаруживается очень часто, и или это самое чувство,
или противодействующее ему душевное движение
присоединяется к урагану борющихся между собою сил в душе
тещи. Очень часто на зятя обращаются неприязненные
садистические компоненты любовного движения, чтобы тем
вернее подавить запретные нежные.
У мужчины отношение к теще осложняется подобными
же душевными движениями, но исходящими из других
источников. Путь к выбору объекта обычно вел его через
образ матери, может быть, еще и сестер: вследствие
ограничений инцеста его любовь отошла от обоих дорогих лиц его
детства, с тем чтобы остановиться на чужом объекте,
выбранном по их образу и подобию. Место его родной матери
и матери его родной сестры теперь занимает теща.
Развивается тенденция вернуться к выбору первых времен; но все
в нем противится этому. Его страх перед инцестом требует,
чтобы ничто не напоминало ему генеалогии его любовного
выбора; то обстоятельство, что теща принадлежит к
настоящей действительности, что он не знал ее с давних пор и
не мог сохранить в бессознательном ее образ
неизмененным, облегчает ему отрицательное отношение к ней.
Особенная примесь раздражительности и обозленности к этой
амальгаме чувств заставляет нас предполагать, что теща
действительно представляет собой инцестуозное искушение
для зятя, подобно тому как, с другой стороны, нередко
бывает, что мужчина сначала открыто влюбляется в свою
будущую тещу, прежде чем его склонность переходит на ее
дочь.
Я не вижу, что помешало бы предположить, что именно
этот инцестуозный фактор взаимоотношений мотивирует
избегание тещи и зятя у дикарей. Мы предпочли бы поэтому
для объяснения столь строго соблюдаемых «избеганий» этих
примитивных народов выраженное первоначально Физо
589
Зигмунд ФРЕЙД
мнение, усматривающего в этих предписаниях только
защиту против опять-таки возможного инцеста. То же относится
ко всем другим «избеганиям» между кровными
родственниками или свойственниками. Различие заключается в том,
что в первом случае кровосмешение является
непосредственным и намерение предупредить его могло бы быть
сознательным; во втором случае, исключающем также и
отношение к теще, инцест был бы воображаемым искушением,
передающимся посредством бессознательных промежуточных
звеньев.
В предыдущем изложении у нас не было случая показать,
что, пользуясь психоаналитическим методом, можно
по-новому понять факты психологии народов, потому что боязнь
инцеста у дикарей давно уже стала известной и не нуждается
в дальнейшем толковании. К ее оценке мы можем прибавить
утверждение, что она представляет собой типичную
инфантильную черту и удивительное сходство с душевной жизнью
невротиков. Психоанализ научил нас тому, что первый
сексуальный выбор мальчика инцестуозен, направлен на
запрещенные объекты — мать и сестру, — и показал нам также
пути, которыми идет подрастающий юноша для
освобождения от соблазна инцеста. Невротик тоже постоянно
обнаруживает некоторую долю психического инфантилизма, он или
не мог освободиться от детских условий психосексуальности,
или вернулся к ним (задержка в развитии, регрессия).
Поэтому в его бессознательной душевной жизни все еще
продолжают или снова начинают играть главную роль инцестуоз-
ные фиксации либидо. Мы пришли к тому, что объявили
основным комплексом невроза отношения к родителям,
находящиеся во власти инцестуозных желаний. Открытие
этого значения инцеста для невроза встречает, разумеется,
общее недоверие взрослых и нормальных людей. Такое же
непризнание ждет работы Отто Ранка, все больше и больше
убеждающие, насколько тема инцеста занимает центральное
место в мотивах художественного творчества и в
бесконечных вариациях и искажениях дает материал поэзии.
Приходится думать, что такое непризнание является прежде всего
продуктом глубокого отвращения людей к их собственным
прежним, попавшим затем под вытеснение, инцестуозным
590
Тотем и табу
желаниям. Для нас же важно, что на диких народах мы
можем показать, что они чувствовали: угрозу в инцестуозных
желаниях человека, которые позже должны были сделаться
бессознательными, и считали необходимым прибегать к
самым строгим мерам их предупреждения.
II
Табу и амбивалентность чувств
-1-
«Табу» — полинезийское слово, которое трудно
перевести, потому что у нас нет больше обозначаемого им понятия.
Древним римлянам оно было еще известно, их sacer было
тем же, что табу полинезийцев; точно так же и vooç греков,
kodausch древних евреев, вероятно, имели то же значение,
которое полинезийцы выражают посредством табу, а многие
народы в Америке, Африке (Мадагаскар), Северной и
Центральной Азии — аналогичными названиями.
Для нас значение табу разветвляется в двух
противоположных направлениях. С одной стороны, оно означает —
святой, священный, с другой стороны — жуткий, опасный,
запретный, нечистый. Противоположность табу по-полинезийски
называется «поа» — обычный, общедоступный. Таким
образом, с табу связано представление чего-то требующего
осторожности, табу выражается, по существу, в запрещениях и
офаничениях. Употребляемое нами сочетание «священный
трепет» часто совпадает со смыслом табу.
Ограничения табу представляют собой не что иное, как
религиозные или моральные запрещения. Они сводятся не
к заповеди бога, а несут запреты сами по себе. От запретов
морали они отличаются отсутствием принадлежности к
системе, требующей вообще воздержания и подводящей
основание для него. Запреты табу лишены всякого обоснования.
Они неизвестного происхождения. Непонятные для нас, они
кажутся чем-то само собою разумеющимся для тех, кто
находится в их власти.
591
Зигмунд ФРЕЙД
Вундт1 называет табу самым древним неписаным
законодательным кодексом человечества. Общепринято мнение, что
табу древнее богов и восходит ко временам,
предшествовавшим какой бы то ни было религии.
Так как мы заинтересованы в беспристрастном описании
табу, чтобы подвергнуть его психоаналитическому
исследованию, то я привожу цитаты из статьи «Табу» из
энциклопедии «Британника»2, автором которой является антрополог
Норкотт В.Томас:
«Строго говоря, табу характеризует только: а)
священный (или нечистый) признак лиц или вещей; Ь) род
ограничения, вытекающий из этого признака, и с) святость (или
нечисть), происходящую вследствие нарушения этого
запрещения. Противоположность табу в Полинезии называется
„поа", что обозначает „обычный" или „общий"...»
«В ином смысле можно различать отдельные виды табу:
I — естественное, или прямое, табу, являющееся
результатом таинственной силы (Мапа), связанное с каким-нибудь
лицом или вещью; II — переданное, или непрямое, табу,
также исходящее от той же силы, но: или а) приобретенное,
или Ь) переданное священником, вождем или кем-нибудь
другим; наконец, III — табу, составляющее середину между
двумя другими видами, именно когда имеются в виду оба
фактора, — например, когда мужчина присваивает себе
женщину. Название „табу" применяется также и к другим
ограничениям ритуала, однако не все, что скорее можно назвать
религиозным запретом, следует причислять к табу».
«Цели табу разнообразны: цель прямого табу состоит: а) в
охране важных лиц, как-то: вождей, священников, предметов
и т. п. — от возможных повреждений; Ь) в защите слабых —
женщин, детей и вообще обыкновенных людей — против
могущественного Мапа (магической силы), священников и
вождей; с) в защите от опасностей, связанных с прикосновением
к трупам или с едой известной пищи и т. п.; d) в охране
важных жизненных актов, например родов, посвящения взросло-
1 Wundt W. Völkerpsychologie. Bd. II: Mythys und Religion. 1906. P. 308
(Вундт В. Психология народов. Ч. 2: Мифы и религия).
2 Во 2-м изд. (1911) — указание важнейшей литературы.
592
Тотем и табу
го мужчины, брака, сексуальной деятельности; е) в защите
человеческих существ от могущества или гнева богов и
демонов1; f) в охране нерожденных и маленьких детей от
разнообразных опасностей, угрожающих им вследствие их особой
симпатической зависимости от их родителей, если, например,
последние делают известные вещи или едят пищу, прием
которой мог бы передать детям особенные свойства. Другое
применение табу служит защите собственности
какого-нибудь лица, его орудий, его поля от воров». И т. д.
«Наказание за нарушение табу первоначально
предоставляется внутренней, действующей автоматически
организации. Нарушенное табу мстит за себя. Если присоединяется
представление о богах и демонах, имеющих связь с табу, то
от могущества божества ожидается неизбежное наказание.
В других случаях, вероятно вследствие дальнейшего
развития понятия, общество само берет на себя наказание
дерзнувшего, преступление которого навлекает опасность и на
его товарищей. Таким образом, первые системы наказания
человечества связаны с нарушением табу».
«Кто преступил табу, сам благодаря этому стал табу.
Известных опасностей, проистекающих от нарушения табу, можно
избегнуть благодаря покаянию и религиозным церемониям».
«Источником табу считают собственную
чародейственную силу, имеющуюся в людях и духах, которая от них
может быть перенесена при помощи неодушевленных
предметов. Лица или вещи, представляющие табу, можно
сравнить с предметами, заряженными электричеством, они —
вместилище страшной силы, проявляющейся при
прикосновении в виде опасного действия, когда организм, вызвавший
разряд, слишком слаб, чтобы противостоять ему. Результат
нарушения табу зависит поэтому не только от
интенсивности магической силы, присущей табу-объекту, но также и от
силы Мапа, сопротивляющейся этой силе у преступника.
Так, например, короли и священники обладают
могущественной силой, и вступление в непосредственное
соприкосновение с ними повлечет смерть для их подданных. Но ми-
1 Это применение табу, как не первоначальное, может быть оставлено без
внимания в этом изложении.
593
Зигмунд ФРЕЙД
нистр или другое лицо, обладающие Мапа в большей, чем
обыкновенно, мере, могут безопасно вступать с ними в
контакт, и эти посредники могут, в свою очередь, разрешать
близость с ними своим подчиненным, не навлекая на них
опасность. Также переданные табу по своему значению
зависят от Мапа того лица, от которого они исходят; если табу
налагает король или священник, то оно действеннее, чем
если оно налагается обыкновенным человеком».
Передача табу была, вероятно, той особенностью, которая
дала повод пытаться устранить его посредством
церемониала искупления.
«Табу бывают постоянные и временные. Священники и
вожди относятся к первому роду, а также мертвецы и все, что
им принадлежало. Временные табу связаны с известными
состояниями, с менструацией и родами, со званием воина до и
после похода, с деятельностью рыболова, охотника и т. п.
Общее табу может быть также распространено на большую
территорию подобно церковному интердикту и оставаться на ней
годами».
Думаю, что правильно оценю восприятие моих
читателей, позволив себе утверждать, что после всего изложенного
о табу они уже окончательно запутались и не знают, что
понимать под ним и какое место уделить ему в своих
размышлениях. Это происходит, наверное, вследствие
недостаточности моей информации и вследствие отсутствия
рассуждений об отношении табу к суеверию, к вере в
переселение души и к религии. Но с другой стороны, я опасаюсь,
что более подробное описание всего известного о табу
привело бы к еще большей путанице, и смею уверить, что в
действительности положение вещей очень неясно. Итак,
дело идет о целом ряде ограничений, которые существуют у
этих первобытных народов; то одно, то другое запрещено
неизвестно почему, а им и в голову не приходит задуматься
над этим; они подчиняются этому как чему-то само собой
разумеющемуся и убеждены, что нарушение табу само собой
повлечет жесточайшее наказание. Имеются достоверные
сведения о том, что нарушение подобного запрещения по
неведению действительно автоматически влекло за собой
наказание. Преступник, съев запрещенное животное по неведе-
594
Тотем и табу
нию, впадает в глубокую депрессию, ждет своей смерти и
затем в самом деле умирает. Запрещения большей частью
касаются стремления к наслаждению, свободы
передвижения и общения; в некоторых случаях они имеют
определенный смысл, означая явно воздержание и отказ, в других
случаях их смысл непонятен, они касаются не имеющих
никакого значения мелочей и являются, по-видимому, особого
рода церемониалом. В основе всех этих запрещений лежит,
как представляется, своего рода теория: будто запрещения
необходимы потому, что некоторым лицам и вещам
свойственна опасная сила, передающаяся при прикосновении к
заряженному ею объекту почти как зараза. Во внимание
принимается также и величина этого опасного свойства. Один
или одно обладает им больше, чем другое, и опасность
соразмеряется с различием силы заряда. Но самое странное,
что тот, кому удалось нарушить такое запрещение, сам
приобретает признаки запретного, как бы приняв на себя весь
опасный заряд. Эта сила свойственна всем лицам,
представляющим собой нечто исключительное, а именно королям,
священникам, новорожденным, и всем исключительным
состояниям, как-то: физиологическим (состояниям
менструаций), наступлениям половой зрелости, родам; всему
жуткому — болезни, смерти — и всему связанному с ними из-за
способности к заражению и распространению.
«Табу» называется, однако, все — как лица, так и
местности, предметы и временные состояния, являющиеся
носителями, источниками этого таинственного свойства. «Табу»
также называется запрещение, вытекающее из этого
свойства, и «табу» — в полном смысле — называется нечто такое,
что одновременно и свято, и стоит превыше обычного, так
же как и опасное, и нечистое, и жуткое.
В этом слове и обозначаемой им системе находит
выражение особенность душевной жизни, понимание которой,
по-видимому, нам действительно как будто недоступно. Но
прежде всего нужно принять во внимание, что нельзя
приблизиться к пониманию этого, не углубившись в
характерную для столь низких культур веру в духов и демонов. Но
для чего нам вообще интересоваться загадкой табу? Я
полагаю, не только потому, что всякая психологическая пробле-
595
Зигмунд ФРЕЙД
ма заслуживает попытки разрешения, но еще и по другим
причинам. Мы подозреваем, что табу дикарей Полинезии не
так уж чуждо нам, как это кажется с первого взгляда, что
запрещения морали и обычаев, которым мы сами
подчиняемся, по существу, могут иметь нечто родственное с этим
примитивным табу и что объяснение табу могло бы пролить
свет на темное происхождение нашего собственного
«категорического императива».
С особенно напряженным ожиданием прислушаемся к
такому исследователю, как Вундт, который говорит нам о
своем понимании табу, тем более что он обещает «дойти до
последних корней представления табу»1.
О понятии «табу» Вундт говорит, что оно «обнимает все
обычаи, в которых выражается боязнь определенных,
связанных с представлениями культа объектов или
относящихся к ним действий»2.
В другой раз Вундт заявляет: «Если понимать под ним
(под табу), соответственно общему значению слова, любое
утвержденное обычаем и нравами или точно
формулированными законами запрещение прикасаться к какому-нибудь
предмету, пользоваться им для собственного употребления
или употреблять, известные запретные слова <...> то вообще
нет ни одного народа и ни одной ступени культуры, которые
были бы свободны от вреда, наносимого табу».
Вундт также объясняет, почему ему кажется более
целесообразным изучать природу табу в примитивных условиях
австралийских дикарей, а не в более высокой культуре
полинезийских народов. У австралийцев он распределяет
запрещения табу на три класса в зависимости от того, касаются ли
они животных, людей или других объектов. Табу животных,
состоящее главным образом в запрещении убивать и
употреблять их в пищу, составляет ядро тотемизма. Табу второго
рода, имеющее своим объектом человека, носит, по существу,
другой характер. С самого начала оно ограничивается
условиями, предполагающими для подверженного табу
необычайное в жизни. Так, например, юноши являются табу при тор-
1 Wundt W. Völkerpsychologie. Bd. II: Mythus and Religion. P. 300 ff.
2 Ibid. P. 237.
596
Тотем и табу
жестве посвящения в зрелые мужи, женщины — во время
менструации или непосредственно после родов; табу
бывают также новорожденные дети, больные и главным образом
мертвецы. На собственности человека, находящейся в
постоянном употреблении, лежит неизменное табу для всякого
другого, например на его платье, оружии и орудиях труда.
Личной собственностью является в Австралии также новое
имя, получаемое мальчиком при посвящении в зрелые мужи,
оно — табу и должно сохраняться в тайне. Табу третьего рода,
объектом которого являются деревья, растения, дома и
местности, более постоянно и, по-видимому, подчиняется только
тому правилу, что налагается на все, что по какой-нибудь
причине вызывает опасение или чувство страха.
Изменение, которое табу претерпевает в более богатой
культуре полинезийцев и на Малайском архипелаге, сам
Вундт считает нужным признать не особенно глубоким.
Более значительная социальная дифференциация этих народов
проявляется в том, что вожди, короли и священники
осуществляют особенно действенное табу и сами подвержены
самой сильной власти табу.
Но настоящие источники табу лежат глубже, чем в
интересах привилегированных классов: «Они возникают там,
где берут свое начало самые примитивные и в то же время
самые длительные человеческие влечения, — из страха перед
действием демонических сил»1.
«Будучи первоначально не чем иным, как
объективировавшимся страхом перед предполагавшейся демонической силой,
скрытой в подвергнутом табу предмете, такое табу запрещает
дразнить эту силу и требует мер предупреждения против
мести со стороны демона, когда оно нарушается сознательно
или нечаянно».
Табу постепенно становится основывающейся на самой
себе силой, освободившейся от демонизма. Оно налагает свою
печать на нравы, обычаи и даже на закон. «Но заповедь,
неизреченная, скрывающаяся за меняющимися в таком
разнообразии, в зависимости от места и времени, запрещениями
табу, первоначально одна: берегись гнева демонов».
1 Ibid. P. 307.
597
Зигмунд ФРЕЙД
Вундт делает вывод, что табу основывается на вере
примитивных народов в демонические силы. Позднее табу
отделилось от этой основы, но осталось силой потому, что оно
было таковой вследствие своего рода психической
косности; таким образом, оно само становится основой требований
наших нравов и наших законов. Каким бы правильным ни
казалось первое из этих положений, я все же полагаю, что
выражу точку зрения многих читателей, называя
объяснения Вундта ничего не говорящими. Ведь это не значит
спуститься до источников представления табу или открыть его
последние корни. Ни страх, ни демоны не могут в
психологии иметь значения последних причин, не поддающихся уже
далее никакому разложению, было бы иначе, если бы
демоны действительно существовали, но мы ведь знаем, что они
сами, как и боги, являются созданием душевных сил
человека; они созданы от чего-то и из чего-то.
О двояком значении табу Вундт высказывает
значительные, но не совсем ясные взгляды. В самых примитивных
зачатках табу, по его мнению, еще нет разделения на святое
и нечистое. Именно поэтому в них вообще отсутствуют эти
понятия в том значении, какое они приобретают только
благодаря противоположности, в которую они оформились.
Животное, человек, место, на которое наложено табу, обладают
демонической силой, они еще не священны и потому еще и
не нечисты в более позднем смысле. Именно для этого еще
индифферентного среднего значения демонического, до
которого нельзя прикасаться, выражение табу является самым
подходящим, так как подчеркивает признак, становящийся в
конце концов навсегда общим и для святого, и для
нечистого, — боязнь прикосновения к нему. В этой остающейся
общности важного признака кроется, однако, тем временем
указание на то, что существует первоначальное сходство обеих
областей, уступившее позднее место дифференциации
только вследствие возникновения новых условий, благодаря
которым эти области в конце концов развились в
противоположности.
Свойственная первоначальному табу вера в
демоническую силу, скрытую в предмете и мстящую тому, кто
прикоснется к предмету или сделает из него неразрешенное
598
Тотем и табу
употребление тем, что переносит на нарушителя
чародейственную силу, все же остается полностью и исключительно
объективированным страхом. Страх этот еще не распался на
две формы, какие он принимает на более развитой ступени:
на благоговение и отвращение.
Но каким образом создается такое разделение? По Вунд-
ту, благодаря перенесению запрещений табу из области
демонов в область представлений о богах. Противоположность
святого и нечистого совпадает с последовательностью двух
мифологических ступеней, из которых прежняя не совсем
исчезла к тому времени, когда достигнута следующая, а
продолжает существовать в форме более низкой оценки, к
которой постепенно примешивается презрение. В мифологии
имеет силу общий закон, предусматривающий, что
предыдущая ступень (именно потому, что она преодолена и
оттеснена более высокой) сохраняется наряду с ней в униженной
форме, так что объекты ее почитания превращаются в
объекты отвращения.
Дальнейшее рассуждение Вундта касается отношения
представлений табу к очищению и жертве.
-2-
Всякий, кто подходит к проблеме табу со стороны
психоанализа, то есть исследования бессознательной части
индивидуальной душевной жизни, после недолгого
размышления скажет себе, что эти феномены ему не чужды. Ему
известны люди, создавшие себе индивидуальные запрещения
и так же строго их соблюдающие, как дикари соблюдают
общие у всего их племени или общества запреты. Если бы
он не привык называть этих индивидов «страдающими
навязчивостью», то считал бы подходящим для их состояния
название «болезнь табу». От этой болезни навязчивости он,
однако, благодаря психоаналитическому лечению узнал
клиническую этиологию и сущность психологического
механизма и теперь уже не может отказаться от того, чтобы не
использовать всего открытого в этой области для объяснения
соответствующих явлений в психологии народов.
599
Зшмупд ФРЕЙД
Предупредим, что и при этой попытке не следует
упускать из виду, что сходство табу с болезнью навязчивости
может быть чисто внешним, относиться лишь к форме обоих
явлений и не распространяться на их сущность. Природа
любит пользоваться одинаковыми формами при самых
различных биологических отношениях, как, например, в
разветвлениях коралла, как и в растениях и затем в известных
кристаллах или при образовании известных химических осадков.
Было бы слишком поспешным и малообещающим
обосновывать выводы, относящиеся к внутреннему сродству, таким
внешним сходством, вытекающим из общности
механических условий. Мы запомним это предупреждение, но при этом
нам незачем отказываться от нашего намерения
воспользоваться этим сравнением.
Самое близкое и бросающееся в глаза сходство
навязчивых запретов (у нервнобольных) с табу состоит в том, что
эти запрещения не мотивированы и происхождение их
загадочно. Они возникли каким-то образом и должны
соблюдаться вследствие непреодолимого страха. Внешняя угроза
наказанием не нужна, потому что имеется внутренняя
уверенность (совесть), что нарушение приведет к
невыносимому бедствию. Самое большее, о чем могут сказать больные,
страдающие навязчивостью, — это о неопределенном
чувстве, что из-за нарушения запрета пострадает какое-нибудь
лицо из окружающих. Какого рода будет вред, остается
неизвестным, да и эти незначительные сведения получаешь
скорее при искупительных и предохранительных действиях,
о которых будет речь дальше, чем при самих запрещениях.
Главным и основным запрещением невроза является, как
и при табу, прикосновение, отсюда и название: боязнь
прикосновения — délire de toucher. Запрещение
распространяется не только на непосредственное прикосновение телом,
но включает и всякое прикосновение, хотя бы в переносном
смысле слова. Все, что направляет мысль на запретное,
вызывает мысленное соприкосновение и так же запрещено, как
непосредственный физический контакт. Такое же
расширение понятия имеется и у табу.
Какая-то часть запрещений понятна по своим целям,
другая, напротив, кажется непонятной, нелепой, бессмысленной.
600
Тотем и табу
Последние запрещения мы называем «церемониалом» и
находим, что такое же различие проявляют и обычаи табу.
Навязчивым запрещениям свойственна огромная
подвижность, они распространяются какими угодно путями с одного
объекта на другой и делают этот новый объект, по удачному
выражению одной моей больной, «невозможным». Такая
«невозможность» в конце концов охватывает весь мир.
Больные навязчивостью ведут себя так, как будто бы
«невозможные» люди и вещи были носителями опасной заразы,
способной распространиться посредством контакта на все,
находящееся по соседству. При описании запрещений табу мы
отмечали способности к заразе и к перенесению. Мы знаем
также, что тот, кто нарушил табу прикосновением, сам
становится табу и никому не следует приходить с таким
человеком в соприкосновение.
Приведу два примера перенесения, правильнее, сдвига
запрещений. Один — из жизни маори (Новая Зеландия),
другой — из моего наблюдения над женщиной, страдающей
навязчивостью.
«Вождь маори не станет раздувать огня своим дыханием,
потому что его священное дыхание передало бы его
священную силу огню, огонь — горшку, стоящему в огне, горшок —
пище, готовящейся в нем, пища — лицу, которое ее съест, и
в итоге должно было бы умереть это лицо, съевшее пищу,
варившуюся в горшке, стоящем на огне, который раздувал
вождь своим священным дыханием»1.
Пациентка требует, чтобы предмет домашнего обихода,
купленный мужем и принесенный домой, был удален: иначе
он сделает «невозможным» помещение, в котором она живет,
так как она слышала, что этот предмет куплен в лавке,
которая находится, скажем, на Оленьей улице. Но теперь
фамилию Олень носит ее подруга, которая живет в другом городе
и которую она в молодости знала под девичьей фамилией.
Эта подруга теперь для нее «невозможна» — табу, и
купленный здесь, в Вене, предмет — тоже табу, как и сама подруга,
с которой она не хочет иметь никакого соприкосновения.
1 FrazerJ.-D. The golden Bough: Taboo and the perils of the Soul. L, 1911.
P. 136 {Фрэзер Д.-Д. Золотая ветвь: Табу и опасности духов).
601
Зигмунд ФРЕЙД
Навязчивые запрещения приводят к очень серьезному
воздержанию и ограничениям в жизни, подобно запретам табу.
Но часть этих навязчивых идей может быть преодолена
благодаря выполнению определенных действий, которые
необходимо совершить и которые, вне всякого сомнения, по природе
своей представляют собой покаяние, искупление, меры
защиты и очищения. Самым распространенным из этих
навязчивых действий является омовение водой (навязчивые
умывания). Часть запретов табу может быть также заменена, или
нарушение их может быть искуплено подобным
«церемониалом», но омовение водой пользуется особым предпочтением.
Резюмируем, в каких пунктах выражается ярче всего
сходство обычаев табу с симптомами невроза навязчивости:
1) в немотивированности запретов, 2) в их утверждении
благодаря внутреннему принуждению, 3) в их способности к
сдвигу и в опасности заразы, исходящей из запрещенного,
4) в том, что они становятся причиной церемониальных
действий и заповедей, вытекающих из запретов.
Клиническая история и психический механизм болезни
навязчивости стали нам, однако, известны благодаря
психоанализу. История болезни в типичном случае страха
прикосновения гласит: в самом начале, в самом раннем детстве,
проявляется сильное чувство наслаждения от прикосновения,
цель которого гораздо более специфична, чем можно было
бы ожидать. Этому наслаждению скоро извне
противопоставляется запрещение совершать именно это прикосновение1.
Запрещение было усвоено, потому что нашло опору в
больших внутренних силах2; оно оказалось сильнее, чем влечение,
стремившееся выразиться в прикосновении. Но вследствие
примитивной психической конституции ребенка запрещению
не удалось уничтожить влечения. Следствием запрещения
было только то, что влечение — наслаждение от
прикосновения — подверглось вытеснению и перешло в бессознательное.
Таким образом, сохранились и запрещения и влечения,
влечение — потому что оно было только вытеснено, а не
уничтожено, запрещение — потому что с исчезновением его влечение
Оба, и наслаждение и запрещение, относились к собственным гениталиями.
В отношениях к любимым лицам, от которых исходило запрещение.
602
Тотем и табу
проникло бы в сознание и осуществилось бы. Имеет место
незаконченное положение, создается психическая фиксация, и
из постоянного конфликта между запрещением и влечением
вытекает все остальное.
Основной характер психологической констелляции,
зафиксированной таким образом, заключается в том, что
можно было бы назвать амбивалентным отношением индивида
к объекту или, вернее, к определенному действию1. Он
постоянно желает повторять это действие (прикосновение),
видит в нем высшее наслаждение, но не смеет его совершить
и страшится его. Противоположность обоих течений
невозможно примирить прямым путем, потому что они — только
это мы и можем сказать — так локализуются в душевной
жизни, что не могут прийти в непосредственное
столкновение. Запрещение ясно осознается, постоянное наслаждение
от прикосновения — бессознательно, сам больной о нем
ничего не знает. Не будь этого психологического момента,
амбивалентность не могла бы так долго длиться и привести
к таким последствиям.
В клинической истории случая мы придали решающее
значение вмешательству запрещения в раннем детстве; в
дальнейшем формировании эта роль выпадает на долю
механизма вытеснения в детском возрасте. Вследствие имевшего
место вытеснения, связанного с забыванием — амнезией,
мотивировка ставшего сознательным запрещения остается
неизвестной, и все попытки интеллектуально снять запрещение
терпят неудачу, так как не находят точки, на которую они
должны быть направлены. Запрещение обязано своей силой,
своим навязчивым характером именно его отношению к
своей бессознательной противоположности, к не заглушённому
в скрытом состоянии наслаждению, то есть во внутренней
необходимости, недоступной осознанию. Способность
запрещения переноситься и развиваться дальше отражает процесс,
особенно облегченный и допускаемый бессознательным
наслаждением и благодаря психологическим условиям
бессознательного. Удовлетворение влечения постоянно переносит-
1 Согласно удачному выражению Э. Блсйлсра (швейцарский психиатр и
психолог, описавший шизофрению. — Ред.).
603
Зигмунд ФРЕЙД
ся с одного объекта на другой, чтобы избегнуть имеющейся
изоляции, и старается вместо запрещенного найти суррогаты,
заменяющие объекты и действия. Поэтому и запрещение
меняет свое положение и распространяется на новые цели
запрещенного душевного движения. На каждую новую
попытку вытесненного либидо прорваться запрещение отвечает
новыми строгостями. Задержка, происходящая от борьбы обеих
противоположных сил, стимулирует потребность в выходе, в
уменьшении господствующего в душе напряжения, в
котором можно видеть мотивировку навязчивых действий. В
неврозе последние являются очевидными компромиссными
действиями, с одной точки зрения, доказательствами раскаяния,
проявлениями искупления и т. п., а с другой —
одновременно заменяющими действиями, вознаграждающими влечение
за запрещенное. Закон невротического заболевания требует,
чтобы эти навязчивые действия все больше шли навстречу
влечению и приближались к первоначально запрещенному
действию.
Сделаем теперь попытку отнестись к табу так, как будто
бы по природе своей оно было тем же самым, что и
навязчивые запрещения наших больных. При этом нам с самого
начала ясно, что многие из наблюдаемых нами запретов табу
представляют собой вторичные явления, образовавшиеся в
результате сдвига и искажения, и что мы должны быть
довольны, если нам удастся пролить некоторый свет на самые
первые и самые важные запрещения табу. Очевидно, что
различия в положении дикаря и невротика достаточно
значительны, чтобы исключить полное совпадение и не
допустить перенесения с одного на другой, доходящего до точного
копирования во всех пунктах.
Прежде всего отметим, что нет никакого смысла
расспрашивать дикарей о действительной мотивировке их
запрещений и о действительном происхождении табу. Мы
предполагаем, что они ничего не могут об этом рассказать, потому
что эта мотивировка у них «бессознательна». Но мы
сконструируем историю табу по образцу навязчивых запрещений
следующим образом. Табу представляет собой очень
древние запреты, когда-то извне наложенные на поколение
примитивных людей, то есть насильственно навязанные этому
604
Тотем и табу
поколению предыдущим. Эти запреты касались
деятельности, к которой имелась большая склонность. Они
сохранялись от поколения к поколению, может быть, только
вследствие традиции, благодаря родительскому и общественному
авторитету, но возможно, что они уже «организовались» у
будущих поколений как часть унаследованного
психического богатства. Кто мог бы ответить на вопрос, существуют ли
именно в этом случае, о котором у нас идет речь, такие
«врожденные» идеи и привели ли они к фиксации табу сами
по себе или благодаря воспитанию? Но из того факта, что
табу удержалось, следует, что первоначальное наслаждение
от совершения этого запрещенного существует еще и у
народов, придерживающихся табу. У них имеется
амбивалентная направленность по отношению к их запретам табу;
в бессознательном им больше всего хотелось нарушить их,
но они в то же время боятся этого; они потому именно
боятся, что желают этого, и страх у них сильнее, чем
стремление к наслаждению. Желание же у каждого представителя
этого народа бессознательно, как и у невротика.
Самые старые и важные запреты табу составляют оба
основных закона тотемизма: не убивать животного тотема и
избегать полового общения с товарищем по тотему
другого пола.
Оба, вероятно, представляют собой самые древние и
самые сильные соблазны людей. Мы этого понять не можем и
не можем поэтому исследовать правильность наших
предположений на этих примерах до тех пор, пока нам
неизвестны смысл и происхождение тотемической системы. Но кому
известны результаты психоаналитического исследования
отдельного человека, тому уже сам текст этих обоих табу и их
совпадение напомнит то, что психоаналитики считают
центральным пунктом инфантильных желаний и ядром неврозов.
Обычное разнообразие явлений табу, приведшее к
сообщенным прежде попыткам классификации, сливается, таким
образом, для нас в единство: основание табу составляет
запрещенное действие, к совершению которого в
бессознательном имеется сильная склонность.
Мы знаем, хотя это трудно понять, что всякий
совершивший запрещенное, нарушивший табу, сам становится табу.
605
Зигмунд ФРЕЙД
Как же сопоставить этот факт с другими, а именно что табу
связано не только с лицами, совершившими запрещенное, но
также и с лицами, находящимися в особых состояниях, с
самими этими состояниями и с никому не
принадлежащими вещами. Что это за опасное свойство, остающееся
неизменным при всех этих различных условиях? Только одно:
способность раздразнить амбивалентность человека и будить
в нем искушение преступить запрет.
Человек, нарушивший табу, сам становится табу, потому
что приобрел опасное свойство вводить других в искушение
следовать его примеру. Он возбуждает зависть: почему ему
должно быть позволено то, что запрещено другим? Он
действительно «заразителен», поскольку всякий пример вызывает
желание подражать, поэтому необходимо избегать и его самого.
Но человеку не надо и нарушать табу, для того
чтобы самому стать временно или постоянно табу, если только
он находится в состоянии, способном будить запретные
желания у других, вызывать в них амбивалентный конфликт.
Большинство исключительных положений относится к
такому состоянию и обладает этой опасной силой. Король или
вождь вызывает зависть своими преимуществами. Может
быть, всякий хотел бы быть королем? Мертвец,
новорожденный, женщины в своем болезненном состоянии соблазняют
особой беспомощностью, только что созревший в половом
отношении индивид — новыми наслаждениями, которые он
обещает. Поэтому все эти лица и все эти состояния
относятся к табу, так как ведут к искушению.
Теперь нам понятно, почему силы Мапа различных лиц
взаимно уменьшают одна другую, частично уничтожают.
Табу короля слишком сильно для его подданного, ведь
социальное различие между ними слишком велико. Но министр
может стать между ними безвредным посредником. В
переводе с языка табу это значит: подданный, боящийся сильного
искушения, которое представляет для него
соприкосновение с королем, может перенести общение с чиновником,
которому он уже не станет так завидовать и положение
которого ему самому кажется достижимым. Министр же может
умерить свою зависть к королю, принимая во внимание ту
власть, которая предоставлена ему самому. Таким образом,
606
Тотем и табу
менее значительные различия вводящей в искушение
чародейственной силы вызывают меньше опасения, чем особенно
большие различия.
Ясно также, каким образом нарушение известных
запретов табу представляет опасность, и потому все члены
общества должны наказать или искупить это нарушение, чтобы
не пострадать самим. Эта опасность действительно имеется,
если происходит замена сознательных душевных движений
бессознательными желаниями. Опасность заключается в
возможности подражания, которое привело бы к распаду
общества. Если бы другие не наказывали за преступление, то они
должны были бы открыть в самих себе то же желание, что
и у преступников.
Нечего удивляться, что прикосновение при запрете табу
играет ту же роль, что и при боязни прикосновения, хотя
тайный смысл запрета при табу не может иметь такое
специальное содержание, как при неврозе. Прикосновение
обозначает начало всякого обладания, всякой попытки
подчинить себе человека или предмет.
Заразительную силу, присущую табу, мы объяснили его
способностью вводить в искушение, побуждать к
подражанию. С этим как будто не вяжется то, что способность табу
к заражению выражается прежде всего в том, что оно
переносится на предметы, которые благодаря этому сами
становятся носителями табу.
Способность табу к перенесению отражает доказанную
при неврозах склонность бессознательного влечения
переходить ассоциативным путем на все новые объекты. Таким
образом, наше внимание обращается на то, что опасной
чародейственной силе M ana соответствуют две реальные
способности: способность напоминать человеку о его запретных
желаниях и как будто более значительная способность
соблазнять его к нарушению запрета в пользу этих желаний.
Обе способности сливаются, однако, в одну, если мы
допустим — в духе примитивной душевной жизни, — что
пробуждение воспоминания о запретном действии связано с
пробуждением тенденции к выполнению его. В таком случае
воспоминание и искушение снова совпадают. Нужно также
согласиться с тем, что если пример человека, нарушившего
607
Зигмунд ФРЕЙД
табу, соблазнил другого к такого же рода поступку, то
непослушание распространилось, как зараза, подобно тому,
как табу переносится с человека на предмет, с одного
предмета на другой. Если нарушение табу может быть
исправлено покаянием или искуплением, означающим, в сущности,
отказ от какого-либо блага или свободы, то этим
доказывается, что выполнение предписаний табу само было отказом
от чего-то, что было очень желательно. Невыполнение
одного отказа заменяется отказом в другой области. В
отношении церемониала табу можно сделать вывод, что раскаяние
является чем-то более первичным, чем очищение.
Резюмируем: наше понимание табу явилось
результатом его уподобления навязчивому запрету невротика: табу —
очень древний запрет, наложенный извне (каким-нибудь
авторитетом) и направленный против сильнейших вожделений
людей. Сильное желание нарушить его остается в
бессознательном. Люди, выполняющие табу, имеют амбивалентную
направленность к тому, что подлежит табу. Приписываемая
табу чародейственная сила сводится к способности вводить
в искушение, она похожа на заразу, потому что пример
заразителен и потому что запрещенное вожделение в
бессознательном переносится на другое. Искупление посредством
воздержания за нарушение табу доказывает, что в основе
соблюдения табу лежит воздержание.
-з-
Желательно было бы узнать ценность нашего
уподобления табу неврозу навязчивости и сложившегося на
основании этого уподобления понимания табу. Если наше
понимание имеет преимущества, которых в противном случае нет,
если оно ведет к лучшему пониманию табу, чем то, которое
доступно нам и без него, — тогда оно ценно. Быть может,
мы уже ранее привели доказательство выгоды такого
уподобления; но нам нужно попробовать усилить его,
продолжая объяснение обычаев и запретов табу во всех деталях.
Нам открыт также и другой путь: нельзя ли
непосредственно на феномене табу доказать часть предположений, ко-
608
Тотем и табу
торые мы перенесли с невроза на табу, или выводов, к
которым мы при этом пришли. Необходимо только решить,
что нам следует искать. Утверждение о возникновении табу,
а именно что оно происходит от очень древнего запрещения,
наложенного когда-то извне, не поддается, разумеется,
доказательствам. Постараемся поэтому найти для табу
подтверждение психологических условий, известных нам в неврозе
навязчивости. Каким образом при неврозе мы узнаем об
этих психологических моментах? Благодаря
аналитическому изучению симптомов особенно навязчивых действий,
мероприятий отражения и навязчивых запрещений. Они
показывают самые верные признаки их происхождения из
амбивалентных душевных движений или тенденций, причем они
одновременно соответствуют как одному желанию, так и
противоположному ему или же служат преимущественно
одной из двух противоположных тенденций. Если бы нам
удалось доказать амбивалентность, существование
противоположных тенденций в предписаниях табу или найти среди
них некоторые, подобно навязчивым действиям
выражающие одновременно оба течения, то психологическое
сходство табу и невроза навязчивости в самом почти главном было
бы несомненным.
Оба основных запрещения табу, как уже упоминалось,
недоступны нашему анализу благодаря принадлежности их к
тотемизму, другая часть положений табу — вторичного
происхождения и не может быть использована в наших целях.
Ведь табу стало у соответствующих народов общей формой
законодательства и служит, несомненно, более молодым
социальным тенденциям, чем само табу, как, например, табу,
наложенное вождями или священниками для обеспечения
своей собственности и преимуществ. Все же у нас остается
большая группа предписаний, которые могут стать
материалом для нашего исследования; из этой группы я беру табу,
связанные: а) с врагами, Ь) с вождями, с) с покойниками, и
воспользуюсь для своей работы материалом из
замечательной антологии Д.-Д. Фрэзера и его большого сочинения
«Золотая ветвь»1. и
1-е изд. в 2 кн., 1890 год. — Ред.
20-3518
609
Зигмунд ФРЕЙД
а) Обращение с врагами
Приписав безудержную и безжалостную жестокость
диких народов по отношению к врагам, мы с большим
интересом узнаем, что и у них после убийства человека требуется
выполнить ряд предписаний, относящихся к обычаям табу.
Эти предписания легко разделить на четыре группы; они
требуют: во-первых, примирения с убитым, во-вторых,
самоограничений, в-третьих, покаянных действий, очищения убийцы
и, в-четвертых, совершения известного церемониала.
Насколько такие обычаи табу у этих народов общи или же
выполняются только в отдельных случаях, нельзя с уверенностью
сказать из-за неполноты наших сведений, и вместе с тем это
для нас совершенно безразлично, поскольку нас интересуют
эти факты сами по себе. Все же надо предположить, что здесь
речь идет о широко распространенных обычаях, а не об
отдельных странностях.
Обычаи примирения на островах Тимора по возвращении
домой победоносного военного отряда с отрубленными
головами побежденных врагов представляют особый интерес,
потому что вождь экспедиции подвергается сверх того еще
тяжким ограничениям (см. далее). При торжественном
вступлении победителей приносятся жертвы, дабы умилостивить
души врагов; в противном случае пришлось бы бояться
несчастий для победителей. Устраивается танец с пением
песен, в которых оплакивается убитый враг и испрашивается у
него прощение... «Не сердись на нас за то, что у нас здесь
находится твоя голова; если бы счастье не улыбнулось нам,
то наши головы теперь висели бы в твоей деревне. Мы
принесли тебе жертву, дабы умилостивить тебя, теперь твой дух
может удовлетвориться и оставить нас в покое. Почему ты
был нашим врагом? Не лучше ли нам быть друзьями? Тогда
не пролилась бы твоя кровь и не отрубили бы тебе голову».
Нечто подобное встречается у палу на Целебесе (новое
назв. Сулавеси); приносят жертвы духам убитых врагов
прежде, нежели возвратятся в родную деревню (по Paulitchke,
этнография Северо-Восточной Африки).
Другие народы нашли средство превращать своих
прежних врагов после их смерти в друзей, стражей и защитников.
610
Тотем и табу
Средство это состоит в нежном обращении с отрубленными
головами, как этим хвалятся некоторые дикие народы на
Борнео (новое назв. Калимантан). Если даяки Саравака
(штат в Индонезии) приносят из похода домой голову, то в
течение целого месяца с этой головой обращаются с самой
изысканной любезностью и называют ее самыми нежными
именами, какие только существуют в их языке. Ей
всовываются в рот лучшие куски пищи, лакомства и сигары. Ее
постоянно упрашивают ненавидеть своих прежних друзей и
подарить свою любовь своим новым хозяевам, так как
теперь уже она вошла в их среду. Было бы большой ошибкой
приписывать известную долю насмешки этому кажущемуся
нам отвратительным обращению1.
У многих диких племен Северной Америки
наблюдателям бросился в глаза траур по убитому и скальпированному
врагу. Если чокту убивает врага, то для него наступает
месячный траур, во время которого он подвергается тяжелым
лишениям. Такой же траур наступает у индейцев дакота.
Если оседжи, замечает один писатель, оплакивали своих
собственных покойников, то они оплакивали и врага, как будто
он был их другом2.
Прежде чем привести другие группы обычаев табу,
касающихся обращения с врагом, мы должны выяснить наше
отношение к воздержанию, которое напрашивается само
собой. Мотивировка этих предписаний примирения, возразят
нам вместе с Фрэзером, довольно проста и не имеет ничего
общего с амбивалентностью. Эти народы находятся во
власти суеверного страха перед духами убитых, — страха,
нечуждого классической древности, выведенного великим
британским драматургом на сцену в галлюцинациях Макбета и
Ричарда III. Это суеверие вполне последовательно
приводит ко всем предписаниям примирения, как и к
ограничениям и раскаянию, о которых речь будет дальше. В
пользу такого понимания говорит и соединенный в четвертую
группу церемониал, не допускающий никакого другого тол-
1 См.: Frazer J.-D. Adonis, Attis, Osiris. U 1907. P. 248; no: Hugh Low.
Sarawak. L., 1848 (Фрэзер Д.-Д. Адонис, Аттис, Осирис, по: Хью Лоу. Саравак).
2 См.: DorsayJ.-C. но: Frazer J.-D. Taboo and the perils of the Soul. P. 181.
611
Зигмунд ФРЕЙД
кования, кроме старания прогнать дух убитого,
преследующий убийцу1.
Наконец, дикари прямо сознаются в своем страхе перед
духами убитых врагов и объясняют этим страхом обычаи
табу, о которых идет речь.
Это объяснение действительно очень правдоподобно;
если бы оно было в такой же мере достаточно, то все наши
попытки объяснять были бы излишни. Подробные суждения
по этому поводу мы отложим до другого раза и ограничимся
пока выводом, напрашивающимся из вышеизложенного
табу. Мы делаем заключение, что в поведении по отношению
к врагу проявляются не только враждебные, но и какие-то
другие моменты. Мы видим в них выражение раскаяния,
высокой оценки врага и угрызение совести за то, что
лишили его жизни. Нам кажется, будто и среди этих дикарей
живет заповедь «не убий», которую еще задолго до какого
бы то ни было законодательства, полученного из рук
божества, нельзя безнаказанно нарушать.
Вернемся к другим группам предписаний табу.
Ограничения победоносного убийцы встречаются нередко и носят
большей частью строгий характер. На Тиморе (ср.
приведенные выше обычаи примирения) вождь экспедиции не может
непосредственно вернуться домой. Для него строится особая
хижина, в которой он проводит два месяца, занятый
выполнением различных предписаний очищения. В течение этого
времени ему нельзя видеть своей жены, нельзя есть самому,
другое лицо кладет ему пищу в рот2.
У некоторых племен даяков вернувшиеся из
победоносного похода принуждены в течение нескольких дней оставаться
изолированными и воздерживаться от определенной пищи;
им нельзя прикасаться к железу и к женам. На острове близ
Новой Гвинеи мужчины, убившие или принимавшие участие
в убийстве врагов, в течение недели скрываются в своих
домах. Они избегают всякого общения со своими женами, дру-
1 См.: FrazerJ.-D. Taboo and the perils of the Soul. P. 169-174. Эти
церемонии состоят в избиении щитами, крике, реве и производстве шума при
помощи инструментов и т.д.
2 См.: FrazerJ.-D. Taboo and the perils of the Soul, no: Müller S. Reizen in
Ondersoekingen in der Indischen Archipclag. Amsterdam, 1857.
612
Тотем и табу
зьями, не прикасаются руками к пище и питаются только
растительной пищей, приготовленной для них в особой
посуде. Как на причину этих последних ограничений
указывается на то, что им нельзя чувствовать запаха крови убитого; в
противном случае они могли бы заболеть и умереть. У
племени тоарипи или мотумоти на Новой Гвинее мужчина,
убивший кого-нибудь, не смеет приближаться к своей жене и
прикасаться пальцами к пище. Его кормят посторонние, и особой
пищей. Это длится до ближайшего новолуния.
У папуасов Новой Гвинеи всякий убивший в бою врага
становится «нечистым», для очищения пользуется тем же
словом, что и женщины во время менструации и во время
родов. В течение долгого времени он не должен оставлять
лагерь мужчин, и в то же время жители его деревни
собираются вокруг него и празднуют его победу пляской и
песнями. Он не смеет ни к кому прикасаться, не исключая
жены и детей; если бы он это сделал, то они покрылись бы
язвами. Он становится чистым благодаря омовению и
ритуалу очищения.
У натчезов в Северной Америке молодые воины,
снявшие первый скальп, должны были в течение шести месяцев
подвергаться известным лишениям. Им нельзя было спать
со своими женами и есть мясо, они получали в пищу рыбу
и маисовый пудинг. Если чокту убивает и скальпирует
врага, то у него наступает месячный траур, в течение которого
он не смеет расчесывать свои волосы. Если у него чешется
голова, то он не смеет чесать рукой, а только маленькой
палочкой.
Если индеец пима убивал апача, то он принужден был
подвергнуться тяжелым и искупительным церемониям. В
течение девятнадцатидневного поста ему нельзя было
прикасаться к мясу и соли, смотреть на горящий огонь и с кем бы
то ни было разговаривать. Он жил в лесу один, пользуясь
услугами старой женщины, приносившей ему скудную пищу.
Часто купался в ближайшей реке и — в знак траура — носил
на голове комок глины. На семнадцатый день имел место при
свидетелях церемониал торжественного очищения воина и
его оружия. Так как индейцы пима принимали гораздо более
серьезно табу убийцы, чем их враги, и не откладывали ис-
6.13
Зигмунд ФРЕЙД
купления и очищения, как те, до окончания похода, то их
боевая способность сильно страдала, если хотите, от их
нравственной строгости или благочестия. Несмотря на их
необыкновенную храбрость, они оказались для американцев
неудовлетворительными союзниками в их борьбе с апачами.
Как ни интересны подробности и вариации
церемониалов искуплений и очищений после убийства врага и как они
ни заслуживают более глубокого исследования, я все же
прекращаю их описание, потому что они нам не могут
открыть новых точек зрения, пожалуй, я еще отмечу, что
временная или постоянная изоляция профессионального
палача, сохранившаяся и до нашего времени, относится к этому
же разряду явлений. Положение Freimann в обществе
Средних веков действительно дает хорошее представление о табу
дикарей1.
В обычном объяснении предписаний примирения,
ограничения, искупления и очищения чередуются друг с другом
два принципа. Перенесение табу с мертвеца на все то, что
приходит с ним в соприкосновение, и страх перед духом
убитого. Как скомбинировать эти два момента для
объяснения церемониала? Следует ли придавать обоим одинаковое
значение? Не является ли один из них первичным, а другой
вторичным моментом (какой именно — об этом не
говорится, да и нелегко это выяснить)? В противовес этому
утверждению мы подчеркиваем единство в нашем понимании, если
объясняем все эти предписания амбивалентностью чувств
по отношению к врагу.
Ь) Табу властителей
Отношение примитивных народов к вождям, королям и
священникам руководствуется двумя основными
принципами, которые как будто скорее дополняют, чем противоречат
друг другу. Нужно их бояться и оберегать их2. И то и другое
совершается при помощи бесконечного числа предписаний
1 По поводу этих примеров см: FrazerJ.-D. Ibid. P. 165-190
2 См.: FrazerJ.-D. Ibid. P. 132: «Его нужно не только охранять, но и следует
его остерегаться».
614
Тотем и табу
табу. Нам уже известно, почему нужно остерегаться
властителей: они являются носителями таинственной,
чародейственной и опасной силы, передающейся через прикосновение,
подобно электрическому заряду, и приносящей смерть и
гибель всякому, кто не защищен подобным же зарядом.
Поэтому следует избегать всякого посредственного и
непосредственного соприкосновения с опасной святыней, и в тех
случаях, когда этого нельзя избежать, найден был церемониал,
чтобы предупредить опасные последствия.
Нубийцы в Восточной Африке считают, например, что
они умрут, если войдут в дом священника-короля, но что
они избегнут этой опасности, если при входе обнажат левое
плечо и склонят короля прикоснуться к ним рукой. Таким
образом, перед нами тот замечательный факт, что
прикосновение короля становится целебным и защитным средством
против опасности, вытекающей из прикосновения к королю,
но тут речь идет о целебной силе преднамеренного,
совершенного по инициативе короля прикосновения в
противоположность опасности, связанной с прикосновением к нему,
то есть о противоположности между активностью и
пассивностью по отношению к королю.
Если речь идет о целебном действии прикосновения, то
нам незачем искать примера у дикарей. Еще недалеко то
время, когда короли Англии проявляли такое же
воздействие на скрофулез (золотуху), носивший поэтому название
«The King's Evil». Королева Елизавета так же не
отказывалась от этой части своих королевских прерогатив, как и
любой из ее наследников. Карл I будто бы излечил в одну
поездку 1633 больных. Во время правления его распутного
сына Карла II, после победы над Великой английской
революцией, исцеление королем скрофулеза достигло высшего
расцвета.
Этот король за период своего правления прикоснулся
приблизительно к 100 000 скрофулезных. Наплыв
жаждущих исцеления в таких случаях бывал так велик, что
однажды шестеро или семеро из них вместо исцеления умерли,
раздавленные в толпе. Скептик из Оранской семьи
Вильгельм III, ставший королем Англии после изгнания
Стюартов, отказался от такого чародейства; единственный раз, ко-
615
Зигмунд ФРЕЙД
гда он снизошел до этого, то сделал со словами: «Дай вам
Бог лучшего здоровья и больше разума»1.
Следующее свидетельство может служить
доказательством страшного действия прикосновения, при котором, хотя
бы и непреднамеренно, проявляется активность,
направленная против короля или того, что ему принадлежит. Вождь
высокого положения и большой святости на Новой
Зеландии забыл однажды на пути остатки своего обеда. Тут
пришел раб, молодой, крепкий, голодный парень, увидел
оставленное и набросился на обед, чтобы съесть его. Едва только
он кончил еду, как видевший это с ужасом сказал ему, что
он совершил покушение на обед вождя. Раб был крепким
и мужественным воином, но, услыхав эти слова, он упал, с
ним сделались ужасные судороги, и к вечеру следующего
дня он умер. Женщина маори поела каких-то плодов и затем
узнала, что они взяты с места, на которое наложено табу.
Она громко вскрикнула, что дух вождя, которого она таким
образом оскорбила, наверное, убьет ее. Это произошло
около полудня, а к двенадцати часам следующего дня она была
уже мертвой. Зажигалка вождя маори погубила однажды
несколько человек. Вождь потерял ее, другие нашли и
пользовались ею, чтобы закуривать свои трубки. Когда они
узнали, кому принадлежала зажигалка, они умерли от страха2.
Нечему удивляться, что явилась потребность
изолировать от других таких опасных лиц, как вожди и
священники, воздвигнуть вокруг них стену, за которой они были бы
недоступны для других. У нас может зародиться мысль, что
эта воздвигнутая первоначально из предписаний табу
стена существует еще и теперь в форме придворного
церемониала.
Но может быть, большая часть этого табу властелинов не
объясняется потребностью защиты от них. Противоположная
точка зрения по поводу привилегированных лиц, а именно
потребность защиты их самих от окружающей опасности, яв-
1 См.: FrazerJ.-D. The magic art and the Evolution of Kings. 1911. P. 368
{Фрэзер Д.-Д. Искусство магии и эволюция королей).
2 Все примеры приводятся 3. Фрейдом но книге Д.-Д. Фрэзера «Taboo and
the perils of the Soul». — Ред.
616
Тотем и табу
но присутствовала в создании табу, а следовательно, и в
развитии придворного этикета.
Необходимость защитить короля от всевозможных
опасностей объясняется его огромным значением для блага
подданных. Строго говоря, его личность направляет развитие
мирового бытия; народ не только должен его благодарить за
дождь и солнечный свет, выращивающие плоды земли, но и
за ветер, пригоняющий корабли к берегу, и за твердую
почву, по которой ступают подданные.
Эти короли дикарей наделены могуществом и
способностью делать счастливыми, свойственной только богам, в чем
на более поздних ступенях цивилизации льстиво уверяют
их только самые подобострастные из придворных.
Кажется явным противоречием, что лица, обладающие
таким совершенством власти, сами требуют величайшей
заботливости, чтобы уберечь их от окружающей опасности; но
это не единственное противоречие, проявляющееся в
обращении с королевскими лицами у дикарей. Эти народы
считают необходимым следить за своими королями, чтобы те
правильно пользовались своими силами; они нисколько не
уверены в их добром намерении и их совестливости. К
мотивировке предписаний табу для короля примешивается
черта недоверия. «Мысль, что доисторическое королевство
основано на деспотизме, — говорит Фрэзер, — благодаря
которому народ существует только для его властелинов,
никоим образом не применима к монархиям, которые мы тут
имели в виду. Напротив, в них властелин живет только для
своих подданных; его жизнь имеет цену только до тех пор,
пока он выполняет обязанности, связанные с его
должностью, направляя течение явлений природы на благо своих
подданных. Как только он перестает это делать ил;и
оказывается непригодным, заботливость, преданность и
религиозное почитание, предметом которых он до того был,
превращаются в ненависть и презрение. Он с позором изгоняется
и может быть доволен, если сохранил жизнь. Случается, что
сегодня его еще почитают, как бога, а завтра убивают, как
преступника. Но у нас нет права осуждать такое изменчивое
поведение народа, рассматривать его как непостоянство или
противоречие. Народ, безусловно, остается последователь-
617
Зигмунд ФРИЙД
ным. Если, считают подданные, их король — их бог, то он
должен также быть и их защитником; и если он не хочет их
защищать, то пусть уступит место другому, более
подходящему. Но пока король соответствует их ожиданиям,
заботливость о нем не знает границ, и они заставляют его
относиться к самому себе с такой же предусмотрительностью.
Такой король живет, ограниченный системой церемоний и
этикетов, опутанный сетью обычаев и запрещений, цель
которых никоим образом не состоит в том, чтобы возвысить
его достоинство, и еще менее в том, чтобы увеличить его
благополучие; во всем этом сказывается только намерение
удержать его от таких шагов, которые могли бы нарушить
гармонию природы и вместе с тем погубить его самого, его
народ и всю Вселенную. Эти предписания, далеко не
способствующие его личному благополучию, регламентируют
каждый его поступок, практически уничтожают его
свободу и делают жизнь короля, которую они будто бы должны
охранять, тягостной и мучительной.
Одним из самых ярких примеров такого сковывания
святого властелина церемониалом табу является образ
жизни японского микадо в прошлых столетиях. В одном
описании, которому свыше двухсот лет, сообщается: «Микадо
думает, что прикоснуться ногами к земле не соответствует
его достоинству и святости; если он хочет куда-нибудь
пойти, то его должен кто-нибудь нести на плечах. Но еще
менее ему пристойно выставить свою святую личность на
открытый воздух, и солнце не удостаивается чести сиять
над его головой. Каждой части его тела приписывается
такая святость, что ни его волосы на голове, ни его борода не
могут быть острижены, а ногти не могут быть срезаны. Но
чтобы он не был очень грязным, его моют по ночам, когда
он спит; говорят, что то, что удаляют с его тела в таком
состоянии сна, можно понимать только как кражу, а такого
рода кража не умаляет его достоинства и святости. Еще в
более древние времена он должен был каждое утро в
течение нескольких часов сидеть на троне с царской короной
на голове, но сидеть он должен был как статуя, не двигая
руками, ногами, головой или глазами; только таким
образом, по их верованиям, он может удержать мир и спокой-
618
'Готом и табу
ствие в царстве. Если он, к несчастью, повернется в ту или
другую сторону или в течение некоторого времени обратит
свой взор только на часть царства, то наступят война, голод,
пожары, чума или какое-нибудь другое большое бедствие
и опустошат страну»1.
Некоторые из табу, которым подвержены короли у
варваров, живо напоминают меры пресечения против
разбойников. На Акульем мысе, в Гвинее Бисау (Западная Африка),
король-священник живет один в лесу. Он не смеет
прикасаться к женщине, не смеет оставлять своего дома, даже
вставать со своего стула, на котором обязан спать сидя. Если бы
он лег, то ветер стих бы и мореплавание приостановилось
бы. В его обязанности входит сдерживать бури и вообще
заботиться о равномерном здоровом состоянии атмосферы2.
Чем могущественнее король, говорит Адольфо Бастиан,
тем больше табу он должен соблюдать. И наследник
престола с детства связан ими, но они множатся по мере того, как
он растет; к моменту вступления на престол они его просто
душат. В нашу задачу не входит дать более подробные
описания табу, связанные с королевским и священническим
достоинством. Отметим только, что главную роль среди них
играют ограничения свободы движения и диета. Но какое
консервативное влияние оказывает связь с этими
привилегированными лицами на древние обычаи, можно убедиться на
двух примерах церемониала табу, взятых у цивилизованных
народов, то есть на гораздо более высокой ступени культуры.
Фламин3 Диалис, первосвященник Юпитера в Древнем
Риме, должен был соблюдать необыкновенно большое число
запрещений табу. Он не должен был ездить верхом, видеть
лошадей, вооруженных людей, носить цельное, не
надломленное кольцо, завязывать узлом свои одежды, прикасаться
к пшеничной муке или к скисшему тесту и не смел даже по
имени называть козу, собаку, сырое мясо, бобы и плющ;
1 Kampfer. History of Japan, no: FrazerJ.-D. The golden Bough. P. 3 (Камп-
фер. История Японии, по: Фрэзер Д.-Д. Золотая ветвь).
2 См.: Bastian Л. Die deutsche Expedition an der Loangoküstc. Ycna, 1874,
no: FrazerJ.-D. The golden Bough. P. 5.
3 Фламипы — жрецы отдельных богов (Юпитера, Марса) в Древнем
Риме. - Ред.
619
Зигмунд ФРЕЙД
волосы ему мог стричь только свободный человек (не раб)
бронзовым ножом, а его волосы и срезанные ногти нужно
было похоронить под деревом, приносящим счастье; он не
смел прикасаться к мертвецу, стоять с непокрытой головой
под открытым небом и т. п. Жена его соблюдала, кроме того,
еще особые запрещения: на определенного рода лестнице
она не смела подниматься выше трех ступенек; в известные
праздничные дни ей нельзя было причесывать волосы; кожа
для ее ботинок не могла быть взята от животного, умершего
естественной смертью, а только от зарезанного или
принесенного в жертву; когда она слышала гром, то становилась
нечистой, пока не приносила очистительных жертв1.
Древние короли Ирландии были подчинены целому ряду
чрезвычайно странных ограничений, от соблюдения
которых ожидали всяких благ для страны, а от нарушения —
возможных бедствий. Полный список этих табу помещен в
«Book of Right» («Книге правил»), самые старые
рукописные экземпляры которых датируются 1390 и 1418 годами.
Запрещения чрезвычайно детализированы, касаются
различных родов деятельности в определенных местах в
определенные времена: в таком-то городе король не должен
пребывать в обозначенные дни недели, такую-то реку он не
должен переходить в известный час, на такой-то равнине не
должен останавливаться лагерем полных девять дней и т. п.2
Тяжесть ограничений табу для королей-священников
имела у многих диких народов исторически важные и для
нас особенно интересные последствия. Священническо-коро-
левское достоинство перестало быть чем-то желанным; тот,
кому оно предстояло, прибегал к всевозможным средствам,
чтобы избавиться от него. Так, например, в Камбодже, где
имеются король огня и король воды, часто приходилось
силой вынуждать наследников принять королевское
достоинство. На одном из коралловых островов в Тихом океане
монархия фактически пришла к концу, потому что никто не
хотел согласиться занять ответственную и опасную
должность. В некоторых частях Западной Африки после смерти
1 См.: FrazerJ.-D. The golden Bough. P. 13.
2 Ibid. P. 11.
620
Тотем и табу
короля собирается тайный совет, чтобы назначить преемника
короля. Того, на кого падет выбор, хватают, связывают и
содержат под стражей в доме фетишей до тех пор, пока он
не согласится принять корону. Иной раз предполагаемый
наследник престола находит средства и пути, чтобы избавиться
от предлагаемой ему чести; так, рассказывают про одного
военачальника, что он день и ночь не расставался с оружием,
чтобы силой оказать сопротивление всякой попытке
посадить его на престол1. У негров Сьерра-Леоне сопротивление
против принятия королевского достоинства так велико, что
большинство племен было вынуждено избирать себе королей
из чужеземцев.
Этими обстоятельствами Фрэзер объясняет тот факт, что
в историческом развитии в конце концов произошло
разделение первоначального священническо-королевского
достоинства на духовную и светскую власть. Подавленные
бременем своей святости, короли оказались неспособными
осуществлять свою власть в реальности и были вынуждены
передать ее менее значительным, но дееспособным лицам,
готовым отказаться от почестей королевского достоинства.
Из них впоследствии образовались светские властелины,
между тем как потерявший практически всякое значение
духовный сан остался за прежними табу-королями.
Известно, насколько эта гипотеза находит подтверждение в
истории древней Японии.
Если мы рассмотрим картину отношений примитивных
людей к их властелинам, то, скоре всего, сможем перейти от
описания этой картины к ее психоаналитическому
пониманию. Отношения эти по своей природе очень запутаны и не
лишены противоречий. Властелинам предоставляются
большие права, совершенно совпадающие с запрещениями табу
для других. Они являются привилегированными особами и
могут делать то и наслаждаться тем, что благодаря табу
запрещается всем остальным. Но в противовес этой свободе
для них имеются другие ограничения табу, которые не
распространяются на обыкновенных людей. Здесь, таким обра-
1 См.: Bastian A. Die deutsche Expedition an der Loangoküstc, по: FrazerJ.-D.
The golden Bough. P. 28.
621
Зигмунд ФРЕЙД
зом, возникает первая противоположность, почти
противоречие между большей степенью свободы и большей
степенью ограничений для одного и того же лица. Им
приписывают необыкновенные чародейственные силы и потому
боятся прикосновения к ним или к их собственности и в то
же время ждут, с другой стороны, самого благодетельного
действия от этих прикосновений. Это кажется вторым,
особенно ярким противоречием, однако нам уже известно, что
оно лишь кажущееся; целебное и охраняющее действие
имеет прикосновение, исходящее от самого короля с
благостным намерением, а опасно только прикосновение к королю
или чему-либо королевскому, вероятно, вследствие
напоминания о связанных с ним агрессивных тенденциях. Другое,
не так легко разрешимое, противоречие состоит в том, что
властелину приписывается такая большая власть над
явлениями природы и в то же время считается необходимым с
особенной заботливостью охранять его от угрожающей ему
опасности, как будто его собственное могущество, способное
так много совершить, не в состоянии сделать этого. Другая
сложность в этих взаимоотношениях состоит в недоверии к
властелину, к тому, что он использует свое невероятное
могущество должным образом на благо подданных и для своей
собственной защиты; ему не доверяют и считают себя
вправе следить за ним. Этикеты табу, которым подчинена жизнь
короля, служат одновременно всем этим целям опеки над
королем, защите его от опасностей и защите подданных от
опасностей, которые исходят от него.
Напрашивается следующее объяснение сложных и
противоречивых отношений примитивных народов к их
властелинам: суеверные и другие мотивы диктуют разнообразные
тенденции, из которых каждая развивается до крайних
пределов сама по себе, не согласуясь с другой; отсюда
образуются впоследствии противоречия, которые, впрочем, дикари,
как и народы, стоящие на высшей ступени цивилизации,
мало замечают, если дело идет о вопросах, касающихся
религии или «лояльности».
Все это верно, но психоаналитическая техника, пожалуй,
позволит проникнуть глубже в связь явлений и сказать нечто
большее о природе этих разнообразных тенденций. Если мы
622
Тотем и табу
попробуем подвергнуть анализу описанное положение
вещей, как если бы оно составляло картину символов невроза,
то начнем прежде всего с чрезмерной боязливой
заботливости, которой хотят объяснить церемониал табу. Такой
избыток нежности — обычное явление в неврозе, особенно в
неврозе навязчивости, который мы в первую очередь берем для
сравнения. Происхождение этой нежности нам вполне
понятно. Она возникает во всех тех случаях, где кроме
преобладающей нежности имеется противоположное, но
бессознательное течение враждебности, то есть имеет место
типичный случай амбивалентной направленности чувств.
Недоверие, кажущееся абсолютно необходимым для
объяснения табу короля, является иным прямым выражением
той же бессознательной враждебности. Вследствие
многообразного исхода такого конфликта у различных народов у нас
не будет недостатка в примерах, на которых нам было бы
гораздо легче доказать такую враждебность. У Фрэзера1 мы
узнаем, что дикие фиммы Сьерра-Леоне сохранили за собой
право избивать выбранного ими короля в вечер накануне
коронования и с такой основательностью пользуются этим
конституционным правом, что несчастный властелин
нередко недолго переживает момент своего возведения на трон;
поэтому представители народа сделали себе правилом
избирать в короли того, против кого у них имеется злоба. Все
же и в этих редких случаях враждебность не проявляется
как таковая, а имеет форму церемониала.
Другой пример отношения народов к своим властелинам
напоминает о душевном процессе, широко распространенном
в области невроза и явно проявляющемся в так называемом
бреде преследования. Тут невероятно увеличивается
значение определенного лица, его могущество чрезвычайно
превозносится, для того чтобы тем легче возложить на него
ответственность за все мучительное, что случается с больным.
В сущности, дикари таким же образом поступают со своими
королями, приписывая им власть над дождем и солнечным
1 Frazet J.-D. The golden Bough. P. 18, но: Zweifel et Momtier. Voyage aux
Sources du Niger. 1880 (Фрэзер Д.-Д. Золотая ветвь, по: Путешествие к истокам
Нигер).
623
Зигмунд ФРЕЙД
светом, над ветром и бурей и низвергая или убивая королей,
если природа не оправдала их надежд на хорошую охоту или
богатую жатву. Прообразом того, что параноик конструирует
в бреде преследования, являются отношения ребенка к отцу.
Подобного рода всемогущество всегда в представлении
сына приписывается отцу, и оказывается, что недоверие к
отцу тесно связано с его высокой оценкой. Если параноик
избирает кого-нибудь, с кем его связывают жизненные
отношения, в «преследователи», то он вводит его тем самым в
разряд лиц, соответствующих отцу, и ставит его в условия,
позволяющие возложить на него ответственность за все
переживаемые несчастья. Таким образом, эта вторая аналогия
между дикарем и невротиком позволяет нам догадываться о
том, как много в отношениях дикаря к своему властелину
исходит из детской ориентации ребенка на отца.
Но самое большое основание для нашей точки зрения,
когда мы проводили параллель между запрещениями табу и
невротическими симптомами, мы находим в самом
церемониале табу, значение которого для королевского достоинства
уже было описано. Этот церемониал явно показывает свое
двусмысленное значение и свое происхождение из
амбивалентных тенденций, если мы только допустим, что он с
самого начала стремился к совершению производимого им
действия. Он не только отличает королей и возвеличивает их
над всеми обыкновенными смертными, но и превращает их
жизнь в невыносимую муку и тяжесть и накладывает на них
цепи рабства гораздо более тяжелые, чем на подданных. Он
кажется нам настоящей параллелью навязчивых действий
невроза, в которых подавленное влечение и подавляющая его
сила сливаются в одновременном и общем удовлетворении.
Навязчивое действие является, по-видимому, защитой
против запрещенного действия; но мы сказали бы, что, в
сущности, оно является повторением запрещенного.
«По-видимому» здесь относится к сознательному, «в сущности» — к
бессознательной инстанции душевной жизни. Таким же
образом и церемониал табу королей, являющийся выражением
их высшего почета и защиты, представляет, в сущности,
наказание за их возвышение, акт мести, который совершают
над ним подданные. Опыт, приобретенный Санчо Пансой,
624
Тотем и табу
которого Сервантес сделал губернатором на острове,
заставил его, по-видимому, признать, что такое понимание
придворного церемониала единственно соответствует истине.
Весьма возможно, что нам удалось бы услышать и
дальнейшие подтверждения, если бы могли заставить высказаться по
этому поводу современных королей и властелинов.
Очень интересную, но выходящую за пределы этой
работы проблему составляет вопрос: почему направленность
чувств к власть имущим содержит такую большую примесь
враждебности? Мы уже указали на инфантильный
отцовский комплекс, прибавим еще, что исследование
доисторического периода образования королевства должно дать нам
самые исчерпывающие объяснения. Согласно данному
Фрэзером освещению вопроса, производящему глубокое
впечатление, но, по собственному его признанию, неубедительному,
первые короли были чужеземцы, предназначенные после
короткого периода власти к принесению в жертву как
представители божества на торжественных праздниках1. И на мифах
христианства отражается еще влияние этого исторического
развития королевского достоинства.
с) Табу мертвецов
Нам известно, что мертвецы представляют собой
могучих властителей; мы, может быть, с удивлением узнаем, что
в них видят врагов.
Придерживаясь сравнения с инфекцией, мы убеждаемся,
что табу мертвецов у большинства примитивных народов
отличается особой вирулентностью. Это выражается прежде
всего в тех последствиях, которые влечет за собой
прикосновение к мертвецу, и в общении с оплакивающими
мертвеца. У маори всякий прикасающийся к мертвецу или
принимавший участие в погребении становится крайне
нечистым, ему почти отрезано всякое общение с другими людьми,
он, так сказать, подвергается бойкоту. Он не смеет входить
1 Frazer J.-D. The magic Art and the Evolution of Kings. Vol. 2. 1911, no:
FrazerJ.-D. The golden Bough (Фрэзер Д.-Д. Искусство магии и эволюция
королей, по: Фрэзер Д.-Д. Золотая ветвь).
625
Зигмунд Ф1Ч1ЙД
ни в один дом, не может приблизиться ни к одному
человеку или предмету без того, чтобы не заразить их такими же
свойствами. Больше того, он не смеет прикасаться руками к
пище, и его руки из-за нечистоты становятся для него
негодными для употребления. Ему ставят пищу на землю, и
ему ничего другого не остается, как хватать ее губами и
зубами, насколько это возможно, так как руки он держит за
спиной. Иногда разрешается другому кормить его, но тот
человек совершает это с вытянутыми руками, тщательно
избегая прикосновения к несчастному; однако в таком случае
и этот помощник подвергается ограничениям, не намного
менее тягостным, чем его собственные. В каждой деревне
имеется какое-нибудь опустившееся, изгнанное из общества
существо, живущее скудными подаяниями, получаемыми
таким жалким образом. Только этому существу разрешается
приблизиться на расстояние вытянутой руки к тому, кто
выполнил последний долг перед умершим; когда время
изоляции проходит, бывший нечистый получает возможность
снова войти в круг своих товарищей. Вся посуда, которой
он пользовался в течение опасного времени изоляции,
разбивается, сбрасывается вся одежда, в которую он был одет.
Обычаи табу после телесного прикосновения к
мертвецам одинаковы в Полинезии, Меланезии и в части Африки;
постоянным в них является запрещение прикасаться к пище
и как следствие этого — кормление другими. Замечательно,
что в Полинезии или, может быть, только на Гавайях таким
же ограничениям подвержены священники-короли при
выполнении священных действий. При табу мертвецов на
Тонга явно проявляется постепенность уменьшения
запрещений благодаря собственной силе табу. Кто прикоснулся к
трупу вождя, тот становился нечистым в течение десяти
месяцев, но если прикоснувшийся был сам вождем, то
делался нечистым в течение трех, четырех или пяти месяцев в
зависимости от ранга умершего; если же дело шло о трупе
обожествляемого верховного вождя, то даже самые большие
вожди становились табу на десять месяцев. Дикари глубоко
верят в то, что всякий нарушивший такие предписания табу
должен тяжело заболеть и умереть; и эта вера их так
непоколебима, что, по мнению одного наблюдателя, они еще ни-
626
Тотем и табу
когда не осмелились сделать попытку убедиться на деле
в противном1.
По существу, однородны, но более интересны для нас
ограничения табу тех лиц, соприкосновение которых с
мертвыми нужно понимать в переносном смысле, а именно
ограничения оплакивающих родственников, вдовцов и вдов.
Если в упомянутых до сих пор предписаниях видеть только
типичное выражение вирулентности и способности к
распространению табу, то в тех предписаниях, о которых сейчас
будет речь, проявляются мотивы табу как мнимые, так и те,
которые мы можем считать более глубокими и настоящими.
У чиппева в Британской Колумбии (Запад Канады)
вдовы и вдовцы во время траура должны жить отдельно, им
нельзя прикасаться руками ни к собственному телу, ни к
голове; посуду, которой они пользуются, нельзя
употреблять другим; никакой охотник не приблизится к хижине, в
которой живут люди, оплакивающие умерших, потому что
это принесло бы ему несчастье: если бы на него упала тень
человека, оплакивающего покойника, то он заболел бы;
такие лица спят на терновниках и окружают ими свое ложе.
Цель последних мероприятий — не допустить к себе духа
умершего. Еще более явный смысл имеют известные обычаи
вдов у других североамериканских племен: после смерти
мужа вдова носит некоторое время одежду, похожую на
панталоны из сухой травы, чтобы быть недоступной попыткам
духа к сближению. Таким образом, становится для нас
ясно, что «сближение» (в переносном смысле) понимается как
телесный контакт, так как дух умершего не отходит от
своих родных, беспрестанно «витает вокруг них» во все время
траура.
У племени, живущего на Палаване, одном из
Филиппинских островов, вдова не смеет в течение первых семи или
восьми дней после смерти мужа оставлять хижину, разве
только в ночное время, когда ей не надо опасаться встреч.
Кто ее видит, навлекает на себя опасность моментальной
1 См.: Mariner W. The natives of the Tonga Island. 1818, no: FrazerJ.-D. The
golden Bough. P. 140 (Mapuuep В. Туземцы острова Тонга, по: Фрэзер Д.-Д.
Золотая ветвь).
627
Зигмунд ФРЕЙД
смерти, и поэтому она сама предупреждает о своем
приближении, ударяя деревянной палкой по деревьям; но эти
деревья засыхают. Другое наблюдение объясняет, в чем
заключается опасность такой вдовы. В области Мекео Британской
Новой Гвинеи вдовец лишается всех гражданских прав и
некоторое время живет как изгнанный из общины. Он
лишается права обрабатывать сад, открыто появляться среди
других, пойти в деревню и на улицу. Он бродит, как дикий
зверь, в высокой траве или кустарнике и должен спрятаться
в гуще леса, если видит, что кто-нибудь приближается,
особенно женщины. Благодаря последнему намеку мы можем
объяснить опасность, которую представляет собой вдовец
или вдова. Это — искушение. Муж, потерявший свою жену,
должен избегать желания найти ей замену. Вдове
приходится бороться с тем же желанием, и, кроме того, как никому
не принадлежащая, она будит желания других мужчин.
Всякое такое заменяющее удовлетворение противоречит смыслу
траура; оно вызвало бы вспышку гнева у духа1.
Одним из самых странных и поучительных обычаев табу,
касающихся оплакивания мертвеца у примитивных народов,
является запрещение произносить имя умершего. Оно
чрезвычайно распространено, осуществлялось различным
образом и имело значительные последствия.
Кроме австралийцев и полинезийцев, сохранивших для
нас в лучшем виде обычаи табу, это запрещение можно
обнаружить у столь отдаленных и чуждых друг другу народов,
как у самоедов в Сибири, у тода в Южной Индии, у монголов,
туарегов в Сахаре, айнов в Японии и акамба в Центральной
Африке, тингуанов на Филиппинах и у жителей Никобарских
островов, Мадагаскара и Калимантана2', у некоторых из этих
народов запрещение и вытекающие из него следствия имеют
силу только на время траура, у других они остаются на
длительное время, но все же всегда они слабеют по мере
удаления от момента смерти.
1 Та же больная, «невозможности» которой я сравнивал с табу, созналась,
что приходит всякий раз в отчаяние, когда встречает кого-нибудь на улице,
одетого в траур. Таким людям следовало бы запретить выходить на улицу.
2 См.: FrazerJ.-D. The golden Bough. P. 353.
628
Тотем и табу
Обыкновенно запрет произносить имя умершего
выполняется очень строго. Так, у некоторых южноамериканских
племен считается самым тяжелым оскорблением
оставшихся в живых, если в их присутствии произнести имя
умершего, и полагающееся за это наказание не менее сурово,
чем наказание за убийство. Нелегко понять, почему
произнесение имени так пугает, тем не менее связанная с ним
опасность вызвала ряд предупредительных мер, интересных
и значительных во многих отношениях. Так, масаи в
Африке нашли выход в том, что меняют имя умершего
непосредственно после смерти; его без боязни можно называть
новым именем, между тем как все запрещения связаны с
прежним именем. При этом предполагается, что духу
неизвестно его новое имя и он его никогда не узнает.
Австралийские племена на Аделаидских островах и бухте Энкаунтер
настолько последовательны в своих мерах
предосторожности, что после чьей-либо смерти все лица, носившие такое
же имя, как покойник, или сходное с ним, меняют свои
имена. Иной раз, распространяя те же меры после
чьей-нибудь смерти, меняют имена всех родственников покойника
независимо от сходства их с именем покойника, например,
у некоторых племен в Виктории и Северо-Западной
Америке. У гуакири в Парагвае по такому же печальному
поводу вожди дают новые имена всем членам племени,
которые впредь запоминаются так, как будто бы они всегда
носили эти имена1.
Далее, если покойник носит имя, похожее на название
животного и т.д., то упомянутым народам кажется
необходимым дать новое название этим животным или предметам,
чтобы при употреблении этого слова не возникали
воспоминания о покойнике. В связи с этим происходило
беспрестанное изменение сокровищницы языка, доставлявшее много
затруднений миссионерам, особенно в тех случаях, когда
запрещение произносить имена оставалось постоянным. За
семь лет, проведенных миссионером Dobrizhofer y АЫроп'ов
в Парагвае, название ягуара менялось три раза и такая же
1 См.: FrazerJ.-D. The golden Bough. P. 357 (no словам старого испанского
наблюдателя, 1732 год).
J629
Зигмунд ФРЕЙД
участь постигла крокодила, терновник и звериную охоту1.
Боязнь произнести имя, принадлежавшее покойнику,
переходит в стремление избегать упоминания всего, чем этот
покойник занимался, и важным следствием этого процесса
подавления стало то, что у этих народов нет традиции, нет
исторических воспоминаний и исследование их прошлой
истории встречает величайшие трудности. Но у некоторых
из этих примитивных народов выработались
компенсирующие обычаи, для того чтобы по истечении длинного периода
траура снова оживить имена покойников, давая их детям, в
лице которых видят возрождение мертвых.
Странное впечатление от этого табу имени уменьшится,
если мы вспомним, что у дикарей имя составляет
значительную часть и важное свойство личности, что они
приписывают слову полноценное значение вещи. То же самое делают
наши дети, как я это отметил в другом месте, не
довольствуясь никогда предположением, что словесное сходство
может не иметь никакого значения; с полной
последовательностью они делают вывод, что если две вещи имеют
одинаково звучащие названия, то это значит, что между ними есть
глубокое сходство. И взрослый цивилизованный человек по
некоторым особенностям своего поведения должен
допустить, что он не так уж далек от того, чтобы придавать
большое значение собственному имени и что его имя каким-
то особенным образом срослось с его личностью. Это
вполне соответствует тому положению, что психоаналитическая
практика имеет много поводов указывать на значение имен
в бессознательном мышлении. Как и следовало ожидать,
невротики, страдающие навязчивостью, в отношении имен ведут
себя так же, как дикари. У них проявляется острая
«комплексная чувствительность» к тому, чтобы произносить или
услышать известные имена и слова (точно так же, как и
другие невротики), и их отношение к собственному имени
является источником многочисленных и часто тяжелых
задержек. Одна такая больная, которую я знал, приобрела
привычку не писать своего имени из боязни, что оно может попасть
кому-нибудь в руки и тот может овладеть частью ее личнос-
1 Ibid. P. 360.
630
Тотем и табу
ти. В судорожной верности, с которой она боролась против
искушения своей фантазии, она дала себе зарок «не давать
ничего от своей личности». Сюда относилось прежде всего
ее имя, а в дальнейшем — все, что она писала
собственноручно, и оттого она в конце концов перестала писать.
Поэтому нам не кажется странным, если дикари
относятся к имени покойника как к части его личности и это имя
становится предметом табу, касающегося покойника.
Произнесение имени покойника может рассматриваться как и
прикосновение к нему, и мы можем остановиться на проблеме,
почему это прикосновение подвергается такому строгому
табу. Самое приемлемое объяснение указало бы на
естественный ужас, вызываемый трупом и изменениями, которым он
быстро подвергается. Вместе с тем как причину всех табу,
относящихся к покойнику, следовало бы рассматривать и
печаль по поводу его смерти. Однако ужас перед трупом,
очевидно, не исчерпывает всех предписаний табу, а печалью
никак нельзя объяснить того, что упоминание о покойнике
воспринимается как тяжелое оскорбление для переживших его
родственников. Печаль, наоборот, охотно останавливается на
умершем, охотно занимается воспоминаниями о нем и
старается сохранить их на возможно долгое время. Нечто другое
должно быть причиной особенностей обычаев табу, нечто,
преследующее, очевидно, иные цели. Именно табу имен
выдает нам этот еще неизвестный мотив, и если бы не
свидетельствовали обычаи, то мы узнали бы об этом из указаний
самих оплакивающих покойника дикарей.
Они вовсе не скрывают, что боятся присутствия и
возвращения духа покойника; они выполняют множество
церемоний, чтобы прогнать его и держать вдали1. Произнесение
имени покойника кажется им заклинанием, за которым
может последовать его появление2. Поэтому они вполне
последовательно делают все, чтобы избежать такого заклинания
и пробуждения. Они переодеваются, чтобы дух не узнал их3,
1 Как на пример такого признания у Фрэзера указаны слова жителя
Сахары, туарега.
2 Может быть, по этому поводу нужно прибавить условие: пока существует
еще кое-что из его телесных останков (FrazerJ.-D. Ibid. P. 352).
3 На Никобарских островах (см.: Фрэзер Д.-Д. Золотая ветвь).
631
Зигмунд ФРЕЙД
или искажают его имя или свое собственное; они сердятся
на неосторожного чужестранца, накликающего дух
покойника на оставшихся в живых его родственников, если он
называет покойника по имени. Невозможно не прийти к
заключению, что они, по выражению Вундта, страдают
страхом «перед его душой, ставшей демоном»1.
Этот взгляд приводит нас к подтверждению мысли Вундта,
который, как мы видели, усматривает сущность табу в страхе
перед демонами.
Это учение, исходящее из предположения, что с
момента смерти дорогой член семьи становится демоном, со
стороны которого оставшимся в живых следует ожидать только
враждебных проявлений и против злых намерений
которого они должны защищаться всеми силами, кажется таким
странным, что в него сначала трудно поверить. Однако
почти все видные авторы сходятся в том, что приписывают
примитивным народам эту точку зрения. Вестермарк,
который в своем сочинении «Происхождение и развитие
нравственных понятий», по моему мнению, слишком мало
обращает внимания на табу, в разделе «Отношение к умершим»
прямо говорит: «Вообще, имеющийся у меня фактический
материал заставляет меня прийти к выводу, что в умерших
чаще видят врагов, чем друзей, что раньше думали, будто
злоба покойников направляется обыкновенно против
чужих, между тем как они проявляют отеческую заботливость
о жизни и о благополучии своих потомков и товарищей по
клану»2.
В. Kleinpaul использовал в производящей глубокое
впечатление книге остатки древней веры в загробную жизнь
1 См.: Wundt W. Mythus und Religion. Bd. H. S. 49.
2 Westermarck В. Происхождение и развитие нравственных понятий. Ч. II.
В примечании в тексте приводится большое количество подтверждающих этот
вывод, часто очень характерных показаний, например, маори думали, «что
самые близкие и любимые родственники изменяют свое существо после смерти
и настроены враждебно даже против своих прежних любимцев*.
Австралийские негры считают, что всякий покойник долгое время опасен; чем ближе
родство, тем больше страх. Центральные эскимосы находятся во власти
представлений, что покойники только долго спустя находят покой, а вначале их
нужно бояться как злокозненных духов, часто окружающих деревню, чтобы
распространять болезни, смерть и другие бедствия (Boas).
632
Тотем и табу
души у цивилизованных народов, чтобы дать картину
взаимоотношений между живыми и мертвыми1.
Самое яркое выражение эти взаимоотношения находят в
убеждении, что мертвецы кровожадно влекут за собой
живых. Мертвецы убивают; скелет, в виде которого теперь
изображается смерть, показывает, что сама смерть
представляет собой только мертвеца. Оставшиеся в живых чувствуют
себя защищенными от преследований мертвецов только в
том случае, если между ними и их мертвыми
преследователями имеется вода. Поэтому так охотно хоронили
покойников на островах, перевозили на другой берег реки. Отсюда
и произошли выражения — по сию сторону, по ту сторону.
С течением времени враждебность мертвецов ограничилась
только той категорией, которой приписывалось особое право
на озлобление: убитыми, преследующими в виде злых духов
своих убийц, умершими в неудовлетворенной тоске по ком-
нибудь, например по невестам. Но первоначально, говорит
Kleinpaul, все мертвецы были вампирами, все питали злобу
к живым и старались вредить им, лишить их жизни. Вообще,
труп дал повод к возникновению представления о злом духе.
Предположение, что любимые покойники после смерти
превратились в демонов, рождает дальнейший вопрос. Что
побудило примитивные народы приписать своим дорогим
покойникам такую перемену в их чувствах? Почему они их
превратили в демонов? Вестермарк думает, что на этот
вопрос нетрудно ответить. «Так как смерть считается самым
большим несчастьем, могущим постигнуть человека, то
думают, что покойники крайне недовольны своей судьбой. По
принятому у первобытных народов мнению, смерть
наступает только по причине убийства, насильственного или
совершенного при помощи колдовства, и поэтому уже смотрят
на душу как на рассерженную и жаждущую мести; полагают,
что она завидует живым и тоскует по обществу прежних
родственников; вполне понятно поэтому, что она
старается умертвить их при помощи болезни, чтобы соединиться
с ними...
1 См.: Kleinpaul В. Живые и мертвые в церемониях народа, в религии и
сказаниях. 1888.
633
Зигмунд ФРЕЙД
...Дальнейшее объяснение враждебности, приписываемой
душам, кроется в инстинктивной их боязни, — боязни,
являющейся, в свою очередь, результатом страха смерти».
Изучение психоневротических заболеваний приводит к
более широкому объяснению, включающему и данное Вес-
термарком.
Если жена лишается мужа, дочь — матери, то нередко
случается, что оставшимися в живых овладевают
мучительные размышления, названные нами «навязчивыми
упреками» и выражающиеся в опасении, не являются ли они сами
по неосторожности или небрежности причиной смерти
любимого человека. Ни воспоминание о том, с какой
заботливостью они ухаживали за больным, ни тактическое
опровержение предполагаемой вины не может положить конца
мучениям, являющимся патологическим выражением печали и
со временем постепенно утихающим. Психоаналитическое
исследование таких случаев открыло нам тайные
пружины этого страдания. Нам стало известно, что эти
навязчивые упреки в известном смысле правильны и поэтому
только не уступают ни опровержению, ни возражению. Дело не
в том, что оплакивающие покойника действительно, как это
утверждает навязчивый упрек, виновны в смерти или
проявили небрежность; но где-то у них шевелилось такое им
самим неизвестное желание, удовлетворенное смертью, они
и причинили бы эту смерть, если бы обладали для этого
достаточной силой. Как реакция на это бессознательное
желание и возникает упрек в смерти любимого человека. Такая
скрытая в бессознательном за нежной любовью
враждебность имеется во всех почти случаях сильной
привязанности чувства к определенному лицу и представляет собой
классический случай, образцовый пример амбивалентности
человеческих чувств. В большей или меньшей степени
такая амбивалентность является врожденной; при нормальных
условиях она не так велика, чтобы вызвать возникновение
описанных навязчивых упреков. Но там, где она от природы
сильна, она проявляется именно в отношении к самым
любимым лицам, в тех случаях, где ее меньше всего можно
было бы ожидать. Предрасположение к неврозу
навязчивости, который мы так часто приводили для сравнения в во-
634
Тотем и табу
просе о табу, мы представляем себе как особенно сильно
выраженную первоначальную амбивалентность чувств.
Нам известен момент, который может объяснить
предполагаемый демонизм недавно умерших душ и необходимость
защититься от их враждебности предписаниями табу. Если
мы допустим, что чувствам примитивных людей
амбивалентность присуща в такой же высокой мере, в какой мы ее на
основании результатов психоанализа приписываем больным
навязчивостью, то будет вполне понятно, что после тяжелой
потери становится неизбежной такая же реакция против
скрытой в бессознательном враждебности, какая у
невротиков доказывается навязчивыми упреками. Эта враждебность,
мучительно чувствуемая в бессознательном как
удовлетворение по поводу смерти, испытывает у примитивного человека
другую участь; он ее отвергает, относя ее к объекту
враждебности, к покойнику. Этот процесс, часто встречающийся в
больной и нормальной душевной жизни, мы называем
проекцией. Оставшийся в живых отрицает, что у него когда-либо
имелись враждебные душевные движения против любимого
покойника; но теперь такие чувства имеются в душе
умершего, и она постарается проявить их в течение всего периода
траура. Характер наказания и раскаяния, присущий этой
реакции чувств, несмотря на удавшееся ее отрицание, все-таки
проявляется при помощи проекции в том, что испытывается
страх, налагаются лишения и люди подвергаются
ограничениям, которые отчасти маскируются как меры защиты
против враждебного демона. Таким образом, мы снова видим,
что табу выросло на почве амбивалентной направленности
чувств, и табу покойников вытекает из противоположности
между сознательной болью и бессознательным
удовлетворением по поводу смерти. При таком происхождении гнева
духов вполне понятно, что больше всего приходится его
опасаться именно самым близким и прежде наиболее любимым
родственникам.
Предписания табу проявляют здесь ту же двойственность,
что и невротические симптомы. Благодаря своему характеру
ограничений они, с одной стороны, выражают печаль, а с
Другой — очень ярко выдают то, что хотели скрыть, —
враждебность к покойнику, которая теперь мотивируется как са-
635
Зигмунд ФРЕЙД
мозащита. Некоторую часть запрещений табу мы научились
понимать как страх перед искушением. Покойник
беззащитен — это должно поощрять стремление к удовлетворению
на нем враждебных страстей, и против этого искушения
должно быть выдвинуто запрещение.
Но Вестермарк прав, когда он не допускает у дикарей
понимания различия между насильственно и естественно
умершим. Для бессознательного мышления убитым
является и тот, кто умер естественной смертью; его убили злостные
желания (ср. следующую ст. этого ряда: «Анимизм, магия
и могущество мысли»). Кто интересуется происхождением
и значением сновидений о смерти любимых родственников
(родителей, братьев, сестер), тот сможет констатировать
полное сходство отношения к умершему у сновидца-ребенка
и дикаря, — сходство, в основе которого лежит та же
амбивалентность чувств.
Выше мы возражали против взгляда Вундта, видящего
сущность табу в страхе перед демонами, и тем не менее мы
только что согласились с объяснением, которое сводит табу
мертвецов к страху перед душой покойника,
превратившейся в демона. Это может казаться противоречием, но нам
нетрудно будет устранить его. Хотя мы и допустили
демонов, но не придали им значения чего-то конечного и
неразрешимого для психологии. Мы как бы разгадали этих
демонов, распознав их как проекции враждебных чувств к
покойникам, имевшихся у оставшихся в живых.
Согласно нашему хорошо обоснованному предположению
двойственные чувства к покойнику — нежные и
враждебные — стремятся проявиться во время потери его как печаль
и удовлетворение, Между этими двумя
противоположностями должен возникнуть конфликт и, так как одно из
борющихся чувств — враждебность (полностью или в большей
части) — остается бессознательным, то исход конфликта не
может состоять в вычленении обоих чувств одного из
другого и в сознательном предпочтении чувства, оказавшегося в
избытке. Это бывает, например, если прощаешь любимому
человеку причиненное им огорчение. Процесс изживается
благодаря особому психическому механизму, который в
психоанализе обыкновенно называют проекцией. Враждебность,
636
Тотем и табу
о которой ничего не знаешь и впредь не хочешь знать,
переносится из внутреннего восприятия во внешний мир и при
этом отнимается от самого себя и приписывается другим. Не
мы, оставшиеся в живых, радуемся тому, что избавились от
покойника; нет, мы оплакиваем его, но он теперь странным
образом превратился в злого демона, который испытывал бы
удовлетворение от нашего несчастья и старается принести
нам смерть. Оставшиеся в живых должны теперь
защищаться от злого врага; они свободны от внутреннего гнета, но
заменили его угрозой извне.
Нельзя отрицать, что этот процесс проекции,
превращающий покойников в злых врагов, находит поддержку в
действительной враждебности, которая осталась о них в
памяти и за которую их действительно можно упрекнуть. Мы
имеем в виду их жестокость, властолюбие, несправедливость
и все другое, что составляет подоплеку самых нежных
отношений между людьми. Но дело обстоит не так просто,
чтобы одним этим моментом объяснить создание демонов
путем проекции. Вина умерших составляет, несомненно,
часть мотивов, объясняющих враждебность оставшихся в
живых, но она не имела бы такого действия, если бы не
повлекла за собой этой враждебности, и момент смерти,
несомненно, был бы весьма неподходящим поводом к тому,
чтобы вспомнить все упреки, которые с основанием можно
было бы сделать покойникам. Мы не можем отказаться от
бессознательной враждебности как от постоянно
действующего мотива. Это враждебное душевное движение к самым
близким, дорогим родственникам при их жизни не
проявлялось, то есть не открывалось сознанию ни
непосредственно, ни посредством какого-нибудь заменяющего его
проявления. Но это стало уже больше невозможным с момента
смерти одновременно любимых и ненавистных лиц:
конфликт обострился. Печаль, имеющая своим источником
повышенную нежность, проявляет, с одной стороны,
нетерпимость к скрытой враждебности, а с другой стороны, она не
может допустить, чтобы эта враждебность привела к чувству
Удовлетворения. Таким образом, дело доходит до
вытеснения бессознательной враждебности путем проекции и
образования церемониала, в котором находит выражение страх
637
Зигмунд ФРЕЙД
наказания со стороны демонов, а по истечении срока траура
конфликт теряет остроту и табу этих умерших ослабляется
или придается забвению.
-4-
Выяснив таким образом почву, на которой выросло
чрезвычайно поучительное табу покойников, мы воспользуемся
случаем, чтобы сделать несколько замечаний, не лишенных
значения для понимания табу вообще.
Проекция бессознательной враждебности при табу
покойников представляет собой только один пример из целого
ряда процессов, которым приходится приписать
громаднейшее влияние на весь склад душевной жизни примитивного
человека. В рассматриваемом случае проекция служит
разрешению конфликта чувств; такое же применение она
находит при многих психических ситуациях, ведущих к неврозу.
Но проекция не создана для отражения душевных
переживаний, она имеет место и там, где нет конфликтов. Проекция
внутренних восприятий вовне является примитивным
механизмом, которому подчинены, например, восприятия наших
чувств, который, следовательно, при нормальных условиях
принимает самое большое участие в образовании нашего
внешнего мира. При еще не вполне выясненных условиях и
внутреннее восприятие аффективных и мыслительных
процессов проецируется, подобно восприятиям чувств, вовне,
создает картину внешнего мира, хотя должно было бы
оставаться в пределах внутреннего мира. Генетически это может
быть связано с тем, что функция внимания первоначально
обращена не на внутренний мир, а на раздражения,
исходящие из внешнего мира, и из эндопсихических процессов
воспринимаются только такие, которые сообщают о развитии
наслаждения и неудовольствия (Lust-Unlust). Только с
развитием абстрактного мышления благодаря соединению
чувственных остатков словесных представлений с внутренними
процессами эти последние сами становились постепенно
доступными внутреннему восприятию. До того примитивные
люди посредством проекции внутренних восприятий вовне
638
Тотем и табу
создали картину внешнего мира, которую мы теперь с
окрепшим восприятием сознания должны обратно перевести на
язык психологии.
Проекция на демонов собственных душевных движений
составляет только часть системы, ставшей
«миросозерцанием» примитивных народов; в следующей статье этого цикла
мы познакомимся с ним как с анимистическим. Нам
придется установить психологические признаки подобной системы
и найти точки опоры в анализе тех систем, которые
представляют нам опять-таки неврозы. Пока мы скажем только,
что так называемая вторичная переработка содержания
сновидений представляет собой образец для всех этих систем.
Не следует также забывать, что начиная со стадии
образования системы каждый акт, являющийся объектом суждения
сознания, имеет двоякое происхождение — систематическое
и реальное, но бессознательное1.
Вундт замечает, что «между влияниями,
приписываемыми повсюду мифом демонам, сначала преобладают вредные,
так что вера народов в злых демонов, очевидно, древнее, чем
в добрых»2. Вполне возможно, что понятие о демоне вообще
возникло из имеющих такое большое значение отношений
к мертвецам. Присущая этим отношениям амбивалентность
проявилась в дальнейшем течении человеческого развития в
том, что послужила началом для двух совершенно
противоположных образований из одного и того же корня: с одной
стороны — боязни демонов и привидений, а с другой —
почитания предков3. Ничто не доказывает лучше, что под
демонами всегда подразумеваются духи недавно умерших, как
влияние траура на возникновение веры в демонов. Траур
должен разрешить вполне определенную психическую
задачу: он должен убить у оставшихся в живых воспоминание
1 Творения проекции примитивных народов родственны олицетворениям,
при помощи которых поэт рисует борющиеся в нем противоположные
влечения как отдельных индивидов.
2 См.: Мифы и религия. Ч. II.
3 В психоанализе невротических лиц, страдавших в детстве страхом
привидений, часто нетрудно разоблачить, что за этими привидениями скрываются
родители. По этому поводу ср. также сообщение P. Haeberlin, озаглавленное
«Scxualgcspenstcr» (Scxualproblcmc. 1912. Febr.), в котором речь идет о другом
окрашенном в эротическое чувство лице, причем отец уже умер.
639
Зигмунд ФРЕЙД
о покойниках и связанные с ними ожидания. Когда эта
работа совершена, боль успокаивается, а вместе с нею и
раскаяние и упрек, а потому также и страх перед демонами. Но
те же духи, которые сначала внушали страх как демоны,
приближаются к более дружелюбному назначению — становятся
объектом обожания в качестве предков, к которым
обращаются с просьбой о помощи.
Если рассмотреть, как менялось с течением времени
отношение у оставшихся в живых к покойникам, то станет
совершенно ясно, что амбивалентность этого отношения
чрезвычайно ослабела. Теперь легко удается подавить
бессознательную, все еще обнаруживаемую враждебность к покойникам,
не нуждаясь для этого в особом душевном напряжении. Там,
где прежде боролись друг с другом удовлетворенная
ненависть и причиняющая страдание нежность, возникает, как
рубец, пиетет и требует: de mortuis nil nisi bene1. Только
невротики омрачают печаль по поводу смерти дорогого лица
припадками навязчивых упреков, раскрывающих в психоанализе
их тайну старой амбивалентной констелляции чувств. Каким
путем происходит это изменение, насколько причины его
разделяются между конституциональными изменениями и
реальным улучшением семейных отношений, об этом мы сейчас
говорить не будем. Но этот пример мог бы вызвать
предположение, что в душевных движениях примитивных народов
приходится вообще допустить большую степень
амбивалентности, чем ту, какую можно найти у современного
культурного человека. По мере уменьшения этой амбивалентности
постепенно исчезает также табу, являющееся компромиссным
симптомом амбивалентного конфликта. Относительно
невротиков, которые вынуждены воспроизводить эту борьбу и
вытекающее из нее табу, мы сказали бы, что они родились с
архаической конституцией в виде атавистического остатка,
компенсация которого в пользу требования культуры
вынуждает их делать такие невероятные душевные усилия.
Тут нам припоминаются сообщенные Вундтом
сбивчивые в своей неясности данные о двояком значении слова
«табу»: святой и нечистый. Первоначально слово «табу» еще
О мертвых ничего, кроме хорошего (лат.).
640
Тотем и табу
не имело значения святого и нечистого, а обозначало только
демоническое, до чего нельзя дотрагиваться, и таким
образом подчеркивало важный, общий обоим противоположным
понятиям признак; однако эта сохранившаяся общность
показывает, что между двумя областями освященного и
нечистого первоначально имелось сходство, уступившее позже
место дифференциации.
В противоположность этому из наших рассуждений
следует, что слову «табу» с самого начала присуще упомянутое
двойственное значение, что оно служит для обозначения
определенной амбивалентности и всего того, что выросло на
почве этой амбивалентности. «Табу» — само по себе
амбивалентное слово, и затем уже, как мы считаем, из
установленного смысла слова можно было бы понять то, что явилось в
результате предварительного исследования, а именно что
запрет табу есть результат амбивалентности чувств. Изучение
древнейших языков показало, что когда-то было много таких
слов, обозначавших противоположности в известном — если
не совсем в одном и том же смысле, — то есть они были
амбивалентны, как и слово «табу»1. Незначительные
звуковые изменения внутренне противоречивого по смыслу
первоначального слова послужили позже к тому, чтобы придать
обеим объединенным в нем противоположностям различное
словесное выражение.
Слово «табу» постигла другая судьба: по мере
уменьшения важности обозначаемой им амбивалентности исчезло из
сокровищницы языка оно само или аналогичные ему
слова. В дальнейшем изложении, надеюсь, мне удастся доказать
вероятность того, что за судьбой этого понятия скрывается
чувствительная историческая перемена, что сначала это
слово было связано с вполне определенными человеческими
отношениями, которым была свойственна большая
амбивалентность чувств, и что от этих отношений оно
распространилось на другие аналогичные отношения.
Если мы не ошибаемся, то понимание табу проливает
свет на природу и возникновение совести. Не расширяя
понятия, можно говорить о совести табу и о сознании вины за
Ср. мой реферат о работе О. Абеля (австрийский палеонтолог. — Ред.).
21-3518
641
Зигмунд ФРЕЙД
нарушение табу. Совесть табу представляет собой, вероятно,
самую древнюю форму, в которой мы встречаемся с
феноменом табу.
Ибо что такое «совесть»? Как показывает само название,
совесть составляет то, что лучше всего известно1, в
некоторых языках обозначение совести едва отличается от
обозначения сознания.
Совесть представляет собой внутреннее восприятие
недопустимости известных имеющихся у нас желаний; но
ударение ставится на том, что эта недопустимость не нуждается
ни в каких доказательствах, что она сама по себе несомненна.
Еще яснее это становится при сознании вины, восприятии
внутреннего осуждения таких актов, в которых мы
осуществили известные желания. Обоснование кажется тут лишним;
всякий имеющий совесть должен почувствовать
справедливость осуждения, упрек за совершенный поступок. Такие же
точно признаки характеризуют отношения дикарей к табу;
табу есть веление совести, нарушение его влечет за собой
ужасное чувство вины, в такой же мере непонятное, как и
неизвестное по своему происхождению2.
Итак, и совесть также, вероятно, возникает на почве
амбивалентности чувств из вполне определенных человеческих
отношений, с которыми связана эта амбивалентность, и при
условиях, имеющих значение для табу и для невроза
навязчивости, а именно: один член внутренне противоречивой
пары бессознателен и поддерживается в вытесненном
состоянии благодаря насильственному господству другого. С
таким выводом согласуется многое из того, что мы узнали из
анализа неврозов. Во-первых, в характере невротиков,
страдающих навязчивостью, нередко проявляется черта
преувеличенной совестливости как симптом реакции против
притаившегося в бессознательном искушении, и при усилении
заболевания от нее развивается высшая степень чувства ви-
1 Немецкое «Gewissen* (совесть) происходит от слова «wissen» (знать),
а русское «совесть» — от «ведать».
2 Интересна параллель, что сознание вины табу не уменьшается, если
нарушение его совершено но неведению. И в греческом мифе с Эдипа не
снимается вина из-за того, что преступление совершено им против воли и по
неведению.
642
Тотем и табу
ны. Действительно, можно утверждать, что если мы не
сумеем открыть при неврозе навязчивости чувства вины, то у
нас вообще нет надежды когда-либо ее узнать. Разрешение
этой задачи удается у отдельного невротического индивида;
в отношении же народов мы позволяем себе заключить, что
эта задача допускает такое же решение.
Во-вторых, мы должны обратить внимание на то, что
чувству вины присуще многое из природы страха; без всяких
опасений это можно описать как «совестливый страх», а
страх указывает на бессознательные источники, из
психологии неврозов нам известно, что, если желания подвергаются
вытеснению, их либидо превращается в страх. По этому
поводу напомним, что и при чувстве вины кое-что остается
неизвестным и бессознательным, а именно — мотивы
осуждения. Этому неизвестному соответствует признак страха
в чувстве вины.
Если табу выражается преимущественно в запрещениях,
то простое соображение подсказывает нам мысль, что само
собой понятно (и нет никакой надобности в обширных
доказательствах из аналогии с неврозами), что в основе его
лежит положительное, чего-то желающее душевное
движение. Ибо не приходится запрещать того, чего никто не хочет
делать, во всяком случае то, что категорически запрещается,
должно быть предметом вожделения. Если это вполне
понятное положение применить к примитивным народам, то
мы должны будем сделать вывод, что величайшее
искушение для них составляет желание убивать своих королей и
священников, совершать кровосмесительства, терзать
умерших и т. п. Это едва ли вероятно; но самое решительное
возражение мы вызовем, применив то же положение к случаям,
в которых мы, по нашему собственному мнению, яснее всего
слышим голос совести, с непоколебимой уверенностью
можем мы в таких случаях утверждать, что не испытываем ни
малейшего искушения нарушить какое-либо из этих
запрещений (например, заповедь «не убий») и что нарушение их
вызывает в нас только чувство омерзения.
Если придать этому свидетельству нашей совести
значение, на которое оно имеет право, то, с одной стороны,
запрещение становится излишним — как табу, так и запреще-
643
Зигмунд ФРЕЙД
ние нашей морали, а с другой стороны, факт существования
совести остается необъясненным, а зависимость между табу
и неврозами отпадает. Таким образом, восстанавливается
состояние нашего понимания, существующее и в настоящее
время до применения психоаналитического освещения этой
проблемы.
Если же мы принимаем во внимание установленные
психоанализом — на сновидениях здоровых людей — факты, что
искушение убить другого и у нас сильнее и встречается чаще,
чем мы подозревали, и что оно оказывает психическое
влияние и тогда, когда не отражается в нашем сознании; если
мы, далее, откроем в навязчивых предписаниях
определенных невротиков меры предосторожности и наказания самого
себя против усиленного импульса убивать, то выдвинутое
раньше положение: за запрещением должно скрываться
желание — приобретет в наших глазах особенную ценность. Мы
должны будем допустить, что это желание убивать
фактически существует в бессознательном и что табу, как и
запрещения морали психологически, безусловно, не излишни, а
объясняются и оправдываются амбивалентной направленностью
импульса убивать.
Один признак этого амбивалентного отношения мы
особенно подчеркиваем как фундаментальный, а именно то, что
положительное, желающее душевное движение
бессознательно открывает надежду на существование новых связей
и возможности объяснения. Психические процессы в
бессознательном не совсем тождественны с процессами,
известными нам в нашей сознательной душевной жизни, а
пользуются некоторой замечательной свободой, которой лишены
последние. Бессознательный импульс необязательно
возникает непременно там, где мы находим его проявление. Он
может исходить из совсем другого источника, относиться
первоначально к другим лицам и объектам и благодаря
механизму сдвига (Verschiebung) появиться там, где мы
обращаем на него внимание. Далее, благодаря тому что
бессознательные процессы с очень раннего времени, когда они
законны, не разрушаются и не поддаются исправлению, они
могут перенестись в более поздние времена и отношения,
при которых их проявления должны казаться странными.
644
Тотем и табу
Все это только намеки, но детальное их развитие показало
бы их значение для понимания культурной эволюции.
В заключение этой работы позволим себе сделать
замечание, которое может послужить для дальнейших
исследований. Если мы и придерживаемся взгляда, что, по
существу, запрещения табу и запрещения морали одинаковы, то все
же не станем спорить, что между ними имеется
психологическое различие. Только изменение в отношениях, лежащих
в основе обеих амбивалентностей, может быть причиной
того, что запрещение не существует более в форме табу.
До сих пор при аналитическом исследовании феноменов
табу мы руководствовались доказанным их сходством с
неврозом навязчивости; но табу ведь не невроз, а социальное
явление, поэтому на нас лежит обязанность указать на
принципиальное отличие невроза от такого явления развития
культуры, как табу.
В качестве исходной точки можно привести только один
факт. Примитивные народы боятся наказания за нарушение
табу, главным образом тяжелого заболевания или смерти.
Это наказание угрожает тому, кто провинился в таком
нарушении. При неврозе навязчивости дело обстоит иначе.
Если больной принужден совершить нечто запрещенное ему,
то он боится наказания не за самого себя, а за другое лицо,
большей частью остающееся неопределенным, но при
анализе в этом лице легко узнать самого близкого больному и
самого любимого человека. Невротик ведет себя при этом
альтруистически, а примитивный человек — эгоистически.
Только тогда, когда нарушение табу само по себе осталось
безнаказанным для преступника, — только тогда просыпается у
дикарей коллективное чувство, что это преступление грозит
всем, и они спешат сами осуществить непоследовавшее
наказание. Нам нетрудно объяснить механизм этой
солидарности. Здесь выступает страх перед заразительным примером,
перед искушением подражания, то есть перед способностью
табу к заразе. Если кому-нибудь удалось удовлетворить
вытесненное желание, то у всех других членов общества
должно появиться такое же желание; чтобы одолеть это
искушение, тот, кому завидуют, должен быть лишен результатов
своей дерзости. И нередко осуществляющим наказание да-
645
Зигмунд ФРИЙД
ется возможность совершить со своей стороны тот же
греховный поступок, только под видом исправления вины.
В этом состоит одно из основных положений человеческого
уложения о наказаниях, и оно исходит из безусловно
верного предположения, что сходные запрещенные душевные
движения имеются как у преступника, так и у мстящего
общества.
Психоанализ подтверждает то, что обыкновенно говорят
благочестивые люди: все мы большие грешники. Как же
объяснить неожиданное благородство невроза, не боящегося за
себя, а только переживающего за любимого человека?
Аналитическое исследование показывает, что это благородство
непервично. В начале заболевания угроза наказанием
относилась к самому себе; в каждом случае опасались за
собственную жизнь; лишь позже страх смерти перенесся на другое
любимое лицо. Процесс в некотором отношении сложный,
но вполне понятный. В основе запрещения всегда лежит
злобное душевное движение — желание смерти — по
отношению к любимому человеку. Это желание вытесняется
благодаря запрещению, которое связывается с определенным
действием, заменяющим путем сдвига враждебное действие
против любимого лица, а за совершение этого действия
грозит наказание смертью. Но процесс идет дальше, и
первоначальное желание смерти любимого человека заменяется
страхом его смерти. Когда невроз оказывается, таким образом,
нежно альтруистическим, то он только компенсирует
лежащую в его основе противоположную направленность
жестокого эгоизма. Если мы назовем душевные движения, которые
определяются тем, что принимают во внимание другое лицо,
но не избирают его сексуальным объектом, социальными, то
в этом ослаблении социальных факторов мы можем видеть
основную черту невроза, скрытую за сверхкомпенсацией.
Не останавливаясь на развитии этих социальных
душевных движений и их отношений к другим основным
влияниям человека, постараемся на другом примере выяснить
второй главный признак невроза. По формам своего проявления
табу имеет самое большое сходство со страхом
прикосновения невротиков, с délire de toucher. Но при этом неврозе
всегда имеет место запрещение сексуального прикосновения,
646
Тотем и табу
а психоанализ вообще показал, что влечения, которые при
неврозе отклоняются от своей первичной цели и
переносятся на другие, имеют сексуальное происхождение. При табу
запретное прикосновение имеет, очевидно, не только
сексуальное значение, а скорее более общее значение нападения,
овладения, подчеркивания значительности собственной
личности. Если запрещено прикасаться к вождю или к чему бы
то ни было, что связано с ним, то этим сдерживается тот же
самый импульс, проявляющийся в другой раз в
недоверчивом надзоре за вождем, даже в телесном избиении его перед
коронованием (см. выше). Таким образом, преобладание
сексуальных влечений над социальными составляет характерный
момент невроза. Но и сами социальные влечения развились
в особые комплексы благодаря слиянию эгоистических и
эротических мотивов.
На одном примере сравнения табу с неврозом
навязчивости уже можно видеть, каково отношение отдельных форм
невроза к формам культурного развития и почему изучение
психологии неврозов важно для понимания развития культуры.
Неврозы, с одной стороны, показывают яркое и глубокое
сходство с большими социальными произведениями
искусства, религии и философии, а с другой стороны, они производят
впечатление искажения последних. С некоторой смелостью
можно утверждать, что истерия представляет собой
карикатуру на произведение искусства, невроз навязчивости —
карикатуру на религию, параноический бред — на карикатурное
искажение философской системы. Данное отклонение в
конечном результате объясняется тем, что неврозы — это
асоциальные образования; они питаются средствами индивида и
совершают то, что в обществе развилось благодаря
коллективной работе. Анализ влечений неврозов показывает, что
здесь решающее влияние имеют влечения сексуального
происхождения, между тем как соответствующие образования
культуры зиждутся на социальных влечениях, то есть таких,
которые произошли от слияния эгоистических и эротических
компонентов. Сексуальная потребность не в состоянии таким
же образом объединять людей, как требования, вытекающие
из самосохранения; сексуальное удовлетворение есть прежде
всего частное дело индивида.
647
Зигмунд ФРЕЙД
Генетически асоциальная природа невроза вытекает из его
первоначального устремления — от неудовлетворенной
реальности к более приятному миру фантазии. В реальном
мире, которого невротик избегает, господствует общество людей
и созданные ими институты; уход от реальности является
одновременно и выходом из человеческого сообщества.
III
Анимизм, магия и всемогущество мысли
-1-
Неизбежным недостатком работ, стремящихся
применить к темам наук о духе психоаналитическую точку зрения,
является то, что они дают читателю слишком мало и того и
другого. Поэтому они должны ограничиться тем, что носят
характер стимулов, делая предложения специалисту, с тем
чтобы он принимал их во внимание в своей работе. Этот
недостаток дает себя почувствовать в статье, трактующей
о необъятной области того, что называется анимизмом1.
Анимизмом в узком смысле слова называется учение о
представлениях о душе, в широком смысле — о духовных
существах вообще. Различают еще аниматизм, учение об
одушевленности природы, кажущейся нам неодушевленною, и
сюда же присоединяют анимализм и манизм. Название
«анимизм», применявшееся прежде к определенной философской
системе, получило, по-видимому, свое настоящее значение
благодаря Э.- Б. Тай лору2.
Повод к предложению этого названия дало знакомство с
крайне замечательным пониманием явлений природы и ми-
1 Вынужденная сжатость материала заставляет отказаться также и от
подробного указателя литературы. Вместо этого ограничусь указанием на
известные произведения Герберта Спенсера, Джеймса Джорджа Фрэзера, Эндрю Лан-
га, Эдуарда Бсрнетта Тайлора, Вильгельма Вундта, у которых взяты все
положения анимизма и магии. Самостоятельность автора может проявиться только
в сделанном им выборе тем и пзглядов.
2 См.: TylorE.-B. Primitive Culture. Part I. 1903. (Тайлор Э.-Б. Первобытная
культура).
648
Тотем и табу
ра известных нам примитивных народов, как исторических,
так и живущих теперь. Они населяют мир огромным
количеством духов, благосклонных к ним или же
недоброжелательных; этим духам и демонам они приписывают причину
явлений природы и полагают, что они одушевляют не
только животных и растения, но и все неодушевленные
предметы мира. Третья и, может быть, самая важная часть этой
примитивной «натурфилософии» кажется нам гораздо
менее странной, потому что мы сами еще не очень далеко ушли
от нее, между тем как существование духов мы очень
ограничили и явления природы теперь объясняем гипотезой
безличных физических сил. Примитивные народы верят также
в подобное одушевление и отдельного человека. Каждый
человек имеет душу, которая может оставить свое обиталище
и переселиться в других людей. Эти души являются
носителями душевной деятельности и до известной степени
независимы от «тел». Первоначально существовало
представление, что души очень похожи на индивидов, и только в
течение длительного развития они освободились от
материальных признаков, достигнув высокой степени
«одухотворенности» \
Большинство авторов склонны допустить, что эти
представления о душе составляют первоначальное ядро
анимистической системы, что духи соответствуют только душам,
ставшим самостоятельными, и что души животных,
растений и предметов аналогичны человеческим.
Каким же образом примитивные люди дошли до этого
странного основного дуалистического миросозерцания, на
котором зиждется данная анимистическая система?
Полагают, что этот дуализм выработался под влиянием феноменов
сна (и сновидений) и столь похожей на него смерти и
благодаря стремлению объяснить себе эти столь интересующие
каждого состояния; вероятно, прежде всего проблема смерти
стала исходным пунктом для образования этой теории. Для
примитивного человека продолжение жизни — бессмертие —
является чем-то само собой разумеющимся. Представление
1 Wundt W. Mythus und Religion. 1906. Bd. II. S. IV (Byitdm В. Мифы и
Религия).
649
Зигмунд ФРЕЙД
о смерти возникает позже и очень постепенно, оно и для нас
является чем-то бессодержательным и невоплотимым. О том,
насколько другие наблюдения и опыт участвовали в
образовании основных анимистических учений, как, например,
сновидения, тени, зеркальные отражения и т.п., шли очень
оживленные дискуссии, не приведшие, однако, к
определенному заключению1.
Если примитивный человек реагировал на феномены,
возбуждающие его мысли, созданием представления о душе
и перенес его на объекты внешнего мира, то такое поведение
считается совершенно естественным и нисколько не
загадочным. Принимая во внимание факт, что одинаковые
анимистические представления появлялись у самых различных
народов и в разные времена, Вундт полагает, что эти
представления «являются необходимым психологическим продуктом
мифотворческого сознания, и примитивный анимизм может
считаться духовным выражением естественного состояния
человека, поскольку оно вообще доступно наблюдению»2.
Оправдание оживления неодушевленного дано уже Hume
в его «Natural History of religion» («Истории религии»), где
он пишет: «Всеобщей тенденцией человеческого рода
является стремление понимать всякое существо как себе
подобное и переносить на каждый объект такие качества, с
которыми он сам хорошо знаком и что он знает лучше всего»3.
Анимизм — это философская система, не только
объясняющая отдельный феномен, но и дающая возможность
понять весь мир как единую совокупность, исходя из одной
точки зрения. Если соглашаться с авторами, то человечество
создало три таких философских системы, три великих
миросозерцания: анимистическое, религиозное и научное. Из них
первым явилось анимистическое, может быть самое
последовательное и исчерпывающее, полностью, без остатка
объясняющее сущность мира. Это первое миросозерцание
человечества представляет собой психологическую теорию. В наши
1 Ср. В. Вундта и Г. Спенсера с ориентирующей статьей в энциклопедии
«Британника»: -«Анимизм, мифология» и т.п. (1911).
2 Wundt W. Mythus und Religion. S. 154.
3 См. но: Tylor E.-B. Primitive Culture. Part I. P. 477.
650
Тотем и табу
намерения не входит показать, сколько из этого
миросозерцания сохранилось в современной жизни, или в
обесцененном виде в форме суеверия, или в жизненном как основа
нашего языка, веры и философии.
Указывая на эти три последовательно развившиеся
системы миросозерцания, говорят, что сам анимизм еще не
религия, но содержит предпосылки, из которых строится
религия. Вполне очевидно также, что миф основан на
анимистических предположениях; подробности взаимоотношений
между мифом и анимизмом кажутся, однако, в
существенных моментах еще не выясненными.
-2-
Наша психоаналитическая работа начинается с другого
момента. Невозможно предположить, что люди дошли до
создания своей первой мировой системы из чисто
спекулятивной любознательности. Практическая необходимость
овладеть миром должна была принимать участие в этих
стараниях. Мы не удивляемся поэтому, когда узнаем, что рука об
руку с анимистической системой идет еще что-то другое, —
указание, как поступать, чтобы получить власть над
людьми, животными, предметами или их душами. Это указание,
известное под именем «колдовства и магии», С. Рейнах1
называет стратегией анимизма; я предпочел бы с Hubert'oM
и Mauss'oM сравнить их с техникой2 анимизма.
Можно ли различать понятия «колдовство» и «магия»?
Это оказывается возможным, и если допустить некоторую
вольность в языке, то «колдовство», по существу, означает
искусство влиять на духов, обращаясь с ними так, как при
таких же условиях поступают с людьми, то есть успокаивая
их, примиряя, проявляя готовность запугать, лишая их
могущества, подчиняя их своей воле теми же средствами,
которые оказались эффективными по отношению к живым
1 См.: Cultes, Mythes et Religions. 1909. P. II. Introduction (Рейнах С.
Культы, мифы и религия. Введение).
2 Année Sociologique. 1904. Bd. VII («Социологический ежегодник»).
651
Зигмунд ФРЕЙД
людям. Но магия — нечто другое; она в своей сущности
игнорирует духов и пользуется особыми средствами, а не
банальными психологическими методами. Нетрудно понять,
что магия является первоначальной и более значительной
частью анимистической техники, потому что среди средств,
с помощью которых нужно обращаться с духами, имеются
также и магические1. И магия находит себе применение и в
тех случаях, когда, как нам кажется, одухотворение природы
не существует.
Магия должна служить самым разнообразным целям:
подчинить явления природы воле человека, защитить индивида
от врагов и опасностей и дать ему силу вредить врагам.
Принцип же, из которого исходит магическое действие — или,
вернее, принцип магии,— до того очевиден, что признается всеми
авторами. Короче всего его можно выразить, если не
считаться с прилагаемой оценкой, словами Э.-Б. Тайлора: ошибочное
выдвигание идеального перед реальным. На двух группах
магических действий мы выясним, каков этот принцип.
Одна из самых распространенных магических процедур,
имеющих целью навредить врагу, состоит в том, чтобы из
какого угодно материала сделать соответствующее его
изображение. Сходство при этом большого значения не имеет,
можно также какой-нибудь объект «назвать» его портретом.
То, что делают в таких случаях с этим портретом,
происходит также и с ненавистным его оригиналом; у последнего
заболевает то самое место на теле, куда наносят рану
портрету. Ту же самую магическую технику можно использовать не
только для удовлетворения личной вражды, но и в целях
благочестия и таким образом прийти на помощь богам
против злых демонов. Цитирую по Фрэзеру2: «Каждую ночь,
когда бог солнца Ра (в Древнем Египте) спускался к себе
домой в пылающем небе заката, ему приходилось
выдерживать жестокий бой с сонмом демонов, нападавших на него
под предводительством его заклятого врага Анени. Всю ночь
1 Если криком и шумом прогоняют какого-нибудь духа, то это воздействие
посредством чистого колдовства; если его подчиняют, завладев его именем, то
против него пущена в ход магия.
2 FrazerJ.-D. The magic Art... Part II. P. 98 (Фрэзер Д.-Д. Искусство
магии...).
652
Тотем и табу
напролет он боролся с ними, и часто силы тьмы были
достаточны для того, чтобы еще и днем посылать на голубое небо
темные тучи, ослаблявшие его силу и умалявшие его свет.
Чтобы прийти на помощь богу, в храме его в Фивах
совершалась ежедневно следующая церемония: из воска делали
изображение его врага Анени в образе отвратительного
крокодила или длинной змеи и на нем зелеными чернилами
писали имя демона. Завернув это изображение в оболочку
из папируса, на которой делали такой же рисунок, эту
фигуру окутывали черными волосами; священник плевал на нее,
полосовал каменным ножом и бросал на землю. Затем он
наступал на фигуру левой ногой и наконец сжигал ее в
пламени, где горели определенные растения. После того как
таким образом уничтожали Анени, то же самое
проделывали со всеми демонами его свиты. Это богослужение, при
котором произносили определенные молитвы, повторялось не
только утром, днем и вечером, но и в любое время в
промежутках, когда бушевала буря, когда был проливной дождь или
черные тучи закрывали солнечный диск в небесах. Злые
враги чувствовали истязание, которое совершалось над их
изображениями, как будто они сами страдали от них; они
обращались в бегство, и бог солнца несомненно торжествовал» \
Из необозримого количества магических действий,
имеющих такое же основание, я упомяну еще о двух, игравших
всегда большую роль у примитивных народов и отчасти
уцелевших в мифах и в культе на более высокой ступени
развития, а именно о заклинаниях дождя и плодородия.
Магическим путем призывали дождь, имитируя его, а также
подражая облакам или грозе. Это как бы «играли в дождь».
Японские айны, например, делают дождь таким образом, что
часть из них льет воду из больших сит, а другая часть
снаряжает большую миску парусами и веслами, как будто бы
это судно, и волокут ее вокруг деревни и садов. Плодородие
почвы обеспечивали себе магическим путем, демонстрируя
1 Библейское запрещение делать себе изображение какого-нибудь живого
существа, вероятно, возникло не вследствие принципиального отрицания
изобразительного искусства, а имело целью лиишть орудия магию, осуждаемую
еврейской религией (см.: Фрэзер Д.-Д. Искусство магии...).
653
Зшмупд ФРЕЙД
половой акт людей. Так, в некоторых частях Явы — привожу
один пример из бесконечного количества, — когда
приближается время цветения риса, крестьянин и крестьянка
отправляются ночью в поля, чтобы побудить рис к плодородию
примером, который они ему подают1. А запрещенные инцес-
туозные половые отношения вызывали, наоборот, опасения,
что вырастут сорные травы или будет неурожай2.
Известные отрицательные магические предписания
также можно присоединить к этой группе. Если часть жителей
деревни даяков отправляется на охоту за кабанами, то
оставшиеся не смеют прикасаться руками ни к маслу, ни к
воде, потому что в противном случае у охотников пальцы
станут мягкими и добыча ускользнет из их рук. Или, если
охотник-гиляк преследует в лесу дичь, то его детям,
находящимся дома, запрещено делать чертежи на дереве или на
песке. В противном случае следы в густом лесу могут так
же спутаться, как линии рисунка, и таким образом охотник
не найдет дороги домой3.
Если в последних примерах магического действия, как и
во многих других, расстояние не играет никакой роли и
телепатия принимается как нечто само собой понятное, то и
для нас не составит никакой трудности понять особенности
этой магии.
Не подлежит никакому сомнению, что именно
считается действительным во всех этих примерах. Это — сходство
между совершенным действием и ожидаемым
происшествием. Фрэзер называет этого рода магию имитативной или
гомеопатической. Если мне хочется, чтобы шел дождь, то
мне стоит только сделать что-нибудь такое, что похоже на
дождь или напоминает дождь. В последующей фазе
культурного развития вместо магического колдования о дожде
устраиваются молебственные шествия к божьему храму, где
умоляют пребывающего там святого о дожде. Наконец,
отказываются от этой религиозной техники и стараются
вызвать дождь каким-нибудь воздействием на атмосферу.
1 См.: FrazerJ.-D. The magic Art... Part II.
2 Отзвуки этого имеются в «Царе Эдипе» Софокла.
3 Примеры приводятся по: FrazerJ.-D. The magic Art... Part II.
654
Тотем и табу
В другой группе магических действий принцип сходства
уже не принимается во внимание, но взамен его
применяется иной, который станет понятным из следующих примеров.
Чтобы навредить врагу, можно прибегнуть еще к такому
приему. Нужно заполучить его волосы, ногти, отбросы или
даже части его одежды и над этими вещами проделать что-
нибудь враждебное. В таких случаях это то же самое, как
если бы овладели самим человеком. Все, что проделали над
принадлежащими ему вещами, должно случиться с ним
самим. Существенную часть личности, по взглядам
примитивных народов, составляет ее имя; если, следовательно,
известно имя лица или духа, то приобретаешь некоторую власть
над тем, кто носит это имя. Отсюда замечательные
предписания и ограничения в употреблении имен, о которых
упоминалось в статье о табу. Сходство в этих примерах
заменяется, очевидно, принадлежностью к одному и тому же —
субъекту.
Каннибализм примитивных народов имеет своей высшей
мотивировкой нечто подобное. Вбирая в себя части тела
какого-нибудь человека посредством акта пожирания,
усваивают себе также и свойства, которые у него имелись. Отсюда —
предосторожности и ограничения в диете при
исключительных условиях. Женщина во время беременности должна
избегать есть мясо определенных животных, потому что таким
образом могут перейти к вынашиваемому ею ребенку
нежелательные свойства, например трусость. Для магического
действия не имеет никакого значения даже то
обстоятельство, что связь уже прервана или что она вообще состояла
только из однократного прикосновения. Так, например,
можно проследить неизмененной на протяжении тысячелетий
веру в магическую связь, существующую между раной и
оружием, которым она была нанесена. Если меланезийцу
удается овладеть луком, которым он был ранен, то он постарается
тщательно спрятать его в прохладном месте, чтобы таким
образом предупредить воспаление раны. Если же лук остался
в руках врагов, то его непременно повесят как можно ближе
к огню, чтобы рана как следует воспламенилась и горела.
Плиний советует тому, кто раскаивается в ранении другого,
плюнуть на руку, причинившую ранение. Этим немедленно
655
Зигмунд ФРЕЙД
облегчится боль раненого. Фрэнсис Бэкон ссылается в своей
«Л Natural History...» («Естественной истории...») на
общераспространенную веру, что смазывание оружия,
причинившего рану, излечивает самую рану. Английские крестьяне
еще и теперь действуют по этому рецепту и, порезавшись
серпом, тщательно сохраняют этот инструмент в чистоте,
чтобы рана не загноилась. В июне 1902 года, как сообщала
местная английская газета, женщина из Норвика случайно
напоролась пяткой на железный гвоздь. Не дав исследовать
раны и даже не снявши чулка, она велела дочери хорошо
смазать гвоздь маслом в ожидании, что тогда с ней ничего
плохого не случится. Несколько дней спустя она умерла от
столбняка, вследствие того что перенесла такую антисептику
на ненадлежащее место.
Примеры последней группы поясняют, что Фрэзер
называет контагиозной магией в отличие от имитативной.
Предполагается, что при ней действует уже не сходство, а связь
в пространстве, соприкосновение, хотя бы даже воображаемое,
воспоминание о том, что оно имело место. Но так как
сходство и соприкосновение составляют два существенных
принципа ассоциативных процессов, то объяснение всего
безумства магических предписаний, как оказывается,
действительно заключается во власти ассоциации идей. Отсюда ясно, как
верна цитированная выше характеристика магии, данная
Тайлором: ошибочное доминирование идеального над
реальным. Или, как это почти в тех же словах выразил Фрэзер,
люди ошибаются, принимая ряд своих идей за ряд явлений
природы, и отсюда воображают, что власть, которая у них
имеется или, как им кажется, у них есть над их мыслями,
позволяет им чувствовать и проявлять соответствующую
власть над вещами.
Сначала покажется странным, что это понятное
объяснение магии отвергается некоторыми авторами1 как
неудовлетворительное. Но, подумав как следует, приходится
согласиться с возражением, что ассоциативная теория магии
объясняет только пути, которыми идет магия, а не
действительную ее сущность и именно не то недоразумение, благо-
1 См., напр., энциклопедию «Британника», изд. 2-е (1911).
656
Тотем и табу
даря которому она заменяет естественные законы
психологическими. Ясно, что здесь недостает динамического
момента, но, в то время как поиски этого момента вводят в
заблуждение критиков учения Фрэзера, оказывается нетрудно
дать удовлетворительное объяснение магии, если только
развить и углубить его ассоциативную теорию.
Рассмотрим сначала более простой и вместе с тем
значительный случай имитативной магии. По Фрэзеру, она может
применяться одна сама по себе, между тем как контагиозная
магия обыкновенно предполагает обычно и имитативную.
Мотивы, заставляющие прибегать к магии, — это желания
человека. Нам стоит только допустить, что у примитивного
человека имеется громадное доверие к могуществу его
желаний. В сущности, все, что он творит магическим путем,
должно произойти только потому, что он этого хочет. Таким
образом, первоначально подчеркивается только желание.
Относительно ребенка, находящегося при аналогичных
психических условиях, но еще неспособного к моторным
действиям, мы уже высказали предположение, что он
сначала удовлетворяет свои желания галлюцинаторно,
воссоздавая удовлетворяющую ситуацию благодаря центрофугаль-
ным возбуждениям органов своих чувств. Для взрослого
примитивного человека открывается другой путь. С его
желанием связан моторный импульс — воля, и этой волей,
которой предстоит преобразить поверхность земли для
удовлетворения желания, пользуются для того, чтобы изобразить
удовлетворение так, чтобы можно было его пережить, как
бы посредством моторной галлюцинации. Такое
изображение удовлетворенного желания вполне сходно с игрой детей,
которая заменяет у них чисто сенсорную технику
удовлетворения. Если игра и имитативное изображение
достаточны для ребенка и примитивного человека, то это является
не признаком скромности в нашем понимании или
самоотречения вследствие сознания реальной беспомощности, а
вполне естественным следствием переоценки желания,
зависящим от последнего, воли и выбранных им путей. Со
временем психический акцент переносится с мотивов
магических действий на их средства и на самые действия. Быть
может, правильнее сказать, что посредством этого становит-
657
Зигмунд ФРЕЙД
ся очевидной переоценка его собственных желаний.
Кажется, что именно магическое действие благодаря своему
сходству с желанием приводит к его исполнению. На ступени
анимистического образа мыслей еще нет возможности
объективно доказать истинное положение вещей, но,
несомненно, такая возможность появляется на более поздних
ступенях, когда еще совершаются все подобные процедуры, но
уже становится возможным психический феномен сомнения
как выражение склонности к вытеснению. Тогда люди
соглашаются с тем, что заклинание духов ни к чему не
приводит, если в этом не принимает участия вера, и что
чародейственная сила молитвы оказывается бессильной, если
она не диктуется набожностью1.
Возможность контагиозной магии, основанной на
ассоциациях по смежности, показывает нам, что психическая
оценка с желания и с воли распространяется на все
психические акты, какие имеются в распоряжении воли. Создается
общая переоценка душевных процессов, то есть такое
отношение к миру, которое нам при нашем понимании
взаимоотношения между реальностью и мышлением должно
казаться такой переоценкой. Предметы отступают на задний план
в сравнении с представлениями о них, то, что совершается
над последними, должно сбыться и с первыми. Отношения,
существующие между представлениями, предполагаются
также и между предметами.
Так как мышление легко объединяет в один акт сознания
пространственно наиболее отдаленное и по времени
наиболее различное, то и магический мир телепатически легко
одолевает пространственные расстояния и относится как к
современному к тому, что когда-то имело связь. В
анимистическую эпоху отражение внутреннего мира закрывает
настоящий мир, который, как нам кажется, мы познаем.
Впрочем, подчеркнем еще, что оба принципа
ассоциации — сходство и смежность — совпадают в более общем
единстве прикосновения. Ассоциации по смежности
представляют собой прикосновение в прямом смысле, а ассоциации
1 Король в «Гамлете» (III, 4): «Мои слова взлетают, мысли же остаются
внизу; слова без мыслей никогда не дойдут до неба».
658
Тотем и табу
по сходству — в переносном. Еще не понятое нами тождество
психического процесса находит себе выражение в
употреблении того же слова для обоих видов связи. Тот же объем
понятия прикосновения наметился при анализе табу.
Резюмируя, мы можем сказать: принцип, господствующий
в магии в технике анимистического образа мыслей, состоит
во «всемогуществе мыслей».
-з-
Название «всемогущество мыслей» я позаимствовал у
высокоинтеллигентного, страдающего навязчивыми
представлениями больного, который, выздоровев благодаря
психоаналитическому лечению, получил возможность доказать свои
способности и свой ум. Он избрал это слово для обозначения
всех тех странных и жутких процессов, которые мучили его,
как и всех страдающих такой же болезнью. Стоило ему
подумать о ком-нибудь, как он встречал уже это лицо, как
будто бы вызвал его заклинанием; стоило ему внезапно
справиться о том, как поживает какой-нибудь знакомый,
которого он давно не видал, как ему приходилось услышать, что
тот умер, так что у него являлось предположение, что
покойник дал о себе знать путем телепатии; стоило ему произнести
даже не совсем всерьез проклятие по адресу какого-нибудь
постороннего лица, как у него появлялись опасения, что тот
вскоре после этого умрет и на него падет ответственность
за эту смерть. Время лечения он сам был в состоянии мне
рассказать, каким образом возникала в большинстве этих
случаев обманчивая видимость и все, что он привносил в
действительность, чтобы укрепиться в своих суеверных
предположениях1. Все больные, страдающие навязчивостью,
отличаются такого же рода суеверием, несмотря на понимание
его нелепости.
1 Представляется вероятным, что мы признаем «жуткими» такие
впечатления, которые вообще подтверждают всемогущество мыслей и
анимистический образ мыслей, в то время как в нашем сознательном суждении мы от этого
отошли.
659
Зигмунд ФРЕЙД
Всемогущество мыслей яснее всего проявляется при
неврозе навязчивости; результаты этого примитивного образа
мыслей здесь ближе всего сознанию. Но мы не должны
видеть в этом исключительный признак именно этого невроза,
так как аналитическое исследование открывает то же самое
и при других неврозах. При всех их решающим для
образования симптома является реальность не переживания, а
мышления. Невротики живут в особом мире, в котором, как
я это сформулировал в другом месте, имеет значение только
«невротическая оценка», то есть на них оказывает действие
только то, что составляет предмет интенсивной мысли и
аффективного представления, а сходство с внешней
реальностью становится чем-то второстепенным. Истерик повторяет
в своих припадках и фиксирует в симптомах переживания,
имевшие место только в его фантазии, хотя в конечном
счете эти фантазии сводятся к реальным событиям или
построены на них. Точно так же и чувство вины невротиков нельзя
было бы понять, если бы его стали объяснять реальными
преступлениями. Невротика, страдающего навязчивостью,
может мучить сознание вины, какое было бы под стать
убийце-рецидивисту, при этом он с самого детства может
относиться к окружающим его людям с величайшей
внимательностью и осторожностью. И тем не менее его чувство вины
имеет основание, ибо у него появляются по отношению к
его ближним интенсивные и частые желания их смерти. Оно
имеет основание, поскольку принимаются во внимание
бессознательные желания, а не преднамеренные поступки. Таким
образом, всемогущество мыслей, слишком высокая оценка
душевных процессов в сравнении с реальностью, как
оказывается, имеет неограниченное влияние в аффективной
жизни невротика и во всех вытекающих из нее последствиях.
Если же подвергнуть его психоаналитическому лечению,
вводящему в его сознание бессознательное в нем, то он
откажется верить, что мысли свободны, и будет всякий раз
опасаться высказывать злостные желания, как будто бы от
произнесения их они должны сбыться. Но таким
поведением, как и проявляемым в жизни суеверием, он нам
показывает, как он близок к дикарю, старающемуся одними только
мыслями изменить внешний мир.
660
Тотем и табу
Первичные навязчивые мысли таких невротиков по
природе своей, в сущности, носят магический характер. Если
они не представляют собой колдовства, то —
противодействие колдовству с целью предупредить возможную беду, с
которого обыкновенно начинается невроз. Всякий раз, как
мне удавалось проникнуть в тайну, оказывалось, что это
ожидаемое несчастье — смерть. Проблема смерти,
согласно Шопенгауэру, стоит на пороге всякой философии; мы
слышали, что образование представлений о душе и веры в
демонов, которыми отличается анимизм, объясняется
впечатлением, какое производит на человека смерть. Трудно
судить, насколько эти первые навязчивые или
предохранительные действия развиваются по принципу сходства или
контраста, потому что при неврозе они обыкновенно
благодаря сдвигу искажаются до чего-то крайне малого, до
весьма незначительного действия1. И защитные формулы
навязчивости имеют свою параллель в формулах колдовства,
магии. Историю развития навязчивых действий можно,
однако, описать, подчеркну, что они начинаются по
возможности дальше от сексуального, как колдовство против злых
желаний, и принимают окончательную форму в виде
замены запрещенного сексуального действия, которому они
возможно точно подражают.
Соглашаясь с упомянутой выше историей человеческих
миросозерцании, в которой анимистическая фаза сменяется
религиозной, a последняя научной, нам не трудно будет
проследить судьбу «всемогущества мыслей» во всех этих фазах.
В анимистической стадии человек сам себе приписывает это
могущество, в религиозной он уступил его богам, но не
окончательно отказался от него, потому что сохранил за собой
возможность управлять богами по своему желанию
разнообразными способами воздействия. В научном миросозерцании
нет больше места для могущества человека, он сознался в
своей слабости и в самоотречении подчинился смерти, как
и всем другим естественным необходимостям. В доверии к
могуществу человеческого духа, считающегося с законами
1 Причина этого сдвига на самое незначительное действие выяснится в
последующем изложении.
661
Зиглщпд ФРЯЙД
действительности, еще жива некоторая часть примитивной
веры в это всемогущество.
При ретроспективном исследовании либидинозных
стремлений в отдельном человеке, начиная с их форм в зрелом
возрасте до первых их зачатков в детстве, выяснилось весьма
важное различие, которое я изложил в «Трех статьях по
сексуальной теории» (1905). Проявление сексуальных влечений
можно наблюдать с самого начала, но сперва они не
направляются на внешний объект. Компоненты сексуальности
стремятся каждый в отдельности к наслаждению и находят
удовлетворение на собственном теле. Эта стадия называется
стадией аутоэротизма и сменяется стадией выбора объекта.
При дальнейшем исследовании оказалось
целесообразным и даже необходимым между этими двумя стадиями
ввести еще третью или, если угодно, разложить первую
стадию аутоэротизма на две. В этой промежуточной стадии,
значение которой все больше выясняется при исследовании,
отдельные сначала сексуальные влечения уже слились в одно
целое и нашли объект, но этот объект не внешний, чуждый
индивиду, а собственное, сконструировавшееся к тому
времени «я». Принимая во внимание патологические фиксации
этого состояния, мы называем эту новую стадию стадией
нарциссизма. Человек ведет себя так, как будто бы он влюблен
в самого себя; влечения «я» и либидинозные желания еще
нельзя отделить нашим анализом друг от друга.
Хотя мы еще не имеем возможности дать вполне точную
характеристику этой нарцистической стадии, в которой
диссоциированные до того сексуальные влечения сливаются в
одно целое и сосредоточиваются на «я» как на объекте, мы
все же уже начинаем понимать, что нарцистическая стадия
никогда не исчезает полностью. В известной степени человек
остается нарцистичным даже после того, как нашел внешний
объект для своего либидо; найденный им объект
представляет собой как бы эманацию оставшегося при «я» либидо,
и возможно обратное возвращение к последнему. Столь
замечательное в психологическом отношении состояние
влюбленности, нормальный прообраз психозов, соответствует
высшему состоянию этих эманации в сравнении с уровнем
любви к «я».
662
Тотем и табу
Логично установить связь нарциссизма с обнаруженной
нами у примитивных людей и невротиков высокой оценкой
психических актов, которая является, с нашей точки
зрения, чрезмерной оценкой, и рассматривать ее как
существенную его часть. Мы сказали бы, что у примитивного человека
мышление еще в высокой степени сексуализировано, а
отсюда и вера во всемогущество мыслей, непоколебимая
уверенность в возможность властвовать над миром и непонимание
легко устанавливаемых фактов, показывающих человеку его
настоящее положение в мире. У невротиков сохранилась, с
одной стороны, значительная часть этой примитивной
неправильности в их конституции, с другой стороны, благодаря
происшедшему у них сексуальному вытеснению вновь
произошла сексуализация мыслительных процессов.
Психические следствия должны быть в обоих случаях одни и те же,
как при первоначальном, так и при регрессивном
сосредоточении либидинозной энергии на мышлении:
интеллектуальный нарциссизм, всемогущество мыслей1.
Если во всемогуществе мыслей мы увидели
доказательство нарциссизма у примитивных народов, то попробуем
решиться на смелую попытку провести параллель между
ступенями развития человеческого миросозерцания и стадиями
либидинозного развития отдельного индивида.
Анимистическая фаза соответствует в таком случае нарциссизму,
религиозная фаза — ступени любви к объекту,
характеризуемой привязанностью к родителям, а научная фаза
составляет полную параллель тому состоянию зрелости индивида,
когда он отказался от принципа наслаждения и ищет свой
объект во внешнем мире, приспосабливаясь к реальности2.
В одной только области всемогущество мысли
сохранилось в нашей культуре — в области искусства. Только в ис-
1 В этом смысле для писателей, высказывавшихся об этом предмете,
является аксиомой, что известного рода солипсизм, или бсрклсйаиизм (как его
называет Sully, открывший его у ребенка), действующий у дикаря, не позволяет
ему признать реальность смерти. Marett R. Prc-animistic Religion, Folklore. L,
1909. Bd. IX. P. 178 (Маре Р. Прсанимистичсская религия, фольклор).
2 Отметим только, что первоначальный нарциссизм ребенка имеет
решающее значение для понимания развития его характера и исключает допущение
У него примитивного чувства малоцсиности.
663
Зигмунд ФРЕЙД
кусстве еще бывает, что томимый желаниями человек
создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра —
благодаря художественной иллюзии — будит аффекты, как
будто бы она представляет собой нечто реальное. Справедливо
говорят об этих чертах искусства и сравнивают художника
с чародеем, но это сравнение, быть может, имеет большее
значение, чем то, которое ему приписывают. Искусство,
несомненно, не началось, как l'art pour l'art (искусство для
искусства), первоначально оно служило тенденциям, в
настоящее время большей частью уже заглохшим. Между
ними можно допустить и некоторые магические цели1.
-4-
Первое сложившееся у человека миросозерцание,
анимистическое, было, следовательно, психологическим. Оно еще не
нуждалось в научном обосновании, потому что наука
начинается только тогда, когда люди убедились, что не знают
мира и потому должны искать путей, чтобы познать его.
Анимизм же был для примитивного человека самым
естественным и само собой разумеющимся миросозерцанием; он
знал положение вещей в мире, а именно что оно таково, как
чувствует себя сам человек. Мы, следовательно, готовы к
тому, чтобы признать, что примитивный человек перенес во
внешний мир структурные условия собственной души2, а с
другой стороны, попытаемся перенести на человеческую
душу то, чему учит анимизм о природе вещей.
1 Reinach S. L'art et la magic, по: Cultes, Mythes et Religions. Bd. I. P. 125—
136 (Peutiax С. Искусство и магия, сб.: «Культы, мифы и религии»). Рейнах
полагает, что примитивные художники, оставившие нам начерченные или
нарисованные изображения животных в пещерах Франции, хотели не
«нравиться», а «заклинать». Этим он объясняет то обстоятельство, что эти рисунки
находятся в самых темных и недоступных местах пещер и что на них нет
изображений страшных хищных зверей. «Современные люди часто говорят,
преувеличивая, о магии кисти или резца великого художника и вообще о магии
искусства. В прямом смысле слова, означающем мистическое воздействие,
оказываемое волей одного человека на волю других людей или на предметы, это
выражение недопустимо; по мы видели, что когда-то оно было дословно
верным, по крайней мере по мнению самих художников» (Р. 136).
2 Познанной благодаря так называемому эндопсихическому восприятию.
664
Тотем и табу
Техника анимизма, магия, яснее всего и без всяких
околичностей показывает нам намерения навязать реальным
вещам законы душевной жизни, причем духи еще не играют
никакой роли, между тем как и сами духи становятся
объектами магического воздействия. Магия, составляющая ядро
анимизма, первичней и старше, чем учение о духах. Наш
психоаналитический взгляд совпадает здесь с учением R.-R. Ма-
rett'a, который предпосылает анимизму преангшистическую
стадию, характер которой лучше всего обозначается
названием «аниматизм» (учение о всеобщем одухотворении).
Немного можно прибавить о преанимизме из наблюдения, так как
еще до сих пор не известен ни один народ, у которого не было
бы представления о духах1.
В то время как магия сохранила еще полностью
всемогущество мысли, анимизм уступил часть этого
всемогущества духам и этим проложил путь к образованию религий. Что
побудило примитивного человека проявить это первое
ограничение? Едва ли сознание неправильности его
предпосылок, потому что он сохраняет магическую технику.
Духи и демоны, как указано в другом месте,
представляют собой не что иное, как проекцию его чувств2; объекты
привязанностей своих аффектов он превращает в лиц,
населяет ими мир и снова находит вне себя свои внутренние
душевные процессы, совершенно так же, как это делал
остроумный параноик Шребер3, который находил отражение
своих привязанностей и освобождение своего либидо в
судьбах скомбинированных им «божественных лучей».
Здесь, как и в предыдущем случае, мы не станем
останавливаться на вопросе о том, откуда вообще берется
склонность проецировать вовне душевные процессы. Но на одно
предположение мы можем решиться, а именно что эта
склонность усиливается там, где проекция дает преимущества ду-
1 Marett R.-R. Pre-ammistic Religion, Folklore. Bd. 2 (Маре Р. Прсанимис-
тичсская религия, фольклор).
2 Мы допускаем, что в этой ранней нарцистической стадии еще
безраздельно соединены проявления психической энергии в отношении объектов из
либидинозных и других источников возбуждения.
3 Случай описан 3. Фрейдом в «Психоаналитическом ежегоднике» за
1911 год.-Рва.
665
Зигмунд ФРЕЙД
шевного облегчения. Такое преимущество с полной
определенностью можно ждать там, где различные стремящиеся к
всемогуществу душевные движения вступают друг с другом
в конфликт; вполне очевидно, что не все они могут достичь
всемогущества. Болезненный процесс паранойи фактически
пользуется механизмом проекции, чтобы освободиться от
подобных конфликтов, разыгравшихся в душевной жизни.
Пример такого состояния — конфликт между двумя членами
пары противоположностей, случай амбивалентной
направленности, который мы подробно проанализировали при
рассмотрении положения оплакивающего смерть любимого
родственника. Подобный случай кажется нам особенно
подходящим для того, чтобы мотивировать создание образований
проекции. Согласимся на мнении авторов, которые считают
злых духов первородными среди духов вообще и
приписывают возникновение представления о душе впечатлению,
произведенному смертью на оставшихся в живых. Мы только
тем от них отличаемся, что не выдвигаем на первый план
интеллектуальной проблемы, которую смерть ставит перед
оставшимися в живых, а перемещаем силу, побуждающую к
размышлениям, в область конфликта чувств, в который
оставшиеся в живых попадают благодаря своему положению.
Первое теоретическое произведение человека — создание
духов — возникло из того же источника, что и первые
нравственные ограничения, которым он подчиняется, из
предписаний табу. Но одинаковое происхождение не предрешает
одновременности возникновения. Если действительно
положение оставшегося в живых по отношению к покойнику
впервые заставило задуматься примитивного человека,
заставило его отказаться от части своего могущества в пользу духов
и принести в жертву часть своей свободы, то эти культурные
творения являются первым признанием 'Ашукт) (рока,
судьбы), противящейся человеческому нарциссизму.
Примитивный человек склонился перед всемогуществом смерти с тем
же жестом, с каким он как бы отрицал ее.
Если у нас хватит мужества использовать наши
предположения, то мы можем спросить, какая существенная часть
нашей психологической структуры находит отражение и
возрождение в создании путем проекции духов и душ. Трудно
666
Тотем и табу
оспаривать, что примитивное представление о душе, как ни
далеко оно от более поздней нематериальной души, все же в
существенном с ней совпадает, то есть оно рассматривает
лицо или вещь как нечто дуалистическое, между обеими
составными частями которого распределены известные
свойства и изменения целого. Этот первоначальный дуализм, по
выражению Спенсера1, уже идентичен с дуализмом, который
проявляется в обычном для нас разделении на дух и тело и
неоспоримое словесное выражение которого мы встречаем,
например, в описании человека, находящегося в обморочном
или буйном состоянии: он вне себя.
То, что мы так же, как примитивный человек,
совершенствуем проекцию во внешнюю реальность, не может быть
ничем другим, как осознанием состояния, при котором
предмет воспринимается и чувством, и сознанием, существует,
а наряду с этим сознанием имеется еще другое, в котором
предмет находится в латентном состоянии, но может снова
появиться. Другими словами, во внешнюю реальность
проецируются одновременные существования восприятия и
воспоминания или, говоря более общо, существования
бессознательных душевных процессов наряду с сознательными.
Можно было бы сказать, что «дух» лица или предмета сводится
в итоге к способности их быть объектом воспоминания или
представления тогда, когда они недоступны восприятию.
Разумеется, не приходится надеяться, что как
примитивное, так и современное представление о душе сохранит ту же
демаркационную линию, которую наша современная наука
проводит между сознательной и бессознательной душевной
деятельностью. Анимистическая душа соединяет в себе и те
и другие свойства. Ее призрачность и подвижность,
способность оставлять тело и завладевать временно или навсегда
другим телом — все это признаки, несомненно
напоминающие сущность сознания. Но способ, каким она скрывается за
проявлением личности, напоминает бессознательное.
Неизменчивость и неразрушимость мы приписываем теперь не
сознательным, а бессознательным процессам, и их мы
считаем настоящими признаками душевной деятельности.
В I томе «Принципов социологии».
667
Зигмунд ФРЕЙД
Мы уже отмечали, что анимизм представляет собой
систему мышления, первую цельную теорию мира, и теперь
попробуем сделать некоторые заключения из
психоаналитического понимания такой системы. Каждодневный опыт
подтверждает нам главные особенности системы. Ночью мы
видим сны, а днем научились их толковать. Сон может, не
отрицая своей природы, казаться бессвязным, но он может,
напротив, подражать порядку пережитых впечатлений,
выводить одно событие из другого и часть своего содержания
поставить в связь с другой частью. Это как будто ему
удается в большей или меньшей степени, но почти никогда не
настолько хорошо, чтобы не проявилась абсурдность,
разрыв в общем сплетении. Если мы будем сновидение
толковать, то узнаем, что непостоянное и неравномерное
распределение частей сновидения также довольно безразлично для
его понимания. Самым существенным в сновидении
являются его определенный смысл, связь и порядок, но порядок
совсем другой, чем тот, который мы запомнили в явном
содержании сновидения. Связь мыслей сновидения нарушена
и может вообще совсем исчезнуть, или ее может заменить
новая связь в его содержании. Почти всегда, кроме сгущения
элементов сновидения, имеет место их перераспределение,
более или менее независимое от их прежнего порядка.
Иными словами, то, что получилось из материала мыслей
сновидения благодаря работе последнего, подверглось новому
воздействию, так называемой вторичной переработке, цель
которой — так переработать бессвязное и непонятное,
получившееся в результате работы сновидения, чтобы добиться
нового «смысла». Этот новый, достигнутый вторичной
переработкой смысл не есть уже смысл мыслей сновидения.
Вторичная переработка продукта работы сновидений
представляет собой прекрасный пример сущности и целей
системы. Наш интеллект требует единства связи во всяком
материале восприятия и мышления, которым он овладевает,
и не останавливается перед тем, чтобы создать неправильную
связь, если вследствие особых обстоятельств не может
понять правильной. Такое образование системы известно нам
не только в сновидениях, но и в фобиях, навязчивых мыслях
и при некоторых формах бреда. При бредовых заболеваниях
668
Тотем и табу
(паранойя) больше всего бросается в глаза образование
системы, она преобладает во всей картине болезни, но ее нельзя
не замечать и в других формах невропсихозов. Во всех
случаях мы можем тогда доказать, что произошло
перераспределение психического материала соответственно новой цели;
часто это перераспределение довольно насильственно, хотя
как будто и понятно с точки зрения системы. Лучшим
признаком образования такой системы является то, что любой
ее результат допускает по меньшей мере две мотивировки:
одну, исходящую из предпосылок системы, то есть,
возможно, и бредовую, и другую, скрытую, которую мы должны
признать как собственно действительную, реальную.
Для пояснения приведу пример из области невроза: в
статье о табу я упомянул об одной больной, навязчивые запреты
которой имели большое сходство с табу маори. Невроз этой
женщины направлен на ее мужа, вершину невроза составляет
отрицание бессознательного желания смерти мужу. Ее явная
систематическая фобия относится, однако, вообще к
упоминанию о смерти, причем муж совершенно исключается и
никогда не бывает предметом сознательной озабоченности.
Однажды она слышит, как муж дает поручение, чтобы отнесли
наточить его притупившуюся бритву в определенную лавку.
Побуждаемая странным беспокойством, она сама
отправляется в эту лавку и по возвращении требует от мужа, чтобы
он навсегда оставил эту бритву, так как она узнала, что
рядом с названной им лавкой находится склад гробов,
траурных принадлежностей и т.п. Благодаря упомянутому
намерению его бритва вступила в неразрывную связь с ее мыслью
о смерти. Такова симптоматическая мотивировка
запрещения. Можно быть уверенным, что, и не открыв такого
соседства, больная все равно вернулась бы домой с запрещением
употреблять бритву, потому что для этого было бы вполне
достаточно, чтобы она на пути в лавку встретила катафалк,
какого-нибудь человека в траурной одежде или женщину с
погребальным венком. Сеть условий была достаточно
широко раскинута, чтобы в любом случае поймать добычу; от нее
зависело, притянуть ли эту добычу или нет. Без сомнения,
можно было бы установить, что в других ситуациях она не
Давала хода условиям запрещения. В таком случае говорили,
669
Зигмунд ФРЕЙД
что сегодня «хороший» день. Настоящей причиной
запрещения пользоваться бритвой, как можно легко угадать, было,
разумеется, ее противодействие окрашенному в приятное
чувство представлению, что ее муж может перерезать себе
горло отточенной бритвой.
Точно таким же образом совершенствуется и развивается
в деталях задержка в хождении — абазия и агорафобия
(боязнь открытого пространства), если этому симптому удалось
развиться и стать заместителем какого-нибудь
бессознательного желания и одновременно отрицанием его. Все
бессознательные фантазии и активные воспоминания, еще
имеющиеся у больного, бросаются в этот открывшийся выход, чтобы
получить симптоматическое выражение, и укладываются в
соответствующей перегруппировке в случае абазии. Все
старания понять симптоматику и детали агорафобии, исходя из
ее основных предпосылок, были бы напрасны и, в сущности,
нелепы. Вся последовательность и строгость связей только
кажущаяся. Более глубокое наблюдение, как и при изучении
«фасада» сновидения, может открыть в образовании
симптомов поразительную непоследовательность и произвол. Свои
реальные мотивы детали такой фобии заимствуют у скрытых
детерминантов, которые могут не иметь ничего общего с
задержками в хождении, а потому формирование такой фобии
у разных лиц может быть так различно и противоречиво.
Возвращаясь к интересующей нас системе анимизма, мы
на основании наших взглядов на другие психологические
системы приходим к выводу, что объяснение отдельного
обычая или предписания у примитивных народов
«суеверием» не должно быть единственной и настоящей
мотивировкой и, следовательно, освобождает нас от обязанности искать
скрытых его мотивов. При господстве анимистической
системы не может быть иначе, как только так, чтобы всякое
предписание и всякое действие имело систематическое
основание, называемое нами «суеверным». «Суеверие», как и
«страх», как и «сновидение», представляет собой одно из тех
временных понятий, которые не устояли перед напором
психоаналитического исследования. Если раскрыть то, что
скрывается за этими прикрывающими, как ширмы,
действительное значение конструкциями, то окажется, что до сих пор
670
Тотем и табу
душевная жизнь и культурный уровень дикарей оценивались
ниже, чем они того заслуживают.
Если рассматривать вытеснение влечений как мерило
достигнутого культурного уровня, то приходится согласиться,
что и в период господства анимистической системы имели
место успехи и прогресс, которые совершенно несправедливо
недооценивают из-за их суеверной мотивировки. Когда мы
слышим, что воины дикого племени возлагают на себя обет
величайшего целомудрия и чистоты, отправляясь в военный поход1,
то у нас напрашивается объяснение, что они удаляют
ненужное, чтобы враг не овладел этой частью их личности с целью
навредить им магическим путем, а по поводу их воздержания
нам следует допустить аналогичную суеверную мотивировку.
Тем не менее факт отказа от удовлетворения влечения
несомненен, и он становится нам понятнее, если мы допустим, что
воин дикого племени возлагает на себя такие ограничения,
потому что намерен позволить себе в полной мере обычно
запрещенное удовлетворение жестоких и враждебных душевных
движений. То же относится и к многочисленным случаям
сексуальных ограничений на время тяжелых и ответственных работ2.
Пусть для объяснения этих запрещений ссылаются на
магические зависимости, все же совершенно очевидным
остается основное представление, что, отказываясь от
удовлетворения влечений, можно приобрести большую силу, и нельзя
пренебречь гигиенической причиной запрещения помимо
магической рационализации его. Если мужчины дикого
племени отправляются на охоту, рыбную ловлю, на войну, на сбор
ценных растений, то оставшиеся дома женщины
подчиняются многочисленным угнетающим ограничениям, которым
самими дикарями приписывается действующее на расстоянии
симпатическое влияние на успех экспедиции. Но не много
нужно догадливости, чтобы понять, что этим действующим
на расстоянии моментом являются мысли о доме, тоска
отсутствующих и что за этой маской скрывается верный
психологический взгляд, что мужчины только тогда проявят
максимум своего умения, если будут вполне спокойны за
1 См.: FrazerJ.-D. Taboo and the perils of the Soul. P. 158.
2 Ibid. P. 200.
671
Зигмунд ФРЕЙД
участь оставшихся без надзора жен. В других случаях так
прямо, без всякой магической мотивировки, и заявляется,
что супружеская неверность жен повлечет за собой неудачу
в ответственной деятельности отсутствующего мужа.
Бесчисленные предписания табу, которым подчиняются
женщины дикарей во время менструации, мотивируются
суеверным страхом крови и, вероятно, действительно этим
объясняются. Но было бы ошибкой не учитывать, что в данном
случае этот страх крови служит также эстетическим и
гигиеническим целям, которые должны всегда драпироваться
в магическую мотивировку.
Возможно, подобными объяснениями мы рискуем вызвать
упрек, что приписываем современным дикарям утонченность
душевной жизни, далеко превосходящую вероятность.
Однако я думаю, что с психологией этих народов, оставшихся на
анимистической ступени, дело может обстоять так же, как с
душевной жизнью ребенка, которую мы, взрослые, уже не
понимаем и богатство и утонченность которой поэтому так
недооцениваем.
Я хочу напомнить еще об одной группе не исследованных
до сих пор предписаний табу, потому что они допускают
хорошо знакомое психоаналитику объяснение. У многих
диких народов существует запрещение при различных
обстоятельствах иметь в доме острое оружие и режущие
инструменты. Фрэзер указывает на суеверие немцев, что нельзя
класть нож острой стороной вверх. Бог и ангелы могут им
поранить себя. Нельзя ли в этом табу узнать отголосок
известных «симптоматических действий», для выполнения
которых вследствие бессознательных злостных душевных
движений могло бы быть пущено в ход острое оружие?
IV
Инфантильное возвращение тотема
Нечего опасаться, что психоаналитики, впервые
открывшие постоянное многократное детерминирование
психических актов и образований, попытаются утверждать, что нечто
672
Тотем и табу
столь сложное, как религия, имеет только один источник.
Если они по необходимости, собственно говоря, из обязательной
для психоанализа односторонности настаивают на признании
только одного источника этого института, то они не станут
настаивать на исключительности этого источника, как и на
том, что ему принадлежит первое место среди совокупности
действующих причин. Только синтез из различных
исследуемых областей может показать, какое относительное значение
нужно уделить описываемому здесь механизму в
происхождении религий; но такая работа превосходит как средства, так
и намерения психоаналитика.
В первой статье этого цикла мы познакомились с
понятием тотемизма. Мы узнали, что тотемизм представляет
собой систему, заменяющую у некоторых примитивных
народов Австралии, Африки и Америки религию и образующую
основу социальной организации. Мы знаем, что шотландец
Макленнан (1869) привлек всеобщий интерес к феномену
тотемизма, к которому до этого относились как к курьезу, и
высказал предположение, что большое количество обычаев
и нравов в различных древних и современных обществах
нужно воспринимать как остатки тотемической эпохи. С тех
пор науки в полном объеме признали значение тотемизма.
В качестве одного из последних мнений по этому вопросу
процитирую следующее место из «Элементов психологии
народов» Вильгельма Вундта (1912): «Обобщая все это, мы
приходим с большой вероятностью к заключению, что
некогда тотемическая культура везде составляла
предварительную ступень дальнейшего развития и переходную ступень
между состоянием примитивного человека и веком героев
и богов».
Цели предлагаемой статьи побуждают нас глубже
проникнуть в характер тотемизма. По причинам, которые
станут ясны далее, я предпочитаю здесь описание С. Рейнаха,
который в 1900 году сделал набросок следующего «Code du
totémisme» («Кодекса тотемизма») в 12 параграфах,
являющегося как бы катехизисом тотемической религии1:
Опубликовано в 4 выпусках * Revue Scientifique» (1900, октябрь).
22-3518
673
Зигмунд ФРЕЙД
1. Нельзя ни убивать, ни есть определенных животных,
но люди воспитывают отдельных животных этого рода
и ухаживают за ними.
2. Случайно погибшее животное оплакивается и
хоронится с такими же почестями, как соплеменник.
3. Иногда запрещение употреблять в пищу относится
только к определенной части тела животного.
4. Если под давлением необходимости приходится убить
животное, которое обыкновенно нужно щадить, то перед ним
надо извиниться, постараться ослабить нарушение табу
убийства разнообразными искусственными приемами и
оправданиями.
5. Если животное приносится в жертву по ритуалу, то
его торжественно оплакивают.
6. В некоторых торжественных случаях, в религиозных
церемониях, надевают шкуры определенных животных Там,
где тотемизм еще сохранился, это — шкуры животного
тотема.
7. Племена или отдельные лица называются именами
животных, именно животных тотема.
8. Многие племена пользуются изображением
животных как гербом и украшают им свое оружие; мужчины
рисуют изображение тотема на своем теле или татуируют его
изображение на коже.
9. Если тотем принадлежит к страшным или опасным
животным, то предполагается, что оно щадит членов
названного его именем племени.
10. Животное-тотем охраняет и предупреждает об
опасности лиц, принадлежащих к племени.
11. Животное-тотем возвещает своим поклонникам
будущее и является их вождем.
12. Члены племени одного тотема часто верят в то, что
связаны с животным тотема узами общего происхождения.
Этот катехизис тотемической религии можно вполне
оценить, приняв во внимание, что Рейнах внес сюда все
признаки и пережитки, из которых можно заключить о
существовавшей когда-то тотемической системе. Особое отношение
автора к проблеме проявляется в том, что он пренебрег
существенными чертами тотемизма. Мы убедимся, что из двух
674
Тотем и табу
основных положений тотемического катехизиса он
отодвинул один на задний план, а другой пропустил совсем.
Чтобы составить себе ясное представление о характере
тотемизма, обратимся к автору, посвятившему этой теме
четырехтомное сочинение, которое представляет самое полное
собрание наблюдений с самым обстоятельным обсуждением
затронутых проблем. Мы останемся обязанными Д.-Д. Фрэзеру,
автору «Тотемизма и экзогамии» (1910), за сообщенные им
сведения, даже если психоаналитическое исследование
приведет к результатам, далеко расходящимся с его результатами1.
Тотем, писал Фрэзер в своей первой статье2,
представляет собой материальный объект, которому дикарь выражает
суеверное почтение, потому что думает, что между ним са-
1 Может быть, мы поступим правильно, если укажем читателю на
трудности, с которыми приходится бороться при установлении фактов в этой
области.
Прежде всего не одни и тс же лица собирают наблюдения и
обрабатывают и обсуждают их; собирателями являются путешественники и миссионеры,
а обрабатывают этот материал ученые, которые, может быть, никогда и не
видали объектов своего исследования. Понять дикарей нелегко. Не все
наблюдатели понимают их язык, поэтому нередко должны прибегать к помощи
переводчиков или объясняться с расспрашиваемыми на вспомогательном языке —
английском piggin.
Дикари малообщительны, когда речь идет об интимных вопросах их
культуры, и откровенны только с такими чужестранцами, которые прожили
среди них много лет. По различным мотивам (см.: FrazerJ.-D. The beginnings
of religion and totcmism among the Austiahan aborigines, no: Fortnightly Review.
1905 (Фрэзер Д.-Д. Начала религии и тотемизма среди австралийских
аборигенов, по: Двухнедельное обозрение. 1905)) они часто дают ложные или
непонятные сообщения. Нельзя забывать, что примитивные народы — не молодые
народы, а, в сущности, такие же древние, как и цивилизованные, и что нет
никакого основания полагать, что у них сохранились для нас первоначальные
идеи и институты без всякого развития и искажения. Скорее всего, у
примитивных народов произошли глубокие перемены во всех направлениях, так что
никогда нельзя решить без колебания, что в их современных состояниях и
мнениях сохранилось подобно окаменслостям, как первоначальное прошлое, и
что соответствует искажению и изменению его. Отсюда такое множество
разногласий между авторами но вопросу о том, что в особенностях примитивной
культуры надо рассматривать как первичное и что — как более позднее,
вторичное формирование. Выяснение первичного состояния остается, таким
образом, всегда делом конструкции. Нелегко, наконец, вникнуть в образ мыслей
примитивных народов. Мы так же не понимаем их, как и детей, и всегда
склонны истолковать их поступки и переживания соответственно нашим
собственным психическим констелляциям.
2 Totemism. Edinburgh, 1887.
675
Зигмунд ФРЕЙД
мим и каждым такого рода предметом имеется совершенно
особое отношение. Связь между человеком и его тотемом
обоюдная, тотем запугивает человека, и человек доказывает
свое почтение тотему различным образом, например тем, что
не убивает его, если это животное, и не срывает, если это
растение. Тотем отличается от фетиша тем, что никогда не
состоит из единственной вещи, а всегда из целого рода,
обыкновенно какой-нибудь породы животных или растений,
реже — какого-нибудь класса неодушевленных предметов
и еще реже — искусственно сделанных вещей.
Можно различать по крайней мере три вида тотемов:
1. Тотем племени, в почитании которого принимает
участие целое племя и который передается по наследству от
одного поколения к другому.
2. Половой тотем, которому принадлежат все мужчины
или все женщины племени, причем исключаются лица
другого пола.
3. Индивидуальный тотем, присвоенный отдельному
лицу и не переходящий на его потомство.
Оба последних вида тотема по их значению в сравнении
с тотемом племени не приходится принимать во внимание.
Если только мы не ошибаемся, то это позднее образование,
имеющее мало значения для понимания сущности тотема.
Тотем племени (тотем клана) является предметом
обожания группы мужчин и женщин, носящих имя тотема,
считающих себя кровными родственниками, потомками общего
предка, и крепко связанных по отношению друг к другу
общими обязанностями, как и единой верой в своего тотема.
Тотемизм представляет собой как религиозную, так и
социальную систему. С религиозной стороны он выражается в
почитании и заповедности между человеком и его тотемом,
с социальной стороны — в обязательствах членов клана друг
к другу и к другим племенам. В более поздней истории
тотемизма обе эти стороны проявляют склонность разделиться;
социальная система часто переживает религиозную, и,
наоборот, остатки тотемизма остаются в религии таких стран, в
которых уже исчезла основанная на тотемизме социальная
система. При нашем теперешнем знании происхождения
тотемизма мы не можем с уверенностью утверждать, каким об-
676
Тотем и табу
разом были первоначально связаны друг с другом обе его
стороны. Скорее всего, обе стороны тотемизма были
нераздельны. Другими словами, чем дальше мы углубляемся в
прошлое, тем яснее оказывается, что лицо, принадлежащее
к племени, считает себя принадлежащим к тому же роду, что
и его тотем, и его отношение к тотему не отличается от
отношения к товарищу по племени.
В специальном описании тотемизма как религиозной
системы Фрэзер подчеркивает, что члены одного племени
называют себя племенем своего тотема и обыкновенно
также верят, что обязаны ему своим происхождением.
Вследствие этой веры они не охотятся на животное тотема, не
убивают и не едят его и запрещают себе делать из него
какое-нибудь другое употребление, если тотем не животное.
Запрещение убивать тотема не единственное табу; иногда
запрещается дотрагиваться до него, даже взглянуть на него.
Во многих случаях нельзя называть тотема его настоящим
именем. Нарушение этих защищающих тотем заповедей
табу автоматически наказывается тяжелым заболеванием или
смертью.
Экземпляры животного тотема воспитываются иногда
кланом и содержатся в плену1. Найденное мертвым
животное-тотем оплакивают и хоронят как товарища по клану.
Если случалось убить животное-тотем, то это происходило
согласно предписанному ритуалу, состоявшему из
извинений и церемониала искупления.
Племя ждет от своего тотема защиты и милости. Если
это было опасное животное (хищный зверь, ядовитая змея),
то предполагалось, что оно не причинит страдания своему
товарищу, и в тех случаях, когда это предположение не
оправдывалось, поврежденный изгонялся из племени. Клятвы,
полагает Фрэзер, были первоначально судом божьим; много
вопросов о подлинности происхождения предоставлялось,
таким образом, на решение тотема. Тотем помогает в
болезнях, посылает племени знамения и предупреждения.
Появление животного-тотема вблизи какого-нибудь дома часто
1 Как и теперь еще волки в клетке на лестнице в Капитолии в Риме и
медведи в клетке в Берне.
677
Зигмунд ФРЕЙД
считалось возвещением смерти. Тотем пришел, чтобы
забрать своего родственника1.
При различных значительных обстоятельствах член
клана старался подчеркнуть свое родство с тотемом, придавая
себе наружное сходство с ним, надевая на себя шкуру
животного-тотема или татуируя на своем теле его изображение
и т. п. В торжественных случаях рождения, посвящения в
мужчины, похорон это отождествление с тотемом
воплощается в действия и слова. Танцы, при которых все члены
племени одеваются в шкуры своего тотема и подражают его
движениям, служат разнообразным магическим и
религиозным целям. Наконец, бывают церемонии, при которых
животное-тотем торжественно убивают2.
Социальная сторона тотемизма выражается прежде
всего в строго соблюдаемых запрещениях и в многочисленных
ограничениях. Члены клана тотема являются братьями и
сестрами, обязаны один другому помогать и друг друга
защищать. В случае убийства товарища по клану, совершенного
чужим, все племя убийцы отвечает за кровавое
преступление, и клан убитого чувствует себя солидарным в
требовании искупления за пролитую кровь. Узы тотема крепче, чем
семейные; они не совпадают с последними, так как
перенесение тотема обыкновенно происходит путем наследования
по матери, а первоначально наследование по отцу, может
быть, вообще не имело места.
Соответствующие же ограничения табу состоят в
запрещении членам того же клана тотема вступать в брак друг с
другом и вообще иметь половое общение. Это и есть
знаменитая и загадочная, связанная с тотемом экзогамия. Мы
посвятили ей первую статью этого цикла, и поэтому здесь нам
достаточно только указать, что она происходит из
повышенного страха перед инцестом, что при групповых браках она
вполне понятна, как защита против инцеста, и что она
сначала стремится к предупреждению инцеста для младших
поколений и только в дальнейшем развитии становится
препятствием и для старшего поколения.
Как белая женщина в некоторых аристократических родах.
См. далее соображения по поводу жертвоприношения.
678
Тотем и табу
К этому описанию тотемизма у Фрэзера, одному из
самых ранних в литературе по этому предмету, я хочу
прибавить несколько выборок из последних обобщений. В
появившихся в 1912 году «Элементах психологии народов» Вундт
говорит: «Животное-тотем считается предком
соответствующей группы. „Тотем" представляет собой, следовательно, с
одной стороны, название группы, с другой стороны, имя
рода, и в последнем смысле это имя имеет одновременно и
мифологическое значение. Все эти употребления понятия
сливаются друг с другом, и ряд из этих значений может
стушеваться, так что в некоторых случаях тотемы стали только
названием частей племени, между тем как в других случаях
на первом плане стоит представление о происхождении или
даже значение тотема с точки зрения культа... Понятие
тотема оказывается решающим для расчленения племени и его
организации. С этими нормами и с утверждением их в вере
и в чувстве связано то, что первоначально животное-тотем
рассматривалось не только как название для группы членов
племени, но и считалось родоначальником соответствующей
части племени. С этим связано и то, что эти
животные-предки стали предметом культа... Помимо известных церемоний
и церемониальных торжеств этот культ животного
выражается первоначально прежде всего в отношении к животному-
тотему; не только какое-нибудь избранное животное, но и
каждый представитель того же рода становится в
определенном смысле священным, товарищу по тотему запрещается
или разрешается только при известных условиях есть мясо
животного-тотема. Этому соответствует и явление
противоположного характера, имеющее большое значение, когда при
известных условиях происходит своего рода церемониальная
еда мяса тотема...»
«Но самая важная социальная сторона этого тотемическо-
го расчленения состоит в том, что с ней связаны определенные
нормы нравов, регулирующие отношения групп между собой.
Среди этих норм на первом месте — брачные. Таким образом,
это расчленение племени связано с важным явлением,
возникающим впервые в тотемическую эпоху: с экзогамией.
Если мы, игнорируя все, что соответствует более
позднему развитию и упадку, дадим характеристику первоначаль-
679
Зигмунд ФРЕЙД
ного тотемизма, то у нас вырисовываются следующие
существенные черты: сначала тотемами были только животные,
они считались предками отдельных племен. Тотем
передавался по наследству только по женской линии; запрещалось
убивать или есть тотем, что для примитивных условий —
одно и то же; товарищам по тотему было запрещено иметь
друг с другом половое общение»1.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в
«Кодексе тотемизма», составленном Рейнахом, совершенно
отсутствует одно из главных табу, экзогамия, между тем как
предпосылка другого табу, происхождение от
животного-тотема, упоминается лишь вскользь. Но я избрал описание
Рейнаха, очень заслуженного в этой области автора, чтобы
подготовить читателя к различию мнений авторов, которым
мы теперь займемся.
Чем неоспоримей становился взгляд, что тотемизм —
непременная фаза культуры всех народов, тем настоятельнее
требовалось понять его, осветить загадки его сущности. Все
загадочно в тотемизме; самыми трудными моментами
являются вопросы о возникновении идеи происхождения от
тотема, мотивировка экзогамии (или заменяющего ее табу
инцеста) и взаимоотношение между обоими элементами, то
есть между организацией тотема и запрещением инцеста.
Толкование должно быть одновременно и историческим и
психологическим, оно должно указать, при каких условиях
1 В соответствии с этим текстом находится вывод о тотемизме, который
Фрэзер делает в своей второй работе на эту тему «The origin of Totcmism» в
«Fortnightly Review», 1899 («Происхождение тотемизма» в «Двухнедельном
обозрении», 1899). Таким образом, тотемизм обычно трактуется как
примитивная система в двух областях — в религии и в социальной жизни. Как система
религиозная, тотемизм охватывает мистический союз дикаря с его тотемом; как
система общественная, он регулирует отношения, в которых стоят мужчина и
женщина, принадлежащие к одному и тому же тотему, и отношения к
представителям других тотемических групп. Соответственно этим двум сторонам
системы имеется два строгих и согласных между собой положения, или канон
тотемизма: первое правило, что человек не смеет убивать или поедать свой
тотем — животное или растение, и второе правило, что он не смеет жениться
или жить с женщиной, принадлежащей к тому же самому тотему. Фрэзер
прибавляет далее то, что вводит нас в сущность спорных вопросов о тотемизме:
связаны ли или совершенно независимы друг от друга эти две стороны
тотемизма — религии и общества, — это вопрос, на который отвечают различно.
680
Тотем и табу
развился этот своеобразный институт и выражением каких
душевных потребностей людей он являлся.
Вероятно, мои читатели будут удивлены, когда узнают,
какие различные точки зрения высказывали исследователи,
пытаясь ответить на эти вопросы, и как расходятся их мнения.
Сомнению подлежит почти все, что можно было бы вообще
утверждать относительно тотемизма и экзогамии; и
вышеупомянутая картина, заимствованная из опубликованного
Фрэзером в 1887 году сочинения, не может быть свободна от упрека,
что она выражает совершенно произвольные предположения
автора и оспаривается в настоящее время самим же Фрэзером,
неоднократно менявшим свои взгляды на предмет1.
Само собой напрашивается предположение, что скорее
всего можно было бы постичь сущность тотемизма и
экзогамии, если бы можно было приблизиться к тому, как
возникли оба института. Но здесь нельзя забывать при оценке
положения вещей замечания Эндрю Ланга, что и
примитивные народы не сохранили нам этих первоначальных форм
институтов и условий их возникновения, что мы
вынуждены удовлетвориться только гипотезами, чтобы ими
восполнить недостаточность наблюдения2.
Среди указанных попыток объяснения тотемизма
некоторые, на взгляд психолога, кажутся не очень
состоятельными. Они слишком рациональны и не принимают во
внимание чувственного характера объясняемых явлений. Другие
исходят из предположений, не подтверждаемых
наблюдением, третьи ссылаются на материал, который лучше
поддается иному объяснению. Опровержение различных взглядов
1 Относительно такой перемены взглядов он написал следующую
прекрасную фразу: «Я не так наивен, чтобы претендовать на то, чтобы дать
окончательные заключения по этому трудноразрешимому вопросу. Много раз я
вынужден был менять мои взгляды, и я готов изменить их снова в согласии с
тем, что дает нам действительность, беспристрастный исследователь должен,
подобно хамелеону, стараться менять свою окраску соответственно
изменяющейся окраске той почвы, по которой он ступает» (см. предисловие к I т.
«Тотемизма и экзогамии», 1910).
2 «По своей сущности вопрос о происхождении тотемизма лежит далеко
за пределами нашего исторического исследования или наблюдения, и нам
приходится довольствоваться при изучении этого вопроса одними
предположениями... Мы нигде не можем увидеть абсолютно примитивного человека и того,
как создается тотемическая система» (см.: Лат Э. Загадка тотема).
681
Зигмунд ФРЕЙД
часто не представляет затруднений; по обыкновению,
авторы оказываются гораздо сильнее, критикуя друг друга, чем
излагая собственные взгляды. Non liquet (неясность)
является результатом большинства рассматриваемых мнений. Не
приходится поэтому удивляться тому, что в новейшей, здесь
большей частью пропущенной литературе предмета
проявляется явное стремление отказаться от общего разрешения
тотемической проблемы как от неосуществимого (например,
в статье Б. Голденвейзера в «Britannica Year Book», 1913).
При изложении этих различных гипотез я позволил себе не
придерживаться последовательности по временам.
а) Происхождение тотемизма
Вопрос о происхождении тотемизма можно
формулировать также следующим образом: как дошли примитивные
люди до того, чтобы давать себе (своим племенам) названия
животных, растений и неодушевленных предметов?1
Шотландец Макленнан, открывший2 для науки тотемизм
и экзогамию, воздержался от высказывания какого бы то
ни было взгляда на происхождение тотемизма. По словам
Э.Ланга, он склонен был некоторое время объяснить
тотемизм обычаем татуировки3. Опубликованные теории
происхождения тотемизма я разбил бы на три группы: а)
номиналистические, ß) социологические, у) психологические.
а) Номиналистические теории
Изложение этих теорий оправдает их объединение под
указанным мною заглавием.
Уже Garcilaso de la Vega, потомок перуанских инков,
написавший в XVII веке историю своего народа, объяснил
известное ему о тотемических феноменах потребностью
племен отличаться именами друг от друга4.
1 Первоначально, вероятно, только животных.
2 См.: Studies in ancient History. 1876; 2nd. 1886 (см.: Очерки древней
истории).
3 Lang A. The Secret of the Totem. 1905. P. 34 (Лат Э. Загадка тотема).
4 Ibidem.
682
Тотем и табу
Та же мысль возникает столетие спустя у этнолога
A.-R. Keane: тотемы произошли из «heraldic badges»
(обозначения гербов), посредством которого семьи и племена
стремились отличаться друг от друга1.
М. Мюллер высказал тот же взгляд на значение тотема.
Тотем представляет собой: 1) обозначение клана, 2) имя
клана, 3) имя предка клана, 4) имя обожаемого кланом
предмета. Позже И. Пиклер писал в 1899-м: люди нуждаются в
постоянном могущем быть письменно зафиксированном имени
для сообществ и индивидов... Таким образом, тотемизм
происходит не из религиозной, а из трезвой, повседневной
потребности человечества. Ядро тотемизма, наименование,
является следствием примитивной техники письма. Характер
тотема соответствует легко изобразимым письменным
знакам. Но раз дикари носили имя животного, то они пришли
к мысли о родстве с этим животным2.
Г. Спенсер также придавал наименованию решающее
значение в происхождении тотемизма. Отдельные индивиды,
говорит он, благодаря своим особенностям требовали того,
чтобы им дали название животных, и таким образом пришли к
почетным названиям или прозвищам, которые перенеслись
на их потомков. Вследствие неясности и неопределенности
примитивных языков эти названия так понимались
позднейшими поколениями, как будто они были доказательством
происхождения от самых этих животных. Таким образом,
тотемизм превратился в непонятное обожание предков.
Точно таким же образом, хотя и не подчеркивая
недоразумения, Lord Avebury (более известный под своим
прежним именем — Джон Лаббок) судит о происхождении
тотемизма: если мы желаем объяснить почитание животных, то
нам не следует забывать, как часто человеческие имена
заимствуются у животных. Дети и потомки человека,
названного медведем или львом, разумеется, делали из этого имени
название племени. Отсюда получалось, что само животное
1 Ibidem.
2 См.: Pikler и Somlo. Происхождение тотемизма. 1901. Свое объяснение
авторы с основанием называют «Материалы к материалистической теории
истории».
683
Зигмунд ФРЕЙД
приобретало известное уважение и наконец становилось
объектом почитания.
Неопровержимое, как нам кажется, возражение против
объяснения тотема наименованием индивидов привел Физо
ссылкой на господствующее у австралийцев положение
вещей. Он показал, что тотем является всегда признаком групп
людей и никогда — одного только человека. Если бы было
иначе и тотем был бы именем одного человека, то при
господстве системы материнского наследования это имя
никогда не могло бы перенестись на его детей.
Впрочем, указанные до сих пор теории явно
несостоятельны. Они еще объясняют факт наименования племен
примитивных народов названием животных, но никоим образом
не значение, которое получило это наименование — тотеми-
ческую систему. Наибольшее внимание из этой группы
заслуживает теория Э. Ланга, изложенная в его книгах «Social
origins», 1903 («Происхождение общества») и «The secret of
the Totem», 1905 («Загадка тотема»). Она все еще
усматривает центр проблемы в наименовании, но выдвигает два
интересных психологических момента и таким образом
претендует на окончательное разрешение загадки тотемизма.
Э. Ланг полагает, что безразлично, каким образом кланы
сначала набрели на название животных. Допустим, что в
один прекрасный день в них проснулось сознание, что они
носят такие имена, но почему — они не могли дать себе в
этом отчета. Происхождение этих имен забыто. В таком
случае они, вероятно, пытались различными путями узнать об
этом, и при существовавшем у них убеждении в том, что
имена эти имеют значение, они по необходимости
должны были прийти ко всем этим мыслям, которые содержатся
в тотемической системе. Для примитивных народов имена,
как и для современных дикарей и даже для наших детей,
представляют собой не нечто безразличное и условное, как
это кажется нам, а что-то значительное и существенное. Имя
человека образует главную составную часть его личности,
быть может, часть его души. Одинаковое имя с животным
должно было привести примитивные народы к
предположению о существовании таинственной и значительной связи
между их личностью и этой животной породой. Какая же
684
Тотем и табу
это могла быть другая связь, как не кровное родство? Но
раз такое родство допускалось вследствие сходства имени,
то, как прямое следствие кровного табу, из него вытекали
все тотемические предписания, включая и экзогамию.
Именно эти три вещи — группа имен животных
неизвестного происхождения, вера в высшую связь между всеми
носителями одного и того же имени: людьми и животными,
вера в таинственное значение крови — вызвали появление
всех тотемических верований и деяний, включая сюда и
экзогамию (см. «Загадка тотема» Э. Ланга).
Объяснения Ланга распадаются, так сказать, на два
периода по времени. Одна часть его теории объясняет тотеми-
ческую систему психологической необходимостью исходя из
факта названия тотема при условии, что забыто
происхождение этого наименования. Другая часть теории старается
выяснить само происхождение этих имен. Мы видим, что
она носит совсем иной характер.
Эта вторая часть теории Ланга, по существу, мало чем
отличается от других, названных мною
«номиналистическими». Практическая потребность в различении заставила
отдельные племена дать себе имена, и потому они соглашались
с именами, которые давали им другие племена. Это «naming
from without» (название из ничего) составляет особенность
конструкции Ланга. Ничего удивительного нет в том, что
получившиеся таким образом имена были заимствованы у
животных и не могли казаться примитивным народам
бранью или насмешкой. Впрочем, Ланг указал на далеко не
единичные случаи из более поздних эпох истории, когда
имена, данные другими, первоначально с целью насмешки, были
приняты теми, кому они давались, и они охотно их носили
(гезы, виги и тори). Предположение, что возникновение этих
имен со временем было забыто, связывает эту вторую часть
теории Э. Ланга с изложенной раньше.
ß) Социологические теории
С. Рейнах, с успехом исследовавший остатки тотемиче-
ской системы в культе и в нравах позднейших периодов, но
с самого начала придававший мало значения моменту про-
685
Зигмунд ФРЕЙД
исхождения от животного тотема, в одном месте смело
заявляет, что тотемизм кажется ему только «une hypertrophie
de l'instinct social» (гипертрофией социального инстинкта).
Тот же взгляд проходит через новый труд Э. Дюркгейма
«Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système
totem ique en Australie», 1912 («Элементарные формы
религиозной жизни: Тотемическая система в Австралии»). Тотем
является представителем социальной религии этих народов.
Он олицетворяет общественность, являющуюся настоящим
предметом почитания.
Другие авторы пытались более детально обосновать
взгляд об участии социальных влечений в образовании то-
темических институтов. Так, А.-С. Haddon (Хэддон)
предполагал, что первоначально каждое примитивное племя
питалось особой породой животных или растений, может быть,
вело торговлю этими пищевыми продуктами и давало их в
обмен другим племенам. Таким образом, должно было
случиться, что племя становилось известным другим племенам
по названию животного, игравшего для него такую важную
роль. Одновременно у этого племени должна была
развиться особая близость с этим животным и своего рода интерес
к нему, основанный, однако, на одном только психическом
мотиве, на самой элементарной и необходимой из
человеческих потребностей — на голоде1.
Но против этой самой рациональной из всех теорий
тотема выдвинуты возражения, что нигде не было найдено такого
состояния питания у примитивных народов и, вероятно, его
никогда и не было. Дикари всеядны, и тем в большей степени,
чем на более низкой ступени они стоят. Нельзя понять также,
как из такой исключительной диеты могло развиться почти
религиозное отношение к тотему, достигающее высшего
выражения в абсолютном воздержании от любимой пищи.
Первая из трех теорий, высказанных Фрэзером о
происхождении тотемизма, была психологической; она будет из-
1 Address to the Anthropological Section, British Association. Belfast, 1902:
FrazerJ.-D. Totemism and Exogamy. Part IV. P. 50 (Обращение к
антропологическому отделению Британской ассоциации, см. по: Фрэзер Д.-Д. Тотемизм и
экзогамия).
686
Тотем и табу
ложена в другом месте. Вторая теория Фрэзера, о которой
предстоит здесь сказать, возникла под впечатлением
опубликованных важных работ двух исследователей о туземцах
центральной Австралии1. Спенсер и Жиллен описали ряд
странных обычаев, учреждений и взглядов одной группы
племен, так называемой нации арунта, и Фрэзер согласился
с их мнением, что в этих особенностях нужно видеть черты
первичного состояния и что они могут объяснить
первоначальный и настоящий смысл тотемизма.
Эти особенности у племени арунта (части нации арунта)
следующие:
1. У него имеется расчленение на кланы тотема, но
тотем передается не по наследству, а определяется
индивидуально (о способе речь будет ниже).
2. Кланы тотема не экзогамичны, брачные ограничения
образуются благодаря высокоразвитому разделению на
брачные классы, не имеющие ничего общего с тотемом.
3. Функция клана тотема состоит в выполнении
церемониала, имеющего целью исключительно магическим путем
способствовать размножению съедобного тотемического
объекта. (Этот церемониал называется «интичиум».)
4. У арунта имеется своеобразная теория зачатия и
воскресения. Они полагают, что в известных местах их страны
духи умерших членов одного и того же тотема ждут своего
воскресения и проникают в тело женщин, проходящих мимо
этих мест. Если рождается ребенок, то мать указывает, в
каком обиталище духов, по ее мнению, она зачала ребенка.
В соответствии с этим определяется тотем ребенка. Далее,
предполагается, что духи (умерших, как и воскресших)
связаны своеобразными каменными амулетами (по имени чу-
ринга), которые находятся в этих обиталищах.
По-видимому, два момента побудили Фрэзера поверить,
что в учреждениях арунта открыты древнейшие формы
тотемизма. Во-первых, существование различных мифов,
утверждающих, что предки арунта всегда питались своим тотемом и
женились на женщинах только собственного тотема.
Во-вторых, то обстоятельство, что в их воззрениях на зачатие ото-
The native tribes of Central Australia. L., 1891.
687
Зшмупд ФРЕЙД
двинут на второй план половой акт. На людей, которые еще
не узнали, что зачатие является следствием полового акта,
можно смотреть как на самых отсталых и примитивных
представителей человеческого рода.
Основывая свое суждение о тотемизме на церемонии ин-
тичиума, Фрэзер сразу увидел тотемическую систему в
новом, изменившемся свете как совершенно практическую
организацию для удовлетворения естественных потребностей
человека (ср. с теорией Хэддона)1. Система оказалась просто
грандиозной «cooperative magic». Примитивные народы
организовали, так сказать, магическое
производственно-потребительское общество. Каждый клан тотема взял на себя
задачу заботиться о достаточном количестве известного
пищевого продукта. Если дело касалось несъедобного тотема, как,
например, вредных животных, дождя, ветра и т. п., то на
обязанности клана тотема лежала задача добиться власти
над этой частью природы и отразить весь ее вред.
Достижения каждого клана шли на пользу другим: так как клан не
мог есть ничего или только очень мало из своего тотема, то
он добывал это ценное добро для других и за это снабжался
ими тем, что они, в свою очередь, должны были добывать
соответственно своей социальной тотемической
обязанности. В свете этого понимания, основанного на церемонии ин-
тичиума, Фрэзеру казалось, что запрещение есть тотем
затмило и отодвинуло на задний план более важную сторону
отношений, а именно заповедь доставлять для потребления
другим как можно больше съедобного тотема.
Фрэзер допускает, что у арунта согласно традиции
первоначально каждый клан тотема питался без ограничения
своим тотемом. Но тогда возникло затруднение для
понимания последующего развития, когда клан стал
довольствоваться тем, что обеспечивал тотем другим, сам отказавшись
от его употребления. Фрэзер полагает, что это ограничение
вовсе не произошло от своего рода религиозного уважения,
1 Здесь ничего нет из того неясного и мистического, метафизически
туманного, что некоторые авторы хотят приписать скромному началу
человеческих размышлений, но что совершенно чуждо простому, чувственному и
конкретному способу мышления дикарей (по: Тотемизм и экзогамия. Ч. I).
688
Тотем и табу
а вероятно, благодаря наблюдению, что ни одно животное
не пожирает себе подобных, так что это нарушение
отождествления с тотемом повредило бы власти, которую хотели
над ним приобрести. Или ограничение возникло из
стремления завоевать благосклонность существа, если будут
щадить его самого. Но Фрэзер не скрывал от себя трудностей
этого объяснения и почти не рисковал, указывая, каким
путем подтверждаемый мифами обычай арунта заключать брак
в пределах тотема превратился в экзогамию.
Основанная на обряде интичиума теория Фрэзера
зиждется всецело на признании примитивной природы организации
арунта. Но после приведенных Дюркгеймом и Лангом
возражений кажется невозможным настаивать на этом. Наоборот,
арунта, по-видимому, ушли в своем развитии дальше всех
австралийских племен и представляют скорее уже стадию
распада, чем начала тотемизма. Мифы, произведшие на Фрэзера
такое большое впечатление, потому что они в
противоположность существующим теперь институтам подчеркивают
разрешение есть тотем и заключать браки в пределах тотема,
объясняются легко, как фантазии, выражающие желание и
проецированные на прошлое, подобно мифам о золотом веке.
у) Психологические теории
Первая психологическая теория Фрэзера, созданная еще
до его знакомства с наблюдениями Спенсера и Жиллена,
основывалась на вере во «внешнюю душу»1. Тотем должен
был представлять собой верное убежище для души, куда она
прячется, чтобы избежать угрожающих ей опасностей. Если
примитивный человек прятал душу в свой тотем, то
благодаря этому он становился неуязвимым и, разумеется,
опасался сам причинять вред носителю своей души. Так как он
не знал, какой экземпляр животной породы является
носителем его души, то для него было вполне естественно
щадить всю породу. Позже Фрэзер сам отказался от мысли
производить тотемизм из веры в душу.
1 См.: L'année sociologique. Vol. I, V, VIII и др. Особенно - статью «Sur
le totcmism* (Vol. V. 1901).
689
Зигмунд ФРЕЙД
Познакомившись с наблюдениями Спенсера и Жиллена,
он создал уже изложенную ранее другую социологическую
теорию тотемизма, но впоследствии сам нашел, что мотив,
из которого он выводил тотемизм, слишком «рационален»
и что он при этом предполагал существование слишком
сложной социальной организации, чтобы ее можно было
назвать примитивной1.
Магические кооперативные общества казались ему
теперь скорее поздними образованиями, чем зародышами
тотемизма. Он искал более простого элемента, примитивного
суеверия за этими образованиями, чтобы из него вывести
возникновение тотемизма. Этот первоначальный момент он
нашел в удивительной теории зачатия арунта.
Как уже сказано, арунта отрицают связь зачатия с
половым актом. Если женщина чувствует себя матерью, то это
значит, что какой-нибудь из ждущих возрождения духов из
ближайшего их обиталища проник в ее тело и рождается ею
в виде ребенка. Этот ребенок имеет тот же тотем, что и все
духи, приютившиеся в известном месте. Эта теория зачатия
не может объяснить тотемизма, потому что наперед
предполагает его существование. Но если вернуться назад и
допустить, что женщина сначала верила, что животное, растение,
камень или другой предмет, занимавший ее внимание в
момент, когда она впервые почувствовала себя матерью,
действительно в нее проник и потом порождается ею в
человеческой форме, то благодаря этой вере матери идентичность
человека с его тотемом приобретает основание, и из этого
легко вытекали бы все дальнейшие заповеди тотема (за
исключением экзогамии). Человек отказался бы есть это
животное или это растение, потому что, таким образом, он ел
бы самого себя. Но иной раз в виде особой церемонии у
него явилось бы побуждение вкусить что-нибудь из своего
тотема, потому что этим он укрепил бы свое отождествление
с тотемом, составляющее сущность тотемизма. Наблюдения
1 « Кажется неправдоподобным, чтобы община дикарей могла мудро
разделить царство природы на области, назначая в каждую область особенную
группу магов, и приказать всем этим группам творить магическое и создавать
чародейственную силу общего божества».
690
Тотем и табу
W.-H. Rivers'a, казалось, доказывали прямое отождествление
людей с их тотемом на основании такой теории зачатия.
Итак, последним источником тотемизма оказалось
неведение дикарей того, каким образом люди и эти животные
продолжают свой род. В особенности же неизвестна была
роль самца при оплодотворении. Это незнание
поддерживалось длинным интервалом между актом оплодотворения и
рождением ребенка (или моментом, когда чувствуются
первые детские движения). Тотемизм является поэтому
созданием не мужского, а женского духа. Его корни — это
«капризы» (sick fancies) беременной женщины. Действительно,
то, что находит на женщину в таинственный момент ее
жизни, когда она впервые чувствует себя матерью, легко может
идентифицироваться с ребенком в ее чреве. Такие
материнские фантазии, столь естественные и, как кажется,
общераспространенные, по-видимому, были корнями тотемизма1.
Против этой, третьей, теории Фрэзера приводится то же
возражение, что и против второй, — социологической. Арунта,
по-видимому, ушли очень далеко от начала тотемизма. Их
отрицание роли отца основано, по-видимому, не на примитивном
незнании, в некоторых отношениях у них имеется даже
отцовское наследование. Значение роли отца они принесли в жертву
своего рода рассуждениям, чтобы воздать честь духам предков2.
Если они возвели в общую теорию миф о непорочном
зачатии благодаря духу, то им так же мало можно приписать
из-за этого незнание условий продолжения рода, как и
древним народам в эпоху возникновения христианских мифов.
Другую теорию происхождения тотемизма создал
голландец G.-A. Wilcken. Она соединяет тотемизм с
переселением душ: «То животное, в которое по
общераспространенной вере переходили души умерших, становилось кровным
родственником, предком, и почиталось, как таковое». Но
вера в переселение душ в животные скорее сама произошла от
тотемизма, чем наоборот3.
1 См.: FrazerJ.-D. Totcmism and Exogamy. Part IV.
2 Это верование — философия первобытных примитивных людей {Lang A.
Secret of the Totem. P. 192).
3 См.: FrazerJ.-D. Totemism and Exogamy. Part IV. P. 45.
691
Зигмунд ФРЕЙД
Другой теории тотемизма придерживаются замечательные
американские этнологи Франц Боас, Хилтон и др. Она
исходит из наблюдений над тотемическими племенами индейцев
и утверждает, что тотем первоначально является
духом-покровителем предка, явившимся ему во сне и переданным этим
предком по наследству потомству. Мы уже видели раньше, как
трудно объяснять тотемизм унаследованием от одного
человека; кроме того, австралийские наблюдения никоим образом не
подтверждают попытки свести тотем к духу-покровителю.
Для последней высказанной Вундтом психологической
теории решающее значение имели такие факты: во-первых,
первоначальным и наиболее распространенным объектом
тотема является животное, и, во-вторых, между животными
тотема опять-таки самые первоначальные совпадают с
животными-душами. Животные-души, такие как птицы, змея,
ящерица, мышь, благодаря большой подвижности, летанию по
воздуху и другим свойствам, вызывающим непривычное и
жуткое чувство, являются самыми подходящими для того,
чтобы именно в них усматривали существа, в которых и
помещается душа, оставляющая тело. Животное-тотем
представляет собой дериват переселения души в животное. Таким
образом, для Вундта тотемизм сливается непосредственно
с верой в души, или с анимизмом.
в) и с) Происхождение экзогамии
и ее отношение к тотемизму
Я достаточно подробно изложил теории тотемизма, и все
же приходится опасаться, что впечатление от них будет
неполное из-за вынужденной краткости. В интересах
читателя относительно дальнейших вопросов я позволю себе еще
большую сжатость. Споры в области экзогамии у тотемиче-
ских народов по характеру материала, которым приходится
при этом оперировать, особенно усложняются и
расширяются, а в целом, можно сказать, запутываются. Цель этой
статьи — по возможности ограничиться подчеркиванием
некоторых главных направлений и для более основательного
исследования предмета указать на многократно цитируемые
подробные специальные сочинения.
692
Тотем и табу
Позиция автора в проблемах экзогамии зависит,
разумеется, от отношения к той или другой теории тотема. Некоторые
из объяснений тотемизма совершенно лишены связи с
экзогамией, так что оба института просто отделяются один от
другого. Таким образом, здесь противопоставлены два
взгляда — один, желающий сохранить первоначальное
предположение, что экзогамия составляет часть тотемической системы,
и другой, оспаривающий такую связь и допускающий
случайное совпадение обоих институтов старейших культур. Фрэзер
в своих позднейших работах решительно настаивал на
последней точке зрения. «Мне приходится просить читателя все
время не упускать из виду, что оба института — тотемизм и
экзогамия — совершенно различны по своему
происхождению и по своей природе, хотя у некоторых племен оба они
случайно совпадают и смешиваются» (см.: Totemism and
Exogamy. Part I).
Он прямо утверждает, что противоположный взгляд
является источником трудностей и недоразумений. В
противоположность этому другие авторы нашли путь к пониманию
экзогамии как неизбежного следствия основных тотемических
взглядов. Дюркгейм указал в своих работах1, что связанное с
тотемом табу должно было повлечь за собой запрещение
полового общения с женщиной того же тотема. Тотем той же
крови, что и человек, а потому под страхом смертной
казни (принимается во внимание дефлорация и менструация)
запрещается половое общение с женщиной, принадлежащей
к тому же тотему2. Ланг, присоединяющийся в этом вопросе
к мнению Дюркгейма, полагает даже, что нет надобности в
кровном табу для запрещения брака с женщинами того же
рода. Общее табу тотема, запрещающее, например, сидеть в
тени дерева тотема, было бы для этого вполне достаточно.
Ланг защищает, впрочем, еще и другое происхождение
экзогамии (см. далее) и ставит под сомнение вопрос: в каком
отношении оба эти объяснения находятся друг к другу?
1 Опубликованных в 1898—1901 годы в ««Социологическом ежегоднике». —
Ред.
2 См. критику рассуждений Дюркгейма у Фрэзера (Тотемизм и экзогамия.
Часть IV).
693
Зигмунд ФРЕЙД
Что касается исторической последовательности, то
большинство авторов придерживается взгляда, что тотемизм
является более древним институтом, а экзогамия
присоединилась позже1.
Среди теорий, пытающихся объяснить экзогамию
независимо от тотемизма, укажем только на некоторые,
выясняющие различное отношение авторов к проблеме
инцеста.
Макленнан2 остроумно объяснил экзогамию как остаток
нравов, указывающих на имевшее когда-то место похищение
женщин. Он высказал предположение, что в первобытные
времена всеобщим обычаем было добывать женщин из
чужого рода и брак с женщиной собственного рода становился
постепенно запретным, потому что был необычным3. Мотива
для этого обычая экзогамии он искал в недостаточном
количестве женщин у примитивных народов вследствие обычая
убивать при рождении большинство детей женского пола.
Нас не интересует проверка, подтверждают ли фактические
обстоятельства предположения Макленнана. Гораздо больше
нас интересует довод: если мы допустим, что этот автор прав,
то все же остается необъяснимым, почему мужчины
отказываются и от немногих женщин своей крови и каким
образом здесь совершенно не принимается во внимание проблема
инцеста4.
В противоположность этому и очевидно с большим
правом другие авторы понимали экзогамию как институт для
предупреждения инцеста.
Если окинуть взглядом постепенно возрастающую
сложность ограничений брака, то приходится согласиться с
точкой зрения Моргана, Фрэзера, Хоувитта, Балдвина,
Спенсера, что эти учреждения носят целесообразный преднамерен-
1 Напр., Фрэзер. Тотсмичсский клан — совершенно иная социальная
организация, нежели экзогамический класс, и у нас есть серьезные основания
думать, что первый гораздо древнее последнего.
2 «Primitive Manage» («Примитивный брак», 1865).
3 Нечистый, потому что он не практиковался.
4 FrazerJ.-D. Totemism and Exogamy. Part IV. P. 105; Morgan L.-H. Ancient
Society. 1877 (см.: Фрэзер Д.-Д. Тотемизм и экзогамия; также: Морган Л.-Г.
Древнее общество).
694
Тотем и табу
ный характер («deliberate design», по Фрэзеру) и что они
должны достичь того, к чему они действительно стремились.
«Нет других путей, которыми возможно было бы во всех
деталях объяснить эти системы, в одно и то же время такие
сложные и такие точные»1.
Любопытно заметить, что первые ограничения,
достигнутые введением брачных классов, касались сексуальной
свободы младших поколений, то есть инцеста между братьями
и сестрами и сыновьями с их матерями, между тем как
инцест между отцом и дочерью прекратился только благодаря
дальнейшим мероприятиям.
Но объяснение экзогамического ограничения
сексуальности преднамеренным законодательством ничего не дает
для понимания мотива, создавшего эти институты. Откуда
берется в конечном результате боязнь инцеста, в чем
приходится признать корень экзогамии? Очевидно,
недостаточно для объяснения боязни инцеста ссылаться на
инстинктивное отвращение к сексуальному общению с кровными
родственниками, то есть на сам факт боязни инцеста, если
социальный опыт показывает, что наперекор этому
инстинкту инцест вовсе не редкое событие даже в нашем обществе,
и если исторический опыт знакомит со случаями, когда
предписанием требуется инцестуозный брак для лиц,
пользующихся преимущественным положением.
Для объяснения боязни инцеста Вестермарк2 указывает
на то, что «между лицами, с детства живущими вместе,
господствует враждебное отношение к половому общению и
что это чувство (так как эти лица обыкновенно кровные
родственники) находит естественное выражение в правах и
законе благодаря отвращению к половому общению между
близкими родственниками». Ellis хотя и оспаривал, что это
отвращение носит характер влечения, но в своих «Studies in
the psychology of sex» («Очерки психологии секса»), по
существу, соглашался с этим объяснением, говоря:
«Нормальное отсутствие проявления полового влечения в тех случа-
1 FrazerJ.-D. Ibid. P. 106.
2 См.: Происхождение и развитие морали. II: Брак, 1909. Там же защита
автора против ставших ему известными возражений.
695
Зигмунд ФРЕЙД
ях, где дело касается братьев и сестер или с детства
живущих вместе мальчиков и девочек, явление чисто
отрицательное, происходящее оттого, что при этих обстоятельствах
безусловно должны отсутствовать предпосылки,
возбуждающие половое влечение... Между лицами, выросшими с
детства вместе, привычка притупила все чувственные
раздражения зрения, слуха и осязания, направила на путь
спокойной склонности и лишила их власти вызывать необходимое
эротическое возбуждение, требующееся для того, чтобы
вызвать половую тумесценцию».
Мне кажется весьма странным, что Вестермарк видит в
этом врожденном отвращении к половому общению с
лицами, с которыми вместе росли в детстве, одновременно
психическое выражение биологического факта, что инцест
влечет за собой вред для рода. Подобный биологический
инстинкт едва ли так ошибался бы в своем
психологическом выражении, чтобы вместо вредных для продолжения
рода кровных родственников коснуться совершенно
безобидных в этом отношении товарищей по дому и очагу.
Я не могу не привести замечательные возражения,
выдвинутые Фрэзером против этого утверждения. Он находит
непонятным, почему сексуальное чувство в настоящее время
совершенно не противится общению с товарищами по
очагу, между тем как боязнь инцеста, которая должна будто
бы происходить от этого отвращения, так невероятно
разрослась. Но еще глубже другие замечания Фрэзера,
которые я тут привожу полностью, потому что, по существу,
они совпадают с доводами, высказанными в моей статье
о табу.
«Трудно понять, почему глубоко укоренившийся
человеческий инстинкт нуждается в утверждении посредством
закона. Нет закона, повелевающего людям есть или пить или
запрещающего им класть руки в огонь. Люди едят и пьют и
держат свои руки подальше от огня инстинктивно, из страха
перед естественным, а не законным наказанием, которое
повлекло бы за собой неподчинение этим явлениям. Закон
запрещает людям только то, что они могли бы сделать под
давлением своих влечений. То, что сама природа запрещает или
наказывает, то незачем запрещать или наказывать по зако-
696
Тотем и табу
ну. Мы легко можем поэтому допустить, что преступления,
запрещенные по закону, — это такие преступления, которые
многие из людей совершили бы охотно по естественной
склонности. Если бы не было такой склонности, не
совершались бы подобные преступления, а если бы такие
преступления не совершались, то не к чему было бы их запрещать.
Поэтому, вместо того чтобы из законодательного запрещения
инцеста заключать о существовании естественного
запрещения к нему, мы, скорее, должны были бы сделать вывод, что
естественный инстинкт влечет к инцесту и что, если закон
подавляет это влечение, подобно другим естественным
влечениям, то основанием к тому является взгляд цивилизованных
людей, что удовлетворение этих естественных влечений
приносит вред обществу»1.
К этим ценным аргументам Фрэзера я могу еще
прибавить, что данные психоанализа делают совершенно
невозможным предположение о врожденном отвращении к инцес-
туозному половому общению. Они, наоборот, показали, что
первые сексуальные побуждения шрают громадную роль в
качестве творческих сил позднейших неврозов.
Взгляд на боязнь инцеста как на врожденный инстинкт
должен быть поэтому оставлен. Не лучше обстоит дело с
другим объяснением запрета инцеста, имеющим
многочисленных сторонников и предполагающим, что примитивные
народы рано заметили, какими опасностями грозит
кровосмесительство их роду, и что поэтому они с вполне
осознанной целесообразностью запретили инцест. Возражений
против этого объяснения возникает множество (ср. с Дюрк-
геймом — «Социологический ежегодник», 1896).
Запрещение инцеста, должно быть, не старше скотоводства, на
котором человек мог бы убедиться в действии
кровосмесительства на свойства расы, а что еще важнее, вредные
последствия кровосмесительства еще до настоящего
времени не безусловно доказаны и относительно человека их
трудно доказать. Далее, все, что нам известно о современных
дикарях, делает весьма невероятным, чтобы помыслы их
отдаленнейших предков были уже заняты предупреждением
FrazerJ.-D. Totemism and Exogamy. Part IV. P. 97.
697
Зигмунд ФРЕЙД
вреда для позднейшего потомства. Кажется смешным, когда
этим живущим без всякого раздумья взрослым детям хотят
приписать гигиенические или евгенические мотивы,
которые едва ли принимаются во внимание и в нашей
современной культуре1.
Наконец, необходимо еще подчеркнуть, что запрещение
кровосмесительства из практических и гигиенических
мотивов как ослабляющего расу момента совершенно
недостаточно, чтобы объяснить глубокое отвращение, подымающееся в
нашем обществе против инцеста. Как я доказал в другом
месте2, боязнь инцеста у живущих теперь примитивных
народов кажется еще более сильной и активной, чем у
цивилизованных.
В то время как можно было бы ожидать, что и при
объяснении происхождения боязни инцеста имеется выбор
между социологическими, биологическими и психологическими
гипотезами, причем в психологических мотивах, может быть,
можно было бы видеть выразителей биологических сил,—
чувствуешь себя по окончании исследования вынужденным
согласиться с непретенциозным замечанием Фрэзера: «Нам
не известно происхождение боязни инцеста, и мы даже не
знаем, что об этом предполагать. Ни одно из предложенных
до сих пор решений загадки не кажется нам
удовлетворительным» 3.
Должен упомянуть еще о совсем другого рода попытке
объяснить происхождение инцеста, чем рассмотренные до
сих пор. Ее можно было бы назвать исторической.
Эта попытка связана с гипотезой Ч.Дарвина о
первичном социальном состоянии человека. Исходя из привычек
высших обезьян, Дарвин заключил, что и человек
первоначально жил небольшими группами, в пределах которых
ревность самого старшего и самого сильного самца не допуска-
1 Чарлз Дарвин говорит о дикарях: «Они не склонны задумываться над
угрожающими в будущем несчастьями их племени».
2 Ср. первую статью.
3 «Таково окончательное происхождение экзогамии и с нею закона об
инцесте; с того времени как была придумана экзогамия как помеха инцесту,—
наша проблема остается в отношении ее такой же неясной, какой и была до
этого» (Тотемизм и экзогамия. Ч. I).
698
Тотем и табу
ла полового смесительства. «Судя по тому, что нам известно
о ревности у всех млекопитающих, из которых многие
обладают специальным оружием для борьбы с соперниками,
мы действительно можем заключить, что общее смешение
полов в естественном состоянии весьма невероятно...
Если поэтому в потоке времени мы оглянемся далеко
назад и сделаем заключение о социальных привычках
человека, как он теперь существует, то самым вероятным будет
мнение, что человек первоначально жил небольшими
обществами, каждый мужчина с женщиной или, если у него была
власть, со многими, которых он ревностно защищал от
других мужчин. Или он не был социальным животным и все
же жил один со многими женами, как горилла; потому что
все туземцы согласны в том, что в группе горилл можно
встретить только одного взрослого самца. Когда молодой
самец подрастает, то происходит борьба за власть и более
сильный становится главою общества, убив или прогнав
остальных. Младшие самцы, изгнанные таким образом,
скитаются одни, и, когда наконец им удастся найти самку, они
таким же образом не допустят слишком близкого
кровосмесительства среди членов одной и той же семьи» \
Аткинсон2, по-видимому, первый заметил, что эти
условия дарвиновской первобытной орды практически
осуществляли экзогамию молодых мужчин. Каждый из этих
изгнанных мог основать такую же орду, в которой имело силу
такое же запрещение полового общения из-за ревности
главы, и с течением времени благодаря этим обстоятельствам
сложилось осознанное, как закон, правило: никакого
полового общения с товарищами по очагу. По возникновении
тотемизма это правило приняло другую формулировку:
никакого полового общения в пределах тотема.
Э. Ланг3 присоединился к этому объяснению экзогамии.
Он в той же книге отстаивает и другую (дюркгеймовскую)
теорию, видящую в экзогамии следствие законов тотема. Не
совсем легко соединить оба взгляда, в первом случае экзо-
1 Происхождение человека.
2 См.: Primal Law. L, 1903; Lang A. Social Origins.
3 Secret of the Totem. P. 114, 142.
699
Зигмунд ФРЕЙД
гамия существовала до тотемизма, во втором случае она
оказывается его следствием1.
...Единственный луч света в эту тьму проливает
психоаналитический опыт.
Отношение ребенка к животному имеет много сходного с
отношением примитивного человека к животному. Ребенок не
проявляет еще и следа того высокомерия, которое побуждает
впоследствии взрослого культурного человека отделить
резкой чертой свою собственную природу от всякого другого
животного. Не задумываясь, ребенок предоставляет
животному полную равноценность; в безудержном признании своих
потребностей он чувствует себя, пожалуй, более родственным
животному, чем кажущемуся ему загадочным взрослому.
В этом прекрасном согласии между ребенком и
животным нередко наступает замечательная дисгармония. Вдруг
ребенок начинает бояться определенной породы животных и
бережет себя от того, чтобы прикоснуться или увидеть
животное этой породы. Возникает клиническая картина фобии
животных, одного из самых распространенных среди
психоневротических заболеваний этого возраста и, может быть,
самой ранней формы такого заболевания. Фобия обыкновенно
касается животного, к которому до того ребенок проявлял
особенно живой интерес, она не относится к одному только
определенному животному. Выбор среди животных, могущих
стать объектами фобии в условиях городской жизни, не
велик. Это — лошади, собаки, кошки, реже птицы, удивительно
1 «Если, в согласии с теорией Дарвина, доказано, что экзогамия
встречается до того, как верование в тотем доставляет этому правилу священную
санкцию, то наша задача делается относительно нетрудной. Первое
практическое правило исходит от завистливого властелина. Повеление: „Да не коснутся
самцы самок в моем владении" сопровождается изгнанием молодых сыновей.
В дальнейшем это правило стало привычным и приняло формулировку (курсив
3. Фрейда. — Ред.): „Не бери в жены никого из местной группы". Еще позже
местные группы получают прозвища — имена, например Эму, Ворона,
Опоссума, Бекаса, и тогда правило формулируется так: „Не бери никого в жены из
местной группы с именами определенных животных, например Бекаса, если ты
сам Бекас". Однако если первичная группа не была экзогамичной, то она стала
таковой после того, как тотемические мифы и табу распространились на
животных, растения и другие названия маленьких местных групп».
В своем последнем суждении по этому предмету Э.Ланг заявляет, что
отказался от мысли о происхождении экзогамии из «general totemic» табу.
700
Тотем и табу
часто маленькие живые существа — жуки и бабочки.
Иногда объектами бессмысленнейшего и безмерного страха,
проявляющегося при этих фобиях, становятся животные,
известные ребенку только из картинок и сказок; редко удается
узнать пути, по которым совершился подобный выбор
внушающего страх животного. Так, я обязан К. Abraham'y
сообщением случая, когда ребенок объяснил свой страх перед
осой тем, что ее цвет и полосатая поверхность тельца
напоминают тифа, которого, как он слышал, нужно бояться.
Фобии животных у детей не стали еще предметом
внимательного аналитического исследования, хотя заслуживают
этого в высокой степени. Трудности анализа поведения у
детей в раннем возрасте являются, вероятно, причиной этого
упущения. Нельзя поэтому утверждать, что известен общий
характер этих заболеваний, и лично я думаю, что он не
окажется однородным. Но некоторые случаи таких
направленных на больших животных фобий стали доступными
анализу и раскрыли таким образом исследователю свою тайну. Во
всех случаях она одна и та же: страх, по существу, относился
к отцу, если исследуемые дети были мальчиками, и только
перенесся на животное.
Всякий имеющий опыт в психоанализе, наверное,
наблюдал такие случаи и получил от них такое же впечатление.
Все же я могу по этому поводу сослаться на небольшое
число подробных опубликованных исследований. Это не
типичное в литературе явление, из него не следует заключать,
что мы вообще можем опираться в наших взглядах только
на отдельные наблюдения. Упомяну, например, автора,
который с полным пониманием изучал неврозы детского
возраста, — М. Вульфа (Одесса). Излагая историю болезни
девятилетнего мальчика, он рассказывает, что в возрасте
четырех лет этот мальчик страдал фобией собак. «Когда он на
улице видел пробегающую собаку, он плакал и кричал:
„Милая собака, не хватай меня, я буду себя хорошо вести"; под
»хорошо себя вести" он понимал: „не буду больше играть на
скрипке (онанировать)"».
Тот же автор резюмирует далее: «Его фобия собак
представляет собой, собственно говоря, перенесенный на собак
страх перед отцом, потому что его странные слова: „собака,
701
Зигмунд ФРЕЙД
я буду хорошо себя вести", то есть не мастурбировать,
относятся ведь к отцу, который запретил мастурбацию». В
примечании он прибавляет, что его наблюдения вполне
совпадают с моими и одновременно доказывают обилие таких
наблюдений: «Такие фобии (фобии лошадей, собак, кошек, кур
и других домашних животных), по моему мнению, в детском
возрасте по меньшей мере так же распространены, как pavor
nocturnus (ночные страхи), и в анализе почти всегда
раскрываются как перенесение страха с одного из родителей на
животных. Таков ли механизм столь распространенных фобий
мышей и крыс, я позволю себе сомневаться».
В первом томе «Ежегодника психоанализа и
психопатологии» я излагаю «Анализ фобий пятилетнего мальчика»,
представленный в мое распоряжение отцом маленького
мальчика. Это был страх перед лошадьми, вследствие которого
мальчик отказывался выходить на улицу. Он выражал
опасение, что лошадь придет в комнату и укусит его. Оказалось,
что это было наказанием за его желание, чтобы лошадь
упала (умерла). После того как мальчик, подбодренный,
освободился от страха перед отцом, оказалось, что он борется с
желаниями, содержание которых составляет отсутствие отца
(отъезд, смерть отца). Ребенок чувствовал в отце, показывая
это совершенно ясно, конкурента в симпатиях к матери, на
которую в темном предчувствии были направлены
зарождающиеся сексуальные желания. Он находился,
следовательно, в состоянии типичной направленности ребенка мужского
пола к родителям, которую мы называем «комплексом
Эдипа» и в которой видим комплексное ядро неврозов. Для нас
в анализе «маленького Ганса» нов и ценен для тотемизма тот
факт, что при таких условиях ребенок переносит часть своих
чувств с отца на животное.
Анализ показывает значительные по содержанию и
случайные ассоциативные пути, по которым происходит
подобный сдвиг. Он позволяет также открыть его мотивы.
Вытекающая из соперничества по отношению к матери ненависть
не может свободно распространяться в душевной жизни
мальчика, ей приходится вступить в борьбу с существующей уже
нежностью и преклонением перед отцом. Ребенок находится
в двойственной — амбивалентной — направленности чувств
702
Тотем и табу
к отцу и находит облегчение в этом амбивалентном
конфликте, перенося свои враждебные и боязливые чувства на
суррогат отца. Сдвиг не может, однако, разрешить конфликт таким
образом, чтобы привести к полному разделению нежных и
враждебных чувств. Конфликт и переносится на объект
сдвига, амбивалентность передается на этот последний. Вполне
очевидно, что маленький Ганс проявляет к лошадям не только
страх, но также уважение и интерес. Как только его страх
уменьшается, он сам отождествляет себя с внушающим ему
страх животным, скачет, как лошадь, и кусает отца. В другой
стадии развития фобии ему ничего не стоит отождествить
родителей с иными большими животными1.
Можно высказать предположение, что в этих фобиях
животных у детей вновь повторяются в негативном выражении
некоторые черты тотемизма. Но мы обязаны S. Ferenczi (Фе-
ренци) исключительно счастливым наблюдением случая,
который можно назвать положительным тотемизмом у ребенка2.
У маленького Арпада тотемические интересы проснулись
не прямо в связи с комплексом Эдипа, а на основе нарцис-
сической предпосылки его, страха кастрации. Но кто
внимательно просмотрит историю маленького Ганса, тот найдет
много доказательств того, что отец, как обладатель большого
гениталия, является объектом восхищения и вызывает страх,
угрожая гениталию ребенка. В эдиповском и кастрационном
комплексах отец играет ту же роль внушающего страх
противника инфантильных сексуальных влечений. Кастрация и
замена ее ослеплением составляют наказание, которым он
угрожает3.
Когда маленькому Арпаду было два с половиной года, он
сделал однажды попытку помочиться в курятнике, причем
курица сделала движение, чтобы схватить его за орган.
Вернувшись год спустя на то же место, он сам стал курицей,
интересовался курятником и всем, что в нем происходит,
1 Фантазия о жирафах, с. 24.
2 Ferenczi S. Em kleiner Hahnemann в «Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse»
(1913. №3) (Ференци С. Маленький Хонсмапн в «Журнале по врачебному
психоанализу»).
3 О замене кастрации ослеплением в Эдиповом мифе см. статьи Рейтлера,
Ференци, Ранка в «Журнале но врачебному психоанализу» (1913. №2).
703
Зигмунд ФРЕЙД
и заменил свой человеческий язык кудахтанием и
петушиным пением. В возрасте, когда происходило наблюдение над
ним (5 лет), он снова говорил исключительно только о курах
и других птицах; он не играл никакими другими игрушками
и пел только такие песни, в которых говорилось о пернатых.
Его поведение по отношению к тотему-животному было
исключительно амбивалентное, полное чрезмерной ненависти и
любви. Охотнее всего он играл в резание кур. «Резание
пернатых составляло для него вообще праздник. Он был в
состоянии часами в возбуждении танцевать вокруг трупов
животных». Но потом он целовал и гладил зарезанное животное,
очищал и ласкал изображения кур, которых сам терзал.
Маленький Арпад сам заботился о том, чтобы смысл его
странного поведения не остался скрытым. Иногда он сам
переводил свои желания из тотемического способа
выражения обратно в выражения повседневности. «Мой отец —
петух»,— сказал он однажды. «Теперь я маленький, теперь я —
цыпленок, когда я буду больше, то стану курицей, когда
стану еще больше, то стаду петухом». Однажды он захотел
есть «фаршированную мать» (по аналогии с фаршированной
курицей). Он был очень щедр на явные угрозы кастрации
другим, подобно тому как сам услышал эти угрозы из-за
онанистических действий со своим членом.
В источниках его интереса к тому, что происходило в
курятнике, по словам Ференци, не оставалось никакого
сомнения: «Частое половое общение между петухом с
курицей, несение яиц и появление маленьких цыплят
удовлетворяли его сексуальную любознательность, которая,
собственно, относилась к человеческой семейной жизни. По образцу
жизни кур складывались объекты его желаний, высказанные
им однажды соседке: „Я женюсь на вас, и на вашей сестре,
и на моих трех кузинах, и на кухарке, нет, вместо кухарки
лучше на маме"».
Далее мы дополним оценку этого наблюдения; теперь мы
подчеркнем две черты, указывающие на ценное сходство
с тотемизмом: полное отожествление с животным-тотемом1
1 В котором, по Фрэзеру, заключается сущность тотемизма: «Тотемизм —
это идентификация человека с его тотемом».
704
Тотем и табу
и амбивалентная направленность к нему чувств. На
основании этих наблюдений мы считаем себя вправе вставить в
формулу тотемизма на место животного-тотема мужчину-
отца. Отметим, что этим мы не сделали нового или особенно
смелого шага. Ведь примитивные народы сами это
утверждают и, поскольку и теперь еще имеет силу тотемическая
система, называют тотема своим предком и праотцем. Мы
взяли только дословно заявления этих народов, с которыми
этнологи мало что могли сделать и которые они поэтому
охотно отодвинули на задний план. Психоанализ учит нас,
что, наоборот, этот пункт нужно выискать и связать с ним
попытку объяснения тотемизма1.
Первый результат нашей замены очень замечателен. Если
животное-тотем представляет собой отца, то оба главных
запрета тотемизма, оба предписания табу, составляющие его
ядро, — не убивать тотема и не вступать в сексуальные
отношения с женщиной, принадлежащей тотему, по содержанию
своему совпадают с обоими преступлениями Эдипа,
убившего своего отца и взявшего в жены свою мать, и с обоими
первичными желаниями ребенка, недостаточное вытеснение
или пробуждение которых составляет, может быть, ядро всех
психоневрозов. Если это сходство больше, чем вводящая в
заблуждение игра случая, то оно должно пролить свет на
возникновение тотемизма в незапамятные времена. Другими
словами, нам в этом случае удастся доказать вероятность
того, что тотемическая система произошла из условий
комплекса Эдипа подобно фобии животного «маленького Ганса»
и куриному извращению маленького Арпада. Чтобы
исследовать эту возможность, мы в дальнейшем изучим
особенность тотемической системы или, как мы можем сказать, то-
темической религии, о которой до сих пор едва упоминалось.
Умерший в 1894 году У. Робертсон Смит, физик,
филолог, исследователь Библии и древностей, человек столь же
1 Я обязан О. Ранку сообщением случая фобии собаки у интеллигентного
молодого человека, объяснение которого о происхождении его болезни
удивительно напоминает упомянутую выше теорию тотема арунта. Он утверждал,
что узнал от отца, что мать его во время беременности была однажды напугана
собакой.
23-3518
705
Зигмунд ФРЕЙД
остроумный, как и свободомыслящий, высказал в
опубликованном им в 1889 году сочинении «О религии семитов»
предположение, что своеобразный церемониал, так
называемое тотемическое пиршество, с самого начала образовал
составную часть тотемической системы. Для подкрепления
этого предположения он располагал тогда единственным только
сохранившимся из пятого столетия по Р. X. таким актом, но
он сумел, благодаря анализу жертвоприношения у древних
семитов, придать этому предположению высокую степень
вероятности. Так как жертва предполагает божественное
существо, то дело идет о выводе на основании более высокой
фазы религиозного ритуала по отношению к более низкой —
тотемизма.
Я хочу попытаться извлечь из замечательной книги Ро-
бертсона Смита «The origin of the Semits» («Происхождение
семитов») имеющие для нас решающее значение строки о
происхождении и значении жертвенного ритуала, опуская
все часто столь соблазнительные детали и последовательно
устраняя все позднейшие наслоения. К сожалению, нет
возможности дать читателю в этом извлечении хотя бы частицу
блеска и убедительности оригинала.
Робертсон Смит доказывает, что жертва и у алтаря
составляла существенную часть древних религий. Она играет
ту же роль во всех религиях, так что возникновение ее
приходится приписать очень общим и повсюду одинаково
действующим причинам.
Жертва-священнодействие Kcci;'èJ;o%f|v (sacrificium, Çeeove-
yict) обозначала первоначально нечто другое, чем то, что
понималось под ней в позднейшие времена: приношение
божеству, чтобы умилостивить его и сделать благосклонным
к себе (вторичное значение в смысле самовоздержания
послужило поводом к житейскому применению этого слова).
Можно доказать, что жертвоприношение представляло
сначала только «акт социального отношения между божеством
и его поклонниками», акт общественного праздника,
соединение верующих с их богом.
В жертву приносились вещи, которые можно было есть
и пить; то же, чем человек питался — мясо, хлеб, плоды,
вино и масло, — он жертвовал своему богу. Только в отно-
706
Тотем и табу
шении жертвенного мяса имелись ограничения и
отступления. Жертвы животных бог поедал вместе с верующими, а
растительные жертвы предоставлялись ему одному. Не
подлежит никакому сомнению, что жертвы животных более
древние и что они были когда-то единственными.
Растительные жертвы произошли из приношения всех плодов
и соответствуют дани господину поля и страны. Животная
жертва древнее, чем жертва земледелия.
Из сохранившихся остатков древнего языка известно, что
предоставленная богу часть жертвы сначала считалась его
действительной пищей. По мере развития дематериализации
божественного существа это представление становилось
неприемлемым: выход находили в том, что божеству
предназначалась только жидкая часть трапезы. Позже употребление
огня, превращавшего жертвенное мясо на алтаре в клубы
дыма, сделало возможным такое приготовление человеческой
пищи, что она больше соответствовала божественному
существу. Объектом жертвы-питья была первоначально кровь
жертвенного животного; позже кровь заменилась вином.
Вино считалось у древних «кровью лозы», как его называют
и теперь наши поэты.
Самой древней формой жертвы, более старой, чем
употребление огня и продуктов земледелия, была жертва
животного, мясо и кровь которого поедались вместе — богом и
верующими. Важно было, чтобы каждый участник получал
свою долю в трапезе.
Таким жертвоприношением было общественное
торжество, праздник целого клана. Религия вообще была
общественным делом, религиозный долг — частью социальных
обязанностей. Жертвоприношение и празднество совпадают у всех
народов; каждое жертвоприношение составляет в то же
время праздник, ни один праздник не отмечался без
жертвоприношения. Праздничное жертвоприношение было делом
радостного возвышения над собственным интересом,
демонстрацией общности между собой и божеством.
Этическая сила общественной жертвенной трапезы
таилась в очень древних представлениях о значении совместной
еды и питья. Есть и пить с кем-нибудь было одновременно
символом и подтверждением социальной общности и при-
707
Зигмунд ФРЕЙД
нятием на себя взаимных обязанностей; жертвенная
трапеза прямо выражала, что бог и верующие составляют одну
общину, и тем самым определялись все другие отношения.
Обычаи, которые и теперь еще в силе у арабов в пустыне,
показывают, что связующим звеном в совместной трапезе
является не религиозный момент, а сам акт еды. Кто
разделил хотя бы маленький кусок пищи с таким бедуином или
выпил глоток его молока, тому нечего его бояться как врага,
тот может быть уверен в его защите и помощи. Разумеется,
не на вечные времена; строго говоря, только на такой период
времени, пока предполагается, что совместно съеденное еще
сохранилось в теле. Так, сугубо реалистически, понимается
связь соединения; она нуждается в повторении, чтобы
укрепиться и стать длительной.
Почему же приписывается связующая сила совместной еде
и питью? В самых примитивных обществах имеется только
одна связь, соединяющая безусловно и без исключения:
принадлежность к одному племени (родство — Kinship). Члены
рода солидарно выступают один за другого, Kin (род, семья)
представляет собой группу лиц, жизнь которых таким
образом связана в физическое единство, что их можно
рассматривать как части одного живого существа. В случае убийства
кого-нибудь из Kin'a не говорят: пролита кровь того или
другого, а — наша кровь пролита. Древнееврейская фраза, в
которой выражается племенное родство, гласит: ты — моя
нога и мое мясо. Состоять в родстве означает, следовательно,
иметь часть в общей субстанции. Вполне естественно, что
родство основывается не только на факте, что человек
составляет часть своей матери, от которой родился и молоком
которой вскормлен, но что и пищей, которой он питается позже
и которой обновляет свое тело, можно приобрести и укрепить
родство. Деля трапезу с богом, выражают убеждение, что
происходят из того же материала, что и он, и кого считают
чужим, с тем не делят трапезы.
Жертвенная трапеза была, таким образом, первоначально
праздничным пиром соплеменников согласно закону, что
вместе есть могут только соплеменники. В нашем обществе
трапеза соединяет членов семьи, но жертвенная трапеза
ничего общего с семьей не имеет. «Родство» старше, чем се-
708
Тотем и табу
мейная жизнь. Самые древние из известных нам семей
постоянно охватывают лиц, связанных различными
родственными узами. Мужчины женятся на женщинах из чужого
клана, дети наследуют клан матери, между мужем и
остальными членами семьи нет никакого родства. В такой семье
нет совместных трапез. Дикари едят еще и теперь в стороне
и в одиночку, и религиозные запреты тотемизма
относительно пищи часто делают для них невозможной совместную еду
с их женами и детьми.
Обратимся теперь к жертвенному животному. Как мы
видели, не было общих собраний племени без
жертвоприношения животных, и, что еще важнее, помимо таких
торжественных случаев не резали животных. Питались плодами,
дичью и молоком домашних животных, но из религиозных
соображений никто не мог умерщвлять домашнее животное
для собственного удовлетворения. Не подлежит ни
малейшему сомнению, как говорит Робертсон Смит, что всякое
жертвоприношение было приношением клана и что
умерщвление жертвы первоначально считалось таким действием,
которое каждому в отдельности запрещалось и
оправдывалось только в таком случае, если все племя брало на себя
ответственность. У примитивных народов имеется только
один род действий, для которых подходит эта
характеристика, а именно действий, вытекающих из святости общей
крови племени. Жизнь, которую не имеет права отнять один
человек и которая может быть принесена в жертву только с
согласия и при участии всех членов клана, стоит так же
высоко, как и жизнь самих членов клана. Правило, что
всякий гость при жертвенной трапезе должен вкусить мясо
жертвенного животного, имеет тот же смысл, что и
предписание, чтобы наказание виновного члена племени
совершалось всем племенем. Другими словами, с жертвенным
животным поступали как с членом родного племени,
приносившая жертву община, ее бог и жертвенное животное были
одной крови, членами одного клана.
На основании многочисленных доказательств Робертсон
Смит отождествляет жертвенное животное с древним
животным тотема. В более поздней древности существовали два
вида жертв — домашних животных: которые обыкновенно
709
Зигмунд ФРЕЙД
шли в пищу и необыкновенные жертвы животных,
запрещенных для еды как нечистые. Более детальное исследование
показывает, что эти нечистые животные были священными,
что они были отданы в жертву богам, которым были
посвящены, что первоначально эти животные были
тождественны с самими богами и что при жертвоприношении верующие
каким-нибудь образом подчеркивали свое кровное родство с
животным и с богом. Но в еще более ранние времена такого
различия между обыкновенными и «мистическими»
жертвами не существовало. Первоначально все животные
священны, их мясо запрещено и может быть употреблено в пищу
только в торжественных случаях, при участии всего племени.
Заколоть животное — все равно что пролить кровь племени,
и это должно происходить с такими же предосторожностями
и с предупреждением возможности упрека.
Приручение домашних животных и возникновение
скотоводства положили, по-видимому, повсюду конец чистому и
строгому тотемизму глубокой древности \ Но то, что из
святости домашних животных сохранилось в «пасторальной»
религии, достаточно ясно, чтобы показать первоначальный ее
тотемический характер. Еще в поздние классические времена
в различных местах ритуал предписывал приносящему
жертву по совершении жертвоприношения обращаться в бегство,
как будто для того, чтобы избежать наказания. В Греции, по
всей видимости, господствовала идея, что умерщвление быка
является преступлением. На афинском торжестве буфоний
после жертвоприношения устраивался настоящий суд, при
котором допрашивались все принимавшие участие. Наконец
сходились на том, чтобы взвалить вину за убийство на нож,
который бросали в море.
Несмотря на боязнь, защищавшую жизнь священного
животного как члена племени, становится необходимым время
от времени убивать такое животное в торжественном
собрании и разделять его мясо и кровь среди членов клана. Мотив,
1 «Вывод таков, что приручение животных, к которому неизменно
приводил тотемизм (если встречались животные, способные к приручению),
оказывалось фатальным для тотемизма» (levons. An Introduction to the History of
Religion. 1911. 5th cd. P. 120 (Эвонс. Введение в историю религии).
710
Тотем и табу
диктующий этот поступок, открывает глубочайший смысл
жертвоприношения. Как уже говорилось, в позднейшие
времена совместная еда, участие в той же субстанции, которая
проникает в их тело, создает священную связь между
членами общины; в более древние времена такое значение имело,
по-видимому, только участие в субстанции священного
животного. Священная мистерия смерти жертвы
оправдывается благодаря тому, что только этим путем можно
установить священную связь, соединяющую участников между собой
и с их богом.
Этой связью является не что другое, как жизнь
жертвенного животного, скрытая в его мясе и в его крови и при
жертвенной трапезе передающаяся всем участникам. Такое
представление лежит в основе всех кровных союзов,
посредством которых люди возлагали на себя взаимные
обязательства уже и в поздние времена. Безусловно реалистическое
понимание общности крови как тождества субстанции
объясняет необходимость время от времени возобновлять ее
физическим процессом торжественной трапезы.
Я не стану далее излагать мысли Робертсона Смита, а
сжато, вкратце резюмирую сущность: когда возникла идея
частной собственности, жертвоприношение понималось как
дар божеству, как принесение того, что принадлежит
человеку, в собственность богу. Однако это толкование не
объясняло всех особенностей жертвенного ритуала. В древнейшие
времена жертвенное животное само было свято, его жизнь
неприкосновенна, она могла быть отнята только при участии
и соучастии в этой вине всего племени и в присутствии бога,
чтобы дать святую субстанцию, поедая которую члены клана
утверждаются в своей материальной тождественности друг с
другом и с божеством. Жертвоприношение было таинством,
само жертвенное животное — членом племени. В
действительности оно было древним животным тотема, самым
примитивным богом, убийством и поеданием которого члены
клана освежали и утверждали свое богоподобие.
Из анализа жертвоприношения Робертсон Смит сделал
вывод, что периодическое умерщвление и поедание тотема
во времена, предшествовавшие почитанию антропоморфного
божества, составляло значительную часть тотемической ре-
711
Зигмунд ФРЕЙД
лигии. Церемониал, подобный тотемическои трапезе,
сохранился для нас в описании жертвоприношения более поздних
времен. Св. Нил описывает жертвенный обычай бедуинов
синайской пустыни в конце IV столетия по Р. X. Жертву —
верблюда — связывали и клали на алтарь из необтесанного
камня; предводитель же племени приказывал всем
участникам обойти три раза с пением вокруг алтаря, наносил
первую рану животному и жадно пил вытекающую кровь, затем
вся община бросалась на жертву, отрубала куски
вздрагивающего тела и пожирала их сырыми с такой поспешностью,
что в короткий промежуток времени, между восходом
утренней звезды, которой приносилась эта жертва, и поблед-
нением ее при появлении солнечных лучей, съедалось все
жертвенное животное: тело, кости, шкура, мясо и
внутренности. Этот варварский, носящий печать глубочайшей
древности ритуал был по всем данным не единичным обычаем,
а первоначальной общей формой жертвы тотема,
испытавшей в позднейшее время различные изменения.
Многие авторы отказывались придавать значение
концепции трапезы тотема, потому что ее нельзя было выводить из
непосредственного наблюдения периода тотемизма. Роберт-
сон Смит указал еще и на другие примеры, в которых, по-
видимому, жертвоприношение имело, несомненно, значение
таинства, в частности при человеческих
жертвоприношениях ацтеков, на другие, напоминающие условия тотемическои
трапезы жертвоприношения медвежьего племени квакиютль
в Америке и на медвежьи торжества айнов в Японии. Фрэзер
подробно описал эти и подобные случаи в обоих последних
разделах своего большого труда1.
Индейское племя в Калифорнии, почитающее большую
хищную птицу, убивает ее при торжественной церемонии
один раз в год, после чего ее оплакивают и сохраняют ее
кожу с перьями. Индейцы Zuni штата Нью-Мексико (США)
поступают таким же образом со своей священной ящерицей.
В церемониях интичиума центрально-австралийских
племен наблюдалась черта, прекрасно совпадающая с предполо-
1 FrazerJ.-D. The golden Bough. Part V: Spirit of the corn and of the wild.
1912.
712
Тотем и табу
жением Робертсона Смита. Каждое поколение, прибегающее
к магии для размножения своего тотема, которого ему самому
запрещено есть, обязано при церемонии само съесть
что-нибудь из своего тотема, прежде чем последний передается
другим племенам. Лучший пример таинственной трапезы обычно
запрещенного тотема приводится Фрэзером в связи с
погребальной церемонией у племен Bini в Западной Африке.
Но мы последуем за Робертсоном Смитом в его
предположении, что таинство умерщвления и общей трапезы
обычно запрещенного животного-тотема составляло
значительную характерную черту тотемической религии1.
Представим себе картину такой тотемической трапезы и
дополним ее некоторыми вероятными моментами, не
получившими до сих пор достойной оценки. Клан умерщвляет
жестоким образом свой тотем по торжественному поводу и
съедает его сырым всего, его кровь, мясо и кости; при этом
члены клана по внешнему виду имеют сходство с тотемом,
подражают его звукам и движениям, как будто хотят
подчеркнуть свое тождество с ним. При этом акте сознают, что
совершают запрещенное каждому в отдельности действие,
которое может быть оправдано только участием всех; никто
не может также отказаться от участия в умерщвлении и в
трапезе. По совершении этого действия оплакивают убитое
животное. Оплакивание убитого обязательно, под страхом
наказания; его главная цель, как замечает Робертсон Смит
при аналогичном положении, снять с себя ответственность
за убийство2.
Но вслед за этой скорбью наступает шумнейший,
радостный праздник, дается воля всем влечениям и разрешается
удовлетворить их все. И тут без всякого труда мы можем
понять сущность праздника.
Праздник — это разрешенный, больше того —
обязательный эксцесс, торжественное нарушение запрещения. Не пото-
1 Возражения, приведенные различными авторами против этой теории
жертвоприношения, не остались мне неизвестными, но, по существу, не
повредили впечатлению от теории Робертсона Смита.
2 Robertson Smith Y. Religion of the Semites. 1907. 2nd ed. P. 412.
713
Зигмунд ФРЕЙД
му, что люди, весело настроенные, следуя какому-нибудь
предписанию, предаются излишествам, а потому, что эксцесс
составляет сущность праздника. Праздничное настроение
вызывается разрешением обычно запрещенного.
Но что же означает введение к праздничному торжеству,
печаль по поводу смерти животного тотема? Если радуются
запрещенному обычно умерщвлению тотема, то почему в то
же время и оплакивают его? Мы отмечали, что члены клана
освящают себя поеданием тотема, укрепляют себя в своей
тождественности с ним и друг с другом. Торжественное наг
строение и все, что из него вытекает, можно было бы
объяснить тем, что они восприяли в себя священную жизнь,
носителем которой является субстанция тотема.
Психоанализ открыл нам, что животное-тотем
действительно является заменой отца, и этому соответствует
противоречие, что обычно запрещается его убивать и что
умерщвление его становится праздником, что животное убивают
и все же оплакивают его. Амбивалентная направленность
чувств, которой и теперь отличается отцовский комплекс у
наших детей и часто сохраняется на всю жизнь у взрослых,
переносится на замену отца в виде животного-тотема.
Однако если сравнить данное психоанализом толкование
тотема с фактом тотемической трапезы и с дарвиновской
гипотезой о первичном состоянии человеческого общества,
то мы получим возможность более глубокого понимания,
надежду на гипотезу, которая может показаться
фантастической, но имеет то преимущество, что создает неожиданное
единство между разрозненными рядами феноменов.
В Дарвиновой первичной орде нет места для зачатков
тотемизма. Здесь только жестокий ревнивый отец,
приберегающий для себя всех самок и изгоняющий подрастающих
сыновей, и ничего больше. Это первоначальное состояние
общества нигде не было предметом наблюдения. То, что мы
теперь еще находим как самую примитивную организацию,
что теперь еще сохраняет силу у известных племен,
представляет собой мужские союзы, состоящие из равноправных
членов и подлежащие ограничению согласно тотемической
системе при материнском наследовании. Могло ли
произойти одно из другого и каким образом это стало возможным?
714
Тотем и табу
Ссылка на тождество тотемической трапезы позволяет
нам дать ответ: в один прекрасный день1 изгнанные братья
соединились, убили и съели отца и положили таким образом
конец отцовской орде. Они осмелились сообща совершить
то, что было бы невозможно каждому в отдельности. Может
быть, культурный прогресс, умение владеть новым оружием,
дал им чувство превосходства. То, что они, кроме того, съели
убитого, вполне естественно для каннибалов-дикарей.
Жестокий праотец был, несомненно, образцом, которому
завидовал и которого боялся каждый из братьев. В акте
поедания они осуществляют отождествление с ним, каждый из
них усвоил себе часть его силы. Тотемическая трапеза,
может быть первое празднество человечества, была
повторением и воспоминанием этого замечательного преступного
деяния, от которого многое взяло свое начало: социальные
организации, нравственные ограничения и религия2.
1 К этому описанию, которое могут неправильно понять, прошу прибавить,
как корректив, заключительные строки следующего примечания.
2 Кажущееся невероятным предположение — убийство тиранического отца
благодаря объединению изгнанных сыновей — казалось и Аткинсопу прямым
следствием, вытекающим из условий орды, описанной Дарвином. «Орда
молодых братьев жила в вынужденном целибате или, лучше сказать, в полиандри-
ческих отношениях с какой-нибудь одной попавшей в плен женщиной. Так эта
орла жила до достижения половой зрелости; однако по мерс того как она
становилась сильнее, она неизбежно все снова и снова вступала в борьбу, желая
отпять и жену и жизнь у отца-тирана» (см. «Первобытный закон» Аткиисоиа).
Аткинсон, проведший свою жизнь в Новой Каледонии и находившийся в
необыкновенно благоприятных условиях для изучения туземцев, ссылается также
и на то, что предполагаемые Дарвином обстоятельства жизни первобытной
орды легко можно наблюдать в табунах диких лошадей и быков и что эти
условия всегда ведут к убийству животного-отца. Он далее предполагает, что
после устранения отца наступает распад орды вследствие ожесточенной борьбы
сыновей-победителей между собой. Таким путем никогда не возникла бы новая
организация общества: все снова повторяющееся насильственное восшествие
сына на место единоличного отца-тирана даст возможность отцеубийце в очень
скором времени утверждаться в братоубийственных распрях. Аткинсон,
который не мог пользоваться указаниями психоанализа и которому не были
известны исследования Робсртсопа Смита, находит менее насильственный
переход от первобытной орды к ближайшим социальным ступеням, на которых
многочисленные мужчины уживаются в мирном сожительстве. Он допускает, что
материнская любовь добивается того, что в орде остаются сначала только самые
младшие сыновья, а позже и другие, за что эти, терпимые, должны признать
сексуальные преимущественные права отца в форме отказа их от матери и сестер.
Такова чрезвычайно заслуживающая внимания теория Аткинсона, таково
се совпадение с изложенным здесь в существенном пункте и — се отступление
715
Зигмунд ФРЕЙД
Для того чтобы, не считаясь с разными
предположениями, признать вероятными эти выводы, достаточно допустить,
что объединившиеся братья находились во власти тех же
противоречивых чувств к отцу, которые мы можем
обнаружить и у наших детей, и у наших противников как
содержание амбивалентности отцовского комплекса. Они ненавидели
отца, который являлся таким большим препятствием на пути
удовлетворения их стремлений к власти и их сексуальных
влечений, но в то же время они любили его и восхищались
им. Устранив его, утолив свою ненависть и осуществив свое
желание отождествиться с ним, они должны были попасть
во власть усилившихся нежных душевных движений1.
Это приняло форму раскаяния, возникло сознание вины,
совпадающее здесь с испытанным всеми раскаянием.
Мертвый теперь стал сильнее, чем он был при жизни; все это
произошло так, как мы теперь еще можем проследить на судьбах
людей. То, чему он прежде мешал своим существованием, они
сами себе теперь запрещали, попав в психическое состояние
хорошо известного из психоанализа «позднего послушания».
Они отменили поступок, объявив недопустимым убийство
заместителя отца, тотема, и отказались от его плодов,
отказавшись от освободившихся женщин. Таким образом, из
сознания вины сына они создали два основных табу тотемизма,
которые должны были поэтому совпасть с обоими
вытесненными желаниями Эдипова комплекса. Кто поступал наоборот,
тот обвинялся в единственных двух преступлениях,
составлявших предмет заботы примитивного общества2.
от высказанного нами, из которого вытекает отказ от общей связи со многими
другими явлениями.
Неопределенность, сокращение во времени и сжатость содержания в
моем изложении я могу объяснить сдержанностью, обусловленной природой
самого предмета исследования. Было бы так же бессмысленно добиваться
точности в этих вопросах, как напрасно было бы требовать полной уверенности.
1 Этой новой направленности чувств способствовало то, что поступок этот
не мог принести удовлетворение никому из совершивших его. В известном
смысле его совершили напрасно. Никто из сыновей не мог осуществить свое
первоначальное желание — занять место отца. А неудача, как известно, гораздо
больше способствует нравственной реакции, чем удовлетворение.
2 Убийство и инцест или другое какое-нибудь преступление против
священных законов крови были единственными злодеяниями в примитивном обществе,
которые община признавала подсудными (Religion of the Semites. P. 419).
716
Тотем и табу
Оба табу тотемизма, с которых начинается
нравственность людей, психологически неравноценны. Только одно из
них — необходимость щадить животное-тотем — покоится
всецело на мотивах чувства; отец был устранен, в
реальности нечего было исправлять. Но другое запрещение —
инцеста — имело также сильное практическое основание. Половая
потребность не объединяет мужчин, а разъединяет их. Если
братья заключили союз, для того чтобы одолеть отца, то по
отношению к женщинам каждый оставался соперником
другого. Каждый, как отец, хотел овладеть ими для себя, и в
борьбе всех против всех погибла бы новая организация. Но
самых сильных, кто мог бы с успехом взять на себя роль
отца, было несколько. Таким образом, братьям, если они
хотели жить вместе, не оставалось ничего другого, как, быть
может, преодолеть сильные непорядки, установить инцесту-
озный запрет, благодаря которому все они одновременно
отказались от желанных женщин, ради которых они прежде
всего и устранили отца. Они спасли, таким образом,
организацию, сделавшую их сильными и основанную на
гомосексуальных чувствах и проявлениях, которые могли
развиться у них за время изгнания. Может быть, это и было
положение, составлявшее зародыш открытого И.-Я. Бахофе-
ном матриархального права, пока оно не сменилось
патриархальным семейным укладом.
С другим табу, защищающим жизнь животного-тотема,
связывается право тотемизма считаться первой попыткой
создания религии. Если ощущению сыновей
животное-тотем казалось естественной и ближайшей заменой отца, то в
навязанном им обращении с этим животным проявлялось
нечто большее, чем потребность дать выражение своему
раскаянию. С суррогатом отца можно было сделать попытку
успокоить жгучее чувство вины, осуществить своего рода
примирение с отцом. Тотемическая система была как бы
договором с отцом, в котором последний обещал все, чего
только детская фантазия могла ждать от отца: защиту,
заботу и снисходительность, взамен чего сыновья брали на себя
обязанность печься о его жизни, то есть не повторять над
ним деяния, сведшего в могилу настоящего отца. В
тотемизме заключалась также и попытка оправдаться: «Если бы отец
717
Зигмунд ФРЕЙД
поступал с нами так, как тотем, то у нас никогда бы не
явилось искушение его убить». Таким образом, тотемизм
способствовал тому, чтобы представить обстоятельства в
ином свете и содействовать забвению события, которому он
обязан своим возникновением.
При этом создались черты, определявшие впоследствии
характер религии. Тотемическая религия произошла из
сознания вины сыновей — как попытка успокоить это чувство
и умилостивить оскорбленного отца «поздним
послушанием». Все последующие религии были попытками разрешить
ту же проблему различными путями — в зависимости от
культурного состояния, в котором они предпринимались, и
от путей, которыми шли; все они преследовали одну и ту
же цель — реакцию на великое событие, с которого
началась культура и которое с тех пор не дает покоя
человечеству.
Но и другой признак, точно сохраненный религией, уже
тогда проявился в тотемизме. Амбивалентное напряжение
было, вероятно, слишком велико, чтобы прийти в
равновесие от какого-нибудь установления, или же психологические
условия вообще не благоприятствуют изживанию этих
противоположных чувств. Во всяком случае, заметно, что
связанная с отцовским комплексом амбивалентность
переносится также и в религию. Религия тотемизма охватывает не
только выражение раскаяния и попытки искупления, но
служит также воспоминанием о триумфе над отцом.
Удовлетворение по этому поводу обусловливает празднование
поминок в виде тотемическои трапезы, при которой отпадают
ограничения «позднего послушания», вменяется в
обязанность всякий раз заново воспроизводить преступление —
убийство отца в виде жертвоприношения тотемического
животного, когда вследствие изменившихся влияний жизни
грозила опасность исчезнуть сохранившемуся результату
того деяния, усвоению особенностей отца. Нас не удивит, если
мы найдем, что и сыновнее сопротивление также снова
возникнет отчасти в позднейших религиозных образованиях,
в самых замечательных превращениях и перевоплощениях.
Если мы проследим в религии и в нравственном
прогрессе, еще не строго разделенных в тотемизме, последствия пре-
718
Тотем и табу
вратившейся в раскаяние нежности к отцу, то для нас не
останется незамеченным, что, в сущности, победу одержали
тенденции, диктовавшие убийство отца. Социальные
чувства братства, на которых зиждется великий переворот,
приобретают с этого момента глубочайшее влияние на развитие
общества. Они находят себе выражение в святости общей
крови, в подчеркивании солидарности жизни всех
принадлежащих к тому же клану. Обеспечивая себе таким образом
жизнь, братья этим хотят сказать, что никто из них не
должен поступать с другими так, как они все вместе поступили
с отцом. Они исключают возможность повторения судьбы
отца. К религиозно обоснованному запрещению убийства
присоединяется еще социально обоснованное запрещение
убивать брата. Много пройдет времени, пока заповедь
освободится от ограничения только кругом соплеменников и будет
гласить просто: не убий.
Сначала место патриархальной орды занял братский
клан, обеспечивший себя кровной связью. Общество
покоится теперь на соучастии в совместно совершенном
преступлении, религия — на сознании вины и раскаянии,
нравственность — отчасти на потребностях этого общества,
отчасти на раскаянии, требуемом осознанием вины.
В противоположность новому и совпадая со старым
пониманием тотемической системы, психоанализ обязывает
нас, таким образом, придерживаться взгляда о глубокой
связи и одновременности происхождения тотемизма и
экзогамии.
-6-
Под влиянием большого числа мотивов я удерживаюсь
от попытки описать дальнейшее развитие религий с самого
их начала в тотемизме до их теперешнего состояния. Я хочу
проследить только две нити, появление которых в общей
ткани я вижу особенно ясно: мотив тотемической жертвы
и отношение между сыном и отцом.
Робертсон Смит учил нас, что древняя тотемическая
трапеза вновь возвращается к первоначальной форме жертвы.
719
Зигмунд ФРЕЙД
Смысл действия тот же: освящение благодаря участию в
общей трапезе, и сознание вины осталось при этом, умаленное
только благодаря солидарности всех участников. Новым
добавлением является божество племени, в воображаемом
присутствии которого имеет место жертвоприношение;
божество принимает участие в трапезе как член племени, и с
ним отождествляют себя, принимая в пищу жертвенное
мясо. Каким образом бог попадает в первоначально чуждое ему
положение?
Ответ мог бы быть таким: за это время — неизвестно
откуда — возникла идея божества, которая подчинила себе всю
религиозную жизнь, и, подобно всему другому, что хотело
сохраниться, тотемическая трапеза должна была найти связь
с новой системой. Но психоаналитическое ис-следование
показывает с особенной ясностью, что каждый создает бога по
образу своего отца, что личное отношение к богу зависит от
отношения к телесному отцу и вместе с ним претерпевает
колебания и превращения и что бог, в сущности, является не
чем иным, как превознесенным отцом. Психоанализ
рекомендует и здесь, как и при тотемизме, поверить верующим,
называющим бога отцом, подобно тому как древние тотема
называли предком. Если психоанализ заслуживает
какого-нибудь внимания, то, независимо от всех других источников
происхождения и значений бога, на которые психоанализ не
может пролить свет, доля отца в идее божества должна быть
очень значительной. В таком случае в положении
примитивного жертвоприношения отец замещается два раза: однажды
как бог и другой раз — как тотемическое жертвенное
животное; и при всей скромности и разнообразии
психоаналитических толкований мы должны спросить: возможно ли это
и какой это имеет смысл?
Нам известно, что между богом и священным животным
(жертвенным животным) существуют различные
взаимоотношения: 1 ) каждому богу обыкновенно посвящается какое-
нибудь животное, нередко даже несколько; 2) при известных
особенно священных жертвоприношениях («мистических»)
богу приносили в жертву именно посвященное ему
животное; 3) бога часто почитали (или обожали) в образе
животного, или, иначе говоря, животные пользовались божеским
720
Тотем и табу
почитанием еще долгое время спустя после эпохи
тотемизма; 4) в мифах бог часто превращается в животное, нередко
в посвященное ему животное. Таким образом,
напрашивается предположение, что бог сам является животным-тотемом;
он развился из животного-тотема на более поздней ступени
религиозного чувствования. Но все дальнейшие дискуссии
излишни при том соображении, что сам тотем не что иное,
как замена отца. Таким образом, он является первой формой
замены отца, а бог — позднейшей, в которой отец снова
приобрел свой человеческий образ. Такое новообразование,
происшедшее из корня всякого религиозного развития — тоски
по отцу, стало возможным с того времени, когда многое, по
существу, изменилось в отношениях к отцу и, может быть,
и к животному.
О таких изменениях нетрудно догадаться, даже если и
не принимать во внимание начала психического отчуждения
от животного и разложения тотемизма благодаря
приручению домашних животных. В положении, создавшемся
благодаря устранению отца, скрывался момент, который с
течением времени должен был невероятно усилить тоску по отцу.
Братья, соединившиеся для убийства отца, были каждый
в отдельности одушевлены желанием стать равными отцу и
выражали это желание принятием в пищу частей
заменяющего его тотема на трапезе. Это желание должно было
оставаться неосуществленным вследствие давления, которое
оказывали узы братского клана на каждого участника. Никто не
мог и не должен был достигнуть совершенного
всемогущества отца, к которому они все стремились. Таким образом, в
течение долгого времени озлобление против отца, толкавшее
на деяние, ослабело, тоска по нем возросла, и мог развиться
идеал, имевший содержанием всю полноту и
неограниченность власти праотца, против которого велась борьба, и
готовность ему подчиниться. Первоначальное демократическое
равенство всех соплеменников уже нельзя было больше
сохранить вследствие противоречащих культурных изменений;
таким образом, появилась склонность в связи с
почитанием отдельных людей, отличившихся среди других, вновь
оживить старый отцовский идеал созданием богов. То, что
нам в настоящее время кажется возмутительным допущени-
721
Зигмунд ФРЕЙД
ем, а именно что человек становится богом и что бог умирает,
не вызывало протеста даже в представлениях классической
древности1. Возведение убитого некогда отца в степень бога,
от которого племя ведет свой род, было, однако, гораздо
более серьезной попыткой искупления, чем в свое время
договор с тотемом.
Я не могу указать, где в этом развитии находится место
для великих материнских богов, которые, может быть,
повсеместно предшествовали отцовским богам. Но кажется
несомненным, что изменение в отношениях к отцу не
ограничилось религиозной областью, а последовательно
перенеслось на другую область человеческой жизни, на которой
отразилось влияние устранения отца, — на социальную
организацию. С возникновением отцовского божества
общество, не знавшее отца, постепенно превращалось в
патриархальное. В семье была восстановлена прежняя первобытная
орда, и отцы получили большую часть своих прежних прав.
С усилением власти отцов социальные завоевания
братского клана не погибли, а фактическое различие между новыми
отцами семейства и неофаниченным праотцем орды было
достаточно велико, чтобы обеспечить продолжение
существования религиозной потребности, сохранить
неудовлетворенную тоску по отцу.
В сцене жертвоприношения богу племени отец
действительно присутствует дважды — как бог и как тотемическое
жертвенное животное, но при попытке понять это
положение мы должны будем избегать толкований, пытающихся
поверхностно объяснить его как аллегорию и не
учитывающих исторических наслоений. Двойное присутствие отца
соответствует двум сменяющим друг друга по времени сценам.
Здесь нашло пластическое выражение амбивалентное
отношение к отцу, а также победа нежных чувств сына над враж-
1 «Нам, современным людям, у которых расстояние, отделяющее людей от
божества, увеличилось до непроходимой бездны, такая пантомима может
показаться одиозной, но у древних народов это было совсем по-другому.
Воображаемые боги и человек казались единокровными, некоторые семьи вели свое
происхождение от божества, и обожествление человека, вероятно, казалось им
не более экстраординарным, чем канонизация святого у наших католиков»
(FrazerJ.-D. The golden Bough. Part IL P. 177).
722
Тотем и табу
дебными. Сцена одоления отца и его величайшего унижения
послужила материалом для изображения его высшего
триумфа. Значение, приобретенное жертвоприношением
вообще, кроется в том, что оно дает удовлетворение отцу за
причиненное ему оскорбление в том же действии, которое
сохраняет воспоминание об этом злодеянии.
В дальнейшем животное теряет свою святость, а
жертвоприношение — связь с тотемическим праздником;
жертвоприношение превращается в простое приношение божеству,
в самоограничение — в пользу божества. Сам бог теперь уже
настолько возвысился над людьми, что общение с ним
возможно только через священнослужителя. В то же время
социальный порядок знает равных богам царей, переносящих
патриархальную систему на государство. Мы должны
сказать, что месть сверженного и вновь восстановленного отца
стала суровой, господство авторитета держится на высоте.
Подчиненные сыновья использовали новое положение,
чтобы еще больше облегчить сознание своей вины.
Жертвоприношение в его настоящем виде находится совсем вне их
сознания ответственности. Сам бог потребовал и установил
его. К этой фазе относятся мифы, в которых бог убивает
посвященное ему животное, собственно олицетворяющее
его. Таково крайнее отрицание великого злодеяния,
положившего начало обществу и вместе с тем сознанию вины.
Нельзя не признать и второго значения этого последнего
изображения жертвоприношения. Оно выражает
удовлетворение по поводу того, что отказались от прежней замены
отца в пользу высшего представления о божестве.
Поверхностное, аллегорическое толкование сцены приблизительно
совпадает здесь с ее психоаналитическим толкованием. Оно
гласит: здесь изображается, как бог преодолевает животную
часть своего существа1.
1 Победа одного культа богов над другим в мифологии означает, как
известно, исторический процесс замены одной религиозной системы новой
вследствие ли завоевания чужим народом или в силу психологического развития.
В последнем случае миф приближается к «функциональным феноменам»
(X. Зильбсрер). Предположение, что убивающий животное бог является
символом либидо, как утверждает К.-Г. Юнг, исходит из другого понимания либи-
До, чем принятое до сих пор, и мне кажется вообще спорным.
723
Зигмунд ФРЕЙД
Между тем ошибочно было бы полагать, что в эти
периоды обновленного отцовского авторитета совершенно
заглохли враждебные душевные движения, относящиеся к
отцовскому комплексу. О первых фазах господства обоих новых
замещений богов и царей нам известны самые энергичные
проявления той амбивалентности, которая остается
характерной для религии.
Фрэзер в «Золотой ветви» высказал предположение, что
первые цари латинских племен были чужеземцами,
игравшими роль божества, и что в этой роли их торжественно
убивали в определенный праздничный день. Ежегодное
жертвоприношение (вариант: приношение в жертву самого себя)
бога составляет, по-видимому, существенную черту
семитских религий. Церемониал человеческих жертв в различных
местах обитаемой земли оставляет мало места сомнению в
том, что эти люди находили свою смерть как представители
божества, и еще в позднейшие времена можно проследить
этот жертвенный обычай в виде замещения живого
человека неодушевленным суррогатом (куклой). Богочеловеческое
приношение в жертву бога, которое я здесь, к сожалению, не
могу проследить так же глубоко, как приношение в жертву
животных, бросает яркий ретроспективный свет на смысл
более древней жертвенной формы. Оно признает с
полнейшей откровенностью, что объект жертвенного действия был
всегда один и тот же, именно тот, который теперь почитается
как бог, то есть отец. Вопрос о взаимоотношении между
животными и человеческими жертвами теперь легко
разрешается. Первоначальная жертва — животное — была лишь
заменой человеческой жертвы, торжественного убийства отца,
и когда замена отца снова приобрела свой человеческий
образ, то и жертва-животное могла снова превратиться в
человеческую.
Таким образом, воспоминание о том первом великом
жертвенном действии оказалось неизгладимым, несмотря на
все старания его забыть; и именно тогда, когда хотели как
можно дальше уйти от мотивов этого деяния, должны
были проявиться повторения его в форме принесения в
жертву бога. И мне незачем уже указывать, какое развитие
религиозного мышления сделало возможным это возвращение
724
Тотем и табу
в виде рационализации. Робертсон Смит, который далек от
нашего объяснения жертвоприношения этим великим
событием доисторической эпохи человечества, указывает, что
церемониал этих праздников, на которых древние семиты
праздновали смерть божества, объяснялся «воспоминанием
о мистической трагедии»- и что оплакивание при этом
носило характер не добровольного участия, а чего-то
насильственного, продиктованного страхом перед божественным
гневом1.
Думаем, можно согласиться, что это истолкование
совершенно правильно и что чувства принимающих участие в
празднике вполне объяснимы.
Примем за факт, что и в дальнейшем развитии религии
никогда не исчезают оба движущих ее фактора: сознание
вины сына и сыновнее сопротивление. Всякая попытка
разрешить проблему, всякий способ примирения обеих
борющихся душевных сил оказываются в конце концов
неудачными, вероятно, из-за комбинированного влияния
исторических событий и внутренних психических
превращений.
Со все большей очевидностью проявляется стремление
сына занять место бога-отца. С введением земледелия
поднимается значение сына в патриархальной семье. Он
позволяет себе дать новое выражение своему инцестуозному
либидо, находящему свое символическое выражение в
обработке матери-земли. Возникают образы богов Аттиса, Адониса,
Фаммуза и других духов произрастания и в то же время —
молодых божеств, пользующихся любовной склонностью
материнских божеств и осуществляющих инцест с матерью
назло отцу. Однако сознание вины, которое не могут заглушить
эти новые творения, находит себе выражение в мифах,
приписывающих этим молодым возлюбленным матерей-богинь
короткую жизнь и наказание кастрацией или гневом бога-от-
1 Religion of the Semites. P. 412—413. «Оплакивание — не свободное
выражение симпатии по отношению к божеству трагедии, оно обязательно и
требуется под страхом сверхъестественного гнева божества. Оплакивающие
прежде всего отрицают свою ответствеююсть за смерть бога, этот пункт дошел
и до нас в связи с богочеловеческими жертвами, как, например, у закалывате-
лей быков в Афинах».
725
Зигмунд ФРЕЙД
ца, принимающего форму животного. Адониса убивает вепрь,
священное животное Афродиты; Аттис, возлюбленный Ки-
беллы, погибает от кастрации,.
Оплакивание и радость по поводу воскресения богов
перешли в ритуал другого сына-божества, которому
предопределен был длительный успех.
Когда христианство начало свое наступление на древний
мир, оно столкнулось с конкуренцией религии Митры, и
некоторое время трудно было определить, за каким
божеством останется победа.
Светозарный образ персидского юноши-бога все-таки
остался нам непонятным. Может быть, из сцены убийства
быка Митрой можно заключить, что он представляет собой
того сына, который сам совершил жертвоприношение отца
и этим освободил братьев от мучающего тяжелого чувства
вины за соучастие в деянии. Но был и другой путь
успокоить это чувство вины, которым и пошел Христос. Он принес
в жертву свою собственную жизнь и этим освободил братьев
от первородного греха.
Учение о первородном грехе орфического происхождения.
Оно сохранилось в мистериях и оттуда проникло в
философские школы греческой древности2. Люди были потомками
титанов, убивших и разорвавших на куски Диониса за грех;
тяжесть этого преступления давила их. В фрагменте Анакси-
мандра сказано, что единство мира было разрушено из-за
доисторического преступления и что все, что произошло от
1 Страх кастрации играет невероятно большую роль в порче отношений с
отцом у наших молодых невротиков. Из прекрасного наблюдения Ференци мы
видим, как мальчик узнает свой тотем в животном, которое хочет укусить его
за половой орган. Когда паши дети узнают о ритуальном обрезании, они
отождествляют его с кастрацией. Параллель из области психологии народов этому
поведению детей, насколько я знаю, еще не указана. Столь частое в
доисторические времена и у примитивных народов обрезание относится к периоду
посвящения во взрослые мужчины, где оно приобретает свое значение, и только
впоследствии переносится в более раннюю эпоху жизни. Чрезвычайно
интересно, что у примитивных народов обрезание комбинируется со срезыванием
волос или с вырыванием зубов или заменяется ими и что наши дети, которые
ничего не могут знать об этом положении вещей, при своих реакциях страха
относятся к этим обеим операциям как к эквивалентам кастрации.
2 Reinach S. Cultes, Mythes et Religions. II. P. 75 ff (см.: Рейнах С. Культы,
мифы и религии).
726
Тотем и табу
последнего, должно нести за это наказание1. Если этот
поступок титанов характерной чертой объединения убийства и
разрывания достаточно ясно напоминает описанное св.
Нилом жертвоприношение тотема, — как, впрочем, и многие
другие мифы древности, например смерть самого Орфея, — то
все же нам мешает то отступление, что убийство совершено
над молодым богом.
В христианском мифе первородный грех человека
представляет собой, несомненно, прегрешение против Бога-Отца.
Если Христос освобождает людей от тяжести первородного
греха, жертвуя собственной жизнью, то это заставляет нас
прийти к заключению, что этим грехом было убийство.
Согласно коренящемуся глубоко в человеческом чувстве закону
Талиона, убийство можно искупить только ценой другой
жизни; самопожертвование указывает на кровавую вину2. И если
это приношение в жертву собственной жизни ведет к
примирению с Богом-Отцом, то преступление, которое нужно
искупить, может быть только убийством отца.
Таким образом, в христианском учении человечество
самым откровенным образом признается в преступном деянии
доисторического времени, потому что самое полное его
искупление оно нашло в жертвенной смерти сына.
Примирение с отцом тем более полное, что одновременно с этой
жертвой последовал полный отказ от женщины, из-за
которой произошло возмущение против отца. Но тут-то
психологический рок амбивалентности требует своих прав. Вместе
с деянием, дающим отцу самое позднее искупление, сын
также достигает цели своих желаний по отношению к отцу. Он
сам становится богом наряду с отцом, собственно, вместо
него. Религия сына сменяет религию отца. В знак этого
замещения древняя тотемическая трапеза снова оживает как
причастие, в котором братья вкушают плоть и кровь сына, а
не отца, освящаются этим причастием и отождествляют себя
с ним. Наш взгляд может проследить в потоке времен тож-
1 По: Une sorte de peche proethique. I. с. Р. 76 (по: Первородный грех).
2 Импульсы к самоубийству наших невротиков всегда оказываются
наказанием самого себя за желание смерти другим.
727
Зигмунд ФРЕЙД
дество тотемической трапезы с жертвоприношением
животных, с богочеловеческим жертвоприношением и с
христианской евхаристией, и во всех этих торжествах он открывает
отголосок того преступления, которое столь угнетало людей
и которым они должны были так гордиться. Христианское
причастие, однако, является, по существу, новым
устранением отца, повторением деяния, которое нужно искупить. Мы
видим, как верны слова Фрэзера, что «христианская община
впитала в себя таинство более древнего происхождения, чем
само христианство»1.
-7-
Дело устранения праотца братьями должно было оставить
неизгладимые черты в истории человечества и проявиться в
тем более многочисленных замещениях, чем менее
желательно было сохранить воспоминание о нем2. Я отказываюсь от
искушения проследить эти остатки в мифологии, где их
нетрудно найти, и перехожу к другой области, следуя указанию
С. Рейнаха в его содержательной статье о смерти Орфея3.
В истории греческого искусства существует положение,
имеющее одно удивительное сходство и не менее глубокое
отличие по сравнению с нарисованной Робертсоном Смитом
картиной тотемической трапезы: это — положение древней-
1 Съедание бога, с. 51. Кто знаком с литературой предмета, тот не думает,
что сведение христианского причастия к тотемической трапезе является
мыслью только автора этой статьи.
2 Ариэль в «Буре»:
На тридцать пять футов
В воде твой отец.
Что было костями —
В коралл обратилось;
Что было глазами —
То перлами стало.
Ничто в разрушение
В нем не пришло,
Но только все в нем
Обратилось в морское.
Пер. П. A. Каншина
3 «La Mort d'Orphée» в часто цитируемой здесь книге «Cultes, Mythes et
Religions» (I-II. P. 100 (().
728
Тотем и табу
шей греческой трагедии. Группа лиц, все с одинаковым
именем и в одинаковой одежде, окружают одного, от слов и
поступков которого они все зависят: это — хор и сначала
единственный герой. В дальнейшем развитии появляется
другой актер, для того чтобы изобразить тех, кто
сопротивляется ему и отпал от него, но характер героя и его
отношение к хору остаются неизменными. Герой трагедии должен
был страдать; это и теперь еще сущность содержания
трагедии. Он должен взять на себя так называемую трагическую
вину, которую не всегда легко обосновать, часто это вовсе не
вина в смысле буржуазной морали. Большей частью она
состояла в возмущении против божественного авторитета, и
хор вторил герою, выражая ему чувство симпатии, старался
удержать его, предупредить и смирить и оплакивал его, когда
героя постигало считавшееся заслуженным возмездие за его
смелый поступок.
Но почему герой трагедии должен был страдать и что
означает его «трагическая вина»? Мы сократим дискуссию и
дадим быстрый ответ. Он должен пострадать, потому что он
праотец, герой той великой доисторической трагедии,
тенденциозное воспроизведение которой здесь разыгрывается, а
трагическая вина эта та, которую он должен взять на себя,
чтобы освободить от вины хор. Сцена на подмостках
произошла от той исторической сцены, можно сказать, при
помощи целесообразного искажения, в целях утонченного
лицемерия. В той древней действительности именно участники
хора причинили страдание герою; здесь же они изводят себя
сочувствием и сожалением, а герой сам виноват в своем
страдании. Взваленное на него преступление — заносчивость и
возмущение против большого авторитета — составляет
именно то, что в действительности тяготит участников хора.
Таким образом, трагический герой — против воли —
становится спасителем хора.
Если в греческой трагедии страдания божественного
козла Диониса и жалобы отождествляющей себя с ним свиты
козлов стали содержанием представления, то легко понять,
что угасшая уже драма вновь возродилась в середине века
в «страстях господних».
729
Зигмунд ФРЕЙД
Таким образом, в заключение этого крайне сжатого
исследования я хочу сделать вывод, что в эдиповом комплексе
совпадают начала религии, нравственности, общественности
и искусства в полном согласии с данными психоанализа, по
которым этот комплекс составляет ядро всех неврозов,
поскольку они до сих пор оказываются доступными нашему
пониманию. Мне кажется сомнительным, что и эта проблема
душевной жизни народов может быть разрешена, если
исходить из одного только конкретного пункта, каким является
отношение к отцу. Может быть, в эту связь нужно ввести и
другую психологическую проблему. Нам так часто случалось
открывать амбивалентность чувств в настоящем смысле, то
есть совпадение любви и ненависти к одному и тому же
объекту, в основе значительных культурных образований. Мы
ничего не знаем о происхождении этой амбивалентности.
Можно допустить, что она — основной феномен жизни
наших чувств. Но, как мне кажется, достойна внимания и
другая возможность, а именно что первоначально
амбивалентность чужда жизни чувств и приобретается человечеством
благодаря переживанию отцовского комплекса1, где
психоаналитическое исследование еще и теперь открывает его всего
более выраженным у отдельного человека2.
Прежде чем окончить, я хочу заметить, что широкое,
всеобъемлющее обобщение, к которому мы пришли в этих
статьях, не лишает нас возможности чувствовать некоторую
неуверенность в наших исходных положениях и
неудовлетворительность достигнутых результатов. Из этой области
я хочу коснуться только двух моментов, на которые,
вероятно, обратили внимание читатели.
1 Или родительского комплекса.
2 Так как я привык к неправильному пониманию, то считаю нелишним
специально подчеркнуть, что данные здесь объяснения не означают, что мною
забыта сложная природа разбираемых феноменов, но я хочу только прибавить
новый момент к известным уже или еще не открытым источникам религии,
нравственности и общества, момент, вытекающий из требований, подсказанных
психоаналитическими взглядами. Синтез полного объяснения я предоставляю
другим. Но из природы этих новых данных вытекает, что в таком синтезе они
должны будут ифать только центральную роль, хотя потребуется преодоление
больших эффективных сопротивлений, прежде чем за ними будет признано это
значение.
730
Тотем и табу
Во-первых, нельзя было не заметить, что мы берем за
основу массовой психики, в которой протекают те же
душевные процессы, что и в жизни отдельного лица. Мы
допускали существование на протяжении многих тысячелетий
сознания вины за содеянное в поколениях, которые ничего
не могли знать об этом деянии. Чувственный процесс,
возникший в поколении сыновей, которых мучил отец, мы
распространяем на новые поколения, которые именно
благодаря устранению отца не знали таких отношений. Может
показаться, что это серьезные возражения, и всякое другое
объяснение, лишенное подобных исходных предположений,
как будто бы заслуживает предпочтения.
Однако дальнейшие соображения показывают, что не нам
одним приходится нести ответственность за подобную
смелость. Без допущения наличия массовой психики,
непрерывности в жизни чувств людей, которая дает возможность
игнорировать прерываемость душевных актов вследствие гибели
индивидов, психология народов вообще не может
существовать. Если бы психические процессы одного поколения не
находили продолжения в другом, если бы каждое поколение
должно было заново приобретать свою направленность к
жизни, то в этой области не было бы никакого прогресса и почти
никакого развития. Возникает теперь два новых вопроса:
насколько можно доверять психической беспрерывности в
пределах рядов поколений и какими средствами и путями
пользуется каждое поколение, чтобы передать свое психическое
состояние последующему? Не стану утверждать, что все эти
вопросы достаточно выяснены или что простая устная
передача и традиция, о которых прежде всего думают, хорошо
объясняют это. В общем, психология народов мало
раскрывает проблему, таким образом, создается необходимая
непрерывность душевной жизни сменяющих друг друга поколений.
Часть задачи осуществляется, по-видимому, благодаря
унаследованию психических предрасположений, которые, однако,
все-таки нуждаются в известных побуждениях в
индивидуальной жизни, для того чтобы проснуться к полной
действительности. В этом, вероятно, и заключается смысл слов поэта:
«То, что ты унаследовал от твоих отцов, добудь для того,
чтобы овладеть им». Проблема вообще оказалась бы еще бо-
731
Зигмунд ФРЕЙД
лее трудной, если бы мы могли допустить, что бывают
душевные движения, так бесследно подавляемые, что они не
оставляют никаких остаточных явлений. Но таких на самом деле
нет. Самое сильное подавление оставляет место искаженным
замещающим душевным движениям и вытекающим из них
реакциям. В таком случае мы можем допустить, что ни одно
поколение не в состоянии скрыть от последующего более или
менее значительные душевные процессы.
Психоанализ показал нам, что каждый человек в своей
бессознательной душевной деятельности обладает аппаратом,
который дает ему возможность толковать реакции других
людей, то есть устранять искажения, которые другой человек
совершил в выражениях своих чувств. Путем
бессознательного понимания обычаев, церемониалов и узаконений, в
которые отлилось первоначальное отношение к праотцу, могло
и более поздним поколениям удаваться унаследование
подобных чувств к праотцу.
Другое сомнение могло бы возникнуть как раз со
стороны тех, кто придерживается аналитического образа мыслей.
Первые предписания морали и нравственные
ограничения примитивного общества мы рассматривали как реакцию
на деяния, давшие его зачинщикам понятие о преступлении.
Они раскаялись в этом деянии и решили, что оно не должно
больше повторяться и что совершение его не может дать
никакой пользы. Это творческое сознание вины не заглохло
среди нас и до сих пор. Мы находим его у невротиков
действующим как асоциальное, как творящее новые
предписания морали и непрерывные ограничения, как покаяние в
совершенных преступлениях и как мера предосторожности
против тех, которые предстоит совершить1. Но если мы
станем искать у этих невротиков поступков, вызвавших такие
реакции, то нам придется разочароваться. Мы не находим
поступков, а только импульсы, движения чувств,
стремящихся ко злу, исполнение которого сдерживается. Сознание
вины невротиков имеет основание только в психических
реальностях, а не в фактических. Невроз характеризуется тем,
что ставит психическую реальность выше фактической, ре-
Ср. вторую статью этого сборника «О табу».
732
Тотем и табу
агирует на мысли столь же серьезно, как нормальные
люди — на действительность.
Не происходило ли у примитивных народов дело таким
же образом? Мы вправе приписывать им необыкновенно
высокую оценку психических актов как одно из проявлений их
нарцистической организации1. Поэтому одних только
импульсов, враждебных отцу, существования в фантазии
желания убить его и съесть, могло быть достаточно, чтобы
вызвать моральные реакции, создавшие тотем и табу. Таким
образом, можно было бы избавиться от необходимости
свести начало нашего культурного достояния, которым мы с
основанием так гордимся, к отвратительному преступлению,
оскорбляющему все наши чувства. При этом ничуть не
пострадала бы причинная связь, идущая с тех пор до
настоящего времени, потому что психическая реальность оказалась
бы достаточно убедительной, чтобы объяснить все эти
последствия. Возможно возражение, что эволюция общества от
формы отцовской орды до формы братского клана
действительно имела место. Это — аргумент сильный, но не
решающий. Это изменение могло быть достигнуто менее
насильственным путем, и все же оно могло содержать условия,
необходимые для возникновения моральной реакции. Пока гнет
праотца давал себя чувствовать, враждебные чувства против
него имели свое оправдание, а раскаяние за них
откладывалось до другого времени. Так же мало выдерживает критику
другое возражение, что все, что исходит из амбивалентного
отношения к отцу — табу или жертвенные предписания,—
носит характер чрезвычайной серьезности и полной
реальности. Церемониал невротика, страдающего навязчивостью,
имеет такой же характер, и все же он вытекает из
психической реальности, из одних только намерений, а не
выполнения их. Нам нельзя вносить во внутренне богатый мир
примитивного человека и невротика наш трезвый мир, полный
заботы о материальных ценностях и презрения к тому, что
составляет только объект мысли и желания.
Мы находимся тут перед решением, принять которое нам
нелегко. Но начнем с признания, что различие, кажущееся
См. статью «Об анимизме, магии и всемогуществе мысли».
733
Зигмунд ФРЕЙД
другим коренным, по нашему мнению, не составляет
сущности вопроса. Если для примитивного человека желания
и импульсы имеют полную ценность фактов, то мы должны
с полным пониманием принять такой взгляд, вместо того
чтобы исправлять его согласно нашему восприятию.
Рассмотрим подробнее приведший нас в такое сомнение
невроз. Неверно, что невротики, страдающие навязчивостью,
находятся под гнетом сверхморали, защищаются только
против психической реальности искушений и казнят себя только
за возникающие в них импульсы. Известную роль играет при
этом и некоторая доля исторической реальности. В детстве
эти люди имели только злобные импульсы, и, насколько они
при детской беспомощности были в состоянии, они
превращали эти импульсы в действия. Всякий из этих сверхдобрых
пережил в детстве злое время, извращенную фазу как
предтечу и предпосылку позднейшей, сверхморальной. Аналогия
примитивных людей с невротиками становится, таким
образом, основательной, если мы допустим, что у примитивных
людей психическая реальность, образование которой не
подлежит никакому сомнению, первоначально совпала с
фактической реальностью, что примитивные люди действительно
совершали все то, что они, по всем данным, намеревались
совершить.
Но наше суждение о примитивных людях должно
находиться под слишком большим влиянием аналогии с
невротиками. Необходимо принять во внимание и различия.
Несомненно, у обоих — и у дикарей, и у невротиков — нет
такого резкого различия между мыслью и действием, как у
нас. Но невротик прежде всего испытывает задержки в
действиях, у него мысль вполне заменила поступок.
Примитивный человек не сдержан, у него мысль превращается
немедленно в действие, поступок для него, так сказать, заменяет
мысль, и потому я думаю, не будучи сам вполне уверенным
в несомненности своего суждения, что к рассматриваемому
случаю можно применить слова: в начале было деяние.
По ту сторону
принципа
наслаждения
I
В психоаналитической теории мы без сомнений принимаем
положение, что ход психических процессов автоматически
регулируется принципом наслаждения, т. е. мы считаем, что
этот процесс каждый раз возбуждается связанным с
неудовольствием напряжением и затем принимает такое
направление, что его конечный результат совпадает с уменьшением
этого напряжения — с избежанием неудовольствия или с
порождением удовольствия. Рассматривая изучаемые нами
психические процессы с учетом этого хода развития, мы
вводим в нашу работу «экономическую» точку зрения. Мы
думаем, что постановку вопроса, которая, наряду с
топическим (пространственным) и динамическим моментом,
пытается учесть и этот экономический момент, — можно считать
наиболее совершенной из всех возможных в настоящее
время. Ее по заслугам следует назвать метапсихологической.
Нас при этом не интересует, насколько мы при
выдвижении принципа наслаждения приблизились или
присоединились к определенной, исторически установленной
философской системе. Мы приходим к таким спекулятивным
предположениям, пытаясь описать факты ежедневного
наблюдения в нашей области и дать себе в них отчет.
Приоритет и оригинальность не являются целями
психоаналитической работы, а впечатления, на которых основано
установление этого принципа, так очевидны, что едва ли возможно их
не заметить. Мы преисполнились бы признательности к
философской или психологической теории, которая сумела бы
24-3518
737
Зигмунд ФРИЙД
объяснить нам значение столь императивных для нас
ощущений удовольствия и неудовольствия. К сожалению,
ничего приемлемого нам не предлагают. Эта область является
наиболее темной и недоступной областью психической
жизни, и если уж мы никак не можем уклониться от ее
рассмотрения, то самые широко взятые гипотезы будут, как я
думаю, самыми лучшими. Мы решили соотнести удовольствие
и неудовольствие (и количество возбуждения, имеющегося
в нашей психической жизни и ничем не связанного), и
притом так, чтобы неудовольствие соответствовало повышению
этого количества, а удовольствие — понижению. При этом
мы думаем о простом отношении между силой ощущений и
изменениями, которые с ними связаны; менее всего — после
всего опыта психофизиологии — о прямой
пропорциональности; вероятно, решающим для ощущения моментом
является мера его уменьшения или увеличения во времени.
Возможно, что здесь уместен был бы эксперимент; для нас,
аналитиков, не рекомендуется вникать в эти проблемы, пока мы
не можем руководствоваться совершенно определенными
наблюдениями.
Нас, однако, не может не затронуть то, что такой
глубокий исследователь, как Г. Т. Фехнер, представлял теорию
удовольствия и неудовольствия, в основном совпадающую с
той теорией, на которую нас наталкивает
психоаналитическая работа. Мысли Фехнера изложены в небольшой статье
«Einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der
Organismen», 1873. (Abschnitt XI. Zusatz. S. 94). Он говорит
следующее: поскольку сознательные побуждения всегда
имеют отношение к удовольствию или неудовольствию,
постольку и удовольствие и неудовольствие можно представить
себе как имеющие психофизическое отношение к условиям
стабильности; на этом можно основать гипотезу, которую я
подробно намерен изложить в другом месте, а именно: что
такое психофизическое движение, превышающее порог
сознания, наделено известной мерой удовольствия, когда оно
сверх известной границы приближается к полной
стабильности, и известной мерой неудовольствия, когда оно сверх
известной границы отклоняется от нее; в то же время между
обеими границами, которые можно назвать качественным по-
738
flo my сторону принципа наслаждения
рогом удовольствия и неудовольствия, имеется известное
пространство эстетической индифферентности.
Факты, которые дали нам повод поверить в господство
принципа наслаждения в психической жизни, находят
выражение и в гипотезе, что психический аппарат стремится
сохранить содержащееся в нем количество возбуждения на
возможно низком уровне или, по крайней мере, в постоянном
состоянии. Это та же, лишь иначе сформулированная,
гипотеза, так как, если работа психического аппарата направлена
на количественное понижение возбуждения, то все, что его
повышает, будет ощущаться как противное функции, т. е. как
неудовольствие. Принцип наслаждения выводится из
принципа постоянства; действительно, принцип постоянства открылся
из фактов, которые натолкнули нас на установление принципа
наслаждения. При более подробной дискуссии мы увидим, что
это стремление, которое мы приписали психическому
аппарату, как особый случай, подчиняется фехнеровскому принципу
тенденции к стабильности, который он поставил в
соотношение с ощущениями удовольствия и неудовольствия.
Но тогда нам придется сказать, что, собственно говоря,
неправильно говорить о господстве принципа наслаждения в
ходе психического процесса. Если бы таковое господство
существовало, то большинство наших психических
переживаний сопровождалось бы наслаждением или приводило бы к
наслаждению, а ведь даже самый общий опыт противоречит
такому заключению. Итак, может происходить лишь
следующее: в душе имеется сильная тенденция к принципу
наслаждения, но ей противодействуют известные другие силы и
условия, так что конечный исход не всегда может
соответствовать тенденции к наслаждению. Сравни замечание Фехнера
в похожем случае: «Но поскольку тенденция к цели еще не
означает достижения цели и цель вообще может достигаться
только приблизительно...» Если мы теперь займемся
вопросом, какие условия могут препятствовать осуществлению
принципа наслаждения, то мы снова вступаем на твердую и
знакомую почву и можем широко использовать для ответа
наш аналитический опыт.
Первый случай такой заторможенности принципа
наслаждения знаком нам как закономерный. Мы знаем, что принцип
739
Зигмунд ФРЕЙД
наслаждения присущ первичному способу работы
психического аппарата и что ввиду трудностей, которые имеются во
внешнем мире, этот принцип с самого начала является для
самоутверждения организма не только непригодным, но и
чрезвычайно опасным. Под влиянием инстинкта
самосохранения «Я» этот принцип сменяется принципом реальности,
который, не отказываясь от конечного получения
наслаждения, все же требует и приводит отсрочку удовлетворения,
отказ от многих возможностей последнего, а также временное
перенесение неудовольствия на долгом окольном пути к
удовольствию. Принцип наслаждения затем еще долгое время
остается методом работы сексуальных первичных позывов,
которые труднее «воспитуемы», и мы повторно встречаемся
с фактом, что, может быть, под влиянием последних, а может
быть, и в самом «Я» принцип наслаждения побеждает
принцип реальности, принося вред всему организму.
Между тем совершенно несомненно, что смена
принципа наслаждения принципом реальности является причиной
лишь незначительной части чувства неудовольствия, и
притом не самой интенсивной его части. Человеческое «Я»
проходит свое развитие к более высокой организации, и в ходе
этого развития появляется другой, не менее закономерный
источник излучений неудовольствия, который возникает из
конфликтов и расколов в психическом аппарате. Почти вся
энергия, наполняющая этот аппарат, исходит из наличествующих
в нем инстинктивных стремлений, но не все они допускаются
в те же самые фазы развития. В этом процессе развития все
снова и снова повторяется факт, что отдельные первичные
позывы или части их в своих целях и требованиях
оказываются несовместимыми с остальными первичными позывами,
которые могут объединиться в целостное «Я». В таком случае
они откалываются от этого единства процессом вытеснения,
задерживаются на более низких ступенях психического
развития и сначала отрезаются от возможности удовлетворения.
Если же — как это легко может случиться с вытесненными
сексуальными первичными позывами — им позже окольными
путями удается пробиться к прямому или суррогатному
удовлетворению, то этот успех, который при иных обстоятельствах
мог бы быть возможностью удовольствия, ощущается «Я» как
740
По ту сторону принципа наслаждения
неудовольствие. Как следствие старого конфликта, который
кончился вытеснением, принцип наслаждения получил новый
прорыв именно тогда, когда известные первичные позывы, в
соответствии с принципом, работали над созданием нового
удовольствия. Подробности процесса, при котором
вытеснение заменяет возможность удовольствия источником
неудовольствия, еще не вполне понятны или не могут быть ясно
описаны, но можно с уверенностью сказать, что все виды
невротического неудовольствия имеют этот характер —
удовольствие не может ощущаться как таковое1.
Оба указанных здесь источника неудовольствия далеко еще
не покрывают большинства наших переживаний
неудовольствия, но об остатке их, по-видимому, можно с некоторым
правом утверждать, что наличие этого остатка не противоречит
господству принципа наслаждения. Наибольшая часть
неудовольствия, которое мы ощущаем, является ведь
неудовольствием от восприятия: или это восприятие давления
неудовлетворенных первичных позывов, или это внешнее восприятие,
иногда мучительное само по себе либо возбуждающее в
психическом аппарате неприятные ожидания и опознающееся им как
опасность. Реакция на эти требования первичных позывов и на
угрозу опасности, в которой и выражается специфическая
деятельность психического аппарата, может затем должным
образом быть направляема принципом наслаждения или
модифицирующим его принципом реальности. Таким образом,
отпадает необходимость признать более широкое ограничение
принципа наслаждения; но именно исследование психической
реакции на внешнюю опасность может дать новый материал
и вызвать новые вопросы в изучаемой здесь проблеме.
и
С давних пор было известно и отмечалось состояние,
которое возникает после тяжелых механических сотрясений,
1 Существенно здесь, вероятно, то, что удовольствие и неудовольствие
связаны с «Я» как сознательные ощущения.
741
Зигмунд ФРЕЙД
железнодорожных катастроф и прочих несчастных случаев,
связанных с опасностью для жизни. Это состояние
называется «травматическим неврозом». Ужасная война, которая
только что закончилась, вызвала большое количество таких
заболеваний и, по крайней мере, положила конец искушению
относить эти случаи к органическому повреждению нервной
системы, вызванному механической силой1. Общее
состояние при травматическом неврозе близко к истерии
богатством похожих моторных симптомов, но, как правило,
превосходит ее ярко выраженными признаками субъективного
страдания (примерно как при ипохондрии или меланхолии), а
также доказательствами гораздо более широкого общего
ослабления и потрясения психических действий. Однако до сих
пор не достигнуто полное понимание как неврозов войны,
так и травматических неврозов мирного времени. При
неврозах войны понимание, с одной стороны, пополнялось, а с
другой — затемнялось тем обстоятельством, что иногда та же
самая картина болезни появлялась без вмешательства грубой
механической силы; в простом травматическом психозе
выделяются две черты, с которых можно было начать
размышления. Во-первых, основной причиной, вызывавшей
заболевание, оказывался, по-видимому, момент неожиданности и
страха, а во-вторых, одновременно полученное повреждение
или ранение в большинстве случаев противодействовало
возникновению невроза.
Слова «испуг, страх, боязнь» без всякого права
употребляются как синонимы. Их можно точно разфаничить по их
отношению к опасности. Боязнь означает известное состояние
ожидания опасности и подготовки к ней, даже если опасность
неизвестна; страх требует определенного объекта, которого
страшишься; испугом называется состояние, в которое
впадаешь, очутившись в опасности, к которой не подготовлен; это
понятие (испуг) подчеркивает момент неожиданности. Я не
думаю, что боязнь может вызвать травматический невроз;
в боязни есть что-то, что предохраняет от испуга, а значит,
и от невроза испуга. К этому положению мы позже вернемся.
1 Ср.: Zur Psychoanalyse der Krigsneuroscn с докладами Фсренци, Абрахама,
Зиммеля и Э.Джонса (Internationale Psychoanalytische Bibliothek. Bd. I, 1919).
742
Но ту сторону принципа наслаждения
Изучение сновидений может считаться самым надежным
путем для исследования глубинных психических процессов.
Сновидения при травматическом неврозе имеют ту
характерную черту, что они возвращают больного к ситуации, при
которой произошел несчастный случай, и он просыпается с
новым испугом. Этой особенности слишком мало
удивляются. Принято думать, что факт постоянного появления
травматического переживания в сновидениях как раз и является
доказательством силы впечатления, которое оно произвело.
Больной, так сказать, психически фиксирован на травму.
Такие фиксации на переживание, вызвавшее заболевание, нам
уже давно знакомы в истерии. Брейер и Фрейд пришли к
выводу в 1893 году, что истерики страдают главным
образом от воспоминаний. Такие наблюдатели, как Ференци и
Зиммель, многие моторные симптомы в неврозах войны
также объясняли фиксацией на момент травмы.
Мне, однако, не известно, чтобы больные травматическим
неврозом в бодрствующем состоянии много занимались
воспоминаниями о своем несчастном случае. Они, скорее,
стараются о нем не думать. Принимая само собой
разумеющимся, что ночной сон возвращает больных в ситуацию,
вызвавшую заболевание, природа снов понимается неправильно.
Этой природе снов больше соответствовал бы показ
больному картин его здорового прошлого и желанного
выздоровления. Если мы не хотим, чтобы сны невротиков, заболевших
от травмы, отняли у нас веру в то, что сны имеют тенденцию
исполнять несбывшиеся желания, то нам остается, по
крайней мере, признать, что при этой болезни функции сна, как
и многое другое, находятся в состоянии потрясения и
отклоняются от своих тенденций, или нам пришлось бы
припомнить мазохистские тенденции «Я».
Теперь я предлагаю оставить темную и мрачную тему
травматического невроза и изучить способ работы
психического аппарата на основании его самой ранней нормальной
деятельности. Я имею в виду детские игры.
Различные теории о детской игре совсем недавно
составлены и аналитически рассмотрены 3. Пфейфером в «Imago»
(V/4). На этот труд я здесь и сошлюсь. Эти теории
стараются разгадать мотивы игры, не выдвигая на первый план
743
Зигмунд ФРЕЙД
экономическую точку зрения, т.е. учет полученного
удовольствия. Не намереваясь охватить эти явления в целом, я
воспользовался представившейся мне возможностью
объяснить первую игру мальчика полутора лет, изобретенную им
самим. Это было больше, чем поверхностное наблюдение,
так как я прожил с ребенком и его родителями несколько
недель под одной крышей, и прошло довольно
продолжительное время, пока я догадался о смысле его загадочных
и постоянно повторявшихся действий.
Ребенок отнюдь не был преждевременно развит; в
полтора года он говорил лишь немного понятных слов, а кроме
того, испускал несколько имевших для него смысл звуков,
которые понимались окружающими. Но он был в добром
контакте с родителями и единственной прислугой, и его
хвалили как «хорошего мальчика». Он не беспокоил родителей
в ночное время, добросовестно исполнял приказания не
трогать известных вещей и не ходить в известные помещения
и, прежде всего, никогда не плакал, когда мать уходила на
несколько часов, хотя нежно был к ней привязан. Мать не
только выкормила его грудью, но и вообще ухаживала за
ним без посторонней помощи. У этого хорошего,
послушного мальчика была все же одна неприятная привычка, а
именно: забрасывать в угол комнаты, под кровать и т.д. все
маленькие вещи, которые ему удалось схватить; и собирание
его игрушек было делом нелегким. При этом он с
выражением интереса и удовольствия произносил протяжное «о-о-
о», которое, по общему мнению родителей и наблюдателей,
было не междометием, а означало «вон, прочь». Я в конце
концов заметил, что это — игра и что ребенок пользуется
всеми своими игрушками только для того, чтобы играть в
«ушли». Однажды я сделал одно наблюдение, которое
подтвердило мои догадки. У ребенка была деревянная катушка,
к которой была привязана веревочка. Ему никогда не
приходило в голову возить ее по полу позади себя, т. е. играть
с ней в тележку, но, держа катушку за веревку, он с большим
искусством перебрасывал ее за край своей кроватки, так что
она там исчезала, говорил при этом свое многозначительное
«о-о-о» и затем за веревочку снова вытаскивал ее из-под
кровати, но теперь ее появление приветствовал радостным
744
По ту сторону принципа наслаждения
«Вот». В этом и заключалась вся игра — исчезновение и
появление снова. Виден был обычно только первый акт, и
этот акт сам по себе неутомимо повторялся как игра, хотя
больше удовольствия, несомненно, доставлял второй акт1.
Теперь легко было объяснить смысл игры. Она была
связана с большим культурным достижением ребенка: с
подавлением инстинкта (отказом от удовлетворения инстинкта),
т. е. с тем, что он не сопротивлялся, когда мать уходила. Но
он как бы вознаграждал себя за это тем, что сам
инсценировал то же самое исчезновение и возвращение с доступными
ему предметами. Для аффективной оценки этой игры,
конечно, безразлично, изобрел ли ее сам ребенок или усвоил ее
благодаря какому-нибудь стимулирующему моменту. Наш
интерес привлекает другой пункт. Уход матери едва ли был
ребенку приятен или хотя бы безразличен. Как же
согласуется с принципом наслаждения то обстоятельство, что
ребенок повторяет это мучительное для него переживание как
игру? Может быть, захочется ответить, что уход должен быть
сыгран как предварительное условие для радостного
возвращения, что в этом последнем и заключается собственный
замысел игры. Но этому противоречило бы наблюдение, что
первый акт — исчезновение — инсценировался как игра сама
по себе, и притом несравненно чаще, чем вся игра,
доведенная до приятного конца.
Анализ такого единичного случая не дает достоверного
решения; при непредвзятом взгляде получается
впечатление, что ребенок превратил свое переживание в игру по
совсем другим мотивам. В этом переживании ребенку
доставалась пассивная роль, он должен был что-то пережить;
затем он ставит себя в активное положение и повторяет то же
переживание как игру, несмотря на то, что оно неприятно.
Это стремление можно было бы объяснить как инстинкт
1 Дальнейшее наблюдение полностью подтвердило это мое толкование.
Однажды, когда мать ушла из дома на много часов, мальчик встретил се по
возвращении следующим сообщением: «беби о... о... о». Сначала это было
непонятно, но потом оказалось, что во время своего долгого одиночества ребенок
нашел способ, как исчезнуть самому. Он обнаружил свое изображение в
зеркале, которое доходило почти до пола, а затем опустился на корточки, так что
изображение «ушло».
745
Зигмунд ФРЕЙД
власти, который не зависит от того, было ли воспоминание
само по себе приятно или нет. Но можно предположить и
другое толкование: бросание предмета так, что он исчезал,
могло бы быть удовлетворением подавленного в жизни
чувства мести, обращенного на мать за то, что она уходила от
ребенка, оно могло бы иметь упрямое значение: «Да, уходи,
уходи! Ты мне не нужна — я сам тебя отсылаю». Этот же
ребенок, которого я наблюдал за его первой игрой, когда ему
было полтора года, через год бросал на пол игрушку, на
которую сердился, и говорил: «Уходи на войну». До этого
ему рассказали, что отец ушел на войну, и он нисколько не
сожалел об его отсутствии, а, наоборот, чрезвычайно ясно
показывал, что он и впредь хочет оставаться наедине с
матерью1. Мы знаем и о других детях, которые подобные
враждебные чувства к людям выражали бросанием предметов2.
Если наблюдается порыв, имеющий целью психически
переработать какое-либо сильное впечатление, вполне овладеть
им, то мы сомневаемся, может ли такой порыв выражаться
первично и независимо от принципа наслаждения. В случае,
который мы здесь обсуждаем, ребенок, может быть,
повторял неприятное впечатление игрой в него только потому,
что с этим повторением было связано прямое наслаждение
иного рода.
Дальнейшее наблюдение за детской игрой также не
устраняет колебаний, какое же из двух пониманий следует
выбрать. Мы видим, что дети повторяют в игре все, что в жизни
произвело на них большое впечатление, причем они
взвешивают силу впечатления и делают себя, так сказать, господами
положения. С другой стороны, совершенно ясно, что вся
игра находится под влиянием доминирующего в это время
желания, а именно: быть большим и делать то, что делают
большие. Можно также сделать наблюдение, что неприятный
характер переживания не всегда делает его непригодным для
1 Когда ребенку было пять лет и три четверти, мать его умерла. Теперь,
когда мать действительно «ушла» (о-о-о), мальчик о ней не горевал. За это
время родился, правда, второй ребенок, возбудивший сильнейшую ревность
мальчика.
2 Ср.: Eine Kindheitscrinncrung aus «Dichtung und Wahrheit» // Imago.
Bd. V, 1917 (Ges. Werke. Bd. XII).
746
Но ту сторону принципа наслаждения
игры. Если доктор осматривал горло или сделал ребенку
маленькую операцию, то это ужасающее переживание
непременно будет содержанием следующей игры, но нельзя не
отметить, что наслаждение будет получено из другого
источника. Переходя из пассивности переживания в активность
игры, ребенок причиняет своему товарищу по игре то
неприятное, что случилось с ним самим; и мстит за себя на этом
заменяющем его лице.
Все эти пояснения приводят нас к выводу, что принять
особый инстинкт подражания как мотив игры было бы
излишним. Прибавим еще, как особое напоминание, что
художественная игра и художественное подражание взрослых,
которое, в отличие от поведения ребенка, предназначено для
зрителя, не щадит его в отношении самых болезненных для
него переживаний, как, например, в трагедии, и тем не менее
может ощущаться им как высокое наслаждение. Мы, таким
образом, приходим к выводу, что и при господстве принципа
наслаждения имеется достаточно путей и средств, чтобы
переживание, само по себе неприятное, стало предметом
воспоминаний и психической переработки. Рассмотрение этих
случаев и ситуаций, в конечном итоге кончающихся получением
наслаждения, должно быть темой экономически
направленной эстетики; для наших целей они бесполезны, так как
имеют предпосылкой существование и господство принципа
наслаждения; они не доказывают существования тенденций по
ту сторону принципа наслаждения, т. е. тенденций более
первичных, чем принцип наслаждения, и от него независимых.
ш
Двадцать пять лет интенсивной работы существенно
изменили ближайшие цели психоаналитической техники; они
сейчас совсем иные, чем были вначале. Вначале врач мог
стремиться только к тому, чтобы угадать скрытое для больного
бессознательное, обозначить его и в подходящий момент
сообщить больному. Психоанализ был прежде всего искусством
толкования. Так как терапевтическая задача этим не разреша-
747
Зигмунд ФРЕЙД
лась, то сейчас же возникал второй момент лечения: вызвать
в больном собственные воспоминания, подтверждающие
конструкцию врача. При этом основное значение имело
сопротивление больного; искусство теперь заключалось в том,
чтобы возможно скорее вскрыть это сопротивление, показать его
больному, а затем чисто человеческим влиянием (это момент,
когда внушение действует как «перенесение») убедить его
отказаться от сопротивления.
Но при этом становилось все яснее, что и этим путем
не вполне достигалась намеченная цель, а именно осознание
бессознательного. Больной не может вспомнить всего
вытесненного (может быть, как раз самого существенного) и
вследствие этого не убеждается в правильности сообщенной ему
конструкции. Он вынужден повторять вытесненное как
переживание настоящего времени, вместо того, чтобы (как
хотелось врачу) вспоминать о нем как о части своего прошлого1.
Это с нежелательной точностью повторяющееся
воспроизведение всегда имеет содержанием часть инфантильной
сексуальной жизни, т.е. Эдипова комплекса и его ответвлений;
оно регулярно происходит в области перенесения, т. е. в
области отношения к врачу. Если в лечении уже достигнуты
такие результаты, то можно сказать, что теперь прежний
невроз заменен новым неврозом перенесения. Врач старается
как можно больше ограничить область этого невроза
перенесения, отодвинуть как можно больше в область
воспоминаний и допустить как можно меньше повторений. Для
каждого отдельного случая устанавливается различное
соотношение между воспоминанием и репродукцией. Как правило,
врач не может уберечь больного от этой фазы лечения; он
должен заставить больного заново пережить известную часть
своей забытой жизни и должен заботиться о том, чтобы
оставалась известная мера ясности, благодаря которой
кажущаяся реальность все же всегда признавалась отображением
забытого прошлого. Если это удается, то завоевана
убежденность больного в этом и зависящий от этой убежденности
терапевтический успех.
1 См.: Weitere Ratschlage zur Technik der Psychoanalyse. II. Erinnern,
Wiederholen und Durcharbeiten (Ges. Werke. Bd. X).
748
I/o ту сторону принципа наслаждения
Чтобы яснее понять это вынуждение повторения, которое
проявляется при психоаналитическом лечении невротиков,
нужно прежде всего освободиться от заблуждения, что при
борьбе с сопротивлением мы имеет дело с сопротивлением
«бессознательного». Бессознательное, т. е. «вытесненное»,
вообще не оказывает лечению никакого сопротивления; оно
ведь само стремится к тому, чтобы пробиться к сознанию
сквозь обременяющее его давление или же разрядиться
путем реального действия. Сопротивление лечению исходит
от тех же более высоких слоев и систем психической
жизни, которые в свое время произвели вытеснение. Но так как
мотивы сопротивления и даже само сопротивление, как мы
знаем, сначала при лечении не сознаются, то мы
вынуждены прибегнуть к более целесообразному способу
выражения. Мы избежим неясности, если сопоставим не
сознательное и бессознательное, а целостное «Я» и вытесненное. Нет
сомнения, что в самом «Я» многое бессознательно, и
бессознательно именно то, что можно назвать «ядром Я», только
незначительная его часть покрывается названием «предсо-
знательное». После этой замены просто описательного
способа выражения систематическим или динамическим мы
можем сказать, что сопротивление лиц, подвергающихся
анализу, исходит из их «Я», тогда мы тотчас поймем, что
вынуждение повторения следует приписать
бессознательному вытесненному. Вероятно, это вынуждение повторения не
могло выявлять себя до тех пор, пока идущая ему навстречу
работа лечения не ослабила вытеснение1. Нет никакого
сомнения, что сопротивление сознательного и предсознатель-
ного «Я» состоит, так сказать, в подчинении принципа
наслаждения: ведь это сопротивление стремится избавить от
неудовольствия, которое возникло бы вследствие
освобождения вытесненного; наши усилия направлены на то, чтобы,
привлекая одновременно и принцип реальности, дать доступ
такому неудовольствию. Но в каком соотношении
вынуждение повторения — выявление силы вытесненного — нахо-
1 В другом месте я поясню, что именно «внушающее влияние» лечения
приходит тут на помощь вымуждеиию повторения, иными словами, глубоко
коренящаяся в бессознательном родительском комплексе покорность врачу.
749
Зигмунд ФРЕЙД
дится к принципу наслаждения? Совершенно ясно, что
большая часть того, что вынуждение повторения заставляет
переживать заново, должно причинять «Я» неудовольствие,
так как оно вызывает на поверхность работу вытесненных
побуждений первичных позывов. Это, однако, является
неудовольствием, которому мы уже дали оценку: оно не
противоречит принципу наслаждения. Неудовольствие одной
системы является одновременно удовлетворением другой.
Но теперь мы подходим к новому и замечательному факту,
который нам следует описать, а именно: вынуждение
повторения вызывает из прошлого и такие переживания, которые
не содержат возможности наслаждения и которые и тогда
не могли быть удовлетворением даже с тех пор вытесненных
побуждений первичных позывов.
Ранний расцвет инфантильной сексуальной жизни был
обречен на гибель из-за несовместимости желаний ребенка
с реальностью и недостаточности степени его развития. Он
погиб по крайне неприятным причинам, сопровождаемый
глубоко мучительными переживаниями. Потеря любви и
неудача длительно нарушили чувство собственного
достоинства, нанеся нарциссический шрам, который, согласно моему
собственному опыту, а также высказываниям Марциновско-
го\ сильнейшим образом способствовал развитию чувства
неполноценности, которое часто наблюдается у невротиков.
Сексуальная пытливость ребенка, которому его физическое
развитие ставит пределы, не приходила к
удовлетворяющему завершению; отсюда дальнейшая жалоба: «Я ничего не
умею довести до конца, мне ничего не удается». Нежная
связь, обычно с родителем другого пола, иссякла от
разочарования, от напрасного ожидания удовлетворения или от
ревности при рождении нового ребенка, которое ясно
указывало на измену любимого или любимой; собственная, с
трагической серьезностью предпринятая попытка самому
произвести такого ребенка не удалась постыдным образом;
убыль нежности, раньше проявлявшейся по отношению к
малышу, повышенные требования в воспитании, серьезные
1 Marcinowski. Die erotischen Quellen der Minderwertigkeitsgefühle //
Zeitschrift fur Sexualwissenschaft. IV, 1918.
750
По ту сторону принципа наслаждения
слова, а иной раз и наказание, вскрыли наконец полностью
то пренебрежение} которому он подвергается. Существует
несколько определенных типичных явлений, на которые мы
регулярно наталкиваемся, — таких, какими бывает положен
конец характерной любви этого детского возраста.
Невротики в перенесении повторяют и с большим
искусством заново воскрешают все эти тягостные ситуации и
мучительные переживания. Они стремятся оборвать еще не
законченное лечение: они чувствуют, что ими опять
пренебрегают; они вызывают врача на жесткие слова и холодное с
ними обращение; они находят подходящий объект для своей
ревности; страстно желанное ими в младенчестве дитя они
заменяют намерением или обещанием большого «подарка»,
который в большинстве случаев бывает так же нереален, как
и то дитя. Все это в прошлом не могло вызывать
удовольствия; казалось, оно вызвало бы теперь меньше
неудовольствия, если появилось бы в виде воспоминания или
сновидения, а не приняло бы форму нового переживания. Суть здесь,
конечно, в действии первичных позывов, которые должны
были привести к удовлетворению. Однако имевшийся уже
опыт, что эта деятельность и тогда вызывала только
неудовольствие, ни к чему не привел. Он, вопреки этому,
повторяется; какая-то вынужденность толкает на это.
То, что психоанализ вскрывает в феноменах перенесения
невротиков, можно найти в жизни и неневротиков. У них
это производит такое впечатление, будто их преследует
судьба, будто в их жизни есть какая-то демоническая черта;
психоанализ с самого начала считал, что такая судьба
большей частью создается ими самими и предопределяется
влиянием раннего детства. Вынужденность, которая при этом
проявляется, не отличается от вынуждения повторения
невротиков, хотя эти лица никогда не проявляли признаков
невротического конфликта, который обнаруживался бы
образованием симптомов. Так, например, известны лица, у
которых любые человеческие отношения кончаются одним и
тем же: благодетель, которого каждый из питомцев через
некоторое время покидает в озлоблении, как бы различны
эти питомцы ни были, как будто приговорен к тому, чтобы
изведать всю горечь неблагодарности; есть мужчины, у ко-
751
Зигмунд ФРЕЙД
торых каждая дружба кончается тем, что друг их предает;
есть другие, которые в своей жизни бесчисленное
количество раз избирают другое лицо в качестве большого личного
или даже общественного авторитета, а затем, через
определенное время, низвергают этот авторитет со своего
пьедестала и заменяют новым; есть влюбленные, у которых нежное
отношение к женщине проходит те же самые фазы и
приводит к такому же концу, и т.д. Мы совсем не склонны
удивляться этому вечному повторению того же самого, если
дело идет об активном поведении данного лица и если мы
найдем в его характере ту постоянную черту, которая
должна выявляться в повторении одних и тех же переживаний.
Гораздо сильнее действуют на нас те случаи, когда данное
лицо кажется переживающим пассивно, без влияния со
своей стороны, переживая в то же время всегда повторение той
же судьбы. Припомним, например, историю женщины,
которая выходила замуж три раза подряд, причем каждый из
ее мужей через короткое время заболевал и она за каждым
ухаживала вплоть до самой его смерти \ Самое трогательное
поэтическое изображение такой судьбы дал Тассо в
романтическом эпосе «Освобожденный Иерусалим». Герой Тан-
кред, сам о том не ведая, убил свою возлюбленную Клорин-
ду, когда она сражалась с ним в латах вражеского рыцаря.
После ее похорон он проникает в зловещий заколдованный
лес, повергающий войско крестоносцев в ужас. Там он
рассекает мечом высокое дерево, но из древесной раны
струится кровь, и голос Клоринды, душа которой была заключена
в дерево, обвиняет его, что он снова ранил возлюбленную.
Учитывая такие факты в поведении людей во время
перенесения и в судьбе отдельных лиц, мы отваживаемся на
предположение, что в психической жизни людей
действительно существует вынуждение повторения, которое
выходит за пределы принципа наслаждения. Теперь мы склонны
будем отнести к этому вынуждению сны травматического
невротика и видеть в нем стимул к игре ребенка. Правда,
мы должны признать, что только в редких случаях мы ви-
1 Ср.: меткие замечания в статье К. Г. Юнга: Die Bedeutung des Vaters fur
das Schicksal des Einzelnen // Jahrbuch fur Psychoanalyse. Bd. I, 1909.
752
По ту сторону принципа наслаждении
дим действие вынуждения повторения в чистом виде, не
поддержанное другими мотивами. Мы уже подчеркнули,
какие иные толкования допускает возникновение детской
игры. Кажется, что в ней тесно соединились вынуждение
повторения и прямое, дающее наслаждение удовлетворение
первичных позывов. Феномены перенесения явно служат
сопротивлению со стороны «Я», настаивающего на
вытеснении. Вынуждение повторения, которое должно послужить
делу лечения, перетягивается «Я» на свою сторону («Я»
хочет удержать принцип наслаждения). В том, что хотелось
бы назвать судьбой, многое, как нам кажется, можно
объяснить рационально, и введение нового таинственного
мотива не требуется. Наименее сомнителен, может быть, случай
травматических сновидений. Но при ближайшем
рассмотрении следует признать, что и в других случаях сущность дела
не исчерпывалась действием известных мотивов. Остается
еще достаточно материала, оправдывающего гипотезу о вы-
нуждении повторения, и оно-то кажется нам первичнее,
элементарнее и спонтаннее, чем отодвинутый в сторону
принцип наслаждения. Но если в психической жизни имеется
такое вынуждение повторения, то нам хотелось бы знать о
нем подробнее. Мы хотели бы знать, какой функции оно
соответствует, при каких условиях может проявляться и
каково его отношение к принципу наслаждения, которому мы
ведь до сих пор приписывали в психической жизни
господство в процессах возбуждения.
IV
Теперь следует спекуляция (умозрение), часто далеко
заходящая, которую каждый, в зависимости от своей
собственной установки, может принять или отвергнуть. Из
любопытства, куда это приведет, мы делаем дальнейшую попытку
последовательной эксплуатации идеи.
Психоаналитическая спекуляция берет своей отправной
точкой впечатление, полученное при исследовании
бессознательных процессов, а именно тот факт, что сознание не явля-
753
Зигмунд ФРЕЙД
ется наиболее общей чертой психических процессов, а, может
быть, представляет собой только их особую функцию.
Пользуясь метапсихологической терминологией, психоанализ
утверждает, что сознание есть работа особой системы, которую
он называет СЗ. Так как сознание в основном дает восприятие
раздражений, идущих от внешнего мира, а также ощущения
удовольствия и неудовольствия, которые могут исходить
лишь из глубины психического аппарата, системе В—СЗ
может быть отведено пространственное положение. Она должна
находиться на границе внешнего и внутреннего, быть
обращенной к внешнему миру и облекать другие психические
системы. Заметим при этом, что мы не высказали чего-либо
совершенно нового, а лишь примкнули к локализирующей
анатомии мозга, которая помещает сознание в мозговую кору —
во внешний, облекающий слой центрального органа.
Анатомии мозга нечего задумываться над вопросом, почему —
говоря анатомически — сознание помещено как раз на
поверхности мозга, а не находится где-нибудь хорошо укрытым в
самых его глубинах. Может быть, мы лучше будем
ориентироваться в этой ситуации, разбирая нашу систему В—СЗ.
Сознание является не единственным свойством, которое
мы приписываем процессам, происходящим в этой системе.
Опираясь на впечатления нашего психоаналитического
опыта, мы предполагаем, что все процессы раздражения в других
системах оставляют в них длительные следы как основу
памяти, иными словами — остатки воспоминаний, не имеющих
ничего общего с осознанием. Сильнее и прочнее всего они
сказываются часто тогда, когда вызвавший их процесс
никогда не доходил до сознания. Но нам трудно поверить, чтобы
такие длительные следы раздражения могли возникать и в
системе В—СЗ. Если бы они всегда оставались
сознательными, то очень скоро ограничили бы пригодность системы к
восприятию новых раздражений1; в другом случае, если бы
они были бессознательны, то поставили бы перед нами
задачу объяснить существование бессознательных процессов в
системе, функционирование которой обычно сопровождается
1 Всецело на основании дискуссии Брсйера в теоретическом разделе труда
«Studien über Hysterie»-, 1895.
754
Но ту сторону принципа наслаждения
феноменом сознания. Нашей гипотезой, которая делает
осознание принадлежностью особой системы, мы, так сказать,
ничего бы не изменили и ничего не выиграли. Хотя такое
соображение и не вполне надежно, оно все же заставляет нас
подозревать, что осознание и оставление следа в памяти
являются процессами, несовместимыми в одной и той же
системе. Мы могли бы тогда сказать, что в системе СЗ процесс
раздражения делается сознательным, но не оставляет
длительного следа; все его следы, на которые опирается
воспоминание, получаются при продвижении раздражения в
следующие внутренние системы. В этом смысле набросана и та
схема, которую я прибавил к спекулятивному разделу моего
«Толкования сновидений» в 1900 году. Если принять во
внимание, как мало мы знаем о возникновении сознания из
других источников, то тезис, что сознание возникает на месте
следа воспоминания, имеет хоть то значение, что представляет
собой нечто сколько-нибудь определенное.
Система СЗ имела бы, таким образом, ту особенность, что
процесс раздражения, в отличие от всех других психических
систем, не оставляет в ней длительного изменения ее
элементов, а как бы растворяется в феномене осознания. Такое
отклонение от общего правила объясняется одним фактором,
который имеет значение исключительно для этой одной
системы. Этим фактором, отсутствующим у других систем,
легко могло бы быть экспонированное положение системы СЗ,
ее непосредственное столкновение с внешним миром.
Представим себе живой организм в его наиболее
упрощенном виде, как недифференцированный пузырек субстанции,
способной к раздражению; тогда его поверхность, обращенная
к внешнему миру, сама дифференцирована своим
положением и является органом, воспринимающим раздражение;
действительно, эмбриология, как повторение истории развития,
показывает, что центральная нервная система происходит от
эктодермы и серая мозговая кора есть все еще потомок
примитивной поверхности и, возможно, что путем наследования
переняла некоторые ее существенные качества. Тогда легко
можно было бы представить себе, что в результате
беспрерывного натиска внешних раздражений на поверхность пузырька
субстанция этого пузырька вплоть до определенной глубины
755
Зигмунд ФРЕЙД
подвергается постоянному изменению, вследствие чего
процесс раздражения в ней протекает иначе, чем в более
глубоких слоях. Так образовалась кора, которая, в конце концов,
настолько прожжена действием раздражений, что представляет
наиболее благоприятные условия для восприятия раздражений
и на дальнейшее видоизменение не способна. При переносе
на систему СЗ это означало бы, что элементы системы при
прохождении раздражения не способны более к длительному
изменению, так как в этом смысле они уже видоизменены до
предела. Но теперь они в состоянии дать начало
возникновению сознания. Можно составлять себе различные
представления о природе этого видоизменения субстанции и процесса
раздражений в ней, но эти предположения в настоящее время
не поддаются проверке путем исследования. Можно
предположить, что, переходя от одного элемента к другому,
раздражение должно преодолевать сопротивление и что это
уменьшение сопротивления именно и оставляет длительный след
раздражения (прокладка пути); таким образом, в системе СЗ
такого сопротивления при переходе от одного элемента к
другому больше бы не существовало. Это представление можно
сблизить с мыслями Брейера; он делает различие между
латентной (связанной) и свободно подвижной энергией заряда
в элементах психической системы1; элементы системы СЗ
были бы тогда лишены связанной энергии и содержали бы лишь
свободноотводимую энергию. Но мне кажется, что пока
лучше высказываться об этом предмете по возможности
неопределенно. При помощи этих рассуждений мы все же
известным образом связали возникновение сознания с положением
системы СЗ и зависящими от нее особенностями процесса
раздражения.
Но мы должны больше сказать о живом пузырьке с его
корковым слоем, воспринимающим раздражение. Эта
частица живой субстанции парит среди внешнего мира,
заряженного сильнейшими энергиями; она неминуемо была бы убита
действием раздражений, которые исходят от этих энергий,
если бы не была снабжена защитным покровом. Она приоб-
1 «Studien über Hysterie» von J. Breuer und S. Freud, 4 unveränderte Auflage,
1922 (Ges. Werke. Bd. I).
756
По ту сторону принципа наслаждения
ретает этот покров посредством того, что самая наружная ее
поверхность теряет свою живую структуру, делается до
известной степени неорганической и теперь действует как
особая оболочка или мембрана, задерживающая раздражение;
таким образом, энергии внешнего мира лишь некоторой
долей своей интенсивности. могут проникнуть в следующие,
оставшиеся живыми слои. Эти последние, прикрытые
защитным покровом, могут теперь отдаться восприятию
допущенных количеств раздражения. Таким образом, наружный слой
своим отмиранием предохранил от подобной участи все
более глубокие слои; по крайней мере, до тех пор, пока не
придут раздражения столь мощные, что прорывают
защитный покров. Для живого организма защита от раздражения
является, пожалуй, более важной задачей, чем его
восприятие; он снабжен собственным запасом энергии и должен
прежде всего стремиться к тому, чтобы оградить особенные,
действующие в нем формы трансформации энергии от
уравнивающего, следовательно, разрушающего влияния
огромных энергий, действующих во внешнем мире. Восприятие
раздражений служит прежде всего намерению узнать
направление и род внешних раздражений, а для этого достаточно
воспринимать из внешнего мира маленькие пробы,
отведывать их в незначительных дозах. У высокоразвитых
организмов воспринимающий корковый слой прежнего пузырька
давно уже ушел в глубину организма, но некоторые его
частицы остались на поверхности непосредственно под общим
защитным слоем. Это органы чувств, которые в основном
устроены для восприятия специфических воздействий
раздражения и, сверх того, имеют особые приспособления для
дальнейшей защиты против слишком больших количеств
раздражения и для задержки несоответствующих видов
раздражения. Для органов чувств характерно, что они
прорабатывают лишь очень незначительные количества внешнего
раздражения — они берут из внешнего мира, так сказать,
только выборочные пробы; их, может быть, можно сравнить
со щупальцами, которые ощупывают внешний мир и затем
снова от него отстраняются.
Здесь я разрешу себе бегло затронуть одну тему, которая
заслуживала бы самого подробного освещения. Тезис Канта,
757
Зигмунд ФРЕЙД
что время и пространство являются необходимыми формами
нашего мышления, в настоящее время может быть подвергнут
дискуссии на основе известных психоаналитических
познаний. Мы узнали, что бессознательные психические процессы
сами по себе безвременны. Это прежде всего означает, что они
упорядочены не временно, что время в них ничего не меняет
и что понятие времени не может к ним применяться. Это
отрицательные характерные черты, которые можно ясно себе
представить только путем сравнения с сознательными
психическими процессами. Как кажется, наше абстрактное
представление о времени безусловно произошло от метода работы
системы В—СЗ и соответствует самовосприятию последней.
При этой работе системы может наметиться другой путь
защиты от раздражений. Я знаю, что эти утверждения звучат
очень глухо, но пока должен этим ограничиться.
Ранее мы видели, что живой пузырек снабжен защитным
покровом от раздражений внешнего мира. Мы установили
также, что следующий его корковый слой должен быть
дифференцирован как орган, воспринимающий раздражение
извне. Но этот чувствительный слой коры, позднейшая система
СЗ, получает раздражения и изнутри; положение системы
между внешним и внутренним и различия условий для
воздействия одной и другой стороны являются решающими
факторами в работе системы и всего психического аппарата.
Против «извне» имеется защитный слой, и количества
прибывающего раздражения могут влиять только в
уменьшенном масштабе; но по направлению к «внутри» защита от
раздражений невозможна, раздражения более глубоких слоев
переносятся непосредственно и в полном масштабе на всю
систему, причем известные особенности их прохождения
производят ряд ощущений: удовольствие — неудовольствие.
Конечно, раздражения, приходящие изнутри, по своей
интенсивности и по другим качественным характеристикам
(например, по их амплитуде) будут более адекватны способу
работы системы, чем раздражения, притекающие из
внешнего мира. Эти условия, однако, решающим образом
определяют два момента: во-первых, господство над всеми внешними
раздражениями ощущений удовольствия и неудовольствия,
которые являются индикатором процессов, происходящих
758
Но ту сторону принципа наслаждения
внутри аппарата; и, во-вторых, деятельность по отношению
к таким внутренним раздражениям, которые приводят к
слишком большому увеличению неудовольствия. Проявится
склонность изживать их так, как будто они действуют не изнутри,
а извне, и этим создается возможность применить к ним
средства защиты, действующие в защитном покрове. Таково
происхождение проекции, которой суждено играть такую
большую роль при возникновении патологических процессов.
У меня создается впечатление, что последние
размышления позволяют нам лучше понять господство принципа
наслаждения; но мы все же не нашли объяснения тех случаев,
которые ему противоречат. Сделаем поэтому еще один шаг.
Внешние раздражения, которые обладают достаточной
силой, чтобы пробить защитный покров, мы называем
травматическими. Я думаю, что понятие травмы необходимо
включает подобное соотношение с обычно действующей
задержкой раздражений. Такое событие, как внешняя травма,
конечно, вызовет огромное расстройство в функциях
организма и приведет в действие все средства защиты. Но
принцип наслаждения при этом выводится из действия. Нельзя
больше задержать наводнения психического аппарата
громадными количествами раздражения; теперь возникает
другая задача — овладеть раздражениями, психически связать
вторгшиеся раздражения с тем, чтобы далее привести их
к изживанию.
Специфическое неудовольствие от физической боли есть,
вероятно, результат того, что защитный покров в какой-то
мере прорван. Тогда с этой части периферии к центральному
психическому аппарату устремится непрерывный поток
раздражений, которые в обычных условиях могли прийти
только изнутри аппарата1. Какую же реакцию психической
жизни можно ожидать на это вторжение? Со всех сторон
напрягается зарядная энергия, чтобы вокруг места прорыва создать
соответственно высокие ее заряды. Создается грандиозная
«противозарядка», для осуществления которой
поступаются своим запасом все другие психические системы, так что
1 Ср.: « Влечения и их судьбы» (Triebe und Tricb-schicksalc) — (Ges. Werke.
Bd. X).
759
Зигмунд ФРЕЙД
в результате следует обширное ослабление и снижение всей
прочей психической работы. Мы стараемся учиться на таких
примерах, связать с ними наши металсихологические
гипотезы. И мы, таким образом, приходим к заключению, что
даже высокозаряженная система способна воспринимать
добавочную притекающую к ней энергию и трансформировать ее
в латентную зарядку, иными словами, «связать» ее
психически. Чем выше собственная, находящаяся в покое зарядка, тем
больше будет и ее связывающая сила; и наоборот — чем
ниже ее зарядка, тем меньше система будет способна к
восприятию притекающей энергии и тем разрушительнее должны
тогда быть последствия такого прорыва защитного покрова.
Несправедливо было бы возражение, что повышение
энергетического потенциала вокруг места прорыва гораздо проще
объясняется как прямое следствие прибывающего сюда
раздражения. Если бы это было так, то психический аппарат
получил бы только увеличение своего энергетического
потенциала, а парализующий характер боли и ослабление всех
других систем остались бы необъясненными. Чрезвычайно
бурные отводные действия боли также не опровергают
нашей гипотезы, так как они происходят рефлекторно, т. е. без
посредства психического аппарата. Все наши пояснения,
которые мы называем метапсихологическими, страдают
неясностью, и причина этого, конечно, в том, что мы ничего не
знаем о природе процесса раздражения в элементах
психической системы и не вправе строить какие-либо об этом
гипотезы. Мы, таким образом, всегда оперируем с
неизвестным X, который переносим в каждую новую формулу. Легко
допустить условие, что этот процесс протекает с
количественно разными энергиями; весьма вероятно также, что он
включает больше, чем одно качество (например, в случае
вида амплитуды). Как новый фактор, мы рассматриваем
гипотезу Брейера, который считает, что имеются две формы
наполнения энергией, причем следует различать одну, свободно
текущую и стремящуюся к разрядке, и другую, покоящуюся
зарядку психических систем (или их элементов). Мы, может
быть, остановимся на предположении, что связанность
энергии, вливающейся в психический аппарат, заключается в
переходе из свободно текущего состояния в состояние покоя.
760
Но ту сторону принципа наслаждения
Я думаю, что уместна попытка рассматривать простой
травматический невроз как последствие обширного
прорыва защитного покрова. Этим самым старое и наивное учение
о шоке подтвердилось бы, по-видимому, в противоречии
к более позднему и психологически более требовательному
учению, которое этиологическое значение приписывает не
механическому воздействию силы, а страху и угрозе для
жизни. Это противоречие, однако, не непримиримо, и
психоаналитическое понимание травматического невроза не
идентично с грубейшей формой теории шока. Если
последняя теория сущность шока приписывает прямому
повреждению молекулярной структуры или даже гистологической
структуры нервных элементов, то мы стремимся понять его
действие, исходя из теории прорыва защитного покрова и
влияния этого факта на психический орган и из
возникающих отсюда задач. Момент испуга и для нас сохраняет свое
значение. Его условием является неподготовленность к
боязни и отсутствие гиперзарядки систем, которые в первую
очередь воспринимают раздражение. Тогда система
вследствие низкой заряженности не в состоянии связать
прибывающие количества раздражения и тем легче появляются
последствия прорыва защитного покрова. Мы, таким образом,
видим, что готовность к боязни вместе с гиперзарядкой
воспринимающих систем является последней линией защиты
от раздражений. Для достаточно большого количества травм
разница между неподготовленными системами и системами,
подготовленными гиперзарядкой, представляет собой,
должно быть, решающий для исхода момент; начиная с травм
известной силы, это различие, вероятно, более роли не
играет. Как мы знаем, галлюцинаторное осуществление
желаний при господстве принципа наслаждения стало функцией
сновидений, но не на этом основываются сновидения
травматических невротиков, так регулярно переносящие их в
ситуацию несчастного случая; мы имеем право предположить,
что тем самым они служат другой задаче, решение которой
должно предшествовать моменту, когда войдет в действие
господство принципа наслаждения. Эти сновидения
стремятся наверстать преодоление раздражения, развивая для
этого чувство боязни, отсутствие которой и было причиной
761
Зигмунд ФРЕЙД
травматического невроза. Они, таким образом, дают нам
возможность понять функцию психического аппарата, которая,
не противореча принципу наслаждения, все же является от
него независимой и кажется более первоначальной, чем
намерение получить удовольствие или избежать
неудовольствия.
Здесь было бы уместным в первый раз признать
исключение из тезиса, что сновидения являются исполнением
желаний. Устрашающие сны, как я много раз подробно
показывал, нельзя причислить к таким исключениям; не
исключением являются и «сны карающие», так как они только
заменяют осужденное желание надлежащим наказанием; они,
таким образом, являются исполнением желания, вызванного
чувством виновности, как реакции на отвергнутый
первичный позыв. Вышеупомянутые сновидения травматических
невротиков также нельзя более рассматривать с точки зрения
исполнения желаний; нельзя заносить в эту рубрику и
встречающиеся при психоанализе сновидения, воспроизводящие
воспоминания о психических травмах детства. Скорее они
подчиняются тенденции к вынуждению повторения, которое
в психоанализе поддерживается вызванным при помощи
«внушения» желанием снова воскресить забытое и
вытесненное. Так что функция сновидения устранять мотивы
нарушения сна путем исполнения желаний мешающих ему
побуждений не оказывается его первоначальной функцией;
выполнять эту функцию сновидение может лишь после того,
как вся психическая жизнь признала господство принципа
наслаждения. Если допустить, что существует «по ту сторону
принципа наслаждения», то логичным будет и допустить, что
было какое-то «предвремя», когда функцией сновидений не
было исполнение желаний. Это не противоречит его
позднейшей функции. Но если уже порвана эта общая тенденция,
то возникает дальнейший вопрос: не встречаются ли и вне
анализа такие сны, которые в интересах психического
связывания травматических впечатлений следуют вынуждению
повторения? Ответ на это будет, безусловно, утвердительный.
О «неврозах войны» (поскольку это название означает
больше, чем только связь с поводом страдания) я в другом
месте высказался, что они вполне могли бы быть травмати-
762
Но ту сторону принципа наслаждения
ческими неврозами, возникновение которых облегчается
конфликтом «Я» \ Факт, упомянутый мною ранее, а именно,
что одновременное грубое повреждение, причиненное
травмой, уменьшает шансы на возникновение невроза, не будет
более непонятным, если вспомнить два факта, подчеркнутых
психоаналитическим исследованием: во-первых, то, что
механическое сотрясение должно быть признано одним из
источников сексуального возбуждения (ср. замечания о
влиянии качания и езды по железной дороге в «Drei
Abhandlungen zur Sexualtheorie» — Ges. Werke. Bd. V) и, во-вторых,
что болезненное и лихорадочное состояние оказывает — уже
во время своего процесса — огромное влияние на
распределение либидо. Таким образом, механическая сила
травмы освободила бы то количество сексуального возбуждения,
которое вследствие недостаточной подготовки к боязни
действует травматически; а одновременное физическое
повреждение при участии нарциссической «гиперзарядки»
страдающего органа избыток возбуждения бы связало (см. Zur
Einfuhrung des Narzißmus // Ges. Werke. Bd. X). Кроме того,
известно, но недостаточно использовано для теории либидо
то, что такие тяжкие нарушения в его распределении, как
проистекающие из меланхолии, могут быть временно
устранены тем или иным органическим заболеванием и даже
крайне развившееся раннее слабоумие может показать при
этих условиях временный регресс.
v
Отсутствие защитного покрова, предохраняющего от
раздражения изнутри, будет иметь для слоя,
воспринимающего раздражение, то последствие, что передачи раздражения
приобретают большее экономическое значение и часто дают
повод к экономическим нарушениям, сравнимым с
травматическими. Наиболее обильными источниками такого внут-
1 Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen. Einleitung // Internationale
Psychoanalytische Bibliothek. Bd. I, 1919 (Ges. Werke. Bd. XII).
763
Зигмунд ФРЕЙД
реннего раздражения являются так называемые первичные
позывы организма — представители воздействий всех сил,
рожденных в организме и перенесенных в психический
аппарат; они-то и являются самым важным и самым
непонятным элементом для психологического исследования.
Может быть, не слишком смелой будет гипотеза, что
побуждения, исходящие от первичных позывов, принадлежат
не к типу связанных нервных процессов, а к типу свободно
подвижных, стремящихся к разрядке. Лучшую часть наших
познаний об этих процессах мы почерпнули из изучения
работы сновидений. При этом мы нашли, что процессы в
бессознательных системах существенно отличаются от таковых
в предсознательных системах. В бессознательных системах
зарядки легко могут быть полностью перенесены, смещены
или сгущены, что дало бы лишь ошибочные результаты,
если бы эти процессы происходили в предсознательном
материале; этим объясняются и знакомые нам странности,
которые имеются в явном содержании сновидения после того,
как предсознательные остатки дневных впечатлений
подверглись проработке по законам бессознательного. Я назвал
вид этих процессов в бессознательном психическим
«первичным» процессом, в отличие от «вторичного» процесса,
который наблюдается в нормальном бодрствующем
состоянии. Так как все побуждения первичных позывов действуют
в бессознательных системах, то не будет новостью сказать,
что они следуют первичному процессу; с другой стороны,
легко идентифицировать психический первичный процесс
со свободно подвижной зарядкой, а вторичный процесс — с
изменениями в связанной или тонической зарядке, о
которых говорит Брейер1. Тогда высшим слоям психического
аппарата предстояла бы задача связывать раздражение
первичных позывов при достижении ими первичного процесса.
Неудача такого связывания вызвала бы нарушение,
аналогичное травматическому неврозу; только после
совершившегося связывания могло бы беспрепятственно
установиться господство принципа наслаждения (или его модифика-
1 Ср.: Abschnitt VII. Psychologie der Traumvorgange in «Traumdeutung»
(Ges. Werke. Bd. II-III).
764
По ту спицюну принципа наслаждения
ции к принципу реальности). Но этому моменту
предшествовала бы другая задача психического аппарата, а именно:
овладеть или связать раздражение, и притом не в
противоречии с принципом наслаждения, а независимо от него и
отчасти без учета последнего.
Проявления вынуждения повторения, показанные нами
в ранней психической жизни ребенка и в переживаниях
психоаналитического лечения, в высокой степени
отличаются непреодолимым характером, а там, где они находятся в
противоречии с принципом наслаждения, — характером
демоническим. В детской игре нам кажется понятным, что
ребенок повторяет и неприятное переживание потому, что
активность дает ему гораздо большую возможность овладеть
сильным впечатлением, чем просто пассивное переживание.
Кажется, что каждое новое повторение улучшает это
желаемое овладение; однако ребенок неустанно повторяет и свои
приятные впечатления и неумолимо будет настаивать на
идентичности впечатления. Эта характерная черта позже
исчезает. Острота, которую слышишь второй раз, почти не
производит впечатления; театральная пьеса во второй раз
никогда не будет воздействовать так, как воздействовала в
первый раз; и взрослого трудно уговорить вскоре перечесть
книгу, которая ему очень понравилась. Новизна всегда
является условием наслаждения. Но ребенок не устает
требовать от взрослого повторения показанной или вместе
сыгранной игры, пока тот в изнеможении от этого не откажется;
если ребенку рассказали интересную историю, то он хочет
не новую, а именно эту самую, твердо настаивает на полной
точности повторения и исправляет каждое отклонение,
которое позволил себе рассказчик, желая получить за это
одобрение ребенка. При этом здесь нет противоречия
принципу наслаждения; совершенно очевидно, что повторение,
повторное переживание идентичного само по себе
представляет источник наслаждения. У подопытного лица, наоборот,
вынуждение повторять происшествия своего инфантильного
периода в перенесении в любом отношении выходит за
пределы принципа наслаждения. При этом больной ведет себя
совсем инфантильно и этим показывает нам, что
вытесненные следы воспоминаний о его детских переживаниях пре-
765
Зигмунд ФРЕЙД
бывают в нем не в связанном состоянии и даже до известной
степени не способны к вторичному процессу. Вследствие
несвязанности эти переживания, примыкая к остаткам
дневных переживаний, способны создать желанную фантазию,
которая осуществляется в сновидении. То же вынуждение
повторения очень часто является терапевтическим
препятствием, когда в конце лечения мы хотим добиться полной
независимости больного от врача; можно предположить, что
лица, сами не знакомые с анализом, испытывают смутную
боязнь пробуждения чего-то, что, по их мнению, лучше бы
не просыпалось, и, в сущности, страшатся появления этого
демонического вынуждения.
Какова же связь между сферой первичных позывов
(влечений) и вынуждением повторения? Здесь нам невольно
приходит мысль, что мы напали на след общего характера
первичных позывов, и быть может, и всей органической
жизни вообще, — характер которой до сих пор не был опознан
или, по крайней мере, достаточно подчеркнут. Первичный
позыв можно было бы, таким образом, определить как
присущую органической жизни тягу к восстановлению какого-то
прежнего состояния, от которого живая единица вынуждена
была отказаться под влиянием внешних мешающих сил,—
своего рода органическая эластичность или, если угодно,
выражение инерции, присущей органической жизни1.
Такое понимание первичного позыва звучит несколько
чуждо, так как мы привыкли видеть в первичном позыве
момент, настоятельно движущий к перемене и развитию, а
теперь должны увидеть в нем как раз противоположное, а
именно выражение консервативной природы всего живущего.
С другой стороны, нам тотчас приходят в голову те примеры
из жизни животных, которые, по-видимому, подтверждают
историческую обусловленность первичных позывов. Когда
некоторые рыбы в период нереста предпринимают
затруднительные странствования, чтобы метать икру в определенных
водоемах, весьма отдаленных от обычных мест пребывания,
то, по толкованию многих биологов, они только возвращают-
1 Я не сомневаюсь, что подобное предположение о природе «первичных
позывов»- уже неоднократно высказывалось другими.
766
Но ту сторону принципа наслаждения
ся в прежние жилища своей породы, смененные с течением
времени на другие. Тем же самым объясняется и
странствование перелетных птиц. Но от поисков дальнейших
примеров нас тотчас освободит размышление, что в феноменах
наследственности и фактах эмбриологии мы имеем
замечательные доказательства органического вынуждения повторения.
Мы видим, что вместо того, чтобы кратчайшим путем прийти
к своему окончательному облику, зародыш животного
принужден (хотя бы в самом беглом сокращении) повторить
структуры всех форм, от которых это животное происходит.
Только самую незначительную часть такого поведения
можно объяснить механически; нельзя не принимать во
внимание исторического объяснения. И так же велика в животном
мире способность репродукции, которая путем образования
нового, совершенно идентичного органа заменяет орган
потерянный. Нам, конечно, следует принять во внимание то
возражение, что, кроме консервативных первичных позывов,
принуждающих к повторению, есть и другие, которые
стремятся к новообразованиям и прогрессу; это возражение мы,
безусловно, в дальнейшем будем учитывать. Но до этого нам
вплоть до самых последних выводов хочется проследить
гипотезу, что все первичные позывы стремятся восстановить
прежнее. Пусть то, что при этом получится, звучит
«глубокомысленно» или даже мистически — мы все же не
заслуживаем упрека, что стремились к такому результату. Мы
ищем трезвых результатов исследования или идеи, на таком
исследовании основанной; мы хотим придать им характер
одной только достоверности '.
Если, таким образом, все органические первичные позывы
консервативны, приобретены исторически и направлены на
регресс и восстановление прежнего, то успехи органического
развития мы должны отнести за счет внешних нарушающих
и отвлекающих влияний. Элементарное живое существо,
начиная с самого своего возникновения, не захотело бы
изменяться, при одинаковых условиях всегда хотело бы повто-
1 Не следует упускать из виду, что дальнейшее представляет собой
развитие крайнего хода мыслей, который позже, когда будут приняты во внимание
сексуальные первичные позывы, будет ограничен и скорректирован.
767
Зигмунд ФРЕЙД
рять тот же уклад жизни. Но в конечном итоге история
Земли и история ее отношений к Солнцу должна была быть тем,
что наложило свой отпечаток на развитие организмов.
Консервативные органические первичные позывы восприняли
каждое из этих насильственных изменений строя жизни
и сохранили их для повторения; они должны производить
ложное впечатление сил, стремящихся к изменению и
прогрессу, в то время как они имеют в виду достижение старой
цели старыми и новыми путями. Можно указать и на эту
конечную цель всякого органического стремления. Для
консервативной природы первичных позывов было бы
противоречием, если бы целью жизни было никогда до того не
достигавшееся состояние. Скорее всего, этой целью должно
быть старое исходное состояние, когда-то живым существом
покинутое, к которому оно, обходя все достижения развития,
стремится возвратиться. Если мы признаем как не
допускающий исключений факт, что все живое умирает, возвращается
в неорганическое, по причинам внутренним, то мы можем
лишь сказать, что цель всякой жизни есть смерть и, заходя
еще дальше, что неживое существовало прежде живого.
Когда-то в неживой материи каким-то еще совершенно
невообразимым силовым воздействием были пробуждены
свойства жизни. Может быть, это был процесс, примерно
похожий на другой процесс, пробудивший позже в известном
слое живой материи сознание. Возникшее тогда в до тех пор
неживой материи напряжение стремилось уравновеситься;
так был дан первый первичный позыв — возвращения в
неживое. Жившая в те времена субстанция еще легко умирала;
жизненный путь ее был еще, вероятно, краток, направление
его предопределялось химической структурой молодой
жизни. Возможно, что в продолжение долгого времени живая
материя все снова создавалась и снова легко умирала, пока
руководящие внешние воздействия не изменились
настолько, что принудили оставшуюся в живых субстанцию к все
более широким отклонениям от первоначального образа
жизни и к все более сложным окольным путям достижения
конечной цели — смерти. Эти окольные пути к смерти, в
точности удержанные консервативными первичными позывами,
дали бы в настоящее время картину жизненных феноменов.
768
По ту сторону принципа наслаждения
Если считать природу первичных позывов исключительно
консервативной, то нельзя прийти к другим предположениям
о происхождении и цели жизни.
Не меньше поражают и те заключения, которые мы
можем сделать о больших группах первичных позывов,
стоящих за жизненными феноменами организмов. Теоретическое
предположение о наличии в каждом организме первичного
позыва самосохранения, который мы признаем в каждом
живом существе, поразительным образом противоречит
предпосылке, что совокупная жизнь первичных позывов служит
нахождению смерти; если придерживаться этой точки зрения,
то значительно уменьшается теоретическое значение
инстинкта самосохранения, инстинкта власти и инстинкта
собственной значимости, они являются частными влечениями,
предназначенными для того, чтобы обеспечить организму его
собственный путь к смерти и не допустить других
возможностей возврата в неорганическое, кроме имманентных; но
выпадает загадочное, стоящее вне всякой связи с остальным
стремление организма во что бы то ни стало продолжать свое
существование. Остается только желание организма умереть
на свой лад; и эти сторожа жизни первоначально были
спутниками смерти. При этом возникает парадокс, что живой
организм самым энергичным способом противится
воздействиям (опасностям), которые помогли бы ему в кратчайший
срок (так сказать, коротким замыканием) достигнуть своего
конечного жизненного назначения; но это поведение
характеризует как раз чисто инстинктивное стремление в
противоположность разумному.
Но одумаемся — ведь этого быть не может! Совершенно
иное значение приобретают сексуальные первичные позывы,
которым учение о неврозах отводит особое место. Не все
организмы подчинены внешнему принуждению,
побуждавшему их к все далее идущему развитию. Многим из них
удалось удержаться на своем низком уровне до настоящего
времени; ведь и сегодня еще живут если не все, то все же
многие живые существа, похожие, должно быть, на предсту-
пени высших животных и растений. И не все элементарные
организмы, которые составляют сложное тело высшего
живого существа, проходят полный путь развития до своей ес-
25-3518
7Ç9
Зигмунд ФРЕЙД
тественной смерти. Некоторые из них, как, например,
зародышевые клетки, сохраняют, вероятно, первоначальную
структуру живой субстанции и через известное время,
нагруженные всеми унаследованными и вновь
приобретенными свойствами первичных позывов, отделяются от
организма как целого. Может быть, именно эти два качества и дают
им возможность самостоятельного существования. При
благоприятных условиях они начинают развиваться, т. е.
повторять игру, которая их породила. И все это кончается тем,
что опять часть их субстанции доводит свое развитие до
конца, в то время как другая, как новый остаточный
зародыш, снова возвращается к началу своего развития. Так эти
зародышевые клетки ведут свою работу против умирания
живой субстанции и достигают результата, который должен
казаться нам потенциальным бессмертием, хотя оно, быть
может, означает лишь продление смертного пути.
Чрезвычайно важным представляется нам тот факт, что эта
функция зародышевой клетки укрепляется или вообще делается
возможной только путем слияния клетки с другой клеткой,
на нее похожей, но все же отличной.
Первичные позывы, хранящие судьбы этих элементарных
организмов, что переживают сроки жизни отдельных
существ, заботящиеся о их целости, пока они беззащитны
против раздражений внешнего мира, осуществляющие их
встречи с другими зародышевыми клетками и т. д., образуют
группу сексуальных инстинктов. Они консервативны в том же
смысле, как и другие первичные позывы, так как
воспроизводят прежние состояния живой субстанции; но они в
большей степени консервативны, так как способны к особенно
сильному сопротивлению внешним воздействиям, а помимо
того, консервативны и в более широком смысле, так как
сохраняют самую жизнь на более долгие времена1. Они
являются истинными первичными позывами жизни; они
противодействуют намерению других первичных позывов, которые
своими функциями ведут к смерти; этот факт указывает на
противоположность между ними и другими первичными по-
1 И все же только им одним мы можем приписать внутреннюю тенденцию
к «прогрессу» и более высокому развитию.
770
Но ту сторону принципа наслаждения
зывами, противоположность, значение которой с самого
начала признано учением о неврозах. Думается, что жизнь
организмов движется прерывистым темпом; одна группа
первичных позывов устремляется вперед, чтобы в возможно
краткий срок достигнуть конечной цели жизни; другая
группа на известном этапе этого пути устремляется назад, чтобы,
начиная с известной точки, проделать путь снова и тем
самым удлинить его продолжительность. Но даже если
сексуальность и разница полов и не существовала в начале жизни,
то все же остается возможность, что с самого начала
стали действовать первичные позывы, позже определенные как
сексуальные, и что эти первичные позывы начали свое
противоборство игре первичных позывов «Я» именно тогда, а не
в более позднее время1.
Вернемся теперь назад и спросим, не представляются ли
все эти рассуждения лишенными основания? Правда ли,
что, помимо сексуальных первичных позывов, не существует
других первичных позывов, кроме как восстанавливающих
прежнее состояние? Нет ли таких, которые стремятся к
состоянию, еще никогда не достигнутому? В органическом
мире я не знаю достоверного примера, который
противоречил бы предложенной нами характеристике. Конечно, в
растительном и животном мире нельзя установить всеобщего
инстинкта к более высокому развитию, хотя такое
направление развития фактически остается неоспоримым. Но, с
одной стороны, если одну ступень развития мы объявляем
более высокой, чем другую, то это часто только вопрос
нашей оценки, а, с другой стороны, биология указывает, что
высшее развитие в одном пункте очень часто искупается
или уравнивается регрессом в другом. Кроме того,
существует достаточно животных видов, ранние состояния которых
показывают, что их развитие приняло скорее регрессивный
характер. Оба фактора — как развитие к высшему, так и
регрессивное развитие — могут быть результатом внешних
сил, толкающих к приспособлению; роль первичных позы-
1 Из сказанного должно быть ясным, что наименование «первичные
позывы Я> представляет собой предварительное обозначение, связывающееся с
первой терминологией психоанализа.
771
Зигмунд ФРЕЙД
bob в обоих случаях может быть ограничена тем, чтобы
удержать вынужденное изменение как внутренний источник
наслаждения \
Многим из нас трудно будет отказаться от привычной
веры, что в самом человеке живет инстинкт
совершенствования, который привел его на высоту современных
духовных достижений и этической сублимации, и что этот
инстинкт позаботится о дальнейшем развитии в сверхчеловека.
Но я не верю в такой внутренний инстинкт и не вижу пути,
который мог бы спасти эту благодетельную иллюзию. Мне
кажется, что прежняя история развития человека имеет то
же объяснение, что и история животных, и то, что можно
наблюдать у ограниченного количества человеческих
индивидов как неутомимый порыв к дальнейшему
совершенствованию, без труда объясняется как следствие вытеснения
первичных позывов, на котором и построены наибольшие
ценности человеческой культуры. Вытесненный первичный
позыв никогда не перестает стремиться к своему полному
удовлетворению, которое состояло бы в повторении
первичного опыта удовольствия; все замены, выработки реакций и
сублимации недостаточны, чтобы устранить его постоянное
напряжение, и из разности между найденным и требуемым
удовлетворением создается движущий момент, не
позволяющий остановиться в какой бы то ни было из создавшихся
ситуаций; он, по словам поэта, «необузданно стремится все
вперед» (Мефистофель в «Фаусте», I, сц. IV). Путь назад, к
полному удовлетворению, как правило, прегражден
сопротивлениями, поддерживающими вытеснения, и, таким
образом, не остается ничего иного, как движение в другом, еще
свободном направлении развития, правда, без перспективы
завершить процесс и достигнуть цели. Процессы,
наблюдаемые при образовании невротической фобии (которая ведь
представляет собой не что иное, как попытку бегства от
1 Фсрснци другим путем пришел к возможности такого же понимания
(Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinncs // Internationale Zeitschrift fur
Psychoanalyse. Bd. I, 1913): «При последовательном проведении этого хода мыслей
надо признать тенденцию сохранения или даже регресса, которая господствует
и в органической жизни, в то время как тенденция к высшему развитию,
приспособлению и т.д. оживает лишь как реакция на внешние раздражения».
772
Ho mg сторону принципа наслаждения
удовлетворения первичного позыва), дают нам образец этого
кажущегося «стремления к совершенствованию», о котором
мы не в состоянии сказать, что он присущ всем
человеческим индивидам. Динамические условия для него
существуют, конечно, повсюду, но экономические обстоятельства
только в редких случаях благоприятствуют этому феномену.
Я прибавлю лишь одно слово о вероятности того, что
стремление Эроса объединять все органическое во все
большие единства заменяет этот инстинкт совершенствования,
который мы признать не в силах. В соединении с
воздействиями вытеснения это стремление объяснило бы феномены,
приписываемые инстинкту совершенствования.
VI
Полученный нами результат, устанавливающий резкую
противоположность между первичными позывами «Я» и
сексуальными первичными позывами, сводя первые к
стремлению к смерти, а вторые — к стремлению к жизни, во многих
отношениях не удовлетворит, конечно, и нас самих.
Добавим к этому, что только у первых первичных позывов «Я»
мы могли установить их консервативный или, лучше
сказать, регрессивный характер, соответствующий вынуждению
повторения. Напомним, что, согласно нашей гипотезе,
первичные позывы «Я» возникли от оживания неживой материи
и стремятся вернуться в неживое. А сексуальные первичные
позывы воспроизводят, очевидно, примитивные состояния
живого существа; но целью, к которой они стремятся всеми
возможными средствами, является слияние двух
определенным образом дифференцированных зародышевых клеток.
Если это соединение не осуществляется, то зародышевая
клетка умирает так же, как и все остальные элементы
многоклеточного организма. Только при условии соединения их
половая функция способна продлить жизнь и придать ей
видимость бессмертия. Какое же важное событие хода
развития живой субстанции повторяется половым
размножением или предшествующей ему копуляцией двух индивидов
773
Зигмунд ФРЕЙД
из среды одноклеточных? На это у нас ответа нет, и поэтому
для нас было бы облегчением, если бы все наше построение
оказалось ошибочным. Отпала бы противоположность
первичных позывов «Я» (инстинктов смерти) и сексуальных
первичных позывов (инстинктов жизни), и вместе с этим
вынуждение повторения потеряло бы то значение, которое
ему приписывается.
Вернемся поэтому к одному из включенных нами
предположений в ожидании, что мы можем целиком его
опровергнуть. Мы построили дальнейшее заключение на предпосылке,
что все живущее должно умереть по внутренним причинам.
Высказали мы это предположение столь беспечно потому, что
оно нам таковым не кажется. Мы привыкли так думать, и
наши поэты поддерживают нас в этом. Мы, быть может,
решились так думать потому, что в этой вере есть утешение.
Если уж надо самому умереть и до этого потерять любимых
нами людей, то уж приятнее подчиниться неумолимому
закону природы, священной Лнанке, чем случайности, которой
можно было бы, пожалуй, еще избежать. Но возможно, что
эта вера во внутреннюю закономерность смерти тоже только
иллюзия, которую мы создали, чтобы «перенести тягость
существования»? Эта вера, во всяком случае, не первоначальна,
так как примитивным народам чужда идея «естественной
смерти»; они относят каждую смерть в их среде к влиянию
врага или злого духа. Обратимся поэтому к биологическим
наукам, чтобы эту веру испытать.
И тут мы удивимся, как мало между биологами согласия,
когда речь идет о естественной смерти; само понятие смерти
у них просто растекается. Наличие, по крайней мере для
высших животных, определенной средней продолжительности
жизни говорит, конечно, за смерть по внутренним причинам,
но то обстоятельство, что отдельные крупные животные и
гигантские деревья достигают очень высокого и пока неуста-
новимого возраста, это впечатление опять-таки
упраздняет. Согласно великолепной концепции Флисса, все
феномены жизни, проявляемые организмами, — конечно, и смерть —
связаны с выполнением определенных сроков, в которых
выражается зависимость двух живых субстанций — мужской и
женской — от солнечного года. Однако наблюдение, как лег-
774
По ту сторону принципа наслаждении
ко и в каком размере влияние внешней силы может изменить
проявления жизни, особенно в растительном мире, как оно
может их ускорить или задержать, противоречит
неподвижной окаменелой формуле Флисса и, по крайней мере,
заставляет сомневаться в абсолютном господстве установленных
им законов.
Наибольший интерес вызывает у нас трактовка темы
продолжительности жизни и темы смерти организмов в работах
А. Вейсмана1. К этому исследователю восходит различие в
живой субстанции ее смертной и ее бессмертной половины;
смертная половина есть тело в более узком смысле слова —
сома, она одна подвержена закону естественной смерти,
зародышевые же клетки потенциально бессмертны постольку,
поскольку при известных благоприятных обстоятельствах
они способны развиться в новый индивид, или, выражаясь
иначе, окружить себя новой сомой2.
Нас поражает здесь неожиданная аналогия с нашим
собственным пониманием, развившимся столь непохожим
образом. Вейсман, рассматривающий живую субстанцию
морфологически, видит в ней две составные части: сому, которой
суждено умереть, иными словами — тело, независимо от его
полового и наследственного материала, и другую часть —
бессмертную, именно эту зародышевую плазму, которая
служит целям сохранения вида, его размножения. Для нас
отправной точкой была не живая материя, а действующие в
ней силы; и мы признали два вида первичных позывов —
одни, ведущие жизнь к смерти, и другие — сексуальные
первичные позывы, снова и снова стремящиеся к обновлению
жизни и этого достигающие. Эта теория звучит
динамическим завершением морфологической теории Вейсмана.
Но эта видимость значительной согласованности тотчас
исчезает, если мы рассмотрим данное Вейсманом
определение проблемы смерти. Ибо Вейсман признает разделение на
смертную сому и бессмертную зародышевую плазму лишь для
многоклеточных организмов; у одноклеточных — индивид и
1 Ucbcr die Dauer des Lebens. 1882; Ucbcr Leben und Tod. 1892; Das
Keimplasma. 1892 и др.
2 Ucber Leben und Tod. S. 20.
775
Зигмунд ФРЕЙД
продолжающая род клетка являются еще одним и тем же1. Он,
таким образом, объявляет одноклеточных потенциально
бессмертными, смерть наступает только у метазоев,
многоклеточных. Эта смерть высших живых существ является, разумеется,
естественной и наступает от внутренних причин; но основана
эта смерть не на первоначальном свойстве живой субстанции2
и не может быть воспринята как абсолютная необходимость,
заложенная в самой сущности жизни3. Смерть есть, скорее,
установление целесообразности, явление приспособления к
внешним условиям жизни, так как после разделения клеток
организма на сому и зародышевую плазму неограниченная
продолжительность жизни индивида стала бы совершенно
нецелесообразной роскошью. С возникновением у
многоклеточных этой дифференциации смерть стала возможной и
целесообразной. С тех пор сома высших живых существ к
определенным срокам по внутренним причинам отмирает, в то время
как одноклеточные (протисты) остаются бессмертными.
Размножение, напротив, возникло не со смертью, оно, скорее,
представляет собой такое же первичное качество живой
материи, как и рост, от которого оно произошло; и жизнь с самого
ее начала на Земле оставалась непрерывной4.
Легко убедиться, что признание для высших организмов
естественной смерти нашему делу мало помогает. Если
смерть есть позднее приобретение живых существ, то не
может быть вопроса о первичных позывах смерти, восходящих
к началу жизни на Земле. Многоклеточные, может быть,
умирают от причин внутренних, от недостатков своей
дифференциации или от несовершенств своего обмена веществ;
но, с точки зрения нашей проблемы, вопрос этот
неинтересен. Такое понимание смерти и ее происхождения, конечно,
привычному мышлению гораздо ближе, чем странное
предположение о «первичных позывах смерти».
Дискуссия, которая последовала за гипотезами Вейсмана,
с моей точки зрения, ни в каком направлении ничего реша-
1 Uebcr die Dauer des Lebens. S. 38.
2 Ueber Leben und Tod, 2. Aufl. S. 67.
3 Uebcr die Dauer des Lebens. S. 33
4 Ueber Leben und Tod. Schlub.
776
По ту сторону принципа наслаждения
ющего не дала1. Многие авторы вернулись к точке зрения
Гетте (1883), который видел в смерти прямое следствие
размножения. Для Гартмана смерть не характерна появлением
трупа, т. е. отмершей части живой субстанции, — он
определяет ее как «окончание индивидуального развития». В этом
смысле смертны и протозои, так как смерть у них всегда
совпадает с размножением; но у них смерть в известной
степени этим размножением завуалирована, потому что вся
субстанция животного-родителя может быть
непосредственно перенесена в молодых индивидов-детей.
Вскоре после этого исследование сосредоточилось на том,
чтобы экспериментальным путем подвергнуть испытанию это
предполагаемое бессмертие живой субстанции
одноклеточных. Американец Вудрефф, экспериментируя с ресничной
инфузорией («туфелькой»), которая размножается делением на
два индивида, довел свои опыты до 3029-го поколения; на
этом он закончил опыты, причем при каждом опыте он
изолировал одну из отделившихся частиц и помещал ее в свежую
воду. Этот поздний отпрыск первой «туфельки» был так же
свеж, как его прародительница, и не обнаруживал никаких
признаков старения или дегенерации. Этим самым, если
считать такие количества доказательными, бессмертие
одноклеточных казалось экспериментально подтвержденным2.
Другие исследователи пришли к иным результатам.
В полном противоречии с заключениями Вудреффа Mona,
Калкинс и другие нашли, что и эти инфузории, если нет
притока известных освежающих влияний, после
определенного числа делений слабеют, уменьшаются в размере,
теряют некоторую часть своей организации и наконец умирают.
Согласно этому, протозои, следовательно, после фазы
старческого распада умирают совершенно так, как и высшие
животные, что сильно противоречит утверждениям Вейсмана,
который признает смерть позднейшим приобретением
живых организмов.
1 Ср.: Hartmann M. Tod und Fortpflanzung. 1906; Lipschutz A. Warum
wirsterben. 1914; Doßein F. Das Problem des Todes und der Unsterblichkeit bei den
Pflanzen und Tieren. 1909.
2 С этим и дальнейшим ср.: Lipschutz, с. 26 и 52.
777
Зигмунд ФРЕЙД
Из взаимной связи этих исследований мы выделяем два
факта, которые, как кажется, ставят нас на твердую почву.
Во-первых: если инфузории в момент, когда они еще не
выказывают старческих изменений, способны слиться между
собой — копулировать (после чего они через некоторое
время опять расходятся), то они спасены от старения, они
«омолодились». Эта копуляция является, вероятно,
предшественником полового размножения высших существ; она еще не
имеет ничего общего с увеличением числа и ограничивается
смешением субстанций обоих индивидов (амфимиксис Вейс-
мана). Однако освежающее влияние копуляции может быть
заменено определенными средствами раздражения,
изменениями в составе питающей жидкости, повышением
температуры или встряской. Вспомним знаменитый опыт Леба,
который определенными химическими раздражениями
вызывал в яйцах морского ежа процессы деления, обычно
наблюдаемые после оплодотворения.
Во-вторых: по-видимому, возможно, что инфузорий ведет
к естественной смерти их собственный жизненный процесс,
так как противоречие между результатами Вудреффа и
других исследователей происходит оттого, что Вудрефф
помещал каждое новое поколение в свежую питающую жидкость.
Когда он этого не делал, наблюдались те же старческие
изменения поколений, как и у других наблюдателей. Он
пришел к заключению, что инфузориям вредят продукты обмена
веществ, которые они отдают в окружающую их жидкость, и
смог затем убедительно доказать, что только продукты
собственного обмена веществ имеют такое воздействие, ведущее
к смерти поколения. И те же существа, которые обязательно
погибали, будучи скопленными в собственной питательной
жидкости, прекрасно развивались в растворе,
перенасыщенном продуктами отхода отдаленно родственного вида;
таким образом, если инфузория предоставлена самой себе, то
она погибает естественной смертью от несовершенства
удаления продуктов собственного обмена веществ; но, может
быть, и высшие животные погибают в сущности от той же
неспособности.
У нас может возникнуть сомнение, целесообразно ли
вообще было искать решения вопроса о естественной смерти
778
По ту сторону принципа наслаждения
в изучении протозоев. Возможно, что примитивная
организация этих живых существ скрывает от нас важные условия,
которые наблюдаются и у них, но по-настоящему они могут
быть распознаны только у высших животных, где они
приобрели морфологическое выражение. Если мы оставим
морфологическую точку зрения, чтобы занять динамическую,
нам вообще будет безразлично, доказуема ли естественная
смерть протозоев или нет. У них субстанция, признанная
позже бессмертной, еще ни в коей мере не отделилась от
смертной. Силы первичных позывов, которые хотят
перевести жизнь в смерть, могли бы и у них действовать с самого
начала, и все же их эффект мог быть настолько скрыт
эффектом сил жизнеутверждающих, что прямое
доказательство их наличия становится затруднительным. Мы, правда,
слышали, что наблюдения биологов разрешают нам
предположение о таких ведущих к смерти внутренних процессах
и в отношении одноклеточных. Но даже в том случае, если,
в смысле Вейсмана, протисты и бессмертны, то его
утверждение, что смерть является поздним приобретением,
значимо лишь для явных проявлений смерти и не исключает
предположения о толкающих к смерти процессах. Наши
ожидания, что биология начисто отклонит признание
первичных позывов смерти, не оправдались. Мы и дальше
можем заниматься мыслями о возможности их существования,
если у нас будут для этого основания. Но поразительное
сходство деления Вейсмана на сому и зародышевую плазму
с нашим делением на инстинкты смерти и инстинкты жизни
остается в силе и снова приобретает значение.
Остановимся вкратце на этом строго дуалистическом
понимании первичных позывов. Согласно теории Э. Геринга о
процессах, происходящих в живой субстанции, в этой
субстанции непрерывно наблюдаются два процесса
противоположного направления — один конструктивный,
ассимилирующий, и другой — разрушающий, диссимилирующий.
Может быть, мы осмелимся признать в этих двух
направлениях жизненных процессов деятельность наших обоих
видов первичных позывов — инстинктов жизни и инстинктов
смерти? Но есть что-то, чего нам не утаить: мы нечаянно
зашли в область философии Шопенгауэра, для которого
779
Зигмунд ФРЕЙД
ведь смерть является подлинным результатом и, таким
образом, и целью жизни1, а сексуальный инстинкт —
воплощением воли к жизни.
Сделаем смелый шаг вперед. По общепринятому мнению,
соединение многих клеток в один жизненный узел — в мно-
гоклеточность организмов — стало средством для продления
жизни. Одна клетка способствует сохранению жизни
другой клетки, и клеточное государство может продолжать
свою жизнь, даже если отдельные клетки должны отмереть.
Мы уже слышали, что и копуляция, временное слияние двух
одноклеточных, действует на обоих омолаживающим и
оживляющим образом. В этом случае можно было бы попытаться
перенести установленную психоанализом теорию либидо на
отношение клеток между собой и представить себе, что
жизненные или сексуальные инстинкты, действующие в каждой
клетке, делают своим объектом другие клетки, частично
нейтрализуют их инстинкты смерти, т.е. вызванные ими
процессы, и таким образом сохраняют их жизнь, в то время как
другие клетки действуют так же в отношении к первым, а
третьи жертвуют собой, производя эту либидозную
функцию. Сами зародышевые клетки вели бы себя абсолютно
«нарциссически» — мы пользуемся этим выражением в
учении о неврозах, когда индивид сохраняет либидо в себе,
ничего не отдавая для зарядки объекта. Зародышевые клетки
нуждаются в либидо, в деятельности своих жизненных
инстинктов для самих себя, чтобы иметь в них запас для
дальнейшей усиленной конструктивной работы. Может быть, и
клетки злокачественных, разрушающих организм
образований можно признать в том же смысле нарциссическими.
Ведь патология готова считать их зародыши
прирожденными и признать за ними эмбриональные качества. В таком
случае либидо наших сексуальных первичных позывов
совпадает с объединяющим все живущее Эросом поэтов и
философов.
Тут мы имеем повод проследить медленное развитие
нашей теории либидо. Анализ неврозов перенесения заставил
1 Uebcr die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen,
Grossherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe. Bd. IV. S. 268.
780
Но ту сторону принципа наслаждения
нас установить прежде всего противоположность между
сексуальными первичными позывами, направленными на объект,
и другими, которые были нам еще недостаточно понятны и
которые мы предварительно назвали первичными позывами
«Я». В первую очередь среди них следовало признать
первичные позывы, служащие самосохранению индивида.
Какие другие различия следовало там делать, было неизвестно.
Никакое другое знание не было бы так важно для
обоснования научной психологии, как приблизительное
проникновение в общую природу и возможные особенности
первичных позывов. Ни в одной области психологии мы не бродим
наугад в такой степени, как именно здесь. Каждый
устанавливал столько инстинктов или «основных инстинктов»,
сколько ему было угодно, и распоряжался ими, как
древнегреческие натурфилософы своими четырьмя элементами:
водой, землей, огнем и воздухом. Психоанализ, который не
мог обойтись без какого-нибудь предположения
относительно первичных позывов, придерживался вначале
популярного деления, образцом которого является «Голод и Любовь».
Это, по крайней мере, не было новым актом произвола. Это
значительно помогало в психоанализе неврозов. Понятие
сексуальности и вместе с этим понятие сексуального
первичного позыва подлежало, конечно, расширению, пока оно
не включило многое, что не укладывалось в функцию
размножения; это вызвало немало шума в строгом, знатном или
просто лицемерном свете.
Следующий шаг был сделан, когда психоанализ смог
приблизиться к психологическому «Я», которое сначала
стало знакомо ему лишь как вытесняющая, цензурирующая
инстанция, способная к защитным построениям и образованию
реакций. Правда, критические и другие дальновидные умы
давно уже протестовали против ограничения понятия
либидо как энергии сексуальных инстинктов, направленных на
объект. Но они позабыли объяснить, откуда у них явилось
это лучшее понимание, и не сумели вывести из своей теории
чего-либо пригодного для психоанализа. При дальнейшем
более осмотрительном продвижении вперед
психоаналитическое наблюдение подметило, как регулярно либидо
отходит от объекта и направляется на «Я» (интроверсия); и, изу-
781
Зигмунд ФРЕЙД
чая развитие либидо ребенка в ранних фазах, психоанализ
пришел к заключению, что «Я» является истинным и
первоначальным резервуаром либидо и только от него исходит
на объект. «Я» было причислено к сексуальным объектам, и
притом было объявлено самым важным из них. Пребывание
в «Я» означало нарциссичность либидо1. В либидо нарцис-
сического характера, конечно, проявлялись силы
сексуальных первичных позывов в психоаналитическом смысле; их
пришлось идентифицировать с первичными позывами
самосохранения, признанными уже с самого начала. Таким
образом, первоначальная противоположность между
инстинктами «Я» и сексуальными инстинктами стала недостаточной.
Часть инстинктов «Я» была признана либидозной; в «Я» —
вероятно, наряду с другими — действовали и сексуальные
инстинкты; но мы все же вправе сказать, что старая
формулировка, утверждавшая, что психоневроз основан на
конфликте между инстинктами «Я» и сексуальными
инстинктами, не содержит положений, которые могли бы быть
теперь отвергнуты. Разница между обоими видами первичных
позывов, которая понималась вначале более или менее
качественно, должна определяться теперь иначе, а именно
топически. Особенно это касается невроза перенесения —
главного объекта психоаналитического изучения, — он остается
результатом конфликта между «Я» и либидозной
объективной заряженностью.
Следует подчеркнуть либидозный характер инстинктов
самосохранения именно теперь, когда мы отваживаемся на
дальнейший шаг и признаем сексуальный инстинкт Эросом,
который все объединяет, а нарциссическое «Я-либидо»
выводим из частичек либидо, которыми клетки сомы связаны
друг с другом. Но теперь внезапно возникает следующий
вопрос: если инстинкты самосохранения также имеют ли-
бидозную природу, то, может быть, не существует никаких
других инстинктов, кроме либидозных? Иных, по крайней
мере, мы не видим. Тогда, однако, приходится признать
правоту критиков, которые с самого начала подозревали, что
1 Zur Einfuhrung des Narzißmus //Jahrbuch fur Psychoanalyse. Bd. VI, 1914
(Ges. Werke. Bd. X).
782
По ту сторону принципа наслаждения
психоанализ все объясняет сексуальностью; или же надо
согласиться с новаторами вроде Юнга, которые весьма
решительно объявили либидо «движущей силой» вообще. Разве
это не так?
В наши намерения получение такого результата никоим
образом не входит. Ведь мы исходили из резкого деления на
первичные позывы «Я» (инстинкты смерти) и на
сексуальные первичные позывы (инстинкты жизни). Мы готовы
были причислить и так называемые инстинкты самосохранения
к инстинктам смерти, но мы затем внесли поправку и
отказались от этой точки зрения. Наше понимание с самого
начала было дуалистическим, и оно теперь острее, чем прежде,
с тех пор как мы эти противоположности обозначаем не как
первичные позывы «Я» и сексуальные первичные позывы, а
как первичные позывы жизни и первичные позывы смерти.
Теория либидо, принадлежащая Юнгу, является, напротив,
монистической; то, что свою единственную движущую силу
он назвал либидо, должно было вызвать смущение, но не
должно, однако, влиять на наш ход мыслей. Мы
предполагаем, что в «Я», кроме либидозных инстинктов
самосохранения, действуют еще другие инстинкты, и мы хотим добиться
возможности их указать. К сожалению, анализ «Я» так мало
продвинут, что отыскание доказательств становится
затруднительным. Либидозные инстинкты «Я», весьма вероятно,
особенным образом соединены с другими инстинктами «Я»,
нам еще не знакомыми. Еще прежде, чем мы ясно поняли
суть нарциссизма, в психоанализе уже возникло
предположение, что инстинкты «Я» включают в себя либидозные
компоненты. Но это довольно ненадежные возможности, и
противники едва ли их примут во внимание. Затруднение
заключается в том, что до сих пор психоанализ смог доказать
лишь существование либидозных первичных позывов. Но
все же не следует делать вывода, что других не существует.
При настоящей неясности учения о первичных позывах
нам представляется неправильным отказываться от какой-
либо новой мысли, обещающей нам объяснение. Мы
исходили из великой противоположности между первичными
позывами жизни и первичными позывами смерти. Сама
объектная любовь показывает нам вторую такую полярность,
783
Зигмунд ФРЕЙД
а именно любви (нежности) и ненависти (агрессии). Если
бы нам удалось привести обе эти полярности во взаимную
связь, вывести одну из другой! Мы всегда признавали в
сексуальном инстинкте компонент садизма1. Этот компонент
может, как мы знаем, сделаться самостоятельным и в виде
извращения овладеть совокупной сексуальной
устремленностью данного лица. Он, как господствующий инстинкт-
компонент, проявляется также в одной из так мною
называемых «прегенитальных организаций». Но как можно из
жизнеутверждающего Эроса вывести инстинкт садизма,
направленный на повреждение объекта? Не следует ли
предположить, что этот садизм в сущности является инстинктом
смерти, который, будучи оттеснен от «Я» влиянием
либидо нарциссического характера, может проявиться только на
объекте? Он тогда переходит в сексуальную функцию.
В оральной стадии либидо любовное овладение еще
совпадает с уничтожением объекта; позже садистский инстинкт
выделяется особо и, наконец, на ступени примата гениталий
принимает на себя, в целях размножения, функцию так
овладеть сексуальным объектом, как этого требует выполнение
полового акта. Да, можно было бы сказать, что вытесненный
из «Я» садизм показал путь либидозным компонентам
сексуального инстинкта; позже и они устремляются к объекту.
Там, где первоначальный садизм не подвергается
ограничению или слиянию, устанавливается знакомая в любовной
жизни амбивалентность: любовь — ненависть.
Если позволительно сделать такое предположение, то
было бы исполнено требование привести пример — хотя и
смещенного — инстинкта смерти. Прибавим, что это понимание
лишено, правда, всякой наглядности и производит почти
мистическое впечатление. Нас можно подозревать в том, что
мы любой ценой искали выхода из затруднительного
положения. В таком случае мы сошлемся на то, что подобное
предположение не ново, что мы высказывали его уже тогда,
когда о затрудениях не было речи. Клинические наблюдения
в свое время привели нас к заключению, что мазохизм
(частный инстинкт-компонент, сопутствующий садизму) следует
Drei Abhandlungen zur Scxualthcoric. I. Aufl. 1905 (Ges. Werke. Bd. V).
784
По ту сторону принципа наслаждения
рассматривать как садизм, обращенный на собственное «Я»1.
Однако поворот инстинкта от объекта к «Я» принципиально
есть не что иное, как поворот от «Я» к объекту; это
обсуждается здесь как новый вопрос. Мазохизм, поворот
инстинкта против собственного «Я», в действительности был бы
тогда возвратом к одной из его ранних фаз, регрессом. В
одном пункте данное ранее описание мазохизма нуждается
в исправлении, как слишком исключающее; мазохизм (что
я раньше оспаривал) мог бы быть и первичным2.
Но вернемся теперь к жизнеутверждающим сексуальным
инстинктам. Исследование одноклеточных показало, что
слияние двух индивидов без последующего деления, т. е.
копуляция, после которой они вскоре отделяются друг от
друга, — имеет укрепляющее и омолаживающее действие (см.
Липшютц). В дальнейших поколениях они не выказывают
дегенеративных явлений и, по-видимому, способны дальше
сопротивляться вредоносным влияниям собственного
обмена веществ. Мне думается, что одно это наблюдение может
служить превосходным примером также и для эффекта
полового совокупления. Но каким образом это слияние двух
мало отличных друг от друга клеток способно дать такое
обновление жизни? Эксперимент, заменяющий копуляцию
протозоев действием химических и даже механических
раздражений, позволяет дать нам на этот вопрос точный ответ.
Обновление совершается вследствие притока новых
количеств раздражения. Этот ответ в свою очередь хорошо
согласуется с предположением, что жизненный процесс
индивида по внутренним причинам ведет к уравнению химиче-
1 Ср.: Drei Abhandlungen zur Scxualtheorie. 4. Aufl. 1920. Triebe und
Triebschicksalc (Ges. Werke. Bd. V und X).
2 Сабина Шпильрейн в содержательной и богатой мыслями работе,
которая мне, к сожалению, не вполне ясна, предвосхитила значительную часть этих
рассуждений. Она называет садистские инстинкты «разрушительными» (Die
Destruktion als Ursache des Werdens // Jahrbuch fur Psychoanalyse. Bd. IV,
1912). Штеркс старался иным путем идентифицировать самое понятие либидо
с биологическим понятием импульса к смерти, выведенным теоретическим
путем (Inlciding by de vertraling von S. Freud. De scxuele beschavingsmoral etc.
1914). (Ср. также: Rank. Der Kunstler.) Все подобные дискуссии, как и
приведенные здесь, указывают на стремление в учении об инстинктах к ясности,
которая еще не найдена.
785
Зигмунд ФРЕЙД
ских напряжений, т. е. к смерти; и в то же время соединение
с индивидуально различной живой субстанцией
увеличивает эти напряжения, вводит, так сказать, новые витальные
разногласия, которые должны быть в дальнейшем изжиты.
Для этого различия должны, конечно, существовать один
или несколько оптимумов. То, что доминирующей
тенденцией психической жизни, а может быть, и нервной жизни
вообще, мы признали стремление к снижению, к
поддержанию постоянного уровня, к уничтожению внутреннего
напряжения, вызванного раздражениями (принцип нирваны по
выражению Барбары Лоу), — тенденцию, получающую свое
выражение в принципе наслаждения, и является для нас
одним из сильнейших мотивов, чтобы верить в
существование первичных позывов смерти.
Однако ход наших мыслей все еще значительно
нарушается тем обстоятельством, что мы как раз в сексуальном
первичном позыве не можем найти характерной черты вы-
нуждения повторения, что впервые и натолкнуло нас на
поиски первичных позывов смерти. Правда, область процессов
эмбрионального развития чрезвычайно богата такими
феноменами повторения; обе зародышевые клетки полового
размножения и история их жизни являются лишь повторением
начал органической жизни; но самое существенное в
процессах, вызванных сексуальными первичными позывами, есть
все же слияние двух клеточных тел. Только это слияние
гарантирует у высших живых существ бессмертие живой
субстанции.
Иными словами, мы должны объяснить возникновение
полового размножения и сексуальных первичных позывов
вообще. Это представляет собой задачу, которой
неспециалист устрашится и которая до сих пор не могла быть решена
даже исследователями-специалистами. Из всех этих
противоречащих друг другу указаний и мнений выделим поэтому
в самом сжатом виде то, что подключимо к нашему ходу
мыслей.
Одна из этих точек зрения лишает проблему
размножения ее таинственной прелести, объявляя размножение
частным явлением роста (размножение делением, пусканием
ростков, почкованием). Возникновение размножения при
786
Но ту сторону принципа наслаждения
помощи зародышевых клеток, дифференцированных по
половому признаку, по трезвому мышлению Дарвина, можно
было бы представить себе как преимущество амфимиксиса,
которое однажды возникло при случайной копуляции двух
одноклеточных и затем было удержано и использовано при
дальнейшем развитии1. «Пол», таким образом, не очень стар,
и чрезвычайно бурные первичные позывы, стремящиеся
осуществить половое совокупление, якобы повторяют при
этом что-то, что когда-то случайно произошло и затем,
ввиду полезности, укрепилось.
Возникает тот же вопрос, что и в проблеме смерти: нужно
ли признавать за протистами только то, что они открыто
обнаруживают, и следует ли признать, что силы и процессы,
становящиеся видимыми лишь у высших организмов, у них
впервые и возникли? Упомянутое здесь понимание
сексуальности в нашем случае помогает весьма мало. На это
понимание можно возразить, что оно предполагает существование
жизненных инстинктов, действующих уже в простейших
живых организмах; иначе копуляция, противодействующая
течению жизненных процессов и затрудняющая задачу отжи-
вания, не была бы удержана и разработана, а избегалась бы.
Таким образом, если мы не хотим отказаться от
предположения об инстинктах смерти, нужно прежде всего присоединить
к ним инстинкты жизни. Но надо признаться, что это будет
уравнением с двумя неизвестными. Наука так мало знает
о происхождении пола, что эту проблему можно сравнить
с мраком, в который не проникал даже и луч гипотезы.
Правда, в совсем другой области мы встречаемся с такой
гипотезой, со столь, однако, фантастичной — скорее, конечно,
мифом, чем научным объяснением, — что я бы не осмелился
привести здесь ее, не отвечай она именно тому условию, к
которому мы стремимся. А именно: она ведет один из
инстинктов от потребности восстановить прежнее состояние.
1 Впрочем, Всйсман (Das Keimplasma. 1892) отрицает и это преимущество:
«Оплодотворение отнюдь не означает омоложения или обновления жизни и,
безусловно, не является необходимым для продления жизни; оно не что иное,
как средство, делающее возможным смешение двух наследственных тенденций*.
Результатом такого смешения он все же считает повышение разнообразия
живых существ.
787
Зигмунд ФРЕЙД
Я, конечно, разумею теорию, которую Платон вложил в
«Пире» в уста Аристофана и которая объясняет не только
возникновение полового инстинкта, но и его важнейшей
вариации в отношении объекта. «Наше тело раньше имело
совсем другой вид, чем теперь; оно было совсем иным.
Сначала было три пола, не только, как теперь, — мужской и
женский, — но еще и третий, оба в себе соединявший...
муже-женский...» Все, однако, у этих людей было двойным; у
них, значит, было четыре руки и четыре ноги, два лица,
двойные половые органы и т.д. Зевса уговорили разделить
каждого человека на две части, «как режут айву для
приготовления варенья... Так как теперь все естество было
разрезано надвое, тоска обе половины свела: они обвивали друг
друга руками, сплетались друг с другом, в жажде срастись
воедино...»*
Решиться нам, следуя указанию поэта-философа, на
смелое предположение, что живая субстанция при своем
происхождении была разорвана на мелкие частицы, которые с
тех пор, путем сексуальных первичных позывов, стремятся
1 Проф. Генриху Гомперцу (Вена) я обязан следующими объяснениями
происхождения Платонова мифа, которые частично передаю его словами: «Я
хотел бы обратить внимание на то, что в основном та же история имеется уже
в Упанишадах. В Брихад-Араньяка-упанишадс, 1, 4, 3 (Deussen. 60 Upanishads
des Veda. S. 393.), где описывается происхождение мира из Атмана (самости
или „Я"), сказано: „Но и он (Атман — самость или «Я») не имел радости;
поэтому нет у человека радости, когда он один. И тогда он восхотел второго.
А был он так велик, как мужчина и женщина, когда они обнялись. Эту свою
самость он расколол на две части: отсюда возникли супруг и супруга. Поэтому
это тело от самости только половина, и так это объяснил Яджпавалкья.
Поэтому это пустое пространство заполняется здесь женщиной».
Брихад-Араньяка-упаиишада — старейшая из всех Упанишад, и
осведомленные исследователи относят ее ко времени не позже 800 г. до Р. X. Вопрос,
возможна ли хотя бы косвенная зависимость Платона от индусской мудрости,
я, несмотря на установившееся мнение, не хотел бы обязательно отрицать, так
как такую возможность начисто нельзя отрицать и в отношении учения о
переселении душ. Эта зависимость (прежде всего через посредство
пифагорейцев) едва ли уменьшила бы значительность совпадения мыслей, так как Платон
не присвоил бы себе такой, занесенной из восточных источников, истории и
тем более не отвел бы ей столь значительного места, если бы она ему самому
не показалась содержащей элементы истины.
В статье Циглера «Menschen — und Wcltenwcrden» (Neues Jahrbuch für das
klassische Altertum. Bd. 31, 1913. S. 529), планомерно исследующей ход данной
идеи до Платона, ей приписывается вавилонское происхождение.
788
По ту сторону принципа наслаждения
к воссоединению? Что эти первичные позывы, в которых
находит свое продолжение химическое сродство неживой
материи, постепенно, через царство протистов,
преодолевают трудности, которые этому стремлению
противопоставляет заряженное жизнеопасными раздражениями окружение,
что вынуждает к образованию защитного коркового слоя?
Что эти раздробленные частицы живой субстанции
достигают таким путем многоклеточности и, наконец, передают
зародышевым клеткам инстинкт к воссоединению в
высочайшей концентрации? Думаю, что здесь как раз нам и следует
остановиться.
Но не без того, чтобы не добавить нескольких слов
критического размышления. Меня могли бы спросить, убежден
ли я сам, и в какой мере, в истинности разработанных здесь
предложений. Я ответил бы, что я не убежден и не стараюсь
склонить к вере в них других. Вернее, я не знаю, насколько
я в них верю. Мне кажется, что аффективный момент
убежденности здесь даже не должен приниматься во внимание.
Ведь можно увлечься ходом мысли и за ним следовать до
предельной возможности всего лишь из научной
любознательности или, если угодно, в качестве advocatus diaboli,
который посему никак еще чёрту сам не продается. Не
отрицаю, что предпринимаемый здесь третий шаг в учении о
первичных позывах не может претендовать на ту же
достоверность, что два первых: расширение понятия
сексуальности и установление нарциссизма. Эти нововведения были
прямым переводом наблюдения в теорию, и в них не могло
быть больших источников ошибок, чем это в таких случаях
неизбежно. Утверждение о регрессивном характере
первичных позывов основано, конечно, и на материалах
наблюдения, а именно на фактах вынуждения повторения. Но, быть
может, я их значение преувеличил. Проведение этой идеи
возможно, во всяком случае, не иначе, как путей
многократного комбинирования фактического материала с чистым
размышлением, удаляясь при этом от наблюдений.
Известно, что окончательный результат тем ненадежнее,
чем чаще это при построении теории проделывается,
степень недостоверности, однако, неопределима. Можно
прийти к счастливой догадке или позорно сбиться с пути. Так
789
Зигмунд ФРЕЙД
называемой интуиции я в таких работах мало доверяю; то,
что мне приходилось в этом отношении замечать, казалось
мне скорее результатом известной беспристрастности
интеллекта. К сожалению, мы редко беспристрастны, когда дело
идет о последних вещах, о великих проблемах науки и
жизни. Мне думается, что каждым тут овладевают внутренне
глубоко обоснованные предпочтения, которыми он, сам того
не ведая, руководствуется в своих размышлениях. При столь
веских основаниях к недоверию не остается, пожалуй,
ничего другого, как выработка сдержанной благосклонности к
результатам собственного мышления. Я лишь поспешу
прибавить, что такая самокритика отнюдь не обязывает к
особой терпимости по отношению к иным мнениям. Можно
неумолимо отклонять теории, которым противоречат уже
первые шаги психоаналитического наблюдения, и при этом все
же знать, что правильность собственных теорий является
всего лишь предварительной. При оценке наших
рассуждений об инстинктах жизни и смерти пусть нам не мешает то
обстоятельство, что там встречается столько странных и не
наглядных процессов, как, например, вытеснение одного
инстинкта другим или поворот его от «Я» на объект, и тому
подобное. Все это лишь результат того, что мы вынуждены
работать, пользуясь научными терминами, т. е. пользуясь
специфическим образным языком психологии (вернее,
глубинной психологии). В противном случае мы вообще не могли
бы описать соответствующие процессы, мы даже просто не
восприняли бы их. Недостатки нашего описания, вероятно,
исчезли бы, если вместо психологических терминов мы
могли бы воспользоваться физиологическими или
химическими. Правда, это тоже язык образный, но язык, нам уже давно
знакомый, и может быть, и более простой.
С другой стороны, мы должны себе уяснить, что
недостоверность наших рассуждений сильно возрастает
вследствие необходимости заимствований из биологии. Биология
воистину есть царство неограниченных возможностей, мы
можем ожидать от нее самых поразительных откровений, и
невозможно угадать, какие ответы на заданные ей нами
вопросы она дала бы через несколько десятков лет. Может
быть, как раз такие, что опрокинут всё наше искусственное
790
Но ту сторону принципа наслаждения
построение гипотез. Если это так, то позволительно
спросить, зачем же предпринимать работу вроде изложенной в
этом разделе и зачем о ней говорить? Что же, я не могу
отрицать, что некоторые из изложенных здесь аналогий
и взаимосвязей показались мне достойными внимания1.
VII
Если общим характерным свойством первичных позывов
действительно является их стремление восстановить
прежнее состояние, то нам не следует удивляться, что в
психической жизни столь многие процессы протекают независимо
1 В дополнение скажем несколько слов для пояснения нашей
терминологии, которая в нашей работе прошла известный путь развития. Что такое
«сексуальные первичные позывы», мы знали из их отношения к полу и функции
размножения. Мы сохранили это название и дальше, когда вследствие
результатов психоанализа вынуждены были ослабить их отношение к размножению.
При гипотезе о нарциссическом характере либидо и расширении понятия
либидо на отдельную клетку сексуальный первичный позыв превратился у нас в
Эрос, стремящийся столкнуть и соединить частицы живой субстанции; так
называемые сексуальные первичные позывы оказались той частью этого Эроса,
которая обращена на объект. Размышления показывают, что этот Эрос
действовал с самого начала жизни как «инстинкт жизни», в противоположность
«инстинкту смерти», возникшему вследствие оживания неорганического. Мы
пытаемся решить загадку жизни гипотезой об этих двух инстинктах,
борющихся друг с другом испокон веков. Менее ясна, возможно, трансформация,
происшедшая с понятием первичного позыва «Я». Сначала мы называли так все
нам не слишком близко знакомые направления первичных позывов, которые
можно отделить от сексуальных первичных позывов, направленных на объект,
и поставили первичные позывы «Я» в противоположность к сексуальным
первичным позывам, выражение которых есть либидо. Позже мы занялись
анализом «Я» и признали, что часть первичных позывов «Я» также либидозного
характера, объектом избравшая собственное «Я». Эти нарциссическис
первичные позывы самосохранения тоже нужно было теперь причислить к либидоз-
ным сексуальным первичным позывам. Таким образом, противоположность
между первичными позывами «Я» и сексуальными первичными позывами
перешла в противоположность между первичными позывами «Я» и
объектными первичными позывами, и тс и другие — либидозного характера. Но вместо
нес появилась новая противоположность между либидозными (первичными
позывами «Я» и объектными) и другими, пребывающими в «Я» и, может быть,
обнаруживающимися в первичных позывах разрушения. Размышления
видоизменяют эту противоположность в противоположность первичных позывов
жизни (Эрос) и первичных позывов смерти.
791
Зигмунд ФРЕЙД
от принципа наслаждения. Это характерное свойство могло
сообщиться каждому частному первичному позыву и в
таком случае направляться на возвращение к известной
стадии всей истории развития. Но все то, над чем принцип
наслаждения еще не получил власти, необязательно должно
ему противоречить; и еще не разрешена задача, как
определить отношение процессов вынужденного повторения,
исходящих из первичных позывов, к господству принципа
наслаждения.
Мы узнали, что одна из самых ранних и наиболее
важных функций психического аппарата заключается в том,
чтобы «связывать» прибывающие инстинктивные импульсы,
заместить господствующий в них первичный процесс
вторичным и превратить их свободно подвижную энергию зарядки
в преимущественно покоящуюся (тоническую). Во время
этого превращения развитие чувства неудовольствия не
может приниматься во внимание, однако принцип наслаждения
этим не упраздняется. Само превращение, скорее, служит
принципу наслаждения; связывание является
подготовительным актом, который вводит и обеспечивает господство
принципа наслаждения.
Разделим теперь функцию и тенденцию резче, чем мы
это делали до сих пор. Тогда принцип наслаждения будет
тенденцией, служащей функции, которая должна
освободить психический аппарат от всякого возбуждения вообще
или же поддерживать сумму раздражений на постоянном
или возможно низком уровне. Мы еще не решили, на
которой из двух формулировок следует остановиться, но мы
замечаем, что определенная таким образом функция участвует
во всеобщем стремлении всего живущего вернуться к покою
неорганического мира. Все мы испытали, что величайшее
доступное нам наслаждение, наслаждение сексуального акта,
связано с немедленным угасанием сильнейшего
возбуждения. Таким образом, связывание инстинктивного
побуждения является предварительной функцией, которая
подготовляет раздражение для его окончательного изживания в
наслаждении разрядкой.
В связи с этим возникает вопрос, могут ли ощущения
удовольствия и неудовольствия в одинаковой мере быть вы-
792
Но ту сторону принципа наслаждения
званы как связанными, так и несвязанными процессами
возбуждения. И тут совершенно бесспорным кажется, что
несвязанные или первичные процессы в обоих направлениях
вызывают гораздо более интенсивные ощущения, чем
связанные вторичные процессы. Кроме того, первичные
процессы и по времени возникли раньше; в начале психической
жизни других не существует, и из этого мы можем вывести
заключение, что если бы в них уже не действовал принцип
наслаждения, то он не мог бы установиться и в позднейших
процессах. Так мы приходим к результату, — по сути своей
отнюдь не простому, — что стремление к наслаждению в
начале психической жизни выражается гораздо интенсивнее,
чем позже, но не столь неограниченно; оно подвержено
частым перебоям. В более зрелый период господство принципа
наслаждения обеспечено в гораздо большей мере, но и сам
он подвергся укрощению, не меньшему, чем и другие
инстинкты. Во всяком случае, все то, что при процессе
возбуждения вызывает ощущение удовольствия и неудовольствия,
должно при вторичном процессе наличествовать так же, как
и при первичном.
Это было бы исходной точкой для дальнейших
изысканий. Наше сознание передает нам изнутри не только
ощущения удовольствия и неудовольствия, но еще и своеобразного
напряжения, которое само по себе может, опять-таки, быть
приятным или неприятным. Энергетические ли это
процессы, связанные и несвязанные, и различаемые нами
посредством этих ощущений, или же ощущение напряжения следует
отнести за счет абсолютной величины, возможно, уровня за-
ряженности, причем чередование
удовольствия-неудовольствия указывает на изменение во временной единице величины
зарядки? Должно также бросаться в глаза, что первичные
позывы жизни больше связаны с нашим внутренним
восприятием, являясь нарушителями спокойствия и беспрестанно
принося напряжения, изживание которых ощущается как
наслаждение, в то время как первичные позывы смерти
совершают свою работу, по-видимому, незаметно. Принцип
наслаждения служит, очевидно, как раз первичным позывам
смерти; он, конечно, следит и за раздражениями извне,
которые обоими видами первичных позывов расцениваются как
793
Зигмунд ФРЕЙД
опасности; но особенно он на страже повышений
раздражения изнутри, направленных на усложнение жизненной
задачи. Сюда примыкает бесчисленное множество других
вопросов, на которые в настоящее время ответить невозможно.
Надо быть терпеливым и ждать дальнейших средств и поводов
к исследованию. А также быть готовым покинуть путь, по
которому какое-то время шел, если этот путь ни к чему
хорошему не приводит. Только такие верующие, которые
требуют от науки замены отвергнутого катехизиса, упрекнут
исследователя за дальнейшее развитие или даже за изменение
его воззрений. Впрочем, относительно медленного
продвижения нашего научного познания пусть утешит нас поэт Рюк-
керт в «Makamen Hariri» —
Чего не достигнуть полетом,
достичь можно хромая.
Как Писание говорит: хромота не грех.
Психология масс
и анализ
человеческого «Я»
I
Введение
Противопоставление индивидуальной и социальной, или
массовой, психологии, которое на первый взгляд может
показаться столь значительным, многое из своей остроты при
ближайшем рассмотрении теряет. Правда, психология личности
исследует отдельного человека и те пути, которыми он
стремится удовлетворить импульсы своих первичных позывов,
но все же редко, только при определенных исключительных
обстоятельствах, она в состоянии не принимать во внимание
отношений этого отдельного человека к другим индивидам.
В психической жизни человека всегда присутствует «другой».
Он, как правило, является образцом, объектом, помощником
или противником, и поэтому психология личности с самого
начала является одновременно также и психологией
социальной в этом расширенном, но вполне обоснованном смысле.
Отношение отдельного человека к его родителям, сестрам
и братьям, к предмету его любви, к его учителю и к его врачу,
т. е. все отношения, которые до сих пор были главным образом
предметом психоаналитического исследования, имеют право
считаться социальными феноменами и становятся тогда
противопоставленными известным другим процессам, названным
нами нарциссическими, при которых удовлетворение
первичных позывов от влияния других лиц уклоняется или
отказывается. Итак, противопоставленность социальных и нарцисси-
ческих душевных процессу — Блейлер, может быть, сказал
бы: аутистических — несомненно входит в область
психологии личности и не может быть использована с целью отделить
эту психологию от психологии социальной, или массовой.
797
Зигмунд ФРЕЙД
В упомянутых отношениях к родителям, сестрам и
братьям, к возлюбленной, к другу, учителю и к врачу
отдельный человек встречается с влиянием всегда лишь одного
лица или очень незначительного числа лиц, из которых
каждое приобрело очень большое для него значение.
Теперь — если речь идет о социальной, или массовой,
психологии — эти отношения перестали принимать во внимание,
выделяя как предмет особого исследования одновременное
влияние на одного человека большого числа лиц, с
которыми он чем-то связан, хотя они во многом могут ему быть
чужды. Таким образом, массовая психология рассматривает
отдельного человека как члена племени, народа, касты,
сословия, институции или как составную часть человеческой
толпы, в известное время и для определенной цели
организующейся в массу. Такой разрыв естественной связи
породил тенденцию рассматривать явления, обнаруживающиеся
в этих особых условиях, как выражение особого, глубже не
обоснованного первичного позыва, который в других
ситуациях не проявляется. Мы, однако, возражаем, что нам
трудно приписать численному моменту столь большое значение,
что он один пробуждает в душевной жизни человека новый
и в других случаях остававшийся в бездействии первичный
позыв. Наши ожидания обращаются тем самым на две
другие возможности: что социальный первичный позыв может
быть не исконным и не неделимым и что начала его
образования могут быть найдены в кругу более тесном, как,
например, в семейном.
Массовая психология, пусть только зарождающаяся,
включает еще необозримое множество отдельных проблем и
ставит перед исследователем бесчисленные, пока еще даже
не систематизированные задачи. Одна только группировка
различных форм образования масс и описание проявленных
ими психических феноменов требуют усиленных
наблюдений и умелого отображения и уже породили обильную
литературу. Сравнивая эту небольшую работу со всем объемом
задания, следует, конечно, учесть, что здесь могут быть
обсуждены лишь немногие пункты всего материала. Мы
остановимся только на некоторых вопросах, особенно
интересных для глубинного психоаналитического исследования.
798
Психология масс и анализ человеческого «Я»
II
Лебон и его характеристика массовой души
Думается, что более целесообразно начинать не с
определения, а с указания на известную область явлений, а затем
уже выделить из этой области несколько особенно явных и
характерных фактов, с которых может начаться
исследование. Чтобы выполнить эти условия, мы обращаемся к
выдержкам из книги Лебона «Психология масс», по праву
получившей широкую известность.
Уясним себе еще раз положение вещей: если бы
психология, наблюдающая склонности и исходящие из первичных
позывов импульсы, мотивы и намерения отдельного человека
вплоть до его поступков и отношений к наиболее близким
ему людям, полностью свою задачу разрешила и все эти
взаимосвязи выяснила, то она внезапно оказалась бы перед
новой неразрешенной задачей. Психологии пришлось бы
объяснить тот поразительный факт, что этот ставший ей
понятным индивид при определенном условии чувствует, думает
и поступает совершенно иначе, чем можно было бы от него
ожидать, и условием этим является его включение в
человеческую толпу, приобретшую свойство «психологической
массы». Но что же такое «масса», чем приобретает она
способность так решающе влиять на душевную жизнь отдельного
человека и в чем состоит душевное изменение, к которому
она человека вынуждает?
Ответить на три эти вопроса — задача теоретической
массовой психологии. Нам думается, что для разрешения задачи
правильнее всего начать с третьего вопроса. Материал для
массовой психологии дает наблюдение над измененной реакцией
отдельного человека; ведь каждой попытке объяснения должно
предшествовать описание того, что надлежит объяснить.
Я предоставляю слово самому Лебону. Он говорит: «В
психологической массе самое странное следующее: какого бы
рода ни были составляющие ее индивиды, какими схожими
или несхожими ни были бы их образ жизни, занятие, их
характер и степень интеллигентности, но одним только
фактом своего превращения в массу они приобретают коллек-
799
Зигмунд ФРЕЙД
тивную душу, в силу которой они совсем иначе чувствуют,
думают и поступают, чем каждый из них в отдельности
чувствовал, думал и поступал бы. Есть идеи и чувства, которые
проявляются или превращаются в действие только у
индивидов, соединенных в массы. Психологическая масса есть
провизорное существо, которое состоит из гетерогенных
элементов, на мгновение соединившихся, точно так же как
клетки организма своим соединением создают новое существо с
качествами совсем иными, чем качества отдельных клеток».
Мы берем на себя смелость прервать здесь изложение
Лебона замечанием: если индивиды в массе образуют
единство, то должно существовать что-то, что их связывает, и
этим связующим веществом могло бы быть именно то, что
характерно для массы. Лебон, однако, на этот вопрос не
отвечает; он обсуждает только изменение индивида в массе и
описывает его в выражениях, которые вполне согласуются с
основными предпосылками нашей глубинной психологии.
«Легко установить степень различия между индивидом,
принадлежащим к массе, и индивидом изолированным,
менее легко вскрыть причины этого различия.
Чтобы хоть приблизительно найти эти причины, нужно
прежде всего вспомнить факт, установленный современной
психологией, а именно, что не в одной лишь жизни
органической, но и в интеллектуальных функциях преобладающую
роль играют бессознательные феномены. Сознательная
умственная жизнь представляет собой довольно
незначительную часть бессознательной душевной жизни. Тончайший
анализ, острейшее наблюдение способны обнаружить лишь
малое количество сознательных мотивов душевной жизни.
Наши сознательные действия исходят из созданного, в
особенности влиянием наследственности, бессознательного
субстрата. Субстрат этот содержит в себе бесчисленные следы
прародителей, следы, из которых созидается расовая душа.
За мотивами наших поступков, в которых мы признаемся,
несомненно, существуют тайные причины, в которых мы не
признаемся, а за ними есть еще более тайные, которых мы
даже и не знаем. Большинство наших повседневных
поступков есть лишь воздействие скрытых, не замечаемых нами
мотивов».
800
Психология масс и анализ человеческого «Я»
В массе, по мнению Лебона, стираются индивидуальные
достижения отдельных людей и тем самым исчезает их
своеобразие. Расовое бессознательно проступает на первый план,
гетерогенное тонет в гомогенном. Мы сказали бы, что
сносится, обессиливается психическая надстройка, столь
различно развитая у отдельных людей, и обнажается (приводится
в действие) бессознательный фундамент, у всех одинаковый.
Таким путем возник бы средний характер массовых
индивидов. Лебон, однако, находит, что у этих индивидов
наличествуют и новые качества, которыми они не обладали, и
ищет причины этого в трех различных моментах.
«Первая из этих причин состоит в том, что в массе, в
силу одного только факта своего множества, индивид
испытывает чувство неодолимой мощи, позволяющее ему
предаться первичным позывам, которые он, будучи один,
вынужден был бы обуздывать. Для обуздания их повода тем
меньше, так как при анонимности, и тем самым и
безответственности масс, совершенно исчезает чувство
ответственности, которое всегда индивида сдерживает».
Появлению новых качеств мы, с нашей точки зрения,
придаем меньше значения. Для нас достаточным было бы
сказать, что в массе индивид попадает в условия,
разрешающие ему устранить вытеснение бессознательных первичных
позывов. Эти якобы новые качества, которые он теперь
обнаруживает, на самом деле как раз выявление этого
бессознательного, в котором ведь в зародыше заключено все зло
человеческой души; угасание при этих условиях совести или
чувства ответственности нашего понимания не затрудняет.
Мы давно утверждали, что зерно так называемой совести —
«социальный страх».
«Вторая причина — заражаемость — также способствует
проявлению у масс специальных признаков и определению
их направленности. Заражаемость есть легко
констатируемый, но необъяснимый феномен, который следует
причислить к феноменам гипнотического рода, к изучению
каковых мы тут же приступим. В толпе заразительно каждое
действие, каждое чувство, и притом в такой сильной
степени, что индивид очень легко жертвует своим личным
интересом в пользу интереса общего. Это вполне противополож-
26-3518
801
Зигмунд ФРЕЙД
ное его натуре свойство, на которое человек способен лишь
в качестве составной части массы».
Эту последнюю фразу мы возьмем впоследствии как
обоснование для предположения большой значимости.
«Третья и притом важнейшая причина обусловливает у
объединенных в массу индивидов особые качества,
совершенно противоположные качествам индивида
изолированного. Я имею в виду внушаемость, причем упомянутая
заражаемость является лишь ее последствием.
Для понимания этого явления уместно восстановить в
памяти новые открытия физиологии. Мы теперь знаем, что при
помощи разнообразных процедур человека можно привести в
такое состояние, что он после потери всей своей сознательной
личности повинуется всем внушениям лица, лишившего его
сознания своей личности, и что он совершает действия,
самым резким образом противоречащие его характеру и
навыкам. И вот самые тщательные наблюдения показали, что
индивид, находящийся в продолжение некоторого времени в
лоне активной массы, впадает вскоре вследствие излучений,
исходящих от нее, или по какой-либо другой неизвестной
причине в особое состояние, весьма близкое к «зачарованнос-
ти», овладевающей загипнотизированным под влиянием
гипнотизера... Сознательная личность совершенно утеряна, воля
и способность различения отсутствуют, все чувства и мысли
ориентированы в направлении, указанном гипнотизером.
Таково приблизительно и состояние индивида,
принадлежащего к психологической массе. Он больше не сознает
своих действий. Как у человека под гипнозом, так и у него
известные способности могут быть изъяты, а другие доведены
до степени величайшей интенсивности. Под влиянием
внушения он в непреодолимом порыве приступит к выполнению
определенных действий. И это неистовство у масс еще
непреодолимее, чем у загипнотизированного, ибо равное для
всех индивидов внушение возрастает в силу взаимодействия.
Следовательно, главные отличительные признаки
находящегося в массе индивида таковы: исчезновение сознательной
личности, преобладание бессознательной личности,
ориентация мыслей и чувств в одном и том же направлении
вследствие внушения и заражения, тенденция к безотлагательному
802
Психология масс и анализ человеческого «Я>>
осуществлению внушенных идей. Индивид не является
больше самим собой, он стал безвольным автоматом».
Я привел эту цитату так подробно, чтобы подтвердить, что
Лебон действительно признает состояние индивида в массе
состоянием гипнотическим, а не только его с таковым
сравнивает. Мы не намереваемся противоречить, но хотим все же
подчеркнуть, что последние две причины изменения
отдельного человека в массе, а именно: заражаемость и повышенная
внушаемость, — очевидно, не однородны, так как ведь
заражение тоже должно быть проявлением внушаемости. Нам
кажется, что и воздействия обоих моментов у Лебона недостаточно
четко разграничены. Может быть, мы лучше всего истолкуем
его высказывания, если отнесем заражение к влиянию друг на
друга отдельных членов массы, а явления внушения в массе,
равные феноменам гипнотического влияния, — к другому
источнику. Но к какому? Тут мы замечаем явный пробел: у
Лебона не упоминается центральная фигура сравнения с
гипнозом, а именно лицо, которое массе заменяет гипнотизера.
Но он все же указывает на различие между этим
неразъясненным «зачаровывающим» влиянием и тем заражающим
воздействием, оказываемым друг на друга отдельными индивидами,
благодаря которому усиливается первоначальное внушение.
Приведем еще одну важную точку зрения для суждения
о массовом индивиде: «Кроме того, одним лишь фактом
своей принадлежности к организованной массе человек
спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации.
Будучи единичным, он был, может быть, образованным
индивидом, в массе он — варвар, т. е. существо, обусловленное
первичными позывами. Он обладает спонтанностью,
порывистостью, дикостью, а также и энтузиазмом и героизмом
примитивных существ». Затем Лебон особо останавливается
на снижении интеллектуальных достижений, происходящем
у человека при растворении его в массе.
Оставим теперь отдельного человека и обратимся к
описанию массовой души в изложении Лебона. В нем нет
моментов, происхождение и классификация которых затруднила бы
психоаналитика. Лебон сам указывает на путь, подтверждая
соответствие между душевной жизнью примитивного
человека и ребенка.
803
Зигмунд ФРЕЙД
Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Ею почти
исключительно руководит бессознательное. Импульсы,
которым повинуется масса, могут быть, смотря по
обстоятельствам, благородными или жестокими, героическими или
трусливыми, но во всех случаях они столь повелительны, что не
дают проявляться не только личному интересу, но даже
инстинкту самосохранения. Ничто у нее не бывает
преднамеренным. Если она и страстно желает чего-нибудь, то всегда
ненадолго, она неспособна к постоянству воли. Она не
выносит отсрочки между желанием и осуществлением
желаемого. Она чувствует себя всемогущей, у индивида в массе
исчеает понятие невозможного.
Масса легковерна и чрезвычайно легко поддается
влиянию, она некритична, неправдоподобного для нее не
существует. Она думает образами, порождающими друг друга
ассоциативно, — как это бывает у отдельного человека, когда он
свободно фантазирует, — не выверяющимися разумом на
соответствие с действительностью. Чувства массы всегда
весьма просты и весьма гиперболичны. Она, таким образом, не
знает ни сомнений, ни неуверенности.
Масса немедленно доходит до крайности, высказанное
подозрение сразу же превращается у нее в непоколебимую
уверенность, зерно антипатии — в дикую ненависть.
Склонную ко всем крайностям массу и возбуждают тоже
лишь чрезмерные раздражения. Тот, кто хочет на нее
влиять, не нуждается в логической проверке своей
аргументации, ему подобает живописать ярчайшими красками,
преувеличивать и всегда повторять то же самое.
Так как масса в истинности или ложности чего-либо не
сомневается и при этом сознает свою громадную силу, она
столь же нетерпима, как и подвластна авторитету. Она
уважает силу, добротой же, которая представляется ей только
разновидностью слабости, руководствуется лишь в
незначительной мере. От своего героя она требует силы, даже
насилия. Она хочет, чтобы ею владели и ее подавляли, хочет
бояться своего господина. Будучи в основе своей вполне
консервативной, она испытывает глубокое отвращение ко
всем новшествам и прогрессу и безграничное благоговение
перед традицией.
804
Психология масс и анализ человеческого «Я>>
Для правильного суждения о нравственности масс
следует принять во внимание, что при совместном пребывании
индивидов массы у них отпадают все индивидуальные
тормозящие моменты и просыпаются для свободного
удовлетворения первичных позывов все жестокие, грубые,
разрушительные инстинкты, дремлющие в отдельной особи как
пережитки первобытных времен. Но под влиянием внушения
массы способны и на большое самоотречение, бескорыстие и
преданность идеалу. В то время как у изолированного
индивида едва ли не единственным побуждающим стимулом
является личная польза, в массе этот стимул преобладает очень
редко. Можно говорить о повышении нравственного уровня
отдельного человека под воздействием массы. Хотя и
интеллектуальные достижения массы всегда много ниже
достижений отдельного человека, ее поведение может как намного
превышать уровень индивида, так и намного ему уступать.
Некоторые другие черты в характеристике Лебона
подтверждают право отождествить массовую душу с душой
примитивного человека. У масс могут сосуществовать и
согласовываться самые противоположные идеи, без того чтобы из
их логического противоречия возник конфликт. То же самое
мы находим в бессознательной душевной жизни отдельных
людей, детей и невротиков, как это давно доказано
психоанализом.
Далее, масса подпадает под поистине магическую власть
слов, которые способны вызывать в массовой душе
страшнейшие бури или же эти бури укрощать. «Разумом и
доказательствами против определенных слов и формул борьбы
не поведешь. Стоит их произнести с благоговением, как
физиономии тотчас выражают почтение и головы
склоняются. Многие усматривают в них стихийные силы или силы
сверхъестественные. Вспомним только о табу имен у
примитивных народов, о магических силах, которые
заключаются для них в именах и словах».
И наконец, массы никогда не знали жажды истины. Они
требуют иллюзий, без которых они не могут жить.
Ирреальное для них всегда имеет приоритет перед реальным,
нереальное влияет на них почти так же сильно, как реальное. Массы
имеют явную тенденцию не видеть между ними разницы.
805
Зигмунд Ф1Ч1ЙД
Это преобладание фантазии, а также иллюзии,
создаваемой неисполнившимся желанием, определяет, как мы
утверждаем, психологию неврозов. Мы нашли, что для невротиков
существенна не обычная объективная, а психическая
реальность. Истерический симптом основывается на фантазии, а не
на повторении действительного переживания, невротическая
навязчивая идея сознания вины — на злом намерении,
никогда не дошедшем до осуществления. Да, как во сне и под
гипнозом, проверка на реальность в душевной деятельности
массы отступает перед интенсивностью аффективных,
порожденных желанием импульсов.
Мысли Лебона о вождях масс изложены менее
исчерпывающим образом, и закономерности остаются недостаточно
выясненными. Он думает, что, как только живые существа
собраны воедино в определенном числе, все равно, будь то
стадо животных или человеческая толпа, они инстинктивно
ставят себя под авторитет главы. Масса — послушное стадо,
которое не в силах жить без господина. У нее такая жажда
подчинения, что она инстинктивно подчиняется каждому,
кто назовет себя ее властелином.
Хотя потребность массы идет вождю навстречу, он все же
должен соответствовать этой потребности своими личными
качествами. Он должен быть сам захвачен глубокой верой
(в идею), чтобы пробудить эту веру в массе; он должен
обладать сильной импонирующей волей, которую переймет от
него безвольная масса. Далее Лебон обсуждает
разновидности вождей и средства, которыми они влияют на массы. В
общем, он считает, что вожди становятся влиятельными
благодаря тем идеям, к которым сами они относятся фанатически.
Этим идеям, как и вождям, он приписывает помимо
этого таинственную, неотразимую власть, называемую им
«престижем». Престиж есть своего рода господство, которое
возымел над нами индивид, деяние или .идея. Оно парализует
всю нашу способность к критике и исполняет нас
удивлением и уважением. Оно вызывает, очевидно, чувство,
похожее на завороженность гипноза.
Лебон различает приобретенный, или искусственный, и
личный престиж. Первый, в случае людей, присваивается
благодаря имени, богатству, репутации, в случае же воззрений,
806
Психологии масс и анилин человеческого «Я»
художественных произведений и т. п. — посредством
традиции. Так как во всех случаях это касается прошлого, то мало
поможет пониманию этого загадочного влияния. Личным
престижем обладают немногие люди, и благодаря ему они
делаются вождями. Престиж подчиняет им всех и вся как бы
под действием волшебных чар. Каждый престиж зависит,
однако, от успеха и теряется после неудач.
У нас нет впечатления, что роль вождей и ударение на
престиж приведены у Лебона в надлежащее соответствие с
блестяще им выполненной характеристикой массовой души.
III
Другие оценки коллективной душевной жизни
Мы воспользовались данной Лебоном характеристикой в
качестве введения, так как она в подчеркивании
бессознательной душевной жизни в столь большой мере совпадает со
взглядами нашей собственной психологии. Но теперь нужно
добавить, что в сущности ни одно утверждение этого автора
не содержит ничего нового. Все, что он говорит
отрицательного и дискредитирующего о проявлениях массовой души,
так же определенно и так же враждебно говорили еще до
него другие, и повторяется в том же духе с древнейших
времен мыслителями, государственными деятелями и поэтами.
Оба тезиса, содержащие наиболее важные взгляды Лебона, а
именно о торможении коллективом интеллектуальной
деятельности и о повышении в массе эффективности, были
незадолго до того сформулированы Зигеле. В сущности, лично
Лебону принадлежит только его точка зрения на
бессознательное и сравнение с душевной жизнью первобытных
людей, но и на эту тему неоднократно высказывались до него
и другие.
Более того, описание и оценка массовой души Лебоном
и другими весьма часто подвергались критике. Нет
сомнения, что они правильно наблюдали все вышеописанные
феномены массовой души, однако можно заметить и другие,
как раз противоположно действующие проявления массооб-
807
Зигмунд ФРЕЙД
разования, приводящие нас к гораздо более высокой оценке
массовой души.
Ведь и Лебон готов был признать, что нравственный
облик массы в иных случаях бывает выше, чем нравственность
составляющих ее индивидов, и что только совокупность
людей способна к высокому бескорыстию и преданности.
«Личная выгода является едва ли не единственной
побудительной причиной у изолированного индивида, однако
у массы она преобладает весьма редко».
Другие заявляют, что, в сущности, только общество
является тем, что предписывает человеку нормы его
нравственности, отдельный же человек, как правило, от этих высоких
требований каким-то образом отстает. Еще и другое: при
исключительных обстоятельствах в коллективности возникает
энтузиазм, благодаря которому совершены
замечательнейшие массовые подвиги.
Что касается интеллектуальных достижений, то все же
продолжает оставаться неоспоримым, что великие решения
мыслительной работы, чреватые последствиями открытия и
разрешение проблем возможны лишь отдельному человеку,
трудящемуся в уединении. Но и массовая душа способна на
гениальное духовное творчество, и это прежде всего
доказывает сам язык, а также народная песня, фольклор и другое.
И кроме того, остается нерешенным, насколько мыслитель
или поэт обязан стимулам, полученным им от массы,
среди которой он живет, и не является ли он скорее
завершителем душевной работы, в которой одновременно
участвовали и другие.
Ввиду этой полной противоречивости может показаться,
что работа массовой психологии не должна увенчиваться
результатами. А между тем есть обнадеживающие моменты,
которые нетрудно найти. Вероятно, в понятие масс были
включены весьма различные образования, которые нуждаются в
разграничении. Данные Зигеле, Лебона и других относятся
к массам недолговечного рода, т. е. к таким, которые быстро
скучиваются из разнородных индивидов, объединяемых
каким-нибудь преходящим интересом. Совершенно очевидно,
что на работы этих авторов повлияли характеры
революционных масс, особенно времен Великой французской револю-
808
Психология масс и анализ человеческого «Я>>
ции. Противоположные утверждения исходят из оценки тех
устойчивых масс или общественных образований, в которых
люди живут, которые воплощаются в общественных
учреждениях. Массы первого рода являются как бы надстройкой
над массами второго рода, подобно кратким, но высоким
морским волнам над длительной мертвой зыбью.
Макдугалл в своей книге «The Group Mind» (Cambridge,
1920) исходит из этого вышеупомянутого противоречия и
находит его разрешение в организационном моменте. В
простейшем случае, говорит он, масса (group) вообще не имеет
никакой или почти никакой организации. Он называет такую
массу толпой (crowd). Однако признает, что толпа людская
едва ли может образоваться без того, чтобы в ней не
появились хотя бы первые признаки организации, и что как раз у
этих простейших масс особенно легко заметить некоторые
основные факты коллективной психологии. Для того чтобы
из случайно скученных членов людской толпы образовалось
нечто вроде массы в психологическом смысле, необходимо
условие, чтобы эти отдельные единицы имели между собой
что-нибудь общее: общий интерес к одному объекту,
аналогичную при известной ситуации душевную направленность
и вследствие этого известную степень способности влиять
друг на друга. Чем сильнее это духовное единство, тем легче
из отдельных людей образуется психологическая масса и тем
более наглядны проявления «массовой души».
Самым удивительным и вместе с тем важным феноменом
массы является повышение аффективности, вызванное в
каждом отдельном ее члене. Можно сказать, по мнению Мак-
дугалла, что аффекты человека едва ли дорастают до такой
силы, как это бывает в массе, а кроме того, для участников
является наслаждением так безудержно предаваться своим
страстям, при этом растворяясь в массе, теряя чувство своей
индивидуальной обособленности. Макдугалл объясняет эту
захваченность индивидов в общий поток особым, уже
знакомым нам эмоциональным заражением. Факт тот, что
наблюдаемые признаки состояния аффекта способны
автоматически вызвать у наблюдателя тот же самый аффект. Это
автоматическое принуждение тем сильнее, чем больше
количество лиц, у которых одновременно наблюдается проявле-
809
Зигмунд ФРЕЙД
ние того же аффекта. Тогда замолкает критическая
способность личности, и человек отдается аффекту. Но при этом
он повышает возбуждение у тех, кто на него повлиял, и
таким образом аффективный заряд отдельных лиц повышается
взаимной индукцией. При этом возникает несомненно нечто
вроде вынужденности подражать другим, оставаться в
созвучии с «множеством». У более грубых и элементарных чувств
наибольшие перспективы распространяться в массе именно
таким образом.
Этому механизму возрастания аффекта
благоприятствуют и некоторые другие исходящие от массы влияния. Масса
производит на отдельного человека впечатление
неограниченной мощи и непреодолимой опасности. На мгновение
она заменяет все человеческое общество, являющееся
носителем авторитета, наказаний которого страшились и во имя
которого себя столь ограничивали. Совершенно очевидна
опасность массе противоречить, и можно себя обезопасить,
следуя окружающему тебя примеру, т. е. иной раз даже «по-
волчьи воя». Слушаясь нового авторитета, индивид может
выключить свою прежнюю «совесть», предавшись при этом
соблазну услады, безусловно испытываемой при
отбрасывании торможения. Поэтому не столь уж удивительно, если
мы наблюдаем человека, в массе совершающего или
приветствующего действия, от которых он в своих привычных
условиях отвернулся бы. Мы вправе надеяться, что благодаря
этим наблюдениям рассеем тьму, обычно окутывающую
загадочное слово «внушение».
Макдугалл не оспаривает тезиса о коллективном
снижении интеллекта масс. Он говорит, что более незначительные
интеллекты снижают более высокие до своего уровня.
Деятельность последних затруднена, так как нарастание
эффективности вообще создает неблагоприятные условия для
правильной духовной работы; имеет влияние и то, что
отдельный человек запуган массой и его мыслительная работа
несвободна; а кроме того, в массе понижается сознание
ответственности отдельного человека за свои действия.
Окончательное суждение о психической деятельности
простой «неорганизованной» массы у Макдугалла не более
благосклонно, чем у Лебона. Такая масса крайне возбудима,
810
Психология масс и анализ человеческого «Л»
импульсивна, страстна, неустойчива, непоследовательна и
нерешительна, и притом в своих действиях всегда готова к
крайностям, ей доступны лишь более грубые страсти и более
элементарные чувства, она чрезвычайно поддается
внушению, рассуждает легкомысленно, опрометчива в суждениях и
способна воспринимать лишь простейшие и наименее
совершенные выводы и аргументы, массу легко направлять и
легко ее потрясти, она лишена самосознания, самоуважения и
чувства ответственности, но дает сознанию собственной
мощи толкать ее на такие злодеяния, каких мы можем ожидать
лишь от абсолютной и безответственной власти. Она ведет
себя скорее как невоспитанный ребенок или как оставшийся
без надзора страстный дикарь, попавший в чуждую для него
обстановку; в худших случаях ее поведение больше похоже
на поведение стаи диких животных, чем на поведение
человеческих существ.
Так как Макдугалл противопоставляет поведение
высокоорганизованной массы описанному выше, нам будет
чрезвычайно интересно, в чем же состоит эта организация и
какими моментами она создается. Автор насчитывает пять
таких «principal conditions» поднятия душевной жизни массы
на более высокий уровень.
Первое основное условие — известная степень
постоянства состава массы. Оно может быть материальным или
формальным. Первый случай — если те же лица остаются в
массе более продолжительное время, второй — если внутри
самой массы создаются известные должности, на которые
последовательно назначаются сменяющие друг друга лица.
Второе условие в том, чтобы отдельный человек массы
составил себе определенное представление о природе,
функциях, достижениях и требованиях массы, чтобы таким
образом у него создалось эмоциональное отношение к массе как
целому.
Третье — чтобы масса вступила в отношения с другими
сходными, но во многих случаях и отличными от нее,
массовыми образованиями, чтобы она даже соперничала с ними.
Четвертое — наличие в массе традиций, обычаев и
установлений, особенно таких, которые касаются отношений
членов массы между собой.
811
Зигмунд ФРЕЙД
Пятое — наличие в массе подразделений, выражающихся
в специализации и дифференциации работы каждого
отдельного человека.
Согласно Макдугаллу, осуществление этих условий
устраняет психические дефекты образования массы. Защита
против снижения коллективом достижений интеллигенции — в
отстранении массы от решения интеллектуальных заданий
и в передаче их отдельным лицам.
Нам кажется, что условие, которое Макдугалл называет
«организацией» массы, с большим основанием можно было
бы описать иначе. Задача состоит в том, чтобы придать
массе именно те качества, которые были характерны для
отдельного индивида и были потушены у него при включении
в массу. Ведь у индивида вне массы было свое постоянство
и самосознание, свои традиции и привычки, своя рабочая
производительность и свое место; он держался обособленно
от других и с ними соперничал. Это своеобразие он потерял
на некоторое время своим включением в
«неорганизованную» массу. Если признать целью развитие в массе качеств
отдельного индивида, то невольно припоминается
содержательное замечание В.Троттера, который в тенденции к
образованию масс видит биологическое продолжение много-
клеточности всех высших организмов.
IV
Внушение и либидо
Мы исходили из основного факта, что в отдельном
индивиде, находящемся в массе, под ее влиянием часто
происходят глубокие изменения его душевной деятельности. Его аф-
фективность чрезвычайно повышается, а его интеллектуальные
достижения заметно понижаются, и оба процесса происходят,
по-видимому, в направлении уравнения себя с другими
массовыми индивидами. Этот результат может быть достигнут лишь
в том случае, если индивид перестанет тормозить свойственные
ему первичные позывы и откажется от удовлетворения своих
склонностей привычным для него образом. Мы слышали, что
812
Психология масс и анализ человеческого «Я»
эти часто нежелательные последствия хотя бы частично могут
быть устранены более высокой «организацией» массы, но это
не опровергает основного факта массовой психологии — обоих
тезисов о повышении аффектов и снижении мыслительной
работы в примитивной массе. Нам интересно найти
психологическое объяснение душевного изменения, происходящего в
отдельном человеке под влиянием массы.
Рациональные моменты, как, например, вышеупомянутая
запуганность отдельного человека, т. е. действие его инстинкта
самосохранения, очевидно, не покрывают наблюдаемых
феноменов. Авторы по социологии и массовой психологии
предлагают нам обычно в качестве объяснения одно и то же, хотя
иногда под сменяющими друг друга названиями, а именно —
магическое слово «внушение». Тард назвал его
«подражанием», но мы больше соглашаемся с автором, который поясняет,
что подражание включено в понятие внушения и представляет
собой лишь его следствие (Макдугалл). Лебон все непонятное
в социальных явлениях относит к действию двух факторов: к
взаимному внушению отдельных лиц и к престижу вождей.
Но престиж опять-таки проявляется лишь в способности
производить внушение. Следуя Макдугаллу, мы одно время
думали, что его принцип «первичной индукции аффекта» делает
излишним принятие факта внушения. Но при дальнейшем
рассмотрении мы ведь должны убедиться, что этот принцип
возвращает нас к уже известным понятиям «подражания» или
«заражения», только с определенным подчеркиванием
аффективного момента. Нет сомнения, что в нас имеется тенденция
впасть в тот аффект, признаки которого мы замечаем в другом
человеке, но как часто мы с успехом сопротивляемся этой
тенденции, отвергаем аффект, как часто реагируем совсем
противоположным образом? Так почему же мы, как правило,
поддаемся этому заражению в массе? Приходится опять-таки
сказать, что это внушающее влияние массы; оно принуждает нас
повиноваться тенденции подражания, оно индуцирует в нас
аффект. Впрочем, читая Макдугалла, мы и вообще никак не
можем обойтись без понятия внушения. И он, и другие
повторяют, что массы отличаются особой внушаемостью.
Все вышесказанное подготавливает утверждение, что
внушение (вернее, восприятие внушения) является далее нераз-
813
Зигмунд ФРЕЙД
ложимым прафеноменом, основным фактом душевной
жизни человека. Так считал и Бернгейм, изумительное искусство
которого я имел случай наблюдать в 1889 г. Но и тогда я
видел глухое сопротивление этой тирании внушения. Когда
больной сопротивлялся и на него кричали: «Да что же вы
делаете? вы сопротивляетесь?» — я говорил себе, что это
явная несправедливость и насилие. Человек, конечно, имеет
право на противовнушение, если его пытаются подчинить
путем внушения. Мой протест принял затем форму
возмущения против того, что внушение, которое все объясняет,
само должно быть от объяснений отстранено. По поводу
внушения я повторял давний шутливый вопрос:
Христофор несет Христа,
А Христос — весь мир,
Скажи-ка, а куда
Упиралась Христофорова нога?
Когда теперь, после почти тридцатилетнего перерыва, я
снова обращаюсь к загадке внушения, то нахожу, что ничего
тут не изменилось. Утверждая это, я ведь имею право не
учитывать одно исключение, доказывающее как раз влияние
психоанализа. Я вижу, что сейчас прилагают особые усилия,
чтобы правильно сформулировать понятие внушения, т.е.
общепринятое значение этого слова; это отнюдь не излишне,
так как оно все чаще употребляется в расширенном
значении и скоро будет обозначать любое влияние; в английском
языке, например, «to suggest, suggestion» соответствует
нашему «настоятельно предлагать» и нашему «толчок к чему-
нибудь». Но до сих пор не дано объяснения о сущности
«внушения», т. е. о тех условиях, при которых влияние
возникает без достаточных логических обоснований. Я мог бы
подкрепить это утверждение анализом литературы за
последние тридцать лет, но надобность в этом отпадает, так как
мне стало известно, что подготовляется к изданию
обширный труд, ставящий себе именно эту задачу.
Вместо этого я сделаю попытку применять для уяснения
массовой психологии понятие либидо, которое сослужило
нам такую службу при изучении психоневрозов.
«Либидо» есть термин из области учения об
эффективности. Мы называем так энергию тех первичных позывов,
814
Психология масс и анализ человеческого «Л»
которые имеют дело со всем тем, что можно обобщить
понятием любви. Мы представляем себе эту энергию как
количественную величину, хотя в настоящее время еще
неизмеримую. Суть того, что мы называем любовью, есть,
конечно, то, что обычно называют любовью и что воспевается
поэтами, — половая любовь с конечной целью полового
совокупления. Мы, однако, не отделяем всего того, что вообще
в какой-либо мере связано с понятием любви, т.е. с одной
стороны — любовь к себе, с другой стороны — любовь
родителей, любовь детей, дружбу и общечеловеческую любовь,
не отделяем и преданности конкретным предметам или
абстрактным идеям. Наше оправдание в том, что психоанализ
научил нас рассматривать все эти стремления как
выражение одних и тех же побуждений первичных позывов,
влекущих два пола к половому совокуплению, при иных
обстоятельствах от сексуальной цели оттесняемых или на пути к
ее достижению приостанавливаемых, в конечном же итоге
всегда сохраняющих свою первоначальную природу в
степени, достаточной для того, чтобы обнаруживать свое
тождество (самопожертвование, стремление к сближению).
Мы, таким образом, думаем, что словом «любовь» в его
многообразных применениях язык создал вполне оправданное
обобщение и что мы с успехом можем применять это слово
в наших научных обсуждениях и повествованиях.
Принятием этого решения психоанализ вызвал бурю возмущения, как
если бы он был повинен в кощунственном нововведении.
А между тем этим «расширенным» пониманием любви
психоанализ не создал ничего оригинального. В своем
происхождении, действии и отношении к половой любви «Эрос» Платона
совершенно конгруэнтен нашему понятию любовной силы
психоаналитического либидо. В частности, это доказали На-
хмансон и Пфистер, а когда апостол Павел в знаменитом
Послании к коринфянам превыше всего прославляет любовь, он
понимает ее, конечно, именно в этом «расширенном» смысле,
из чего следует, что люди не всегда серьезно относятся к своим
великим мыслителям, даже якобы весьма ими восхищаясь.
Эти первичные любовные позывы психоанализ с
момента их возникновения называет первичными сексуальными
позывами. Большинство «образованных» восприняло такое
815
Зигмунд ФРЕЙД
наименование как оскорбление и отомстило за это, бросив
психоанализу упрек в «пансексуализме». Кто видит в
сексуальном нечто постыдное и унизительное для человеческой
природы, волен, конечно, пользоваться более
аристократическими выражениями — «эрос» и «эротика». Я бы и сам с
самого начала мог так поступить, избегнув таким образом
множества упреков. Но я не хотел этого, так как я по мере
возможности избегаю робости. Никогда не известно, куда
таким образом попадешь. Сначала уступишь на словах, а
постепенно и по существу. Я не могу согласиться с тем, что
стыд перед сексуальностью — заслуга; ведь греческое
слово «эрос», которому подобает смягчить предосудительность,
есть не что иное, как перевод нашего слова «любовь»; и
наконец, тот, на кого работает время, может уступок не делать.
Итак, мы попытаемся начать с предпосылки, что
любовные отношения (выражаясь безлично — эмоциональные
связи) представляют собой также и сущность массовой души.
Вспомним, что авторы о таковых не говорят. То, что им бы
соответствовало, очевидно, скрыто за ширмой —
перегородкой — внушения. Наши ожидания пока основываются на двух
мимолетных мыслях. Во-первых, что масса, очевидно,
объединяется некоею силой. Но какой же силе можно, скорее всего,
приписать это действие, как не эросу, все в мире
объединяющему? Во-вторых, когда отдельный индивид теряет
своеобразие и позволяет другим на себя влиять, в массе создается
впечатление, что он делает это, потому что в нем существует
потребность быть скорее в согласии с другими, а не в
противоборстве, т. е., может быть, все-таки «из любви» к ним.
V
Две искусственные массы: Церковь, войско
Припомним из морфологии масс, что можно наблюдать
очень различные виды, а также противоположные
направления в развитии масс. Есть очень текучие массы и в высшей
степени постоянные; гомогенные, состоящие из однородных
индивидов, и не гомогенные; естественные и искусственные,
816
Психология масс и анализ человеческого <Я»
которым для сплоченности нужно также внешнее
принуждение; примитивные и высокоорганизованные, с четкими
подразделениями. По некоторым основаниям — понимание
которых пока неясно — мы хотели бы особо отметить
различие, на которое другие авторы обращали, пожалуй,
слишком мало внимания; я имею в виду различие между массами,
где вождь отсутствует, и массами, возглавляемыми вождями.
В противоположность обыкновению, мы начнем наше
исследование не с относительно простых, а с
высокоорганизованных, постоянных, искусственных масс. Наиболее
интересными примерами таких массовых образований являются
Церковь, объединение верующих, и армия, войско.
И Церковь, и войско представляют собой искусственные
массы, т. е. такие, где необходимо известное внешнее
принуждение, чтобы удержать их от распадения и задержать
изменения их структуры. Как правило, никого не спрашивают или
никому не предоставляют выбора, хочет ли он быть членом
такой массы или нет; попытка выхода обычно преследуется
или строго наказывается, или же выход связан с совершенно
определенными условиями. Нас в настоящий момент совсем
не интересует, почему именно эти общественные образования
нуждаются в такой особой охране. Нас привлекает лишь то,
что в этих высокоорганизованных, тщательно защищенных от
распада массах с большой отчетливостью выявляются
известные взаимоотношения, которые гораздо менее ясны в других.
В Церкви (мы с успехом можем взять для примера
Католическую церковь), как и в войске — как бы различны
они ни были в остальном, — культивируется одно и то же
обманное представление (иллюзия), а именно, что имеется
верховный властитель (в католической церкви — Христос,
в войске — полководец), каждого отдельного члена массы
любящий равной любовью. На этой иллюзии держится все;
если ее отбросить, распадутся тотчас же, поскольку это
допустило бы внешнее принуждение, как Церковь, так и
войско. Об этой равной любви Христос заявляет совершенно
определенно: «Что сотворите единому из малых сих,
сотворите Мне». К каждому члену этой верующей массы Он
относится как добрый старший брат, является для них
заменой отца. Все требования, предъявляемые отдельным лю-
817
Зигмунд ФРЕЙД
дям, являются выводом из этой любви Христовой. Церковь
проникнута демократическим духом именно потому, что
перед Христом все равны, все имеют равную часть Его любви.
Не без глубокого основания подчеркивается сходство
Церкви с семьей, и верующие называют себя братьями во
Христе, т. е. братьями по любви, которую питает к ним Христос.
Нет никакого сомнения, что связь каждого члена Церкви с
Христом является одновременно и причиной связи между
членами массы. Подобное относится и к войску;
полководец — отец, одинаково любящий всех своих солдат, и
поэтому они сотоварищи. В смысле структуры войско
отличается от Церкви тем, что состоит из ступенчатого построения
масс. Каждый капитан в то же время и полководец, и отец
своей роты, каждый фельдфебель — своего взвода. Правда,
и Церковь выработала подобную иерархию, но она не играет
в ней той же экономической роли, так как за Христом
можно признать больше осведомленности и озабоченности об
отдельном человеке, чем за полководцем-человеком.
Против этого понимания либидозной структуры армии
нам, конечно, по праву возразят, что здесь не отводится
места идеям Отечества, национальной славы и другим, столь
важным для спаянности армии. Мы отвечаем, что это иной,
не столь простой случай объединения в массу и, как
показывают примеры великих военачальников — Цезаря, Вал-
ленштейна и Наполеона, — такие идеи для прочности армии
не обязательны. О возможной замене вождя
вдохновляющей идеей и соотношениях между обоими мы коротко
скажем ниже. Пренебрежение к этому либидозному фактору в
армии, даже в том случае, если действенным является не он
один, кажется нам не только теоретическим недостатком, но
и практической опасностью. Прусский милитаризм,
который был столь же непсихологичен, как и немецкая наука,
может быть, убедился в этом в Великую мировую войну.
Военные неврозы, разложившие германскую армию,
признаны по большей части выражением протеста отдельного
человека против роли, которая отводилась ему в армии.
Согласно сообщениям Э. Зиммеля, можно утверждать, что
среди причин, вызывавших заболевания, наиболее частой было
черствое обращение начальников с рядовым человеком из
818
Психология масс и анализ человеческого «//>>
народа. При лучшей оценке этого требования либидо не
столь легко заставили бы, очевидно, в себя поверить
невероятные обещания четырнадцати пунктов, сделанные
американским президентом, и великолепный инструмент не
сломался бы в руках германских военных «искусников».
Отметим, что в этих двух искусственных массах каждый
отдельный человек либидозно связан, с одной стороны, с
вождем (Христом, полководцем), а с другой стороны — с другими
массовыми индивидами. Каково взаимоотношение этих двух
связей, однородны ли они и равноценны и как их следовало
бы описать психологически, будет делом дальнейшего
исследования. Но мы осмеливаемся уже теперь слегка упрекнуть
других авторов за недооценку значения вождя для
психологии масс. Наш собственный выбор первого объекта
исследования поставил нас в гораздо более выгодное положение. Нам
кажется, что мы стоим на правильном пути, который может
разъяснить главное явление массовой психологии —
несвободу в массе отдельного человека. Если каждый отдельный
индивид в такой широкой степени эмоционально связан в двух
направлениях, то из этого условия нам нетрудно будет
вывести наблюдаемое изменение и ограничение его личности.
Сущностью массы являются ее либидозные связи, на это
указывает и феномен паники, который лучше всего изучать
на военных массах. Паника возникает, когда масса
разлагается. Характеристика паники в том, что ни один приказ
начальника не удостаивается более внимания и каждый печется
о себе, с другими не считаясь. Взаимные связи прекратились,
и безудержно вырывается на свободу гигантский
бессмысленный страх. Конечно, и здесь легко возразить, что происходит
как раз обратное: страх возрос до такой степени, что оказался
сильнее всех связей и забот о других. Макдугалл даже
приводит момент паники (правда, не военной) как образец
подчеркнутого им повышения аффектов через заряжение
(primary induction). Но здесь этот рациональный способ
объяснения совершенно ошибочен. Ведь нужно объяснить, почему
именно страх столь гигантски возрос. Нельзя взваливать вину
на степень опасности, так как та же армия, теперь охваченная
паникой, безукоризненно противостояла подобной и даже
большей опасности; именно в этом и состоит сущность пани-
819
Зигмунд ФРЕЙД
ки, что она непропорциональна грозящей опасности, часто
вспыхивая по ничтожнейшему поводу. Если в момент
панического страха отдельный индивид начинает печься только
лишь о себе самом, то этим он доказывает, что аффективные
связи, до этого для него опасность снижавшие, прекратились.
Теперь, когда он с опасностью один на один, он, конечно,
оценивает ее выше. Суть, следовательно, в том, что
панический страх предполагает ослабление либидозной структуры
массы и вполне оправданно на это ослабление реагирует, а
никак не наоборот, т. е. что будто бы либидозные связи массы
гибнут от страха перед опасностью.
Эти замечания отнюдь не противоречат утверждению, что
страх в массе возрастает до чудовищных размеров вследствие
индукции (заряжения). Точка зрения Макдугалла
безусловно справедлива для случая, когда сама опасность реально
велика и когда масса не связана сильными эмоциями. Как
пример можно привести пожар в театре или другом
увеселительном месте. Для нас же важен приведенный пример, когда
воинская часть охватывается паникой, а между тем опасность
не больше привычной и до этого неоднократно этой же
воинской частью стойко переносилась. Нельзя ожидать, что
употребление слова «паника» установлено четко и ясно.
Иногда так называют всякий массовый страх, а иногда страх
отдельного человека, если этот страх переходит все пределы,
а часто это название применяется в том случае, если
вспышка страха поводом не оправдана. Если взять слово «паника»
в смысле массового страха, можно установить широкую
аналогию. Страх у индивида вызывается или размерами
опасности, или прекращением эмоциональных связей
(либидозной заряженности). Последнее есть случай невротического
страха. Таким же образом паника возникает при усилении
грозящей всем опасности или из-за прекращения
объединяющих массу эмоциональных связей, и этот последний случай
аналогичен невротическому страху (ср. глубокую по мысли,
но несколько фантастическую статью Бэла фон Фелседь
«Panic und Pancomplex», «Imago», VI, 1920).
Если согласиться с Макдугаллом, считающим панику
одним из самых четких результатов «group mind», приходишь
к парадоксу, что эта массовая душа в одном из самых рази-
820
Психология масс и анализ человеческого <Я»
тельных своих проявлений самое себя уничтожает. Не
может быть сомнения, что паника означает разложение массы.
Следствием же является прекращение всякого учета чужих
интересов, обычно делающегося отдельными членами массы
по отношению друг к другу.
Типичный повод для взрыва паники приблизительно
таков, как его описывает Нестрой в пародии на драму Геббеля
«Юдифь и Олоферн». Воин кричит: «Полководец лишился
головы», и сразу все ассирийцы обращаются в бегство.
Потеря в каком-то смысле полководца, психоз по случаю
потери порождают панику, причем опасность остается той же;
если порывается связь с вождем, то, как правило,
порываются и взаимные связи между массовыми индивидами. Масса
рассыпается, как рассыпается при опыте болонская склянка,
у которой отломали верхушку.
Не так легко наблюдать разложение религиозной массы.
Недавно мне попался английский роман «When it was dark»,
написанный католиком и рекомендованный мне лондонским
епископом. Возможность такого разложения и его
последствия описываются весьма искусно и, на мой взгляд, правдиво.
Перенося нас в далекое прошлое, роман повествует, как
заговорщикам, врагам имени Христова и христианской веры,
удается якобы обнаружить в Иерусалиме гробницу со словами
Иосифа Аримафейского, сознающегося, что из благоговейных
побуждений на третий день после погребения он тайно
извлек тело Христа из гроба и похоронил именно здесь. Этим
раз и навсегда покончено с верой в воскресение Христа и Его
божественную природу, а влечет это археологическое
открытие за собой потрясение всей европейской культуры и
чрезвычайное возрастание всякого рода насилий и преступлений,
что проходит лишь с раскрытием заговора фальсификаторов.
При этом предполагаемом разложении религиозной
массы обнаруживается не страх, для которого нет повода, а
жестокие и враждебные импульсы к другим людям, что раньше
не могло проявляться благодаря равной ко всем любви
Христа. Однако вне этой связи взаимной любви и во времена
царства Христова стоят те индивиды, которые не
принадлежат к общине верующих, которые Христа не любят и Им не
любимы; поэтому религия, хотя она и называет себя рели-
821
Зигмунд ФРЕЙД
гией любви, должна быть жестокой и черствой к тем, кто к
ней не принадлежит. В сущности, ведь каждая религия
является такой религией любви по отношению ко всем, к ней
принадлежащим, и каждая религия склонна быть жестокой
и нетерпимой к тем, кто к ней не принадлежит. Не нужно,
как бы трудно это ни было в личном плане, слишком сильно
упрекать за это верующих; в данном случае психологически
гораздо легче приходится неверующим и равнодушным. Если
в наше время эта нетерпимость и не проявляется столь
насильственно и жестоко, как в минувших столетиях, то все же
едва ли можно увидеть в этом смягчение человеческих
нравов. Скорее всего, следует искать причину этого в
неопровержимом ослаблении религиозных чувств и зависящих от
них либидозных связей. Если вместо религиозной появится
какая-либо иная связь, объединяющая массу, как это сейчас,
по-видимому, удается социализму, в результате возникает та
же нетерпимость к внестоящим, как и во времена
религиозных войн, и если бы разногласия научных воззрений могли
когда-нибудь приобрести для масс подобное же значение,
такая мотивировка увенчалась бы тем же результатом.
VI
Дальнейшие задачи и направления работы
До сих пор мы исследовали две искусственные массы и
нашли, что в них действуют два вида эмоциональных связей,
из которых первая — связь с вождем — играет, по крайней
мере для этих масс, более определяющую роль, чем вторая —
связь массовых индивидов между собой.
В морфологии масс есть еще много вопросов, которые
необходимо исследовать и описать. Можно было бы исходить
из факта, что простая человеческая толпа еще не есть масса,
пока в ней не установились вышеуказанные связи; однако
нужно было бы признать, что в любой человеческой толпе
очень легко возникает тенденция к образованию
психологической массы. Нужно было бы обратить внимание на
различные, спонтанно образующиеся, более или менее постоянные
822
Психология масс и анализ человеческого <*//>>
массы и изучить условия их возникновения и распада.
Больше всего нас заинтересовала бы разница между массами,
имеющими вождя, и массами, где вождь отсутствует. Не
являются ли те массы, где имеется вождь, более
первоначальными и более совершенными? В массах второго рода не
может ли вождь быть заменен абстрактной идеей, к чему ведь
религиозные массы с их невидимым вождем уже и являются
переходом, и может ли общая тенденция, желание,
объединяющее множество людей, быть заменой того же самого? Это
абстрактное начало, опять-таки более или менее
совершенное, могло бы воплотиться в лице, так сказать, вторичного
вождя, и из взаимоотношения между вождем и идеей
вытекали бы разнообразные и интересные моменты. Вождь или
ведущая идея могли бы стать, так сказать, негативными;
ненависть к определенному лицу или учреждению могла бы
подействовать столь же объединяюще и вызвать похожие
эмоциональные связи, как и позитивная привязанность.
Тогда возникли бы и вопросы, действительно ли так необходим
вождь для сущности массы, и многие другие.
Но все эти вопросы, которые частично могут обсуждаться
и в литературе о массовой психологии, не смогут отвлечь
нашего внимания от основных психологических проблем,
которые даны нам в структуре массы. Нас прежде всего увлекает
одно соображение, которое обещает нам доказать кратчайшим
путем, что именно либидозные связи характеризуют массу.
Мы стараемся уяснить себе, каково в общем отношение
людей друг к другу в аффективной сфере. Согласно
знаменитому сравнению Шопенгауэра о мерзнущих дикобразах,
ни один человек не переносит слишком интимного
приближения другого человека.
По свидетельству психоанализа, почти каждая
продолжительная интимная эмоциональная связь между двумя людьми,
как-то: брачные отношения, дружба, отношения между
родителями и детьми, — содержит осадок отвергающих
враждебных чувств, которые не доходят до сознания лишь вследствие
вытеснения. Это более неприкрыто в случаях, где компаньон
не в ладах с другими компаньонами, где каждый
подчиненный ворчит на своего начальника. То же самое происходит,
когда люди объединяются в большие единицы. Каждый раз,
823
Зигмунд ФРЕЙД
когда две семьи роднятся через брак, каждая из них, за счет
другой, считает себя лучшей или более аристократической.
Каждый из двух соседних городов становится
недоброжелательным соперником другого; каждый кантончик смотрит с
пренебрежением, свысока на другой. Родственные, близкие
между собою народные ветви отталкиваются друг от друга —
южный немец не выносит северянина, англичанин клевещет
на шотландца, испанец презирает португальца. То, что при
больших различиях возникает труднопреодолимая
антипатия — галла к германцу, арийца к семиту, белого к
цветному, — нас перестало удивлять.
Когда вражда направляется против любимых лиц, мы
называем это амбивалентностью чувств и, конечно, слишком
рационалистически объясняем ее многочисленными
поводами к конфликтам интересов, которые создаются именно при
столь интимных отношениях. В неприкрыто проявляющихся
отталкиваниях и антипатиях к близким мы узнаем
выражение себялюбия, нарциссизма, добивающегося своей
самостоятельности и ведущего себя так, будто случай отклонения от
его индивидуальных форм уже есть критика последних и
заключает вызов их преобразовать. Почему столь велика
чувствительность именно к этим подробностям
дифференциации, мы не знаем; несомненно, однако, что в этом поведении
людей проявляется готовность к ненависти, агрессивность,
происхождение которой неизвестно и которой хотелось бы
приписать примитивный характер.
Вся эта нетерпимость, однако, исчезает кратковременно
или на долгий срок при образовании массы и в массе. Пока
продолжается соединение в массу и до пределов его действия,
индивиды ведут себя, как однородные, терпят своеобразие
другого, равняются с ним и не испытывают к нему чувства
отталкивания. Согласно нашим теоретическим воззрениям,
такое ограничение нарциссизма может быть порождено
только одним моментом, а именно — либидозной связью с
другими людьми. Себялюбие находит преграду лишь в чужелюбии,
в любви к объектам. Тотчас же будет поставлен вопрос, не
должна ли общность интересов, сама по себе и без всякого
либидозного вклада, привести к проявлению терпимости к
другому и вниманию к его интересам. На это выражение мы
824
Психология масс и анализ человеческого «Я»
отвечаем, что таким путем осуществленное ограничение
нарциссизма все-таки недлительно, так как эта терпимость будет
продолжаться не дольше, чем продолжается
непосредственная выгода от сотрудничества с другим. Практическая
ценность этого спорного вопроса, однако, меньше, чем можно
было бы ожидать, так как опыт показал, что в случае
сотрудничества между товарищами обычно устанавливаются либи-
дозные связи, которые определяют и продолжают отношения
товарищей далеко за пределами выгоды. В социальных
отношениях людей происходит то же самое; психоаналитическое
исследование вскрыло это в ходе развития индивидуального
либидо. Либидо опирается на удовлетворение основных
жизненных потребностей и избирает их участников своими
первыми объектами. И как у отдельного человека, так и в
развитии всего человечества, только любовь, как культурный
фактор, действовала в смысле поворота от эгоизма к альтруизму.
Это касается не только половой любви к женщине со всеми
из нее вытекающими необходимостями беречь то, что
женщина любит, но и десексуализированной, сублимированно
гомосексуальной любви к другому мужчине, любви, связанной
с общей работой. Если, таким образом, в массе появляются
ограничения нарциссического себялюбия, которые вне ее не
действуют, то это убедительное указание на то, что сущность
массообразования заключается в нового рода либидозных
связях членов массы друг с другом.
Но наша любознательность сразу задаст вопрос, каковы
же эти связи в массе. В психологическом учении о неврозах
мы до сих пор занимались почти исключительно такой
связью любовных первичных позывов с их объектом, которые
преследовали еще прямые сексуальные цели. Такие
сексуальные цели в массе, очевидно, не существуют. Мы имеем
здесь дело с любовными первичными позывами, которые, не
теряя вследствие этого своей энергии, все же отклонились
от своей непосредственной цели. Ведь уже в рамках
обычной сексуальной занятости объектом мы заметили явления,
которые соответствуют отклонению инстинкта от его
сексуальной цели. Мы описали их как степени влюбленности
и признали, что они ведут за собой известное ущербление
«Я». На этих явлениях влюбленности мы остановимся те-
825
Зигмунд ФРЕЙД
перь более подробно, имея основания ожидать, что мы
обнаружим у них обстоятельства, которые могут быть
перенесены на связи в массах. Но, кроме того, мы хотели бы знать,
является ли этот вид занятости объектом, знакомым нам из
половой жизни, единственным видом эмоциональной связи
с другим человеком, или же мы должны принять во
внимание еще и другие такие механизмы. Из психоанализа мы
действительно узнаем, что есть еще другие механизмы
эмоциональной связи — так называемые идентификации
(отождествления), недостаточно известные, трудно поддающиеся
описанию процессы, исследование которых удержит нас на
некоторое время от темы массовой психологии.
VII
Идентификация
Идентификация известна психоанализу как самое раннее
проявление эмоциональной связи с другим лицом. Она играет
определенную роль в предыстории Эдипова комплекса.
Малолетний мальчик проявляет особенный интерес к своему отцу.
Он хочет сделаться таким и быть таким, как отец, хочет
решительно во всем быть на его месте. Можно спокойно сказать:
он делает отца своим идеалом. Его поведение не имеет ничего
общего с пассивной или женственной установкой по
отношению к отцу (и к мужчине вообще), оно, напротив,
исключительно мужественное. Оно прекрасно согласуется с Эдиповым
комплексом, подготовлению которого и содействует.
Одновременно с этой идентификацией с отцом, а может
быть, даже и до того мальчик начинает относиться к матери
как к объекту опорного типа. Итак, у него две психологически
различные связи: с матерью — чисто сексуальная захвачен-
ность объектом, с отцом — идентификация по типу
уподобления. Обе связи некоторое время сосуществуют, не влияя
друг на друга и не мешая друг другу. Вследствие непрерывно
продолжающейся унификации психической жизни они
наконец встречаются, и, как следствие этого сочетания, возникает
нормальный Эдипов комплекс. Малыш замечает, что дорогу
826
Психологии масс и анализ человеческого «Я>>
к матери ему преграждает отец; его идентификация с отцом
принимает теперь враждебную окраску и делается
идентичной с желанием заменить отца и у матери. Ведь
идентификация изначально амбивалентна, она может стать выражением
нежности так же легко, как и желанием устранения. Она
подобна отпрыску первой оральной фазы либидозной
организации, когда соединение с желанным и ценимым объектом
осуществлялось его съеданием и когда при этом этот объект, как
таковой, уничтожался. Людоед, как известно, сохранил эту
точку зрения; своих врагов он любит так, что «съесть
хочется», и он не съедает тех, кого по какой-либо причине не может
полюбить.
Судьба этой идентификации с отцом позднее легко
ускользает от наблюдения. Возможно, что в Эдиповом
комплексе совершается обратный поворот, что отец при
женственной установке принимается за объект, от которого ждут
удовлетворения непосредственные сексуальные первичные
позывы, и тогда идентификация с отцом предшествует
объектной связи с отцом. Так же — с соответствующими
заменами — обстоит дело и в случае малолетней дочери.
Легко сформулировать разницу между такой
идентификацией с отцом и объектным избранием отца. В первом случае
отец есть то, чем хотят быть, во втором — то, чем хотят
обладать. Разница, следовательно, в том, задевает ли эта связь
субъект или объект человеческого «Я». Поэтому первая связь
возможна еще до всякого сексуального выбора объекта. Гораздо
труднее наглядно изложить это различие метапсихически.
Достоверно лишь то, что идентификация стремится
сформировать собственное «Я» по подобию другого, взятого за образец.
Из более сложной ситуации мы выделяем
идентификацию при невротическом образовании симптомов.
Предположим, что маленькая девочка, которую мы теперь возьмем как
пример, испытывает тот же симптом болезни, как и ее мать,
например, тот же мучительный кашель. Это может
происходить различно. Либо идентификация та же, из Эдипова
комплекса, т. е. означает враждебное желание занять место
матери, и симптом выражает объектную любовь к отцу; симптом
реализует замену матери под влиянием чувства виновности:
ты хотела быть матерью, так теперь ты стала ею, по крайней
827
Зигмунд ФРЕЙД
мере, в страдании. В таком случае это законченный механизм
истерического симптомообразования либо симптом, равный
симптому любимого лица (как, например, Дора в
«Bruchstück einer Hysterieanalyse» имитировала кашель отца); тогда
мы можем описать происходящее только таким образом, что
идентификация заняла место объектного выбора, объектный
выбор регрессировал до идентификации. Мы слышали, что
идентификация является самой ранней и самой
первоначальной формой эмоциональной связи; в условиях
образования симптомов, т.е. вытеснения и господства механизмов
бессознательного, часто случается, что объектный выбор
снова становится идентификацией, т. е. «Я» перенимает качества
объекта. Примечательно, что при этих идентификациях «Я»
иногда копирует нелюбимое лицо, а иногда любимое.
Достойно внимания и то, что в обоих случаях идентификация
лишь частичная, крайне ограниченная, и копируется только
одна-единственная черта объектного лица.
Третьим, особенно частым и важным фактом
симптомообразования является то, что идентификация совершенно
лишена объектного отношения к копируемому лицу. Если,
например, девушка в пансионе получает от тайного
возлюбленного письмо, вызывающее ее ревность, и она реагирует на
него истерическим припадком, то с несколькими из ее подруг,
которые знают о письме, тоже случится этот припадок, как
следствие, как мы говорим, психической инфекции. Это
механизм идентификации на почве желания или возможности
переместить себя в данное положение. Другие тоже хотели бы
иметь тайную любовную связь и под влиянием сознания
виновности соглашаются и на связанное с этим страдание. Было
бы неправильно утверждать, что они усваивают симптом из
сочувствия. Сочувствие, наоборот, возникает только из
идентификации, и доказательством этого является то, что такая
инфекция или имитация имеет место.и в тех случаях, когда
можно предположить еще меньшую предшествующую
симпатию, чем обычно бывает у подруг в пансионе. Одно «Я»
осознало в одном пункте значительную аналогию с другим «Я» —
в нашем примере одинаковую готовность к эмоции; затем в
этом пункте возникает идентификация, и под влиянием
патогенной ситуации эта идентификация перемещается на
828
Психология масс и анализ человеческого «Я»
симптом, порожденный первым «Я». Таким образом,
идентификация через симптом делается для обоих «Я» признаком
взаимного перекрытия какой-то части их личности, которое
должно оставаться вытесненным.
Сведения, полученные нами из этих трех источников, мы
можем резюмировать следующим образом: во-первых, что
идентификация представляет собой самую первоначальную
форму эмоциональной связи с объектом, во-вторых, что
регрессивным путем, как бы интроекцией объекта в «Я», она
становится заменой либидозной объектной связи, и
в-третьих, что она может возникнуть при каждой вновь
замеченной общности с лицом, не являющимся объектом
сексуальных первичных позывов. Чем значительнее эта общность,
тем успешнее может стать эта частичная идентификация
и соответствовать, таким образом, началу новой связи.
Мы предчувствуем, что взаимная связь массовых
индивидов уже по самой природе такой идентификации является
важной аффективной общностью, и можем предполагать, что эта
общность заключается в характере связи с вождем. Другое
предположение может подсказать нам, что мы далеко не
исчерпали проблему идентификации, что мы стоим перед процессом,
который психология называет «вживанием» и который играет
первостепенную роль для нашего понимания чужеродности
«Я» других людей. Но здесь мы ограничимся ближайшими
аффективными воздействиями идентификации и оставим пока
в стороне ее значение для нашей интеллектуальной жизни.
Психоаналитическое исследование иногда занималось и
более трудными проблемами психозов и смогло обнаружить
идентификацию и в некоторых других случаях, которые не
сразу доступны нашему пониманию. Я подробно изложу два
этих случая как материал для наших дальнейших рассуждений.
Генезис мужской гомосексуальности в целом ряде случаев
следующий: молодой человек необыкновенно долго и
интенсивно, в духе Эдипова комплекса, сосредоточен на своей
матери. Но наконец по завершении полового созревания все же
настает время заменить мать другим сексуальным объектом.
И тут происходит внезапный поворот: юноша не покидает
мать, но идентифицирует себя с ней, он в нее превращается и
ищет теперь объекты, которые могут заменить ему его собст-
829
Зигмунд ФРЕЙД
венное «Я», которые он может любить и лелеять так, как его
самого любила и лелеяла мать. Этот часто наблюдающийся
процесс может быть подтвержден любым количеством случаев;
он, конечно, совершенно независим от всяких предположений,
которые делаются относительно движущей силы и мотивов
этого внезапного превращения. Примечательна в этой
идентификации ее обширность, она меняет «Я» в чрезвычайно
важной области — а именно в сексуальном характере — по образцу
прежнего объекта. При этом сам объект покидается; покидается
ли он совсем или только в том смысле, что он остается в
бессознательном, не подлежит здесь дискуссии. Идентификация с
потерянным или покинутым объектом для замены последнего,
интроекция этого объекта в «Я» для нас, конечно, не является
новостью. Такой процесс можно непосредственно наблюдать
на маленьком ребенке. Недавно в «Международном
психоаналитическом журнале» было опубликовано такое наблюдение.
Ребенок, горевавший о потере котенка, без всяких обиняков
заявил, что сам он теперь котенок, и стал поэтому ползать на
четвереньках, не хотел есть за столом и т. д.
Другой пример такой интроекции объекта дал нам
анализ меланхолии — аффекта, считающего реальную или
аффективную потери любимого объекта одной из самых
важных причин своего появления. Основной характер этих
случаев заключается в жестоком унижении собственного «Я» в
связи с беспощадной самокритикой и горькими упреками
самому себе. Анализы показали, что эта оценка и эти упреки
в сущности имеют своею целью объект и представляют
собой лишь отмщения «Я» объекту. Тень объекта отброшена
на «Я». Интроекция объекта здесь чрезвычайно ясна.
Эти меланхолии, однако, выявляют и нечто другое, что
может оказаться важным для наших дальнейших
рассуждений. Они показывают нам «Я» в разделении, в
расщепленности на две части, из которых каждая неистовствует
против другой. Эта другая часть есть часть, измененная интро-
екцией, заключающая в себе потерянный объект. Но знакома
нам и часть, так жестоко себя проявляющая. Она включает
совесть — критическую инстанцию, которая и в нормальные
времена критически подходила к «Я», но никогда не
проявляла себя так беспощадно и так несправедливо. Мы уже в
830
Психология масс и анализ человеческого *Я»
предшествующих случаях должны были сделать
предположение (нарциссизм, печаль и меланхолия), что в нашем «Я»
развивается инстанция, которая может отделиться от другого
«Я» и вступить с ним в конфликт. Мы назвали ее «Я-идеа-
лом» и приписали ей функции самонаблюдения, моральной
совести, цензуры сновидений и основное влияние при
вытеснении. Мы сказали, что она представляет собой наследие
первоначального нарциссизма, в котором детское «Я»
удовлетворяло само себя. Из влияний окружающего эта
инстанция постепенно воспринимает требования, которые
предъявляются к «Я» и которые оно не всегда может удовлетворить;
но когда человек не может быть доволен своим «Я», он все
же находит удовлетворение в «Я-идеале», которое
дифференцировалось из «Я». В мании преследования, как мы далее
установили, явно обнаруживается распад этой инстанции, и
при этом открывается ее происхождение от влияний
авторитетов — родителей прежде всего. Мы, однако, не забыли
отметить, что мера удаления «Я-идеала» от «Я» актуального
очень варьируется для отдельных индивидов и что у многих
людей эта дифференциация внутри «Я» не больше
дифференциации у ребенка. Однако, прежде чем мы сможем
использовать этот материал для понимания либидозной
организации массы, мы должны принять во внимание некоторые
другие взаимоотношения между объектом и «Я».
VIII
Влюбленность и гипноз
Язык даже в своих капризах верен какой-то истине.
Правда, он называет любовью очень разнообразные
эмоциональные отношения, которые и мы теоретически сводим к
слову «любовь», но далее он все же сомневается, настоящая
ли, действительная, истинная ли эта любовь, и указывает
внутри этих любовных феноменов на целую шкалу
возможностей. Нам тоже нетрудно найти ее путем наблюдения.
В целом ряде случаев влюбленность есть не что иное, как
психическая захваченность объектом, диктуемая сексуаль-
831
Зигллупд ФРЕЙД
ными первичными позывами в целях прямого сексуального
удовлетворения и с достижением этой цели и угасающая; это
то, что называют низменной, чувственной любовью. Но, как
известно, либидозная ситуация редко остается столь
несложной. Уверенность в новом пробуждении только что угасшей
потребности была, вероятно, ближайшим мотивом, почему
захваченность сексуальным объектом оказывалась
длительной, и его «любили» и в те промежутки времени, когда
влечение отсутствовало.
Из весьма примечательной истории развития
человеческой любовной жизни к этому надо добавить второй момент.
В первой фазе жизни, обычно уже заканчивающейся к пяти
годам, ребенок в одном из родителей нашел первый
любовный объект, на котором соединились все его искавшие
удовлетворения сексуальные первичные позывы. Наступившее
затем вытеснение имело следствием вынужденный отказ от
большинства этих детских сексуальных целей и оставило
глубокое видоизменение отношений к родителям. Ребенок
и дальше остается привязанным к родителям первичными
позывами, которые надо назвать «целепрегражденными».
Чувства, которые он с этих пор питает к этим любимым
лицам, носят название «нежных». Известно, что в
бессознательном эти прежние чувственные стремления сохраняются
более или менее сильно, так что первоначальная полнокров-
ность в известном смысле остается и дальше.
С возмужалостью появляются, как известно, новые,
весьма интенсивные стремления, направленные на прямые
сексуальные цели. В неблагоприятных случаях они, как
чувственное течение, отделены от продолжающихся «нежных»
эмоциональных направлений. Тогда мы имеем картину, оба
аспекта которой так охотно идеализируются известными
литературными течениями. Мужчина обнаруживает
романтическое влечение к высокочтимым женщинам, которые,
однако, не влекут его к любовному общению, и потентен только
с другими женщинами, которых он не «любит», не уважает
и даже презирает. Но чаще подрастающему юноше все же
удается известная мера синтеза между нечувственной,
небесной, и чувственной, земной, любовью, и его отношение к
сексуальному объекту отмечено совместным действием не-
832
Психология масс и анализ человеческого «Я->
прегражденных и целепрегражденных первичных позывов.
Глубину влюбленности можно измерить по количеству
целепрегражденных нежных инстинктов, сопоставляя их с
простым чувственным вожделением.
В рамках влюбленности нам прежде всего бросился в
глаза феномен сексуального превышения оценки, тот факт, что
любимый объект в известной мере освобождается от
критики, что все его качества оцениваются выше, чем качества
нелюбимых лиц или чем в то время, когда это лицо еще не
было любимо. Если чувственные стремления несколько
вытесняются или подавляются, то появляется иллюзия, что за
свои духовные достоинства объект любим и чувственно, а
между тем, может быть, наоборот, только чувственное
расположение наделило его этими достоинствами.
Стремление, которым суждение здесь фальсифицируется,
есть идеализация. Но этим самым нам облегчается и
ориентировка, мы видим, что с объектом обращаются, как с
собственным «Я», что, значит, при влюбленности большая часть нар-
циссического либидо перетекает на объект. В некоторых
формах любовного выбора очевиден даже факт, что объект служит
заменой никогда не достигнутого собственного «Я-идеала». Его
любят за совершенства, которых хотелось достигнуть в
собственном «Я» и которые этим окольным путем хотят приобрести
для удовлетворения собственного нарциссизма
Если сексуальная переоценка и влюбленность продолжают
повышаться, то расшифровка картины делается еще яснее.
Стремления, требующие прямого сексуального
удовлетворения, могут быть теперь совсем вытеснены, как то обычно
случается, например, в мечтательной любви юноши; «Я» делается
все нетребовательнее и скромнее, а объект — все
великолепнее и ценнее; в конце концов он делается частью общего
себялюбия «Я», и самопожертвование этого «Я» представляется
естественным следствием. Объект, так сказать, поглотил «Я».
Черты смирения, ограничение нарциссизма, причинение себе
вреда имеются во всех случаях влюбленности; в крайних
случаях они лишь повышаются и вследствие отступления
чувственных притязаний остаются единственно господствующими.
Это особенно часто бывает при несчастной, безнадежной
любви, так как сексуальное удовлетворение ведь каждый раз
27-3518
833
Зигмунд ФРЕЙД
заново снижает сексуальное превышение оценки.
Одновременно с этой «самоотдачей» «Я» объекту, уже ничем не
отличающейся от сублимированной самоотдачи абстрактной
идее, функции «Я-идеала» совершенно прекращаются.
Молчит критика, которая производится этой инстанцией; все, что
объект делает и требует, — правильно и безупречно. Совесть
не применяется к тому, что делается в пользу объекта; в
любовном ослеплении идешь на преступление, совершенно в
этом не раскаиваясь. Всю ситуацию можно без остатка
резюмировать в одной формуле: объект занял место «Я-идеала».
Теперь легко описать разницу между идентификацией
и влюбленностью в ее высших выражениях, которые
называют фасцинацией, влюбленной зависимостью. В первом случае
«Я» обогатилось качествами объекта, оно, по выражению Фе-
ренци, объект «интроецировало»; во втором случае оно
обеднело, отдалось объекту, заменило объектом свою главнейшую
составную часть. Однако при ближайшем рассмотрении скоро
можно заметить, что такое утверждение указывает на
противоположности, которые на самом деле не существуют. Психо-
экономически дело не в обеднении или обогащении — даже и
крайнюю влюбленность можно описать как состояние, в
котором «Я» якобы интроецировало в себя объект. Может быть,
другое развитие скорее раскроет нам суть явления. В случае
идентификации объект утрачивается или от него
отказываются, затем он снова воссоздается в «Я», причем «Я» частично
изменяется по образцу утраченного объекта. В другом же
случае объект сохранен и имеет место «сверхзахваченность» со
стороны «Я» и за счет «Я». Но и это вызывает сомнение. Разве
установлено, что идентификация имеет предпосылкой отказ
от психической захваченности объектом, разве не может
идентификация существовать при сохранении объекта? И прежде
чем пуститься в обсуждение этого щекотливого вопроса, у нас
уже может появиться догадка, что сущность этого положения
вещей содержится в другой альтернативе, а именно: не
становится ли объект на место «Я» или «Я-идеала»?
От влюбленности явно недалеко до гипноза. Соответствие
обоих очевидно. То же смиренное подчинение, уступчивость,
отсутствие критики как по отношению к гипнотизеру, так и
по отношению к любимому объекту. Та же поглощенность
834
Психология масс и анализ человеческого «Я»
собственной инициативы; нет сомнений, что гипнотизер занял
место «Я-идеала». В гипнозе все отношения еще отчетливее
и интенсивнее, так что целесообразнее пояснять
влюбленность гипнозом, а не наоборот. Гипнотизер является
единственным объектом; помимо него никто другой не принимается
во внимание. «Я», как во сне, переживает все, что гипнотизер
требует и утверждает, и этот факт напоминает нам, что, говоря
о функциях «Я-идеала», мы упустили проверку реальности.
Неудивительно, что «Я» считает восприятие реальным, если
психическая инстанция, заведующая проверкой реальности,
высказывается в пользу этой реальности. Полное отсутствие
стремлений с незаторможенными сексуальными целями еще
более усиливает исключительную чистоту явлений.
Гипнотическая связь есть неограниченная влюбленная самоотдача,
исключающая сексуальное удовлетворение, в то время как при
влюбленности таковое оттеснено лишь временно и остается
на заднем плане как позднейшая целевая возможность.
Однако, с другой стороны, мы можем сказать, что
гипнотическая связь — если позволено так выразиться —
представляет собой образование массы из двух лиц. Гипноз
является плохим объектом для сравнения с образованием масс,
так как он, скорее всего, с ним идентичен. Из сложной
структуры массы он изолирует один элемент, — а именно
поведение массового индивида по отношению к вождю. Этим
ограничением числа гипноз отличается от образования м.кт, а
отсутствием прямых сексуальных стремлений — от
влюбленности. Он, таким образом, занимает между ними среднее
положение.
Интересно отметить, что именно заторможенные в
целевом отношении сексуальные стремления устанавливают
между людьми столь прочную связь. Но это легко объяснимо тем
фактом, что они неспособны к полному удовлетворению, в
то время как незаторможенные сексуальные стремления
чрезвычайно ослабевают в каждом случае достижения
сексуальной цели. Чувственная любовь приговорена к угасанию,
если она удовлетворяется; чтобы продолжаться, она с самого
начала должна быть смешана с чисто нежными, т. е.
заторможенными в целевом отношении, компонентами или же
должна такую трансформацию претерпеть.
835
Зигмунд ФРЕЙД
Гипноз прекрасно бы разрешил загадку либидозной
конституции массы, если бы сам он не содержал каких-то черт,
не поддающихся существующему рациональному
объяснению, как якобы состояния влюбленности с исключением
прямых сексуальных целей. Многое еще в нем следует
признать непонятным, мистическим. Он содержит примесь
парализованности, вытекающей из отношения
могущественного к бессильному, беспомощному, что примерно
приближается к гипнозу испугом у животных. Способ, которым
гипноз достигается, и сопряженность гипноза со сном
неясны, а загадочный отбор лиц, для гипноза годных, в то время
как другие ему совершенно не поддаются, указывает на
присутствие в нем еще одного неизвестного момента, который-
то, может быть, и создает в гипнозе возможность чистоты
либидозных установок. Следует также отметить, что даже
при полной суггестивной податливости моральная совесть
загипнотизированного может проявлять сопротивление. Но
это может происходить оттого, что при гипнозе в том виде,
как он обычно производится, могло сохраниться знание
того, что все это только игра, ложное воспроизведение иной,
жизненно гораздо более важной ситуации.
Благодаря проведенному нами разбору мы, однако,
вполне подготовлены к начертанию формулы либидозной
конституции массы. По крайней мере, такой массы, какую мы
до сих пор рассматривали, т. е. имеющей вождя и не
приобретшей секундарно, путем излишней «организованности»,
качеств индивида. Такая первичная масса есть какое-то
число индивидов, сделавших своим «Я-идеалом» один и тот же
объект и вследствие этого в своем «Я» между собой
идентифицировавшихся. Это отношение может быть изображено
графически следующим образом.
чч Внешний
NN объект
-х
♦Я - идеал»
0(
836
Психология масс и анализ человеческого <<Я>>
IX
Стадный инстинкт
Наша радость по поводу иллюзорного разрешения с
помощью этой формулы загадки массы будет краткой. Очень
скоро нас станет тревожить мысль, что по существу-то мы
приняли ссылку на загадку гипноза, в которой еще так
много неразрешенного. И вот новое возражение приоткрывает
нам дальнейший путь.
Мы вправе сказать себе, что обширные аффективные
связи, замеченные нами в массе, вполне достаточны, чтобы
объяснить одно из ее свойств, а именно: отсутствие у индивида
самостоятельности и инициативы, однородность его реакций
с реакцией всех других, снижение его, так сказать, до уровня
массового индивида. Но при рассмотрении массы как
целого она показывает нам больше; черты ослабления
интеллектуальной деятельности, безудержность аффектов,
неспособность к умеренности и отсрочке, склонность к переходу всех
пределов в выражении чувств и к полному отводу
эмоциональной энергии через действия — это и многое другое, что
так ярко излагает Лебон, дает несомненную картину регресса
психической деятельности к более ранней ступени, которую
мы привыкли находить у дикарей или у детей. Такой регресс
характерен особенно для сущности обыкновенных масс, в то
время как у масс высокоорганизованных, искусственных,
такая регрессия может быть значительно задержана.
Итак, у нас создается впечатление состояния, где
отдельное эмоциональное побуждение и личный
интеллектуальный акт индивида слишком слабы, чтобы проявиться
отдельно, и должны непременно дожидаться поддержки
подобным повторением со стороны других. Вспомним, сколько
этих феноменов зависимости входит в нормальную
конституцию человеческого общества, как мало в нем
оригинальности и личного мужества и насколько каждый отдельный
индивид находится во власти установок массовой души,
проявляющихся в расовых особенностях, сословных
предрассудках, общественном мнении и т. п. Загадка суггестивного
влияния разрастается, если признать, что это влияние исходит
837
Зигмунд ФРЕЙД
не только от вождя, но также и от каждого индивида на
каждого другого индивида, и мы упрекаем себя, что
односторонне выделили отношение к вождю, незаслуженно
отодвинув на задний план другой фактор взаимного внушения.
Научаясь таким образом скромности, мы
прислушиваемся к другому голосу, обещающему нам объяснение на более
простых основах. Я привожу это объяснение из умной
книги В. Троттера о стадном инстинкте и сожалею лишь о том,
что она не вполне избежала антипатии, явившейся
результатом последней великой войны.
Троттер ведет наблюдаемые у массы психические
феномены от стадного инстинкта, который прирожден человеку
так же, как и другим видам животных. Биологически эта
стадность есть аналогия и как бы продолжение многокле-
точности, а в духе теории либидо — дальнейшее выражение
склонности всех однородных живых существ к соединению
во все более крупные единства. Отдельный индивид
чувствует себя незавершенным, если он один. Уже страх
маленького ребенка есть проявление стадного инстинкта.
Противоречие стаду равносильно отделению от него, и поэтому
противоречия боязливо избегают. Но стадо отвергает все новое,
непривычное. Стадный инстинкт — по Троттеру — нечто
первичное, далее неразложимое.
Троттер указывает ряд первичных позывов (или
инстинктов), которые он считает примарными: инстинкт
самоутверждения, питания, половой и стадный инстинкты. Последний
часто находится в оппозиции к другим инстинктам.
Сознание виновности и чувство долга — характерные качества
стадного животного. Из стадного инстинкта исходят, по
мнению Троттера, также и вытесняющие силы, открытые
психоанализом в «Я», и то сопротивление, на которое при
психоаналитическом лечении наталкивается врач. Значение речи
имело своей основой возможность применить ее в стаде в
целях взаимопонимания, на ней в большой степени зиждется
идентификация отдельных индивидов друг с другом.
В то время как Лебон описал главным образом
характерные текучие массообразования, а Макдугалл — стабильные
общественные образования, Троттер концентрировал свой
интерес на самых распространенных объединениях, в кото-
838
Психология масс и аналил человеческого «Я»
рых живет человек, и дал их психологическое обоснование.
Троттеру не приходится искать происхождения стадного
инстинкта, так как он определяет его как первичный и не
поддающийся дальнейшему разложению. Его замечание, что
Борис Сидис выводит стадный инстинкт из внушаемости, к
счастью для него, излишне. Это объяснение по известному
неудовлетворительному шаблону; перестановка этого тезиса,
т. е. что внушаемость — порождение стадного инстинкта,
кажется мне гораздо более убедительной.
Однако Троттеру с еще большим правом, чем другим,
можно возразить, что он мало считается с ролью вождя в
массе; мы склонны к противоположному суждению, а
именно, что сущность массы без учета роли вождя недоступна
пониманию. Для вождя стадный инстинкт вообще не
оставляет никакого места, вождь только случайно привходит в
массу, а с этим связано то, что от этого инстинкта нет пути
к потребности в Боге; стаду недостает пастуха. Но теорию
Троттера можно подорвать и психологически, т. е. можно, по
меньшей мере, доказать вероятие, что стадный инстинкт не
неразложим, не примарен в том смысле, как примарен
инстинкт самосохранения и половой инстинкт.
Нелегко, конечно, проследить онтогенез стадного
инстинкта. Страх оставленного в одиночестве маленького
ребенка, толкуемый Троттером уже как проявление этого
инстинкта, допускает скорее иное толкование. Страх обращен
к матери, позже к другим доверенным людям, и есть
выражение неосуществившегося желания, с которым ребенку
ничего другого сделать не остается, кроме как обратить его в
страх. Страх одинокого маленького ребенка при виде любого
другого человека «из стада» не утихает, а наоборот, как раз
и возникает при появлении такого «чужого». У ребенка
долгое время не заметно никакого стадного инстинкта или
массового чувства. Таковое образуется вначале в детской, где
много детей, из отношения детей к родителям, и притом как
реакция на первоначальную зависть, с которой старший
ребенок встречает младшего. Старшему ребенку хочется,
конечно, младшего ревниво вытеснить, отдалить его от
родителей и лишить всех прав; но, считаясь с фактом, что и этот
ребенок — как и все последующие — в такой же степени
839
Зигмунд ФРЕЙД
любим родителями, и вследствие невозможности удержать
свою враждебную установку без вреда самому себе, ребенок
вынужден отождествлять себя с другими детьми, и в толпе
детей образуется массовое чувство или чувство общности,
получающее затем дальнейшее развитие в школе. Первое
требование этой образующейся реакции есть требование
справедливости, равного со всеми обращения. Известно, как
явно и неподкупно это требование проявляется в школе. Если
уж самому не бывать любимчиком, то пусть, по крайней
мере, и ни единому таковым не быть! Можно бы счесть такое
превращение и замену ревности в детской и классной
массовым чувством — неправдоподобным, если бы позднее этот же
процесс не наблюдался снова при иных обстоятельствах.
Вспомним только толпы восторженно влюбленных женщин
и девушек, теснящихся вокруг певца или пианиста после его
выступления. Каждая из них не прочь бы, конечно,
приревновать к каждой другой, ввиду же их многочисленности
и связанной с этим невозможности овладеть предметом
своей влюбленности они от этого отказываются, и вместо того,
чтобы вцепиться друг другу в волосы, они действуют как
единая масса, поклоняются герою сообща и были бы рады
поделиться его локоном. Исконные соперницы, они смогли
отождествить себя друг с другом из одинаковой любви к
одному и тому же объекту. Если ситуация инстинкта
способна, как это обычно бывает, найти различные виды исхода, то
не будет удивительным, если осуществится тот вид исхода,
что связан с известной возможностью удовлетворения, в то
время как другой, даже и более очевидный, не состоится, так
как реальные условия достижения этой цели не допускают.
То, что позднее проявляется в обществе как
корпоративный дух, изначально произошло из зависти. Никто не должен
посягать на выдвижение, каждый должен быть равен другому
и равно обладать имуществом. Социальная справедливость
означает, что самому себе во многом отказываешь, чтобы и
другим надо было себе в этом отказывать или, что то же
самое, они бы не могли предъявлять на это прав. Это
требование равенства есть корень социальной совести и чувства
долга. Неожиданным образом требование это обнаруживается
у сифилитиков в их боязни инфекции, которую нам удалось
840
Психологии масс и анализ человеческого *Я»
понять с помощью психоанализа. Боязнь этих несчастных
соответствует их бурному сопротивлению бессознательному
желанию распространить свое заражение на других, так как
почему же им одним надлежало заразиться и лишиться столь
многого, а другим — нет? То же лежит и в основе прекрасной
притчи о суде Соломоновом. Если у одной женщины умер
ребенок, то пусть и у другой не будет живого ребенка. По
этому желанию познают потерпевшую.
Социальное чувство, таким образом, основано на
изменении первоначально враждебных чувств в связь
положительного направления, носящую характер идентификации.
Поскольку нам было возможно проследить этот процесс,
изменение это осуществляется, по-видимому, под влиянием общей
для всех нежной связи с лицом, стоящим вне массы. Наш
анализ идентификации и нам самим не представляется
исчерпывающим, но для нашего настоящего намерения нам
достаточно вернуться к одной черте, а именно — к настойчивому
требованию уравнения. При обсуждении обеих
искусственных масс — Церкви и войска — мы уже слышали об их
предпосылке, чтобы все были одинаково любимы одним лицом —
вождем. Но не забудем одного: требование равенства массы
относится только к участникам массы, но не к вождю. Всем
участникам массы нужно быть равными между собой, но все
они хотят власти над собою одного. Множество равных,
которые могут друг с другом идентифицироваться, и
один-единственный, их всех превосходящий, — вот ситуация,
осуществленная в жизнеспособной массе. Итак, высказывание Трот-
тера, что человек есть животное стадное, мы осмеливаемся
исправить в том смысле, что он скорее животное орды, особь
предводительствуемой главарем орды.
X
Масса и первобытная орда
В 1912 г. я принял предположение Ч.Дарвина, что
первобытной формой человеческого общества была орда, в
которой неограниченно господствовал сильный самец. Я по-
841
Зигмунд ФРЕЙД
пытался показать, что судьбы этой орды оставили в истории
человеческой эволюции неизгладимые следы и, в
особенности, что развитие тотемизма, заключающего в себе зачатки
религии, нравственности и социального расчленения,
связано с насильственным умерщвлением возглавителя и
превращением отцовской орды в братскую общину. Конечно, это
только гипотеза, как и столь многие другие, с помощью
которых исследователи доисторического периода пытаются
осветить тьму первобытных времен, — «just so story», как
остроумно назвал ее один отнюдь не недружелюбный
английский критик, — но я думаю, что такой гипотезе делает честь,
если она оказывается пригодной вносить связанность и
понимание во все новые области.
Человеческие массы опять-таки показывают нам
знакомую картину одного всесильного среди толпы равных
сотоварищей, картину, которая имеется и в нашем представлении
о первобытной орде. Психология этой массы, как мы ее
знаем из часто приводившихся описаний, а именно:
исчезновение сознательной обособленной личности, ориентация
мыслей и чувств в одинаковых с другими направлениях,
преобладание аффективности и бессознательной душевной сферы,
склонность к немедленному выполнению внезапных
намерений — все это соответствует состоянию регресса к
примитивной душевной деятельности, какая напрашивается для
характеристики именно первобытной орды.
Масса кажется нам вновь ожившей первобытной ордой.
Так же как в каждом отдельном индивиде первобытный
человек фактически сохранился, так и из любой человеческой
толпы может снова возникнуть первобытная орда; поскольку
массообразование обычно владеет умами людей, мы в нем
узнаем продолжение первобытной орды. Мы должны сделать
вывод, что психология массы является древнейшей
психологией человечества; все, что мы, пренебрегая всеми остатками
массы, изолировали как психологию индивидуальности,
выделилось лишь позднее, постепенно и, так сказать, все еще
только частично, из древней массовой психологии. Мы еще
попытаемся установить исходную точку этого развития.
Дальнейшие размышления указывают нам, в каком
пункте это утверждение нуждается в поправке. Индивидуальная
842
Психология масс и анализ человеческого «Я»
психология, должно быть, по меньшей мере такой же
давности, как и психология массовая, ибо с самого начала
существовало две психологии: одна — психология массовых
индивидов, другая — психология отца, возглавителя, вождя.
Отдельные индивиды массы были так же связаны, как и
сегодня, отец же первобытной орды был свободен. Его
интеллектуальные акты были и в обособленности сильны и
независимы, его воля не нуждалась в подтверждении волей
других. Следовательно, мы полагаем, что его «Я» было в
малой степени связано либидозно, он не любил никого,
кроме себя, а других лишь постольку, поскольку они служили
его потребностям. Его «Я» не отдавало объектам никаких
излишков.
На заре истории человечества он был тем
сверхчеловеком, которого Ницше ожидал лишь от будущего. Еще и
теперь массовые индивиды нуждаются в иллюзии, что все они
равны и справедливым образом любимы вождем; сам же
вождь никого любить не обязан, он имеет право быть
господского нрава, абсолютно нарциссическим, но уверенным
в себе и самостоятельным. Мы знаем, что любовь
ограничивает нарциссизм, и могли бы доказать, каким образом
благодаря этому своему воздействию любовь стала культурным
фактором.
Праотец орды еще не был бессмертным, каковым он
позже стал через обожествление. Когда он умирал, его
надлежало заменять; его место занимал, вероятно, один из
младших сыновей, бывший до той поры массовым индивидом,
как и всякий другой. Должна, следовательно, существовать
возможность для превращения психологии массы в
психологию индивидуальную, должно быть найдено условие, при
котором это превращение совершается легко, как ато
возможно у пчел, в случае надобности выращивающих из
личинки вместо рабочей пчелы королеву! В таком случае
можно себе представить лишь одно: праотец препятствовал
удовлетворению прямых сексуальных потребностей своих
сыновей; он принуждал их к воздержанию и, следовательно,
к эмоциональным связям с ним и друг с другом, которые
могли вырастать из стремлений с заторможенной
сексуальной целью. Он, так сказать, вынуждал их к массовой психо-
843
Зигмунд ФРЕЙД
логии. Его сексуальная зависть и нетерпимость стали в
конце концов причиной массовой психологии.
Тому, кто становился его наследником, давалась также
возможность сексуального удовлетворения и выхода тем
самым из условий массовой психологии. Фиксация любви на
женщине, возможность удовлетворения без отсрочки и
накапливания энергии положили конец значению целезатор-
моженных сексуальных стремлений и допускали нарастание
нарциссизма всегда до одинакового уровня.
К этому взаимоотношению любви и формирования
характера мы вернемся в дополнительной главе.
Как нечто особо поучительное отметим еще то, как
конституция первобытной орды относится к организации,
посредством которой — не говоря о средствах
принудительных — искусственная масса держится в руках. На примере
войска и Церкви мы видели, что этим средством является
иллюзия, будто вождь любит каждого равным и
справедливым образом. Это-то и есть идеалистическая переработка
условий первобытной орды, где все сыновья знали, что их
одинаково преследует отец, и одинаково его боялись. Уже
следующая форма человеческого общества, тотемистический
клан, имеет предпосылкой это преобразование, на котором
построены все социальные обязанности. Неистощимая сила
семьи как естественного массообразования основана на том,
что эта необходимая предпосылка равной любви отца в ее
случае действительно может быть оправдана.
Но мы ожидаем еще большего от сведения массы к
первобытной орде. В массообразовании это должно нам также
объяснить еще то непонятное, таинственное, что скрывается
за загадочными словами гипноз и внушение. И мне
думается, это возможно. Вспомним, что гипнозу присуще нечто
прямо-таки жуткое; характер же этой жути указывает на
что-то старое, нам хорошо знакомое, что подверглось
вытеснению. Подумаем, как гипноз производится. Гипнотизер
утверждает, что обладает таинственной силой, похищающей
собственную волю субъекта, или же, что то же самое,
субъект гипнотизера таковым считает. Эта таинственная сила —
в обиходе еще часто называемая животным магнетизмом, —
наверное, та же, что у примитивных народов считается ис-
844
Психология масс и анализ человеческого «//>>
точником табу, та же, что исходит от королей и главарей и
делает приближение к ним опасным. Гипнотизер якобы этой
силой владеет, а как он ее выявляет? Требуя смотреть ему
в глаза, он, что очень типично, гипнотизирует своим
взглядом. Но ведь как раз взгляд вождя для примитивного
человека опасен и невыносим, как впоследствии взгляд божества
для смертного. Еще Моисей должен был выступить в
качестве посредника между своим народом и Иеговой, ибо народ
не мог бы выдержать лика Божьего, когда же Моисей
возвращается после общения с Богом, лицо его сияет, часть
«Мапа» перешла на него, как это и бывало у посредника
примитивных народов.
Гипноз, правда, можно вызывать и другими способами,
что вводит в заблуждение и дало повод к
неудовлетворительным физиологическим теориям; гипноз, например,
может быть вызван фиксацией на блестящем предмете или
монотонном шуме. В действительности же эти приемы
служат лишь отвлечению и приковыванию сознательного
внимания. Создается ситуация, в которой гипнотизер будто бы
говорит данному лицу: «Теперь занимайтесь исключительно
моей особой, остальной мир совершенно неинтересен».
Было бы, конечно, технически нецелесообразно, если бы
гипнотизер произносил такие речи; именно это вырвало бы
субъект из его бессознательной установки и вызвало бы его
сознательное сопротивление. Гипнотизер избегает
направлять сознательное мышление субъекта на свои намерения;
подопытное лицо погружается в деятельность, при которой
мир должен казаться неинтересным, причем это лицо
бессознательно концентрирует все свое внимание на
гипнотизере, устанавливает с ним связь и готовность к перенесению
внутренних процессов. Косвенные методы
гипнотизирования, подобно некоторым приемам шуток, направлены на то,
чтобы задержать известные размещения психической
энергии, которые помешали бы ходу бессознательного
процесса, и приводят в конечном итоге к той же цели, как и
прямые влияния при помощи пристального взгляда и
поглаживания.
Ференци правильно установил, что гипнотизер, давая
приказание заснуть, что часто делается при вводе в гип-
845
Зигмунд ФРКЙД
ноз, занимает место родителей. Он думает, что следует
различать два вида гипноза: вкрадчиво успокаивающий,
приписываемый им материнскому прототипу, и угрожающий,
приписываемый прототипу отцовскому. Но ведь само
приказание заснуть означает в гипнозе не что иное, как
отключение от всякого интереса к миру и сосредоточение на
личности гипнотизера; так это субъектом и понимается,
потому что в этом отвлечении интереса от окружающего мира
заключается психологическая характеристика сна, и на ней
основана родственность сна с гипнотическим состоянием.
Гипнотизер, таким образом, применяя свои методы,
будит у субъектп часть его архаического наследия, которое
проявлялось и но отношению к родителям, в отношении же
отца снова индивидуально оживало: представление о
сверхмогущественной и опасной личности, по отношению к
которой можно было занять лишь пассивно-мазохистскую
позицию, которой нужно было отдать свою волю и быть с
которой наедине, «попасться на глаза» казалось
рискованным предприятием. Только так мы и можем представить
себе отношение отдельного человека первобытной орды к
праотцу. Как нам известно из других реакций, отдельный
человек сохранил в различной степени способность к
оживлению столь давних положений. Однако сознание, что
гипноз является всего лишь игрой, лживым обновлением тех
древних впечатлений, может все же сохраниться и повлечь
за собою сопротивление против слишком серьезных
последствий гипнотической потери воли.
Жуткий, принудительный характер массообразования,
проявляющийся в феноменах внушения, можно, значит, по
пpalsy объяснить его происхождением от первобытной орды.
Вождь массы — все еще праотец, к которому все
преисполнены страха, масса все еще хочет, чтобы ею управляла
неограниченная власть, страстно ищет авторитета; она, по
выражению Лебона, жаждет подчинения. Праотец — идеал
массы, который вместо «Я-идеала» владеет человеческим
«Я». Гипноз по праву может быть назван «массой из двух»;
внушение же можно только определить как убеждение,
основанное не на восприятии и мыслительной работе, а на
эротической связи.
846
Психология масс и анализ человеческого «Я»
XI
Одна ступень в человеческом «Я»
Если рассматривать жизнь отдельного человека нашего
времени, пользуясь дополняющими друг друга описаниями
массовой психологии, то ввиду множества осложнений можно
потерять мужество и не решиться на обобщающее изложение.
Каждый отдельный человек является составной частью многих
масс, он с разных сторон связан идентификацией и создал свой
«Я-идеал» по различнейшим образцам. Таким образом,
отдельный человек — участник многих массовых душ: своей расы,
сословия, церковной общины, государственности и т.д., и
сверх этого может подняться до частицы самостоятельности и
оригинальности. Эти постоянные и прочные массовые
формации со своим равномерно длящимся воздействием меньше
бросаются в глаза, чем наскоро образовавшиеся текучие массы, на
примере которых Лебон начертал блестящую психологическую
характеристику массовой души, и в этих шумных, эфемерных
массах, которые будто бы наслоились на первые, как раз и
происходит чудо: только что признанное нами как
индивидуальное развитие бесследно, хотя и временно, исчезает.
Мы поняли это чудо так, что отдельный человек
отказывается от своего «Я-идеала» и заменяет его массовым
идеалом, воплощенным в вожде. Оговоримся, что это чудо не во
всех случаях одинаково велико. Отграничение «Я» от «Я-иде-
ала» у многих индивидов не зашло слишком далеко, оба еще
легко совпадают, «Я» часто еще сохраняет прежнее нарцисси-
ческое самодовольство. Это обстоятельство весьма облегчает
выбор вождя. Нередко ему всего лишь нужно обладать
типичными качествами этих индивидов в особенно остром и. чистом
чекане и производить впечатление большей силы и либидоз-
ной свободы, и сразу на это откликается потребность в сцдь-
ном властелине и наделяет его сверхсилой, на которую он и
не стал бы претендовать. Другие индивиды, идеал которых не
воплотился бы в нем без дальнейших поправок, вовлекаются
«внушением», т.е. путем идентификации.
То, что мы смогли добавить для объяснения либидозной
структуры массы, сводится, как мы видим, к различию между
847
Зигмунд ФРЕЙД
«Я» и «Я-идеалом» и возможному на этой почве двойному
виду связи — идентификации и замещению «Я-идеала»
объектом. Предположение такой ступени в «Я» в качестве
первого шага к анализу «Я» должно постепенно подтвердить
свою обоснованность в различнейших областях психологии.
В моем труде «К введению нарциссизма» я объединил в
поддержку этого тезиса прежде всего то, что можно было
почерпнуть из патологического материала. Можно, однако,
ожидать, что при дальнейшем углублении в психологию
психозов его значение окажется еще большим. Подумаем о том,
что «Я» становится теперь в положение объекта по
отношению к развившемуся из него «Я-идеалу»; возможно, что все
взаимодействия между внешним объектом и совокупным
«Я», о которых мы узнали в учении о неврозах, снова
повторяются на этой новой арене внутри человеческого «Я».
Здесь я прослежу лишь один из выводов, возможных
исходя из этой точки зрения, и продолжу пояснение проблемы,
которую в другом месте должен был оставить неразрешенной.
Каждая из психических дифференцировок, с которыми
мы ознакомились, представляет новую трудность для
психической функции, повышает ее лабильность и может быть
исходной точкой отказа функции, т. е. заболевания. Родившись,
мы сделали шаг от абсолютного нарциссизма к восприятию
изменчивого внешнего мира и к началу нахождения объекта;
а с этим связано то, что мы длительно не выносим этого
нового состояния, что мы периодически аннулируем его и во
сне возвращаемся в прежнее состояние отсутствия
раздражений и к избеганию объекта. Правда, при этом мы следуем
сигналу внешнего мира, который своей периодической
сменой дня и ночи временно ограждает нас от большей части
действующих на нас раздражений. Второй пример, имеющий
большое значение для патологии, не подчинен подобному
ограничению. В процессе нашего развития мы
производили разделение нашего душевного мира на связное «Я» и на
часть, оставленную вне его, бессознательно вытесненную; и
мы знаем, что устойчивость этого достижения подвержена
постоянным потрясениям. Во сне и при неврозе эта
изгнанная часть снова ищет доступа, стуча у врат, охраняемая
сопротивлениями, в состоянии же бодрствующего здоровья мы
848
Психология масс и анализ человеческого «Я»
пользуемся особыми приемами, чтобы временно допустить
в наше «Я», обходя сопротивления и наслаждаясь этим, то,
что нами было вытеснено. В этом свете можно рассматривать
остроты и юмор, отчасти и комическое вообще. Каждый
знаток психологии неврозов припомнит похожие примеры
меньшего значения, но я спешу перейти к входившему в мои
намерения практическому применению.
Вполне представимо, что и разделение на «Я» и
«Я-идеал» не может выноситься длительно и временами должно
проходить обратный процесс. При всех отречениях и
ограничениях, налагаемых на «Я», периодический прорыв
запрещений является правилом, как на это указывает
установление праздников, которые ведь, по сути своей, не что иное,
как предложенные законом эксцессы; это чувство
освобождения придает им характер веселья. Сатурналии римлян и
современный карнавал совпадают в этой существенной черте
с празднествами примитивных народов, которые обычно
завершаются всякого рода распутством при нарушении
священнейших законов. Но «Я-идеал» охватывает сумму всех
ограничений, которым должно подчиняться «Я»; поэтому
отмена идеала должна бы быть грандиозным празднеством для
«Я», которое опять могло бы быть довольным самой собой.
Если что-нибудь в «Я» совпадает с «Я-идеалом», всегда
будет присутствовать ощущение триумфа. Чувство
виновности (и чувство неполноценности) может также быть
понято как выражение напряженности между «Я» и идеалом.
Как известно, есть люди, у которых общая настроенность
периодически колеблется; чрезмерная депрессия через
известное среднее состояние переходит в повышенное
самочувствие и притом эти колебания проходят в очень
различных больших амплитудах, от еле заметного до тех
крайностей, которые в качестве меланхолии и мании в высшей
степени мучительно и вредоносно нарушают жизнь таких
людей. В типичных случаях этого циклического
расстройства внешние причины, по-видимому, не имеют решающего
значения; что касается внутренних мотивов, их мы находим
не больше, и они не иные, чем у всех других. Поэтому
образовалась привычка рассматривать эти случаи как
непсихогенные. О других, совершенно похожих случаях цикли-
849
Зигмунд ФРЕЙД
ческого расстройства, которые, однако, легко вывести из
душевных травм, речь будет ниже.
Обоснование этих спонтанных колебаний настроения,
следовательно, неизвестно; механизм, сменяющий
меланхолию манией, нам непонятен. Это, наверное, как раз те
больные, по отношению к которым могла бы оправдаться наша
догадка, что их «Я-идеал» на время растворяется в «Я»,
после того как до того он властвовал особенно сурово.
Во избежание неясностей запомним следующее: на основе
нашего анализа «Я» достоверно выяснено, что в случаях
мании «Я» и «Я-идеал» сливаются, так что в настроении
триумфа и довольства собой, не нарушаемом самокритикой,
данное лицо может наслаждаться устранением задержек,
устранением учета чужих интересов и упреков самому себе. Менее
очевидно, но довольно вероятно, что несчастье меланхолика
есть выражение острого раскола между обеими инстанциями
«Я», при котором чрезмерно чувствительный идеал
беспощадно проявляет свое осуждение «Я» в виде самоунижения
и мании неполноценности. Остается лишь вопрос, следует ли
искать причину этих измененных отношений между «Я» и
«Я-идеалом» в вышеустановленных периодических
возмущениях против новой институции или же за это ответственны
иные обстоятельства.
Переход к мании не является необходимой чертой в
истории болезни меланхолической депрессии. Бывают простые,
единичные, а также периодически повторяющиеся
меланхолии, никогда такого исхода не имеющие. С другой стороны,
существуют меланхолии, в которых повод, по-видимому,
играет этиологическую роль. Таковы меланхолии после утраты
любимого объекта, будь то вследствие его смерти или
вследствие обстоятельств, вынудивших отступление либидо от
объекта. Такая психогенная меланхолия также может
перейти в манию, и цикл этот может многократно повториться,
как и при якобы спонтанной меланхолии. Итак, соотношения
здесь довольно неясны, тем более что до сих пор лишь
немногие формы и случаи меланхолии подвергались
психоаналитическому исследованию. Пока мы понимаем лишь те
случаи, в которых от объекта отказались ввиду того, что он
оказался недостойным любви. Путем идентификации он затем
850
Психология масс и анализ человеческого <Я»
снова в «Я» утверждается и подвергается строгому суду со
стороны «Я-идеала». Упреки и агрессии против объекта
выявляются в виде меланхолических упреков самому себе.
И при такой меланхолии возможен переход к мании;
следовательно, эта возможность является чертой, не
зависящей от остальных признаков картины болезни.
Я не вижу затруднений для того, чтобы момент
периодического возмущения «Я» против «Я-идеала» принять во
внимание при обоих видах меланхолии, как психогенной, так
и спонтанной. При спонтанной можно предположить, что
«Я-идеал» склонен к особой суровости, которая затем
автоматически влечет за собой временное его упразднение. При
психогенной меланхолии «Я» подстрекается к возмущению
дурным обращением с ним его идеала, которому «Я»
подвергается в случае идентификации с отвергнутым объектом.
XII
Дополнения
В процессе исследования, временно заканчивающемся, нам
открылись различные побочные пути, которых мы сначала
избегали, но на которых мы нередко находили возможности
распознавания. Кое-что из упущенного мы теперь наверстаем.
А) Разница между идентификацией «Я» и заменой
«Я-идеала» объектом находит интересное пояснение в двух
больших искусственных массах, которые мы недавно
изучали—в войске и христианской церкви.
Очевидно, что солдат своим идеалом делает своего
начальника, т.е., собственно говоря, полководца, идентифицируясь
одновременно с себе равными и выводя из этой общности
«Я» обязательства товарищества — для взаимной помощи и
распределения имущества. Но он становится смешон, когда
хочет идентифицироваться с полководцем. Стрелок в лагере
Валленштейна насмехается по этому поводу над вахмистром:
И в покашливании, и в плевке
Удачно ему подражаете!..
851
Зигмунд ФРЕЙД
Иначе обстоит дело в Католической церкви. Каждый
христианин любит Христа, как свой идеал, и, кроме того,
чувствует себя связанным идентификацией с другими
христианами. Но Церковь требует от него большего. Он сверх
того должен идентифицироваться с Христом и любить других
христиан так, как любил их Христос. Таким образом, Церковь
в обоих случаях требует восполнения либидозной позиции,
данной массообразованием. Идентификация должна
присоединяться в случаях, где произошел выбор объекта; а
объектная любовь — в случаях, где уже имеется идентификация.
Это «большее» явно выходит за пределы конституции массы.
Можно быть хорошим христианином и все-таки быть
далеким от мысли поставить себя на место Христа, любить
подобно ему всех людей. Необязательно ведь слабому смертному
требовать от себя величия души и силы любви Спасителя. Но
это дальнейшее развитие распределения либидо в массе
является, вероятно, тем моментом, на котором Церковь
основывает свои притязания на достижение высшей нравственности.
Б) Мы говорили о возможности указать в психическом
развитии человечества тот момент, когда и для отдельного
индивида состоялся прогресс от массовой психологии к
психологии индивидуальной.
Для этого мы должны снова коротко вернуться к
научному мифу об отце первобытной орды. Позже он был
возвеличен как Творец мира и имел на это право, так как породил
всех сыновей, которые образовали первую массу. Для каждого
из них он был идеалом, его одновременно боялись и
почитали, что позднее создало понятие «табу». Как-то раз эта толпа
объединилась, убила отца и растерзала. Никто из массовых
победителей не мог занять его место, а если кто-либо и
пытался, то борьба возобновлялась до тех пор, пока они не
поняли, что все они должны от отцовского наследия отказаться.
Тогда они основали тотемистическое братство, где все
обладали равными правами и были связаны тотемистическими
запретами, которые должны были сохранить память об
убийстве и его искупить. Но недовольство достигнутым осталось
и положило начало новому развитию событий. Постепенно
объединение и братство пришло к некоему восстановлению
прежнего положения на новом уровне: мужчина снова стал
852
Психология масс и анализ человеческого «Я>>
главой семьи и сломил привилегии женского господства,
установившегося в безотцовские времена. В виде возмещения
были, может быть, тогда признаны материнские божества; для
ограждения матери их жрецы кастрировались по примеру,
который когда-то давался отцом первобытной орды; новая
семья была, однако, лишь тенью прежней, отцов было много,
и каждый из них был ограничен правами другого.
Страстная тоска, связанная с уроном, побудила тогда
отдельного индивида отделиться от массы и мысленно
восстановить себя в роли отца. Совершивший этот шаг был первым
эпическим поэтом; он достиг этого в области фантазии. Поэт
подменил действительность в соответствии со своей мечтой.
Он положил начало героическому мифу. Героем был
убивший отца один на один, отца, который в мифе фигурирует
еще в виде тотемистического чудовища. Как раньше отец был
первым идеалом мальчика, так поэт теперь создал в герое,
которому надлежит заменить отца, первый «Я-идеал».
Звеном с новосозданным героем был, вероятно, младший сын,
любимец матери, которого она оберегала от отцовской
ревности и который во времена первобытной орды стал
преемником отца. В ложном опоэтизировании, изображающем
первобытное время, женщина, являвшаяся наградой за победу
и соблазном к убийству, стала, вероятно, совратительницей
и подстрекательницей к злодеянию.
Герой претендует на единоличное совершение поступка,
на что отважилась бы, конечно, только орда в целом. Однако,
по замечанию Ранка, сказка сохранила отчетливые следы
скрытого истинного положения вещей... Ибо там часто
случается, что герой, которому предстоит трудное задание —
чаще всего это младший сын, который в присутствии суррогата
отца притворяется дурачком, т. е. неопасным, — может
выполнить эту задачу только с помощью стайки маленьких
зверьков (муравьев, пчел). Это братья первобытной орды;
ведь и в символике сновидений насекомые и паразиты
означают сестер и братьев (из презрительного отношения, как
к маленьким детям). Кроме того, каждое из заданий мифа
и сказки легко распознать как замену героического поступка.
Миф, таким образом, является тем шагом, при помощи
которого отдельный индивид выходит из массовой психоло-
853
Зигмунд Ф1Ч:ЙД
гии. Первым мифом, несомненно, был миф
психологический, миф героический; пояснительный миф о природе
возник, вероятно, много позже. Поэт, сделавший этот шаг и
отделившийся таким образом в своей фантазии от массы,
умеет, по дальнейшему замечанию Ранка, в реальной жизни
все же к ней вернуться. Ведь он приходит и рассказывает
этой массе подвиги созданного им героя. В сущности, этот
герой не кто иной, как он сам. Тем самым он снижается до
уровня реальности, а своих слушателей возвышает до
уровня фантазии. Но слушатели понимают поэта: на почве того
же самого тоскующе-завистливого отношения к праотцу они
могут идентифицировать себя с героем.
Лживость мифа завершается обожествлением героя.
Обожествленный герой был, может быть, прежде Бога-отца,
являясь предшественником возвращения праотца в качестве
божества. Хронологически прогрессия божеств была бы
тогда следующей: богиня материнства — герой — Бог-отец. Но
лишь с возвышением незабвенного праотца божество
приобрело черты, знакомые нам и поныне.
В) В этой статье мы много говорили о прямых и
заторможенных в отношении цели сексуальных первичных
позывах и смеем надеяться, что это разграничение не вызовет
больших возражений. Однако подробное рассмотрение
будет нелишним, даже если оно большею частью повторяет
уже заранее изложенное.
Либидозное развитие ребенка дало нам первый и вместе
с тем лучший пример заторможенных в отношении цели
сексуальных первичных позывов. Все те чувства, которые
ребенок питает к своим родителям и опекающим его лицам,
находят свое беспрепятственное продолжение в желаниях,
выражающих его сексуальные стремления. Ребенок требует
от этих любимых лиц всех нежностей, которые ему знакомы;
он хочет их целовать, прикасаться к ним; разглядывать,
хочет видеть их гениталии и присутствовать при интимных
действиях экскрементации; он обещает жениться на матери
или няне, что бы он под этим ни подразумевал; он
намеревается родить отцу ребенка и т.д. Прямое наблюдение, как
и дальнейшее психоаналитическое проникновение в
рудименты детства, не оставляет никакого сомнения в непосред-
854
Психология .часе и анализ человеческого «Я»
ственном слиянии нежных и ревнивых чувств с
сексуальными намерениями, а также показывает нам, сколь
основательно ребенок делает любимое лицо объектом всех своих еще
неверно направленных сексуальных стремлений.
Этот первый вид детской любви, типически подчиненный
Эдипову комплексу, с началом латентного периода
уничтожается, как известно, толчком вытеснения. Остаток любовных
чувств проявляется в чисто нежной эмоциональной связи,
направленной на те же самые лица, но эта связь уже не может
быть описана как «сексуальная». Психоанализ, который
просвечивает глубины психической жизни, без труда может
доказать, что и сексуальные связи первых детских лет
продолжают существовать, но уже в вытесненном и бессознательном
виде. На основе психоанализа мы имеем смелость утверждать,
что везде, где мы встречаем нежное чувство, оно является
преемником вполне «чувственной» объектной связи с данным
лицом или же со взятым за его прототип. Правда, без особого
исследования нельзя установить, является ли это
предшествующее полнокровное сексуальное стремление в данном
случае вытесненным, или же оно уже себя истощило. Чтобы еще
отчетливее выразить сказанное: установлено, что это
сексуальное стремление еще имеется как форма и возможность и
путем регресса может быть снова заряжено, активировано;
остается еще вопрос, на который не всегда можно ответить,—
какую заряженность и действенность оно еще имеет в
настоящее время. При этом в равной степени надо остерегаться
двух источников ошибок: как Сциллы — недооценки
вытесненного бессознательного, так и Харибды — склонности
измерять нормальное обязательно масштабами патологического.
Психологии, которая не хочет или не в силах проникнуть
в глубины вытесненного, нежные эмоциональные связи во
всяком случае представляются выражением стремлений, не
направленных к сексуальной цели, хотя бы они и
произрастали из стремлений, эту цель имевших.
Мы вправе сказать, что эти стремления отклонились от
этих сексуальных целей, хотя и трудно удовлетворить
требованиям метапсихологии при изображении такого отклонения
от цели. Впрочем, эти заторможенные в отношении цели
первичные позывы все еще сохраняют некоторые из непосредст-
855
Зигмунд ФРЕЙД
венно сексуальных целей; и нежно любящий, и друг, и
поклонник ищут телесной близости или возможности видеть
любимого человека, любимого хотя бы только в «паулинис-
тическом» смысле. Если нам желательно, мы можем признать
в этом отклонении начало сублимации сексуальных
первичных позывов или же раздвинуть границы последних еще
более. Заторможенные в смысле цели сексуальные первичные
позывы имеют перед незаторможенными большое
функциональное преимущество, так как они, собственно говоря,
неспособны к полному удовлетворению; они особенно
пригодны для создания длительных связей, в то время как прямо
сексуальные при удовлетворении каждый раз теряют свою
энергию и должны ждать ее возобновления путем нового
накопления сексуального либидо, причем за это время может
произойти смена объекта. Заторможенные первичные позывы
способны к любой мере смешения с незаторможенными,
могут опять в них превратиться так же, как они от них изошли.
Известно, как легко из эмоциональных отношений
дружеского характера, основанных на признании и восхищении,
между учителем и ученицей, артистом и восхищенной
слушательницей, особенно у женщин, возникают эротические желания
(у Мольера: Embrasser — moi pour l'amour du Grec). Да,
возникновение таких, сначала непреднамеренных,
эмоциональных связей напрямик приводит к проторенной дорожке
сексуального выбора объекта. В статье «Frömmigkeit des Grafen
von Zinzendorf» Пфистер показал явный, конечно не
единичный, пример, как легко даже интенсивной религиозной связи
превратиться в пылкое сексуальное возбуждение. А с другой
стороны, и переход прямых, самих по себе
непродолжительных, сексуальных стремлений в прочную, чисто нежную связь
представляет собой нечто весьма обычное, и упрочение брака,
заключенного по влюбленной страсти, имеет большею частью
своей подосновой этот процесс.
Мы, конечно, не удивимся, если услышим, что
заторможенные в отношении цели сексуальные стремления
возникают из прямых сексуальных в тех случаях, когда к достижению
сексуальной цели имеются внутренние или внешние
препятствия. Вытеснение латентного периода есть такое
внутреннее — или лучше сказать: ставшее внутренним — препятст-
856
Психология масс и cuhliuj человеческого «Л»
вие. Относительно отца первобытной орды мы
предположили, что своей сексуальной нетерпимостью он принуждает всех
своих сыновей к воздержанию и этим путем толкает их к
заторможенным в отношении цели связям; за собой он
оставляет право свободного сексуального наслаждения и тем
самым остается несвязанным. Все связи, на которых основана
масса, имеют природу заторможенных в отношении цели
первичных позывов. Но этим самым мы приблизились к разбору
новой темы, которая обсуждает отношение прямых
сексуальных целей к массообразованию.
Г) Последние два замечания уже подготовили нас к
признанию, что прямые сексуальные стремления неблагоприятны
для массообразования. Правда, и в истории развития семьи
существовали массовые отношения сексуальной любви
(групповой брак), но чем важнее становилась для «Я» половая
любовь, чем больше развивалась в ней влюбленность, тем
настоятельнее эта любовь требовала своего ограничения двумя
лицами — una cum una,— ограничения, предписанного природой
генитальной цепи. Полигамические склонности были
вынуждены довольствоваться последовательной сменой объектов.
Оба лица, сходящиеся в целях сексуального
удовлетворения, ища уединения, демонстрируют протест против
стадного инстинкта, против чувства массовости, они ищут
одиночества. Чем больше они влюблены, тем менее они
нуждаются в ком-либо, помимо друг друга. Отказ от влияния
массы выражается в чувстве стыдливости. Крайне пылкое
чувство ревности возникает как охрана сексуального выбора
объекта от вторжения массовой связи. Только в том случае,
когда нежный, т.е. личный, фактор любовного отношения
совершенно стушевывается перед чувственным, возможно
любовное общение пары в присутствии других лиц или же,
наподобие оргии, одновременные сексуальные акты
внутри группы. Но это регресс к более раннему состоянию
половых отношений, при которых влюбленность еще не играла
никакой роли и все сексуальные объекты рассматривались
как равноценные. Примерно в духе злого выражения
Бернарда Шоу, что быть влюбленным — значит неподобающим
образом переоценивать разницу между одной женщиной
и другой.
857
Зигмунд ФРЕЙД
Имеется достаточно указаний, что в сексуальные
отношения между мужчиной и женщиной влюбленность вошла
лишь позже, так что соперничество между половой любовью
и массовыми связями также позднего развития. Теперь
может показаться, что это предположение не вяжется с нашим
мифом о прасемье; ведь предполагается, что толпу братьев
толкает на отцеубийство их любовь к матерям и сестрам; и
трудно представить себе эту любовь иначе, как цельной,
примитивной, т. е. как глубокое соединение нежной и
чувственной любви. Однако при дальнейшем размышлении это
возражение становится подтверждением. Одной из реакций на
отцеубийство было ведь установление тотемистической
экзогамии, запрещение каких бы то ни было сексуальных
отношений с женщинами семьи, которые были нежно любимы с
детства. Этим был загнан клин между нежными и
чувственными стремлениями мужчины, клин, и по сей день глубоко
внедрившийся в любовную жизнь мужчины. Вследствие этой
экзогамии чувственные потребности мужчин должны были
довольствоваться чужими и нелюбимыми женщинами.
В больших искусственных массах — Церкви и войске —
для женщин как сексуального объекта места нет. Любовные
отношения мужчины и женщины находятся за пределами
этих организаций. Даже там, где образуются массы
смешанные, состоящие из мужчин и из женщин, половое различие
не играет роли. Едва ли имеет смысл задавать вопрос о
гомосексуальной или гетеросексуальной природе либидо,
соединяющего массы, так как оно не дифференцируется по
полу и, что особенно важно, совершенно не предусматривает
целей генитальной организации либидо.
Для отдельного индивида, который в других отношениях
растворяется в массе, прямые сексуальные стремления все же
частично сохраняют какую-то индивидуальную деятельность.
Там, где они делаются господствующими, они каждую
массовую формацию разлагают. Католическая церковь имеет
обоснованные причины, когда рекомендует своим верующим
безбрачие и налагает целибат на своих священников; но
влюбленность часто толкала и священников на выход из Церкви.
Подобным же образом любовь к женщине преодолевает
массовые формации расы, национального обособления и соци-
858
Психология масс и üikliu.i человеческого «Я»
ального классового порядка и этим самым выполняет
культурно-важные задачи. По-видимому, можно быть уверенным,
что гомосексуальная любовь гораздо лучше согласуется с
массовой связью даже и в тех случаях, когда она проявляется как
прямое сексуальное стремление; факт примечательный,
объяснение которого завело бы нас очень далеко.
Психоаналитическое исследование психоневрозов учит нас,
что их симптомы следует выводить из прямых сексуальных
стремлений, которые были вытеснены, но остались активными.
Мы можем усовершенствовать эту формулировку, добавив:
или из таких заторможенных в смысле цели стремлений,
подавление которых полностью не удалось или же освободило
место для возврата к вытесненной сексуальной цели. С этим
условием согласуется и то, что невроз делает больного
асоциальным и удаляет его из обычных массовых формаций. Можно
сказать, что невроз действует на массу так же разлагающе, как
и влюбленность. Зато можно наблюдать, что там, где
произошел толчок к образованию массы, неврозы слабеют и, по
крайней мере на некоторое время, могут исчезнуть целиком. Вполне
оправданны попытки использовать это противоборство
между неврозом и массообразованием для терапевтических целей.
Даже те, кто не сожалеет об исчезновении в современном
культурном мире религиозных иллюзий, должны признать, что,
пока они были в силе, они служили наиболее эффективной
защитой от опасности невроза тем, кто был во власти этих
иллюзий. Нетрудно также распознать, что все связи с
религиозно-мистическими или философско-мистическими сектами
и объединениями являются выражением косвенного лечения
разнообразных неврозов. Все это связано с контрастом прямых
и заторможенных в смысле цели сексуальных стремлений.
Если невротик предоставлен самому себе, он вынужден
заменять собственным симптомообразованием те большие
массовые формации, из которых он исключен. Он создает
себе свой собственный фантастический мир, свою религию,
свою бредовую систему, повторяя таким образом
человеческие институции в искажении, которое отчетливо указывает
на ярчайшее участие прямых сексуальных стремлений.
Д) В заключение прибавим сравнительную оценку
рассмотренных нами состояний с точки зрения теории либидо,
859
Зигмунд Ф1ЧШД
а именно — состояния влюбленности, гипноза, массообразо-
вания и невроза.
Влюбленность зиждется на одновременном наличии
прямых и заторможенных в смысле цели сексуальных стремлений,
причем объект перетягивает на себя часть нарциссического
либидо «Я». Влюбленность вмещает только «Я» и объект.
Гипноз разделяет с влюбленностью ограничение этими
двумя лицами, но он основан исключительно на
заторможенных в смысле цели сексуальных стремлениях и ставит
объект на место «Я-идеала».
В массе этот процесс умножен; масса совпадает с
гипнозом в природе объединяющих ее первичных позывов и в
замене «Я-идеала» объектом, но сюда присоединяется
идентификация с другими индивидами, ставшая первоначально
возможной благодаря одинаковому отношению к объекту.
Оба состояния — как гипноз, так и массообразование —
являются наследственными осаждениями филогенеза
человеческого либидо — гипноз как предрасположение, а масса,
помимо этого, как прямой пережиток. Замена прямых
сексуальных стремлений стремлениями, в отношении цели
заторможенными, способствует в обоих отделению «Я» от «Я-идеала»,
чему уже дано начало в состоянии влюбленности.
Невроз из этого ряда выступает. И он основан на
особенности развития человеческого либидо — на прерванном
латентным периодом двойном начатке прямой сексуальной функции.
В этом отношении он имеет общий с гипнозом и массообразо-
ванием характер регресса, при влюбленности не
наличествующий. Невроз всегда возникает там, где не вполне удался
переход от прямых к заторможенным в смысле цели сексуальным
первичным позывам, соответствуя конфликту между
поглощенными «Я» первичными позывами, которые через такое
развитие прошли, и частицами тех же первичных позывов, что из
вытесненной бессознательной сферы — так же, как и другие
полностью вытесненные инстинктивные порывы, — стремятся
к своему прямому удовлетворению. Невроз необычайно богат
содержанием, ибо охватывает всевозможные отношения между
«Я» и объектом, как те, где объект сохранен, так и другие, в
которых он покинут или восстановлен в самом «Я», но точно так
же и конфликтные отношения между «Я» и его «Я-идеалом».
«Я» и «Оно»
Настоящее обсуждение продолжает ход мыслей, начатый
в моем труде «По ту сторону принципа наслаждения» в
1920 году1. Я сам, как там и упоминается, относился к
этому ходу мыслей с известным благожелательным
любопытством. Оно продолжает прежние мысли, связывает их с
различными фактами аналитического наблюдения и стремится
из этого соединения вывести новые заключения; но оно не
прибегает к новым заимствованиям у биологии и поэтому
ближе к психоанализу, чем мой труд «По ту сторону...». Оно
носит скорее характер синтеза, чем спекуляции, и ставит,
как кажется, перед собою высокую цель. Но я знаю, что
обсуждение это останавливается перед самым трудным, и я
с этим ограничением вполне согласен.
При этом данное обсуждение затрагивает вещи, до сих пор
предметом психоаналитической разработки еще не
являвшиеся, поэтому неизбежно оно задевает некоторые теории, которые
выдвигались непсихоаналитиками или же психоаналитиками,
от психоанализа отходившими. Вообще я всегда был готов
признать мои обязательства по отношению к другим
исследователям, но в данном случае я не чувствую себя отягченным долгом
благодарности. Если до сих пор психоанализ не отдавал
должного некоторым вещам, то это никогда не случалось не потому,
что он не замечал их заслуг или отрицал их значение, а потому,
что он следует определенному пути, который так далеко еще
не завел. Когда же наконец психоанализ к этой вехе подошел,
многое представляется ему в ином свете, чем другим.
1 Ges. Werke. Bd. XIII.
863
I
Сознание и бессознательное
В этом введении ничего нового сказать нельзя, и
повторение ранее сказанного неизбежно.
Разделение психики на сознательное и бессознательное
является основной предпосылкой психоанализа и дает ему
одному возможность понять в такой же мере частые, как
и важные, патологические процессы психической жизни и
причислить их к научным явлениям. Повторяю еще раз
другими словами: психоанализ не может считать сознательное
сутью психики, а должен смотреть на сознание как на
качество психики, которое может присоединиться к другим
качествам или может отсутствовать.
Если бы я мог себе представить, что интересующиеся
психологией прочтут этот труд, то я приготовился бы и к тому,
что уже тут часть читателей остановится и не пойдет дальше,
так как здесь первый шибболет (пароль) психоанализа. Для
большинства философски образованных людей идея
психики, которая к тому же и бессознательна, настолько
непонятна, что она кажется им абсурдной и отвергается простой
логикой. Мне думается, что причина этого заключается в том,
что они никогда не изучали соответствующих феноменов
гипноза и сновидения (не говоря уже о патологических
феноменах), делающих такое понимание обязательным. Но
выдвинутая ими психология сознания ведь и не способна
разрешить проблемы гипноза и сновидения.
«Быть сознательным» есть чисто описательный термин,
ссылающийся на наиболее непосредственные и наиболее на-
864
«Я» и Юно*
дежные восприятия. Но дальше опыт показывает нам, что
психический элемент, например представление, обычно не
осознается длительно. Напротив, характерно то, что
состояние осознанности быстро проходит; осознанное сейчас
представление в следующий момент делается неосознанным, но
при известных легко осуществимых условиях может снова
вернуться в сознание. И мы не знаем, чем оно было в
промежутках; мы можем сказать, что оно было латентно
(скрыто), и подразумеваем под этим, что оно в любой момент
было способно быть осознанным. Но и в том случае, если мы
скажем, что оно было бессознательным, мы даем правильное
описание. Это бессознательное совпадает тогда с латентной
способностью к осознанию. Правда, философы нам
возразили бы: нет, термин «бессознательное» здесь неприменим;
пока представление было в состоянии латентности, оно вообще
не было ничем психическим. Если бы мы уже тут начали
им возражать, то завязался бы спор, который бы никакой
пользы не принес.
Мы, однако, пришли к термину или понятию
бессознательного другим путем, а именно: обработкой опыта, в
котором играет роль психическая динамика. Мы узнали, т.е.
должны были признать, что есть очень сильные психические
процессы или представления (здесь, прежде всего, важен
количественный, значит, экономический момент), которые для
психической жизни могут иметь все те последствия, что и
прочие представления, в том числе и такие последствия,
которые могут быть вновь осознаны как представления, но они
сами не осознаются. Нет надобности подробно описывать
здесь то, что уже так часто излагалось. Короче говоря, тут
вступает в действие психоаналитическая теория и заявляет,
что такие представления не могут быть осознаны, так как
этому противится известная сила; что в иных случаях они
могли бы быть осознаны и тогда было бы видно, как мало
они отличаются от других, признанных психических
элементов. Эта теория становится неопровержимой ввиду того,
что в психоаналитической технике нашлись средства,
которыми можно прекратить действие сопротивляющейся силы
и сделать данные представления сознательными. Состояние,
в котором они находились до осознания, мы называем вы-
28-3518
865
Зигмунд ФРЕЙД
теснением, а силу, которая привела к вытеснению и его
поддерживала, мы ощущаем во время аналитической работы
как сопротивление.
Таким образом, мы приобретаем наше понятие
бессознательного из учения о вытеснении. Вытесненное является
для нас примером бессознательного; мы видим, однако, что
есть два вида бессознательного: латентное, но способное к
осознанию, и вытесненное — само по себе и без
дальнейшего неспособное к осознанию. Наше представление о
психической динамике не может не повлиять на номенклатуру
и описание. Мы называем латентное — бессознательное —
только в описательном, а не в динамическом смысле, пред-
сознательным названием бессознательного мы ограничиваем
только динамически бессознательно вытесненное и
получаем, таким образом, три термина: сознательное (СЗ), предсо-
знательное (ПСЗ) и бессознательное (БСЗ), смысл
которых — уже не чисто описательный. ПСЗ, как мы думаем,
гораздо ближе к СЗ, чем БСЗ, и так как БСЗ мы назвали
психическим, то тем увереннее отнесем это название к
латентному ПСЗ. Но не остаться ли нам лучше в добром
согласии с философами и не отделить ли ПСЗ и БСЗ, как
естественное следствие, от сознательно психического? Тогда
философы предложили бы нам описать ПСЗ и БСЗ как два
вида или две ступени психоидного, и согласие было бы
восстановлено. Но следствием этого были бы бесконечные
затруднения при описании, и единственно важный факт —
именно тот, что это психоидное почти во всех остальных
пунктах совпадает с признанно психическим, — был бы
оттеснен на задний план из-за предубеждения, которое
создалось в те времена, когда еще не знали о психоидном или
о самом в нем важном.
Теперь мы сможем манипулировать нашими тремя
терминами — СЗ, ПСЗ и БСЗ, если только не будем забывать,
что в описательном смысле имеется два вида
бессознательного, а в динамическом — только один. Для ряда целей
изложения мы можем опустить это деление, но для
других оно, конечно, необходимо. Мы все же к этому
двоякому значению бессознательного более или менее привыкли
и хорошо с ним уживались. Но уклониться от этой двой-
866
«Я» и Юно»
ственности, насколько я вижу, нельзя. Различение
сознательного и бессознательного является, в конце концов,
вопросом восприятия, на который можно ответить «да» и
«нет»; сам же акт восприятия не дает нам никаких сведений
о том, по какой причине что-то воспринимается или не
воспринимается. Нельзя жаловаться на то, что
динамическое в своем проявлении получает лишь двусмысленное
выражение1.
В дальнейшем ходе психоаналитической работы
выясняется, что и эти подразделения недостаточны и практически
1 Ср. «Bemerkungen über den Begriff des Unbcwussten» (Ges. Werke.
Bd. VIII). Здесь следует отметить недавнее изменение в критике
бессознательного. Многие исследователи, не отвергающие признания психоаналитических
фактов, но не соглашающиеся с существованием бессознательного, получают
сведения, опираясь на неоспоримый факт, что сознание как феномен содержит
в себе большой ряд ступеней интенсивности или отчетливости. Как есть
процессы, которые очень живы, резки и явно сознательны, так мы переживаем и
другие, лишь слабо, едва заметно осознаваемые: а слабее всего якобы
осознаются именно тс, которые психоанализ хочет назвать неподходящим словом
«бессознательные». Но они будто бы в то же время и осознаны или находятся
в сознании, и их можно сделать в полной мере осознанными, если им уделить
достаточно внимания. В той мерс, в какой на решение в таком вопросе,
зависящем или от традиций, или от эмоциональных моментов, можно повлиять
аргументацией, следует по этому поводу заметить следующее: указание на
шкалу отчетливости осознанности не содержит ничего обязательного и имеет не
больше доказательности, чем, например, аналогичные положения: есть столько
ступеней освещения, начиная от резкого, слепящего света и кончая слабыми
проблесками мерцания, что темноты, следовательно, вообще не существует,
или: есть различные степени витальности, значит, нет смерти. Эти положения,
быть может, в известном смысле и содержательны, но практически они
неприменимы, и это тотчас же обнаруживается, если выводить из них заключения,
например: значит, света зажигать не надо или, следовательно, вес организмы
бессмертны. А кроме того, приравниванием незамеченного к бессознательному
достигается лишь то, что отнимается единственная непосредственная
достоверность, вообще имеющаяся у психики. Сознание, о котором ничего не знаешь,
кажется мне все же много абсурднее, чем бессознательное психическое. И,
наконец, такое приравнивание незамеченного к бессознательному
производилось, очевидно, без учета динамических соотношений, которые для
психоаналитического понимания были решающими, ибо при этом не учтены два факта:
во-первых, что посвятить такому незамеченному достаточно внимания очень
трудно и требует большого напряжения; во-вторых, если это и достигнуто, то
ранее незамеченное теперь не узнается сознанием, а довольно часто кажется
ему совершенно чуждым, противоречащим и резко им отвергается. Обращение
бессознательного на малозамечснное и незамеченное исходит, следовательно,
только из предубеждения, для которого идентичность психического с
сознательным раз и навсегда установлена.
867
Зигмунд ФРЕЙД
неудовлетворительны. Среди возникающих ситуаций
отметим следующую как решающую: мы создали себе
представление о связной организации психических процессов в
личности и называем эту организацию «Я» личности. К
этому «Я» прикреплено сознание, оно владеет подступами к
двигательной сфере, т.е. к разрядке раздражений во
внешний мир. Это та психическая инстанция, которая
производит контроль над всеми своими частными процессами:
ночью она засыпает, но и тогда все еще управляет цензурой
сновидений. От этого «Я» исходят и вытеснения, при
помощи которых известные психические стремления должны
быть исключены не только из сознания, но и из других
видов значимости и действительности. Все это, устраненное
вытеснением, в анализе противостоит «Я», а анализу
ставится задача — уничтожить сопротивление, которое «Я»
проявляет к вниманию, уделяемому анализом
вытесненному. Во время анализа мы наблюдаем, что больной
испытывает затруднения, когда мы ставим ему известные задачи:
его ассоциации отказываются работать, когда они должны
приблизиться к вытесненному. В таком случае мы говорим
ему, что он находится под властью сопротивления, но
ничего об этом не знает; даже в том случае, когда он по
чувству своего неудовольствия угадал бы, что теперь в нем
действует сопротивление, то он не может его назвать или
на него указать. Но так как это сопротивление несомненно
исходит из его «Я» и является принадлежностью «Я», то
мы оказываемся в непредвиденной ситуации. В самом «Я»
мы нашли что-то, что тоже бессознательно и проявляет
себя точно так, как и вытесненное, т.е. оно сильно
воздействует, не будучи сознательным; для того чтобы сделать его
сознательным, нужна особая работа. Для аналитической
практики следствием этого опыта будет то, что мы попадем
в бесконечные неясности и затруднения, если захотим
придерживаться нашего обычного способа выражения и
захотим, например, привести невроз к конфликту между
сознательным и бессознательным. Вместо этого
противоположения мы, опираясь на наши представления о структурных
соотношениях психической жизни, вводим другое:
противоположность между связным «Я» и отколовшимся от него
868
«//» и Юно*
вытесненным1. Но следствия для нашего представления о
бессознательном еще значительнее. Динамическое
рассмотрение внесло первую поправку; структурное понимание
дает вторую. Мы видим, что БСЗ не совпадает с
вытесненным. Правильно, что все вытесненное — БСЗ, но в то же
время и не все БСЗ вытеснено. Так же и часть «Я» (один
Бог знает, какая важная часть!) может быть БСЗ, и
несомненно, и есть БСЗ. И это БСЗ не латентно в духе ПСЗ,
иначе его нельзя было бы активизировать, не делая СЗ, и
доведение его до осознанности не представляло бы таких
больших затруднений. Если мы поставлены перед
необходимостью выдвинуть третье — невытесненное БСЗ, то мы
должны признать, что значение характера неосознанности
для нас уменьшается. Он становится многозначным
качеством, не допускающим широких и исключительных выводов,
в целях которых мы бы его охотно использовали. Однако
мы должны остерегаться небрежного к нему отношения, так
как, в конце концов, это качество — сознательно или
бессознательно — является единственным светочем в потемках
глубинной психологии.
II
«Я» и «Оно»
Патологическое исследование слишком исключительным
образом концентрировало наш интерес на вытесненном. С тех
пор как мы знаем, что и «Я» может быть бессознательным в
собственном смысле слова, нам хотелось бы узнать о нем
больше. До сих пор в наших исследованиях единственным опорным
пунктом был признак сознательности или бессознательности; и,
наконец, мы увидели, насколько это может быть многозначным.
Все наше знание всегда связано с сознанием. Ведь и БСЗ
мы можем узнать только путем того, что делаем его
сознательным. Но как же это возможно? Что значит «сделать
что-то сознательным»? Как это происходит?
1 См.: «По ту сторону принципа наслаждения».
869
Зигмунд ФРЕЙД
Мы уже знаем, где нам искать для этого исходную точку.
Мы сказали, что сознание является поверхностью
психического аппарата, т.е. мы приписали его в качестве функции
одной системы, которая пространственно ближе всего
внешнему миру. Впрочем, пространственно не только в смысле
функции, но на этот раз и в смысле анатомического
расчленения1. Наше исследование тоже должно принять эту
воспринимающую поверхность за исходную точку.
Скажу заранее, что СЗ — все восприятия, приходящие
извне (чувственные восприятия) и изнутри, то, что мы
называем ощущениями и чувствами. Но как обстоит дело с
теми внутренними процессами, которые мы — вчерне и
неточно — можем обобщить как мыслительные процессы? Они
протекают где-то в глубине аппарата в виде смещений
психической энергии по пути к действию, но доходят ли они до
поверхности, которая даст возникнуть сознанию? Или
сознание доходит до них? Мы замечаем, что это — одно из тех
затруднений, появляющихся, когда хочешь взять всерьез
пространственное, топическое представление о психической
деятельности. Обе возможности одинаково немыслимы,
вероятно, правильно что-то третье.
В другом месте2 я уже высказал предположение, что
действительное различие между БСЗ и ПСЗ
представлениями заключается в том, что первое происходит на каком-
то материале, остающемся неизвестным, в то время как у
последнего (ПСЗ) добавляется соединение со словесными
представлениями. Этим впервые делается попытка придать
обеим системам, ПСЗ и БСЗ, отличительные знаки — иные,
чем отношение к сознанию. Вопрос: как что-то
осознается? — целесообразнее выражен следующим образом: как
что-то предсознается? И ответ был бы: путем связи с
соответствующими словесными представлениями.
Эти словесные представления являются остатками
воспоминаний — когда-то они были восприятиями и, как все
остатки воспоминаний, могут быть снова осознаны. Но
1 См.: «По ту сторону принципа наслаждения».
2 Das Unbewusstc // Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse. Bd. III,
1915 (Ges. Werke. Bd. X).
870
«//» и «Оно»
прежде, чем продолжать говорить о их природе, выскажем
новое, появившееся у нас представление: сознательным
может стать только то, что когда-то уже было СЗ восприятием
и что, помимо чувств изнутри, хочет стать сознательным;
оно должно сделать попытку превратиться во внешние
восприятия. Это делается возможным при помощи следов
воспоминаний.
Мы представляем себе, что остатки воспоминаний
содержатся в системах, непосредственно соприкасающихся с
системой В—СЗ1, так что их загрузки легко могут
распространиться изнутри на элементы этой системы. При этом тотчас
же приходят в голову галлюцинации и тот факт, что самое
живое воспоминание все же можно отличить как от
галлюцинации, так и от внешнего восприятия; но так же быстро
устанавливается суждение, что при оживлении
воспоминания загрузка сохраняется в воспоминательной системе, в то
время как неотличимая от восприятия галлюцинация может
возникнуть тогда, когда загрузка не только частично
переходит со следов воспоминаний на систему В—СЗ, но и
целиком на нее переходит.
Остатки слов происходят в основном от акустических
восприятий, так что этим дается одновременно особое
чувственное происхождение системы ПСЗ. Зрительные
составные части словесного представления можно пока оставить
без внимания, так как они вторичны и приобретены
чтением; то же касается зрительных образов слова, которые,
кроме как у слепых, играют роль подкрепляющих знаков. Ведь
слово, собственно говоря, — остаток воспоминания о
слышанном слове.
Мы не должны, для упрощения, например, забывать о
значении оптических остатков воспоминаний о вещах или
отрицать возможность осознания мыслительных процессов
при помощи возврата к зрительным остаткам (а это как
будто многими людьми предпочитается). Изучение сновидений
и предсознательных фантазий, по наблюдениям И. Фэрен-
донка, может дать нам представление о своеобразии этого
зрительного мышления. Мы узнаем, что при этом большей
См. выше.
871
Зигмунд ФРЕЙД
частью осознается только конкретный материал мысли, но
соотношениям, особо характеризующим мысль, нельзя дать
зрительного выражения. Итак, мышление образами лишь
весьма несовершенное осознание. Оно, кроме того, как-то
ближе к бессознательным процессам, чем мышление
словами, и, несомненно, онто- и филогенетически старше, чем
последнее.
Вернемся к нашей аргументации: если, следовательно,
таков путь, каким нечто, само по себе бессознательное,
делается предсознательным, то на вопрос, как что-то вытесненное
сделать предсознательным, следует ответить следующим
образом: нужно такие ПСЗ средние звенья восстановить
аналитической работой. Сознание остается, следовательно, на
своем месте, но и БСЗ не поднялось до СЗ.
В то время как отношение внешнего восприятия к «Я»
совершенно явно, отношение внутреннего восприятия к «Я»
требует особого исследования. Оно еще раз вызывает
сомнение, правильно ли мы поступаем, когда все сознание
относим к поверхностной системе В—СЗ.
Внутреннее восприятие дает ощущения процессов из
различнейших, конечно, и самых глубоких слоев психического
аппарата. Они мало известны — их лучшим примером
может еще послужить ряд наслаждение—неудовольствие. Они
непосредственнее и элементарнее, чем восприятия, идущие
извне, и могут возникнуть и в состоянии смутного сознания.
Об их большом экономическом значении и метапсихологи-
ческом его обосновании я уже высказался в другом месте.
Эти ощущения мультилокулярны, как и внешние
восприятия; они могут приходить одновременно из разных мест и
при этом могут иметь различные и даже противоположные
качества.
Ощущения с характером удовольствия не имеют в себе
ничего, настойчиво требующего, но, напротив, это качество
в высшей степени выявляется в ощущениях неудовольствия.
Эти последние требуют перемены, разрядки, и поэтому мы
толкуем неудовольствие как повышение, а удовольствие как
понижение загрузки энергией. Если в психическом процессе
мы назовем нечто осознаваемое как удовольствие или
неудовольствие количественно-качественно «другим», то воз-
872
*Я» и «Оно»
никает вопрос: может ли такое «другое» осознаваться на
месте или его надо довести до системы В—СЗ.
Клинический опыт останавливается на последнем. Он
показывает, что «другое» ведет себя так, как вытесненное
побуждение. Оно может развить движущие силы, причем
«Я» не заметит принуждения. Только сопротивление
принуждению, задержка в реакции разрядки тотчас дает
осознать это «другое» как неудовольствие. Так же, как и
напряжения, вызываемые потребностями, и боль может
оставаться чем-то средним между внешним и внутренним
восприятием; она проявляет себя как внутреннее
восприятие и в том случае, когда причины ее исходят из
внешнего мира. Таким образом, верно, что и ощущения и чувства
делаются сознательными только тогда, когда прибывают в
систему В—СЗ. Если переход прегражден, то они не
превращаются в ощущения, хотя в процессе раздражений
соответствующее им «другое» то же самое. Сокращенно и не совсем
правильно мы говорим тогда о бессознательных ощущениях
и удерживаем не вполне оправданную аналогию с
бессознательными представлениями. Разница заключается в том, что
для того, чтобы сделать БСЗ представление СЗ, надо
сначала создать для него соединительные звенья, а для
ощущений, передающихся непосредственно, это отпадает. Иными
словами, различие СЗ и ПСЗ для ощущений не имеет
смысла. ПСЗ здесь отпадает — ощущения или сознательны, или
бессознательны.
Теперь полностью выясняется роль словесных
представлений. При их посредстве внутренние мыслительные
процессы становятся восприятиями. Кажется, будто доказывается
положение: все знание исходит из внешнего восприятия. При
перегрузке мышления мысли действительно
воспринимаются как бы извне и поэтому считаются верными.
После этого выяснения соотношений между внешним и
внутренним восприятием и поверхностной системой В—СЗ
мы можем приступить к выработке нашего представления
о «Я». Мы видим, что оно исходит из В—СЗ как своего
ядра и затем охватывает ПСЗ, опирающееся на остатки
воспоминаний. Но и «Я», как мы узнали, тоже
бессознательно.
873
Зигмунд ФРЕЙД
Мне думается, что будет очень полезно последовать за
мыслями автора, который тщетно, из личных мотивов,
уверяет, что не имеет ничего общего со строгой высокой
наукой. Я имею в виду Г. Гроддека, постоянно
подчеркивающего, что то, что мы называем нашим «Я», в основном
ведет себя в жизни пассивно и что нас, по его выражению,
изживают незнакомые, не поддающиеся подчинению силы1.
У нас впечатления те же, хотя они и не подчинили нас
себе настолько, чтобы мы исключили все остальное; мы
готовы предоставить выводам Гроддека надлежащее место
в архитектуре науки. Предлагаю отдать должное его
идеям следующим образом: назовем «Я» существо, исходящее
из системы В—СЗ и сначала являющееся ПСЗ; все
остальное психическое, в котором оно себя продолжает и которое
проявляется как БСЗ, назовем, по обозначению Гроддека,
«Оно»2.
Мы скоро увидим, можно ли из этого представления
извлечь пользу для описания и понимания. Теперь индивид
для нас — психическое «Оно», неузнанное и
бессознательное, на котором поверхностно покоится «Я», развитое из
системы В—СЗ как ядра. Если изобразить это фафически, то
следует прибавить, что «Я» не целиком охватывает «Оно», а
только постольку, поскольку система В — СЗ образует его
поверхность, т. е. примерно так, как пластинка зародыша
покоится на яйце. «Я» не четко отделено от «Оно», книзу оно
с ним сливается.
Но и вытесненное сливается с «Оно» — оно является
лишь его частью. Вытесненное только от «Я» резко
отграничено сопротивлениями вытеснения; при помощи «Оно»
оно может с ним сообщаться. Мы тотчас распознаем, что все
подразделения, описанные нами по почину патологии,
относятся к только нам и известным поверхностным слоям
психического аппарата. Эти соотношения мы могли бы
изобразить в виде рисунка, контуры которого, конечно, только и
1 Groddeck G. Das Buch vom Es. Internationale Psychoanalytischer Verlag.
1923.
2 Сам Гролдск, вероятно, последовал примеру Ницше, который постоянно
употребляет это грамматическое выражение для обозначения безличного и, так
сказать, приролно-необходимого в нашем существе.
874
«//'> и Юно*
представляют собой изображение и не должны претендовать
на особое истолкование.
Прибавим еще, что «Я» имеет слуховой колпак, причем,
по свидетельству анатомов, только на одной стороне. Он,
так сказать, криво надет на «Я». Легко убедиться в том, что
«Я» является измененной частью «Оно». Изменение
произошло вследствие прямого влияния внешнего мира при
посредстве В—СЗ. «Я» — до известной степени
продолжение дифференциации поверхности. Оно стремится также
применить на деле влияние внешнего мира и его намерений
и старается принцип наслаждения, неограниченно царящий
в «Оно», заменить принципом реальности. Восприятие для
«Я» играет ту роль, какую в «Оно» занимает инстинкт. «Я»
представляет то, что можно назвать рассудком и
осмотрительностью. «Оно», напротив, содержит страсти. Все это
совпадает с общеизвестными популярными делениями, но
его следует понимать лишь как среднее или в идеале
правильное.
Функциональная важность «Я» выражается в том, что в
нормальных случаях оно владеет подступами к
подвижности. В своем отношении к «Оно» оно похоже на всадника,
который должен обуздать превосходящего его по силе коня;
разница в том, что всадник пытается сделать это
собственными силами, а «Я» — заимствованными. Если всадник не
хочет расстаться с конем, то ему не остается ничего другого,
как вести коня туда, куда конь хочет; так и «Я» превращает
волю «Оно» в действие, как будто бы это была его
собственная воля.
На возникновение «Я» и его отделение от «Оно», кроме
влияния системы В—СЗ, по-видимому, повлиял и еще один
момент. Собственное тело и, прежде всего, его поверхность
являются тем местом, из которого одновременно могут
исходить внешние и внутренние восприятия. Оно
рассматривается как другой объект, но на ощупывание реагирует
двумя видами ощущений, из которых одно можно приравнять
к внутреннему восприятию. В психофизиологии достаточно
объяснялось, каким образом собственное тело вьщеляет себя
из мира восприятий. Боль, по-видимому, тоже играет роль,
а способ, каким при болезненных заболеваниях приобрета-
875
Зигмунд ФРЕЙД
ется новое знание о своих органах, может, вероятно,
служить примером способа, каким человек вообще приобретает
представление о собственном теле.
«Я» прежде всего телесно; оно не только поверхностное
существо, но и само — проекция поверхности. Если искать
для него анатомическую аналогию, то легче всего
идентифицировать его с «мозговым человечком» анатома,
полагающего, что этот человечек стоит в мозговой коре на голове;
пятки у него торчат вверх, смотрит он назад, а на его левой
стороне, как известно, находится зона речи.
Отношение «Я» к сознанию разбиралось неоднократно,
но здесь следует заново описать некоторые важные факты.
Мы привыкли везде применять социальную и этическую
оценки и поэтому не удивимся, если услышим, что
деятельность низших страстей протекает в бессознательном; но мы
ожидаем, что психические функции получают доступ к
сознанию тем легче, чем выше они оцениваются с этой точки
зрения. Но здесь нас разочаруют данные
психоаналитического опыта. С одной стороны, у нас есть доказательства, что
даже тонкая и трудная интеллектуальная работа, обычно
требующая напряженного размышления, может совершаться и
бессознательно, не доходя до сознания. Эти факты
несомненны; они случаются, например, в период сна и выражаются
в том, что известное лицо непосредственно после
пробуждения знает ответ на трудную математическую или другую
проблему, над решением которой оно напрасно трудилось днем
раньше.
Но гораздо более смущают нас другие данные нашего
ответа: из наших анализов мы узнаем, что есть лица, у
которых самокритика и совесть, т. е. психическая работа с
безусловно высокой оценкой, являются бессознательными и,
будучи бессознательными, производят чрезвычайно важное
воздействие; таким образом, продолжающаяся
бессознательность сопротивления при анализе отнюдь не единственная
ситуация такого рода. Но новый опыт, несмотря на наше
лучшее критическое понимание заставляющий нас говорить
о бессознательном чувстве вины, смущает нас гораздо
больше и ставит нас перед новыми загадками, особенно когда мы
постепенно начинаем догадываться, что такое бессознатель-
876
<*//>> и «Оно»
ное чувство вины экономически играет решающую роль в
большом числе неврозов и сильнейшим образом
препятствует излечению. Если вернуться к нашей шкале ценностей,
то мы должны сказать: в «Я» не только самое глубокое, но
и самое высокое может быть бессознательным. Кажется,
будто нам таким способом демонстрируется то, что мы
раньше высказали о сознательном «Я», а именно: что оно,
прежде всего, телесное «Я».
III
«Я» и «сверх-Я» («идеал Я»)
Если бы «Я» было только частью «Оно»,
модифицированным влиянием системы восприятий — представителем
реального внешнего мира в психике, то мы имели бы дело
с простым положением вещей. Добавляется, однако, еще
нечто другое.
Мотивы, побудившие нас предположить в «Я» еще одну
ступень — дифференциацию внутри самого «Я» — и назвать
эту ступень «идеалом Я» («Я-идеалом») или «Сверх-Я»,
разъяснены в других местах1. Эти мотивы обоснованные2.
Новостью, требующей объяснения, является то, что эта часть
«Я» менее тесно связана с сознанием.
Здесь мы должны несколько расширить пояснения. Нам
удалось разъяснить болезненные страдания меланхолии
предположением, что в «Я» снова восстанавливается потерянный
объект, т.е. что загрузка объектом сменяется
идентификацией3. Но тогда мы еще не вполне поняли полное значение
этого процесса и не знали, насколько он част и типичен. Позд-
1 Zur Einführung des Narzßimus; Massenpsychologie und Ich-Analyse (Ges.
Werke. Bd. X und XIII).
2 Только то, что функцию проверки реальности я приписал этому «Сверх-
Я», кажется ошибочным и нуждается в коррективах. Отношениям «Я* к миру
восприятий, несомненно, соответствовало бы, если бы проверка реальности
оставалась его собственной задачей. Также и прежние, довольно
неопределенные высказывания о ядре «Я» должны теперь быть исправлены в том смысле,
что только систему В—СЗ можно назвать ядром «Я*.
3 Trauer und Melancholie (Ges. Werke. Bd. X).
877
Зигмунд ФРЕЙД
нее мы поняли, что такая замена играет большую роль в
оформлении «Я» и значительно способствует становлению
того, что называют своим характером.
Первоначально в примитивной оральной фазе индивида,
вероятно, нельзя отличить загрузку объектом от
идентификации. В дальнейшем можно только предположить, что
загрузки объектом исходят от «Оно», для которого
эротические стремления являются потребностями. «Я», вначале еще
слабоватое, получает сведения о загрузках объектом,
соглашается с ними или противится им процессом
сопротивления1.
Если такой сексуальный объект нужно или должно
покинуть, то для этого нередко происходит изменение «Я»,
которое, как и в меланхолии, следует описать как восстановление
объекта в «Я». Более подробные условия этой замены нам
еще неизвестны. Может быть, «Я» облегчает или делает
возможным отдачу объекта при помощи этой интроекции,
представляющей собой род регресса к механизму оральной фазы.
Может быть, эта идентификация и вообще является
условием, при котором «Оно» покидает свои объекты. Во всяком
случае, этот процесс — особенно в ранних фазах развития —
очень част и дает возможности представлению, что характер
«Я» является осадком покинутых загрузок объектом, т. е.
содержит историю этих выборов объекта. Поскольку характер
какой-нибудь личности отвергает или воспринимает эти
влияния из истории эротических выборов объекта, то надо,
конечно, с самого начала признать шкалу сопротивляемости.
У женщин с большим любовным опытом можно,
по-видимому, легко доказать в чертах характера остатки из загрузок
объектом. Следует принять во внимание и одновременность
загрузки объектом и идентификации, т.е. изменение
характера в момент, когда объект еще не покинут. В этом случае
1 Интересную параллель к замене объекта представляет собой вера
примитивного человека в то, что свойства съеденного животного переходят к тому,
кто его съел. Интересны и основанные на этом запреты. Как известно, эта вера
участвует и в обосновании каннибализма и продолжает свое действие во всем
ряде обычаев тотемической трапезы вплоть до Причастия. Следствия, которые
приписываются здесь оральному овладению объектом, действительны и для
позднейшего сексуального выбора объекта и прекрасно с ним совпадают.
878
«Я» и *0по»
изменение характера по длительности могло бы пережить
отношение к объекту и в известном смысле это отношение
консервировать.
Другая точка зрения устанавливает, что это превращение
эротического выбора объекта в изменение «Я» является и
тем путем, каким «Я» может овладеть «Оно» и может
углубить свои к нему отношения; правда, это совершается за
счет широкой податливости к его переживаниям. Если «Я»
принимает черты объекта, то оно само, так сказать,
напрашивается в объект любви для «Оно»; оно стремится
возместить ему его потерю и говорит: «Посмотри-ка, ты можешь
полюбить и меня, ведь я так похоже на объект».
Происходящее здесь превращение либидо объекта в
либидо нарциссич^ского характера очевидно приводит к
отходу от сексуальных целей — к десексуализации, т. е. к своего
рода сублимации. Да, возникает вопрос, достойный более
подробного рассмотрения, а именно: не является ли это
общим путем к сублимации; не происходит ли всякая
сублимация при посредстве «Я», которое сначала превращает
сексуальное влечение к объекту в нарциссическое, чтобы затем,
может быть, поставить ему другую цель1. Позже мы
займемся вопросом, не повлияет ли это превращение и на судьбу
других первичных позывов, не поведет ли за собой распада,
например, различных слитых друг с другом первичных
позывов.
Мы теперь отвлекаемся от нашей цели, но нельзя не
остановиться еще раз на объектных идентификациях «Я». Если
таковые берут верх, делаются слишком многочисленными,
слишком сильными и неуживчивыми между собой, то можно
ожидать патологического результата. Дело может дойти до
расщепления «Я», причем отдельные идентификации путем
сопротивлений замыкаются друг от друга; может быть,
тайна случаев так называемой множественной личности
заключается в том, что отдельные идентификации, сменяясь, овла-
1 Согласно смыслу «Введения в нарциссизм», мы теперь, после отделения
«Я» от «Оно», должны признать «Оно*- большим резервуаром либидо. Либидо,
притекая к «Я» путем описанных идентификаций, создает его «вторичный
нарциссизм».
879
Зигмунд ФРЕЙД
девают сознанием. Если дело даже и не заходит так далеко,
все же создается тема конфликтов между отдельными
идентификациями, на которые раскалывается «Я»; конфликты
эти, в конце концов, не всегда могут быть названы
патологическими.
В какую бы форму ни вылилось дальнейшее
сопротивление характера влияниям покинутых объектом загрузок, все
же воздействие первых идентификаций, происходивших в
самые ранние годы, будет общим и длительным. Это
возвращает нас к возникновению «идеала Я», так как за ним
кроется первая и самая значительная идентификация индивида,
а именно идентификация с отцом личного правремени \ Она,
по-видимому, не результат или исход загрузки объектом;
это — идентификация прямая и непосредственная, и по
времени она раньше любой загрузки объектом. Но выборы
объекта, протекающие в первый сексуальный период и
относящиеся к отцу и матери, по-видимому, нормально
завершаются такой идентификацией и, таким образом, усиливают
первичную идентификацию.
Эти соотношения все же настолько сложны, что
необходимо описать их подробнее. Два момента создают эту
сложность, а именно треугольная структура Эдипова комплекса
и бисексуальность конституции индивида.
Упрощенный случай принимает для ребенка мужского
пола следующий вид: уже в совсем ранние годы он
развивает в отношении матери загрузку объектом, которая
исходной точкой имеет материнскую грудь и является
образцовым примером выбора объекта по типу нахождения опоры,
отцом мальчик овладевает путем идентификации. Оба эти
отношения некоторое время идут параллельно; но затем,
вследствие усиления сексуальных желаний в отношении ма-
1 Может быть, осторожнее было бы сказать — с родителями, так как отец
и мать не расцениваются различно до того времени, пока не получается точное
знание о половом различии — отсутствии пениса. Из истории одной молодой
женщины я недавно узнал, что с тех пор, как она заметила у себя отсутствие
пениса, она полагала, что этого органа нет у женщин, но не у всех, а только у
тех, кого она считала неполноценными. У се матери он, по ее мнению,
сохранился. Для более простого изложения я рассмотрю лишь идентификацию с
отцом.
880
*//>> и Юпо>>
тери и сознания, что отец для этих желаний является
препятствием, возникает Эдипов комплекс1. Идентификация с
отцом принимает враждебную окраску, обращается в
желание его устранить, чтобы занять его место у матери. С этого
момента отношение к отцу амбивалентно; кажется, что
амбивалентность, с самого начала имевшаяся в
идентификации, теперь становится явной. Амбивалентная установка к
отцу и только нежное объектное стремление к матери
являются для мальчика содержанием простого позитивного
Эдипова комплекса.
При разрушении Эдипова комплекса загрузка объектом-
матерью должна быть покинута. Вместо нее могут
возникнуть два случая: или идентификация с матерью, или
усиление идентификации с отцом. Последний случай мы считаем
более нормальным, так как он позволяет сохранить в
известной степени нежное отношение к матери. Гибель Эдипова
комплекса укрепила бы, таким образом, мужественность в
характере мальчика. Эдипова установка маленькой
девочки совсем аналогичным образом может окончиться
усилением идентификации себя с матерью (или созданием такой
идентификации), и это установит женственный характер
ребенка.
Эти идентификации не оправдывают наших ожиданий,
так как они не вводят в «Я» покинутого объекта; но бывает
и такой исход, и у девочек он наблюдается чаще, чем у
мальчиков. Очень часто из анализа узнаешь, что после того как
пришлось отказаться от отца как объекта любви, маленькая
девочка развивает в себе мужественность и идентифицирует
себя уже не с матерью, а с отцом, т. е. потерянным объектом.
Очевидно, все зависит от того, достаточно ли сильны ее
мужские свойства, в чем бы они ни состояли.
По-видимому, исход Эдипова комплекса в
идентификации с отцом или матерью у обоих полов зависит от
относительной силы свойств того или другого пола. Это — один
из видов, какими бисексуальность вторгается в судьбы
Эдипова комплекса. Другой вид еще важнее. Получается
впечатление, что простой Эдипов комплекс — вообще не самое
Ср.: Massenpsychologie und Ich-Analyse, VII.
881
Зигмунд ФРЕЙД
частое явление; он, скорее, соответствует упрощению или
схематизации, которая достаточно часто оправдывается на
практике. Более подробное исследование обнаруживает
чаще всего более полный Эдипов комплекс, который
является двояким — позитивным и негативным, в зависимости от
бисексуальности ребенка, т.е. у мальчика — не только
амбивалентная установка к отцу и нежный выбор
объекта-матери, но одновременно он и ведет себя как девочка —
проявляет нежную женственную установку к отцу и
соответствующую ей, ревниво-враждебную, к матери. Это участие
бисексуальности очень мешает рассмотреть условия
примитивных выборов объекта и еще больше затрудняет их ясное
описание. Возможно, что и амбивалентность,
констатированную в отношении к родителям, следовало бы безусловно
отнести к бисексуальности, а не к развитию из
идентификации вследствие установки соперничества, как я это
изложил ранее.
Мне думается, что будет целесообразным принять
существование полного Эдипова комплекса и вообще, и особенно
у невротиков. Аналитический опыт показывает тогда, что в
некотором количестве случаев часть комплекса исчезает до
едва заметного следа; тогда получается ряд, на одном конце
которого находится нормальный позитивный, а на другом —
обратный, негативный Эдипов комплекс; средние же звенья
выявляют совершенную форму с неравным участием
обоих компонентов. При гибели Эдипова комплекса четыре
содержащиеся в нем стремления сложатся таким образом, что
из них получится идентификация с отцом и
идентификация с матерью; идентификация с отцом удержит объект-
мать позитивного комплекса и одновременно объект-отца
обратного комплекса; аналогичное явление имеет место при
идентификации с матерью. В различной силе выражения
обеих идентификаций отразится неравенство обоих половых
данных.
Таким образом, можно предположить, что самым
общим результатом сексуальной фазы, находящейся во власти
Эдипова комплекса, является возникновение в «Я» указанных
двух, как-то между собою связанных идентификаций. Это
изменение «Я»- сохраняет свое особое положение, оно про-
882
«Я>> и Юно»
тивостоит другому содержанию «Я» как «идеал Я» или
«Сверх-Я».
Но «Сверх-Я» — не просто осадок первых выборов
объекта, производимых «Оно»; «Сверх-Я» имеет и значение
энергичного образования реакций против них. Его
отношение к «Я» не исчерпывается напоминанием: таким (как отец)
ты должен быть, но включает и запрет: таким (как отец) ты
не имеешь права быть, ты не можешь делать все, что делает
он, на многое только он имеет право. Это двойное лицо
«идеал Я» проистекает из факта, что «идеалу Я» пришлось
трудиться над вытеснением Эдипова комплекса, более того, что
само оно и возникло далее в результате этого перелома.
Вытеснение Эдипова комплекса было, очевидно, нелегкой
задачей. Так как родители, особенно отец, признаются
препятствием для осуществления Эдиповых желаний, то
инфантильное «Я» укрепилось для этой работы вытеснения, создав это
же самое препятствие. Оно в некотором роде заимствовало
для этого силу от отца, и это заимствование есть акт с
исключительно серьезными последствиями. «Сверх-Я»
сохранит характер отца, и чем сильнее был Эдипов комплекс, чем
быстрее (под влиянием авторитета, религиозного учения,
обучения и чтения) произошло его вытеснение, тем
строже «Сверх-Я» будет позже царить над «Я» как совесть, а
может быть, как бессознательное чувство вины. Позже я
изложу предположение, откуда оно получает силу для этого
господства, этот принудительный характер, проявляющий
себя как категорический императив.
Если мы еще раз рассмотрим описанное нами
возникновение «Сверх-Я», то мы признаем его результатом двух, в
высшей степени значительных биологических факторов, а
именно: длительной детской беспомощности и зависимости
человека и факта наличия его, Эдипова комплекса, который
мы ведь объяснили перерывом в развитии либидо,
вызванным латентным временем, т. е. двумя — с перерывом между
ними — началами его сексуальной жизни. Последнюю, как
кажется, — специфически человеческую — особенность
психоаналитическая гипотеза представила наследием развития
в направлении культуры, насильственно вызванным
ледниковым периодом. Таким образом, отделение «Сверх-Я» от
883
Зигмунд ФРЕЙД
«Я» не является чем-то случайным: оно отображает самые
значительные черты развития индивида и развития вида, а
кроме того, создает устойчивое выражение влияния
родителей, т.е. увековечивает те моменты, которым оно само
обязано своим происхождением.
Психоанализ постоянно упрекали в том, что он не
озабочен высоким, моральным, сверхличным в человеке. Этот
упрек был вдвойне несправедлив — и исторически, и
методически: во-первых, потому, что моральным и эстетическим
тенденциям в «Я» с самого начала был приписан импульс
к вытеснению; во-вторых, потому, что никто не хотел
понять, что психоаналитическое исследование не могло
выступать в виде философской системы с законченным и
готовым сводом научных положений, а должно было шаг за
шагом пробивать себе дорогу к пониманию психических
сложностей путем аналитического расчленения нормальных
и анормальных феноменов. Нам не нужно было
присоединяться к трусливой озабоченности о наличии в человеке
высшего, пока мы должны были заниматься изучением
вытесненного в психической жизни. А теперь, когда мы
осмеливаемся приступить к анализу «Я», мы можем дать
следующий ответ всем тем, кто был поколеблен в своем
этическом сознании и жаловался, что ведь должно же быть в
человеке высшее существо! — мы отвечаем им: конечно,
и вот это и есть высшее существо — это «идеал Я» или
«Сверх-Я» — репрезентация нашего отношения к
родителям. Мы знали эти высшие существа, когда были
маленькими детьми, мы ими восхищались и их боялись, а позднее
восприняли их в себя.
Таким образом, «идеал Я» является наследием Эдипова
комплекса и, следовательно, выражением наиболее мощных
движений и наиболее важных судеб либидо в «Оно».
Вследствие установления «идеала Я» «Я» овладело Эдиповым
комплексом и одновременно само себя подчинило «Оно».
В то время как «Я» в основном является представителем
внешнего мира, реальности, «Сверх-Я» противостоит ему
как поверенный внутреннего мира, мира «Оно». Мы
теперь подготовлены к тому, что конфликты между «Я» и
идеалом будут в конечном итоге отражать противополож-
884
</Я>> и Юно»
ность реального и психического, внешнего мира и мира
внутреннего.
То, что биология и судьбы человеческого вида создали
и оставили в «Оно», путем образования идеала передается
в «Я» и вновь индивидуально в нем переживается. «Идеал
Я», вследствие истории своего образования, имеет самую
обширную связь с филогенетическим приобретением —
архаическим наследием отдельного человека. То, что в
отдельной психической жизни было самым глубоким, становится
путем создания идеала наивысшим в человеческой душе,
соответственно нашей шкале оценок. Было бы напрасным
трудом хотя бы приблизительно локализовать «идеал Я» так,
как мы локализуем «Я», или же поместить его в одно из тех
сравнений, какими мы пытались изобразить отношения «Я»
и «Оно».
Легко показать, что «идеал Я» удовлетворяет всем
требованиям, которые предъявляются к высшему существу
в человеке. Как замену тоски по отцу, он содержит
зародыш, из которого образовались все религии. Суждение о
собственной недостаточности при сравнении «Я» с его
идеалом вызывает смиренное религиозное ощущение, на
которое ссылается исполненный страстью томления
верующий. В ходе дальнейшего развития учителя и
авторитеты продолжали роль отца; их заповеди и запреты
остались действенно мощными в «идеале Я» и выполняют
теперь в виде совести моральную цензуру. Напряжение
между требованиями совести и достижениями «Я»
ощущается как чувство вины. Социальные чувства основываются
на идентификации себя с другими на почве одинакового
«идеала Я».
Религия, мораль и социальное чувство — эти главные
содержания высшего в человеке1 — первоначально составляли
одно целое. По гипотезе, изложенной в «Тотеме и табу», они
филогенетически приобретались в отцовском комплексе;
религия и моральное ограничение — путем преодоления
прямого Эдипова комплекса; социальные же чувства вышли из
необходимости побороть соперничество, оставшееся между
Наука и искусство во внимание тут не приняты.
885
Зигмунд ФРЕЙД
членами молодого поколения. Во всех этих этических
приобретениях мужской пол шел, по-видимому, впереди; но
скрещенная наследственность сделала их и достоянием
женщин. У отдельного человека еще и в наше время социальные
чувства возникают как надстройка над ревнивым
соперничеством между сестрами и братьями. Так как враждебность
нельзя изжить, то создается идентификация с прежним
соперником. Наблюдения над умеренными гомосексуалистами
поддерживают предположение, что и эта идентификация
является заменой нежного выбора объекта, пришедшего на
смену агрессивно-враждебной установке1.
Но с упоминанием филогенеза появляются новые
проблемы, от разрешения которых хотелось бы робко
уклониться. Однако ничего не поделаешь, надо попытаться, даже если
и боишься, что это обнаружит неудовлетворительность всех
наших усилий. Вопрос таков: что в свое время приобрело
религию и нравственность от отцовского комплекса — «Я»
примитивного человека или его «Оно»? Если это было «Я»,
то почему мы не говорим, что оно просто все это
унаследовало? А если это было «Оно», то как это согласуется с
характером «Оно»? Может быть, дифференциацию на «Я»,
«Сверх-Я» и «Оно» нельзя переносить на такие давние
времена? Или надо просто честно сознаться, что все это
представление о процессах в «Я» ничего не дает для понимания
филогенеза и к нему неприменимо?
Ответим сначала на то, на что легче всего ответить.
Наличие дифференциации на «Я» и «Оно» мы должны
признать не только у примитивных людей, но и у гораздо более
простых живых существ, так как эта дифференциация
является необходимым выражением влияния внешнего мира. Мы
предположили, что «Сверх-Я» возникло именно из тех
переживаний, которые вели к тотемизму. Вопрос о том, кто
приобрел эти знания и достижения — «Я» или «Оно», — вскоре
отпадает сам собой. Дальнейшее соображение говорит нам,
что «Оно» не может пережить или испытать внешнюю
судьбу, кроме как через «Я», которое заменяет ему внешний мир.
1 Ср.: Massen psychologie und Ich-Analyse; Ueber einige neurotische
Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität (Ges. Werke. Bd. XIII).
886
«Я» и Юно»
Но о прямом наследовании в «Я» все же нельзя говорить.
Здесь раскрывается пропасть между реальным индивидом и
понятием вида. Нельзя также слишком неэластично
относиться к разнице между «Я» и «Оно»: нельзя забывать, что
«Я» является особенно дифференцированной частью «Оно».
Переживания «Я» кажутся сначала потерянными для
наследования, но если они часто и достаточно сильно повторяются
у многих следующих друг за другом поколений индивидов,
то они, так сказать, превращаются в переживания «Оно»,
впечатления которых закрепляются путем наследования.
Таким образом, наследственное «Оно» вмещает в себя остатки
бесчисленных жизней «Я», и когда «Я» черпает свое «Сверх-
Я» из «Оно», то оно, может быть, лишь восстанавливает
более старые образы «Я», осуществляет их воскрешение.
История возникновения «Сверх-Я» делает понятным, что
ранние конфликты «Я» с объективными загрузками «Оно»
могут продолжаться в виде конфликтов с их наследником —
«Сверх-Я». Если «Я» плохо удается преодоление Эдипова
комплекса, то его загрузка энергией, идущая от «Оно», вновь
проявится в образовании реакций «идеала Я». Обширная
связь этого идеала с этими БСЗ первичными позывами
разрешит ту загадку, что сам идеал может большей частью
оставаться неосознанным, для «Я» недоступным. Борьба,
бушевавшая в более глубоких слоях и не прекратившаяся
путем быстрой сублимации и идентификации, как на картине
Каульбаха «Битва гуннов», продолжается в сфере более
высокой.
IV
Два вида первичных позывов
Мы уже сказали, что если наше деление психического
существа на «Оно», «Я» и «Сверх-Я» означает шаг вперед
в нашем представлении об этом психическом существе, то
это деление должно оказаться также и средством для более
глубокого понимания и лучшего описания динамических
соотношений психической жизни. Нам ясно и то, что «Я» на-
887
Зигмунд ФРЕЙД
ходится под особым влиянием восприятий и вчерне можно
сказать, что для «Я» восприятия имеют то же значение, как
инстинкты для «Оно». При этом «Я» подчинается действию
инстинктов так же, как «Оно»; «Я» ведь является лишь
особенно модифицированной частью «Оно».
О первичных позывах (увлечениях) я недавно уже
высказал свой взгляд («По ту сторону принципа
наслаждения»), которого буду и здесь придерживаться и который
ляжет в основу дальнейшего обсуждения. Я думаю, что
следует различать два вида первичных позывов, из которых
один — сексуальные инстинкты, или Эрос, — гораздо более
заметен и более доступен для изучения. Этот вид
охватывает не только непосредственный безудержный сексуальный
первичный позыв и исходящие от него целепрегражденные
и сублимированные движения первичного позыва, но и
инстинкт самосохранения, который мы должны приписать «Я».
В начале аналитической работы мы, по веским причинам,
противопоставляли этот инстинкт сексуальным первичным
позывам, направленным на объект. Гораздо труднее было
для нас определение второго вида первичных позывов. Мы
пришли к убеждению, что представителем его является
садизм. На основе теоретических, опирающихся на биологию
размышлений мы предположили наличие инстинкта смерти,
задачей которого является приводить все органически
живущее к состоянию безжизненности; в то же время Эрос
имеет целью осложнять жизнь все более широким
объединением рассеянных частиц живой субстанции — конечно, с
целью сохранить при этом жизнь. Оба первичных позыва
проявляют себя в строжайшем смысле консервативно,
стремясь к восстановлению состояния, нарушенного
возникновением жизни. Возникновение жизни было бы, таким
образом, причиной дальнейшего продолжения жизни и
одновременно и причиной стремления к смерти,— сама жизнь была
бы борьбой и компромиссом между этими двумя
стремлениями. Вопрос о происхождении жизни остался бы
космологическим, а на вопрос о цели и назначении жизни ответ
был бы дуалистическим.
Каждому из этих двух видов первичных позывов был бы
приписан особый физиологический процесс (рост и распад),
888
o}h и Юно*
и в каждой живой субстанции действовали бы оба
первичных позыва, но все же в неравных долях, чтобы одна
субстанция могла быть главным представителем Эроса.
Было бы совершенно невозможно представить себе,
каким образом оба первичных позыва соединяются,
смешиваются и сплавляются друг с другом; но что это происходит
регулярно и в значительных масштабах — является для нас
неопровержимой предпосылкой. В результате соединения
одноклеточных организмов в многоклеточные удалось бы
нейтрализовать инстинкт смерти отдельной клетки и при
помощи особого органа отвести разрушительные
склонности на внешний мир. Этим органом была бы мускулатура, и
инстинкт смерти — все-таки, вероятно, только частично —
выразился бы в виде разрушительного первичного позыва,
направленного на внешний мир и другие живые существа.
Если мы уже согласились с представлением о смешении
обоих видов первичных позывов, то напрашивается
возможность и другого представления, а именно возможность —
более или менее полного — распада их на первоначальные.
В садистском компоненте сексуального первичного позыва
мы имели бы тогда классический пример целесообразного
смешения первичных позывов, в ставшем самостоятельным
садизме, в качестве извращения, — пример такого распада,
правда, не дошедшего до крайности. Тогда нам открывается
понимание большой области фактов, которая еще не
рассматривалась в этом свете. Мы узнаем, что разрушительный
первичный позыв регулярно служит Эросу в целях
разгрузки, и догадываемся, что эпилептический припадок является
продуктом и признаком распада первичных позывов на
первоначальные; мы начинаем понимать, что в последствиях
многих тяжелых неврозов, например неврозов принуждения,
особого внимания заслуживает распад первичных позывов
смерти. Обобщая вкратце сказанное, нам хочется
предположить, что сущность регресса в либидо — например, от ге-
нитальной до садистско-анальной фазы — основывается на
распаде первичных позывов и, наоборот: развитие от ранней
к окончательной генитальной фазе имеет условием
увеличение эротических компонентов. Возникает и вопрос: не
следует ли понимать регулярную амбивалентность, которая так
889
Зигмунд ФРЕЙД
часто усилена при конституциональном предрасположении
к неврозу, как результат распада; он, однако, так
первоначален, что его, скорее, следует рассматривать как несовершив-
шееся смешение первичных позывов.
Наш интерес направится, конечно, на вопрос: нельзя ли
найти разъясняющие соотношения между принятыми нами
образованиями «Я», «Сверх-Я» и «Оно», с одной стороны,
и обоими видами первичных позывов, с другой стороны; и
далее — можем ли мы для принципа наслаждения,
господствующего над душевными процессами, установить твердую
позицию в отношении обоих первичных позывов и
психических дифференциаций. Но прежде чем приступить к
дискуссии, мы должны покончить с одним сомнением, которое
направлено против самой постановки проблемы. Правда, в
наличии принципа наслаждения нельзя сомневаться,
деление «Я» основано на клинических подтверждениях; но
распознавание обоих видов первичных позывов кажется
недостаточно твердо обеспеченным, и возможно, что факты
клинического анализа от своих требований откажутся.
Такой факт, как видно, существует. Как на
противоположность между обоими видами первичных позывов мы
можем указать на полярность любви и ненависти. Мы не
затрудняемся представлять Эрос, но зато очень довольны, что
для трудно определимого инстинкта смерти мы нашли
представителя в разрушительном инстинкте, которому указывает
путь ненависть. Однако клиническое наблюдение учит нас
тому, что ненависть не только неожиданным образом
постоянный спутник любви (амбивалентность), не только частый
ее предшественник в человеческих отношениях, но и что
ненависть при различных условиях превращается в любовь,
а любовь — в ненависть. Если это превращение больше, чем
лишь последовательность во времени, т. е. смена, то
очевидно не имеет под собой почвы такое основополагающее
различие, как различие между эротическими инстинктами и
инстинктами смерти, предполагающее противоположно
идущие физиологические процессы.
Но тот случай, когда одного и того же человека сначала
любят, а потом ненавидят, или наоборот, — если он дает к
этому поводы, — очевидно, не относится к нашей проблеме.
890
«/7» и *0но»
Не относится к ней и другой случай: когда еще не
проявленная влюбленность сначала выражает себя как
враждебность и склонность к агрессии, так как тут разрушительный
компонент при загрузке объектом мог предшествовать, а
затем к нему присоединяется компонент эротический. Но мы
знаем несколько случаев из психологии неврозов, в которых
факт превращения более возможен. При паранойе
преследования больной известным образом защищается от слишком
сильной гомосексуальной привязанности к определенному
лицу с тем результатом, что это чрезвычайно любимое
лицо становится преследователем, против которого направлена
часто опасная агрессия больного. Мы имеем право включить
соображение, что какая-то предшествующая фаза
превратила любовь в ненависть. Аналитическое исследование совсем
недавно пришло к выводу, что при возникновении
гомосексуальности, а также и десексуализированных сексуальных
чувств существуют сильные чувства соперничества, ведущие
к агрессии, и только после преодоления их ранее
ненавидимое лицо делается лицом любимым или предметом
идентификации. Возникает вопрос: можно ли считать этот случай
прямым превращением ненависти в любовь? Ведь здесь речь
идет о чисто внутренних изменениях, в которых
изменившееся поведение объекта не принимает участия. Но
аналитическое исследование процесса при параноидном превращении
знакомит нас с возможностью существования другого
механизма. С самого начала имеется амбивалентная установка, и
превращение совершается путем реактивного смещения
нагрузки объекта, причем у эротического чувства отнимается
энергия и передается энергии враждебной.
Не то же самое, но сходное происходит при
преодолении враждебного соперничества, ведущем к
гомосексуализму. Враждебная установка не имеет шансов на
удовлетворение, поэтому, следовательно, из экономических мотивов, она
сменяется любовной установкой, представляющей больший
шанс на удовлетворение, т. е. на возможность разрядки.
Отсюда ни для одного из этих случаев нам не приходится
принимать прямого превращения ненависти в любовь, которое
не согласовывалось бы с качественным различием обоих
видов первичных позывов.
891
Зигмунд ФРЕЙД
Но мы замечаем, что признанием этого другого
механизма превращения любви в ненависть мы молча сделали
другое предположение, которое заслуживает того, чтобы его
огласили. Мы действовали так, как будто в психической
жизни — еще неизвестно, в «Я» или в «Оно», — существует
способная к смещению энергия, сама по себе
индифферентная, которая может примкнуть к
качественно-дифференцированному эротическому или разрушительному импульсу
и его повысить. Мы вообще не можем обойтись без
предположения такой способной к смещениям энергии. Вопрос
лишь в том, откуда она берется, к чему принадлежит и что
означает.
Проблема качества первичных позывов и их сохранения
при различных судьбах первичных позывов еще очень
непроницаема и в настоящее время еще почти не разработана. На
частных сексуальных первичных позывах, особенно
доступных наблюдению, можно установить некоторые процессы,
входящие в те же рамки: например, то, что частные
первичные позывы до известной степени общаются друг с другом,
что один первичный позыв из особого эрогенного
источника может отдавать свою интенсивность для усиления
частного первичного позыва из другого источника, что
удовлетворение одного первичного позыва возмещает удовлетворение
другого и т. п., и все это дает нам смелость сделать
некоторого рода предположения.
В данной дискуссии я могу прибегнуть тоже лишь к
предположению, а не к доказательству. По-видимому,
приемлемо, что эта способная к смещению и индифферентная
энергия, действующая, вероятно, в «Я» и «Оно», имеет
источником запас либидо нарциссического характера, т.е.
представляет собой десексуализированный Эрос.
Эротические первичные позывы ведь и вообще кажутся нам более
пластичными, более способными к отвлечению и смещению,
чем разрушительные первичные позывы. Тогда можно без
натяжки предположить, что это способность либидо к
смещению работает на пользу принципа наслаждения, для
избежания заторов и облегчения разгрузок. При этом нельзя
не заметить известного безразличия к тому, каким путем
совершается разгрузка, — если только она вообще соверша-
892
*Я» и «Оно»
ется. Мы знаем, что эта черта характерна для процессов
загрузки в «Оно». Она имеется при эротических загрузках,
причем в отношении объекта развивается особое
равнодушие, в особенности при перенесениях в психоанализе,
которые должны быть произведены безразлично на каких
именно лиц. Ранк недавно привел прекрасные примеры того, что
невротические реакции мести направляются на
неправильное лицо. При этом проявлении бессознательного
вспоминается ставший комичным анекдот, как один из трех
деревенских портных должен был быть повешен, потому что
единственный в деревне кузнец совершил преступление,
караемое смертью. Наказание должно иметь место, даже если
наказан будет невиновный. Эту же шаткость мы впервые
заметили на смещениях первичного процесса в работе
сновидений. Как здесь объекты, так в интересующем нас случае
способы разгрузки будут приниматься во внимание лишь во
вторую очередь. В большем соответствии с «Я» было бы
настаивание на большей точности как выбора объекта, так
и способа разгрузки.
Если эта энергия смещения выражает десексуализиро-
ванность либидо, то ее можно назвать и сублимированной,
так как она все еще придерживалась бы главной цели
Эроса — соединять и связывать, служа установлению того
единства, которым — или стремлением к которому —
отличается «Я». Если мыслительные процессы в более широком
смысле мы включим в эти смещения, то, конечно, и
мыслительная работа совершается путем сублимации эротической
энергии.
Здесь мы снова находимся перед ранее упомянутой
возможностью, что сублимация регулярно происходит при
посредничестве «Я». Вспомним и другой случай, когда это «Я»
выполняет первые и, конечно, и более поздние загрузки
объектом «Оно» тем, что принимает в себя их либидо и
связывает с изменением «Я», вызванным идентификацией.
С этой перестройкой в либидо «Я» связан, конечно, отказ
от сексуальных целей — десексуализация. Во всяком случае,
так мы получаем представление о важной работе «Я» в его
отношении к Эросу. Тем, что таким способом «Я»
овладевает либидо объектных загрузок, объявляя себя объектом
893
Зигмунд ФРЕЙД
любви, десексуализирует или сублимирует либидо «Оно»,
«Я» работает против целей Эроса, начинает служить
вражеским первичным позывам. «Я» должно примириться с
другой частью объектной загрузки «Оно», должно, так сказать,
в ней участвовать. Позже мы разберем другое возможное
следствие этой деятельности «Я».
Теперь следовало бы предпринять новое, важное
истолкование учения о нарциссизме. Первоначально либидо
скапливается в «Оно», в то время как «Я» только еще начинает
образовываться или еще не окрепло. Одну часть либидо
«Оно» направляет на эротические объектные загрузки,
после чего окрепшее «Я» стремится овладеть этой частью
либидо и навязать себя «Оно» в качестве объекта любви.
Таким образом, нарциссизм «Я» является вторичным, от
объектов отвлеченным.
Мы все снова убеждаемся, что движения первичных
позывов, которые мы можем проследить, оказываются
отпрысками Эроса. Нам было бы трудно удержать основное
дуалистическое воззрение, если бы у нас не было соображений,
изложенных в «По ту сторону принципа наслаждения», и
наконец, садистских дополнений к Эросу. Но так как мы
вынуждены это сделать, то у нас должно создаться
впечатление, что инстинкты смерти в основном немы, а шум
жизни большей частью исходит от Эроса1.
А борьба против Эроса! Невозможно отклонить взгляд,
что принцип наслаждения служит для «Оно» компасом в
борьбе против либидо, что вносит в процесс жизни помехи.
Если в жизни господствует принцип константности в
духе Фехнера, которая, следовательно, должна была бы быть
скольжением в смерть, то требования Эроса, сексуальных
первичных позывов, являются тем, что в виде потребностей
первичных позывов задерживает снижение уровня и вносит
новые напряженности. От них разными способами
защищается «Оно», руководимое принципом наслаждения, т.е.
восприятием неудовольствия. Сначала путем по
возможности ускоренной уступчивости к требованиям либидо, т.е.
1 Ведь, по нашему пониманию, направленные наружу разрушительные ин
стинкты через посредство Эроса отвлеклись от собственного естества.
894
«//» и «Оно»
борьбой за удовлетворение прямых сексуальных
стремлений. И в гораздо большем масштабе, освобождаясь при
одном из таких удовлетворений, когда сливаются воедино все
разделенные требования, от сексуальных субстанций,
которые являются, так сказать, насыщенными носителями
эротических напряженностей. Извержение сексуальной материи
в сексуальном акте до известной степени соответствует
разделению сомы и зародышевой плазмы. Отсюда сходство
состояния после полного сексуального удовлетворения с
умиранием, а у низших животных — совпадение смерти с актом
зарождения. Эти существа умирают при размножении,
поскольку, после выключения Эроса путем удовлетворения,
инстинкт смерти получает полную свободу осуществления
своих намерений. Наконец, «Я», как мы слышали, облегчает
«Оно» работу преодоления, сублимируя часть либидо для
себя и своих целей.
V
Зависимости «Я*
Сложность материала пусть оправдает то, что ни один из
заголовков полностью не покрывает содержания главы и что
мы, приступая к изучению новых отношений, снова и снова
возвращаемся к нами уже выясненному.
Так, мы уже неоднократно повторяли, что «Я» по
большей части образуется из идентификаций, сменяющих
растворенные загрузки «Оно»; что первые из этих
идентификаций регулярно проявляют себя в «Я» как особая
инстанция, противопоставляют себя «Я» как «Сверх-Я», в то время
как окрепшее «Я» позднее может проявлять больше
устойчивости против таких влияний идентификации. «Сверх-Я»
обязано своим особым положением в «Я» — или по
отношению к «Я» — одному моменту, который следует
расценивать с двух сторон; во-первых, это первая
идентификация, которая произошла, пока «Я» было еще слабым, и,
во-вторых, оно является наследником Эдипова комплекса,
следовательно, внесло в «Я» самые грандиозные объекты.
895
Зигмунд ФРЕЙД
К позднейшим изменениям «Я» оно до известной степени
относится так, как первичная сексуальная фаза детства
относится к дальнейшей сексуальной жизни по достижении
половой зрелости. Хотя и доступное всем дальнейшим
влияниям, оно на всю жизнь сохраняет характер, полученный
им вследствие своего происхождения от Эдипова комплекса,
а именно: способность противопоставлять себя «Я» и
преодолевать его. Это памятник былой слабости и
зависимости «Я», продолжающий свое господство и над зрелым «Я».
Как ребенок был принужден слушаться своих родителей,
так и «Я» подчиняется категорическому императиву своего
«Сверх-Я».
Но происхождение от первых объектных загрузок «Оно»,
следовательно, — от Эдипова комплекса, означает для
«Сверх-Я» еще больше: это происхождение, как мы уже
объясняли, ставит его в связь с филогенетическими
приобретениями «Оно» и делает «Сверх-Я» перевоплощением
прежних образований «Я», оставивших свои следы в «Оно».
Таким образом, «Сверх-Я» всегда близко к «Оно» и может в
отношении «Я» быть его представителем. Оно глубоко
погружается в «Оно» и поэтому больше отдалено от сознания,
нежели «Я»1.
Эти соотношения мы оценим лучше всего, если
обратимся к известным клиническим фактам, которые давно уже не
являются новостью, но все еще ожидают теоретической
разработки.
Есть лица, очень странно ведущие себя во время
аналитической работы. Если им дают надежду и высказывают
удовлетворение успехом лечения, они кажутся
недовольными и регулярно ухудшают свое состояние. Сначала это
принимаешь за упрямство и старание доказать врачу свое
превосходство. Позднее приходишь к более глубокому и более
справедливому пониманию: убеждаешься не только в том,
что эти лица не переносят похвалы и признания, но и в том,
что на успехи лечения они реагируют обратным образом.
Каждое частичное разрешение проблемы, которое должно
1 Можно сказать, что психоаналитическое или метапсихологическос «Я»
так же стоит на голове, как и анатомическое — «мозговой человечек».
896
<*//* и Юно*
было бы иметь результатом улучшение или временное
выпадение симптомов — и у других его и вызывает, — у них
порождает немедленное усиление их страдания: их
состояние во время лечения ухудшается вместо того, чтобы
улучшаться. Они проявляют так называемую негативную
терапевтическую реакцию.
Нет сомнения, что что-то в них противится
выздоровлению, что его приближения боятся так, как боятся опасности.
Говорят, что у таких лиц преобладает не воля к
выздоровлению, а потребность болезни. Если анализировать это
сопротивление обычным образом, исключить из него упрямое
отношение к врачу и фиксацию на формах хода болезни, то
все же большая часть еще остается и оказывается
сильнейшим препятствием для выздоровления; это препятствие
сильнее, чем нам уже известная нарциссическая
недоступность, негативная установка по отношению к врачу или
нежелание расстаться с болезнью. В конце концов мы
приходим к убеждению, что корень надо искать, так сказать, в
«моральном» факте — в чувстве вины, которое находит
удовлетворение в болезни и не хочет отрешиться от наказания
в виде страданий. На этом малоутешительном объяснении
можно окончательно остановиться. Но это чувство вины у
больного молчит, оно не говорит ему, что он виноват, он
чувствует себя не виновным, а больным. Это чувство вины
проявляется лишь в виде трудно редуцируемого
сопротивления собственному исцелению. Кроме того, особенно
трудно убедить больного, что это и есть мотив, почему его
болезнь продолжается; он будет держаться более понятного
объяснения, что психоанализ — не то средство, которое
могло бы ему помочь1.
1 Аналитику борьба с препятствием бессознательного чувства виновности
нелегка. Прямо с ним бороться нельзя, а косвенным образом — только так, что
больному медленно раскрывают его бессознательно вытесненные обоснования,
причем чувство вины постепенно превращается в сознательное чувство
виновности. Мы имеем особенно большой шанс на влияние, если это БСЗ чувство
вины заимствовано, т. с. является следствием идентификации с другим лицом,
которое некогда было объектом эротической загрузки. Такое принятие на себя
чувства вины является часто единственным трудно распознаваемым остатком
покинутых любовных отношений. Сходство с процессом, наблюдаемым при
меланхолии, тут очевидно. Если удастся вскрыть за БСЗ чувством вины эту
29-3518
897
Зигмунд ФРЕЙД
Описанное здесь соответствует наиболее крайним
случаям, но может в меньшем масштабе быть принято во
внимание для очень многих, возможно для всех более тяжких
случаев невроза. Более того, может быть, именно этот фактор —
поведение «идеала Я» — решающим образом определяет
степень невротического заболевания. Поэтому мы не
уклонимся от некоторых дальнейших замечаний о проявлении
чувства вины при различных условиях.
Нормальное, осознанное, чувство вины (совесть) не
представляет для толкования никаких затруднений; оно
основано на напряжении между «Я» и «идеалом Я» и является
выражением осуждения «Я» со стороны его критической
инстанции. Знакомые чувства неполноценности у невротика
недалеки от этого. В двух хорошо знакомых нам аффектах
чувство вины чрезвычайно сильно осознано; «идеал Я»
проявляет тогда особую строгость и часто жестоко буйствует
против «Я». Наряду с этим совпадением при обоих
состояниях — при неврозе принуждения и меланхолии — в
поведении «идеала Я» имеются различия, которые не менее
значительны.
При неврозе принуждения (известных его формах)
чувство вины дает о себе знать крайне назойливо, но перед «Я»
оно оправдаться не может. Поэтому «Я» больного
сопротивляется тому, что ему приписывается виновность, и требует
от врача подтверждения, что он вправе ее отклонить. Было
бы неблагоразумно уступить ему, так как это не повело бы
к успеху. Дальнейший анализ показывает, что на «Сверх-Я»
влияют процессы, оставшиеся «Я» неизвестными. И
действительно, можно найти вытесненные импульсы, обосновы-
прошлую загрузку объектом, то часто терапевтическая задача блестяще
разрешается; в другом случае исход терапевтического усилия отнюдь не обеспечен.
В первую очередь, исход лечения зависит от интенсивности чувства вины,
которой терапия часто не может противопоставить встречной силы, равной по
величине. Возможно, и от того, допускает ли личность аналитика, чтобы
больной сделал его своим «идеалом Я», с чем связано искушение играть в
отношении больного роль пророка и спасителя души. Так как правила анализа
решительно противятся такому использованию личности врача, то следует честно
признаться, что этим устанавливается новое препятствие действию анализа,
который ведь не должен делать болезненные реакции невозможными, а должен
давать «Я* больного свободу решения в том или ином направлении.
898
«//» и Юно»
вающие чувство вины. Здесь «Сверх-Я» знало больше о
бессознательном «Оно», чем знало «Я».
Еще более сильное впечатление того, что «Сверх-Я»
присвоило себе сознание, создается в случае меланхолии. Но
тут «Я» не отваживается на возражения — оно признает
себя виновным и подчиняется наказаниям. Мы понимаем это
различие. При неврозе принуждения дело заключалось в
предосудительных побуждениях, оставшихся вне «Я»; а при
меланхолии объект, на который направлен гнев «Сверх-Я»,
путем идентификации принят в «Я».
Отнюдь не само собой понятно, что при обоих этих
невротических аффектах чувство вины достигает такой
исключительной силы, но главная проблема ситуации все же
находится в другом месте. Мы откладываем ее рассмотрение,
пока не разберем другие случаи, в которых чувство вины
остается бессознательным.
Ведь это в основном можно найти при истерии и
состояниях истерического типа. Здесь легко угадать механизм
продолжающейся бессознательности. Истерическое «Я»
защищается против мучительного восприятия, грозящего ему
вследствие критики его «Сверх-Я», тем же путем, каким оно
обычно привыкло защищаться от невыносимой для него
загрузки объектом, — т. е. путем акта вытеснения. Зависит,
следовательно, от «Я», если чувство вины остается
бессознательным. Мы знаем, что обычно «Я» приступает к
вытеснениям по заданию и поручению своего «Сверх-Я», но здесь
мы имеем случай, когда «Я» против своего грозного
господина пользуется тем же оружием. При неврозе принуждения,
как известно, преобладают феномены образования реакций;
здесь «Я» удается только держать вдали тот материал, на
котором основано чувство вины.
Можно пойти дальше и отважиться на предпосылку, что
нормальным образом большая часть чувства вины должна
быть бессознательной, так как возникновение совести
тесно связано с Эдиповым комплексом, который принадлежит
бессознательному. Если кто-нибудь захотел бы защитить
парадоксальное положение, что нормальный человек гораздо
неморальнее, чем полагает, но и гораздо моральнее, чем он
это осознает, то психоанализ, на данных которого основана
899
Зигмунд ФРЕЙД
первая половина утверждения, ничего не мог бы возразить
и против второй половины положения1.
Для нас было неожиданностью найти, что повышение
этого бессознательного чувства вины может сделать
человека преступником. Но это несомненно так. У многих,
особенно юных преступников, можно доказать наличие огромного
чувства вины, которое имелось еще до преступления,
являясь, следовательно, не его следствием, а его побуждением:
как если бы возможность соединить это бессознательное
чувство вины с чем-то реальным и актуальным ощущалась
как облегчение.
Во всех этих соотношениях «Сверх-Я» доказывает свою
независимость от сознательного «Я» и свою тесную связь с
бессознательным «Оно». Теперь, при учете значения,
приписанного нами предсознательным словесным остаткам в «Я»,
возникает вопрос: не состоит ли «Сверх-Я», если оно БСЗ,
из таких словесных представлений, или из чего же еще оно
состоит? Скромный ответ будет гласить, что «Сверх-Я» не
может отрицать своего происхождения от слышанного —
ведь оно является частью «Я» и остается доступным
сознанию со стороны этих словесных представлений (понятий,
абстракций), но энергия загрузки доставляется этому
содержанию «Сверх-Я» не из слуховых восприятий, обучения и
чтения, а из источников в «Оно».
Вопрос, ответ на который мы отложили, гласит: как это
происходит, что «Сверх-Я» в основном проявляет себя как
чувство вины (лучше — как критика: чувство вины есть
соответствующее этой критике восприятие в «Я») и при этом
развивает по отношению к «Я» такую исключительную
жестокость и строгость? Если мы обратимся сначала к
меланхолии, то найдем, что могучее «Сверх-Я», захватившее
сознание, неистовствует против «Я» с такой беспощадной
яростью, как будто присвоив себе весь имеющийся в индивиде
садизм. Согласно нашему пониманию садизма, мы сказали
1 Это положение парадоксально только на вид; оно просто говорит, что
природа человека как в добре, так и во зле далеко выходит за пределы того
мнения, которое он о себе имеет, т. с. за пределы того, что его «Я» знает через
сознательные восприятия.
900
«Л* и Юно»
бы, что в «Сверх-Я» отложился разрушительный компонент,
обратившись против «Я». То, что теперь господствует в
«Сверх-Я», является как бы чистой культурой инстинкта
смерти, и, действительно, ему довольно часто удается
довести «Я» до смерти, если только оно до того не защитится от
своего тирана обращением в манию.
Сходно болезненны и мучительны укоры совести при
определенных формах невроза принуждения, но ситуация
здесь менее ясна. Следует особо отметить, что, в
противоположность меланхолии, больной неврозом принуждения,
собственно говоря, никогда не прибегает к самоубийству: у него
иммунитет против этой опасности, он гораздо лучше от нее
защищен, чем истерик. Мы понимаем, что сохранение
объекта обеспечивает безопасность «Я». При неврозе
принуждения вследствие регресса к прегенитальной организации
стало возможным превращение любовных импульсов в
агрессивные импульсы, направленные против объекта. Тут опять
освободился разрушительный инстинкт и хочет уничтожить
объект, или, по крайней мере, кажется, что такое намерение
существует. «Я» этих тенденций не приняло — оно
противится им путем выработки реакций и мер предосторожности;
они остаются в «Оно». Но «Сверх-Я» проявляет себя так,
как будто за них ответственно «Я»; и одновременно
доказывает с тою серьезностью, с какой «Сверх-Я» преследует эти
цели уничтожения, что здесь речь идет не о вызванной
регрессии видимости, а о подлинной замене любви ненавистью.
Беззащитное с обеих сторон «Я» тщетно обороняется от
наглых требований убийственного «Оно», а также от укоров
карающей совести. Ему удается подавить только самые
грубые действия обоих, и результатом является, прежде всего,
бесконечное терзание самого себя и дальнейшее
систематическое терзание объекта там, где таковой доступен.
Опасные инстинкты смерти лечат в индивиде различным
образом; частично обезвреженные смешением с
эротическими компонентами, частично в виде агрессии отвлеченные
наружу, они, конечно, большею частью беспрепятственно
продолжают свою внутреннюю работу. Но как же получается,
что при меланхолии «Сверх-Я» может сделаться своего рода
местом скопления инстинктов смерти?
901
Зигмунд ФРЕЙД
С точки зрения обуздания первичных позывов, т.е.
точки зрения морали, можно сказать: «Оно» совершенно
аморально, «Я» старается быть моральным, «Сверх-Я» может
стать гиперморальным и тогда столь жестоким, каким может
быть только «Оно». Примечательно, что чем больше человек
ограничивает свою агрессию вовне, тем строже, т.е.
агрессивнее, он становится в своем «идеале Я». Для обычного
наблюдения это кажется обратным — оно видит в
требованиях «идеала Я» мотив для подавления агрессии. Но факт
остается таким, как мы его сформулировали: чем больше
человек овладевает своей агрессией, тем больше возрастает
склонность его идеала к агрессии против его «Я». Это — как
бы смещение, поворот против собственного «Я». Уже
обычная, нормальная мораль имеет характер чего-то жестко
ограниченного, жестоко воспрещающего. Отсюда ведь
проистекает понятие неумолимо карающего высшего существа.
Я не могу продолжить дальнейшее объяснение этих
соотношений, не вводя нового предположения. Ведь «Сверх-Я»
возникло из идентификации с образом отца. Каждая такая
идентификация носит характер десексуализации или даже
сублимации. И теперь кажется, что при таком превращении
происходит и распад первичных позывов на первоначальные.
После сублимации у эротического компонента уже нет сил
связать все дополнительное разрушение, и он освобождается
в виде склонности к агрессии и разрушению. Из этого
распада идеал получил бы суровую, жестокую черту
настоятельного долженствования.
Остановимся еще раз коротко на неврозе принуждения.
Здесь соотношения иные. Распад любви в агрессию
произошел не путем работы «Я», а есть следствие регресса,
состоявшегося в «Оно». Однако этот процесс перешел с «Оно»
на «Сверх-Я», которое теперь обостряет свою строгость к
безвинному «Я». Но в обоих случаях «Я», преодолевшее
либидо идентификаций, переживает за это кару «Сверх-Я»
в виде агрессии, примешанной к либидо.
Наши представления о «Я» становятся более ясными, его
различные соотношения приобретают четкость. Мы видим
теперь «Я» в его силе и в его слабости. Ему доверены важные
функции: в силу его отношения к системе восприятий оно
902
«//>> и «Оно»
устанавливает последовательность психических процессов и
подвергает их проверке на реальность. Путем включения
мыслительных процессов оно достигает задержки моторных
разрядок и владеет доступами к двигательной сфере.
Овладение последней, правда, больше формальное, чем
фактическое — по отношению к действию «Я» занимает, примерно,
позицию конституционного монарха, без санкции которого
ничто не может стать законом, но который все же сильно
поразмыслит, прежде чем наложить свое вето на
предложение парламента. «Я» обогащается при всяком жизненном
опыте извне; но «Оно» является его другим внешним
миром, который «Я» стремится себе подчинить. «Я» отнимает
у «Оно» либидо, превращает объектные загрузки «Оно» в
образования «Я». С помощью «Сверх-Я» «Я» неясным еще
для нас образом черпает из накопившегося в «Оно» опыта
древности.
Есть два пути, по которым содержание «Оно» может
проникнуть в «Я». Один путь — прямой, другой ведет через
«идеал Я»; для многих видов психической деятельности
может стать решающим, какому из обоих путей они следуют.
«Я» развивается от восприятия первичных позывов к
овладению ими, от повиновения первичным позывам к
торможению их. «Идеал Я», частично ведь представляющий собой
образование реакций против процессов первичных позывов
«Оно», активно участвует в этой работе. Психоанализ
является тем орудием, которое должно дать «Я» возможность
постепенно овладеть «Оно».
Но, с другой стороны, мы видим это же «Я» как
несчастное существо, исполняющее три рода службы и вследствие
этого страдающее от угроз со стороны трех опасностей:
внешнего мира, либидо «Оно» и суровости «Сверх-Я». Три
рода страха соответствуют этим трем опасностям, так как
страх выражает отступление перед опасностью. В качестве
пограничного существа «Я» хочет быть посредником между
миром и «Оно», хочет сделать «Оно» уступчивым в
отношении мира, а своей мускульной деятельностью сделать так,
чтобы мир удовлетворял желаниям «Оно». «Я» ведет себя,
собственно говоря, так, как врач во время аналитического
лечения: принимая во внимание реальный мир, «Я» предла-
903
Зигмунд ФРЕЙД
гает «Оно» в качестве объекта либидо — самое себя, а его
либидо хочет направить на себя. «Я» не только помощник
«Оно», но и его покорный слуга, добивающийся любви
своего господина. Где только возможно, «Я» старается остаться
в добром согласии с «Оно» и покрывает его БСЗ повеления
своими ПСЗ рационализациями; изображает видимость
повиновения «Оно» по отношению к предостережениям
реальности и в том случае, когда «Оно» осталось жестким и
неподатливым; затушевывает конфликты между «Оно» и
реальностью и, если возможно, и конфликты со «Сверх-Я».
Вследствие своего серединного положения между «Оно»
и реальностью «Я» слишком часто поддается искушению
стать угодливым, оппортунистичным и лживым, примерно
как государственный деятель, который при прекрасном
понимании всего все же хочет остаться в милости у
общественного мнения.
«Я» не держит себя беспристрастно в отношении обоих
видов первичных позывов. Своей работой идентификации и
сублимации оно помогает инстинктам смерти в «Оно» для
преодоления либидо, но при этом само попадает в опасность
стать объектом инстинкта смерти и погибнуть. В целях
оказания помощи «Я» само должно было наполниться либидо,
этим самым становясь представителем Эроса и исполняясь
теперь желанием жить и быть любимым.
Но так как его работа сублимации имеет следствием
распад первичных позывов на первоначальные и освобождение
агрессивных первичных позывов в «Сверх-Я», то своей
борьбой против либидо оно подвергает себя опасности стать
жертвой жестокостей и смерти. Если «Я» страдает от агрессии
«Сверх-Я» или даже погибает, то его судьба подобна судьбе
одноклеточных, погибающих от продуктов разложения,
которые они сами создали. Действующая в «Сверх-Я» мораль
кажется нам в экономическом смысле таким продуктом
разложения.
Из зависимостей «Я» самой интересной, пожалуй,
является зависимость от «Сверх-Я».
Ведь «Я» и представляет собой подлинный очаг боязни.
Ввиду угрозы трех опасностей «Я» развивает рефлекс
бегства, причем свою собственную загрузку оно отводит от опас-
904
«//» и Юно»
ного восприятия или такого же опасного процесса в «Оно»,
выдавая это за страх. Эта примитивная реакция позднее
сменяется возведением защитных загрузок (механизм фобий).
Нельзя указать, чего именно «Я» опасается со стороны
внешней опасности или со стороны опасности либидо в «Оно»;
мы знаем, что это — преодоление или уничтожение, но
аналитической формулировке это не подвергается. «Я» просто
следует предостережению принципа наслаждения. Можно,
однако, сказать, что скрывается за страхом «Я» перед
«Сверх-Я», перед страхом совести. Высшее существо,
ставшее «идеалом Я», когда-то угрожало кастрацией, и эта
кастрация, вероятно, является тем ядром, вокруг которого
откладывается страх совести; кастрация именно то, что
продолжает себя как страх совести.
Звонкая фраза, что каждый страх является, собственно
говоря, страхом смерти, едва ли заключает в себе
какой-нибудь смысл; во всяком случае, она неоправдываема. Мне,
наоборот, кажется безусловно правильным отделить страх
смерти от страха объекта (реальности) и от невротического
страха либидо. Для психоанализа это очень трудная
проблема, так как смерть есть абстрактное понятие негативного
содержания, для которого бессознательного соответствия не
найти. Механизм страха смерти может состоять только в
том, что «Я» в значительной степени освобождается от
своей нарциссической загрузки либидо, т.е. отказывается от
самого себя точно так, как обычно в случае страха
отказывается от другого объекта. Мне думается, что страх смерти
развертывается между «Я» и «Сверх-Я».
Нам знакомо появление страха смерти при двух
условиях, вполне, впрочем, аналогичных условиям обычного
развития страха: как реакции на внешнюю опасность и как
внутреннего процесса (например, при меланхолии).
Невротический случай снова может помочь нам понять случай
реальный.
Страх смерти при меланхолии допускает лишь одно
объяснение, а именно: «Я» отказывается от самого себя, так как
чувствует, что «Сверх-Я» его ненавидит и преследует вместо
того, чтобы любить. Следовательно, для «Я» жизнь
означает то же, что быть любимым, быть любимым со стороны
905
Зигмунд ФРЕЙД
«Сверх-Я», которое и здесь проявляет себя представителем
«Оно». «Сверх-Я» выполняет ту же защитную и спасающую
функцию, как раньше отец, позднее — провидение или
судьба. Но тот же вывод должно сделать и «Я», находясь в
огромной реальной опасности, преодолеть которую
собственными силами оно считает невозможным. «Я» видит, что оно
покинуто всеми охраняющими силами, и позволяет себе
умереть. Это, впрочем, та же ситуация, что стала подосновой
первого великого страха рождения и инфантильной тоски-
страха — страха разлуки с оберегающей матерью.
На основе вышеизложенного страх смерти, как и страх
совести, может, следовательно, быть истолкован как
переработка страха кастрации. Ввиду большого значения чувства
вины для неврозов нельзя также отрицать, что обычный
невротический страх в тяжелых случаях усиливается развитием
страха между «Я» и «Сверх-Я» (страха кастрации, страха
совести, страха смерти).
«Оно», к которому мы в заключение возвращаемся, не
обладает средствами доказать «Я» любовь или ненависть.
«Оно» не может выразить, чего хочет; оно не выработало
единой воли. В нем борются Эрос и инстинкт смерти; мы
слышали, какими средствами одни первичные позывы
обороняются против других. Мы могли бы изобразить это
таким образом, будто «Я» находится под властью немых, но
мощных инстинктов смерти, которые стремятся к покою и
по указаниям принципа наслаждения хотят заставить
замолчать нарушителя этого спокойствия — Эроса; но мы
опасаемся, что при этом мы все же недооцениваем роли Эроса.
Неудовлетворенность
культурой
I
Трудно отрешиться от впечатления, что люди обычно
применяют ложные мерки: стремятся к власти, успеху и богатству и
восторгаются обладающими этими благами, а подлинные
блага жизни недооценивают. И все же всякий раз, как мы
высказываем такое общее суждение, мы рискуем забыть о
пестром разнообразии человеческого мира и душевной его жизни.
Есть отдельные люди, которым их современники не
отказывают в почитании, хотя их величие, их качества и
достижения основаны на целях и идеалах, вполне чуждых массам.
Можно легко допустить, что признающие таких великих
людей находятся в меньшинстве, в то время как огромное
большинство и знать о них не хочет. Но все это, вероятно, не так
просто из-за несогласованности между мыслями и
действиями людей и в силу многообразия их желаний-импульсов.
Одна из таких замечательных личностей называет себя в
письмах моим другом. Я послал ему свое небольшое
произведение, в котором религия трактовалась как иллюзия. Он
мне ответил, что полностью согласился бы с моим
суждением, сожалеет, однако, что я не отдал должного подлинному
источнику религиозности. Он заключается в особом,
никогда его самого не покидающем чувстве, подтверждение
которого он нашел и у других людей и которое, вероятно,
свойственно миллионам. Это чувство он мог бы назвать
ощущением «вечности», как бы ощущением чего-то безграничного,
беспредельного, чего-то «океанического». Это чувство —
чисто субъективное явление, а не догмат веры; с ним не свя-
909
Зигмунд ФРЕЙД
зана никакая гарантия личного бессмертия, однако именно
в нем источник религиозной энергии, которая
подхватывается различными церквами и религиозными системами,
вводится ими в определенные русла и в них, конечно, и
истощается. Только на основании такого «океанического»
чувства человек может назвать себя религиозным, даже если он
отвергает любую веру и любую иллюзию.
Это высказывание моего уважаемого друга, который
однажды сам отдал поэтическую дань чарам иллюзии, создало
для меня немалые трудности1. У себя лично я не могу
обнаружить наличия этого «океанического» чувства. Научное
исследование эмоций вообще нелегкая задача. Можно
попытаться описать их физиологические симптомы, когда же это не
удается, — а я опасаюсь, что «океаническое» чувство не
поддается такой характеристике, — не остается ничего другого,
как учитывать само содержание представлений, наиболее с
этим чувством ассоциативно связанных. Если я правильно
понял моего друга, то он имеет в виду то же самое, что и один
оригинальный и довольно странный поэт, который своего
героя, решившегося на самоубийство, утешает следующими
словами: «Не уйти нам из этого мира»2. Итак, речь идет о чувстве
принадлежности внешнему миру как целому и неразрывной
связанности с ним. Я бы сказал, что для меня лично это носит,
скорее, характер интеллектуального умозрения, не лишенного,
конечно, и эмоциональных обертонов, но ведь ими
сопровождаются и другие умозрительные акты подобной значимости.
На личном опыте я не имел возможности убедиться в
первичном характере такого чувства. Я не могу, однако, на этом
основании отрицать факт существования этого чувства у других.
Вопрос только в том, насколько оно правильно
интерпретируется и действительно ли следует его признать «fons et origo»
(«началом и источником») всех религиозных запросов.
Я не могу ничего предложить, что могло бы оказать
решающее влияние на разрешение этого вопроса. Мысль, что
1 Liluli, 1923. Со времени выхода в свет обеих книг — «Жизнь Рамакриш-
ны» и «Жизнь Вивекананды* (1930) — мне незачем больше скрывать, что речь
идет о моем друге Ромене Роллаис.
2 Граббе Д.Х. Ганнибал: «Да, не уйти нам из этого мира. Мы — в нем».
910
I/еудовлетворешюсть культурой
человек постигает свою общность с окружающим миром
через непосредственное и с самого начала направленное на эту
идею чувство, кажется настолько странной, так плохо
вяжется со всей структурой нашей психики, что оправданной
становится попытка психоаналитического, т.е.
генетического, объяснения этого чувства. Тогда перед нами открывается
следующий ход рассуждения: нормально для нас нет ничего
более достоверного, чем чувство самого себя, своего
собственного «Я». Это «Я» представляется нам как нечто
самостоятельное, цельное, ясно отграниченное от всего
остального. Только психоаналитическое исследование показало,
что эта видимость обманчива, что это «Я», не пересекая
никаких внутренних, ясно очерченных границ, переходит в
бессознательную душевную сущность, которую мы
обозначаем как «Оно», для которого «Я» служит только как бы
фасадом; психологические исследования еще многое
должны нам дать для выяснения отношений «Я» у «Оно». Но по
отношению к внешнему миру дело обстоит так, как если бы
«Я» было от него ясно и резко отграничено. Только при
одном исключительном состоянии, которое нельзя считать,
однако, патологическим, дело обстоит иначе. На вершине
влюбленности грань между «Я» и объектом грозит
расплыться. Вопреки всякой очевидности влюбленный
утверждает, что «Я» и «Ты» — одно, и готов вести себя так, как
если бы это соответствовало действительности. То, что
может быть временно устранено благодаря известной
физиологической функции, должно, конечно, нарушаться под
влиянием какого-нибудь болезненного процесса. Из патологии
мы узнаем о большом количестве состояний, при которых
грань между «Я» и внешним миром становится
неопределенной или действительно неправильно проложенной:
случаи, при которых части нашего собственного тела, даже
части собственного душевного мира, восприятия, мысли,
чувства, кажутся нам как бы чужими, не принадлежащими
нашему «Я», а также и случаи, когда мы приписываем
внешнему миру то, что явно родилось в нашем «Я» и только к
нему и может быть отнесено. Следовательно, чувство «Я»
подвержено искажениям, а границы «Я» не являются
постоянными.
911
Зигмунд ФРЕЙД
Дальнейшие рассуждения показывают, что чувство «Я» у
взрослых не могло быть таким с самого начала. Оно должно
было проделать известную эволюцию, которая, разумеется, не
может быть доказана, но которую с достаточной степенью
вероятности можно реконструировать1. Грудной ребенок не
отделяет своего «Я» от внешнего мира как источника притекающих
к нему ощущений. Он приучается их распознавать лишь
постепенно и в силу различных импульсов. Должно быть, на него
производит сильнейшее впечатление тот факт, что некоторые из
источников раздражения, в которых он впоследствии узнает
органы собственного тела, в любой момент могут предоставить ему
те или иные ощущения, в то время как другие от него порой
ускользают, в частности и наиболее вожделенное — материнская
грудь, которой он может добиться лишь воплем о помощи.
Таким образом, перед «Я» предстает прежде всего некий «объект»
как нечто находящееся «вовне» и становящееся явным лишь в
результате определенного усилия. Дальнейшим толчком для
отделения от «Я» массы ощущений, т. е. для признания
существования «вовне», внешнего мира, служат частые,
разнообразные и неизбежные ощущения боли и неприятности, которые
безгранично господствующий принцип наслаждения
стремится устранить или избежать. Создается тенденция отделения
«Я» от всего того, что может явиться источником
неприятности, вынесение его наружу с созданием «Я чистого
наслаждения», которому противостоит чуждое и угрожающее внешнее.
Границы этого примитивного «Я чистого наслаждения» не
могут не подвергаться изменениям в результате опыта.
Многое из того, от чего не хотелось бы отказаться, так как оно
дает наслаждение, все же оказывается не «Я», а объектом, а
некоторые мучения, от которых человек стремится
избавиться, выявляют себя как неотделимые от «Я», т. е. внутреннего
происхождения. При помощи сознательного управления
деятельностью органов чувств и соответствующих мускульных
движений человек знакомится с тем, как различать
внутреннее, принадлежащее самому «Я», от возникающего во внеш-
1 См. многочисленные работы Фсрсици о развитии «Я» и чувства «Я*
(«Этапы развития осознания действительности» (1913)), кончая работами
П. Фсдсрна, 1926, 1927 и позже.
912
Неудовлетворенность mj.iьтурой
нем мире; так совершается первый шаг для установления
принципа реальности, который станет господствующим в
течение дальнейшего развития человека. Эта способность
распознавания, естественно, служит практической цели защиты
от испытываемых и грозящих неприятных ощущений. То, что
«Я» для защиты от некоторых возникающих внутри
неприятных импульсов не находит никаких других способов, кроме
применяемых по отношению к внешним неприятностям,
становится исходным пунктом для ряда серьезных болезненных
расстройств.
Так происходит выделение «Я» из внешнего мира. Или
точнее: первоначально «Я» включает в себя все, а затем от
него отключается внешний мир. Наше нынешнее чувство
«Я» есть лишь жалкий остаток первоначально гораздо более
широкого, больше того, всеобъемлющего чувства, которое и
соответствовало внутреннему ощущению связанности «Я» с
окружающим миром. Если можно было бы предположить,
что это первоначальное чувство «Я» — в большей или
меньшей степени — сохраняется в душевной жизни многих
людей, то тогда следовало бы признать, что оно сопутствует
более узкому и ограниченному чувству «Я» зрелого возраста
в качестве своего рода партнера; проистекающее из этого
первоначального чувства содержание представлений и
соответствовало бы тому ощущению безграничности и
связанности с миром, которое мой друг определял как чувство
«океаническое». Но имеем ли мы право предполагать, что
это первоначальное чувство, из которого произошло более
позднее, продолжает существовать наряду с последним?
Несомненно! В такого рода явлении нет ничего
необычного, будь то в душевной жизни, будь то в других сферах. Так,
мы твердо убеждены в том, что в мире животных
высокоразвитые формы произошли из самых низших. А в то же время
среди живущих мы и поныне встречаем все простейшие
формы жизни. Вид динозавров уже вымер, уступив место
млекопитающим, однако подлинный представитель этого вида —
крокодил — продолжает жить в наше время. Это, может быть,
слишком отдаленная аналогия; она, кроме того, и ущербна,
так как уцелевшие низшие виды не являются большей частью
прямыми предками нынешних, более развитых. Промежуточ-
913
Зигмунд ФРЕЙД
ные звенья, как правило, вымерли и известны только
благодаря реконструкции. Но в душевной области сохранение
примитивного наряду с возникшим из него преобразованным
настолько частое явление, что не требует доказательств при
помощи примеров. Это явление большей частью результат
разрыва в эволюции. Известная пропорция какой-либо
наклонности или влечения остается неизменной, в то время как
другая часть подвергается дальнейшей эволюции.
Здесь мы затрагиваем общую проблему сохранения
психического — вопроса почти неразработанного, но настолько
увлекательного и значительного, что мы должны уделить ему
часть нашего внимания, даже без достаточного к тому повода.
С тех пор как мы преодолели заблуждение, которое
объясняло обычное для нас забывание разрушением следа в нашей
памяти, т. е. уничтожением, мы склонны придерживаться
противоположного взгляда: в душевной жизни ничто, раз
появившись, не может исчезнуть; все где-то сохраняется и при
известных условиях, например при достаточно далеко идущей
регрессии, может опять всплыть на поверхность. Попробуем
уяснить себе содержание создающегося таким образом
положения при помощи сравнения, взятого из другой области.
Возьмем в качестве примера историю развития Вечного
города1. Историки учат нас, что древнейший Рим был Roma
quadrata — поселением на Палатинском холме, огороженным
забором. Затем следует период Септимонтия — объединения
населенных пунктов, расположенных на отдельных холмах,
затем город, обнесенный стеной Сервием Туллием. А еще
позже, после всех преобразований республиканского и
раннего императорского периода, Рим стал городом, заключенным
в стены, воздвигнутые императором Марком Аврелием. Не
будем следовать за дальнейшими преобразованиями города, а
зададим себе вопрос — что из этих прежних стадий сможет
обнаружить в современном Риме посетитель, наделенный,
допустим, всей полнотой исторических и топографических
данных. Стену Аврелия, за исключением нескольких
повреждений, он сможет увидеть почти полностью. Благодаря раскоп-
1 The Cambridge Ancient History. Vol. VII, 1928 («The founding of Rome»
by Hugh Last).
\
914
Исудовлетворенпость культурой
кам он сможет обнаружить в некоторых местах отдельные
части вала Сервия. При достаточных знаниях —
превышающих то, что известно современной археологии, — он, может
быть, сможет вписать в облик города полные очертания всех
этих стен и контуры Roma quadrata. От зданий, которые
когда-то заполняли эти древние рамки города, он не найдет
больше ничего или только незначительные остатки, так как
они больше не существуют. Самое большее, что ему могли бы
дать даже наиболее обширные знания о Риме времен
Республики, это возможность указать места, где раньше
возвышались храмы и общественные здания той эпохи. То, что сейчас
стоит на их месте,— это лишь руины, да и то не самих зданий,
а того, что из них было реконструировано в более поздние
времена, после пожаров и разрушений. Едва ли стоит
упоминать о том, что все эти остатки древнего Рима сейчас
вкраплены в нагромождение большого города, возникшего в
течение последних столетий после Ренессанса. Конечно, много
старины еще погребено в недрах городской земли или под
современными зданиями. Вот форма, в какой хранится
прошлое, встречающееся в исторических городах, подобных Риму.
А теперь сделаем фантастическое предположение, что Рим
не обиталище людей, а некое психическое существо, со столь
же длительным и богатым прошлым, в котором ничто раз
возникшее не исчезло, в котором самые первоначальные
фазы развития продолжают существовать наряду с последними.
В применении к Риму это означало бы, что на Палатинском
холме императорские дворцы и Септизоний Септимия
Севера вздымаются до прежней высоты, что на карнизах Замка
Ангела стоят все те же прекрасные статуи, украшавшие их
вплоть до нашествия готов, и т. д. Больше того, на месте
Палаццо Каффарелли, который представим себе неснесенным,
как бы по-прежнему высится храм Юпитера Капитолийского,
причем не только в своем позднейшем облике, в том, в каком
его лицезрели римляне императорского периода, но и в том
самом раннем, когда его формы были еще этрусскими и
украшенными терракотовыми антефиксами. Там же, где сейчас
стоит Колизей, мы могли бы любоваться и исчезнувшим
Domus aurea (Золотым домом) Нерона; на площади Пантеона
мы увидели бы не только нынешний Пантеон, каким его оста-
915
Зигмунд ФРЕЙД
вил нам император Адриан, но на том же месте стояло бы и
первоначальное сооружение Агриппы; на той же самой
земле должна была бы возвышаться и церковь (Мария Сопра
Минерва), и древний храм, на основе которого она была
построена. И при этом достаточно было бы, скажем, изменения
пункта наблюдения или направления взгляда наблюдателя,
чтобы поставить в поле зрения то одно, то другое.
Очевидно, не имеет никакого смысла развивать дальше
эту фантазию — она ведет к непредставимому и даже
абсурдному. Если мы хотим представить себе
пространственно-историческую последовательность, то мы можем это
осуществить только в пространственной смежности: одно и то
же пространство не может быть заполнено дважды. Поэтому
наша попытка может показаться праздной забавой; но она
имеет одно оправдание — она показывает нам, как далеки
мы от цели, когда пытаемся осмыслить сцецифику
душевной жизни путем наглядных представлений.
Хотелось бы высказаться и по поводу упрека, почему мы
выбрали именно историю города в качестве примера для
сравнения с душевным прошлым. Предположение, что сохранение
всего прошлого действительно и для душевной жизни,
закономерно только при условии, что орган психики остался
неповрежденным, т.е. что его ткань не пострадала ни от
каких травм или воспалительных процессов. Но
разрушительные факторы, которые можно было бы сравнить с такого рода
болезненными причинами, не могут отсутствовать в истории
какого бы то ни было города, даже если он имеет менее
бурное прошлое, нежели Рим, как, например, Лондон, едва ли
знавший когда-либо вторжение неприятеля. Самое мирное
развитие города всегда сопровождается разрушениями и
заменой зданий; поэтому можно уже заранее сказать, что судьба
города несравнима с судьбой душевного организма.
Мы принимаем это возражение и, отказавшись от яркого
контрастного впечатления, обращаемся к примеру, более
близкому к изучаемому объекту, а именно к человеческому
или животному организму. Но и тут мы найдем нечто
подобное. Ранние стадии развития ни в коем смысле не
сохраняются, а растворяются в последующих, отдавая в их
распоряжение составлявший их материал. Зародыш не может быть
916
Неудовлетворенность культурой
обнаружен в организме взрослого человека; зобная железа
ребенка, после достижения им половой зрелости, перестает
существовать как таковая и заменяется соединительной
тканью; хотя в полой кости взрослого человека можно
проследить контуры детской кости, сама она исчезла; она
удлинялась, пока не достигла своей окончательной формы. Таким
образом, сохранение всех предварительных стадий наряду с
окончательными формами возможно только в психической
сфере, и мы лишены возможности иллюстрировать это
положение при помощи какого-нибудь наглядного примера.
Но может быть, мы заходим слишком далеко в нашем
предположении; быть может, мы должны были бы
удовлетвориться утверждением, что в душевной жизни прошлое
способно сохраниться, что оно не неизбежно разрушается?
Может быть, и в психической сфере кое-что из прошлого —
как правило или в виде исключения — настолько стирается
и поглощается, что уже никаким способом не может быть
восстановлено или заново оживлено, или, быть может,
вообще сохранение связано с определенными благоприятными
условиями. Все это возможно, но мы ничего об этом не
знаем. Мы принуждены лишь твердо считаться с тем, что
сохранение прошлого в душевной жизни является скорее
правилом, нежели странным исключением.
Если, таким образом, мы вполне готовы признать, что
многие люди обладают «океаническим» чувством и склонны
считать, что оно сводимо к ранним фазам чувства «Я», то
возникает дальнейший вопрос: на каком основании это чувство
может рассматриваться как источник религиозных запросов?
Мне кажется это притязание необоснованным. Чувство
может стать источником энергии только в том случае,
если оно само по себе является выражением какой-то
сильной потребности. Мне кажется, однако, неопровержимым тот
факт, что религиозная потребность проистекает из
инфантильной беспомощности и вызванного ею влечения к отцу,
тем более что это чувство является не только простым
продолжением чего-то заложенного в детстве, но и постоянно
поддерживается страхом перед всемогуществом судьбы. Я не
мог бы назвать ни одной другой возникшей в детстве
потребности, которая могла бы по силе приблизиться к потребности
917
Зигмунд ФРЕЙД
в покровительстве отца. Тем самым роль «океанического»
чувства, которое могло бы быть направлено, например, на
восстановление неограниченного нарциссизма, оттесняется
на второй план. Истоки религиозных представлений могут
быть четко прослежены вплоть до чувства детской
беспомощности. За этим может, конечно, скрываться и что-то
иное, но оно для нас еще окутано туманом.
Я могу себе представить, что «океаническое» чувство
вошло во взаимосвязь с религией позднее. Это чувство
единства со Вселенной — а в этом заключается его идейное
содержание — может рассматриваться нами как первая
попытка религиозного утешения, как некий способ отрицания
опасности, которую «Я» обнаруживает в виде угрозы со
стороны внешнего мира. Я вновь признаюсь: мне очень трудно
оперировать этими едва уловимыми величинами. Другой
мой друг, которого неутолимая жажда знаний толкнула на
постановку самых необычайных экспериментов и который в
конечном счете приобрел энциклопедические знания, уверял
меня, что люди, практикующие йогу, путем выключения себя
из внешнего мира, концентрацией внимания на физических
функциях организма и применением особых способов
дыхания могут действительно пробудить в себе новые ощущения
и чувства всеобщности, которые он склонен рассматривать
как регрессию к древнейшим состояниям душевной жизни,
давно уже покрытым новыми наслоениями. В этом он и
видит, так сказать, физиологическое обоснование многих
мудрых истин мистики. Тут могут быть усмотрены взаимосвязи
со многими смутными видоизменениями душевной жизни,
такими, как транс и экстаз. Но при этом мне хотелось бы
напомнить слова героя шиллеровской баллады «Кубок»:
Радость тому, кто в розовом дышит там свете.
п
В моей работе «Будущее одной иллюзии» речь шла
гораздо меньше о глубинных истоках религиозного чувства,
918
Неудовлетворенность культурой
чем о том, что под словом «религия» понимает рядовой
человек, о системе учений и заверений, с одной стороны, с
завидной полнотой объясняющей ему загадки нашего мира,
а с другой стороны, ручающейся ему в том, что заботливое
Провидение оберегает его жизнь и возмещает ему в жизни
будущей те или иные лишения жизни теперешней. Рядовой
человек не может себе представить это Провидение иначе,
чем в облике необычайно возвеличенного отца. Только
такой отец может знать о нуждах детей человеческих, только
его можно смягчить молитвами и умилостивить раскаянием.
Все это настолько инфантильно, так далеко от
действительности, что гуманно настроенному человеку больно даже
подумать о том, что огромное большинство смертных никогда
не будет способно подняться над таким пониманием жизни.
Но еще более стыдно сознавать, что большое количество
наших современников, из числа тех, кто должен был бы
понимать, что такая религия незащитима, все же пытаются
защищать ее, пункт за пунктом, отступая в жалких
арьергардных боях. Хотелось бы присоединиться к рядам
верующих, чтобы философам, считающим, что они спасают Бога
религии, заменяя его безличным, призрачно абстрактным
принципом, напомнить о предупреждении: «Не поминай
имени Господа Бога твоего всуе!» Для нас не может служить
оправданием то, что так поступали некоторые из
величайших умов прошлых времен. Мы знаем, почему они должны
были так поступать.
Но вернемся к нашему рядовому человеку и его религии,
к той единственной, которая только и может обозначаться
этим словом. И тут вспоминается известное высказывание
одного из наших великих поэтов и мудрецов, который по
поводу отношения религии к искусству и науке сказал
следующее:
Кто владеет наукой и искусством,
Тот имеет и религию,
Кто не владеет ни тем ни другим,
Тот да возымеет религию!1
Гёте. Кроткие ксснии. IX (Стихи из литературного наследия).
919
Зигмунд ФРЕЙД
Это изречение, с одной стороны, противопоставляет
религию двум величайшим человеческим достижениям, а с
другой стороны, утверждает, что по своей жизненной
ценности они могут представлять или заменять друг друга. Если
мы рядовому человеку хотим отказать в праве на религию,
то авторитет поэта будет, очевидно, не на нашей стороне.
Поэтому попробуем пойти по такому пути, который
приблизил бы нас к оценке его изречения по достоинству. Жизнь,
как она нам дана, слишком тяжела для нас, она нам приносит
слишком много боли, разочарований, неразрешимых
проблем. Для того чтобы вынести такую жизнь, мы не можем
обойтись без средств, дающих нам облегчение («Без
вспомогательных конструкций не обойтись», — сказал Теодор
Фонтане). Пожалуй, имеется три рода таких средств: сильное
отвлечение, позволяющее придавать меньшее значение нашим
несчастьям; заменители удовлетворения, уменьшающие их
бремя; наркотики, делающие нас нечувствительными к ним.
Без чего-либо подобного не обойтись1. Отвлечение имел в
виду Вольтер, когда он своего «Кандида» завершал
советом возделывать свой сад; отвлечением такого рода является
и научная деятельность. Такие заменители удовлетворения,
как те, что предоставляются искусством, хотя и являются
иллюзией, а не реальностью, психически не менее
действенны — благодаря роли, которую заняла фантазия в душевной
жизни человека. Наркотики оказывают влияние на нашу
психическую природу, изменяя ее химизм. Найти место
религии в ряду этих факторов не так уж просто. Эту проблему
надо решать с большего разгона.
Вопрос о смысле человеческой жизни ставился
бесчисленное количество раз; на этот вопрос никогда не было дано
удовлетворительного ответа, и возможно, что таковой
вообще заповедан. Некоторые из вопрошавших добавляли: если
бы оказалось, что жизнь не имеет никакого смысла, то она
потеряла бы для них и всякую ценность. Но эти угрозы
ничего не меняют. Скорее можно предположить, что мы
вправе уклониться от ответа на вопрос. Предпосылкой его
1 На более низком уровне то же говорит Вильгельм Буш в «Набожной
Елене»: «У кого заботы, у того и алкоголь».
920
Неудовлспиюрешюст ь культурои
постановки является человеческое зазнайство, со
многими другими проявлениями которого мы уже сталкивались.
О смысле жизни животных не говорят, разве только в связи
с их назначением служить людям. Но и это толкование
несостоятельно, так как человек не знает, что делать со
многими животными, если не считать того, что он их описывает,
классифицирует и изучает, да и то ~ многие виды
животных избежали и такого применения, так как они жили и
вымерли до того, как их увидел человек. И опять-таки
только религия берется ответить на этот вопрос о цели жизни.
Мы едва ли ошибемся, если придем к заключению, что идея
о цели жизни существует постольку, поскольку существует
религиозное мировоззрение.
Поэтому мы займемся менее претенциозным вопросом:
каковы смысл и цели жизни людей, если судить об этом на
основании их собственного поведения, чего люди требуют
от жизни и чего стремятся в ней достичь? Трудно
ошибиться, отвечая на этот вопрос: люди стремятся к счастью, они
хотят стать и пребывать счастливыми. Это стремление имеет
две стороны, положительную и отрицательную цели:
отсутствие боли и неудовольствия, с одной стороны, переживание
сильных чувств наслаждения — с другой. В узком смысле
слова под «счастьем» подразумевается только последнее.
Сообразно этой двойственности цели человеческая
деятельность протекает в двух направлениях, в зависимости от того,
какую из целей — преимущественно или даже
исключительно — она стремится осуществить.
Таким образом, как мы видим, жизненная цель просто
определяется программой принципа наслаждения. Этот
принцип главенствует в деятельности душевного аппарата с
самого начала; его целенаправленность не подлежит никакому
сомнению, и в то же время его программа ставит человека
во враждебные отношения со всем миром, как с
микрокосмосом, так и с макрокосмосом. Такая программа
неосуществима, ей противодействует вся структура Вселенной; можно
было бы даже сказать, что в плане «творения» отсутствует
намерение сделать человека «счастливым». То, что
понимается под счастьем в строгом смысле этого слова,
проистекает, скорее, из внезапного удовлетворения потребности, до-
921
Зигмунд ФРЕЙД
стигшей высокой напряженности, и по своей природе
возможно лишь как эпизодическое явление.
Продолжительность ситуации, к созданию которой так страстно
стремится принцип наслаждения, дает лишь чувство прохладного
довольства; мы так устроены, что можем интенсивно
наслаждаться только контрастом и весьма мало — самим
состоянием1. Таким образом, возможности для нашего счастья
ограничены уже самой нашей структурой. Значительно
менее трудно испытать несчастье. Страдания угрожают нам с
трех сторон: со стороны нашего собственного тела, судьба
которого — упадок и разложение, не предотвратимые даже
предупредительными сигналами боли и страха; со стороны
внешнего мира, который может обрушить на нас
могущественные и неумолимые силы разрушения, и, наконец, со
стороны наших взаимоотношений с другими людьми.
Страдания, проистекающие из этого последнего источника, мы,
быть может, воспринимаем более болезненно, чем любые
другие; мы склонны их рассматривать как в какой-то мере
излишний придаток, хотя они в не меньшей степени
фатальны и неотвратимы, чем страдания, проистекающие из других
источников.
Не приходится поэтому удивляться, что, под давлением
этих угрожающих людям страданий, требования счастья
становятся более умеренными; так же как и сам принцип
наслаждения трансформируется под влиянием внешнего мира
в более скромный принцип реальности, так и человек
считает себя уже счастливым, когда ему удается избежать
несчастья, превозмочь страдания, когда вообще задача
уклонения от страдания оттесняет на второй план задачу
получения наслаждения. Размышление нам подсказывает, что для
разрешения этой задачи можно пробовать идти самыми
разнообразными путями; все эти пути рекомендовались
различными школами житейской мудрости и были людьми
исхожены. Неограниченное удовлетворение всех потребностей
рисуется нам как самый заманчивый образ жизни, но это
значит пренебречь осторожностью ради наслаждения, что
1 Гете даже предупреждает: -«Ничто нас так не тяготит, как вереница
хороших дней». Тем не менее это, может быть, все же преувеличение.
922
Неудовлетворенность культурой
уже быстро влечет за собой соответствующую кару. Другие
методы, при которых уклонение от неудовольствия является
основной целью, различаются в зависимости от источника
неудовольствия, на который эти методы обращают большее
внимание. Имеются способы крайние и умеренные,
односторонние и такие, которые действуют сразу в нескольких
направлениях. Сознательный уход от людей, одиночество —
самый обычный способ защиты от страданий, возникающих
от общения с людьми. Разумеется, счастье, обретаемое
таким путем, — это счастье покоя. Если задача ставится в
индивидуальном плане, от опасностей внешнего мира можно
защищаться лишь тем или иным способом ухода из него.
Конечно, имеется иной и лучший путь — в качестве члена
человеческого общества перейти в наступление на природу
и подчинить ее человеческой воле при помощи науки и
создаваемой ею техники. Тогда человек действует вместе со
всеми ради счастья всех. Наиболее интересными методами
предотвращения страданий являются, однако, те, которыми
человек пытается воздействовать на собственный организм.
Ведь в конечном счете всякое страдание есть лишь
ощущение и существует лишь постольку, поскольку мы его
испытываем, а мы его испытываем только в силу определенного
устройства нашего организма.
Самым грубым, но и самым эффективным способом
является химическое воздействие, т. е. интоксикация. Я не
думаю, что кто-либо полностью понял механизм этого
воздействия, но факт остается фактом, и заключается он в том, что
существуют чуждые организму вещества, наличие которых
в крови и тканях непосредственно приносит нам чувство
наслаждения, а также так меняет условия нашей
эмоциональной жизни, что мы становимся неспособными к
восприятию неприятного. Оба эти воздействия не только
происходят одновременно, они кажутся и внутренне связанными.
Но вещества, создающие тот же эффект, должны
существовать и в нашем собственном организме; по крайней мере,
при таком заболевании, как мания, наблюдается поведение
как бы в состоянии дурмана без введения в организм
наркотиков. Кроме того, и в нормальной психической жизни
наблюдаются колебания между облегченными и более отя-
923
Зигмунд ФРЕЙД
гощенными формами разрядки чувства наслаждения, а
параллельно с этим — меньшая или большая восприимчивость
к неприятностям. Остается только пожалеть, что эта
токсикологическая сторона душевных процессов еще ускользнула
от научного исследования. Действие наркотиков в борьбе за
счастье и для устранения несчастья признано как
отдельными людьми, так и народами настолько благодетельным, что
они заняли почетное место в экономии (психоэнергетике)
их либидо. Наркотики ценятся не только за то, что они
увеличивают непосредственное наслаждение, но и за то, что они
позволяют достичь столь вожделенной степени
независимости от внешнего мира. Известно ведь, что при помощи
избавителя от забот можно в любой момент уйти от гнета
реальности и найти убежище в собственном мире, где царят
лучшие условия для восприятия ощущений. Известно, что
именно это свойство наркотиков обусловливает их вред и
опасность. На них иногда лежит вина за то, что большие
запасы энергии, которые могли бы быть использованы для
улучшения человеческой участи, растрачиваются зря.
Сложное строение нашего душевного аппарата
позволяет, однако, прибегать к целому ряду других воздействий.
Удовлетворение наших первичных позывов дает нам
счастье, но они же являются источником мучительных
страданий, когда внешний мир отказывается дать им
удовлетворение и обрекает нас на лишения. При помощи воздействия
на влечения первичных позывов можно, следовательно,
рассчитывать на освобождение от какой-то части страданий.
Этот способ защиты от страданий уже не воздействует
больше на аппарат наших ощущений, а стремится совладать с
внутренними источниками наших вожделений.
Радикальный способ заключается в умерщвлении первичных
позывов, как этому учит восточная мудрость и проводит в жизнь
практика йогов. Если это удается, то мы, конечно,
отказываемся и от всех иных форм деятельности (приносим в
жертву жизнь) и лишь другим путем достигаем того же
счастья покоя. По этому же пути можно идти, ставя перед
собой лишь более скромные цели — только контроля над
жизнью своих первичных позывов. Тогда господствующими
становятся высшие психические инстанции, подчинившиеся
924
Неудовлетворенность культурой
принципу реальности. Это отнюдь не означает отказа от
стремления к удовлетворению: известная защита от
страданий достигается благодаря тому, что неудовлетворение
контролируемых первичных позывов ощущается менее
болезненно, чем неудовлетворение необузданных первичных
позывов. Но это покупается ценой несомненного снижения
возможностей наслаждения. Ощущение счастья при
удовлетворении диких, не обузданных нашим «Я» влечений
несравненно более интенсивно, чем насыщение укрощенного
первичного позыва. Непреодолимость извращенных
импульсов, как и вообще притягательная сила запрещенного,
находит в этом свое психоэнергетическое объяснение.
Другая методика защиты против страданий пользуется
доступными нашему душевному аппарату смещениями
либидо, благодаря чему его функция приобретает столь
большую гибкость. Задача, требующая разрешения, заключается
в таком смещении направленности наших первичных
позывов, чтобы они не пострадали от лишений, встречаемых во
внешнем мире. Этому содействует сублимация первичных
позывов. Больше всего можно добиться при умении
достаточно повысить интенсивность наслаждения из источников
психической и интеллектуальной деятельности. Тогда
судьба мало чем может повредить. Удовлетворения такого рода,
как радость художника от процесса творчества, при
воплощении образов его фантазии, как радость исследователя при
решении проблем и в познании истины, имеют особое
качество, которое мы когда-нибудь, несомненно, сможем метап-
сихологически охарактеризовать. В данное время мы можем
лишь образно сказать, что эти удовлетворения кажутся нам
более «тонкими и возвышенными», но их интенсивность,
по сравнению с удовлетворением более грубых и
примитивных влечений, более приглушенная; они не потрясают нашу
физическую природу. Слабая сторона этого способа
заключается в том, что он непригоден для универсального
использования, а доступен лишь немногим людям. Он
предполагает наличие особенных, не так уж часто встречающихся
способностей и дарований должного уровня. Но даже этим
немногим этот способ не обеспечивает полной защиты от
страданий; он не дает им брони, непроницаемой для стрел
925
Зигмунд ФРЕЙД
судьбы, и обычно перестает помогать, когда источником
страдания становится собственная плоть1.
Если уже в этом способе явно вырисовывается намерение
стать независимым от внешнего мира путем поисков
удовлетворения во внутренних психических процессах, то в
последующем способе эти же черты выступают еще более
отчетливо. Тут связь с реальностью еще более ослаблена и
удовлетворение черпается из иллюзий, воспринимаемых как
таковые, без того чтобы их отклонения от действительности
мешали наслаждению. Сфера, в которой возникают эти
иллюзии, это сфера фантастической эмпирии; в свое время,
когда завершилось развитие принципа реальности, эта сфера
была решительно избавлена от необходимости сопоставления
с действительностью и зарезервирована для осуществления
трудновыполнимых желаний. Среди этого типа
удовлетворения в сфере фантазии на первом месте стоит наслаждение
произведениями искусства, которые при посредничестве
художника становятся доступными и для нетворческой
личности2. Каждый человек, восприимчивый к обаянию искусства,
не может недооценивать этого источника наслаждения и уте-
1 Когда особые склонности властно диктуют направления жизненным
интересам — простая, каждому доступная работа по специальности может занять
место, так мудро предусмотренное для нее Вольтером. В рамках краткого
обзора невозможно в достаточной мере оценить значение, которое имеет работа
для неихоэнергетики либидо. Никакая другая техника поведения в жизни не
связывает человека с реальностью так, как это делает увлечение работой,
вводящей его прочно по крайней мере в одну часть реальности — в реальность
человеческого общества. Возможность перемещать в область профессиональной
деятельности и связанные с нею формы человеческих взаимоотношений
значительную меру либидозных компонентов — нарциссических, агрессивных и
даже эротических — придает этой деятельности ценность, отнюдь не
уступающую ее значению как незаменимого средства для утверждения и оправдания
своего существования в обществе. Профессиональная деятельность даст
особенное удовлетворение, когда она свободно выбрана, когда она позволяет
использовать путем сублимации существующие наклонности, сохранившие свою
силу или консгитуционально усиленные влечения. И тем не менее люди мало
ценят труд как путь к счастью. Люди не так охотно прибегают к нему, как к
другим формам удовлетворения. Большинство людей работает только по
необходимости, и из этой прирожденной неприязни людей к труду проистекают
самые тяжелые социальные проблемы.
2 Ср.: Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens,
1911 (Ges. Werke. Bd. VIII) и Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse,
XXIII (Ges. Werke. Bd. XI).
926
Неудовлетворенность культурой
шения. Однако легкий наркоз, в который нас погружает
искусство, не может дать нам большего, чем мимолетное
отвлечение от тягот жизни; и оно недостаточно сильно, чтобы
заставить нас забыть реальное несчастье.
Более основательные и эффективные возможности
открывает нам способ, видящий единственного врага в самой
действительности, считающий ее источником всех
страданий, в той действительности, с которой невозможно
сосуществовать и с которой, для того чтобы хоть в каком-то смысле
быть счастливым, следует порвать всякие отношения.
Отшельник отвращается от мира и не хочет иметь с ним
никакого дела. Но можно сделать и больше, можно стремиться
этот мир преобразовать, создать вместо него мир иной, мир,
в котором были бы уничтожены его невыносимые черты
и заменены другими, соответствующими нашим желаниям.
Тот, кто в порыве возмущения и протеста становится на
этот путь к счастью, как правило, ничего не достигает —
действительность для него слишком непосильна. Он
становится безумным, не находящим по большей части никаких
помощников для осуществления своей химеры. Мы
встречаемся, однако, с утверждением, что каждый из нас,
стремясь исправить в желаемом духе какую-то невыносимую
для нас сторону мира и внося эту манию в область
действительности, в каком-то пункте ведет себя как параноик.
Особое значение приобретает случай, что большое
количество людей совместно предпринимают попытку безумным
преобразованием действительности обеспечить себе условия
для достижения счастья и защиты от страданий. Религии
человечества мы также должны отнести к категории такого
массового безумия. Сам принимающий в нем участие,
конечно, никогда своего безумия не сознает.
Я не думаю, что этот перечень методов, при помощи
которых человек старается достичь счастья и избежать
страданий, — исчерпывающий; я знаю также, что тут возможна
и иная классификация. Я еще не привел, однако, одного
способа не потому, что я о нем забыл, а потому, что мы им
займемся в другой взаимосвязи. Как можно было, однако,
забыть как раз об этой методике житейского искусства! Она
отличается удивительнейшим сплавом очень характерных
927
Зигмунд ФРЕЙД
черт. Конечно, и она направлена на обретение
независимости от судьбы — примем это название как наилучшее, — с
этой целью она переносит удовлетворение на внутренние
душевные процессы, используя при этом уже упомянутое
свойство перемещаемости либидо, но в данном случае
перемещение либидо направляется не в сторону от мира, а,
наоборот, крепко цепляется за объекты этого мира и
обретает счастье путем установления эмоционального
взаимоотношения с ним. Она не довольствуется при этом устало
отрешенной целью избежания страданий, она, скорее,
оставляет такую цель без внимания, а твердо придерживается
первоначального страстного стремления к положительному
достижению счастья. Возможно, что эта методика приводит
к цели скорее, чем какая-либо другая. Я имею в виду ту
ориентацию в жизни, которая ставит любовь в центр всего
и все удовлетворение видит в том, чтобы любить и быть
любимым. Такого рода психическая направленность нам
всем достаточно известна; одна из форм любви — половая —
приобщила нас к сильнейшему переживанию
ошеломляющего ощущения наслаждения, дав прообраз нашим
устремлениям к счастью. Поэтому вполне естественно, что мы
упорно продолжаем искать счастья на пути, на котором
впервые с ним встретились. Но очевидна и слабая сторона этой
житейской методики, иначе никому не пришло бы в голову
оставить этот путь к счастью для поисков другого. Мы
никогда не бываем более беззащитными по отношению к
страданиям, чем когда мы любим, и никогда не бываем более
безнадежно несчастными, чем когда мы потеряли любимое
существо или его любовь. Но этим еще не
исчерпывается значение этой житейской методики, использующей
любовь как основу счастья; по этому поводу еще многое можно
сказать.
Тут следует упомянуть о том интересном факте, что
жизненное счастье ищется преимущественно в наслаждении
прекрасным, где бы оно ни предстало перед нашим
чувственным или рассудочным взором — в области ли
человеческих форм и жестов, в области ли творений природы или в
ландшафтах, в области ли художественного или даже
научного творчества. Такое эстетическое отношение к жизнен-
928
Неудовлетворенность культурой
ной цели не дает достаточной защиты от грозящих нам
страданий, но может нас во многом компенсировать.
Наслаждение прекрасным носит особый, слегка дурманящий
эмоциональный характер. Польза прекрасного отнюдь не ясна, его
культурная необходимость тоже неочевидна, и все же
культура не может без него обойтись. Эстетическая наука
исследует условия, при которых воспринимается прекрасное, но
она не может дать нам никаких разъяснений о природе и
происхождении прекрасного; и, как обычно, отсутствие
результатов исследования прикрывается потоком
высокопарных и бессодержательных слов. К сожалению, психоанализ
весьма мало что может сказать о существе прекрасного.
Установленным кажется лишь происхождение прекрасного
из сферы сексуальных ощущений: такое происхождение
могло бы быть отличным примером заторможенного в
смысле цели влечения. «Прекрасное» и «возбуждающее» —
первоначально это свойства сексуального объекта. Но
удивительно, однако, что сами половые органы, вид которых
всегда действует возбуждающе, почти никогда не считаются
красивыми, характер же прекрасного как будто связан с
известными вторичными половыми признаками.
Несмотря на эту неполноту, я все же осмелюсь сделать
некоторые заключительные замечания к нашему
исследованию. Программа того, как сделаться счастливым, к
осуществлению которой нас принуждает принцип наслаждения, не
может быть реализована, и тем не менее мы не должны —
нет, вернее, мы не можем — прекратить усилия для того,
чтобы каким-то образом приблизиться к ее реализации. При
этом можно выбирать самые различные пути, отдавая
предпочтение либо стремлению к положительному содержанию
цели — к наслаждению, либо стремлению к ее негативному
содержанию — к предотвращению неудовольствия. Ни на
одном из этих путей мы не можем достичь того, чего
желаем. Счастье, в том умеренном значении, в котором оно
рассматривается как возможное, есть проблема
индивидуальной экономии либидо. И тут нельзя дать пригодного для
всех совета — каждый сам должен пытаться стать
счастливым на свой собственный лад. Самые различные факторы
будут оказывать влияние на направление его выбора. Дело
30-3518
929
Зшмунд ФРЕЙД
зависит от того, насколько велико реальное удовлетворение,
которого человек ждет от внешнего мира, и в какой мере он
намерен стать от него зависимым; наконец, на какие
собственные силы он рассчитывает, чтобы изменить этот мир
согласно своим желаниям. И уже поэтому, помимо внешних
обстоятельств, решающую роль будет играть психическая
структура личности. Человек преимущественно эротический
поставит на первое место эмоциональные взаимоотношения
с другими людьми; человек, скорее, самоудовлетворенного,
нарциссического характера будет искать удовлетворение в
основном в своих внутренних душевных процессах; человек
действия не оставит внешний мир, на арене которого он
может испытывать свои силы. Для человека,
принадлежащего к среднему из этих типов, область, на которую он должен
будет обратить свои интересы, определится характером его
дарований и мерой возможного для него сублимирования
первичных позывов. Каждое крайнее решение будет
наказано тем, что избравший его человек подвергнет себя риску,
связанному с недостатками той или иной исключительно
избранной житейской методики. Так же как
осмотрительный купец остерегается вкладывать весь капитал только в
одно дело, так, вероятно, и житейская мудрость не
посоветует ждать всего удовлетворения только от одного-единст-
венного устремления. Успех никогда не обеспечен, он
зависит от сочетания многих факторов и, вероятно, ни от одного
из них не зависит в той мере, как от способности
психической структуры приспосабливаться к окружающему миру и
извлекать из него наслаждение. Тому, кто вырос с особенно
неблагоприятной структурой первичных позывов и кто не
произвел правильного перераспределения и упорядочения
компонентов либидо, необходимых для дальнейшей
деятельности, трудно будет извлечь счастье из окружающей
обстановки, особенно если он будет поставлен перед трудными
задачами. В качестве крайней житейской методики, сулящей
по меньшей мере суррогат удовлетворения, перед ним
открывается возможность бегства в невротическое
заболевание, что часто и происходит уже в юном возрасте. Тот,
однако, кто обнаруживает крушение своих попыток достичь
счастья в более позднем возрасте, находит еще утешение
930
Неудовлетворенность культурой
в получении наслаждения от хронической интоксикации или
прибегает к отчаянной попытке восстания, к психозу1.
Религия затрудняет эту проблему выбора и
приспособления тем, что она всем одинаково навязывает свой путь к
счастью и к защите от страдания. Ее методика заключается в
умалении ценности жизни и в химерическом искажении картины
реального мира, что предполагает предварительное
запугивание интеллекта. Такой ценой, путем насильственного
закрепления психического инфантилизма и включения в систему
массового безумия, религии удается спасти многих людей от
индивидуального невроза. Но едва ли больше; как уже было
сказано, к счастью ведут многие, доступные человеку, пути,
хотя ни один из них не приводит к цели наверняка. Не может
выполнить своих обещаний и религия. Когда верующий в
конце концов принужден ссылаться на «неисповедимые пути
Господни», он этим только признает, что в его страданиях, в
качестве последнего утешения и источника наслаждения, ему
остается лишь безоговорочное подчинение. Но если он к
этому уже готов, то, вероятно, мог бы и миновать окольные пути.
ш
Наше исследование о счастье пока дало нам мало
такого, что не было бы общеизвестным. Даже если мы
продолжим исследование, поставив вопрос, почему людям так трудно
стать счастливыми, то, кажется, от этого шансы на получение
чего-то нового не слишком увеличатся. Мы уже ответили на
этот вопрос указанием на три источника, из которых
проистекают наши страдания: превосходящие силы природы,
бренность нашего собственного тела и недостатки установлений,
регулирующих наши отношения друг с другом в семье, в го-
1 Я принужден указать по меньшей мерс на один пробел, оставшийся в
приведенных выше рассуждениях. При рассмотрении человеческих шансов на
счастье не следует упускать из виду относительную взаимосвязь между
нарциссизмом и направленностью либидо на объект. Необходимо было бы выяснить,
какое значение для экономии либидо имеет направленность главным образом
на себя.
931
Зигмунд ФРЕЙД
сударстве и в обществе. Что касается первых двух, то тут при
вынесении суждения нет оснований для больших колебаний:
мы должны признать эти источники страданий и подчиниться
неизбежному. Мы никогда не можем достичь полного
господства над природой, наш организм — сам часть этой природы —
всегда останется структурой бренной и ограниченной в своих
возможностях приспособления и деятельности. Из этой
констатации отнюдь не проистекают обескураживающие
последствия, наоборот, она дает указание для направления нашей
деятельности. Тысячелетний опыт нас убедил, что если и не
все, то хотя бы некоторые страдания мы можем устранить, а
другие смягчить. Иначе мы относимся к третьему,
социальному источнику наших страданий. Его мы вообще оставляем без
внимания; мы не в состоянии понять, почему нами самими
созданные установления не должны были бы стать для всех
нас скорее защитой и благом. Однако если мы обратим
внимание на то, как плохо нам удалось создать себе как раз
защиту от этих страданий, то возникнет подозрение: а не
скрывается ли и здесь какая-то часть непобедимых сил природы,
в данном случае наши собственные психические свойства?
Когда мы начинаем рассматривать эту возможность, мы
наталкиваемся на одно утверждение, столь поразительное,
что нам стоит на нем остановиться. Это утверждение гласит,
что большую долю вины за наши несчастья несет так
называемая культура: мы были бы гораздо счастливее, если бы от
нее отказались и восстановили первобытные условия. Я
нахожу это утверждение поразительным, так как, что бы мы ни
подразумевали под понятием культуры, несомненно одно:
все то, чем мы пытаемся защищаться от грозящих нам
источников страдания, принадлежит именно этой культуре.
Какими путями столь многие люди пришли к этой
точке зрения, к этой странной враждебности по отношению к
культуре? Я полагаю, что давно существующее глубокое
недовольство соответствующим состоянием культуры создало
почву, на которой затем в определенных исторических
условиях возникли поводы для ее осуждения. Мне кажется, что я
могу установить последний и предпоследний из этих поводов;
я не обладаю достаточной эрудицией, чтобы развернуть эту
цепь достаточно далеко в глубь истории человеческого рода.
932
Неудовлетворенность культурой
Подобный фактор враждебности к культуре должен был
играть роль уже при победе христианства над языческими
религиями. Он был близок к обесценению земной жизни,
последовавшему в результате христианского учения.
Предпоследний повод появился, когда развитие исследовательских
экспедиций привело нас в соприкосновение с примитивными
народами и племенами. Из-за недостаточного наблюдения за
их нравами и обычаями и неправильного их понимания
многим европейцам показалось, что эти люди ведут простой,
непритязательный и счастливый образ жизни, недостижимый
для культурно превосходящих их посетителей.
Дальнейший опыт внес поправки в некоторые суждения
такого рода; во многих случаях известная доля жизненного
облегчения была ошибочно приписана отсутствию
запутанных требований культуры, в то время как это объяснялось
великодушием богатой природы и легкостью
удовлетворения насущных потребностей. Последний повод нам хорошо
известен, он появился после ознакомления с механизмами
неврозов, грозящих отнять у цивилизованного человека и то
маленькое счастье, которое он имеет. Было обнаружено, что
человек становится невротиком, потому что он не может
вынести суммы ограничений, налагаемых на него
обществом, преследующим свои культурные идеалы; из этого было
сделано заключение, что можно было бы вернуть
потерянные возможности счастья, если бы эти ограничения были
сняты или значительно понижены.
К этому следует присовокупить еще один момент
разочарования. В течение жизни последних поколений люди
достигли необычайного професса в области естественных наук
и их технического применения, человеческое господство над
природой утвердилось так, как раньше трудно было себе и
вообразить. Отдельные подробности этого професса
общеизвестны, и едва ли стоит их перечислять. Люди гордятся
своими достижениями и имеют на это право. Но им показалось,
что все это недавно достигнутое господство над
пространством и временем, это подчинение себе сил природы,
исполнение чаяний тысячелетней давности не увеличили меру
удовлетворения жажды наслаждения, ожидавшуюся ими от
жизни, и не сделали их, по их ощущению, более счастливыми.
933
Зигмунд ФРЕЙД
При такой констатации следовало бы удовлетвориться
выводом, что власть над природой не является единственным
условием человеческого счастья, так же как она не
является и единственной целью культурных устремлений, а не
приходить к заключению о бесполезности техники для
баланса счастья. Но ведь можно было бы и возразить: а разве не
является положительным достижением для наслаждения,
несомненным выигрышем для нашего ощущения счастья то,
что я имею возможность сколь часто мне угодно слышать
голос моего ребенка, находящегося от меня на расстоянии
сотен километров, или что я через кратчайший срок по
приезде друга могу узнать, что он благополучно перенес длинное
и утомительное путешествие? Разве не имеет никакого
значения, что медицине удалось так необычайно сильно
уменьшить смертность малолетних детей и опасность инфекции
женщин при родах и что вообще средняя продолжительность
жизни цивилизованного человека возросла на значительное
количество лет? К перечню этих благ, которыми мы обязаны
столь осуждаемой эпохе научного и технического прогресса,
можно было бы еще многое добавить, но тут мы опять
услышим голос пессимистически настроенного критика,
напоминающий нам, что большинство из этих удовлетворений
происходит по образцу «дешевых удовольствий», восхваляемых
в известном анекдоте. Такое удовольствие можно себе
доставить, выпрастывая в лютую зиму ногу из-под одеяла и пряча
ее затем обратно. Ведь если бы не было железных дорог,
преодолевающих расстояния, ребенок никогда не покидал бы
родного города и мы тогда не нуждались бы в телефоне,
чтобы услышать его голос. Если бы не было открыто
пароходное сообщение через океан, то соответствующего
морского путешествия не предпринял бы мой друг, а я не нуждался
бы в телеграфе, чтобы получить от него успокоительное
сообщение. Какая польза нам от уменьшения детской
смертности, если именно это принуждает нас к крайнему
воздержанию в деторождении, так что теперь мы в общей
сложности не взращиваем большего числа детей, чем во времена до
господства гигиены, обременив при этом нашу сексуальную
жизнь в браке тяжкими условиями и действуя, возможно,
наперекор благодетельным законам естественного отбора?
934
Неудовлетворенность культурой
А к чему, наконец, нам долгая жизнь, если она так тяжела,
так бедна радостями и полна страданиями, что мы готовы
приветствовать смерть как освободительницу?
Поэтому можно, пожалуй, утверждать, что в нашей
современной культуре мы чувствуем себя плохо, хотя очень
трудно вынести суждение по поводу того, чувствовали ли
себя счастливее и насколько люди прежних времен и какую
роль при этом играли условия их культуры. Мы всегда
будем склонны рассматривать несчастье объективно, т. е.
переносить себя, с нашими требованиями и восприимчивостью,
в соответствующие условия, чтобы проверить, какие могли
быть там найдены мотивы для наших ощущений счастья или
несчастья. Этот способ рассуждения кажется объективным,
так как он предполагает абстрагирование от колебаний в
субъективной восприимчивости, на самом же деле этот
способ самый субъективный, так как он применим только путем
подмены иной и неизвестной душевной позиции позицией
своей собственной. Но ведь счастье есть нечто сугубо
субъективное. Нас сколько угодно может ужасать определенная
обстановка, в которой находились древние рабы на галерах,
крестьяне во время Тридцатилетней войны, жертвы
священной инквизиции, еврей в ожидании погрома, но мы не можем
вжиться в душевный мир этих людей и постичь изменения,
происшедшие в их восприимчивости по отношению к
ощущениям наслаждения и неприятностей, вследствие
прирожденной нечувствительности, постепенного отупения, потери
надежд, грубых или мягких форм дурмана. В случае самых
тяжелых испытаний вступают в строй определенные
душевные защитные механизмы. Мне кажется бесплодным
дальнейшее исследование этой стороны проблемы.
Сейчас своевременно заняться сущностью той культуры,
чья ценность как источника счастья была подвергнута
сомнению. Не будем стремиться найти формулу,
определяющую эту сущность в нескольких словах, прежде чем мы
чего-то не узнаем из нашего исследования. Поэтому
ограничимся повторением1, что термин «культура» обозначает всю
1 См.: «Будущее олной иллюзии» (Die Zukunft einer Illusion), 1927 (Ges.
Werke. Bd. XIV).
935
Зигмунд ФРЕЙД
сумму достижений и установлений, отличающих нашу жизнь
от жизни наших предков из животного мира и служащих
двум целям: защите человека от природы и урегулированию
отношений между людьми. Для лучшего понимания
рассмотрим подробно характерные черты культуры, какими они себя
проявляют в человеческих коллективах. При этом без
опасений позволим себе руководствоваться обычным
словоупотреблением или, как говорится, будем следовать чувству
языка в расчете на то, что таким образом мы сможем учесть
внутреннее содержание, еще противящееся выражению в
абстрактных терминах.
Начать легко: мы признаем в качестве свойственных
культуре все формы деятельности и ценности, которые приносят
человеку пользу, способствуют освоению земли, защищают
его от сил природы и т. п. По поводу этого аспекта культуры
возникает меньше всего сомнений. Заглядывая достаточно
далеко в прошлое, можно сказать, что первыми деяниями
культуры были применение орудий, укрощение огня,
постройка жилищ. Среди этих достижений выделяется, как
нечто чрезвычайное и беспримерное,— укрощение огня1, что
касается других, то с ними человек вступил на путь, по
которому он с тех пор непрерывно и следует; легко догадаться
1 Психоаналитический материал, при всей его неполноте и
недостоверности интерпретации, позволяет высказать но крайней мерс одно звучащее
фантастически предположение относительно происхождения этого огромного
человеческого достижения. Для первобытного человека было как будто обычным
при встрече с огнем тушить его струей своей мочи, находя в этом детское
наслаждение. Существующие легенды не позволяют сомневаться в
первоначальном фаллическом толковании взвивающихся ввысь языков пламени.
Тушение огня при помощи поливания его мочой — вспомним, что к этому позже
прибегали и дети-гиганты — Гулливер в стране лилипутов и Гаргантюа у
Рабле — было, таким образом, подобно сексуальному акту с мужчиной,
наслаждению мужской потенцией в гомосексуальном соревновании. Тот, кто первый
отказался от этого наслаждения, кто пощадил огонь, тот смог унести его с
собой и поставить себе на службу. Он укротил огонь природы тем, что
заглушил огонь своего собственного сексуальною возбуждения. Эта большая победа
цивилизации стала как бы наградой за то, что человек превозмог свой
инстинкт. В дальнейшем женщина как бы была избрана в качестве
хранительницы плененного и закрепленного в домашнем очаге огня, потому что она по
своему анатомическому строению не могла поддаться соблазну наслаждения
такого рода. Стоит при этом также отметить, сколь регулярны свидетельства
психоаналитического опыта о взаимосвязи между тщеславием, огнем и
уретральной эротикой.
936
Неудовлетворенность культурой
о мотивах, приведших к их открытию. При помощи всех
своих орудий человек усовершенствует свои органы — как
моторные, так и сенсорные — или раздвигает рамки их
возможностей. Моторы предоставляют в его распоряжение
огромные мощности, которые он, как и свои мускулы, может
использовать в любых направлениях. Пароход и самолет
позволяют ему беспрепятственно передвигаться по воде и по
воздуху. При помощи очков он исправляет недостатки
кристаллика своего глаза; при помощи телескопа он видит
далеко вдаль, а микроскопы позволяют ему преодолеть границы
видимости, поставленные ему строением его сетчатки. Он
создал фотографическую камеру — аппарат, фиксирующий
самые мимолетные зрительные впечатления, что
граммофонная пластинка позволяет ему сделать в отношении столь же
преходящих звуковых впечатлений; и то и другое является,
по существу, материализацией заложенной в нем
способности запоминать, его памяти. При помощи телефона он
слышит на таком расстоянии, которое даже в сказках казалось
немыслимым, письменность первоначально — язык
отсутствующих, жилище — подмена материнского чрева, первого и,
вероятно, по сей день вожделенного обиталища, в котором
человек чувствовал себя так надежно и хорошо.
Это звучит не только как сказка, это просто исполнение
всех — нет, большинства — сказочных пожеланий; и все это
осуществлено человеком при помощи науки и техники на
земле, на которой он сначала появился как слабое животное,
на которой и теперь каждый индивид должен появляться
как беззащитный младенец — Oh, inch of nature! (О, дюйм
природы!). Все это достояние он может рассматривать как
достижение культуры. С давних времен человек создавал
себе идеальное представление о всемогуществе и всезнании,
которые он воплощал в облике своих богов, приписывая им
все, что казалось ему недостижимым для его желаний или
что было ему запрещено. Поэтому можно сказать, что боги
были идеалами культуры. И вот ныне человек значительно
приблизился к достижению этих идеалов и сам стал почти
богом. Правда, лишь в той мере, в какой идеалы достижимы
по обычному человеческому разумению. Не полностью, в
каких-то случаях и вообще не стал, а в иных лишь наполо-
937
Зигмунд ФРЕЙД
вину. Человек таким образом как бы стал чем-то вроде Бога
на протезах, очень могущественным, когда он применяет все
свои вспомогательные органы, хотя они с ним и не срослись
и порой причиняют ему еще много забот. Но человек вправе
утешаться тем, что это развитие не кончится 1930-м годом
нашей эры. Будущие времена принесут новый прогресс в
этой области культуры, который, вероятно, трудно себе даже
представить и который еще больше увеличит богоподобие
человека. Но в интересах нашего исследования мы не
должны забывать, что современный человек, при всем своем бо-
гоподобии, все же не чувствует себя счастливым.
Итак, мы считаем, что та или иная страна достигла высот
культуры, если видим, что в ней все, что касается
использования человеком земли и защиты его от сил природы,
тщательно и целесообразно обеспечено, т.е., короче говоря,
обращено на пользу человека. В такой стране реки, грозящие
наводнениями, урегулированы в своем течении, а их воды
отведены через каналы в те места, где в них есть нужда.
Почва тщательно возделана и засеяна растениями, для
произрастания которых она пригодна; ископаемые богатства
усердно подаются на-гора и перерабатываются в требуемые
орудия и аппараты. Средств сообщения много, они быстры
и надежны; дикие и опасные животные уничтожены, а
разведение прирученных домашних животных процветает. Но
к культуре мы предъявляем и иные требования и, как это
ни удивительно, рассчитываем увидеть их реализованными в
тех же странах. Дело происходит так, как если бы мы,
отказавшись от нашего первоначального критерия,
приветствовали в качестве достижения культуры заботу человека о вещах,
которые ни в коей мере не являются полезными, а скорее
кажутся бесполезными, например, когда мы отмечаем, что
парковые насаждения, необходимые для города в качестве
площадок для игр или резервуаров свежего воздуха,
используются также и для цветочных клумб, или когда мы
отмечаем, что окна в квартирах украшены цветочными горшками.
Легко заметить, что бесполезное, оценку которого мы ждем
от культуры, есть не что иное, как красота; мы требуем,
чтобы культурный человек почитал красоту каждый раз, как он
с ней сталкивается в природе, и чтобы он ее создавал пред-
938
Неудовлетворенность культурой
метно, в меру возможностей труда своих рук. И этим еще
далеко не исчерпываются наши притязания к культуре. Мы
хотим еще видеть признаки чистоты и порядка. У нас не
создается высокого мнения о культуре английского
провинциального города времен Шекспира, когда мы читаем, что у
дверей его родительского дома в Стратфорде лежала высокая
куча навоза; мы возмущаемся и осуждаем как варварство, т. е.
как антипод культуры, когда мы замечаем, что дорожки
Венского парка усеяны разбросанными бумажками. Любая грязь
кажется нам не совместимой с культурой; требования
чистоплотности распространяем мы и на человеческое тело; мы
с удивлением узнаем о том, какой плохой запах шел от
особы Короля-Солнца, и покачиваем головой, когда на Isola
bella1 нам показывают крошечный тазик для мытья, которым
пользовался Наполеон для своего утреннего туалета. Мы
отнюдь не удивляемся, когда кто-то считает потребление мыла
прямым критерием высокого уровня культуры. То же можно
сказать и в отношении порядка, который, так же как и
чистота, полностью является творением рук человеческих. Но в
то время как рассчитывать на чистоту в природе едва ли
приходится, порядок нами скопирован, скорее всего, именно
с нее, наблюдение над большими астрономическими
закономерностями создало для человека не только прообраз, но
и первые исходные предпосылки для установления порядка
в собственной жизни. Порядок — это своего рода
принудительность повторения, будучи раз установленным, он
определяет, что, когда и как должно быть сделано, чтобы в
каждом аналогичном случае можно было бы избежать
промедления и колебания. Благо порядка нельзя отрицать, он
обеспечивает человеку наилучшее использование
пространства и времени и экономит его психические силы. Мы были
бы вправе рассчитывать, что порядок с самого же начала и
без принуждения установится в сфере человеческой
деятельности, и можно только удивляться, что этого не случилось;
человек в своей работе скорее обнаруживает врожденную
1 Букв, «прекрасный остров» (um.). Остров на озере Маджорс (Северная
Италия), па котором жил Наполеон перед битвой при Маренго в 1800 году. —
Ред.
939
Зигмунд ФРЕЙД
склонность к небрежности, неупорядоченности, он
ненадежен, и только с большим трудом его можно воспитать так,
чтобы он стал подражать небесным образцам порядка.
Красота, чистоплотность и порядок занимают, очевидно,
особое место в ряду требований, предъявляемых культурой.
Никто не будет утверждать, что они столь же жизненно
необходимы, как и господство над силами природы и другие
факторы, с которыми нам еще предстоит познакомиться; но
и никто охотно не согласится рассматривать их как нечто
второстепенное. То, что культура заботится не только о
пользе, нам показывает уже пример с красотой, которая не может
быть исключена из сферы культурных интересов. Польза
порядка вполне очевидна, что же касается чистоты, то мы
должны принять во внимание, что ее требует гигиена, и мы можем
предположить, что понимание этой зависимости не было
полностью чуждо людям и до эпохи научного предупреждения
болезней. Но польза не объясняет нам полностью это
стремление; тут должно быть замешано еще что-то другое.
Никакая другая черта культуры не позволяет нам, однако,
охарактеризовать ее лучше, чем ее уважение к высшим
формам психической деятельности, к интеллектуальным,
научным и художественным достижениям и забота о них, чем
ведущая роль, которую она отводит значению идей в жизни
человека. Среди этих идей во главе стоят религиозные
системы, сложное построение которых я постарался осветить в
другом месте; затем следуют философские дисциплины и,
наконец, то, что можно назвать формированием человеческих
идеалов, т.е. представления о возможном совершенстве
отдельной личности, целого народа или всего человечества и
требования, на основании этих представлений выдвигаемые.
Так как эти творческие процессы не протекают независимо
друг от друга, а скорее друг с другом тесно переплетены, это
затрудняет как их описание, так и психологическое
исследование их генезиса. Если мы в самом общем порядке примем,
что пружина всей человеческой деятельности заключается в
устремлении к двум взаимосвязанным целям — пользе и
получению наслаждения, то мы должны признать это
действительным и для вышеприведенных культурных проявлений,
хотя это легко заметить только в отношении научной и худо-
940
Неудовлетворенность культурой
жественной деятельности. Но не приходится сомневаться, что
и другие формы соответствуют каким-то сильным
человеческим потребностям, хотя они, быть может, развиты только у
меньшинства. Не следует также давать вводить себя в
заблуждение оценочными суждениями по поводу отдельных
религиозных или философских систем и их идеалов; будем ли мы
их рассматривать как величайшие достижения человеческого
духа или осуждать как заблуждения, мы должны признать,
что их наличие, а в особенности их господствующее
положение, является показателем высокого уровня культуры.
В качестве последней, однако, отнюдь не маловажной
характерной черты культуры мы должны принять во внимание
способ, каким регулируются отношения людей между собой,
т. е. социальные отношения, касающиеся человека как соседа,
как вспомогательной рабочей силы, как чьего-нибудь
сексуального объекта, как члена семьи или государства. В этой
сфере будет особенно трудно отрешиться от определенных
идеальных требований и выделить то, что относится к
культуре как таковой. Быть может, следовало бы начать с
утверждения, что фактор культуры появляется с первой же попытки
установить эти социальные взаимоотношения. Если бы не
было такой попытки, эти взаимоотношения подчинились бы
своеволию каждой отдельной личности, т. е. устанавливались
бы в зависимости от физической силы этой личности и
согласно ее интересам и влечениям. Положение не менялось
бы от того, что эта сильная личность наталкивалась бы, в
свою очередь, на личность еще более сильную. Совместная
человеческая жизнь становится возможной только тогда,
когда образуется некое большинство, более сильное, чем
каждый в отдельности, и стойкое в своем противопоставлении
каждому в отдельности. Власть такого коллектива
противостоит тогда как «право» власти отдельного человека, которая
осуждается как «грубая сила». Эта замена власти отдельного
человека властью коллектива и есть решительный шаг на
пути культуры. Сущность этого шага заключается в том, что
члены коллектива ограничивают себя в своих возможностях
удовлетворения, в то время как отдельный человек не
признает этих рамок. Первое требование культуры заключается,
следовательно, в требовании справедливости, т.е. гарантии
941
Зигмунд ФРЕЙД
того, что раз установленный правовой порядок не будет
вновь нарушен в чью-либо индивидуальную пользу. Но этим
еще не решается вопрос об этической ценности такого права.
Дальнейшее культурное развитие как будто бы направлено
на то, чтобы такого рода право не стало волеизъявлением
небольшого коллектива — касты, прослойки населения,
племени, — правом коллектива, который по отношению к
другим, может быть даже более многочисленным, массам занял
бы позицию, подобную позиции индивидуального
насильника. Конечным результатом должно явиться право, в создании
которого участвовали бы все (по меньшей мере все
способные к общественному объединению), пожертвовавшие своим
инстинктом, право (с тем же ограничением), которое не
позволяет никому стать жертвой грубой силы.
Индивидуальная свобода не есть достижение культуры.
Она была максимальной еще до всякой культуры, правда
тогда она не имела большой цены, так как единичный
человек едва ли был в состоянии ее защитить. Развитие культуры
налагает ограничения на эту свободу, а справедливость
требует, чтобы от этих ограничений никому нельзя было
уклониться. То, что в человеческом обществе проявляется как
жажда свободы, может быть направлено на борьбу с
существующей несправедливостью и в этом смысле быть
благоприятным для дальнейшего развития культуры. Но это же может
брать свое начало в недрах первобытной, неукрощенной
культурой личности и тогда быть враждебным самим
основам культуры. Жажда свободы, таким образом, или
направлена против отдельных форм и притязаний культуры, или
вообще против культуры. Едва ли какое-либо воздействие
может позволить преобразовать природу человека в природу
термита; он, вероятно, всегда будет защищать, вопреки воле
масс, свое притязание на индивидуальную свободу.
Значительная часть борьбы человечества концентрируется вокруг
одной задачи — найти целесообразное, т.е. счастливое,
равновесие между индивидуальными требованиями и
культурными требованиями масс; одна из роковых проблем
заключается в том, достижимо ли это равновесие при помощи
определенной организации человечества или этот конфликт
останется непримиримым.
942
Неудовлетворенность культурой
До тех пор пока мы руководствовались общим
впечатлением о том, какие черты в жизни людей могут быть названы
культурными, мы создали себе довольно ясное представление
об общем характере культуры, однако пока еще не узнали
ничего, что не было бы общеизвестным. При этом мы старались
избежать предрассудка, который ставит знак равенства между
культурой и совершенством или путем к этому совершенству,
для человека предрешенным. Теперь, однако, напрашивается
подход, который, возможно, уведет нас в иную сторону.
Культурное развитие представляется нам в виде какого-то
своеобразного процесса, протекающего в среде человечества и как
будто напоминающего нечто знакомое. Этот процесс можно
охарактеризовать изменениями, вызываемыми им в сфере
наших инстинктивных предрасположений, удовлетворение
которых и есть психоэкономическая задача нашей жизни.
Некоторые из этих первичных позывов ослабляются таким
образом, что на их месте появляется то, что мы в случае отдельного
индивида называем чертами характера. Самый яркий пример
этого процесса был обнаружен в области детской анальной
эротики. По мере повзросления первоначальный интерес к
экскрементам, к функции дефекации, к ее органам и
продуктам заменяется рядом свойств, которые нам известны как
бережливость, стремление к порядку и чистоте; эти качества,
ценные и желанные сами по себе, могут стать явно
преобладающими, и тогда получается то, что называется анальным
характером. Мы не знаем, как это происходит, но в
правильности этого взгляда не можем сомневаться \ Но вот мы
обнаружили, что порядок и чистоплотность являются
существенными требованиями культуры, хотя их жизненная
необходимость отнюдь не очевидна, так же как и их пригодность в
качестве источников наслаждения. В этом пункте нам
впервые бросается в глаза сходство между культурным процессом
и развитием либидо отдельного человека. Другие первичные
позывы принуждаются к изменению условий своего
существования, к переключению на другие пути, что совпадает в
большинстве случаев с хорошо известным нам процессом суб-
1 См.: Charakter und Analerotik, 1908 (Ges. Werke. Bd. VII) и
многочисленные работы Э.Джонса и др.
943
Зигмунд ФРЕЙД
лимации (целей первичных позывов), но в некоторых случаях
может быть и отличным от него явлением. Сублимация
первичных позывов — особенно ярко выраженная черта
культурного развития; именно она дает возможность высшим формам
психической деятельности — научной, художественной и
идеологической — ифать в культурной жизни столь значительную
роль. Под влиянием первого впечатления появляется
искушение сказать, что сублимация вообще есть навязанная
культурой судьба первичных позывов. Но над этим вопросом следует
еще поразмыслить. В-третьих, наконец,— и это кажется нам
наиболее существенным, — невозможно не заметить, в какой
мере культура вообще построена на отказе от первичных
позывов, в какой мере ее посылкой является неудовлетворение
(подавление, вытеснение или еще что-нибудь?) самых
сильных первичных позывов. Эти «культурные лишения»
являются доминирующими в большой области социальных
взаимоотношений людей; мы уже знаем, что здесь кроется причина
враждебности, с которой приходится бороться всем
культурам. Эти же обстоятельства предъявляют большие требования
и к нашей научной работе; мы должны многое разъяснять.
Нелегко понять, как можно лишить первичный позыв
возможности удовлетворения. Это отнюдь не так безопасно; если не
принять мер для психоэкономической компенсации, следует
считаться с возможностью серьезных потрясений.
Если мы хотим, однако, выяснить, какова возможная
ценность нашего взгляда на культурное развитие как на
особый процесс, сравнимый с нормальным созреванием
индивида, — мы, очевидно, должны будем заняться другой
проблемой, а именно: поставить себе вопрос, с какими
влияниями связано происхождение культурного развития, как оно
возникло и чем определяется его течение.
IV
Эта задача кажется чрезмерной, и следует признаться,
что от нее можно впасть в уныние. Вот то немногое, что мне
удалось разгадать.
944
Неудовлетворенность кулыпурой
\
После того как примитивный человек открыл, что
возможность улучшения его судьбы на Земле при помощи труда
находится — буквально — в его руках, ему не могло быть
безразлично, работает ли кто-либо другой с ним или против
него. Этот другой приобрел для него ценность сотрудника,
совместная жизнь с которым была полезной. Еще раньше, в
своем обезьяноподобном прошлом, он приобрел привычку
создавать семью; члены семьи и были, вероятно, его первыми
помощниками. Создание семьи было, вероятно, связано с тем,
что нужда в половом удовлетворении перестала посещать
человека неожиданно, как гостья, с тем чтобы после ее отбытия
долго о себе ничего не давать знать, а поселилась у человека
прочно, как постоянный жилец. Так появилась у мужчины-
самца причина, чтобы держать при себе постоянно женщину-
самку или, в более общем смысле, — свой сексуальный объект;
что касается женщины, то она, не желая расставаться со
своими беззащитными детенышами, должна была в их интересах
оставаться с более сильным мужчиной1. В среде такой при-
1 Органическая периодичность сексуального процесса хотя и осталась, но
ее влияние на психическое сексуальное возбуждение превратилось, скорее, в
нечто противоположное. Это изменение, вероятнее всего, связано с
уменьшением раздражения, которое вызывалось в мужской психике запахом
менструации. Эта роль была перенята зрительными раздражениями, которые, в отличие
от перемежающегося характера обонятельного раздражения, могли вызывать
постоянный эффект. Табу менструации возникло из этого органического
вытеснения как защита против пройденного этапа эволюции: все другие причины
имеют, вероятно, вторичный характер (ср.: Daly С. L. Hindumythologie und
Kastrationskomplex // Imago. Bd. XIII, 1927).
Этот процесс повторяется на другом уровне, когда боги пройденного
культурного этапа становятся демонами. Падение значения обонятельного
раздражения само, вероятно, является следствием отрыва человека от земли, его
решения перейти к ходьбе в выпрямленном положении, что сделало половые
органы видимыми и требующими защиты, вызывая этим чувство стыда.
Выпрямление человека как бы стало роковым моментом в процессе развития
культуры. Цепная последовательность идет отсюда, через обесценение
обонятельных раздражений и изоляцию женщины в период менструации, к
преобладанию зрительных раздражений, обнажению половых органов и дальше — к
постоянству сексуального возбуждения, к созданию семьи и, таким образом, к
порогу основания человеческой культуры. Все это лишь теоретическое
умозрение, но достаточно важное, чтобы подвергнуть точному обследованию образ
жизни животных, наиболее близких к человеку.
Уже в культурном стремлении к чистоте, нашедшем свое последующее
оправдание в требованиях гигиены, но существующем и до приобретения этого
значения, можно, несомненно, отметить наличие социального момента. Тяга к
945
Зигмунд ФРЕЙД
митивной семьи отсутствует еще одна культурная черта:
произвол главы семьи и отца был неограниченным. В «Тотеме
и табу» я попытался показать путь, который ведет от такой
семьи к следующей ступени совместной жизни в виде братств.
При расправе над отцом сыновья убедились на опыте,
что объединение может быть сильнее каждого в
отдельности. Тотемическая культура покоится на ограничениях,
которые должны были возлагаться друг на друга для сохранения
нового положения. Предписания табу были первым
«правом». Сожительство людей покоилось на двух основаниях —
на принудительности труда, созданной внешней нуждой, и
на силе любви, которая для мужчины определялась
нежеланием лишиться своего сексуального объекта в лице
женщины, а со стороны женщины — нежеланием расставаться
с выделившимися из ее организма детьми. Так Эрос и Анан-
ке также стали праотцами человеческой культуры. Первый
успех культуры состоял в том, что отныне большое
количество людей смогло оставаться в коллективе. А так как,
кроме того, обе мощные силы действовали солидарно, можно
чистоте проистекает из стремления удалить экскременты, ставшие
неприятными для чувственного восприятия. Мы знаем, что в детстве дело обстоит иначе.
Экскременты не вызывают у детей никакого отвращения и рассматриваются
ими как ценные части, выделившиеся из собственного тела. Воспитание
состоит в энергичном ускорении предстоящего хода развития, которое должно
сделать из экскрементов нечто лишенное ценности, мерзкое, отвратительное и
предосудительное. Такого рода переоценка едва ли была бы возможной, если
бы эти выделившиеся из нашего организма вещества не заслуживали бы
осуждения в силу запаха, т. е. если бы они не разделили судьбу обонятельных
раздражений, которая им была уготована выпрямленным положением человека.
Анальная эротика становится, таким образом, жертвой «органического
вытеснения», проложившего путь для человеческой культуры. Социальный фактор,
обеспечивавший дальнейшую трансформацию анальной эротики, находит свое
отражение в том факте, что, несмотря на весь прогресс в развитии человека,
запах собственных испражнений почти не отталкивает, в то время как
испражнения посторонних всегда действуют отталкивающе. Человек нечистоплотный,
т.е. человек, не скрывающий своих испражнений, оскорбляет этим другого
человека, не оказывает ему уважения, что и отражается в известных самых
сильных из употребляемых ругательств. Ведь иначе не было бы понятным,
почему человек употребляет в качестве ругательства имя своего самого
близкого друга из животного мира, если бы собака не вызывала пренебрежения
людей двумя своими свойствами — тем, что она, обладая обонянием, не
испытывает отвращения к своим испражнениям, и тем, что она не стыдится своих
сексуальных функций.
946
Неудовлетворенность культурой
было рассчитывать, что и дальнейшее развитие будет
протекать гладко как для вящего господства над внешним миром,
так и для дальнейшего расширения количества людей,
охватываемых коллективом. И нелегко понять, как эта культура
может дарить ее участникам что-либо кроме счастья.
Прежде чем приступить к исследованию вопроса, откуда
может возникнуть помеха, позволим себе отвлечь наше
внимание рассмотрением положения, согласно которому любовь
является одной из основ культуры, и тем заполнить пробел
в наших предыдущих рассуждениях. Мы уже отмечали, что
половая (генитальная) любовь, давая человеку наивысшие
переживания удовлетворения, дает ему, собственно говоря, и
идеал счастья, а поэтому естественно было бы и дальше
искать удовлетворения стремления к счастью в той же области
половых отношений и, следовательно, рассматривать
половую эротику как жизненный центр. Мы упоминали также,
что, следуя по этому пути, человек становится самым
опасным образом зависимым от известной части внешнего мира,
а именно — от избранного предмета любви, и тем самым
подвергает себя опасности самых жестоких страданий, если
этот предмет отталкивает его или если он его теряет в силу
измены или смерти. Мудрецы всех времен всячески
поэтому отсоветовали идти таким жизненным путем; но, несмотря
на это, для множества людей он не потерял своей
привлекательности.
Незначительному меньшинству благодаря его
конституции все же окажется возможным найти счастье на этих
путях любви, но при этом неизбежны глубокие психические
изменения ее функции. Эти личности делают себя
независимыми от согласия объекта, придавая главную ценность не
тому, чтобы быть любимым, а собственной любви; они
защищаются от потери любимого объекта, направляя свою
любовь не на отдельные объекты, а в равной мере на всех
людей; они избегают изменчивости и разочарований
половой любви, отвлекаясь от сексуальной цели и превращая
первичный позыв в заторможенный по цели импульс. То, что
у них таким образом получается, — некое ощущение
уравновешенности, уверенности и нежности, имеет лишь очень
отдаленное внешнее сходство с беспокойной и бурной жиз-
947
Зигмунд ФРЕЙД
нью половой любви, из которой оно, однако, произошло.
Святой Франциск Ассизский ушел, может быть, дальше
всех в таком использовании любви для достижения
внутреннего чувства счастья; то, что мы обозначаем как одну из
методик осуществления принципа наслаждения, не раз
связывалось с религией, с которой она могла соприкасаться в
тех высоких сферах, где пренебрегается как отличием «Я»
от объекта, так и различиями между объектами. Этические
соображения, глубинная мотивация которых нам еще
откроется, склонны рассматривать эту способность
всеобъемлющей любви к человечеству и миру как наибольшее
достижение, до которого может возвыситься человек. По этому
поводу мы уже сейчас не можем удержаться от высказывания
двух основных сомнений. Любовь, не производящая выбора,
теряет часть своей собственной ценности, так как она
несправедлива по отношению к объекту. А затем — не все
люди достойны любви.
Любовь, легшая в основу семьи, в своем первоначальном
облике, в котором она не отказывается от сексуального
удовлетворения, и в своей модифицированной форме, как
заторможенная в смысле цели нежность, продолжает влиять на
культуру. В обеих формах она продолжает выполнять свою
функцию — связывания воедино множества людей, причем
в более интенсивной форме, чем это удается достичь
интересу трудового содружества. Небрежность языка при
употреблении слова «любовь» имеет свое генетическое
оправдание. Мы называем любовью отношения между мужчиной и
женщиной, создавшие семью на основе полового
удовлетворения, но мы называем любовью и добрые отношения
между родителями и детьми или между братьями и сестрами в
семье, хотя эти отношения — лишь заторможенная по цели
любовь, которую мы должны были бы обозначать как
нежность. Такая любовь была первоначально любовью вполне
чувственной, и в бессознательном человека она осталась по-
прежнему таковой. Как чувственная, так и заторможенная по
цели любовь выходит за рамки семьи и создает новые
отношения там, где раньше была отчужденность. Половая любовь
ведет к новым семейным образованиям, а заторможенная по
цели любовь — к «дружбе», к явлению, которое приобретает
948
Неудовлетворенность культурой
важность с точки зрения культуры, так как оно выходит за
рамки некоторых ограничений половой любви, например ее
исключительности. Но в течение эволюции отношение
любви к культуре теряет свой однозначный характер. С одной
стороны, любовь противопоставляет себя интересам
культуры, а с другой стороны, культура угрожает любви
чувствительными ограничениями.
Такое раздвоение кажется неизбежным, но его причину
трудно сразу же распознать. Прежде всего оно проявляет
себя в виде конфликта между семьей и теми более
крупными коллективами, в состав которых входит отдельный
человек. Мы уже догадались, что одним из главных устремлений
культуры является объединение людей в большие единства.
Семья, однако, не хочет освободить человека. Чем теснее
связь членов семьи друг с другом, тем больше и чаще они
склонны отгораживаться от других и тем труднее для них
становится вхождение в более широкий круговорот жизни.
Более старая филогенетически (а в детстве исключительная)
форма совместной жизни противится смене позднее
приобретенной культурной формой. Отделение юноши от семьи
становится задачей, при разрешении которой общество ему
зачастую помогает ритуалами празднования половой
зрелости и принятия в среду взрослых. Создается впечатление, что
эти трудности свойственны каждому психическому, а по
существу, и каждому органическому развитию.
Затем в конфликт с культурой вступают и женщины,
осуществляя то же самое сдерживающее и тормозящее влияние,
которое вначале проистекало из требований их любви и было
положено в основу культуры. Женщины представляют
интересы семьи и сексуальной жизни; культурная деятельность
все больше и больше становилась делом мужчин и всегда
ставила перед ними тяжелые задачи, принуждая их к
сублимации первичных позывов, к чему женщины менее
приспособлены. Так как человек не располагает неистощимым
запасом психической энергии, он должен разрешать свои
задачи при помощи целесообразного распределения либидо. То,
что он тратит на достижение культурных целей, он отнимает
главным образом от женщины и сексуальной жизни;
постоянное общение с мужчинами, его зависимость от отношений
949
Зигмунд ФРЕЙД
с ними отчуждают его даже от обязанностей мужа или отца.
Так требованиями культуры женщина оттесняется на второй
план и вступает с ней во враждебное отношение.
Что касается культуры, то ее тенденция к ограничению
сексуальной жизни выступает не менее явственно, чем
другая ее тенденция по расширению культурного круга. Уже
первая фаза культуры, фаза тотемизма, несет с собой запрет
кровосмесительного выбора объекта; запрет, нанесший
любовной жизни человека, вероятно, самое сильное увечье за
все истекшие времена. Табу, закон, обычай вводят затем
новые ограничения, касающиеся как мужчин, так и женщин.
Не все культуры идут одинаково далеко в этом
направлении; объем остаточной сексуальной свободы зависит также
и от экономической структуры общества.
Мы уже знаем, что под давлением психоэкономической
необходимости культура должна отнимать от сексуальности
значительное количество психической энергии, нужной ей
для собственного потребления. При этом культура ведет
себя по отношению к сексуальности как победившее племя
или слой народа, эксплуатирующий других — побежденных.
Страх перед восстанием угнетенных требует применения
самых строгих мер предосторожности. Наивысшая точка
такого рода развития достигнута в нашей западноевропейской
культуре. Психологически вполне оправданно, что эта
культура берется наказывать проявления детской сексуальной
жизни, так как без такой предварительной обработки еще
в детстве не будет надежд на укрощение сексуальных
вожделений у взрослых. Но никоим образом нельзя оправдать
культурное общество, когда оно заходит так далеко, что,
несмотря на легкую доказуемость и очевидность, отрицает и
само наличие явления. Для индивида выбор объекта,
достигшего половой зрелости, ограничивается партнером
противоположного пола, а все внегенитальные удовлетворения
запрещаются как извращения. Заключающееся в этих запретах
требование одинаковых для всех форм сексуальной жизни,
не считаясь с различиями в прирожденной и
благоприобретенной сексуальной конституции людей, лишает большое их
количество сексуального наслаждения и тем самым
становится источником жестокой несправедливости. Успех этих
950
Неудовлетворенность культу/юи
ограничительных мероприятий может заключаться только в
том, что сексуальные интересы нормальных людей, тех,
кому их конституция не служит помехой, направляются без
ущерба в допущенное русло. Но и то, что остается в этой
сфере без осуждения — гетеросексуальная половая любовь,
подвергается дальнейшим ограничениям законом и
введением единобрачия. Современная культура дает ясно понять,
что она разрешает сексуальные отношения только на базе
одной, единственной и нерасторжимой связи между
мужчиной и женщиной, что она не признает сексуальности как
самостоятельного источника наслаждения и склонна терпеть
его только в качестве незаменимого способа размножения
людей.
Это, конечно, крайнее положение. Как известно, оно
оказалось нереализуемым даже на короткий срок. Только люди
слабого характера покорились столь далеко идущему
вторжению в сферу их сексуальной свободы, более же сильные
натуры — лишь на некоторых компенсирующих условиях, о
которых речь будет впереди. Культурное общество сочло
себя вынужденным молча допускать некоторые нарушения,
которые, согласно установленным правилам, должны были
бы им преследоваться. Но, с другой стороны, не следует
вводить себя в заблуждение и считать, что такая позиция
культуры вообще безобидна, так как она не достигает
реализации всех своих намерений. Сексуальная жизнь
культурных людей все же сильно искалечена и производит
впечатление столь же деградирующей функции, как наша челюсть
или волосы на голове. Можно, вероятно, с правом
утверждать, что сексуальная жизнь как источник ощущения
счастья, т.е. как средство достижения нашей жизненной цели,
чувствительно ослаблена1. Иногда может создаться
впечатление, что дело заключается не только в давлении культуры,
что, быть может, и в самой природе этой функции есть не-
1 Среди поэтических произведений утонченного, в настоящее время
общеизвестного английского писателя Дж. Голсуорси я давно уже оценил небольшое
произвеление «Яблоня*. Оно в убедительной форме показывает, что в жизни
современного цивилизованного человека не осталось больше места для
простой, естественной любви двух людей.
951
Зшмунд ФРЕЙД
что, отказывающее нам в возможности полного
удовлетворения и толкающее нас на иные пути. Такой взгляд,
возможно, и ошибочен, решить этот вопрос трудно1.
1 Вышеприведенное предложение может быть подтверждено следующими
замечаниями: и человек является животным с недвусмысленным
бисексуальным предрасположением. Индивид соответствует сплаву двух симметричных
половинок, из которых, по мнению многих исследователей, одна является
чисто мужской, а другая — женской. Столь же возможно, что обе эти половинки
первоначально носили гермафродитный характер. Пол есть биологический
факт, и хотя он имеет исключительное для душевной жизни значение, его
психологическое понимание чрезвычайно затруднительно. Мы привыкли
говорить: каждый человек имеет как мужские, так и женские влечения,
потребности, черты, но мужской или женский характер может вскрывать анатомия, а не
психология. Для этой последней половая противоположность сводится к
активности и пассивности, причем мы почти без колебаний приписываем
активность мужскому началу, а пассивность — женскому, что, однако, никоим
образом не находит себе подтверждения в животном мире.
Учение о бисексуальности еще очень смутно, и то, что еще не найдено его
сочетания с учением о первичных позывах, следует рассматривать как большую
помеху для психоанализа. Как бы там ни было, если мы практически будем
считаться с фактом, что каждый в своей сексуальной жизни стремится к
удовлетворению как мужских, так и женских желаний, — мы должны быть готовы
считаться с возможностью, что эти желания не могут быть удовлетворены тем же
объектом и что они друг другу мешают, если их не удается разделить и
направить каждый из импульсов по особенному, только ему свойственному руслу.
Другая трудность заключается в том, что эротическое отношение, помимо
свойственного ему садистского компонента, зачастую сопровождается и некоторой
порцией прямой агрессивной наклонности. Предмет любви не всегда может
проявить по отношению к этим усложнениям столько понимания и
терпимости, как та крестьянка, которая жаловалась, что муж се больше не любит, так как
он ее уже неделю не норол. Глубин проблемы касается, однако, предположение,
где отмечается, что с момента выпрямления человека и обесценения
обонятельного чувства не только анальной эротике, но и всей сексуальности стало
угрожать органическое вытеснение, так что с тех пор сексуальная функция стала
сопровождаться не поддающимся дальнейшему обоснованию сопротивлением,
которое мешает полному удовлетворению и отвращает ее от сексуальной цели
в сторону сублимаций и других смещений либидо. Я знаю, что Блейер (Der
Scxual-widerstand // Jahrbuch fur psychoanalytische und psychopathologischc
Forschungen. Bd. V, 1913) уже указал однажды на наличие такого
первоначального отталкивания от сексуальной жизни. Из факта, что «inter urinas et faeces
nascimur» (расположение генитальных органов между органами
мочеиспускания и дефекации), возникает соответствующее отталкивание у всех невротиков,
да и не только у невротиков. Паювые органы, также вызвающис сильные
обонятельные ощущения, для многих невыносимые, портят им сексуальные
отношения. Органическое сопротивление новой, возникшей со времени
выпрямления человека жизненной формы прежнему анималистическому существованию
выявляется в качестве глубочайшего корня, усиливающегося по мере развития
культуры сексуального вытеснения; этот результат научного исследования
совпадает, как ни странно, с часто высказываемыми банальными предрассудками.
952
Неудовлетворенность культурой
V
Психоаналитические исследования показали нам, что
именно этот отказ от сексуальной жизни нестерпим для так
называемых невротиков. Своими симптомами они создают
себе заменители удовлетворения, которые, однако, или
причиняют неприятности сами по себе, или становятся
источником страданий, так как создают трудности в окружающем
мире и обществе. Последнее вполне понятно, первое же
составляет для нас новую загадку. Но культура требует от нас
жертв не только в области сексуального удовлетворения.
Трудности эволюции культуры мы отнесли к категории
общих трудностей развития тем, что свели их к инертности,
к несклонности либидо оставлять старое положение ради
нового. Мы утверждаем почти то же, когда объясняем
антагонизм между культурой и сексуальностью тем фактом, что
сексуальная любовь есть взаимоотношение между двумя
лицами и третий может быть только лишним или помехой, в
то время как культура основана на взаимоотношениях между
большим количеством людей. При апогее любовных
отношений не остается больше места для интереса к окружающему
миру; любовная пара самодостаточна: чтобы быть
счастливой, ей даже не нужен общий ребенок. Ни при каких других
обстоятельствах Эрос не обнаруживает так ясно ядра своей
сущности — намерения из множества создать единство; но в
то время как это ему прекрасно удается при состоянии
влюбленности двух людей, дальше идти он не собирается.
Согласно тому, что было сказано до сих пор, мы очень
хорошо можем представить себе цивилизованное общество
как бы состоящим из таких двойных индивидов, либидозно
насыщенных и связанных друг с другом узами совместного
Но все это в настоящее время лишь недостоверные и наукой еще не
подтвержденные возможности. Не следует также забывать, что, несмотря на
неоспоримое обесценение обонятельного раздражения, даже в Европе имеются еще
народы, которые придают сильным и для нас столь противным запахам половых
органов большое значение в качестве сексуального раздражителя и вовсе не
собираются от него отказываться (см. данные исследования фольклора,
полученные И. Блохом в «анкете» «О чувстве обоняния в сексуальной жизни»,
в различных номерах ежегодника «Anthroprophyteia» Ф. Краусса).
953
Зигмунд ФРЕЙД
труда и интересов. В этом случае культуре незачем было бы
отводить энергию из сферы пола. Но такое желательное
состояние не существует и никогда не существовало; в
действительности культура никогда не довольствуется
предоставленными в ее распоряжение связями, она хочет связать
членов коллектива друг с другом и либидозно; для этой цели
она использует все средства и поощряет все пути, ведущие к
созданию в их среде мощных идентификаций; в высочайшей
степени мобилизует либидо с заторможенностью по цели,
чтобы укрепить общественные связи посредством дружбы.
При достижении этой цели неизбежны ограничения
сексуальной жизни. Но нам недостает ясного понимания
необходимости, которая толкает культуру по этому пути и
обосновывает ее враждебность к сексуальности. Дело, очевидно,
в каком-то нами еще не вскрытом факторе помехи.
Нас может навести на след одно из так называемых
идеальных требований культурного общества. Оно гласит: люби
ближнего своего, как самого себя; это требование всемирно
известно, оно, несомненно, более старо, чем христианство,
предъявляющее его как свое самое гордое притязание; но все
же оно не очень старо, даже в исторические времена оно еще
было чуждо людям. Но займем по отношению к этому
требованию наивную позицию, как если бы о нем услышали в
первый раз. Тогда мы не сможем удержаться от чувств
неожиданности и удивления. Почему мы должны брать на себя
такое обязательство? Чем это может нам помочь? И прежде
всего — как это можно осуществить? Как это для нас
возможно? Моя любовь есть нечто настолько ценное, что я не могу
ею разбрасываться без оснований. Любовь накладывает на
меня обязательства, для выполнения которых я должен быть
готовым идти на жертвы. Если я люблю кого-нибудь, он
должен это как-то заслужить. (О пользе, которую он может мне
принести, как и его возможном значении для меня как
сексуального объекта, я не говорю; оба эти типа отношений не
принимаются во внимание в предписании любви к
ближнему.) Он того заслуживает, если он во многом настолько
похож на меня, что я могу любить в нем самого себя; он того
заслуживает, так как он настолько более совершенен, чем я,
что я могу в нем любить идеал моей собственной личности;
954
Неудовлетворенность культурой
я должен его любить, если он сын моего друга, потому что
боль моего друга, когда с ним случается несчастье, есть и моя
боль и я должен был бы ее разделять. Но если этот человек
мне чужд, если он не может привлекать меня к себе из-за
каких-либо личных качеств и не имеет никакого значения для
моих чувств, мне будет трудно его полюбить. Этим я даже
допущу несправедливость, так как все мои близкие ценят мою
любовь как знак предпочтения; для них будет
несправедливостью, если я наравне с ними поставлю чужого. Но если я
должен его любить какой-то универсальной любовью только
потому, что он является существом, населяющим эту землю,
как насекомое, земляной червяк, очковая змея, то тогда я
опасаюсь, что на его долю выпадет лишь незначительная часть
любви, во всяком случае неизмеримо меньшая той, которую,
согласно требованиям моего рассудка, я имею право
сохранить для самого себя. К чему это столь торжественно
выдвигаемое предписание, если его выполнение не может быть
рекомендовано как нечто разумное?
При ближайшем рассмотрении я наталкиваюсь на еще
большие трудности. Этот чужой мне человек, как правило, не
только не достоин моей любви, он, должен я честно признать,
скорее достоин моей вражды и даже ненависти. Он,
по-видимому, не испытывает по отношению ко мне ни малейшей
любви, он не оказывает мне ни малейшего внимания. Если что-
либо для него полезно, он без колебаний готов нанести мне
вред, не задаваясь при этом вопросом, насколько
причиненный мне вред соразмерен с полученной им пользой. Более
того, ему не нужно извлекать из этого пользы; если он может
удовлетворить какое-то свое желание, он не остановится перед
тем, чтобы осмеять меня, оскорбить, обидеть, оклеветать,
продемонстрировать свою власть надо мной; и чем увереннее он
в себе, чем более я беспомощен, тем скорее можно от него
ожидать такого поведения по отношению ко мне. Если же он
ведет себя иначе, если он, будучи чуждым мне человеком,
оказывает мне знаки бережного внимания, то я и без этого
предписания буду платить ему той же монетой. Если бы это
замечательное предписание гласило: люби ближнего твоего
так, как он любит тебя, то я бы тогда не возражал. Имеется и
второе требование, которое мне кажется еще более непонят-
955
Зигмунд ФРЕЙД
ным и вызывает во мне еще более сильное сопротивление.
Оно гласит: люби своих врагов. Но по здравом размышлении
я должен признаться, что я не прав, отклоняя его как
требование еще более сильное. По существу это одно и то же1.
И вот мне кажется, что я слышу преисполненный
достоинства голос, напоминающий мне: именно потому, что ближний
не только не достоин твоей любви, но даже скорее является
твоим врагом, его нужно любить, как самого себя, и я понимаю,
что передо мной случай, подобный «Credo, quia absurdum».
Весьма вероятно, что ближний, когда от него потребуется
любить меня, как самого себя, ответит точно так же, как и я,
и на тех же основаниях меня отвергнет. Надеюсь, что не с тем
же объективным правом, но и он будет того же мнения.
Однако есть все же и различия в поведении людей, которых
этика независимо от обусловленности их поведения делит на
«добрых» и «злых». До тех пор пока эти несомненные
различия не будут устранены, следование высоким этическим
требованиям будет наносить вред культурным устремлениям,
представляя собою прямое поощрение зла. Трудно не
вспомнить при этом случай, который имел место во французском
парламенте, когда там обсуждался вопрос о смертной казни:
один оратор страстно выступил за ее отмену, заслужив бурные
аплодисменты, пока не раздался из зала голос: «Que messieurs
les assassins, commencent!» («Господа убийцы, начинайте!»).
За всем этим стоит часто оспариваемая действительность,
заключающаяся в том, что человек отнюдь не мягкое,
жаждущее любви создание, способное защищаться лишь тогда,
когда на него нападут; надо считаться с тем, что среди его
инстинктивных предрасположений имеется и огромная доля
склонности к агрессии. Поэтому для человека его ближний не
1 Великий поэт может себе позволить, хотя бы в шуточной форме,
высказать резко осуждаемые психологические истины. Так, Г. Гейне признается: «Я
мирно настроенный человек. Мои желания: скромная хижина, соломенная
кровля, но хорошая кровать, хорошая еда, очень свежие молоко и масло; перед
окном — цветы, перед дверью — несколько красивых деревьев, а если
милостивый Бог хочет сделать меня совсем счастливым, то он доставит мне радость
тем, что на этих деревьях будут повешены от шести до семи моих врагов. Тогда
перед их смертью я им растроганно прощу все то плохое, что они мне
причинили за время моей жизни. Да, врагам надо прощать, но не раньше, чем они
будут повешены» (Гейне. Мысли и идеи).
956
Неудовлетворенность культурой
только возможный помощник или сексуальный объект, но
и предмет соблазна для удовлетворения своей агрессивности,
рабочая сила, которой он может воспользоваться без
вознаграждения, объект сексуальной похоти, которую он может
удовлетворить без его согласия; у ближнего можно отнять
имущество, его можно унижать, причинять ему боль, его
можно мучить и убивать. «Homo homini lupus» («Человек
человеку волк») — кто бы имел смелость оспаривать это положение
после всего опыта жизни и истории? Как правило, эта
жестокая агрессивность только и выжидает, чтобы быть
спровоцированной, или ставит себя на службу другим целям, которые,
однако, могли бы быть достигнуты и иными, более мягкими
способами. При благоприятных для нее условиях, когда
устранены обычно противодействующие ей силы, эта
агрессивность проявляется и стихийно, обнажая в человеке дикого
зверя, которому чуждо бережное отношение к собственному роду.
Достаточно вспомнить ужасы переселения народов,
вторжения гуннов или так называемых монголов под
предводительством Чингисхана и Тимура, захват Иерусалима набожными
крестоносцами, а также ужасы последней мировой войны,
чтобы смиренно согласиться с обоснованностью такого взгляда.
Наличие этой агрессивной склонности, которую мы
можем ощутить в самих себе и с правом предположить у
других, есть тот фактор, который нарушает наши отношения с
ближними и принуждает культуру к ее высоким
требованиям. В силу этой изначальной враждебности людей друг к
другу культурному обществу постоянно грозит развал.
Общие трудовые интересы не могли бы удержать культуру от
этого развала, так как страсти первичных позывов сильнее
разумных интересов. Культура должна мобилизовать все свои
силы, чтобы поставить предел агрессивным первичным
позывам человека и затормозить их проявления путем
создания нужных психических реакций. Отсюда применение
всевозможных средств для идентификаций и заторможенных по
цели любовных отношений, отсюда ограничение сексуальной
жизни, а также и то идеальное требование любви к
ближнему, как к самому себе, которое на самом деле тем и
оправдано, что ничто другое в такой степени не противоречит
исконной природе человека. При всех стараниях это культур-
957
Зигмунд ФРЕЙД
ное устремление пока достигло не очень многого. Культура
надеется избежать наиболее резких проявлений грубой силы
тем, что она сама сохраняет за собой право применять силу
по отношению к преступникам, но закон ничего не может
поделать с более осмотрительными и утонченными
проявлениями человеческой агрессивности. Каждый из нас знает, что
от надежд, которые мы в юности возлагали на наших
ближних, приходится отказываться, как от иллюзий; каждый из
нас на опыте может познать боль и тяготы, которые вносят
в нашу жизнь недоброжелательность ближних. При этом
было бы несправедливо приписывать культуре стремление
исключить споры и соревнование из человеческой активности.
Эти явления, конечно, необходимы, но ведь оппонент не
всегда враг, он им становится лишь в порядке злоупотребления.
Коммунисты полагают, что они нашли путь к
освобождению от зла. Человек несомненно добр, он желает добра
ближнему, но институт частной собственности испортил его
природу. Частное владение имуществом дает человеку власть и
тем вводит его в искушение третировать других; человек,
лишенный собственности, должен загореться враждой и восстать
против угнетателей. Если частная собственность будет
уничтожена, если все имущество станет общим и всем людям будет
дозволено им пользоваться, всякое недоброжелательство и
вражда исчезнут среди людей. Если все потребности будут
удовлетворены, никто не будет иметь основания видеть в
другом человеке врага: все с готовностью будут выполнять
нужную работу. Я никоим образом не хочу вдаваться в
экономическую критику коммунистической системы, я не могу
исследовать вопрос: достигает ли цели и имеет ли преимущества
отмена частной собственности1. Но я могу установить, что
психологическая предпосылка для такой отмены — безмерная
1 С того, кто в юности испытал и беду, и нищету» кто познал безразличие
и надменность имущих, следовало бы снять подозрения в том, что он лишен
понимания и благожелательности по отношению к борющимся против
имущественного неравноправия людей и всего того, что из этого проистекает. Правда,
когда эта борьба обосновывается абстрактным требованием справедливости в
силу равенства всех людей, то тут, очевидно, можно легко возразить, что сама
природа установила неравенство, снабдив людей как органическими
возможностями, так и духовными талантами в чрезвычайно неравномерной степени;
а этому ничем нельзя помочь.
958
Неудовлетворенность культурой
иллюзия. С отменой частной собственности у человеческой
агрессивной страсти отнимается одно из орудий, сильное,
конечно, но отнюдь не сильнейшее. Этим ничего не меняется в
агрессивности, злоупотребляющей в своих целях различиями
во власти и влиянии, ничего не меняется в сущности
агрессивности. Она не была создана собственностью, она почти
безгранично господствовала в первобытные времена, когда
собственность была еще крайне скудна; она проявляется уже в
детской, как только собственность потеряла свои
первоначальные анальные формы; она стала основой всех нежных и
любовных отношений между людьми, за одним, может быть,
единственным исключением — любви матери к своему ребенку
мужского пола. Если уничтожить частные права на
материальные блага, то останется преимущественное право в
сексуальных отношениях, а это может стать источником
недовольства и враждебности между в остальном равными людьми.
Если путем полного освобождения сексуальной жизни
уничтожить и это право, т. е. если отменить семью, эту основную
ячейку культуры, то тогда, правда, трудно будет предвидеть,
по каким новым путям пойдет развитие культуры, но одно
можно сказать определенно, что неискоренимая черта
человеческой природы последует за культурой и по этим путям.
Людям, очевидно, нелегко отказываться от
удовлетворения этой своей агрессивной наклонности; им от этого не по
себе. Не следует преуменьшать преимущество небольшого
культурного круга, дающего выход инстинкту, в
предоставлении враждебного отношения к внестоящим. Всегда можно
связать любовью большое количество людей, если только
останутся и такие, на которых можно будет направлять
агрессию. Однажды я занимался явлением, которое показывает,
что как раз соседние и во многом близкие друг другу
коллективы враждуют между собой и насмехаются друг над
другом, например испанцы и португальцы, северные и южные
немцы, англичане и шотландцы и т.д. Я дал этому явлению
название нарциссизма малых различий, что, однако, не
слишком помогает его пониманию. В нем мы обнаруживаем
удобное и относительно безобидное удовлетворение агрессивной
наклонности, облегчающее членам коллектива их
сплоченность. Разбросанный повсеместно еврейский народ оказал в
959
Зигмунд ФРЕЙД
этом отношении достойные признания услуги культуре
народов, среди которых он нашел гостеприимство; к
сожалению, всех имевших место в Средние века избиений евреев
не хватило для того, чтобы сделать эти времена более
мирными и безопасными для их христианских сограждан. С тех
пор как апостол Павел положил в основу своей
христианской общины всеобщее человеколюбие, предельная
нетерпимость христианства ко всем оставшимся вне общины стала
неизбежным следствием; для римлян, которые не
основывали своего общества на любви, религиозная нетерпимость
была чуждой, хотя для них религия была делом государства и
государство было пропитано религией. Отнюдь не
непонятным совпадением является тот факт, что мечта о германском
мировом господстве для своего завершения прибегла к
антисемитизму; и становится понятным, что попытка создания
новой коммунистической культуры в России находит в
преследовании буржуев свое психологическое подкрепление.
Можно лишь с тревогой задать себе вопрос: что будут делать
Советы, когда они уничтожат всех буржуев?
Поскольку культура требует столь больших жертв не
только в области сексуальности, но и в области людской
наклонности к агрессии, становится более понятным, почему людям
так трудно быть ею осчастливленными. Действительно,
первобытному человеку было лучше в том смысле, что он не знал
никаких преград для своих первичных позывов. Но в
порядке компенсации гарантия длительности его наслаждения
таким счастьем была весьма ничтожна. Культурный человек
возможность счастья променял на гарантированную
безопасность. Но мы не должны забывать, что в первобытной семье
только ее глава мог наслаждаться такой свободой первичных
позывов, все остальные жили в рабском угнетении. Контраст
между меньшинством, пользующимся преимуществом
культуры, и большинством, этих преимуществ лишенным, был,
следовательно, в ту эпоху первобытной культуры доведен до
крайности. Тщательное исследование ныне живущих в
первобытном состоянии людей показало, что свободе их
первичных позывов едва ли приходится завидовать; она подвержена
ограничениям другого рода, однако, быть может, более
строгим, чем у современного цивилизованного человека.
960
Неудовлетворенность культурой
Когда мы нынешнее цивилизованное состояние
справедливо обвиняем в том, что оно недостаточно отвечает нашим
требованиям счастливого жизненного порядка, в том, что оно
доставляет нам много страданий, которых, вероятно, можно
было бы избежать, когда мы безжалостной критикой
пытаемся выявить корни его несовершенства, мы делаем это с
полным правом и отнюдь не выказываем себя врагами
культуры. Следовало бы ожидать, что постепенно в нашей
культуре произойдут такие изменения, которые сделают
возможным лучшее удовлетворение наших потребностей и снимут
необходимость в ее критике. Но следовало бы также
свыкнуться с мыслью, что есть трудности, присущие самой
природе культуры и не снимаемые никакими попытками
реформ. Кроме задачи ограничения первичных позывов, к чему
мы должны быть готовы, надвигается на нас и опасность
другого состояния, которое можно было бы назвать
психологической нищетой масс. Эта опасность в наибольшей мере
грозит там, где общественные связи осуществляются
главным образом путем идентификации участников друг с
другом, в то время как ведущие личности не приобретают
значения, которое должно было бы выпасть на их долю при
формировании массы1. Современное культурное состояние
Америки являет собою удобный случай для изучения этого
культурного ущерба. Но я избегаю искушения вдаться в
критику американской культуры; как я не хотел бы создать
впечатления, что сам прибегаю к американским методам.
VI
Ни при какой другой работе не ощущал я так сильно,
как при этой, что пишу об общеизвестном, трачу бумагу и
чернила, а затем — труд наборщиков и типографскую
краску, чтобы сказать в конце концов само собой разумеющиеся
вещи. Поэтому я особенно охотно включаюсь в обсуждение,
когда создается впечатление, что признание особого, само-
См.: Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921 (Ges. Werke. Bd. XIII).
31-3518
961
Зигмунд ФРЕЙД
стоятельного первичного позыва агрессии означает
изменение психоаналитического учения о первичных позывах.
Мы увидим, что это не так, что дело сводится лишь к тому,
чтобы обрисовать более четко давно уже намеченный поворот
и проследить вытекающие из него последствия. Из всех
медленно развивавшихся частей психоаналитической теории
учение о первичных позывах продвигалось вперед труднее всего.
Но это учение было настолько необходимым для всего
построения, что что-то должно было занять его место. В моей
первоначальной полной беспомощности первый толчок
дала мне одна фраза поэта-философа Шиллера о том, что мир
держится на «Голоде и Любви». Голод можно было бы себе
представить как первичный позыв, служащий
самосохранению отдельного существа, любовь же направлена на объекты;
ее главная функция, всячески поощряемая природой,—
служить сохранению рода. Так первичные позывы «Я» с самого
начала были противопоставлены первичным позывам,
направленным на объекты. Энергию этих последних, и их
исключительно, я назвал либидо; так вступал в силу
антагонизм между первичными позывами «Я» и направленными на
объект «либидозными» первичными позывами любви, в
широком смысле этого слова. Один из направленных на объекты
первичных позывов — садистский — выделялся, однако, тем,
что его цель отнюдь не отличалась любвеобильным
характером, кроме того, он явно был близок в какой-то части
первичным позывам «Я» и лишен возможности скрыть свое
тесное родство с первичными позывами овладения, не
имеющими либидозной направленности; но этим противоречием
пренебрегли: садизм ведь явно относится к сексуальной
жизни, в которой жестокая игра может занять место игры
нежной. Невроз представлялся результатом борьбы между
интересами самосохранения и требованиями либидо; в борьбе
этой «Я» победило, но ценою тяжелых страданий и лишений.
Каждый психоаналитик согласится, что еще сегодня это не
звучит как давно преодоленное заблуждение. Но внесение
поправок стало неизбежным по мере того, как интерес нашего
исследования перемещался с вытесненного на вытесняющее
и с объектных инстинктов — на «Я». Решающим для этого
было введение понятия нарциссизма, т.е. точки зрения, со-
962
Неудовлетворенность культурой
гласно которой само «Я» находится во власти либидо,
являясь не только первоначальным вместилищем, но оставаясь в
известной мере и главной штаб-квартирой либидо. Либидо
нарциссического характера обращается на объекты,
становится «объект-либидо» и может снова приобрести нарциссичес-
кий характер. Понятие нарциссизма позволило
психоаналитически объяснить травматические неврозы и многие близкие
к психозам аффективные состояния. Объяснение неврозов
перенесения как попытки защиты «Я» от сексуальности можно
было при этом не отбрасывать, но тогда наступали сомнения
в отношении понятия либидо. Так как и инстинкты «Я»
имели либидозный характер, некоторое время казалось
неизбежным вообще признать тождество между либидо и энергией
первичных позывов, как это уже раньше намеревался сделать
К. Г. Юнг. Но при этом оставалась какая-то недоказуемая
уверенность, что не все первичные позывы имеют одинаковую
природу. Следующий шаг я сделал в работе «По ту сторону
принципа наслаждения» (1920), когда мне впервые бросились
в глаза вынужденность повторения и консервативный
характер первичных позывов. Исходя из умозаключений о
возникновении жизни и из биологических параллелей, я пришел к
выводу, что, кроме первичного позыва самосохранения
жизненной субстанции и постоянного роста включенных в нее
единиц1, имеется и другой, противоположный этому
первичный позыв, разрушающий эти единства и стремящийся
вернуть их в первобытное неорганическое состояние. Итак,
кроме Эроса имеется и первичный позыв смерти (Танатос);
взаимодействием и противодействием их обоих можно было бы
объяснить феномен жизни. Нелегко было, однако, выявить
деятельность этого гипотетического первичного позыва
смерти. Проявления Эроса были достаточно бурными и
бросающимися в глаза, что же касается первичного позыва смерти,
то можно было предположить, что он глухо ведет свою работу
по разложению внутри живого существа, но такое
предположение, конечно, не равноценно доказательству. Больше дала
1 Контраст между неустанной распространительной тенденцией Эроса и
общей консервативной природой первичных позывов вполне очевиден и может
стать исходным пунктом для дальнейшей постановки проблемы.
963
Зигмунд ФРЕЙД
идея о том, что часть первичного позыва обращается против
внешнего мира и находит свое выражение в первичном
позыве агрессии и разрушения. Таким образом, этот первичный
позыв принуждается к служению Эросу, и живое существо,
вместо того чтобы уничтожить само себя, уничтожает что-то
чужое, как одушевленное, так и неодушевленное. И наоборот,
офаничения афессивности вовне должны были бы усиливать
и так уже идущие сами по себе процессы самоуничтожения.
Из этого примера можно было бы одновременно вывести, что
оба рода первичных позывов редко проявляются отдельно,
вероятно даже никогда не проявляются отдельно, а
сплавляются друг с другом в различных и изменчивых пропорциях,
ускользая этим от нашего анализа. В садизме, давно уже
известном компоненте сексуальности, можно было бы
усмотреть такой сплав стремления к любви со сфемлением к
разрушению, а в его партнере — мазохизме — можно было бы
увидеть соединение направленной внуфь разрушительности
с сексуальностью, благодаря чему недоступная наблюдению
наклонность становится явной и ощутимой.
Предположение о наличии первичного позыва смерти или
разрушения натолкнулось на сопротивление даже в
психоаналитических кругах; я знаю, что существует склонность
приписывать все, что в любви является опасным и враждебным,
первоначальной биполярности ее собственной природы.
Приводимые здесь соображения я сначала защищал лишь в виде опыта,
но с течением времени они приобрели такую власть надо мной,
что я больше не могу думать иначе. Я полагаю, что эти
утверждения теоретически гораздо более применимы, чем все
возможные иные; они многое упрощают, без пренебрежения
фактами или насилования их, к чему мы и стремимся в научной
работе. Я признаю, что в садизме и мазохизме мы всегда
обнаруживали сильно сплавленные с эротикой проявления
разрушительного первичного позыва, направленного как наружу, так
и внуфь, но я никак не могу понять, как могли мы просмотреть
вездесущность неэротической агрессивности и
разрушительности и не предоставить ей подобающее место в толковании
жизни. (Ведь разрушительная сфасть, обращенная внуфь,
если она эротически не окрашена, большей частью не поддается
восприятию.) Я помню мое собственное сопротивление, когда
964
Неудовлетворенность культурой
в психоаналитической литературе впервые появилась идея
первичного позыва разрушения, и как много нужно было
времени, прежде чем я стал способен ее воспринимать. И меня
мало удивляет, что и другие ее отклоняли и продолжают
отклонять. Даже дети неохотно слушают, когда им напоминают
о врожденной предрасположенности людей ко «злу», к
агрессии, к разрушению, а следовательно, и к жестокости. Ведь Бог
создал людей по образу своего совершенства, и никто не хочет,
чтобы им напоминали, как трудно бывает — несмотря на
заверения представителей «христианской науки» — совмещать
неоспоримое существование зла со всемогуществом или все-
благостью Бога. Для оправдания Бога дьявол мог бы быть
прекрасным козлом отпущения, он играл бы ту же психоэкономи-
чески облегчающую роль, как и еврей в мире арийских идеалов.
Но даже и тогда Бога можно было бы привлечь к
ответственности как за существование дьявола, так и за существование
зла, которое он воплощает. Перед лицом этих трудностей
каждому надлежало бы при удобном случае низко преклониться
перед глубокой моральной природой людей; это помогает
приобрести всеобщее расположение, и многое ему за это простится1.
Понятие либидо снова может быть применено к
проявлениям сил Эроса, чтобы отличить их от инстинкта смерти2.
Правда, следует признаться, что таким образом нам еще
1 Особенно убедительно звучит отождествление принципа зла с
разрушительным инстинктом у гетевского Мефистофеля:
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творенье не годится никуда.
Итак, я — то, что ваша мысль связала
С понятьем разрушенья, зла, вреда.
Вот прирожденное мое начало,
Моя среда.
Сам дьявол называет своим врагом не святое, не доброе, а силу природы
создавать и множить жизнь, т. е. Эрос.
В земле, в воде, на воздухе свободном
Зародыши родятся и ростки —
В сухом и влажном, теплом и холодном.
Не завладей я областью огня,
Местечка не нашлось бы для меня.
2 Наш теперешний взгляд можно свести приблизительно к следующей
формуле: в любых проявлениях первичных позывов участвует либидо, но не
все в них является либидо.
965
Зигмунд ФРЕЙД
труднее обнаружить этот последний; о нем можно только
догадываться, как о каком-то фоне, стоящем за Эросом; он
от нас ускользает до тех пор, пока не выдает себя, выступая
в сплаве с Эросом. В садизме, где он по-своему обходит
эротическую цель, при этом, однако, полностью удовлетворяя
эротическое устремление, нам удается получить самое ясное
представление о его сущности и о его отношении к Эросу.
Но даже тогда, когда он выступает без всяких эротических
намерений, когда он себя проявляет в самом слепом
разрушительном бешенстве, нельзя не заметить, что его
удовлетворение связано с исключительно сильным нарциссическим
наслаждением, так как оно дает «Я» утоление его давнишней
жажды всемогущества. Умеренный и укрощенный, словно
заторможенный, по цели разрушительный инстинкт,
направленный на объекты, должен предоставить человеку
удовлетворение его жизненных потребностей и господство над
природой. Ввиду того, что признание этого инстинкта покоится
в основном на теоретической базе, следует полагать, что оно
не полностью защищено и от теоретических возражений. Но
так нам все это рисуется при современном состоянии наших
представлений; дальнейшие исследования и размышления
внесут, очевидно, в эту область окончательную ясность.
Во всем дальнейшем изложении я буду, следовательно,
стоять на той точке зрения, что склонность к агрессии является
первоначальной и самостоятельной инстинктивной
предрасположенностью людей, и поэтому возвращаюсь к утверждению,
что культура встречает в ней свое самое большое препятствие.
В ходе этого исследования у нас уже сложилось представление
о культуре как об особом процессе, захватывающем людей в
своем течении, и мы все еще пребываем под впечатлением этой
идеи. Добавим, что этот процесс служит Эросу, стремящемуся
объединить сначала отдельных людей, затем семьи, затем
племена, народы, нации в одно большое целое — человечество.
Почему это так должно происходить — мы не знаем; просто
такова активность Эроса. Человеческие массы должны быть
либидозно связаны; одна необходимость, одни преимущества
объединения в труде не могли бы их удержать вместе. Но этим
предначертаниям культуры противодействует прирожденный
первичный позыв человеческой агрессивности, враждебности
966
Неудовлетворенность культурой
каждого ко всем и всех к одному. Этот обнаруженный нами
наряду с Эросом инстинкт агрессии является притом и
главным представителем первичного позыва смерти, разделяющего
с Эросом господство над миром. И теперь, мне кажется, смысл
развития культуры перестал быть для нас неясным. Оно должно
показать нам борьбу между Эросом и Смертью, между
инстинктом жизни и инстинктом разрушения, как она протекает
в человеческой среде. Эта борьба составляет существенное
содержание жизни вообще, и поэтому развитие культуры можно
было бы просто назвать борьбой человечества за
существование1. И эту схватку гигантов наши нянюшки хотят заглушить
«убаюкивающей сказкой о небесах»!2
VII
Почему мы не наблюдаем такой культурной борьбы среди
наших родственников — животных? Мы об этом просто не
знаем. Очень вероятно, что некоторые из них — пчелы,
муравьи, термиты — боролись сотни тысяч лет, прежде чем
нашли те социальные установления, то разделение функций и
те ограничения для индивида, которыми мы теперь у них
восхищаемся. Характерным для нашего нынешнего
состояния является, однако, подсказываемый нашим ощущением
факт, что мы не могли бы быть счастливыми ни в одном из
этих государств насекомых и ни в одной из ролей,
предписанных в них отдельному существу. У других видов
животных дело, возможно, могло дойти до временного равновесия
между воздействиями внешнего мира и борющимися
инстинктами, так что эволюция достигла какого-то застоя.
Возможно, что у первобытного человека новая вспышка либидо
вызвала новое же восстание разрушительного инстинкта.
Здесь возникает много вопросов, на которые еще нет ответа.
1 Вероятно, с дальнейшим уточнением: борьбой, которая должна была
принять эти формы в силу известного события, которое мы еще должны будем
разгадать.
2 Из поэмы Г. Гейне -«Германия. Зимняя сказка».
967
Зшмунд ФРЕЙД
Но один вопрос касается нас более непосредственно.
Какими средствами пользуется культура для того, чтобы
задержать противостоящую ей агрессию, обезвредить ее или, быть
может, даже устранить? С некоторыми из таких способов мы
уже познакомились, но еще, вероятно, не с наиболее важным
из них. Мы можем их изучать на истории развития
отдельного человека. Что с ним случается, когда он пытается
обезвредить свою агрессивную страсть? Нечто очень странное, о
чем мы бы и не догадались, хотя это и очень просто. Агрессия
интроецируется, становится частью внутреннего мира, т.е.,
собственно говоря, направляется туда, откуда и произошла,
она направляется против собственного «Я». Там она
перехватывается частью «Я», которая как «Сверх-Я»
противопоставляет себя остальной части «Я» и, уже как совесть,
осуществляет по отношению к «Я» такую же готовность к агрессии,
какую «Я» охотно удовлетворило бы за счет других, чужих
индивидов. Напряжение между усиленным «Сверх-Я» и
подчиненным ему «Я» мы называем сознанием вины; оно
проявляется в потребности наказания. Культура, таким образом,
побеждает опасные агрессивные страсти путем их ослабления,
она обезоруживает их и оставляет под наблюдением
инстанции, находящейся внутри самого этого индивида, наподобие
оккупационной власти в побежденном городе.
Происхождение чувства вины психоаналитик
представляет себе иначе, чем психолог, но и ему не так легко отдать в
этом отчет. Сначала, как только задается вопрос, как
возникает чувство вины, получаешь ответ, на который трудно
возразить: человек чувствует себя виновным (набожный человек
сказал бы «грешным»), когда делает что-либо, признаваемое
«злом». И тут становится ясным, как мало дает такой ответ.
После некоторого колебания к этому может быть добавлено:
виновным может считать себя и человек, который не сделал
ничего плохого, но обнаружил у себя намерение это сделать;
и тогда встает вопрос, почему в данном случае умысел
приравнивается к исполнению? Оба случая, однако,
предполагают, что зло уже заранее признается предосудительным и
долженствующим быть неосуществленным. Как человек
приходит к такому решению? Следует сразу же отклонить
первоначальную, так сказать, прирожденную способность отли-
968
Неудовлетворенность культурой
чать зло от добра. Зло очень часто совсем не является для
«Я» вредным или опасным, наоборот, иногда также и чем-то
желательным, доставляющим удовольствие. В этом
проявляет себя, следовательно, стороннее влияние; оно определяет,
что следует называть добром и что — злом. Ввиду того, что
собственное чувство не повело бы человека по этому пути, у
него должно быть какое-то соображение, по которому он под
это чуждое влияние подпадает. Его легко обнаружить в
беспомощности человека и в его зависимости от других; его
можно лучше всего обозначить как страх перед утратой
любви. Если человек теряет любовь того, от кого он зависит, он
теряет и его защиту от многих опасностей, а главное,
подвергается риску, что этот превосходящий его проявит свое
превосходство над ним в форме наказания. Зло,
следовательно, первоначально есть то, что грозит нам утратой любви; из
опасения такой потери мы должны его избегать. При этом
не имеет большого значения, совершили ли мы уже это зло
или только собирались его совершить; в обоих случаях
грозит опасность, что авторитетная инстанция это вскроет и
будет вести себя в обоих случаях одинаково.
Такое состояние называется «дурной совестью»; но,
собственно говоря, оно не заслуживает подобного названия, так
как на этом уровне сознание вины есть, очевидно, лишь страх
перед утратой любви, «социальный» страх. У маленьких
детей это никогда и не может быть иначе, но и у многих
взрослых также мало что меняется, разве что на место отца или
родителей становится большой человеческий коллектив.
Поэтому такие люди постоянно позволяют себе совершать
сулящее им удовольствие зло, если только они уверены, что
авторитетная инстанция ничего об этом не узнает или ничего
им не причинит; страх связан у них только с возможностью
раскрытия1. Современное общество, как правило, с таким
положением и должно считаться.
1 Вспомним прославленного мандарина Руссо! (Этот образ был
использован Ж. Ж. Руссо для иллюстрации мысли о скрытой готовности убивать. Руссо
рассуждал следующим образом. Многие согласятся бить какого-нибудь никому
не ведомого китайского мандарина при условии: если они будут иметь от этого
большую выгоду, если об этом никто не узнает и если для этого не потребуется
никаких усилий, достаточно будет одного желания. — Ред.)
969
Зигмунд ФРЕЙД
Большая перемена наступает только тогда, когда эта
авторитетная инстанция через создание «Сверх-Я» переносится
внутрь. Тогда феномены совести поднимаются на новую
ступень; по существу, только тогда и следовало бы говорить о
совести и о чувстве вины1. Тут же отпадает страх перед
раскрытием и, следовательно, различие между совершением зла
и желанием зла, так как от «Сверх-Я» ничего не может быть
скрыто, даже и мысли. Правда, исчезает и реальная
серьезность положения, так как, по нашему мнению, новая
авторитетная инстанция, глубочайшим образом с «Я»
сопряженная, не имеет никакого основания его третировать. Но
влияние генезиса, дающего прошлому и преодоленному право на
жизнь, выявляется в том, что все остается, по существу, таким,
каким оно и было вначале. «Сверх-Я» мучает грешное «Я»
теми же ощущениями страха и только и ждет случая, чтобы
подвергнуть его наказаниям со стороны внешнего мира.
На этой второй ступени развития совесть проявляет одну
особенность, которая была чужда первой ступени и которую
уже не так легко объяснить. А именно: она проявляет тем
большую твердость и подозрительность, чем человек
добродетельнее, так что в конечном счете как раз ушедшие по пути
святости больше всего обвиняют себя в злейшей греховности.
Так добродетель теряет часть подобающей ей награды;
покорное и воздержанное «Я» не располагает доверием своего
ментора и как будто напрасно старается его заслужить. Но тут
некоторые были бы склонны возразить: ведь это же
искусственно созданные трудности. Строгая и бдительная совесть как
раз и является признаком моральных людей, и если бы
святые выдавали себя за грешников, то делали бы это не без
основания, а со ссылкой на искушение удовлетворения
первичных позывов, которому они в особенно сильной мере
подвержены; известно ведь, что при постоянном отречении
соблазн только возрастает, а получая время от времени
удовлетворение, хотя бы временно ослабевает. Другое явление
1 Каждый внимательный человек поймет и учтет, что в этом беглом обзоре
резко разделяется то, что в действительности протекает в плавных переходах,
и что речь идет не о самом существовании «Сверх-Я», а его относительной
силе и сфере влияния. Все вышесказанное о совести и вине, собственно говоря,
общеизвестно и едва ли оспоримо.
970
Неудовлетворенность культурой
в этой столь богатой проблемами области этики состоит в
том, что неудачи, т. е. внешние лишения, сильно
способствуют укреплению власти совести в «Сверх-Я». Пока человеку
приходится неплохо, совесть у него мягкая и спускает «Я»
довольно многое; когда же его постигло несчастье, человек
углубляется в себя, признает свою греховность, усиливает
требования совести, налагает на себя воздержание и
наказывает себя покаянием1. Так вели себя и продолжают вести
целые народы. Но это легко объясняется первоначальным
инфантильным уровнем совести, который при интроекции в
«Сверх-Я» не покидается, а продолжает существовать рядом
с ним и за ним. Судьба рассматривается как замена
родительской инстанции; если с человеком случается несчастье, то это
означает, что он больше не пользуется любовью этой высшей
власти; из-за угрозы потери ее любви человек снова
склоняется перед родительским представительством в «Сверх-Я»,
которым он в моменты счастья склонен был пренебрегать.
Это становится особенно ясным, когда мы, в согласии со
строгим религиозным пониманием, будем рассматривать судьбу
только как проявление воли Божьей. Народ Израиля считал
себя избранным сыном Божьим, и по мере того как великий
Отец ниспосылал на свой народ несчастье за несчастьем,
народ не сходил с ума от этого отношения и не сомневался в
могуществе и справедливости Бога, а рождал таких пророков,
которые говорили ему о его греховности, и из осознания им
своей вины создал непомерно строгие предписания своей на-
следственно-священнослужительской религии.
Примечательно, насколько иначе ведет себя примитивный человек. Когда
с ним случается несчастье, он винит в этом не себя, а фетиш,
явно не выполнивший своего обязательства; и он подвергает
его порке, вместо того чтобы наказать самого себя.
Итак, мы знаем два источника вины — страх перед
авторитетом и более поздний страх перед «Сверх-Я». Первый
1 Это укрепление морали через неудачи описывает Марк Твен в своем
чудесном маленьком рассказе « Первая дыня, которую я когда-то украл».
Случайно эта первая дыня была незрелой. Я слышал этот рассказ в изложении
самого Марка Твена. Когда он произнес название рассказа, он сделал паузу и,
как бы колеблясь, спросил: «Was it the first?» («Была ли она первой?»). Этим
он все сказал. Первая, значит, не осталась единственной.
971
Зигмунд ФРЕЙД
принуждает к отказу от удовлетворения первичных позывов,
а второй, в силу того, что от «Сверх-Я» нельзя скрыть
наличие запретных желаний, — кроме того, и к наказанию. Мы
знаем также, как следует понимать строгость «Сверх-Я», т. е.
требования совести. Она просто является продолжением
строгости внешнего авторитета, который она сменила, а отчасти
и заменила. Теперь мы видим, в каком отношении находится
отказ от удовлетворения первичных позывов к сознанию
вины. Правда, первоначально этот отказ был следствием страха
перед внешним авторитетом; человек отказывался от
удовлетворения, чтобы не потерять его любовь. Как только человек
совершает акт отказа, он с этим авторитетом как бы
расквитывается, и у него не должно остаться никакого чувства вины.
Иначе обстоит дело в случае страха перед «Сверх-Я». Тут
отказ от удовлетворения первичных позывов недостаточен,
желание ведь остается, и это от «Сверх-Я» скрыть нельзя.
Поэтому, несмотря на отказ, чувство вины остается, и в этом
состоит большой психоэкономический недостаток создания
«Сверх-Я» или, иначе говоря, формирования совести. Отказ
от удовлетворения первичных позывов больше не оказывает
полного освобождающего действия; добродетельное
поведение не вознагражается больше гарантией любви: угроза
внешнего несчастья — утери любви и наказания со стороны
внешнего авторитета — сменилась длительным внутренним
несчастьем, напряженным состоянием сознания вины.
Эти взаимоотношения настолько сложны и в то же время
настолько важны, что я, несмотря на опасность повторения,
хотел бы рассмотреть их еще с одной стороны.
Хронологический порядок был бы, следовательно, таков: сначала отказ
от удовлетворения первичных позывов из страха перед
агрессией внешнего авторитета, к этому ведь сводится страх
утраты любви, любовь от такой агрессии защищает, затем
создание внутреннего авторитета, отказ от удовлетворения
первичных позывов из страха перед ним, страха совести. Во втором
случае равноценность злого поступка и злого умысла, а
отсюда — сознание вины, потребность в наказании. Агрессия
совести сохраняет агрессию авторитета. До сих пор все ясно, но
где же здесь место для влияния несчастья (внешне
налагаемого отречения), усиливающего совесть, для исключительной
972
Неудовлетворенность культурой
строгости совести у лучших и самых покорных? Мы уже
объяснили обе эти особенности совести, но, вероятно, осталось
впечатление, что такое объяснение не достигает самых глубин
предмета, что кое-что остается еще не объясненным. И тут
наконец включается идея, вполне свойственная психоанализу
и чуждая обычному человеческому мышлению. Идея эта
такова, что она позволяет нам понять, почему предмет нашего
исследования должен казаться нам столь запутанным и
неясным. Она заключается в следующем: сначала, правда, совесть
(вернее, страх, который потом становится совестью) есть
причина отказа от удовлетворения первичных позывов, но
позднее это соотношение перемещается. Каждый отказ от
удовлетворения первичных позывов становится динамическим
источником совести, каждый новый отказ усиливает ее
строгость и нетерпимость; чтобы привести это в лучшее
согласование с известной нам историей становления совести, мы
должны были бы попытаться принять следующее
парадоксальное положение: совесть есть следствие отказа от
удовлетворения первичных позывов, или же (внешне на нас
наложенный) отказ от удовлетворения первичных позывов
создает совесть, которая затем требует дальнейшего отказа.
По существу, противоречивость этого положения по
отношению к описанному генезису совести не так уж велика,
и мы видим, как ее можно было бы еще больше уменьшить.
Для облегчения изложения возьмем пример инстинкта
агрессии и допустим, что в этих взаимоотношениях дело идет
всегда только об отказе от агрессии. Это, естественно,
должно быть принято лишь как временное допущение. Тогда
воздействие отказа от удовлетворения инстинкта на совесть
протекает так, что каждая порция агрессивности, которой мы
отказываем в удовлетворении, перенимается «Сверх-Я»,
увеличивая его агрессивность (по отношению к «Я»). С этим не
согласуется тот факт, что первоначальная агрессивность
является продолжением строгости внешнего авторитета, т. е. не
имеет ничего общего с отказом. Эту несогласованность
можно, однако, свести к нулю предположением о наличии иного
источника для этого первого пополнения «Сверх-Я»
агрессивностью. Вне зависимости от характера отказа
удовлетворения первичных позывов у ребенка должны были развиться
973
Зигмунд ФРЕЙД
значительные агрессивные наклонности против авторитета,
который мешает получить первые, но и важнейшие
удовлетворения. В силу необходимости ребенок должен был бы
отказаться от осуществления этой мстительной агрессии. Он
находит выход из этой трудной психоэкономической
ситуации при помощи известных механизмов: а именно при
помощи идентификации он вбирает в себя этот неприступный
авторитет, который становится «Сверх-Я» и обладателем
всей той агрессивности, которую он, как ребенок, охотно бы
направил против этого авторитета. «Я» ребенка должно
довольствоваться печальной ролью униженного таким образом
авторитета отца. Это частный случай перевернутой ситуации.
Если я был бы отцом, а ты — ребенком, я бы с тобой плохо
обращался. Соотношение между «Сверх-Я» и «Я» есть не что
иное, как искаженное желанием восстановление реальных
отношений между еще не расщепленным «Я» и внешним
объектом. Это тоже типично. Существенная разница, однако,
заключается в том, что первоначальная строгость «Сверх-Я» не
та же — или не в той же мере та же, — что испытанная от
объекта или подозреваемая в нем, а представляет
собственную агрессию против него. Если все это правильно, тогда мы
действительно можем утверждать, что совесть первоначально
возникла из подавления агрессии и впоследствии
усиливалась благодаря новым подобным же подавлениям.
Какое же из этих двух воззрений правильно? Старое,
казавшееся нам генетически столь неуязвимым, или новое,
столь желанным образом теорию закругляющее? Даже исходя
из свидетельства прямых наблюдений, можно с очевидностью
заключить, что оба взгляда правомочны; они не противоречат
друг другу, а в одном пункте даже сходятся, так как
мстительная агрессия ребенка соопределяется мерою карающей
агрессии, которой ребенок ждет от отца. Но опыт нас учит, что
строгость развивающегося у ребенка «Сверх-Я» ни в коей
мере не отражает строгости самим им испытанного обращения1.
Она независима от него; при очень мягком воспитании у
ребенка может выработаться очень строгая совесть. Но было бы
1 Как это было справедливо подчеркнуто Мелани Клейн и другими
английскими авторами.
974
Неудовлетворенность культурой
также неправильным преувеличивать эту независимость;
нетрудно убедиться в том, что строгость воспитания оказывает
сильное влияние на формирование детского «Сверх-Я». Дело
сводится к тому, что при формировании «Сверх-Я» и
возникновении совести врожденные конституциональные факторы
и влияние окружающей реальной среды взаимодействуют, и
в этом нет ничего удивительного, такова обычная
этиологическая обусловленность всех таких процессов1.
Можно также сказать, что, когда ребенок при первых же
серьезных отказах в удовлетворении первичных позывов
реагирует с повышенной агрессивностью и соответствующей
строгостью «Сверх-Я», он при этом следует
филогенетическому прообразу; его реакции превосходят по интенсивности
реально оправданные, так как отец первобытных времен,
несомненно, был очень грозным и от него следовало ожидать
крайней агрессивности. Различия между двумя взглядами на
генезис совести становятся, таким образом, еще меньшими,
когда мы переходим от индивидуальной истории к
филогенетической. Но с другой стороны, обнаруживается новое и
значительное различие между этими двумя процессами. Мы
не можем выйти за рамки предположения, что чувство вины
выросло у человечества из Эдипова комплекса и
приобретено с убийством отца объединившимися сыновьями. Тогда
агрессия была не подавлена, а осуществлена, та же агрессия,
подавление которой у ребенка должно стать источником
чувства виновности. И тут я не удивлюсь, если кто-либо из
моих читателей с возмущением воскликнет: «Итак,
безразлично, убьет ли кто-либо своего отца или нет, — чувство вины
1 Ф. Александер в «Psychoanalyse der Gcsamtpersonlichkcit» (1927),
ссылаясь на работу Айхорна о беспризорности, метко воздал должное обоим главным
типам патогенных воспитательных методов: непомерной строгости и баловству.
<*Излишне мягкий и внимательный» отец даст повод для формирования у
ребенка слишком строгого «Сверх-Я», так как такой ребенок под влиянием
окружающей его любви не находит никакого другого выхода для своей
агрессивности, как обращенность внутрь. У растущего без присмотра, выросшего без
любви отпадает напряжение между «Я» и «Сверх-Я», вся агрессивность может
направляться наружу. Если при этом отвлечься от наличия гипотетического
конституционального фактора, то можно сказать, что строгая совесть возникает
из взаимодействия двух жизненных факторов — из отказа от удовлетворения
первичных позывов, что развязывает агрессивность, и из окружающей человека
любви, что обращает агрессивность внутрь и передает ее «Сверх-Я».
975
Зигмунд ФРЕЙД
возникает в обоих случаях!» Тут позволительны некоторые
сомнения. Одно из двух — или неверно положение о том, что
чувство вины проистекает из подавления агрессий, или вся
история с умерщвлением отца — выдумка, дети первобытных
людей убивали своих отцов не чаще, чем это случается
теперь. Но даже если это не выдумка, а достоверная история,
то мы будем иметь перед собой случай, описывающий то,
чего при этом всякий и ожидал бы, а именно что человек
чувствует себя виновным, когда он совершил что-то такое,
что не может быть оправдано. Для этого случая, который
как-никак происходит ежедневно, психоанализ не дал нам
никакого объяснения». Это правильно, и нам следует
восполнить пропущенное. Да тут и нет никакой особенной тайны.
Если у кого-нибудь после совершения какого-то
преступления и вследствие него возникло чувство вины, то это чувство
следовало бы скорее назвать раскаянием. Оно находится в
связи с каким-то конкретным проступком и, естественно, уже
предполагает наличие совести, т.е. готовности чувствовать
себя виноватым еще до совершения поступка. Такое
раскаяние никак не может содействовать выяснению
происхождения совести и чувства вины. В этих обыденных случаях дело
протекает так, что стремление к удовлетворению первичного
позыва достигает силы, позволяющей ему прорваться через
преграду совести, тоже в отношении силы лишь
ограниченной; затем с естественным ослаблением потребности,
вследствие ее удовлетворения, прежний баланс сил
восстанавливается. Поэтому психоанализ поступает правильно, когда
исключает из рассмотрения чувство вины, проистекающее из
раскаяния, как бы часто такие случаи ни встречались и как
ни велико их практическое значение.
Но если человеческое чувство вины восходит к
убийству праотца, то ведь оно было случаем «раскаяния», а тогда
предположительно не существовало совести и чувства вины
до совершения поступка. Откуда в этом случае возникло
раскаяние? Этот случай, несомненно, должен раскрыть нам
тайну чувства вины и положить предел недоумениям. И я
думаю, что так оно и есть. Это раскаяние было результатом
изначальной амбивалентности чувств по отношению к отцу;
сыновья ненавидели его, но они его и любили; после того как
976
Неудовлетворенность культурой
ненависть была удовлетворена путем агрессии, в раскаянии
за совершенное проявилась любовь, воздвигла
отождествлением с отцом «Сверх-Я», передала ему отцовскую власть как
бы в наказание за совершенный против него акт агрессии,
установила ограничения, долженствовавшие предотвратить
повторение поступка. А так как склонность к агрессии против
отца повторялась и в последующих поколениях, то
продолжало существовать и чувство вины, вновь усиливавшееся при
каждой подавленной и перенесенной в «Сверх-Я» агрессии.
Теперь, я думаю, мы окончательно представляем себе обе
вещи с полной ясностью — и участие любви в происхождении
совести, и роковую неизбежность чувства вины. При этом
действительно не играет решающей роли, был ли отец убит,
или от этого акта воздержались, — в обоих случаях возникает
чувство вины, так как это чувство есть выражение конфликта
амбивалентности, вечной борьбы между Эросом и
инстинктом разрушения или смерти. Этот конфликт возникает, как
только перед человеком встает задача сосуществования с себе
подобными; до тех пор пока это сосуществование
ограничивается лишь формой семьи, он проявляется в Эдиповом
комплексе, насаждая совесть и порождая первое чувство вины. Когда
делается попытка это сообщество расширить, тот же
конфликт в зависимых от прошлого формах продолжается,
крепнет и приводит к дальнейшему усилению чувства вины. Так
как культура подчиняется внутреннему эротическому
импульсу, повелевающему сплотить людей в тесно связанную
воедино массу, то она может достичь этой цели только на
путях постоянно возрастающего чувства вины. Что началось
с отца, завершается в массе. Если культура — необходимый
ход развития от семьи к человечеству, то, как следствие
прирожденного конфликта амбивалентности, как следствие
извечной распри между любовью и тягой к смерти, — с ней
неотделимо связано и усиление чувства вины, быть может до
такого напряжения, которое для отдельного человека делается
невыносимым. Вспомним потрясающее нас обвинение,
брошенное великим поэтом «небесным силам»:
Они нас в бытие манят,
Заводят в слабость преступленья
977
Зигмунд ФРЕЙД
И после муками казнят:
Нет на земле проступка без отмщенья!х
И можно лишь вздохнуть, придя к заключению, что
отдельным людям дано, собственно говоря, с легкостью
извлекать из вихря собственных чувств глубочайшие прозрения,
к которым мы, другие, должны пролагать путь через
мучительную неуверенность и неустанными исканиями ощупью.
VIII
У завершения такого пути автор должен просить своих
читателей его извинить, что он не был искусным
проводником и не уберег их от пустырей и тягостных обходов. Нет
сомнения, что это можно сделать лучше. Попытаюсь
восполнить кое-какие пробелы.
Прежде всего я предполагаю, что у читателей могло
создаться впечатление, что рассуждения о чувстве вины
ломают рамки этой работы, занимая слишком много места и
оттесняя другую часть содержания, с которой они не всегда
тесно связаны, на второй план. Это могло нарушить
построение трактата, но вполне соответствует нашему намерению
выделить чувство вины как важнейшую проблему развития
культуры и показать, что вследствие усиления чувства вины
прогресс культуры оплачивается ущербом счастья2. То, что
1 Гёте. Годы учения Вильгельма Мейстера. Пер. Ф.Тютчева.
2 «Так совесть делает из нас трусов...» {Шекспир. Гамлет. Акт III, сц. 1).
Упрек, который мы должны бросить современному воспитанию, в том, что
оно утаивает от молодежи роль, которую в их жизни будет играть
сексуальность, — не единственный упрек. Воспитание повинно в том, что оно не
подготавливает молодежь к агрессии, жертвою которой она обречена будет стать.
Выпуская юношество в жизнь со столь неправильной психологической ориентацией,
воспитание поступает так, как если бы оно людей, направляющихся в полярную
экспедицию, снабжало летней одеждой и картами верхнеитальянских озер. При
этом обнаруживается известное злоупотребление этическими требованиями.
Суровость их не принесла бы большого вреда, если бы воспитатель утверждал:
такими следует стать людям, чтобы бьпъ счастливыми и делать счастливыми
других; но надо считаться с тем, что они не таковы. Вместо этого юноше
внушают, что все остальные люди исполняют этические предписания, т. с. что
они добродетельны. Этим обосновывают требование, чтобы и он был таким.
978
Неудовлетворенность культурой
в этом положении — окончательном результате нашего
исследования — звучит еще странно, может, вероятно, быть
объяснено совсем своеобразным, еще абсолютно
непонятным соотношением между чувством вины и нашим
сознанием. В обычных, рассматриваемых нами как нормальные,
случаях раскаяния это чувство воспринимается нашим
сознанием достаточно ясно: ведь мы привыкли говорить
вместо «чувство вины» — «сознание вины». Из изучения
неврозов, которым мы обязаны наиболее ценными указаниями
для понимания нормального состояния, вытекают
противоречивые положения. При одном из таких аффективных
состояний, при неврозе принуждения, чувство вины слишком
бурно заявляет о себе сознанию, оно господствует как в
картине болезни, так и в жизни больного, и вообще почти не
оставляет места для возникновения чего-либо другого. Но в
большинстве других случаев и форм невроза это чувство
остается полностью бессознательным, что, однако, не делает
его проявлений менее значительными. Больные нам не
верят, когда мы им приписываем наличие «бессознательного
чувства вины»; для того чтобы они нас хоть отчасти поняли,
мы им рассказываем о бессознательной потребности
наказания, в которой выражается чувство вины. Но не следует
переоценивать этой связи с невротическими формами; и при
неврозах принуждения бывают типы больных, которые не
испытывают чувства вины или ощущают его как
мучительное, неприятное состояние, как какой-то род страха только
тогда, когда им препятствуют в совершении известных
поступков. Эти вещи надо было бы наконец понять, но мы еще
не достигли этого понимания. Тут, может быть, было бы
уместно отметить, что чувство вины, по существу, есть не
что иное, как определенная разновидность страха, в своей
более поздней стадии она полностью совпадает со страхом
перед «Сверх-Я». И у страха по отношению к сознанию
проявляются те же исключительные варианты. Страх этот как-
то скрывается за всеми симптомами, но он то полностью
и бурно сосредоточивает на себе сознание, то прячется
настолько совершенно, что мы вынуждены говорить или о
бессознательном страхе, или, — соблюдая психологическую
точность, — о возможностях страха, так как страх прежде всего
979
Зигмунд ФРЕЙД
ведь тоже только ощущение. И поэтому вполне допустимо,
что и созданное культурой чувство вины таковым не
признается, а большей частью остается бессознательным или
проявляется как неудобство, неудовлетворенность, для
которых пытаются найти другую мотивировку. Религии, по
крайней мере, никогда не отрицали роли чувства вины в
культуре. Они даже претендуют — чего я в другом месте
в должной мере не отметил1 — на избавление человечества
от этого чувства вины, называемого ими грехом. На
основании того, каким образом в христианстве это избавление
достигается — жертвенной смертью одного человека, берущего
этой жертвой всеобщую вину на себя, — мы и пришли к
заключению, что могло быть первым поводом приобретения
этой изначальной вины2, с которой и началась культура.
Не столь существенно важным, но, может быть, и не
излишним, было бы разъяснить значение таких терминов, как
«Сверх-Я», «совесть», «потребность в наказании»,
«раскаяние», которые мы, быть может, часто употребляли слишком
вольно и один взамен другого. Все они относятся к одной
и той же системе отношений, но обозначают различные ее
аспекты. «Сверх-Я» — исследованная уже нами инстанция,
а совесть — функция, которую мы ему наряду с другими
приписываем; эта функция состоит в наблюдении за
действиями и намерениями «Я», в оценке их, в осуществлении
цензорской роли. Чувство вины, суровость «Сверх-Я» —
это, следовательно, то же, что и строгость совести, это —
получаемое «Я» ощущение, что оно таким образом
находится под наблюдением; это — оценка напряжения между
устремлениями «Я» и требованиями «Сверх-Я»; а лежащий в
основе всех этих взаимоотношений страх перед критической
инстанцией, потребность в наказании — это проявление
инстинкта «Я», которое под влиянием садистского «Сверх-Я»
стало мазохистским, т.е. использующим часть имеющегося
у него инстинкта внутреннего разрушения для эротической
связи с «Сверх-Я». О совести нельзя говорить, пока не
доказано наличие «Сверх-Я»; относительно чувства вины сле-
1 Я имею в виду «Будущее одной иллюзии» (1927).
2 «Тотем и табу» (Totem und Tabu), 1913 (Ges. Werke. Bd. IX).
980
Неудов.ъетворенность культурой
дует признать, что оно существует прежде «Сверх-Я», а
значит, и прежде совести. Итак, оно — непосредственное
выражение страха перед внешним авторитетом, признание
напряжения между «Я» и этим последним, прямое производное
от конфликта между потребностью в любви авторитета и
стремлением к удовлетворению первичных позывов,
торможение которого порождает склонность к агрессии.
Нагромождение этих обоих слоев чувства вины друг на друга —
из страха перед внешним и перед внутренним
авторитетом — порой затрудняло нам проникновение во
взаимоотношения сферы совести. Раскаяние — общее обозначение
реакции «Я» в одном из случаев чувства вины — содержит
малопреобразованный материал ощущений страха, само
является наказанием и может включать потребность в
наказании; и оно, значит, может быть старше совести.
Не повредит также, если мы еще раз остановимся на
противоречиях, порой смущавших нас в процессе нашего
исследования. Чувство вины, с одной стороны, как бы являлось
следствием неосуществленных агрессий, а с другой
стороны — как это имело место как раз у его исторических
истоков, при убийстве отца, — следствием агрессии
осуществленной. Но мы нашли и выход из этого трудного положения.
Насаждение внутреннего авторитета, «Сверх-Я», радикально
изменило условия. Прежде чувство вины совпадало с
раскаянием; при этом мы замечаем, что термин «раскаяние»
должен быть сохранен только для реакции после
действительно совершенной агрессии. Затем разница между
намерением осуществить агрессию и ее фактическим
осуществлением вследствие всеведения «Сверх-Я» потеряла значение;
чувство вины могло теперь вызываться как действительно
совершенными актами насилия, что общеизвестно, так и
теми, которые остались только умыслом, что было обнаружено
психоанализом. Несмотря на изменение психологической
обстановки, конфликт амбивалентности приводит к тем же
проявлениям обоих изначальных первичных позывов. Это
вводит в искушение искать здесь разрешения загадки
изменчивого взаимоотношения между чувством вины и сознанием.
Чувство вины из раскаяния в дурном поступке должно
всегда осознаваться, чувство же вины из усмотрения за собой
981
Зигмунд ФРЕЙД
злого импульса могло бы оставаться бессознательным.
Однако дело не так просто, невроз принуждения находится в
резком с этим противоречии. Второе противоречие заключалось
в том, что агрессивная энергия, приписываемая «Сверх-Я»,
согласно одному из представлений, всего лишь продолжает
карающую энергию внешнего авторитета и сохраняет ее для
душевной жизни, в то время как, согласно другому
представлению, это, скорее, не нашедшая себе применения
собственная агрессия, направляемая на тормозящий внешний
авторитет. Первая точка зрения больше, по-видимому, согласуется
с историей, а вторая — с теорией чувства вины. Более
обстоятельные размышления, пожалуй, слишком стерли это,
казалось бы, непримиримое противоречие; осталось нечто
существенное и общее, а именно что в обоих случаях мы имеем
дело со смещенной внутрь агрессией. Клинические
наблюдения, в свою очередь, позволяют нам действительно различать
два источника приписываемой «Сверх-Я» агрессивности, из
которых в отдельных случаях то один, то другой оказывают
более сильное действие, но обычно они действуют совместно.
Тут следует, по-моему, серьезно высказаться за точку
зрения, которую я раньше рекомендовал в качестве
временного предположения. В новейшей психоаналитической
литературе оказывается предпочтение учению о том, что любой
вид отречения, любое неудовлетворение первичного позыва
влечет или могло бы повлечь за собой усиление чувства
вины1. Полагаю, что можно добиться большего
теоретического упрощения в случае, если относить это положение
только к агрессивным первичным позывам; и мало чего найдется,
что противоречило бы такому предположению. Чем можно
тогда психодинамически и психоэкономически объяснить,
что вместо неудовлетворенного эротического притязания
возникает усиление чувства вины? Это, кажется, возможно лишь
окольным путем: препятствие на пути эротического
удовлетворения вызывает какую-то склонность к агрессии по
отношению к лицу, мешающему этому удовлетворению,
и тогда эта возникшая агрессивность, в свою очередь, долж-
1 Особенно у Э.Джонса, С. Исааке, М. Клейн; но, как я понимаю, и у Рейка
и Алсксандсра.
982
Неудовлетворенность культурой
на быть подавлена. Но в таком случае в чувство вины
превращается все же только агрессия, подавляемая и
оттесняемая в «Сверх-Я». Я убежден, что многие процессы мы
сможем показать проще и яснее, если данные психоанализа о
происхождении чувства вины ограничим агрессивными
первичными позывами. Рассмотрение клинического материала
не дает нам однозначного ответа, так как, согласно нашему
предположению, оба первичных позыва не встречаются в
чистом и изолированном друг от друга виде; но рассмотрение
крайних случаев укажет, вероятно, на предполагаемое мною
направление. Я поддаюсь искушению извлечь из этого более
точного представления первую выгоду, применяя его к
процессу вытеснения. Как мы знаем, симптомы неврозов
являются, по существу, подменой удовлетворения
неисполненных сексуальных желаний. В ходе психоаналитической
работы мы, к нашему удивлению, установили, что за каждым
неврозом кроется, вероятно, известная доля бессознательного
чувства вины, в свою очередь упрочающая симптомы,
применяя их в качестве наказания. Итак, напрашивается
следующая формулировка: при вытеснении какого-нибудь
инстинктивного стремления его либидозные элементы превращаются
в симптомы, а агрессивные компоненты — в чувство вины.
Эта формулировка заслуживает нашего интереса, даже если
она справедлива лишь в приближении.
У некоторых читателей этого труда могло бы создаться
впечатление, что они слишком часто слышали формулу о
борьбе между Эросом и первичным позывом смерти. Она
должна была характеризовать увлекающий человечество
культурный процесс, но она применялась и по отношению к
развитию отдельного человека и, сверх того, должна была
служить раскрытию тайны органической жизни вообще.
Отсюда неизбежно следует необходимость рассмотрения
взаимоотношений этих трех процессов друг с другом.
Применение одной и той же формулы оправдывается тем фактом, что
процесс культурного развития человечества, так же как и
процесс развития отдельного человека, являются и
жизненными процессами, т.е. что они должны быть причастны к
самым общим свойствам жизни. С другой стороны, именно
это свидетельство общности черт ничего не дает для их раз-
983
Зигмунд ФРЕЙД
личения до тех пор, пока оно не будет подвергнуто
некоторым ограничительным условиям. Поэтому мы можем
удовлетвориться лишь следующим высказыванием: культурный
процесс является таким видоизменением жизненного
процесса, которое он испытывает под влиянием задачи,
поставленной Эросом и стимулированной Ананке, т.е. реальной
нуждой; а задача эта — объединение отдельных людей в ли-
бидозно связанное сообщество. Но если мы проследим
отношение между культурным процессом человечества и
процессом развития или воспитания отдельного человека, то мы без
больших колебаний решим, что оба они имеют очень
сходную природу, если и вообще не представляют собой один
и тот же процесс, протекающий среди разнородных
объектов. Процесс культурного развития человеческого рода есть,
конечно, абстракция более высокого порядка, чем развитие
индивида, поэтому его труднее представить наглядно, при
выискивании же аналогий не следует допускать чрезмерной
натяжки; но при однородности целей — в одном случае
включение индивида в человеческую массу, а в другом
создание общей массы из индивидов — нас не должно
поражать сходство применяемых для этих целей средств и
осуществляющихся при этом явлений. Ввиду исключительной
ее важности нам не следует слишком долго оставлять без
внимания черту, оба этих процесса отличающую. В процессе
развития отдельного человека в качестве главной цели
сохраняется программа принципа наслаждения — найти
удовлетворение стремления к счастью; включение в человеческий
коллектив или приспособление к нему появляется как почти
что неизбежное условие, которое должно быть соблюдено на
пути к достижению этой цели — счастья. Если бы удалось
обойтись без этого условия, было бы, вероятно, лучше. Иначе
говоря: индивидуальное развитие рисуется нам как некий
результат сложения двух устремлений — стремления к
счастью, обычно называемого «эгоистическим», и стремления к
объединению с другими в коллективе, называемого
«альтруистическим». Оба эти определения довольно поверхностны.
В индивидуальном развитии, как об этом было сказано
выше, главное ударение падает по большей части на
эгоистическое стремление или стремление к счастью; другое стрем-
984
Неудовлетворенность культурой
ление, которое могло бы быть названным «культурным», как
правило, удовлетворяется ролью ограничения. Иначе
обстоит с культурным процессом; здесь цель создания единства из
человеческих индивидов является в гораздо большей
степени главной задачей; задача осчастливить хотя еще и
существует, но оттеснена на задний план; может даже показаться,
что создание большого человеческого коллектива могло бы
быть достигнуто наиболее успешным образом, если вообще
не нужно было бы заботиться о счастье отдельного
человека. Процесс развития индивида может, следовательно, иметь
свои особенные черты, которые не обнаруживаются в
культурном процессе человечества: первый процесс лишь
постольку должен совпадать с последним, поскольку он ставит
целью включение в коллектив.
Так же как и планета помимо вращения вокруг
собственной оси вращается еще вокруг своего центрального тела, так
и отдельный человек, следуя своему жизненному пути,
принимает участие и в развитии человечества. Но в то
время как нашему ограниченному взору кажется, что игра
небесных сил застыла в одном и том же извечном порядке,
в органическом бытии мы все еще наблюдаем борение сил
и постоянную смену результатов конфликта. Как и у
каждого индивида оба стремления — к индивидуальному счастью
и к единству с человеческим коллективом — борются друг
с другом, так и оба процесса — индивидуального и
культурного развития — должны сталкиваться как враги, стремясь
выбить друг у друга почву из-под ног. Но эта борьба между
индивидом и обществом не является производной от
вероятно непримиримого антагонизма между исконными
первичными позывами — Эросом и Смертью, — она означает
раздор в самом психоэнергетическом хозяйстве либидо,
сравнимый со спором о распределении либидо между «Я»
и объектами; и он допускает, в конце концов, примирение
как у индивида, так, следует надеяться, и у культуры
будущего, сколько бы в настоящее время ни отягощал он жизни
отдельного человека.
Аналогия между культурным процессом и путем
развития индивида может быть расширена еще значительно
больше. А именно: можно утверждать, что и общество выраба-
985
Зигмунд ФРЁИД
тывает свое «Сверх-Я», под влиянием которого происходит
культурное развитие. Для знатока человеческих культур
было бы заманчиво проследить подробно это сопоставление.
Я ограничусь выделением некоторых, бросающихся в глаза
моментов. «Сверх-Я» любой культурной эпохи имеет
происхождение, подобное происхождению «Сверх-Я» индивида;
оно основано на впечатлении, на следе, которое оставляют
ведущие личности, люди необычайной силы духа или такие,
у которых одно из человеческих устремлений получило
наиболее сильное и ясное выражение, а поэтому зачастую и
наиболее одностороннее развитие. Во многих случаях
аналогия идет даже дальше: эти люди достаточно часто, если не
всегда, за время их жизни подвергаются насмешкам,
третируются и даже самым жестоким образом истребляются; ведь
и праотец стал божеством лишь долгое время спустя после
насильственного умерщвления. Самый потрясающий
пример такой судьбы дан нам как раз в личности Иисуса
Христа, если она сама не является продуктом мифа, который
вызвал ее к жизни из темного воспоминания об этом
древнейшем событии. Другая черта сходства заключается в том,
что «Сверх-Я» культуры, так же как и «Сверх-Я» индивида,
ставит очень высокие требования идеала, невыполнение
которых наказуется «страхом совести». Здесь мы сталкиваемся
с очень странным случаем: относящиеся к этой области
душевных процессов явления нам более знакомы, более
доступны нашему пониманию, когда они происходят в массе,
чем это возможно при наблюдении над отдельным
человеком. В этом последнем случае при наступлении напряжения
лишь агрессия «Сверх-Я» громогласно дает о себе знать
в виде упреков, в то время как сами требования остаются
часто неосознанными на втором плане. Если они доводятся
до сведения сознания, то оказывается, что они совпадают
с предписаниями соответствующего «Сверх-Я» культуры.
Можно сказать, что в этом пункте оба процесса —
культурный процесс развития массы и процесс развития
индивида — регулярно переплетаются. Поэтому многие проявления
и свойства «Сверх-Я» легче могут быть обнаружены при
наблюдении над культурным сообществом, нежели над
индивидом.
986
Неудовлетворенность культурой
«Сверх-Я» культуры создало свои идеалы и предъявляет
свои требования. Среди этих последних те, которые
относятся к взаимоотношениям между людьми, объединяются в
понятие этики. Во все времена этой этике придавалось
самое большое значение, как если бы именно от нее ожидали
особенно важных достижений. И действительно, этика
обращена на ту точку, которая легко обнаруживается как
самое больное место любой культуры. Этику, следовательно,
нужно понимать как терапевтическую попытку, как
старание при помощи веления «Сверх-Я» достичь того, чего до
сих пор не удавалось достичь иными усилиями культуры.
Мы знаем, что здесь дело идет о том, как устранить самое
большое препятствие на пути культуры —
конституциональную склонность человека к агрессии друг против друга,
и как раз потому особый интерес для нас приобретает,
видимо, новейшее предписание «Сверх-Я» культуры, а
именно: люби ближнего своего, как самого себя. Исследования
неврозов и их терапия приводят нас к формулировке двух
упреков по отношению к «Сверх-Я» индивида: «Сверх-Я»,
применяя суровость своих велений и запретов, слишком
мало заботится о счастье «Я», так как при этом недостаточно
учитывается ни сопротивление подчинению, ни сила
первичных позывов «Оно», ни трудности, проистекающие из
реальности окружающего мира. Поэтому, преследуя наши
терапевтические задачи, мы довольно часто бываем
вынуждены вступать в борьбу со «Сверх-Я» и стараемся ослабить
его требования. Вполне сходные возражения возникают у
нас и против этических требований «Сверх-Я» культуры.
И оно не проявляет достаточно внимания к фактической
стороне душевной структуры людей, оно повелевает, не
спрашивая, может ли человек этому велению последовать.
Более того, оно исходит из предположения, что для
человеческого «Я» психологически возможно все, что на него
возлагается, что это «Я» имеет неограниченную власть над
своим «Оно». Это — заблуждение; даже для так называемых
нормальных людей господство над «Оно» не может перейти
известные границы. Если от человека требуют большего, то
это или приводит его к бунту либо к неврозу, или делает
его несчастным. Заповедь «Люби ближнего своего, как само-
987
Зигмунд ФРЕЙД
го себя» — самая сильная защита против человеческой
агрессивности и превосходный пример непсихологичного
поведения «Сверх-Я» культуры. Заповедь невыполнима, такая
грандиозная инфляция любви может привести только к
умалению ценности любви, а никак не устранить беду. Культура
всем этим пренебрегает; она лишь напоминает, что чем
труднее выполнение предписания, тем оно ценнее. Однако
человек, следующий такому предписанию в условиях
современной культуры, ставит себя в невыгодное положение по
отношению к тем, кто с таким предписанием не считается.
Сколь мощным должно быть препятствие, воздвигаемое на
пути культуры афессиеи, если защита от агрессии может
делать людей столь же несчастными, как и сама афессия;
так называемая естественная этика не может здесь
предложить ничего другого, кроме нарциссического
удовлетворения, разрешая человеку считать себя лучше других людей.
Этика, опирающаяся на религию, выдвигает тут свои
обещания лучшего в зафобной жизни. А я думаю, что проповедь
этики до тех пор будет тщетной, пока добродетель не будет
вознафаждаться здесь, на земле. И мне также кажется
несомненным, что реальное изменение отношения человека к
собственности может больше помочь в рассматриваемом
деле, чем любое этическое веление; но понимание этого
положения социалистами затемнено новой идеалистической
недооценкой человеческой природы и для практического
использования обесценено.
Подход, который ставит себе целью изучение роли
«Сверх-Я» в явлениях эволюции культуры, может, мне
кажется, привести еще и к другим выводам. Я спешу с
заключением, но одного вопроса мне все же трудно избежать.
Если развитие культуры имеет столь далеко идущее сходство
с развитием отдельного человека и применяет те же
средства, не вправе ли мы поставить диагноз, что многие культуры,
или культурные эпохи, — возможно, и все человечество —
стали под влиянием культурных устремлений
невротическими? За психоаналитической классификацией этих
неврозов могли бы последовать и терапевтические рекомендации,
имеющие большой практический интерес. Я бы не сказал,
что такая попытка перенесения психоанализа на культурное
988
Неудовлетворенность культурой
сообщество была бы бессмысленной или обреченной на
бесплодность. Но при этом следовало бы быть очень
осторожным и не забывать, что речь идет лишь об аналогиях,
которые не только в случае людей, но и в случае понятий опасно
отрывать от сферы, в которой они возникли и развились.
Кроме того, психоанализ коллективных неврозов
наталкивается на одну особую трудность. В случае невроза отдельного
человека в качестве ближайшего отправного пункта нам
служит контраст, выделяющий больного из его окружения,
рассматриваемого нами как «нормальное». Этот фон
отсутствует у однородным образом аффектированной массы, и мы его
должны искать где-то в другом месте. Что же касается
терапевтического использования нашего понимания, то чем
бы помог точнейший психоанализ социального невроза,
если никто не обладает авторитетом подчинить массу
терапии? Вопреки всем этим трудностям можно надеяться, что
в один прекрасный день кто-то отважится на изучение такой
патологии культурных сообществ.
По различнейшим причинам я очень далек от мысли дать
оценку человеческой культуры. Я стремился удержаться от
восторженной предвзятости, что наша культура является
якобы самым драгоценным из того, что у нас есть или что
мы в состоянии обрести, и что пути культуры должны
обязательно привести к высотам небывалого совершенства. Я,
по крайней мере, могу без негодования выслушать критика,
который считает, что, принимая во внимание цели
культурных устремлений и используемые при этом средства,
следовало бы прийти к заключению, что все эти усилия не
стоят затраченного труда и результатом их может быть лишь
состояние, которое человеком должно ощущаться как
невыносимое. Меня не гнетет моя беспристрастность, так как я
весьма мало знаю о всех этих вещах и лишь в одном твердо
уверен: оценочные суждения людей, безусловно,
проистекают из их стремлений к счастью и, следовательно, являются
попыткой подкрепить свои иллюзии аргументами. Я вполне
мог бы понять, если кто-либо, отмечая неизбежный характер
культуры, сказал бы, например, что склонности к
ограничению сексуальной жизни и к навязыванию гуманистических
идеалов за счет естественного отбора являются направле-
989
Зигмунд ФРИЙД
ниями развития, которые нельзя ни предотвратить, ни
устранить, и что лучше всего им подчиниться, как если бы это
было природной необходимостью. Но мне знакомы и
возражения против такого взгляда: в течение истории
человечества случалось, что устремления, казавшиеся
неотвратимыми, часто отбрасывались и заменялись другими. Итак, я не
осмеливаюсь предстать перед своими ближними в роли
пророка и принимаю их упрек в том, что не могу им принести
никакого утешения, а ведь этого, по существу, требуют все —
самые ярые революционеры с не меньшей страстностью, чем
самые примерные верующие.
Мне кажется, что вопрос судьбы рода человеческого
зависит от того, удастся ли развитию культуры, и в какой мере,
обуздать человеческий первичный позыв агрессии и
самоуничтожения, нарушающий сосуществование людей. В этом
отношении, быть может, как раз современная эпоха
заслуживает особого интереса. В настоящее время люди так далеко
зашли в своем господстве над силами природы, что с его
помощью они легко могут уничтожить друг друга вплоть до
последнего человека. Люди это знают, и отсюда —
значительная доля их теперешнего беспокойства, их несчастья, их
тревожных настроений. Следует, однако, надеяться, что другая
из двух «небесных сил» — вечный Эрос — сделает усилие,
чтобы отстоять себя в борьбе со столь же бессмертным
противником. Но кто может предвидеть исход борьбы и
предсказать, на чьей стороне будет победа?
СОДЕРЖАНИЕ
Психопатология обыденной жизни. Пер. О.Медем 5
Введение в психоанализ. Пер. Г.Барышниковой
под ред. Е. Соколовой и Т.Родионовой 151
Тотем и табу. Пер. М.Вульфа 567
По ту сторону принципа наслаждения 735
Психология масс и анализ человеческого «Я»
Пер. Я. Когана 795
«Я» и «Оно» 861
Неудовлетворенность культурой 907
Литературно-художествен нос издание
ЗИГМУНД ФРЕЙД
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Психопатология
обыденной
жизни
Введение
в психоанализ
Тотем и табу
—^^^» ■ ι il
По ту сторону
принципа
наслаждения
Психология масс
и анализ
человеческого «Я»
«Я» и «Оно»
Неудовлетворенность
культурой